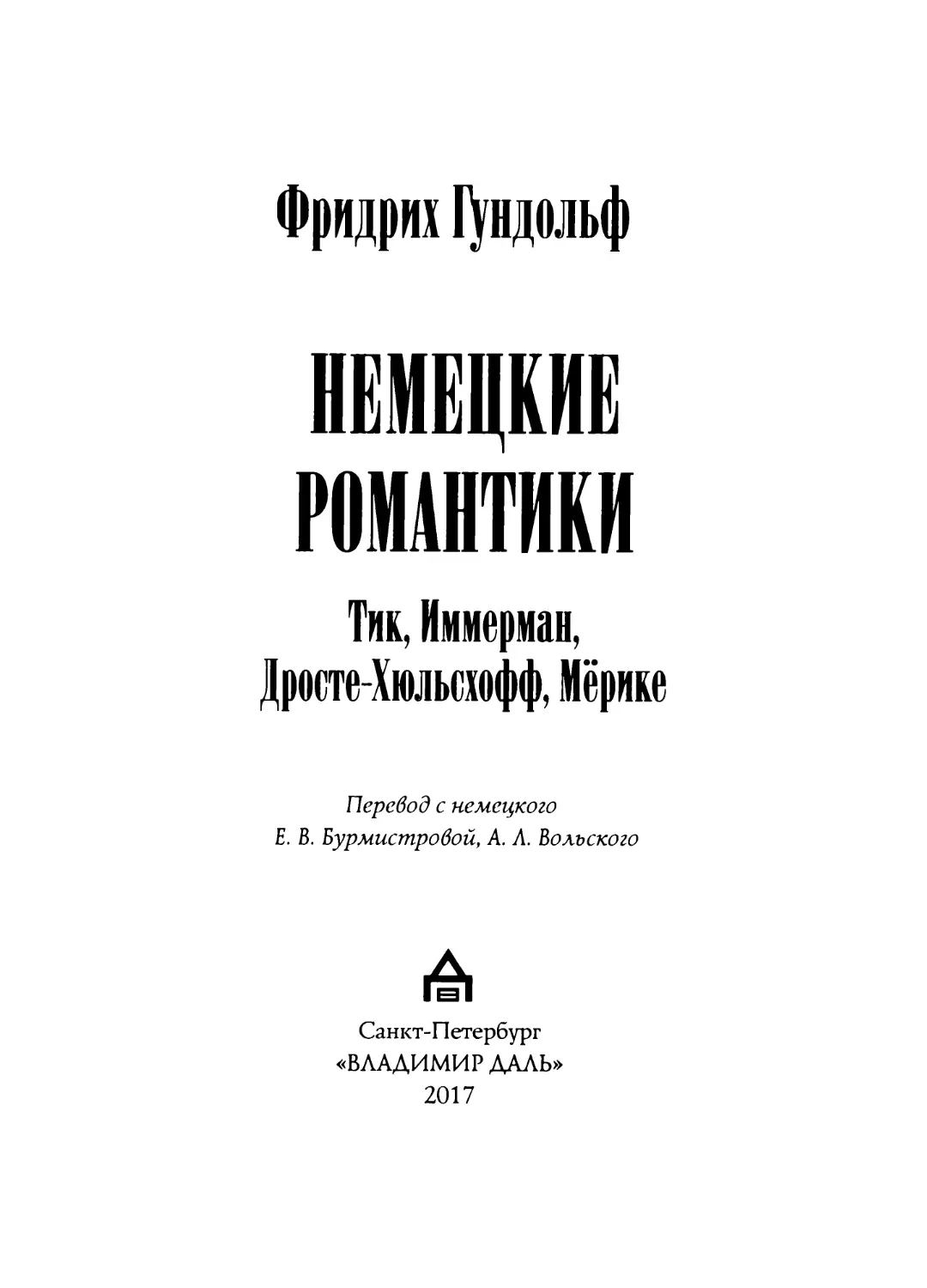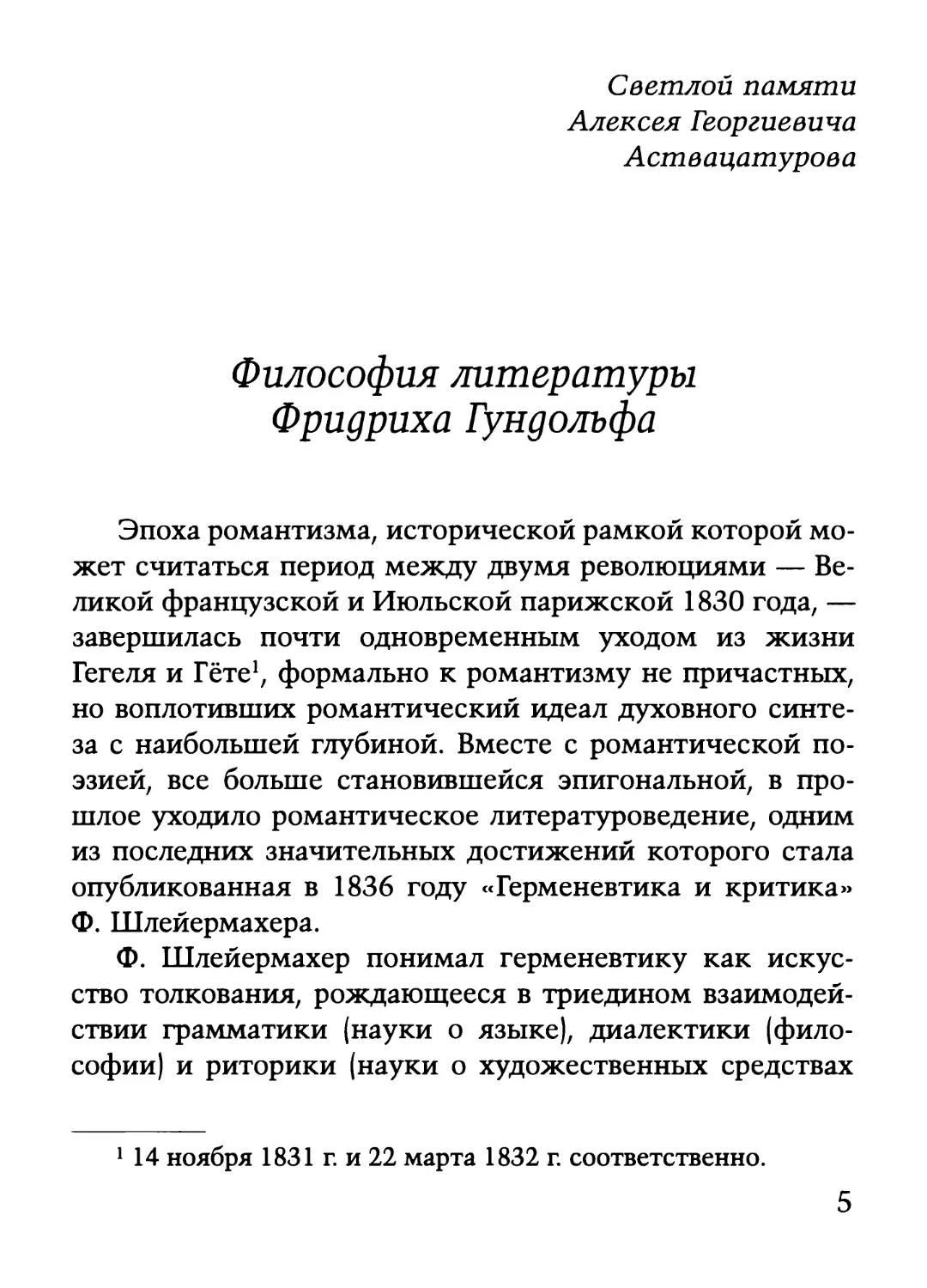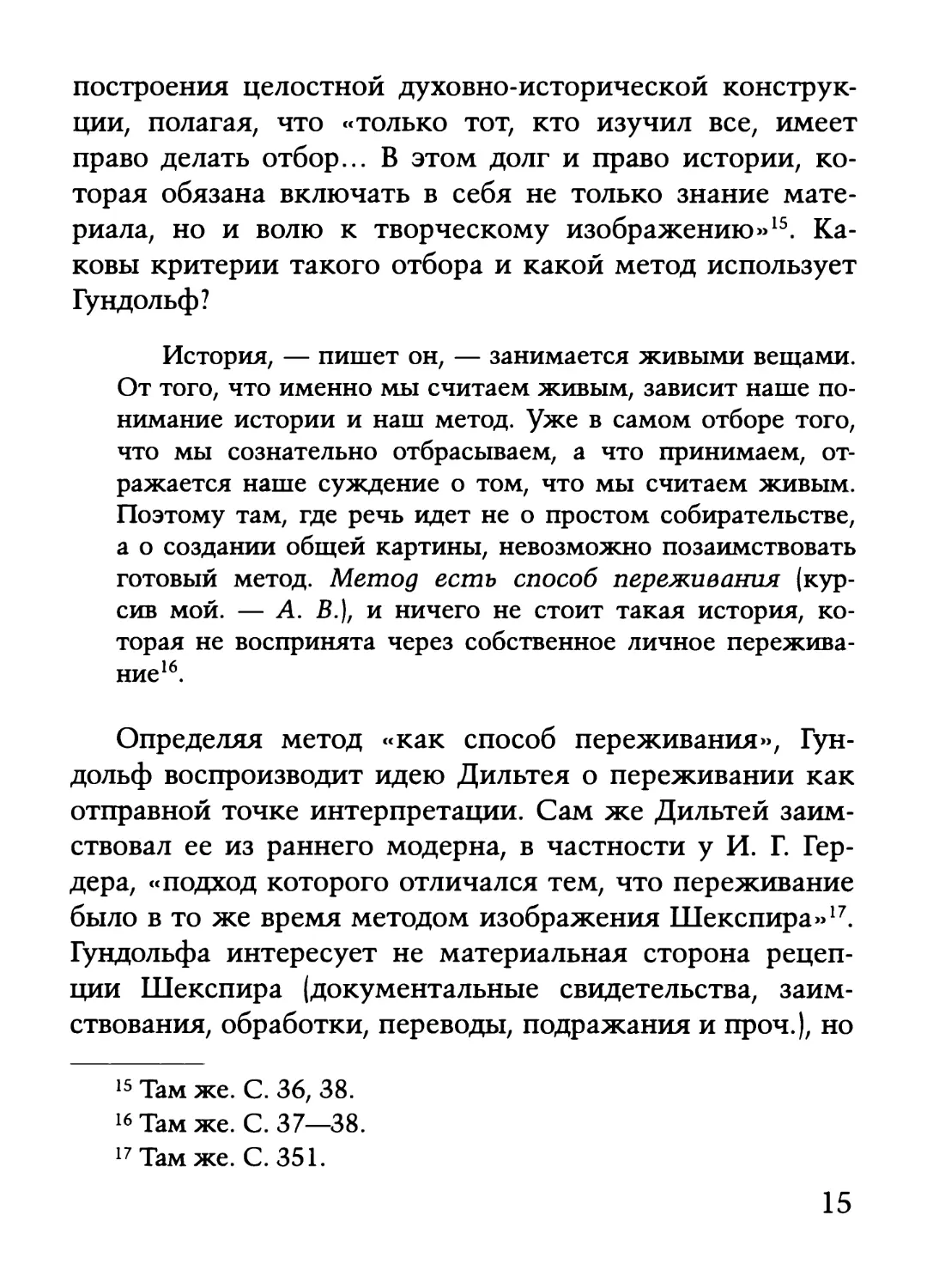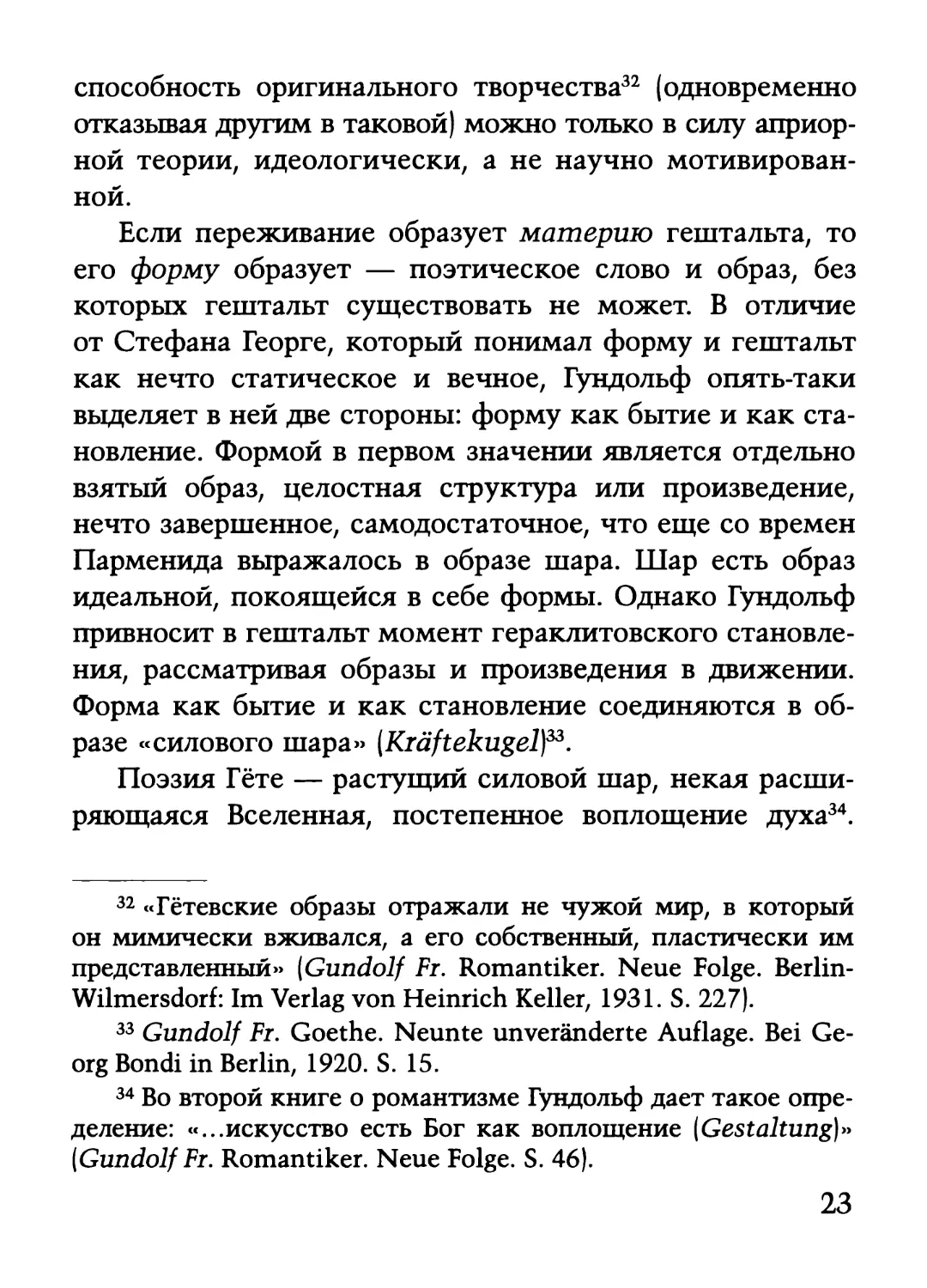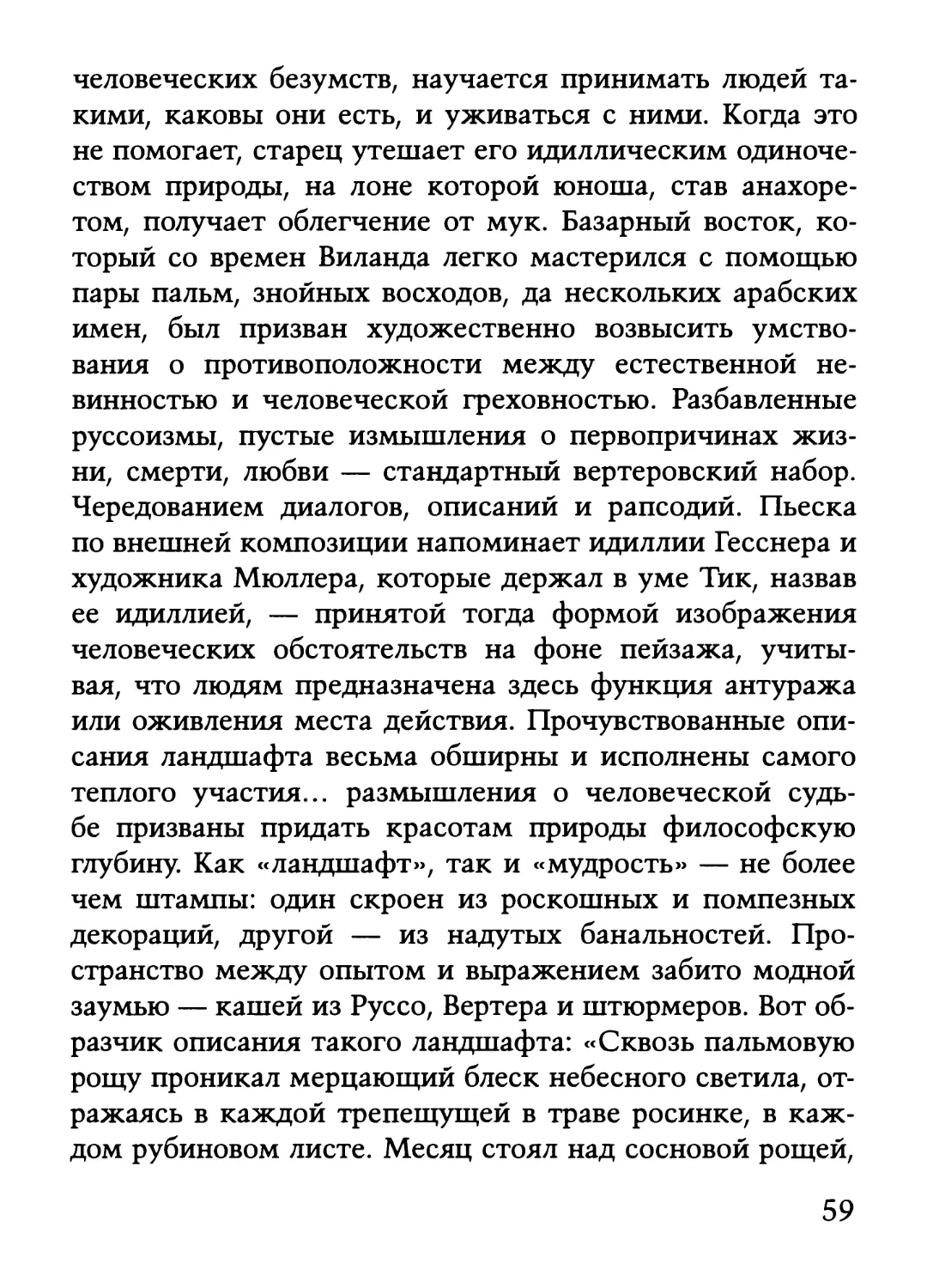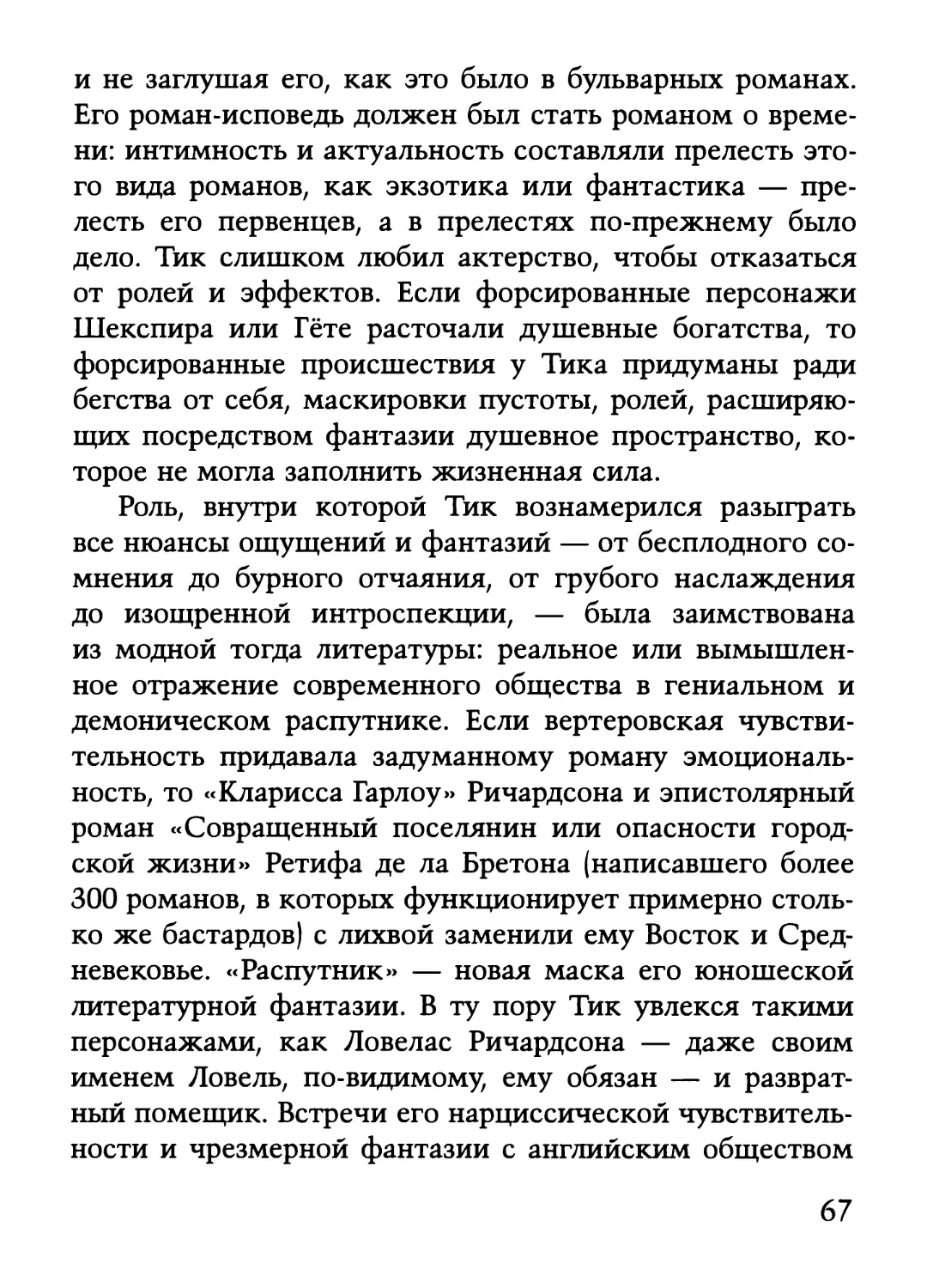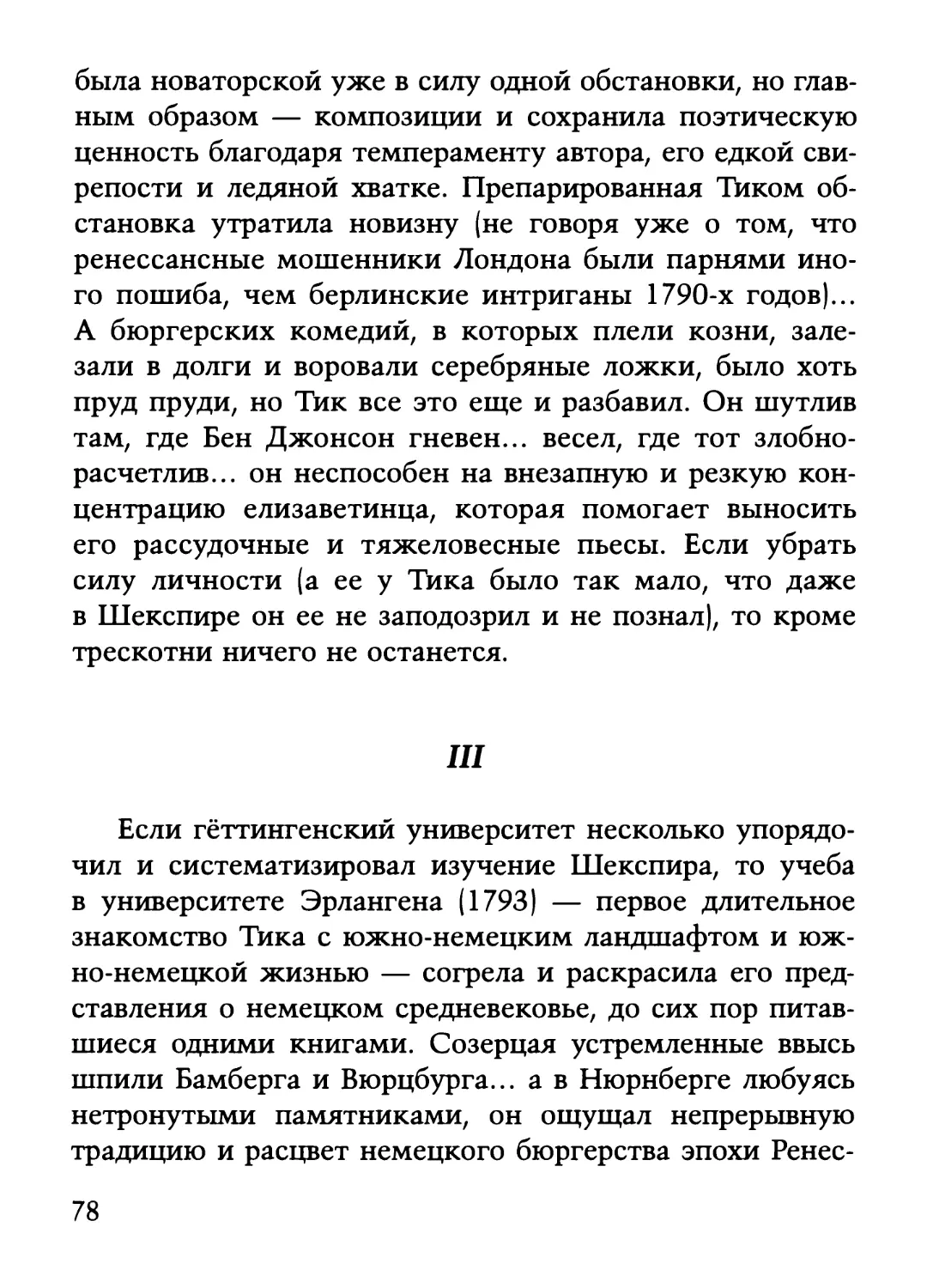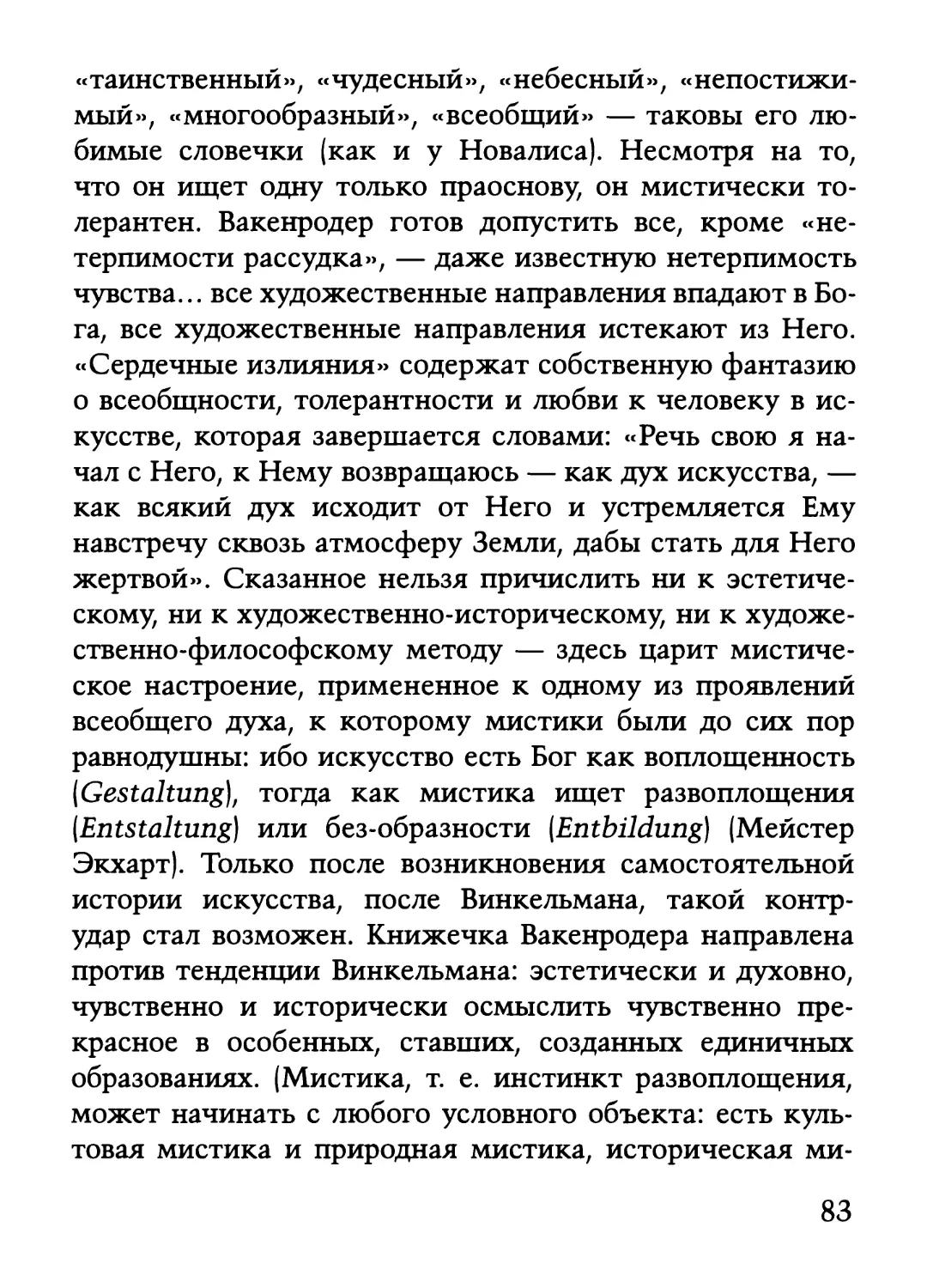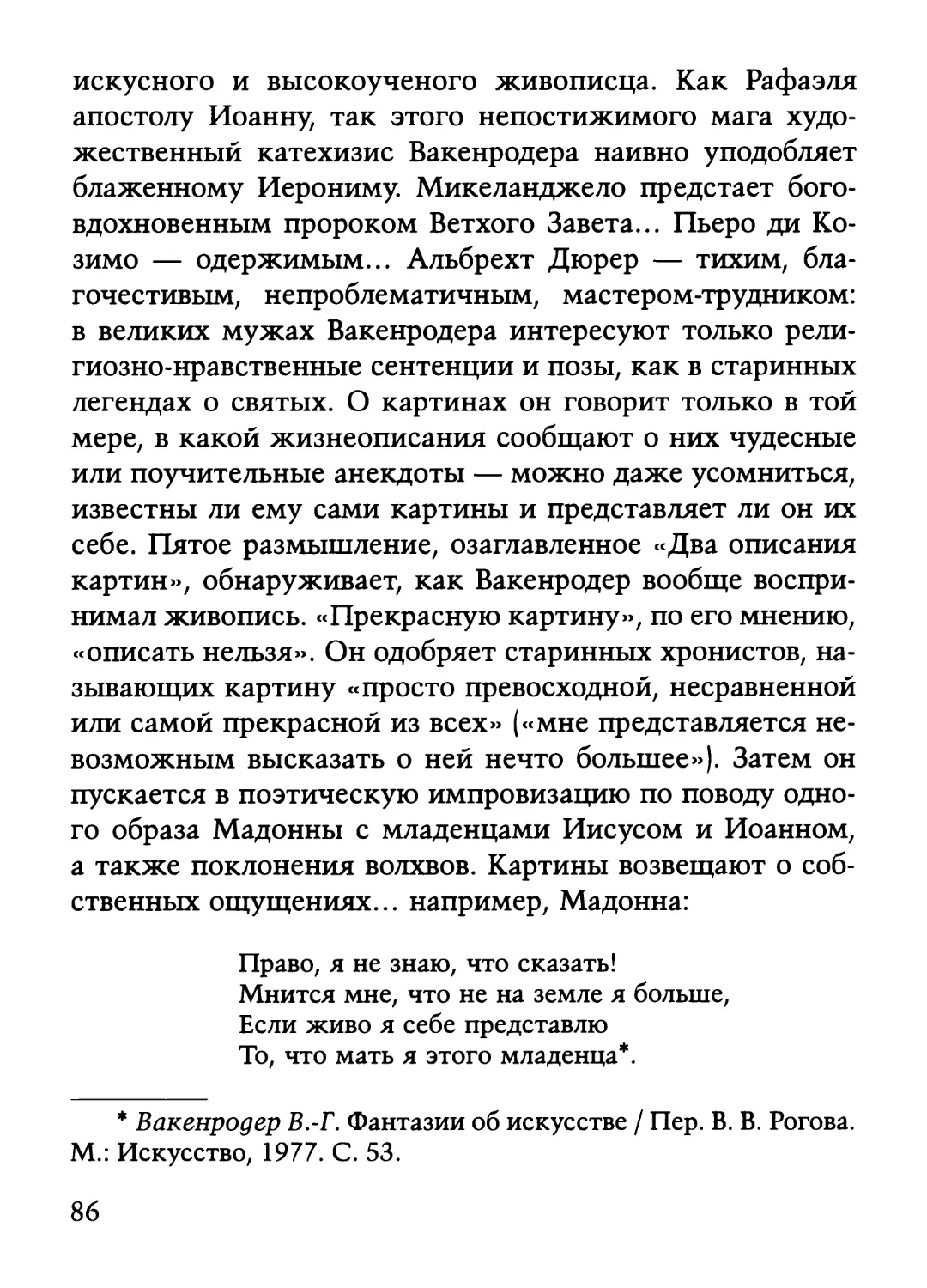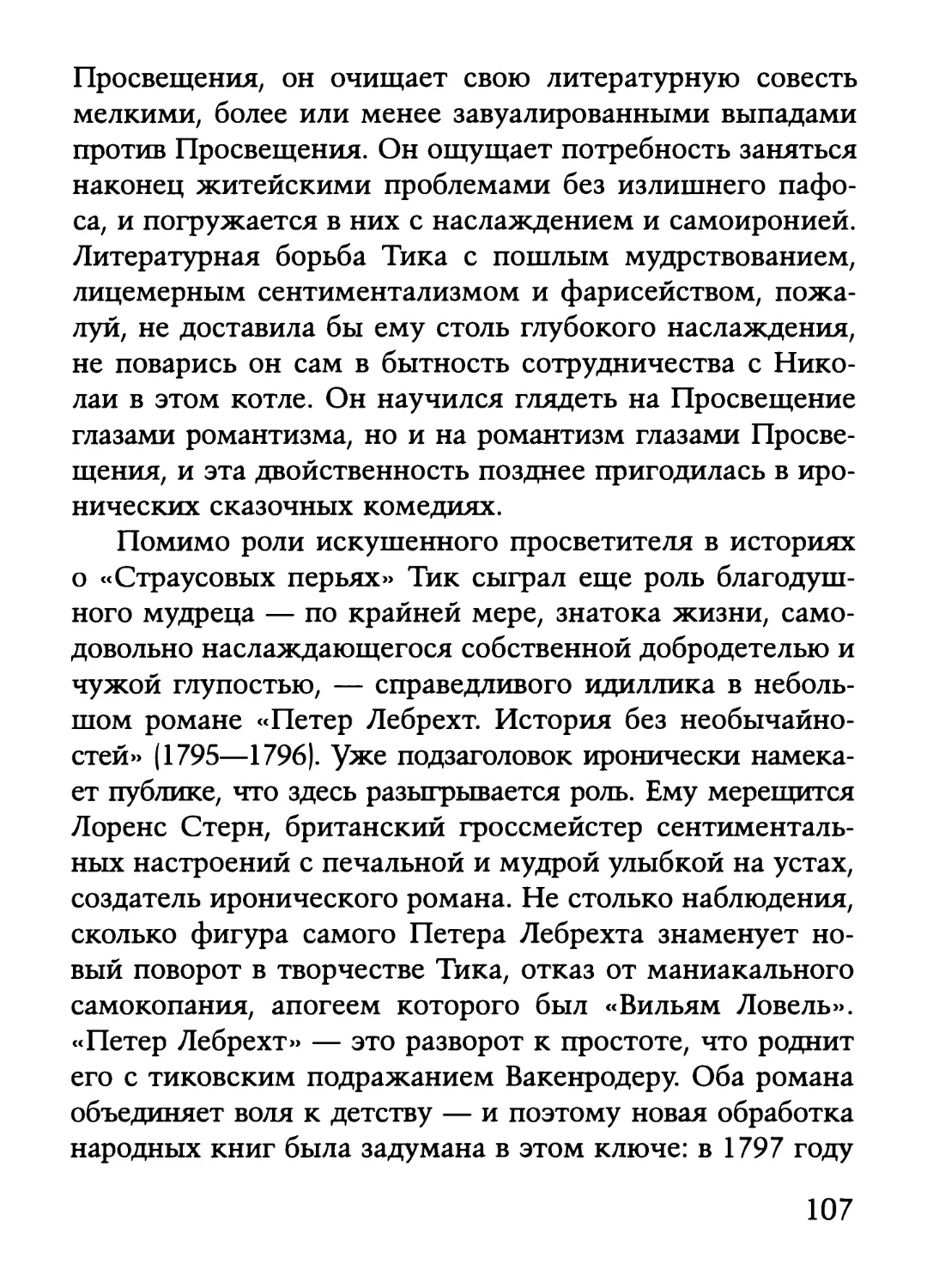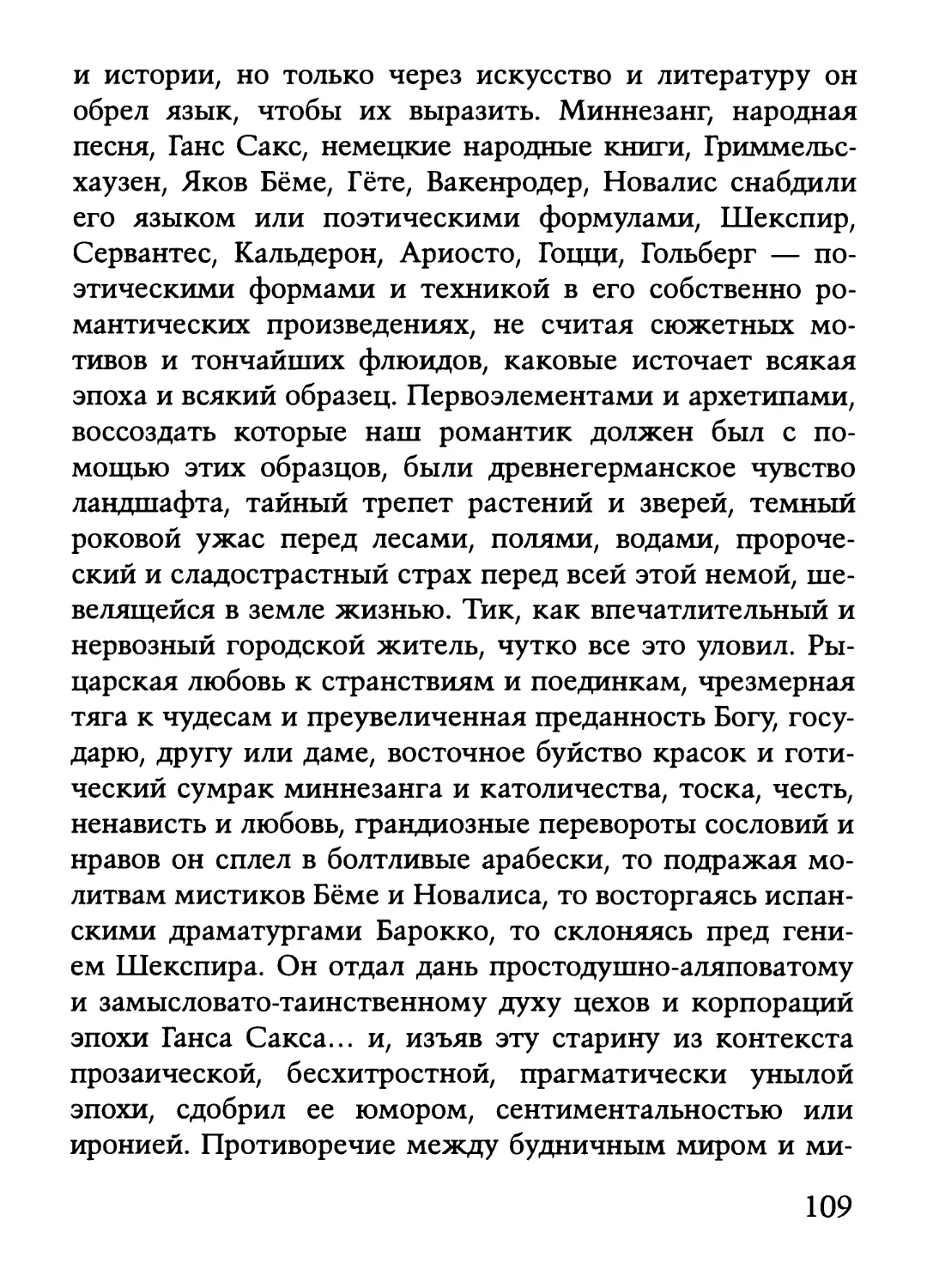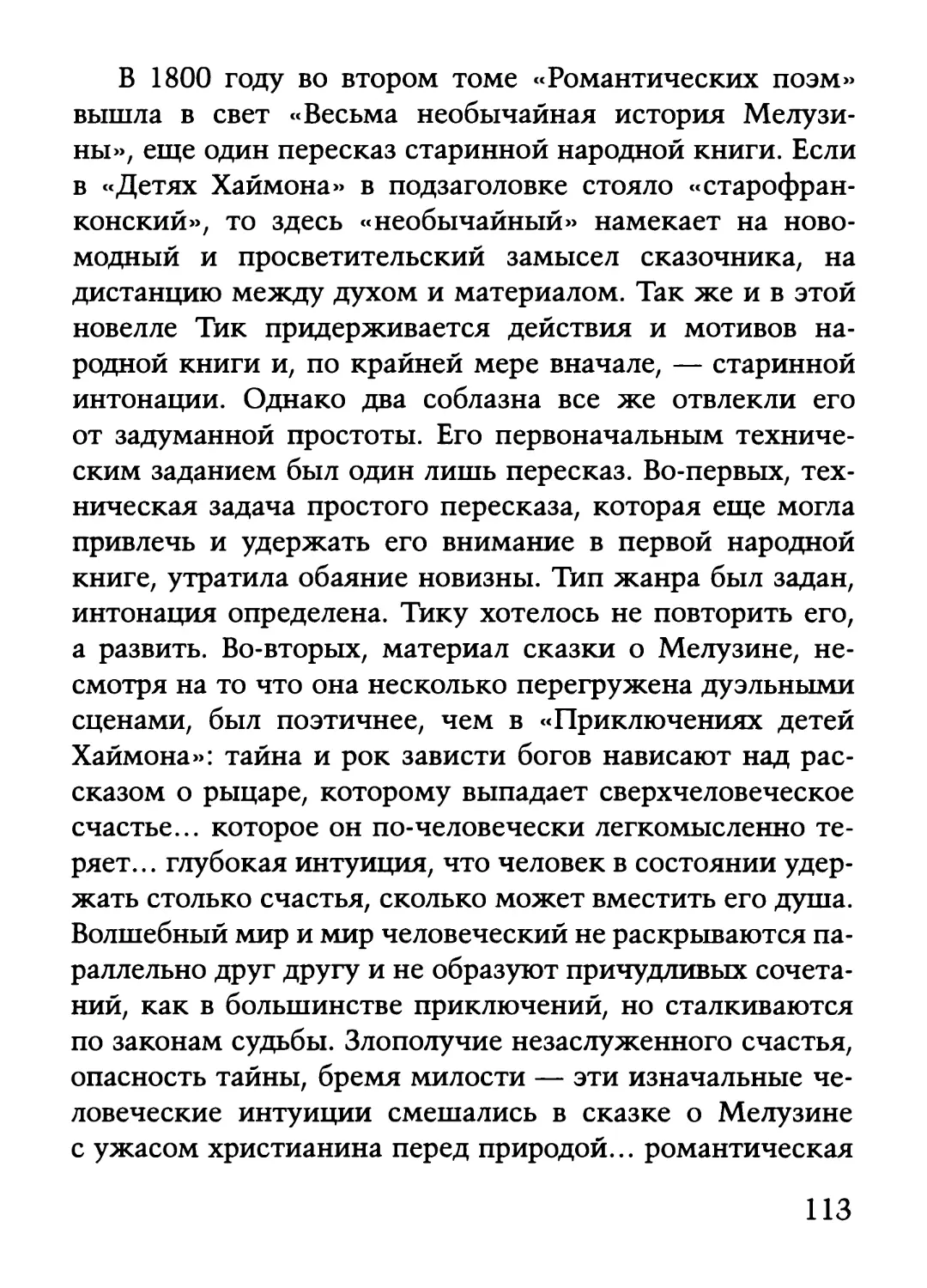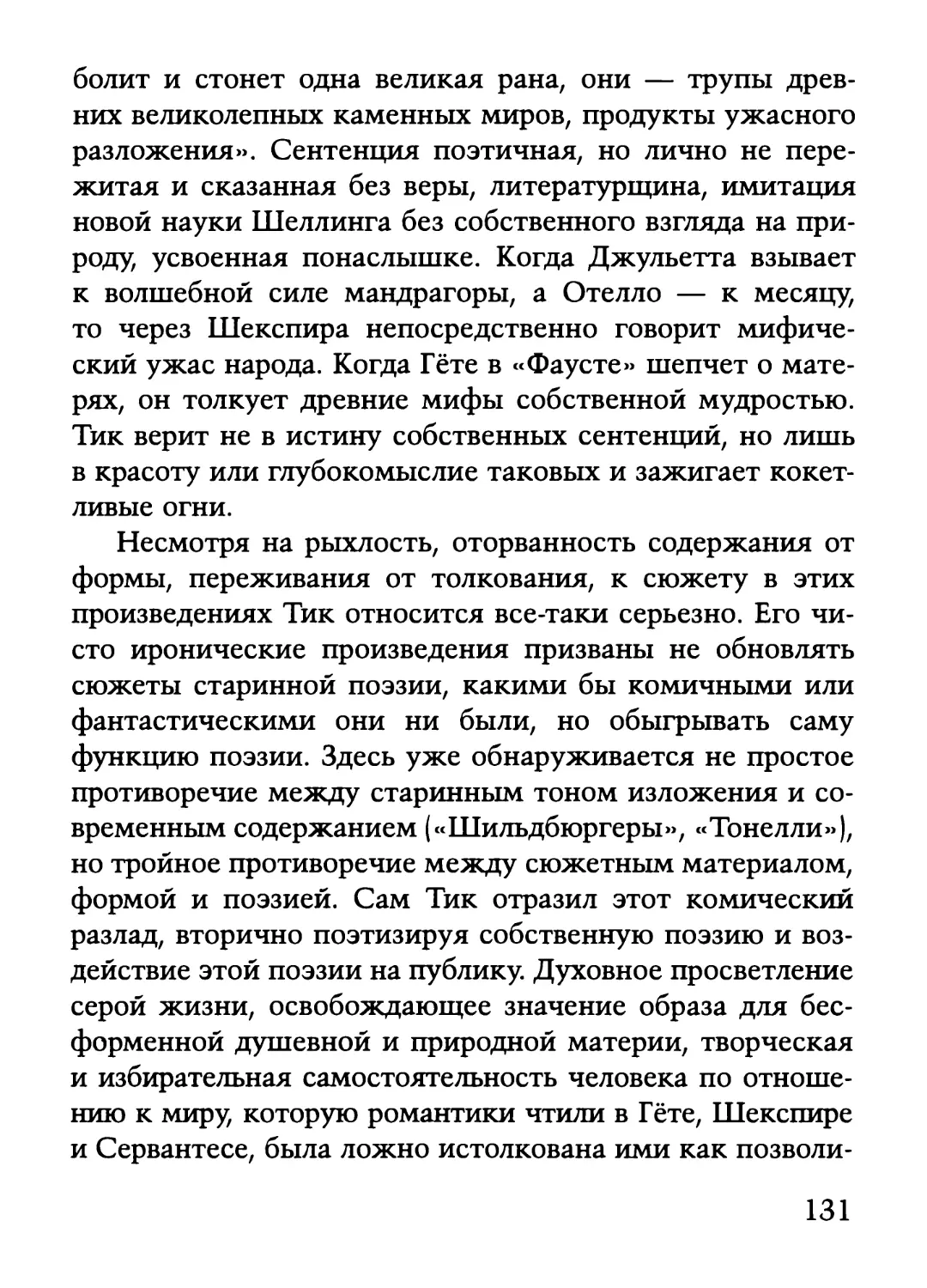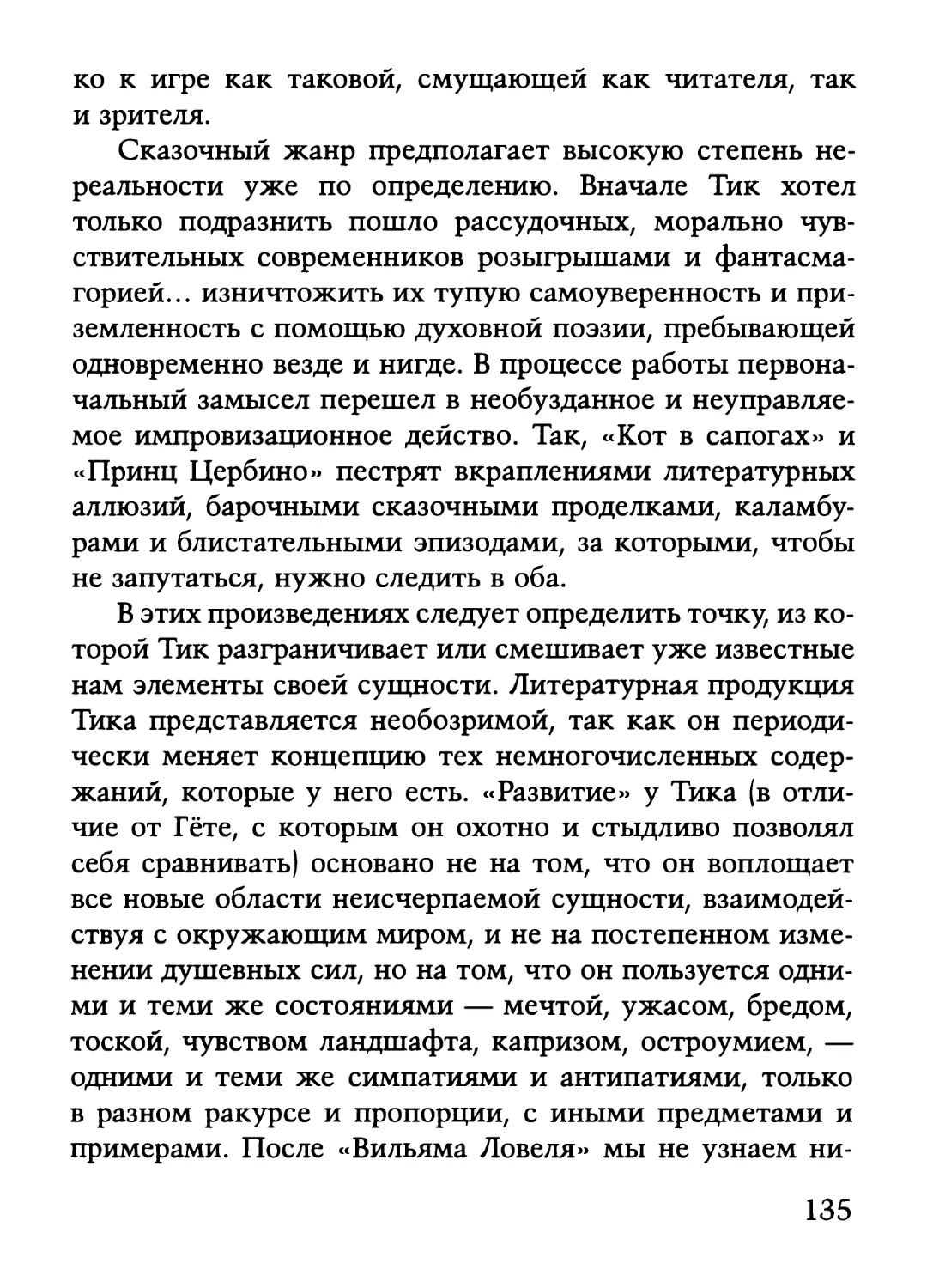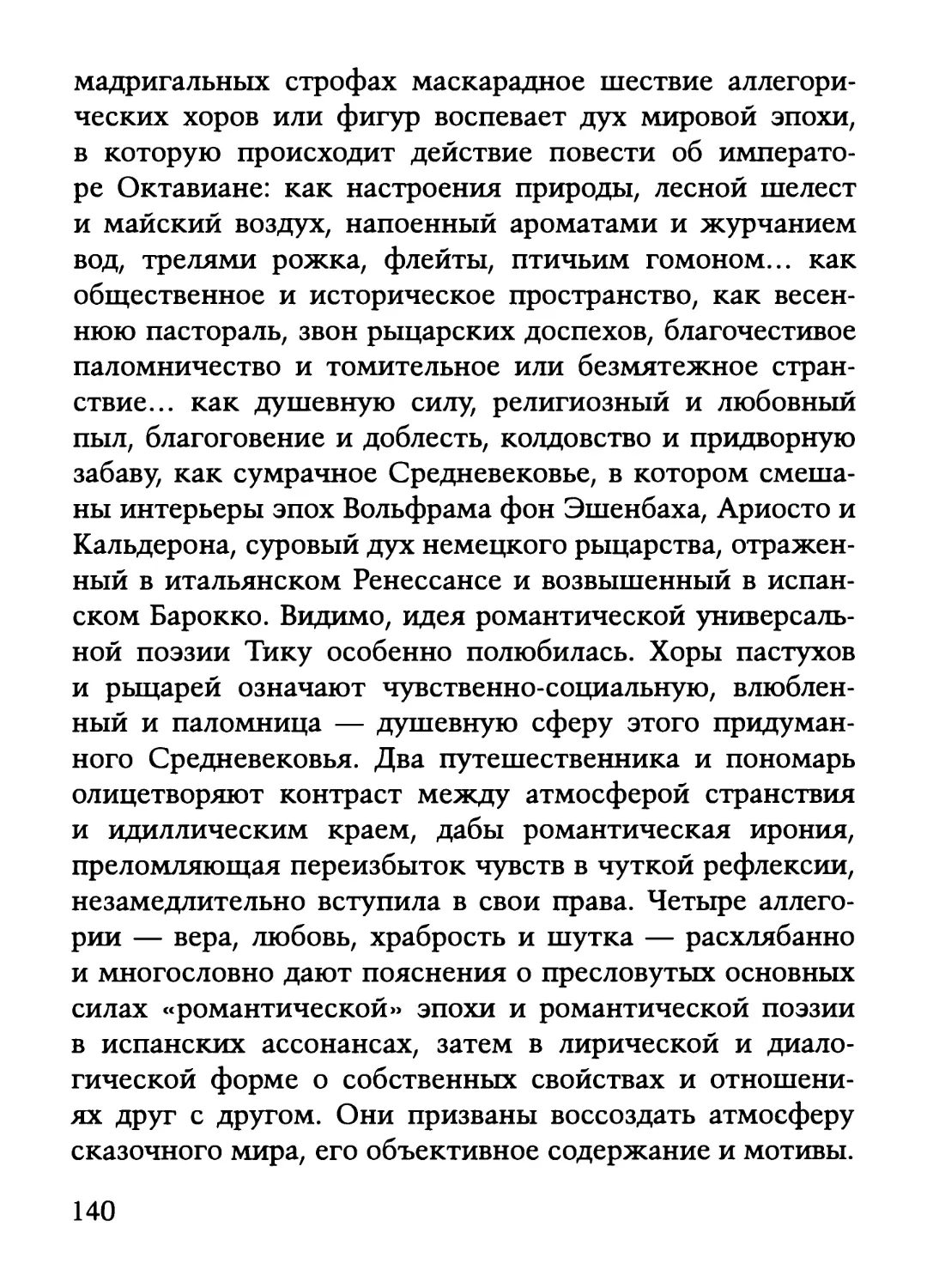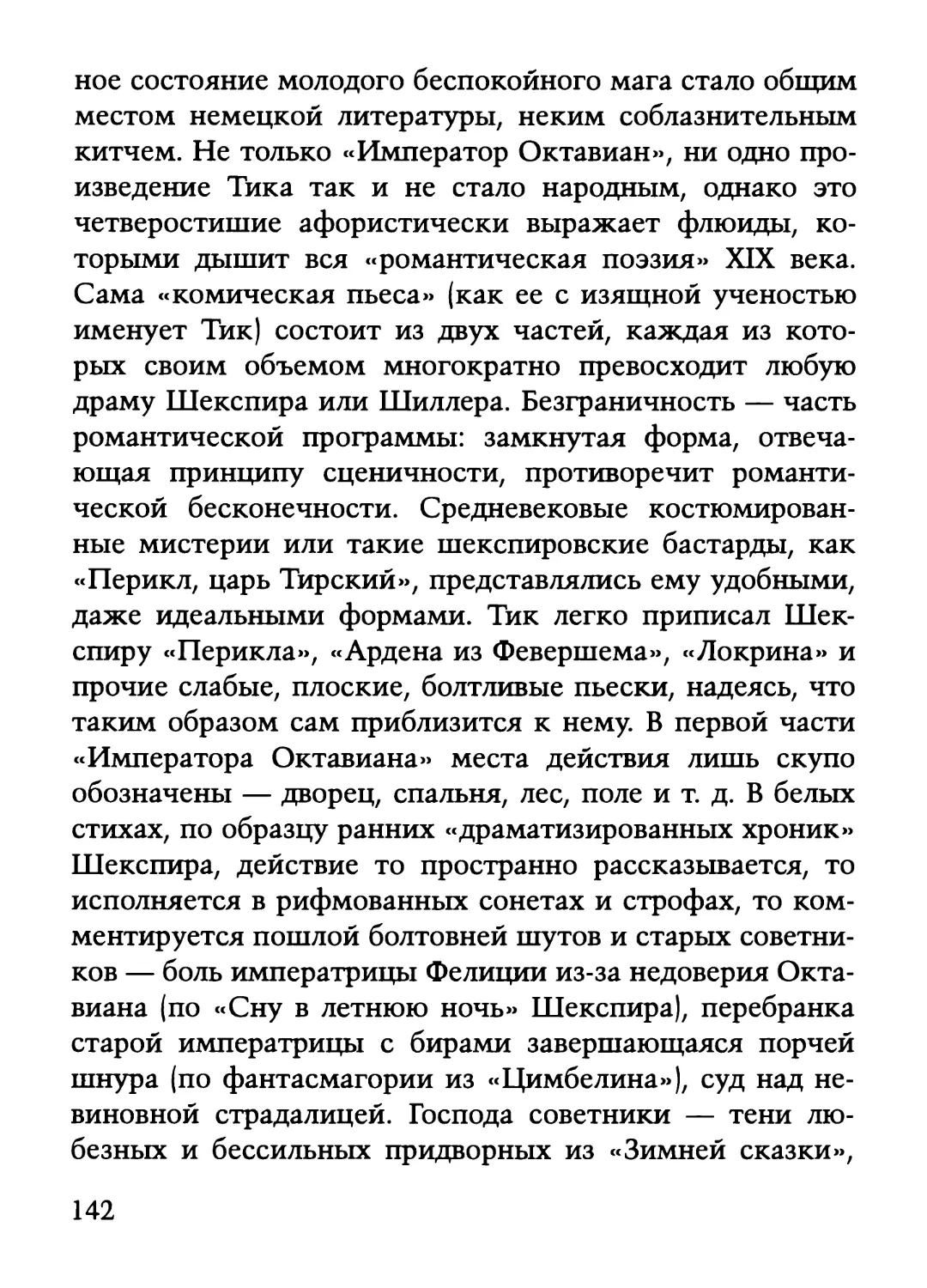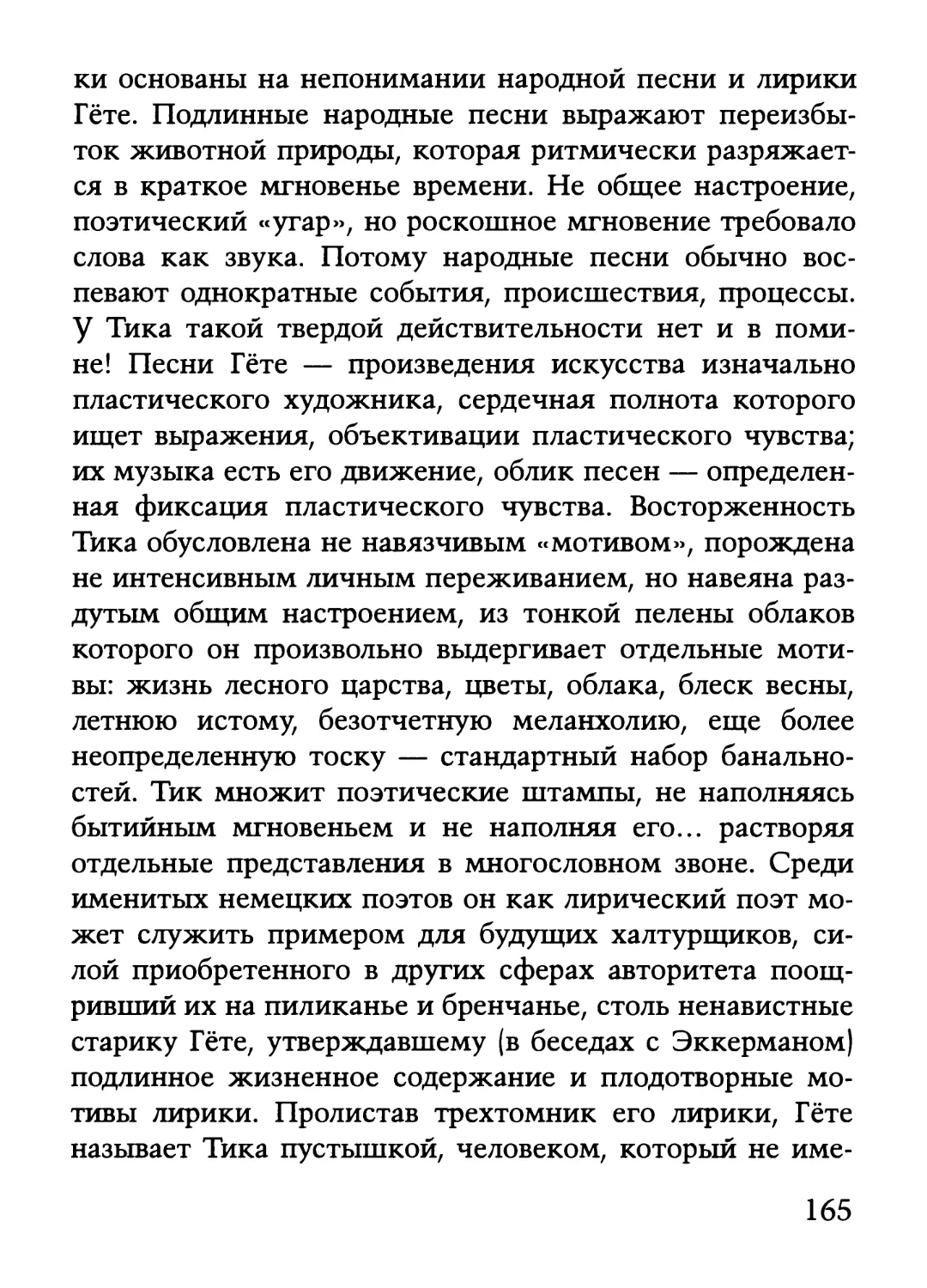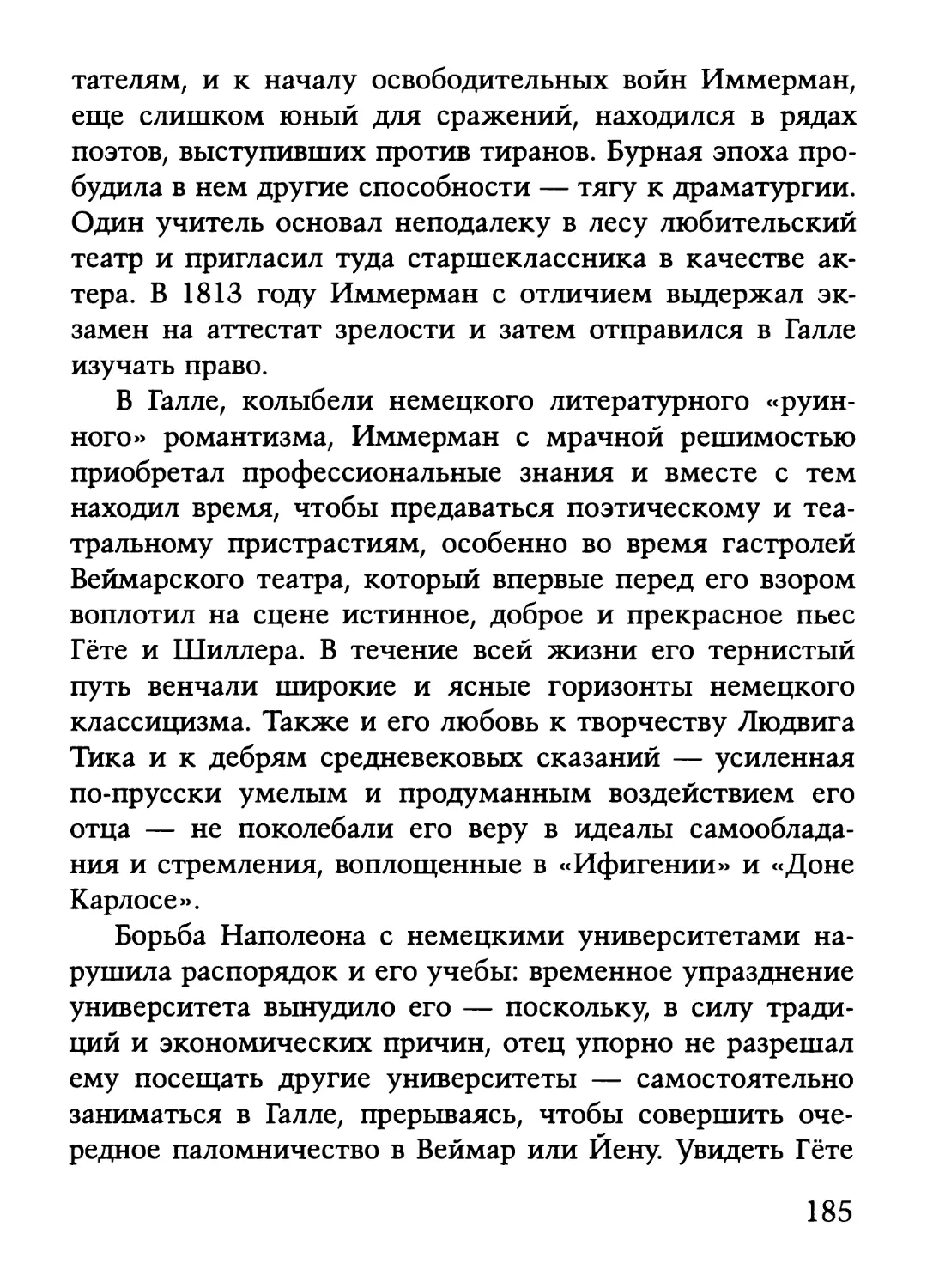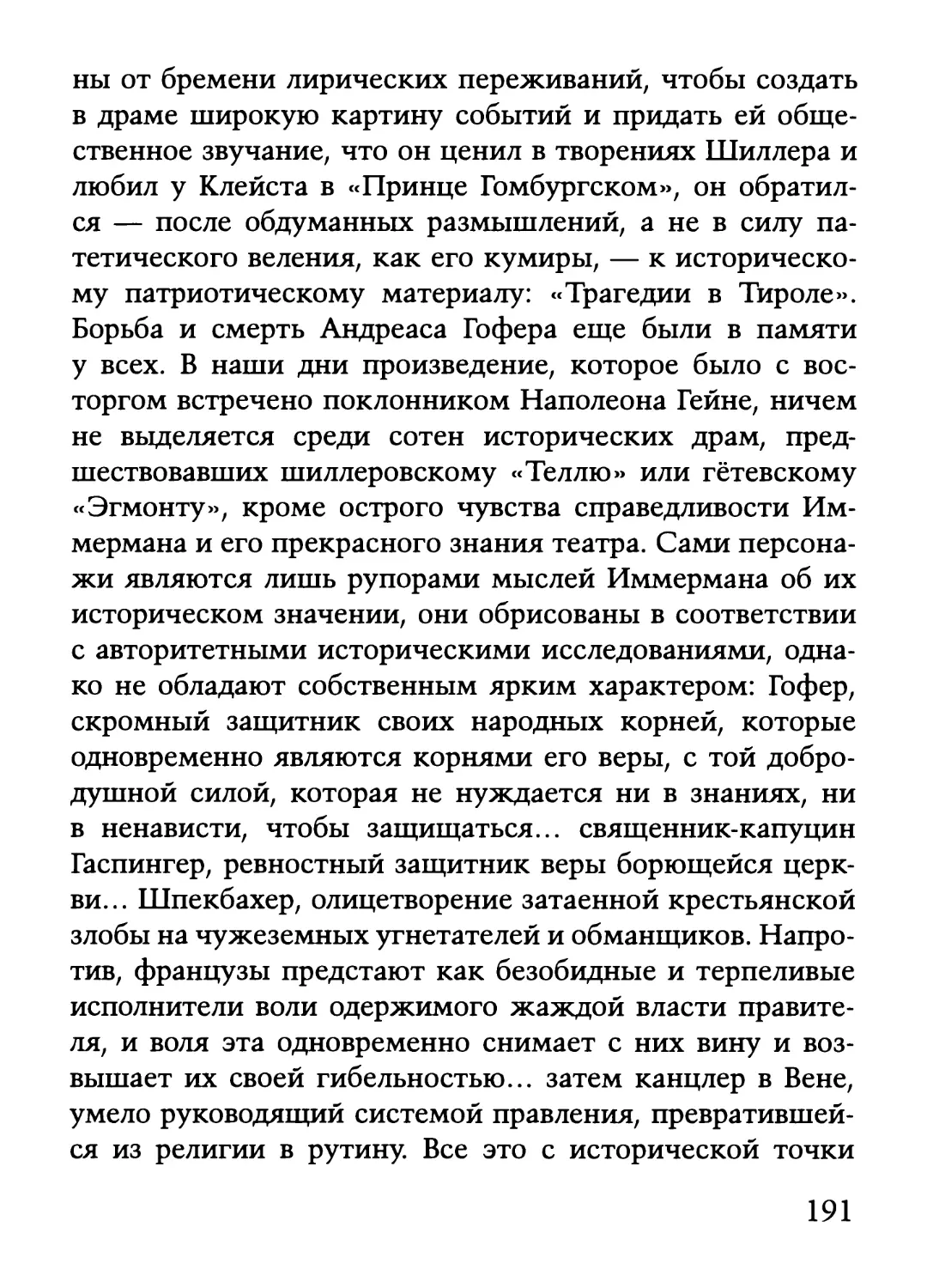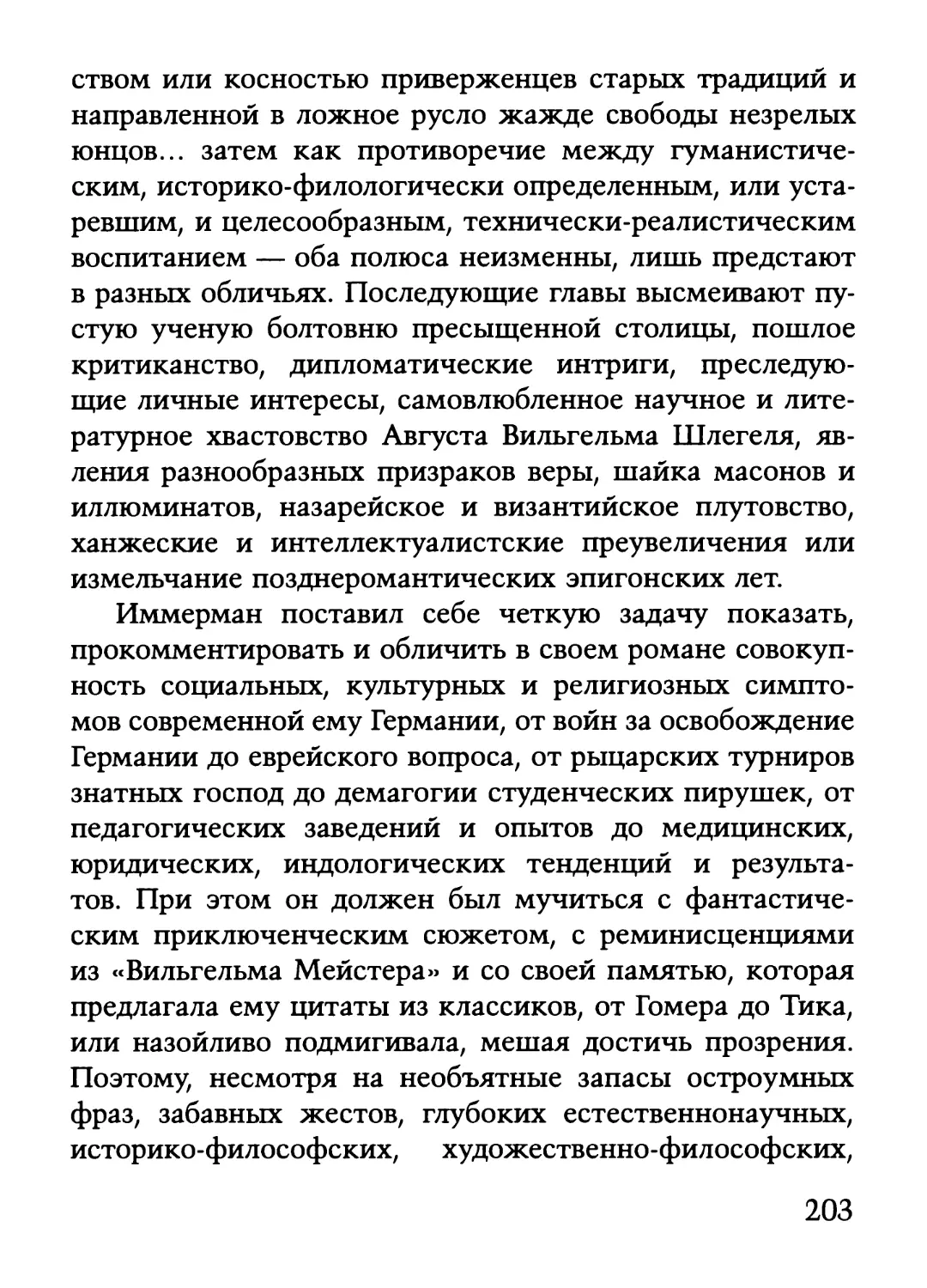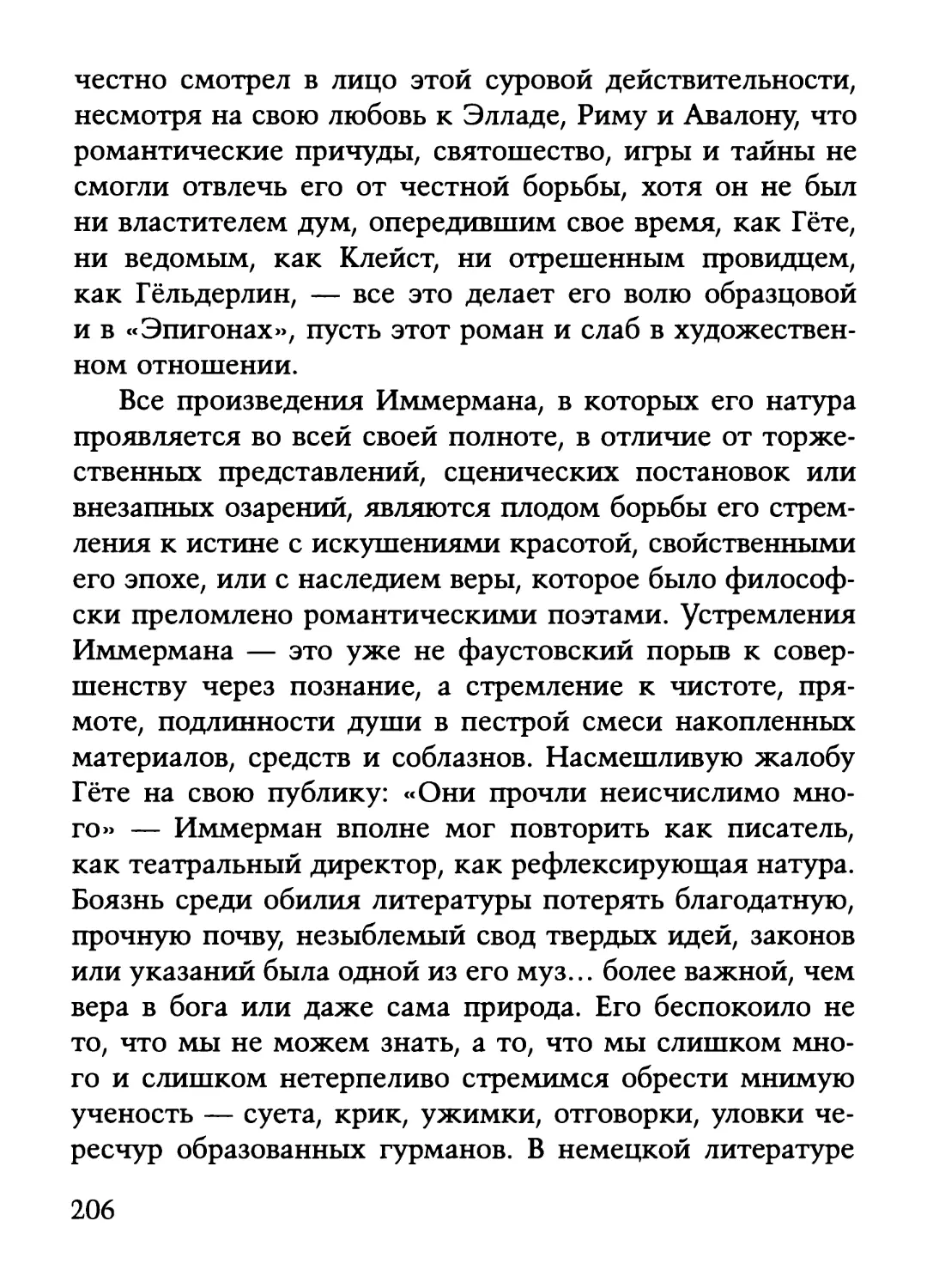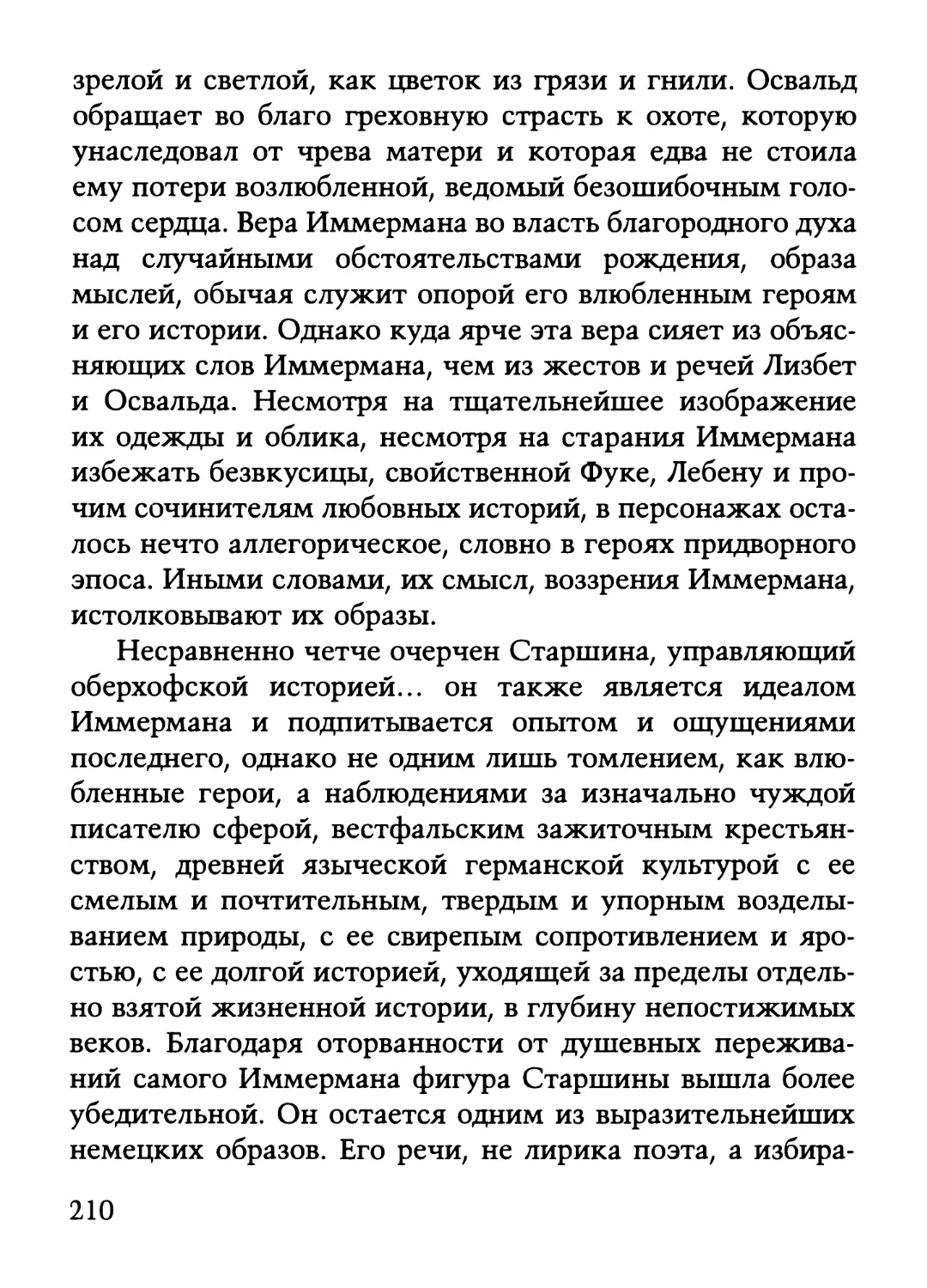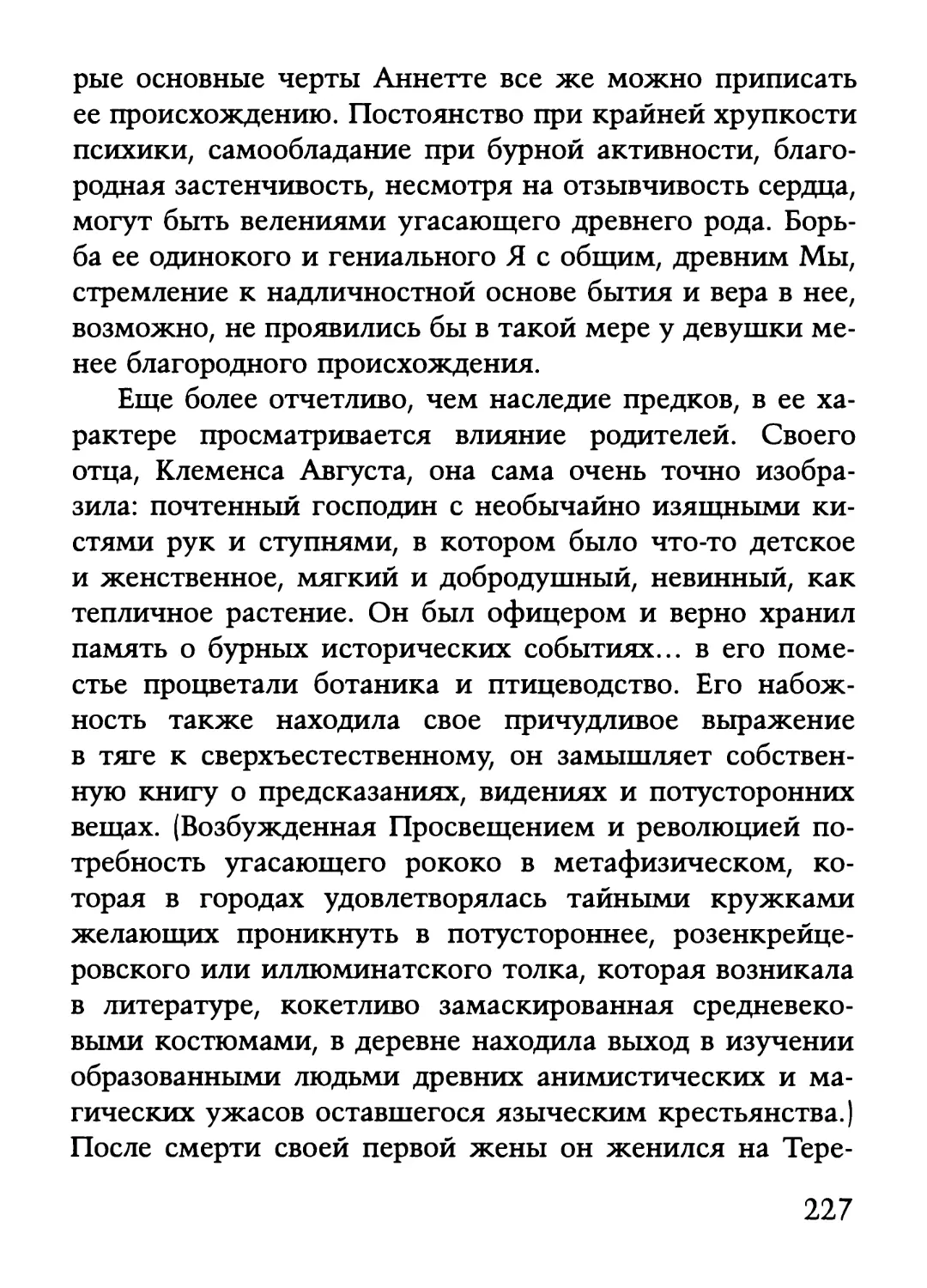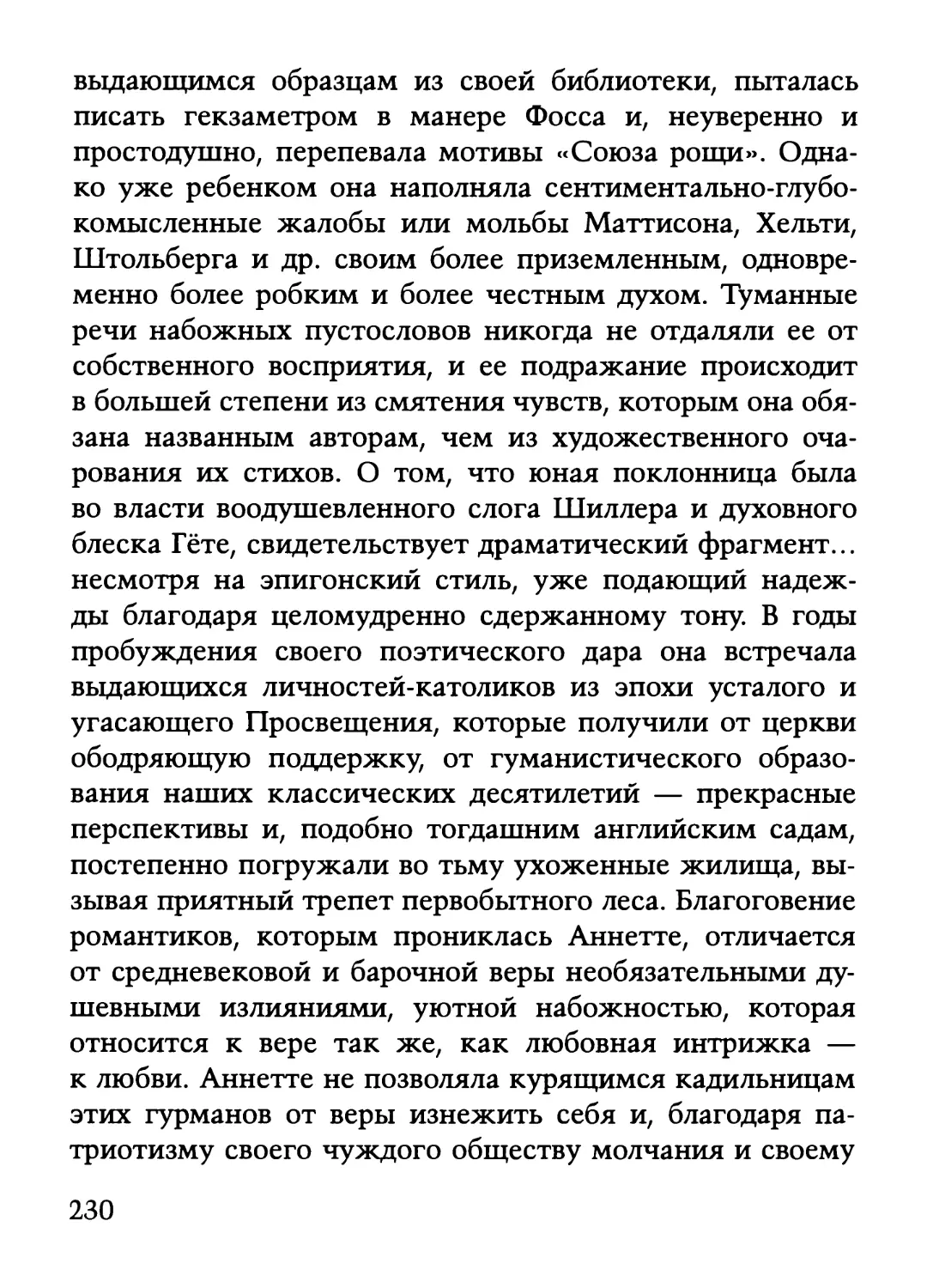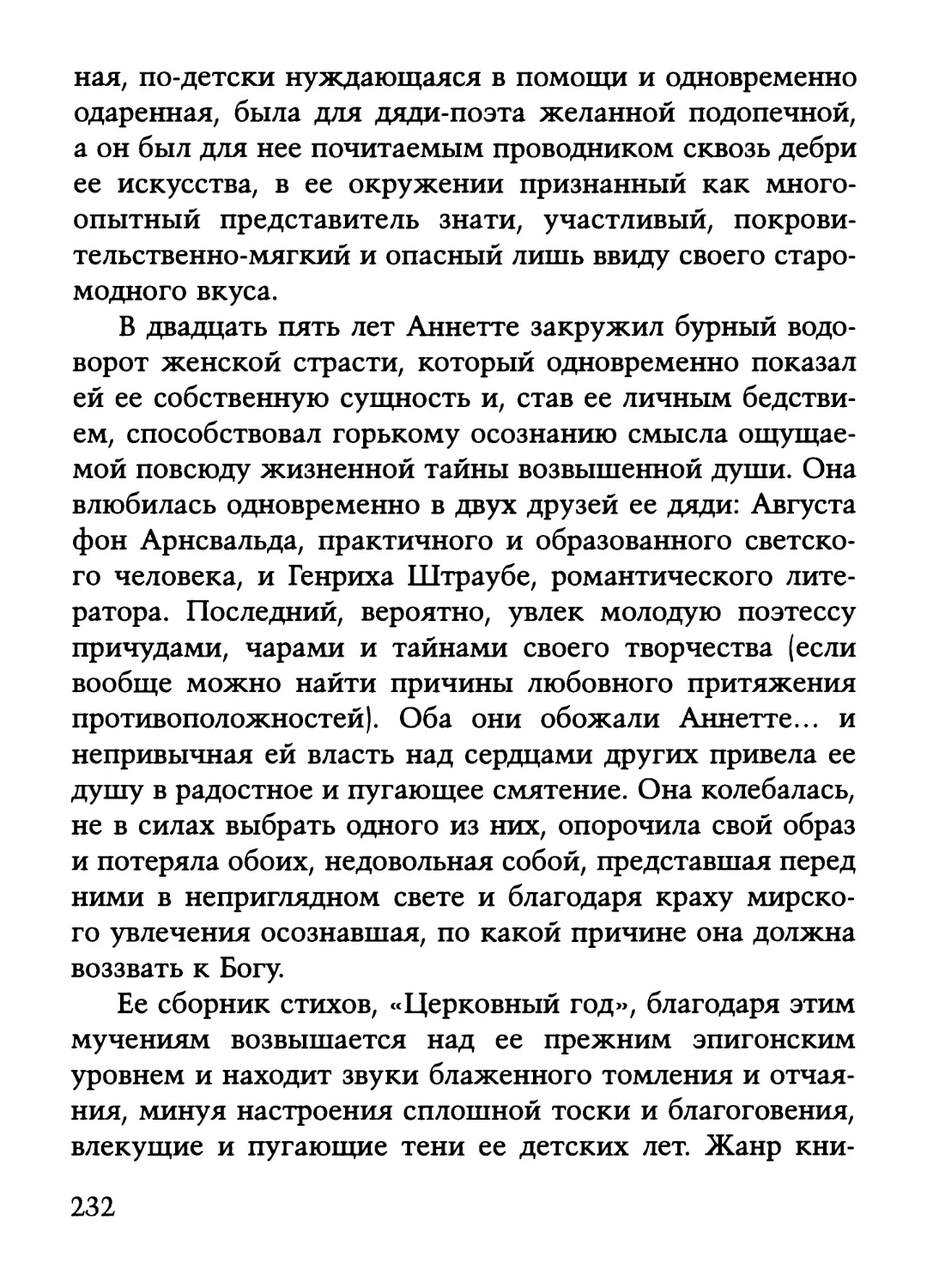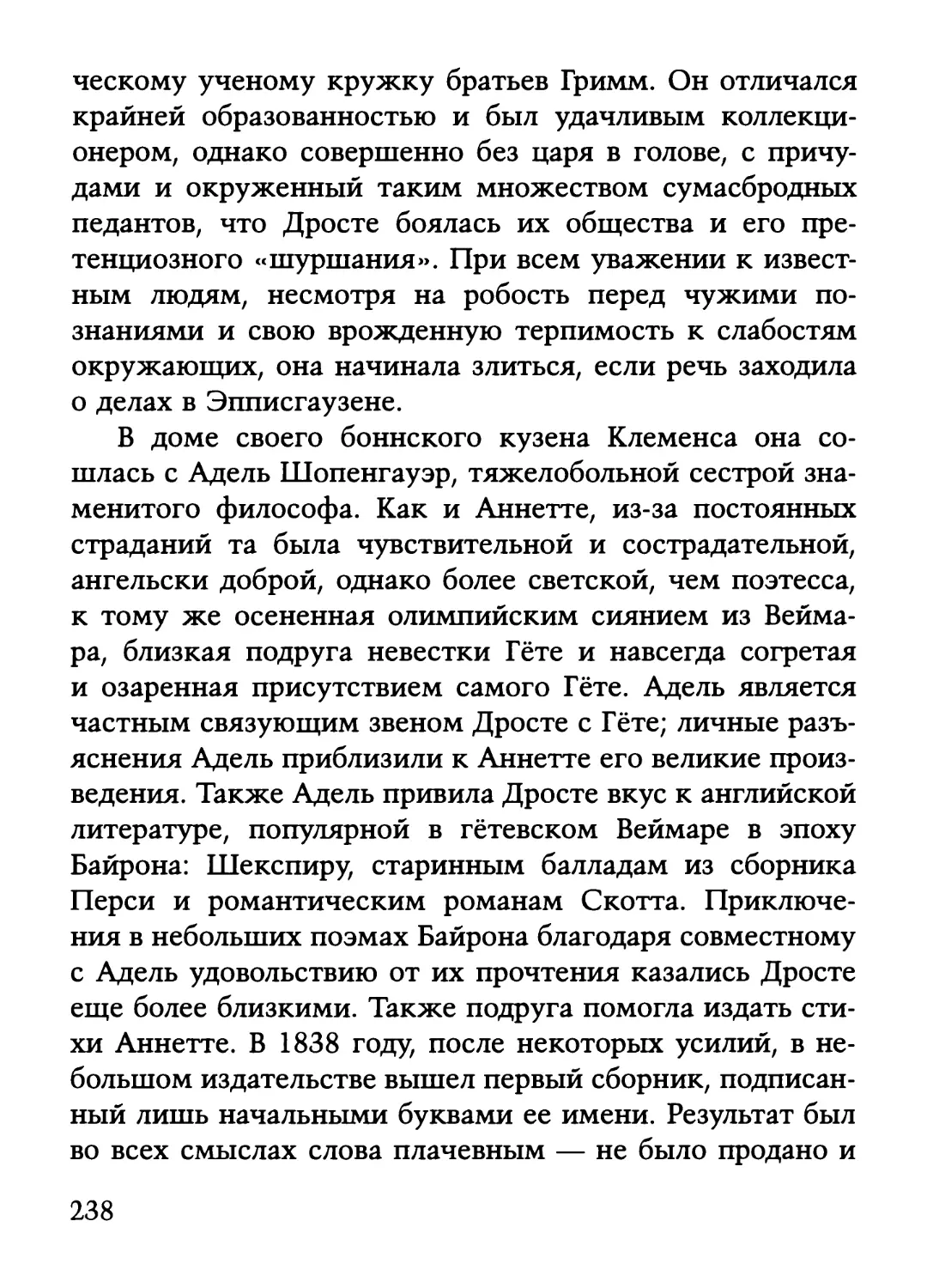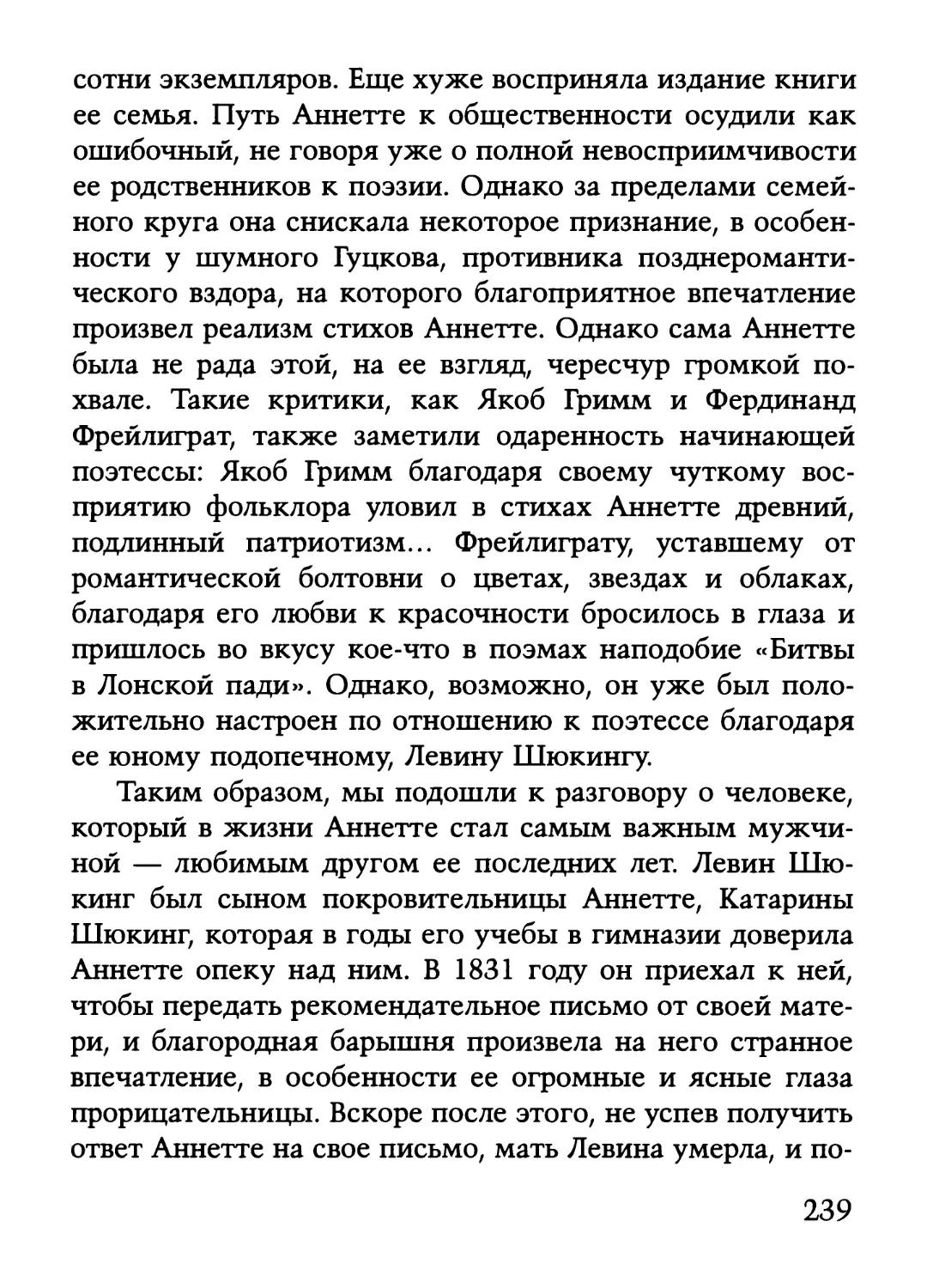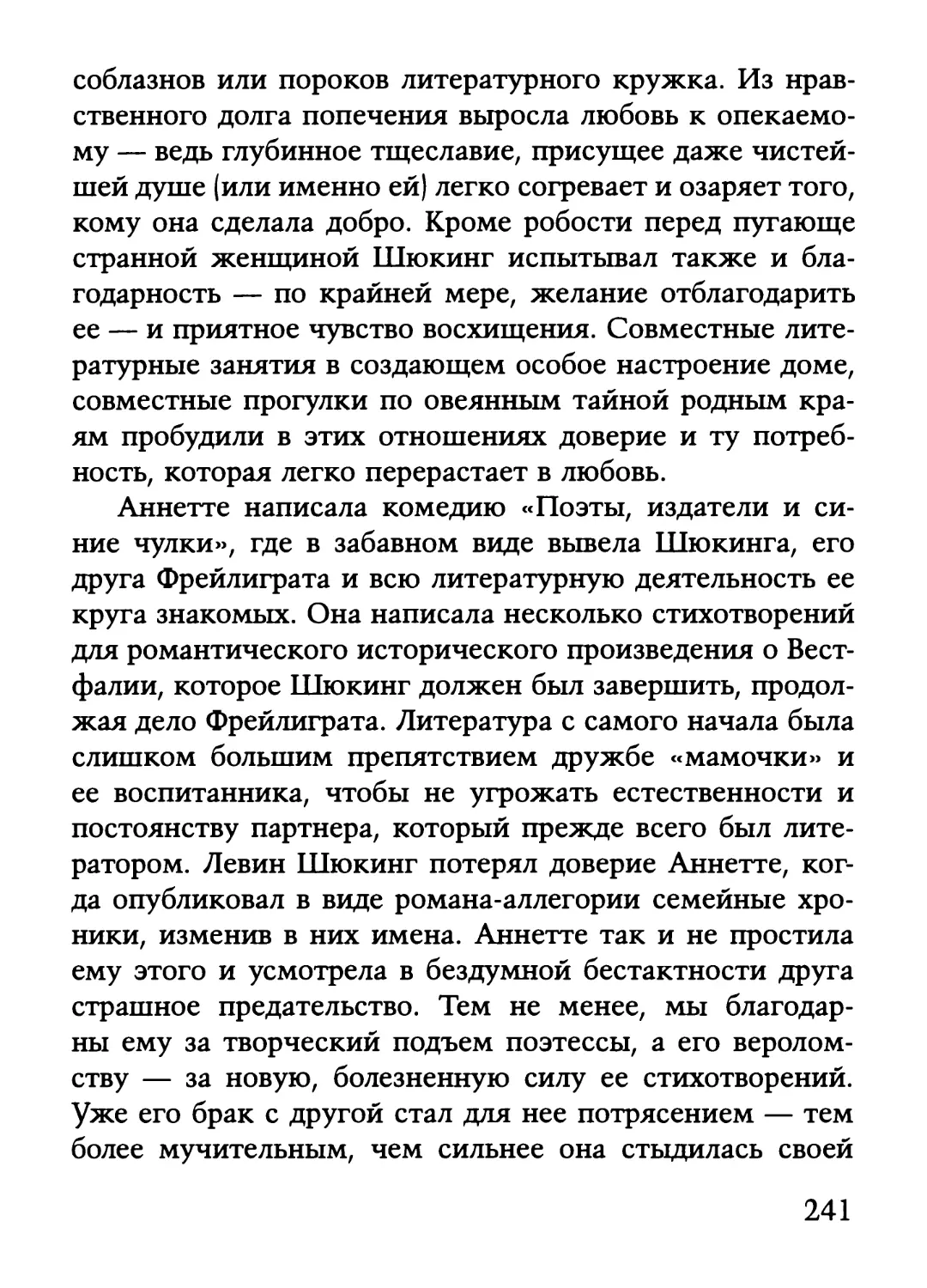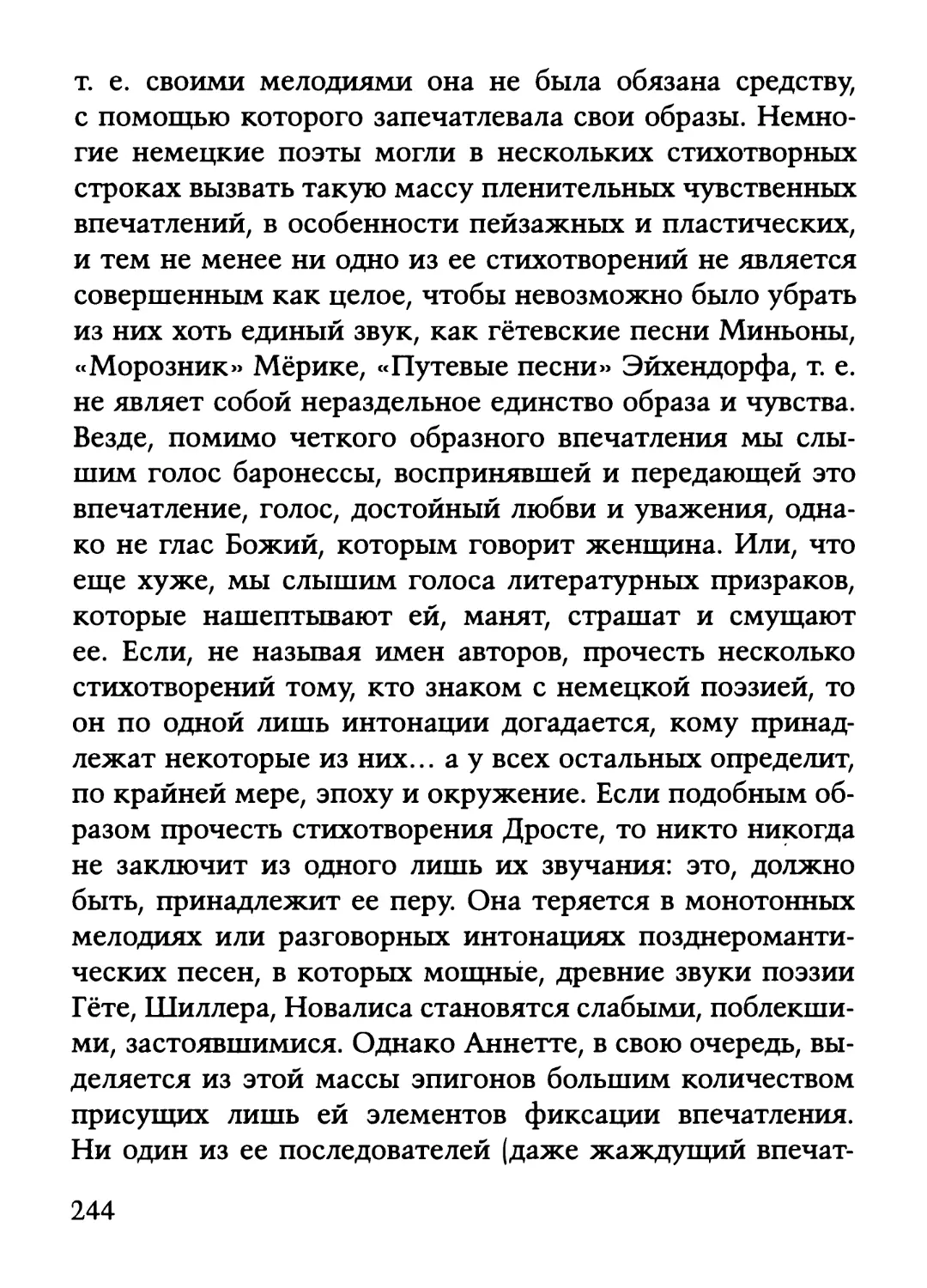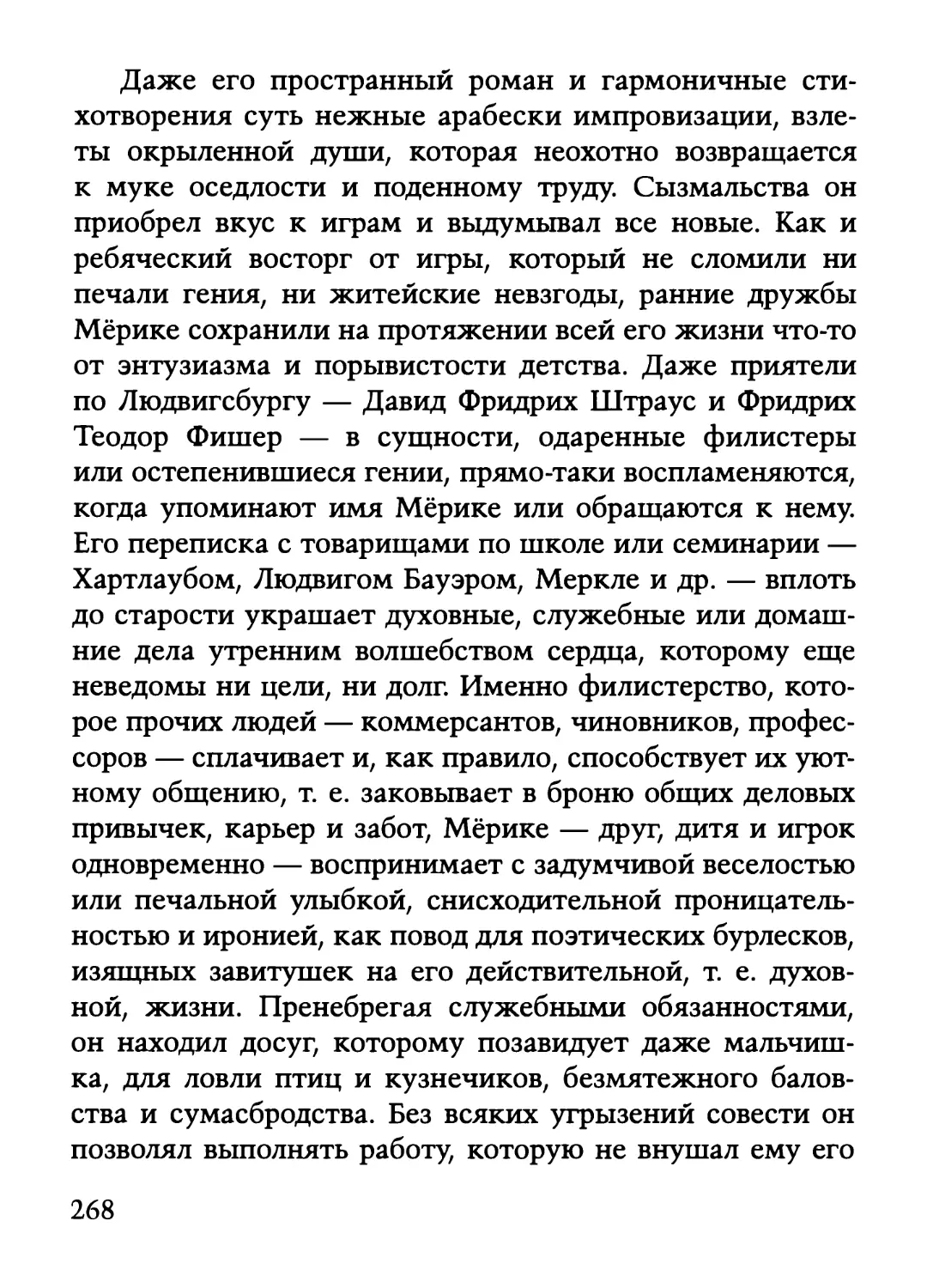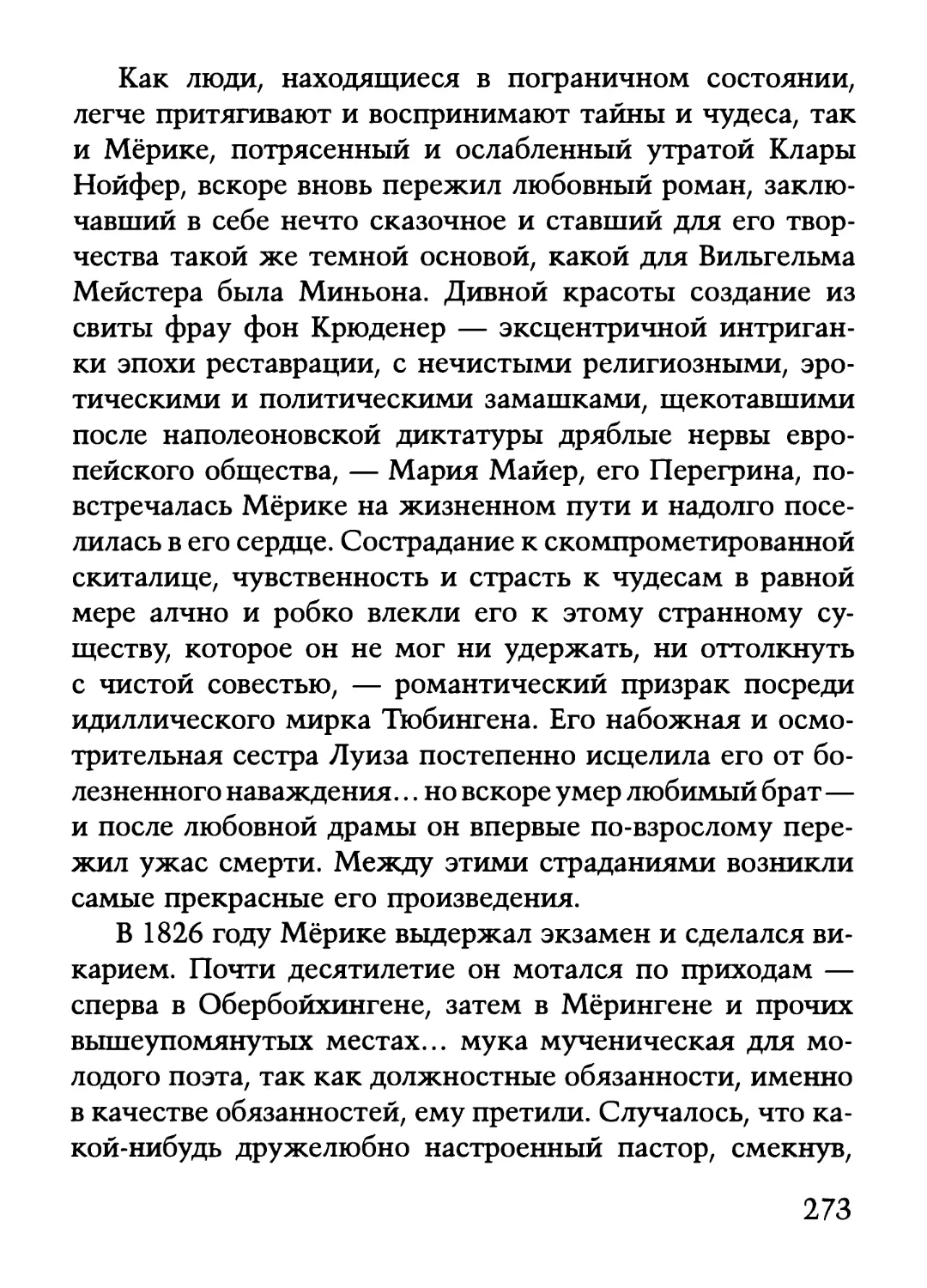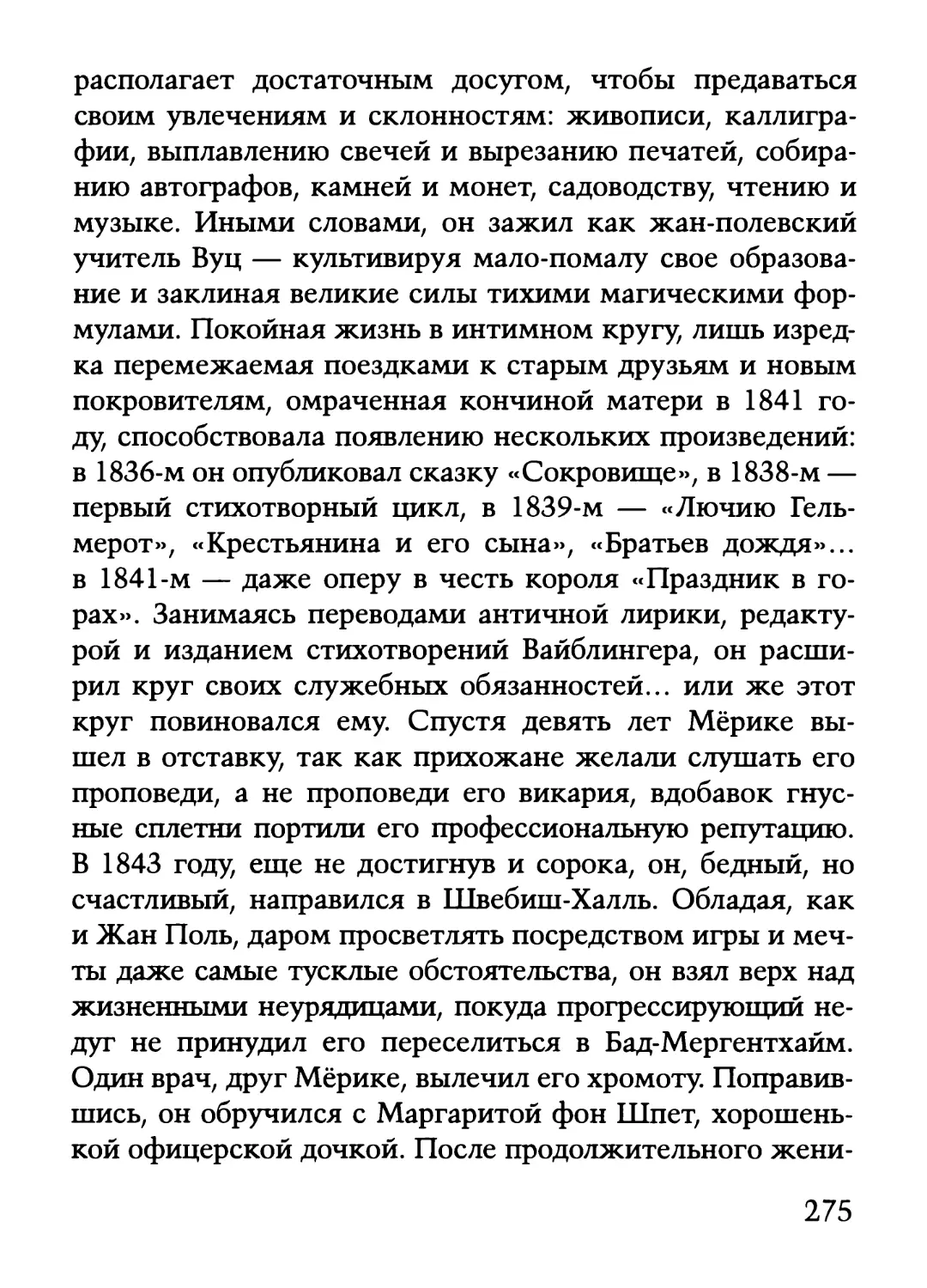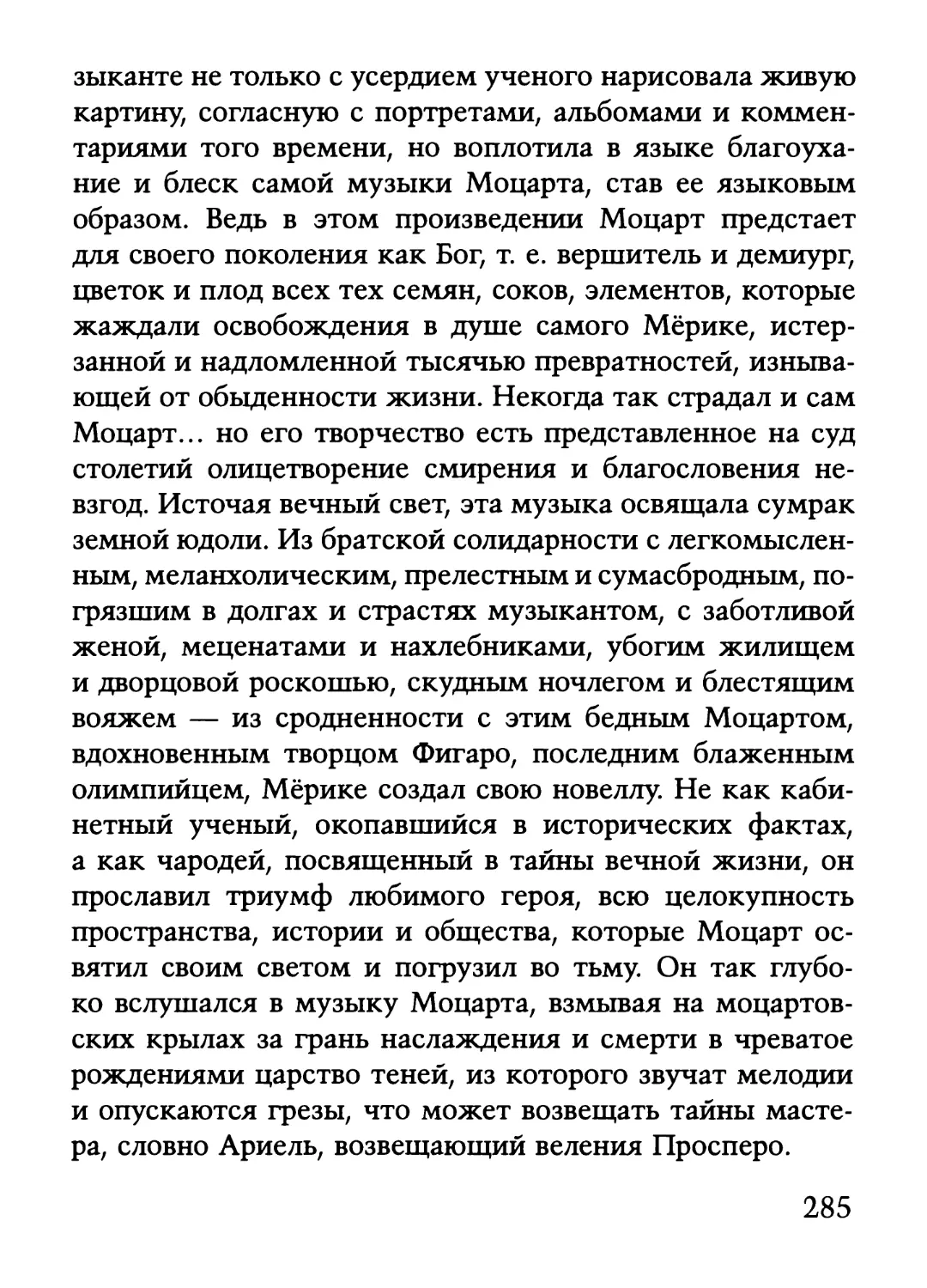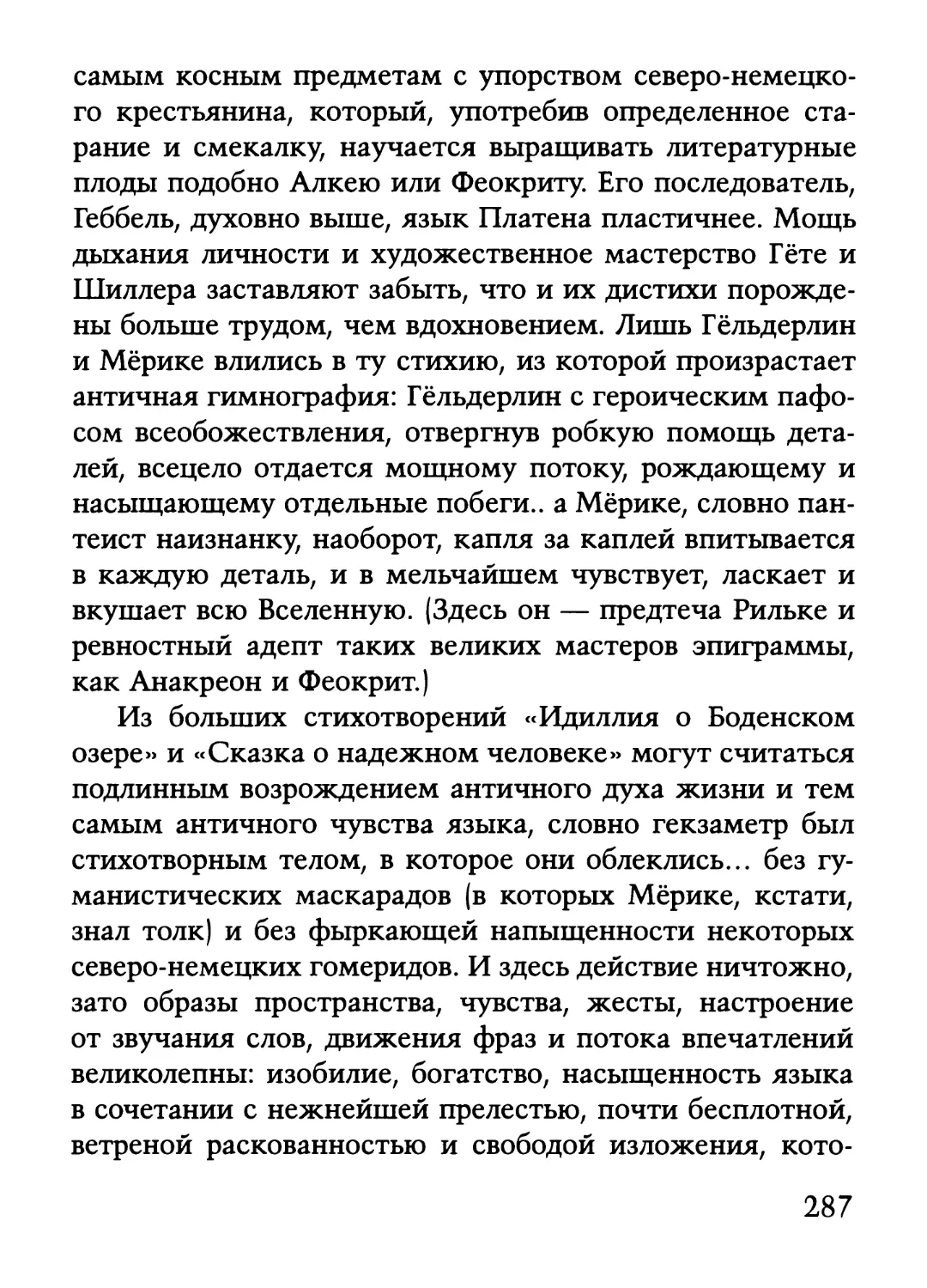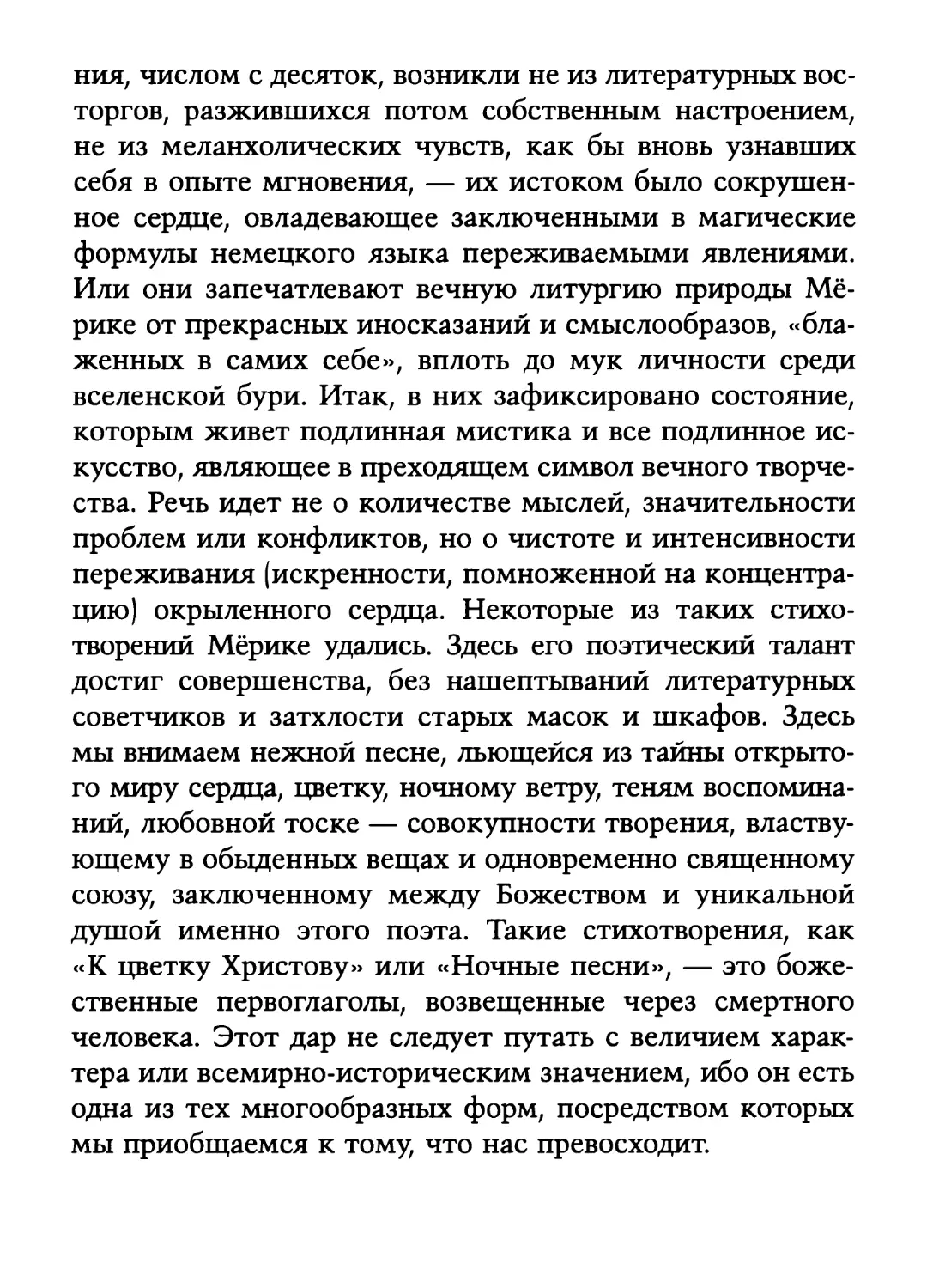Автор: Гундольф Ф.
Теги: литературные школы, направления и движения история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран филология литературоведение
ISBN: 978-5-93615-184-2
Год: 2017
Текст
ROMANTIKER
NEUE FOLGE
Friedrich Gundolf
шитш
Tieek, Immermann,
Droste-Hiilshoff, Mörike
Фрндрнх 1\н ιιι.ιι,ψ
РОМАНТИКИ
Дросте-Хюльшфф, Мёрике
Перевод с немецкого
Е. В. Бурмистровой, А. А. Вольского
е.
Санкт-Петербург
«ВЛАДИМИР ДАЛЬ)
2017
УДК 82.02
ББК 83.3 (2Рос=Нем)
Г93
Гундольф Ф.
Г93 Немецкие романтики: Тик, Иммерман, Дросте-Хюльсхофф,
Мёрике / Пер. с нем. Е. В. Бурмистровой, А. Л. Вольского. — СПб.:
Владимир Даль, 2017. — 295 с.
ISBN 978-5-93615-184-2
В центре книги виднейшего представителя
духовно-исторического литературоведения, близкого друга и ученика Стефана
Георге Фридриха Гундольфа, выступавшего против набивших
оскомину методов позитивной филологии, — немецкая романтическая
школа. Обращаясь в своем исследовании к писателям и поэтам,
воплощавшим собой дух истории, Гундольф стремится вдохнуть
немного его витальной мощи и в свой разочарованный век. Наше
время, истерзанное новейшими видами нигилизма не меньше,
чем время немецкого мыслителя, нуждается в возвращении к
своим пророкам, в их переосмыслении и возрождении.
УДК 82.02
ББК 83.3 (2Рос=Нем)
О Издательство «Владимир Даль», 2017
О Бурмистрова Е. В., Вольский А. Л.,
перевод с немецкого, 2017
О Вольский А. Л., статья, 2017
ISBN 978-5-93615-184-2 © Палей П., оформление, 2017
Светлой памяти
Алексея Георгиевича
Аствацатурова
Философия литературы
Фридриха Гундолъфа
Эпоха романтизма, исторической рамкой которой
может считаться период между двумя революциями —
Великой французской и Июльской парижской 1830 года, —
завершилась почти одновременным уходом из жизни
Гегеля и Гёте1, формально к романтизму не причастных,
но воплотивших романтический идеал духовного
синтеза с наибольшей глубиной. Вместе с романтической
поэзией, все больше становившейся эпигональной, в
прошлое уходило романтическое литературоведение, одним
из последних значительных достижений которого стала
опубликованная в 1836 году «Герменевтика и критика»
Ф. Шлейермахера.
Ф. Шлейермахер понимал герменевтику как
искусство толкования, рождающееся в триедином
взаимодействии грамматики (науки о языке), диалектики
(философии) и риторики (науки о художественных средствах
1 14 ноября 1831 г. и 22 марта 1832 г. соответственно.
5
выражения)2, и различал в соответствии с этим три вида
толкования: грамматическое, изучающее речь (текст)
с объективной стороны, т. е. со стороны языка и
культуры, психологическое, рассматривающее текст со
стороны субъекта творчества, как «момент душевной жизни
автора»3, и, наконец, техническое, толкующее текст,
исходя из его собственных художественных особенностей,
которое «в большей степени сводится к определенному
намерению, из коего развиваются ряды»4. Таким образом,
Шлейермахер обозначил три области, в связи с
которыми может осуществляться толкование: язык (в широком
смысле как лингвокультура), личность автора, само
произведение искусства (текст).
С завершением романтической эпохи данное
триединство начало распадаться, причем три научных
направления, которые последовательно доминировали в
немецком литературоведении в дальнейшем, акцентировали
какую-то одну из названных сторон: позитивизм —
грамматическое толкование, духовно-историческая школа —
психологическое, теория имманентной интерпретации
текста — техническое.
В 1830 году О. Конт выступил в парижской
политехнической школе с лекциями «Курс позитивной
философии». Уже само это название полемически заострено
против романтизма. Если романтики во всем конечном
искали безусловное и бесконечное, т. е., по сути, нега-
1 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: Европейский дом,
2004. С. 42.
3 Там же. С. 156.
4 Там же. С. 40.
6
тивное (das Un-bedingte, das Un-endliche, das
Unsichtbare), то новое направление сосредоточило свои усилия
на видимом, конечном и обусловленном, т. е.
положительном, содержании знания, опирающегося на факты.
Философия утратила присущий ей в романтизме статус
«науки наук», а эталоном научного знания стало
естествознание, на объективную методологию которого
постепенно переориентировались и науки о духе. Такие
концепты романтического литературоведения, как
художественная наука, трансцендентальная поэзия,
интуитивное толкование (дивинация), прогрессивная
универсальная поэзия и др. были объявлены субъективными,
а потому отброшены как ненаучные.
Если романтическая герменевтика делала акцент на
внутренней, эзотерической, стороне литературного
процесса (сущности поэзии, тайне творчества, религиозном
характере искусства, связи поэзии и философии,
мистике творческого акта и др.), то позитивизм обратился к его
внешней стороне, разрабатывая проблемы
филологической критики текстов, мотивов, сюжетов, влияний,
истории образов и характеров, писательской биографии. Если
романтизм намеренно сакрализовал поэзию, то
позитивизм так же намеренно десакрализовал ее, избавляясь
от сомнительных спекулятивных теорий и мистических
преувеличений. На этом пути, выступая как антитезис
романтизма, позитивизм добился важных успехов —
первыми критическими изданиями Гёте, Шиллера, Гердера,
Клейста и др. германистика обязана позитивистам.
Позитивизм существенно расширил литературоведческий
кругозор, собрал гигантский филологический материал
и приучил уважительно относиться ко всем сторонам
7
филологической работы. В Германии оплотом
позитивистской филологии был берлинский университет, в
котором работали такие выдающиеся ученые, как
филолог-классик у. фон Виламовиц-Мёллендорф, германисты
В. Шерер и Э. Шмидт.
Однако на рубеже XIX—XX веков позитивизм, все
еще продолжавший доминировать в академической
науке, начал испытывать методологический кризис,
обусловленный, в первую очередь, изменениями в самой
культуре. Под влиянием литературы модернизма рубежа
веков формировался новый взгляд на искусство, во
многом воспроизводивший представления романтиков о
религиозной сущности и символическом смысле искусства.
Новое понимание искусства не могло не изменить и
науку о нем, в частности литературоведение. Позитивизм
с его претензией на объективность, пафосом черновой
филологической работы, скепсисом к любым
метафизическим концепциям не мог не только адекватно
объяснить феномен новой литературы, но и внятно ответить
на вечные, задаваемые любым думающим человеком,
вопросы: что такое поэзия? в чем ее назначение? Что
означает словосочетание «наука об искусстве»? и т. д., т. е.
все те же вопросы, которые волновали романтическое
поколение.
В. М. Жирмунский, проходивший стажировку в
немецких университетах в годы перед Первой мировой
войной, в своем очерке о современном немецком
литературоведении отмечает, что позитивизм, исчерпав свою
методологическую программу, перестал удовлетворять
интеллектуальным запросам общества. Научные
проблемы, которые он продолжал разрабатывать, мало-помалу
8
стали восприниматься не как главные, а как
второстепенные, и поскольку в университетской среде все еще
преобладали сторонники старой школы, студенческая
молодежь предпочитала «искать себе учителей вне
университетских стен». Властителями дум нового
поколения стали не филологи, а философы культуры: А.
Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, Г. Зиммель, В. Дильтей,
Г. Вёльфлин5.
Одним из наиболее авторитетных направлений
новой науки стало так называемое духовно-историческое
литературоведение, представители которого (в основном
уже после Первой мировой войны) заняли кафедры
ведущих немецких университетов — Р. Унгер (Бреславль),
A. Г. Корф (Лейпциг), Э. Р. Курциус и Ф. Гундольф (Гей-
дельберг), Э. Бертрам (Кёльн), П. Клукхон (Тюбинген) и
близкостоящий к ним О. Вальцель (Бонн).
У духовно-исторической школы в Германии два
истока — близкий и далекий. Близким исток — Вильгельм
5 В обзоре немецкого современного литературоведения
B. М. Жирмунский называет широкий спектр новых
литературоведческих направлений и целую плеяду новых научных имен:
феноменологическое, восходящее к работам Э. Гуссерля,
представленное работами Г. Корфа и М. Дойчбайна, школу О. Валь-
целя и Г. Вёльфлина, изучающую формально-эстетические
законы литературного творчества, проблему типологии стилей
и взаимосвязи искусств, школы стилистики К. Фосслера и
Л. Шпитцера, теоретические исследования литературных
жанров (Риман, К. Фридеман, А, Хойслер), социологические течения
(Дибелиус, Л. Шюкинг, К. Фиетор). См.: Жирмунский В. М.
Новейшие течения историко-литературной мысли в Германии //
Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур.
Л.: Наука, 1981. С. 106—124.
9
Дильтей (1833—1911), философ и историк культуры,
сформулировавший общие принципы
духовно-исторического познания, отграничивший методологию наук о духе
от методологии естественнонаучного знания, на которую
равнялся позитивизм. В. Дильтей, критикуя
онтологическую веру позитивизма в объективность
филологического знания, провозглашал феномен понимания, в котором
субъект (толкователь) из процесса понимания не только
не может быть исключен, а играет ключевую роль в его
осуществлении. В. Дильтей вернул в науки о духе не
только теоретические принципы раннемодернистского
изучения культуры — интуицию, переживание,
сочетание в духовно-научном исследовании элементов
художественного и научного дискурса, философский интерес
к творческой личности и др., но и принцип историзма
культуры. Центральное понятие «переживание» Дильтей
заимствовал у Гёте, для которого вся поэзия была
формой переживания мира6.
Идея рассматривать историю культуры как единый и
закономерный процесс, восходящая в Германии к И. Вин-
кельману, была продолжена в классическо-романтиче-
ском модерне Ф. Шиллером, Ф. Шлегелем и Ф. Гёльдер-
лином и нашла наиболее систематическое выражение
в «Лекциях по эстетике» Г. В. Ф. Гегеля, разделявшего
историю культуры на три стадии — символическую,
классическую и романтическую — в зависимости от
соотношения идеи и воплощающей ее формы. В. Дильтей также
6 Dilthey W. Das Erlebnis und die Dichtung. Göttingen: Van-
denhoeck, 1965. S. 138—142; Wehrli M. Allgemeine
Literaturwissenschaft. Bern: A. Francke Verlag, 1951. S. 13.
10
рассматривает историю культуры как единство, в
котором противоборствуют принципы природы и свободы.
Фридрих Гундольф7 (1880—1931) — литературовед и
философ, поэт, переводчик Шекспира — был, пожалуй,
самой яркой фигурой духовно-исторической школы. Он
родился в еврейской семье, в городе Дармштадт, где его
отец был профессором математики в техническом
институте. Ф. Гундольф изучал германистику в университетах
Мюнхена, Гейдельберга и Берлина, завершив образование
диссертацией «Цезарь в немецкой литературе»,
рецензентом которой был Эрих Шмидт, самый прославленный
из учеников В. Шерера. В свой рецензии Э. Шмидт
назвал Гундольфа высокоодаренным молодым
исследователем, но вместе с тем отметил, что художественная
сторона его таланта превалирует над способностью к точному
филологическому анализу8.
В Мюнхене студент и начинающий поэт
познакомился с поэтом-символистом Стефаном Георге, вокруг
которого сформировался круг художников, поэтов, ученых,
ценителей чистого искусства. Вскоре Гундольф
становится учеником, секретарем и близким другом Георге, по
заданию которого переводит сонеты Шекспира,
печатается в издаваемом Георге символистском журнале
«Листки для искусства», ас 1910 по 1912 год вместе с другим
участником этого кружка, Ф. Волтерсом, издает «Альма-
7 Настоящая фамилия — Гундельфингер, псевдоним
»«Гундольф» придумал Стефан Георге.
8 Osterkamp Ε. Friedrich Gundolf // Wissenschaftsgeschichte
der Germanistik in Porträts / Hrsg. Christoph König. Berlin: Walter
de Gruyter, 2000. S. 164.
11
нах духовного движения», пропагандирующий идеи ге-
оргеанцев — искусства для искусства, поэзии как новой
религии и поэта как ее провозвестника.
В 1911 году Гундольф защищает вторую диссертацию
на тему «Шекспир и немецкий дух», а в 1916-м публикует
большую книгу о Гёте. Эти книги прославили Гундольфа,
обеспечили ему профессорскую кафедру в Гейдельберге
и престижную премию имени Лессинга. Он пользовался
непререкаемым научным авторитетом, лекции
проходили при переполненных залах, в которых студенты
ловили каждое слово выдающегося ученого9. На этом фоне
происходит охлаждение, а затем и разрыв отношений со
Стефаном Георге, который критически относился к
научной карьере своего ученика, полагая, что средствами
науки понять высокое искусство невозможно, а кроме
того, не одобрял женитьбу Гундольфа на Елизавете Са-
ломон. Разрыв с учителем, который ученик остро
переживал, возможно, стал причиной тяжелого заболевания,
от которого Гундольф скончался в 1931 году.
Несмотря на относительно короткую жизнь, Ф.
Гундольф успел много написать. Перечислим основные его
произведения: «Цезарь в немецкой литературе» (1904),
«Стефан Георге» (1920), «Поэты и герои» (1921),
«Генрих фон Клейст» (1922), «Мартин Опиц» (1924), «Гуттен,
Клопшток, Арндт. Три речи» (1924), «Цезарь. История
9 Студентами Гундольфа в разное время были будущий
главный герой покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. Клаус фон
Штауфенберг и будущий рейхсминистр пропаганды Йозеф
Геббельс, планировавший писать у Гундольфа диссертацию, но так
и не осуществивший своего намерения.
12
славы» (1925), «Параделье» (1927), «Шекспир. Сущность
и творчество» (1928), «Немецкие романтики» (1930),
«Немецкие романтики. Продолжение» (1931), «Начала
немецкой историографии от Чуди до Винкельмана» (1938,
посмертно).
Как говорилось выше, научную славу Фридриху Гун-
дольфу принесли две книги — «Шекспир и немецкий
дух» (1911)10 и «Гёте» (1916), до прихода Гитлера к
власти многократно переиздававшиеся11. В период нацизма
о Гундольфе не упоминали, а после войны прошла мода
на философские концепции духовно-исторического
литературоведения, которые уступили место новому
направлению — теории и практике имманентной
интерпретации текста. Слава Гундольфа постепенно померкла.
Однако в последние десятилетия интерес к этому
имени возвращается. Это обусловлено, с одной стороны,
«усталостью» от моды на постмодерн, а с другой
стороны, возрождением интереса к теории и истории
модернизма, типологии литературного процесса, синтезу
философского и филологического подходов для понимания
литературных текстов, потребности в синтетическом
обобщающем знании. В 1964 году Немецкой Академией
языка и поэзии была учреждена премия имени
Фридриха Гундольфа, которая вручается иностранным
германистам за вклад в распространение немецкой культуры.
10 Защищенная Гундольфом докторская диссертация
«Шекспир и немецкий дух до прихода Лессинга» (86 с.) стала первой
частью книги «Шекспир и немецкий дух» (360 с).
11 Книга о Шекспире выдержала 8 прижизненных изданий,
а книга о Гёте — 9 изданий до 1920 г.
13
Обзор основных идей Гундольфа мы начнем с книг
о Шекспире, творчеством которого Гундольф
занимался всю жизнь. Он посвятил английскому драматургу
два больших очерка: на заре своего творческого пути —
«Шекспир и немецкий дух» (1911) и в конце —
двухтомник «Шекспир. Сущность и творчество» (1928). Юношей
начав с увлечения Шекспиром и переводов его
произведений12, он умер с его именем на устах13.
Шекспир для Гундольфа — не просто поэт, но сама
поэзия, духовное явление, стоящее в одном ряду с
греческой скульптурой, римским правом, голландской
живописью, немецкой музыкой, творчеством Данте, Ми-
келанджело, Рафаэля...14 Шекспир и немецкий дух для
Гундольфа — равновеликие феномены. Стиль и характер
книги радикально отличается от общепринятого тогда
в филологии. Автор отказывается от всех внешних
признаков научности — ссылок, библиографии, научного
контекста, исследования мотивов и влияний,
биографического материала, последовательного анализа,
произведений и критики текста, психологического
портрета автора, реконструкции социальной среды — во имя
12 Egyptien J. Die Apotheose der heroischen Schöpferkraft.
Shakespeare im George-Kreis. Wissenschaftler im George-Kreis /
Hrsg. V. Bernhard Böschenstein, Jürgen Egyptien, Bertram Sche-
fold, Wolfgang Graf Vitzhum. Berlin; New York: Walter de Gruyter,
2005. S. 182.
13 По свидетельству жены Элизабет, предсмертные
слова Гундольфа были сказаны о Шекспире: «Эта печаль! И эта
гармония!»
14 Гундольф Ф. Шекспир и немецкий дух. СПб.: Владимир
Даль, 2015. С. 256.
14
построения целостной духовно-исторической
конструкции, полагая, что «только тот, кто изучил все, имеет
право делать отбор... В этом долг и право истории,
которая обязана включать в себя не только знание
материала, но и волю к творческому изображению»15.
Каковы критерии такого отбора и какой метод использует
Гундольф?
История, — пишет он, — занимается живыми вещами.
От того, что именно мы считаем живым, зависит наше
понимание истории и наш метод. Уже в самом отборе того,
что мы сознательно отбрасываем, а что принимаем,
отражается наше суждение о том, что мы считаем живым.
Поэтому там, где речь идет не о простом собирательстве,
а о создании общей картины, невозможно позаимствовать
готовый метод. Метод есть способ переживания
(курсив мой. — А. В.), и ничего не стоит такая история,
которая не воспринята через собственное личное пережива-
Определяя метод «как способ переживания»,
Гундольф воспроизводит идею Дильтея о переживании как
отправной точке интерпретации. Сам же Дильтей
заимствовал ее из раннего модерна, в частности у И. Г. Гер-
дера, «подход которого отличался тем, что переживание
было в то же время методом изображения Шекспира»17.
Гундольфа интересует не материальная сторона
рецепции Шекспира (документальные свидетельства,
заимствования, обработки, переводы, подражания и проч.), но
15 Там же. С. 36, 38.
16 Там же. С. 37—38.
17 Там же. С. 351.
15
его духовная рецепция, ибо мы не Шекспира понимаем
на основании его эпохи, а сама эпоха становится
понятной через Шекспира:
Задача данного сочинения обозначить как те силы,
которые обусловили постепенное вхождение Шекспира и
мира его образов в немецкую литературу вплоть до эпохи
романтизма, так и те, которые пробудились в ней к
плодотворной жизни под его влиянием18.
Немецкое восприятие Шекспира — двусторонний,
рецептивно-продуктивный процесс, стороны которого
взаимоопределяют друг друга: чем глубже немцы
понимали Шекспира, тем мощнее было их собственное
творчество. Верно и обратное: без собственной
гениальности понять другого гения невозможно. Таким образом,
восприятие Шекспира немецкой культурой и генезис
самой немецкой культуры — это две стороны одного и
того же процесса. Без шекспировского влияния не было
бы ни Лессинга, ни Гердера, ни Гёте, ни Шиллера, ни
романтизма.
В восприятии Шекспира Гундольф выделяет три
уровня: 1) уровень сюжетного материала (театральные
постановки первой половины XVIII века и эпоха
рационализма), 2) уровень формы (Лессинг и Виланд), 3) уровень
содержания (Гердер и Гёте). Максимальная глубина
проникновения в дух шекспировской поэзии
совпадает, по Гундольфу, с апогеем самой немецкой поэзии —
творчеством И. В. Гёте. Здесь рецепция достигает
стадии конгениальности, полного воплощения одного пра-
18 Там же. С. 35.
16
феномена в другой. Однако чем глубже Гёте постигал
Шекспира внутренне, тем больше отдалялся от него
внешне19.
При всей своей спорности20 эта концепция, взятая
как целое, стройна, красива и обладает большой
эвристической силой, ибо предлагает целостное видение
литературного процесса, т. е. теорию в изначальном смысле.
Каким образом достигается такая целостность?
Книга Гундольфа представляет собой яркий пример
умозрительной конструкции, которую можно назвать
научным мифом и в которой представители
духовно-исторической школы видели единственно возможный способ
превращения хаоса эмпирических фактов в целостную
научную теорию21.
w Там же. С. 387-417.
20 Современный германист Й. Шмидт называет книгу
Гундольфа «от начала и до конца ложной» [Schmidt /. Geschichte
des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und
Politik 1750—1945. Bd. I. Heidelberg, 2004. S. 151, 175).
21 Книга другого представителя духовно-исторической
школы, георгеанца Э. Бертрама, «Фридрих Ницше. Опыт
мифологии»» (1918) оперирует сходным понятием «легенда»»: «Мы
не припоминаем прошедшую жизнь в том виде, в каком она
была, но рассматриваем исторически, творим ее в своем
воображении. Не спасаем ее, перенося в наше время, — но делаем
ее вневременной. Разъясняя ее себе самим, мы уже
истолковываем ее, и то, что от нее остается — как бы мы ни старались
объяснить, исследовать, пережить, — никогда не является
жизнью, но всегда — ее легендой. То, что — как история — остается
от всего совершившегося, — в конечном счете всегда есть
легенда...»» [Бертрам Э. Фридрих Ницше. Опыт мифологии. СПб.:
Владимир Даль, 2013. С. 7).
17
Возводя эмпирический факт к мифу, Гундольф и
другие представители духовно-исторического метода
следуют традиции философского литературоведения раннего
модерна. Еще романтики говорили о мифе как о
единственно возможной форме целостного взгляда на мир22.
Понимание феноменального мира возможно только
через создание мифа о нем. Согласно Ф. Шлегелю,
древняя мифология была естественной и чувственной,
новая мифология умозрительна и интеллектуальна23. Так,
мифологемой исторического процесса для философии
культуры модернизма является логическая триада,
которую Гундольф здесь заимствует и переносит на процесс
рецепции Шекспира: рецепция на уровне сюжетного
материала выполняет функцию тезиса, первичного и
поверхностного понимания, рецепция на уровне формы —
функцию антитезиса, а на уровне содержания —
функцию синтеза.
Шекспир — это аббревиатура духа, т. е. дух,
воплотившийся и проявивший себя в истории в конкретном
человеке. Шекспир поэтому обладает двуединой природой.
Он — одновременно дух и человек, гений. Показательно,
что Гундольф называет Шекспира «поэт-спаситель»
(Heilandsdichter). Но это дух не христианский, а германский
22 Шлегелъ Ф. Речь о мифологии // Шлегель Ф. Эстетика.
Философия. Критика: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 386—
397. — Близкие по смыслу идеи высказывали Ф. Шиллер,
утверждавший, что сентиментальный художник должен
изображать действительность в свете идеала, и Новалис, писавший
о романтизации мира через творчество.
23 Шлегель Ф. Разговор о поэзии // Шлегель Ф. Эстетика.
Философия. Критика. Т. 1. С. 387.
18
или, как говорит Гундольф, используя модный в то
время термин, — нордический24. Немецкая литература есть,
стало быть, историческая и национальная форма
воплощения нордического духа, который дышит в германской
старине, мифах, сказаниях Оссиана, героическом эпосе,
древних сказаниях и легендах о лесных и водных духах,
представлениях германцев о Матери Земле, войнах богов
и людей25.
В статье о творчестве К. Иммермана, которая
включена в эту книгу, Гундольф говорит о том, что
германское начало более поэтично, нежели немецкое. Можно
сказать, что немцы в эпоху рассудочного Просвещения,
предшествовавшую Гёте, германское начало утратили,
стали неисправимыми рационалистами, филистерами,
а Шекспир вернул им германское (нордическое) чувство
фантазии, поэтичности, избытка сил26.
24 «Шекспир — творец нордического мифа и истории... поэт
нордического человечества» {Гундольф Ф. Шекспир и
немецкий дух. С. 352, 358). В этом контексте вновь упомянем
книгу «Ницше. Опыт мифологии», в которой Бертрам прибегает
к аналогичной аргументации, вводя в связи с Ф. Ницше термин
«нордическое христианство» [Böschenstein В. Ernst Bertram //
Wissenschaftler im George-Kreis / Hrsg. V. Bernhard Böschenstein,
Jürgen Egyptien, Bertram Schefold, Wolfgang Graf Vitzhum. Berlin;
New York: Walter de Gruyter, 2005. S. 187.
25 Во второй книге о Шекспире (1928) эта мысль еще
усилена. Подчеркивая иррациональную сторону его поэзии,
Гундольф называет Шекспира «аморальным как само творение»,
сверхчеловеком, который принял образ человека.
16 Egyptien f. Die Apotheose der heroischen Schöpferkraft.
Shakespeare im George-Kreis. S. 180.
19
Если в книге о Шекспире плотью, в которую вселился
дух шекспировской поэзии, была вся немецкая
литература XVIII века, то в большой (около 800 страниц) книге
«Гёте» Гундольф размышляет о воплощении
поэтического духа этого немецкого гения. Для обозначения такого
воплощения Гундольф вводит термин «гештальт»27. Ге-
штальт — понятие немецкого идеализма, которым
пользовались Кант, Шиллер и Гёте, понимавшие «гештальт»
как сущность вещи. Гештальт — понятие синтетическое,
подразумевающее единство жизни и искусства. Здесь
важно подчеркнуть, что под жизнью Гундольф
понимает не эмпирическую реальность, биографию, а то, что
он, опираясь на философию жизни от И. Г. Гердера до
В. Дильтея, называет переживанием (Erlebnis).
Дильтей полагал переживание бытия художником
глубинной основой и исходной точкой творческого акта,
а сопереживание — исходной точкой процесса
понимания. Этой идее следует и Гундольф, однако в отличие от
Дильтея выделяет две формы переживания: первичное
и вторичное, или «образовательное», переживание [Ur-
erlebnis и Bildungserlebnis)1*. Первичное переживание
27 Немецкое слово Gestalt переводится как облик, форма,
фигура. Этимологически оно восходит к глаголу stellen (ставить)
и употреблялось сначала как причастие и прилагательное.
Гештальт есть нечто поставленное, приведенное в стояние,
остановленное и в себе пребывающее. Интересно сопоставить термины
Gestalt и Gestell (постав) в философии техники М. Хайдеггера.
28 Литературовед Э. Эрматингер выделяет уже три формы
переживания: переживание материала, мысли и формы (см.:
Wehrli M. Allgemeine Literaturwissenschaft. Bern: A. Francke
Verlag, 1951. S. 13).
20
порождается изначальными, наиболее мощными
силами бытия и максимально глубоко воздействует на
личность. Оно может иметь религиозный или эротический
характер, вызывать экзистенциальные потрясения
личности. Даром первичного переживания обладают
только считанные единицы, среди которых выделяются
поэты-пророки, творцы европейской литературы — Данте,
Шекспир и Гёте. В новейшей поэзии — Стефан Георге,
творчество которого стоит под знаком
религиозно-эротического переживания образа Максимина29. Вторичные
переживания порождаются уже не самим
трансцендентным бытием, а его отражениями в культуре —
искусством, традициями, наукой и т. п. — и потому имеют
относительную ценность30.
Высказывания Гундольфа о первичных и
образовательных формах переживания, подсказанные ему
символистской эстетикой, безусловно, героичны и возвышенны.
Они возвращают в литературоведческий дискурс идею
вдохновения, мистического озарения, изначальности по-
29 Максимин (настоящее имя Максимилиан Кронбергер
(1886—1904) — умерший в юности поэт и друг Георге, память
о котором георгеанцы превратили в своего рода религиозный
культ.
30 Классификация переживаний на первичные и культурные
имеет по крайней мере две аналогии. В круге С. Георге бытовало
деление на перводухов ( Urgeister) и производных сущностей
[abgeleitete Wesen), которые традиционно назывались гениями и
подражателями. Вторая аналогия связана с различением
мистического и догматического богословия. Только мистик
переживает личного Бога, познает его опытным путем (см.: Karlauf Th.
Stefan George. Die Entdeckung des Charisma. München, 2007).
21
этического говорения, которые в позитивизме были
преданы забвению. Вместе с тем в них есть что-то варварское
и сектантское. Воспевание элементарного,
титанического, архаического, сверхчеловеческого и демонического и
нарочитое противопоставление всему культурному,
разумному, образованному и человеческому есть опасная,
уходящая корнями в протестантизм, тенденция,
нарастание которой в романтизме с озабоченностью наблюдал
Гёте, против которой выступил Ф. Ницше, а Томас Манн
описал в романе «Доктор Фаустус» как дьявольский
ритуал «жертвоприношения разума», погружающий
человека в хаос элементарных стихий31.
Тезис Гундольфа представляется слишком резким и
трудно верифицируемым. Исключая случаи прямых
заимствований и непосредственных влияний, очень
трудно, а фактически невозможно доказать, что то или иное
произведение построено исключительно на
образовательных или первичных переживаниях. Даже Гёте не
начинал с нуля, а, как показал сам же Гундольф,
многим в своем творчестве обязан Шекспиру,
старонемецкому искусству, фольклору, идеям Гердера, не говоря
уже об античности, искусстве Возрождения, Винкель-
мане и т. д. Гёте насквозь пропитан мировой
литературой (понятие, которое он и ввел), и приписывать ему
31 В книге «Размышления аполитичного» (1918) Т. Манн,
опираясь на афоризмы Ф. Ницше о Просвещении и свободе из
первого тома «Человеческого, слишком человеческого»,
предостерегает от опасности непросвещенного волевого фанатизма.
(Манн Т. Размышления аполитичного. М.: Издательство ACT,
2015. С. 458—461).
22
способность оригинального творчества32 (одновременно
отказывая другим в таковой) можно только в силу
априорной теории, идеологически, а не научно
мотивированной.
Если переживание образует материю гештальта, то
его форму образует — поэтическое слово и образ, без
которых гештальт существовать не может. В отличие
от Стефана Георге, который понимал форму и гештальт
как нечто статическое и вечное, Гундольф опять-таки
выделяет в ней две стороны: форму как бытие и как
становление. Формой в первом значении является отдельно
взятый образ, целостная структура или произведение,
нечто завершенное, самодостаточное, что еще со времен
Парменида выражалось в образе шара. Шар есть образ
идеальной, покоящейся в себе формы. Однако Гундольф
привносит в гештальт момент гераклитовского
становления, рассматривая образы и произведения в движении.
Форма как бытие и как становление соединяются в
образе «силового шара» (Kräftekugel)33.
Поэзия Гёте — растущий силовой шар, некая
расширяющаяся Вселенная, постепенное воплощение духа34.
32 «Гётевские образы отражали не чужой мир, в который
он мимически вживался, а его собственный, пластически им
представленный» (Gundolf Fr. Romantiker. Neue Folge. Berlin-
Wilmersdorf: Im Verlag von Heinrich Keller, 1931. S. 227).
33 Gundolf Fr. Goethe. Neunte unveränderte Auflage. Bei
Georg Bondi in Berlin, 1920. S. 15.
34 Во второй книге о романтизме Гундольф дает такое
определение: «...искусство есть Бог как воплощение [Gestaltung)»
{Gundolf Fr. Romantiker. Neue Folge. S. 46).
23
Отдельные произведения — сгустки энергии,
располагающиеся в недрах шара и на его поверхности. Чем
ближе образ или текст к его центру, тем больше он связан
с первичными переживаниями, чем дальше от него, тем
больше связан с образовательными переживаниями35.
В силовом шаре Гундольф выделяет три слоя:
лирический, самый изначальный и близкий к центру,
питающийся первичными переживаниями, символический, где
переживание и форма уравновешены, и аллегорический,
внешний, в котором образовательные переживания
преобладают над первичными (сюда Гундольф зачисляет,
в частности, все те произведения Гёте, которые были
написаны по заказу)36.
Опасность, подстерегающая современного автора,
состоит в вытеснении первичных переживаний
образовательными, что приводит к возникновению книжной,
оторвавшейся от жизни, культуры. То, как Гундольф
описывает суть и виды переживаний, а также то, что
он наделяет современную культуру преимущественно
образовательными переживаниями, воспроизводит
аргументацию Шиллера из трактата «О наивной и сенти-
35 Интересные рассуждения о гештальте и теории Гундоль-
фа в целом см.: Михайлов А. В. Историческая поэтика и
герменевтика. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 244—253.
А. В. Михайлов предлагает разграничить внешнюю и
внутреннюю сторону гештальта. В первом случае речь пойдет о
единстве переживания и художественного оформления
(произведения), во втором случае — единстве жизни и ее переживания
художником.
36 GundolfFr. Goethe. S. 26—28.
24
ментальной поэзии»37. Наивной поэзией Шиллер называл
то, что может быть соотнесено с первичными
переживаниями, сентиментальной поэзией — то, что может
быть соотнесено с образовательными переживаниями.
Всякий истинный гений, по Шиллеру, наивен,
составляет с природой одно целое38. Таковы для Шиллера Гомер
в древней, Шекспир и Гёте — в современной поэзии39.
Сентиментальный поэт, утративший непосредственную
связь с природой, стремится к ней, чтобы восстановить
утраченное единство40. Вместе с тем понятия наивной и
сентиментальной поэзии обозначают у Шиллера не
только роды поэзии и употребляются не только как
теоретические (вечные и вневременные) категории, но и как
категории, лежащие в основе исторической типологии
культуры. Сентиментальная эпоха — это модернизм,
современность. Так, Гомер для Шиллера наивный поэт
37 Предлагая такое сравнение, необходимо учитывать, что
для Шиллера категории наивного и сентиментального имели
целью выразить специфику его собственной поэзии в отличие
от поэзии Гёте. Шиллер аккуратно применяет эти категории
по отношению к конкретным авторам и никогда не
абсолютизирует их различие. Наоборот, только сентиментальный поэт,
стремясь обрести наивность, может приблизиться к идеалу,
т. е. для Шиллера история литературы имеет перспективу,
для Гундольфа же после Гёте в литературе не возникло ничего
равновеликого.
38 Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии //
Шиллер Ф. Собр. соч. в 7 т. Т. 6. Статьи по эстетике. М.: ГИХЛ, 1957.
С. 396.
39 Там же. С. 404—405.
40 Там же. С. 386—387.
25
наивной эпохи, а Гёте — наивный поэт сентиментальной
эпохи41. Гундольф же называет Гёте первичным духом,
творящим в эпоху образования42.
Обладая даром первичных переживаний, Гёте
выступил на арену культуры в ту эпоху, когда в ней царили
рационализм, схоластика и насаждался культ
книжного теоретического знания и образовательной поэзии.
Олицетворением такой поэзии стало рассудочное
Просвещение. Гёте, пройдя сквозь эпоху образования,
воспользовался ее формами для выражения первичных
переживаний. Черпая сюжеты из традиции — античной
(Прометей, Ганимед, Елена, Ифигения), немецкой (Гёц
фон Берлихинген, Фауст), европейской (Эгмонт, Тассо),
собственной жизни (Вертер, Вильгельм Мейстер), — он
вкладывал в них первичные видения и интуиции бытия,
которые переживал непосредственно.
О романтизме Гундольф написал две книги. Первая
книга, «Немецкие романтики», посвящена Ф. Шлегелю,
Ф. Шлейермахеру, К. Брентано, Л. Ахиму фон Арниму и
Г. Бюхнеру, вторая книга, «Немецкие романтики.
Продолжение», перевод которой предложен в настоящем
издании, посвящена Л. Тику, К. Иммерману, А. Дросте-
Хюльсхофф и Э. Мёрике. Как и другие работы духовно-
исторической школы, книги о романтизме — это книги
о самих романтиках. В кратком предисловии к первой
книге Гундольф говорит, что история духа проявляется
41 См. письмо Шиллера к Гёте от 23. 08. 1794 г., в котором
Шиллер дает свое видение гётевского духа (И. В. Гёте. Ф.
Шиллер. Переписка: В 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1988. С. 41—45.
42 GundolfFr. Goethe. S. 26.
26
в индивидуумах и становится зримой только благодаря
им43. Теории романтизма в этих книгах нет, но она
изложена в книге о Шекспире, к которой следует вернуться.
Как уже говорилось, всякое самобытное
литературное течение начинается, по Гундольфу, с первичных
переживаний. Таковым был даже рационализм, у истоков
которого стояли Декарт и Спиноза, переживавшие
бытие как мыслимое содержание. С течением времени
высокий рационализм превратился в школьную схоластику,
в набор заученных штампов, преодолеть которые
смогло течение «Буря и натиск», вернувшее в культуру
первичные переживания жизни44. Само же течение «Буря и
натиск» возникло из восприятия Шекспира и было, по
сути, немецким переживанием Шекспира45. Шекспир
вернул офранцуженным немцам, писавшим по схемам
Готшеда, новое чувство жизни, которое, однако, в
дальнейшем было осознано по-разному. Двумя
важнейшими формами, в которых было осознано воспринятое от
Шекспира чувство жизни, были веймарский классицизм
и романтизм46.
Если классицизм переживал жизнь как форму, то
романтизм переживал жизнь как движение. Жизнь как
перманентное движение — таково первичное
переживание романтизма. Но движение подразумевает
становление и прехождение, созидание формы и ее разруше-
43 Gundolf Fr. Romantiker. Berlin-Wilmersdorf: Im Verlag von
Heinrich Keller, 1930. S. 7.
44 Гундолъф Φ. Шекспир и немецкий дух. С. 526, 527.
45 Там же. С. 359.
46 Там же. С. 527.
27
ние — вот почему литературный романтизм в Германии
так и остался мироощущением и тенденцией, которая
не создала ни одного великого целостного
поэтического произведения, получив адекватное воплощение
только в другом искусстве — музыке47. Если Гёте переживал
жизнь как форму, то романтики стремились трансценди-
ровать любую форму, превращая ее в транзитивный
момент, фрагмент прогрессивного творчества.
Мироощущение романтизма в работах Гундольфа
предстает поэтому двойственным. С одной стороны, за
устремленностью в бесконечность стоит первичное
переживание жизни как движения, с другой стороны, само
это переживание обусловлено недостатком
пластической силы, разрывом между переживанием и его
художественным воплощением. В словесном
художественном творчестве романтики недостаточно художники.
В искусстве они философы, филологи, музыканты,
переводчики, фантазеры, но не творцы образов. Описывая
творчество романтиков, Гундольф показывает, как
каждый из них по-своему трансцендировал образ, превращая
его в движение.
Если в описании первичных переживаний и гения
Гёте Гундольф следует за Ф. Шиллером, то в толковании
образовательной эпохи он близок к самому Гёте, в
частности, теоретическому сочинению «Эпоха
форсированных талантов» (1812), в котором Гёте говорит, что
современная эпоха поэзии (а это эпоха высокого романтизма)
характеризуется подменой органической пластической
способности философией, рассудком, который, вместо
47 Там же. С. 530.
28
того чтобы переживать и воплощать, умствует и
фантазирует. Это ведет, по мысли Гёте, к забвению истинного
смысла поэзии, подмене поэзии даже не столько
истинной философией, сколько псевдофилософской
риторикой48. Не случайно своему собранию сочинений 1815
года Гёте предпосылает эпиграф: «Bilde, Künstler, rede
nicht!»49 Интуицию и образ в поэзии вытесняют
рассудок и понятие или, наоборот, безудержный разгул
самодостаточной фантазии, которая не нуждается в реальном
объекте, продуцирует сама себя, что ведет к
абсолютному солипсизму. Под знаком этих идей Гёте, а также
Стефана Георге, который вообще скептически относился
как к философии, так и к науке, Гундольф рассматривает
самых «философских» из всех романтиков — Ф. Шлеге-
ля и Ф. Шлейермахера50. В первой книге о романтиках им
посвящены два самых обширных эссе, которые должны
показать те претензии, которые Гундольф предъявляет
романтизму в целом.
Творчество Ф. Шлегеля — квинтэссенция
романтизма. В нем сходятся все романтические идеи —
античность, образование, философия, поэзия,
литературоведение, критика — и топосы романтической мысли —
ирония, миф, фрагмент, роман, прогрессивная
универсальная поэзия, эпохи поэтического искусства, романти-
48 Гёте И. В. Эпоха форсированных талантов // Гёте И. В.
Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1980. С. 306—308.
49 «Изображай, художник, слов не трать!»
50 Osterkamp Ε. Friedrich Gundolf. Wissenschaftsgeschichte
der Germanistik in Porträts / Hrsg. V. Chr. König, H.-H. Müller,
W. Röcke. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2000. S. 171.
29
ческое учение о женщине и браке, творчестве и
праздности, древности и модерне, культ Гёте и критика
мещанства. Главной духовно-исторической
предпосылкой идей Шлегеля является философия И. Г. Фихте с его
учением о творческой силе субъекта51. Из этого учения
Ф. Шлегель вывел свое учение о романтической иронии.
Ирония — это способность субъективности создавать
и разрушать любые содержания по своему произволу.
В торжестве иронии Шлегель видел источник
самовластной способности субъекта возвышаться над любым
ограниченным предметом, над самой жизнью, ничего не
принимать всерьез, даже собственную властвующую над
всем субъективность (так называемая ирония иронии).
Ирония, будучи возведена в абсолют, все заполняет
собой и ни в чем не нуждается — ни в природе, ни в
объекте, ни в жизни. Она подменяет поэзию беспредметной
игрой абсолютного субъекта, не желает всматриваться
в глубинную реальность жизни, ибо не нуждается в ней.
Любой образ, любая форма для иронии — условность,
которую можно и нужно преодолеть. Отсюда и
бесконечная, бесконтрольная фантазия, выступающая как
эрзац художественного познания. «Для человека, который
вслушивается в мир, — пишет Гундольф, — фантазия
является силой, формирующей материю, для неукоре-
ненного в мире — безудержным буйством образов»52.
Концепцию главного теоретического сочинения Ф.
Шлегеля «Разговор о поэзии» («Речь о мифологии») Гундольф
критикует за абстрактность и субъективизм — согласно
51 GundolfFr. Romantiker. S. 13.
52 GundolfFr. Romantiker. Neue Folge. S. 17.
30
новой мифологии Шлегеля, поэзия должна опираться на
трансцендентальную философию. Следуя здесь
интенции Гёте, Гундольф полагает, что опора поэзии как
образного языка на язык абстрактной философской мысли
сделает поэзию сухой и безжизненной53.
Подобная критика обращена и на Ф. Шлейермахера.
Гундольф проницательно анализирует его «Речи о
религии», особенно самую значительную из них — вторую
речь, в которой дается определение религии как «чувства
и созерцания бесконечного». Это определение, по Гун-
дольфу, есть характерное определение образовательной
эпохи. Отрицая реальность антропоморфного Бога,
сводя его к безликому, вялому и компромиссному понятию
бесконечности, Шлейермахер рационализирует
религию, сводя ее при этом к чувству, субъективирует ее. То,
что для древнего человека было сопряжено со страхом
и трепетом реального присутствия Бога, он
превращает в субъективность чувств и созерцания. Как Шлегель
лишил поэзию жизни, так Шлейермахер лишает
религию Бога. Субъективизм романтизма, его замкнутость
на себе, нежелание или невозможность соприкоснуться
с реальностью как таковой приводит к эпигонству, вто-
ричности их литературы, питающейся содержанием
минувших эпох54.
53 Подобную логику Ф. Шлегель применяет и к философии
пола. Женщина, по Шлегелю, должна быть освобождена от
всякой чувственности, одухотворена и возвышена философией,
превращена, как говорит Гундольф, в «денатурированный дух»
[GundolfFr. Romantiker. Neue Folge. S. 81).
54 GundolfFr. Romantiker. S. 178—201.
31
Даже творчество такого великого лирического поэта,
как К. Брентано, во многом есть результат сознательного
усвоения и использования традиции. Гундольф сводит
колорит его поэмы «Романсы о Розарии» к заимствованиям
из Фауста (Апоне и Молес), Кальдерона (католицизм),
Данте (мотив розы), Шекспира (образ средневековой Италии)
и др. Новаторство Брентано, если о нем вообще можно
говорить, состоит, по его мнению, лишь в форсированной
концентрации и нарочитой интенсификации переживаний
героев, что, однако, тоже есть следствие искусственности55.
Одно из самых обширных эссе Гундольфа
посвящено Людвигу Тику. Если Ф. Шлегель и Ф. Шлейермахер,
при всей их субъективности, обладали первичными
переживаниями образовательной эпохи, то Тик
«разгерметизировал» эзотерику романтизма, сделав из нее шаблон
литературной моды. Уже первые страницы эссе о Тике,
из которого мы приводим небольшие отрывки, звучат
как смертный приговор.
...В отличие от своих сподвижников Тик не утруждал
себя. Пестрый ширпотреб, выходящий из-под его пера,
свидетельствует не только о хватке, но и о «верхоглядстве»»:
недостаточной глубине и проработке, довольствующейся
внешним блеском. Чужие мотивы Тйк разбавляет,
приукрашивает, превращает в блестящую штамповку, гладкую на
ощупь, но безразличную к содержанию и весу, — только
кружась и скользя по поверхности глубин, ему
недоступных. Но опосредуя новые пространства, он популяризирует
романтические идеи или прозрения умов более глубоких —
Фридриха Шлегеля и Новалиса56.
55 Ibid. S. 324—326.
56 Gundolf Fr. Romantiker. Neue Folge. S. 5.
32
Ролью посредника, каковая давалась ему легче, чем
подлинным новаторам, определяется его значение, а не
самобытностью творений. Через него романтический дух
в немецкой поэзии подвергся обмирщению...57
Для Гундольфа Тик — имитатор идей романтизма,
посредник между прозрениями Новалиса, Гёльдерлина,
Ф. Шлегеля и общей культурой того времени. Не
имитационное, а истинно поэтическое дарование Тика
проявилось в «открытии» немецкого ландшафта (новеллы-
сказки «Руненберг» и «Белокурый Экберт») и «лесного
одиночества», символов души и судьбы, возродивших
утраченное в эпоху Просвещения чувство
мистического трепета человека перед иррациональными мировыми
силами. Тут, правда, возникает вопрос — как удалось
имитатору Тику, питающемуся, по Гундольфу, одними
образовательными переживаниями, подняться до уровня
первичных переживаний? Или все-таки ему не удается
их достичь, а его великолепные ландшафты суть не
более чем виртуозные подражания настроениям, которые
были пробуждены в немецкой литературе ландшафтами
Гёте? Или все-таки граница, отделяющая первичные
переживания от образовательных не столь непроницаема?
Говоря о других романтиках, Гундольф постоянно
продвигает мысль о том, что их способность создавать
пластические образы уступает гётевской.
Карл Иммерман — Гундольф посвящает ему свою
речь в связи с врученной в Гамбурге литературной
премией имени Лессинга — является его романтическим
последователем. В отличие от культа детства, который ис-
57 Ibid. S. 6.
33
поведовали, например, Новалис или Мёрике, Иммерман
вдохнул в романтизм дух мужественной и
бескомпромиссной борьбы за истину, отчего его творения по жанру
становятся ближе к науке, чем к искусству58. Духовные
истоки творческой личности Иммермана Гундольф
усматривает в строгой и аскетической атмосфере его семьи,
свойственном ему нижненемецком упрямстве,
принципиальности и беззаветной преданности цели, которую
он обнаружил, будучи драматургом
дюссельдорфского театра. Заслугу Иммермана он видит в том, что тот
попытался развернуть романтизм к действительности и
отверг ложное очарование беспочвенной фантазии,
выдуманной старины и идеализированной природы,
присущее творчеству Л. Тика. Замечательной сатирой на
фантастический романтизм является роман Иммермана
о лгуне-фантазере Мюнхгаузене — его образ Иммерман
трактует как «забавную аллегорию трансцендентальной
философии»59. Вместе с тем и Иммерман болен общей
для всего романтизма болезнью эпигонства —
романтик, который не может создавать собственные образы,
вынужден привлекать образы других источников. Это
чувствует и сам Иммерман, автор одноименного романа
«Эпигоны», который стал одним из многочисленных
подобий «Годов учения Вильгельма Мейстера» Гёте. В
отличие от Гёте, который выражает в романе свой
внутренний мир, подыскивая для него картины во внешнем
мире, Иммерман идет обратным, «непоэтическим», пу-
58 Гундольф обыгрывает значение имени Иммерман,
которое по-немецки означает «всегда мужчина».
59 GundolfFr. Romantiker. Neue Folge. S. 169.
34
тем — рисует внешний мир, не пережив его изнутри60.
То, что Гёте создает силой вдохновения, у Иммермана
«восполняется» наблюдением, рождающееся из
переживания жизни — образованием, дарованное прозрением —
культурной памятью и стремлением «упорным трудом
добиться красоты»61.
Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф для Гундольфа —
немецкая Сафо, поэтесса, объединяющая провидческий
дар Гюндероде с высокообразованностью и
интеллектуальностью Беттины фон Арним. И хотя жизнь Дросте
была бедна событиями, переживала она их с большой
интенсивностью и глубиной. Поэтому основа ее поэзии (не
случайно сравнение с Сафо) подлинна, выражая «трепет
набожного духа перед высшими силами»62. К
подлинности она стремилась и в выражении предметности, не
всегда, впрочем, достигая таковой. При всей наглядности
ее поэзии и разнообразии элементов фиксации
впечатлений Гундольф полагает, что ее предметы суть «преграды,
которыми она защищает себя, или, говоря мистически,
еще/уже не точные изображения ее освобождения от
образов»63. Они не столько воплощения ее духа,
сколько следы развоплощения предметности, бегства из нее
в неразличенность мистических созерцаний. Не
созидательная энергия движет ею, а романтическая тяга к
невидимому, бесконечному, т. е. отрицательному. С этим
сочетается еще и общий недуг романтической эпохи —
60 Ibid. S. 163 и след.
61 Ibid. S. 182.
62 Ibid. S. 185.
63 Ibid. S. 212.
35
«груз образования», который препятствует воплощению
творческого импульса64.
Одним из обозначений негативной тенденции
романтизма является понятие «поэтическое», смысл которого
Гундольф поясняет в эссе о Мёрике:
Наши обязанности, нужды или стремления окружены
трудноуловимой, но проникающей даже внутрь
филистерского быта стихией, которая, будучи родственна всему тому,
во что мы верим, нам неподвластна. Мы, немцы, с эпохи
романтизма называем ее — «поэтическое» [das Poetische).
Именно немецким романтикам европейская культура
обязана понятием и знаками этого флюида. Все то, чего еще
нет или уже нет, образы тоски или скорби, даль времен и
пространств, тайна, изменчивость или распад — все то, что
на твердой и недвижной земле остается невоплощенным
ни в творение, ни в деяние, принадлежит ему65.
Поэтическое возникло в романтическую эпоху,
является порождением романтизма. Оно выражает
тенденцию романтизма растворять все видимое в
невидимом, материальное в идеальном, все строго очерченное
превращать в эфемерность. Не каждый художник
слова — поэт. Творчеству великих мифотворцев (Гомер,
Данте, Шекспир, Гёте), создателям форм общественной
и исторической жизни (Вольтер, Бальзак, В. Скотт,
Толстой, Достоевский) Гундольф противопоставляет поэтов
Эйхендорфа и Мёрике. Они были певцами эфемерного,
зыбкого, ускользающего, скорее музыкантами слова, чем
художниками.
64 Ibid. S. 205.
65 Ibid. S. 219.
36
Мёрике стоит только назвать вещь, чтобы та
зазвучала: его стихия — волшебство. Друг Мёрике Давид Фридрих
Штраус говорит, что из поднятого им с земли кома грязи
тут же вылетает птичка66.
По сравнению с внешней формой, которую творит
художник слова, музыка выражает форму внутреннюю.
Она есть внутренний свет, освещающий вещь изнутри и
позволяющий увидеть ее в истинном виде. Гундольф
постоянно цитирует знаменитое стихотворение Э. Мёрике
«К лампе», которое завершается словами: «Но то, что
прекрасно, блаженно светит в себе самом»67.
Можно сказать, что таким большим комом грязи для
Мёрике была вся его внешняя жизнь, да и вся Швабия
эпохи бидермаейра, которую он силой своего гения
превратил в прекрасную птицу.
Превратности судьбы, убогое хозяйство, служебные
хлопоты, жизненные неурядицы и прочие туманящие лик
творчества бытовые подробности — бедность, невзгоды и
стесненность, — тяготы пасторства в Пфлуммерне, Плат-
тенхарде, Оксенванге, Вайльхайме, Овене, Отлингене и
Клеверзульцбахе, иными словами, все это мещанское
захолустье швабского бидермайера, предстает в его поэзии
в образе заколдованной страны...68
66 Ibid. S. 221.
67 Пер. А. В. Михайлова. Интересна в связи с этим и
полемика между Э. Штайгером и М. Хайдеггером (см.: Михайлов А. В.
По поводу одного стиха Мёрике // Михайлов А. В. Избранное.
Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2006. С. 323.
68 GundolfFr. Romantiker. Neue Folge. S. 221.
37
Мёрике все жизнь провел в родной Швабии, как Но-
валис — в родной Тюрингии. Но если дня магического
идеалиста Новалиса граница между большим и малым,
прошлым и будущим, внешним и внутренним значения
не имела, то Мёрике шел к магическому синтезу путем
сентиментального поэта, через преодоление. Однако его
преодоление (в отличие, например, от героической борьбы
Шиллера) совершалось «с той нежной чувствительностью,
прозорливостью, бодростью и внутренней
эмоциональностью, с той дерзкой робостью, которой Германия вплоть
до Ницше не ведала, а немецкая поэзия и подавно»69.
Дерзкая робость, поэзия скудости, грациозная
проницательность — эпитеты, с помощью которых Гундольф
характеризует личность и творчество великого шваба,
показывающие, как свет может светить внутри самых
обыденных предметов, как бы снова повторяя: «Но то,
что прекрасно, блаженно светит в себе самом». Этот свет
и есть то поэтическое, что освещает внутренним светом
любую вещь, представляя ее в истинном обличий. Героем
«дерзкой робости» является у Мёрике Моцарт, герой
бессмертной новеллы «Моцарт на пути в Прагу»70. Если для
выражения сущности поэтики классицизма Гундольф
использует термин «гештальт», то для характеристики
поэтического — термин «арабеска». Не только новелла
о Моцарте, но и все творчество Мёрике представляет
собой арабеску71.
69 Ibid. S. 224.
70 Ibid. S. 243.
71 Ibid. — Интересно, что роман К. Иммермана «
Мюнхгаузен» имеет подзаголовок «История в арабесках», как бы проти-
38
О творчестве и личности романтиков, в особенности
Людвига Тика, а также В. Вакенродера, Гундольф
высказывается порой чересчур резко, даже неуважительно,
безапелляционно, по-видимому, подражая (осознанно
или неосознанно) менторскому тону Стефана Георге. Вот
лишь два примера:
Подражательность — таково истинное дарование
Тика72.
Вакенродер был чистой воды безумец, один из
трогательных немецких юношей, сентиментально мягких, но
без чувственной силы... внутренне податливый, лишенный,
однако, не только созидательной, но и просто
сдерживающей силы, святая душа без когтей и хватки... неспособный
к неизбежной борьбе с повседневностью и не имеющий
таланта обратить свои видения в образы...73
Можно представить, какое воздействие
произнесенные выспренно слова знаменитого ученого
производили на студенчество. Не стоит напоминать, что речь
здесь идет не о каких-то посредственностях типа Рам-
баха и Бернарда и даже не о Коцебу или Фридрихе
Николаи, а о поэтах что называется первого ряда,
олицетворяющих литературную славу Германии! Взять хотя бы
Вакенродера.
вопоставляя строгое повествование классического романа Гёте
игре романтической фантазии и искусному использованию
отступлений, вставок, украшений и деталей, коих требовала
романтическая теория романа Ф. Шлегеля.
72 Ibid. S. 9.
73 Ibid. S. 43.
39
Он не просто создал замечательные образы
итальянских художников и самого искусства, а открыл новую
поэтическую интонацию, одухотворившую и
обогатившую весь романтизм, чарующе звучащую и по сей день.
Вакенродер сумел выразить не столько в отдельном
слове или образе, сколько в общем настроении своих книг
то коленопреклоненное и смиренномудрое отношение,
которое подобает восприятию самого высокого
искусства, будь то иконопись, Мадонны Рафаэля или пассии
И. С. Баха. Созвучное отношение не чуждо, по счастью,
и самому Гундольфу, когда он великолепно разбирает
Вертера, Фауста или новеллу Э. Мёрике о Моцарте.
Действительно, образы Вакенродера не пластичны, но в них
слышно наивное целомудрие церковной музыки.
Возможно, Вакенродер и не мог бы изобразить ателье
Дюрера так изящно и легко, как это могли сделать
Шекспир или Гёте, но расслышать « музыку сфер» именно
так, как она звучит в его творчестве, смог и сумел
именно Вакенродер. Без заходящейся, вибрирующей,
молитвенной интонации его «Сердечных излияний монаха,
любителя искусств» и «Фантазий об искусстве»
представить себе ранний романтизм невозможно, как
невозможно представить себе позднего
«объективно-пластического» Рильке без интонаций «Часослова».
Известно, что любая критика обоюдоостра:
высказываясь о произведении, она высказывается и о себе самой,
показывает достоинства и недостатки не только
критикуемого текста, но и свои собственные — Ф. Гундольф
здесь не исключение. Фигуры Данте, Шекспира и Гёте
(этакий земной аналог Божественной Троицы) при всем
их действительном величии все же им безмерно преуве-
40
личены, как преуменьшены фигуры Фридриха Шлейер-
махера, Вильгельма Вакенродера или Клеменса Брентано,
демонстрирующие в целом негативное отношение автора
к романтизму.
Завершая обзор концепции Гундольфа, повторим, что
перед нами пример научной мифологии, соединяющий
науку и искусство. Можно ли оспорить миф?
Негативной критике мы предпочли путь критики продуктивной,
задачей которой является реконструкция и понимание
основных идей автора, а также прояснение генезиса
таковых. Миф, созданный Гундольфом, в который автор
вложил столько таланта, знаний, риторической мощи
вкупе с художественным вкусом, тонкости чувства и
любви к литературе, являет пример выдающегося
научного достижения, над которым хочется размышлять.
Уязвимость его построений — обратная сторона их
глубины и оригинальности.
Книги Гундольфа заслуживают благодарного
прочтения вдумчивого читателя, который, принимая его
миф как целое, отнесется с пониманием к спорным
положениям и не забывая, что наряду с мифом Гундольфа
в ту эпоху были созданы и другие мифы о немецком
романтизме74.
А. Л. Вольский
74 Среди самых значительных работ о романтизме первой
трети XX в. следует назвать прежде всего работы О. Вальцеля
«Немецкий романтизм» (1908), Р. Хух «Расцвет романтизма»
(1899), «Распространение и закат романтизма» (1902) и,
конечно, книгу В. М. Жирмунского «Немецкий романтизм и
современная мистика» (1914).
ЛЮДВИГ тик
/
Людвиг Тик, самый популярный и многогранный
писатель романтической школы, слыл перед публикой ее
главой, и братья Шлегели, недооценивая его духовно и
даже посмеиваясь над ним, чтили в его лице своего
поэта, с тех пор как Гёте уклонился от подобной «чести».
Восприимчивость к разнообразным влияниям,
свойственная другим романтикам, была и его свойством —
желание удержаться в любом седле, назавтра учить тому,
чему сам научился только сегодня. Однако в отличие
от своих сподвижников Тик не утруждал себя. Пестрый
ширпотреб, выходящий из-под его пера, свидетельствует
не только о хватке, но и о «верхоглядстве»:
недостаточной глубине и проработке, довольствующейся внешним
блеском. Чужие мотивы Тик разбавляет, приукрашивает,
превращает в блестящую штамповку, гладкую на ощупь,
но безразличную к содержанию и весу, — только кружась
и скользя по поверхности глубин, ему недоступных. Но
опосредуя новые пространства, он популяризирует
романтические идеи или прозрения умов более глубоких —
Фридриха Шлегеля и Нова лиса. Добросовестно усвоив
42
средний уровень тогдашнего образования, берлинского
Просвещения, Тик воплощает переход от Просвещения
к романтизму — сколь бы разными по своим конечным
целям они ни казались. Ролью посредника, каковая
давалась ему легче, чем подлинным новаторам,
определяется его значение, а не самобытностью творений. Через
него романтический дух в немецкой поэзии подвергся
обмирщению: осиянная луной волшебная ночь, истома
и меланхолия, культ цветов и птах, серебряных ручьев,
трепета листьев, средневековых руин, рыцарских
подвигов, сказок... презрение художника к мещанству...
славословие странствий, романсов и грез... фривольная
задушевность девиц и простодушие мужчин.
Мотивы, которые у их пророков и провозвестников — Гёте
и Гердера — были частью целостных художественных
миров, наполненных магией и волшебством или
знаками мистических экстазов, как у Новалиса, Тик обратил
в штамп, модный литературный жаргон, доступный всем
и каждому. Тик запустил процесс опошления немецкой
старины, ввел моду на готику и ренессансный антураж.
Любовь к старине у Гёте и Гердера восходит к вновь
пробудившемуся чувству изначальности, тиковская
патриархальщина (вкупе с рыцарскими романами) — к
читательским переживаниям драмы «Гёц фон Берлихинген». Тик
черпал вдохновение из уже отраженного Средневековья
и отражал дальше его всецело литературный дух. Тоску
по голубому цветку, волшебство и фееричность
Новалиса — повесть уникальной души — Тик превратил в
дешевку, щекочущую нервы жутью или предчувствиями.
Август Вильгельм Шлегель тоже добился успеха,
знакомя с тенденциями, которые в сбивчивом изложении
43
его брата выглядели малопривлекательно: однако Август
Шлегель (вместе с Тиком весьма быстро прививший
обывательскому вкусу «романтические» ценности») снискал
популярность не разбавлением первоначал, но путем их
критического очищения.
Задача поэта — обнажать первоначала жизни, и все
красивости бесполезны, если этого нет. Профессия
критика, напротив, всегда вторична, опосредована и
рождается в отличие от поэзии не из автономных первоначал,
но из общения автора с читателем. Когда Август
Шлегель толкует авторов, то как профессионал он в той мере
основателен и добротен, в какой его ремесло это
допускает и требует. В деятельности второго ранга он —
мастер первого ранга. Тик же, претендующий именоваться
поэтом, скомпрометировал это звание своим
поверхностным посредничеством. Ему недоставало не
добросовестности, а серьезности, не доброй воли, а значительности,
не дарования, а силы сердца. Фридрих Шлегель
описывает его язвительно-справедливо (как раз на пике их
дружбы): «В сущности, Тик — лишь заурядный и грубый
человек, но обладающий редким и весьма изощренным
талантом». На фоне интеллектуальной утонченности
Фридриха Шлегеля, Новалиса, Шлейермахера сентенции
Тика выглядят банальными и незрелыми. Дар выражать
чужую мысль как свою собственную, навязчивая
ненавязчивость, гибкая вкрадчивость и мимикрия,
способность перевоплощаться, не воплощаясь ни во что до
конца, определяет его значение в эпоху, когда речь шла не
столько о созидании нового, сколько об использовании
того, что уже есть. Тик дебютировал как низкопробный
беллетрист, а закончил как литературный патриарх и
44
беллетрист высокой пробы. В середине жизни он —
настоящий с.романтик» в своих лирических стихах,
лирических романах, сказках и драмах.
Иоганн Людвиг Тик родился в Берлине в мае 1773
года, став первенцем в семье канатных дел. мастера. По
описаниям его отец был серьезным человеком, не лишенным
при том духовной чуткости, а мать — глубоко набожной,
тихой женщиной; почтенные и здравомыслящие люди.
Ни город, ни семья, ни кровь не предвещали Тику иной
стези, кроме рационалистической, что любопытно, ибо
помогает уяснить, является человек сторонником или
противником того жизненного круга, из которого
вышел: «романтизм» Тика не имеет никакого прообраза
в его среде, в отличие, скажем, от романтизма Новалиса.
Он был воспринят извне, так и оставшись чем-то
привходящим. Берлинскому обществу угрожала чрезмерная
стимуляция интеллектуальных сил в ущерб жизненным
силам — примета Просвещения, иллюзия, что царишь
над жизнью, если можешь высказаться о ней. Эта
опасность, подстерегавшая одаренных берлинских детей, не
миновала и Тика: нездоровая скороспелость, которая
умствует прежде, чем чувствует... пустословит прежде,
чем познает... использует прежде, чем осмыслит.
Девяти лет он поступает в Вердерскую гимназию,
в которой директорствует Гедике — сотрудник Николаи,
соредактор Берлинского альманаха, в котором
процветал плоский и сухой педантизм. Еще в гимназии Тик —
страстный книгочей, поглощающий литературу запоем и
без разбору. И вот в Берлине, этакой ярмарке для книг,
скороспелый гимназист наткнулся не только на
учебники и предметную литературу (какую обычно читают
45
дети, обучающиеся в сельских и провинциальных
школах), но и на чтиво с рефлексией — памфлеты «Бури и
натиска» и трактаты Просвещения, перемешанные как
попало; а чтение даже хороших книг, если в нем нет
порядка, способно навредить больше, чем самая плохая
книга. В те годы десятилетний мальчик ознакомился
в числе прочего с драмой Гёте «Гёц фон Берлихинген»,
творениями Шекспира в переводах Эшенбурга и Дон
Кихотом в немецком переложении Бертуха. Из этого чтения
детская фантазия почерпнула три основных направления
будущего творчества: пиетет перед рыцарством, актер-
ско-поэтическое пристрастие к кутерьме приключений
и лиц, иронический взгляд на судьбы человеческие.
Воспринятое из книг усилил Берлинский театр.
Развитие Тика определяется сценическими впечатлениями,
а творчество станет более понятным, если вспомнить
про его актерский талант. Подражательность — таково
истинное дарование Тика. Подражателем он был и в
поэзии, а судя по свидетельствам о его таланте декламации
и импровизационной игры в этих медиальных
искусствах Тик был столь подлинен, сколь неподлинен он был
в искусствах творческих. Не изначальная поэтическая
мощь разряжалось у него — как, скажем, у Шекспира
или даже Мольера — в мимически обусловленные
формы, но он задействовал мимические способности как
литератор в эпоху, когда сама драма перестала быть
культовой формой народа, обратившись в писательское ремесло
и только. Раннее знакомство с театром ослабляло в Тике
чувство реальности, ограничивало пустой иллюзией и
игрой тем легче, чем беднее был окружающий мир.
Видеть в поэзии одно неразумное, призрачное, пестрое
46
царство иллюзии — подобное воззрение на «поэзию»
(чуждое всем великим поэтам) не могло не поселиться
в душе берлинского мальчика, в школе и дома
внимавшего проповедям о жизни как голом долге, рассудочной
вере и сухой пользе, в то время как его фантазия бредила
театром и литературой. Обыденность была скудна, а все
богатства и все великолепие существовали, казалось,
лишь на сцене да в книге.
Посредниками между скучной близью и шикарной
далью были художественные салоны Берлина, где
любили поразглагольствовать об эстетических наслаждениях.
Одним из таких перевалочных пунктов был дом
капельмейстера Рейхардта, в который Тик, еще подростком,
был вхож. Искушенный в интеллектуальной
конъюнктуре, знакомый и друг многих известных мыслителей
тогдашней Германии, светский лев и литератор, Рейхардт
стал для восприимчивого юноши тем долгожданным
человеком, который расширил его кругозор, а общение
с людьми искусства, преимущественно репродуктивного
толка — певцами, музыкантами, актерами, —
почудилось ему на фоне бюргерской ограниченности чуть ли не
благодатью, родиной, украшенной всеми прелестями
богемы, но без непристойностей, нередко сопутствующих
таковой. Там Тик познакомился с другом и протеже Гёте
по путешествию в Италию, первооткрывателем и
покровителем Жан Поля, автором «Антона Рейзера», Карлом
Филиппом Морицем, чьи лекции об искусстве и
древностях, полные глубоких, но сбивчивых до хаотичности
мыслей, позволяли весьма удобно заглянуть в
классическую античность, не обременяя себя научной методикой.
Они создавали иллюзию знания, не требуя и не давая вза-
47
мен ответственности и строгости знания. И здесь все
далось ему слишком легко.
Ему предназначалось быть актером уже сотворенной
жизни; играя в любительских постановках Рейхардта,
он окунался в свою стихию. И только противодействие
отца-педанта не позволило ему в ней остаться. Обладай
Тик природой покрепче, любительство не расслабило
бы, но обогатило его. Всю жизнь он ему потакал,
предвосхищая искусы в фантазии, до того как пережить их
в реальности. Тик сочинял с детства, подражая
прочитанному. Так как наиболее взволновавшие его
произведения — Шекспира или Гёте — были драмами, то
ежедневное чтение трансформировалось прежде всего
в драматургию: до нас дошла драматическая
обработка штурма Бастилии по мотивам «Истории Бастилии»
Ленге, подражание шекспировской «Буре», английской
истории, трогательно живописующее смерть Анны Бо-
лейн. Все ранние дошедшие до нас тексты, к какому
бы материалу они ни обращались, представляют собой
смесь фантастики, прежде всего сказочной и рыцарской
(с колоритом седой старины и далеких земель), со
штампами Просвещения и революции ( составляющими
идейное содержание) вкупе с избитыми мотивами опер и
тривиальных романов об экзальтированном благородстве и
коварстве или заколдованных любовниках, несчастном
обмане, союзе, убийстве и тому подобном, что образует
каркас сюжета. Под стать и язык этих первых опусов:
бойкий и беглый, без собственной интонации,
имитирующий слезливую напыщенность выродившейся патетики
«Бури и натиска» и выспреннюю болтовню виландовой
школы. Уровень, на котором заговорившая языком река
48
жизни действительных поэтов начинала мелеть,
превращаясь в литературное болото, в любую историческую
эпоху, которая уже явилась и возвестила о себе, прибегал
к определенным штампам: суровая доблесть пришла из
гётевского Гёца и первых подражаний таковому вкупе
с патриотическими тирадами поэтов «Союза рощи»...
кипение страстей, любовное чувство и внутренний
надрыв — из Вертера... мрачное благородство или
сатанинское коварство, страдающая невинность и тоскующее
отчаяние — из юношеских драм Шиллера. Виланд все
еще задавал тон светскому балагурству, лукавой
мудрости и галантной грации. Кто хотел чего-то большего и
обладал собственными поэтическими амбициями,
подслушивал «настроения» в идиллиях Соломона Гессне-
ра, ландшафтах «Вертера» или в переведенном прозой
Шекспире. Равно как и то, что выдавалось за колорит,
броскую экзотику или роковую судьбу, вело разными
тропами через «Бурю и натиск» к переведенному Вилан-
дом и Эшенбургом универсальному поэту — Шекспиру:
особенно же — тяга к местам за гранью повседневности.
В «Летней ночи» Тик подражал сказочному волшебству,
в «Алламодине» — экзотике, событийной насыщенности,
гениальным личностям и чудовищным злодеям
Шекспира. Будущий Тик предугадывается в преобладании мира
природного над человеческим, заигрывании с цветами,
облаками, волнами. Эти черты, еще неотчетливые и
робкие, обусловленные влиянием Шекспира, тем не менее
составляют самое подлинное в этих опусах. Просторы
природы были для городского, живущего одним
только чтением ребенка, который даже на самые любимые
предметы смотрел сквозь призму книг и театров, самым
49
возвышенным опытом. Прелестью ландшафта — в
первую очередь ландшафта природного, противостоящего
ландшафту городскому и социальному, — как свободной,
полной предчувствий и тайн области питалось почти все
то, что в творчестве Тика вышло за пределы
образованного литераторства и эпигонства. Здесь он — поэт, здесь
он вышел в «мировое пространство» и здесь — его
истинное значение. Чувство ландшафта одушевляло и его
персонажи повсюду, где они предстают не как роковые
сущности, а лишь как схемы настроения.
Еще не достигнув зрелости, Тик попал под влияние
литературных вдохновителей или эксплуататоров,
которые унижали его талант и даже сам образ мыслей:
Бернгарди и Рамбах провоцировали его графоманию и
пользовались ею. У них, как гимназических учителей,
было профессиональное право будоражить способного
ученика, что они во внеурочное время и делали. Будучи
лишь на четыре года старше своего выпускника, Август
Фердинанд Бернгарди, дитя Берлина, филологический
адепт Фридриха Августа Вольфа и почитатель Гёте,
поборник «всеобщего образования» (самой прогрессивной
идеи того времени), сведущий в современных научных
доктринах и литературных модах, толковый,
находчивый и нескучный, бесплодный и честолюбивый —
сочетание, обычно ведущее либо к бессильному сарказму,
либо к остроумному пустозвонству. Он сдружился с
Тиком ради или на почве общего литературного хозяйства,
которое просуществовало вплоть до зрелости Тика.
Впоследствии он подвязался в качестве рецензента в
журнале «Атенеум» и постепенно из вдохновителя и
сотрудника Тика превратился в его подражателя. Бернгарди писал
50
рыцарские романы, выдавал юношеские произведения
Тика за свои собственные и совместно с ним выпустил
в свет остроумно-банальные, наблюдательно-бездушные
новеллы о современной народной жизни — бамбоччи-
ады. Он значим дня Тика как первый представитель
берлинского литературного круга, модель его
творчества — умный и плоский, при всей образованности и
критическом уме начисто лишенный фантазии, начетчик и
брюзга, обремененный злополучной любовью к поэзии и
философии. Достаточно умный, чтобы осознавать свою
ограниченность, но недостаточно мудрый и кроткий,
чтобы смириться с этим, человек такой породы
упражняется в очернении всех форм жизни и изобретении
суррогатов подлинного душевного тепла, полноты и
широты мысли.
Благодаря Бернгарди Тик от зыбкой фантастики,
которой он зачитывался, обратился к трезвому
восприятию, пусть убогого и тесного, но все-таки реального
круга бытия... журавля в небе он променял на синицу
в руке. Многим из того, что подмечено им в характерах,
положениях, повадках и нравах бюргеров, Тик обязан
умному зубоскалу. Но и здесь процесс наблюдения
сначала протекал в сфере литературы и рефлексии и
только потом делался пищей подспудно вызревающей
сердечной жизни. Не менее важным, чем проникновение
в берлинскую действительность, которое до знакомства
с Бернгарди более проживалось, нежели переживалось,
стало болезненно новое ощущение разлада между
почерпнутой из книг поэзией и жалкой трагикомичностью
собственной жизни. Ребенок не замечает противоречия
между миром детской и миром сказки — только созна-
51
ние создает трагическое или комическое напряжение
между мечтой и реальностью. Благодаря Бернгарди Тик
пережил берлинский быт как некий контраст к
прочитанным книгам. Этот контраст станет главным мотивом
всего творчества Тика, проявляясь то как кровоточащий
надрыв — отблеск вертеризма, то как отчужденность и
безумие — предвосхищение чертовщины Эрнста
Теодора Амадея Гофмана (порожденной сходной атмосферой и
родством душ), — то как сентиментальный юмор, то как
«романтическая ирония». Исток романтической иронии
(происхождение ее многообразно) — в борьбе между
таковским берлинским остроумием и поэтическим духом,
колебании между безнадежной трезвостью ума и
безудержной страстью к образам, между Николаи и
Шекспиром. Романтическая ирония Фридриха Шлегеля
происходит из склонности и умения созерцать единичные
вещи внутри безусловного смыслового целого как
относительные и ограниченные, играть и изничтожать их —
каким бы трагическим пафосом они ни обладали.
Ирония Шлегеля — обратная сторона романтической воли
к абсолютному. Новалис созерцает весь мир со стороны
смерти и растворяет все явления в той первооснове, из
которой они возникли. Ирония Тика сводит
критический рассудок с поэтической фантазией. Однако
фантазируя, он опять-таки следует литературному образцу —
Дон Кихоту.
Если Бернгарди способствовал дальнейшему «олите-
ратуриванию» духа своего талантливого подопечного, то
другой учитель привил Тику графоманию. Этим
губителем был Фридрих Эберхард Рамбах. Сначала он
подтолкнул Тика к той продукции литературного рынка,
52
которая была абсолютно недостойна его дарования. Рам-
бах — писака, поставлявший массовое чтиво для
грамотной черни: рассказы, стихи, драмы, анекдоты, которые
профессор Гейм охарактеризовал как «пошлость,
помноженную на грубость — гнусную смесь просвещенского
прагматизма с отбросами сентиментализма и варварских
страстей». Сначала учитель использовал польщенного
его доверием ученика в качестве переписчика, позже —
сотрудника. В сборнике «Деяния и проделки
выдающихся гениев силы и трюков», вышедшем в сомнительном
берлинском издании Химбурга в 1790 и 1791 годах, Тик
впервые предстал перед публикой с «Историей
баварского Гизеля» под именем Рамбах. Рамбах дело начал,
а его завершение предоставил беглому перу
расторопного восемнадцатилетнего гимназиста —
душещипательная, нравоучительная, ложно-педагогическая,
либерально-пустопорожняя галиматья, с закрученным сюжетом,
вкрадчивой рефлексией и туманной психологией.
Следующей работой, которую Тик выполнил для Рамбаха,
стала заключительная глава готического романа «Отто-
кар Штурм, Железная маска. Шотландская история»,
написанного в духе песен Оссиана. Тику предписывалось
посредством лирических отступлений, имитирующих
туманный колорит оссиановских образов, придать
поэтический вид плоскому и грубому сюжету и, расписав
страшные муки совести, дать психологическое
обоснование банальной смерти негодяя в ночи. Если здесь он и
не вышел за пределы литературного шаблона — видений
Ричарда III, сомнамбулической леди Макбет и списанной
с них сцены гибели Франца Мора, — то смакование
ужасов выдает, как внешний заказ здесь соответствует вну-
53
тренней склонности, жанровая схема встречается с
естественным направлением его фантазии. Из высказываний
Тика известно, что с детских лет он страдал приступами
страха и ужаса, граничившими с безумием. Такие
помрачения рассудка, использовать которые в
профессиональных целях побудил его Рамбах, представляют собой не
столько источник ранней поэзии, сколько симптом
заболевания истинного таланта. Кого обстоятельства жизни
не настраивают на мрачный лад, тот, видимо, начисто
лишен фантазии. Душевное расстройство, породившее в его
душе ужасные и меланхолические образы, было, скорее,
реакцией воображения на пустое суемудрие берлинской
эстетствующей толпы. В героические и благочестивые
эпохи фантазия пленяется и насыщается великими
видениями внешнего мира или борется с силами судьбы. Она
занята воплощением бытия и не разменивается на
безделушки. Это оберегает Гомера, греческих трагиков, Данте
и Шекспира от пустозвонства, и Гёте, воспитанный уже
по-бюргерски, переболев этими болезнями, героически
превозмог искусы пресыщенной и бессвязной фантазии.
Молодому Тику не хватало ни мужественной
суверенности, ни пластической силы — его фантазия витала
в облаках бесцельно и праздно. С таким ящиком
Пандоры Тик обладал не верой, а только мнениями и
планами... не обязанностями, а поводами и импульсами; все
то, на что он мог опереться, расшатывала скороспелая
болтливость.
Потому его фантазия выродилась в фантастику,
капризную игру порхающих образов. Для человека,
который вслушивается в мир, фантазия является силой,
формирующей материю, для неукорененного в мире —
54
безудержным буйством образов, у Тика это осложняется
сомнением в ценности и реальности вещей и
головокружением от пустоты. Эстетство и модничанье, суетность
и бессодержательность сквозят в призрачных образах
рыцарей, разбойников, авантюристов, мусульман, сценах
убийств, грабежей, измен и преступлений, злодеяний и
страстей, жертв и подвигов — образах без опоры на
реальную жизнь. В опустошенной, расширенной чтением
и незаполненной действительностью душе, фантастика
сплелась с ипохондрией. Добавив к сказанному дар
экспрессии и подогреваемую бессовестными наставниками
страсть к бумагомарательству, получим дефиницию
юношеских творений Тика — душевная пустота вкупе с
глухой тоской по истинному содержанию, пресыщенная
фантазия, болтливость и графомания.
Тем что «романтическое» стало почти синонимом
«фантастического», мы обязаны Тику — дитя
прозаической узости с развитым воображением, но без
соответствующей душевной крепости, он дал ему выход, прямо-
таки выплеск в ипохондрической фантастике, ставшей
частью расхожего понятия «романтизм». Она сделалась
заразной: начиная с Тика — это особая литературная
епархия, в которой обитали Арним, Брентано, а также
Эрнст Теодор Амадей Гофман, его энергичный
последователь. Предшественники Тика, которых не следует
путать с неправильно понятыми образцами — Шекспиром,
Гёте и Шиллером, — были штюрмеры Ленц и Клингер,
которые, правда, отдавали дань не столько суетной
фантазии, сколько пылкой чувственности. Юношеские
произведения Тика состоят в близком родстве с Фаустом,
Джафаром и Рафаэлем де Аквилой Ф. М. Клингера. Его
55
всегда привлекал Ленц. Однако страхи и сомнения Клин-
гера и Ленца свидетельствовали о наивной вере в добро,
истину и красоту и разочаровании в том, что мир не
наполнен ими. Их шекспиризм — больше фанфаронство
неутоленной жажды свободы, гневный выпад,
просвещение и дурно воспитанный индивидуализм, бунт
против условностей — больше средство борьбы, нежели
состояние души. Ф. Т. Фишер как-то сказал, что атеисты
бывают двух видов: те, кто не верит, что Бог существует,
и те, кто считает его плохим парнем. Ко второму виду
относятся Ленц и Клингер с их филиппиками. К
первому — молодой Тик. Фантастике надлежало заполнить
пустоту: у него были боевые цели, мир казался ему не
злым или порочным, а лишь пустым, пресным и
картонным. От вселенской скорби «Разбойников», «Верте-
ра», «Прафауста» или «Гамлета» фантастическая жуть
Тика отличается уже своим происхождением. Там
ужасы рвутся из затравленной, стесненной или
сокрушенной души — сошествие во ад отважного духа... подобно
тому как путь требует от непреклонного Данте отваги,
собрав все силы, дойти до края мира Божия. Фантазии
Тика за пределами его Я ничего не значат... и его
приведения суть эксцессы болезненной фантазии, а не
символы мировых событий. Ведьмы в «Макбете», дух в
«Гамлете» или фаустовская Вальпургиева ночь истинны как
мистические видения реального бытия. Кошмары
таковского «Абдаллы» или чертовщина «Карла фон Берне-
ка» — это либо голая литература, либо голая психология.
Возвышает эти, за редким исключением заимствованные
из мировой литературы, страшилки над макулатурным
хламом только то, что в сих жутких повестях вибриру-
56
ют приступы ужаса и муки сомнений. Пусть
фрагментарно, но даже здесь есть та искренность и
неподдельность, что возвышает произведение над ремесленной
халтурой.
Недостаточной внешней обоснованности этих
текстов соответствуют недостатки их построения. Для
произведения искусства общая композиция не менее важна,
чем пластическая обработка каждой отдельной детали.
Скажем, в структуре «Избирательного сродства»
властвует та же самая ассоциативная, взвешивающая, вы-
светляюще-затемняющая сила, что придает очарование
ритму малых стихотворений Гёте. Она заставляет
тональность то нарастать, то затухать, позволяя изобразить
всякий мотив максимально ясно. «Наглядность» Гёте,
Данте, Шекспира зиждется на способности
упорядочивать и членить, которая как в развернутых пассажах,
так и в тончайших колебаниях ритма в равной мере
исходит от сердца — зодчий выказывает подобное чувство
меры, соотнося высоту и длину нефов, распределяя
украшения порталов и розеток готического собора.
«Композиция» — это не прием, которому можно обучиться, но
просветляющее каждый телесно-смысловой элемент
господство над материалом согласно определенным,
свойственным каждому индивидууму в отдельности законам
пропорции или меры. У любого человека имеется некая
потребность в порядке, каковую художник
проецирует во внешний мир, влагая ее в свои творения в
качестве конструктивной воли. Слабый инстинкт порядка,
неспособность к единообразному членению
материала, свидетельствует о распаде творческой силы, откате
к эмпирическому Я или сырому материалу, вместо слия-
57
ния Я и мира, которое является целью и сущностью
любого совершенного произведения искусства. Такой
распад, как и недостаток созидательной энергии, —
типично романтическая болезнь... у Тика она
проявляется наиболее отчетливо в объеме и притязаниях его
творчества. Чехарда мыслей, хаос от любой
мимолетности, болтливость, несосредоточенность и разболтанность
противоречат всем доселе существовавшим принципам
искусства. Уже штюрмеры усматривали в грубости и
неотесанности нечто циклопическое, и именно такое
без-образие Тик вознамерился сделать фундаментом
романтической поэзии, признаком свободно изливающей
себя полноты, приняв слабость характера за
достоинство таланта, недостаточную устойчивость за
избыточную духовность. Вследствие неуемного книгочейства,
пустопорожнего фантазерства, неглубокого вкуса,
нескромного любопытства он разучился отличать важное
от неважного и испортил почти все свои произведения
безудержной болтливостью, заглушившей даже те
редкие настроения, созерцания и мысли, которые были им
живо прочувствованы.
Первым документом ипохондрии, а равно и бегства
от действительности стала диалогическая идиллия «Аль-
манзор», которую он, восемнадцатилетний гимназист,
написал в 1790 году. Бернгарди присвоил ее, опубликовав
в сборнике «Крапива» под псевдонимом Фалькенхайн
восемь лет спустя. Некий юноша, придя в отчаяние
вследствие измены возлюбленной и разочаровавшись в жизни,
ищет утешения у благочестивого старца-отшельника.
Тот рассказывает ему легенду об одном мизантропе,
который, попав в волшебный дворец, созерцая образы
58
человеческих безумств, научается принимать людей
такими, каковы они есть, и уживаться с ними. Когда это
не помогает, старец утешает его идиллическим
одиночеством природы, на лоне которой юноша, став
анахоретом, получает облегчение от мук. Базарный восток,
который со времен Виланда легко мастерился с помощью
пары пальм, знойных восходов, да нескольких арабских
имен, был призван художественно возвысить
умствования о противоположности между естественной
невинностью и человеческой греховностью. Разбавленные
руссоизмы, пустые измышления о первопричинах
жизни, смерти, любви — стандартный вертеровский набор.
Чередованием диалогов, описаний и рапсодий. Пьеска
по внешней композиции напоминает идиллии Гесснера и
художника Мюллера, которые держал в уме Тик, назвав
ее идиллией, — принятой тогда формой изображения
человеческих обстоятельств на фоне пейзажа,
учитывая, что людям предназначена здесь функция антуража
или оживления места действия. Прочувствованные
описания ландшафта весьма обширны и исполнены самого
теплого участия... размышления о человеческой
судьбе призваны придать красотам природы философскую
глубину. Как «ландшафт», так и «мудрость» — не более
чем штампы: один скроен из роскошных и помпезных
декораций, другой — из надутых банальностей.
Пространство между опытом и выражением забито модной
заумью — кашей из Руссо, Вертера и штюрмеров. Вот
образчик описания такого ландшафта: «Сквозь пальмовую
рощу проникал мерцающий блеск небесного светила,
отражаясь в каждой трепещущей в траве росинке, в
каждом рубиновом листе. Месяц стоял над сосновой рощей,
59
шумел маленький водопад, огромные леса пели
природе колыбельную, день спешил укрыться на ложе из роз,
трещал сверчок, и казалось, что месяц пьет из золотого
озера, а тучки, проплывая под месяцем и похищая
толику его золотого блеска, дышали покоем, утешением и
радостью». Куски ландшафта, призванные создать
настроение, приклеены друг к другу вне связи с целым.
А вот образчик мудрости: «С какой целью Создатель
сотворил человечество? Чтобы один человек мучил
другого? Похищал у него наслаждение жизнью? Зачем
бесчисленные миры танцуют вечный, неуклюжий танец вокруг
своих солнц? Зачем Создатель выпустил творение из рук
своих? Зачем усыпал небо звездной ратью? Неужели,
нам предначертано прожить, так и не изведав счастья,
а потом увянуть подобно цветам; к чему вся эта, полная
мучений, жизнь?» Дешевое глубокомыслие с
претензией на мировую скорбь, с мобилизацией солнца и звезд,
Творца и эсхатологии, с помощью которых слабые души
маскируют свою растерянность перед недоступными их
пониманию Гамлетом, Иовом, Фаустом, Прометеем, чьи
голоса звучат подобно мировым силам. (Подлинная
мировая скорбь — это не скорбь человека о мире, а скорбь
самого мира в человеке.) Помимо прочего, Восток был
излюбленной ареной для пылкой фантазии, буйства
красок и удобной неопределенности характеров: оттого-то
он и манил богатого воображением, но бедного опытом
юношу.
С еще большим размахом, чем в восточной идиллии
«Альманзор», Тик развернулся в философском
романе ужасов «Абдалла», над которым работал с 1790 по
1792 год, живописуя пышный Восток, крайнее душевное
60
неистовство, дикую страсть, безумное сомнение,
леденящий душу ужас, месть, зло и тому подобные кошмары.
Беспорядочное нагнетание эффектов, жажда отобразить
все состояния души и разгадать все загадки бытия,
назойливо-кричащая красочность скучны и банальны. В этом
смысле «Абдалла» — типично юношеское произведение,
которое любой ценой стремится отдать дань всем
пубертатным идеалам: живописности, глубине, событийной
насыщенности и пестроте характеров. Впоследствии Тик
весьма преуспел в области «дерзости сомнения и
порыва фантазии», свидетельством которых был «Абдалла».
Однако он не нашел для них самобытных выражений,
удовольствовавшись расхожими, как для сомнений, так
и для фантазии. Возможно, что сам он испытал
сомнения, но пропасть между переживанием и изображением
у него наполнены пустым вздором.
Пищу для бесконтрольной и безбрежной фантазии,
которую в идиллии «Альманзор» и романе «Абдалла»
обеспечивает Восток, в трагедии «Карл фон Бернек»,
задуманной в 1793, переработанной и опубликованной
в 1797 году, поставляет рыцарское Средневековье.
Духовные мотивы здесь те же, что и в «Абдалле», —
ипохондрические раздумья, призрачные кошмары, вялая или
эксцентричная чувственность, но они причудливо
перемешаны. И здесь фатализм приведений, призрак
мстительного предка, который является в назначенный час и
требует жертвы, — Карл фон Бернек открывает череду
драм рока Хувальда, Мюльнера, Вернера, Грильпарце-
ра. Не истечение самобытного чувства мира, особенное
переживание судьбы (как в гётевских Ифигении и Эль-
пеноре или шиллеровской «Мессинской невесте»), а ма-
61
шинерия ужасов: все сводится к тому, чтобы жуткое
приведение явилось в кульминационный момент —
щекотание нервов без духа и жизни, не что иное, как
литературное использование апробированных эффектов
с призраками из «Макбета» и «Гамлета». Если автор
грезит об «Оресте рыцарских времен», то один этот факт
доказывает, насколько сильно он жил литературой и с
какой легкостью брался за чудовищные мотивы. Позднее
он приписал пьесе глубокую мысль, что будто бы хотел
«показать любовь как великую искупительницу грехов».
Это — искать глубину там, где ее нет. Ведь прибегнув
к диалектике, можно доказать, что и «Веселая вдова»
на самом деле есть космическая мистерия. Глубина
раскрывается не в замыслах, декларациях или абстрактных
толкованиях, но в воплощении и только в нем одном, во
внутренней значительности, которая не достигается
волевым усилием, а проявляется в тоне и внутренней
структуре. Глубина, как красота или цвет, является
характеристикой самой структуры, а не чем-то преднамеренным.
Костюмированные истории удавались Тику легко.
Восточный «Абдалла» так же относится к «Альманзору»,
как написанный в рыцарском стиле «Карл фон Бернек»
к рассказу «Адальберт и Эмма», обработке старинного
сказания о верховой погоне, вошедшему впоследствии
в собрание сочинений Тика под названием «Зеленая
лента». Этот рассказ затерялся бы в книжном море и прошел
незамеченным, если бы Тик к тому времени уже не
прославился. Но здесь уже брезжат огни тиковского романа
о Франце Штернбальде, и долгое пребывание в этой
сфере характеризует именно его романтизм. Разница между
литературной дешевкой и более высокой или серьезной
62
литературой трудноуловима, только подлинная поэзия
качественно, а не только количественно, иная. Границы,
проводимые историей литературы, случайны. По своему
авторитету Тик претендует быть в числе первых немецких
поэтов, и его масштаб, бесспорно, превышает уровень
литературного поденщика Рамбаха и бульварной писанины.
Где критерий? Дело не в «одаренности»: Коцебу,
например, был намного талантливее, чем Хёльти или Вайблин-
гер, однако бульварным писателем был именно он, а не
они. И не в сребролюбии: Бальзак, Диккенс, Достоевский
массу вещей писали на продажу, однако до бульварщины
опускались редко. Бульварный автор подчиняется не
закону пластического инстинкта, а внешней необходимости,
воздействует посредством сырого материала, который
специально препарирован с расчетом на падкую до
сюжета публику. Движимый внутренними переживаниями
автор, даже зарабатывая деньги, одержим идеей
воплощения и господствует над внехудожественными целями.
Бульварный литератор, каким бы одаренным он ни был,
навек останется в плену у внешней цели и сырого
материала. Бульварной литературы не было, пока
литераторство не стало ремеслом, пока литературное творчество не
приобрело статус буржуазной профессии. В эпохи
образования, когда писательство было просто выражением
государственных, религиозных или общественных
жизненных сил, т. е. вплоть до завершения Рококо, бульварная
литература не возникала. Даже самые плебейские
памфлеты Реформации, глупейшие народные книги и шван-
ки, включая кондовые развлекательные и
дидактические трактаты Барокко, принадлежат к образовательным
средствам соответствующего общества, наивно вопло-
63
щая в языковой форме жизненные процессы или
обстоятельства, какими бы — как в эпоху Барокко —
изощренными, вычурными и витиеватыми они ни были.
В юности Тик принадлежал к тем авторам, которые,
несмотря на поэтические амбиции в своей работе,
отдаляются от литературы, воздействуют посредством
сюжетного материала и преследуют вторичные, чуждые
искусству цели: заработок, славу или желание угодить тем,
кто совратил их на творчество.
II
Первым произведением, возвысившим Людвига Тика
над литературным хламом, стал роман « История
Вильяма Ловеля» (трехтомник 1795—1796), который был
написан между 1793 и годом выхода в свет. Своей
целостностью он обязан — в отличие от восточных или
рыцарских маскарадов — не чтению, материалу или цели, но
стремлению воплотить душевные и духовные страдания
в индивидуальном образе. После успеха «Вертера» в
Германии наступила мода на исповедальную литературу, и
каждый юнец тиковского поколения, желавший
отметиться в литературе и хоть как-то дороживший своим
внутренним миром, должен был исповедаться, как он
страдал и любил. И то, что исповедь, принимая форму
эпистолярного романа, допускала наряду с лирическими
излияниями повествование о событиях, также
объясняется влиянием «Вертера». На самом деле сила
«Вертера» исходила не от совершенства его формы, а от
жизненной полноты самого Гёте. Литературный жанр Гёте
64
в готовом виде заимствовал из двух нашумевших во
всей Европе произведений: «Клариссе Гарлоу»
Ричардсона и «Новой Элоизе» Руссо. Тик их прочел... однако
желание лирически и эпически выразить свою душу
возбудил в нем все-таки Вертер, а не моральная
проповедь британца или чувственная рапсодия женевца.
Соперничество с «Вертером» взвинчивает тиковскую волю
к «страсти» до экзальтированного пейзажизма. В «Лове-
ле» описания природы менее схематичны, нежели в его
восточных романах, но все еще смешаны из впечатлений
книжных и настоящих — как, например, следующая
вариация сцены грозы из «Вертера»: «Гроза охладила
воздух, и черные тучи тянутся по небу, узкий луч
пронзает сумрак и отбрасывает багровую тень на зеленый луг,
вершины холмов золотятся словно Елисейские поля
среди печального океана, поодаль шествует по зеленому
лесу радуга, природа вновь свежа и луга благоухают».
В «Вертере» чувство природы, восторженная
сопричастность жизни богоподобной вселенной, раскрывает душу
героя. Тик искусственно прикрепляет к своему герою
эту «вертеровскую черту», украшая ею роман о
нравах, чтобы чувство природы и картины ландшафтов
тоже присутствовали в нем. Ведь не следует забывать,
что «Вильям Лове ль» был написан не ради развлечения,
а дабы удовлетворить потребность в исповеди — однако
он все еще остается продуктом литературы. Переживать
по-книжному — совсем не значит переживать ложно...
но это из области поэзии образования. «Вильям Ловель»
черпает свое содержание из произведений, которые уже
обрели форму... хотя сам факт заимствования материала
не исключает авторского уровня произведения. Теперь
65
Тик использовал превратно понятый вертеризм —
литературное настроение, бывшее в «Альманзоре» и «Карле
фон Бернеке» лишь приправой всевозможных
сюжетных ужасов, в качестве носителя субстанции души и
стремления к образованию. В былые времена он
заимствовал сюжетную форму из модной тогда литературы
и посредством игривой фантазии сообразовывал со
вкусами публики, к которой его юношеский вкус был
близок... разбойничьи, рыцарские или гаремные побасенки
он обычно уснащал собственными сантиментами и
сентенциями. Теперь он возжелал характеров... и
психология, которая раньше была простым придатком
фантастического колорита, теперь должна была нести на себе
весь исповедальный роман. Не то, что герой, жертва или
злодей совершают, выдвигалось сейчас на первый план,
а то, что они при этом чувствуют и думают. И если в
сюжетные и костюмированные повести психология
проникала через черный ход, то в «Ловеле» она шествует по
парадной лестнице. Костюм же превратился в
ненужный антураж, и отправленный старьевщиком Рамбахом
в отставку Тик ясно ощутил, что одной жирной мазни
теперь будет мало. Но в отличие от гётевского «Вертера»
его сердце было слишком бедно, чтобы потрясать
откровениями своих тайн. Сохранить лицо он мог, лишь
нагнетая и форсируя, замещая пластическую способность
рефлексией и фантазией. Повзрослев, Тик отбросил
средневековую и восточную помпезность и ощутил
потребность в некоем массивном событийном каркасе,
который держал бы всю конструкцию и возвышал картину
души. Сюжет должен был показывать содержание с
выгодной стороны, внушать доверие, при этом не подавляя
66
и не заглушая его, как это было в бульварных романах.
Его роман-исповедь должен был стать романом о
времени: интимность и актуальность составляли прелесть
этого вида романов, как экзотика или фантастика —
прелесть его первенцев, а в прелестях по-прежнему было
дело. Тик слишком любил актерство, чтобы отказаться
от ролей и эффектов. Если форсированные персонажи
Шекспира или Гёте расточали душевные богатства, то
форсированные происшествия у Тика придуманы ради
бегства от себя, маскировки пустоты, ролей,
расширяющих посредством фантазии душевное пространство,
которое не могла заполнить жизненная сила.
Роль, внутри которой Тик вознамерился разыграть
все нюансы ощущений и фантазий — от бесплодного
сомнения до бурного отчаяния, от грубого наслаждения
до изощренной интроспекции, — была заимствована
из модной тогда литературы: реальное или
вымышленное отражение современного общества в гениальном и
демоническом распутнике. Если вертеровская
чувствительность придавала задуманному роману
эмоциональность, то «Кларисса Гарлоу» Ричардсона и эпистолярный
роман «Совращенный поселянин или опасности
городской жизни» Ретифа де ла Бретона (написавшего более
300 романов, в которых функционирует примерно
столько же бастардов) с лихвой заменили ему Восток и
Средневековье. «Распутник» — новая маска его юношеской
литературной фантазии. В ту пору Тик увлекся такими
персонажами, как Ловелас Ричардсона — даже своим
именем Ловель, по-видимому, ему обязан — и
развратный помещик. Встречи его нарциссической
чувствительности и чрезмерной фантазии с английским обществом
67
Ричардсона и французскими искусами обольщения
привели к созданию романа: там имелся материал, в
котором он мог запечатлеть себя, и соответствующее
эпическое пространство, в котором было где
развернуться.
Совращения, путешествия, приключения, интриги,
дуэли, убийства, неистовства, цинизмы и жертвы
«Вильяма Ловеля» заимствованы преимущественно из
романа Ретифа де ла Бретона — в частности, совращение
совратителя с благородными задатками негодяем,
превосходящим его в цинизме. И этот мотив, который Тик
почерпнул у Бретона, вероятно, уже был подмечен им
в гётевском Клавиго. Он перенес действие на
английскую почву, которая для молодых литераторов того
времени служила воплощением светскости, широты нравов
и дерзновенных возможностей: блеск лорда,
джентльмена затмевал блеск французского маркиза или
дворянина. Недостаток твердой и решительной мужественности
во французском société — при всем восхищении esprit и
грацией французов — не мог укрыться от немцев и
мешал им брать героев оттуда. Ветрогону тоже надлежало
быть значительным, даже демоническим, и лорд брал
верх уже потому, что у него был сплин, таинственная
мировая скорбь, да и по свету он колесил куда больше,
чем французы. Разъезды облегчали выдумывание
происшествий и декорирование сцен. Француз был
порочнее и шустрее, англичанин — солиднее; почему бы не
объединить их, добавив к философскому роману о
распутнике, в качестве связующего элемента немецкого
глубокомыслия, душевного борения и эмоциональной
фантазии?
68
Что вообще означает прямо-таки эпидемическое
распространение развратников и совратителей в качестве
литературных героев того времени? В Англии романы
Ричардсона, Филдинга и Смол лета, во Франции «Манон
Леско» аббата Прево, книги Ретифа, «Опасные связи»
Шодерло де Лакло, «фоблаз» Луве де-Кувре, а также вся
будуарная литература заката рококо, к деятелям
которой относится и великий Мирабо, отражали разложение
общества то в порицающе-увещевательной, то в
сатирической (как у рисовальщика Вильяма Хогарда в серии
рисунков из жизни распутника), то в
сладострастно-сочувствующей манере. На волне времени
сформировался положительный и отрицательный культ художника
разврата. Моцартовский Дон Жуан героизирует и
облагораживает эту тенденцию... ее нижняя граница
ознаменована омерзительными книгами маркиза де Сада.
Распутник — это последний суррогат героя: в эпоху,
когда душу не могли заполнить ни религия, ни
государство, когда вера в Бога и государство подорвана, когда
безудержный эгоизм сильного одиночки, взращенного и
выпестованного итальянским Ренессансом, обнаружив,
что поприще общественной деятельности пребывает
в запустении, направил свое любопытство на ту сферу
проявления человеческой энергии, каковую, если
отбросить творчество, придется признать для него
изначальной, — на сексуальность. Дар и страсть борьбы, победы,
власти произвели на свет образ кондотьера в Ренессансе,
в Барокко — министра как образцовой стези для
честолюбивого одиночки; о великих, вне времени пребывающих
гениях здесь речь не идет. В предреволюционное время
эти способности притаились в салонах и будуарах, су-
69
зились, сплелись, обмельчали и зачахли, довольствуясь
торжеством лица над лицом путем интриги или
мужчины над женщиной путем совращения. При этом метод,
сам механизм совращения, часто оказывался важнее,
чем его продукт — наслаждение. Сознательная
эротика — главная забота этого больного общества, и
высокомерный совратитель, обладающий всеми достоинствами
одаренного индивидуума: красотой, остроумием, силой,
интеллектом и даже душой, и ставящий все это на
службу обольщению, значит для нее почти то же, что для
героической древности — полубог, в эпохи политического
расцвета древнего мира — герой или оратор, в Средние
века — рыцарь, в эпоху Ренессанса — дворянин:
общепринятый идеальный образ. Сначала возникает само
явление, следом его отражение в общественном сознании,
в литературе — некая тенденция сначала обретает
бытие, потом завоевывает авторитет... сначала она просто
господствует, со временем всегда найдутся умы, которые
ее оправдают или преобразят.
Если рассматривать «Историю Вильяма Лове ля» в
таком контексте как звено в цепи романов о
развратниках позднего рококо, как первый существенный вклад
немецкой литературы в диагностику общеевропейского
недуга, то можно заметить в нем типично немецкие
черты. Прежде всего, Вильям Ловель не мог быть
изображен автором как немецкое явление, тогда как
совратитель у Ричардсона не мог не быть англичанином, равно
как и распутник Ретифа де ла Бретона мог быть только
французом. Тик переносит своего героя в Англию,
потому что в противном случае подобный персонаж с
причитающимися ему приключениями оказался бы вне со-
70
ответствующего жизненного круга. Стало быть, Ловель
воспринимается не как тип, а как единичный индивид
с совершенно особыми задатками и проблемами. Итак,
немецкий развратник является продуктом импорта,
чтения, а не опыта, и предстает не как сын века, но как
уникальная личность. Несмотря на то что действие романа
разворачивается в Англии, психология немецкого Я
переживает в нем такой апофеоз, что англичанин не только
не поймет это произведение, но никогда не признает
в нем изображения английских нравов. Однако здесь,
в противоположность Ричардсону и Ретифу, мы
созерцаем не галерею нравов, а картину души. Герой воплощает
не порочную волю, как Ловелас, не чрезмерную
чувственность, как развращенный селянин, но деградацию души,
духа и фантазии. Какими распутник-англичанин или
распутник-француз никогда не были, распутник-немец
является всегда — проблематичным. Тик хочет показать не
искусство обольщения, как Ричардсон, не наслаждения
и страсти, как Ретиф, а те потрясения и эмоции, которые
сопровождают и карают скептическую, циничную или
демоническую философию, лихорадки и страхи,
опустошающие жизнь. Если для англичанина и француза
именно общество является фоном и задает масштаб, Ловель —
один на один с собой, своими жертвами и туманным,
порой божественным, порой демоническим Абсолютом,
немецким и романтическим одновременно. Несмотря
на весь изощренный цинизм и скалящуюся жестокость
он — философски-задушевный распутник. Даже в
объятиях своих жертв он размышляет о темной первооснове
их судеб, о происхождении и гибели любви и о конечной
цели жизни. Этот роман относится скорее к немецкой
71
традиции воспитания души, нежели к европейской
традиции упадка чувств и нравов. Вырождение
индивидуализма, которое в Англии и Франции привело к
возвеличению распутника, в Германии столь благодатной почвы
не получило. Здесь внешний мир — церковь, государство
или общество — важный для англичан и французов,
никогда не отвлекал на себя столько сил, и поэтому сфера
наслаждений не могла извлечь большой выгоды из его
девальвации. Напротив, немецкая духовность — музыка,
философия и поэзия — основала здесь свое собственное,
независимое от каких бы то ни было мирских порядков
и сторонних обстоятельств царство, возвестив
самодостаточность творческого бытия, даже в самых убогих
внешних условиях. В отличие от талантливого
англичанина или француза талантливый немец, будучи лишен
возможности осуществлять плодотворную деятельность,
никогда не впадал в соблазн чувственного порока или
светских интриг: духовный мир обладал для него
достоинством и реальностью. Разочарование и индивидуализм
породили во Франции прожигателей жизни, в
Германии — музыкантов, ученых, мыслителей и литераторов.
И тиковский Ловель, этакий немецкий бонвиван, не
столько совратитель и развратник, сколько философ-
дилетант греховного наслаждения... его роман —
литературно-философская лекция о сущности, причинах и
последствиях греховного наслаждения, снабженная
наглядными практическими примерами, вкупе с
прочими проблемами человеческого духа, включая экскурсы
об искусстве, путешествиях, истории и литературе.
Соединение философии с похотью, потребность в таком
соединении — немецкая черта и в узком смысле роман-
72
тическая: именно романтическая школа неоднократно
силилась истолковать наслаждение
мистически-религиозно, тогда как для французов или англичан оно
было социальной, физиологической или психологической
проблемой. «Вильям Лове ль» — дилетантский и
примитивный опыт такой интерпретации, предвосхищающий
философски более образованную, но пластически более
слабую, а вдобавок и начисто лишенную воображения
«Люцинду» Фридриха Шлегеля. В жанре развратного
романа его ближайшим преемником является «Годви»
Клеменса Брентано. Что не удалось свершить
худосочному Тику — в художественной форме и на типично
немецком примере показать грозящие также и немцам
опасности нерешительных сил в растленном обществе
рококо — свершил Жан Поль в самом лучшем своем
произведении, романе «Титан». Рокайроль — не
схематичный, а полнокровный поэтический образ немецкого
распутника эпохи рококо, наделенный душевной
полнотой, бурной фантазией и хандрой образованного
человека. Пассаж из «Титана» красноречиво свидетельствует
о том, откуда взялась и как устроена та порода людей,
которая мерещится Тику в «Вильяме Ловеле»:
Рокайроль — дитя и жертва века. Благородные юноши
нашего времени столь рано и столь щедро увенчаны
розами радости, что подобно туземцам становятся глухи к их
пряному аромату... розами они устилают свои сибаритские
перины, вкушают розовый нектар и купаются в розовом
масле, покуда не исчерпают все даруемые розами прелести
кроме шипов: учителя-филантропы так закармливают
своих учеников плодами познания, что вскоре их ничего уже
не берет, кроме густых, как мед, экстрактов, сваренного из
73
них яблочного и грушевого сидра, а потом и водки,
которая в конце концов их губит. Если они обладают еще и...
фантазией, то она делает их жизнь нефтеносной землей,
из которой, топни по ней ногой, вырывается огонь —
пламя, в которое бросаются науки, разгорается все сильнее,
а урон множится неисчислимее. Эти погорельцы жизни не
ведают ни новой радости, ни новой истины, утратив,
однако, целокупность и свежесть прежней; чахлое будущее,
исполненное гордыни, пресыщения, неверия и разлада,
простирается перед ними. И только крылья фантазии еще
трепещут у этих трупов... Он предвосхитил не только
истины, но и ощущения. Все чудные состояния человеческого
духа, все возвышенные движения сердца, вдохновленные
любовью, дружбой и природой, все эти движения он
пережил в стихах раньше, чем в жизни, как актер и драматург
раньше, чем человек, в солнечной стране фантазии раньше,
чем в грозовой стране действительности; когда они,
наконец, ожили в его груди, он уже научился брать, управлять,
умерщвлять и в виде чучела замораживать для будущих
воспоминаний... Он пускался в добрые и злые похождения
и любовные интриги, изображая затем в книге или пьесе
то, в чем раскаивался и что благословлял; и каждое новое
изображение все глубже опустошало его... Его сердце не
могло отвергнуть священных чувств, но они были только
новым мотовством, самое большее новым укрепляющим
средством (неким допингом); и тем ужаснее был срыв в
пучину. .. То энтузиаст, то либертен... эфир и грязь кружились
в душе все быстрее, покуда он не захлебнулся в них...
падкий на любовь, но только ради игры в любовь — с
нечестным сердцем, чувство которого скорее лирический стих,
чем истинная суть, — неспособный ни на правду, ни даже
на ложь, ибо всякая правда перерождается в поэзию, а
поэзия — обратно в правду, говорящий языком
непосредственного чувства на сцене легче, чем в жизни... равнодушный,
презрительный и дерзкий к растраченной, постылой жиз-
74
ни, в которой все прочное и безусловное, сердце, радость
и истина... пошатнулось, обладающий гнусной силой
рискнуть и пожертвовать всем, что чтит человек, ибо сам он
не чтит ничего, озирающийся только на одного железного
стража — смерть, страшащийся собственных поступков и
нетвердый даже в собственных ошибках, утративший
камертонный молоток, но не камертонную вилку тончайшей
моральности, в самом диком разгуле страстей
сохраняющий свет разума, как помешанный, который, сознавая свое
безумие, призывает остерегаться его.
Сам Тик обладал некоторыми чертами этого образа,
однако ни врожденной силы зла, ни возможности его
творить у него не было. В своих автопортретах он
охотно проигрывал до конца все возможные сценарии,
которые рисовала ему фантазия. Как и Рокайроль, Ловель
предстает «жертвой века»: совращенным совратителем,
грешником по причине душевного богатства и
впечатлительности. Наиболее удачны те места романа, которые,
будучи насыщены действительными мыслями и
чувствами, описывают переходы впечатления в страсть, страсти
в самоослепление и вожделение, вожделения в
отвращение, апатию и цинизм — как жизненная философия
рождается из темперамента, как темперамент в свою
очередь определяется ею, как образование и ощущение
смешиваются и определяют друг друга. Иными словами,
повесть о душевной возбудимости нередко поднимает
«Ловеля» на уровень шедевра. Это возвышает роман над
ранними произведениями Тика, его французскими и
английскими образцами и ставит, если удовольствоваться
толкованием души без видений судьбы и поступков
персонажей, в один ряд с Жан Полем.
75
Удобная эпистолярная форма, которой Тик
мастерски овладел и в личной жизни, избавила его от
необходимости показывать героев в движении, изменении и
действии. Он нуждался только в одной роли, чтобы
писать изнутри нее. Только те письма самобытны и
жизненны, которые Тик пишет от лица персонажей,
склонных к чувствительности и размышлениям: его злодеи
попахивают провинциальными подмостками, его
барышни — бледные блондинки эстампов или огнеокие дети
природы альманахов. Его кокетки уже с самого начала
неубедительны, столь прямолинейны их ужимки,
гримасы и страсти. Как ни искрится богатством нюансов
внутренний мир героя, он мало проявляется в поведении и
действии. Компетентно, умно, галантно,
прочувствованно, расковано и глубоко нравственно пишет теперь тот
самый Тик, который еще недавно, словно сумрачный
сумасброд и беспокойный мечтатель, сочинял грубовато-
заумные книжонки. Благодаря первому серьезному
произведению Тик вступает в почтенную традицию.
После бессистемного книгочейства и скверной
школы Бернгарди и Рамбаха он начинает учиться более
системно и смотреть на вещи более здраво — сначала
в Галле, потом в Гёттингене, тогдашней цитадели
урбанистической науки с чудесной библиотекой, не столько
взращивающей талант, сколько поднимающей уровень
образования, что для писателя его склада было весьма
важно. Со своим талантом, но без солидного
образования Тик достиг бы разве что уровня Коцебу. Однако
теперь он мог продолжить труды Виланда. Тик примерно
так же значим для периода романтического образования,
как Виланд — для нашего классического периода. В Гёт-
76
тингене Тик приступил к работе над Шекспиром,
которая продолжалась всю жизнь. Прежде он знал
Шекспира как одного из многих великих и волшебных поэтов,
который выделялся на сумбурном фоне его юношеского
чтения. Постепенно Шекспир становится для него
средоточием поэзии, мерилом как собственного творчества,
так и критики, «романтическим» поэтом как таковым»,
т. е. магом фантазии, творцом образов из ничего, поэтом
чудесного мира фей и духов, волшебства и тайны, в
первую голову, создателем «Бури» и «Сна в летнюю ночь».
В 1795 году Тик написал статью «О чудесном у
Шекспира», где выделил те стороны творчества Шекспира,
подражание которым непосредственно соответствовало
его собственным задаткам. Шекспир для него не творец,
а волшебник, не стратег, а игрок, не визионер, а
иллюзионист... безответственный пейзажист, мастер
настроений и иллюзий. Статья — фрагмент запланированного
большого трактата об искусстве Шекспира и эпохе, и
своего рода теоретическое введение к переводу «Бури»
(1796). К шекспировскому кругу относится также
обработка комедии Бена Джонсона «Вольпоне» — жесткой,
злой и желчной истории мошенника, одурачившего
банду охотников за наследством, но завлеченном каким-то
мерзавцем в сети собственных интриг. Тик перенес этот
неаппетитный сюжет в современность, озаглавив его
«Плут на плуте, или Как надувают лис» (впоследствии
«Господин фон Лис») и добавив несколько сатирических
персонажей второго плана, например,
политизированного автора путешествий — карикатура на Фридриха
Николаи. Пьеса Бена Джонсона, эта бюргерская, стальная,
экономическая комедия нравов рубежа XVI—XVII веков
77
была новаторской уже в силу одной обстановки, но
главным образом — композиции и сохранила поэтическую
ценность благодаря темпераменту автора, его едкой
свирепости и ледяной хватке. Препарированная Тиком
обстановка утратила новизну (не говоря уже о том, что
ренессансные мошенники Лондона были парнями
иного пошиба, чем берлинские интриганы 1790-х годов)...
А бюргерских комедий, в которых плели козни,
залезали в долги и воровали серебряные ложки, было хоть
пруд пруди, но Тик все это еще и разбавил. Он шутлив
там, где Бен Джонсон гневен... весел, где тот злобно-
расчетлив... он неспособен на внезапную и резкую
концентрацию елизаветинца, которая помогает выносить
его рассудочные и тяжеловесные пьесы. Если убрать
силу личности (а ее у Тика было так мало, что даже
в Шекспире он ее не заподозрил и не познал), то кроме
трескотни ничего не останется.
III
Если гёттингенский университет несколько
упорядочил и систематизировал изучение Шекспира, то учеба
в университете Эрлангена (1793) — первое длительное
знакомство Тика с южно-немецким ландшафтом и
южно-немецкой жизнью — согрела и раскрасила его
представления о немецком средневековье, до сих пор
питавшиеся одними книгами. Созерцая устремленные ввысь
шпили Бамберга и Вюрцбурга... а в Нюрнберге любуясь
нетронутыми памятниками, он ощущал непрерывную
традицию и расцвет немецкого бюргерства эпохи Ренес-
78
санса; леса, поля и горы Франконии с их старинными
замками и руинами еще хранили аромат
романтического ландшафта, доселе знакомый ему по одним только
театральным постановкам да рыцарским романам,
которыми он в свое время злоупотреблял. И вот дыхание
седой старины. Путешествие Тика в Эрланген, шедшее
вразрез с прямыми целями обучения, но неожиданно
способствовавшее его поэтическому росту, а также
семестровое обучение там, было любезностью, которую
Тик оказал другу юности Вильгельму Генриху Вакенро-
деру. Родившийся в 1773 году, Вакенродер был погодком
Тика, с детских лет восхищенно преданным своему более
ловкому, талантливому и светлому товарищу. Неохотно
повинуясь воле отца, строгого и рассудочного
берлинского юриста, он изучал право и использовал проведенное
с другом в Эрлангене время для восторженного
поклонения искусству и природе. Семестр Тика и Вакенродера
в Эрлангене ознаменовал всплеск интереса к «новоне-
мецко-религиозно-патриотическому искусству». Их
предшественниками были Гердер, молодой Гёте и Иоганн
фон Мюллер, первый из которых проник в историю,
второй — в искусство, а третий — в нравы и законы
«темных времен», защитив и прославив таковые. Однако
оставалось сделать еще один шаг, чтобы от интуитивного
оправдания превратно понятых явлений перейти к
благоговейному преклонению романтиков, ратующих за
возрождение немецкой старины. Изъявления этой воли
составляют немаловажную часть творчества Тика... может
быть, не самое чистое его достижение в художественном
отношении, но поэтически самое самобытное и
исторически самое влиятельное — роман о художнике Франце
79
Штернбальде и новая редакция немецких народных книг
и сказок.
С именем Вакенродера связан поворот, имевший
весьма важные последствия дня творчества Тика и всей
немецкой литературы. Вакенродер, который умер в 26 лет,
обессмертил свое имя в немецкой литературе двумя
книжечками, которые, не обладая художественными или
интеллектуальными достоинствами, являются
символами — путевыми знаками и пограничными столбами
немецких устремлений. «Сердечные излияния монаха,
любителя искусств» (1797), а также опубликованные Тиком
после смерти Вакенродера и расширенные благодаря его
добавлениям «фантазии об искусстве для друзей
искусства» (1799) суть первые тексты-исповеди нового типа
художественного мышления. Вакенродер был чистой воды
безумец, один из трогательных немецких юношей,
сентиментально мягких, но лишенных чувственной силы...
внутренне податливый, лишенный, однако, не только
созидательной, но и просто сдерживающей силы, святая
душа без когтей и хватки... неспособный к неизбежной
борьбе с повседневностью и не имеющий таланта
обратить свои видения в образы... без смысловой глубины и
интеллектуального полета Новалиса, пророческой силы
и божественной экстатичности Гёльдерлина. У него
отсутствовало чувство для изображения собственно
человеческого мира, феноменального и множественного.
Богомолец, вброшенный в век образования и рассудка,
в котором, смущенный обширным историческим
материалом, он уже не мог посвятить себя созерцательной
жизни инока, а должен был искать дорогу к Божеству,
чей внутренний образ хранил в памяти с детства, встав
80
на тернистый путь образования. Пока Шлегель, Новалис,
Тик путем абстрагирования истинных и ложных
ценностей толковали новую вселенную образования, опираясь
на ресурсы мышления и воображения, Вакенродер
силился, минуя образование, т. е. без всякого спекулятивного и
художественного фундамента, непосредственно достичь
Бога, находясь при том внутри самого образования.
Природа и искусство казались ему двумя языками Божества,
но оба этих языка были недостаточно им изучены, ибо
грамматика эпохи — философия и искусство —
оказывала ему сопротивление. Чтобы писать сердечные
излияния и фантазии, ему пришлось бы ослепнуть... лишиться
истинного художественного чувства, органа,
отвечающего за сущность всех формообразующих актов,
посредством которых для конечного человека воплощается
в чувственном материале боготворимая Вакенродером
божественная энергия. Ему свойственно текучее,
бурливое благоговение перед бесконечным и Божественным.
Между его душой и Богом вклинился преломленный
образованием и связанный с ним чувственный мир,
который он в отличие от других романтиков не желал
принимать в расчет, но, будучи дитем своего времени, на
пути к Богу должен был пройти до конца. Этой бедой
вызваны его рапсодии, гимны слепого к цвету,
мистика — к явлениям, монаха — к образованию. Искусство
было все еще (и стараниями романтических теорий для
образованных людей той поры стало таковым с полным
правом) чувственным выражением Абсолюта —
красочно-чистым отблеском вечной жизни. Для подлинной
мистики Вакенродеру с его анимичной бюргерской кровью
недоставало средневекового жара и преданности куль-
81
ту... для мистического поиска смысла как у Новалиса
и Шеллинга — духовной силы, даже простого усердия.
Его художественный энтузиазм происходит не из
трансформации изобразительного инстинкта в пластическое
слово, как у молодого Гёте, и не из эроса в форму — как
у Винкельмана или Гейнзе, — но из благочестивой
эксцентрики: молитвы, обращенной к искусству и
художникам, а не к небу и святым. Он услаждается духом
искусства и жизнью просветленных и приснопамятных
художников, а не их художественными творениями. Он
знает не произведения художников, а только их жизнь
и их умонастроения. «Жизнеописания» Вазари он
почитает душеспасительной книгой, наподобие «Acta
Sanctorum». Если, скажем, Гёте при созерцании Страсбург-
ского собора вникает в его архитектуру глазом
художника и ищет средоточие его души, проявляющееся
в совокупности пропорций, объемов, украшений
чувственного явления, то безглазое благоговение Вакенроде-
ра убегает от образа и даже простого описания собора
св. Петра к непостижимости божественного господства,
доставки мрамора каменоломен и подвига апостола
Петра, собравшего лепту со всего мира ради воплощения
благочестивой идеи. Рапсодию о соборе св. Петра можно
отнести к любой церкви, не только к этой. Божественно-
всеобщее, а не художественно-особенное вызывает в нем
дрожь и молитву. Вакенродер презирает всякое
«резонерство», «расчленение», «описание» — любое бьющее
в цель, значимое слово, овеществляющее произведение
искусства как определенную смысловую конструкцию
уникальной жизни, и вместо этого наслаждается
всякого рода мистическими абстракциями: «бесконечный»,
82
«таинственный», «чудесный», «небесный»,
«непостижимый», «многообразный», «всеобщий» — таковы его
любимые словечки (как и у Новалиса). Несмотря на то,
что он ищет одну только праоснову, он мистически то-
лерантен. Вакенродер готов допустить все, кроме
«нетерпимости рассудка», — даже известную нетерпимость
чувства... все художественные направления впадают в
Бога, все художественные направления истекают из Него.
«Сердечные излияния» содержат собственную фантазию
о всеобщности, толерантности и любви к человеку в
искусстве, которая завершается словами: «Речь свою я
начал с Него, к Нему возвращаюсь — как дух искусства, —
как всякий дух исходит от Него и устремляется Ему
навстречу сквозь атмосферу Земли, дабы стать для Него
жертвой». Сказанное нельзя причислить ни к
эстетическому, ни к художественно-историческому, ни к
художественно-философскому методу — здесь царит
мистическое настроение, примененное к одному из проявлений
всеобщего духа, к которому мистики были до сих пор
равнодушны: ибо искусство есть Бог как воплощенность
(Gestaltung), тогда как мистика ищет развоплощения
(Entstaltung) или без-образности (Entbildung) (Мейстер
Экхарт). Только после возникновения самостоятельной
истории искусства, после Винкельмана, такой
контрудар стал возможен. Книжечка Вакенродера направлена
против тенденции Винкельмана: эстетически и духовно,
чувственно и исторически осмыслить чувственно
прекрасное в особенных, ставших, созданных единичных
образованиях. (Мистика, т. е. инстинкт развоплощения,
может начинать с любого условного объекта: есть
культовая мистика и природная мистика, историческая ми-
83
стика и государственная мистика, художественная
мистика и экономическая мистика.)
Гёте, искатель и толкователь формы, тотчас с
неудовольствием почувствовал, чем грозит такое: оскудением
чувств, обесценением созерцаемого мира, поношением
разума. Преклоняясь перед темной первоосновой
явлений, Гёте, безусловно, чтил и сами явления:
человеческую часть Божественного. Его коробило от сентенций
типа: «Мудрецы сошли с ума, изгнав из груди темные
чувства». Ему претило многословное лепетание молитв
перед творениями искусства, которое норовило
заглянуть «за феномены» и познать там «невидимое,
сверхчувственное и духовное», вместо того чтобы
образовывать человечество с помощью непосредственно видимых
предметов и возводить его к Божеству. Если наивное
благоговение юноши перед великими мастерами как
провозвестниками божественных тайн еще могло ему
импонировать, то мечтательная пассивность,
эфемерная всеобщность и неопределенность, бессильное
смирение были ему не по вкусу. Кроме того, он
справедливо предчувствовал в рапсодиях и молитвах Вакенродера
стремление вновь превратить искусство как формосози-
дающую, боговоплощающую мировую силу в служанку
религии откровения, самодержавное царство превратить
в средство церковных амбиций. Выпады Вакенродера
против умствований и эмпирии, рассудочного
понимания и обмирщения искусства, которые можно
оправдать как личными страданиями человека, изводящего
себя сухой наукой ради куска хлеба, так и бесплодным
духом тогдашнего накопительства, идущего по стопам
Винкельмана, искусствоведения, таили опасность благо-
84
честивого оглупления и невежественного рвения,
расцветающих тогда, когда ставка делается не на
исследование, изучение и деятельность, а на то, чтобы стяжать
Бога без лишних хлопот — задушевностью и
созерцательностью.
Как антитеза бездушному начетничеству и
бездумному жонглированию эстетическими понятиями
сердечность Вакенродера подействовала обольстительно,
даже чарующе. Восторженный язык богомольца заставил
юношество прислушаться — ведь кто станет отрицать,
что верить и мечтать легче, чем исследовать и
упражняться!
«Сердечные излияния монаха, любителя искусств»
содержат назидательные истории характеров и описания
жизни великих мастеров, легендарные анекдоты из
биографий живописцев, главным образом по книге Вазари,
вкупе с теоретическими рапсодиями о сущности,
происхождении и пользе искусства. На примере одной
легенды из жизни Рафаэля здесь с привлечением наивных
приемов житийной литературы повествуется о том, что
истинное произведение искусства возникает
исключительно силой божественного вдохновения, — Мадонна
как прообраз красоты сама является Рафаэлю.
Чувственно одаренный, светлый и роскошный мастер Ренессанса,
преображаясь в смиренного служителя божественной
любви, оскопляется Вакенродером. Основываясь на
рассказе Вазари о смерти Франческо Франча, он обращает
дикую, почти язычески агональную ревность ренессанс-
ных живописцев в назидательный образчик
целомудренной гордости и набожности художника. Леонардо в
жизнеописании Вазари являет собой христианский пример
85
искусного и высокоученого живописца. Как Рафаэля
апостолу Иоанну, так этого непостижимого мага
художественный катехизис Вакенродера наивно уподобляет
блаженному Иерониму. Микеланджело предстает бого-
вдохновенным пророком Ветхого Завета... Пьеро ди Ко-
зимо — одержимым... Альбрехт Дюрер — тихим,
благочестивым, непроблематичным, мастером-трудником:
в великих мужах Вакенродера интересуют только
религиозно-нравственные сентенции и позы, как в старинных
легендах о святых. О картинах он говорит только в той
мере, в какой жизнеописания сообщают о них чудесные
или поучительные анекдоты — можно даже усомниться,
известны ли ему сами картины и представляет ли он их
себе. Пятое размышление, озаглавленное «Два описания
картин», обнаруживает, как Вакенродер вообще
воспринимал живопись. «Прекрасную картину», по его мнению,
«описать нельзя». Он одобряет старинных хронистов,
называющих картину «просто превосходной, несравненной
или самой прекрасной из всех» («мне представляется
невозможным высказать о ней нечто большее»). Затем он
пускается в поэтическую импровизацию по поводу
одного образа Мадонны с младенцами Иисусом и Иоанном,
а также поклонения волхвов. Картины возвещают о
собственных ощущениях... например, Мадонна:
Право, я не знаю, что сказать!
Мнится мне, что не на земле я больше,
Если живо я себе представлю
То, что мать я этого младенца*.
* Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве / Пер. В. В. Рогова.
М.: Искусство, 1977. С. 53.
86
Какому периоду, какой школе принадлежат эти
шедевры и как они были написаны, невозможно
определить ни по одному из этих толкований. Это — фантазии
вне искусства.
Если описания картин у Вакенродера по жанру суть
церковные псалмы, жизнеописания живописцев и
анекдоты из их жизни — опоэтизированные жития святых, то
общие рассуждения представляют собой маленькие
мистические трактаты: «О всеобщности, терпимости и
человеколюбии в искусстве», «О двух удивительных языках
и их таинственной силе», «Как и каким образом, в
сущности, следует созерцать картины великих художников
земли, употребляя их для блага своей души». Произведение
завершается лирической новеллой о музыканте,
прозрачной исповедью собственной души — «Примечательная
музыкальная жизнь композитора Йозефа Берглингера».
Рассказывается история юного мечтателя, сына
бедного врача, который, будучи страстно влюблен в музыку,
после долгих душевных борений, убегает из домашнего
убожества, и в качестве капельмейстера делает карьеру
в епископской резиденции, но в конце концов гибнет из-
за противоречия между богатством своего внутреннего
мира и условностью земного ремесла... музыкальная
вариация вертеровской темы. За этими преувеличенными и
отчаянными жизнеописаниями — действие которых
развивается скупо и служит только поводом для сердечных
излияний — следуют « Фантазии об искусстве»,
несколько рапсодий, названных Вакенродером «музыкальными
сочинениями»: «Удивительное восточное сказание об
обнаженном святом» — аллегория о волшебстве музыки,
которая спасает святого, одержимого стремительным
87
бегом времени. Далее следуют несколько рапсодических
фрагментов о чуде музыкального искусства (т. е.
скорее о чуде, коим музыкальное искусство является, чем
о его чудесном воздействии), о его способности
порождать блаженство, веру, любовь из убогой материи
числовых пропорций... из клубка жильных струн и медной
проволоки». Еще одна рапсодия толкует «о различных
жанрах в искусстве, особливо же о различных видах
церковной музыки». Густым потоком движутся
красочные сравнения для тех возвышенных настроений, коими
Вакенродер обязан музыке, — попытка словесно
подражать музыке и одновременно толковать ее, подобно тому
как, описывая картины, он рисует ощущения,
возникающие при их созерцании, и одновременно объясняет
таковые.
Речь об «Особой внутренней сущности музыки и
психологии современной инструментальной музыки»
призвана объяснить происхождение музыки, однако смысл
объяснения теряется в трепетном и взволнованном
восхвалении ее силы и ценности, а также возмущении от
того, как ею злоупотребляют в современном мире. Как
только Вакенродер желает подступиться к самим
явлениям, язык отказывается ему служить: «Коль скоро
умствующие спросят: где, собственно говоря,
расположен центр этого искусства, в чем скрыты его истинный
смысл и его душа... тут я ничего не могу ни объяснить,
ни доказать им. Тот, кто с волшебной палочкой
аналитического рассудка пожелает проникнуть в то, что
можно только внутренне почувствовать, вечно будет
проникать только в мысль о чувстве, но не в само чувство».
Необъяснимость и неисследимость чувства — евангелие
88
Вакенродера. Его больше затемняющие, чем
просветляющие, скорее дурманящие, чем разъясняющие притчи,
восклицания, болтливые умолкания (почти на каждой
странице он уверяет, что продолжать говорить о сих
предметах не может, что они неизъяснимы, что он в
замешательстве) должны намекать на тайну, каковую
искусство размыкает и одновременно замыкает...
искусство не как материальное творение рук человеческих, но
как сверхчувственный, символический язык Божества.
Право на высказывание здесь имеют только фантазия,
которая может лишь играть, да кипеть, но не оформлять
и постигать, и чувство, способное только воспринимать,
но не зачинать, вне сущности, вне действительности,
при полном сумбуре в мыслях. «Никогда не ступить мне
на земную твердь. Мои мысли беспрестанно крутятся
и кувыркаются, и голова идет кругом, — сетует герой
Вакенродера музыкант Иозеф Берглингер. — Ах! Быть
перемолотым собственной фантазией... быть
предназначенным в большей степени к наслаждению творчеством,
чем к собственному творчеству». Фантазия
Вакенродера — это не активная пластическая сила, а пассивный
круговорот образов. «Мукой всей его жизни было
горестное несоответствие между эфирным энтузиазмом,
присущим ему от рождения, и земным элементом в нем,
который из мира грез непрестанно тащил его вниз»
(«Неужто душа моя так и будет всю жизнь походить на
эолову арфу, в струнах которой веет чужое, неизвестное
дыхание, а переменчивые ветры перебирают их, как им
вздумается?»).
Сегодня трудно представить, как сердечные
излияния и фантазии Вакенродера могли привести в восторг
89
целое поколение. То, что для нас в них невыносимо, —
туманная всеобщность — именно она и импонировала
бегству от реальности в философские спекуляции и моде
все обращать в бесконечность. Вакенродер был первым,
кто вверг искусство в пучину вселенского мистицизма.
Подлинное обаяние и, быть может, единственная
ценность его послания заключалась в наивности и
искренности. Чем больше романтическая молодежь склонялась
к экзальтации и безвкусице, тем охотнее
приветствовала «прекрасную чувствительность» сердечных излияний
Вакенродера. Сумасбродный дух нежился в этой
инфантильности, а золотая душа Вакенродера позолотила и
историческую эпоху, в которой, как он полагал, его
тоска обрела действительность — Средневековье (к коему
причислялся также и Ренессанс).
Потребность в религии, средневековая игра красок и
детская воодушевленность Вакенродера соединились на
рубеже веков, породив моду на волшебство, жертвами
которой стали мечтатели с
полупоэтически-полуфилософским образованием, первым из которых был Людвиг
Тик. В знании материала он намного превосходил
Вакенродера и, видимо, первым подсказал неисправимому
мечтателю средневековую тему. Их тесное общение не
позволяет установить, чей-то приоритет. Однако именно
Вакенродер вдохнул в проворного друга (или распалил
в нем) дух детства... только его старанием средневековые
жесты и чувства приобрели шелковистую, утреннюю,
робкую задушевность и неловкую наивность. Лишь в его
безоружной душе заблистало очарование дремлющих,
словно в бутоне, первоначал. Прежде Средневековье
представлялось областью прямой и могучей мужествен-
90
ности, странствующего в поисках приключений
рыцарства, пестрого великолепия сказок, волшебного сумрака
церковных и монастырских сводов, католической славы,
косного бюргерского и крестьянского ума... регионом
всякого рода неотесанной вульгарности и элементарных
инстинктов — гётевский «Гёц», «Швейцарская история»
и «Путешествия римских понтификов» Мюллера, тот же
«Оберон» Виланда являются как плодами, так и
новыми семенами этой веры. Новалис был первым, кто вновь
раскрыл и разъяснил для современной души ценность
воображения и волшебства в католическом культе, Вакен-
родер — невинность средневекового ума и задушевность
раннего искусства... искренность и нежность позабытых
старых мастеров и окружающего их мира. Расторопный
Тик заимствовал, обыграл и использовал то, что эти двое
познали на опыте собственной судьбы или сущности,
душевно разбавив, сюжетно размножив. Тик не был ни
благочестив, ни наивен, но быстро учуял прелесть
поэтических воздыханий Вакенродера и вступил с ними в союз.
К вакенродеровским фантазиям об искусстве он
присовокупил несколько собственных. Они позволяют легко
увидеть различие между беспомощными, но
сердечными излияниями мечтателя и резонерством искушенного
имитатора, между художественными молитвами
заблудшего мистика и художественной риторикой человека,
принадлежащего эпохе образования, — как мастерски
Тик ни имитирует простовато-робкий или
экстатически-блуждающий стиль Вакенродера, как искусно ни
серебрит благородной патиной, его глаз все равно острее,
прорисовка четче, наслаждение от предмета и контура
больше. Запас вещей, имеющийся в его распоряжении, бо-
91
гаче, а метафорика — гуще. Взять хотя бы письмо юного
немецкого художника своему другу из Рима в Нюрнберг:
эмоции — изначально вакенродеровские — Тик
переводит в ясные пространственные процессы... Вакенродер
позволяет им ветрено кружиться или отягчает фактами
и датами, почерпнутыми из Вазари. Просто изобразить
помещение — скажем, ателье Альбрехта Дюрера —
Вакенродер никогда бы не смог. Буквально три фразы Тика
дают более ясное (исторически достоверное или нет —
другой вопрос) представление о житье-бытье Дюрера,
нежели многословные вакенродеровские «описания того,
как жили старинные немецкие художники, примерами
коим служат Альбрехт Дюрер и т. д.». В рассказах из
одной итальянской книги, выверенном повествовании без
сентиментальных отступлений, виден почерк искусного
рассказчика, читателя Вильгельма Мейстера, в
нетривиальной беседе — мастерство диалога. Вакенродер был
мечтателем, чуравшимся общества, которому
предпочитал молитву или диалог с самим собой. Рассуждения
Тика содержат в себе не только художественное
настроение, но и начатки действительной философии
искусства — они в отличие от рассуждений Вакенродера не так
страшатся единичных явлений и рискуют давать им
точное объяснение. Тик обладает более длинным дыханием,
не только потому что способен обильнее уснащать
интуиции знаниями, но и потому, что язык его, язык
писателя-профессионала, отличается большей пластичностью.
Он умеет выстраивать благозвучные периоды, тогда как
по-детски наивный Вакенродер излагает или
выплескивает свои чувства и мысли без всяких стилистических
прикрас. Тик — умелый диалектик и адвокат. Если сравнить
92
его статью «Несколько слов о справедливости,
умеренности и терпимости» со «Словом о всеобщности,
терпимости и любви к ближнему в искусстве», то легко отличить
излияния чувств и декларации Вакенродера от
разъяснений, характеристик и аргументаций Тика: Вакенродер
ищет разрядки, Тик желает самоутвердиться и отстоять
свое мнение. Он пользуется чужими душевными
состояниями, как бы перевоплощаясь в скептиков, фанатиков,
резонеров. Он — не просто любящий искусство монах,
но познавший искусство духовный пастырь.
Новеллист в письме юного художника и итальянском
рассказе, проповедник-мирянин в речи о
справедливости и терпимости, он выступает как философ природы
и искусства в рассуждениях о красках, о звуках и
симфониях. Художественная мистика Вакенродера
предстает в фантазиях Тика подробнее, яснее, духовнее, более
в интеллектуальном, нежели душевном ракурсе, будучи
настроением скорее ума, нежели чувств. Большей
ясностью он обязан той двусмысленной непринужденности,
которая ни во что не вживается, умеет играть с любым
содержанием, — больше импресарио, чем
первооткрыватель, больше потребитель, нежели творец нового духа.
Вакенродер взирал на Тика снизу вверх, словно на мэтра,
так как легкий и проворный талант Тика просветлял,
прославлял и утверждал перед всем миром его,
Вакенродера, собственное внутреннее содержание. Тик выжал
из темной лозы Вакенродера светлый сок, одухотворив и
возвысив смутный порыв ярким блеском и
многоцветной рефлексией. Благодаря соединению двух
темпераментов, смешению в одном произведении задушевности
и верности Вакенродера с быстротой и пестротой Тика
93
«Фантазии об искусстве» произвели фурор. В
одиночку Вакенродер никогда не достиг бы такого богатства,
а Тик — такой искренности. Только благодаря Тику
настроение Вакенродера стало направлением в искусстве.
Фантазии об искусстве были прелюдией к роману
о художнике, задуманному Тиком вослед
романтической универсальной книге Гёте «Вильгельм Мейстер», —
«Странствия Франца Штернбальда». Этот роман с
подзаголовком «старонемецкая история», как сказано в
послесловии Тика, в своей первой части был спланирован
Тиком еще совместно с Вакенродером. Композиция и
язык романа несут на себе печать Тика. О Вакенродере
напоминает умонастроение, «борьба благоговейного
энтузиазма с расчленяющей критикой», характер героя, по
крайней мере в первой части: мечтательность и мягкость,
которые не могут смириться с внешними
обстоятельствами, в частности с обогащением. Две части «Франца
Штернбальда» были завершены, третья — задумана.
Путешествие — тонкая сюжетная нить, на которую
непринужденно нанизываются разговоры об искусстве,
лирические зарисовки, приключения: юный ученик, почитатель
и друг Альбрехта Дюрера, отправляется из Нюрнберга
в путешествие по Германии, Фландрии и Италии, чтобы
развить свой художественный талант. Действие первой
части романа разворачивается севернее Альп на фоне
лесов, лугов, уютных бюргерских домиков и посвящено
в основном тонким внутренним борениям, душевному и
духовному воспитанию героя. Альбрехт Дюрер и Лука
Лейденский, верные, честные, бравые, простодушные
отечественные мастера, доминируют на художественном
горизонте, и только в финале свет Италии проникает
94
в роман благодаря рассказам путешественников,
пришельцев из рая искусства. Действие второй части
происходит в горах и на самом юге, ее сюжет роскошнее,
фантастичнее, богаче, авантюрнее, наполнен
приключениями и любовными историями. Чудеса живописи
Рафаэля и Микеланджело образуют декоративный фон,
как и прекрасные женщины, дерзкие юноши,
страстные мужчины и седовласые старцы — иными словами,
мертвые и живые приметы Италии, какими их ввел
в обиход красочный и яркий роман Вильгельма Гейнзе
«Ардингелло» (1787). Вторая часть «франца Штернбаль-
да» — возможно, неосознанное подражание или антитеза
«Ардингелло». Гейнзе — смелый, несколько хвастливый
сластолюбец, для которого искусство — не что иное, как
самое сильное и утонченное проявление человеческой
чувственности, густо замешанное на эротике; он ищет
в нем очарования и формы и ведет своего героя
(такого же исповедального персонажа, как и Штернбальд)
в Италию, чтобы дать ему обильную разрядку в
сублимированной сфере плотской красоты и страсти. Гейнзе —
язычник, человек эпохи рококо, потомок ренессансных
сибаритов, грубый, пылкий, нетерпеливый собрат Вин-
кельмана, который жаждет созерцать и обнимать
прекрасную форму на земле, а не боготворить ее
мистически. Тиковский Штернбальд (по крайней мере то в нем,
что унаследовано от Вакенродера) должен
романтически преобразить этот ренессансный мир плоти в мир
души и ума, любовь к прекрасным телам — в
сакральные таинства религии. Ардингелло-Гейнзе ищет выхода
из уродливого нордического мира страстей и
инстинктов в чувственно-сгущенном жизнелюбии, осязаемом,
95
вкушаемом и зримом. Душа и томление Штернбальда
растворяют итальянскую действительность в
блаженном небе грез, в заманчиво неуловимом, хотя и
красочном чуде.
В целом эпизоды, приключения и характеры
«Штернбальда» суть не более чем повод или субстрат подробных
бесед об искусстве или лирических отступлений. Роман
о художнике уже для Гейнзе был желанным смешанным
жанром на стыке поэтического вымысла и
теоретической мысли. Философский роман соответствовал
упомянутым выше полурефлексивным, полухудожественным
талантам; последние великие образцы этого жанра явили
Вольтер и Виланд, в романах которых сцены
приключений разбавлены и расцвечены философскими диалогами.
С тех пор как Винкельман возвысил историю искусства
до сферы образования, она стала благодарным
материалом для этого двуполого жанра, и Гейнзе, который в
эстетике был необузданным учеником Винкельмана, а в
поэзии — Виланда, сделал «Ардингелло» образцом романа
о художнике. Роман «Годы учения Вильгельма Мейстера»
служит не двуполому таланту, а пластической
потребности сделать жизнь духовно зримой. Чисто
теоретического материала в романе Гёте нет — разговоры о проблемах
образования, о театре и Шекспире произрастают из
одного корня, раскрываются в происшествиях и характерах.
Для романтиков роман Гёте стал сигналом к созданию
бесформенного романа с интеллектуальными
отступлениями. Хотя умствование у Тика не настолько
превосходит художественность, как у Фридриха Шлегеля или
Вакенродера, однако и «Штернбальд», обязанный
своим происхождением Вакенродеру, задумывался скорее
96
как продолжение «Фантазий об искусстве», нежели как
роман. Лишь мощное влияние «Вильгельма Мейстера»
преобразовало его в роман, и Тик ради сохранения
иллюзии художественности наряду с мыслями и
рассуждениями добавил туда немало настроений и фантазий.
Можно выделить различные слои и виды материала, из
которых соткано это произведение. Первый слой,
художественное мышление Вакенродера, включает в себя:
диалоги романа о достоинстве и святости, пользе и
превратностях художника, об отношении искусства к
стяжательству, религии, истории, портреты отдельных
художников, художественных направлений, произведений
искусства, Дюрера, Луки Лейденского, мысли о соборе
Эрвина фон Штейнбаха, Страшном суде Микеландже-
ло — продолжающие тиковские фантазии об искусстве.
Второй слой романа, его фабульное содержание,
образуют душевные борения юноши, одаренного более духовно,
нежели практически, столкнувшегося с условностями
реальной жизни, требованиями общества... старое вер-
теровское страдание: главная юношеская беда для
экзальтированного поколения того времени. Тик, который
в светскости, уме и гибкости превосходил Вакенродера,
умел защититься как от ограниченности окружающего
мира, так и от эксцессов собственной души с помощью
иронии и юмора. Но в свою книгу о «Штернбальде» он
вписал различные виды неприятия мира: беззащитную
меланхолию друга Франца, Себастиана, мужественное
смирение мастера Дюрера, душевный крах и
затворничество отшельника Ансельма... а также разнообразные
рецепты и противоядия от вертеризма: бодрую радость
творчества и многогранную деятельность Луки Лейден-
97
ского, усердие врожденного таланта которого спасает
от всякого рода проблем; веселье прожигателей жизни
Рудольфа и Родриго; отважно-циничный авантюризм
Людовико. Сам Франц Штернбальд проходит, как Тик
со своей фантазией, как Вильгельм Мейстер со своей
общительностью, все эти стадии — от разочарования
в себе до наслаждения собой. Он принимает расцветку
окружающей среды. Только благоговение, дружба и
инстинкт художника оберегают его от низкого искушения
променять искусство на деньги. Трижды он
искушается подобным образом: подмастерьем кузнеца,
любопытствующим о практической пользе искусства; богатым и
холодным дельцом Цойнером, для которого оно — пустая
фантазия; мачехой, которая печется о его будущем. Зато
он отдается более возвышенным и менее вредоносным
искушениям: сомнению в самобытности своего таланта
и чувственным наслаждениям — личные переживания
Тика и излюбленные темы всего романтического
кружка... темы, актуальные для всякого человека и всякого
кружка, где слишком яркая рефлексия образования
освещает и парализует творческую энергию. Не только опыт
образования, но и жизненный опыт Тика отражаются
в его культе дружбы и ландшафта. В дружбе он, как и
все романтики, был «виртуоз» — как в положите льном,
так и в отрицательном смысле: чистую склонность к
образующему, а не просто милому общению он довел до
изысканного наслаждения. Многие скоротечные и
бурные дружбы Штернбальда суть отражения тиковских
порывов. Дружба с Себастианом, отблеском и отзвуком
чувств и мыслей Штернбальда, списана с союза Тика и
Вакенродера: два единомышленника и собрата по искус -
98
ству, один из которых лишь восприимчив, второй — еще
и талантлив, один — лишь посвящен, второй — одарен...
один — зван, второй — избран. Тик, сравнивая себя с Ва-
кенродером, испытывал сострадание, смешанное с
удовлетворением. Дружба — такая же стихия Штернбальда,
как и творческий энтузиазм. Образуя атмосферу жизни
самого Тика, они были для него больше питательной
средой, нежели тем, что влекло, формировало или
наполняло его. Дружба в романе — это не проявление
верности, воли, мужской взаимовыручки, как дружба
между Гамлетом и Горацио, Гёцем и Зикингеном, Орестом
и Пиладом, Дон Карлосом и Позой, Вальтом и Вультом,
Гиперионом и Алабандой, а проявление
экзальтированной, взвинченной общительности, фантазии и эмоции.
Штернбальд любит не друзей, а свою дружбу к друзьям,
как любит и не возлюбленных, а тоску по ним, свое
трогательное к ним отношение. Трогательное отношение —
им сдобрен каждый эпизод в Штернбальде, слезы
проливаются почти при каждой встрече, разлуке, при виде
произведений искусства, людей, ландшафтов. Вертеру
подобное и не снилось — однако эти излияния
возбуждаются не страстью сердца, а даром воображения, идущим
от ума.
Фантазия образует третий слой романа о
Штернбальде. Самые поэтичные и самобытные части романа
порождены фантазией: пейзажные настроения — ибо
виды природы запечатлены в образе настроений,
эмоциональных состояний, а не предметов внешнего мира.
«Не эти цветы и не эти горы хотел бы я перенести на
холст, — восклицает Штернбальд, — но мою
собственную душу, настроение, владеющее мной в этот момент».
99
Пейзажный импрессионизм отчетливо и, возможно,
впервые в Германии программно высказан здесь, однако
на практике он был применен ранее: юношеская
лирика Гёте и «Вертер», первые романы Жан Поля уже
явили примеры того, как предметные изображения могут
быть переплавлены в зыбкие впечатления. Вслед за Гёте
и Жан Полем Тик надолго занял место третьего великого
пейзажиста немецкой души — в частности, как
первооткрыватель эмоционального значения немецкого леса:
Брентано, Арним. Эйхендорф, Мёрике, Штифтер —
наследники, преумножившие это богатство. Гёте первым
в немецкой словесности показал становление и действие,
рост и дыхание земли, ее плодородие и изобилие, т. е.
изобразил природу как «натуру», как знак всего
живого. Жан Поль выразил в чарующих словесных образах и
поэтических интонациях богатство красок, рябь, блеск
и дрожь, аромат, звон и плеск видимого мира,
уникальную прелесть колорита и мелодии времен года, особенно
весны, эмоциональное содержание чувственных
предметов. Тик не обладал ни опытом переживания природы,
как эти перводухи, ни языкотворческой энергией для его
выражения. Он впитал в себя чужие наблюдения,
обратив их в иллюзии и тени, бледные и невнятные, однако
сказочно легкие. Он сам воспринимал природу сквозь
призму укромного, шепчущего, сумеречного, звенящего,
поющего, журчащего, струящегося лесного ландшафта
Средней Германии с его переливами от весело бликую-
щей весенней зелени до ночного, полного призрачных
духов, мрака, беззвездного ужаса и подлунной жути.
Язычески животворные, пульсирующие божественные
силы гётевской «натуры» становятся у него мелькающи-
100
ми призраками — как античные фавны и нимфы в
средневековом христианстве. Красочность Жан Поля у него
блекнет, распадаясь на полутона... все окутывается
двойственной, трепещущей между плотью и духом
фантазией, которой лучше живется в переходах, сумерках,
полутьме. Даже весна у Тика (когда он выходит за пределы
избитых мотивов из миннезанга и сказок) — пора и фон
неясных предчувствий и томлений, бесцельных
блужданий и любовного флирта. Свое впечатление от
ландшафта он растворяет в лирике — язык которой представляет
собой смесь миннезанга, народной песни и романских
каламбуров. Роман о Штернбальде перегружен
лирическими отступлениями, санкцию на которые Тик, как
ему казалось, получил от своего кумира —
«Вильгельма Мейстера». Гёте расходовал это средство экономно,
чтобы в решающих местах возвысить прозу с помощью
поэзии. Рыхлая, уже изначально поэтичная проза Тика,
готова в любой момент упорхнуть бесплотными
стихами. Он сам изображает поэта так: «Каждый природный
предмет, каждый трепетный цветок, каждое
проплывающее облако представляется ему воспоминанием или
намеком на будущее, дух поэта есть вечно струящаяся,
немолчно бормочущая река, любое дуновение,
прикосновение оставляет след, он абсолютно не нуждается в
косной материи и зависит только от себя, подвластные ему
образы скользят в лунном сиянии и утренней заре, а из
незримых арф доносятся доселе неведомые звуки, в
которых ангелы и нежные эльфы слетают с неба на
землю». В этих словах выражена программа романтического
поэта, единство чувства природы, музыки, сновидения и
мира духов.
101
Излюбленным сигналом, свидетельствующим о
гармонии его любимого ландшафта и музыки, у Тика
является лесной рожок. В «Принце Цербино» Тик сам
иронизирует над этим своим пристрастием. Его лирические
ландшафтные образы придуманы для музыки, язык
используется в них не как самостоятельное средство
выражения души, а только как аккомпанемент для мелодий.
Дематериализация придает ландшафтам Тика особую
прелесть. Он создал в пейзажизме немецкой
литературы новую традицию, смешав гётевскую стихию с жан-
полевской, разбавив и расширив таковые. «Штернбальд»
(если он претендует быть чем-то большим, чем просто
беседой об искусстве, религии и жизни) есть прежде
всего сентиментальное странствие по ландшафту —
история настроений странника, и тем самым новое течение
в немецкой литературе, в котором скрещиваются
лирический автобиографический роман «Вертер» и
образовательный роман «Вильгельм Мейстер». В отличие от них
он зиждется не на переживаниях и характерах, но
настроения и ландшафты суть то, что наряду с
теоретическими элементами делает его «романом о художнике».
Что касается персонажей «Штернбальда» —
художников, бюргеров, рыцарей, пилигримов, монахинь, — то
их следует признать не столько оригинальными
характерами, сколько арабесками, бутафорией, рупорами
сословных взглядов или лирических настроений... или
же, как Дюрера и Луку Лейденского, — историческими
реминисценциями. История тоже истолкована в чисто
фантастическом ключе и сведена к архитектуре, одежде
и домашней утвари. «Старонемецкими являются только
вещи и имена». Тик почитал боговдохновенное наслаж-
102
дение искусством за старонемецкий, национальный
образ мыслей — главное заблуждение романтиков. Это,
однако, не снижает ценности «Штернбальда» и
производимого им впечатления... научно-историческая, более
того, написанная нарочито архаичным языком история
по мотивам немецкого средневековья была бы
литературно-историческим курьезом, грубым штукарством,
типа «Янтарной ведьмы» Мейнгольда. «Штернбальд» —
документ целого поколения, которое обессмертило себя
не мнимым воскрешением отечественного духа силы
и благочестия, а тем, что истолковало исторический
материал в русле собственных устремлений. Гётевский
Гёц кажется более достоверным не вследствие точности
исторических фактов, но вследствие изобразительной и
поэтической силы. «Буря и натиск» не ближе к Лютеру,
чем ранний романтизм — к Средневековью. Но всякое
новое настоящее выбирает из прошедшего что-то свое и
ищет его обновления. И если движение «Буря и натиск»
в лице своего мэтра Гёте требовало от старины
удовлетворения собственной потребности в сильной личности
и оригинальности, сопротивления холодному морализму
и умствованию, то Тику весьма органично удалось
сочленить образовательные тенденции романтизма —
поэтическое одушевление Вселенной и парящую
фантазию — со Средними веками. Романтики хотели разом
достигнуть двух целей: призвать позабытых предков
в помощники и вожди и укрепить собственную душу
солидным материалом. Они первыми осознали этот
призыв в качестве образовательного долга... с тех пор
всякая историческая утопия получает характерное имя:
«романтизм».
103
IV
Старонемецкие сюжеты Тик заимствовал не столько
из самой истории, сколько из сказок и народных книг.
Уже Гёте жалуется на то, как мало поэт может
почерпнуть из немецкой истории, — завершив «Гёца», он
больше не нашел в ней сюжетов. Однако тот же Гёте во
фрагменте о Фаусте показал, насколько плодотворными
могут быть сумеречные народные книги, в которых
реальные события граничат с мистическими
созерцаниями. Красочные и вольные предания сказок и народных
книг, дух рассказчиков которых доносил дуновения
отечественной и средневековой истории без примеси сухой
и чопорной фактичности, интеллектуальному гурману
Тику пришлись по вкусу еще больше, чем природному
мастеру Гёте. Они были вполне основательны и
колоритны, чтобы послужить опорой больше подражательной,
нежели оригинальной, фантазии и одновременно дать
простор свободе и сумасбродствам игрового инстинкта.
Здесь особенный талант Тика нашел область и
возможность удовлетворить свои разнообразные запросы:
поэтической экзотики, чуда, мечты в противовес
обыденному и самодовольному рассудку. Мало того, само это
противопоставление современный человек эпохи
образования заимствовал из старинных легенд как новый
вызов, а оставлять вызовы без ответа Тик не любил.
Потому он либо сказки мог видеть и показывать как
детскую невинность, профилактику от самокопания,
нервной интроспекции, самоедства и колючего
самоуглубления, либо собственный модернизм воспринимать
как еще одну приправу, духовную щекотку по контрасту
104
с благопристойным прошлым. Образованная рефлексия
просвещенного горожанина, приступы лихорадки и
неврастении, грезы и видения на грани помешательства,
сентиментальное чувство природы, экстазы и метания —
все эти болезни Тика, которые в прежние времена
воплощались то в истории о рыцарях, разбойниках и духах, то
в пошло-назидательные разглагольствования, то в
развратный роман, теперь могли быть непринужденно
реализованы в Нигде и Везде немецкой сказки. Народные
книги были образованием в литературной форме, игрой
как техникой, далью и трепетом, ландшафтом и
тайной как материалом искусства, подлинным
«романтизмом», который, не подчиняясь ни истории, ни обществу,
но имитируя временную близость к оным, противоречит
им по сути.
Когда Тик потрошит народные книги... архаизируя,
поэтизируя или иронизируя, его поэзия всегда рождается
из рефлексии о чем-то ином, противоположном. Его
новшества, даже самые невинные, происходят из критики
или являются критикой. Народные книги предполагают
невинность духа, Тик — сознание ценности такой
невинности. Народные книги невольно выражают настоящее.
Тик осознанно показывает прошлое. Он постоянно
играет роль. Творец посредством персонажей придает форму
собственной жизни... актер вживается в чужую и
сопереживает тому, что не пережил сам. Тик не лжет: он либо
до самозабвения уверовал в свою роль, как в «Белокуром
Экберте», либо иронизирует над ролью, знает о ней все
и намекает, что это всего-навсего игра, как в «Коте в
сапогах»... однако он никогда не прикован к роли, она ни
к чему его не обязывает, и он может отбросить ее в лю-
105
бое время. Роль не заполняет его бытие, и, как бы
неподдельно и прочувствованно она ни была исполнена,
всегда остается ролью, игрой, произволом и только. Из
нужды актерства Тик сделал добродетель иронии: он
знал о нереальности своих образов, т. е. ролей, и об их
контрасте с высшей реальностью, которую он умел лишь
толковать, а не создавать. Он охотно отождествлял эту
иронию бессилия с творческой иронией Шекспира или
Сервантеса — эти поэты из сонма своих видений
взирают на мелочность и скудость общепринятых догм и
мнений, корчащих из себя «действительность», и
усмехаются противоречию между прозрением сущности мира и
обыденным образом мыслей, от которого зависят и они.
Романтики потешаются над контрастом между
непомерными духовными амбициями и собственной убогостью,
а заодно и над безумием окружающих, почитающих себя
реальными и совершенными людьми.
В какой мере писание «под старину» было просто
новой эффектной ролью разнопланового актера,
выясняется из того, что Тик почти одновременно с переработкой
сказок опубликовал ряд морально-сатирических светских
анекдотов по заказу издательства Фридриха Николаи,
вошедших в сборник «Страусовые перья». Эти
анекдоты — нравоучительные картины по образцу французской
тривиальной литературы, налепленные на примитивную
фабулу, морально тенденциозные, направленные, как
правило, против новомодных вкусов, которые у
рационалиста Николаи и его умеренно просвещенной аудитории
вызывали улыбку или гнев: против гениальности,
мистики, восторженности, суеверия и фанатизма. Но и эти
роли Тик играет так, словно его наняли. Возделывая ниву
106
Просвещения, он очищает свою литературную совесть
мелкими, более или менее завуалированными выпадами
против Просвещения. Он ощущает потребность заняться
наконец житейскими проблемами без излишнего
пафоса, и погружается в них с наслаждением и самоиронией.
Литературная борьба Тика с пошлым мудрствованием,
лицемерным сентиментализмом и фарисейством,
пожалуй, не доставила бы ему столь глубокого наслаждения,
не поварись он сам в бытность сотрудничества с
Николаи в этом котле. Он научился глядеть на Просвещение
глазами романтизма, но и на романтизм глазами
Просвещения, и эта двойственность позднее пригодилась в
иронических сказочных комедиях.
Помимо роли искушенного просветителя в историях
о «Страусовых перьях» Тик сыграл еще роль
благодушного мудреца — по крайней мере, знатока жизни,
самодовольно наслаждающегося собственной добродетелью и
чужой глупостью, — справедливого идиллика в
небольшом романе « Петер Лебрехт. История без необычайно-
стей» (1795—1796). Уже подзаголовок иронически
намекает публике, что здесь разыгрывается роль. Ему мерещится
Лоренс Стерн, британский гроссмейстер
сентиментальных настроений с печальной и мудрой улыбкой на устах,
создатель иронического романа. Не столько наблюдения,
сколько фигура самого Петера Лебрехта знаменует
новый поворот в творчестве Тика, отказ от маниакального
самокопания, апогеем которого был «Вильям Ловель».
« Петер Лебрехт» — это разворот к простоте, что роднит
его с тиковским подражанием Вакенродеру Оба романа
объединяет воля к детству — и поэтому новая обработка
народных книг была задумана в этом ключе: в 1797 году
107
Тик выпустил в свет «Народные сказки, изданные
Петером Лебрехтом». Если имя издателя намекает на вновь
обретенное простодушие, то заглавие книги
напоминает о Музеусе, сказки которого служили просвещению и
моральному назиданию, сближая старинные и
экзотические сюжеты, наподобие «Оберона» Виланда со
слезливыми или фривольно похотливыми трелями стареющего
рококо. (Если по определению Шлегеля «романтическое»
есть то, что представляет сентиментальное содержание
в фантастической форме, то Музеус, наоборот,
фантастическое содержание облекает в сентиментальную форму.)
«Народные книги» Тика включают в себя разнородные
элементы, объединенные лишь общим происхождением
из народных или псевдонародных преданий: обработку
своей старой истории «Карл фон Бернек»,
незамысловатый пересказ старинной народной книги «Дети Хаймо-
на», серьезное сценическое переложение сказки о рыцаре
Синяя борода по французскому первоисточнику,
шутливое переложение «Кота в сапогах», забавная
переработка народной книги о шильдбюргерах, сентиментально
осовремененная народная книга о прекрасной Магелоне
и сказка «Белокурый Экберт» собственного сочинения.
Позднее Тик расширил область впервые обработанного
здесь материала в новых сборниках и отдельных
изданиях, прежде всего в «Романтических поэмах» (1799) и
«Фантазусе» (1811).
Каждое из этих произведений не просто создано под
косвенным влиянием техники авторов прошлого, но
непосредственно ею инициировано. Помимо сюжетов Тик
был околдован и жанровыми формами старинной
поэзии. От природы он был восприимчив к ландшафтам
108
и истории, но только через искусство и литературу он
обрел язык, чтобы их выразить. Миннезанг, народная
песня, Ганс Сакс, немецкие народные книги, Гриммельс-
хаузен, Яков Бёме, Гёте, Вакенродер, Новалис снабдили
его языком или поэтическими формулами, Шекспир,
Сервантес, Кальдерон, Ариосто, Гоцци, Гольберг —
поэтическими формами и техникой в его собственно
романтических произведениях, не считая сюжетных
мотивов и тончайших флюидов, каковые источает всякая
эпоха и всякий образец. Первоэлементами и архетипами,
воссоздать которые наш романтик должен был с
помощью этих образцов, были древнегерманское чувство
ландшафта, тайный трепет растений и зверей, темный
роковой ужас перед лесами, полями, водами,
пророческий и сладострастный страх перед всей этой немой,
шевелящейся в земле жизнью. Тик, как впечатлительный и
нервозный городской житель, чутко все это уловил.
Рыцарская любовь к странствиям и поединкам, чрезмерная
тяга к чудесам и преувеличенная преданность Богу,
государю, другу или даме, восточное буйство красок и
готический сумрак миннезанга и католичества, тоска, честь,
ненависть и любовь, грандиозные перевороты сословий и
нравов он сплел в болтливые арабески, то подражая
молитвам мистиков Бёме и Новалиса, то восторгаясь
испанскими драматургами Барокко, то склоняясь пред
гением Шекспира. Он отдал дань простодушно-аляповатому
и замысловато-таинственному духу цехов и корпораций
эпохи Ганса Сакса... и, изъяв эту старину из контекста
прозаической, бесхитростной, прагматически унылой
эпохи, сдобрил ее юмором, сентиментальностью или
иронией. Противоречие между будничным миром и ми-
109
ром грез и чудес, между поэзией и действительностью,
явно или неявно движет такой литературой, воплощаясь
то в содержании, то в материале, то в форме.
Эта множественность лучше всего упорядочивается
по степени преобразования материала, т. е. по тому,
насколько поэт дистанцируется от материала. Деление
сказок на эпические и драматические мало о чем говорит:
Тик смешивает жанры как в теории, так и на практике.
Подобно драме сказка была для него игрой. В сказке он
любил раздувать предание, в драме — явление или
происшествие. Оба жанра он наводнял лиризмами и
болтовней. Будь то старинная народная книга, Новалис,
Ганс Сакс, Шекспир или Гоцци, важен, следовательно, не
столько исходный жанр как таковой, сколько то, в
какой мере он одушевлен и поэтизирован. Например,
драма «Красная шапочка» психологически ближе новелле
«Верный Эккарт», чем драме «Фортунат». Мы
обнаруживаем в сказочной поэзии Тика следующие группы,
которые, однако, не следует строго отграничивать друг
от друга:
1) несколько архаизированный, нарочито
бесхитростный пересказ или же расширение и перекомпоновка
старинных преданий из народных книг (Дети Хаймона, Ме-
лузина, Верный Эккарт);
2) мнимо архаичный пересказ с сатирической
подоплекой или в сознательно ироническом тоне (Шильдбюр-
геры или вымышленный Абрахам Тонелли);
3) по-детски архаическая драматургия в манере Ганса
Сакса (Красная шапочка);
4) сентиментальный, психологический и лирический
пересказ или драматизация старинных мотивов (Магело-
110
на) или вымысел в духе древних сказов (Белокурый Эк-
берт, Руненберг, Кубок, Рыцарь Синяя борода, Фортунат);
5) расширение старинного сюжета до универсальной,
лиро-эпико-драматической поэмы (Женевьева,
Император Октавиан);
6) иронически-сатирическое травести сказочных
мотивов в литературных комедиях (Кот в сапогах, Принц
Цербино).
Образцовым примером простой переработки
народных книг в архаической манере является «История
детей Хаймона в двадцати старофранконских картинах»,
впервые опубликованная в народных сказках Петера Ле-
брехта. Она явилась для Тика первым опытом
подобного рода. Он прельстился не столько конкретным
мотивом или созвучностью этой истории его душе, сколько
ее стилистической новизной. Поэтому он весьма точно
следует оригиналу, радея о приключенческом сюжете и
неподдельной старинной интонации, без всякой
психологии, прикрас или потуг на глубокомыслие. Воспринятая
от Вакенродера детскость еще не угасла в нем, а робость
новичка охраняла от заносчивой отсебятины. Вдобавок
история детей Хаймона благодаря динамичной фабуле
сама могла вести его за собой. Но тем не менее Тик
захотел быть обработчиком, а не просто (как впоследствии
Гёррес) издателем. Задача письменной фиксации устного
предания не стояла перед ним, как стояла перед
братьями Гримм, — эти памятники словесности уже были
записаны. В чем же состояла его работа, если ни сам
памятник, ни его дух не подвергались изменению? В том,
чтобы не только показать прошедшее архаично, т. е. по-
старофранконски, но и себя, рассказчика, искусственно
111
выставить ребенком, дабы побудить читателя по-новому
оценить старинную историю. Стилизация под старину
была лишь новым литературным приемом, своевольным,
парадоксальным, отнюдь не наивным писательским
жестом. Что для средневековых читателей было
естественным, современным — казалось незнакомым, далеким и
удивительным. Дистанция между публикой и
материалом, а также рассказчиком, опосредующим этот
материал, порождает отличие старинного
повествовательного стиля от стилизации под старину в тиковских «Детях
Хаймона». Народная книга была сообщением о событии,
Тик сообщал еще о нравах доброй старины. Народная
книга подразумевает историю, Тик — еще и ту
интонацию, с которой о ней повествуется. Он так
обстоятелен и многословен потому, что ему не на что
опереться; он вынужден прибегать к пространным описаниям,
ибо реалии Средневековья знакомы его современникам
меньше, чем читателям народной книги. Вдобавок ва-
кенродеровский предрассудок определил его
понимание сущности старины: древние времена казались ему
неразрывно связанными с некоей простодушной,
внутренней обстоятельностью. Тик путал интенсивность
жизни предков с полнотой души — неосознанно все
поэтизировал и пропускал через себя, — поэтому его
персонажи изъясняются пространнее древних.
Свойственная ему речистость и неосознанная потребность в стиле
помогали ему в этом. Ни один человек не в состоянии
изъять из памяти три обусловивших его столетия, и
даже самый искушенный знаток древности созерцает
ее сквозь призму своего темперамента и современной
ему эпохи.
112
В 1800 году во втором томе «Романтических поэм»
вышла в свет «Весьма необычайная история Me
Лузины», еще один пересказ старинной народной книги. Если
в «Детях Хаймона» в подзаголовке стояло «старофран-
конский», то здесь «необычайный» намекает на
новомодный и просветительский замысел сказочника, на
дистанцию между духом и материалом. Так же и в этой
новелле Тик придерживается действия и мотивов
народной книги и, по крайней мере вначале, — старинной
интонации. Однако два соблазна все же отвлекли его
от задуманной простоты. Его первоначальным
техническим заданием был один лишь пересказ. Во-первых,
техническая задача простого пересказа, которая еще могла
привлечь и удержать его внимание в первой народной
книге, утратила обаяние новизны. Тип жанра был задан,
интонация определена. Тику хотелось не повторить его,
а развить. Во-вторых, материал сказки о Мелузине,
несмотря на то что она несколько перегружена дуэльными
сценами, был поэтичнее, чем в «Приключениях детей
Хаймона»: тайна и рок зависти богов нависают над
рассказом о рыцаре, которому выпадает сверхчеловеческое
счастье... которое он по-человечески легкомысленно
теряет... глубокая интуиция, что человек в состоянии
удержать столько счастья, сколько может вместить его душа.
Волшебный мир и мир человеческий не раскрываются
параллельно друг другу и не образуют причудливых
сочетаний, как в большинстве приключений, но сталкиваются
по законам судьбы. Злополучие незаслуженного счастья,
опасность тайны, бремя милости — эти изначальные
человеческие интуиции смешались в сказке о Мелузине
с ужасом христианина перед природой... романтическая
113
версия античной идеи о заносчивой гордыне, как и
сказание о Лоэнгрине.
К этой теме относится и « Фортунат» — история
о вертопрахе и шальном счастье. Тик не был бы поэтом,
если бы такой сюжет не соблазнил его выйти за рамки
технического пересказа и сочинять по-своему.
Старинная народная книга использовала символику лишь как
сырой материал, а не как конструктивный прием...
только в сцене прощания Мелузины и Раймонда в языке
слышатся какие-то нотки предчувствия и умиления. Тик,
как поэт эпохи образования, не мог освободиться от
навязчивого глубокомыслия.
Не только мотив судьбы, но и мотив ландшафта
взывал к Тику в «MeЛузине»: здесь его поджидали любимые
декорации — лесная и водная среда, — разбавленная
стихия, в которой его фантазия чувствовала себя особенно
привольно. Правда, он не помышлял ни о
психологизации, ни о трагизации содержания «Мелузины», в
отличие, например, от Геббеля (у Геббеля есть своя версия
конфликта Мелузины — в «Гиге» счастливец
злоупотребляет своим счастьем и нарушает тайну). Там, где Тик
искал глубины, он не уплотнял, а расширял, не
разрабатывал человеческое содержание, как Шекспир, но внедрял
универсальное содержание, мистические предчувствия и
связи, или же окутывал и одновременно озарял сухой
материал мерцающей дымкой, каковая воплощала для него
« поэтическое начало» и состояла из смеси бестелесных
грез, зыбких, трепещущих ландшафтов и
переменчивых душевных волнений. При всей точности пересказа
книжки о Мелузине он нередко поддается искушению
описывать ландшафты подробнее, т. е. красочнее, неже-
114
ли оригинал, энергичнее выделять чудесное, а душевные
настроения персонажей выражать проникновеннее. Если
уже тиковские «Дети Хаймона», несмотря на детскую
интонацию, были по сравнению с оригиналом более
рыхлыми и затянутыми, то «Мелузина» разбухла почти на
треть. В третьей части Тику так наскучил пересказ, что
вместо поэтической прозы он прибегнул к сжатым
трехдольным стихам в прозе, нелепая и одновременно
занудная трескучесть которых превращает сочный немецкий
язык народной книги в ярмарочную балладу. (Хотя
большой ошибки в этом нет, ибо ярмарочная баллада является
не чем иным, как современной формой жанра народной
книги.) Вот несколько примеров метода Тика. В
старинной народной книге при описании свадьбы о Мелузине
сказано просто: «Она была необычайно хороша собой и
больше походила на ангела, чем на простую девушку».
Для Тика эти слова недостаточно насыщены
предчувствиями и ассоциациями — Мелузина должна прямо
сейчас производить впечатление таинственного
морского существа — и Тик пишет: «Изысканный наряд
облегал ее благородную стать, и, подобно дуновению резвого
летнего ветерка, струились нежными волнами складки
подвенечного платья, словно у выступающей из моря
богини, с которой только что соскользнули потоки воды:
голову украшал венок из цветов, а в сиянии открытой
груди мерцали драгоценные каменья, переливаясь
разными цветами». Это описание, выпадающее из тона всего
рассказа, есть современная фантазия, вложенная, как и
в «Штернбальде», в текст. Далее Тик описывает спальню
новобрачных — эротические картины на стенах: Леда и
лебедь, Марс и Венера в сетях Гефеста, Галатея... намеки
115
на стихийную сущность Мелузины — слишком
нарочитый, слишком театральный прием для сказки. Он хотел
превзойти народную книгу наглядностью, красочностью
и волшебством и, раскусив к тому времени суть
Просвещения, не мог налюбоваться чудом и тайной. (Уже Гейм
порицал такое несоответствие народной книге.) Прочтем
речь об астрономии: в народной книге благодетель
Раймонда, знаток астрологии, прорицает по звездам: «Кто
умертвит в час сей своего господина, превзойдет своих
друзей властью, счастьем и богатством». Отказать себе
в удовольствии щегольнуть старинной мистикой и свеже-
приобретенными, но еще не осмысленными сведениями
из Якова Бёме Тик не мог. Где народная книга
объективна и лаконична, там Тик живописен и «глубок». Вот как
описывается положение звезд: «Взгляни на ту
красноватую звезду, что поднимается по небосклону и
приближается к белой, — испускаемый ими свет странен, а
констелляция редка, и т. д.» Когда Раймонд задает вопрос,
каким образом можно определить судьбу по звездам
(типичный вопрос просветителя), в ответ звучит
псевдонаучная галиматья: «Природа причудливо многообразна
и одновременно весьма проста, небо есть зеркало земли,
земля — зеркало неба, каждая вещь отражена в другой,
созидает ее и созидается ею, одни и те же силы в
разных формах, одни и те же образования многоразличных
сил, словно тысяча беспорядочно текущих рек, то
сплетаясь друг с другом, то строясь в красивые ряды... я
нахожу созвездия в себе и в бездне, наше сердце
притягивает к себе любовь духов, и потому мы можем созерцать
в большом зеркале прошедшее и будущее». Будь это хотя
бы подлинной мистикой, косноязычным единоборством
116
между словом и видением, как у самого Якова Бёме, но
ведь здесь пустой и безликий вздор, выдаваемый за мрак
и бездну... претензия на таинственность, в которой нет
ни чувства, ни веры. Такой подлог делает тиковскую
«MeЛузину» мутной смесью из подделки под старину и
новомодной чепухи.
Многие места оригинала Тик переложил в стихи —
сонеты, рифмованные октавы и баллады, то ли из
ложного понимания романтической универсальности (братья
Шлегели к тому времени убедили его в том, что поэт
произвольно может настраиваться на любой поэтический
лад)... то ли чтобы перебить размеренный
повествовательный ритм... то ли из непреодолимого желания поим-
провизировать. Стихи уместны там, где Тик как бы
интонирует трогательные эпизоды народной книги — слова
Раймонда над телом своего благодетеля или печаль
Раймонда при прощании с Мелузиной. Жалобы разлуки
звучат сносно, хотя мужественно искренняя проза народной
книги воздействует чище, чем таковские вирши в
ямбах. Если пошл даже сонет, оплакивающий умершего, то
о пространных рассказах в стансах Ариосто или
балаганных частушках и говорить не приходится. Искусственные
строфы намеренно небрежны, искусственно
прозаизированы — прозаичнее самой прозы, неотшлифованы,
литературное подражание трелям фольклорного
экспромта... утонченная имитация простоты! Однако языковая и
формальная техника Тика превращают его небрежность
в жеманство, напоминающее сюсюканье взрослого с
ребенком: «Сто там за сум узасаюссий?» Равновесие
между стихом и прозой, сентиментальным рационализмом
пополам с двусмысленным культом Шекспира сделали
117
прозу Тика вялой, а его стихи — сглаженными. Он
злоупотребил прозой, объективным сообщением ради
вздора и цветистого кокетства, а стихом, выражением
экстаза и человеческого воодушевления ради заумной
болтовни, без учета их происхождения и законов.
В интонации, колеблющейся между старинным
простодушием и новой сентиментальностью, между прозой
и балаганной песней, написан также «Верный Эккарт и
Тангейзер» (1799, «Романтические поэмы»). Тик
набросал его за пару часов после ночной попойки с Новали-
сом, как плод разгоряченной беседой и вином
экзотической читательской фантазии. Стеффенс сообщает об
импровизационном таланте Тика... вероятно, такими
импровизациями были и сочиненные под хмельком «
Романтические поэмы», которые, как устные экспромты
веселого кружка, обладают большей прелестью, чем
замкнутые в строгую письменную форму. Одинокое
просветление творческих мук действует иначе, чем быстрое
дыхание коллективного дурмана... Первого Тик не ведал,
но часто путал первое со вторым — вдохновение Данте
с вдохновением Ариосто. Правда, и вдохновение Арио-
сто — целый духовный пласт — зависит от того, как
выражается эта коллективность: полнокровным светлым,
деятельным жизнелюбам приходят в голову более
сочные, концентрированные, насыщенные и
продолжительные фантазии, чем идеалистическим «интеллектуалам».
Так же и настроение «Верного Эккарта» Тика
пронизано лесной и рыцарской тематикой — ужас судьбы и
тщетное предостережение, тайна гор и астрология. Тик
связал воедино сказание из предисловия немецкой
героической книги XV века о верном Эккарте, предостереже-
118
нию которого не вняли, с легендой о любовнике Венеры
Тангейзере и местным вестфальским сказанием о
крысолове, который у него оказывается горным демоном. Если
лес был для него знаком шепчущих и мятежных
волнений души, то горы, особенно после знакомства с гео-
гностом Новалисом, стали символизировать священный
трепет, испытываемый перед землей. Для мятущихся
романтических духов гора, скала, т. е. земная твердь,
была чем-то абсолютно чуждым, местопребыванием
враждебного, с благоговейным ужасом чуемого зла,
непроницаемой преградой. Если в подвижных стихиях они
находили самих себя, то неподвижная стихия страшила
своей враждебностью душе, и они хотели пронизать ее
разумом или расчленить в рефлексии. Горы и скалы —
средоточие «не-Я» романтизма. В «Белокуром Экберте»,
«Руненберге», старой книге, образе горного старца Тик
вновь и вновь отдает дань чуждому для человека
волшебству гор.
В импровизации Тика три мотива лишь условно
связаны друг с другом. Сновидческий переход из одного
образного мира в другой был частью как романтической
философии, так и техники импровизатора. Тик хочет
показать не какое-то определенное учение, людей или
судьбу, но мерцание играющих образов, безотчетный
ужас перед силами, как внутреннего мира человека, так
и внешнего, ему неподвластного... коллективное
предчувствие, даже единство видимой природы и невидимой
души. Старинные народные книги — их мотивы имели
разное, нередко ненемецкое происхождение —
первоначально повествовали о деяниях рыцарства; позднее,
изображая чаяния и помыслы восходящего бюргерства,
119
обрели немецкий колорит и опростились — романтикам
они дают образы мифологически опоэтизированного
прошлого и целостной природы, еще не расчлененной на
душу, дух и характер. Шепот и бормотание
натурфилософии помогли Якову Бёме зашифровать романтическое
«бесконечное» в краткие легенды.
Еще одной импровизацией Тика является
драматическая обработка сказки о Красной шапочке «Жизнь и
смерть Красной шапочки. Трагедия» (1800,
«Романтические поэмы»). Волк проглатывает Красную шапочку,
спасения нет. Волк — трагический злодей, вознегодовавший
на несправедлршых людей, своего рода озверевший Карл
Моор, — застрелен охотником. Люди оскорбили его
возлюбленную, он решает отомстить. Книжечка написана
ломаным стихом, грациозно-разухабисто,
юмористически. Детская серьезность удачно смешана здесь с
иронией взрослого сказочника. Скорее всего, Тик
предназначал эту историю для детской публики, однако припас
сатирические выпады и для ровесников — например,
когда волк, замечтавшись и расчувствовавшись,
описывает свою возлюбленную волчицу:
Тело, всех прекрасней и стройней,
Дух, который словом не прославить,
Разум, что золота ценней,
Все это можно было в книге представить,
Элиза, или волчица, было имя ей*.
Это намек на некогда популярную,
морально-сентиментальную книгу «Элиза, или женщина, какой ей при-
* Пер. Е. В. Бурмистровой.
120
стало быть. Немецким девам и женам Вильгельминой
Каролиной фон Вобезер посвящается». В целом Тик
сохранил детскую интонацию сказки, довольствуясь
иронией, что взрослый на полном серьезе рассказывает
детские истории как трагедии, словно они важны для него
так же, как и для детей. Ирония присутствует во взгляде
на публику — в серьезном отношении к тому, к чему
публика не привыкла относиться серьезно. «Красная
шапочка» — детская пьеса для взрослых и детей: серьезное
для детей должно было казаться комическим для
начитанных и эстетически образованных взрослых... уже
одно название — трагедия, как и трагически
рассуждающий волк-психолог... Красная шапочка, гибнущая из-за
собственной гордыни. Травести «трагической
справедливости». Комизм возникает вследствие двойной
перспективы. Чистую поэзию Тик позволил себе и здесь, описав
атмосферу леса и щебетание птиц.
В «Красной шапочке» Тик прибегает к сказочной
интонации, дабы не нарушить сказочное и детское
настроение. В «Достопамятной исторической хронике шильд-
бюргеров» (1796) и «Необычайном жизнеописании Его
величества Абрахама Тонелли» (1798) он использует и
утрирует ее ради достижения комического эффекта... не
ради того, чтобы обновить почтенную манеру
чувствовать и говорить, но для того, чтобы представить их в
ироническом свете. Старинная книга о шильдбюргерах тоже
должна была смешить, но только простой комичностью,
очевидной тупостью шильдбюргеровских проделок. Тик
привносит нечто новое: благочинно-патриархальную
интонацию, с которой он повествует о
шильдбюргеровских деяниях современным читателям, — комическое
121
содержание в иронически серьезной форме. При этом
он и содержание приспосабливает к своим читателям —
манера шильдбюргеров совершать глупости вследствие
мудрствования и полного отсутствия здравомыслия
остается неизменной. Однако предметы их глупости
осовременены — шильдбюргеры стали сынами Просвещения.
Комизм старинной народной книги состоит
преимущественно в том, что шильдбюргеры используют вещи не
по назначению или прибегают к негодным средствам для
достижения целей. Они мыслят совершенно логично,
последовательно, каузально — только логика их, т. е.
соединение средства и цели, причины и следствия, не
учитывающая ни свойства вещей, ни результаты
собственных действий, настолько нелепа, что делает их слепыми
в мире действительности. Их поступки противоречат не
логике, а опыту — абсурдны не теоретически, а
практически. Шильдбюргеры были бы разумными людьми, если
бы соль сеяли, а свет собирали в мешки и т. д. «
Умалишенный, — говорит англичанин, — не тот, кто лишился
ума, а тот, кто лишился всего, кроме собственного ума»,
т. е. обладает логическим мышлением вне содержания
реальной жизни... шильдбюргеры лишены ума именно
в этом смысле. Какая сатира на просветителей! Ведь те
заключили Вселенную в прокрустово ложе нескольких
целей и безмерную полноту бытия — в рассудочный
капкан. Шильдбюргество в чистом виде — чопорная,
в сущности, далеко не бессмысленная, а тем более не
безнравственная серьезность, которая, впрочем, не
ведала ни человечности, ни истины, ни смысла истории,
а тем более трансценденции, у которой, стало быть,
отсутствовала всякая мера для измерения собственной узо-
122
сти и пустоты, т. е. свобода духа, юмор, ирония. Такими
Тик воспринимал просветителей и уподобил им своих
шильдбюргеров. Если прежним шильдбюргерам
недоставало преимущественно обыденных знаний городского
и сельского хозяйства, то шильдбюргерам Тика
недостает знаний высших политических, духовных и моральных
сущностей — место плохих строителей, земледельцев и
ремесленников заняли бестолковые философы, политики
и литераторы. Такие подвиги шильдбюргеров, как
например история о мрачной ратуше, Тик сохранил — но и ее
он в подробных речах переиначил на просветительский
лад. В частности, он восхитительно серьезно, иногда
излишне многословно пародирует предрассудки разного
рода литературных продавцов и покупателей,
эстетические, философские, моральные, политические теории,
а также революционные последствия оных. Тик любил
всякую идею загонять до смерти. Облик народной книги
обработчик исказил тем, что его обработка предполагает
наличие точных сведений о состоянии книжного рынка
того времени. Старых шильдбюргеров может понять
любой здравомыслящий человек и усмехнуться.
«Шильдбюргеры» — первая романтическая
литературная сатира Тика. Если не считать нескольких
пародийных речей, то общий ее тон еще созвучен народной
книге... но содержание уже современно-ироническое.
Близкородственным по тону и по тенденции является
«Необычайное жизнеописание Его величества Абрахама
Тоне л ли» — вымышленная автобиография глупенького
портняжки, который в результате разного рода опасных
приключений, безумств и везений становится
императором. Источником данной сатирической сказки Тик назы-
123
вает роман начала XVIII века, «который простосердечно
повествует о нелепейших явлениях духов, чудесах и
метаморфозах, без всякой иронии, прямо-таки на потребу
сластолюбивой и ленивой публике». Это признание
похоже на выдумку — Тик обладал слишком тонким
литературно-историческим чутьем, чтобы не раскрывать своих
источников. Как бы там ни было, его тянуло иронически
подыграть тупой серьезности и неуклюжей
патриархальности. Если в «Шильдбюргерах» он издевался над
безумным и заумным сумасбродством, то здесь все строит
на контрасте между от природы тупым и примитивным
пошляком и опасностями, ужасами и чудесами
сказочного мира. Абсолютно неромантический тип
повествует о своей насквозь романтической жизни... лишенный
фантазии обыватель вовлечен в самые фантастические
приключения... флегматик как ни в чем не бывало
живет героической и волшебной жизнью, не переживая ее
внутренне. Это ироническое противоречие тоже
характеризует отношение Тика к Просвещению: Тонелли,
император-портняжка, счастливчик-дуралей, не осознающий
даже собственные аффекты, как рассказчик
олицетворяет тупую мещанскую публику, а как герой
приключений — бездушную фантастику тогдашних готических
романов — гримаса, с одной стороны, умонастроения
эпохи, а с другой стороны, литературного жанра,
трезвого рассудка и вздорной фантазии. Две противоположные,
но в чем-то сходные нелепости вышучивают друг друга:
одна через повествование, другая через действие.
Комический контраст между повествовательным тоном и
действием усилен контрастом между мировоззрением и
ремеслом Тонелли — скорняжная душа под император-
124
ской мантией, которая орудует скипетром как аршином,
добродушный и придурковатый ротозей, превративший
императорский трон в кроильный стол. С литературно-
сатирическими аллюзиями внутри текста Тик
обходится более вольно, чем в «Шильдбюргерах», от чего роман
только выигрывает. Поэтому история Тонелли
сатирически осмеивает человеческую глупость в целом, а не
просто, как в «Шильдбюргерах», отдельные ее проявления.
Если ценность юмористического рассказа измеряется
комическим эффектом, то эта повесть у Тика — самая
лучшая. Комическое напряжение между чудесным или
высоким и пошло-повседневным нигде не передано так
спокойно и виртуозно, как в этой с деловитой
придурковатостью изложенной небылице, — нигде человеческий
тип так не разоблачается собственной речевой манерой,
не нуждающейся ни в каких-то авторских комментариях.
Между теми произведениями Тика, что обновляют
старинный материал и смысл, и теми, что в шутку или
всерьез архаизируют таковые, нельзя провести строгой
границы. Решающими для поэта в первом случае были
чужой материал и чужая интонация, именно «чужое»,
роль, имитация стиля, техническое задание, во втором
случае — «свое», душевный трепет, эмоциональное
напряжение, как в «Белокуром Экберте», либо духовные
борения и замыслы, как в «Коте в сапогах» и «Октави-
ане», либо психологические загадки, как в «Синей
бороде». Его подлинная поэтическая сущность обретает
слово там, где он творит и рождает форму изнутри,
получая извне только материал, но не способ его
оформления. Переход между этими двумя группами образует
«Необычайная история любви прекрасной Магелоны и
125
графа Петера из Прованса» (обработка народной книги
1796 года) Повесть о разлуке, боли прощания,
превратностях судьбы и трогательной встрече, бегло и просто
рассказанную в народной книге в виде увлекательной
приключенческой истории, полной разного рода перипетий
и неожиданностей, Тик наводнил описаниями чувств
с поэтическими, цветастыми, плаксивыми
разглагольствованиями, дополнительными оттенками, наполнил
мечтательностью, пейзажными зарисовками и всяческой
чувственностью. Автор озабочен не столько событиями,
сколько чувствами персонажей. Из рыцарских и
героических сказаний он извлекает пасторали во вкусе рококо
с добавлением средневекового антуража.
Романтическим шедевром Тика является сказочная
новелла «Белокурый Экберт» (1796) — квинтэссенция
его собственной, вдохновленной Средневековьем,
лирической прозы и образец для позднеромантических
фантастических писателей от Брентано и Арнима до
Э. Т. А. Гофмана и Генриха Гейне. Сюжет придуман
Тиком, что позволило ему свободно, без оглядки на
ограничения, накладываемые заимствованным материалом
или формой, отдаться творческому порыву или видению:
ужасу перед тайной природы, чувству непостижимого
рока, предчувствию духовности и символизма
чувственного мира, истине грез, согласию между
представлением и событием. Некий рыцарь по имени Экберт живет
в уединенном замке, близ Гарца, со своей женой, фрау
Бертой, изредка навещаемый единственным другом
Вальтером. Однажды вечером Берта рассказывает
историю своей жизни, как ее, дочь бедняка, сбежавшую
однажды из дому, в горах приютила старуха и препоручила
126
Берте вести домашнее хозяйство на время частых
отлучек. В ее ведении находится чудесная собака и птица,
несущая золотые яйца и жемчужины и поющая песню
о лесном одиночестве. Тоска и фантазия гонят ее,
несмотря на запрет, прочь, птицу вкупе с сокровищами она
забирает с собой, сворачивает птице шею из страха, когда
та пытается увещевать ее. Позже она выходит замуж за
Экберта, белокурого рыцаря ее мечты.
Загадочным образом Вальтеру известно имя
собачонки, которое Берта сама забыла. Экберт, постепенно
преисполнившись недоверием и ревностью к посвященному
в их тайну Вальтеру, убивает его выстрелом из ружья,
Берта умирает от душевного потрясения. Терзаясь
совестью, Экберт живет в одиночестве, пока не находит
нового приятеля, рыцаря Хуго, которому рассказывает всю
подноготную. Он раскаивается в собственной
доверчивости, когда в Хуго ему мерещится убитый им Вальтер,
бежит, но прошлое неотступно преследует его — лесное
одиночество Берты, собачонка, птица, наконец
старуха. Она открывает ему, что покарала неправду под
личиной Вальтера и Хуго, а Берта на самом деле была его
сестрой. Экберт умирает от безумия и ужаса. История
содержит традиционные сказочные мотивы: карающая
или одаряющая колдунья, бремя тайны, которое должно
разрешиться. Все в целом — не столько сказка, сколько
видение. Сказка повествует о чудесных вещах как о
реальных. Техника Тика должна вызвать трепет
нереального, т. е. выбить у читателя почву из под ног, смутить его,
смешать прошлое с настоящим, фантазию с телесным
миром, моральный мир со стихийным, природу с душой.
Видение упраздняет пространственные и временные гра-
127
ницы — безумие разрушает тождество. Все формы
безумия можно свести либо к раздвоению Я, либо к
разрыву причинно-следственной связи. Состояния, в которых
уверенный в себе, отграниченный от внешнего мира
человек чувствует, что его личность или законы
привычного мира упразднены, образуют содержание «Белокурого
Экберта»: то, что старуха не просто, как в сказках, с
помощью колдовства превращается в разных персонажей,
а ими является, есть видение... то, что Экберт видит
в этой троице — Вальтере, Хуго и ведьме — триединство,
есть мания преследования. Однако Тик не изображает
манию как болезненное состояние Экберта, но
повествует о ней как о некоем внешнем процессе. Упразднение
законов причинности и тождества, как в старинной
сказке, является у него реальным событием и одновременно
(совсем не по-сказочному), как у искушенного в
современной психологии и психопатии романиста,
состоянием души. То, что Вальтер внезапно называет собачье
имя — Штромиан, — есть сказочное чудо и
одновременно галлюцинация. ΤΥικ показьшает сказочные чудеса как
состояния души и видения — галлюцинацию, безумие,
бред — как нечто происходящее в реальности.
И здесь он учится у мастеров: когда Макбету
является призрак Банко, в мир вступает многоликий кошмар
убийцы — наваждение и реальность одновременно. Дух
отца Гамлета совершенно реален — его видят даже
непосвященные в тайну. Оба явления проясняют различие
между древними мифологическими духами и
современными духами, обитающими в душе. В «Гамлете» сущая
прежде души судьба воплощается в мире, в «Макбете»
душа исторгает свои страдания во внешний мир. Тик
128
размывает границы и истоки, погружая персонажей и
читателей в сумрак «магического идеализма», —
смешиваются душевные состояния и внешние процессы, даже
читатель должен усомниться: спит он или бодрствует.
Главный стилистический прием в «Экберте» —
напряженная сбивчивость изложения. Экберт
рассказывает, как затравленный, гонимый безотчетным страхом,
неприкаянный и в то же время так, словно речь идет
о вещах, ему безразличных, отстраненно. (Арним в этом
отношении пошел еще дальше.) Тем самым он
добивается сновидческого эффекта — во сне мы тоже
одновременно пребываем в нем и вне его.
Наряду со сновидением и помешательством
«Белокурый Экберт» живописует лесное одиночество. Пара
предметов сказочного реквизита — чудесная птица и
сокровища — мало о чем говорят. В этом ландшафте душа
и судьба сливаются под воздействием буйной фантазии
в общее текучее пространство. Людские персонажи
являются, подобно деревьям, животным, камням, лишь
струнами, на которых тайные силы — природа не в
меньшей степени, чем судьба или душа, — исполняют свои
бессвязные мелодии. Иными словами, они являются не
самостоятельными характерами, но лишь настроениями
и состояниями. Вина Берты — не столько нравственное
переживание человека, сколько человеческое
истолкование сверхчеловеческого ужаса. Сновидческий
кошмар — основа этой новеллы, «сказка» — ее техника.
Аналогичные мотивы — ландшафт и кошмар — Тик
объединил в новелле «Руненберг» (1802). При помощи
иного сюжета эта сказочная история создает атмосферу,
схожую с «Белокурым Экбертом». Молодого, веселого
129
охотника чуждая сила посредством волшебного корня
заманивает в жуткое и полное тайн царство гор, духи
которого приобщают его к своему миру и отчуждают его
от семьи, домашнего очага, пока тот, словно Тангейзер,
однажды не сгинул в проклятых горах. Такие старинные
народные поверья, как проклятие мандрагоры, магия
металлов и камней, мотивы Тангейзера и Эпименида,
местные сказания о горах и поэтические черты философии
природы Шеллинга—Стеффенса, Тик погрузил в
излюбленную им атмосферу ужаса человека перед природой,
безотчетной тоски по сумраку, сновидению, чужбине,
душевной одержимости нечеловеческими силами и
одушевленным вторжением нечеловеческих сил в
ограниченную человеческую жизнь. В «Руненберге» Тик особо
возвеличил колдовство гор. Робость, населяющую
недоступное разумению пространство опасными и
прельстительными существами, Тик обосновал при помощи
поэтически отраженной, психологически истолкованной,
натурфилософски обрамленной легенды, напустив, по
своему обыкновению, фантастического и
рефлексивного тумана в плотную первоматерию мифа или сказания.
И здесь самым подлинным является атмосфера
ландшафтов. Натурфилософия, как это всегда бывает у Тика,
затемнена на лету схватывающим и умело
использующим полузнайкой, который, сомневаясь в истинности
мифа, не полностью принимает и его интеллектуальное
толкование, но имитирует красочность мифа и
«глубину» мысли. Ярким примером такой интеллектуальной
нечестности в «Мелузине» было использование
астрологии. Сюда же можно отнести следующую сентенцию из
«Руненберга»: «в растениях, травах, цветах и деревьях
130
болит и стонет одна великая рана, они — трупы
древних великолепных каменных миров, продукты ужасного
разложения». Сентенция поэтичная, но лично не
пережитая и сказанная без веры, литературщина, имитация
новой науки Шеллинга без собственного взгляда на
природу, усвоенная понаслышке. Когда Джульетта взывает
к волшебной силе мандрагоры, а Отелло — к месяцу,
то через Шекспира непосредственно говорит
мифический ужас народа. Когда Гёте в «Фаусте» шепчет о
матерях, он толкует древние мифы собственной мудростью.
Тик верит не в истину собственных сентенций, но лишь
в красоту или глубокомыслие таковых и зажигает
кокетливые огни.
Несмотря на рыхлость, оторванность содержания от
формы, переживания от толкования, к сюжету в этих
произведениях Тик относится все-таки серьезно. Его
чисто иронические произведения призваны не обновлять
сюжеты старинной поэзии, какими бы комичными или
фантастическими они ни были, но обыгрывать саму
функцию поэзии. Здесь уже обнаруживается не простое
противоречие между старинным тоном изложения и
современным содержанием («Шильдбюргеры», «Тонелли»),
но тройное противоречие между сюжетным материалом,
формой и поэзией. Сам Тик отразил этот комический
разлад, вторично поэтизируя собственную поэзию и
воздействие этой поэзии на публику. Духовное просветление
серой жизни, освобождающее значение образа для
бесформенной душевной и природной материи, творческая
и избирательная самостоятельность человека по
отношению к миру, которую романтики чтили в Гёте, Шекспире
и Сервантесе, была ложно истолкована ими как позволи-
131
тельность любой игры и подмены — они возомнили, что
могут создавать и упразднять не только всякое не-Я, но
и Архимедову точку опоры — вращающее мир Я.
Однако творческая свобода возможна только при условии
абсолютной точки зрения. Если я упраздняю собственные
тело и дух, то мною играют чужие силы. Едва Тик
всерьез пожелал не только отразить мир, как в «Экберте» и
«Meлузине», не только удержать отражение мира в
кривом зеркале, как в «Тонелли» или «Шильдбюргерах», но
и отразить само отражение, он довел свой собственный
дух ad absurdum с комическими последствиями
абсурда... в таких произведениях, как «Шиворот-навыворот»,
«Кот в сапогах», «Принц Цербино».
Повествовательная праформа этих иронических
сказочных драм «Семь жен Синей Бороды» (1797) — не
только пародия на бездарные рыцарские романы, но и
пародия самой пародии. А наиболее плодотворным жанром
для такой игры духа была драма. Театр — символическое
пространство, воплощающее духовные образы:
зрители должны принимать драматический, изображаемый
в пьесе, вымысел за реальность. Сценическая иллюзия,
посредством которой творческое состояние поэта
высвечивается перед зрителями как сотворенный предмет,
является одновременно реализацией духа и
дематериализацией мира. Она извлекает из духа зримый
самостоятельный процесс и толкует мировой процесс как символ
духа. Кто упраздняет сценическую иллюзию, уничтожает
не только ее чувственное содержание, но и образы духа,
не только созерцаемое, но и созерцающее, наконец, само
созерцание... но именно в этом Тик усматривал
наивысший возможный триумф свободного духа над тем духом,
132
который еще ограничен материальной формой
собственных законов и творений. Ограниченным казался ему
филистер, который собственную картину мира выдает за
вещь в себе, а собственные меркантильные цели мнит
безусловными. Ограниченным казался ему и поэт,
воспринимающий свои фантазии по-земному всерьез, и
публика, которая все принимает за чистую монету, сюжет
за поэзию и ищет в ней пользу, поучение или мораль. Но
ограниченным был для него и творец, который не в
состоянии воспарить над созданным им самим образным
миром и, убедившись в его иллюзорности, упразднить
таковой... упраздняющая сила — дух — способна
упразднить самое себя и так in infinitum (зеркало, отражающее
собственные отражения). Эта свобода, которая, если ей
злоупотребить, способна довести до умопомрачения и
паралича головы, есть поэтическое следствие идеализма
Фихте. С тех пор как театр стал свободен от культа,
иронические драматурги измеряли обусловленность
означающих мир подмостков самим миром, который эти
подмостки должны были означать, и дразнили публику вкупе
с ее представлениями о мире и поэзии. Скоморошные
сцены в шекспировской драме «Сон в летнюю ночь»
издеваются не над действительностью видений, но над
напрасными потугами сделать их видимыми и тщетными
потугами зрителя все это постигнуть. Шекспир,
устраивая сцену на сцене, иронизирует не над поэтическим
даром, а над своим актерством и, освобождаясь от
сценической условности, делает подлинное фантастическое
и волшебное действие еще более реальным. Когда едва
покинувшего Итаку героя Гольберг в «улиссе» внезапно
возвращает назад глубоким стариком, то насмехается над
133
модной тогда в литературных кругах полемикой о трех
единствах у Аристотеля. Если в финале пятого акта
«Триумфа чувствительности» Гёте два персонажа
жалуются, что все окончательно запуталось и публика не
сможет понять, в чем здесь соль, и один предлагает сыграть
еще и шестой акт — на театре у немцев, дескать, всякое
бывает, — то там, изнутри самой пьесы, высмеиваются
драматические выкрутасы «Бури и натиска», при том,
что достоверность самой пьесы не подвергается
сомнению. Все эти предшественники Тика, будучи вооружены
надежным мерилом и собственным рвением,
иронизируют над местом действия и публикой, воспарив к высотам
мироздания, откуда все предстает в комическом свете.
Им знакома безусловная ценность, перед которой
благоглупости публики или чопорная условность поэта
утрачивают ценность и предаются осмеянию.
Тик — первый прославленный насмешник без
абсолютной точки зрения. С позиций журнала «Атенеум» он
высмеивает плоское резонерство современников, вроде
жеманного чванства какого-нибудь Бёттигера в «Коте
в сапогах», слезливой патоки женских романов,
фарисейства Коцебу и Иффланда, аляповатой естественности
идиллий Шмидта из Вернойхена... а заодно и сами
романтические правила игры. Тик выводит на сцену
комическую публику, затем самого себя, поэта, который
издевается над публикой, а сверх того, свои собственные
приемы — то как серьезные и шутливые, то как
условные, воспринимаемые публикой. Он смотрит на своих
персонажей то собственными, то зрительскими, то
сказочными глазами — и тасует маски, становясь то
актером, то ролью. Он стремится не столько к сатире, сколь-
134
ко к игре как таковой, смущающей как читателя, так
и зрителя.
Сказочный жанр предполагает высокую степень
нереальности уже по определению. Вначале Тик хотел
только подразнить пошло рассудочных, морально
чувствительных современников розыгрышами и
фантасмагорией... изничтожить их тупую самоуверенность и при-
земленность с помощью духовной поэзии, пребывающей
одновременно везде и нигде. В процессе работы
первоначальный замысел перешел в необузданное и
неуправляемое импровизационное действо. Так, «Кот в сапогах» и
«Принц Цербино» пестрят вкраплениями литературных
аллюзий, барочными сказочными проделками,
каламбурами и блистательными эпизодами, за которыми, чтобы
не запутаться, нужно следить в оба.
В этих произведениях следует определить точку, из
которой Тик разграничивает или смешивает уже известные
нам элементы своей сущности. Литературная продукция
Тика представляется необозримой, так как он
периодически меняет концепцию тех немногочисленных
содержаний, которые у него есть. «Развитие» у Тика (в
отличие от Гёте, с которым он охотно и стыдливо позволял
себя сравнивать) основано не на том, что он воплощает
все новые области неисчерпаемой сущности,
взаимодействуя с окружающим миром, и не на постепенном
изменении душевных сил, но на том, что он пользуется
одними и теми же состояниями — мечтой, ужасом, бредом,
тоской, чувством ландшафта, капризом, остроумием, —
одними и теми же симпатиями и антипатиями, только
в разном ракурсе и пропорции, с иными предметами и
примерами. После «Вильяма Ловеля» мы не узнаем ни-
135
чего нового о душевной жизни Тика, только о том, что
он читал. «Шильдбюргеры», «Тонелли», «Мелузина» и
«Красная шапочка» показывают все содержания
сказочной комедии, и меняется только перспектива.
«Кот в сапогах» и «Принц Цербино» изобилуют
забавными остротами и хлесткими выпадами по поводу
нейтральных персонажей, но по части живых видений и
мыслей они уступают рассказам. Будучи шутливым
комментарием к бюргерской тривиальной литературе
рубежа веков, они не обогащают сокровищницу культуры
образами, смыслами и интонациями, лишены волшебства
и нового знания. «Кот в сапогах» и «Принц Цербино» —
универсальные поэмы иронии Тика. «Женевьева» и
«Император Октавиан» — универсальные поэмы его
настроения. Критерий различия обеих (различных не столько
по поэтической сущности, сколько по интеллектуальной
концепции) групп Тик почерпнул из старинного мира
сказок и народных книг: у «Кота в сапогах» он взял
беззаботность и фееричность, у народных книг о Женевьеве и
императоре Октавиане — главным образом сердечность,
жертвенность, благочестивость. Обладая актерским
талантом, Тик был способен играть роль ироничного
наблюдателя своего времени и восторженного почитателя
Средневековья. «Жизнь и смерть святой Женевьевы»,
трагедия, созданная в 1799-м и впервые опубликованная
в 1800 году в «Романтических поэмах», представляет
собой широкую эпико-драматическую лиризацию
народной книги под формальным воздействием Лопе де Вега и
Кальдерона, на которых Тик наткнулся, когда переводил
Сервантеса, — без влияния Шекспира тоже не обошлось.
От прочих народных книг эта, повествующая о безвинно
136
гонимой, набожной пфальцграфине, книга отличается
своей религиозной тенденцией, будучи не столько
светской повестью о приключениях и волшебстве, сколько
благочестивой легендой. Здесь сказалась
подготовленность Тика: речи о религии Шлейермахера, открытие
Якова Бёме, мистичность Новалиса, смирение Вакенро-
дера создали атмосферу, в которой «Женевьева»
предстала апофеозом средневековой святости. Тик стремился не
столько создать подлинную драму с героями и судьбами,
сколько соткать поэтический ковер, в котором
персонажи теряются в орнаментальных гирляндах из цветов,
созвездий и светил. Время действия легенды — походы
Карла Мартелла против сарацин — перед нами
проплывают батальные, любовные и подлунные сцены, лесное
одиночество и роскошь храмов, народная молва,
молитвы, равнодушные ко времени и месту, вялые и затянутые,
написанные пресным и неряшливым языком:
худосочная проза, белые и рифмованные стихи, стансы, сонеты,
канцоны, куплеты плетутся ни шатко ни валко, словно
спросонок. Поэтические штампы цветов и лунного
сияния, музыки и леса с примесью прозаическо-аллегори-
ческой болтовни на манер Якова Бёме. Лишь диалоги
черни в шекспировской манере создают хоть какую-то
иллюзию «характеров»... но и эти характеры придуманы
не Тиком. Реплики Женевьевы, лишенные сердечной
интонации и смысловой нагрузки, питаются плодами
заоблачных фантазий и книжного знания. Они лишены
мелодичности, образы смыты словесным потоком, который
несется мимо предметов и обстоятельств. Не веришь ни
в героизм Карла Мартелла, ни в благочестие Женевьевы,
ни в супружескую любовь Зигфрида, ни в страсть Голо —
137
все вязнет в цветистом пустозвонстве, немощном и
прохладном. Тик мечется между психологической глубиной
и романтической аффектацией. Голо, хотя бы задуман
как демонически благородный грешник, падший под
ударами судьбы или искушения, близкий
шекспировскому Анджело. Однако Тику не хватило для этого образа
«основательности».
Поэтическая тенденция, которая в «Женевьеве»
еще борется с драматической, сокрушает все преграды
в «Императоре Октавиане». Драма (1801—1804) замыс-
лена как средоточие всей романтической поэзии, как
возвращение средневековых фабульных мотивов из
сказок, народных книг, рыцарского эпоса и миннезанга,
как обновление всех романтических форм, введенных
в немецкую поэзию Гердером и Авг. В. Шлегелем:
ямбов Шекспира и хореев Кальдерона, стансов Ариосто и
сонетов Петрарки, гибрида нибелунговой строфы и
ломаного стиха Ганса Сакса, ассонансов и глосс. «Мне
показалось уместным, — говорит Тик, — дать слово всем
известным стихотворным размерам, вплоть до потешных
шванков Ганса Сакса, а также прибегнуть к прозе,
чтобы создать представление о круговороте жизни и
умонастроений». Эти слова показывают, что картина мира
Тика порождена литературой, что он ищет
универсальности в многообразии художественных форм... ранних
иноязычных культур, знания о которых почерпнуты из
литературных энциклопедий. Прочитанное, а не
пережитое всегда стояло во главе угла. Что Гердер и Шлегель
провозгласили как литературные историки —
обновление изначального жизненного содержания в процессе
образования, — Тик попытался осуществить поэтически
138
в «Императоре Октавиане», который является в большей
степени компиляцией поэтических жанров романтизма,
нежели целостным произведением искусства... пестрый,
пространный, разноплановый, динамичный, однако
поверхностный, слабый и пресный до тошноты. Здесь нет
жизненного центра, изначального импульса, оттого
произведение в целом лишено как бытийного порыва, так и
бытийного пространства. Оно написано извне вовнутрь,
задет от книги к сердцу, которого, однако, не
достигает. Самое амбициозное произведение романтизма так
и осталось литературным курьезом. Однако в качестве
направления и симптома истории литературы его
нельзя игнорировать — как широчайшее отражение
совокупного содержания образования, которое романтизм
в противоположность классицизму и рационализму
воспринимает, а также как резервуар романтических
художественных форм. Сюжетную основу, на которой Тик
разыгрывает свою фантасмагорию, образует старинная
простодушно-болтливая народная книга: «прекрасная и
занимательная история об императоре Октавиане, его
супруге и двух сыновьях, которые, будучи ввергнуты
в беду, чудесным образом встретились во Франции у
благочестивого короля Дагоберто». Эта книга попалась на
глаза Тику в 1800 году в одной из книжных лавок
Гамбурга, и он тотчас же решил сделать ее ареной
собственных фантазий на средневековую тему. Даже на фоне
немецких народных книг «Император Октавиан»
отличался рыхлостью, пестротой, несерьезностью и
фривольностью. Тик начинает свое произведение музыкально-
аллегорическим прологом, который является прелюдией
скорее настроения, нежели действия. В вялотекущих
139
мадригальных строфах маскарадное шествие
аллегорических хоров или фигур воспевает дух мировой эпохи,
в которую происходит действие повести об
императоре Октавиане: как настроения природы, лесной шелест
и майский воздух, напоенный ароматами и журчанием
вод, трелями рожка, флейты, птичьим гомоном... как
общественное и историческое пространство, как
весеннюю пастораль, звон рыцарских доспехов, благочестивое
паломничество и томительное или безмятежное
странствие... как душевную силу, религиозный и любовный
пыл, благоговение и доблесть, колдовство и придворную
забаву, как сумрачное Средневековье, в котором
смешаны интерьеры эпох Вольфрама фон Эшенбаха, Ариосто и
Кальдерона, суровый дух немецкого рыцарства,
отраженный в итальянском Ренессансе и возвышенный в
испанском Барокко. Видимо, идея романтической
универсальной поэзии Тику особенно полюбилась. Хоры пастухов
и рыцарей означают чувственно-социальную,
влюбленный и паломница — душевную сферу этого
придуманного Средневековья. Два путешественника и пономарь
олицетворяют контраст между атмосферой странствия
и идиллическим краем, дабы романтическая ирония,
преломляющая переизбыток чувств в чуткой рефлексии,
незамедлительно вступила в свои права. Четыре
аллегории — вера, любовь, храбрость и шутка — расхлябанно
и многословно дают пояснения о пресловутых основных
силах «романтической» эпохи и романтической поэзии
в испанских ассонансах, затем в лирической и
диалогической форме о собственных свойствах и
отношениях друг с другом. Они призваны воссоздать атмосферу
сказочного мира, его объективное содержание и мотивы.
140
Такие персонажи, как поэт и романс, растолковывают
образ мыслей, замысел и намеренье, а также
благословляют то Я, которое сподобится лицезреть сказочный мир.
Следуя наказу атенейских братьев, Тик не показывает
картину, предварительно не сообщив о жизни
художника и не объяснив сути самой живописи... некая
инверсивная объективность, компенсация недостаточной
пластической силы. Романтическая ирония, перекочевав
из теории в практику, делает из нужды добродетель, и
дух, не способный на прозрение, форму и волшебство,
довольствуется схемами настроений и навешивает
ярлыки на бесплотные аллегории. Но и заумь, к которой
поневоле прибегли, маскируется здесь под добродетель
детской наивности и средневековой бесхитростности.
В прологе к «Императору Октавиану» поэт и романс
задают субъективную тему, которая затем должна быть
разыграна в объективных вариациях, и, словно в музыке,
мир и Я, которые дух разделяет на образ и смысл, здесь
нераздельны. Тема, будучи в финале вновь подхвачена
хором, вкратце звучит так:
Озарит ночную высь
Дивный свет луны с небес.
О, волшебный мир чудес,
В прежнем блеске мне явись!*
Эти знаменитые строки стали девизом всей
«романтической поэзии» — они сделали экзотерическими те
фантастические и волшебные сущности, которые у Но-
валиса еще были эзотерическими; таинственное душев-
* Пер. Е. В. Бурмистровой.
141
ное состояние молодого беспокойного мага стало общим
местом немецкой литературы, неким соблазнительным
китчем. Не только «Император Октавиан», ни одно
произведение Тика так и не стало народным, однако это
четверостишие афористически выражает флюиды,
которыми дышит вся «романтическая поэзия» XIX века.
Сама «комическая пьеса» (как ее с изящной ученостью
именует Тик) состоит из двух частей, каждая из
которых своим объемом многократно превосходит любую
драму Шекспира или Шиллера. Безграничность — часть
романтической программы: замкнутая форма,
отвечающая принципу сценичности, противоречит
романтической бесконечности. Средневековые
костюмированные мистерии или такие шекспировские бастарды, как
«Перикл, царь Тирский», представлялись ему удобными,
даже идеальными формами. Тик легко приписал
Шекспиру «Перикла», «Ардена из Февершема», «Локрина» и
прочие слабые, плоские, болтливые пьески, надеясь, что
таким образом сам приблизится к нему. В первой части
«Императора Октавиана» места действия лишь скупо
обозначены — дворец, спальня, лес, поле и т. д. В белых
стихах, по образцу ранних «драматизированных хроник»
Шекспира, действие то пространно рассказывается, то
исполняется в рифмованных сонетах и строфах, то
комментируется пошлой болтовней шутов и старых
советников — боль императрицы Фелиции из-за недоверия
Октавиана (по «Сну в летнюю ночь» Шекспира), перебранка
старой императрицы с бирами завершающаяся порчей
шнура (по фантасмагории из «Цимбелина»), суд над
невиновной страдалицей. Господа советники — тени
любезных и бессильных придворных из «Зимней сказки»,
142
камеристки императрицы — бледные призраки Паулины
Гермионы. Шут Пасквин — хилый собрат слабейшего из
шекспировских шутов, отличающийся от него прежде
всего тем, что сам читает Шекспира.
Патетически-романтические сцены Тик уравновешивает крестьянской
свадьбой в ломаных стихах (по шекспировским сценам
об Автолике) — одновременно реверанс в сторону Ганса
Сакса. В следующей сцене лесного путешествия, в
которой спасенную от сожжения на костре Фелицию увозят
в изгнание, Тик устраняет давно надоевшую ему
драматическую условность и может беспрепятственно
изливать лирические чувства и фантазии — Фелиция
засыпает в лесу, сон нисходит на нее с дерева и ассонансами
воспевает собственные благодеяния. Появляется романс,
чтобы поведать доброй сотней ассонансов сказочную
историю о похищении детей обезьяной и львицей. О
стиле этой книжки, нарочито подражающей азбуке, дают
понятие следующие строки:
Вот из зарослей выходит
Пребольшой орангутан —
Мать, уснувшую под древом,
И малютку увидал.
Как манит его малютка
И ее прелестный сон!
Он влеченье ощущает
И крадет малютку он*.
Из мира рыцарей и крестьянских свадеб Ганса Сакса
мы переносимся в восточные сказочные дебри. Следом
опять, как на подмостках, является судьба похищенных
* Пер. Е. В. Бурмистровой.
143
детей, борьба разбойников за отнятого у обезьяны
ребенка, написанная прозой в шекспировской манере...
пробуждение и жалобы Фелиции в вычурных романских
рифмах... продажа ребенка паломнику Клеменсу, опять-
таки в шекспировской прозе. Грубые жанровые картины,
патетические сцены, запутанные перипетии
диалогически скользят перед глазами зрителя, время от времени
прерываясь репликами Романса, который все
несценичные эпизоды опутывает своим рифмоплетством. Клеменс
привозит спасенное дитя в Париж, Фелиция попадает
в Иерусалим. Старая императрица, которая во дворце
Октавиана терзается угрызениями совести, раскрывает
тайну невиновности Фелиции и сбрасывается с крыши.
Шут Пасквин произносит пошлый некролог. Наконец,
в Иерусалимском храме Фелиция устраивает крещение
ребенка, которого пощадила львица.
Отдельные сцены расплывчаты и вялы как по
языку, так и по драматизму, и только благодаря
музыкальным созвучиям мало-мальски сбалансированы. Вечный
бурлеск грубых прозаических сцен с болтовней шутов,
паломников, корабельщиков, разбойников, крестьян...
патетически-сентиментальные придворные и
турнирные сцены вкупе со страданиями гонимой невинности...
атмосфера немецкого леса и миражи зыбучей
пустыни — вот те четыре темы, с помощью которых Тик хотел
создать симфонический эффект, причем свободу
мыслительных ассоциаций он заимствует из музыки, а право на
осмысленную речь — из поэзии.
Вторая часть, в которой должна свершиться судьба
обоих сыновей и новое воссоединение Фелиции и
Октавиана, несмотря на пятиактную композицию, задумана
144
скорее средневековой феерией, чем драмой — помпезная
сумятица королей и рыцарей, горожан и крестьян,
Востока и Запада, христианства и язычества. История
императора Октавиана проходит тонкой линией сквозь все
это причудливое скопище настроений и обстоятельств,
заимствуя краски не столько у Шекспира и Ганса
Сакса, сколько у Ариосто и Кальдерона. Только здесь Тик
сподобился изобразить романтическую панораму
Средневековья во всех деталях. Не обладая
формообразовательным инстинктом и изначальным, долитературным
чувством ситуации, Тик мог добиваться желаемого
эффекта только массой, изобилием и колоритностью,
только задействовав технические средства, в частности
рифму, только расширяя и усложняя. Простонародье второй
части говорит фактически одними стихами. Шествие
государей Востока и Запада побудило Тика к
использованию всевозможных видов рифмы — английский король
изъясняется даже с помощью нибелунговой строфы. Все
произведение превращается в парад стихотворных форм,
состоящий из процессий, турниров, поединков, в
которые вплетена любовная история Флоранса и дочери
вавилонского султана Марсебиллы (кукла Брадаманты).
Каждый персонаж говорит за себя и произносит свой
восточно-помпезный, христиански-символический или
легендарно-мистический афоризм — произведение
наполнено расхожими цитатами из Ариосто, Кальдерона,
Якова Бёме и Новалиса в стихотворных виршах.
«Император Октавиан» Тика знаменует вершину его
романтического периода — когда книга вышла,
романтическая школа уже распалась, и каждый ее участник
устремился к своей цели. «Император Октавиан» —
145
последнее произведение Тика, в котором, как пишет
Фридрих Шлегель в атенейском «Разговоре о поэзии»,
романтическая программа ясно осознается и даже
господствует. Наряду с «Генрихом фон Офтердингеном»
Нова лиса, «Котом в сапогах» и «Белокурым Экбертом»
он остается хрестоматийным примером романтической
поэзии — литературный манифест лунного сияния
волшебной ночи, призрачного пейзажа и пестрой
разноголосицы. Не самое лучшее из поэтических произведений
Тика, но из романтических — самое заметное.
V
Рассмотрим теперь влияние «романтизма» на
позднее творчество Тика. Тик никогда не считал себя главой
школы, хотя и не возражал, когда другие хвалили или
порицали его в этом качестве. Он отстаивал, представлял
и преувеличивал романтические тенденции, но никогда
не помышлял отождествлять себя с «романтизмом», как
например Фридрих или Август Вильгельм Шлегели. Он
почитал себя независимым писателем, который не
примкнул ни к одному из литературных направлений, однако
обогатился всеми ими, — таким в его представлении был
Гёте. Он связан с романтической школой скорее
совместной оппозицией Просвещению, нежели узами родства.
Поздний Тик — это прежде всего Тик-новеллист,
предтеча современного художественного рассказа и в таком
качестве романтик лишь формально, несмотря на
известные романтические флюиды. Жанр сказочной новеллы,
предвосхищенный в «Белокуром Экберте» и «Руненбер-
146
ге», был развит им в «Эльфах» (1811) и «Кубке» (1811).
За романтическим средневековым романом о художнике
Штернбальде последовал современный роман —
«Молодой столяр» (1811), который, хотя и был задуман в 1795-м,
завершен только в 1836 году Он обновил иронически-
романтическую мешанину из современной рефлексии
и сказочных происшествий — например, в рассказе
о «Семи женах Синей Бороды», а кроме того, в
«Огородном пугале», сказочной новелле в пяти действиях (1835).
Полный набор мотивов, известных по романтическому
периоду, варьируется в этих новеллах: волшебство леса и
гор, мистика истории и природы, рыцари и эльфы,
ведьмы и жители звезд — ироническая трактовка чудес и
фантастическая трактовка современности. Однако
поздние новеллы Тика в романтической манере отличаются
от ранних новым умонастроением и новым стилем. Хотя
мотивы «Руненберга» и «Старой книги» пересекаются,
но принадлежат разным духовным мирам. Для молодого
Тика «лунное сияние волшебной ночи», средневековая
романтика, сказочные дали составляют стихию жизни,
независимо от того, пережиты они на самом деле или
вычитаны из книг. Для позднего Тика они — стихия
образования. Ранние рассказы Тика на тему Средневековья
и сказочного мира архаичны по тону, по крайней мере,
создают иллюзию, что рождены из духа вневременной,
внеисторической древности! Поздние новеллы (примерно
с 1810 года) — это либо назидательные и воспитательные
истории, более зрелые, тонкие, мудрые, нежели
«Страусовые перья», но вместе с тем родственные им в
эмоциональном и смысловом отношении, либо исторические
рассказы: поэт повествует об отдаленных пространствен-
147
но-временных процессах, не погружаясь в них.
«Белокурый Экберт», «Руненберг», «Штернбальд» или даже
сказки народных книг должны показать старину как
нечто вневременное. Очарование старины состоит в том,
что она не канула в лету, а продолжает жить. Эти
рассказы стремились к лирике или драме как тем формам,
в которых современность выражает свой благоговейный
ужас. На пороге сорокалетия Тик из поэта настроения
превращается в поэта образования. Прежде он писал об
обществе, старине, чуде — любой материал был для него
лишь знаком душевных состояний. Ныне он хочет
приблизить затерянные миры и рассказать чужим и далеким
читателям о странном или таинственном как таковом.
Возвращаясь к своим сюжетам, Тик намерен
систематизировать, осветить и объяснить их. Канонические
новеллы он создает только сейчас — рассказ о необычайных
происшествиях минувшего времени. Здесь все сводится
к происшествию или его участникам, а не к настроению
рассказчика, возникающему из состояний и ситуаций,
как это было в раннем творчестве. Поэтому поздний
Тик печется о действии, вызванном человеком или
демоном, о композиции и создании образов персонажей.
Причинно-следственная связь снова вступила в свои
права, и настроение поэта включено в обоснованные, порой
даже слишком ясные настроения его персонажей.
Ландшафт — больше не темный омут теней, красок, цветов,
звезд, но арена конкретных событий. История в его
поздних рассказах тоже лишается пестрой неопределенности
и наделяется конкретикой благодаря описанию нарядов,
построек, нравов, традиций. Сбивчивый, насыщенный,
цветистый, полулирический язык прояснился, превра-
148
тившись в слегка самодовольную, но обстоятельную,
полнокровную, чистую, светлую, холеную и
благозвучную прозу, родственную прозе «Годов учения Вильгельма
Мейстера» и воспитанную на ней, однако более
архаичную, иронически заостренную, с резкими контрастами
между высоким и вульгарным штилем, с преобладанием
мимической характеристики персонажей.
Такая перемена обусловлена природой Тика и его
чтением. Он постарел, а романтический склад души
является, в сущности, бурей и натиском юности, которая
начинает искать единства жизни не в мире творчества,
а в мире образования. Если для титана, создателя «Вер-
тера», природа прояснилась до разумного космоса, то
романтик придал безусловной душе или абсолютному
духу форму нравственных или исторических образов.
Вдобавок Тик, подобно лучшим своим современникам,
неустанно пополнял свои знания, стремясь к
абсолютному знанию, пока его память не распухла от
исторических фактов. Таким образом, он сосредоточил свою
изначально рыхлую фантазию с помощью вещественных
и конкретных образных содержаний. Хотя они и были
почерпнуты из книг, но его подражательного таланта
и работоспособности вполне хватало, чтобы совладать
с ними. Насыщенность и вещность составляют
преимущество поздних творений Тика и делают их более
упругими, сочными, содержательными, а потому и более
степенными, нежели немотивированно замутненные и
легковесные тексты юности. Зато им, как правило,
недостает аромата и свежести юношеских лет.
Технически — не в отношении идей и вдохновения
впечатлительной души, но в изображении определенно-
149
го содержания — молодой Тик не создал ничего такого,
что могло бы сравниться с его большим историческим
романом «Виктория Аккоромбона» (1836—1840) и
новеллой «Мятеж в Севенне» (1820—1826). Здесь он успешно
соперничает с Вальтером Скоттом и Алессандро Манзо-
ни, на которых к тому времени уже обратил внимание.
«Виктория Аккоромбона» — наверно, первый немецкий
исторический роман, один из немногих, в которых
поэтический смысл не подавлен массой исторических
фактов, а история не сводится к картинке или ребусу, в
котором скрыта какая-нибудь научная теория и политическая
платформа.
В своем прошлом Тик предостаточно ужасался и
бредил, чтобы теперь предаваться поэтизации суеверий
сумеречных времен. «Мятеж в Севенне» и «Виктория
Аккоромбона» — это ночные произведения, история душ,
которые магически, мистически, демонически переходят
человеческие границы, тайно греша или бунтуя. Однако
сквозь этот романтический медиум целая историческая
область освещена разнообразными оттенками светлого и
темного. Замысел романа «Виктория Аккоромбона»
восходит к 1792 году. В то время он задумывался больше как
поэтически-романтическая волшебная пьеса, а не как
исторический роман. Только ознакомившись с «Веверле-
ем» Вальтера Скотта (1817) и «Обрученными» Манзони
(1820), Тик захотел расширить индивидуальное
приключение очаровательной женщины до панорамы
контрреформации в Италии. Исторический роман коренится
в тенденциях романтической школы, однако, подобно
современной исторической и литературоведческой
науке, его, как и их, нельзя считать специфически роман-
150
тическим достижением. Путь Тика к историческому
роману ведет через любовь к Средневековью. Как
интеллектуал, Тик не замирает перед исторической
перспективой, но любит блуждать в полутемных, живописных
областях, нечуждых магии и мистике. Античность же,
которая в ту пору воспринималась еще в духе Винкель-
мана и Гёте, как область солнечной и чистой пластики,
его отпугивала.
Внутреннюю жизнь души и тайну он предпочитал
искать в католической церкви, ее противоречиях или
пороках. Только в католицизме получила развитие
современная, кощунственная и греховная чувственность,
с живописным или музыкальным напряжением между
телом и душой, современное благочестие с напряжением
между землей и небом, преломленными цветами и
звуками, иными словами, соблазнительное и грозное сред-
неземье между посюсторонним и потусторонним миром,
днем и ночью, духом и жизнью, в котором
романтическая фантазия чувствовала себя как дома. «Виктория Ак-
коромбона», «Шабаш ведьм», «Пьетро фон Абано»,
«Мятеж в Севенне» открывают этот мир. В зависимости от
литературного импульса их общая сущность проявляется
в каждой исторической среде по-своему — в
чертовщине блестяще-хрупкого общества жизнелюбцев (Виктория)
или в бунте одержимой религиозным фанатизмом
крестьянской орды (Мятеж): характеры постоянно
напряжены, возвышены, уязвлены таинственной демонией,
общество то разорвано, то вновь едино, запутано церковными
законами, мистическими ритуалами, общественными
нравами, необузданными страстями, и всякий раз
пейзажист Тик искусно описывает сияние луны, лес или горы.
151
Немецкий романтизм, выражая не столько
жизненные силы, сколько могущество образования, на
рубеже XVIII—XIX веков дышит чуждыми всякой эмпирии,
априорными идеями Канта и Фихте. В исторических
романах Тика, чутко улавливающего духовные веяния,
предвосхищается материалистическая эпоха Ранке.
Свободная игра, жонглирование «действительностью»
наскучило. Самовластная фантазия, которая прежде
охотно превратила бы скудный материал в светящиеся пары
и облака, цветы и звезды, теперь была рада, что могла
придать зыбким историческим массам пластичность и
позолотить их, — и здесь поэзия образования, но лицом
обращенная к вещам, не робеющая перед ними и не
пренебрегающая низкой действительностью ради высоких
идеалов.
Аналогичная концентрация и незамутненность
отличают третью средневековую драму Тика от «Женевьевы»
и «Императора Октавиана». « Фортунат» (1815—1816),
«сказка» в двух пятиактных драмах, восходит, как и
«Император Октавиан», к старинной немецкой
народной книге с ее метаниями между Востоком и Западом,
куртуазно-рыцарскими нравами и наивно-чудесными
происшествиями. Здесь Тик впервые создает четко
очерченные и выпуклые характеры, а не просто схемы
лирических настроений. Язык более изыскан, хотя и
подражает Шекспиру, и, особенно в прозаических сценах,
нарочито народен, стих урегулирован и согласуется с
соответствующими персонажами, без былой патетической
и беспредметной трескотни. Замысел Тика выразить
страсть и отчаяние не просто декларируется, но
проявляется уже в самой интонации. Единая мысль правит
152
драматическим действом, и уводящий в сторону каприз
редко разрывает границы четко очерченных событий.
Подобно «Meлузине» «Фортунат» — притча о проклятии
счастья, полученного задаром. И здесь милость не
является осмысленным деянием и остается губительной для
героя случайностью. Первая часть повествует о том, как
сплетены друг с другом заслуга и счастье: сам Фортунат,
прострадав, становится умнее и научается мудро
распоряжаться сверхчеловеческим даром... но его сыновья,
богатые наследники, во второй части, злоупотребляют
им и гибнут: один от мотовства, другой — от лени.
Стилистика произведения свидетельствует, что Тик
изучал староанглийский театр, современников
Шекспира. Не столько пространственная глубина и
драматическая цельность собственно шекспировской драмы,
сколько маскарадное построение сцен Грина и
Вебстера еще используется здесь Тиком, несмотря на то что
персонажи прорисованы лучше. Обращает на себя
внимание, что «Фортунат» не был задуман по контрасту
с Фаустом — к чему Тика подталкивал материал:
Фортунат — мятущийся, терпящий и терпимый, тогда как
Фауст — стремящийся, борющийся и ищущий. Как
Фауст для Гёте, так и Фортунат для Тика мог бы считаться
символическим двойником: его дух был одарен поэзией
словно волшебным кошельком — он пользовался ей то
разумно, то неразумно, так и не поняв, чем обладал... Как
талисман Фортунату и его сыновьям, она была для него
скорее роковой безделушкой, нежели осмысляющим его
сущность началом. Исповедальное значение своей
книги Тик вряд ли сознавал. Фабула снабжала его пестрыми
картинками, и этого ему было довольно. После «Лове-
153
пя» и «Штернбальда» Тик уже больше не исповедовался.
Излияние его настроения — это не исповедь. Инстинкт
Гёте воплощать свою сущность в смыслообразы, иными
словами, освобождаться от хаоса посредством явления,
им не владел.
И в «фортунате» благородные персонажи упиваются
своим лениво беззаботным блеском, не прислушиваясь
к внутренним законам души... чернь отмечена
грубыми аффектами, как в сказке, однако без наивной
непосредственности последней, а с помощью умышленных
сценических трюков драматурга-шекспироведа. Такие
самородки, как Ампедо или слуга Дитрих,
оказываются при ближайшем рассмотрении лишь новой речевой
и сценической вариацией прежних сказочных типов —
придурковатого лежебоки или бессовестного прохвоста.
И зрелый Тик мыслит типами и творит согласно
образцам, однако без созерцания первообраза. Более тонкие
нюансы и оттенки иногда кажутся его личным
изобретением и новаторством, так как наша фантазия, будучи
подготовлена воспоминанием, встречает поэта на
полпути. Поэт-исповедник или пророк должен правдоподобно
представить еще неизвестную жизнь — даже прибегая
к типическим образам, он заново преображает их своим
сердцем, как Шекспир «Гамлета» или Гёте «Прометея»
и «Фауста». В отличие от этих мастеров Тик движется
в «Фортунате» (не о гении речь) обратным путем: будучи
поэтом образования, он берет из народной книги
типическую фигуру или литературно закрепленный прообраз,
скажем Санчо Панса, и освежает таковой средствами
языка или новой комбинацией старых черт,
добавляет нюансы. Шекспир, испытав глубочайшее отчаяние,
154
трансформировал, например в «Короле Лире», расхожий
шутовской тип в образ своего шута. Тик расширял уже
оформленное содержание с помощью новых, доступных
эпигону, выразительных средств. Шекспир переживал
новое содержание и ограничивал его наличным
литературным и драматическим материалом.
Новеллы Тика в большей степени, нежели драмы,
компенсируют недостаток пластической силы мастерством
изображения. Их часто путают: поэтическое
воплощение есть способность проявлять внутренние видения
через язык, открывать им дорогу вовне... откуда бы они
ни исходили — из душевных потрясений или из опыта
переживания мира, стихии выражения или впечатления.
Изображение есть способность объединять, толковать и
сообщать собранные признаки из широкого материала
наблюдений или самонаблюдений... чем бы данные
наблюдения ни были — общими местами или открытиями.
Если они — открытия, за творчество часто принимают
более глубокое знание... как у Бальзака, Диккенса,
Толстого, Достоевского. Воплощение (по аналогии — и
только по аналогии! — с философским термином) априорно,
изображение — апостериорно. Воплощение предполагает
хаос, который проясняется в видениях и только
посредством языка обретает действительность космоса.
Изображение предполагает уже созданный космос, который
посредством языка становится известным, возвещенным,
упорядоченным.
Новеллы Тика — путеводитель по истории и
обществу того времени. Почти все задачи, ради которых он
некогда писал романтические сказки, были уже решены.
Средневековье утратило прелесть новизны. Литератур-
155
ная вражда между Просвещением и романтизмом,
духовная борьба за наследие Канта и значение Гёте утихла.
Трансцендентальная философия стала основой
мировоззрения даже для нефилософских умов, как коперникан-
ская система — для людей, несведущих в астрономии.
Гёте был, в сущности, непонятым, иногда критикуемым,
однако возвышающимся над мышиной возней
классиком. Сам романтизм, этот всепроникающий флюид, и
его отдельные умы, в частности Тик, были теперь не
отважными новаторами в окружении восторженных
почитателей и разъяренных гонителей, а представителями
неких тенденций, которые некогда возобладали, но
впоследствии вышли из моды. Уже набирали силу « Молодая
Германия», политический радикализм, активизм и
материализм того времени, а Генрих Гейне пел дерзкую
отходную романтизму и ее отжившим свой век вожакам.
Повсеместно распространялся репродуктивный интерес
к поэзии, литературе, науке и искусству, выплеснувшись
из ученых кабинетов, университетских аудиторий,
музейных залов в бюргерские массы. Все заполонили
пошлая, псевдонаучная, злопыхательская, или наоборот
восторженная, писанина и болтовня образованных
мещан. Беллетристические журналы, салоны с умными
еврейками, эстетические чаи с литературными львами,
читальни, кружки для чтения и любительские
подмостки всплыли на поверхность — элитарное «образование»
классиков и романтиков деградировало до «всеобщего
образования», фразерства великосветских бесед
разномастных сибаритов и хвастунов, которым обычных
городских и придворных сплетен уже было мало. Тогда,
в поздние годы жизни Тика, получил распространение
156
некий, сочетающий серьезность со светскостью, гибрид
«остроумия» и «изысканности», который, мешая
подлинные проблемы с чепухой, все обращал в демагогию и
краснобайство. С тех пор эта возня не утихла и не стала
глубже.
Престарелый Тик видел, что противостоит широкому
и тонкому образованному слою, — речь больше не шла
о том, чтобы воодушевлять, совершенствовать,
приводить в возмущение или просвещать. Публика, с которой
он имел дело, — а он всегда был не одиноким
мыслителем, но чутким светским посредником между высоким
и общедоступным, — была просвещенной,
самодовольной, чувствительной, критичной и «страшно
начитанной». Она жаждала интриг, страстей, развлечений...
искала «интересного», новой пищи для фантазии и нервов
или «остроумного», чтобы хоть как-то растормошить
свою спящую мысль. Новеллы Тика откликаются на
такие запросы публики. Он пользуется своими широкими
историческими познаниями для захватывающих,
экзотических приключений... собственное мнение
относительно духовных вопросов, особенно из области литературы
и искусства, он высказывает в диалогах, которые
помещены в изящную сюжетную рамку... или из
исторического рассказа и эстетического трепа он создает новый
жанр — «новеллу о художнике», в которой поэтически
изображает события из жизни знаменитых поэтов,
таких как Шекспир или Камоэнс, и вкладывает в уста этих
гениев особое толкование их жизни. Заметно, что все
это почерпнуто из светской беседы или исторической
литературы. Действие современных новелл Тика
происходит в хорошем обществе: графы, советники, офицеры,
157
ученые, купцы. Они благовоспитанны, тщеславны,
великодушны, коварны, бережливы или расточительны и
почти все без исключения болтуны и краснобаи...
движимые капризами и страстями, происходящими более
из общих умонастроений, нежели из индивидуальных
судеб и свойств, они высказываются об обществе,
религии, политике и быте, отдельных художниках и целых
направлениях в искусстве. Это — переодетые в
действие сплетни высшего общества, в котором Тик
любил вращаться и на которое рассчитывал влиять. Не без
веских причин он казался себе натурой более тонкой,
аристократической, цивилизованной, представителем
более справедливого и универсального мира по сравнению
с новой писательской порослью в лице Берне, Гуцкова,
Мундта, Винбарга, Руге, необузданной гейневской свиты.
Он — laudator temporis acti, с мягкой и немного
горькой усмешкой мудреца, которую заимствовал у
веймарского олимпийца. Представление о мягком
нравственном мироустройстве, об окончательной победе добра над
злом, о присущей всем вещам внутренней мере царит
во всех этих светских новеллах, но не как голое
морализаторство, а как тонкая усмешка над человеческими
слабостями.
Тик-новеллист мыслит типами и достигает
индивидуальности посредством прорисовки душевных черт и
шутовского гротеска.
Образ Эленбека из «Картин», который скрупулезно
выписан и снабжен тиковской импровизационной
мимикой и красноречием, остается только типом гениального
пьяницы, почерпнутый из наблюдений за молодчиками
такого рода в жизни и одним индивидом в поэзии —
158
Фальстафом. Сам же Фальстаф — это не набор черт,
подмеченных в других людях, но неделимый и изначальный
тип личности. Эленбек — микроскопически точный тип,
оживающий в нашей памяти. «И впрямь эти парни точно
такие!» — восклицает читатель и благодарит автора за
наблюдательность. О Фальстафе, как и о реальных
знакомых, никому в голову не придет сказать: «Как точно
подмечено!», — ибо Фальстаф живой, и мы в него верим.
Все новеллы Тика об обществе стараются показать не
сюжетные перипетии, а в первую очередь беседу,
поучение, отвлеченную психологию, оставаясь в пределах
типического. Зато в исторических новеллах имеются попытки
изображения индивидуальных характеров. Правда, его
Шекспир и Камоэнс — только медиумы, выражающие
его художественные взгляды и принципы, скорее
участники диалога, нежели самостоятельные персонажи. Где
ему не попадалось готовое историческое описание
характера, как например в случае с Кавалье из «Мятежа в Се-
венне» («Из истории камизардов» (1744) или из мемуаров
Виллара) или Монтальто из «Виктории Аккоромбоны»
(из Лети), там его характеристика остается лирической
или типической, или же он довольствуется простым
перечислением свойств и мотивировкой поступков, словно
историк, не раскрывая их поэтической подоплеки.
Исторические новеллы Тика представляют собой не более чем
прикладное историческое знание, продиктованное
желанием объяснить себе и другим жизнь почитаемых
персонажей с их историческим колоритом, антуражем,
окружающей средой. От прежних исторических повестей
они отличаются тем, что Тик придает большое значение
костюму, а история воссоздает прошлое как некую даль,
159
но такую даль, которая действительно существовала.
Таким образом, они относятся, как исторический роман
вообще, к промежуточной области между романтической
поэзией и немецкой исторической наукой: романтизму
они обязаны тоской по духовной дали, а исторической
науке — радостью от материальной близи, которая
желает постичь и показать именно то, «что было на самом
деле». Для Шиллера история была ареной великой битвы
между свободой и необходимостью, образцовой
коллекцией возвышенных примеров великих судеб... временная
дистанция была нужна ему для преображения и
упрощения, но не как потребность блуждающей фантазии, и
сам факт историчности был ему безразличен.
Неповторимой радости от действительно прошедшего он не
ведал, ибо хотел изобразить вечное. История означала для
него «гипотипозу» (Кант) вечности, а не колорит и
прелесть старины, не заклинание духов или эрос к великим
мертвецам. Воскрешая античную и английскую историю,
Шекспир — как пример третьего историографа —
изображал ее, подобно своим сказочным и
мифологическим мотивам, как потенцированную действительность
и спешил наполнить собственной жизнью, не помышляя
об археологии. Феномен однократности
исторического события его не заботил. Творческий порыв, если или
так как он воплощается в истории, нуждается в
историческом материале, как Микеланджело — в мраморе, и
свой мрамор он обязательно добудет — из легенд или из
исторических хроник, какая разница? Поэтический эрос
к прошлому как таковому впервые появляется в гётев-
ском «Гёце», а у Вальтера Скотта он впервые становится
двигателем всего произведения. В Германии Тик стоит
160
у истоков научно-исторической беллетристики, в
которой духовная трансформация исторического
материала еще превалирует над приспособлением к таковому и
свободна от археологических потуг Фрайтага или далее
Эбера, однако радость от реконструкции
пространственно-временного колорита здесь уже не чисто
поэтическая, а отчасти научная. Его ближайший последователь,
сохраняющий равновесие между душой и костюмом, —
Конрад Фердинанд Майер. Только фантазия Майера
пластичнее — группы, контуры, позы, жесты... Тик лучше
чувствовал краску, настроение, светотень. Между Тиком
и Майером располагается не только Ранке, но и
Пилота. Специфика исторических романов Тика обусловлена
еще и тем, что раскрытый современной историографией
исторический горизонт был поделен на обособленные,
окутанные собственным туманом регионы, вместо того
чтобы предстать единой ареной Божественного
промысла/Мирового разума или, как в бытность Монтескье и
Вольтера, служить ареной эксперимента для природных/
социальных законов эволюции. Гердер был первым, кто
вдохнул жизнь, открыл уникальную атмосферу
исторических эпох и пространств, хотя сам и не воспользовался
этим открытием.
Чем для исторических новелл Тика была новая
историография, тем для социальных новелл стал
современный транспорт, соединяющий далекие пространства,
путешествия. Мотивы утрачивают свой местный колорит,
ограниченный горизонт, как например в итальянских
новеллах времен Боккаччо. Несмотря на все разговоры
о неведомых краях, духовный взор автора остается
прикован к придворной или городской жизни Ренессанса.
161
У Тика уже нет четкой локализации провинциального
немецкого общества — оно, хотя и узнаваемо, но не
имеет точных координат и пребывает в условной
местности, эпохе, культуре, которые уже стали товаром. Только
сами разговоры, их содержание и темп выдают общество
бидермайера — смесь литературы, философии и морали,
сплетение высших вопросов образования с повседневной
модой — больше единичные неизбежные прозрения,
нежели единое универсальное созерцание жизненных сил
в совокупности явлений... каким предстало немецкое
общество эпохи Рококо в романе «Годы учения Вильгельма
Мейстера» или французское общество времен июльской
рево/поции в «Человеческой комедии» Бальзака.
Возможно, Тику и мерещился подобный эпический идеал... но
дух, явление «эпохи» никогда нельзя запечатлеть с
помощью одного образования — только силой любви, страха,
даже ярости. Тик не отразил целостный образ эпохи, но
откомментировал ее, и такими комментариями были его
социальные новеллы: критика общественных привычек
и умонастроений с позиций романтической идеи
образования... все та лее критика Просвещения, здравомыслия
и меркантилизма посредством поэзии и робость перед
непостижимым могуществом духа. Социальные
новеллы Тика открывают ряд поэтических духовно-бытовых
картин, исполненных тонкого сострадания, изящной,
хотя и несколько односторонней критики и сдержанной
радости сочинительства, без пластической страсти Гёте,
общественного пафоса социальной бескомпромиссности
Бальзака, злой проницательности урбанистического
сострадания Диккенса (ограничусь именами трех пророков
европейского общества). Последователями Тика здесь
162
являются прежде всего Пауль Гейзе, а также ныне
полузабытый Мориц Гартман. В обоих авторах господствует
идущее от Тика убеждение, что рассказ должен быть
поэзией. Бюргерский социальный роман эпигонских лет, из
представителей которого следует упомянуть только
Густава Фрайтага и Фридриха Шпильхагена, полностью
изжил это чувство и практиковал изложение фактов либо
с прагматической целью, либо без таковой. Эта
тенденция начинается в Германии, по-видимому, с Гуцкова и
усиливается благодаря иностранным образцам —
молодому Дюма или непонятому Диккенсу. Там, где в
Германии XIX века рассказ воспринимается как «поэтический
жанр», еще обнаруживаются следы романтизма, в
частности, в творчестве самого виртуозного романтического
новеллиста — Тика. Что так и не удалось осуществить
старику Тику — поэтизировать реальность и сделать чудо
действительностью (а не просто сблизить и смешать
таковые), — осуществил Готфрид Келлер. В своих лучших
творениях он обвенчал утреннюю фантазию, из которой
возникли народные сказки, с ужасом интеллекта перед
первоначалами, из которого возникли художественные
сказки Тика, — и крестьянское бюргерство швейцарца
обратило его к тем потаенным истокам, которых
рафинированный берлинский интеллектуал с жадностью
искал. Будучи учеником Фейербаха, Келлер тем не менее
инстинктивно воспринимал чудесное как реальность, без
литературного треска и экзальтации, и нашел для него
искреннюю интонацию. Тик в глубине сердца так же
мало верил в чудо, как в Богородицу и святых, и
волочился за священными предметами, эстетически
вожделея ярких контрастов для своих серых теорий.
163
VI
Стихи Тика — отходы его прозы, не более, обычно
лирические вставки, особенно в «Штернбальде». Насколько
поэтична его проза, всегда готовая свернуться в удобные
стихи, настолько полупрозаичны его песни и романсы
с нечетким строфическим членением и игривыми или
небрежными рифмами. Прославился его пространный
романс «Знаки в лесу», который на протяжении 114 строф
нашептывает звукоподражательные ассонансы угрюмого
леса и зловещей жути. Усердное педалирование одного
художественного приема вызывает не зловещий, а
комический эффект. Стихи Тика о путешествии в Италию
в свободных ритмах представляют собой лишь
отрывистую, не возвышенную даже ритмически прозу, какой-то
бесформенный поток речи, напластование впечатлений,
настроений и рефлексии. Стихотворение «Пантеон» из
«Штернбальда» могло бы сойти за прозу, и никому не
пришло бы в голову, считать это стихами: «Как
благотворно круженье / По чужому, достославному граду! /
Каждый камень становится чудом, / Каждый неясный
звук — сказкой. / Пробираюсь сквозь людскую толпу — /
И новая, тесная, многолюдная ярмарка / с мрачными
лавками предстает предо мной / и т. д. Как и в романах
описание сопровождается рефлексией: «Жизнь такова, /
Святое граничит с вульгарным, / мелким, обыденным».
Первое заблуждение состоит в том, что поэзия — это все
то, что поэт облекает в стихотворную форму, второе
заблуждение — что романтику стоит лишь настроиться и
прикоснуться к поэтической форме и содержанию, как
поэзия возникнет сама собой. Такого рода предрассуд-
164
ки основаны на непонимании народной песни и лирики
Гёте. Подлинные народные песни выражают
переизбыток животной природы, которая ритмически
разряжается в краткое мгновенье времени. Не общее настроение,
поэтический «угар», но роскошное мгновение требовало
слова как звука. Потому народные песни обычно
воспевают однократные события, происшествия, процессы.
У Тика такой твердой действительности нет и в
помине! Песни Гёте — произведения искусства изначально
пластического художника, сердечная полнота которого
ищет выражения, объективации пластического чувства;
их музыка есть его движение, облик песен —
определенная фиксация пластического чувства. Восторженность
Тика обусловлена не навязчивым «мотивом», порождена
не интенсивным личным переживанием, но навеяна
раздутым общим настроением, из тонкой пелены облаков
которого он произвольно выдергивает отдельные
мотивы: жизнь лесного царства, цветы, облака, блеск весны,
летнюю истому, безотчетную меланхолию, еще более
неопределенную тоску — стандартный набор
банальностей. Тик множит поэтические штампы, не наполняясь
бытийным мгновеньем и не наполняя его... растворяя
отдельные представления в многословном звоне. Среди
именитых немецких поэтов он как лирический поэт
может служить примером для будущих халтурщиков,
силой приобретенного в других сферах авторитета
поощривший их на пиликанье и бренчанье, столь ненавистные
старику Гёте, утверждавшему (в беседах с Эккерманом)
подлинное жизненное содержание и плодотворные
мотивы лирики. Пролистав трехтомник его лирики, Гёте
называет Тика пустышкой, человеком, который не име-
165
ет ни души, ни сердца, а только читал про это. А его
действительное переживание не достигает
собственного, лирического выражения, ибо успевало испариться
в промежутке между чтением и настроением. Из этого
промежутка он «делает свою лирику». Тик путал
стандартность своих представлений с естественностью,
безудержную легкость языка с изначальностью. И природа
была для него предметом образования, так что, по
крайней мере, в его язык она не привнесла ничего.
VII
Заслуги Тика состоят не в выявлении нового
содержания природы, но в распространении и
популяризации старых форм образования. Среди репродуктивных
первопроходцев, сделавших мировую литературу
достоянием немецкой культуры, Тик стоит в первом ряду
вместе с А. В. Шлегелем благодаря переводу
Сервантеса и осмыслению Шекспира. Превосходство эмпатиче-
ского образования над самобытной пластической силой,
вредившее его поэзии, благотворно сказалось на его
литературоведении. Для понимания Сервантеса Тик сделал
почти столько, сколько А. В. Шлегель — для понимания
Шекспира. С тех пор как с 1621 года немецкие
переложения с грехом пополам донесли роман великого
испанца в виде забавного анекдота, а Бертух в 1776-м достиг
в своем немецком переводе приятного изящества Ви-
ланда, Тик в 1799 году впервые попытался передать по-
немецки самобытное содержание этого произведения,
его форму, краски, полет поэтического духа и ирониче-
166
скую интонацию, что в общем и целом ему удалось. Хотя
он (если не считать отдельных ошибок вследствие
несовершенства словарей) смягчил истинно мужественный
дух великого испанца и романтически подсластил (как
Гердер «Сида») его горький, чистый реализм, но
сильнее подчеркнул сдержанную и почти меланхолическую
иронию... и хотя его перевод бодрее, рыхлее, беднее,
нежели испанский оригинал, но в целом поэзия и ирония
Сервантеса настолько срослись с немецким языком, что
воздействие этого произведения ощущается в немецкой
словесности и по сей день. Сущность нетленного
творения Сервантеса, выходящая за рамки сюжета и
отдельных сцен, впервые стала доступна немцам благодаря
переводу Тика. Правда, перевод Шекспира потребовал
от Шлегеля больших усилий, зато он произвел и
больший эффект. Тику не нужно было соперничать с целым
поэтическим космосом. Проза Сервантеса не проникла
сквозь все оболочки души и мира, как поэзия Шекспира:
она — взгляд на мир великого художника, но не
поэтический космос. Поэтому воссоздание Шекспира
ознаменовалось изменением всей поэтической атмосферы,
открытие же Сервантеса лишь расширило кругозор.
Заслуги Тика в шекспироведении значительно
уступают заслугам Шлегеля. Ему не хватало научного
усердия и уверенного ритмического чувства
предшественника. Так называемый «тиковский перевод» Шекспира,
который под его присмотром осуществили граф Вольф
Бодиссен и дочь писателя, Доротея Тик, нельзя
поставить в один ряд с переводами Шлегеля. Дело не только
в отдельных ошибках, этот перевод фальшив и сглажен
по тону и созерцанию в целом. Правда, пьесы, ритмиче-
167
ски наиболее трудные, Шлегель предоставил переводить
своим последователям. Учитывая состояние тогдашнего
немецкого языка, молено предположить, что неудача
постигла бы и Шлегеля, возьмись он за перевод «Кориола-
на», «Макбета», «Антония и Клеопатры» или «Троила и
Крессиды».
Тик, неустанно стремясь проникнуть в мир своего
кумира, обшарил в поисках следов Шекспира весь
староанглийский театр, снискав как несомненные, так и
сомнительные лавры первооткрывателя. Несомненные,
ибо он первым в сборниках «Староанглийский театр.
Или добавления к Шекспиру» (1811) и
«Приготовительная школа Шекспира» (1823—1829) обратил внимание на
предшественников и современников Шекспира, его
театральное окружение, что, впрочем, было больше
литературно-историческим, нежели поэтическим,
обогащением или же плодотворным влиянием. Сомнительными
эти лавры являются потому, что в своем некритичном
беспокойстве Тик чуял Шекспира повсюду и жадно
хватался за любую случайную традицию, приписывающую
то или иное произведение Шекспиру. Поспешно и
бездумно стирая границы и смешивая ранги, он портил то,
что прежде улучшил, обнаружив старинный
образовательный материал. Двигала им искренняя вера или
честолюбие, побуждавшее расширять мир Шекспира за
счет включения в него возможно большего числа новых
провинций, неизвестно. В рамках этого стремления Тик
с таким восторгом приписывал Шекспиру тусклые,
прозаичные вещи, вроде старого короля Джона, Ардена из
Февершема, Локрина и даже старого Короля Лира, что
можно усомниться в том, было ли у него вообще ясное
168
представление о поэтической личности Шекспира и хотя
бы приблизительное понятие о его реальном творчестве
и величии. Обычно Тик путал поэтический материал
с поэтическим содержанием, принимал сам мотив за его
оформление. Любой, даже весьма сомнительный текст,
если он имел мало-мальски старинный, пестрый,
условно поэтический вид, Тик был готов приписать
Шекспиру. Подобно тому как «штернбальдизируя», он искал
в Средневековье больше общую и эфемерную фантазию,
нежели близкое, сосредоточенное, внимательное и
завершенное созерцание, перенося на Шекспира — сообразно
своему размытому пониманию поэтического начала как
буйства настроений — собственную ложную наивность
и худосочную фантазию, он приписывал великому поэту
грубо сработанную и небрежно состряпанную халтуру.
Он видел не индивидуальное, форму, а только общее —
время, пространство, материал — и как будто желал
оправдать собственное творчество, приписывая
Шекспиру подобный стиль. Это было большим шагом назад по
сравнению с той высотой, на которую вознес
шекспироведение Шлегель, откат к заблуждениям «Бури и натиска».
Староанглийский театр оставался и останется у нас либо
забавой для любителей, либо полем для научных
изысканий. Его творческая поэтическая сила целиком вошла и
сосредоточилась в Шекспире. Для понимания Шекспира
ничего не дает и знание его современников, ибо самих
современников можно понять только через Шекспира и
в связи с ним. Прочие, посвященные Шекспиру работы
Тика — «Опыт трактовки чудесного у Шекспира» (1796),
«Письма о Шекспире» (1800), случайные театральные
критические статьи, возвеличивающие Шекспира поч-
169
ти в каждом критическом тексте, новеллы о Шекспире
«Праздник в Кенелворте», «Жизнь поэта» — содержат
либо театрально-технические рецепты и указания,
относящиеся не столько к сущности и искусству
Шекспира, сколько к его воздействию, либо общие сентенции
о поэзии, гении, защищающие Шекспира и его эпоху от
рационализма и модерантизма. Нового взгляда на
Шекспира, который выходил бы за рамки теорий Гердера и
А. В. Шлегеля, у него не было. Тик довольствовался тем,
что забалтывал и пережевывал то, что Гердер высказал
как пророк, а Шлегель как критик и историк. Лучшее
в его «Письмах о Шекспире» — признание достоинств
перевода Шлегеля, который тогда все еще наталкивался
на неприятие стариков, поборников хорошего вкуса и
разума. Как переводчик и критик Тик располагается где-
то между Гердером и А. В. Шлегелем, между
универсальным и бескомпромиссным пророком и проницательным
аналитиком, гибкий эпигон, лишенный пророческой
силы и великой интеллектуальной фантазии Гердера,
добросовестной учености и аналитического искусства
А. В. Шлегеля. Гердер указал поле для раскопок, Шлегель
очистил, упорядочил, истолковал раскопанное. Тик
помог извлечь из глубины и представил в выгодном свете.
VIII
Среди первооткрывателей немецких древностей,
отцов-основателей истории немецкой литературы, Тик
занимает заслуженное место благодаря сборнику
«Немецкий театр»: он содержит старые пьесы Ганса Розенплюта,
170
Ганса Сакса, Якова Эйрера, английских комедиографов,
«Дафну» Опица, «Карденио и Целинду», «Хоррибили-
криблифакс», «Господина Петера Сквенца» Грифиуса,
«Ибрагима Басса» Лоенштейна. Сборник обязан своим
возникновением, с одной стороны, драматургическим
стараниям Тика заложить исторический фундамент и
тем самым сплотить немецкий театр, с другой стороны,
раннеромантическому поветрию спасать всякого рода
укромно-давнишнюю, чудаковато-мечтательную
патриархальность; он не прекращает литературно обновлять
немецкую старину, начиная с поэтизации народных книг,
историческим продолжением которых является
повторение «Служения прекрасной даме» Лихтенштейна (1812).
И здесь Тика воодушевляла не столько
индивидуальность старинного поэта, сколько сама седая старина,
противоположная сусальному блеску Просвещения. Вся
соль для него была не в самоценности им открытого, но
в том, чтобы оно таинственно и заманчиво бормотало
о минувших временах. Чем более завалящей и
несуразной была это рухлядь, тем более интимной и родной она
становилась для коллекционера. Нам всем хорошо
известно обаяние чулана и лавки старьевщика, в которой
рассеянные обломки полузабытой жизни дразнят нашу
фантазию, побуждая ее в эту жизнь всмотреться. Тиков-
ские «раскопки» испытали воздействие магии и музыки
старого хлама и одновременно радовали новизной — ведь
так много чудесного барахла еще можно было
обнаружить в те времена! Находки XVI и XVIII веков у Тика
оставались литературной историей. Поэтически
плодотворными они стали у Ахима фон Арнима, который
лучше управлялся с вычурностью, чрезмерностью и пыш-
171
ностью немецкого Барокко, чем Тик с его цветочными,
звездными и заоблачными фантазиями. Романтичности
старины Тику было довольно, чтобы отправиться на
поиски древностей, — чтобы вновь оживить таковые,
требовалась настоящая мистика вещей... некая таинственная
чувственность, позволяющая выжать из заплесневелой
рухляди некогда пульсирующие в ней живительные
соки. Такие духовные глаза, такие духовные ноздри,
чувствилище для всех сортов немецкого мусора и
прадедовского старья появились лишь у второго поколения
романтиков, которое питалось больше историей,
нежели философией и в представлениях о мире опиралось на
свои пять чувств.
Посредничество Тика относилось и к
современникам: его имя связано с литературным возрождением
четырех современных немецких поэтов, из которых, по
крайней мере, двое более значимы, чем он сам. Тик
издал произведения Михаэля Рейнхольда Ленца, Новалиса,
Вакенродера, Генриха фон Клейста. Всем этим поэтам
было бы труднее войти в мир немецкого образования,
если бы не помощь такого любезного, светлого и
деликатного соратника. Тик умел понимать шероховатости и
темноты, судьбу и тайну их творчества из целого их
жизни и нашел им место в уже объясненной истории. Эти
издания — знак симпатии и дружбы, не критики. Они
должны и могли служить памятниками, которые уже
стяжавший славу муж поставил своим непризнанным и
забытым друзьям, поэтому несправедливо требовать от
них точности ученых потомков. Он увидел и
запечатлел дух любимых людей, а не букву их пребывания на
земле. Кроме того, четыре посмертных издания послу-
172
жили романтизму в целом. Ленц, самый романтический
спутник молодого Гёте, возвеличивается Тиком в той же
манере и по тем же причинам, что и предшественники
Шекспира, — как толкователь великого гения, в свете
и тени которого он жил. Он принадлежит эпохе Гёте,
хотя и романтически истолкованного. В длинном
диалоге, служащем введением к его текстам, Тик подробно
обосновывает такую позицию Ленца. Он причисляет его
к поэтам, чьи произведения не исчерпываются ни
фантазией, ни рассудком, но тем сильнее они воздействуют на
интуицию и душевные силы и лучше освещают темные
стороны нашего духа, чем классический день. Издание
и введение Тика уравновесили в какой-то мере
высказывание Гёте из «Поэзии и правды»: если Ленц продолжает
жить не только как проблематичная личность и
неудачник, но также как особый странноватый, трогательный
образ поэта, то этим он обязан пиетету Тика.
Благодаря Тику Новалис и Вакенродер не только
стали доступнее, но были увидены так, что некоторое время
считались лишь придатком творчества самого Тика.
Вакенродер таковым слывет до сих пор и по праву
Превосходство поэзии Новалиса сегодня неоспоримо — его
почитают первоисточником романтизма, из которого пил
и сам Тик. Издание произведений Новалиса всегда будет
считаться одним из самых больших достижений Тика,
более значительным, чем большая часть его собственных
сочинений.
С Клейстом издательские отношения Тика сложились
примерно так же, как и с Ленцем, однако несравнимо
больший масштаб личности Клейста делает усилия Тика
на этом поприще более важными. Если лучшее из Ленца
173
сосредоточено в Гёте, то Клейст — уникален и
неповторим. Тик сам не понимал гениальности и душевной силы
этого демонического человека... он ставит его в один ряд
с Ленцем как типично несчастного гения! И все же Тик
долго оставался единственным авторитетным немцем,
кто публично признал одинокого гиганта. В том, что
Клейст поначалу не оказал глубокого воздействия, Тик
неповинен, и его заслуги в оценке Клейста тем больше,
чем меньше между ними общего. Действительное
понимание немцами Клейста, наверняка, повредило бы
репутации самого Тика.
К Клейсту Тик пришел скорее от драматургии, чем от
поэзии, воздействие и влияние его поздних лет является
больше драматургическим, нежели поэтическим. Он
руководил театром в Дрездене и посредством
драматургической и критической деятельности надеялся повысить
уровень немецкого репертуара и одухотворить
театральное искусство. Он сам обладал величайшим актерским
талантом, был непревзойденным чтецом и широко
образованным человеком. Тик стоит между театральным
режиссером Гёте и театральным режиссером Генрихом
Лаубе — он олицетворяет путь от безраздельного
господства поэзии над театром к господству театра как
самостоятельного аппарата. Гёте хотел облагородить сцену
поэзией, Лаубе — посредством сцены сделать поэзию
доступной массам, оба боролись против меркантилизма.
Тик должен был уравновесить духовную традицию
Веймара, включив в его репертуар шедевры мировой
литературы и сделав актерскую игру автономной. Господству
поэта на сцене пришел конец, началось господство
актера, и Тик был подходящим человеком, чтобы удовлетво-
174
рить оба запроса — актер и поэт в одном лице. Однако
эта страница уже не относится к истории романтизма.
Мы следовали за Тиком по страницам его
произведений и считаем его слабым поэтом. Почти все его
произведения, за исключением нескольких сказок и новелл,
несоразмерны не только идее поэзии, воплощенной
великими мастерами, но даже их собственной идее: они либо
происходят из пошлого представления о поэзии, либо
испорчены литературой, либо незрелы, либо небрежны...
и все же мы поступили бы несправедливо, оценив Тика
только как автора его собственных книг. Все его
творчество, не какая-то отдельная часть, а их совокупность,
дышит духовной ясностью, простором, прелестью,
ароматом образования и поэзии, навеянным ароматом садов
мировой литературы, через которые он проносился
жадно и шутя, — личная доброта и воспитанность,
волшебство все в себя вбирающей и расточительной, пожалуй,
несколько легковесной души. Стеффенс пишет о Тике:
« Стройный, красивый, с глазами, духовную силу и
чудесную ясность которых не властна одолеть даже старость.
Все его движения дышали прелестью, даже
грациозностью; речь согласовывалась с жестом... Я никогда не
видел его в ярости. Я видел, как он говорил с заклятыми
врагами, всегда пасовавшими перед победоносной силой
его личности; более того, осмелюсь утверждать, что эта
личность, столь доступная, столь любезно уступчивая,
оказала не меньшее влияние на наше время, чем его
сочинения». Именно волшебство личности, смесь
энтузиазма, доброжелательности, настроения, рассудка, такта,
фантазии и высокой образованности, создает атмосферу
всех его сочинений, не будучи представленной в виде
175
какого-то определенного символа или
содержательного образа. Неизъяснимое дуновение легкой поэзии, а не
творческая идея великого духа или моральная энергия
сильного характера сделали Тика вождем и искусителем
целого поколения, «мальчиком-возницей»
романтического маскарада. Для романтизма он был тем, кем для
Просвещения родственный ему по натуре Виланд. Но и
независимо от своего таинственного блеска и обаяния
Тик пребудет в немецкой поэзии, если не как сила, то
как память, благодаря трем феноменальным
достижениям, в которых он показал себя мастером и остался
непревзойденным: в сказочном рассказе, рфонически
фантастической сказочной комедии, современной
интеллектуальной новелле. Так и среди мастеров
исторического романа Тик стоит, по крайней мере в Германии, на
самом верху Для трех сильных флюидов немецкой поэзии
он является если не первоисточником, то самым
популярным посредником: для «лунного сияния волшебной
ночи» Средних веков, для немецкого «лесного одиночества»
и для романтической иронии. Арним и Брентано, Уланд
и Мёрике, Эйхендорф и Ленау, Гофман и Гейне, Келлер и
Гейзе немыслимы без него. Весь популярный романтизм,
иными словами, все в узком смысле поэтичные тексты
Германии и спустя столетие бессознательно несут на
себе отпечаток его тонкого, легкого, светлого и
обширного духа.
ИММЕРМАН*
Вы оказали мне честь, вручив премию от имени Лес-
синга и города Гамбурга. Человек, чей продолжающий
творить дух вы хотите сохранить и утвердить, поощряя
его учеников праздничным подарком, живет в нашей
памяти как недосягаемый образец мужественного
одиночества, желания простой истины и душевной свободы,
как вождь, который, к какой бы цели ни стремился,
всегда осознавал бесконечность своего пути, а именно
ограниченность и нужду своего странствия, и все же не знал
усталости. Общество, представители которого
учредили эту премию, одно из немногих заслуживает славного
имени «содружество», которое, несмотря на
вынужденную борьбу, вопреки всем неясностям и преградам,
стремится к высокой, вечно сущей цели — благу для многих.
Возможно, оба этих идеала, между которыми нет
конфликта, но есть напряжение — спасение души,
которое не заменят никакие сокровища мира, и общее благо,
от которого никто не может уклониться ради
неограниченности собственных действий, — побудили вас свести
воедино Лессинга и Гамбург. Две части этого единства
* Речь при вручении Гамбургской премии Лессинга, 1930.
177
мы привыкли ныне с легкостью разделять или, что еще
хуже, принимать одно за другое. Позволю себе
предположить, что вы не желаете признавать это постоянное
противоречие, а стремитесь разрешить его, как только оно
становится ощутимым. Будучи приверженцем подобных
взглядов, я выражаю вам отдельную благодарность.
Сегодня я хочу вас поблагодарить, воздав хвалу
великому немцу, который хотя и не забыт, однако же не
произвел должного воздействия, — я говорю о Карле
Иммермане.
Гамбург дает достаточно поводов к тому, чтобы
воскресить его образ: здесь — в единственном в те годы
северонемецком городе мирового значения, в самой
оживленной театральной столице, в месте жительства его
издателя — Иммерман, возможно, сильнее всего ощутил
свой политический реализм. Здесь он сблизился с младо-
немцами из круга Гейне и с интересом наблюдал за
бурным торговым судоходством.
Характер, судьба, жизненный путь и жизненные
препятствия роднят его с великим мудрецом, страдальцем
и драматургом Лессингом. Иммерман влил в те
духовные потоки, которым Лессинг проложил русло в нашей
культуре, романтические флюиды и тем самым
одновременно укрепил, конкретизировал, наполнил
мужественностью, но также надломил и лишил очарования
романтизм. Он был другом и соратником еще одного
гамбургского гостя, имевшего более широкую мировую
славу, больше взрывной силы и искрометности, —
Генриха Гейне... тот был певцом даже в своей газете.
Иммерман — гораздо более мощная личность, чем его
окрыленный товарищ. Однако у него не было столь удачной
178
сферы применения своего гения. Посему он претворил
свою общую с Гейне задачу — уравновешивание
индивидуального романтизма и общественной работы,
поэзии и политики, гуманизма и социализма — не столько
в действие, сколько (весомее, солиднее, но вместе с тем
и тяжеловеснее) в произведения. Возможно, еще
настанет его час, возможно, он молчаливо войдет в историю,
представ пред взором Божьим.
Два его произведения уже прочно вошли в наследие
общеевропейской литературы (преодолев опасности
всякого наследия — застывание и злоупотребление) — оба
его романа воспитания, «Эпигоны» и «Мюнхгаузен».
Его миф «Мерлин» по замыслу и содержанию
является самой таинственной и глубокой среди фаустиад.
Иммерман освоил всю совокупность жанров,
заимствованных романтиками из творчества Гёте и
онемеченными, главным образом, благодаря Августу Вильгельму
Шлегелю и Людвигу Тику: рыцарский эпос
сентиментального и сатирического характера, романтические
комедии в духе Шекспира, барочные трагедии с
возвышенно-чувствительным психологизмом вместо одних лишь
злодеяний (как в «Карденио и Целинде»), штауфенские
драмы («Император Фридрих Второй»), трагедии из
новейшей истории («Алексей»), которые исходили из
размышлений современных историософов об идейных
конфликтах, а не из облика персонажей... и, разумеется,
стихотворные жанры: гимны, оды, песни, эпиграммы и
философские либо полемические сонеты. Не является
неблагодарностью потомков то, что все его стихотворения
и драмы сохранились лишь в памяти ученых, в отличие
от менее значимых и масштабных творений его совре-
179
менников — Мёрике, Брентано, Эйхендорфа. Его проза
в путевых заметках и наблюдениях (как «Бумажные окна
отшельника»), его воспоминания и оба его великих
романа по сей день хранят его благородный облик и передают
нам учение познавшего мир наблюдателя,
добросовестного исследователя, глубокого мыслителя, именно
потому, что они по своему жанру могут быть сопоставлены
скорее с наукой, чем с музыкой и живописью, поскольку
они больше обязаны заслугам, чем милости Божьей,
везению или волшебству. Со многими его идеями мы до
сих пор знакомились бы, если бы он не скрыл их за
художественной формой. То, что несущественно для
искусства, искажает и отягощает его намерения и суть. Даже
самая глубокая мысль, которая одновременно не создает
себе языковую оболочку и языковое выражение или не
создается ими, погибает вместе со своей неправильно
использованной формой. Ни одно произведение искусства
не будет существовать лишь благодаря навешенному на
него ярлыку. Почти во всех стихотворениях Иммермана
комментарии подавляют произведение.
Иммерман уже по году своего рождения (1796)
принадлежит к тому поколению поэтов, которые — будучи
окружены, стеснены, соблазнены и смущены
необъятным запасом познаний и образов, наделены
обостренной чувствительностью, — потеряв нерушимую границу
между добром и злом (наследие теолого-математиче-
ского Просвещения), взирая на Гёте, Лессинга, Гердера
и Канта, в растерянности, с воодушевлением или
отчаянием оглядывались вокруг, ища новых путей в
бесконечное или новых обязательств и границ. Он — младший
современник Брентано, Арнима, Герреса, т. е. беспредель-
180
ных искателей, мечтателей, требовательных просителей,
которые перед самым бегством в безумие вернулись
в прочные стены, пожертвовав опасной свободой. То, что
в XIX веке повсеместно называлось «романтизм», будь то
церковная или феодальная реакция, получали благодаря
«возвратившимся на родину» свое очарование или свою
обманчивость. Через все творчество Иммермана
проходит серьезная борьба мощного разума, смелого сердца,
ответственной воли против соблазнов нетерпеливой
фантазии, бурной чувственности, в историческую эпоху
пресыщенности, в изношенном (если позволительно так
выразиться) культурном пространстве. Будучи по рождению
протестантом, буржуазным отпрыском семьи
чиновника, личностью, которой присущи цельность, упорство
и постоянство, в этой борьбе он принял иное решение,
чем приняли названные выше поэты: он избрал трудный
путь из укромной лесной чащи, полной чудес — голубых
цветков, единорогов и священных призраков — в
сомнительное настоящее с переустройством общества, в
сомнительное будущее пробудившихся масс, рынков и машин.
Но и навстречу этому новому он не бросился с
алчностью романтика, с ликованием финансиста и победным
кличем индейца, как это делают сегодня
идолопоклонники рекордов, фанатики цифр и одержимые
экстатическим танцем. Он хотел пронести с собой вечный образ
человека, бесконечно длящийся процесс формирования
и преобразования, от древних греков, с их необычайным
даром очеловечивания, через тайны духа Средневековья,
с его боязнью колдовства, до дней революции, которые,
поэтически или нет, но все же обещали всем людям
пропитание и достоинство тружеников.
181
И это также был идеал, и (подобно любому идеалу) он
вызывал страх перед своим осуществлением, сомнение
в своей ценности... боязнь обмана. Ибо любое
насыщение — это конец, и любой голод желает и требует своего
окончания. Потребность не следует заглушать мечтами,
заслонять образами, по крайней мере образами
минувшего, как это делают романтики. Иммерман был
достаточно честен, чтобы не выдавать свои собственные
воспоминания об идеализированном прошлом за панацею против
бурного настоящего. Любовь Богоматери, звезда и цветок
у Брентано, блеск меча и короны у Арнима, страстный
бог любви у Гёрреса, который забывает о тех существах,
которые создают его и управляют им, не могли отвлечь
проницательного магдебуржца от угрожающего ропота,
криков и вздохов современных людей. В столь большой
мере он был поэтом; от отца и деда он унаследовал
способность осознавать свои насущные обязанности и
относиться к ним серьезно. То, что он привнес этот дух
деятельной серьезности в свои фантазии, возможно,
лишило их волшебства, лишило легкомысленного парения,
милой пустячности, что присущи иной романтической
сказке. Однако сам человек, которому мы сочувствуем
в его борьбе, в его мучительной вере в жертву не
рассудка, а сладкого безумия, достоин для нас большего
уважения, чем мечтатели и соблазнители... подобно тому как
солдат, безнадежно тонущий в смертной мгле, важнее,
чем хвастливые победители. Вера и сомнение Иммерма-
на важны для нас сегодня не в меньшей степени, чем
романтический экстаз, хотя сейчас мы отчетливее видим,
в чем он ошибался, и хотя многое из осуществленного
вызывает в наши дни тоску по безвозвратно ушедшему.
182
Иммерман, как и Арндт, происходит из Швеции. Его
дед, будучи солдатом Густава Адольфа, поселился под
Магдебургом в заброшенном крестьянском доме. Сын
его был пастором, внук — ректором, а его правнук, отец
поэта, был военным и удельным советником, человеком
строгого воспитания, в высшей степени достойным и
суровым, в соответствии с идеалом высшего прусского
чиновничества. Он женился на нежной, прелестной
девушке из магдебургской бюргерской семьи. Брак, в котором
на свет появился Карл Лебрехт Иммерман, первенец, был
счастливым. Понимание семьи как носительницы
внутренних и внешних немецких ценностей, как
собственной истинности, честности, верности, так и
обороноспособности государства, всегда было важно для Иммермана.
Все его основные произведения вращаются вокруг семьи,
предмета как его веры, так и его беспокойства. Борьбу
между исключительной личностью и требовательным
миром он вел именно отсюда. Болезненные идеи его
зрелого творчества проистекают из борьбы за любимую жену,
которая хотела разорвать брачные узы. От товарищей по
революционной борьбе его отличает глубокое уважение
к тому сосредоточению любви и верности, каковым
является немецкий дом. К удивлению «Молодой Германии»
он не решился на прорыв свободного духа в свободное
человечество, минуя узы крови и сердца, из-за
свойственного германцам трепета перед богами семьи и в силу
своих знаний о питательной силе потомства, общины и
привычки, унаследованных им от строгого отца. В своих
«Воспоминаниях», книге, все еще вызывающей интерес,
он сам рассмотрел границы и возможности немецкой
семьи, с обзором традиций соседних европейских народов.
183
Два великих исторических имени с поистине
мифической силой определяли кругозор мальчика в
отцовском доме: Густав Адольф как спаситель
протестантизма и мститель за разрушенный Магдебург и — ближе и
сильнее — Фридрих Великий, для жителей Магдебурга
просто «король», чудо всемогущества и всеведения в
государстве, несмотря на свои причуды и коварство, чьей
жертвой чуть было не стал отец Иммермана, оправдав на
военном суде ложно обвиненного солдата, несмотря на
явное неповиновение последнего государственной
власти. Подобное гражданское мужество прусского
военного чиновника отличает отца Иммермана. Сын сохранил
такую же смелость вопреки своим собственным
идеалам — гуманистическим и романтическим — в пользу
повседневных забот. Когда Иммерману было десять лет,
произошел развал Пруссии; он пришелся на фридерици-
анский период, от атмосферы прусской самоуверенности
перешедший к слепому тщеславию, в котором загнивала
и разлагалась слава Фридриха без его гения. Незадолго
до этого он обожал королеву Луизу, будучи приближен
к ней, и тайно хранил верность прусской династии,
которая все еще питалась славой старого короля. Битва при
Йене, первое историческое событие, которое Иммерман
пережил в сознательном возрасте, сильно потрясла его
картинами хаоса, ужаса и бедствий. Внезапное
потрясение основ мира его чувств и фантазии совпало с
началом его систематического школьного образования.
Хороший учитель немецкого языка в гимназии при
монастыре девы Марии, где Иммерман учился, помог
укрепить его патриотизм. Правление короля Жерома, смесь
тирании и безалаберности, усилило ненависть к угне-
184
тателям, и к началу освободительных войн Иммерман,
еще слишком юный для сражений, находился в рядах
поэтов, выступивших против тиранов. Бурная эпоха
пробудила в нем другие способности — тягу к драматургии.
Один учитель основал неподалеку в лесу любительский
театр и пригласил туда старшеклассника в качестве
актера. В 1813 году Иммерман с отличием выдержал
экзамен на аттестат зрелости и затем отправился в Галле
изучать право.
В Галле, колыбели немецкого литературного
«руинного» романтизма, Иммерман с мрачной решимостью
приобретал профессиональные знания и вместе с тем
находил время, чтобы предаваться поэтическому и
театральному пристрастиям, особенно во время гастролей
Веймарского театра, который впервые перед его взором
воплотил на сцене истинное, доброе и прекрасное пьес
Гёте и Шиллера. В течение всей жизни его тернистый
путь венчали широкие и ясные горизонты немецкого
классицизма. Также и его любовь к творчеству Людвига
Тика и к дебрям средневековых сказаний — усиленная
по-прусски умелым и продуманным воздействием его
отца — не поколебали его веру в идеалы
самообладания и стремления, воплощенные в «Ифигении» и «Доне
Карлосе».
Борьба Наполеона с немецкими университетами
нарушила распорядок и его учебы: временное упразднение
университета вынудило его — поскольку, в силу
традиций и экономических причин, отец упорно не разрешал
ему посещать другие университеты — самостоятельно
заниматься в Галле, прерываясь, чтобы совершить
очередное паломничество в Веймар или Йену. Увидеть Гёте
185
ему не довелось. В 1813 году Иммерман выступил в
качестве добровольца против Наполеона, однако тяжелая
болезнь помешала ему участвовать в военных
действиях. В 1814 году умер его отец, который своим давлением
омрачил его юность и вместе с тем укрепил его дух.
Дисциплина в отцовском доме и тирания Наполеона в мире
лишили его благодати наслаждения молодостью, так что
далее его юмор оставался принужденным и
преувеличенным, его остроты — горькими, и все его предчувствия,
томление, радость мудро прославляли божественное
изобилие, однако были лишены пленительности.
Возвышенное сердце, лишенное юности, даже играя, несет в себе
это бремя. Бегство Наполеона с острова Эльба помогло
Иммерману вступить, наконец, в желанную борьбу —
он сражался при Линьи и вошел в Париж, на краткий
миг воспарив над томительной, безрадостной походной
жизнью.
В конце 1815 года Иммерман возвратился в Галле и
продолжил учебу. Одна грубая выходка студентов,
которой он оказал мужественное сопротивление, послужила
поводом для его первой публикации — описания нравов
студенчества в Галле и происшествий из их жизни. Это
свидетельство его острого взгляда и непоколебимой
отваги — не только лишь рыцарского боевого духа,
который часто встречался в ту пору на полях сражений и
фехтовальных площадках, но и редкого оружия совести,
не жаждущего ни блеска, ни славы, чистого желания
дать отпор обидчикам. «Отец гимнастики» Ян, которого
Иммерман попросил быть судьей, должен был дать
согласие, однако этот стареющий энтузиаст в душе не мог
расстаться с романтикой студенческих корпораций, что-
186
бы сделать это. Своим следующим сочинением —
трудом серьезного юриста, а не поэта, как планировалось
ранее, — Иммерман положил конец противоречию,
которое остается знаменательным, так как поначалу он
публично соблюдал свой отказ от любого рода
романтически-патетических спекуляций в пользу безупречного
приличия и усердной деятельности... и при этом почитал
не Фридриха Николаи, а Людвига Тика.
Примерно в то же время он влюбился и по совету
своей тетки обручился, но его невеста разорвала помолвку.
Иммерман, вспыльчивый, упрямый, настойчивый, был
на грани отчаяния. Только самообладание спасло его от
неизбывного горя. По примеру Тика он писал страшные
сказки (они утрачены) и пьесы, александрийским стихом
или в прозе, буржуазно-романтические, без
собственного стиля. В 1818 году Иммерман выдержал экзамен и
стал судебным следователем в Ашерслебене. Он
исполнял свои служебные обязанности добросовестно, но без
удовольствия, все еще горюя о бывшей невесте. В
лирических стихотворениях он изливал душу, в случайных
любительских постановках пытался развеяться.
Следующее его любовное увлечение также не увенчалось
браком; это угнетало его, словно свидетельство
обреченности на неудачи. После второго экзамена, в 1819 году,
он получил должность аудитора в Мюнхене. В 1820 году
утрированный романтик Фуке опубликовал два его
посредственных стихотворения, однако прекратил общение
с ним, едва узнав о студенческих распрях Иммермана —
модная тогда бурная чувствительность вновь не приняла
его усердия и серьезности. Иммерман и в Мюнхене
страдал от рутинной работы и искал спасения в поэтических
187
драмах на средневековые сюжеты, которые он лишал
волшебства, примешивая к ним свое горькое остроумие.
У него еще не было собственного языка для собственных
сюжетов. Чувство, видение, намерение мешали друг
другу — литературные реминисценции, пространные
размышления об искусстве, театральные приемы,
философские мудрствования. Творческий момент, когда в духе,
в языке писателя различные элементы становятся
единым целым, Иммерман упускал из-за размышлений до и
после, так что хотя мы и узнаем об основах его замысла,
однако не очаровываемся им. Роман в письмах —
сборище литературных призраков его эпохи — и его
содержательный, однако невнятный и душный поэтический
сборник являют нам — лишь более развернуто — все тот
же недостаток: беспощадный хаос образов, созданный
бесстрастным любителем, мечтателем, насмешником,
у которого слишком много художественного вкуса для
создания собственной философии и слишком мало —
для свободного творчества. Если в наши дни мы
углубимся в его юношеские произведения, то обнаружим
правдивый, благородный смысл, но не ощутим
надличностного веления гения и единения писателя с
изменчивым миром.
Занимаясь одним юридическим вопросом, Иммерман
познакомился с Элизой фон Лютцов, супругой
ополченца, урожденной графиней Алефельд. Она была старше
него, остроумна, прелестна и благосклонна... ей было
приятно его общество, а его охватила страсть к первой
гениальной женщине, которую ему довелось встретить.
Она стала для него музой, принесшей ему мучительное
счастье, подобное тому, что Шарлотта фон Штейн даро-
188
вала Гёте. Борьба естественного желания и стремления
к буржуазному порядку, сохраненного им с детских лет,
усиливала, эту страсть. Элизе был свойствен
восторженный индивидуализм, и после развода она страшилась
опасностей второго неудачного брака. Иммерман, храня
веру в святость семьи, тщетно убеждал возлюбленную
скрепить их союз. Ее сопротивление угнетало его
совесть и омрачало его любовь. В трагедиях Иммермана
отразилось многое из его страданий... недостаточно для
того, чтобы раскрыть и обработать исторические
сюжеты, служившие ему материалом, и философские мысли,
образовывавшие смысловую основу. Однако шаткая
конструкция из мировой скорби, исторической рефлексии
и сценических эффектов, какой она явилась в его
трагедиях «Ронсевальская долина», «Эдвин», «Петрарка»,
опубликованных одновременно в 1822 году, отвечала
вкусам его образованных современников. Генрих Гейне
принадлежал к самым явным его апологетам и на
долгие годы хранил дружбу с ним... изящный насмешник —
с мощным критиком тогдашнего раздора в умах, между
восторженной любовью к давно угасшему прошлому и
яростной борьбой за новое равноправие сословий.
Любовь и служебные обязанности преумножали,
посредством накала страсти и застоя, работоспособность
Иммермана как писателя, и начало известности
принесло ему поводы и требования извне. Он защищал «Годы
странствий» Гёте от ядовито-нелепой пародии Пусткухе-
на. Драмам его, возникшим в 20-е годы, были присущи
личные добродетели и надличностные художественные
недостатки его «первенцев»: чопорная серьезность
размышлений, мощь отдельных мыслей, бессилие тона и
189
сюжета, несмотря на собственные слова и аллегории,
бесцветность персонажей. Его проза, как например
новелла «Новый Пигмалион» (1825, вторая редакция —
1829), отчетливее выражает его намерение — в данном
случае, изображение сословной розни и примирения
благодаря любви, — поскольку проза менее, чем поэзия,
зависима от радости изобилия. Попутно Иммерман
переводил — ради денег — «Айвенго» Вальтера Скотта.
Исторический роман британского писателя еще дальше увел
его от умозрительного танца цветов и облаков к
исторически насыщенному искусству сочинительства,
посредством которого в литературе историзма... после
трансцендентального дурмана возвестила о себе научная вера
в древнюю мудрость насыщенных времен.
Вновь и вновь он пытался создать исповедальную
пьесу, вновь и вновь он терпел неудачу из-за
несовместимости его лирических устремлений с его историческими
или социологическими размышлениями и его
сценическими замыслами. Самая примечательная его трагедия
(кроме «Мерлина») — это «Карденио и Целинда», не
столько как шедевр драматургии, сколько как
биографический документ. Речь в ней идет о греховном увлечении
и конфликте, к которым прибавлены сомнения и
страсти поколения, которое, в отличие от Андреаса Грифиу-
са, первым обработавшего этот сюжет, не было связано
христианской моралью, а вместе с Гамлетом сетовало на
раздоры в мире и вместе с Байроном наслаждалось
муками его проклятий. Только желание Иммермана вступить
в брак было недостаточно продуктивным для всех
прочих тем, которыми он наполнил эту пьесу. Чтобы
очистить свое непреодолимое стремление творить для сце-
190
ны от бремени лирических переживаний, чтобы создать
в драме широкую картину событий и придать ей
общественное звучание, что он ценил в творениях Шиллера и
любил у Клейста в «Принце Гомбургском», он
обратился — после обдуманных размышлений, а не в силу
патетического веления, как его кумиры, — к
историческому патриотическому материалу: «Трагедии в Тироле».
Борьба и смерть Андреаса Гофера еще были в памяти
у всех. В наши дни произведение, которое было с
восторгом встречено поклонником Наполеона Гейне, ничем
не выделяется среди сотен исторических драм,
предшествовавших шиллеровскому «Теллю» или гётевскому
«Эгмонту», кроме острого чувства справедливости Им-
мермана и его прекрасного знания театра. Сами
персонажи являются лишь рупорами мыслей Иммермана об их
историческом значении, они обрисованы в соответствии
с авторитетными историческими исследованиями,
однако не обладают собственным ярким характером: Гофер,
скромный защитник своих народных корней, которые
одновременно являются корнями его веры, с той
добродушной силой, которая не нуждается ни в знаниях, ни
в ненависти, чтобы защищаться... священник-капуцин
Гаспингер, ревностный защитник веры борющейся
церкви... Шпекбахер, олицетворение затаенной крестьянской
злобы на чужеземных угнетателей и обманщиков.
Напротив, французы предстают как безобидные и терпеливые
исполнители воли одержимого жаждой власти
правителя, и воля эта одновременно снимает с них вину и
возвышает их своей гибельностью... затем канцлер в Вене,
умело руководящий системой правления,
превратившейся из религии в рутину. Все это с исторической точки
191
зрения верно истолковано и хорошо изображено, однако
понято и изложено не равно с помощью чувства и
разума, страсти и знаний, в душе и на сцене, а воспринято
истинным патриотом, продумано справедливым
мыслителем, который не принижал даже врагов, представлено на
сцене добросовестным драматургом и сказано учеником
Шиллера и Клейста. Это четыре добродетели, и все же
их совокупное воздействие слабо — в этом
заключается тайна творчества, раскрыть которую до конца нельзя,
возможно лишь строить догадки. То, что Иммерман знал
об этом, по прошествии времени придает его пьесам
трагизм, хотя изначально он не был присущ им.
Выдержав третий экзамен, Иммерман стал членом
ландгерихта в Дюссельдорфе в 1827 году, вступив в
последнее и наиболее продуктивное десятилетие своей
жизни. Он погрузился не только в богатую историю тех
мест, но и в манящее царство природы, в бурную
интеллектуальную среду молодых художников и
литераторов, в то время как ранее он в одиночестве черпал свои
знания из книг. Здесь он обрел возлюбленную, и
совершенная новизна непринужденной обстановки на первых
порах ослабила его тягу к вступлению в брак. На
творчество Иммермана в первые дюссельдорфские годы
повлияли, помимо прочего, участившиеся выходы в свет. Сам
он пишет: «Вечера, драматические представления,
живые картины, чтения, лекции беспрерывно сменяли друг
друга при дворе и в частных домах». Ни один из плодов
подобного расслабления — ни общественная сатира
«Переодевания», ни штауфенская драма «Император
Фридрих Второй», ни написанная александрийским стихом
комедия «Школа благочестия», ни новелла «Карнавал и
192
сомнамбула» — не имеют вневременного смысла.
Почти все они были созданы из благих побуждений, будь то
сатира на такие современные Иммерману сумасбродные
увлечения, как ханжеская религиозность и вера в
призраков, или сохранившееся еще с гимназических времен
желание истолковать и прославить со сцены великие
события немецкой древности. Иммерман осознавал,
зачастую вопреки собственному рассудку и вольным
умонастроениям последователей Тика, насколько сильно
высокая поэзия со времен Средневековья основывалась
на событиях и преданиях рыцарства вплоть до эпохи
правления «Короля-Солнца» во Франции, и осознав это,
предпринял попытку ее обновления, не отказываясь от
требований современности в постоянном стремлении
запечатлеть священные тени прошлого и протестуя против
модных увлечений. К последним относился вошедший
в моду после «Западно-восточного дивана» Гёте
метрический ориентализм. В «Путевые картины» Гейне
Иммерман внес свою лепту в виде нескольких эпиграмм,
которые оскорбили графа Платена, гордившегося своим
искусством сочинения газелей, и побудили его сделать
злобный выпад против Иммермана. Тот ответил циклом
сонетов (с парабазой) «В лабиринте метрики
блуждающий кавалер», который принадлежит к самым
остросатирическим произведениям немецкой литературы и бьет
по слабым местам Платена объективнее и точнее, чем
более известные и забавные непристойности Гейне. Сам
Иммерман, со своей гётевской тягой к утверждению,
стыдился подобных личных выпадов.
Иммерман считал, что его полемический пыл найдет
лучшее выражение в стиле почитаемого им Тика, ко-
193
торый шел по стопам великого сатирика, в чьих
творениях гармонично сочетались благочестивый дух
рыцарства и живое восприятие мира, — Сервантеса. В своем
ироикомическом эпосе «Тулифентхен» («Tulifäntchen»)
Иммерман бичевал различные чувствительные,
деланно таинственные, чужеродно-высокопарные, туманные
сумасбродства современной ему немецкой литературы
посредством простодушно-отрешенного призрака
рыцаря, чьим бессмысленно-высоким стремлениям грубая
реальность препятствует точно так же, как и бессильному
испанскому мечтателю. Правда, Иммерман считает, что
противоречие между действительностью и фантазией
определяет не столько вес, сколько масштабы
враждебного мира. Дитя нашей идеалистической эпохи, он не
мог отделить действительность от литературной мысли
в той мере, в какой это удавалось могучему борцу за веру
и искателю приключений Сервантесу. Стихи,
четырехстопные хореи, Гейне выправил и убрал некоторые
шероховатости. Сегодня мы больше не можем наслаждаться
литературной грацией этой безделицы, так же как
современники ее автора Тик, Гейне, Ленау, поскольку болезни
той эпохи уже не волнуют нас и поскольку документы
конкретных десятилетий кажутся нам не столь
достойными и способными остаться в веках, как душевные пороки
человечества в целом, которые, с присущим им
сатирическим мастерством, являют в более или менее
историческом контексте Аристофан, Сервантес, Шекспир,
Мольер, Свифт, Филдинг, Стерн. Также и « Тулифентхен»
недостаточно образен и недостаточно музыкален,
чтобы своими устаревшими намеками и сегодня вызывать
смех и улыбку. В нем нас трогает благоговейная верность
194
Иммермана использованным в дурных целях идеалам
даже в сатире на тех, кто поступал подобным образом.
Театральная деятельность Иммермана, например,
постановка шекспировского «Генриха IV», в которой он
играл Фальстафа, лекции перед дюссельдорфскими
художниками и работа над «Эпигонами», его первым
крупным социально-бытовым романом о
современности, — все это было отчасти нарушено, отчасти
усилено великим событием той эпохи, Июльской революцией,
свершившейся в Париже в 1830 году. С меньшей
уверенностью, чем его кумир Гёте в империи духа, борец за
свободу и друг Гейне активно пытался осмыслить текущие
политические события, понять, что за силы стали
причиной борьбы за конституцию во Франции. Гуманизм шил-
леровского и гётевского образца, упорядочивающий мир
послекантовский идеализм, который создавал политии,
утопии и конституции, не обладая истинным
пониманием устройства государства и возможностью что-либо
изменить, сталкивался в его сознании с чувством
политической ответственности. Он страдал от того, что живо
воспринимал последние события, не имея возможности
участвовать в них, и преобразовал жажду действия в
образный язык своего поколения — бегство от сил,
движущих обществом, надеяться на которые он неохотно
пытался себя заставить, в созерцательный индивидуализм
и ретроспективное поклонение героям. Недовольство
невозможностью действовать, которое влекло Байрона
в Элладу, которое Карлейль компенсировал и поборол
своим служением памяти великих людей, которое
уравновешивалось и удовлетворялось то в виде резкой сатиры на
современность, то в виде культа героев, которое открыва-
195
ло одновременно политический и исторический смысл,
побудило Иммермана к созданию масштабной трагедии
тирана «Алексей«, мифа «Мерлин» и романа «Эпигоны».
В Дюссельдорфе для него важнее всего была
драматическая деятельность. Она более всего соответствовала
его совокупным предрасположенностям. Волевые
качества он мог проявлять — вплоть до тирании — в
руководстве актерами, мыслительные способности он
использовал для истолкования шедевров драматургии...
художественные дарования он раскрывал в себе как
режиссер, актер, поэт, с огромным усердием,
самоотверженным стремлением, с чистой душой, которая
укрепляла его как личность и обязывала его как чиновника.
Он принадлежит, вслед за Гёте и Тиком, еще до того как
Вагнер создал свой универсальный художественный мир,
к тем немногим театральным руководителям, которые
могли превратить театр в нравственно-эстетическое
заведение и — по крайней мере, на некоторое время — могли
уравновесить поэтическое искусство, актерское
мастерство и театральную рутину без ущерба каждой из трех
составляющих. В конце концов он, подобно Гёте,
потерпел неудачу из-за зависимости его высоких устремлений
от внеположных искусству слабостей и сил. Еще долгое
время после его смерти создание театрального общества
и возникший на его основе Дюссельдорфский городской
театр с его постановками и лекциями оставались в
памяти многих как эпоха расцвета рейнского театрального
искусства, а сам Иммерман — как образец гениального
руководителя: лишенный тщеславия, слабости,
криводушия, строгий вплоть до резкости и жесткости,
справедливый до самоотверженности и в совершенстве знающий
196
дело вплоть до педантизма. Нижненемецкое упрямство,
сопротивлявшееся его типично германскому избытку
чувства и фантазии, его поэтичности, иногда
ослабляло его силы, но одновременно помогало ему, вплоть до
фанатизма, сохранять свою истинную натуру. Его
добродетели зачастую ссорили его с соратниками или
подопечными, с баловнем муз Феликсом Мендельсоном, его
оперным директором, и с консервативным гением Граб-
бе. Им не хватало того подлинного мужества, которым
обладал их соратник.
Чтобы восстановить силы после тяжкого бремени
трудов, которое легло на его плечи в первые годы
пребывания в Дюссельдорфе, Иммерман отправился в
путешествие по Южной Германии вплоть до Тироля. Следы
швабских впечатлений насмешливо-добродушно и почти
ностальгически запечатлены в его «Мюнхгаузене». На
обратном пути через Прагу он посетил Тика, застав его
в стесненных обстоятельствах, но не потеряв при этом
почтения к нему. Оттуда он, воодушевленный и
расширивший свои горизонты, направился через Берлин — где ему
воздало почести дворянство и удостоили дружеского
доверия тогдашние великие умы, в особенности Александр
фон Гумбольдт, — обратно в Дюссельдорф. Его
образцовые постановки публика принимала с все возрастающим
восторгом, напряженным вниманием, даже с
благоговением, не понимая полностью, как все это было
создано. Однако, поскольку Иммерман, к своему великому
сожалению, должен был заниматься также и оперными
постановками, все предприятие в 1837 году окончилось
финансовым провалом, несмотря на денежные вложения
из личных средств самого Иммермана. При всем обилии
197
работы в театре поэт находил время на собственное
творчество и, когда ему случалось путешествовать, с
жадностью ловил новые знания. Помимо «Эпигонов»,
которые были завершены в 1835 году, в то время он писал
произведения самого разнообразного рода, от набросков
правил, регулирующих отношения между батраками и
нанимателями, до зингшпилей, писал обусловленное
временем и канувшее в лету, стремился к справедливости,
познанию и красоте, однако это были лишь фрагменты,
беспощадные и неблагосклонные. О них я умолчу.
В «Эпигонах» Иммерман хотел отразить сложное
отношение потомка к лишившемуся очарования,
жаждущему деятельности духу времени как мироощущение,
подобно тому как Гёте в « Вильгельме Мейстере» рисует
созревание восприимчивого ко всему юноши в обществе
и для общества, играющего и являющегося игрушкой
тайных сил, знаками которых выступают люди и
сословия, нравы и поступки. В другом своем масштабном
произведении, «Мюнхгаузене», он дал себе и современникам
поэтический отчет об опасностях немецких даров.
Между тем, во время осенней поездки в Магдебург,
в доме своего брата Иммерман познакомился с
воспитанницей последнего, Марианной Нимейер, прелестной
девушкой, душевной, бесхитростной и неиспорченной.
После нелегких попыток побороть сострадание — то были
отнюдь не угрызения совести — он расстался с графиней
Элизой, опасавшейся вступления в брак, и в 1839 году
женился на своей избраннице. Его счастье в любви
сопровождалось служебными неприятностями: его многократно
обходили в должности, возможно, из-за недоверия к
поэту и директору театра, возможно, по политическим при-
198
чинам — он был слишком разносторонней личностью,
чтобы производить впечатление исправного чиновника.
Его последнее крупное произведение — это
«Воспоминания», фрагментарные записки о войнах за освобождение
Германии и о борьбе умов... наряду с книгами
воспоминаний Арндта, правда, без их радостного воодушевления
и энергичного красноречия, это самое тщательно
выполненное изображение умонастроений тех десятилетий,
полное добросовестной серьезности и глубокого смысла,
написанное с подобающим благородством и
стремлением к справедливости, которые, несмотря на отдельные
критические суждения и настроения, делают эту книгу
и по сей день достойной уважения и доверия.
Иммерман не был создан для долгого, спокойного
счастья. Когда после рождения дочери сбылась его мечта
о настоящей семейной жизни, с женой и ребенком,
внезапная непродолжительная болезнь забрала его из этого
мира. Уже в юности он страшился застоя, жизни,
лишенной полноты и напряжения, и далее смерть пришла
к нему как акт демонической воли, которой он
подчинялся. Все в нем, от его угловатой и коренастой фигуры
и до порывов его духа, свидетельствует о его
мужественности, которая проявляется во всех обстоятельствах его
жизненного пути, которая преодолевает препятствия
природы и духа без страха перед людьми, без себялюбия
и расточительства. Он берется за дело твердой рукой и
идет уверенной поступью. Даже имя его, можно сказать,
является символом этой добродетели*. То, что несмо-
* Immermann буквально означает «всегда мужчина». —
Прим. пер.
199
тря на мощь духа и масштаб талантов труды и личность
Иммермана не получили вневременного признания,
проистекает из его намеренной приверженности эпохе, из
невозможности воспарить над ней. Ибо насколько бы
гений ни утверждал, осуществлял и представлял свою
современность, как только он вознамерится это
осуществить, как только он позволит своему внутреннему
демону заметить свое намерение, тот разрушает его план.
Добрая воля не должна вмешиваться ни в порождение,
физическое или духовное, ни в озарение, ни в упадок.
Желание иметь заслуги не должно совершать насилие
над благодатью. В какой мере Иммерману пришлось
пострадать из-за этого заблуждения, я хотел бы кратко
рассмотреть на примере трех его основных произведений:
«Эпигонов», «Мюнхгаузена» и «Мерлина».
Первый крупный роман Иммермана, «Эпигоны»,
наследует гётевскому «Вильгельму Мейстеру» и должен
представить панораму эпохи на примере биографии
прилежного, целеустремленного, благородного юноши.
У Гёте было заимствовано построение образа героя, его
странствования по различным сферам жизни и слоям
общества, которые очищают, укрепляют, воспитывают его,
а также любовные перипетии и излияния души. В
эпоху Иммермана, в противоположность гётевской, уже не
было устойчивых форм жизни и веры. Во время
революционных войн во Франции автор романа был незрелым
юношей, а не мудрым мужем. Превратности судьбы,
своей и современников, муки выбора и споры о наследстве,
сомнения (по сравнению с которыми вольтеровские были
радостной верой в разум), беспокойство — все это,
возмужав, Иммерман воспринимал как приметы своего поко-
200
ления. Как поэт он хотел, по примеру Гёте, посредством
образа и исповеди, исцелить себя от болезни, которая
представлялась ему так: «У людей было довольно
несчастий во все времена; но проклятие нынешнего поколения
заключается в том, что несчастья переживаются им без
какого-либо особого страдания. Бесцельные раздумья,
смехотворное важничанье и рассеянность, погоня
неизвестно за чем, боязнь ужасов, которые тем более
зловещи, что не имеют образа! Кажется, что человечество, на
своем челноке, бросаемом могучими морскими волнами,
страдает от нравственной морской болезни, которой не
предвидится конца».
К этому внешнему смятению или из него возникло
увлечение литературными образцами — но это были уже
не эталонные авторитеты, жанры, примеры, как
предписывал классицизм в продолжение канонов
эллинистической древности, без ущерба, а, напротив, для смирения
проявлений отдельной индивидуальности; теперь это
были иррациональные явления, подобно случайным
происшествиям, которые вызьшают у беременных женщин
испуг, отвращение или похоть и наделяют их детей
родимым пятном или каким-либо болезненным
отклонением. На гётевского «Вильгельма Мейстера» равнялись все
писатели-романтики, и их романы воспитания являются
не столько имитацией, сколько неудачным плодом
подражания этому образцу. К ним относятся и «Эпигоны»
Иммермана. Гётевский «Вильгельм Мейстер» возник из
намерения не дать картину эпохи, а образно представить
собственную жизнь, и лишь его совершенство создало
из микрокосмического ученика и странника и
встречающихся ему на пути людей макрокосмический земной
201
облик. Благодаря своему дару преобразования Гёте
обновил, сплел воедино перенятые им шаблоны мистерии
или приключенческого романа. От людей, которых он
воспринимал и видел, впоследствии исходили его
собственные повествования, описания, мудрые изречения.
У Иммермана как у размышляющего наблюдателя и
участника различных событий, в первую очередь, были
широкие знания о мире. К тому же, он обладал
рассудительностью, свойственной размышляющим об
образовании деятелям гегелевской эпохи, и фантазией, чтобы
воплотить свои идеи в действие. Эти три дарования во
взаимодействии вредили его творчеству. Его
«Эпигоны» — это фантастическая история о приключениях,
искусно приукрашенная подобно сказкам «Тысячи и
одной ночи» (семейные тайны, переодевания, неузнавания,
обретения и пр.), история декоративная, искусственная
и в широком понимании романтическая, но даже для
него ненужная, а для нас — совершенно недостоверная.
Произведения такого рода, подобно рыцарским романам,
которые писал Сервантес, или рассказам о разбойниках
Шписа, Крамера и др., в наши дни могут заинтересовать
лишь историков литературы и собирателей
литературных курьезов.
Кроме того, «Эпигоны» — изображение немецких
нравов около 1830 года, воспринятых как борьба
между обращенной в прошлое, утонченной, самоуверенной
или самоупоенной феодальной знатью и современными
тенденциями: целеустремленными, решительными,
рассудительными предпринимателями, с их эксплуатацией,
использованием и злоупотреблением силами природы и
людей... затем как борьба между политическим постоян-
202
ством или косностью приверженцев старых традиций и
направленной в ложное русло жажде свободы незрелых
юнцов... затем как противоречие между
гуманистическим, историко-филологически определенным, или
устаревшим, и целесообразным, технически-реалистическим
воспитанием — оба полюса неизменны, лишь предстают
в разных обличьях. Последующие главы высмеивают
пустую ученую болтовню пресыщенной столицы, пошлое
критиканство, дипломатические интриги,
преследующие личные интересы, самовлюбленное научное и
литературное хвастовство Августа Вильгельма Шлегеля,
явления разнообразных призраков веры, шайка масонов и
иллюминатов, назарейское и византийское плутовство,
ханжеские и интеллектуалистские преувеличения или
измельчание позднеромантических эпигонских лет.
Иммерман поставил себе четкую задачу показать,
прокомментировать и обличить в своем романе
совокупность социальных, культурных и религиозных
симптомов современной ему Германии, от войн за освобождение
Германии до еврейского вопроса, от рыцарских турниров
знатных господ до демагогии студенческих пирушек, от
педагогических заведений и опытов до медицинских,
юридических, индологических тенденций и
результатов. При этом он должен был мучиться с
фантастическим приключенческим сюжетом, с реминисценциями
из «Вильгельма Мейстера» и со своей памятью, которая
предлагала ему цитаты из классиков, от Гомера до Тика,
или назойливо подмигивала, мешая достичь прозрения.
Поэтому, несмотря на необъятные запасы остроумных
фраз, забавных жестов, глубоких естественнонаучных,
историко-философских, художественно-философских,
203
религиозно-философских мыслей, несмотря на обилие
живописных сцен, несмотря на ужасы (как например
опустившегося сына, вернувшегося домой из России), все
эти детали перевешивает груз сюжета, неподходящего
для романа. Само действие разваливается из-за
противоречия между видением и осознанием. Не хватает того
волшебства, которое все объединяет. Помимо голоса
автора мы слышим то прусского чиновника, то борца за
свободу, то знатока искусства, то философа-идеалиста, то
поборника справедливости, то неутомимого сочинителя,
фихтеанца, адепта Тика, соратника Гейне, театрального
директора, противника религиозного и государственного
романтизма, приверженца романтизма, мечтательного и
сказочного. Роман портит не то обстоятельство, что его
автора волновали столь разнообразные темы, а то, что он
никогда не схватывает их в моменты опьяняющей
ясности и порождающей благодати.
Отчетливый знак неспособности Иммермана к
переключению, несмотря на чистую волю, страсть,
глубокомыслие, — это его характеры. Чем в большей мере
он проявляет свое сатирическое негодование, гневное
остроумие и свирепый пыл, тем лучше ему удаются
персонажи, однако они остаются карикатурами. Ректор,
советник по образованию, индус (под которым
подразумевается Вильгельм Шлегель), любительница искусства
госпожа Мейер, юноша-демагог, фанатичный неофит,
цинично-сентиментальный врач, даже дядя, задуманный
как трагическая фигура, — всех их создал острый злой
взгляд автора. Там, где сам Иммерман страдал и
боролся, он формирует жесты, интонации, а не только мнения.
Для этого ему не требовалось одержимости — лишь про-
204
тивостоящая, сопротивляющаяся позиция. Где он хотел
описать ужас, гибель, злой рок неудачника или
заблудшего, трепет Миньон, как в образе Флемхен... злодеяния,
тиковские или гофмановские ужасы, как в возвращении
блудного сына, там он (имея более изысканный стиль и
более ясные воззрения) все же оставался среди шаблонов
литературы ужаса. Где он хотел выразить свою
собственную страсть, смесь мечтательности, томления и
верности, свою борьбу за любовь и веру в нее, свое отчаяние,
там он лишь запутывается в бледных тенях персонажей
Гёте. Призраки Вильгельма Мейстера, Наталии, Аврелии,
даже Филины, благородных господ и дам, и веселых
шутников из гётевских замков и со сцен бродят по
«Эпигонам». Их не оживляют отдельные черты, взятые Иммер-
маном из собственного опыта. Ни один из персонажей
не является самобытным образом, все они возникают
словно призраки из богатых образами книг.
И все же «Эпигоны», будучи в целом неудачным
произведением, остаются примечательными как одно из
первых крупных критических произведений о своей
эпохе — если мы будем читать эти стилизованные
фрагменты как сборник афоризмов, а не как роман. Это
сочинение по своей значимости следует за «Педагогической
провинцией» Гёте, «Леваной» Жан Поля, «Духом
времени» Арндта. Во многом оно — слабый предвестник
юношеских трудов Ницше... предчувствие того, что старые
идеалы образования, с его широким пространственно-
временным охватом, и доброжелательного благородства,
находясь под угрозой угасания, должны укрепиться и
снарядиться к бою с более грубыми, массовыми,
приземленными обществом и экономикой. То, что Иммерман
205
честно смотрел в лицо этой суровой действительности,
несмотря на свою любовь к Элладе, Риму и Авалону, что
романтические причуды, святошество, игры и тайны не
смогли отвлечь его от честной борьбы, хотя он не был
ни властителем дум, опередившим свое время, как Гёте,
ни ведомым, как Клейст, ни отрешенным провидцем,
как Гёльдерлин, — все это делает его волю образцовой
и в «Эпигонах», пусть этот роман и слаб в
художественном отношении.
Все произведения Иммермана, в которых его натура
проявляется во всей своей полноте, в отличие от
торжественных представлений, сценических постановок или
внезапных озарений, являются плодом борьбы его
стремления к истине с искушениями красотой, свойственными
его эпохе, или с наследием веры, которое было
философски преломлено романтическими поэтами, устремления
Иммермана — это уже не фаустовский порыв к
совершенству через познание, а стремление к чистоте,
прямоте, подлинности души в пестрой смеси накопленных
материалов, средств и соблазнов. Насмешливую жалобу
Гёте на свою публику: «Они прочли неисчислимо
много» — Иммерман вполне мог повторить как писатель,
как театральный директор, как рефлексирующая натура.
Боязнь среди обилия литературы потерять благодатную,
прочную почву, незыблемый свод твердых идей, законов
или указаний была одной из его муз... более важной, чем
вера в бога или даже сама природа. Его беспокоило не
то, что мы не можем знать, а то, что мы слишком
много и слишком нетерпеливо стремимся обрести мнимую
ученость — суета, крик, ужимки, отговорки, уловки
чересчур образованных гурманов. В немецкой литературе
206
был ставший нарицательным образ лгуна-фантазера, чьи
выдумки совершенно бесполезны, — это барон
Мюнхгаузен, как его изобразил Готфрид Август Бюргер. Право
барона отклоняться от истины, переиначивать ее,
преувеличивать любую возможность, не из хитрости и вряд
ли из тщеславия, а ради удовлетворения необузданной
фантазии, освобождение основного человеческого
инстинкта от совокупности его способностей, должно было
приобрести символическую ценность для ума, который
сформировался в эпоху Фихте и Тика. Построение мира
из глубины собственного Я было или казалось
философской формулой для умонастроений Мюнхгаузена.
Мюнхгаузен, вытаскивающий сам себя за косицу из болота,
представлял собой забавную аллегорию
трансцендентальной философии. Истинным певцом подобной творческой
игры был друг и учитель Иммермана, Тик, гораздо более
слабая, легкая и подвижная натура. Но именно поэтому
Иммерман мог наблюдать, как тот воспарял выше, чем
он сам, и брать с него пример, когда он начал работу над
литературной сатирой, романом о Мюнхгаузене,
«Историей в арабесках». Подзаголовок «Арабески» словно
требует разрешить автору беззаботную игру, отдых от
строгого повествования, искусное использование вставных
элементов, украшательств, деталей и лирических
отступлений. Право на подобный метод Иммерману сперва
дала уже ставшая общим местом доктрина Фридриха
Шлегеля... а затем — метод и успехи Жан Поля, чье
глубокомыслие и благородство духа никто не оспаривал,
несмотря на его фантазии.
Тот, кто в эпоху Тика собирался написать роман,
прославляющий или высмеивающий всепроникающее
207
безумие, сталкивался на своем пути с
предшественником — «Дон Кихотом» Сервантеса. Тик заново перевел
его, Гейне его превозносил... он считался прообразом
высокого романа в целом, наряду с гётевским
«Вильгельмом Мейстером». В «Эпигонах» Иммерман вознес
хвалу Гёте. Его «Мюнхгаузен» должен был быть
сатирой, литературной сатирой, каковой изначально был и
«Дон Кихот», который высмеивал рыцарские романы и,
кроме того, с трезвой и реалистичной позиции сводил
счеты с суеверием и вычурностью. Иммерман также
старался противопоставить своим карикатурным
образам — собственно мюнхгаузениаде, затхлому прошлому
и... будущему в замке Шник-Шнак-Шнур — подлинное
настоящее и прекрасную вечность в оберхофской
истории. Искусство арабески позволило Иммерману
посредством любовной истории Лизбет и Освальда объединить
обе сферы, фантастическую и реальную, деревенскую,
авантюрным сюжетом в духе и в подражание рыцарским
и разбойничьим историям (найденыши, неузнавания и
возвращения). Прекрасная девушка, которая в качестве
служанки в чудаковатой дворянской семье взыскивает
недоимки с вестфальских крестьян и там встречает
славного юношу-охотника, на самом деле является графиней,
а юноша, который из Швабии идет по следу
таинственного мошенника, выдумщика и клеветника, пока, в
замке Румпель, не узнает его в Мюнхгаузене, отце своей
возлюбленной, является графом. Но важно здесь не столько
действие (как и во всех романах воспитания или даже
рассказах-арабесках немецкого романтизма), сколько
образы, нравы, место действия, настроения... а у Иммерма-
на — даже суждения.
208
Люди в романах Иммермана — это отчасти идеал
того, к чему он стремился, чего страстно желал или что
прославлял... отчасти — карикатуры на то, что его
возмущало, сердило, вызывало смех... отчасти же — плоды
его наблюдательности, его знания общества. Здесь
точность или насыщенность изображения тем больше, чем
дальше создания Иммермана от его сердца. Оба его
любимца, Освальд и Лизбет, лирически переполнены или
созерцательно окутаны его собственными чувствами
и мыслями. Их выражение, в сущности, принадлежит
к прекраснейшим сокровищам немецкого языка, однако
оно делает самих персонажей безликими, неотделимыми
от автора, как шиллеровский Поза или Орлеанская дева.
К примеру, пространная речь Лизбет, посредством
которой она опровергает романные условности бескорыстной
и самоотверженной любви, звучащие из уст
самовлюбленной и глупой Клелии, звучала бы честнее и
правдоподобнее в качестве самостоятельной доктрины ее автора,
а не из уст юной девушки. Здесь Иммерману как певцу
любви мешает его образованность, а как историческому
поэту, в созданных им образах императора Фридриха,
царя Петра или Андреаса Гофера, — изложение своих
знаний о персонажах. Освальд и Лизбет задуманы как
чистая и искренняя юность немецкого характера,
истинная аристократия духа, которой не свойственны
трусливая и бесполезная ложь из-за боязни людей, потворство
моде, корыстолюбие или честолюбие; они всегда готовы
помочь, благородны и добры, сила чистой воли помогает
им выйти победителями из борьбы с препятствиями и
бременем их происхождения и окружения. Лизбет,
бедный найденыш, вырастает из атмосферы упадка чистой,
209
зрелой и светлой, как цветок из грязи и гнили. Освальд
обращает во благо греховную страсть к охоте, которую
унаследовал от чрева матери и которая едва не стоила
ему потери возлюбленной, ведомый безошибочным
голосом сердца. Вера Иммермана во власть благородного духа
над случайными обстоятельствами рождения, образа
мыслей, обычая служит опорой его влюбленным героям
и его истории. Однако куда ярче эта вера сияет из
объясняющих слов Иммермана, чем из жестов и речей Лизбет
и Освальда. Несмотря на тщательнейшее изображение
их одежды и облика, несмотря на старания Иммермана
избежать безвкусицы, свойственной Фуке, Лебену и
прочим сочинителям любовных историй, в персонажах
осталось нечто аллегорическое, словно в героях придворного
эпоса. Иными словами, их смысл, воззрения Иммермана,
истолковывают их образы.
Несравненно четче очерчен Старшина, управляющий
оберхофской историей... он также является идеалом
Иммермана и подпитывается опытом и ощущениями
последнего, однако не одним лишь томлением, как
влюбленные герои, а наблюдениями за изначально чуждой
писателю сферой, вестфальским зажиточным
крестьянством, древней языческой германской культурой с ее
смелым и почтительным, твердым и упорным
возделыванием природы, с ее свирепым сопротивлением и
яростью, с ее долгой историей, уходящей за пределы
отдельно взятой жизненной истории, в глубину непостижимых
веков. Благодаря оторванности от душевных
переживаний самого Иммермана фигура Старшины вышла более
убедительной. Он остается одним из выразительнейших
немецких образов. Его речи, не лирика поэта, а избира-
210
тельно подмеченные образцы крестьянской мудрости,
к тому же не искаженные литературными образцами и
отголосками, а воспринятые в первозданном виде,
полностью сочетаются с его средой и бытом. Его поведение,
хотя и возвышенное до мифических образцов и
приближенное к древним эддическим богам, соответствует
тону и смыслу его высказываний. В какой бы большой
мере его прощальная речь перед судом ни представляла
собой высказывание самого Иммермана об
отношениях между крестьянством и чиновничеством, все лее она
сохраняет свою крестьянскую основу, упорядочивает и
проясняет ее без последующего привнесения
писательской учености.
Менее масштабная, отвечающая авторскому замыслу
и одновременно запоминающаяся фигура, важная для
создания атмосферы и развития действия, — это пастор,
честный, добросердечный и мудрый духовник, с тем
подходом к мирским страстям, который позволяет ему
сопротивляться им... этот образ также мастерски
расцвечивают познания Иммермана относительно среды и
общества. Вечный тип, на который ориентировался поэт
и который проглядывает сквозь костюм эпохи бидермей-
ера, — это брат Лоренцо из «Ромео и Джульетты»,
мудрый слуга Божий.
Почти все прочие персонажи романа пороледены
проницательным и злым взглядом Иммермана, его
негодованием по поводу искажения послеромантического духа
эпохи, по поводу ложного применения тайн, идеалов и
нравов, беспочвенного баловства, гурманства и нытья
его пресыщенных и изнуренных современников.
Исключение составляют лишь несколько второстепенных
211
персонажей из «Оберхофа»*, прежде всего
Каспар-патриот, мелкий крестьянин, который сватается к дочери
Старшины, подвергается нападению его сына, убивает
его, затем, объявленный вне закона старинным тайным
судилищем**, впадает в нищету, ищет справедливости и
отмщения своему губителю и, наконец, прячет от него
почитаемый волшебным атрибут его должности
старшины — меч, якобы принадлежавший Карлу Великому.
Создать этот персонаж Иммерману помогла действительно
существовавшая личность, а зоркость и психологическое
мастерство писателя придали силу и убедительность
этой фигуре, самонадеянному крепкому парню,
которого любовь заманивает в ловушку крайнего высокомерия
и который становится жертвой безжалостных обычаев
или надлежащего порядка, не имея душевного величия,
способного стать противовесом. Так этот бахвал
становится парией и, обнищав, превращается в беспощадного
отмстите ля беспощадной силе. Работники и работницы,
гости Оберхофа являются в меньшей степени
самостоятельными характерами, чем окружением Старшины,
можно даже сказать, его орудиями... это лишь поводы
для последнего, чтобы продемонстрировать свои
вестфальские обычаи, нравы или привычки: рыжеволосый,
злобный и коварный работник, чье старое воспитание
еще сдерживает его жажду мести... стыдливо-разврат-
* В русском переводе 1882 г. — «Старостин двор»». — Прим.
пер.
** Имеется в виду «свободный суд»» или фрейгерихт,
система местных судов, существовавшая в Германии с XII в. —
Прим. пер.
212
ная работница... судебный пристав тайного судилища и
пр. Также одержимый коллекционер Шмиц, в котором
борются алчность и совесть, трусливый
обжора-причетник, шорник обозначают пределы устойчивой
крестьянской среды, умело внедряясь в нее или резко с ней
контрастируя. Лишь для этого они вводятся в роман, правда,
с неизменным педантизмом, порой излишним.
Прочие персонажи в той или иной степени
являются ядовитыми карикатурами — даже автопортрет
самого писателя (выполненный в манере Тика), —
поскольку Иммерман не был одержим своими героями, как его
предшественники, знатоки человеческих душ, а
воплощал мнения о современных ему тенденциях из закромов
своей фантазии. Поэтому они становились
интеллектуальными карикатурами и, несмотря на предметное
мастерство изображения, свойственное Иммерману,
несмотря на то, что он всегда был начеку, стремясь избежать
пустой болтовни, утрачивали изначально присущую им
доброту. Даже сам герой, с цветистой мишурой своих
идей, которые происходят из обширной сферы
немецкого общего образования, от мировой литературы до
модной натурфилософии, от политики до бульварной
литературы, все же является лишь выразителем критических
взглядов Иммермана. Его отличительные особенности —
как например глаза разного цвета или «позеленение» —
это аллегорические одеяния для интеллектуальной
критики или шуток, сродни средневековым аллегориям,
Фортуне или смертным грехам. Этим Мюнхгаузен
сильно отличается от своего прообраза, Дон Кихота, который
сначала явился своему автору как реальное лицо, а затем
был различно истолкован потомками. Мюнгхаузен — это
213
лукавый дух времени, который отдалился от истинной
природы, погрузившись в сентиментальности,
бесплодные мечтания и познания, и мастерит себе карнавальный
костюм из лоскутков образования, найденных на свалке
истории.
Слуга Карл Буттерфогель дан ему затем же, зачем
Санчо Панса — Дон Кихоту: как обычное здравомыслие
без мечтаний, духовности и стремлений, сплошная
алчность, физические потребности и деловитая глупость; он
также скомпонован из часто встречающихся, чудовищно
преувеличенных черт реальных людей. Обилие
литературных воспоминаний и умышленно предпринятые
наблюдения снабдили Иммермана достаточным
количеством материала, чтобы замаскировать сухость аллегорий.
Среди прочих гротескных образов романа, обитателей
замка Шник-Шнак-Шнур, это касается в первую очередь
старого барона с его безумными идеями из ушедших
десятилетий, чью память он хранит в виде сословного и
чиновного чванства; после того как смысл, сила и истина
улетучились из них, он словно пытается заткнуть
пробкой пустую бутылку из-под шампанского. Его дочь Эме-
ренция представляет (но не воплощает) сентиментальную
экзальтированность рыцарских и разбойничьих романов,
со своей любовью к тайному принцу гехелькрамскому,
к Руччопуччо, она — Дон Кихот в юбке. Она узнает свои
книжные мечты в тех глупцах или негодяях, с которыми
ее сводит случай.
Иммерман ненавидел любого рода суету —
литературную, религиозную, государственную. Любой
живописной экзальтированности, любому идеалистическому
мещанству — от Байрона до младонемца Теодора Мунд-
214
та, графа Пюклер-Мускау, Захарии Вернера и Гервину-
са — его роман противопоставляет забавные пугала или,
по крайней мере, предостерегающие знаки, карикатуры,
критические замечания. При этом собственные мучения
порой прорываются сквозь шутку и портят его
настроение: становятся заметными его осознание
собственного бремени в виде образованности, с которой нелегко
управляться, его родство как с певцами мировой скорби,
романтиками, так и с филистерами из «Молодой
Германии», а также сомнения, могут ли крылья поэзии иронии
и мудрости надолго вознести его над сферами, к
которым он принадлежал как эпигон, как чиновник, как
графоман. Он был слишком горд, чтобы не утруждать себя
подобно литераторам из числа последователей Тика или
подобно самому Тику, чей гениальный обман он,
однако, не прозревал. Иммерман был слишком скромен,
чтобы проявить в морализаторском или даже пророческом
ключе собственную добросовестность и основательность.
Поэтому он находил спасение в романтической иронии и
страдал от этого как мужчина, поскольку она едва ли
могла заменить ему деятельную справедливость...
страдал он и как поэт, поскольку он тянул за собой слишком
большой массив сухих, точных и сложных знаний,
чтобы танцевать и парить как его литературные наставники,
творческие гении исполненных веры (а не святошества)
времен, или преисполненные надежды провозвестники
еще не вполне серьезно воспринимаемой
действительности — Тик, Арним, Эйхендорф.
Каждая деталь «Мюнхгаузена» свидетельствует о
доскональном знании Иммерманом среды. Сам язык
романа лишен тщательного, слепого подражания старине;
215
он — в особенности в оберхофских фрагментах —
сочный, зрелый, образный, полный тонко подмеченных
повседневных мелочей и основательного знания сословий,
ландшафтов, мест жительства героев. Однако ему не
хватает, даже в «Оберхофе», и прежде всего в любовных
сценах, приметы каждого изначального творения —
радости. Иммерман еще душит свое радостное настроение
суровой хваткой руки бойца. Обилие шуток, насмешек,
издевок угнетает нас, вместо того чтобы развеселить
или просто расслабить. Если убрать «Оберхоф», то
читатель блуждает по роману-арабеске словно по
сумасшедшему дому, с теми же чувствами, с которыми Офелия
наблюдает за Гамлетом. Благоразумный Иммерман сам
корчится от страданий, которые высмеивает. Как Гамлет
выставляет себя безумцем, чтобы вправить вьшихнутый
век, так и Иммерман в «Мюнхгаузене» выставляет себя
безумнее, чем он есть; и его глубокомысленных
монологов, «Размышлений в крипте» (6-я книга, 17-я глава), и
в наши дни, через сотню лет, недостаточно, чтобы
возместить нам гомеопатическое лечение своих товарищей по
несчастью. Это значит, что мы уважаем личность,
которая подобными средствами победила подобную болезнь;
и вместе с тем нам недостает рождения из священного
союза между сердцем и судьбой, между духом эпохи и
постоянством натуры, о чем свидетельствует каждое
истинное произведение искусства.
В год смерти Гёте был опубликован миф Иммермана
«Мерлин». Как его романы соревнуются с « Вильгельмом
Мейстером», так и это произведение, возможно, без
ведома поэта и против его воли, состязается с вселенской
мистерией Гёте, с его «Фаустом». Иммерман оспаривает это
216
утверждение, обозначая темой своей легенды
противоречие, а не грех... однако это лишь спор из-за определений.
Как попытка на мифологическом материале
символически изобразить свою вселенную «Мерлин» относится
к фаустиадам. То, что Иммерман философски мыслил
иные вещи, чем Гёте, то, что он полагал сатану не
хитроумным проказником, а титаническим противником бога,
то, что в образе героя Мерлина, сына непорочной девы и
черта, он хотел изобразить не стремящегося, а
терзаемого противоречиями носителя человечности, и то, что он
ссылался на величие Вольфрама, Данте и Новалиса, не
освобождает его от влияния гётевской атмосферы и
языка. То, что отличает его от Гёте, — это невозможность
воплотить свои абстрактные мысли в образы или события.
Гёте видел и воплощал Фауста и Мефистофеля, прежде
чем понял, что они означают. Он видел и любил Гретхен,
прежде чем извлек из ее истории философию любви, и
не листал старинные мифы, чтобы облечь свои
размышления в подходящие костюмы. Как следствие,
мифические и исторические знаки не заслоняют его героев,
как персонажи Иммермана — их смысл. Его «Мерлин»,
говоря аллегорически, представляет собой одну из
гностических систем, которые должны ослабить и убрать
напряжение между вечным единством и изменчивым
многообразием, между абсолютным духом и
природными либо историческими неясностями, между иллюзиями
и затруднениями, между душой и плотью микрокосма.
«Эннеады» Плотина — вот философский источник этих
богооправданий, которые после победы христианства
порой с излишним пылом, порой бережно пользовались
языком библейских символов, чтобы от учения Плато-
217
на об идеях перейти к истории искупительного подвига
Иисуса Христа. Помимо ученых знаний об этих
предшественниках, которые были известны нашему поэту
благодаря религиозным мыслителям эпохи романтизма
Герресу и Крейцеру, он столкнулся со всей средневековой
рыцарской литературой, будоражащей воображение, —
сказание о короле Артуре, легенда о Граале, — когда
пытался мифологизировать свою действительную скорбь:
его стремление быть честным с самим собой и с миром и
недовольство лишенной очарования действительностью.
Суть его «Мерлина» выражена в лучших строфах
произведения — это ответ волшебника Мерлина тщеславному
Клингзору, ответ подавленного миром тому, кто играет
миром и насмехается над ним:
Ведь все, что движется, живет,
Свершает по своей орбите ход,
Мне самого себя родней.
И властность гордых королей,
И верность жен, лилейно-нежных,
Мощь рыцарей и робость дев безгрешных,
Ремесленника труд и суета,
Крестьян соленый пот и нищета —
Все это жизни мне важнее,
Чем Я мое ничтожное, ценнее.
Лишь в космосе себя я растворил,
Как космос мне в ответ себя открыл,
Теперь во мне растут, бурлят, тускнеют
Нет, не мои! а космоса идеи.
По небесам несут свой гордый стан,
Лечу пушинкой с ними в океан,
В его омывшись лоне, столь глубоком,
Они погубят мое Я жестоко.
218
Однако все это и речи всех персонажей остаются
высказываниями ради передачи смысла, а не выражением
увиденных сущностей. Самые темные места из
«Божественной комедии» или второй части «Фауста»
кажутся ясными и пластичными по сравнению с удушающе-
притчеобразным глубокомыслием Иммермана.
Комментатору этого произведения пришлось бы мучиться над
каждым стихом, ведь единая идея нигде не отражается
в персонажах. Персонажи сами являются ходячими
изречениями. Неопределенное положение между
философией, которой нехватает логической последовательности
для построения строгой системы, и поэзией, которой
нехватает жизненности для необходимого облика и
звучания, ослабляет этот миф о Мерлине еще болезненнее,
чем романы Иммермана. Определяющим знаком иммер-
мановского непроницания является язык. Там, где он
хочет раскрыть тайну, он говорит загадками — иными
словами, вместо пророческих интонаций, которые
делают поэтичной дантовскую схоластику, которые
трогают нас в неуклюжих строках Вольфрама и движут
Новалисом, словно эолова арфа, в строфах Иммермана
или в фаустовских стихах мы слышим косноязычное
высказывание серьезного мыслителя, скованное кандалами
стихотворного размера, навязанного ему поздним
романтиком, — оно само не знает зачем. Порыв, упоение,
восторг не были свойственны Иммерману, и он обратился
к ним из-за несчастной любви к эпохе, к людям, которые
могли вложить всю свою мудрость в подобные
языковые жесты. Недостаточная музыкальность портит
стихи «Мерлина» даже там, где мысль просвечивает сквозь
символы.
219
Иммерман был огорчен неуспехом своего самого
загадочного произведения и обвинил в этом глупых и
невнимательных читателей. Однако даже для его поклонников
книга в целом и в наши дни неудобочитаема — несмотря
на многие мудрые высказывания, ей не присуща ни
красота звучания, ни образная красота.
Учитывая слабости «Мерлина», он достоин уважения
как любая попытка правдивого человека, минуя манящие
иллюзии прошлого, оскалившиеся гримасы настоящего,
угрозы судьбы будущего, достичь спасения или
осуществления задуманного, будь то в боге, человечестве,
государстве, церкви, долге или в чем-либо ином. Названия
меняются от десятилетия к десятилетию, и при всяком
истинном рвении необходимо различать то, что стало
лишь названием, пустыми словами и фразами,
призраком когда-то действительных сущностей, и то, что,
возможно, еще не облеченное в слова или образы, требует и
нуждается в нашем самопожертвовании. Решаясь на это
самопожертвование, мы должны прислушаться к голосу
своего сердца, если нас обуревают сомнения. Ничье
веление — ни могущественных сообществ, ни почитаемых
традиций, ни цветистых обещаний, ни великих мужей —
не может заменить нам веления собственного сердца,
иначе выйдет лишь ложь и бесконечная глупость.
Поскольку Иммерман, дитя общества, в котором царит
разлад, всю свою жизнь боролся за истину, не ощущая
полной принадлежности ни к эпохе Гёте, Моцарта или
Фридриха Великого и все же бесповоротно очарованный
их произведениями, ни к эпохе Июльской революции,
Гейне и Берне; поскольку он беспрестанно отдавал себе
отчет в своем государственном и образовательном дол-
220
ге, в требованиях своей личности к народу, и наоборот; и
вновь повторю — поскольку он ни уклонялся, ни
похвалялся, ни обманывал, а работал, стремясь к
прекрасному, он остается достойным нашего восхищения даже при
своих промахах, заблуждениях и ошибках. Смертельной
ошибкой поэта было то, что он пытался упорным
трудом добиться красоты. В этой борьбе он был повержен.
Но произведения, принадлежащие его перу, стали
памятниками тем, кто погиб бесславно, ведомый честью и
отвагой, стали расколотыми колоннами или выпавшими из
мощных стен глыбами.
АННЕТТЕ ФОН ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ
В Германии есть писательница, которая не просто
является одаренной женщиной, выдающейся творческой
личностью, литературным гением, снискавшим славу
благодаря удивительным и чарующим дарованиям
разума, фантазии, духа, как различные женщины от Росвиты
Гандерсгеймской до Рикарды Хух, а воплощает в
произведениях на немецком языке вечный образец женской
духовной благодати: Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф —
провидица, в той ипостаси, которая еще была возможна
в XIX веке с его журналами, читательскими кружками,
платными библиотеками, эстетическими чаепитиями,
учебными заведениями и союзами. Провидица — это
провозвестница таинств жизни благодаря духовному
слову. Это нечто иное, чем страстные откровения,
глубокомысленные толкования божественного или убедительное
знание общества. Образцом провидицы в античную
эпоху для нас является Сафо, с немногочисленными
осколками своих од... в нынешней Европе, не столько в своей
лирике, сколько в сказках — Сельма Лагерлеф со своей
«Сагой о Йесте Берлинге»... в нашу классическую эпоху,
благодаря не столько достижениям, сколько судьбе —
Гюндероде. Гюндероде, а не гораздо более одаренная
222
Беттина. Контраст между этими двумя личностями,
возможно, способен прояснить различие между гениальной
писательницей и провидицей. Первое относится к
области определенных предрасположенностей личности,
которые завладевают интеллектуальными средствами или
материалами, принадлежащими определенному
сообществу, чтобы с их помощью выразить личный опыт или
общественные тенденции, по большей части, при
помощи или под влиянием предшествующих творений — как
Беттина, окрыленная Гёте, Бетховеном, Гёльдерлином,
воспарила в те сферы, которые были недоступны ее
собственным силам. Менее уверенная Гюндероде,
сориентированная на знаки, слова, высказывания, которые она
не извлекает из творческого сумрака, а робко, на ощупь
черпает из уже сложившегося интеллектуального запаса
своего литературного окружения, все же выдает своим
тоном и жестами робости и страха, унылой дрожью
своего лепета, что там, внизу или наверху, она была
охвачена силами, которым усердно поклонялась. Мы верим ее
знакам, которые ей самой неподвластны, больше, чем
чересчур искусному потоку красноречия ее образованной
подруги Беттины. Однако недостаточное владение
непосредственно искусством повествования оставило
Гюндероде в сумерках памяти, в тени ее блестящей
современницы Беттины. Тем, что в наши дни доступно из ее
творчества, мы обязаны в меньшей степени ее
трогательным стихотворениям, чем образу, который
красноречивая подруга переняла у нее и, усилив и исказив
одновременно, оставила в наследство романтической публике.
Дросте объединяет искренность проповеднической
натуры и силу высказывания высокообразованной жен-
223
щины и, благодаря своему правдивому характеру и
обязательствам веры, защищена от опасностей
чрезмерного желания произвести эффект в литературных кругах
и культурно-политического честолюбия, которым была
подвержена Беттина, наслаждаясь своими
литературными приемами. Однако последняя могла удачнее, чем
Гюндероде, — возможно, поскольку была более
опекаема и менее смущена блестящим танцем призраков
романтического полдня, — отчетливее запечатлевать свои
образы, а сами слова, при той же робости, произносить
настойчивее, чем Гюндероде. Дросте также не везде
смогла полностью выразить свои ощущения. Однако
одно из ее произведений в полной мере обнаруживает
истоки ее судьбы — трепет набожного духа перед
высшими силами, воспринимающего из освященной земли
свое благоговение, веру, преданность и свои образы, —
«Еврейский бук».
Давайте бросим взгляд на ее жизнь. Это жизнь в
высшей степени тихая, незаметная, без каких-либо
удивительных происшествий, приключений, которые могли
бы поразить воображение наблюдателя, как связь Бет-
тины с Гёте или гибель Гюндероде. Однако именно
родные пенаты вестфальской барышни первой половины
XIX столетия (т. е. десятилетия немецкого просвещения,
где царил Гёте) могли обеспечить ее творчеству
предназначение и дарование в большей степени, чем бурный
или блестящий жизненный путь. Более чем ее сестры
с пестрыми судьбами, принадлежавшие к
европейскому романтизму, она вкладывала всю полноту своего
девственного духа в вожделенные и пугающие видения
данного ей от рождения искусства, воспринимала и
224
предвосхищала опасный мир своей бурной фантазией. Ее
душа, которая могла сильнее ощущать страдания,
жертвы, возможно, деяния благодаря своему вдохновению и
энергии, пыталась обрести умиротворение в видениях,
создавала себе внутренние пространства вместо
недоступных далей и чужих краев. Еще будучи совсем юной
девушкой, она пишет одному отеческому благодетелю:
«Далекие страны, великие, интересные люди, разговоры
о которых я слышала, далекие произведения искусства
и тому подобное — все это имеет надо мной
удручающую власть... Газетная статья, книга, пусть даже плохо
написанная, где речь идет об этих вещах, способны
заставить меня прослезиться; и если кто-либо может
поведать нечто из собственного опыта, если он объездил
эти страны, видел эти произведения искусства, знал этих
людей, к которым меня влечет, и если он, к тому же,
может рассказать об этом приятно и с воодушевлением —
о, мой друг! тогда мои покой и равновесие каждый раз
надолго нарушаются, и я неделями не могу думать ни
о чем ином». Энергия видения, о которой говорит здесь
девушка-подросток, не ослабевала у нее вплоть до
преклонных лет, однако нетерпеливое стремление
превратилось в твердую, плотную, точную удерживающую силу;
чем меньше возможностей ей предоставляла внешняя
жизнь, тем сильнее ее упорное воспитание воли,
постоянство веры и искренне благочестивое образование
позже преодолевали юношеский избыток чувств.
Хотя безудержная фантастика является чертой всех
романтических поколений, от Новалиса через Брента-
но и Арнима, Эйхендорфа и Мёрике до Фрейлиграта и
других немецких подражателей Виктору Гюго с их эк-
225
зотическими балладами и штауфенскими или римскими
историями, но лишь у Дросте восторженное упоение,
порхание в облаках и легкомысленная неугомонность, не
теряя образной силы, послушно подчиняются строгому
приказу чистого творческого духа, который черпал свою
силу из отрицания и приводил в порядок то, что не могло
устремиться вдаль. Романтическим является
происхождение ее поэтического стремления и, по большей части,
материал, которым последнее подпитывалось.
Характерные черты, отличающие ее не только от
женщин-писательниц ее эпохи, но и от почти всех писателей, включая
реалистов из «Молодой Германии» и представителей
философской драматургии в период от Гегеля до Ницше, —
это ее стремление к близости, к схватыванию вещей и
искренность современного взгляда и слова; ей не
присущи ни догматически-эстетское изображение страданий,
ни увлеченная погоня за миражами, ни добросовестный
историзм. Она остается художницей, будучи
писательницей — по крайней мере, в создании образов. Здесь,
среди ее современников, мастеров позднего романтизма, ее
превосходит лишь один — Мёрике. Еще один художник
слова, Штифтер, схож с ней своей тщательностью и
верностью фактам, однако существенно уступает ей в
знании людей. Более богатое кровное и духовное наследство,
более сознательная сила чувств (а не только их ясность)
достались ей от предков.
Аннетте происходит из старинного вестфальского
дворянского рода. Даже если мы не решаемся возвести
духовные плоды к их кровному родословному древу
столь же уверенно, как это обычно происходит, выводя
отчетливое бытие из менее определенного, то некото-
226
рые основные черты Аннетте все же можно приписать
ее происхождению. Постоянство при крайней хрупкости
психики, самообладание при бурной активности,
благородная застенчивость, несмотря на отзывчивость сердца,
могут быть велениями угасающего древнего рода.
Борьба ее одинокого и гениального Я с общим, древним Мы,
стремление к надличностной основе бытия и вера в нее,
возможно, не проявились бы в такой мере у девушки
менее благородного происхождения.
Еще более отчетливо, чем наследие предков, в ее
характере просматривается влияние родителей. Своего
отца, Клеменса Августа, она сама очень точно
изобразила: почтенный господин с необычайно изящными
кистями рук и ступнями, в котором было что-то детское
и женственное, мягкий и добродушный, невинный, как
тепличное растение. Он был офицером и верно хранил
память о бурных исторических событиях... в его
поместье процветали ботаника и птицеводство. Его
набожность также находила свое причудливое выражение
в тяге к сверхъестественному, он замышляет
собственную книгу о предсказаниях, видениях и потусторонних
вещах. (Возбужденная Просвещением и революцией
потребность угасающего рококо в метафизическом,
которая в городах удовлетворялась тайными кружками
желающих проникнуть в потустороннее, розенкрейце-
ровского или иллюминатского толка, которая возникала
в литературе, кокетливо замаскированная
средневековыми костюмами, в деревне находила выход в изучении
образованными людьми древних анимистических и
магических ужасов оставшегося языческим крестьянства.)
После смерти своей первой жены он женился на Тере-
227
зе Луизе фон Хакстхаузен, энергичной, рассудительной
даме, которая — будучи хотя и способной к учению,
однако не имевшей интеллектуальных стремлений — из
склонности и чувства долга посвятила себя домашнему
хозяйству, став опорой своему мечтательному супругу.
Аннетте, ее вторая дочь, появилась на свет 10
января 1797 года, в поместье Хюльсхоф; она родилась
недоношенной. Слабая, родившаяся без ногтей, Аннетте на
протяжении всей жизни страдала от хронических
болезней, которые одновременно сделали ее душу невероятно
светлой, чувствительно-внимательной, сострадательной
и телесный недуг превратили в духовную благодать.
Своей жизнью она обязана крестьянке-кормилице,
привязанность к которой сохраняла, оставаясь старой девой,
вплоть до ее смерти. Такие отношения между стихийно-
простой хранительницей домашнего очага и болезненной
сивиллой напоминают древние предания. Мать
заботилась об Аннетте скорее из чувства семейного долга, чем
по зову сердца, и порой теряла терпение, опекая
трудного ребенка с непостижимо живым умом, с мощным,
восторженным воображением. Поэтому у Аннетте было
время, чтобы резвиться на природе родных краев, в
уединенной и суровой лесной и горной местности, где еще
шептались и парили духи времен Видукинда.
Школьные занятия, особенно по математике и языкам, ее не
привлекали — всю свою жизнь она оставалась
восприимчивой лишь к зримому, будь то доступные вещи или
недостижимые объекты желания. Ибо осязание и
желание — это переизбыток зрения. Напротив, как
большинству великих поэтов, ей были недоступны абстрактные
вычисления и совокупность разрозненных знаков, кото-
228
рая мыслит пространство и время фрагментированно,
в цифрах и формулах, или слагает силы, подобные
языку, из букв алфавита. Путь от знака к смыслу проходил
у нее через разум чувств, а не через рассудок.
Уже ребенком она разделяла страсть своего отца
к таинственному, а также его любовь к музыке. Отсюда
и проистекает ее первый опыт будущего ремесла
писательницы — народная песня. Она сама сочиняла музыку
(в 1877 году в свет вышли несколько ее песен с
фортепианным аккомпанементом), и мы знаем о ее поистине
сверхъестественном импровизаторском таланте. Здесь
необходимо оговориться, что музыкальная одаренность
не проявляется в ее поэзии. Вряд ли найдутся немецкие
стихотворения, где при столь же совершенном образном
мастерстве проявлялся бы столь сильный недостаток
подлинной музыки языка.
Столь же рано, как и музыка, ребенку открылись
возможности возвышенного слога. Было то влияние
детских стишков или внутреннее воодушевление, Аннетте
уже повиновалась стремлению звучать в
торжественной манере, выходя за пределы уютной повседневности,
схватывать хорошо знакомое, заклинать недоступное,
прежде чем ее могло увлечь очарование знаменитых
литературных образцов. Первое стихотворение
семилетней Аннетте, «Песня о петушке», которое она спрятала
в стропилах замковой башни, дошло до нас и по сей день
привлекает своей глубокомысленной наивностью и
восторженным лепетом. Уже здесь неуклюже борются друг
с другом привычное зрение и робкая попытка выйти за
его пределы. Спустя некоторое время, уже
познакомившись с книгами, она стала подражать в повествовании
229
выдающимся образцам из своей библиотеки, пыталась
писать гекзаметром в манере Фосса и, неуверенно и
простодушно, перепевала мотивы «Союза рощи».
Однако уже ребенком она наполняла
сентиментально-глубокомысленные жалобы или мольбы Маттисона, Хельти,
Штольберга и др. своим более приземленным,
одновременно более робким и более честным духом. Туманные
речи набожных пустословов никогда не отдаляли ее от
собственного восприятия, и ее подражание происходит
в большей степени из смятения чувств, которым она
обязана названным авторам, чем из художественного
очарования их стихов. О том, что юная поклонница была
во власти воодушевленного слога Шиллера и духовного
блеска Гёте, свидетельствует драматический фрагмент...
несмотря на эпигонский стиль, уже подающий
надежды благодаря целомудренно сдержанному тону. В годы
пробуждения своего поэтического дара она встречала
выдающихся личностей-католиков из эпохи усталого и
угасающего Просвещения, которые получили от церкви
ободряющую поддержку, от гуманистического
образования наших классических десятилетий — прекрасные
перспективы и, подобно тогдашним английским садам,
постепенно погружали во тьму ухоженные жилища,
вызывая приятный трепет первобытного леса. Благоговение
романтиков, которым прониклась Аннетте, отличается
от средневековой и барочной веры необязательными
душевными излияниями, уютной набожностью, которая
относится к вере так же, как любовная интрижка —
к любви. Аннетте не позволяла курящимся кадильницам
этих гурманов от веры изнежить себя и, благодаря
патриотизму своего чуждого обществу молчания и своему
230
глубокому страху перед миром, хранила истинную веру
без жалобного угодничества перед Богом. Ни в одном из
ее произведений нет ни единой кокетливой строчки
(каковые часто встречаются у последователей Клопштока,
протестантского и католического толка).
Раскаты наполеоновского грома донеслись и до ее
уютного уголка. Люди ее сословия присягали на верность
католическому императору, не столько из расположения
к французам, сколько из ненависти к пруссакам, — хотя
и испытывавшие отвращение к радостной подлости
сатрапии Жерома, но все же равнодушно-покорные. Двое
дядей Аннетты разделяли немецко-романтическое
отвращение к зверствам Французской революции и ее
зачинателя, будучи единомышленниками гейдельбергских
романтиков. Освободительные войны и их успех
застали и Аннетте на стороне освобожденной родины, рядом
с певцами спасенного отечества и победоносной религии.
Между тем она осознала свой поэтический дар,
который вызывал неохотное одобрение или недовольное
покачивание головой у членов ее семьи и получил поддержку
участника «Союза рощи» Антона Матиаса Шприкмана.
В то время он был профессором права и жил в Мюнстере,
исцелившись от чрезмерного эстетства своей
чувственно-мистической юности посредством надежной работы,
которую ему обеспечило одно высокое духовное лицо и
которую он выполнял с благодарным тщанием, будучи
наделен даром приспосабливаться к новым условиям,
однако не вполне отрекся от своих юношеских увлечений,
охваченный меланхоличной печалью о потерянном рае и
счастливый, если мог поделиться с молодыми поэтами
частью испытанных им ощущений. Аннетте, благород-
231
ная, по-детски нуждающаяся в помощи и одновременно
одаренная, была для дяди-поэта желанной подопечной,
а он был для нее почитаемым проводником сквозь дебри
ее искусства, в ее окружении признанный как
многоопытный представитель знати, участливый,
покровительственно-мягкий и опасный лишь ввиду своего
старомодного вкуса.
В двадцать пять лет Аннетте закружил бурный
водоворот женской страсти, который одновременно показал
ей ее собственную сущность и, став ее личным
бедствием, способствовал горькому осознанию смысла
ощущаемой повсюду жизненной тайны возвышенной души. Она
влюбилась одновременно в двух друзей ее дяди: Августа
фон Арнсвальда, практичного и образованного
светского человека, и Генриха Штраубе, романтического
литератора. Последний, вероятно, увлек молодую поэтессу
причудами, чарами и тайнами своего творчества (если
вообще можно найти причины любовного притяжения
противоположностей). Оба они обожали Аннетте... и
непривычная ей власть над сердцами других привела ее
душу в радостное и пугающее смятение. Она колебалась,
не в силах выбрать одного из них, опорочила свой образ
и потеряла обоих, недовольная собой, представшая перед
ними в неприглядном свете и благодаря краху
мирского увлечения осознавшая, по какой причине она должна
воззвать к Богу.
Ее сборник стихов, «Церковный год», благодаря этим
мучениям возвышается над ее прежним эпигонским
уровнем и находит звуки блаженного томления и
отчаяния, минуя настроения сплошной тоски и благоговения,
влекущие и пугающие тени ее детских лет. Жанр кни-
232
ги сродни средневековым молитвенным правилам,
которые в эпоху барокко, проникнутые духом романской
любовной лирики со времен Данте и Петрарки, привели
к важнейшему их немецкому изводу — « Воскресным и
праздничным сонетам» Андреаса Грифиуса. Сперва эти
стихотворения предназначались для бабки Аннетте, по-
детски набожной пожилой женщины, чтобы укрепить ее
дух, однако затем, к ужасу самой Аннетте, взяли на себя
бремя ее собственного душевного смятения и нагрузили
комментарии к Евангелию страданиями глубоко
мыслящей женщины. Простая дидактическая цель — сделать
таинство Евангелия более доступным для понимания
верующих — и биение смятенного сердца нигде в этих
стихотворениях не приходят в согласие. Как произведение
искусства они не принадлежат к шедеврам Аннетте, как
биографическое свидетельство — остаются достойными
любви и удивления, именно из-за борьбы между эросом
и агапэ в их настроении, между буйством выражения и
благочестивого стремления к успокоению в их
интонации, между стереотипами мышления и
аллегорическими видениями в их образной системе. Это едва слышные
молитвы отчаявшейся, которая принуждает себя быть
душепопечительницей, даже умерщвляет свою плоть
(в противоположность плотскому вожделению
некоторых барочных католических молитв монахинь, в
особенности испанских, которое радостно воспламеняет любовь
к Иисусу).
Происшествие с двумя друзьями приблизило ее к
старости, духовной зрелости и святости. Ее внешняя жизнь
протекала к тиши уединения, изредка прерываемая
совместными поездками по Рейну к не знающим уныния
233
родственникам или знакомым, в чьих занятиях
искусством она принимала участие, дружелюбно, порой с
облегчением, порой со стеснением, глубинные же сферы ее
существа оставались недосягаемыми. Ее отец скончался
в 1826 году, и она, вместе с матерью и сестрой,
поселилась в уединенном Рюшхаузе, месте, которое наиболее
созвучно ее поэтическому дару... тихое имение среди
полей и лесов, с дремлющим садом и
уютно-сумрачными покоями. Мать и сестра много путешествовали, а
болезненная Аннетте довольствовалась призрачной
атмосферой родного гнезда в обществе старушки-кормилицы.
Она взяла на себя часть домашней работы и имела досуг,
достаточный для чтения и сочинения стихов.
Жутковато-уютное уединение пошло ей на пользу. Также по ее
драматическим опытам и даже по ее комедии заметно,
как она все более отдалялась от захватывающих
общественных умонастроений и застывала во вневременном
спокойствии... среди безмолвных стихий, болезненно
откликаясь на предчувствия и воспоминания об
утраченной сердечной привязанности или о вездесущей смерти.
Монашеская жизнь в Рюшхаузе, одиночество,
насколько возможно наполненное работой и время от времени
прерываемое посетителями дружеских вечеров с
рассказами о призраках, в некоторой степени укрепил
католицизм Дросте. Пробуждали еще в ней церковные
таинства и ритуалы наивную веру или являлись для нее
лишь окруженными благоговейным почтением знаками
совершенно недоступной сферы, историческими
памятниками вневременных сил; воспринимала она как
истинную свою веру в Бога-творца как личность, в
воплотившегося Спасителя и в бессмертие своей души или лишь
234
смиренно утешала себя прекрасными обычаями предков
и сулящим избавление призьшом данной ей религиозной
общины — все это невозможно однозначно понять из ее
высказываний. Порой, ощутив эстетическое отвращение
к шумному вольнодумству и циничной погоне за
«сегодняшним днем», она со всем усердием, со всей
нетерпимостью отгораживалась от иноверцев, со всем своим
жестким догматизмом, и ограничивалась соблюдением
моральных принципов, готовая оказывать помощь,
благородная и добрая в своем стремлении к порядку,
творца которого она тщилась обнаружить в католическом
Боге. Она была скорее святой, чем верующей, и святой
не только благодаря чистоте образа жизни или
преодолению искушений, сопротивлению греху, но и благодаря
милостиво дарованному ей сокровищу истинной любви
и доброты.
Ее жизнь в Рюшхаузе, по описаниям друзей, — в
полумраке комнат, среди старинной мебели, летом под
щебет птиц за окном, зимой под жужжание прялки, рядом
с кормилицей, с которой она беседовала на
нижненемецком диалекте, — с таким же успехом могла протекать
в католической Германии XIV века, как и в атмосфере
художественной литературы, в которой проявляется
образ Аннетте. И я говорю здесь об этом, чтобы
объяснить ее загадочную приверженность одновременно
католическому благочестию и романтическим мечтам. Ей
были свойственны убеждения минувших столетий,
которые проявлялись даже в ее внешнем существовании.
Она — духовная современница Росвиты Гандерсгеймской
и графини Иды фон Хан-Хан, религиозной
писательницы 50-х годов. Как первая, ведомая силой веры, могла
235
писать комедии в духе Плавта, а другая, получив
слабое образование, — рыхлые, тенденциозно-католические
романы, так и в произведениях Дросте мы находим все
оттенки чувств — от священного благоговения до
сентиментальной грусти, — которыми овладела католическая
церковь, чтобы подчинить соответствующие души
своему порядку (кроме сил, равновесие которых само являет
собой подобный порядок). Церковь является
одновременно политической и метаполитической властной
структурой, а принять это было не под силу Дросте, поверить
в царство Божье на земле... тем более она верила в
церковь как искусство и науку о душе, изменчивых от века
к веку, в ее эпоху сильно проявившихся в чарах
немецкого романтизма.
С романтическим католицизмом отшельничества
Аннетты в Рюшхаузе связано и ее увлечение
коллекционированием — загадочная страсть к мелочам, в которых
наглядно отражается историческое прошлое или
первобытный мир природы. Подобно Мёрике, в то же время,
с теми же чувствами, с той же увлеченностью,
отрешенностью и удовольствием Аннетте собирала раковины,
камни, монеты и украшения. Подобно поэзии Мёрике,
ее творчество наполнено осязаемой вещественностью,
порой приятным, порой затхлым запахом из выдвижных
ящиков старой мебели — призрачный воздух отжившей
старости и безрадостной молодости. В этом можно
усматривать и позднюю страсть старой девы, которая не
проявляла особого интереса к людям. Пестрые предметы,
посредники исчезнувшего блаженного существования,
склоняют отрекшихся от общества к призрачной
любовной связи.
236
Помимо ухода в мир мелочей и выхода в
неисторический мир природы, помимо домашней тишины и хлопот,
помимо неустанных размышлений стареющая
поэтесса находила успокоение от тревог в коротких поездках
к рейнским друзьям. Она не нуждалась в аскетической
суровости, чтобы скрыться от пошлого света, и в кругу
знакомых, друзей и родственников, не принуждая себя
к отрешенности, занимаясь совместными делами (или
создавая иллюзию этого), была в достаточной мере
одинокой для своего призвания. Расставания, как например
замужество ее сестры, череда смертей — ее брата, затем
старого Шприкмана, наконец ее кормилицы —
настойчивым стуком в дверь напоминали ожидающей прихода
смерти Аннетте о бренности и загробном мире.
В поздние годы Аннетте удалось обрести друзей и
почитателей. Сначала — Кристофа Бернхарда Шлютера,
профессора философии из Мюнстера, чей физический
недостаток (он был слепым) сблизил его с ней.
Сострадание она легко могла спутать с симпатией. Шлютер стал
для нее советчиком в творчестве, сменив в этом
качестве Шприкмана, с которым был схож в литературных
вкусах, также имея склонность к сентиментальной и
душеспасительной дидактике. Поэтому Аннетте была
благодарна его учености и готовности помочь в
большей степени знаниями, чем познанием, и ее творческий
дух порой противился его поучениям. Шурин
Шлютера, Юнкман (впоследствии ставший профессором в Бре-
слау), пожалуй, был даже ближе ей как мыслитель и поэт.
Путешествие в Швейцарию, предпринятое в 1836 году
для поправки здоровья, привело ее к своему зятю в Эп-
писгаузен — барон фон Ласберг принадлежал к романти-
237
ческому ученому кружку братьев Гримм. Он отличался
крайней образованностью и был удачливым
коллекционером, однако совершенно без царя в голове, с
причудами и окруженный таким множеством сумасбродных
педантов, что Дросте боялась их общества и его
претенциозного «шуршания». При всем уважении к
известным людям, несмотря на робость перед чужими
познаниями и свою врожденную терпимость к слабостям
окружающих, она начинала злиться, если речь заходила
о делах в Эпписгаузене.
В доме своего боннского кузена Клеменса она
сошлась с Адель Шопенгауэр, тяжелобольной сестрой
знаменитого философа. Как и Аннетте, из-за постоянных
страданий та была чувствительной и сострадательной,
ангельски доброй, однако более светской, чем поэтесса,
к тому же осененная олимпийским сиянием из
Веймара, близкая подруга невестки Гёте и навсегда согретая
и озаренная присутствием самого Гёте. Адель является
частным связующим звеном Дросте с Гёте; личные
разъяснения Адель приблизили к Аннетте его великие
произведения. Также Адель привила Дросте вкус к английской
литературе, популярной в гётевском Веймаре в эпоху
Байрона: Шекспиру, старинным балладам из сборника
Перси и романтическим романам Скотта.
Приключения в небольших поэмах Байрона благодаря совместному
с Адель удовольствию от их прочтения казались Дросте
еще более близкими. Также подруга помогла издать
стихи Аннетте. В 1838 году, после некоторых усилий, в
небольшом издательстве вышел первый сборник,
подписанный лишь начальными буквами ее имени. Результат был
во всех смыслах слова плачевным — не было продано и
238
сотни экземпляров. Еще хуже восприняла издание книги
ее семья. Путь Аннетте к общественности осудили как
ошибочный, не говоря уже о полной невосприимчивости
ее родственников к поэзии. Однако за пределами
семейного круга она снискала некоторое признание, в
особенности у шумного Гуцкова, противника позднероманти-
ческого вздора, на которого благоприятное впечатление
произвел реализм стихов Аннетте. Однако сама Аннетте
была не рада этой, на ее взгляд, чересчур громкой
похвале. Такие критики, как Якоб Гримм и Фердинанд
Фрейлиграт, также заметили одаренность начинающей
поэтессы: Якоб Гримм благодаря своему чуткому
восприятию фольклора уловил в стихах Аннетте древний,
подлинный патриотизм... Фрейлиграту, уставшему от
романтической болтовни о цветах, звездах и облаках,
благодаря его любви к красочности бросилось в глаза и
пришлось во вкусу кое-что в поэмах наподобие «Битвы
в Донской пади». Однако, возможно, он уже был
положительно настроен по отношению к поэтессе благодаря
ее юному подопечному, Левину Шюкингу.
Таким образом, мы подошли к разговору о человеке,
который в жизни Аннетте стал самым важным
мужчиной — любимым другом ее последних лет. Левин Шю-
кинг был сыном покровительницы Аннетте, Катарины
Шюкинг, которая в годы его учебы в гимназии доверила
Аннетте опеку над ним. В 1831 году он приехал к ней,
чтобы передать рекомендательное письмо от своей
матери, и благородная барышня произвела на него странное
впечатление, в особенности ее огромные и ясные глаза
прорицательницы. Вскоре после этого, не успев получить
ответ Аннетте на свое письмо, мать Левина умерла, и по-
239
трясение Аннетте сразу же придало ее чувству
благодарности и сострадательной заботе о сыне ушедшей подруги
более глубокие причины и более сильное воодушевление,
чем мог бы вызвать сам подопечный. Ее первые
суждения о нем, на основании его редких посещений, были
неблагоприятными. « Франтоватый, тщеславный,
напыщенный и незрелый», — так она отзывается о нем. Причины
подобного мнения следует искать не только в семье
Аннетте, которая с подозрением относилась к либерально
настроенному юноше. Кроме очевидных недостатков
Левину Шюкингу были присущи многие добродетели: он
был добродушным, способным и «остроумным» в духе
героев переходного периода между литературными
эпохами Гёте и Гейне, с налетом пустого глянца или пестрых
блесток, которые в худшую сторону отличают дух этих
десятилетий от образования нашего классического или
романтического периода. Он ни в коей мере не был
«глубокой духовной вестфальской натурой», за которую
выдавал его Фрейлиграт. Фрейлиграт мог оценить не
глубину и духовность, а лишь шум и суету. Однако просьба
матери Шюкинга на смертном одре, приятная
склонность молодого писателя к иронии и фантазии,
роднившее Аннетте и Левина увлечение романтизмом, не в
последнюю очередь то, что он нуждался в помощи, — все
это постепенно превратило моральную обязанность
помочь в искреннее чувство, благодаря которому ей было
легче выполнять свой долг... из осознанной
необходимости впоследствии возникла потребность.
Сперва ей посчастливилось удержать деятельного
эстета от любовной интриги с его молодой замужней
приятельницей, Элизой Рюдигер, а также и от других
240
соблазнов или пороков литературного кружка. Из
нравственного долга попечения выросла любовь к
опекаемому — ведь глубинное тщеславие, присущее далее
чистейшей душе (или именно ей) легко согревает и озаряет того,
кому она сделала добро. Кроме робости перед пугающе
странной женщиной Шюкинг испытывал также и
благодарность — по крайней мере, желание отблагодарить
ее — и приятное чувство восхищения. Совместные
литературные занятия в создающем особое настроение доме,
совместные прогулки по овеянным тайной родным
краям пробудили в этих отношениях доверие и ту
потребность, которая легко перерастает в любовь.
Аннетте написала комедию «Поэты, издатели и
синие чулки», где в забавном виде вывела Шюкинга, его
друга Фрейлиграта и всю литературную деятельность ее
круга знакомых. Она написала несколько стихотворений
для романтического исторического произведения о Вест-
фалии, которое Шюкинг должен был завершить,
продолжая дело Фрейлиграта. Литература с самого начала была
слишком большим препятствием дружбе « мамочки» и
ее воспитанника, чтобы не угрожать естественности и
постоянству партнера, который прежде всего был
литератором. Левин Шюкинг потерял доверие Аннетте,
когда опубликовал в виде романа-аллегории семейные
хроники, изменив в них имена. Аннетте так и не простила
ему этого и усмотрела в бездумной бестактности друга
страшное предательство. Тем не менее, мы
благодарны ему за творческий подъем поэтессы, а его
вероломству — за новую, болезненную силу ее стихотворений.
Уже его брак с другой стал для нее потрясением — тем
более мучительным, чем сильнее она стыдилась своей
241
ревности. В литературном отношении заслуга Шюкинга
как советчика Копы состоит в том, что он содействовал
публикации расширенного собрания стихотворений Дро-
сте в достойном издательстве.
Последние годы ее жизни, после разрыва с Шюкин-
гом в 1846 году, были отравлены тоской, омрачены
семейными неприятностями, которые были связаны, в том
числе, и с ее писательством, отягощены усиливавшейся
болезнью. Она переселилась в Меерсбург; там она
также находилась в смятении из-за политических волнений
и была совершенно равнодушна к успеху, который
снискала ее вторая книга стихов у крупнейших литераторов
того времени. В мае 1848 года она скончалась.
Из творчества Аннетте, насколько можно
предсказать исходя из наших нынешних ценностей, увлечений
и желаний (а это всегда смелый шаг), в веках будет жить
лишь одно произведение — новелла «Еврейский бук».
Написанная в форме простой истории, она обращается
к скрытым силам судьбы, внятным ей в чувственном
образе немецкой природы, вестфальских нравов и одного
мрачного события, произошедшего в начале XIX
столетия. Лишь здесь, в этом прозаическом шедевре ей удалось
облечь в слова тот трепет, который заставлял ее творить;
здесь нет размышлений о собственных чувствах, нет
литературных образцов, возникающих перед ее внутренним
взором и участвующих в процессе письма, нет
намерений, соображений, предосторожностей относительно
образов, нет ремесленного давления размера, строфы,
рифмы, иными словами, нет расхождения между ее вечной,
т. е. (в положительном смысле) совершенно современной,
(в отрицательном смысле) вневременной мечтой-мифом
242
и сопровождающих ее, одновременно возникающих
настроениях или мнениях. Каждое совершенное
произведение — это воплощение какого-либо личного
минутного впечатления от пейзажа, любовной связи, общества,
истории, от чего угодно. Материал, данный
художнику — слово, цвет, камень, бронза или глина —
удерживает в себе весь жизненный смысл, который художник
осуществляет в данный момент творчества, из глубин своей
души стремясь к Богу или миру. Его средство — это
превращение, согласование, зачатие, в котором участвуют
его неповторимое Я и бескрайняя вселенная.
Произведение искусства — это плод, который несет в себе черты Я
и вселенной. И как в момент зачатия (и смерти) телесная
оболочка личности отходит на второй план,
поскольку личность полностью раскрывается и освобождается,
так в художественном творчестве, в акте духовного
зачатия плодотворное превращение не должно нарушаться
случайными предчувствиями, воспоминаниями и
одновременными раздумьями сознательной личности,
возражениями мудрой памяти или смутных ощущений.
Стихотворения Аннетте хрупки из-за того, что она
разрывается между полнотой своего восприятия и
средствами выражения или намерениями относительно
изображения в каждом отдельном случае. Вся же совокупность
смысла ее прозы повинуется слову, и отчетливо
увиденное воплощается в постижимое высказывание. Стих
невозможно подчинить себе, даже мощным усилием. Где он
не является ремесленным или риторическим приемом,
там становится благом, священным превращением Я во
вселенную. Говоря о музыкальном даровании Аннетте,
мы уже упоминали, что ее язык не был музыкальным,
243
т. е. своими мелодиями она не была обязана средству,
с помощью которого запечатлевала свои образы.
Немногие немецкие поэты могли в нескольких стихотворных
строках вызвать такую массу пленительных чувственных
впечатлений, в особенности пейзажных и пластических,
и тем не менее ни одно из ее стихотворений не является
совершенным как целое, чтобы невозможно было убрать
из них хоть единый звук, как гётевские песни Миньоны,
«Морозник» Мёрике, «Путевые песни» Эйхендорфа, т. е.
не являет собой нераздельное единство образа и чувства.
Везде, помимо четкого образного впечатления мы
слышим голос баронессы, воспринявшей и передающей это
впечатление, голос, достойный любви и уважения,
однако не глас Божий, которым говорит женщина. Или, что
еще хуже, мы слышим голоса литературных призраков,
которые нашептывают ей, манят, страшат и смущают
ее. Если, не называя имен авторов, прочесть несколько
стихотворений тому, кто знаком с немецкой поэзией, то
он по одной лишь интонации догадается, кому
принадлежат некоторые из них... а у всех остальных определит,
по крайней мере, эпоху и окружение. Если подобным
образом прочесть стихотворения Дросте, то никто никогда
не заключит из одного лишь их звучания: это, должно
быть, принадлежит ее перу. Она теряется в монотонных
мелодиях или разговорных интонациях позднероманти-
ческих песен, в которых мощные, древние звуки поэзии
Гёте, Шиллера, Новалиса становятся слабыми,
поблекшими, застоявшимися. Однако Аннетте, в свою очередь,
выделяется из этой массы эпигонов большим количеством
присущих лишь ей элементов фиксации впечатления.
Ни один из ее последователей (далее жаждущий впечат-
244
лений Мёрике или К. Ф. Мейер) не нагружал свои стихи
таким огромным багажом заинтересованных
наблюдений. По тому как в ее стихах возникают чибис, ворона,
стрекоза, болото, озеро, гора, представитель какой-либо
профессии или исторический персонаж, мы угадываем
их автора. Правда, она — автор своего времени, с
определенными умениями, знаниями, суждениями, поскольку
побывала в изображенных ею местах, претерпевала
лишения и нуждалась; но она — не вечная провозвестница
просветленного образа мира.
Ее литературные ориентиры документально
установлены: кроме неизбежных классиков — в особенности,
терзаемый мировой скорбью пророк общеевропейского
отвращения, Байрон... верный хранитель средневекового
исторического наследия в его английской,
романтической форме, Вальтер Скотт... упитанный колорист того
стилизованного Востока, что изображают на сигарных
коробках, Фрейлиграт, и еще несколько местных
вестфальских поэтов, чья верность родным краям и
прекрасное их знание напоминали или подтверждали Дросте то,
что она видела и знала сама. В биографиях поэтессы и
диссертациях о ней мы найдем те же сведения. Не это
сейчас является важным для меня, и к тому же, в век
образования с таким широким кругом интенсивного
общения, какой был у Аннетте, хочется узнать не столько
о том, кто повлиял на ее стиль, сколько о том, что
творилось в ее собственной душе. В ее произведениях мы
сталкиваемся с проклятием ее жизни — вечной борьбой
глубокой, мудрой, благочестивой души с гулом толпы
книжных призраков. Вновь и вновь, даже в
грамматике, в беспомощных перестановках слов в угоду кабале
245
стихотворного размера, поэтессу Аннетте на ее пути от
молитвы к стихотворению парализует знание или
обращение к уже готовым оборотам. Она редко воплощала
в собственной манере свои стенания, обращенные к аду
или раю. Необходимо встряхнуть ее тексты, чтобы
освободить их пылающее ядро от шуршащей шелухи и
обнаружить чистое сердце, не прикрытое плохо
сидящей одеждой учености немецких альманахов. Вновь и
вновь, из демонических поездок по родным и дальним
краям приносит она нам свою добычу в посуде с
трещинами... и если мы восхищаемся смелой охотницей,
которая вернулась с такой добычей, то перед смущенной
хозяйкой, которая потчует нас этой дичью, мы сами
приходим в смущение. Она произносит великолепные
по своей мудрости, красоте и силе слова столь хрипло
и неразборчиво, что из-за глуховатого голоса мы не
получаем радости от слов, которых с таким нетерпением
ожидали. И если другие поэты — Клопшток, Геббель
(достаточно назвать лишь этих двух великих немцев) —
отталкивают нас тем, что бросают самодовольный взгляд
на свое высокое искусство в процессе сочинения, то
Аннетте привлекает нас прямо противоположной
творческой ошибкой — которая, правда, одновременно
является жизненной добродетелью: ей не хватает смелости
для ее же блата, и она колеблется между озарением и
проявлением.
Слава, которую снискала поэзия Дросте,
зиждется на ценности ее предметных образов — пространств
или ландшафтов, — а не на глубоком знании людей.
Она была сведуща преимущественно в тех душевных
состояниях, в которых человек, каков бы он ни был по
246
характеру, включается в сверх- или недочеловеческую
природу. Ужас мрачного леса, ледяных горных вершин,
сумятицы боя, ужас морга или усеянного мертвыми
телами поля битвы, древних руин, старинных крепостей,
заросших пустошей, затем вновь сумеречный уют
затхлого, по-своему приятного аромата пасторских комнат,
неуют гулких залов или убогих лачуг... или отрешенное
затворничество и молчаливое подвижничество монахов
(как в «Приюте на „Большом Сен-Бернаре"») — все это
она столь мастерски, с живописной интенсивностью и
точностью изображала, что люди на этом фоне
производили впечатление стаффажа или даже красочных пятен,
игры светотени, а не образов и характеров. Ее
одухотворенная изобразительность превосходит обычные позд-
неромантические картины томления, грусти, смирения
или страсти не своим необычным видением
совокупности человеческих характеров, как они представали перед
великими драматургами и прозаиками, а своей
добросовестной и безграничной смелостью изображения
физиологических, взятых из растительно-животно-телесного
мира деталей передачи аффекта. Эта особенность или
новизна изображения телесности, как например
замерзания в метель, угасания и оцепенения раненых,
лихорадки и всего прочего, что превращает человека в
беззащитное существо, у Аннетте предвещает современный
натурализм, в котором плоть и кровь становятся
осязаемыми вещами, страдания и радости
человека-животного — источником впечатлений, где одинаково значимы
разбитая посуда и больной человек, жужжание мух и
предсмертные вздохи, запах кухни и весенний ветерок
или вихрь битвы.
247
Хотя образ мыслей Дросте далек от присущей
натурализму мизантропической или филантропической
одержимости вещами, скрупулезности в их изображении, но
все же сродни германскому природному пантеизму,
который запечатлен прежде всего в поэзии Эйхендорфа и
Мёрике. Ее творческий порыв и мистическое
благоговение и здесь входят в противоречие.
В пределах своего тесного и тихого мирка она
(жертва повышенной восприимчивости, которая бежит людей
или уходит в небеса, преисподнюю и природу, однако
не в силах обойтись без человеческих жестов, одежды
и чувств) проявляет тот же недостаток, с которым
Европа, благодаря демоническому Байрону, чувствовала
себя примиренной и одновременно от него избавленной.
Байрон также, в мифических, исторических или модных
в ту пору масках, с мастерской монотонностью воспевал
свои страдания — у него они звучали пленительно в
исполнении свежего физиологического оркестра. Или же
он гордо красовался в своем великолепном образе
хромого калеки, окруженный новым, то ли героическим, то
ли экзотическим, то ли сатанинским ореолом. Благодаря
его личному обаянию и увлеченности ему делали
одолжение, воспринимая его костюмы как его истинный
облик. Дросте не было присуще байроновское тщеславие, и
она не нуждалась в его ослепительной и оглушительной
помпезности, чтобы проклятие истинных мук
превратить в освобождающую драму, драму свободы. Однако,
подобно лорду Байрону, она осваивала различные сферы
внешнего мира, дабы избавиться от внутреннего страха
или чувства опустошенности. Свой предел это
творческое бегство однажды обрело наверху, в непостижимом
248
Божестве, затем в уюте родного края и в вере чистой
провинциальной барышни в немецкий исторический
процесс. Ей не нужно было, подобно Байрону, из
Лондона отправиться в Рим и Грецию, чтобы развеять свою
тоску, — аромат странствий, веявший из прочитанных книг,
был для нее столь же свежим, что и для Байрона на
борту корабля. Мелочи из ее коллекции раскрывали ей свою
предысторию с призрачной ясностью, окутывая ее
туманом, полным двоящихся образов. Когда Байрон, с горных
вершин или посреди океана, осыпал проклятиями небо,
чтобы вызвать гнев желанного Бога, то вестфальская
поэтесса утоляла свою жажду непостижимо-возвышенного
мучительным смирением перед его историческими
посредниками и их священными знамениями.
Таким образом, Аннетте охотнее всего пробовала
себя в двух полуэпических жанрах и в одном
лирическом, которые позволяли ей преодолеть внутреннее
беспокойство без гнева мировой скорби великого
богохульника или его более скромных немецких подражателей.
В идиллической или страшной балладе она принуждала
себя к спокойствию перед лицом демонов, которые ей
угрожали. Баллада — это жанр, в котором сверх- или не-
дочеловеческие события, т. е. игра стихий,
прославляются как приключение или деятельность человека. Баллада
содержит лирическое преломление подобных процессов
в человеческом духе. В поэтических произведениях Дро-
сте баллады составляют наибольшую часть, однако ни
одна их них как языковой образ не вызовет в нас
глубоких чувств, кроме уважения к историческому наследию
и легкой печали: неразрешенные противоречия между
повелительными ужасами и литературно-исторически-
249
ми знаниями об этих ужасах, между тщательной
проницательностью и неуверенностью высказывания
романтической поэтессы, между истинной прорицательницей
и образованной старой девой, между провидицей и
собирательницей — все эти противоречия лишили баллады
Дросте их очарования и местами приблизили их к
ярмарочным балладам уличных певцов. Эти уличные баллады
также, намеренно или невольно, производят комичное
впечатление, поскольку их материал и форма
принадлежат совершенно различным эмоциональным сферам.
Хотя в балладах Дросте это противоречие никогда не
доходит до комизма, однако зачастую создает неясности.
(Попутно хочу заметить: подлинный поэт этого
балладного неблагозвучия — современник Аннетте, Шамиссо.
Он описывал сплошные злодеяния, создавал настоящие
уличные баллады, облекая их в изысканнейшие
композиционные формы, которые были ценны для него именно
как таковые, и одновременно осторожно смягчал и
сглаживал эти ужасы.) Более пространные эпические
стихотворения Аннетте — «Битва в Донской пади», «Завещание
врача», «Приют на „Большом Сен-Бернаре"» — страдают
той же слабостью, несмотря на многие мощные,
исполненные жажды языковые приемы и образы: целое не
извлекается из преисподней и не добывается в дикой охоте
поэтического пыла, как баллады лорда Байрона, а,
подобно балладам Вальтера Скотта, создается почти с
приязнью к неприятному древнему ужасу, с удовольствием
от трагических тем, ради наводящих ужас мест действия
или захватывающих происшествий, а не вследствие
изначального злого рока или ужаса, не из заклинания
загробного мира. Как хорошо ни знала Дросте эти истоки,
250
однако вновь и вновь в процессе творчества отдалялась
от них из-за своего знания литературы.
То же происхождение, однако иной тон или замысел,
чем страшные баллады об убийствах, несчастьях, мести
или тайном возмездии, с бутафорией и костюмами из
чулана истории или дальних тропических стран, имеют
домашние миниатюры-зарисовки, собранные под
заголовком «В шутку и всерьез», — например, «Ограниченная
женщина», «Камердинеры», «Кузнецы», «Неделя
старого священника» и пр., — поздние плоды уюта немецкого
рококо и бидермейера. От старательных описаний
Иоганна Генриха Фосса, к которому она приближается в своей
нервной точности и превосходит в теплоте, изяществе,
благородстве, или даже от оживленного журчания
уроженца Вернойхена, Шмидта, которого высмеивает Гёте,
или от пастозного колорита Фреилиграта стихотворения
Аннетте отличаются присутствием в них души, которая
прошла через ужасы и со вздохом облегчения
возвратилась в свою уютную комнату. Она описывает
необходимость честного счастья в тесном дружеском кругу,
совместно высмеянную тоску и развлечение в обществе не
так, как вышеназванные авторы, — подражая то Феокри-
ту, то Виргилию, то с земной радостью восприятия Бога,
то с наивной банальностью, как необходимую
принадлежность их жизни или как заслуженное достижение их
знания, — а как спасение от нападений демонов и как
бастион против ее собственных взрывов чувств. Как и
в балладах, здесь ей служит опорой вооруженная, одетая
броней вещественности фантазия. С тем лишь отличием,
что в балладах она смотрит, словно минуя собственное
сердце, в манящую даль, чтобы приблизить ее, взывая
251
к ее как можно более пестро-точным чудесам. В
идиллиях она ограничивается запечатлением настоящего
момента, чтобы его не отняли ее опасные душевные
подъемы, падения и бури. Среди знаменитых немецких поэтов
двое сродни ей в этой жажде пейзажа. Жан Поль и Мё-
рике исцелили себя от нетерпения полетов посредством
остро заточенных клювов и когтей. Жан Поль в «Квин-
тусе Фикслейне» истолковал свои идиллии как один из
путей спасения истерзанной души, наряду с другим:
полет по небу, воспарение над страданиями. Миниатюры
Аннетте своим благонравным юмором и добродушными
колкостями также выдают подобное происхождение...
однако в художественном отношении они страдают из-
за злоупотребления стихотворным размером, в котором
нет необходимости для передачи подобных наблюдений
в балладном стиле.
Один из разделов «Последних даров» скромно
озаглавлен «Дух и жизнь»... колеблющийся, как и все ее
творчество, между излиянием чувств и назиданием, то
украшенный, то перегруженный достижениями ее
изобразительного таланта. Требование наличия в каждом
стихотворении чувственно постижимого «мотива»,
высказанное Гёте, было изначально присуще гению Дросте,
и ее стремление к зримым образам часто в избытке
проявлялось иносказательно, в то время как ее песни были
лишь отзвуком бессобытийных настроений. Поздняя
любовь к Левину Шюкингу своей естественной лирической
свежестью временами прорывала массивную плотину
мотивов, которой она оградила себя. Пусть ей и не
удалось вызвать к жизни ни одной чистой и свободной
песни, пусть нам и приходится повсюду угадывать ее пре-
252
лестный, дикий, робкий трепет под затвердевшей коркой
повествования или описания, однако по крайней мере
в одной из них, в ее рассказе о счастье любви «Позднее
пробуждение», есть что-то и в самом тоне стихотворения
от захватывающей силы ее истинной полноты, как если
бы пантеистически и симпатически распределенная
любовь этого глубокого сердца нашла здесь свой
собственный, свойственный только ей выход и переход.
Иносказания, которыми она здесь выражает свое состояние,
содержат в большей степени, чем ее прочие
стихотворения, одновременно непосредственные движения ее души
и возникающие из них образы.
Кажется, почти во всех прочих стихотворениях Дро-
сте можно увидеть ее чувства и впечатления, однако
почти никогда — моменты ее близости/отдаленности
от Бога, а лишь предметы, точнее, преграды, которыми
она защищает себя, или, говоря мистически, еще/уже не
точные изображения ее освобождения от образов (это
термин Мейстера Экхарта для обозначения процесса
нашего возвращения из чувственного мира к Богу или,
говоря словами Гёте, das Zurücktreten aus der Erscheinung).
Аннетте была слишком творческой личностью, чтобы не
подтвердить свое мистическое бегство художественными
средствами, и слишком мистически настроенной, чтобы
не сетовать и не стонать под бременем своих образов. Ее
аллегории, столь точные и сильные, почти никогда не
содержат ее подлинной сути. Поэтому они остаются
преходящими. Этот недостаток портит — не духовно, а
символически — ее сборник «Церковный год». Несмотря на
прирост лирической иррациональной свободы движения
после гётевской эпохи, он остается преемником бароч-
253
ных душеспасительных книг, из-за преднамеренного
подчинения вдохновения артистическому благоговению.
Обойдя стороной юношеские драмы, фрагмент
романа «Ледвина» и некоторые другие изображения родного
края в стихах и прозе, обратимся к великому
произведению Дросте «Еврейский бук». Во время работы над этой
книгой она называла ее криминальной историей в
княжестве Падерборн. Подзаголовок, который она дала
своему произведению, звучал так: «Картина нравов из горной
Вестфалии». В 1837—1841 годы она написала короткий
рассказ и вложила в него — при отсутствии отчетливой
исповедальности или дидактизма — ужас смерти,
величие злого рока и богобоязненность, которые
повторились в ее угасающей жизни после знакомства с Левином
Шюкингом. Литературный замысел, намеченный в
обеих жанровых характеристиках — «криминальная
история» и «картина нравов», — показывает, чем увлекло ее
сообщение дяди Хакстхаузена об убийстве еврея,
произошедшем около 1782 года. Эту историю ее дядя простым
языком изложил в журнале Штраубе «Волшебная лоза»
в 1818 году. Работник из княжества-епископства Корвей
убил еврея-торговца, вызвавшего его гнев, и скрылся.
Единоверцы убитого из еврейской общины испрашивают
и получают разрешение вырезать на дереве, под которым
обнаружили труп, еврейское заклинание, призывающее
к отмщению. Спустя много лет убийца, постаревший
и сломленный, возвращается из алжирского рабства и
приходит к своему прежнему помещику. Между тем,
его преступление уже неподсудно за давностью срока и
искуплено долгой барщиной, однако в конце концов он
сводит счеты с жизнью, повесившись на еврейском буке.
254
Аннетте невероятно расширила этот мрачный,
лаконичный сюжет за счет устных воспоминаний дяди и
собственных образов. Как это было уже в ее балладах и ли-
ро-эпике, взяв из пространства, как природного, так и
нравственного, детали атмосферы, пейзажа и общества,
она с невероятной образной мощью одновременно
приблизила и расширила их — это « картина нравов». И,
изначально независимо от всего этого, она повествует об
ужасных событиях — это « криминальная история».
Тайна еврейского бука вырастает не только из ужасов
вестфальской сельской местности и ночного леса —
и та, и другой запечатлены с неистовым и холодным
напряжением, которого мы не встретим в немецкой
литературе той эпохи, — не только из силы ее
сдержанного повествования (которую среди немецких авторов
можно наблюдать лишь в новеллах Клейста), но также
из иррациональной и вместе с тем властной,
убедительной наивности, с которой она объединяет две образные
сферы — пространство и судьбу. Как «композицию», т. е.
как выстраивание мотивированного и намеренно
расчлененного действия — именно так владели ей великие
рассказчики, от Боккаччо до Готфрида Келлера, каков бы ни
был материал, страшный или веселый, — как структуру
«Еврейский бук» можно критиковать; как рассказанная
мистерия, новелла остается завораживающей, и ее
художественные недостатки помогают мистическому
содержанию нагнетать атмосферу одержимости,
поскольку сами происходят из последней (похожее нагнетание
ударной мощи, возникающее из подобного же
композиционного паралича или слепоты, мы находим в
«Войцеке» Георга Бюхнера).
255
«Еврейский бук» в концепции Дросте, выходящей за
рамки достоверных источников, содержит две цепочки
событий, которые едва ли соотносятся между собой как
действие и лишь подкрепляют друг друга своей
атмосферой и благодаря этому усиливают ужас закона судьбы,
чего не смогла бы достичь ни одна из них по
отдельности. В трагедиях Шекспира благодаря удвоению события
представляются более закономерными, более
необходимыми, неподвластными случаю, как обычно в кровавых
балладах. Представал ли перед мысленным взором Дро-
сте этот высший образец трагедии рока, заставило ли ее
повиноваться этому закону ее собственное ощущение
судьбы, мы не знаем. Всякого поучительного
истолкования ужасного или лирического сопровождения в виде
вздохов и возгласов она стыдливо остерегалась, и
благодаря этому сохранила в своем «Еврейском буке» чистое
величие, которого недостает большинству ее
стихотворений (знаменитый автор страшных рассказов Э. Т. А.
Гофман, который охотно повествует, задыхаясь от ужаса,
с вздыбленными волосами, зачастую вызывает меньше
доверия, чем заслуживает).
Двойное действие состоит из истории молодого
Фридриха Мергеля, вплоть до убийства лесничего Брандиса,
затем из убийства еврея и долгого, неожиданно
завершившегося искупления вины. Первая история —
несчастливый брак родителей героя, нахождение Фридриха
в услужении у своего дяди, превращение робкого и
старательного юноши в тщеславного и коварного,
самовольная вырубка леса в вестфальском лесу — все это в
сильнейшей степени подпитывается стремлением Аннетте
запечатлеть родные края. Даже «криминальная» часть
256
новеллы — это «картина нравов» или «среды». Вторая
история — ссора с евреем, убийство, бегство с места
преступления, возвращение и самоубийство — как бы богато
ни была она украшена безукоризненно точно
переданными настроениями пейзажей из неисчерпаемого багажа
самой Аннетте, воспринимается как последовательность
событий, происшествий, и в названии новеллы по праву
фигурирует символ, который имеет вес лишь в этой,
второй, половине произведения. В первой половине фоном
событий выступает, скорее, таинственный лес с его
рассеянными и стесненными обитателями, мрачная, таящая
в себе беды и несчастья масса, из которой, сумрачно-
блекло или ярко и внезапно, показываются или
выступают отдельные люди. Во второй половине присутствуют
прежде всего люди, с уже предопределенными судьбами,
и одно-единственное, помеченное надписью, имеющее
дурную славу дерево, которое уже слилось в одно целое
с человеческим злодеянием и караулит, выжидает,
повелевает из темноты, пока его жертва не возвратится в
озаренную тьму, которая накажет и покарает его.
Уже из этих намеков можно заключить, что
«Еврейский бук» — это новелла судьбы, в том смысле, в
котором мы говорим о драмах судьбы. Люди в них, даже
в своих поступках, являются лишь жертвами высших
сил, а не их со-творцами или лишь носителями сознания,
не вершителями своей судьбы, а слепыми страдальцами
во власти древнего рока. Создатели драм судьбы,
начиная с «Мессинской невесты» Шиллера, злоупотребляя,
возможно, даже неверно толкуя античное
мировоззрение, преждевременно привнесли в свои пьесы границы
человеческой воли, непознаваемое, робкое смирение и
257
явно играли с мистическими средствами. Для
античности подобная необозримая судьба — скрытое и покров
одновременно — была тем лее, чем для средневековой
веры была Божья воля и противоречие ей, дьявол, а для
Нового времени были законы природы или общества.
Современная драма судьбы — это «Привидения» Ибсена
с их наследственностью. Дросте уже предчувствует эти
настроения, не теряя рассудок из-за своей католической
богобоязненности. Однако в «Еврейском буке» она не
высказала отчетливо, как тезис, ни идею
наследственности, ни идею провидения, ни радею возмездия. Если
там и проявляется какая-либо тенденция, то это тварное
сострадание набожной души обремененным и несущим
тяжкий груз. В стихотворении, предпосланном ею
«Еврейскому буку», она это высказала.
Волшебство этой новеллы заключается в
определенности ее характеров, которые являются лишь
посредниками высших сил. Почти все авторы драм судьбы
новейшего времени, увлеченные ужасами
повествования, не считали своих героев важными и серьезными,
а довольствовались пустыми типами персонажей, с
которыми происходили ужасные вещи. Изобразительная
мощь Дросте придает ее Фридриху, его отцу и матери,
суровому лесничему, коварному дяде Симону, еврею-
торговцу и помещику, загадочной тени и двойнику, или
темной половине, Фридриха, и даже коллективным
второстепенным персонажам — помощникам лесничего,
участникам деревенского Кирмеса — такую живую,
осязаемую образную силу, что, кажется, мы
воспринимаем их в драматическом ключе. Тем не менее, все эти
персонажи правдоподобны не как характеры, а как жи-
258
вые существа... отчетливы не посредством своих речей,
а благодаря движению, подчинению движущей силе,
благодаря их поведению, одежде... иными словами, благодаря
атмосферной проницательности Дросте. Она
воспринимает каждого из своих персонажей словно осадок или
реагент судьбы — подобно тому как Дросте-собиратель-
ница вслушивалась в древнюю историю и предысторию
своих раковин и монет. Если мы вспомним о «Еврейском
буке», то что первое придет нам на память? Несмотря на
обилие персонажей, ни один образ героя, подобный Вер-
теру, Михаэлю Кольхаасу или наместнику из Грейфензее
(если упоминать лишь героев прозы, а не драмы), а
смутное движение сил, которые чутко крадутся по мрачным,
затхлым, уютным уголкам природы или жилым
помещениям, отравляют или очищают человеческую атмосферу
и так запечатлеваются в некоторых жалких, хрупких или
порядочных людях, что, кажется, глядя на них, можно
постичь непостижимое. И вновь: судьба присутствует
во Фридрихе Мергеле и сострадающих ему (так климат
влияет на деревья и травы отдельной местности), и она
весьма загадочна. Как вереск или горечавку,
богатырский курган или ледник мы воспринимаем не сами по
себе, а вместе с их происхождением, размерами,
изменениями, их стихией и окружающим ландшафтом, так
и в героях «Еврейского бука» нам важна не их
человеческая составляющая, а их злой рок, их последняя воля —
мы чувствуем их характер (по-иному, чем у Шекспира,
Гёте, Шиллера, Клейста) лишь в смутном широком
пространстве и едва ли можем заглянуть в их сердце. Из
собственного сердца великие драматурги наблюдают и
создают созвучный им мир. Дросте в «Еврейском буке»
259
вызвала к жизни свою вестфальскую родину с ее
языческой и христианской историей и, кроме того, ее внеисто-
рическую творческую вечность, обратившись к
страшной истории. То, что она добилась этого, и то, как ей это
удалось, а не то, как часто она хотела этого достичь или
что она при этом намечала и обдумывала, и делает ее
величайшей немецкой писательницей. А тот, кто ищет не
столько могущество мира и его силы рока, сколько душу,
которая была наделена ими, тот сможет и в «Еврейском
буке« отыскать стесненное миром сердце удивительной
женщины, которая была достаточно посвященной,
чтобы быть изначально доброй.
ЭДУАРД МЁРИКЕ
Наши обязанности, нужды или стремления
окружены трудно уловимой, но проникающей даже внутрь
филистерского быта стихией, которая, будучи родственна
всему тому, во что мы верим, нам неподвластна. Мы,
немцы, с эпохи романтизма называем ее —
«поэтическое» (das Poetische). Именно немецким романтикам
европейская культура обязана понятием и знаками этого
флюида. Все то, чего еще нет или уже нет, образы
тоски или скорби, даль времен и пространств, тайна,
изменчивость или распад — все то, что на твердой и
недвижной земле остается невоплощенным ни в творение,
ни в деяние, принадлежит ему. Оно не присуще ни
одной вещи, но способно овладеть всякой вещью
посредством отдельных душ, черпающих силу из него одного.
Не всякий художник слова — поэт: пластичность,
зримость, выразительность, т. е. преодоление материального
мира силой языка, коим мы обязаны мифотворцам —
Гомеру, Данте, Шекспиру, Гёте, — или весть о богах и
их деяниях в волшебных и глубокомысленных поэмах
Пиндара, Гёльдерлина, Георге, обширные картины
общественной жизни... сказки и легенды минувших эпох и
далеких культур — творения Расина и Вольтера, Мандзони и
261
Скотта, Бальзака и Диккенса, Толстого, Достоевского и
других несутся по волнам поэтического. Но называя их
поэтами, мы ощущаем какую-то фальшь... Даже наших
миннезингеров — Вольфрама фон Эшенбаха, Готфрида
Страсбургского, Вальтера фон дер Фогельвейде, а Рейма-
ра, современника Лютера, и подавно — поэтами можно
назвать разве что в шутку, как в памятном стихе: «Ганс
Сакс был сапожник и вдобавок поэт».
И лишь немецкий романтизм, начиная с Новалиса,
впервые растворил эту сущность, слитую прежде с
природой, обществом и историей, как особое дыхание мира
в аромате, блеске, духе, ощущениях, грезах, интуиции
и чувстве — в этой эфемерности, объявшей собой весь
мир. Об этом событии я могу говорить лишь
иносказательно. С тех пор новое волшебство, прельстительное и
опасное, дерзкое и робкое, стыдливое и сладострастное,
правит жизнью и делами серьезного человечества, и
нигде не делает это так интимно и упорно, так искренне и
так вальяжно, как в стране своего происхождения.
Среди самих романтиков и их потомков, творцов и
жертв поэтического духа в народной памяти
продолжают жить (благодаря творчеству, а не земным путям) два
мужа, два подлинных гения поэтической стихии, не
самые мощные характеры или фигуры, но любимейшие
дети ее благодати: Эйхендорф и Мёрике. Эйхендорф —
вдохновенный певец лесов и странствий, достигающий
гениальности, когда явление или событие сроднится
с его душой... а Мёрике — еще и мудрец, тайновидец
и мечтатель, хранитель сокровищ европейского
гуманизма, вдохнувший в них жизнь, волшебство и поэзию.
Людвиг Тик, Арним, Брентано, Эйхендорф, как и великий
262
Иммерман включали в свою поэзию лукаво, усердно или
старательно не только сокровища, накопленные наукой
еще с барочных времен и извлеченные на свет Гердером
и Иоганном фон Мюллером, но и достижения
современной физики и химии. Однако у них эти богатства
оставались, как правило, учеными экскурсами гениальных
фантазеров, озорством детей, сбежавших из дому, милым
или досадным дилетантизмом умных вагантов. Сегодня
мы воспринимаем подобные опыты как поэтические
свидетельства пробуждения немецкого духа в прошлом,
о котором мы хотя и вспоминаем с грустью, но вовсе не
жаждем пережить вновь. Осколки барочной и
гуманистической культуры в их произведениях не
способствовали преображению обыденной действительности в вещие
сны, как и мифологические аллюзии в виршах Опица,
Грифиуса или Цезена. Дело было не в поэтическом
благоговении, а, скорее, в духовном любопытстве. Сходство
с барочными рифмачами проявлялось в том, что и у них
полет поэзии и поступь науки, цыганщина и ученое
чванство противоречили друг другу.
Мёрике стоит только назвать вещь, чтобы та
зазвучала: его стихия — волшебство. Друг Мёрике Давид
Фридрих Штраус говорит, что из поднятого им с земли кома
грязи тут же вылетает птичка. Превратности судьбы,
убогое хозяйство, служебные хлопоты, жизненные
неурядицы и прочие туманящие лик творчества бытовые
подробности — бедность, невзгоды и стесненность, —
тяготы пасторства в Пфлуммерне, Платтенхарде, Оксен-
ванге, Вайльхайме, Овене, Отлингене и Клеверзульцбахе,
иными словами, все это мещанское захолустье
швабского бидермайера, предстает в его поэзии в образе заколдо-
263
ванной страны, подобную которой мог изобразить только
Жан Поль. Однако Жан Поль утрирует беду при помощи
возвышенных контрастов и поэтизирует ее силой, порой
насилием, юмора, свойственным живущему
контрастами гению. Мёрике, который жил и страдал примерно
в то же время, не нуждался ни во взлетах, ни в
падениях и переживал поэзию скудости тихо, с достоинством
и мечтательной впечатлительностью: соловья наравне
с тараканом, флейту — с табачной трубкой, реалиста Зу-
кельборста — с энтузиастом Лолегрином. Как чудо
поэзии воплощается в его текстах в звучный, насыщенный
образами, глубоко выстраданный язык, мы увидим. Как
Мёрике стяжал это чудо, останется тайной его
духовного роста. Иногда он поддается описанию, но объяснению
на основании биографических данных — редко или
никогда. «Я есмь и точка» — такова примета гения,
которую, как ни крути, постичь невозможно, как ни тасуй
факты, из которых он не состоит. Чтобы ознакомиться
с исторической канвой, расскажем о его жизни, которую
он из временного отрезка сделал образом вечности. Она
не может объяснить его, но может его показать.
Мёрике родился в Людвигсбурге, близ Штутгарта,
в 1804 году, когда первая романтическая школа,
литературная вариация немецкого философского идеализма,
уже распалась. Однако пробудилось новое поколение
романтиков, чуткое к отечественным и народным силам
истории, — Арним, Брентано, Гёррес... год спустя умрет
Шиллер, а Гёльдерлина охватит безумие. Его отец,
выходец из Северной Германии, очень занятой сельский врач,
женился на пасторской дочке. Кто склонен выводить
очевидные черты характера из сомнительных и изменчивых
264
сил, вправе объяснять внутренний разлад и душевное
богатство нашего поэта наследственностью: знанием
телесной природы по отцовской и набожностью немецкого
пасторства — по материнской линии. Старинная легенда
повествует о кровном родстве Мёрике с самим Лютером,
кубок которого был семейной реликвией. Были у него на
самом деле великие предки или нет: удел столь многих
великих немцев со времен Реформации — быть родом из
ученой семьи — предопределил жизненный путь Мёрике
и сломал его земное счастье, пробудив в душе то
демоническое колдовство, которое можно трактовать и как
спасение, и как утешение, и как бегство, — словесное
искусство. Даже среди немецких писателей найдутся
немногие, судьба которых была бы столь печальна и горька,
как судьба этого гения, хотя и других она била, трепала
и язвила не менее сильно, чем его, тихого и тонкого
избранника муз. Волевое противостояние враждебным
силам, крах благочестивой души под натиском
вульгарности, стойкое сопротивление напастям как в гамлетовском
монологе «А то кто снес бы униженье века...
надменность власть имущих и судьбу...»* были не его стезей...
юность, подобная юности Шиллера, зрелость — зрелости
Кеплера, кончина — кончине Гёльдерлина (ограничусь
именами земляков). Он не растратил себя на распутство,
как его друг Вайблингер, не раскис и не очерствел, как
кое-кто из бравых представителей позднего немецкого
романтизма, в частности швабского. Однако в течение
жизни он постоянно соприкасался то с большими напа-
* Шекспир. Гамлет. Третий акт, сцена первая (пер. Б.
Пастернака).
265
стями, то с малыми невзгодами с той нежной
чувствительностью, прозорливостью, бодростью и внутренней
эмоциональностью, с той дерзкой робостью, которой
Германия, вплоть до Ницше, не знала, а немецкая поэзия и
подавно. Мёрике, который сегодня по праву слывет
зычным певцом родной земли, отечества и народа, образцом
слащавых эпигонов, был вместе с тем душой и телом
связан с пресловутыми декадентами. Он — не только
швабский и немецкий последователь Шиллера и Гёльдерлина,
но и европейский собрат Шарля Бодлера и Эдгара По.
Колорит, складку, типаж людей такой породы, их
прошлое и будущее он с присущей ему
проницательностью грациозно и легко подмечал во всех уголках своей
провинциальной родины: в ведомствах южной Германии,
дружбах, любовных романах, домохозяйствах от Люд-
вигсбурга до Клеверзульцбаха, во всей материальной и
духовной атмосфере, плоть от плоти которой он был.
Милая и иллюзорно-идиллическая возня немецкого
пасторства времен бидермайера делает его произведения
доверчивей, сердечней и здоровее творений собратьев по
страданию из Парижа или Бостона, задействующих весь
арсенал ужасов и ядов большого города.
Вернемся, однако, к биографии Мёрике. Его детские
годы в Людвигсбурге протекали в основном под
присмотром матери, ибо отец, сельский врач, часто бывал
в отлучке. Мать учила его молиться и сочинять стихи...
швабский вариант поэтической матери, который со
времен гётевской фрау Рат окружен прямо-таки
мифологическим ореолом. Забавляясь игрой в разбойники и тому
подобными увеселениями, Мёрике тем не менее чаще
погружен в собственные фантазии и нередко бывает застиг-
266
нут в состоянии глубокой задумчивости. Помимо
фантазий в красивом ребенке возникло пристрастие к звукам
и одновременно отвращение к использованию этого дара.
Это объясняли тем, что Мёрике боялся выставлять себя
напоказ. Сама восприимчивость, тяготение к смиренной
открытости, вдохновению, покорности и непротивлению
Богу — основная причина, по которой Мёрике не желал
сужать благодатный дар созерцания, чувства, слуха
узкими рамками какого-то ремесла и бренчаньем на
рояле. По сравнению с другими искусствами писательство
в наименьшей степени требует телесной работы. Мёрике
владел даром звука и образа как поэт, и уже по одному
его почерку видно, что он скорее играл, нежели
трудился, испытывая ужас перед любым использованием
внутреннего мира, которое требует принуждения и каких
бы то ни было внешних усилий. Он был обходителен, но
не суетен; несмотря на многочисленные таланты, был не
способен управлять своими настроениями,
просветлениями и помрачениями... трепетен и предан, но не искусен
привязывать и удерживать... вечный ребенок,
обладающий — говоря по-швабски — огненной ненасытностью,
падкий до наслаждений и боязливо чуткий, чуждый
всякому властолюбию. Друзьям и возлюбленным он
временами докучал своим сумасбродством и сомнительными
причудами и любил быть баловнем. Однако всякого
волевого вторжения, умышленного управления, скучного
планирования и определенного шаблона, претворения
зыбких душевных колебаний в незыблемость деяния,
обладания и внешней видимости он избегал — склонный
более к страсти, чем к канцелярской или бытовой
серьезности, владычествуя над тем, чем можно овладеть, играя.
267
Даже его пространный роман и гармоничные
стихотворения суть нежные арабески импровизации,
взлеты окрыленной души, которая неохотно возвращается
к муке оседлости и поденному труду. Сызмальства он
приобрел вкус к играм и выдумывал все новые. Как и
ребяческий восторг от игры, который не сломили ни
печали гения, ни житейские невзгоды, ранние дружбы
Мёрике сохранили на протяжении всей его жизни что-то
от энтузиазма и порывистости детства. Даже приятели
по Людвигсбургу — Давид Фридрих Штраус и Фридрих
Теодор Фишер — в сущности, одаренные филистеры
или остепенившиеся гении, прямо-таки воспламеняются,
когда упоминают имя Мёрике или обращаются к нему.
Его переписка с товарищами по школе или семинарии —
Хартлаубом, Людвигом Бауэром, Меркле и др. — вплоть
до старости украшает духовные, служебные или
домашние дела утренним волшебством сердца, которому еще
неведомы ни цели, ни долг. Именно филистерство,
которое прочих людей — коммерсантов, чиновников,
профессоров — сплачивает и, как правило, способствует их
уютному общению, т. е. заковывает в броню общих деловых
привычек, карьер и забот, Мёрике — друг, дитя и игрок
одновременно — воспринимает с задумчивой веселостью
или печальной улыбкой, снисходительной
проницательностью и иронией, как повод для поэтических бурлесков,
изящных завитушек на его действительной, т. е.
духовной, жизни. Пренебрегая служебными обязанностями,
он находил досуг, которому позавидует даже
мальчишка, для ловли птиц и кузнечиков, безмятежного
баловства и сумасбродства. Без всяких угрызений совести он
позволял выполнять работу, которую не внушал ему его
268
гений, другим должностным лицам. Он не был ни
примерным учеником, ни пастором, на которого можно
было положиться. Сомнительный супруг и неуверенный
домохозяин, он не исполнял никаких предписаний и
инструкций... когда знал, что это — обязанность. Однако
где благодать, полнота и волшебство возвышали его, где
он мог трепетать стеблями цветов, растущими из
темного корня его сущности, там он добивался большего, чем
предписывала профессия. Принимаясь за любое дело, он
не просто охранял границы и защищал шаблоны, а
свершал большее, вознаграждая свою эпоху прекрасными
мгновениями экзальтации за недели прозябания и
апатии и радостно внимал велениям своенравного демона,
который был демоном детства. Размеренный уклад
жизни, который оберегал его мэтра Гёте от подстерегающих
талант опасностей, Мёрике с покорной усмешкой скорее
позволил навязать себе, нежели избрал по собственной
воле. Если здравое восприятие мира и общества считать
наследием Гёте, то возникает все же невольное
ощущение, что воспринимал он эти предметы как движимый
страхом, забавой или любопытством гость, а не как
(подобно Гёте) хозяин, суверенно проникающий в их суть.
Но именно поэтому Мёрике, даже там, где он с великим
тщанием изображает быт захолустных городков,
больше «поэт», нежели творец. Гётевские образы отражали
не чужой мир, в который он мимически вживался, а его
собственный, пластически им представленный.
Мёрике — романтик не в силу изображенной им
предметности, а в силу понимания жизни: он не реализует
то же самое, собственное и тождественное, но заклинает
чужое, хотя его заклинания обладают таким запасом зна-
269
ков и таким правдоподобием, каким не обладал ни один
романтик. Всем этим он обязан — благословение для
творчества, проклятие для жизни — своей извечной
детскости: уже состарившись, он все еще воспринимал
обыденность с любопытством новичка, с той изумительной
и отрешенной ненасытностью, которую мы замечаем во
взорах детей, когда они впервые познают вещи и творят
слова, чтобы их обозначить. Такую гениальность
большинство, приобретя деловитость, утрачивает. Великие
образцы человечества — такие люди, которые, несмотря
на всю свою деловитость в обыденной жизни, не
утратили гениальность. Но бывают еще и чудесные
провозвестники радости, образцами не являющиеся: в жизни — это
авантюристы, в искусстве — бродяги и романтические
поэты. Они ходят под разными личинами, подчас под
личиной мещанина... будучи похожи на него больше, чем
тот сам на себя, ибо лучше мещан понимают, что такое
настоящее мещанство. Таким вундеркиндом был Мёри-
ке, и не случайно им воспет мастер, который, как ангел-
хранитель, оберегает путь всех сирот судьбы, — Моцарт.
Правду жизни как неотвратимости Мёрике познал
в десятилетнем возрасте, когда заболел и умер его отец,
ввергнув многодетную семью в безденежье. Эдуард
переселился к почтенному дяде. В 1817 году президент
верховного трибунала Георгий приютил тринадцатилетнего
мальчика у себя в Штутгарте, где неспешно-грациозный
уклад культуры уходящего века еще дремал в преддверии
великой духовной эпохи Швабии. Георгий был другом
Шеллинга, высокообразованным человеком, знатоком
древних языков. Помимо домашнего общения
поэтическое чувство избирательного родства с греками в Мёрике
270
пробудили занятия в штутгартской гимназии, школа, где
готовили к пасторской карьере, которая в Вюртемберге
по-прежнему обеспечивала наиболее безбедное
существование малоимущим талантам с духовными
устремлениями. После конфирмации в 1818 году он поступил
в семинарию в городке Урах. Но важнее кабинетной
премудрости было пробуждение его поэтических
способностей в горно-лесистой долине реки Альб.
Возможно, что быстрому развитию юноши
способствовала болезнь: переболев скарлатиной (помимо
страха перед близкой кончиной, ужаса перед прожорливой
смертью или вечным сном), он сделался робким и
изнеженным, что сделало его порой невыносимым для
близких. Взамен, однако, он приобрел такую обостренность
восприятия, которая пробудила или усилила
нервическую восприимчивость к добру и злу, доселе неведомую
в Германии, и позволила ему, как художнику, извлекать
новое волшебное содержание из любого материала. Круг
его друзей пополнился тогда Вильгельмом Вайблинге-
ром, припозднившимся штюрмером, который,
превосходя нежного Мёрике порывистостью и энтузиазмом
образования, был, однако, человеком беспутным и
бессовестным. Вероятно, с его подачи Мёрике ближе
познакомился с тремя духовными силами, оказавшими
мощное влияние на все его творчество: мимическим творцом
мира Шекспиром, немецким гроссмейстером
юмористического и иронического миросозерцания и сновидческо-
го волшебства Жан Полем и Новалисом, мистическим
пророком трансценденций.
Кто свел его с другими поэтами, дыхание которых
мы ощущаем в его произведениях, — с Гёте... романти-
271
ком истории и отчизны Тиком, Брентано, Фуке...
сентиментальными последователями Клопштока, с поэтами
Союза рощи, в частности Хёльти... эпигонами Шиллера
Матиссоном и Тьеджем, — мы не знаем и не стремимся
узнать. Даже Шиллер, которым Мёрике так восхищался,
не оставил почти никакого следа в его творчестве — он
был воплощенной в личности силой воли, коей Мёрике
избегал или не впускал в себя, ибо не мог превратить ее
в зыбкий туман настроений. Как и античные размеры,
которыми он владел лучше любого немца за
исключением Гёльдерлина, проникали в его творчество не через
немецких посредников, а из самих первоисточников —
Гомера и Феокрита.
В Урахе чувственного мечтателя настигла первая
любовная страсть, имевшая, наверно, самый подходящий
для его духовного склада исход, позволяющий выразить
страдания в слове, — она вышла за другого. Спустя
короткое время (в 1822 году) он сменил школу в урахе на
семинарию в Тюбингене, где в нем пробудились сознание
собственного таланта и способность переживать
страдания, однако рвения к какой-либо деятельности он по-
прежнему не проявлял. Обучаясь в семинарии, Мёрике
в небольшой компании удалялся от студенческого шума
в блещущие и цветущие рощи, ландшафты Орплида с их
чудесами и чудачествами. Это почти незаметное
кружение между реальным и вымышленным бытием помогло
обогатить его уже достигшее расцвета искусство в двух
направлениях: насытить образы точными наблюдениями
и придать наблюдениям сказочный блеск. Своеобразным
олицетворением такой двойственности бытия был старик
Гёльдерлин, навестивший Мёрике в его садовом доме.
272
Как люди, находящиеся в пограничном состоянии,
легче притягивают и воспринимают тайны и чудеса, так
и Мёрике, потрясенный и ослабленный утратой Клары
Нойфер, вскоре вновь пережил любовный роман,
заключавший в себе нечто сказочное и ставший для его
творчества такой же темной основой, какой для Вильгельма
Мейстера была Миньона. Дивной красоты создание из
свиты фрау фон Крюденер — эксцентричной
интриганки эпохи реставрации, с нечистыми религиозными,
эротическими и политическими замашками, щекотавшими
после наполеоновской диктатуры дряблые нервы
европейского общества, — Мария Майер, его Перегрина,
повстречалась Мёрике на жизненном пути и надолго
поселилась в его сердце. Сострадание к скомпрометрфованной
скиталице, чувственность и страсть к чудесам в равной
мере алчно и робко влекли его к этому странному
существу, которое он не мог ни удержать, ни оттолкнуть
с чистой совестью, — романтический призрак посреди
идиллического мирка Тюбингена. Его набожная и
осмотрительная сестра Луиза постепенно исцелила его от
болезненного наваждения... но вскоре умер любимый брат—
и после любовной драмы он впервые по-взрослому
пережил ужас смерти. Между этими страданиями возникли
самые прекрасные его произведения.
В 1826 году Мёрике выдержал экзамен и сделался
викарием. Почти десятилетие он мотался по приходам —
сперва в Обербойхингене, затем в Мёрингене и прочих
вышеупомянутых местах... мука мученическая для
молодого поэта, так как должностные обязанности, именно
в качестве обязанностей, ему претили. Случалось, что
какой-нибудь дружелюбно настроенный пастор, смекнув,
273
с кем имеет дело, облегчал его ношу, и служил вместо
него, а самого Мёрике использовал как домашнего
учителя, так что тот мог наполнять свою каморку зябликами,
перепелами, скворцами и куропатками, щебетавшими
на все лады. Но и это время омрачено смертью сестры.
В 1828 году он получил место в издательстве Франке, так
как тяготы викариата стали к тому времени совершенно
несносны. Однако обязанность регулярно строчить
журнальные статьи он воспринимал как святотатство и
тяготился ею еще больше, чем ярмом проповедника. Спустя
полгода он возвратился в свой пасторский дом. В Пфлум-
мерне в мае 1829 года Мёрике обручился с пасторской
дочерью Луизой Pay, немецкой девушкой, словно
сошедшей с картины Швинда, — миловидной, цветущей и
искренней, однако слишком прямолинейной и простой,
слишком патриархальной для такого неисправимого
мечтателя, которого ее семья и так подозревала в
вольнодумстве и сочувствии революции. Его братья Адольф
и Карл по обвинению в мятеже уже были этапированы
в крепость Гогенасперг, что бросало тень и на Мёрике.
Его непрактичность ломала ее надежды на будущее —
помолвка расстроилась. «Непостоянен, почти изгнанник,
разделен в себе самом», — так Мёрике характеризует
себя в то время и готов «топтать свою судьбу ногами».
На грани самоубийства он в тридцатилетнем
возрасте получает назначение священником в Клеверзульцбах.
Здесь он все больше замыкается в себе, несмотря на
почтение любителей и эпигонов классическо-романти-
ческого искусства и любовь прихожан за чадолюбие и
призрение бедных. Он скован, хотя, возможно, и
просветлен болезнью, испытывает гениальные озарения и
274
располагает достаточным досугом, чтобы предаваться
своим увлечениям и склонностям: живописи,
каллиграфии, выплавлению свечей и вырезанию печатей,
собиранию автографов, камней и монет, садоводству, чтению и
музыке. Иными словами, он зажил как жан-полевский
учитель Вуц — культивируя мало-помалу свое
образование и заклиная великие силы тихими магическими
формулами. Покойная жизнь в интимном кругу, лишь
изредка перемежаемая поездками к старым друзьям и новым
покровителям, омраченная кончиной матери в 1841
году, способствовала появлению нескольких произведений:
в 1836-м он опубликовал сказку «Сокровище», в 1838-м —
первый стихотворный цикл, в 1839-м — «Лючию Гель-
мерот», «Крестьянина и его сына», «Братьев дождя»...
в 1841-м — даже оперу в честь короля «Праздник в
горах». Занимаясь переводами античной лирики,
редактурой и изданием стихотворений Вайблингера, он
расширил круг своих служебных обязанностей... или же этот
круг повиновался ему. Спустя девять лет Мёрике
вышел в отставку, так как прихожане желали слушать его
проповеди, а не проповеди его викария, вдобавок
гнусные сплетни портили его профессиональную репутацию.
В 1843 году, еще не достигнув и сорока, он, бедный, но
счастливый, направился в Швебиш-Халль. Обладая, как
и Жан Поль, даром просветлять посредством игры и
мечты даже самые тусклые обстоятельства, он взял верх над
жизненными неурядицами, покуда прогрессирующий
недуг не принудил его переселиться в Бад-Мергентхайм.
Один врач, друг Мёрике, вылечил его хромоту.
Поправившись, он обручился с Маргаритой фон Шпет,
хорошенькой офицерской дочкой. После продолжительного жени-
275
ховства в 1851 году был заключен брак. Но и он страдал
от раздоров между неуёмной сестрой и энергичной
женой, от религиозных сомнений католической Гретхен,
коварства старых друзей. Мелочные и затяжные
семейные дрязги привели к тому, что супруги расстались, хотя
и не развелись, у них родились две дочери, благодаря
которым брак не распался несмотря на разлуку. И лишь
на смертном одре Мёрике сердечно примирился с
Маргаритой. По материальным соображениям в 1855 году он
принял должность профессора истории литературы в
семинарии св. Екатерины в Штутгарте, где проработал до
1866 года. Поздними плодами этой полусинекуры были
сказка «Штутгартский гном», музыкальная новелла
«Моцарт на пути в Прагу» и идиллия «Старинный флюгер».
В ту пору он предпринял попытку переработать роман
«Живописец Нольтен». Слава его росла, популярность
то радовала, то тяготила. Крепкая дружба связала его
с Морицем фон Швиндом. С Пруссией его примирила
послевоенная политика Бисмарка за немецкое единство.
Последние годы жизни были омрачены недугом и
смертями близких. Он умер усталым стариком в 1875 году.
Еще раз окинем взором его творчество, не вдаваясь
в литературоведческий анализ отдельных произведений,
с единственной целью увидеть в них лицо человека —
ведь именно оно возбудило наш интерес.
Так или иначе Мёрике живет в нашей памяти как
автор нескольких тонких, искренних, выразительных
стихотворений, нескольких проникновенных рассказов и
романа о художнике «Живописец Нольтен»... как веселый
юморист, корифей немецкой словесности после Гёте.
Мой рассказ о жизненном и творческом пути Мёрике,
276
наверно, дал уже некое общее представление о нем.
Заявить о праве поэта на бессмертие — т. е. предречь или
приказать: то и то произведения Мёрике должны жить,
пока жив немецкий язык, — пустая затея, ведь мы не
знаем, кто станет вершить судьбы будущего века,
открывать и будить потаенные силы, властвовать над
будущими ценностям.
Потому каждый придет к поэтическим
произведениям своим путем. Ведь если избирательное родство есть
даже в царстве природы — необъяснимый закон, в силу
которого два элемента, отталкивая все прочее,
притягиваются, — если в любви два человека, не сообразуясь ни
с какими иными целями, желают друг друга, а прочие
прекрасные и даже прекраснейшие им безразличны, то и
в духе, в понимании, царит тайна перехода, истолковать
которую невозможно. Можно условиться о критериях
гениальности, доказуемых и измеримых. С тем, что Гёте,
Данте, Шекспир были корифеями своего искусства,
согласится, с тех пор как пробудилось историческое
чувство, пожалуй, всякий разумный человек. Полюбит и
поймет ли он их, не определяется рассудком, а является
прерогативой связующих и разделяющих сил.
Книгой, в которой сущность Мёрике раскрывается
наиболее полно, где искусство исповедального и игривого
рассказа, грация арабески, задушевно-прекрасная песнь
даже сокрушенного сердца (подобно всему прекрасному,
«блаженного в себе самом» и тем не менее
трепещущего перед тем, что заставляет человека превзойти самого
себя), является роман «Живописец Нольтен». Он назвал
этот роман новеллой, желая тем самым привлечь
внимание к неслыханному происшествию, поведать о кото-
277
ром данный жанр призван. Как по форме, так и по
содержанию « Живописец Нольтен» принадлежит к жанру
романа о художнике, который вслед за «Вильгельмом
Мейстером» толкует судьбу чувствительного юноши как
результат его взаимодействия с обществом с примесью
большей или меньшей толики чудесного в
зависимости от того, верит автор в чудеса или нет.
Наименование жанра — «новелла» — оправданно, так как Мёрике
в отличие от Гёте, неустанно стремившегося проникнуть
в суть мира, замыслил и изобразил своего героя
жертвой тревожных любовных метаний. Он понимает людей,
встречающихся Нольтену, не так, как это было у Гёте
в «Вильгельме Мейстере» — на основании их профессий
или социальных функций, как носителей определенных
общественных законов, — но как мелодии душевных
сил, существующих вне общества. Тот факт, что он со
скрупулезной точностью и обстоятельностью
литературного адепта эпического искусства Гёте умел совмещать
в воображении трепет любовных связей с актуальными
социальными проблемами, ничего не меняет в
принципиальной неэпичности его романа. Гётевскии Вильгельм
Мейстер возник из страстного восприятия или осознания
внешнего мира как царства амбиций, условностей,
противоборств, которые могли быть показаны именно
потому, что Я больше не жаждало, подобно титану, поглотить
Вселенную или уничтожить ее, но было готово
сотрудничать и сообразовываться с ней. Организация мира людей
по аналогии с миром души — таков путь от Вертера до
Вильгельма Мейстера. Подобное было бы невозможно
без художественного удивления перед обществом как
чем-то иным, незнакомым и новым. «Вильгельм Мей-
278
стер» вырастает не из сокрушенного Я, как «Вертер»», но
из опыта понимания мира, в основе которого —
понятое общество. Романтики — Новалис, Тик, Брентано, Ар-
ним — распознали, что составляет основу
образовательного романа Гёте, и воспроизвели ее в своих собственных
романах, хотя и без присущей Гёте наблюдательности
и способности отдавать восприимчивое Я во власть
образующего не-Я. Оттого их исповедальные и
образовательные романы шли извилистыми и обходными путями
сквозь всевозможные времена и земли, вместо того
чтобы овладеть широтой и полнотой последних. С Гёте Мё-
рике роднит вера в действительность явления,
энергичный реализм пяти чувств. Он не был, подобно прочим
романтикам, искушаем желанием понять, какие учения,
смыслы, тайны скрыты за образами. Но Гёте «Вертера»,
больше, чем Гёте «Мейстера» следит за рождением
повести о Нольтене. Эта повесть впитала атмосферу, которая
в «Годах учения» еще именуется «Театральным
призванием»». Романтическое наследие, в частности наследие
Тика, проявляется в самодостаточности артистического
танца, нетерпеливом и поспешном бегстве от твердого
плана, взлетах беспечной фантазии, вере в благодатное
вдохновение, которое может позволить себе свободно
отклониться от темы, чтобы потом к ней вернуться. Как
и все прочие, эта, самая пространная из повестей Мёри-
ке, представляет собой «арабеску»» (в смысле Фридриха
Шлегеля) и доставляет истинное наслаждение читателю,
сквозь пышные заросли проникающему к стволу дерева,
скрытому за цветами и листвой.
Повесть держится на пяти характерах, два из
которых являются исповедальными: сам Теобальд Нольтен,
279
чувственный, гениальный и влюбчивый художник, а
также любезный его сердцу друг Ларкенс, светский,
дьявольски-светлый и ловкий мим, сквозь покровы и грани
ролей которого (не только театральных, но и жизненных)
просвечивает страсть, тщетно пытающийся огрубить
нежные чувства, весело искажая или деятельно насилуя
таковые... человек, не умеющий сжиться со своим
слишком изменчивым Я и потому вынужденный постоянно
меняться, если вознамерится появиться или исчезнуть.
Оба они, и Нольтен и Ларкенс, имеют общего предка
в лице шекспировского Гамлета, мифический прообраз
одиночки с диким сердцем и чрезмерно развитым
духом. Еще больше они похожи, как полюса двуединства,
на братьев из романа Жан Поля «Озорные годы» — по-
детски преданного Вальта и простодушно-игривого Вуль-
та. Этих близнецов представлял себе Мёрике, когда
носился с мыслью об исповеди. С Жан Полем его роднила
общность стихий и судеб, оберегавшая художественный
импульс от формального подражания.
Другие ключевые персонажи в этом
романе-арабеске — женские идеалы его собственной жизни, без
примеси черствой и мелочной действительности, возвышенные
грустью, надеждой и печалью воспоминания. Агнесса,
жертва вспыльчивого художника, отравившего пылкую
веру болезненным недоверием, списана с Луизы Pay и
воплощает в себе все достоинства благовоспитанной и
прелестной немецкой барышни, которую Гёте запечатлел
в Гретхен и Швинд в сказке о семи воронах, когда она,
будучи преображена фантазией поэта, из обыкновенного
человека превращается в идеальный тип. Из помрачений
и кошмаров своей горькой любви Мёрике создал худо-
280
жественный образ, который оправдал ее и его в очах
Божьих. Не столь ясной и, несмотря на редкий характер и
четкую прорисовку, более литературной, нежели реально
пережитой, остается графиня Констанца. Она подражает
аристократкам с опасным влечением к свободе —
принцессе из драмы Гёте «Торквато Тассо», а любопытство
роднит ее с Линдой фон Ромейро из романа «Титан»
такого несветски светского льва, как Жан Поль. Ни
реальный прототип Констанцы, ни событие, которое могло
бы с достоверностью лечь в основу ее истории, нам
неизвестны. Однако тип пылкой великосветской меценатки
часто встречался в обществе того времени. В эпоху
Веймарского классицизма наибольшую известность
снискала Шарлотта фон Кальб благодаря Шиллеру, Жан Полю и
Гёльдерлину Бедный викарий вполне мог вообразить или
подметить нечто подобное. Третьей фигурой из личного
опыта Мёрике, продолжившей жизнь в художественном
образе, была цыганка Перегрина, злополучная и роковая
обольстительница, навеянная личностью Марии Майер и
одновременно образом Миньоны. Ибо в схему, которая
из демонического видения Гёте перекочевала в
фантазию поэтических немцев, Мёрике вдохнул новую
выстраданную и продуманную им самим жизнь, оградив себя
тем самым от ущерба, наносимого литературе дешевыми
чудесами и удобной таинственностью, которыми образ
Миньоны был искажен в большинстве романтических
подражаний, таких как Фиаметта из романа «Эпигоны»
Иммермана, Изабелла Арнима или Митидика Клеменса
Брентано. Мы должны искать надлитературное
содержание жизни Мёрике в жестах, интонациях и
предчувствиях, образной ценности его персонажей, посредством
281
которых он облек в языковую форму свою плоть и кровь,
пристально всматриваясь в жизнь... затем — в
пространственных образах, особенно в лесных и садовых
ландшафтах Германии, а не в лихо закрученном или, наоборот,
небрежно растянутом приключенческом сюжете. Такого
рода сюжет есть почти конвенциональное наследие,
которое из рыцарских романов через плутовские истории
Барокко, меняя модный антураж, но с всечеловеческой
потребностью в драматизме и немецкой страстью к
путешествиям, перешло в бюргерскую эпоху, раскрывая
не столько сущность новых поэтов, сколько привычки
старых корпораций. Поэтому я не говорю о «Живописце
Нольтене» как произведении повествовательного жанра,
но прежде всего хочу показать человеческую природу
Мёрике в ее уникальности.
Самым главным и оригинальным достижением поэта
являются не приключения, а наряду с пятеркой главных
персонажей те чудаковатые субъекты, которые
оттеняют трагических грешников и жертв, распространяя его
игровой талант на низы общества, добродушно
подтрунивающие над собственными слабостями, саркастическим
и нежным светом усиливая и согревая глупости
окружающих. Восхитительный образчик такого рода, благодаря
потрясающему пародийному таланту Мёрике
достигающий гениальности шекспировских шутов, — парикмахер
Виспель, слащаво-трусливый, придурковато-жеманный
прохвост, фальшиво, нескладно и гротескно
копирующий манеры французского салона и почтенные
приемы воспитания немецкой гимназии. Виспель —
последыш бидермайера, родня Пистолю, Мальволио, Армадо,
однако оснащенный любовно разлахмаченным душев-
282
ным гардеробом мелкого старьевщика из Людвигсбурга.
Его нельзя причислить к самым изысканным
персонажам мировой литературы, но забыть его невозможно.
Понятно, что Мёрике перенес его в свой мир и
продолжил письменную и устную игру с ним в близком кругу,
дурача самого себя под маской мерзкого и
расфранченного проходимца.
Как и многие романтические истории, «Живописец
Нольтен» обязан своими самыми нежными красками,
отраженным сумеречным светом, смутным ропотом
затаенных голосов лирическим отступлениям. Волшебная
драма «Последний король Орплида» переносит музыку
шекспировской «Бури», которую Мёрике хотя и не создал,
но пропустил сквозь собственное сердце и снабдил
собственной интонацией, в расчетливый бюргерский мир гё-
тевской эпохи. Тысячелетний король Ульмон, терзающий
свою память воспоминаниями о нимфах и эльфах, живет
на необитаемом острове по соседству с бюргерами и
плутами. Пронзая застывшее время, он грезит о вечности
прекрасных мгновений — глубокий символ
романтического рока, романтического колдовства и вампирической
тоски, иносказательный образ лишенных своего здесь и
сейчас, навеки отвергнутых, отчужденных, витающих
в прошлом и будущем мире романтических мечтателей,
вечных детей, пребывающих в вечной дряхлости,
дразнимых надутой обыденностью, прельщаемых и мучимых
созданиями природы, которых сладкое воспоминание
о бессмертном инстинкте то окрыляет, то низвергает в ад.
Мёрике написал несколько сказок. И они изобилуют
нежными, броскими и мерцающими деталями — лица,
облачения, процессы, ипотеки... В целом все грациозно,
283
изысканно, подчас чрезмерно вычурно, но
лингвистически выверено поэтом, последователем братьев Гримм,
смакующим богатства родного диалекта, пусть
грубоватого, зато зычного. «Штутгартский гном» (снабженный
специальным словарем), с которым не сравнится ни одна
попытка возрождения старинного говора, ни по
фольклорной точности и пластичности, ни по
непринужденной искрометности или крылатой архаичности языка,
ибо кто из наших, высоко ученых и технически
искушенных поэтических архаистов смог бы так естественно
и свободно вжиться в доинтеллектуальную стихию, как
Мёрике? Допустим, что «Янтарную колдунью»
Вильгельма Мейнхольда, опыт романтического историзма по
подражанию немецкой словесности XVII века с научной
точки зрения и можно признать удачной, этаким
шедевром кабинетной учености... но с поэтической точки
зрения — пустой и бедной, так как автор, хотя и владел
старинной интонацией, не верил в нее так, как Мёрике.
Я пропускаю короткие сказки и новеллы,
свидетельствующие об искусстве Мёрике изображать в
ограниченном пространстве, не добавляющие к его сущности
ничего нового по сравнению с «Живописцем Нольтеном»:
«Клад», «Луси Гельмерот», «РукаЙецерты», «Крестьянин
и его сын». Обратимся теперь к самому прекрасному
рассказу Мёрике — «Моцарт на пути в Прагу». И этот
рассказ, ажурная арабеска с незамысловатым сюжетом,
который вряд ли заслуживал бы внимания — рассеянный
Моцарт срывает в господском саду померанец,
последствия этого проступка и веселое его искупление, — если
бы Мёрике не наполнил скупой сюжет таким сонмом
духов из своей поэтической ризницы, что эта новелла о му-
284
зыканте не только с усердием ученого нарисовала живую
картину, согласную с портретами, альбомами и
комментариями того времени, но воплотила в языке
благоухание и блеск самой музыки Моцарта, став ее языковым
образом. Ведь в этом произведении Моцарт предстает
для своего поколения как Бог, т. е. вершитель и демиург,
цветок и плод всех тех семян, соков, элементов, которые
жаждали освобождения в душе самого Мёрике,
истерзанной и надломленной тысячью превратностей,
изнывающей от обыденности жизни. Некогда так страдал и сам
Моцарт... но его творчество есть представленное на суд
столетий олицетворение смирения и благословения
невзгод. Источая вечный свет, эта музыка освящала сумрак
земной юдоли. Из братской солидарности с
легкомысленным, меланхолическим, прелестным и сумасбродным,
погрязшим в долгах и страстях музыкантом, с заботливой
женой, меценатами и нахлебниками, убогим жилищем
и дворцовой роскошью, скудным ночлегом и блестящим
вояжем — из сродненности с этим бедным Моцартом,
вдохновенным творцом Фигаро, последним блаженным
олимпийцем, Мёрике создал свою новеллу. Не как
кабинетный ученый, окопавшийся в исторических фактах,
а как чародей, посвященный в тайны вечной жизни, он
прославил триумф любимого героя, всю целокупность
пространства, истории и общества, которые Моцарт
освятил своим светом и погрузил во тьму. Он так
глубоко вслушался в музыку Моцарта, взмывая на моцартов-
ских крылах за грань наслаждения и смерти в чреватое
рождениями царство теней, из которого звучат мелодии
и опускаются грезы, что может возвещать тайны
мастера, словно Ариель, возвещающий веления Просперо.
285
Мы сказали, что Мёрике был одарен поэтичностью.
Все его произведения несут отпечаток поэтической
отрешенности, даже те, что повествуют о самых грубых
предметах. Проза Мёрике (при всей ее упругости, без
облаков и тумана, характерных для романтических
эстетов, эпигонов Тика, без всего удобного
цветасто-звездного щебета и бессодержательного, почти бестелесного
пустозвонства) вибрирует в унисон с мелодиями сердца,
благодаря которым даже самые скучные факты и самые
прозаические явления — какими бы бессвязными,
резкими, раздробленными в восприятии они ни были —
окрашиваются в музыкальные краски и облекаются в смыс-
лопорождающие формы, подобно тому как на холсте
живописца пигменты — больше не химикалии, а в
симфонии исчезают колки, жилы струн и деревянные
каркасы инструментов. Полную свободу Мёрике проявил
в стихотворном жанре, как и в прозе, не погрешив
против действительности, не прибегая к поэтическим
штампам, нарочитому выискиванию поэтических предметов,
не по-эпигонски, — сталкивая поэтические содержания
с прозаическими, но силой ритмического преображения
вещей. Свидетельством врожденного чувства ритма
может служить обработка античных стихотворных
размеров, в частности гекзаметра и триметра. Вслед за Гёль-
дерлином он был тем немцем, кто вжился в античное
наследие, не утратив своей свободы. С чисто
технической стороны, Гёте, Шиллер, даже Фосс и Платен могли
бы с ним конкурировать — у них, а у Клопштока и
подавно, тоже есть пафос, экзальтация и даже
воспитательная тенденция — посредством упражнения облагородить
искусство и язык. Фосс навязывал античные стопы даже
286
самым косным предметам с упорством северо-немецко-
го крестьянина, который, употребив определенное
старание и смекалку, научается выращивать литературные
плоды подобно Алкею или Феокриту. Его последователь,
Геббель, духовно выше, язык Платена пластичнее. Мощь
дыхания личности и художественное мастерство Гёте и
Шиллера заставляют забыть, что и их дистихи
порождены больше трудом, чем вдохновением. Лишь Гёльдерлин
и Мёрике влились в ту стихию, из которой произрастает
античная гимнография: Гёльдерлин с героическим
пафосом всеобожествления, отвергнув робкую помощь
деталей, всецело отдается мощному потоку, рождающему и
насыщающему отдельные побеги., а Мёрике, словно
пантеист наизнанку, наоборот, капля за каплей впитывается
в каждую деталь, и в мельчайшем чувствует, ласкает и
вкушает всю Вселенную. (Здесь он — предтеча Рильке и
ревностный адепт таких великих мастеров эпиграммы,
как Анакреон и Феокрит.)
Из больших стихотворений «Идиллия о Боденском
озере» и «Сказка о надежном человеке» могут считаться
подлинным возрождением античного духа жизни и тем
самым античного чувства языка, словно гекзаметр был
стихотворным телом, в которое они облеклись... без
гуманистических маскарадов (в которых Мёрике, кстати,
знал толк) и без фыркающей напыщенности некоторых
северо-немецких гомеридов. И здесь действие ничтожно,
зато образы пространства, чувства, жесты, настроение
от звучания слов, движения фраз и потока впечатлений
великолепны: изобилие, богатство, насыщенность языка
в сочетании с нежнейшей прелестью, почти бесплотной,
ветреной раскованностью и свободой изложения, кото-
287
рую в духовном смысле молено считать иронией, в
душевном — настроением, в техническом — пластическим
вкусом, в характерном — божественным легкомыслием,
в общественном — внимательным чувством такта.
В «Идиллии о Боденском озере» говорится о юном
рыбаке, влюбленном сначала в высокомерную,
себялюбивую крестьянку, отвергшую его ради богатого балбеса,
а потом — в сердечно преданную, работящую и
искреннюю девушку, которая и вышла за него; обрамляющей
этот рассказ арабеской, изображающей крестьянское
житье-бытье у берегов швабского моря, служит история
об ограблении храма, тщательно спланированного, но
потерпевшего крах. Мёрике удовлетворяет свою страсть
к изображению родного края колоритными
портретами близких к земле, живущих в гармонии с природой,
естественно чувствующих людей, которые уже срослись
со своей утварью, костюмами, постройками, и
преобразует их в архаические мотивы человеческой судьбы —
страх и надежду, тоску и отречение, верность и зависть,
веру и отчаяние. Мёрике побывал в исторических
гнездах своей малой родины, в самых захолустных ее углах,
затерянных и замшелых, узревших свет Божий только
благодаря исследованиям братьев Гримм, гнетущих и
укрепляющих его, как пастора... был свидетелем
буйства сил созидания и тления, которым все подвластно от
камня до человеческого сердца. Его личная
наблюдательность и сверхличная интуиция поднимают
стихотворение «Идиллия о Боденском озере» до высокого искусства
и делают его манифестом немецкого обожествления
Вселенной. (Об этом помимо мистики свидетельствует
преклонение перед всяким, даже самым ничтожным,
288
проявлением жизни — в истории, природе,
действительности или абстрактном понятии.) Мёрике — художник,
виртуоз такого чувства Бога, и его идиллия является,
с одной стороны, произведением резца искусного
мастера, а с другой — видением из таинственной демонологии
Гёте и Гёльдерлина.
Еще яснее мифическая или мифотворческая основа
такого идиллического мира предстает в «Сказке о
надежном человеке». Сказкой назвал это очаровательное
произведение сам Мёрике, капризом своей фантазии.
Но чтобы найти такую же естественную и прозрачную,
как миф, поэзию, нам придется сквозь лесное
колдовство романтизма и Вальпуригиевы ночи Гёте
вернуться к шекспировской драме «Сон в летнюю ночь»,
преодолев дистанцию, отделяющую прометеевскую природу
творчества Шекспира от гномической природы Мёрике.
Мифическое чудо возникает у Мёрике из темных
первооснов его всепроникающей интуиции природы и
влагается посредством пластической силы в двух персонажей,
которые не являются литературными подражаниями,
а сотканы примерно из тех же первичных восприятий,
что Калибан и Ариэль в шекспировской «Буре».
Только источниками, откуда Мёрике заимствовал костюмы
своих героев, их манеру вести себя и изъясняться
(однако не саму первоматерию таковых), были швабское
крестьянство и бюргерство, а также Гомер и Феокрит,
в которых он был начитан. У Мёрике мы наслаждаемся
интеллигентной иронией, выступающей в образе
немецкого рассказчика, в частности, швабского пастора и
романтического поэта, очкарика в брыжах, наблюдающего
за похождениями неотесанного великана земли, гор и
289
лесов, а также капризного и легкокрылого духа ветра и
остроумия. Его слово пробуждает полноту удовольствия
от глухой стихии и жажду к пестрой и блаженной
кутерьме. Ариэль Мёрике, именуемый Лолегрин (сын Вей-
лы от Орплида), приходит к Зукельборсту, сыну горной
первобытной жабы, беспутному лесному великану, и
увещевает хтоническое чудище покончить с развратной и
богомерзкой жизнью, совершить богоугодное и
душеспасительное дело ради спасения коснеющей в грехе души,
пробудить дремлющую, еще неразумную, убогую и
безъязыкую сущность, которую в него вложили боги,
навести там порядок и возгласить об этом томящимся в
преисподней мертвецам. Раздраженно шипя, но внутренне
сокрушаясь, польстившись пробиться от хаоса к смыслу,
от непотребства к разуму, от слепого инстинкта к
зрячей воле, от звука к слову, от безмыслия к письму,
великан оставляет родное логово и гулким шагом топает по
ночным селениям, срывая с петель амбарные ворота, на
которых смиренно, одержимо и смущенно
запечатлевает свою космогонию; вокруг него, спускающегося к
теням, шепчется всякая нечисть и тихо ступают герои и
гении, а он читает им, дрожащим от ужаса, свою
проповедь. К нему протискивается черт и во время чтения
куражится, пока надежный человек, хладнокровно и не
прерывая чтения, не отрывает ему хвост, который в
качестве закладки кладет в книгу. Глубокомысленно
обращается он к трепыхающемуся хвосту с пророчеством
о грядущем посрамлении черта; повсюду начинается
праздник, а надежный человек нарекается «другом
богов». Обернувшись цикадой, Лолегрин подслушивает эту
историю и уносится ввысь, чтобы посмешить ею богов.
290
Полное глубокого смысла очарование этой сказки
создается мастерством, вскормленным природной
невинностью эллинов и романтической светскостью немцев,
посредством которых Мёрике вколдовывает друг в друга
такие несоединимые сущности, как хаос и шутка,
крестьянский уклад и книжная премудрость, преисподняя и
Клеверзульцбах, Стикс и Некар. Он отягощает гекзаметр
грузом родного ландшафта и теневых сторон Гомера, Ге-
сиода и даже Данте, не выпячивая конфликт и не
злословя, как Гейне, и не упиваясь собственным вдохновением,
как Клопшток. Однако, даже изображая привычную или
чудаковатую обстановку своей родины, он никогда не
утрачивает, как и во многом близкий ему Иоганн Петер
Хебель, чувства божественно-темных основ. Как старый
дуралей Зукельборст — гора, болото и чудовище в одном
лице, — благодаря Лолегрину очеловечивается,
одухотворяется, просветляется, и мысли, словно бутоны,
расцветают в его голове, как он, клонясь под спудом неразумия,
бредет мимо крестьянских хуторов, впервые
осмысленно и по доброй воле... как сонные селяне [для которых,
как для Творца или Природы, тысяча лет — словно день
единый) потрясены ночным шествием, походом
привычной напасти к непривычному горю... Вот он пишет
книгу, этот духовный слуга своей звериной сущности... вот
тени встречают его, сумерки отжившего духа, в которых
вновь забрезжил рассвет... вот зловредность черта, его
тупое коварство, иными словами, злое начало в
человеке, которое рушится перед лицом вечной мудрости до-
моральной созидательной силы, божественно
направляемой протеически радостным чувством творчества: все
это представляет собой не замысловатые аллегории, но
291
вплоть до тончайших нюансов ставшие смыслообраза-
ми видения — поздняя победа неоязыческого
мифологического духа. Противоборствуя христианству, этот дух
вновь был осознан и отстоял свой скромный суверенитет.
Мёрике (оставаясь верен себе) не показал его господином,
тем более борцом или бунтарем, но воспел древних богов
благочестиво и по-домашнему, без ненависти и гордыни,
скорби и покаяния, с грустным озорством, примиренный
с самим собой прекрасной иллюзией и игрой,
благодарностью к вещим истокам за их бытие и окрылившись
духовной милостью, которая поднимает его над ночью, как
стрекозу над болотом.
Обе идиллии показывают материю жизни и
художественные приемы Мёрике. Варьируя сочетания,
пропорции и акценты, они пронизывают всю его поэзию. Не
пускаясь в толкование отдельных стихотворений, я
хотел бы лишь обрисовать человеческий тип, обретающий
в его песне язык и образ. Разносторонне образованный и
чуткий, Мёрике овладел всеми лирическими
интонациями, подслушанными Гёте и романтиками у немецкого
языка, от «народного тона», т. е. звероподобных трелей и
рулад, до строгих стихотворных синтагм эллинского
происхождения. Также и романтической рифмой он
пользовался искусно, даже с удовольствием, по-птичьи радуясь
ее причудам. Единство скрупулезной проработки и
творческих метаний и даже смятений — таково проклятие
его жизни и благословение его искусства. Большая часть
стихотворений Мёрике сегодня перешла в разряд
литературных памятников, так как книжная форма, которая
околдовала его художественный вкус, и таинственный
жизненный импульс, побуждавший его петь, не полно-
292
стью соответствовали друг другу. Особенно это касается
стихотворений, впервые снискавших ему славу
скромного ученика Гёте и собрата Уланда в области народной
песни. Сюда же относится и песня из романа
«Живописец Нольтен»: «утром прокричал петух...» и прочее, что
в свое время мелодической грацией и насыщенной
образностью привлекло тех знатоков искусства, которым
претила риторичность, сентиментальная высокопарность,
тенденциозная напыщенность или безвольное бренчанье.
Эти песенки Мёрике сохраняют свои достоинства и по
сей день по сравнению с массовой романтической
лирикой, трескучестью и цветастостью бесчисленных
журнальных тикианцев и всяких трубачей в волшебный рог.
И тем не менее сегодня мы не столь склонны в
утонченных вариациях менее смелого и ограниченного
наследника восхищаться тем, что некогда во всей юной
прелести и полноте было воспето Гёте и лучшими народными
песнями. Ницше обратил свое героическое негодование
против пустозвонства эпигонов Гёте, в частности
швабской школы, без устали громя как большие формы, так и
малые, которым он противопоставил свою волю к
безусловному, неприятие любого рода самодостаточности,
каковую песенное искусство Мёрике культивировало даже
в печали. Однако Ницше упустил из виду другую сторону
поэзии Мёрике, на которую обратили внимание, может
быть, только со времен Стефана Георге, вернее
благодаря ему. По объему эта сторона меньше, нежели
сентиментальная или шутливая... по значимости, пьянящей
сладости и (не побоюсь штампа) душевной глубине —
мощнее, великолепнее и неповторимее: песни безмерной
страсти и благоговения перед природой. Эти стихотворе-
293
ния, числом с десяток, возникли не из литературных
восторгов, разжившихся потом собственным настроением,
не из меланхолических чувств, как бы вновь узнавших
себя в опыте мгновения, — их истоком было
сокрушенное сердце, овладевающее заключенными в магические
формулы немецкого языка переживаемыми явлениями.
Или они запечатлевают вечную литургию природы
Мёрике от прекрасных иносказаний и смыслообразов,
«блаженных в самих себе», вплоть до мук личности среди
вселенской бури. Итак, в них зафиксировано состояние,
которым живет подлинная мистика и все подлинное
искусство, являющее в преходящем символ вечного
творчества. Речь идет не о количестве мыслей, значительности
проблем или конфликтов, но о чистоте и интенсивности
переживания (искренности, помноженной на
концентрацию) окрыленного сердца. Некоторые из таких
стихотворений Мёрике удались. Здесь его поэтический талант
достиг совершенства, без нашептываний литературных
советчиков и затхлости старых масок и шкафов. Здесь
мы внимаем нежной песне, льющейся из тайны
открытого миру сердца, цветку, ночному ветру, теням
воспоминаний, любовной тоске — совокупности творения,
властвующему в обыденных вещах и одновременно священному
союзу, заключенному между Божеством и уникальной
душой именно этого поэта. Такие стихотворения, как
«К цветку Христову» или «Ночные песни», — это
божественные первоглаголы, возвещенные через смертного
человека. Этот дар не следует путать с величием
характера или всемирно-историческим значением, ибо он есть
одна из тех многообразных форм, посредством которых
мы приобщаемся к тому, что нас превосходит.
СОДЕРЖАНИЕ
А. Л. Вольский. Философия литературы Фридриха Гундольфа 5
ЛЮДВИГ ТИК (пер. А. Л. Вольского) 42
ИММЕРМАН (пер. Е. В. Бурмистровой) 177
АННЕТТЕ ФОН ДРОСТЕ-ХЮЛЬСХОФФ (пер. Е. В.
Бурмистровой) 222
ЭДУАРД МЁРИКЕ (пер. А. Л. Вольского) 261
Фридрих Гундольф
НЕМЕЦКИЕ РОМАНТИКИ
Тик, Иммерман, Дросте-Хюльсхофф, Мёрике
Редактор издательства Т. В. Глушенкова
Художник П. Палей
Компьютерная верстка О. В. Новиковой
Подписано к печати 11.07.2017.
Формат 60 х 75 »/ιβ.
Бумага офсетная. Гарнитура «Talisman».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.5. Уч.-изд. л. 11.9.
Издательство «Владимир Даль»
199044, Санкт-Петербург, 5-я линия В. О., д. 20, литер А
ООО «ИПК «Береста»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28
Заказ 1195.