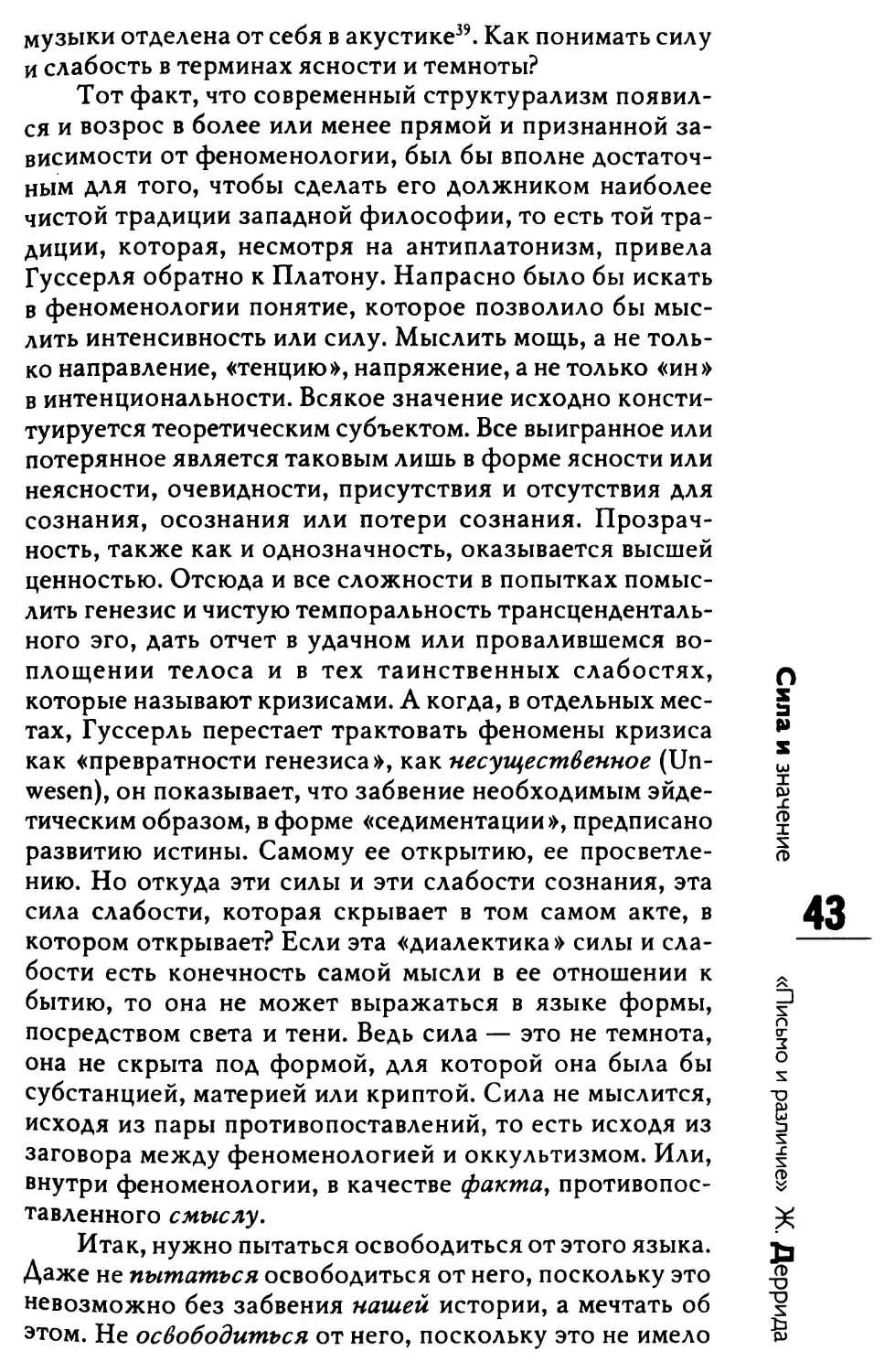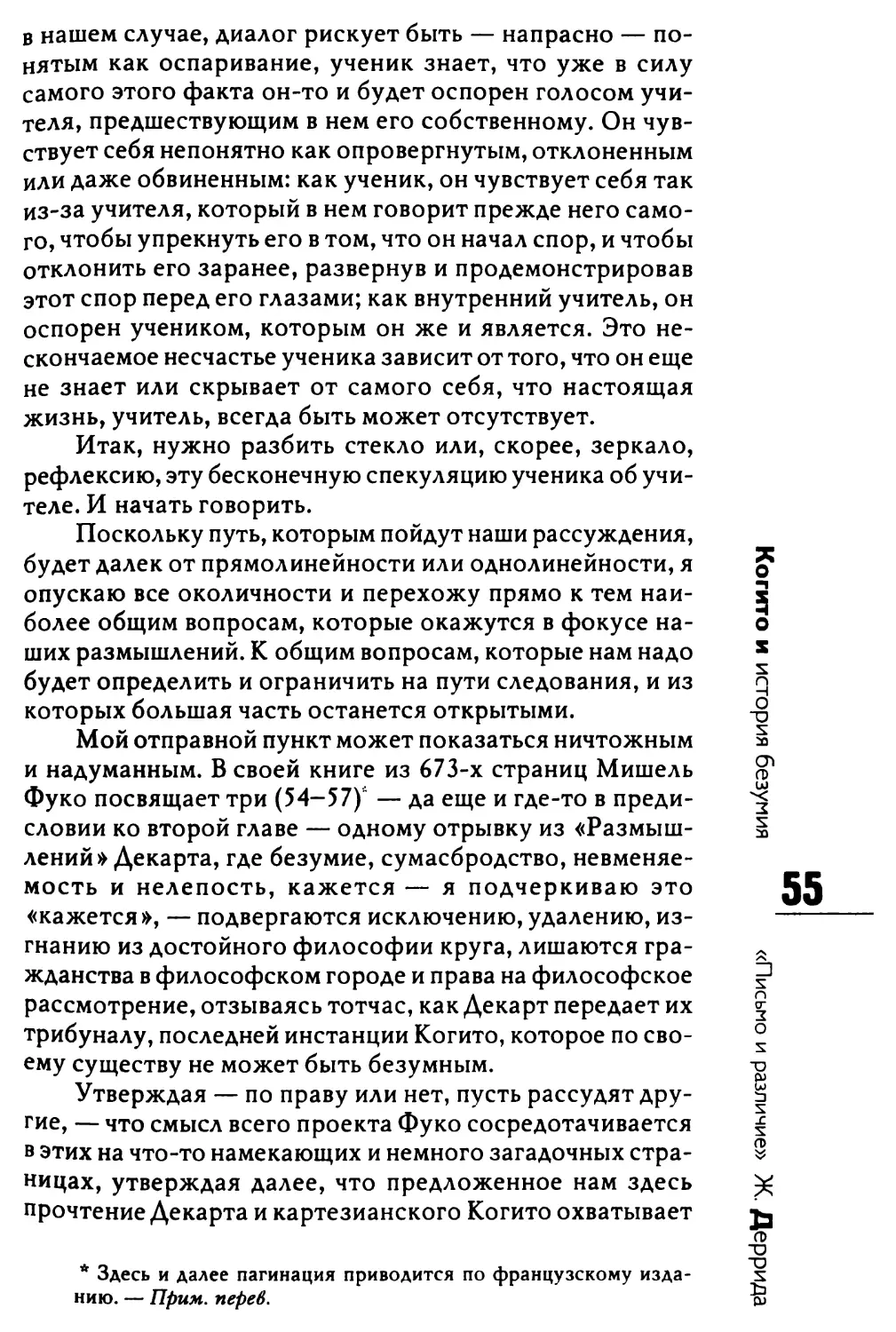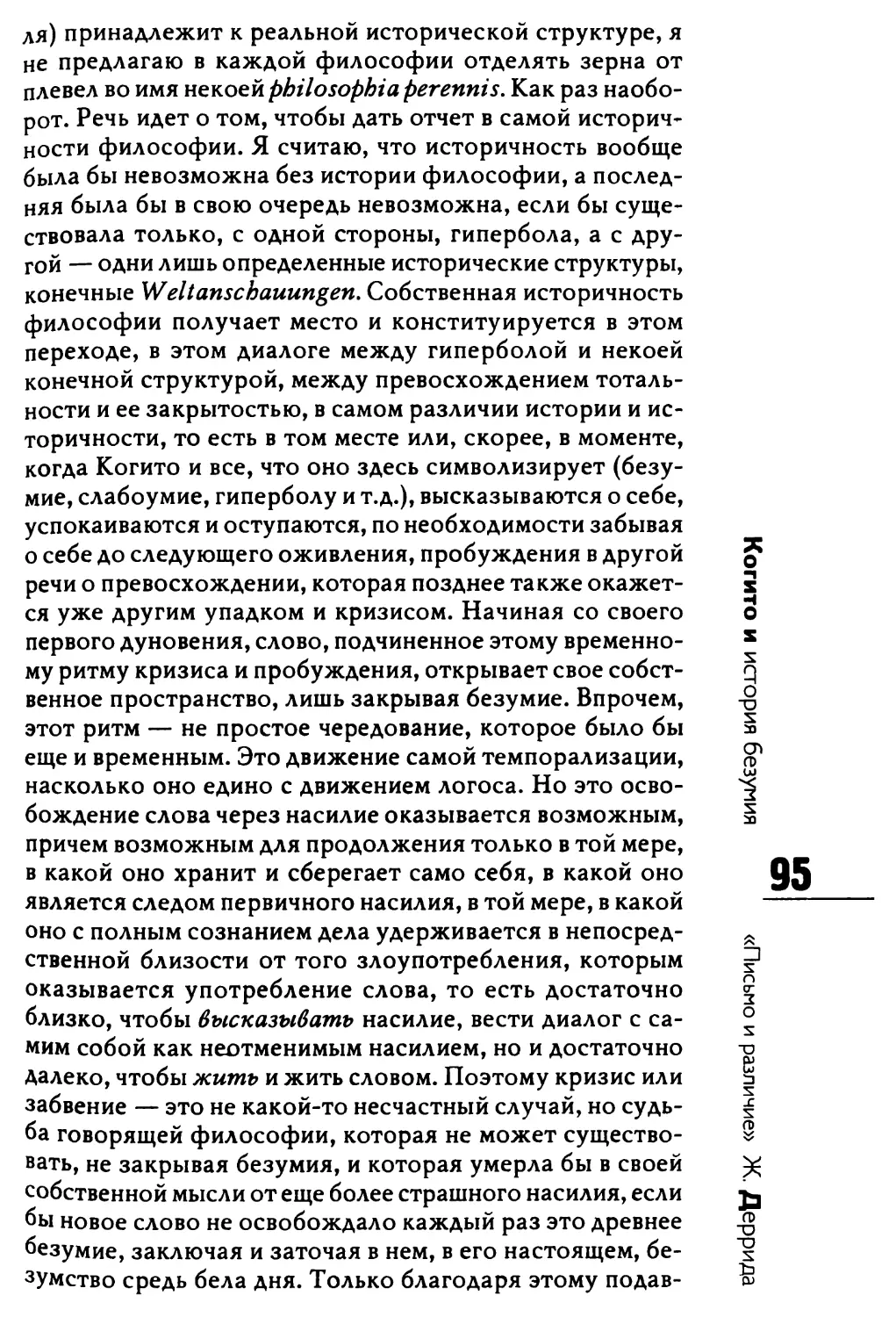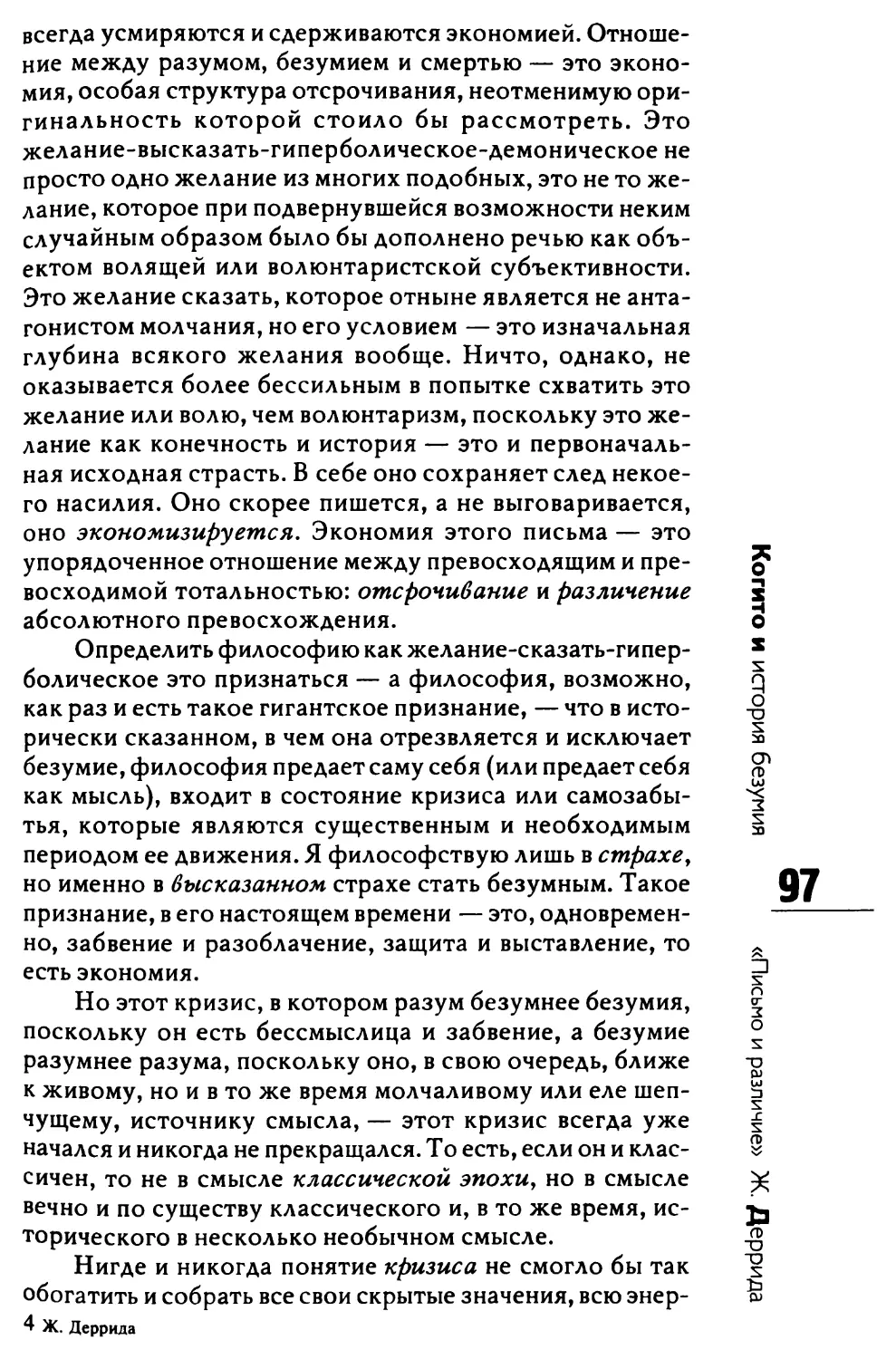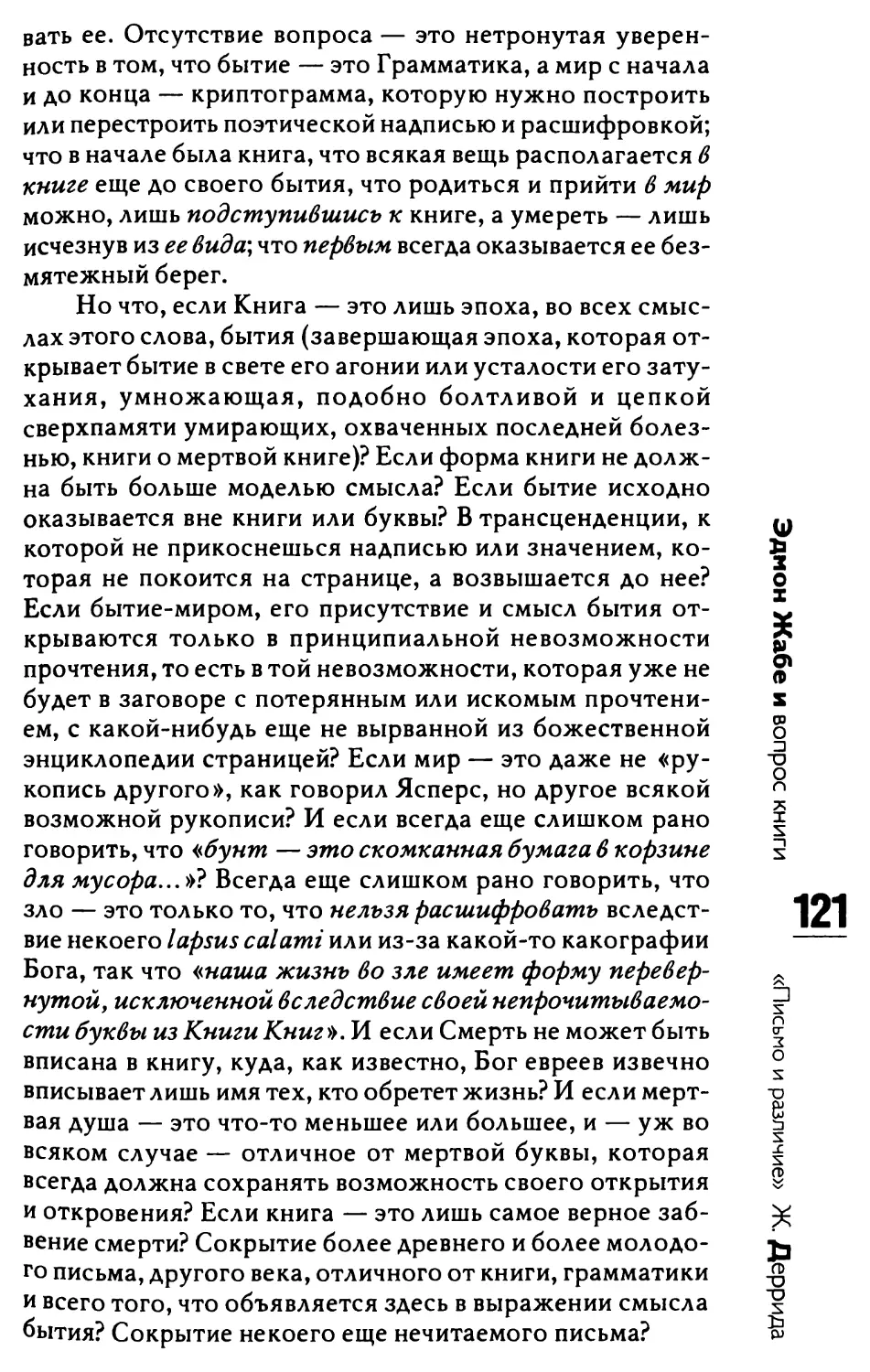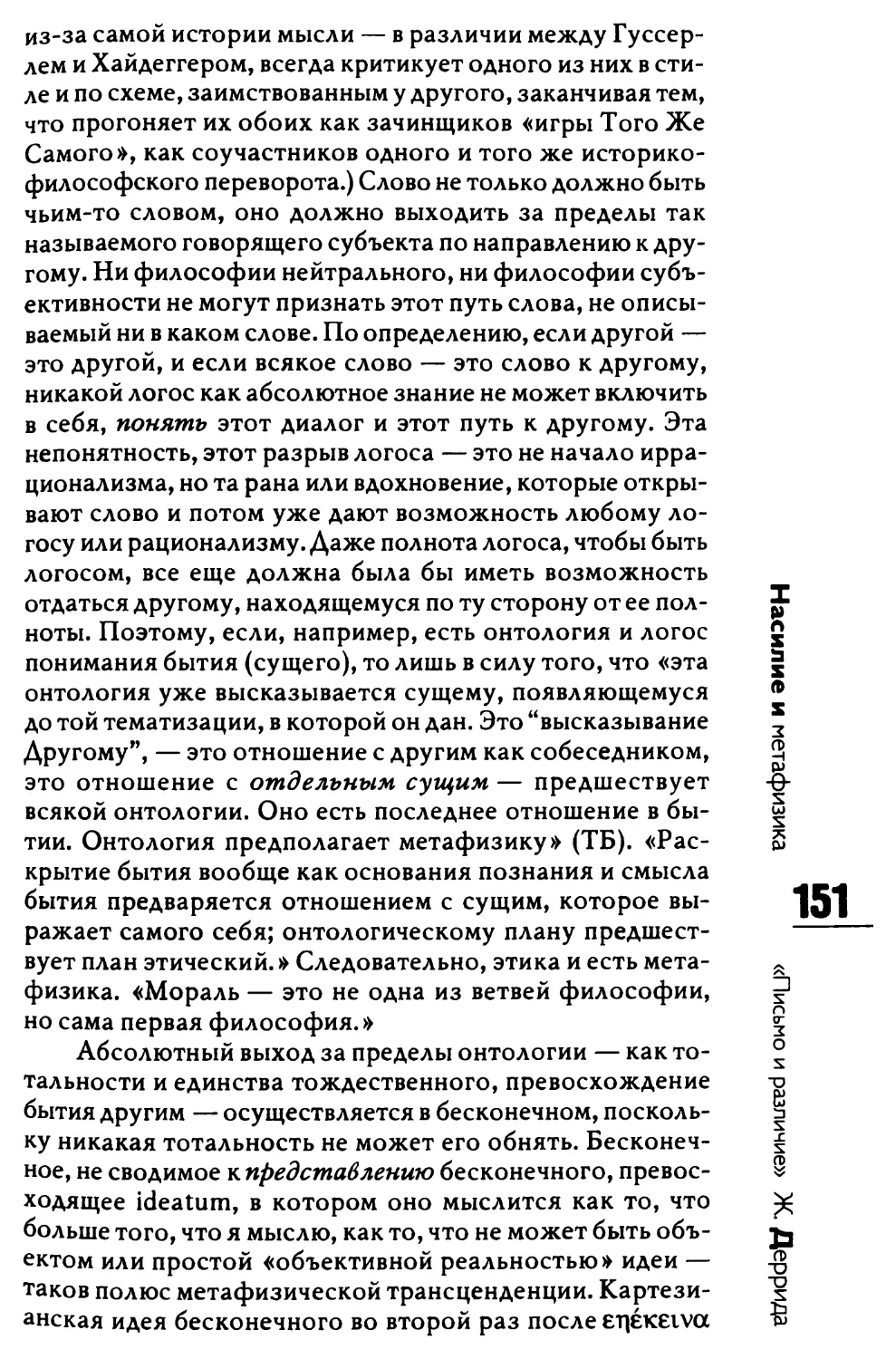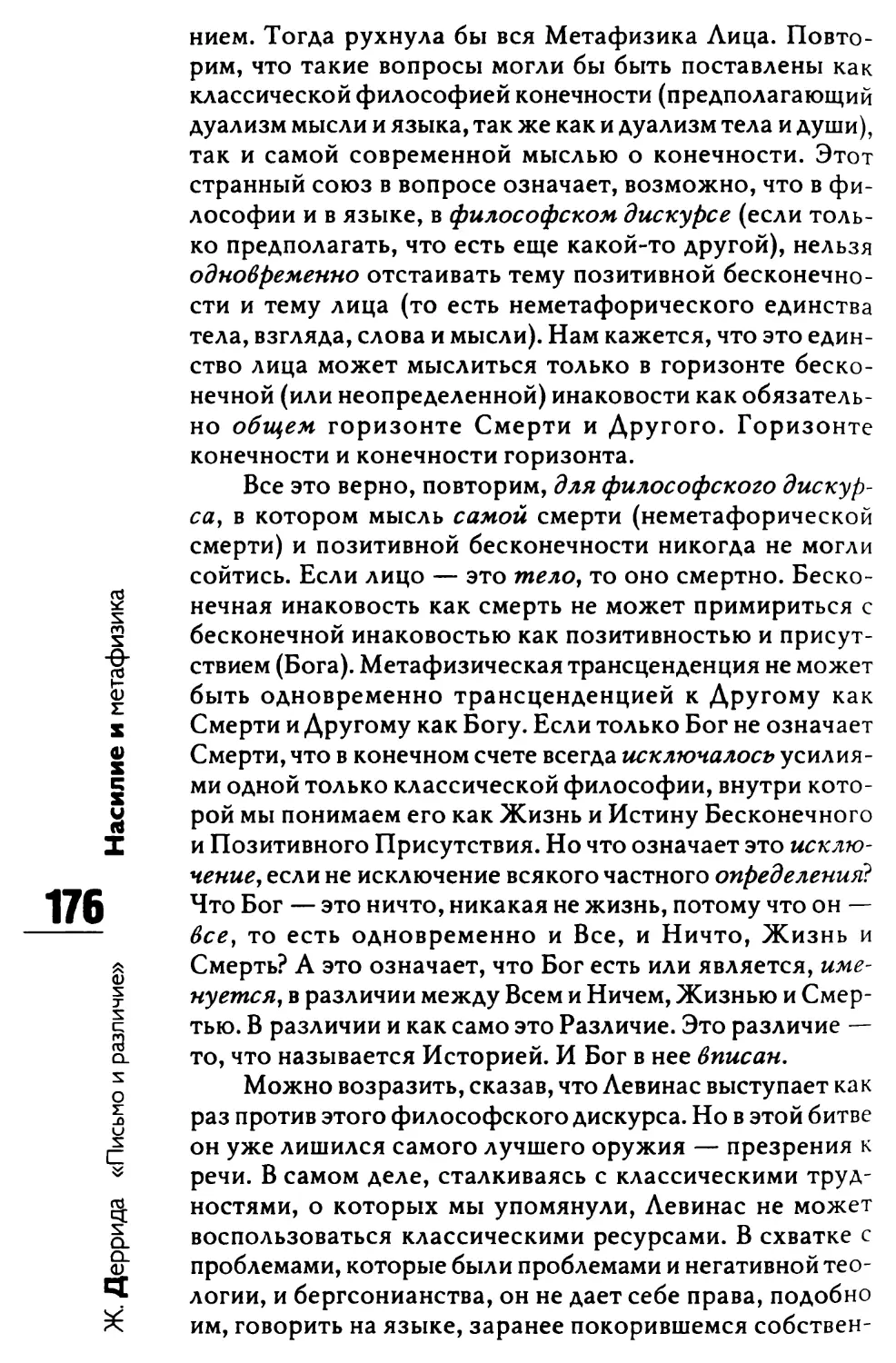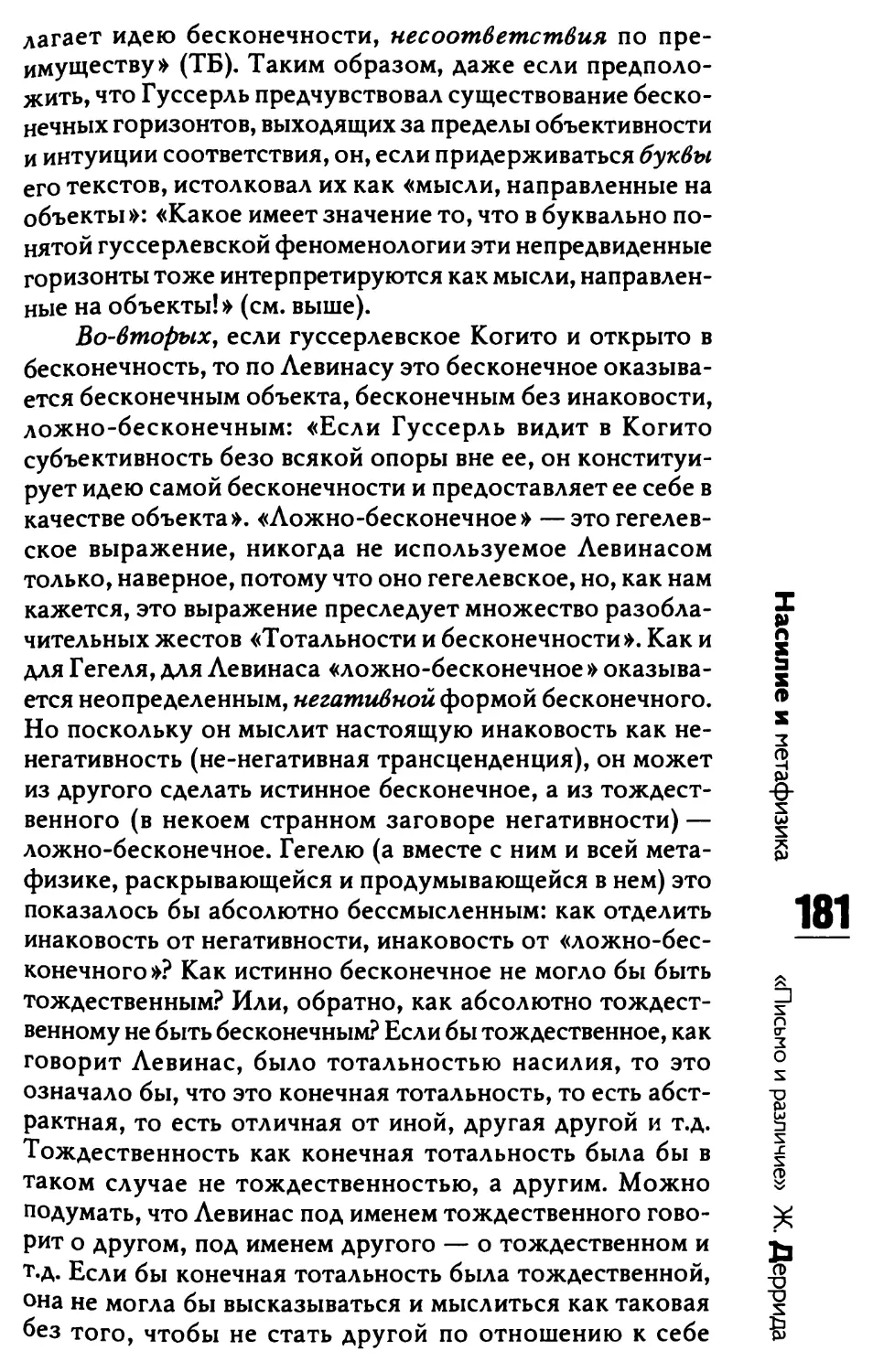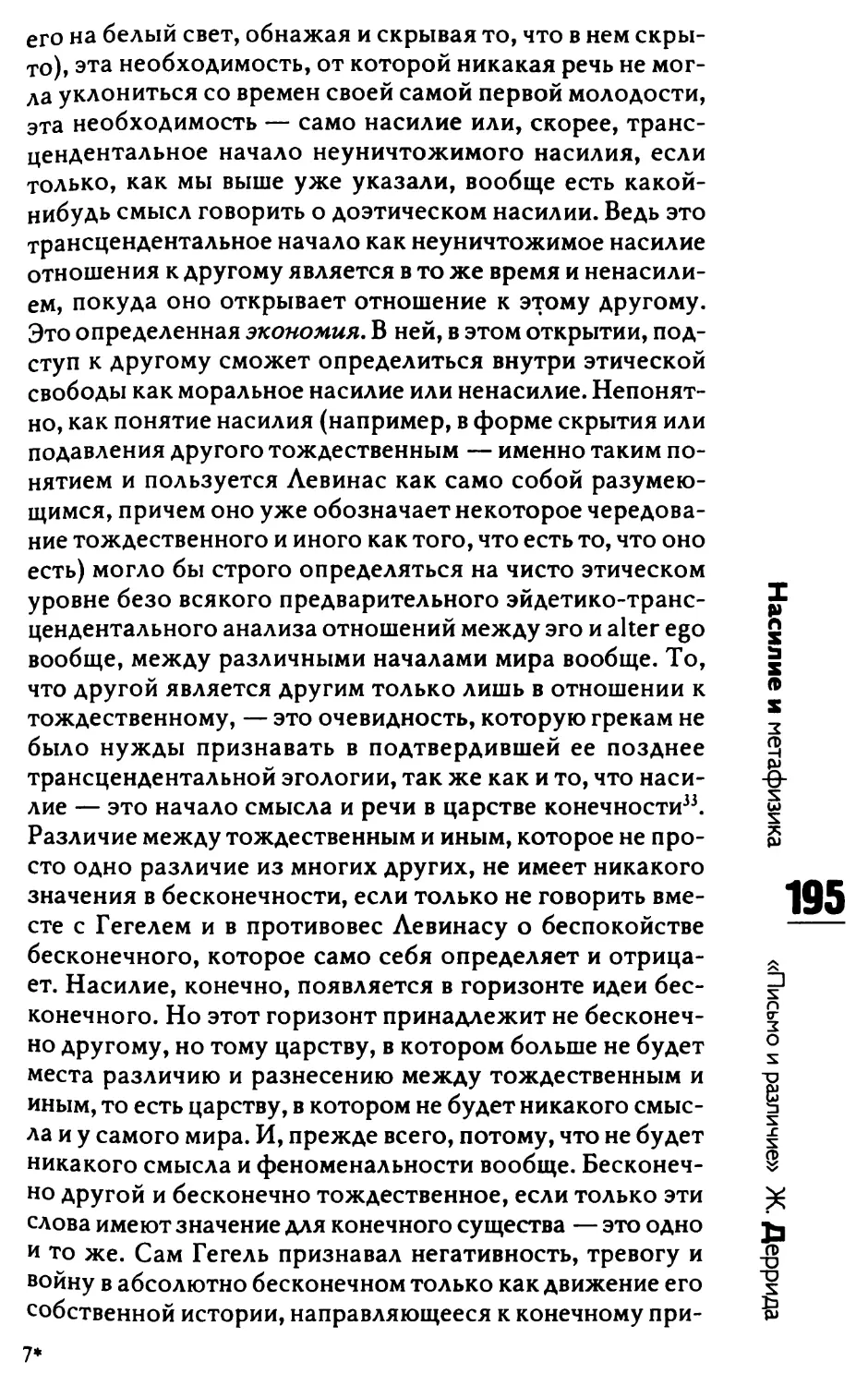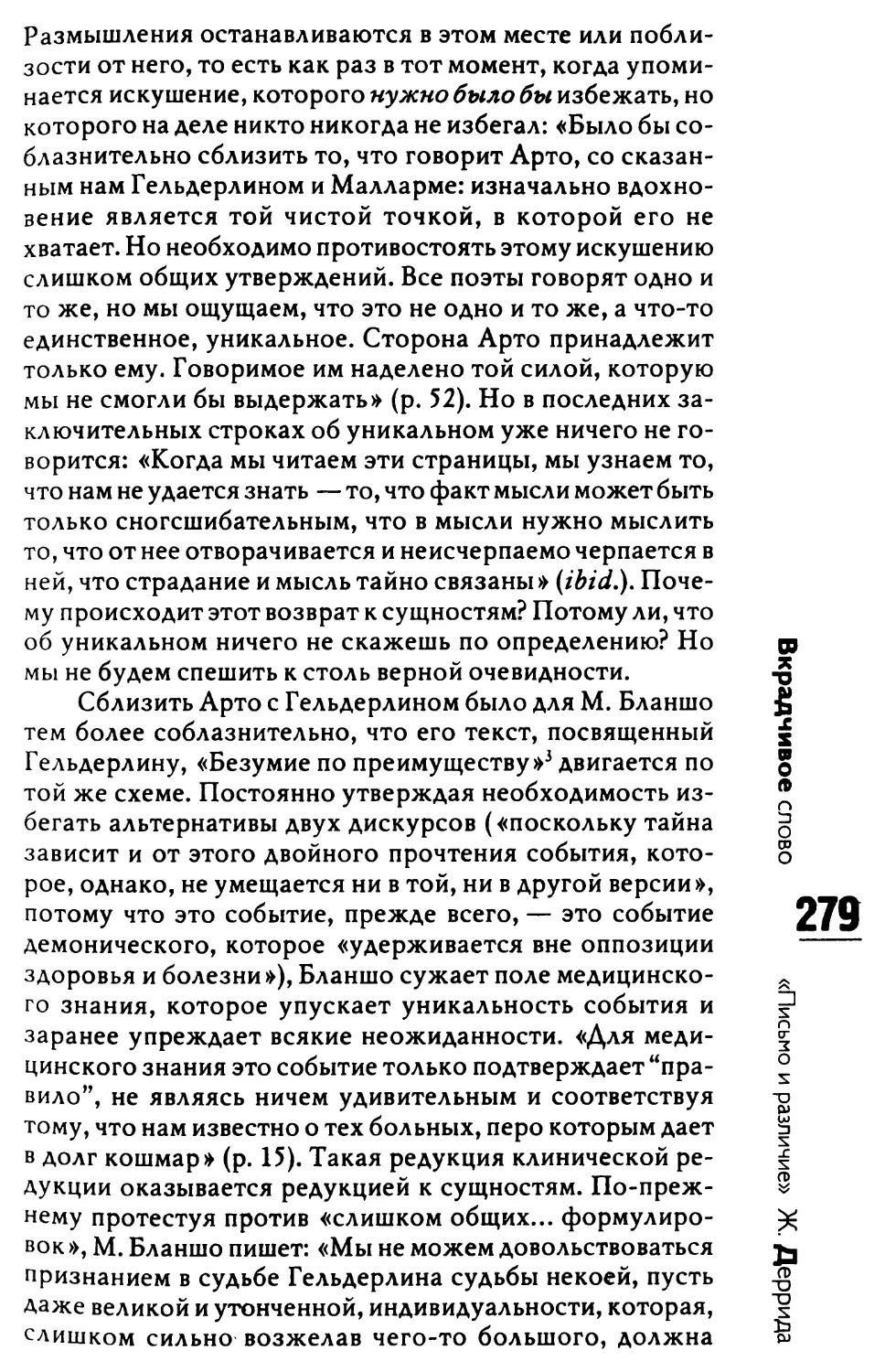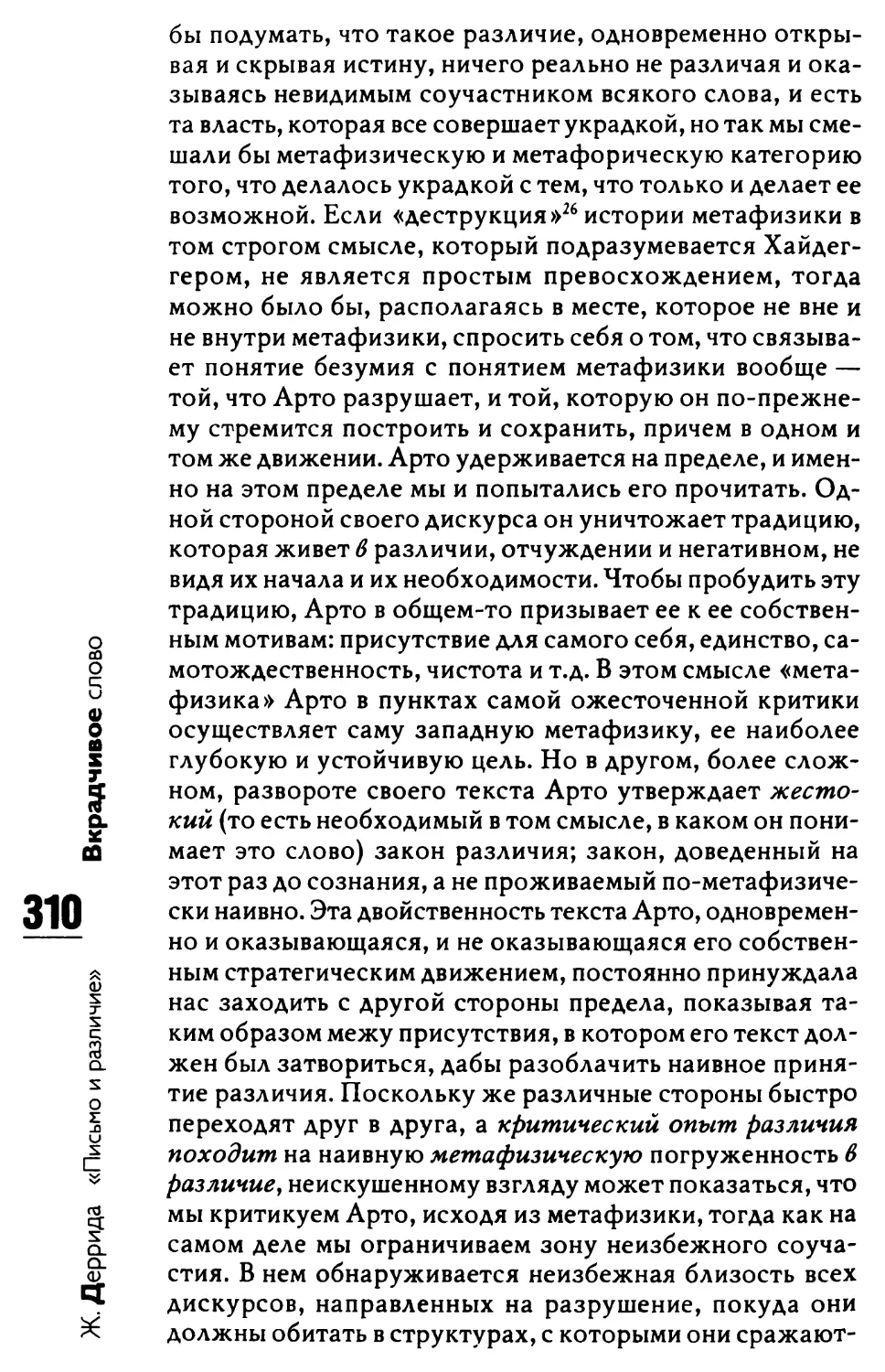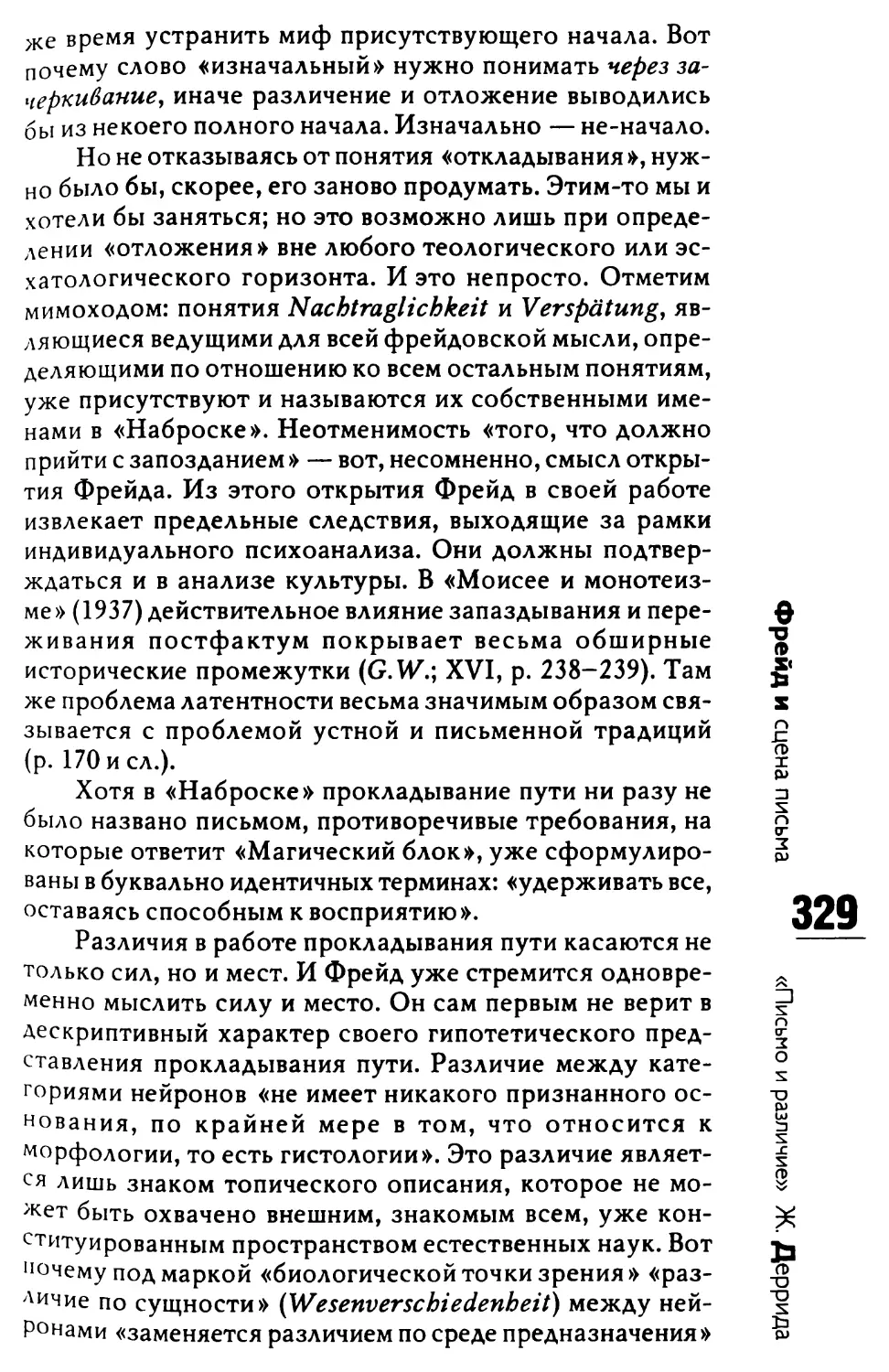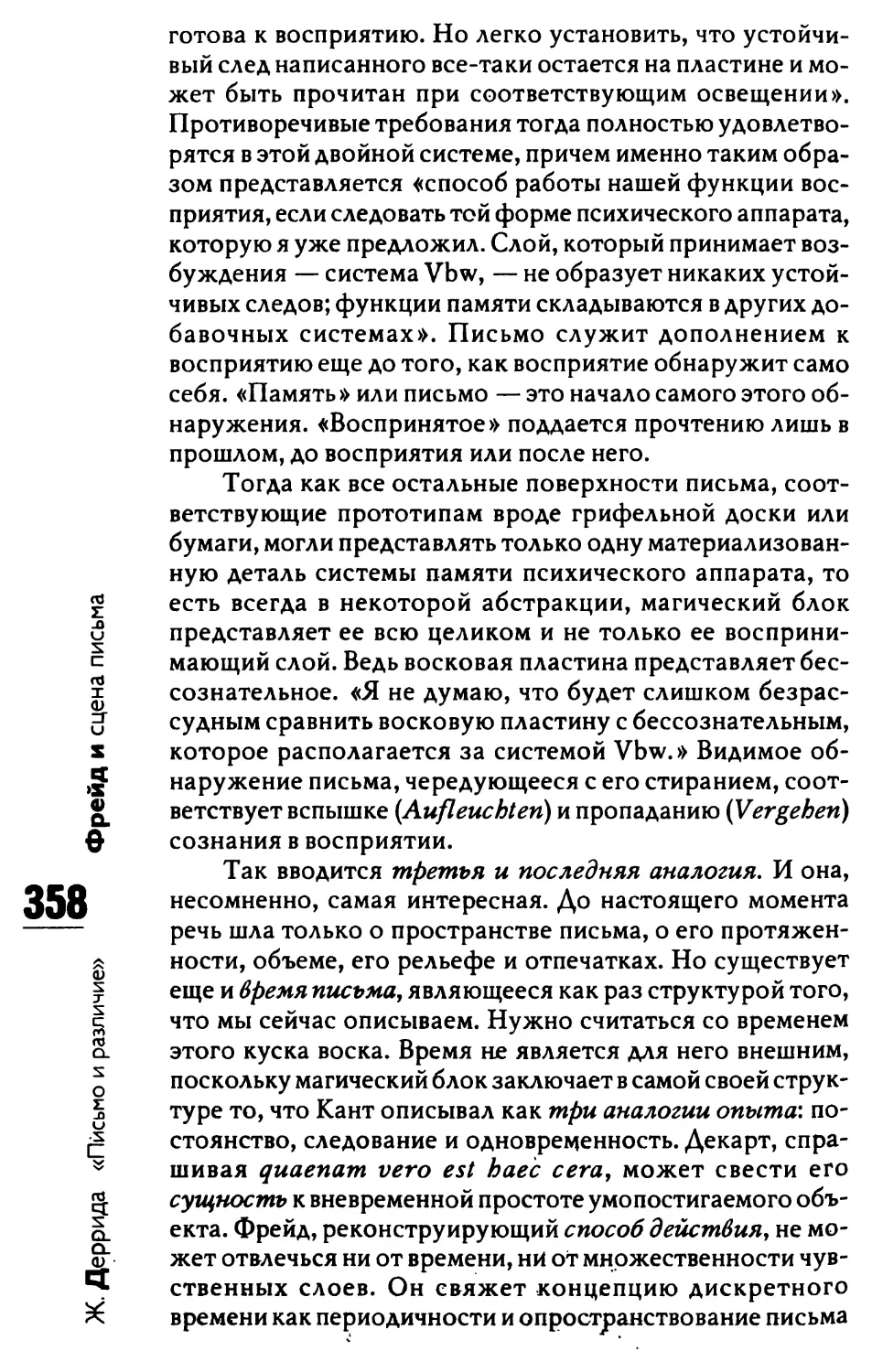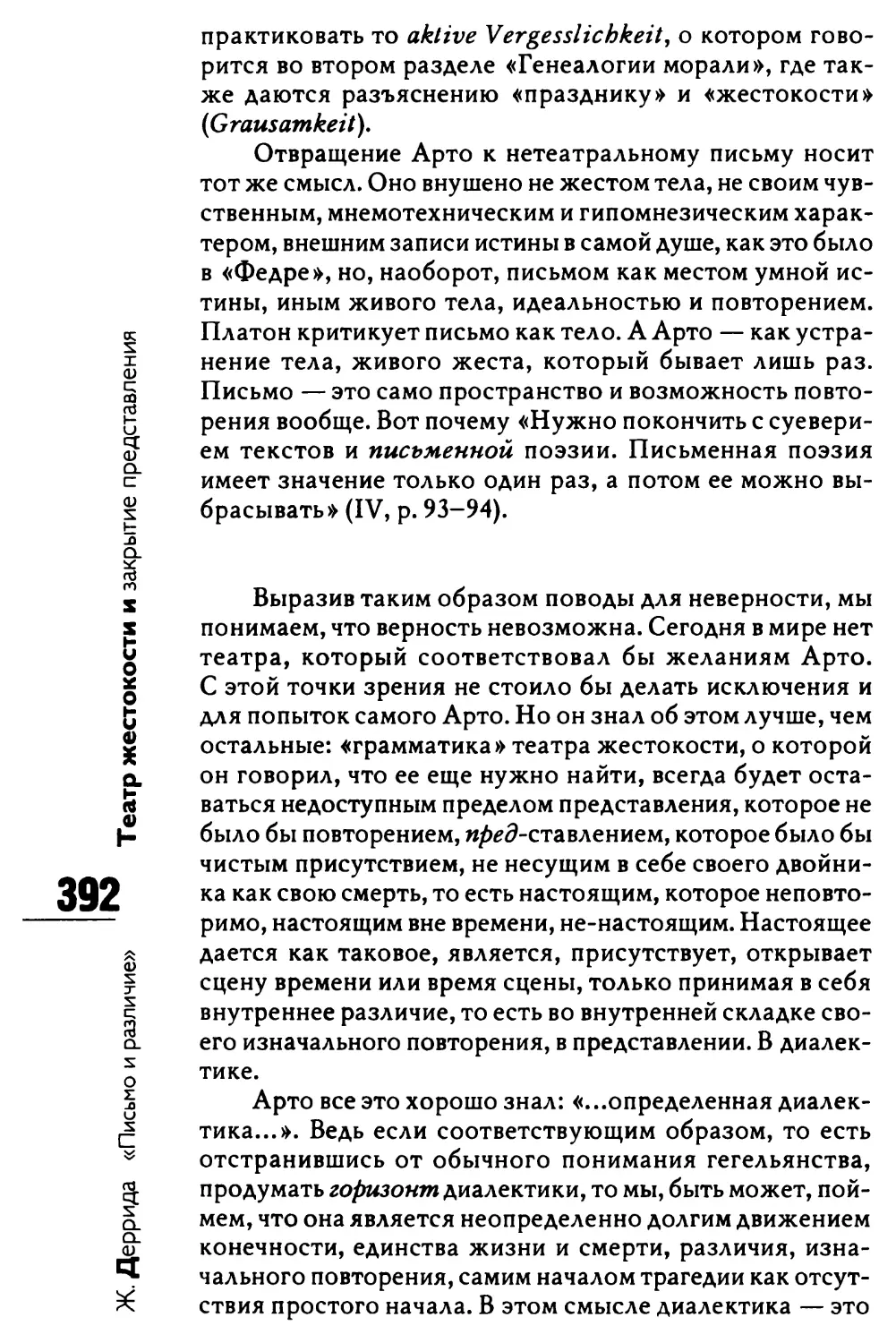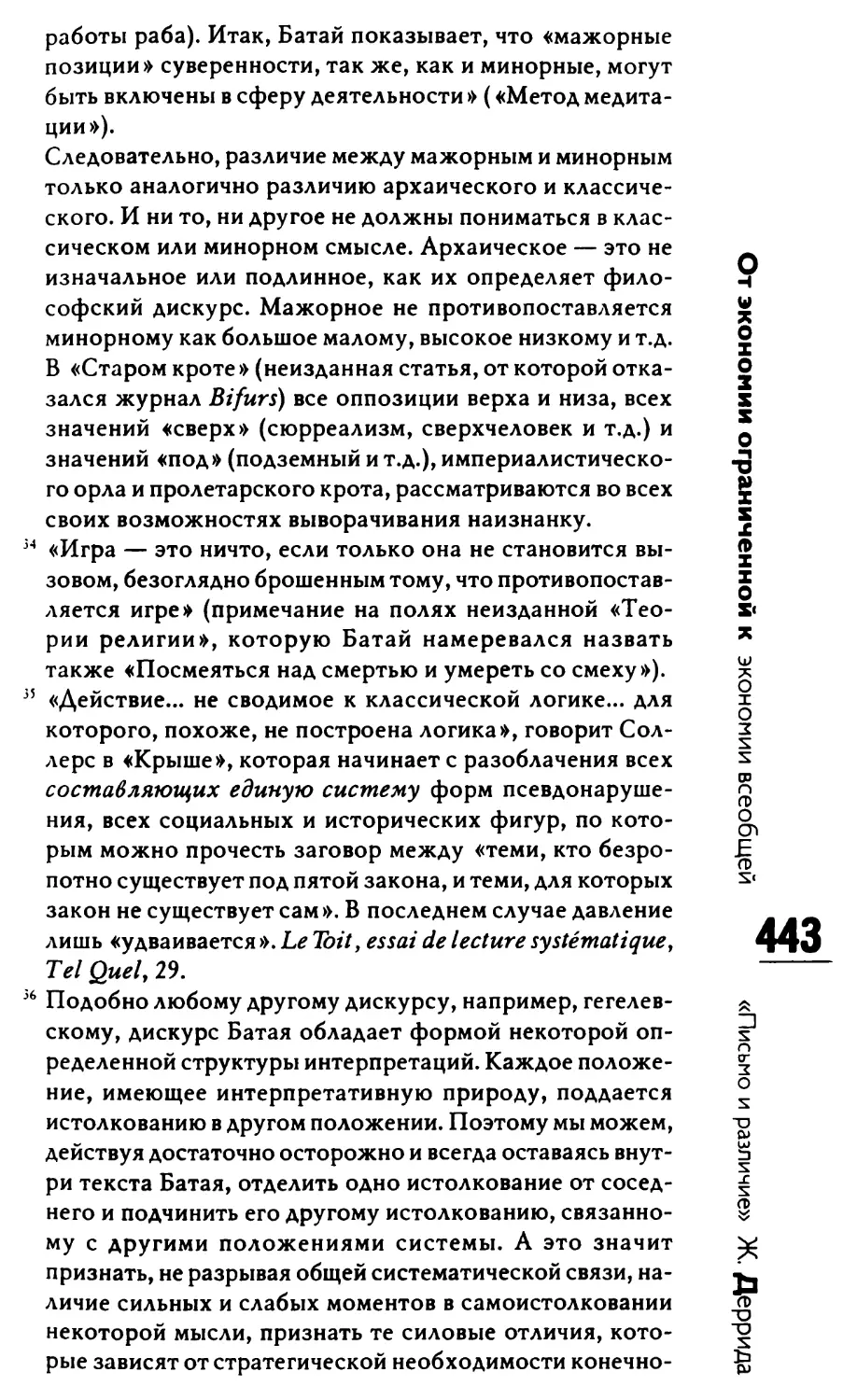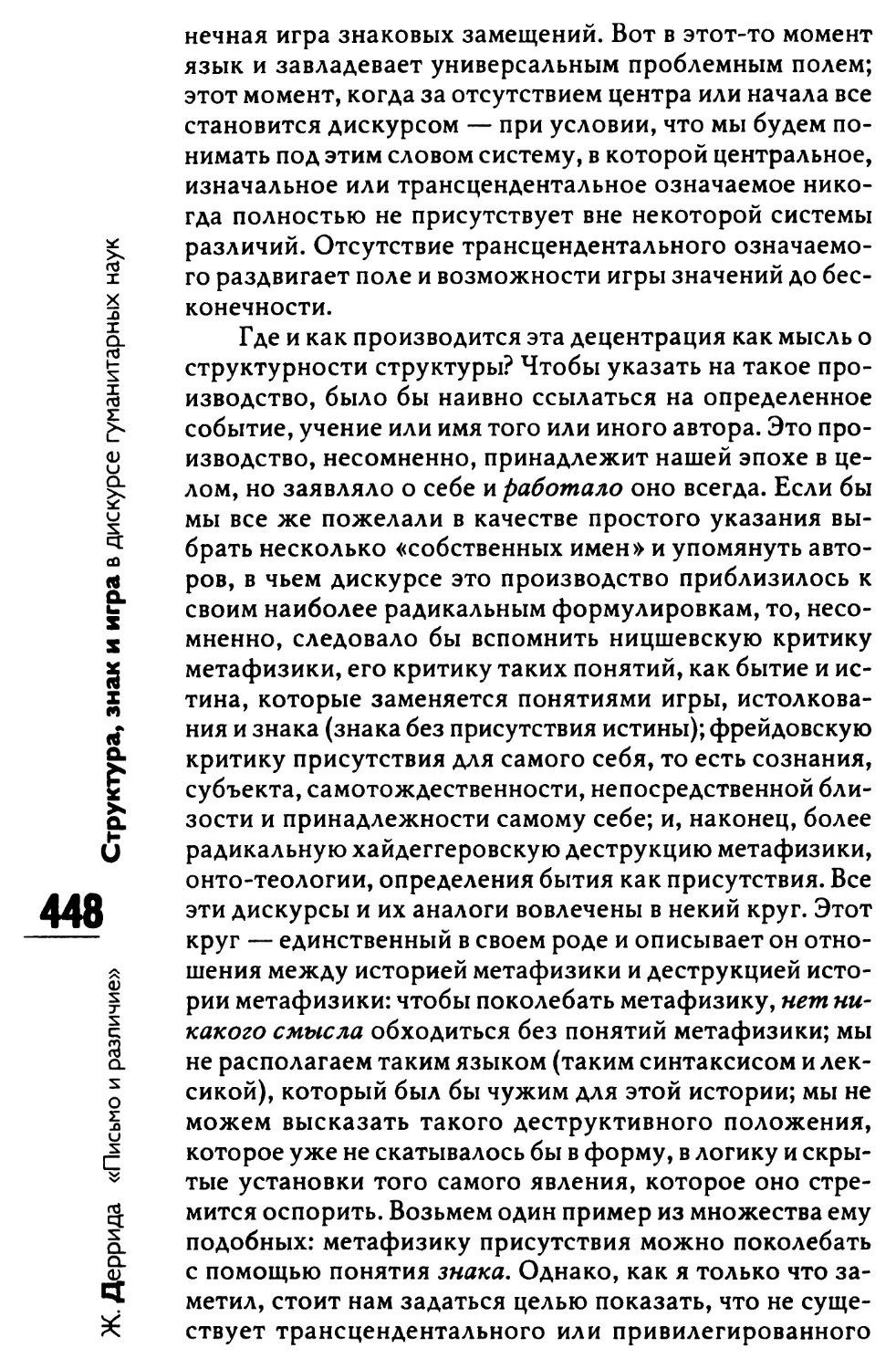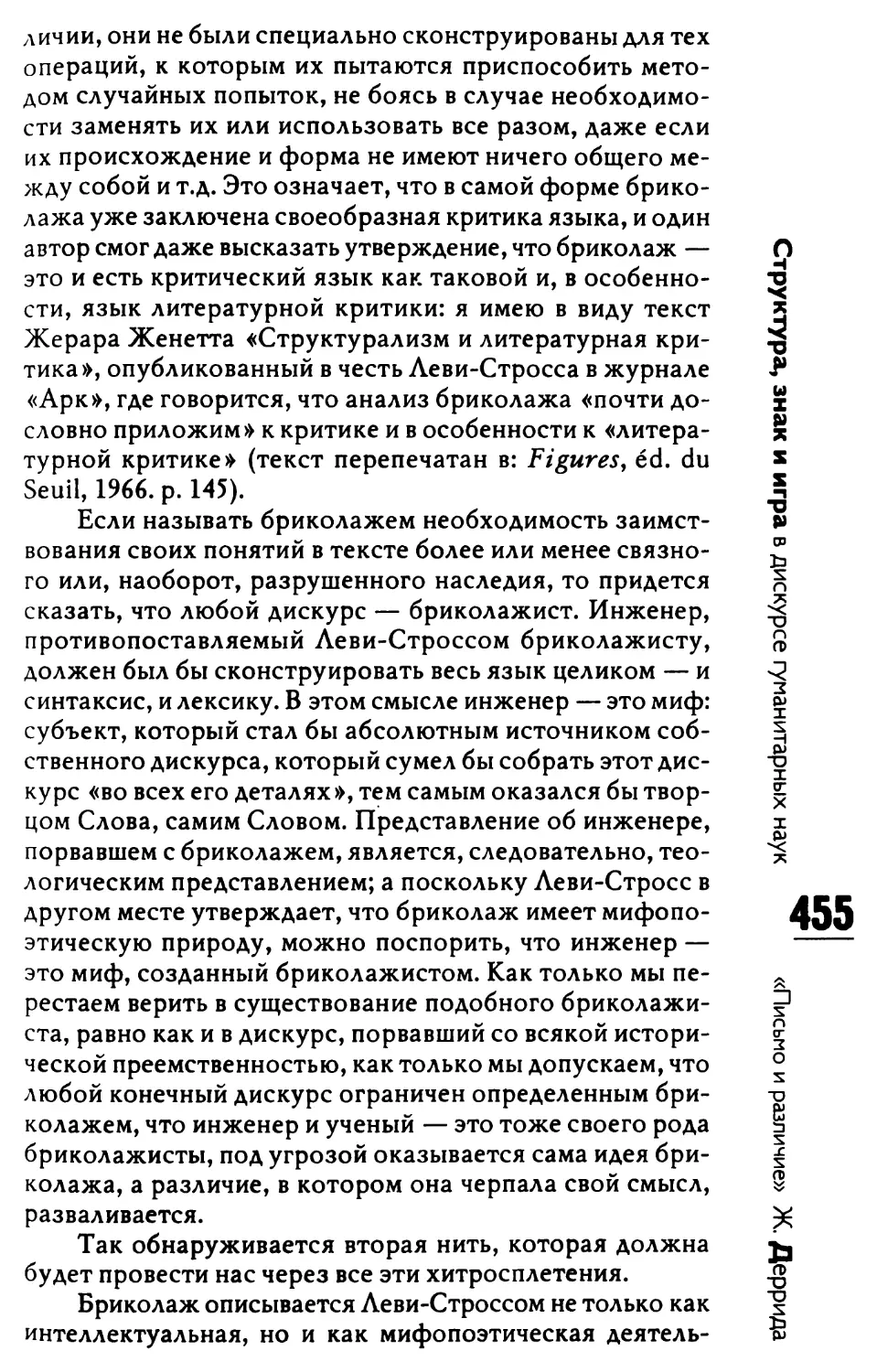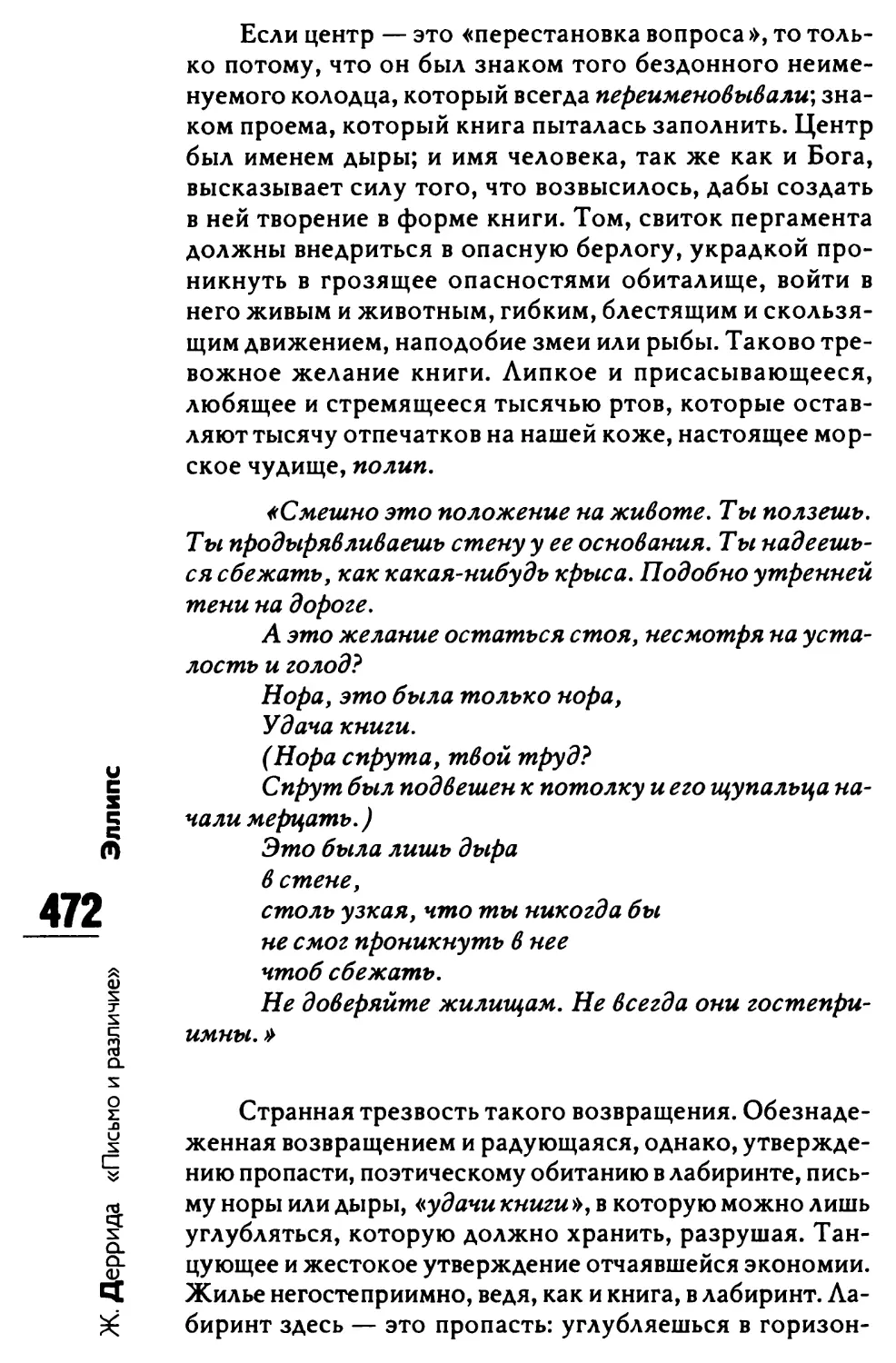Автор: Деррида Ж.
Теги: философия психология постмодерн французская философия академический проект сборник статей по философии
ISBN: 5-8291-0088-6
Год: 2000
Текст
Письмо
и различие
д
Жак
е р р и д а
Письмо
и различие
Академический Проект
Москва
2000
УДК 1/14
ББК87
Д36
Jacques Derrida
L’ECRITURE ET LA DIFFERENCE
1967, Editions du Seuil
Перевод с французского
Д.Ю. Кралечкина
Научный редактор
В.Ю. Кузнецов
Деррида Ж.
Д36 Письмо и различие. М.: Академический Проект,
2000. — 495 с. — («Концепции»)
ISBN 5-8291-0088-6
Один из центральных сборников программных тек-
стов крупнейшего современного мыслителя содержит
экспериментальные статьи, в живом виде представляю-
щие и наглядно демонстрирующие творческую технику
и технологию той философской работы, результаты ко-
торой позднее войдут в книги «Из грамматологии» и
«Диссеминация». Написанные еще до социокультурно-
го и идеологического оформления деконструкции как от-
четливого проекта эти тексты намечают цепочку после-
довательных ходов и становления мысли, очерчивающих
концептуальный поворот, который порождает жаркие
дискуссии на переднем крае философии.
УДК 1/14
ББК87
© Кралечкин Д.Ю., перевод,
послесловие, 2000
© Кузнецов В.Ю., вступительная
статья, 2000
© Академический Проект, ориги-
ISBN 5-8291-0088-6 нал-макет, оформление, 2000
Предисловие
Деррида как
Деррида
Все эти тексты, годящиеся, наверное, быть
предисловием, бесконечным, к другому тексту, ко-
торый я очень хотел бы однажды написать, или еще
эпиграфом к какому-то другому, на который у меня
никогда не наберется смелости...
Жак Деррида
Деррида остается уникальной фигурой, многоликим
персонажем в интерьере современной культуры. Для
кого-то — он культовый и модный идол, для других —
персонифицированное исчадие постмодернистской эро-
зии, для иных — открыватель новых просторов веселой,
вкусной и ясной, напряженной, свободной и сильной
мысли, для кого-то еще — символ нарочито темной и бе-
зумно усложненной современной философии, маскирую-
щей собственный кризис, а есть ведь и прочие, прочие,
прочие... Притом одно не всегда исключает другое, и воз-
можны самые причудливые варианты комбинаций.
Как и всякий сильный и оригинальный мыслитель,
Деррида не только задает свой собственный набор кон-
цептов, словарь, язык и способ говорения, но также ра-
дикально и необратимо изменяет перспективы и ланд-
шафты всей философии (и заодно всего остального).
В своем вечном и отчасти неизбежном стремлении разо-
браться с ним, что-то понять и решить мы оказываемся
перед необходимостью разобраться даже не столько с
собой, сколько с теми, кто уже с ним разбирался. Дерри-
да становится в некотором смысле пробным камнем,
3
Предисловие Деррида как Деррида
своеобразным маркером идентичности для всех тех, кто
разоблачает себя, пытаясь разоблачить его, и кто расска-
зывает о себе, пытаясь рассказать о нем. Пишучи о
Деррида, практически невозможно обойтись без того,
чтобы не попасть в резко поляризованное, заранее рас-
черченное и расписанное поле, размеченное непримири-
мыми критиками, беззаветными апологетами и остальны-
ми, которые его в упор не видят и видеть не хотят или
совершенно искренне не замечают.
Уверенность Деррида если не в успехе, то в дейст-
венности своей — пусть даже бесконечной — работы
вполне достойна спокойствия утверждающих невозмож-
ность любых утверждений о Деррида. Текстуально-кон-
цептуальные игры с перформативными высказываниями
тут не менее, хотя и не более оправданы, чем отчужден-
но отстраненный «академический» стиль. При этом лю-
бая попытка уклониться от предписанных траекторий
подвергается в силу инерции мысли и восприятия неодо-
лимому нажиму, вдавливающему в одну колею, в один
аттрактор из двух предлагаемых. Сдвиг от стремления все
охватить и упаковать к самой по себе упаковке как про-
цессу и результату остается упаковывающим, подобно все
поглощающему и все переваривающему исследователь-
скому пафосу. Так что эскапады Деррида образуют
своего рода завесу, скрывающую и открывающую, или за-
навес, непосредственно предстающий взгляду и обрам-
ляющий действие. Занавес, в котором можно запутаться
и который прячет каждого, проходящего сквозь него.
Превозмочь Деррида (даже если ставить задачу именно
таким, по-своему традиционным, образом) — это не мо-
жет означать: просто подвергнуть поспешной деконст-
рукции саму деконструкцию, ведь в таком случае сам этот
акт будет навязчиво воспроизводить все тот же жест
философско-метафизического самопреодоления, ставя-
щий под вопрос саму возможность вопрошания...
Что же представляют собой тексты Деррида — изы-
сканное и тонкое издевательство над читателем, здравым
смыслом, традицией и господствующими представления-
ми, ниспровержение общепринятых ценностей, парази-
тирование на классических текстах и социокультурном
контексте, разрешение на самовольное самодурство, от-
брасывание и забвение преодоленной метафизики или же
серьезное и трудное обсуждение принципиальных и фун-
даментальных проблем и вопросов, кропотливая работа
мысли по выслеживанию незаметных и неуловимых сил,
воплощение настойчивого и неутолимого стремления к
правде? Открытым оказывается вопрос о достойном от-
вете на этот провокационно-провокативный вызов.
французский мыслитель Жак Деррида родился в
Алжире в 1930 году (в том же году, кстати, родился и
Мераб Мамардашвили). В 1967 году выходит целая серия
его центральных программных работ — «Письмо и раз-
личие», «Из грамматологии», «Голос и феномен». Это
был год, когда в Греции захватили власть «черные пол-
ковники», когда началась гражданская война в Нигерии,
когда было создано Европейское сообщество, когда в
ходе Шестидневной войны Израиль захватил значитель-
ные территории, когда в ЮАР была осуществлена пер-
вая в мире успешная пересадка сердца, а в США прошли
массовые протесты против войны во Вьетнаме; это был
год смерти Конрада Аденауэра, Рене Магритта, Роберта
Оппенгеймера и Ильи Эренбурга, год гибели Эрнесто Че
Гевары и советского космонавта В. Комарова. Годом
раньше появляются из печати «Слова и вещи» Мишеля
Фуко, «Письмо» Жака Лакана, «Радикальное богосло-
вие и смерть Бога» Альтицера и Гамильтона, «Материя в
ее единстве, бесконечности и развитии» С. Т. Мелюхина;
годом позже — «Различие и повторение» Жиля Делеза,
«Общая теория систем» Людвига фон Берталанфи,
«Фальсификация и методология научно-исследователь-
ских программ » Имре Лакатоса, «Знание и человеческие
интересы» Юргена Хабермаса, «Учения дона Хуана» Кар-
лоса Кастанеды, «Формы и содержание мышления» Ме-
раба Мамардашвили. И в этом разноплановом и разно-
стильном контексте книги Деррида прозвучали тихой и
отчетливой мелодией в необычной тональности, вызы-
вающей все больший и больший резонанс.
Самый известный и знаменитый, наиболее часто ци-
тируемый из всех ныне здравствующих философов мира,
Деррида так и не стал, однако, профессором Сорбонны.
Большинство его последователей — литературоведы. Ха-
рактерно, вместе с тем, что критики предпочитают обра-
щать свои саркастические вопросы и предъявлять прин-
ципиальные аргументы прежде всего эпигонам Деррида,
а вовсе не самому мэтру. В 1983 году Деррида становится
учредителем специального, свободного и независимого
учебного заведения — Международного философского
колледжа, где и преподает до сих пор.
Деррида как Деррида Предисловие
Проект Деррида, не предполагающий создания ка-
кой-либо всеобъемлющей концепции или даже философ-
ского направления, постоянно ускользает от жесткой
определенности, как и сам его создатель. Называемый
деконструкцией, грамматологией или же критикой архео-
онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризма, он вовсе не
исчерпывается собственным именем. В какой степени мы
можем полагаться на собственные заявления Деррида, на
его самоописания и перформативные саморефлексии?
А ведь не в большей степени можно полагаться в такой
ситуации на собственные неотрефлексированные, прини-
маемые по умолчанию представления. Должны ли мы по-
нимать его буквально, дословно? Или, наоборот, излиш-
ними будут как раз поиски каких-то еще скрытых
смыслов? Допустим, он говорит нечто, чтобы мы думали,
что он хочет сказать совсем другое, имея при этом в виду
еще нечто третье и демонстрируя своим говорением
опять-таки четвертое; но он говорит, что вообще не хо-
чет ничего сказать... И мы уже, будучи застигнутыми
врасплох, рискуем оказаться воленс-неволенс вовлечен-
ными тем или иным образом в этот вихрь различений, рис-
куем увязнуть в этой бесконечной сети отсылок.
«Письмо и различие» стоит у истоков упрямой гиб-
кости постоянно изменяющейся и вместе с тем остающей-
ся неизменной стратегии Деррида, вписываясь в «Грам-
матологию» и/или вписывая ее в себя, прочитывая чужие
тексты и прочитываясь сквозь них. Возможно, именно
здесь скрывается тайна его философии, если, конечно,
она есть и если она может скрываться... Перевод предос-
тавляет обманчиво легкую возможность и невыполнимо
тяжелую задачу открыть, воспроизвести и исполнить
Деррида, упростить и усложнить его текст.
Почитаем...
Василий Кузнецов
письмо
и
РАЗЛИЧИЕ
И во всем только одно новшество —
разбивка чтения Малларме.
Предисловие к «Броску костей *
Сила и значение
Быть может, все мы со времен Софокла —
дикари в татуировках. Но в искусстве есть еще что-
то другое, кроме прямоты линий и гладкости по-
верхностей. Пластика стиля не достигает полноты
мысли... У нас слишком много вещей и недостаточ-
но форм.
Флобер,
«Предисловие к жизни писателя»
Структуралистское нашествие стало бы особым
вопросом для историка идей, если бы однажды оно от-
ступило, оставляя на отмелях нашей культуры свои тво-
рения и знаки. Может быть, оно стало бы для него неким
объектом. Но историк ошибся бы, подходя к нему таким
образом: тем же жестом — представляющим это наше-
ствие как объект — он забыл бы его смысл и тот факт,
что речь-то, во-первых, шла об особом приключении
взгляда, о преобразовании способа задавать вопросы
любому объекту. И, в особенности, объектам историка.
А среди них — этому столь странному объекту, каковым
является литература.
Возьмем аналогию: если сегодня во всех своих об-
ластях, на всех путях и несмотря на все различия, реф-
лексия в своей целокупности захватывается особым дви-
жением обеспокоенности языком, — которая может быть
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
лишь обеспокоенностью языка и в языке, — то в этом как
раз и заключено странное согласие, природа которого в
том, что согласие это не может предстать во всей своей
полноте на обозрение историку, если бы даже он и попы-
тался увидеть в таком согласии признак некоей эпохи,
модное увлечение или же симптом кризиса. Как бы ни
были бедны наши познания в этом отношении, очевидно,
что вопрос о знаке сам по себе больше или меньше, неже-
ли знак или знамение времени, во всяком случае он нечто
совсем иное. Мечтать о сведении этого вопроса к такому
знамению — это мечтать о насилии. В особенности, ко-
гда этот исторический, в некотором странном смысле, во-
прос приближается к точке, где обычная знаковая при-
рода языка кажется весьма неочевидной, частной или
несущественной. С нами легко согласятся, что аналогия
между структуралистским наваждением и обеспокоенно-
стью языком неслучайна. Никогда, следовательно, не бу-
дет возможным, пусть даже в какой-нибудь рефлексии
второго или третьего порядка, подчинить структурализм
XX века (и в особенности структурализм литературной
критики, которая, недолго думая, присоединяется к об-
щему согласию) той задаче, которую поставил себе один
структуралистский критик в отношении XIX века: внести
вклад «в будущую историю воображения и чувствитель-
ности»1 . Также маловероятно и сведение чарующей силы,
которая обитает в понятии структуры, к особому фено-
мену моды2, если только не продумать заново и не при-
нять всерьез смысл воображения, чувствительности и
моды, что, несомненно, наиболее необходимо в данный
момент. Во всяком случае, если что-то в структурализме
рождается из воображения, чувствительности или моды
в обыденном значении этих слов, это никогда не будет в
нем существенным. Структуралистская позиция и наше
положение перед языком и внутри языка — не только мо-
менты истории. Скорее уж, удивление языком как нача-
лом истории. Удивление самой историчностью. Но это и
располагающееся перед возможностью слова и всегда уже
в нем наконец-то признанное и распространенное до мас-
штабов мировой культуры повторение того несоизмери-
мого с любым другим удивления, которым было пораже-
но то, что называют западной мыслью, то есть мысль, вся
судьба которой заключена в распространении своего вла-
дычества по мере того, как сам Запад его теряет. В соот-
ветствии со своим наиболее глубоким намерением струк-
турализм, подобно любому иному вопрошанию о языке,
уходит, таким образом, от классической истории идей,
которая уже предполагает его возможность, наивно при-
надлежа к сфере вопрошаемого и высказываясь в ней.
В то же время, обладая особой неустранимой зоной
неотрефлексированности и спонтанности, значимой те-
нью невысказанного, феномен структурализма заслужит
того, чтобы его рассмотрел историк идей. Причем неваж-
но, хорошим или плохим будет это рассмотрение. Этого
рассмотрения заслужит все то, что непрозрачно внутри
самого вопроса, все то, что в эффективности метода про-
исходит из безошибочности, которой наделяют лунати-
ков и которую некогда приписывали инстинкту, о кото-
ром сказано, что он действует тем вернее, чем более он
слеп. Не самое малое достоинство гуманитарной науки, \ /
названной историей, заключается в том, что именно она
в действиях и институтах человека затрагивает огромную г
область сомнамбулизма, то почти-все, которое не есть
чистое бдение, молчаливая и бесплодная четкость само-
го вопроса, почти-ничто.
Раз мы живем самой этой структуралистской плодо-
витостью, нам слишком рано подгонять нашу мечту. Нуж-
но подумать в ней о том, что бы она могла значить. Быть
может, завтра ее поймут как некое расслабление, если не
промах, во внимании к силе, которое есть напряжение
самой этой силы. Форма соблазняет, когда нет больше сил
понимать силу изнутри ее самой. То есть творить. Вот
почему литературная критика во всякую эпоху по своей
сущности и назначению оказывается структуралистской.
Раньше она этого не знала, но понимает теперь, проду-
мывает саму себя в своем понятии, системе и методе. От-
ныне она знает, что она отделена от силы, которой она
порой мстит, показывая со всей строгостью и глубиной,
что такое отделение является условием самого произве-
дения, а не только дискурса о произведении3. Так мы объ-
ясняем себе это глубокомысленное замечание, этот
меланхолический пафос, угадываемый сквозь триумфаль-
ные крики технической изощренности или математиче-
ской тонкости, которые порой сопровождают исследо-
вания, названные «структурными». Как и меланхолия у
Жида, они возможны лишь после некоторого поражения
силы, в движении какого-то разочарованного рвения. И в
этом пункте структуралистское сознание оказывается
просто сознанием как мыслью о прошлом, то есть, я хочу
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
сказать, о факте. Рефлексией завершенного, конституи-
рованного, сконструированного. Историческим, суме-
речным сознанием или осознанием конца света — в зави-
симости от ситуации.
Но в структуре есть не только форма, отношение и
конфигурация. Есть и связность, тотальность, которая
всегда конкретна. В литературной критике, по выраже-
нию Ж.-П. Ришара, структурная «перспектива» являет-
ся «вопрошающей и тотальной»4. Сила нашей слабости в
том, что немощь отделяет, отстраняет, освобождает. По-
этому лучше воспринимается тотальность, становятся
возможными панорама и панорография. Панорограф, об-
раз структуралистского инструмента, был изобретен в
1824 году, чтобы, согласно Литре, «непосредственно по-
лучать на плоской поверхности развертку перспективно-
го вида объектов, выстраивающихся по направлению к го-
ризонту». Благодаря схематизму и более или менее
признанной редукции к пространственному, мы свобод-
нее, в плане, осматриваем поле, лишенное своих сил. То-
тальность, лишенную своих сил, даже если она является
связью формы и смысла, поскольку речь ведь идет о смыс-
ле, помысленном в форме, а структура — это формаль-
ное единство смысла и формы. Нам скажут, что эта ней-
трализация посредством формы есть вначале акт самого
автора, прежде чем стать таковым критика, и в некото-
рой мере — но именно об этой мере идет речь — это вер-
но. Во всяком случае, проект мышления тотальности се-
годня декларируется легче, причем такой проект сам
ускользает от определенных тотальностей классической
истории. Поскольку он является проектом их превосхо-
ждения. Так, контуры и рисунок лучше видны, когда со-
держание, то есть живая энергия смысла, нейтрализова-
ны. Это подобно архитектуре мертвого или пораженного
города, сведенной к своему остову какой-нибудь природ-
ной или искусственной катастрофой. Не то, чтобы этот
город был просто необитаемым или оставленным: скорее,
это город с приведениями смысла и культуры. Их пресле-
дование, посещения, которые мешают городу снова стать
природой, — это, быть может, общий способ присутст-
вия или отсутствия самой вещи в чистом языке. Чистом
языке, пристанище в котором хотела найти чистая лите-
ратура как объект чистой литературной критики.
Следовательно,, нет ничего парадоксального в том, что
структуралистское сознание оказывается сознанием ка-
тастрофическим, одновременно сломленным и ломаю-
щим, деструктурирующим, каковым является всякое
сознание, — или, по крайне мере, таков момент упадка,
период, свойственный всякому движению сознания.
Структуру замечают в угрожающей ситуации, в мгнове-
ние, когда неотвратимость опасности сосредоточивает
наши взоры на замке свода какого-нибудь института, на
том камне, на котором зиждется и его возможность, и
его хрупкость. В таком случае можно методически под-
вергать структуру опасности, чтобы лучше ее восприни-
мать, воспринимать не только в ее нервюрах, но и в том
потаенном месте, которое не возвышение и не разруше-
ние, а гибкость. Поступать так — это (на латыни) беспо-
коить или побуждать <soucier ou solliciter>. Иначе го-
воря, расшатывать тем сотрясением, которое относится
ко всему (от sollus на древней латыни: все, и от citare: тол-
кать). Структуралистское беспокойство и побуждение,
становясь методическими, внешне создают лишь иллю-
зию технической свободы. В действительности же они
воспроизводят на методическом уровне тревогу и побу-
ждение бытия, историко-метафизическую угрозу осно-
ваниям. Именно в эпохи исторического смещения, когда
мы согнаны с места, развивается сама эта структурали-
стская страсть, которая оказывается одновременно чем-
то вроде экспериментаторского пыла и размножающе-
гося схематизма. Барокко — лишь один тому пример.
Разве по его поводу не говорили о «структурной поэти-
ке», «основанной на риторике»?5 Но и о «взорванной
структуре», «о разъятой поэме, структура которой по-
является в момент взрыва »?6
Свобода, которую обеспечивает нам это критическое
(во всех смыслах этого слова) отвлечение, является, сле-
довательно, побуждением и открытостью к тотальности.
Но что скрывает от нас эта открытость? Причем не ос-
тавляя в стороне или вне поля своего зрения, но в своем
собственном свете? Нельзя не задавать себе этот вопрос,
читая прекрасную книгу Жана Руссе «Форма и значение.
Очерки литературных структур от Корнеля до Клоделя»7.
Наш вопрос — это не реакция против того, что иные на-
зывали «изощренностью», которая, за исключением от-
дельных мест, кажется нам и более внушительной, и бо-
лее продуктивной, нежели в других работах Руссе.
В присутствии этой последовательности блестящих и глу-
боких исследований, предназначенных для иллюстрации
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
определенного метода, для нас речь идет, скорее, о вы-
ражении некоторой глухой тревоги, в той мере, в какой
она не только наша, читательская, но и поскольку она,
как кажется, проходя под языком, операциями и самыми
успешными достижениями этой книги, согласуется с тре-
вогой самого автора.
Руссе, конечно, признает родство и преемственность:
Башляр, Пуле, Шпицер, Реймон, Пикон, Старобинский,
Ришар и т.д. Однако, несмотря на эту семейную атмосфе-
ру, заимствования и многочисленные выражения призна-
тельности, «Форма и значение» кажется нам во многих
отношениях уникальной попыткой.
Во-первых, из-за намеренного отличия. Отличия,
которым Руссе не изолирует себя, устанавливая дистан-
ции, но посредством которого он скрупулезно углубля-
ет общность интенции, выявляя загадки, скрытые под
принятыми и уважаемыми сегодня ценностями, ценностя-
ми без сомнения современными, но и достаточно тради-
ционными, чтобы стать общим местом критики, чтобы,
следовательно, их начали продумывать и подозревать.
Руссе выражает свой замысел в замечательном методо-
логическом введении, которое, несомненно, вместе с вве-
дением к «Воображаемой вселенной Малларме», станет
важной частью рассуждений о методе в литературной
критике. Умножая вводные отсылки, Руссе не затумани-
вает свои предложения, но, напротив, ткет сеть, которая
только уплотняет их оригинальность.
К примеру, если сказать, что в литературном факте
язык един со смыслом, что форма принадлежит содер-
жанию произведения; что, по словам Ж. Пикона, «для со-
временного искусства произведение — не выражение, но
творение »8, — то все эти утверждения отдают свой голос
за весьма двусмысленное понятия формы и выражения.
То же самое относится к понятию воображения, этой силе
опосредования и синтеза между смыслом и буквой, об-
щему корню универсального и сингулярного — так же как
и всех других, подобным же образом разъединенных ин-
станций — к этому темному началу структурных схем,
началу той дружбы между «формой и фоном», которая
делает возможными произведение и доступ к его единст-
ву, то есть к тому воображению, которое на взгляд Кан-
та было уже само по себе искусством, искусством, кото-
рое исходно не различает истинного и прекрасного: ведь
об одном и том же воображении говорят нам, несмотря
на все различия, «Критика чистого разума» и «Критика
способности суждения». Искусство, конечно, но «скры-
тое искусство»9, «которое нельзя представить непосред-
ственному наблюдению»10. «Эстетическую идею можно
назвать необъяснимым представлением воображения
(в свободе его игры) »п. Воображение — это свобода, ко-
торая показывает себя лишь в своих произведениях. По-
следние находятся не в природе, но они и не обитатели
какого-то иного, отличного от нашего мира. «Воображе-
ние (в качестве продуктивной способности познания)
очень могущественно в создании как бы второй природы
из материала, который ей дает действительная приро-
да»12. Вот почему разум не должен быть главной способ-
ностью критика, когда тот подходит к признанию во-
ображения и красоты, «то, что мы называем красивым и
где разум стоит на службе воображения, а не наоборот,
воображение на службе разума»13. Ведь «свобода вооб-
ражения состоит именно в том, что оно схематизирует
без понятия»14. Это загадочное начало произведения как
структуры и неразложимого единства — и как объекта
литературной критики — является, по Канту, «первой
вещью, на которую мы должны обратить наше вни-
мание»15. Также и по Руссе. С первой страницы он свя-
зывает все еще недостаточно исследованную «природу
литературного факта» с «ролью в искусстве этой осно-
вополагающей функции, воображения», по поводу кото-
рого «изобилуют неочевидные и прямо противополож-
ные мнения». Это понятие воображения, производящего
метафору — то есть производящего вообще все, что есть
в языке, кроме глагола быть, — остается для критиков
тем, что отдельные философы называют теперь наивно
используемым инструментальным понятием. Преодо-
леть это техническое простодушие — значит продумать
инструментальное понятие как тематическое. Кажется,
что именно в этом заключается один из проектов Руссе.
Чтобы как можно ближе подойти к действию твор-
ческого воображения, нужно повернуться к невидимо-
му внутреннему пространству поэтической свободы. Сна-
чала нужно отделиться от слепого начала произведения,
чтобы затем встретить его в его ночи. Этот опыт обра-
щения, который учреждает литературный акт (чтение и
письмо), таков, что сами выражения «отделения» и «из-
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
гнания», указывающие всегда на разрыв и движение
внутри мира, не могут прямо его открыть, но лишь обо-
значают его посредством метафоры, генеалогия которой
сама по себе заслуживала бы отдельного размышления.
Ведь здесь речь идет о выходе за мир, к месту, которое
не является ни не-местом, ни другим миром, ни утопи-
ей, ни алиби. О творении «вселенной, которая прибав-
ляется к вселенной», по выражению Фосильона, кото-
рое цитирует Руссе (р. 11) и которое показывает лишь
некоторое преодоление всего, то существенное ничто,
исходя из которого все может появиться и произвестись
в языке и о котором голос М. Бланшо с настоятельно-
стью глубокого прозрения напоминает нам, что оно и
есть сама возможность письма и литературного вдохно-
вения. Только чистое отсутствие — не отсутствие того
или этого, но чистое отсутствие, в котором объявляется
всякое присутствие, — может вдохновить, то есть рабо-
тать и затем заставить работать. Чистая книга естест-
венным образом обращена к восходу этого отсутствия,
которое по ту или по эту сторону от гениальности лю-
бого изобилия и роскоши является ее первым и лишь ей
присущим содержанием. Чистая книга или книга как
таковая должна быть — соответственно тому, что в ней
есть самого незаменимого, — той «книгой ни о чем», о
которой мечтал Флобер. Мечта в негативе, мечта в се-
ром, начало полной Книги, которая преследовала вооб-
ражение других. Эта незанятость как положение лите-
ратуры есть то, что критика должна признать в качестве
специфики своего объекта, вокруг которого всегда идет
речь. Поскольку же «ничто» не является объектом, ее
собственный объект — это, скорее, то, как само ничто
определяется, теряясь. То есть переход к определенно-
сти произведения как переодевание начала. Но само оно
возможно и мыслимо лишь в этой маскировке. Руссе
показывает нам, в какой мере у столь различных умов,
как Делакруа, Бальзак, Флобер, Валери, Пруст, Т.С. Эли-
от, В. Вульф и многих других, была соответствующая
этому положению идея. Верная и определенная, хотя она
и не могла в принципе быть ясной и отчетливой, не буду-
чи созерцанием какой-либо вещи. К их голосам стоило
бы присоединить не столь уклончивый голос Антонена
Арто: «В литературу я вошел, написав книги, чтобы ска-
зать, что я вообще ничего не мог писать. Когда я должен
был что-то сказать или написать, более всего мне была
заказана моя собственная мысль. У меня никогда не было
идей и две коротенькие книжки, каждая в семьдесят
страниц, таят в себе это глубокое, проникающее
насквозь, исконное отсутствие какой бы то ни было мыс-
ли. Эти книги — «Пуп лимба» и «Нервометр»...»16. Соз-
нание-того-что-есть-что-сказать как сознание, направ-
ленное на ничто, то есть не туземное или укорененное, а
всецело подавленное сознание. Сознание о ни-о-чем,
исходя из которого может обогатиться, принять форму
и обрести смысл всякое сознание чего-то. А может воз-
никнуть и слово. Ибо мысль о вещи как о том, что она
есть, уже смешивается с опытом чистого слова, а оно в
свою очередь — с опытом как таковым. Не требует ли
чистое слово записи17 подобно тому, как лейбницевская
сущность требует существования, устремляясь в мир как
возможность к действительности? Если тревога письма
не является, да и не должна являться, каким-то одним
определенным пафосным состоянием, то все дело в том,
что она по своей сути является не волнением или эмпи-
рическим аффектом писателя, а лишь ответственностью
за эту angustia, за этот по необходимости краткий пере-
ход, совершаемый в слове, на который наталкиваются и
в котором состязаются всевозможные значения. Состя-
заются, но и окликают друг друга, вызывают друг друга,
невидимо и как бы помимо меня самого, в некоей сверх-
совозможности значений, в чистой силе двусмыслен-
ности, по сравнению с которой творческие способности
классического Бога кажутся еще слишком бедными.
Я страшусь говорить, поскольку, никогда не сказав дос-
таточно, я всегда говорю слишком много. И если необ-
ходимость стать дыханием или словом обнимает смысл —
и нашу ответственность за него, — то письмо еще более
того связывает и принуждает слово18. Письмо — это тре-
вога еврейского ruah’a, испытанная на стороне челове-
ческого одиночества и ответственности; на стороне Ие-
ремии, подчиненного диктату Бога («Возьми книгу и
запиши в нее все слова, которые я тебе сказал»), или Ба-
руха, переписывающего надиктованное Иеремией, и т.д.
(Иеремия 36, 2-4); или же письмо — собственно челове-
ческая инстанция пневматологии, науке о пневме, духе
или логосе, который делился на три части: божествен-
ную, ангельскую и человеческую. Это момент, когда нуж-
но решать, запишем ли мы то, что слышим. Спасается
или терятся слово в записи. Бог — Бог у Лейбница, раз
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
уж мы только что о нем говорили, — не знал тревоги
выбора между возможностями: возможности он мыслил
актуально и распоряжался ими как таковыми в своем
рассудке или Логосе; а предпочтение, проходящее через
тот узкий переход, который является Волей, всегда от-
дается «наилучшему». Каждое существование продол-
жает при этом выражать весь универсум. Здесь нет тра-
гедии книги. Существует только одна Книга, которая
распределяется во всех остальных. В «Теодицее» Тео-
дор, который «стал способным переносить божествен-
ный блеск дочери Юпитера», отводится ею в «дворец
судеб», который Юпитер «созерцал перед началом су-
ществующего мира, сравнивая всевозможные миры и
избирая лучший из всех». Юпитер «и впоследствии не-
однократно посещал эти места, чтобы доставить себе
удовольствие повторением созданных вещей и обновле-
нием своего собственного избрания, что всегда было ему
весьма приятно». Теодор проводится в палаты, «кото-
рые были уже не палаты, а мир». «В этом же отделении
дворца лежал огромный том писаний. Теодор спросил,
что означает этот том. Это история того мира, который
мы посещаем с тобой теперь, отвечала богиня. Ты видел
на челе Секста цифру, найди в книге место под этой циф-
рой. Теодор нашел и там прочел историю Секста с боль-
шими подробностями, чем видел. Прикоснись к какой
угодно строке, сказала Паллада, и ты увидишь подроб-
ное изложение всего того, что строка передает в общем.
Он повиновался и увидел подробности отдельного эпи-
зода жизни этого Секста».
Писать — это не только мыслить лейбницевскую кни-
гу как невозможную возможность. Невозможную воз-
можность, предел, точно обозначенный Малларме. Из
письма Верлену: «Я пойду еще дальше, сказав: просто
Книга, будучи убежденным, что существует одна един-
ственная Книга, которую пытается, не зная того, напи-
сать любой, кто пишет, даже Гении... осветить то, что все
книги в большей или меньшей мере содержат сплав не-
скольких полных повествований: впрочем, оно одно —
как закон для мира, как Библия, имитируемая народами.
Различие проходит от одного труда к другому, и труды
эти преподносят множество уроков, предложенных в
этом неизмеримом конкурсе на подлинный текст, от од-
ной так называемой культурной или образованной эпо-
хи к другой». Писать — это не просто знать, что Книга
не существует и что всегда есть лишь книги, в которых
разбивает(ся), прежде чем быть единым, смысл мира, не
ставшего мыслью абсолютного субъекта; это и не просто
знать, что ненаписанное и непрочитанное не могут быть
спасены в бездонности посредством услужливой негатив-
ности какой-нибудь диалектики, да и не в том дело, что,
утомленные «избытком писанины», мы будто бы опла-
киваем здесь отсутствие Книги. Писать — это не только
уже потерять теологическую уверенность, что видишь,
как каждая страница сама собой связывается в единый
текст истины, «книгу разума », как раньше называли днев-
ник, в котором отмечали на Память счета (rationes) и слу-
чаи; связывается в генеалогический свод или же Книгу
Разума, бесконечную рукопись, прочитанную Богом, ко-
торый прямо или косвенно одолжил нам свое перо. Эта
потерянная уверенность, это отсутствие божественного
писания, то есть в первую очередь еврейского Бога, ко-
торый при случае писал сам, не просто смутным образом
определяют что-то вроде «современности». В качестве
отсутствия и навязчивости божественного знака они
управляют всей современной эстетикой и критикой.
В этом нет ничего удивительного: «Сознательно или нет,
идея, которую человек формирует о своей поэтической
способности, соответствует выстраиваемой им идее тво-
рения мира и тому решению, которое он предлагает про-
блеме исходного происхождения вещей. И если понятие
творения оказывается двусмысленным и в эстетическом
смысле, и в онтологическом, то в этом нет ни случайно-
сти, ни какой-либо неясности»,19 — утверждает Ж. Кан-
гийем. Писать — это не просто знать, что нет никакой
необходимости, чтобы в письме из-под острия стиля вы-
ходило только самое лучшее, как это думал Лейбниц в
отношении божественного творения. Это и не только
знать, что этот переход или выход не относятся к воле и
что записанное не обязательно необходимым образом
выражает универсум, походит на него и вечно его соби-
рает. Писать — это также не иметь возможности пред-
посылать письму его смысл: то есть низводить смысл, но
и одновременно возвышать запись. В этом вечное брат-
ство теологического оптимизма и пессимизма: нет ниче-
го белее успокаивающего, но в то же время и более обез-
надеживающего, чем лейбницевская Книга. Чем жили бы
книги, чем бы они были, если б они не были одинокими,
столь одинокими, разделенными и бесконечными мира-
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
ми. Писать — это знать, что еще не произведенное в бук-
ве не имеет какого-то другого обиталища, не ожидает нас
в качестве предписания в некоем topos uranios или в бо-
жественном рассудке. Смысл должен ожидать своего
сказания или написания, чтобы обжить самого себя и
стать тем, что он есть, различаясь с самим собой — смыс-
лом. Этой мысли учит нас Гуссерль в «Началах геомет-
рии». Литературный акт обнаруживает, таким образом,
свою силу в своем истоке. В фрагменте книги, который
Мерло-Понти собирался включить в «Исток истины», он
писал: «Коммуникация в литературе не является простым
обращением писателя к значениям, которые, якобы, уже
входят в априорную сферу человеческого разума: скорее,
она.производит их в ней неким вовлечением или косвен-
ным содействием. У писателя мысль не управляет языком
из какого-то внешнего пространства: сам писатель — это
что-то вроде строящейся новой идиомы...»20. «Мои слова
удивляют меня самого и учат меня моей мысли », — гово-
рил он в другом месте21.
Но потому, что оно вступительно в более старом
смысле этого слова, письмо оказывается опасным и тре-
вожащим. Оно не знает, куда идет, никакая мудрость не
ограждает его от этой существенной для него устрем-
ленности к смыслу, который им конструируется и кото-
рый вначале выступает как будущее письма. Но каприз-
но оно лишь по трусости. Нет, следовательно, гарантии
от этого риска. Для писателя, даже если он не атеист,
если он просто писатель, письмо — это первое безбла-
годатное плавание. Не о писателе разве говорил Иоанн
Златоуст? «Необходимо, дабы у нас исчезла надобность
в писании, чтобы наша жизнь оказалась столь чистой,
что благодать духа заменила бы в нашей душе книги и
записалась бы в наших сердцах. Оттолкнув благодать,
мы принуждены использовать письмена, это второе пла-
вание.»22 Но сохраняя всю веру и теологическую уверен-
ность, разве не полагается опыт вторичности на это
странное удвоение, посредством которого конституиро-
ванный — то есть написанный — смысл дается как пред-
варительно или в то же самое время прочитанный, ко-
гда присутствует надзирающий другой, делающий
неустранимыми отход и возвращение, работу между
письмом и чтением. Смысл ни до, ни после действия. Не
является ли то, что называют Богом, придающим харак-
тер вторичности любому человеческому плаванию, этим
взаимопереходом — отсроченной взаимностью между
письмом и чтением? Абсолютным свидетелем, третьим
как прозрачностью смысла в диалоге, где то, что начи-
наешь писать, уже прочитано, то, что начинаешь гово-
рить, — уже ответ. Одновременно тварью и Отцом Ло-
госа. Круговой замкнутостью и традицией Логоса.
Странным трудом обращения и приключения, в котором
благодать может лишь отсутствовать.
Простое предшествование Идеи или «внутреннего
плана» по отношению к произведению, которое его толь-
ко бы выражало, — это, следовательно, предрассудок:
предрассудок традиционной критики, называемой идеали-
стической. Не случайно, что теория — можно было бы на
этот раз сказать: теология — этого предрассудка расцвела
в Возрождение. Руссе, как многие другие, сегодня и вчера,
выступает против этого «платонизма» или «неоплатониз-
ма». Но он не забывает, что если «форма, плодоносящая
идеями» (Валери), не является чистой прозрачностью вы-
ражения, то тем не менее она, в то же время, оказывается
откровением. Если бы творение не было бы откровением,
что бы стало с конечностью писателя, с одиночеством его
забытой Богом руки? Божественное творение было бы со-
хранено в лицемерном гуманизме. Если письмо всегда ис-
ходно, то не потому, что оно творит, а по своей особой,
абсолютной свободе сказать, вызвать в своем знаке уже-
существующее, предвосхитить нечто. Свобода ответа, при-
знающая в качестве единственного горизонта мир истории
и слово, говорящее только одно: бытие уже всегда нача-
лось. «Творить — это открывать», — говорит Руссе, не
отворачивающийся от классической критики. С ней он ве-
дет диалог и ее понимает: «Предсуществующая и откры-
ваемая в произведении тайна: мы видим, как каким-то об-
разом примиряются новая и старая эстетики, покуда эта
предшествующая тайна может соответствовать Идее, как
ее понимали деятели Возрождения, но при условии отвле-
чения от всякого неоплатонизма ».
Эта открывающая сила истинного литературного
языка как поэзии оказывается доступом к чистому слову,
тому, что словом «быть» — или тем, что мы подразумева-
ем под понятием «первослова» или «исходного слова»
(Бубер) — освобождается от своих функций сигнализиро-
вания. Только когда письмо погибло как знак-сигнал, оно
рождается как язык; тогда оно говорит то, что есть,
отсылая тем самым лишь к себе, знаку без значения, игре и
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
чистому функционированию, ведь оно больше не исполь-
зуется как естественная, биологическая или техническая
информация, как переход от одного сущего к другому, от
означающего к означаемому. Парадоксальным образом
одна лишь запись — хотя и не всегда — обладает могущест-
вом поэзии, то есть способностью будить слово из его сна
в форме знака. Записывая слово, ее главное намерение и
смертельный риск — в освобождении смысла от всего поля
наличного восприятия, от того естественного вовлечения,
в котором все отсылает к воздействию случайно сложив-
шейся ситуации. Вот почему письмо никогда не будет
простой «картиной слова» (Вольтер). Оно творит смысл,
записывая его, поверяя его гравюре, борозде, рельефу, по-
верхности, которая должна быть, в соответствии с нашими
желаниями, бесконечно передаваемой. Не то, чтобы мы
этого хотим или хотели всегда; но письмо как начало чис-
той историчности, чистой традиционности есть лишь те-
лос истории письма, философия которой еще должна
прийти. Выполняется этот проект бесконечной традиции
или нет, его нужно признать и уважить в его смысле про-
екта. И если он всегда может провалиться, то в этом при-
мета его чистой конечности и чистой историчности. Если
игра письма может превзойти означивание (сигнализа-
цию), всегда заключенную в частные пределы природы,
жизни, души, то это превосхождение является моментом
воли писать. Воля писать не понимается, исходя из некое-
го волюнтаризма. Письмо — это не последующее опреде-
ление какого-то первичного хотения. Напротив, письмо
пробуждает смысл воли к воли: свободу, разрыв со средой
эмпирической истории в горизонте согласия со скрытой
сущностью эмпирии, с чистой историчностью. Воля писать,
а не желание писать, ведь речь идет о свободе и долге, а не
о волнении души. В ее отношении к бытию воля писать
хотела бы быть единственным выходом из волнения.
Выходом, в который метишь, не будучи уверенным, что
спасение возможно, или что оно вне этого волнения. Быть
взволнованным, тронутым — это быть конечным: писать
же значило бы хитрить с конечностью, хотеть достигнуть
бытия вне сущего, бытия, которое не могло бы быть
тронутым и не могло бы затронуть меня. Это означало
бы хотеть забыть различие: забыть письмо в присутствую-
щем, так называемом живом и чистом слове.
В той мере, в какой литературный акт первоначаль-
но исходит из этой воли писать, он является признанием
чистого языка, ответственностью за призвание чистого
слова, которое, будучи однажды услышанным, консти-
туирует писателя как такового. Чистое слово, о котором
Хайдеггер говорит, что его нельзя «мыслить в прямоте
его сущности», исходя из «его характеристики как зна-
ка» (Zeichencharakter) «или даже его характеристики как
значения »(Bedeutungscharakter)24.
Но не рискуем ли мы, таким образом, отождествить
произведение с изначальным письмом вообще? Размыть
понятие искусства и ценность «красоты», которыми ли-
тература обычно отличается от буквы вообще? А может,
отнимая всякую специфику у эстетической ценности, мы,
наоборот, как раз освобождаем красивое? Есть ли спе-
цифика красивого и если да, то выигрывает ли оно при
этом?
Руссе думает именно так. Именно в противовес этой
попытке оставить отмеченную специфику без внимания
(такая попытка принадлежит, например, Ж. Пуле, кото-
рый «не очень интересуется искусством»25) определяет-
ся, по крайней мере теоретически, структурализм, отстаи-
ваемый Руссе, который сам при этом сближается со
Л. Шпицером и М. Реймоном, заботящимся о формаль-
ной автономии произведения как «абсолютного, незави-
симого, самодостаточного организма »(р. XII). Но и здесь
установка Руссе оказывается трудно выдерживаемым
равновесием. Будучи всегда внимательным к единому ос-
нованию, подвергаемому разъединению, он в самом деле
избегает «объективистской» опасности, разоблаченной
Пуле, давая определение структуры, которое не являет-
ся ни чисто объективным, ни чисто формальным; или по
меньшей мере не разводя исходно форму и интенцию,
форму и сам акт писателя: «Я буду называть «структура-
ми » те формальные константы, те связки, которые выда-
ют ментальный универсум и которые изобретаются каж-
дым писателем в соответствии с его нуждами» (р. XII).
Итак, структура — это единство формы и значения. Прав-
да, в отдельных пассажах форма произведения или фор-
ма в качестве произведения трактуется так, словно бы у
нее не было начала, как будто бы здесь, в шедевре (а Рус-
се интересуется только шедеврами) счастье произведе-
ния не имело бы истории. Никакой внутренней истории.
Именно в этом пункте структурализм оказывается весь-
ма уязвимым, а попытка Руссе в своем отдельном изме-
рении, — которое вовсе не покрывает ее целиком, — не
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
избегает опасности конвенционального платонизма. По-
винуясь законному желанию оградить внутреннюю ис-
тину и смысл произведения от историцизма, биографиз-
ма или психологизма (который, впрочем, неискореним в
самом выражении «ментальный универсум»), рискуешь не
обратить внимания на внутреннюю историчность самого
произведения в ее отношении к субъективному началу,
которое не является просто психологическим или мен-
тальным. Заботясь о сведении классической истории ли-
тературы до роли «помощника», «необходимого», «про-
легоменов и поручней» (р. XII, п. 16), рискуешь упустить
другую историю, которую более сложно помыслить, ис-
торию смысла самого произведения, историю его дейст-
вия. Эта историчность произведения — не только его
прошлое, канун или сон, посредством которых оно пред-
шествует самому себе в интенции автора, но невозмож-
ность для него быть когда-нибудь лишь в настоящем,
быть замкнутым в какой-то одновременности или абсо-
лютной мгновенности. Вот почему, и мы это покажем, нет
пространства произведения, если под ним понимать при-
сутствие и сводку. Дальше мы увидим, какие следствия
отсюда вытекают для критики. В настоящий момент мы
склоняемся к мнению, что если «история литературы»
(даже когда ее техники и философия обновлены марксиз-
мом, фрейдизмом и т.д.) остается лишь подпоркой для
внутренней критики произведения, структурный момент
последней, в свою очередь, является таким же поручнем
некоей внутренней генетики, в которой значения и смысл
реконструированы и пробуждены исходя из их собствен-
ной историчности и темпоральности. Темпоральность и
историчность не могут, не становясь абсурдом, стать объ-
ектами, а их собственная структура должна сторонить-
ся классических категорий.
Конечно, декларируемый замысел Руссе в том и со-
стоит, чтобы избежать этой статики формы — формы, чья
завершенность, кажется, освобождает ее от работы, от
воображения как начала, при помощи которого она толь-
ко и может продолжать означивание. Так, когда он от-
личает свою задачу от задачи Ж.-П. Ришара26, Руссе на-
целен на эту целостность вещи и акта, формы и интенции,
энтелехии и становления, то есть на ту самую цельность,
которой является литературный факт как конкретная
форма: «Возможно ли разом охватить воображение и
морфологию, схватить их и прочувствовать в некоем од-
номоментном акте? Это то, что я хотел бы попытаться
сделать, в убеждении, однако, что мое движение, прежде
чем стать единым, должно будет порой предлагать аль-
тернативный (курсив наш. — Ж.Д.) способ рассмотре-
ния. Но преследуемая цель — это не распределенное во
времени понимание однородной реальности в некоторой
объединяющей операции» (р. XII).
Но, будучи осужденным или покорившимся чередо-
ванию, признавая его, критик оказывается и освобожден-
ным, удовлетворенным им. И здесь отличие Руссе уже не
задумывалось им самим. Его своеобразие, стиль, будут
отныне утверждаться не через методологическое реше-
ние, а игрой спонтанности критика в свободе «альтерна-
тив». Эта спонтанность в действительности будет нару-
шать чередование, из которого Руссе, в то же время,
сделал теоретическую норму. Таков фактический пере-
гиб, который придает стилю — здесь стилю Руссе — его
структурную форму. Последняя, как замечает К. Леви-
Стросс по поводу социальных моделей и Руссе по поводу
структурных мотивов в литературном произведении, «ус-
кользает от творческой воли и от ясного сознания»
(р. XVI). В чем же неравновесность этого предпочтения?
Каков этот скорее подействовавший, чем признанный
перевес? Похоже, что он двойственен.
II
Существуют линии —чудовища... Одна един-
ственная линия никогда не обладает значением;
необходимая вторая, чтобы придать ей выразитель-
ность. Вот великий закон.
Делакруа
Valley, das Tai ist ein haufiges weibliches Traum-
Symb°'- Freud-
С одной стороны, структура становится самим объ-
ектом, самим литературным предметом. Она уже не то,
чем почти всегда была у других: то эвристическим инст-
рументом, методом чтения, силой, открывающей содер-
* Долина, равнина — это часто встречающийся в сновидениях
символ женского. Фрейд. — Прим, перев.
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
жание, то системой объективных отношений, независи-
мых от содержания и от отдельных терминов; а чаще все-
го — и тем, и другим сразу, поскольку ее плодотворность
не исключала, а, наоборот, подразумевала, что конфигу-
рация отношений существует в самом литературном объ-
екте; таким образом, всегда более или менее открыто
практиковался некоторый реализм структуры. Но нико-
гда структура не была термином, в двойном значении
этого слова, исключительным в критическом описании.
Она всегда была средством или изложением чтения или
письма, собирания значений, узнавания тем, соподчине-
ния и упорядочивания постоянств и соответствий.
Здесь же структура, конструктивная схема, морфо-
логическая корреляция становятся на деле и как бы во-
преки теоретическому намерению единственной заботой
критика. Единственной или почти единственной. Уже не
просто метод в ordo cognoscendi или отношение в ordo
essendi, но само бытие произведения. Мы имеем дело с
неким ультраструктурализмом.
С другой стороны (что, впрочем, является следстви-
ем первой), эта структура на этот раз понимается — или,
по крайней мере, используется — в своем буквальном зна-
чении. A stricto sensu понятие структуры относится лишь
к пространству, морфологическому или геометрическо-
му, порядку форм и мест. О структуре вначале говорит-
ся в отношении произведения, органического или искус-
ственного, как внутреннего единства сочленения,
конструкции', то есть в отношении произведения, управ-
ляемого объединяющим принципом, архитектуры, по-
строенной и наблюдаемой в каком-то определенном мес-
те. «Величественные памятники человеческой гордыни,
/ Пирамиды, могилы, чья благородная структура / Дала
свидетельство тому, что искусство, благодаря ловкости
рук/ И упорному труду, может победить природу » (Ска-
рон). Лишь благодаря метафоре это топографическое
буквальное значение перемещается к топическому или
аристотелевскому значению (теория мест в языке и об-
ращение^ темами и аргументами). Уже в XVIII веке го-
ворят: «Выбор и упорядочение слов, структура и гармо-
ния композиции, скромное величие мыслей»27. Или еще:
«В плохой структуре всегда есть, что добавить, отнять
или изменить, не только касательно мест, но и в словах»28.
Как возможна эта история метафоры? Если мы ска-
жем, что язык может дать определение лишь через отно-
шение к пространству, то будет ли это достаточным для
объяснения того, что он сам должен опространствиться,
как только он начинает указывать и отражать самого
себя? Это вопрос, который ставится в отношении вообще
любого языка и любой метафоры. Но здесь он приобре-
тает особую неотложность.
В самом деле, пока метафорический смысл понятия
структуры не признан в качестве такового, то есть не
исследован и, быть может даже, не разрушен в своей фи-
гуральной силе, что необходимо для пробуждения не-
пространственности или особой пространственности,
указанной в нем, мы рискуем в тем более незаметном,
чем более эффективном соскальзывании смешать смысл
с его геометрической или морфологической, в лучшем
случае — кинематической, моделью. Мы рискуем заин-
тересоваться самой фигурой в ущерб игре, которая ра-
зыгрывается здесь метафорой. (Слово «фигура» мы
употребляем как в геометрическом, так и в риториче-
ском смыслах. В стиле же Руссе фигуры риторики все-
гда оказываются фигурами геометрии, впрочем, доста-
точно гибкой.)
Итак, несмотря на заявленное намерение, Руссе, хоть
он и называет структурой единство формальной струк-
туры и интенции, в своих анализах наделяет абсолютной
привилегией пространственные модели, математический
функции, линии и формы. Можно было бы привести мно-
жество примеров, в которых резюмируется существо его
описаний. Он, без сомнений, признает связность време-
ни и пространства (р. XIV). Но на деле время всегда реду-
цировано. В лучшем случае — к одному из измерений. Оно
оказывается лишь средой, в которой могут разворачи-
ваться форма или кривая. Время всегда в сговоре с лини-
ей или планом, всегда развернуто в пространстве, расстав-
лено. Оно взывает к мере. Но, даже если не следовать
утверждению Леви-Стросса, что «нет никакой необхо-
димой связи между понятиями меры и структуры»14, не-
обходимо признать, что для некоторых структур — ив
особенности структур литературной идеальности — эта
связь исключена в принципе.
В «Форме и значении» геометрия и морфология кор-
ректируются лишь механикой, и никогда — энергетикой.
Mutatis mutandis, можно было бы попробовать упрекнуть
Руссе — а вместе с ним и весь наипревосходнейший лите-
ратурный формализм — в том, в чем Лейбниц упрекал
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
Декарта: в желании все в природе объяснить через фигу-
ры и движения, в игнорировании силы путем ее смеше-
ния с количеством движения. То есть, в сфере языка и
письма, которая больше, чем тело, «имеет отношение к
душам», «понятия величины, фигуры и движения не так
отчетливы, как порой воображают... они заключают в
себе что-то воображаемое и относящееся к нашим вос-
приятиям»30.
Нам скажут, что эта геометрия не просто метафо-
рична. Конечно. Но метафора никогда не бывает невин-
ной. Она направляет само исследование и определяет его
результаты. Когда пространственная модель открыта,
когда она функционирует, критическая рефлексия успо-
каивается на ней. Успокаивается на деле, и даже если это
не признается.
Возьмем один пример из множества других.
В начале эссе, озаглавленного «Полиевкт, или Пет-
ля и штопор », автор осторожно предупреждает, что если
он и настаивает на «схемах, которые могут показаться
излишне геометричными, то лишь потому, что сам Кор-
нель более, чем кто-нибудь другой, занимался симметрия-
ми». Кроме того, «эта геометрия не культивируется ради
нее самой», «в крупных пьесах она является средством,
подчиненным целям страстей» (р. 7).
Но что же в действительности предлагает нам это
эссе? Одну лишь геометрию того театра, который, в то
же время, является «театром безумной страсти, театром
героического энтузиазма» (р. 7). Геометрическая струк-
тура «Полиевкта» не только завладевает всеми ресурса-
ми и всем вниманием автора, но ей одной подчинена це-
лая телеология корнелевского движения. Все происходит
так, словно до 1643 года Корнель лишь угадывал в потем-
ках или предвосхищал рисунок «Полиевкта», который
смешивается с корнелевским замыслом как таковым и
приобретает ценность энтелехии, к которой все устрем-
лено. Корнелевские становление и работа располагают-
ся в определенной перспективе и расшифровываются,
исходя из того, что рассматривается как их конечная точ-
ка, их завершенная структура. До «Полиевкта* мы на-
ходим одни только наброски, в которых мы наблюдаем
лишь недостаток, то, что в отношении грядущего совер-
шенства оказывается еще бесформенным и ущербным;
или же мы обращаем внимание на то, что предвещает это
совершенство. «Между «Дворцовой галереей» и «Поли-
евктом» прошло много лет. Корнель ищет себя и нахо-
дит. Я не буду входить в детали его пути, на котором он,
как показывают «Сид» и «Цинна», изобретает свою соб-
ственную структуру» (р. 9). А что после «Полиевкта»?
Такой вопрос не ставится. Впрочем, и среди более ран-
них пьес внимание не уделяется никаким другим, кроме
как «Дворцовой галерее»; да и они рассмотрены в духе
некоего преформизма как структурные предобразования
«Полиевкта».
Так,в «Дворцовойгалерее»,непостоянствоЦелиды
удаляет ее от ее любовника. Устав от своего непостоян-
ства (но почему?), она вновь сближается с ним, который в
свою очередь притворяется ветреным. Они отстраняют-
ся друг от друга, чтобы объединиться в конце пьесы. На-
рисуем это движение: «Первичное согласие, расхож-
дение, срединное неудавшееся сближение, второе
отстранение, симметричное первому, конечное воссоеди-
нение. Конечный пункт оказывается отправным, замкнув
контур в форме перекрещенной петли» (р. 8). Особен-
ность — это перекрещенная петля, конечный пункт как
возвращение к отправному, что не столько особенно,
сколько всеобще. Сам Пруст... (ср. р. 144).
Аналогичная схема в «Сиде»: «Круговое движение
со срединным перекрестом сохраняется» (р. 9). Но здесь
появляется новое значение, которое панорографией тот-
час же переписывается в новое измерение. В самом деле,
«в каждом кругообороте любовники развиваются и рас-
тут, и не только каждый сам по себе, но и один посредст-
вом другого и один для другого, следуя особому после-
довательно открываемому корнелевскому (курсив наш. —
Ж.Д.) закону связности; их союз укрепляется и углубля-
ется в тех самых разрывах, которые должны были бы его
разбить. Фазы удаления оказываются здесь уже не фаза-
ми разлучения и непостоянства, а испытаниями верности»
(р. 9). Можно было бы подумать, что различие между
«Дворцовой галереей» и «Сидом» уже не в рисунке или
движении присутствующих или отсутствующих персон
(удаленности-близости), но в качестве или внутренней
интенсивности опытов (испытания верности, способа
быть для другого, силы разрыва и т.д.). Можно было бы
подумать, что на этот раз, из-за обогащения самой пье-
сы, структурная метафора окажется бессильной охватить
качественное и интенсивное, так что работа сил не смо-
жет перевестись в различие формы.
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
Но думать так — это недооценивать ресурсы крити-
ка. Измерение высоты дополнит наш инструментарий
аналогий. Ведь то, что приобретается в напряжении чув-
ства (качество верности, смысл бытия для другого) —
приобретается в возвышении] ведь ценности, как извест-
но, располагаются на восходящих лестницах, на верши-
не которых находится само Благо. «Союз углубляется»
«стремлением к высокому» (р. 9). По-латыни — altus\ глу-
бокое — это высокое. Тогда по-прежнему сохраняющая
свою форму петля превращается в «восходящую спи-
раль», во «взлет штопором». Горизонтальная же упло-
щенность «Галереи» была лишь видимостью, скрывающей
самое главное — движение восхождения. «Сид» не дела-
ет не чего иного, как начинает его приоткрывать: «По-
этому конечный пункт (в «Сиде». —Ж.Д.), если он по ви-
димости и приводит к начальному объединению, ни в коей
мере не является возвратом к отправной точке; положе-
ние изменилось, и мы оказались на более высоком уров-
не. Главное в этом (курсив наш. — Ж.Д.)\ корнелевское
движение — это движение страстного возвышения...» (но
где нам было сказано об этой страсти и силе движения,
которые более, чем его количество и направление?..) «дви-
жение стремления к более высокому; будучи совмещен-
ным с перекрещенным ходом двух петель, оно вырисовы-
вает теперь восходящую спираль, взлет штопором. Эта
формальная комбинация приобретет все свое богатство
значения в «Полиевкте » » (р. 9). Структура была собрана
и в готовности ожидала, подобно влюбленной, свой соб-
ственный смысл, который придет, чтобы взять ее замуж
и оплодотворить.
Мы были бы вполне убеждены, если бы красота, ко-
торая есть ценность и сила, могла бы быть подчинена пра-
вилам и схемам. Нужно ли еще доказывать, что в этом
нет никакого смысла? Ведь если «Сид» красив, то лишь
за счет того, что выходит в нем за пределы схем и рассуд-
ка. Не говорим же мы о самом «Сиде», что его красота во
всех этих петлях, спиралях и возвышениях. Если движе-
ние этих линий не является «Сидом», то оно, пусть еще в
более совершенном виде, не будет и «Полиевктом».
Оно — не истина «Сида » или «Полиевкта ». Нам скажут,
что, конечно, такое движение — не психологическая ис-
тина страсти, веры, долга и т.д., но это истина по Корне-
лю; причем не по Пьеру Корнелю, чья биография и пси-
хология нас тут не интересует: «Движение к самой
высокой точке», наиболее тонкая особенность схемы —
это не что иное, как корнелевское движение (р. 1). Про-
гресс, отмеченный «Сидом», который также стремится к
высоте «Полиевкта», —это «прогрессвкорнелевскомна-
правлении »(ibid,). Нет смысла воспроизводить здесь ана-
лиз «Полиевкта»31, в котором, благодаря мастерству, при-
надлежащему то ли Корнелю, то ли Руссе, эта схема
достигает своего наибольшего совершенства и наивели-
чайшей внутренней усложненности. Выше мы сказали, что
Руссе — слишком картезианец и недостаточно лейбни-
цианец. Уточним. Он, правда, и лейбницианец: он, кажет-
ся, полагает, что в литературном произведении всегда не-
обходимо найти линию, какой бы сложной она не была,
которая бы объяснила единство и целостность его дви-
жения сообща с точками его изменения.
Действительно, в «Рассуждении о метафизике»
Лейбниц пишет: «Поскольку, предположим, что кто-то
случайным образом наносит на бумагу некоторое коли-
чество точек, подобно практикующим смешное искусст-
во геомантии. Я утверждаю, что возможно обнаружить
геометрическую линию, понятие которой будет постоян-
ным и однообразным соответственно некоторому прави-
лу, так что эта линия будет проходить через все эти точ-
ки и в том порядке, в каком они были нанесены рукой.
А если кто-нибудь прочертил бы линию, которая
местами была бы прямой, местами закругленной или об-
ладающей еще какой-нибудь природой, то было бы воз-
можным найти понятие, правило или уравнение, общее
для всех точек этой линии, в силу которого должны про-
изойти те же самые изменения. Нет, например, такой точ-
ки на лице, очертания которой не составляли бы части
единой геометрической линии, и которую нельзя было бы
прочертить не отрывая руки в некотором упорядоченном
движении».
Но Лейбниц говорил о божественных творении и ра-
зуме. «Я пользуюсь этими сравнениями, чтобы изобра-
зить некое несовершенное подобие божественной муд-
рости... Но я вовсе не собираюсь тем самым объяснить
эту великую тайну, от которой зависит весь универсум.»
Касательно же качеств, сил и значений, так же как и не-
божественных произведений, прочитанных конечными
умами, это доверие пространственно-математическому
представлению кажется (в масштабе целой культуры,
поскольку речь здесь идет не о языке Руссе, но о нашем
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
языке и о том, чему он доверяет) аналогичным доверию, к
примеру, канакских художников32 плоскому представле-
нию глубины. Доверию, которое анализируется структу-
ралистским этнологом с большей осторожностью и мень-
шей поспешностью, чем когда бы то ни было раньше.
Мы не противопоставляем здесь в режиме простого
маятникового движения, уравновешения или опрокиды-
вания длительность пространству, качество — количест-
ву, силу — форме, глубину смысла или значения — по-
верхности фигур. Как раз напротив. Будучи против этой
простой альтернативы, простого выбора одного из тер-
минов или одной из серий, мы полагаем, что нужно ис-
кать новые понятия и новые модели, особую экономию,
ускользающую от системы метафизических оппозиций.
Эта экономия не могла бы быть энергетикой чистой и бес-
форменной силы. Рассмотренные нами различия были бы
одновременно различиями мест и различиями сил. Если
кажется, что мы противопоставляем тут одну серию дру-
гой, то мы это делаем затем, чтобы показать, как внутри
классической системы особым сортом структурализма
некритическая привилегия отдается другой серии. Наше
рассуждение неминуемо принадлежит системе метафи-
зических оппозиций. Объявить о разрыве с этой принад-
лежностью можно лишь посредством особой организа-
ции, особого стратегического решения, которое внутри
метафизического поля и его собственных сил, обращая
против него самого его собственные стратегемы, про-
извело бы распространяющуюся через всю систему, рас-
щепляющую ее и повсеместно отграничивающую силу
смещения.
Предположив, что ради избежания «абстракциониз-
ма» можно, как этого теоретически желает и Руссе, об-
ратиться к единству формы и смысла, необходимо было
бы сказать, что стремление к самому высокому, в том «по-
следнем прыжке, который соединит их... в Боге» и т.д.,
страстное, качественное, интенсивное и т.п. стремление
обнаруживает свою форму в спиральном движении. Но
сказать тогда, что это единство — которое, впрочем, яв-
ляется условием всякой метафоры возвышения — и есть
собственное отличие, идиома Корнеля — много ли это
будет значить? И если главное «корнелевского движе-
ния» как раз в этом, то где же сам Корнель? Почему в
«Полиевкте» красоты больше, чем в «траектории из двух
петель, направленных вверх»? Сила произведения, сила
гения, сила того, что вообще может порождать, — это то,
что сопротивляется геометрической метафоре, собствен-
ный объект литературной критики. Кажется, что Руссе,
пусть и не как Ж. Пуле, порой тоже «не особенно инте-
ресуется искусством».
Если только Руссе не предполагает, что любая ли-
ния, любая пространственная форма (а всякая форма
пространственна) является красивой a priopi, если толь-
ко он не считает, как это иногда делалось в средневеко-
вой теологии (особенно у Консидеранса), что форма
трансцендентально красива, поскольку она есть и застав-
ляет быть, а Бытие — это Красота, так что даже чудови-
ща красивы в своем бытии — той линией или формой, ко-
торая свидетельствует о порядке сотворенной вселенной
и отражает божественный свет. Formosus означает кра-
сивый.
А Бюффон не скажет разве в своем «Дополнении к
естественной истории» (t. XI, р. 410), что «большинство
чудовищ чудовищны с некоторой симметрией, так что
кажется, будто рассогласование частей произошло в не-
котором порядке»?
Руссе же, кажется, не предполагает в своем теорети-
ческом «Введении», что всякая форма красива. Но лишь
та, которая согласуется со смыслом, та, которая понима-
ется нами потому, что вначале она согласовалась со смыс-
лом. Но откуда же, повторимся, берется эта привилегия
геометра? Если же предположить, что в пределе красота
дает согласие на брак с геометром и исчерпывается им, то
в случае возвышенного — а говорят, что Корнель возвы-
шенный автор — геометр должен учинить акт насилия.
Затем, не теряется ли нечто значимое во имя главно-
го «корнелевского движения»? Во имя такого эссенциа-
лизма или телеологического структурализма сводится к
несущественной видимости все то, что насмехается над
геометрически-механической схемой: не только пьесы,
которые не покоряются кривым и штопорам, не только
сила и качество, которые и есть сам смысл, но и длитель-
ность, оказывающаяся в движении чистой качественной
гетерогенностью. Руссе понимает театральное и роман-
ное движение так же, как Аристотель понимал движение
вообще: переход к акту, который есть отдохновение же-
ланной формы. Все происходит так, словно в динамике
корнелевского смысла и в каждой его пьесе все оживает
лишь в горизонте конечного мира, мира структурной энер-
2 Ж. Деррида
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
гейи — «Полиевкта». Вне этого мира, до него или после,
само движение в своей чистой длительности, в труде сво-
его выстраивания, есть лишь набросок или отброс. Быть
может, даже разброс, ошибка или грех по отношению к
«Полиевкту», «первому безупречному достижению».
Руссе делает примечание к слову «безупречный »: «В этом
отношении «Цинну » еще есть, в чем упрекнуть» (р. 12).
Преформизм, телеологизм, редукция силы, значения
и длительности — вот что составляет единство с предпоч-
тением геометрии, вот что создает структуру. Действи-
тельную структуру, которая в той или иной степени ру-
ководит всем опытами в этой книге. Все, что в раннем
Мариво не предвещает схемы «двойного регистра » (рас-
сказ и взгляд на рассказ) является «серией писательских
упражнений молодости», благодаря которым «он не
только подготавливает свои зрелые романы, но и свое
творчество драматурга» (р. 47). «Настоящий Мариво
здесь еще почти (курсив наш. — Ж.Д.) незаметен.» «В на-
шей перспективе задержаться стоит только на одном
факте...» (ibid.) За этим следуют анализ и заключитель-
ное положение: «Этот набросок диалога за спиной пер-
сонажей, через прерванный рассказ, когда чередуются
присутствие и отсутствие автора, — это лишь наметки
настоящего Мариво... Таким образом, в своей зачаточ-
ной форме намечается принадлежащая собственно Ма-
риво комбинация зрелища и зрителя, смотрящего и
осматриваемого. Мы увидим, как она будет совершенст-
воваться...» (р. 48).
Сложности и наша сдержанность усугубляются,
когда Руссе уточняет, что эта «постоянная структура
Мариво»33, оставаясь невидимой или скрытой в ранних
произведениях, «включена» в качестве «желаемого рас-
творения романной иллюзии» в «традицию бурлеска»
(р. 50, см. также р. 60). Оригинальность же Мариво, ко-
торый из этой традиции «удерживает» лишь «свободное
ведение рассказа, которое показывает одновременно ра-
боту автора и его рефлексию над своим произведе-
нием...» — это «критическое сознание» (р. 51). Следова-
тельно, идиома Мариво заключается не в описанной
структуре, а в интенции, которая оживляет традицион-
ную форму и создает новую структуру. Истина таким
образом восстановленной общей структуры не описыва-
ет организм произведений Мариво в их собственных
очертаниях. Или, тем более, в их силе.
Но она должна это делать, раз «высвобожденный
таким образом структурный факт — двойного регист-
ра — оказывается некоторой постоянной... Он в то же
время отвечает (курсив наш. — Ж.Д.) тому знанию, ко-
торым человек у Мариво обладает о себе самом: незря-
чее «сердце», взятое в поле сознания, которое есть
сплошной взгляд» (р. 64). Но как традиционный для этой
эпохи «структурный факт» (если предположить, что, бу-
дучи так определенным, он оказывается достаточно чет-
ким и оригинальным, чтобы принадлежать эпохе) может
«отвечать» сознанию «человека у Мариво»? Может быть,
структура отвечает самой уникальной интенции Мариво?
Не оказывается ли он здесь скорее хорошим примером —
и тогда нужно показывать, чем он хорош — литератур-
ной структуры всей эпохи? А через эту структуру — при-
мером просто эпохи? Нет ли здесь тысячи нерешенных
методологических проблем, предваряющих индивидуаль-
ное структурное исследование, монографию об авторе
или произведении?
Если предпочтение геометрии особенно явственно в
эссе о Корнеле и Мариво, то в отношении Пруста и Кло-
деля триумф одерживает преформизм, И в этот раз ско-
рее в органицистской, нежели топографической форме.
Здесь он также оказывается наиболее плодотворным и
наиболее убедительным. Поскольку, во-первых, матери-
ал, которым он позволяет овладеть, оказывается более
богатым и изученным в более глубокой форме. (Да будет
нам, однако, позволено отметить следующее: у нас при-
сутствует ощущение, что лучшим, что в ней есть, эта кни-
га обязана не методу, а качеству внимания.) Во-вторых,
поскольку эстетика Пруста и Клоделя глубоко созвучна
эстетике Руссе.
У самого Пруста — и доказательство, предоставлен-
ное нам, не оставляет никаких сомнений по этому поводу,
если только они у кого-то еще оставались — структур-
ное требование, будучи постоянным и вполне осознан-
ным, проявляется чудесами симметрии (не правильной и
не ложной), обратимости, кругообразности, отложенных
озарений, несовпадающих наложений первого и послед-
него и т.д. Телеология здесь — это не проекция критика,
но тема самого автора. Вложенность конца в начало,
странные отношения между пишущим книгу субъектом
и субъектом в самой книге, между сознанием рассказчи-
ка и сознанием героя — все это напоминает стиль ста-
2*
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
новления и диалектики «нас» в «Феноменологии духа».
В самом деле, здесь речь идет о самой настоящей фено-
менологии духа: «Мы видим и другие причины того зна-
чения, которое Пруст придавал круговой форме романа,
конец которого замыкается на его же начало. На послед-
них страницах мы видим, как герой и рассказчик воссо-
единяются друг с другом после долгого пути, в котором
они друг друга искали, оказываясь порой близкими, но
чаще далекими друг для друга; они совпадают друг с дру-
гом в развязке, где герой станет рассказчиком, то есть
автором своей собственной истории. Рассказчик — это
герой, открытый самому себе, тот, кем хочет, но не мо-
жет быть герой на протяжении всей своей истории; те-
перь он занимает место этого героя и собирается занять-
ся возведением произведения, которое завершается, и
перво-наперво написать «Комбре », оказывающееся в на-
чале как рассказчика, так и героя. Конец книги делает воз-
можным и понимаемым ее существование. Этот роман
задуман таким образом, что его конец порождает нача-
ло» (р. 144). Дело и в том, что критический метод и эсте-
тика Пруста не находятся вне произведения, они — само
сердце творения: «Из этой эстетики Пруст сделает дей-
ствительный сюжет своего романного труда »(р. 135). Так
же, как у Гегеля, у которого философское, критическое,
рефлексивное сознание — это не просто взгляд на дей-
ствия и произведения истории. Речь прежде всего идет о
его истории. Мы не ошибемся, если скажем, что эта эсте-
тика как понятие произведения точно покрывает эстети-
ку Руссе. Она также, если угодно, является практикуе-
мым преформизмом: «Последняя глава последнего
тома, — отмечает Пруст, — была написана сразу же по-
сле первой главы первого тома. Все, что между ними, было
написано потом».
Под преформизмом мы имеем в виду просто префор-
мизм: хорошо известное биологическое учение, которое
противоположно учению об эпигенезе и согласно кото-
рому вся совокупность наследуемых характеристик, ак-
туально, хоть и в уменьшенных размерах — в которых,
однако, уже соблюдены формы и пропорции будущего
взрослого организма — полностью, якобы, заключена в
зародыше. Теория вложения находилась в центре этого
преформизма, который теперь может вызвать разве что
улыбку. Но чему мы улыбаемся? Этому взрослому в ми-
ниатюре, несомненно, но и тому, что природа наделяет-
ся более чем целесообразностью: актуальным провиде-
нием и искусством, осознающим свои творения. Но пре-
формизм не вызывает улыбку, когда речь идет об искус-
стве, которое не подражает природе, когда художник —
это человек, а порождает само сознание. Logos spermati-
cos оказывается у себя дома, он уже не приобретается
извне, поскольку это антропоморфное понятие. Дейст-
вительно: показав всю необходимость повторения в пру-
стовской композиции, Руссе пишет: «Что бы не думали
об условности, которая вводит «Любовь Свана», мы ее
быстро забываем, настолько тугой и органичной оказы-
вается связь, связывающая часть с целым. Как только чте-
ние «Поисков» закончено, замечаешь, что речь никоим
образом не идет о некоем изолируемом эпизоде; без него
было бы непонятно все остальное. «Любовь Свана» — это
роман в романе или картина в картине... он напоминает
не эти вставляющиеся друг в друга истории, которые мно-
гими романистами XVII и XVIII веков включались в свои
рассказы, но, скорее, те внутренние истории, которые
можно прочесть в «Жизни Марианны», у Бальзака или у
Жида. У одного из входов в свой роман Пруст помещает
вогнутое зеркало, которое отражает его в некоем сжа-
том виде» (р. 146). Метафора и действие вложения неиз-
бежно навязываются здесь, даже если в конечном счете
они заменяются на более утонченный и более адекват-
ный образ, который в конечном счете означает все то же
отношение включения. На этот раз отражающего и пред-
ставляющего включения.
По тем же причинам эстетика Руссе согласуется с
эстетикой Клоделя. Впрочем, сама эстетика Пруста оп-
ределена в начале эссе о Клоделе. Родственные черты у
них очевидны, несмотря на все различия. Тема «струк-
турной монотонности» объединяет все эти родственные
черты: «Вновь думая о монотонности произведений Вен-
тойля, я объяснял Альбертине, что великие литераторы
всегда писали одно единственное произведение или, ско-
рее, преломляли через множество различных сред одну
и ту же красоту, которую они приносят в мир» (р. 171).
Клодель: «Сатиновый башмак» — это «Золотая голова»
в иной форме. Он сводит воедино одновременно «Золо-
тую голову» и «Полуденный раздел». Это даже просто
заключение «Полуденного раздела»... Поэт никогда не
Делает ничего, кроме развития предустановленного пла-
на» (р. 172).
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
Эта эстетика, нейтрализующая длительность и силу
как различие между желудем и дубом, не существует у
Пруста и Клоделя в некоей автономии. Она выражает
особую метафизику. «Время в чистом состоянии» Пруст
называет также «безвременным» или «вечным». Истина
времени не относится ко времени. Смысл времени, чис-
тая темпоралъностъ не являются темпоральными. Ана-
логичным образом (только аналогичным), по Клоделю,
время как необратимая последовательность есть лишь
феномен, эпидерма, поверхностный образ настоящей ис-
тины универсума, как он помыслен и сотворен Богом.
Такая истина — абсолютная одномоментность. Подоб-
но Богу, Клодель — творец и композитор — обладает
«вкусом к вещам, которые существуют совокупно »(«По-
этическое искусство»)34.
Эта метафизическая интенция оказывается послед-
ней точкой опорой, поддерживающей через серию опо-
средований все эссе о Прусте, все анализы, посвященные
«фундаментальной сцене театра Клоделя» (р. 183), «чис-
тому состояниюклоделевскойструктуры» (р. 177)в «По-
луденном разделе», целокупности всего этого театра, в
котором, по словам самого Клоделя, «мы играем на вре-
мени как на аккордеоне» и где «часы текут, а дни ловко
скрыты» (р. 181).
Конечно, мы не собираемся исследовать эту эстети-
ку или эту теологию темпоральности ради них самих.
Легко согласиться и с тем, что эстетика, руководимая ими,
вполне законна и плодотворна в чтении Пруста и Клоде-
ля, поскольку это их эстетика, дочь (или мать) их мета-
физики. Легко будет согласиться с нами и в том, что речь
тут идет об имплицитной метафизике любого структу-
рализма или любого структуралистского жеста. В осо-
бенности структуралистское чтение всегда в своем соб-
ственном моменте предполагает, всегда обращается к
этой теологической одновременности книги, считая себя
лишенным самого главного, если к ней нет доступа. Вот,
что говорит Руссе: «Во всяком случае, чтение, которое
развертывается во времени, чтобы стать глобальным,
должно будет одновременно представить себе все про-
изведение присутствующим во всех его частях... Подоб-
но «движущейся картине» книга открывается лишь в по-
следовательных фрагментах. Задача требовательного
читателя состоит в опрокидывании этой естественной
наклонности книги, так чтобы она целиком предстала
перед взором разума. Существует лишь то полное про-
чтение, которое превращает книгу в синхронную сеть вза-
имных отношений — вот когда рождаются неожидан-
ности...» (р. XIII). (Какие неожиданности? Как же
синхронность может скрывать в себе еще какие-то не-
ожиданности? Скорее, речь идет о том, чтобы уничтожить
неожиданности не-синхронного. Неожиданности рожда-
ются в диалоге не-синхронного и синхронного. Это все
равно, что сказать, что структурная синхронность сама
по себе успокоительна.) Ж.-П. Ришар: «Сложность вся-
кого завершенного исследования структуры состоит в
том, что приходится описывать последовательно, одно за
другим, то, что в действительности существует синхрон-
но» (op. cit. р. 28). Итак, Руссе упоминает сложность дос-
тижения в чтении синхронного, которое суть истина,
Ж.-П. Ришар — сложность дать о нем отчет в письме.
В обоих случаях синхронность — это миф, выдвинутый в
качестве регулятивного идеала полных чтения и письма.
Поиски синхронного объясняют эту очарованность про-
странственным образом: разве пространство — это не
«порядок соположенных сущностей » (Лейбниц)? Но, го-
воря «синхронность» вместо пространства, пытаются
сконцентрировать время, вместо того, чтобы его забыть.
«Длительность принимает, таким образом, иллюзорную
форму гомогенной среды, а черта единства пространства
и времени — это одновременность, которую можно было
бы определить как пересечение времени с пространст-
вом»35. В этом требовании плоского и горизонтального
невыносимыми для структурализма оказываются богат-
ство и вложенность тома и объема, все то, что в значе-
нии не может быть выставлено в синхронности некоей
формы. Но случайно ли, что книга в первую очередь —
это некоторый объем?36 И что смысл смысла (в общем
смысле смысла, а не в смысле сигнализирования) — это
бесконечное взаимовключение? Неопределенная отсыл-
ка означающего к означающему? Что его сила — эта не-
которая чистая и бесконечная двусмысленность, не даю-
щая никакой передышки, никакого отдыха в означенном
смысле, влекущая этот смысл в своей собственной эконо-
мии к новому производству знака и отсрочиванию? Ни-
где нет тождественности написанного с самим собой,
кроме как в Книге, не воплощенной Малларме.
Не воплощенной*, это не значит, что Малларме не уда-
лось создать книгу, которая была бы едина сама с со-
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
бой — просто Малларме и не хотел этого. Он сделал не-
воплощенным единство Книги, заставляя дрожать те ка-
тегории, в которых ее собирались со всей уверенностью
мыслить: говоря всегда о «самотождественности Книги »,
он подчеркивает, что книга, «будучи сочлененной с са-
мой собой», — это одновременно «то же самое и иное».
Он не только предается таким образом «двойному
толкованию», но через него, — говорит Малларме, —
«Я, скажем так, сею тут и там по десять раз весь этот двой-
ной том»37.
Есть ли у нас право возводить в общий метод струк-
турализма эту столь удачно примененную к Клоделю и
Прусту метафизику и эстетику38? Как раз это, однако,
делает Руссе в той мере, в какой он, как мы попытались
это показать, решается свести к неважности некоторого
огреха или шелухи все то, что не может быть понято в
свете «предустановленной» телеологической схемы и
воспринято в ее синхронности. Даже в эссе, посвящен-
ных Прусту и Клоделю, отличающихся наибольшей со-
держательностью, Руссе должен пойти на рассмотрение
в качестве «случайностей генезиса» «каждого эпизода и
каждого персонажа», «вероятную независимость» кото-
рых по отношению к «центральной теме» или «общей
организации произведения» следовало бы «констатиро-
вать» (р. 164); он должен пойти на столкновение «настоя-
щего Пруста» с «романистом», с которым он, впрочем,
может «поступать не совсем справедливо », раз и настоя-
щий Пруст может также упустить «истину» любви по
Руссе, и т.д. (р. 166). Так же как «настоящий Бодлер есть,
возможно, в одном только «Балконе », а весь Флобер — в
«Мадам Бовари»» (р. XIX), настоящий Пруст не может
быть повсюду одновременно. Руссе должен также заклю-
чить, что персонажи «Заложника» разлучены не случай-
но, но чтобы «лучше высказаться» в соответствии с
«требованиями схемы Клоделя» (р.179); он должен об-
наружить чудеса изощренности, чтобы доказать, что в
«Сатиновом башмаке» Клодель не «отрекается от само-
го себя» и не «отказывается» от своей «постоянной схе-
мы» (р. 183).
Самое же существенное заключается в том, что этот
метод, который мы назвали «ультраструктуралист-
ским», в некоторых отношениях, похоже, противоречит
здесь наиболее ценной и наиболее оригинальной интен-
ции структурализма. Структурализм, в тех областях
лингвистики и биологии, где он вначале сформировал-
ся, особое значение придает сохранению связности и
полноты каждой целостности на ее собственном уров-
не. Он не дает в некоторой данной конфигурации обра-
щать внимание сразу же на незавершенную или ущерб-
ную часть, то есть на все, из-за чего эта конфигурация
представлялась бы слепым предчувствием или таинст-
венным угадыванием некоего ортогенеза, мыслимого
исходя из телоса или какой-то идеальной нормы. Быть
структуралистом — это в первую очередь привязывать-
ся к организации смысла, к собственному равновесию и
автономии, к уже удавшемуся выстраиванию каждого
момента, каждой формы; это отказаться заносить в ряд
уводящих от сути дела случайностей все, что не позво-
ляет понять какой-нибудь идеальный тип. Даже пато-
логическое — это не простое отсутствие структуры. Оно
организовано. Оно не может быть понято как недоста-
ток, как ущербность или разложение некоей прекрас-
ной идеальной целостности. Оно — не просто пораже-
ние телоса.
Правда, отказ от финализма — это правило, мето-
дическая норма, с трудом выполняемая структурализ-
мом. По отношению к телосу это обет непочтения, ко-
торому сама работа никогда не остается верной.
Структурализм живет в различии и исходя из различия
между обетом и фактом. Идет ли речь о биологии, лин-
гвистике или литературе, как представлять целостность,
если не работать, исходя из ее цели или, по крайней мере,
предположенности такой цели. А если смысл является
таковым лишь в некоторой целостности, то откуда бы
ему взяться, если бы целостность не была одушевлена
предчувствием цели, некоторой интенциональностью,
которая, впрочем, вовсе не обязательно и далеко не в
первую очередь оказывается интенциональностью соз-
нания. Если структуры существуют, то они возможны,
исходя из этой фундаментальной структуры, посредст-
вом которой эта целостность открывает саму себя и вы-
ходит за свои пределы, дабы обрести смысл в предчув-
ствии телоса, который здесь нужно понимать в наиболее
неопределенной форме. Это открытие является, конеч-
но, тем, что высвобождает время и генезис (и даже сме-
шивается с ними), но и тем, что рискует закрыть станов-
ление, осведомив его. Рискует умолчать силу под
формой.
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
Теперь мы можем признать, что то, что в перечи-
тывании, к которому нас приглашает Руссе, изнутри
грозит свету, — это также и то, что метафизически уг-
рожает всему структурализму: сокрытие смысла тем са-
мым актом, в котором мы его и открываем. Понять
структуру становления, форму силы — это потерять
смысл, его приобретая. Смысл становления и силы в их
чистом и собственном качестве — это отдых начала и
конца, умиротворенность спектакля, горизонта или
лица. В этом отдыхе и умиротворении качеству станов-
ления и силы ущерб нанесен самим смыслом. Всем тем,
что в нем стремится ввысь, смысл смысла оказывается
аполлоновским.
Сказать, что сила — это начало феномена, — ничего
не сказать. Будучи высказанной, сила уже является фе-
номеном. Гегель прекрасно показал, что объяснение
некоего феномена силой является тавтологией. Но утвер-
ждая, что сила — это начало феномена, нужно нацели-
ваться на определенную неспособность языка выйти во-
вне самого себя, а не на мысль о силе. Сила — это иное
языка, без которого он не был бы тем, что он есть.
Необходимо еще, чтобы отметить и не упустить это
странное движение в языке, попытаться вернуться к этой
метафоре тени и света (показывания и сокрытия себя),
являющейся базовой для западной философии как мета-
физики. Базовой не только в качестве световой метафо-
ры, — а в этом отношении вся история нашей философии
оказывается фотологией, по названию истории света или
трактата о свете, — но и в качестве просто метафоры: ме-
тафора вообще, переход от одного сущего к другому, от
одного означаемого к другому, закрепленный начальным
подчинением бытия сущему и тем смещением бытия по
направлению к сущему, которое уподобляет его суще-
му, является главной силой тяжести, удерживающей и
непоправимо подавляющей дискурс метафизики. Такова
судьба, которую глупо было бы считать досадной и вре-
менной превратностью «истории», промахом, ошибкой
мысли в истории (inbistoria). Ведь именно падением мыс-
ли в философию, in historiam, была зачинена история. Это
равносильно утверждению, что сама метафора «падения »
нуждается в кавычках. В этой гелиоцентрической мета-
физике сила, уступающая место эйдосу (то есть форме,
видимой метафорическому оку), уже была отделена от
своего смысла силы, как качественная определенность
музыки отделена от себя в акустике39. Как понимать силу
и слабость в терминах ясности и темноты?
Тот факт, что современный структурализм появил-
ся и возрос в более или менее прямой и признанной за-
висимости от феноменологии, был бы вполне достаточ-
ным для того, чтобы сделать его должником наиболее
чистой традиции западной философии, то есть той тра-
диции, которая, несмотря на антиплатонизм, привела
Гуссерля обратно к Платону. Напрасно было бы искать
в феноменологии понятие, которое позволило бы мыс-
лить интенсивность или силу. Мыслить мощь, а не толь-
ко направление, «тенцию», напряжение, а не только «ин»
в интенциональности. Всякое значение исходно консти-
туируется теоретическим субъектом. Все выигранное или
потерянное является таковым лишь в форме ясности или
неясности, очевидности, присутствия и отсутствия для
сознания, осознания или потери сознания. Прозрач-
ность, также как и однозначность, оказывается высшей
ценностью. Отсюда и все сложности в попытках помыс-
лить генезис и чистую темпоральность трансценденталь-
ного эго, дать отчет в удачном или провалившемся во-
площении телоса и в тех таинственных слабостях,
которые называют кризисами. А когда, в отдельных мес-
тах, Гуссерль перестает трактовать феномены кризиса
как «превратности генезиса», как несущественное (Un-
wesen), он показывает, что забвение необходимым эйде-
тическим образом, в форме «седиментации», предписано
развитию истины. Самому ее открытию, ее просветле-
нию. Но откуда эти силы и эти слабости сознания, эта
сила слабости, которая скрывает в том самом акте, в
котором открывает? Если эта «диалектика» силы и сла-
бости есть конечность самой мысли в ее отношении к
бытию, то она не может выражаться в языке формы,
посредством света и тени. Ведь сила — это не темнота,
она не скрыта под формой, для которой она была бы
субстанцией, материей или криптой. Сила не мыслится,
исходя из пары противопоставлений, то есть исходя из
заговора между феноменологией и оккультизмом. Или,
внутри феноменологии, в качестве факта, противопос-
тавленного смыслу.
Итак, нужно пытаться освободиться от этого языка.
Даже не пытаться освободиться от него, поскольку это
невозможно без забвения нашей истории, а мечтать об
этом. Не освободиться от него, поскольку это не имело
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
бы никакого смысла и лишило бы нас всего его света, но
сопротивляться ему как можно дольше. Во всяком слу-
чае, нельзя забываться в нем тем забвением, которое се-
годня оказывается похмельем утонченнейшего структу-
ралистского формализма.
Критике, если однажды ей придется объясниться и
обменяться парой слов с литературным письмом, не сто-
ит ждать, пока это сопротивление организуется в некоей
«философии», управляющей какой-нибудь эстетической
методологией, принципы которой она бы приобрела в
свое распоряжение. Ведь философия определилась в сво-
ей истории как рефлексия поэтического введения. Мыс-
лимая отдельно, она есть сумерки сил, то есть освещен-
ное солнцем утро, когда в разговор вступают образы,
формы, феномены; утро идей и идолов, когда натяжение
сил становится отдыхом, плоскостью, освещенной све-
том, горизонтальной протяженностью. Но все предпри-
ятие совершенно безнадежно, если полагать, что — зна-
ет она это или нет, желает или нет — литературная
критика уже определена как философия литературы. Как
таковая, то есть пока она не вскроет специально страте-
гическое действие, о котором мы говорили выше и кото-
рое не может быть продумано под рубрикой одного лишь
структурализма, литературная критика не будет иметь ни
средств, ни — особенно — мотива отказаться от предпоч-
тения равномерности, геометрии, от привилегии взгля-
да, от аполлоновского экстаза, который «творит до вся-
кого раздражения взгляда, дающего глазу способность
зрения »40. Она не сможет превзойти саму себя до тех пор,
пока не полюбит силу и смещающее линии движение, не
полюбит его как движение, как желание, само по себе, а
не как превратность и эпифанию линий. Пока не начнет
писать.
И отсюда эта ностальгия, эта меланхолия, это пав-
шее дионисийство, о которых мы говорили в начале. Оши-
баемся ли мы, замечая их сквозь хвалу структурной
«монотонности » у Клоделя, заключающей «Форму и зна-
чение»?
Нужно бы уже заканчивать, но спор не окончен. Рас-
пря, разница между Дионисом и Аполлоном, между по-
рывом и структурой, не стирается в истории, поскольку
разница эта не находится внутри истории. Она есть в не-
котором необычном смысле исходная структура: откры-
тие истории, сама историчность. Различие не принад-
лежит просто истории или просто структуре. Если необ-
ходимо сказать вместе с Шеллингом, что «все есть толь-
ко Дионис», необходимо также знать — то есть напи-
сать, — что в качестве чистой силы Дионис проработан
различием. Он видит и дает увидеть себя. И выкалывает
(себе) глаза. Искони он относится к своему внешнему, к
видимой форме, к структуре как к своей смерти.
«Недостаточно форм», — говорил Флобер. Как это
понимать? Прославление ли это иного формы, «избытка
вещей», который ее превосходит и сопротивляется ей?
Хвала Дионису? Мы подозреваем, что нет. Это, напротив,
вздох вроде: «увы, недостаточно форм». Это религия про-
изведения как формы. Впрочем, вещи, для которых нам
не хватает форм, — это уже фантомы энергии, «идеи»,
которые «шире пластики силы». Речь идет о выпаде про-
тив Леконта де Лиля, выпаде страстном, ведь Флоберу
«очень нравится этот человек»41.
Ницше ни в коей мере не обманулся в этом пункте:
«Флобер — переиздание Паскаля, скрывающее под чер-
тами художника это инстинктивное суждение: “Флобер
сам по себе всегда отвратителен, человек — ничто, про-
изведение — все...”»42.
Итак, нужно выбирать между письмом и танцем.
Напрасно Ницше советовал нам танец с пером:
«Уметь танцевать ногами, идеями, словами — нужно ли
говорить, что столь же необходимо уметь танцевать пе-
ром, что нужно научиться писать? ». Флобер хорошо знал,
что письмо не может быть дионисийским от начала до
конца, и в этом он был прав. «Думать и писать можно лишь
сидя», — говорил он. Веселый гнев Ницше: «Вот я и пой-
мал тебя, нигилист! Оставаться сидеть — это и есть пре-
грешение против Святого Духа. Ценны только те мысли,
которые приходят вам на ходу».
Ницше догадывался, что писатель никогда не будет
стоять; что письмо изначально и навсегда что-то, над чем
нужно склоняться. Особенно когда буквы — уже не ог-
ненные письмена в небе.
Ницше об этом догадывался, а Заратустра был в этом
уверен: «Вот я в окружении разломанных и наполовину
исписанных скрижалей. Я в ожидании. Когда придет мой
нас, час нисхождения и гибели...». «Die Stunde meines
Niederganges, Unterganges.» Нужно спуститься, порабо-
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
тать, склониться, чтобы написать и принести новую скри-
жаль в долины, чтобы прочесть и заставить ее читать.
Письмо — это исход, как нисхождение из себя в себе
смысла: метафора-для-другого-ввиду-другого-который-
здесь, метафора как метафизика, в которой бытие долж-
но скрыться, если мы хотим, чтобы появилось иное. Про-
черчивание иного по направлению к иному, в котором
то же самое ищет свою жилу и свое истинное золото.
Подчинение, в котором можно потерять(ся). Niedergang,
Untergang. Но оно — ничто, его нет до риска поте-
ряться). Поскольку братское другое — это исходно не
умиротворенность того, что называют интерсубъектив-
ностью, но работа и опасность вопрошания; вначале оно
не успокоенность в ответе, где два утверждения соеди-
няются брачными узами, но оно призвано в ночи тру-
дом пустоты выспрашивания. Письмо — это момент этой
исходной Равнины другого в бытии. Момент как глуби-
ны, так и провала. Устой или настоятельность запечат-
ления.
«Посмотрите: вот новая скрижаль. Но где же мои
братья, что помогут мне нести ее в долины и вписать ее в
сердца плоти?»
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В «Воображаемой вселенной Малларме» (р. 30, note 27)
Ж.-П. Ришар пишет: «Мы были бы счастливы, если бы
наша работа могла предоставить некоторые новые мате-
риалы той будущей истории воображения и чувствитель-
ности, которой нет еще о XIX веке, и которая, несомнен-
но, продолжит работы Жана Руссе о барокко, Поля Азара
о XVIII веке и Андре Монлона о преромантизме».
1 «Структура— замечает Кребер в «Антропологии»
(р. 325) — это, похоже, лишь слабость к слову, значе-
ние которого отлично определено, но которое внезап-
но, за какие-то десять лет, приобретает очарование
моды — как, например, слово «аэродинамический» —
а затем применяется где угодно только в силу своей
звучности.»
Чтобы ухватить глубинную необходимость, которая
скрывается под действительно неоспоримым феноме-
ном моды, нужно вначале действовать «негативным ме-
тодом»: выбор некоего слова — это в первую очередь
множество — конечно, структурное — исключений.
Чтобы узнать, почему говорят «структура», нужно
знать, почему появляется желание больше не говорить
eidos, «сущность», «форма», Gestalt, «множество»,
«композиция», «комплекс», «конструкция», «корреля-
ция», «тотальность», «Идея», «организм», «состоя-
ние», «система» и т.п. Нужно понять, почему каждое
из этих слов обнаружило свою недостаточность и по-
чему также понятие структуры по-прежнему заимст-
вует у них некое скрытое значение, позволяя им гнез-
диться в себе.
По теме отделения писателя см. в особенности главу III
введения Ж. Руссе к «Форме и значению». Делакруа,
Дидро, Бальзак, Бодлер, Малларме, Пруст, Валери,
Г. Джеймс, Т.С. Элиот, В. Вульф появляются в ней, что-
бы засвидетельствовать, что это отделение прямо про-
тивоположно бессилию критики. Настаивая на разделе-
нии между актом критики и творческой силой, мы
указываем лишь на самую банальную сущностную или,
как сказали бы другие, структурную необходимость,
связанную с двумя жестами и двумя моментами. Бесси-
лие здесь — это бессилие критики, а не критика. Их ино-
гда смешивают. Как, например, Флобер. Это замечаешь,
читая сборник писем, представленный Женевьевой Бо-
лем под заглавием «Предисловие к жизни писателя»
(Seuil, 1936). Обращая внимание на то, что критик док-
ладывает, вместо того, чтобы вкладывать, Флобер пишет
следующее : «Критикой занимаются, когда не могут за-
няться искусством, так же как шпионом становится тот,
кто не может быть солдатом... Плавт посмеялся бы над
Аристотелем, если бы знал его! А сколько обсуждали
Корнеля! Даже сам Вольтер был урезан Буало. А сколь-
ких неприятностей мы избежали бы в современной дра-
ме, если б не В. Шлегель? А когда будет закончен пере-
вод Гегеля, один Бог знает, что с нами станется!» (р. 42).
Перевод Гегеля, слава Богу, не закончен, что объясняет
существование Пруста, Джойса, Фолкнера и других.
Различие между ними и Малларме состоит, возможно, в
чтении Гегеля. В том, что он, по крайней мере, решил
идти к Гегелю. Во всяком случае, у гения еще есть вре-
мя, а переводы можно не читать. Флобер был прав, опа-
саясь Гегеля: «Вполне можно надеяться на то, что в
будущем искусство не перестанет развиваться и совер-
шенствоваться...», но «его форма уже перестала удов-
летворять наиболее возвышенные потребности духа».
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
«По крайней мере в своем высшем предназначении ис-
кусство для нас остается в прошлом. Для нас оно поте-
ряло свою истину и свою жизнь. Оно приглашает к фи-
лософской рефлексии, которая претендует не на то,
чтобы обновить его, а на то, чтобы со всей строгостью
признать его сущность.»
и L’ Univers imaginaire de Mallarme, p. 14.
5 Ср. Gerard Genette, Une poetique structural, Tel Quel 7,
automne 1961, p.13.
6 Cp. Jean Russet, la Literature de I'age baroque en France.
I. Circe et le paon. Мы читаем здесь (p. 194) по поводу
одного немецкого примера: «Ад — это мир, разорван-
ный на куски, мерцание, которому поэма подражает сво-
ей мешаниной криков, дрожью бесчисленных мучений,
потоком проклятий. Фраза сводится к своим разъеди-
ненным элементам, строй сонета разламывается на
слишком длинные и слишком короткие неуравновешен-
ные четверостишья; поэма взрывается...».
7 Jose Cortied., 1962.
8 Процитировав следующий отрывок из Ж. Пикона
(р. VII): «До современного искусства произведение
представляется выражением предшествующего опыта...
произведение высказывает то, что было задумано или
увидено, так что между опытом и произведением пере-
ход лишь в технике осуществления. Для современного
искусства произведение — не выражение, но творение:
оно показывает то, что нельзя было увидеть до него, оно
производит вместо того, чтобы отражать», — Руссе
уточняет и проводит дополнительные различия: «Силь-
ное отличие и, на наш взгляд, весьма существенное за-
воевание современного искусства или, скорее, завоева-
ние понимания творческого процесса, которым теперь
обладает это искусство...» (курсив наш. — Ж.Д.: со-
гласно Руссе, сегодня мы начинаем понимать творческий
процесс вообще). Для Ж. Пикона изменение затрагива-
ет искусство, а не только современное понимание искус-
ства. В другом месте он писал: «Вся история современ-
ной поэзии — это история смены языка выражения
языком творения... Язык теперь должен произвести мир,
который он уже не может выразить.» (Introductionа ипе
esthetique de la litterature. I. L’6crivain et son ombre, 1953,
p.159).
9 «Критика чистого разума »(trad. Tremesaygues et Pacaud,
p. 153). Тексты Канта, на которые мы будем здесь ссы-
латься, также как и другие тексты, не используются Рус-
се. В случае, если речь идет о цитатах самого автора, мы
отсылаем непосредственно к страницам «Формы и зна-
чения».
10 Ibid.
11 Critique du jugement, § 57, remarque I, trad. Gibelen, p.
157.
12 Ibid., § 49, p. 133.
13 Ibid., p. 72.
14 Ibid., § 35, p. 111.
15 Critique de la raison pure, p. 93.
16 Цитируется М.Бланшо в L’ Arche (27-28, aout-septembre
1948, p. 133). He та же ли ситуация описана в «Введении
в метод Леонардо да Винчи »?
17 Не конституировано ли оно этим требованием? Не есть
ли оно что-то вроде привилегированного представления
этого требования?
18 Есть и тревога дыхания, вздоха, который задерживает-
ся, чтобы вернуться к себе, чтобы воздыхать по своему
первому источнику и возвращаться к нему. Ведь гово-
рить — это знать, что мысль должна стать чуждой для
самой себя, чтобы явиться и высказаться. При этом она
хочет обрести себя, отдаваясь. Вот почему в языке на-
стоящего писателя, то есть того, кто желает удерживать-
ся как можно ближе к истоку своего действия, мы чув-
ствуем жест, нацеленный на возвращение и изымание
высказанной мысли. Вдохновение — это и противопо-
ложность высказыванию, выдоху. Об исходном языке
можно сказать то, что Фейербах говорит о философ-
ском: «Философия исходит изо рта или из под пера лишь
затем, чтобы обратиться непосредственно к своему соб-
ственному источнику; она говорит не из удовольствия
(откуда и ее нелюбовь к пустым фразам), но чтобы не
сказать, чтобы думать... Доказать — это просто пока-
зать, что то, что я говорю, — истинно', то есть просто-
напросто снять отчуждение (Entauss erung) мысли в ее
изначальном источнике. Поэтому нельзя понять значе-
ние доказательства без отсылки к значению языка.
Язык — это не что иное, как осуществление вида, уста-
новление отношений между мной и тобой, направлен-
ное на представление единства вида через уничтожение
индивидуальной изолированности меня и тебя. Вот по-
чему стихия слова — это воздух, наиболее универсаль-
ный и наиболее духовный медиум жизни» (Contribution
a la critique de la philosophic de Hegel, 1839, Manifestes
philosophique, trad. L. Althusser p. 22).
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
Но считал ли Фейербах, что эфирный язык забывает сам
себя? Что он не может быть элементом истории, если он
не покоится на земле? Тяжелой, жесткой и основатель-
ной земле. Земле, на которой работают, оставляют от-
метины, пишут. На том не менее всеобщем элементе, на
котором смысл записывают, дабы он длился.
Гегель, похоже, нам здесь более подходит. В рамках ду-
ховной метафорики естественных элементов он тоже
думает, что «воздух — это абсолютно универсальная,
неизменная и прозрачная сущность», что «вода— это
сущность, приносимая в дари жертву», «огонь — их жи-
вительное единство», но в то же время для него «зем-
ля — это прочный узел всей этой организации, субъект
этих сущностей, так же как их процесса, начала и воз-
вращения». «Феноменология духа», trad. J. Hyppolite,
II, р. 58.
Проблема отношений письма и земли — это и проблема
возможности такой метафорики элементов, ее происхо-
ждения и ее смысла.
19 «Reflexions sur la creation artictique selon Alain*, в Re-
vue de mitaphysique et de morale (avril-juin 1952), p. 171.
Этот анализ прекрасно демонстрирует, что «Система
изящных искусств», написанная во время Второй миро-
вой войны, делает нечто большее, нежели просто пред-
сказывает некоторые темы «современной » эстетики, ко-
торые, казалось бы, появились совсем недавно. Это в
особенности относится к определенному антиплатониз-
му, который не исключает, как доказывает Ж. Кангий-
ем, глубинного согласия с Платоном, понимаемым ина-
че, чем в «бесхитростном» платонизме.
20 Этот фрагмент опубликован в Revue de metaphysique et
de morale (oct.-dec. 1962, p. 406-407).
21 Problemes actuels de la phenomenologie, p. 97.
22 Commentaire sur saint Matthieu.
25 Lettre sur Г humanisme, p . 60.
24 P. XVIII: «По этой же причине Ж. Пуле мало интересу-
ется искусством, произведением как некоторой реаль-
ностью, воплощенной в языке и формальных структу-
рах, для него «сомнительна объективность» искусства
и произведения: критик подвергается таким образом
опасности схватывать их извне.»
25 «Исследования Ж.-П. Ришара столь искусны, результа-
ты столь новы и убедительны, что мы должны признать
их правоту в том, чего они касаются. Но, соответствен-
но его собственным целям, он в первую очередь интере-
суется воображаемым миром поэта, неким еще скрытым
произведением, а не его морфологией и стилем»
(р. XXII).
26 Guez de Balzac, liv. VIII, lettre 15.
27 Vaugelas, Rem., t. II, p. 101.
28 Cm. Anthropologic structural p. 310.
29 Cm. Di scours de methaphysique, chap. XII.
30 Воспроизведем по крайней мере сводное заключение,
итог эссе: «Пробег и превращение — говорили мы по-
сле анализа первого и пятого актов, анализа их симмет-
рии и изменений. К этому теперь следует добавить еще
одну существенную черту корнелевской драмы: движе-
ние, им описываемое, — это движение восхождения к
центру, расположенному в бесконечности...» (Чем,
впрочем, в этой пространственной схеме становится бес-
конечное, которое, что важно, не только нередуцируе-
мая, но и качественная специфика «движения »?) «Мож-
но еще более уточнить его природу. Траектория из двух
петель, устремленных движением вверх — это восхож-
дение спиралью; две восходящие лини расходятся, пе-
рекрещиваются, удаляются и воссоединяются, чтобы
продолжить друг друга в общем пути по ту сторону пье-
сы...» (Каков, интересно, структурный смысл выраже-
ния «по ту сторону пьесы»?) «...Полина и Полиевкт
встречаются и различаются в первом акте; в четвертом
они сходятся ближе, на более высоком уровне, но снова
расходятся; они проходят еще один этап и обретают друг
друга в пятом акте, кульминационной фазе восхожде-
ния, откуда они устремляются в последнем броске, на-
веки соединяющим их в высшей точке свободы и триум-
фа, в Боге» (р. 16).
31 Ср., например, М. Leenhardt, Г Art oceanique. Gens et la
grande Terre, p. 99 ; Do Kamo, p. 19-21.
32 Вот несколько формулировок этой постоянной структу-
ры: «В чем настоящая пьеса? Она в наложении и пересе-
чении двух планов, в разломах и обменах, устанавливае-
мых между ними и доставляющих нам утонченное
удовольствие бинокулярной направленности внимания
и двойного чтения » (56). «...С этой точки зрения любую
пьесу Мариво можно было бы определить так: двухуров-
невый организм, оба плана которого постепенно сбли-
жаются до их полного совмещения. Пьеса заканчивает-
ся, когда оба уровня смешиваются, то есть когда группа
героев, на которых были устремлены все взгляды, видит
себя так, как их вдели персонажи-зрители. Реальная раз-
Сила и значение «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Сила и значение
вязка — это не женитьба, о которой нам объявляется при
опускании занавеса, а встреча сердца и взгляда» (58).
«...Нас пригласили проследить за развитием пьесы в
двух ее направлениях, предлагающих две параллельные,
но и различенные, размежеванные их значением, язы-
ком и функцией кривые: одна прочерчена одним махом,
другая прорисовывается во всей ее сложности, первая
позволяет догадаться о том, куда пойдет вторая, отзы-
вающаяся и представляющая конечный смысл первой.
Эта игра отражений способствует приданию пьесе Ма-
риво ее строгой и гибкой геометрии, связывая одновре-
менно оба регистра во всех движениях вплоть до любов-
ных» (59).
33 Цитируется на р. 189. Вот какой комментарий дается
Руссе: «Такое заявление, если взять его вместе с осталь-
ными, значимо для всех порядков реальности. Все под-
чиняется закону композиции, закону как художника, так
и творца. Ведь вселенная — это одномоментность, в ко-
торой разделенные вещи существуют, относясь друг к
другу и образуя гармоническую сплоченность; в отно-
шениях существ их объединяющей метафоре соответст-
вует любовь, связь разделенных душ. Для мысли Клоде-
ля естественно, поэтому, допустить, что существа,
разделенные расстоянием, соединены их одновременно-
стью и одномоментностью, так что они согласуются друг
с другом как две ноты одного аккорда, как, например,
Пруез и Родриг соединены «неразрывными узами»».
34 Бергсон, «Опыт о непосредственных данных сознания ».
35 Для сторонника литературного структурализма (и, воз-
можно, структурализма вообще) буква книг — бесконеч-
ное движение, гибкость и неустойчивость смыла, завер-
нутого на себя самого и заключенного в кору, в том —
еще не заменила (да и может ли она это сделать?) буквы
установленного и выставленного на обозрение Закона,
предписания скрижалей.
36 Об этой «самотождественности» книги Малларме см.:
J. Scherer, Le « Luvre » de Mallarme, p. 95 et feuillet 94 et
p.77 etfeuillet 129-130.
37 Мы не настаиваем здесь на этом типе вопроса. Вопрос
банален, но это вопрос, который весьма сложно обойти
и который появляется на каждой стадии работы Руссе,
коль скоро речь идет об отдельно рассматриваемом ав-
торе или даже об отдельном произведении. Может быть,
всякий раз наличествует лишь одна фундаментальная
структура? Как ее узнать и как отдать ей эту привиле-
гию? Критерием для этого не может быть ни эмпирико-
статистическое накопление, ни интуиция сущности.
В структуралистской науке, занимающейся отдельными
произведениями, то есть вещами, структура которых не
априорна, ставится, таким образом, проблема индукции.
Существует ли материальное априори произведения? Но
сама интуиция материального априори ставит множе-
ство предварительных проблем.
38 «...Отправной пункт, позволяющий утверждать, что все
качественное — количественно, обнаруживается в аку-
стике... (Теория струн; отношение интервалов; дориче-
ская тональность)... Речь идет о том, чтобы повсюду
отыскивать математические формулы для абсолютно не-
проницаемых сил.» (Ницше, «Рождение философии в
эпоху греческой трагедии».)
39 Ницше, «Сумерки богов».
40 Prefaces a la vie d’ecrivain, р. 111.
41 Le Crepuscule des idoles, p. 68. Небезынтересно будет со-
поставить это выражение Ницше со следующим отрыв-
ком из «Формы и значения»: «Письма Флобера весьма
ценны, но во Флобере писем я не узнаю Флобера-рома-
ниста; когда же Жид утверждает прямо противополож-
ное, у меня возникает чувство, что он выбирает плохого
Флобера или по крайней мере того, кого Флобер-рома-
нист должен полностью уничтожить» (р. XX).
К о г и т о и история
безумия
54
...Мгновение Решения — это Безумие...
Кьеркегор
Так или иначе, эта книга — ужасный риск.
Прозрачный лист отделяет ее от безумия.
Джойс, по поводу «Улисса»
Отправной точкой этих размышлений является, как
ясно из заглавия выступления1, книга М. Фуко «Безумие
и неразумие, история безумия в классическую эпоху»2.
Эта книга, замечательная во многих отношениях,
сильная по своему стилю и по своей настроенности, — тем
более смущает меня, что я, будучи некогда учеником
Мишеля Фуко, до сих пор храню чувство почтения и при-
знательности. Сознание же ученика, когда он начинает
не то чтобы спорить, но просто вести диалог со своим
учителем, или, скорее, излагать тот непрерываемый и
молчаливый диалог, сделавший его учеником, сознание
это становится несчастным сознанием. Начиная вести
диалог с миром, то есть отвечать, такое сознание уже чув-
ствует себя пойманным на ошибке, подобно ребенку, ко-
торый, не умея — как по определению, так и по имени* —
говорить, в особенности не должен отвечать. А когда, как
* L’enfant — ребенок по-французски этимологически отсылает к
лат. infans (ребенок) и, соответственно, infandus — невыразимо-
му и несказанному. — Прим, перев.
в нашем случае, диалог рискует быть — напрасно — по-
нятым как оспаривание, ученик знает, что уже в силу
самого этого факта он-то и будет оспорен голосом учи-
теля, предшествующим в нем его собственному. Он чув-
ствует себя непонятно как опровергнутым, отклоненным
или даже обвиненным: как ученик, он чувствует себя так
из-за учителя, который в нем говорит прежде него само-
го, чтобы упрекнуть его в том, что он начал спор, и чтобы
отклонить его заранее, развернув и продемонстрировав
этот спор перед его глазами; как внутренний учитель, он
оспорен учеником, которым он же и является. Это не-
скончаемое несчастье ученика зависит от того, что он еще
не знает или скрывает от самого себя, что настоящая
жизнь, учитель, всегда быть может отсутствует.
Итак, нужно разбить стекло или, скорее, зеркало,
рефлексию, эту бесконечную спекуляцию ученика об учи-
теле. И начать говорить.
Поскольку путь, которым пойдут наши рассуждения,
будет далек от прямолинейности или однолинейности, я
опускаю все околичности и перехожу прямо к тем наи-
более общим вопросам, которые окажутся в фокусе на-
ших размышлений. К общим вопросам, которые нам надо
будет определить и ограничить на пути следования, и из
которых большая часть останется открытыми.
Мой отправной пункт может показаться ничтожным
и надуманным. В своей книге из 673-х страниц Мишель
Фуко посвящает три (54-57) — да еще и где-то в преди-
словии ко второй главе — одному отрывку из «Размыш-
лений» Декарта, где безумие, сумасбродство, невменяе-
мость и нелепость, кажется — я подчеркиваю это
«кажется», — подвергаются исключению, удалению, из-
гнанию из достойного философии круга, лишаются гра-
жданства в философском городе и права на философское
рассмотрение, отзываясь тотчас, как Декарт передает их
трибуналу, последней инстанции Когито, которое по сво-
ему существу не может быть безумным.
Утверждая — по праву или нет, пусть рассудят дру-
гие, — что смысл всего проекта Фуко сосредотачивается
в этих на что-то намекающих и немного загадочных стра-
ницах, утверждая далее, что предложенное нам здесь
прочтение Декарта и картезианского Когито охватывает
* Здесь и далее пагинация приводится по французскому изда-
нию. — Прим, перев.
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
по своей проблематике всю «Историю безумия», если
взять ее в ее замысле и условиях ее возможности, я, та-
ким образом, задам себе две серии вопросов:
1. Во-первых, один, скорее, предварительный вопрос:
оправдана ли та интерпретация интенции Декарта, ко-
торая нам предложена? Интерпретацией я здесь называю
определенный переход, семантическое отношение, вы-
двинутое Фуко между тем, с одной стороны, что Декарт
сказал — или тем, что, считается, он сказал или хотел ска-
зать, — и, с другой стороны, — если пока остановиться
на весьма неопределенных терминах, — особой, как го-
ворят, «исторической структурой», то есть наполненной
смыслом исторической целокупностью, определенным
историческим проектом, который, считается, может быть
в частности замечен через то, что сказал Декарт, или то,
что, как полагают, он сказал или хотел сказать. Спраши-
вая, оправдывается ли интерпретация, я, следовательно,
спрашиваю у себя две вещи, ставлю два предварительных
вопроса в одном:
а) Верно ли понят сам знак, знак сам по себе? Иначе
говоря, верно ли понято то, что Декарт сказал или хотел
сказать? Это понимание знака как такового, в его непо-
средственной, если угодно, материальности, является
лишь самым первым моментом, но это и необходимое ус-
ловие всякой герменевтики, всякого намерения перейти
от означающего к означаемому. Когда, как это обычно
происходит, пытаешься перейти от явного языка к скры-
тому, необходимо вначале со всей строгостью удостове-
риться в явном смысле3. Необходимо, например, чтобы
аналитик перво-наперво говорил на том же языке, что и
больной.
Ь) Второй вопрос первой серии: обладает ли откры-
то выраженная интенция Декарта, понятая как знак,
именно указанным отношением к той полной историче-
ской структуре, к которой ее причисляют? Есть ли у нее
то историческое значение, которое ей приписывается?
«Есть ли у нее то историческое значение, которое ей
приписывается» — это опять два вопроса в одном:
— есть ли у нее определенное историческое значе-
ние, имеет ли она это значение, то самое историческое
значение, которое Фуко желает ей указать?
— есть ли у нее историческое значение, которое мы
желаем ей приписать? Исчерпывается ли это значение
своей историчностью? Иначе говоря, является ли оно с
начала до конца историческим в классическом смысле
этого слова?
2. Вторая серия вопросов (где мы в какой-то степе-
ни выходим за пределы случая с Декартом, случая кар-
тезианского Когито, разбирать которое мы будем не
само по себе, но как указание на более общую пробле-
матику): не будет ли возможным исследовать некото-
рые философские и методологические предпосылки этой
истории безумия в свете повторного прочтения карте-
зианского Когито, которое мы собираемся предложить
(или, скорее, напомнить, поскольку, скажу сразу, это
прочтение будет в некотором смысле наиболее классич-
ным, наиболее банальным, хотя и не самым простым)?
Я говорю «некоторые», поскольку задуманное Фуко
слишком разносторонне, оно отсылает по слишком мно-
гим направлениям, чтобы ему мог предшествовать какой-
нибудь один-единственный метод или философия в тра-
диционном смысле этого слова. И если верно, как
говорит Фуко, признаваясь вместе с Паскалем, что о бе-
зумии можно говорить лишь по отношению к тому «дру-
гому повороту безумия», который позволяет людям «не
быть безумными», то есть по отношению к разуму4, то,
быть может, окажется осуществимым не только доба-
вить что-то к тому, что говорит Фуко, но еще один раз
повторить в месте этого раздела между безумием и ра-
зумом, о котором Фуко так хорошо говорит, смысл, кон-
кретный смысл этого Когито или многих Когито, по-
скольку Когито картезианского типа не является ни
первой, ни последней формой Когито вообще; возмож-
но будет и почувствовать, что речь идет об опыте, кото-
рый на самом своем острие не менее безогляден, опасен,
загадочен, темен и патетичен, нежели опыт безумия, и
является, как я полагаю, намного менее враждебным, об-
винительным, винительным или объективирующим, чем
это, похоже, думается Фуко.
На первых порах мы будем практиковать жанр ком-
ментария, сопровождая намерение Фуко и как можно
вернее следуя ему посредством вписывания интерпрета-
ции картезианского Когито в совокупную схему «Исто-
рии безумия». На этом первом этапе должен открыться
смысл картезианского Когито, как его прочитал Фуко.
Для этого необходимо напомнить общий план книги и
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
отметить на полях несколько вопросов, которым угото-
вано, оставаясь все там же, остаться открытыми.
Создавая историю безумия, Фуко хотел — ив этом
вся ценность, хотя и невозможность его книги — напи-
сать историю самого безумия. Самого, Самого безумия.
То есть, давая ему самому слово. Фуко хотел, чтобы бе-
зумие было сюжетом <1е sujet>, во всех смыслах этого
слова, его книги: ее темой и говорящим субъектом, авто-
ром книги, безумием, говорящим за себя. Написать исто-
рию самого безумия, то есть исходя из его собственного
времени и его собственной инстанции, не на языке разу-
ма, психиатрическом языке о безумии — агональное и ри-
торическое измерения «о» покрывают тут друг друга, —
о безумии, уже раздавленном этим языком, покоренном,
устрашенном, вытесненном, то есть конституированным
в качестве объекта и изгнанном как другое данного кон-
кретного языка и особого исторического смысла, кото-
рые кое-кем смешивались с самим логосом. «История не
психиатрии, — говорит Фуко, — а самого безумия в его
жизненности до всякого захвата знанием.»
Речь, следовательно, идет о том, чтобы избежать
объективистской ловушки или наивности, которая со-
стояла бы в том, чтобы писать на языке классического
разума, используя понятия, которые были исторически-
ми инструментами захвата безумия, писать на сглажен-
ном полицейском языке разума историю самого непри-
рученного безумия, как оно держится и дышит до захвата
и парализации сетями того же самого классического ра-
зума. Непоколебима воля Фуко избежать этой ловушки.
Эта воля — самое отважное и самое соблазнительное в
его попытке. То, что придает ей ее восхитительное на-
пряжение. Но и то — я говорю это не ради простой игры
слов, — что является самым безумным в его проекте.
Можно заметить, что эта воля и желание не попасть в ло-
вушку, расставленную классическим разумом безумию и,
теперь уже, самому Фуко, который желает, не повторяя,
однако, рационалистского наступления, написать исто-
рию самого безумия, эта воля обойти разум выражается
двумя на первый взгляд трудно соединимыми между со-
бой способами. То есть она выражается с трудом.
Порой Фуко отказывается от всего языка разума,
языка порядка (то есть одновременно от системы объек-
тивности или универсальной рациональности, чьим вы-
ражением желает быть психиатрия, и от городского
порядка, гражданства философского города, покрываю-
щего гражданство вообще, покуда философское в един-
стве с некоторой вполне определенной структурой функ-
ционирует как метафора или метафизика политического).
Тогда он конструирует такие фразы (перед этим он упо-
минает о диалоге между разумом и безумием, прерван-
ном в конце XVIII века, что будет оплачено захватом все-
го языка и права на язык психиатрическим разумом, этим
избранником общественного и государственного разу-
мов. Слово безумия было оборвано): «Язык психиатрии,
монолог разума о безумии, мог устояться лишь на подоб-
ном молчании. Я не хотел создавать историю этого язы-
ка; скорее уж, археологию этого молчания». Через всю
книгу проходит тема, связывающая безумие с молчани-
ем, со «словами без языка» или «без говорящего субъек-
та», с «упорным бормотанием некоего языка, который
говорил бы сам по себе, без говорящего субъекта и собе-
седника, углубленный сам в себя, со связанным горлом,
разваливающийся прежде, чем придет какое-либо выра-
жение, и возвращающийся без всякого проблеска к тому
молчанию, из коего он и не удалялся. Окаменевший ко-
рень смысла». Заниматься историей самого безумия —
это, следовательно, заниматься археологией молчания.
Но, имеет ли, перво-наперво, само молчание исто-
рию? Да и археология, пусть и молчания, не является ли
она особой логикой, организованным языком, неким про-
ектом, порядком, фразой, синтаксисом, произведением?
Не окажется ли археология молчания наиболее действен-
ным и искусным возобновлением, повторением и репети-
цией, в неистребимой двусмысленности этого слова, акта,
осуществленного против безумия, повторением как раз
в тот момент, когда этот акт разоблачен? Не говоря уже
о том, что все знаки, посредством которыхdj)yко обра-
щается к истоку этого безумия и этого прерванного сло-
ва, всего того, что, якобы, превратило безумие в это пре-
рванное, запрещенное и связанное слово, все эти знаки и
документы без исключения позаимствованы в юридиче-
ском пространстве запрета.
Тогда можно спросить — и Фуко порой, но не тогда,
когда он собирается говорить о молчании, тоже спраши-
вает себя (на мой взгляд, слишком поспешно и скрытно):
какими же будут исток и статус языка этой археологии,
этого языка, который должен быть услышан разумом,
уже не являющимся классическим? Какова историческая
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
ответственность этой логики археологии? Где ее распо-
ложить? Достаточно ли для обретения невинности и раз-
рыва всех связей с политическим и рациональным поряд-
ком, удерживающим безумие в заточении, просто
оставить в мастерской, запертой на ключ, инструменты
психиатрии? Ведь психиатрия — лишь один посланец это-
го порядка, один среди многих. Быть может, недостаточ-
но заточить и изгнать посланца, оборвать в свою очередь
и его слово, просто лишить себя концептуального мате-
риала психиатрии, чтобы освободить от вины свой соб-
ственный язык. Весь европейский язык, язык всякого, кто
прямо или косвенно участвовал в приключении западно-
го разума, является необозримым посланием проекта, оп-
ределяемого Фуко в виде захвата и объективации безу-
мия. Ничто в этом языке и никто из тех, кто говорит на
нем, не могут уклониться от исторической виновности —
если такая вообще есть и если она является исторической
в классическом смысле этого слова, — судебным разби-
рательством которой Фуко, кажется, собирается занять-
ся. Но это, очевидно, невозможное разбирательство, по-
скольку и закон, и приговор будут без конца заново
совершать преступление самим фактом своего оглашения.
Если Порядок, о котором мы говорим, столь могущест-
вен, если его могущество — единственное в своем роде,
то оно таково из-за своего сверхопределяющего харак-
тера и того универсального, структурного, универсаль-
ного и бесконечного заговора, которым оно компроме-
тирует всех тех, кто понимает его язык, даже когда этот
язык предоставляет форму для его разоблачения. Поря-
док, поэтому, разоблачается порядком.
Следовательно, полностью вырваться из полноты
исторического языка, который будто бы изгнал безумие,
освободитися от него, чтобы написать археологию мол-
чания — все это можно попытаться сделать лишь двумя
способами.
Аибо замолчать в особом молчании (которое, одна-
ко, будет определяться лишь в некотором языке и по-
рядке, которые не дадут ему проникнуться какой-то про-
извольной немотой), либо следовать за безумным по его
дороге изгнания. Несчастье безумцев, нескончаемое не-
счастье их молчания в том, что их самые лучшие глаша-
таи — это и те, кто лучше всего их предают; ведь когда
желаешь высказать их молчание само по себе, уже пере-
ходишь на сторону их врага и на сторону порядка, даже
если, в самом этом порядке, ты бьешься против него и в
самом его истоке ставишь его под сомнение. Нет троян-
ского коня, в котором бы не оказался прав сам разум
(вообще). Непреодолимая, неизменная, имперская высо-
та порядка разума является условием того, что она —
это не просто некая фактическая структура или упоря-
доченность, исторически определенная структура или
одна структура из многих возможных, так что подать
петицию против нее можно только ей самой, протесто-
вать против нее можно только внутри нее же, поскольку
на своем собственном поле она дает нам прибегнуть толь-
ко к стратегеме и стратегии. Что оборачивается призва-
нием частной исторической определенности разума к
суду Разума как такового. Революция против разума, в
его исторически определенной форме классического
разума (но последний — не более, чем выделенный при-
мер Разума вообще. Именно при посылке единственно-
сти Разума сложно понять выражение «история разу-
ма» и, соответственно, выражение «история безумия»),
революция против разума может совершаться лишь в нем
же, то есть внутри того гегелевского измерения, к при-
сутствию которого в книге Фуко, несмотря на то, что
прямых ссылок на Гегеля он не делает, я был, со своей
стороны, весьма чувствителен. Революция против разу-
ма, способная действовать лишь внутри разума, с того
самого момента, как она высказывается, всегда, следо-
вательно, имеет ограниченный размах того, что на язы-
ке министерства внутренних дел называется волнения-
ми. Нельзя, несомненно, писать историю или даже
археологию вопреки разуму, поскольку понятие исто-
рии, несмотря на все видимости, всегда было рациональ-
ным. Возможно, сначала надо было бы исследовать зна-
чения истории или «архе». Письмо, превосходящее или
покидающее пределы, вопрошая значения начала, разу-
ма, истории, не могло бы быть заключено и удержано в
метафизических пределах археологии.
Поскольку же сам Фуко не хуже других осознает, и
весьма остро, этот вызов и необходимость говорить, чер-
пать свой язык в источнике более глубокого разума, чем
тот, который расцвел в классическую эпоху, поскольку
Фуко испытывает необходимость говорить, которая из-
бегала бы объективистского проекта классического ра-
зума, необходимость говорить, пусть и ценой войны, объ-
явленной языком разума самому себе, войны, в которой
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Ко г иго и история безумия
язык беспрестанно возрождался бы, разрушался и по-
вторял жест своего собственного разрушения, постоль-
ку в книге Фуко эта претензия на археологию молчания,
пуристская, непреклонная, бесстрастная, недиалектиче-
ская претензия весьма часто уравновешивается, проти-
вопоставляется, я бы даже сказал, почти оспаривается
другим толкованием, которое не просто признание оп-
ределенной трудности, но формулировка иного проек-
та, оказывающемся не крайним средством, но просто
другим и, быть может, еще более честолюбивым, более
действенным в своем честолюбии проектом, нежели
первый.
Это признание сложности обнаруживается в следую-
щей фразе, одной из многих, которую я просто процити-
рую, дабы не лишать вас ее насыщенной красоты: «Вос-
приятие, которое пытается схватить их (речь идет о
страданиях и шепотах безумия. — Ж.Д.) в незамутнен-
ном состоянии, по необходимости принадлежит к миру,
уже заключившему их в заточение. Свобода безумия по-
нимается лишь с высоты крепости, пленником которой
оно является. Свобода эта распоряжается здесь лишь
смятенным гражданским состоянием ее тюрем, немым
опытом преследуемой, а нам остаются только сигналь-
ные огни ее побега». И далее Фуко говорит о безумии,
«исходное состояние которого никогда не может быть
достигнуто само по себе», о «недоступной первичной
чистоте» (p.VII).
Поскольку отголосок этой сложности или этой не-
возможности должен дойти до языка, в котором выпи-
сывается эта история безумия, Фуко на самом деле при-
знает необходимость удерживать свой дискурс в том, что
он называет «беспомощной относительностью», то есть
поддерживать его без опоры на абсолют некоего разума
или логоса. Необходимость и, одновременно, невозмож-
ность того, что в другом месте Фуко называет «языком
без опоры », то есть языком, который в принципе, если не
на деле, отказывается выстраиваться по синтаксису ра-
зума. В принципе, если не фактически, — но факт здесь
нельзя просто-напросто заключить в скобки. Факт язы-
ка — это, без сомнения, единственное, что в конечном сче-
те сопротивляется всякому заключению в скобки. «Здесь,
в этой простой проблеме высказывания, — также гово-
рит Фуко, — скрывалась и выражалась наибольшая слож-
ность всего предприятия.»
Можно было бы сказать, что решение этой сложно-
сти скорее практикуется, нежели формулируется. И по
необходимым причинам. Я хочу сказать, что молчание
безумия не высказано, не может быть высказано в этой
книге, но оно может указываться косвенным образом,
метафорически, в пафосе, если угодно, этой книги — я
понимаю слово «пафос » в его самом лучшем смысле. В па-
фосе этой новой и радикальной хвалы безумию, идея ко-
торой не может открыться, поскольку хвала безумию
всегда совершается в логосе, в объективирующем языке;
«сказать по-хорошему» о безумии все — так же означа-
ло бы захватить его, тем более что, как в нашем случае,
«сказать по-хорошему» равняется мудрости и счастью
«хорошо сказанного».
Высказать сложность, сказать о сложности гово-
рить — это еще не значит ее преодолеть; как раз наобо-
рот. Во-первых, это не значит сказать, исходя из какого
языка, из какой высказывающей инстанции высказана эта
сложность. Кто замечает, кто выражает сложность и про-
блему? Этого нельзя сделать ни в недоступном исходном
молчании безумия, ни в языке тюремщика, то есть клас-
сического разума, но только на языке того, для кого име-
ет смысл и перед кем появляется диалог, война, не-
доразумение, столкновение или двойной монолог,
противопоставившие разум и безумие в классическую
эпоху. Возможно, следовательно, освобождение некое-
го логоса, в котором могли произвестись и в котором се-
годня могут быть поняты и высказаны два монолога, пре-
рванный диалог или же, самое главное, точка разрыва
диалога между определенными разумом и безумием.
(Если вообще предполагать, что это возможно; но пока
мы придерживаемся гипотезы Фуко.)
Если, следовательно, книга Фуко, несмотря на не-
возможность и признанные трудности, могла быть на-
писана, мы вправе спросить себя, на что же в конечном
счете опирался этот беспомощный язык без опоры: кто
высказывает беспомощность? Кто написал и кто должен
услышать, исходя из какой исторической ситуации и в
каком языке была написана и должна быть услышана эта
история безумия? Ведь неслучайно, что такой проект мог
оформиться именно сегодня. Необходимо предполо-
жить, нисколько не забывая, а, наоборот, постоянно
Держа в уме смелость жеста мысли в «Истории безумия»,
что некоторое освобождение безумия уже началось, что
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
психиатрия, хотя бы на самую малость, приоткрылась,
что понятие безумия как неразумия, если вообще когда-
то оно обладало каким-то единством, расшатано.
И именно в открытии такого расшатывания подобный
проект мог найти свое историческое начало и смог по-
пасть в историю.
Хоть Фуко и более, чем кто бы то ни было другой,
чувствителен и внимателен к подобному типу вопросов,
похоже, однако, что он не согласен на то, чтобы признать
их философски и методологически предваряющими его
собственное исследование. Действительно, понять сам
вопрос и правовую сложность, посвятить ему предваряю-
щую проработку — все это привело бы к стерилизации и
парализации всего исследования. Последнее может до-
казать в своем осуществлении, что движение слова о бе-
зумии возможно. Но не оказывается ли основание этой
возможности все еще слишком классичным?
Книга Фуко не из тех, которые сразу же предаются
этому многообещающему ликованию исследования. Вот
почему после признания сложности, касающейся архео-
логии молчания, необходимо предъявить иной проект,
проект, который, возможно, противоречит первому.
Поскольку молчание, археологией которого предпо-
лагается заняться, — это не немота или исходное не-сло-
во, но наступившее молчание, слово, связанное по распо-
ряжению и приказу, постольку речь, следовательно, идет
о том, чтобы внутри логоса, который предшествовал раз-
рыву на разум и безумие, внутри логоса, позволяющего
вести внутри себя диалог тому, что позднее было назва-
но разумом и безумием (неразумием), позволяющего
перемещаться внутри себя и обмениваться разуму и бе-
зумию, как в средние века безумцам разрешалось пере-
ходить из города в город, внутри этого логоса свободно-
го обмена подойти к началам оборонительного движения
разума, который стремится спрятаться в убежище и по-
строить для себя особые поручни, служащие порукой от
безумных, выстроить самого себя в качестве такого смот-
рителя за сумасшедшими. Речь, следовательно, идет о том,
чтобы достигнуть той точки, где диалог был порван, раз-
делен на два монолога, достигнуть того, что Фуко назы-
вает одним очень сильным словом — Решением. Решение
разом связывает и разлучает разум и безумие; оно долж-
но пониматься одновременно как акт, устанавливающий
сам порядок, некое fiat, как издание декрета и как раз-
рыв, вырез, разделение и рассечение. Я сказал бы, ско-
рее, как рассогласование, чтобы сильнее подчеркнуть то,
что речь идет о саморазделении, о разделении и внутрен-
ней муке смысла и логоса вообще, о разделе в самом акте
sentire. Рассогласование всегда оказывается внутренним.
Внешнее (есть) внутри, там оно зачинается и разделяет
внутреннее согласно расщеплению гегелевского Entz-
weiung.
Итак, проект освидетельствования первичного рас-
согласования логоса является, похоже, отличным от про-
екта археологии молчания и ставит иные проблемы. На
этот раз речь должна была бы идти об извлечении дев-
ственной и единой почвы, в которую таинственным
образом пустил корень акт решения, связывающий и раз-
лучающий разум и безумие. У разума и безумия класси-
ческой эпохи некогда был общий корень. Но этот общий
корень, то есть логос, это единое основание оказывает-
ся гораздо более древним, нежели средневековый пери-
од, блестяще, но слишком кратко описанный Фуко в пре-
красной вводной главе. Должно существовать некое
основывающее единство, которое заранее обеспечивает
свободный обмен средних веков, и это единство должно
быть единством разума; разума, несомненно, уже исто-
рического, но и гораздо менее определенного, чем в так
называемой классической форме, ведь оно еще не полу-
чило определения «классической эпохи». Именно в сре-
де этого архаичного разума случится расщепление, рас-
согласование как видоизменение, если не сказать,
потрясение, даже революция, но только внутренняя ре-
волюция, революция в себе и на себе. Ведь этот логос,
который был в начале, является не только общим про-
странством рассогласования, но и — что не менее важ-
но — той самой атмосферой, в которой развертывается
язык Фуко, в котором фактически обнаруживается и по
праву выписывается и обозначается в своих пределах ис-
тория безумия в классическую эпоху. Для того, чтобы
дать отчет в этом начале (или возможности) решения и в
начале (или возможности) рассказа, необходимо было
бы, следовательно, начать с продумывания этого исход-
ного логоса, в котором разыгралось насилие классиче-
ской эпохи. Эта история логоса до средних веков и до
классической эпохи не есть, если еще необходимо об
этом напоминать, темная и немая предыстория. Каким
бы не оказался мгновенный разрыв средних веков с гре-
3 Ж. Деррида
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
ческой традицией, этот разрыв и это искажение выгля-
дят как поздние и привходящие с точки зрения фунда-
ментальной неизменности логико-философского наслед-
ства.
Тот факт, что укорененность решения в своей дей-
ствительной исторической почве была оставлена Фуко в
полумраке, оказывается стесняющим по, самое меньшее,
двум основаниям:
1. Дело в том, что в самом начале Фуко делает не-
много загадочный намек на греческий логос, о котором
он говорит, что, в отличие от классического разума, у него
«не было противоположности ». Я читаю: «У греков было
отношение к тому, что они называли й0рц. Это отноше-
ние не было отношением одного только осуждения; су-
ществования Фрасимаха и Калликла достаточно, чтобы
показать это, хотя их речи и переданы в обертке успо-
коительной диалектики Сократа. Но у греческого логоса
не было противоположности».
[Нужно, следовательно, предположить, что, раз у
греческого логоса не было противоположности, греки
держались непосредственно возле элементарного, исход-
ного и неразделенного Логоса, в котором всякое проти-
воречие вообще, всякая война, всякая полемика могли
появиться лишь впоследствии. Исходя из этой гипотезы,
необходимо было бы допустить, чего Фуко как раз не
делает, что история и традиция «успокоительной диалек-
тики Сократа» в их совокупности уже были падением и
изгнанием из греческого логоса, у которого будто бы не
было никаких противоположностей. Ведь если сократи-
ческая диалектика успокоительна в том смысле, какой
принимается Фуко, это значит, что она уже отринула,
исключила или, что любопытным образом является тем
же самым, уподобила себе и покорила как один из своих
моментов, «обернула» другое разума, так что сама она
отрезвилась и успокоилась в докартезианской очевидно-
сти, в некоей ococppoouvri, в мудрости, здравом смысле и
разумной осторожности.
Следовательно, необходимо, чтобы: а) либо сокра-
тический момент и вся его история непосредственно уча-
ствовали в этом греческом логосе без противоположно-
го; так что диалектика Сократа уже не может быть
успокаивающей (у нас вскоре появиться, возможно, слу-
чай показать, что она не более успокоительна, нежели
картезианское Когито). В таком случае, исходя из этой
гипотезы, очарование досократиками, которое было вы-
звано у нас Ницше, Хайдеггером и некоторыми другими,
заключает в себе некую мистификацию, историко-фило-
софские мотивации которой необходимо было бы востре-
бовать.
Ь) либо же сократический момент и диалектическая
победа над Ubris Калликла уже отмечают некоторое из-
гнание и исход из логоса, его внутреннюю рану решения
и различения; тогда структура исключения, которую
фуко желает описать в своей книге, не рождается толь-
ко лишь с классическим разумом. Классический разум в
этом отношении не имел бы ни специфики, ни привиле-
гии. А все знаки, которые Фуко собирает под заглавием
«Stultifera navis», только лишь играли бы на поверхно-
сти проникающего насквозь рассогласования. Свобод-
ное перемещение безумных, не говоря уже о том, что
оно не такое уж свободное, не просто свободное, оказа-
лось бы социально-экономическим эпифеноменом на по-
верхности разума, уже с самой зари своего греческого
истока разделенного против самого себя. Во всяком слу-
чае, мне кажется очевидным — какой бы ни оказалась
выбранная нами гипотеза относительно вопроса, кото-
рый без сомнения является ложной проблемой и лож-
ной альтернативой, — что Фуко не может в одно и то
же время отстаивать утверждение, касающееся успокаи-
вающей диалектики уже у Сократа, и свой тезис, пред-
полагающий специфичность классической эпохи, разум
которой успокаивался и уверялся в самом себе, исклю-
чая свое другое, то есть конституируя свою противо-
положность в качестве объекта, дабы защититься и от-
делаться от него. Чтобы его заточить.
Желая написать историю решения, разделения, раз-
личения, рискуешь придать этому разделению характер
структуры или события, привходящих к единству исход-
ного присутствия; и утвердить таким образом саму мета-
физику в ее фундаментальном действии.
По правде говоря, чтобы одна из этих гипотез была
верной и чтобы между ними можно было выбирать, не-
обходимо предположить, что разум вообще может иметь
противоположное себе, другое разума, что он может кон-
ституировать или открыть эту противоположность, и что
их оппозиция является симметричной. Вот в чем основа-
ние разговора. Но позвольте мне держаться от него по-
дальше.
3*
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
Каков бы ни был способ толкования ситуации клас-
сического разума с точки зрения греческого логоса, знал
ли рассогласование последний или нет, в любом случае
определенное учение о традиции, традиции логоса
(а есть ли другая?), похоже, с самого начала подразуме-
вается делом Фуко. Каково бы ни было отношение гре-
ков к Ubris, отношение, которое наверняка не было про-
стым... Здесь я открою скобку и один вопрос: во имя
какого неизменного смысла «безумия» Фуко сближает,
каков бы ни был смысл такого сближения, Безумие и
Ubris? Тут возникает особая проблема перевода, фило-
софская проблема перевода — и весьма серьезная, —
даже если для Фуко Ubris — это не Безумие. Определе-
ние различия предполагает весьма рискованный лин-
гвистический переход. Частая неосторожность пе-
реводчиков в этом отношении должна сделать нас
недоверчивыми. (Я думаю здесь в особенности о том, что
переводят как неистовство и исступление в «Филебе»
(45е)5. Затем, если безумие обладает таким неизменным
смыслом, то каким будет его историческое отношение с
теми модификациями, с этими a posteriori, с этими со-
бытиями, которые упорядочивают анализ Фуко? Ведь
последний, несмотря ни на что, действует посредством
сбора информации и ее исследованием, хотя его метод
и не назовешь эмпиристским. То, чем он занимается —
это история, и обращение к событию в ней, в конечном
счете, оказывается неизбежным и определяющим. Но
само понятие безумия, ни разу не подвергаемое у Фуко
тематическому разбору, сегодня, если отвлечься от на-
родного бытового языка, который всегда запаздывает
по отношению к тому моменту, когда наука и филосо-
фия уже поставили его под вопрос, — не является ли оно
ложным и разложившимся понятием, так что Фуко, от-
казываясь от материала психиатрии или философии,
которые только и делали, что заключали сумасшедшего
в тюрьму, пользуется в конце концов — и у него нет дру-
гого выбора — расхожим двусмысленным понятием, за-
имствованным из неконтролируемых источников. Это не
имело бы никакого значения, если бы Фуко пользовал-
ся таким словом, заключая его в кавычки, как пришед-
шее из чужого языка, языка тех, кто в изучаемый им
период пользовался этим словом как исторически оп-
ределенным инструментом. Но получается так, словно
бы Фуко знал, что значит «безумие». Как будто было
бы возможным и уже удостоверенным в некотором по-
стоянном или подразумеваемом пространстве строгое
и отчетливое предпонимание понятия безумия. В дейст-
вительности же можно показать, что в замысле Фуко,
если не в исторической мысли, которую он изучает, по-
нятие безумия покрывает все то, что можно располо-
жить под рубрикой негативности. Можно вообразить
себе тот тип проблем, которые появляются при таком
использовании понятия. Вопросы того же типа можно
было бы задать по поводу понятия истины, которое так-
же проходит через всю книгу...) Я закрываю эту длин-
ную скобку. Итак, каково бы ни было отношение греков
к Ubris, а Сократа к первоначальному логосу, в любом
случае очевидно, что классический разум и разум сред-
невековый уже находились в некотором отношении к
греческому, так что приключения и злоключения клас-
сического разума разворачивались именно в этой среде
более или менее непосредственно обнаруживаемого на-
следства, более или менее смешиваемого с другими вет-
вями традиции. Если рассогласование восходит к Сокра-
ту, тогда рассмотрения в первую очередь заслуживает
положение сумасшедшего в сократовском и послесокра-
товском мире — если только предположить, что вооб-
ще существует что-то, что можно назвать безумцем.
Иначе, покуда Фуко не действует чисто априорным ме-
тодом, его историческое описание ставит банальные, но
и неизбежные проблемы периодизации, географических,
политических, этнологических и иных пределов. В про-
тивоположном случае, то есть если не имеющее проти-
воположностей и ничего не исключающее единство ло-
госа продержалось до классического «кризиса», то сам
этот кризис является, если угодно, вторичным и произ-
водным. Он не затрагивает всего разума целиком. В та-
ком случае, заметим мимоходом, речь Сократа не несет
в себе ничего успокаивающего. Классический кризис
развивался бы, внутри и исходя из изначальной тради-
ции логоса, который, не имея противоположного себе,
несет и высказывает всякое определенное противоре-
чие. Это учение о традиции смысла и разума оказалось
бы тем более необходимым, что оно одно может наде-
лить смыслом и признаками рациональности вообще весь
дискурс Фуко и всякий дискурс о войне между разумом
и неразумием. Поскольку эти дискурсы подразумевают
свою вразумительность.]
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
2. Я только что сказал, что оставлять в полумраке
историю доклассического разума, не являющуюся пре-
дысторией, затруднительно по двум основаниям. Второе,
о котором я вкратце упомяну, прежде чем перейти к Де-
карту, зависит от того, что Фуко весьма проницательно
связывает разделение, рассогласование с самой возмож-
ностью истории. Разделение — это само начало истории.
«Необходимость безумия на протяжении всей истории
Запада связана с этим жестом решения, который извле-
кает из глубинного шума и из нескончаемой монотонно-
сти значащий язык, который передается и завершается
во времени; короче говоря, эта необходимость связана с
возможностью истории.»
Тем самым, если решение, в котором разум выстраи-
вает сам себя, исключая и объективируя свободную субъ-
ективность безумия, является началом истории, самой
историчностью, условием смысла и языка, условием тра-
диции смысла, условием произведения, если структура
исключения — это фундаментальная структура историч-
ности, тогда «классический» момент этого исключения,
описываемый Фуко, не обладает абсолютной привилеги-
ей и не является архетипичным примером. Это, скорее,
пример как образчик, экземпляр, а не как модель. Во вся-
ком случае, дабы показать его несомненно глубинную
уникальность, нужно было бы, возможно, подчеркнуть
не то, в чем он является структурой исключения, но то,
чем и в особенности из-за чего его собственная и преоб-
разованная структура исключения исторически отлича-
ется от других, от любой другой. И нужно было поста-
вить вопрос о его существовании в качестве примера: идет
ли, скажем, речь об одном примере из многих возмож-
ных или об «удачном примере», привилегированном по-
казательном примере? Вот какие бесконечно сложные,
ужасные проблемы преследуют труд Фуко, присутствуя
не столько в его факте, сколько в его идее.
И, наконец, последний вопрос: если этот великий
раздел является самой возможностью истории, ее исто-
ричностью, что же будет значить «заниматься историей
этого раздела»? Заниматься историей историчности, соз-
давать историю начала истории? «Usteron proteron» не
будет здесь просто логической ошибкой, ошибкой внут-
ри логики или некоего оформленного рацио. И разобла-
чать ее — не значит заниматься рассуждательством. Если
существует историчность разума вообще, история разу-
ма никогда не будет историей начала, которое уже ее под-
разумевает, но всегда историей одной из его определен-
ных фигур.
Этот второй проект, устремляющийся к общему кор-
ню смысла и бессмыслицы, к исходному логосу, в кото-
ром разделяются некое молчание и некий язык, — совсем
не крайнее средство или отступление по отношению к
тому, что могло собираться под заголовком «археологии
молчания». Археологии, которая одновременно собира-
лась и отказывалась высказывать само безумие. Выраже-
ние «высказывать само безумие» внутренне противоре-
чиво. Высказать безумие, не превращая его в объект, —
это дать ему самому высказываться. Но безумие — это
по своей сущности то, что не высказывается: это «отсут-
ствие произведения», как глубокомысленно утверждает
Фуко.
Итак, это не крайняя мера, но другой, более често-
любивый, план, который должен был бы привести к хва-
ле разума (в сущности, хвала и может быть только хва-
лой разума), но уже разума, отличного от того, который
противопоставляется и определяется в исторически оп-
ределенном конфликте. Все тот же Гегель... Это не край-
нее средство, но еще более честолюбивое честолюбие,
даже если Фуко пишет следующее: «За неимением этой
недоступной первичной чистоты (самого безумия. —
Ж.Д.) структурное исследование должно взойти к реше-
нию, которое разом связывает и разводит разум и безу-
мие; оно должно попытаться открыть постоянный обмен,
таинственный общий корень, исходное столкновение,
которое дает смысл как единству, так и противополож-
ности смысла и бессмыслицы» (курсив наш. — Ж.Д.).
Прежде чем описывать момент, когда разум в клас-
сическую эпоху принудит безумие к молчанию посред-
ством того, что Фуко называет «странным переворотом»,
он показывает, как исключение и заточение безумия на-
шло что-то вроде структурного вместилища, подготов-
ленного историей другого исключения — исключения
проказы. К сожалению, я не могу останавливаться на этих
блестящих пассажах из главы под названием «Stultifera
navis». В них мы также оказались бы поставленными пе-
ред множеством вопросов.
Итак, я перехожу к «перевороту», к великому зато-
чению, которое вместе с созданием в середине XVIII века
домов для умалишенных и кое-кого еще, является при-
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
шествием и первым этапом классического процесса, опи-
сываемого Фуко во всей его книге. Неизвестно, прав-
да, является ли такое событие, как создание этих домов
интернирования, только одним знаком среди множества
других, основным симптомом или причиной. Вопросы
такого типа могут показаться внешними для метода, ко-
торый желает быть строго структуралистским, для ко-
торого все связано и зависимо друг от друга в составе
структурной целостности, так что классические пробле-
мы причинности могут возникнуть только по недоразу-
мению. Возможно. Но я спрашиваю себя, возможен ли
строгий структурализм, когда речь идет об истории (а
Фуко желает написать историю), и, в особенности, мо-
жет ли он избежать, хотя бы в принципе и порядке сво-
их описаний, всех вопросов этиологического характера,
всех вопросов, относящихся, скажем так, к центру тя-
жести структуры. Отказываясь законным образом от
одного частного вида причинности, мы, возможно, не в
праве отказаться от любого этиологического исследо-
вания.
Отрывок, посвященный Декарту, открывает, собст-
венно говоря, главу о «Великом заточении». Он, следо-
вательно, открывает саму книгу, и поэтому его положе-
ние в начале главы довольно необычно. Более, чем
где-нибудь еще, вопрос, который я только что поставил,
кажется мне здесь неумолимым. Мы не знаем, предна-
значен ли этот отрывок, посвященный первому из «Раз-
мышлений», интерпретируемом Фуко как философское
заточение безумия, для объявления в некоторой прелю-
дии исторической и политико-социальной драмы, разыг-
рываемой впоследствии всей драмы в целом. Этот «пе-
реворот», описанный в измерении теоретического знания
и метафизики, что это — симптом, причина, язык? Что
нужно предположить или прояснить, чтобы сам смысл
этого вопроса или этого недоумения был рассеян? И ес-
ли этот переворот структурно взаимосвязан со всей дра-
мой, то каков статус этой взаимосвязи? Наконец, како-
во бы ни было место, уготованное философии в цельной
исторической структуре, почему выбран один единствен-
ный пример с Декартом? В чем примечательность карте-
зианской мысли, когда в ту же самую эпоху столько
других философов интересовались безумием или — что
не менее показательно — так или иначе им не интересо-
вались?
Ни на один из этих суммарно приведенных, но неиз-
бежных и не просто методологических вопросов Фуко
прямо не отвечает. Одна единственная фраза в предисло-
вии пытается решить эту проблему. Я ее зачитаю: «Соз-
дать историю безумия значит следующее: выполнить
структурное исследование исторического ансамбля —
понятий, институтов, юридических и полицейских мер,
научных понятий, — которые удерживают в плену безу-
мие, первоначальное состояние которого само по себе
невосстановимо». Как организуются эти элементы в «ис-
торическом ансамбле »? Что такое «понятие »? Имеют ли
какую-нибудь привилегию философские понятия? Как
они соотносятся с научными? Вот сколько вопросов оса-
ждают этот план.
Я не знаю, насколько Фуко согласился бы с тем, что
предварительное условие ответа на такие вопросы зави-
сит первоначально от внутреннего автономного анализа
собственного содержания философского дискурса. Толь-
ко когда совокупность этого содержания станет для меня
абсолютно прозрачной (что невозможно), я смогу со всей
строгостью поместить его в охватывающую его истори-
ческую форму. Только тогда его включение не окажется
насилием, будучи законным включением этого философ-
ского смысла. Тем более это верно по отношению к Де-
карту: мы не можем ответить ни на один исторический
вопрос, касающийся его — и скрытого исторического
смысла его высказываний, до строгого и исчерпывающе-
го внутреннего анализа его явных интенций, открытого
смысла его философского дискурса.
Вот этим явным смыслом, который нельзя прочесть
в непосредственности первой встречи, этой собственно
философской интенцией мы и будем теперь интересовать-
ся. Вначале читая, заглядывая через плечо Фуко.
Torheit musste erscheinen, damit die Weisheit sie
uberwinde..? Гердер
Переворот, будто бы, осуществляется Декартом в пер-
вом из «Размышлений» и состоит он, вкратце, в полном
исключении возможности безумия из мысли самой по себе.
* Безумие должно было явиться, чтобы его преодолела муд-
рость... — Прим, перев.
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
Вначале я прочитаю решающий все дело отрывок из
Декарта, цитируемый Фуко. Затем мы проследим за про-
чтением этого отрывка у Фуко. Наконец мы устроим диа-
лог между Декартом и Фуко.
Вот что пишет Декарт (в тот самый момент, когда он
собирается разделаться со всеми мнениями, которым он
до этого «доверял», и начать все заново с самых первых
оснований: a primis fundamentis. Для этого ему достаточ-
но разрушить прежние основания, не подвергая сомнению
все мнения одно за другим, поскольку подкоп оснований
увлекает за собой все здание. Одно из этих хрупких осно-
ваний познания, обнаруживаемое наиболее естественным
образом, — это чувственность. Чувства иногда обманыва-
ют меня, следовательно, они могут обманывать меня все-
гда: поэтому я поставлю под сомнение всякое знание чув-
ственного происхождения): «Все, что я до сего дня
принимал за самое истинное и за наиболее достоверное,
было воспринято мною из чувств или посредством чувств:
но между тем я порой замечал, что эти чувства были об-
манчивы; осторожность же состоит в том, чтобы никогда
полностью не доверять тем, кто нас однажды обманул.»
Декарт двигается шаг за шагом.
«Но...» (sed forte... я настаиваю на этом forte, непе-
реведенном и опущенном герцогом де Луином, что Де-
карт, просматривая перевод, не счел необходимым ис-
правлять. Читая «Размышления», стоит, однако, как
советует Байе, «сверять французский с латынью». Толь-
ко во втором французском издании Клерселье sed forte
приобретает все свое значение, будучи переведенным как
«но, может быть, хотя...». Я подчеркиваю этот пункт,
важность которого скоро будет обнаружена). Итак, я
продолжаю читать: «Но, может быть, хотя чувства и об-
манывают нас иногда в отношении мало ощутимых или
сильно удаленных (курсив наш. — Ж.Д.) предметов,
встречается, все же, много иных вещей, сомневаться в
коих было бы неразумно, хотя мы и знаем о них через
посредство чувств...». Должны как будто бы существо-
вать, есть, быть может, знания чувственного происхо-
ждения, сомневаться в которых было бы неразумным.
«Например, — продолжает Декарт, — то, что я сижу
здесь возле камина, одетый в халат, с бумагой в руках и
т.д. Да и как я мог бы отрицать, что эти руки и это тело
принадлежат мне? Есдг только не уподобиться тем бе-
зумцам, мозг которые '^столько поврежден и помрачен
тяжелыми парами черной желчи, что они беспрестанно
утверждают, будто они короли, когда они нищие, что
они облачены в золото и пурпур, когда они попросту
голы, или же вообще воображают себя кувшинами или
обладающими телом из стекла...»
И вот наиболее значимая на взгляд Фуко фраза: «Но
ведь это же безумцы, sed amentis sunt isti, и я был бы не
менее сумасброден (demens), если б стал руководствовать-
ся их примерами».
Я прерву цитату не конце этого абзаца, но на первом
слове следующего, который включает только что прочи-
танные мною строчки в риторический и педагогический
ход, выражение которого весьма сжато. Это первое сло-
во — Preclare sane... Переводится тоже как «однако ». Это
начало параграфа, где Декарт воображает, что он может
всегда спать и что мир может быть не более реальным,
чем его сон. Посредством преувеличения, гиперболы, он
обобщает гипотезу сна и сновидения («Допустим теперь,
что мы спим...»), ту гипотезу и ту гиперболу, которые по-
служат ему, чтобы развить сомнение, основанное на ес-
тественных посылках (поскольку еще есть гиперболиче-
ский момент и самого этого сомнения), оставляющего
нетронутыми только истины, происходящие не из чувств,
то есть математику, истины, которые верны, «независи-
мо от того, сплю я или бодрствую », и которые падут лишь
под искусственным и метафизическим напором Злокоз-
ненного Гения.
Как же этот текст прочитывается Фуко?
Согласно Фуко, Декарт, встречаясь с безумием на-
ряду (это слово самого Фуко) со сном и прочими заблуж-
дениями чувств, не прилагает к ним одной и той же, если
угодно, трактовки. «В экономии сомнения, — говорит
Фуко, — существует фундаментальное неравновесие ме-
жду безумием с одной стороны, и заблуждением — с дру-
гой...» (Мимоходом отмечу, что в других отрывках Фуко
часто разоблачает классическое сведение безумия к за-
блуждению...) Он продолжает: «Декарт избегает опас-
ности безумия не тем же способом, которым он обходит
вероятность сна и заблуждения».
Фуко, таким образом, увязывает два следующих
хода:
1. Тот, в котором Декарт должен показать, что чув-
ства могут обманывать нас лишь в отношении вещей «мало
ощутимых и сильно удаленных». Вот, вроде бы, предел
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
заблуждения, имеющего чувственное происхождение.
Действительно, в отрывке, который я только что прочи-
тал, Декарт говорит: «Хотя чувства и обманывают нас
иногда в отношении мало ощутимых или сильно удален-
ных предметов, встречается, все же, много иных вещей,
сомневаться в коих было бы неразумно...». Если только
ты не безумен, что в том же отрывке Декарт, кажется,
безоговорочно отклоняет.
2. Ход, в котором Декарт показывает, что воображе-
ние и сон не могут создать те простые и универсальные
элементы, которые вводятся ими в свои образы, такие
элементы, как, например, «телесная природа вообще и ее
протяженность, количество, число и т.д.», то есть все то,
что коренится в чувствах и является предметом непод-
верженных естественному сомнению математики и гео-
метрии. Соблазнительно подумать вместе с Фуко, что
Декарт желает обнаружить в анализе (я употребляю это
слово в его точном смысле) сна и чувствительности некое
ядро, простой и непосредственный элемент, неуничтожи-
мый в сомнении. Внутри самого сна или чувственного
восприятия я преодолеваю или, как говорит Фуко, «об-
хожу» сомнение и достигаю твердого основания досто-
верности.
Фуко пишет так: «Декарт избегает опасности безу-
мия не тем же способом, которым он обходит вероят-
ность сна и заблуждения... Ни сон, полный образов, ни
ясное осознание того, что чувства обманывают, не могут
возвести сомнение в крайнюю степень его универсально-
сти; даже если мы допустим, что глаза нас обманывают и
«что теперь мы спим», истина не полностью исчезнет во
мраке. С безумием все обстоит иначе». И далее: «В эко-
номии сомнения существует фундаментальное неравно-
весие между безумием с одной стороны, и заблуждени-
ем — с другой. Они находятся в различном положении
по отношению к истине и к тому, кто ее ищет; сны и ил-
люзии преодолеваются в структуре истины, а безумие ис-
ключено самим сомневающимся субъектом».
Кажется, что Декарт на самом деле не углубляется в
опыт безумия, дабы встретить неуничтожимое, но при-
надлежащее самому безумию ядро. Он не интересуется
безумием, не допускает его даже гипотетически, не рас-
сматривает его. Он исключает его декретом. Я был бы
сумасбродом, если бы думал, что у меня тело из стекла.
Итак, это исключено, поскольку я мыслю. Предвосхищая
момент Когито, которое должно будет в строгой после-
довательности пройти через ряд этапов, Фуко пишет: «не-
возможность быть безумным, присущая не объекту мыс-
ли, а самому мыслящему субъекту». Безумие, таким
образом, изгоняется из внутреннего пространства мыс-
ли, отклоняется и разоблачается в своей собственной не-
возможности.
Фуко, насколько я знаю, стал первым, кто в этом
«Размышлении» отделил сон и бред от чувств и снов. От-
делил в их философском смысле и методологической
функции. В этом оригинальность его прочтения. Но толь-
ко ли по невнимательности классические интерпретато-
ры не сочли такое разведение важным? Прежде чем
ответить на этот вопрос или, скорее, прежде чем про-
должить его постановку, отметим вместе с Фуко, что этот
исключающий декрет, предвосхищающий великое зато-
чение, соответствующий ему, переводящий его на свой
язык, сопровождающий его или, во всяком случае, ему
способствующий, этот декрет был невозможен, напри-
мер, для того же Монтеня, которого, как мы знаем, пре-
следовала возможность помешаться или оказаться бе-
зумным, безумным в самой своей мысли, полностью и
бесповоротно. Итак, картезианский декрет отмечает, как
говорит Фуко, «пришествие рацио». Но поскольку ра-
цио не «исчерпывается» в «прогрессе некоего рациона-
лизма», Фуко оставляет Декарта, чтобы заняться исто-
рической (и социально-политической) структурой, одним
из знаков которой является картезианский жест. Ведь
«множество знаков», по словам Фуко, «выдает класси-
ческое событие».
Мы постарались прочесть Фуко. Попытаемся теперь
вновь просто почитать Декарта и, прежде чем повторить
вопрос о соотношении между знаком и структурой, уви-
деть, как я и намеревался, то, что может быть смыслом
самого знака. (Ведь знак здесь уже обладает автономно-
стью философского дискурса, уже является отношени-
ем означающего к означаемому.)
Перечитывая Декарта, я отмечаю две вещи:
1. В отрывке, на который мы только что ссылались и
который соответствует фазе сомнения, основанного на
естественных доводах, Декарт никак не обходит воз-
можность чувственного заблуждения и сна, не преодо-
левает их в «структуре истины» по той простой причине,
что, похоже, он вообще никогда и никоим образом не
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
преодолевает и не обходит их; он нигде не устраняет воз-
можность полного ошибочность всего знания, берущего
начало в чувствах и творениях воображения. Нужно от-
четливо понимать, что гипотеза сна является усилением
и, можно сказать, гиперболическим преувеличением того
предположения, что чувства иногда могут меня обманы-
вать. Во сне вся совокупность моих чувственных обра-
зов оказывается обманчивой. Отсюда следует, что дос-
товерное для сна будет a fortiori таковым для иллюзии
чувственного восприятия. Достаточно, следовательно,
изучить явление сна, чтобы на том уровне, на каком мы
пока находимся, то есть на уровне естественного сомне-
ния, рассмотреть случай чувственного заблуждения во-
обще. Итак, какая же истина и достоверность ускольза-
ют от восприятия, то есть от заблуждения чувств или от
созданий сна и воображения? Эта достоверность и исти-
на не относятся ни к чувствам, ни к воображению. Это
простые и умозрительные вещи.
В самом деле, если я сплю, то все, что я восприни-
маю во сне, может быть, по словам Декарта, «обманчи-
вой иллюзией», в особенности то, что у меня есть руки,
тело, что мы открываем глаза, качаем головой и т.д. Ина-
че говоря, то, что было, согласно Фуко, исключено выше
как сумасбродство, допускается здесь как возможность
сна. И вскоре мы увидим почему. Предположим, говорит
Декарт, что во сне все мои представления иллюзорны. Но
даже в случае таких с трудом подвергаемых сомнению
вещей, как мое тело, руки и т.д., необходимо, чтобы на-
личествовало само представление, каким бы иллюзорным
и ложным оно не оказалось в отношении к представляе-
мому. А в этих представлениях, в этих образах, в этих
идеях, в картезианском смысле этого слова, все целиком
может быть ложным и выдуманным, подобно образам тех
художников, чье воображение, специально подчеркива-
ет Декарт, достаточно «сумасбродно», чтобы выдумать
нечто новое, подобного чему мы никогда не видели. Но и
в случае с живописью есть по крайней мере один послед-
ний элемент, который не подвержен иллюзии и который
художники не могут просто выдумать — цвет. Это толь-
ко аналогия, поскольку Декарт вообще-то не предпола-
гает обязательного существования цвета, этой чувствен-
ной вещи среди множества подобных ей. Но так же как в
картине — сколь бы выдуманной и изобретательной она
не была — остается реальная, неуничтожимая и простая
часть — то есть цвет, так же и во сне существует невыду-
манная простая часть, предполагаемая каждым фантасти-
ческим сочетанием, неуничтожимая при любом разложе-
нии. Но на этот раз — вот почему пример с художником
и цветом не более, чем аналогия — эта часть не принад-
лежит ни чувствам, ни воображению: она умозрительна.
На этот пункт Фуко не обращает внимания. Я про-
читаю отрывок из Декарта, который нас сейчас интере-
сует... «Ведь те же художники, даже когда они стремят-
ся с наибольшим искусством представить в весьма
странных и необычных формах Сатиров и Сирен, не мо-
гут, однако, наделить их совершенно новыми формами и
природой, создавая лишь некоторую смесь и сочленение
из членов различных животных; возможно и то, что их
воображение достаточно сумасбродно, чтобы выдумать
нечто новое, что подобного чему мы никогда не видели,
так что их произведения представляют нечто полностью
выдуманное и иллюзорное; но и в этом случае по мень-
шей мере сами цвета, из которых они слагают картину,
должны быть истинными. По той же самой причине, хотя
даже такие общепризнанные предметы как глаза, голо-
ва, руки, и т.д. могут быть воображаемыми, необходимо
в то же время признать, что существуют еще более про-
стые и универсальные вещи, которые есть на самом деле
и из смеси которых, так же как из смеси настоящих цве-
тов, создаются все образы вещей, обитающие в нашей
мысли, независимо от того, являются ли они истинными
и реальными или ложными и выдуманными. К такому
роду вещей относится телесная природа вообще, ее про-
тяженность, качество и величина вещей, их число, ме-
сто, в котором они находятся, время, которым измеря-
ется их пребывание и тому подобное. Вот почему
нелишне будет заключить, что Физика, Математика,
Астрономия, Медицина и все остальные науки, завися-
щие от наблюдения составных предметов, являются весь-
ма сомнительными и недостоверными, тогда как Ариф-
метика и Геометрия вместе с другим науками той же
природы, занимающиеся лишь весьма общими и просты-
ми вещами, нимало не заботясь о том, есть ли они в са-
мой природе или их там нет, содержат в себе нечто дос-
товерное и несомненное; ведь независимо от того, сплю
я или бодрствую, три плюс два равняется пяти, а у квад-
рата никогда не будет больше четырех сторон; кажется
невозможным, чтобы столь очевидные истины могли бы
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
быть заподозрены в какой-нибудь ложности или недос-
товерности.»
Отмечу, что и следующий параграф начинается с «од-
нако» (verumatem), которым мы вскоре займемся.
Таким образом, достоверность этой умозрительной
простоты или всеобщности — которая немного позже
будет подвергнута метафизическому, искусственному и
гиперболическому сомнению посредством введения Зло-
козненного Демона, — эта достоверность вовсе не дос-
тигается непрерывной редукцией, открывающей наконец-
то сопротивление некоего ядра достоверности чувств и
воображения. Налицо определенный разрыв и переход
на другой уровень. Ядро это оказывается полностью умо-
зрительным, а достигаемая таким образом достоверность,
все еще естественная и временная, предполагает полный
разрыв со сферой чувств. В этот момент анализа никакое
значение, берущее начало в чувствах или воображении,
не может быть спасено, никакая устойчивость чувствен-
ного к сомнению не доказана. Всякое значение, всякая
идея чувственного происхождения исключаются из об-
ласти истины по тем же основаниям, что и безумие, И в
этом нет ничего удивительного: безумие — это лишь ча-
стный и даже не самый серьезный случай чувственной
иллюзии, которая пока интересует Декарта. Таким об-
разом, можно отметить:
2. Гипотеза сумасбродства или помешательства — в
этот момент декартовского движения — не получает, по-
хоже, какой-то особой трактовки и не подвергается ни-
какому особому исключению. В самом деле, перечитаем
отрывок, цитируемый Фуко, в котором появляется сума-
сбродство. Определим заново его положение. Декарт
только что отметил, что чувства иногда обманывают нас,
«осторожность же состоит в том, чтобы никогда полно-
стью не доверять тем, кто нас однажды обманул». Он по-
следовательно продвигается вперед и начинает с этого sed
forte, на которое я обратил ваше внимание. Поэтому весь
следующий абзац выражает не законченную и определен-
ную мысль Декарта, а возражение и удивление не-фи-
лософа, новичка в философии, которого пугает это со-
мнение, который протестует и говорит: вы можете
сомневаться в некоторых чувственных восприятиях, от-
носящихся к вещам «мало ощутимым и сильно удален-
ным», но сомневаться в другом! В том, что вы сидите
здесь, возле огня, рассуждая с этой бумагой в руках, и во
всем подобном этому! Декарт принимает удивление это-
го наивного читателя или собеседника за свое, притво-
ряясь согласным с ним, когда пишет: «Да и как я мог бы
отрицать, что эти руки и это тело принадлежат мне? Если
только не уподобиться тем безумцам... и т.д.». «И я был
бы не менее сумасброден, если б стал руководствоваться
их примерами...»
Мы видим, каков риторический и педагогический
смысл этого sed forte, управляющего всем абзацем. Это
«но, может быть » притворного возражения. Декарт толь-
ко что сказал, что все знания чувственного происхожде-
ния могут его обманывать. Он притворяется, обращаясь
к себе с возражением удивленного воображаемого не-
философа, которого пугает подобная смелость и кото-
рый говорит: но не все же чувственные знания — иначе
вы будете безумным, а было бы неразумным равняться
на сумасшедших, выходить к нам с речью сумасшедшего.
Декарт эхом откликается на это возражение: посколь-
ку я здесь, я пишу, а вы меня понимаете, ни я, ни вы не
безумны, мы вполне разумные люди. Пример безумия не
является, следовательно, показательным для неустойчи-
вости чувственной идеи. Пусть так. Декарт соглашается
с этой вполне естественной точкой зрения или, скорее,
притворяется отдыхающим в этом естественном комфор-
те, дабы еще решительнее, еще успешнее и еще опреде-
леннее покинуть его и растревожить своего собеседни-
ка. Пусть, говорит он, вы будете считать, что я безумен,
сомневаясь, что я сижу тут, возле огня и т.д., что я сума-
сброден, руководствуясь примером безумцев. Тогда я
предлагаю вам гипотезу, которая покажется более есте-
ственной, которая не вызовет вашего раздражения, по-
скольку речь идет об опыте всеобщем и более обыден-
ном, нежели безумие — о сне и сновидении. Так Декарт
развертывает гипотезу, которая разрушит весь чувствен-
ный фундамент познания, открыв, что у достоверности
есть лишь интеллектуальные основания. Эта гипотеза,
подчеркиваю, никак не избегает методологических сума-
сбродств, еще более серьезных, нежели безумие.
Эта ссылка на сон, следовательно, никоим образом
не оказывается отступлением по отношению к возмож-
ности безумия, которую Декарт, якобы, держал на рас-
стоянии или даже исключал. В нашем методическом по-
рядке она составляет гиперболическое преувеличение
гипотезы безумия. Ведь последнее случайным и частным
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
образом затрагивает лишь некоторые области чувствен-
ного восприятия. Впрочем, для Декарта речь здесь идет
не о том, чтобы определить понятие сна, но о том, чтобы
воспользоваться расхожим понятием умопомешательства
в юридических и методологических целях, задавая вопро-
сы легитимности, касающиеся лишь истины идей6. Здесь
нужно остановиться на том, что спящий или видящий сны
оказывается, с его точки зрения, более безумным, чем сам
безумец. Или, по крайней мере, по отношению к пробле-
ме познания, которая здесь интересует Декарта, видящий
сны более далек от истинного восприятия, чем безумец.
Именно в случае сна, а не умопомешательства, вся сово-
купность чувственных по своему происхождению идей
становится ненадежной, лишается, по словам М. Геру,
«объективной ценности». Гипотеза умопомешательства
была, таким образом, лишь удачным или показательным
примером, не будучи удобным инструментом сомнения.
И тому есть по меньшей мере две причины.
а) Пример с безумием не покрывает всего поля чув-
ственного восприятия. Безумец обманывается не всегда
и не во всем; он недостаточно обманывается, то есть он
недостаточно безумен.
b) Этот пример неудачен и неубедителен в педагоги-
ческом смысле, поскольку он наталкивается на сопротив-
ление не-философа, который не может последовать за
отважным философом, когда тот допускает, что он впол-
не мог бы быть безумным в тот самый момент, когда он
говорит.
Дадим слово Фуко. Перед построением текста Декар-
та, принцип которого я только что указал, Фуко мог бы —
и я сейчас просто продолжаю логику его книги, не опи-
раясь ни на какой реальный текст — напомнить нам две
истины, которые и во втором чтении оправдали бы его
интерпретацию, так что она лишь по видимости будет
отличаться от моей.
1. Во втором чтении обнаружилось, что для Декарта
безумие мыслимо лишь как один — не самый серьез-
ный — случай чувственного заблуждения. (Фуко, таким
образом, обращался бы к перспективе фактического оп-
ределения, а не юридического использования понятия
безумия Декартом.) Безумие — это не более, чем ошиб-
ка чувств и тела, немного более серьезная, чем та, что
подстерегает любого бодрствующего, но нормального
человека и, в эпистемологическом рассмотрении, гораз-
до менее серьезная, нежели та, в которую мы попадаем
во время сна. Нет ли, спросил бы несомненно Фуко, в
этом сведении безумия к примеру, к случаю чувственно-
го заблуждения некоего исключения, заключения безу-
мия и, в особенности, укрытия под защитой Когито и
всего того, что восходит к интеллекту и разуму? Если
безумие это лишь извращение чувств — или воображе-
ния, — тогда оно относится к телу, находится на сторо-
не тела. Реальное различение субстанций исторгает бе-
зумие в потемки, внешние Когито. Безумие оказывается,
если употребить выражение Фуко, которым он пользу-
ется в другом месте, заключенным внутри внешнего и
вовне внутреннего. Оно — другое самого Когито. Я не
могу быть безумным, когда я мыслю и обладаю ясными
и отчетливыми идеями.
2. Все так же соглашаясь с нашей гипотезой, Фуко
мог бы также напомнить нам, что, вписывая свою отсыл-
ку к безумию в проблематику познания, превращая безу-
мие не просто в телесный предмет, но в ошибку тела, об-
ращая внимание на безумие лишь как на видоизменение
идеи, представления или суждения, Декарт, таким обра-
зом, скрадывает всякую его оригинальность. Он даже
осужден на то, чтобы в пределе сделать из безумия, как и
из всякого заблуждения, не только эпистемологическую
погрешность, но и моральное прегрешение, связанное с
поспешностью воли, которая одна только может ввести
в заблуждение интеллектуально ограниченное воспри-
ятие. Остается один шаг, чтобы сделать из безумия грех,
шаг, который был, как показывает Фуко в других главах,
с легкостью совершен.
Фуко был бы полностью прав, напоминая нам две эти
истины, если б мы остановились на наивном, дометафи-
зическом и естественном этапе пути Декарта, этапе, по-
меченном тем естественным сомнением, которое появля-
ется в отрывке, процитированном Фуко. Итак, эти две
истины также, судя по всему, оказываются уязвимы, как
только мы подходим к собственно философской, мета-
физической и критической части сомнения7.
1. Отметим вначале, как в риторике первого «Раз-
мышления» за первым «однако», которое вводило «ес-
тественную» гиперболу сна (после того, как Декарт толь-
ко что сказал: «Но ведь это же безумцы, и я был бы не
менее сумасброден», и т.д.), следует в начале следующе-
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
го абзаца второе «однако». Первому «однако», отмечаю-
щему гиперболический момент внутри естественного
сомнения, ответит второе, отмечающее абсолютный ги-
перболический момент, заставляющий нас выйти из ес-
тественного сомнения и подступиться к гипотезе Зло-
козненного Гения. Декарт только что допустил, что
арифметика, геометрия и первичные простые понятия не
подвержены первому сомнению, но теперь он пишет: «Од-
нако, уже давно я ношу в своем уме ту идею, что сущест-
вует всемогущий Бог...» и т.д. Так запускается хорошо
известное движение, которое приведет к вымыслу Зло-
козненного Гения.
Итак, обращение к гипотезе Злокозненного Гения
сделает действительной и призовет возможность полно-
го безумия, полного умопомешательства, с которым мне
уже не совладать, покуда я ему гипотетически подчинен
и не могу быть за него ответственным; полное помеша-
тельство, то есть безумие, которое окажется не только
беспорядком тела, объекта, объекта-тела, находящегося
по ту сторону от res cogitans, вне успокоенного полицей-
скими мерами града мыслящей субъективности, но безу-
мием, которое проникнет со своей подрывной деятель-
ностью в саму чистую мысль, в полностью умозрительные
объекты, в область математических истин, которые из-
бежали естественного сомнения.
На этот раз безумие, сумасбродство не щадит ниче-
го — ни восприятия моего тела, ни чисто умозрительных
восприятий. Декарт последовательно допускает:
а) то, что он притворно не допускал, беседуя с не-
философом. Я читаю (Декарт только что упомянул об
«этом злом гении, который не менее хитер и лжив, неже-
ли могуществен»): «Я буду думать, что небо, воздух, цве-
та, фигуры, звуки и все внешние вещи, которые мы ви-
дим, являются лишь иллюзией и обманом, которыми он
пользуется, чтобы обмануть меня в моей доверчивости.
Я буду рассматривать самого себя как не имеющего в дей-
ствительности рук, глаз, плоти и крови, каких бы то ни
было чувств, но как ложно считающего себя их облада-
телем...». Этот ход мысли будет повторен во втором из
«Размышлений». Пока же мы довольно далеки от расче-
та, выданного выше сумасбродству...
Ь) то, что ускользало от естественного сомнения:
«Может случиться, что он (речь тут идет, еще прежде
обращения к Злокозненному Гению, о Боге-обманщи-
ке. — Ж.Д.) пожелал, чтобы я ошибался всякий раз, ко-
гда я складываю два и три или пересчитываю стороны
квадрата и т.д. »8.
Таким образом, ни идеи чувственного происхожде-
ния, ни умозрительные идеи не спасутся в укрытии на этой
новой фазе сомнения, а то, что предварительно было от-
странено под именем сумасбродства, отныне целиком и
полностью допускается в самое существо мысли.
Речь идет о некоторой философской и юридической
операции (но в нее включалась уже и первая фаза сомне-
ния), об операции, которая уже указывает на безумие, но
обнажает возможности оправдания. По идее, ничто не
противостоит подрыву, именуемому в первом сомнении
сумасбродством, хотя фактически и с естественной точ-
ки зрения для Декарта, его читателя и для нас никакое
беспокойство по поводу реального подрыва невозмож-
но. (По правде говоря, если идти в глубину предмета, пре-
жде всего нужно было бы взяться непосредственно за
вопрос факта и права во взаимоотношениях Когито и бе-
зумия.) Под этим естественным благоденствием, под этим,
как кажется, до-философским доверием скрывается при-
знание сущностной и правовой истины: философский
дискурс и философская коммуникация (то есть сам язык),
если они должны обладать умопостигаемым смыслом, то
есть соответствовать своей сущности и призванию дис-
курса, должны на деле и, одновременно, по праву избе-
гать безумия. Они должны нести нормальность внутри
самих себя. И это не какая-то оплошность Декарта (хотя
он и не рассматривает вопрос собственного языка)9, это
не бельмо или мистификация, связанная с определенной
исторической структурой, это универсальная сущность,
от которой не может уклониться ни один дискурс, поку-
да он принадлежит к смыслу смысла. Это необходимость
по сущности, которую не может избежать ни один дис-
курс, даже тот, который разоблачает мистификацию или
переворот. То, что я здесь говорю, точно соответствует
смыслу слов Фуко. Поскольку именно теперь мы воспри-
нимаем всю глубину этого утверждения Фуко, которое
любопытным образом спасает Декарта от обвинений,
брошенных в его сторону. Фуко говорит: «Безумие — это
отсутствие произведения». Вот основное примечание во
всей его книге. Произведение же начинается с наиболее
элементарного дискурса, с первого оформления смысла,
с фразы, с первой синтаксической связки вроде «такой,
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
как»10, ведь создавать фразу — это открывать возмож-
ный смысл. Фраза по своей сущности нормальна. Она
носит в самой себе эту нормальность, то есть смысл, во
всех смыслах этого слова и, особенно, в его декартовском
смысле — то есть чувственном. Она несет в себе нормаль-
ность и смысл, каково бы ни было состояние, здоровье
или безумие того, кто ее высказывает, через кого она про-
ходит, о чем и в чем она артикулируется. В самом бедном
синтаксисе логос уже оказывается разумом и разумом
историческим. И если безумие — это вообще отсутствие
произведения, оказавшееся по ту сторону фактической
и определенной исторической структуры, тогда безумие
по своей сущности неизбежно будет молчанием, словом,
оборванным в том срезе и в той ране, которые затраги-
вают саму жизнь как всеобщую историчность. Не про-
сто отдельным, наступившим в тот или иной момент
молчанием, но молчанием по самой своей сущности свя-
занным с тем переворотом и запретом, которые откры-
вают историю слова. Всеобщим образом. В самом изме-
рении историчности вообще, которую нельзя смешивать
ни с вечностью, ни с каким-нибудь эмпирически опреде-
ленным моментом фактической истории, содержится эта
неотменимая сторона молчания, несущая и преследую-
щая язык, сторона, вне и против которой он только и
может возникнуть; причем «против» означает здесь и
фон, на котором, затрачивая силы, вырисовывается оп-
ределенная форма, и противника, перед которым я си-
лой утверждаюсь и выстаиваю. Хотя молчание безумия —
это отсутствие произведения, оно не просто еще не за-
нятое его место, в отношении к его языку и смыслу оно
не может быть вне произведения. Будучи бессмыслицей,
оно оказывается их пределом и глубочайшим истоком.
Конечно, наделяя безумие такой сутью, мы рискуем сте-
реть его фактическую определенность, известную по пси-
хиатрической практике. В этом постоянная опасность,
которая не должна сбивать с толку требовательного и
терпеливого психиатра.
Таким образом, если вернуться к Декарту, всякий
философ или говорящий субъект (а философ и есть по
преимуществу такой субъект), будучи обязанным при-
звать безумие внутрь своей собственной мысли, может
это сделать лишь в измерении возможности, на языке
вымысла или в вымысле языка. Тем самым он получает
гарантию от фактического безумия — которое порой мо-
жет быть весьма настойчивым, но это другой вопрос — в
своем собственном языке, он удерживает безумие на рас-
стоянии, необходимом для того, чтобы можно было про-
должать говорить и жить. В этом нет никакого прегре-
шения или тяги к безопасности, свойственной тому или
иному историческому языку (к примеру, тяги к «досто-
верности» в картезианском стиле), но таковы по своей
сущности или даже проекту все языки и даже, казалось
бы, наиболее безумные, даже те, что хвалой безумию и
заговором с ним в наибольшей степени перенимают его
меру. Поскольку язык — это и есть разрыв с безумием,
он становится еще более соответствующим своей сущно-
сти и своему призванию, еще лучше рвущим связи с безу-
мием, когда он более свободно идет по его стопам и под-
ходит к нему поближе: то есть вплоть до того, что от
безумия его отделяет лишь он сам, «прозрачный лист », о
котором говорил Джойс, покуда эта прозрачность — не
что иное, как первичное благоразумие некоего пустяка,
нейтрализующего все остальное. В этом смысле для меня
было бы весьма соблазнительным рассматривать книгу
самого Фуко как мощный жест защиты и заточения. Кар-
тезианский жест для XX века. Присвоение негативности.
Кажется, что он закрывает сам разум, но целью его, как
и для Декарта, становится разум вчерашнего дня, а не
возможность смысла вообще.
2. Что касается второго положения, которое Фуко
мог бы нам противопоставить, оно, похоже, тоже зна-
чимо лишь для фазы натурального сомнения. На фазе
радикального сомнения Декарт не только не выставля-
ет безумие за дверь, не только помещает его грозную
возможность в само сердце умозрительного, но и в
принципе не позволяет никакому знанию избегнуть его.
Сумасбродство — то есть его гипотеза, — угрожая все-
му знанию сразу, уже не будет одной из его модифика-
ций. Знание никогда, следовательно, не сумеет своими
силами справиться с безумием и покорить его, то есть
объективировать. По крайней мере до тех пор, пока
сомнение не будет снято. Дело в том, что завершение
сомнения ставит проблему, к которой мы через мгно-
вение вернемся.
Во-первых, акт Когито, достоверность существова-
ния, конечно же, ускользают от безумия, но, кроме того,
что впервые речь здесь не идет об объективном и пред-
< тавляющем знании, мы не можем сказать, что Когито
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
буквально ускользает от безумия, потому что оно, яко-
бы, удерживается вне сферы его влияния или потому что,
как говорит Фуко, «я, поскольку я мыслю, не может быть
безумным», ведь акт Когито будет иметь то же значение,
даже если я безумен, даже если моя мысль будет безум-
ной с начала и до конца. Существуют такое значение и
такой смысл Когито как существования, которые усколь-
зают от альтернативы некоего частного безумия и разу-
ма. Перед острием опыта Когито сумасбродство, как ут-
верждается в «Рассуждении о методе», неизбежно
оказывается на стороне скептицизма: «Даже самые су-
масбродные утверждения скептиков не могут его поко-
лебать» («Рассуждение», часть IV). Достигаемая таким
образом достоверность не скрывается от вытесненного
безумия, она достигается и укрепляется в нем самом. Она
значима, даже если я безумен. Это высшая очевидность,
которая, похоже, не требует ни исключения, ни обхож-
дения. Декарт никогда не закрывает возможность безу-
мия — ни на этапе естественного сомнения, ни на этапе
метафизического. Он лишь притворяется, что исклю-
чает его — на первой фазе первого этапа, в еще не гипер-
болический момент естественного сомнения.
Гиперболическая смелость Когито, которую мы,
быть может, уже не очень отчетливо воспринимаем, по-
скольку мы чересчур успокоены, слишком оторваны — и
скорее от схемы Когито, чем от его обостренного опы-
та, — его безумная смелость заключается в том, чтобы
вернуться к исходной точке, которая уже не будет при-
надлежать паре некоего определенного разума и опреде-
ленного неразумия, их оппозиции и их альтернативе. Бе-
зумен я или нет, Cogito, sum. Безумие — это не более,
чем случай, казус (во всех смыслах этого слова) мысли
(или в мысли). Речь, следовательно, идет о том, чтобы от-
ступить к точке, где всякое противоречие, определенное
формой данной исторической структуры, может от-
крыться, причем открыться как относящееся к той нуле-
вой отметке, где частный смысл и частная бессмыслица
соединяются в их общем источнике. С той точки зрения,
которая на данный момент принадлежит нам, можно
было бы сказать следующее об этой нулевой точке, оп-
ределенной Декартом как Когито.
Будучи нечувствительной ко всякому определенно-
му противоречию между разумом и неразумием, она яв-
ляется точкой, исходя из которой может появиться и
высказаться как таковая история определенных форм
этого противоречия, история начатого или прерванного
диалога. Это точка нетронутой очевидности, в которой
коренится возможность рассказа Фуко как рассказа о
тотальности или, скорее, рассказа о всех определенных
формах обмена между разумом и безумием. Это точка11,
в которой коренится проект: мыслить тотальность, избе-
гая ее. Избегая ее, то есть превосходя, что по отношению
к сущему возможно лишь при выходе к бесконечному или
к ничто: даже если все то, что я мыслю, затронуто безу-
мием или ложью, даже если весь мир в целом не сущест-
вует, даже если бессмыслица захватила весь этот мир це-
ликом, включая и содержание мой мысли, я мыслю, я
существую, пока я мыслю. Даже если на деле у меня и нет
доступа к этой тотальности, если я не могу ни понять, ни
охватить ее, я формулирую проект, смысл которого оп-
ределим лишь с точки зрения некоего предпонимания
бесконечной и неограниченной тотальности. Вот почему
в этом превосхождении возможного, права и смысла ре-
ального, фактического и сущего этот проект безумен, он
признает безумие как свою свободу и свою возможность.
Вот почему это не проект человека в смысле некоей ан-
тропологической фактичности, а метафизический и де-
монический проект: он с самого начала раскрывается в
войне с демоном, с Злокозненным Гением бессмыслицы,
он примеривается к его высоте, сопротивляется ему, сти-
рая в себе естественного человека. В этом отношении нет
ничего менее успокоительного, нежели Когито в его ис-
ходном и ему только присущем мгновении. Этот проект
превосхождения тотальности мира как того, что я вооб-
ще могу помыслить, не более успокоителен, чем диалек-
тика Сократа, выходящая за пределы всего сущего и
выносящая нас на свет скрытого солнца, которое есть
ET^KEivot тт£ огхя£. Главкон не обманулся, воскликнув
тогда: «Боже, что за демоническое вознесение?
(“Saipoviac; блерроХц <;”)», что довольно плоско пе-
реводится как «чудесная трансценденция». Эта демони-
ческая гипербола идет дальше, чем страсть Ъррц, если
вообще рассматривать последнюю не как только лишь па-
тологическое преобразование сущего, именуемого чело-
веком. Подобное ьррц остается внутри мира. Оно под-
разумевает, если предполагать, что оно является
безмерностью, и беспорядок, фундаментальную безмер-
ность и разрушение упорядоченности в превознесении,
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
гиперболе, которое открывает и основывает мир как та-
ковой, превосходя его в целом, Ъ0ри; будет безмерным
и выходящим за край только в пространстве, открытом
демонической гиперболой.
Соответственно тому, куда устремляется через со-
мнение и картезианское Когито, этот проект неслыхан-
ного и невиданного превосхождения, выхода к неопре-
деленному, Ничто или Бесконечному, выхода за пределы
всего мыслимого, за пределы сущего, определенного
смысла и фактической полноты истории, соответствен-
но всему этому всякая попытка — сколь бы проникновен-
ной она не оказалась — свести этот проект к определен-
ной исторической структуре и заключить его в ней
рискует упустить самое важное, сгладить его собствен-
ную остроту. Она рискует сама учинить над ним наси-
лие (ведь есть и насилие, учиняемое над рационалистами
и над смыслом, над здравым смыслом; в конечном счете,
быть может, Фуко показывает именно это, поскольку
жертвы, о которых он говорит, всегда оказываются но-
сителями смысла, истинными носителями скрытого ис-
тинного или здравого смысла, подавленного определен-
ным «здравым смыслом», смыслом раздела, то есть тем,
который разделяется недостаточно и определяется черес-
чур быстро), рискует учинить насилие именно тоталитар-
ного и историцистского стиля, теряя смысл и источник
смысла12. Слово «тоталитарный» я использую в его струк-
туралистском смысле целокупности, но я не уверен, что
исторически эти два смысла не отсылают друг к другу.
Структуралистский тоталитаризм совершает здесь акт
заточения Когито, акт того же рода, что и насилие клас-
сической эпохи. Я не говорю, что книга Фуко тоталитар-
на, поскольку вначале он ставит, по крайней мере, вопрос
происхождения историчности вообще, освобождаясь та-
ким образом от историцизма: я утверждаю, что иногда
он не избегает такого тоталитарного риска в выполне-
нии своего проекта. Разберемся в этом получше: когда я
говорю, что возвратить в мир то, чего в нем нет, и что уже
предполагается самим миром, когда я говорю, что «сот-
pelle intrare» (эпиграф к главе о «великом заточении»)
само становится насилием, обращаясь к гиперболе, дабы
вернуть ее в мир, когда я говорю, что такое сведение к
тому, что внутри мира, и есть начало и сам смысл того,
что называют насилием, делающим затем возможными
все остальные смирительные рубашки, я тем самым не
призываю к иному миру, к некоему алиби или трансцен-
дентному побегу. Речь здесь должна идти, скорее, о дру-
гой возможности насилия, часто, впрочем, поддерживаю-
щей первое.
Итак, я полагаю, что все (у Декарта) можно свести к
некоей определенной исторической тотальности, за ис-
ключением гиперболического проекта. Этот проект на-
ходится на стороне рассказывающего рассказа Фуко, а
не на стороне рассказанного рассказа. Он не может быть
рассказан или объективирован в определяющей его ис-
тории.
Я отлично понимаю, что это движение, названное
картезианским Когито, слагается не только из этого ги-
перболического обострения, которое, как и всякое чис-
тое безумие вообще, должно было бы быть молчащим.
Как только Декарт достигает этой оконечности, он начи-
нает искать гарантированности самого Когито в Боге,
старается отождествить акт Когито с актом благоразум-
ного разума. Он поступает так с того самого момента,
когда высказывает и рефлексирует Когито. То есть с того
мгновения, когда он должен продлить Когито во време-
ни, которое само по себе имеет значение лишь в мгнове-
ние интуиции, мысли, внимающей самой себе, в этой точ-
ке или остроте* мгновения. Именно на эту связь между
Когито и движением темпорализации стоило бы обратить
внимание. Поскольку, если Когито значимо даже для бе-
зумного, то нужно на самом-то деле не быть безумным,
чтобы его рефлексировать, удерживать, сообщать его и
его смысл. Вместе с Богом и появлением некоей памяти13
начинается «упадок» и сущностной кризис. Начинается
поспешное возвращение гиперболического безумного
блуждания, стремящегося отныне укрыться, успокоить-
ся в порядке рассуждений, дабы вновь получить ранее
оставленные истины. По крайней мере в тексте самого
Декарта заключение или заточение производится в этом
пункте. Здесь гиперболическое безумное блуждание ста-
новится дорогой и методом, «решенным» и «подтвер-
жденным» возвращением к существующему миру, кото-
рый Бог вручил нам как наше прочное основание.
В конечном счете только Бог позволяет мне выйти из Ко-
гито, которое в своем собственном моменте могло бы веч-
* Игра слов: le point — точка, la pointe — острие, острота, жало
и т.д. — Прим, перев.
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
но оставаться немым безумием; только Бог дает гаран-
тию истинности моих представлений и определенностей
познания, то есть моего рассуждения, направленного
против безумия. Нет никакого сомнения в том, что по Де-
карту один только Бог14 защищает меня от того безумия,
которому само Когито, в его собственном положении,
могло бы лишь открыться самым гостеприимным обра-
зом. Прочтение же Фуко кажется мне сильным и много
проясняющим не на том этапе текста, который цитиру-
ется им и который является предшествующим и низшим
по отношению к Когито, но начиная с момента, который
непосредственно следует за мгновенным опытом Когито
во всей его крайней остроте, когда разум и безумие еще
не разошлись, когда принимать Когито — это значит при-
нимать не разум как разумный порядок или, с другой сто-
роны, беспорядок безумия, но схватывать тот исток, ис-
ходя из которого разум и безумие могут определяться и
высказываться. Интерпретация Фуко кажется мне мно-
гообещающей начиная с момента, когда Когито должно
быть отрефлексировано и высказано в организованном
философском дискурсе. То есть, почти всегда. Ведь если
Когито значимо даже для безумца — если только, повто-
рюсь, слово «безумец» обладает одним единственным
философским смыслом, с чем я не согласен, поскольку
оно лишь обозначает «другое» каждой определенной
формы логоса, — все равно, быть безумцем это не иметь
возможности отрефлексировать и высказать Когито, то
есть предъявить его как таковое другому, причем другой
может быть мной самим. Начиная с того момента, как
Декарт высказывает Когито, он начинает вписывать его в
систему выводов и защитных мер, предающих его живой
источник и ограничивающих собственное блуждание
Когито, дабы обойти заблуждение. В сущности, обходя
молчанием проблему слова, которую ставит Когито, Де-
карт, кажется, подразумевает, что мыслить и высказы-
вать ясное и отчетливое — это одно и то же. Мы можем
высказать то, что мы мыслим, и сам факт того, что мы
мыслим, не предавая мыслимого. Подобным же обра-
зом — но только подобным — святой Ансельм видел в /и-
sipiens, неразумном, того, кто не думает, потому что не
может думать то, что говорит. Безумие и для него было
молчанием, болтливым молчанием мысли, которая не про-
думывает свои слова. Это, впрочем, пункт, который стои-
ло бы рассмотреть подробнее. В любом случае, Когито
оказывается произведением, как только оно успокаива-
ется в своей речи. Но до произведения оно является бе-
зумием. Безумец, если б он и мог уклониться от Злокоз-
ненного Гения, все равно не смог бы себе об этом сказать.
Итак, он не может это сказать. Можно заметить, что
фуко прав в той мере, в какой сомнение,'уже предложен-
ное в качестве методического, всегда тяготело к проекту
ограничения блуждания. У этого отождествления Коги-
то с благоразумным — то есть нормальным — разумом
нет даже — по крайней мере фактически, если не юриди-
чески — нужды дожидаться доказательств существова-
ния правдивого Бога как высшего стража безумцев. Это
отождествление вводится в тот момент, когда Декарт
определяет естественный свет (который в своем неоп-
ределенном источнике был бы значим и для безумца),
когда он отрывается от безумия, определяя естественный
свет через серию принципов или аксиом (аксиома причин-
ности, согласно которой должно быть по крайней мере
столько же реальности в причине, сколько в следствии;
потом, уже после того, как эта аксиома позволит дока-
зать существование Бога, аксиома «естественного света,
который учит нас, что обман необходимым образом за-
висит от некоего недостатка» докажет божественную
правдивость). Эти аксиомы, определение которых догма-
тично, уходят от сомнения, они никогда и не подверга-
ются ему, будучи обоснованными лишь задним числом,
исходя из существования и правдивости Бога. В связи с
этим фактом они рушатся под ударом познания и опре-
деленных философских структур. Вот почему акт Коги-
то, в том гиперболическом моменте, когда он примеря-
ется к безумию или, скорее, позволяет ему дать себе меру,
должен быть повторен и отличен от языка или дедуктив-
ной системы, в которую Декарт его вписывает, как толь-
ко он предлагает его на суд понимания и сообщения, то
есть как только он рефлексирует его ради другого, что
значит — ради себя. Смысл получает гарантии от безу-
мия и бессмыслицы только в этом отношении к другому
как другому себе... А философия — это, быть может, и
есть страховка страха быть безумным, полученная в не-
посредственной близости от умопомешательства. Этот
молчащий и непохожий на другие момент можно было
бы назвать патетическим. В том, что касается функцио-
нирования гиперболы в структуре дискурса Декарта и в
порядке его рассуждений, наше прочтение, вопреки ви-
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
димости, в глубине согласно с прочтением Фуко. Именно
Декарт — и все то, что здесь обозначается под этим име-
нем, — именно система достоверности нужны в первую
очередь для контроля, управления, ограничения гипер-
болического сомнения, определяющих его в эфире есте-
ственного света, чьи аксиомы изначально исключены из
этого гиперболического сомнения, чье место превраще-
но в переходный и хорошо подкрепленный всей цепоч-
кой рассуждений отдельный момент. Но мы также пола-
гаем, что это движение в присущем ему пространстве и
времени может быть описано лишь при предварительном
вычленении точки гиперболы, чего Фуко, кажется, не сде-
лал. В этом столь беглом и по своей сущности неулови-
мом моменте, в котором оно еще уклоняется от линейно-
го порядка рассуждений, от порядка разума вообще и от
определенности естественного света, разве не может, до
какой-то степени, картезианское Когито повториться в
гуссерлевском и в той критике Декарта, которая в нем
подразумевалась?
Это лишь пример, поскольку однажды будет откры-
то то догматическое и исторически определенное осно-
вание — наше основание, — на котором должны были
сначала расположиться, а затем и пасть, чтобы высказать
себя, критика картезианского дедуктивизма, пружина и
безумие гуссерлевской редукции всей целокупности мира.
Можно будет тогда в отношении Гуссерля проделать то,
что Фуко сделал с Декартом: показать, что нейтрализа-
ция мира фактов — это нейтрализация (в том смысле, в
каком нейтрализация — это одновременно управление,
ограничение и предоставление свободы в пределах сми-
рительной рубашки) бессмыслицы, наиболее утонченная
форма переворота. Гуссерль на самом деле все более и
более соединял темы нормальности и трансценденталь-
ной редукции. Укорененность трансцендентальной фено-
менологии в метафизике присутствия, вся гуссерлевская
тематика живого настоящего — это глубокая обеспечен-
ность смысла в его достоверности.
Разделяя в Когито, с одной стороны, гиперболу
(о которой я сказал, что она не может быть заключена в
жестко определенной конкретной исторической струк-
туре, будучи проектом превосхождения всякой конечной
и определенной целокупности) и, с другой стороны, то,
что в философии Декарта (так же, как и в той, что под-
держивает существование Когито Августина или Гуссер-
ля) принадлежит к реальной исторической структуре, я
не предлагаю в каждой философии отделять зерна от
плевел во имя некоей philosophia perennis. Как раз наобо-
рот. Речь идет о том, чтобы дать отчет в самой историч-
ности философии. Я считаю, что историчность вообще
была бы невозможна без истории философии, а послед-
няя была бы в свою очередь невозможна, если бы суще-
ствовала только, с одной стороны, гипербола, а с дру-
гой — одни лишь определенные исторические структуры,
конечные Weltanschauungen. Собственная историчность
философии получает место и конституируется в этом
переходе, в этом диалоге между гиперболой и некоей
конечной структурой, между превосхождением тоталь-
ности и ее закрытостью, в самом различии истории и ис-
торичности, то есть в том месте или, скорее, в моменте,
когда Когито и все, что оно здесь символизирует (безу-
мие, слабоумие, гиперболу и т.д.), высказываются о себе,
успокаиваются и оступаются, по необходимости забывая
о себе до следующего оживления, пробуждения в другой
речи о превосхождении, которая позднее также окажет-
ся уже другим упадком и кризисом. Начиная со своего
первого дуновения, слово, подчиненное этому временно-
му ритму кризиса и пробуждения, открывает свое собст-
венное пространство, лишь закрывая безумие. Впрочем,
этот ритм — не простое чередование, которое было бы
еще и временным. Это движение самой темпорализации,
насколько оно едино с движением логоса. Но это осво-
бождение слова через насилие оказывается возможным,
причем возможным для продолжения только в той мере,
в какой оно хранит и сберегает само себя, в какой оно
является следом первичного насилия, в той мере, в какой
оно с полным сознанием дела удерживается в непосред-
ственной близости от того злоупотребления, которым
оказывается употребление слова, то есть достаточно
близко, чтобы высказывать насилие, вести диалог с са-
мим собой как неотменимым насилием, но и достаточно
далеко, чтобы жить и жить словом. Поэтому кризис или
забвение — это не какой-то несчастный случай, но судь-
ба говорящей философии, которая не может существо-
вать, не закрывая безумия, и которая умерла бы в своей
собственной мысли от еще более страшного насилия, если
бы новое слово не освобождало каждый раз это древнее
безумие, заключая и заточая в нем, в его настоящем, бе-
зумство средь бела дня. Только благодаря этому подав-
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
лению безумия может царствовать конечная мысль, то
есть история. Не останавливаясь на каком-нибудь оп-
ределенном историческом моменте, но распространяя
эту истину на всю историчность вообще, можно было
бы сказать, что царство конечной мысли может устано-
виться только на более или менее прикрытом заключе-
нии, унижении, связывании и осмеянии безумца в нас,
безумца, который всегда может быть только безумцем
или дураком, шутом, логоса как отца, хозяина или
короля.
Но это уже другой вопрос и другая история. Я сде-
лаю заключение, вновь процитировав Фуко. Оставив от-
рывок о Декарте далеко позади, через триста страниц
после него, Фуко, в некоем угрызении совести, рассуж-
дая о «Племяннике Рамо», пишет: «В момент, когда со-
мнение приблизилось к своей самой большой опасности,
Декарт понял, что он не может быть безумным — хотя и
был готов пойти даже на предположение Злокозненного
Демона и на признание того, что все силы неразумия кру-
жили вокруг его мысли». То, что мы сегодня попытались
сделать, — это всего-навсего попытаться войти в проме-
жуток этого угрызения совести — раскаяния Фуко и рас-
каяния Декарта, как его мыслил Фуко; в пространстве
этой «готовности пойти на признание» мы попытались
не тушить этот другой свет, черный и неестественный: кру-
жение «сил неразумия» вокруг Когито. Мы попытались
согласиться с тем жестом, в котором сам Декарт прини-
мает угрожающие силы безумия как противоположное
начало философии.
Из всего, чем я могу быть признателен Фуко, выде-
ляется то, как он дал мне прочувствовать — притом, ско-
рее, всей своей монументальной книгой, а не наивным
прочтением «Размышлений», — в какой степени фило-
софский акт отныне не может не быть по своей сущности
и по своему проекту картезианским, не может совершать-
ся, не помня о картезианстве, если только быть картези-
анцем — это, как без сомнения полагал и сам Декарт, хо-
теть им быть. То есть, как я, по меньшей мере, попытался
показать, желать-высказать-гиперболическое-демониче-
ское, исходя из которого мысль показывается самой себе,
пугается самой себя и на самой высокой своей отметке
оберегает саму себя от уничтожения и утопления в безу-
мии и смерти. На самой высокой своей отметке гипер-
бола, абсолютная открытость, неэкономическая трата
всегда усмиряются и сдерживаются экономией. Отноше-
ние между разумом, безумием и смертью — это эконо-
мия, особая структура отсрочивания, неотменимую ори-
гинальность которой стоило бы рассмотреть. Это
желание-высказать-гиперболическое-демоническое не
просто одно желание из многих подобных, это не то же-
лание, которое при подвернувшейся возможности неким
случайным образом было бы дополнено речью как объ-
ектом волящей или волюнтаристской субъективности.
Это желание сказать, которое отныне является не анта-
гонистом молчания, но его условием — это изначальная
глубина всякого желания вообще. Ничто, однако, не
оказывается более бессильным в попытке схватить это
желание или волю, чем волюнтаризм, поскольку это же-
лание как конечность и история — это и первоначаль-
ная исходная страсть. В себе оно сохраняет след некое-
го насилия. Оно скорее пишется, а не выговаривается,
оно экономизируется. Экономия этого письма — это
упорядоченное отношение между превосходящим и пре-
восходимой тотальностью: отсрочивание и различение
абсолютного превосхождения.
Определить философию как желание-сказать-гипер-
болическое это признаться — а философия, возможно,
как раз и есть такое гигантское признание, — что в исто-
рически сказанном, в чем она отрезвляется и исключает
безумие, философия предает саму себя (или предает себя
как мысль), входит в состояние кризиса или самозабы-
тья, которые являются существенным и необходимым
периодом ее движения. Я философствую лишь в страхе,
но именно в высказанном страхе стать безумным. Такое
признание, в его настоящем времени — это, одновремен-
но, забвение и разоблачение, защита и выставление, то
есть экономия.
Но этот кризис, в котором разум безумнее безумия,
поскольку он есть бессмыслица и забвение, а безумие
разумнее разума, поскольку оно, в свою очередь, ближе
к живому, но и в то же время молчаливому или еле шеп-
чущему, источнику смысла, — этот кризис всегда уже
начался и никогда не прекращался. То есть, если он и клас-
сичен, то не в смысле классической эпохи, но в смысле
вечно и по существу классического и, в то же время, ис-
торического в несколько необычном смысле.
Нигде и никогда понятие кризиса не смогло бы так
обогатить и собрать все свои скрытые значения, всю энер-
4 Ж. Деррида
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
гию своего смысла, как в книге Мишеля Фуко. В ней кри-
зис, с одной стороны, — это кризис в гуссерлевском смыс-
ле, опасность, угрожающая разуму и смыслу под маской
объективизма, забвения начал, полной захваченное™
самим рационалистским и трансцендентальным открове-
нием. Опасность как движение разума, которому угро-
жает его собственная безопасность.
Кризис — это и решение, разрез, о котором говорит
Фуко, решение в смысле Kpiveiv, выбора и разведения, раз-
дела меж двух путей, разведенных Парменидом в его по-
эме, пути логоса и не-пути, лабиринта, «палинтропа», в
котором теряется сам логос, пути смысла и пути бессмыс-
лицы, бытия и небытия. Раздел, исходя из которого и
после которого логос в необходимом насилии своего
вторжения отделяется от безумия в самом себе, отправ-
ляет себя в ссылку и забывает свои начала и свою собст-
венную возможность. Разве не является самой возмож-
ностью в форме кризиса то, что называют конечностью?
Некоторым тождеством сознания кризиса и его забве-
ния? Мыслью негативности и ее редукцией?
В конечном счете речь идет о кризисе разума, досту-
пе к разуму и доступе разума. Ведь Фуко учит нас той
мысли, что существуют такие кризисы разума, которые
странным образом входят в заговор с тем, что мир име-
нует кризисами безумия.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 За исключением нескольких примечаний и небольшого
отрывка (заключенного в квадратные скобки) этот текст
воспроизводит выступление, произнесенное 4 мая 1963 г.
в Коллеже Философии. Предлагая нам опубликовать его
в Revu de Metaphysique et de morale, господин Жан Валь
пожелал, чтобы оно сохранило свою первоначальную
форму живого слова со всеми его требованиями и погреш-
ностями: ведь если уже согласно «Федру» письмо, лишен-
ное «отцовской поддержки», это хрупкое и ослабевшее
подобие «живой и одушевленной речи» никогда не мо-
жет заступиться само за себя, то не окажется ли оно в
наибольшей степени беззащитным и безоружным тогда,
когда, изображая естественную непринужденность голо-
са, будет вынуждено отказать себе даже в своих собст-
венных стилистических возможностях и увертках?
1 Michel Foucault, Folie et Deraison, Histoire de la folie a
I’age classique, Pion, 1961.
3 В «Толковании сновидений» (гл. II, 1), говоря о связи
между сном и его вербальным выражением, Фрейд на-
поминает замеченное Ференци: у каждого языка есть
свой язык сновидений. Скрытое содержание сна (а так-
же поведения или сознания вообще) сообщается с явным
содержанием лишь через посредство единства языка,
языка, на котором, следовательно, аналитику пристало
говорить как можно лучше (см. также: D. Lagache, «Sur
le polyglottisme dans Fanalyse», in la Psychanalyse, t. 1,
1956). Как можно лучше*, поскольку же прогресс в по-
знании и практике языка по своей природе остается бес-
конечно открытым (во-первых, по причине исходной и
необходимой многозначности означающих в языке, по
крайней мере, «обыденной жизни», по причине неопре-
деленности их и того игрового пространства, которое
как раз и высвобождает различие между скрытым и от-
крытым; зо-вторых, по причине исходной и необходи-
мой взаимосвязи языков внутри истории; и наконец, по
причине особой игры по отношению к себе, «седимен-
тации» каждого языка), постольку не окажется ли не-
обеспеченность и незавершенность анализа принципи-
альной и неуничтожимой? И не грозят ли те же самые
опасности историку философии, каким бы ни был его
план и метод? В особенности если предположить опре-
деленную укорененность философского языка в нефи-
лософском.
4 Фуко, конечно, не мог не прочувствовать того, что вся
история в конечном счете не может быть не чем иным
как историей смысла, то есть Разума вообще, и мы к это-
му вскоре вернемся. Он не мог не почувствовать того,
что всеобщее значение трудности, приписанной им
«классическому опыту» сохраняет свою силу далеко за
пределами «классической эпохи». Ср. например, с. 628:
«Когда же речь шла о том, чтобы, следуя за ней в ее наи-
более потаенной сущности, обнаружить ее собственную
предельную структуру, мы открывали один лишь язык
разума, развертываемый в непогрешимой логике бреда,
а то, что давало будто бы доступ к безумию, его же и
скрадывало». Один лишь язык разума... Но какой язык
не был бы языком разума вообще? И если существует
только история рациональности и смысла вообще, то это
равнозначно тому, что философский язык с самого сво-
его начала присваивает негативность — или, что то же
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
4*
Ж. Деррида «Письмо и различие» Когито и история безумия
самое, забывает ее, — даже когда он собирается ее при-
знать и выразить. В последнем случае это присвоение
еще вернее. История истины — это, следовательно, ис-
тория этой экономии негативности. Нужно, следова-
тельно, вернуться к не-историческому в смысле, прямо
противоположном смыслу классической философии:
вернуться не для того, чтобы упустить, но чтобы при-
знать — в молчании — эту негативность. Только она, а
не позитивная истина, может составить не-исторический
фон самой истории. Речь в таком случае шла бы о столь
негативной негативности, что она не могла бы даже на-
зываться таким именем. Негативность всегда определя-
лась диалектикой, то есть метафизикой, как труд на
пользу конституирования смысла. Признать негатив-
ность в молчании — это значит подступиться к разрыву
неклассического типа между мыслью и языком. Быть
может, между мыслью и философией как дискурсом,
причем помня, что эта схизма может высказываться, сти-
рая саму себя, в одной лишь философии.
5 См. также «Пир», 217е/218Ь, «Федр», 244Ь-с/245а/249/
265а и далее, «Теэтет», 257е, «Софист», 228d, 229а, «Ти-
мей», 86b, «Государство», 382с, «Законы», X, 888а.
6 Безумие — тема или указание: замечательно, что Декарт
в этом тексте никогда не говорит, по сути дела, о самом
безумии. Это не его тема. Безумие трактуется им как
указание на вопрос права и эпистемологического зна-
чения. Вот где, скажут нам, знак полного исключения.
Но это молчание о самом безумии является одновремен-
но и прямой противоположностью исключения, ведь
речь в этом тексте вообще не заходит о безумии, даже
та, которая могла бы исключить его возможность. О бе-
зумии Декарт говорит не в «Размышлениях».
7 Чтобы подчеркнуть эту уязвимость и коснуться наиболь-
шей сложности в этом вопросе, необходимо уточнить,
что такие выражения, как «ошибка чувств и тела» или
«телесное заблуждение» для Декарта не имели бы ни-
какого смысла. Телесного заблуждения вообще не су-
ществует как такового: желтуха или меланхолия — лишь
повод заблуждения, рождающегося лишь с согласия и
утверждения воли в суждении, когда «мы полагаем, что
все стало желтым» или когда мы считаем, что призраки
нашего собственного расстроенного воображения отно-
сятся к реальности». (В Правиле XII Декарт еще боль-
ше на этом настаивает: даже самый ненормальный
чувственный опыт или опыт воображения, будучи рас-
смотрен сам по себе, на своем собственном уровне, ни-
когда нас не обманывает, никогда не может обмануть
рассудок, «если он ограничивается отчетливым созер-
цанием того, что представляется ему таким, каково это
созерцание, которым он обладает, либо само по себе,
либо будучи запечатленным в его воображении, и если
он не предполагает того, что воображение верно пред-
ставляет объекты чувств, что чувства соответствуют ис-
тинным очертаниям предметов, или того, что реальность
всегда такова, какой она нам является».)
8 Речь здесь идет о том порядке рассуждений, который
представлен в «Размышлениях». Известно, что в «Рас-
суждении о методе» (IV часть) сомнение с самого нача-
ла охватывает «наиболее простые задачи из геометрии »,
в которых люди иногда «совершают паралогизмы ».
9 Как и Лейбниц, Декарт доверяет «ученому » или «фило-
софскому» языку, который не обязательно является
преподаваемым в школах и который необходимо тща-
тельно отличать от «тех терминов обыденного языка»,
которые сами по себе могут нас «ввести в заблуждение »
(«Размышления », II).
10 То есть с того самого момента, как эта связка призыва-
ет к бытию (до всякой определенности в качестве сущ-
ности или существования), что, конечно, равнозначно
собственному призванию и окликанию бытием. Бытие
не могло бы быть тем, что оно есть, если бы слово про-
сто-напросто предшествовало ему и его призывало. По-
следний защитник языка от безумия — это смысл бытия.
11 Речь идет не столько об одной точке, некоем конкрет-
ном моменте, сколько об изначальном характере време-
ни вообще.
12 Она рискует стереть то превосхождение, ту избыточ-
ность, через которую всякая философия (смысла) на
каком-нибудь участке своего дискурса соотносится с
бездонностью бессмыслицы.
13 В предпоследнем абзаце шестого размышления тема
нормальности связывается с темой памяти в тот самый
момент, когда память получает гарантию в абсолютном
разуме как «божественной правдивости» и т.д. В общем,
не означает ли приобретение гарантии воспоминания об
очевидном через посредство Бога того, что только аб-
солютная позитивность божественного разума может
в конечном счете примирить темпоральность и истину?
Только в бесконечности, по ту сторону определений, от-
рицаний, «исключений» и «заточений» происходит это
Когито и история безумия «Письмо и различие» Ж. Деррида
примирение времени и мысли (истины), о котором Гегель
говорил, что оно стало задачей философии с XIX века,
тогда как примирение мысли и протяженности было как
будто бы замыслом разных видов рационализма «кар-
тезианского» толка. То, что божественная бесконеч-
ность является местом, условием, именем и горизонтом
этих двух примирений, не отрицалось ни одним мета-
физиком — ни Гегелем, ни большинством тех, кто, по-
добно Гуссерлю, стремился продумать и дать имя сущ-
ностной темпоральности или историчности истины и
смысла. Для Декарта кризис, о котором мы сейчас ве-
дем речь, должен был бы в конечном счете иметь свое
внутреннее (то есть, интеллектуальное) начало в самом
времени как отсутствии необходимой связи между от-
дельными промежутками, как случайности и прерывно-
сти перехода между двумя мгновениями; все это пред-
полагает, что в вопросе о роли мгновения у Декарта мы
придерживаемся интерпретаций, противоположных ин-
терпретации Лапорта. Только непрерывное творение,
объединяющее сохранение и сотворение, «различаю-
щиеся лишь с точки зрения привычного нам способа
мыслить », может в конце концов объединить темпораль-
ность и истину. Именно Бог исключает безумие, «при-
нимая» его в присутствии, отменяющем след и различе-
ние. Что равнозначно тому, что кризис, аномалия,
негативность и т.д. неотменимы для опыта конечности
или некоего конечного момента, конкретного определе-
ния абсолютного разума или разума вообще. Отрицать
это и намереваться достичь позитивности (истинного,
смысла, нормы и т.д.) вне горизонта этого конечного
разума — это значит хотеть стереть саму негативность,
забыть конечность как раз в тот момент, когда мы соби-
рались разоблачить как мистификацию теологическую
направленность великих примеров классического рацио-
нализма.
14 Но Бог — это другое имя абсолютности самого разума,
разума и смысла вообще. Да и кто бы в конце концов мог
исключить, уничтожить или, что то же самое, полностью
понять и принять безумие, кроме абсолютного и неог-
раниченного разума, другим именем которого для клас-
сиков рационализма был Бог? Тех индивидуумов или
обществ, которые прибегают к помощи Бога в защите
от безумия, в поиске надежного укрытия, в приобрете-
нии стражей безумия, в проведении заградительных гра-
ниц домов заключения, всех их можно обвинить только
в том, что они делают из этого убежища некое конечное
убежище, заключенное в мире, превращают Бога в по-
средника или конечную силу, то есть в том, что они об-
манывают сами себя, причем обманываются не в содер-
жании или действительной целесообразности этого
жеста по отношению к истории, но в философской спе-
цифичности мысли о Боге и его имени. Если философия
вообще существовала, что всегда можно оспорить, то
лишь в той мере, в какой она сформировала план: мыс-
лить вне полагания некоего конечного убежища или за-
щищенности. Описывая выстраивание этих конечных
стражей безумия в движении индивидуумов, обществ и
всех конечных тотальностей вообще, можно в пределе
описать все — и это вполне законная, необходимая, хоть
и необозримая задача — кроме самого философского
проекта. И кроме проекта такого описания. Нельзя ут-
верждать, что философский проект разных модифика-
ций рационализма, центрированного на вопросе беско-
нечности, послужил инструментом и алиби какому-то
определенному историко-социально-политическому
насилию (что, впрочем, само по себе не вызывает ника-
кого сомнения), если только с самого начала не признать
и не отделить исходный смысл самого этого проекта.
А в его исходном собственном смысле он представляет-
ся мыслью бесконечного, то есть тем, что не может ис-
черпаться в какой-нибудь замкнутой тотальности, функ-
ции, инструментальном, техническом или политическом
определении. Нам скажут, что, так представляясь, он
лжет, совершает насилие или создает некую мистифи-
кацию; в лучшем случае такова его ложная вера. Но не-
сомненно, что надо со всей строгостью описать струк-
туру, которая связывает этот замысел превосхождения
с конечной исторической тотальностью, определить ее
собственную экономию. Но все эти экономические хит-
рости, как и всякие хитрости вообще, возможны лишь
для конечных слов и замыслов, всегда заменяющих одну
конечность другой. Не лгут, ничего не говоря (ничего оп-
ределенного или конечного), когда говорят о Боге, Бы-
тии или Ничто, когда конечное не преобразовывается в
явленном смысле слова, когда высказывают само беско-
нечное, то есть позволяют ему (Богу, Бытию или Ничто,
ведь смысл бесконечного подразумевает невозможность
принадлежать какой-нибудь одной онтической опреде-
ленности среди многих других) высказываться и мыс-
литься. Тема божественной правдивости и различие ме-
жду Богом и Злокозненным Гением освещается, таким
образом, и несколько иным светом, который лишь ка-
жется косвенным.
Короче говоря, Декарт знал, что у конечной мысли —
то есть без помощи Бога — никогда не было права ис-
ключать безумие и т.п. Это возвращает нас к тому, что-
бы сказать: она всегда исключает его только на деле, че-
рез насилие, внутри истории; или, скорее, что это
исключение, как различие между правом и фактом как
раз и оказывается историчностью, возможностью самой
истории. А Фуко, разве он говорит что-то другое? «Не-
обходимость безумия связана с возможностью исто-
рии». Курсив здесь самого автора.
Эдмон Жабе и
вопрос книги
Отныне будут лучше читать книгу «Я строю свое
жилище»1. Был риск, что некая лиана сокроет, притянет
или устремит к себе ее смысл. Юмор и игры, смех, рондо
и песни изящно кружили вокруг слова, которое, еще не
возлюбив своих истинных корней, как будто раскачива-
лось на ветру. Не возвышаясь ради лишь того, чтобы вы-
сказать прямоту и неумолимость поэтического долга.
В «Книге вопросов»2 нет ни ломки голоса, ни раз-
рыва намерения, но заметно утяжеление тона. Извлека-
ется некий древний могучий корень, а на нем обнажается
особая безвременная рана (ведь Жабе учит нас тому, что
корни говорят, что слова прорастают, а поэтическая речь
всегда зачинается в некоей нанесенной ране): речь идет
об определенном иудаизме как рождении и страсти пись-
ма. Страсти писания, любви и терпеливости письма, сю-
жетом которого оказывается то ли еврей, то ли сама Бу-
ква. То есть, быть может, об общем корне народа и
письма. В любом случае — о безмерной судьбе, связываю-
щей историю
«рода, вышедшего из книги...»
в исходном начале смысла как буквы, то есть в самой ис-
торичности. Ведь не было бы вообще никакой истории без
серьезности и работы букв. Болезненной складки само-
сти, в которой история отражает сама себя, давая себе
шифр. Это отражение или рефлексия — ее начало. Един-
ственная вещь, которая начинается с рефлексии — это
105
история. А эта складка, морщина — еврей. Еврей, кото-
рый выбирает письмо, выбирающее еврея в обмене, по-
средством которого передается вся истина историчности,
а история находит свое место в ее эмпиричности.
«.. .Сложность быть евреем, смешиваемая с трудно-
стью писать; ведь иудаизм и письмо — это одно и то же
ожидание, одно и та же надежда, один и тот же износ. »
Самое упрямое утверждение «Книги вопросов» в
том, что этот обмен между евреем и письмом является
чистым и учреждающим все остальное, обменом безо вся-
ких прерогатив, в котором исходный зов изначально —
призвание, хоть в некотором другом смысле этого слова:
«Ты — тот, кто пишет, и кто написан».
«Ребе Ильде сказал: “Какая разница между тем, чтобы
выбирать и быть избранным, если нам не остается ни-
чего другого, как покориться выбору?”.»
В молчаливом смещении к вопросам сущности, кото-
рое превращает эту книгу в длинную метонимию, поло-
жение еврея становится образцом для поэта, человека
слова и письма. В самом опыте своей свободы поэт ока-
зывается преданным языку и освобожденным посредст-
вом слова, хозяином которого он же и является.
«Слова избирают поэта...»
«Искусство писателя состоит в том, чтобы постепен-
но заинтересовать слова своими книгами.» («Я строю
свое жилье»)
Речь тут идет о труде, высвобождении, медленном
порождении поэта поэмой, отцом которой он и явля
ется.
«Постепенно книга меня завершит.» («Белое про-
странство»)
Итак, поэт — сюжет и субъект книги, ее субстан-
ция и господин, служитель и тема. А книга — это сюжет
писателя, говорящего и познающего существа, пишуще-
го в книге о книге. Это движение, в котором вычленяемая
голосом писателя книга склоняется и возвращается к
себе, становясь субъектом в себе и для себя, — это не спе-
кулятивная или критическая рефлексия, но, в первую оче-
редь, поэзия и история. Поскольку в ней субъект лома-
ется и открывается, представляя самого себя. Письмо и
пишется, и пропадает в своем собственном представле-
нии. Таким образом, внутри этой книги, бесконечно от-
ражающей саму себя, развертывающейся подобно болез-
ненному вопрошанию своей собственной возможности,
представляется сама форма книги: «Роман Сары и Юке-
ля, переданный через диалоги и размышления, приписан-
ные воображаемым раввинам, — это история любви, раз-
рушенной людьми и словами. У него измерение книги и
горькое упорство блуждающего вопроса».
Мы увидим: в другом измерении метонимии — но
насколько оно другое? — «Книга вопросов» описывает
таким образом не что иное, как порождение самого Бога.
Мудрость поэта выполняет свою свободу в страсти пере-
вода в автономию послушания закону слова. Иначе, если
страсть станет порабощением, это было бы безумием.
«Безумец — это жертва восстания слов.»(«Я строю свое
жилье»)
Вот почему, признавая эту установленность корня,
покоряясь вдохновению этим наказом Закона, Жабе,
быть может, и отказался от пыла, то есть вычурности
своих первых произведений, но никак не умалил свою
свободу слова. Он даже признал, что свобода — это что-
то относящееся к земле и корням, иначе она — лишь сво-
бода ветра:
«...Научение, которое Ребе Зале передавал таким обра-
зом: «Ты полагаешь, что свободна птица. Но ты оши-
баешься — свободен цветок...».
«...И Ребе Лима сказал: “Свобода просыпается посте-
пенно, по мере того, как мы начинаем осознавать наши
узы, как спящий возвращается к своим чувствам; тогда
только наши действия получают имя”.»
Свобода согласовывается и меняется с тем, что ее
удерживает, с тем, что она получает из своего закопан-
ного истока, с силой тяжести, располагающей ее место и
центр. Место, культу которого необязательно быть язы-
ческим. Лишь бы только это Место не оказалось просто
местом, оградой, местностью исключения, провинцией
или гетто. Когда еврей или поэт прославляют Место —
это не объявление войны. Ведь обращаясь к нам из бес-
памятности, это Место, эта земля всегда Там. Место —
это не эмпирическая или национальная «тутошность»
некоей отдельной территории. Будучи беспамятным, оно,
следовательно, является будущим. Или, еще лучше, —
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
традицией как приключением. Свобода соглашается с не-
языческой Землей лишь в том случае, если она отделена
от нее Пустыней Обета. То есть, поэмой. Давая поэтиче-
скому слову высказать себя, Земля всякий раз хоронить-
ся по ту сторону какой бы то ни было близости, НИс:
«Юкель, тебе как будто всегда было не по себе, ты был
тут, но не ЗДЕСЬ, в каком-то ДРУГОМ МЕСТЕ...»
«О чем ты думаешь? — О Земле, — Но ты на Земле. —
Я думаю о той Земле, где я буду. — Но мы уже стоим друг
против друга, и мы стоим на Земле. — Я знаю лишь те пу-
тевые камни, которые, как говорят, ведут к Земле.»
Поэт и еврей рождены не здесь, но там. Они блуж-
дают в разлуке со своим настоящим рождением. Тузем-
цы одного только письма и слова. Закона. «Род, вышед-
ший из книги», потому что он — сын Земли, которая еще
должна прийти.
Туземцы книги. И также ее автономные управители,
сказали бы мы. Что предполагает, что поэт не просто по-
лучает свое слово и закон у Бога. Иудейская гетероно-
мия появляется лишь со вступлением поэта. Поэзия так
же относится к пророчеству, как идол к истине. Быть
может, в этом причина тому, что Жабе-поэт и Жабе-ев-
рей кажутся нам одновременно столь слитными и столь
разъединенными. «Книга вопросов» — это и объяснение
с живущей в гетрономии еврейской общиной, к которой
поэт как раз не принадлежит. Поэтическая автономия,
непохожая ни на одну другую, предполагает, что Скри-
жали уже разбиты.
«Ребе Аима сказал: «В начале свобода была десять
раз выбита на Скрижалях Закона, но мы так мало за-
служиваем ее, что Пророк в своем гневе разбил их». »
Между обломками разбитых Скрижалей прораста-
ет поэма и коренится само право на слово. Так начинает-
ся приключение текста как дурной травы вне Закона, вда-
ли от «родины евреев», «священного текста посреди
комментариев...». Необходимость комментария, так же
как поэтическая необходимость, является самой формой
слова в изгнании. В начале была герменевтика. Но эта
общая невозможность воссоединиться со средой священ-
ного текста, эта общая необходимость экзегезы, этот им-
ператив интерпретации по разному интерпретирован
поэтом и раввином. Разница между горизонтом изначаль-
ного текста и экзегетическим письмом делает несводи-
мой разницу между поэтом и раввином. Будучи не в си-
лах соединиться друг с другом и столь близкие в то же
время, как они могли бы соединиться со средой? Изна-
чальное открытие интерпретации главным образом зна-
чит то, что всегда будут поэты и раввины. Как и две ин-
терпретации интерпретации. Закон становится тогда
Вопросом, а право на слово смешивается с обязанностью
спрашивать. Книга человека — это книга вопросов.
«На всякий вопрос еврей отвечает вопросом.» Ребе
Лима.
Но если это право абсолютно, то оно не зависит от
какого-нибудь одного случая в истории. Разбиение Скри-
жалей выражает в первую очередь разрыв в Боге как на-
чало истории.
«Не забывай, что ты — ядро разрыва.»
Бог отделился от себя, чтобы позволить нам говорить,
чтобы удивить нас и вопрошать. Он сделал это не говоря,
а умолкая, позволяя молчанию прервать его голос и
знамения, позволяя сломать Скрижали. В «Исходе» Бог
раскаивается и говорит об этом по крайней мере два раза,
до первых и до новых Скрижалей, между первоначальны-
ми словом и письмом, а в Писании — между началом и
повторением (32-14; 33-17). Письмо, следовательно,
изначально герметично и вторично. Не только наше, но и
Его, начинающееся с прерванного голоса и скрытого лица.
Это различие, эта негативность в Боге — это наша свобода,
трансценденция и слово, которые находят чистоту своего
негативного начала только в возможности Вопроса.
Вопрос же, «ирония Бога », как говорил Шеллинг, сначала,
как, впрочем, и всегда, обращается на себя.
«Бог — это вечный бунт против Бога...»
«...Бог — это вопрошание Бога...»
Кафка говорил: «Мы суть нигилистические мысли,
возникающие в мозгу Бога ». Если сам Бог открывает во-
прос Бога, если он — само открытие Вопроса, тогда нет
никакой простоты Бога. То, что было немыслимым для
классических рационалистов, здесь становится очевид-
ностью. Бог, исходящей из раздвоенности своей поста-
новки под вопрос, не ходит простыми путями; он не прав-
див и не искренен. Искренность, то есть простота — это
лживая добродетель. Нужно же, наоборот, подступить-
ся к добродетели лжи.
«Ребе Иаков, который был моим первым учителем,
верил в добродетель лжи, поскольку, как он говорил, нет
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эдмон Жабе и вопрос книги
письма без лжи, а письмо — это путь Бога.» Окольный,
левый, двусмысленный путь, заимствованный Богом у
Бога. Ирония Бога, косвенный путь, выход из Бога, путь
к Богу, по отношению к которому человек — не просто
околица. Бесконечный обход. Путь Бога. «Юкель, скажи
нам об этом человеке, который ложь в Боге».
Этот путь, которому не предшествует никакая исти-
на, которая могла бы сделать его прямым, — это путь в
Пустыне. Письмо — это момент Пустыни, так же как мо-
мент Разлучения. Уже фарисеи, как это указывает их имя
на арамейском, эти непонятые люди буквы, были «отсо-
единенными». Бог больше не говорит, он прервал самого
себя, так что нужно взять заботу о слове на себя. Нужно
отделиться от жизни и сообществ, довериться следам,
стать человеком взгляда, поскольку в непосредственной
близости сада голос уже не слышен. «Сара, Сара, с чего
начинается мир? — Со слова? — Со взгляда?...» Письмо
смещается по преломленной прямой между словом по-
терянным и словом обещанным. Различие между словом
и письмом — это вина, гнев вышедшего из себя Бога, по-
терянная непосредственность и труд вне сада. «Сад —
это слово, пустыня — письмо. В каждой песчинке пора-
жает знак.» Иудейский опыт как рефлексия, как разлу-
ка между жизнью и мыслью означает пересечение книги
как бесконечное отшельничество между двумя точками
непосредственности, между двумя самотождественно-
стями. «Юкель, сколько страниц, которые еще нужно
прожить или умереть, отделяют тебя от тебя, книгу
от забвения книги? » Пустынная книга состоит из песка,
«безумного песка», бесконечного, бессчетного и тщет-
ного. «Собери немного песка, писал Ребе Иври, и ты пой-
мешь тщету слова».
Еврейское сознание — это, конечно, несчастное соз-
нание, а «Книга вопросов» — его поэма; оно записано на
полях феноменологии духа, вместе с которой еврей про-
делывает лишь часть пути, без всякого эсхатологическо-
го предвидения. Без возможности ограничить пустыню,
закрыть книгу и утихомирить свой крик. «Пометь крас-
ным первую страницу книги, ибо рана вписана в ее нача-
ло. Ребе Алее.»
Если отсутствие — это душа вопроса, если разлу-
чение может придти только в разрыве Бога с Богом, если
бесконечная удаленность другого открывается только
в песках книги, где всегда возможны блуждание и ми-
раж, тогда «Книга вопросов» — это одновременно не-
прерывная песнь отсутствию и книга о книге. Отсутст-
вие пытается произвести само себя в книге и потерять-
ся, высказываясь; оно известно себе как теряющее и
потерянное, и в этой мере оно остается недоступным и
неприкасаемым. Подойти к нему — это его упустить; по-
казать — скрыть, признать — оболгать. «Ничто — это
наша главная забота, говорил Ребе Идар», и только
Ничто — так же как Бытие — может замолчать и
скрыться.
Отсутствие. Во-первых, отсутствие места. «Сара:
Слово разрушает расстояние, обезнадеживает место.
Мы ли произносим его, или это оно лепит нас? » «От-
сутствие места» — это название поэмы, собранной в
«Я строю свое жилье». Она начиналась так: «Невидная
земля, одержимая страница...». «Книга вопросов» ре-
шительно удерживается в невидной земле, в не-месте,
между городом и пустыней, в которых корень либо унич-
тожен, либо обескровлен. Ничто не цветет на песке или
на мостовой, кроме слов. Город и пустыня, которые не
являются ни странами, ни пейзажами, ни садами, обсту-
пают поэзию Жабе и дают бесконечный отклик на его
крики. Город и пустыня одновременно, то есть Каир, от-
куда приходит Жабе, у которого, как мы знаем, был свой
исход из Египта. Жилье, которое строит поэт своими
«украденными у ангела кинжалами», — это легкая па-
латка, сделанная из слов в пустыне, где еврей-кочевник
поражен бесконечностью и буквой. Где он разбит раз-
битым Законом. Разделен в себе (греческий язык вне
всякого сомнения многое мог бы нам сказать об этом
странном отношении закона, блуждания и самонетож-
дественности, об общем — vepeiv — корне разделения,
закона — номии — и кочевания — номадизма). Поэт
письма может только предаться тому несчастью — при-
зываемому на него и обещаемому ему Ницше — кото-
рое «скрывает в нем пустыни ». Поэт — или еврей — обе-
регает пустыню, которая сберегает его слово, могущее
говорить только в пустыне, сберегает его письмо, кото-
рое лишь в пустыне способно провести свою борозду.
То есть, только изобретая не обнаруживаемый и неука-
занный путь, прямизну коего и конечность не может
обеспечить никакое картезианское решение. «Где путь?
Путь всегда еще только предстоит найти. Белый лист
заполнен путями... Тот же путь будет пройден десять,
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эдмон Жабе и вопрос книги
сто раз... » Письмо, не зная о том, одновременно рисует
и признает в пустыне невидимый лабиринт, город в пес-
ках. «Т от же путь будет пройден десять, сто раз... И у
всех этих путей — свой собственный путь. — Иначе
они не были бы путями.» Вся первая книга вопросов
может читаться как размышление о пути и букве. «В пол-
день он очутился, лицом к бесконечности, на белой
странице. Исчезли все следы, все тропы. Как в воду
канули.» И снова этот переход от пустыни к городу, этот
Предел, оказывающийся единственной обителью пись-
ма: «Когда же он нашел свой квартал и свое жилище —
через задворки лачуг кочевник довел его до ближайшего
контрольного поста, где он влез в военный грузовик, на-
правлявшийся к городу — рой гласных молил его. Но он
упорно избегал их».
Отсутствие также и писателя. Писать — это уда-
ляться. Не просто в эту палатку для письма, но и из само-
го своего письма. Исчезать вдали от своего языка, осво-
бождать его, оставлять без присмотра, отпускать его
в путь без оружия и без сопроводителя. Оставлять сло-
во. Быть поэтом — это уметь оставлять слово. Оставлять
слово в одиночестве, что можно сделать только на пись-
ме. (Как говорит об этом «Федр », письмо, будучи лишен-
ным «помощи своего отца», «отправляется в путь одно»,
«заходя туда и сюда», «попадая как к тем, кто что-то в
нем понимает, так и к тем, кому нет до него никакого
дела»; блуждающее, потерянное письмо, ведь оно на этот
раз написано не на песке, а — что, впрочем, значит то же
самое — «на воде», как говорит Платон, который не ве-
рит ни в «сады письма», ни тем, кто желает закладывать
семена, пользуясь тростинкой.) Оставить письмо — это
быть здесь только для того, чтобы оставить ему проход,
чтобы быть прозрачной средой его процессии: быть всем
и ничем. С точки зрения произведения, писатель — это
все и ничто. Как Бог:
«Если, писал Ребе Серви, ты иногда думаешь, что
Бог тебя не видит, то только потому, что он настоль-
ко принижается, что ты путаешь его с мухой, которая
жужжит, ударяясь об оконное стекло. Но в этом и со-
стоит доказательство его всемогущества, поскольку
Он одновременно и Все и Ничто».
Писатель — как Бог:
«Когда, будучи ребенком, я первый раз написал свое
имя, я знал, что так я начинаю книгу. Ребе Стейн ...»
«...Но я не этот человек,
поскольку этот человек пишет книгу,
а писатель — это никто.»
«Я, Серафи отсутствующий, рожден, чтобы пи-
сать книги.
(Я отсутствую, поскольку я рассказчик. Только
рассказываемое реально.) »
В то же время (и это лишь пример противоречивых поло-
жений, беспрерывно и по необходимости — ведь и Бог сам
себе противоречит — раздирающих страницы «Книги во-
просов») одно только письмо наделяет меня существова-
нием, именуя меня. Одновременно истинным будет то, что,
будучи поименованными, вещи и приходят к существова-
нию, и теряют его. Как говорил Гегель, жертва существо-
вания слову, но и освящение существования словом. Впро-
чем, недостаточно быть написанным, нужно писать, чтобы
получить имя. Нужно назваться. Что ведет к тому, что
«Мое имя — это вопрос... Ребе Эглал ». «.. .Без моего пись-
ма я более безымянен, чем простыня, развивающаяся на
ветру, более прозрачен, чем квадрат окна.»
Эта необходимость меняться своим существовани-
ем с буквой и менять его на букву — приобретать суще-
ствование и терять его — налагается и на Бога: «Я не про-
сто как-то искал тебя. Я был в поисках тебя. Через тебя
я восхожу к началу письма, к неведомому письму, кото-
рое ветер набрасывает на песке и на море, к дикому пись-
му птицы и шаловливой рыбки. Бог, Господин ветра,
Хозяин песка, птиц и рыб, ожидал от человека книгу,
ожидаемую человеком от человека; один — чтобы нако-
нец быть Богом, другой — для того, чтобы наконец
стать человеком...».
«Все буквы образуют отсутствие.
Таким образом, Бог — это сын своего имени.»
Ребе Тал
Майстер Экхарт говорил: «Бог становится Богом, когда
творения изрекают: Бог». Эта помощь, оказываемая пись-
мом человека Богу, не входит в противоречие с невозмож-
ностью «оказать помощь себе» («Федр»). Не объявляет-
ся ли божественное — исчезновение человека — в этом
несчастии письма?
Отсутствие не уничтожается буквой именно потому,
что она есть его эфир и дыхание. Буква — это разъедине-
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эдмон Жабе и вопрос книги
ние и преграда, в которой освобождается смысл, остава-
ясь заключенным в свое афористическое одиночество. Ведь
всякое письмо афористично. Никакая логика, никакое на-
громождение конъюнктивных лиан не может добраться до
конца его существенной прерывности и неактуальности,
гениальности этих подразумеваемых, услышанных в пол-
уха умолчаний. Другой изначально сотрудничает в смыс-
ле. Существует сущностной ляпсус, промежуток между
значениями, не являющийся ни простым и позитивным сло-
весным обманом, ни даже ночной памятью всякого языка.
Собираться уничтожить его в рассказе, в философском
дискурсе, в порядке умозаключений или дедукции — это
значит не знать, что такое сам язык как разрыв тотально-
сти. Фрагментарность — это не особый стиль или опреде-
ленный провал, это сама форма записанного. Если только
Бог не пишет сам, да и в этом случае он должен был бы
быть Богом классических рационалистов, который не во-
прошает и не прерывает самого себя, который не обрыва-
ет свое слово, как Бог у Жабе. (Но как раз у Бога класси-
ков, актуальная бесконечность которого оставалась
нетерпимой к вопросам, не было никакой жизненной не-
обходимости в письме.) В противоположность лейбницев-
ским Бытию и Книге, рациональность логоса, за который
отвечает наше письмо, подчиняется закону прерывности.
Вырез не только завершает и фиксирует смысл: «Афоризм
и изречение, — говорит Ницше, — в искусстве которых я
среди немцев слыву за мастера — это формы вечности.»
Вырез, удаление в первую очередь заставляют смысл поя-
виться. Не только они одни, но без прерывания, разрыва —
между буквами, словами, фразами, книгами — никакое
значение не могла бы пробудиться. Если предполагать, что
Природа не делает скачков, то понятно, почему Письмо
никогда не будет Природой. Ведь оно только ими и дейст-
вует. Что и делает его опасным. Смерть прогуливается ме-
жду букв. Писать, заниматься тем, что называют пись-
мом — это значит подступиться к духу в отваге, не
страшащейся потерять жизнь, умереть для природы.
Жабе весьма внимателен к этому благодатному рас-
стоянию между знаками.
«Свет — в их отсутствии, которое ты читаешь..,»
«Все буквы образуют отсутствие...»
Отсутствие — это данное буквам позволение обозна-
чать и обозначаться, но в оборачивании языка на себя
самого оно оказывается и тем, что они говорят: они вы-
сказывают свободу и согласованную незанятость, вакан-
сию, которую они «образуют», ловя ее в свои сети.
Отсутствие, наконец, как дыхание буквы, ведь буква
живет. «Нужно, чтобы имя несло в себе зародыш, иначе
оно мертво», — говорил А. Бретон. Обозначая отсутст-
вие и разлуку, буква живет как афоризм. Она была бы
мертвой буквой вне различия, если бы она порвала с оди-
ночеством, с прерыванием, расстоянием, уважением и
отношением, то есть некоторым не-отношением, к дру-
гому. Таким образом, есть некая животность буквы, при-
нимающая формы ее желания, ее тревоги и ее одино-
чества.
«Твое одиночество
это лесного обихода
алфавит белок.»
(«Ключ свода» в «Я строю свое жилье»)
Так же как пустыня и город, лес, в котором копо-
шатся испуганные знаки, — это, несомненно, не-место и
блуждание, отсутствие предписанных путей, одинокое
возвышение затемненного и обиженного корня к скры-
вающемуся небу. Но лес, вне своей прямизны линий, де-
ревьев, за которые цепляются обезумевшие буквы, — это
и дерево, древесина, раненная поэтическим надрезом.
«Они надрезали плод в страдании древа
одиночества...
Как моряк, надписывающий имя
Над именем мачты,
Ты в знаке одинок.»
Дерево надписи и надреза больше не принадлежит
саду, это дерево леса и мачты. Дерево относится к мачте
так же, как пустыня к городу. Как еврей, как поэт, как
человек и как Бог, знаки обладают выбором только меж-
ду одиночеством природы и одиночеством установления.
Только тогда они знаки, только тогда становится воз-
можным другой.
Вначале, конечно, животная природа буквы появля-
ется как одна метафора из многих. (К примеру, в «Я строю
свое жилье » пол — это гласная и т.д. «Иногда, при помо-
щи заговора, слово меняет пол и душу», или же «Глас-
ные под его пером походят на морды рыб, пронзенных
крючком и вынутых из воды; согласные — на отлетев-
шую чешую. Они живут, стесненные в своих действи-
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эдмон Жабе и вопрос книги
ях, в их чернильных берлогах. Бесконечность преследу-
ет их...».) Но это и сама метафора, начало языка как
метафора, в которой Бытие и Ничто, эти ее остающиеся
вне метафоры условия, никогда не высказываются сами
по себе. Метафора или животность буквы — это первич-
ная и бесконечная двусмысленность означающего как
Жизни. Это психический подрыв неподвижной букваль-
ности, то есть, природы и слова, вновь ставшего приро-
дой. Это сверхмогущество как жизнь означающего про-
изводится в тревоге и блуждании языка, который всегда
богаче знания, всегда обладает большей подвижностью,
чтобы пойти дальше мирной оседлой достоверности. «Как
сказать то, что я знаю, / словами, значение которых /
множественно? »
В «Книге вопросов » слаженная мощь песни, уже пре-
данная цитированием, удерживается вне поля действия
комментария. Но нужно все-таки спросить себя о ее на-
чале. Не рождается ли она здесь из некоего слияния, ока-
зывающего давление на преграду слов, на очевидную уни-
кальность опыта Эдмона Жабе, на его голос и стиль?
Слияния, в котором воссоединяются, обнимают и призы-
вают друг друга это тысячелетнее размышление народа,
эта «боль», «дление и прохождение которой смешивают-
ся с продолжением и прошлым письма », судьба, окликаю-
щая еврея и помещающая его между голосом и шифром;
а он оплакивает потерянный голос слезами черными как
след чернил. «Я строю свое жилье» — это стихотворе-
ние, взятое из «Голоса чернил» (1949). Из «Книги вопро-
сов»: «Ты догадываешься, что я придаю большую цену
тому, что сказано, большую, быть может, чем тому,
что написано; ведь в написанном недостает голоса, а я
в него верю, — Я слышу творящий голос, а не голос заго-
вора, эту прислугу».
(То же самое колебание можно было бы найти у
Э.Левинаса, то же самое тревожное движение в разли-
чии между ходом Сократа и Еврея, нищетой и высотой
буквы, духом и грамматикой.)
В исходной афазии, когда недостает голоса бога и
поэта, приходится довольствоваться заместителями сло-
ва — криком и письмом. Такова «Книга вопросов» —это
повторение нацизма, поэтическая революция нашего
века, необычайное размышление человека, пытающего-
ся — и как всегда напрасно — всеми средствами, всеми
путями вновь войти во владение своим языком, как будто
это имело бы хоть какой-то смысл, и счесть себя, а не Отца
Логоса, ответственным за него. В «Книге вопросов» мож-
но прочитать такое: «Решающая битва, в которой побе-
жденные, преданные своей раной, описывают, изнемогая,
страницу письма, посвященную победителями их избран-
нику, который, сам не зная того, развязал им руки. В дей-
ствительности, битва состоялась, дабы утвердить превос-
ходство слова над человеком и слова над словом». Так
является ли этим слиянием «Книга вопросов»?
Нет. Песня не стала бы петь, если бы ее напряжение
рождалось лишь из такого слияния. Слияние должно по-
вторять начало. Этот крик поет, поскольку он в своей
загадочности заставляет расцветать воду расколотой
скалы, тот самый единственный исток, единство бьюще-
го ключом истока. Только потом появляются «потоки»
или «направления», «приливы» и «влияния». Поэма все-
гда рискует не иметь смысла, но без этого риска она была
бы ничем. Чтобы поэма Жабе шла на риск обладания
смыслом, чтобы по крайней мере ее вопрос рисковал
иметь смысл, нужно предположить источник и то, что
единство — это не единство встречи, что в самой встре-
че сегодня происходит еще и другая встреча. То есть
первая встреча, та самая единственная встреча, бывшая
одновременно и разлукой, как встреча Сары и Юкеля.
Встреча — это разлука. Такое предложение, противо-
речащее «логике», разрывает — в хрупком звене «есть,
est» — единство бытия, приглашая другого и различие к
источнику смысла. Но нам скажут, что, чтобы говорить
о таких вещах, как «встреча» и «разлука» кого-то или
чего-то, утверждая в особенности, что встреча суть раз-
лука, нужно уже помыслить бытие. Конечно, но это
«нужно уже» как раз и означает исходное изгнание из
царства бытия, изгнание как саму мысль бытия, и то, что
Бытие не есть и не показывается само по себе, никогда
не оказывается в настоящем, теперь, вне различия (во
всех смыслах, которое сейчас приобрело это слово).
Даже Бог, будь он бытием или господином сущего, по-
является в качестве самого себя в различии, то есть как
различие и скрытие.
Если, добавляя к ней — как это делаем мы — некие
безыскусные граффити, попытаться свести эту необо-
зримую поэму к тому, что нынче называют ее «темати-
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эдмон Жабе и вопрос книги
ческой структурой», необходимо было бы признать, что
в ней нет ничего оригинального. Вопрос в Боге, негатив-
ность в Боге как освобождение историчности и челове-
ческого слова, письмо человека как желание и вопрос
Бога (так что двойное значение родительного падежа
оказывается онтологическим еще до самой грамматики,
или, скорее, дело в укорененности онтологического и
грамматического в graphein), история и дискурс как гнев
вышедшего из себя Бога, и т.д., и т.п. — все это хорошо
известные мотивы: принадлежат они в первую очередь
не Беме, немецкому романтизму, Гегелю, позднему Ше-
леру или кому бы то ни было еще. Негативность в Боге,
изгнание как письмо, наконец сама жизнь буквы — все
это есть уже в Кабале. То есть в самой «Традиции». Жабе
вполне осознает кабалистические отзвуки своей книги.
И порой он даже играет на них. (См., например, «Книгу
отсутствующего», 12.).
Но принадлежность к традиции — это не ортодок-
сия. Другие, наверное, расскажут о всех тех сторонах,
которыми Жабе отделен от еврейской общины, если толь-
ко предполагать, что это выражение имеет здесь хоть
какой-то смысл, в том числе и классический. От общины
он отделяется не только в том, что касается догмы. Раз-
деление проходит еще глубже. Для Жабе, который при-
знает, что уже довольно поздно он открыл особую при-
надлежность к иудаизму, еврей — это лишь страдающая
метафора: «Все вы евреи, даже антисемиты, покуда вам
предназначено мученичество». Тогда ему приходится
объяснятся со своими братьями по роду и с уже не вооб-
ражаемыми раввинами. И все будут упрекать его в этом
универсализме, эссенциализме, этом обескровленном
аллегоризме, в этой нейтрализации события в символи-
ческом и воображаемом.
«Обращаясь ко мне, мои братья по роду сказали:
Ты не еврей. Ты не ходишь в синагогу...
Раввины, слова которых ты повторяешь — сплошь
шарлатаны. Да и существовали ли они вообще? Ты был
вскормлен их безбожными словами...»
«...Ты — еврей для других, но почти не еврей для нас. »
«Обращаясь ко мне, самый уравновешенный из моих
братьев по роду сказал мне:
“Не проводить никакого различия между евреем и
тем, кто им не является — не значит ли это уже не быть
евреем?”. А остальные добавили: “Быть братом — это
значит давать, давать и еще раз давать, а ты никогда
не сможешь дать то, что ты есть", / Ударяя себя в грудь
кулаком, я подумал: / “Я — ничто. У меня отрезана го-
лова. / Но не стоит ли человек человека? / Обезглавлен-
ный — верующего?”).
Жабе — не обвиняемый в этом диалоге, ведь он не-
сет в себе и диалог, и спор. В этом несовпадении с самим
собой он и менее, и более, чем еврей. Но, возможно, во-
обще нет никакой самотождественности еврея. Еврей —
это просто другое имя этой невозможности быть собой.
Еврей разбит, и его место, в первую очередь, — между
двух измерений письма, аллегорией и буквальностью. Его
история была бы обычной эмпирической историей, если
бы он устанавливался, устраивался в различии и букваль-
ности. И у него не было бы вовсе никакой истории, если
бы он терялся в алгебре абстрактной универсальности.
Между слишком живой плотью происшествия с бук-
вами и прохладной кожей понятия пробегает смысл. Так
он проходит через книгу. Все проходит и происходит в
книге. Все должно будет жить в ней. И книги тоже. Вот
почему книга никогда не кончается. Она всегда остается
страдать и бодрствовать.
« — Лампа на моем столе, и дом в книге.
— Наконец-то я буду жить в доме.»
<< — Где находится книга?
— В книге.»
Всякий выход из книги совершается в ней же. Нет
сомнения в том, что конец письма зависит от того, что
вовне его: «Письмо, завершающееся лишь самим собой, —
не более, чем проявление презрения). Если оно не есть
разрыв самого себя по направлению к другому в призна-
нии бесконечной разлуки, если оно — одно лишь смако-
вание, наслаждение письма ради письма, удовольствие
художника, то оно разрушает самое себя. Оно синкопой
вычеркнет само себя в округлой завершенности яйца и в
полноте Тождественного. Идти к другому — значит от-
рицать самого себя, а сам смысл отчуждается в письме.
Интенция превосходит сама себя и отрывается от себя,
чтобы высказаться. «Я ненавижу произнесенное, в кото-
ром меня больше нет.) Несомненно, так же, как конец
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
письма проходит через письмо, его начало — еще не в кни-
ге. Писатель, строитель и хранитель книги, задержива-
ется у входа в дом. Писатель — это прохожий, и его судь-
ба в том, чтобы всегда оставаться на границе. « — Кто
ты? — Хранитель дома. — ...Ты в книге? — Мое место
у порога.»
Но, и это самое главное, все внешнее по отношению
к книге, всякая негативность книги производятся в ней
же. Выход из книги, другой и порог высказываются в кни-
ге. Другой и порог могут выписываться и признаваться
только в книге. Из книги выходишь лишь в книге, ведь для
Жабе не книга находится в мире, а мир — в книге.
«Мир существует потому, что существует кни-
га...» «Книга — это произведение книги.» «...Книга ум-
ножает книгу». Быть — это быть-в-книге, даже если бы-
тие — это не та сотворенная природа, которую в средние
века часто называли Божественной Книгой. Сам Бог воз-
никает в книге, которая связывает человека с Богом и
бытие с самим собой. «Если Бог есть, то потому, что
Он есть в книге.» Жабе знает, что книга всегда под угро-
зой, что что-то воздействует на нее, что «ее ответ — это
снова вопрос, что это жилье всегда в опасности». Но
книге могут грозить только ничто, бессмыслица и небы-
тие. Угроза, приходя на белый свет, — так и оказывает-
ся в книге — была бы признана, высказана, приручена.
Она осталась бы в доме и в книге.
120
о_
о_
(D
ч
*
Все исторические, поэтические и иудейские страхи
мучают эту поэму незавершенного вопроса. В единстве
книги, в логике, непохожей ни на какую другую, то есть в
Логике, собраны все утверждения и все отрицания, все
противоречивые вопросы. В Логике, но здесь нужно было
бы сказать — в Грамматике. Но не покоится ли эта тре-
вога и война, это развязывание всех возможностей, на не-
коем мирном и молчаливом основании решенности и без-
вопросности? На первом насилии по отношению к
вопросу? Первом кризисе и первом забвении, необходи-
мом начале блуждания в форме истории, то есть в форме
сокрытия самого блуждания?
Отсутствие вопросительности, о котором мы гово-
рим, — это не догма; а акт веры в книге может, как мы
знаем, предшествовать вере в Библию. И даже пережи-
вать ее. Отсутствие вопроса — это нетронутая уверен-
ность в том, что бытие — это Грамматика, а мир с начала
и до конца — криптограмма, которую нужно построить
или перестроить поэтической надписью и расшифровкой;
что в начале была книга, что всякая вещь располагается в
книге еще до своего бытия, что родиться и прийти в мир
можно, лишь подступившись к книге, а умереть — лишь
исчезнув из ее вида*, что первым всегда оказывается ее без-
мятежный берег.
Но что, если Книга — это лишь эпоха, во всех смыс-
лах этого слова, бытия (завершающая эпоха, которая от-
крывает бытие в свете его агонии или усталости его зату-
хания, умножающая, подобно болтливой и цепкой
сверхпамяти умирающих, охваченных последней болез-
нью, книги о мертвой книге)? Если форма книги не долж-
на быть больше моделью смысла? Если бытие исходно
оказывается вне книги или буквы? В трансценденции, к
которой не прикоснешься надписью или значением, ко-
торая не покоится на странице, а возвышается до нее?
Если бытие-миром, его присутствие и смысл бытия от-
крываются только в принципиальной невозможности
прочтения, то есть в той невозможности, которая уже не
будет в заговоре с потерянным или искомым прочтени-
ем, с какой-нибудь еще не вырванной из божественной
энциклопедии страницей? Если мир — это даже не «ру-
копись другого», как говорил Ясперс, но другое всякой
возможной рукописи? И если всегда еще слишком рано
говорить, что «бунт — это скомканная бумага в корзине
для му сора...»? Всегда еще слишком рано говорить, что
зло — это только то, что нельзя расшифровать вследст-
вие некоего lapsus calami или из-за какой-то какографии
Бога, так что «наша жизнь во зле имеет форму перевер-
нутой, исключенной вследствие своей непрочитываемо-
сти буквы из Книги Книг». И если Смерть не может быть
вписана в книгу, куда, как известно, Бог евреев извечно
вписывает лишь имя тех, кто обретет жизнь? И если мерт-
вая душа — это что-то меньшее или большее, и — уж во
всяком случае — отличное от мертвой буквы, которая
всегда должна сохранять возможность своего открытия
и откровения? Если книга — это лишь самое верное заб-
вение смерти? Сокрытие более древнего и более молодо-
го письма, другого века, отличного от книги, грамматики
и всего того, что объявляется здесь в выражении смысла
бытия? Сокрытие некоего еще нечитаемого письма?
Эдмон Жабе и вопрос книги «Письмо и различие» Ж. Деррида
Невозможность прочтения, о которой мы говорим,
это не иррациональность, обезнадеживающая бессмыс-
лица или все то, что может вызвать страх перед непонят-
ным и нелогичным. Подобное толкование или определе-
ние письма уже принадлежит книге, уже свернуто в
возможности тома. Исходная непрочитываемость — это
не просто внутренний момент книги, логоса или разума;
но она и не их противоположность, ведь она, будучи не-
соразмерной, не находится с ними в каком-то симметрич-
ном отношении. Предшествующая книге (не в хроноло-
гическом смысле), она, следовательно, оказывается самой
ее возможностью, а затем уже, внутри книги, — возмож-
ностью поздней и необязательной оппозиции «рациона-
лизма» и «иррационализма». Бытие, которое открывает-
ся в такой непрочитываемости, располагается по ту
сторону этих категорий, выписываясь по ту сторону от
своего собственного имени.
Было бы смешно обвинять Жабе в том, что эти во-
просы не поставлены в «Книге вопросов». Эти вопросы
лишь дремлют в самом литературном акте, которому нуж-
ны одновременно и их жизнь, и их летаргия. Письмо по-
гибло бы и от чистого бдения вопроса, и от его простого
стирания. Писать — не значит ли это все еще смешивать
онтологию и грамматику? Эту грамматику, в которой впи-
саны все смещения мертвого синтаксиса, все нападки сло-
ва на язык, все постановки под вопрос самой буквы? Все
письменные вопросы, направленные литературе, все пыт-
ки, примененные к ней, всегда в ней же и благодаря ее
собственным действиям преображаются, возбуждаются
и забываются, становятся ее модификациями себя, в себе
и для себя, некими умертвлениями, то есть, как всегда,
хитростями жизни. Жизнь отрицает себя в литературе
лишь затем, чтобы лучше выжить. Чтобы лучше быть. Она
отрицает себя не в большей степени, чем утверждает: она
различается и записывается как различие. Книги — это
всегда книги жизни (их архетипом была бы «Книга Жиз-
ни», которую держит в своих руках еврейский Бог) или
книги выживания и переживания (с их архетипом в еги-
петской «Книге Мертвых»). Когда М. Бланшо говорит:
«Способен ли человек на радикальное вопрошание, то
есть, в конечном счете, способен ли он на литературу? »
можно было бы сказать, исходя из некоторого представ-
ления о жизни, что он «неспособен» ни на то, ни на дру-
гое. Если только не допустить, что чистая литература —
это не-литература или сама смерть. Вопрос о начале кни-
ги, абсолютное вопрошание, вопрошание о всех возмож-
ных вопрошаниях, «вопрошание Бога» никогда не будет
принадлежать никакой книге. Если только она не забу-
дет сама себя в проговаривании своей памяти, во време-
ни вопрошания, в традиции своей фразы, и если она не
сделает из этой памяти о себе, со всем ее синтаксисом,
привязывающим себя к себе, некоего замаскированного
самоутверждения. Ведь она — книга вопроса, уже уда-
ляющаяся от своего начала.
Отныне, пусть Бог и оказывается, как говорит Жабе,
вопрошанием Бога, не нужно ли преобразовать послед-
нее утверждение в вопрос? Быть может, литература бу-
дет тогда лишь лунатическим перемещением одного это-
го вопроса:
(“Есть книга Бога, посредством коей Бог вопроша-
ет самого себя, и есть книга человека, которая под
стать книге Бога.”
Ребе Рида».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Je bails та demeure (Podmes, 1943-1949), Gallimard, 1959.
Этот сборник был представлен прекрасным преди-
словием Габриеля Бунура. Теперь Жабе посвящены
весьма значительные исследования. М. Blanchot, «L’ln-
terruption», N.R.F., Mai 1964; G. Bounoure, «Edmond Jabes,
la demeure et le livre», Mercure de France, janvier 1965;
“Edmond Jabes, ou la guerison par le livre », les Lettres nov-
elles, juillet-septembre 1966.
2 Gallimard, 1963.
Насилие и метафизика
Очерк мысли Эммануэля Левинаса1
124
Hebraism and Hellenism, — between these two
points of influence moves our world. At one time it
feels more powerfully the attraction of one of them,
at another time of the other; and it ought to be, though
it never is, evenly and happily balanced between them.
Matthew Arnold,
Culture and anarchy.
Умерла ли философия вчера, после Гегеля, Маркса,
Ницше или Хайдеггера — так что ей еще только предсто-
ит направиться к смыслу своей смерти, — или же она все-
гда только и жила тем, что чувствовала свое приближе-
ние к смерти, что молчаливо выражается в тени, которая
падает от слова, провозгласившего проект philosophic!
perennis*, умирает ли она однажды, внутри истории, или
же она всегда жила в агонии, насильственным образом
открывая историю и выставляя свою собственную воз-
можность против не-философии, своего враждебного
фона, своего прошлого и своего настоящего, против сво-
ей же смерти и своего источника; есть ли у мысли некое
будущее по ту сторону своей собственной смерти или
*Иудейство и эллинство — вот две точки влияния, между кото-
рыми раскачивается наш мир. Иногда чувствует большее притя-
жение одной из них, а иногда — другой, тогда как следовало бы,
чтобы этот мир равномерно и спокойно уравновесился между
ними, чего он никогда не делает. Мэтью Арнольд, «Культура и
анархия». — Прим, перев.
смертности, или же, как сегодня можно услышать, это
будущее еще только должно прийти, исходя из того, что
еще сохранялось в философии; так что странным обра-
зом у самого будущего еще есть будущее, — все это во-
просы, на которые не ответишь. Исходно и по крайней
мере на сегодняшний день это проблемы, которые зада-
ны философии как нерешаемые.
Быть может, эти вопросы и не являются более фило-
софскими, не относятся к философии. Они, однако, долж-
ны быть теми единственными вопросами, которые способ-
ны сегодня дать основание сообществу тех, кого в мире в
силу некоего воспоминания называют философами, то есть
сообщество, которое необходимо беспрестанно вопро-
шать, не обращая внимания на рассеяние институтов и язы-
ков, публикаций и техник, распространяющихся, по-
рождающих самих себя и приумножающихся подобно
капиталу или нужде. Сообщество вопроса, сообщество в
той хрупкой мимолетности, когда вопрос еще не настоль-
ко определен, чтобы лицемерность ответа была уже при-
глашена под маской вопроса, чтобы ее голос уже был
контрабандой пронесен в синтаксис самого вопроса. Со-
общество решения, начинания, абсолютной, но и находя-
щейся под постоянной угрозой первичности, в которой
вопрос еще не нашел язык, который он решил искать, еще
не успокоился в этом языке и не удостоверился через него
в своей возможности. Сообщество вопроса о возможно-
сти вопроса. Этого, конечно, мало — это почти ничего, —
но в этом сегодня удерживается и сохраняется достоин-
ство и неприкосновенный долг решения. Неприкосновен-
ная ответственность.
Почему неприкосновенная? Потому, что невозмож-
ное уже случилось. Невозможное в отношении к тоталь-
ности вопрошаемого, к тотальности сущего, объектов и
определений, к фактической истории: существует исто-
рия вопроса, чистая память чистого вопроса, дающая,
быть может, возможность всякому наследованию и во-
обще всякой чистой памяти как таковой. Вопрос уже на-
чался, и мы это знаем, так что эта странная достоверность,
относящаяся к иному абсолютному началу, укрепляясь в
прошлом вопроса, высвобождает некое неизмеримое по-
учение: дисциплину вопроса. Через эту дисциплину («че-
рез» — так как, чтобы пройти ее, уже нужно уметь чи-
тать), которой еще далеко даже до невоспринимаемой
теперь традиции негативности (или негативного опреде-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
ления), которая намного древнее иронии, маевтики,
ело/т], сомнения, — объявляется завет: вопрос должен
быть сохранен. Как вопрос. Свобода вопроса (в обоих зна-
чениях родительного падежа) должна быть высказана и на-
делена безопасным убежищем. Обоснованным пристани-
щем, воплощенной традицией вопроса, оставшегося
вопросом. И если такой приказ имеет этическое значение,
то не в силу своей принадлежности к области этики, но
потому, что в конечном счете он дает позволение любому
этическому закону вообще. Нет закона, который бы не вы-
сказывался, нет приказа, который не обращался бы к сво-
боде слова. Следовательно, нет приказа или закона, кото-
рые бы не утверждали и не заключали в себе возможность
вопроса — то есть не скрывали ее самим ее предположе-
нием. Тогда вопрос — всегда закрыт, он никогда не появ-
ляется в своей непосредственности, но всегда только через
закрытость и зашифрованность предложения, в котором
ответ уже начал работать над его определением. Чистота
вопроса может лишь предвосхищаться или вспоминаться
через различения герменевтической работы.
Таким образом, те, кто спрашивают о возможности,
жизни и смерти философии, уже вступили в диалог во-
проса с собой и о себе, уже захвачены им, уже оказались
в памяти философии, ввязавшись в соотнесение вопроса
с самим собой. Поэтому, по его сущности, судьба этого
соотнесения в том и состоит, чтобы прийти к своему соб-
ственному отражению, размышлению, рефлексии и во-
прошанию в себе и о себе. Тогда-то и начинается объек-
тивация, вторичная интерпретация и определение своей
мирской истории; тогда начинается битва, разыгрывае-
мая в различии между вопросом вообще и «философи-
ей» как определенным моментом или модусом — конеч-
ным и смертным — самого вопроса. В различии между
философией как силой или приключением самого вопро-
са и философией как определенным событием или пово-
ротом в приключении.
Это различие сегодня продумано лучше. То, что од-
нажды оно выступает из темноты и начинает мыслиться
само по себе, — это для какого-нибудь историка фактов,
техник и идей, несомненно, наиболее неочевидная черта,
что-то, с его точки зрения, наименее существенное. Но,
если учитывать все возможные импликации, это и наибо-
лее глубоко запечатленный знак нашей эпохи. Лучше
продумывать это различие — не значит ли это, в частно-
сти, знать, что если что-то и должно прийти из тра-
диции — которой философы, как они это отлично по-
нимают, всегда захвачены, — то лишь при условии бес-
престанного обращения к ее началу и неослабевающего
усилия удержаться вблизи нее самой. Что вовсе не равно
лепету и утробной лени детства. Как раз наоборот.
Два великих голоса, оказавшихся рядом с нами и уже
после Гегеля, то есть в его огромной тени, принудившие нас
к такому полному повторению, окликнувшему нас и
признанному в качестве самой неотложной философской
необходимости, — это, без всякого сомнения, голоса Гус-
серля и Хайдеггера. Несмотря на самые глубокие расхож-
дения, это обращение к традиции — которое не имеет ничего
общего с традиционализмом, — направляется интенцией,
общей для гуссерлевской феноменологии и того, что весьма
приблизительно, временно и по соображениям удобства мы
будем называть хайдеггеровской «онтологией»2.
В общем, речь идет о том, что:
1. вся история философии мыслится исходя из своего
греческого истока. При этом, как известно, речь не идет об
историцизме3 или ориентации на Запад. Просто все понятия,
основывающие саму философию, являются по своему
происхождению греческими, так что было бы невозможно
философствовать или как-то излагать философию помимо
них. Является ли Платон, с точки зрения Гуссерля,
основателем и учредителем разума и той философской
задачи, телос которой все еще дремлет в тени; или же
наоборот, как для Хайдеггера, он отмечает момент, когда
мысль бытия забывает саму себя и определяется в качестве
философии, — это различие будет решающим только на
выходе из общего греческого корня. Это различие — как
различие братьев, поколение которых остается полностью
подчиненным тому же самому господству. Или господству
того же, тождественного, которое не будет стерто ни в
феноменологии, ни в «онтологии».
2. археология, к которой весьма различными путями
нас подводят Гуссерль и Хайдеггер, всякий раз предпи-
сывает некоторое преодоление метафизики, указание ей
ее места или, во всяком случае, требует редукции мета-
физики. Правда, в каждом случае этот жест обладает сво-
им собственным смыслом.
3. наконец, во всем этом движении категория этики
не только не отделена от метафизики, но и подчинена
чему-то отличному от себя, некоей более древней и бо-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
128
лее могущественной инстанции. Когда же этика занима-
ет какое-то другое место, когда закон, власть и отноше-
ние к другому соединяется с арр], теряется вся их этиче-
ская специфичность4.
Эти три мотива, подчиняющиеся единственному ис-
току одной-единственной философии, задают единствен-
ное возможное направление для всякого философского
начинания вообще. И если диалог между гуссерлевской
феноменологией и хайдеггеровской онтологией открыт
везде, где эта онтология и эта феноменология так или
иначе подразумеваются, сам он, похоже, может быть ус-
лышан только внутри одной единственной греческой тра-
диции. В то время, когда фундаментальный свод понятий,
произошедших из греко-европейского приключения, вот-
вот завладеет всем человечеством, три этих мотива пре-
допределяют, следовательно, весь логос вообще и всю
историко-философскую ситуацию в мире. Ни одна фи-
лософия не могла бы их поколебать, не подчинившись им
и не окончив разрушением самой себя как философско-
§ го языка. На той исторической глубине, которая может
§ только предполагаться наукой и философиями истории,
§" мы знаем, что мы доверены непоколебимой защите гре-
£ ческого основания, причем эта доверенность и доверие
s не являются ни привычкой, ни комфортом, позволяя нам,
g напротив, помыслить любую опасность и прожить любую
g тревогу или несчастье. К примеру, сознание кризиса для
v Гуссерля означает только временное и почти необходи-
I мое отстранение того трансцендентального мотива, ко-
торый у Декарта и Канта уже начинал сам по себе осуще-
ствлять греческий проект: проект философии как науки.
Когда же Хайдеггер говорит, к примеру, что мысль «уже
я давно, слишком давно, на мели», подобно рыбе на суше,
* стихия, которой он хочет ее вернуть, это опять же сти-
ё хия греческого, греческая мысль бытия — мысль бытия,
о. вторжение и зов которой и произвели, вроде бы, Грецию.
* Знание и защита, о которых мы только что говорили, не
§ относятся к миру: скорее уж к возможности нашего язы-
s ка и к установлению самого нашего мира.
s Вот на какой глубине заставляет нас вздрогнуть
мысль Левинаса.
-I В самый разгар засухи, в разрастающейся пустыне,
эта мысль, которая больше не хочет быть по самому сво-
ему основанию мыслью бытия и феноменальности, за-
ставляет нас задуматься о неслыханном изменении мо-
тивов и неслыханных лишениях:
1. На греческом, то есть нашем, языке, на языке, бо-
гатом всеми наносами своей истории — ив этом пункте
уже предугадывается наш вопрос, — на языке, обвиняю-
щем самого себя в силе соблазна, на которой он посто-
янно играет, эта мысль призывает нас к смещению грече-
ского логоса; к смещению нашей тождественности или
даже тождественности вообще; она призывает нас поки-
нуть греческое место и, быть может, место вообще, что-
бы уйти к тому, что уже не будет ни истоком, ни местом
(слишком приветливым по отношению к богам), уйти к
дыханию, к пророческому слову, вздохнувшему не про-
сто до Платона или даже до досократиков, но до любого
греческого начала, уйти к другому грека (но будет ли дру-
гой грека не-греком? Сможет ли он, главное, назвать са-
мого себя не-греком? Так мы подходим ближе к нашему
вопросу). Мысль, для которой греческий логос появля-
ется не первым — наоборот, он всегда уподобляется гу-
мусу, покоящемуся не на простой земле, но вокруг более
древнего вулкана. Мысль, которая желает без всякой
помощи со стороны филологии, простым доверием к не-
посредственной, но в то же время и сокрытой наготе опы-
та освободиться от греческого господства Того же и Еди-
ного (а это — другие имена для света бытия и феномена)
как подавления, не похожего, конечно, ни на какое иное,
подавления онтологического или трансцендентального,
оказывающегося, тем не менее, началом или алиби вся-
кого мирского подавления и угнетения. Мысль, наконец,
которая желает освободиться от философии, очарован-
ной «ликом бытия, открывающемся в войне», от филосо-
фии, «сосредотачивающейся в понятии тотальности,
которое господствует над всей западной философией»
(ТБ, X).
2. Эта мысль желает, однако, определиться через
свою исходную возможность в качестве метафизики (то
есть именно через это греческое понятие, если не забы-
вать о путеводной нити нашего вопроса). Метафизика,
которую Левинас хотел бы вывести из ее подчиненного
положения, так чтобы противопоставить ее понятие всей
традиции, начинающейся с Аристотеля.
3. Эта мысль призывает к этическому отношению — к
ненасильственному отношению к бесконечному как беско-
5 Ж. Деррида
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
нечно другому, к другому лицу, — которое одно только и
могло бы открыть пространство трансценденции и
освободить саму метафизику. Причем безо всякой опоры
этики и метафизики на что-то отличное от них и без
разбавления их бьющего источника посторонними водами.
Речь, следовательно, идет о сильнейшем желании
объясниться с историей греческого слова. Сильнейшем
потому, что если эта попытка и не первая в своем роде,
она достигает в диалоге той высоты и такого проникно-
вения, что на них просто обязаны ответить греки — ив
первую очередь эти два грека, которыми все еще остают-
ся Гуссерль и Хайдеггер. Не желая ни уподобляться фи-
лософской очевидности, ни даже ее «дополнять» (ТБ, X),
мессианская эсхатология, вдохновляющая Левинаса, не
развертывает, однако, свой дискурс как теология или ев-
рейская мистика (ее можно понимать, наоборот, как про-
цесс над теологией и мистикой), как догматика, некая
определенная религия или мораль. В конечном счете она
никогда не ищет подтверждения своей правоты в иудаи-
стских тезисах и текстах. Она желает, чтобы ее услыша-
ли в обращении к самому опыту. К самому опыту и к тому,
что в нем есть самого неотменимого: переход и выход к
другому; то есть в обращении к другому в том самом не-
уничтожимо ином, что в нем есть: в обращении к другому
лицу. В обращении, которое не смешивается с тем, что
обычно именовалось философским продвижением, но
достигает точки, в которой превзойденная и изнуренная
философия не может оставаться нетронутой. По правде
говоря, мессианская эсхатология нигде не проповедует-
ся сама по себе, речь идет только о том, чтобы в голом
опыте указать пространство или проем, в котором она
могла бы быть услышана, и где она должна зазвучать.
Такой проем — не одно открытие среди иных. Это само
открытие, открытие открытия, которое нельзя закрыть в
какой бы то ни было категории или тотальности, то есть
это все то, что в опыте не может более описываться в тра-
диционных концептуальных схемах, и что сопротивляет-
ся практически всякой философеме.
Что означают это объяснение и это взаимное превос-
хождение двух источников и двух исторических сказаний —
еврейского и греческого? Может быть, здесь предугадыва-
ется некоторый новый порыв, некое странное сообщество,
которое не будет спиральным возвращением александрий-
ского сожительства? А если подумать о том, что Хайдеггер
тоже желает открыть переход к древнему слову, которое,
опираясь на философию, ведет за ее пределы или отступает
от нее, то что же означает этот другой проход и это другое
слово? И что в особенности означает затребованная
поддержка философии, в которой они все еще ведут диалог?
Вот это пространство вопрошания мы и избрали для
прочтения — весьма ограниченного5 — произведений
Левинаса. Конечно, у нас нет намерения исследовать это
пространство, даже если бы это исследование принуждено
было оставаться вводным. Самое большее, что мы попы-
таемся сделать, — это чуть-чуть указать на него. Сначала
мы хотели бы оставаться верными темам и ставкам мысли,
используя стилистические ресурсы комментария (оставляя
в стороне несколько скобок и примечаний, в которых будет
заключена наша растерянность). Мы хотели бы оставаться
верными и по отношению к ее истории, терпение и тревога
которой уже заключают и несут в себе то взаимовопро-
шание, о котором мы собираемся говорить6. Затем мы
попытаемся поставить несколько вопросов. И если им
удастся приблизиться к душе этого объяснения, менее всего
они окажутся возражениями: они будут, скорее, вопросами,
которые поставлены Левинасом нам.
Мы только что сказали о «темах» и «истории мыс-
ли». В этом заключено одно классическое затруднение,
носящее не только методологический характер. Крат-
кость этих страниц лишь подчеркнет это затруднение. Но
мы не будем выбирать. Мы откажемся оттого, чтобы по-
жертвовать историей мысли и произведений Левинаса в
пользу порядка или набора тем — причем о системе тут
лучше вообще не вспоминать, — которые собираются и
обогащают друг друга в этой сильной книге, в «Тоталь-
ности и бесконечности ». Ведь если и нужно поверить про-
цессу над самым крупным обвиняемым, проводимом в
этой книге, результат ничего не значит без становления.
Но мы также не будем жертвовать верным себе единст-
вом замысла становлению, которое в этом случае оказа-
лось бы просто чистым беспорядком. Мы не будем выби-
рать между открытием и тотальностью. Итак, мы будем
непоследовательны, но не так, словно бы мы в некоем
систематическом рассуждении выбрали эту непоследо-
вательность. Возможность невозможной системы будет
оставаться на нашем горизонте, дабы предохранить нас
5*
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
от эмпиризма. Не размышляя здесь над философией на-
шего колебания, отметим в скобках, что уже простым его
высказыванием мы приблизились в собственной пробле-
матике Левинаса.
I. Насилие света
Исход из Греции был скромно задуман в «Теории
интуиции в феноменологии Гуссерля ». В 1930 году это было
первое крупное произведение, посвященное мысли Гуссерля
в ее целостности. Через замечательный показ фено-
менологического развития, как оно было доступно исходя
из опубликованных произведений и наставления учителя,
через предостережения, уже относимые к «неожиданно-
стям», которые могли «таиться» в размышлениях и
неопубликованных рукописях Гуссерля, через все это была
выражена определенная сдержанность. Империализм
Oecopia уже в те времена тревожил Левинаса. Более любой
другой философии феноменология, следуя Платону,
должна была быть поражена светом. Не сумев редуцировать
последнюю наивную предпосылку, то есть предпосылку
взгляда, она предопределяла бытие в качестве объекта.
Обвинение остается пока еще достаточно робким и
неоднородным.
а) Во-первых, довольно-таки сложно выступать с
философской речью против света. И тридцать лет спус-
тя, когда претензии к теоретизму и гуссерлевской фено-
менологии станут существенными мотивами разрыва с
традицией, нужно будет, чтобы в некоем просвете пред-
стала нагота лица другого, эта «эпифания» некоего не-
света, перед которой должны будут умолкнуть и разору-
житься все формы насилия. И, в частности, насилие,
связанное с феноменологией.
Ь) Дело и в том — и этим трудно пренебречь, — что
Гуссерль в столь малой степени предопределяет бытие в
качестве объекта, что в «Идеях I» абсолютное существо
вание признано лишь за чистым сознанием. Часто выска-
зывалось мнение, что это ничего не решает и что филосо-
фия сознания всегда оказывается философией объекта.
В этом пункте левинасовское прочтение Гуссерля всегда
было весьма утонченным, гибким и контрастным. Уже в
«Теории интуиции...» теория отличена отюбъективности
вообще. Как мы увидим далее, для Гуссерля практическое
или аксиологическое сознание также является сознани-
ем объекта. Левинас точно указывает на этот факт. Та-
ким образом, в действительности обвинение нацелено на
нередуцируемое главенство соотношения субъекта с объ-
ектом. Позднее Левинас будет все более и более настаи-
вать на тех пунктах феноменологии Гуссерля, которые
выводят нас за пределы «субъект-объектного соотноше-
ния ». Таким пунктом, например, оказывается «интенцио-
нальность как отношение к инаковости», как «внешность
и отношение ко внешнему, которое не есть объектив-
ность»; другими примерами могут быть чувственность,
пассивный генезис, движение темпорализации7 и т.д.
с) А потом Солнце EKEKEiva тцд ovoiag навсе-
гда осветит для Левинаса чистое бдение и неисчерпае-
мый источник мысли. Оно — не только греческий пре-
док Бесконечного, трансцендирующего тотальность
(тотальность бытия или ноэмы, того же самого или я)8,
но и инструмент деструкции онтологии и феноменоло-
гии, подчиненных нейтральной тотальности Тождествен-
ного как бытия или «Я». Все эссе, собранные в 1947 году
под общим заглавием «От существования к существую-
щему» будут расположены под знаком «платоновской
формулы, помещающей благо по ту сторону бытия» (в
«Тотальности и бесконечности» «Феноменология эро-
са» описывает движение ETtEKEiva тцд ouaiag даже
в опыте нежности). В 1947 году это движение, отнюдь не
являющееся теологическим, или движением трансценди-
рования к «высшему существованию», Левинас назовет
«ис-хождением». Опирающееся на бытие ис-хожде-
ние — это «выход из бытия и категорий, его описываю-
щих». Это этическое ис-хождение уже задает место —
или, скорее, не-место — метафизики как метатеологии,
метаонтологии, метафеноменологии. Нам еще нужно
будет возвратиться к этому движению ETtEKEiva тцд
oixriag и к его отношениям с онтологией. Пока же от-
метим, что, поскольку речь идет о свете, платоновское
Движение истолковано так, что оно направляется уже
не к солнцу, а за пределы света и бытия, света бытия*.
«Мы по-своему встречаем платоновскую идею Блага по
ту сторону Бытия» — так будет написано в конце «То-
тальности и бесконечности» по поводу творения и пло-
доношения. «По-своему» значит здесь, что этическое ис-
хождение направлено не к нейтральности блага, но к
Другому, тогда как то, что ETtEKEiva тцд ovoiag — это по
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
своей сути не свет, а плодовитость или щедрость. Тво-
рение может быть только творением другого, только
отцовством, а отношения отца и сына неподвластны
любым категориям логики, онтологии или феноменоло-
гии, в которых абсолютность другого необходимым об-
разом оказывается тем же самым. (Но не освещало ли
само это платоновское солнце солнце видимое, и не было
ли само ис-хождение разыграно в мета-форе этих двух
солнц? Не было ли Благо источником — по необходимо-
сти ночным — всякого света? Светом (по ту сторону)
света. Часто замечали, что сердце света является чер-
ным9. Солнце Платона, кроме того, не просто освещает,
оно порождает. Благо — это отец видимого солнца, да-
рующего существам «рождение, рост, а также питание »
(Государство, 5О8а-5О9Ь).
d) Наконец, самЛевинас, несомненно, весьма внимате-
лен к тому, что в исследованиях Гуссерля смягчает и
усложняет первичность теоретического сознания. В пара-
графе, посвященном «Нетеоретическому сознанию»,
признается, что примат объективности вообще в «Идеях I»
не смешивается необходимым образом с приматом теоре-
тической установки. Существуют нетеоретические акты и
объекты «с новой и несводимой онтологической структу-
рой». «Например, Гуссерль говорит, что акт оценки
конституирует аксиологическую предметность (Gegen-
standlichkeit), отличающуюся от мира вещей, то есть кон-
ституирует бытие некоего нового региона...» Левинас также
много раз высказывает предположение, что значение,
приданное теоретической объективности, зависит от
трансцендентального провожатого, наиболее часто
выбираемого в «Идеях I», то есть от восприятия протяжен-
ной вещи. (Однако, уже тогда было известно, что эта
путеводная нить может оказаться лишь условным примером.)
Несмотря на все эти предостережения, несмотря на
постоянное колебание между буквой и духом гуссерли-
анства (причем первая чаще всего оспаривается во имя
второго10), несмотря на подчеркивание того, что названо
«шатаниями в мысли Гуссерля », уже в этот момент отме-
чается разрыв, к которому Левинас более не будет воз-
вращаться. Феноменологическая редукция, «историче-
ская роль которой... не является даже проблемой» для
Гуссерля, остается в плену у естественной установки, ока-
зывается возможной через нее «в той мере, в какой она
является теоретической»11. «Гуссерль дарует себе сво-
боду теории, так же как он дарует себе саму теорию.»
IV глава работы, «Теоретическое сознание», показыва-
ет посреди проникновенного и утонченного анализа
место размежевания: нельзя одновременно утверждать
примат объективирующего акта и несводимую оригиналь-
ность нетеоретического сознания. И если «концепция
сознания в 5 Untersuchung, как нам кажется, не только
утверждает примат теоретического сознания, но в нем
одном лишь видит доступ к тому, что составляет бытие
объекта», если «существующий мир, открытый нам, об-
ладает модусом существования объекта, данного теоре-
тическому взгляду», если «реальный мир является миром
познания », если «в его философии (то есть в философии
Гуссерля. — Ж.Д.)... познание или представление12 — это
не просто один из модусов жизни, равный всем осталь-
ным, не что-то вторичное», тогда «мы должны будем ре-
шительно отстраниться от этой философии ».
Можно уже предугадать, с какими сложностями
столкнется позднее мысль, которая, отказываясь от пре-
восходства теоретической рациональности, выступая
против насилия мистики и истории, против очарования
энтузиазмом и экстазом, будет, в то же время, непрестан-
но обращаться за помощью к тем формам рационализма
и универсализма, которые лишены каких бы то ни было
корней. Можно также предвидеть осложнения пути, ве-
дущего к метафизике разделения и разлуки через редук-
цию примата теории. Ведь до сих пор все классические
упреки объективизму и теоретизму были направлены про-
тив разделения, отстраненности или бесстрастности.
Нужна будет немалая сила — ведущая одновременно к
большим опасностям, — чтобы разоблачить именно сле-
поту превознесения теории, ее невозможность выйти из
себя к абсолютно внешнему, к совсем другому, к беско-
нечно другому, который «объективней объективности»
(ТБ). Настоящей мишенью для Левинаса станет сообщ-
ничество теоретической объективности и мистического
соединения. Некое до-метафизическое единство одного
и того же насилия. Чередование, всегда видоизменяющее
одно и то же изгнание другого.
В 1930 году Левинас поворачивается к Хайдеггеру про-
тив Гуссерля. Тогда была опубликована работа <tSein und
Zeit», и наставление Хайдеггера начинает освещать путь.
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
s
136
<D
Все то, что выходит за пределы простого комментария и
«буквы» гуссерлевскихтекстов, направляется к «онтоло-
гии» «в том ее особом смысле, который придается этому
термину Хайдеггером» (ТИ). В своей критике Гуссерля
Левинас поддерживает два хайдеггеровских тезиса:
1. Несмотря на «столь глубокую мысль, что в онто-
логическом порядке мир науки следует за конкретным и
смутным миром восприятия и зависит от него », Гуссерль
«по всей вероятности напрасно усматривал в этом мире
прежде всего мир воспринимаемых объектов» (ТИ). Хай-
деггер идет дальше, ведь для него мир — это не то, что
изначально предоставляется взгляду, но то, что оказы-
вается «в самом своем бытии неким центром действия,
полем деятельности или просьбы и обращения» (ibid,)
(можно было бы спросить себя, согласился бы сам Хай-
деггер с такой формулировкой).
2. Если Гуссерль и был прав, выступая против исто-
рицизма и натуралистской истории, он в то же время не
заметил «исторического положения человека... понято-
го в совсем ином смысле»13. Существует историчность и
темпоральность человека, которые являются не просто
какими-то его предикатами, но «самой субстанциально-
стью субстанции». Такова «структура, занимающая столь
значимое место в мысли Хайдеггера...» (ibid,).
Можно уже предвидеть, с какими трудностями
должна будет позднее столкнуться мысль, которая, от-
казываясь от превосходства «философии», «кажущей-
ся... столь же независимой от исторического положения
человека, как и теория, пытающаяся все рассматривать
sub specie aeternitatis» (ТИ), в то же время будет непре-
станно обращаться к «эсхатологии» как опыту, который
«в качестве “той стороны” истории вырывает существа из
исторического подданства...» (ТБ). Здесь нет противоре-
чия, но есть некоторое смещение понятия — то есть по-
нятия истории, — которое мы должны проследить. Тогда,
быть может, кажимость противоречия улетучится как
фантазм философии, замурованной в своих собственных
первичных понятиях. Как противоречие лишь в том, что
Левинас будет часто называть «формальной логикой».
Проследим за этим смещением. Те упреки, которые
были, подобно тому, как это делал Хайдеггер, уважитель-
но и в весьма умеренном количестве брошены Гуссерлю,
незамедлительно станут главным пунктом обвинения в
списке, обращенном на этот раз против самого Хайдег-
гера, в обвинении, напор которого будет отныне только
возрастать. Речь, конечно, уже не идет о том, чтобы ра-
зоблачать как воинствующий теоретизм мысль, которая,
начиная со своего самого первого хода, отказалась рас-
сматривать очевидность объекта в качестве своего по-
следнего основания; для которой историчность смысла,
по собственному выражению Левинаса, «разрушает яс-
ность и конституирование как модусы подлинного суще-
ствования духа» (ОС); для которой, наконец, «очевид-
ность отныне не будет фундаментальным модусом
разумения», «существование несводимо к свету очевид-
ности», а «драма существования» разыгрывается «пре-
жде всякого света» (ibid.). Тем не менее, на определен-
ном уровне — причем сам факт и обвинительная речь по
его поводу становятся тем самым еще более значимыми —
Хайдеггер по-прежнему вопрошал и отстранял эту при-
верженность теории во имя и внутри греко-платоновской
традиции, управляемой инстанцией взгляда и световой
метафорой. То есть пространственной парностью внеш-
него и внутреннего (правда, пространственна ли она от
начала и до конца?), которой живет оппозиция субъекта
и объекта. Собираясь отстранить эту последнюю схему
субъекта и объекта, Хайдеггер в то же время должен был
сохранить и удержать то, что делало ее возможной и не-
обходимой: свет, открытие, понимание и предпонимание.
Вот, что нам сказано в текстах, написанных после «От-
крывая существование». «ЗаботаХайдеггера, полностью
проникнутая пониманием (даже если само понимание
дано как забота) уже определена структурой “внешнего-
внутреннего”, характерной для света». Пытаясь сокру-
шить эту структуру в том пункте, в котором она еще со-
противлялась Хайдеггеру, Левинас ни в коем случае не
собирается просто стереть ее или не считаться с ее смыс-
лом и существованием. Так же как и в случае, когда речь
идет об оппозиции субъект-объект или cogito-cogitatum.
В движении, в котором узнается сильная и честная мысль
(а таким же было и движение или стиль Хайдеггера), Ле-
винас отдает должное области или слою традиционной
истинности, не отвергая и не критикуя те виды филосо-
фии, предпосылки которых он описывает. Речь здесь, к
примеру, идет просто о том, чтобы обнаружить под этой
истиной обосновывающую ее и в ней скрывающуюся «си-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
туацию, которая предшествует рассечению бытия на
внешнее и внтреннее». И, в то же время, учредить в неко-
ем совершенно новом смысле метафизику полного раз-
деления и абсолютно внешнего. Несложно предугадать,
что у такой метафизики будет немало затруднений в по-
исках своего языка внутри стихии традиционного лого-
са, полностью контролируемого структурой «внутри
снаружи », «внешность-внутренность ».
Дело в том, «что, не будучи знанием, темпоральность
Хайдеггера является все-таки экстазом, “бытием вне
себя”. Не трансценденцией теории, но выходом внутрен-
него ко внешнему». Даже структура Mitsein будет истол-
кована как платоновское наследие и принадлежность к
миру света. На самом же деле, в опыте отцовства и эроса,
в ожидании смерти должно возникнуть такое отношение
к другому, которое уже нельзя будет понимать как видо-
изменение «элейского понятия Бытия» (ВД). Последнее
требует, чтобы множественность была поглощена, заклю-
чена и подчинена империи единства. Это понятие, по Ле-
винасу, управляет всей философией Платона вплоть до
его понятия женственности (мыслимой как материя в ка-
тегориях активности и пассивности) и понятия города,
который «должен подражать миру идей» (ВД).
«Мы хотим двигаться в сторону множественности,
которая не сплавляется в единство, то есть, если это бу-
дет позволено сделать, порвать с Парменидом» (ВД).
Итак, Левинас подстрекает нас на второе отцеубийство.
Нужно убить отца, который все еще удерживает нас в
законе, на что другой грек — Платон — так и не смог
полностью решиться, откладывая настоящее убийство
в его воображаемом заместителе. Воображаемом в во-
ображаемом слова или в воображаемом слове. Но
удастся ли совершить то, что не смог сделать грек, не-
греку, если он не станет переодеваться под грека,
говорить по-гречески и притворяться, что он говорит
по-гречески, дабы только приблизиться к королю? А по-
скольку речь идет о том, чтобы убить слово, узнаем ли
мы когда-нибудь, кто, собственно, станет последней
жертвой этого притворства? Можно ли вообще прит-
воряться, что говоришь на том или ином языке? Элей-
ский чужеземец и ученик Парменида должен был
вернуть право самому языку, чтобы оказаться правым в
нем: направляя небытие к бытию, он должен был
«распрощаться с неизвестной мне противоположностью
бытия» и утвердить небытие в его относительности к
бытию, то есть в его движении отличения и инаковости.
Почему для Левинаса необходимо повторение убий-
ства? Потому, что платоновский жест останется бездей-
ственным до тех пор, пока множественность и инаковость
не будут поняты как абсолютное одиночество сущест-
вующего в своем существовании. Так, «стремясь к бла-
гозвучию» (ВД), Левинас переводит Seiendes и Sein.
Однако, в таком переводе всегда будет сохраняться не-
которая двусмысленность, поскольку под «сущест-
вующим», «сущим» Левинас почти везде и всегда пони-
мает существующее-человеком, сущее в форме Dasein.
Тогда так понятое существующее это не сущее вообще
(Seiendes), но то, что отсылает — уже в силу общего мор-
фологического корня — к тому, что Хайдеггер называл
экзистенцией, Existenz, «особым способом бытия и, в
особенности, бытия того сущего, которое удерживается
открытым для открытости бытия и удерживается внутри
самой этой открытости ». Was bedeutet Existenz in Sein und
Zeit? Das Wort nennt eine Weise des Seins, und zwar das
Sein desjeniges Seienden, das offen steht fiir die Offenheit
des Seins, in der es steht, indem es sie aussteht. (Введение к
Was ist Metaphysik.)
Итак, это одиночество «существующего» в своем
«существовании» оказывается самым наипервейшим и
оно не мыслимо исходя из нейтрального единства суще-
ствования (которое Левинас часто и весьма проникновен-
но описывает в форме «есть, имеется». Но разве «име-
ется» — это, скорее, не тотальность неопределенного,
анонимного и нейтрального сущего, но не само бытие?
Нужно было бы систематическим образом сопоставить
тему этого «имеется » с теми отсылками, которые делает
Хайдеггер на «es gibt» (Sein und Zeit, «Письмо о гума-
низме»). Сопоставить также ужас или страх, которые
противопоставляются Левинасом хайдеггеровской тре-
воге, с опытом испуга (Scheu), о котором Хайдеггер в
Nachwort к Was ist Metaphysik говорит, что «он обитает
вблизи сущностной тревоги»).
Из глубины этого одиночества возникает отноше-
ние к другому. Без этого одиночества, без этой первой
тайны, отцеубийство осталось бы лишь театральным фи-
лософским приемом. Исходить из единства «существо-
вания » в понимании этой тайны под тем предлогом, что
°на существует, и что она есть тайна существующего —
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
это «по-прежнему замыкаться в единстве и давать Пар-
мениду возможность избежать убийства» (ВД). Итак, на-
чиная с этого момента, Левинас направлен к философии
изначального различия. Противоречит ли эта мысль ин-
тенциям Хайдеггера? Есть ли различие между этим раз-
личием и тем, о котором говорит Хайдеггер? Какое раз-
личие изначальнее? Ко всем этим вопросам мы подойдем
позднее.
Мир света и единства, «философия мира света, мира
без времени». В такой гелиополитике «социальный иде-
ал будут искать в идеале слияния... так что субъект ис-
чезнет в коллективном представлении, в общем идеале...
Такова коллективность, которая говорит “мы”, которая
обращена к интеллигибельному солнцу, к истине, ощу-
щая другого всегда рядом с собой, не становясь никогда
к нему лицом... Miteinandersein остается сообществом
тех, кто “вместе” друг с другом, сообществом, которое
может открыться в своей подлинной истине, только
собираясь вокруг истины». Тогда как «мы надеемся по-
казать, что первичное отношение с другим не должно
описываться через предлог тш7». Отстраняясь от спло-
ченности и соучастия, Левинас нацеливается на встречу
лицом к лицу с другим, встречу, случающуюся до Mit-
sein, которое в таком случае будет лишь производной и
видоизмененной формой первичного отношения с
другим. «Лицом к лицу без всяких посредников» и без
«слияния». Без посредников и без слияния, ни опосре-
дованность, ни непосредственность — вот истина нашего
отношения с другим, истина, которая так и не была при-
нята логосом традиции. Немыслимая истина живого
опыта, к которой беспрестанно возвращается Левинас и
которую философское слово не может попытаться при-
ютить без того, чтобы тотчас же не осветить своим све-
том множество трещин и ту неповоротливость, которую
принимали за устойчивость. Можно было бы, несомнен-
но, показать что письму Левинаса свойственно то, что
оно всегда, в своих самых решительных моментах,
движется вдоль этих трещин, искусно продвигаясь по-
средством отрицания и нового отрицания, выступающе-
го против прежнего. Его собственный путь — это путь
не «или... или», а «ни... ни». Поэтическая сила метафоры
часто оказывается следом этой отклоненной альтерна-
тивы и этой раны в языке. Через нее, в ее открытии, мол-
чаливо показывается сам опыт.
Без посредников и без соучастия, абсолютная бли-
зость и отстраненность: «...эрос, в котором в близости
другого полностью сохранена удаленность, патетика ко-
торого слагается одновременно из этой близости и этой
дуальности». Сообщество не-присутствия, то есть не-фе-
номенальности. Не сообщество без света, не синагога с
завязанными глазами, но сообщество, предшествующее
платоновскому свету. Свет до нейтрального света, до тре-
тейской истины, «на которую мы сообща взираем», исти-
ны суждения и судьи. Только другой, совсем другой, может
открыться в некоторой не-открытости и не-присутствии
как тот, кто он есть, иначе говоря, до общей истины. О нем
одном можно сказать, что его феномен — это некоторая
не-феноменальность, что его присутствие — это опреде-
ленное отсутствие. Не простое или чистое отсутствие, в
котором могла бы в конце концов отчитаться логика, но
некоторое отсутствие. Такая формулировка хорошо по-
казывает, что в этом опыте другого логика непротиворе-
чивости, то, что Левинас будет обозначать термином «фор-
мальная логика », оказывается оспоренным в самом своем
корне. Этот корень — не только корень нашего языка, но
и всей западной философии14 и, в частности, феноменоло-
гии и онтологии. Эта наивность мешает им мыслить друго-
го (то есть как следует из рассуждения, просто мыслить,
чего, однако, не договаривает Левинас, этот «враг мысли »)
и подчинить ему свою речь. Отсюда два следствия: а) Не
мысля другого, они лишены времени. Лишенные времени,
они не имеют истории. Абсолютная инаковость мгновений,
без которой вообще не было бы никакого времени, не мо-
жет быть произведена — конституирована — в тождест-
венности субъекта или существующего. Ко времени она
приходит вместе с другим. Но этого не знали ни Бергсон,
ни Хайдеггер (СС). И тем более Гуссерль. Ь) Более серьез-
но то, что лишиться другого (но не в лишении, отделении
от него, что как раз является отношением к нему, но в его
познании, отождествлении и уподоблении) — это значит
затвориться в одиночестве (дурном одиночестве одиноче-
ства и самотождественности) и подавить этическую транс-
Ценденцию. В самом деле, если парменидовская тради-
ция — теперь мы знаем, что она означает для Левинаса —
не знает неустранимого одиночества «существующего»,
она тем самым не знает и отношения к другому. Она не
мыслит одиночество, не является одиночеством сама для
себя, поскольку она есть одиночество тотальности и не-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
прозрачности. «Солипсизм — это не временное искаже-
ние и не софизм, а сама структура разума». Существует,
следовательно, монолог разума и одиночество света. Бу-
дучи неспособными уважать другого в его бытии и его
смысле, феноменология и онтология являются таким об-
разом философией насилия. А через них и вся философ-
ская традиция оказывается в своем смысле и в своей глу-
бине завязанной на подавление и тоталитаризм того же
самого, тождественного. Такова старая тайная дружба
между светом и силой, старый заговор между теорией и
технополитическим обладанием15. «Если можно было бы
обладать другим, схватывать его и познавать, он уже не
был бы другим. Обладать, схватывать, познавать — все это
синонимы власти» (ВД). Знание и видение, обладание и
власть разворачиваются лишь в подавляющей светоносной
тождественности того же самого, оставаясь, на взгляд
Левинаса, фундаментальными категориями феноменоло-
гии и онтологии. Все, что мне дано в свете, кажется дан-
ным мне мною же. Поэтому световая метафора служит
лишь для отвода глаз и предоставления алиби историче-
скому насилию света — то есть смещению политического
и технического насилия в сторону ложной невинности
философской речи. Ведь всегда была вера в то, что мета-
форы оправдывают, снимают вину и груз вещей и поступ-
ков. Если история существует только посредством языка,
и если язык (за исключением тех почти невозможных слу-
чаев, когда он высказывает само бытие или ничто) являет-
ся по своей стихии метафоричным, тогда прав был Бор-
хес, сказав, что «Возможно, всемирная история — это
лишь история нескольких метафор». Среди этих «несколь-
ких» фундаментальных метафор свет является лишь от-
дельным примером, но зато каким! Кто сможет возобла-
дать над ним, высказать его смысл, не будучи сначала
высказанным через него? Какой язык сумел бы его избе-
жать? Как могла бы, например, избавиться от него мета-
физика лица как эпифании другого? Быть может, у света
вообще нет противоположности, во всяком случае, такой
противоположностью никак не может быть ночь. Если
битва всех языков идет внутри этой метафоры, так что они
лишь видоизменяют одно и то же, пытаясь выбрать луч-
ший свет, Борхес, спустя несколько страниц, снова будет
прав: «Быть может, всемирная история — это лишь исто-
рия различного произнесения нескольких метафор»
(«Сфера Паскаля», курсив мой. —Ж.Д.).
II. Феноменология,
онтология, метафизика
Хотя все эти демарши имели критический характер,
все они повиновались голосу определенных достоверных
очевидностей. В очерках, конкретных и весьма утончен-
ных исследованиях, говорящих об экзотическом, нежно-
сти, бессоннице, плодовитости, работе, мгновении или
усталости, эти очевидности появляются, однако, лишь в
одном определенном пункте, на некоем острие, ранящем
классическую понятийную систему и ищущем свою соб-
ственную путем серии отречений от прежней. Такое круп-
ное произведение как «Тотальность и бесконечность» не
только обогащает все эти частные исследования, но и
организует их в устойчивую архитектуру.
Позитивное движение, выходящее за пределы пре-
зрения и непризнания другого, то есть за его оценку, схва-
тывание, понимание или познание, называется Левина-
сом метафизикой или желанием. Метафизическая
трансценденция — это желание.
Концепция желания оказывается при этом настоль-
ко антигегельянской, насколько это возможно. Жела-
ние не указывает на движение отрицания и поглощения,
отрицания иного, изначально необходимого, чтобы
стать «самосознанием», «уверенным в себе» («Феноме-
нология духа», «Энциклопедия»). Для Левинаса жела-
ние, напротив, — это уважение и признание другого как
другого, этико-метафизический момент, выходить за
пределы которого сознание должно запретить самому
себе. По Гегелю же, этот жест перехода и поглощения
оказывается существенно необходимым. Левинас видит
в нем некую естественную, дометафизическую необхо-
димость и в замечательных набросках отделяет жела-
ние от наслаждения, чего, похоже, не делает Гегель. На-
слаждение лишь отсрочивается в работе, то есть с точки
зрения Левинаса, гегелевское желание будет лишь по-
требностью. Правда, дело может оказаться более слож-
ным, если тщательно проследить за движением досто-
верности и истины желания в «Феноменологии духа».
Несмотря на свои выступления против Кьеркегора, Ле-
винас в данном пункте присоединяется к тематике
«Страха и трепета »: движение желания может быть тем,
что оно есть, лишь в качестве парадокса, как отказ от
желаемого.
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
Ни теоретическая интенциональность, ни эффектив-
ность потребности не исчерпывают движения желания:
их цель состоит в том, чтобы исполниться, удовлетворить-
ся в тотальности и тождественности того же самого.
Желание, напротив, может быть вызвано абсолютно не-
сводимой внешностью другого, по отношению к которо-
му оно должно оставаться бесконечно несоответствую-
щим. Оно равно лишь безмерности. Никакая тотальность
никогда его не охватит. Метафизика желания — это, сле-
довательно, метафизика бесконечного разделения. Не
сознание разделения, как иудейское сознание, несчаст-
ное сознание: в гегелевской Одиссее несчастье Авраама
определено как нечто временное, как временная необхо-
димость поворота и перехода в горизонте примирения,
возвращения к себе и абсолютного знания. У Левинаса же
нет никакого возвращения. И желание не является несча-
стным. Поэтому бесконечно желаемое может им управ-
лять, но никогда не может его насытить. «И если б жела-
нию суждено было окончиться с Богом, я хотел бы, чтоб
ты оказался в аду.» (Можем ли мы цитировать Клоделя,
комментируя Левинаса, когда сам Левинас спорил с этим
«острословом, любимым с [нашего. — Ж.Д.] самого ран-
него детства» (ТС)?)
Бесконечно другой является невидимым, поскольку
видение открывает только обманчивую и относительную
внешность теории и потребности. То есть временную
внешность, которая попадает в поле нашего зрения лишь
затем, чтобы быть поглощенной и потребленной. Недос-
тупное и невидимое — это всевышнее. Это выражение —
в котором слышны не только платонические отзвуки, на-
поминаемые нам Левинасом, но и те, что угадываются еще
быстрее — разрывает пространственную букву метафо-
ры в преувеличении выхода вовне. Как бы она высока не
была, высота всегда достижима, всевышний же оказыва-
ется выше самой высоты. Никакой прирост высоты не мог
бы служить ему мерой. Он не принадлежит ни простран-
ству, ни миру. Но какова же необходимость этого вписы-
вания языка в пространство в тот самый момент, когда
он выходит за его пределы? И если полюс метафизиче-
ской трансценденции по отношению к пространству ока-
зывается не-высотой, то что же в конечном счете оправ-
дывает употребление выражения «пре-восхождение»,
заимствованного у Ж. Валя? Понять это выражение нам
может помочь тема лица.
Я — это тождественное. Инаковость или негатив-
ность, внутренняя по отношению к самому Я, внутреннее
различение — это лишь видимость, иллюзия, «игра Того
же самого», «способ идентификации» Я, главными мо-
ментами которой оказываются тело, обладание, дом, эко-
номия и т.д. Левинас дает им прекрасные описания. Но
эта игра тождественного не монотонна, она не повторя-
ется в монологе и формальной тавтологии. Работа по
идентификации и конкретное производство эгоизма под-
разумевает некоторую негативность. Конечную негатив-
ность, внутреннюю и относительную модификацию, в
которой Я возбуждает самого себя в движении отожде-
ствления. Таким образом, оно искажается и изменяется
лишь в себе и по направлению к себе. Сопротивление, ис-
пытываемое в работе и вызывающее саму эту работу, ос-
тается моментом тождественного, конечным моментом,
образующим целостную систему с действующим агентом.
Само собой разумеется, что Левинас описывает историю
как ослепление по отношению к другому и как трудолю-
бивую процессию того же самого. Можно было бы спро-
сить самих себя, может ли история быть историей, есть
ли вообще история тогда, когда негативность заключена
к круге тождественного, а труд никогда не сталкивается
с инаковостью, оказывая сопротивление сам себе. Мы еще
спросим себя, не начинается ли история с этого отноше-
ния к другому, которое Левинасом помещается вне ее.
Схема такого вопроса могла бы управлять всем прочте-
нием «Тотальности и бесконечности». Во всяком случае,
ясно, что мы здесь присутствуем при том смещении по-
нятия историчности, о котором говорили выше. Необхо-
димо признать, что без этого смещения никакое антиге-
гельянство не могло бы быть последовательным с начала
и до конца. Значит, у Левинаса это необходимое условие
как раз выполнено.
Необходимо внимательно отнестись к следующему:
тема конкретной (неформальной) тавтологии или лож-
ной (конечной) гетерологии, эта сложная тема довольно-
таки скромно изложена в начале «Тотальности и беско-
нечности», но на самом деле она обуславливает все
положения этой книги. Если негативность (работа, исто-
рия и т.д.) никогда не имеет отношения к другому, если
Другой — это не просто отрицание тождественного, то-
гда ни разделение, ни метафизическая трансценденция не
могут быть помыслены через категорию негативности. Так
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
же, как — и мы видели это ранее — простое внутреннее
сознание не могло бы наделить себя временем и абсолют-
ной инаковостью мгновений, так и тождественность Я не
может породить в себе инаковость без встречи с другим.
Если мы все еще не убеждены этими первоначальны-
ми положениями, утверждающими равенство того же и
Я, то мы так и останемся неубежденными. Если не идти
за Левинасом тогда, когда он утверждает, что вещи, дан-
ные в работе или желании (в гегелевском смысле) при-
надлежат Я и его экономии (то есть тому же самому), не
оказывая никакого абсолютного сопротивления, остав-
ленного за другим (другим лицом), если попытаться по-
думать, что даже это последнее сопротивление в своем
исконном смысле предполагает, не смешиваясь с ней, воз-
можность сопротивления вещей (то есть существование
мира, не являющегося мной, в котором я могу существо-
вать сколь угодно оригинальным способом, например, как
начало мира в мире...), если не следовать за Левинасом,
когда он утверждает, что настоящее сопротивление то-
ждественному — это не сопротивление вещей, не реаль-
ное, а интеллигибельное^ сопротивление, если восстать
против понятия чисто интеллигибельного сопротивления,
тогда у нас вообще не было бы никакой возможности идти
за Левинасом. Мы не могли бы без смутного неудоволь-
ствия идти за концептуальными операциями, высвобож-
даемыми классической асимметрией тождественного и
иного, дающей вывернуть себя наизнанку, или, скорее,
(как сказал бы больший приверженец классики), притво-
ряющейся тем, что может дать вывернуть себя наизнан-
ку, оставаясь тем же самым, чем-то совершенно бесстра-
стным в самом этом алгебраическом замещении.
Какова же, в конце концов, эта встреча с абсолютно-
другим? Это ни представление, ни ограничение, ни поня-
тийное отношение к тождественному. Я и другой не мо-
гут быть заключены или тотализированы понятием
отношения. И первая причина в том, что понятие (мате-
рия языка), всегда данное другому, не может к нему
примкнуть, понять его. Дательное и звательное измере-
ние, открывающее исходное направление языка, не мог-
ло бы без применения насилия быть понято и преобразо-
вано в винительное и атрибутивное измерение объекта.
Язык, следовательно, не может охватить свою собствен-
ную возможность и включить в себя свое собственное
начало и конец.
По правде говоря, не стоит спрашивать себя, какова
эта встреча. Ведь она — просто встреча, единственный
исход и выход вовне самого себя, выход к непредвиден-
но-другому. Выход без надежды на возвращение. Во всех
смыслах этого выражения, из-за чего эта эсхатология,
которая ничего не ждет, кажется порой бесконечно обез-
надеженной. Действительно, в «Следе Другого» эсхато-
логия не просто «кажется» обезнадеженной. Она дается
в качестве таковой, покуда отказ является ее главным
значением. Открывая литургию, желание и произведение
как разрыв Экономии и Одиссеи, как невозможность воз-
врата к тому же самому, Левинас говорит об «эсхатоло-
гии без надежды для себя и без освобождения по отно-
шению к моему времени».
Итак, не может быть понятийного определения встре-
чи: она возможна только через другого, непредвиденность,
«враждебную категории ». Понятие предполагает предви-
дение, горизонт, в котором инаковость смягчается в сво-
ем предугадывании, позволении себя предусмотреть. Бес-
конечно-другой не связывается в понятии, не мыслится
исходя из горизонта, всегда остающегося горизонтом того
же самого, исходным единством, в котором все непредви-
денности и неожиданности всегда уже приняты понима-
нием, всегда уже признаны. Необходимо, следовательно,
направить мысль против очевидности, о которой можно
было подумать — ио которой все еще нельзя не поду-
мать, — что она является самим эфиром нашей мысли и
нашего языка. То есть попытаться мыслить ту противопо-
ложность, от которой перехватывает дыхание. И речь идет
не о том, чтобы просто мыслить противоположное, все так
же остающееся в заговоре со своим противоположным, но
высвободить свою мысль и язык для встречи, располагаю-
щейся по ту сторону классической альтернативы. Несо-
мненно, что эта встреча, которая первоначально обладает
не формой интуитивного контакта (поскольку в этике, как
ее понимаетЛевинас, главный, центральный запрет — это
запрет контакта), а формой разделения (встреча как раз-
лука — другой разлом «формальной логики»17), эта встре-
ча самого непредвиденного является единственным откры-
тием времени, единственным чистым будущим и чистой
тратой по ту сторону истории как экономии. Но это бу-
дущее, та сторона — это не другое время, не какой-нибудь
«следующий день» после истории. Это время присутст-
вует в самой сердцевине опыта. Присутствует не как не-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
кое целостное присутствие, а как след. Следовательно, сам
опыт исходно эсхатологичен с начала и до конца, эсхато-
логичен до всякой догмы, всякого обращения, положения
веры или философии.
Встреча лицом к лицу с другим во взгляде и слове,
поддерживающих дистанцию и разрывающих любую це-
лостность, такое бытие-вместе предшествует и выходит
за пределы любого общества, коллективности или общ-
ности. Левинас называет ее религией. Она открывает эти-
ку. Этическое отношение религиозно (ТС). Но не в смыс-
ле какой-нибудь одной религии, а как религия вообще,
религиозность религиозного. Этот выход за негативность
не выполняется в созерцании некоего полного присутст-
вия, но «лишь учреждает язык, в котором первыми сло-
вами являются не “да” или “нет”» (ТБ), но вопрошание.
При этом не теоретическое вопрошание, а абсолютный
вопрос, несчастье и нищета, моление, просьба, адресован-
ная свободе, то есть приказ — единственный возможный
моральный императив, единственное не-насилие, осуще-
ствившееся в силу того, что оно есть уважение другого.
Непосредственное уважение другого, поскольку оно, как
можно утверждать даже без опоры на буквальное указа-
ние Левинаса, не проходит предварительно через ней-
тральный элемент универсального и уважение — в кан-
товском смысле18 — Закона.
Такое восстановление метафизики позволяет уси-
лить и систематизировать предшествующее устранение
феноменологии и онтологии. Видение — это, вне всяко-
го сомнения, перво-наперво уважительное познание, а
сам свет — являясь всегда в качестве третьего — стано-
вится стихией, которая наиболее верным и нейтральным
способом позволяет познанному существовать. Теорети-
ческое отношение не случайно было излюбленной схе-
мой метафизического отношения (см. ТБ). Когда же тре-
тий термин в своем наиболее нейтральном определении
оказывается светом бытия — не являющегося, в отличие
от тождественного и иного, ни сущим, ни несущим, —
тогда теоретическое отношение превращается в онтоло-
гическое. Последнее, согласно Левинасу, всегда возвра-
щает другого в лоно тождественного во славу единства
бытия. А теоретическая свобода, подступающая к мысли
бытия, является лишь идентификацией тождественного,
светом, в котором я дарую себе то, что по моим словам я
встречаю, экономической свободой в том особом смыс-
ле, который дает Левинас этому слову. Свободой в имма-
нентности, дометафизической и, можно было бы даже
сказать, физической свободой, эмпирической свободой,
даже если не забывать о том, что в истории она зовется
разумом. Разум оказывается природой. Метафизика же
открывается, когда теория критикует себя как онтоло-
гию, как догматизм и своеволие тождественного, когда,
выходя из себя, она позволяет другому поставить саму
себя под вопрос в этическом движении. Будучи вторич-
ной в порядке вещей, метафизика, как критика онтоло-
гии, по праву первая в философском смысле. Если прав-
да то, что «западная философия практически всегда
оказывалась онтологией», управляемой со времен Сокра-
та Разумом, принимающим лишь то, что он дарует само-
му себе19, обращающемся лишь к самому себе, если онто-
логия — это тавтология и эгология, тогда это значит, что
она всегда нейтрализовала (во всех смыслах этого сло-
ва) другого. Можно было бы попытаться выразить суть
дела таким образом, что феноменологическая нейтрали-
зация одалживает свою наиболее утонченную и наибо-
лее современную форму этой исторической, полити-
ческой и полицейской нейтрализации. Одна лишь
метафизика могла бы освободить другого от света бытия
или феномена, «лишающего бытие его сопротивления».
Хайдеггеровская «онтология», несмотря на весьма
соблазнительную наружность, никоим образом не ус-
кользает от этой схемы. Она как будто бы остается «эго-
логией» и даже «эгоизмом»: «Не исключено, что в Sein
und Zeit поддерживается лишь тот единственный тезис,
что бытие неотделимо от понимания бытия (развертывае-
мого как время), то есть бытие — это уже призыв к субъ-
ективности. Первое основание хайдеггеровской онтоло-
гии в то же время вовсе не покоится на трюизме вроде
того, что “чтобы познать сущее, нужно уже понять бы-
тие сущего”. Утверждать первенство бытия по отноше-
нию к сущему — значит уже высказаться о сущности фи-
лософии, подчиняя отношение с кем-то, кто является
сущим (этическое отношение), отношению с бытием это-
го сущего, которое, будучи безличным, позволяет захват
и господство над сущим (в отношении знания), подчиня-
ет справедливость свободе... что является способом ос-
таваться Тождественным в лоне Другого». Несмотря на
все недоразумения, которые могут содержаться в такой
трактовке хайдеггеровской мысли — мы рассмотрим их
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
далее, — интенция самого Левинаса кажется, во всяком
случае, совершенно ясной. Нейтральная мысль бытия ней-
трализует другого как сущее: «Онтология как первая фи-
лософия — это философия силы», философия нейтраль-
ного, тирания универсального и анонимного государства.
Здесь уже появляются предпосылки той критики госу-
дарственного отчуждения, антигегельянство которой не
будет ни субъективистским, ни марксистским, ни, тем
более, анархистским, ведь мы имеем дело с философией
«основания, которое возможно только в форме прика-
за». Хайдеггеровские «возможности» остаются по-преж-
нему силами или властями. Какими бы до-техничными и
до-объектными они ни были, подавляют и обладают они
не с меньшим упорством. Парадоксальным образом фи-
лософия нейтрального сообщается с философией места,
укорененности, языческого насилия, захваченности или
энтузиазма, с философией, обращенной к сакральному,
то есть безымянно божественному, божественному без
Бога (ТС). Такая философия в пределе оказывается
«стыдливым материализмом», покуда в своей основе ма-
териализм — это в первую очередь не сенсуализм, а при-
знанная первичность нейтрального. Это понятие первич-
ности хорошо показывает жест всей критики Левинаса.
Согласно указанию, присутствующему в понятии ар%т|,
философское начало непосредственно переводится в эти-
ческий или политический приказ. Первый с самого нача-
ла игры является главой и начальником. Таким образом,
все ходы классической мысли, исследуемые Левинасом,
увлекаются к агоре, будучи призванными объясниться на
этико-политическом языке, на котором, по их собствен-
ному мнению или желанию, они будто бы никогда и не
говорили, призванными сменить место своего располо-
жения, дабы признаться в своем замысле насилия; при-
знаться также и в том, что они уже говорили, и говорили
весьма складно, на городской площади, несмотря на все
уловки и видимую бескорыстность философии, к кото-
рой должна была вернуться ее сила и власть. Здесь, та-
ким образом, появляются предпосылки немарксистско-
го прочтения философии как идеологии. Путь Левинаса,
вне всякого сомнения, весьма сложен: отказываясь от
идеализма и философии субъективности, он вынужден
также разоблачать нейтральность «Логоса, который яв-
ляется ничейным словом» (ibid,). (Можно было бы, ко-
нечно, показать, что Левинас, неудобно устроившись —
из-за самой истории мысли — в различии между Гуссер-
лем и Хайдеггером, всегда критикует одного из них в сти-
ле и по схеме, заимствованным у другого, заканчивая тем,
что прогоняет их обоих как зачинщиков «игры Того Же
Самого», как соучастников одного и того же историко-
философского переворота.) Слово не только должно быть
чьим-то словом, оно должно выходить за пределы так
называемого говорящего субъекта по направлению к дру-
гому. Ни философии нейтрального, ни философии субъ-
ективности не могут признать этот путь слова, не описы-
ваемый ни в каком слове. По определению, если другой —
это другой, и если всякое слово — это слово к другому,
никакой логос как абсолютное знание не может включить
в себя, понять этот диалог и этот путь к другому. Эта
непонятность, этот разрыв логоса — это не начало ирра-
ционализма, но та рана или вдохновение, которые откры-
вают слово и потом уже дают возможность любому ло-
госу или рационализму. Даже полнота логоса, чтобы быть
логосом, все еще должна была бы иметь возможность
отдаться другому, находящемуся по ту сторону от ее пол-
ноты. Поэтому, если, например, есть онтология и логос
понимания бытия (сущего), то лишь в силу того, что «эта
онтология уже высказывается сущему, появляющемуся
до той тематизации, в которой он дан. Это “высказывание
Другому”, — это отношение с другим как собеседником,
это отношение с отдельным сущим — предшествует
всякой онтологии. Оно есть последнее отношение в бы-
тии. Онтология предполагает метафизику» (ТБ). «Рас-
крытие бытия вообще как основания познания и смысла
бытия предваряется отношением с сущим, которое вы-
ражает самого себя; онтологическому плану предшест-
вует план этический.» Следовательно, этика и есть мета-
физика. «Мораль — это не одна из ветвей философии,
но сама первая философия.»
Абсолютный выход за пределы онтологии — как то-
тальности и единства тождественного, превосхождение
бытия другим — осуществляется в бесконечном, посколь-
ку никакая тотальность не может его обнять. Бесконеч-
ное, не сводимое к представлению бесконечного, превос-
ходящее ideatum, в котором оно мыслится как то, что
больше того, что я мыслю, как то, что не может быть объ-
ектом или простой «объективной реальностью» идеи —
таков полюс метафизической трансценденции. Картези-
анская идея бесконечного во второй раз после £T|£K£tva
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
тт|5 огкнас; расцветает цветком метафизики внутри самой
онтологии. Но ни Платон, ни Декарт (вместе с многими
другими, если только нам будет позволено, в отличие от
Левинаса, не поверить в их одиночество посреди фило-
софской толпы, ничего не смыслящей ни в истинной
трансценденции, ни в странной идее бесконечного) не по-
няли одного — того, что выражением бесконечного яв-
ляется лицо.
Лицо — это не просто лицевая сторона, верх, кото-
рый может быть поверхностью вещей или фацией, внеш-
ностью или видом животного. Это и не просто то, что
увидено, как указывает происхождение этого слова*, уви-
дено потому, что оно было несокрытым, голым. Это и то,
что само видит. Не столько видит вещи — в теоретиче-
ском отношении, но то, с чем можно обменяться взгля-
дом. Лицо является лицом, только лишь встречаясь с дру-
гим лицом к лицу. Как говорил Шелер (но наша цитата не
должна заставить нас забыть, что Левинас менее всего
является его последователем), «Я не только вижу глаза
другого, я вижу еще, что он на меня смотрит».
Но не говорил ли это уже Гегель? «Если мы спросим
себя, в каком из органов вся душа является как таковая,
мы тотчас же подумаем о глазе, поскольку именно в нем
она оказывается сосредоточенной; она не просто смот-
рит через глаз, но и дает себя в нем увидеть. Так же, как,
говоря о внешности человеческого тела, мы говорили, что
вся его поверхность в противоположность поверхности
тела животного обнаруживает присутствие и биение
сердца, точно так же мы скажем, что задача искусства
состоит в том, чтобы в каждой точке поверхности его
произведений феноменальное стало глазом, обителью
души, делающей видимым сам дух » («Эстетика »). (О гла-
зе и внутреннем состоянии души см. также прекрасные и
весьма объемные страницы в т. 3, ч. 1., которые мы не мо-
жем здесь процитировать.)
Здесь нам, возможно, предоставляется случай на
достаточно точном примере подчеркнуть ту тему, кото-
рую мы разовьем далее: оказывается, что Левинас все-
таки весьма близок Гегелю, намного более близок, чем
он сам хотел бы думать, причем близок в тот самый мо-
мент, когда он как раз готовится наиболее радикальным
* Французское le visage (лицо) отсылает к vision (виденье) и viser
(нацеливаться, присматриваться, наблюдать). — Прим, перев.
образом противостоять ему. Таково положение, которое
Левинас должен разделить со всеми антигегельянскими
мыслителями, и которое нужно было бы продумать в его
предельном значении. В вопросе отношения между гла-
зом и желанием, звуком и теорией это сходство столь же
глубоко, сколь и различие, — оно не добавляется к раз-
личию и не накладывается на него. В самом деле, Гегель,
как и Левинас, полагал, что глаз, не стремясь «потре-
бить», подвешивает желание. Он — предел желания (то
есть, возможно, тем самым уже его источник) и первое
теоретическое чувство. Свет и открытие глаза нужно
мыслить не исходя из какой-нибудь психологии, а в от-
ношении между смертью и желанием. После того, как он
сказал о вкусе, осязании и обонянии, Гегель пишет в сво-
ей «Эстетике»: «Зрение же, напротив, оказывается в чис-
то теоретическом отношении со своими объектами, по-
скольку посредником этого отношения является свет, эта
нематериальная материя, предоставляющая объектам всю
их свободу, освещая их и просветляя безо всякого их за-
метного или явного поглощения, в отличие от воздуха и
огня. Зрение, освобожденное от желаний, относится,
следовательно ко всему, что материально существует в
пространстве, и что, сохраняя свою целостность, откры-
вается только в своей форме и цвете».
В этой нейтрализации желания для Гегеля и заклю-
чено превосходство света. Но для Левинаса оно, кроме
того и по тем же самым причинам, является и первым на-
силием, хотя лицо и не может быть тем, что оно есть, то-
гда, когда нет взгляда. Насилие заключается, следова-
тельно, в одиночестве немого взгляда, бессловесного
лица, в абстракции зрения. Согласно Левинасу, взгляд
сам по себе, в противоположность тому, что можно было
бы подумать, не уважает другого. Уважение — по ту сто-
рону схватывания и контакта, касания, обоняния или вку-
са — может быть лишь желанием, при условии, что мета-
физическое желание, в отличие от гегелевского желания
или нужды, не стремится к насыщению. Вот почему Ле-
винас ставит звук выше света. («Мысль — это язык, мыс-
лимый в стихии, аналогичной звуку, а не свету.» Но что
же значит эта аналогия, это различие и сходство, отно-
шение между чувственным звуком и звуком мысли как
интеллигибельным словом, между чувственностью и зна-
чением, чувствами и смыслом? Такой же вопрос ставит
Гегель, восхищавшийся словом Sinn,)
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
Итак, в «Тотальности и бесконечности» движение
метафизики — это, одновременно, трансцендендирова-
ние зрения слухом. Но и в «Эстетике» Гегеля можно про-
читать: «Слух — это другое теоретическое чувство. Дело
с ним, в отличие от зрения, обстоит прямо противопо-
ложным образом. Слух имеет дело не с цветом, формой
и т.п., но со звуками, с колебаниями тела, причем эти ко-
лебания являются не процессом разложения или испаре-
ния, как в случае с объектами, воспринимаемыми осяза-
нием, а простым дрожанием объекта, остающегося
нетронутым. Это идеальное движение, в котором, мож-
но было бы сказать, проявляется простая субъективность,
воспринимается слухом так же теоретично, как и зрени-
ем, когда глаз воспринимает цвет и форму, так что внут-
реннее состояние объекта становится внутренним состоя-
нием самого субъекта». Но «...слух, вместе со зрением
относящийся не практическим, а к теоретическим чувст-
вам, является еще более идеальным, чем даже зрение. Ведь
при условии того, что спокойное, незаинтересованное со-
зерцание произведений искусства, далекое от того, что-
бы пытаться уничтожить их, позволяет им быть такими,
какими они есть, зрением схватывается не в себе идеаль-
ное, но то, что, напротив, упорствует в своем чувствен-
ном существовании. Ухо же, не будучи обращенным
к объектам практически, воспринимает результат этого
внутреннего дрожания тела, в котором обнаруживается
и выражается не материальная фигура, но первая идеаль-
ность, идущая от души».
Таким образом, вопрос об аналогии ведет нас к это-
му понятию дрожания, значение которого кажется нам
решающим для «Эстетики » Гегеля в том, что касается пе-
рехода к идеальности. С другой стороны, для того, что-
бы последовательно сопоставить мысли Гегеля и Леви-
наса, нужно было бы обратиться не только к страницам
«Феноменологии духа», посвященным физиогномике, но
и к параграфу 411 «Энциклопедии», рассматривающему
вопросы духа, лица и языка.
По теперь уже хорошо нам знакомым причинам про-
тивостояние лицом к лицу ускользает от любой катего-
рии. Поскольку в нем лицо дается одновременно и как
выражение и слово. Не только взгляд, но исходное един-
ство взгляда и слова, глаз и рта, рта, который говорит,
высказывая одновременно свой голод. Лицо, следова-
тельно, — это то, что слышит невидимое, поскольку
«мысль — это язык», «мыслимый в стихии, аналогичной
звуку, а не свету». Это единство лица предшествует в сво-
ем значении рассеянию и разделению чувств и органов
чувственного восприятия. Значение лица, следовательно,
несводимо к чему-то иному. Лицо не означает. Оно не
воплощает, не прикрывает, оно указывает только на себя,
а не на что-то иное, вроде души, субъективности и т.п.
Мысль — это слово, непосредственно являющееся лицом.
В этом положении тематика лица принадлежит самой со-
временной философии языка и собственного тела. Дру-
гой не указывает знаком на свое лицо, он и есть это лицо:
«...присутствуя абсолютным образом в своем лице, Дру-
гой — безо всяких метафор — стоит ко мне лицом»20.
Итак, «лично» и вне всяких аллегорий другой дан лишь в
лице. Вспомним то, что по этому поводу говорил Фейер-
бах, который также связывал темы высоты, субстанции и
лица: «Расположенное выше всего в пространстве ока-
зывается в человеке самым высоким и в качественном
смысле, тем, что для него является самым близким, тем,
что уже нельзя отделить от него, то есть головой. Если
я вижу голову человека, то я вижу его самого, а если же
я вижу только корпус, то я не вижу ничего кроме
него»21. То, что уже нельзя отделить от... — это суб-
станция в ее сущностных определениях, как она представ-
ляется «в себе». Левинас тоже часто говориткаО’аито или
«субстанция», говоря о другом как о лице. Лицо — это
присутствие, оиота.
Лицо — не метафора, не фигура. Речь о лице — это
не аллегория и не олицетворение, как было бы соблазни-
тельно подумать. Поэтому возвышенность лица (по от-
ношению к остальному телу), быть может, частично
(только частично, как мы увидим далее) определяет зна-
чение выражения «всевышний», о котором мы недавно
спрашивали. Если высота лица не принадлежит простран-
ству, как мы попытались было сказать (вот почему пре-
восходная степень должна разрушить пространство, кон-
струируя метафору), то не из-за того, что она чужда
пространству, а потому, что она является в нем его же
началом, ориентирующим пространство исходя из взгля-
да и слова, лица, главы, которая с высоты управляет те-
лом и пространством. (Аристотель тоже сравнивает
трансцендентный принцип блага с главой армии, но он не
знает лица и того, что бог воинств — это Лик.) Лицо ни-
чего не обозначает, не представляется в качестве знака,
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
156
но выражается, дается лично, само в себе,ка6’авто: «Вещь
в себе выражается». Выражаться — это быть позади зна-
ка. Но быть позади знака — не значит ли это в первую
очередь иметь возможность присутствовать возле своего
слова, оказывать ему помощь, согласно высказыванию
«Федра», произносящего обвинительную речь Тоту (или
Гермесу), высказыванию, под которым Левинас неодно-
кратно подписывался. Только живое слово в своем мас-
терстве и прямолинейности может поддержать самого
себя, только оно одно является выражением, а не слу-
жебным знаком. Лишь бы оно было настоящим словом,
«творящим голосом, а не услужливым голосом загово-
ра» (Э. Жабе). Мы знаем, что у всех богов письма (в Гре-
ции, Ассирии, Египте, Вавилоне) статус богов-помощни-
ков, секретарей при великих богах, хитрых спутников
Луны, которые порой свергают царя богов бесчестными
способами. Для Левинаса произведение и письмо — это
не выражение, а знаки.
Вместе с отсылкой к epekeina tes ousias это по край-
ней мере вторая платоническая тема в «Тотальности и
бесконечности». Та же тема обнаруживается у Николая
Кузанского. «Тогда как мастер оставляет свое произве-
дение, которое затем идет своей независимой судьбой,
слово учителя неотделимо от самой личности, его про-
поведующей.»22 Подразумеваемая таким образом крити-
ка произведения по меньшей мере в одном пункте отде-
ляет Николая Кузанского от Гегеля.
Всю эту проблематику следовало бы рассмотреть
отдельно и саму по себе. Является ли «устная речь» «пол-
нотой речи»? Является ли письмо только лишь «языком,
вновь ставшим знаком»? Или же, в несколько другом
смысле, «речевой активностью», в которой я «отсутст-
вую и отстраняюсь от своих произведений», которые не
столько выражают, сколько предают меня. Обнаружива-
ется ли откровенность слова исключительно на стороне
живого слова, для которого может и не быть Бога? Этот
вопрос, несомненно, не имеет никакого значения для Ле-
винаса, который мыслит лицо в «подобии» человека и
Бога. Но не принадлежат ли в первую очередь высота и
прямолинейность наставления именно письму? Нельзя ли
перевернуть все утверждения Левинаса, высказанные им
по этому вопросу? Показывая, например, что письмо мо-
жет оказать себе помощь, поскольку у него есть время и
свобода, поскольку оно лучше, чем слово, избегает эм-
лирических запросов данной неотложной ситуации? Что,
нейтрализуя требования эмпирической «экономии», оно
по своей сущности более метафизично (в левинасовском
смысле), чем слово? Что писатель лучше, чем человек сло-
ва, отвлекается от самого себя, то есть лучше выражает-
ся как другой и лучше обращается к другому? Что, нако-
нец, лишая себя наслаждений и непосредственного
воздействия знаков, он успешнее отказывается от наси-
лия? Правда, он, возможно, собирается лишь размножить
эти знаки и их воздействие в бесконечном количестве, за-
бывая таким образом по меньшей мере самого другого,
бесконечно другого как смерть, практикуя письмо как от-
кладывание и экономию смерти. Следовательно, грани-
ца между насилием и ненасилием, должно быть, прохо-
дит не между письмом и словом, но внутри их обоих.
Тематика следа (отличаемого Левинасом от следствия,
трассы или знака, которые не относятся к другому как
абсолютно невидимому) должна была бы привести к оп-
ределенной реабилитации письма. «Он», чья трансцен-
денция и благодатное отсутствие неизбежно обнаружи-
ваются только в следе — не есть ли он скорее автор
письма, а не слова? Произведение, транс-экономия, чис-
тая плата, в той форме как их определяет Левинас, не яв-
ляются ни игрой, ни смертью. Письмо не смешивается ни
просто с буквой, ни со словом. Оно — не знак, и его по-
нятие могло бы покрыть понятие произведения лишь при
условии, что мы встретимся с «Тотальностью и бесконеч-
ностью ». Левинас, следовательно, одновременно и очень
близок, и очень далек от Ницше и Батая.
М. Бланшо высказал свое несогласие по поводу это-
го превосходства устной речи, похожей на «спокойное
гуманистическое и сократическое слово, приближающее
к нам того, кто говорит»23. Как могла бы еврейская тра-
диция принизить букву, хвалу которой так часто возно-
сит сам Левинас? Например: «Допустить воздействие ли-
тературы на людей — это, возможно, высшая мудрость
Запада, в которой узнается народ Библии » (ТС), и далее:
«Дух свободен в букве и связан в корне»; «Любить Тору
больше Бога» — это «защита от безумия прямого кон-
такта со Священным...» (ТС). Понятно, что именно хо-
чется спасти Левинасу в живом исходном слове. Без та-
кого слова, без его возможности и вне его горизонта
письмо оказывается просто ничем. В этом смысле оно
всегда вторично. Освободить письмо от этой возможно-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
158
сти и от этой вторичности — значит отрицать его как
письмо и сдать место грамматике и лексике без языка, ки-
бернетике или электронике. Но только в Боге слово как
присутствие, как начало и горизонт письма исполняется
без всякого огреха. Нужно было бы показать, что только
эта отсылка к слову Бога отличает интенцию Левинаса
от интенции Сократа в «Федре »; показать также, что для
мысли, провозглашающей изначальную конечность, это
различие уже невозможно. И что, если тогда письмо и
является вторичным, ничто ему не предшествует.
Что касается его отношений с Бланшо, нам кажется,
несмотря на частые сближения, предложенные Левина-
сом, что все сходства — подчас весьма глубокие и неос-
поримые — принадлежат моменту критики и негативно-
сти, попадая в ту полость конечности, в которой слышен
отзвук мессианской эсхатологии, в то ожидание ожида-
ния, в котором Левинас начал прислушиваться к вопро-
су. Этот вопрос тоже называется ожиданием, но для Ле-
винаса это ожидание больше не заставляет себя ждать.
Сходство, по нашему мнению, кончается тогда, когда эс-
хатологическая позитивность приходит, дабы в некоем
возвратном движении осветить общий путь, снять конеч-
ность и чистую негативность вопроса, когда нейтральное
получает определение. Бланшо, несомненно, мог бы рас-
пространить на все предложения Левинаса то, что он ска-
зал об асимметрии в пространстве сообщения: «Вот, я
полагаю, то, что является решающим в утверждении, ко-
торое мы должны понять и которое нужно будет поддер-
жать независимо от теологического контекста, в кото-
ром оно представляется ». Но возможно ли это? Не будет
ли разрушена любая речь при одной лишь попытке сде-
лать ее независимой от своего «теологического контек-
ста» (само это выражение было бы, конечно, отклонено
Левинасом)?
Быть позади знака, обнаруживаемого в мире — это
значит в конце концов остаться невидимым для мира в
своей же эпифании. В своем лице другой — в своей лич-
ности — представляется именно как другой, то есть как
тот, кто не открывается, кто не дает себя тематизировать.
Я не мог бы говорить о другом, сделать его темой, гово-
рить о нем как об объекте, в винительном падеже. Я могу
и я должен только лишь говорить с другим, обращаться к
нему в звательном падеже, который не просто категория,
падеж или случай слова, но само его возвышение, воз-
никновение. Нужно, чтобы категории были опущены,
дабы не был упущен другой; но для того, чтобы он не был
упущен, необходимо, чтобы он представлялся как отсут-
ствие и являлся как не-феноменальность. Оставаясь все-
гда за своими знаками и произведениями в своем тайном
и укрытом навсегда внутреннем пространстве, разрывая
своей свободой слова все тотальности истории, лицо —
не «от мира ». Оно его начало. Я могу говорить о нем, толь-
ко разговаривая с ним; и я могу достичь его, только по-
скольку я должен это сделать. Но я должен достичь его
как недостижимое, невидимое, неприкосновенное. Сек-
рет, отделение, невидимость Гига («само условие чело-
века») являются состоянием, статусом того, что называ-
ют psyche. Это абсолютное отделение, этот естественный
атеизм, эта свобода лжи, в который коренятся истина и
речь, все это есть «великая слава для создателя». Это ут-
верждение, по меньшей мере в одном определенном смыс-
ле, никого не собьет с толку.
Для того, чтобы лицо неметафорическим образом
представляло другого, слово должно не просто перево-
дить мысль. Необходимо, несомненно, чтобы слово уже
было мыслью, и необходимо также, чтобы тело остава-
лось языком. Нужно, чтобы рациональное познание не
стало первым словом слов. Если верить Левинасу, то даже
Гуссерль с Хайдеггером в душе соглашались с классиче-
ским подчинением языка мысли. Тогда как Мерло-Пон-
ти, напротив, «лучше, чем другие» показал, «что нево-
площенная мысль, мыслящая слово прежде, чем высказать
его, мысль, конституирующая мир слова, была мифом».
Но силой свойственного ему движения Левинас прини-
мает предельную «современную » отвагу лишь затем, что-
бы повернуть ее в сторону той мысли о бесконечном, ко-
торую эта отвага, как ему кажется, должна предполагать,
причем форма этого обращения к бесконечному подчас
оказывается весьма классичной, скорее даже докантиан-
ской, нежели гегельянской. Понятно, что темы собствен-
ного тела как языка и интенциональности не могут обой-
ти классических рифов, а мысль может быть с самого
начала языком, лишь если признано, что столь же изна-
чально она является отношением к другому (что, как нам
кажется, не ускользнуло от Мерло-Понти24), к неустра-
нимому другому, который призывает меня безо всякого
возврата ко внешнему, ведь в нем представлено бесконеч-
ное, которое не может быть замкнуто в пределах мысли,
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
которое запрещает любой монолог, «будь он даже “те-
лесной интенциональностью” Мерло-Понти». Несмотря
на иллюзии и привычки, здесь необходимо, таким обра-
зом, признать, что разрыв между мыслью и языком, так
же как и подчинение второго первой, относится к фило-
софии конечности. Такое доказательство отсылало бы нас
к картезианскому Когито в третьем из «размышлений»,
обходя Гуссерля, Хайдеггера и Мерло-Понти. Эта отсыл-
ка шла бы по схеме, которая, как нам кажется, поддер-
живает всю эту мысль: другой является другим, лишь если
его инаковость абсолютно, то есть бесконечно, несводи-
ма: бесконечно Другой может быть лишь Бесконечным.
Как слово и взгляд, лицо не может быть в мире, по-
скольку оно открывает и превосходит мир. Вот почему
оно отмечает предел всякой власти, всякого насилия и
начало этики. В некотором смысле убийство всегда об-
ращено к лицу, но лишь затем, чтобы его не заметить.
«Убийство прилагает силу к тому, что от него ускольза-
ет. Лицо — это еще сила, поскольку оно выражается в
чувственном, но уже и не-сила, поскольку оно разрывает
это чувственное.» «Другой — это единственное сущест-
во, которое я могу желать убить», но и единственное,
которое приказывает мне «не убий» и абсолютным обра-
зом ограничивает мою силу. Причем не противопостав-
ляя мне иную силу внутри мира, но разговаривая со мной
и глядя на меня из некоего другого начала мира, из того,
чего не могла бы достигнуть никакая конечная сила.
Странное, немыслимое понятие нереального сопротив-
ления. После своей статьи 1953 года Левинас, насколько
мы знаем, не говорит об «интеллигибельном сопротив-
лении», поскольку смысл этого выражения все еще при-
надлежит, по крайней мере в своем буквальном значении,
сфере тождественного, да и само оно употреблялось лишь
для обозначения не-реального сопротивления. В «То-
тальности и бесконечности » Левинас говорит об «этиче-
ском сопротивлении ».
Итак, то, что ускользает от понятия как власти — это
не существование вообще, а существование другого.
И первая причина этого состоит в том, что, несмотря на
многочисленные иллюзии, нет никакого понятия друго-
го. Двигаясь в направлении, на котором философия и
филология контролируют друг друга, объединяют свои
заботы и свою строгость, нужно было бы весьма тщатель-
ным образом поразмышлять над самим этим словом «Дру-
гой», молчаливо помеченным этой большой буквой, уси-
ливающей нейтральность другого, над словом, которым
мы с такой легкостью пользуемся, тогда как слово это
является самим разрушением понятийности. Может быть,
это просто общее имя без понятия? Но имя ли это вооб-
ще? Это не прилагательное, не местоимение, то есть су-
ществительное, как оно и трактуется в словарях, но су-
ществительное, которое не является, как обычно, видом
имени: это не общее имя, поскольку оно не предполага-
ет, так же как и в категории другого вообще, exepov,
никакого определенного артикля. Но это и не множест-
венное имя. «В канцелярском выражении “другой”
<l’autrui> не стоит принимать 1е за определенный ар-
тикль этого autrui: под ним всегда подразумевается ка-
кое-нибудь благо или право: благо, право другого), —
отмечает Литре, статья которого начиналась так: «Дру-
гой, autrui, от alter-huic, этот другой в косвенном паде-
же: поэтому “другой” всегда употребляется не в прямом
дополнении, оказываясь менее общим, чем “другие” ». Для
нас было бы необходимо, не превращая язык в простую
случайность мысли, дать отчет в том, что, оказываясь в
языке всегда в «косвенном падеже», в непрямом отно-
шении к себе, обладая наименьшей всеобщностью, явля-
ется в своем собственным смысле непреклонным и вне-
родовым. Каково происхождение этого падежа, случая
языка, этого косвенного способа, посредством которого
язык задает свой собственный смысл? Другой — это не
собственное имя, хотя его анонимность и указывает толь-
ко на неименуемый источник всякого собственного име-
ни. Нужно было бы терпеливо продумать то, что проис-
ходит в языке, когда греческая мысль exepov кажется
полностью выдохнувшейся перед alter-huic, теряя, каза-
лось бы, всякуя силу властвовать над тем, что одна она
только и может позволить понять, скрыв другого как
инаковостъ (другое вообще), тогда как оно, в свою оче-
редь, открывает этой мысли неуничтожимое ядро ее
смысла (другой как другое лицо <autrui>). Нужно было
бы продумать сообщничество этого скрытия и этого
(пред)понимания, выстраиваемого вовсе не внутри поня-
тийного движения, поскольку французское слово autrui
не обозначает просто отдельный вид рода «другой» <аи-
^ге>. Нужно было бы подумать над этой мыслью о дру-
гом вообще (не являющемся родом), греческой мыслью,
внутри которой это не-видовое отличие порождается в
6 Ж. Деррида
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
нашей истории или производит саму эту историю. А что
могло бы обозначать слово «другой» до его греческого
определения в качестве Sxepov иудео-христианского
«другого лица», «ближнего»? Такой тип вопросов с са-
мого начала отклонен Левинасом: по его мнению, только
вторжение другого лица позволяет подступиться к абсо-
лютной и неуничтожимой инаковости другого. Нужно
было бы, следовательно, подумать над этим Huie друго-
го <autrui>, трансценденция которого — это не транс-
ценденция «Ты». В этом пункте появляется смысл у
противостояния Левинаса Буберу или Г. Марселю. Про-
тивопоставив направляющую высоту «Вы» взаимной бли-
зости «Ты», Левинас, похоже, в своем размышлении о
Следе направляется к философии Ille, II, философии
«Его» (то есть философии ближнего как дальнего, дале-
кого чужака, согласно исходной двузначности того, что
переводится как «ближний», которого нужно возлю-
бить). Философия «Его», который не безличный объект,
противопоставленный «Тебе», но невидимая трансцен-
денция другого25. Если выражение, выражаясь на лице,
не является откровением, тогда не-откровенное выража-
ется по ту сторону всякой тематизации, всякого консти-
тутивного анализа и всякой феноменологии. По Левина-
су, трансцендентальное конституирование alter ego на
своих различных этапах, которые попытался собрать Гус-
серль в описаниях, составляющих пятую из «Картезиан-
ских медитаций», уже предполагает то, за генезисом чего
оно собиралось проследить. Другой, следовательно, не
может быть конституирован как alter ego, феномен ego,
конституированный для себя самим монадным субъектом
путем аппрезентации. Все трудности, с которыми столк-
нулся Гуссерль, были бы преодолены, если бы этическое
отношение было признано в качестве изначального стоя-
ния лицом к лицу, возникновения абсолютной инаково-
сти, внешности, которая не может быть производной,
порожденной или конституированной исходя из инстан-
ции, отличной от нее самой. Таково абсолютно внешнее,
внешность, бесконечно превосходящая монаду ego cogi-
to. И снова Декарт — против Гуссерля, Декарт третьего
«Размышления», почти пропущенного Гуссерлем. В то
время как в размышлении о Когито Декарт отдает отчет
в том, что бесконечное не только не может быть консти-
туировано в качестве объекта (то есть чего-то, затрону-
того сомнением), но оно уже обеспечило возможность
Когито, превосходя его, Гуссерль «видит в Когито субъ-
ективность, не нуждающуюся ни в какой поддержке вне
себя, он конституирует идею бесконечности и дает ее себе
в качестве объекта »(ТБ). Бесконечное (так же, как и бес-
конечно другой) не может быть объектом, поскольку оно
есть слово, начало мира и смысла. Итак, никакая фено-
менология не может описать этику, слово и справедли-
вость.
Но если всякая справедливость и начинается со сло-
ва, не всякое слово справедливо. Риторика может возвра-
титься к насилию теории, уничтожающей другого, когда
она ведет его путем психагогии, демагогии и даже педа-
гогики, не ставшей истинным наставничеством. Послед-
нее спускается с высоты учителя, абсолютная внешность
которого никак не ранит свободы ученика. По ту сторо-
ну риторики слово открывает наготу лица, без которой
не было бы вообще никакой наготы. Любая нагота, «даже
нагота тела, испытываемая в стыде» — это лишь фигура
для неметафорической наготы лица. Эта тема достаточ-
но подробно развернута уже в статье «Является ли онто-
логия фундаментальной?»: «Нагота лица — это не сти-
листическая фигура». Все в той же форме негативной
теологии показано, что нагота лица не может быть даже
открытием, поскольку открытие всегда относится к «ок-
ружающей полноте ». Само слово «нагота » должно, сле-
довательно, разрушиться после того, как оно указало за
пределы самого себя. Вокруг этого утверждения могло
бы быть развернуто отдельное прочтение и исследование
«Тотальности и бесконечности». Нам кажется, что это
утверждение весьма — быть может, даже слишком —
имплицитным образом поддерживает решающее разде-
ление между Лицом и «Той стороной лица», как называ-
ется раздел, трактующий наряду с «Феноменологией
Эроса» вопросы Любви, Плодовитости и Времени. Эта на-
гота лица, слова и взгляда, не будучи ни теорией, ни тео-
ремой, предложена и выставлена как нищета, как требо-
вательная мольба, как немыслимое единство слова,
которое может оказать себе помощь, и взгляда, эту по-
мощь просящего.
Асимметрия, отсутствие света, приказ оказались бы
самим насилием и несправедливостью — а только так их
обычно и понимают, — если бы другой был лишь нега-
тивным определением того же самого, тождественного
(конечного или бесконечного). Но мы видели, что он не
6*
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
является ничем подобным. Бесконечное (как бесконечно
другой) не может учинить такое же насилие, как тоталь-
ность (которая для Левинаса всегда определена, всегда
ограничена неким выбором, изначальным решением дис-
курса как конечная тотальность, так что для него то-
тальность означает только конечную тотальность. Такое
определение оказывается всегда некоей аксиомой, при-
нятой по умолчанию). Поэтому только Бог не дает миру
Левинаса быть миром самого наихудшего и голого наси-
лия, миром самой безнравственности. Описываемые Ле-
винасом структуры живого неприкрытого опыта — это и
структуры мира, в котором буйствовала бы война (какое
странное сослагательное наклонение!), если бесконечно
другой был бы не бесконечным, если бы случайно он ока-
зался просто голым, конечным и одиноким человеком. Но
и в этом случае, как, несомненно, сказал бы сам Левинас,
уже не было бы войны, поскольку не было бы ни лица, ни
истинной асимметрии. Не было бы более и речи о живом
опыте, в котором Бог уже начал говорить. Иначе говоря,
в мире полностью признанного лица (признанного как то,
что не принадлежит миру) вовсе не было бы никакой вой-
ны. В мире же, где лицо было бы полностью забыто, где
больше не было бы лица, не было бы и войны. Итак, Бог
замешан в этой войне. Его имя, как и имя мира, является
функцией в системе войны, именем, исходя из которого
мы только и можем говорить, и тем единственным име-
нем, о котором язык никогда не сможет ничего сказать.
И с Богом, и без Бога не было бы войны. Она исключает и
предполагает Бога. Относиться к Богу мы можем только
внутри такой системы. Следовательно, война — а война
существует — это различие между лицом и конечным
миром без лица. Но не является ли само это различие тем,
что всегда называли Миром, в котором разыгрывается
присутствие и отсутствие Бога? Только игра мира позво-
ляет помыслить сущность Бога. В некотором смысле, на
который с трудом соглашается наш язык — и язык Леви-
наса, — игра мира предшествует Богу.
Стояние лицом к лицу исходно определяется Леви-
насом не как встреча двух равных, стоящих друг напро-
тив друга людей. «Лицом к лицу » предполагает человека
с запрокинутой головой и глазами, обращенными к вы-
соте Бога. Язык обладает также и возможностью прямо-
го противостояния, но он не исключает некоторой уни-
женности и приниженности взгляда, которым ребенок
смотрит на отца, помня, что прежде, чем научиться хо-
дить, он был порожден, выдан, предан и освобожден, из-
гнан и возложен на руки взрослых. Можно было бы ска-
зать, что человек — это слишком рано пришедший Бог,
то есть Бог, который знает, что он уже навсегда опоздал
к уже случившемуся Бытию. Похоже, правда, что наши
последние примечания, мягко говоря, не принадлежат
жанру комментария. Мы не будем здесь отсылать к хо-
рошо известным темам психоанализа или к гипотезам
эмбриологии и антропологии, рассматривающим струк-
турно преждевременное рождение человеческого ребен-
ка. Пусть нам будет достаточно знать о том, что человек
рождается26.
Имя Бога часто поминалось, но этот опыт и возврат
к «самим вещам» как отношению к бесконечно(му) дру-
гому не является теологическим, даже если он один толь-
ко и может затем обосновать теологический дискурс,
который до сих пор «неосторожно трактовал идею от-
ношения твари с Богом в терминах онтологии» (ТБ).
В возвращении к самим вещам обнаруживается основа-
ние метафизики — как ее понимает Левинас — и общий
корень гуманизма и теологии: подобие между челове-
ком и Богом, лицом человека и Ликом Бога. «...Другой
похож на Бога» (ibid.). В этом подобии слово человека
может подняться к Богу — такова почти неведомая ана-
логия, составляющая само движение речи Левинаса о
речи. Аналогия как диалог с Богом: «Речь — это речь с
Богом... Метафизика — это сущность такого языка, об-
ращенного к Богу». Речь с Богом, а не в Боге, не причас-
тие. С Богом, а не о Боге и его атрибутах, как в теоло-
гии. Асимметрия моего отношения с другим, «эта кривая
интерсубъективного пространства указывает на боже-
ственное направление всякой истины». Она — быть мо-
жет, «само присутствие Бога». Присутствие как разде-
ление, присутствие-отсутствие — таков еще один разрыв
с Парменидом, Гегелем и Спинозой, которых могла бы
уничтожить уже сама «идея творения ex nihilo*. При-
сутствие как разделение, присутствие как подобие, но
подобие, которое не будет чем-то вроде «онтологиче-
ской меты» «мастера, запечатленной в произведении»
(Декарт) или на «существах, сотворенных по его образу
и подобию» (Мальбранш)27, то есть подобие, которое
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
нельзя понять ни в терминах соединения и познания, ни
в терминах причастия и воплощения. Подобие, которое
ни знак, ни эффект Бога. Ни знак, ни эффект не выхо-
дят за пределы тождественного. Но мы находимся «в
Следе Бога». Это предложение рискует оказаться несо-
вместимым со всеми отсылками к «самому присутствию
Бога». Оно рискует обратиться в атеизм: что, если Бог —
это эффект следа? Что, если идея божественного при-
сутствия (жизни, существования, парусии), имя Бога —
это лишь движение стирания следа в присутствии? Речь
идет о том, чтобы узнать, позволяет ли след мыслить
присутствие в своей системе, или же истинен обратный
порядок. Он, без сомнения, и есть истинный порядок.
Но под вопросом здесь оказывается как раз сам поря-
док истины. Мысль Левинаса всегда удерживается меж
этих двух положений.
Лик Бога навсегда скрывается, показываясь. Так в
единстве их метафизического значения оказываются со-
бранными в самой сердцевине опыта, обнажаемого Ле-
винасом, различные призывы Лика Яхве, который сам по
себе никогда, конечно, не именован в «Тотальности и бес-
конечности». Лик Яхве — это всецелая личность и пол-
ное присутствие «Вечности, лицом к лицу говорящей с
Моисеем», но, одновременно, и говорящей ему: «Ты не
сможешь увидеть мой лик и выжить... Ты не останешься
на горе. Когда будет проходить моя слава, я положу тебя
в пещеру скалы и прикрою своей рукой, пока я не прой-
ду. Когда же я отвращу свою руку, ты увидишь меня сза-
ди, но моего лика не увидишь» (Исход). Лик Бога, прика-
зывающего, скрываясь, — это и больше, и меньше, чем
лицо. Откуда, несмотря на все предостережения, и появ-
ляется двусмысленное соучастие теологии и метафизи-
ки в «Тотальности и бесконечности». Мог бы Левинас
подписаться под этой бесконечно двусмысленной фра-
зой из «Книги вопросов» Э. Жабе:
«Все лица — Его, вот почему ОН
без лица »?
Лицо — это не лик Бога, но и не фигура человека:
п оно — их подобие. Подобие, которое, однако, необхо-
S- димо мыслить до и без обращения к Тождественному28.
Ч
III. Различие и эсхатология
Все вопросы, принцип которых мы теперь попыта-
емся обозначить, являются, так или иначе, вопросами
языка, то есть языковыми вопросами и вопросами само-
го языка. Если наш комментарий не был таким уж лжи-
вым, можно быть уверенным, что в мысли Левинаса нет
ничего, что не было бы затронуто такими вопросами.
Об изначальной полемике
Для начала, чтобы успокоиться, скажем, что путь
мысли Левинаса таков, что все наши вопросы уже при-
надлежат к его внутреннему диалогу, передвигаясь толь-
ко внутри его дискурса, не делая ничего другого, кроме
прослушивания его в различных направлениях и с разно-
го расстояния.
А. Итак, в «От существования к существующему» и
во «Времени и другом» были, казалось бы, изгнаны кате-
гории Тождественного и Другого вместе с «родовой ло-
гикой». Они, как будто бы, не достигали оригинальности
опыта, к которому хотел привести нас Левинас: «Космо-
су, то есть платоновскому миру, противопоставляется
мир духа, в котором заключения эроса не сводимы к ро-
довой логике, в которой “я” заменяется на “тождест-
венное”, а “другой” на “другое” ». Но в «Тотальности и бес-
конечности», где категории Тождественного и Другого
снова обретают свою силу, vis demonstrandi и вся энер-
гия разрыва с традицией сосредоточены именно в этом
приравнивании «Я» Тождественному и «Другого лица»
Другому. Не используя сами эти термины, Левинас часто
предостерегал нас против смешения тождественности и
самости, Тождественного и Я, idem и ipse. Это смешение,
непосредственно выполняемое греческим понятием аитод
и немецким selbsl, не может столь же произвольно про-
изойти во французском, становясь тем не менее и несмот-
ря на все более ранние предостережения, чем-то вроде
принятой по умолчанию аксиомы «Тотальности и
бесконечности»29. Мы уже видели: для Левинаса не может
быть внутреннего различия, фундаментальной и подлин-
ной инаковости в Я. Если ранее внутреннее пространст-
во, исходное отделение и тайна позволили порвать с клас-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
О)
*
сическим использованием греческих понятий Тождест-
венного и Другого как Иного, то теперь сплавленность
Тождественного и Я (ставшая гомогенной себе и, в то же
время, однородной с понятием как конечной тотально-
стью) позволяет распространить одно и то же обвинение
как на греческую философию, так и на наисовременней-
шие формы философии субъективности, которые тща-
тельнейшим образом отличают, как это делал и Левинас,
Я от тождественного и Другого от иного. Если не уде-
лить внимания этому двойному движению, этому продви-
жению, которое, казалось бы оспаривает свою собствен-
ную возможность и свой первый этап, то можно было бы
упустить всю оригинальность этого протеста против по-
нятия, государства и тотальности — ведь он высказыва-
ется не во имя, как это обычно бывает, субъективного
существования, но против него. Одновременно против
Гегеля и против Кьеркегора.
Левинас часто предостерегает нас против этого столь
соблазнительного смешения его антигегельянства с субъ-
ективизмом или экзистенциализмом кьеркегоровского
образца, которые для него остаются все теми же форма-
ми насильственного и дометафизического эгоизма: «Не
я отказывается от системы, как полагал Кьеркегор, но
Другой» (ТБ). Но нельзя ли поспорить, что Кьеркегор
остался бы глух к этому различению? Что он, в свою оче-
редь, протестовал бы против такого концептуального
определения? Что он, быть может, заметил, что Другой
отказывается от системы только будучи существовани-
ем, определенным в качестве субъекта? Другой, конеч-
но, — это не Я, ведь противное никем и не утверждалось,
но он — другое Я, что должен предположить и Левинас,
дабы иметь возможность подкрепления всех своих тези-
сов. Этот переход от Я к Другому как другому Я является
переходом к неэмпирической сущностной определенно-
сти в качестве Я всякого субъективного существования
вообще. Философ Кьеркегор не просто читает защити-
тельную речь в пользу некоего Серена Кьеркегора («эгои-
стический крик субъективности, по-прежнему обеспоко-
енной счастьем и спасением Кьеркегора»), но в пользу
субъективного существования вообще (это вовсе не про-
тиворечивое выражение): потому-то его дискурс и явля-
ется философским, не происходя ни из какого эмпири-
ческого эгоизма. Имя философского субъекта, когда он
говорит «Я» — это в некотором смысле всегда особый
псевдоним. В этом истина, которую Кьеркегор развивал
систематическим образом, выступая против «овозмож-
нивания» существования в сущности. От понятия отка-
зывается, таким образом, сама сущность субъективного
существования. Разве не предполагается уже эта сущ-
ность субъективного существования в уважении Друго-
го, который может быть тем, что он есть — то есть
Другим — только в качестве такого субъективного суще-
ствования. Дабы отказаться от кьеркегоровского поня-
тия субъективного существования, Левинасу понадо-
билось бы изгнать и понятие сущности и истины
субъективного существования (сущности и истины Меня
и Другого). Именно этого требует логика разрыва с фе-
номенологией и онтологией. Но можно по меньшей мере
сказать, что Левинас этого не делает, да и не может сде-
лать, не отказавшись от философского дискурса вооб-
ще. Если мы желаем внутри философского дискурса, от
которого никогда нельзя полностью оторваться, попы-
таться выбраться за его пределы, то единственный шанс
добиться этого в языке (а Левинас признает, что нет мыс-
ли до языка и вне его) состоит в том, чтобы формально и
на тематически выделенном уровне поставить пробле-
му отношения между принадлежностью и прорывом,
проблему закрытия. Формально, то есть как можно бо-
лее актуально, наиболее формальным и формализован-
ным образом: не в логике, иначе говоря, в философии, но
в некотором вписанном описании, во вписывании отно-
шений философии и не-философского, в чем-то вроде
неслыханной графики, внутри которой философия обла-
дала бы лишь одной частной функцией.
Добавим, чтобы отнестись к нему со всей возмож-
ной справедливостью, что Кьеркегор кое-что понимал в
отношениях с неуничтожимостью Совсем-Другого, при-
чем не в посюстроннем пространстве эгоизма и эстетики,
а в религиозной потусторонности, на стороне Авраама.
Поскольку же надо дать слово Другому, разве он не ви-
дел в Этике, моменте Категории и Закона, забвение в бе-
зымянности субъективности и религии? На его взгляд,
этический момент — это гегельянство, и он это даже так
прямо и говорит. Что не мешает ему повторно переосно-
вать этику и упрекнуть Гегеля в том, что он не построил
мораль. В левинасовском смысле Этика — это Этика без
закона, без понятия, которая может сохранить свою чис-
тоту ненасилия только до своего определения в поняти-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
ях и законах. Мы не пытаемся выдвинуть некие возраже-
ния: не будем забывать, что Левинас не собирается пред-
лагать нам законы или моральные правила, он желает
определить не какую-нибудь одну мораль, но сущность
морального отношения вообще. Это определение, впро-
чем, не дано как теория Этики, речь, скорее, идет об Этике
Этики. В данном случае важно то, что она не могла бы
дать место какой-нибудь одной определенной этике, оп-
ределенным законам, не отрицая и не забывая сама себя.
Впрочем, располагается ли эта Этика Этики по ту сторо-
ну от всякого закона? Не является ли она Законом зако-
нов? Связностью, разрывающей связность речи, направ-
ленной против связности? Бесконечным понятием,
скрытым в протесте против понятия?
Если сближение с Кьеркегором, несмотря на все пре-
достережения Левинаса, столь часто влекло нас, мы все-
таки ощущаем, что по своей сущности и в своем первона-
чальном вдохновении его протест против гегельянства
чужд протесту Кьеркегора. Зато столкновение мысли
Левинаса с антигегельянством Фейербаха и, в особенно
сти, Ясперса, так же как и с антигуссерлианством послед-
него, должно было бы, как нам кажется, открыть более
глубокое их сходство и родство, чем это можно было за-
ключить из размышления о Следе. Мы говорим о сходст-
вах и родственных чертах, а не о влиянии, потому что,
во-первых, философский смысл понятия «влияние» нс
представляется нам ясным, а во-вторых, потому что, на-
сколько нам известно, Левинас нигде не дает ссылок ни
на Фейербаха, ни на Ясперса.
Но почему же тогда, пытаясь осуществить столь
сложный переход по ту сторону этого спора — являю-
щегося одновременно и заговором — между классиче-
ским гегельянством и антигегельянством, Левинас, одна-
ко, обращается к категориям, которые, казалось, уже
были им отклонены?
Мы не собираемся разоблачать здесь расхождения в
языке или противоречие системы. Мы задаем себе вопрос,
касающийся одной необходимости: необходимости уже
располагаться в традиционной понятийной системе,
чтобы ее разрушать. Почему в конечном счете эта необ-
ходимость налагается и на Левинаса? Является ли она
внешней? Затрагивает ли она лишь инструмент, лишь «вы-
ражение», которое можно было бы поставить в кавычки?
Или же в ней скрывается некий непредвиденный и неунич-
тожимый ресурс греческого логоса? Некая неограничен-
ная сила охвата, которой уже был бы схвачен тот, кто
желал бы ее оттолкнуть.
В. В тот же самый период Левинас отказался от по-
нятия «внешности*. Оно отсылало к освещенному един-
ству пространства, нейтрализуя радикальную ина-
ковость, то есть отношение к другому, отношение
Мгновений друг к Другу, отношение к смерти, а все они
не являются отношением Внутреннего ко Внешнему. «От-
ношение к другому — это отношение к Тайне. Его внеш-
ность или, скорее, инаковость, ибо внешность — это свой-
ство пространства, возвращающее субъекта через свет к
самому себе, составляет все его бытие» (СД). Но «Тоталь-
ность и бесконечность», носящая подзаголовок «Очерк
о внешности», не только обильно использует понятие
внешности. Левинас также собирается при этом показать,
что настоящая внешность непространственна, то есть
абсолютная, бесконечная внешность — это внешность
Другого, которая уже не относится к пространству, по-
тому что оно есть место Тождественного. А это значит,
что Место — это всегда место Тождественного. Но по-
чему тогда все еще нужно использовать понятие «внеш-
ности» (которое, если только оно — не алгебраический
х, упрямо отсылает к пространству и свету), чтобы обо-
значать непространственное отношение? А если всякое
отношение пространственно, то зачем все еще обозначать
в качестве (непространственного) «отношения» уваже-
ние, высвобождающее другого? Почему необходимо вы-
черкивать это понятие внешности, не стирая его полно-
стью, не делая его нечитаемым, говоря, что его истина —
это не-истина, что настоящая внешность не относится к
пространству, то есть не является внешностью? То, что
необходимым оказывается выражение на языке тоталь-
ности самого исхода бесконечного из этой тотальности,
высказывание Другого на языке Тождественного, мыш-
ление настоящей внешности как пе-внешности, то есть
посредством все той же структуры Внешнего-Внутрен-
него; то, что приходится ютится в развалившихся мета-
форах, одеваться в лоскуты традиции и сети дьявола —
все, быть может, говорит за то, что нет ни одного фило-
софского дискурса, который не должен был бы вначале
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
переселиться в структуру Внутреннего-Внешнего. Это
перемещение из места в Место, в саму пространствен-
ность, эта метафора единородны философскому дискур-
су. Прежде чем стать риторическим приемом, метафора
является возникновением самого языка. А философия —
это и есть этот язык; в лучшем случае, она не может ни-
чего, кроме как говорить на этом языке (в некотором
странном смысле самого этого выражения), высказывать
саму метафору, то есть мыслить ее в молчаливом гори-
зонте не-метафоры, Бытия. Таково пространство как
рана и конечность рождения (конечность всякого рож-
дения), без которого язык не мог бы вообще быть откры-
тым, без которого нельзя было бы говорить ни о истин-
ной, ни о ложной внешности. Следовательно, можно,
используя слова традиции, изнашивая их, стирая их как
вышедшую из употребления старую обесцененную моне-
ту, можно говорить, что настоящая внешность — это не-
внешность, не являющаяся и внутренним, можно писать
вычеркиваниями и вычеркиваниями вычеркиваний, но
вычеркивание пишет, по-прежнему рисует в пространст-
ве. Нельзя стереть синтаксис Места, архаическая надпись
которого не написана на металле языка: она и есть сам
этот металл, его слишком непрозрачная устойчивость и
его слишком светоносный блеск. Язык — сын земли и
солнца: письмо. Тщетно пытаться лишить его внешности
и внутреннего, лишить лишения, просто забывая такие
слова, как «вне» и «внутри», «внешнее» и «внутреннее»,
декретом поставить их вне закона; все равно мы не на-
шли бы языка без разрыва пространства, некоего воздуш-
ного или водного языка, в котором, впрочем, инаковость
была бы еще вернее потеряна. Ведь значения, которые
лучами расходятся от «Внутреннего и Внешнего», «Све-
та и Ночи » обитают не только в запрещенных словах; они
помещены — сами по себе или через представительство —
в сердцевине самой понятийной системы. Это обуслов-
лено тем, что все эти значения не указывают на рассея-
ние в пространстве. Структура Внешнего-Внутреннего
или Дня-Ночи не имеет никакого смысла в чистом, пре-
доставленном самому себе и дезориентированном про-
странстве. Эта структура возникает только исходя из
включенного начала, вписанного ориентира, который ни
в самом пространстве, ни вне его. Этот текст взгляда яв-
ляется также и текстом слова. Следовательно, его мож-
но назвать Лицом. Но тогда уже не стоит продолжать
надеяться на возможность отделить язык от простран-
ства, оставить в языке пустое место после пространства
или же укрыть слово от света, говорить, пока Рука при-
крывает Славу. Ни к чему было бы изгонять то или иное
слово («внутри», «вне», «внешнее», «внутреннее» и т.д.),
сжигать или заключать слова света, поскольку язык все-
гда пробуждается как падение в свет. Или, если угодно,
язык встает вместе с восходом Солнца. Даже если «Солн-
це не именовано... его сила среди нас» (Св. Иоанн Пер-
сидский). Говорить, что бесконечная внешность другого
не относится к пространству, является некоей «^-внеш-
ностью и «^-внутренностью, указывать на нее только не-
гативным путем — не значит ли это признать, что беско-
нечное (уже негативно задаваемое в своей актуальной
позитивности — бес-конечное) не выражается? Или, что
то же самое, признать, что структура «внешнего-внут-
реннего », являющейся самим языком, отмечает исходную
конечность слова и того, что может прийти к слову? Ни-
какой философский язык никогда не сможет уничтожить
эту естественность пространственного праксиса в язы-
ке; в таком случае, необходимо было бы продумать то,
что Лейбниц различал терминами «гражданского языка »
и «ученого» или философского языка. Более терпеливо
продумать этот неуничтожимый, несмотря на все рито-
рические усилия философов, заговор между языком по-
вседневной жизни и философским языком, или же меж-
ду последним и некоторыми историческими языками.
Некоторая неискоренимая натуральность, некоторая
прирожденная наивность философского языка могла бы
быть показана на всех спекулятивных понятиях (исклю-
чая, конечно, эти не-понятия, которыми являются имя
Бога и глагол Быть). Философский язык принадлежит к
системе языка (языков). Из-за такого неспекулятивного
родства в философский язык всегда привносится неко-
торая двусмысленность. Поскольку она является врож-
денной и неотделимой, необходимо, быть может, чтобы
философия приняла эту двусмысленность, помыслила ее
и в ней, приняла раздвоенность и различие в спекуляцию,
в саму чистоту философского смысла. Нам кажется, что
никто глубже Гегеля не попытался этого сделать. Тогда
Для каждого понятия необходимо было бы проделать —
не пользуясь наивно категориями удачи, счастливого
предназначения или случайной встречи — то, что было
им проделано для немецкого понятия Aufheburig, дву-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
смысленность и сам факт присутствия которого в немец-
ком языке расценивается Гегелем, как отрадные: «Auf-
heben обладает в языке двойным смыслом — смыслом со-
хранения, сбережения и прекращения, полагания конца.
Впрочем, сохранение имеет негативное значение... Лекси-
чески эти два определения Aufheben могут рассматриваться
как два значения слова. Замечательно то, что язык сам по
себе пришел к использованию одного и того же слова для
двух противоположных значений. Спекулятивная мысль
рада (курсив наш. — Ж.Д.) обнаружить в языке слова, ко-
торые уже сами по себе обладают спекулятивным смыс-
лом, а таких слов немало в немецком языке» («Наука ло-
гики», 1, 93-94). В «Лекциях по философии истории»
Гегель отмечает также, что «в нашем языке » единство двух
значений (historia rerum gestarum и res gesta) в слове Ge-
schichte — это не «простая внешняя случайность».
Если, поэтому, я могу указать на несводимую (бес-
конечную) инаковость другого только через отрицание
пространственной (конечной) внешности, то, возможно,
это означает, что ее смысл конечен, а не позитивно бес-
конечен. Бесконечно другой, бесконечность Другого —
это не Другой как позитивная бесконечность, Бог или
подобие Богу. Бесконечно другой не был бы тем, что он
есть, другим, если бы он был позитивной бесконечностью
и если бы он не сохранял в себе негативности бес-конеч-
ности,аяе1роу. Не означает ли «бесконечно другой» пер-
во-наперво то, до конца чего я не могу дойти, несмотря
на неограниченную работу и опыт? Можно ли уважать
Другого как Другого и в то же время изгонять из транс-
ценденции негативность и работу, как того желал Леви-
нас? Позитивно Бесконечное (Бог), если только такое
выражение вообще имеет смысл, не может быть беско-
нечно другим. Если думать, как Левинас, что позитивно
Бесконечное допускает и даже требует бесконечной ина-
ковости, тогда нужно отказаться от всего языка и преж-
де всего от слов «другой» и «бесконечный». В бесконеч-
ном слышится Другой лишь в форме «бес-конечного».
Как только мы пожелаем помыслить Бесконечное как по-
зитивную полноту (полюс не-негативнойтрансценденции
Левинаса), Другой становится немыслимым, невозмож-
ным и невысказываемым. Быть может, именно к этому
немыслимому-невозможному-невысказываемому и зо-
вет нас Левинас по ту сторону от Бытия и Логоса (тради-
ции). Но этот призыв должен не иметь возможности ни
мыслиться, ни высказаться. Во всяком случае, тот факт,
что позитивная полнота классического бесконечного не
может выражаться в языке, не предавая саму себя, пока-
зывает точку, в которой мысль наиболее глубоким обра-
зом рвет с языком. В разрыве, который затем распростра-
нится на весь язык. Вот почему современные течения
мысли, которые не желают более ни различать, ни под-
чинять друг другу мысль и язык, являются, конечно, мыс-
лью изначальной конечности. Но и им самим следовало
бы тогда выбросить слово «конечность», навсегда заклю-
ченное в классической схеме. Но возможно ли это? И что
значило бы выбросить классическое понятие?
Другой может быть тем, что он есть, только в моей и
его смертности и конечности. То есть, начиная с того са-
мого момента, когда он приходит к языку, если только
слово «другой» вообще имеет смысл, — но разве сам Ле-
винас не учил нас тому, что нельзя мыслить до языка? Вот
почему наши вопросы, конечно, гораздо меньше смутили
бы какую-нибудь классическую философию бесконечно-
сти, например, картезианскую, жестко разделявшую
мысль и язык, поскольку язык никогда не идет так же
быстро и так же далеко, как мысль. Эти вопросы не толь-
ко смутили бы ее меньше, но это были бы просто ее во-
просы. Поставим их иначе: стремиться нейтрализовать
пространство в описании другого, дабы освободить его
позитивную бесконечность — не значит ли это нейтра-
лизовать существенную конечность лица (взгляда-слова),
которое есть, как настаивает Левинас, тело, а не телес-
ная метафора бесплотной мысли? Тело, то есть опять же
внешность, определенность места — в абсолютно бук-
вальном значении этого слова; конечно, как начальная
точка, начало пространства, но начало, которое не имеет
никакого смысла до того, началом чего оно является, ко-
торое не может быть отделено от него, от пространства,
которое им порождается и направляется — таково впи-
санное начало. Вписывание — это написанное начало:
прочерченное и вписанное в систему, в фигуру, которой
оно больше не управляет. Иначе не было бы вообще ни-
какого собственного тела. И если бы лицо Другого не
было бы таким же неотменимым образом пространст-
венной внешностью, пришлось бы снова проводить раз-
личие между словом и мыслью, душой и телом или, того
лучше, между настоящим, непространственным лицом и
его маской или метафорой, пространственным изображе-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
нием. Тогда рухнула бы вся Метафизика Лица. Повто-
рим, что такие вопросы могли бы быть поставлены как
классической философией конечности (предполагающий
дуализм мысли и языка, так же как и дуализм тела и души),
так и самой современной мыслью о конечности. Этот
странный союз в вопросе означает, возможно, что в фи-
лософии и в языке, в философском дискурсе (если толь-
ко предполагать, что есть еще какой-то другой), нельзя
одновременно отстаивать тему позитивной бесконечно-
сти и тему лица (то есть неметафорического единства
тела, взгляда, слова и мысли). Нам кажется, что это един-
ство лица может мыслиться только в горизонте беско-
нечной (или неопределенной) инаковости как обязатель-
но общем горизонте Смерти и Другого. Горизонте
конечности и конечности горизонта.
Все это верно, повторим, для философского дискур-
са, в котором мысль самой смерти (неметафорической
смерти) и позитивной бесконечности никогда не могли
сойтись. Если лицо — это тело, то оно смертно. Беско-
нечная инаковость как смерть не может примириться с
бесконечной инаковостью как позитивностью и присут-
ствием (Бога). Метафизическая трансценденция не может
быть одновременно трансценденцией к Другому как
Смерти и Другому как Богу. Если только Бог не означает
Смерти, что в конечном счете всегда исключалось усилия-
ми одной только классической философии, внутри кото-
рой мы понимаем его как Жизнь и Истину Бесконечного
и Позитивного Присутствия. Но что означает это исклю-
чение, если не исключение всякого частного определения?
Что Бог — это ничто, никакая не жизнь, потому что он —
все, то есть одновременно и Все, и Ничто, Жизнь и
Смерть? А это означает, что Бог есть или является, име-
нуется, в различии между Всем и Ничем, Жизнью и Смер-
тью. В различии и как само это Различие. Это различие —
то, что называется Историей. И Бог в нее вписан.
Можно возразить, сказав, что Левинас выступает как
раз против этого философского дискурса. Но в этой битве
он уже лишился самого лучшего оружия — презрения к
речи. В самом деле, сталкиваясь с классическими труд-
ностями, о которых мы упомянули, Левинас не может
воспользоваться классическими ресурсами. В схватке с
проблемами, которые были проблемами и негативной тео-
логии, и бергсонианства, он не дает себе права, подобно
им, говорить на языке, заранее покорившемся собствен-
ному провалу. Негативная теология высказывалась в сло-
ве, которое знало себя как падшее, конечное слово, при-
ниженное по отношению к логосу как разуму Бога. Тем
более не было речи о Разговоре с Богом с глазу на глаз, в
объединенном дыхании двух слов, свободных, несмотря
на униженность и высоту, прервать и снова начать речь.
Аналогичным образом, у Бергсона также было право объ-
явить об интуиции длительности и разоблачить захвачен-
ность разума пространством, говоря на языке, отвратив-
шемся от пространства. Речь шла не о том, чтобы спасти,
но о том, чтобы разрушить дискурс в «метафизике », «нау-
ке, которая собирается обойтись без символов» (Берг-
сон). Столкновение враждебных метафор методически
использовалось в этом языке и приглашало к молчали-
вой метафизической интуиции. Поскольку язык был оп-
ределен как исторический остаток, вполне последова-
тельным шагом было использовать его с грехом пополам,
чтобы разоблачить его предательство и затем бросить как
недостаток, риторический отброс, как потерянное для
метафизики слово. Подобно негативной теологии, фи-
лософия интуитивного соединения давала право (а име-
ла ли она право дать это право — это уже другой вопрос)
пройти через весь философский дискурс как через чуж-
дую стихию. Но что же получается, когда мы больше не
располагаем таким правом, когда возможность метафи-
зики — это и есть возможность слова? Когда метафизи-
ческая ответственность — это ответственность языка,
поскольку «мысль состоит в том, чтобы говорить» (ТБ),
а метафизика — это язык с Богом? Как мыслить Другого,
если он высказывается только как внешность и через
внешность, то есть как не-инаковость? Если слово, кото-
рое должно учредить и поддержать абсолютное разли-
чие, по своей сущности укоренено в пространстве, не ве-
дающем абсолютного разделения и инаковости? Если, как
говорит Левинас, только дискурс может быть справед-
ливым, и если, с другой стороны, всякий дискурс по сво-
ей сущности удерживает в себе пространство и Тожде-
ственное, не значит ли это, что дискурс прирожденно
насильственен? Что война обитает в философском лого-
се, в котором только и может быть, однако, объявлен мир?
Различие между дискурсом и насилием30 будет в таком
случае лишь недостижимым горизонтом. Ненасилие —
телосом, а не сущностью дискурса. Нам могут возразить,
что у такой вещи, как дискурс, сущность в телосе, при-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
сутствие настоящего — в будущем. Конечно, но только
при условии, что его телос и будущее — это не-дискурс,
то есть мир как некоторое молчание, та сторона слова,
его особая возможность и горизонт тишины. Телос же
всегда обладал формой присутствия, хотя бы и будуще-
го. Итак, война появляется лишь с открытием дискурса и
затухает только после его кончины. Мир как молчание —
это странное призвание языка, вызванного собой вне
себя. Но поскольку конечное молчание — это тоже эле-
мент насилия, язык может лишь бесконечно долго стре-
мится к справедливости, ведя внутри себя нескончаемую
войну. Насилие против насилия. Экономия насилия. Эко-
номия, которая не может быть сведена к тому, что под
этим словом понимает Левинас. Если свет — это стихия
насилия, то нужно биться против света посредством не-
коего другого света, дабы избежать худшего насилия,
насилия ночи и молчания, предшествующих речи и ее по-
давляющих. Это бодрствование является чем-то вроде
насилия, выбранного философией как наименьшее, при-
чем философией, которая всерьез относится к истории,
то есть конечности; философией, которая с начала и до
конца (в смысле, который не допускает ни конечной то-
тальности, ни позитивной бесконечности) признает свою
историчность, признает себя, как в несколько ином
смысле говорит Левинас, экономией. Но той экономией,
которая, чтобы быть историей, вынуждена чувствовать
себя как не у себя дома и в конечной тотальности, назы-
ваемой Левинасом Тождественным, и в позитивном при-
сутствии Бесконечного. Слово — это, несомненно, пер-
вое поражение насилия, но, парадоксальным образом,
само насилие не существовало до возможности слова.
Философия (человек) должна говорить и писать во время
этой войны света, в которую, как ей известно, она уже
ввязалась, и от которой можно было бы уклониться, лишь
отрицая дискурс, то есть идя на риск худшего насилия.
Вот почему это объявление или признание войны в речи,
признание, которое еще не есть мир, оказывается проти-
воположностью проповеди войны, для которой полити-
ка миролюбия в истории — и кто мог показать это луч-
ше Гегеля — часто играет роль лучшего подпевалы.
В истории, от которой философия не может ускольз-
нуть, поскольку это не история в том смысле, который
придается ей Левинасом (история как тотальность), но
история выходов и прорывов из тотальности, история как
само движение трансценденции, ускользания от тоталь-
ности, без которого не могла бы в свою очередь появится
ни одна тотальность. История — это не тотальность,
трансцендируемая эсхатологией, метафизикой или сло-
вом. Она и есть сама трансценденция. Если слово — это
движение метафизической трансценденции, то оно явля-
ется историей, а не ее послесловием. Сложно было бы
мыслить начало истории в полностью завершенной то-
тальности, так же как, впрочем, в совершенно позитив-
ном бесконечном. Если в этом значении движение мета-
физической трансценденции — это история, то оно
обязательно будет насильственным, поскольку, как гла-
сит вполне правомочная очевидность, которой постоян-
но вдохновлялся Левинас, история — это насилие. Мета-
физика — это экономия: насилие против насилия, свет
против света: такова философия вообще. О которой мож-
но сказать, несколько изменяя мысль Клоделя, что все в
ней «как будто бы рисуется на свете более густым све-
том, подобно тому, как воздух становится инеем». Это
становление — это и есть война. Эта полемика — сам
язык. Его вписывание.
О трансцендентальном насилии
Итак, не имея возможности ускользнуть от насле-
дия света, метафизика всегда предполагает феноменоло-
гию, критикуя ее, в особенности, если метафизика, как в
случае с Левинасом, желает быть речью и наставлением.
А. Представляет ли метафизика эту феноменоло-
гию только в качестве метода, техники, в узком смысле
этих слов? Нет сомнения, что, отбрасывая большую
часть прямых результатов гуссерлевского исследования,
Левинас дорожит наследием самого метода: «...Пред-
ставление и развитие использованных понятий всем обя-
зано феноменологическому методу» (ТБ, ТС). Но разве
представление и развитие понятий — это лишь одежды
мысли? Можно ли позаимствовать метод как простое
орудие? Разве сам Левинас не утверждал тридцать лет
назад, идя вслед за Хайдеггером, что метод вообще не-
возможно изолировать? Метод всегда скрывает, и в осо-
бенности в случае Гуссерля, «предвосхищение понима-
ния “смысла” бытия, к которому подступаешься» (ТИ).
Левинас писал тогда: «...Следовательно, в нашем изло-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
жении мы не сможем отделить теорию интуиции как
философский метод от того, что называют онтологией
Гуссерля» (ТИ).
Но то, к чему в своем последнем основании открыто
отсылает этот феноменологический метод — это, как
можно было бы весьма легко показать, само решение за-
падной философии, выбирающей себя после Платона в
качестве науки и теории, то есть как раз то, что Левинас
хотел бы поставить под вопрос путем и методами самой
феноменологии.
В. Из «главного наставления Гуссерля» (ТБ) Леви-
нас собирается извлечь, кроме метода, не только гибкость
и требовательность описаний, верность смыслу опыта, но
и само понятие интенциональности. Интенциональности,
расширенной за свои теоретические и репрезентативист-
ские пределы, за ноэтико-ноэматическую структуру,
ошибочно признанную Гуссерлем в качестве первичной.
Подавление другого будто бы помешало Гуссерлю под-
ступиться к подлинной глубине интенциональности как
желания и трансценденции к другому, находящемуся по
ту сторону феномена и бытия. Это подавление произво-
дится двумя разными способами.
Во-первых — через значение «соответствия», аде-
кватности. Теоретическое усмотрение и интуиция, по
Гуссерлю, вроде бы, оказываются соответствием. А со-
ответствие интериоризирует и исчерпывает всякое на-
стоящее расстояние и всякую настоящую инаковость.
«В самом деле, усмотрение по своей сущности является
соответствием внешнего внутреннему: внешнее поглоща-
ется в созерцающей душе, открываясь в качестве адекват-
ной идеи как данный a priori результат Sinngebung’ а»
(ТБ). Таким образом, «интенциональность, в которой
мысль остается соответствием объекту, не определяет
сознания... на его глубинном уровне». Конечно, в тот са-
мый момент, когда Левинас говорит об интенционально-
сти, Гуссерль не упомянут, так что можно было бы поду-
мать, что под выражением «интенциональность, в которой
мысль остается соответствием,..» он подразумевает «та-
кую интенциональность, что...» или «интенциональность,
в которой, однако...» и т.д. Но в контексте других отрыв-
ков ссылка на Sinngebung дает ясно понять, что Гуссерль,
в прямом значении своих текстов, не смог признать того,
что «всякое знание как интенциональность уже предпо-
лагает идею бесконечности, несоответствия по пре-
имуществу» (ТБ). Таким образом, даже если предполо-
жить, что Гуссерль предчувствовал существование беско-
нечных горизонтов, выходящих за пределы объективности
и интуиции соответствия, он, если придерживаться буквы
его текстов, истолковал их как «мысли, направленные на
объекты»: «Какое имеет значение то, что в буквально по-
нятой гуссерлевской феноменологии эти непредвиденные
горизонты тоже интерпретируются как мысли, направлен-
ные на объекты!» (см. выше).
Во-вторых, если гуссерлевское Когито и открыто в
бесконечность, то по Левинасу это бесконечное оказыва-
ется бесконечным объекта, бесконечным без инаковости,
ложно-бесконечным: «Если Гуссерль видит в Когито
субъективность безо всякой опоры вне ее, он конституи-
рует идею самой бесконечности и предоставляет ее себе в
качестве объекта». «Ложно-бесконечное» —это гегелев-
ское выражение, никогда не используемое Левинасом
только, наверное, потому что оно гегелевское, но, как нам
кажется, это выражение преследует множество разобла-
чительных жестов «Тотальности и бесконечности». Как и
для Гегеля, для Левинаса «ложно-бесконечное » оказыва-
ется неопределенным, негативной формой бесконечного.
Но поскольку он мыслит настоящую инаковость как не-
негативность (не-негативная трансценденция), он может
из другого сделать истинное бесконечное, а из тождест-
венного (в некоем странном заговоре негативности) —
ложно-бесконечное. Гегелю (а вместе с ним и всей мета-
физике, раскрывающейся и продумывающейся в нем) это
показалось бы абсолютно бессмысленным: как отделить
инаковость от негативности, инаковость от «ложно-бес-
конечного»? Как истинно бесконечное не могло бы быть
тождественным? Или, обратно, как абсолютно тождест-
венному не быть бесконечным? Если бы тождественное, как
говорит Левинас, было тотальностью насилия, то это
означало бы, что это конечная тотальность, то есть абст-
рактная, то есть отличная от иной, другая другой и т.д.
Тождественность как конечная тотальность была бы в
таком случае не тождественностью, а другим. Можно
подумать, что Левинас под именем тождественного гово-
рит о другом, под именем другого — о тождественном и
т.д. Если бы конечная тотальность была тождественной,
она не могла бы высказываться и мыслиться как таковая
без того, чтобы не стать другой по отношению к себе
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
(такова форма войны). Если бы она этого не сделала, она
не смогла бы ни начать воевать с другими (конечными
тотальностями), ни быть насильственной. Не будучи
насильственной, он не была бы и тождественным в леви-
насовском смысле (конечной тотальностью). Вступая в
войну — а война существует, — она, конечно, мыслится как
другой другого, то есть она подступается к другому как
другая (самость). Но, повторимся, она уже не является
тотальностью, как ее понимает Левинас. Можно ли в этом
языке, единственном языке западной философии, не
повторить гегельянства, являющегося не чем иным, как
самим этим языком, достигающим полного самообладания?
При таких обстоятельствах единственным действен-
ным средством, не дающим увлечься Гегелем, представ-
ляется нам в данный момент следующее: признать неот-
менимость (в глубинном смысле изначальной конечности)
ложно-бесконечного. В сущности, это, быть может, и
делает Гуссерль, показывая необходимость интенцио-
нальной незавершенности и невозможность для созна-
ния, поскольку оно всегда является «сознанием-о », стать
самосознанием, вернуться к себе в некоем пришествии
абсолютного знания. Но можно ли высказаться о лож-
но-бесконечном, можно ли его помыслить как таковое (то
есть в его слове и времени), остановиться на нем как на
истине опыта, не позволяя уже (в том самом «уже», ко-
торое дает мыслить время!) предвосхищаться, представ-
ляться, мыслиться и высказываться истинно бесконеч-
ному, требующему своего признания? То, что называется
философией, пусть она и не является всей мыслью вооб-
ще, не может ни мыслить, ни даже просто выбрать лож-
ное, не воздав почести превосходству и старшинству
истинного (такое же отношение между другим и тожде-
ственным). В этом последнем вопросе, который мог бы
быть и вопросом Левинаса к Гуссерлю, обнаруживается,
что, как только он начинает выступать против Гегеля,
Левинас лишь подтверждает его, уже подтвердив.
Но есть ли тема — если взять ее во всей ее строгости
и буквальном значении, — более близкая Гуссерлю, не-
жели тема несоответствия? Бесконечного превосхожде-
ния горизонтов? Кто больше, чем Гуссерль, упрямо стре-
мился показать, что интуиция изначально и по своей
сущности является несоответствием внешнего внутрен-
нему? Что восприятие трансцендентной протяженной
вещи по своему существу всегда остается незавершенным?
Что внутреннее восприятие осуществляется в бесконеч-
ном потоке переживаний (см., например, «Идеи I», § 83 и
далее)? А потом, кто же лучше самого Левинаса научил
бы нас понимать все эти гуссерлевские темы? Речь, таким
образом, идет не о том, чтобы напомнить об их сущест-
вовании, а о том, чтобы спросить себя, действительно ли
Гуссерль в конечном счете снял несоответствие и свел
бесконечность горизонтов опыта к условиям существо-
вания объектов, данных в наше распоряжение. Тогда ле-
винасовское обвинение сосредотачивалось бы на этом
вторичном истолковании.
В такой расклад нам верится с трудом. В двух интен-
циональных направлениях, о которых мы только что го-
ворили, Идея в кантовском смысле указывает на беско-
нечное превосхождение горизонта, который в силу
существенной, абсолютно принципиальной и неотмени-
мой необходимости сам никогда не сможет стать объек-
том, выполниться в какой-нибудь интуиции объекта и
сравняться с ней. Даже если это интуиция или созерца-
ние Бога. Сам горизонт не может быть объектом, по-
скольку он является необъективируемым источником вся-
кого объекта вообще. Невозможность соответствия столь
радикальна, что нет даже никакой необходимости в том,
чтобы изначалъность и аподиктичность очевидностей
были соответствиями (см., например, «Идеи» I, § 3, «Кар-
тезианские медитации», § 9 и далее). (Что не подразуме-
вает, конечно, того, что Гуссерлю были вообще неведомы
частные и частным образом обоснованные очевидности
соответствия.) Значение понятия горизонта как раз и за-
ключается в том, что он не может быть превращен в объ-
ект какого бы то ни было конституирования, поскольку
работу по объективации он делает бесконечной. Как нам
представляется, гуссерлевское Когито не конституирует
идею бесконечности. В феноменологии никогда не было
конституирования горизонтов, но только горизонты кон-
ституирования. Если же гуссерлевский горизонт обладает
формой неопределенного открытия, если он, не подра-
зумевая никакого возможного завершения, дан для не-
гативности конституирования (работы объективации),
разве тогда все это не предохраняет его самым лучшим
образом от всякой тотализации, иллюзии непосредствен-
ного присутствия полноты бесконечного, в которой дру-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
гой становится тотчас же необнаружимым? Если созна-
ние бесконечного несоответствия бесконечному (но и
конечному) свойственно мысли, заботящийся об уваже-
нии внешнего, то трудно усмотреть, как, по меньшей мере
в этом конкретном пункте, Левинас мог бы разойтись с
Гуссерлем. Разве не является сама интенциональность
таким уважением? Вечной несводимостью другого к тому
же самому, но другого, как являющегося другим тому же
самому? Ведь без этого явления другого как другого не
было бы вообще никакого возможного уважения. Фено-
мен уважения предполагает уважение к феноменально-
сти. А этика — феноменологию.
В этом смысле, феноменология — это само уваже-
ние, его развитие и становление языком. Вот что подра-
зумевал Гуссерль, утверждая, что разум не может быть
разделен на теоретический, практический и т.д. (цитиро-
вано выше). Это не значит, что уважение как этика про-
изводно от феноменологии, что оно предполагает ее как
свою предпосылку, как высшую и главенствующую цен-
ность. Предположение феноменологии относится к осо-
бому порядку. Сама она ничему не приказывает в мир-
ском (реальном или политическом) смысле приказания.
Более того, она является нейтрализацией такого типа
приказов. Причем нейтрализует она их не для того, что-
бы затем заменить иными. По своей сущности она чура-
ется всякой иерархии. Это значит, что этика не только не
растворяется в феноменологии и не подчиняется ей, но —
как раз наоборот — обнаруживает в ней свой собствен-
ный смысл, свою свободу и радикальность значения. Но
то, что темы не-присутствия (темпорализации и инако-
вости) противоречат тому, что делает из феноменологии
метафизику присутствия, постоянно прорабатывая ее —
все это кажется нам неоспоримым, и к этому мы обра-
тимся далее.
С. Быть может, у Левинаса больше прав разойтись с
Гуссерлем по поводу первенства теории и примата соз-
нания объекта? Не будем забывать, что «примат», о ко-
тором здесь идет речь, является приматом объекта и объ-
ективности вообще, В таком случае, феноменология
вообще не принесла бы ничего неизвестного, если бы ей
не удалось бесконечно расширить, обновить и сделать бо-
лее гибким понятие объекта вообще. Предельная инстан-
ция очевидности открыта бесконечности, то есть всем
типам возможных объектов, всякому мыслимому, то есть
присутствующему для сознания вообще смыслу. Никакая
речь (например, речь «Тотальности и бесконечности»,
желающая пробудить этические очевидности к их пол-
ной независимости) не имела бы смысла, не могла бы
мыслиться и пониматься, если бы она не черпала в этом
слое феноменологической очевидности вообще. Для того,
чтобы Гуссерль оказался прав, достаточно, чтобы этиче-
ский смысл просто был мыслим. Когда речь идет об эти-
ке, трансценденции, бесконечности и т.д., уже предпола-
гаются не только некоторые номинальные определения,
но и предшествующие им сущностные возможности,
управляющие понятиями. Упомянутые выражения долж-
ны обладать определенным смыслом для конкретного
сознания вообще, иначе никакая речь и никакая мысль не
будут возможны. Эта область абсолютно «предшествую-
щих» очевидностей и есть область трансцендентальной
феноменологии, в которой укоренена феноменология
этики. Эта укорененность не реальна, не обозначает ни-
какой реальной зависимости, так что было бы бессмыс-
ленно укорять трансцендентальную феноменологию в
том, что она в действительности бессильна породить
этические ценности и нормы поведения (или же, что в
общем означает то же самое, отменить те или иные цен-
ности и нормы). Поскольку всякий определенный мыс-
лимый смысл, всякая ноэма (например, ноэма смысла эти-
ки) предполагают возможность ноэмы вообще, начало по
праву относится к феноменологии. Все по праву начина-
ется с общей возможности ноэмы, которая, еще раз на-
помним этот решающий пункт, для Гуссерля не есть ре-
альный (reell) момент, не обладает, следовательно,
никаким реальным отношением ко всему, чему угодно, по-
скольку все остальное может быть мыслимо только в сво-
ей ноэматичности. Это, в частности, означает, что, с точ-
ки зрения Гуссерля, этика реально, в своем существовании
и истории, не могла бы быть подвергнута трансценден-
тальной нейтрализации или каким-то образом подчине-
на ей. Ни этика, ни что угодно другое в мире. Трансцен-
дентальная нейтрализация по своему смыслу исходно
чужда всякой фактичности и существованию вообще.
В Действительности она ни до, ни после этики. Ни до, ни
после всего, чего угодно.
Следовательно, можно говорить, сохраняя всю их
оригинальность, об этической объективности, этических
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
ценностях и императивах как объектах (ноэмах), не сво-
дя их объективность к той, что ошибочно (но это не ошиб-
ка Гуссерля) выставляет себя в качестве образца для обы-
денного представления объективности (теоретической,
политической, технической, природной и т.д.). На самом
деле есть два значения теоретического: обыденное зна-
чение, на которое по преимуществу и нацелен протест
Левинаса, и более скрытое, в котором подразумевается
явление вообще и в том числе явление не-теоретического
(в первом смысле). В этом втором смысле феноменоло-
гия — это, конечно, обращенность к теории, но в той лишь
мере, в какой всякая мысль и всякий язык по праву и на
деле завязаны на такую обращенность. Феноменология
меряет эту меру. Я знаю только посредством теоретиче-
ского знания вообще, каков смысл не-теоретического
(например, этики и метафизики в их левинасовском зна-
чении) как такового, я с уважением отношусь к нему, как
оно есть в его смысле. У меня есть взгляд, чтобы признать
то, что не выглядит для самого себя как вещь, покров или
2 теорема. Я обладаю взглядом на само лицо.
s
D. Но, конечно, главное несогласие между Левинасом
£ и Гуссерлем проходит не по этим пунктам. Не относится
х оно и к неисторичности смысла, в которой некогда упре-
J кали Гуссерля, все еще «готовящегося удивить » нас в этом
§ вопросе (так же, как эсхатология Левинаса должная была
jj удивить нас тридцать лет спустя, начав говорить «ио ту
Т сторону тотальности или истории» (ТБ)). Этот упрек
опять же подразумевает, что тотальность конечна — хотя
) эта посылка сама по себе никак не вписана в ее понятие, —
а сама история может существовать только как конечная
g тотальность. Необходимо было бы показать, как мы пред-
? лагали ранее, что история невозможна, не имеет никакого
5 смысла в конечной тотальности, так же как она невозмож-
ен на и бессмысленна в позитивной актуальной бесконечно-
q сти, удерживаясь только в различии между тотальностью
5 и бесконечностью, что она есть то, что Левинас называет
(5 трансценденцией и эсхатологией. Система ни конечна, ни
бесконечна. В своей игре структурная тотальность ускол ь-
зает от такой альтернативы. Она ускользает от археоло-
п гии и эсхатологии, вписывая их в себя.
& Только по вопросу о другом несогласие кажется
окончательным. Мы уже видели, что, по мысли Левина-
са, Гуссерль, делая из другого в своих «Картезианских
медитациях» феномен эго, конституированный в аппре-
зентации, исходя из сферы, принадлежащей этому эго,
якобы не заметил бесконечной инаковости другого и свел
ее к тождественному. Превращать другого в alter ego —
это, как часто упоминает Левинас, сводить на нет его аб-
солютную инаковость.
а) Вначале укажем, что было бы легко показать, в
какой степени Гуссерль — и особенно в «Картезианских
размышлениях» — обнаруживает заботу, направленную
на сохранение инаковости другого во всем ее значении.
Для него речь идет о том, чтобы описать, как другой имен-
но в качестве другого представляется мне в своей неот-
менимой инаковости. Представляется, и мы увидим это
дальше, как изначальное не-присутствие. Другой в каче-
стве другого — это феномен эго, феномен некоторой не-
феноменальности, неотменимой для эго как эго вообще
(для эйдоса эго). Дело в том, что невозможно встретить
alter ego (даже в форме той встречи31, которую описыва-
ет Левинас), призреть его в опыте и языке, так, чтобы этот
другой в своей инаковости не явился для того или иного
эго вообще. Нельзя было бы ни говорить, ни обладать
каким бы то ни было смыслом совсем-другого, если бы
не было его феномена, очевидности совсем-другого как
такового. Что же касается того, что форма этой очевид-
ности и этого феномена уникальна и несводима ни к од-
ной другой, что являющееся таким образом является од-
новременно как изначальная не-феноменальность — то
кто же был чувствительнее Гуссерля ко всем этим исти-
нам? Даже если не желать и не мочь тематизировать дру-
гого, с которым — но не «о» котором — говоришь, сама
эта невозможность и этот императив могут быть темати-
зированы (как это делает Левинас) только при условии
некоторого явления другого как другого по отношению
к эго. Итак, Гуссерль говорит нам об этой системе, об
этом явлении и об этой невозможности тематизировать
личность другого. Это и есть его проблема: «Они (другие
эго) являются, однако, не простыми представлениями или
объектами, представленными мне, не синтетическими
единствами развертывающегося “во мне” процесса вери-
фикации, но именно “другими”... “субъектами, направлен-
ными на тот же самый мир”... субъектами, которые вос-
принимают мир и у которых есть поэтому опыт меня, так
Же как у меня есть опыт мира и в нем — опыт “других”»
(«Картезианские медитации », перевод Левинаса). Имен-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
но это явление другого как того, кем я никогда не смогу
быть, эта исходная не-феноменальность и исследуется
как интенциональный феномен эго.
Ь) Главное утверждение Гуссерля — а в его выделе-
нии мы полагаемся на наиболее очевидный и как правило
не подвергаемый сомнению смысл пятой из «Картезиан-
ских медитаций», общий ход который более всего напо-
минает лабиринт — касается необходимо опосредующе-
го характера интенциональности, направленной к
другому как другому. В некоторой абсолютной, оконча-
тельной и существенной очевидности очевидно, что дру-
гой как трансцендентально другой (другое абсолютное
начало и другая нулевая отметка в ориентации мира) мо-
жет быть дан мне не изначально или лично, а только по-
средством аппрезентации. Необходимость обращения к
аппрезентации, никоим образом не означая редукции че-
рез аналогизирование и уподобления другого тому же
самому, утверждает и сохраняет разделение и неумоли-
мую необходимость (не-объективного опосредования).
Если бы я не шел к другому путем аппрезентации, если
бы я достигал его непосредственно и изначально, в
молчании и через соединение с его собственными пере-
живаниями, другой перестал бы быть другим. В про-
тивоположность тому, что казалось вначале, тема пред-
ставляющего перенесения или наложения выражает
признание исходной разделенности абсолютных начал,
отношение разведенных абсолютов и ненасильственное
уважение тайны, то есть саму противоположность побе-
доносного поглощения и уподобления.
Тело, трансцендентные или природные вещи являют-
ся моему сознанию как другие вообще. Они располагают-
ся вовне, и их трансцендентность — это уже знак несво-
димой инаковости. Левинас в это не верит, а Гуссерль верит
и считает, что «другой » означает просто вещь, когда речь
идет о вещах. То есть он всерьез принимает реальность
внешнего мира. Другой знак этой инаковости вообще, раз-
деляемой вещами с другим, заключается в том, что в них
всегда остается нечто скрытое, на которое можно указать
только в антиципации, аналогии или представлении. В пя-
той из «Картезианских медитаций» Гуссерль говорит: в
какой-то мере аппрезентация по аналогии принадлежит
всякому восприятию. Но в случае другого как трансцен-
дентной вещи в принципе и a priori всегда открыта воз-
можность подлинного и полного представления скрытой
стороны. Тогда как в случае с другим такая возможность
решительно отклоняется. Инаковость трансцендентной
вещи, пусть она и неотменима, обусловлена неопределен-
ной незавершенностью моих первоначальных восприятий.
Такая инаковость, следовательно, несоразмерна со столь
же неотменимой инаковостью другого, привносящего в
измерение незавершенности (пространственное тело дру-
гого, история наших отношений и т.д.) момент более глу-
бокой не-исходности, радикальной невозможности обой-
ти вещи так, чтобы увидеть их с другой стороны. Но вторая
инаковость не могла бы возникнуть, не будь первой как
инаковости тела (а ведь другой с самого начала игры явля-
ется телом). Нужно продумать систему этих двух ина-
ковостей, из которых одна вписана в другую. Итак, ина-
ковость другого неотменима из-за двойной степени
неопределенности. Чужой является бесконечно другим,
поскольку никакое обогащение внешнего созерцания не
может показать мне субъективную сторону его пережи-
ваний — как они испытываются на его стороне, как они
проживаются им. Эти переживания никогда не будут дос-
тупны мне в оригинале, то есть как то, что mireigenes, при-
надлежит мне. Такая трансценденция не-собственного —
это уже не трансцендентность, недостижимая из-за того,
что все наброски остаются частичными: это трансценден-
ция Бесконечного, а не Тоталъности,
Левинас и Гуссерль очень близки в этом пункте. Но
признавая за этим абсолютно другим как таковым (яв-
ляющимся, как таковой) статус интенциональной моди-
фикации эго вообще, Гуссерль дает себе право говорить
о бесконечно другом как таковом, отсылает к истоку и
гарантирует обоснованность своего языка. Он описыва-
ет систему феноменальности не-феноменальности. Ле-
винас на деле тоже говорит о бесконечно другом, но,
отказываясь признавать в нем интенциональную модифи-
кацию эго — являющуюся для него тоталитарным и на-
сильственным актом, — он лишает себя самого основа-
ния и возможности собственной речи. Что позволяет ему
говорить о «бесконечно другом», если только бесконеч-
но другой не является как таковой в той зоне, которую
он называет тождественным, и которая является ней-
тральным уровнем феноменологического описания? Быть
может, возвратиться к начальной точке, от которой толь-
ко и можно затем отправляться, к интенциональному
феномену, в котором другой является как другой и вхо-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
дит в язык, во всякий возможный язык — это значит пре-
даться насилию, по крайней мере, стать его соучастником,
и дать право — в критическом смысле — фактическому
насилию; но речь тогда будет идти о некоторой неустра-
нимой зоне фактичности, зоне изначального, трансцен-
дентального, предшествующего всякому этическому вы-
бору, предположенного самим этическим ненасилием
насилия. Есть ли какой-нибудь смысл говорить о доэти-
ческом насилии? То трансцендентальное насилие, на
которое мы ссылаемся, поскольку оно связано с фено-
менальностью вообще и с возможностью языка, обнару-
живается, таким образом, в самом корне смысла и логоса
еще до того, как логос оказывается вынужденным опре-
делиться в риторике, психагогии, демагогии и т.п.
с) Левинас пишет: «Другой как другой —это не просто
alter ego. Он то, чем мне не быть» (ВД и ТБ). «Правила
приличия » и «обыденная жизнь » заставляют нас ошибоч-
но полагать, что «другой познается в симпатии как другой
я сам, как alter ego» (ВД). Этого-то как раз и не делает
Гуссерль. Он только желает признать его как другого в
форме эго, в инаковости, которая не может относиться к
вещам в мире. Если бы другой не был признан в качестве
трансцендентального alter ego, он полностью принадлежал
бы миру, а не был, как я, его началом. В этом смысле
отказываться видеть в другом эго — это с точки зрения
этики и есть жест всякого насилия. Если бы другой не был
признан как эго, рухнула бы вся его инаковость. Поэтому,
как нам кажется, невозможно без искажения его наиболее
явных и открытых намерений, предполагать, что Гуссерль
превратил другого в меня другого (в фактическом смысле
этого выражения), в реальную модификацию моей жизни.
Если бы другой был реальным моментом жизни моего эго,
если бы «включение другой монады в мою» («Картезиан-
ские медитации») было реальным, я воспринимал бы его
originaliter. Гуссерль не устает подчеркивать, что это
абсолютно невозможно. Другой как alter ego означает
другого как другого, оказывающегося несводимым к моему
эго только потому, что и он — эго, обладает формой эго.
Эго-структура другого позволяет ему говорить «эго» так
же, как и мне, поэтому-то он и является другим, а не камнем
или каким-нибудь другим бессловесным существом в моей
реальной экономии. Вот почему он является лицом, кото-
* Изначальным образом, исходно (лат). — Прим, перев.
рое может говорить со мной, слушать меня и мне приказы-
вать. Никакая асимметрия не была бы возможной без этой
не принадлежащей миру симметрии, которая, не будучи
чем-то реальным, не налагает никакого предела инаковости,
делая ее, наоборот, возможной. Эта асимметрия оказыва-
ется экономией в некоем новом значении, которое, несо-
мненно, также было бы отклонено Левинасом.
Такова, несмотря на логическую абсурдность такой
формулировки, трансцендентальная симметрия двух эм-
пирических асимметрий. Другой является для меня эго, о
котором я знаю, что он относится ко мне как к другому.
Где все эти движения описаны лучше, чем в «Феноменоло-
гии духа»? Движение трансценденции к другому, как оно
призвано Левинасом, не имело бы смысла, если оно не
заключало бы в качестве одного из своих существенных
значений то, что я, в своей самости, знаю себя как другого
для другого. Иначе «Я» (я вообще как эго-структура), не
имея возможности быть другим другого, никогда не стало
бы жертвой насилия. Тогда насилие, о котором говорит
Левинас, является насилием без жертвы. Поскольку же в
описываемой им асимметрии производитель насилия
никогда не мог бы быть самим другим, но всегда только
«Я», эго, насилие без жертвы было бы также насилием без
того, кто его учинил. Все эти утверждения можно без труда
перевернуть. При этом мы вскоре заметили бы, что если
Парменид «Поэмы » позволяет нам верить в то, что на пути
пересекающихся исторических фантазмов ему много раз
грозило убийство; белая ужасная тень, разговаривавшая с
молодым Сократом, улыбается всякий раз, когда мы
начинаем наши серьезные разговоры о разделенном бытии,
о единстве, различии, тождественном и другом. В какие
дебри ушел бы Парменид, если бы мы попытались
объяснить ему, что эго равно тождественному, а Другой
может быть тем, что он есть только как абсолютно, беско-
нечно другой, отстраненный от своего отношения с тож-
дественным! Например: 1. Бесконечно другой, сказал бы
он, может быть тем, что он есть, если только он другой, то
есть «иной чем». «Иной чем» должен быть отличным от
меня. Тогда он не отвлечен от отношения с эго. Он уже не
бесконечно или абсолютно другой. Он уже не то, что он
есть. Если бы он был отвлечен, то он был бы не Другим, а
Тем же. 2. Бесконечно другой может быть тем, что он
есть — бесконечно другим, — лишь абсолютно не будучи
тождественным. То есть, в частности, будучи отличным от
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
самого себя, будучи другим, чем я (будучи не-эго). Но если
он отличен от себя, он не есть то, что он есть. Следова-
тельно, он не бесконечно другой и т.д.
Мы считаем, что подобные упражнения по своей сущ-
ности не являются плетением словес или диалектической
виртуозностью внутри «игры Тождественного». Они оз-
начают, что выражения «бесконечно другой» или «абсо-
лютно другой» не могут быть одновременно высказаны и
продуманы; что Другой32 не может быть абсолютно внеш-
ним тождественному, не перестав быть другим, и что, сле-
довательно, тождественность — это не замкнутая в себе
тотальность, тождественность, играющая сама с собой и с
простой видимостью иного в том, что Левинас называет
экономией, трудом и историей. Как могла бы существо-
вать «игра Того Же Самого», если бы инаковость уже не
была в Тождественном, подразумевая тот смысл включе-
ния, который, несомненно, предается предлогом «в »? Если
бы не иное в тождественном, как могла бы идти «игра То-
ждественного » — как в смысле игровой деятельности, так
и в смысле смещения в работающей машине или органиче-
ской тотальности, в которой может образоваться зазор.
Можно было бы показать, что для Левинаса работа, всегда
замкнутая в тотальности и истории, на своем фундамен-
тальном уровне остается игрой. С некоторыми оговорка-
ми это утверждение мы можем принять даже легче, чем он.
Признаемся, наконец, что мы совершенно глухи к
предложениям вроде того, что «Бытие производится как
множественное и расколотое на Тождественное и Дру-
гое. Такова его предельная структура» (ТБ). Что же это
за расколотость бытия на тождественное и иное, раскол
между иным и тождественным, который не подразумева-
ет, по меньшей мере, что тождественное — это другое
другого, а другое — это тождественное себе? Не будем
думать просто о Пармениде, играющим с молодым Со-
кратом. Чужестранец из «Софиста», который, подобно
Левинасу, желает порвать с элейской философией во имя
инаковости, знает, что инаковость может мыслиться и
высказываться только как негативность — что Левинас
с самого начала отклонял, — так что другое, в отличие от
бытия, всегда относительно, высказываясь pros eteron,
что, однако, не мешает ему быть эйдосом (или родом в
непонятийном смысле), быть тождественным себе («то-
ждественное себе» подразумевает, как отмечается Хай-
деггером в «Identitat und Differenz» — и как раз по пово-
ду «Софиста», — опосредование, отношение и различие:
екаотоу Еаътсо xauxov). Со своей стороны Левинас отказал-
ся бы от уподобления другого eteroriy, о котором сейчас
идет речь. Но как мыслить и высказывать другого без от-
сылки — мы не говорим «без сведения» — к инаковости
«eteron* вообще? У этого последнего понятия здесь уже
не тот ограниченный смысл, который позволял просто
противопоставлять его понятию другого, как будто бы
оно было ограничено областью реальной или логической
объективности. Eteron относиться к более глубокой и
изначальной плоскости, нежели та, на которой развора-
чивается эта философия субъективности (то есть объек-
тивности), все еще предполагаемая понятием другого.
Итак, другой не был бы тем, что он есть (близким чу-
жаком), если бы он не был alter ego. Эта очевидность на-
много старше «правил приличия» или иллюзий «обыден-
ной жизни ». Быть может, однако, Левинас рассматривает
выражение alter ego, как будто бы alter в нем было про-
сто неким эпитетом (на до-эйдетическом уровне) реаль-
ного субъекта? Как случайную модификацию, эпитет или
определение мой реальной (то есть эмпирической) иден-
тичности? Но трансцендентальный синтаксис выражения
alter ego не принимает никакого отношения существи-
тельного к прилагательному, абсолютного к относитель-
ному, в каком бы смысле их не брать. В этом-то и заклю-
чена вся его странность. Также как и необходимость,
относящаяся к конечности смысла: другой является аб-
солютно другим лишь будучи эго, то есть, в некоторым
смысле, будучи тем же, что я. И обратно: другой как res
одновременно и менее другой (не абсолютно другой), и в
то же время не тот же, что я. Более и менее другой — ра-
зом, что некоторым образом предполагает, что абсолют
инаковости является тождественным. Это противоречие
(в терминах формальной логики, которой, по крайней
мере в одном пункте, следует Левинас, когда отказыва-
ется называть другого alter ego), эта невозможность пе-
ревести мое отношение к другому на связный рациональ-
ный язык, это противоречие и эта невозможность не суть
знаки «иррационализма»: знак, скорее, того, что здесь
уже не хватает пригодной для дыхания связности Лого-
са, что у мысли перехватывает дыхание в области начала
языка как диалога и различия. Это начало как конкрет-
7 Ж. Деррида
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
ное условие рациональности менее всего является ирра-
циональным, хотя оно и не может быть включено в язык
и понято в нем. Это начало — вписанная вписанность.
Таким образом, всякая редукция другого к реально-
му моменту моей жизни, сведение его к статусу эмпири-
ческого alter ego является той возможностью или, скорее,
эмпирической случайностью, называемыми насилием,
которые предполагают необходимые эйдетические отно-
шения, на которые и было нацелено гуссерлевское опи-
сание. Напротив, подходить к эго-организации другого
как к самой его инаковости — это самый мирный жест из
всех возможных.
Мы не говорим, что это абсолютно мирный жест.
Мы скажем, что это — экономический жест. Существует
доэтическое трансцендентальное насилие и асимметрия
вообще, начало которых заключено в тождественном, в
конечном счете предоставляющем возможность обрат-
ной асимметрии, тому этическому ненасилию, о котором
говорит Левинас. В самом деле, либо существует одно
лишь тождественное, так что оно даже не может про-
явиться и учинить насилие (чистая конечность или бес-
конечность), либо существует тождественное с иным, так
что иное, другое, может быть иным — того же, — лишь
будучи тем же самым (что оно само, эго), тогда как тож-
дественное может быть тем же самым (что само, эго) толь-
ко будучи другим другого: alter ego. Странная симмет-
ричная очевидность заключена в том, что я столь же
существенным образом являюсь другим другого, зная об
этом, но след такой очевидности в описаниях Левинаса
не найти. Без этой очевидности я не мог бы желать или
уважать другого в этической асимметрии. Эта трансцен-
дентальная необходимость, не происходящая из какого-
нибудь волевого решения или этической свободы, некое-
го особого способа подходить к другому или обходить его,
устанавливает изначальное отношение между двумя ко-
нечными самостями. Действительно, необходимость
иметь доступ к смыслу другого (в его неуничтожимой
инаковости), исходя из его «лица», то есть феномена его
не-феноменальности, темы не-тематизируемого, иначе
говоря, исходя из интенциональной модификации моего
эго (вообще), необходимость говорить о другом как о
другом или с другим как другим исходя из его явления-
мне-в-качестве-того-кто-он-есть как другой (явления,
которое скрывает его главную сокрытость, вытаскивая
его на белый свет, обнажая и скрывая то, что в нем скры-
то), эта необходимость, от которой никакая речь не мог-
ла уклониться со времен своей самой первой молодости,
эта необходимость — само насилие или, скорее, транс-
цендентальное начало неуничтожимого насилия, если
только, как мы выше уже указали, вообще есть какой-
нибудь смысл говорить о доэтическом насилии. Ведь это
трансцендентальное начало как неуничтожимое насилие
отношения к другому является в то же время и ненасили-
ем, покуда оно открывает отношение к этому другому.
Это определенная экономия. В ней, в этом открытии, под-
ступ к другому сможет определиться внутри этической
свободы как моральное насилие или ненасилие. Непонят-
но, как понятие насилия (например, в форме скрытия или
подавления другого тождественным — именно таким по-
нятием и пользуется Левинас как само собой разумею-
щимся, причем оно уже обозначает некоторое чередова-
ние тождественного и иного как того, что есть то, что оно
есть) могло бы строго определяться на чисто этическом
уровне безо всякого предварительного эйдетико-транс-
цендентального анализа отношений между эго и alter ego
вообще, между различными началами мира вообще. То,
что другой является другим только лишь в отношении к
тождественному, — это очевидность, которую грекам не
было нужды признавать в подтвердившей ее позднее
трансцендентальной эгологии, так же как и то, что наси-
лие — это начало смысла и речи в царстве конечности33.
Различие между тождественным и иным, которое не про-
сто одно различие из многих других, не имеет никакого
значения в бесконечности, если только не говорить вме-
сте с Гегелем и в противовес Левинасу о беспокойстве
бесконечного, которое само себя определяет и отрица-
ет. Насилие, конечно, появляется в горизонте идеи бес-
конечного. Но этот горизонт принадлежит не бесконеч-
но другому, но тому царству, в котором больше не будет
места различию и разнесению между тождественным и
иным, то есть царству, в котором не будет никакого смыс-
ла и у самого мира. И, прежде всего, потому, что не будет
никакого смысла и феноменальности вообще. Бесконеч-
но другой и бесконечно тождественное, если только эти
слова имеют значение для конечного существа — это одно
и то же. Сам Гегель признавал негативность, тревогу и
войну в абсолютно бесконечном только как движение его
собственной истории, направляющееся к конечному при-
7*
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
мирению, в котором инаковость окажется абсолютным
образом снята, если не удалена, в парусин34. Как истол-
ковать необходимость мыслить факт того, что вначале
было целью, в случае того, что называют концом исто-
рии? А это значит задать себе вопрос, что значит мыс-
лить другого как другого, не является ли в этом уникаль-
ном случае свет, освещающий его «кактакового», самим
сокрытием. В уникальном случае? Нет, необходимо пе-
реопределить термины: «другой» —это имя, «другой» —
это смысл этого немыслимого единства света и ночи.
«Другой» означает феноменальность как сокрытие. Быть
может, речь идет о «третьем пути, исключаемом этими
противоречиями» (откровение и сокрытие, «След Друго-
го »)? Но этот путь только и может быть явлен и высказан
как третий. Если назвать его следом, то это слово может
возникнуть в качестве той метафоры, философское про-
яснение которой будет без конца отсылать к «противо-
речиям». Иначе не будет явлена и его оригинальность,
отличающая его от Знака (этот термин условно принят
Левинасом). Нужно заставить ее явится. Сам феномен
предполагает свою изначальную затронутость знаком.
Итак, война прирожденна феноменальности, она
есть возникновение слова и его явление. Не случайно Ге-
гель воздерживается от употребления слова «человек» и
описывает войну (например, в диалектике Раба и Госпо-
дина) безо всяких антропологических отсылок только
лишь в сфере науки сознания, то есть самой феноменаль-
ности, в необходимой структуре ее движения — в науке
опыта и сознания.
Речь, следовательно, если она изначально насильст-
венна, может лишь применять насилие по отношению к
самой себе, отрицать себя, чтобы утверждаться, никогда
не получая возможность, оставаясь речью, полностью
присвоить эту негативность. Не имея никакого права сде-
лать это, поскольку, если бы она это все-таки сделала,
горизонт мира исчез бы в ночи (то есть в наихудшем на-
силии как до-насилии). Эта вторая война, существуя как
собственное признание, является наименьшим возмож-
ным насилием, единственным способом подавить худшее
насилие, насилие первичного и до-логического молчания,
невообразимой ночи, которая не могла бы быть даже про-
тивоположностью дня, абсолютное насилие, которое
даже не было бы противоположностью ненасилия: ничто
или бессмыслицу. Речь насильственно провозглашает
себя против ничто или чистой бессмыслицы и — в фило-
софии — против нигилизма. Иначе было бы необходимо,
чтобы эсхатология, оживляющая речь Левинаса, уже
сдержала свое обещание вплоть до того, чтобы отказать-
ся от возможности производить себя как речь в этой эс-
хатологии и идее мира «по ту сторону истории». Было
бы необходимо, чтобы восторжествовал «мессианский
триумф », «вооруженный против реванша зла ». Этот мес-
сианский триумф, являясь горизонтом книги Левинаса и
«выходя за ее рамки», мог бы уничтожить насилие, толь-
ко лишь подвешивая различие между тождественным и
иным, то есть подвешивая саму идею мира. Сам этот го-
ризонт может быть высказан здесь и теперь (в настоя-
щем вообще), о конце может быть сказано, эсхатология
может стать возможной только через насилие. Этот бес-
конечный переход «через» и называется историей. Не
признавать неотменимости этого последнего насилия —
это значит, в порядке философского дискурса, от кото-
рого можно пожелать отказаться, лишь идя на риск еще
большего насилия, возвратиться к догматизму доканти-
анской философии бесконечности, не ставящей вопроса
об ответственности собственной конечной философской
речи. Верно, что передача этой ответственности Богу —
это не отречение от нее, покуда Бог не является конеч-
ной третьей стороной: так мыслимая божественная
ответственность не исключает и не преуменьшает цело-
стности моей ответственности как ответственности ог-
раниченного в своей конечности философа. Эта переда-
ча как раз требует ее и призывает как свою цель и начало.
Но сам факт несовпадения этих двух ответственностей
или несовпадения одной и той же ответственности с са-
мой собой — представляемый как история или тревога
бесконечного — еще не является темой для докантиан-
ского — следовало бы даже сказать «догегельянского » —
рационализма.
Так наши вопросы будут решаться до тех пор, пока не
будет снята абсолютно исходная очевидность, заключаю-
щаяся, по выражению Левинаса, в «этой невозможности для
меня не быть собой», даже когда я выхожу к другому, без
чего я, однако, вообще не мог бы выйти из себя; «невоз-
можность», о которой Левинас точно говорит, что она
«трагическое основание я — факт, заключающийся в том,
что я приковано к своему бытию» (СС). И факт того, что
Я знает об этом. Это знание — первая речь и первое слово
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
эсхатологии, то, что позволяет говорить с другим и разре-
шает разлуку. И это не просто одно возможное знание, это
знание как таковое. «Это бытие-всегда-одним-и-в-то-же-
время-всегда-другим является фундаментальной характе-
ристикой знания» (Шеллинг). Ни одна философия, ответ-
ственная за свой язык, не может отказаться от самости
вообще, и менее всего — философия или эсхатология раз-
деления. Между изначальной трагедией и мессианским три-
умфом располагается философия, в которой насилие через
знание обращается само на себя, в которой является изна-
чальная конечность, а другой уважается тождественным и
в тождественном. Эта конечность является в вопросе — по
необходимости всегда открытом — как философском вопро-
се вообще*, почему существенная, несводимая, абсолютно
общая и ничем не обусловленная форма опыта и выхода к
другому — это все та же форма эго? Почему невозможен и
немыслим опыт, который не был бы прожит как мой (про-
жит для эго вообще, в его эйдетико-трансцендентальном
значении)? Такое невозможное и немыслимое суть преде-
лы разума вообще. Иначе говоря — почему конечность?
Если, как это уже сказал Шеллинг, «форма эго является об-
щим принципом конечности». Почему Разум? Если верно,
что «Разум и форма Эго в их истинной абсолютности — это
одно и то же...» (Шеллинг), «разум... —это форма универ-
сальной и сущностной структуры трансцендентальной субъ-
ективности вообще» (Гуссерль). Философия, которая, по-
добно феноменологии, является речью этого разума, не
может по своей сущности ответить на такой вопрос, по-
скольку всякий ответ может быть дан только в некотором
языке, а язык открыт уже самим этим вопросом. Филосо-
фия (вообще) может лишь открываться этому вопросу, от-
крываться им и в нем. Она может только позволить ста-
вить себе вопросы.
Гуссерль об этом знал. Он называл неотменимую
сущностную определенность опыта через эго прафактич-
ностью (Urtatsache), неэмпирической или трансценден-
тальной фактичностью (быть может, этому понятию ни-
когда не уделяли должного внимания). «Это «я есть»
является для меня, который это говорит и понимает так,
как нужно понимать, интенциональным праоснованием
моего мира (der intentionale Urgrund furmeine Welt)...»'-
Мой мир — это открытость, в которой производится вся-
кий опыт, включая и тот опыт по преимуществу, который
является трансценденцией к другому как он есть. Ничто
не может явиться для «Я есть» вне принадлежности «мо-
ему миру». «Нравится мне это или нет, кажется ли это
мне (в силу неких предрассудков) ужасным или нет, та-
ков исходный факт, к которому мне необходимо прино-
ровиться (die Urtatsache, der ich standhalten muss), и от
которого я, как философ, ни на мгновение не могу отвес-
ти взгляд. Для неопытных философов он может быть тем-
ным углом, куда приходят призраки солипсизма, а также
психологизма и релятивизма. Но настоящий философ,
вместо того, чтобы убегать от этих призраков, предпоч-
тет осветить этот темный угол.»36 Интенциональное от-
ношение «эго к моему миру», понятое в этом смысле, не
может быть открыто, исходя из совершенно чуждого
моему миру бесконечно другого, оно не может быть «на-
вязано Богом, определяющим это отношение... посколь-
ку субъективное априори — это то, что предшествует бы-
тию Бога и вообще всему, что существует для меня как
бытия, которое мыслит. И Бог есть для меня то, что он
есть, только через действие моего сознания; и я не могу
отвести глаза от этого факта в тревожащем страхе того,
о чем могут подумать как о богохульстве, но, напротив,
должен видеть саму проблему. Как и по отношению к al-
ter ego, “действие сознания” здесь не означает того, что я
будто бы изобретаю и создаю саму эту высшую транс-
цендентность»37. Реально Бог зависит от меня не более,
чем alter ego. Но смысл существует только для эго вооб-
ще. Это значит, что божественность Бога должна обла-
дать смыслом для эго вообще, прежде всякого атеизма
или веры, всякой теологии, всякого языка о Боге или с
Богом. Отметим мимоходом,-что это «субъективное ап-
риори^, признанное трансцендентальной феноменологи-
ей, — единственная возможность не дать пройти тотали-
таризму нейтрального, безличной «абсолютной Логике»,
эсхатологии без диалога и всему тому, что условно, очень
условно, помещается под марку гегельянства.
Вопрос о трансцендентальной прафактичности эго-
структуры может быть более глубоко затронут в контексте
прафактичности «живого настоящего». Ведь этологическая
жизнь (опыт вообще) имеет в качестве своей несводимой и
абсолютно универсальной формы живое настоящее. Нет
опыта, который Мог бы быть прожит иначе, чем в настоящем.
Эта абсолютная невозможность жить иначе, чем в нас-
тоящем, эта вечная невозможность определяет немыслимое
как предел разума. Понятие прошлого, смысл которого не
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
мог бы быть помыслен в форме (прошедшего) настоящего,
отмечает невозможное-немыслимое-невысказываемое не
только для философии вообще, но и для мысли бытия,
которая пожелала бы сделать шаг в сторону от философии.
Это понятие становится, однако, темой в том размышлении
о следе, которое было объявлено в последних работах
Левинаса. В живом настоящем, понятие которого одновре-
менно и самое простое, и самое сложное, может консти-
туироваться и появиться в качестве самой себя любая
темпоральная инаковость: другое прошлое настоящее,
другое будущее настоящее, другие абсолютные начала,
вновь проживаемые в их интенциональной модификации, в
актуальности и единстве моего живого настоящего. Толь-
ко актуальное единство моего живого настоящего позво-
ляет другим настоящим (другим абсолютным началам)
явиться такими, как они есть, в том, что называют памятью
или предвосхищением (задействованным на самом деле в по-
стоянное движение темпорализации). Но в то же время
только инаковость прошлых и будущих настоящих дает
возможность существовать абсолютной идентичности
живого настоящего как самотождественности нетождест-
венного себе. Взяв за отправной пункт «Картезианские
медитации», было бы необходимо, отстранившись от всех
проблем реального генезиса, показать38, что вопрос о пер-
вичности в отношении между конституированием другого
как другого настоящего и другого как другого лица являет-
ся ложным вопросом, который должен отсылать к общему
структурному корню. Хотя в «Картезианских медитациях»
Гуссерль говорит только лишь об аналогии этих двух
движений (§ 52), в некоторых неизданных рукописях он,
кажется, считает их нераздельными.
Если, в конечном счете, мы желаем определить, как
необходимость для другого являться таким, как он есть,
быть уважаемым только в тождественном, для тождест-
венного и посредством тождественного, быть скрытым
тождественным в самом высвобождении своего феноме-
на, тогда время будет насилием. Это движение осво-
бождения абсолютной инаковости в абсолютной тож-
дественности суть движение темпорализации в его
универсальной и абсолютно ничем не обусловленной фор-
ме: форме живого настоящего. Если живое настоящее,
абсолютная форма открытия времени другому в себе, яв-
ляется абсолютной формой эгологической жизни, если
эго-структура — это абсолютная форма опыта, тогда на-
стоящее, присутствие настоящего и присутствие присут-
ствия исходно и навеки будут насилием. Живое настоящее
изначально проникнуто смертью. Присутствие как наси-
лие — это смысл конечности, смысл смысла как истории.
Но почему же? Почему конечность? Почему исто-
рия39? Почему, исходя из чего мы можем спрашивать об
этом насилии как конечности и истории? Откуда это «по-
чему»? Где оно могло бы быть услышано в своем фило-
софском определении?
В некотором смысле метафизика Левинаса предпола-
гает — это мы, по меньшей мере, и пытались показать —
трансцендентальную феноменологию, которую она жела-
ет поставить под вопрос. Но, тем не менее, правомочность
такой постановки не кажется нам менее радикальной. В чем
начало вопроса о прафактичности как насилии? Исходя из
чего ставится вопрос о конечности как насилии? Исходя
из чего прирожденное насилие речи отдает самому себе
приказ обернуться против себя, всегда быть языком,
оборачивающимся против себя в признании другого?
Несомненно, на эти вопросы нельзя ответить (говоря,
например, что вопрос о насилии конечности может быть
поставлен только из другого конечности или идеи
бесконечности), не начиная нового разговора, который
снова оправдает трансцендентальную феноменологию. Но
сама нагая открытость вопроса, молчаливое его открытие
ускользает от феноменологии как начала и конца логоса.
Это молчаливое открытие вопроса об истории и конеч-
ности как насилии позволяет явиться истории как таковой}
оно есть обращение (к) эсхатологии, которая скрывает свое
собственное открытие, покрывает его шумом, как только
начинает определяться и высказываться. Это открытие
является открытием вопроса, поставленного в обращении
трансцендентальной асимметрии философии как логосу,
конечности, истории и насилию. Это окликание грека не-
греком, идущее из глубины молчания, из вне-логического
волнения слова, из вопроса, который может высказаться,
лишь забываясь в языке греков, забываясь только на этом
языке. Странный диалог между словом и молчанием.
Странное сообщество молчаливого вопроса — сообщест-
во, о котором мы говорили выше. Это та точка, где невзирая
на все недоразумения по поводу буквального смысла гус-
серлевского замысла, феноменология и эсхатология могут
бесконечно начинать свой диалог, касаясь и призывая друг
Друга к молчанию.
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
06 онтологическом насилии
Тишина — это слово, которое не является
словом, а вздох — это объект, который не являет-
ся объектом.
Ж. Батак
Не будетли движение этого диалога управлять и объ-
яснением с Хайдеггером? В этом не было бы ничего уди-
вительного. Чтобы в этом убедиться, достаточно как мож-
но более схематично отметить следующее: чтобы, как мы
только что делали, говорить о настоящем как абсолют-
ной форме опыта, нужно уже понимать, что такое вре-
мя, какова суть или бытие присутствующего, ens этого
praes-ens, и в чем близость бытия этого сущего. Присут-
ствующее присутствия и присутствие присутствующего
предполагают горизонт, предвосхищение и предпонима-
ние бытия как времени. Если же смысл бытия всегда оп-
ределялся в философии как присутствие, тогда вопрос о
бытии, поставленный (на первом этапе, в «Бытии и вре-
мени») в трансцендентальном горизонте времени, явля-
ется первым подрывом средств философской безопасно-
сти, сосредоточенных в гарантированном присутствии.
Гуссерль так и не развил вопрос о бытии. Хотя фе-
номенология несет его в себе каждый раз, когда она при-
ступает к вопросам темпорализации и отношения к alter
ego, она, тем не менее, остается под владычеством мета-
физики присутствия. Вопрос о бытии не является глав-
ным в ее речи.
Феноменология вообще, как переход к сути сущно-
сти, предполагает предвосхищение бытия сущности, esse
essentiae, сущности, единства бытия, предшествующего
своему распределению на сущность и существование.
Предприняв определенные шаги, можно было бы, несо-
мненно, доказать, что некоторое метафизическое реше-
ние или предвосхищение уже молчаливо принято Гуссер-
лем, когда, например, он полагает бытие (Sein) как
нереальность (Realitat) идеального (Ideal). Идеальность
нереальна, но она есть как объект или мыслимое бытие.
Без уже предположенного доступа к смыслу бытия, не
исчерпывающегося реальностью, рухнула бы вся гуссер-
левская теория идеальности и, вместе с ней, — вся транс-
цендентальная феноменология. Тогда Гуссерль уже не
мог бы написать следующего: Offenbar muss uberhaupl
jeder Versuch, das Sein des Idealen in ein mogliches Sein
von Realen umzudeuten, daran scheitem, dass Moglich-
keiten selbst wieder ideale Gegenstande sind. So wenig in
der realen Welt Zahlen im allgemeinen, Dreiecke im allge-
meinen zu finden sind, so wenig auch Moglichkeiten,
«В общем, каждая попытка истолковать бытие идеально-
го как возможное бытие реального терпит явную неудачу,
поскольку сами возможности являются в свою очередь
идеальными предметами. Так же, как нельзя найти в
реальном мире чисел вообще или треугольников вообще,
не найдешь в нем и возможностей.»40 Смысл бытия уже
должен быть помыслен до любого своего определения в
частных регионах бытия, чтобы можно было отличать
идеальное, которое существует, от реального, которого
нет, и от выдуманного, которое принадлежит к области
возможного реального. («Естественно, что мы никоим
образом не собираемся помещать бытие идеального на
тот же уровень, что мыслимое бытие выдуманного или
абсурдного бытия Можно было бы процитировать
сотни аналогичных текстов.) Но если Гуссерль может
написать такое, если он, следовательно, предполагает
некоторый доступ к бытию вообще, — как ему удается
отличить свой идеализм в теории познания от метафи-
зического идеализма?42 Ведь тот также предполагал не-
реальное бытие идеального. Думая о Платоне, Гуссерль,
несомненно, ответил бы, что в метафизическом идеализме
идеальное было реализовано, субстантивировано, гипо-
стазировано, как только его в его сущности перестали по-
нимать через ноэму и вообразили, что оно может суще-
ствовать, не будучи каким бы то ни было образом
мыслимо или интендировано. Такая установка в своей
основе не изменилась и позднее, когда эйдос стал ноэмой
для одного лишь Разума или Логоса бесконечного
субъекта, то есть Бога. Впрочем, в какой мере трансцен-
дентальный идеализм, путь которого был задан таким
образом, избегает по меньшей мере горизонта этой
бесконечной субъективности? Об этом, однако, мы здесь
рассуждать не будем.
Если некогда Левинас противопоставлял Хайдегге-
ра Гуссерлю, то теперь он оспаривает то, что называется
им «хайдеггеровской онтологией»: «Первое основание
хайдеггеровской онтологии в то же время вовсе не поко-
ится на трюизме вроде того, что “чтобы познать сущее,
нужно уже понять бытие сущего”. Утверждать первен-
ство бытия по отношению к сущему — значит уже вы-
сказаться о сущности философии, подчиняя отношение
с кем-то, кто является сущим (этическое отношение),
отношению с бытием этого сущего, которое, будучи без-
личным, позволяет захватывать сущее и господствовать
над ним (в отношении знания), подчиняет справедливость
свободе» (цитировано выше). Такая онтология имела бы
значение для всякого сущего, «за исключением другого »43.
Высказывание Левинаса принижает «онтологию»:
хоть мысль бытия сущего и не бедна логической бедно-
стью трюизма, от своей нищеты она убегает лишь для
того, чтобы убить и усмирить Другого. Таково то зауряд-
ное преступление, из-за которого этика попала под пяту
онтологии.
Как все-таки обстоят дела с «онтологией» и этим
«трюизмом» («чтобы познать сущее, нужно уже понять
бытие сущего»)? Левинас утверждает, что «первое ос-
нование хайдеггеровской онтологии в то же время вовсе
не покоится» на «трюизме». Так ли это? Если трюизм
(truism, true, truth) — это верность истине (иначе гово-
ря, бытию того, что оно есть и как оно есть), тогда со-
всем не очевидно, что мысль (например, мысль Хайдег-
гера) когда-либо была вынуждена от него оберегаться.
«В этой мысли бытия странна именно ее простота», го-
ворит Хайдеггер как раз в тот момент, когда он показы-
вает, что эта мысль не поддерживает никакого теорети-
ческого или практического замысла. «Дело этой мысли
не в теории и не в практике, так же как и не единстве
этих двух способов действовать.»44 Разве этот жест от-
ступления к тому, что существует до разделения на прак-
тику и теорию, не является жестом того же Левинаса45,
который должен будет определить метафизическую
трансценденцию как (еще) не практическую этику? Мы
имеем дело с весьма странными трюизмами. Ведь имен-
но «из-за простоты своей сущности» «мысль бытия ста-
ла для нас непознаваемой»46.
Если же, наоборот, понимать под трюизмом находя -
щееся в порядке суждений аналитическое предложение
или некую нищету тавтологии, тогда обвиняемое пред-
ложение Хайдеггера оказывается самым неаналитичным
в мире; если бы в мире должна была быть только одна
мысль, ускользающая от формы трюизма, тогда это была
бы только она. То, что Левинас считает трюизмом, во-
первых, вообще не является предложением суждения,
*
будучи истиной, предшествующей суждению и основы-
вающей всякое возможное суждение. Обычный трю-
изм — это повторение субъекта в предикате. Но бытие —
это и не предикат, и не субъект сущего. Понимаем ли мы
его как сущность или существование (как бытие-таким
или бытие-здесь), как связку или полагание существова-
ния, как, в более исходном и глубоком значении, единый
очаг всех этих возможностей — все равно бытие сущего
не принадлежит к области предикации, поскольку оно
уже включено во всякую предикацию как условие, кото-
рое делает ее возможной. Оно делает возможным любое
аналитическое или синтетическое суждение. Оно по ту
сторону родов и категорий, являясь трансцендентальным
в том схоластическом смысле, который еще не был опре-
делен как высшее и бесконечное сущее, как сам Бог. Та-
ков этот странный трюизм, в котором наиболее глубо-
ким образом отыскивается самое конкретное содержание
любой мыслимой мысли, общий корень сущности и су-
ществования, без которого не были бы возможны ни язык,
ни какое бы то ни было суждение, и который может быть
предположен каждым понятием только так, что оно же
его и сокроет47.
Но если «онтология » — это не трюизм или, по край-
ней мере, не просто один трюизм наподобие многих, если
странное различие между бытием и сущим имеет смысл,
является самим этим смыслом, то как можно говорить о
«первичности» бытия по отношению к сущему? Это весь-
ма важный вопрос, поскольку, с точки зрения Левинаса,
именно эта предполагаемая «первичность» или главен-
ство должны превратить этику в служанку «онтологии ».
Однако порядок первичности может существовать
только между двумя определенными вещами, двумя су-
щими. Поскольку бытия вне сущего не бывает — и ко-
гда-то Левинас весьма успешно комментировал эту
тему, — оно никак не может ему предшествовать — ни
во времени, ни по достоинству и т.п. Это, пожалуй, вооб-
ще самый ясный пункт в мысли Хайдеггера. Потому-то
нельзя с полным правом говорить о «соподчинении»
сущего бытию или, например, этического отношения он-
тологическому. Предпонимать или раскрывать имплицит-
ную связь с бытием сущего48 — это не значит насильст-
венным образом подчинять его (например, какое-нибудь
лицо) бытию. Бытие — это всегда бытие-этого-сущего,
так что оно не может существовать вне его, подобно ка-
о
кой-нибудь внешней силе, — безличной, враждебной или
нейтральной стихии. Нейтральность, которую так часто
упоминает Левинас в своих обвинениях, может быть толь-
ко лишь характеристикой неопределенного сущего, без-
личной оптической силы, понятийной общности или
принципа. Но бытие — это не принцип, не некое главное
сущее, архе, которое позволило бы Левинасу угадать под
его именем лицо безликого тирана. Мысль бытия (суще-
го) исконно чужда поиску принципа или даже корня (не-
смотря на некоторые образы, которые порой как будто
позволяют так думать), поиску некоего «древа познания »:
эта мысль, как мы уяснили, располагается по ту сторону
теории, не будучи даже ее первым словом. По ту сторону
всякой иерархии. Если любая «философия » и любая «ме-
тафизика» всегда пытались определить первое, высшее и
истинно существующее сущее, тогда мысль бытия суще-
го — это не та метафизика или первая философия. Она
даже не может называться онтологией, покуда (см. выше)
онтология — это другое имя первой философии. Не бу-
дучи первой философией, обращающейся к первосуще-
му, которое управляет всем остальным, первой вещи или
первой причине, мысль бытия не относится ни к какой
силе и не осуществляет никакую силу. Ведь сила — это
отношение между сущими. «У такой мысли нет резуль-
тата. Она не производит никакого действия » («Письмо о
гуманизме»). Левинас же пишет: «Онтология как первая
философия — это философия силы» (ТБ). Может быть,
это и так. Но мы поняли: мысль бытия — это ни онтоло-
гия, ни первая философия, ни философия силы. Будучи
чуждой любой первой философии, она не противопос-
тавлена ни одной из ее форм. Например, морали, если,
как говорит Левинас, «мораль — это не одна из ветвей
философии, но сама первая философия» (ТБ). Мысль
бытия, чуждая поиску оптического начала вообще, эти-
ческого или политического начала в частности, не чужда
им в смысле враждебности — подобно тому, как насилие
чуждо ненасилию или добро злу, — в чем как раз и обви-
няет ее Левинас. О ней можно было бы сказать то, что
Ален сказал о философии: «она не более политика, чем
сельское хозяйство». Что не означает будто бы она —
промышленность. Изначально чуждая этике, она не есть
ни противо-этика, ни соподчинение этики некоей инстан-
ции, уже являющейся насилием в области этики, то есть
нейтральному. Каждый раз — и не только в случае с Хай-
*
деггером — Левинас реконструирует тот город или тип
социальности, который, как он думает, отчетливо про-
ступает в речи, которая не деклариурется ни как социо-
логическая, ни как политическая, ни как этическая. До-
вольно парадоксально усмотреть такой хайдеггеровский
город в городе, управляемом нейтральной силой, некоей
анонимной речью, то есть теми самыми «людьми» (man),
неподлинность которых и описал первым сам Хайдеггер.
Верно то, что в некотором, весьма сложном смысле Ло-
гос, по Хайдеггеру, — это «не чей-то Логос», но это, ко-
нечно, не значит, что он является анонимным подавлени-
ем, безликим Государством или нейтральностью некоего
«люди говорят». Логос безымянен только как возмож-
ность имени и ответственности. «Однажды человеку при-
дется достичь соседства с бытием, и тогда ему нужно бу-
дет научиться существовать в том, чему нет имени»
(«Письмо о гуманизме»). Разве не говорила также и Ка-
бала о безымянной возможности имени?
Итак, мысль бытия не может иметь какого-то чело-
веческого замысла, будь он тайным или нет. Взятая сама
по себе, она, несомненно, является единственной мыслью,
к которой не может привязаться никакая антропология,
никакая этика и, в частности, никакой этико-антрополо-
гический психоанализ49.
Все как раз наоборот. Она не только не является эти-
ческим, в смысле Левинаса, насилием, но и ни одна этика
вообще, не могла бы, кажется, открыться без нее. Мысль —
или по меньшей мере, предпонимание бытия —
обуславливает (безо всякой оптической обусловленности
через начала, причины, предпосылки и.п.) признание
сущности сущего (например, признание кого-то как дру-
гого, как другой самости и т.д.). Она обуславливает ува-
жение другого как того, кто он есть — как другого. Без
этого признания, которое отнюдь не является познанием,
без этого «позволения быть» сущему (другому) как
существующему вне меня в сущности того, что он есть
(есть, прежде всего, в своей инаковости), не была бы воз-
можна никакая этика. «Позволение быть» — это выраже-
ние Хайдеггера, которое не означает, как, похоже, пола-
гает Левинас50, позволения быть сначала в качестве
«объекта понимания» и уже затем, в случае другого, в
качестве «собеседника». «Позволение быть» относится ко
всем возможным формам сущего и даже к тем, которые
ио своей сущности не могут быть преобразованы в «объ-
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
екты понимания »51. Если к сущности другого в первую оче-
редь относится его бытие в качестве «собеседника» и
«того, кого окликаешь» (ibid.), «позволение быть» даст ему
быть тем, кто он есть, признает его как окликнутого
собеседника. «Позволение быть» не относится преимуще-
ственно и в первую очередь к безличным вещам. Позволе-
ние быть другому в сущности и существовании другого
означает то, что подступает к мысли и (или) то, что мысль
подступается к тому, что такое сущность и что такое
существование; и что такое бытие, которое предполагает-
ся ими обоими. Иначе не было бы возможно никакое
«позволение быть», и, прежде всего, позволение быть,
заключенное в уважении и в этическом приказе, обращен-
ном к свободе. Насилие царило бы в такой степени, что
оно даже не могло бы явится и именоваться как таковое.
Также, следовательно, не может быть никакого воз-
можного подчинения «отношения с сущим» «отношению
с бытием сущего ». Хайдеггер подверг бы критике не толь-
ко понятие отношения с бытием, так же как Левинас кри-
тикует «отношение с другим», но и понятие подчинения'.
бытие — это не высота, не господин сущего, покуда сама
высота всегда остается определением сущего. Немного
существует положений, на которых Хайдеггер с таким
упорством настаивал: бытие — это не высшее сущее.
Но если бытие и не выше сущего, это не значит, что
оно рядом с ним. Иначе оно просто было бы другим су-
щим. Непонятно тогда, как можно говорить об «онтоло-
гическом значении сущего в общей экономии бытия, ко-
торое простым различением помещается Хайдеггером
рядом с сущим...» (СС). Правда, в другом месте Левинас
признает, что «там, где есть различие, нет разделения»,
что уже означает признание невозможности отношения
оптического господства между бытием и сущим. В дей-
ствительности, между бытием и сущим нет и различия в
обыденном значении этого слова. Весьма существенные
причины этого заключены в первую очередь в том, что
бытия не бывает вне сущего, а раз открытость равна он-
тико-онтологическому различию, то при выражении бы-
тия в языке, при его вовлечении в язык невозможно из-
бежать оптической метафоры. Вот почему Хайдеггер
говорит о языке, что он — «lichtend-verbergende Ankunft
des Seins selbst» («Письмо о гуманизме»). Язык/>дзши и в
одно и то же время и освещает, и скрывает бытие. Одна-
ко, одно лишъ бытие в состоянии решительно сопротив-
ляться любой метафоре. Любая филология, которая пы-
тается свести смысл бытия к метафорическому началу
слова «быть», упускает, какова бы ни была научная цен-
ность ее гипотез, историю смысла бытия. Эта история
является историей такого отвлечения бытия по отноше-
нию к определенному сущему, что в ее результате можно
прийти к тому, чтобы начать мыслить в качестве просто-
го частного сущего сущее, замещающее бытие, например,
дыхание. Именно на дыхание как этимологическое нача-
ло слова «быть» ссылаются, к примеру, Ренан и Ницше,
когда они желают свести смысл того, что они считают
понятием, неопределенной общностью бытия, к своему
скромному метафорическому началу (Ренан Э. «О про-
исхождении языка», Ницше Ф. «Рождение филосо-
фии»52). Так можно объяснить всю эмпирическую исто-
рию — за исключением самого главного, а именно того,
что, например, и дыхание и не-дыхание существуют.
Существуют определенным образом среди других опти-
ческих определенностей. Этимологический эмпиризм,
этот скрытый корень любого эмпиризма, объясняет все —
за исключением того, что однажды метафора была по-
мыслена как метафора, то есть была разорвана как по-
крывало бытия. Это мгновение — прорыв самой мысли
бытия, само движение метафоричности. Ибо этот про-
рыв все еще и всегда производится в другой метафоре. Как
говорит где-то Гегель, эмпиризм всегда забывает по мень-
шей мере одно — то, что он пользуется словом «быть».
Эмпиризм — это мысль посредством метафоры, а не
мысль метафоры и о метафоре.
По поводу «бытия» и «дыхания» позволим себе со-
вершить некоторое сближение, значение которого не ог-
раничивается историческим курьезом. В письме к X... от
марта 1638 года Декарт объясняет, что «предложение “я
дышу, следовательно, я существую” ни о чем не говорит,
если уже заранее не доказать своего существования или
если не подразумевать того, что я думаю, что дышу (даже
если я в этом ошибаюсь), следовательно, я существую; но
тогда сказать, что я дышу и, следовательно, я сущест-
вую, можно только сказав, что я мыслю и, следователь-
но, существую». Для нас здесь важно то, что значение
дыхания всегда остается частным и зависимым опреде-
лением моей мысли и моего существования или, a fortio-
ri, мысли и бытия вообще. Предполагая, что слово «быть»
происходит от слова «дышать», никакая этимология и
никакая филология, взятые как частные науки, не смогут
объяснить мысль, для которой «дыхание» (и любая дру-
гая вещь) становится лишь одним из определений бытия.
Так, например, никакая филология не сможет объяснить
жест мысли Декарта. Нужно идти другими путями — или
другим прочтением Ницше, — чтобы прочертить неслы-
ханную генеалогию смысла бытия.
Такова первая причина, по которой «отношение с
сущим», отношение с кем-либо (этическое отношение) не
может быть «подчинено» «отношению с бытием сущего
(в отношении знания)».
Вторая причина: «отношение с бытием сущего», во-
все не являющееся отношением, в особенности не явля-
ется «отношением знания»53. Мы уже видели, что оно —
не теория, оно ничего не говорит нам о том, что есть.
Поскольку оно не научно, Хайдеггер, отличив его от ме-
тафизики и даже от фундаментальной онтологии, порой
отказывает ему в самом этом имени онтологии. Не буду-
чи знанием, мысль бытия не смешивается с понятием чис-
того бытия как неопределенной всеобщности. Некогда
сам Левинас объяснял нам все это: «Именно потому, что
бытие не есть сущее, его нельзя схватывать per genus и
differentia specificam* (ОС). Но всякое насилие является
по Левинасу насилием понятия, так что в «Является ли
онтология фундаментальной?» и в «Тотальности и бес-
конечности» мысль бытия истолковывается как понятие
бытия. Противопоставляя себя Хайдеггеру, Левинас пи-
шет множество отрывков, похожих на следующий: «Дру-
гой, в нашем к нему отношении, обращается к нам не из
какого-нибудь понятия...»(«Является ли онтология фун-
даментальной? »). По его мысли, абсолютно неопределен-
ное понятие бытия в конечном счете выдает другого на-
шему пониманию, то есть нашей власти и насилию. Но
ведь Хайдеггер достаточно настаивает на этом положе-
нии: бытие, о котором задается вопрос, — это не поня-
тие, которому сущее (например, кто-то) могло бы быть
подчинено (или под которое оно могло бы быть подведе-
но). Бытие — это не понятие этого предиката, достаточ-
но неопределенного, абстрактного и предельно общего,
чтобы покрыть всю совокупность сущего:
1. потому что оно не предикат, хотя и условие, обес-
печивающее всякую предикацию;
2. потому, что оно «старше » конкретного присутст-
вия сущего-,
3. потому, что принадлежность бытию не уничтожа-
ет никакого предикативного различия, но, напротив, дает
возникнуть любому возможному различию54. Бытие, сле-
довательно, транскатегориально, так что Хайдеггер
сказал бы о нем то, что Левинас говорит о другом: оно
«враждебно категории» (ТБ). «Вопрос о бытии как воз-
можности понятия бытия рождается из допонятийного
предпонимания бытия »55, — пишет Хайдеггер, начиная по
поводу гегелевского понятия бытия как ничто диалог и
повторение, которые будут лишь углубляться и углуб-
ляться, позволяя одновременно — как то подразумевает
обычный стиль хайдеггеровских диалогов с мыслителя-
ми традиции — расти и выражаться слову Гегеля, слову
всей метафизики (включая и самого Гегеля или, скорее,
включая ее в него).
Таким образом, мысль или предпонимание бытия
менее всего означают тоталитарное и понятийное по-ни-
мание. То, что мы сказали о бытии, могло бы быть сказа-
но и о тождественном56. Трактовать бытие (и тождест-
венное) как категории или «отношение с бытием» как
отношение с категорией, которая сама могла бы (в неко-
тором «перевертывании терминов», ТБ) быть отстране-
на или подчинена другому определенному отношению
(например, этическому) — не значит ли это с самого на-
чала запретить себе любое (например, этическое) отно-
шение? Действительно, всякое определение пред-полага-
ет мысль бытия. Иначе как придать смысл бытию как
другому, как другой самости, оригинальности существо-
вания и сущности другого, ответственности, которая от-
сюда следует и т.д.? «Привилегия быть ответственным за
самого себя как сущего, то есть привилегия существова-
ния, сама по себе подразумевает необходимость понимать
бытие.»57 Если понимать бытие — это суметь позволить
быть (хранить бытие в его сущности и существовании,
будучи ответственным за это сохранение), то понимание
бытия всегда касается инаковости и особенно инаково-
сти другого, поскольку позволить быть можно только
тому, чем сам не являешься. Если бытию всегда нужно
еще дать быть, а мыслить — это позволять бытию быть,
бытие — это другое мысли. Но, поскольку оно есть то,
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
что оно есть, только в позволении-быть мысли, а сама
мысль мыслит только в присутствии бытия, которому она
позволяет быть, мысль и бытие, мысль и другой оказыва-
ются тождественны, что не значит, не будем об этом за-
бывать, что они равны или идентичны.
Это также означает, что мысль бытия не делает из
другого вид, подводимый под род «бытие». И не только
потому, что другой «враждебен категории», но и пото-
му, что бытие таковой не является. Как и другой, бытие
не имеет никаких связей с тотальностью — ни с конеч-
ной тотальностью, тотальностью насилия, о которой го-
ворит Левинас, ни с бесконечной тотальностью. Понятие
тотальности всегда соотнесено с сущим. Оно всегда ме-
тафизично или теологично, так что понятия конечного и
бесконечного обретают свой смысл только по отношению
к нему58. Чуждое конечной или бесконечной тотальности
сущего, чуждое в смысле, рассмотренном нами ранее, но
и не являясь другим сущим или другой тотальностью су-
щего, Бытие никак не может подавлять или закрывать
сущее и его различия. Для того, чтобы, как говорит Ле-
винас, другой приказывал мне и приказывал приказывать,
необходимо, чтобы я мог позволить Другому быть в его
свободе как другому. Но само бытие никому и ничему не
приказывает. Не будучи господином сущего, его пред-
существование (в рамках онтической метафоры) не яв-
ляется архе. Лучшее освобождение от насилия — это та-
кой способ постановки под вопрос, который мог бы
поколебать все поиски ар%г| вообще. И сделать это может
только мысль бытия, а не традиционная «метафизика»
или традиционная «философия». Они, следовательно,
всегда остаются «политиками», которые могут избежать
этического насилия лишь в экономии, то есть насильст-
венно сопротивляясь насилию ан-архии, возможность
которой в истории всегда связана с превознесением архе.
Так же, как Левинас должен был скрыто обращать-
ся к феноменологическим очевидностям, выступая
против феноменологии, он должен беспрестанно пред-
полагать и практиковать в своей речи, даже если она на-
правляется против «онтологии», мысль или предпонима-
ние бытия. Что бы иначе значила «внешность как
сущность бытия» (ТБ)? Или то, что «эсхатология ставит
в отношение с бытием по ту сторону тотальности или
истории, а не с бытием по ту сторону прошлого и настоя-
щего» (ТБ)? Что значит «поддержать плюрализм как
структуру бытия» (ТС)? Или что значит: «встреча с ли-
цом — это, в абсолютном смысле, отношение с тем, что
есть. Может быть, один только человек является субстан-
цией, и то потому, что он есть лицо »?59 Итак, этико-мета-
физическая трансценденция уже предполагает онтоло-
гическую трансценденцию. В таком случае еяекемх тес;
ovoiac; (в интерпретации Левинаса) вело бы не по ту сто-
рону Бытия, но по ту сторону тотальности сущего, бы-
тия сущего сущим или, наконец, онтической истории.
Хайдеггер тоже ссылается на erceKeiva тес; ovoiaq, чтобы
дать предварительный набросок онтологической транс-
ценденции60, но он же и показывает, что неопределен-
ность ayaxov, к которому прорывалась трансценденция,
была слишком быстро определена.
Итак, мысль бытия никак не может оказаться этиче-
ским насилием. Наоборот, если бы не она, было запре-
щено позволять сущему быть тем, чем оно является, а
трансценденция была бы закрыта в идентификации и эм-
пирической экономии. Отказываясь в «Тотальности и
бесконечности» признавать какое бы то ни было значе-
ние за онтико-онтологическим различием, видя в нем
одну лишь военную хитрость и называя метафизикой
внутрионтическое движение этической трансценденции
(уважительное движение одного сущего к другому), Ле-
винас подтверждает предпосылки Хайдеггера — разве
тот не видел в метафизике (в метафизической онтологии)
забвения бытия и скрытия онтико-онтологического раз-
личия? «Метафизика не ставит вопроса об истине самого
Бытия»61. Она мыслит бытие имплицитным образом, как
это оказывается неизбежным для каждого языка. Вот по-
чему мысль бытия должна взять за свою отправную точ-
ку метафизику и предстать вначале в форме метафизики
метафизики, задаваясь вопросом: «Что такое метафизи-
ка?». Различие между имплицитным и эксплицитным оп-
ределяет всю мысль целиком, так что, будучи надлежа-
щим образом определенным, оно дает свою форму самым
радикальным разрывам и вопросам. «Верно, — говорит
также Хайдеггер, — что метафизика представляет сущее
в его бытии и, таким образом, мыслит бытие сущего. Но
она не мыслит различие Бытия и сущего.»62
Для Хайдеггера, следовательно, именно метафизика
(или метафизическая онтология) остается закрыта то-
тальностью, трансцендируя сущее только по направле-
нию к другому (высшему) сущему или бесконечной, или
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
конечной его тотальности. По своей сути эта метафизи-
ка связана с тем гуманизмом, который никогда не спра-
шивает, «каким образом сущность человека принадлежит
истине Бытия»63. «Неотъемлемое свойство всякой мета-
физики открывается в том, что она “гуманистична”.»64
А то, что предлагает нам Левинас — это одновременно и
метафизика, и гуманизм. Речь идет о том, чтобы царским
путем этики подступиться к высшему сущему, к истинно
сущему («субстанции » и тому, что «в себе », — таковы вы-
ражения Левинаса) как другому. Это сущее — человек,
определенное исходя из своего подобия Богу в своей сущ-
ности человека как лицо. Не в этот ли пункт целит Хай-
деггер, когда он говорит о единстве гуманизма, метафи-
зики и онто-теологии? «Встреча с лицом — это, в
абсолютном смысле, отношение с тем, что есть. Может
быть, один только человек является субстанцией — и то
потому, что он есть лицо.» Конечно. Но только человека
от животного будет здесь самым что ни на есть классиче-
ским образом отличать подобие человеческого лица и
лика Бога, определяя таким образом субстанциональ-
ность человека. «Другой похож на Бога.» Субстанцио-
нальность человека, позволяющая ему быть лицом, обос-
нована, таким образом, в подобии Богу, который является
Ликом и абсолютной субстанциальностью. Тема Лица
требует второй ссылки на Декарта. Левинас никогда не
формулирует ее — эту признанную схоластикой двузнач-
ность понятия субстанции в ее отношении к Богу и тво-
рениям (ср., например, «Первоначала философии»,
I, § 51). Проследовав по цепочке наших рассуждений, мы
все-таки оказались отосланными к схоластической про-
блематике аналогии. Но здесь мы не собираемся в нее
вдаваться65. Отметим просто, что выражение «человече-
ское лицо», мыслимое в горизонте учения об аналогии,
уже не будет настолько чуждым метафоре, как того, по-
хоже, хотелось Левинасу. «...Другой похож на Бога...» —
что это, если не изначальная метафора?
Вопрос о бытии менее всего является оспариванием
метафизической истины схемы подобия, которой, отме-
тим, пользуется так называемый «атеистический гума-
низм», дабы в ней же разоблачить процесс отчуждения.
Вопрос о бытии отступает к тому, что располагается до
этой схемы, до оппозиции различных гуманизмов, по на-
правлению к мысли бытия, которую уже предполагает
определение сущего как существующего в качестве че-
ловека или Бога и отношения их подобия, причем возмож-
ность таких отношений может открыться только через
допонятийное и доаналогическое единство бытия. Речь
не идет ни о том, чтобы подменить Бога бытием, ни о том,
чтобы постулировать его основание в бытии. Бытие су-
щего (например, Бога66) — это не абсолютное и не беско-
нечное сущее, так же как и не основание сущего вообще.
Вот почему вопрос о бытии никоим образом не угрожает
метафизическому зданию «Тотальности и бесконечно-
сти» (если брать ее просто как один пример из многих).
Просто он всегда удерживается вне поля действия «пе-
реопределения терминов» «онтология» и «метафизика»,
которое было предложено Левинасом. Тема этого пере-
определения играет, следовательно, ведущую роль, об-
ладает необходимым значением только лишь внутри эко-
номии и построения всей книги Левинаса в целом.
Что должен был бы значить для метафизики и гума-
низма вопрос о том, «каким образом сущность человека
принадлежит истине бытия» («Письмо о гуманизме»)?
Может, он выражался бы так: как мог бы быть возмож-
ным опыт лица, как мог бы он высказываться, если бы
мысль бытия уже не была включена в него? Действитель-
но, лицо — это исходное единство открытого взгляда и
права на слово. Но глаза и рот могут составить лицо толь-
ко в том случае, если, по ту сторону нужды, они могут
«позволить быть», если они видят и высказывают то, что
есть, как оно есть, если они подступаются к бытию того,
что есть. Но, поскольку бытие уже есть, оно не может
быть просто произведено взглядом и словом, оно может
быть лишь признано ими, оно должно вызвать и оклик-
нуть их самих. Нет слова без мысли бытия и без его вы-
сказывания. Так как бытия нет вне сущего, оно не могло
бы явиться в качестве самого себя, если бы не возмож-
ность слова. Само бытие может быть лишь мыслимо и
высказано. Оно современно Логосу, который сам может
быть только лишь Логосом бытия, его высказывающим.
Без этой взаимопринадлежности слова и бытия слово,
отделенное от бытия и заключенное в определенном су-
щем, было бы, в терминологии Левинаса, одним лишь кри-
ком нужды до всякого желания, жестом «я» в сфере
однородного сущего. Только когда осуществляется ре-
дукция к мысли бытия или подчинение ей, «сама фило-
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
софская речь» оказалась бы лишь «оплошностью, пово-
дом для непрекращающейся работы психоанализа, фи-
лологии или социологии, в которых иллюзия речи рас-
творяется в тотальности» (ТБ). Только тогда было бы
перехвачено дыхание у отношения ко внешнему. Итак, ме-
тафизика лица включает мысль бытия, предполагает раз-
личие бытия и сущего в тот самый момент, когда она о
нем умалчивает.
Если это различие изначально, если мыслить бытие
вне сущего — это мыслить ничто, так что эта мысль ни-
что никак не отличается от того, чтобы подойти к суще-
му в самом его бытии, тогда, несомненно, мы имеем пра-
во вместе с Левинасом сказать (выражая лишь некоторую
сдержанность по поводу словосочетания «бытие вооб-
ще»), что «открытию бытия вообще предшествует от-
ношение с сущим, которое выражает самого себя, а он-
тологическому плану — этический» (ТБ, курсив наш. —
Ж.Д.). Если у этого пред-шествования тот самый опти-
ческий смысл, который у него и должен быть, тогда та-
кое утверждение неоспоримо. В самом деле, отношение
с сущим, которое выражается, предшествует в порядке
существования открытию, открытой мысли самого бытия.
С тем лишь уточнением, что не может быть выражения —
в смысле слова, а не нужды — без скрыто уже предполо-
женной мысли бытия. Точно так же естественная уста-
новка фактически предшествует трансцендентальной
редукции. Но мы знаем, что онтологическое или транс-
цендентальное «пред-существование» не относится к по-
рядку фактов, да никто никогда и не собирался этого ут-
верждать. Это «пред-существование» не опровергает
фактическое или оптическое предшествование, но и не
подтверждает его. Отсюда следует, что, поскольку бы-
тия нет вне сущего — то есть на деле оно уже всегда оп-
ределено как это сущее, — оно всегда уже скрыто.
Поэтому заявление Левинаса о предсуществовании от-
ношения к сущему — это и есть формулировка такого из-
начального сокрытия. Бытие, не существующее до суще-
го — поэтому-то оно и есть История — начинает с того,
что скрывается за своим собственным определением. Это
определение как откровение сущего (Метафизика) ока-
зывается в то же время сокрытием бытия. И в этом нет
ничего случайного или достойного сожаления. «Откры-
тИе сущего, уделенный ему просвет затемняют ясность
бытия» («Тропы»). В таком случае не будет ли слишком
неосторожным сказать о мысли бытия как мысли, нахо-
дящейся под властью темы открытия (ТБ)? Если бы не это
сокрытие бытия за сущим, не было бы вообще ничего, не
было бы самой истории. То, что бытие целиком и полно-
стью существует как история и мир, говорит о том, что
оно может существовать только в отступлении от опти-
ческих определений, данных в истории метафизики. Ибо
исторические «эпохи» — это метафизические (или онто-
теологические) определения бытия, заключаемого таким
образом в скобки, скрываемого метафизическими поня-
тиями. В свете этой странной истории-бытия Хайдеггер
воскрешает понятие эсхатологии, как оно появляется,
например, в «Тропах»: «Бытие само по себе эсхатологич-
но ». Нужно было бы как можно внимательнее продумать
отношение этой эсхатологии к эсхатологии мессианской.
Первая эсхатология предполагает, что война — это не
нечто случайное для бытия, но само бытие. Das Sein sel-
ber das Strittige ist («Письмо о гуманизме »). Это предло-
жение не стоит понимать через его гегелевские отзвуки:
негативность здесь не имеет начала ни в отрицании, ни в
тревоге первейшего бесконечного сущего. Быть может,
война вообще не мыслится здесь больше как негативность.
Исходное сокрытие бытия за сущим, ничем не пред-
варяемое в оптическом порядке и предшествующее про-
стой ошибке суждения, самим Хайдеггером называется,
как известно, блужданием. «Всякая эпоха мировой исто-
рии — это эпоха блуждания »(«Тропы »). Если бытие — это
время и история, тогда блуждание и сущность эпох неот-
менимы. Как же, в таком случае, обвинять эту мысль не-
скончаемого блуждания бытия в новом язычестве Места,
в превознесении удобного всем культа Оседлого (ТБ, ТС)?67
Поиск Места и Земли не имеет здесь, если еще нужно это
подчеркивать, ничего общего со страстной привязанно-
стью ко своей территории, местности, с каким-нибудь про-
винциализмом или партикуляризмом. По крайней мере,
такой поиск столь же мало связан с эмпирическим «нацио-
нализмом», как и с иудейской ностальгией по Земле, нос-
тальгией, вызванной не простой эмпирической страстью,
а вторжением слова и обета68. Истолковать хайдеггеров-
скую тему Земли и Дома как тему некоего национализма
или огораживания — не значит ли это перво-наперво вы-
разить некоторую аллергию — а этим словом или этим
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
обвинением Левинас играет очень часто — на саму «атмо-
сферу» философии Хайдеггера? Левинас признает, что его
«размышления», вдохновляясь некогда «философией
Мартина Хайдеггера», «в силу глубокой необходимости
принуждены покинуть атмосферу этой философии »(СС).
Речь здесь идет о необходимости, полную законность ко-
торой мы менее всего хотели бы оспаривать, предполагая
к тому же, что атмосфера никогда не может быть совер-
шенно отделена от самой мысли. Но разве голая истина
другого не появляется по ту сторону от «необходимости »,
«атмосферы» и некоей «истории»? И кто нам об этом рас-
скажет лучше самого Левинаса?
Итак, Место для Хайдеггера, так же как для Еврея и
Поэта — это никогда не эмпирическое Здесь, но всегда
Illic. Близость места всегда спрятана, как говорит Гель-
дерлин, комментируемый Хайдеггером69. Поэтому мысль
бытия — это не языческий культ Места, покуда Место —
это не данная, но обещанная близость. Но она просто не
языческий культ. Священное, о котором она говорит, не
принадлежит ни религии вообще, ни какой-либо частной
теологии, оно, следовательно, не может быть определе-
но никакой историей религии. Это Священное — изна-
чальный опыт божественного и божественности. Боже-
ственное, не будучи ни понятием, ни реальностью, должно
дать к себе доступ посредством близости, чуждой вся-
кой теории, мистической возбужденности, теологии или
обожению. В некотором смысле — который, повторим,
не является ни логическим, ни вообще оптическим — оно
предшествует всякому отношению с Богом или Богами.
Каков бы ни был тип этого отношения, для того, чтобы
его прожить и высказать, должно предполагаться неко-
торое предпонимание божества, бытия-богом Бога, того
«божественного измерения», о котором говорит и Леви-
нас, утверждая, что «оно открывается из человеческого
лица» (ТБ). Это все, и это, как обычно, и просто, и слож-
но. Священное — это «единственное по своей сущности
пространство божественного, которое одно только мо-
жет открыть дверь Богу и богам...» («Письмо о гуманиз-
ме»). Это пространство (по поводу которого Хайдеггер
говорит о Высоте70) располагается по эту сторону от веры
и атеизма. Они оба его предполагают. «Только из исти-
ны Бытия можно мыслить сущность Священного. Толь-
ко из сущности Священного можно мыслить Божествен-
ное. И только в свете сущности Божественного можно
помыслить и высказать то, что значит слово «Бог».»
(«Письмо о гуманизме »). Это предпонимание Божествен-
ного не может не предполагаться речью Левинаса имен-
но тогда, когда он желает противопоставить Бога священ-
ному. Невозможность для Бога и богов объявиться иначе,
чем в пространстве Священного и в свете божества — это
и предел, и начало конечного бытия как истории. Предел,
поскольку божественное — это не Бог. В некотором
смысле оно вообще ничто. «Верно, что Священное явля-
ется. Но бог остается вдали.»71 Начало, поскольку это
предвосхищение, как мысль бытия (мысль сущего Богом),
всегда видит, как Бог приходит, открывает возможность
(вероятность) встречи с Богом и диалога с Ним72.
То, что божественность Бога, позволяющая его мыс-
лить и именовать, не является ничем и, в особенности,
самим Богом, было выражено, к примеру, Майстером
Экхартом следующим образом: «Бог и божественность
так же отличаются друг от друга, как Небо и Земля... Бог
действует, а божественность бездейственна, ей не на что
действовать, в ней нет никакого действия и она не соби-
рается предпринимать никаких действий...» (Проповедь
Nolite timere eos). Но эта божественность и здесь опре-
делена как сущность триединого Бога. Когда же Майстер
Экхарт собирается двигаться за пределы определений,
движение, которое он очерчивает, остается, похоже, за-
ключенным в рамках оптической трансценденции: «Ко-
гда я сказал, что Бог — это не бытие, будучи превыше
бытия, я вовсе не усомнился в его бытии, но, напротив,
приписал ему высшее бытие» (Quasi Stella matutina...).
Эта негативная теология остается, несмотря ни на что,
теологией, так что ее задача, по крайней мере, если по-
нять ее выражения буквально, сводится к тому, чтобы
признать и высвободить неумолимую трансцендентность
бесконечно сущего, «бытия, которое превыше бытия и
отрицания сущности». По крайней мере, если понять ее
выражения буквально, но различие между метафизиче-
ской онто-теологией, с одной стороны, и мыслью бытия
(различия), с другой, показывает как раз существенное
значение буквы. Покуда все проходит через движение
экспликации, буквальное различие составляет почти все
различие в мысли. Вот почему мысль бытия, когда она
выходит за оптические определения, не оказывается при
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
этом ни негативной теологией, ни даже негативной он-
тологией.
«Онтологическое» предвосхищение, трансценден-
ция к бытию позволяет нам, следовательно, понимать
друг друга, когда мы например, говорим слово «Бог»,
даже если это понимание — всего лишь тот эфир, в ко-
тором может прозвучать разногласие. Эта трансценден-
ция обитает в каждом языке и основывает его, а вместе
с ним — и возможность бытия-вместе, возможность
Mitsein, которое гораздо старше тех его случайных
форм, вроде солидарности, команды или приятельства73,
с которыми его хотели смешать. Подразумеваемая всей
речью «Тотальности и бесконечности», освобождающая
диалог и встречу лицом к лицу, мысль бытия, которая
одна может позволить «позволить быть» другим в их
истине, оказывается, следовательно, насколько это воз-
можно близкой ненасилию.
Мы не говорим, что она — чистое ненасилие. По-
добно чистому насилию, чистое ненасилие — это проти-
воречивое понятие. Противоречивое не в той логике, ко-
торую Левинас называет «формальной». Чистое насилие,
отношение двух безличных существ — это и есть чистое
ненасилие. И обратно: чистое ненасилие, отсутствие от-
ношения тождественного к другому (в том смысле, как
его понимает Левинас) — это чистое насилие. Только
лицо может остановить насилие, но лишь потому, что
вначале оно может его спровоцировать. Левинас говорит
об этом совершенно отчетливо: «Насилие может быть
нацелено только на лицо» (ТБ). Поэтому, если бы не
мысль бытия, открывающая лицо, существовало бы толь-
ко чистое насилие или чистое ненасилие. В своем откры-
тии мысль бытия, следовательно, никогда не чужда не-
которому насилию74. Если эта мысль всегда появляется в
различии, если тождественное (мысль и бытие, мысль
бытия) никогда не является идентичным, тогда это в пер-
вую очередь значит, что бытие — это история, что оно
скрывает само себя в своем обнаружении и исходно тво-
рит насилие над собой в мысли, чтобы высказаться и поя-
виться. Бытие без насилия было бы бытием вне истории,
то есть ничем, не-историей, не-произведением, не-фено-
менальностью. Слово, которое высказывалось бы без ма-
лейшего насилия, не могло бы ничего определить или вы-
сказать, ничего не предлагало бы другому; оно не было
бы историей и ничего бы не показывало', это было бы ело-
во без «фразы», во всех смыслах этого слова и, в первую
очередь, в его греческом смысле.
В пределе язык ненасилия должен был бы, по Леви-
насу, оказаться языком, лишившимся глагола «быть», то
есть всякой предикации. Поскольку же глагол «быть» и
акт предикации подразумеваются любым другим глаго-
лом и любым общим именем, язык ненасилия был бы в
пределе языком чистого призыва, чистого обожания, ог-
лашающим одни только собственные имена, дабы обра-
титься к другому, остающемуся вдалеке. Такой язык на
самом деле был бы, как того явно желает Левинас, очи-
щен от всякой риторики, то есть, если, не делая никаких
натяжек, вспомнить первичный смысл этого слова, от вся-
кого глагола. Но можно ли назвать языком такой язык?
Возможен ли вообще язык, очищенный от всякой рито-
рики? Этого никогда не могли бы допустить греки, кото-
рые и рассказали нам, что значит «Логос». Платон, в
«Кратиле» (425а), «Софисте» (262ad) и «Письме VII»
говорит об этом в том духе, что нет Логоса, который не
предполагал бы переплетения имен и глаголов.
Наконец, если мы даже остаемся внутри построений
Левинаса, можно спросить, что принесет другому язык
без фразы, язык, который ничего не говорит? В «Тоталь-
ности и бесконечности » сказано, что язык должен давать
другому мир. Но учитель, который наложит запрет на
свою фразу, не сможет ничего дать; у него будут не уче-
ники, но одни лишь рабы. Одновременно для него стало
бы невозможным творчество — или литургия — как та
трата, разрывающая экономию, которую, согласно Ле-
винасу, нельзя мыслить как Игру.
Таким образом, поднимаясь на самую большую вы-
соту своего требования ненасилия, разоблачая переход
через бытие и понятие, мысль Левинаса должна была бы
предложить нам не только, как мы говорили выше, этику
без закона, но и язык без фразы. Это было бы вполне
последовательно, если бы лицо было одним только взгля-
дом, но ведь оно еще и слово; а в слове только фраза дает
крику нужды доступ к выражению желания. Нет фразы,
которая не давала бы определений, следовательно, нет
фразы, которая не проходила бы через насилие понятия.
Насилие появляется вместе с артикуляцией. А сама ар-
тикуляция открыта лишь (допонятийным) кругообраще-
нием бытия. Само изложение метафизики ненасилия яв-
ляется ее первым опровержением. Левинас, конечно, не
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
стал бы отрицать того, что всякий исторический язык
несет в себе определенный момент насилия и, следова-
тельно, некоторое насилие. Но по его мнению, начало и
возможность понятия покоятся не в мысли бытия, а в даре
мира другому как совсем-другому (см., напр., ТБ, р. 149).
В этой изначальной возможности приношения, в своем
еще молчаливом намерении, язык, якобы, является язы-
ком ненасилия (но язык ли он вообще в этом чистом на-
мерении?). Насилие приходит в него лишь в истории, в том,
что мы назвали фразой, принуждающей его артикули-
роваться в понятийном синтаксисе, открывающем путь
круговороту тождественного, подпадая под власть «он-
тологии» и того, что с точки зрения Левинаса остается
понятием понятий — бытия. Таким образом, понятие
бытия для него — это лишь абстрактное средство, про-
изведенное для дарования мира другому, тогда как сам
другой остается выше бытия. Поэтому только в своем
молчаливом начале язык, еще до бытия, мог бы быть язы-
ком ненасилия. Только откуда же вообще берется исто-
рия? Почему становится обязательной фраза? Потому ли,
что, если насильственно не оторвать это молчаливое на-
чало от него самого, если решить вовсе не открывать рта,
тогда самое худшее насилие молчаливо соседствовало бы
с идеей мира? Мир водворяется только в некотором оп-
ределенном и защищенном насилием слова молчании. Не
высказывая ничего, кроме горизонта этого молчаливого
мира, от которого к нему идет обращение, который дол-
жен быть сохранен и приготовлен им, слово неопреде-
ленно долго хранит молчание. Никогда нельзя уклонить-
ся от экономии войны.
Мы видим: отделять исходную возможность языка
как ненасилия и дара от насилия, необходимого в дейст-
венной истории — это значит искать подкрепления сво-
ей мысли в трансисторичности. Что и делает в открытую
Левинас, несмотря на свою предыдущую критику гуссер-
левского «неисторизма». Начало смысла для Левинаса —
это не-история, та сторона истории. Тогда нужно было
бы себя спросить, можно ли при таких посылках отожде-
ствлять мысль и язык, как это пытается делать Левинас;
является ли эта трансисторичнсоть еврейской по своему
истоку; отрывается ли эта не-история от истории вооб-
ще или только от некоторого частного эмпирического и
онтического измерения истории. Может ли призываемая
эсхатология быть отделена от всякой ссылки на историю?
Мбо наша собственная отсылка на историю, которую
мы здесь делаем, носит лишь контекстуальный харак-
тер- Экономия, о которой мы говорим, не сопрягается
более с тем понятием истории, которое всегда было в
ходу, и которое весьма трудно, если не невозможно,
отделить от его теологического и эсхатологического го-
ризонта.
Эта неисторичность смысла в его начале — и есть то,
что проводит глубокую черту между Хайдеггером и Леви-
насом. Поскольку для Хайдеггера бытие является истори-
ей, его нет помимо различия, оно изначально производит-
ся как (неэтическое) насилие, как сокрытие себя в своем
собственном разоблачении. И если язык всегда таким об-
разом прячет свое начало, то это не противоречие, но сама
история. В историко-онтологическом насилии75, позво-
ляющем мыслить насилие этическое, в экономии как мыс-
ли бытия само бытие по необходимости скрыто. Первым
насилием стало это сокрытие, но оно же и первое пораже-
ние нигилистического насилия и первая эпифания бытия.
Бытие — это не столько primum cognitum, как говорили
раньше, сколько первое скрытое, причем эти два опреде-
ления никак не противоречат друг другу. Для Левинаса же,
напротив, бытие (понятое как понятие) является первым
скрывающим, а само онтико-онтологическое различие как
будто бы нейтрализует отличие и бесконечную инаковость
совсем-другого. Само оно должно мыслится лишь только
при условии предположения идеи бесконечности, непред-
виденного вторжения совсем-другого сущего. Совсем-дру-
гой должен был бы, следовательно, предшествовать раз-
личию между бытием и сущим и той исторической
инаковости, которая им открывается. Для Левинаса, как и
для Хайдеггера, язык оказывается одновременно раскры-
тием и удержанием, просветом и затемнением, для обоих
сокрытие является понятийным жестом. Но по Левинасу
понятие располагается на стороне бытия, а по Хайдегге-
ру — на стороне оптического определения.
Эта схема не только подчеркивает противополож-
ность, но и, как часто случается, позволяет догадаться о
сходстве. Сходстве двух «эсхатологий», которые с про-
тивоположных сторон приходят к тому, чтобы повторить
и поставить под вопрос все философское приключение,
берущее начало в платонизме. Они вопрошают его изнут-
ри и извне в вопросе, поставленном Гегелю, в котором
собирается и продумывается вся метафизика. Это сход-
ство и близость предугадываются в таком типе вопросов:
с одной стороны, разве Бог (бесконечно-другое-сущее)
может быть сущим, понимаемым через мысль (или, в ча-
стности, через божественность) бытия? Иначе говоря,
может ли бесконечное быть названо онтической опреде-
ленностью? Разве Бог не мыслился всегда как имя того,
что не есть высшее сущее, предпонимаемое из мысли бы-
тия? Как имя того, что не может быть предвосхищено,
исходя из измерения божественного? Разве Бог — это не
другое имя бытия (имя, потому что не понятие), мысль о
котором должна полностью открывать различие и онто-
логический горизонт, вместо того, чтобы просто угады-
ваться в нем? Открытие горизонта, а не открытие в гори-
зонте. Оптическая закрытость уже должна была бы
оказаться разбитой мыслью о бесконечном в значении
того немыслимого, которое необходимо было бы иссле-
довать в пространстве того, что Хайдеггер называет ме-
тафизикой и онто-теологией. И с другой стороны-, разве
мысль бытия — это не мысль другого и о другом, развер-
тываемого до того, как оказаться однородной идентич-
ностью понятия и удушьем тождества? Не является ли
«вне-историчность» эсхатологии другим именем для вы-
хода к более глубокой истории, к самой Истории? К ис-
тории, которая, не имея более возможностей распола-
гаться в некоем изначальном или конечном присутствии,
должна была бы сменить собственное имя?
Выражаясь иначе, можно было бы сказать, что он-
тология предшествует теологии лишь в том смысле, что
она заключает в скобки содержание онтического опре-
деления того, что в философской мысли после ее гре-
ческого периода стали называть Богом, а именно со-
держание позитивной бесконечности. Позитивная
бесконечность обладает лишь номинальной видимостью
онтического определения. На самом деле она может быть
тем, что отказывается быть оптическим определением,
понимаемым в свете и исходя из мысли бытия. Напротив,
только бесконечность — как не-определение и конкрет-
ное действие — могла бы позволить мыслить различие
между бытием и оптическим определением. Само опти-
ческое содержание бесконечности должно было бы раз-
рушить онтическую замкнутость. Мысль о бесконечном
должна была бы явно или неявно открыть оптико-онто-
логический вопрос и различие. Парадоксальным образом,
эта мысль о бесконечности (то, что называют мыслью о
Боге) должна была бы позволить утвердить предшество-
вание онтологии по отношению к теологии, и то, что
мысль бытия предположена в самой мысли о Боге. Несо-
мненно, что именно по этой причине, внимательно отно-
сясь к присутствию однозначного бытия или бытия во-
обще во всякой мысли, Дунс Скот и Мальбранш не
считали обязательным различение уровней онтологии
(или метафизики) и теологии. Хайдеггер часто напоми-
нает нам о «странной простоте » мысли бытия — это и есть
ее трудность и то, что прикасается к «непознаваемому».
Для Хайдеггера бесконечность была бы лишь вторичным
определением этой простоты. А для Мальбранша она ее
первая форма: «Идея бесконечности по объему включа-
ет, следовательно, больше реальности, чем идея небес, а
идея бесконечного во всех родах бытия, идея, соответст-
вующая этому слову, то есть само бесконечно совершен-
ное бытие, подразумевает бесконечно больше реально-
сти, хотя восприятие, через которое эта идея касается
нас, является наилегчайшим; ведь восприятие оказыва-
ется тем более легким, чем более оно обширно и, соот-
ветственно, восприятие бесконечного должно быть са-
мым легким» («Беседа христианского философа с
китайским»). Поскольку бытие не является ничем (опре-
деленным), оно необходимым образом производится в
различии (или как различие). Говорить, с одной стороны,
что оно бесконечно, и, с другой, что оно открывается и
производится лишь вместе, «в единстве» (in eins mit) с
Ничто («Что такое метафизика? »), так что оно «конечно
по своей сути» (ibid.), — значит ли это говорить нечто
принципиально разное? Но необходимо показать, что
Хайдеггер никогда не хотел сказать нечто «отличающее-
ся » от классической метафизики, а само преодоление ме-
тафизики не может быть новой метафизической или
онто-теологической темой. Поэтому вопрос о бытии су-
щего не просто вводит наряду с другими вопросами во-
прос о сущем-Богом, но уже предполагает Бога как саму
возможность своего вопроса, как ответ в своем вопросе.
Бог должен подразумеваться всяким вопросом о Боге,
предшествуя всякому «методу» ответа на вопрос. Само
содержание мысли о Боге — это содержание бытия, о ко-
тором нельзя поставить вопрос (если только он не постав-
лен им самим) и которое нельзя определить как некое
сущее. В «Простеце» (Idiota), этом великолепном раз-
мышлении Николая Кузанского, разворачивается вся эта
8 Ж. Деррида
226
включенность Бога во всякий вопрос и, прежде всего, в
вопрос о Боге. Например:
«П р о с т е ц. Посмотри, насколько проста теологи-
ческая сложность, ведь ответ всегда дается ищущему в
зависимости от способа постановки вопроса.
Ритор. Это весьма необыкновенно.
Простец. Всякое исследование, касающееся Бога,
предполагает объект своего исследования. На всякий во-
прос о Боге нужно ответить именно тем, что уже предпо-
лагает этот вопрос. Ибо, хотя он превосходит всякое зна-
чение, Бог обозначает себя каждым значением, каково бы
ни было слово, которое его выражает.
Ритор. Объясни это.
Простец. Не предполагает ли вопрос о существо-
вании Бога само понятие существования?
Ритор. Конечно.
Простец. Как только ты задал вопрос “Существует
ли Бог?”, ты можешь ответить тем, что уже содержится в
вопросе, то есть он существует, поскольку он есть само
Бытие, предполагаемое вопросом. То же самое верно для
вопроса “Что есть Бог?”: поскольку этот вопрос предпо-
лагает чтойность, ты можешь ответить, что Бог — это аб-
солютная Чтойность сама по себе. Так же и для любого
другого вопроса. Не стоит колебаться, поступая так. Ибо
Бог — это сама всеобщая предположенность, предпола-
гаемая всеразличными способами подобно тому, как при-
чина предположена в следствии. Вот видишь, Ритор, как
просты все теологические трудности... Если все то, что
уже заранее предположено во всяком теологическом во-
просе дает, таким образом, ответ на вопрос, не сущест-
вует, следовательно, вопроса, который касался бы само-
го Бога, поскольку в заданном вопросе ответ совпадает с
постановкой вопроса».76
Делая из отношения к бесконечно другому начало
языка, Левинас в конечном счете решается предать свой
замысел в своей философской речи. Ведь она слышится и
научает, только позволив предварительно впустив в себя
бытие и тождественное. Это довольно классическая схе-
ма осложнена метафизикой диалога и наставничества,
доказательством, которое противоречит доказуемому
самой строгостью и истинностью своего пути. Таков ты-
сячу раз разоблаченный круг скептицизма, историцизма,
психологизма, релятивизма и т.д. Но настоящее имя это-
го преклонения мысли перед Другим, этого решительно-
го принятия рассогласованного рассогласования, вдох-
новленного истиной, более глубокой, нежели «логика»
философского дискурса, настоящее имя этого отвраще-
ния от понятия, трансцендентальных a priori и горизон-
тов языка — это эмпиризм. В сущности, он всегда со-
вершал только одну ошибку: философскую ошибку
представлять себя в качестве философии. Нужно, конеч-
но, признать глубину намерения эмпиризма, скрытую под
наивностью некоторых его исторических выражений. Это
намерение — сон о чисто гетерологической в своем ис-
токе мысли. Чистая мысль чистого различия. Эмпи-
ризм — это ее философское имя, ее метафизическая пре-
тензия и скромность. Мы говорим о сне, поскольку он
исчезает с приходом дня и восходом языка. Кто-то воз-
разит, что спит-то как раз язык. Конечно, но тогда нуж-
но снова вернуться к классике и найти какие-то другие
мотивы для разведения языка и мысли. Сегодня по этому
пути уже почти никто не ходит, он, быть может, даже
слишком заброшен. В том числе и Левинасом.
Усиливая тему бесконечной внешности другого, Ле-
винас, таким образом, принимает план, который — бо-
лее или менее скрыто — воодушевлял все жесты, назван-
ные в истории философии эмпиризмом. Он принимает
этот план с отвагой, глубиной и решительностью, кото-
рые раньше были недостижимы. Дойдя до конца своего
проекта, он полностью обновляет само понятие эмпириз-
ма и выворачивает его наизнанку, предъявляя его ему са-
мому в качестве метафизики. Невзирая на гуссерлевские
и хайдеггеровские этапы в своей мысли, Левинас не со-
бирается отступать и перед самим словом «эмпиризм».
По меньшей мере, два раза он провозглашает «радикаль-
ный эмпиризм, полагающийся на наставление внешнего »
(ТБ). Опыт другого (бесконечного) неотвратим, значит
он является «опытом по преимуществу» (ibid.). По пово-
ду же смерти, которая является обязательным источни-
ком такого опыта, Левинас говорит об «эмпиризме, в ко-
тором нет ничего позитивистского»77. Но можно ли
вообще говорить об опыте другого и различия? Разве по-
нятие опыта не было всегда определяемым через мета-
физику присутствия? Разве опыт — это всегда не встреча
неотменимого присутствия, то есть восприятие феноме-
нальности?
8*
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
В этом сговоре эмпиризма с метафизикой нет ниче-
го удивительного. Критикуя или, скорее, «определяя» ее
одним и тем же жестом, Кант и Гуссерль вполне призна-
вали их солидарность. Ее нужно было бы продумать бо-
лее глубоко. В этом продумывании весьма далеко ушел
Шеллинг78.
Эмпиризм всегда определялся философией от Пла-
тона до Гуссерля как не-философия, как философская
претензия не-философии, неспособной ни оправдать
себя, ни оказать помощь самой себе как слову. Правда,
когда эта неспособность принимается намеренно, она
оспаривает решение и последовательность Логоса (и фи-
лософии) в самом его корне, вместо того, чтобы позво-
лить ему себя опрашивать. Ничто, следовательно, не мо-
жет поколебать греческий логос — философию —
сильнее этого вторжения совсем-другого, ничто не мо-
жет настойчивее направлять его к своему началу, так же
как и к своей смертности, к своему другому.
Но если назвать этот опыт бесконечно другого иу-
даизмом (а для нас это только гипотеза), то надо будет
продумать ту необходимость, в которой он оказывается,
то обязательство, принятое им, которое заключается в
том, чтобы произвести самого себя в качестве логоса,
пробудить греческий язык в — казалось бы — совершен-
но замкнутом синтаксисе своего сна. Необходимость из-
бежать наихудшего насилия, которое угрожает тому, кто
молчаливо предается другому в ночи. Необходимость
заимствовать средства у единственного философского
логоса, который всегда может обратить «кривую про-
странства» в пользу тождественного. Тождественное,
которое не является идентичным и не закрывает друго-
го. Один грек сказал однажды: «Если нужно философ-
ствовать, то нужно философствовать. Если не нужно фи-
лософствовать, то все равно нужно философствовать
(чтобы высказать это и продумать). В любом случае все-
гда нужно философствовать ». Левинас знает это лучше,
чем кто бы то ни было другой: «Нельзя было бы отка-
заться от Писаний, не умея их читать, практиковать фи-
лологию без всякой поддержки со стороны философии,
приостановить философский дискурс, если в том есть ну-
жда, не философствуя» (ТС). «Я убежден, что необхо-
димо обратиться к посреднику всякого понимания и вся-
кого согласия, в котором отражается всякая истина, то
есть к греческой культуре и к тому, что она породила: к
логосу, к связной речи разума, к жизни в разумном Госу-
дарстве. Таково истинное пространство всякого согла-
сия »(ТС). Такое место встречи не могло бы просто пред-
ложить гостеприимность встречи той мысли, которая по
отношению к нему оставалась бы чуждой. Точно так же
и грек не мог бы покинуть свой дом, одолжив его вместе
со своим языком еврею и христианину, встретившимся у
него дома (поскольку в тексте, который мы только что
процитировали, речь идет о самой встрече). Греция — это
не нейтральная полоса, временное пристанище безо вся-
ких границ. История, в которой приходит к себе грече-
ский логос, не может быть счастливой случайностью,
предоставляющей место согласия тем, кто слышит эсха-
тологическое пророчество и тем, кто его не слышит. Она
не может быть вне любой мысли, не может быть ее слу-
чайностью. Греческое чудо — это не то или это, не то
или это удивительное достижение, а сама невозможность,
испытываемая каждой мыслью, обращаться с гречески-
ми мудрецами как, по словам Иоанна Златоуста, «мудре-
цами извне». Исповедуяеяекыуатедouaiag, признав уже в
своем втором слове (например, в «Софисте») то, что
инаковость должна обнаруживаться у самого истока
смысла, принимая инаковость вообще в сердце логоса,
греческая мысль навсегда защитила себя от всякого аб-
солютно неожиданного для нее призыва.
Являемся ли мы евреями? Или греками? Мы живем в
различии между греком и евреем, которое, быть может,
составляет единство того, что называют историей. Мы
живем в различии и самим различием, то есть в том лице-
мерии, о котором Левинас говорит, что оно «не просто
случайный неблаговидный недостаток человека, но глу-
бокая разорванность самого мира, привязанного одно-
временно и к философам, и к пророкам» (ТБ).
Греки ли мы? Или мы евреи? Кто мы? Может быть,
мы сначала (не в хронологическом, а пре-логическом
смысле) евреи или сначала греки? Обладает ли сам стран-
ный диалог между евреем и греком, сам их мир, формой
абсолютной спекулятивной логики Гегеля, живой логи-
ки, примиряющей формальную тавтологию и эмпириче-
скую гетерологию79 уже после того, как эта логика
помыслила пророческую речь в «Предисловии» к «Фе-
номенологии духа»? Или же у этого мира форма, наобо-
рот, бесконечного разделения, немыслимой, невыговари-
ваемой трансценденции другого? К горизонту какого
мира принадлежит язык, ставящий эти вопросы? Где он
черпает энергию своего вопроса? Может ли он объяснить
историческую связку иудаизма и эллинизма? Какова пра-
вомочность, каков смысл связки в этом предложении са-
мого, быть может, гегельянского из современных рома-
нистов: «Jewgreek is greekwjew. Extremes meet >ю?
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Emmanuel Levinas, Tbeorie de Г intuition dans la pheno-
menologie de Husserl, Ire ed., Alcan, 1930; 2re ed., Vrin,
1963; De Г existence а Г exist ant (Fontaine, 1947); Le temp
et Г autre in «Le choix, le Monde, PExistence» (Cahiers du
College philosophique, Arthaud, 1949); En decouvrant
I9existence. Avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1949; Totali-
tH et Infini, Essai sur Г exteriorite, La Haie, M. Nijhoff,
1961; Difficile Libertu, Essai sur le judaisme, Albin Mich-
el, 1963.
Мы будем ссылаться также на различные статьи, назва-
ния которых приведем непосредственно в тексте. Глав-
ные работы мы будем обозначать первыми буквами на-
звания: «Теория интуиции... (Tbeorie de V intuit on}» —
ТИ; «От существования к существующему (D^ Vexistence
а Г existant)» — СС; «Время и Другой (Le Temps et
Г Autre)»— ВД; «Открывая существование (En decou-
vrant Vexistence)» — ОС; «Тотальность и бесконечность
(Totalite et infini)»— ТБ; «Трудная свобода (Difficile
Liberte)» — ТС.
Этот очерк был написан, когда появилось еще два важ-
ных текста Эммануэля Левинаса: «La Trace de 1’Autre»
(«След Другого») in Tijdschrift voorFilosofie, sept. 1963
и «La Signification et le Sens » («Значение и смысл ») in Re-
vue de metaphysique et de morale, 1964, № 2. Их, к сожа-
лению, мы можем использовать только в весьма крат-
ких ссылках.
2 Желая вначале просто возродить онтологическую на-
правленность, уснувшую было в метафизике, пробудить
«фундаментальную онтологию» в «онтологии метафи-
зической», Хайдеггер, столкнувшись с цепкостью тра-
диционных двусмысленных выражений, в конечном ито-
ге предлагает вовсе отказаться от терминов «онтология »
и «онтологический» («Введение в метафизику»). Отны-
не вопрос о бытии не подчиняется никакой онтологии.
3 То есть о релятивизме: истина философии не зависит от
конкретного факта того или иного греческого или ев-
ропейского события. Наоборот, необходимо подойти к
греческому или европейскому эйдосу, отправляясь от
того вторжения или зова, происхождение которого по-
разному определяется Гуссерлем и Хайдеггером. Но оба
они считают, что «вторжение философии» («Aufbruch
oder EinbruchderPhilosophie» —Гуссерль, Кризис..,) —
это «изначальный феномен», характеризующий Европу
в ее «духовном облике» (ibid.). Оба они полагают, что
«слово cpiXooocpia говорит нам, что философия — это что-
то, что в первую очередь и прежде всего остального оп-
ределяет существование греческого мира. Более того —
в своей ocHOBeqnXoaocpia определяет самый что ни на есть
глубинный ход западноевропейской истории. Избитое
выражение «западноевропейская философия» на самом
деле является тавтологией. Почему? Да потому, что «фи-
лософия» является греческой по своей сути, причем
«греческой» здесь значит следующее: философия по
своему изначальному существу такова, что первым она
захватывает один единственный греческий мир, требуя
его в качестве места своего развертывания» Heidegger,
Qu’est-ce que la philosophic? Trad. K. Axelos et J. Beau-
fret. О том, как следует понимать эти отсылки к Греции,
см. также Chemins..., trad. W. Brokmeier.
4 Гуссерль: «Разум не терпит разделения на «теоретиче-
ский», «практический», «эстетический» и т.д.» (La Phi-
losophic сотте prise de conscience de lf humanite, trad. P.
Ricoeur, Verite et Liberte). Хайдеггер: «Такие термины,
как «логика», «этика», «физика» появляются лишь в то
мгновение, когда изначальная мысль приближается к
своей потере» Lettre sur I*humanisme, trad. R. Mounier.
5 Ограниченного не только по причинам частного харак-
тера выбранной точки зрения, обширности и богатства
работ Левинаса, материальных и иных ограничений дан-
ного очерка. Дело еще и в том, что письмо Левинаса, за-
служивая отдельного исследования, определяется через
стилистический жест, который, особенно в «Тотально-
сти и бесконечности», менее всего позволяет отделить
себя от интенции, запрещая, таким образом, прозаиче-
ское выхолащивание в понятийной схеме, являющееся
первым насилием всякого комментария. Хотя сам Леви-
нас, конечно, рекомендует говорить прозой, рвущей с
очарованием и дионисийским насилием, запрещающей
поэтическую восхищенность, это ничего не меняет: в
Насилие и метафизика «Письмо и различие» Ж. Деррида
«Тотальности и бесконечности» превосходное исполь-
зование метафор, почти всегда, если не всегда, сторо-
нящееся риторических злоупотреблений, несет в своем
пафосе самые решающие моменты движения дискурса.
Отказываясь от их воспроизведения в нашей лишенной
очарования прозе, будем ли мы верны этому движению,
или, наоборот, предадим его? Кроме того, само разви-
тие тем в «Тотальности и бесконечности» не является
ни чисто дескриптивным, ни чисто дедуктивным. Оно
развертывается с бесконечной настойчивостью вод, на-
катывающихся на пляж: возвращение и повторение од-
ной и той же волны к тому же самому берегу, когда, на-
кладываясь каждый раз на предыдущее, все движение
бесконечно обновляется и обогащается. В своем вызове
критику и комментарию, «Тотальность и бесконеч-
ность» — это не трактат, а произведение.
6 В конце «Трудной свободы» в разделе «Подпись» мож-
но найти опорные точки философской биографии Ле-
винаса.
7 См. La Technique phenomenologique in Husserl, Cahiers
de Royaumont, и Intentoannalite et Metaphysique in Re-
vue philo sophique, 1959.
8 Другой, латинский, предок будет картезианским: идея
Бесконечного открывается мысли как то, что всегда вы-
ходит за ее пределы. Мы, таким образом, указываем на
те два единственных философских жеста, которые, бу-
дучи отделенными от их авторов, были Левинасом пол-
ностью приняты и признаны в качестве невиновных. Вне
этих двух прозрений вся остальная традиция под име-
нем бесконечного всегда понимала только «ложно-бес-
конечное », которое не может абсолютным образом пре-
взойти Тождественное, то есть это было бесконечное как
неопределенный горизонт или трансцендентность цело-
го по отношению к частям.
9 См. философские и поэтические примеры, данные
Г. Башляром в La Terre et les Reveries du repos, p. 22 et
suiv.
10 Отношение Левинаса к Гуссерлю всегда подчиняется
этой схеме. Объективизм и превознесение теоретическо-
го знания являются, якобы, тем заключением или бук-
вой гуссерлевского текста, которые предают дух интен-
ционального анализа и феноменологии. См., например,
«Интенциональность и метафизику»: «Крупное дости-
жение феноменологии состоит в том, что интенциональ-
ность или отношение с иным не застывает, распадаясь
на субъект и объект. Конечно, сам Гуссерль интерпре-
тирует и анализирует это превосхождение трансценден-
тальной интенциональностью интенциональности тео-
ретической, сводя первую к некому другому набору
интуиций, например, к “малым восприятиям”». (Подпи-
сался бы сам Гуссерль под такой интерпретацией своей
«интерпретации »? В этом мы далеко не уверены, но здесь
не место заниматься этим вопросом.) Затем идет описа-
ние дообъектной сферы интенционального опыта, пол-
ностью выходящего из себя к другому (причем по наше-
му мнению это описание никоим образом не выходит за
пределы определенного сорта гуссерлевских описаний).
Та же самая схема в «Феноменологической технике » и в
«Тотальности и бесконечности»: «существенный урок»
Гуссерля противопоставляется его же «букве». «Какое
имеет значение то, что в буквально понятой гуссерлев-
ской феноменологии эти непредвиденные горизонты
тоже интерпретируются как мысли, направленные на
объекты!»
11 С таким утверждением Гуссерлю, конечно, было бы не-
легко согласиться. Точно так же можно было бы спро-
сить, учитывается ли в анализе, посвященном полаганию
в доксе и параграфу 117 «Идей» (ТИ, р. 192), то необы-
чайное расширение понятий «доксы» и «полагания»,
которое осуществил Гуссерль, уже продемонстрировав-
ший заботу о сохранении всей оригинальности практи-
ческого, аксиологического или эстетического. Что же
касается исторического значения редукции, то в
1930 году, если судить только по опубликованным про-
изведениям, оно еще не было темой для Гуссерля. Мы
еще вернемся к этому вопросу. Пока же нас интересует
не истина взглядов Гуссерля, а путь Левинаса.
12 Относительно представления, его статуса и ценности в
гуссерлевской феноменологии, ставшем важным пово-
дом для расхождения, Левинас, похоже, никогда не пе-
реставал колебаться. Как и ранее, это почти всегда ко-
лебание между буквой и духом. Иногда также — между
правом и фактом. За этим движением можно проследить
по следующим отрывкам: ТИ, р. 90 и далее; ОС, р. 22-23
и особенно р. 52; la Technique Phenomenologique, р. 98-
99, ТБ р. 95 и далее.
13 В ОС, в то время (1940-1949), когда никаких неожидан-
ных поворотов по этому вопросу уже не предвиделось,
этот пункт критики все еще будет оставаться централь-
ным: «У Гуссерля феномен смысла никогда не был оп-
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
ределен историей». (Мы не хотим сказать, что эта фра-
за должна была бы в конечном счете оказаться в проти-
воречии с планами Гуссерля. Но чем бы ни были эти пла-
ны в своей основе и своем результате, не кажутся ли они
гораздо более проблематичными, чем это, похоже, хо-
телось бы думать Левинасу?)
14 Даже Гегель не оказывается исключением из правила.
Противоречие постоянно преодолевается, полностью
снимаясь в конечном счете. Предельная смелость состоя-
ла бы в том, чтобы обратить против самого Гегеля обви-
нение в формализме и разоблачить спекулятивную
логику как логику рассудка, тавтологию. Можно вооб-
разить себе всю сложность такой задачи.
15 Другое неудобство: техника сама по себе никогда про-
сто так не осуждалась Левинасом. Ведь она может спа-
сти от худшего, «реакционного », насилия, то есть от на-
силия восхищенное™ священным, укорененности и
естественной близости с местом своего обитания. «Тех-
ника отрывает нас от хайдеггеровского мира и от пред-
рассудков Места». Она дает шанс «позволить человече-
скому лицу просиять в его наготе» (ТС). Мы еще
вернемся к этому. Здесь же мы лишь хотим указать на
предположение, что всякая философия ненасилия в ис-
тории — а где бы еще она имела смысл? — способна
лишь выбирать меньшее насилие вместо большего в не-
коей экономии насилия.
16 «Liberte et Commandement» in Revue de metaphysique el
de morale, 1953.
17 Среди многочисленных отрывков, разоблачающих бес-
силие так называемой «формальной логики» перед зна-
чениями голого опыта, отметим в частности ТБ, р. 168,
237, 253, 345, где описание плодовитости должно при-
знать «дуальность Идентичного». (Один в двух, один в
трех... Разве греческий Логос уже не пережил когда-то
подобных потрясений? Не принял их в самого себя?)
18 Это утверждение оказывается одновременно глубоко
верным Канту («Уважение всегда относиться только к
личностям» — «Критика практического разума») и ан-
тикантианским по своим основаниям, ведь каким же об-
разом без формального элемента универсальности, без
порядка чистого закона уважение другого, само уваже-
ние и другой могли бы избежать эмпирической и пато-
логической непосредственности. Как все-таки они, по
мнению Левинаса, избегают ее? Можно только выразить
сожаление, что нигде не проводится никакого тщатель-
ного и систематического сопоставления именно с Кан-
том. Насколько мы знаем, лишь в одной статье был бро-
шен по ходу дела намек на «кантовские отголоски» и на
«практическую философию Канта, к которой мы испы-
тываем особенную близость» («L’ontologie est-elle fon-
damentale?» R.M.M. Repris in Phenomenologie, Existence).
Такое сопоставление могло бы быть проведено не толь-
ко в отношении этических тем, но и по различию между
тотальностью и бесконечностью, по поводу чего у Кан-
та, как и у других, и, может быть, даже больше чем у дру-
гих, были кое-какие идеи.
19 Левинас часто обвиняет наставничество Сократа, кото-
рое ничему не учит, которое учит только тому, что уже
знаешь, которое все выводит из себя, то есть из Я и из
Тождественного как Памяти. Воспоминание — это тоже
процессия Тождественного. По крайней мере в этом
пункте Левинас не сможет противопоставить себя Кьер-
кегору (см., например, J.Wahl, Etudes kierkegaardiennes,
рр. 308-309): его критика платонизма оказывается здесь
буквально совпадающей с критикой Кьеркегора. В самом
деле, Кьеркегор каждый раз противопоставлял Сокра-
та Платону, когда речь заходила о воспоминании. Оно,
будто бы, принадлежит к «платоновской спекуляции, от
которой Сократ отстранялся» (Post-Scriptum).
20 «А priori et subjectivite» in Revue de Metaphysique et de
Morale, 1962.
21 Manifestes philosophique, trad. L. Althusser.
22 M. de Gandillac, Introduction aux oeuvres choisies de Nico-
las de Cues, p. 35.
23 N.R.F., dec. 1961: «Connaissance de 1’inconnu».
24 Но для Мерло-Понти, в отличие от Левинаса, феномен
инаковости был исходно, если не исключительно, фено-
меном движения темпорализации.
25 Открещиваясь от «смешного намерения «исправлять»
Бубера» (ТБ), Левинас, по существу, упрекает отноше-
ние Я-Ты в том, что оно 1) является взаимным и сим-
метричным, причиняя таким образом ущерб высоте и,
главное, разлуке и тайне; 2) является формальным, по-
скольку оно может «объединять как человека с вещами,
так и Человека с человеком» (ТБ); 3) предпочитает пред-
почтение, «частное отношение», «подполье» парочки,
«вполне самодостаточной в забвении всего остального
мира» (ТБ). Дело в том, что у самого Левинаса, несмот-
ря на протест против нейтральности, всегда присутст-
вовала тяга к третьему, универсальному свидетелю, лицу
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
мира, которое оберегает нас от «отвратительного спи-
ритуализма» Я-Ты. Конечно, нельзя с достоверностью
утверждать, узнал ли Бубер себя в такой интерпретации.
Можно даже заметить, что он вполне предвидел подоб-
ного рода разногласия. Разве он не уточнял, что отно-
шение Я-Ты не является ни предпочтением, ни исклю-
чением, всегда предшествуя подобным случайным
эмпирическим модификациям? Напротив, отношение Я-
Ты, основанное на абсолютном Я-Ты, обращающем нас
к Богу, открывает возможность всякого отношения к
другому. Если понимать его в его изначальной подлин-
ности, то оно не оказываются ни сбивающим с толку, ни
развлекательным. Это противоречие, как и многие из тех,
которыми хотели опутать Бубера, исчезает, как говорит-
ся в послесловии к «Я и Ты», на «высшем уровне суж-
дения» и в «парадоксальном указании Бога как абсо-
лютной личности»... «Бог... сообщает свой характер
абсолюта отношению с человеком, в которое он входит.
Обращаясь к нему, человек, следовательно, не должен
отвращаться ни от какого отношения между Я и Ты. Эти
отношения он возводит к Богу, даруя им возможность
преобразиться перед “Его ликом”.»
26 По вопросу о высоте Бога в его отношении с человеком
или ребенком, находящимися в положении лежа (напри-
мер, больной на кровати или своем смертном одре), по
вопросу об отношении между клиникой и теологией см.,
например, Feuerbach, op, cit. р. 233.
27 Здесь нужно было бы задать вопрос именно Мальбран-
шу, который тоже бился над проблемой света и лика Бога
(в особенности в X «Просветлении»).
28 Мы не будем выходить за пределы этой понятийной схемы.
Совершенно тщетным намерением было бы вдаваться
здесь в описания, посвященные внутреннему простран-
ству, экономии, наслаждению, жилью, женственному и
вообще всему тому, что собрано под заглавием «По ту
сторону лица» и чье положение несомненно заслужива-
ет массы вопросов. Эти исследования — не только неус-
танная и непрерывающаяся ни на мгновение деструкция
«формальной логики »: они настолько искусны и настоль-
ко свободны от всех традиционных понятийных схем, что
комментарий объемом всего в несколько страниц беско-
нечно извратил бы их. Так что пусть нам будет достаточ-
но знать о том, что они зависят от той понятийной мат-
рицы, которую мы только что обрисовали, хотя они и не
выводятся из нее, а постоянно ее порождают.
29 Обо всех этих решающих темах идентичности, тождест-
венности и равенства, относительно которых противо-
поставляются Гегель и Левинас, см. J. Hyppolite, Genese
et structure de la phenomenologie de I’ esprit, 1.1, p. 147 и
далее, и Heidegger, Identitdt und Differenz.
30 Мы думаем здесь о различии между дискурсом и наси-
лием, общем, в частности, для Левинаса и Э. Вейля. Прав-
да, у них оно имеет совершенно различное значение.
Левинас походя отмечает этот факт и, отдавая Э. Вейлю
дань уважения за «строгое и систематическое исполь-
зование понятия “насилия” в его противоположности
дискурсу», утверждает, что сам он придаст этому раз-
личию совершенно «иной смысл » (ТС). Мы бы даже ска-
зали, — диаметрально противоположный смысл. Нена-
сильственный дискурс, признаваемый Э. Вейлем — это
онтология, проект онтологии (см. Logique de la philoso-
phic, например, p. 28 и далее, La Naissance de I’ ontologie,
Le Discours). «Согласие между людьми установилось бы
само собой, если бы они занимались не собой, а тем, что
есть»; полюс такого согласия в соответствии, а его стиль
по меньшей мере кажется гегельянским. Для Левинаса
такое соответствие в онтологии — это само насилие:
«конец истории» для него не в абсолютной Логике, аб-
солютном соответствии Логоса самому себе, не в согла-
сии в абсолютной системе, а в Мире разлуки, разделен-
ности абсолютов. И обратно, разве для Э. Вейля не будет
самим насилием речь мира по Левинасу, речь, сохраняю-
щая разделение и отказывающаяся от горизонта онто-
логического соответствия? Построим схему: по Э. Вейлю
насилие будет или, скорее, было бы уничтожено только
с уничтожением инаковости или насилия иного. Для Ле-
винаса все наоборот. И дело здесь в том, что для него
соответствие всегда конечно (в смысле, который он при-
дает тотальности, полностью отказываясь признавать
бесконечную тотальность). Для Э. Вейля же, напротив,
именно понятие инаковости заключает в себе обязатель-
ную конечность. То что обще им обоим — это вера в то,
что только бесконечное может быть освобождено от на-
силия. Нужно было бы исследовать общие предпосыл-
ки такого схождения и расхождения. Нужно было бы
спросить, отсылает ли такое предопределение насилия
и дискурса, так же как и их несовместимости, общее двум
этим движениям мысли, к абсолютной очевидности или
только лишь к определенной эпохе истории мысли и ис-
тории Бытия. Отметим также, что и Батай в «Эротизме»
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
вдохновлялся понятиями Э. Вейля, о чем он вполне от-
крыто заявлял.
31 В сущности, Левинас отказывает вообще в каком бы то
ни было значении понятию «конституирования alter
ego ». Он, наверное, мог бы сказать вслед за Сартром, что
«Другого встречаешь, а не конституируешь» («Бытие и
Ничто»). Но это показывает лишь то, что само слово
«конституирование» понимается в смысле, от принятия
которого Гуссерль часто предостерегает своего читате-
ля. Конституирование не противопоставляется никакой
встрече. Само собой разумеется, что она ничего не тво-
рит, не конструирует, не порождает: ни существова-
ние — или факт, — что как будто понятно, ни даже
смысл, что менее очевидно, но не менее определенно,
если только принять некоторые оговорки, если только
различать моменты пассивности и активности в интуи-
ции, как их понимает сам Гуссерль, если, наконец, учи-
тывать тот момент, когда такое различие оказывается
уже невозможным. То есть момент, когда вся пробле-
матика противопоставления конституирвания и встре-
чи не имеет вовсе никакого смысла, либо же имеет лишь
частный и производный смысл. Не имея здесь возмож-
ности вдаваться во все эти тонкости, напомним хотя бы
одно такое предостережение, сделанное вкупе со мно-
гими другими: «Здесь, как и в вопросе об alter ego,
“действие сознания” (Bewusstseinleistung) не означает
того, будто бы я изобретаю (erfinde) или создаю (mache)
эту высшую трансцендентность» (речь идет о Боге)
(L.F.T. trad. S. Bachlard).
Обратно, разве понятие «встречи», к которому прихо-
дится прибегать, если отказываешься от конституиро-
вания в гуссерлевском значении этого термина, не гово-
ря уже о том, что оно слишком опасно соседствует с
эмпиризмом, не предполагает того, что было некое вре-
мя и некий опыт без «другого » и до встречи? Можно во-
образить себе, таким образом, возникающие трудности.
Философская осторожность Гуссерля в этом отношении
может служить примером. В «Картезианских медитаци-
ях» часто подчеркивается, что реально и на деле ничто
не предшествует опыту другого.
32 Или, по крайней мере, не может быть, быть чем бы то
ни было — в этом-то и обнаруживается власть бытия,
так решительно отвергаемая Левинасом. И если его дис-
курс все еще должен подчиняться оспоренной инстан-
ции, то в этом видна необходимость, правило которой
необходимо систематическим образом выявлять в самом
тексте.
я Эта родственность дискурса и насилия не кажется нам
ни просто фактом истории, ни чем-то, связанным с той
или иной формой коммуникации или «философии ». Мы
хотели бы здесь как раз показать, что эта родственность
принадлежит самой сущности истории, той трансцен-
дентальной историчности, понятие которой могло бы
быть услышано только через отзвук слова, общего —
причем смысл этой общности еще предстоит разъяс-
нить — Гегелю, Гуссерлю и Хайдеггеру.
Историческая или этно-социальная информация может,
поэтому, играть здесь лишь роль фактуального подтвер-
ждения и поддержания эйдетическо-трансценденталь-
ной очевидности. Даже если эта информация составле-
на (собрана, описана и объяснена) со всей возможной
философской и методологической осторожностью,
даже если она вполне согласуется с выявлением сущно-
сти и полностью признает значимость всех уровней эй-
детически всеобщего, она ни в коем случае не смогла бы
обосновать или доказать свою сущностную необходи-
мость. Например, нам кажется, что эти меры техниче-
ской и трансцендентальной предосторожности не были
приняты К. Леви-Строссом, когда он в «Печальных тро-
пиках», среди множества прекрасных страниц, выдви-
гает «гипотезу» о том, что «первичная функция пись-
менной коммуникации состояла в том, чтобы упростить
порабощение...». Если письмо — и слово вообще — уже
по своей сути несет в себе необходимое насилие, то эта
истина не может быть «доказана» или «верифицирова-
на» фактами, из какой бы сферы они не были позаимст-
вованы, даже если в нашем распоряжении была бы вся
совокупность фактов вообще. Мы часто замечаем, как в
практике «гуманитарных наук» в весьма соблазнитель-
ном (во всех смыслах этого слова) смешении смешива-
ют, не принимая никаких мер предосторожности по от-
ношению к началу и функции выдвигаемых положений,
эмпирическое исследование, индуктивную гипотезу и
интуицию сущности.
54 Инаковость, различие и время не уничтожаются, а удер-
живаются абсолютным знанием в форме Aufhebung.
35 Logique formelle et logique transcenentale, trad. S. Bach-
lard, p. 317. Курсив Гуссерля.
36 Ibid., p. 318. Курсив Гуссерля.
37 Ibid., p. 335-336.
n>
38 Конечно, мы не можем сделать это здесь. Никоим обра-
зом не предполагая, что нужно молчаливо восхищаться
пятой из «Картезианских медитаций» как последним
словом по этому вопросу, мы собирались только лишь
начать испытывать и уважительно проверять силу ее со-
противления критике Левинаса.
39 «Die Frage des Warum ist ursprunglich Frage nach der
Gechichte* Husserl (inedit. E. Ill, 9,1931).
40 Logische Untersuchungen, 2,1, § 4, p. 115.
41 Ibid., trad. H. Elie, L. Kelkel, R. Scherer, p. 150.
42 Ibid ., trad., p. 129, например.
43 «Фундаментальна ли онтология?»
44 Lettre sur Г humanisme, trad. R. Mounier.
45 «Мы пойдем еще дальше и, рискуя смешать теорию с
практикой, будем трактовать их обе как способы мета-
физической трансценденции. Таким образом, это види-
мое смешение было задумано как один из тезисов этой
книги» (ТБ).
46 «Письмо о гуманизме».
47 Об этом восхождении к бытию до предикации и разли-
чия сущности и существования см., вместе с тысячью
других примеров, Kant et le probleme de la metaphysique,
p. 40 и далее.
48 Подвыражением «бытие сущего», бывшего источником
множества разногласий, мы понимаем не бытие сущим
сущего (Seiendheit), как это иногда делает и Хайдеггер,
если контекст достаточно ясен, чтобы предупредить все
недоразумения, но именно бытие бытия сущим, то есть
то, что Хайдеггер называет также истиной бытия.
49 «Мысль, которая ставит вопрос о бытии — это ни эти-
ка, ни онтология. Вот почему вопрос об отношении этих
двух дисциплин в этой области отныне становится без-
основательным» («Письмо о гуманизме»).
50 «Фундаментальна ли онтология?»
51 Эта тема достаточно развита, например, в Sein und Zeit.
См. оппозицию Sorge, besorgen и Fiirsorge, р. 121 и весь
§ 26. Об антитеоретизме Хайдеггера см. в частности р. 150.
52 В пределах того же самого проблемного горизонта мож-
но противопоставить ходы Хайдеггера (например, в
«Введение в метафизику. Грамматика слова “бытие”»)
и Бенвениста («Etre et avoir dans leurs fonctions linguis-
tique» in Problemes de linguistique generale).
53 Здесь мы могли бы сослаться на сотни отрывков из Хай-
деггера. Но мы лучше процитируем самого Левинаса,
который писал: «Для Хайдеггера понимание бытия не
является ни чисто теоретическим актом, ни актом по-
знания, подобным любому другому» (ОС).
54 И здесь нет никакой нужды возвращаться к досократи-
кам. Уже Аристотель строго доказал, что бытие — это и
не род, и не причина (ср., например, «Метафизику» В, 3,
998 b 20). Не укрепляет ли на самом деле это доказатель-
ство, проводимое в то же самое время, что и критика
Платона, план «Софиста »? Бытие, несомненно, было там
определено как один из «наиболее крупных родов» и как
самый универсальный из предикатов, но, в то же время,
и как то, что дает возможность вообще всякой предика-
ции. В качестве возможности и начала предикации бы-
тие — это не предикат или, по крайней мере, не такой
предикат, как остальные, трансцендентальный или
транскатегориальный предикат. Кроме того, если «Со-
фист» — ив этом его главная тема — учит нас мыслить
бытие как иное иного, иное, чем то же, тождественное
себе, как то, что подразумевается всеми другими рода-
ми, покуда они есть, как то, что никоим образом не за-
крывает различие, но, наоборот, его высвобождает, —
то разве само бытие не есть только в этом высвобожде-
нии?
55Kant et le probldme de la metaphysique, trad, fr., p. 282.
О непонятийном характере мысли бытия см. также Vom
Wesen des Grundes, trad, fr., p. 57 и далее; Humanisme...,
tr. fr., p. 97 ; Inroduction ala metaphysique, tr. fr., p. 49 и
далее; Chemins.,,, tr.fr., p. 287. Но прежде всего — Sein
undZeit § 1.
J6 Сущностные отношения между иным и тождественным
(в их различии) таковы, что гипотеза подведения иного
под тождественное (то есть гипотеза о насилии в смыс-
ле Левинаса) не имеет никакого смысла. Тождествен-
ное — это не категория, но возможность всякой катего-
рии. Здесь было бы необходимо сопоставить тезисы
Левинаса с текстом Хайдеггера, называющимся Identi-
tdt und Differenz (1957). Для Левинаса тождественное —
это понятие, так же как единое и бытие, причем все эти
три понятия непосредственно сообщаются друг с другом
(см. ТБ, р. 251, например). Для Хайдеггера тождествен-
ное — это не идентичное (ср. Humanism, например, р. 163).
И прежде всего потому, что оно — не категория. Тожде-
ственное — это, как и бытие, не отрицание различия.
57 Kant et le..., р. 284.
58 В своем прекрасном исследовании А. Биро показывает,
как Хайдеггер постепенно оставлял тему Endlichkeit,
причем «по той же причине, которая некогда привела к
ее использованию...» и вследствие «заботы отстранить
от мысли бытия не только пережитки и видоизмененные
формы теологии, но и то теологическое, которое явля-
ется абсолютно конститутивным для метафизики как
таковой. В самом деле, если даже хайдеггеровское по-
нятие Endlichkeit никогда не было понятием конечно-
сти христианской теологии, тем не менее идея конечно-
го бытия сама по себе является в онтологическом смысле
теологической, и как таковая она не может удовлетво-
рить мысль, которая отступает от метафизики лишь за-
тем, чтобы в свете забытой истины Бытия продумать все
еще скрытое единство ее онто-теологической сущности »
(Revue internal ionale de la philosophie, 1960, № 52). Та-
ким образом, мысль, которая желает идти до своего соб-
ственного предела, идти в своем языке до конца того,
что она подразумевает под именем изначальной конеч-
ности или конечности бытия, должная была бы оставить
не только слова и темы конечного и бесконечного, но
и — что, конечно, невозможно — все то, чем они управ-
ляют в языке в самом глубоком смысле этого слова. Эта
невозможность не означает, что та сторона метафизи-
ки и онто-теологии недостижима; наоборот, она под-
тверждает, что такое безмерное превосхождение обя-
зано опираться на саму метафизику. Эта обязанность
была ясно осознана Хайдеггером. Она отмечает тот
факт, что фундаментально само различие, так что бы-
тия нет вне сущего.
59 «Liberte et Commandement», in Revue de metaphysique et
de morale, 1953.
60 Vom Wesen des Grundes, tr. fr., p. 91 и далее ; Introduc-
tion a la metaphysique, trad., p. 210.
61 Lettre sur Thumanisme, trad, fr ., p. 51 и далее.
62 Ibid., p. 49. См. также p. 67, 75, 113 и т.д.
63 Ibid., p. 51.
64 Ibid., p. 47.
65 Мы могли бы процитировать один отрывок из «Ученого
незнания», где Николай Кузанский спрашивает себя:
«Как нам понимать творение, которое исходит из Бога
и даже во всей своей целокупности не может ничего к
Нему добавить?». Для иллюстрации «двойного процес-
са свертывания и развертывания », «способ которого со-
вершенно неведом» он пишет: «Предположимлицо, мно-
гочисленные образы которого были бы как вблизи, так
и вдали (речь тут не идет о пространственном удалении.
но о мере причастности образа истине образца, ибо в
этом-то и состоит истина причастности); в этих всераз-
личных образах единого лица оно должно было бы яв-
ляться всевозможными, но в то же время совершенно
непостижимыми способами, совершенно отличными от
простого предугадывания смысла или мысли.» (Livre II,
chap. Ill, in Oeuvres choisies, par M . de Gandillac, p. 115).
66 Мысль бытия — это то, что только и может позволить
сказать безо всякой наивности, редукции или богохуль-
ства: «Бог, например». То есть мыслить Бога, как он
есть, не превращая его в объект. Но именно это для Ле-
винаса, соглашающегося таким образом с представите-
лями наиболее классических форм философии беско-
нечности, кажется невозможным, абсурдным или
возможным лишь на словах: как мыслить то, что гово-
рят, когда выдвигают предложение «например, Бог или
бесконечность»? Но, несомненно, понятие примера об-
ладает немалыми ресурсами, чтобы защититься от тако-
го возражения.
67 В страстной статье Левинаса («Хайдеггер, Гагарин и
мы», ТС) Хайдеггер определяется как враг техники, ока-
завшийся в компании «врагов индустриального общест-
ва», «которые почти всегда были реакционны». На это
обвинение Хайдеггер отвечал так часто и так ясно, что
лучше всего будет отослать к его собственным текстам,
в частности к «Вопросу о технике», где техника тракту-
ется как «способ открытия» (in Essais et Conferences), к
«Письму о гуманизме», к «Введению в метафизику»
(«Ограничение бытия »), где определенное насилие, о ко-
тором мы говорили выше, в некоем неэтическом и неос-
корбительном смысле связано с техникой в открытии
бытия (Seivov-texv6)-
Здесь, во всяком случае, можно увидеть, как уточняется
сама суть обвинения Левинаса. Бытие (как понятие) —
это насилие нейтрального. Священное является нейтра-
лизацией личностного Бога. «Реакция» против техники
оказывается тогда направленной не на опасность тех-
нического обезличивания, но как раз на то, что освобо-
ждает от зачарованности Священным и от укорененно-
сти в Месте.
68 Не имея здесь возможности углубляться в подробности
этого спора, отошлем к текстам Хайдеггера, разбираю-
щим эту тему: a. Sein und Zeit — темы сущностного «С7и-
heimlichkeit*, «наготы» бытия-в-мире как *als Un-
zuchouse* (p. 276-277). Это то условие подлинности,
которого избегает нейтральное существование «людей »;
b. Humanisme, р. 93, где Хайдеггер по поводу поэмы
«Возвращение» Гельдерлина отмечает, что слово «ро-
дина» у него «мыслится в некоем сущностном смысле,
то есть не в патриотическом или националистическом,
а, скорее, с точки зрения Истории Бытия»; с. Ibid.,
р. 103 — Хайдеггер пишет: «Всякий национализм на
уровне метафизики оказывается антропологизмом и,
следовательно, субъективизмом. Национализм не пре-
восходится, но лишь расширяется и возводится в систе-
му в чистом интернационализме»; d. наконец, по вопро-
су о дома и жилья (которые Левинас тоже согласен
воспевать, но лишь как моменты внутренней жизни и,
если быть более точным, экономии) Хайдеггер уточня-
ет, что не дом метафорически определяет бытие через
свою экономию, но, наоборот, сам может быть опреде-
лен только из сущности бытия. Ibid. р. 151. См. также
L’ homme habite enpoete, где Хайдеггер по ходу дела раз-
личает Тождественное и Равное (das Selbst — das Gle-
iche): «Тождественное отстраняет все попытки стереть
различия в равном», in Essais et Conferences, p. 231. См.,
наконец, Batir, Habiter, Penser (ibid).
69 См, например, Retour, in Approche de Holderline.
70 Ibid.
71 Retour, Approche de Holerline, p. 34.
72 См. также Vom Wesen des Grundes, trad. Corbin, p. 91,
note I. Итак, теология, мысль о существующем в качест-
ве Бога должна предполагать мысль бытия. Чтобы по-
нять это движение, не обязательно ссылаться здесь на
Хайдеггера, достаточно сперва обратиться к Дунсу Ско-
ту, которому, как известно, Хайдеггер посвятил одну из
своих самых первых работ. Для Дунса Скота мысль об-
щего и однозначного бытия по необходимости предше-
ствует мысли об некоем определенном сущем (опреде-
ленном, например, как конечное или бесконечное,
сотворенное или несотворенное, и т.д.). Но это не озна-
чает, что:
1. Общее и однозначное бытие является родом, так что
Дунс Скот восстанавливает аристотелевское доказатель-
ство, не обращаясь, однако, к вопросу об аналогии. (По
этому вопросу см. Gilson E.Jean Duns Scot, Introduction
a ses positions fondamentales, p. 104-105.)
2. Учение об однозначности бытия несовместимо с ари-
стотелевско-томистской доктриной и с учением об ана-
логии, которое, как показывает Э. Жильсон (ibid., р. 84 -
115), располагается на совсем другом уровне и отвечает
на другой вопрос. Проблема, которую ставит Дунс Скот,
которая является и нашей проблемой в этом диалоге
Хайдеггера и Левинаса, «обнаруживается, — пишет
Э. Жильсон, — на территории, которая не принадлежит
ни Аристотелю, ни Фоме Аквинскому, поскольку для
того, чтобы проникнуть на нее, нужно сначала выйти за
пределы налагаемой аристотелизмом дилеммы единич-
ного и универсального, «первого» и «второго»,уклоня-
ясь одновременно от необходимости выбирать между
аналогичным и однозначным, что можно сделать, толь-
ко выделив понятие бытия, метафизически чистого от
всех определений» (ibid. р. 89). Отсюда следует, что
мысль бытия (которую Э.Жильсон в противоположность
Хайдеггеру называет здесь «метафизикой»), будучи
включенной во всякую теологию, ничему, в отличие от
основания и понятия, не предшествует и ничем не управ-
ляет. Отношения «первого» и «второго», вместе со все-
ми им подобными, не имеют для него никакого смысла.
73 Сартр, подобно Левинасу, уже истолковывал Milsein в
смысле приятельства, команды и т.п. Отошлем по этому
вопросу к самому Sein und Zeit. См. также Le concept du
monde chez Heidegger, где Вальтер Бимель весьма точно
и ясно противопоставляет таким интерпретациям замы-
сел самого Хайдеггера (р. 90 и сл.). Добавим лишь, что
изначально «со», mil в Mitsein, указывает на структуру
команды, воодушевленной общей и равной для всех за-
дачей, не более, чем «с» в «языке с Богом» (ТБ). Бытие,
к которому обращается Mitsein — это не третий термин,
общая истина и т.п., как это часто подразумевает Леви-
нас. В конечном счете, понятие Mitsein описывает изна-
чальную структуру отношения между одним Da-sein и
другим Da-sein, предшествующую любому значению
«встречи» или «конституирования», то есть тому спо-
ру, о котором мы говорили выше (см. также Sein undZeit'.
«“с” и “также” должны пониматься как экзистенциалы,
а не как категории» (р.48)).
74 См. «Введение в метафизику» (и особенно «Ограниче-
ние бытия»).
75 Необходимо уточнить, что «онтологическое» здесь от-
сылает не к понятию онтологии, от которого Хайдеггер
предлагает отказаться (см. выше), но к тому необнару-
жимому выражению, которое должно его заменить. Точ-
но так же должно быть преобразовано и слово «исто-
рическое», чтобы быть согласованным со словом
Ж. Деррида «Письмо и различие» Насилие и метафизика
«онтологическое», к которому оно относится не как ат-
рибут, но как то, что не допускает никакого отношения
производности или включения.
76 Oeuvres choisies de N. De Cues, par M. de Gandillac.
77 Entre deux mondes (Biographic spirituelle de Franz Rosen-
zweig, in la Conscience juive, P.U.F., 1963, p.126). Насколь-
ко нам известно, эта лекция, наряду со статьей А. Ней-
ера (Cahiers de I'Institut de science economique appliquee,
1959), является единственным важным текстом, посвя-
щенном Францу Розенцвейгу, во Франции более извест-
ному в качестве автора Hegel und derStaat, чем Der Stern
derErlosung («Звезда искупления») [1921]. Влияние Po-
зенцвейга на Левинаса кажется весьма глубоким. «Про-
тивопоставление идее тотальности поразило нас в Stern
der Er/ojuwg Розенцвейга, встречаясь в этой книге слиш-
ком часто, чтобы была необходимость в особом цитиро-
вании» (ТБ).
78 В своем «Трактате©философскомэмпиризме» Шеллинг
пишет: «Бог, таким образом, оказывается Бытием, за-
ключенным в самом себе неким абсолютным образом, он
оказывается субстанцией в самом высоком смысле это-
го слова, отделенной от всякого отношения с внешним.
Поскольку же мы рассматриваем эти определения как
совершенно имманентные, как не относящиеся ни к чему
внешнему, мы сталкиваемся с необходимостью понимать
их из Него самого, то есть понимая его как prius, первое,
абсолютно первое. Таким образом, эмпиризм, доведен-
ный до своих предельных следствий, приводит нас к
сверх-эмпирическому». Конечно, под «замкнутым» и
«свернутым» стоит понимать не конечную закрытость
и эгоистическую немоту, а абсолютную инаковость, то,
что Левинас называет Бесконечным вне отношения. Ана-
логичное движение обнаруживается у Бергсона, кото-
рый в «Введении в метафизику» во имя истинного
эмпиризма критикует эмпиристские учения, не придер-
живающиеся чистого опыта, и заключает: «Этот ис-
тинный эмпиризм — истинная метафизика ».
79 Чистое различие не абсолютно отличено (от не-разли-
чия). Гегелевская критика чистого различия, несомнен-
но, остается для нас самой насущной темой. Гегель про-
думал абсолютное различие и показал, что оно может
быть чистым, лишь будучи не чистым. В «Науке логики »
по поводу абсолютного различия Гегель, например,
пишет: «Это различие есть различие в себе и для себя,
абсолютное различие, различие Сущности. Это разли-
чие в себе и для себя произведено не внешней причиной,
но различие, которое относится только к самому себе,
то есть простое различие. В высшей степени необходи-
мо усмотреть в абсолютном различии простое разли-
чие... Различие в себе — это различие, относящееся к
самому себе; поэтому оно есть своя собственная нега-
тивность и различие не по отношению к другому, но по
отношению к себе. Но то, что отличается от отлично-
го — это тождественное. Различие, следовательно, —
это оно само и тождественное. Они вместе составляют
различие, так что оно одновременно и целое, и свой соб-
ственный момент. Можно тогда с полным правом ска-
зать, что различие, как простое различие, различием не
является; оно может быть различием только в отноше-
нии с тождественным, но как таковое оно тогда удер-
живает в себе само себя и это отношение, точно так же
как тождественное — это и целое, и свой собственный
момент» (tr. Т. II, р. 38-39).
80 J. Joice, Ulysses, р. 622. Но Левинас не любит ни Улисса,
ни хитростей этого слишком гегельянского героя, это-
го человека voorog, замкнутого круга, в целостности ко-
торого всегда замыкается любое его приключение. Ле-
винас часто занимается Улиссом (ТБ, ТС). «Мифу об
Одиссее, возвращающемся в Итаку, мы хотим проти-
вопоставить историю Авраама, покидающего родину
ради еще неведомой земли и запрещающего слуге при-
водить своего сына обратно » («След другого »). Невоз-
можность возвращения, конечно, признавалась и Хай-
деггером в исходной историчности бытия, исходности
различия, неуничтожимом блуждании, запрещающем
возвращение к самому бытию, которое есть ничто. Сле-
довательно, Левинас здесь оказывается на стороне Хай-
деггера. Да и так ли уж незнакома тема возвращения
еврейскому миру? Конструируя своих Блума и Стефа-
на (святой Стефан, еврей-эллин), Джойс был весьма
заинтересован положениями Виктора Берарда, кото-
рый считал Одиссея евреем. Действительно, предложе-
ние «Jewgreek is greekjew*, написанное на головном
уборе Линча, — это анонимное предложение в смысле,
проклинаемом Левинасом, «ничейный язык», как ска-
зал бы он. Кроме того, оно приписано «женской логи-
ке»: «Woman’s reason. Jewgreek is greekjew*. Отметим
мимоходом, что «Тотальность и бесконечность» на-
столько возвышает уважение к асимметрии, что нам
кажется невозможным, невозможным по существу,
чтобы эта книга была написана женщиной. Философ-
ский субъект — это мужчина (vir). См., например, «Фе-
номенологию Эроса», которая занимает столь значи-
мое место в экономии этой книги. Но является ли,
впрочем, эта невозможность для книги быть написан-
ной женщиной чем-то уникальным в истории метафи-
зического письма? Левинас в другом месте признает,
что женственность — это «категория онтологическая ».
Нужно ли соотнести это замечание с существенной мас-
кулинностью метафизического языка? Быть может, ме-
тафизическое желание является по своему существу
мужским желанием, даже если оно принадлежит тому,
что называют женщиной. Кажется, что именно таким
образом Фрейд (который ничего не знал о сексуально-
сти как «отношении с тем, кто абсолютно другой » (ТБ))
представлял себе если не желание, то либидо.
«Генезис и
структура» и
феноменология
Я должен начать с предостережения и признания.
Когда, желая приблизиться к какой-нибудь философии,
вооружаешься не просто парочкой понятий — в данном
случае понятиями «структуры и генезиса», — которые
часто выделялись в долгой традиции постановки проблем
и уже в силу этого оказались перегруженными воспоми-
наниями, но и той понятийной решеткой, в которой уже
предугадывается классическая фигура антагонизма, то
рабочее обсуждение, которое собираешься начать, при-
няв данную философию за его границы или отправной
пункт, рискует больше походить не на внимательное вы-
слушивание, а на призвание к ответу, то есть на незакон-
ное опрашивание, которое заранее привносит то, что оно
желает обнаружить, учиняя, таким образом, насилие над
собственной физиологией мысли. Несомненно, что такое
обращение с философией, вводящее в нее инородное тело
некоего спора, может быть довольно эффективным, пре-
доставляя или высвобождая смысл некоторой еще скры-
той работы, но начинает оно все равно с нападения и не-
верности. Об этом не нужно будет забывать в дальнейшем.
В нашем конкретном случае все это верно еще более,
чем обычно. Гуссерль всегда выказывал свое отвращение
к спору, дилемме или апории, то есть к рефлексии, дей-
ствующей с помощью перебора альтернатив, когда фи-
лософ в конце своих размышлений желает сделать заклю-
чение, то есть желает закрыть вопрос, положить предел
ожиданию или всматриванию посредством избрания не-
249
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
коего варианта, посредством решения или ответа; так
должен поступать философ со спекулятивной или диа-
лектической установкой в том смысле, который, по край-
ней мере, желал придать этим словам сам Гуссерль. Ви-
новны в этой установке не только метафизики, но и
приверженцы эмпирических наук, весьма часто ничего о
том не ведающие: и тем, и другим прирожден грех некое-
го объяснительства. Феноменология же, напротив, — это
«истинный позитивизм», который возвращается к самим
вещам, стушевываясь перед оригинальностью и изначаль-
ностью значений. Процесс верного понимания или опи-
сания и непрерывность раскрытия значений рассеивают
призрак выбора. Тогда можно было бы самым предвари-
тельным образом заметить, что в своем отказе от систе-
мы и от понятийного завершения Гуссерль по стилю сво-
ей мысли уже оказывается более внимательным к
историчности смысла и возможности его становления,
более уважительным к тому, что в самой структуре оста-
ется открытым. Когда же приходят к мысли, что даже от-
крытие структуры является «структурным», то есть по
своей сущности относящимся к структуре, тогда сразу
же осуществляется переход на уровень, гетерогенный
первому: различие между малой, то есть необходимо за-
крытой структурой и структурностью открытия — тако-
во, быть может, неустановленное место, в котором коре-
нится философия. В особенности тогда, когда она
описывает структуры. Таким образом, предположение
конфликта между структурным и генетическим подхода-
ми с самого начала выглядит лишь некоей внешней по-
сылкой, приписанной специфичности того, что открыва-
ется девственному взгляду. Если бы вопрос «генезис или
структура» был задан Гуссерлю ex abrupto, держу пари,
что он был бы весьма удивлен, видя, что его вызывают на
такой спор; он бы, наверное, ответил, что это зависит от
того, о чем вы собираетесь говорить. Одни данные долж-
ны описываться в терминах структуры, а другие — в тер-
минах генезиса. Существуют слои значений, которые яв-
ляются в качестве систем, комплексов, статических
образований, внутри которых, однако, возможно движе-
ние и становление, которые должны будут в свою оче-
редь покориться собственному закону и функционально-
му значению рассматриваемой структуры. Другие —
порой более глубокие, а порой более поверхностные —
слои открываются в своей сущности через модус творе-
ния и движения, исходного начинания, становления и тра-
диции, что требует, чтобы о них говорили на языке ста-
новления, если только предположить, что такой язык
вообще есть, и что он только один.
Образ этой верности теме описания мы находим по
крайней мере во внешней верности Гуссерля самому себе
на протяжении всего его жизненного пути. Возьму для
начала два примера.
1. Переход от генетических исследований той един-
ственной книги, метод которой или по меньше мере не-
которые психологистские предпосылки которой были
впоследствии отвергнуты Гуссерлем (я имею в виду Phi-
losophic der Arithmetik), к «Логическим исследованиям»,
где речь главным образом шла о том, чтобы описать объ-
ективность идеальных объектов через некоторую вне-
временную устойчивость и автономию по отношению
к субъективному становлению; этот переход сохраняет
непрерывность исследования, в чем Гуссерль настолько
уверен, что примерно сорок лет спустя он пишет1:
«Фиксации внимания на формальном я достиг уже
благодаря моей “Философии арифметики” (1891), кото-
рая, несмотря на некоторую незрелость, присутствовав-
шую в ней, как в самом первом труде, представляла, од-
нако, первую попытку достичь ясности истинного,
подлинного и изначального смысла понятий теории мно-
жеств и теории чисел, возвращаясь к спонтанной актив-
ности связывания и перечисления, в которой множества
(“целостности”, “ансамбли”) и числа даны исходно про-
дуктивным образом. Если пользоваться теми выражения-
ми, к которым я пришел позднее, это было исследование,
относящееся к конститутивной феноменологии...» и т.д.
Можно возразить, что здесь эта верность легко объ-
яснима, поскольку речь идет о том, чтобы вписать в из-
мерение «трансцендентального генезиса» замысел, кото-
рый привязывался к психологическому генезису —
первоначально более «наивно», но сохраняя в то же вре-
мя свою устойчивую обеспокоенность.
2. Но то же самое можно сказать и о переходе — осу-
ществляемом на этот раз внутри самой феноменологии —
от структурных анализов статического конституирова-
ния, проводимых в Ideen I (1913) к последующим иссле-
дованиям генетического конституирования, которые под-
час обладали весьма неожиданным содержанием. Но все
же и этот переход оказывается простым прогрессом,, не
«Генезис и структура» и феноменология «Письмо и различие» Ж. Деррида
подразумевающим никакого так называемого «превосхо-
ждения », выбора или, тем более, раскаянья. Дело просто
в углублении работы, которая оставляет нетронутым то,
что было уже открытым, подобно тому, как раскопки,
открывающие основания генезиса или исходную продук-
тивность, не только не могут поколебать или разрушить
никакие уже вскрытые поверхностные структуры, но,
наоборот, в свою очередь показывают эйдетические фор-
мы, «структурные априори», если воспользоваться вы-
ражением Гуссерля, самого генезиса.
Таким образом, не в духе Гуссерля было бы зани-
маться проблемой «структура— генезис», речь могла
идти только о привилегии того или иного из этих рабо-
чих понятий, определимой в зависимости от конкретно-
го пространства описания, quid или quomodo данных.
В этой феноменологии, в которой на первый взгляд, вну-
шаемый традиционными схемами, причин для конфлик-
та или напряжения более чем достаточно (ведь это фи-
лософия сущностей, всегда рассматриваемых в своей
объективности, неприкосновенности и априорности, но
в том же самом жесте это и философия опыта, становле-
ния, так что временной поток переживаний выполняет
роль последней отсылки; при всем при том это филосо-
фия, в которой понятие «трансцендентального опыта»
указывает на поле рефлексии, установленной лишь в том
проекте, который мог бы показаться тому же Канту об-
разчиком тератологии), в этой феноменологии, следова-
тельно, не обнаруживается никакого столкновения, а
мастерство феноменолога должно обеспечить Гуссерля
великолепной трезвостью в использовании двух рабочих
понятий, которые всегда остаются взаимодополнитель-
ными. В свойственной ей ясности замысла феноменоло-
гия была бы, наверное, оскорблена нашим предваритель-
ным вопросом.
Приняв эти меры предосторожности по отношению
к плану Гуссерля, я должен теперь открыть свой план.
В самом деле, я хотел бы попытаться показать,
1) что в стороне от трезвого и благоразумного ис-
пользования этих понятий сохраняется спор, который
упорядочивает и наделяет особым ритмом, оживляя ее,
поступь описания, причем его собственная незавершен-
ность, лишая равновесия каждый крупный шаг феноме-
нологии, неким неопределенным образом делает необхо-
димыми новую редукцию и новое прояснение;
2) что этот спор, подвергая постоянной опасности
принципы самого метода, похоже — я говорю «похоже»,
потому что это всего лишь гипотеза, которая, даже не
подтвердившись, могла бы, по крайней мере, дать возмож-
ность выделить оригинальные черты гуссерлевской по-
пытки — принуждает Гуссерля выйти за пределы про-
странства чистого описания и трансцендентальной
установки его исследований по направлению к метафи-
зике истории, в которой устойчивая структура Телоса по-
зволила бы присвоить, превращая его в некую сущность
и заранее ограничивая его горизонт, то дикое становле-
ние, которое захватывало все больше и больше места, все
меньше ладя с феноменологическим априоризмом и
трансцендентальным идеализмом.
Я буду поочередно следить за нитью спора, внутрен-
не присущего мысли самого Гуссерля, и за тем боем, в
который Гуссерль должен был дважды ввязаться на флан-
ге своего поля исследований — я имею в виду те две по-
лемики, которые противопоставили его таким философи-
ям структуры как философия Дилыпея и гештпалътизм.
Итак, Гуссерль всегда пытается примирить струк-
турное требование, которое ведет к полному описанию
целостности, формы или функции, организованной со-
гласно некоей внутренней законосообразности так, что
все элементы приобретают смысл лишь в совокупности
их взаимоотношений и противопоставлений, и генетиче-
ское требование, то есть поиск начала и основания струк-
туры. Можно было бы, однако, показать, что сам фено-
менологический проект произошел из провала такой
попытки.
В Philosophic der Arithmetik объективность структу-
ры, то есть чисел и арифметических рядов — и, соответ-
ственно, объективность арифметической установки —
соотнесена с конкретным генезисом, который должен
сделать ее возможной. Гуссерль уже тогда отказывался
и позже всегда будет отказываться принимать интелли-
гибельность и нормативность этой универсальной струк-
туры за манну, упавшую с «неба»2, или за вечную истину,
сотворенную бесконечным разумом. Направляться к
субъективному началу арифметических объектов и зна-
чений — это здесь значит спускаться к восприятию, к пер-
цептивным связкам, к множествам и целостностям, ко-
торые даны в нем согласно своей до-математической ор-
ганизации. Стилистически это возвращение к восприятию
и к актам связывания и перечисления уступает в те вре-
мена весьма распространенному искушению, которое
называют довольно-таки неопределенным именем «пси-
хологизма»3. Впрочем, во многих пунктах такое возвра-
щение демонстрирует свою своеобразность, никогда не
доходя, например, до того, чтобы принять фактическое
генетическое конституирование за эпистемологическое
оценивание, что как будто бы склонны были делать Липпе,
Вундт и некоторые другие (по правде говоря, при внима-
тельном и непосредственным их прочтении оказывается,
что они были не столь уж неосторожны и просты, как мы
привыкли думать после их критики Гуссерлем).
Оригинальность Гуссерля обнаруживается в том,
что: а) он отличает число от понятия, то есть от конст-
рукта, от психологического артефакта; б) он подчерки-
вает несводимость математического синтеза или логики
к порядку — в обоих значениях этого слова — психоло-
гической темпоральности; в) весь свой психологический
анализ он подкрепляет уже данной возможностью etwas
iiberhaupf объективного, и такая посылка, хоть Фреге и
раскритикует ее, назвав обескровленным призраком, уже
указывает на интенциональное4 измерение объективно-
сти, на трансцендентальное отношение, которое не может
быть установлено никаким психологическим генезисом,
уже предполагающим такое отношение. Следовательно,
признание арифметического смысла в его идеальности
и нормативности запрещает Гуссерлю всякую психоло-
гическую дедукцию числа именно тогда, когда заявлен-
ный им метод и тенденции эпохи должны были бы его к
ней подтолкнуть. Гуссерль, правда, продолжает мыслить
интенциональность, предположенную движением ге-
незиса, как черту или психологическую структуру со-
знания, как особенность или состояние фактически
данного. Но смысл числа прекрасно обходится без ин-
тенциональности фактического сознания. Ведь такой
смысл, то есть его идеальная объективность и норматив-
ность, состоит как раз в независимости от всякого фак-
тического сознания, так что Гуссерль скоро окажется
вынужденным признать правомочность критики Фреге:
сущность числа столь же зависит от психологии, как су-
* Чегр-то вообще (нем). — Прим, пере в.
ществование моря от севера. С другой стороны, ни еди-
ница, ни ноль не могли бы быть порождены в множестве
актов полагания, фактов или психических событий. То,
что истинно в отношении арифметического единства, ис-
тинно и для единства всякого объекта вообще.
Но если, столкнувшись со всеми этими трудностями
в объяснении структуры идеального смысла из фактиче-
ского генезиса, Гуссерль и отказывается от психологи-
стского пути5, не менее решительно отвергается им и то
логицистское заключение, к которому его хотели было
свести его критики. Будь он платонистским или кантиан-
ским, этот логицизм полагался главным образом на ав-
тономию логической идеальности по отношению ко
всякому сознанию вообще или конкретному и неформаль-
ному сознанию. Гуссерль же хочет сохранить одновре-
менно нормативную автономность логической или мате-
матической идеальности и ее изначальную зависимость
от субъективности вообще, которая к тому же будет и
конкретной субъективностью. Следовательно, ему нуж-
но было пройти меж двух рифов логицистского структу-
рализма и психологистского генетизма (который может
выполняться даже в весьма утонченной и коварной фор-
ме «трансцендентального психологизма», приписанного
Канту). Ему нужно было открыть новое направление фи-
лософского внимания, дав открыться конкретной, но не
эмпирической интенциональности, «трансцендентально-
му опыту », который был бы «конституирующим », то есть,
как всякая интенциональность, одновременно и произво-
дящим, и открывающим, и активным, и пассивным. Изна-
чальное единство, общий корень активности и пассивно-
сти — именно так с самых ранних его шагов стала
представляться Гуссерлю сама возможность смысла.
Постоянно будет сохраняться впечатление, что этот об-
щий корень является в то же время корнем структуры и
генезиса, догматически предполагающимся во всех про-
блемах и всех разведениях, которые потом его затраги-
вают. Подступиться к этому общему корню Гуссерль
попытается через различные «редукции», которые вна-
чале представляются нейтрализацией психологического
генезиса или даже всякого фактического генезиса вооб-
ще. Таким образом, первая фаза феноменологии оказы-
вается по своему стилю и объектам, скорее, структура-
листской, поскольку прежде всего она желает защититься
главным образом от психологизма и историцизма. Но из
255
игры выводится не генетическое описание вообще, но
лишь то, что заимствует свои схемы у причинного объяс-
нения и натурализма, то, что опирается на науку «фак-
тов», то есть на эмпиризм или, как заключает Гуссерль,
на релятивизм, который неспособен отстоять свою соб-
ственную истину, или, в конечном счете, на скептицизм.
Итак, переход к феноменологической установке стал не-
обходимым из-за хрупкости или слабости генетических
объяснений, когда те, примыкая к не понимающему себя
самого позитивизму, предполагают возможность замк-
нуться на «науке фактов» (Tatsachenwissenschaft), 6у&ъ
она естественной наукой или наукой о духе. Выражение
«генезис в мире» как раз и покрывает область этих наук.
Итак, пока не открыто феноменологическое про-
странство, пока не предпринято феноменологическое опи-
сание, проблема «структура — генезис» не имеет, похо-
же, никакого смысла. Ни идея структуры, разделяющей
различные сферы объективных значений и признающей их
статичную оригинальность, ни идея генезиса, осуществ-
ляющего незаконные переходы из одной области в дру-
гую, не кажутся способными осветить проблему основа-
ния объективности, уже ставшую проблемой Гуссерля.
Может показаться, что это не имеет никакого зна-
чения: в самом деле, нельзя ли представить, что эти два
понятия окажутся методологически весьма плодотвор-
ны в различных областях естественных и гуманитарных
наук, поскольку эти науки в своем собственном движе-
нии и в своем собственном пространстве, в своей дейст-
вительной работе не обязаны отвечать за смысл и значе-
ние своей объективности? Никоим образом. Даже самое
наивное вовлечение в работу понятия генезиса и, в осо-
бенности, понятия структуры предполагает, по меньшей
мере, строгое разграничение регионов природы и облас-
тей объективности. Но это предварительное разграниче-
ние и прояснение смысла каждой региональной структу-
ры может прийти только из феноменологической
критики. Критика эта всегда оказывается по праву пер-
вой, поскольку она одна может до всякого эмпирическо-
го исследования, через нее только и становящегося воз-
можным, ответить на вопросы такого типа: что такое
физическая вещь, что такое психическая вещь, что такое
историческая вещь и т.д., и т.п. — то есть на вопросы, от-
вет на которые более или менее догматически уже пред-
полагался в структурных или генетических техниках.
Не будем забывать, что если Philosophic der Arithme'
lik была современницей наиболее систематичных, оптими-
стичных и честолюбивых попыток вскрыть процесс психо-
логического генезиса, то первые феноменологические
работы Гуссерля появляются примерно в то же время, что
и первые структуралистские проекты, то есть по крайней
мере те, что открыто объявляли структуру своей темой,
поскольку не составило бы никакого труда показать, что
определенный структурализм всегда присутствовал в са-
мом непроизвольном жесте философии. Против этих пер-
вых философий структуры, какими были философия Диль-
тея и гештальтизм, Гуссерль выдвигает возражения,
которые в их основании тождественны тем, что он ранее
выдвигал против генетических исследований.
Структурализм Weltanschauungsphilosophie являет-
ся на взгляд Гуссерля историцизмом. Несмотря на стра-
стные протесты Дильтея, Гуссерль будет упорствовать в
мнении, что как всякий историцизм, вне зависимости от
его оригинальности, он не избегает ни релятивизма, ни
скептицизма6. Поскольку он сводит норму до уровня ис-
торического факта, он в конечном счете смешивает, если
говорить на языке Лейбница и «Логических исследова-
ний» (I, 146-148), истину факта и истину разума. Чис-
тая истина или претензия на чистую истину в их собст-
венном смысле упускаются в тот самый момент, когда,
как у Дильтея, производится попытка объяснить их из-
нутри исторически определенной тотальности, то есть
фактической и конечной тотальности, все проявления и
культурные продукты которой структурно взаимосвяза-
ны, коррелятивны, будучи упорядоченными одной и той
же функцией, одним и тем же конечным единством пол-
ноты субъективности. Этот смысл истины или эта претен-
зия на истину выражается в требовании никак не ограни-
ченной абсолютной универсальности и истинности на все
времена. Идея истины, то есть Идея философии или нау-
ки — это бесконечная Идея, Идея в кантовском смысле.
Никакая тотальность или конечная структура не может
ей соответствовать. А Идея или проект, которые одушев-
ляют любую исторически определенную структуру, лю-
бое Weltanschauung, по необходимости конечны1: исхо-
дя из структурного описания мировоззрения можно
объяснить все, кроме бесконечной открытости истине, то
есть философии. Впрочем, структуралистский план все-
гда будет проваливаться из-за некоего открытия. Ведь
9 Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
я никогда не могу понять в структуре то, из-за чего она
не закрыта.
Гуссерль так ожесточенно выступил против фило-
софии Дильтея8 потому, что она оказалась весьма соблаз-
нительной попыткой, некоей искусительной иллюзией.
В самом деле, заслуга Дильтея в том, что он поднялся
против позитивистской натурализации жизни духа. Акт
«понимания», противопоставляемый им объяснению и
объективации, должен быть первым и самым главным
путем наук о духе. Гуссерль отдает Дильтею дань уваже-
ния и обнаруживает свое расположение к 1) идее главен-
ства «понимания» и вторичного понимания, «повторно-
го переживания» (Nachleben), причем эти понятия нужно
сблизить с понятием Einfuhlung, заимствованным у Лип-
пса и с понятием Reaktivierung, которое обозначает ак-
тивное переживание прошлой интенции другого духа и
пробуждение самого производства смысла; то есть речь
здесь идет о самой возможности науки о духе; 2) той идее,
что существуют полные структуры, наделенные единст-
вом внутреннего смысла, что-то вроде духовных орга-
низмов, культурных миров, все функции и проявления
которых взаимосвязаны и которым соответствуют опре-
деленные формы Weltanschauung; 3) различению между
физическими структурами, в которых принципом связи
является внешняя причинность, и структурами духа, в ко-
торых принципом связи является то, что Гуссерль назо-
вет «мотивацией».
Но все это обновление не является фундаменталь-
ным, только усугубляя историцисткую угрозу. История
не перестает быть эмпирической наукой «фактов», пере-
делав свои методы и сменив натурализм, атомизм и при-
чинное объяснение на понимающий структурализм и став
более внимательной к культурным целостностям. Ее
стремление обосновать нормативность лучше понятой
фактичностью не становится более правомочным, ведя
лишь к возрастанию ее силы философского соблазна. Под
двусмысленным понятием исторического скрывается сме-
шение существования и ценности или, если говорить бо-
лее обще, всех типов реальности и всех типов идеально-
сти9. Следовательно, необходимо возвратить, вернуть
теорию Weltanschauung в строгие пределы ее собствен-
ной области; ее границы очерчены особым различием ме-
жду знанием и мудростью, некоторым этическим преду-
преждением или устремлением. Это неуничтожимое
различие обусловлено бесконечным отсрочиванием тео-
ретического основания. Спешка жизни требует, чтобы
практический ответ уже был выстроен на поле историче-
ского существования, идя впереди абсолютной науки, за-
ключений которой он не может ждать. Таким образом,
Гуссерль называет Weltanschauung систему такого пре-
дугадывания, структуру этого оторванного от науки от-
вета. Можно было бы сказать, не забывая о некоторых
предосторожностях, что он признает за ним положение
и смысл некоей «временной морали»10, независимо от
того, личная эта мораль или коллективная.
До сих пор мы занимались проблемой «структура —
генезис», с которой Гуссерль вначале сталкивался за пре-
делами собственно феноменологии. Именно усиление
посылок психологии и истории сделало необходимым
переход к феноменологической установке. Попытаемся
теперь схватить ту же самую проблему внутри самой фе-
номенологии, учитывая методологические предпосылки
Гуссерля и прежде всего «редукцию» в ее эйдетической
и трансцендентальной форме. По правде говоря, речь, как
мы увидим, может идти о не той же самой проблеме, но
лишь об аналогичной или, как сказал бы Гуссерль, «па-
раллельной», причем смысл понятия параллелизма, ко-
торый мы вскоре раскроем, создает далеко не самые лег-
кие проблемы.
Существует, кажется, по меньшей мере две причины
того, что первая фаза феноменологического описания и
«конститутивных анализов» (наиболее разработанным
следом которой являются Ideen I) стала по своему замыс-
лу совершенно статичной и структурной. А) Из-за реак-
ции на генетические исследования психологистского или
историцистского толка, с которыми Гуссерль не переста-
ет спорить, он систематически исключает любой генети-
ческий вопрос11. Позиция, против которой он таким об-
разом поднимается, могла заразить и определить его
собственную: все происходит так, словно бы он рассмат-
ривал всякий генезис как ассоциативный, причинный,
фактический или относящийся к миру. В) Заботясь пре-
жде всего о формальной онтологии и объективности
вообще, Гуссерль особенно много сил прилагает к свя-
зыванию объекта вообще (какова бы не была его регио-
нальная принадлежность) с сознанием вообще (Ur-Re-
gt on), затем он определяет формы очевидности вообще,
желая таким образом достичь предельной критической
9*
X
g
Л)
I
о
3
Л)
X
§
о
5
инстанции, которой впоследствии будет подчинено самое
амбициозное генетическое описание.
Если, таким образом, в этот период Гуссерль отли-
чает, с одной стороны, эмприческую структуру от эйде-
тической и, с другой, — эмпирическую от эйдетически-
трансцендентальной, то вместе с тем он пока еще не
делает того же жеста в отношении генезиса.
Внутри чистой трансцендентальности сознания наша
проблема должна на этом этапе описания приобрести по
меньшей мере — ведь нам-то нужно выбирать — две фор-
мы. И в обоих этих случаях речь идет о проблеме закры-
тия и открытия.
1. В отличие от математических сущностей, сущно-
сти чистого сознания в принципе не могут быть точны-
ми. Мы знаем, в чем состоит признанное Гуссерлем раз-
личие между строгостью и точностью. Эйдетическая
дескриптивная наука, такая, как феноменология, долж-
на быть строгой, но она по необходимости неточна — я
сказал бы «аточна», — ив этом не нужно усматривать
никакого недостатка. Точность — это всегда вторичный
продукт действия «идеализации» или «перехода к пре-
делу», который может относиться лишь к абстрактному
моменту, абстрактной эйдетической составляющей
(пространству, например) вещи, материально определен-
ной как объективное тело, при условии что абстрагиро-
вание проводится именно от всех остальных эйдетических
составляющих тела вообще. Вот почему геометрия — это
наука «материальная» и «абстрактная»12. Отсюда следу-
ет, что «геометрия переживаний» или «математика фе-
номенов» невозможны, это был бы «ложный проект»13.
Что касается интересующих нас проблем, то это, в част-
ности, значит, что сущности «феноменов» вообще не
могут принадлежать структуре или «множеству» мате-
матического типа. Что же на взгляд Гуссерля является
на этом этапе характерным для такого множества? Если
ограничиться одним словом, то возможность закрытия14.
Мы не можем здесь углубляться в собственно математи-
ческие проблемы, которые постоянно провоцировались
гуссерлевским понятием математической «дефинитно-
сти», в особенности когда оно столкнулось с некоторы-
ми последующими шагами в развитии аксиоматики и с
открытиями Геделя. Своим сравнением точной науки с
морфологической, на чем сейчас нам необходимо задер-
жать свое внимание, Гуссерль желает подчеркнуть прин-
ципиальную, существенную и структурную невозмож-
ность закрытия структурной феноменологии. Только
бесконечная открытость переживаний, отмеченная во
многих моментах гуссерлевского анализа ссылкой на
Идею в кантовском смысле, вторжение бесконечности в
само сознание позволяет объединять его темпоральный
поток, как оно объединяет объект и мир — то есть в пред-
восхищении и несмотря на неотменимую незавершен-
ность. Только это странное присутствие Идеи позволяет
также совершать всякий переход к пределу и произво-
дить любую точность.
2. Трансцендентальная интенциональность описана
в Ideen I как изначальная структура, как архи-структура
(Ur-Struktur), состоящая из четырех полюсов и двух кор-
реляций: ноэтико-ноэматическая структура или корре-
ляция и морфо-гилетическая структура или корреляция.
Тот факт, что эта комплексная структура является струк-
турой интенциональности, то есть структурой начала
смысла и открытия света феноменальности, так что ее
уничтожение равняется бессмыслице, оказывается зна-
чимым по меньшей мере в двух отношениях: А) Ноэза и
ноэма, то есть интенциональные моменты структуры, раз-
личаются в том, что ноэма реально не принадлежит соз-
нанию. В сознании вообще есть инстанция, которая ре-
ально ему не принадлежит. На этом строится вся сложная,
но решающая тематика нереального (reell) включения
ноэмы15. Ноэма, то есть объективность объекта, смысл и
чтойность вещи, для сознания не будет ни самой опреде-
ленной вещью в ее голом существовании, явлением кото-
рого как раз и оказывается ноэма, ни собственно субъек-
тивным моментом, «реально» субъективным, поскольку
она несомненно дается сознанию как объект. Она не от-
носится ни к миру, ни к сознанию, оказываясь миром или
вещью мира для сознания. Конечно, ноэма не могла бы
быть открыта без интенционального сознания, но она не
заимствует у него того, что можно было бы метафориче-
ски, избегая материализации сознания, назвать его «ве-
ществом». Эта реальная неотносимость ноэмы к какому
бы то ни было региону, пусть даже к архи-региону, эта
анархия ноэмы является корнем и самой возможностью
смысла и объективности. Эта иррегиональность ноэмы,
ее открытость к бытию «как к таковому» и к определе-
нию совокупности регионов вообще не может быть про-
сто и stricto sensu описана из определенной региональ-
«Генезис и структура» и феноменология «Письмо и различие» Ж. Деррида
ной структуры. Вот почему трансцендентальная редук-
ция (в той мере, в какой она должна оставаться эйдетиче-
ской редукцией, чтобы знать, о чем дальше говорить, и
чтобы избежать эмпирического идеализма и идеализма
абсолютного) могла бы показаться вводящей нас в заблу-
ждение, поскольку она все же дает доступ к одному оп-
ределенному региону, какова бы ни была его привилегия
в смысле основания. Можно было бы подумать, что после
безоговорочного признания нереальности ноэмы после-
довательным было бы преобразовать весь феноменоло-
гический метод и вместе с Редукцией отправить в отстав-
ку весь трансцендентальный идеализм. Но не привело бы
это к самоосуждению на полное молчание — которое все-
гда возможно — и, во всяком случае, к отказу от строго-
сти, которую могли обеспечить только эйдетически-
трансцендентальное/>азг/>аиич£ии£ и выделение регионов?
В любом случае трансцендентальность открытия — это и
начало, и поражение, условие возможности и определен-
ная невозможность всякой структуры и всякого систе-
матического структурализма. — В) Если ноэма — это ин-
тенциональная и нереальная составляющая, то гиле — это
реальная, но не интенциональная составляющая пережи-
ваний. Она является чувственной (переживаемой или
нереальной) материей возбуждения до всякого одушев-
ления интенциональной формой. Это полюс чистой пас-
сивности, той не-интенциональности, без которой соз-
нание не получало бы ничего отличного от себя и не могло
бы осуществлять свою интенциональную деятельность.
Эта восприимчивость также оказывается по своей сущ-
ности открытостью. Если на том уровне, на котором ос-
таются Ideen I, Гуссерль отказывается описывать и ис-
следовать гиле саму по себе во всей ее непохожести ни на
что иное, если он отказывается изучать возможности,
названные материей без формы и формами без материи^,
если он полностью ограничивается уже конституирован-
ной морфо-гилетической корреляцией, то причина состо-
ит в том, что его исследования пока еще (впрочем, не бу-
дут ли они делать то же самое и дальше?) развертываются
внутри некоей конституированной темпоральности17. А в
своей абсолютной глубине и специфике гиле — это в пер-
вую очередь темпоральная материя. Она является воз-
можностью самого генезиса. Таким образом, на этих двух
открытых полюсах трансцендентальной структуры вся-
кого сознания и внутри нее самой должна была появить-
ся необходимость перехода к генетическому конституи-
рованию и к той новой «трансцендентальной эстетике », в
которой темы Другого и Времени должны были бы обна-
ружиться в своей необходимой неразрывности, но эта
постоянно заявляемая эстетика будет постоянно откла-
дываться на потом. Дело в том, что конституирование
другого и времени отсылает феноменологию к области,
где ее «принцип принципов »(то есть, по нашему мнению,
метафизический принцип — изначальная очевидность и
присутствие самой вещи) поставлен под сомнение в са-
мом своем корне. Во всяком случае мы видим, что необ-
ходимость этого перехода от структурного к генетиче-
скому менее всего является необходимостью разрыва или
обращения.
Прежде чем последовать за этим внутренне прису-
щим самой феноменологии движением, остановимся на
минутку на второй граничной проблеме.
Все схемы проблем, которые мы только что обозна-
чили, принадлежат к трансцендентальной сфере. Но не
может ли взять на себя такое описание и такие проблем-
ные схемы та преобразованная под двойным влиянием
феноменологии и Gestaltpsychologie™ психология, кото-
рая явно отстранялась от доктрины ассоциаций, причин-
ного объяснения, и т.д.? Одним словом, может ли струк-
турная психология, поскольку она претендует на
независимость от трансцендентальной феноменологии,
если не от феноменологической психологии, стать неуяз-
вимой для упрека в психологизме, некогда направленно-
го классической психологии? Верить в это настолько со-
блазнительно, что сам Гуссерль считал необходимым
создание феноменологической психологии как полно-
стью априорной, но при этом относящейся к миру науки
(поскольку она не может исключить полагания той вещи,
принадлежащей миру, которой является psyche), строго
параллельной трансцендентальной феноменологии. Но
пересечение этого невидимого различия, которое разде-
ляет параллельные прямые, небезобидно, поскольку оно
оказывается наиболее утонченным и наиболее честолю-
бивым жестом психологистского злоупотребления. Та-
ков принцип критики, направленной Гуссерлем в после-
словии к Ideen I (1930) психологиям структуры или
целостности. Главное целью является именно гештальт-
психология19. Для того, чтобы избежать «натурализма»,
недостаточно уйти от атомизма. Чтобы прояснить рас-
о
о
3
о
§
о
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
стояние, которое должно отделять феноменологическую
психологию от трансцендентальной феноменологии,
нужно было бы спросить о пустяке, который мешает им
соединиться, об этой параллельности, которая высвобо-
ждает пространство трансцендентального вопроса. Та-
кой пустяк — это то, что делает возможной трансцен-
дентальную редукцию. Трансцендентальная редукция —
это то, что обращает все внимание к этому пустяку, в ко-
тором открывают свое начало тотальность смысла или
смысл тотальности. Открывая, таким образом, по выра-
жению Финка, начало мира.
Теперь нам было бы необходимо, если бы у нас было
на то время и средства, приблизиться к гигантским про-
блемам генетической феноменологии, как она развива-
ется после Ideen I. Я отмечу только следующие пункты.
Глубокое единство генетического описания расщеп-
ляется, нимало не рассеиваясь, на три направления.
А) Логический путь. Задача Erfahrung und Urteil,
«Трансцендентальной и формальной логики» состоит в
том, чтобы разложить и «редуцировать» не только по-
верхностные структуры научных идеализаций и значения
объективной точности, но и все предикативные седимен-
тации, принадлежащие к культурному слою субъект-от-
носимых witwh Lebenswelt’а. И это делается для того, что-
бы схватить и «повторно пережить» теоретическую или
практическую предикацию вообще, исходя из самой из-
начально некультурной жизни.
В) Эгологический путь. В некотором смысле он уже
подразумевается в предыдущем. В первую очередь пото-
му, что, если говорить наиболее общим образом, фено-
менология не может и никогда не должна ничего описы-
вать кроме интенциональных модификаций эйдоса эго
вообще20. Затем — потому, что генеалогия логики ранее
удерживалась в сфере cogitata, а акты эго, как его суще-
ствование и его собственная жизнь, прочитывались толь-
ко из ноэматических знаков и результатов. Теперь же,
как сказано в «Картезианских медитациях», речь идет о
том, чтобы не доходить, если я так могу выразиться, до
связки cogito-cogitatum, но охватить генезис самого эго,
существующего в себе и «постоянно себя конституирую-
щего в качестве существования»21. Вместе с весьма дели-
катными проблемами пассивности и активности это ге-
нетическое описание эго натолкнется на пределы,
которые мы склонны считать непреодолимыми, хотя сам
Гуссерль рассматривал их, естественно, только в качест-
ве временных. Они, как он говорил, связаны с тем, что
феноменология находится еще в самом своем начале21. На
самом деле для того, чтобы генетически описать эго, не-
обходимо постоянно решать удивительную задачу уни-
версальной генетической феноменологии. А она пред-
ставляется в качестве третьего пути.
С) Историко-телеологический путь. «Телеология
разума проходит через всю историчность23» и, в частно-
сти, через «единство истории эго»14. Этот третий путь,
который должен дать доступ к эйдосу историчности во-
обще (то есть к ее телосу, поскольку эйдос исторично-
сти, то есть движения смысла, по необходимости оказы-
вающегося духовным и разумным движением, может быть
только нормой, иначе говоря, скорее ценностью, чем сущ-
ностью) — не просто один путь, равный другим. Эйдети-
ка истории — это не просто одна какая-нибудь эйдети-
ка, она охватывает всю совокупность сущего. В самом
деле, вторжение логоса, пришествие бесконечной Идеи
разума человеческому сознанию происходит не только в
серии революций, которые в то же время являются обра-
щениями к себе, разрывами предыдущей конечности, об-
нажающими мощь скрытой бесконечности и отдающими
свой голос 5x)vaptg некоего молчания. Эти разрывы, яв-
ляющиеся в то же время и открытиями (также как и со-
крытиями, поскольку начало сразу же скрывается под
новой областью открытой или произведенной объектив-
ности), эти разрывы, по признанию Гуссерля, всегда объ-
являются заранее, «в смешении и ночи», то есть не толь-
ко в самых элементарных формах человеческой жизни и
истории, но в какой-то мере и в царстве животных или
даже в природе вообще. Как такое утверждение, ставшее
необходимым внутри и посредством самой феномено-
логии, могло бы быть в ней полностью оправдано? Ведь
оно уже не относится к одним лишь феноменам или оче-
видностям переживаний. И если оно все-таки может быть
объявлено только в стихии феноменологии, то что ему
мешает быть уже — или еще — метафизическим выска-
зыванием, высказыванием метафизики, выражающейся
через феноменологический дискурс? Здесь я ограничусь
тем, что только поставлю эти вопросы.
Итак, разум открывается сам по себе. Разум, гово-
рит Гуссерль — это логос, который производит себя в
истории. Он пересекает бытие, направляясь к себе, на-
ft
х
ft
ш
q
в
правляясь к явлению себя себе, то есть, покуда он есть
логос, к своему собственному высказыванию и выс-
лушиванию своего высказывания. Он есть слово как
самовозбуждение, вслушивание в то, что он же и
говорит. Он выходит из себя, чтобы вернуться к себе в
«живом настоящем» присутствия для самого себя.
Выходя из себя, выслушивание своей собственной речи
конституируется в истории разума через обходной путь
письма. Оно откладывает себя, дабы присвоить.
«Начала геометрии» описывают необходимость этой
связи разума с принадлежащим миру письмом. Эта связь
необходима для конституирования истины и иде-
альности объектов, но она же является и угрозой смыслу
со стороны внешнего знака. В моменте письма знак
всегда может опустеть, уклониться от пробуждения и
«повторного переживания», навсегда остаться немым и
закрытым. Как и для Курно, письмо здесь — это
«критическая эпоха».
Здесь нужно особенно внимательно отнестись к
тому факту, что этот язык, в отличие от некоторых звуч-
ных фраз Гегеля, показавшихся Гуссерлю, по праву или
нет, спекулятивными и метафизическими, непосредст-
венно не является ни спекулятивным, ни метафизи-
ческим. Поскольку этот Логос обращается к себе и
призывает себя как телос, так что его Suvapig стремится
к своей evepyeia и к своей evieXcxia, этот логос не произ-
водится в истории и не пересекает ее как внешнюю
эмпиричность, в которую бы сходила и к которой
нисходила его метафизическая трансцендентная и
актуально бесконечная сущность. Логос — ничто вне
истории и бытия, поскольку он является дискурсом,
бесконечной дискурсивностью, а не актуальной бес-
конечностью, поскольку он есть смысл. А ирреальность
или идеальность смысла была открыта феноменологи-
ей в числе своих самых первых оснований. И обратно,
никакая история как традиция самости и никакое бытие
не имели бы смысла без логоса, который является себя
проектирующим и себя высказывающим смыслом.
Несмотря на все эти классические понятия, здесь нет
никакого отречения феноменологии от самой себя в
пользу классической метафизической спекуляции,
которая, напротив, должна была бы, согласно Гуссерлю,
обнаружить в феноменологии чистую энергию своих за-
мыслов. А это приводит к признанию, что, критикуя
классическую метафизику, феноменология выполняет
ее самый глубокий проект. Гуссерль сам это признает
или, скорее, требует, особенно в «Картезианских ме-
дитациях». Результаты феноменологии являются «ме-
тафизическими, если верно, что предельное познание
бытия должно именоваться метафизикой. Но они менее
всего метафизичны в обычном значении этого термина;
такая метафизика, выродившись на протяжении своей
истории, совсем не соответствует тому духу, в котором
она была первоначально основана в качестве «первой
философии»». «...Феноменология исключает только
лишь наивную метафизику... но она не исключает
метафизику вообще» (§60 и 64). Ибо внутри наиболее
универсального эйдоса духовной историчности прев-
ращение философии в феноменологию должно ока-
заться последней стадией дифференциации (стадией,
то есть ступенью, Stufe, структурным уровнем или
этапом в развитии)25. А двумя предыдущими стадиями
были бы дотеоретическая культура и теоретический
или философский проект (в его греко-европейском
моменте)26.
Присутствие для феноменологического сознания
телоса или Vorhaben, бесконечного теоретического
предвосхищения, данного одновременно как бес-
конечная практическая задача, обнаруживается всякий
раз, как Гуссерль говорит о об Идее в кантовском
смысле. Последняя дана в феноменологической оче-
видности как очевидность существенного превос-
хождения актуальной и адекватной на данный момент
очевидности. Нужно было бы внимательнее изучить это
вмешательство Идеи в кантовском смысле на различных
участках пути Гуссерля. Тогда, быть может, оказалось
бы, что эта Идея является Идеей или самим проектом
феноменологии, тем, что делает ее возможной, пос-
тоянно выходя за пределы ее системы очевидностей и
наличных определений, обходя ее как свое начало и
свой конец.
Поскольку Телос является абсолютно открытым,
самой открытостью, сказать, что он поэтому является
самым сильным структурным априори историчности,
это не значит указать на него как на статичную и опре-
деленную ценность, которая бы направляла и закры-
вала генезис бытия и смысла. Он — это конкретная воз-
можность, само рождение истории и смысл становления
267
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
вообще. Следовательно, будучи началом и станов-
лением, он в структурном отношении является самим
генезисом.
Все это развитие оказалось возможным благодаря
первоначальному различению между несколькими не
сводимыми друг другу типами структуры и генезиса:
генезисом, принадлежащим миру и трансцендентальным
генезисом, эмпирической, эйдетической и трансценден-
тальной структурой. Задавать же следующий историко-се-
мантический вопрос: «Что означает и что всегда означало
понятие генезиса вообще, исходя из которого стало воз-
можным его гуссерлевское преломление? Что значит и что
всегда значило, несмотря на все свои смещения, понятие
структуры вообще, исходя из которого действует
Гуссерль, производя различия между эмпирическим,
эйдетическим и трансцендентальным измерениями? Како-
во историко-семантическое отношение между генезисом
и структурой вообще?» — это не значит просто ставить
предварительный лингвистический вопрос. Это значит
ставить вопрос об исторической почве, на которой стала
возможной трансцендентальная редукция и сам ее мотив.
Это значит ставить вопрос о единстве мира, от которого
отвлекается, дабы показать его начало, сама транс-
цендентальная свобода. Если Гуссерль не задал себе этих
вопросов, которые можно сформулировать и в терминах
исторической филологии, если он не спросил себя сперва
об общем смысле этих рабочих инструментов, то причина
тому не в наивности, догматической или спекулятивной
поспешности или же в том, что он, якобы, не признавал
исторического груза языка. Дело в том, что спрашивать
себя о смысле понятия структуры или генезиса вообще до
вводимых редукцией различений — это значит спрашивать
себя о том, что предшествует трансцендентальной
редукции. А последняя является не чем иным, как актом,
отрывающимся от всего, что ему предшествует, дабы
получить к нему доступ во всей его историчности и во всем
его прошлом. Вопрос о возможности трансцендентальной
редукции не может ожидать ответа. Ведь он оказывается
вопросом о возможности вопроса, самим открытием,
зиянием, исходя из которого трансцендентальное Я,
которое Гуссерль пытался назвать «вечным» (но даже в
таком случае его мысль не будет ни мыслью о бесконечном,
ни неисторической мыслью), призывается к вопрошанию
обо всем, и в частности — о возможности голого и дикого
факта бессмыслицы, показывающегося, например, в
собственной смерти этого Я.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Logique formelie et logique transcendentale, trad.
S. Bachlard, p. 119.
2 Cm. Recherches logiques, t. II. 1, § 31, p. 118, trad. Elie,
Kelkel, Scherer.
3 Речь идет, говорит в то время Гуссерль, «о подготовке
научных оснований, на которых можно было бы затем
утвердить математику и философию, благодаря серии
психологических и логических исследований». Ph. Der
Ar., р. V. В Recherches logiques, 1.1, p. VIII, он напишет:
«Я исходил из господствующего убеждения, что логика
дедуктивной науки, как и логика вообще, должна полу-
чить свое философское объяснение из психологии».
В статье, появившейся немного позже Ph. Der Аг. Гус-
серль утверждает: «Я думаю, что у меня есть все ос-
нования полагать, что никакая теория суждения не
сможет согласоваться с фактами, если она не будет опи-
раться на глубокое изучение описательных и генетиче-
ских отношений интуиций и репрезентаций» (Psycholo-
gische Studien zur element ar en Logik).
4 Philosophic der Arithmetik была посвящена Брентано.
5 Упоминая о попытке в Philosophic der Arithmetik, Гус-
серль в предисловии к Recherches logiques (Ire ed., p. VIII)
отмечает: «Психологические исследования занимают...
в первом томе [единственном опубликованном. — Ж.Д. ]
весьма заметное место. Это психологическое основание
в силу некоторых причин никогда не казалось мне по-
настоящему исчерпывающим. Пока речь шла о вопросе
происхождения математических представлений или об
оформлении практических методов, достаточно хорошо
определенном психологически, результаты психологи-
ческого исследования казались мне вполне ясными и бо-
гатыми по своим выводам. Но как только мы переходи-
ли от психологических связок мысли к логическому
единству ее содержания (то есть к единству... теории),
невозможно было обнаружить ни истинной ясности, ни
настоящей связности объяснения» (Trad. Elie).
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
6 В самом деле, Гуссерль пишет: «Я не понимаю, как он
может думать, будто бы в своем столь поучительном ана-
лизе структуры и типологии Weltanschauung он нашел
решающие доводы против скептицизма» (Philosophic
сотые science rigoureuse). Естественно, историцизм осу-
ждается лишь в той мере, в какой он по необходимости
связан с историей фактов, с историей как Tatsachenwis-
senschaft. «История как эмпирическая наука о развитии
духа, пишет Гуссерль, неспособна своими собственны-
ми средствами решить, можно ли отличить религию как
особую форму культуры от религии как идеи, то есть
значимой религии; необходимо ли вообще различать
искусство как форму культуры и значимое искусство,
историческое право и значимое право, и, в конечном сче-
те, философию в историческом смысле и значимую фи-
лософию...» (ibid.).
7 См. Philosophic сотые science rigoureuse, trad. Q. Lauer,
p. 113.
8 Полемика продлиться и после «Философии как строгой
науки ». См. Phdnomenologische Psychologie. Vorlesungen
Sommer seme st er 1925.
9 Упоминая о чувстве силы, которое может питаться ис-
торическим релятивизмом, Гуссерль пишет: «Мы настаи-
ваем на том, что принципы таких относительных оценок
также принадлежат сфере идеального, что историк, ко-
торый делает ценностные суждения, не может понимать
одно лишь чистое развитие [фактов. — Ж.Д.], а может
лишь предполагать свои собственные основания, нико-
гда, будучи историком, не обосновывая их. Норма для
математики находится в математике, для логики — в
логике, для этики — в этике и т.д.», Philosophic сотые
science rigoureuse, trad. Lauer, p. 105.
10 «...Мудрость или Weltanschauung принадлежит к куль-
турной общности или эпохе, находясь в соотношении
с их наиболее развитыми формами, причем в том стро-
гом смысле, в каком мы говорим не о культуре или
Weltanschauung одного определенного индивида, но и
культуре эпохи...» Именно эта мудрость, продолжает
Гуссерль, «дает наиболее совершенный для данных об-
стоятельств ответ на загадки жизни и мира, то есть наи-
более удачным способом ведет к решению и удовлетво-
рительному прояснению теоретических, ценностных и
практических разногласий жизни, которые опытом,
мудростью и непредвзятым взглядом на жизнь и мир
могут преодолеваться только в ущербной форме...
В спешке жизни, в практической необходимости занять
ту или иную позицию человек не мог ждать, пока при-
дет наука — что может случиться только через тыся-
челетия, — если только в конце концов вообще пред-
полагать, что идея этой строгой науки была ему уже
знакома», Ibid. trad. Lauer.
11 См. Ideen 7,1, §1.
12 См. Ideen I, 9, p. 37 и §25, p. 80, trad. Ricoeur.
13 Ibid., § 71, p. 228.
14 «При помощи аксиом, то есть первичных эйдетических
законов, она [геометрия. — Ж.Д. ] способна чисто дедук-
тивным путем вывести все формы, «существующие» (ex-
ist irienden) в пространстве, то есть все идеально возмож-
ные пространственные формы и все эйдетические
отношения, к ним относимые, описываемые в понятиях,
которые точно определяют свой объект... Родовая сущ-
ность геометрической области или чистая сущность про-
странства таковы, что геометрия может быть уверенной
в том, что, действуя своими методами, она всегда может
абсолютно точно справиться со всеми пространственно
определенными возможностями. Иначе говоря, множе-
ство всех пространственных конфигураций обладает тем
замечательным и фундаментальным логическим свойст-
вом, ради которого мы вводим термин «дефинитного»
(definite) множества или математического множества
в точном смысле этого слова. Его характеризует то, что
конечное число понятий и положений полностью и од-
нозначно определяют множество всех возможных кон-
фигураций данной области; это определение представ-
ляет тип чисто аналитической необходимости;
отсюда же следует, что в данной области в принципе
нет ничего открытого (offen) или неопределенного*
(ibid.,§72,р. 231-232).
15 См. Ideen, section 3, chap. Ill и IV.
16 Ibid., § 85, p. 290.
17 В параграфе, посвященном гиле и морфе, Гуссерль пи-
шет: «На уровне рассмотрения, которым мы пока огра-
ничиваемся и который избавляет нас от необходимости
спускаться в темные предельные глубины сознания, кон-
ституирующего всю темпоральность переживаний...»
(Ibid. р. 288). И далее: «В любом случае в целостности
всей феноменологической области (в целостности, то
есть внутри плана конституированной темпоралъно-
сти, который необходимо постоянно поддерживать) эта
дуальность и это замечательное единство чувственной
«Генезис и структура» и феноменология «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» «Генезис и структура» и феноменология
иХц и интенциональной poptpfj играют главную роль»
(р. 289). Несколько ранее Гуссерль, сравнив простран-
ственное и временное измерения гиле, следующим
образом объявляет, одновременно его оправдывая,
статическое описание ограниченным и требует перейти
к генетическому описанию: «Время, как покажут
последующие исследования, — это термин для целой
совокупности совершенно определенных и исклю-
чительно сложных проблем. Окажется, что все наши
предыдущие исследования в некоторой степени обошли
молчанием целое измерение сознания; но мы были
обязаны так поступить, чтобы избежать смешения
различных аспектов, которые обнаружимы только лишь
в феноменологической установке... Трансценденталь-
ный “абсолют”, которого мы достигли путем много-
численных редукций — это, на самом деле, еще не конец,
ведь он оказывается чем-то (etwas), что в некоем
глубочайшем и абсолютно уникальном смысле консти-
туирует самого себя, обнаруживая свой праисточник
(Urquelle) в предельном и истинном абсолюте» (р. 274-275).
Будет ли в разработанных исследованиях это ограниче-
ние когда-нибудь снято? Подобные оговорки мы обна-
руживаем во всех крупных последующих книгах, в осо-
бенности в Erfharung und Urteil (р. 72, 116, 194 etc.), и
каждый раз, когда Гуссерль объявляет о создании
«трансцендентальнойэстетики» (заключениек «Logique
formelle et logique transcendantale), § 61 Meditation car-
te si ens).
18 Такова, собственно, и была попытка Келера, согласно
которому психология должна была заняться «феноме-
нологическим описанием», и Коффки, ученика Гуссер-
ля, который в своих Principles of Gestalt Psychology хо-
тел показать, что в своем структурализме «психология
формы» уходит от критики психологизма. Связывание
феноменологии и «психологии формы» можно было
легко предвидеть. И не только в тот момент, когда, как
предполагает М.Мерло-Понти (Phenomenologie de la per-
ception, p. 62, n. 1), Гуссерль должен был в своем Krisis’e
«принять» «понятие “конфигурации” и даже понятие
Gestalt*, но, наоборот, тогда, когда Гуссерль с некото-
рым правом мог утверждать, что это он одолжил неко-
торые свои понятия гештальтпсихологии, и в частности
понятие «мотивации» (см. Ideen, § 47, р. 157 п.а. и Medi-
tations cartesiennes, § 37, trad. Levinas, p. 63), которое по-
является после «Логических исследований», и понятие
организованной целостности, единого множества, ко-
торое можно найти уже в Philosophic der Arithmetik
(1887-1891). По всем этим вопросам мы отсылаем к важ-
ной работе A. Gurwitsch, Theorie du champ de la conc-
sience (trad. M. Butor).
19 P. 264 и сл.
20 «Поскольку конкретное монадное эго содержит в себе
всю совокупность реальной и потенциальной жизни соз-
нания, очевидно, что проблема феноменологического
объяснения этого монадного эго (то есть проблема его
конституирования как самоконституирования) должна
охватить все конститутивные проблемы вообще. В ко-
нечном счете феноменология этого конституирования
себя для себя должна совпасть с феноменологией вооб-
ще^ (М. С., § 33, trad. Levinas, р . 58).
21 «Но теперь мы обязаны привлечь внимание к большой
лакуне в нашем изложении. Эго существует для себя са-
мого} оно с очевидностью дано себе самому и, следова-
тельно, оно постоянно себя конституирует в качест-
ве существования. Но до сих пор мы касались этого
самоконституирования только с одной стороны, направ-
ляя наш взгляд только на поток cogito. Но эго схваты-
вает самого себя не только как поток жизни, но так же и
как себя самого, то есть то Я, которое проживает то или
это, тождественное Я, которое проживает то или иное
cogito. До сего дня мы были заняты одним лишь интен-
циональным отношением сознания со своим объектом,
cogito и cogitatum...* (р. 56).
22 «Весьма сложно подойти и подступиться к феномено-
логическим эйдетическим проблемам предельной общ-
ности и, тем самым, к проблемам генезиса. Начинающий
феноменолог оказывается невольно связан тем фактом,
что его отправной точкой был он сам. В трансценден-
тальном анализе он обнаруживает себя как эго и затем
как эго вообще; но эти эго уже обладают сознанием мира,
сознанием близкого и знакомого нам онтологического
устроения, в котором есть природа, культура (науки, ис-
кусства, техника), личности высшего уровня (Государ-
ство, Церковь) и т.д. Первоначально разрабатываемая
феноменология носит статичный характер, ее описа-
ния напоминают описания естественной истории, кото-
рая может изучать отдельные виды и, самое большее,
упорядочивать их в некоей системе. Мы пока еще дале-
ки от проблем универсального генезиса и от генетиче-
ской структуры эго, выходящей за пределы простой
формы времени; в действительности все это вопросы
высшего порядка. Но даже задавая их, мы не вполне сво-
бодны. В самом деле, анализ сущностей будет полагать-
ся всегда на эго, но он будет обнаруживать только эго,
для которого конституированный мир уже заведомо
существует. Таков абсолютно необходимый этап, исхо-
дя из которого только и можно — высвобождая ему
присущие формы генетических законов — понять воз-
можности абсолютно универсальной эйдетической фе-
номенологии» (р. 64-65).
25 Knm (Beilage III, р. 386).
24 М. С., р. 64, § 37.
25 Все эти выражения позднего Гуссерля выстраиваются
так же, как в метафизике Аристотеля, где эйдос, логос и
телос определяли переход от возможности к действи-
тельности. Конечно, как и имя Бога, которого Гуссерль
называет Энтелехией, эти понятия трансцендентально
помечены, а их метафизическое значение нейтрализо-
вано феноменологическими кавычками. Однако, воз-
можность такой нейтрализации, ее чистоты, ее условий
и ее «немотивированное™ » всегда будет оставаться
весьма проблематичной. Впрочем, столь же проблема-
тичной она всегда оставалась и для самого Гуссерля, как
и возможность самой трансцендентальной редукции.
Ведь последняя сохраняет немаловажное родство с ме-
тафизикой.
26 См. Krisis, р. 502-503.
Вкрадчивое слово
Когда я пишу, есть только то, что я пишу. Что-
то, что я почувствовал, но не сумел сказать и что от
меня ускользнуло, — это мысли или украденное
слово, которое я разрушу, чтобы заменить чем-то
другим.
А. Арто, Родез, апрель 1946
Как не крутись, ты еще не начал думать.
А. Арто, «Искусство и Смерть »
Наивна речь, которую мы открываем здесь в сторо-
ну Антонена Арто. Но чтобы свести ее на нет, долго при-
шлось бы ждать — пока на самом деле не начнется диа-
лог между, говоря вкратце, критическим и клиническим
дискурсами. Диалог, который, выходя за траекторию ка-
ждого из них, мог бы устремиться к общности их начала
и горизонта. Наше счастье в том, что это начало и этот
горизонт сегодня уже легче увидеть. М. Бланшо, М. Фу-
ко и Ж. Лапланш, рядом с которыми мы оказались, зада-
ли себе вопросы о проблематичном единстве этих двух
дискурсов, попытавшись указать проход для слова, ко-
торое, не раздваиваясь и даже не распределяясь по раз-
ным инстанциям, могло бы в одном простом движении
говорить о безумии и произведении, углубившись внача-
ле в их загадочную связь.
По тысяче причин, которые обусловлены не только
местом и временем, мы не можем развернуть здесь, хотя
и признаем их по праву первыми, те вопросы, которые
275
ф
о
а
х
в
остались для нас нерешенными в этих попытках. Мы ощу-
щаем, что если, в лучшем случае, общее место этих двух —
то есть медицинского и другого — комментариев и было
издалека указано, на деле они не были смешаны ни в од-
ном из текстов. (Может быть, дело в том, что речь с са-
мого начала шла о комментариях? И что такое коммен-
тарий вообще? Подвесим пока эти вопросы в воздухе,
чтобы потом увидеть, куда они упадут под воздействием
Арто.)
Мы говорим «на деле». Описывая «удивительно бы-
стрые колебания», которые в «Гельдерлине и вопросе
отца» производят иллюзию единства, «позволяя осуще-
ствлять незаметный перенос аналогичных фигур в обоих
направлениях» и пробегая «область, заключенную меж-
ду поэтическими формами и психологическими структу-
рами»1, М. Фуко делает вывод о существенной и полно-
стью оправданной невозможности. Эта невозможность
должна происходить из некоей бесконечной близости,
никоим образом ее не исключая: «Два этих дискурса, не-
смотря на тождественность содержания, всегда переда-
ваемого от одного к другому и доказательного для них
обоих, в глубине своей оказываются, вне всякого сомне-
ния, несовместимыми. Взаиморасшифровка поэтически-
ми и психологическими структурами друг друга никогда
не покроет этого расстояния. В то же время, они беско-
нечны близки, подобно тому, как близка к возможному
возможность, обосновывающая это возможное; все дело
в том, что непрерывность смысла между произведением
и безумием возможна лишь в загадочности тождествен-
ного, в котором открывается абсолютность разрыва*.
Немного далее Фуко добавляет: «Это не какая-нибудь
абстрактная фигура, но то историческое отношение,
внутри которого должна ставить себе вопросы наша куль-
тура». Но может ли это с начала и до конца историче-
ское поле вопроса, описание которого нужно не столько
начать с нуля, сколько возродить, показать нам, как эта
фактическая невозможность могла выдать себя за пра-
вовую? Было бы также необходимо, чтобы историчность
и различие между двумя невозможностями мыслились в
весьма странном духе, что оказывается задачей не из са-
мых простых. Будучи издавна отлученной от мысли, эта
историчность наиболее решительно отлучается от нее в
тот момент, когда комментарий, то есть «расшифровка
структуры», взошел на свой трон, определив положение
вопроса. Но этот момент нельзя обнаружить в нашей па-
мяти уже хотя бы потому, что его нет в истории.
Итак, мы понимаем, что, хотя клинический и крити-
ческий комментарий на деле повсюду требуют для себя
автономии, желая принудить друг друга к взаимоуваже-
нию, в единстве, которое через непродуманные опосре-
дования отсылает к тому единству, поисками которого
мы только что занимались, эти два комментария, тем не
менее, соучаствуют в одной и той же абстракции, в од-
ном и том же непризнании и насилии. Критика (эстетиче-
ская, литературная, философская и т.д.) в то самое мгно-
вение, когда она собиралась было защитить смысл мысли
или ценность произведения от психологических и меди-
цинских редукций, идя противоположным путем, прихо-
дит к тому же результату: она создает пример, наказ. То
есть случай или казус. Произведение или приключение
мысли приходят, чтобы в качестве примера засвидетель-
ствовать своим мученичеством структуру, постоянство
сущности которой мы и стремились перво-наперво рас-
шифровать. Принимать всерьез, дорожить смыслом и
ценностью, превращая их в отдельный случай или ка-
зус — это для критики значит продемонстрировать сущ-
ность на примере, который сам при этом заключается в
феноменологические скобки. Так получается по ходу са-
мого упорного жеста критики, с наибольшим уважением
относящегося к предельной уникальности своей темы.
Упрямо противопоставляясь друг другу по вполне нам из-
вестным причинам, редукция психологическая и редукция
эйдетическая, сталкиваясь с проблемой произведения и
безумия, функционируют одним тем же образом и име-
ют, ничего о том не зная, одну и ту же цель. То освоение
случая Арто, которое могла бы обеспечить нам психопа-
тология какого угодно толка, если только предположить,
что ее прочтение достигает очевидной глубины М. Блан-
шо, в конце концов привело бы к той же самой нейтрали-
зации «этого бедного г. Антонена Арто». Приключение
которого становится в «Прибывающей книге» пример-
ным. Речь здесь идет о некоем, впрочем, действительно
великолепном, прочтении «немочи» (из высказываний
Арто о самом себе), «существенной для мысли »(М. Блан-
шо). «Он, как будто бы против собственной воли, при-
коснулся в том патетическом заблуждении, из которого
происходят все его крики, к той точке, где мыслить — это
уже всегда еще не мочь мыслить, к той »немочиъ, если
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
ф
о
tt
X
9
cl
х
пользоваться его словом, которая оказывается сущест-
венной для самой мысли...» (р. 48). «Патетическое за-
блуждение» — это то, что из примера возвращается са-
мому Арто, что не будет удержано в расшифровке истины
сущности. Заблуждение — это история Арто, его след,
стертый на дороге истины. В такой трактовке заметно
влияние еще догегелевского соотношения истины, заблу-
ждения и истории. «Поэзия связана с этой невозможно-
стью мыслить, которая и есть мысль, — вот истина, кото-
рая не может открыться, ибо она всегда увертывается,
вынуждая Арто испытывать себя как бы в отступлении
от той точки, где он мог бы ее на самом деле испытать»
(ibid). Патетическое заблуждение Арто: непроницае-
мость примера и существования, которые удерживают его
вдали от истины, на которую он в отчаянии указывает —
небытие в сердце слова, «нехватка бытия», «возмутитель-
ность мысли, отделенной от жизни» и т.д. Неотъемлемо
принадлежащее самому Арто — сам его опыт — может
быть безжалостно отдано критиком психологам или ме-
дикам. «Но нам нельзя совершать ошибки, которая за-
ключалась бы в том, чтобы прочесть те его точные, от-
четливые и скрупулезные описания, которые он нам
предлагает, приняв их за анализы психологического со-
стояния» (р. 51). С тех пор, как мы можем его целиком
прочитать, высказать, повторить и озаботиться им, то,
уже не принадлежащее Арто, чему он стал свидетелем —
это универсальная сущность мысли. Все приключение
Арто должно стать лишь указанием на трансценденталь-
ную структуру: «Ведь Арто никогда не смирится с воз-
мутительностью мысли, отделенной от жизни, даже если
сам он будет предан самому непосредственному и само-
му дикому за всю историю опыту сущности мысли, по-
нятой как разделение, опыту той невозможности, ко-
торую мысль утверждает против себя самой на пределе
своей бесконечной силы» (ibid.). Мысль, отделенная от
жизни, — это, как известно, одна из значительных фи-
гур духа, несколько примеров которой дал уже Гегель.
Арто, следовательно, должен как будто бы дать ей дру-
гой пример.
Размышления М. Бланшо останавливаются на этом
месте, не задаваясь вопросом о том, что неминуемо при-
читается самому Арто, вопросом о его собственном ут-
верждении2, поддерживающем непринятие этой возму-
тительности, вопросом о «дикости» этого опыта.
Размышления останавливаются в этом месте или побли-
зости от него, то есть как раз в тот момент, когда упоми-
нается искушение, которого нужно было бы избежать, но
которого на деле никто никогда не избегал: «Было бы со-
блазнительно сблизить то, что говорит Арто, со сказан-
ным нам Гельдерлином и Малларме: изначально вдохно-
вение является той чистой точкой, в которой его не
хватает. Но необходимо противостоять этому искушению
слишком общих утверждений. Все поэты говорят одно и
то же, но мы ощущаем, что это не одно и то же, а что-то
единственное, уникальное. Сторона Арто принадлежит
только ему. Говоримое им наделено той силой, которую
мы не смогли бы выдержать» (р. 52). Но в последних за-
ключительных строках об уникальном уже ничего не го-
ворится: «Когда мы читаем эти страницы, мы узнаем то,
что нам не удается знать — то, что факт мысли может быть
только сногсшибательным, что в мысли нужно мыслить
то, что от нее отворачивается и неисчерпаемо черпается в
ней, что страдание и мысль тайно связаны» (ibid.). Поче-
му происходит этот возврат к сущностям? Потому ли, что
об уникальном ничего не скажешь по определению? Но
мы не будем спешить к столь верной очевидности.
Сблизить Арто с Гельдерлином было для М. Бланшо
тем более соблазнительно, что его текст, посвященный
Гельдерлину, «Безумие по преимуществу»3 двигается по
той же схеме. Постоянно утверждая необходимость из-
бегать альтернативы двух дискурсов («поскольку тайна
зависит и от этого двойного прочтения события, кото-
рое, однако, не умещается ни в той, ни в другой версии»,
потому что это событие, прежде всего, — это событие
демонического, которое «удерживается вне оппозиции
здоровья и болезни»), Бланшо сужает поле медицинско-
го знания, которое упускает уникальность события и
заранее упреждает всякие неожиданности. «Для меди-
цинского знания это событие только подтверждает “пра-
вило”, не являясь ничем удивительным и соответствуя
тому, что нам известно о тех больных, перо которым дает
в долг кошмар» (р. 15). Такая редукция клинической ре-
дукции оказывается редукцией к сущностям. По-преж-
нему протестуя против «слишком общих... формулиро-
вок», М. Бланшо пишет: «Мы не можем довольствоваться
признанием в судьбе Гельдерлина судьбы некоей, пусть
даже великой и утонченной, индивидуальности, которая,
слишком сильно возжелав чего-то большого, должна
ОЭ
по
£
X
X
0
о
ф
±1
о
оо
О
была дойти до точки, на которой она сломалась. Конеч-
но, его участь принадлежит лишь ему, но сам он принад-
лежит тому, что он выразил и открыл, что относится не
только к нему, оказываясь истиной и утверждением сути
поэзии... Он решает не свою судьбу, но судьбу поэзии; в
виде задачи, которую нужно исполнить, он задает себе
смысл истины... и это движение не только его, оно явля-
ется исполнением самой истины, которая на некотором
уровне, не обращая на него никакого внимания, требует,
чтобы его частный разум стал чистой безличной прозрач-
ностью, из которой нет возврата» (р. 26). Так что все по-
пытки спасти уникальное оказались тщетными, оно ис-
чезает из этого комментарии. И это не случайно.
Исчезновение уникального представлено как сам смысл
истины Гельдерлина: «...Подлинное слово, служащее по-
средником, поскольку сам посредник исчез, полагает пре-
дел его обособленности, возвращая его к стихии, из ко-
торой он вышел» (р. 30). Такая возможность— всегда
сказать вместо «Гельдерлин» просто «поэт», — влекущая
растворение единичного, обусловлена тем, что единство
или единственность единичного и уникального — здесь в
виде единства безумия и произведения — мыслится как
связка, «сочленение» и соединение. «Такого сочленения
не встретишь дважды» (р. 20).
Ж. Лапланш упрекает М. Бланшо в «идеалисти-
ческом», «откровенно «антинаучном» и «антипсихоло-
гическом» толковании» и предлагает заменить теорию
единства Элинграта, к которой, несмотря на все свои осо-
бенности, склонялся М. Бланшо, на теорию единства
другого типа. Не желая отказываться от определенного
унитаризма, Ж. Лапланш стремится «понять в одном дви-
жении его [Гельдерлина. — Ж.Д.] творчество и эволю-
цию в сторону и внутри безумия, пусть даже это движе-
ние оформляется в виде некоторой диалектики или
разнонаправленного и конрапунктированного пути»
(р. 13). Но на деле быстро замечаешь, что это «диа-
лектическое » оформление и разнонаправленность только
усложняют никогда не отменяемую дуальность, лишь
увеличивая, как точно замечает М. Фуко, частоту
колебаний — вплоть до того, что они становятся мало
различимыми. В конце книги мы снова выдыхаемся перед
уникальным, которое как таковое утаивается от дискурса
и всегда будет от него утаиваться. «Сближение, которое
мы делаем между развитием шизофрении и творческой
эволюцией, приводит к заключениям, которые не могут
быть безоговорочно обобщены: речь идет, быть может,
об уникальном отношении между поэзией и душевным
заболеванием, обнаруживаемом в данном конкретном
случае» (р. 132). Все та же единственность связки и
сочленения. Стоит ее хотя бы ненароком признать, и мы
неминуемо вернемся к той работе с примерами, которая
специально4 критиковалась в связи с М. Бланшо. Психо-
логистский и являющийся его противоположностью
структуралистский или эссенциалистский жесты почти
совсем исчезли, так что теперь нас больше соблазняет
чисто философский жест: дело уже не в том, чтобы
понимать поэта Гельдерлина из структуры шизофрении
или трансцендентальной структуры, смысл которой был
бы нам заранее известен, не предвещая никаких неожи-
данностей. Напротив, нужно прочитать и просмотреть то,
как у Гельдерлина прорисовывается путь, быть может,
даже самый лучший, примерный, путь к сущности
шизофрении вообще. Шизофрения — это не просто
некоторый психологический или даже антропологиче-
ский факт, которым могут распоряжаться определенные
науки, называемые антропологией и психологией:
«...именно он [Гельдерлин. — Ж.Д.] открывает шизоф-
рению как универсальную проблему» (р. 133). Универ-
сальную, а не просто человеческую, что объясняется уже
тем, что, только исходя из возможности шизофрении,
может быть построена антропологическая истина; это,
конечно, не значит, что возможность шизофрении могла
бы реально встретиться у других существ кроме человека,
просто она не является одним из атрибутов заранее
построенной и признанной его сущности. Так же, как «в
некоторых обществах доступ к Закону и Символическо-
му возложен на институты, отличные от института отца »
(р. ИЗ), которые, однако, можно понять только через
него, аналогичным образом шизофрения — это не просто
одно из измерений или возможностей сущего, называе-
мого человеком, но та структура, которая открывает нам
истину человека. И это открытие находит для себя пример
в случае Гельдерлина. Можно было бы подумать, что
уникальное по определению не может быть примером или
случаем универсальной фигуры. Но ничего подобного.
Примерность противоречит уникальности лишь внешне.
Хорошо известна та двусмысленность, которая скры-
вается в понятии примера, — она является источником
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
о
СО
О
CZ
0)
о
tt
X
5
заговора между клиническим и критическим дискурсами,
между тем, кто редуцирует смысл и ценность, и тем, кто
стремится их сохранить. И это позволяет М. Фуко
сделать, в свою очередь, такое заключение: «...Гельдер-
лин занимает уникальное и примерное место » (р. 209).
Таков случай, который хотели сделать из Гельдер-
лина и Арто. Наше намерение ни в коей мере не заключа-
ется в том, чтобы опровергать или критиковать принцип
такого прочтения. Оно вполне законно, плодотворно и
правильно, тем более что здесь оно осуществлено про-
сто восхитительно, основываясь на той критической усид-
чивости, которая продвигает нас далеко вперед. С дру-
гой стороны, если кажется, что мы обеспокоены таким
обращением с уникальным и единственным, то, пусть нам
поверят на слово, мы не думаем, будто нужно в силу не-
ких моральных или эстетических доводов защищать субъ-
ективное существование, оригинальность произведения
или уникальность красоты от насилия понятий. И обрат-
но, когда мы сожалеем о поражении или молчании перед
единичным, мы не предполагаем необходимости его раз-
ложения, анализа или расчленения в его еще более глу-
боком разбиении на отдельные составляющие. Лучше
будет сказать, что, по нашему мнению, никакой коммен-
тарий не может избежать этих недостатков, не разрушив
самого себя в качестве комментария при извлечении на-
ружу того единства, в котором коренятся различия (бе-
зумия и произведения, души и текста, примера и сущно-
сти), неявно поддерживающие и критику, и клинику. Эта
исходная почва, к которой мы приближаемся лишь нега-
тивным методом, оказывается исторической в том смыс-
ле, который, как нам кажется, не стал темой ни в одном
из тех комментариев, о которых мы только что говорили,
и при этом он, если честно, с трудом согласуется с мета-
физическим понятием истории. Неспокойное присутст-
вие этой древней почвы будет притягивать речь, которую
крики Антонена Арто наделяют своими собственными
отзвуками. Но наделяют, повторимся, лишь отчасти, так
что наша оговорка насчет наивности — это не просто сти-
листическая формальность.
И если для начала мы скажем, что Арто учит нас это-
му единству, предшествующему расщеплению, то не для
того, чтобы сделать из Арто пример его наставлений. Если
мы его понимаем, то нам не стоит ждать от Арто урока.
Поэтому предшествующие замечания менее всего явля-
ются методологическими пролегоменами или общими
положениями некоей новой трактовки случая Арто. Они,
скорее, должны были указать на тот вопрос, который
Арто хотел в корне уничтожить, на то, вторичность —
если не невозможность — чего он неустанно разоблачал
и обо что не прекращали яростно разбиваться его крики.
Ведь все его вопли, выговариваясь через понятия суще-
ствования, плоти, жизни, театра, жестокости, обеща-
ют возвратить нам располагающийся до безумия и
произведения смысл искусства, не дающего места про-
изведениям, существование художника, которое больше
не будет путем или опытом, приводящим к чему-то, от-
личному от него самого; существование слова, являюще-
гося телом, существование тела, являющегося театром,
существование театра, являющегося текстом, поскольку
он более не будет подчинен старшинству письма, некое-
му пратексту или праслову. Арто решительно — как мы
полагаем, с никогда ранее не встречавшейся силой — со-
противляется критическим и клиническим толкованиям
посредством того, что в его приключении (а этим словом
мы называем целостность, предшествующую разделению
на жизнь и произведение) оказывается самим протестом
против приведения и выведения примеров. Критик и ме-
дик должны были бы оказаться беспомощными перед
существованием, отказывающимся что-либо значить, пе-
ред искусством, пожелавшим остаться без произведений,
перед языком, отрицающим свой след. То есть различие.
Идя за проявлением, которое было не выражением, а чис-
тым творением жизни, которое никогда не отпадало бы
от тела, чтобы впасть в существование знака или произ-
ведения, объекта, Арто пожелал разрушить историю, то
есть историю дуалистической метафизики, которая бо-
лее или менее открыто вдохновляла упомянутые выше
эссе: дуализм тела и души, тайно поддерживающий дуа-
лизм слова и существования, текста и тела, и т.д. Ме-
тафизику комментария, которая «позволяла» делать
комментарии, поскольку она уже управляла комменти-
руемыми произведениями. То есть не театральными про-
изведениями, как их будет понимать Арто, а уже отстра-
ненными комментариями. Бичуя собственную плоть,
чтобы пробудить ее в канун этого отстранения, Арто хо-
тел не дать своему слову быть прошептанным где-то вда-
ли от своего тела.
Прошептанным, то есть, в первую очередь, скраден-
ным, стянутым возможным комментатором, который
признает слово, чтобы отнести его к порядку, — поряд-
ку либо сущностной истины, либо реальной, психологи-
ческой или какой-нибудь иной структуры. Первый ком-
ментатор — это тот слушатель или читатель, зритель,
которым не должна быть «публика» в театре жестоко-
сти5. Арто знал, что всякое слово, отпавшее от тела и стре-
мящееся, чтобы его выслушали и приняли, слово, пред-
лагающее посмотреть на себя, сразу же становится
украденным словом. Значением, которого я лишаюсь по-
тому, что оно оказывается значением. Кража — это все-
гда кража слова или текста, следа. Кража благ становит-
ся тем, что она есть, только при условии, что вещь
является благом, то есть, если она получила смысл и цен-
ность, будучи затронутой по меньшей мере обещанием
некоего дискурса. Было бы глупо расценивать такое ут-
верждение как отказ от любой другой теории кражи, от-
носись она к области морали, экономии, политики или
права. Ведь оно предшествует таким теориям, заставляя
в одном и том же вопросе открыто соотноситься друг с
другом сущность кражи и начало всякого дискурса во-
обще. Любой разговор о краже всякий раз, когда он оп-
ределяется теми или иными граничными условиями, не-
явно решает или вытесняет этот вопрос, успокаиваясь в
привычности нашего исконного знания: каждый знает,
что значит украсть. Но кража слова — это не просто кра-
жа, похожая на все остальные, она смешивается с самой
возможностью кражи и определяет ее фундаментальную
структуру. Но если Арто предлагает ее продумать, то не
в качестве примера структуры, ведь речь тут идет именно
о той краже, которая конституирует структуру примера
как таковую.
Прошептанное, то есть вдохновленное неким иным
голосом, который сам читает более древний, нежели по-
эма моего тела или театр моего жеста, текст. Вдохнове-
ние — это поставленная с привлечением множества пер-
сонажей драма кражи, сама структура классического
театра, в котором невидимость суфлера обеспечивает не-
обходимую отсрочку и передачу между текстом, уже на-
писанным другой рукой, и толкователем, уже лишенным
того, что он получает. Арто стремился к разрушению сце-
ны, где был возможен суфлер и где тело подчинялось
приказам постороннего текста. Он хотел разнести вдре-
безги структуру кражи, смести самого суфлера. Для это-
го нужно было разом разрушить поэтическое вдохнове-
ние и экономию классического искусства, в особенности
театра. Разрушить одним махом поддерживающие их ме-
тафизику, религию, эстетику и т.д., и таким образом от-
крыть Опасности мир, в котором структура скрадывания
уже не могла бы предложить никакого убежища. Возро-
дить Опасность, пробуждая Сцену Жестокости — таким
был по меньшей мере явный замысел Арто. За ним-то мы
и последуем, держась рядом с точностью хорошо проду-
манного зазора.
«Немочъ», тема которой появляется в письмах
Ж. Ривьеру6, не является, как известно, простым бесси-
лием, бесплодием, когда «нечего сказать», или недос-
татком вдохновения. Напротив, она есть само вдохно-
вение: сила пустоты, водоворот шепота суфлера,
который устремляет к себе и отнимает у меня то, чему
он дает дойти до меня и что я считал сказанным от мое-
го имени. Щедрость вдохновения, положительное втор-
жение слова, пришедшего неизвестно откуда, о котором
я, если я — это Антонен Арто, не знаю, ни откуда оно
идет, ни кто его сказал; эта плодотворность чужого ды-
хания оказывается немочью, то есть не отсутствием, но
изначальной безответственностью слова, безответствен-
ностью как его силой и началом. Я отношусь к самому
себе только в этом эфире нашептанного слова, которое
утаивает от меня именно то, в соотношение с чем оно
меня ставит. Сознанию слова, то есть просто сознанию,
неведомо, кто говорит — тогда и там, где я высказыва-
юсь. Это сознание, следовательно, является бессозна-
тельным («В своем бессознательном я слышу других»,
1946), в противовес которому надо будет выстроить дру-
гое сознание, которое, слыша то, что оно говорит, на
этот раз будет жестоким присутствием для самого себя.
Эта безответственность не может определяться ни мо-
ралью, ни логикой, ни эстетикой — она является пол-
ной и изначальной гибелью самого существования. Со-
гласно Арто, вначале она проявляется в моем теле, в
моей Жизни, причем все эти термины необходимо по-
нимать, отстранившись от тех метафизических опреде-
лений и «ограничений бытия», которые отделяют душу
о
CD
О
от тела, слово от жеста и т.д. Гибель как раз и состоит в
таком метафизическом определении, к которому я дол-
жен подтолкнуть мое произведение, если я хочу, чтобы
оно было услышано в мире и литературе, которые, сами
того не зная, управляются метафизикой, чьим послан-
цем оказался и Ж. Ривьер. «Здесь я по-прежнему опа-
саюсь двусмысленности. Я хотел бы, чтобы Вы хорошо
понимали, что речь не идет о большем или меньшем су-
ществовании, которое зависит от того, что мы привык-
ли называть вдохновением, но о полном отсутствии, о
настоящей гибели» (I, р. 20). Арто непрестанно повто-
рял: начало и спешка слова, толкающие его к выраже-
нию, смешивались с собственным недостатком слова са-
мого по себе, с этим «неимением ничего сказать» от
собственного имени. «Это распыление моих поэм, эти
корявости формы, постоянное увядание моей мысли
нужно приписать не недостатку упражнений, плохому
владению инструментом, которым я пользовался, или
слабому интеллектуальному развитию, а разрушению
самой основы души, некоей одновременно мимолетной
и существенной эрозии мысли, попутной потере мате-
риальных выгод моего развития, ненормальному разде-
лению всех элементов мысли... Итак, есть что-то, что
разрушает мою мысль, что мешает мне быть тем, чем я
мог бы быть; не уничтожая меня, но, если угодно, под-
вешивая мое существование. Что-то, приходящее украд-
кой и крадущее у меня слова, которые я нашел» (I, р. 25-
26, курсив Арто).
Было бы весьма соблазнительно, просто и в какой-
то мере вполне законно подчеркнуть образцовость тако-
го описания. «Существенная» и «мимолетная» эрозия,
«одновременно мимолетная и существенная», произво-
дится «чем-то, приходящим украдкой и крадущим у меня
слова, которые я нашел». Делающееся украдкой мимо-
летно, но оно больше мимолетного. Украдкой <furtif>,
если вспомнить о латинском значении этого слова, по-
ступает вор, а вор должен все делать очень быстро, что-
бы стащить у меня слова, которые я нашел. Очень быст-
ро, ведь он должен незаметно проскользнуть в то
ничтожное пространство, которое отделяет меня от моих
же слов, стянуть их у меня прежде, чем я их найду, — что-
бы, когда я их найду, у меня была уверенность, что я все-
гда был уже лишен их. Делающееся украдкой оказывает-
ся, таким образом, экспроприирующим значением,
опустошающим слово в его самосокрытии. Бытовой язык
стер отсылку слова «украдкой » к краже, ловкой продел-
ке, дав ускользнуть ее значению — это кража кражи; то,
что в необходимом жесте украдкой скрывается на сто-
роне невидимого и молчаливого касания мимолетного,
убегающего и проворного. Арто знает, но не подчерки-
вает собственный смысл слова, он остается в движении
стирания: в «Нервометре» (р. 89) по поводу «гибели»,
«потери», «лишенности», «западни мысли» он говорит,
не вводя простого удвоения значений, об «украдкой со-
вершенных похищениях».
С момента, с которого я начинаю говорить, слова,
которые я нашел, будучи именно словами, мне уже не
принадлежат, изначально повторяясь (Арто желает соз-
дать театр, в котором было бы невозможно повторение.
См. «Театр и его Двойник», IV, р. 91). С самого начала я
должен слышать самого себя. Как только я услышан, как
только я слышу себя, «я», которое себя слышит и слы-
шит меня, становится тем «я », которое говорит и берет
слово, никогда не отнимая это слово у себя, то есть не
отнимая его у того, кто думает, что он говорит от сво-
его собственного имени и что его выслушивают как его
самого. Внедряясь в имя того, кто говорит, это разли-
чие оказывается совсем пустяковым, чем-то сделанным
тайком и украдкой — структурой мгновенного и изна-
чального похищения, без которого никогда не вздохну-
ло бы ни одно слово. Похищение происходит как изна-
чальная загадка, то есть как история (aivot;) или слово,
которое скрывает свое начало и свой собственный
смысл, никогда не говоря, откуда оно идет и куда на-
правляется, поскольку, перво-наперво, оно само этого
не знает, причем это незнание или отсутствие собствен-
ного субъекта и темы, не просто прибавляется к нему
извне, но изначально его конституирует. Такое скрады-
вание — это первичное единство того, что затем расще-
пляется на сокрытие и кражу. Понимать скрадывание
исключительно или главным образом как кражу и наси-
лие — это характеристика психологии, антропологии
или метафизики субъективности (сознания, бессозна-
тельного и собственного тела). Нет, впрочем, никакого
сомнения, что эта метафизика в огромной степени за-
действована в мысли Арто.
Итак, отныне тот, кого называют говорящим субъ-
ектом, не будет больше тем, кто говорит или, по край-
ней мере, тем единственным, кто говорит. Он оказыва-
ется чем-то неизбежно вторичным, поскольку начало
всегда уже скрадено в том организованном поле слова,
в котором он тщетно ищет свое всегда отсутствующее
место. Это организованное поле — не просто то, что
могли бы описать некоторые теории психического или
лингвистического факта. В первую очередь оно оказы-
вается, если отвлечься от дополнительных значений это-
го выражения, культурным полем, в котором я должен
черпать мои слова и мой синтаксис, историческим по-
лем, оказавшись в котором, я должен читать по писано-
му. Структура кражи уже устанавливает, устанавливая
себя, отношение слова к языку. Слово украдено — ук-
раденное вначале у языка, оно оказывается украденным
у самого себя, то есть у вора, который заведомо поте-
рял всякое право на обладание им и на его выдвижение.
Поскольку невозможно предупредить его предупреди-
тельность, акт чтения прожигает дыру в акте речи и
письма. Через эту дыру я сбегаю от самого себя. Форма
дыры, — провоцирующая дискурс определенного вида
экзистенциализма и психоанализа, которому «этот бед-
ный Антонен Арто » мог бы на самом деле подарить мно-
жество примеров, — сообщается у него со скатологи-
ческой тематикой, которой мы займемся далее. В том
скрываемом факте, что слово и письмо всегда заимст-
вуются у чтения, заключается изначальная кража, древ-
нейшее скрадывание, которое одновременно скрывает
от меня и стягивает мою исходную силу. Причем стя-
гивает именно дух. Высказанное или записанное слово,
буква, всегда украдено. Всегда украдено, потому, что
всегда открыто. Оно никогда не принадлежит своему
автору и своему получателю, поскольку по своей при-
роде оно никогда не следует пути, который ведет от од-
ного частного субъекта к другому. Все это равнозначно
признанию историчности означающего, которое преж-
де меня говорит больше, чем — как я полагаю — я хочу
сказать, так что по отношению к нему мое желание ска-
зать, мое значение — терпя, вместо того, чтобы дейст-
вовать — оказывается в недостатке, выписываясь, как
мы сказали бы, в пассиве. Даже если обдумывание этого
недостатка определяет настоятельность выражения как
злоупотребление. Такова автономия как стратификация
и историческое формирование смысла, историческая
или, иначе говоря, открытая на каком-то из своих уча-
стков система. Иллюстрацией этой автономии, напри-
мер, всегда могла бы послужить перегруженность зна-
чениями слова «дуть»".
Мы не будем больше заниматься банальным описа-
нием этой структуры. Арто не делает из нее примера. Он
хочет ее взорвать. Вдохновению как гибели и лишенно-
сти он противопоставляет настоящее вдохновение, то
есть то, которого не хватает вдохновению как нехватке.
Настоящее вдохновение — это дыхание жизни, которое
не позволит себе ничего диктовать, потому что оно во-
обще ничего не читает, предшествуя всякому тексту. Ды-
хание, которое совладало бы с собой в том месте, где об-
ладание еще не стало кражей. Вдохновение, которое
наладило бы подлинную связь с самим собой и вернуло
бы мне слово: «Сложно найти свое место и разыскать
связь с самим собой. Все дело в некотором сцеплении ве-
щей, в собирании всех этих камней ума вокруг точки, ко-
торую как раз и нужно найти. / И вот то, что я думаю о
мысли: / НЕСОМНЕННО, ВДОХНОВЕНИЕ СУЩЕСТ-
ВУЕТ » («Нервометр», I, р. 90, выделено Арто). Выраже-
ние «нужно найти» позднее пробежит и по другой стра-
нице. Тогда надо будет спросить себя, не указывает ли
всякий раз Арто подобным образом на само необнару-
жимое.
Жизнь как источник настоящего вдохновения долж-
на — если мы хотим подойти к этой ее метафизике — быть
понята как то, что располагается до той жизни, о кото-
рой говорят биологические науки: «Поэтому, когда мы
произносим это слово, “жизнь”, нужно понимать, что
речь идет не о жизни, признанной через внешность фак-
* Французский глагол «souffler* семантически гораздо богаче
своего русского словарного эквивалента «дуть». Значения «souf-
fler *, так или иначе задействованные в тексте Деррида, можно с
некоторой натяжкой свести к трем пунктам: souffler как дуть,
вдыхать, вдувать и раздувать; souffler как шептать, нашептывать
и подсказывать; наконец, souffler как «стягивать*, красть. Если
первый и второй пучок значений еще как-то сопрягаются через
русское «дыхание* и «вдыхание*-«вдохновение*, то третьему
наиболее соответствуют глаголы «сдуть*, «свистнуть* в смысле
«списать, ловко стащить*. Подобное распределение значений, с
одной стороны, не позволяет полностью сохранить текстуальную
работу «souffler* (поэтому «прошептанное слово* имеет связь
со своими «вороватыми* значениями разве что через «нашептан-
ное* в смысле «навязанное* или «вкрадчивое слово*), а с дру-
гой — открывает дополнительные варианты игры, как, например,
русского «дуть* с «убегать* и «улепетывать*. — Прим. пере в.
Ю Ж. Деррида
ф
о
5
CL
X
тов, но об этом хрупком и подвижном очаге, которого не
касаются формы. А если и есть что-то адское и прокля-
тое в этом веке, так это постоянная эстетская задержка
на формах, осуществляемая вместо того, чтобы быть как
те пытаемые огнем, которые со своих костров подают
знаки» («Театр и Культура», V, р. 18, курсив наш.—
Ж.Д.). Жизнь, «признанная через внешность фактов» —
это, следовательно, жизнь форм. В «Положении плоти»
Арто противопоставит ей «жизнь силы »(I, р. 232)7. Театр
жестокости должен будет уничтожить это различие
между силой и формой.
То, что мы назвали скрадыванием, для Арто вовсе не
абстракция. Категория «украдкой» значима не только для
бесплотного голоса и письма. Если различие в своем соб-
ственном феномене создается как украденное слово и
сбитое дыхание, оно в первую очередь, если не в самом
себе, является тотальной экспроприацией, которая кон-
ституирует меня как лишение самого себя, похищение
моего существования, то есть одновременно моего тела
и моего духа — моей плоти. Если мое слово — это не мое
дыхание, если моя буква — это не мое слово, то причина
в том, что мое дыхание уже не является моим телом,
тело — моим жестом, а жест — моей жизнью. В театре
нужно восстановить единство плоти, разорванной всеми
этими различиями. Метафизика плоти, определяющая
бытие как жизнь, дух как собственное тело, неразделен-
ную мысль, «темный» дух (поскольку «ясный Дух при-
надлежит материи», I, р. 236) — вот та непрерывная и
никогда не замечаемая черта, которая связывает «Театр
и его Двойник» с первыми произведениями и с темой не-
мочи. Эта метафизика плоти управляется, следователь-
но, страхом лишения, опытом потерянной жизни, разде-
ленной мысли, тела, изгнанного далеко за пределы духа.
Таков первый крик. «Я думаю о жизни. Все системы, ко-
торые я мог бы возвести, никогда не сравнятся с моими
криками человека, занятого переделкой своей жизни...
Однажды станет необходимо, чтобы мой разум впустил
в себя все те невысказанные силы, которые меня осажда-
ют, чтобы они обосновались на высоте моей мысли, эти
силы, которые извне имеют форму крика. Существуют
крики ума, крики, исходящие из тонкого мозга костей.
Вот что я называю Плотью. Я не отделяю своей мысли от
жизни. Каждое дрожание моего языка я пропускаю че-
рез пути моей мысли, прошедшие сквозь плоть... Но что
я такое посреди этой теории жизни или, если сказать луч-
ше, Существования? Я человек, который потерял свою
жизнь и который всеми средствами пытается вернуть ее
на место... Необходимо, чтобы я исследовал этот смысл
плоти, который наделит меня метафизикой Бытия и ко-
нечным познанием Жизни» («Положение Плоти», I,
р. 235,236).
Мы не будем останавливаться здесь на том, что по-
ходит на саму сущность мифического — на мечте о жиз-
ни без различения. Спросим лучше, что для Арто значит
различие в плоти. Мое тело было украдено у меня при
ограблении со взломом. У Другого, у Вора, у великого
Невидимки, делающего все украдкой, есть собственное
имя — это Бог. Его история имела место. Одно место.
Место взлома могло быть только открытием отверстия.
Родового отверстия и отверстия для дефекации, к кото-
рым, как к их началу, отсылают все другие отверстия.
«Оно наполняется,/ оно не наполняется,/ есть пустота,
/ нехватка/ недостаток того/ что всегда налету схваты-
вается паразитом» (апрель 1947). Налету — игра слова
здесь очевидна.
С тех пор, как я отношусь к своему телу, то есть с
моего рождения, я сам им не являюсь. С тех пор, как у
меня есть тело, я им не являюсь, следовательно, у меня
нет тела. Это лишение устанавливает и устраивает мое
отношение к жизни. Итак, мое тело всегда было украден-
ным у меня. Кто мог его украсть, если не Другой, и как бы
он мог завладеть им с самого моего рождения, если бы
он не внедрился на мое место в животе моей матери, если
бы он не родился вместо меня, если бы я не был сворован
при рождении, если бы мое рождение не стащило меня
самого, «как будто бы рождение издавна воняло смер-
тью» (84, р. 11). Смерть дана мысли в категории кражи.
Она не то, что мы якобы можем предвидеть как заверше-
ние процесса или приключения, которое мы с уверенно-
стью называем жизнью. Смерть — это выраженная фор-
ма нашего отношения к другому. Я умираю только от
другого: из-за другого, для другого и в другом. Моя
смерть представляется, со всеми возможными вариация-
ми этого слова. И если я, представляясь, умираю в «ми-
нуту конечной смерти», такое представляющее скрады-
вание равным образом прорабатывает с самого начала
также и всю структуру моего существования вообще. Вот
почему в пределе «нельзя убить себя в одиночку. / Никто
10*
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
никогда не был один, чтобы родиться. / И так же никто
не один, чтобы умереть... /.. .Я думаю, что всегда есть кто-
то другой в минуту конечной смерти, присутствующий,
чтобы лишить нас нашей собственной жизни » («Ван Гог,
самоубийца общества», р. 67). Тема смерти как кражи на-
ходится также в центре «Смерти и Человека» (О рисун-
ке из Родеза, in 84, № 13).
И кто может быть этим великим невидимым Другим,
таинственным преследователем, всегда удваивающим
меня, то есть всегда становящимся моим двойником, ко-
торый меня обгоняет, приходя раньше меня туда, куда я
решил идти, в качестве «этого тела, которое следило за
мной» (то есть преследовало меня), но «не следовало за
мной» (предшествуя мне), кроме Бога? «БОГ, ЧТО ТЫ
СДЕЛАЛ С МОИМ ТЕЛОМ?» (84, р. 108). И вот ответ:
начиная с черной дыры моего рождения Бог «очернял мое
существование / во время всей моей жизни / и все это /
только потому/ что это я/ был богом/настоящим богом
/я — человек / а не так называемый дух / который был
лишь выбросом в небо / тела другого человека, отлично-
го от меня,/ который/ звался/ Демиургом/ А мерзкая
история Демиурга / известна / Это история того тела /
которое следило (но не следовало) за моим телом / кото-
рое, чтобы пройти первым и родиться / проникло в мое
тело/и/родилось/вспоров мой живот/ кусок которого
оно оставило на себе / чтобы / сойти / за меня. / Итак,
всегда были только я и он, / он / отвратительное тело /
которого не пожелали пространства,/я / создающееся
тело / то есть то, которое еще не достигло стадии завер-
шения/ и развивалось/ к цельной чистоте/ как тело так
называемого Демиурга / который зная о том, что его не
примут / и желая жить во что бы то ни стало / не приду-
мал ничего лучшего / чтобы быть / как родиться ценой/
моего убийства. / Но, несмотря ни на что, мое тело было
создано/ выстояв тысячу приступов зла/ и ненависти/
которые каждый раз его уничтожали / оставляя меня
умирать. / Вот так, потому что я умирал / я кончил тем,
что нашел истинное бессмертие. / И / такова истинная
история происшедшего/ как она реально случилась/ а/
не / как она была увидена в окружении легендарных ми-
фов/ которые ловко прячут реальность» (84, р. 108-110).
Итак, Бог — это собственное имя того, кто лишает
нас нашей собственной природы, нашего рождения и кто,
следовательно, всегда успевает тайком высказаться до
нас. Он является различием, которое, подобно моей смер-
ти, внедряется между мной и мной. Вот почему — таково
понятие настоящего самоубийства по Арто — я должен
умереть своей смертью, чтобы родиться «бессмертным»
накануне своего рождения. Бог не просто накладывает
свою руку на те или иные из наших врожденных качеств,
он завладевает самой врожденностью, собственной вро-
жденностью нашего бытия самого по себе: «Есть дураки,
которые считают себя существующими, существующими
в силу врожденных качеств./ Я — это тот, кто, чтобы ро-
диться, должен бичевать свою врожденность. / Тот, кто
по рождению оказался тем, кто должен быть существую-
щим, то есть всегда секущим этот вид злых псов, о суки
невозможности» (I, р. 9).
Почему это изначальное отчуждение мыслится как
пачканье, непристойность, «очернение» и т.д.? Почему
Арто, вопиющий о потере своего тела, сокрушается о чис-
тоте не меньше, чем о самом наличии, об опрятности не
меньше, чем о собственности? «Я слишком измучен.../.../
Я слишком долго работал над тем, чтобы быть сильным и
чистым/.../Я слишком уж искал чистое тело» (84, р. 135).
По определению, у меня украли мои блага, мою цену,
мое значение. То, чего я стою, моя истина была у меня
стащена кем-то, кто занял мое место на выходе из От-
верстия, при рождении, то есть Богом. Бог — это лож-
ная ценность, как первая цена того, кто рождается. Эта
ложная ценность стала Ценностью, потому что она все-
гда служила двойником настоящей ценности, которая
никогда не существовала сама по себе или, что то же са-
мое, всегда существовала до своего собственного рож-
дения. С тех пор та изначальная ценность, праценность,
которую я должен был бы удержать в себе или, скорее,
удержать в качестве самого себя, как мою ценность и само
мое бытие, то, что у меня украли, как только я выпал из
отверстия, и что у меня продолжают воровать каждый
раз, когда моя часть отпадает от моего тела — это про-
изведение, это экскременты, отбросы, ценность, которая
потеряла себя, не удержавшись, и что может, как извест-
но, стать оружием преследования, направляемым при
случае против меня самого. Дефекация, «эта ежедневная
разлука со своими испражнениями, этими весьма ценны-
ми частями тела » (Фрейд), является, подобно рождению,
подобно моему рождению, первой кражей, которая од-
новременно обесценивает8 и замарывает меня. Вот поче-
му история Бога как генеалогия похищенной ценности
может быть пересказана как история дефекации. «Знае-
те ли вы что-то, что было бы таким же калом, как исто-
рия бога...» («Театр жестокости», in 84, р. 121).
Быть может, Арто называет Бога Демиургом пото-
му, что он замешан в начале произведения. Речь здесь идет
о метонимии имени Бога, собственного имени вора и мое-
го метафорического имени: метафора, переносящая
меня — это мое обнищание в языке. Во всяком случае Бог-
Демиург ничего не творитп, он — не жизнь, а субъект про-
изведений и замыслов, вор, обманщик, лгун, псевдоним,
узурпатор, противоположность настоящего художника,
тот, кто всегда лишь ремесленник, само существо лукав-
ства — то есть Сатана. Я — Бог, а Бог — Сатана; и как
Сатана является тварью Бога («...история Бога / и его
бытия: САТАНА...»in 84), так и Бог — мое творение, мой
двойник, который проник в зазор, который отделяет меня
от моего рождения, то есть в то ничтожное пространст-
во, которое открывает мою историю. Называемое
присутствием Бога — это только забвение этого зазора,
скрадывание самого скрадывания, которое не просто не-
счастливая случайность, но само движение скрадывания:
«...Сатана,/который своими слизистыми грудями/все-
гда скрывал от нас / одно лишь небытие?» (ibid).
Итак, история Бога — это история Произведения как
испражнения. Настоящая скато-логия. Произведение,
подобно испражнению, предполагает отделение и в нем
производится. Оно, следовательно, происходит из духа,
отделенного от чистого тела. Оно является принадлеж-
ностью духа, так что найти незапачканное тело — это
значит переделать себя в тело без произведения. «Ведь
нужно быть духом/ чтобы/ гадить,/ чистое тело не мо-
жет/ гадить./ Оно гадит/ клеем духов/ жаждущих кое-
что у него украсть / потому что без тела нельзя сущест-
вовать» (in 84, р. 113). Уже в «Нервометре» можно было
прочесть: «Дорогой друг, то, что вы приняли за мои про-
изведения, было лишь моими отбросами» (I, р. 91).
Итак, нужно отказаться от моего произведения, то
есть моего следа, испражнения, которое крадет у меня
мое имущество уже после того, как я был ограблен при
рождении. Но отказаться от него — это не отбросить, а
удержать. Чтобы защитить себя, сохранить свое тело и
свое слово, нужно удержать произведение в себе9, сме-
шаться с ним, чтобы у Вора не было никакого шанса про-
скользнуть между мной и им, чтобы помешать произве-
дению отпасть от меня в виде письма. Ибо «всякое пись-
мо — это натуральная халтура» («Нервометр», I, р. 59).
Таким образом, то, что отнимает у меня мое имущество и
отдаляет меня от самого себя, в то же время меня загряз-
няет — я лишаюсь своей собственной чистоты. «Чис-
тый » — это имя субъекта, близкого себе, который есть
то, что он есть, а «нечистый» — это имя объекта, произ-
ведения и отклонения. У меня есть настоящее имя тогда,
когда я чист. В западном обществе ребенок может поя-
виться под настоящим именем — и первый раз это случа-
ется в школе, — то есть он по-настоящему именуется
только тогда, когда он чист. Скрытое под своей внешней
разбросанностью такое единство значений, единство соб-
ственного как незапачканность абсолютно близкого себе
субъекта, обнаруживается только в латиноязычный пе-
риод философии (когда proprius связывается сргоре), и
в этом же обоснование того, что раньше метафизическое
определение безумия как болезни отчуждения еще не
могло созреть. (Само собой разумеется, что мы не дела-
ем из такого лингвистического явления ни причины, ни
симптома — дело просто в том, что понятие безумия за-
крепляется лишь в эпоху метафизики чистой субъектив-
ности.) Арто по-своему толкует эту метафизику, рушит
ее, когда она клевещет сама на себя, и, в качестве усло-
вия феномена чистоты требует, чтобы мы собственноруч-
но избавились от того, что нам свойственно (то есть
требует отчуждения отчуждения); в то же время он по-
прежнему обращается к этой метафизике, черпает в ее
хранилище ценностей, желая быть более ей верным, чем
она сама, восстановив абсолютную чистоту накануне вся-
кого разрыва и рассечения.
В качестве испражнения, фекальной массы, являю-
щейся, как известно, метафорой пениса10, произведение,
вроде бы, должно стоять. Но произведение, подобно ис-
пражнению, — это только материя без жизни, силы и
формы. Оно всегда падает и распадается вдали от меня.
Вот почему произведение, будь оно поэтическим или ка-
ким-нибудь иным, не может заставить меня стоять. Ни-
когда я не смогу в нем возвыситься. Спасение, стояние,
бытие-стоя станут возможны только в искусстве без про-
«Ргорге» по-французски— это и «чистый», и «собствен-
ный». — Прим, перев.
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
*
изведения. Поскольку произведение всегда было произ-
ведением смерти, искусство без произведения, танец или
театр жестокости будут самой жизнью. «Я сказал “жесто-
кость” так же, как я сказал бы “жизнь”» (IV, р. 137).
Восстав против Бога и обозлившись на произведение,
Арто не отказывается от спасения. Напротив. Сотерио-
логией будет эсхатология чистого тела. «Только состоя-
ние моего/ тела/будет/Страшным Судом» (in 84, р. 131).
Чистое-тело-стоящее-без-отбросов. Зло, пачканье — это
критик и клиницист: из-за них в самом своем слове и
теле становишься произведением, предметом, рас-
пластанным, а потому выданным усердию вкрадчивого
комментария. Ибо единственная вещь, которая не под-
лежит комментарию, — это жизнь тела, живая плоть, ко-
торую в ее цельности защищает от болезни и смерти те-
атр. Болезнь — это невозможность оставаться в танце и
театре. «Чума,/холера/и черная оспа/существуют лишь
потому/ что танец/ и следовательно театр/еще не нача-
ли существовать» (in 84, р. 127).
Быть может, все это встраивается в традицию безум-
ных поэтов? Гельдерлин: «Однако, бывает, что под гро-
мами Бога / Поэты, стоящие с непокрытой головой / ло-
вят собственными руками отцовское сияние / и приносят
угрюмому народу / в песнях своих дар небес» («Так, в
день отдохновения», перевод Ж. Федье). Ницше: «...Нуж-
но ли, чтобы я говорил, что столь же необходимо уметь
[танцевать] пером? »(«Сумерки богов », перевод Ж. Биан-
ки, р. 138)11. Или так: «Цену имеют только те мысли, ко-
торые приходят нам на ходу» (р. 93). Было бы весьма со-
блазнительно в этом пункте, как и во многих других, ох-
ватить этих трех безумных поэтов вместе с некоторыми
другими в наброске одного комментария, связав их не-
прерывной генеалогией12. Тысяча других текстов о бытии-
стоя и о танце могли бы воодушевить такой план. Но не
упустит ли он главного решения Арто? От Гельдерлина и
до Ницше бытие-стоя и танец остаются, быть может, про-
сто метафорами. Во всяком случае, такое стояние не
должно переноситься в произведение, отправляться в
поэму, внедряться в суверенность слова или письма, бы-
тие-стоя на основании буквы или кончике пера. Бытие-
стоя произведения — это, конечно, владычество буквы
над дыханием. Ницше, естественно,'вскрыл грамматиче-
скую структуру в самом основании метафизики, которую
необходимо было разрушить, но исследовал ли он когда-
нибудь изначальное отношение между признанной им
грамматической обоснованностью и тем, как стоит в сво-
ем бытии сама буква? Хайдеггер указывает на это отно-
шение в кратком намеке «Введения в метафизику»:
«Греки рассматривали язык в относительно широком оп-
тическом смысле, то есть с точки зрения письма. В нем
сказанное приходит к строфе и стоянию. Язык сущест-
вует, то есть остается стоять, во взгляде на слово, в зна-
ках письма, в буквах, вураццата. Вот почему грамматика
представляет наличный язык, тогда как в потоке слов
язык рассеивается из-за его непостоянства. Таким обра-
зом, теория языка вплоть до нашего времени толкуется
грамматически » (перевод Г. Кан, р. 74). Все это не проти-
воречит, а парадоксальным образом подтверждает то
презрение к букве, которое в «Федре» не затрагивает ме-
тафорически понятого письма как первоначальную за-
пись истины в душе; щадит его и ссылается на него как на
самую надежную достоверность и настоящий смысл пись-
ма (276а).
Но Арто желает разрушить саму метафору. Он хо-
чет покончить13 с бытием-стоя как метафорой в письмен- gg
ном произведении. Такое отчуждение в метафоре пись-
менного произведения — это явление суеверия. «Нужно £
покончить с этим суеверием текстов и письменной по- £
эзии » («Театр и его Двойник », V, р. 93-94). Суеверие — ®
это, следовательно, сущность нашего отношения к Богу, •
нашей загнанности этим великим невидимкой. Поэтому §
сотериология проходит через уничтожение произведе- о
ния и Бога. Смерть Боган обеспечит наше спасение, по-
тому что только она одна может пробудить Божествен- J
ное. Имя человека, скатологического существа, дающего
запачкать себя произведением и входящего в отношения л
с Богом-вором, указывает на историческое обесценива- J
ние неименуемого Божественного. «Это исключительно §
человеческая способность. Я скажу даже, что идеи, ко- °
торые должны были бы остаться божественными, пор- -о
тятся только из-за этой человеческой заразы; не веря в |
сверхприродное, божественное, изобретенное челове- |
ком, я считаю, что именно тысячелетнее нашествие чело- S
века привело к обесцениванию божественного» (ibid,,
р. 13). Бог, следовательно, является грехом против боже-
ственного. А сущность вины является скато-теологиче- -g
ской. Мысль, которой во всей своей красе явилась скато- "§
логическая сущность человека, не может быть ни S
метафизической антропологией, ни гуманизмом. Эта
мысль целит поверх человека, по ту сторону метафизики
западного театра «все стремления которого... ужасно
воняют человеком, скоропреходящим и материальным че-
ловеком, я бы сказал — человек опад а лью» (IV, р. 51.
См. также III, р. 129, где письмо, полное оскорблений
«Комеди Франсез », в специально подобранных терминах
разоблачает скатологическое значение понятия и дейст-
вий этого театра).
Из-за этого отказа от метафорического застывания
в произведении и несмотря на поразительное сходство
(например, несмотря на переход по ту сторону человека
и Бога), Арто — не сын Ницше. И уж тем более Гельдер-
лина. Убивая метафору (бытие-стоящее-вне-себя-в-укра-
денном-произведении), театр жестокости бросит нас на-
встречу «новой идее Опасности» (письмо Марселю
Далио, V, р. 95). Приключение Поэмы — это последний
страх, который нужно победить до приключения Теат-
ра15. До того, как перейдешь в свое собственное стояние.
Но как театр жестокости спасет меня, как научит
моей собственной плоти? Как он помешает моей жизни
отпасть от меня? Как он воспрепятствует тому, чтобы я
«жил/ как “Демиург”/ с телом/ украденным в ограбле-
нии со взломом» (in 84, р.113)?
В первую очередь, надо отменить существование орга-
на. Первым жестом разрушения классического театра вме-
сте с метафизикой, которую он ставит на своей сцене, будет
отмена органа. Классическая западная сцена определяет
театр органа, театр слов, то есть истолкования, учета и
перевода, театр, исходящий из предустановленного тек-
ста, из скрижали, написанной Автором-Богом, единствен-
ным обладателем своего слова. Театр господина, сторо-
жащего украденное слово, которое он одалживает только
своим рабам, своим режиссерам и своим актерам. «Если,
следовательно, автор — это тот, кто располагает языком
слов, а постановщик — это его раб, тогда здесь весь во-
прос в словах. Существует смешение терминов, происхо-
дящее из того, что для нас, согласно тому смыслу, кото-
рый обычно придается слову “постановщик”, он лишь
ремесленник, устроитель, некто вроде переводчика, вечно
занятого переводом драматического произведения с од-
ного языка на другой; это смешение будет продолжать
существовать, а постановщик будет по-прежнему вынуж-
ден стушевываться перед автором, пока язык слов будут
принимать за высший язык и пока в театре будет прини-
маться только он один» («Театр и его Двойник», IV,
р. 143)16. Различия, которыми живет метафизика западно-
го театра (автор-текст, постановщик-актер), ее способ
дифференциации и передач превращают «рабов» в «ком-
ментаторов», то есть в органы. В данном случае — в орга-
ны учета. Но «нужно поверить в смысл жизни, обновлен-
ной театром, где человек станет безраздельным хозяином
того, чего еще нет (курсив наш. — Ж.Д.), и даст ему ро-
диться. Все, что еще не родилось, может родиться, лишь
бы нам было мало оставаться простыми органами учета»
(«Театр Жестокости», IV, р. 18).
Но прежде чем заразить метафизику театра, то, что
мы называем органической дифференциацией, свирепо
расправилось с телом. Организация — это артикуляция,
сочленение функций или членов (ap0pov, artus), работа и
игра их дифференциации. Последняя конституирует од-
новременно сочленение и расчленение моего собственно-
го (тела). Арто боится сочлененного тела, так же как он
боится членораздельной речи, члена — так же как слова,
притом боится одновременно и по одной и той же причи-
не. Ведь сочленение — это структура моего тела, а струк-
тура всегда оказывается структурой экспроприации. Раз-
деление тела на органы, внутренняя дифференциация
плоти образует ту нехватку, из-за которой тело отсутст-
вует в себе самом, выдавая и принимая себя за дух. Ведь
«нет никакого духа, одна только дифференциация тела»
(3-1947). Тело, которое «всегда старается собраться»17,те-
ряет самого себя из-за того, что позволяет ему функцио-
нировать и выражаться, прислушиваясь, как говорят о
больных, и, следовательно, отклоняясь от самого себя.
«Тело — это тело, / оно само по себе / и у него нет нужды
в органах, / тело никогда не бывает организмом, / орга-
низмы — это враги тела, / дела, которые делаются, про-
ходят сами по себе безо всякой подмоги органов,/ всякий
орган является паразитом, / он прикрывает паразитиче-
скую функцию, / задача которой в том, чтобы позволить
жить существу, которое не могло бы существовать здесь
само по себе » (in 84, р. 101). Итак, орган вводит посторон-
нее различие в само мое тело, он всегда является органом
моей гибели, причем эта истина настолько непоколебима,
что ни сердце, центральный орган жизни, ни половой ор-
ган как первый орган жизни, не могут стать исключением:
«Таким образом, на деле нет ничего более возмутительно
£
О
ф
S
S
о
бесполезного и избыточного, нежели орган, называемый
сердцем / который является самым грязным средством,
которое было изобретено / чтобы накачать меня жизнью.
/ Движения сердца — это не что иное, как происки, кото-
рые постоянно направляет против меня бытие, чтобы от-
нять у меня то, что я ему никогда не отдаю...»(in 84, р. 103).
И далее: «У настоящего человека нет полового органа»
(р. 112)18. Настоящий человек не имеет полового органа,
потому что он сам является полом. Как только пол стано-
вится органом, он становится чужим для меня, он бросает
меня, приобретая таким образом наглую автономию раз-
бухшего и самодостаточного органа. Это набухание пола,
ставшего отдельным органом, оказывается некоей разно-
видностью кастрации. «Он говорит, что видит, насколько
я озабочен полом. Но я озабочен только половым орга^
ном, напряженным и распухшим подобно отдельному
предмету» («Искусство и Смерть», I, р. 145).
Орган — это место гибели, поскольку его центр все-
гда имеет форму отверстия. Орган всегда функционирует
как жерло. Тогда восстановление и переобучение мой пло-
ти придут тогда, когда тело затворится в самом себе и унич-
тожит структуру органа: «Я был жив/я был здесь всегда/
Ел ли я? / Нет, / но когда я был голоден, я отступал вместе
со своим телом / но не поедал самого себя / но все это уже
разложилось, / была проведена странная операция... /
Может быть, я спал? / Нет, я не спал, / нужно быть цело-
мудренным, чтобы уметь не есть. / Открывать рот — это
открываться зловонию. / Тогда, закрой рот! / Пусть не
будет ни рта, / ни языка / ни зубов, / ни гортани, / ни пи-
щевода/ ни желудка/ ни живота/ ни ануса./ Я воссоздам
человека, которым я являюсь» (nov. 47, in 84, р. 103). И да-
лее: «(Дело не только в половом органе или анусе, / кото-
рые, впрочем, надо отрезать или уничтожить...)» (in 84,
р. 125). Воссоздание тела должно быть автаркичным, к
нему не нужно прикладывать руку; тело должно быть пе-
ределано в цельный кусок. «Я/это/тот/ кто/полностью
/ переделает/ меня самого /... при помощи меня / который
суть тело / а не я, разделенное на участки» (3-1947).
Танец жестокости наделяет ритмом это воссоздание,
причем речь снова идет о месте, которое нужно найти:
«Действительность еще не построена, поскольку настоя-
щие органы человеческого тела еще не сложены и не рас-
положены./ Театр жестокости был создан для заверше-
ния этого расположения и для того, чтобы в новом танце
человеческого тела разрушить этот мир микробов, являю-
щихся одним лишь свернувшимся в клубки небытием. /
Пусть видят театр жестокости, который стремится заста-
вить плясать веки на пару с локтями, коленными чашеч-
ками, бедрами и пальцами ног» (in 84, р. 101).
Театр не мог быть просто одним из жанров для Арто,
бывшего в первую очередь человеком театра — а не писа-
телем, поэтом или работником театра — то есть актером
примерно в той же мере, что и автором, и не потому, что
он много играл, написав всего лишь одну пьесу и выступив
за «неудавшийся театр», но потому, что театральность
требует всей совокупности существования, не мирясь
более ни с инстанцией интерпретации, ни с различием
между автором и актером. Первое неотложное дело не-
органического театра — это освобождение от текста. Хотя
его строго систематическое изложение появляется только
в «Театре и его Двойнике», протест против буквы издавна
был главной заботой Арто. Протест против мертвой буквы,
которая удаляется от дыхания и от плоти. Сначала Арто
мечтал о написании, которое бы вообще никогда не
отклонялось в сторону, о нераздельном письме, то есть о
воплощении буквы и о кровавой татуировке. «После этого
письма [от Ж. Полана. — Ж.Д.], я еще месяц работал над
созданием вербальной, но не грамматической поэмы, и это
мне почти удалось. Но потом я отказался от этого замысла.
Мне было важно узнать о том, что стремилось внедриться
не между клеточками письменного языка, / но в ткань моей
живой души. / В нескольких словах, принесенных ножом
на поверхность плоти, которая влачит свое существование,
/ в воплощение, которое умирает в неярком пламени фо-
наря, висящего над эшафотом...» (I, р. 9)19.
Но татуировка парализует жест и убивает голос, ко-
торый ведь тоже принадлежит плоти. Она подавляет крик
и возможность еще не организованного слова. Позднее,
намереваясь отнять театр у текста, у суфлера и всемогу-
щества извечного логоса, Арто не пожелает просто-на-
просто предать сцену немоте. Он захочет восстановить
на ней и подчинить ей слово, которое — будучи самодос-
таточным, огромным, агрессивным и всеприсутствующим
словом, то есть вкрадчивым словом — безмерно давило
на пространство театра. Теперь же будет нужно, чтобы —
ни в коей мере не исчезая — оно заняло подобающее ему
место, то есть чтобы оно сменило свою собственную
функцию — и было уже не языком слов, терминов «с оп-
ределимым смыслом» («Театр и его Двойник», I, р. 142 и
далее), языком понятий, которые ограничивают мысль и
жизнь. Только в молчании слов-определений «мы смог-
ли бы лучше услышать саму жизнь» (ibid.). В звукопод-
ражании будет разбужен жест, который спит в каждом
классическом слове — само его звучание, интонация и ин-
тенсивность. Тогда и синтаксис, управляющий связыва-
нием слов-жестов не будет более грамматикой предика-
ции, логикой «ясного духа» или знающего сознания.
«Когда я говорю, что я не буду играть написанную пьесу,
я хочу сказать, что я не буду играть пьесу, основанную
на письме и слове... так что даже написанная и словесная
часть будут таковыми совсем в ином смысле» (р. 138).
«Речь идет не о том, чтобы отменить артикулированное
слово, но о том, чтобы придать ему примерно то значе-
ние, которым оно обладает в сновидениях» (р. 121)20.
Чуждая танцу, неподвижная и монументальная как
определение, материализованная, то есть принадлежащая
«ясному духу », татуировка остается слишком молчаливой.
Молчаливой в молчании освобожденной буквы, которая
говорит сама по себе, приобретая больше значения, чем
есть у слова в сновидении. Татуировка — это отложение,
произведение, а, как мы теперь, знаем, произведение нуж-
но уничтожить. A fortiori шедевр: нужно «покончить с
шедеврами» (название одного из наиболее важных текстов
в «Театре и его Двойнике», I, р. 89). Но здесь, как и рань-
ше, подорвать власть написанного произведения — это
значит не просто стереть букву, но, скорее, подчинить ее
инстанции нечитаемого или, по крайней мере, неграмот-
ного, неалфавитного. «Я пишу для неграмотных»21. Как это
можно видеть на примере некоторых незападных культур,
которые как раз и очаровывали Арто, отсутствие алфави-
та может прекрасно сочетаться с самой глубокой и живой
культурой. Поэтому следы, написанные на теле, будут не
графическими надписями, а ранами, полученными в раз-
рушении Запада, его метафизики и его театра, стигматами
этой безжалостной войны. Ибо театр жестокости — это
не какой-нибудь новый театр, предназначенный для раз-
вития какого-нибудь нового романа, немного видоизме-
няющего нетронутую изнутри традицию. Арто не предпри-
нимает ни обновления, ни критики, ни постановки под
вопрос классического театра: он собирается на деле, а не
просто теоретически, разрушить западную культуру, все
ее религии, всю ее философию, которая предоставляет
опору и декорации традиционному театру, даже когда он
выступает в наиболее новаторских формах.
Стигматы, а не татуировка: в наброске того, что
должно было бы стать первым спектаклем театра жесто-
кости («Завоевание Мексики»), который, воплощая «во-
прос колонизации», «заставил бы дерзко, неумолимо и
кровно почувствовать все еще тянущуюся к жизни тщету
Европы» («Театр и его Двойник», IV, р. 125), текст заме-
няется стигматом: «Из этого столкновения морального
разброда и католической анархии с языческим порядком
она породит неслыханное смешение сил и образов, по-
всюду испещренных дикими диалогами. И все это будет
идти в борьбе человека с человеком, несущих подобно
стигматам враждебные друг другу идеи» (ibid,).
Подрывная работа, в которую Арто, таким образом,
всегда втягивал букву, имела негативный смысл, покуда
она шла в среде собственно литературы. Таковыми были
первые произведения, расположенные как бы вокруг пи-
сем к Ж. Ривьеру. Революционное11 утверждение, кото-
рое получит замечательное выражение в «Театре и его
Двойнике», прорывалось тем не менее уже в «Театре
Альфреда Жарри» (1926-1930). Уже там было предписано
спуститься к той глубине проявления сил, где различие
органов театра (автор-текст/постановщик-актер-пуб-
лика) еще не было бы возможным. А эта система органи-
ческих передач, эта отсрочка могла стать возможной
только в распределении вокруг особого предмета — кни-
ги или инструкции. Поэтому искомая глубина — это глу-
бина нечитаемого: «все, что принадлежит нечитаемому...
мы хотим видеть... как оно торжествует на сцене...» (II,
р. 23). В том театральном, что нельзя прочесть, в ночи,
которая предшествует книге, знак еще не отделен от
силы23. Он еще не совсем знак, как мы его понимаем, но и
не вещь, которую мы можем мыслить только в противо-
поставленности знаку. У такого знака нет никакой воз-
можности стать писаным текстом или артикулированным
словом, никакой возможности подняться или раздуться
поверх energeia, чтобы, согласно различению Гумбольд-
та, одеться в угрюмую и объективную бесстрастность erg-
on'а. Но Европа живет этим идеалом разделения между
силой и смыслом как текстом, причем даже в тот момент,
когда — как мы показывали выше, — надеясь возвысить
Ж. Деррида «Письмо и различие» Вкрадчивое слово
дух над буквой, она по-прежнему предпочитает ему
метафорическое письмо. Это отклонение силы в знаке
разделяет театральный акт, отделяет актера от ответст-
венности за смысл и делает из него толкователя,
позволяющего вдохнуть в себя жизнь и нашептать себе
слово, принимающего свою игру как приказ и подчиняю-
щегося как животное утехам покорности. Подобно си-
дячей публике, такой актер — не более, чем потребитель,
эстет, «ценитель» (см. IV, р. 15). А сцена в таком случае —
не жестокая сцена, а что-то вроде украшения, роскош-
ной иллюстрации книги. В лучшем случае — отдельный
литературный жанр. «Диалог, то есть то, что пишется и
говорится, не принадлежит собственно сцене, он принад-
лежит книге, и доказательство в том, что в учебниках по
истории литературы оставляют место для театра, рас-
сматриваемого как добавочная ветвь истории артикули-
рованного языка» (р. 45, см. также р. 89, 93, 94,106,117,
325 и т.д.).
Таким образом, допустить, чтобы тебе нашептали
слово — в этом-то и заключен, подобно самому письму,
прафеномен утаивания-, отдача себя тому, что делается
украдкой, устранение, отделение и — одновременно —
накопление, капитализация, приобретение гарантий че-
рез отсроченное или возложенное на другого решение.
Украдкой оставить слово — это успокоиться в различии,
то есть в экономии. Таким образом, театр суфлера кон-
струирует систему страха, удерживая его на расстоянии
своей хитрой машиной воплощенных передаточных
звеньев. Мы знаем, что, подобно Ницше, но только через
посредство театра, Арто желает выдать нас Опасности
как становлению. «Театр находится в упадке, потому
что... он порвал с Опасностью» (IV, р. 51), со «Становле-
нием» (р. 84)... «Одним словом, нам кажется, что самая
возвышенная идея театра — это та, что по-философски
примирит нас со Становлением» (р. 130).
Поэтому отказываться от произведения и не давать
приходящему украдкой Богу вдыхать в себя слово, тело
и рождение — это значит защищать себя от театра стра-
ха, умножающего различия между мной и мной. Восста-
новленная в своей абсолютной и ужасной близости, сцена
жестокости должна будет наделить меня непосредствен-
ной властью над собственным рождением, моим телом и
моим словом. И где Арто, безо всякой видимой ссылки
на театр, лучше определил сцену жестокости, чем в «Здесь
покоится»: «Я, Антонен Арто, я есмь мой сын,/мой отец,
моя мать, / и я...»?
Но не рухнет ли такой деколонизированный театр под
грузом собственной жестокости? Сможет ли он сопро-
тивляться своей собственной опасности? Не окажутся ли
свобода речи, ушедшей от диктатуры текста, и театраль-
ный атеизм преданы сколь угодно вольной анархии и ка-
призному вдохновению актера? Не подготавливается ли
таким образом новое порабощение? Новое утаивание язы-
ка в произвольности и безответственности? Чтобы пре-
дупредить эту опасность, которая изнутри угрожает са-
мой опасности, Арто в некоем весьма странном движении
преобразует язык жестокости в новое письмо — в самое
строгое, самое властное, самое упорядоченное, самое
математичное и наиболее формальное письмо. Казалось
бы, в этом есть явная непоследовательность, на которую
хочется ответить поспешным упреком. Но на самом деле
желание сохранить слово, сохраняясь в нем, управляет
посредством своей всемогущей и непогрешимой логики
тем обращением, за которым мы теперь проследуем.
Из письма Ж. Полану: «Я думаю, что, если бы Вы
только прочитали мой Манифест, Вы бы не упорствова-
ли в своем возражении, так что либо Вы его вообще не
читали, либо читали плохо. Мои спектакли не имеют ни-
чего общего с импровизациями Копо. Хотя они и погру-
жаются в конкретную атмосферу, разыгрываясь на ули-
це, на открытой природе, а не в запертых камерах мозга,
они, однако же, не предоставлены капризу бездумного и
неоформленного вдохновения актера, в особенности со-
временного актера, который, выйдя из текста, сразу же
тонет и совершенно не представляет, что нужно делать.
Я не осмелился бы отдать судьбу моих спектаклей и мое-
го театра на откуп такой случайности. Ни в коем случае»
(сентябрь, 32, IV, р. 131). «Я предаюсь жару сновидений,
но лишь затем, чтобы извлечь их законы. В бреде я ищу
разнообразие, утонченность, интеллектуальный взгляд,
а не случайное пророчество» («Манифест ясным язы-
ком», I, р. 239).
Если необходимо отказываться от «театрального
предрассудка текста и диктатуры писателя », то лишь по-
тому, что они могли навязываться нам, играя на руку толь-
ко одной модели слова и письма — слова, представляю-
щего ясную и уже готовую мысль, письма (алфавитного
или во всяком случае фонетического), представляющего
представляющее письмо. Классический театр, театр зре-
лищ, был представлением всех этих видов представления.
Но все эти системы различий, все эти отсрочки и переда-
точные механизмы заключают в себя и высвобождают
игру означающего, умножающего таким образом коли-
чество мест и моментов скрадывания. Для того, чтобы
театр не был ни подчинен такой структуре языка, ни пре-
дан произвольности мимолетного вдохновения, необхо-
димо будет упорядочить его по закону другого языка и
другого письма. За пределами Европы, в балийском теат-
ре, в старых мексиканских, иранских, индийских, египет-
ских и иных космогониях будут разыскиваться не только
темы, но и модели письма. На этот раз письмо не только
не будет простой переписью слова, оно не только будет
письмом самого тела, но при этом оно будет производить-
ся внутри театрального движения согласно с правилами
иероглифов, систем знаков, которыми не управляет ин-
станция голоса. «Сочленение образов и движений путем
соединения предметов, пустот, криков и ритмов приве-
дет к созданию настоящего физического языка на осно-
ве знаков, а не слов» (IV, р. 149). Сами слова, вновь став
физическими знаками, которые понимаются не как по-
нятия, но «берутся в их заклинательном, поистине маги-
ческом смысле — в своей форме, в своих чувственных ис-
течениях» (ibid.), будут не уплощать театральное
пространство, располагать его горизонтально, как это де-
лало логическое слово, а, наоборот, перестроят его в его
«объеме» и будут использовать даже то, что «под ним»
(ibid.). Неслучайно поэтому Арто стал с тех пор говорить
«иероглиф», а не «идеограмма»: «Дух самых древних ие-
роглифов будет управлять созданием чистого театраль-
ного языка» (ibid., см. также в особенности р. 73, 107 и
сл.). (Говоря об «иероглифе», Арто думает только о прин-
ципе так называемого иероглифического письма, по-
скольку на самом деле оно, как известно, никогда не ли-
шено фонетических определенностей.)
Голос не только не будет более отдавать приказы,
но сам должен будет упорядочиваться законом этого те-
атрального письма. Единственный способ покончить со
свободой вдохновения и с нашептанным словом — это
полностью овладеть дыханием в системе нефонетическо-
го письма. Откуда и появляется «Аффективный атле-
тизм », этот странный текст, где Арто пытается отыскать
законы дыхания в Кабале и в Инъ и Ян, стремясь «вместе
с иероглифом дыхания открыть идею священного теат-
ра» (IV, р. 163). Предпочитая всегда крик письму, Арто
желает теперь разработать точное письмо крика, коди-
фицированную систему звукоподражаний, выражений и
жестов, настоящую театральную опись, далеко превос-
ходящую эмпирические языки24, некую универсальную
грамматику жестокости: «Две тысячи и одно выражение
лица, с которых сняты маски, можно будет снабдить эти-
кетками и расположить в каталогах, чтобы непосредст-
венно и символически прикоснуться к этому конкретно-
му языку» (р. 112). Арто стремится даже отыскать в их
видимой случайности необходимость работы бессозна-
тельного (см. р. 96), списывая каким-то образом театраль-
ное письмо с изначального письма бессознательного, то
есть, быть может, с того самого, о котором Фрейд гово-
рит в Notiz uber Wunderblock как о письме, стирающем
само себя и в то же время остающемся, — предваритель-
но высказавшись, однако, в Traumdeutung против мета-
форы бессознательного как исходного текста, которое
существует наряду с Umschrift, и сравнив в другом не-
большом тексте 1913 года «сновидение не с языком», а с
«системой письма », даже с «иероглифическим » письмом.
Несмотря на внешнее впечатление, согласимся, во-
преки всей западной метафизике, что такая математиче-
ская формализация должна освободить вытесненный
праздник и гениальность. «Возможно, это шокирует наши
европейские чувства сценической свободы и неуправляе-
мого вдохновения, но пусть не говорят, что эта матема-
тика влечет иссушение и однообразие. Чудо в том, что
ощущение богатства, фантазии, благодатной расточи-
тельности рождается из этого спектакля, упорядоченно-
го с безумной тщательностью и сознательностью» (р. 62,
см. также р. 72). «Актеры в их костюмах составляют на-
стоящие иероглифы, которые живут и двигаются. Эти
трехмерные иероглифы в свою очередь отстрочены оп-
ределенным числом жестов, таинственных знаков, кото-
рые соответствуют неведомой сказочной и неясной дей-
ствительности, которую мы, люди Запада, безоглядно
похоронили» (р. 73-74).
Как возможно это освобождение и возвращение по-
давленного? Причем не вопреки, а благодаря этой всеох-
ватной кодификации и риторике сил? Благодаря место-
кости, которая в первую очередь означает «строгость»
и «подчинение необходимости» (р. 121)? Дело в том, что
изгоняя случайность, подавляя машинную игру, это но-
вое выстраивание театра заделывает все проемы, все от-
верстия, замазывает все различия. Их начало и активное
движение, то есть отсрочивание и откладывание, закры-
ты. Только тогда, нам, наконец, возвращено украденное
слово. Тогда жестокость, наверное, может успокоиться
в найденной абсолютной близости, в некоей новой отме-
не становления, в совершенстве и экономии своей поста-
новки на сцене. «Я, Антонен Арто, я есмь мой сын, / мой
отец, моя мать, / и я». Таков, по открытому желанию
Арто, закон дома, первоначальная организация простран-
ства обитания, прасцена. Ее присутствие теперь неот-
менимо, она собрана, увидена и покорена в своем при-
сутствии, ужасном и успокоительном.
Выставляя мою жизнь за пределы произведения, пре-
вращая ее начало и мою плоть в посвящение и удавлен-
ного покойника моей собственной речи, незаметно соз-
данная отсрочка могла появиться не благодаря письму,
но только в промежутке между двумя письмами. Нужно
было письмом, ставшим плотью, театральным иерогли-
фом убить двойника, стереть апо-крифическое письмо,
которое, крадя у меня бытие как жизнь, держало меня
вдалеке от скрытой силы. Теперь же речь может насла-
диться своим рождением в совершенном присутствии для
самой себя. «Случается, что этот маньеризм, это вычур-
ное освящение со своим вертящимся алфавитом, криками
лопающихся камней, шумом ветвей, ударов и деревьев
слагает в воздухе, в пространстве, причем как звуковом,
так и видимом, что-то вроде вещественного и одушевлен-
ного шепота. А через мгновение свершается магическое
отождествление: МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ЭТО МЫ ГОВОРИ-
ЛИ» (р. 80, выделено Арто). Таково присутствующее
знание собственно-прошедшего слова.
Именно, магическое отождествление. Различия вре-
мен вполне хватает, чтобы это засвидетельствовать. Но
мало сказать, что оно магическое. Можно было бы пока-
зать, что оно является самой сущностью магии. Магиче-
ское и к тому же ненаходимое. Ненаходимое, как «грам-
матика этого нового языка», по поводу которой Арто
признается, что «ее еще нужно найти» (р. 132). Идя про-
тив всех своих замыслов, Арто должен был на деле вновь
ввести предварительно установленный текст в свои «спек-
такли», «составленные в строгом порядке и закреплен-
ные раз и навсегда еще до того, как они будут сыграны»
(V, р. 41). «...Все эти потуги, эти поиски, эти поражения
все-таки приведут к произведению, к записанной (курсив
Арто. — Ж.Д.) композиции, утвержденной в самых малых
деталях и закрепленной новыми средствами записи. Ком-
позиция, творение, вместо того, чтобы идти в голове ав-
тора, будет осуществляться в самой природе, в реальном
пространстве, причем конечный результат будет не ме-
нее строг и не менее определен, чем в случае с каким угод-
но написанным произведением, учитывая также огром-
ный выигрыш в богатстве содержания» (р. 133-134,
см. также р. 118 и р. 153). Даже если бы Арто не был вы-
нужден, как он это сделал15, вернуть права произведению
и именно написанному произведению, разве не указывает
его проект (уничтожение произведения и различия, то
есть историчности) на саму сущность безумия? Но это
безумие как метафизика неотчуждаемой жизни и отсут-
ствия различий самой истории, метафизика фразы «Я го-
ворю поверх истории» («Здесь покоится») не менее пра-
вомочно разоблачала в жесте, который никак не касался
другой метафизики, некое другое безумие, — как мета-
физику, живущую в различии, в метафоре и произведе-
нии, то есть в отчуждении, и никогда не мыслящую их в
их сути, то есть за пределами самой метафизики. Безу-
мие — это и отчуждение, и неотчуждаемость. Произве-
дение и его отсутствие. Эти два определения могут неоп-
ределенно долго сталкиваться друг с другом в закрытом
поле метафизики, подобно тому, как в истории сталки-
ваются те, кого Арто называет «явно помешанными» или
«подлинными», и другие. Они сталкиваются, сочленяют-
ся и обмениваются местами в признанных, либо не при-
знанных, но всегда опознаваемых категориях одного и
того же историко-метафизического дискурса. Понятия
безумия, отчуждения и неотчуждаемости необходимым
образом относятся к истории метафизики. Или даже бо-
лее точно — к той эпохе метафизики, когда бытие опре-
деляется как жизнь подлинной субъективности. Но раз-
личие — или отсрочивание, со всеми их обнаженными у
Арто модификациями — может как таковое мыслится
только по ту сторону метафизики, в Различии или Двой-
ственности, о которых говорит Хайдеггер. Можно было
309
310
CL
CL
<D
бы подумать, что такое различие, одновременно откры-
вая и скрывая истину, ничего реально не различая и ока-
зываясь невидимым соучастником всякого слова, и есть
та власть, которая все совершает украдкой, но так мы сме-
шали бы метафизическую и метафорическую категорию
того, что делалось украдкой с тем, что только и делает ее
возможной. Если «деструкция»26 истории метафизики в
том строгом смысле, который подразумевается Хайдег-
гером, не является простым превосхождением, тогда
можно было бы, располагаясь в месте, которое не вне и
не внутри метафизики, спросить себя о том, что связыва-
ет понятие безумия с понятием метафизики вообще —
той, что Арто разрушает, и той, которую он по-прежне-
му стремится построить и сохранить, причем в одном и
том же движении. Арто удерживается на пределе, и имен-
но на этом пределе мы и попытались его прочитать. Од-
ной стороной своего дискурса он уничтожает традицию,
которая живет в различии, отчуждении и негативном, не
видя их начала и их необходимости. Чтобы пробудить эту
традицию, Арто в общем-то призывает ее к ее собствен-
ным мотивам: присутствие для самого себя, единство, са-
мотождественность, чистота и т.д. В этом смысле «мета-
физика» Арто в пунктах самой ожесточенной критики
осуществляет саму западную метафизику, ее наиболее
глубокую и устойчивую цель. Но в другом, более слож-
ном, развороте своего текста Арто утверждает жесто-
кий (то есть необходимый в том смысле, в каком он пони-
мает это слово) закон различия; закон, доведенный на
этот раз до сознания, а не проживаемый по-метафизиче-
ски наивно. Эта двойственность текста Арто, одновремен-
но и оказывающаяся, и не оказывающаяся его собствен-
ным стратегическим движением, постоянно принуждала
нас заходить с другой стороны предела, показывая та-
ким образом межу присутствия, в котором его текст дол-
жен был затвориться, дабы разоблачить наивное приня-
тие различия. Поскольку же различные стороны быстро
переходят друг в друга, а критический опыт различия
походит на наивную метафизическую погруженность в
различие, неискушенному взгляду может показаться, что
мы критикуем Арто, исходя из метафизики, тогда как на
самом деле мы ограничиваем зону неизбежного соуча-
стия. В нем обнаруживается неизбежная близость всех
дискурсов, направленных на разрушение, покуда они
должны обитать в структурах, с которыми они сражают-
ся, и должны сохранять в себе неуничтожимое желание
полного присутствия, не-различия, то есть одновремен-
но жизни и смерти. Такой вопрос мы хотели поста-
вить — подобно тому, как ставят ловчую сеть, — окру-
жая предел текстуальной сетью, принуждая заменить
пунктуальность позиции дискурсом, как вынужденным
поворотом в зависимости от того или иного места. Без
необходимого продолжения и следов этого текста каж-
дая позиция тотчас обращается в свою противополож-
ность. В этом также есть свой закон. Выход за пределы
метафизики посредством того «мышления», которое, по
словам Арто, еще не началось, всегда рискует возвратить-
ся к той же метафизике. Таков вопрос, перед которым
мы поставлены. Вопрос, по-прежнему затрагиваемый
всякий раз, когда охраняемое пределами поля слово по-
зволяет издалека прикоснуться к себе той загадке во пло-
ти, которая пожелала назваться собственным именем
Антонена Арто/
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Le “non” du рёгеъ, Critique, mars 1962, p. 207-208.
2 Это утверждение, имя которому «театр жестокости»,
было высказано после писем Ж. Ривьеру и первых про-
изведений, но на самом деле оно управляло уже ими.
«Театр жестокости / это не символ / некоей пустоты/
ужасающей неспособности / человека / реализоваться
в своей жизни, / он является утверждением/ ужасной и
однако же неминуемой необходимости». Le Theatre de
la Cruaute, in 84, № 5-6,1948, p. 124. Мы указываем толь-
ко том и страницу без заглавия, когда ссылаемся на весь-
ма ценное и точное издание Oeuvres completes (Gallima-
rd). Простая дата в скобках обозначает неизданный
текст.
J Предисловие к: К. Jaspers, Strindberg et Van Gogh, Hold-
erlin et Swedenborg. Ed. De Minuit. Та же самая эссен-
циалистская схема в еще более обнаженном виде появ-
к Прошло много времени после написания этого текста, когда в
одном письме Арто П. Лоебу (см. Lettres Nouvel les, № 59, avril
1958)я прочитал:
«Эта вмятина в промежутке между двумя сильными пощечина-
ми, которых не было...»
(сентябрь 1969)
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
ляется в другом тексте М. Бланшо: La cruelle raison ро-
etique in Artaud et le theatre de notre temps, p. 66.
4 «Существование Гельдерлина оказывается настолько
ярким примером поэтической судьбы, что Бланшо даже
саму сущность слова связывает с этим “отношением к
отсутствию”» (р. 10).
5 Публика не должна была существовать вне сцены жес-
токости, до или после нее, не должна была ее ждать, со-
зерцать, переживать, то есть не должна была существо-
вать как публика. Вот откуда в «Театре и его Двойнике »
посреди изобилующих, никогда не иссякающих опреде-
лений «постановки», «языкаСцены», «музыкальных»и
«световых» «инструментов», «костюмов» появляется
одна загадочная лапидарная фраза. Проблема публики
решается следующим образом: «Публика: вначале нуж-
но, чтобы был театр» (t. IV, р. 118).
6 Само слово появилось в le Pese-Nerfs (I, р. 90).
7 С некоторой осторожностью можно было бы сказать о
присутствии у Арто бергсоновских мотивов. Непрерыв-
ный переход от своей метафизики жизни к теории языка
предписывает ему использование большого числа энер-
гетических метафор и теоретических формулировок, ко-
торые точно соответствуют формулировкам Бергсона.
См., в частности, t. V, р. 15, 18, 56,132,141 и т.д.
8 Каждый раз, когда язык Арто разворачивается по схе-
ме, которую мы пытаемся здесь восстановить, он начи-
нает по своей лексике и синтаксису весьма сильно напо-
минать язык молодого Маркса. В первой из «Рукописей
1844 года» труд, который производит произведение, ко-
торый наделяет ценностью (Verwertung), возрастает в
прямой зависимости от обесценивания (Entwertung) са-
мого рабочего. «Осуществление труда — это его объек-
тивация. На экономическом уровне это осуществление
труда представляется рабочему как потеря собственной
действительности, объективация — как потеря объек-
та или порабощение им, присвоение как отчуждение,
отбирание, ъ Такая близость — не просто бриколаж или
историческая случайность. Ее необходимость обнару-
жится позже, когда будет поставлен вопрос отношения
к тому, что мы называем метафизикой собственного (или
отчуждения).
9 Само собой разумеется, что мы намеренно воздержива-
емся от всего того, что называют «биографическим соот-
ветствием». И если в данном конкретном месте мы напо-
минаем, что Арто умер от рака прямой кишки, то не
потому, что такое исключение только подчеркивает пра-
вило, но потому, что, по нашему мнению, статус (кото-
рый еще необходимо выяснить) этого и ему подобных
примечаний не имеет ничего общего с «биографическим
соответствием». Новый, еще не найденный статус состо-
ит в отношении между существованием и текстом, между
этими двумя формами текстуальности и обобщенного
письма, в игре которой они сочленяются друг с другом.
10 В предисловии к своему «Собранию сочинений» Арто
пишет: «Палка “Новых Откровений Бытия” была забро-
шена в черный карман, так же как и маленькая шпага.
Но там же была приготовлена новая палка, которая бу-
дет сопровождать мое полное собрание сочинений в ло-
бовой битве не с идеями, но со знаками, которые их осед-
лали в пространстве всего моего сознания, во всем моем
разъеденном ими организме... Моей палкой будет эта
озлобленная книга, призванная ныне вымершими древ-
ними расами, которые тлеют в моей душе наподобие ос-
вежеванных дочерей» (р. 12-13).
11 «...Ловить собственными руками отцовское сияние...
Уметь танцевать пером... Палка... маленькая шпага... дру-
гая шпага... Моей шпагой будет эта озлобленная книга...»
В «Новых откровениях бытия» мы читаем: «Ибо 3 июня
1937 года явились пять змей, которые сидели в шпаге, сила
решения которой представлена в палке! Что это значит?
Это значит, что у Меня, который сейчас говорит, есть
Палка и Шпага» (р. 18). Прибавим ко всему этому текст
Жене: «Все взломщики легко поймут ту гордость, кото-
рая меня наполняла, когда я держал в руках фомку,
“перо”. Из ее веса, вещества, размера и предназначения
исходила сила, которая делала меня мужчиной. Мне все-
гда был нужен этот стальной член, чтобы полностью ос-
вободиться от моих грязных привычек и низкого поло-
жения и достичь очевидной простоты мужественности »
(Miracle de la Rose, Oeuvres Completes, II, p. 205).
12 Признаемся, что Арто первым пожелал собрать генеа-
логическое древо этой весьма обширной мученической
семьи гениальных безумцев. Этим он занимается в «Ван
Гоге, самоубийце общества» (1947), являющимся одним
из тех редких текстов, где поминается Ницше, взятый
вкупе с другими «самоубийцами» (Бодлер, По, Нерваль,
Ницше, Кьеркегор, Гельдерлин, Кольридж, см. р. 15).
Далее (р. 65) Арто пишет: «Нет, у Сократа не было тако-
го глаза, до него (Ван Гога. — Ж.Д.), быть может, у од-
ного только несчастного Ницше был этот обнажающий
душу взгляд, который освобождал тело от души, оголял
тело человека, невзирая на все уловки духа».
Ж. Деррида «Письмо и различие» Вкрадчивое слово
13 «Я вам сказал: не надо произведений, не надо языка, сло-
ва, духа, ничего не надо.
Ничего, кроме прекрасного Нервометра.
Некоего непонятного выстаивания, распрямленного по-
среди всего, что в духе» (le Pese-Nerfs, I, р. 96).
14 «Ибо даже бесконечность мертва, / бесконечность — это
имя одного мертвеца» (in 84, р. 118). Это значит, что Бог
не умирает в определенный момент истории, но Он
Мертв, потому что он есть имя самой Смерти, имя смер-
ти во мне и того, что, обкрадывая меня при рождении,
коснулось моей жизни. Поскольку Бог-смерть — это
различие в жизни, он никогда не переставал умирать, то
есть жить. «Ибо даже бесконечность мертва/бесконеч-
ность — имя одного мертвеца, / который не умер» (ibid.).
Только жизнь без различия, жизнь без смерти оправда-
ет смерть и Бога. Но это возможно только в отрицании
себя как жизни, то есть в смерти, в становлении самим
Богом. Итак, Бог — это Смерть, бесконечная Жизнь без
различий, такая жизнь, которая была приписана ему
классической онто-теологией и метафизикой (с замеча-
тельным и двусмысленным исключением в случае Геге-
ля), которой Арто все еще принадлежит. Но поскольку
смерть — это имя различия в жизни, конечности как
сущности жизни, бесконечность Бога как Жизнь и При-
сутствие — это другое имя конечности. Но другое имя
той же самой вещи не обозначает того же самого, что и
первое имя, оно не его синоним, и в этом-то все и дело.
15 Вот почему сама по себе поэзия остается с точки зрения
Арто абстрактным искусством, независимо от того, идет
ли речь о поэтическом слове или письме. Только театр
является целостным искусством, в котором вместе с по-
эзией рождается музыка и танец, воскрешается само
тело. Поэтому пульс мысли Арто ускользает от нас, ко-
гда мы стремимся видеть в нем прежде всего поэта. Если
только, конечно, не делать из поэзии неограниченное
искусство, то есть театр в его реальном пространстве.
В какой степени можно согласиться с М. Бланшо, когда
он пишет: «Арто оставил нам свое главное завещание,
которое не меньше и не больше, чем поэтическое Искус-
ство. Я признаю, что в нем он говорит о театре, но на
самом деле вопрос в требовании поэзии, которая может
осуществиться только в отказе от частных жанров и в
утверждении более изначального языка... Тогда речь
идет уже не только о реальном пространстве, представ-
ляемом сценой, но о другом пространстве...»? В какой
мере мы обладаем правом добавлять в квадратных скоб-
ках «поэзию», когда мы цитируем фразу Арто, опреде-
ляющего «самую возвышенную идею театра»? (См. La
cruelle raison poetique, p. 69).
16 Снова странное сходство между Арто и Ницше. Хвала
элевсинским мистериям (IV, р. 63) и некоторое презре-
ние к римской культуре еще более его подтверждают. Но
выше мы вкратце отметили, что под ним прячется неко-
торое различие, и теперь его необходимо уточнить. В «Ро-
ждении трагедии», когда (§ 19) он обозначает «сократи-
ческую культуру » в ее «наиболее глубоком содержании »
и в ее наиболее «колком» имени как «культуру оперы»,
Ницше задается вопросом о происхождении речитатива
и stilo rappresantativo. Это происхождение может отсы-
лать только к инстинктам, противоестественным и чуж-
дым всякой эстетике, будь она аполлоновской или дио-
нисийской. Речитатив и подчинение либретто в конечном
счете отвечают на страх и нужду в безопасности, на «нос-
тальгию по идиллической жизни», на «веру в доистори-
ческое существование образованного и доброго челове-
ка». «Речитатив принимался за вновь обретенный язык
этого первоначального человека...» Опера была «средст-
вом утешения от пессимизма» в ситуации «опасной неза-
щищенности ». И вот, так же, как в «Театре и его Двойни-
ке», место текста обозначается как место захваченной
власти и настоящего, а не метафорического, рабовладе-
ния. Обладание текстом — это господство. «Опера — это
продукт теоретического человека, недавно появившего-
ся критика, а не художника, — ив этом заключается один
из самых странных фактов в истории всех искусств. По-
нимать одно лишь слово — таким было требование слу-
шателей, полностью чуждых музыке, так что возрожде-
ние музыкального искусства зависело только от открытия
такого способа пения, в котором Текст властвовал над
Контрапунктом как господин над рабом.» Таким же об-
разом многочисленные формулировки как бы предска-
зывают Арто, говоря о привычке «наслаждаться отдель-
но самим текстом— то есть чтением» («Греческая
музыкальная драма» in la Naissance de la tragedie, p. 159),
об отношениях между криком и понятием («Дионисий-
ское понимание мира», trad. G.Bianquis, ibid., р. 182), об
отношениях между «символикой жеста» и «тоном гово-
рящего субъекта», об «иероглифической» связи между
текстом поэмы и музыкой, о музыкальной иллюстрации
поэмы и о проекте «дать музыке понятный язык » («Это
перевернутый мир. Как будто бы сын хотел породить
отца», фрагмент о «Музыке и Языке», ibid., р. 214-215).
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Вкрадчивое слово
Но здесь Ницше хочет освободить от текста и цитирова-
ния только музыку, так же как в других отрывках он стре-
мится освободить танец. На взгляд Арто, такое освобо-
ждение будет по-прежнему абстрактным. Только театр,
как целостное искусство, включая в себя и используя му-
зыку и танец вместе с другими формами языка, может
осуществить такое освобождение. Если Арто, подобно
Ницше, часто предписывает танец, он — и это необходи-
мо отметить — никогда не отделяет его от театра. Если
же этот танец брать не в качестве аналогии, как это дела-
ли мы, а в его буквальном значении, то танец вовсе не бу-
дет всем театром. Наверное, Арто не мог бы на манер
Ницше сказать: «Я могу верить только в того Бога, кото-
рый умеет танцевать». И не потому, что — как это было
известно самому Ницше — Бог не умеет танцевать, но по-
тому, что одинокий танец оказывается обедненным теат-
ром. Это уточнение тем более необходимо, что Заратуст-
ра также осуждал поэтов и поэтическое произведение как
отчуждение в метафоре. «О поэтах» начинается так:
«С тех пор, как я лучше узнал тело, — сказал Заратустра
одному из учеников, — дух для меня не более, чем мета-
фора; точно так же “вечное” — это только символ. —
Я уже слышал, как ты это говорил, — сказал Ученик, —
тогда ты еще добавил, что много лгут поэты. Но почему
ты сказал, что поэты много лгут?.. — Они любят выдавать
себя за посредников, но для меня они остаются сводни-
ками, спекулянтами и нечистыми на руку любителями
компромиссов. / Увы, когда-то я забросил свою сеть в их
море, надеясь поймать хорошую рыбу, но поймал только
голову какого-то древнего бога ». Ницше также презирал
спектакль («’’Поэтический дух” требует зрителей, хотя
бы это были буйволы»). А Арто, как мы знаем, считал,
что то, что в театре есть видимого, должно перестать быть
объектом наблюдения. В этом столкновении Ницше и
Арто речь не идет о том, чтобы спрашивать себя, кто из
них прошел дальше по дороге разрушения. Может пока-
заться, что на этот глупый вопрос мы отвечаем, выбирая
Арто. Но идя в несколько ином направлении, мы могли
бы столь же законно выбрать противоположный ответ.
17 In Centre-Noeuds, Rodez, avril 1946. Опубликовано в Juin,
№ 18.
18 Двадцатью двумя годами раньше в «Пупе лимба » Арто пи-
сал: «Я не страдаю ни оттого, что в жизни будет Дух, ни от
того, что жизнь будет духом, я страдаю только от Духа-
органа, от “Духа-переводчика”, от “Духа-унижающего-
вещи-чтобы-заставить-их-войти-в-дух”» (I, р. 48).
19 Заратустра, «Читать и Писать»: «Из того, что написа-
но, я люблю только то, что написано кровью. Пиши кро-
вью, и ты откроешь, что кровь — это дух./ Невозможно
понять кровь другого; я ненавижу тех, что читают от без-
делья./ Когда узнаешь читателя, для него больше ниче-
го не будешь делать. Еще один век читателей, и сам дух
станет зловонием».
20 Почему бы не поиграть близкими цитатами? Позже бу-
дет написано: «То, что сновидение располагает словом,
ничего не меняет, поскольку для бессознательного оно
такой же элемент сценической постановки, как и все
остальные». J. Lacan. L’ instance de la lettre dans
Гinconscient ou la raison depuis Freud, in Ecrits, p. 515.
21 «Под грамматикой таится мысль, оказавшаяся позором,
который так просто не смоешь, несговорчивой девствен-
ницей, которую тем сложнее вывести из себя, чем более
ее принимают за нечто врожденное. / Ведь мысль — это
повитуха, которая никогда не существовала. / Но сло-
ва, напитавшиеся моей жизнью, затем разбухают сами
по себе в постылости письма. Но я пишу для неграмот-
ных» (I, р. 10-11).
22 Революционное в полном и, как следствие, политическом
смысле. Весь «Театр и его двойник» мог бы быть прочи-
тан, чем мы здесь не можем заняться, как политический
манифест, значение которого остается в высшей степе-
ни двусмысленным. Отказываясь от непосредственной
политической деятельности, от партизанской войны и
от всего того, что было бы лишь распылением сил в эко-
номии его политического замысла, Арто собирался под-
готовить неосуществимый театр без уничтожения поли-
тических структур нашего общества. «Дорогой друг, я
не говорил, что я собираюсь непосредственно воздей-
ствовать на наше время; я сказал, что театр, который я
хотел создать, для того, чтобы осуществиться и войти в
эпоху, требовал другой формы культуры» (mai 33, IV,
р. 140). Политическая революция должна в первую оче-
редь вырвать власть у буквы и мира письма. См., напри-
мер, послесловие к «Манифесту неудавшегося театра»:
во имя революции против письма и литературы, Арто,
целя в сюрреалистов, этих «революционных бумагома-
рателей», «вставших на колени перед коммунизмом»,
выражает свое презрение по отношению к «ленивой ре-
волюции», революции, как простой «передачи власти».
«Кое-куда надо было бы подложить мины, например, в
основание большинства привычек сегодняшней европей-
ской и неевропейской мысли. Господа сюрреалисты го-
Вкрадчивое слово «Письмо и различие» Ж. Деррида
раздо более подвержены этим привычкам, нежели я.»
«Поспешная революция» стала бы «чем-то вроде отсту-
пления во времени» по направлению к «состоянию духа
или просто привычкам средневековой жизни» (II, р. 25).
23 «Настоящая культура живет возвышением и силой, но
европейский идеал искусства стремится бросить дух в
состоянии, отделенном от присутствующей при его воз-
вышении силе» (IV, р. 15).
24 Стремление к универсальному письму проглядывает и в
«Письмах из Родеза». В них Арто утверждает, что он
писал на языке, «который был не французским, но тем,
на котором мог бы читать кто угодно, независимо от на-
циональной принадлежности» (письмо А. Паризо).
25 Арто не только вернул письменное произведение в свою
теорию театра, но он в конечном счете и сам был авто-
ром произведения. И он об этом знал. В письме 1946 года
(цитированном М. Бланшо в Г Arche, 27-28,1948, р. 133),
он говорит о «двух коротеньких книжках» (Шуп лим-
ба* и Шервометпр*), которые «таят в себе это глубо-
кое, проникающее насквозь, исконное отсутствие какой
бы то ни было мысли ». «Временами они казались мне как
будто бы все в трещинах, в провалах, полными глупо-
стей и нафаршированными продуктами самопроизволь-
ных выкидышей... Но по истечении двадцати лет они
произвели на меня ошеломляющее впечатление, и не по-
тому, что они стали удачей автора, а потому, что они
удачны в отношении невыразимого. Вот так произведе-
ния, набираясь опыта, сами по себе слагают странную
истину, всегда клевеща на своего автора... Невыразимое,
выраженное в произведении — это только открытие ле-
дохода, на котором мы присутствуем...» В таком случае,
думая об его упрямом отказе от произведения, нельзя
ли с той же интонацией сказать противоположное тому,
что сказал М. Бланшо, в своей «Прибывающей книге»?
То есть не «это, естественно, не произведение» (р. 49),
но «это, естественно, только лишь произведение»? И в
этом смысле оно позволяет внедриться в себя коммен-
тарию и тому насилию примера, которого мы так хоте-
ли избежать, но нам этого все равно не удалось. Но, быть
может, теперь мы лучше понимаем необходимость та-
кого видимого противоречия.
26 Безумие сегодня подвергается тому же разрушению, что
онто-теологическая метафизика, произведение и книга.
Но не текст.
Фрейд и сцена письма
Этот текст является частью выступления, прочитанного в
Институте психоанализа (семинар доктора Грина). Речь шла о
том, чтобы развернуть обсуждение некоторых положений, вы-
двинутых в предшествующих эссе, и в первую очередь в работе
«Из грамматологии» (Critique, 223/4).
Не попали ли эти положения, которые здесь будут оста-
ваться на заднем плане, в поле психоаналитического исследо-
вания? Где они должны располагаться по своему синтаксису и
понятиям с точки зрения этого поля?
Первая часть выступления касалась наиболее общих ас-
пектов этого вопроса. Ее центральными понятиями были по-
нятия присутствия и архиследа. Мы вкратце укажем на глав-
ные этапы этой первой части, обозначая только заголовки
рассматриваемых тем.
1. Несмотря на внешнее впечатление, деконструкция ло-
гоцентризма — это не психоанализ философии.
Эти впечатления: анализ вытеснения или исторического
угнетения письма, начиная с Платона. Это вытеснение консти-
туирует начало философии как эпистпемьг, то есть как единст-
ва логоса и phone.
Вытеснение, а не забвение; вытеснение, а не исключение.
Вытеснение, как говорит Фрейд, не отталкивает, не избегает и
не исключает внешнюю силу, оно содержит внутреннее пред-
ставление, прочерчивающее внутри себя пространство подав-
ления. В нашем случае то, что представляет силу, тождествен-
319
ную письму — внутреннему и необходимому для самого сло-
ва, — удерживалось вне слова.
Не удавшееся вытеснение: исторически разрушающееся.
Нас интересует именно это разрушение, неудача, которая сооб-
щает вытеснению возможность прочтения и ограничивает его
историческую закрытость. «Неудачное вытеснение будет, —
говорит Фрейд, — обладать для нас большим значением, чем то,
которому знаком определенный успех и которое, как правило,
остается за пределами нашего исследования» (G.W., X, р. 256).
Симптоматическая форма возвращения вытесненного:
метафора письма, преследующая европейский дискурс, и сис-
тематические противоречия в онто-теологическом исключении
следа. Вытеснение письма как того, что угрожает присутствию
и власти над отсутствием.
Загадка «чистого и простого» присутствия как удвоение,
изначальное повторение, автоаффектация, различение. Разли-
чие между властью над отсутствием как словом и как письмом.
Письмо в слове. Галлюцинация как слово и галлюцинация как
письмо.
Отношение между phone и сознанием. Фрейдовское поня-
тие вербального представления как предсознанательного. Ло-
гофоноцентризм — это не философское или историческое за-
блуждение, в которое, якобы, случайным образом впала,
вследствие некоей патологии, история философии, Запада и
даже всего мира, но необходимое и необходимо конечное дви-
жение и структура: история символической возможности вооб-
ще (до различия между человеком и животным или даже между
живым и неживым); история различения, история как различе-
ние, обнаруживающая в философии как эпистеме, в европейской
форме метафизического или онто-теологического проекта свое
привилегированное и господствующее в мировом масштабе про-
явление скрытия, цензуры вообще текста вообще.
2. Попытка оправдания теоретической сдержанности, со-
стоящей в использовании понятий Фрейда только в кавычках:
все они безо всякого исключения принадлежат к истории ме-
тафизики, то есть к системе логоцентрического подавления,
организовавшейся, чтобы исключить, принизить, поставить на
колени и изгнать тело письменного следа как дидактическую
или техническую метафору, как покорную материю или ис-
пражнение.
Например, логоцентрическое подавление не может пони-
маться из фрейдовского понятия вытеснения; наоборот, толь-
ко оно может позволить понять, как частное и индивидуальное
вытеснение стало возможным в горизонте некоей культуры и
исторической принадлежности.
Почему речь не идет ни о том, чтобы идти за Юнгом, ни о
том, чтобы следовать фрейдовскому понятию наследуемого сле-
да памяти. Несомненно, что дискурс Фрейда в его синтаксисе и
его, если угодно, работе не смешивается с этими по необходи-
мости метафизическими традиционными понятиями. Этот дис-
курс ни в коей мере не исчерпывается в таком отношении к исто-
рии. Об этом свидетельствуют уже те меры предосторожности
и тот «номинализм», с помощью которых Фрейд обращается к
общепринятым теориям и концептуальным гипотезам. Мысль же
различия более привязывается к дискурсу, нежели к понятиям.
Но исторический и теоретический смысл этих мер предосторож-
ности никогда не был продуман Фрейдом сам по себе.
Необходимость огромной работы по деконструкции этих
понятий и тех метафизический фраз, которые в них сгущаются
и откладываются. Схожие метафизические посылки психоана-
лиза и так называемых гуманитарных наук (понятия присутст-
вия, восприятия, реальности, и т.д.). Лингвистический фоно-
логизм.
Необходимость развернутого вопроса о смысле присут-
ствия вообще: сравнение движения Хайдеггера и Фрейда. Эпо-
ха присутствия в смысле Хайдеггера и ее центральная ветка от
Декарта до Гегеля: присутствие как сознание, присутствие для
самого себя, мыслимое в оппозиции сознания и бессознатель-
ного. Понятия архиследа и различения: почему это не хайдег-
геровские и не фрейдовские понятия.
Различение, предоткрытие онтико-онтологического разли-
чия (см. «Из грамматологии», р. 129) и всех различий, прочерчи-
вающих понятийное поле Фрейда, как они, например, могут
организовываться вокруг различия между «желанием» и реаль-
ностью или же происходить из него. Различие между принци-
пом удовольствия и принципом реальности, например, не явля-
ется ни просто условным различением, ни чем-то внешним, но
изначальной возможностью обхода, отложения (Aufschub) и эко-
номии смерти в самой жизни (см. Jenseits, G.W., XIII, р. 6).
Различение и тождество. Различение в экономии тожде-
ственного. Необходимость вывести понятие архиследа и раз-
личения из всех классических понятийных оппозиций. Необ-
ходимость понятия архиследа и зачеркивания архии. Это
вычеркивание, поддерживающее возможность прочтения ар-
хии, обозначает отношение мыслимой принадлежности к ис-
тории метафизики («Из грамматологии», II, р. 32).
1 1 Ж. Деррида
Фрейд и сцена письма «Письмо и различие» Ж. Деррида
В чем фрейдовские понятия письма и следа все еще испы-
тывают угрозу метафизики и позитивизма? О близости этих
двух опасностей в дискурсе Фрейда.
Worin die Bahnung sonst besteht, bleibt
dahingestellt.
В чем, впрочем, состоит прокладывание пути,
вопрос остается открытым.
Фрейд,
«Набросок научной психологии», 1895
322
Наш план весьма ограничен: обозначить в тексте
Фрейда несколько опорных пунктов и — в качестве пред-
посылки для организованного продумывания — отделить
в психоанализе то, что с трудом удерживается в логоцен-
трическом ограждении, ограничивающем не только ис-
торию философии, но и движение «гуманитарных наук»,
включая, в частности, некоторые формы лингвистики.
Если фрейдовский прорыв и обладает некоторой исто-
рической оригинальностью, то эта оригинальность про-
исходит не из мирного сосуществования или теоретиче-
ского сговора с этой лингвистикой или, во всяком случае,
с ее врожденным фонологизмом.
Не случайно Фрейд в решающие моменты своего дви-
жения обращается к метафорическим моделям, которые
заимствуются не у устного языка, вербальных форм и даже
не у фонетического письма, а у системы начертаний, кото-
рые никогда не будут подчиненными, внешними или вто-
ричными по отношению к слову. Фрейд призывает к зна-
кам, которые приходят не для того, чтобы переписать
живое, полное, присутствующее для самого себя и владею-
щее самим собой слово. По правде сказать, Фрейд — ив
этом будет заключаться вся наша проблема — не просто
пользуется метафорой нефонетического письма; он не
считает нужным манипулирование с письменными мета-
форами в дидактических целях. Если эта метафорика не-
обходима, то именно по той причине, что она в своем воз-
вратном движении освещает смысл письменного следа
вообще и, следовательно, связывающийся с ним смысл
письма в его обычном значении. Если манипулировать ме-
тафорами — это намекать на неизвестное посредством
известного, то Фрейд, несомненно, не делает ничего по-
добного. Наоборот, упорством своей привязанности к ме-
тафорам он делает загадочным то, что считают известным
под именем письма. Быть может, здесь происходит осо-
бое движение где-то между эксплицитным и имплицитным,
неизвестное классической философии. Начиная с Плато-
на и Аристотеля, все только и делали, что иллюстрирова-
ли отношения разума и опыта, восприятия и памяти гра-
фическими образами. Но доверие к ним всегда могло
успокоится смыслом известного и всем близкого терми-
на, а именно письма. Намеченный Фрейдом жест прерыва-
ет эту успокоенность и открывает новый тип вопросов о
метафоричности, письме и опространствовании вообще.
Позволим же себе быть ведомыми этой метафориче-
ской привязанностью. В конечном счете она захватит всю
область психического. Содержание психического будет
представлено текстом, который по своей сущности будет
обязательно носить графический характер. Структура
психического аппарата будет представлена машиной
письма. Какие вопросы будут внушены нам такими пред-
ставлениями? Не нужно будет спрашивать себя, является
ли аппарат письма — например, такой, какой описан в
«Заметке о магическом блоке» — подходящей метафорой
для представления работы психического; но нужно будет
спросить, какой аппарат нужно создать, чтобы представить
психическое письмо, и что вообще значит по отношению к
аппарату и психическому продемонстрированная и выс-
вобожденная в машине имитация чего-то вроде пси-
хического письма. То есть не спрашивать, является ли
психическое некоей разновидностью текста, но что такое
текст, и чем должно быть психическое, чтобы пред-
ставляться текстом? Ведь если нет ни машины, ни текста без
психического начала, то нет и психического без текста. Чем
в конечном счете должны быть отношения между психи-
ческим, письмом и опространствованием, чтобы стал
возможным такой метафорический переход, причем в
первую очередь не внутри теоретического дискурса, но в
самой истории психического, текста и техники?
Прокладывание пути
и различие
От «Наброска» (1895) до «Заметки о магическом бло-
ке» (1925) наблюдается странный прогресс: разрабаты-
вается проблематика прокладывания пути, чтобы все бо-
И*
323
й
Л)
лее и более соответствовать метафорике письменного
следа. После системы следов, функционирующей соглас-
но модели, которая по мысли Фрейда должна была быть
естественнонаучной и в которой не было никакого пись-
ма, мы направляемся к конфигурации следов, которую
отныне можно будет представить только через структу-
ру и функционирование некоторого письма. В то же са-
мое время постоянно выделяются и уточняются ориги-
нальные черты структурной модели письма, к которой
Фрейд обращается сразу же после «Наброска » . Один за
другим будут перепробованы и затем отброшены всевоз-
можные механические модели, прежде чем будет открыт
Wunderblock, машина письма удивительно сложного
строения, на которую будет спроецирован весь психиче-
ский аппарат. В ней будет представлено решение всех
предшествующих трудностей, а сама «Заметка», как знак
восхитительного постоянства, ответит на вопросы «На-
броска». В каждой из своих деталей Wunderblock будет
реализовывать аппарат, который в «Наброске» Фрейд
считал «в данный момент невообразимым» («Аппарат,
который выполнял бы столь сложную операцию, мы в
данный момент не можем себе даже вообразить »), поэто-
му он был дополнен особой нейрологической басней, ни
схему, ни интенцию которой Фрейд в определенном смыс-
ле так никогда не бросит.
В 1895 году речь шла о том, чтобы объяснить память
в стиле естественных наук, «выработать психологию как
естественную науку, то есть представить психические
события количественно определенными различными ма-
териальными частицами». Но «одним из главных качеств
нервной ткани является память, то есть, если говорить
обобщенно, способность приобретать устойчивые из-
менения, вызванные событиями, которые случаются толь-
ко один раз». «Всякая достойная внимания психоло-
гическая теория должна предоставить объяснение
“памяти”.» Главное затруднение такого объяснения, де-
лающее аппарат почти невообразимым, заключается в
том, что нужно одновременно объяснить, как это сдела-
ет тридцать лет спустя «Заметка », и устойчивость следа,
и наготу принимающей раздражения субстанции, прочер-
чивание борозд и всегда остающуюся нетронутой прини-
мающую и воспринимающую поверхность — здесь по-
верхность нейронов. «Итак, нейроны должны сохранить
отпечаток, но и остаться неизмененными, непредубеж-
денными (unvoreingenommen).» Отказываясь от распро-
страненного в то время различения на «клетки воспри-
ятия» и «клетки памяти», Фрейд строит гипотезу «сеток
восприятия» и «прокладывания пути» (Bahnung), проры-
ва пути (Bahn). Чтобы ни думать о верности и последую-
щих разрывах, эта гипотеза весьма примечательна, если
принимать ее как метафорическую модель, а не как ней-
рологическое описание. Прокладывание пути, прочерчен-
ный путь открывает ведущую дорогу. Этим предполага-
ется некоторое насилие и определенное сопротивление
прорыву. Дорога проламывается, разбивается, frac t а,
прокладывается. Поэтому существует два вида нейронов:
проницаемые нейроны (ср), которые не оказывают ника-
кого сопротивления и, следовательно, не удерживают
никакого следа впечатлений, являясь нейронами воспри-
ятия, и другие нейроны (у), выдвигающие навстречу оп-
ределенному количеству возбуждения контактные сет-
ки и сохраняющие таким образом запечатленный след
этого возбуждения: «они, следовательно, дают возмож-
ность представить (darzustellen) память». Вот первое
представления памяти, ее первая сценическая постанов-
ка. (Darstellung — это как представление в обычном, стер-
шемся смысле этого слова, так и визуальное изображе-
ние или, порой, театральное представление. Наш перевод
будет зависеть от изгиба контекста). Качеством психиче-
ского Фрейд наделяет только эти последние нейроны.
Они являются «носителями памяти и, следовательно,
вполне вероятно, психических событий вообще». Итак,
память — это не одно из психических свойств, это сама
сущность психического. Сопротивление и потому откры-
тость пролому следа.
Если бы мы предположили, что здесь Фрейд собира-
ется говорить на языке полного и наличного количества,
принимая, как это по крайней мере может показаться,
простое противопоставление количества и качества (ко-
торое было бы сохранено за чистой проницаемостью ли-
шенного памяти восприятия), то понятие прокладывания
пути никак не могло бы потерпеть подобных предполо-
жений. Равенство сопротивлений или равнозначность сил
прокладывания пути свели бы на нет всякое предпочте-
ние выбора направлений. Память была бы полностью па-
рализована. Различие между прокладываемыми путя-
ми — вот настоящее начало памяти и, следовательно,
психического вообще. Только это различие высвобожда-
325
ет «предпочтение пути» (Wegbevorzugung)'. «Память
представлена (dargestellt) различиями между нейронами
\|/ в прокладывании путей». Поэтому не нужно говорить,
что прокладывания путей без различий было бы недос-
таточно для памяти; нужно подчеркнуть, что нет чистого
прокладывания пути без различия. След как память — это
не чистое прокладывание пути, которое всегда можно
было бы заменить простым присутствием, но невидимое
и неуловимое различие между разными прокладывания-
ми путей. Поэтому мы уже понимаем, что жизнь психи-
ческого — это не прозрачность смысла и не темнота силы,
но различие в работе сил. То же говорил и Ницше.
Тот факт, что количество становится уи^Л и
скорее через различия, чем через наличия, постоянно под-
тверждается в самом «Наброске». Повторение не добав-
ляет никакой имеющейся в действительности силы, ни-
какой интенсивности, оно воспроизводит то же самое
впечатление, но, однако же, у него есть сила проклады-
вания пути. «Память, то есть всегда задействованная сила
(Macht) опыта, зависит от фактора, называемого коли-
чеством впечатления, и от частоты повторения одного и
того же впечатления.» Итак, число повторений добавля-
ется к количеству (Qt|) возбуждения, причем два этих ко-
личества принадлежат абсолютно гетерогенным поряд-
кам. Существуют только дискретные повторения, то есть
они действуют только через промежутки, которые отде-
ляют их друг от друга. Наконец, если проложенный путь
может дополнить наличное количество, то это показы-
вает, что он подобен количеству, но и отличен от него:
количество «может быть замещено количеством плюс
прокладыванием пути, которое из него следует». Мы не
будем спешить с присвоением этому иному чистого ко-
личества имени «качества», ведь иначе мы превратили бы
силу памяти в действительное сознание и прозрачное вос-
приятие присутствующих качеств. Итак, ни различие ме-
жду абсолютными количествами, ни промежуток между
повторениями тождественного, ни само прокладывание
пути не могут мыслиться в оппозиции качества и количе-
ства1 . Память не может произойти из нее, она уклоняет-
ся от притязаний как «натурализма», так и «феномено-
логии».
Все эти различия в производстве следа могут быть
проинтерпретированы как моменты откладывания. По
мотивам, которые всегда будут руководить мыслью Фрей-
да, это движение описывается как усилие жизни, защи-
щающей себя в откладывании опасного влечения, то есть
в создании запаса (Vorrat). Трата или опасное присутст-
вие откладываются при помощи прокладывания пути и
повторения. Быть может, это уже обход (Aufschub), ус-
танавливающий отношения удовольствия к реальности
(Jenseits, уже цитировано)? Или смерть в принципе жиз-
ни, которая может бороться со смертью только в эконо-
мии смерти, в отложении, в повторении и запасе? Ведь
повторение не приходит после первичного впечатления,
его возможность содержится уже здесь, в сопротивле-
нии, оказываемом в первый раз психическими нейрона-
ми. Само сопротивление возможно, если только проти-
востояние сил длится и повторяется с самого начала.
Тогда становится загадочной сама идея первого раза. Как
нам кажется, выдвигаемые нами здесь идеи ни в коей мере
не противоречит тому, что Фрейд говорит далее: «...про-
кладывание пути — это, вероятно, результат единичного
(einmaliger) прохождения количественно сильного им-
пульса ». Если предположить, что это утверждение напря-
мую не отсылает к проблеме филогенеза и наследуемых
следов памяти, то можно утверждать, что уже в первом
разе контакта двух сил началось повторение. Жизни уже
угрожает начало памяти, ее конституирующей, прокла-
дывание пути, которому она сопротивляется, и взлом,
которому она может противостоять лишь в его повторе-
нии. Поскольку прорыв пути разламывает, Фрейд в «На-
броске» отдает предпочтение боли. В определенном
смысле нет прокладывания пути без начала боли, а «боль
оставляет за собой особенно богатые трассы». Но при
выходе за пределы некоторого количества боль, как уг-
роза психическому, должна, как и смерть, быть отложе-
на, поскольку она может «разрушить» психическую «ор-
ганизацию». Несмотря на загадку «первого раза» и
изначального повторения (до, естественно, всякого раз-
личия на нормальное и патологическое повторение), важ-
но то, что Фрейд всю эту работу приписывает первичной
функции, налагая запрет на ее выведение из чего-то ино-
го. Будем внимательны к этой невыводимости, даже если
°на делает еще более сложным понятие «первичности » и
атемпоральности первичного процесса и даже если эта
сложность в дальнейшем будет только усугубляться.
«Как бы помимо собственной воли здесь начинаешь ду-
мать об изначальном усилии системы нейронов, стремя-
327
*
Ж. Деррида «Письмо и различие» Фрейд и сцена письма
щейся во всех изменениях избежать количественной (Qq)
перегрузки, как можно сильнее уменьшить ее. Под дав-
лением жизни нейронная система была вынуждена уст-
роить некий количественный (Qq) запас. С этой целью она
должна была увеличить число своих нейронов и сделать
их непроницаемыми. Таким образом она предохраняет-
ся от количественного (Qq) переполнения и вложения,
по крайней мере настолько, насколько ей удается прокла-
дывать пути. Мы, таким образом, видим, что проклады-
вание путей служит первичной функции.»
Несомненно, жизнь предохраняет саму себя через
повторение, след, отложение. Но нужно осторожно от-
носиться к такой формулировке: нет жизни, которая вна-
чале бы просто существовала и лишь затем стала бы себя
защищать, отсрочивать, откладывать в отложении. От-
кладывание конституирует саму сущность жизни. Или
скажем так: откладывание как различение, не представ-
ляя из себя ничего, не будучи какой бы то ни было сущ-
ностью, не будет и жизнью, если бытие определяется как
ousia, присутствие, сущность/существование, субстанция
или субъект. Нужно помыслить жизнь как след до опре-
деления бытия как присутствия. Таково единственное
условие, необходимое, чтобы сказать, что жизнь есть
смерть, что повторение и та сторона наслаждения изна-
чальны и врождены тому, за пределы чего они выходят.
Когда Фрейд в «Наброске» пишет о том, «что проклады-
вание путей служит первичной функции», он уже запре-
щает нам удивляться чему-то в «По ту сторону принципа
удовольствия». Он признает право двойной необходимо-
сти: приурочить откладывание как различение к самому
истоку и в том же самом жесте зачеркнуть понятие пер-
вичности*. теперь мы уже не будем удивляться Traumdeu-
tung'y, определяющему это понятие как «теоретическую
фикцию » в параграфе о «запаздывании »(Verspatung} вто-
ричного процесса. Таким образом, запаздывание2 изна-
чально. Иначе откладывание было бы просто сроком,
который дает себе сознание, присутствие для самого себя
как присутствующего в настоящем. Откладывать — это
не значит отсрочивать возможное присутствие, отклады-
вать некий акт, переносить нечто на момент уже и сейчас
возможного восприятия. Это возможное возможно толь-
ко в откладывании, которое, следовательно, необходи-
мо понимать иначе, чем некий расчет или механику реше-
ния. Сказать, что откладывание изначально — это в то
же время устранить миф присутствующего начала. Вот
почему слово «изначальный» нужно понимать через за-
черкивание, иначе различение и отложение выводились
бы из некоего полного начала. Изначально — не-начало.
Но не отказываясь от понятия «откладывания», нуж-
но было бы, скорее, его заново продумать. Этим-то мы и
хотели бы заняться; но это возможно лишь при опреде-
лении «отложения» вне любого теологического или эс-
хатологического горизонта. И это непросто. Отметим
мимоходом: понятия Nachtraglichkeit и Verspatung, яв-
ляющиеся ведущими для всей фрейдовской мысли, опре-
деляющими по отношению ко всем остальным понятиям,
уже присутствуют и называются их собственными име-
нами в «Наброске». Неотменимость «того, что должно
прийти с запозданием» — вот, несомненно, смысл откры-
тия Фрейда. Из этого открытия Фрейд в своей работе
извлекает предельные следствия, выходящие за рамки
индивидуального психоанализа. Они должны подтвер-
ждаться и в анализе культуры. В «Моисее и монотеиз-
ме» (1937) действительное влияние запаздывания и пере- Q
живания постфактум покрывает весьма обширные
исторические промежутки (G.W.; XVI, р. 238-239). Там J
же проблема латентности весьма значимым образом свя- z
зывается с проблемой устной и письменной традиций £
(р. 170 и сл.). х
Хотя в «Наброске» прокладывание пути ни разу не и
было названо письмом, противоречивые требования, на р
которые ответит «Магический блок», уже сформулиро- 5
ваны в буквально идентичных терминах: «удерживать все,
оставаясь способным к восприятию». J
Различия в работе прокладывания пути касаются не
только сил, но и мест. И Фрейд уже стремится одновре- л
менно мыслить силу и место. Он сам первым не верит в J
дескриптивный характер своего гипотетического пред- §
ставления прокладывания пути. Различие между кате- °
гориями нейронов «не имеет никакого признанного ос- -о
нования, по крайней мере в том, что относится к |
морфологии, то есть гистологии». Это различие являет-
ся лишь знаком топического описания, которое не мо- S
>кет быть охвачено внешним, знакомым всем, уже кон-
ституированным пространством естественных наук. Вот
почему под маркой «биологической точки зрения » «раз- -g
личие по сущности» (Wesenverschiedenheit) между ней-
Ронами «заменяется различием по среде предназначения » 6
Ж. Деррида «Письмо и различие» Фрейд и сцена письма
(Schicksals-Milieuverschiedenheit)-. таковы чистые разли-
чия, различия положений, связок, локализаций, струк-
турных отношений, которые важнее несущих элементов,
и для которых различие внутреннего и внешнего являет-
ся довольно произвольным. Мысль различия не может ни
избавиться от топики, ни принять наличествующие пред-
ставления опространствования.
Это затруднение обостряется еще больше, когда тре-
буется объяснить чистые различия как таковые: разли-
чия качества, то есть, по Фрейду, различия сознания.
Нужно объяснить «то, что мы некоторым загадочным
образом (ratselhaft) знаем благодаря нашему “созна-
нию” ». И «поскольку сознанию абсолютно неведомо все
то, что мы до сего момента рассматривали, она [теория]
должна объяснить нам само это незнание». Итак, каче-
ства — это чистые различия: «Сознание предоставляет
нам то, что называют качествами, большое количество
разнообразных ощущений, которые существуют различ-
ным образом (anders), причем это различие (Anders) от-
личено (unterschieden wird) согласно отсылкам к внеш-
нему миру. В этом отличии существуют серии, сходства
и т.д., но нет никаких количеств в собственном смысле
этого слова. Можно спросить себя, как и где порожда-
ются эти качества».
Ни внутри, ни снаружи. Это не может произойти во
внешнем мире, где физик познает одни лишь количества,
«массы в движении и ничего иного ». Так же, как и во внут-
реннем пространстве психического, то есть памяти, по-
скольку «воспроизведение и воспоминание лишены ка-
честв (qualitatslos)». Поскольку речь не идет о том, чтобы
отказаться от топического представления, «необходимо
найти мужество и предположить, что существует третья
система нейронов, воспринимающих, в особом смысле,
нейронов; эта система нейронов, возбуждаемых вместе с
другими во время восприятия, не будет возбуждаться при
воспроизведении, так что их состояния возбуждения про-
изводят различенные качества, оказываясь сознательны-
ми ощущениями*. Предвосхищая промежуточный лист
магического блока, Фрейд, смущенный своим «жарго-
ном», говорит Флису (письмо 39, I.-I.-96), что он встав-
ляет, «вталкивает» (schieben) нейроны восприятия (со) ме-
жду нейронами ср и у.
Из такого мужества рождается «на первый взгляд
неслыханное затруднение »: мы только что встретились с
проницаемостью и прокладыванием пути, которые не
происходят ни из какого количества. Но тогда из чего же?
Из чистого времени, из чистой темпорализации и того,
что в ней объединяется с опространствованием — из пе-
риодичности. Только обращение к темпоральности, при-
чем к прерывистой и периодичной темпоральности позво-
ляет решить затруднение, так что нужно было бы
тщательно продумать все предполагаемые в этой мысли
посылки. «Я вижу лишь один выход... До сего момента я
рассматривал количественный поток только как перенос
одной единицы количества от одного нейрона к другому.
Но здесь же должен наблюдаться и другой характер это-
го движения, его временная природа.»
Гипотеза прерывности, как подчеркивает Фрейд,
«идет дальше », чем «физикалистское объяснение» через
периодичность, поскольку здесь различия, интервалы и
прерывности закрепляются, «усваиваются» безо всякой
количественной подосновы. Нейроны восприятия, «не-
способные воспринимать количества, усваивают период
возбуждения». Снова чистое различие, различие между
промежутками. Понятие периода вообще предшествует
и обуславливает оппозицию количества и качества вме-
сте со всем, что ею управляется. Ведь у «нейронов \|/ тоже
есть свой период, но он полностью лишен качества, бу-
дучи, так сказать, монотонным». Как мы увидим дальше,
это понятие прерывности будет принято в качестве зада-
чи в «Заметке о магическом блоке»: там оно появится,
как и в «Наброске», после приступа мужества, развязы-
вающего последнюю апорию.
Вся оставшаяся часть «Наброска» будет зависеть от
этого непрекращающегося и становящегося все более и
более радикальным призыва к принципу различия. В нем
мы всегда обнаруживаем прикрытый некоей приблизи-
тельной нейрологией, играющей роль представления ис-
кусственно собранного механизма, упорный проект объ-
яснения психического через опространствование,
топографию следов, через карту прокладывания путей;
проект включения сознания или качества в пространст-
во, структуру и возможность которого необходимо про-
думать заново; проект описания «функционирования ап-
парата» через чистые различия и положения, объяснения
того, как «количество возбуждения выражается в \|/ че-
рез сложение, а качество — через топику». Поскольку
природа этой системы различий и этой топографии не по-
Фрейд и сцена письма «Письмо и различие» Ж. Деррида
хожа ни на какую другую, не оставляя ничего вне себя,
Фрейд совершает множество «мужественных поступков »
в создании таких аппаратов и выдвигает «странные, но
необходимые гипотезы» (по поводу «выделительных»
нейронов или «нейронов-ключей»). От нейрологии и от
попыток анатомической локализации он откажется не
ради отказа от своих топографических задач, но ради их
трансформации. Вот когда на сцене появится письмо.
След станет письменным; а среда прокладывания пути —
зашифрованным пространством.
Эстамп и добавление
начала
Через несколько дней после отправки «Наброска»
Флису во время одной «ночи работы» все части системы
начинают складываться в единую «машину». Но это еще
не машина письма: «Все, казалось, сходится, маховики
сцеплялись один за другой, и было впечатление, что это
действительно машина и что скоро она заработает сама
собой»3. Скоро: через тридцать лет. Сама собой: почти.
По прошествии немногим более года след начинает
становиться письмом. В письме 52 (6-12-96) вся система
«Наброска» перестраивается через понятия графическо-
го начертания, которых ранее у Фрейда встретить было
нельзя. Нет ничего удивительного в том, что этот факт
совпадает с переходом от нейрологического к психическо-
му. В центре этого письма оказываются слова «знак» (Ztf-
ichen), «надпись» (Niederschrift), «переписывание» (17m-
schrift). В нем не только в явной форме определяется связь
следа и запаздывания (то есть не конституирующего при-
сутствия, перестраиваемого, исходя из «знаков» памяти),
но и указывается место вербального, располагающееся
внутри системы стратифицированного письма, над кото-
ром оно далеко не властно: «Ты знаешь, что я работаю над
гипотезой нашего психического механизма как взаимона-
ложения различных слоев (Aufeinanderschichtung), то есть
я предполагаю, что материал, присутствующий в действи-
тельности в виде следов памяти (Erinnerungsspuren), время
от времени подвергается переупорядочиванию (Umord-
nung), определяемому новыми отношениями, и переписы-
ванию (Umschrift). Новизна моей теории заключается в
том, что, согласно ее главному утверждению, память не
просто существует как бы раз и навсегда, но она повторя-
ет саму себя, будучи закрепленной (niederlegt) в различ-
ных видах знаков... Каково число подобных надписей
(Niederschrifteri), я не знаю. По крайней мере три, но ско-
рее всего больше... индивидуальные надписи разделены
(причем не обязательно топически) соответственно их ней-
ронным носителям... Восприятие. Это нейроны, в кото-
рых рождаются восприятия, и с которыми связано созна-
ние, но которые сами по себе не сохраняют никакого следа
события. Ведь сознание и память исключают друг друга.
Знак восприятия. Это первая надпись восприятий, совер-
шенно неспособная дойти до сознания, сложенная мгно-
венной ассоциацией... Бессознательное. Это вторая над-
пись... Предсознательное. Это третья надпись, связанная
с вербальными представлениями, соответствующими на-
шему я, как его обычно понимают... это вторичное мысля-
щее сознание, отвечающее запаздыванию во временном
порядке, вероятно связано с галлюцинаторными пережи-
ваниями вербальных представлений».
Это первый жест в направлении «Заметки». Отныне,
начиная с Traumdeutung'а, метафора письма будет захва-
тывать одновременно проблему психического аппарата в
его структуре и проблему психического текста в его
материи. Связность двух проблем делает нас еще более
внимательными к тому, что две эти серии метафор — ме-
тафоры машины и письма — не появляются на сцене в
одно и то же время.
«Сны в общем следуют старым проложенным пу-
тям», — говорилось в «Наброске». Теперь нужно будет
проинтерпретировать топическую, темпоральную и фор-
мальную регрессию сновидения как путь назад через не-
кий пейзаж письма. Не просто переписывающего пись-
ма, окаменелого эха оглохшего слова, но литографии до
слов: метафонетики, не-лингвистики, a-логики. (Логика
подчиняется сознанию или предсознательному как мес-
ту вербальных представлений; принципу тождества как
базовому выражению философии присутствия. «Это
было лишь логическое противоречие, а это не так серьез-
но», — читаем в «Человеке-волке».) Поскольку сновиде-
ние блуждает в лесе письма, Traumdeutung — толкование
сновидений будет, как можно вначале подумать, чтением
и расшифровкой. Перед анализом снов Ирмы Фрейд уг-
лубляется в методологические рассуждения. Как он это
333
всегда любил делать, Фрейд противопоставляет старую
народную традицию и так называемую научную психо-
логию. И, как всегда, — чтобы оправдать тот глубокий
замысел, который одушевлял саму эту традицию. Конеч-
но, она заблуждается, трактуя согласно некоему «сим-
волическому » методу содержание сна как некоторую не-
разложимую и нерасчлененную целостность, вместо
которой достаточно поставить другую целостность — по-
нятную и даже предупредительную по своему значению.
Но отсюда никоим образом не следует, что Фрейд при-
нимает «другой народный метод»: «Его можно было бы
определить как “метод расшифровки” (Chiffriermethode),
потому что он обращается со сновидением как некоей
тайнописью (Geheimsschrift), в которой каждый знак бла-
годаря устойчивому ключу (Schlussel) переводится в дру-
гой знак, значение которого хорошо известно »(G. W.f II/
III, р. 102). Запомним эту отсылку к постоянному коду:
такова слабость метода, за которым Фрейд признает по
крайней мере ту заслугу, что он аналитичен в переборе
элементов значения одного за другим.
Любопытен пример, которым Фрейд иллюстрирует
этот традиционный способ: текст фонетического письма
внедряется в обобщенное письмо сна и функционирует в
нем как частный, ограниченный, переводимый и никоим
образом не привилегированный элемент. Предположим,
например, говорит Фрейд, что мне приснилось письмо
(Brief/epistola), а затем — похороны. Откроем Traumbuch,
книгу, где записаны ключи к снам, энциклопедию знаков
сновидений, тот самый словарь снов, от которого Фрейд
тотчас же откажется. Он нам сообщает, что письмо нуж-
но перевести (ubersetzen) как досаду, а похороны как по-
молвку. Таким образом, письмо (epistola), написанное
буквами (litterae), документ, составленный из фонетиче-
ских знаков, переписывание устной речи может быть пе-
реведено невербальным означающим, которое, будучи
определенным аффектом, принадлежит обобщенному
письму сновидения. Вербальное вкладывается в сеть не-
мого письма, и в нее же включается фонетическая над-
пись, которая ни в коей мере не является ее центром.
Другой пример Фрейд заимствует у Артемидора Дал-
дийского (II век), автора одного трактата толкования
сновидений. Воспользуемся этим поводом, чтобы напом-
нить, что в XVIII веке один английский теолог, неизвест-
ный Фрейду4, уже ссылался на Артемидора в составле-
нии плана, который несомненно заслуживает сравнения.
Уорбертон описывает систему иероглифов и различает в
ней — неважно, правильно или нет — различные струк-
туры (собственно иероглифы или символические иерог-
лифы, куриологические иероглифы и тропические, в со-
ответствии с отношениями аналогии и части к целому),
которые необходимо было бы систематически сопоста-
вить с формами работы сновидения (сгущение, смещение,
вторичная обработка). Итак, Уорбертон, выступая про-
тив отца Кирхера и стремясь по апологетическим причи-
нам найти «доказательство огромной древности этого
Народа», выбрал в качестве примера ту египетскую нау-
ку, все ресурсы которой заключены в иероглифическом
письме. Это наука — Traumdeutung, которую также на-
зывают онейрокритией. Судя по всему, она была наукой
письма, которой владели священники. Как верили егип-
тяне, Бог даровал письмо так же, как он дарует сны. По-
этому, подобно самим снам, толкователи должны были
обращаться к этому тропическому или куриологическо-
му богатству. В нем они находили уже готовый ключ к
сновидениям, а затем они притворялись, что будто бы
просто догадались о нем. Предполагаемый дар Бога, сло-
жившийся на самом деле в истории, стал общим истоком,
к которому обращался дискурс сновидения: декорация-
ми и текстом его постановки. Поскольку сновидение кон-
струируется как письмо, способы переложения в снови-
дении соответствовали сгущениям и смещениям, уже
произведенным и закрепленным в системе иероглифов.
Сновидение должно, будто бы, лишь манипулировать эле-
ментами (oxoixeia, как говорил Уорбертон, элементами
или буквами), заключенными в иероглифическом богат-
стве, подобно тому, как письменное слово черпает свои
ресурсы в письменном языке: «...речь идет о том, чтобы
выяснить, какое первоначальное основание могло быть у
интерпретаций, даваемых Онейрокритиком, когда он го-
ворил кому-нибудь, кто пришел посоветоваться по пово-
ду одного из своих снов, что дракон означает богатство,
что змея указывает на болезнь...; что лягушки предска-
зывают появление обманщиков...». Что же делали тол-
кователи тех времен? Они сверялись по письму: «Итак,
первые Толкователи сновидений не были ни мошенника-
ми, ни обманщиками. Просто случилось так, что они, так
>ке» как и первые астрологи, предсказывающие судьбу
человека, оказались более суеверными, нежели другие
335
люди их времени, и они первыми впали в заблуждение.
Но даже если бы мы предположили, что они были таки-
ми же мошенниками, как их последователи, то все же вна-
чале им был нужен некоторый материал, который мож-
но было пустить в дело; причем этот материал обладал
такими свойствами, что на каждого отдельного индиви-
да он действовал как нельзя более странно. Те, кто с ними
советовались, пожелают найти известную аналогию, ко-
торая могла бы послужить основанием для расшифров-
ки, да и сами они будут обращаться к высшей власти, что-
бы поддержать свою науку. Но какая иная аналогия и
какая иная власть могла тогда существовать кроме сим-
волических иероглифов, которые к тому времени стали
священной и таинственной вещью? Вот естественное раз-
решения затруднения. Наука символов... послужила ос-
нованием их интерпретациям».
Вот здесь-то и обнаруживается отличие Фрейда.
Несомненно, Фрейд думает, что сновидение ведет себя как
своеобразное письмо, вводящее слова в свою собственную
сценическую постановку, нимало им не подчиняясь;
несомненно, он думает о модели письма, несводимого к
слову и несущего в себе, подобно иероглифам, пиктогра-
фические, идеограмматические и фонетические элементы.
Но он делает из психического письма столь оригинальный
способ производства, что письмо, понимаемое в его
собственном смысле, письмо кодифицированное и наб-
людаемое «в мире», может быть лишь его метафорой.
Психическое письмо — например, письмо сновидения,
«следующего старым проложенным путям», которое
является просто моментом в возвращении к «первичному»
письму — не поддается прочитыванию посредством какого
бы то ни было кода. Оно, несомненно, работает с большим
количеством кодифицированных за время индивидуальной
или коллективной истории элементов. Но во всех его
операциях, в его синтаксисе и лексике остается неунич-
тожимый чисто идиоматический остаток, который должен
нести весь груз интерпретации во взаимодействии между
различными слоями бессознательного. Видящий сны
изобретает свою собственную грамматику. Нет такого
означающего материала или предустановленного текста,
простым использованием которых он бы удовлетворился,
хотя он от них никогда и не отказывается. Таков предел
Traumbuch и Chiffriermetbode, несмотря на весь их интерес.
Этот предел зависит от универсальности и неподвижности
кода, так же как и от того, что в подобном методе больше
всего сил вкладывается в раскрытие именно содержания, а
не отношений, ситуаций, функционирования и различий:
«Мой метод не столь удобен, как народный метод
расшифровки, который дает перевод данного содержания
сновидения в соответствии с установленным кодом; я,
скорее, склонен, думать, что одно и то же содержание
сновидения может прикрывать различный смысл у разных
индивидов и в разных контекстах» (р. 109). В другом месте,
чтобы подтвердить это положение, Фрейд считает
возможным обратиться к китайскому письму: «Они
[символы сновидения] часто обладают множественным
значением, подобно тому как в китайском письме только
контекст может в каждом отдельном случае сделать
возможным правильное понимание» (р. 358).
Отсутствие исчерпывающего и абсолютно непогре-
шимого кода в психическом письме, предопределяющем
смысл всякого письма вообще, означает, что различие
между означающим и означаемым никогда не является
радикальным. Бессознательный опыт, еще до сновидения,
следующего старым проложенным путям, ничего не за-
имствует, производит свои собственные означающие, не
создавая, конечно, их собственный материал, но произ-
водя их значения. Поэтому это уже, собственно говоря,
не означающие. Так же и возможность перевода, нико-
гда не отменяясь полностью, поскольку опыт не перестает
устанавливать различные промежутки между точками
тождества и точками примыкания означающего к озна-
чаемому, кажется принципиально и окончательно огра-
ниченной. Вот что, возможно, подразумевает Фрейд,
говоря с несколько иной точки зрения в статье о «Вытес-
нении»: «Вытеснение работает крайне индивидуальное
(G.W., X, р. 252). (Индивидуальность и в данном случае, и
в любом другом является не индивидуальностью индиви-
да, а индивидуальностью каждого «деривата вытеснен-
ного, который может обладать своей собственной судь-
бой».) Перевод и система перевода существуют только
при том условии, что постоянный код позволяет замещать
или трансформировать означающие, сохраняя одно и то
же означаемое, всегда присутствующее, несмотря на
отсутствие того или иного означающего. Таким образом,
возможность радикальной замены включена в пару по-
нятий означающее/означаемое, то есть в само понятие
знака. Пусть даже означающее и означаемое различают-
337
Ж. Деррида «Письмо и различие» Фрейд и сцена письма
ся, как у Соссюра, подобно двум сторонам одного лис-
та — это ничего не меняет. Изначальное письмо, если
только есть что-нибудь вроде изначального письма, долж-
но производить пространство и тело самого этого листа.
Но нам скажут: сам Фрейд только и делает, что пе-
реводит. Он верит в некоторую универсальность и ус-
тойчивость определенного кода сновидений: «Когда мы
свыклись с избыточным использованием символики в
представлении сексуального материала, необходимо спро-
сить себя, не входит ли в эти представления большая часть
символов наподобие аббревиатур стенографии, обладаю-
щих раз и навсегда установленным значением, и мы тот-
час же оказываемся перед искушением сделать набросок
новой Traumbuch согласно методу расшифровки» (II/III,
р. 356). В самом деле, Фрейд не переставал предлагать
различные коды, правила большой степени общности.
Замена означающих кажется главной деятельностью пси-
хоаналитической интерпретации. Конечно, все это так. Но
Фрейд все равно обозначает существенный предел этой
операции. Скорее, даже двойной предел.
Если рассмотреть вначале вербальное выражение,
как оно проведено в сновидении, то можно заметить, что
его звуковое содержание, тело выражения, не стирается
перед означаемым или, по меньшей мере, не позволяет
сразу же пройти сквозь себя и выйти за свои пределы,
как это происходит в сознательной речи. Его тело дейст-
вует как таковое, согласно той действенности, которая
ему предназначалось на сцене жестокости тем же Арто.
Итак, вербальное тело не поддается переводу или пере-
носу в другой язык. Оно есть как раз то, что перевод ро-
няет. Уронить тело — такова главная сила перевода. Ко-
гда же перевод восстанавливает тело, он становится
поэзией. В этом смысле, поскольку тело означающего
конституирует идиому для всей сцены сновидения, сно-
видение непереводимо: «Сновидение столь тесно зависит
от вербального выражения, что — как верно предполо-
жил Ференци — у каждого языка есть свой язык снови-
дений. По общему правилу сон непереводим на другие
языки, и книга, подобная этой, непереводима еще в боль-
шей степени, по крайней мере я так думал». Значимое
здесь для определенного национального языка a fortiori
значимо для индивидуальной грамматики.
С другой стороны, эта, если угодно, горизонтальная
невозможность перевода без потерь основывается на вер-
тикальной невозможности. Мы имеем в виду становление-
сознательными бессознательных мыслей. Если нельзя
перевести сновидение на другой язык, то причина еще и в
том, что внутри психического аппарата никогда не бывает
отношений простого перевода. Неверно говорить, ут-
верждает Фрейд, о переводе или переписывании при
описании перехода бессознательных мыслей через предсоз-
нательное к сознанию. Здесь снова метафорическое понятие
перевода (Ubersetzung) или переписывания (Umschrift)
оказывается опасным не потому, что оно отсылает к письму,
но потому, что оно предполагает данный неизменный текст,
бесстрастное присутствие статуи, надписи на камне или
данность архива, означаемое содержание которых можно
было бы безо всяких потерь перенести в среду другого
языка, например, сознательного или предсознательного.
Поэтому, чтобы быть верным Фрейду, недостаточно
говорить о письме: ведь так его можно жестоко предать.
Это-то нам и объясняется в последней главе Тгаит-
deutung. Речь там идет о том, чтобы дополнить чисто то-
пическую условную метафору психического аппарата
обращением к силе и к двум типам процесса или двум ти-
пам прохождения возбуждения: «Попробуем теперь ис-
править некоторые образы [интуитивные иллюстрации —
Anschauungen], которые вполне могли приводить к недо-
разумениям, пока перед нашими глазами были две систе-
мы, представленные в наиболее непосредственном и
самом грубом смысле как две пространственно ограни-
ченные области внутри психического аппарата, причем
отзвук этих недоразумений мог проникнуть в такие вы-
ражения, как “вытеснять” и “проникать”. Поэтому, ко-
гда мы говорим, что бессознательная мысль после своего
перевода (Ubersetzung) устремляется к предсознательно-
му, чтобы проникнуть затем в сознание, мы не имели в
виду того, что проникшая мысль, расположившись в но-
вом месте, должна была сформироваться в виде некоего
переписывания, копии (Ums с hr ift\ рядом с которой со-
хранялся бы и оригинал; так же и от акта проникновения
в сознание мы стремимся тщательным образом отмеже-
вать всякую идею простой смены места»5.
Прервем на мгновение нашу цитату. Текст сознания
не является переписанным текстом, потому что вообще
не было никакого — присутствующего в другом месте —
текста, тождественного бессознательному, который надо
было бы переводить или переносить. Нет, следователь-
339
но, никакой истины бессознательного, которую нужно
было бы обретать потому, что она написана в каком-то
ином месте. Нет написанного и присутствующего в ка-
ком-то ином месте текста, который, никак не изменяясь,
предоставлял бы место работе и темпорализации (при-
надлежащей, если следовать буквальному значению тек-
ста Фрейда, сознанию), оказавшихся бы в таком случае
внешними по отношению к такому тексту и лишь слегка
прикасающимися к его поверхности. Вообще нет присут-
ствующего текста, даже текста, присутствующего в про-
шлом, то есть прошлого текста, который когда-то
присутствовал. Текст не может мыслиться в форме при-
сутствия, будь эта форма исходной или как-то видоиз-
мененной. Бессознательный текст уже прочерчен чисты-
ми следами, различиями, в которых объединяются смысл
и форма, то есть он является нигде не присутствующим
текстом, построенным из архивов, которые оказывают-
ся всегда уже переписанными текстами. Что-то вроде из-
начальных эстампов. Все начинается с повторения. «Все-
гда уже», то есть хранение смысла, который никогда не
присутствовал, означенное присутствие которого всегда
выстраивается с запаздыванием, nachtraglich, постфак-
тум, дополнительно — nachtraglich означает и «допол-
нительно». Обращение к дополнению оказывается здесь
изначальным, оставляя пустоты в том, что с запаздыва-
нием восстанавливается как присутствующее. Дополне-
ние, которое кажется дополнением одной полной инстан-
ции к другой, оказывается также и тем, что добавляет.
«Дополнить: 1. Внести то, чего не хватает, добавить что-
то избыточное», — говорит Литре, с сомнамбулической
точностью соблюдающий странную логику языка. Имен-
но в этой логике и следует продумать возможность пост-
фактум и, несомненно, само отношение первичного и вто-
ричного на всех его уровнях. Отметим, что Nachtrag имеет
точный смысл и в порядке самого письма: это добавле-
ние, приписка, постскриптум. Текст, который считают
присутствующим, расшифровывается лишь в конце стра-
ницы, в примечании или постскриптуме. До этого возврат-
ного движения присутствие является лишь призывом к
примечанию. То, что присутствие не изначально, но пе-
рестроено, что оно не является абсолютной, живой с на-
чала и до конца и конституирующей формой опыта, что
нет чистоты живого присутствия — вот тема, ужасная для
истории метафизики, которую Фрейд призывает нас мыс-
лить посредством понятийной системы, не отсылающей
даже к «самой вещи». Эта мысль является, вне всякого
сомнения, единственной мыслью, которая не исчерпыва-
ется в метафизике или науке.
Поскольку переход к сознанию не является произ-
водным или повторяющим что-то иное письмом, перепи-
сыванием бессознательного письма, он производится не-
похожим ни на какие другие способом, оказываясь даже
в своей вторичности изначальным и неотменимым. А по-
скольку сознание, по Фрейду, является поверхностью,
открытой внешнему миру, то здесь, вместо того, чтобы
следовать обычному смыслу метафоры, необходимо, на-
оборот, понять возможность письма, называющего себя
сознанием и действующего в мире (внешнем видимом
мире графического написания, мире буквы, в мире ста-
новления-буквой самого бытия-буквой), исходя из рабо-
ты этого письма, которое в качестве психической энер-
гии циркулирует между бессознательным и сознанием.
«Объективистское» или «внутримирное» рассмотрение
письма ничего нам не даст, если не соотносить его с про-
странством психического письма (можно было бы сказать
даже о трансцендентальном письме, если бы мы вместе с
Гуссерлем видели в душе просто один из регионов мира.
Но, подобно тому, как сам Фрейд стремится разом учесть
бытие-в-мире психического, его бытие-местным, и ори-
гинальность его топологии, не сводимую ни к какому
обычному бытию внутри мира, нужно, быть может, ду-
мать, что описываемая нами работа письма стирает транс-
цендентальное различие между началом мира и бытием-
в-мире. Стирает различие, производя его: это и было
средой диалога и недоразумений между гуссерлевскими
и хайдеггеровскими понятиями бытия-в-мире).
Что же касается этого ничего не копирующего пись-
ма, то Фрейд здесь делает весьма существенное уточне-
ние. Оно проясняет: 1) опасность, состоящую в том, что-
бы обездвижить и заморозить энергию в наивной
метафорике места; 2) необходимость не бросать, но вновь
продумать пространство или топологию этого письма; 3)
тот факт, что Фрейд, который всегда прилагает много уси-
лий, чтобы представить психический аппарат в некоем
искусственно собранном механизме, еще не открыл ме-
ханической модели, которая бы соответствовала той со-
вокупности понятий графического, которыми он уже
пользуется, чтобы описать психический текст.
Фрейд и сцена письма «Письмо и различие» Ж. Деррида
(D
5
ф
a
0
«Когда мы говорим, что предсознательная мысль
вытесняется и затем попадает в бессознательное, эти
образы, позаимствованные у метафорики (Vorstellung-
skreis) боя за захват некоторой территории, могли бы
навести нас на мысль, что некое подразделение (Апог-
dnung) действительно оказалось разбитым в одной из
областей психического и замещенным другим подраз-
делением в другой области. Вместо этих аналогий ска-
жем так: судя по тому, что действительно происходит,
определенное вложение энергии (Energiebesetzung)
может предоставляться тому или иному подразделению
и отводится от него, так что психическое образование
подчиняется власти той или иной инстанции или же
выводится из под этого подчинения. Здесь мы, таким
образом снова заменяем топическое представление ди-
намическим, при этом подвижным (das Bewegliche) нам
кажется не само психическое образование, а его иннер-
вация...» (ibid.)
Еще раз прервем нашу цитату. Метафора перевода
как переписывания исходного текста, поддерживая про-
стое внешнее отношение переводимого и переводящего,
отделяла бы силу от протяженности. Это внешнее отно-
шение, неподвижность и застывшая топология такой ме-
тафоры, должно было бы обеспечить прозрачность ней-
трального перевода как некоего процесса простого
перенесения, а не метаболизма. Фрейд подчеркивает, что
психическое письмо не поддается переводу, поскольку
оно является единой — сколь бы дифференцированной
она не была — энергетической системой, которая покры-
вает весь психический аппарат. Несмотря на различие
между инстанциями, психическое письмо в своей сово-
купности — это не перемещение значений в полной про-
ницаемости неподвижного предданного пространства
или бесцветной нейтральности дискурса. Дискурса, ко-
торый мог бы быть зашифрован, не переставая оставать-
ся прозрачным. Энергия не может быть усмирена, но она
в то же время не ограничивает, а производит смысл. Раз-
личие между силой и смыслом оказывается производным
по отношению к архиследу, принадлежа метафизике соз-
нания и присутствия или, скорее, присутствия в слове, в
галлюцинации языка, определенного через слово, вер-
бальное представление. Метафизике предсознательного,
как сказал бы, наверное, Фрейд, ведь именно предсозна-
тельное является местом, которое предназначается им
для вербальности. А чему бы еще Фрейд мог нас научить,
если не этому предназначению?
Сила производит смысл (или пространство) одной
только мощью «повторения», которая изначально сосед-
ствует с ним как его смерть. Эта мощь, то есть немочь,
открывающая и ограничивающая работу силы, учрежда-
ет возможность перевода, делает возможным то, что на-
зывают «языком», превращает идиому во всегда уже
пройденный предел: чистая идиома не является языком,
она становится им только повторяясь, ведь повторение
всегда уже раздваивает острие первого раза. Несмотря
на внешнее впечатление, это никак не противоречит тому,
что мы раньше говорили о непереводимости. Ведь речь
тогда шла о том, чтобы напомнить о начале движения
выхода за пределы, начало повторения и становления-
языком идиомы. Если бы мы просто успокоились в дан-
ности или эффекте повторения, то есть в очевидности
различия между силой и смыслом, была бы упущена не
только оригинальная направленность мысли Фрейда, но
и самая суть отношения к смерти.
Нужно было бы, следовательно, внимательнее иссле-
довать — что мы, конечно, здесь сделать не можем, — то,
что Фрейд предлагает нашей мысли в виде силы письма
как «прокладывания пути» в психическом повторении
этого некогда нейрологического понятия: открытие сво-
его собственного пространства, взлом, прорыв пути, про-
ходящий через сопротивление, разбивка или вторжение,
прокладывающее дорогу (rupta, via rupta), насильствен-
ное вписывание некоей формы, прочерчивание следа в
природе или материи, которые сами мыслимы только в
противопоставлении письму. Дорога открывается в при-
роде или материи, лесе или среди деревьев (hyle), наде-
ляя их обратимостью пространства и времени. Нужно
было бы структурно и генетически исследовать вместе
историю дороги и историю письма. Мы думаем о текстах
Фрейда, посвященных работе следа памяти (Erin-
nerungsspur), который, не будучи нейрологическим сле-
дом, не является пока еще и «сознательной памятью»
(«Бессознательное », G. W., X, р. 288), о прокладывающей
путь работе следа, пролагающем, а не просто пробегаю-
щем дорогу, следа, который сам прокладывает себе путь.
Столь часто встречаемая в текстах Фрейда метафора про-
ложенного пути всегда сообщена с темой дополнитель-
ного запаздывания, выстраивания смысла постфактум, то
е
X
0)
I
Си
си
есть после прорытия некоего кротовьего пути, после под-
земной работы впечатления. Это впечатление оставляет
работающий след, который никогда не был воспринят,
прожит в своем смысле, присутствующем в настоящем,
то есть в сознании. Постскриптум, который конституи-
рует настоящее прошедшего, никогда не довольствует-
ся, как думали, вероятно, Платон, Гегель или Пруст,
простым его пробуждением или открыванием в его соб-
ственной истине. Он его производит. Будет ли в таком
случае сексуальное запоздание лучшим примером или же
самой сущностью такого движения? Но это, несомнен-
но, ложный вопрос: предполагаемый в качестве извест-
ного субъект вопроса — то есть сексуальность — опре-
деляется, ограничивается или разграничивается только
в этом обратном движении и в самом ответе. Ответ Фрей-
да, во всяком случае, оказывается совершенно опреде-
ленным. Возьмем пример человека-волка. Восприятие
первичной сцены — причем не важно, была ли она реаль-
ностью или фантазмом — в своем значении переживает-
ся с запозданием, а сексуальное запоздание — это не
просто его частная или случайная форма. «В полутора-
годовалом возрасте у него были впечатления, отсрочен-
ное понимание которых стало возможным в период рас-
сматриваемого сновидения благодаря его развитию, его
возбужденности и его сексуальному опыту.» Уже в
«Наброске» по поводу вытеснения в истерии говорилось:
«Во всех случаях мы обнаруживаем, что вытесненное
воспоминание становится травмой только с запозданием
(nur nachtraglich). Причина состоит в запаздывании
(Verspatung) полового созревания по отношению ко все-
му остальному индивидуальному развитию». Все это
должно было бы привести если не к решению, то по край-
ней мере к новой постановке ужасной проблемы темпо-
рализации и так называемой «безвременности» бессоз-
нательного. Здесь, более, чем в каком-нибудь другом
месте, заметен разрыв между интуицией Фрейда и его по-
нятиями. Несомненно, что безвременность бессознатель-
ного определяется так только в оппозиции к обычному
понятию времени, традиционному понятию метафизики,
ко времени механики или сознания. Быть может, стоило
бы прочитать Фрейда так, как Хайдеггер читал Канта:
подобно «я мыслю» бессознательное является без-
временным только с точки зрения обычного понятия вре-
мени.
Диоптрика и иероглифы
Не будем спешить с заключением, что если Фрейд
противопоставляет энергетику топике перевода, то он,
значит, вообще отказывается от той или иной локализа-
ции. И если, как мы увидим далее, он постоянно стремится
давать проективное и пространственное представление
энергетических процессов, то причина тому не только в
дидактической ценности такого демонстрирования: оп-
ределенная пространственность всегда остается неунич-
тожимой, поскольку от нее никак не могла бы быть отде-
лена идея системы вообще; при этом ее природа тем более
загадочна, что ее более нельзя рассматривать как гомо-
генную и невозмутимую среду динамических и энергети-
ческих процессов. В Traumdeutung метафорическая маши-
на еще не сжилась с аналогией письма, которая уже
управляет, как это скоро выяснится, всем описательным
изложением Фрейда. Пока же это оптическая машина.
Продолжим нашу цитату. Фрейд не собирается от-
казываться от топической метафоры, против которой он
нас только что предостерег: «Однако, я считаю необхо-
димым и вполне целесообразным продолжать пользо-
ваться интуитивным представлением [метафорой — ап-
schauliche Vorstellung\. Мы будем избегать неправильного
использования такого способа представления (Darstel-
lungsweise), напомнив, что наши представления (Vorstel-
lungeri), мысли и психические образования не должны
быть локализованы в органических элементах нервной
системы, находясь, так сказать, скорее уж, между ними,
в месте, где складываются силы сопротивления и соот-
ветствующие им прокладывания путей. Все, что может
стать предметом (Gegen st and) нашего внутреннего вос-
приятия, является мнимым— наподобие картинки, об-
разуемой в телескопе прохождением светового луча. Но
системы, которые сами по себе не являются психически-
ми (курсив наш. — Ж.Д.) и которые никогда не доступны
нашему физическому восприятию, можно с полным
правом сравнить с теми линзами телескопа, которые
проецируют картинку. Если пойти за этой аналогией, то
цензура, существующая на границе двух систем, соот-
ветствовала бы преломлению [преломлению лучей —
Slrablbrechnung] при переходе в новую среду» (р. 615-
Уже это представление не может пониматься в про-
странстве простой и гомогенной структуры. На это дос-
таточным образом указывают смена среды и преломле-
ние. Затем Фрейд, обращаясь к той же самой машине,
делает интересное уточнение. В той же самой главе в па-
раграфе о «Регрессии» он пытается объяснить отноше-
ние памяти и восприятия в следе памяти: «Идея, кото-
рый мы, таким образом располагаем, — это идея
пространственного ограниченной области психическо-
го. Мы в то же время хотели бы оставить в стороне мысль
о том, что психический аппарат, о котором здесь идет
речь, знаком нам наподобие некоторого анатомического
препарата \Prdparat — лабораторный препарат], так что
мы стремимся тщательным образом удерживать наше ис-
следование в стороне от каких-либо анатомических оп-
ределений психических локализаций. Мы остаемся на
территории психологии и по-прежнему продолжаем ну-
ждаться в представлении инструмента, который служит
психическим операциям, в виде некоторого сложного
микроскопа, фотографического аппарата или какого-ни-
будь иного прибора того же типа. Психически опреде-
ленная область будет соответствовать определенному
месту (Ort) внутри такого аппарата, месту, в котором
формируется одно из первых состояний образа. Правда,
в микроскопе или телескопе им бы соответствовали толь-
ко некоторые идеальные области или участки, в которых
нет никаких видимых деталей прибора. Будет, я полагаю,
излишним требовать от меня извинений за несовершен-
ства этого образа и всех ему подобных» (р. 541).
Выходя за пределы педагогических задач, эта иллю-
страция оправдывается различием между системой и
психическим как таковым: психическая система не яв-
ляется психической, а ведь речь в этом описании идет
только о психической системе. Дело еще и в том, что
Фрейда интересует действие аппарата, его функциони-
рование и порядок его операций, упорядоченное время
его движений, заключенное и повторяемое деталями его
механизма: «Если говорить строго, то мы не испытываем
никакой нужды предполагать реальную пространствен-
ную организацию психических систем. Достаточно, если
будет установлено упорядоченное следование, обладаю-
щее таким постоянством, что возбуждение во время
некоторых психических событий будет проходить по пси-
хическим системам согласно порядку строгого времен-
ного следования ». Наконец, дело и в том, что эти аппара-
ты улавливают свет, а в случае с фотоаппаратом они его
фиксируют6. Фрейд же стремится объяснить появление
негатива или такого светового письма и вводит опреде-
ленную дифференциацию (Differenzierung). Она смягчит
«несовершенства» аналогии и, быть может, даже «изви-
нит» их. Главное же, она подчеркивает противоречивое
на первый взгляд требование, которое преследует Фрей-
да с самого «Наброска» и которое будет удовлетворено
только машиной письма, «магическим блоком»: «У нас в
таком случае появляются основания ввести первую диф-
ференциацию на чувственной оконечности [нашего
аппарата. —Ж.Д.]. В нашем психическом аппарате от на-
ших восприятий остается след (Spur), который мы можем
назвать “следом памяти” (Erinnerungsspur). Функцию, ко-
торая относится к этим следам памяти, мы называем “па-
мятью”. Если мы всерьез примем проект соотнесения пси-
хических событий с системами, то след памяти может
быть ни чем иным, как устойчивым видоизменением эле-
ментов этой системы. В другом месте я уже показывал,
что существуют определенные трудности в том, чтобы
одна и та же система одновременно точно сохраняла ви-
доизменения своих элементов и могла вновь открыться
новым видоизменениям, никогда не теряя своей подат-
ливости » (р. 534). Таким образом, нужно будет иметь две
системы в одной машине. Оптическая система могла по-
служить лишь отдаленным и «несовершенным» образом
этой двойной системы, совмещающей наготу поверхно-
сти и глубину удержания. «При анализе сновидения нам
удается чуть-чуть взглянуть на структуру этого инстру-
мента, самого таинственного и самого чудесного из всех
возможных, конечно, мы видим только саму малость, но
это ведь только начало...» Вот что мы можем прочитать
на последних страницах Traumdeutung (р. 614). Только
саму малость. Графическое представление (непсихиче-
ской) системы психического еще не готово в тот момент,
когда графическое представление психического уже за-
хватило, даже в том же Traumdeutung, весьма заметную
территорию. Попробуем измерить это запоздание.
Свойством письма является, как мы назвали его в
Другом месте, опространствование в трудном смысле
этого слова: промежуток и становление-пространством
времени, развертывание в некоей необычно организован-
ной области значений, которые могли бы быть лишь схва-
347
чены, но никогда не вытеснены необратимым линейным
следованием, переходящим от одной точки присутствия
к другой. Развертывание, в частности, в так называемом
фонетическом письме. Между ним и логосом (или време-
нем логики), управляемым принципом непротиворечиво-
сти как основанием всей метафизики присутствия, суще-
ствует далеко идущий заговор. Но в молчаливом, а не
только фоническом опространствовании значений воз-
можны такие связки, которые не подчиняются линейно-
сти логического времени, времени сознания или предсоз-
нательного, времени «вербальных представлений».
Между нефонетическим пространством письма (присут-
ствующим даже в «фонетическом» письме) и простран-
ством сцены сновидения нет четкой границы.
Не будем, поэтому, удивляться, когда Фрейд, чтобы
намекнуть на странность логико-временных отношений
в сновидении, постоянно обращается к письму, к про-
странственному построению пиктограммы, ребуса, ие-
роглифа, нефонетического письма вообще. Построение,
сведение, а не стояние: сцена, а не картина. Лаконичность
и обрывистость сна — это не бесстрастное присутствие
невозмутимых знаков.
Истолкование занималось перебором отдельных
элементов сновидения. Оно выявило работу сгущения и
смещения. Но нужно еще объяснить и синтез, который
слагает элементы вместе и вводит их на сцену. Нужно
исследовать средства постановки (die Darstellungsmittel).
Определенный полицентризм представления в сно-
видении несовместим с видимой линейностью или на-
правленностью развертывания чистых вербальных пред-
ставлений. Поэтому логическая идеальная структура
сознательного дискурса должна подчиниться системе
сновидения, входя в нее как одна из деталей ее машине-
рии. «Отдельные детали этого сложного образования,
естественно, связаны друг с другом весьма разнообраз-
ными логическими отношениями. Они образуют задние
и передние планы, отступления и подсветки, они выдви-
гают условия, предлагают доказательства и предъявля-
ют протесты. Затем, когда вся совокупность мыслей сно-
видения подвергается давлению работы сновидения, и эти
части скручиваются, размалываются и собираются зано-
во, встает вопрос, что происходит с логическими связка-
ми, которые до этого момента выстраивали всю структу-
ру. Как сон выводит на сцену “если”, “потому что”, “так
же”, “хотя”, “или, или” и все остальные союзы, без кото-
рых фраза или речь были бы для нас совершенно непо-
нятны?» (р. 326-317.)
Вначале эту постановку можно сравнить с теми фор-
мами выражения, которые оказываются чем-то вроде
письма в самом слове: живописью или скульптурой оз-
начаемых, вписывающих в совместное пространство эле-
менты, которые должны будут подавляться устной це-
почкой. Фрейд противопоставляет их поэзии, которая
«пользуется устной речью» (Rede). Но разве сновидение
не пользуется устной речью? «Во сне мы видим, а не слы-
шим»,— говорилось в «Наброске». На самом деле,
Фрейд в те времена, так же, как позднее Арто, стремил-
ся не столько к отсутствию слова, сколько к его субор-
динации на сцене сновидения. Не исчезая, речь в этом
случае меняет функции и значение. Она оказывается рас-
положенной, окруженной, инвестированной (во всех
смыслах этого слова) и выстроенной извне. Она встав-
ляется в сновидение наподобие облачков с высказы-
ваниями в мультфильмах, пикто-иероглифических
построениях, в которых текст является лишь вспомога-
тельным средством, а не главным моментом рассказа:
«Прежде чем открыть свои собственные законы выра-
жения, в живописи... на старых картинах подвешивали
ко ртам персонажей облачка с написанной (als Schrift)
речью, которую художник уже отчаялся было ввести в
композицию картины» (р. 317).
Обобщенное письмо сновидения выходит за рамки
фонетического письма и указывает ему его место. Так же,
как в иероглифах или ребусах, голос здесь заговорен. Уже
с начала главы «Работа сновидения» у нас не остается
никакого сомнения по этому вопросу, хотя там Фрейд все
еще пользуется понятием перевода, которое позднее бла-
годаря ему окажется под нашим подозрением. «Мысли
сновидения и его содержание [скрытое и явное. — Ж.Д.],
являются нам как две постановки одного и того же со-
держания на двух разных языках; еще точнее будет ска-
зать, что содержание сновидения предстает перед нами
как перенос (Ubertragung) мысли сновидения в другой
способ выражения, знакам и грамматике которого мы
можем выучиться, только сравнивая перевод и оригинал.
Мысли сновидения становятся нам понятны, как только
МЫ их узнаем. Но его содержание дано как образное пись-
мо (Bilderschrift), знаки которого нужно все поголовно
349
*
ь
П)
соотнести с языком мыслей сновидения.» Bilderschrift-.
не вписанная картинка, а образное письмо, образ, дан-
ный не для простого, сознательного и действительного
восприятия самой вещи — если только сама вещь суще-
ствует, — а для прочтения. «Мы бы, несомненно, впали в
заблуждение, если бы пожелали прочесть эти образы в
соответствии с их прямым значением образов, а не в со-
ответствии с их знаковыми отношениями (Zeichenbezie-
bung)... Сон — это такая загадка в картинках (Bilderrat-
sel), поэтому наши предшественники в истолковании
сновидений совершали ошибку, принимая ребус за по-
строение описательного рисунка.» Образное содержа-
ние — это, следовательно, письмо, значащая цепочка сце-
нической формы. В этом смысле оно, конечно, заключает
в себе слово, оказываясь самой экономией слова. Вся гла-
ва о «способности к представлению» (Darstellbarkeit) от-
лично это демонстрирует. При этом обратная экономи-
ческая трансформация, полное заключение в речи,
оказывается в принципе невозможной или ограниченной.
Это определяется тем, что слова «первоначально» явля-
ются еще и вещами. Именно в таком виде они принима-
ются, «схватываются» «первичным процессом» снови-
дения. Поэтому недостаточно будет сказать, что в
сновидении слова сгущаются в «вещах» и что, наоборот,
невербальные означающие в некоторой мере поддаются
истолкованию через вербальные представления. Необхо-
димо также признать, что слова, будучи притянутыми и
соблазненными сном, на некотором фиктивном пределе
первичного процесса начинают становиться чистыми и
простыми вещами. Впрочем, этот предел действительно
довольно фиктивен. Чистые слова и чистые вещи, также
как и идея первичного процесса, являются «теоретиче-
скими фикциями». Промежуток «сна» и промежуток
«бодрствования » по существу не различаются, если речь
идет о природе языка. «Часто сон обращается со слова-
ми как с вещами, поэтому они претерпевают те же самые
переделки, что и представления вещей»7. Однако, в фор-
мальной регрессии сна пространственность постановки не
просто захватывает слова врасплох. Она никак не мог-
ла бы этого сделать, если бы слово в своем теле уже не
несло клейма своей вписанности и своей способности к
сценической постановке, своей Darstellbarkeit и всех
форм ее опространствования. Эта способность могла
лишь вытесняться так называемым живым или бдитель-
ним словом, сознанием, логикой, историей языка и т.д.
Пространственность не захватывает врасплох время сло-
ва или идеальность смысла, не приходит к ним как неко-
торое несчастье. Темпорализация предполагает возмож-
ность символического, а всякий символический синтез,
прежде чем выпасть во внешнее себе пространство, несет
в себе опространствование как различие. Вот почему чис-
тая фоническая цепочка, покуда она несет она в себе
различия, сама не является длительностью или чистой те-
кучестью времени. Различие — это сочленение простран-
ства и времени. Фоническая цепь или цепь фонического
письма всегда уже разорваны этим минимумом сущест-
венного опространствования, с которого может начать-
ся работа сновидения и вся формальная регрессия вооб-
ще. И речь здесь не идет об отрицании времени, о его
остановке в настоящем или синхронии, но о другой струк-
туре, другой стратификации времени. Сравнение с пись-
мом — на этот раз с фонетическим — снова проясняет
как письмо, так и сновидение: Юно [сновидение. —Ж.Д.]
восстанавливает логическую связь в форме синхронно-
стщ оно действует наподобие того художника, который
на картине Афинской Школы или Парнаса собирает всех
философов или поэтов, которые никогда не собирались
вместе ни у портика, ни на вершине горы... Такой способ
постановки распространяется на самые мельчайшие де-
тали. Всякий раз, как он сближает два элемента, есть га-
рантия, что устанавливаемой таким образом особенно
тесной связи между ними соответствует связь между
мыслями сновидения. Подобным образом дело обстоит
в нашем письме. АЬ означает, что две буквы должны про-
износиться вместе как один слог. Тогда как а и Ь, разде-
ленные пробелом, признаются: одна — последней бук-
вой одного слова и другая — первой буквой другого»
(р. 319).
Модель иероглифического письма более наглядным,
НО и присутствующим во всяком письме, образом соби-
рает разнообразие видов и функций знаков в сновидении.
Всякий знак, будь он вербальным или не вербальным,
может быть использован на разных уровнях, в разных
функциях и конфигурациях, которые не предписывают-
ся некоей его «сущностью», но рождаются игрой разли-
чия. Сводя воедино все эти возможности, Фрейд заклю-
чает: «Несмотря на многообразие всех этих сторон,
можно сказать, что постановка, выполненная работой
Фрейд и сцена письма «Письмо и различие» Ж. Деррида
сновидения, ни в коей мере не создаваясь в расчете на
понимание, в некотором смысле доставляет переводчику
не больше затруднений, нежели писатели, которые в древ-
ности пользовались иероглифами» (р. 346-347).
Более двадцати лет отделяют первое издание Тгаит-
deutung от «Заметки о магическом блоке». Что произой-
дет, если последовать за двумя сериями метафор — мета-
форами, которые касаются непсихической системы
психического, и теми, что касаются самого психического?
С одной стороны, теоретическое значение психо-
графической метафоры будет все более и более прояс-
няться. Определенным образом ей посвящается целый
вопрос о методе. При этом психоанализ призывается к
сотрудничеству не столько с лингвистикой, проникну-
той старым фонологизмом, сколько с той наукой о гра-
фемах, которая еще только должна появиться. Фрейд
буквально предписывает такое сотрудничество в одном
тексте 1913 года8, причем текст этот не нужно ни истол-
ковывать, ни обновлять, ни дополнять. Интерес психо-
анализа к лингвистике предполагает, что мы «выйдем за
пределы» «обычного смысла слова “язык”». «Под сло-
вом “язык” здесь стоит понимать не только выражение
мыслей в словах, но и язык жестов, а также любой дру-
гой способ выражения психической активности, како-
вым, например, является письмо.» После же напомина-
ния архаизма выражения в сновидении, принимающего
противоречия9 и предпочитающего видимые образы,
Фрейд уточняет: «Нам кажется более справедливым
сравнивать сновидение с письмом, чем с языком. В са-
мом деле, интерпретация сновидения с начала и до кон-
ца напоминает расшифровку образного письма древно-
сти, например, египетских иероглифов. В обоих случаях
имеются элементы, которые не определяются истолко-
ванием или чтением, а служат лишь в качестве опреде-
лителей для обеспечения возможности понимания дру-
гих элементов. Многозначность различных элементов
сновидения имеет свой прообраз в системе древнего
письма... Если до сего времени эта концепция сцениче-
ской постановки сновидения не была существенным об-
разом задействована в работе, то это зависит только от
особой ситуации, которую легко понять: точка зрения и
знания, с которыми бы лингвист мог подойти к такой
теме, как сновидение, полностью ускользают от психо-
аналитика» (р. 404-405).
С другой стороны, в том же самом году, в статье
«Бессознательное», сама проблематика аппарата начи-
нает обрабатываться в понятиях письма, то есть не через
топологию следов без письма, как в «Наброске», и не че-
рез функционирование оптических механизмов, как в
Traumdeulung. Спор между функциональной и топиче-
ской гипотезами касается мест записи (Niederschrift)-.
«Когда некий психический акт (ограничимся пока таким
актом как представление [Vorstellung, курсив наш. —
Ж.Д.]) испытывает трансформацию, которая заставляет
его переходить из системы Ubw к системе Bw (или Vbw),
должны ли мы допустить, что с такой трансформацией
связана новая фиксация, что-то вроде новой записи за-
тронутого представления, записи, которая может прини-
маться в новой области психического, и рядом с которой
оставалась бы исходная бессознательная запись? Или же
мы, скорее, должны подумать, что трансформация состо-
ит в изменении положения, осуществляющемся на том же
самом материале и в той же самой области психическо-
го?» (G.W., X, р. 272-273). Обсуждение, которое следует
за этими строками, нас здесь напрямую не касается. На-
помним только, что экономическая гипотеза и сложное
понятие противодействия (Gegenbesetzung — «уникаль-
ный механизм первоначального вытеснения»), введенное
Фрейдом после того, как он отказывается выбрать один
из вариантов, не^устраняют топического различия двух
записей10. Отметим также, что надпись пока остается про-
стым графическим элементом в машине, которая сама по
себе не является машиной письма. Различие между сис-
темой и психическим все еще действует: графическое на-
чертание отнесено к описанию психического содержания
или элемента машины. Можно было бы подумать, что
сама машина предназначена другому принципу органи-
зации, а не письму. Этим принципом, как и ведущей ли-
нией статьи «Бессознательное », ее примером, как мы под-
черкивали, может быть путь представления, следующего
за первым закреплением. Когда же будет описано вос-
приятие, аппарат фиксации и изначальной записи сможет
быть только лишь машиной письма. Двенадцать лет спус-
тя в «Заметке о магическом блоке » будет описан аппарат
восприятия и начало памяти. Тогда-то и соединятся дол-
гое время отстраненные и отделенные друг от друга се-
рии метафор.
353
12 Ж. Деррида
Кусок воска у Фрейда
и три аналогии письма
nJ
I
ф
354
X
*
В этом тексте на шесть страниц постепенно все боль-
ше и больше обнаруживается аналогия между по-особо-
му собранным аппаратом письма и аппаратом восприятия.
На трех этапах описания она приобретает все большую
строгость, глубины и отчетливость.
Вначале Фрейд, подобно тому, как это делали всегда,
начиная по меньшей мере с Платона, рассматривает письмо
как техническое средство на службе памяти, как внешнюю
технику, помогающую психической памяти, но не как саму
эту память: то есть, скорее, какия6|1УГ|сяд, чем как pvf|pr|, —
говорилось в Федре. Но у Фрейда психическое оказывается
встроенным в аппарат, что было невозможным для
Платона, а письмо можно будет в этом случае представить
в виде отдельной или «материализованной» части этого
аппарата. Такова первая аналогиях «Если я не доверяю своей
памяти — а невротик, как известно, не доверяет ей просто
в поразительных масштабах, хотя и нормальный человек
вполне располагает причинами, чтобы ей не доверять, —
то ее функцию можно дополнить и сделать более верной
(erganzen und versichem) посредством письменного закре-
пления (schriftliche Anzeichung). Поверхность, принимаю-
щая эту запись, например, записная книжка или просто лист
бумаги, становится, если так можно выразиться, материа-
лизованной деталью (ein materialisiertes Stiik) аппарата
памяти (des Erinnerungsapparates), которую иначе я
незаметно носил бы в самом себе. Тогда мне нужно будет
лишь вспомнить место, где зафиксированное таким
образом “воспоминание” было застраховано от опасностей,
чтобы суметь в любое время “воспроизвести” его для самого
себя, будучи уверенным, что оно, избежав искажений,
которые могли бы с ним случиться в моей памяти, останется
совершенно неизменным» (G.W., XIV, р. 3).
Тема, которой занят здесь Фрейд, — это не отсутст-
вие памяти или изначальная и вполне нормальная конеч-
ность способности запоминания; это и не структура тем-
порализации, которая основывает эту конечность или ее
отношения к возможности цензуры и вытеснения; еще
менее это возможность и необходимость Erganzung, ги-
помнезического дополнения, которое должно быть
спроецировано психикой «в мир»; не при чем здесь и то,
что требуется от природы психического, чтобы это до-
полнение было возможным. Речь в первую очередь идет
только лишь об условиях, предоставляемых этой опера-
ции поверхностями обычного письма. Но они не отвеча-
ют двойному требованию, сформулированному уже в
«Наброске»: неопределенно долгое сохранение и воз-
можность неограниченного восприятия. Лист сохраняет
неограниченно долго, но он быстро заполняется. А гри-
фельная доска, чистоту которой всегда можно восстано-
вить, стирая отпечаток, не сохраняет на себе следов. Все
классические поверхности письма предлагают лишь одно
преимущество, вкупе с которым всегда идет некоторое
несовершенство. Такими качествами обладают res exten-
sa и классическая умопостигаемая поверхность аппара-
тов письма. В том процессе, в котором они подменяют
нашу память, «способность неограниченного восприятия
и удержание устойчивых следов, похоже, исключают друг
друга». Их протяженность принадлежит классической
геометрии и понимается в ней как чистая внешняя поверх-
ность безо всякого отношения к себе. Нужно найти иное
пространство письма, которое всегда ему требовалось.
Вспомогательные аппараты (Hilfsapparate), которые,
как замечает Фрейд, всегда строятся по модели дополни-
тельного органа (например, очки, фотографическая каме-
ра, увеличители), кажутся особенно ущербными, когда
речь заходит о нашей памяти. Это замечание делает еще
более подозрительным прежнее обращение к оптическим
приборам. Фрейд опять же отмечает, что выражаемое
здесь противоречивое требование было признано уже в
1900 году. Он мог бы сказать, что даже в 1895. «Уже в
Traumdeutung (1900) я сформулировал гипотезу, что эта
удивительная способность должна быть распределена
между действиями двух различных систем (органов пси-
хического аппарата). Тогда мы предположили существо-
вание системы Vbw, которая не сохраняет никаких устой-
чивых следов, так что она может открыться каждому
новому восприятию как девственно чистый писчий лист.
Устойчивые следы полученных возбуждений должны были
производиться в “системах памяти”, расположенных за
ней. Позднее (“По ту сторону принципа удовольствия”) я
добавил, что необъясненный феномен сознания возника-
ет в системе восприятия на месте устойчивых следов.»11
Двойная система, заключенная в одном, различенном
внутри самого себя аппарате, всегда открытая невинность
12*
и бесконечное сохранение следов — это то, что в конце
концов сумеет примирить этот «маленький инструмент»,
«недавно выброшенный на рынок под именем магическо-
го блока», который «обещает быть более эффективным,
нежели лист бумаги или грифельная доска ». Выглядит он
весьма скромно, «но если присмотреться к нему вниматель-
ней, в его конструкции можно открыть замечательную ана-
логию тому, чем я считал структуру нашего аппарата вос-
приятия». Ведь он предлагает два преимущества: «Всегда
свободная поверхность приема и устойчивость следов по-
лученных надписей». Вот его описание: «Магический
блок — это пластинка из воска или смолы темно-коричне-
вого цвета, обрамленная бумагой. Сверху находится тон-
кий прозрачный лист, прикрепленный к пластине верхним
краем, тогда как нижний край остается просто свободно
лежать. Этот лист является наиболее интересной деталью
маленького прибора. Он состоит из двух слоев, которые
можно было отделить друг от друга, за исключением мест
пересечения краев. Верхний слой — это прозрачный цел-
лулоид, а нижний — тонкий и прозрачный воск. Когда ап-
парат не используется, нижний слой слегка прилегает к
верхнему слою пластины. А пользоваться им можно, де-
лая надписи на верхнем целлулоидном листке, прикрываю-
щем восковую пластину. Для этого не нужно иметь ни ка-
рандаша, ни мела, поскольку запись не зависит от
соприкосновения материала и принимающей поверхности.
Это немного походит на возвращение к тому способу пись-
ма, которым пользовались древние при письме на глиня-
ных или восковых дощечках. Заостренная палочка цара-
пает по поверхности, а нажатие производит “запись”.
В магическом блоке царапина наносится не прямо, а через
посредство верхнего прикрывающего листа. В местах, ко-
торых оно касается, острие надавливает на нижнюю вос-
ковую поверхность листа и на восковую пластину, так что
эти борозды становятся видны как темноватая надпись на
поверхности целлулоида, обычно имеющего ровную серо-
вато-белую окраску. Если нужно разрушить надпись, то
будет достаточно отделить восковой слой листа от пла-
стины с помощью поднятия составного покрытия за его
незакрепленный нижний край12. Поскольку тесный кон-
такт между восковой пластиной и восковым слоем в про-
давленных местах, от которого зависит видимость письма,
будет таким образом нарушен, он не сможет восста-
новиться, когда две поверхности снова будут наложены
друг на друга. Магический блок снова будет свободен от
надписей и готов к приему новых» (р. 5-6).
Отметим, что глубина магического блока — это, од-
новременно, и бездонная глубина, бесконечная отсылка,
и совершенно внешняя поверхность: различение поверх-
ностей, чье отношение к себе, внутренность — это лишь
вложенная поверхность, не менее выставленная наружу.
Магический блок объединяет две эмпирические очевид-
ности, из которых выстроены мы сами: очевидность
бесконечной глубины в складывании смысла, в неограни-
ченном свертывании актуального и, в то же время, оче-
видность поверхностной сущности бытия, абсолютного
отсутствия подлежащего.
Пренебрегая «незначительныминесовершенствами»
прибора и интересуясь только аналогией, Фрейд подчер-
кивает весьма важную защитную функцию целлулоидно-
го листа. Без него восковой лист был бы тотчас изборо-
жден и изорван. Нет письма, которое бы не выстраивало
защиту, защиту от самого себя, то есть от письма, в ко-
тором под угрозой оказывается сам «субъект», позво-
ляющий затронуть себя письму, то есть выставляющийся
вовне. «Целлулоидный лист является, следовательно, за-
щитным слоем воскового листа.» Он защищает его от
«угрожающих воздействий, происходящих из внешней
среды ». «Я должен напомнить, что в “По ту сторону прин-
ципа удовольствия”13 я развил мысль, что наш психиче-
ский аппарат восприятия состоит из двух слоев, одного
внешнего слоя, защищающего от приходящих возбужде-
ний, который должен уменьшать их силу, и расположен-
ной позади него поверхности, которая воспринимает воз-
буждения, а именно системы Vbw.» (р. 9.)
Но все это пока еще не относится к приему или вос-
приятию, к открытости самой поверхностной поверхно-
сти для прокладывания борозды. В плоскостном строении
этой extensio еще нет письма. Нужно объяснить письмо как
след, следующий за присутствующим сейчас продавлива-
нием, за точечным моментом настоящего, за спурт]. «Эта
аналогия, — продолжает Фрейд, — немногого бы стоила,
если бы ее нельзя было развить дальше.» Так появляется
вторая аналогиях «Если с восковой пластины снять весь
покрывающий слой — целлулоид вместе с восковым лис-
том, — написанное стирается и, как я уже отмечал, не мо-
жет быть восстановлено впоследствии. Поверхность ма-
гического блока оказывается девственно чистой и снова
е
"О
ф
357
S
3
готова к восприятию. Но легко установить, что устойчи-
вый след написанного все-таки остается на пластине и мо-
жет быть прочитан при соответствующим освещении».
Противоречивые требования тогда полностью удовлетво-
рятся в этой двойной системе, причем именно таким обра-
зом представляется «способ работы нашей функции вос-
приятия, если следовать той форме психического аппарата,
которую я уже предложил. Слой, который принимает воз-
буждения — система Vbw, — не образует никаких устой-
чивых следов; функции памяти складываются в других до-
бавочных системах». Письмо служит дополнением к
восприятию еще до того, как восприятие обнаружит само
себя. «Память» или письмо — это начало самого этого об-
наружения. «Воспринятое» поддается прочтению лишь в
прошлом, до восприятия или после него.
Тогда как все остальные поверхности письма, соот-
ветствующие прототипам вроде грифельной доски или
бумаги, могли представлять только одну материализован-
ную деталь системы памяти психического аппарата, то
есть всегда в некоторой абстракции, магический блок
представляет ее всю целиком и не только ее восприни-
мающий слой. Ведь восковая пластина представляет бес-
сознательное. «Я не думаю, что будет слишком безрас-
судным сравнить восковую пластину с бессознательным,
которое располагается за системой Vbw.» Видимое об-
наружение письма, чередующееся с его стиранием, соот-
ветствует вспышке (Aufleuchten) и пропаданию (Vergehen)
сознания в восприятии.
Так вводится третья и последняя аналогия. И она,
несомненно, самая интересная. До настоящего момента
речь шла только о пространстве письма, о его протяжен-
ности, объеме, его рельефе и отпечатках. Но существует
еще и время письма, являющееся как раз структурой того,
что мы сейчас описываем. Нужно считаться со временем
этого куска воска. Время не является для него внешним,
поскольку магический блок заключает в самой своей струк-
туре то, что Кант описывал как три аналогии опыта-, по-
стоянство, следование и одновременность. Декарт, спра-
шивая quaenam vero est haec cera, может свести его
сущность к вневременной простоте умопостигаемого объ-
екта. Фрейд, реконструирующий способ действия, не мо-
жет отвлечься ни от времени, ни от множественности чув-
ственных слоев. Он свяжет концепцию дискретного
времени как периодичности и опространствование письма
со всей цепочкой гипотез, которые идут от «Писем к Фли-
су » до «По ту сторону принципа удовольствия » и которые
снова будут выстроены, закреплены, связаны и завершены
в магическом блоке. Темпоральность как опространст-
вование будет не только горизонтальной прерывностью
внутри цепочки знаков, но и письмом как нарушением и
восстановлением контакта между различными уровнями
психических слоев, то есть темпоральной материей, кото-
рая столь гетерогенна самой работе психического. В ней
не обнаружить ни непрерывности строки, ни однородно-
сти тома, но только длительность и глубину сцены, кото-
рые различены внутри себя, опространствование сцены:
«Признаюсь, что я склонен провести параллель еще
дальше. В магическом блоке написанное стирается каж-
дый раз, когда прерывается тесный контакт между при-
нимающей возбуждения бумагой и удерживающей отпе-
чатки восковой пластиной. Это согласуется с тем
представлением о способе функционирования психиче-
ского аппарата, которое я уже давно составил, но до сего
дня хранил втайне от других» (р. 7).
Это гипотеза прерывистого распределения «иннер-
ваций активирования» (Beset zunginnervationen), дейст-
вующих быстрыми периодическими толчками и идущих
изнутри наружу, к системе Vbw. Эти толчки затем «воз-
вращаются» или «втягиваются назад». Фрейд сравнива-
ет это движение с антеннами, которые бессознательное
выпускает наружу и втягивает обратно, когда они сооб-
щают ему количество возбуждения и предупреждают об
угрозе. (Этот образ антенны — который можно найти в
IV главе «По ту сторону принципа удовольствия»14 —
хранился Фрейдом втайне не более чем понятие перио-
дичности, о котором мы уже говорили выше.) «Начало
нашего представления времени» отнесено к этой «перио-
дической не-возбудимости», этой «прерывистости в ра-
боте системы Vbw.» Время — это экономия письма.
Эта машина не работает сама по себе. Это даже не столь-
ко машина, сколько инструмент. Его нельзя держать одной
рукой. И в этом примета его времени. Его удержание в
настоящем не просто. Идеальная девственность настоящего
конституируется работой памяти. Чтобы поддерживать
аппарат, нужно иметь по крайней мере две руки и целую
систему жестов, соединение независимых начинаний,
организованную множественность начал. На этой сцене и
закрывается «Заметка»: «Если представить, что пока одна рука
359
I
(D
5
Ф
Q.
e
пишет, другая периодически снимает с восковой пластинки
покрывающий листок, то у нас получится чувственное
изображение способа функционирования психического
аппарата, как я его себе стремился представить».
Итак, следы производят пространство своей надпи-
си, лишь предоставляя себе промежутки стирания. С са-
мого начала, в «настоящем» своего первого отпечатыва-
ния, они конституируются двойной силой повторения и
стирания, читаемости и невозможности прочтения. Маши-
на для двух рук, множественность инстанций или начал —
не отношение ли это к другому и изначальная темпорали-
зация письма, его «первичная » запутанность: изначальное
опространствование, откладывание и стирание простого
начала, полемика на самом пороге того, что продолжают
упорно называть восприятием? Сцена сновидения, кото-
рое «следует старым проложенным путям», была сценой
письма. Но дело в том, что «восприятие», первое отноше-
ние жизни к своему иному, начало жизни всегда уже подго-
тавливало представление. Чтобы писать и даже просто «вос-
принимать», уже нужно быть во множественном числе.
Простая структура поддерживаемого в мгновении «сейчас »
и простая структура манускрипта — это миф, такая же тео-
ретическая «фикция», как идея первичного процесса. Ведь
ей противоречит тема первичного вытеснения.
Письмо немыслимо без вытеснения. Его условие со-
стоит в том, что нет ни постоянного контакта, ни абсолют-
ного разрыва между слоями. Бдение и одновременно про-
вал цензуры. Неслучаен тот факт, что метафора цензуры
происходит из политического наблюдения за письмом в его
зачеркиваниях, пробелах и маскировках, даже если кажет-
ся, что сам Фрейд в начале Traumdeutung обращается к ней
только с весьма условной дидактической целью. То, что
представляется в политической цензуре совершенно внеш-
ним, отсылает к той сущностной цензуре, которая связы-
вает писателя со своим собственным письмом.
Если бы имелось только восприятие, чистая прони-
цаемость для прокладываемого пути, то никаких проло-
женных путей не было бы вовсе. Мы писали бы, но ничего
бы не закреплялось, никакое письмо не получилось бы,
не удержалось и не повторилось бы в качестве возмож-
ности прочтения. Но чистое восприятие не существует:
когда мы пишем, мы сами написаны той инстанцией в нас,
которая всегда уже надзирает за восприятием, независи-
мо от того, внешнее оно или внутреннее. «Субъекта » пись-
ма не существует, если под ним мы подразумеваем некое
суверенное одиночество писателя. Субъект письма — это
система отношений между различными слоями: слоями
магического блока, психического, общества, мира. Внут-
ри этой сцены нельзя обнаружить пунктуальную или то-
чечную простоту классического субъекта. Чтобы описать
эту структуру, недостаточно напомнить, что пишем мы
всегда для кого-то другого; так же и различения на от-
правителя и получателя, на код и послание остаются здесь
весьма грубыми инструментами. Напрасно искать в «пуб-
лике » первого читателя, то есть первого автора произве-
дения. «Социология литературы» не замечает ничего в
той войне и тех хитросплетениях между читающим авто-
ром и первым диктующим читателем, ставкой которых
оказывается начало произведения. Социальность пись-
ма как драмы требует совсем другой дисциплины.
Машина не работает сама по себе, и это может озна-
чать нечто другое: механику без собственной энергии.
Машина мертва, она и есть сама смерть. Не потому, что,
играя с машинами, играешь со смертью, но потому, что
происхождение машин состоит в отношении к смерти. Мы
вспоминаем, что в письме Флису Фрейд говорит, что у него
было впечатление, будто он оказался перед машиной, ко-
торая вот-вот сама заработает. Но само собой должно
было заработать психическое, а не его механическая ими-
тация или представление. Механическое представление не
живет. Представление — это смерть. Но это предложение
тотчас обращается в следующее: смерть — это (лишь) пред-
ставление. При этом оно едино с жизнью и с живым на-
стоящим, которое оно изначально повторяет. Чистое пред-
ставление, машина никогда не функционируют сами по
себе. Вот, по крайней мере тот предел аналогии с магиче-
ским блоком, который признает Фрейд. И тогда его жест,
так же, как и первое предложение «Заметки», становится
платоническим. Как говорилось в «Федре », только психи-
ческий след может спонтанно воспроизвести и предста-
вить самого себя. Наше прочтение перепрыгнуло через
следующее примечание Фрейда: «аналогия с таким вспо-
могательным аппаратом должна где-то натолкнуться на
свой предел. Магический блок не может изнутри самого
себя “воспроизвести” однажды стертое письмо; это был
бы по-настоящему магический блок, если бы он мог делать
это так же, как наша память». Множественность располо-
женных друг над другом поверхностей аппарата, будучи
Фрейд и сцена письма «Письмо и различие» Ж. Деррида
предоставленной сама себе, становится мертвой запутан-
ностью, лишенной какой бы то ни было глубины. Жизнь
как глубина принадлежит только воску психической па-
мяти. Следовательно, Фрейд продолжает на манер Пла-
тона противопоставлять гипомнезическое письмо письму
£vtt| \|Д)хг|, сложенному из следов, эмпирических воспоми-
наний истины, присутствующей во вневременном настоя-
щем. Поэтому магический блок как лишенное внешней
поддержки представление, будучи отделенным от психи-
ческой ответственности, по-прежнему относится к карте-
зианскому пространству и является картезианским меха-
низмом: естественным воском, внешней памяткой.
Однако, все, что Фрейд думал о единстве жизни и
смерти, должно было бы привести его к постановке дру-
гих вопросов. К их развернутой постановке. А он в явной
форме себя не спрашивает о статусе «материализован-
ного» дополнения, необходимого для предполагаемой
спонтанности памяти, пусть даже эта спонтанность бу-
дет различена внутри себя, преграждена некоторой цен-
зурой или вытеснением, которое, впрочем, вообще не мог-
ло бы действовать на абсолютно спонтанную память.
Никоим образом не являясь чистым отсутствием спон-
танности, машина и ее сходство с психическим аппара-
том, ее существование и необходимость свидетельству-
ют о дополняемой таким образом конечности спонтанной
памяти. Машина — и, следовательно, представление —
это смерть и конечность в самом психическом. Фрейд так-
же не спрашивает себя о возможности этой машины, ко-
торая, находясь в мире, по меньшей мере уже начала по-
ходить на память, походить на нее все больше и все лучше.
Намного лучше, чем этот невинный магический блок: он,
несомненно, бесконечно сложнее грифельной доски или
бумаги, и менее архаичен, чем палимпсест, но в сравне-
нии с другими архивными машинами это просто детская
игрушка. Это подобие, то есть некоторое необходимое
бытие-в-мире самого психического, не просто добавля-
ется к нему извне, так же, как и смерть не просто добав-
ляется к жизни. Оно его обосновывает. Метафора, то есть
аналогия двух аппаратов и возможность этого отноше-
ния представления одного через другой, ставит вопрос,
который Фрейд, несмотря на все посылки, не развернул —
несомненно, по весьма существенным причинам, хотя он
и подвел его к порогу его тематизации и наделения зна-
чением. Метафора как риторика или дидактика возмож-
на здесь только через эту устойчивую метафору, через
не «естественное», а историческое производство допол-
няющей машины, добавляющейся к психической органи-
зации, чтобы дополнить ее конечность. Сама идея конеч-
ности производна от этого движения дополнения.
Историко-техническое производство этой метафоры, пе-
реживающей индивидуальную или даже родовую психи-
ческую организацию, относится к порядку, глубоко
отличному от метафоры, принадлежащей самому психи-
ческому, если только предположить, что она вообще су-
ществует (а для этого недостаточно просто сказать о ней),
и пока не ставить вопроса о том, какая связь могла бы
между ними поддерживаться. Вопрос о технике здесь
(быть может, стоило бы найти какое-нибудь другое сло-
во, чтобы оторвать его от всей традиционной проблема-
тики) не поддается выведению из само собой разумею-
щейся оппозиции между психическим и непсихическим,
жизнью и смертью. Письмо здесь — это t£%vt] как отно-
шение между жизнью и смертью, присутствующим и
представлением, между двумя аппаратами. Оно откры-
вает вопрос техники: вопрос аппарата вообще и анало-
гии между психическим и непсихическим аппаратом.
В этом смысле письмо оказывается сценой истории и иг-
рой мира. Оно не может быть исчерпано в простой пси-
хологии. И то, что открывается ее теме в дискурсе Фрей-
да, обуславливает тот факт, что психоанализ — это не
просто психология и не просто психоанализ.
Так, в фрейдовском прорыве предвещается, быть мо-
жет, та и эта сторона закрытия, которое можно назвать
«платоническим». В момент мировой истории, «отмечен-
ный через» имя Фрейда, пройдя через невероятную мифо-
логию (нейрологическую или метапсихологическую: мы
никогда не собирались принимать всерьез метапсихоло-
гическую басню, если только вопрос не стоял о том, что
как раз беспокоит и нарушает порядок ее буквального зна-
чения. Ее же собственные преимущества по сравнению с
нейрологическими историями, рассказанными нам в «На-
броске», кажутся ничтожными), высказалось не высказы-
ваясь и ненароком продумалось отношение историко-
трансцендентальной сцены письма к самой себе: оно было
написано и стерто, метафоризировано, указано в показе
располагающихся внутри мира отношений, представлено.
Это, быть может, узнается (например, — и пусть нас
здесь понимают болееюсторожно) по тому знаку, что сам
363
Фрейд тоже создал сцену письма, обладающую замеча-
тельной полнотой и постоянством. И эту сцену нужно
мыслить не в терминах индивидуальной или коллектив-
ной психологии, даже не в терминах антропологии. Ее
нужно мыслить в горизонте сцены мира, как историю этой
сцены. И дискурс Фрейда включен в нее.
Итак, Фрейд создал нам сцену письма. Как все, кто
пишет. И как все, кто умеет писать, он позволил этой сце-
не раздвоиться, повториться и разоблачить саму себя на
сцене. Поэтому мы дадим самому Фрейду высказать сце-
ну, которую он поставил. И у него мы позаимствуем тот
скрытый эпиграф, который молчаливо надзирал за нашим
прочтением.
Следуя по пути метафор пути, следа, прокладывания,
шествия, идущего по дороге, открытой прорывом через
нейрон, свет или воск, дерево или смолу, дабы насильст-
венно записаться в природе, материи или матрице; сле-
дуя за неустанной отсылкой к сухому острию и письму
без чернил; следуя за неугомонной изобретательностью
и напоминающим сновидение обновлением механических
моделей, за этой метонимией, всегда находящейся в ра-
боте над той же самой метафорой, упрямо заменяющей
следы следами и машины машинами, мы спрашивали себя
о том, что же делал Фрейд.
И мы думали о тех текстах, в которых лучше, чем где-
либо еще, нам говорится worin die Bahnung sonst besteht.
В чем состоит прокладывание пути.
В Traumdeutung-. «В сновидении все машины и все слож-
ные аппараты с высокой степенью вероятности оказываются
половыми — обычно мужскими — органами, в описании
которых символика сна, так же, как и работа остроумия
(Witzarbeit), обнаруживает свою неустанность» (р. 361).
Или в «Торможении, симптоме и страхе»: «Когда
письмо, состоящее в том, чтобы капать жидкостью с пера
на белый лист бумаги, приобретает символическое зна-
чение коитуса, или когда ходьба становится заменителем
попирания тела матери-земли, происходит отказ и от
письма, и от ходьбы, поскольку они приводили бы к осу-
ществлению запрещенного сексуального акта»15.
Последняя часть выступления касалась архиписьма как сти-
рания: присутствия и, следовательно, субъекта, его свойств и его
собственного имени. Понятие субъекта (сознательного или бес-
сознательного) необходимым образом отсылает к понятию суб-
станции — и присутствия, — из которого оно и родилось.
Поэтому нужно усилить фрейдовское понятие следа и
извлечь его из метафизики присутствия, которая его все еще
удерживает (особенно в понятиях сознания, бессознательно-
го, восприятия, памяти, реальности и некоторых других).
След — это стирание самого себя, своего присутствия, он
конституирован угрозой или тревогой своего безвозвратного
исчезновения, исчезновения исчезновения. Неизгладимый след —
это не след, а полное присутствие, неподвижная и неизменная
субстанция, сын Бога, знак парусии, а не посев, не зародыш смерти.
Это стирание — сама смерть, и в ее горизонте нужно про-
думать не только «присутствующее в настоящем», но и ту не-
изгладимость, которая, несомненно, была приписана Фрейдом
некоторым следам бессознательного, в котором «ничего не
кончается, ничего не проходит, ничего не забывается». Это сти-
рание следа — не несчастный случай, который мог произойти
здесь или там, не необходимая структура некоторой цензуры,
угрожающей тому или иному присутствию; но, как движение
темпорализации и как чистое самоаффектирование, оно ока-
зывается структурой, которая делает возможным то, что мож-
но было бы назвать вытеснением вообще, синтезом изначаль-
ного и «собственного» или вторичного вытеснения.
Такое усиление мысли о следе (мысли, покуда она избегает
бинарных оппозиций, делая их возможными, исходя из ничего)
была бы плодотворной не только в деконструкции логоцентриз-
ма, но и в рефлексии, которая бы более позитивно осуществля-
лась в различных областях, на различных уровнях письма вооб-
ще и на сочленении обычного письма с обобщенным следом.
Эти поля, специфика которых была бы таким образом от-
крыта мысли, оплодотворенной психоанализом, могли бы ока-
заться весьма многочисленными. А проблема их взаимных гра-
ниц стала бы тем более ужасной, что ее нельзя было бы
подчинить никакой принятой концептуальной системе.
Речь в первую очередь шла бы:
1)о психопатологии обыденной жизни, в которой изучение
письма не ограничивалось бы истолкованиями lapsus calami и было
бы в них самих более внимательным к его оригинальности, чем
сам Фрейд («Ошибки письма, которыми я теперь займусь,
настолько похожи на ошибки речи, что они не могут снабдить нас
никаким новым взглядом на вещи.» — G.W., II, ch. I.), что, однако
же, не помешало ему поставить фундаментальную юридическую
проблему ответственности перед инстанцией самого психоанали-
за, например, по поводу вредоносного lapsus calami (ibid.)*,
2)об истории письма, этом огромном поле, на котором до
сих пор были проведены только подготовительные работы; и
365
л>
о
сколь бы восхитительными они ни были, они, если отвлечься
от чисто эмпирических открытий, дают почву для самых раз-
нузданных домыслов;
3)о становлении литературой просто буквенного. Здесь,
несмотря на попытки Фрейда и некоторых его последователей,
психоанализ, принимающий в расчет оригинальность буквенного
означающего, до сих пор не появился на свет, и это, конечно, не-
случайно. До сего момента анализу подвергались только буквен-
ные означаемые, то есть как раз не само буквенное. Но такие во-
просы отсылают ко всей истории буквенных форм и к тому, что
в ней было предназначено для провоцирования такой ошибки;
4)наконец о том, если все еще указывать на эти поля в со-
ответствии с традиционными и весьма проблематичными гра-
ницами, что можно было бы назвать новой психоаналитиче-
ской графологией, принимающей в расчет вклад трех других
типов исследования, которые мы только что приблизительно
отграничили друг от друга. Здесь дорогу, наверное, открывает
М. Кляйн. В том, что касается формы знаков (даже в алфавит-
ном их начертании), тех инвестиций, которым подвергаются
жесты, движения букв, строчек, точек, и что касается самих
элементов аппарата письма (его инструмента, поверхности и
субстанции), такой текст, как Role of the school in the libidinal
devol epment of the child (1923) указывает определенное направ-
ление (см. также Strachey, Some inconcious factors in reading).
Вся тематика M. Кляйн, ее анализ конституирования хо-
роших и плохих объектов, вся ее генеалогия морали могла бы,
несомненно, если осторожно следовать за ней, начать прояс-
нение всей проблемы архиследа, но не в его сущности (кото-
рой у него нет), а в моментах оценивания и обесценивания.
Письмо как сладкая пища или экскременты, след как посев или
зародыш смерти, деньги или оружие, отброс и/или пенис, и т.д.
Как, например, на сцене истории установить связь между
письмом как экскрементами, отделенными от живой плоти или от
священного тела иероглифа (Арто) и тем, что мы можем прочесть
в «Числах» о жаждущей женщине, пьющей засохшие чернила
закона, или в «Иезекииле » о сыне человеческом, который наполнил
свое нутро свитком закона, ставшим в его рту сладким как мед?
ПРИМЕЧАНИЯ
s 1 Здесь, более, чем в каком-нибудь ином месте, необходи-
g- мо было бы провести систематическое сопоставление
Ч Ницше и Фрейда. См., например, один фрагмент, похо-
жий на многие другие, из Nachlass*. «Наше “знание” ог-
раничивается лишь установлением количеств; но мы не
можем помешать себе испытывать эти количественные
различия как качества. Качество — это истина, относя-
щаяся к нам, а не “в себе”... Если бы наши чувства обост-
рились или ослабли в десять раз, мы бы погибли: ведь
мы испытываем отношения количеств как качества, от-
нося их к существующим вещам, которые через них де-
лаются для нас возможными» (Werke, III, р. 861).
2 Эти понятия изначального откладывания и запаздыва-
ния или даже понятие времени немыслимы в логике
тождества. Абсурдность, которая обнаруживается в са-
мих этих терминах, если ее определенным образом ор-
ганизовать, позволяет мыслить запредельное для этой
логики и этого понятия пространство. Под словом «за-
паздывание» нужно понимать нечто отличное от отно-
шения между двумя моментами «настоящего»; нужно
избегать следующего представления: только в нас-
тоящий момент В происходит то, что должно (было бы)
произойти в (предшествующий) момент А. Понятия из-
начального «откладывания » и «запаздывания » стали для
нас необходимы после прочтения Гуссерля («Введение
в “Начало геометрии” Гуссерля» (1962), р. 170-171).
Письмо 32 (20-10-95). Машина: «Три системы нейронов,
свободное или связанное состояние количества, вторич-
ный и первичный процессы, основная тенденция нерв-
ной системы и ее стремление к компромиссу, два биоло-
гических правила ожидания и защиты, указания на
качества, на реальность и на мысль, положение психо-
сексуальной группы и наконец условия сознания как
функции восприятия — все это соединялось вместе и со-
единится еще и сегодня. Естественно, я больше не могу
сдерживать свою радость. Поэтому-то я и не стал ждать
еще две недели, чтобы сообщить тебе мои новости...»
4 Уорбертон, автор «Божественной задачи Моисея». Чет-
вертая часть его труда была переведена в 1744 году под
названием «Опыт об Иероглифах Египта, в котором рас-
сматривается Происхождение и Прогресс языка и пись-
ма, Древняя история Наук в Египте и Происхождение
культа Животных ». У этого труда, о котором мы еще ска-
жем, было большое влияние. Им была отмечена вся реф-
лексия о языке и знаках того времени. Редакторы «Эн-
циклопедии», Кондильяк и через него Руссо черпали в нем
свое вдохновение и, в частности, позаимствовали из него
тему изначально метафорического характера языка.
5 (р. 615). В «Я и Оно» (G.W., XIII, ch. 2) также подчеркивается
опасность топического представления психических фактов.
367
6 Метафора фотографического негатива встречается до-
вольно часто. См. «О динамике переноса» (G.W., VIII,
р. 364-36$), где метафоры негатива и отпечатка являют-
ся главными инструментами аналогий. В анализе Доры
Фрейд определяет перенос в терминах издания, переиз-
дания, стереотипных, проверенных или исправленных
изданий. В работе 1913 года «Несколько замечаний о по-
нятии бессознательного в психоанализе» (G.W., X,
р. 436) с фотографическим процессом сравниваются от-
ношения бессознательного и сознания: «Первая стадия
фотографии — это негатив; каждая фотографическая
картинка должна быть проверена “на негативе”, и те, что
хорошо проходят это испытание, допускаются к “пози-
тивному процессу”, который завершается получением
картинки». Гарвей Сенденийский посвящает даже целую
главу своей книги той же самой аналогии. Причем с теми
же самыми намерениями. Они в то же время внушают
определенные предостережения, которые будут нами
обнаружены и в «Заметке о магическом блоке»: «Па-
мять, однако, имеет то преимущество по сравнению с фо-
тографическим аппаратом, которым обладают природ-
ные силы, имеющие возможность сами по себе обновлять
свои средства действия».
7 «Метапсихологическое дополнение к толкованию снови-
дений »(1916, G.W., П/Ш, р. 419) посвящает большой раз-
дел формальной регрессии, который, как говорилось в
Traumdeutung, влечет «замену примитивными способами
выражения и постановки тех способов, к которым мы
привыкли» (р. 554). В особенности Фрейд привлекает вни-
мание к роли, которую в ней играет вербальное представ-
ление: «Замечательно, что работа сновидения в столь ма-
лой степени зависит от представления слов; она всегда
готова заменять одни слова другими до тех пор, пока не
найдется выражение, с которым проще всего обращать-
ся в постановке пластической сцены». Этот отрывок со-
провождается сравнением между языком видящего сны
и языком шизофреника с точки зрения представления
вещей и слов. Его нужно было бы обсудить более внима-
тельно. Тогда мы, возможно, заметили бы (вопреки мне-
нию самого Фрейда), что точное определение аномалии в
нем невозможно. О роли вербальных представлений в
предсознательном и вторичном характере визуальных
элементов в нем см. также «Я и Оно», гл. 2.
8 Das Interesse an derPsychoanalyse, G. W.f VIII, p. 390. Вто-
рая часть этого текста, посвященная «непсихологиче-
ским наукам», в первую очередь касается науки о языке
(р. 493), прежде чем перейти к философии, биологии,
истории, социологии и педагогике.
9 Известно, что вся заметка Uber den Gegensinn der Ur-
worle (1910) пытается вслед за Абелем доказать, заим-
ствуя при этом множество примеров из иероглифиче-
ского письма, что противоречивый или неопределенный
смысл первичных слов мог определиться, приобрести не-
которое отличие и свои условия функционирования
только от жеста или письма (G.W., VIII, р. 214). Об этом
тексте и гипотезе Абеля см. Е. Benveniste, Problemes de
linguistiaque generale\ ch. VII.
10 P. 288. Это тот самый отрывок, который мы процитиро-
вали выше и в котором след памяти отличен от самой
«памяти».
11 Р. 4-5. См. главу IV «По ту сторону принципа удоволь-
ствия».
12 Standart Edition отмечает здесь небольшую неточность
в описании Фрейда. «Оно не касается самого главного.»
Мы склонны думать, что Фрейд и в других местах иска-
жает свое техническое описание в целях создания бо-
лее удачной аналогии.
1; Все та же IV глава «По ту сторону принципа удовольст-
вия».
н В том же самом году его можно обнаружить в статье о
Verneinung. В отрывке, который был бы для нас весьма
важен из-за признаваемого в нем отношения между мыс-
ленным отрицанием и откладыванием, отсрочкой, отво-
дом (Aufschub, Denkaufschub) (откладывание — единст-
во Эроса и Танатоса), выпускание антенн приписывается
не бессознательному, а Я. (G. W., XIV, р. 14-15). О Den-
kaufschub как о мысли в форме запаздывания, отложе-
ния, отсрочки, передышки, обхода, откладывания, про-
тивопоставленного или, скорее, откладывающего
фиктивный, теоретический и всегда уже нарушенный по-
люс «первичного процесса» см. также гл. VII (V) в Тгаит-
deutung. Понятие «обходного пути» (Umweg) оказыва-
ется в ней центральным. «Тождественность мысли»,
будучи сотканной из воспоминаний, является направ-
ленностью, которая всегда уже сменила «тождествен-
ность восприятия», направленность «первичного про-
цесса», так что das ganze Denken ist nur ein Umweg...
(«Вся мысль— это лишь обходной путь», р. 607). См.
также «Umwege zur Tode* в Jenerseits, р. 41. Компромисс,
как его понимает Фрейд, — это всегда откладывание. Так
что нет ничего до компромисса.
15 Trad. M.Tort, р. 4.
Театр жестокости и
закрытие
представления
Полю Тевенену
Единственный раз в мире, поскольку в силу
события, которое я объясню, Настоящего не быва-
ет, — оно просто не существует...
Малларме, «По поводу Книги*
370
...что же до моих сил
то они лишь добавление
добавление к фактическому положению,
поскольку начала никогда не было...
Арто, 6 июня 1947
«... Танец / и следовательно театр/ еще не начали
существовать». Это можно прочитать в одном из послед-
них тестов Антонена Арто («Театр жестокости», in 84,
р. 127). В том же самом тексте, немного ранее, театр жес-
токости определяется «утверждением/ужасной и одна-
ко же неминуемой необходимости». Арто, следователь-
но, не призывает к разрушению, к новому проявлению
негативности. Невзирая на то, что он в своем движении
должен разнести по кусочкам, «театр жестокости / это
не символ / некоей пустоты». Он утверждает, он произ-
водит само утверждение в его полной и необходимой
строгости. Но также и в его наиболее скрытом, всегда за-
прятываемом и отвлеченном от самого себя смысле: сколь
бы «неминуемым» оно ни было, это утверждение «еще
не начало существовать».
Оно еще должно родиться. Но необходимое утвер-
ждение может родиться, лишь возрождаясь в самом себе.
Для Арто будущее театра — и, следовательно, будущее
вообще — открывается лишь в анафоре, которая восхо-
дит к кануну рождения. Театральность должна с начала
и до конца пересечь и восстановить «существование» и
«плоть». О театре, следовательно, можно будет сказать
то же, что и о теле. Мы знаем, что сам Арто жил следую-
щим днем после некоей потери: его собственное тело,
собственность и чистота его тела были украдены у него
при рождении тем богом-вором, который родился «что-
бы / сойти / за меня»1. Такое перерождение проходит,
несомненно — и Арто часто о том напоминает, — через
некое переобучение органов. Оно позволяет достигнуть
жизни до рождения и после смерти («...вот так, потому
что я умирал / я кончил тем, что нашел истинное бессмер-
тие» [р. 110]), а не смерти до рождения и после смерти.
Этим-то и отличается, в мельчайшем и в то же время ре-
шающем различии, жестокое утверждение от романти-
ческой негативности. Сравним с Лихтенбергером: «Я не
могу отделаться от той мысли, что я был мертв № своего
рождения и что после моей смерти я вернусь к тому же
самому состоянию... Умирать и вновь рождаться с вос-
поминанием предыдущего существования — вот что та-
кое исчезновение; просыпаться с другими органами, ко-
торые вначале надо переобучить — вот что значит
рождаться». Для Арто же дело в первую очередь в том,
чтобы, умирая, не умереть, не дать богу-вору в мгнове-
ние смерти лишить себя жизни. «Я думаю, что всегда есть
кто-то другой в минуту конечной смерти, присутствую-
щий, чтобы лишить нас нашей собственной жизни »(«Ван
Гог, самоубийца общества», р. 67).
Точно так же западный театр был отделен от своей
сущности, отдален от своей утвердительной сути, от своей
vis affirmativa. Причем такая экспроприация шла с само-
го начала, она является самим движением этого начала,
рождения как смерти.
Вот почему «на всех сценах мертворожденного теат-
ра осталось место » («Театр и Анатомия », in la Rue, juillet
1946). Театр родился в своем собственном исчезновении,
и у отпрыска этого движения есть имя — человек. Театр
жестокости должен родиться, отделяя смерть от жизни
и стирая само имя человека. Театр всегда заставляли де-
лать то, для чего он не создан: «Последнее слово о чело-
Театр жестокости и закрытие представления «Письмо и различие» Ж. Деррида
веке не сказано... Театр никогда не был предназначен для
того, чтобы описывать человека и то, что он делает... Те-
атр — это разболтанная марионетка, чья музыка, изда-
ваемая проволочными бородами, поддерживает нас в со-
стоянии войны против того человека, который сжимал нас
в своих тисках... Человеку не по себе уже у Эсхила, но
тогда еще он немного верил в то, что он — бог, и не желал
заключаться в оболочку, но у Еврипида он залезает в нее,
совершенно забывая, где и когда он был богом» (ibid.).
Именно поэтому нужно пробудить, восстановить
канун западного упадочного, загибающегося, негативно-
го театра, чтобы призвать восход неминуемой необходи-
мости утверждения. Это, конечно, неминуемая необхо-
димость еще не существующей сцены, но утверждение, о
котором идет речь, — не то, что только надо будет еще
изобрести в каком-нибудь «новом театре». Его необхо-
димость действует как некая неустанная сила. Жесто-
кость всегда в деле. Пустота, пустое место, уготованное
для этого театра, который еще не «начал существовать»,
является, следовательно, только мерой странного
расстояния, отделяющего нас от неминуемой необходи-
мости, от присутствующей (или, скорее, настоящей, ак-
туальной и активной) работы утверждения. Сцена жес-
токости задает нам свою загадку только в уникальном
открытии этого зазора. В него-то мы и попытаемся здесь
углубиться.
Если сегодня во всем мире самые смелые театраль-
ные движения, засвидетельствованные самым кричащим
образом, с правом или без — неизвестно, но, во всяком
случае, со все возрастающей настойчивостью объявляют
о своей приверженности Арто, то вопрос театра жесто-
кости, его отсутствия в настоящем и его неминуемой не-
обходимости обладает значением исторического вопро-
са. Исторического не потому, что его можно вписать в
так называемую историю театра, и не потому, что он стал
особой эпохой в становлении форм театра, занимая свое
особое место в последовательности театральных моде-
лей представления. Этот вопрос историчен в некоем ра-
дикальном и абсолютном смысле. Ведь он предвещает
предел представления.
Театр жестокости — это не представление. Это сама
жизнь, поскольку она несет в себе непредставимое.
Жизнь — это непредставимое начало представления.
«Я сказал “жестокость” так же, как я сказал бы “жизнь” »
(1932, IV, р. 137). Эта жизнь несет человека, но первона-
чально это не жизнь человека. Человек — это лишь пред-
ставление этой жизни, в чем и заключается предел — гу-
манистический по своему существу — метафизики
классического театра. «Театр можно упрекнуть в том, что
он несет в себе огромный недостаток воображения. Театр
должен равняться на жизнь, но не на индивидуальную
жизнь, не на тот индивидуальный аспект жизни, в кото-
ром царствует ХАРАКТЕР, но на нечто вроде осво-
божденной жизни, выметающей человеческую индивиду-
альность, так что она становится простым отражением»
(IV, р. 139).
Не является ли самой наивной формой представле-
ния мимезис? Арто, как и Ницше —- причем их сходство
идет гораздо дальше одного этого пункта, — стремится
покончить с подражательной концепцией искусства.
С аристотелевской2 эстетикой, в которой узнала себя
западная метафизика искусства. «Искусство — это не
подражание жизни, но сама жизнь — это подражание
трансцендентному принципу, с которым нас сообщает ис-
кусство» (IV, р. 310).
Театральное искусство должно быть первоначаль-
ным и привилегированным местом этого разрушения под-
ражания, ведь оно более, чем любое другое, было поме-
чено работой тотального представления, в котором
утверждение жизни удваивается и опустошается негатив-
ностью. Это представление, структура которого запечат-
ляется не только в искусстве, но и во всей западной куль-
туре (в ее религиях, философии, политике), указывает,
следовательно, не только на особый тип выстраивания
театра. Вот почему поставленный сегодня перед нами
вопрос намного шире вопроса театральной технологии.
Самое упрямое утверждение Арто в том и состоит, что
техника и наука театра не должны трактоваться сами по
себе. Сам упадок театра намечается, несомненно, вместе
с возможностью такого разъединения. Это утверждение
необходимо подчеркнуть, ни в коей мере не умаляя зна-
чения и новизны собственно театроведческих вопросов
или же тех революций, которые могут произойти в пре-
делах театральной техники. Но замысел Арто указывает
нам на эти пределы. До тех пор, пока эти внутренние са-
мому театру технические революции не достигнут осно-
ваний западного театра, они будут относиться к той ис-
тории и той сцене, которые Арто стремился взорвать.
Ж. Деррида «Письмо и различие» Театр жестокости и закрытие представления
Но что значит порвать это отношение? Да и возмож-
но ли это сделать? При каких условиях театр сегодня
может законно ссылаться на Арто? Ведь если сегодня
столько постановщиков желают, чтобы их признали в ка-
честве его наследников или даже (как однажды написа-
ли) «законных сыновей», то это лишь факт. А нужно
поставить вопрос о наименованиях и правах на эти на-
именования. По каким критериям можно узнать, что по-
добная претензия ложна? При каких условиях подлин-
ный «театр жестокости» мог бы «начать существовать»?
Эти одновременно технические и метафизические (в том
значении, в котором Арто понимал это слово) вопросы
задаются сами по себе при чтении всех текстов «Театра и
его Двойника», оказывающихся, скорее, своеобразными
толкованиями, а не суммой рецептов, критической сис-
темой, колеблющей всю историю Запада, а не трактатом
по театральной работе.
Театр жестокости прогоняет со своей сцены Бога. Но
он не устанавливает на ней новый атеистический дискурс,
не дает слова атеизму, не предоставляет театральное про-
странство утомительной философствующей логике, ко-
торая в очередной раз объявляет о смерти Бога. Дело
в том, что сама театральная практика жестокости по сво-
ему действию и своей структуре живет в таком не-теоло-
гическом пространстве или, скорее, производит его.
Сцена остается теологической, пока она подчинена
слову, воле слова, плану первоначального логоса, кото-
рый — не принадлежа театральному пространству —
управляет им издалека. Она остается теологической до
тех пор, пока ее структура в соответствии со всей тради-
цией включает следующие элементы: автор-творец, ко-
торый — отсутствуя или располагаясь вдалеке и воору-
жившись неким текстом — надзирает, собирает и
управляет временем или смыслом представления, позво-
ляя ему представлять себя в том, что называют содер-
жанием его мыслей, планов, идей. Представлять через
представителей, постановщиков или актеров, порабощен-
ных толкователей, которые представляют персонажей,
в свою очередь более или менее непосредственно пред-
ставляющих — ив первую очередь тем, что они говорят —
мысль «творца ». Рабы-толкователи, верно исполняющие
провиденциальные планы «господина». Который, одна-
к0 — и в этом заключено ироничное правило структуры
представления, которая организует все эти отношения, —
сам ничего не создает, создавая лишь иллюзию творчест-
ва, поскольку он только и делает, что переписывает и
представляет для прочтения текст, чья природа сама ока-
зывается по необходимости представительной, посколь-
ку он поддерживаете этим «реальным» (с реально сущим,
«реальностью», которая, как Арто выражается в «Пре-
дупреждении монаху», является «испражнением духа»)
отношения подражания и воспроизведения. И наконец,
пассивная сидячая публика, публика зрителей, потреби-
телей, «ценителей», по выражению Ницше и Арто,
присутствующих на спектакле, лишенном настоящей объ-
емности и глубины, на плоском, развернутом и предло-
женном их вуайеристскому взгляду спектакле. (В театре
жестокости чистое пространство видения не выставлено
вуайеризму.) Эта общая структура, в которой каждая ин-
станция связана через представление со всеми остальны-
ми, а непредставимость живого настоящего скрыта или
вытеснена, исключена или отложена в бесконечной цепи
представлений, эта структура никогда не видоизменялась.
Все революции сохранили ее неприкосновенность, стре-
мясь даже, как правило, закрепить или восстановить ее.
При этом само движение представления обеспечивается
именно фонетическим текстом, словом и дискурсом, пе-
редаваемым в данном случае суфлером, дыра которого
является скрытым, но необходимым центром структуры
представления. Какова бы ни была их значимость, все
изобразительные, музыкальные и даже жестуальные
формы, введенные в западном театре, в лучшем случае
могут лишь иллюстрировать, сопровождать, обслуживать
и украшать текст, словесную ткань, логос, который вы-
сказывается в самом начале. «Если, следовательно, ав-
тор — это тот, кто располагает языком слов, а постанов-
щик — это его раб, тогда здесь весь вопрос в словах.
Существует смешение терминов, происходящее из того,
что для нас, согласно тому смыслу, который обычно при-
дается слову “постановщик”, он лишь ремесленник, уст-
роитель, некто вроде переводчика, вечно занятого пере-
водом драматического произведения с одного языка на
другой; это смешение будет продолжать существовать,
а постановщик будет по-прежнему вынужден стушевы-
ваться перед автором, пока язык слов будут принимать
за высший язык и пока в театре будет приниматься толь-
CD
лЗ
Ct
CD
ко он один» («Театр и его Двойник», IV, р. 143). Но это,
конечно, не значит, что достаточно, чтобы последовать
за Арто, придать больше значения постановщику, возло-
жив на него большую ответственность и сохраняя при
этом всю классическую структуру.
На протяжении всей западной традиции сцена ока-
зывается под угрозой слова (или, скорее, единства слова
и понятия, о чем мы еще скажем далее), теологического
возвышения того «Слова, [которое] дает меру нашего бес-
силия» (IV, р. 277) и нашего страха. Запад — ив этом за-
ключена вся энергия его сущности — всегда трудился
только над устранением сцены. Ведь сцена, которая слу-
жит только иллюстрацией, уже не является сценой в пол-
ном смысле этого слова. Ее отношение к слову — это ее
болезнь, а «мы не перестаем повторять, что наша эпоха
больна» (IV, р. 280). Перестроить сцену, поставить на ней
и свергнуть тиранию текста — это, следовательно, один
и тот же жест. «Триумф чистой постановки » (IV, р. 305).
Итак, это классическое забвение сцены смешивает-
ся с историей театра и самой культурой Запада, обеспе-
чив само их начало. В то же время театр и постановка
богато жили в течении более чем двадцати пяти веков,
несмотря на это забвение: они пережили опыт преобра-
зований и переворотов, о которых нельзя забывать, что
бы мы ни думали об успокоенности и неподвижности ос-
нований. Поэтому речь не идет о простом забвении или
поверхностном сокрытии. Определившаяся таким обра-
зом сцена поддерживала с «забытой», но на самом деле
насильно отстраненной сценой отношения тайной связи,
некоего предательства, если предать или выдать — это
значит не только извратить вследствие неверности, но в
то же время, вопреки себе, дать проявиться и выразиться
скрытому фону силы. Поэтому-то, на взгляд Арто, клас-
сический театр — это не просто отсутствие, отрицание
или забвение театра, не не-театр, а, скорее, зачеркива-
ние, позволяющее прочитать то, что оно прикрывает, раз-
ложение и «извращение», совращение, зазор искажения,
смысл которого может обнаружиться только в восхож-
дении к рождению, в канун театрального представления,
в зарождении трагедии. Например, в «Орфических Мис-
териях, которые очаровали Платона» или в «Элевсинских
Мистериях », еще свободных от позднее наброшенных на
них толкований, в той «чистой красоте, полное, звучное,
струящееся и обнаженное воплощение которой Платон
должен был хотя бы раз в жизни найти и в этом мире» (р.
63). Именно об извращении, а не о забвении, Арто гово-
рит, например, в письме Б.Кремио (1931): «Театр, как не-
зависимое и автономное искусство, чтобы возродиться
или чтобы просто жить, должен отметить то, что его
отличает от текста, голого слова, литературы и от всех
остальных зафиксированных письменных средств. Мож-
но по-прежнему понимать театр, исходя из первоочеред-
ного значения текста, все более и более вербального, по-
всюду проникающего и всеохватного текста, которому
должна подчиниться эстетика сцены. Но это понимание,
которое состоит в том, чтобы рассадить актеров по крес-
лам и стульям, поставленным в ряд, и заставить их рас-
сказывать друг другу сколь угодно чудесные истории —
это, быть может, и не абсолютное отрицание театра... но,
скорее, его извращение» (курсив наш. —Ж.Д.).
Освобожденной от текста и бога-автора сцене долж-
на была бы, следовательно, вернуться ее творческая и
зачинающая свобода. Постановщик и участники спектак-
ля (которые больше не были бы актерами или зрителями)
перестали бы быть инструментами или органами пред-
ставления. Значит ли это, что Арто отказался бы дать имя
«представления» театру жестокости? Нет, но нужно хо-
рошо понять сложное и двусмысленное значение этого
понятия. И для этого здесь понадобилось бы ввести в игру
все те немецкие слова, которые мы передаем одним и тем
же словом «представление ». Несомненно, сцена не будет
ничего представлять, поскольку она не будет добавлять-
ся в качестве чувственной иллюстрации к уже написан-
ному, продуманному и прожитому за ее пределами тек-
сту, который она могла бы лишь повторить, а не выткать
саму его ткань. Она не будет более повторять настоящее,
предс'ггзАятъ то, что присутствует до нее где-то в другом
месте, так что полнота этого настоящего старше сцены,
отсутствуя на ней и по праву имея возможность обой-
тись без нее: то есть присутствие для самого себя абсо-
лютного логоса, живое настоящее присутствие Бога. Сце-
на не будет также представлением, если представление
означает плоскую поверхность зрелища, выставленного
на обозрение вуайеристов. Она даже не будет предлагать
нам представление присутствующего, если присутствую-
щее обозначает то, что находится передо мной. Жесто-
кое представление должно включать меня самого. Сле-
довательно, не-представление является изначальным
представлением, если представление означает разверты-
вание некоего объема, многоразмерной среды, продук-
тивный опыт своего собственного пространства. Опро-
странствование, то есть производство пространства —
такое, что никакое слово не может его понять, заключить
в себя или пересказать, поскольку слово само уже его
предполагает, обращаясь таким образом ко времени, ко-
торое отлично от так называемой звуковой линейности;
обращаясь к «новому понятию пространства» (р. 317) и к
«особому пониманию времени»: «Мы рассчитываем пре-
жде всего основать театр на спектакле, а в спектакль мы
введем новое понятие пространства, которое будет ис-
пользоваться во всевозможных планах, во всех возмож-
ностях перспективы глубины и высоты, а к этому поня-
тию присоединится особое понимание времени вкупе с
движением... Таким образом, театральное пространство
будет использоваться не только во всех своих измерени-
ях и объеме, но и в его, если так можно выразиться, подо-
плеке (р. 148-149).
Итак, закрытие классического представления, но и
восстановление закрытого пространства изначального
представления, архипроявления силы и жизни. Закрытое
пространство, то есть произведенное изнутри самого
себя, а не организованное из другого отсутствующего
места, некоей пространственной неопределенности, али-
би или невидимой утопии. Конец представления, но и из-
начальное представление, конец истолкования, но и из-
начальное толкование, в которое не могут заранее
проникнуть и опорочить его никакое господствующее
слово и никакой проект господства. Видимое представ-
ление, выступающее, конечно, против скрывающегося от
взгляда слова — сам Арто дорожит теми продуктивны-
ми образами, без которых не было бы никакого театра
(theaomai), — но его видимость это не зрелище, руково-
димое словом господина. Представление как самопред-
ставление чисто видимого и даже чисто чувствуемого.
Другой отрывок того же письма пытается схватить
этот строгий и сложный смысл представления в спектак-
ле: «Пока постановка будет оставаться даже в понима-
нии самых свободных режиссеров простым средством
* «Dessous» — это не только «подоплека» или «обратная сторо-
на», «то, что находится внизу», но и, в более специальном значе-
нии, — «поворотные круги под сценой, с помощью которых пе-
ремещают декорации». — Прим, перев.
представления, добавочным способом раскрытия произ-
ведений, чем-то вроде зрелищной интермедии без како-
го бы то ни было собственного значения, вся цена такой
постановки будет зависеть от того, насколько ей удастся
скрыться за обслуживаемыми ей произведениями. И это
будет продолжаться, пока главный интерес представляе-
мого произведения будет оставаться в его тексте, пока в
театре как искусстве представления литература будет
одерживать верх над представлением, неправильно назы-
ваемым спектаклем, со всем тем, что в таком наименова-
нии слышится оскорбительного, необязательного, эфе-
мерного и внешнего» (IV, р. 126). Совсем другим на сцене
жестокости должен был бы стать «спектакль, действую-
щий не только как отражение, но и как сила »(р. 297). Воз-
вращение к изначальному представлению подразумева-
ет, следовательно, главным образом то, чтобы театр и
жизнь перестали «представлять» другой язык, переста-
ли ссылаться на другое искусство, например, на литера-
туру, будь она даже поэтической. Ведь в поэзии, так же
как и в литературе вообще, словесное представление раз-
жижает сценическое. Поэзия может спастись от запад-
ной «болезни», лишь став театром. «Мы как раз полага-
ем, что существует понятие поэзии, которое необходимо
отделить и извлечь из форм письменной поэзии, в кото-
рых больная эпоха, приближающаяся к своему полному
уничтожению, хотела бы удержать всю поэзию вообще.
Впрочем, когда я говорю, что она что-то хотела, я пре-
увеличиваю, поскольку в действительности она неспособ-
на ничего желать, она лишь покоряется формальной при-
вычке, от которой она не в силах освободиться. Нам
кажется, что этот вид повсюду проникающей поэзии,
которую мы отождествляем с естественной и само-
произвольной энергией, хотя и не все энергии относятся
к поэзии, мог бы найти свое наиболее полное, чистое, точ-
ное и поистине свободное выражение только в театре...»
(IV, р. 280).
Таким образом, мы уже начинаем немного понимать
жестокость как необходимость и строгость. Арто, ко-
нечно же, предлагает нам мыслить под словом «жесто-
кость» именно «строгость, старание и неумолимую
решительность», «необратимоеопределение», «детерми-
низм», «подчинение необходимости» и т.д., а не обяза-
тельно «садизм», «ужас», «кровопролитие», «распятие
врага» (IV, р. 120) и т.д. (так что некоторые современные
спектакли, ссылающиеся сегодня на Арто, могут быть на-
сильственными, даже кровавыми, но тем самым они еще
не становятся жестокими). В то же время в начале жес-
токости и необходимости, названной жестокостью, все-
гда находится убийство. То есть, прежде всего, отцеубий-
ство. Начало театра, в той форме, в какой его еще нужно
восстановить, — это рука, поднятая на ревнивого держа-
теля логоса, на отца, на Бога сцены, подчиненной власти
слова и текста. «По моему мнению, никто не имеет права
называть себя автором, то есть творцом, кроме того, кто
напрямую участвует в сцене. Именно в этом месте распо-
лагается уязвимая точка театра, как его понимают не
только во Франции, но и во всей Европе и даже на всем
Западе: западный театр признает в качестве языка, при-
писывает качества и ценности языка и дает называться
языком, предполагая все то интеллектуальное достоин-
ство, которым вообще наделяется это слово, только ар-
тикулированному, причем артикулированному в соответ-
ствии с правилами грамматики, языку, то есть языку слова
и письменного слова — слова, которое вне зависимости
от того, было оно произнесено или нет, имеет не больше
значения, чем если бы оно было только записано. В теат-
ре, как мы его здесь [то есть в Париже, во Франции] по-
нимаем, текст — это все» (IV, р. 141).
Что же в таком случае станет со словом в театре жес-
токости? Обязано ли оно будет просто замолчать или
исчезнуть?
Никоим образом. Слово перестанет управлять сце-
ной, но оно все равно будет на ней присутствовать. Оно
займет на ней строго ограниченное место, получив функ-
цию в системе, которой будет подчиняться. Ведь мы зна-
ем, что представления театра жестокости должны были
быть заранее тщательно упорядочены. Отсутствие авто-
ра и его текста не предают сцену какой-то заброшенно-
сти. Сцена вовсе не оставлена, не выдана импровизирую-
щей анархии или «случайным пророчествам» (I, р. 239),
«импровизациям Копо» (IV, р. 131), «сюрреалистическо-
му эмпиризму »(IV, р. 313), commedia dell’arte или же «ка-
призу неоформленного вдохновения» (ibid.). Следова-
тельно, все будет предписано в письме или тексте, материя
которых более не будет походить на модель классическо-
го представления. Какое же место уделяется слову этой
необходимостью предписания, затребованной самой жес-
токостью?
Слово и его фиксация — то есть фонетическое пись-
мо как элемент классического театра, — слово и его пись-
мо будут изгнаны со сцены жестокости лишь в той мере,
в какой они намеревались быть диктантами — одновре-
менно цитатами или цитированиями и приказами. Поста-
новщик и актер отныне не будут принимать никаких дик-
тантов: «Мы отказываемся от театрального суеверия
текста и диктатуры писателя» (IV, р. 148). И это также
оказывается концом дикции, превращавшей театр в уп-
ражнение по чтению. Конец «того, что заставляло неко-
торых любителей театра говорить, что просто прочитан-
ная пьеса доставляет по-иному ценное и не менее сильное
удовольствие, нежели та же самая представленная пье-
са» (р. 141).
Как же тогда будут функционировать слово и пись-
мо? Они будут функционировать, вновь становясь жес-
тами'. логическая или дискурсивная направленность —
посредством которой слово обычно достигает своей ра-
циональной прозрачности и утончает свое собственное
тело, давая ему проникнуться смыслом и странным об-
разом прикрыться тем самым, что конституирует его
прозрачность — будет уничтожена или подчинена ино-
му порядку: отменяя прозрачность, мы обнажаем плоть
слова, его звучание, интонацию, интенсивность, крик,
который еще не совсем охладел под действием артику-
лированного языка и логики, все то, что остается от
подавленного жеста во всяком слове, то единственное и
незаменимое движение, от которого постоянно отказы-
валась общность понятия и повторения. Известно, ка-
ким значением Арто наделял то, что в данном случае
весьма некорректно называлось бы звукоподражанием.
I лоссопоэзиС, не являющийся ни подражательным язы-
ком, ни творением новых слов, приводит нас на край
мгновения, когда слово еще не родилось, когда артику-
ляция — это уже не крик, но еще не речь, когда повто-
рение почти невозможно, так же как и весь язык: раз-
деленность понятия и звука, означаемого и означающего,
пневматического и грамматического, свобода перевода
п традиции, движение истолкования, различие между
телом и душой, господином и рабом, человеком и Богом,
автором и актером. Таков канун рождения языков и того
диалога между теологией и гуманизмом, который мета-
физика западного театра только и могла, что бесконеч-
но пережевывать3.
Театр жестокости и закрытие представления «Письмо и различие» Ж. Деррида
(D
5
(D
Поэтому речь, следовательно, идет не столько о том,
чтобы построить немую сцену, сколько сцену, шум кото-
рой еще не успокоился в слове. Слово — это труп психи-
ческого речения, так что вместе с языком самой жизни
необходимо найти «Речение до слов»4. Жест и речение
еще не разделены логикой представления. «К языку слов
я добавляю другой язык, таинственные возможности ко-
торого забыты, пытаюсь вернуть языку слова его древ-
нюю целостную, магическую и очаровывающую действен-
ность. Когда я говорю, что я не буду играть написанную
пьесу, я хочу сказать, что я не буду играть пьесы, осно-
ванные на письме и слове. В спектаклях, которые я по-
ставлю, предпочтение будет отдано физической состав-
ляющей, которая не может быть зафиксирована и
записана на обычном языке слов; так что даже написан-
ная и словесная часть будут таковыми в совсем ином смыс-
ле» (р. 138).
Что же это за «новый смысл»? И как, главное, об-
стоят дела с этим новым театральным письмом? Оно уже
не будет занимать место, ограниченное фиксацией слов,
но покроет все поле этого нового языка, то есть это бу-
дет не только фонетическое письмо или переписывание
слова, но и письмо иероглифическое, в котором фонети-
ческие элементы соподчиняются визуальным, изобрази-
тельным и пластическим. Понятие иероглифа находится
в самом центре «Первого Манифеста» (1932, IV, р. 107).
«Поняв этот пространственный язык, язык звуков,
криков, света, звукоподражания, театр должен будет ор-
ганизовать его, создавая из персонажей и объектов на-
стоящие иероглифы и используя их символику и их со-
ответствия в отношении со всеми органами и во всех
возможных планах.»
Тот же самый статус у слова на сцене сновидения,
как ее описывает Фрейд. Нужно было бы тщательно про-
думать это сходство. В Traumdeutung и «Метапсихологи-
ческом дополнении к толкованию сновидений» место и
функционирование слова строго ограничены. Присутст-
вуя в сновидении, слово входит в него лишь наподобие
всех остальных элементов, иногда наподобие «вещи», с
которой первичный процесс обращается согласно своей
собственной экономии. «Мысли тогда превращаются в
образы — главным образом зрительные, — а представ-
ления слов сводятся к представлению соответствующих
вещей, как будто бы весь процесс руководился одной
лишь заботой подготовки к представлению (Darstell-
barkeit)--. Замечательно, что работа сновидения в столь
малой степени зависит от представления слов; она всегда
готова заменять одни слова другими до тех пор, пока не
найдется выражение, с которым проще всего обращать-
ся в постановке пластической сцены» (G. ИЛ, X, р. 418-
419). Арто также говорит о «визуальной и пластической
материализации слова» (IV, р. 83), об «использовании
слова в конкретном пространственном смысле», об «об-
ращении с ним как с твердым предметом, которым мож-
но разрушить вещи» (IV, р. 87). Когда же Фрейд, говоря
о сновидении, упоминает скульптуру и живопись или же
примитивного художника, который, наподобие создате-
лей мультфильмов, «подвешивал ко ртам персонажей об-
лачка с написанной (als Schrift) речью, которую худож-
ник уже отчаялся было ввести в композицию картины»
(G. ИЛ, П-Ш, р. 317), мы начинаем понимать, чем может
стать слово, которое не более, чем отдельный элемент,
описанное пространство, письмо, привходящее в обоб-
щенное письмо и пространство представления. Ведь это
же структура ребуса и иероглифа. «Содержание сна дано
нам как образное письмо (Bilderschrift)* (р. 283). А в ста-
тье 1913 года мы читаем: «Под языком здесь следует по-
нимать не только выражение мысли в словах, но и язык
жестов так же, как и любой другой вид выражения пси-
хической активности, каковым, например, является пись-
мо...». «Если подумать, что главными средствами сцени-
ческой постановки в сновидении являются зрительные
образы, а не слова, то, как нам кажется, будет вполне
справедливым сравнить сновидение скорее уж с системой
письма, а не с языком. В самом деле, интерпретация сно-
видения с начала и до конца напоминает расшифровку
образного письма древности, например, египетских ие-
роглифов...» (G. ИЛ, VIII, р. 404).
Трудно сказать, в какой степени Арто, часто ссылав-
шийся на психоанализ, был знаком с текстом Фрейда.
В любом случае интересно то, что он описывает игру сло-
ва и письма на сцене жестокости в буквальных терминах
Фрейда, притом Фрейда в ту пору мало известного. На-
пример, уже в «Первом Манифесте» (1932): «ЯЗЫК СЦЕ-
НЫ: Речь идет не о том, чтобы отменить артикулирован-
ное слово, но о том, чтобы придать ему примерно то
значение, которым оно обладает в сновидениях. Кроме
того, нужно найти новые средства фиксации этого язы-
ф
I
3
о
383
(D
5
oj
(D
384
(D
*
ка, которые будут походить либо на средства музыкаль-
ной записи, либо на некий шифр. В том, что касается
обычных предметов и даже человеческого тела, возведен-
ных до значения знаков, можно, очевидно, вдохновиться
иероглифическими начертаниями...» (IV, р. 112). «Вечные
законы, являющиеся законами всякой поэзии и всякого
живого языка; в том числе и законы китайских идеограмм
и древних египетских иероглифов. Итак, говоря, что я не
буду играть написанные пьесы, я, ни в коем случае не со-
бираясь ограничивать возможности театра и языка, а,
наоборот, расширяю сценический язык и умножаю его
возможности» (р. 133).
Тем не менее, Арто всегда старательно отмечал свою
сдержанность по отношению к психоанализу и, в особен-
ности, по отношению к тому психоаналитику, который
счел бы возможным держать речь за весь психоанализ,
придержав право на него и возможность посвящения в
него.
Ведь театр жестокости — это, конечно, театр снови-
дений, но жестоких сновидений, то есть абсолютно не-
обходимых и определенных, просчитанных и управляе-
мых сновидений, в отличие от того, что Арто считал
только лишь эмпирическим беспорядком самопроизволь-
ного сновидения. Пути и фигуры сновидения подчиняют-
ся некоему овладению. Ведь и сюрреалисты читали Эрви
Десендени5. В этой театральной обработке сновидения
«наука и поэзия должны отныне быть едины »(р. 163). Для
этого, несомненно, нужно использовать эту современную
магию, которой является психоанализ: «Я предлагаю в
театре вернуться к этой элементарной магической идее,
воспринятой современным психоанализом» (р. 69). Но не
нужно уступать тому, что Арто считает беспорядочны-
ми движениями сновидения и бессознательного. Нужно
произвести и воспроизвести закон сновидения: «Я пред-
лагаю отказаться от этого эмпиризма образов, случайно
приносимых бессознательным, и которые мы столь же
случайно выбрасываем, называя их поэтическими образ-
ами» (ibid.).
Поскольку он желает «видеть, как на сцене испуска-
ет свои лучи и празднует свой триумф... то, что принад-
лежит самому нечитаемому, что присуще магнетическим
чарам снов » (I, р. 23), Арто отказывается от психоанали-
тика как интерпретатора, вторичного комментатора, гер-
меневта или теоретика. От психоаналитического театра
он отказался бы с такой же решительностью, с какой он
осуждал психологический театр. Причем по тем же са-
мым причинам: отказ от тайного внутреннего простран-
ства, от читателя, от управляющей интерпретации и пси-
ходраматургии. «На сцене у бессознательного не будет
никакой собственной роли. Хватит с нас той неразбери-
хи, которая порождается им, затрагивая всех, начиная с
автора и заканчивая — пройдя через постановщика и ак-
теров — зрителями. Тем хуже для аналитиков, любите-
лей души и сюрреалистов... Драмы, которые мы будем
играть, будут решительно сторонится всяких таинствен-
ных истолкований» (II, р. 45)6. По своему месту и статусу
психоаналитик неизбежно принадлежит структуре клас-
сической сцены, ее форме социальности, ее метафизике,
религии и т.д.
Итак, театр жестокости не был бы театром бессозна-
тельного. Почти наоборот. Жестокость — это сознание,
его выставленная вовне ясность. «Нетжестокости без соз-
нания, без некоторого прилежного осознания.» Причем
это сознание живет убийством, оно является сознанием
убийства. Мы предположили это выше. Арто говорит об
этом в «Первом письме о жестокости»: «только сознание
придает осуществлению каждого акта жизни свою крова-
вую окраску, свой жестокий оттенок, поскольку понятно,
что жизнь — это всегда чья-то смерть» (IV, р. 121).
Быть может, Арто также выступает против некото-
рых фрейдовских описаний сновидения как замещающе-
го выполнения желания, как функции представительст-
ва: посредством театра он стремится вернуть сну его
собственное значение и сделать из него нечто более
изначальное, более свободное и утвердительное, неже-
ли работа замещения. Может быть, именно выступая
против определенного мотива мысли Фрейда, он пишет
в «Первом Манифесте»: «Рассматривать театр как вспо-
могательную психологическую и моральную функцию,
верить, что сны обладают только лишь функцией заме-
щения — это значит уменьшать глубокую поэтическую
значимость как снов, так и театра» (р. НО).
Наконец, риск психоаналитического театра заклю-
чается в том, что это был бы десакрализующий театр,
утверждающий Запад в его проекте и его пути. А театр
жестокости — этосвященный театр. Возвращение к бес-
сознательному проваливается (см. IV, р. 57), если оно не
пробуждает священного, если оно не оказывается «мис-
1 3 Ж. Деррида
Ф
ЭЕ
ф
9
о
X
о
9
тическим» опытом «откровения» и «явления» жизни в их
первоначальном обнаружении7. Мы видели, по каким при-
чинам иероглифы должны были прийти на смену только
лишь фонетическим знакам. К этому нужно добавить, что
первые больше, чем вторые сообщаются с воображением
священного. «И я хочу [в другом месте Арто говорит “я
могу” — Ж.Д.] вместе с иероглифом дыхания обрести
идею священного театра» (IV, р. 182,163). В жестокости
должна открыться новая эпифания сверхъестественного
и божественного. Причем не вопреки, а благодаря изгна-
нию Бога и разрушению теологической машинерии теат-
ра. Божественное было испорчено Богом. То есть чело-
веком, который, позволив Богу отделить себя от Жизни
и дав ему отнять свое собственное рождение, стал чело-
веком, пачкающим божественность божественного: «Не
веря в сверхприродное, божественное, изобретенное че-
ловеком, я считаю, что именно тысячелетнее нашествие
человека привело к обесцениванию божественного» (IV,
р. 13). Поэтому восстановление божественной жестоко-
сти должно пройти через убийство Бога, то есть, в пер-
вую очередь — человекобога8.
Теперь мы, вероятно, могли бы спросить не о том,
при каких условиях современный театр был бы верен
Арто, но в каком случае он был бы ему наверняка неве-
рен. Какими могут быть поводы для неверности даже у
тех, кто сегодня всем известным воинствующим и весьма
шумным образом ссылается на Арто? Мы ограничимся
указанием этих поводов. Несомненно, театру жестоко-
сти чужд:
1. всякий не священный театр.
2. всякий театр, отдающий привилегию слову, то есть
вербальному слову, всякий театр слов, даже если эта при-
вилегия становится привилегией саморазрушающегося
слова, становящегося жестом или отчаявшимся повторе-
нием одного и того же, негативным отношением слова к
самому себе, театральным нигилизмом или тем, что еще
называют театром абсурда. Такой театр не только был
бы полностью построен на слове и ни в коей мере не раз-
рушал бы классическую сцену, но он не был бы и утвер-
ждением, как его понимал Арто (и Ницше).
3. всякий абстрактный театр, что-то исключающий
из целостности искусства, то есть из жизни и ее ресурсов
значения: танец, музыку, объем, пластическую глубину,
зрительный, звуковой или фонический образ и т.д. Аб-
страктный театр не был бы театром, в который входили
бы все смыслы и все чувства. Но столь же ложным было
бы заключение, что достаточно сложить или наложить
друг на друга все виды искусства, чтобы создать полный
театр, обращенный к «полному человеку»9 (IV, р. 147).
Ничто не может быть более далеким от этого полного те-
атра, нежели такая полнота собирания, внешнее и искус-
ственное обезьянничание. Как раз наоборот, порой не-
которое внешнее сужение сценических средств может
более строго следовать по пути Арто. Если предполагать,
чему мы сами не верим, что есть какой-то смысл говорить
о верности Арто, о чем-то вроде его «послания» (причем
само это понятие уже его предает), то строгая, кропот-
ливая, терпеливая и неумолимая трезвость в работе де-
струкции, экономная точность, нацеленная, на главные
составные части все еще весьма прочной машины, кажут-
ся сегодня наверняка более необходимыми, нежели все-
общая мобилизация искусств и художников, волнение или
импровизированная агитация, идущая под хитрым и спо-
койным взглядом полиции.
4. всякий театр отстраненности. Он занимается лишь
тем, что с дидактическим упорством и систематической
тяжеловесностью упрочивает непричастность зрителей
(и даже постановщиков вместе с актерами) творческому
акту, силе, которая своим вторжением прочерчивает про-
странство сцены. Verfremdungseffekt остается пленником
классического парадокса и того «европейского идеала
искусства», который «стремится бросить дух в состоя-
нии, отделенном от присутствующей при его возвыше-
нии силе» (IV, р. 15). Поскольку «в театре жестокости
зритель находится посреди спектакля, который его ок-
ружает» (IV, р. 98), отстраненность взгляда не может
быть чистой, она не может отдалиться от всей чувствен-
ной среды; включенный зритель более не может консти-
туировать свой спектакль и делать его данным себе в
качестве объекта. Тогда уже нет ни спектакля, ни зрите-
ля, а есть только праздник. Все пределы, прочерчиваю-
щие пространство классического театра (представляемое
/представляющий, означаемое /означающее, автор /
постановщик /актеры /зрители, сцена /зал, текст /ин-
терпретация и т.д.) были этико-метафизическими запре-
тами, занавесами, гримасами, судорогами, симптомами
страха перед праздником. В пространстве праздника, от-
крываемого в нарушении этих запретов, дистанция пред-
13*
ф
ЭЕ
ф
о
х
о
q
(D
5
(D
ставления не должна была бы иметь возможности быть
вновь установленной. Театр жестокости выносит рампу
и ограждения, предохраняющие от той «абсолютной
опасности», у которой «нет дна» (сент. 1946): «Мне нуж-
ны актеры, которые прежде всего были бы живыми су-
ществами, то есть которые на сцене не боялись бы ощу-
тить удар ножа или абсолютно реальных для них страхов
предполагаемых родов; тот же Маунет-Салли верит в то,
что он делает и внушает такую веру, но в то же время он
знает, что стоит за поручнями, тогда как я их уничто-
жаю...» (письмо Роже Блену). При взгляде на эту «без-
донную» опасность и на этот праздник, провозглашае-
мый Арто, «хэппенинг» мог бы вызвать лишь улыбку: он
относится к опыту жестокости так же, как карнавал в
Ницце к элевсинским мистериям. И в первую очередь это
определяется тем, что он подменяет политическими вол-
нениями ту тотальную революцию, которая была пред-
писана Арто. Праздник должен быть политическим ак-
том. Но акт политической революции — это театральный
акт.
5. всякий неполитический театр. Мы имеем в виду то,
что праздник должен быть политическим актом, а не бо-
лее или менее красноречивой педагогической или поли-
цейской передачей политико-моральной концепции или
видения мира. Если продумать политический смысл это-
го акта и этого смысла, чем мы здесь не можем занимать-
ся, продумать образ общества, соблазняющего Арто, то
нам бы пришлось, подчеркивая огромные различия, тая-
щиеся в огромном сходстве, вспомнить о том, что у Рус-
со связывало критику классического театра, недоверие к
артикуляции в языке, идеал общественного праздника,
сменившего представление, и некоторую модель совер-
шенного общества, присутствующего само по себе в не-
больших сообществах, которые делают ненужным и даже
опасным обращение к представлению в самых решающих
моментах социальной жизни. То есть как к политическо-
му представлению, дополнению и делегированию, так и к
театральному. Можно было бы достаточно точно пока-
зать, что именно представление вообще, независимо от
того, что оно представляет, подразумевается Руссо как в
«Общественном договоре », так и в «Письме Даламберу »,
где он предлагает заменить театральные представления
публичными праздниками, без всяких зрелищ и выстав-
лений на показ, так чтобы было совсем «нечего смотреть »,
а зрители чтобы сами стали актерами: «Что же все-таки
будет объектом этих зрелищ? Если угодно, ничто... По-
ставьте посреди площади шест, увенчанный цветами, со-
берите там народ, и у вас будет праздник. Сделайте еще
лучше: введите зрителей в спектакль, сделайте их самих
актерами».
6. всякий идеологический театр, всякий театр куль-
туры, коммуникации, интерпретации (в обычном, а не в
ницшевском смысле этого слова), стремящийся передать
некое содержание, доставить сообщение (какова бы ни
была его природа: политическая, религиозная, психоло-
гическая, метафизическая и т.д.), предоставляющее слу-
шателям10 смысл дискурса, данный'для прочтения, не ис-
черпывающееся до конца вместе с актом и настоящим
временем сцены, не смешивающееся с ней в возможно-
сти своего повторения за ее переделами. Здесь мы
прикасаемся к тому, что, должно быть, является самой
глубокой сущностью проекта Арто, самого его истори-
ко-метафизического решения. Арто стремился устранить
повторение вообще. Повторение было для него злом, и
можно было бы, несомненно, организовать отдельное
чтение его текстов, руководствуясь одним этим утвер-
ждением. Повторение отделяет силу, присутствие и
жизнь от самих себя. Это отделение является экономи-
ческим расчетливым жестом того, что откладывает са-
мого себя> чтобы сохраниться, что усмиряет трату и
поддается страху. Эта сила повторения управляла всем,
что Арто хотел уничтожить, и что имеет множество имен:
Бог, Бытие, Диалектика. Бог — это вечность, смерть ко-
торой продолжается бесконечно долго, беспрерывно
угрожая в качестве различия и повторения жизни. Мы
должны бояться не Бога живого, а Бога-Смерти. Бог —
это смерть. «Ибо даже бесконечность мертва / беско-
нечность— имя одного мертвёца, / который не умер»
(in 84). Как только появляется повторение, Бог тут как
тут, а присутствующее в настоящем сберегает и откла-
дывает само себя, от себя же и скрываясь. «Абсолют —
это не бытие, и он никогда им не будет, потому что он
может быть бытием только посредством преступления
против меня, то есть оторвав у меня бытие, которое од-
нажды пожелало быть богом, хотя это невозможно,
поскольку Бог не может целиком явиться за один раз,
ибо он проявляется бесконечное число раз за время всех
мгновений вечностц, как бесконечность этих мгновений
ф
ЭЕ
ф
q
о
X
о
q
и самой вечности, откуда и появляется его постоянст-
во» (9-1945). Бытие— другое имя пред-ставительного
повторения. Бытие — это форма, в которой бесконеч-
ное разнообразие форм и сил жизни и смерти могут не-
определенно долго смешиваться и повторяться через
слово. Ведь нет ни слова, ни вообще знака, которые не
были бы конституированы возможностью повторения.
Знак, который не повторяется, который не разделен
повторением в своем «первом разе», не будет знаком.
Означающая отсылка должна быть идеальной — при том,
что сама идеальность это лишь гарантированная возмож-
ность повторения, — чтобы всякий раз отсылать к тому
же самому. Вот почему Бытие — это главное слово веч-
ного повторения, победа Бога и смерти над жизнью. По-
добно Ницше (например, в «Рождении философии»),
Арто отказывается подводить Жизнь под понятие Бы-
тия, переворачивая вообще весь порядок генеалогии:
«Сначала живешь и существуешь по своей воле, а про-
блема бытия появляется только как следствие» (9-1945).
«У человеческого тела нет большего врага, чем бытие»
(9-1947). В некоторых других неизданных текстах осо-
бое значение придается тому, что «по ту сторону бытия»
(2-1947), причем это выражение Платона (которого Арто
тоже не упустил случая почитать) переиначивается в ниц-
шеанском стиле. Диалектика — это тоже движение, в
котором трата окупается присутствием, оказываясь
самой экономией повторения. Экономией истины. По-
вторение снимает негативность, собирает и сохраняет
прошедшее настоящее как истину и идеальность. Истин-
ное — это всегда то, что можно повторить. Не-повторе-
ние, решительная и безвозвратная растрата в единствен-
ном разе, прожигающем настоящее, должны положить
предел испуганной дискурсивности, неотвратимой онто-
логии и диалектике, «поскольку диалектика [определен-
ная диалектика] — это то, что меня потеряло...» (9-1945).
Диалектика всегда оказывается тем, что нас теря-
ет, потому что она всегда считается с нашим отказом.
Так же, как и с нашим утверждением. Отказаться от
смерти как повторения — это утвердить смерть как
настоящую безвозвратную трату. И наоборот. Такая
схематика подстерегает ницшевское повторение утвер-
ждения. Чистая трата, абсолютная щедрость, принося-
щая в жертву уникальность настоящего, дабы заставить
явиться настоящее как таковое, уже пожелала сохра-
нить присутствие настоящего, уже открыла книгу и
памятку, мысль бытия как память. Не желать сохранить
настоящее — это стремиться сохранить то, что консти-
туирует его незаменимое и смертное присутствие, то,
что в нем не повторяется. То есть наслаждаться чис-
тым различием. Таковой оказывается матрица истории
мысли, мыслимой после Гегеля, если свести ее к такому
обескровленному наброску.
Возможность театра — это непременный очаг мыс-
ли, обдумывающей трагедию как повторение. Нигде уг-
роза повторения не организована так, как в театре. Ни-
где, кроме театра, нельзя так близко подойти к сцене
как началу повторения, к первичному повторению, ко-
торое необходимо стереть, отклеиваясь от него, как от
своего двойника. Но не в смысле, в котором Арто гово-
рил о «Театре и его Двойнике»11 — он лишь указывает
на эту складку, внутреннее раздвоение, которое в не-
уничтожимом движении повторения скрывает от жизни
и театра простое присутствие их присутствующего в
настоящем акта. «Один раз» — это загадка того, что не
имеет смысла, присутствия, возможности быть прочи-
танным. Но по мысли Арто театр жестокости должен
был бы состояться только один раз: «Оставим школь-
ным наставникам критику текстов, эстетам — критику
форм и признаем, что уже сказанное не стоит повторять;
что одно выражение не может иметь значения два раза,
не может жить два раза; что всякое произнесенное сло-
во мертво, действуя только в момент произнесения; что
использованная форма больше ни на что не пригодна,
так что нужно искать другую; что театр — это единст-
венное место в мире, где жест не начинается два раза»
(IV, 91). Вот настоящее явление: по окончанию представ-
ления, после его свершения не остается никакого следа,
никакого предмета, который можно было бы взять со-
бой. Такое представление — это не книга и не произве-
дение, а энергия, поэтому в этом смысле оно оказывает-
ся единственным искусством жизни. «Только театр учит
бесполезности однажды уже совершенного действия и
высшей пользе еще не использованного действием со-
стояния, которое, вернувшись, дает очищение» (р. 99).
В этом смысле театр жестокости был бы искусством раз-
личия и траты без экономии, без возврата и без истории.
Чистым присутствием как чистым различием. Акт этого
театра должен быть забыт, активно забыт. Здесь нужно
Театр жестокости и закрытие представления «Письмо и различие» Ж. Деррида
практиковать то aktive Vergesslichkeit, о котором гово-
рится во втором разделе «Генеалогии морали», где так-
же даются разъяснению «празднику» и «жестокости»
(Graus amkeit).
Отвращение Арто к нетеатральному письму носит
тот же смысл. Оно внушено не жестом тела, не своим чув-
ственным, мнемотехническим и гипомнезическим харак-
тером, внешним записи истины в самой душе, как это было
в «Федре», но, наоборот, письмом как местом умной ис-
тины, иным живого тела, идеальностью и повторением.
Платон критикует письмо как тело. А Арто — как устра-
нение тела, живого жеста, который бывает лишь раз.
Письмо — это само пространство и возможность повто-
рения вообще. Вот почему «Нужно покончить с суевери-
ем текстов и письменной поэзии. Письменная поэзия
имеет значение только один раз, а потом ее можно вы-
брасывать» (IV, р. 93-94).
Выразив таким образом поводы для неверности, мы
понимаем, что верность невозможна. Сегодня в мире нет
театра, который соответствовал бы желаниям Арто.
С этой точки зрения не стоило бы делать исключения и
для попыток самого Арто. Но он знал об этом лучше, чем
остальные: «грамматика» театра жестокости, о которой
он говорил, что ее еще нужно найти, всегда будет оста-
ваться недоступным пределом представления, которое не
было бы повторением, и/>^5-ставлением, которое было бы
чистым присутствием, не несущим в себе своего двойни-
ка как свою смерть, то есть настоящим, которое неповто-
римо, настоящим вне времени, не-настоящим. Настоящее
дается как таковое, является, присутствует, открывает
сцену времени или время сцены, только принимая в себя
внутреннее различие, то есть во внутренней складке сво-
его изначального повторения, в представлении. В диалек-
тике.
Арто все это хорошо знал: «...определенная диалек-
тика...». Ведь если соответствующим образом, то есть
отстранившись от обычного понимания гегельянства,
продумать горизонт диалектики, то мы, быть может, пой-
мем, что она является неопределенно долгим движением
конечности, единства жизни и смерти, различия, изна-
чального повторения, самим началом трагедии как отсут-
ствия простого начала. В этом смысле диалектика — это
трагедия, единственное возможное утверждение против
философской или христианской идеи чистого начала,
против «духа начала»: «Но дух начала не переставал за-
ставлять меня совершать глупости, а я непрерывно отде-
лывался от этого духа, являющегося христианским...»
(сентябрь 1945). Трагическое — это не невозможность, а
необходимость повторения.
Арто знал, что театр жестокости и начинается, и ис-
полняется не в чистоте простого присутствия, а в повто-
рении, «втором дне Творения », в том конфликте сил, ко-
торый не мог бы назреть в простом истоке. Жестокость,
несомненно, может начать в нем осуществляться, но тем
самым она должна дать тронуться себе самой. Начало
всегда тронуто. Такова алхимия театра: «Быть может,
прежде чем идти дальше, нас попросят определить, что
же мы понимаем под изначальным и типичным театром.
И тем самым мы оказываемся в самом центре проблемы.
Если в самом деле поставить вопрос о происхождении и
смысле бытия театра, то с одной стороны, если браться
за вопрос метафизически, мы обнаруживаем материали-
зацию или, скорее, внешнее проявление некоей главной
драмы, единым и в то же время неограниченным спосо-
бом удерживающей существенные принципы всякой дра-
мы, которые уже оказываются по-разному направленны-
ми и разделенными, не теряя при этом своего характера
оснований и актуально содержа в себе как в субстанции,
то есть напрягаясь от внутренних разрядов, бесконеч-
ные перспективы конфликтов. Философски, а не поэ-
тически проанализировать такую драму было бы невоз-
можно... Мы прекрасно ощущаем, что эта главная драма
существует, являясь образом чего-то более возвы-
шенного, нежели само Творение, которое необходимо
представлять себе как результат единого Волеизъяв-
ления, в котором нет никаких конфликтов. Необходимо
поверить в то, что эта главная драма, бывшая в основании
всех Великих Мистерий, сочетается со вторым днем
Творения, днем сложности и Двойника, днем материи и
застывания идеи. Похоже, что там, где царствует
простота и порядок, не могло бы быть ни театра, ни
драмы, поэтому настоящий театр, как, впрочем, и поэзия,
хотя другими путями, рождается из организующейся
анархии...» (IV, р. 60-61-62).
Итак, первичный театр и жестокость начинаются с
повторения. Но если идея театра без представления,
Ч
ф
"О
X
ф
q
о
X
о
q
X
идея самого невозможного никак не помогает нам в
упорядочивании театральной практики, она, быть мо-
жет, позволит помыслить ее начало, канун и предел,
помыслить сегодня театр, исходя из открытия его ис-
тории и в горизонте его смерти. Таким образом, мож-
но очертить энергию западного театра в ее возможно-
сти, которая не случайна, поскольку она оказывается
конститутивным центром и структурирующим местом
всей истории Запада. Но повторение скрывает центр и
место, поэтому то, что мы сейчас сказали о его воз-
можности, должно было бы запретить нам говорить о
смерти как о горизонте и о рождении как прошлом
открытии,
Арто держался как можно ближе к этому пределу:
возможности и невозможности чистого театра. Присут-
ствие, чтобы быть присутствием и присутствовать для
себя самого, уже начало себя представлять, уже дало себя
затронуть. Само утверждение должно затрагивать само-
го себя, повторяясь. А это значит, что то убийство отца,
которое открывает историю представления и простран-
ство трагедии и которое Арто намеревался повторить в
непосредственной близости от его начала, но только один
единственный раз, это убийство не имеет конца, повто-
ряясь бесконечно долго. Оно начинается с повторения
самого себя. Оно трогается в своем собственном коммен-
тарии, сопровождаясь своим представлением. Поэтому
оно стирает самого себя и утверждает отвергнутый за-
кон. И этого достаточно, чтобы существовал знак, то есть
повторение.
На этой стороне предела, в той мере, в какой он хо-
тел спасти чистоту присутствия без внутренних различий
и без повторения (или же чистоту, что парадоксальным
образом значит то же самое, чистого различия12), Арто
также стремился к невозможности театра, к уничтоже-
нию самой сцены, к тому, чтобы больше не видеть, что же
происходит в этом ограниченном и всегда подчиненном
повторению убийства пространстве, в котором живет или
которое преследует отец. Не сам ли Арто желает устра-
нить эту прасцену, когда он пишет в «Здесь покоится»:
«Я, Антонен Арто, я есмь мой сын, / мой отец, моя мать,
/ и я»?
О том, что он держался на самом пределе театраль-
ной возможности, Арто знал самым точным образом.
Декабрь 1946:
«Теперь я скажу то, что может поставить в тупик
многих людей.
Я - враг
Театра.
И я всегда им был.
Насколько я люблю театр,
Настолько же — и именно по этой причине — я его враг».
И мы тотчас же понимаем, что он не мог покориться
театру как повторению, не мог отказаться от театра как
не-повторения:
«Театр — это выплеск страстей,
это ужасающий перенос сил
от тела
к телу.
Этот перенос не может осуществиться дважды.
Нет ничего более нечестивого, чем система балийцев, которая
состоит в том, что,
произведя один раз этот перенос, они
вместо того, чтобы искать другой,
обращаются к системе частных колдовских приемов,
дабы отделить астральную фотографию от сделанных жестов ».
Театр как повторение неповторимого, театр как из-
начальное повторение различия в конфликте сил, в кото-
ром «зло является вечным законом, а добро — это уси-
лие и жестокость, прилагаемые к другим силам и
жестокости >>, — таков смертный предел жестокости, ко-
торая начинается со своего собственного повторения.
Поскольку представление всегда уже началось, у
него нет конца. Но можно мыслить закрытие того, у чего
нет конца. Закрытие — это кругообразный предел, внут-
ри которого повторение различия повторяется бесконеч-
но долго. То есть это его пространство игры. Это движе-
ние является движением мира как игры. «Для абсолюта
сама жизнь — игра» (IV, р. 282). Эта игра является жес-
токостью как единством случая и необходимости. «Слу-
чай — это бесконечное, но не бог» («Фрагментация»).
И этой же игрой жизни оказывается артист13.
Мыслить закрытие представления — это значит мыс-
лить жестокую силу смерти и игры, которая позволяет
присутствию родиться для самого себя, насладиться со-
бой в представлении, в котором оно скрадывается из-за
Ж. Деррида «Письмо и различие» Театр жестокости и закрытие представления
собственного' откладывания. Мыслить закрытие пред-
ставления — это мыслить трагическое: но не как пред-
ставление судьбы, а как судьбу представления. Как его
даровую и бездонную необходимость.
Но и мыслить, почему в своем закрытии представле-
ние фатально продолжается.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 In 84, р. 109. Как и в предыдущем очерке об Арто, тек-
сты, обозначенные датой, не изданы.
2 «Психология организма как выплескивающегося чувст-
ва жизни и силы, внутри которого даже страдание дей-
ствует как стимулятор, дала мне ключ к понятию траги-
ческого чувства, которое осталось непонятным как для
Аристотеля, так и для наших современных пессими-
стов». Искусство как подражание природе существен-
ным образом связано с его катарсическим характером.
«Речь идет не о том, чтобы избавиться от страха и жало-
сти, очиститься от опасного аффекта посредством раз-
грузки страстей, как это предполагалось Аристотелем,
но о том, чтобы, пересекая страх и жалость, самому быть
вечной радостью становления, той радостью, которая
заключает в себе и радость разрушения (die Lust am Ver-
nichten). Тем самым я снова подхожу к пункту, от кото-
рого отправлялся. “Рождение трагедии” было моей пер-
вой переоценкой всех ценностей. Я встаю на почву,
в которую верит моя воля и моя сила — я, как послед-
ний ученик Диониса, учащий вечному возвращению»
(Gotzen-Dammerung, Werke, II, р. 1302).
3 Нужно было бы соотнести «Театр и его Двойник» с
«Опытом о происхождении языков», «Рождением тра-
гедии», со всеми маргинальными текстами Руссо и Ниц-
ше, чтобы воссоздать систему сходств и противопостав-
лений.
4 «В этом театре, любое творчество исходит из сцены, об-
наруживая свой перевод и свое начало в тайном физи-
ческом побуждении, являющимся Речением до слов » (IV,
р. 72). «Этот новый язык... в гораздо большей степени
исходит из НЕОБХОДИМОСТИ слова, чем уже оформ-
ленное слово» (р. 132). В этом смысле слово — это знак,
симптом усталости живого слова и болезни жизни. Сло-
во как ясное и предназначенное для передачи и повто-
рения слово — это смерть в языке: «Можно было бы ска-
зать, что дух, обессилев, в конце концов отдался ясно-
сти слова» (IV, р. 289). О необходимости изменить на-
значение слова в театре см. также IV, р. 86-87-113.
5 «Сны и способы управлять ими» (1867) упоминаются в
начале «Сообщающихся сосудов».
6 «Нищета неведомой души, которую картель мнимых пси-
хологов, не переставая, пришпиливали к мускулам че-
ловечества» (Письмо, написанное из Эспалиона Роже
Блену, 25 марта, 1946). «Нам досталось очень мало доку-
ментов о Мистериях средних веков, да к тому же все они
весьма спорны. Очевидно, впрочем, что в них с точки зре-
ния чистого сценического искусства были ресурсы, ко-
торыми театр не располагает уже на протяжении сто-
летий, также как в них можно было бы найти науку
вытесненных споров души с самой собой, которую лишь
чуть-чуть приоткрывает современный психоанализ, при-
чем в гораздо менее эффективном и морально плодотвор-
ном смысле, нежели это было в мистических драмах, ра-
зыгрываемых на папертях» (2-1945). В этом фрагменте
увеличивается число нападок на психоанализ.
7 «Этот поэтически-активный способ рассматривать вы-
ражение на сцене ведет нас к отходу от современного
человеческого и психологического значения театра, к
обнаружению того религиозного и мистического значе-
ния, чувство которого театр полностью потерял. Если
достаточно просто заговорить о “религиозном” или
“мистическом”, чтобы тебя тут же смешали со священ-
ником или с совершенно неграмотным и внешним для са-
мого буддистского храма бонзой, способного разве что
вращать каменные трещотки, то это показывает лишь
нашу неспособность извлечь из слова все его следст-
вия...» (IV, р. 56-57). «Это театр, который отстраняет
автора в пользу того, кого мы на нашем западном теат-
ральном жаргоне называем постановщиком; но он сам
становится чем-то вроде магического распорядителя и
управителя священными церемониями. При этом мате-
рия, над которой он работает, темы, к которым он обра-
щается, принадлежат не ему, а богам. Они рождаются
из первичных связок природы, которым благоволил их
дух-двойник. Постановщик притрагивается к ОТКРО-
ВЕННОМУ. Это что-то вроде первоначальной природы,
от которой еще не был отделен дух» (р. 72 и сл.). «В них
[постановках балийского театра] есть что-то от религи-
озного ритуала, поскольку они изгоняют из разума того,
Ф
8
§
X
о
X
кто их видит, всякий намек на подделку, насмешливое
подражание реальности... Идеи, на которые он нацелен,
состояния духа, которые он пытается произвести, мис-
тические решения, которые он предлагает, оказывают-
ся внушены, возбуждены и достигнуты беспрепятствен-
но и безотлагательно. Все это похоже на особый
экзорцистский акт, который призывает наших демонов
прийти» (р. 73, см. также р. 318-319 и V, р. 35).
8 Против заговора страха, давшего рождение и человеку,
и богу, нужно восстановить единство зла и жизни, сата-
нинского и божественного: «Я, г. Антонен Арто, родил-
ся 4 сентября 1896 года в Марселе, являюсь Сатаной и
богом и не хочу Святой Девы» (записано в Родезе, сент.
1945).
9 О полном спектакле см. II, р. 33-34. Эта тема часто со-
провождается намеками на причастие, которое понима-
ется в качестве «корыстной эмоции»: критика эстетиче-
ского опыта как незаинтересованности. Она напоминает
ницшевскую критику философии искусства Канта. Но
так же, как и у Ницше, у Арто эта тема не противоречит
значению игрового бескорыстия артистического твор-
чества. Как раз наоборот.
10 Театр жестокости — это не только зрелище без зрите-
лей, но и слово без слушателей. Ницше: «Человек, пора-
женный дионисийским возбуждением, так же как и тол-
па в оргии, не имеет никакого слушателя, которому он
должен был бы что-то сообщить, тогда как эпический
повествователь или аполлоновский артист вообще обя-
зательно предполагают своего слушателя. Существен-
ной чертой дионисийского искусства как раз и является
та черта, что оно не имеет отношения к слушателю. Во-
одушевленный служитель Диониса понимается только
ему подобными, как я уже говорил выше. Если бы мы
представили некоего слушателя, присутствующего на
одном из внезапных извержений дионисийского возбу-
ждения, то ему бы стоило предсказать судьбу Пантея,
нескромного профана, с которого сорвали маску и рас-
терзали менады...» «Но согласно наиболее подробным
исследованиям опера начинается с этой претензии слу-
шателя понимать слова. Как? У Слушателя есть еще
какие-то претензии? Да и нужно ли понимать слова?»
11 Письмо Ж. Полану (25 января 1936): «Я думаю, что на-
шел подходящее название для своей книги. Это “ТЕАТР
И ЕГО ДВОЙНИК”, потому что театр является двойни-
ком жизни, а жизнь — двойником настоящего театра...
Это название соответствует всем тем двойникам театра,
которых я нашел по истечении многих лет: метафизике,
чуме, жестокости. Только на сцене может восстановить-
ся единство мысли, жеста и акта» (V, р. 272-273).
12 Желая снова ввести чистоту в понятие различия, неиз-
бежно возвращаешься к не-различенности и полному
присутствию. Это движение влечет весьма тяжелые по-
следствия для любой попытки, противопоставляющей-
ся открытому антигегельянству. Их, как нам кажется,
можно избежать, лишь мысля различие вне определения
бытия как присутствия, вне альтернативы присутствия
и отсутствия и вне всего того, что управляется таким оп-
ределением и такой альтернативой, мысля различие как
нечистоту начала, то есть как отсрочку и отложение в
конечной экономии тождественного.
13 И снова Ницше. Соответствующие тексты хорошо из-
вестны. Например, он пишет, идя за Гераклитом, так:
«Как дитя и артист вечно живой огонь играет, в невин-
ности создает и разрушает — и эта игра является игрой
Эона самого с собой... Ребенок иногда бросает игруш-
ку, но тотчас же подбирает ее в невинном капризе. Как
только же он начинает строить, он связывает, сочленя-
ет и придает форму, повинуясь внутреннему закону и
распоряжению. Только у эстетического человека есть
такой взгляд на мир, только он принимает от артиста и
от сотворения художественного произведения опыт по-
лемической множественности, которая, несмотря ни на
что, может нести в себе закон и право; опыт художника,
удерживающийся и над произведением, и в самом про-
изведении, созерцающий его и действующий в нем; опыт
необходимости и игры, конфликта гармонии, которые
должны сочетаться для создания произведения искус-
ства »(«Философия в эпоху греческой трагедии », Werke,
Hanser, III, р. 367-368).
От экономии
ограниченной к
экономии всеобщей
Гегельянство без утайки
400
Он [Гегель] так и не узнал, насколько был прав.
Ж. Б ат ай
«Часто Гегель кажется мне очевидностью, но очевид-
ность тяжело переносить » («Виновник »). Почему же се-
годня — даже сегодня — лучшие читатели Батая отно-
сятся к тем, кому гегелевская очевидность кажется столь
легковесной? Настолько легковесной, что отделаться от
ее принудительности можно с помощью невнятного на-
мека на некие фундаментальные понятия — порой это
служит поводом, чтобы не углубляться в детали — до-
вольствования общепринятыми условностями, слепоты к
самому тексту или отсылки на преступную близость к
Марксу или Ницше. Может быть, дело в том, что очевид-
ность слишком легко переносить, а дисциплине предпо-
читают пожатие плеч. И в противоположность тому, что
делал Батай, мы как раз и оказываемся, ничего о том не
зная и не ведая, внутри гегелевской очевидности, от гру-
за которой мы так часто считали себя уже освободивши-
мися. Неузнанное и легковесно толкуемое гегельянство
при этом лишь расширяет область своего исторического
господства, беспрепятственно развертывая свои огром-
ные ресурсы охвата. Гегелевская очевидность кажется как
никогда легкой именно в тот момент, когда она начинает
наваливаться всем своим весом. Этого-то и боялся Батай:
тяжелая, «она станет еще тяжелее впоследствии». И ко-
гда он, более чем кто бы то ни было другой, желал более
всего сблизиться с Ницше, доходя даже до прямого ото-
ждествления с ним, все равно это не было мотивом для
упрощения: «Ницше были известны лишь расхожие из-
ложения Гегеля. “Генеалогия морали” — это замечатель-
ное доказательство того невежества, с которым сталки-
валась и продолжает сталкиваться диалектика раба и
господина, от ясности которой помрачается ум... Никто
не может о себе ничего знать, если он не уловил это дви-
жение, которое определяет и ограничивает последова-
тельный ряд возможностей человека» («Внутренний
опыт»).
Вытерпеть гегелевскую очевидность сегодня равно-
значно следующему: необходимо во всех смыслах прой-
ти через «сон разума», который порождает и усыпляет
чудовищ, пересечь его в самом деле так, чтобы пробуж-
дение не оказалось хитростью сна. То есть хитростью
разума. Сон разума — это, быть может, не уснувший ра-
зум, а сон в форме разума, бдение гегелевского логоса.
Разум бдительно следит за глубоким сном, в котором
его корысть. Поэтому, если «очевидность, приоб-
ретенная во сне разума, (по)теряет характер пробуж-
дения » (ibid.), то для того, чтобы открыть глаза (а разве
Батай когда-нибудь хотел сделать нечто иное, справед-
ливо уверившись в том, что при этом он рискует жизнью:
«условие моего прозрения равносильно необходимости
смерти»?), нужно провести ночь с разумом, бодрство-
вать и спать вместе с ним: всю ночь до самого утра, до
тех сумерек, которые обманчиво походят — как рассвет
походит на сумерки — на тот час, когда философское
животное тоже может наконец-то открыть глаза. До
этого утра, и не до какого другого. Ведь на исходе этой
ночи в некоем дискурсе, о котором я собираюсь сказать,
было вслепую соткано что-то, с помощью чего завер-
шающая себя философия включает в себя и предвос-
хищает, дабы придержать их при себе, все образы того,
что по ту сторону от нее, все формы и все ресурсы
внешнего ей. С помощью простого захвата их выс-
казывания. Не достигающего, быть может, только
какого-то одинокого смеха. И чего-то еще.
Смех над философией (над гегельянством) — как дей-
ствительная форма пробуждения — с этого мгновения
требует особого «научения», целого «метода медитации»,
признающего пути философа, понимающего его игру,
обводящего вокруг пальца его хитрости, смешивающего
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
(D
И
О
<v
его карты, позволяющего ему развертывать свои страте-
гические планы и присваивающего его тексты. А затем,
благодаря подготовительной работе — а философия, по
Батаю, это работа, — но в то же время в страстном, вне-
запном и непредвиденном разрыве с ней, в ее предатель-
стве или сбое, раздается сухой раскат смеха. Случается
это в иные редкие мгновения, которые не столько мгно-
вения, сколько едва прочерченные, редкие, легкие, скром-
ные и непричастные к глупому ликованию движения, ко-
торые, удаляясь от общественных мест, оказываются в
непосредственной близости к тому, над чем смеется смех:
в первую очередь, к тревоге, которую ни в коем случае
нельзя называть негативностью смеха, чтобы снова не
попасться в капкан гегелевского дискурса. Уже в этой
прелюдии мы предчувствуем, что невозможное, на кото-
рое направлены медитации Батая, всегда будет вопло-
щаться в следующем вопросе: как после исчерпания дис-
курса философии, вписать в лексику и синтаксис некоего,
то есть нашего, языка, бывшего также и языком филосо-
фии, то, что, тем не менее, выходит за пределы понятий-
ных оппозиций, управляемых этой общей логикой? Этот
выход за пределы, будучи невозможным и необходимым,
должен был изогнуть дискурс в странной судороге. И, ко-
нечно, принудить его к неопределенно долгому объясне-
нию с Гегелем. На протяжении уже более чем одного века
разрывов, «превосхождений», свершавшихся вместе с
«переворачиваниями» или без них, редко отношение к
Гегелю было столь неопределенным: некое безоглядное
соучастие сопровождает дискурс Гегеля, «принимает его
всерьез» с начала и до конца, не высказывая никаких воз-
ражений философского характера, в то время как осо-
бый взрыв смеха вырывается за его пределы, разрушает
его смысл и в любом случае указывает на ту остроту «опы-
та», которая сама по себе расщепляет этот дискурс; что
удается сделать лишь хорошенько прицелившись и хоро-
шо зная то, над чем смеешься.
Итак, Батай принял всерьез Гегеля и абсолютное
знание1. Но, как ему было известно, принимать такую
систему всерьез — это значит запретить себе извлекать
из нее отдельные понятия или манипулировать разроз-
ненными положениями, вытягивать из нее следствия пу-
тем перемещения этих положений в стихию чуждого им
дискурса: «Мысли Гегеля настолько согласованы друге
другом, что их смысл можно схватить только в необхо-
димости их движения, являющегося самой их связно-
стью» {ibid.). Нет никакого сомнения в том, что Батай
поставил под сомнение идею или смысл цепи гегелевско-
го разума, но он мыслил ее целиком, не забывая о ее
внутренней строгости. Можно было бы, чем мы сейчас
не будем заниматься, представить в виде сцены историю
отношений Батая с различными образами Гегеля: с тем,
который принял на себя «абсолютный разрыв»2; кото-
рый «подумал, что сходит с ума »5; который, очутившись
на этой «деревенской свадьбе», которой является фи-
лософия, между Вольфом, Контом и «тучей профес-
соров », уже не задает себе никаких вопросов, тогда как
«один-одинешенек, с больной головой, Кьеркегор
мучает себя вопрошанием»4; который «к концу жизни»
«больше не поднимал проблем», «повторял свои курсы
и играл в карты»; с тем «портретом старого Гегеля»,
глядя на который, так же, как и «при чтении “Фено-
менологии духа”», «нельзя избавиться от леденящего
впечатления завершенности»5. И, наконец, с Гегелем
«маленького смешного пересказа»6.
Но оставим сцену и персонажей. Драма в первую оче-
редь оказывается текстуальной. В своем бесконечном
объяснении с Гегелем у Батая был, конечно, лишь огра-
ниченный и непрямой доступ к самим текстам7. Но это не
помешало ему направить свое чтение и свои вопросы на
те бастионы, которые имеют решающее значение. Если
взять понятия Батая одно за другим и обездвижить эти
понятия вне их синтаксиса, то они все окажутся гегель-
янскими. Это необходимо признать, но на этом нельзя
останавливаться. Ибо, не уловив неминуемых последст-
вий той дрожи, которую он на них наводит, не заметив
той новой обстановки, в которую он их вдвигает и вписы-
вает, едва лишь касаясь ее самой, мы, в зависимости от
обстоятельств, заключили бы, что Батай гегельянец, а мо-
жет — антигегельянец, или, в конце концов, он просто
переписал всего Гегеля со множеством ошибок. И в лю-
бом из случаев мы бы ошиблись. Мы упустили бы тот
формальный закон, который, выражаясь Батаем не по-
философски — и на то были существенные причины, —
обусловил отношение всех его понятий к понятиям Геге-
ля, а через Гегеля — к понятиям всей истории метафизи-
ки. Всех его понятий, а не только тех, которыми мы будем
вынуждены здесь ограничится, дабы реконструировать
выражение этого закона.
о
о
*
Ь
а>
Эпоха смысла: господство
и суверенность
Чтобы начать, спросим, не является ли «суверен-
ность» переводом «господства» (Herrschaft) «Феномено-
логии », как это может показаться на первый взгляд? Опе-
рация господства, как пишет Гегель, как раз и состоит в
том, «чтобы показать, что ты не привязан ни к какому
определенному наличному бытию, так же, как и ко все-
общей особенности наличного бытия вообще, показать,
что ты вообще не привязан к жизни» (перевод Ж. Ип-
полита). Такая «операция» (это слово, которым будет по-
стоянно пользоваться Батай, чтобы указать на избран-
ный момент или акт суверенности, было принятым
переводом слова Тип, часто встречающегося в главе о диа-
лектике раба и господина) равнозначна выставлению на
кон (wagen, daransetzen; выставить на кон, рискнуть —
это некоторые из наиболее частых и наиболее фундамен-
тальных выражений Батая) всей своей жизни. Раб — это
тот, кто не рискует своей жизнью, кто хочет ее сохра-
нить, быть сохраненным (servus). Возвышаясь над жиз-
нью, смотря в лицо смерти, достигаешь господства, то
есть бытия для себя, свободы и признания. Поэтому
свобода проходит через выставление на кон жизни
(Daransetzen des Lebens). Господин — это тот, у кого хва-
тило сил выдержать страх смерти и продолжить ее дело.
Это, по Батаю, и есть центр гегельянства. А «ведущим тек-
стом» оказывается тот текст из «Предисловия» к «Фе-
номенологии», который поднимает знание на «высоту
смерти»8.
Нам известны те строгие и изощренные этапы, через
которые проходит диалектика раба и господина. Их нель-
зя пересказать вкратце, не исказив. Мы же интересуемся
здесь теми существенными смещениями, которым они
подверглись, отразившись в мысли Батая. И в первую оче-
редь — различием суверенности и господства. Ведь нель-
зя даже сказать, что у этого различия есть смысл: это само
различие смысла, единственный в своем роде зазор, ко-
торый отделяет смысл от некоторой бессмыслицы. Смысл
есть у господства. Риск жизнью — это один из моментов
выстраивания смысла, представления сущности и исти-
ны. Это обязательный этап в истории самосознания и
феноменальности, то есть представления смысла. Для
того, чтобы история — то есть смысл — могла связаться
или соткаться, необходимо, чтобы господин испытал
свою истину. Это возможно только при двух нераздели-
мых условиях: господин должен сохранить жизнь, что-
бы насладиться тем, что он приобрел, рискуя ей, а в кон-
це всей этой последовательности, великолепно описанной
Гегелем, «истина независимого сознания (должна быть)
сознанием раба». Когда же рабство станет господством,
оно сохранит в себе след своего вытесненного происхо-
ждения, «оно придет к себе как вытесненное сознание
(zuruckgedrangtes Bewusstsein) и путем некоего оборачи-
вания превратится в настоящую независимость». Над
этой-то асимметрией, над этой абсолютной привилегией
раба Батай всегда и думал. Истина господина в рабе; а
раб, ставший господином, остается «вытесненным» ра-
бом. Таково условие смысла, истории, дискурса, фило-
софии и т.д. Господин относится к самому себе, а само-
сознание конституируется только через опосредование
рабским сознанием в процессе признания; и тем самым
через опосредование вещью, ведь вещь — это для раба,
прежде всего, та сущность, которую он не может непо-
средственно отрицать в наслаждении, а может лишь над
ней работать, «обрабатывать» (be'arbeiten), а работа со-
стоит в торможении (hemmen) своего желания, отсрочке
(aufhalten) исчезновения вещи. Сохранить жизнь, удер-
жаться в ней, работать, откладывать удовольствие на
потом, ограничивать риск, удерживать смерть на рас-
стоянии в тот самый момент, когда смотришь ей в лицо —
вот рабское условие господства и всей истории, возмож-
ность которой оно обеспечивает.
Гегель совершенно недвусмысленно выразил необ-
ходимость того, чтобы господин сохранил свою жизнь,
которой он рискует. Если бы не эта экономия жизни,
«предельное доказательство через смерть в то же мгно-
вение уничтожило бы и свою собственную достовер-
ность». Поэтому идти навстречу простой и чистой смер-
ти — это значит идти на риск полной потери смысла,
покуда смысл необходимым образом проходит через ис-
тину господина и через самосознание. То есть на риск по-
тери эффекта, прибыли смысла, который мы намерева-
лись таким образом приобрести в игре. Эту чистую и
простую смерть, эту немую смерть без какой бы то ни
было отдачи Гегель называл абстрактной негативно-
стью в противоположность «отрицанию сознания, ко-
торое отрицает таким образом, что оно сохраняет и
удерживает то, что уже отменено (Die Negation des Ве-
wusstsein, welches so aufhebt, dass Aufgehobene aufbewahrt
und erhalt)» и которое «тем самым переживает свое ста-
новление отмененным (und hiemit sein Aufgehobenwerden
iiberlebt). В этом опыте самосознание узнает, что Жизнь
так же принадлежит к его сущности, как и чистое само-
сознание,».
И тут же — раскат смеха Батая. С помощью хитро-
сти жизни, то есть разума, жизнь все-таки осталась в
живых. Какое-то иное понятие жизни было ловко прота-
щено на свое место, чтобы остаться там и чтобы ничто
никогда не выходило за его пределы, так же, как и за пре-
делы разума (ведь, как говорится в «Эротизме», «выход
за пределы по определению вне разума»). Эта жизнь уже
является не естественной жизнью, биологическим суще-
ствованием, выставленным на кон в господстве, но той
сущностной жизнью, которая сплавляется с первой, удер-
живает ее и заставляет работать в построении самосоз-
нания, истины и смысла. Такова истина жизни. С помо-
щью этого Aufhebung, которое сохраняет ставку и
остается управителем игры, ограничивая ее, обрабаты-
вая ее и придавая ей форму и смысл (die Arbeit.,, bildet),
подобная экономия жизни смиряется с сохранением, с
кругообращением и воспроизводством себя как смысла,
и в тот же самый момент все то, что покрывается именем
господства, разваливается как плохо сыгранная комедия.
Независимость самосознания становится смехотворной
в мгновение, когда оно освобождается порабощаясь, ко-
гда оно принимается за работу, то есть за диалектику.
Только смех выходит за пределы диалектики и диалек-
тика: его раскат слышен лишь после абсолютного отказа
от смысла, после того абсолютного риска жизнью, кото-
рый Гегель называл абстрактной негативностью. Этой
негативности никогда не было, она никогда не представ-
ляет себя, ведь сделав это, она снова бы наметила неко-
торую работу. Смех, который буквально никогда не
появляется, поскольку он выходит за пределы феноме-
нальности вообще как абсолютной возможности смыс-
ла. И само слово «смех » должно читаться в раскате, в рас-
катывании его смыслового ядра в сторону системы
суверенной операции («опьянение, эротическое излия-
ние, излияние в жертвоприношении, поэтическое излия-
ние, героическое поведение, гнев, абсурдность» и т.д.,
см. «Метод медитации »). В этом раскате смеха начинает
блистать, никоим образом не показываясь и уж тем бо-
лее не высказываясь, различие между господством и су-
веренностью. Суверенность, как нам еще предстоит убе-
диться, и меньше, и больше господства; например, она и
менее, и более свободна, чем господство, а то, что сказа-
но о свободе, может быть распространено на все осталь-
ные черты господства. Будучи одним махом и большим, и
меньшим господством, чем само господство, суверенность
оказывается чем-то совсем иным. Батай вырывает ее из
рук диалектики. Он выводит ее из горизонта смысла и
знания. Так что, несмотря на черты сходства с господ-
ством, она более не является одной из фигур феномено-
логической последовательности. Походя каждой своей
черточкой на такую фигуру, она является ее абсолютным
искажением. Различием, которого бы не было, если бы
подобие ограничивалось той или иной отдельной чертой.
Суверенность, ни в коей мере не оказываясь просто аб-
страктной негативностью, должна открыть серьезность
смысла как одну из абстракций, вписанных в игру. Смех,
конституирующий суверенность в ее отношении к смер-
ти, не может быть, как кое-кто сказал9, негативностью.
Ведь он смеется над собой, «мажорный» смех смеется над
«минорным», поскольку суверенность также нуждается
в жизни — которая сплавляет две жизни, — чтобы отне-
стись к себе в наслаждении собой. Следовательно, она
должна каким-то образом симулировать абсолютный
риск и смеяться над таким симулякром. В комедии, кото-
рую она таким образом разыгрывает сама с собой, взрыв
смеха — это тот ничтожный пустяк, в котором безвоз-
вратно гибнет весь смысл. И «философия», «являющая-
ся работой»10, не может ничего поделать с этим смехом,
не может ничего сказать, хотя ей следовало бы «в пер-
вую очередь отнестись к этому смеху» (ibid.). Вот почему
смех отсутствует в гегелевской системе, причем не как ее
негативная или абстрактная сторона. «Внутри “системы”
смех, поэзия, экстаз не существуют. Гегель поспешно
избавляется от них: в конце концов он познает только
знание. Его огромная усталость связывается, на мой
взгляд, с ужасом перед слепым пятном» («Внутренний
опыт»). Смехотворно само подчинение очевидности смыс-
ла, силе императива, требующего, чтобы смысл всегда
оставался, чтобы в конечном счете в смерти ничего не
терялось, чтобы смерть получила значение все той же
«абстрактной негативности », чтобы всегда была возмож-
407
на работа, которая могла бы, откладывая наслаждение,
наделить смыслом, серьезностью и истиной выставление
на кон. Это подчинение и есть суть и стихия философии,
гегелевской онто-логики. Абсолютно комичен этот страх
перед полной растратой всех запасов, перед абсолютным
пожертвованием смыслом — без возврата и без утайки.
Понятие Aufhebung (являющегося спекулятивным поня-
тием par excellence, непереводимая привилегия на кото-
рое принадлежит, по словам Гегеля, немецкому языку)
смехотворно в том, что оно обозначает деловитость дис-
курса, тужащегося над присвоением любой негативности,
над переработкой выставления на кон в инвестирование,
над смягчением абсолютной траты, над приданием смыс-
ла смерти и над самоослеплением по отношению к той
бездонности бессмыслицы, в которой смысл черпает и -
исчерпывает все свои запасы. Оставаться бесстрастным,
как Гегель, перед комедией Aufhebung — это значит
ослеплять себя самого по отношению к опыту сакраль-
ного, к обезумевшему жертвоприношению присутствия
и смысла. Таким образом, вырисовывается фигура опы-
та — хотя непонятно, можем ли мы все еще пользоваться
этими двумя словами, — который не сводим ни к какой
феноменологии духа, оказываясь в ней, подобно смеху
в философии, неуместным, изображающим в жертвопри-
ношении абсолютный риск смерти, производящим одно-
временно риск абсолютной смерти и то притворство, в ко-
тором он может быть прожит, невозможность прочтения
в этом риске истины или смысла, и тот самый смех, кото-
рый смешивается в симулякре с открытием сакрального.
Описывая этот немыслимый для философии симулякр,
ее слепое пятно, Батай, конечно, должен притвориться,
будто он говорит о нем внутри гегелевского логоса:
«Дальше я буду говорить о глубоких различиях ме-
жду человеком жертвоприношения, действующим, не
зная (не осознавая) мотивов и целей того, что он делает,
и Мудрецом (Гегелем), на собственных глазах отдающим-
ся требованиям абсолютного знания. Но, несмотря на все
различия, речь всегда идет о проявлении Негативного
(причем всегда в конкретной форме, то есть в недрах то-
тальности, конститутивные элементы которой неразде-
лимы). Избранным проявлением Негативности является
смерть, но на самом деле смерть ничего не являет. В прин-
ципе смерть открывает Человеку его естественное, жи-
вотное бытие, но этого откровения никогда не бывает.
Ибо со смертью поддерживающего его животного суще-
ства человек тоже погибает. Для того, чтобы человек на-
конец открылся самому себе, ему следовало бы умереть,
но при этом оставаясь в живых, то есть наблюдая то, как
он сам перестает существовать. Другими словами, сама
смерть должна была бы стать (само)сознанием в тот са-
мый момент, когда она уничтожает сознающее сущест-
во. Что и происходит посредством ловкого фокуса (что,
по крайней мере, вот-вот случится, уже случившись как-
то мимолетно, неуловимо). В жертвоприношении прино-
сящий жертву отождествляет себя с жертвой, поражен-
ной смертью. Таким образом, он видит себя умирающим,
и даже умирающим по своей собственной воле, ведь он
всем сердцем вместе с жертвенным кинжалом. Но это ведь
просто комедия! По крайней мере, это было бы комеди-
ей, если бы существовал какой-нибудь другой способ
открыть живущему захваченность смертью: эту завер-
шенность конечного существа, которая одна только ис-
полняет и может исполнить его Негативность, которая
его убивает, приканчивает и окончательно уничтожает...
Таким образом, во что бы то ни стало необходимо, что-
бы человек жил в подлинное мгновение своей смерти или
чтобы он жил с ощущением того, что он в самом деле уми-
рает. Эта сложность предвещает необходимость спектак-
ля или, говоря в общем, представления, без повторения
которых мы могли бы оставаться, как это, вероятно, слу-
чилось с животными, невеждами и чужаками по отноше-
нию к смерти. В самом деле, нет ничего менее животно-
го, чем более или менее удаленное от реальности
изображение смерти»11.
Только выделение симулякра и продемонстрирован-
ного фокуса прерывает гегельянскую связность этого
текста. Далее различие будет подчеркнуто весельем.
«Сближая ее с жертвоприношением и тем самым с
первой темой представления (то есть искусства, празд-
нований, зрелищ), я хотел показать, что реакция Гегеля
является фундаментальным человеческим поведением...
Это то главное выражение, которое повторялось тради-
цией до бесконечности... Для Гегеля самым главным было
осознать Негативность как таковую, схватить ее ужас и,
в частности, ужас смерти, поддерживая дело смерти и
смотря ему в лицо. В этом смысле Гегель больше проти-
вопоставляется не тем, кто отступает, а тем, кто говорит:
это не важно”. Похоже, что более всего он далек от тех,
кто отвечает на смерть весельем. Желая как можно яснее
это показать, я, сказав уже о некотором сходстве, настаи-
ваю на противопоставлении наивной установки и уста-
новки — абсолютной — Мудрости Гегеля. Но я не уве-
рен, что из этих двух установок наименее абсолютная
является наиболее наивной. Я приведу парадоксальный
пример веселой реакции на дело смерти. Ирландский и
валлийский обычай “wake” мало известен, но его наблю-
дали еще в конце прошлого века. Он является сюжетом
последней книги Джойса Finnegan's wake, то есть “По-
минки по Финнегану” (правда, чтение этого знаменитого
романа по меньшей мере затруднительно). В Уэльсе от-
крытый гроб ставили на попа в самом видном месте дома.
Мертвец был одет в свой самый красивый костюм, на его
голове был цилиндр. Его семья приглашала всех его дру-
зей, которые выражали свое уважение к ушедшему от них
тем, что как можно дольше плясали и как можно больше
выпивали за него. Речь тут идет о смерти другого, но в
таких случаях смерть другого всегда является образом
собственной смертью. Так радоваться можно лишь при
том условии, что, хотя мертвец и другой, предполагает-
ся, что он согласен на происходящее веселье, причем ко-
гда пьющий сейчас за него умрет, он умрет точно так же.»
Это веселье не относится к экономии жизни, оно не
соответствует «стремлению отрицать существованию
смерти», подходя к нему как можно ближе. Это не судо-
рога, следующая за страхом, не минорный смех, раздаю-
щийся в тот момент, когда ему удалось «улизнуть от это-
го страха целым и невредимым», относясь к этому страху
как позитивное к негативному.
«Напротив, веселье, связанное с делом смерти, вну-
шает мне страх, оно подчеркивает и усугубляет этот страх
как его противовес: в конечном счете веселый страх и
страшное веселье бросают меня то в жар, то в холод «аб-
солютного разрыва», в котором именно моя радость в
конец меня разрывает, и где за радостью шло бы изнемо-
жение, если бы я не был разорван целиком, безмерно.»
Слепое пятно гегельянства, вокруг которого может
организоваться работа представления смысла, — это та
точка, в которой разрушение, подавление, смерть и жерт-
воприношение конституируют столь невозместимую тра-
ту, столь радикальную негативность — то есть негатив-
ность без утайки, — что их отныне нельзя будет
определять в качестве негативности, включенной в неко-
торую систему или процесс: это та точка, в которой нет
ни системы, ни процесса. В дискурсе (как единстве про-
цесса и системы) негативность всегда является изнанкой
и соучастницей позитивности. Поэтому о негативности
можно говорить лишь в таком сплетении смысла, и о ней
всегда так именно и говорили. А суверенная операция,
точка не-утайки, не является ни позитивной, ни нега-
тивной. В дискурс ее можно вписать, лишь перечеркивая
все предикаты или идя на их противоречивое взаимона-
ложение, выводящее из себя логику философии12. Мож-
но было бы показать, что необъятные по своему содер-
жанию революции Канта и Гегеля в данном отношении
лишь пробудили или открыли наиболее устойчивое фи-
лософское определение негативности (вместе со всеми
теми понятиями, которые систематически завязываются
вокруг нее у Гегеля: идеальность, истина, смысл, время,
история и т.д.), — хотя это не умаляет их значения как
своего рода разрыва. Необъятная революция состояла в
том — и соблазнительно было бы сказать «просто-напро-
сто», — чтобы принять негативное всерьез. Наделить
смыслом его работу. А вот Батай не принимает негатив-
ное всерьез. Но в своем собственном дискурсе он должен
отметить, что он, тем не менее, не возвращается к пози-
тивным докантианским формам метафизики полного при-
сутствия. Он должен отметить точку безвозвратности
разрушения, инстанцию ничего не укрывающей траты,
которая больше не будет снабжать нас источниками, по-
зволявшими мыслить ее как негативность. Ведь негатив-
ность — это источник. Назвав «абстрактной негативно-
стью» не-утайку абсолютной траты, Гегель поспешно
ослепил самого себя по отношению к тому, что сам же и
разоблачил в виде негативности. Поспешил к серьезно-
сти смысла и к гарантии знания. Вот почему, «он так и не
узнал, насколько был прав». И ошибся в том, что был
прав. Был прав в негативном, обладая его разумом*. Идти
«до конца» «абсолютного разрыва» и безмерного, ниче-
го не утаивающего негативного — это не значит следо-
вать за его логикой до той точки, где Aufhebung (сам дис-
курс) внутри дискурса заставит его сотрудничать в
конституировании смысла и в работе интериоризирую-
щей смысл памяти, Erinnerung. Наоборот, нужно судо-
* Игра слов: «быть правым* — avoir raison — по-французски это
буквально значит «обладать разумом*. — Прим, перев.
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
рожным движением разорвать лицевую поверхность не-
гативного, делающей из него еще одну, то есть успокои-
тельную, поверхность позитивного, и выставить наружу
на мгновение то, что более не может назваться негатив-
ным. И именно потому, что у него уже не будет скрытой
изнанки, потому что оно не будет более поддаваться об-
ращению в позитивность, не будет сотрудничать в сцеп-
лении смысла, понятия, времени и истины в дискурсе, ибо
оно буквально не будет более трудиться и поддаваться
на уговоры «работы негативного». Гегель увидел это, не
видя, показал, сокрыв. Поэтому нужно идти за ним до
самого конца, без оглядки, дойти до точки, где можно
обернуть его доводы против него самого и вырвать его
открытие из той слишком сознательной интерпретации,
которую он ему дал. Гегелевский текст, так же как и лю-
бой другой, не складывается из некоего монолитного
куска. Полностью соблюдая его безошибочную связ-
ность, можно, однако, выделить в нем различные слои,
показать, что он истолковывает сам себя*, каждое поло-
жение — это истолкование, подчиняющееся истолковы-
вающему решению. Необходимость логической непре-
рывности — это решение или среда интерпретации всех
гегелевских интерпретаций. Истолковывая негативность
как работу, делая ставку на дискурс, историю, смысл и
т.д., Гегель поставил против игры, против удачи. И так он
ослепил себя по отношению к возможности своей собст-
венной ставки, к тому факту, что сознательное подве-
шивание игры (например, переход через истину самодос-
товерности и через господство как независимость
самосознания) само было лишь фазой игры; игра вклю-
чает в себя работу смысла или смысл работы, но не в тер-
минах знания, а в терминах вписывания* смысл зависим
от игры, он вписан в одном из мест конфигурации игры,
которая сама по себе не имеет смысла.
Поскольку отныне никакая логика не управляет
смыслом истолкования, поскольку она сама является та-
ким истолкованием, можно, следовательно, переинтер-
претировать вопреки Гегелю его собственную интерпре-
тацию. Этим-то и занят Батай. Переинтерпретация — это
притворное повторение гегелевского дискурса. В время
этого повторения едва заметное смещение разлаживает
все сочленения и нарушает все спайки сымитированного
дискурса. По всей его поверхности распространяется
колебание, от которого лопается старая раковина.
«В самом деле, если позиция Гегеля противопостав-
ляет наивность жертвоприношения ученому сознанию
и бесконечной упорядоченности дискурсивной мысли,
в этой упорядоченности по-прежнему сохраняется тем-
ная точка: нельзя сказать, что Гегель не заметил какого-
то “момента” жертвоприношения, ведь он включен, вло-
жен во все движение “Феноменологии”, в котором именно
Негативность, принимаемая человеком на свою долю,
создает человека из человеческого животного. Но не уви-
дев того, что жертвоприношение само по себе свидетель-
ствовало обо всем движении смерти, о конечном, достав-
шемся Мудрецу опыте — который, будучи описан в
“Предисловии” к “Феноменологии”, сначала был всеоб-
щим и инициирующим, — он так и не узнал, насколько
был прав, то есть с какой точностью он описал движение
Негативности» («Гегель, смерть и жертвоприношение»).
Раздваивая господство, суверенность не ускользает
от диалектики. Нельзя сказать, что она извлекается из
нее как деталь, внезапно ставшая по какому-то решению
независимой. Отрывая подобным образом негативность
от диалектики, мы превратили бы ее в абстрактную нега-
тивность и только укрепили бы позиции онто-логики.
Суверенность, отнюдь не прерывая диалектики, истории
и движения смысла, дарует экономии разума свою сти-
хию, среду, безграничную кайму бессмыслицы. Ни в коей
мере не подавляя диалектический синтез13, суверенность
вписывает его в жертвоприношение смыслом и заставля-
ет в нем работать. Рисковать жизнью недостаточно, если
ставка не выпадает как удача или случай, а вкладывается
в дело как работа негативного. Поэтому суверенность
должна принести в жертву и самое господство как пред-
ставление смысла смерти. Будучи тогда для дискурса
потерянным, смысл полностью разрушается и прожига-
ется. Ведь смысл смысла, диалектика чувств и смысла,
чувственного и понятийного, единство слова sens, к ко-
торому Гегель относился с таким вниманием14, всегда
было связано с возможностью дискурсивного значения.
Жертвуя смыслом, суверенность рушит возможность дис-
курса, причем не просто посредством некоторого преры-
вания, вырезки или ранения внутри самого дискурса (как
это делала абстрактная негативность), а путем опреде-
ленного открытия, путем внезапного вторжения, откры-
вающего предел дискурса и то, что находится по ту сто-
рону от абсолютного знания.
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
Несомненно, что «значащему дискурсу» Батай по-
рой противопоставляет поэтическое, экстатическое или
сакральное слово («Но разум и дискурсивная мысль че-
ловека развивались в зависимости от рабского труда.
Только сакральное и поэтическое слово, ограничившись
горизонтом бессильной красоты, хранило возможность
проявления полной суверенности. Поэтому жертвопри-
ношение может стать способом быть суверенным и авто-
номным только в той мере, в какой к нему не причастен
значащий дискурс», — «Гегель, смерть..,»), но это сло-
во суверенности — это не иной дискурс, другая цепочка,
развертываемая рядом со значащим дискурсом. Сущест-
вует только один дискурс, он обладает значением, и в этом
пункте Гегеля нельзя просто обойти. Поэтическое или
экстатическое — это то, что внутри всякого дискурса мо-
жет пойти на абсолютную потерю своего смысла, от-
крыться бездне и основанию сакрального, бессмыслен-
ного, незнания и игры, к потере знания, из которой оно
пробуждается в броске костей. Поэтическое существо
суверенности объявляется «в тот момент, когда поэзия
отказывается от темы и от смысла» («Метод медита-
ции »). Но оно лишь объявляется, поскольку, предавшись
затем «игре без правил», поэзия больше, чем когда бы то
ни было, идет на риск поддаться приручению и «подчи-
нению». Это и есть риск современности. Чтобы избежать
его, поэзия должна «сопровождаться утверждением су-
веренности», «предоставляющим», как говорит Батай
в своей чудесной немыслимой формулировке, которая
могла бы послужить заглавием ко всему тому, что мы пы-
таемся собрать здесь в виде формы и мучения его пись-
ма, «комментарий отсутствия смысла в себе». Иначе по-
эзия в худшем случае будет подчинена, а в лучшем —
«включена». В последнем случае «смех, опьянение, жерт-
воприношение, поэзия и сам эротизм, будучи автоном-
ными, выживают в каком-то уголке, включившись в чуж-
дую им сферу, как дети в доме. То есть они попадают в
положение малых суверенов, которые не могут оспорить
империю дел »(ibid.). В этом самом интервале между под-
чинением, включением и суверенностью и следовало бы
рассмотреть отношения между литературой и революци-
ей, как их продумал Батай на пути своего объяснения с
сюрреализмом. Видимая двусмысленность его суждений
о поэзии очерчена этими тремя понятиями. Поэтический
образ не подчинен тогда, когда он «ведет от известного к
неизвестному »; но поэзия «почти целиком является пад-
шей поэзией», поскольку она удерживает, дабы удер-
жаться в них, те метафоры, которые она, конечно, вы-
рвала у «области рабства», но тотчас же и «отказалась
от них в том внутреннем крушении, которым оказывает-
ся подступ к неизвестному». «Несчастье в обладании од-
ними обломками, но обладать ими — это не значит не об-
ладать ничем, это значит удерживать одной рукой то, что
отдаешь другой»15: все та же гегелевская операция.
Будучи проявлением смысла, дискурс оказывается
потерей суверенности. Следовательно, рабство — это
лишь желание смысла: с таким положением могла бы сме-
шаться вся история философии; оно определяет работу
как смысл смысла, a techne как развертывание истины; оно
сконцентрировалось в гегелевском моменте, но Батай,
вслед за Ницше, дал ему высказаться, оторвав от него то
раскрытие бездны немыслимой бессмыслицы, которая
вводит его в мажорную игру. А минорная игра состоит в
том, чтобы в дискурсе по-прежнему приписывать смысл
отсутствию смысла16.
Два письма
Эти суждения должны были бы привести к
молчанию, а я пишу. И это вовсе не парадоксально.
Ж. Батай
Но ведь говорить нужно. «Нужно по крайней мере
высказать... несоответствие всякого слова»17, чтобы со-
хранить суверенность, то есть определенным образом ее
потерять, чтобы сберечь возможность не ее смысла, а ее
бессмыслицы и отличить ее в этом невозможном «ком-
ментарии» от любой негативности. Нужно найти слово,
которое хранит молчание. Необходимость невозможно-
го: высказать на языке — то есть на языке рабства — то,
что рабским не является. «Нельзя признаться в том, что
не является рабским... Идея молчания (то есть недости-
жимого) обезоруживает! Я могу говорить об отсутствии
смысла, лишь наделяя его тем смыслом, которого у него
нет. Молчание прервано, поскольку я заговорил. Исто-
рия всегда завершается тем lamma sabachtani, которое
выкрикивает нашу немощь, не позволяющую нам замол-
чать: я должен наделять смыслом то, у чего его нет, — в
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
конце концов само бытие дается нам как невозможность!»
(«Метод медитации»). И если слово «молчание» являет-
ся «самым извращенным» и «самым поэтичным» из всех
слов, то в силу именно того, что, притворяясь, будто оно
замалчивает смыл, оно высказывает бессмыслицу, оно
ускользает и стирает само себя, не удерживается и замол-
кает не как молчание, а как слово. Это скольжение пре-
дает и дискурс, и не-дискурс. Для нас оно может стать
неизбежным, но суверенность может играть и им, после-
довательно предавая смысл в смысле, дискурс в дискур-
се. Выбирая «молчание» «как пример скользящего сло-
ва», Батай объясняет нам, что «необходимо найти»
«слова» и «предметы», которые подобным образом «за-
ставят нас скользить»... («Внутренний опыт», р. 29). Но
к чему же? Конечно же, к другим словам и к другим пред-
метам, в которых открывается суверенность.
Это скольжение весьма рискованно. Но в свей направ-
ленности оно идет на риск смысла, рискует потерять суве-
ренность в той или иной фигуре смысла. Рискует сотво-
рить смысл, наделить разумом. Сам разум. И философию.
И Гегеля, который уже прав, едва открываешь рот, чтобы
высказать смысл. Чтобы идти на такой риск внутри языка,
чтобы спасти то, что не желает быть спасенным — возмож-
ность абсолютной игры и риска, — нужно удваивать сам
язык, прибегать к хитростям, стратегемам, симулякрам18.
И к маскам: «Нельзя признаться в том, что не является раб-
ским: повод для смеха и для... То же самое и с экстазом.
То, что лишено пользы, должно скрываться (под маской)»
(«Метод медитации). Говоря «на пределе молчания », нуж-
но построить стратегию и «найти [слова], которые в неко-
ей точке вновь внедряют суверенное молчание, которое
разрывает артикулированный язык» (ibid.).
Исключая артикулированный язык, суверенное мол-
чание тем самым оказывается, с одной стороны, чуждым
различию как истоку значения. Кажется, что оно стира-
ет прерывистость, и именно в таком духе следует пони-
мать постоянно подчеркиваемую Батаем необходимость
континуума и сообщения13. Континуум — это привиле-
гированный опыт суверенной операции, пересекающей
предел дискурсивной различенности. Но одновремен-
но — и здесь мы прикасаемся к наиболее двусмысленной
и неустойчивой точке, касающейся движения суверенно-
сти — подобный континуум не является той полнотой
смысла или присутствия, которые рассматривались в
метафизике. Устремляясь к бездне негативности и тра-
ты, опыт континуума — это в то же время опыт абсолют-
ного различия, то есть различия, которое уже не будет
тем, что было продумано Гегелем глубже, чем кем бы то
ни было другим, — различием на службе присутствия или
различием, занятым в работе истории (смысла). Разли-
чие между Гегелем и Батаем — это различие этих двух
различий. Таким образом можно было бы снять двусмыс-
ленность, довлевшую над понятиями сообщения, конти-
нуума и мгновения. Хотя и кажется, будто они отожде-
ствляются с осуществлением некоего присутствия, на
деле они подчеркивают и заостряют надрез различия.
«Один фундаментальный принцип можно выразить сле-
дующим образом: “сообщение” не может идти от одного
полного и целостного существа к другому, оно требует,
чтобы эти существа рискнули своим собственным быти-
ем, чтобы они расположились на пределе смерти и небы-
тия » («О Ницше »). Так же и мгновение — временной мо-
дус суверенной операции — не является точкой полного
и нетронутого присутствия: оно проскальзывает и скра-
дывается меж двух присутствий, будучи различием как
утвердительным скрадыванием присутствия. Оно не да-
ется, а улетучивается, уносится в движении, оказываю-
щемся одновременно движением насильственного взло-
ма и внезапного побега. Мгновение приходит украдкой'.
«Незнание во своему существу влечет и тревогу, и подав-
ление тревоги. В этот момент становится возможным по-
ставить украдкой мимолетный опыт, который я называю
опытом мгновения» («Лекции о Незнании»).
Итак, нужно «найти [слова], которые в некоей точке
вновь внедряют суверенное молчание, которое разрыва-
ет артикулированный язык». Поскольку, как мы видели,
речь идет об определенном скольжении, нужно найти
именно некое слово, точку, определенное место траек-
тории, в котором это слово, взятое из старого языка, но
помещенное на это место и получившее толчок подобно-
го движения, начнет скользить и заставит скользить весь
дискурс. Нужно будет закрепить в языке некий страте-
гический поворот, который в скользящем движении на-
силия украдкой изогнет его старое тело, дабы соотнести
его с синтаксисам и лексикой мажорного молчания. То
есть не столько р понятием или смыслом суверенности,
сколько с привилегированным моментом ее операции,
«пусть она и была обнаружена лишь однажды».
14 Ж. Деррида
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
Это весьма своеобразное отношение', отношение язы-
ка к суверенному молчанию, которое не переносит ника-
кого отношения, никакого уподобления тому, что скло-
няется и проскальзывает, чтобы соотнестись с ним.
Отношение, которое, однако, должно строго и научно
ввести в единый синтаксис подчиненные значения и опе-
рацию, являющуюся бессмыслицей, не имеющую никако-
го смысла и удерживающуюся вне синтаксиса. Нужно на-
учно соотнести отношения с не-отношением, знание — с
незнанием. «Пусть суверенная операция и оказалась воз-
можной всего один раз, наука, соотносящая объекты
мысли с суверенными моментами вполне возможна...»
(«Метод медитации»). «С этого момента начинается упо-
рядоченное размышление, основанное на отказе от зна-
ния...» («Лекции о Незнании»).
Осуществление этого плана будет тем более слож-
ным, если не невозможным, что суверенность, не будучи
господством, не может управлять этим научным дискур-
сом по образцу некоего начала или принципа ответст-
венности. Подобно господству, суверенность, конечно,
становится независимой путем выставления жизни на
кон; она ни к чему не привязывается, ничего не сохраня-
ет. Но в отличие от гегелевского господства, она не
должна желать своего сохранения, не должна стремит-
ся к удержанию самой себя и собиранию прибыли в виде
себя или прибыли с собственного риска, она «не может
быть даже определена как благо». «Я очень дорожу этим,
но стал бы я так дорожить, если бы я не был так же уве-
рен, что могу над всем этим посмеяться? » («Метод ме-
дитации»). Итак, ставка операции — это не самосозна-
ние, не возможность быть возле себя, сохранять себя и
взирать на себя. Мы уже не в стихии феноменологии.
Что опознается по той первой черте — которую не про-
честь философской логике, — что суверенность ничем
не управляет. Она вообще не управляет: ни другим, ни
вещами, ни речами, то есть ничем из того, чем можно
было бы управлять с целью производства смысла. В этом
состоит первое препятствие для той науки, которая, со-
гласно Батаю, должна была бы соотнести свои объекты
с суверенными моментами, и которая, подобно всякой
науке, требует порядка, подчиненности; различия меж-
ду главным и производным. «Метод медитации» ни в коей
мере не пытается скрыть подобное «препятствие» (это
слово самого Батая):
«Суверенная операция не только ничему не подчи-
няется, но она ничего и не подчиняет, она безразлична к
любому результату; и если я постфактум желаю иссле-
довать редукцию подчиненной мысли к суверенной, я
вполне могу это сделать, но подлинно суверенному до
этого нет никакого дела, оно в каждый момент распола-
гает мною по-иному.»
Поэтому, как только суверенность пожелала бы под-
чинить себе кого-то или чего-то, она, как мы понимаем,
поддалась бы натиску диалектики, то есть сама подчини-
лась бы рабу, вещи и работе. Она потерпела бы провал,
возжелав победы и сохранения выгод. Напротив, господ-
ство становится суверенностью, когда оно перестает
страшиться провала и теряет само себя как безвозврат-
ную жертву собственного жертвоприношения20. Следо-
вательно, и господин, и суверен в равной степени терпят
провал21, и обоим он удается, причем один из них путем
порабощения при посредстве раба придает провалу
смысл — что равнозначно провалу, состоящему в том,
чтобы упустить провал, — а другой проваливается в аб-
солютном смысле, то есть разом теряет смысл провала и
приобретает непорабощенность. Это почти неуловимое
различие, не сводимое даже к симметрии изнанки и ли-
цевой стороны, должно было бы упорядочить все «сколь-
жения » суверенного письма. Оно должно затронуть все-
гда поставленное под сомнение тождество суверенности.
Ибо суверенность не обладает тождественностью, она не
есть некая самость, бытие для себя, в себе и возле себя.
Чтобы не управлять, то есть не подчиняться, она не долж-
на себе ничего подчинять (в виде прямого дополнения),
то есть не должна подчиняться никому и ничему (рабское
опосредование непрямого дополнения): она должна без-
рассудно растратиться, утерять знание, память о себе и
свое внутреннее пространство; выступая против Erin-
nerung, против жадности, копящей смысл, она должна
практиковать забвение, то aktive Vergesslichkeit, о ко-
тором говорил Ницше, и, будучи последним подрывом
господства, не искать признания.
Отказ от признания одновременно и предписывает,
и запрещает письмо. Или, скорее, он разграничивает два
письма. Он запрещает то, которое заранее намечает след,
в коем письмо господства, то есть воля, стремится сохра-
нить себя в след^.застав.ить признать себя в нем и вос-
становить свое присутствие. Рабское письмо, естествен-
14*
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
но, презирается Батаем. Но такое презренное рабство
письма — не то же самое, что осуждает вся традиция,
начиная с Платона. Платон метит в рабское письмо как в
technu, безответственное в силу того, что в нем уже ис-
чезло присутствие человека, держащего речь. Батай же,
напротив, нацеливается на рабский проект сохранения
жизни — или ее призрака — в присутствии. Правда, в обо-
их случаях страх вызван определенной смертью, так что
нужно было бы обдумать эту связь. Проблема оказыва-
ется тем более сложной, что суверенность одновремен-
но указывает на другое письмо: на то, которое произво-
дит след в качестве следа. След является следом только
при том условии, что присутствие безвозвратно скраде-
но в нем с самого своего первого посыла, что оно консти-
туирует само себя как возможность абсолютного стира-
ния. Неизгладимый след — это не след. Следовательно,
необходимо выстроить систему положений Батая о пись-
ме, об этих двух отношениях к следу, которые мы назо-
вем минорным и мажорным.
1. В одной группе текстов суверенный отказ от при-
знания связывается со стиранием написанного. Напри-
мер, стиранием поэтического письма как минорного:
«Эта жертва разумом с виду оказывается лишь во-
ображаемой, у нее нет кровавых последствий, ничего та-
кого. В то же время она отличается от поэзии в том, что
она всеохватна, что она не оставляет за собой никакого
наслаждения, если только оно не приходит в произволь-
ном соскальзывании, которого не удержишь, или в натя-
нутом смехе. Если такое жертвоприношение и пережи-
вает случай, то лишь как цветок, оставшийся на лоле после
жатвы. У этого странного жертвоприношения, предпо-
лагающего последнюю стадию мании величия, — ведь в
нем мы чувствуем, как становимся Богом, — в одном слу-
чае могут иметься вполне заурядные последствия: если в
некоем соскальзывании припрятано наслаждение, а ма-
ния величия не прожигается до конца, мы останемся осу-
жденными на стремление к признанию, на страсть быть
Богом для толпы, что, конечно, благоприятствует безу-
мию, но не более того... Но если идти до самого конца, то
придется исчезнуть, испытать одиночество, жестоко
страдать от него и отказываться от признания: быть по-
верх всего в качестве Отсутствующего J безумного, тер-
петь без воли и без надежды, быть всегда в другом месте.
А мысль (из-за того, что скрывается в ее глубинах) нужи
но похоронить заживо. Я объявляю ее, заранее зная, что
она будет не признана, что она должная быть не призна-
на... Она, так же, как и я, может лишь погибнуть в этой
точке незнания. Мысль разрушает, но ее разрушение не
передашь толпе, ведь она обращена к самым слабым»
(«Послесловие к казни»).
Или еще так:
«Суверенная операция задействует эти следствия:
они — остатки оставшегося в памяти следа или функций,
но, когда она действует, суверенная операция совершен-
но безразлична к этим остаткам, она насмехается над
ними » («Метод медитации »).
Или так:
«Выживание чего-то написанного — это выживание
мумии» («Виновник»).
2. Но в то же время существует суверенное письмо,
которое должно прервать рабский заговор слова и смысла.
«Я пишу, чтобы отменить внутри самого себя игру
подчиненных операций » («Метод медитации »).
Выставление на кон, выводящее господство из
себя, — это, следовательно, пространство письма^ оно
разыгрывается между минорным и мажорным видами
письма, неведомыми для господина, причем мажорное
ему неведомо больше минорного, — как письмо, так и
игра («Для господина не существует игры — ни мажор-
ной, ни минорной». — «Лекции о Незнании»).
Почему существует только одно пространство
письма?
Суверенность абсолютна тогда, когда она удаляется
от всякого отношения и замыкается во мраке тайны. А
континуум суверенного сообщения живет в стихии это-
го мрака тайного отличия. И мы ничего не поймем, если
будем думать, что есть какое-то противоречие между дву-
мя этими требованиями. По правде, говоря в них можно
понять лишь то, что понимается философской логикой
господства, — а для нее нужно, наоборот, примирять
желание признания, разрыв тайны, дискурс, сотрудниче-
ство и т.д. с прерывностью, артикуляцией и негативно-
стью. Оппозиция прерывного и непрерывного постоян-
но смещается от Гегеля и Батаю.
Но это смещение не может трансформировать ядро
предикатов. Все признаки, которыми наделяется суверен-
ность, позаимствованы у (гегелевской) логики господства.
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
ю
о
<D
И мы, и Батай не можем и не должны располагать каким-
то иным понятием или даже иным знаком, иным единст-
вом слова и смысла. Сам знак «суверенности» в противо-
поставлении рабству взращивается на той же земле, что
и знак господства. И если брать его вне его работы, ни-
что не может служить различием. В тексте Батая можно
было бы выделить даже ту определенную зону, в кото-
рой суверенность остается в плену классической фило-
софии субъекта и того волюнтаризма21, который, как
показал Хайдеггер, смешивался и у Гегеля, и у Ницше с
самой сущностью метафизики.
Не имея больше ни возможностей, ни прав вписаться
в ядро самого понятия (ведь суть самого рассматривае-
мого открытия в том и состоит, что нет никакого ядра
смысла, понятийного атома, что само понятие произво-
дится в ткани различий), пространство, отделяющее, если
угодно, логику господства от не-логики суверенности,
должно будет вписаться в сцепление или работу некоего
письма. Это письмо — то есть мажорное письмо — бу-
дет называться письмом, потому что оно выходит за пре-
делы логоса (смысла, господства, присутствия и т.д.).
В этом письме, поисками которого был занят Батай, те
же самые понятия, остающиеся по-видимому неизменны-
ми, претерпят некое смысловое преобразование или, ско-
рее, будут затронуты, оставаясь внешне бесстрастными,
той потерей смысла, к которой они скользят и в которую
они, потеряв голову, уходят. Не видеть этой строгой уст-
ремленности, этого безжалостного жертвоприношения
философских понятий, по-прежнему читать, судить и изу-
чать Батая внутри «значащего дискурса» —это, быть мо-
жет, и значит что-то в нем понимать, но это не значит его
читать. Так можно поступить в любой момент — да и раз-
ве была такая возможность упущена — причем весьма
изощренно, заручившись предварительно философски-
ми гарантиями и получив в свое распоряжение опреде-
ленные ресурсы. Не читать — это в данном случае значит:
не знать формальной необходимости текстов Батая, их
собственного разбиения, их отношения к рассказам, при-
ключение которых не просто накладывается на философ-
ские афоризмы или дискурс, которые стирают свои озна-
чающие перед означаемым содержанием. В отличие от.
того понимания логики, как оно выражалось в ее класси-
ческом понятии, и даже в отличие от гегелевской Книги,
ставшей темой размышлений Кожева, цц<сьмо Батая ;в его
мажорной инстанции не терпит различения на форму и
содержание23. Именно потому оно и является письмом, и
именно потому оно требуется суверенностью.
Это письмо — подавая нам пример, в котором мы
заинтересованы, хотя у него самого и нет никакой забо-
ты поучать нас в чем-то — вынуждено сцеплять класси-
ческие понятия, руководствуясь тем, что есть в них неиз-
бежного («Я не смог избежать необходимости выражать
мои мысли философским образом. Но обращаюсь я не к
философам ». — «Метод...»), так что внешне они как буд-
то покоряются в каком-то своем развороте своей обыч-
ной закономерности, но на деле они в определенной точ-
ке соотносятся с моментом суверенности, с абсолютной
потерей смысла, с безоглядной растратой, с тем, что мож-
но по-прежнему называть негативностью или потерей
смысла лишь по их лицевой философской стороне; с бес-
смыслицей, которая, следовательно, располагается по ту
сторону абсолютного смысла, по ту сторону закрытия и
горизонта абсолютного знания. Увлеченные этим просчи-
танным скольжением24 понятия становятся не-понятия-
ми, немыслимыми или неудержимыми понятиями («Я вво-
жу неудержимые понятия».— «Малыш»). Философ
путается в тексте Батая, потому что он является филосо-
фом только в своем неистребимом желании удержать,
поддержать самодостоверность и безопасность понятия,
защищая их от этого ускользания. Для него текст Батая —
это ловушка, скандал в исходном смысле этого слова.
Пересечение пределов смысла — это не подступ к
непосредственной и неопределенной тождественности
бессмыслицы или к возможности ее удержать. Скорее,
нужно было бы говорить об эпоха эпохи смысла, о заклю-
чении в — письменные — скобки, подвешивающем эпоху
смысла: то есть о противоположности феноменологиче-
ского эпоха, действующего всегда во имя и с целью смыс-
ла. Феноменологическое эпохэ — это редукция, склоняю-
щая нас к смыслу. А суверенное пересечение пределов —
это редукция такой редукции: не редукция к смыслу, а ре-
дукция смысла. Выходя за пределы «Феноменологии
Духа», такое пересечение границ выходит также и за пре-
делы феноменологии вообще, включая ее наиболее совре-
менные ответвлений. (См. «Внутренний опыт», р. 19).
Так будет ли это новое письмо зависеть от суверен-,
ной инстанции? Будет ли оно подчиняться ее императи-
вам? Подчиниться ли оно тому, что (можно было бы ска-
зать «по своей сущности», если бы у суверенности была
сущность) ничего не подчиняет? Никоим образом, и в
этом-то и заключен уникальный парадокс отношения
между дискурсом и суверенностью. Соотнести мажорное
письмо и суверенную операцию — это построить отно-
шение в форме не-отношения, вписать разрыв внутрь тек-
ста, соотнести цепь дискурсивного знания с тем незна-
нием, которое не является одним из ее моментов, то есть
с абсолютным незнанием, из бездонности которого ис-
ходит удача или ставка смысла, истории и горизонтов
абсолютного знания. Выписывание такого отношения
будет «научным», но само слово «наука» претерпевает
при этом коренное изменение, начиная дрожать от одно-
го соотнесения с абсолютным незнанием, не теряя ни
одной из своих собственных норм. Наукой такое выпи-
сывание можно будет назвать лишь в пределах уже нару-
шенного замкнутого круга, причем такое название все
равно потребует соблюдения всех соответствующих обя-
зательств. Незнание, выходящее за пределы самой нау-
ки, незнание, которое будет знать, где и как это сделать,
окажется научно неопределимым («Кто же когда-нибудь
узнает, что значит ничего не знать?». — «Малыш»). Это
будет уже не определенное незнание, описанное истори-
ей знания в качестве отдельной фигуры, поддающейся
диалектике (или уже захваченной ей), а абсолютный вы-
ход за пределы любой эпистемы, любой философии и
любой науки. Только двойная установка может помыс-
лить это единственное в своем роде отношение: та, что не
относится ни к «сциентизму», ни к «мистицизму»25.
Суверенность, являясь не столько положением бес-
смыслицы, сколько утверждающей редукцией смысла, не
есть, следовательно, принцип или фундамент подобного
вписывания. Как не-принцип и не-фундамент, она реши-
тельно уклоняется от притязаний успокаивающего нача-
ла, условия возможности или трансцендентального уров-
ня дискурса. В ней не остается никаких предварительных
философских ходов. «Метод медитации» (р. 63) учит нас
тому, что вышколенная траектория письма должна строго
вести нас к той точке, где уже нет ни метода, ни медитации,
где суверенная операция рвет всякие, отношения с ними, не
поддаваясь более на воздействия со стороны того, что ей
предшествует или даже ее подготавливает. Точно так же,
как она не пытается найти практического приложения,
распространения, не стремится ни длиться, ни поучать (и в
этом причина того, почему, по словам Батая, ее власть себя
искупает), точно так же, как она не ищет признания, она и
сама вовсе не признательна той дискурсивной подготови-
тельной работе, без которой она, однако, не могла бы обой-
тись. Суверенность должна быть неблагодарной. «Моей
суверенности (...) нет дела до моего труда» («Метод...»).
Сознательная забота о предварительных шагах относится
только к философии и гегельянству.
«Критика, с которой Гегель обращался к Шеллингу
(в предисловии к «Феноменологии») тем не менее носит
весьма решительный характер. Работы, предваряющие
дело, недостижимы для неподготовленного разума (как
говорит Гегель, глупо, если ты не сапожник, браться за
изготовление обуви). Эти работы, ведущиеся всегда в не-
котором прикладном режиме, приостанавливают, одна-
ко, суверенную операцию (бытие, уходящее как можно
дальше). Сам характер суверенности требует отказаться
от подчиненности операции неким предварительным ус-
ловиям. Операция производится, если только пришла ее
пора: когда она приходит, нет времени заниматься тру-
дами, которые по своей сути подчинены внешним по от-
ношению к себе целям, поскольку сами по себе они целя-
ми не являются» («Метод медитации»).
Итак, если вспомнить о том, что Гегель, несомненно,
был первым, кто доказал онтологическое единство мето-
да и истории, то необходимым будет заключение, что су-
веренность оставляет позади себя не только «субъекта »
(«Метод», р. 75), но и саму историю. И дело не в том, что
мы таким образом возвращаемся, якобы, к классическо-
му догегельянскому представлению о неисторичности
смысла, которое представлено в одной из фигур «Фено-
менологии». Суверенность пересекает границы всей ис-
тории смысла и всего смысла истории, всего того проек-
та знания, который всегда неявно сплавлял их воедино.
В таком случае незнание является внеисторическим26 не
только потому, что сначала оно приняло, причем со всей
серьезностью, акт завершения истории и закрытие абсо-
лютного знания, а затем, преодолевая и симулируя их в
игре27, их же и предало. В этом притворстве я сохраняю
или предвосхищаю все знание целиком, я не ограничива-
юсь ни определенным и абстрактным знанием, ни опре-
деленным незнанием, но я отстраняюсь от самого абсо-
лютного знания, возвращая его на свое место, помещая
его и вписывая в то пространство, над которым у него нет
о
В
а>
*
Ха
0)
CD
ao
власти. Таким образом, письмо Батая соотносит все се-
мантемы, то есть философемы, с суверенной операцией,
с безвозвратным прожиганием смысла. Такая операция
черпает в источнике смысла, стремясь его исчерпать.
В своей кропотливой решительности она признает кон-
ститутивное правило того, что она должна действитель-
но и экономически деконституировать.
Действуя методами того, что Батай называет всеоб-
щей экономией.
Всеобщее письмо и
всеобщая экономия
Письмо суверенности по крайней мере двумя свои-
ми чертами соответствует всеобщей экономии:
1. Это наука,
2. Она соотносит свои объекты с безоглядным раз-
рушением смысла.
В «Методе медитации» можно заметить предвестье
«Проклятой доли»:
«Наука, соотносящая объекты мысли с суверенны-
ми моментами, в действительности может быть лишь все-
общей экономией, рассматривающей смысл одних объек-
тов в соотношении с другими и, в конечном счете, в
соотношении с потерей смысла. Вопрос этой всеобщей
экономии совместим с планом политической экономии,
но так именуемая наука является лишь ограниченной эко-
номией (ограниченной товарными ценностями). Речь идет
о коренной проблеме науки, занимающейся использова-
нием богатств. Всеобщая экономия делает очевидным в
первую очередь тот факт, что иногда производятся та-
кие избытки энергии, которые по определению не могут
быть использованы. Избыточная энергия может лишь по-
теряться безо всякой цели и, следовательно, безо всяко-
го смысла. Именно этой бесполезной, бессмысленной по-
терей и является суверенность»28.
Будучи научным письмом, всеобщая экономия не яв-
ляется, само собой разумеется, самой суверенностью. Но,
впрочем, самой суверенности вообще не существует. Су-
веренность разлагает ценности смысла, истины, схваты-
вания-самой-вещи. Вот почему речь, которую она от-
крывает или которая соотносится с ней, не будет, в
частности, истинной, правдивой или «искренней»29. Су-
веренность — это невозможность, она не существует,
она есть — Батай выделяет это слово курсивом — «эта
потеря ». Письмо суверенности соотносит дискурс с аб-
солютным не-дискурсом.. Подобно всеобщей экономии,
оно — это не потеря смысла, а, как мы только что про-
чли, «отношение к потере смысла». Оно открывает во-
прос смысла. Оно описывает не само незнание, что не-
возможно, но лишь его эффекты. «...О самом незнании
говорить было бы невозможно, тогда как мы можем го-
ворить о его эффектах...»30.
И при этом мы не возвращаемся к обычному поряд-
ку науки. Письмо суверенности — это ни сама суверен-
ность в ее операции, ни обычный научный дискурс.
Смыслом последнего (то есть дискурсивным содержа-
нием и направлением) является направленное отноше-
ние от неизвестного к известному или познаваемому, ко
всегда уже известному или к предвосхищенному знанию.
Хотя всеобщее письмо, являясь лишь отношением к не-
знанию, обладает определенным смыслом, этот порядок
в нем обращен. Отношение к абсолютной возможности
познания в нем подвешено. Известное соотнесено с не-
известным, смысл с бессмыслицей. «Это познание, ко-
торое можно было бы назвать освобожденным (хотя я,
однако, предпочитаю называть его нейтральным), явля-
ется применением метода, отделенного (освобожденно-
го) от рабства, из которого он происходит: метод соот-
носил неизвестное с известным (с достоверным), тогда
как начиная с того момента, как он освободился, он со-
относит известное с неизвестным» («Метод...»). Это дви-
жение, как мы видели, лишь намечено в «поэтическом
образе».
Не то, чтобы ставилась таким образом с ног на голо-
ву феноменология, действующая в горизонте абсолют-
ного знания в соответствии с кругооборотом Логоса.
Вместо того, чтобы просто перевернуться, она оказыва-
ется включенной и понятой: не понятой познающим по-
ниманием, а вписанной вместе со своими горизонтами
знания и своими фигурами смысла в открытие всеобщей
экономии. А экономия эта склоняет все ее горизонты и
фигуры к отношениям не с основанием, а с безосновно-
стью траты, не с телосом смысла, а с неопределенно дол-
гим разрущением.ценности. Атеология Батая — это так-
же ателеология иднэсхатология. Даже в своем дискурсе,
427
о
0)
*
<D
И
О
О
<D
который уже необходимо отличать от суверенного утвер-
ждения, эта атеология, тем не менее, не идет путем нега-
тивной теологии; тем путем, который, постоянно соблаз-
няя Батая, все-таки сохранял, по всей видимости, по ту
сторону отвергнутых определений и даже «по ту сторо-
ну бытия» некую «сверхсущность»31; по ту сторону всех
категорий сущего — высшее сущее и уже неразложимый
смысл. Мы говорим «по всей видимости» потому, что в
этом моменте мы касаемся пределов и примеров наиболь-
шей отваги дискурса западной мысли. Мы могли бы по-
казать, что удаленность и близость никак не отличаются
друг от друга.
Феноменология духа.(и феноменология вообще),
покуда она соотносит последовательность фигур фено-
менальности с познанием смысла, который всегда уже
предвосхищен, будет соответствовать ограниченной эко-
номии: ограниченной торговыми ценностями, как можно
было бы сказать, сохраняя термины определения «нау-
ки, занимающейся использованием богатств», ограничен-
ной смыслом и уже сложившейся ценностью объектов,
то есть их оборотом. Кругообращение абсолютного зна-
ния может властвовать и заключать в себя только этот
кругооборот, замкнутый круг производящего потребле-
ния. Абсолютное производство и разрушение ценности
и стоимости, избыточная энергия как таковая, которая
«может лишь потеряться безо всякой цели и, следователь-
но, без всякого смысла», — все это ускользает от фено-
менологии как ограниченной экономии. Ведь она может
определить различие и негативность только в качестве
сторон, моментов или условий смысла: определить их как
работу. Но бессмыслица суверенной операции не явля-
ется ни негативом, ни условием смысла, даже если мо-
жет она быть также и всем тем, на что намекает ее имя.
Бессмыслица — это не запас смысла. Она удерживается
по ту сторону оппозиции негативного и позитивного,
поскольку акт прожигания, хотя он и ведет к потере смыс-
ла, не является негативностью присутствия, сохраняе-
мого и созерцаемого в истине его смысла (истине bewahr-
еп). Такой разрыв симметрии должен пройти по всей цепи
дискурса. Понятия всеобщего письма должны прочиты-
ваться лишь при их вынесении или отодвигании за пре-
делы симметрично выстроенных альтернатив, которыми
они, как кажется, захвачены, и в которых они, однако же,
должны по-прежнему удерживаться. Стратегия играет с
этим захватом и с этим вынесением. Например, если при-
нять во внимание этот комментарий бессмыслицы, то-
гда обозначаемое внутри круга метафизики под именем
«не-ценности» будет отсылать по ту сторону оппози-
ции ценности и неценности, по ту сторону самого поня-
тия ценности, так же как и понятия смысла. То, что, пы-
таясь поколебать неприступность дискурсивного знания,
обозначается «мистическим», отсылает по ту сторону
оппозиции мистического и рационального32. Менее всего
Батай является новым мистиком. Обозначаемое в качест-
ве внутреннего опыта, не является опытом, поскольку оно
не относится ни к одной из форм присутствия, ни к ка-
кой полноте, относясь лишь к той «невозможности», ко-
торая «испытывается » им в казни. А главное — этот опыт
не является внутренним: хотя и кажется, что он соотно-
сится со всем, отличным от него, со всем внешним только
в некоем не-отношении, в тайне и разрыве, он в то же вре-
мя оказывается полностью выставленным вовне — то
есть подвергнутым пытке, — он выставлен нагим, он от-
крыт внешнему без утайки и без тайника души, будучи
глубоко поверхностным.
Этой схеме можно было бы подчинить все понятия
всеобщего письма (понятия науки, материализма, бессоз-
нательного и т.д.). Предикаты в них служат не для того,
чтобы что-то обозначать, выражать или высказывать, а
для того, чтобы заставлять смысл скользить, разоблачать
его или уводить в сторону. Необходимо, чтобы это пись-
мо не производило новых понятийных единств. Необхо-
димо также, чтобы его понятия отличались от классиче-
ских понятий не своими чертами, закрепленными в форме
определений сущности, но качественными различиями
сил, высот и т.д., которые получают такое качественное
определение лишь посредством метафоры. Все имена тра-
диции сохранены, но через них теперь проходят разли-
чия мажорного и минорного, архаического и классическо-
го^ и т.д. Таков единственный способ отметить в дискурсе
то, что отделяет дискурс от его избытка.
В то же время письмо, внутри которого действуют
все эти стратегемы, не состоит в подчинении понятийных
моментов целостности системы, в которой они, наконец,
могли бы обрести смысл. Речь идет не о том, чтобы под-
чинить скольжения и различия дискурса, игру синтакси-
са его некоей предвосхищаемой целостности. Напротив.
Если игра различия необходима для правильного прочте-
о
§
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
ния понятий всеобщей экономии, если каждое понятие
нужно вписывать в закон его скольжения и соотносить
его с суверенной операцией, то в то же время из него нель-
зя делать подчиненный момент некоей структуры. Меж-
ду двух этих рифов должно пройти чтение Батая. Оно не
должно изолировать понятия, как будто бы они были сво-
им собственным контекстом, как будто бы можно понять
непосредственно из их содержания, что означают такие
слова, как «опыт», «внутренний», «мистический», «ра-
бота», «материальный», «суверенный» и т.д. Ошибка
здесь заключалась бы в принятии за непосредственность
прочтения слепоту по отношению к культурной тради-
ции, которая выдает себя за естественную стихию дис-
курса. Но и наоборот, нельзя подчинять внимание к кон-
тексту и различиям значения смысловой системе,
позволяющей или обещающей абсолютное формальное
овладение. Ведь это вело бы к стиранию избытка бессмыс-
лицы и к скатыванию в круг знания, то есть это снова бы
значило не читать Батая.
И снова в этом пункте диалог с Гегелем оказывается
решающим. Пример: Гегель и, вслед за ним, любой, кто
устраивается в надежной стихии философского дискур-
са, был бы неспособен прочесть в его упорядоченном
скольжении такой знак, как «опыт». Не входя в дальней-
шие объяснения по этому вопросу, Батай замечает в «Эро-
тизме»: «По гегелевскому разумению непосредственное
плохо, а то, что я говорю об опыте, он наверняка отнес
бы к непосредственному». Итак, если внутренний опыт в
своих мажорных моментах рвет с опосредованием, он, тем
не менее, не является непосредственным. Он не наслаж-
дается абсолютно близким присутствием и, главное, он
не может, в отличие от гегелевского непосредственного,
вступить в движение диалектического опосредования.
Если брать их так, как они представлены в стихии фило-
софии, в логике или феноменологии Гегеля, непосредст-
венное и опосредованное равным образом «подчинены».
И именно поэтому они могут переходить друг в друга.
Следовательно, суверенная операция подвешивает так-
же и подчинение в форме непосредственности. Чтобы
понять, как в таком случае она не попадает в работу и
феноменологию, необходимо выйти из философского
логоса и продумать немыслимое» Как разом пересечь гра-
ницы и опосредованного и непосредственного? Как вый-
ти за пределы «подчинения» смыслу (философского) до-
госа в его целостности? Быть может, с помощью мажор-
ного письма: «Я пишу, чтобы отменить внутри самого себя
игру подчиненных операций (и это, судя по всему, уже
излишество)» («Метод медитации»). Но только «быть мо-
жет» «и это, судя по всему, уже излишество», ведь по-
добное письмо не может нас ни в чем уверить, оно не дает
нам никакой достоверности, никакого результата, не пре-
доставляет никакой выгоды. Это абсолютно авантюрное
письмо, это случай, а не техника.
Нарушение нейтрального
и смещение Aufhebung
Так что же, оказавшись по ту сторону классических
оппозиций, письмо суверенности станет блеклым или ней-
тральным? Можно было бы подумать и так, ведь оно ни-
чего не может выразить иначе, как в форме «ни то, ни
это». Не в этом ли одна из родственных черт между мыс-
лями Батая и Бланшо? Да и разве сам Батай не предлагает
нам нейтрального познания? «Это познание, которое
можно было бы назвать освобожденным (хотя я, однако,
предпочитаю называть его нейтральным), является при-
менением метода, отделенного (освобожденного) от раб-
ства, из которого он происходит... Он соотносит извест-
ное с неизвестным» (цитировано выше).
Но здесь необходимо обратить самое пристальное
внимание на то, что нейтральным является не суверен-
ная операция, а дискурсивное познание. Нейтральность
негативной сущности (ne-uter) — это негативная сторо-
на пересечения границ. Но суверенность не бывает ней-
тральной, даже если в своем дискурсе она нейтрализует
все противоречия или все оппозиции классической логи-
ки. Нейтрализация производится в плане познания и син-
таксиса письма, но она соотносится с суверенным нару-
шающим пределы утверждением. Суверенная операция
не довольствуется нейтрализацией классических оппози-
ций внутри дискурса, в своем «опыте »(понятом в мажор-
ном смысле) она нарушает закон или те запрещения, ко-
торые образуют систему вместе с дискурсом и даже
вместе с работой нейтрализации. Через двадцать стра-
ниц после выдвижения идеи «нейтрального познания»
можно прочесть: «Я устанавливаю возможность ней-
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
трального познания? Моя суверенность подбирает его во
мне с легкостью поющей птицы, но ей нет дела до моего
труда».
Вот почему разрушение дискурса — это не просто
нейтрализация через стирание. Оно умножает слова, уст-
ремляет их одни навстречу другим, бросает их в беско-
нечное и бездонное взаимозамещение, единственным пра-
вилом которого является суверенное утверждение
внесмысловой игры. Не сохранение или отступление, бес-
конечное бормотание блеклого слова, стирающего сле-
ды классического дискурса, но нечто вроде потлача зна-
ков, прожигающего, поглощающего и разбрызгивающего
слова в веселом утверждении смерти: жертвоприношение
и вызов34. Например:
«Ранее я обозначал суверенную операцию через вы-
ражения “внутренний опыт” и “предел возможного”. Те-
перь я обозначаю ее также как “медитацию”. Смена слов
означает скуку от использования одного слова, каким бы
оно ни было (“суверенная операция” — это самое надо-
едливое из всех выражений: “комическая операция” зву-
чало бы не так обманчиво); мне больше нравится “меди-
тация”, но у нее слишком набожный вид» («Метод
медитации»).
Что же случилось? В итоге вообще ничего не было
сказано. Мы так и не остановились ни на одном из слов;
их цепочка ни на чем не покоится; ни одно из понятий не
отвечает требованиям, поскольку все они определяют
друг друга, одновременно разрушая и нейтрализуя себя.
Но мы уже утвердили правило игры или, скорее, игру как
правило, так же, как и необходимость пересекать грани-
цы дискурса и негативности скуки (скуки от использова-
ния какого угодно слова в успокоительной тождествен-
ности его смысла).
Подобное нарушение дискурса (и, следовательно,
закона вообще, ведь дискурс устанавливается, только
устанавливая норму или ценность смысла, то есть саму
стихию законности), подобно всякому нарушению и пе-
ресечению границ, должно некоторым образом сохранять
и утверждать то, за пределы чего оно выходит35. Таков
единственный путь утвердить себя в качестве пересече-
ния границ и подойти к сакральному, которое «дается в
насилии, нарушающем все правила». Описывая в «Эро-
тизме » «противоречивой опыт запрета и его нарушения »,
Батай делает примечание к следующей фразе: «Но нару-
шение отличается от “возвращения к природе”: оно сни-
мает запрет, не уничтожая его». Вот это примечание:
«Нет нужды настаивать на гегельянском характере этой
операции, соответствующей моменту диалектики, выра-
женном немецким непереводимым глаголом aufheben
(обойти и сохранить)».
Так ли уж «нет нужды настаивать»? Можно ли, как
утверждает Батай, понять движения нарушения через
гегелевское понятие Aufhebung, которое, как мы убеди-
лись, представляет победу раба и построение смысла?
В этом пункте нам необходимо истолковать Батая
вопреки ему самому или, скорее, истолковать один из
слоев его письма через другой36. Подвергая сомнению то,
что в этом примечании кажется Батаю само собой разу-
меющимся, нам, быть может, удастся заострить ту фигу-
ру смещения, которой подчиняется здесь весь гегелевский
дискурс. Так что Батай может оказаться еще меньшим
гегельянцем, чем он сам думал.
Гегелевская процедура Aufhebung целиком и пол-
ностью действует внутри дискурса, системы и работы оз-
начивания. Одно частное определение отрицается и со-
храняется в другом определении, которое открывает
истину первого. Идя от абсолютной неопределенности
к абсолютному определению, мы проходим через раз-
личные частные определения, и этот переход, произво-
димый тревогой бесконечности, связывает смысл. Поня-
тие Aufhebung заключено в круг абсолютного знания,
никогда не выходит за его ограду, никогда не подвеши-
вает всей целостности дискурса, работы, смысла, закона
и т.д. А поскольку оно никогда не снимает, пусть и со-
храняя, скрывающей формы абсолютного знания, Auf-
hebung целиком относится к тому, что Батай называл
«миром работы», то есть к миру незамеченного запрета
как такового в его целокупности. «Поэтому человече-
ское сообщество, в той его части, которая посвящается
труду, определяется запретами, без которых оно не ста-
ло бы тем миром работы, которым оно по своей сущно-
сти является» («Эротизм»). Следовательно, гегелевская
процедура Aufhebung должна принадлежать ограничен-
ной экономии, будучи формой перехода от одного за-
прета к другому, кругооборотом запрета, историей как
истиной запрещения. Поэтому Батай может использо-
вать лишь пустую форму Aufhebung, использовать ее
лишь в качестве некоей аналогии, дабы сделать то, что
1 5 Ж. Деррида
433
еще никто не делал, — указать отношения пересече-
ния границ, которое связывает мир смысла с миром бес-
смыслицы. Такое смещение оказывается парадиг-
мальным: оказавшись погруженным в письмо,
внутрифилософское, в высшей степени спекулятивное
понятие вынуждено указывать на движение, которое
как раз и намечает выход за пределы любой возмож-
ной философии. Такое движение показывает филосо-
фию как форму наивного или естественного сознания
(что для Гегеля значило бы и культурное сознание).
Пока Aufhebung остается под пятой ограниченной эко-
номии, это понятие — лишь пленник такого естествен-
ного сознания. Какой толк в том, что фигура «Мы» из
«Феноменологии духа» приобретает знание о том, что
неведомо естественному сознанию, погруженному в
свою историю и определенность своих собственных
фигур — все равно она остается естественной и про-
стонародной, покуда переход и истина этого перехода
продолжает мыслиться как кругооборот смысла или
ценности. В «нас» развертывается смысл или желание
смысла естественного сознания, замыкающегося в кру-
ге, чтобы знать смысл и направление движения: отку-
да идет это и куда уходит то. Такое сознание не видит
бездны игры, из которой происходит история (смыс-
ла). В этом смысле философия, гегелевская спекуляция
и абсолютное знание вместе со всем тем, чем они управ-
ляют и будут еще неопределенно долго управлять внут-
ри пространства своего закрытия, остаются определе-
ниями естественного, рабского и простонародного
сознания. Самосознание является рабским.
«Между предельным знанием и обыденным, то есть
наиболее распространенным познанием нет никакой
разницы. Познание мира, по Гегелю, — это познание
первого попавшегося человека (первый попавшийся, а
не сам Гегель решает для него ключевую проблему, ка-
сающуюся различия безумия и абсолютного знания: в
этом пункте “абсолютное знание” укрепляет простона-
родное понятие, даже основывается на нем, оказыва-
ясь одной из его форм). Простонародное понятие в
нас — это что-то вроде иной ткани\.. В некотором
смысле, условие, при котором я мог бы прозреть, со-
стоит в том, чтобы выйти, вырваться из этой “ткани”.
Но я, несомненно, должен тотчас же сказать: условие
моего прозрения равносильно необходимости смерти.
Никогда у меня не будет возможности видеттЛ» («Ме-
тод медитации»).
Если вся история смысла собрана и представлена в
одной-единственной точке картины фигурой раба, если
дискурс Гегеля, Логика и Книга, о которой говорит Ко-
жев, являются языком раба (или рабским языком), то есть
трудящимся языком (и языком трудящихся), тогда их мож-
но читать слева направо и справа налево — как реакцион-
ное движение или как революционное, а может, и как оба
разом. Кажется нелепым, если бы пересечение границ Кни-
ги могло прочитываться лишь в одном определенном на-
правлении. Одновременно и нелепым в силу формы Aufhe-
bung, которая сохраняется в нарушении границ, и слишком
осмысленным для пересечения границ смысла. Справа на-
лево и слева направо: оба этих противоречивых и слишком
осмысленных положения равным образом упускают самое
важное. Упускают в одной определенной точке.
Слишком определенной. В констатировании не-важ-
ности, за эффектами которой нужно, следовательно, как
можно пристальнее следить. И мы ничего бы не поняли в
общей стратегии, если бы полностью отказались от кон-
троля за использованием этого констатирования. Если бы
одолжили, оставили или положили его в какую угодно
руку: в правую или левую.
«...условие, при котором я мог бы прозреть, состоит
в том, чтобы выйти, вырваться из этой “ткани”. Но я, не-
сомненно, должен тотчас же сказать: условие моего про-
зрения равносильно необходимости смерти. Никогда у
меня не будет возможности видетъ\»
Итак, существует простонародная ткань абсолют-
ного знания и грозящее смертью открытие глаза. Текст и
взгляд. Рабство смысла и пробуждение к смерти. Минор-
ное письмо и мажорный свет.
И от одного к другому — какой-то совсем другой
текст. Который в молчании прочерчивает структуру гла-
за, обрисовывает открытие, углубляется в вязь «абсолют-
ного разрыва», полностью разрывает свою собственную
ткань, вновь ставшую «прочной» и рабской, поддавшись
еЩе раз прочтению.
15*
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Это я-то хотел умалить значение Гегеля? Да все как раз
наоборот. Я хотел показать несравнимый размах его
поступи. И именно поэтому я не должен был прикры-
вать слабое (и даже неизбежное) место провала. По мо-
ему мнению, все мои сближения обнаруживают лишь ис-
ключительную прямоту его хода. И если он потерпел
провал, то можно сказать лишь то, что причиной тому
было некое заблуждение. Смысл самого провала отли-
чается от того, что стало его причиной: само по себе за-
блуждение может быть случайным. Поэтому о “прова-
ле” Гегеля нужно говорить как о подлинном и полном
смысла движении.» Hegel, la morl el le sacrifice, in Deu-
calion, 5.
2 Ibid.
3 De I’ exist entialisme au primal de I"economic, in Critique,
19, 1974. «Странно замечать сегодня то, что Кьеркегор
не мог знать: Гегель, как и Кьеркегор, раньше абсолют-
ной идеи познал отказ от субъективности. Мы подума-
ли бы, что в отказе Гегеля все решалось на уровне поня-
тийного противопоставления, но нет, все было как раз
наоборот. Этот факт выведен не из философского тек-
ста, а из письма другу, в котором он признается, что на
протяжении двух лет он думал, что сходит с ума... В ка-
ком-то смысле эта мимоходом брошенная фраза обла-
дает, быть может, той силой, какой никогда не было у
затянувшегося крика Кьекркегора. И так же, как этот
крик, она дана через экзистенцию, которая трепещет и
рвется наружу.»
4 «Малыш».
5 «Об экзистенциализме...».
6 «Маленький смешной пересказ. — Гегель, я представ-
ляю, дошел до крайности. Он был еще молод и думал,
что сходит с ума. Я думаю даже, что он разрабатывал
систему, чтобы убежать (несомненно, что всякое вели-
кое завоевание является делом человека, бегущего от
опасности). В конечном счете он достигает удовлетво-
рения и поворачивается спиной к крайности. Моление
умирает в нем. Если ты ищешь спасения, то это еще ни-
чего, — продолжая жить, нельзя быть уверенным, нуж-
но продолжать молить. А Гегель уже при жизни запо-
лучил спасение, убив моление и искалечив себя. От него
осталась лишь рукоятка от лопаты, современный чело-
век. Но прежде, чем себя искалечить, он, несомненно,
коснулся крайности, познал моление: его память возвра-
щает его к замеченной бездне, чтобы ее отменить. Сис-
тема — это отмена.» («Внутренний опыт»).
Об истории батаевского чтения Гегеля, начиная первы-
ми статьями в Documents (1929) и до «Внутреннего опы-
та», об опыте ученичества у Койре и особенно у Коже-
ва, влияние которого внешне кажется доминирующим,
см. R. Queneau, Premieres confrontations avec Hegel, Cri-
tique, 195-196. Отметим сразу же, что — по крайней мере
с точки зрения Батая — не было никакого фундамен-
тального разрыва между прочтением Гегеля у Кожева,
под которым он, по его собственному признанию, мог
почти полностью подписаться, и истинным уроком мар-
ксизма. Мы еще проверим это на множестве текстов.
Учтем также и то, что на его взгляд позитивная или не-
гативная оценка гегельянства должна была непосредст-
венно переводиться в оценку марксизма. В библиогра-
фии, которая должна была сопровождать неизданную
«Теорию религии » можно в частности прочесть следую-
щее: «Это произведение (“Введение в чтение Гегеля”
Кожева) является объяснением “Феноменологии духа”.
Идеи, которые я здесь развил, полностью согласуются
с этим объяснением. Остается только уточнить соответ-
ствия гегельянского анализа и этой “теории религии”:
различия между одним и другим способом представле-
ния, как мне кажется, довольно легко было бы стереть ».
«Я хочу еще раз подчеркнуть здесь тот факт, что интер-
претация Александра Кожева никоим образом не уда-
ляется от марксизма: точно так же легко заметить, что
предлагаемая здесь “теория” всегда строго основывает-
ся на экономическом анализе.»
s «Один отрывок из предисловия к “Феноменологии духа”
точно выражает необходимость такой позиции. Нет ни-
какого сомнения, что этот замечательный текст перво-
начально не обладал таким “ведущим значением” ни для
самого Гегеля, ни в каком-нибудь другом смысле.
“Смерть, если мы хотим таким образом именовать эту
нереальность, — это самое ужасное, что есть на свете, а
поддерживать дело смерти — это то, что требует наи-
большей силы. Бессильная красота ненавидит разум, по-
тому что именно этого-то он от нее и требует, а она на
это неспособна. Жизнь Духа — это не жизнь, ужасаю-
щаяся перед смертью и берегущая себя от разрушения,
но та жизнь, которая переносит смерть и сохраняется в
ней. Дух достигает своей истины, лишь оказавшись в аб-
&
“О
6
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
солютном разрыве. Но такой (чудесной) силой он ока-
зывается не в качестве Позитивного, которое отворачи-
вается от негативного наподобие того, как мы иногда го-
ворим о чем-то: это ничего или (это) неправда, и, отменив
его таким образом, переходим к чему-то иному; нет, Дух
является такой силой лишь в той мере, в какой он смот-
рит в лицо Негативного (и) пребывает возле него. Это
продленное-пребывание является магической силой, пе-
реносящей негативное в наличное Бытие”» («Гегель,
смерть и жертвоприношение»). Батай, которого мы здесь
цитируем, отсылая всегда к переводу Ж. Ипполита (t. I,
р. 29), здесь утверждает, что он воспроизводит перевод
Кожева. Но воспроизводит он неточно. А если учесть
то, что впоследствии Ж. Ипполит и А. Кожев видоизме-
нили свои переводы, то у нас будет по меньшей мере пять
форм, которые можно добавить к «оригинальному » тек-
сту, ставшему еще одним уроком.
9 «Но смех здесь оказывается негативным в гегелевском
смысле этого слова», J.-P. Sartre, Un nouveau mystique,
in Situation I. Смех не является негативным, потому что
его раскат ничего не сохраняет, не связывает с собой и
не высказывает дискурса: это смех над Aufhebung.
10 Conferences sur Iе Non-Savoir, in Tel Quel 10.
11 «Гегель, смерть и жертвоприношение». См. также в
«Внутреннемопыте» ъесъ Post-scriptumк «Пытке»,осо-
бенно р. 193 и сл.
12 М. Фуко справедливо говорит о некоем «непозитивном
утверждении», Preface a la transgression, Critique, 195-
196.
13 «Из гегелевской триады он удаляет момент синтеза»
(J.-P.Sartre, op. cit.).
н См. J. Hyppolite, Logique et Existence, Essais sur la
Logique de Hegel, p. 28.
15 Post-scriptum к «Пытке».
16 «Только у серьезного есть смысл', игра, у которой его
уже нет, будет серьезной лишь настолько, насколько
“отсутствие смысла — это тоже смысл”, но этот смысл
всегда блуждает в ночи безразличной к нему бессмыс-
лицы. Серьезность, смерть и боль служат основанием его
тупой истины. Но серьезность смерти и боли — это раб-
ство мысли» (Post-Scriptum, 1953). Единство серьезно-
сти, смысла, работы, рабства, дискурса и т.д., единство
человека, раба и Бога — вот с точки зрения Батая глу-
бочайшее содержание (гегелевской) философии. Мы мо-
жем лишь отослать к наиболее развернутым текстам.
А/. UExperience interieure, р. 105: «В этом пункте мои
усилия заново начинают “Феноменологию” Гегеля и раз-
делываются с ней. Конструкция Гегеля — это филосо-
фия работы, “проекта”. Гегелевский человек — Бытие и
Бог — исполняется в осуществлении проекта... Раб... по-
сле всех своих злоключений взбирается на вершину уни-
версального. Единственная преграда такому способу со-
зерцания (который сам по себе обладает несравненной
глубиной, являясь в каком-то смысле просто недости-
жимым) заключается в том, что в человеке не сводится к
проекту: недискурсивное существование, смех, экстаз»,
и т.д. В/. Le СоираЫе, р. 133: «Гегель, разработавший фи-
лософию труда (ведь в “Феноменологии” Богом стано-
вится Knecht, освободившийся раб, трудящийся),
уничтожил случай — так же, как и смех» и т.д. С/.
В «Гегеле, смерти и жертвоприношении» Батай, в
частности, показывает, в силу какого соскальзывания —
которому в слове суверенности нужно будет противо-
поставить иное скольжение — Гегель «ради выгоды раб-
ства » упускает суверенность, к которой он «подошел так
близко, как только мог». «Согласно установке Гегеля,
суверенность действует посредством движения, которое
открывается в дискурсе и которое по разумению Муд-
реца никогда не должно отделяться от своего открове-
ния. Поэтому она не может быть настоящей суверенно-
стью: в самом деле, Мудрец неминуемо подчиняет ее
цели Мудрости, предполагающей завершение дискур-
са... Он принял суверенность как груз и бросил его»
(р. 41-42).
17 «Лекции о Не-Знании».
18 См. Discussion sur le рёсЬё, in Dieu vivant, 4, 1945, и
P. Klossowski, A propos du simulacre dans la communica-
tion de Georges Bataille, in Critique, 195-196.
19 L’ Experience interieure, p. 105 и p. 213.
20 См., например, UExperience interieure (p. 196)... «при-
носящий жертву гибнет и теряет себя вместе со своей
жертвой», и т.д.
21 «С другой стороны, суверенность — это объект, кото-
рый всегда уклоняется, которого никто никогда не мог
поймать и никогда не поймает... В “Феноменологии
духа” Гегель, идя по пути диалектики раба и господина
(сеньора, суверена), которая послужила истоком для
коммунистической теории классовой борьбы, ведет раба
к триумфу, но его внешняя суверенность на деле оказы-
вается лишь автономной волей рабства; суверенности
Ж. Деррида «Письмо и различие» От экономии ограниченной к экономии всеобщей
достается только царство провала » (Genet, in la ЬШёга1-
ure et le Mai).
22 Некоторые предложения, если брать их вне свойствен-
ного им общего синтаксиса и письма, в самом деле
обнаруживают некоторый волюнтаризм, целую фило-
софию деятельности активного субъекта. Суверен-
ность — это практическая операция (см., например,
Conferences sur le Non-Savoir, p. 14). Но в таком случае
мы так и не подошли бы к чтению текста Батая, к впле-
тению таких предложений в ту ткань, которая развя-
зывает их, сцепляя с собой и вписывая их в себя. На-
пример, страницей далее, сказано: «Недостаточно даже
сказать так: о суверенном моменте нельзя говорить, не
искажая его, не искажая его суверенности. Но так же
противоречиво не только говорить, но и искать эти
движения. Когда мы ищем что-то, неважно, что имен-
но, мы не живем суверенно, мы подчиняем настоящий
момент будущему, которые придет впоследствии. Быть
может, после нашего усилия мы и достигнем суверен-
ного момента, возможно, что усилие в самом деле не-
обходимо, но между временем усилия и суверенным
временем существует обязательный зазор или даже,
можно сказать, пропасть».
23 Уже цитированное исследование Сартра в своей первой
и второй части крепится на оси следующего положения:
«Но форма — это еще не все: посмотрим на содержа-
ние».
24 «Скользкое, но бойкое использование слов», — говорит
Соллерс (De grandes irregularites de languages), in Cri-
tique, 195-196.
25 Одной из главных тем исследования Сартра («Один но-
вый мистик») является также обвинение сциентизма вку-
пе с обвинением мистицима («Вся мысль г. Батая стано-
вится ложной из-за его сциентизма»).
26 Незнание является историческим, как думает Сартр
(«...Незнание по своей сущности исторично, поскольку
его можно обозначить только как на некий опыт, кото-
рый приобрел отдельный человек тогда-то или тогда-
то»), только на дискурсивной, экономической и под-
чиненной поверхности, которая показывает себя,
поддается подобному обозначению внутри успокоитель-
ной ограды знания. Напротив, именно то «строящееся
повествование», как немного дальше Сартр характери-
зует внутренний опыт, оказывается на стороне знания,
истории и смысла.
27 Об этой операции подражания абсолютному знанию, в
конце которой «достигается незнание, а абсолютное
знание оказывается таким же знанием, как и любое дру-
гое» см. в UExperience interieure, р. 73 и сл., и особенно
р. 138 и сл. весьма важные выкладки, посвященные кар-
тезианской модели знания («твердая почва, на которой
все покоится») и гегельянской («кругооборот»).
28 Мы совершили бы грубую ошибку, если бы проинтер-
претировали эти положения в «реакционном» смысле.
Потребление избыточной энергии определенным клас-
сом — это не разрушительное прожигание смысла, а
наделяющее значением присвоение прибавочной стои-
мости в пространстве ограниченной экономии. С этой
точки зрения суверенность оказывается абсолютно
революционной. Но столь же революционной она ока-
зывается и с точки зрения той революции, которая ог-
раничилась бы реорганизацией мира труда и перерас-
пределением ценностей внутри пространства смысла, то
есть той же ограниченной экономии. Необходимость
такого ограниченного движения — которая самим Ба-
таем понималась лишь с трудом (например в «Прокля-
той доле », когда Батай упоминает «радикализм Маркса »
и «смысл революции, который был сформулирован Мар-
ксом в суверенной форме»), постоянно затемняясь ве-
домыми злобой дня сближениями (к примеру, в пятой
части «Проклятой доли»,/, — эта необходимость выра-
жается весьма строгим образом, но только внутри стра-
тегии всеобщей экономии.
29 Письмо суверенности не является ни ложным, ни истин-
ным; ни правдивым, ни неискренним. Оно совершенной
фиктивно — в том смысле этого слова, которого не дос-
тигают классические оппозиции истинного и ложного,
сущности и явления. Оно отдаляется от всякого теоре-
тического или этического вопроса. И в то же время оно
отдается ему на своей минорной стороне, где оно, по сло-
вам Батая, объединяется само с собой в работе, дискур-
се и смысле. («То, что обязывает меня писать — это, я
думаю, страх сойти с ума». — «О Ницше»). На этой сто-
роне нет ничего более легкого и правомочного, чем спра-
шивать себя, «искренен» ли Батай. Этим-то и занимает-
ся Сартр: «Вот нас пригласили потерять самих себя безо
всякого расчета, выгоды и без спасения. Искренне ли это
приглашение?». И далее: «Ведь в конце концов г. Батай
пишет, занимает пост в Национальной Библиотеке, чи-
тает, занимается любовью, ест».
От экономии ограниченной к экономии всеобщей «Письмо и различие» Ж. Деррида
30 «Лекции о He-Знании ». Объекты науки становятся в та-
ком случае «эффектами» незнания. Эффектами бес-
смыслицы. Например, Бог, как объект теологии. «Бог —
это также объект незнания» (ibid.).
31 См., например, Майстера Экхарта. Негативное движе-
ние дискурса о Боге — это лишь фаза позитивной онто-
теологии. «У Бога нет имени... Если я говорю, что он —
это бытие, то это неверно; он — бытие сверх бытия и
сверхсущностное отрицание» (Renovamini spiritu men-
tis vestrae). Для онто-теологии это был лишь поворот или
обходной путь языка: «Когда я сказал, что Бог — это не
бытие, будучи превыше бытия, я вовсе не усомнился в
его бытии, но, напротив, приписал ему высшее бытие»
(Quasi Stella matutina...). То же самое движение у Дио-
нисия Псевдо-Аеропагита.
32 Чтобы определить точку, в которой он отделяется и Ге-
геля и от Кожева, Батай уточняет то, что он понимает
под «сознательныммистицизмом»,находящимся «поту
сторону мистицизма классического»: «Атеистический
мистик, сознающий самого себя, сознающий то, что он
должен умереть и исчезнуть, жил бы, как Гегель гово-
рил, причем вероятно о самом себе, в “абсолютном раз-
рыве”, но, тогда как для Гегеля речь шла только об од-
ном периоде, такой мистик никогда не выйдет из этого
разрыва, поскольку “смотря в лицо Негативному”, он
никогда не сможет переместить его в Бытие, просто-на-
просто отказавшись заниматься этим и оставшись в сво-
ем двусмысленном положении »(«Гегель, смерть и жерт-
воприношение »).
33 И снова здесь различие значит больше, чем содержание
терминов. Необходимо связать две эти серии оппозиций
(мажорное/минорное, архаическое/классическое) с той,
которую мы ранее извлекли, говоря о поэтическом (су-
веренное неподчинение/ включение/ подчинение). Арха-
ичной суверенности, «которая, похоже, включает в себя
некое бессилие » и, будучи «подлинной суверенностью »,
отказывается от «употребления силы» (от порабощаю-
щего господства) Батай противопоставляет «классиче-
скую идею суверенности», которая «связывается с иде-
ей приказа» и, следовательно, обладает всеми теми
атрибутами, которые отвергнуты в отношении носящей
то же имя суверенной операции (свободная, победонос-
ная, самосознательная, признанная и т.п. субъектив-
ность, опосредованная и уходящая от себя, возвращаю-
щаяся к себе, предварительно уйдя от себя при помощи
работы раба). Итак, Батай показывает, что «мажорные
позиции» суверенности, так же, как и минорные, могут
быть включены в сферу деятельности » («Метод медита-
ции»).
Следовательно, различие между мажорным и минорным
только аналогично различию архаического и классиче-
ского. И ни то, ни другое не должны пониматься в клас-
сическом или минорном смысле. Архаическое — это не
изначальное или подлинное, как их определяет фило-
софский дискурс. Мажорное не противопоставляется
минорному как большое малому, высокое низкому и т.д.
В «Старом кроте » (неизданная статья, от которой отка-
зался журнал Bifurs) все оппозиции верха и низа, всех
значений «сверх» (сюрреализм, сверхчеловек и т.д.) и
значений «под» (подземный и т.д.), империалистическо-
го орла и пролетарского крота, рассматриваются во всех
своих возможностях выворачивания наизнанку.
54 «Игра — это ничто, если только она не становится вы-
зовом, безоглядно брошенным тому, что противопостав-
ляется игре» (примечание на полях неизданной «Тео-
рии религии», которую Батай намеревался назвать
также «Посмеяться над смертью и умереть со смеху»).
35 «Действие... не сводимое к классической логике... для
которого, похоже, не построена логика», говорит Сол-
лерс в «Крыше», которая начинает с разоблачения всех
составляющих единую систему форм псевдонаруше-
ния, всех социальных и исторических фигур, по кото-
рым можно прочесть заговор между «теми, кто безро-
потно существует под пятой закона, и теми, для которых
закон не существует сам ». В последнем случае давление
лишь «удваивается ». Le Toil, essai de lecture systematique,
Tel Quel, 29.
36 Подобно любому другому дискурсу, например, гегелев-
скому, дискурс Батая обладает формой некоторой оп-
ределенной структуры интерпретаций. Каждое положе-
ние, имеющее интерпретативную природу, поддается
истолкованию в другом положении. Поэтому мы можем,
действуя достаточно осторожно и всегда оставаясь внут-
ри текста Батая, отделить одно истолкование от сосед-
него и подчинить его другому истолкованию, связанно-
му с другими положениями системы. А это значит
признать, не разрывая общей систематической связи, на-
личие сильных и слабых моментов в самоистолковании
некоторой мысли, признать те силовые отличия, кото-
рые зависят от стратегической необходимости конечно-
о
*
го дискурса. Конечно, наше собственное истолковываю-
щее прочтение пыталось пройти через моменты, кото-
рые мы истолковали в качестве мажорных, дабы связать
их между собой. Такой «метод» — который можно на-
зывать так только внутри пределов знания — оправды-
вается тем, что мы, идя вслед за Батаем, пишем здесь о
подвешивании эпохи смысла и истины. Но это не избав-
ляет и не отстраняет нас от формулирования правила
силы и слабости: слабость всегда зависит от
1. Удаленности от момента суверенности,
2. Непризнания строгих норм знания.
Самая большая сила — это сила письма, которое в са-
мом отчаянном нарушении границ поддерживает и при-
знает необходимость системы запрета (знания, науки,
философии, работы, истории и т.д.). Письмо всегда про-
ходит между двух этих сторон предела. Некоторые сла-
бые моменты дискурса Батая отмечены частным незна-
нием, то есть некоторым философским невежеством.
Например, Сартр справедливо отмечает, что «он, по-ви-
димому, не понял Хайдеггера, о котором он много и не-
впопад говорит», так что потом «философия мстит за
себя». Многое можно было бы сказать об этой отсылке
к Хайдеггеру. Мы постараемся сделать это в каком-ни-
будь другом месте. Здесь же отметим, что в этом пункте,
как и в некоторых других, «ошибки » Батая отражают те
ошибки, что в то же самое время были совершены при
чтении Хайдеггера «специалистами по философии».
Принять перевод (принадлежащий Корбену) Dasein'a
как «человеческой реальности» (это уродливое образо-
вание влекло за собой неисчислимые последствия, про-
тив которых были направлены четыре первых парагра-
фа Sein und Zeit), сделать из него саму стихию дискурса,
настойчиво говорить о «гуманизме, общем для Ницше и
нашего автора »[Батая] — все это в философском смыс-
ле было со стороны Сартра тоже весьма рискованно.
Обращая внимание на этот пункт с целью прояснения
текста и контекста Батая, мы не сомневаемся ни в исто-
рической необходимости этого риска, ни в той роли про-
буждения, за который как раз и пришлось заплатить та-
кой необходимостью в ситуации, которая к нам уже не
относится. Все это заслуживает признания. Необходи-
мо было пробуждение и время.
Структура, знак и
игра в дискурсе
гуманитарных наук
Стоит больше заниматься истолкованием ис-
толкований, чем истолкованием вещей.
Монтень
Быть может, в истории понятия «структура» про-
изошло нечто такое, что можно было бы назвать «собы-
тием», если только наделить это слово смыслом, кото-
рый структурная — или структуралистская — установка
как раз и стремилась свести на нет или поставить под со-
мнение. И все же скажем об этом «событии», заключив
это слово в целях предосторожности кавычки. Что же это
за событие? Его внешняя форма представляется как не-
кий разрыв и удвоение.
Было бы легко показать, что само понятие структу-
ры и даже слово «структура» являются сверстниками
западной эпистемы, то есть западной науки и филосо-
фии, а их корни уходят в почву обыденного языка, где их
и подбирает эпистема, которая в метафорическом сме-
щении привлекает их к себе. Тем не менее, вплоть до со-
бытия, границы которого я хотел бы определить, струк-
тура или, точнее, структурность структуры, вопреки ее
вовлеченности в работу, всегда подвергалась нейтрали-
зации и сведению за счет жеста, наделявшего ее неким
центром, связывающим ее с некоей точкой присутствия,
с устойчивым началом. Функция этого центра заключа-
лась не только в том, чтобы сориентировать, уравнове-
445
сить и организовать структуру — ведь неорганизованная
структура и в самом деле немыслима, — но, самое глав-
ное, в том, чтобы сам принцип организации структуры
полагал предел тому, что можно было бы назвать ее иг-
рой. Несомненно, что центр структуры, ориентируя, ор-
ганизуя и обеспечивая связность системы, допускает игру
элементов внутри целостной формы. И сегодня структу-
ра, лишенная всякого центра, по-прежнему представля-
ет само немыслимое.
Однако, центр закрывает игру, которую сам же от-
крывает и делает возможной. Центр как таковой являет-
ся той точкой, где более невозможна подмена содержа-
ний, элементов и терминов. В центре наложен запрет на
взаимозамещение или превращение элементов (которые,
впрочем, сами могут быть структурами, включенными в
другую структуру). По крайней мере, такое превращение
всегда оставалась под запретом (я умышленно пользу-
юсь этим словом). Таким образом, всегда считалось, что
центр, единственный по определению, образует в струк-
туре именно то, что, управляя структурой, ускользает от
структурности. Вот почему с точки зрения классической
мысли о структуре можно парадоксальным образом ска-
зать, что центр находится как в структуре, так и вне струк-
туры. Он является центром некоторой целостности, и в
то же время эта целостность — поскольку центр ей не
принадлежит — имеет свой центр в другом месте.
Центр — это не центр. Понятие центрированной струк-
туры — хотя оно и представляет связность как таковую,
условие эпистемы как философии или как науки —
является противоречиво связанным. И как всегда, эта
связность в противоречии выражает силу некоторого же-
лания. Действительно, понятие центрированной структу-
ры — это понятие обоснованной игры, построенной на
некой основополагающей неподвижности и успокоитель-
ной достоверности, которая сама по себе выведена из
игры. Именно эта достоверность и позволяет совладать
со страхом, постоянно рождающемся из ощущения, что
мы вовлечены в игру, захвачены игрой, с самого начала
игры находимся в игре. Исходя из того, что мы назвали
центром, который находится как внутри, так и снаружи,
безразлично принимая имена начала или конца, архе или
телоса, можно сказать, что различные повторы, замеще-
ния и превращения всегда включены в некоторую исто-
рию смысла — то есть просто в историю, — начало кото-
рой всегда можно пробудить, а конец — предвосхитить,
причем именно в форме присутствия. Вот почему можно,
по всей видимости, сказать, что движение всякой архео-
логии, так же как и эсхатологии, участвует в редукции
структурности структуры и пытается помыслить послед-
нюю исходя из полного и вынесенного за пределы игры
присутствия.
Но если дело обстоит так, то всю историю понятия
«структура» до разрыва, о котором мы говорим, следует
мыслить как серию замещений одного центра другим, как
цепочку различных определений центра. Последователь-
но и упорядоченно центр принимает различные формы и
получает различные имена. В таком случае история ме-
тафизики, как и история самого Запада, оказываются
историей подобных метафор и метонимий. Матричной
формой — я прошу простить мне столь малую степень
доказательности и извиняюсь за множество опускаемых
мною ходов, что объясняется желанием как можно бы-
стрее перейти к основной теме — здесь становится опре-
деление бытия как присутствия во всех смыслах этого
слова. Можно было бы показать, что все имена таких по-
нятий как основание, принцип и центр всегда указывают
на инвариант некоего присутствия (eidos, archu, telos,
energeia, ousia [сущность, существование, субстанция,
субъект], aletheia, трансцендентальность, сознание, Бог,
человек и т.д.).
Событие разрыва, раскол, на который я ссылался в
начале, произошел, вероятно, в тот самый момент, когда
пришлось помыслить, то есть повторить саму структур-
ность структуры; вот почему я сказал, что раскол и есть
повтор — во всех смыслах этого слова. Одновременно
следовало помыслить такой закон, который как бы управ-
ляет центром в его желании конституировать структуру,
но при этом управляет и тем процессом означивания, ко-
торый подчиняет смещения и замещения закону центри-
рующего присутствия, причем такого, которое никогда
не было самим собой, будучи всегда уже выведенным из
себя в своем замещении. Заместитель не замещает ниче-
го такого, что бы по отношению к нему в каком-то смыс-
ле пред-существующим. И это позволяет прийти к выво-
ду, что центра нет, что его нельзя помыслить в форме
присутствующего сущего, что у него нет естественного
места, что он представляет собой не закрепленное место,
а функцию, своего рода не-место, где происходит беско-
447
нечная игра знаковых замещений. Вот в этот-то момент
язык и завладевает универсальным проблемным полем;
этот момент, когда за отсутствием центра или начала все
становится дискурсом — при условии, что мы будем по-
нимать под этим словом систему, в которой центральное,
изначальное или трансцендентальное означаемое нико-
гда полностью не присутствует вне некоторой системы
различий. Отсутствие трансцендентального означаемо-
го раздвигает поле и возможности игры значений до бес-
конечности.
Где и как производится эта децентрация как мысль о
структурности структуры? Чтобы указать на такое про-
изводство, было бы наивно ссылаться на определенное
событие, учение или имя того или иного автора. Это про-
изводство, несомненно, принадлежит нашей эпохе в це-
лом, но заявляло о себе и работало оно всегда. Если бы
мы все же пожелали в качестве простого указания вы-
брать несколько «собственных имен» и упомянуть авто-
ров, в чьем дискурсе это производство приблизилось к
своим наиболее радикальным формулировкам, то, несо-
мненно, следовало бы вспомнить ницшевскую критику
метафизики, его критику таких понятий, как бытие и ис-
тина, которые заменяется понятиями игры, истолкова-
ния и знака (знака без присутствия истины); фрейдовскую
критику присутствия для самого себя, то есть сознания,
субъекта, самотождественности, непосредственной бли-
зости и принадлежности самому себе; и, наконец, более
радикальную хайдеггеровскую деструкцию метафизики,
онто-теологии, определения бытия как присутствия. Все
эти дискурсы и их аналоги вовлечены в некий круг. Этот
круг — единственный в своем роде и описывает он отно-
шения между историей метафизики и деструкцией исто-
рии метафизики: чтобы поколебать метафизику, нет ни-
какого смысла обходиться без понятий метафизики; мы
не располагаем таким языком (таким синтаксисом и лек-
сикой), который был бы чужим для этой истории; мы не
можем высказать такого деструктивного положения,
которое уже не скатывалось бы в форму, в логику и скры-
тые установки того самого явления, которое оно стре-
мится оспорить. Возьмем один пример из множества ему
подобных: метафизику присутствия можно поколебать
с помощью понятия знака. Однако, как я только что за-
метил, стоит нам задаться целью показать, что не суще-
ствует трансцендентального или привилегированного
означаемого и что, следовательно, поле или игра значе-
ний не имеет пределов, как нам придется — и этого-то
как раз и нельзя сделать — отказаться от самого поня-
тия знака и от слова «знак». Ведь «знак» по самой своей
сути всегда понимался и определялся как «знак чего-то»,
как означающее, отсылающее к определенному означае-
мому, как означающее, отличное от своего означаемого.
Если стереть принципиальное различие между означае-
мым и означающим, то придется оставить и само слово
«означающее» как метафизическое понятие. Когда в пре-
дисловии к «Сырому и приготовленному» Леви-Стросс
говорит, что он «стремился выйти за границы противопос-
тавления чувственного и умопостигаемого, с самого начала
расположившись на уровне знаков», то необходимость,
сила и правомерность его жеста не могут заставить нас
забыть, что само по себе понятие знака не способно
преодолеть отмеченную оппозицию чувственного и
умопостигаемого. Напротив, оно определяется этой
оппозицией, причем определяется от начала и до конца,
на протяжении всей своей истории. Он всегда жил этой
оппозицией и ее системой. Но мы не можем избавится от
понятия знака, отказаться от метафизического соучастия,
не отрекаясь тем самым и от критической работы,
которую ведем против него, и не рискуя стереть разли-
чие в самотождественности означаемого, сводящего к
себе собственное означающее или, что то же самое, ис-
торгающего его из себя. Ведь существуют два разных спо-
соба, позволяющих стереть различия между означаемым
и означающим: первый, классический, состоит в том, что-
бы редуцировать означающее или отклонить его, то есть
в конечном счете подчинить знак мысли; второй, кото-
рый мы направляем против предыдущего, заключается в
том, чтобы поставить под вопрос саму систему, в кото-
рой осуществляется указанная редукция, и в первую оче-
редь — саму оппозицию чувственного и умопостигаемо-
го. В том и заключается парадокс, что метафизическая
редукция знака нуждается в той самой оппозиции, кото-
рую она подвергает редукции. Оппозиция и ее редукция
вместе образуют систему. Сказанное о знаке распростра-
няется на любые понятия и высказывания, вырабатывае-
мые метафизикой, в том числе и на дискурс о структуре.
Однако оказаться внутри этого круга можно разными
способами. Все они отличаются той или иной степенью
наивности, эмпиричности, систематичности, все они бо-
449
Ж. Деррида «Письмо и различие» Структура» знак и игра в дискурсе гуманитарных наук
лее или менее близки к формулировке или даже форма-
лизации этого круга. Именно эти различия и объясняют
факт множественности этих деструктивных дискурсов,
равно как и разногласия между их создателями. В среде
таких унаследованных от метафизики понятий действо-
вали, к примеру, Ницше, Фрейд и Хайдеггер. Поскольку,
однако, эти понятия не являются простыми элементами
или атомами, а включаются в определенную синтаксиче-
скую связь и в определенную систему, то любое частное
заимствование ведет за собой всю метафизику. Что и по-
зволяет названным разрушителям взаимно разрушать
друг друга, когда, например, тот же Хайдеггер, проявляя
столько же проницательности и строгости, сколько и
предвзятости и непонимания, объявляет Ницше послед-
ним метафизиком и последним «платоником». Можно
заняться тем же самым по отношению к самому Хайдег-
геру, к Фрейду или к кому-нибудь еще. И сегодня не
встретишь более распространенного занятия.
Как же будет обстоять дело с этой формальной схе-
мой, если мы повернемся в сторону так называемых «гу-
манитарных наук»? Быть может, одна из этих наук зани-
мает в этом отношении привилегированное место. Это
этнология. В самом деле, позволительно считать, что эт-
нология как наука смогла родиться лишь тогда, когда
смогла осуществиться определенная децентрация: в мо-
мент, когда европейская культура — и, следовательно,
история метафизики и ее понятий — оказалась смещена,
изгнана со своего места, столкнувшись с необходимостью
перестать рассматривать себя в качестве образцовой
культуры. Этот момент в первую очередь относится не к
философскому и научному дискурсу, а к политике, эко-
номике, технике и т.д. Можно с уверенностью утвер-
ждать, что, будучи условием этнологии, критика этноцен-
тризма далеко не случайно оказалась, причем и с
системной, и с исторической точки зрения, современни-
цей деструкции истории метафизики. Обе они принадле-
жат одной и той же эпохе.
Подобно всякой науке, этнология возникает в сти-
хии определенного дискурса. И прежде всего она явля-
ется европейской наукой, использующей, пусть и неохот-
но, понятия, доставшиеся по традиции. Следовательно,
этнолог, независимо от своего желания, коль скоро сам
он в данном случае ничего не решает, принимает в свой
дискурс предпосылки этноцентризма в тот самый момент,
когда он занят его разоблачением. Это — не историче-
ская случайность, а неизбежная необходимость, так что
следовало бы продумать все нее следствия. Однако, если
никому не дано ускользнуть от этой необходимости,
если — следовательно — уступая ей, никто не несет за
это ни малейшей ответственности, то это вовсе не зна-
чит, будто любые способы такой уступки равнозначны.
Вполне вероятно, что мерой качества и продуктивности
того или иного дискурса является как раз та критическая
строгость, с которой продумывается его отношение к ис-
тории метафизики и к унаследованным понятиям. Речь
идет о критическом отношении к языку гуманитарных
наук и о критической ответственности дискурса. Речь
идет об открытой и систематической постановке вопро-
са, касающегося статуса дискурса, заимствующего в дос-
тавшемся ему наследстве ресурсы, необходимые для де-
конструкции самого этого наследства. Это — вопрос
экономии и стратегии.
Если теперь в качестве примера мы рассмотрим тек-
сты Леви-Стросса, то мы сделаем это не только по при-
чине привилегии, ныне предоставленной этнологии и от-
личающей ее от остальных гуманитарных наук, и даже не
по причине особой весомости этнологической модели в
современной расстановке теоретических сил. Главная
причина в том, что в работах Леви-Стросса выразился
определенный выбор, и именно в них в более или менее
эксплицитной форме было разработано учение, касаю-
щееся как критики языка, так и языка критики в гумани-
тарных науках.
Чтобы проследить это движение в тексте Леви-
Стросса, выберем в качестве одной из путеводных нитей
оппозицию природа/культура. Несмотря на все омоло-
жение и все накладываемые румяна, эта оппозиция роди-
лась вместе с философией. Она даже старше самого Пла-
тона. Ее возраст по меньшей мере равен возрасту
софистики. Со времен возникновения антитезы фюсис/
номос, фюсис/техне эта оппозиция вплоть до наших дней
передавалась по исторической цепочке, противопостав-
ляющей «природу» закону, институции, искусству, тех-
нике, но также и свободе, произвольности, истории, об-
ществу, духу и т.д. Так вот, едва приступив к своим
исследованиям, в первой же книге («Элементарные струк-
451
туры родства») Леви-Стросс ощутил как необходимость
использования этой оппозиции, так и невозможность пол-
ностью довериться ей. В «Структурах » он исходит из сле-
дующей аксиомы или определения: природе принадлежит
все, что носит универсальный и спонтанный характер и
не зависит ни от какой определенной культуры и ни от
какой определенной нормы. Зато культуре принадлежит
все, что зависит от системы норм, управляющих общест-
вом и, следовательно, способных видоизменяться от од-
ной социальной структуры к другой. Оба эти определе-
ния относятся к традиционному типу. Однако, уже на
первых страницах «Структур» Леви-Стросс, принявший
было эти понятия, сталкивается с тем, что он называет
скандалом, то есть явлением, не ладящим с доставшейся
ему оппозицией природа/культура и требующим разом
как предикаты природы, так и предикаты культуры. Этим
скандалом оказывается запрет на инцест. Запрет на ин-
цест универсален, и в этом смысле можно сказать, что он
принадлежит природе; однако в то же время он является
именно запретом, системой норм и табу, и поэтому его
следует считать принадлежащим культуре. «Итак, пред-
положим, что все универсальное в человеке относится к
природе и характеризуется спонтанностью, тогда как все,
что подчиняется той или иной норме, принадлежит куль-
туре, представляя атрибуты относительного и частного.
В этом случае мы сталкиваемся с фактом, или, точнее, с
совокупностью фактов, которые, в свете предшествую-
щих определений, предстают едва ли не как скандал: ведь
запрет на инцест совершенно определенно включает в себя
две неразрывно связанные черты, в которых мы признали
взаимопротиворечивые признаки двух исключающих друг
друга порядков: он устанавливает правило, но это един-
ственное правило, которое, среди прочих социальных
правил, обладает универсальным характером »(р. 9).
Скандал этот, очевидно, имеет место только внутри
понятийной системы, доверяющей в своей основе разли-
чию между природой и культурой. Таким образом, начи-
ная свою работу с факта запрета на инцест, Леви-Стросс
добирается до того пункта, где это различие, всегда счи-
тавшееся чем-то само собой разумеющимся, либо стира-
ется, либо оспаривается. Ведь с этого момента запрет на
инцест нельзя будет помыслить в терминах оппозиции
природа/культура, так же как нельзя будет и сказать, что
он является скандальным фактом, неким непрозрачным
ядром, заключенным в сетку прозрачных значений; это
не тот скандал, с которым мы встречаемся и сталкиваем-
ся в традиционном понятийном поле; он ускользает от
подобных понятий, хотя, несомненно, предшествует им
и, вероятно, является условием их возможности. Можно
было бы сказать, что вся совокупность философских по-
нятий, образующая систему вместе с оппозицией приро-
да/ культура, создается именно для того, чтобы оставить
непродуманным то, что делает возможным само сущест-
вование этой системы, а именно — происхождение запре-
та на инцест.
Мы довольно бегло рассмотрели приведенный при-
мер, поскольку это лишь один из множества возможных
примеров, однако и он хорошо показывает то, что язык в
самом себе несет необходимость собственной критики.
Эту критику, впрочем, можно вести двумя путями и дву-
мя способами. Едва только начинает ощущаться предел
оппозиции природа/культура, как сразу же возникает
желание заняться систематическим и строгим допросом
истории этих понятий. Это первый шаг. Подобный сис-
тематический и исторический допрос не является ни фи-
лологической, ни философской операцией в классиче-
ском смысле этих слов. Заниматься понятиями, лежащими
в основе всей истории философии, де-конституировать
их — это нечто большее, нежели работа филолога или
классического историка философии. Несмотря на внеш-
нее впечатление, это, несомненно, самый смелый способ
наметить шаг за пределы философии. При этом помыс-
лить выход «за пределы философии» куда сложнее, чем
обычно кажется людям, воображающим, будто с моло-
децкой легкостью они совершили его давным-давно, на
деле увязнув всем телом своего дискурса в той метафи-
зике, от который они намеревались его освободить.
Другая возможность — и я полагаю, что она больше
согласуется со способом, избранным Леви-Строссом, —
позволяющая избегнуть стерилизующих последствий
первого шага, заключается в том, чтобы, оставаясь в рам-
ках эмпирического исследования, сохранить, повсемест-
но указывая их ограниченность, все прежние понятия в
качестве инструментов, которые еще могут пригодиться.
Отныне этим инструментам более не предается какого бы
то ни было достоинства истины, какого бы то ни было
строгого значения; при случае их можно будет и бросить,
если другие инструменты вдруг покажутся более удоб-
Ж. Деррида «Письмо и различие» Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук
ними. А пока что можно использовать их относительную
эффективность и с их помощью разрушать старую маши-
ну, которой они принадлежат и деталями которой они
являются. Именно так язык гуманитарных наук крити-
кует сам себя. Но это значит, что Леви-Стросс полагает
возможным отделить метод от истины, отделить инст-
рументарий от метода, и от тех объективных значений,
на раскрытие которых этот метод направлен. Можно,
пожалуй, сказать, что Леви-Стросс начинает именно с
этого утверждения; во всяком случае это первые слова
«Структур »: «Мы начинаем понимать, что, за неимением
другого приемлемого исторического обозначения, раз-
личение между природным и общественным состояния-
ми (сегодня мы охотнее скажем: между природным и
культурным) приобретает значимость, которая полно-
стью оправдывает применение этого различения в совре-
менной социологии в качестве методологического инст-
румента».
Леви-Стросс всегда останется верным этому двойст-
венному замыслу: сохранить в качестве инструмента то, что
он критикует с точки зрения истинностного значения.
С одной стороны, он на самом деле будет продол-
жать оспаривать ценность оппозиции природа/культура.
Книга «Первобытное мышление», вышедшая через три-
надцать с лишним лет после «Структур», отчетливо пе-
рекликается с только что цитированным мною текстом:
«Оппозиция между природой и культурой, на которой
мы некогда настаивали, сегодня, как нам кажется, имеет
главным образом методологическую ценность». Причем
эта методологическая ценность никак не затрагивается
ее «онтологической» незначимостью, как мы могли бы
сказать, доверяй мы самому понятию «онтология»: «Не-
достаточно включить отдельные человеческие сообщест-
ва в человеческое сообщество в целом; это первое дейст-
вие влечет за собой следующие... которые выпадают на
долю точных и естественных наук: реинтегрировать куль-
туру в природу и, в конечном счете, жизнь — в совокуп-
ность ее физико-химических условий » (р. 327).
С другой стороны, все в той же книге Леви-Стросс
представляет под именем бриколажа то, что можно на-
звать дискурсом этого метода. Бриколажист, замечает
Леви-Стросс, это человек, использующий «подручные
средства», то есть доступные ему инструменты, которые
он находит вокруг себя; эти инструменты уже есть в на-
линии, они не были специально сконструированы для тех
операций, к которым их пытаются приспособить мето-
дом случайных попыток, не боясь в случае необходимо-
сти заменять их или использовать все разом, даже если
их происхождение и форма не имеют ничего общего ме-
жду собой и т.д. Это означает, что в самой форме брико-
лажа уже заключена своеобразная критика языка, и один
автор смог даже высказать утверждение, что бриколаж —
это и есть критический язык как таковой и, в особенно-
сти, язык литературной критики: я имею в виду текст
Жерара Женетта «Структурализм и литературная кри-
тика», опубликованный в честь Леви-Стросса в журнале
«Арк», где говорится, что анализ бриколажа «почти до-
словно приложим» к критике и в особенности к «литера-
турной критике» (текст перепечатан в: Figures, ed. du
Seuil, 1966. p. 145).
Если называть бриколажем необходимость заимст-
вования своих понятий в тексте более или менее связно-
го или, наоборот, разрушенного наследия, то придется
сказать, что любой дискурс — бриколажист. Инженер,
противопоставляемый Леви-Строссом бриколажисту,
должен был бы сконструировать весь язык целиком — и
синтаксис, и лексику. В этом смысле инженер — это миф:
субъект, который стал бы абсолютным источником соб-
ственного дискурса, который сумел бы собрать этот дис-
курс «во всех его деталях», тем самым оказался бы твор-
цом Слова, самим Словом. Представление об инженере,
порвавшем с бриколажем, является, следовательно, тео-
логическим представлением; а поскольку Леви-Стросс в
другом месте утверждает, что бриколаж имеет мифопо-
этическую природу, можно поспорить, что инженер —
это миф, созданный бриколажистом. Как только мы пе-
рестаем верить в существование подобного бриколажи-
ста, равно как и в дискурс, порвавший со всякой истори-
ческой преемственностью, как только мы допускаем, что
любой конечный дискурс ограничен определенным бри-
колажем, что инженер и ученый — это тоже своего рода
бриколажисты, под угрозой оказывается сама идея бри-
колажа, а различие, в котором она черпала свой смысл,
разваливается.
Так обнаруживается вторая нить, которая должна
будет провести нас через все эти хитросплетения.
Бриколаж описывается Леви-Строссом не только как
интеллектуальная, но и как мифопоэтическая деятель-
О
ч
ность. В «Первобытном мышлении» по этому поводу мы
читаем: «Подобно тому, как бриколаж способен добивать-
ся блестящих и непредвиденных результатов в техническом
плане, мифологическое мышление добивается того же в
плане интеллектуальном. И наоборот, нередко отмечался
и мифопоэтический характер бриколажа» (р. 26).
Усилия, предпринятые Леви-Строссом, примечатель-
ны не только тем, что он предлагает, в частности, в одной
из новейших своих работ, структурную науку о мифах и
мифологической деятельности. Его усилия проявляются
также — и проявляются, я бы сказал, в первую очередь —
в том статусе, который он придает своему собственному
дискурсу о мифах, называемому им «мифологиками».
Именно в этот момент его дискурс о мифе начинает про-
думывать и критиковать самого себя. Этот момент, этот
критический период, как раз и представляет очевидный
интерес для любого из языков, поделивших между собой
поле гуманитарных наук. Что говорит Леви-Стросс о сво-
их «мифологиках»? Именно здесь обнаруживается поэти-
ческая значимость бриколажа. В самом деле, этот кри-
тический поиск нового статуса дискурса привлекает
прежде всего открытым отказом отсылать к какому-либо
центру, субъекту, привилегированной ссылке, началу или
абсолютной архии. Тему этой децентрации можно про-
следить на протяжении всей «Увертюры» к последней
книге Леви-Стросса «Сырое и вареное». Я отмечу лишь
следующие пункты.
1. Прежде всего Леви-Стросс признает, что миф бо-
роро, используемый им в качестве «образцового мифа»,
не заслуживает ни такого названия, ни такой трактовки;
это название условно, а трактовка неправомерна. Миф бо-
роро, так же, как и любой другой, не заслуживает приви-
легии образца: «Действительно, мы попытаемся показать,
что миф бороро, в дальнейшем называемый нами образцо-
вым мифом, есть не что иное, как более или менее далеко
зашедшая трансформация других мифов, пришедших либо
из того же общества, либо из других, относительно близ-
ких и далеких обществ. Поэтому в качестве отправной точ-
ки можно было бы взять любого представителя этой груп-
пы. С этой точки зрения интерес образцового мифа
определяется не его типичностью, а, скорее, его неустой-
чивым положением внутри группы» (р. 10).
2. У мифа нет абсолютного единства или истока. Его
центр или исток — это всегда лишь тени, то есть неуло-
вимые, неосуществимые, а главное, несуществующие
возможности. Все начинается со структуры, с конфигу-
рации или отношения. Дискурс, направленный на эту
а-центрическую структуру, каковой является миф, сам
не может иметь ни абсолютного субъекта, ни абсолют-
ного центра. Чтобы не упустить форму и само движение
мифа, этот дискурс должен избегать всякого насилия,
заключающегося в центрировании языка, описывающе-
го а-центрическую структуру. Необходимо, следова-
тельно, отказаться от научного и философского дискур-
са, от той эпистемы, абсолютное требование которой
состоит в восхождении к истоку, к центру, к основанию,
к принципу и т.д. и которая сама является этим требо-
ванием. В противоположность эпистемическому дис-
курсу, структурный, мифо-логичный дискурс, описы-
вающий мифы, сам должен быть мифо-морфным. Он
должен иметь форму того, о чем он говорит. Это и ут-
верждает Леви-Стросс в книге «Сырое и вареное», боль-
шую и выразительную цитату из которой я и хочу те-
перь привести:
«В самом деле, исследование мифов поднимает ме-
тодологическую проблему, возникающую уже в силу того
факта, что оно не может соответствовать картезианско-
му принципу, требующему разделять трудный вопрос на
столько частей, сколько нужно для его разрешения. При
анализе мифа не существует никакого действительного
предела, не существует того скрытого единства, к кото-
рому можно было бы прикоснуться в конце всей анали-
тической работы. Мифические темы раздваиваются до
бесконечности. Едва только подумаешь, что удалось их
распутать и отделить друг от друга, как замечаешь, что,
отвечая на призывы непредвиденного родства, они вновь
сплавляются между собой. Отсюда следует, что единст-
во мифа — это всего лишь проект и тенденция, что оно
никогда не отражает какого-либо состояния или момен-
та мифа. Такое единство есть воображаемый феномен,
подразумеваемый усилием интерпретации; его роль за-
ключается в том, чтобы дать мифу синтетическую форму
и помешать его растеканию в путанице противополож-
ностей. Таким образом, можно сказать, что наука о ми-
фах — это анакластика, если употребить этот старый
термин в широком (и вытекающим из его этимологии)
смысле, допускающем, по определению, изучение не
только отраженных, но и преломленных лучей. Однако,
в отличие от философской рефлексии, собирающейся
взойти к истоку, для рефлексий, о которых здесь идет
речь, интересны такие лучи, у которых есть лишь мнимый
источник... Стремясь подражать самопроизвольному
движению мифологической мысли, мы вынуждены были
в нашем кратком и вместе с тем длительном предприятии
подчиниться требованиями этой мысли и соблюдать ее
ритм. Вот почему эта книга о мифах сама является своего
рода мифом». И далее (р. 20): «Поскольку сами мифы по-
коятся на вторичных кодах (кодами первого порядка
являются те, которыми строится сам язык), эта книга
предлагает набросок кода третьего порядка, задача ко-
торого — обеспечить взаимопереводимость различных
мифов. По этой причине не будет никакой ошибки в рас-
смотрении самой этой книги как некоего мифа, а имен-
но, мифа о мифологии». Именно тем, что в мифическом
или мифологическом дискурсе отсутствует всякий дей-
ствительный и устойчивый центр, оправдывается музы-
кальная модель, которую Леви-Стросс выбрал в качест-
ве образца для композиции своей книги. В данном случае
отсутствие центра означает отсутствие субъекта и отсут-
ствие автора: «Таким образом, миф и музыкальное про-
изведение — это как бы дирижеры оркестра, молчаливы-
ми исполнителями которого являются слушатели. И если
нас спросят, где же находится действительный центр про-
изведения, то придется ответить, что его определение
невозможно. Музыка и мифология сталкивают человека
с мнимыми объектами, и действительностью обладает
лишь их тень... У мифов нет авторов» (р. 25).
Вот здесь-то этнографический бриколаж умышлен-
но берет на себя мифопоэтическую функцию. А она в то
же мгновение показывает, что сама философская или
эпистемологическая потребность в центре носит мифо-
поэтический характер, то есть характер исторической
иллюзии.
Тем не менее, понимая всю необходимость шага,
предпринятого Леви-Строссом, нельзя забывать и о его
рискованности. Если мифо-логика и вправду мифо-морф-
на, то означает ли это, что любые дискурсы о мифе стоят
друг друга? Следует ли отсюда, что мы должны отказать-
ся от любых эпистемологических требований, позволяю-
щих различать качество дискурса о мифе? Таков класси-
ческий, но в то же время неизбежный вопрос. Ответить
на него невозможно — и я полагаю, что Леви-Стросс на
него не отвечает, — пока проблема отношений между фи-
лософией, или теоремой, с одной стороны и мифемой или
мифопоэмой с другой, не была отчетливо поставлена.
И это не так просто сделать. Если проблема не была по-
ставлена в открытой форме, то предполагаемый выход за
пределы философии осуждается на то, чтобы превратить-
ся в вопрос об ошибках, не замеченных внутри философ-
ского поля. В этом случае эмпиризм будет родовой кате-
горией, а эти ошибки — его видами. Транс-философские
понятия превращаются в философские наивности. По-
добную опасность можно было бы продемонстрировать
на множестве примеров, в частности, на примере таких
понятий, как знак, история, истина и т.д. Я, впрочем, хочу
подчеркнуть лишь одно: выход за пределы философии
заключается не в том, чтобы перевернуть последнюю
страницу философии (что чаще всего оборачивается про-
сто дурным философствованием), а в том, чтобы некото-
рым определенным образом продолжать читать филосо-
фов. Леви-Стросс всегда идет на риск, о котором я
говорю, ведь тот является ценой самого его усилия. Я уже
сказал, что эмпиризм является матричной формой всех
тех ошибок, которые угрожают дискурсу, продолжаю-
щему (в том числе у Леви-Стросса) претендовать на на-
учность. Если, однако, поставить проблему эмпиризма и
бриколажа во всей ее глубине, то, вероятно, мы вскоре
придем к абсолютно противоречивым положениям, ка-
сающимся статуса дискурса в структурной этнологии.
С одной стороны структурализм справедливо считает
себя критикой эмпиризма. А между тем нет ни одной кни-
ги или работы Леви-Стросса, которые не были бы эмпи-
рическими исследованиями, подверженными подтвер-
ждению или нападению со стороны новых данных.
В любом случае структурные схемы предъявляются в ка-
честве гипотез, исходящих из количественно ограничен-
ной информации и подлежащих проверке опытом. Мно-
гие тексты могли бы послужить доказательством этой
двойственной установки. Обратимся еще раз к «Увертю-
ре», открывающей «Сырое и вареное», из которой явст-
вует, что причина двойственности такой установки состо-
ит в том, что речь здесь идет о языке, имеющим в качестве
своего объекта другой язык: «Критики, которые упрек-
нут нас в том, что мы не предварили анализ южноамери-
канских мифов их исчерпывающим инвентарем, совершат
серьезную ошибку касательно природы и роли этих до-
кументов. Совокупность мифов того или иного народа
принадлежит порядку дискурса. И если только народ не ;
затухает физически или духовно, такая совокупность
никогда не становиться закрытой. С таким же успехом ь
можно упрекнуть и лингвиста, описывающего граммати- £
ку какого-либо языка, в том, что он первым делом не изу- *
чил всю совокупность высказываний, возникших за вре-
мя существования этого языка, тем более, что он ничего
не знает о тех обменах речами, которые будут совершать-
ся столь долго, сколько он будет существовать. Опыт по-
казывает, что прямо-таки смешное количество фраз... по-
зволяет лингвисту разработать грамматику изучаемого
им языка. Если же речь идет о незнакомых языках, то цен-
нейшим приобретением окажется даже фрагмент или на-
бросок подобной грамматики. Чтобы проявиться, синтак-
сису не нужно дожидаться, пока будет описан весь
теоретически бесконечный ряд единичных событий, по-
скольку синтаксис заключен в корпусе правил, управляю-
щих порождением этих событий. Мы как раз и попыта-
лись дать набросок синтаксиса южноамериканской
мифологии. И если мифологический дискурс вдруг обо-
гатится новыми текстами, то это повод, чтобы изменить
тот способ, каким были сформулированы те или иные
грамматические законы, отказаться от одних и обнару-
жить новые. Однако нам никак нельзя возразить требо-
ванием полного описания мифологического дискурса.
Ведь мы только что убедились, что подобное требование
бессмысленно» (р. 15-16). Итактотализация определена
то как нечто ненужное, то как нечто невозможное. Это,
несомненно, зависит от того, что сами пределы тотали-
зации можно помыслить двумя разными способами. И я
еще раз хотел бы напомнить, что в дискурсе Леви-Строс-
са оба этих определения скрыто сосуществуют. Тотали-
зацию можно расценивать как невозможную, исходя из
классических соображений: в этом случае имеется в виду
эмпирическое усилие некого субъекта или конечного дис-
курса, тщетно стремящегося к бесконечному богатству,
которым он никогда не сумеет завладеть. Всегда есть ;
слишком много того, о чем никогда не сможешь сказать. $
Между тем не-тотализацию можно определить и иначе — J
не через понятие конечности, отсылающее к эмпирии, а
через понятие игры. И если в этом смысле тотализация
лишается смысла, то происходит это уже не в силу суще-
ствования некоего бесконечного поля, которое не в со- iL
стоянии охватить конечный взгляд или конечный дискурс,
но потому, что природа этого поля — то есть поля язы-
ка, причем языка конечного — исключает тотализацию
как таковую; ведь это поле есть не что иное, как поле
игры — поле бесконечных замещений, совершающихся в
замкнутом пространстве некоего конечного множества.
Эта поле допускает бесконечные замещения лишь пото-
му, что оно само конечно, то есть не потому, что оно не-
исчерпаемо и слишком велико, как было бы по классиче-
ской гипотезе, а в силу определенной нехватки, а именно
нехватки центра, который мог бы остановить и закрепить
игру замещений. Воспользовавшись сильным, но обычно
затираемым во французском языке скандальным значе-
нием этого слова, можно сказать, что это движение игры,
осуществляющееся благодаря нехватке, отсутствию цен-
тра и начала, является движением дополнительности.
Определить центр и исчерпать процесс тотализации не-
возможно потому, что знак, который замещает и допол-
няет центр, оказываясь на его месте во время его отсут-
ствия, — этот знак приходит, чтобы добавиться, то есть
в виде лишка и дополнения. Движение придания значе-
ния всегда что-то добавляет, так что возникает некото-
рый избыток, — однако такая прибавка оказывается под-
вижной, поскольку она замещает и дополняет нехватку
на стороне означаемого. Хотя Леви-Стросс пользуется
словом «дополнительный», не подчеркивая, как это де-
лаю я, наличия двух указанных смысловых направлений,
странным образом складывающихся в единое целое, не
случаен тот факт, что он дважды обращается к нему в
«Введении к сочинениям Мосса» в тот самый момент,
когда он говорит о «переизбытке означающих по отно-
шению к означаемым, на которые эти означающие могут
накладываться»: «В своем усилии постичь мир человек,
следовательно, всегда располагает определенным избыт-
ком значений (который он распределяет между вещами,
следуя законам символического мышления, которое
должны изучать этнологи и лингвисты). Подобное рас-
пределение дополнительного рациона, если можно так
выразиться, абсолютно необходимо для того, чтобы не-
занятое означающее и ограниченное означаемое пребы-
вали в отношении соответствия, которое и является не-
обходимым условием символического мышления».
(Можно, вероятно, показать, что этот дополнительный
рацион значений является источником ratio как таково-
Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук «Письмо и различие» Ж. Деррида
го.) Чуть ниже, после слов об «этом плавающем означае-
мом, которое оказывается кабалой любого конечного
мышления», слово «дополнение» появляется еще раз:
«Иначе говоря, вдохновляясь правилом Мосса, гласящим,
что любые социальные феномены могут быть уподобле-
ны языку, мы видим в man a, wakan, oranda и им подобных
понятиях сознательное выражение определенной семан-
тической функции, роль которой состоит в обеспечении
работы символического мышления несмотря на свойст-
венную ему противоречивость. Так объясняются нерез-
решимые на первый взгляд антиномии, связанные с этим
понятием... Сила и действие, качество и состояние, су-
ществительное, прилагательное и глагол одновременно;
абстрактность и конкретность, повсеместность и лока-
лизованность. И в самом деле, мана является всем этим
сразу, — но не потому ли, что ничем из этого не являет-
ся: быть может, это чистая форма или, точнее, чистый
символ, способный наполняться любым символическим
содержанием? В той системе символов, которую выстраи-
вает любая космология, это просто символ с нулевым зна-
чением, то есть знак, отмечающий необходимость такого
символического содержания, которое дополняло бы (кур-
сив мой) то содержание, которое уже наполняет данное
означаемое; и вместе с тем это знак, способный приобре-
тать ту или иную значимость при условии, что она явля-
ется частью свободного запаса, а не термином опреде-
ленного класса, как выражаются фонологи» (примечание:
«Лингвисты уже пришли к формулировке подобного рода
гипотез. Например: “нулевая фонема противопоставля-
ется всем прочим фонемам французского языка в том
отношении, что у нее нет никаких отличительных призна-
ков и никакой устойчивой фонетической значимости.
Зато функция нулевой фонемы как раз и заключается в
ее противопоставлении отсутствию фонемы” (Якобсон и
Лотц). Можно было бы параллельно этому сказать, схе-
матизируя предложенную здесь концепцию, что функция
понятия типа тапа заключается в том, что они противо-
стоят отсутствию значения, но сами по себе никакого
частного значения не имеют»).
Таким образом, переизбыток означающего, его до-
полнительный характер зависит от конечности, то есть
от нехватки, которая должна быть дополнена.
Теперь понятно, почему понятие игры занимает у
Леви-Стросса столь важное место. В его работах — в том
числе в «Беседах», в «Расе и истории» и в «Первобытном
мышлении» — упоминания о всевозможных играх, в ча-
стности о рулетке, встречаются довольно часто. При этом
все эти ссылки на игру всегда охвачены определенным на-
пряжением.
Прежде всего, это относится к напряжению в связи с
историей. Это — классическая проблема, из-за которой
было поломано много копий. Я укажу лишь на то, что пред-
ставляется мне формальной стороной этой проблемы: ре-
дуцируя историю, Леви-Стросс доверился тому понятию,
которое всегда состояло в заговоре с телеологической и
эсхатологической метафизикой, то есть, как это ни пара-
доксально, с той самой философией присутствия, кото-
рой, казалось, можно было противопоставить идею исто-
рии. Хотя тематика историчности проникает в философию
довольно поздно, она всегда была затребована самим оп-
ределением бытия как присутствия. С опорой или без опо-
ры на этимологию и вопреки классическому антагонизму
понятий epistemu и istoria, всегда существовавшему в рам-
ках классического мышления, можно было бы показать,
что первое из этих понятий всегда призывало второе, по-
куда история — это всегда единство становления, как тра-
диция передаваемой истины, или развитие науки, направ-
ленной на присвоение истины в присутствии и присутствии
для самого себя, на познание в самосознании. История
всегда мыслилась как движение снятия истории, как за-
зор между двумя точками присутствия. Однако, если пра-
вомерно подозревать такую концепцию истории, то, ос-
тавляя ее, не ставя открыто намеченной мною проблемы,
мы рискуем вновь впасть в а-историзм классического типа,
то есть вернуться к определенному моменту истории ме-
тафизики. Такова, на мой взгляд, алгебраическая форму-
ла проблемы. Говоря более конкретно, следует признать,
что уважение Леви-Стросса к структурности, к внутрен-
нему своеобразию структуры обязывает к нейтрализации
как времени, так и истории. Например, возникновение но-
вой структуры, уникальной системы всегда происходит —
и в этом заключено само условие ее структурной специ-
фики — в разрыве с ее прошлым, с ее началом и с ее причи-
ной. Следовательно, описать собственные черты той или
иной структурной организации можно, если только в са-
мый момент описания мы не учитываемым ее прошлых со-
стояний, опускаем проблему переходя от одной структу-
ры к другой, заключая историю в скобки. Вот в этот-то
собственно «структуралистский» момент необходимыми
становятся понятия случайности и прерывности. И дейст-
вительно, Леви-Стросс часто отсылает к этим понятиям —
например, тогда, когда речь заходит об этой «структуре
структур», которой оказывается язык, а о нем в «Введе-
нии к сочинениям Мосса» сказано, что он «мог родиться
только внезапно »: «Каков бы ни был момент и обстоятель-
ства появления языка на лестнице развития животной
жизни, он мог родиться только внезапно. Вещи не могли
приобретать значение постепенно. В результате некото-
рого превращения, изучить которое предстоит не социаль-
ным наукам, а биологии и психологии, совершился пере-
ход со стадии, на которой ничто не имело смысла, на
другую стадию, когда смысл приобрело все». Но это не
мешает Леви-Строссу признать (например, в «Расе и ис-
тории») медлительность, вызревание, продолжительную
работу фактических преобразований, то есть признать
саму историю. Однако, если он стремится схватить сущ-
ностную специфику той или иной структуры, он вынуж-
ден в движении, которое принадлежало также Руссо или
Гуссерлю, «отбросить все факты». Подобно Руссо, он все-
гда должен рассматривать возникновение новой структу-
ры по модели катастрофы — как переворот природы в при-
роде, как природный разрыв природной взаимосвязи, как
зазор самой природы.
Напряжение между игрой и историей перекликает-
ся с напряжением между игрой и присутствием. Игра —
это раскол присутствия. Присутствие некоего элемен-
та — это всегда значащая и замещающая отсылка, впи-
санная в систему различий и в движение определенной
цепочки. Всякая игра — это игра отсутствия и присутст-
вия, однако если мы стремимся помыслить ее в некоем
радикальном смысле, то мыслить ее следует до альтерна-
тивы присутствия и отсутствия; само бытие нужно помыс-
лить как присутствие или отсутствие, исходя из возмож-
ности игры, а не наоборот. Итак, хотя Леви-Стросс
показал игру повтора и повтор как игру лучше чем кто
бы то ни было другой, у него можно тем не менее заме-
тить особую этику присутствия, ностальгию по началу,
по архаичной и естественной невинности, по чистоте при-
сутствия и присутствия для самого себя в слове; этику,
ностальгию и даже угрызения совести, которые подчас
представляются им как мотив самого этнологического
проекта, тогда как он сам обращается к архаичным, то
есть для него образцовым, обществам. Соответствующие
тексты хорошо известны.
Таким образом, обращенная к утраченному или не-
возможному присутствию отсутствующего начала, эта
структуралистская тематика — тематика прерванной не-
посредственности — является печальным, негативным,
ностальгическим, виновным руссоистским ликом самой
идеи игры, тогда как ее другой стороной оказывается ниц-
шевское утверждение — утверждение радостной игры
мира и невинности становления, утверждение подлежа-
щего активному толкованию мира знаков без вины, без
истины, без начала. В таком случае это утверждение оп-
ределяет не-центр не как потерю центра. А играет оно
безо всякой страховки. Ведь в противоположность этой
игре существует верная игра: игра, ограничивающаяся за-
мещением уже данных и существующих, присутствую-
щих деталей. В абсолютной случайности утверждение
предается порождающей неопределенности и семенному
приключению следа.
Итак, существуют два истолкования истолкования,
структуры, знака и игры. Одно истолкование пытается
расшифровать, мечтает расшифровать некую истину, или
начало, ускользающее от игры и от порядка знака, пере-
живая саму необходимость нечто истолковывать как из-
гнание. Второе истолкование, отвернувшись от начала,
утверждает игру и пытается выйти за пределы человека
и гуманизма, поскольку само имя человека — это имя су-
щества, которое на протяжении всей истории метафизи-
ки или онто-теологии, то есть всей своей историей как
таковой, грезило о полноте присутствия, о некоем успо-
коительном основании, о начале и о цели игры. Это вто-
рое истолкование истолкования, идущее по путям, ука-
занным нам Ницше, отнюдь не ищет в этнографии — как
того хотел бы Леви-Стросс, чье «Введение к сочинениям
Мосса» я по-прежнему цитирую,— некую «вдохнови-
тельницу нового гуманизма ».
Сегодня по множеству признаков можно было бы
заметить, что оба эти истолкования истолкования — со-
вершенно несовместимые друг с другом, даже если мы
живем одновременно в них обоих и примиряем их в неко-
ей теневой экономике — делят между собой поле того, что
далеко не бесспорно именуют гуманитарными науками.
В свою очередь, несмотря на то, что различие этих
двух истолкований бросается в глаза, а их несводимость
16 Ж. Деррида
друг к другу все более обостряется, я не думаю, что сего-
дня настало время выбирать. И прежде всего потому, что
мы находимся в области, которую мы пока называем об-
ластью историчности, где сама категория выбора выгля-
дит крайне легковесной. Но также и потому, что в пер-
вую очередь нам надо попытаться помыслить общую
почву этих истолкований и само различение этого неунич-
тожимого различия. А кроме того, еще и потому, что
здесь возникает такой, все еще исторический по своему
типу, вопрос, зачатие, формирование, вынашивание и ро-
довые схватки которого мы можем только чуть-чуть пре-
дугадывать. Конечно, я произношу эти слова, представив
себе прохождение родов; но я смотрю и в сторону тех,
кто, находясь в обществе, из которого я не исключаю и
самого себя, отводит глаза от того пока еще неименуе-
мого, которое уже возвещает о себе, но, как это бывает
всякий раз, когда свершается акт рождения, может это
сделать только в виде не-вида, в бесформенной, немой,
младенческой и ужасающей форме уродливости.
Эллипс
Габриэлю Бунуру
Тут и там мы выделили письмо: некое несимметрич-
ное разделение прочертило с одной стороны закрытие
книги, а с другой — открытие письма. С одной стороны —
теологическую энциклопедию и построенную по ее мо-
дели книгу человека. С другой же — вязь следов, обозна-
чающую исчезновение выведенного из себя Бога или стер-
шегося человека. Вопрос о письме мог открыться лишь
когда книга закрыта. Веселое блуждание graphein ока-
зывалось тогда безвозвратным. Открытость тексту была
приключением, тратой без остатка.
Но все же, разве мы не знали, что закрытие книги —
не просто один предел среди многих? Что только в самой
книге, беспрестанно возвращаяс,ь к ней, черпая в ней все
наши ресурсы, нам следовало бы обозначить неким не-
определенным образом письмо, внешнее книге?
Тогда стоит подумать над «Возвращением к книге»1.
Под этим заглавием Эдмон Жабе говорит нам сначала,
что же значит «оставить книгу». Если закрытие — это не
конец, то мы зря протестовали и деконструировали, ведь
«Бог следует за Богом и Книга за Книгой».
Но в движении этого следования письмо бодрствует
между Богом и Богом, Книгой и Книгой. И возврат к кни-
ге, покуда он совершается в этом бодрствовании, прохо-
дя по пространству, внешнему самому закрытию, возврат
16*
467
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эллипс
этот не запирает нас в книге. Возврат — это момент блу-
ждания, он повторяет эпоху книги, ее целостность, под-
вешенную между двумя писаниями, ее отступление и то,
что в нем сохраняется. Он возвращается к
«Той книге, которая — кружева риска...».
«...Моя жизнь, следовательно, будет, исходя из
книги, бодрствованием письма в промежутке пределов...»
Повторение не переиздает книгу, оно описывает ее
начало, исходя из письма, которое еще или уже не при-
надлежит книге, которое притворяется, будто может
полностью уместиться в ней. Никоим образом не подав-
ляясь и не сворачиваясь в томе книги, это повторение яв-
ляется первым письмом. Письмом начала, письмом, про-
черчивающим начало, идущим по пятам знаков его
исчезновения, обезумевшим письмом истока:
«Писать — это обладать страстью начала ».
Но то, что ее таким образом возбуждает, это, как мы
теперь знаем, не начало, а то, что занимает его место; оно
также не является и противоположностью начала. Это не
отсутствие вместо присутствия, но след, который замещает
присутствующее, которого никогда не было, начало, с ко-
торого ничто не начинается. Следовательно, книга жила
этим наваждением; она давала понять, что страсть, будучи
первоначально страстью к чему-то, может в конце кон-
цов успокоится своим возвращением. Обманка начала,
конца, линии, кругового движения, объема, центра.
Так в первой «Книге вопросов» воображаемые рав-
вины отвечают друг другу в песне о «Петле».
«Прямая — это обман»
Ребе Сеаб
«Одной из моих величайших тревог, — говорил
Ребе Агхим, — было видеть, как моя жизнь закругляет-
ся в петлю, а я не могу ее остановить.»
С того момента, как круг обращается, как том книги
обвивает самого себя, как книга повторяет себя же, ее са-
мотождественность приобретает невоспринимаемое раз-
личие, которое действительно, строго, то есть скромно,
позволяет нам выйти из закрытия. Удваивая закрытие кни-
ги, его раздваивают. Тогда мы украдкой избегаем книги,
проходя между двух переходов по одной и той же книге,
по одной и той же строчке, по той же самой петле, «Бодр-
ствование письма в промежутке пределов*. Этот выход
вне тождественного в том же самом остается весьма лег-
ковесным, сам по себе он вообще ничего не весит, но он
взвешивает, продумывает книгу как таковую. Возврат к
книге оказывается тогда ее забвением, он проскользнул
между Богом и Богом, Книгой и Книгой, в нейтральном
пространстве следования, в подвесе промежутка. Возврат
не восстанавливает владения. Он не присваивает начала.
Начало отныне не в себе. Если письмо — это страсть нача-
ла, то это должно пониматься также и в смысле субъек-
тивного родительного падежа. Само начало оказывается
охваченным страстью, пассивным и преходящим, будучи
написано. То есть вписано. Вписывание начала — это без
сомнения его бытие-написанным, но это также и его впи-
санность в систему, всего лишь одним местом или функци-
ей которой оно является.
Так понятый возврат к книге по своей сущности эл-
липтичен. В грамматике этого возвращения не хватает
чего-то невидимого. Ничто не сдвигается со своего мес-
та, поскольку этот недостаток невидим и неопределим,
поскольку он превосходно удваивает и прославляет кни-
гу, проходит через все точки ее замкнутого круга. И од-
нако же, весь смысл изменен этим недостатком. Будучи
повторенной, та же строчка уже не совсем та же, у петли
теперь не тот же самый центр, начало оказалось с зазо-
ром неплотно пригнанным к самому себе. Чего-то не
хватает для того, чтобы круг был совершенен. Но в этом
ЕХХе1\|/ц, посредством простого удвоения пути, возбуж-
дения закрытия, разрыва строки, книга дала себя помыс-
лить как таковую.
«И Юкель говорит:
Круг узнан. Разбейте кривую. Путь удваивает
путь.
Книга прославляет книгу.»
* Буквально «1’origine a joud », то есть «начало сыграло». В данном
случае глагол «jouer» употребляется и в значении «неплотно при-
легать, расходиться, иметь зазор»: таким образом тема «игры» свя-
зывается с темой удвоения и расхождения. — Прим, перев.
Похоже, что возвращение к книге предвосхищает
здесь форму вечного возвращения. Возвращение того же
самого гибнет — но оно это совершает в абсолютном
смысле, — лишь возвращаясь к тому же самому. Чистое
возвращение, пусть оно и не изменяет ни вещей, ни зна-
ков, несет неограниченную мощь извращения и ниспро-
вержения.
Это возвращение является письмом, поскольку то,
что исчезает в нем, — это самотождественность начала,
самоприсутствие так называемого живого слова. То есть
центр. Обманка, которой жила первая книга, мифическая
книга, канун всякого повторения, состояла в том, что
центр был укрыт от игры: незаменимый, удаленный от
метафоры и метонимии, что-то вроде неизменного пред-
имени, к которому можно взывать, но которое нельзя
повторять. Центру первой книги не стоило бы иметь воз-
можность повторяться в своем собственном представле-
нии. Как только центр хотя бы раз идет на такое пред-
ставление — то есть с того самого мгновения, как он
оказывается написан, и мы можем читать книгу в книге,
начало в начале, центр в центре, — перед нами открыва-
ется пропасть, бездонность бесконечного удвоения. Дру-
гое в том же самом,
«Другое место внутри...
Центр — это колодец...
“Где ж центр? — возопил Ребе Мадиес. — Изверг-
нутая вода позволяет соколу преследовать свою
жертву.”
Центр — это, быть может, перестановка
вопроса.
Точка центра, где круг невозможен.
Если б моя смерть могла ко мне прийти, — гово-
рил Ребе Бекри, —
Я служил бы сразу разделу и срезу».
Как только возникает знак, он начинает со своего
повторения. Иначе он не был бы знаком, не был бы тем,
что он есть, то есть той нетождественностью себе, ко-
торая постоянно отсылает к тому же самому. То есть к
другому знаку, который родится, разделяясь. Повторя-
ясь таким образом, графема не имеет ни естественного
места, ни естественного центра. Но можно ли сказать,
что она их когда-то потеряла? Является ли ее эксцен-
тричность неким децентрированием? Нельзя ли утвер-
ждать неотнесенность к центру вместо того, чтобы оп-
лакивать его отсутствие? К чему ставить крест на центре?
Разве центр, отсутствие игры и различия — это не дру-
гое имя смерти? Той смерти, которая успокаивает и дает
гарантии, но также и тревожит своим зиянием, вводит в
игру?
Переход через негативную эксцентричность необхо-
дим, но лишь в качестве отправного пункта.
«Центр — это порог.
Ребе Наман говорил: "Бог — это Центр; вот по-
чему сильные духом учили, что Он не существует, ведь
если центр какого-нибудь плода или звезды — это серд-
це светила или фрукта, то каково же истинное вмести-
лище фруктового сада или ночи?”
И Юкель сказал:
Центр — это провал...
"Где центр?
— Под пеплом”
Ребе Селах
Центр — это траур.»
Так же, как есть негативная теология, существует и
негативная атеология. Будучи в заговоре с первой, она
все еще говорит об отсутствии центра, когда нужно было
бы уже утвердить игру. Но желание центра как функ-
ция самой игры — не является ли оно неистребимым? И в
повторении или возврате игры как мог бы призрак цен-
тра не окликнуть нас? Бесконечное колебание походит
здесь — между письмом как децентрированием и пись-
мом как утверждением игры. Колебание это принадле-
жит игре и связывает ее со смертью. Оно производится
в некоем «кто знает» без субъекта и без знания.
«Последнее препятствие, крайняя преграда —
кто знает, может, это и есть центр.
Тогда бы все вернулось к нам с края ночи, из дет-
ства. »
Эллипс «Письмо и различие» Ж. Деррида
Если центр — это «перестановка вопроса», то толь-
ко потому, что он был знаком того бездонного неиме-
нуемого колодца, который всегда переименовывали:, зна-
ком проема, который книга пыталась заполнить. Центр
был именем дыры; и имя человека, так же как и Бога,
высказывает силу того, что возвысилось, дабы создать
в ней творение в форме книги. Том, свиток пергамента
должны внедриться в опасную берлогу, украдкой про-
никнуть в грозящее опасностями обиталище, войти в
него живым и животным, гибким, блестящим и скользя-
щим движением, наподобие змеи или рыбы. Таково тре-
вожное желание книги. Липкое и присасывающееся,
любящее и стремящееся тысячью ртов, которые остав-
ляют тысячу отпечатков на нашей коже, настоящее мор-
ское чудище, полип.
и
с
X
«Смешно это положение на животе. Ты ползешь.
Ты продырявливаешь стену у ее основания. Ты надеешь-
ся сбежать, как какая-нибудь крыса. Подобно утренней
тени на дороге.
А это желание остаться стоя, несмотря на уста-
лость и голод?
Нора, это была только нора,
Удача книги.
(Нора спрута, твой труд?
Спрут был подвешен к потолку и его щупальца на-
чали мерцать.)
Это была лишь дыра
в стене,
столь узкая, что ты никогда бы
не смог проникнуть в нее
чтоб сбежать.
Не доверяйте жилищам. Не всегда они гостепри-
имны. »
Странная трезвость такого возвращения. Обезнаде-
женная возвращением и радующаяся, однако, утвержде-
нию пропасти, поэтическому обитанию в лабиринте, пись-
му норы или дыры, «удачи книги», в которую можно лишь
углубляться, которую должно хранить, разрушая. Тан-
цующее и жестокое утверждение отчаявшейся экономии.
Жилье негостеприимно, ведя, как и книга, в лабиринт. Ла-
биринт здесь — это пропасть: углубляешься в горизон-
тальность чистой поверхности, представляющей себя от
поворота к повороту.
«Книга — это лабиринт. Думая, что выходишь, ты
в него углубляешься. У тебя нет никакого шанса спастись.
Тебе нужно разрушить строение. Ты не можешь на это
решиться. Я замечаю медленный, но верный рост твоей
тревоги. Стена за стеной. Кто ждет тебя в конце? — Ни-
кто. .. Твое имя сникло, как рука на белом оружии.»
В прозрачности этого третьего тома «Книга вопро-
сов» завершена. Оставаясь, как и следовало, открытой,
высказывая не-закрытость, — бесконечно открытой и
бесконечно отражающейся в себе самой, «глазом в гла-
зе», комментарием, бесконечно сопровождающим «кни-
гу исключенной и оглашенной книги», книгой, бесконеч-
но начинаемой и возобновляемой, исходя из того места,
которое ни в книге, ни вне книги, которое указывается
как само открытие, которое есть отражение без завер-
шения, отсылка, возвращение и извилина лабиринта. Ла-
биринт — это путь, который замыкает на себя выходы из
себя, который включает в себя свои собственные выхо-
ды, который открывает сам свои двери, открывая их, та-
ким образом, в себя, который закрывается на мысль о
своем собственном открытии.
Как таковое это противоречие продумано в треть-
ей книге вопросов. Вот почему троичность — это ее
шифр и ключ к ее трезвости. О своей композиции тре-
тья книга говорит, что
«Я первая книга во второй».
«И Юкель сказал:
Три вопроса соблазнили книгу
И три вопроса ее завершат.
То, что заканчивает,
Начинает три раза.
Книга — это три.
Мир — это три
И Бог, для человека, -
Это три ответа.»
Три: не потому, что двусмысленность, двойствен-
ность всего и ничего, отсутствующего присутствия, чер-
Эллипс «Письмо и различие» Ж. Деррида
Ж. Деррида «Письмо и различие» Эллипс
ного солнца, разомкнутой дуги, скраденного центра, эл-
липтического возвращения была бы наконец завершена в
некоей диалектике, умиротворена в некоем примиряю-
щем термине. «Шаг* и «пакт», о которых говорит Юкель
в «Полночи или Третьем вопросе», суть другие имена для
той смерти, которая утверждалась начиная с «Зари или
Первого вопроса» и «Полудня или Второго вопроса».
И Юкель сказал:
«Книга меня привела
от зари к сумеркам,
от смерти к смерти,
с твоею тенью, Сара,
в число, Юкель,
к концу моих вопросов,
к подножию трех вопросов... ».
Смерть уже на заре, поскольку все началось с повто-
рения. Как только начало и центр начали со своего повто-
рения, со своего удвоения, двойник не просто лишь добав-
лялся к простому. Он его разделял и дополнял. Сразу было
двойное начало и его повторение. Три — это первая циф-
ра повторения. Но и последняя, поскольку пропасть пред-
ставления всегда остается под господством ее ритма, до
бесконечности. Бесконечное, несомненно, ни одно, ни ни-
какое, ни несчетное. Оно троично по своей сущности. Два
остается, как и вторая «Книга вопросов (книга Юкеля)»,
как сам Юкель, одновременно необходимой и ненужной
перемычкой книги, принесенным в жертву посредником,
без которого не было бы троичности, а смысл не был бы
тем, чем он является, то есть отличным от самого себя, зав-
леченным в игру. Перемычка — это разлом. Можно было
бы сказать о второй книге то, что сказано о Юкеле во вто-
рой части «Возвращения к книге»:
«Он был лианой и связкой в книге, прежде чем его
оттуда изгнали ».
Если ничто не предшествовало повторению, если ни-
какое настоящее не надзирало за следом, если, каким-то г
образом, это «сама пустота углубляет себя и метит
себя отпечатками»1, тогда время письма не следует бо- *
лее прямой преобразованных настоящих. Будущее — это
не будущее настоящее, вчера — это не пошедшее настоя-
щее. Ту сторону закрытия книги не нужно ни ждать, ни
обретать. Она тут, но по ту сторону, в повторении, но
она же и скрывается в нем. Она здесь как тень книги,
третье между рук, держащих книгу, откладывание тепе-
решнего удержания письма рукой", зазор между книгой
и книгой, другая рука...
Открывая третью часть третьей «Книги вопросов»,
так начинается песнь о «Зазоре и ударении»:
«"Завтра — это тень и гибкость наших рук"
Ребе Дерисса».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Так называется третий том «Книги вопросов» (1965).
Второй том, «Книга Юкеля », появился в 1964 г. См. выше:
«Эдмон Жабе и вопрос книги».
2 Jean Catesson, Journal non intime et points cardinaux, in
Mesures, oct. 1937, № 4.
* ♦Теперешнее удержание рукой» — это, конечно, искусствен-
ный перевод французского ♦maintenant» (♦теперь», ♦сейчас»),
этимологическая связь которого с ♦рукой» (♦main») и глаголом
♦держать» (♦tenir») активно используется Ж. Деррида в данном
пассаже. — Прим, перев.
Послесловие переводчика
запись одного шума
476
Деррида — смешная фамилия
Из разговоров
Перевод всегда под сомнением. Ведь его вина всегда
очевидна — die Schuld ist immer zweifellos. Так что, как в
небезызвестном рассказе Ф. Кафки, чего-чего, а уж кар
ему не миновать. Там, где переводы пользуются просто
ошеломительной любовью и в то же время вызывают по-
токи неоправданной ненависти, эти кары не требуют сво-
его объяснения, ведь всякое объяснение возможно толь-
ко через них. Конечно, такая ситуация определяется
только посредством особого отношения к переводу и к
переводимому. В такое отношение вовлекается и фигура
переводчика, ведь виновен всегда в первую очередь имен-
но он. Неизвестно, почему: то ли потому, что он, как кар-
лик, стремящийся залезть на плечи великанов, унижает
тем самым чей-то Гулливеров рост, то ли потому, что, за-
лезая на эти самые плечи, он обнаруживает, что они не
могут выдержать его веса, так что великан оказывается
просто-напросто подавлен. Уже потому, что переводчик
не оставляет все «так, как оно есть», он под подозрени-
ем. Он оказывается чем-то вроде частной фигуры всеоб-
щего насилия, насильником в своей собственной частной
практике. И, соответственно, кары, которые его ожида-
ют, не принимают во внимание того, «что» переведено.
Как будто бы всегда переводится рдно и то же. Единст-
венным же местом оправдания считается послесловие.
Иначе говоря, все отношения перевода — это отношения
некоей критики, отношения некоторого суда, юриспру-
денция которого стремится сохранить свой трансценден-
тальный характер по отношению к отдельным «казусам»,
разбираемым вопросам. Такой самоуверенный суд может
быть уверен в себе только при условии того, что никто
никогда не подает виду, что что-то не так (или может быть
не так). Игра перевода и послесловия слишком верна, что-
бы она могла проиграть. И никакие оговорки не собьют
ее с толка. Она играет наверняка даже тогда, когда до-
пускает некоторую фривольность в свод собственных
правил. Другое дело, что такой допуск можно искусст-
венно продлить и отложить игру на потом. Этим-то —
занимаясь вопросом перевода и послесловия (если это
только в самом деле два разных вопроса) — я и займусь.
В одном фантастическом романе я как-то обнаружил
описание человека исчезающего мира: из-за особого воз-
действия со стороны ему казалось, что все самые привыч-
ные ингредиенты нашего мира (вроде звезд, Солнца, лун-
ного света) внезапно исчезают, не оставив следа. И никто
даже не может вспомнить, что было что-то такое, о чем
он говорит. То есть безумие состоит не в том, что Луна
исчезла, а в том, что, по его мнению, она существовала.
Что появляется на месте исчезнувшей Луны? Что
будет светить отраженным светом? Есть ли какой-нибудь
иной свет, кроме отраженного? И как заметить зазор ме-
жду двумя направлениями безумия, как вычислить их от-
носительную скорость и определить само их расхожде-
ние? Скажу иначе: что появляется (если появляется) на
месте перевода и послесловия (или послесловия к пере-
воду, послесловия перевода, покуда перевод на рус-
ский — это, по моему мнению, всегда одновременно и по-
слесловие)? Да и разве они отменены?
Это вопросы послесловия (но не только). Вообще-то
неизвестно, существует ли послесловие (хотя оно «неот-
вратимо»). Если его форма начинает колебаться, трогать-
ся со своего места (так что предисловие оказывается во-
истину «тронутым» и «съехавшим»), то мы уже не можем
с уверенностью сказать, каким оно должно быть. Может
быть, оно даже не исчезло, затерялось, оставив после себя
пустое место, дырку на небе (в которую мы можем по-
местить все что угодно — листок бумаги, монету, ежа,
сковородку), но стало чем-то большим самого себя, не-
ограниченным послесловием (неотличимым от предисло-
477
вия и слова)? Тогда я могу написать любое послесловие.
Могу не писать его вовсе. Могу поставить на его место
(которое указано более чем неопределенно) какой-ни-
будь текст, который не «выглядит» как послесловие (кому
какое дело до того, как оно выглядит — ведь дети далеко
не всегда радуют своих родителей сходством, так что и
послесловие не обязано радовать уподоблением слову,
схожестью с самим собой). Или даже поставить вовсе и
не «текст», а что-то другое, хотя книг с эдакими включе-
ниями я пока не видел (а было бы интересно посмотреть,
к примеру, на книгу «с камнем за пазухой» — недостат-
ки моего послесловия оказываются таким образом лишь
недостатками общей типографической традиции). Мне,
впрочем, было очень жаль, что я не нашел такой текст «о
переводе», который счел бы нужным поставить на место
послесловия переводчика. Текст того же Деррида. Хотя
такие тексты, конечно же, существуют. Может показать-
ся, что я обгоняю события, говоря о некотором уже «де-
конструированном» послесловии, но ведь и стандартное
послесловие как краткая сводка смысла прочитанного
может быть по сути дела всем чем угодно. Кто же знает
смысл прочитанного? А если он неизвестен, то и указа-
ние на него в послесловии может принять весьма необыч-
ную форму — форму чего-то, что никак не походит на
простой пересказ и повторение. Более того, можно с уве-
ренностью утверждать, что мало кому интересно читать
послесловия в той их форме, которая предлагала некое
сжатое описание того, что уже случилось, «выведение»,
«выводы» и разъяснения. Долой мораль послесловия!
Долой так долой. Можно придумать что-то еще. И я в
общем-то придумал. Но ни одна идея не осенила меня
светом своей исключительной гениальности, поэтому я и
не выбрал чего-то одного. Выбрал многое. Наверное, это
от жадности (тогда нищета — это то, что является самой
структурой так называемой гениальности, особенно у так
называемых философов). Так, например, мне хотелось
начертить карту малозначительных, мимолетных подроб-
ностей перевода, как он делался, под что — под Jimi Неп-
drix’a или Doors (все тот же шестьдесят седьмой, break
on through to the other side...), под тот или иной вид des
excitants (drogues, кофе, солнечный свет), под весь тот
«большой шум» (незваный гость, что хуже татарина),
который прорывается (и не только у Кафки) в текст. Но
слишком уж легко понять характер такого прорыва как
демонстрацию какой-то доморощенной герменевтики
скрытого, психоанализа й 1а Розанов и русская филосо-
фия иже с ним. Как будто бы мне интересно было выста-
вить свою собственную персону и объяснить всему миру,
с чего это я занялся переводом Деррида. Что это мне
взбрело в голову? Нет ли тут какой-то подоплеки? А если
есть, то, быть может, в ней-то все и дело, может, она как
та подноготная, что всегда грязна? Тематика прорыва (ко-
торый сомнителен уже потому, что, возможно, сам
текст — это не более, чем сложная аранжировка шума,
так что никто никуда не прорывался) обещает объяснить
слишком многое через какую-ту чепуху. Но герменевти-
ческому чепуховедению я бы попытался противопоста-
вить (и может быть, еще сделаю это далее) особый мотив
«подлежащего» в кулинарном или закусочном смысле:
что под что есть или пить. Пиво — не смысл раков, да и
раки не прорываются к пиву, одно не понимается через
другое. Глупо редуцировать пиво к ракам или наоборот.
Так же, как и текст и его шум. Что под чем? Или «мы вме-
сте»? Можно сказать, что шум — от текста сего, а не как
у нормальных философов «не от мира сего ». Карта тако-
го шума для меня — не более, чем окаменелость, нераз-
вившейся зародыш, который испугался того, что его при-
мут за нечто большее. А может быть, он просто ленив
(только представьте себе такого ленивого зародыша)?
Шум в послесловии немногое обещает, немногое объяс-
няет и выражает. Он лишь попутен самому переводу, ока-
зываясь чем-то вроде дополнительного продукта верче-
ния его шестеренок. Причем перевод, понятное дело, не
может быть идеальной машиной, не может не работать
на износ (то есть не может не начать уже изнашивать пе-
реводимое), так что шума от него хватает. Может быть,
этот шум (в отличие от того, как представлялось дело
Канту) не очень эстетичен, может, он даже совсем и не
по делу, но именно таким всегда оказывается всякое по-
слесловие — попутным и неделовым, причем даже тогда,
когда оно стремится изобразить прямо противополож-
ное. Тем более, если речь идет о тексте, который сам ста-
вит вопрос о невозможности прямого следования «сути
дела». Так что, следует внимательнее отнестись к обер-
тонам такого «постороннего» шума.
Если «большой шум» так велик, то его не подменишь
на одну единственную тональность «подробностей» и
обстоятельств. Он слагается из того фона «обиняков»,
о
CD
(D
CL
<D
C
Ф
S
tt
О
5
Ф
5
о
которые возникают тогда, когда по мнимо прозрачному
тексту послесловия (являющегося по сути дела самим
условием прозрачности всего выше написанного, не
столько стеклом, сколько линзой для текста) проводишь
пальцем текста, который уже отменил и ввел заново по-
слесловие. Зачеркнул его тем движением, которое
оформляет вихлявую походку деконструкции. Так что
вместо карты малого шума (шумовой звукозаписи, запи-
си, которая не отличает записываемое и его шумовой фон)
лучше нарезать магнитную ленту, прочертить карту за-
черкиваний, которые отклоняются от знакомых геогра-
фических очертаний. Двойная сложность послесловия —
не только записать шум его отмены, но и определить угол
отклонения зачеркивания, кривизну, через которую шум
не поддается преобразованию в знакомую фонему. То
есть не просто возвести послесловие (и перевод) к исти-
не переводимого, но и наметить место, где можно разми-
нуться с самой этой истиной, где текст оказывается не в
ладах с самим собой, причем главное именно в том, что
эти нелады всегда разлаживаются со своей уже установ-
ленной и описанной формой.
Сложность организации шума, о котором (или в ко-
тором) идет речь, заключается еще и в том, что он как бы
пред-услышан (странно, что есть ясновидение и предви-
дение, но нетяснослышания), например — в Prefaces Дер-
рида, причем все сказанное там о предисловии вполне
относимо и к послесловию: оно слишком метафизично в
своей надежде собрать рассеянный в тексте смысл и в то
же время оно предает саму идею собирания, покуда смысл
конституируется в своей собственной отсрочке, никогда
не даваясь «сам по себе ». Послесловие зачеркивается как
выражение смысла и само его зачеркивание открывает
послесловие как форму слова, письмо. Послесловие, post-
face, приходит всегда post factum (так что и лицо — face и
факт завязываются на то, что отсрочено от них, отложе-
но, differe). Обобщенная экономия послесловия освобо-
ждает от постоянной обязанности оправдываться (осо-
бенно в случае, если послесловие делается к переводу, то
есть к другому виду послесловия), объяснять, зачем все
эти нелепые телодвижения после того, как все уже слу-
чилось: все никогда не случается до конца. Переводчик,
пишущий к тому же послесловие, всегда в положении post
factum, apres coup, или — буквально — «после удара ». Его
работа — махать кулаками после драки, когда тебя уже
ударили. Проблема лишь в том, что неизвестно, где «по-
следний бой», эсхатологическое завершение побоища,
издающего немалый шум. Да и бить, махать кулаками
можно по-разному (это избиение во многом определяет
тот перевод, послесловие которого должно было бы сто-
ять на этом месте). Разве мы не бьем всегда после чего-
то, разве мы всегда уже не после (причем это после не
обязательно носит форму традиции или истории смыс-
ла), toujours deja? Разве не все мы переводчики (даже те
помешанные, что полагают свой язык своим)? Разве пе-
реводчик существует?
Понятно, что в режиме перечеркнутого послесловия
перечеркивается и сам перевод, как понятие, удерживаю-
щееся лишь за счет ряда навязших на зубах метафизиче-
ских оппозиций. И только внутри них возможна вся та
морализация перевода (представления «во вторую оче-
редь»), которая была излюбленной темой большинства
послесловий переводчиков. Переводчик всегда оправды-
вается, что он — не верблюд. А сделать это в платониче-
ской (с ее разветвлениями в герменевтическую и даже
поэтическую) модели перевода весьма сложно: нужно
держаться неустойчивого места добропорядочной копии.
Нельзя приближаться слишком близко, чтобы не стать
слишком хорошей и заслонить «оригинал », и нельзя уда-
ляться, чтобы не потерять связь с «условием своей воз-
можности». Такова мораль «знакомства», «прибли-
жения», «опыта» перевода. Самый лучший перевод,
следующий такой логике, — это тот, которого никто ни-
когда не видел и не увидит, перевод, бесконечно прибли-
жающийся к оригиналу, но всегда понимающий свою убо-
гость по сравнению с ним. Не открывая здесь скучных
дискуссий (скука появляется не только из-за незамысло-
ватой рефлексивности перевода текста о переводе, мыс-
ли о послесловии, но и потому, что приходится неизбеж-
но возвращаться к консервативной форме послесловия
как резюме, когда философия становится собственным
результатом) по поводу «задач переводчика », можно за-
метить, что лишь странный зазор между философским
решением и «моралью» не позволяет заметить той про-
стой вещи, что перевод (как и переводчик), являющийся
не столько чем-то эмпирическим, сколько связкой смы-
слов и предпосылок, которые только по недоразумению
кажутся чем-то само собой разумеющимся, не сущест-
вуют. Перевод и задан, и запрещен, перечеркнут и обоб-
Послесловие переводчика «Письмо и различие» Ж. Деррида
482
щен. Язык уже переводит и именно поэтому невозможно
идеальное отношение, позволяющее точно различить пе-
ревод и переводимое, первое и второе. Язык (или пись-
мо) начинает считать с двух (поэтому вряд ли можно бе-
зоговорочно утверждать, с какого языка на какой идет
перевод), так что нечего обвинять переводчика в том, что
он — тот, кто никогда не пишет кровью (правда, он, быть
может, пишет кровью, да не своей, так что дело вообще
не в крови, а в своем): не стоит требовать его заклания в
жертвенном кровопролитии, позволяющем омыть его
вину вторичности. Быть может, оригинал только и питал-
ся самой этой выпускаемой кровью переводчика, кровью
как cruor, которая возможна только через жестокость,
cruaute, cruelty. Но кровь уже по большей части состоит
из воды. А текст — водяные знаки, расплывающиеся в
своем написании, в котором не видно первого и второго
(есть то странное недиалектическое третье, о котором
еще следует сказать в дальнейшем).
Быть может, все это слишком легковесно. И даже
непонятно. А я, махая кулаками, слишком легко отмахи-
ваюсь от проблем перевода. Тем более, что такое отма-
хивание в самом деле оказывается в данном случае (в слу-
чае «Письма и различия») несколько опережающим (но
и этого нельзя сказать наверняка, нельзя выстроить не-
кую точную хронологию событий, не относящихся к
тому, что пришло за ними). Ставя под вопрос существо-
вание «перевода», я, возможно, лишь утверждаю то, что
отрицается в самом отрицании. На воре шапка горит, так
что все отрицания подвергаются перетолкованию соглас-
но фигуре фрейдовского Verneinung. И разве можно во-
обще перепрыгнуть через «концепцию перевода» посред-
ством странных заключений, которые лишь раздражают
своим «дерридеанством» тех, что привык верить очевид-
ному (даже если никакого «дерридеанства» вовсе не су-
ществует, как, впрочем, и очевидного)? И разве умолча-
ние по вопросу «о переводе» не ведет к редукции к той
или иной системе оценок, с помощью которых несложно
показать слишком многое?
Метафизика отношений перевода и переводимого не
требует особо долгих пояснений, хотя те метафоры, в
которых она прорабатывается, могут быть достаточно
различными. Едины они в обращении к темам отцовства,
авторства, родов, представления, подобия, точности и
выполнимости. Разыгрываемая сцена отношений драма-
тизируется по-разному, но это драма всегда является
драмой семьи, некоей мыльной оперой сохранения семей-
ного древа, на ветках которого порой селятся забывчи-
вые птички. Перевод как перевод метафизичен именно
потому, что он всегда ищет своего отца (а отец — это за-
родыш своего сына), он — всегда более высокого проис-
хождения, о котором, правда, можно забыть, но которое
в то же время можно отстоять. Иногда (например, у Бень-
ямина) это высокое происхождение свидетельствует о
чем-то еще более высоком, так что работа переводчика
становится чем-то вроде генеалогического альпинизма,
восходящего к общему предку, странному «йети», гнез-
дящемуся на вершине всех языков. Забвение и братание,
временная амнезия и ложные воспоминания — перипе-
тии драмы перевода неисчислимы, как неисчислимы се-
рии сериалов. Например, такой вопрос — должен ли пе-
ревод показывать то, что он — перевод, или же он обязан
читаться «как оригинал», является стандартным вопро-
сом такой семейной метафизики: должен ли достойный
сын всегда уважать своего отца, показывать, что он мень-
ше его, или же само достоинство сына заключается в том,
чтобы стать столь же независимым, как и его отец? Заме-
чу, что я пытаюсь наметить линии не «психоанализа » пе-
ревода, а его метафизики, прочертить карту того места,
где метафизика становится психоанализом и наоборот.
Так что дело не только в метафорах (в том смысле, что
нет «просто» метафор, что иной слой метафор приведет
к совершенно иным результатом, оказываясь чем-то уже
незнакомым для классической теории метафоры), мож-
но развернуть иную цепочку метафор, в которых даже
семейная драма будет сопровождаться фоновым смехом
(так что «моя концепция перевода» сосредоточена не в
сюжете [мело]драмы, а в том смехе, который не столько
является его эффектом и следствием, сколько самим его
краем — конечностью и местом обитания). В одном мес-
те «Фрейда и сцены письма » Деррида пишет, что дело пе-
ревода — это ронять означающее. Ронять сам текст. Пе-
реводчик — это, будто бы, не только тот, кто машет
кулаками после драки, но и тот, у кого все валится из рук.
Но дело в том, что такое обращение с текстом выглядит
подобным образом только на сцене семейного представ-
ления, когда ронять — это прежде всего терять. Но все
дело в том, что ронять — faire tomber — это еще и просто
намеренно бросать. Уроненный текст — это не только
Ж. Деррида «Письмо и различие» Послесловие переводчика
тот, которому нанесен урон (а разве сам текст — это не
форма извечного урона? Не подтверждается ли тем са-
мым тезис обобщенности перевода^ то есть его несуще-
ствования в метафизически ограниченной форме?), но и
ушибленный текст. А ушиб — это не негативное, это та
продуктивная процедура, которой создается перевод.
Перевод — это всегда синяк на уроненном тексте, след
сильных пинков (быть может, здесь лучше подошел бы
английский глагол to hurt — толкать, пинать, болеть и ос-
корблять одновременно: текст, перевод, it hurts). Синяк —
это нечто гораздо более интересное, нежели «чистое
тело» или «рана», «шрам», ведь первое работает на идею
автономии, замкнутости (и в пределе, как у Арто — на
тело без органов), а вторая — на «опыт», на тот груз ме-
тафизических «пожитков», без которых ты — ничто. То
ли дело синяк — он то есть, то нет. Он не вечен и не вне-
шен (ведь всегда можно просто ударить-ся). Текст (и пе-
ревод) рождается в синяках, а не родимых пятнах родст-
ва и свойства. Так что перевод — это не слезы вины и
радости при встрече с родителями, это гораздо более ве-
селая (я бы даже сказал «развеселая») наука искусного
ронения (в отличие от ранения), бросания и кидания.
Переводчик — это не метафизический эквилибрист, жи-
вущий неврозом высоты и совершенства, удержания точ-
ных граней и пределов, а веселый клоун, который умеет
уронить сам себя. Уронить свое достоинство и не стра-
дать по этому поводу. Покрывать себя синяками. В та-
ком случае перевод как работа представления является
цирковым представлением (странно, что представление,
как правило, мыслится по модели театра, подразумевая
все те обертоны автора и исполнителя, текста и дейст-
вия, которые неизбежно артикулируются вместе со всей
традицией западной метафизики). Цирковое представле-
ние — это не представление чего-то иного, не репрезен-
тация и не мимезис (по крайней мере в аристотелевском
смысле), но и не самопредставление, не феномен и не пре-
зентация: клоунада и фокус — это просто какая-то на-
смешка над феноменом и самим мышлением «феноме-
нальностью». Можно заметить, что такой перевод — это,
как говорится, «просто цирк» или просто «кино» (место,
где кино по-русски смыкается с цирком, как, например, в
цирковой фамилии Кио, которая является «кино» без
одной буквы). Поэтому переводчик — это не постанов-
щик на другой язык, а тот, кто делает из «фильма»
«кино», придумывая для этого каждый раз новый ряд
приемов, технику своей клоунады. Технику трансформа-
ции текста. Переводчик — это тот, у кого все валится из
рук, но весьма технично. Ведь даже таким «простым» ве-
щам надо порой учиться.
Меня спросят: что же это все о переводе и переводе?
Разве в этом «большом шуме» нет места самому перево-
димому? Разве не стоило бы рассказать о нем поподроб-
нее, еще раз перевести его в резюме послесловия? Повто-
рить его в том неизбежно отклоняющемся повторении, о
котором я только и говорю? Такая операция — в ее наив-
ном регистре — невозможна в силу промашки по отно-
шению к перформативному измерению самого текста (на-
пример, послесловия). Многие, впрочем, так или иначе
склоняются к такому «просто деланию», предполагая,
что рассуждения — это одно, а за ними остается совсем
другое (правильное академическое послесловие, выраже-
ние благодарности, лицемерно скрывающее презентацию
собственных знакомых, «научный аппарат») — все то, что
как бы не замечает своей вовлеченности в «анализируе-
мый текст» (хотя правильней было бы сказать, что оно-
то и анализируется этим самым текстом), стремится со-
хранить свою «мораль» нетронутой и вечной. Какое там
«всегда уже », если мы всегда делаем одно и то же! То же
самое могу сделать и я. Могу сказать «о». Или, вернее,
могу притвориться, что говорю «о». Что практикую раз-
говорную феноменологию.
Так что же начинает, знаменует, продолжает, раз-
вивает «Письмо и различие»? Продолжает и подготав-
ливает во «внутреннем плане» творчества и здесь, в пе-
реводе? Можно было бы подумать, что очередное
возвращение Деррида в Москву (на этот раз, возможно,
несколько неожиданное для него, сделанное тайком и ук-
радкой — со всей памятью о сделанном украдкой, furtif),
его странный контрабандный (en fraude) ввоз (так что
Деррида — это не столько чешский торговец наркотика-
ми, сколько сам товар — чехи ошиблись в его статусе как
подлежащего аресту) наконец-то открывает издание, свет
«собрания сочинений», «(EUVRES»,toесть «произведе-
ний» или даже одного-единственного произведения всей
жизни. Исходя из него кто-то, наверное, попытается «по-
нять» «всего дерриду» (склонившегося наконец-то к та-
кому пониманию), кто-то — найти ту «технику» или «ре-
месло », которые, похоже, составляют чуть ли не главное,
486
<D
S
S
tz
a
s
о
E
S
tz
5
s
CL
CL
<D
X
но и еще только искомое достояние «российской » фило-
софии. Но в том-то все и дело, что все начинается не с
произведения и не с «фундаментальных» ходов, которые
будто бы определяют и делают понимаемым все дальней-
шее. «Письмо и различие» — это не построение или со-
бирание единого произведения, «oeuvre», а множество
«manoeuvres», маневров, операций, проделок. Так что
предвещаемое собрание сочинений снабжается неожи-
данной деконструирующей приставкой «man» (я остав-
ляю вопрос о том, насколько такое распыление произве-
дения имеет отношение к «человеку» как «man»).
Manoeuvre — это не просто некий поворот-отворот, «от
ворот — поворот» (detour, окольный путь, околица и око-
лесица) нормальной работы произведения, но его нескон-
чаемое производство, «неквалифицированная работа»,
которая лишь в своей «эмпирической » помеченности ме-
тафизикой произведения выглядит как что-то низшее и
подчиненное. Чернорабочий маневров (по-французски
«маневр» имеет, кроме всех прочих, еще и значение «чер-
норабочего») работает, не предполагая конечного завер-
шения своей работы (быть может, это и является призна-
ком его неквалифицированности — неумение замкнуть
свою работу на ясно определенную цель, подчинить ее
смысловому телосу), за строительными «лесами» он не
видит самой архитектуры (и структуры) (а за лесом —
деревьев). Быть может, он даже намеренно старается их
не заметить, располагаясь всегда на несколько этажей
выше (и ниже), на другом уровне по отношению к произ-
ведению, смыслу и его собиранию. Его уровень (так же,
как и уровень обобщенного бриколажиста) — это уро-
вень текста, который высвобождается «Письмом и раз-
личием». Все дело осложняется тем, что работа чернора-
бочего никогда не идет в одном направлении — он не
только бесконечно производит произведение, никогда не
давая ему завершиться, отдаться собственному смыслу,
но и перестраивает якобы готовые произведения. Черно-
рабочий живет в лифте, двигающемся с одного уровня на
другой (так что главная его проблема, замечу мимохо-
дом, — само существование разных уровней, существо-
вание, которое на каком-то витке зачеркивает и саму од-
нозначность фигуры Деррида, как величины мнимо
равной (самой себе) деконструкции), не просто создает
«черновик» чистовика произведения, но и возвращает
такой «чистовик» или «беловик» смысла и завершенно-
сти в свое черновое состояние. Сделанное «начерно» —
это, конечно, лишь подчиненный член оппозиции бело-
вика и черновика, но чернорабочий обобщает черновик,
выводит его вовне этой оппозиции (чистовик так же аб-
страктен, как чисто фонетическое письмо), так что он
превосходит свой черный цвет (свою замаранность гря-
зью), смешивается с прозрачной белизной. И белое, и чер-
ное — лишь дистилляты того сверхчерного, неустойчи-
вого элемента, которым является всякий свет. Белое
разлагается в спектре, становясь собственным чернови-
ком, а черновик оказывается смешением разных спек-
тральных красок. Черновик (перечеркнутый, sous rature)
произведения и произведение как черновик — вот как
можно выразить траекторию движения «Письма и раз-
личия», обратного движения от произведения, которое
не существует. Письмо всегда составляет черновик, а раз-
личия всегда делаются начерно (иначе они не смогли бы
оказаться «следом »), но безо всякой зависимости от сво-
его конечного состояния, от цели и чистовика. Деконст-
руированное произведение — это разноцветный черно-
вик, расплывшийся всеми цветами радуги. С долей юмора
можно было бы сказать, что работа Деррида по началу
во многом напоминает работу той учительницы, которая,
проверяя чистовики «сочинений» (то есть произведений)
своих учеников, делает какие-то отметки и, несмотря на
стремление достичь еще более «чистого» состояния их
работ, делает их вечными черновиками. Обобщенный чер-
норабочий, пишущий черновики, оказывается не просто
«вне произведения». Конечно, его маневры идут в сме-
щении к плоскости, располагающейся «по ту сторону»,
но эта та сторона произведения, «oeuvre » — не более, чем
«hors-d’oeuvre», закуска и вставка произведения. Мета-
физика первого и второго смещается закуской. А чем еще
мог бы быть итог работы (не отличимый от нее самой) чер-
норабочего? Он не есть, а закусывает, так что еда (смысл)
не противопоставляется закуске, так же, как и питье.
Можно даже сказать, что настоящая закуска появляется
там, где «хлеб» становится чисто метафизическим поня-
тием. Так что лишь с точки зрения аристократического
обеда «маневры» «Письма и различия» выглядят как не-
что внешнее и необязательное, даже не третье, а только
добавочное (добавка, которой никто не просит). Обна-
ружение движение добавки, превращение еды в закуску
(лишающее нас всяких герменевтических ожиданий, о ко-
торых речь шла в начале этого послесловия) — вот ожи-
даемая линия «Письма и различия» (которую одни по-
прежнему продолжают считать философией на закуску,
тогда как другие видят в ней спасительную закуску от фи-
лософии — хотя «закуска от философии» несет и не-
сколько иной, более фривольный смысл — вроде «от ку-
тюр»). Направление линии — от «Ouevres» к «maneuvres»
и «hors-d’oeuvre».
Конечно, эта линия только ожидается. Ее описание
здесь грешит, возможно, некоей «преждевременностью»
(хотя вряд ли можно говорить о преждевременности без
посылки настоящего «настоящего»), оказываясь излиш-
не «деконструктивистским». Направляя линию в одном
единственном направлении (да и просто говоря о линии),
мы рискуем не только не заметить множественности ста-
вок «Письма и различия», но и ввести ее в некую общую
«феноменологию духа» деконструкции, в которой она
окажется чем-то вроде наивной, еще неразвитой и пред-
вещающей будущую цель фигуры. Критика подобного
«преформизма» — одна из тем первой статьи «Письма и
различия» — «Силы и значения». Но и другие варианты
описания «роли и значения данной работы в творчестве
автора» не менее уязвимы. В этом вопросе вряд ли стоит
доверять и самому Деррида, который высказывался (в
«Позициях») в том духе, что «Письмо и различие» раз-
делены надвое — до «грамматологическоговскрытия»и
после него (вроде «до нашей эры и после», до пришест-
вия Деррида и после). Против однозначности такого
«вскрытия» свидетельствует не только предисловие к
«Началам геометрии» Гуссерля (в котором уже пропи-
сывается большинство собственно грамматологических
и деконструктивистских тем), но и незавершенность, экс-
периментальность «Письма и различия», из-за которой
то, всем более или менее знакомое, зачеркивающее дви-
жение деконструкции выполняется каждый раз иначе, то
есть, может быть, выполняется совсем не оно. Ведь за-
черкивать можно по-разному — крестом, решеткой, жес-
том харакири, «факом», кукишем и т.д. Так возникает та
подвижность никогда не кристаллизующейся «деконст-
рукции», которая образует кривизну и искаженность
того шума, который я пытаюсь здесь воспроизвести. На-
блюдение за этими отклонениями, письмом, возникаю-
щим в уголках зачеркнутого слова или буквы — вот ра-
бота, которая бесконечно далека от «дисциплины» и
«техники » методической деконструкции и которая толь-
ко и может стать задачей того, кто принимает Деррида
всерьез (то есть примерно с таким же смехом, с каким
Батай принимал Гегеля, причем вся суть и боль задачи в
этой примерности). Нерешенный эксперимент «Письма
и различия» — это перечеркнутый Деррида, derrida sous
rature, перечеркнутый не мифическим снятием деконст-
рукции (мечтой о котором тешут себя любители систе-
матического мышления), а тем быстрым вращением пе-
речеркивающих линий, которые как спицы в колесе
делаются невидимыми. Их как бы даже нет, они прозрач-
ны, они проницаемы для того, что видно через них, но дос-
таточно сунуть внутрь палец — и их эффект последует
незамедлительно. Всем знакомая деконструкция — это и
есть прозрачность вращающихся спиц, тогда как «Пись-
мо и различие» грозит многочисленными увечьями и пе-
реломами. Прозрачность и облом, неминуемое (для са-
мого зачеркивающегося Деррида) членовредительство
составляет пространство, неясно окружающее централь-
ный пункт «грамматологического вскрытия». Разница
таких эффектов (возникающая хотя бы за счет того, что
сунуть можно не только палец) и составляет главное в
действии «Письма и различия». Вычленить эту разницу,
несводимую к самой деконструкции как официальному
названию эксперимента, вычленить «неразрешимое»,
которое всегда больше и решенного, и решения, и декон-
структивистски неразрешимого — такова задача, кото-
рую можно было бы предложить читателю, если бы у него
в самом деле была охота решать какие-то задачи (и ста-
вить их), а не просто читать.
(Точками я отмечаю то место, где притворство напи-
сания предисловия становится вполне искренним.) Спо-
соб перевода или его принципы, так же как и сам вопрос
этих принципов, были так или иначе оговорены выше
(хотя, как несложно понять, многих это, наверное, не
удовлетворит). Я, если говорить честно, не очень пони-
маю те проблемы, которые составляют излюбленную
тему разговоров переводчиков. Одной из таких тем яв-
ляется перевод тех или иных «ключевых» терминов. По
моему же мнению, сама центрированность на этой теме
показывает, что переводчик по-прежнему воспринимает
текст через набор «ключей» или символов, через кото-
рые расшифровывается все остальное. Как будто бы к ка-
ждому тексту должен прилагаться сонник его мысли! Но
работа текста не только никогда не идет через устойчи-
вое определение одного шифра и ключа, но и разрушает
саму идею перевода как расшифровки через отдельный
шифр. Можно сказать, что письмо — это то, что не име-
ет шифра. Именно поэтому я не обсуждаю проблемы пе-
ревода таких «ключевых» для Деррида терминов как
«различение» (которое в «Письме и различии» почти все-
гда оказывается отложением и отсрочкой), «опростран-
ствование» (монструозность которого сохранена мною
только из-за желания сберечь связь с пространством, ко-
торая несколько теряется в «расстановке»), «письмо»
(которое по-моему лучше и писания — «чисто писа-
ния» — и «письменности», как наследия древних). Если
уж заниматься поиском ключей к тексту, то их можно
было бы найти гораздо больше. Причем игра некоторых
из них (лишая нас всякой надежды на свою «ключевую
роль») оказывается подчас куда более интересной, неже-
ли такая стратифицированная игра «деконструкции», ко-
торая, например, проникала даже туда, где ее как бы и
нет (например, в переводе Косикова статьи «Структура,
знак и игра в дискурсе гуманитарных наук» de-constituer
антиципативно переводится как «деконструировать»).
Я намеренно не пытаюсь прописать такую игру, что вы-
глядело бы как похвальба собственными удачами пере-
вода: пусть при чтении эта игра (которая далеко не все-
гда ведется по тем же правилам, что во французском)
почувствуется без указания на нее (пусть анекдот сме-
шит без указания места, в котором следует смеяться). По
приблизительно тем же причинам я не стремлюсь срав-
нивать свой перевод с уже существующими переводами
двух статей из «Письма и различия». Вопрос о том, что
лучше или хуже, кажется мне малозначительным и слиш-
ком условным (и еще более — мелочным, как это видно
из взаимного выискивания «ошибок» и «неточностей»).
Другой излюбленной и в то же время недостаточно
отрефлексированной проблемой переводчиков является
«традиция ». Бытует мнение, что перевод некоторых тек-
стов (и в их числе — Деррида) невозможен именно в силу
отсутствия той «традиции », которая поддерживает ори-
гинал. Но, не говоря уже о том, что не очень понятно,
как такая предельная герменевтическая обделенность
относится именно к русскому Деррида, мне кажется, что
не стоит придерживаться такого жестокого (и невроти-
ческого, то есть опять же чисто русского) традициона-
лизма по отношению к тем текстам, которые как раз-таки
и пытаются практиковать «активное забывание» смыслов
традиции. Традиция — это не субстанция текста, а сам
текст. Но текст — это не субстанция, не субъект, так что
его не может не-хватать, хотя ненегативная нехватка —
единственный модус его существования. Традиция как
текст и след — это не ценность, а то, что конституирует-
ся своим стиранием, поэтому весьма странно слышать, что
кто-то лишен следа (ведь след — это не то, чем облада-
ешь, это даже не то, что есть). Искать его покоя — это
все равно, что думать, будто ось волчка в самом деле не-
подвижна.
Частной и технической подробностью, которую я тем
не менее считаю должным оговорить, является перевод
цитат других авторов в тексте Деррида (а их очень мно-
го). Отказываясь от старого способа перевода, требую-
щего отсылки к классическим изданиям (так что получа-
лось бы, словно Деррида цитирует Канта по советскому
переводу 60-х годов), я руководствовался тем, что склей-
ка цитат с самим текстом подчас оказывается настолько
сильной, что введение «классического» перевода не оп-
равдано именно из-за его возможного отличия от того,
как эта цитата используется в тексте. Ведь цитаты — это
не монументы или элементы текста, они весьма подвиж-
ны в своем вовлечении в него. Во многих примерах пря-
мой перевод с текста Деррида оправдывается еще и тем,
что соответствующие русские варианты просто не содер-
жат цитируемого материала (например, в русском изда-
нии «Истории безумия» в соответствии с интенцией са-
мого Фуко опущено первое предисловие, которое
местами используется Деррида). Можно привести мно-
жество примеров весьма дифференцированного исполь-
зования цитат, которое становится совершенно неоп-
равданным при приведении стандартных переводов
(например, в переводе «Толкования сновидений» — эк-
вивалентом «frayage» как прокладывания пути, установ-
ления связи между нейронами при повторном возбужде-
нии становится перевод «Bahnung» как просто «пути»,
из-за чего теряется большинство анализируемых Дерри-
да смыслов). В тех случаях, когда вполне можно было
привести и классический перевод (например, в цитатах из
Послесловие переводчика «Письмо и различие» Ж. Деррида
q:
о
CO
(D
(D
C
0)
z
flQ
О
5
0)
5
о
492
Платона) я все равно делаю прямой перевод с француз-
ского, дабы не перескакивать от одного способа перево-
да к другому (хотя необходимая сверка и сравнение все-
гда производились).
В заключение, и не только в целях удовлетворения
формы послесловия переводчика, я хотел бы поблагода-
рить столь многих, что их перечисление всегда грозит ока-
заться черной неблагодарностью по отношению к другим.
(В самом деле в любых aknowledgements непонятно, с чего
начать — с благодарности царю Петру, погодным обстоя-
тельствам или собственному телу, которое владеет почему-
то именно двумя руками...) Прежде всего я хотел бы по-
благодарить своих родителей, которые на протяжении
многих лет с необъяснимой доброжелательностью отно-
сились к моим не очень презентабельным (в смысле проф-
и соцпригодности) занятиям. Если же отмечать лишь тех,
кто имел (если память мне не изменит) прямое отношение
к этому переводу (хотя вычленить это отношение я могу
весьма и весьма условно), то и этого будет много. В «этой
частности » я благодарен В. Кузнецову, который, собствен-
но, и предложил мне перевести «Письмо и различие», вы-
звавшись еще и стать редактором; Я. Свирскому, который
представляет для меня ту классическую школу перевода,
на фоне которой только и было возможно мое дружест-
венное несогласие с ним в период проведения долгих со-
вместных семинаров 96-98 годов на философском факуль-
тете МГУ; В. Дмитриеву, в пику которому я не захотел
поспешно «превосходить» Деррида, с текстами которого
я некогда познакомился не без его соучастия; А. Ушакову,
который на фоне общей теоретической безучастности и
слабоумия иных, набивающихся в друзья, всегда оставал-
ся для меня наиболее близким, несмотря на периоды ката-
строфического удаления, человеком — причем он же,
полушутя-полувсерьез занимаясь проблемой моей соци-
альной адаптации, предвосхитил проект моего перевода
какой-нибудь из «центральных» работ Деррида; В. Дани-
лову, который не только вовремя уехал отдыхать, предос-
тавив мне всю свободу действий, но и высказал искреннюю
заинтересованность в переводе, читая его, отмечая недос-
татки, давая всевозможные советы, помогая в переводе анг-
лоязычных выражений и всесторонне рекламируя мою ра-
боту направо и налево; постоянно расширяющейся семье
Диких, которые оказались для меня тем весьма далеким,
но в то же время феноменологическим горизонтом, за ко-
торый так легко шагнуть; Д. Петровых, который еще рань-
ше показал мне пример переводческого усердия, а ныне
всесторонне заботился о моей душе, существование коей
он, правда, так и не смог мне доказать; Д. Иванову, чья глу-
бина концептуальной критики деконструкции позволила
мне несколько по-иному отнестись к своим собственным
привязанностям, отказавшись от нетворческого копиро-
вания; В. Горохову, общество которого доставляло мне ис-
тинное наслаждение на протяжении всей работы над пе-
реводом, а многочасовые беседы позволяли не забывать
вкус философии в подчас сереньком и однообразном кро-
пании бесконечных страниц, так что я ни в коей мере не
могу быть на него в обиде за то, что он так и не запомнил,
кого же я все-таки перевожу — Годара, Лиотара, Деррида
или Лакана; О. Карелину, кто в период работы над перево-
дом часто помогал мне в компьютерных играх, а также нау-
чил меня довольствоваться малым и хранить спокойствие;
И. Дуденковой, которая давала мне возможность почув-
ствовать всю успокоительность роли «друга семьи», слу-
жащей неким противовесом моего обычно по-циклоидно-
му неустойчивого настроения. А всех остальных я прошу
подождать, тем более что априорные благодарности сто-
ят немногого.
Дмитрий Кралечкин
Содержание
494
Василий Кузнецов. Деррцда как Деррида 3
Жак Деррида. Письмо и различие 5
Сила и значение 9
44. Примечания
Когито и история безумия 54
26. Примечания
Эдмон Жабе и вопрос книги 105
43. Примечания
Насилие и метафизика.
Очерк мысли Эммануэля Левинаса 124
132. I. Насилие света
143. II. Феноменология, онтология, метафизика
167. III. Различие и эсхатология
45. Примечания
«Генезис и структура» и феноменология 249
269. Примечания
Вкрадчивое слово 275
309. Примечания
Фрейд и сцена письма
319
323. Прокладывание пути и различие
332. Эстамп и добавление начала
345. Диоптрика и иероглифы
354. Кусок воска у Фрейда и три аналогии письма
365. Примечания
Театр жестокости и закрытие
представления
370
395. Примечания
От экономии ограниченной
к экономии всеобщей
Гегельянство без утайки
400
400. Гегельянство без утайки
404. Эпоха смысла: господство и суверенность
414. Два письма
426. Всеобщее письмо и всеобщая экономия
431. Нарушение нейтрального и смещение Aufhebung
435. Примечания
Структура, знак и игра в дискурсе
гуманитарных наук 445
Эллипс 467
475. Примечания
Послесловие переводчика.
запись одного шума
476
Научное издание
Жак Деррида
Письмо и различие
Компьютерная верстка: Ю. Кущ-Жарко
Корректор: Л. Маршева
Изд. лиц. Nq 065723 от 10.03.98.
Литературно-издательское агентство
«Академический Проект»
I I 1399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4
Гигиенический сертификат Nq 77.99.6.953.П.4044.7.99 от 05.07.99
По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ЗАО «Академия—Центр»:
/ / /399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4
Телефакс: (095) 176 9338: 176 9523.
E-mail: aprogect@mtu-net.ru
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-093, том 2; 953000 — книги, брошюры.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.06.2000.
Формат 84x108/32. Гарнитура Мысль. Бумага офс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,04. Тираж 3000 экз.
Заказ Nq 375.
Отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Французский мыслитель Жак Деррида
родился в Алжире в 1930 году. В 1967 году
выходит целая серия его центральных
программных работ — «Письмо и разли-
чие», «Из грамматологии», «Голос и фе-
номен».
Как и всякий сильный и оригинальный
мыслитель, Деррида не только задает свой
собственный набор концептов, словарь, язык и способ го-
ворения, но также радикально и необратимо изменяет пер-
спективы и ландшафты всей философии (и заодно всего ос-
тального).
«Письмо и различие» стоит у истоков упрямой гибкости
постоянно изменяющейся и вместе с тем остающейся неиз-
менной стратегии Деррида, вписываясь в «Грамматологию»
и/или вписывая ее в себя, прочитывая чужие тексты и про-
читываясь сквозь них.
Перевод представляет обманчиво легкую возможность
и невыполнимо тяжелую задачу открыть, воспроизвести
и исполнить Деррида, упростить и усложнить его текст.