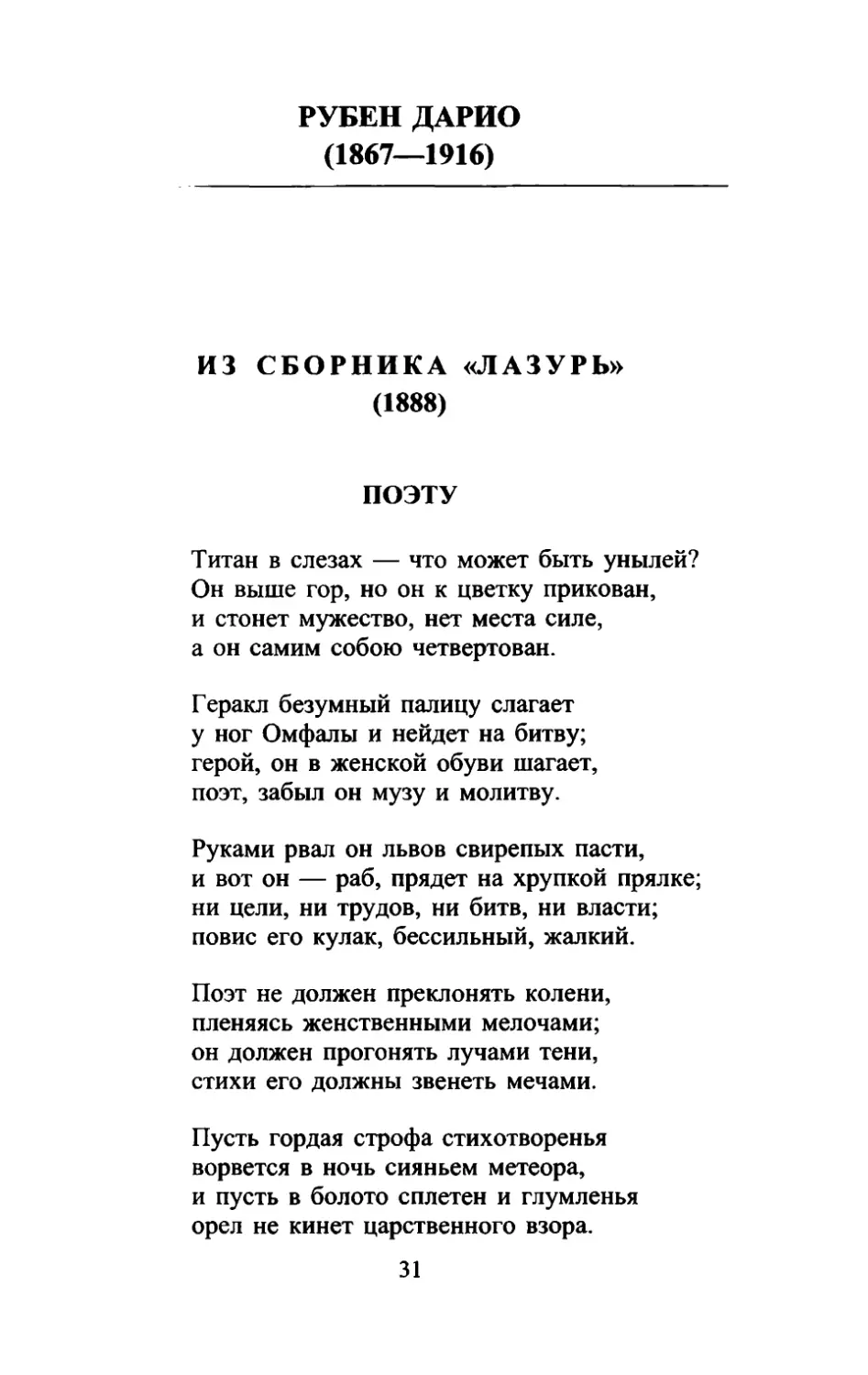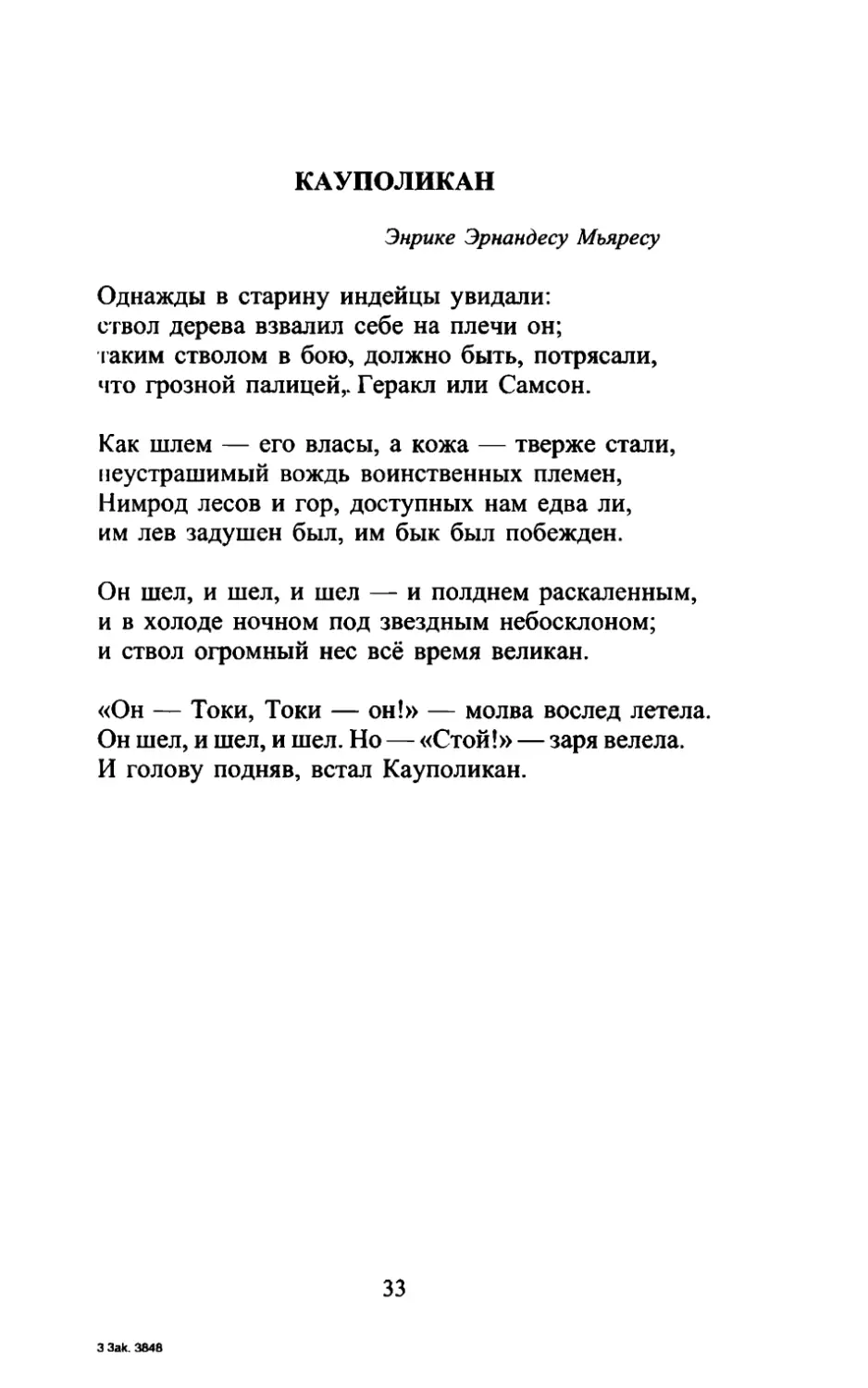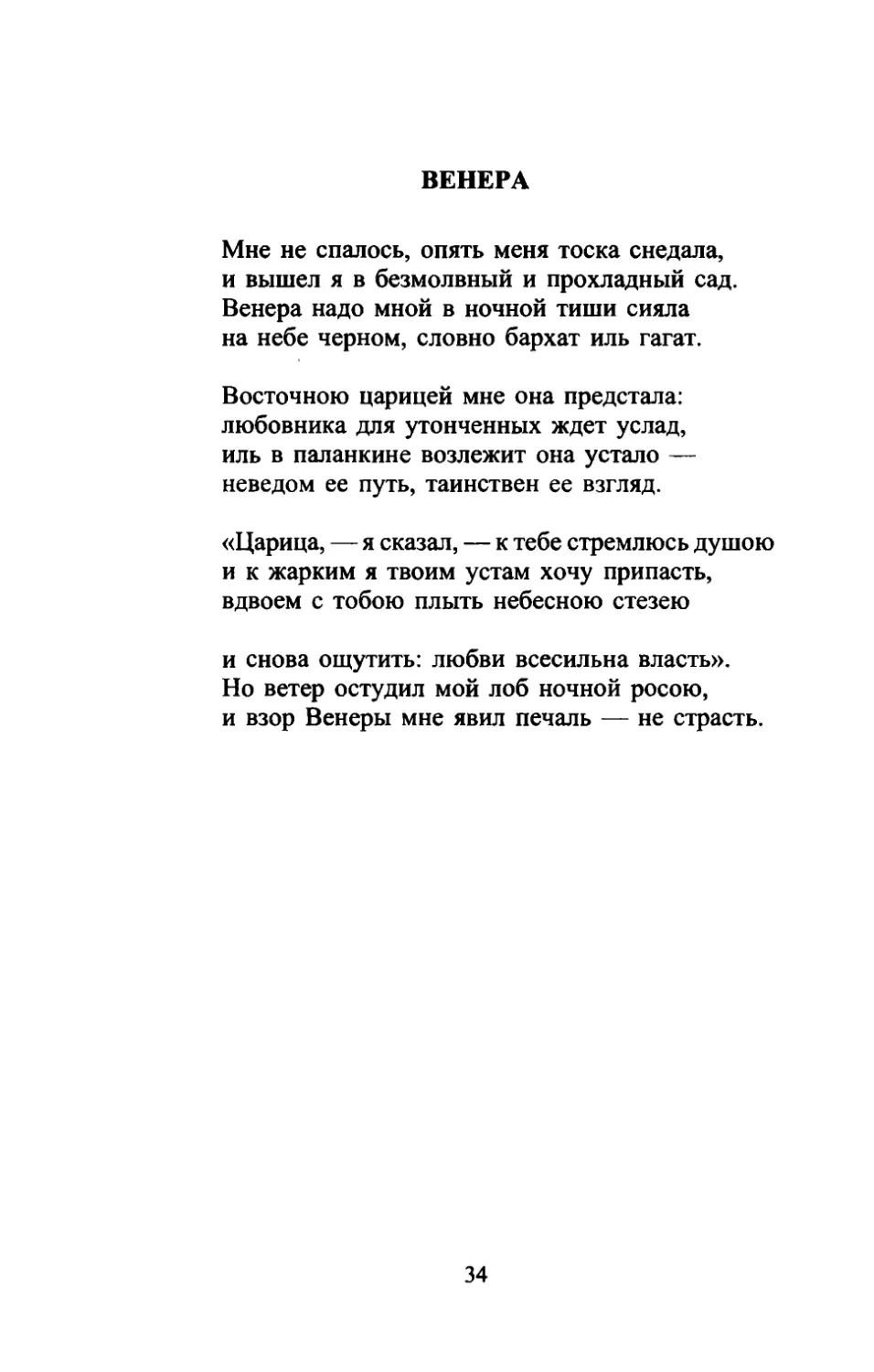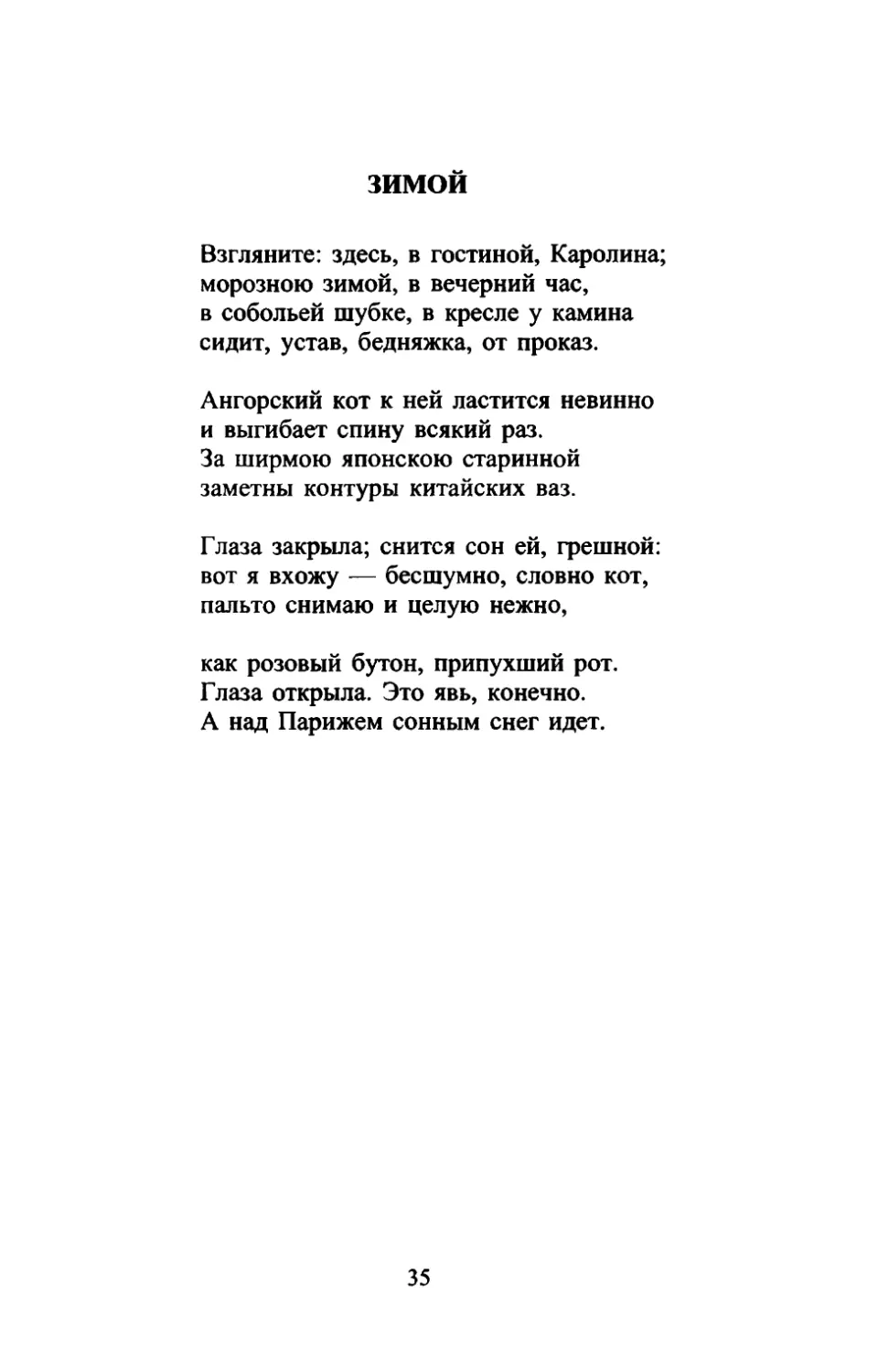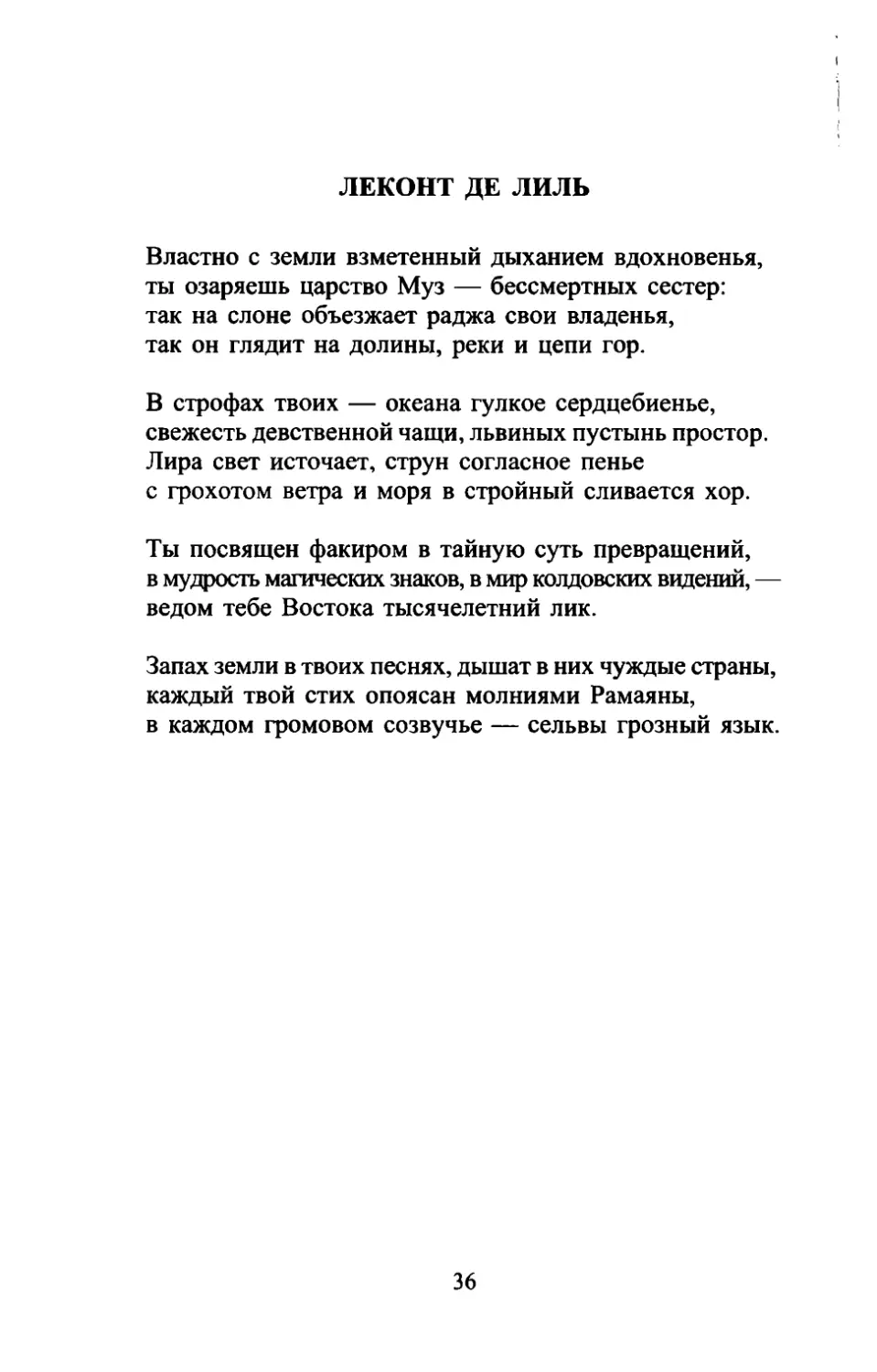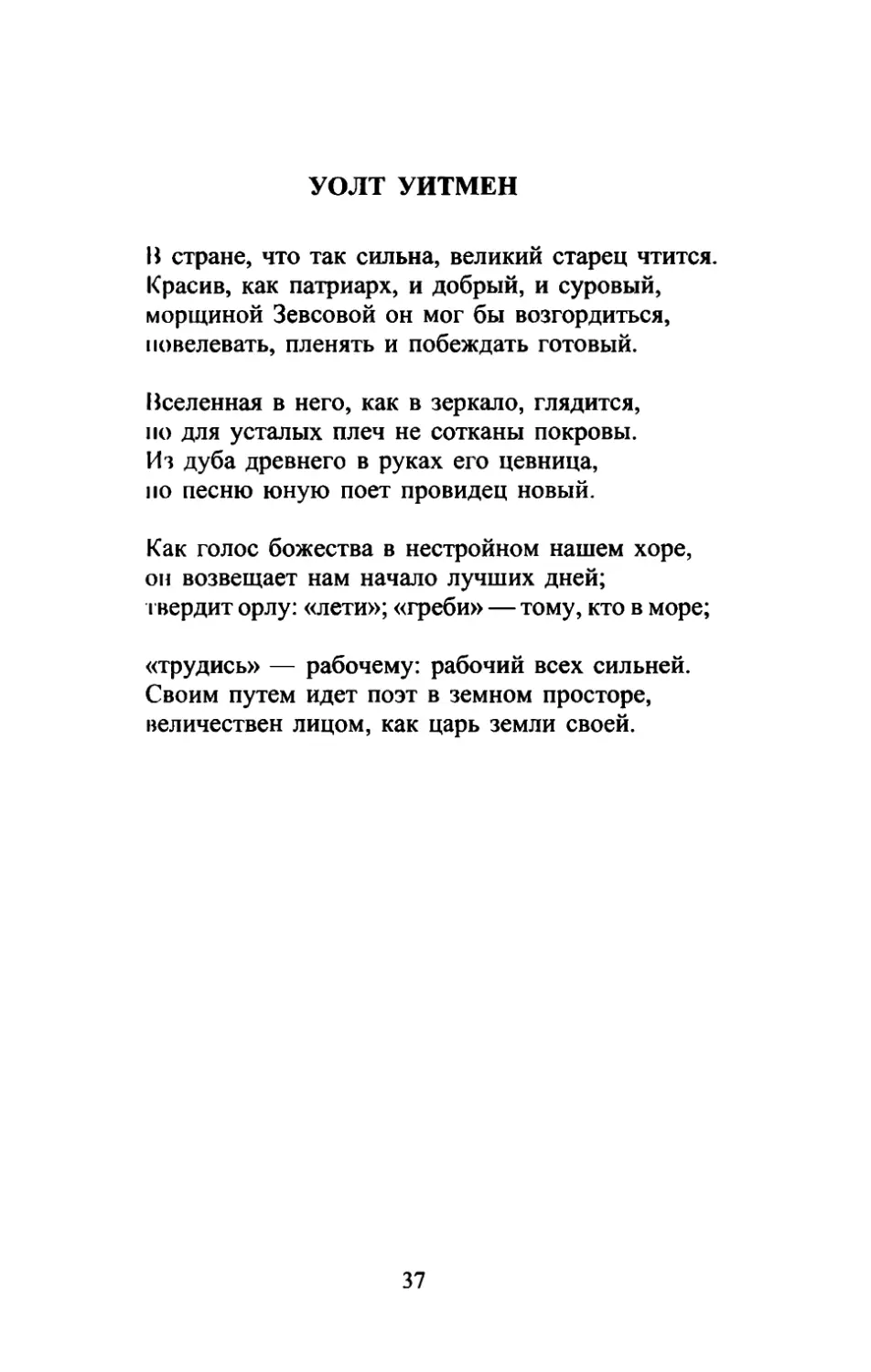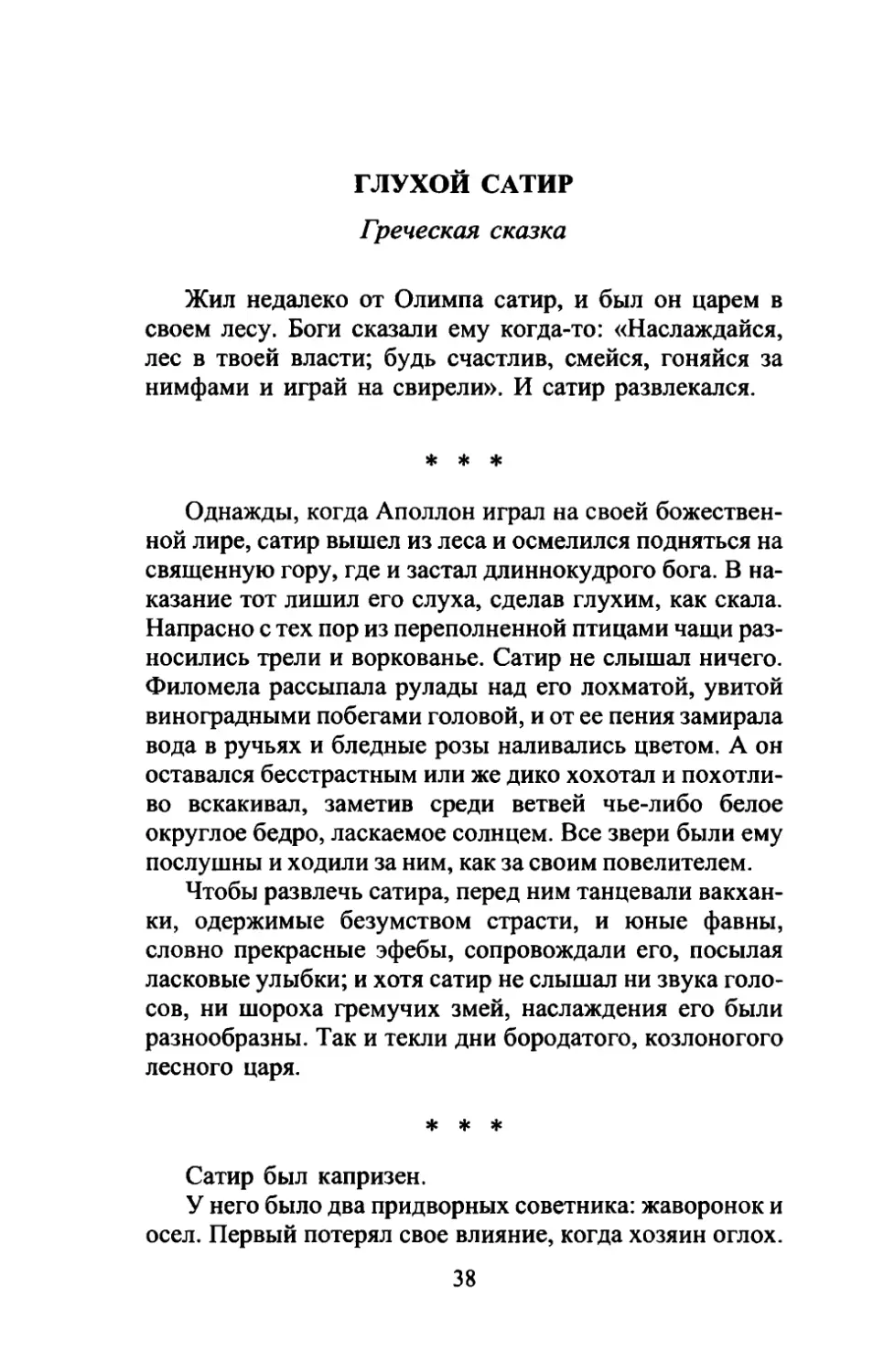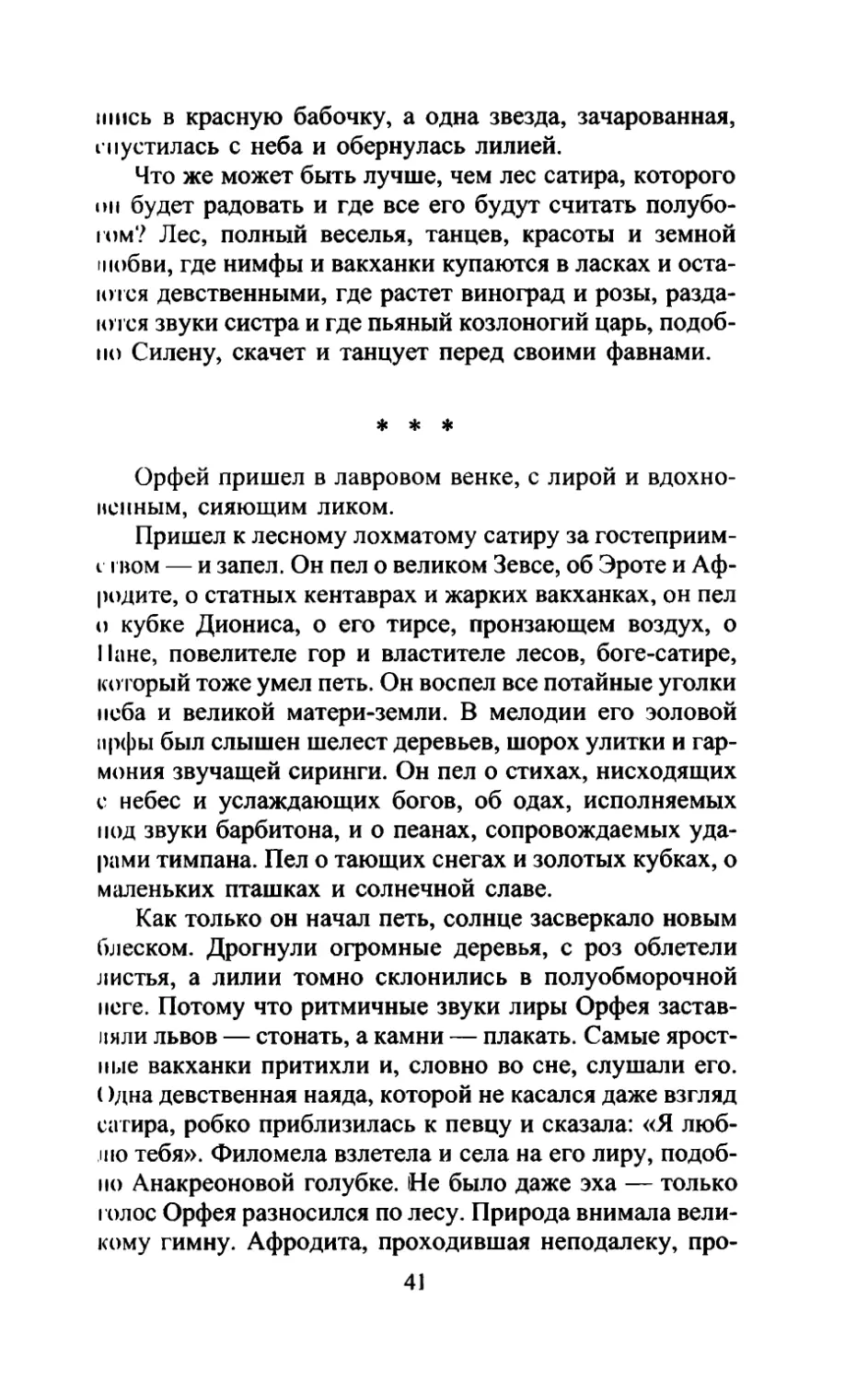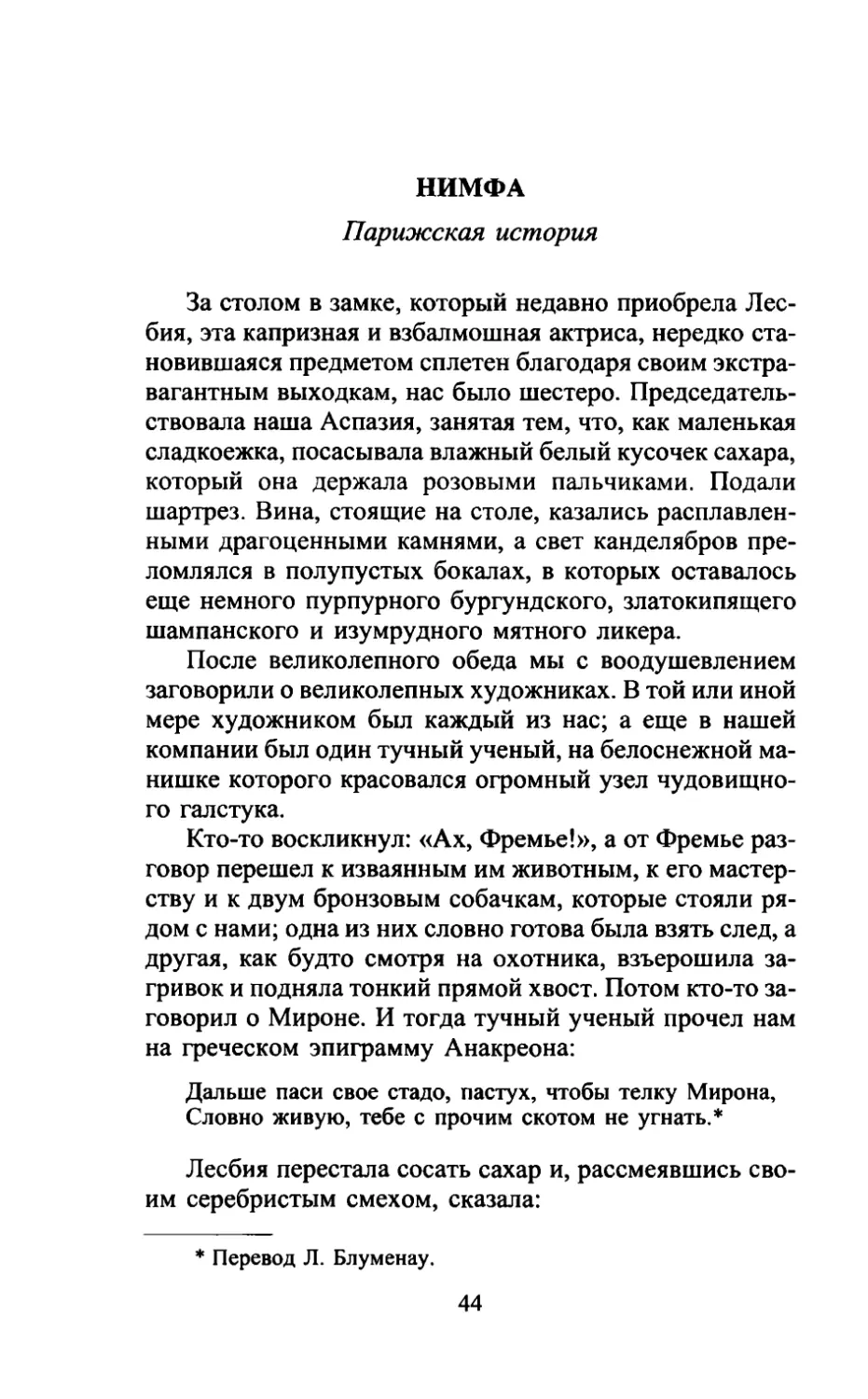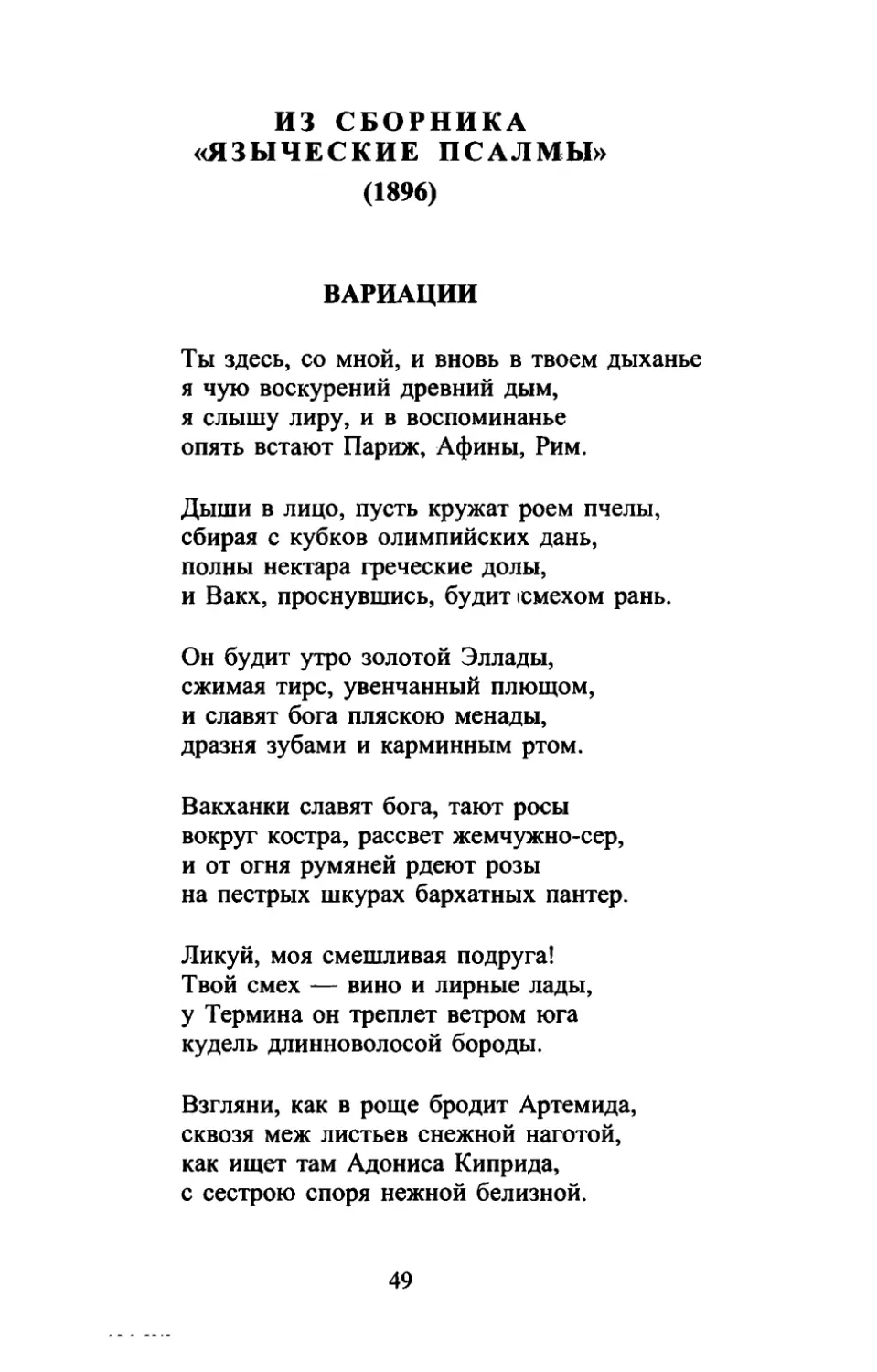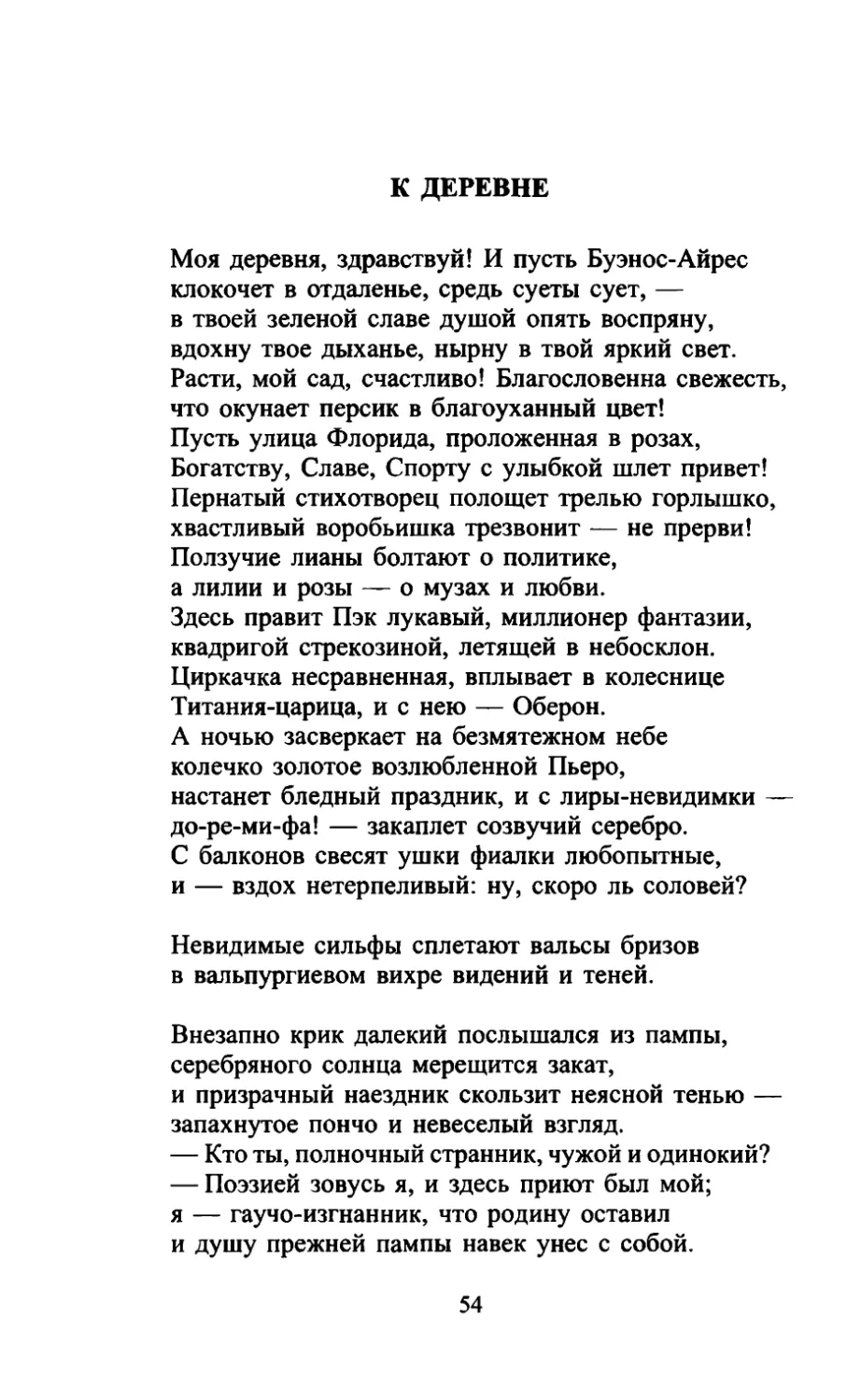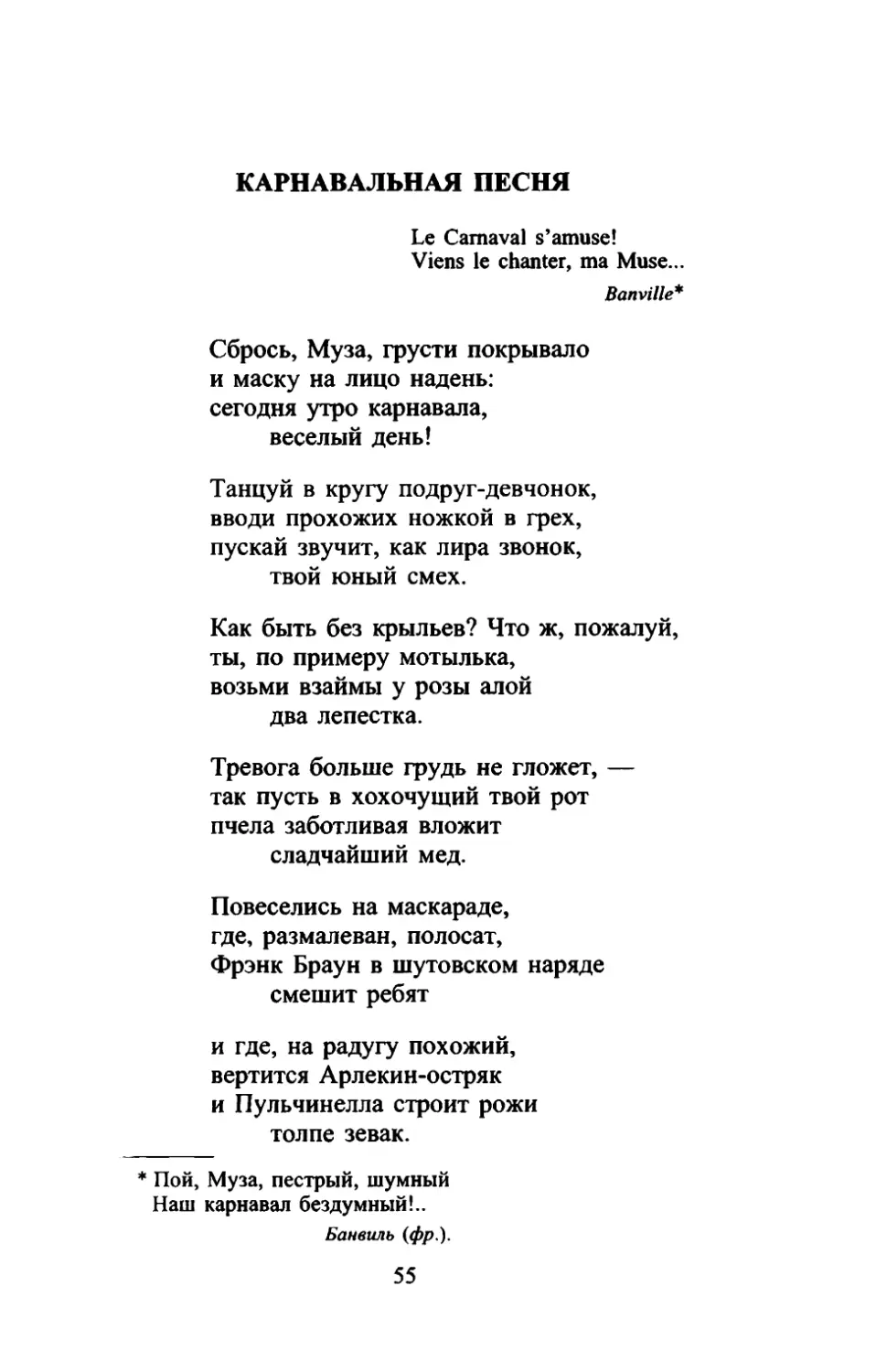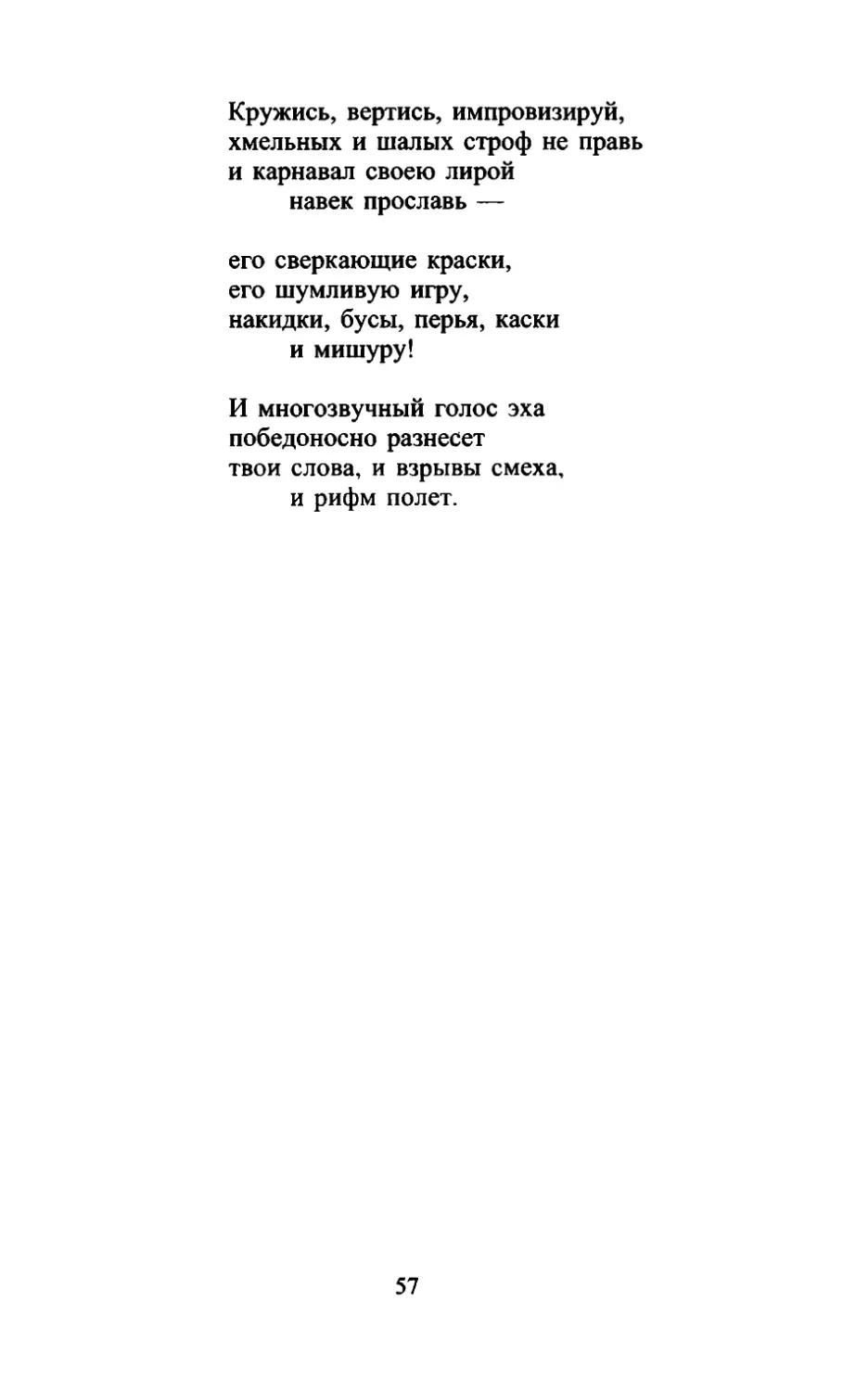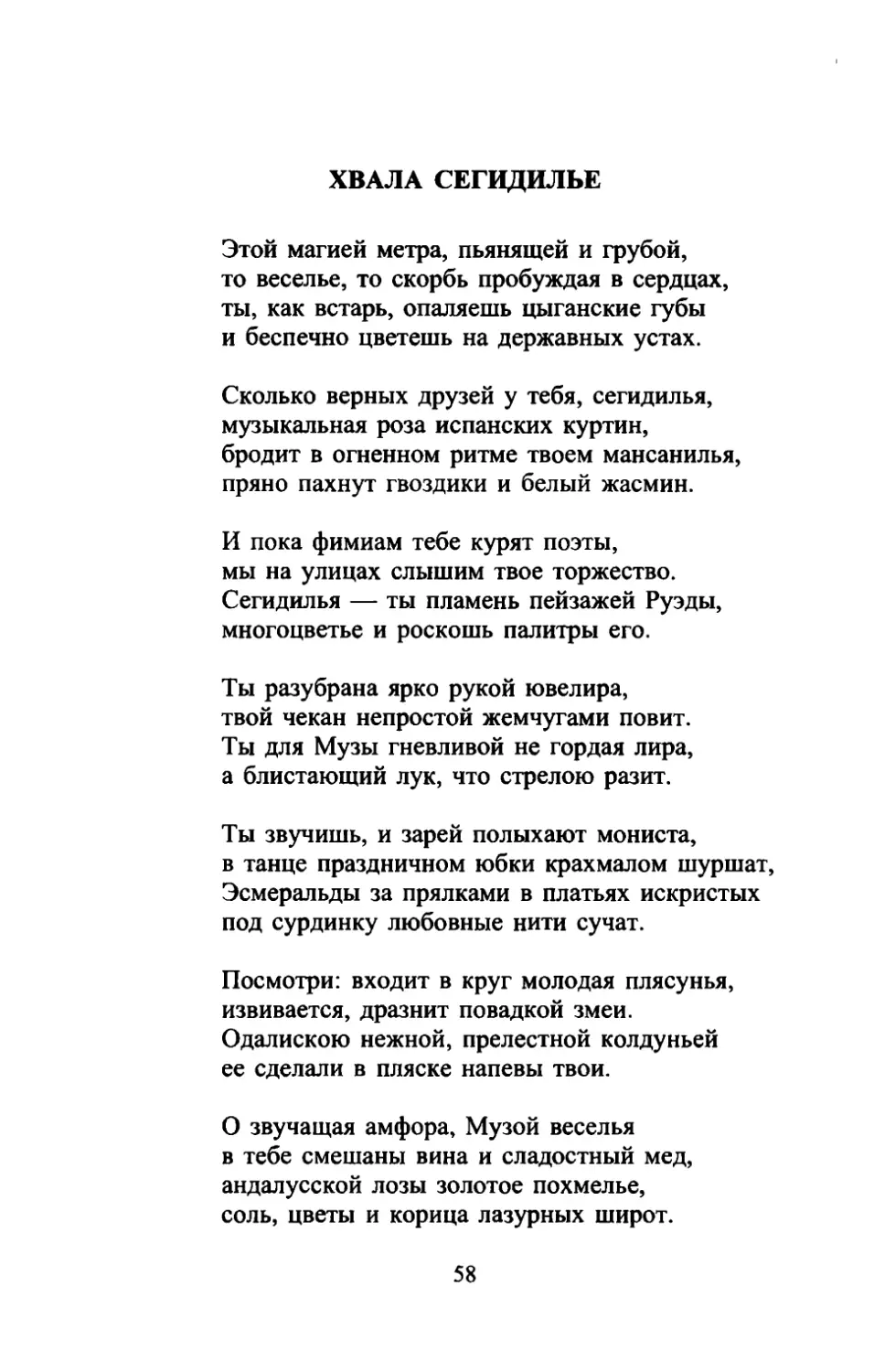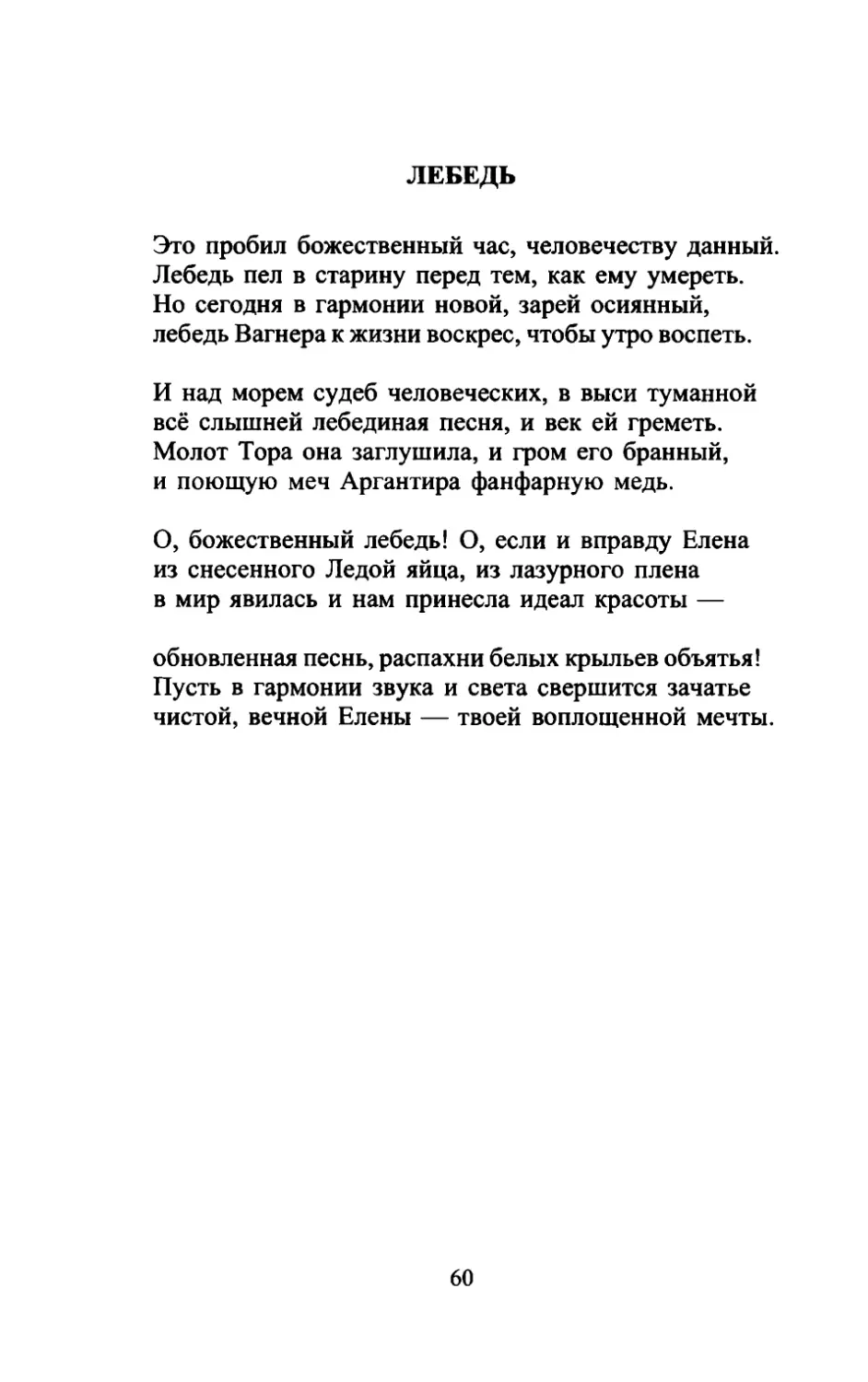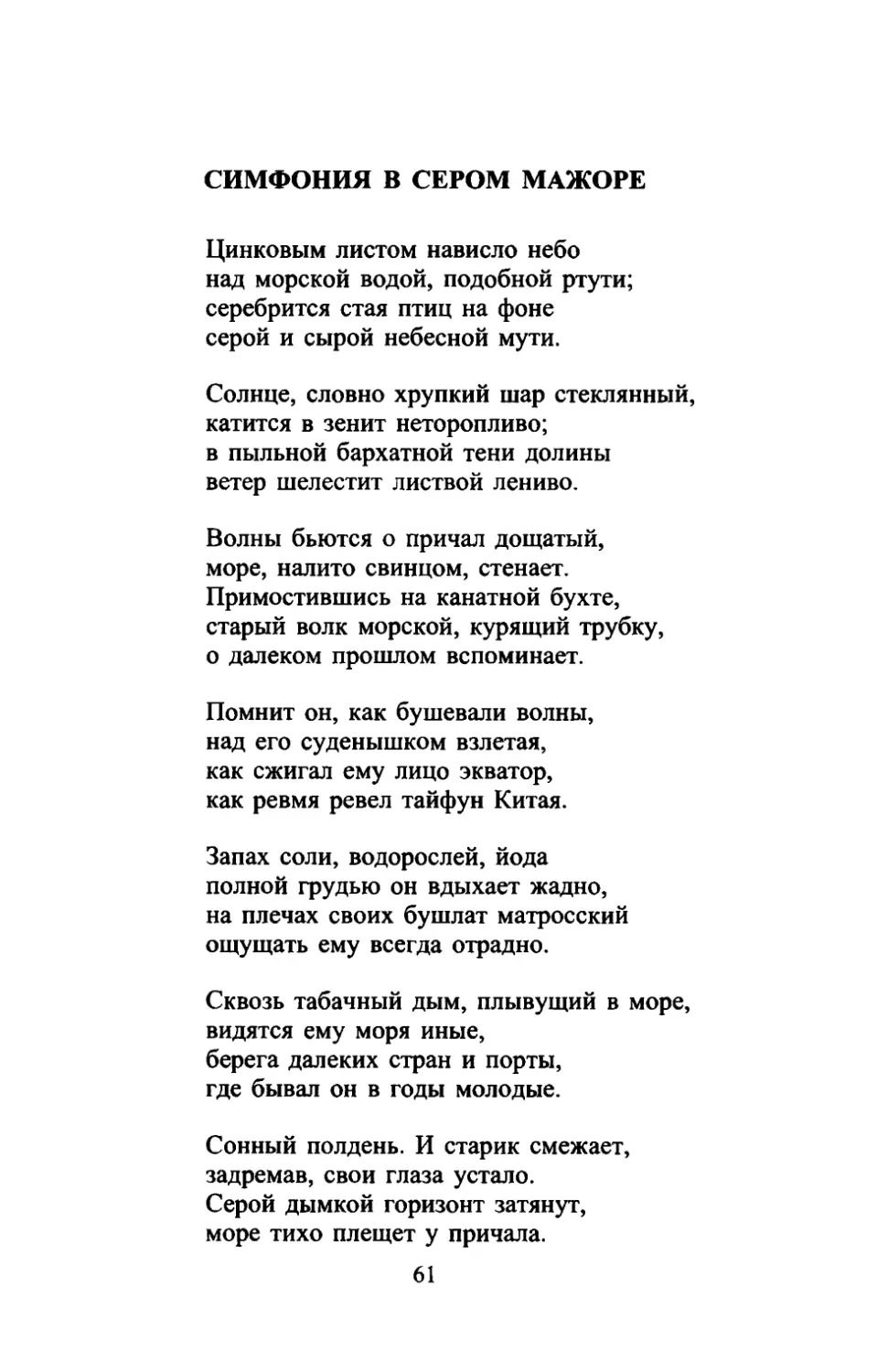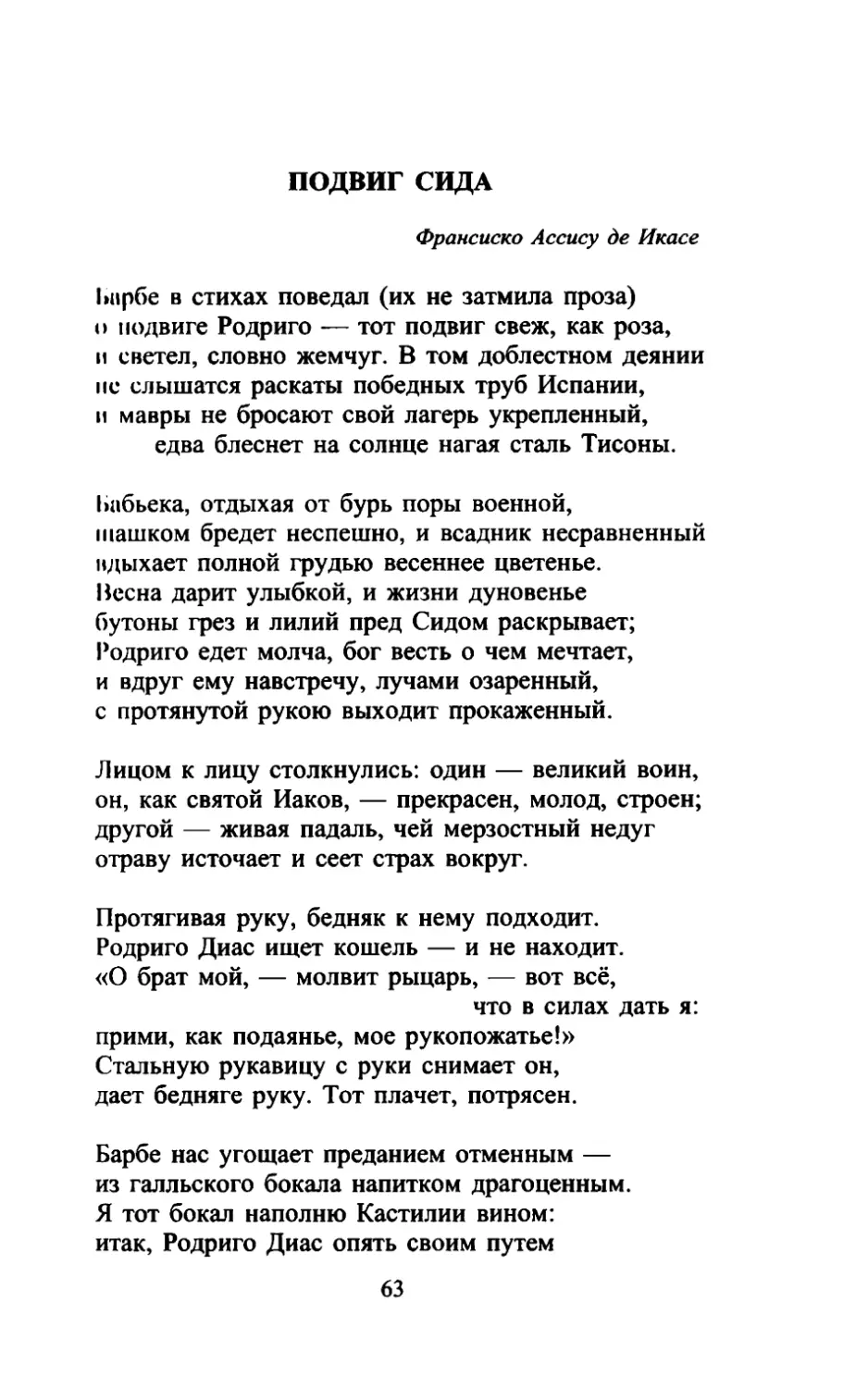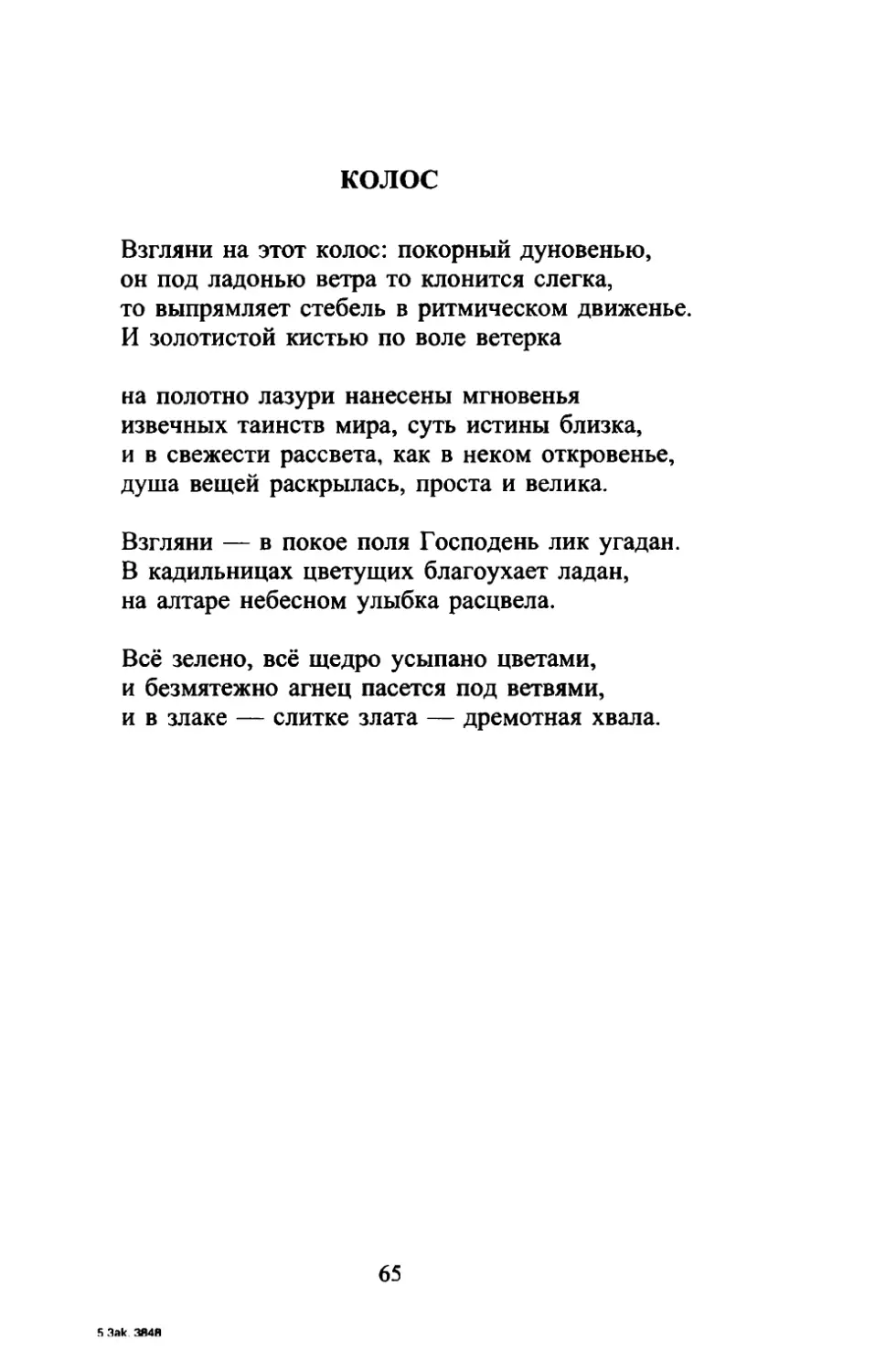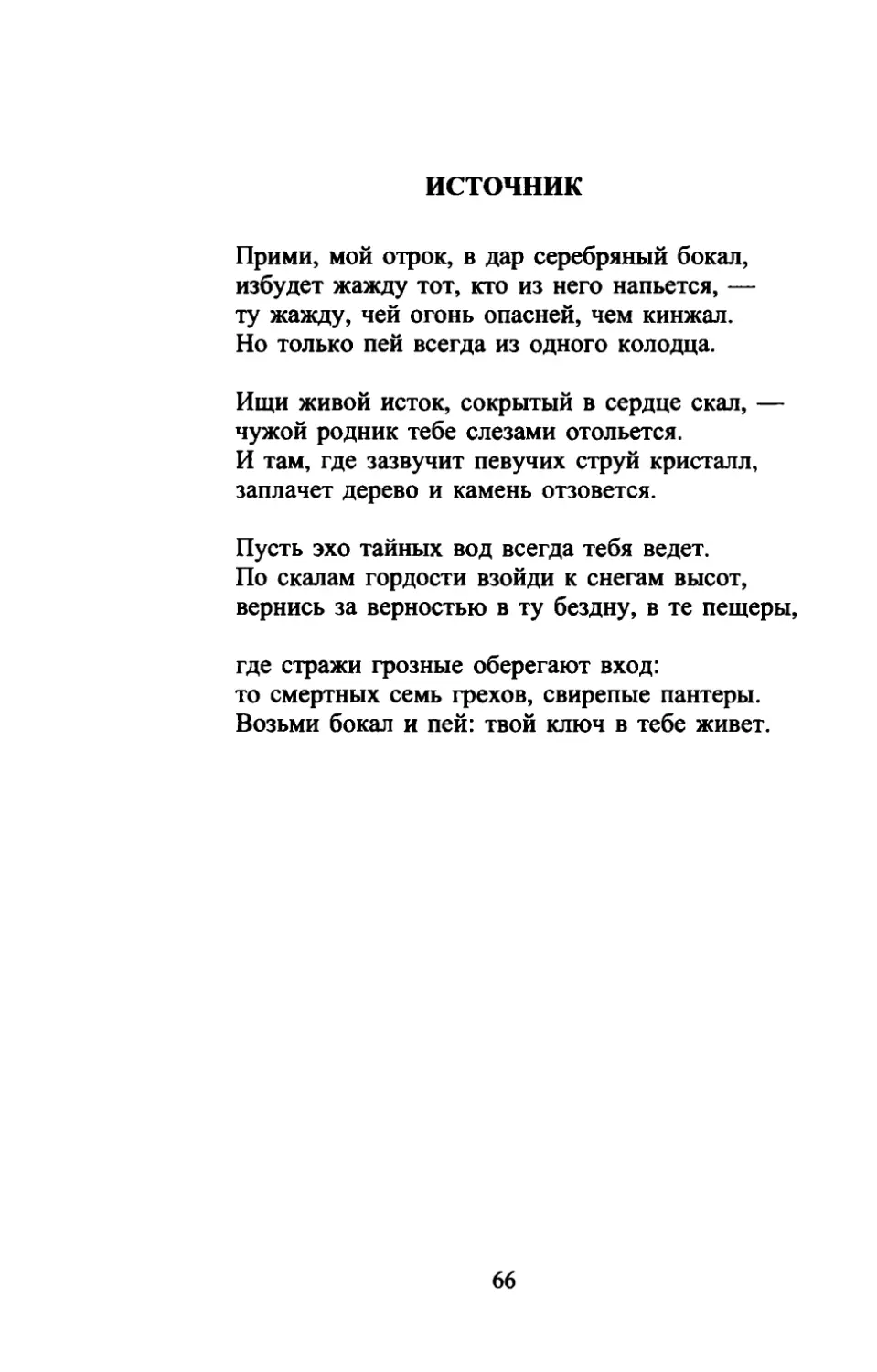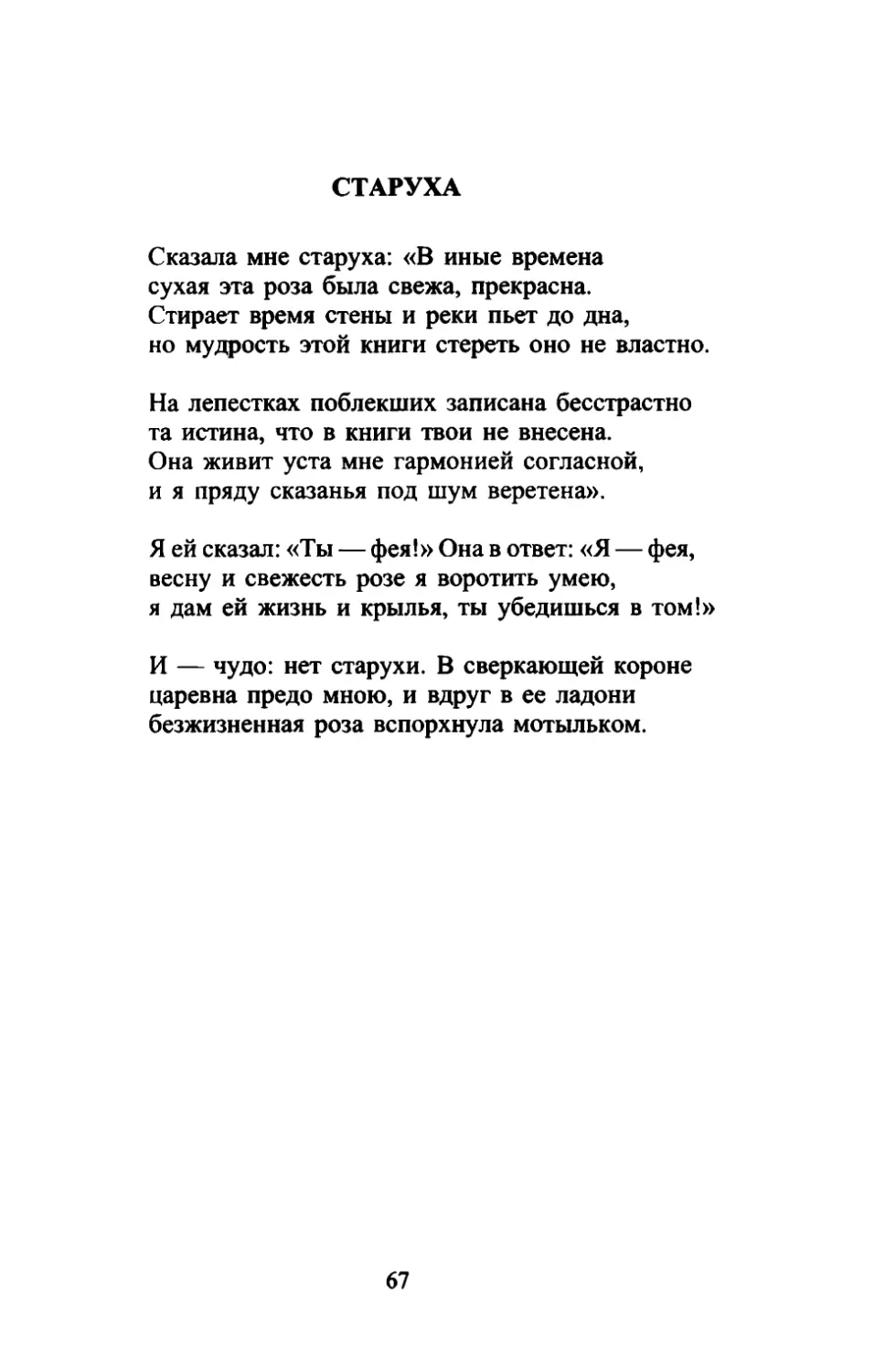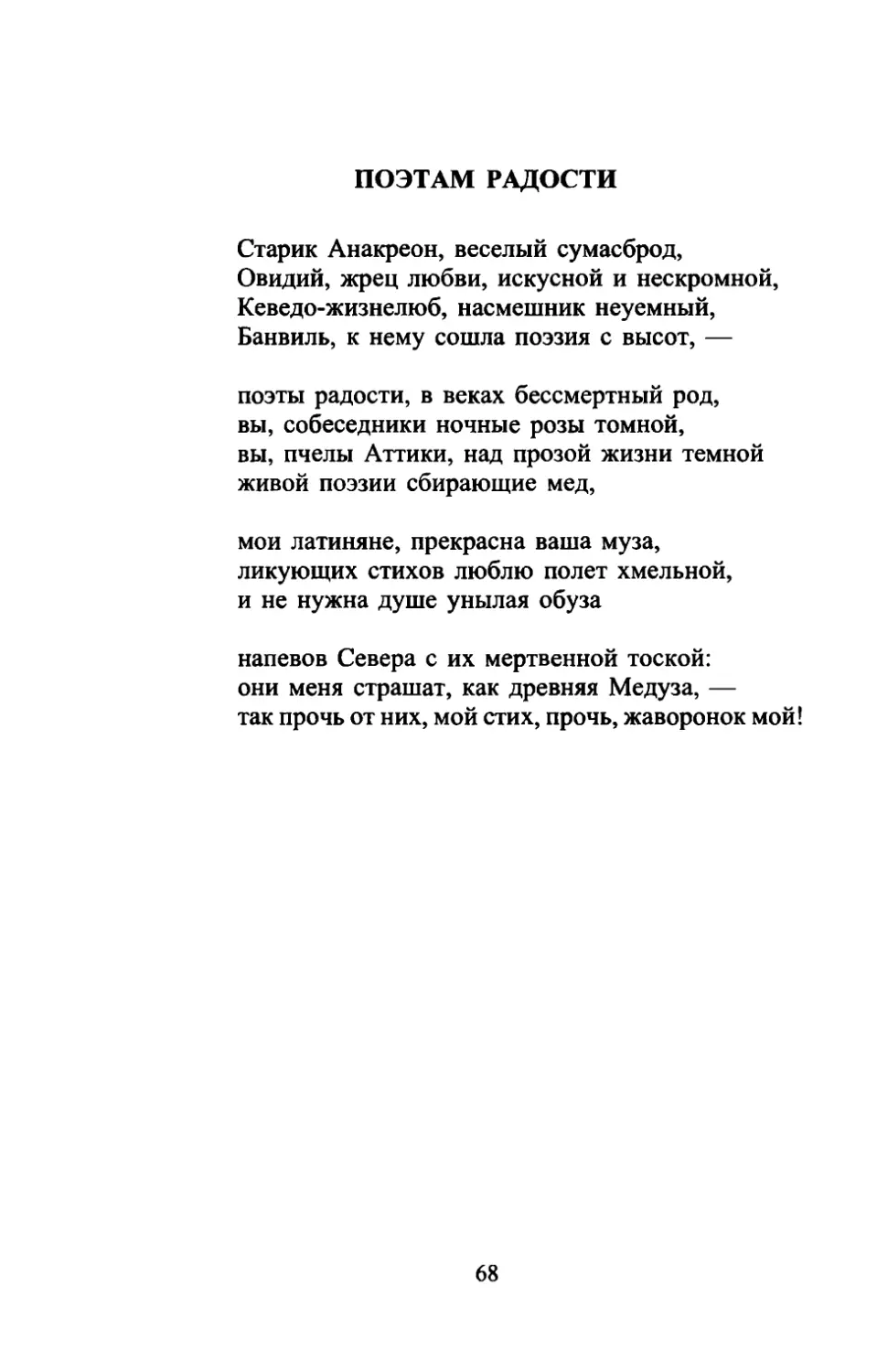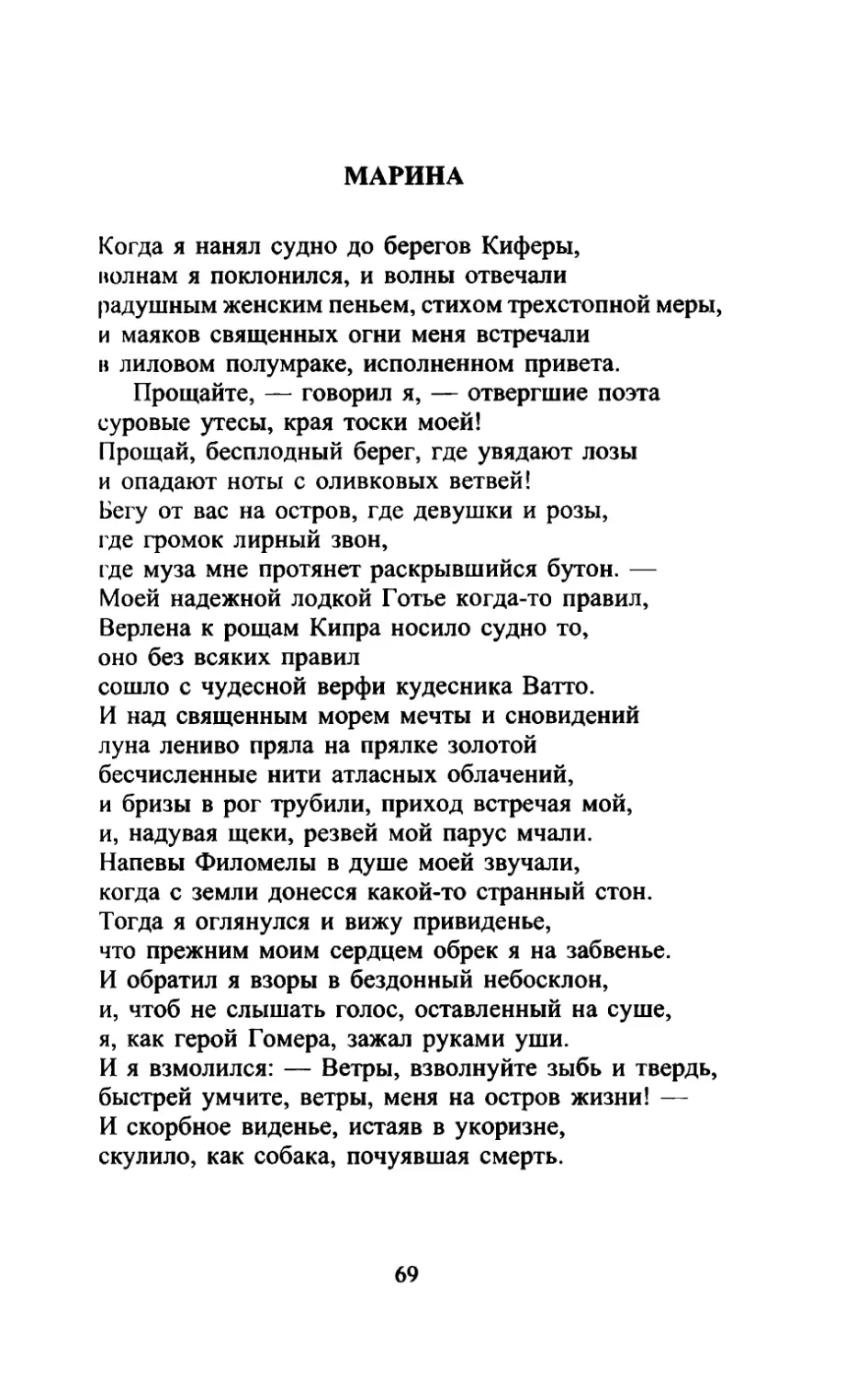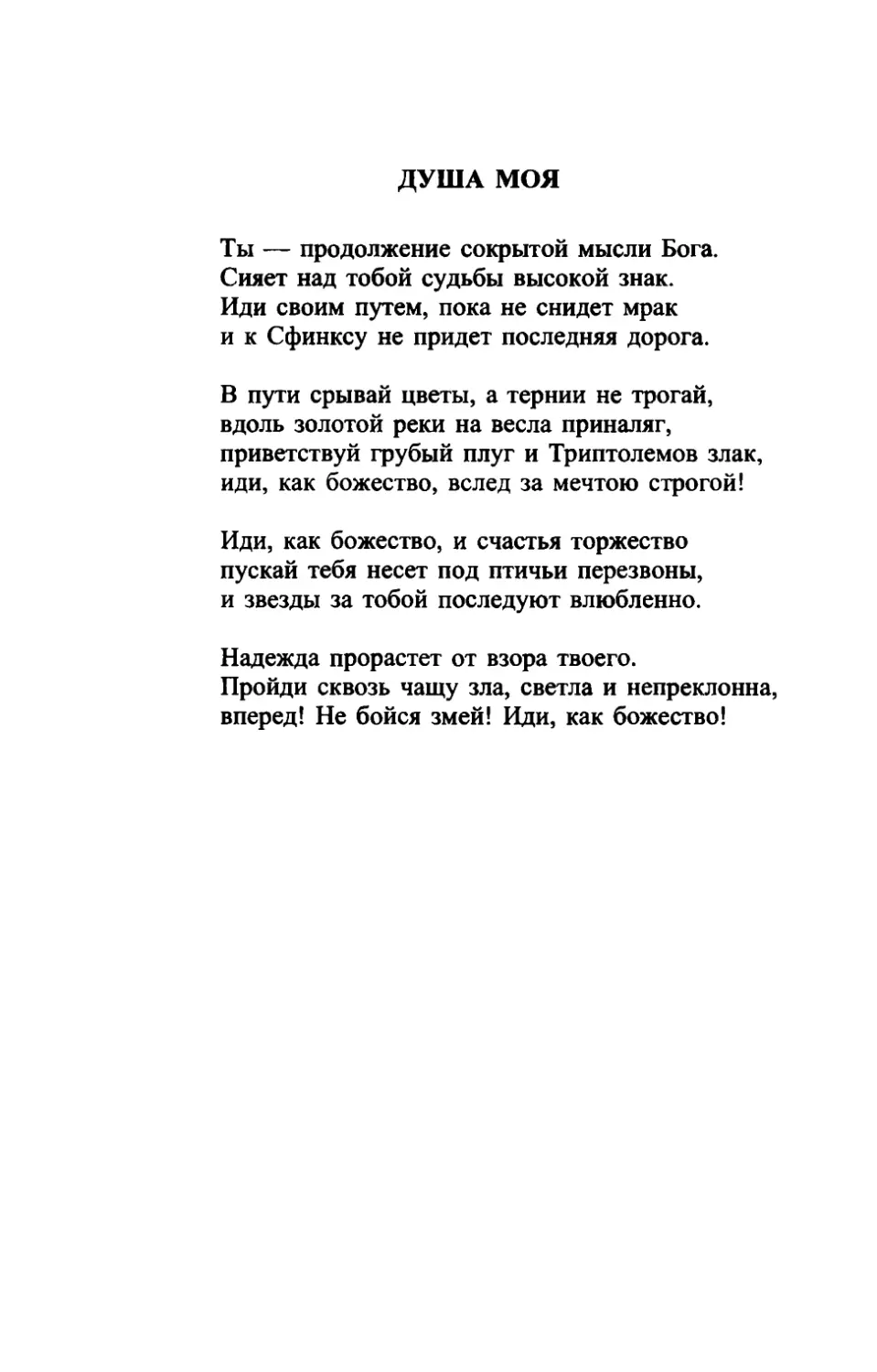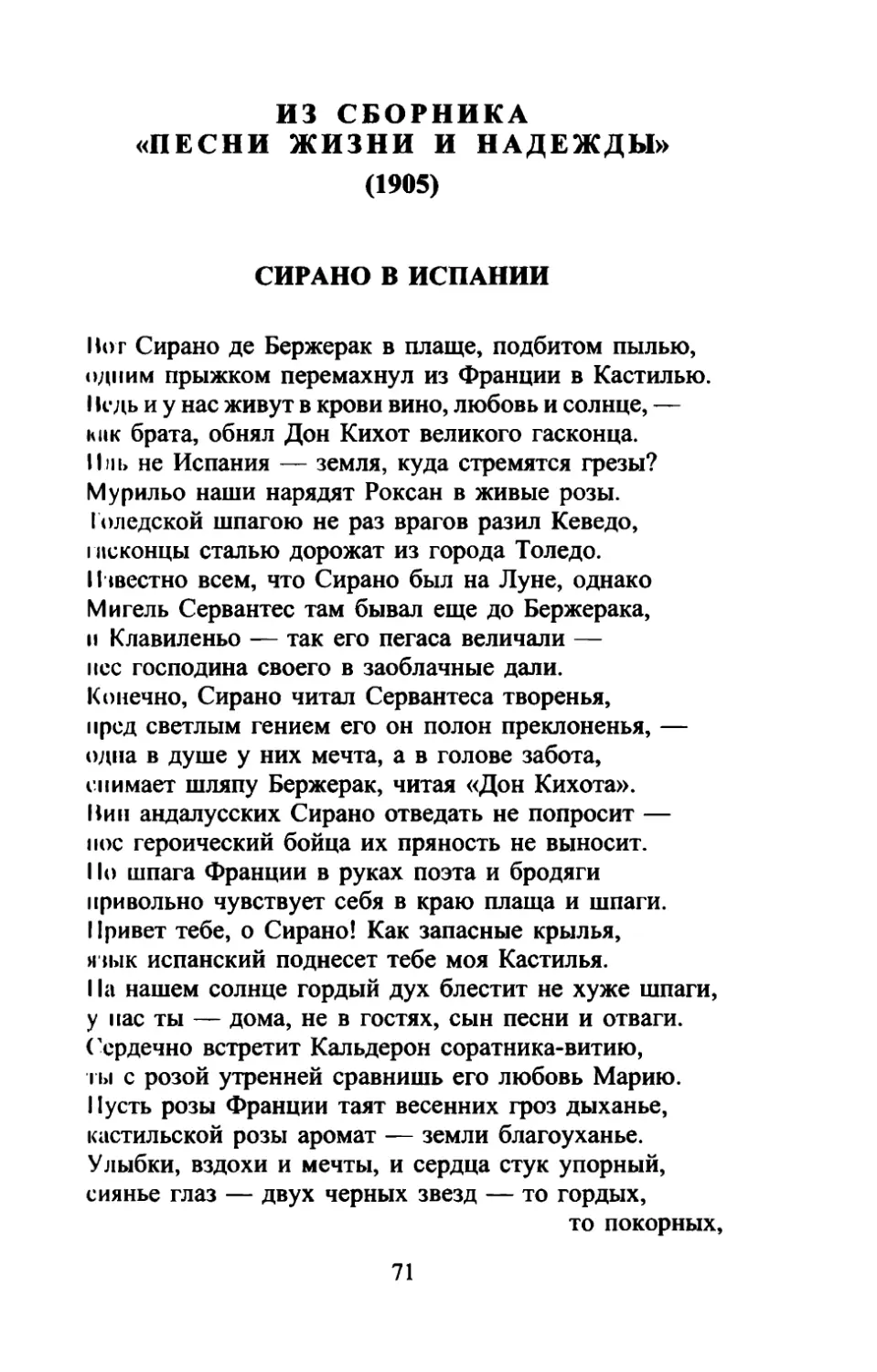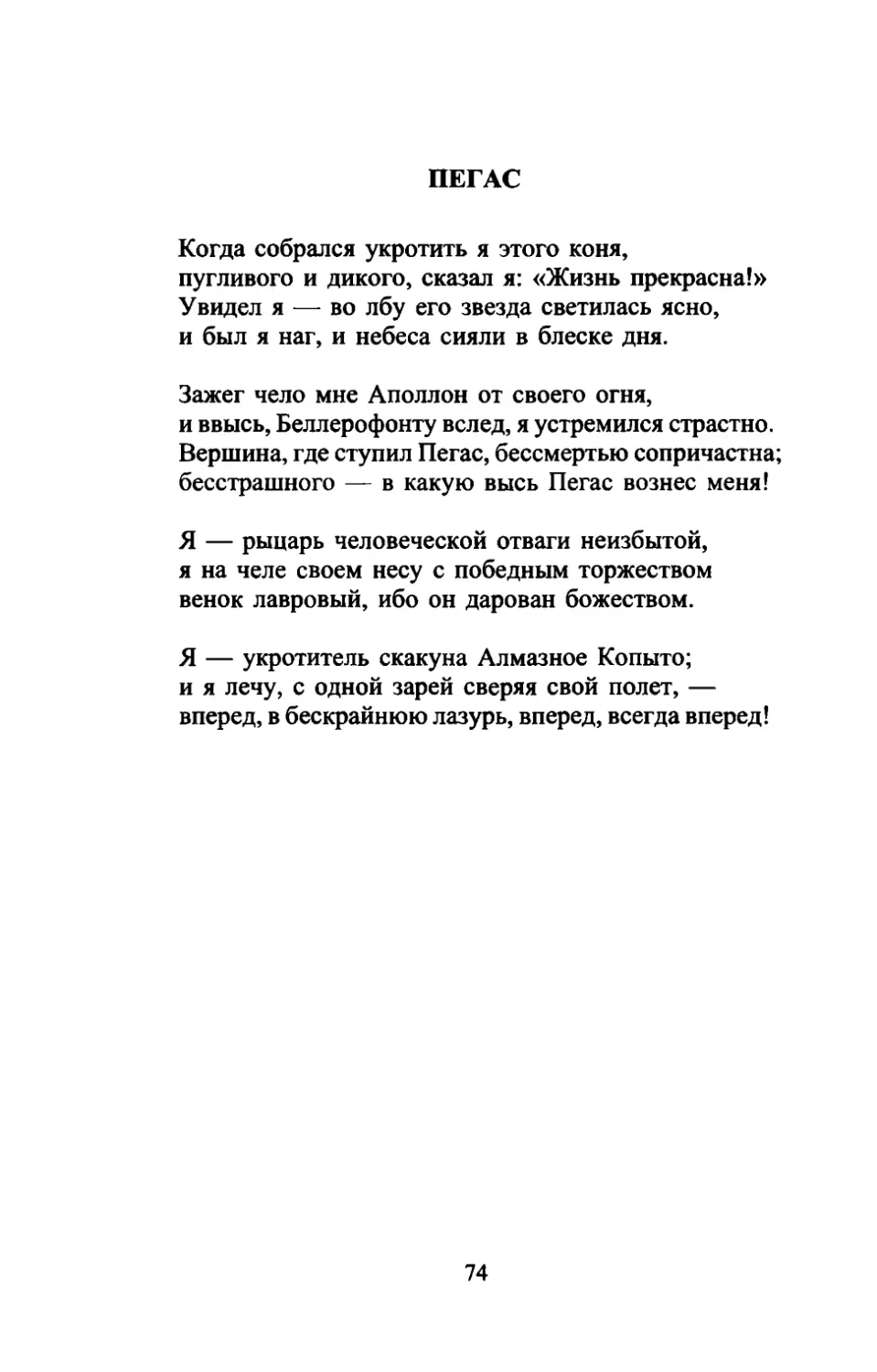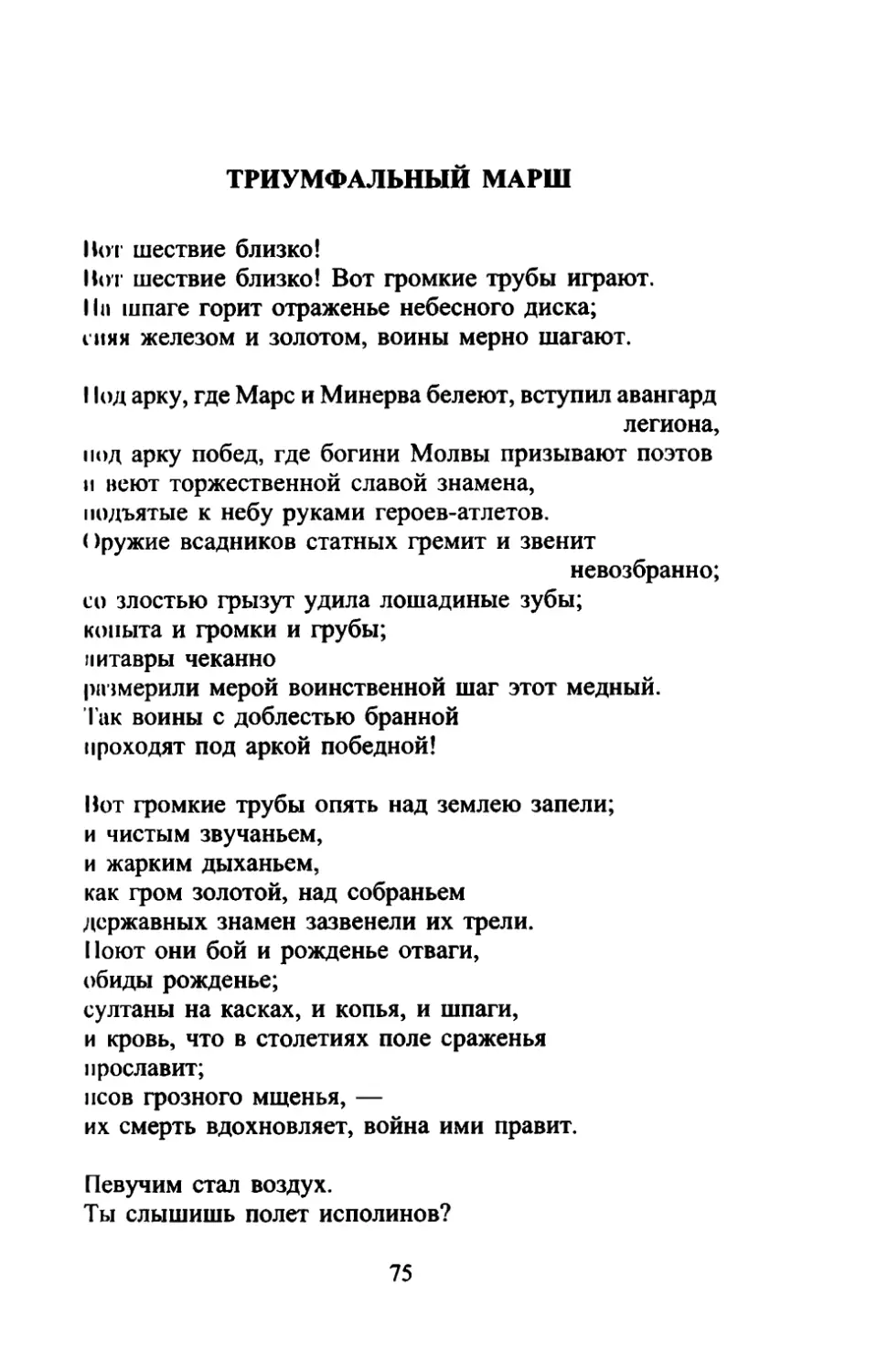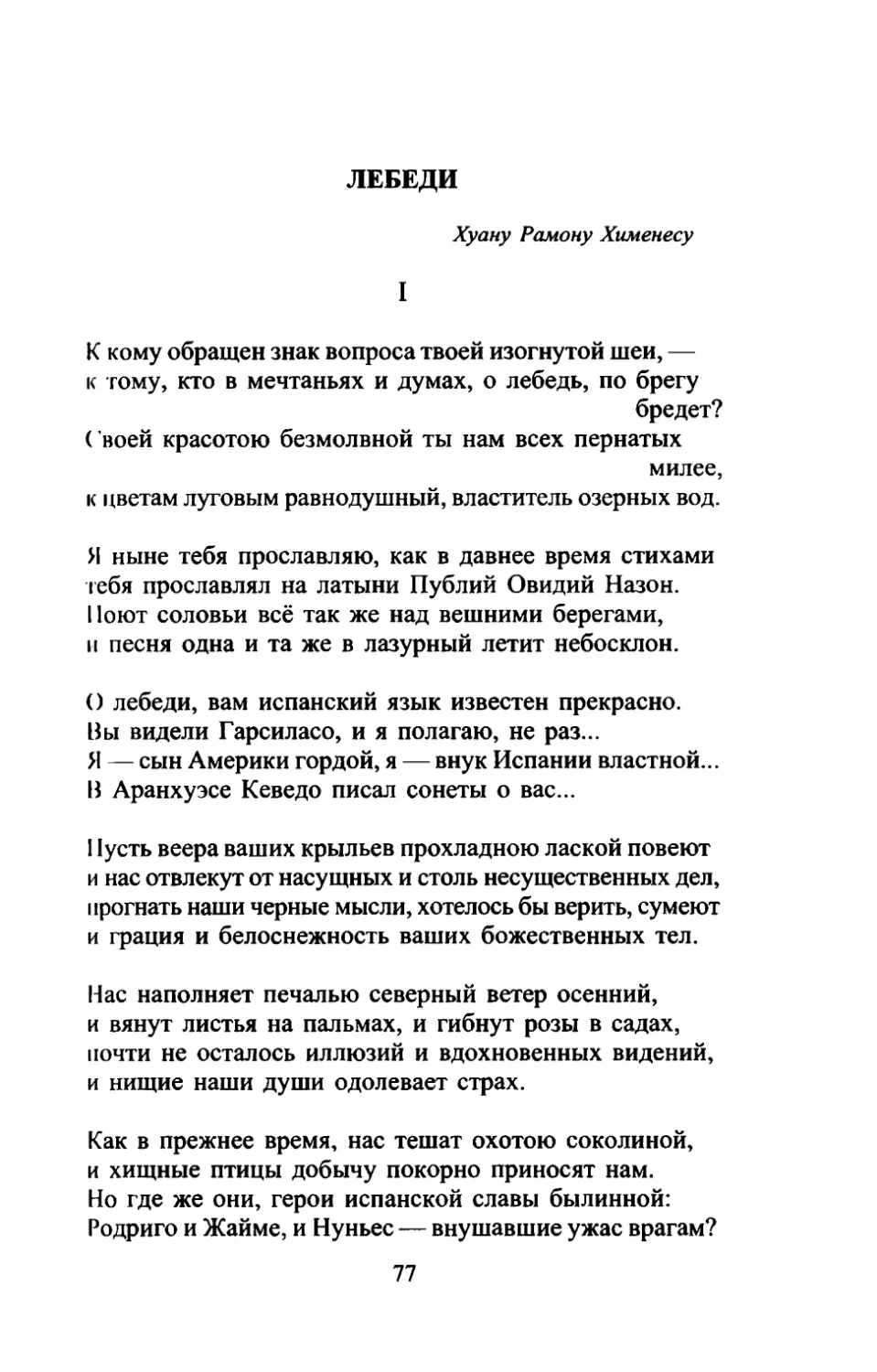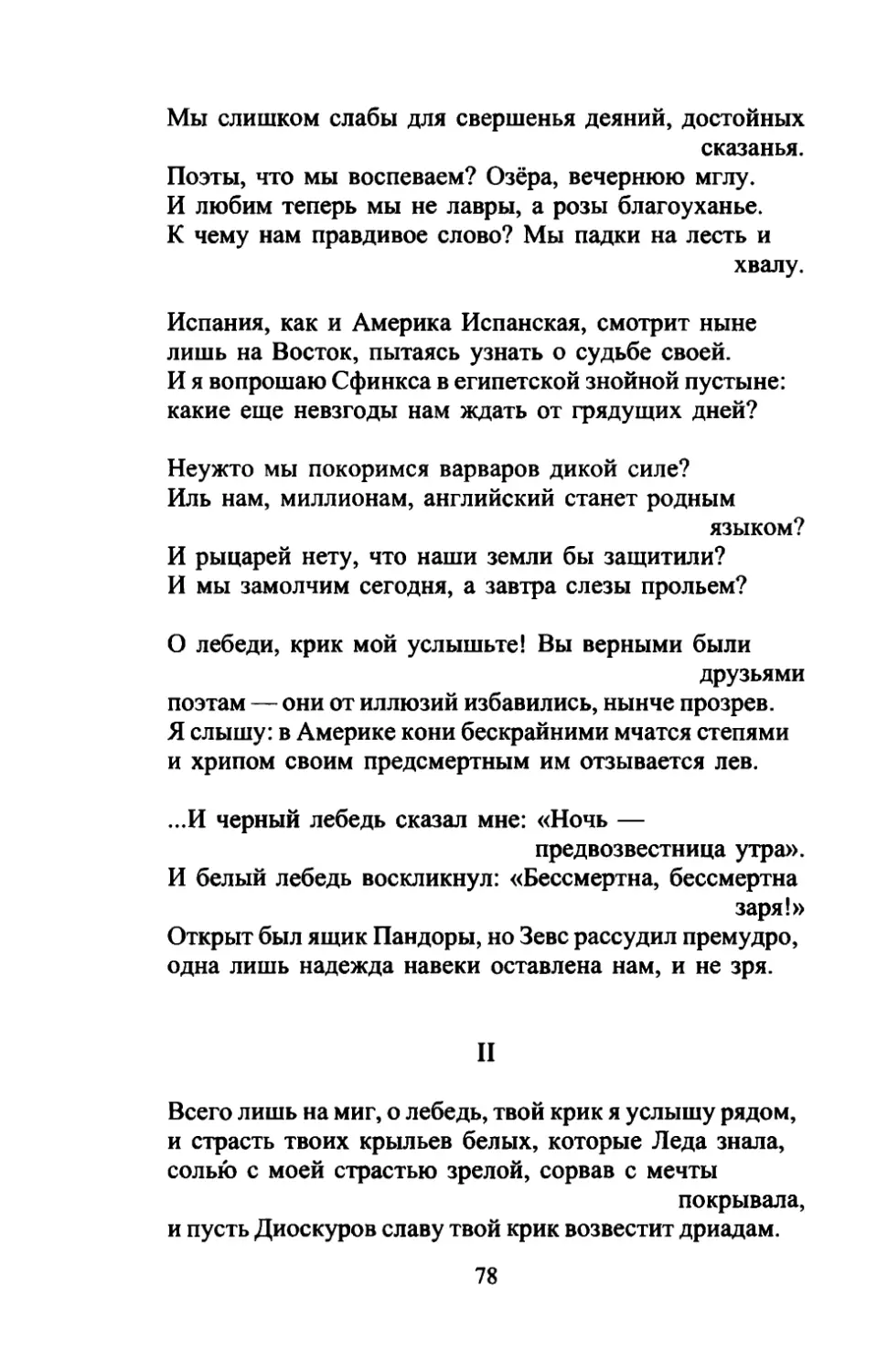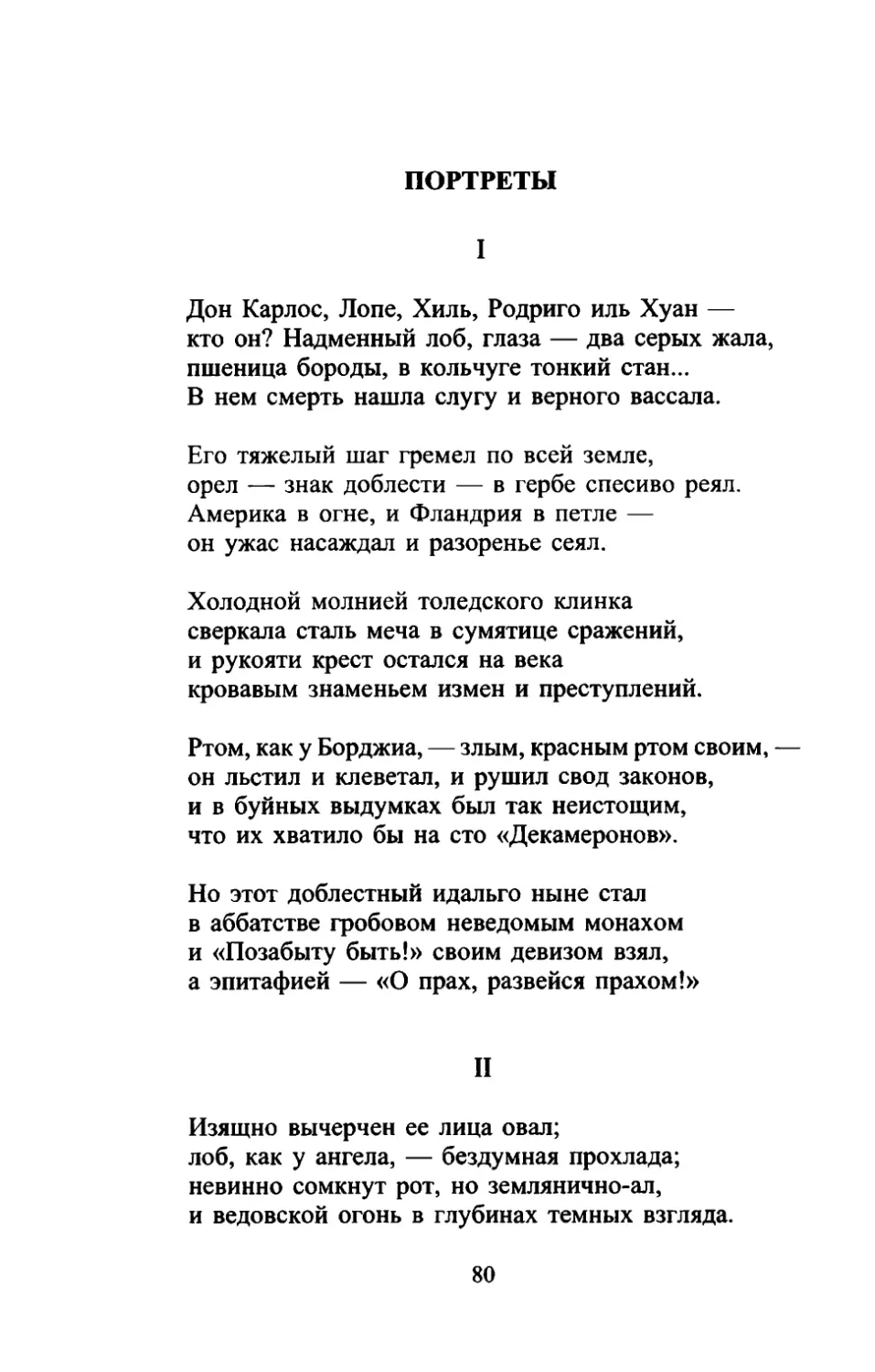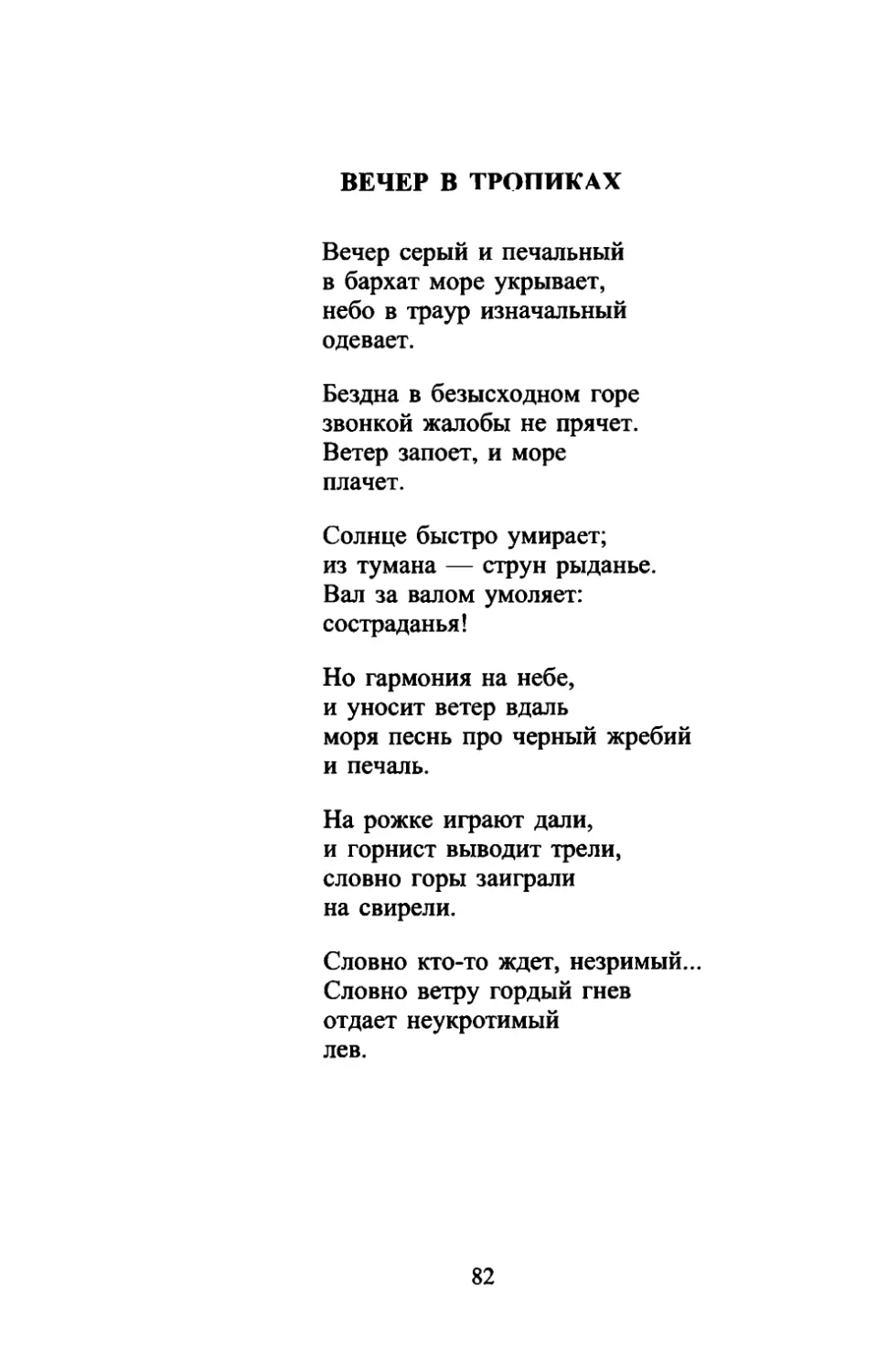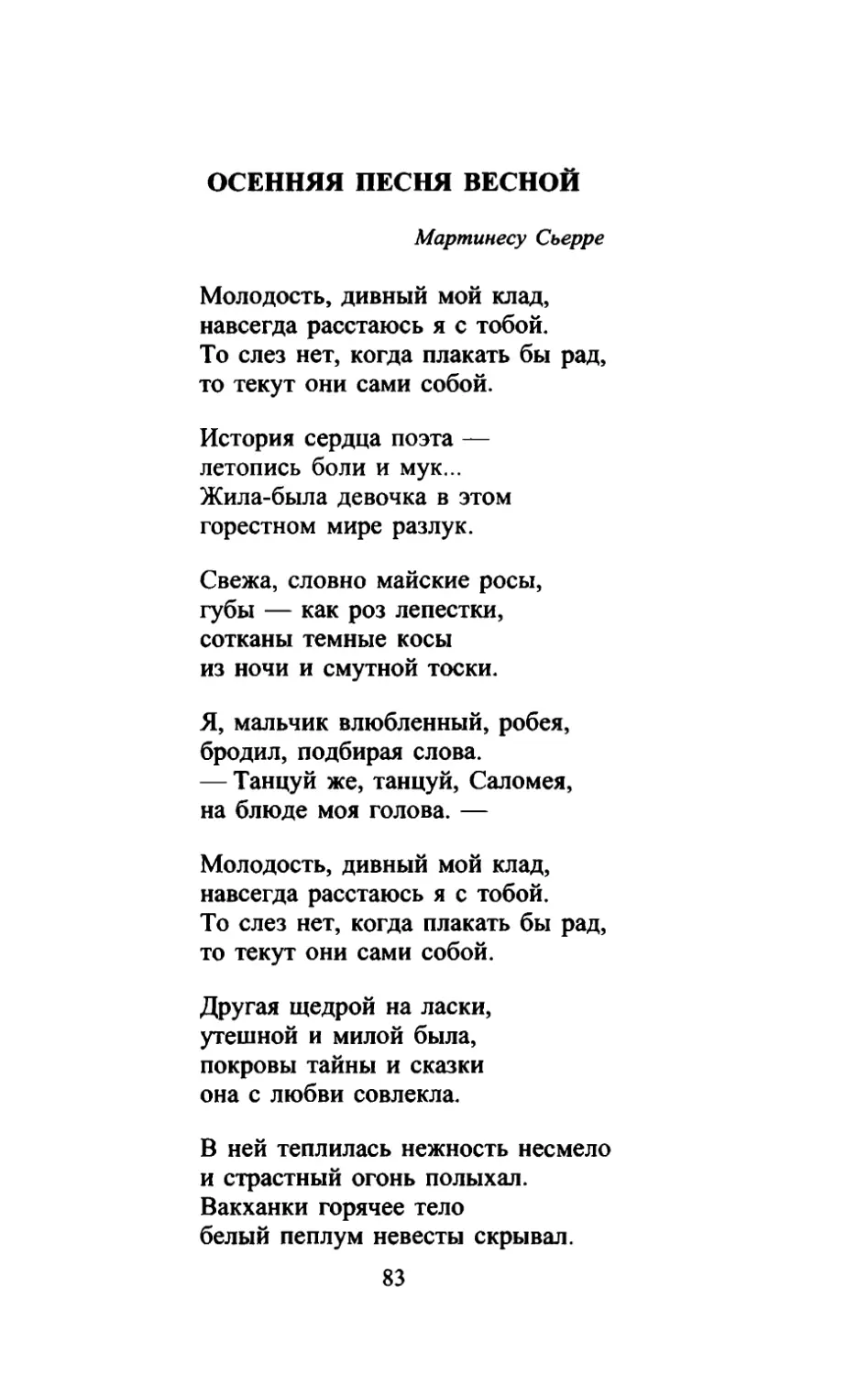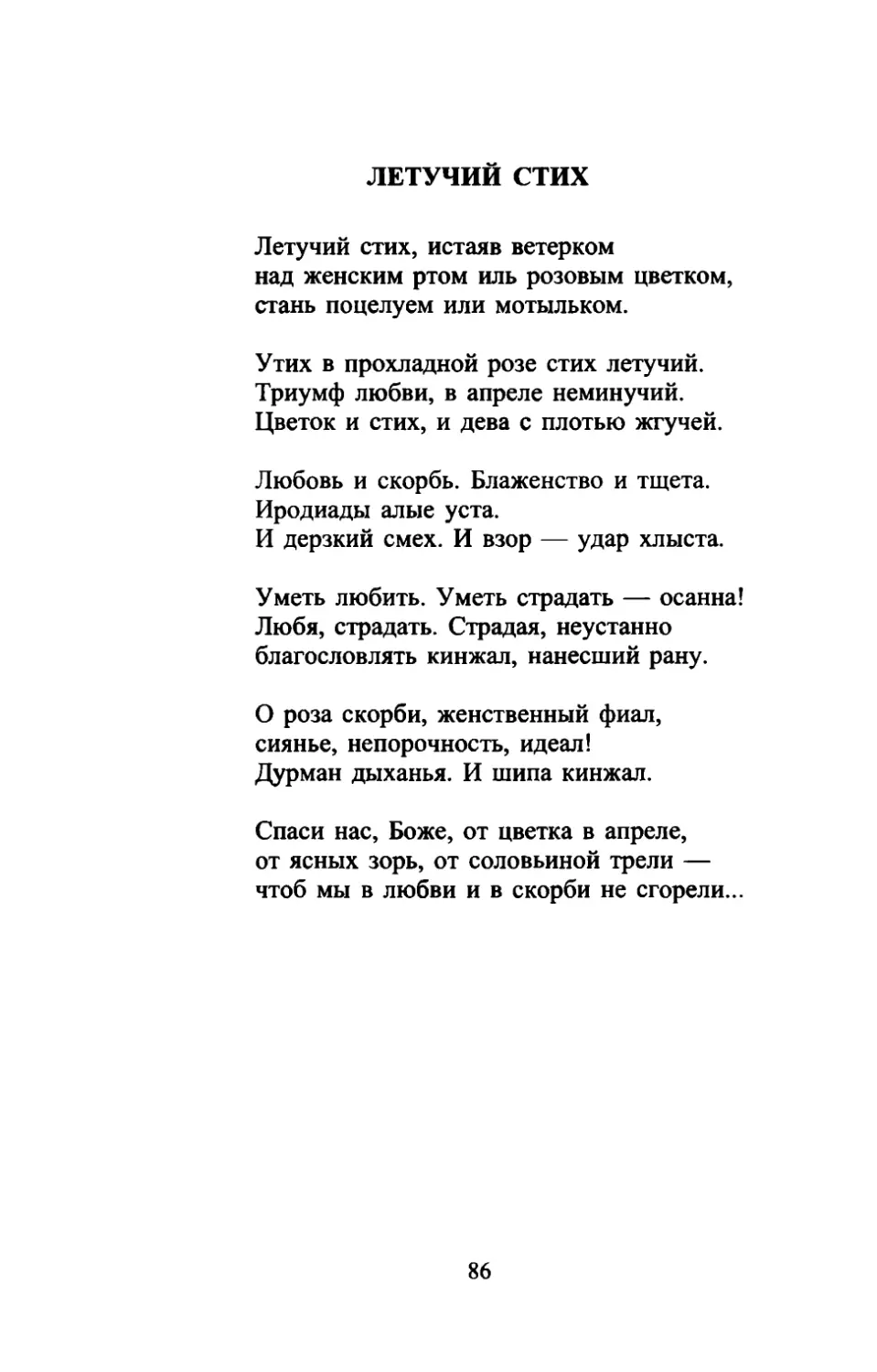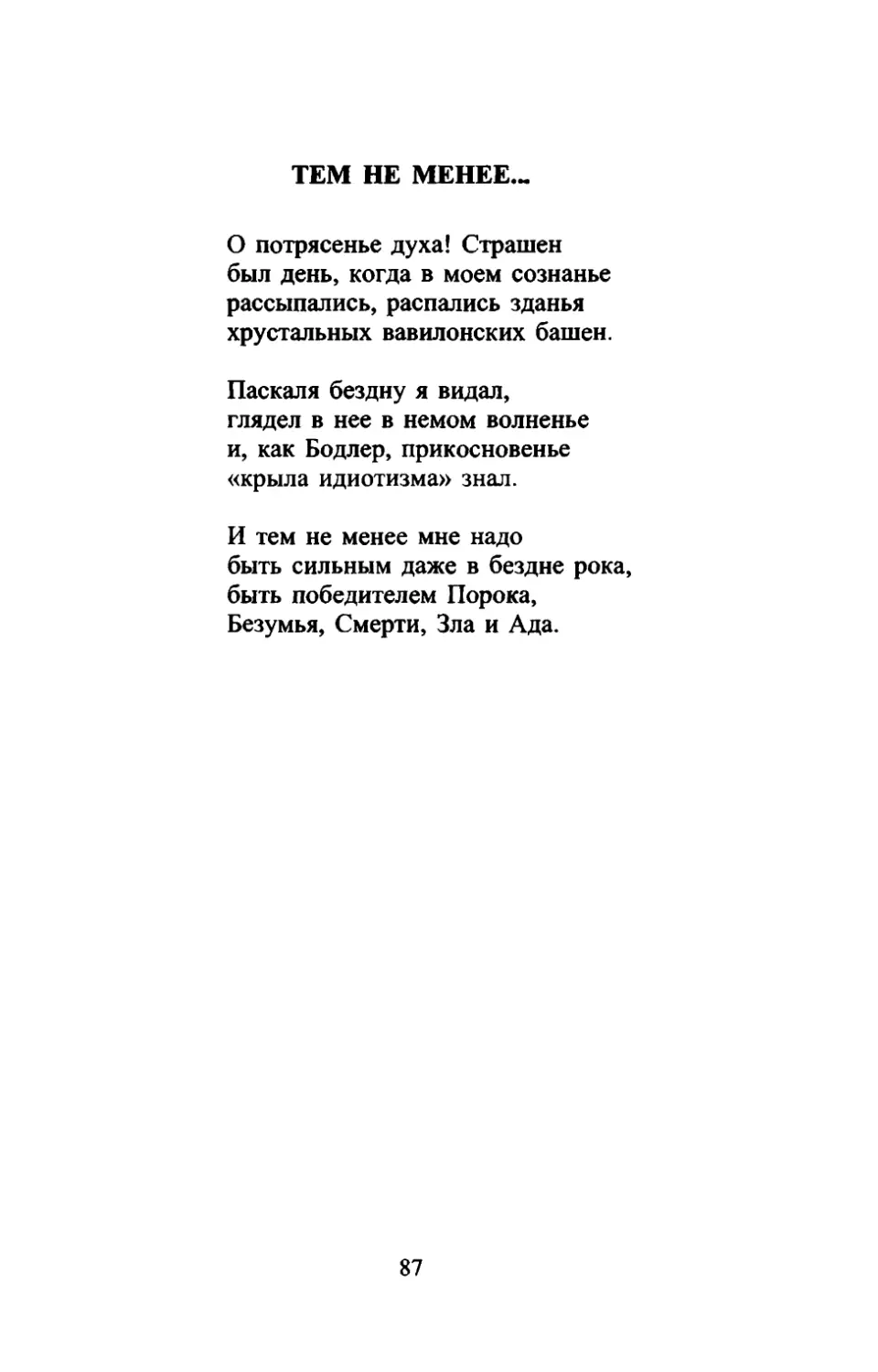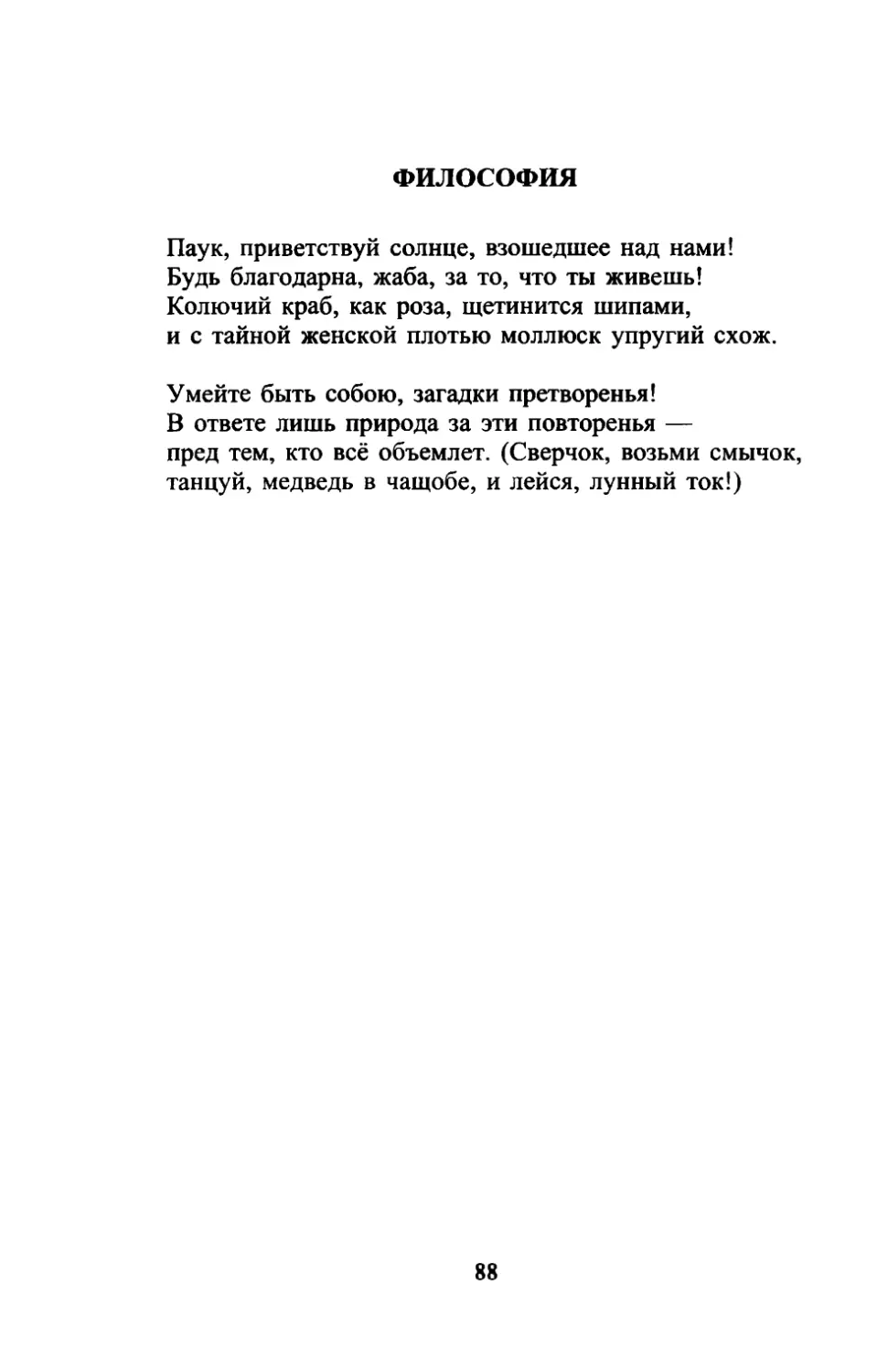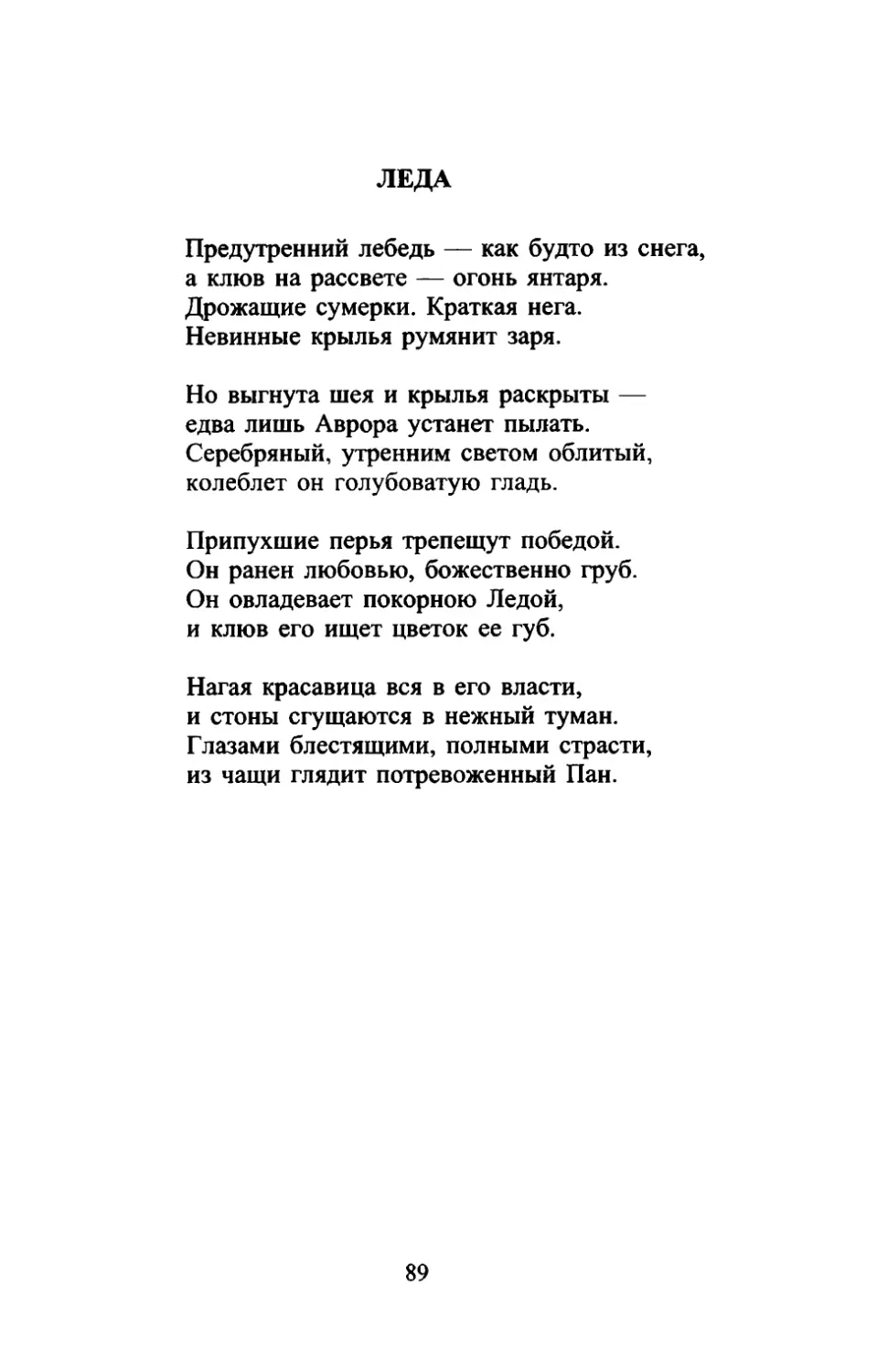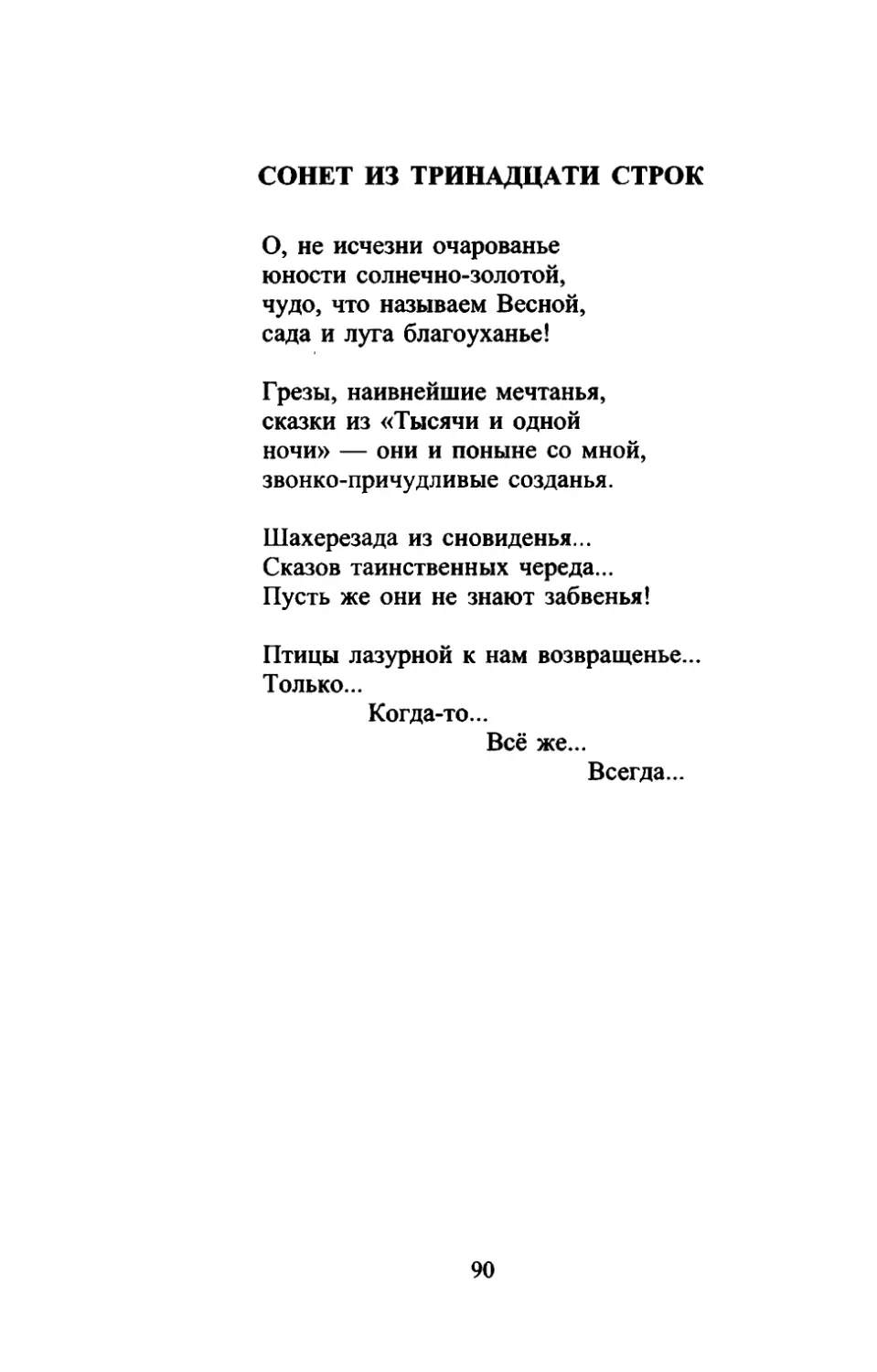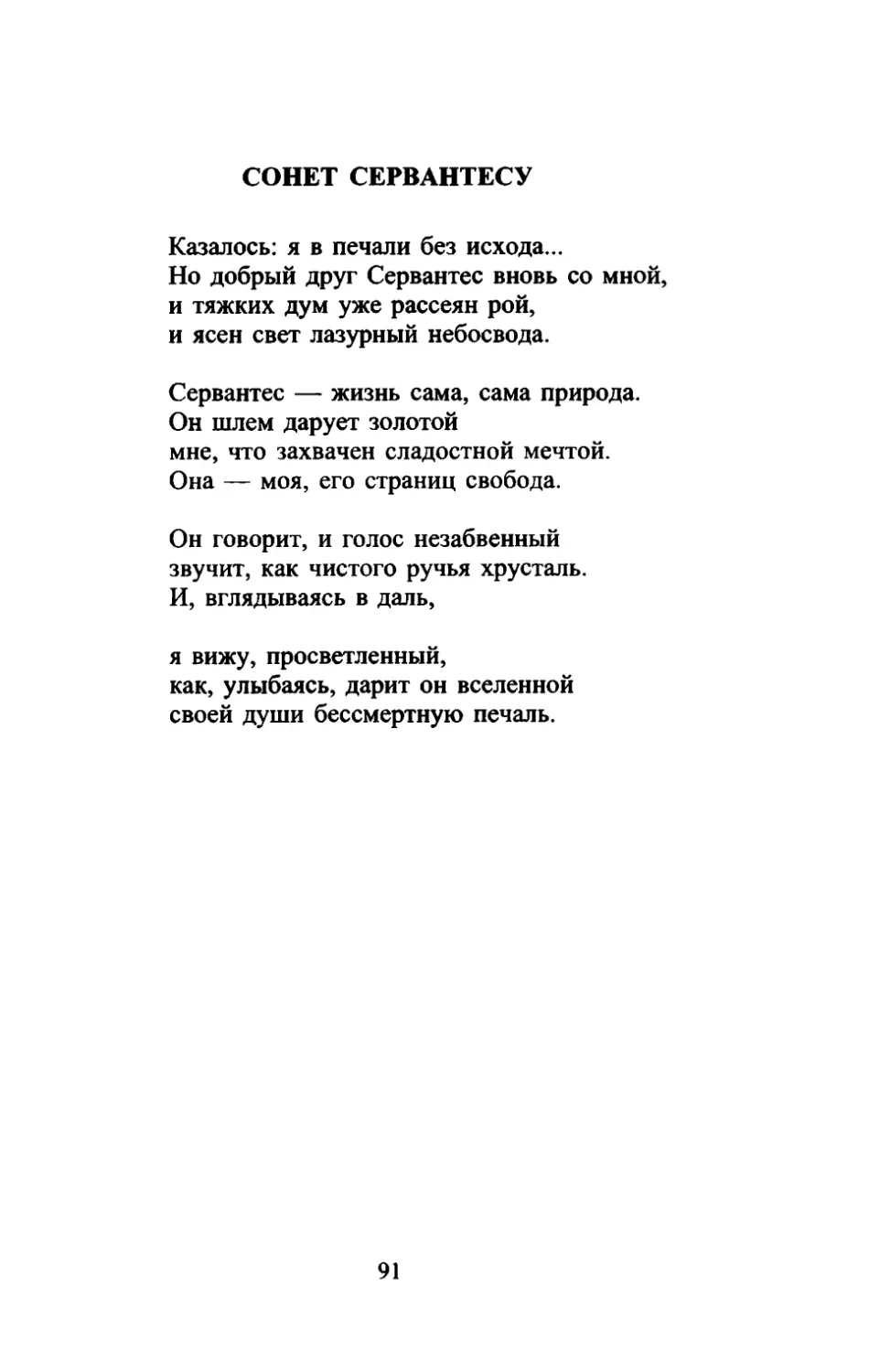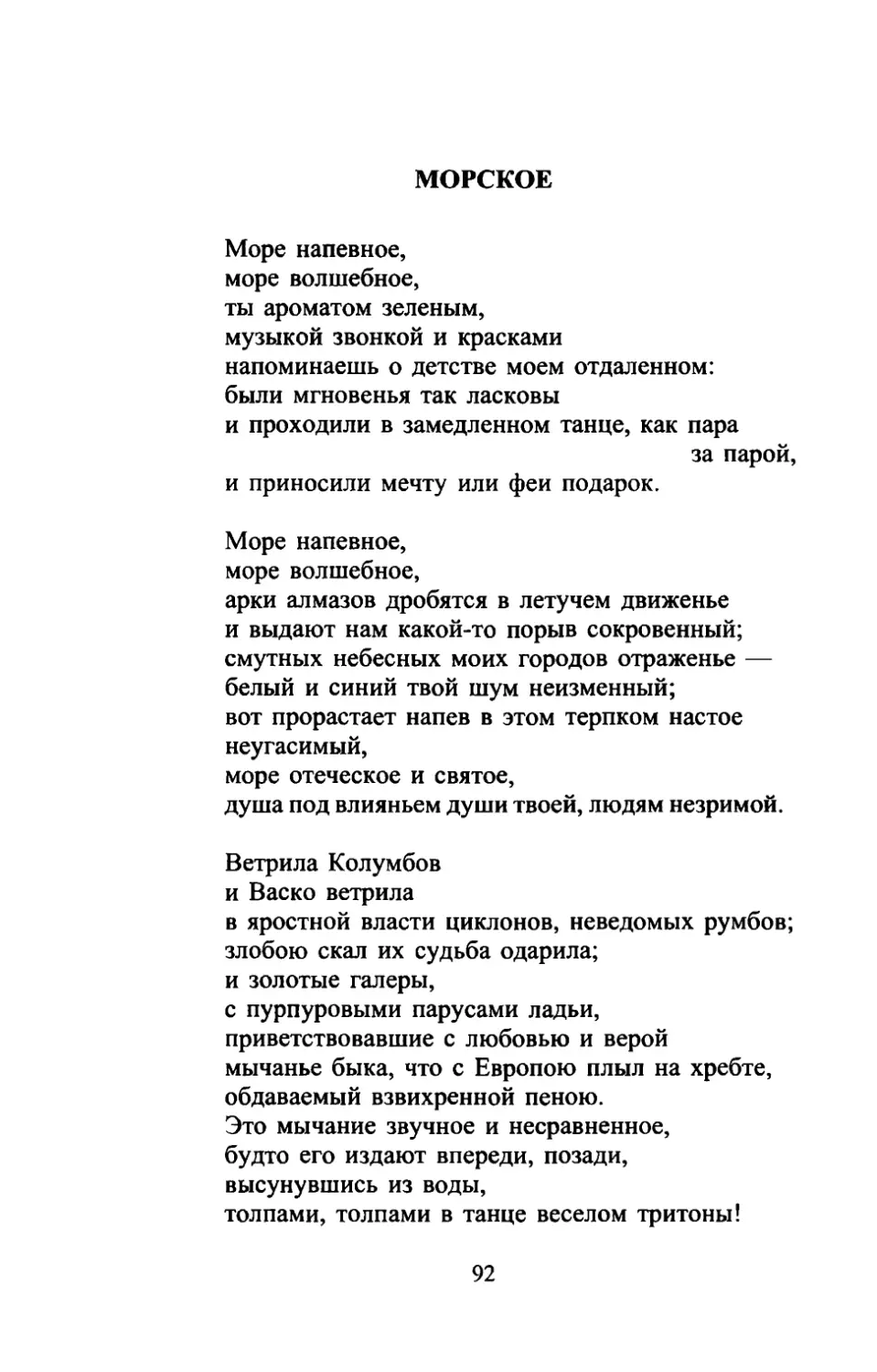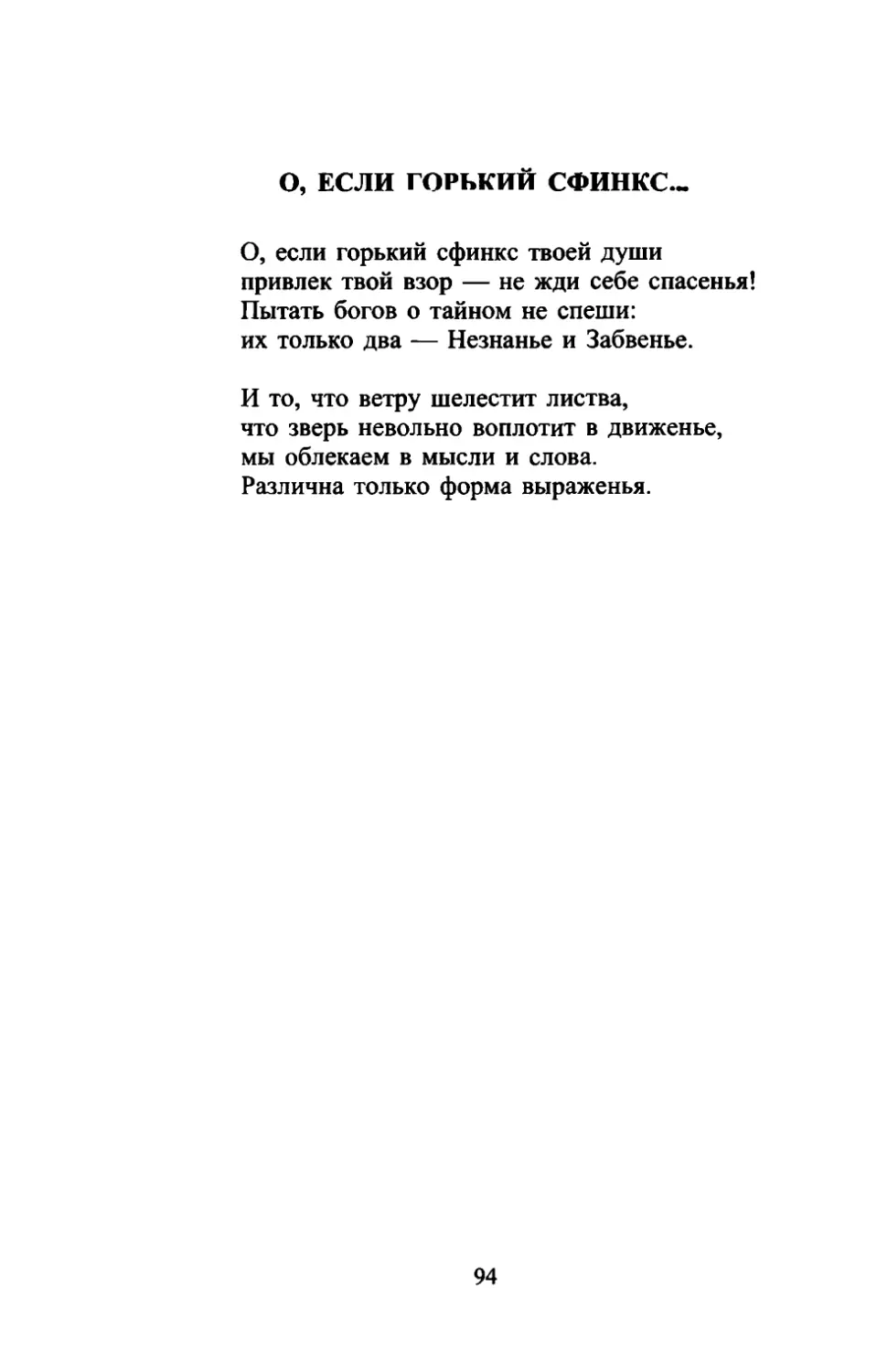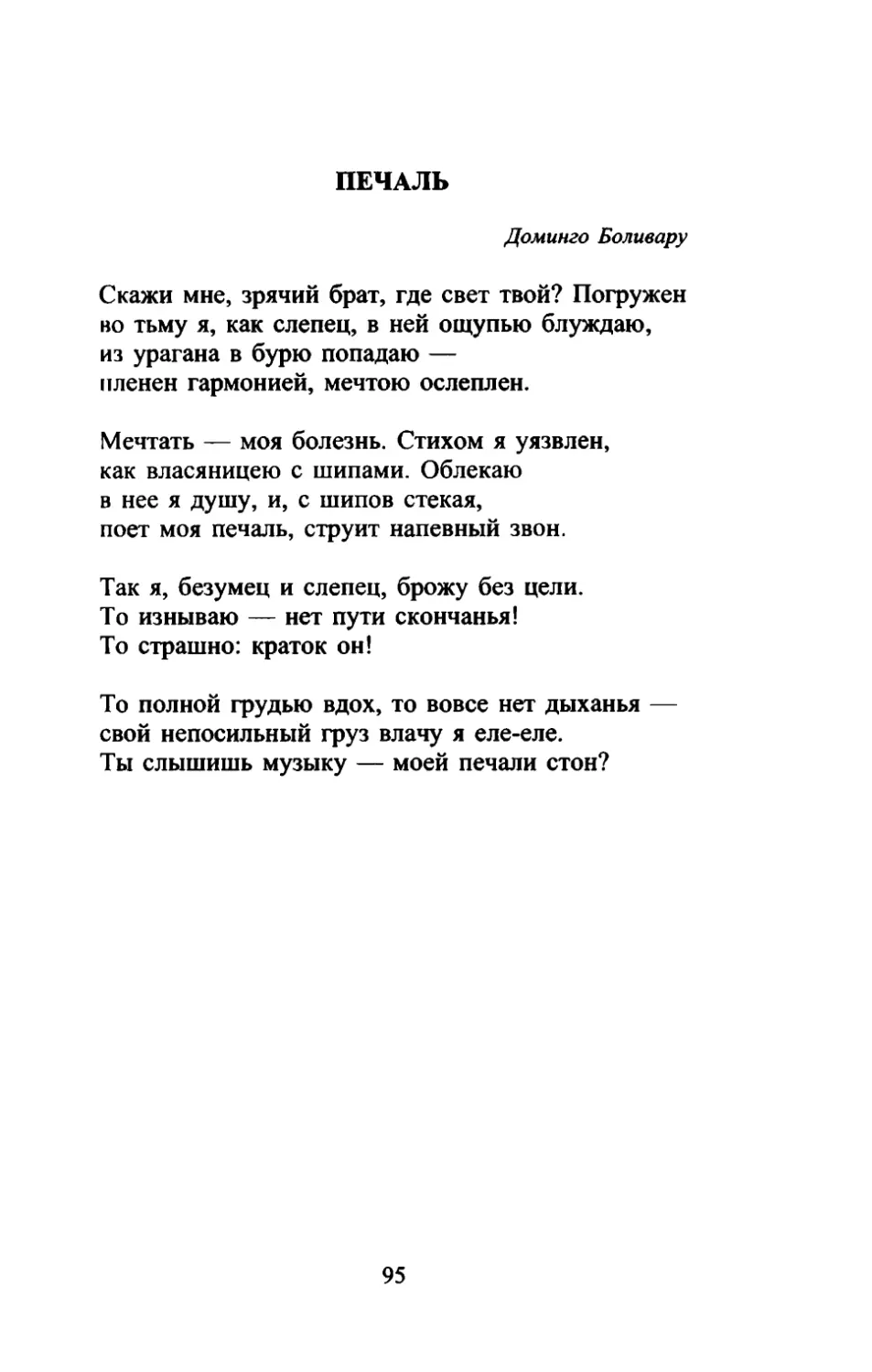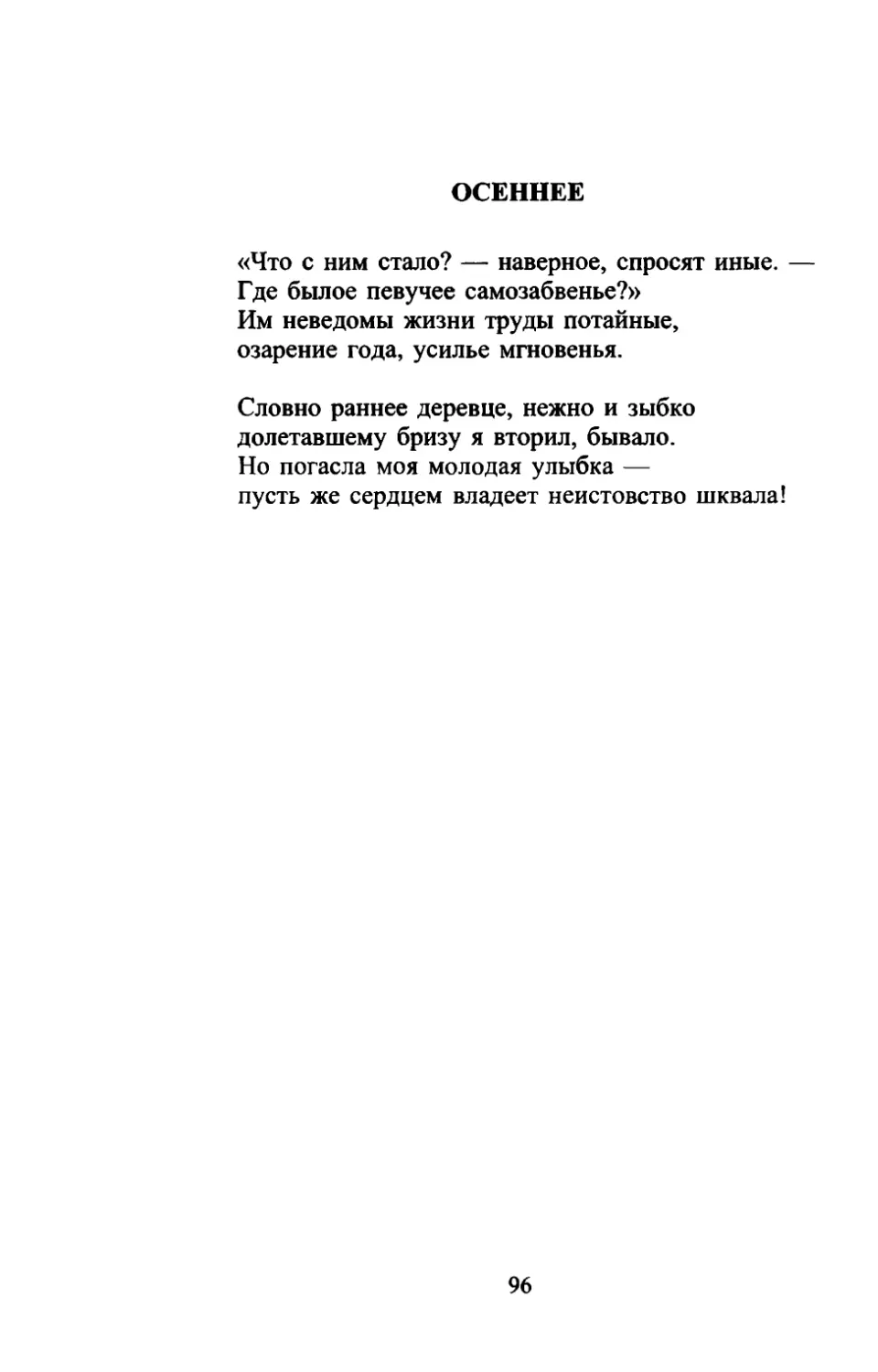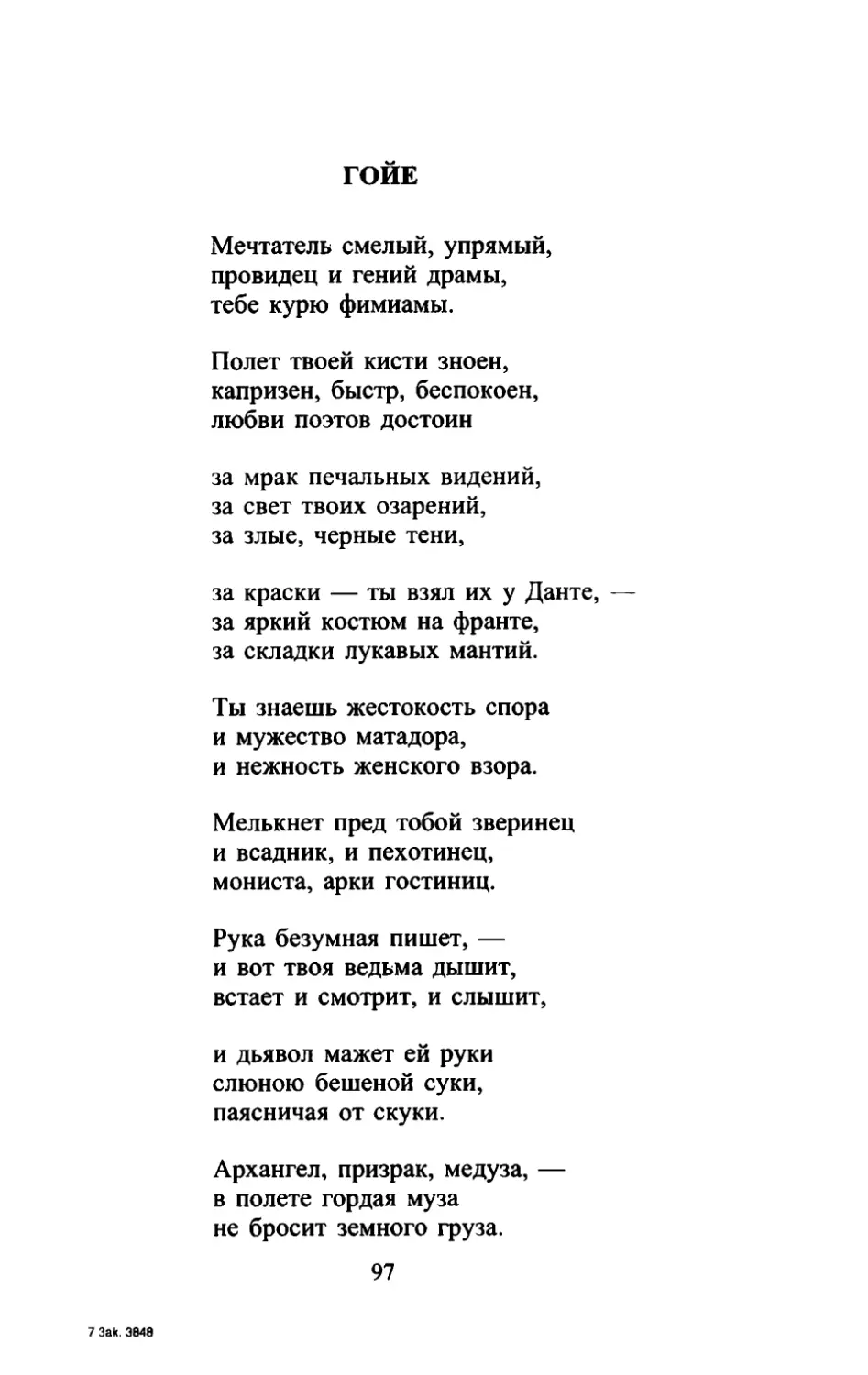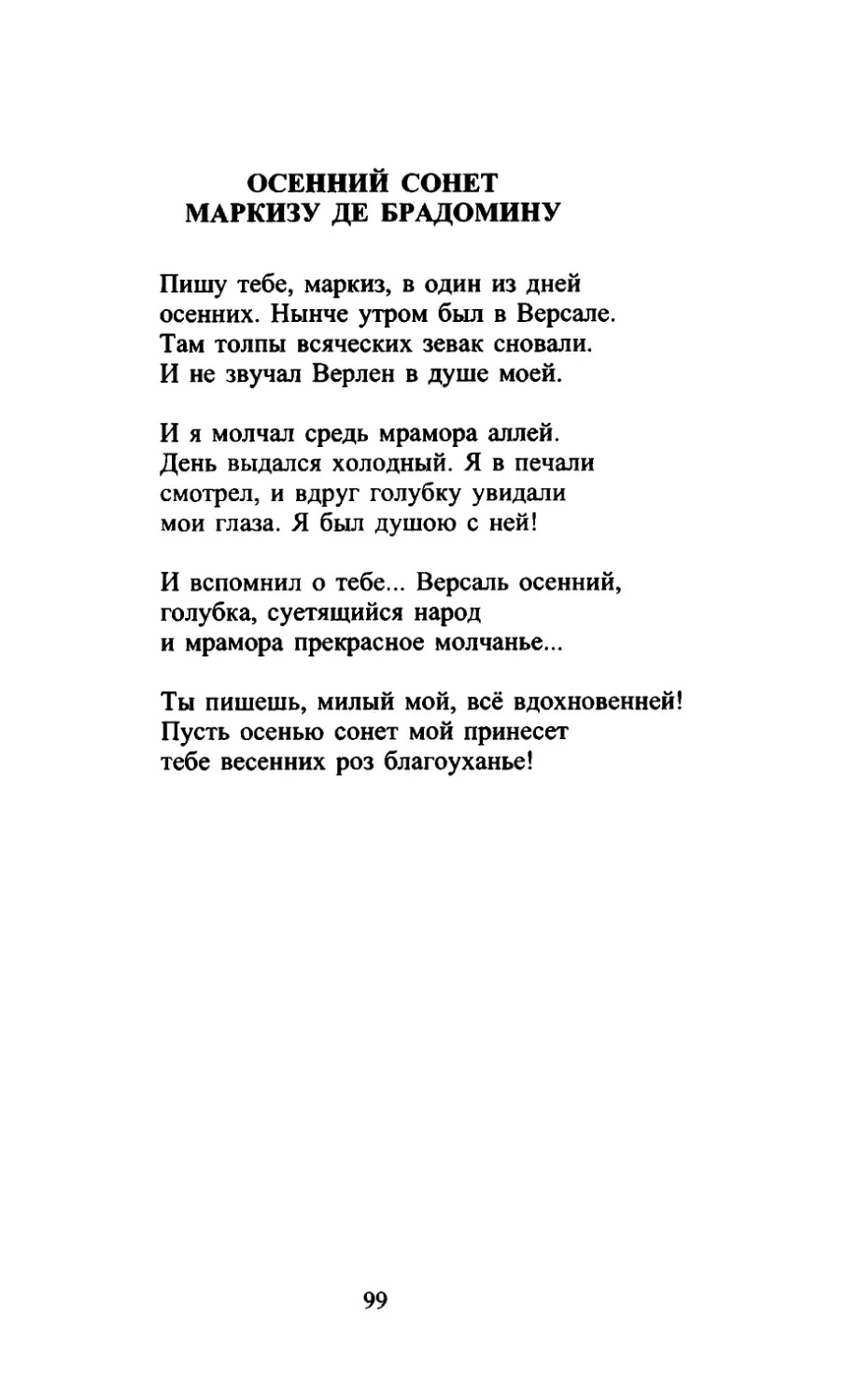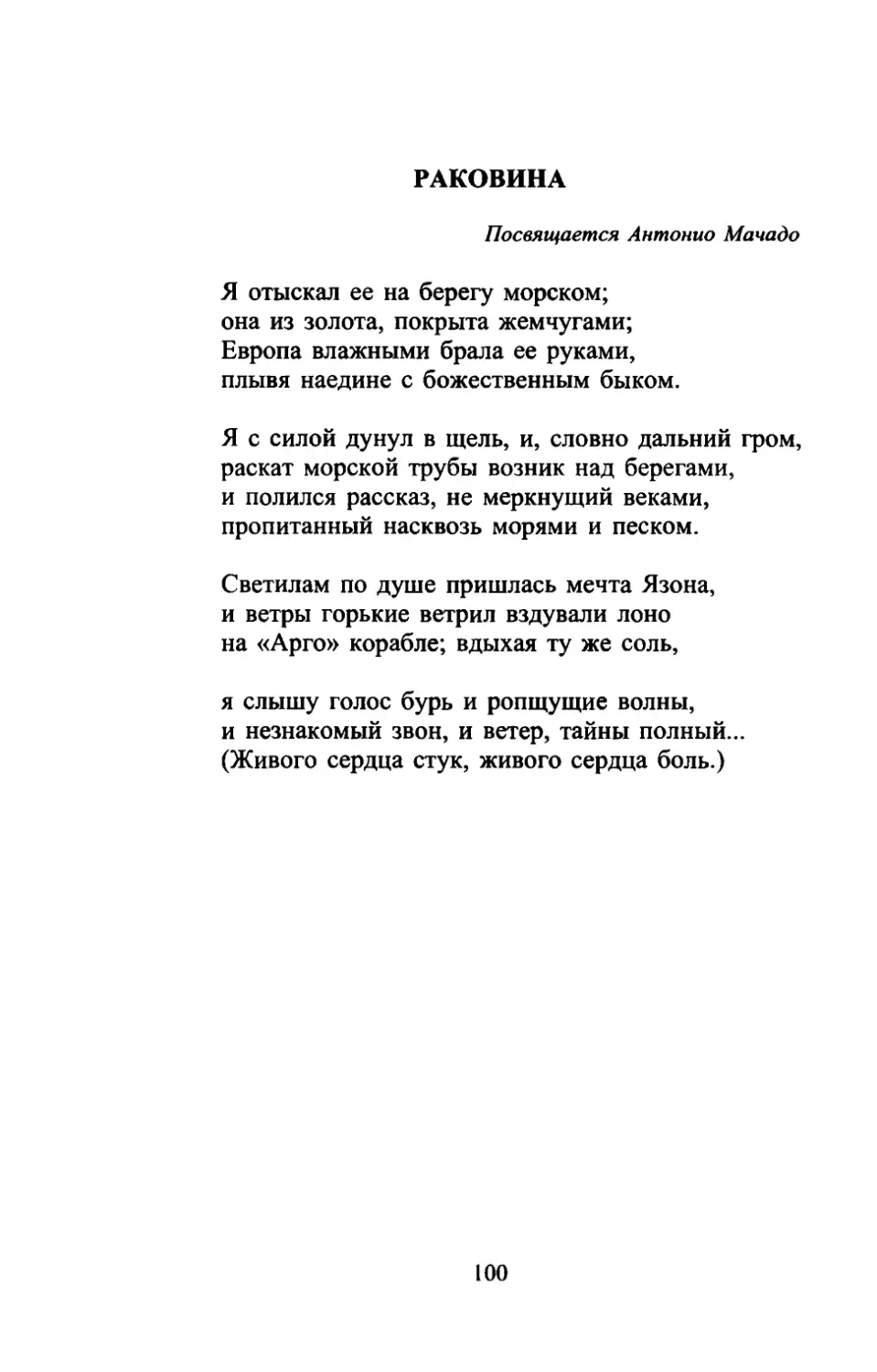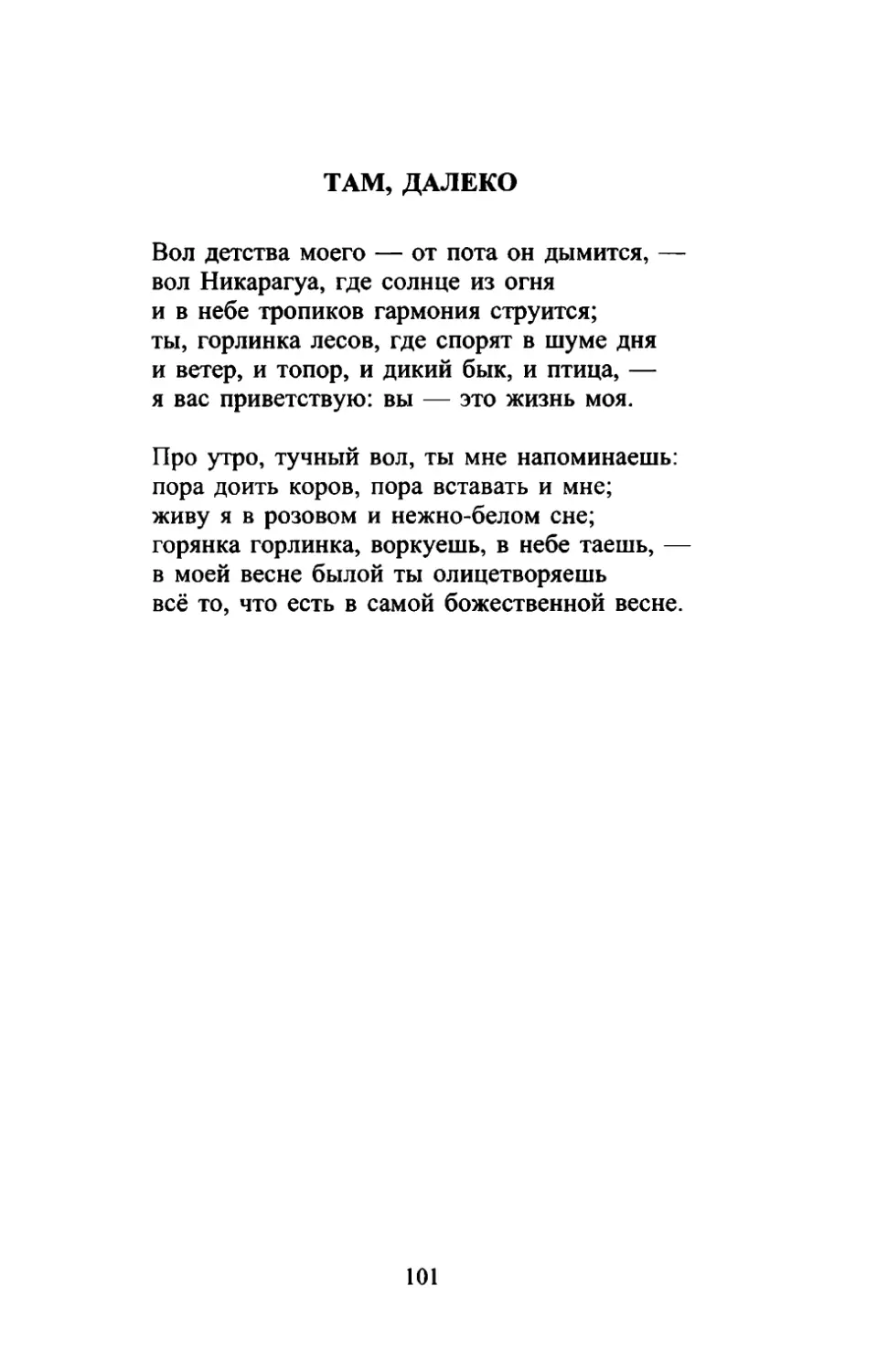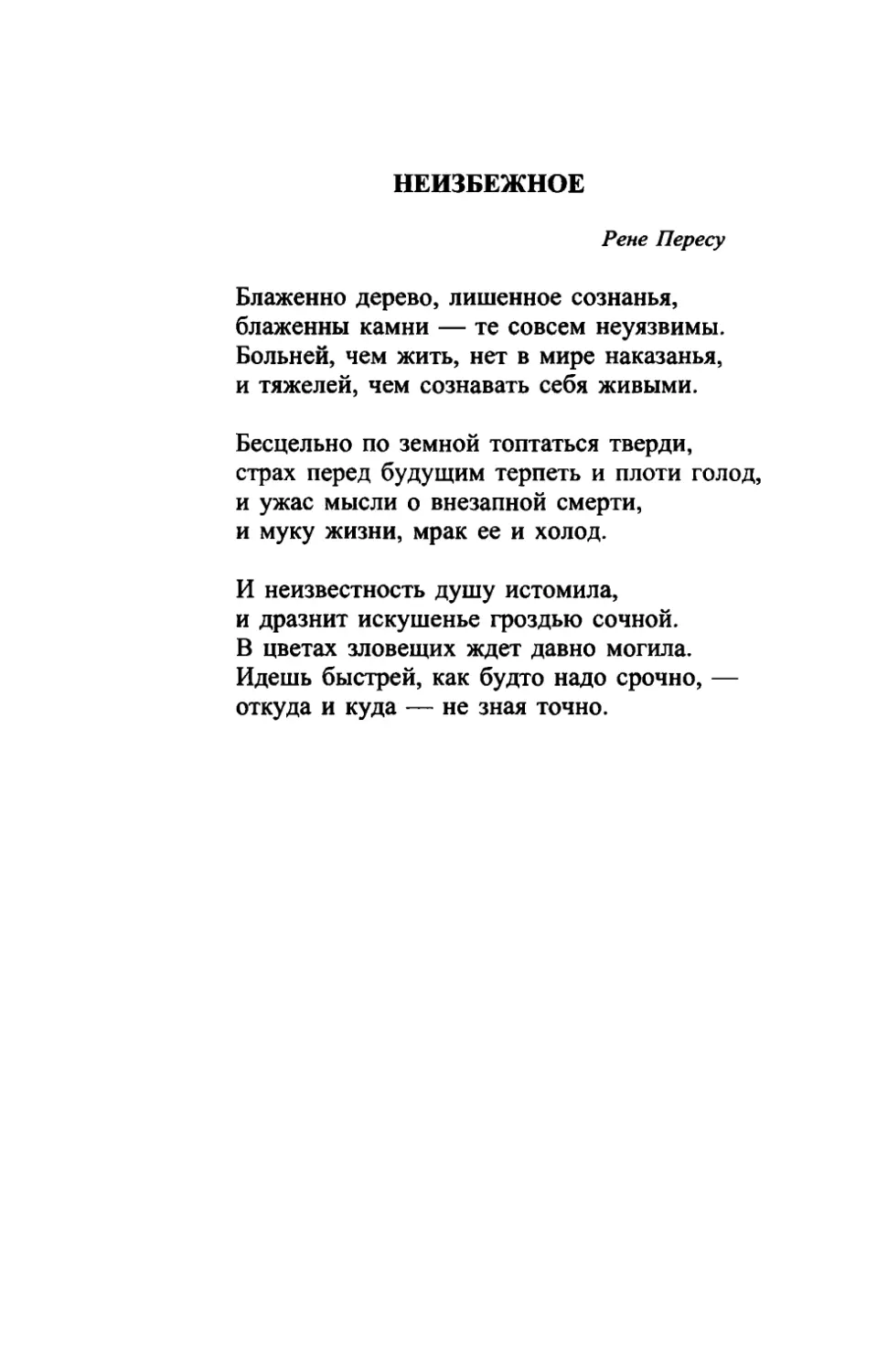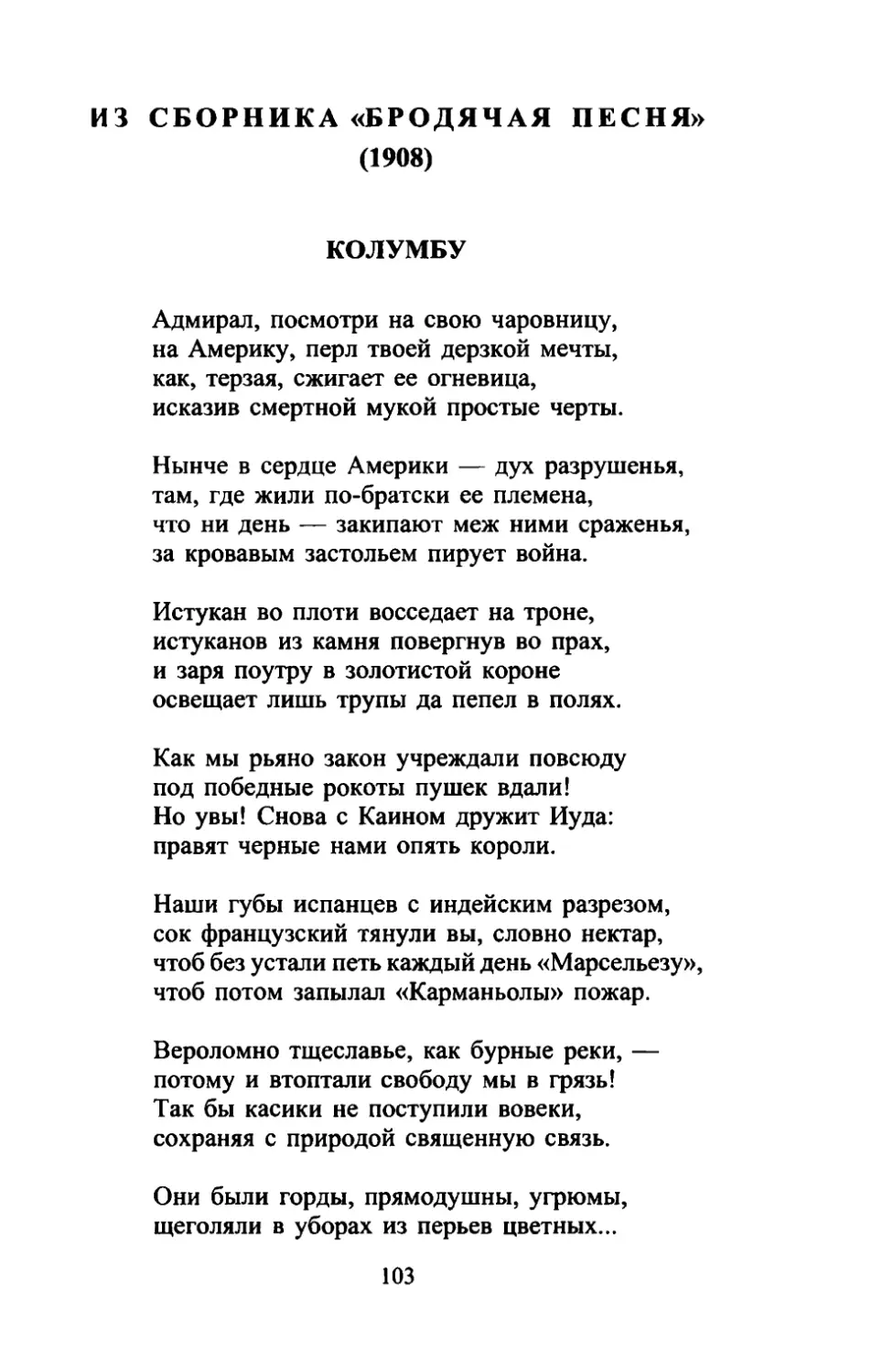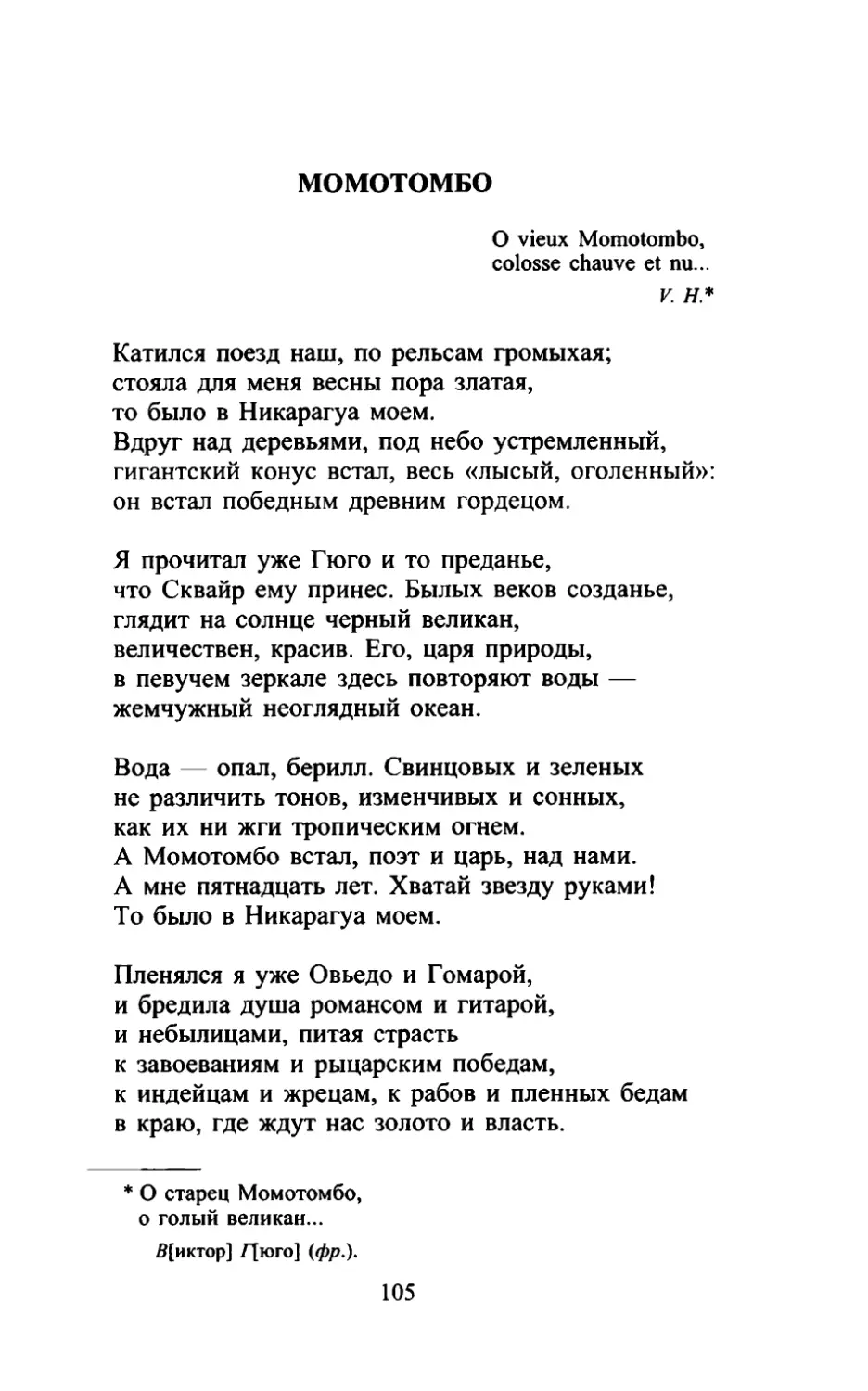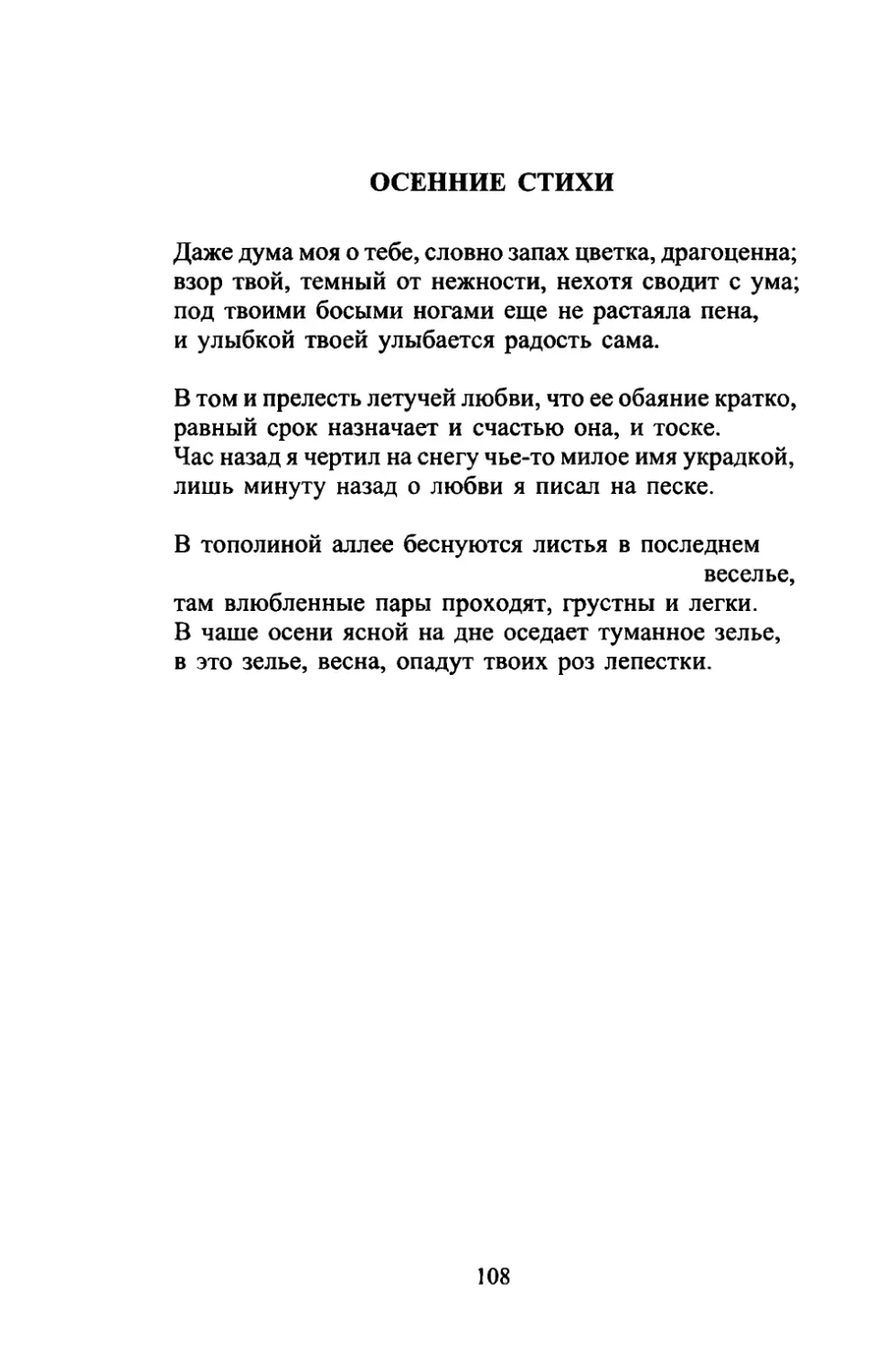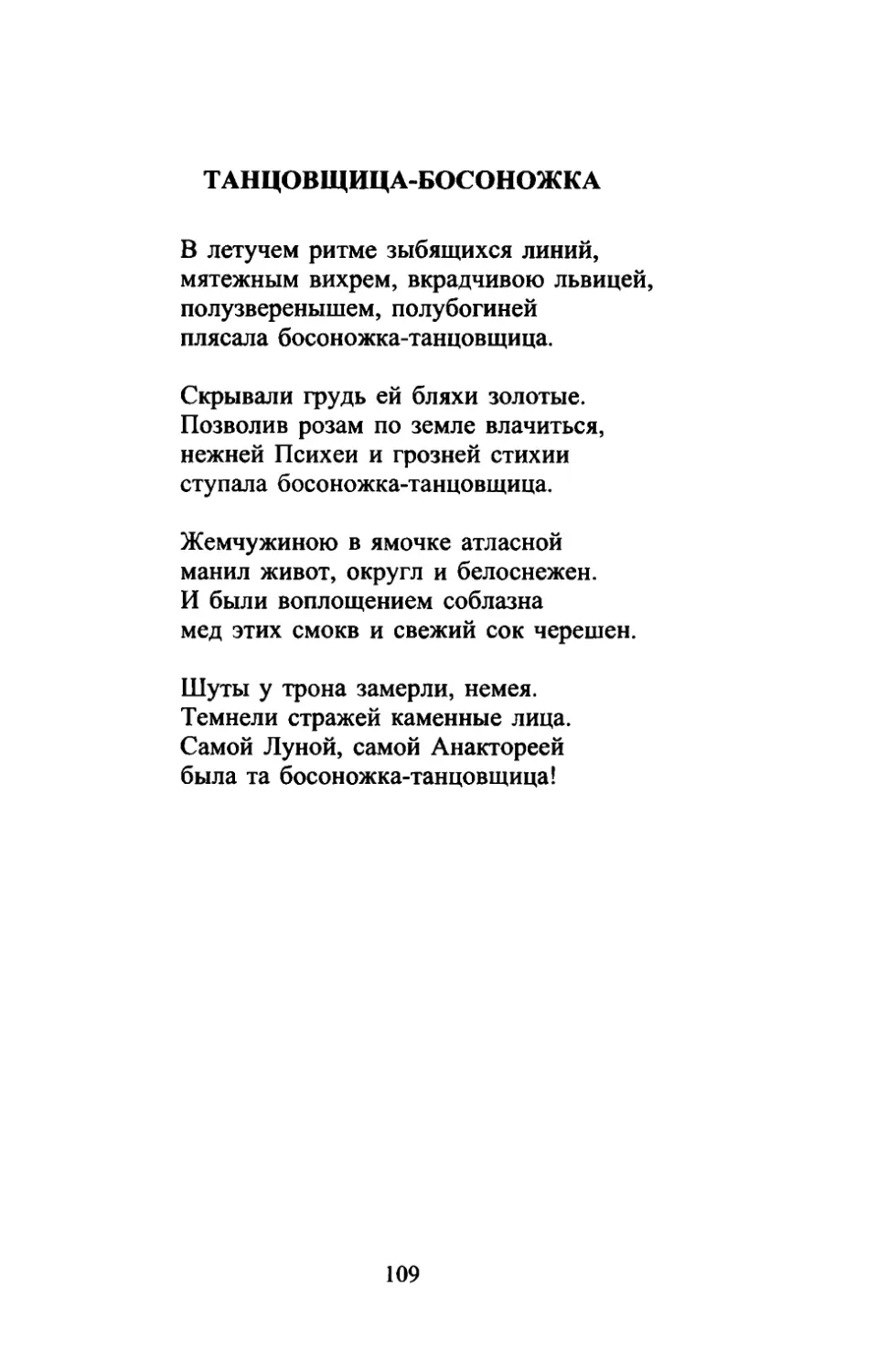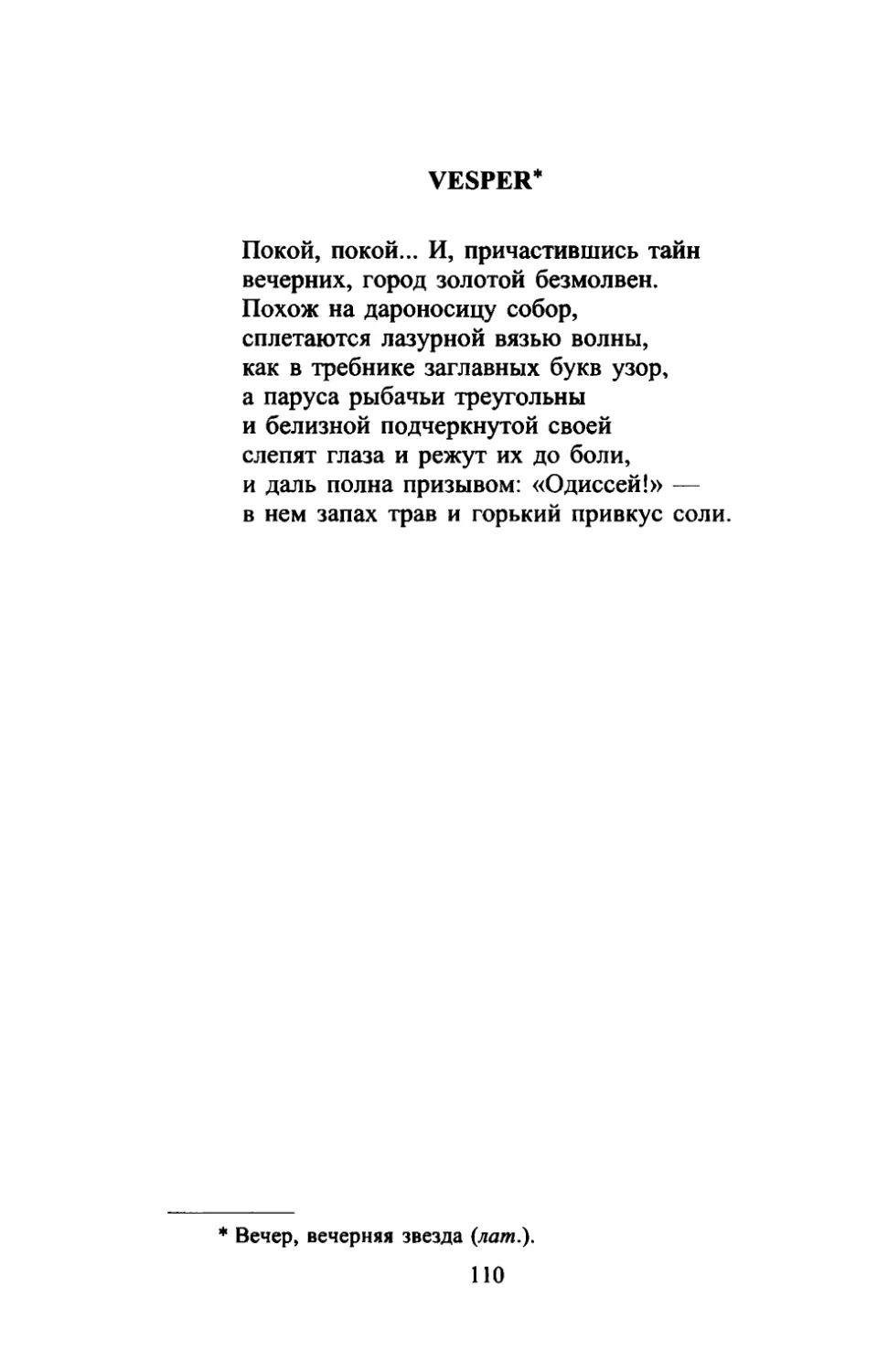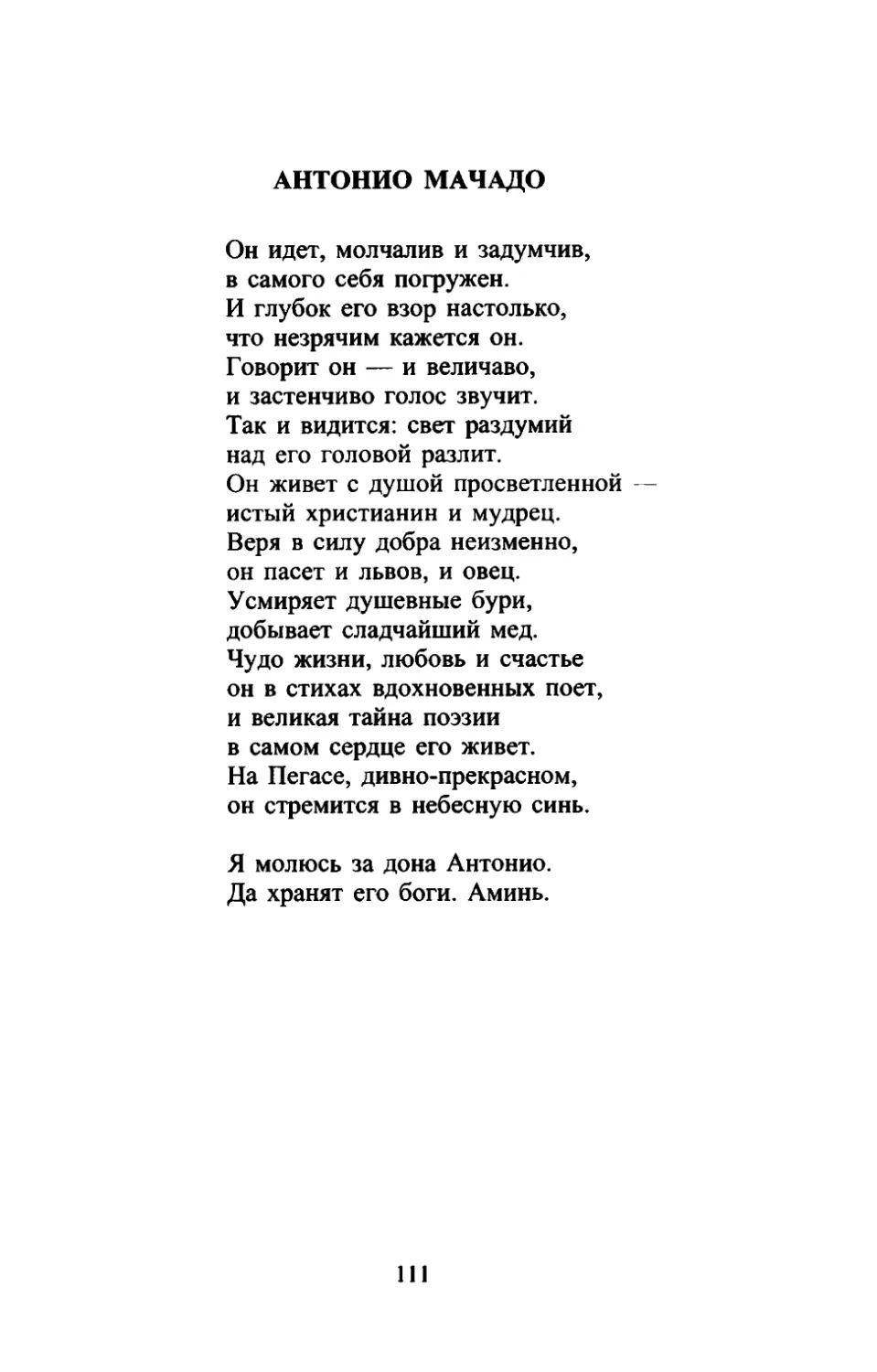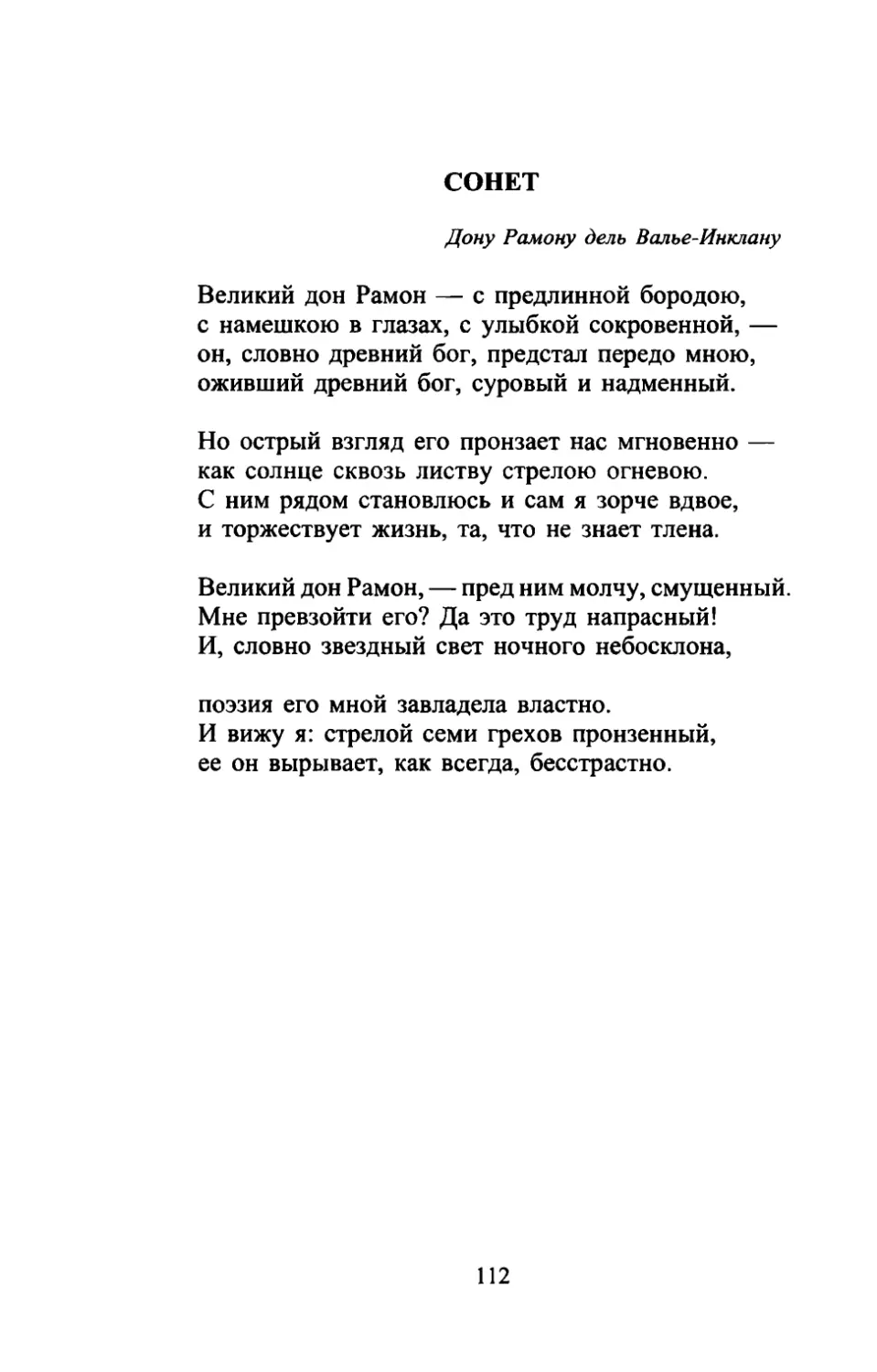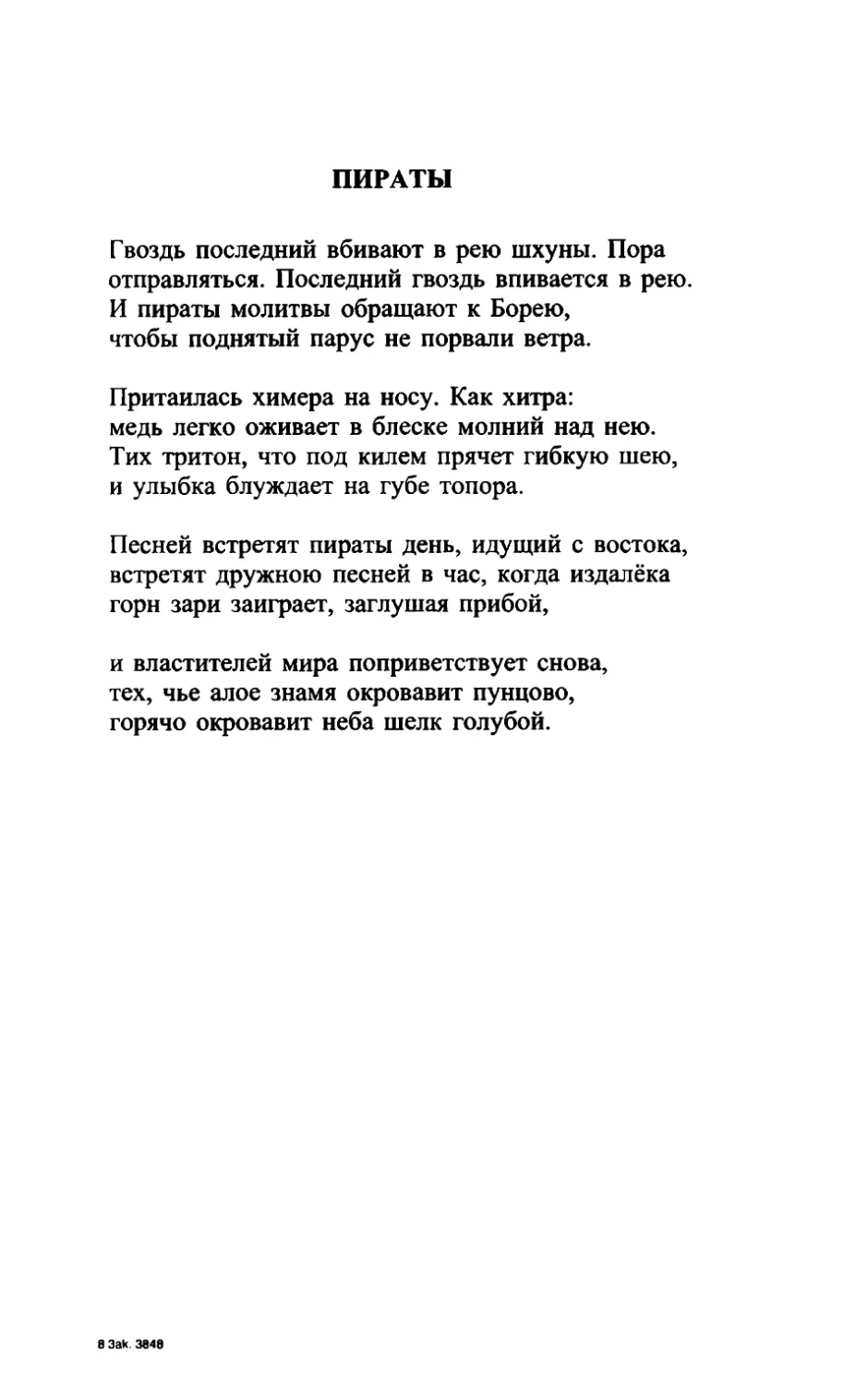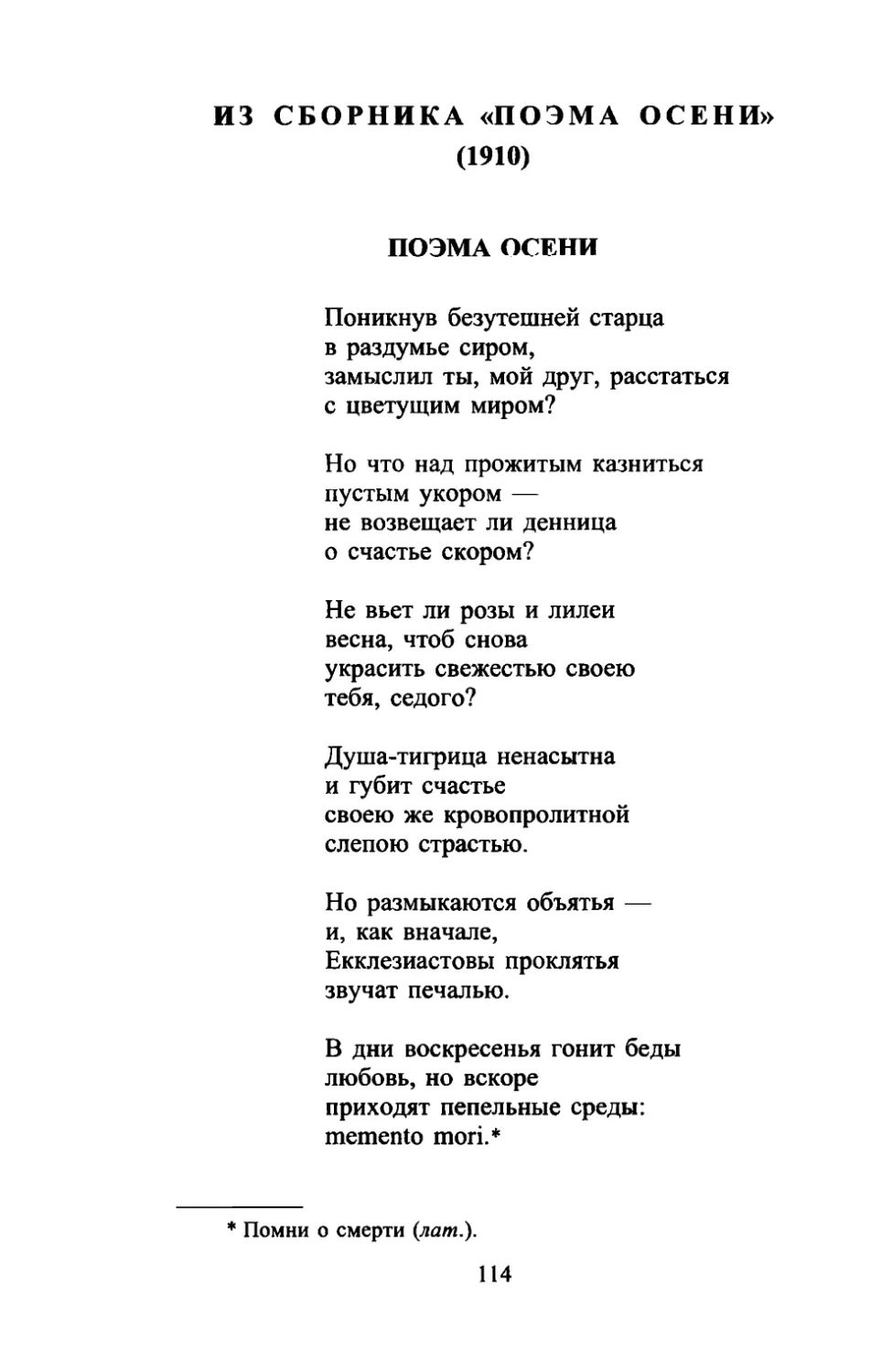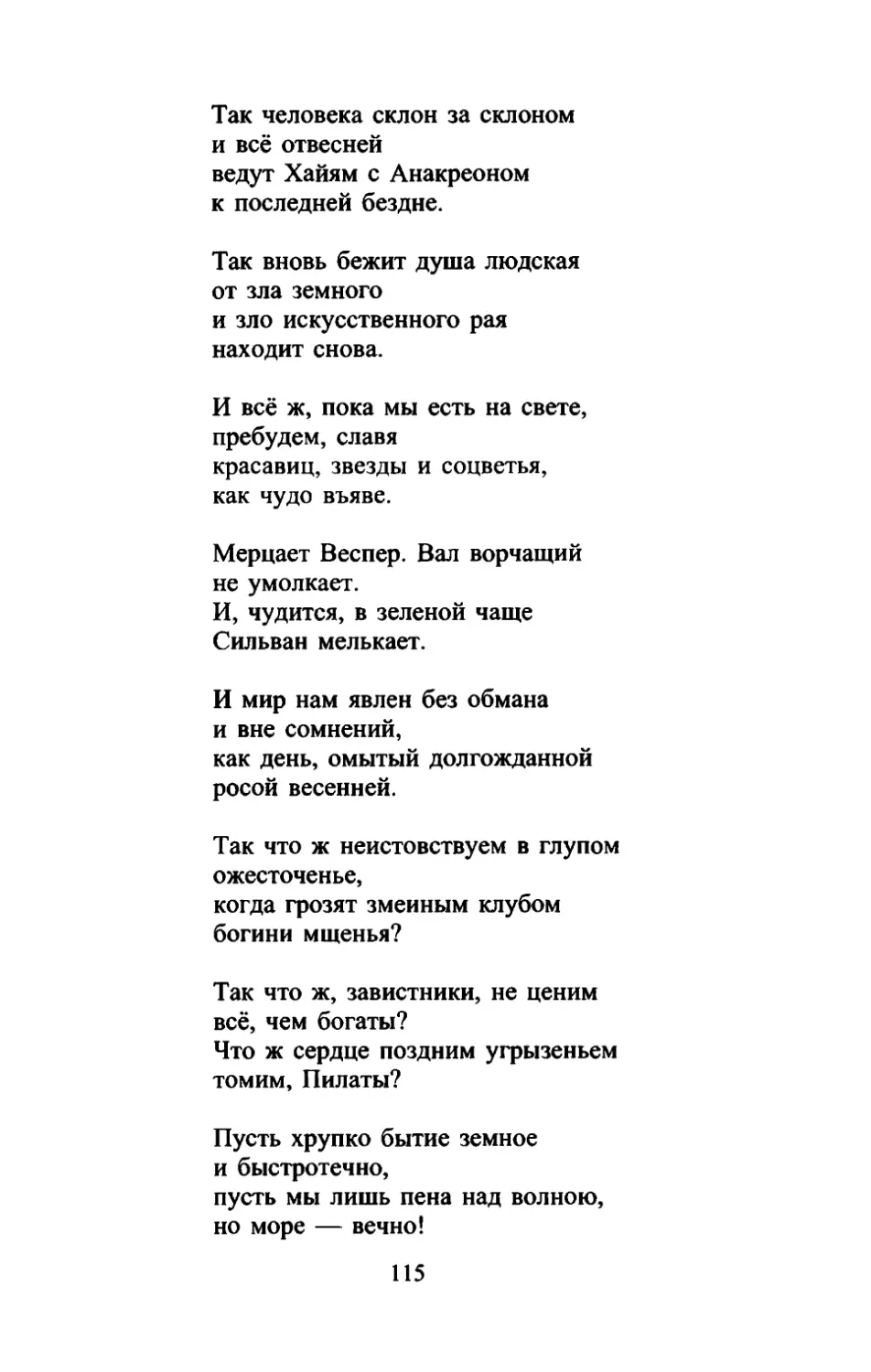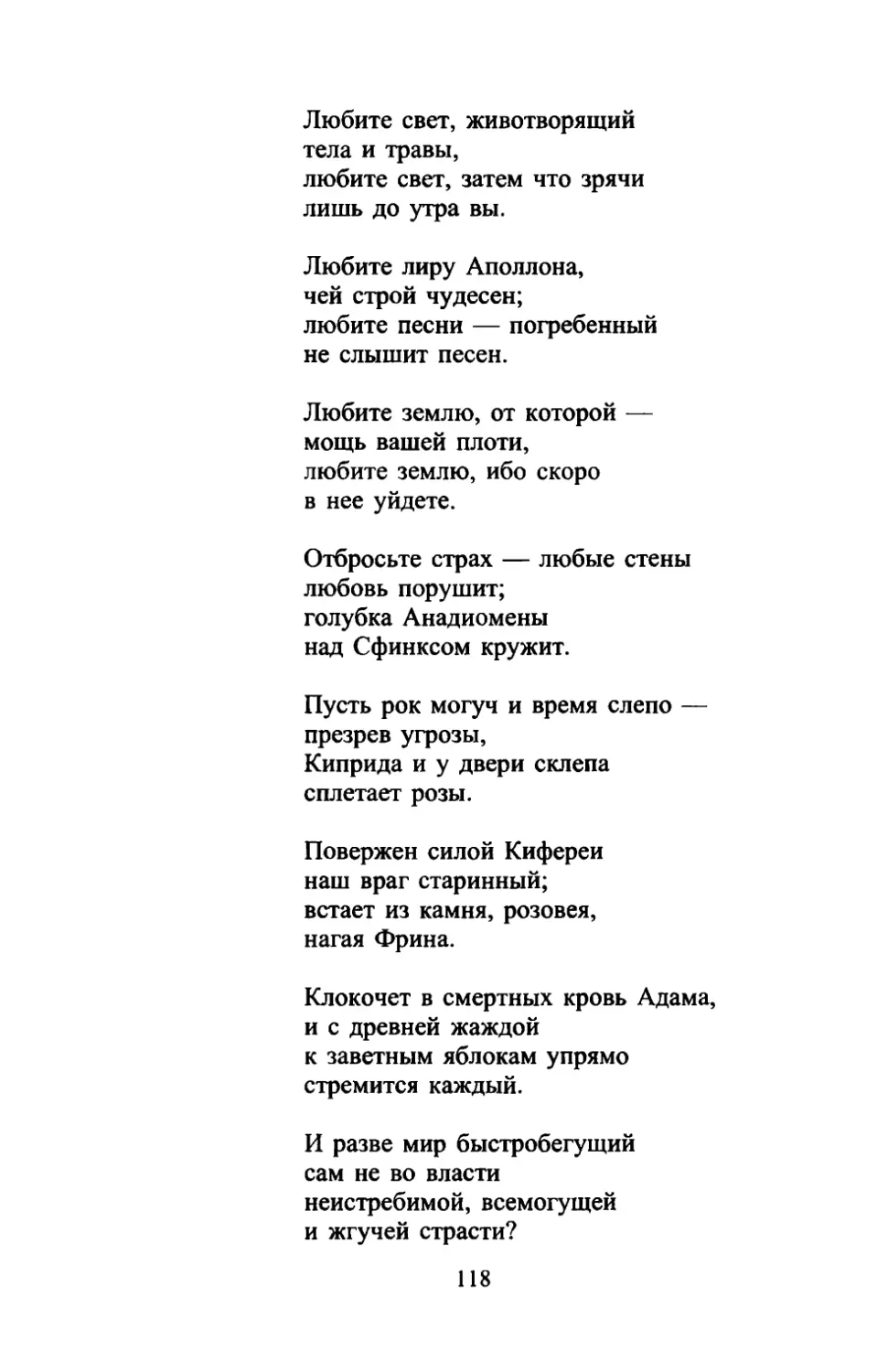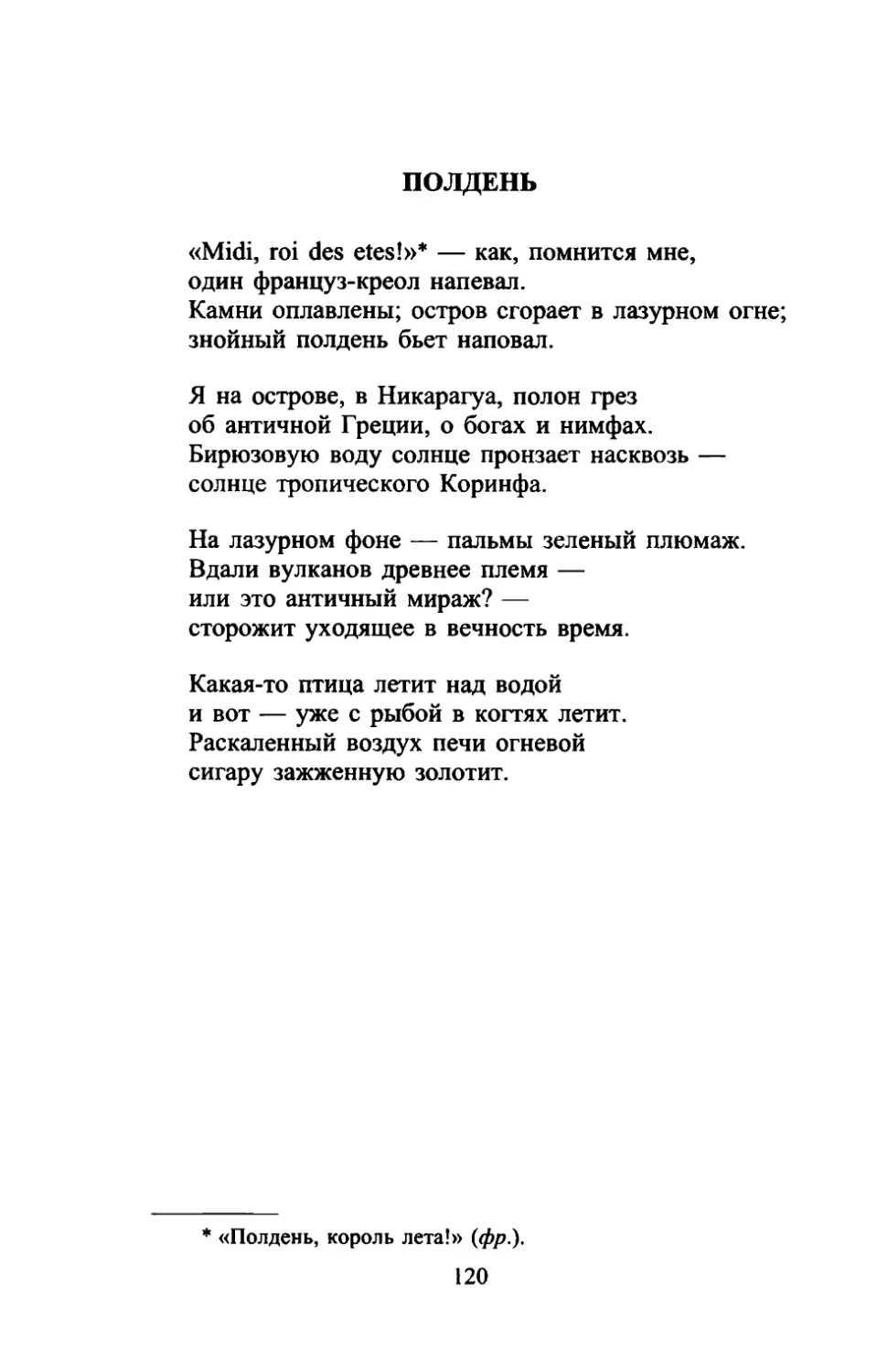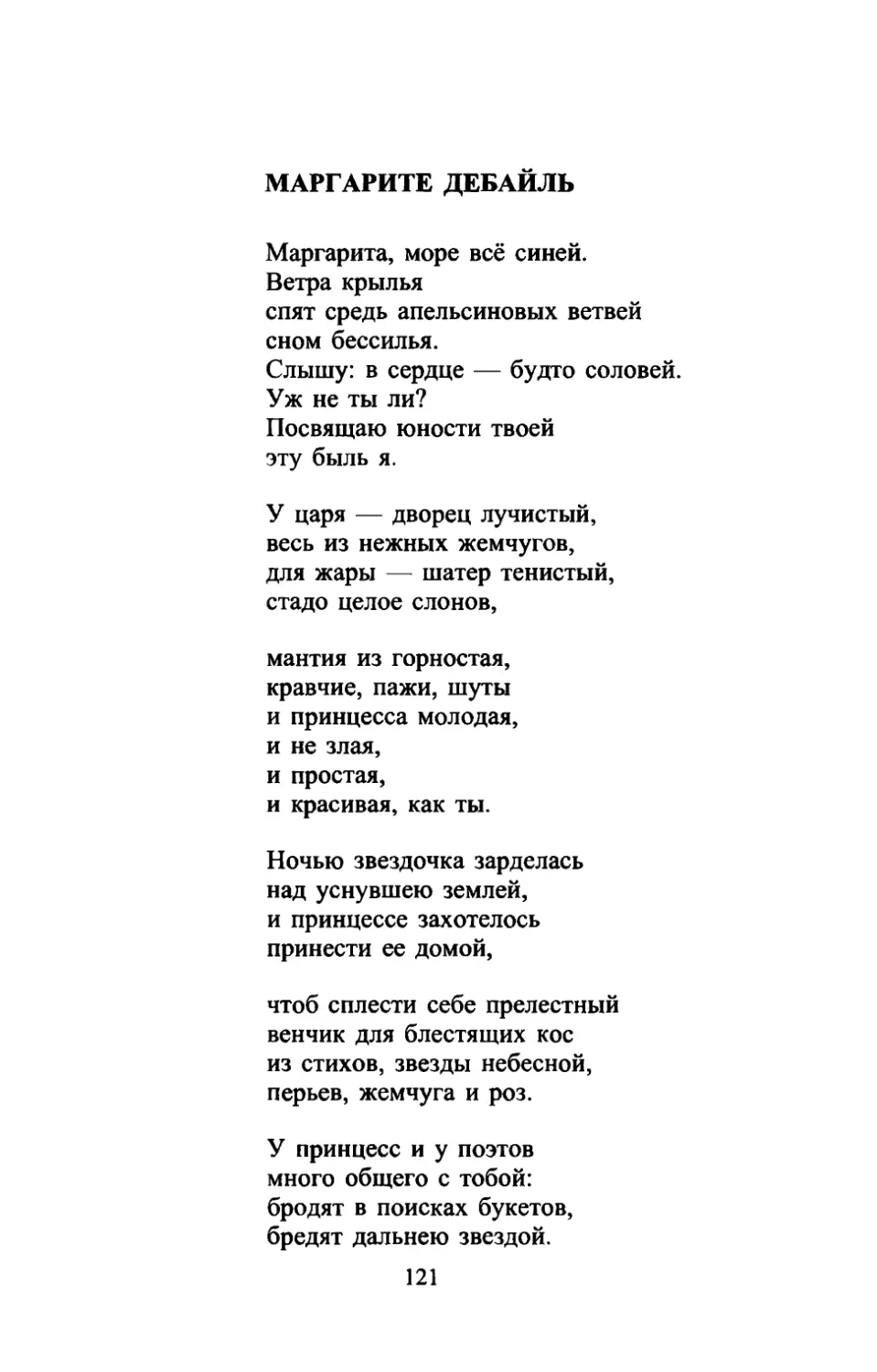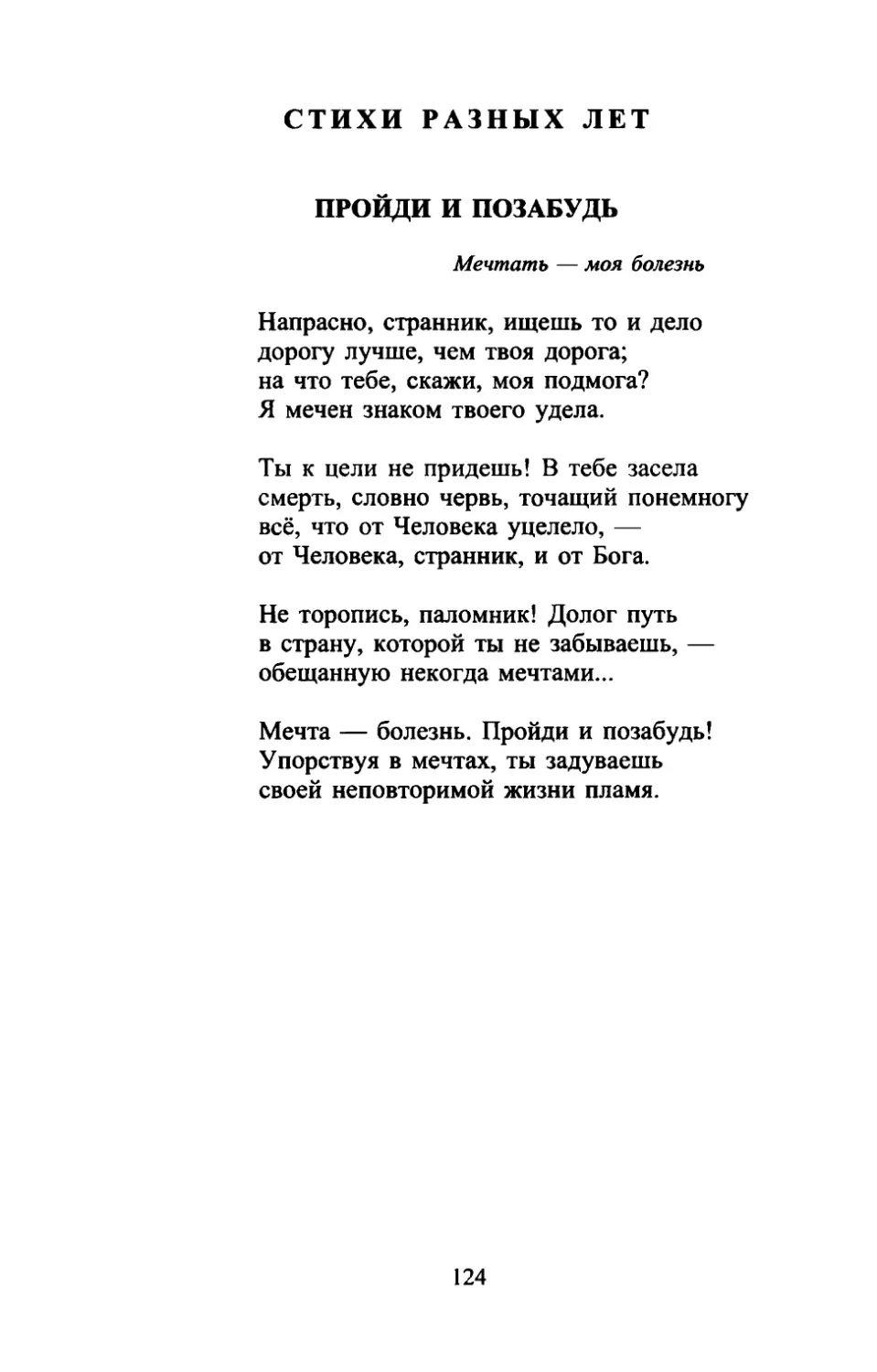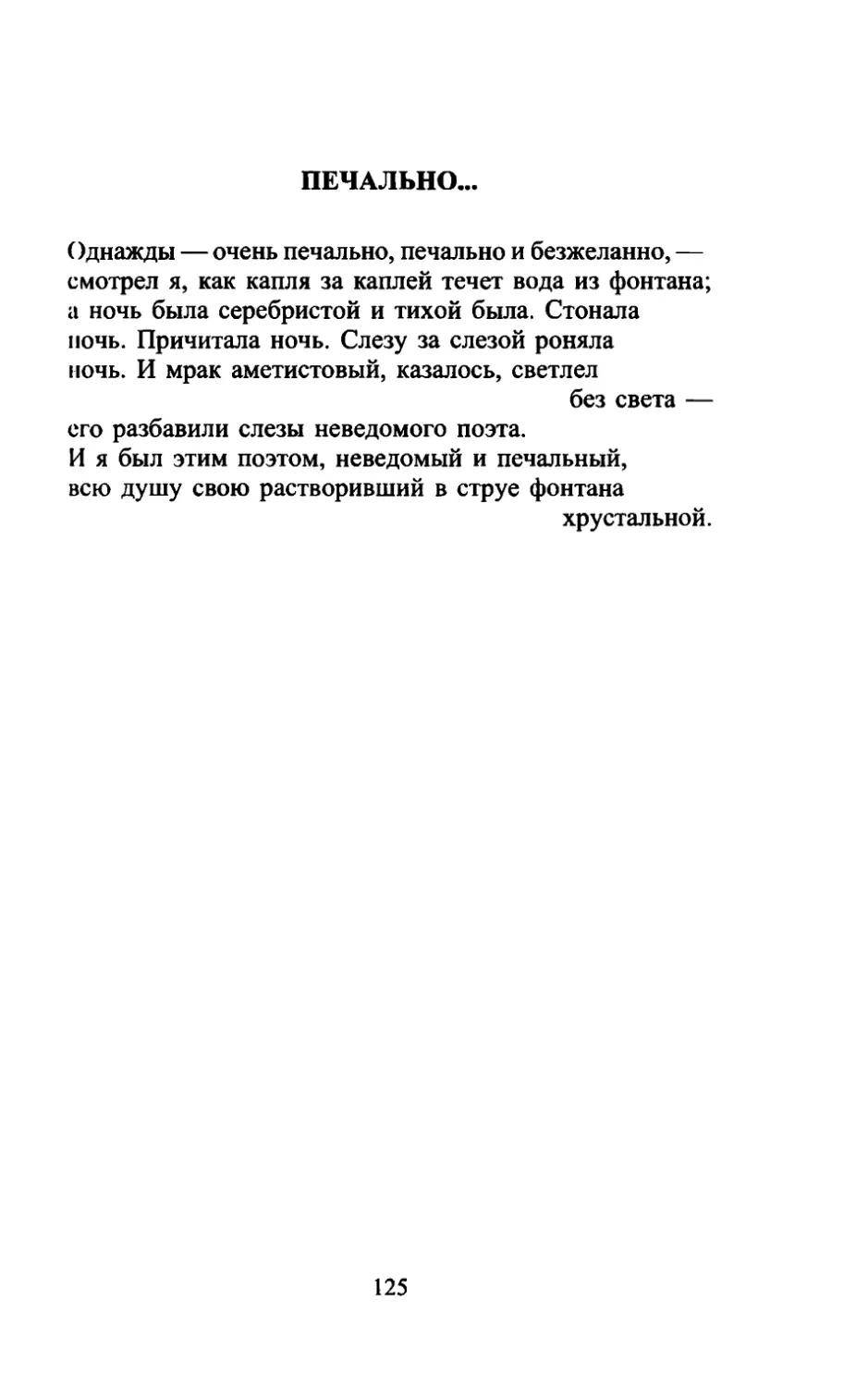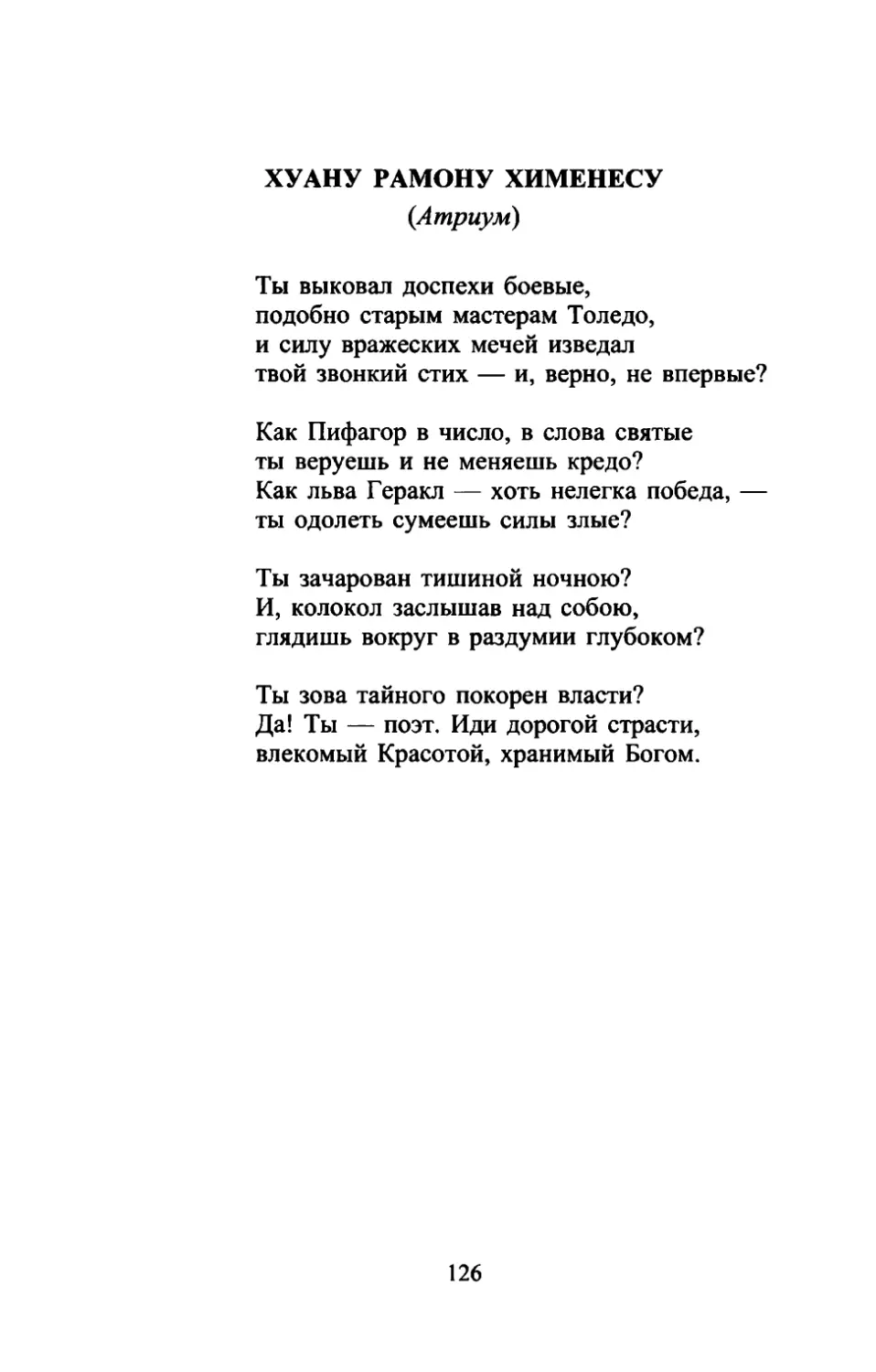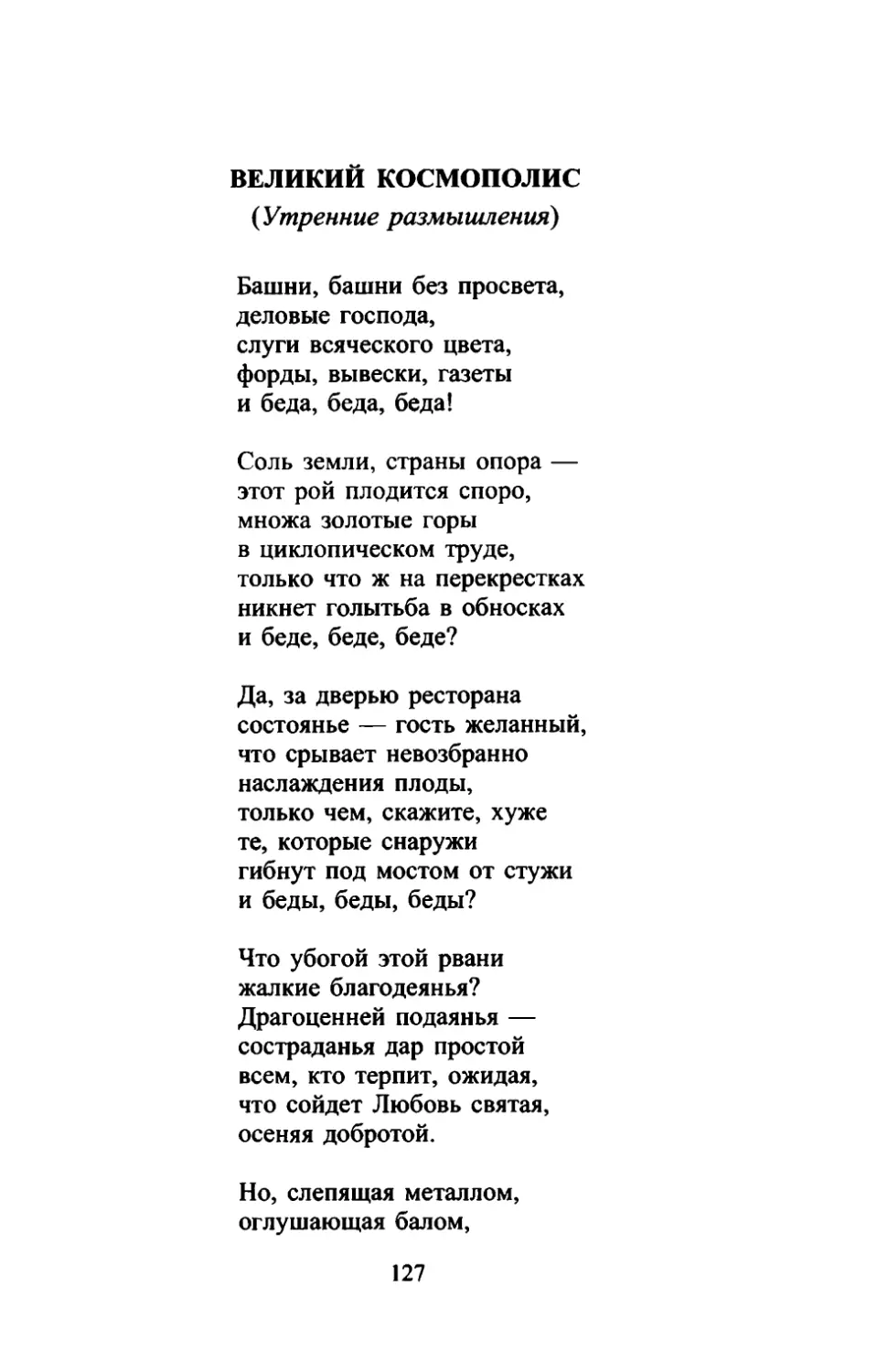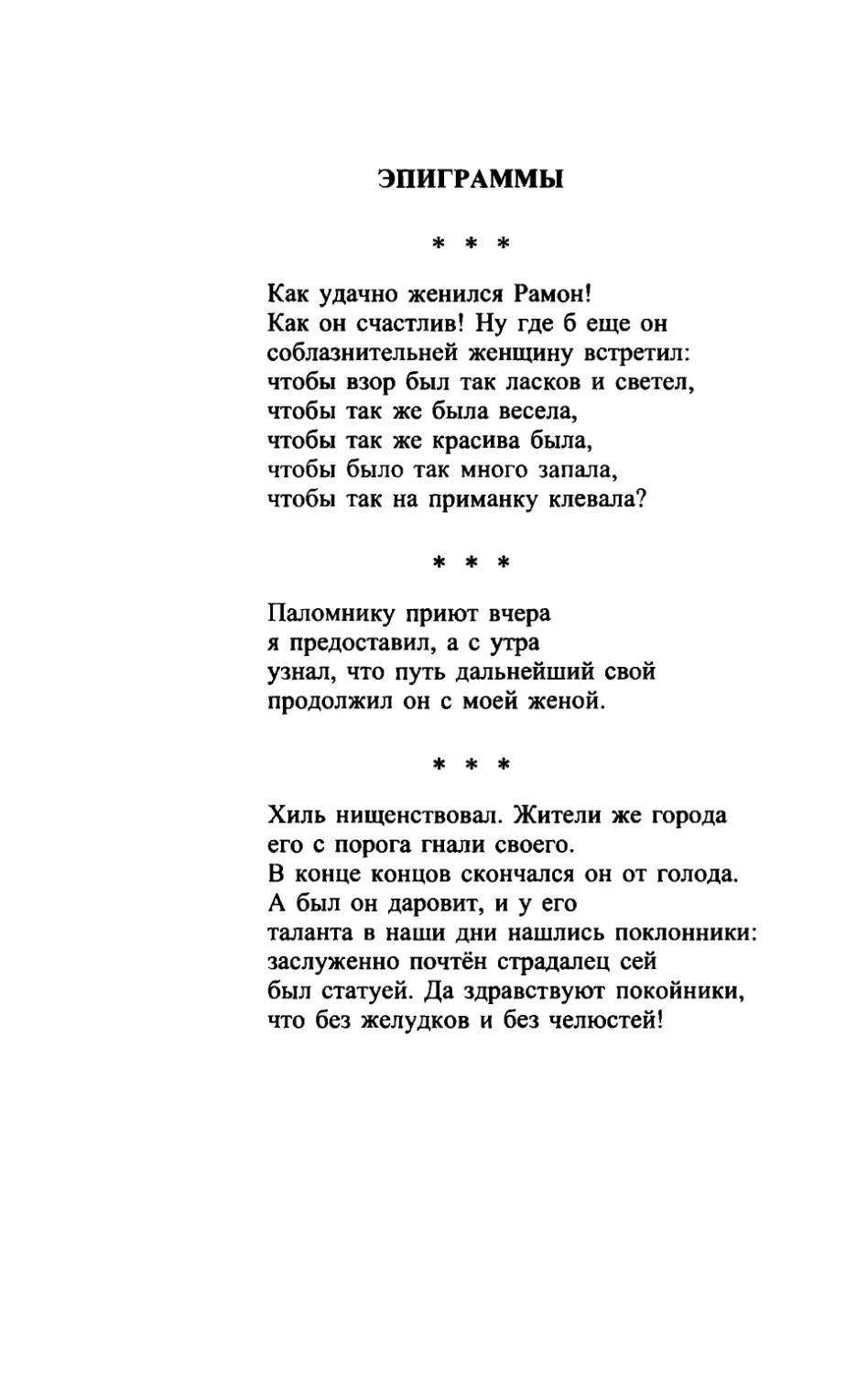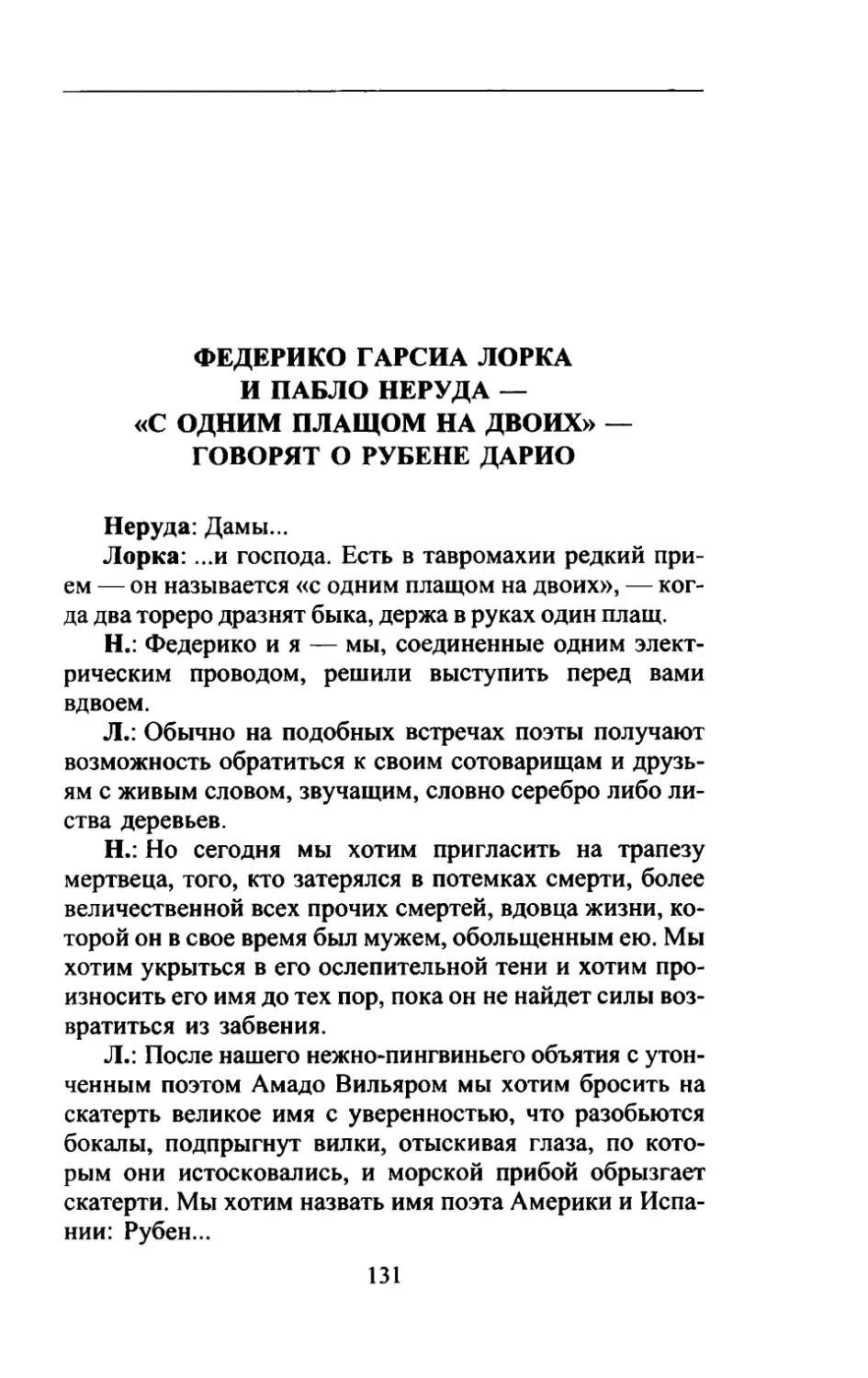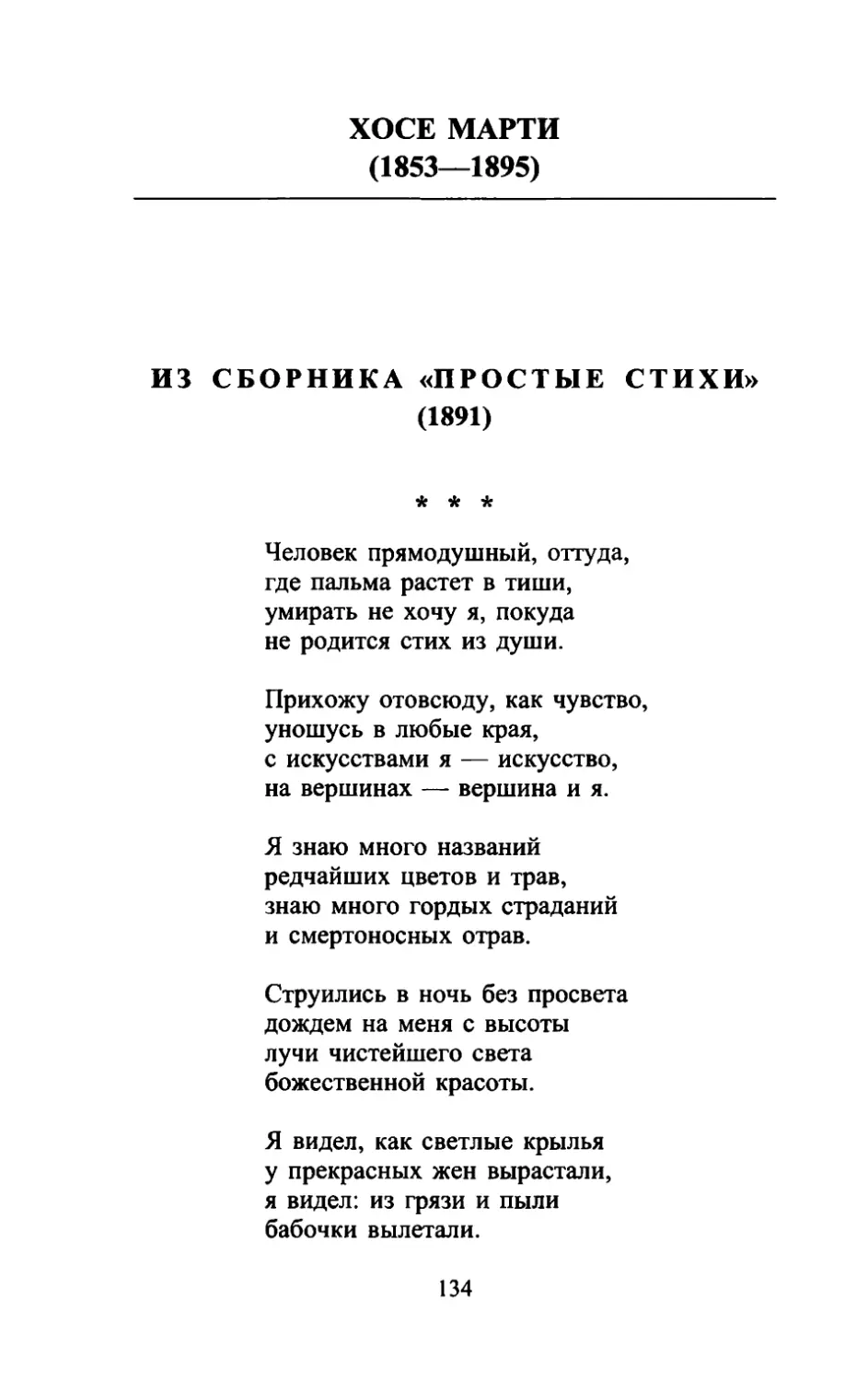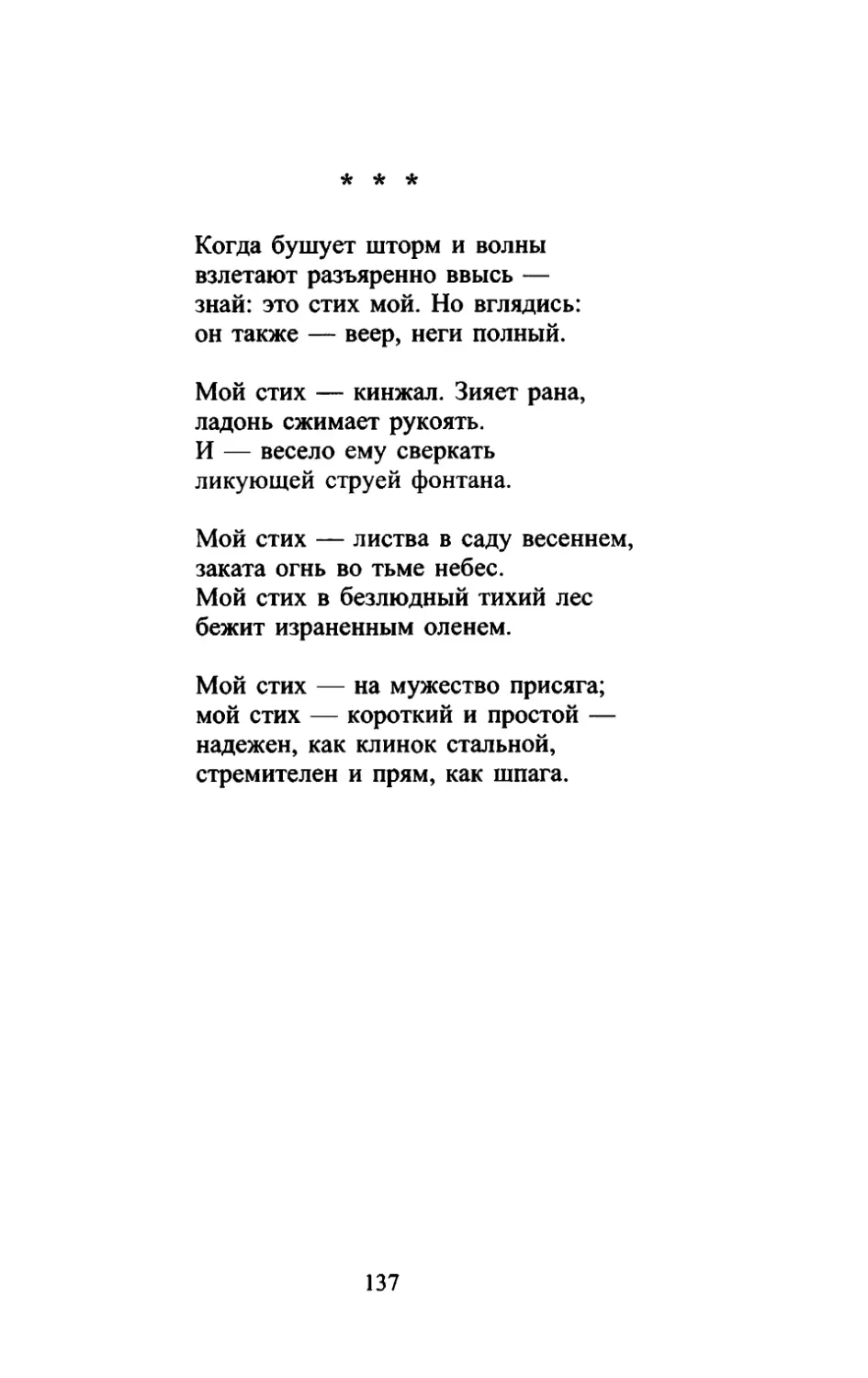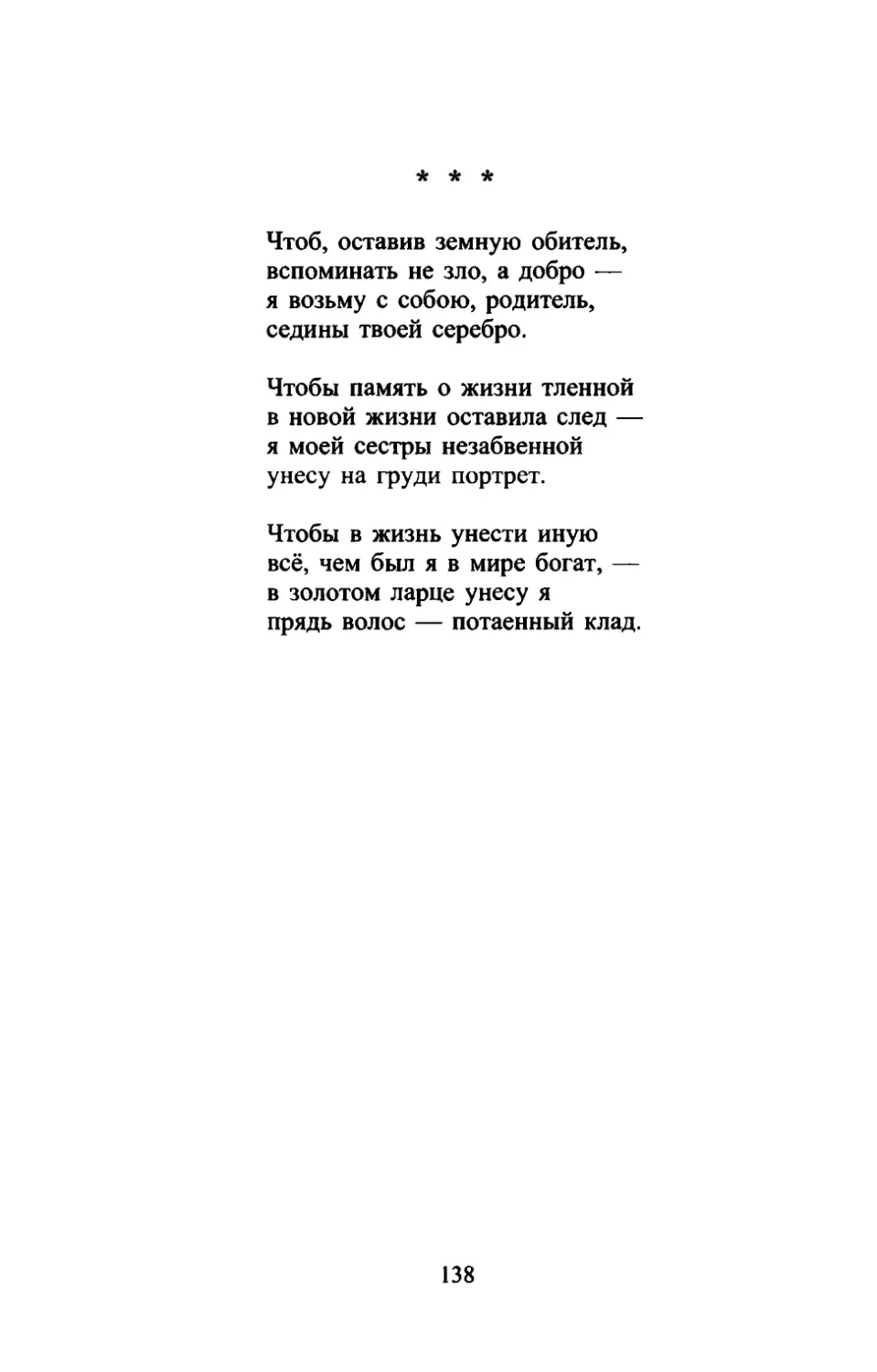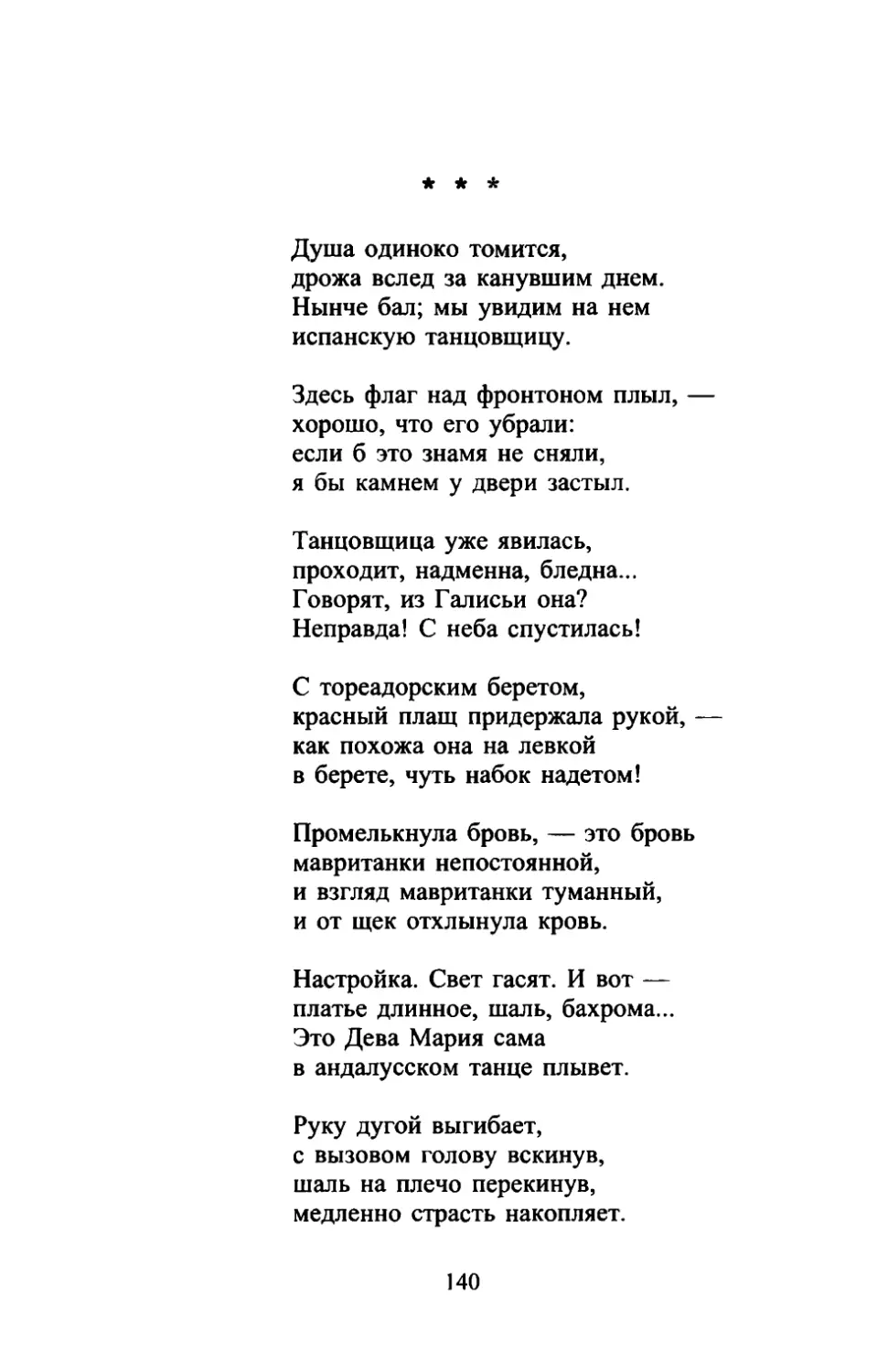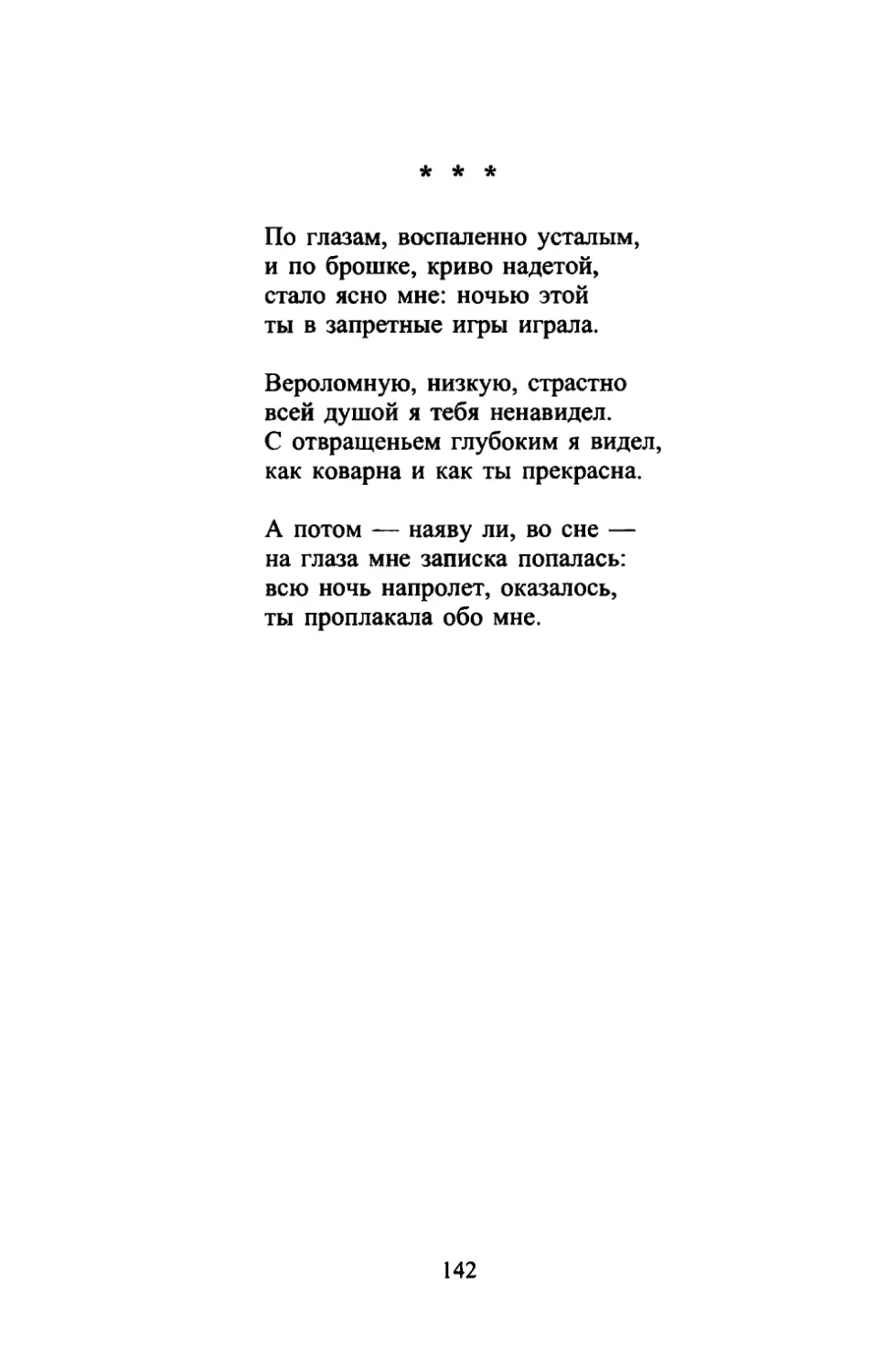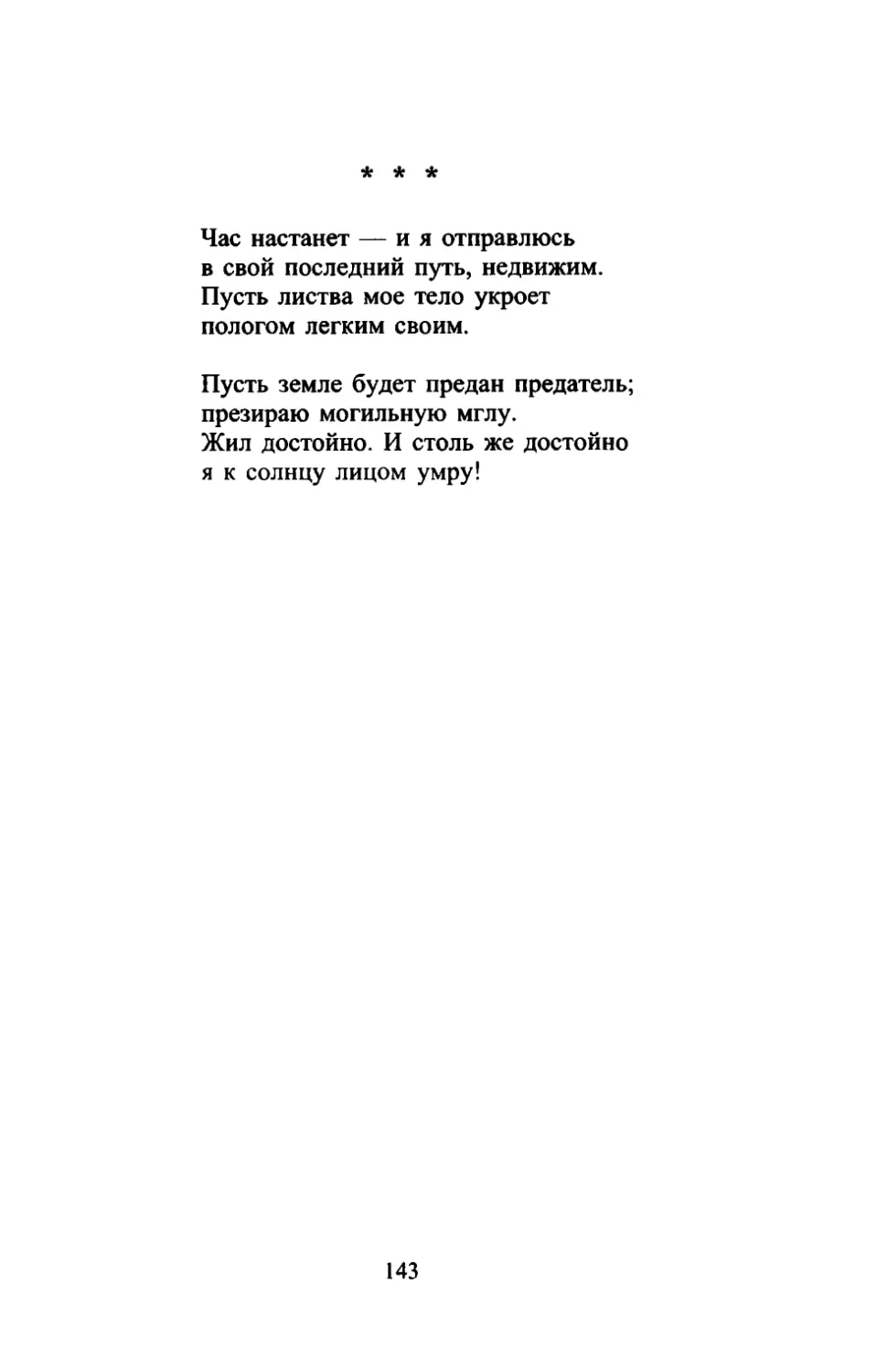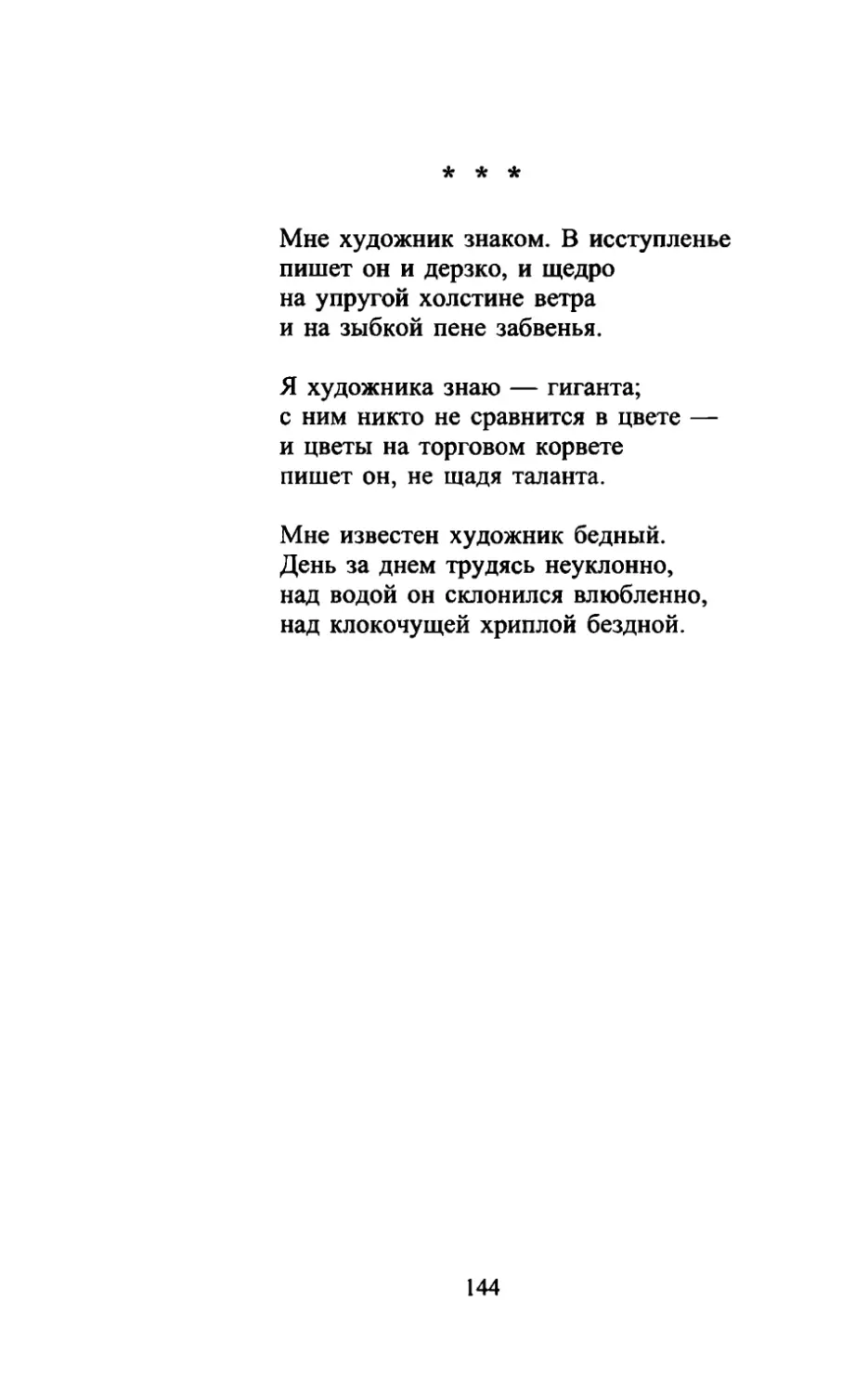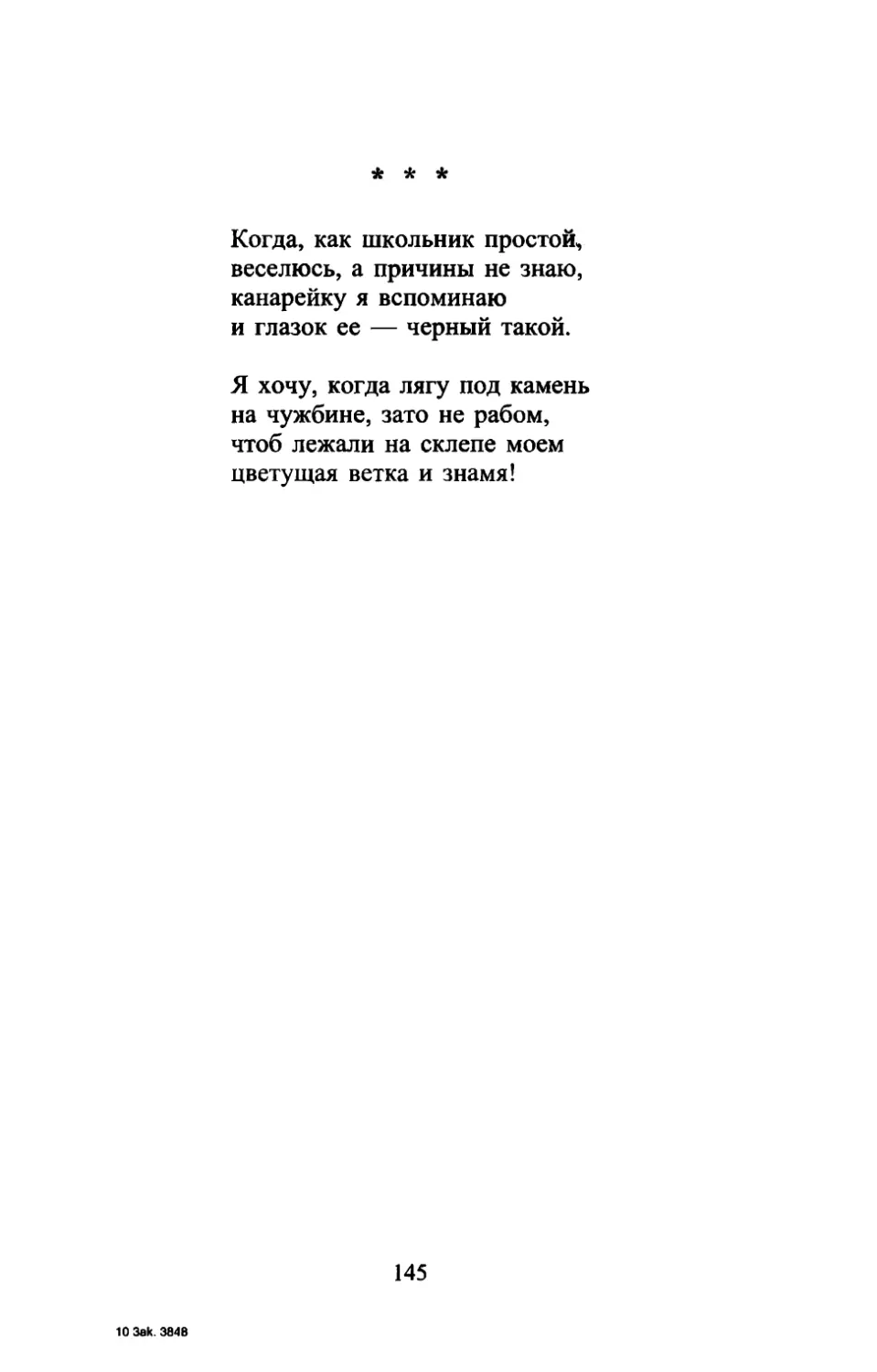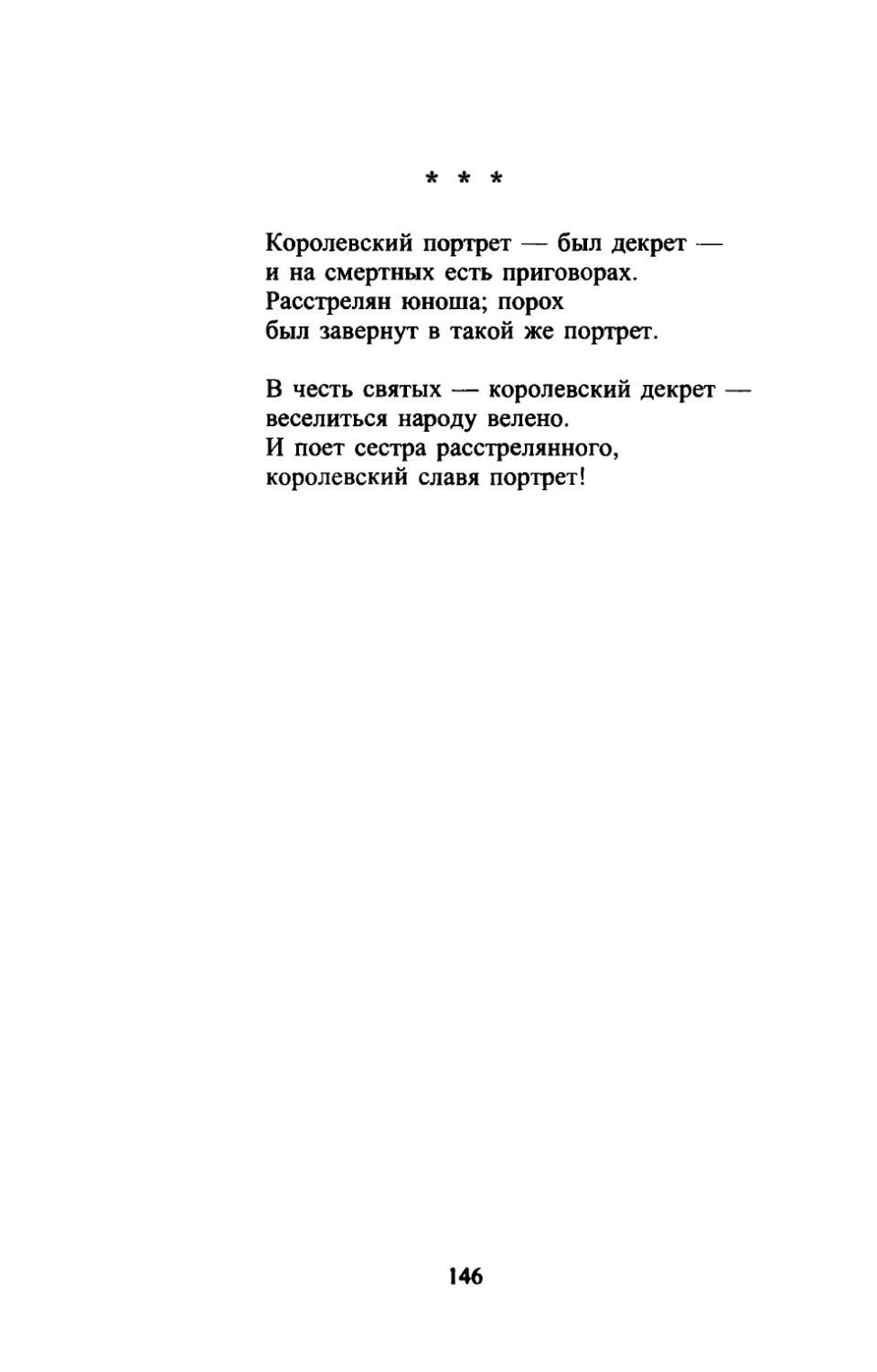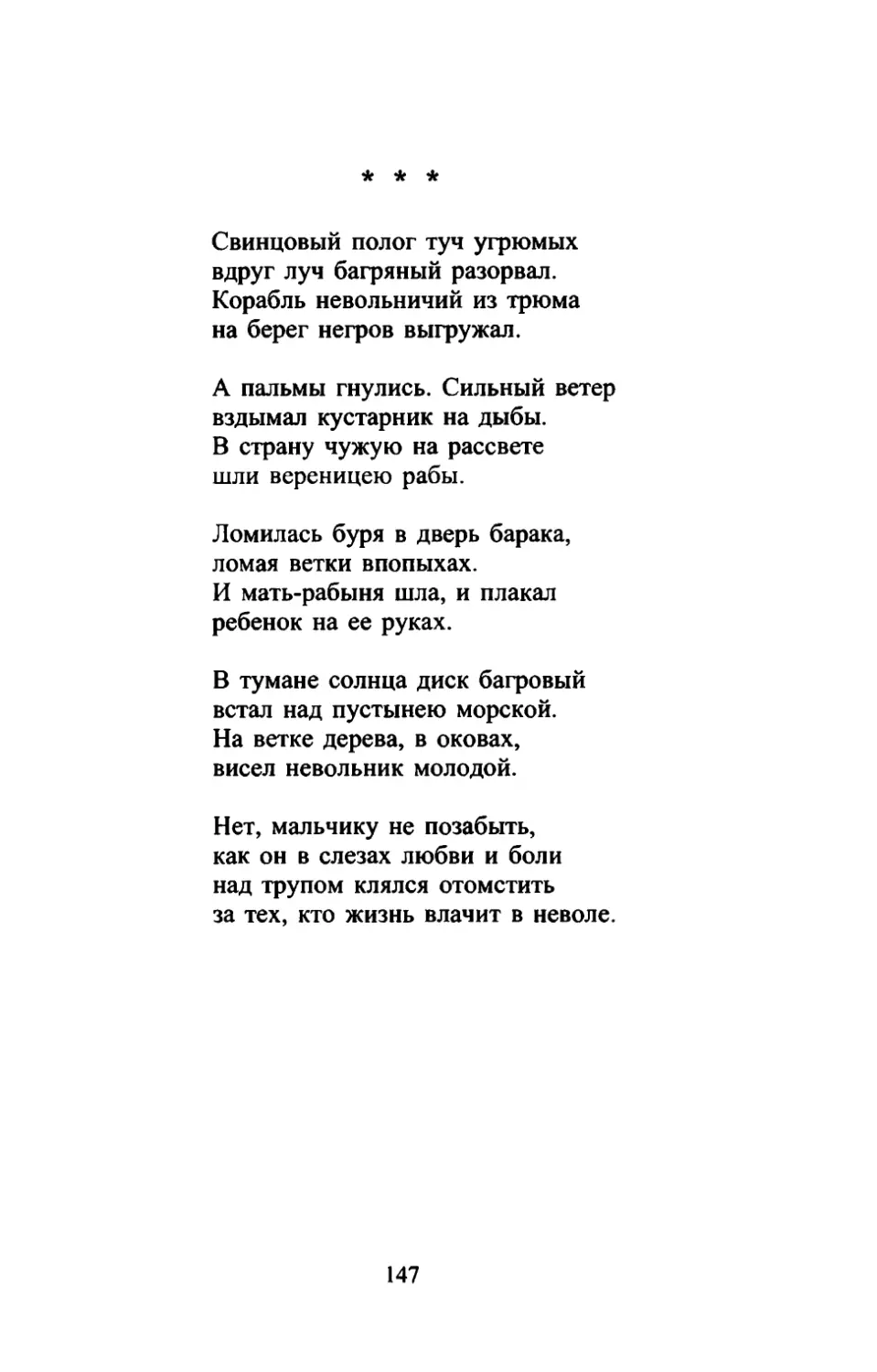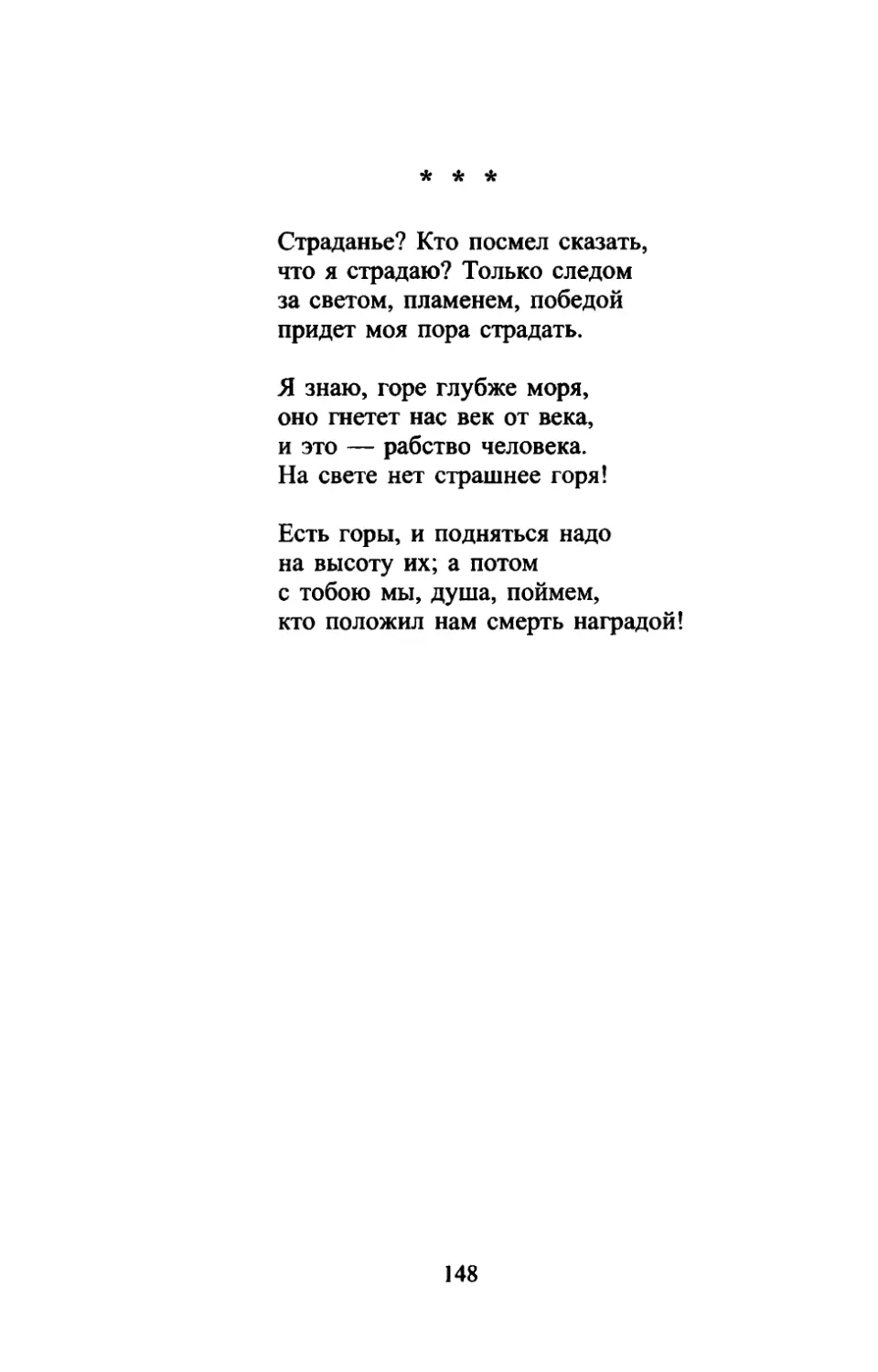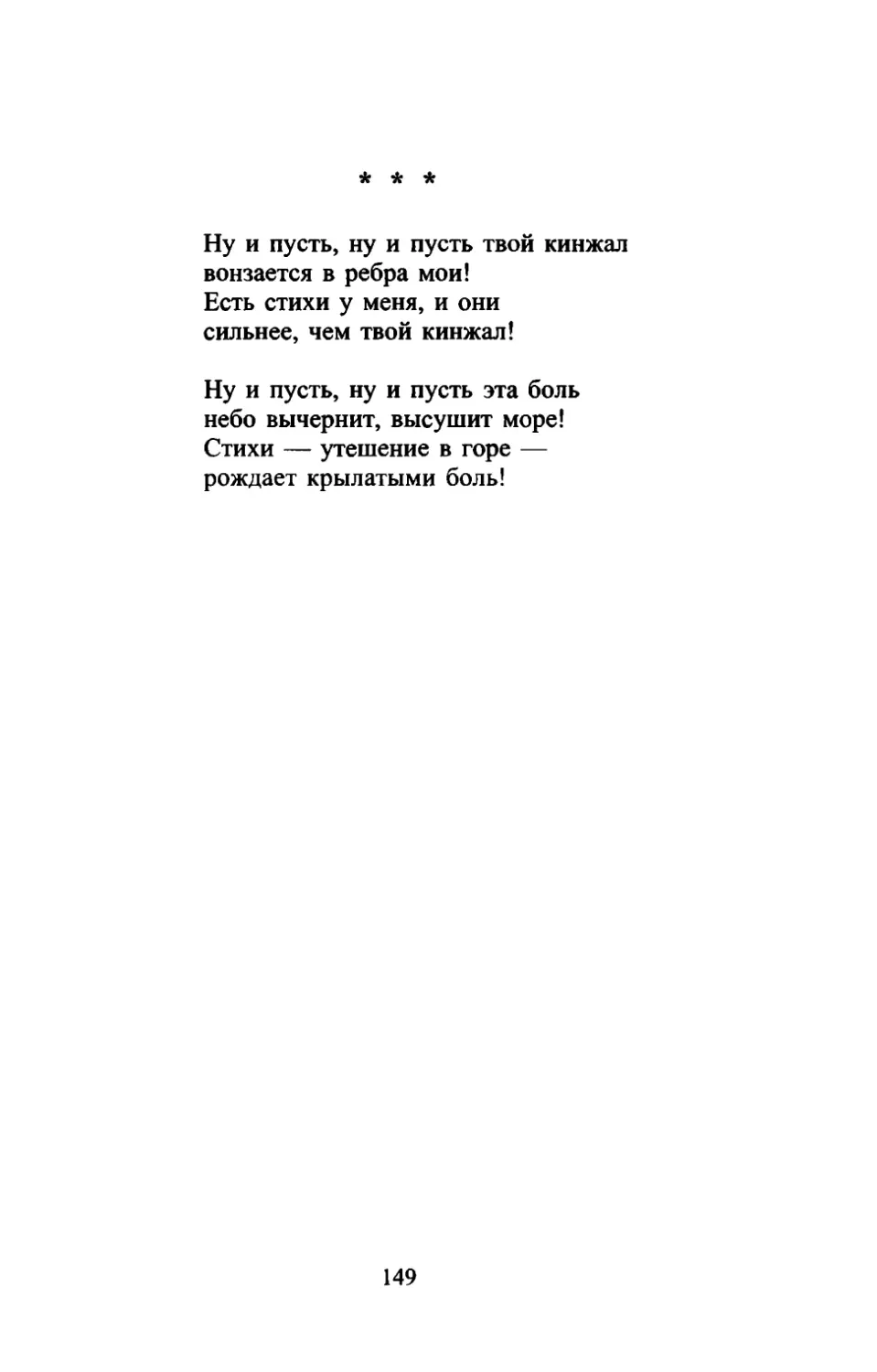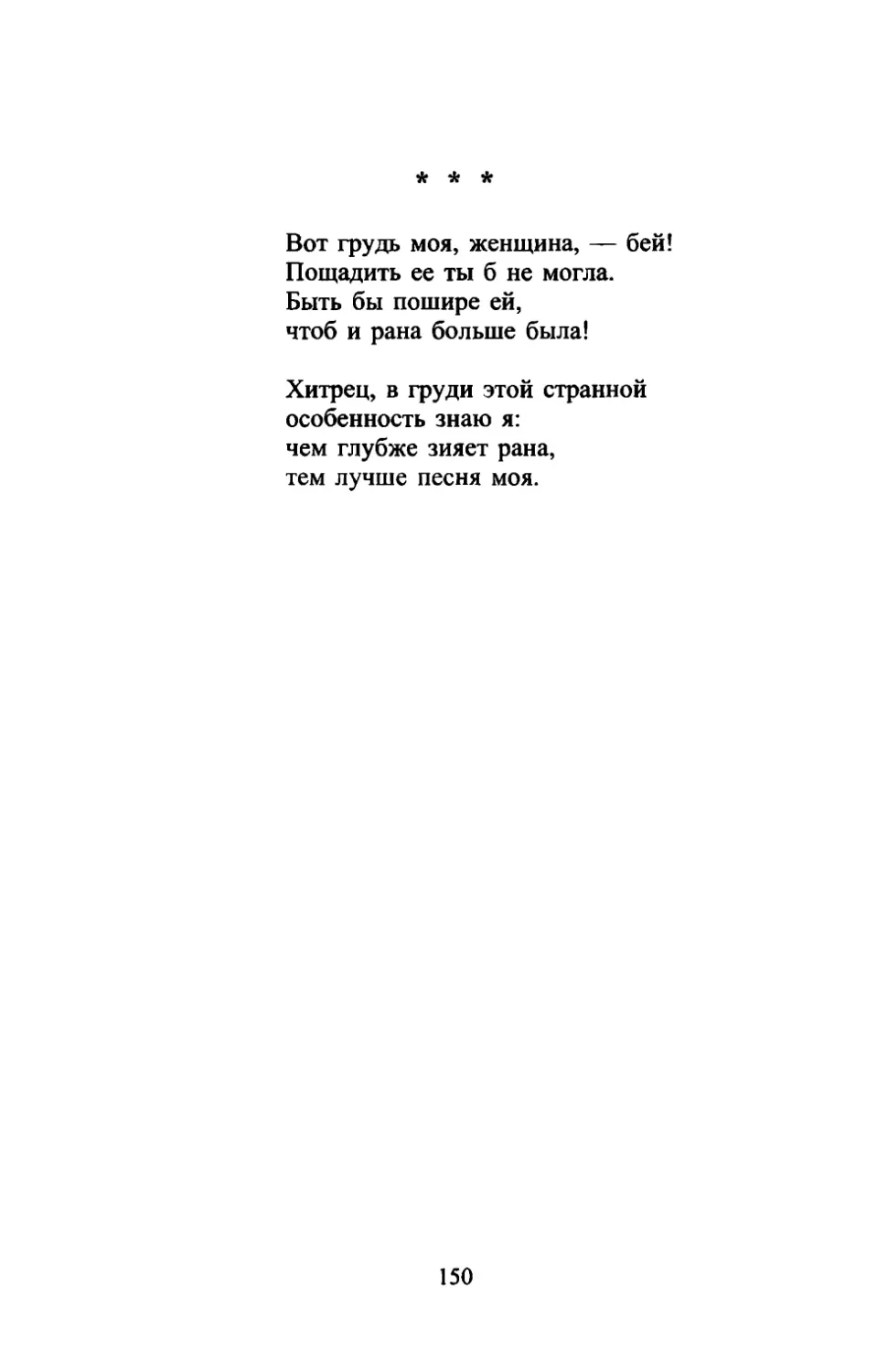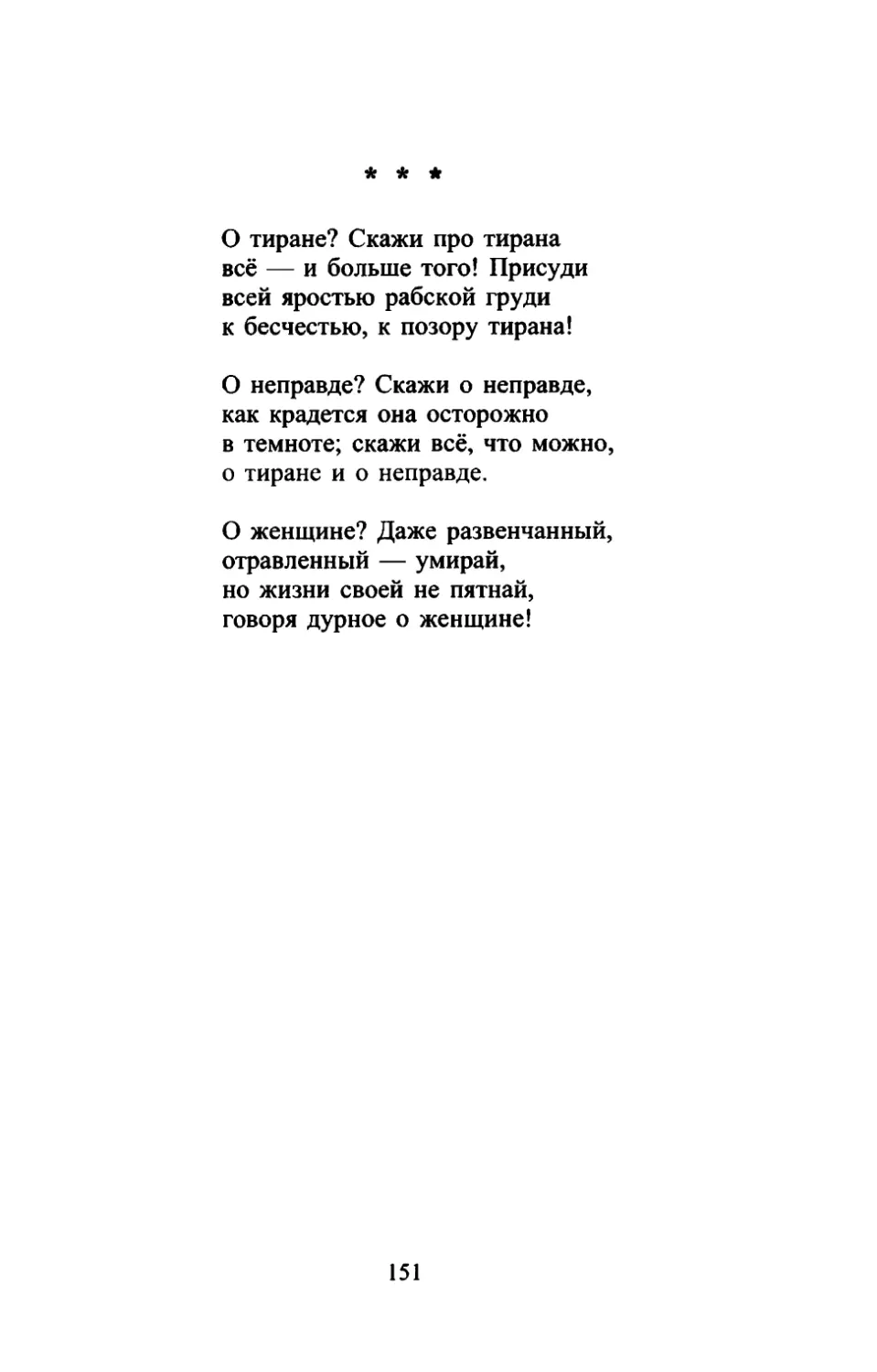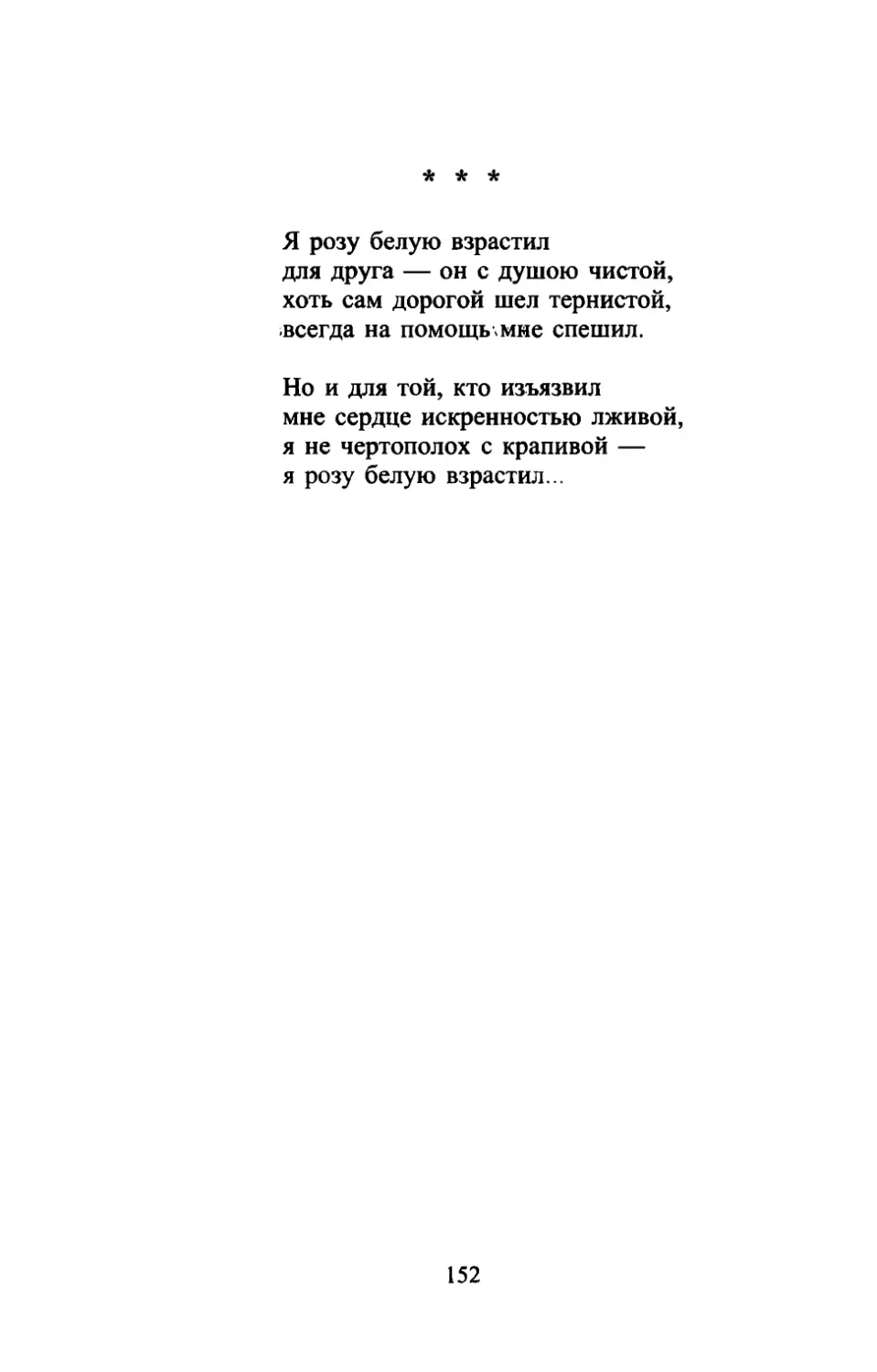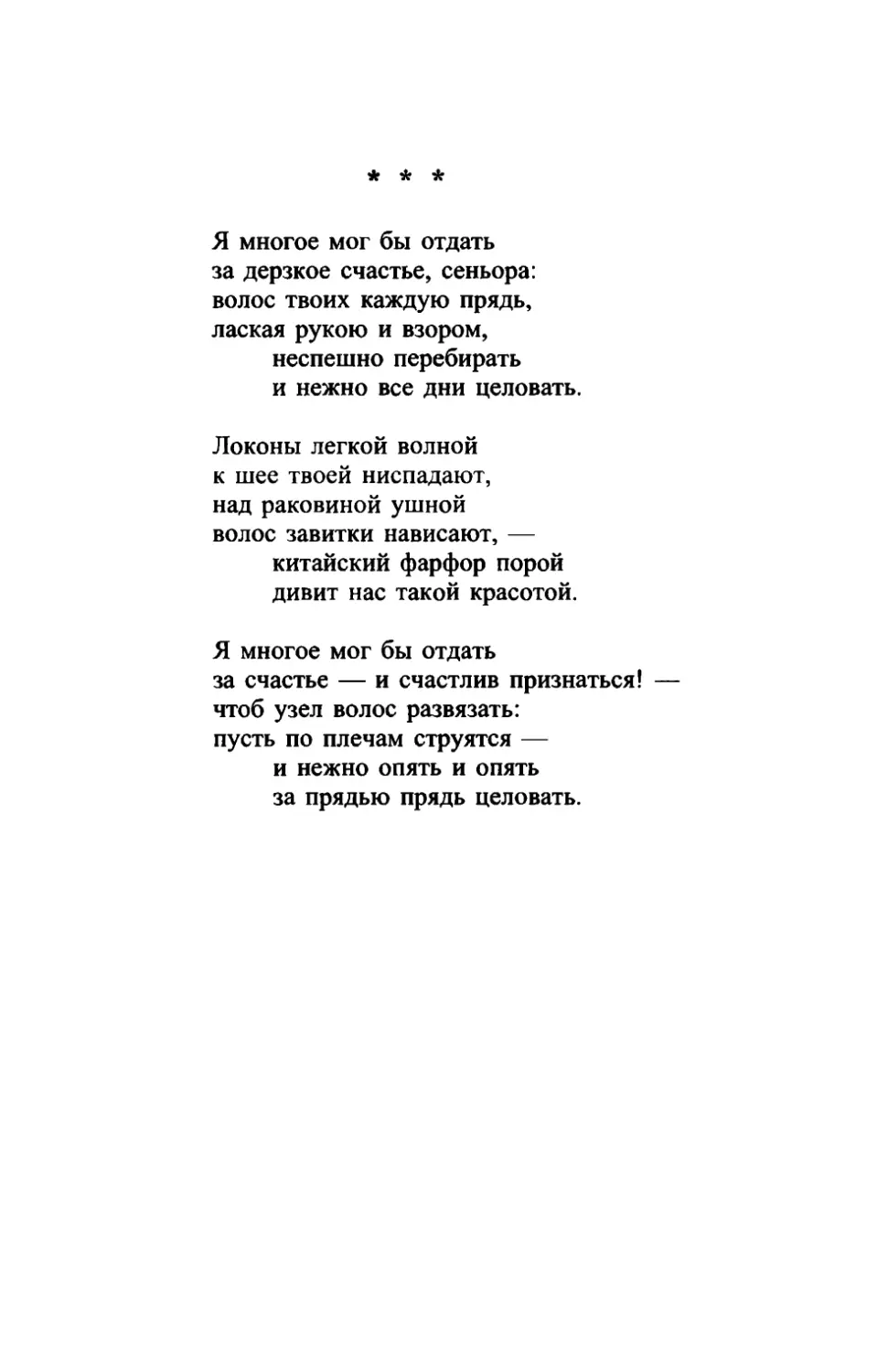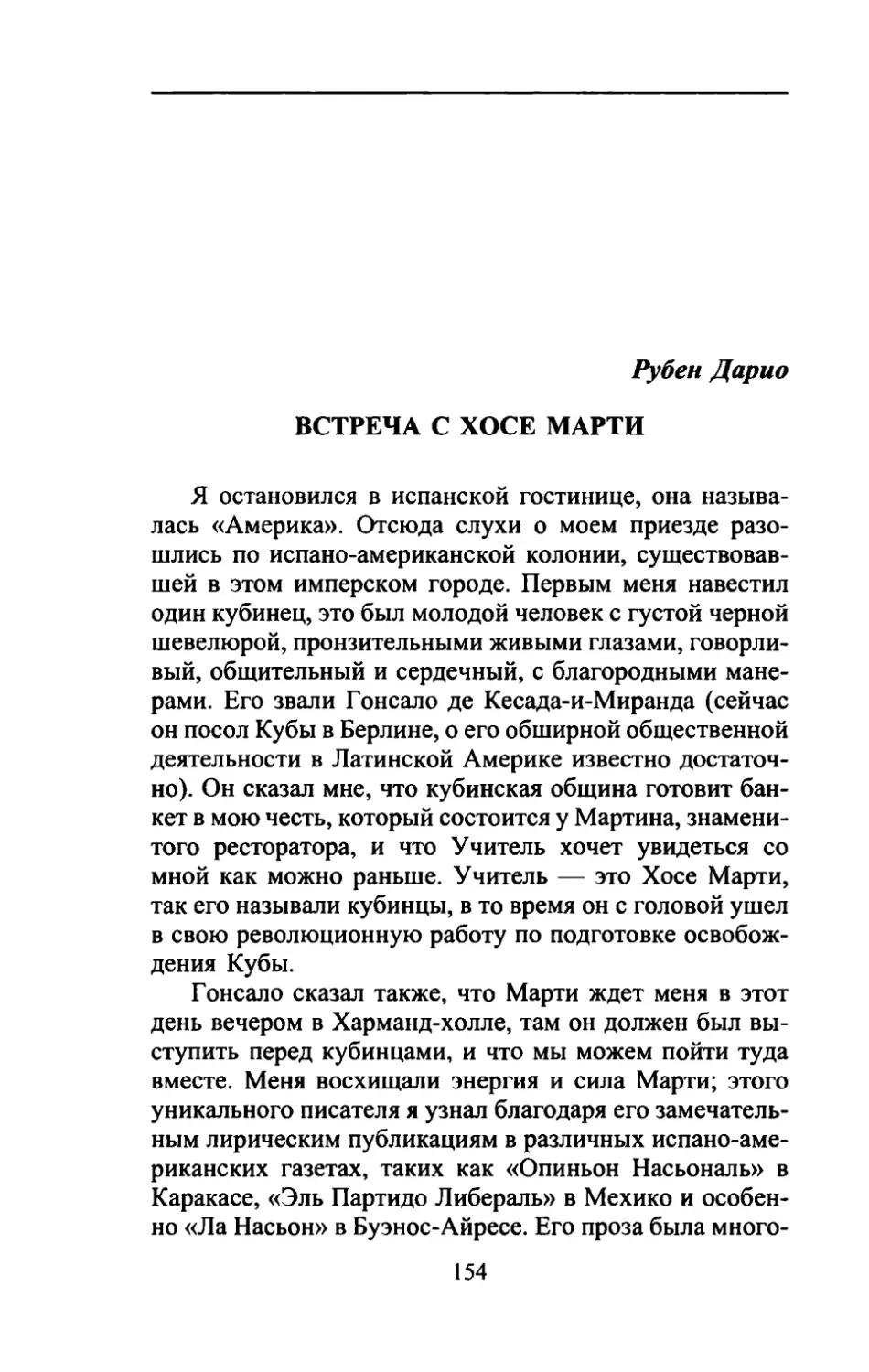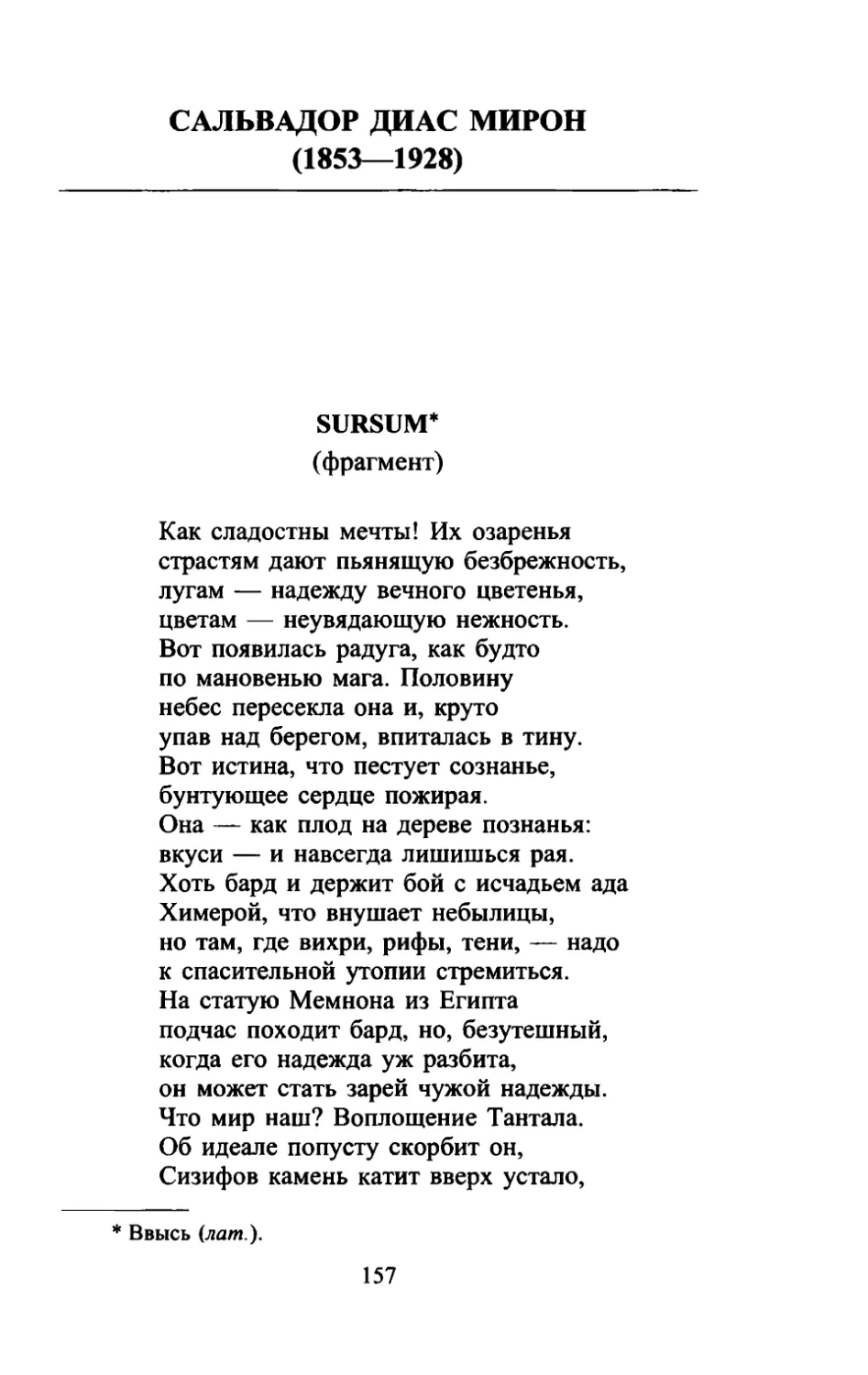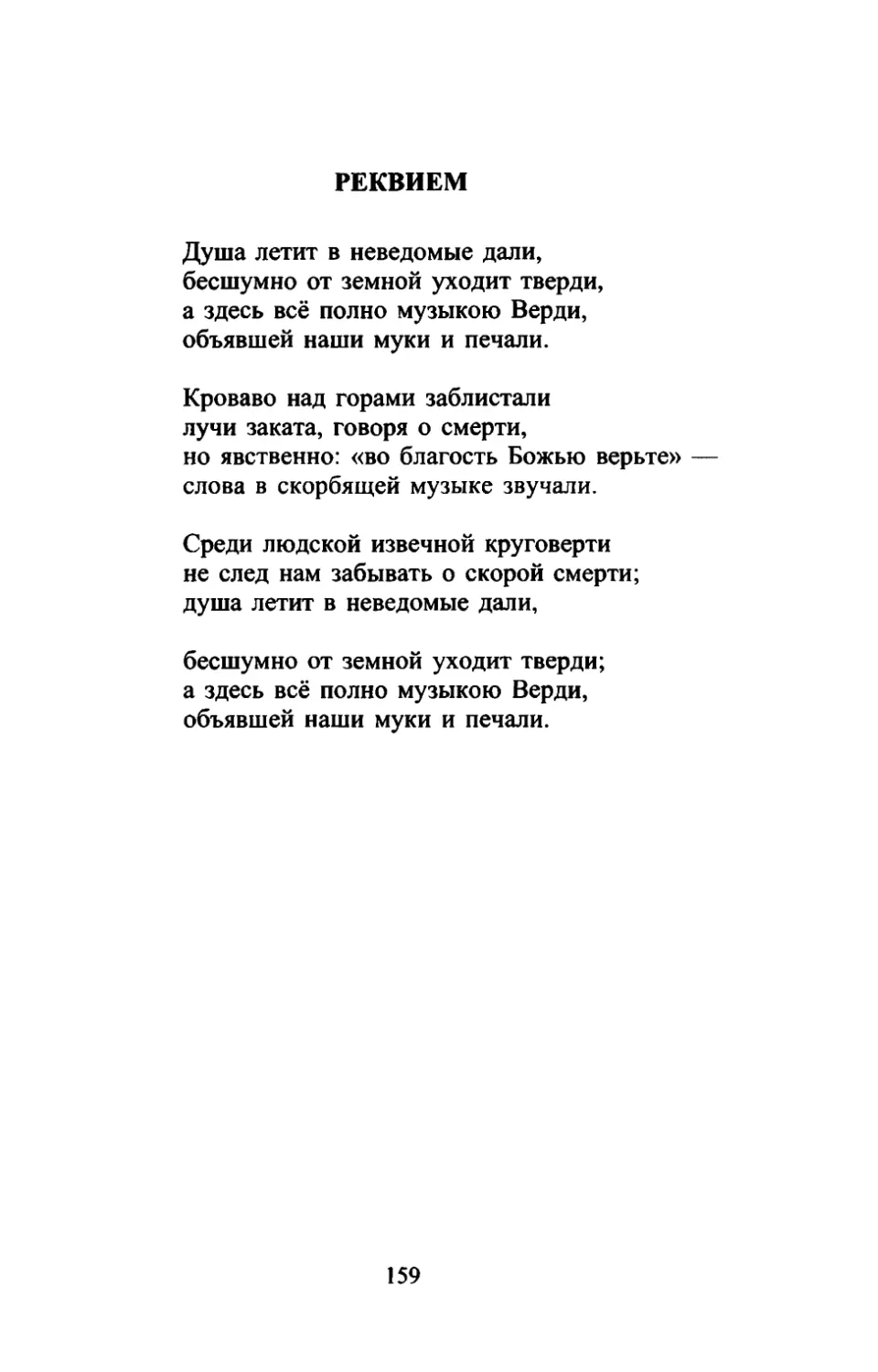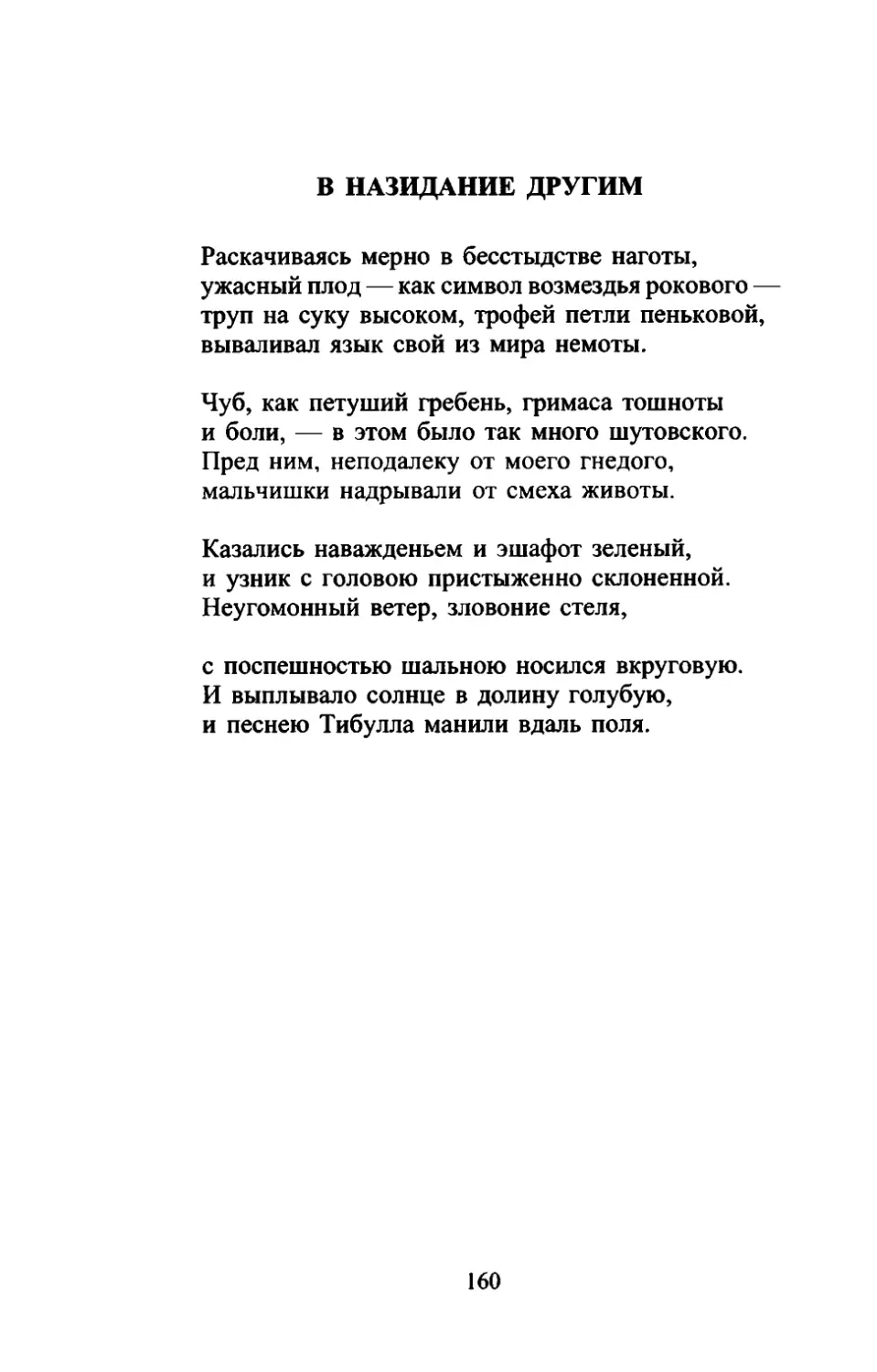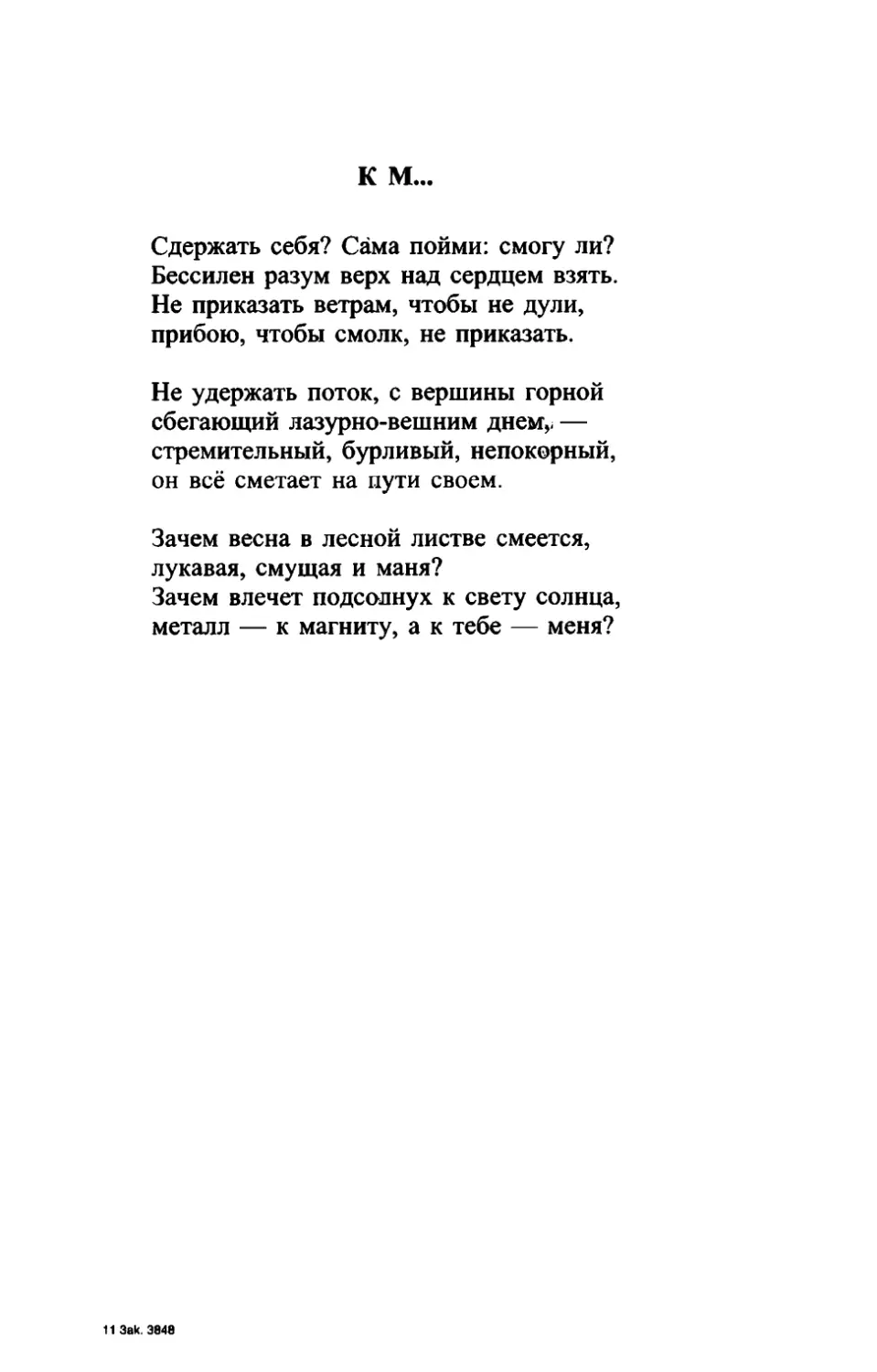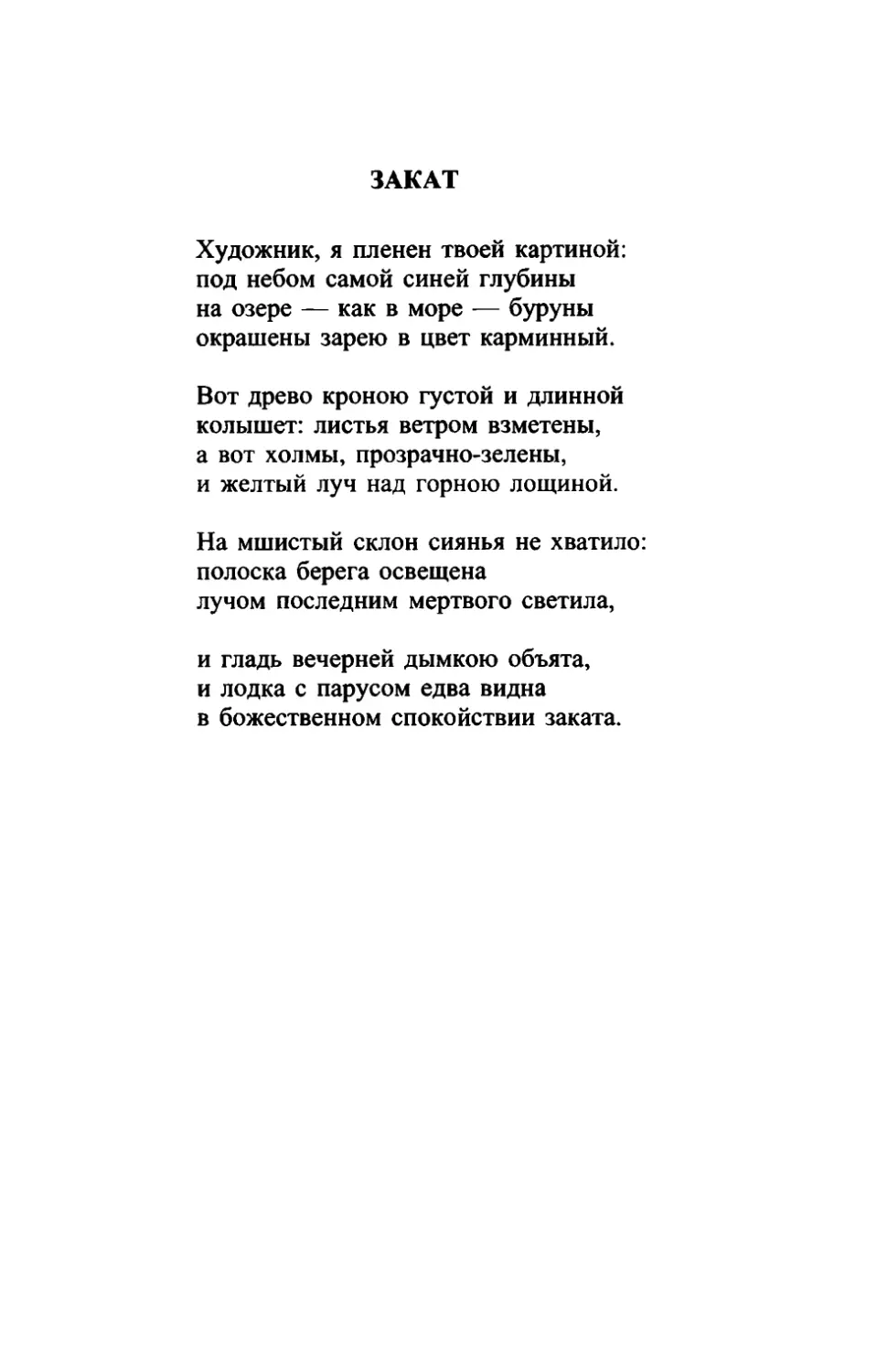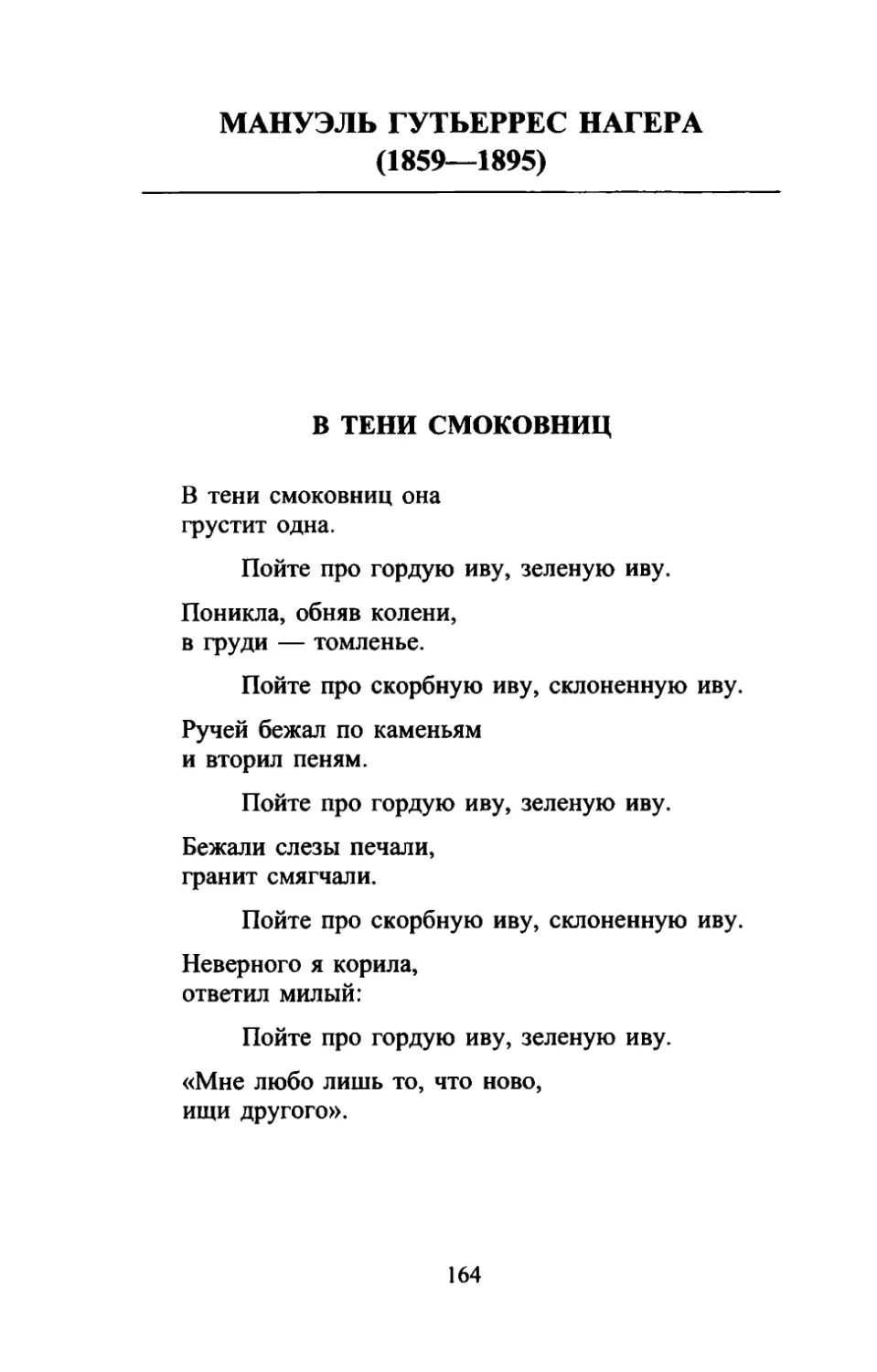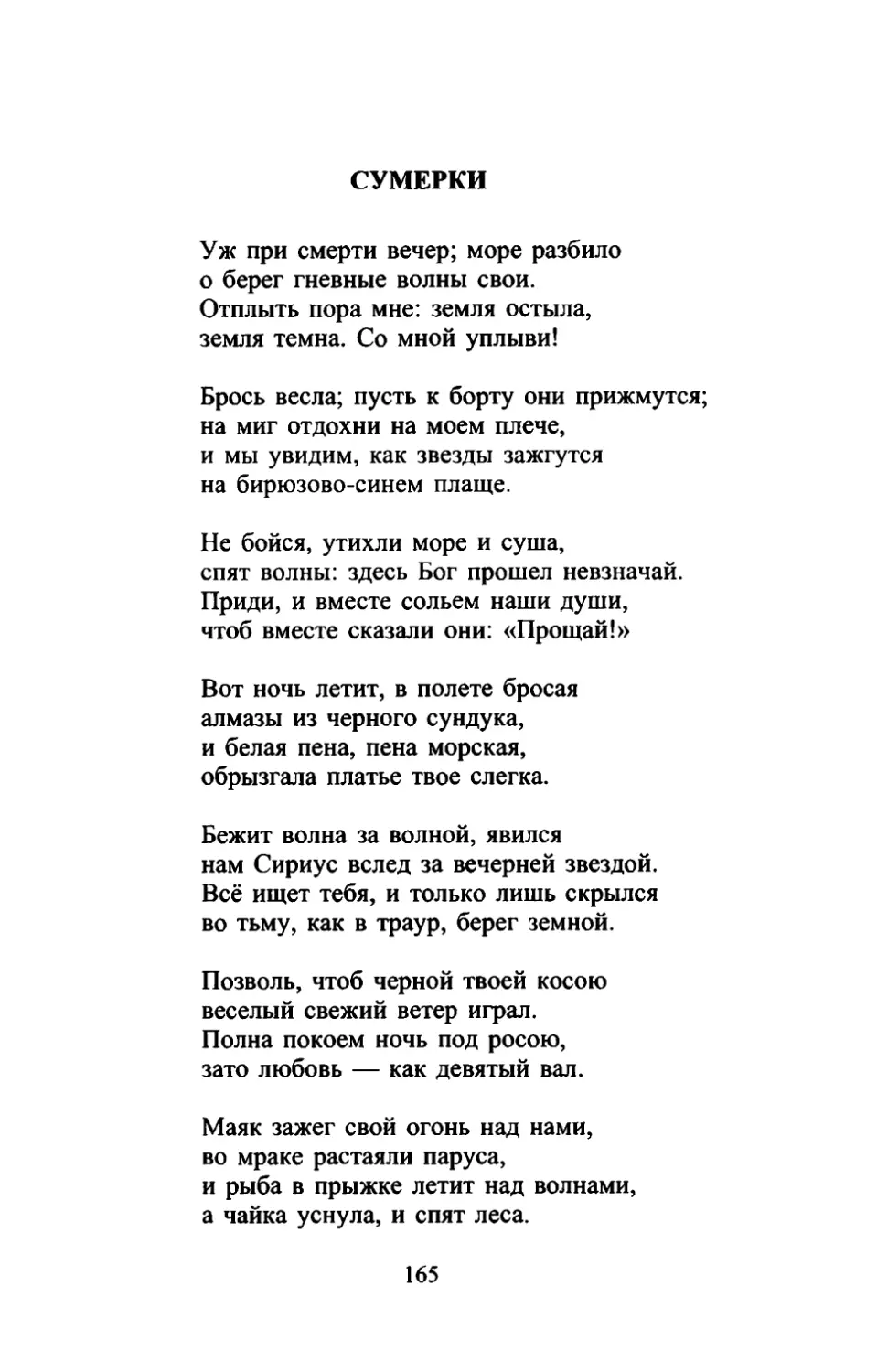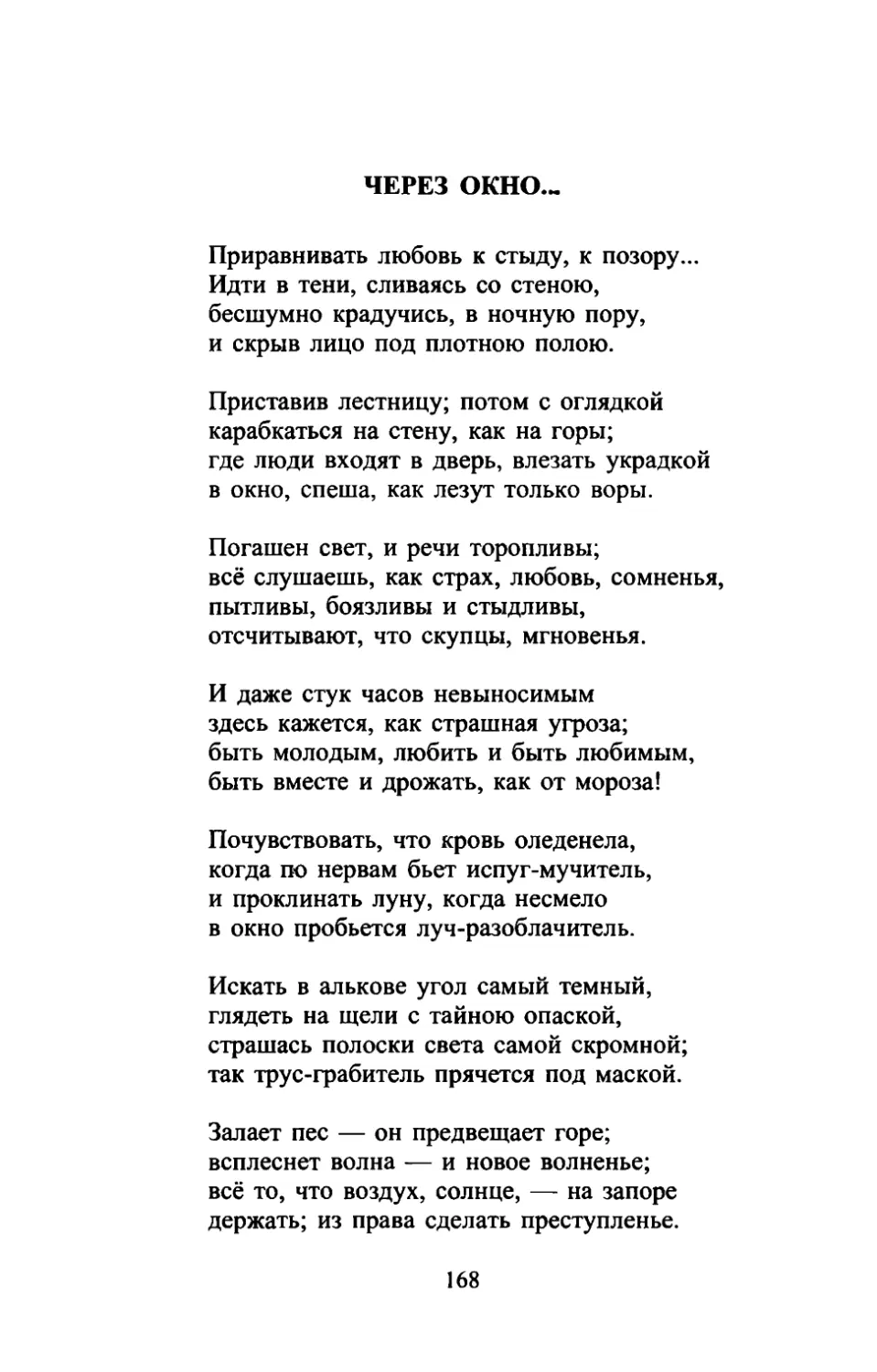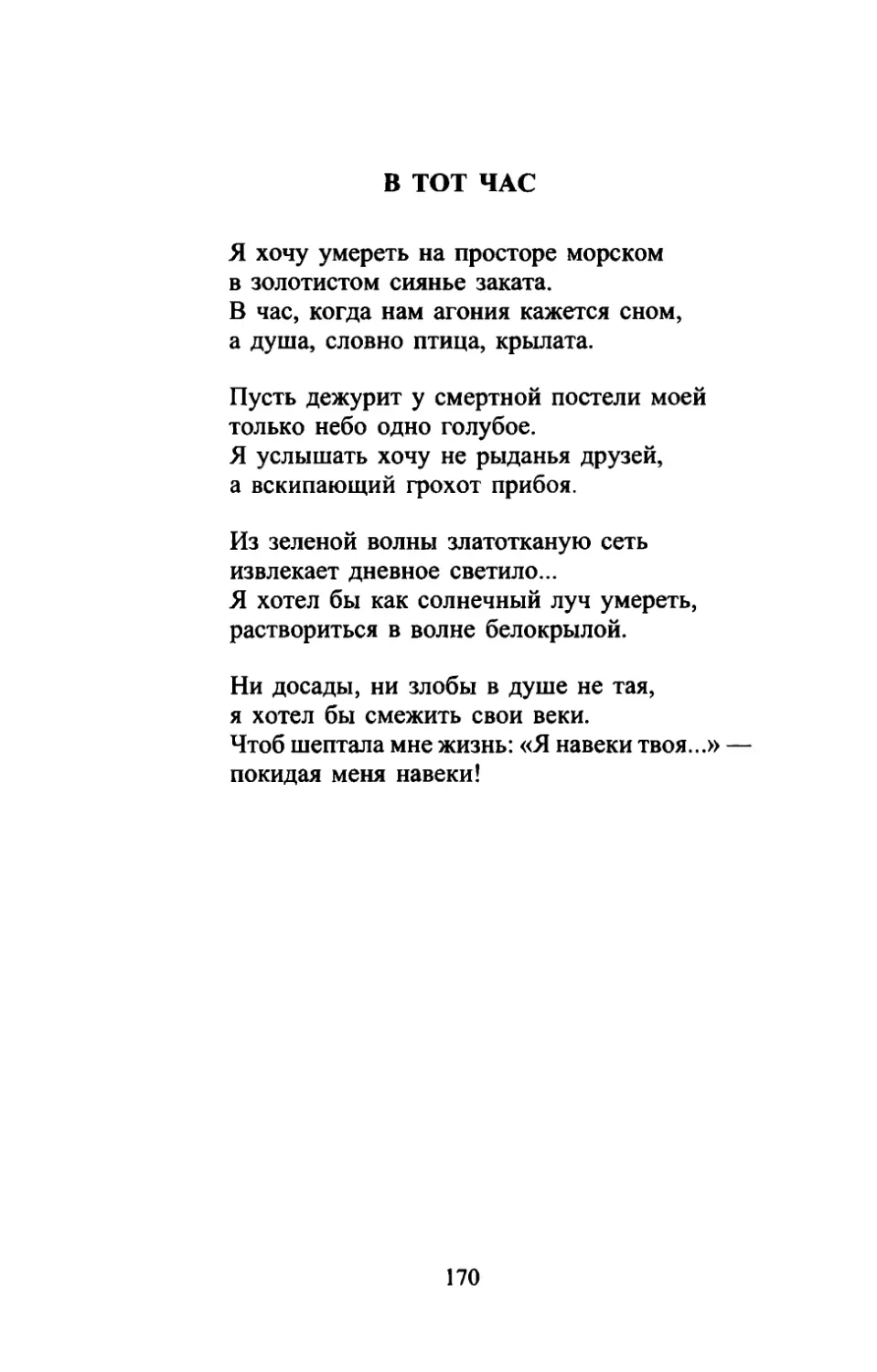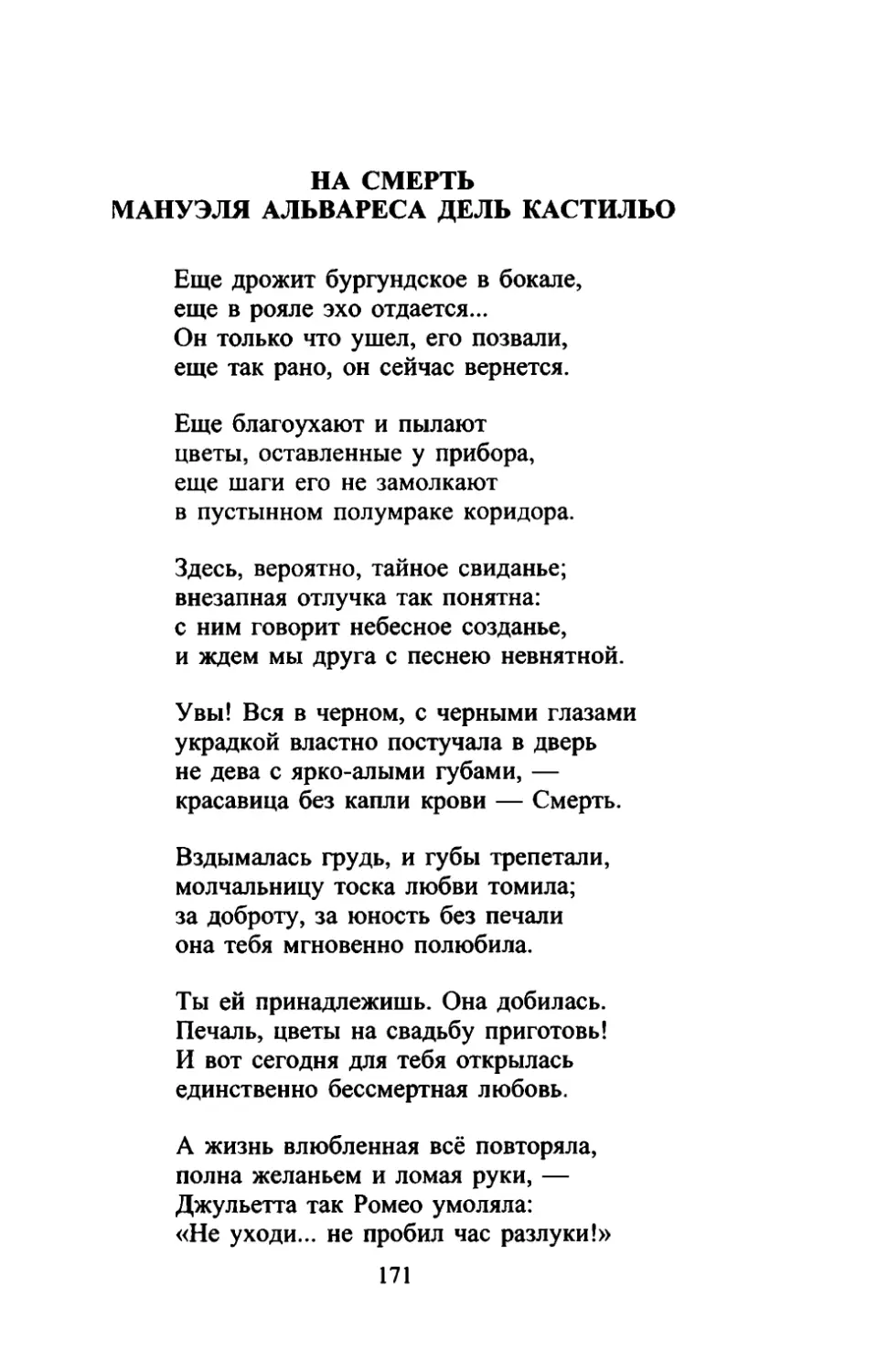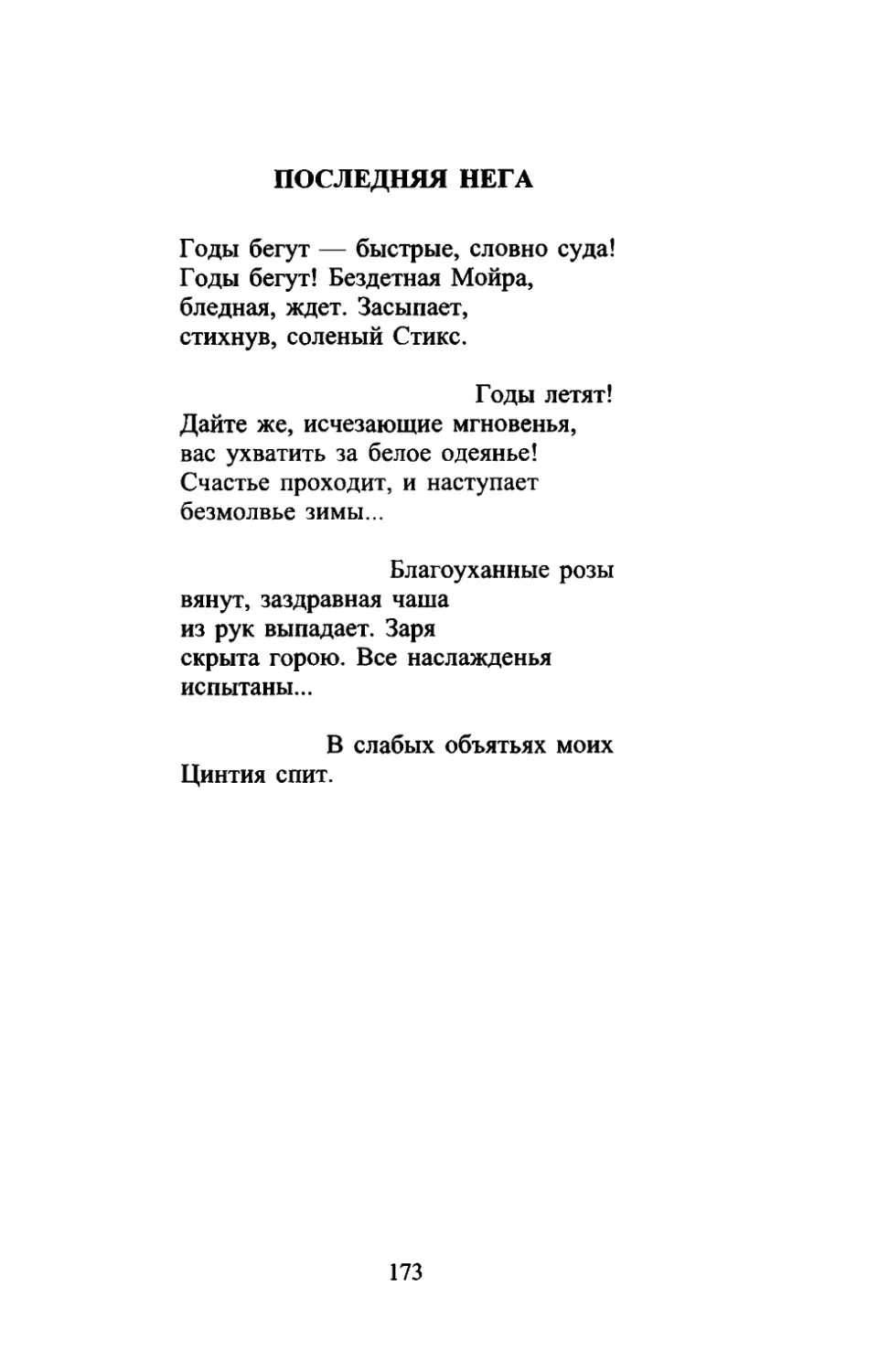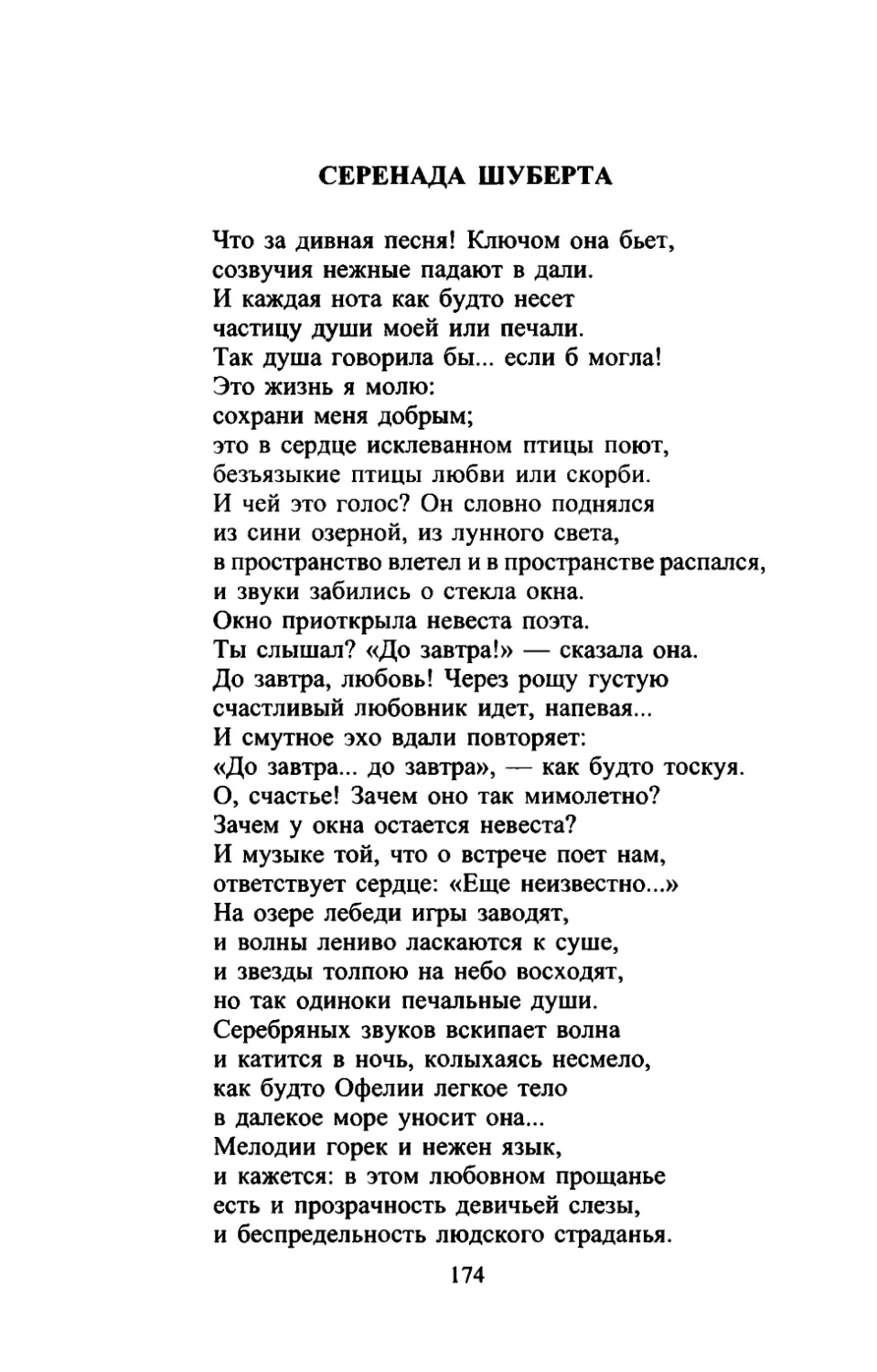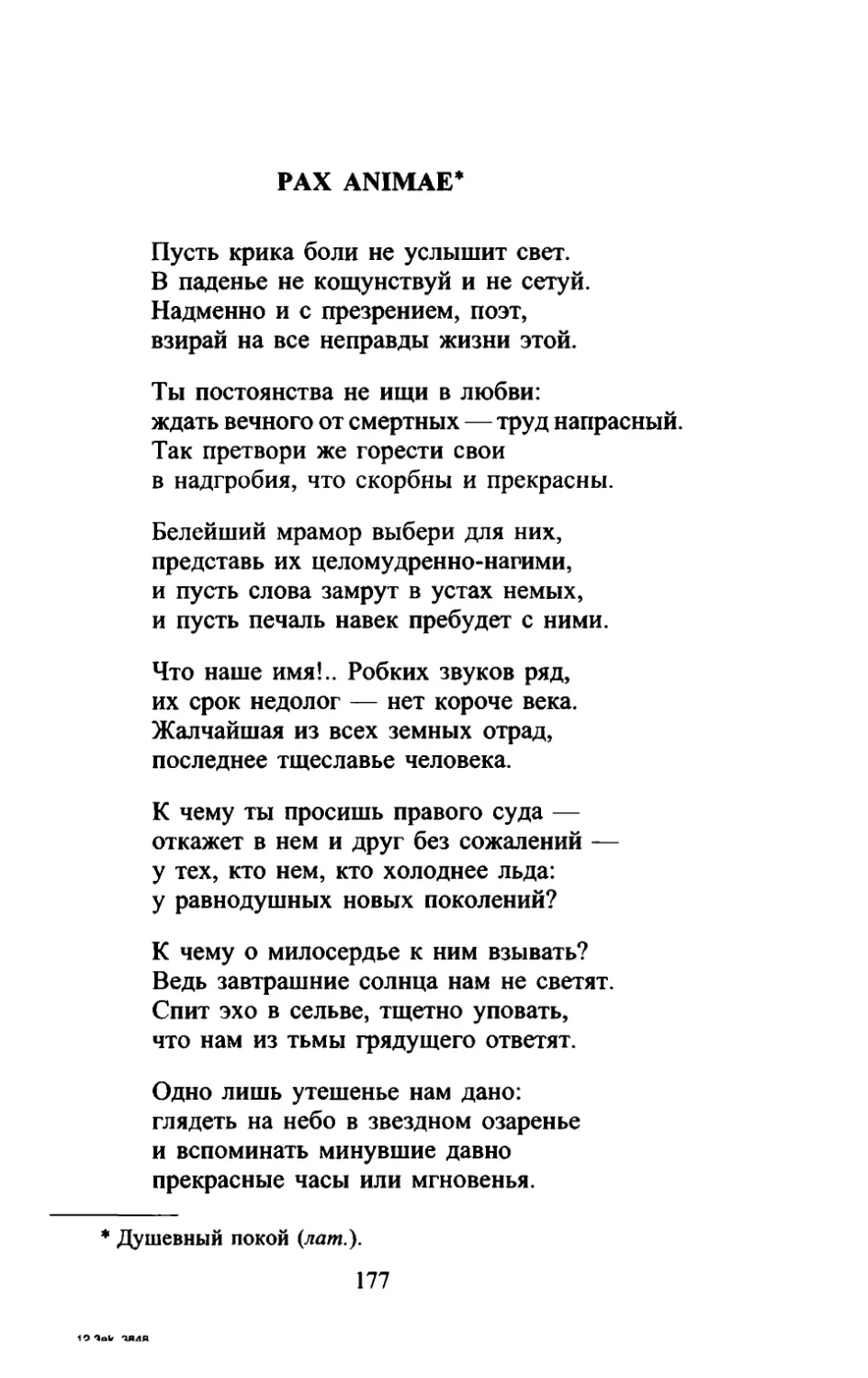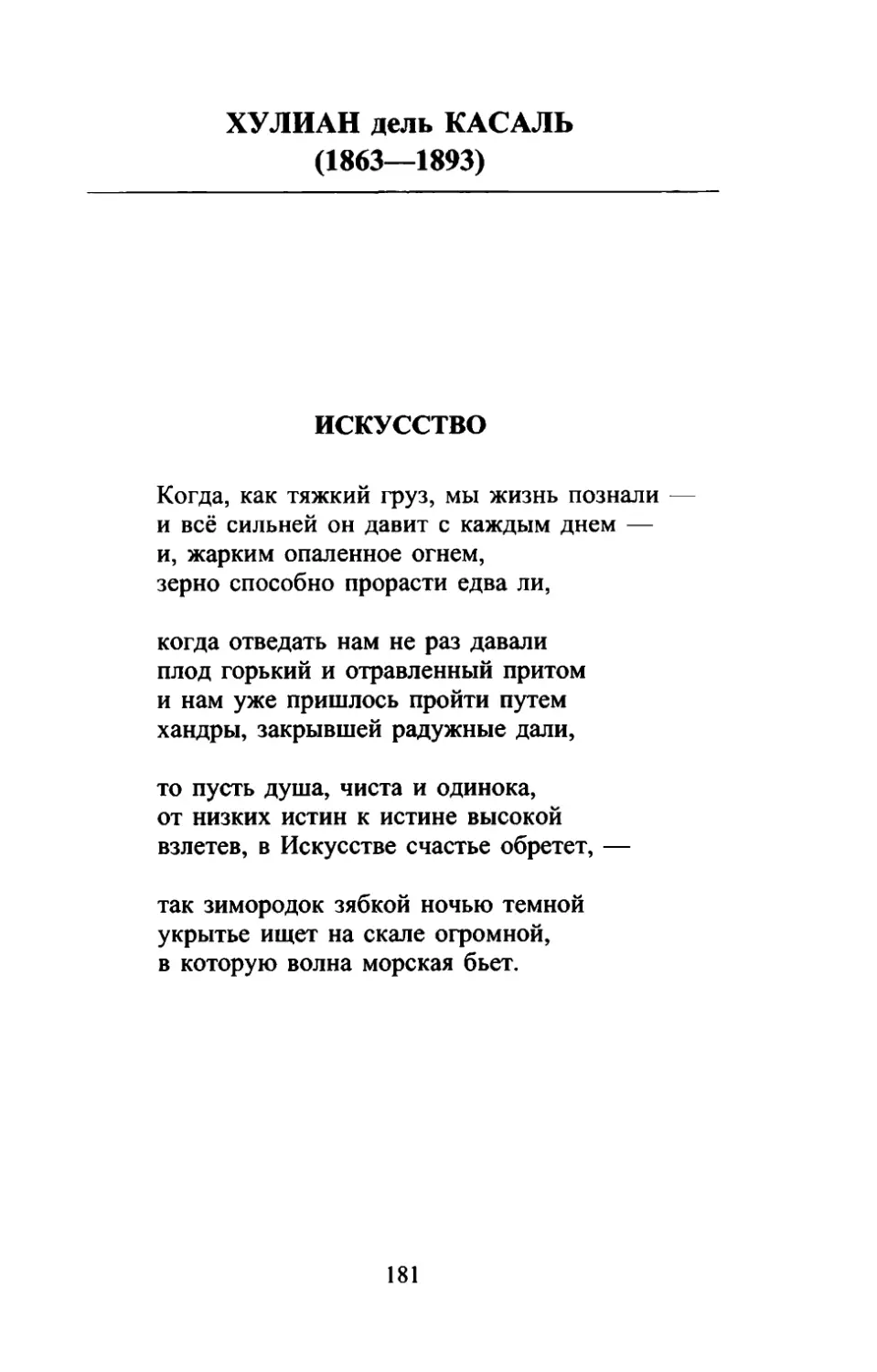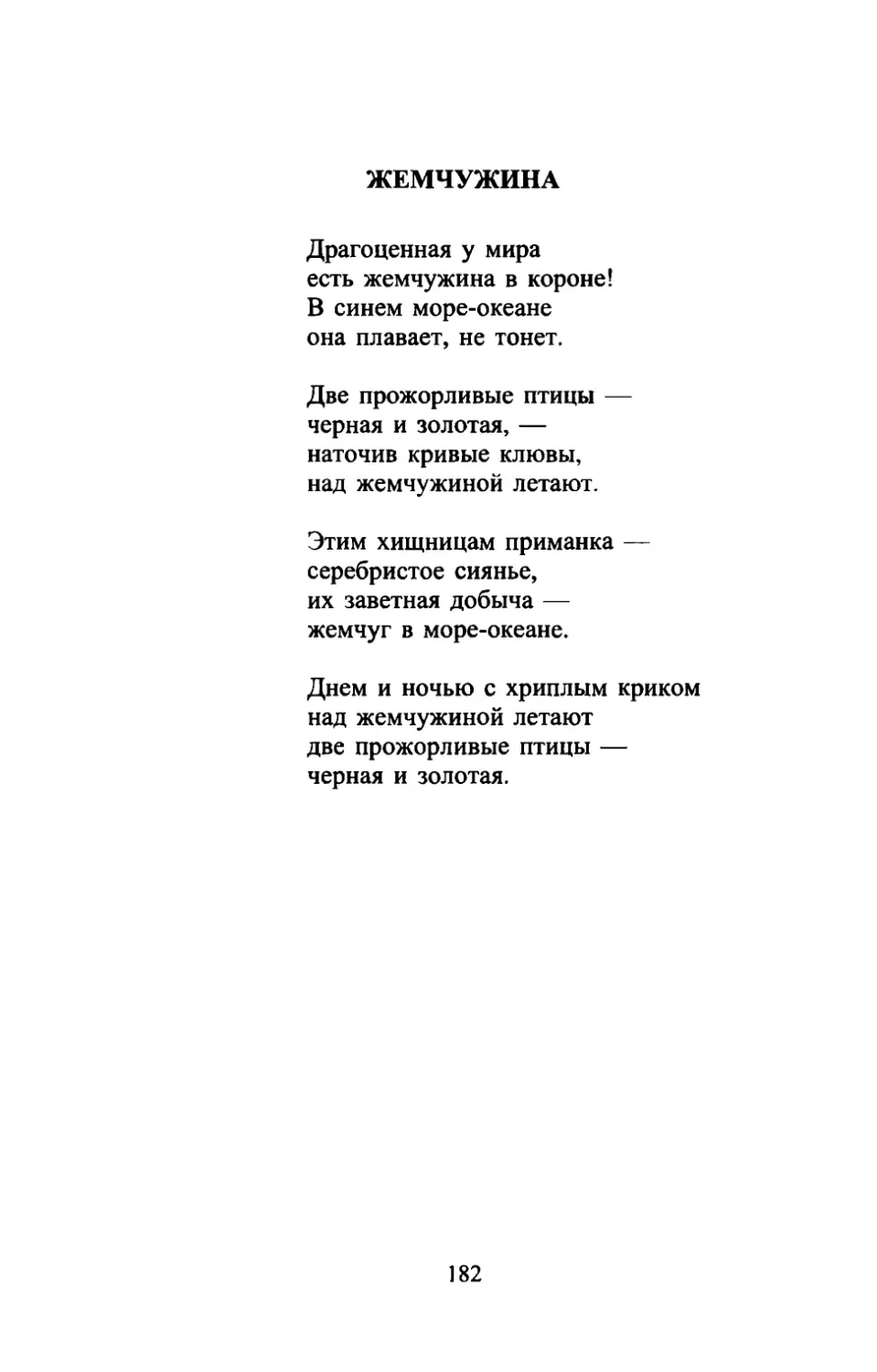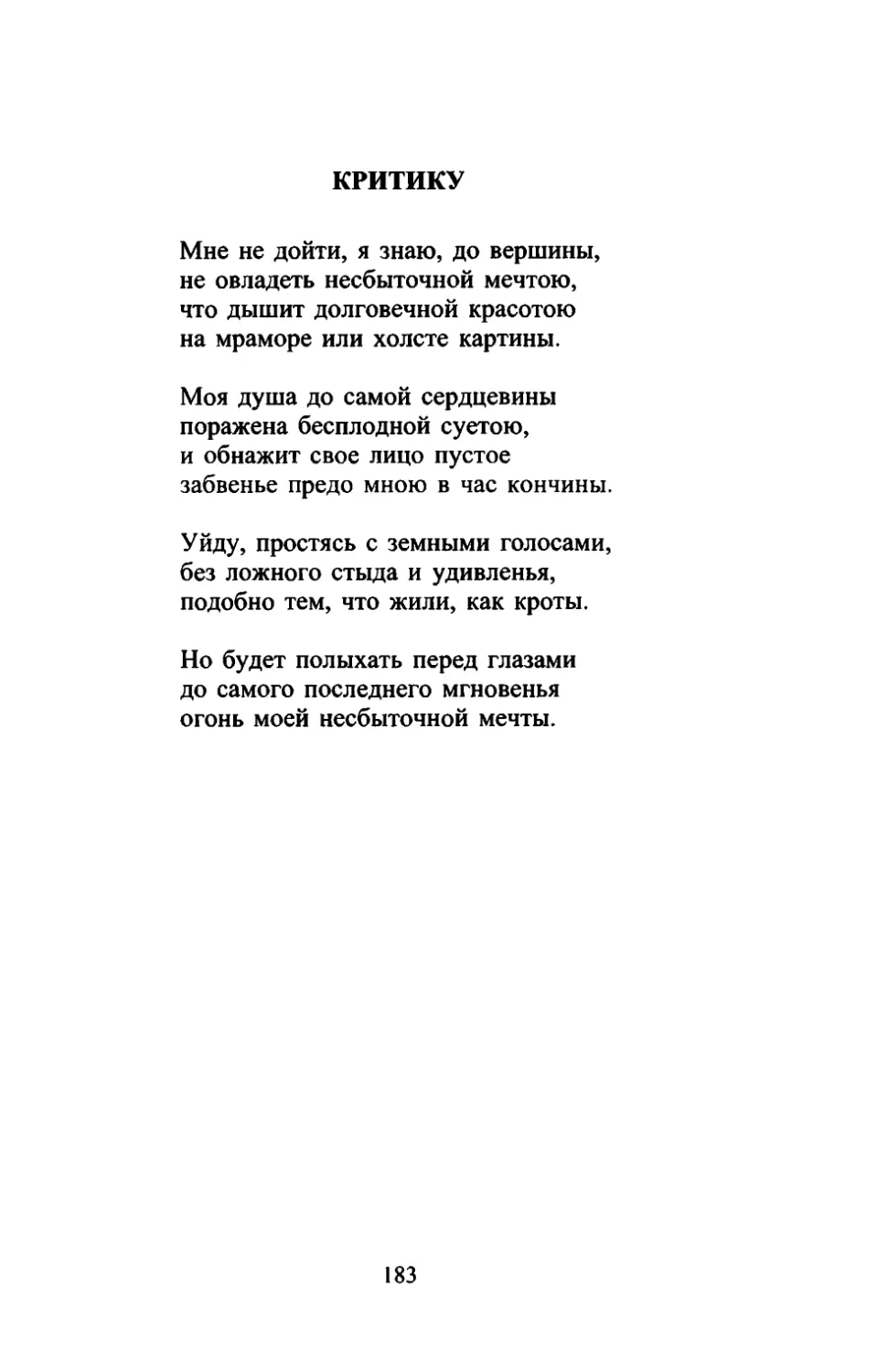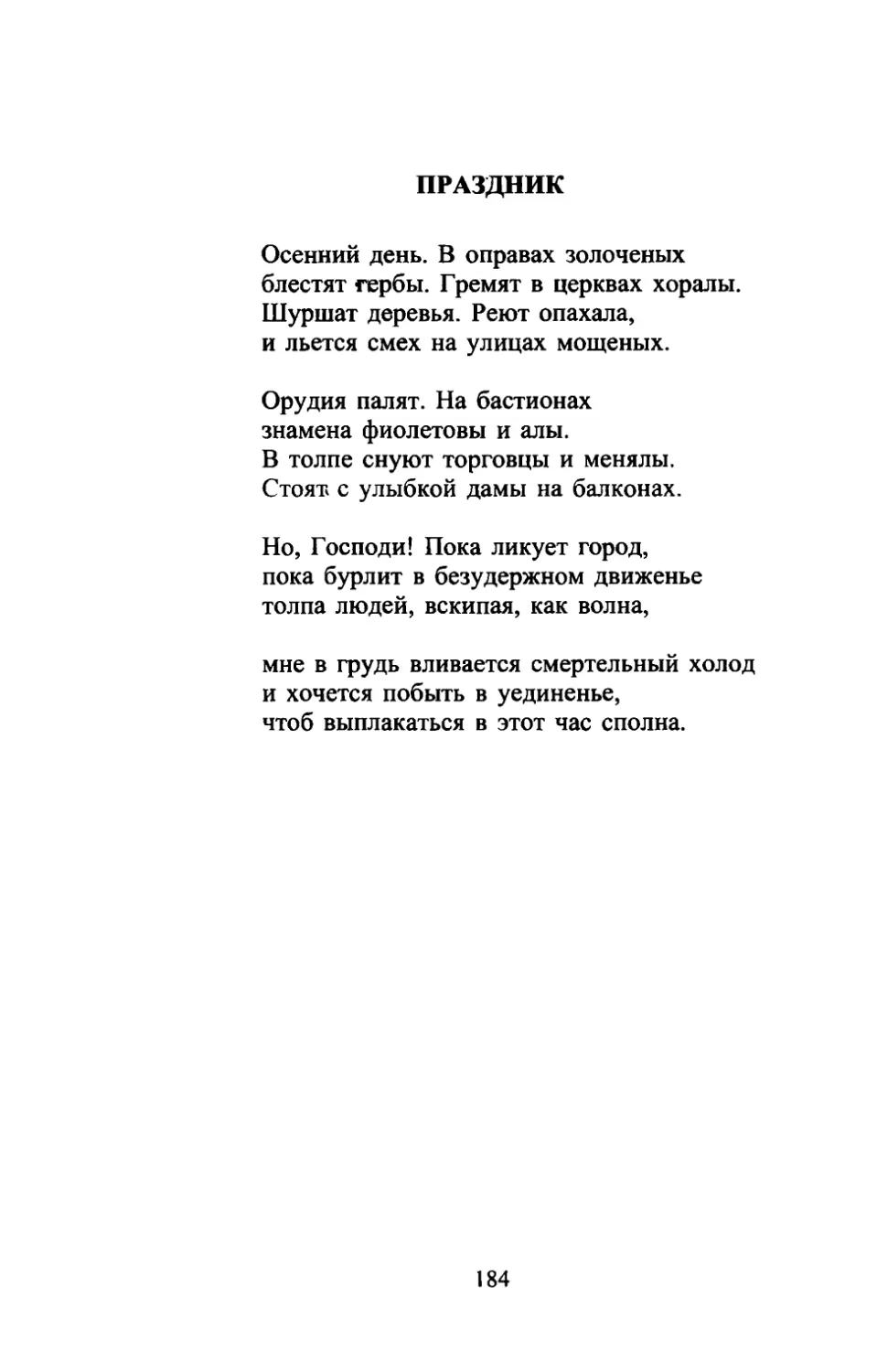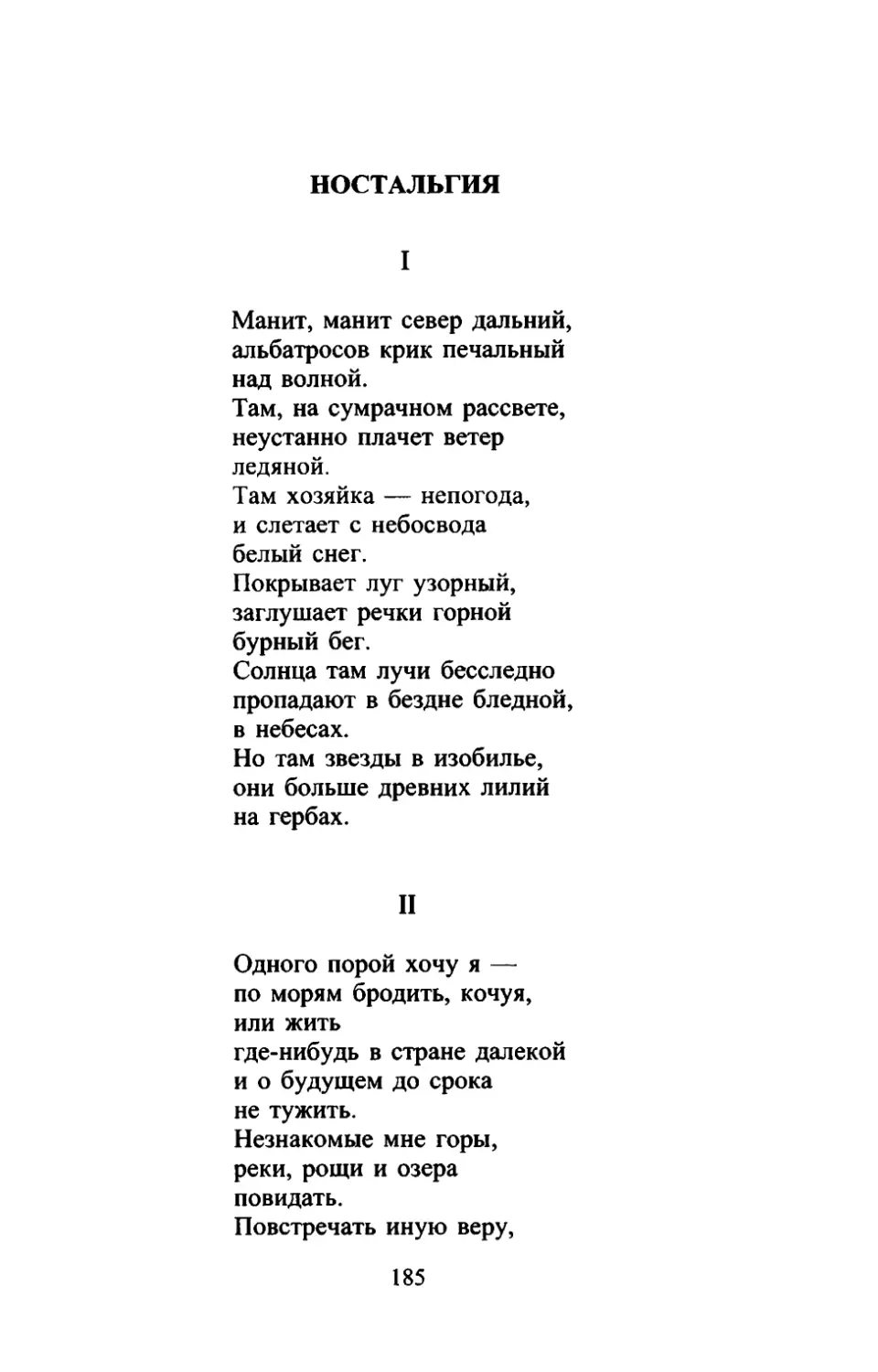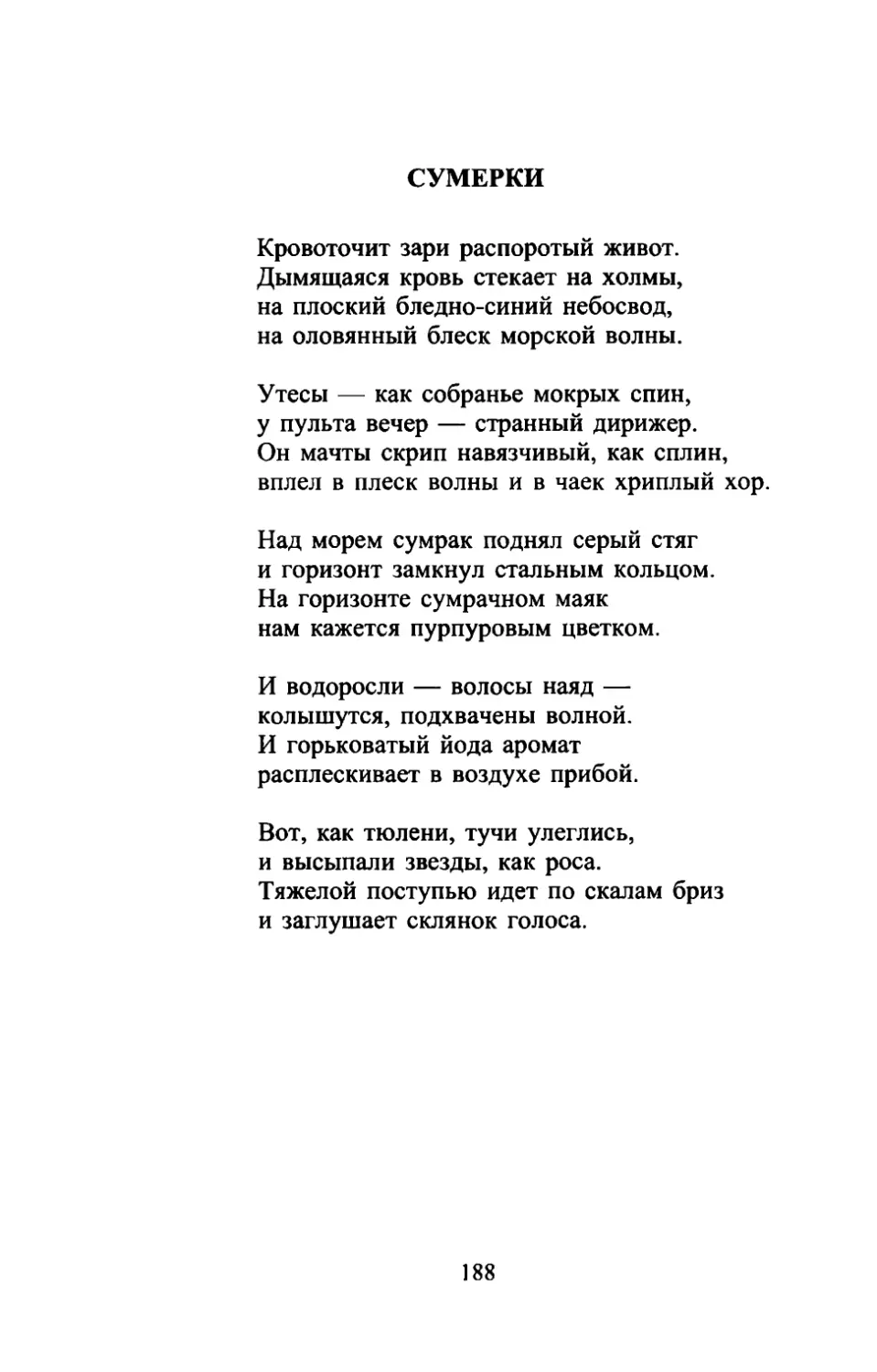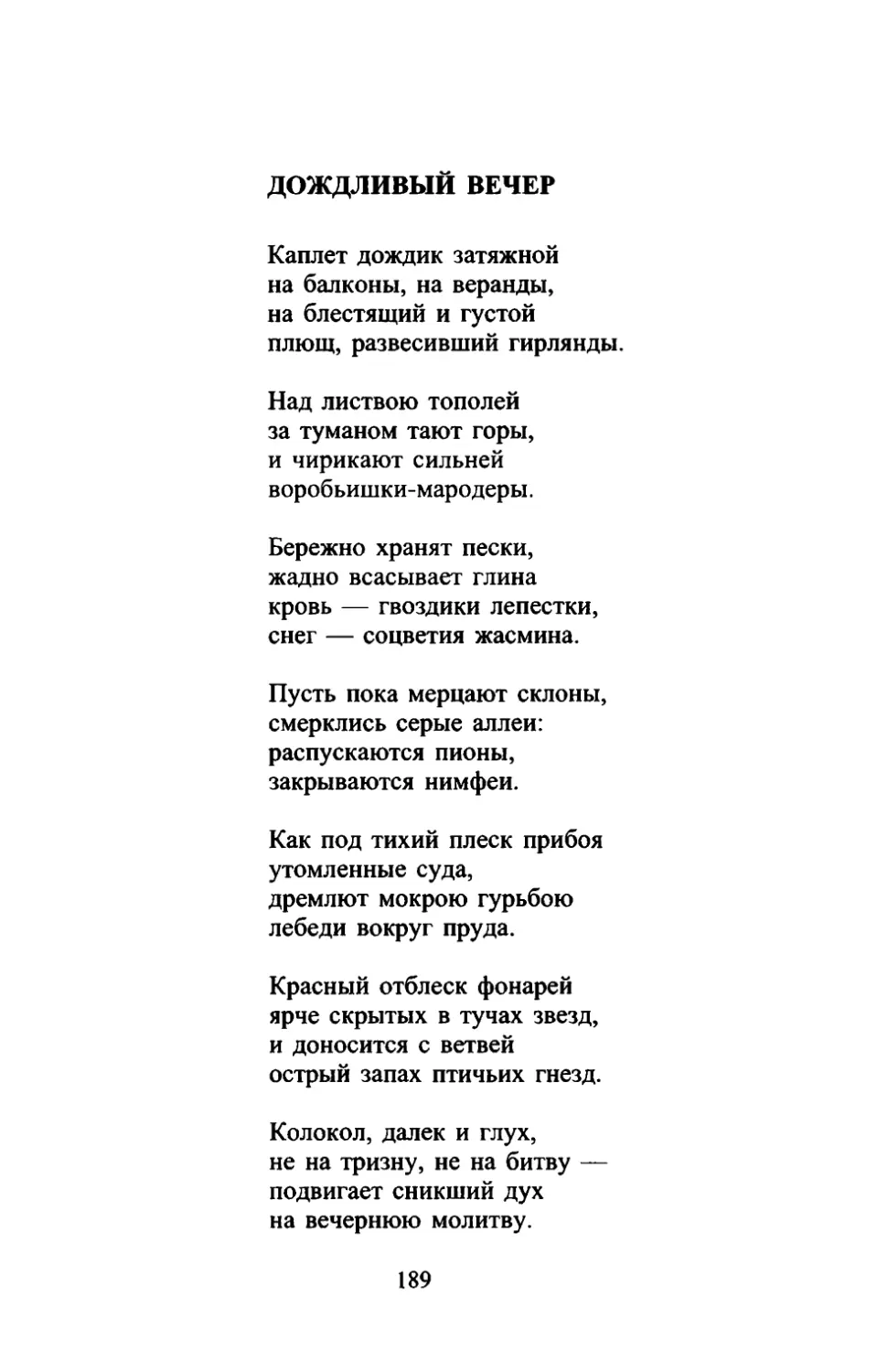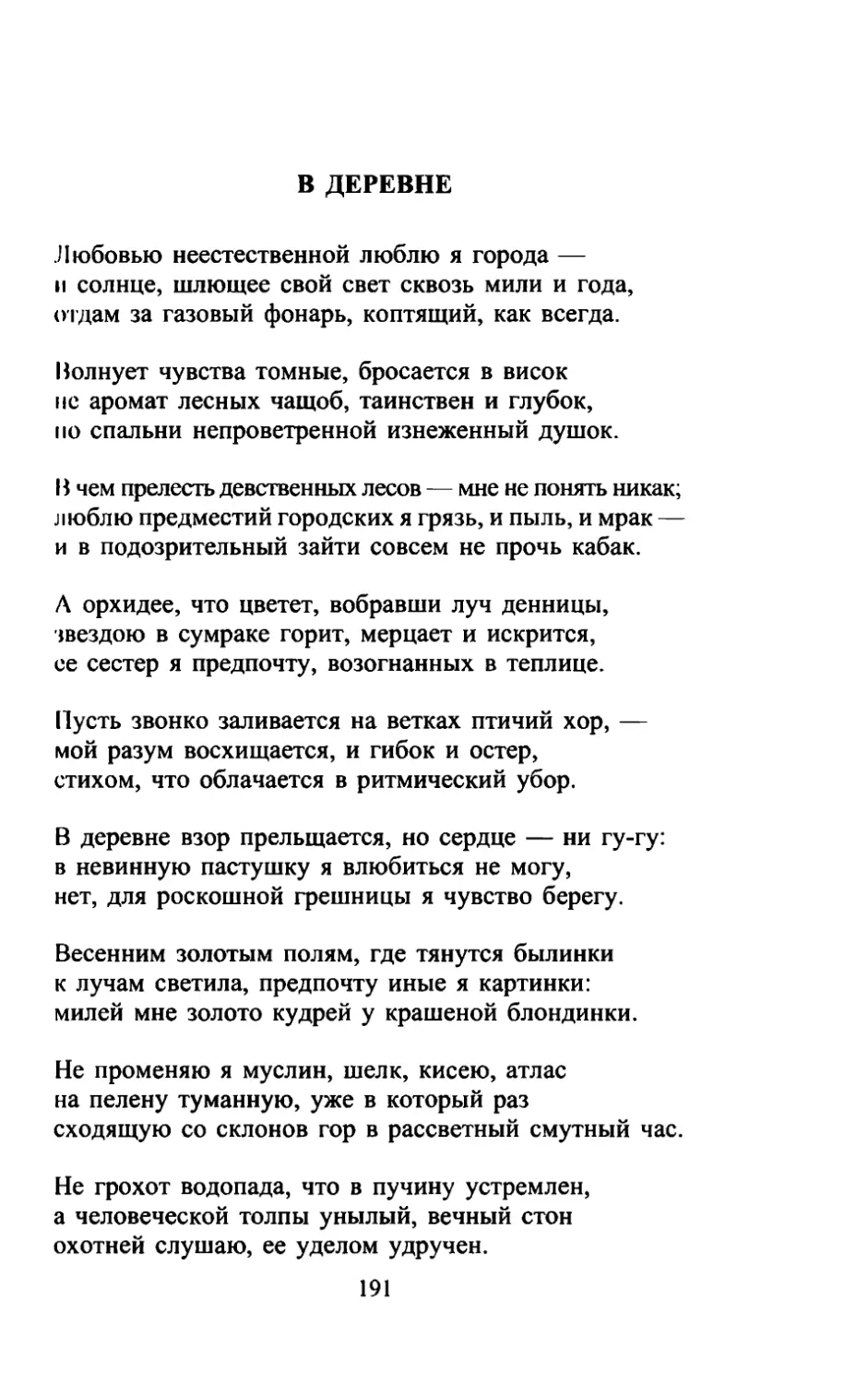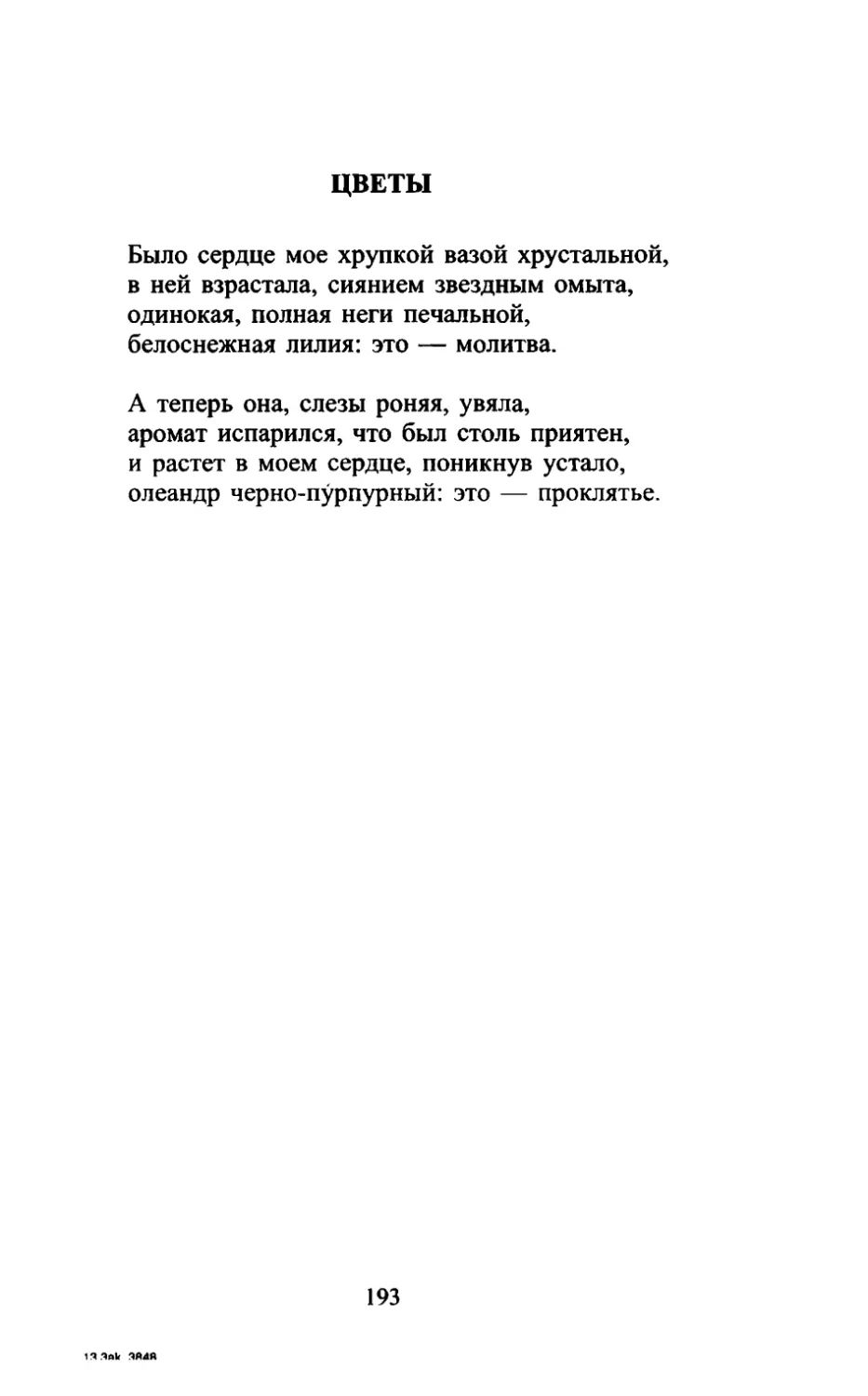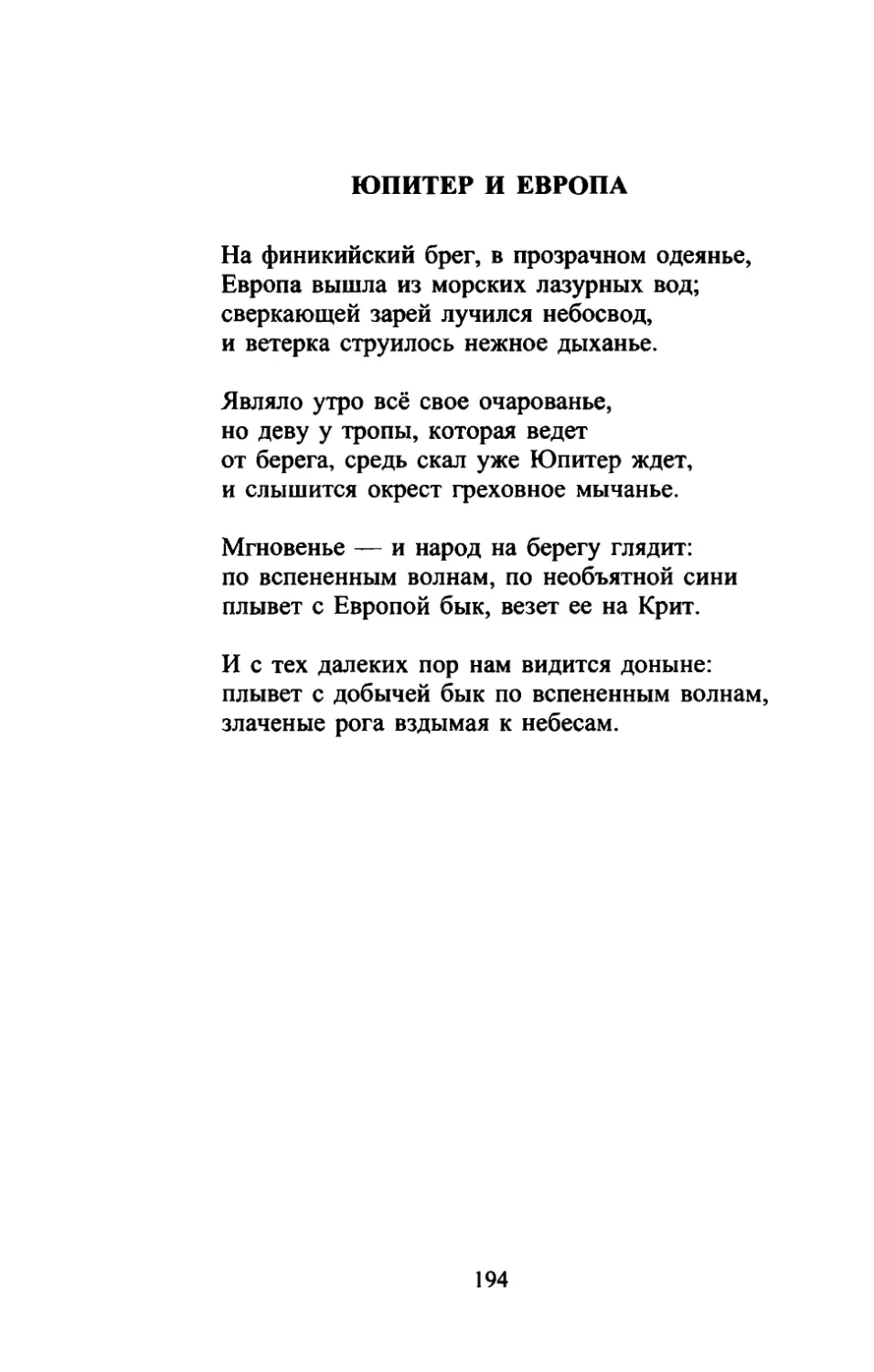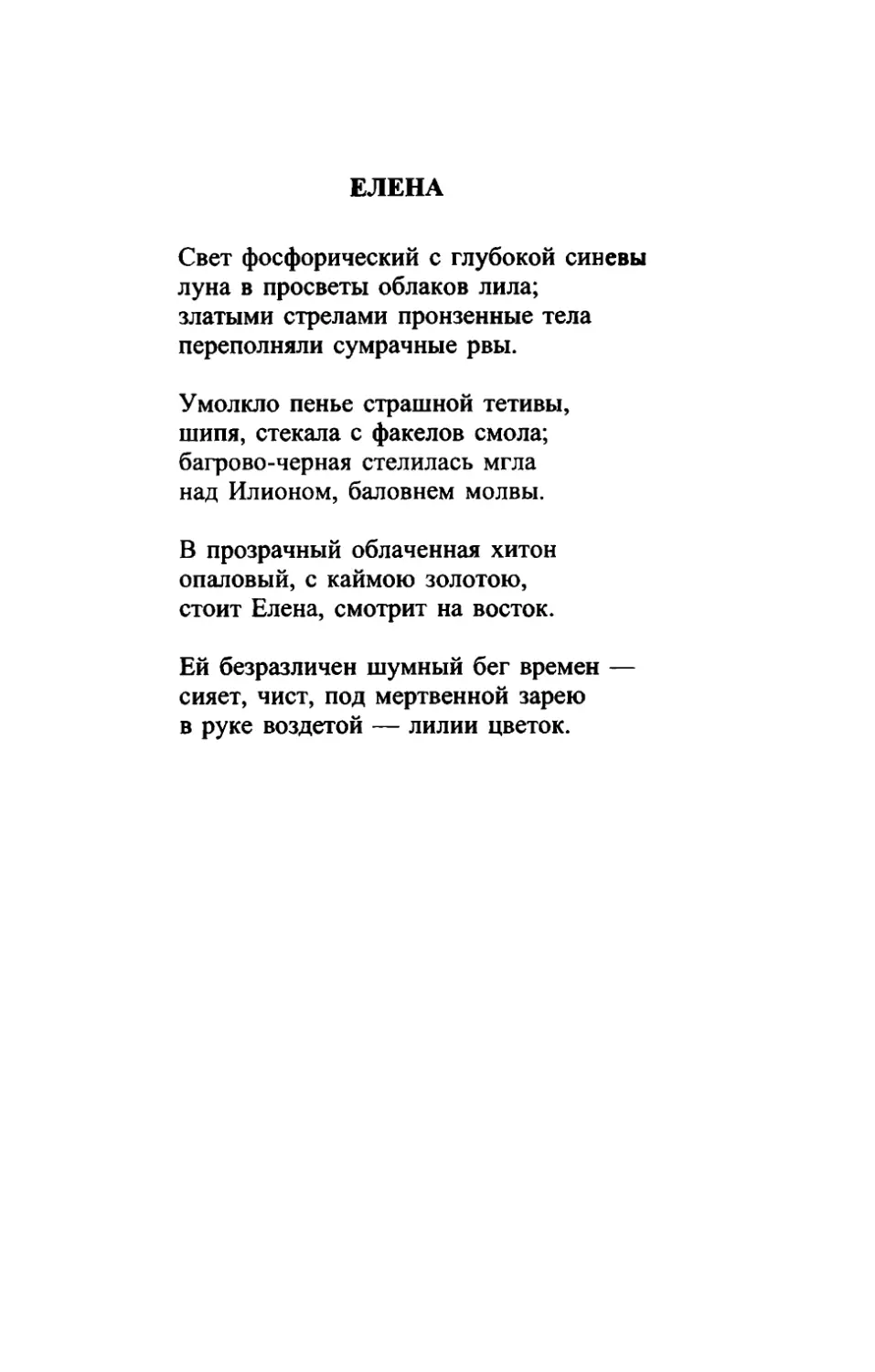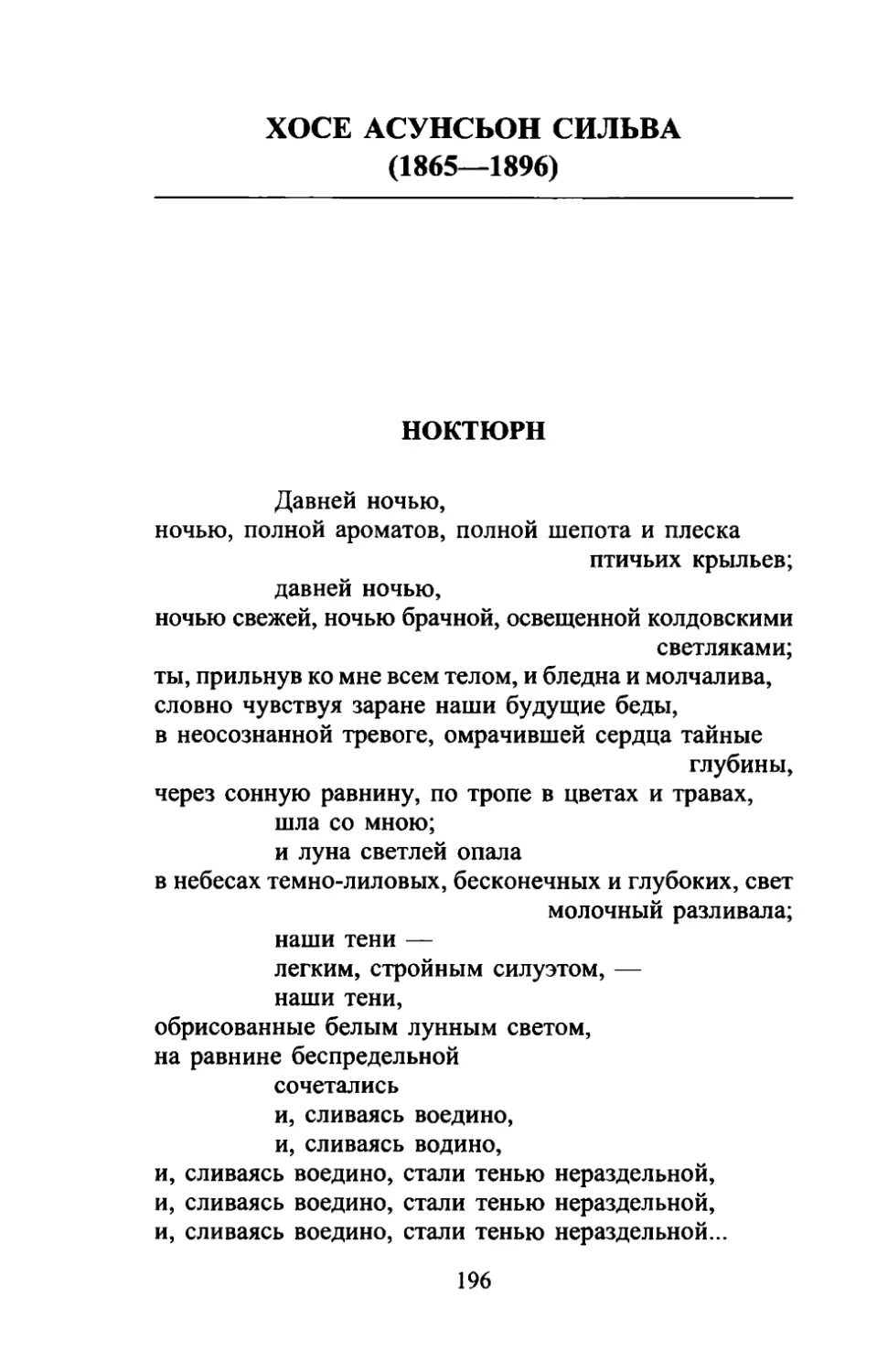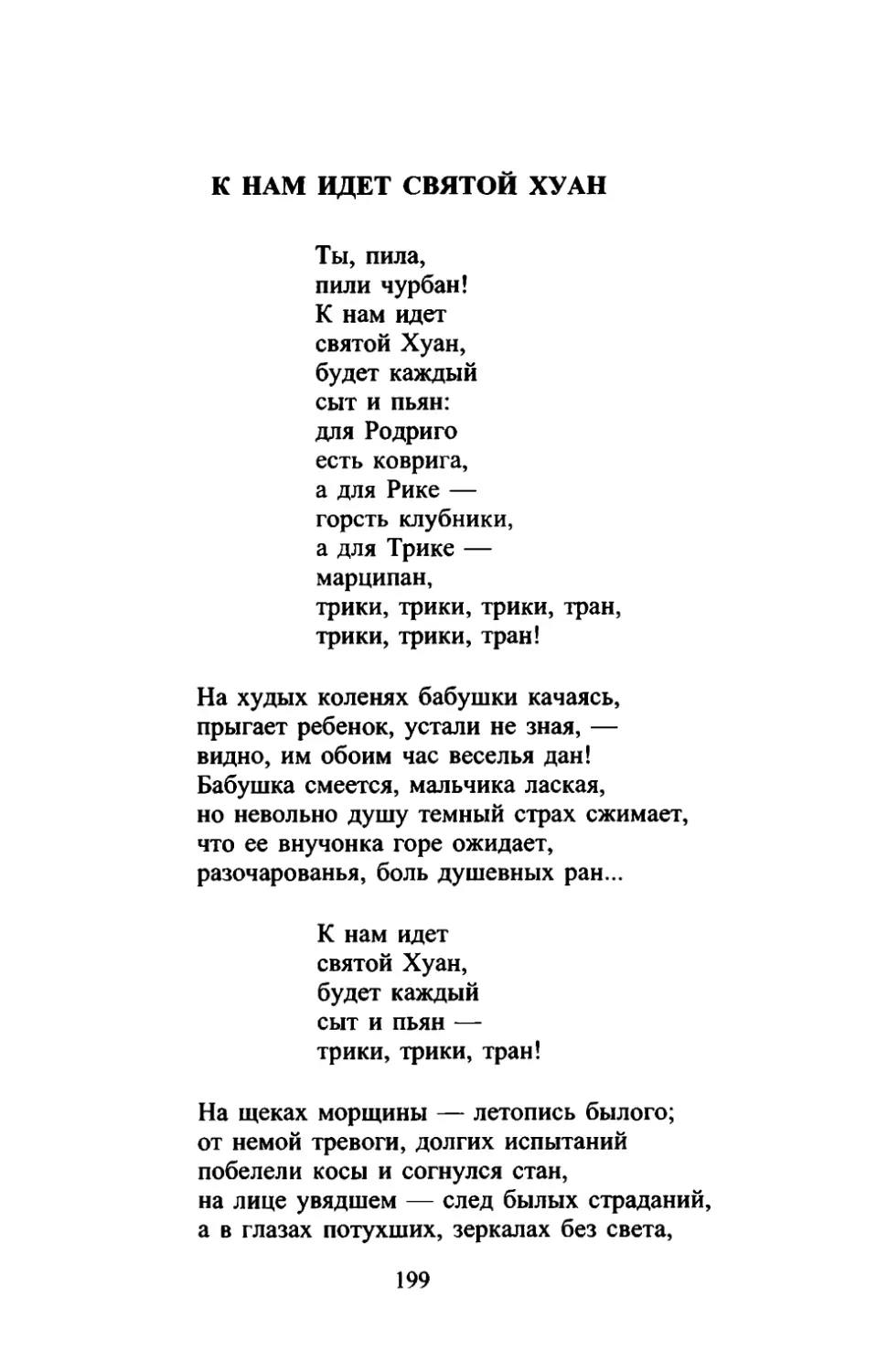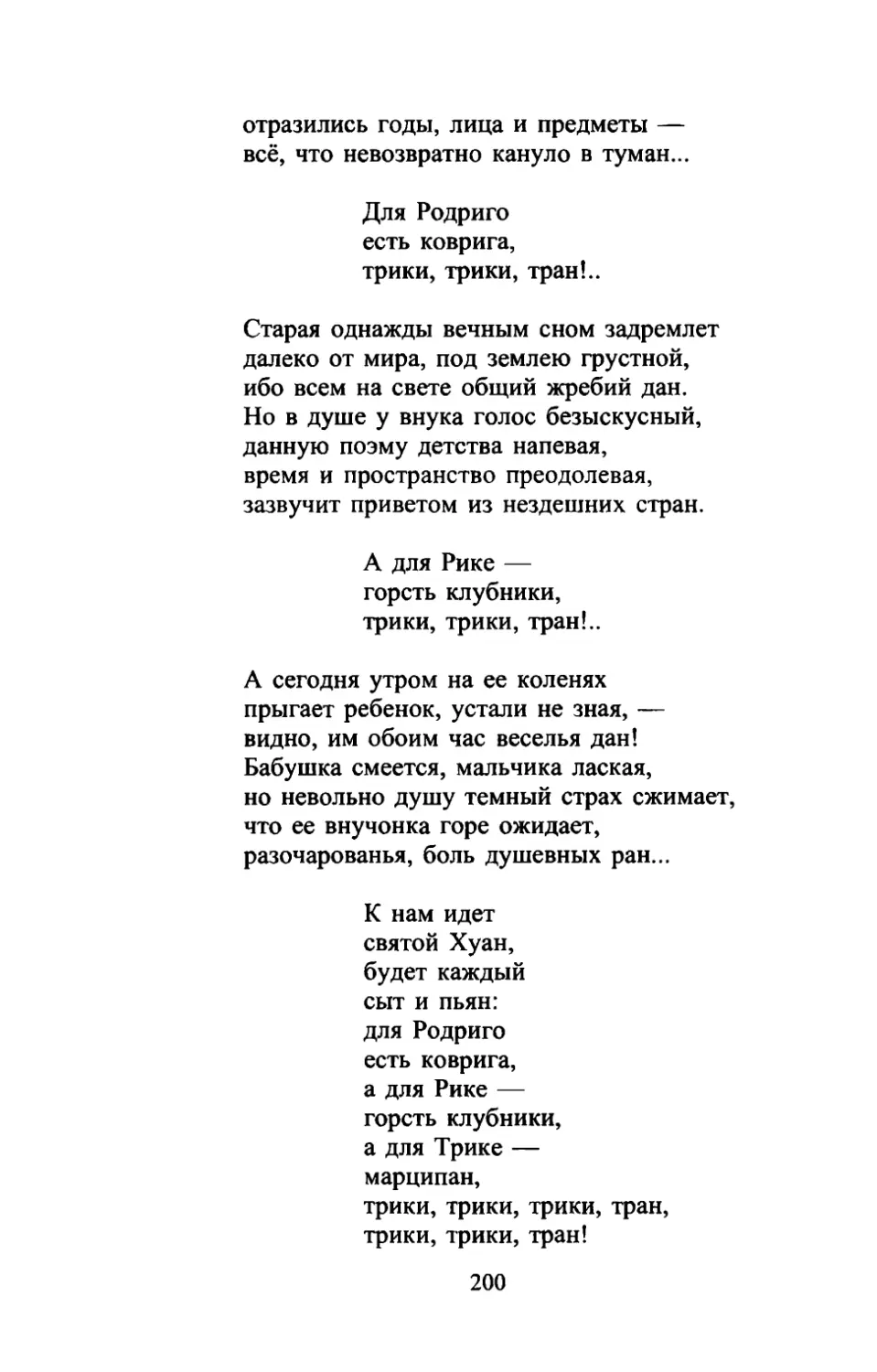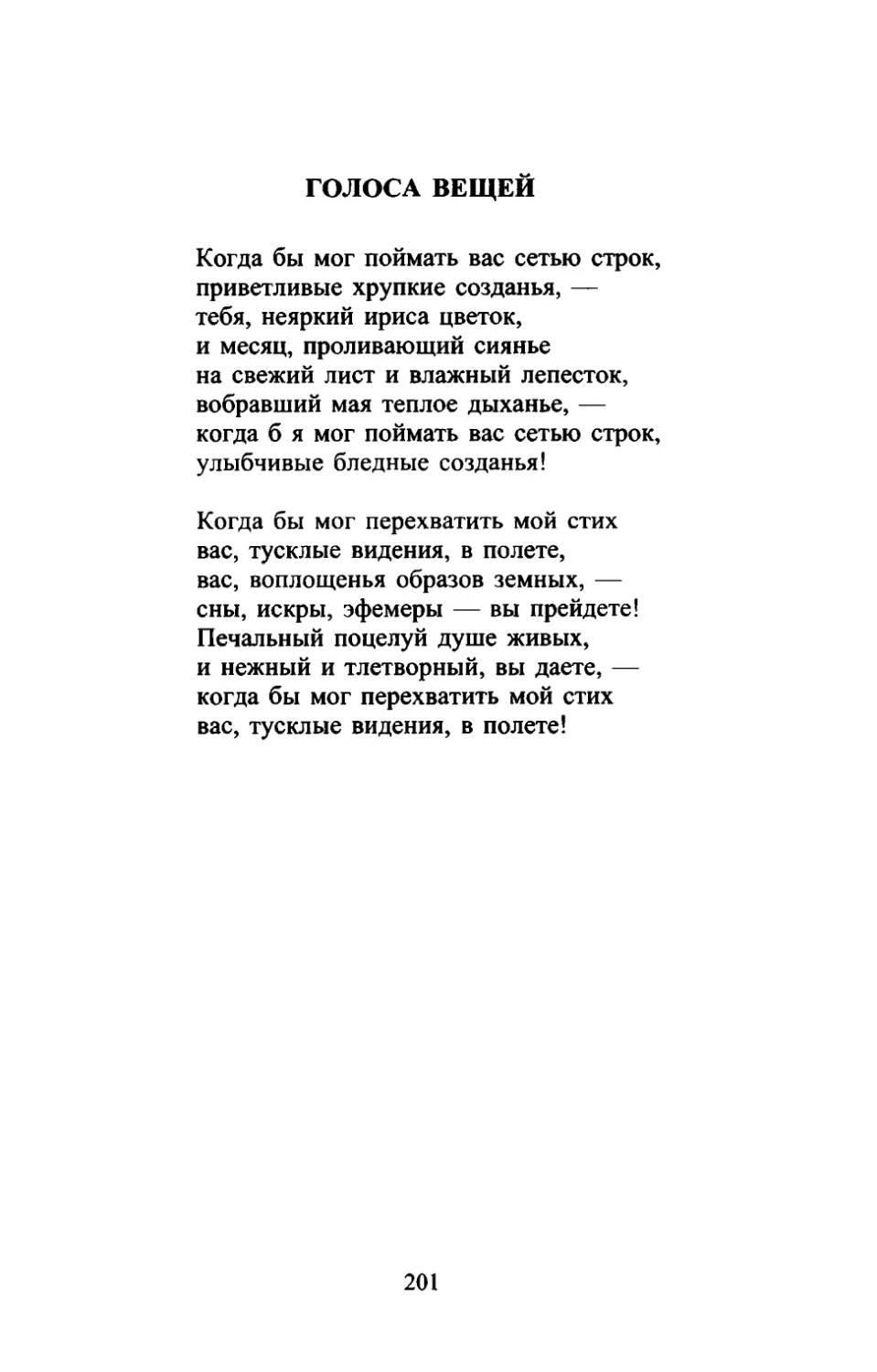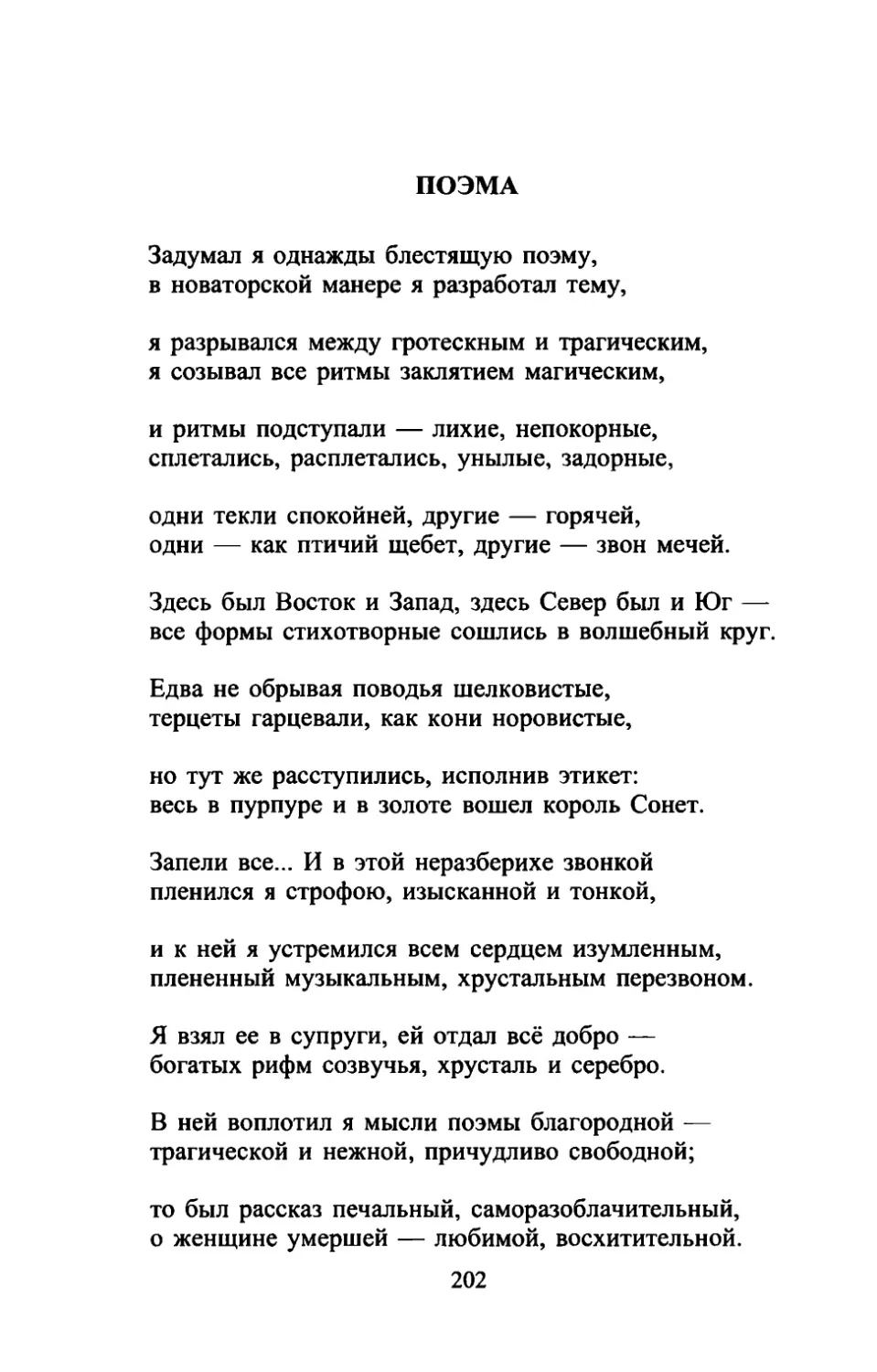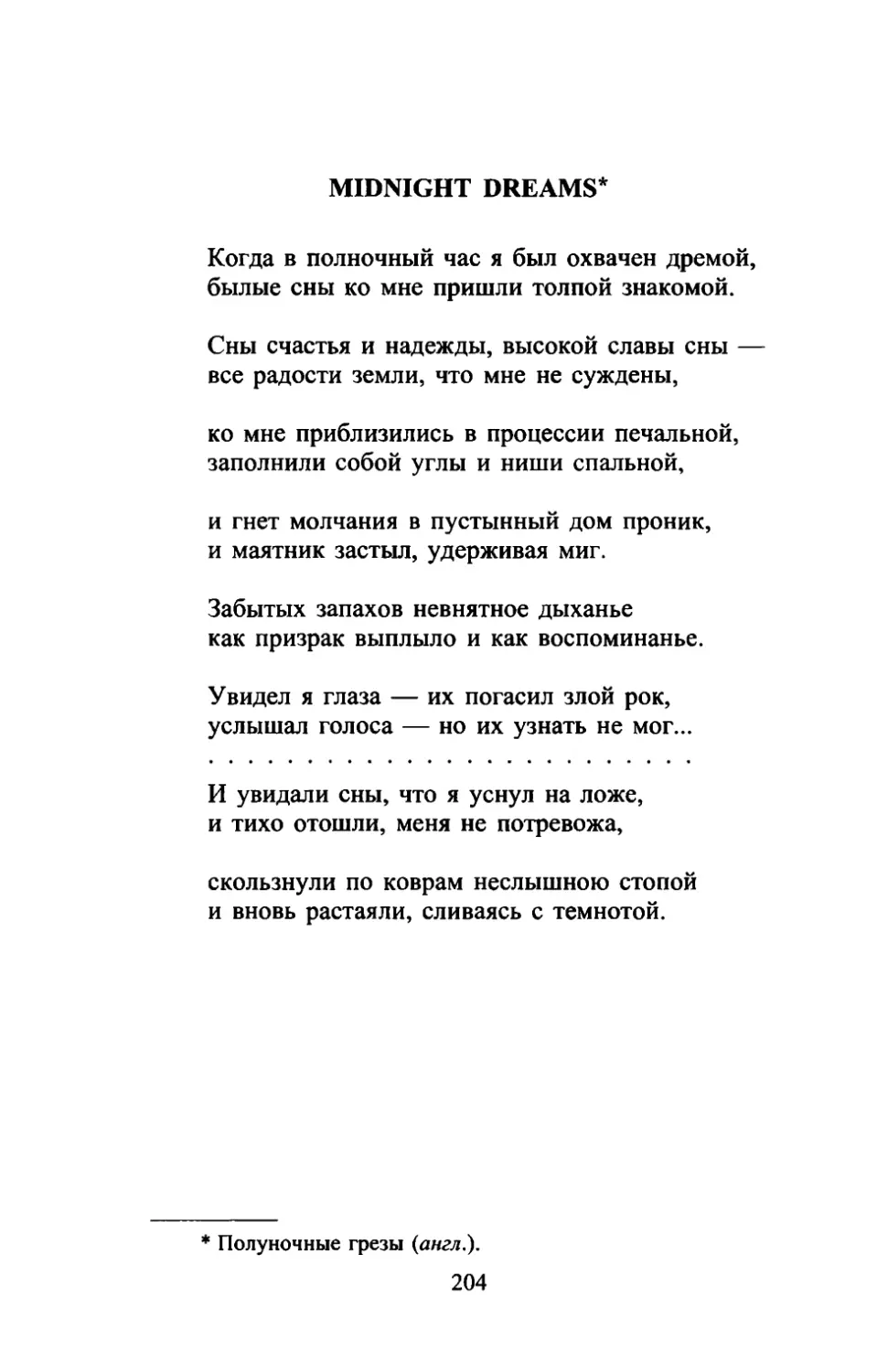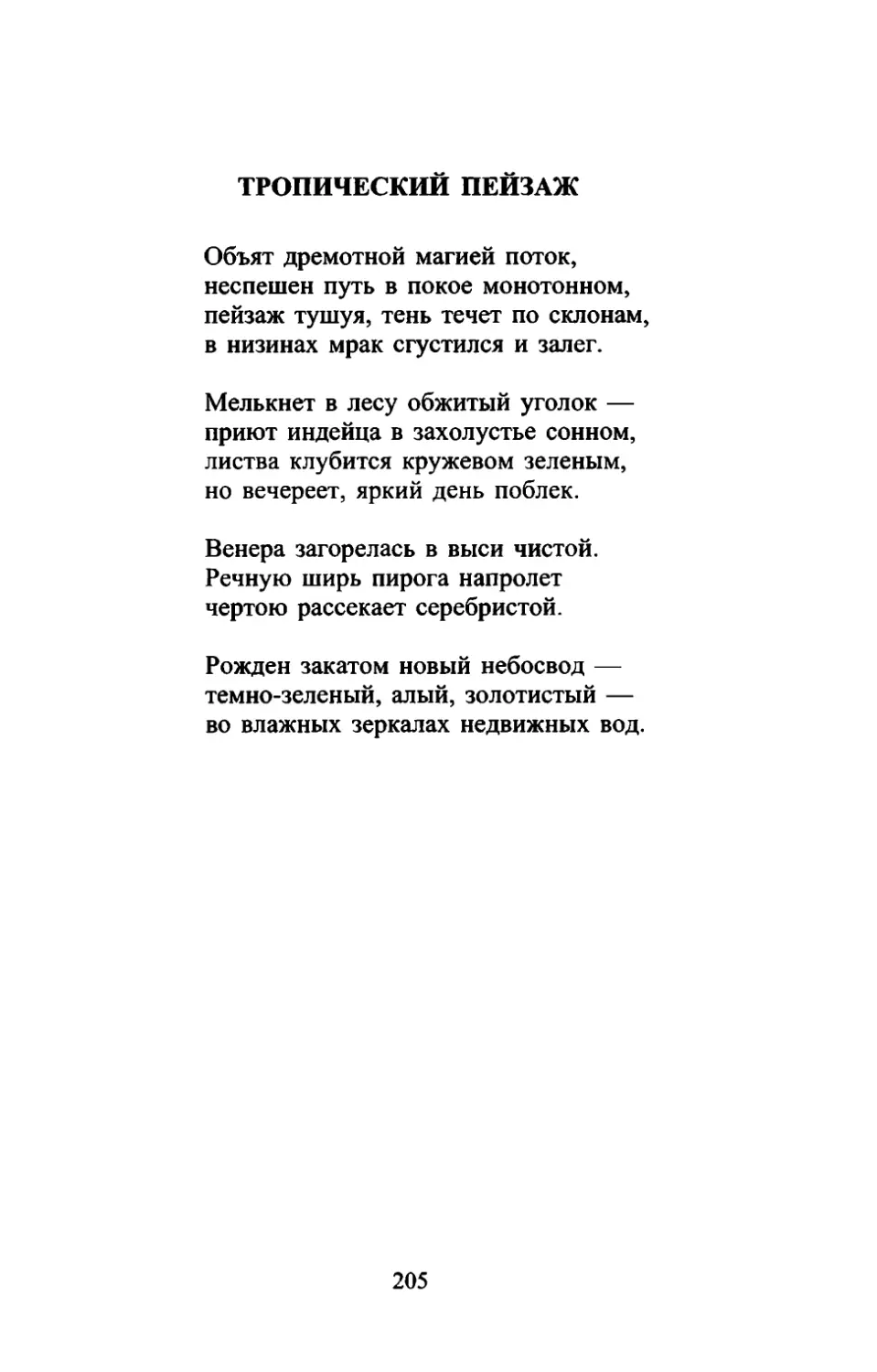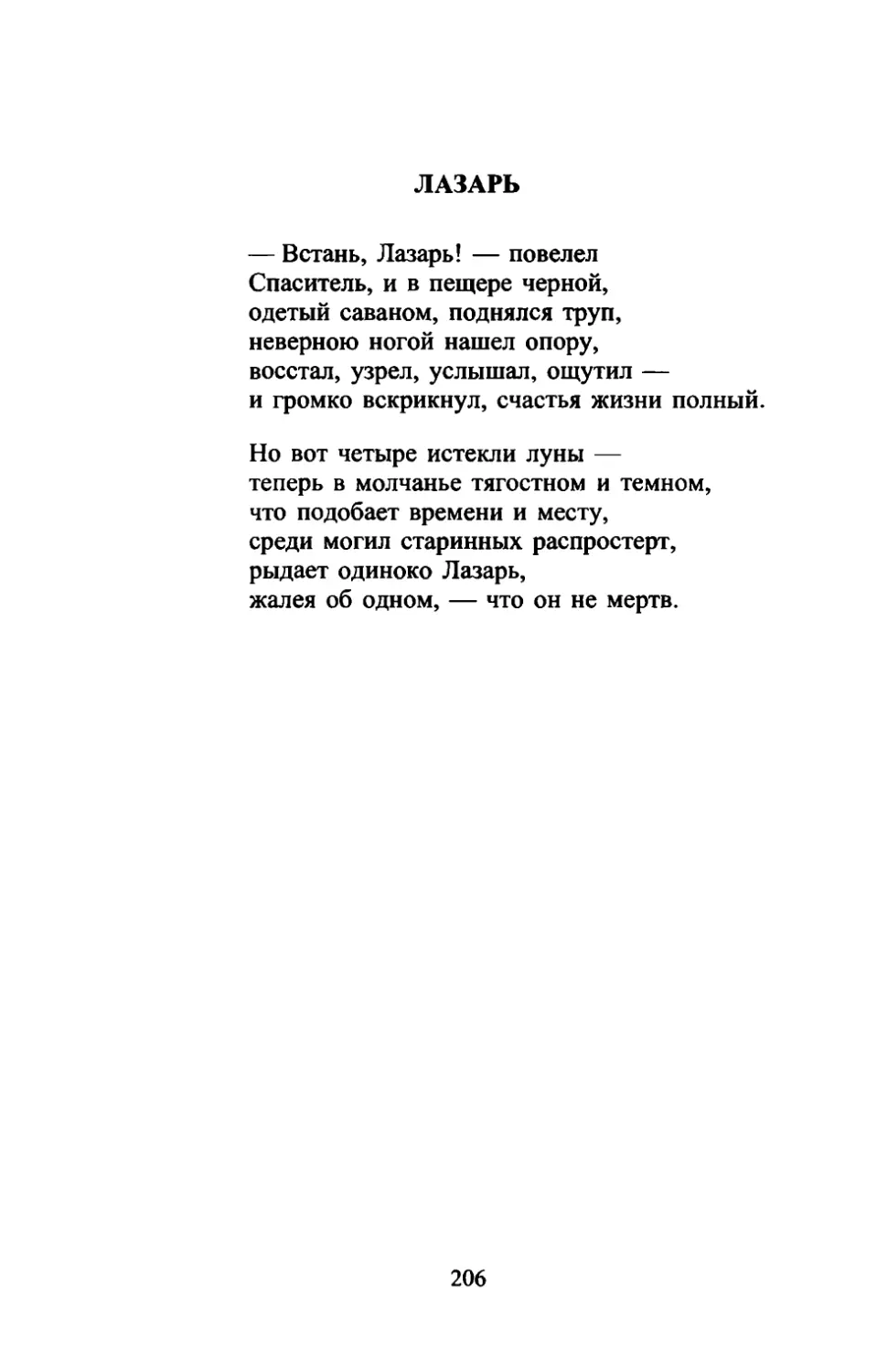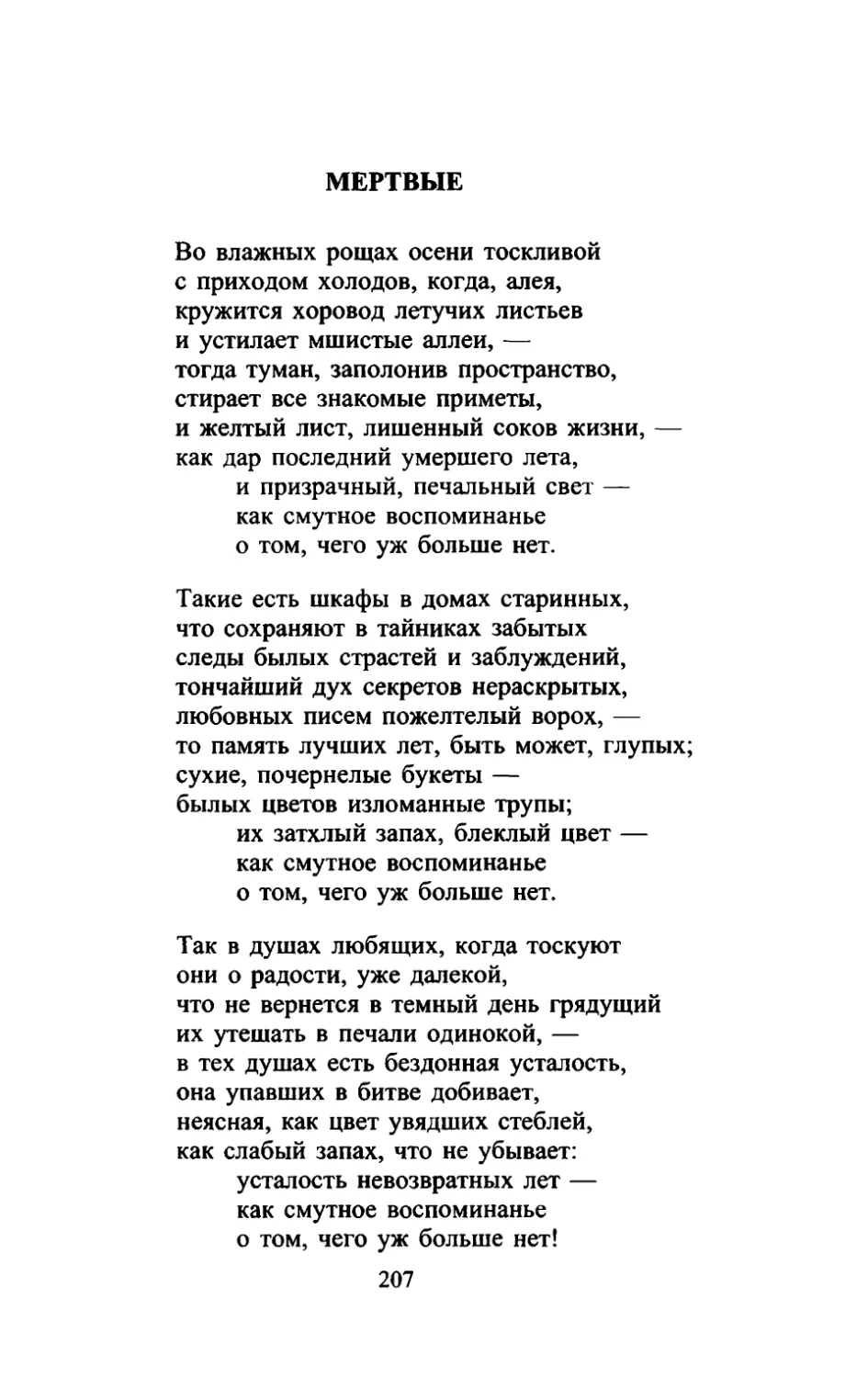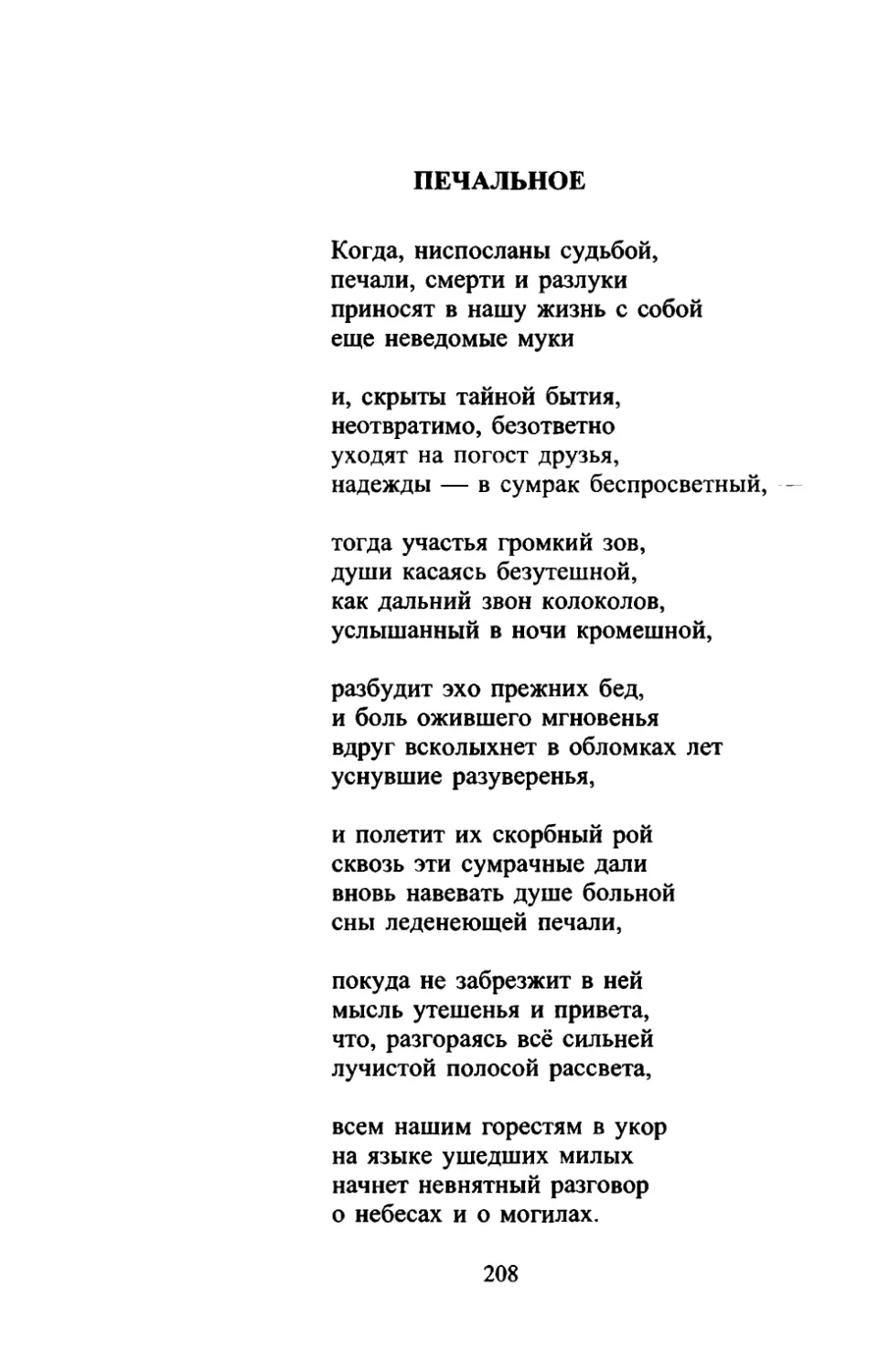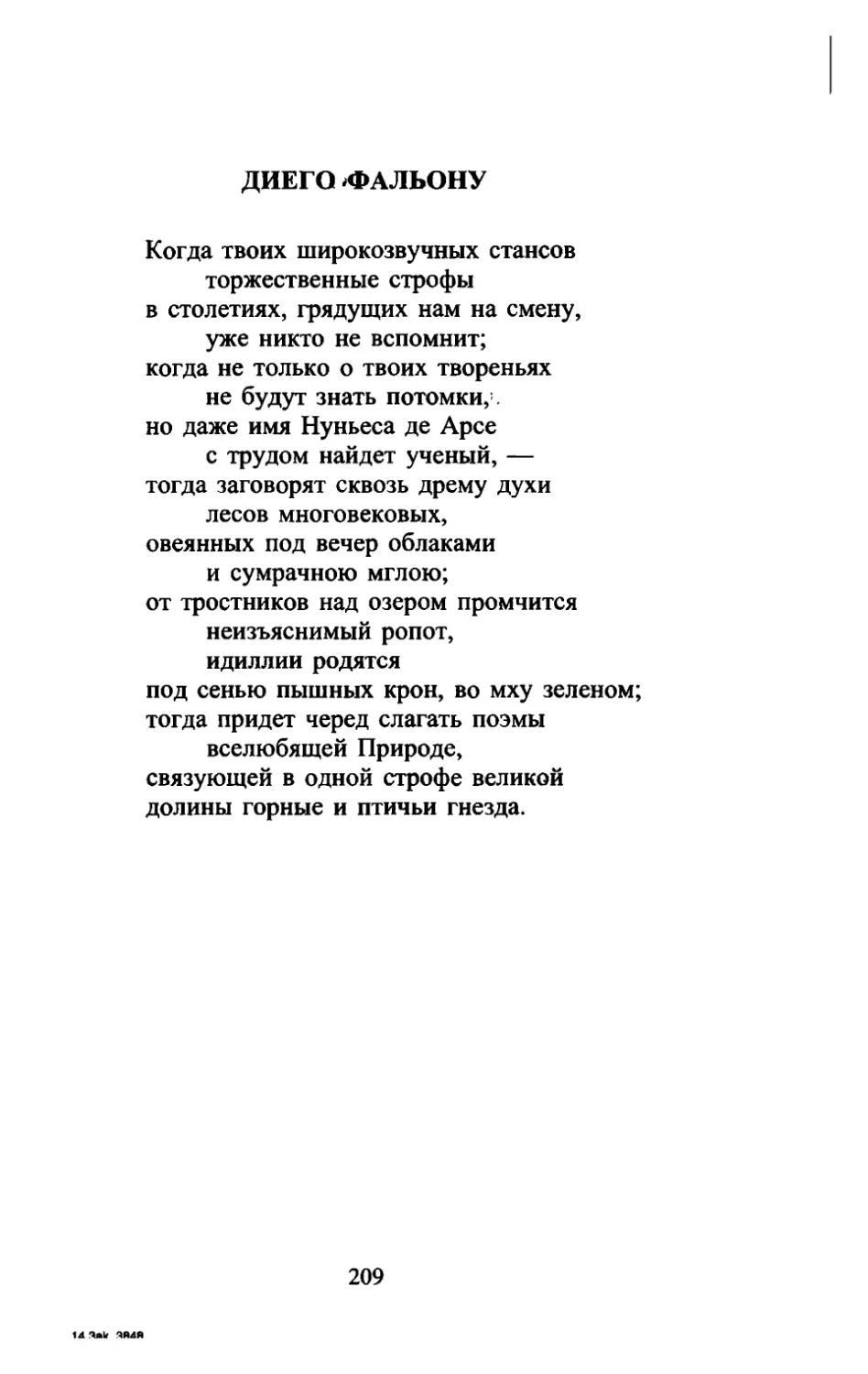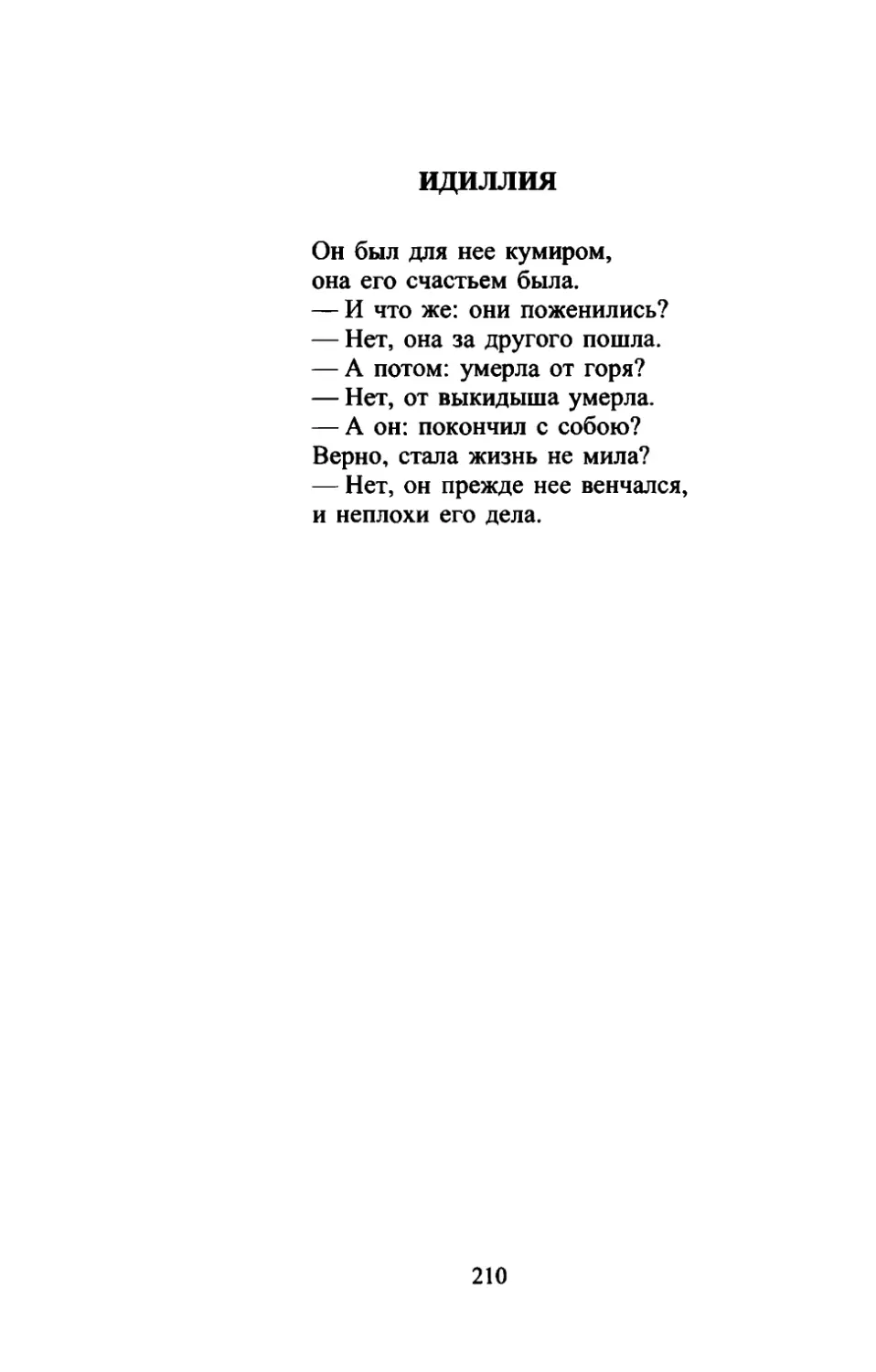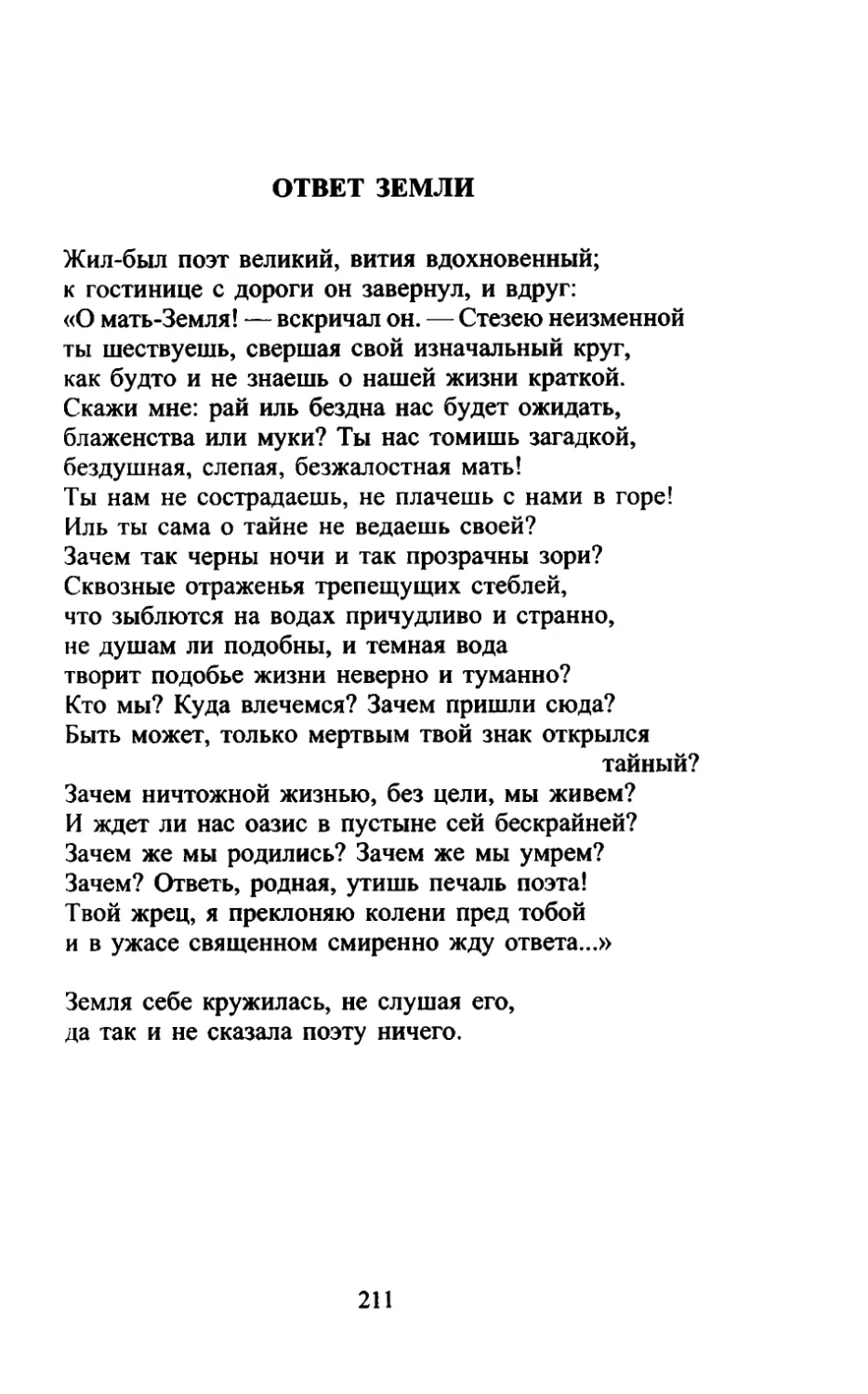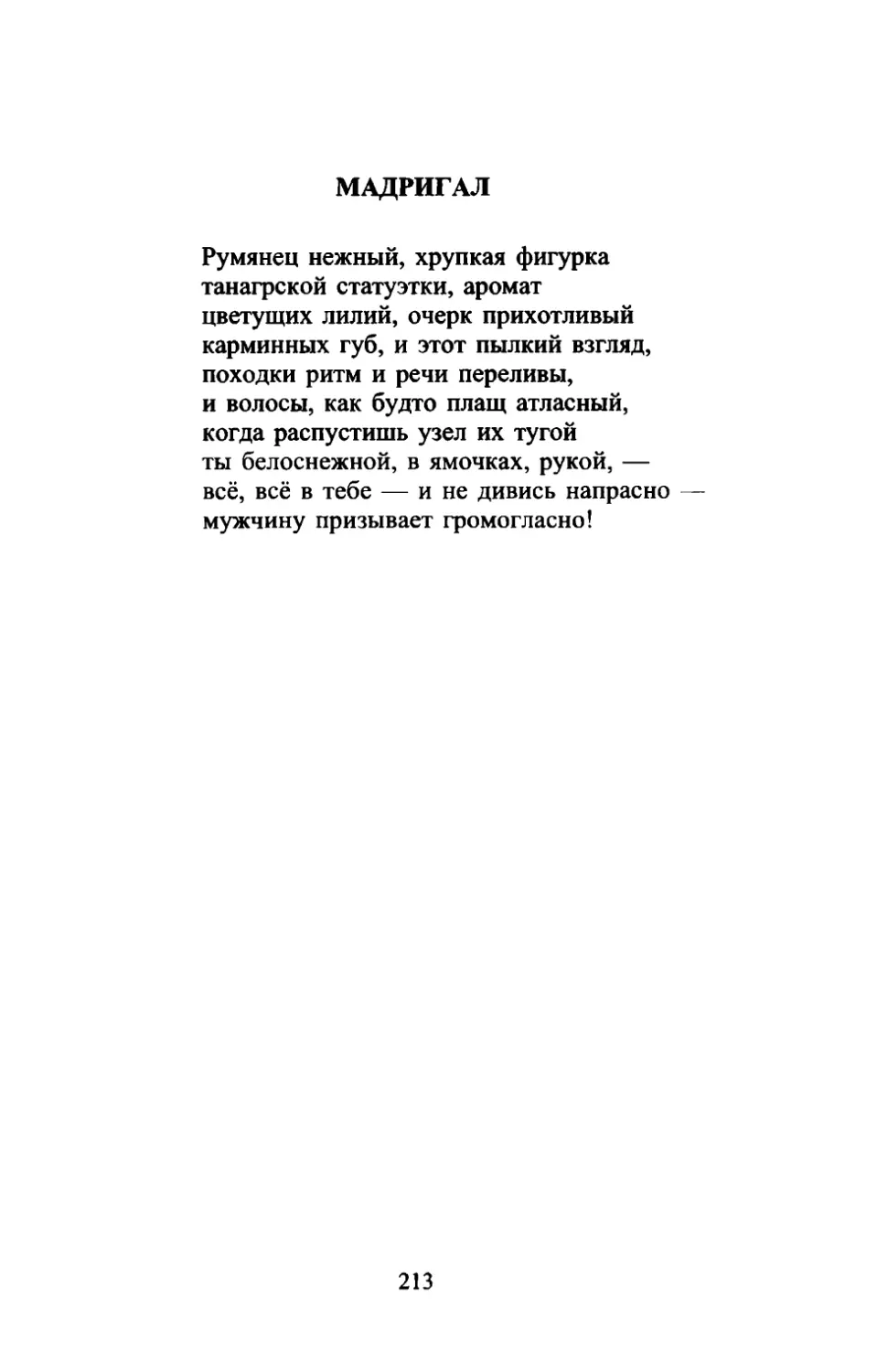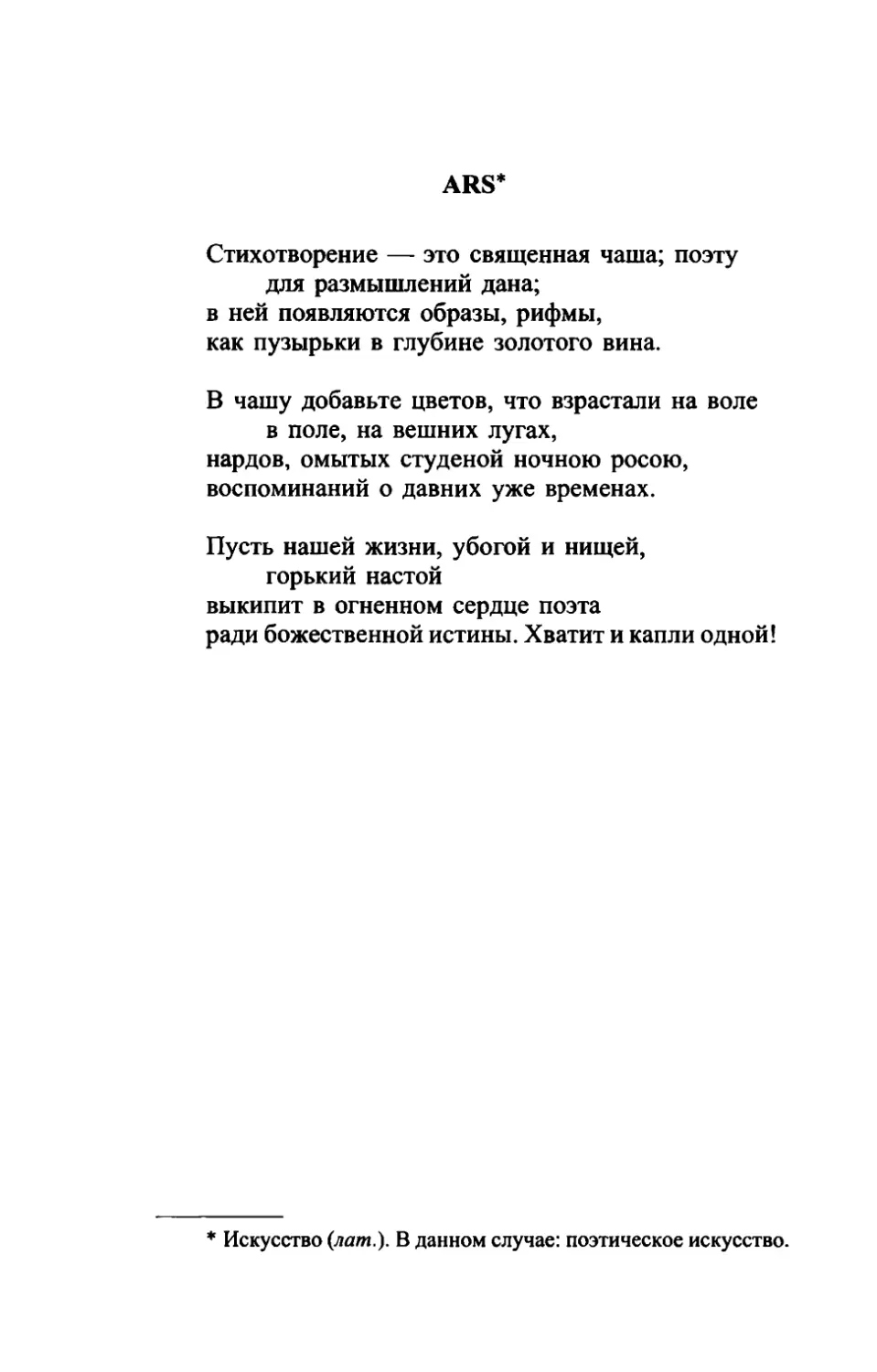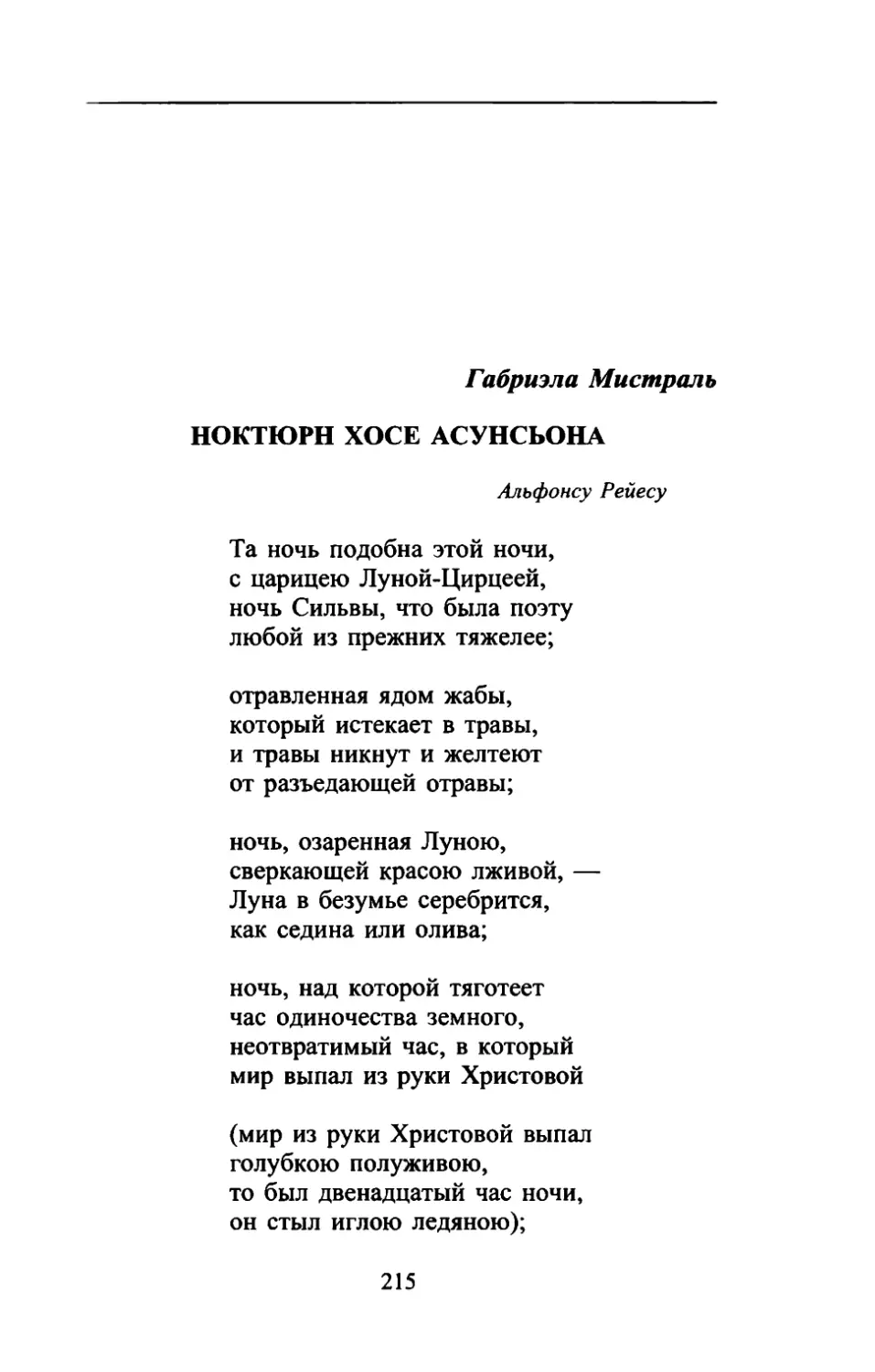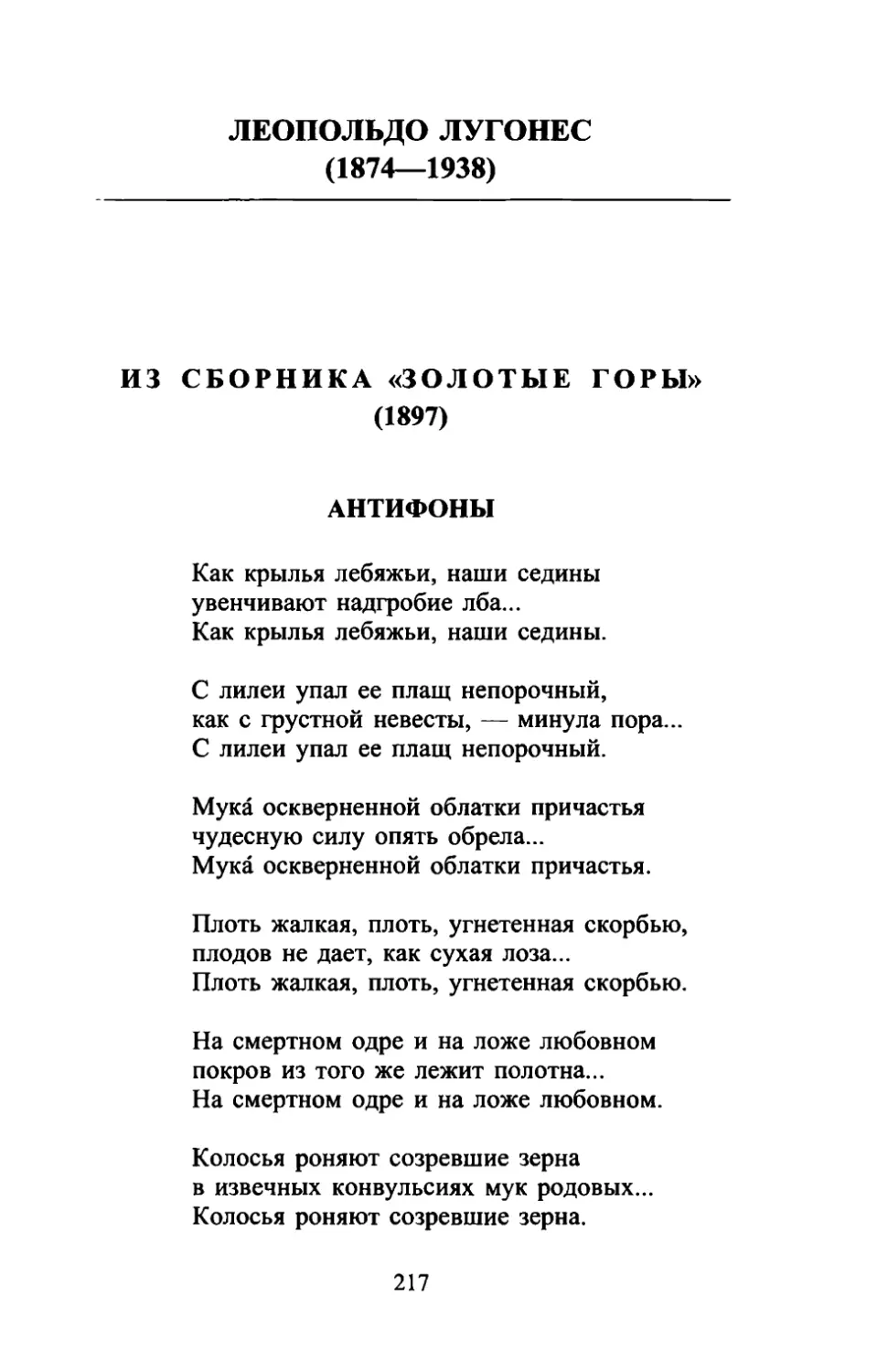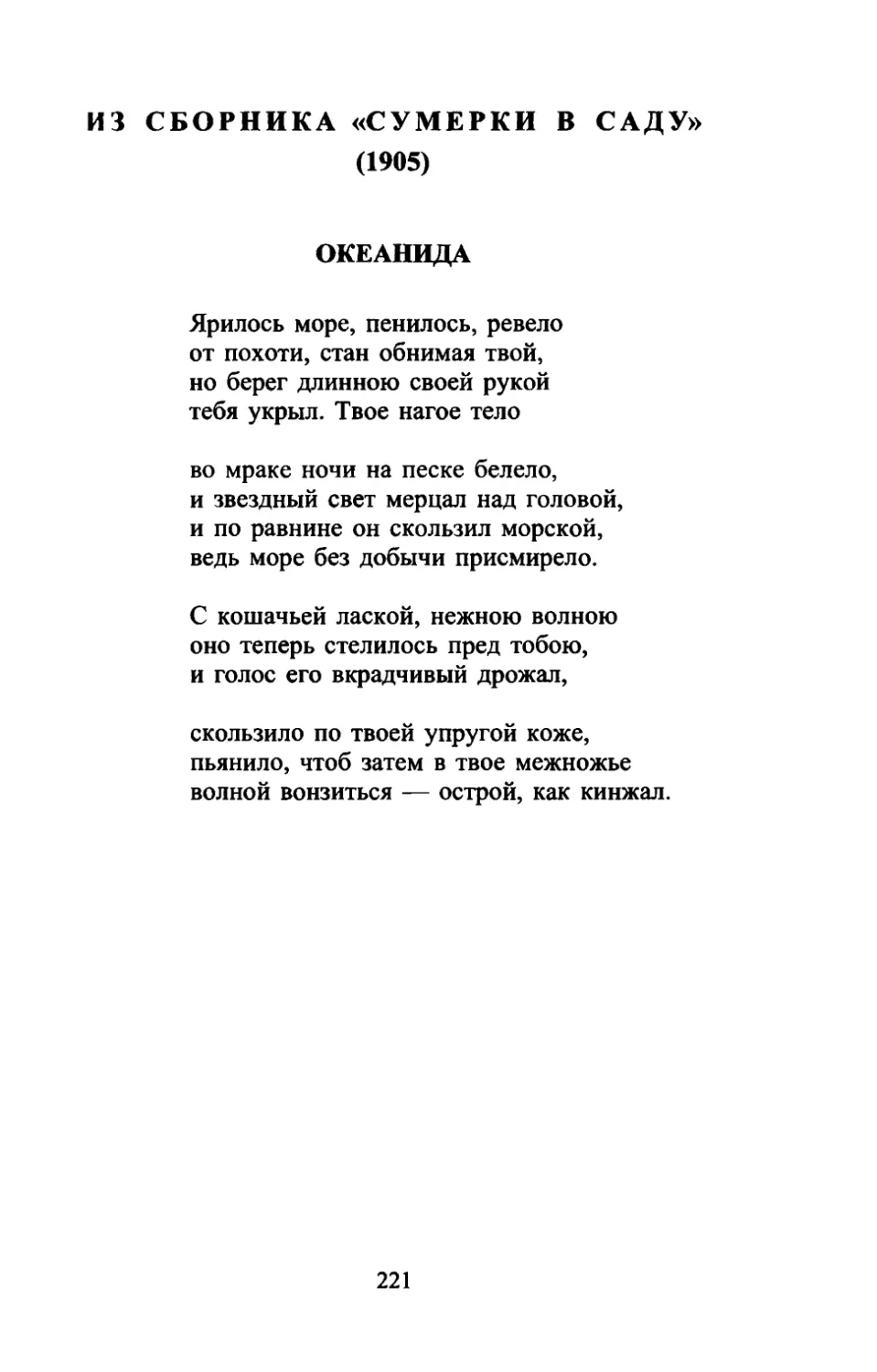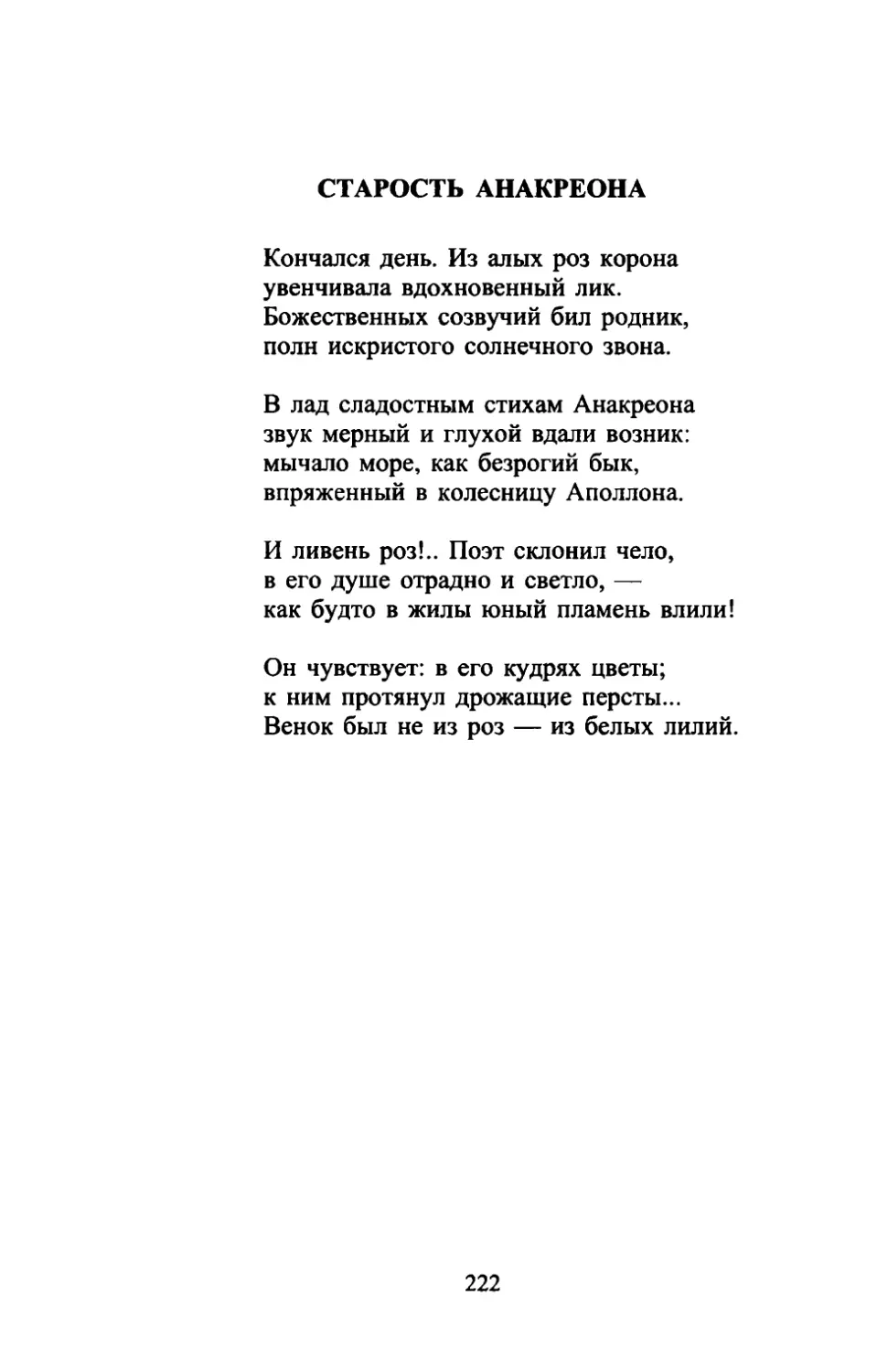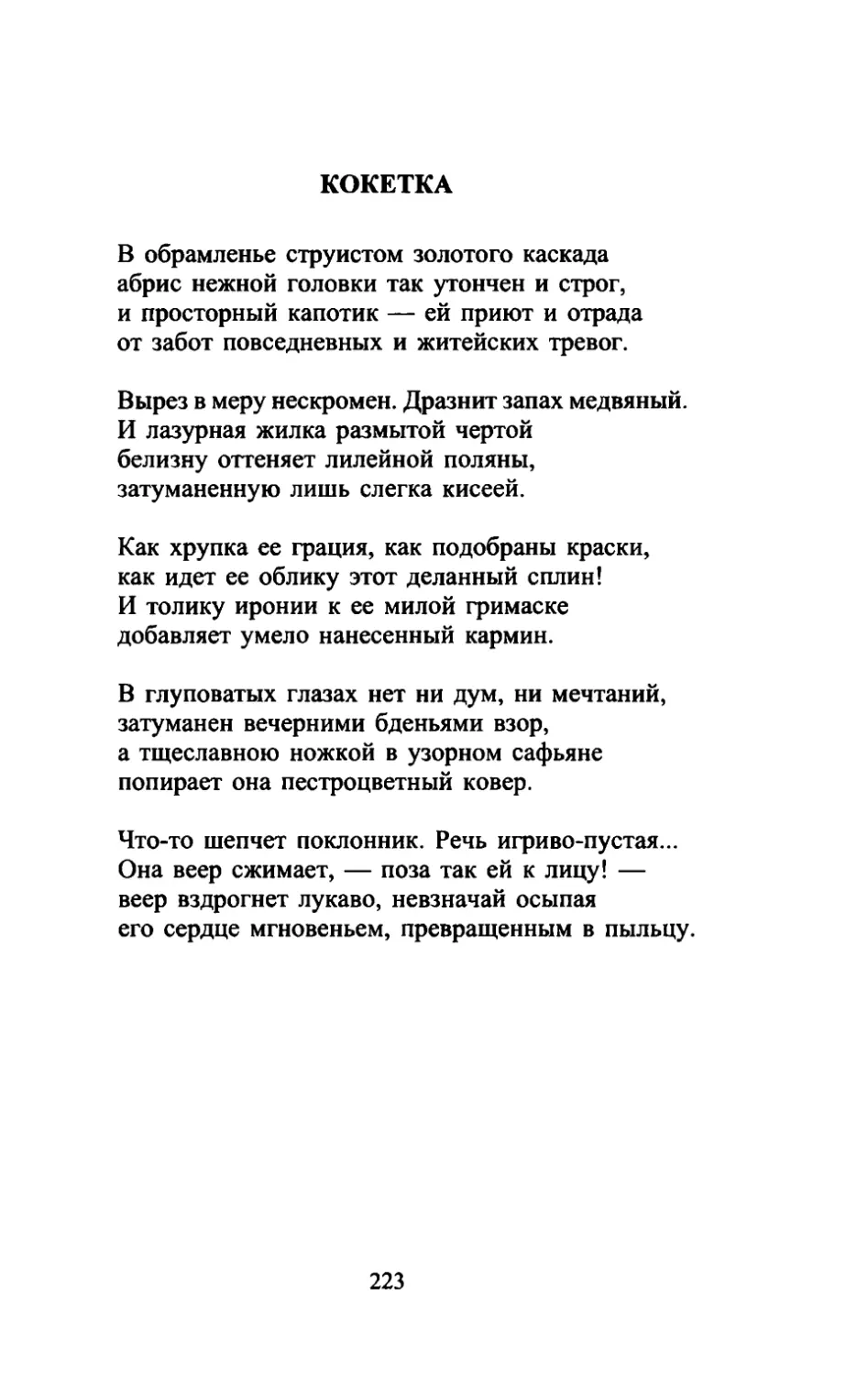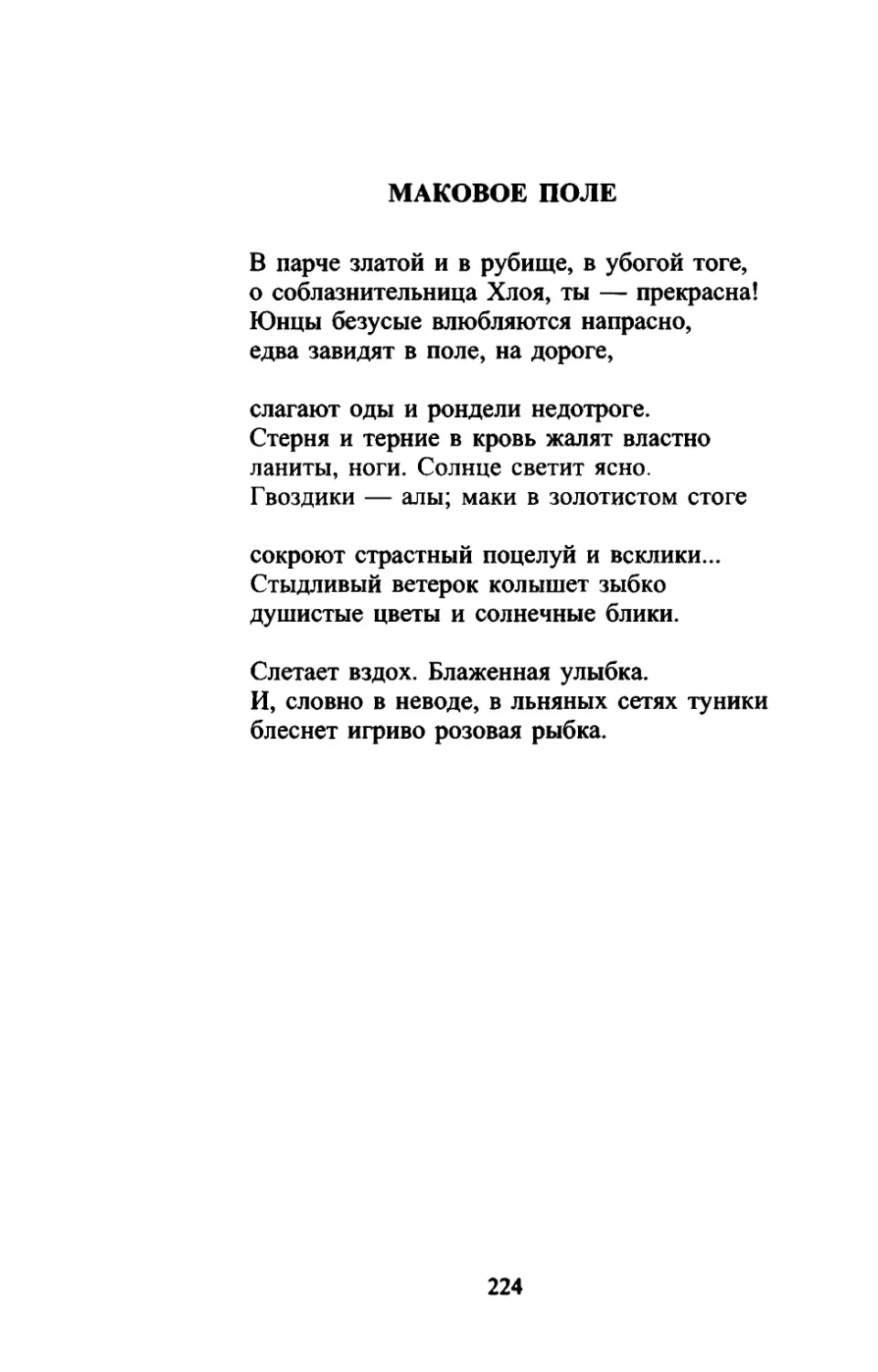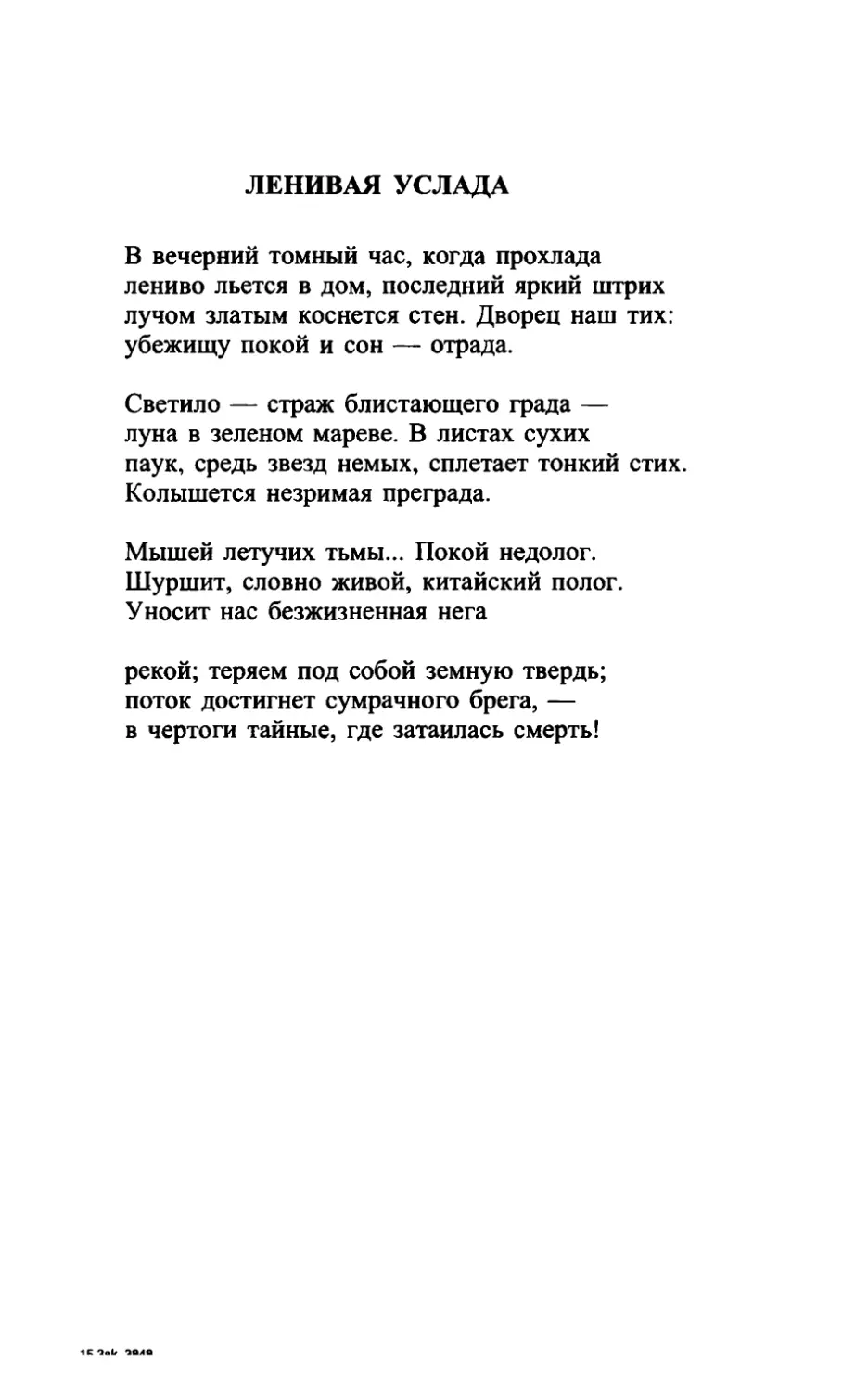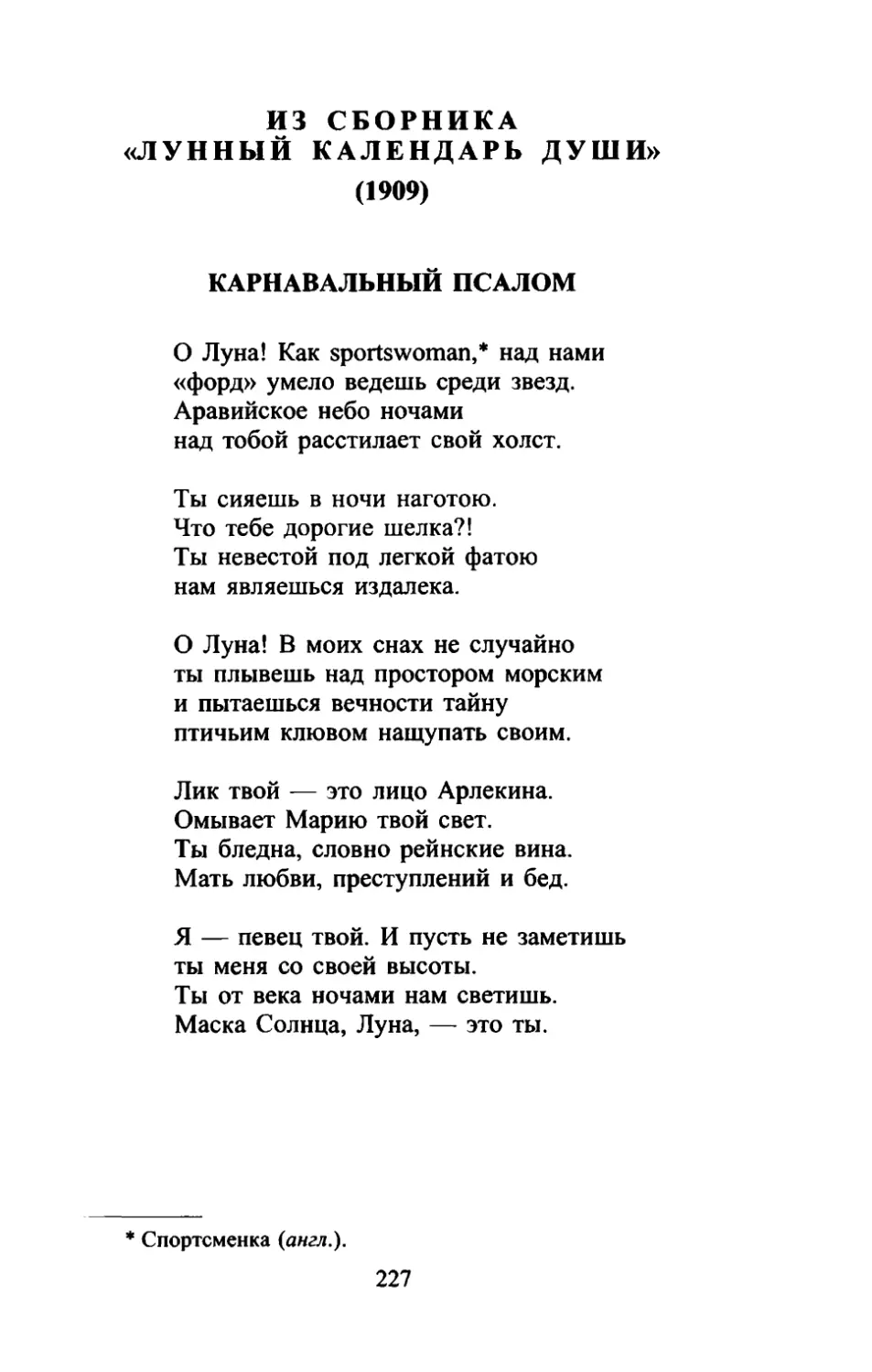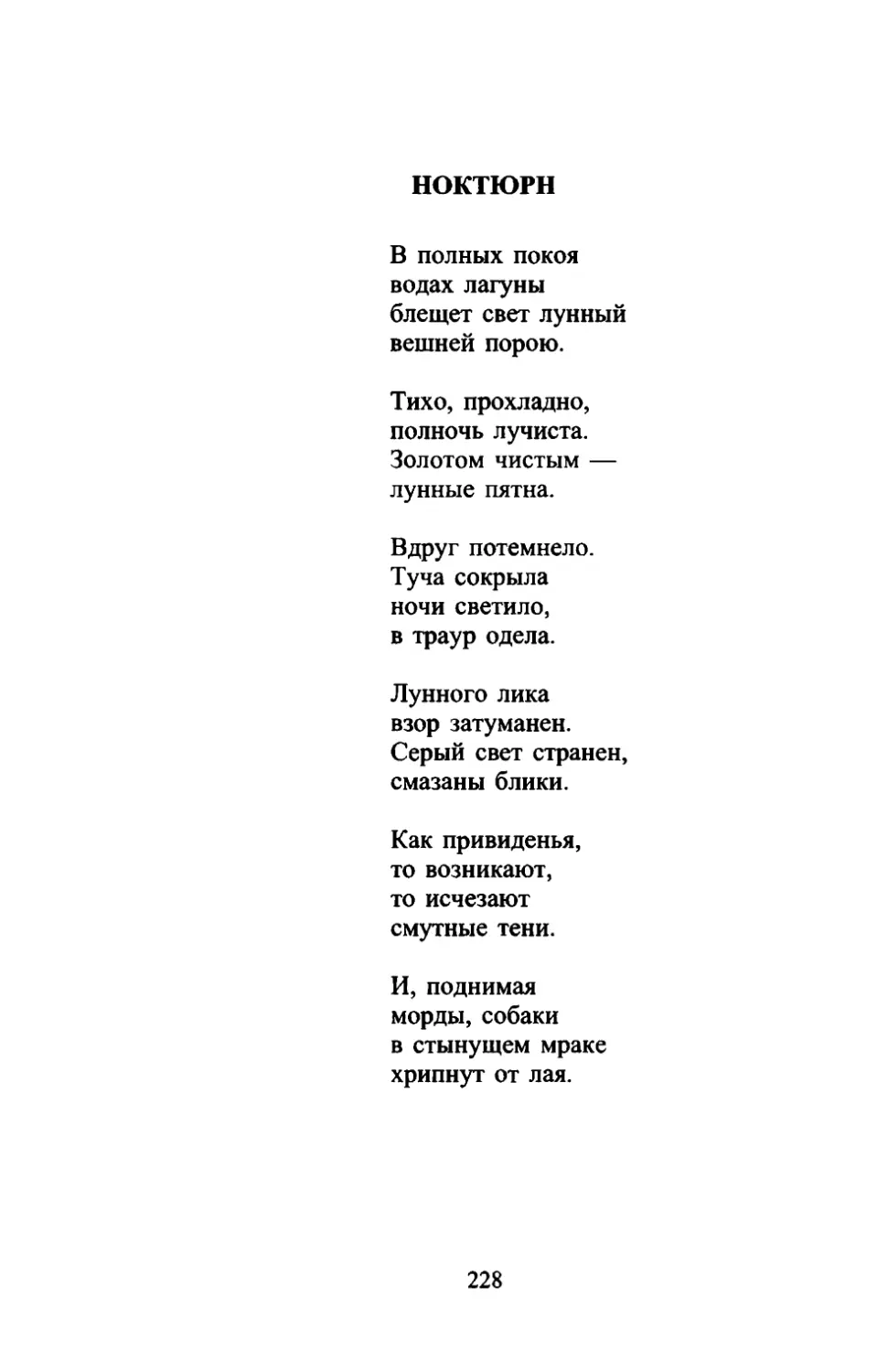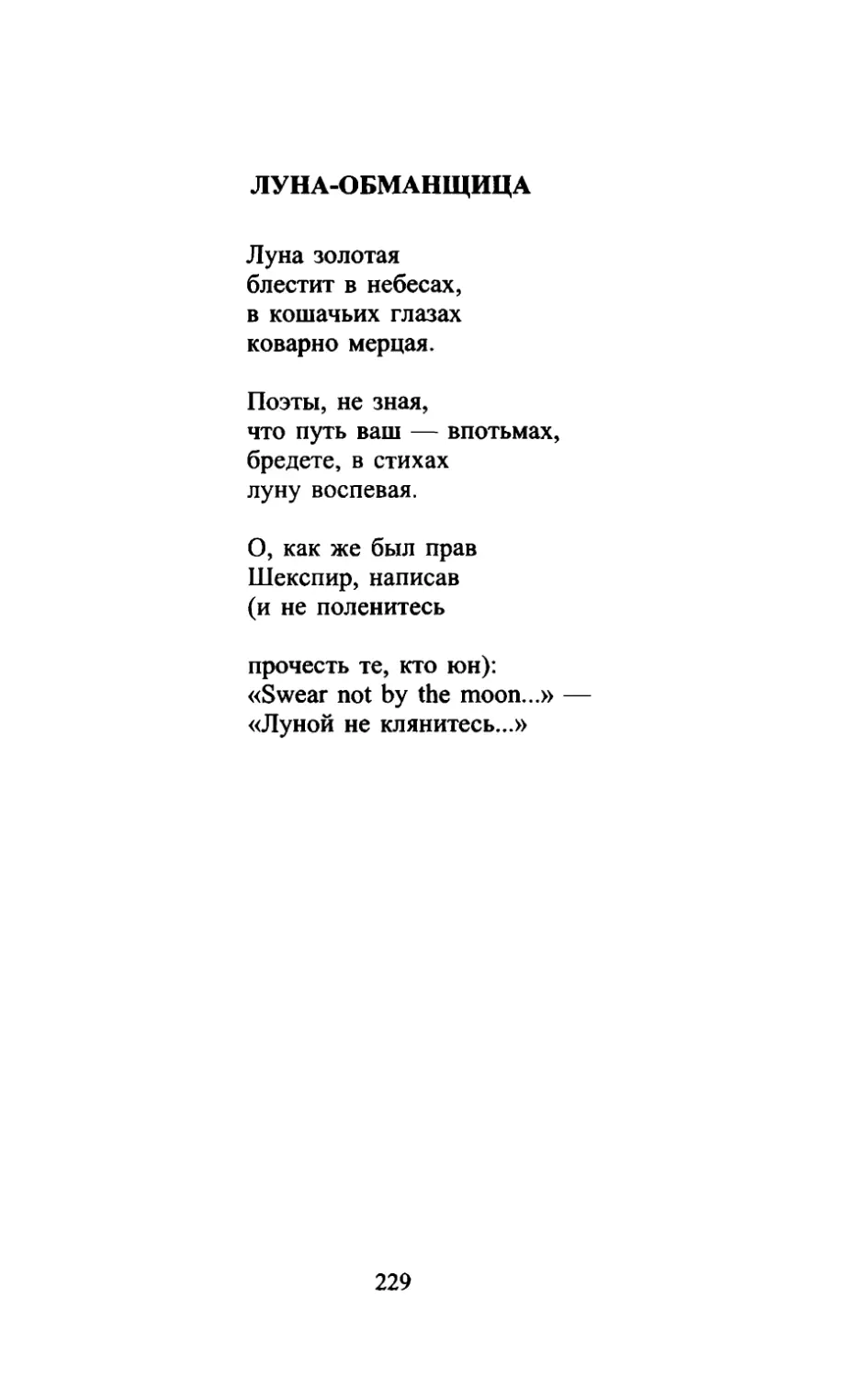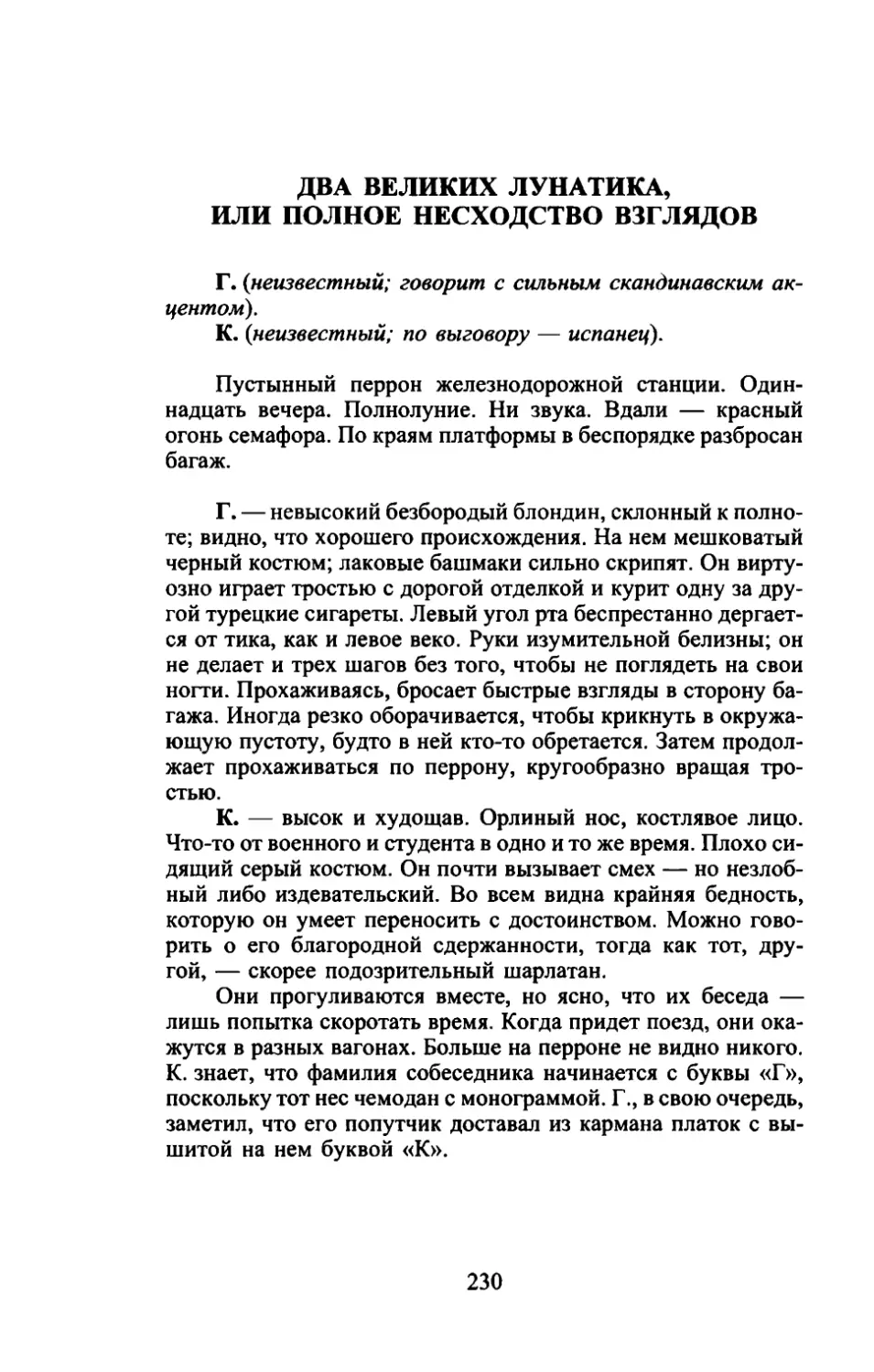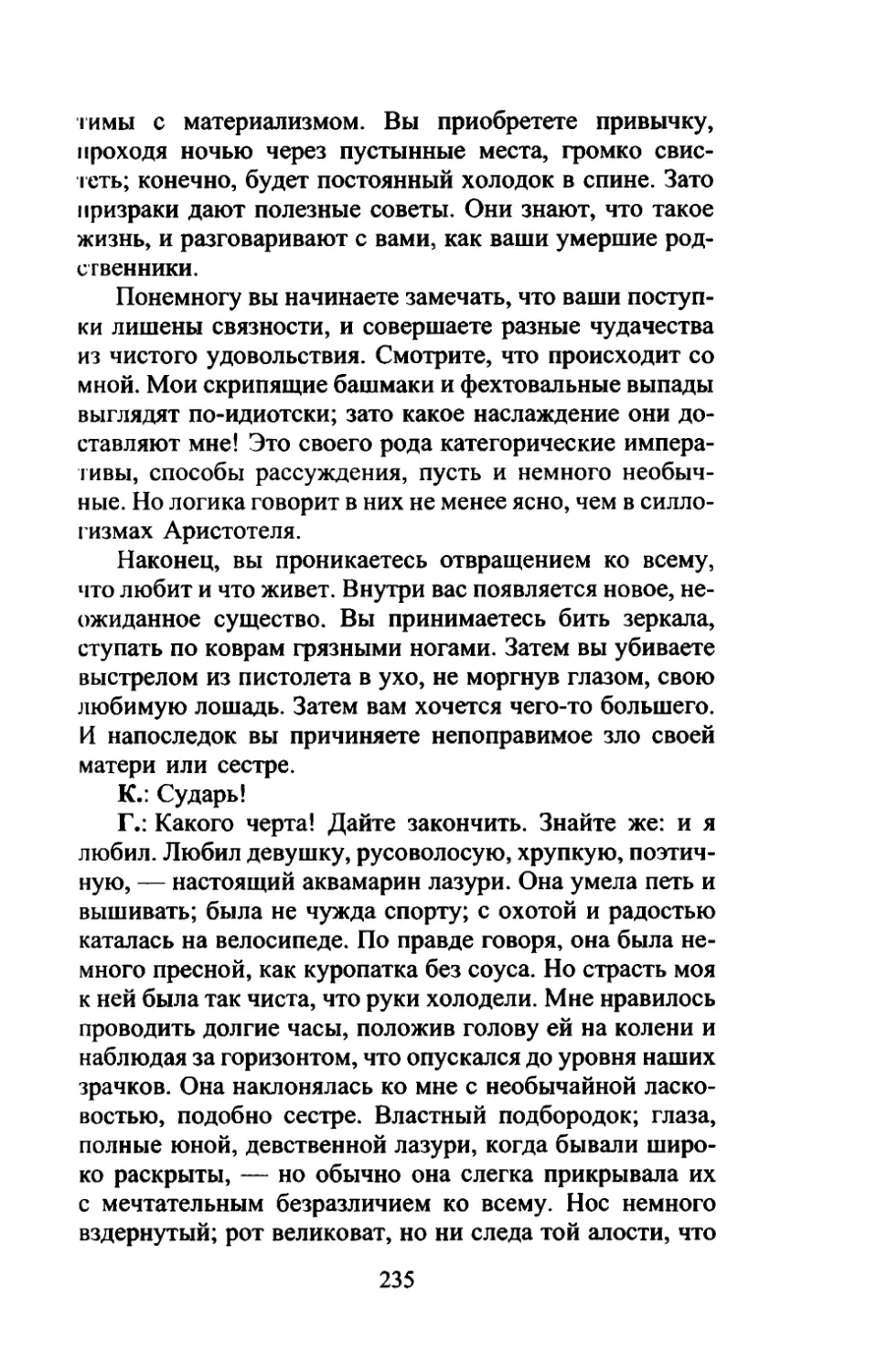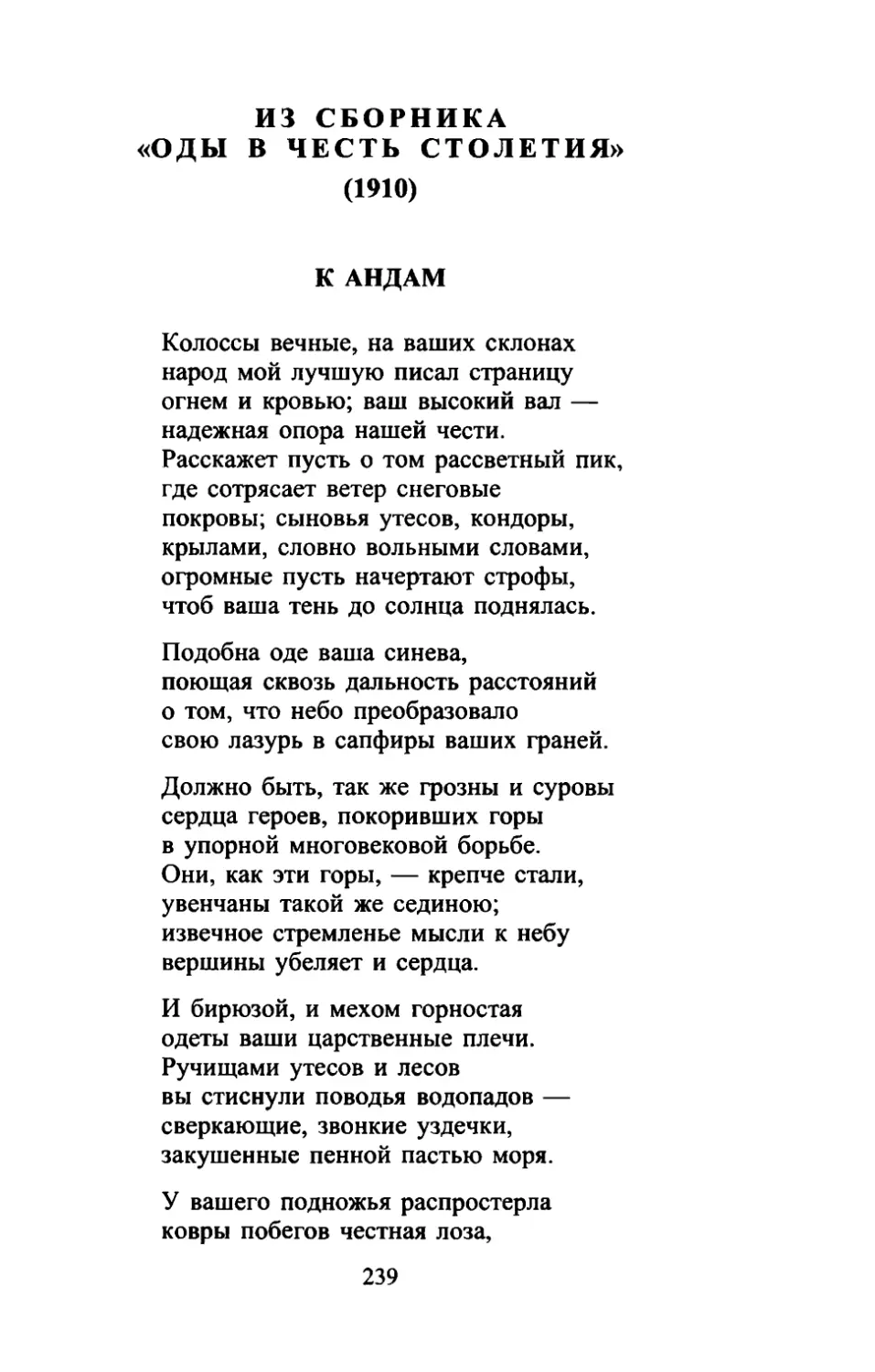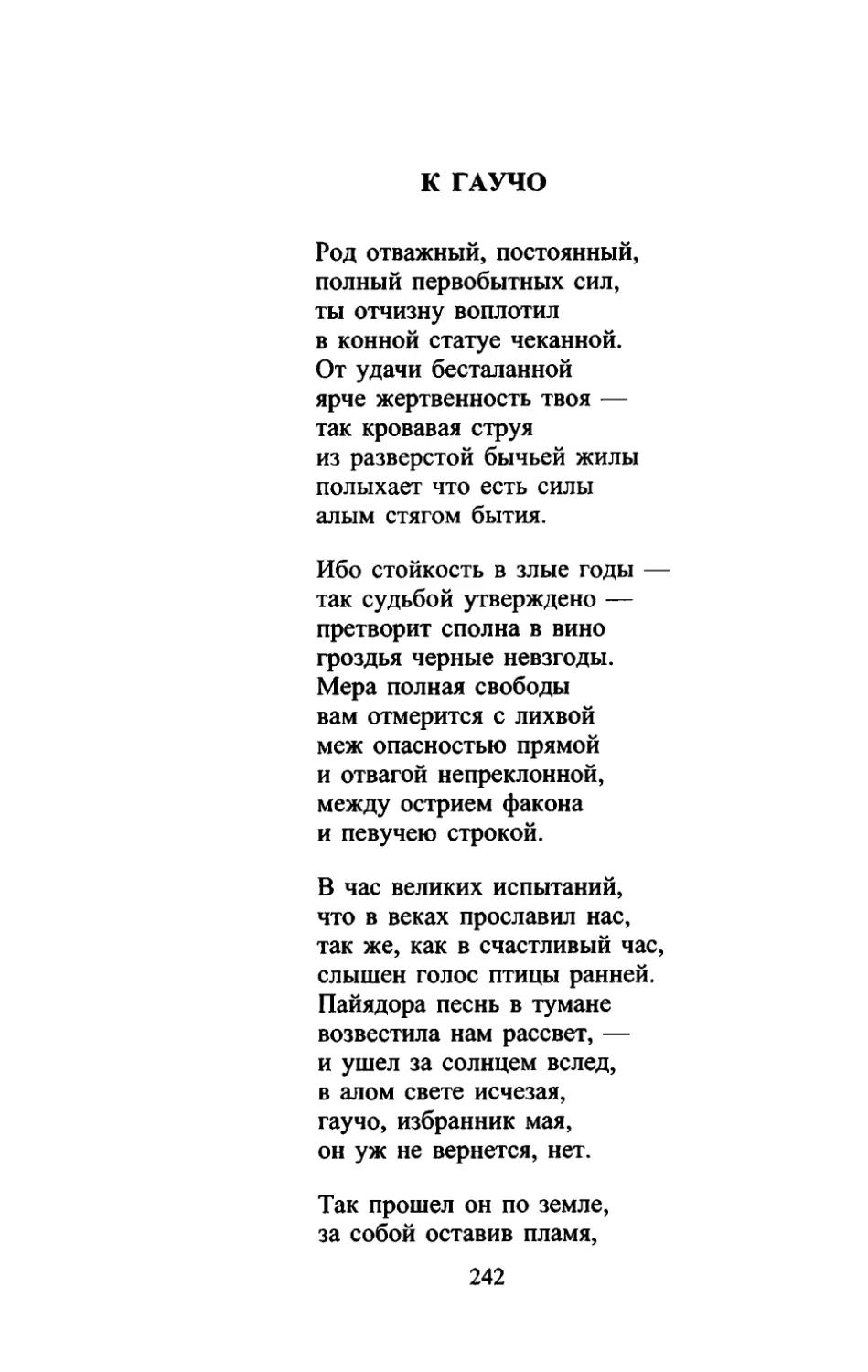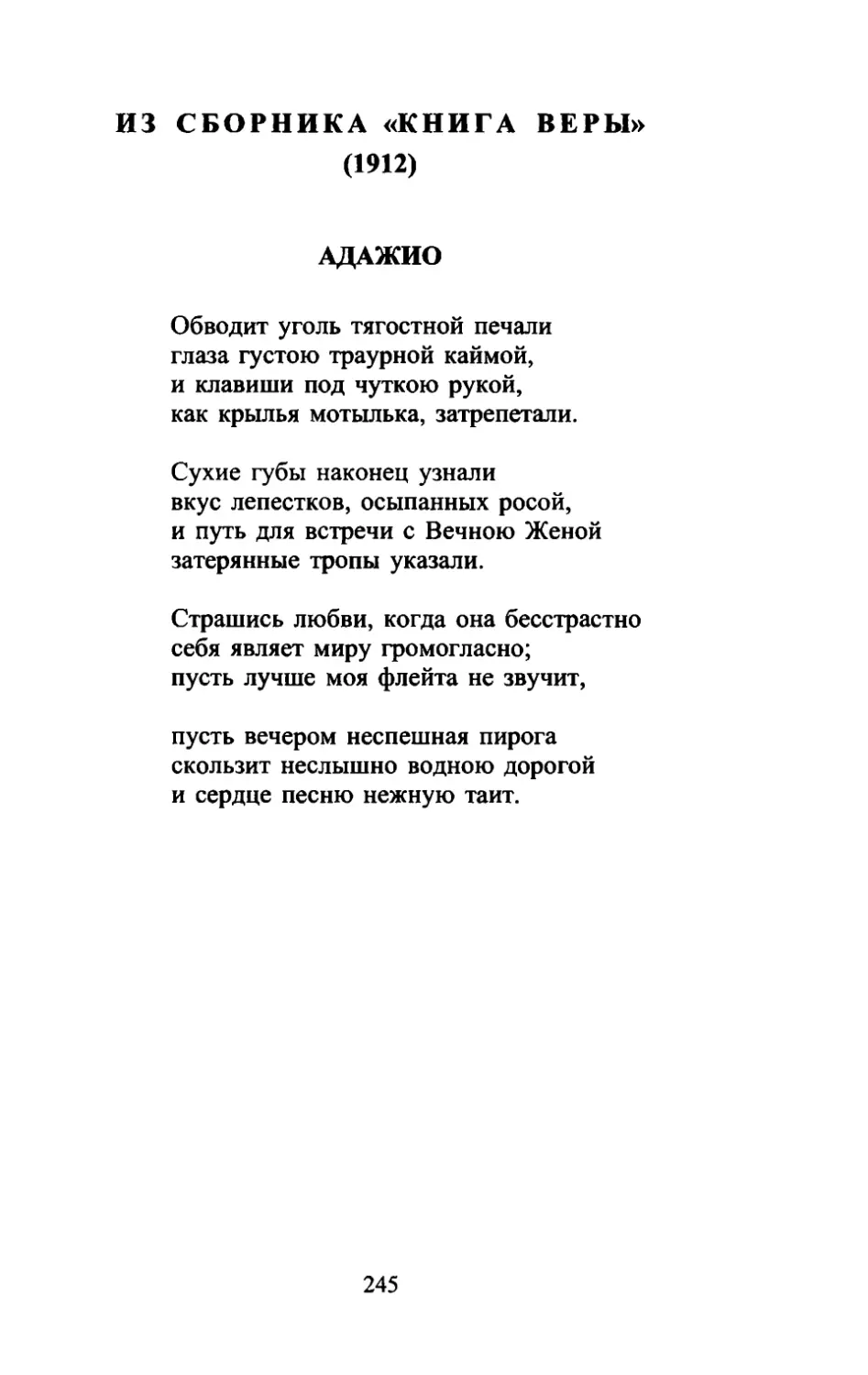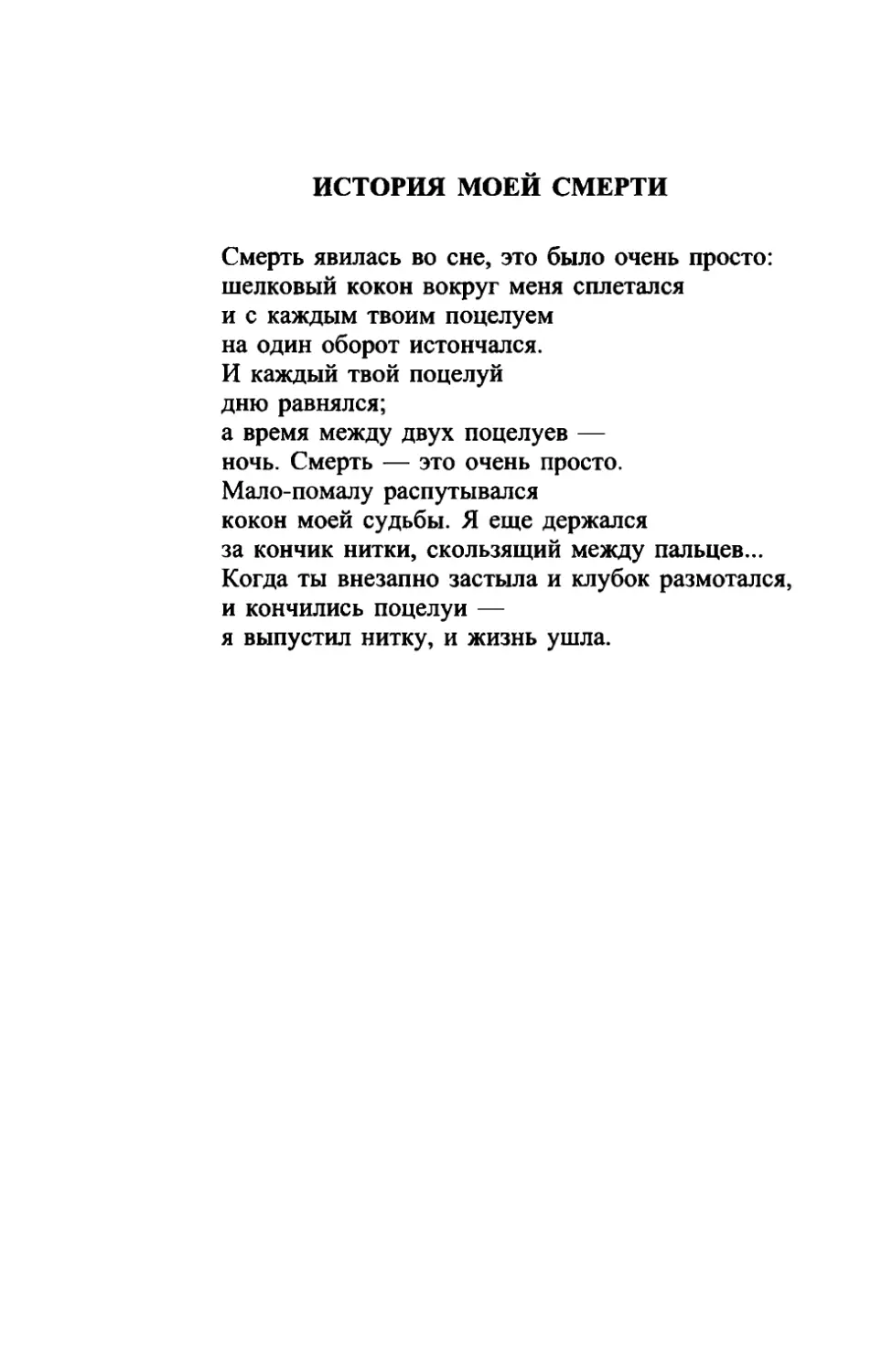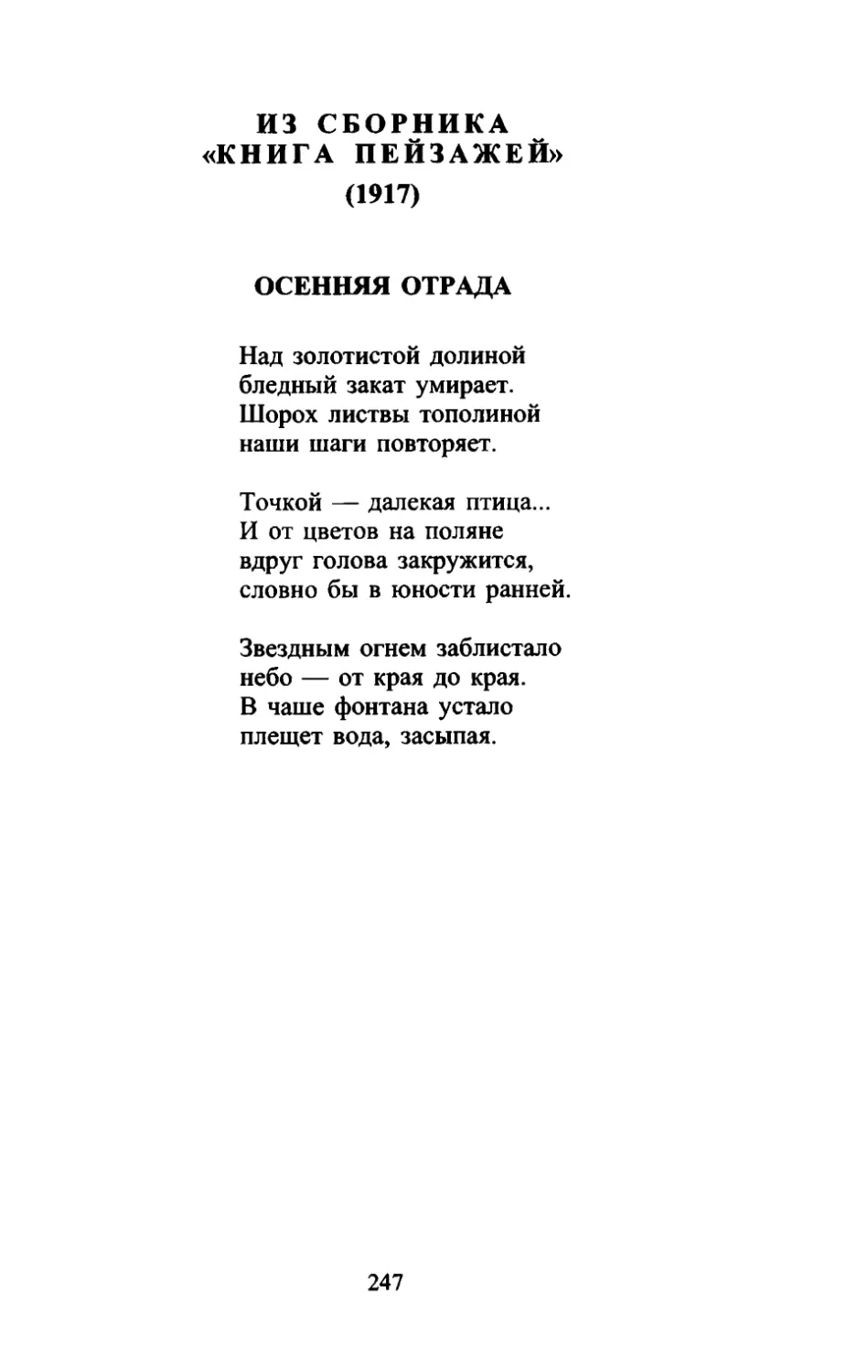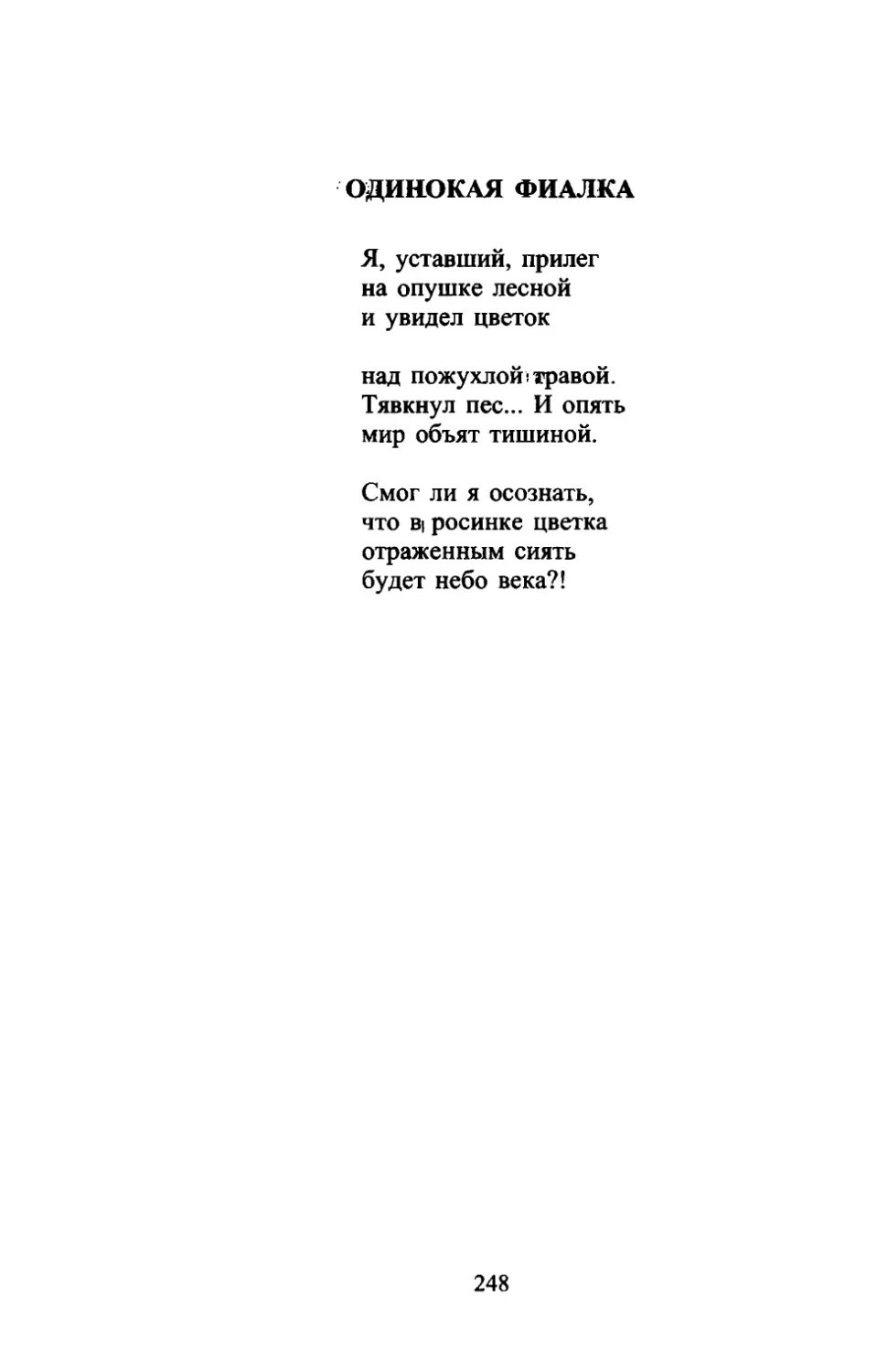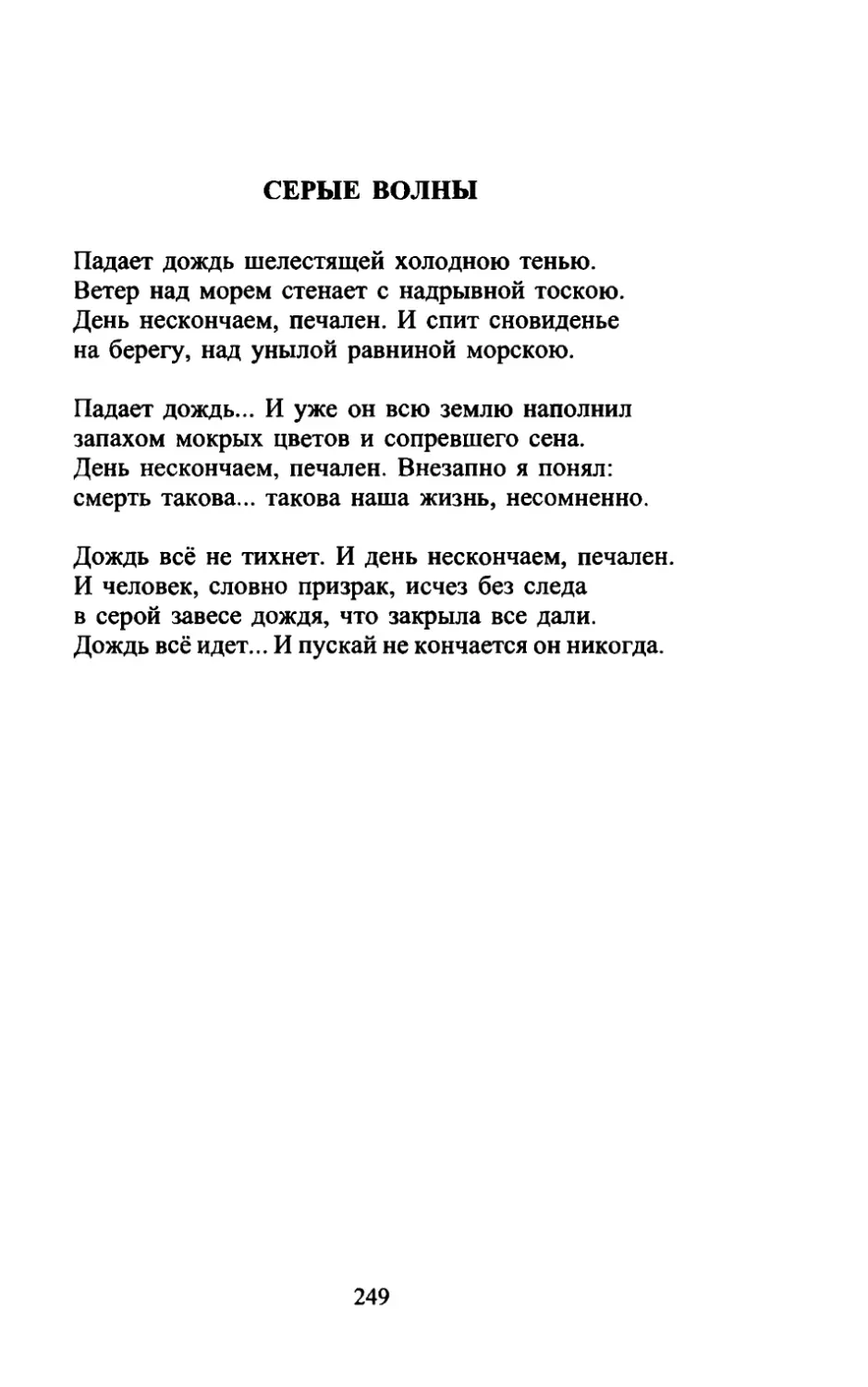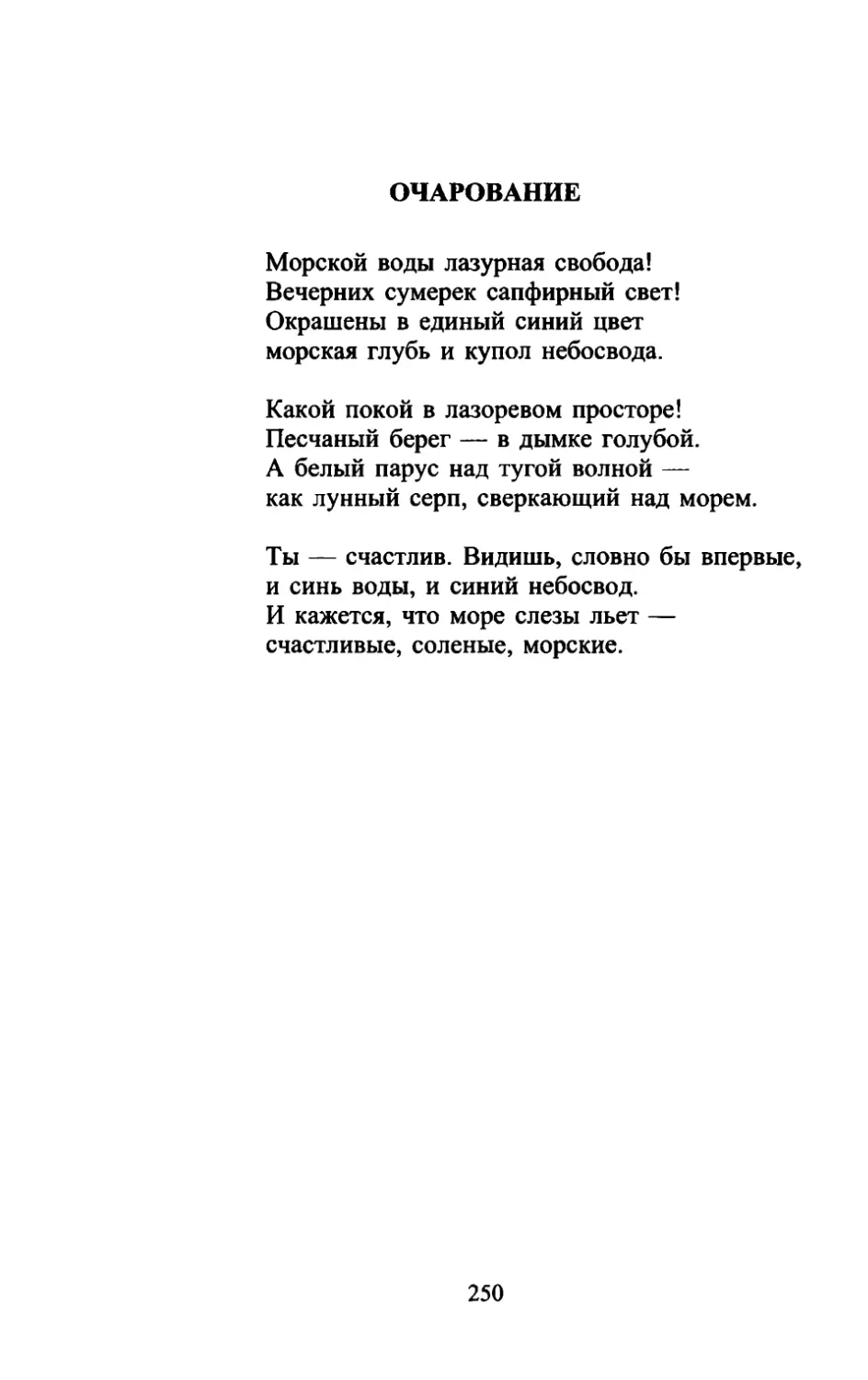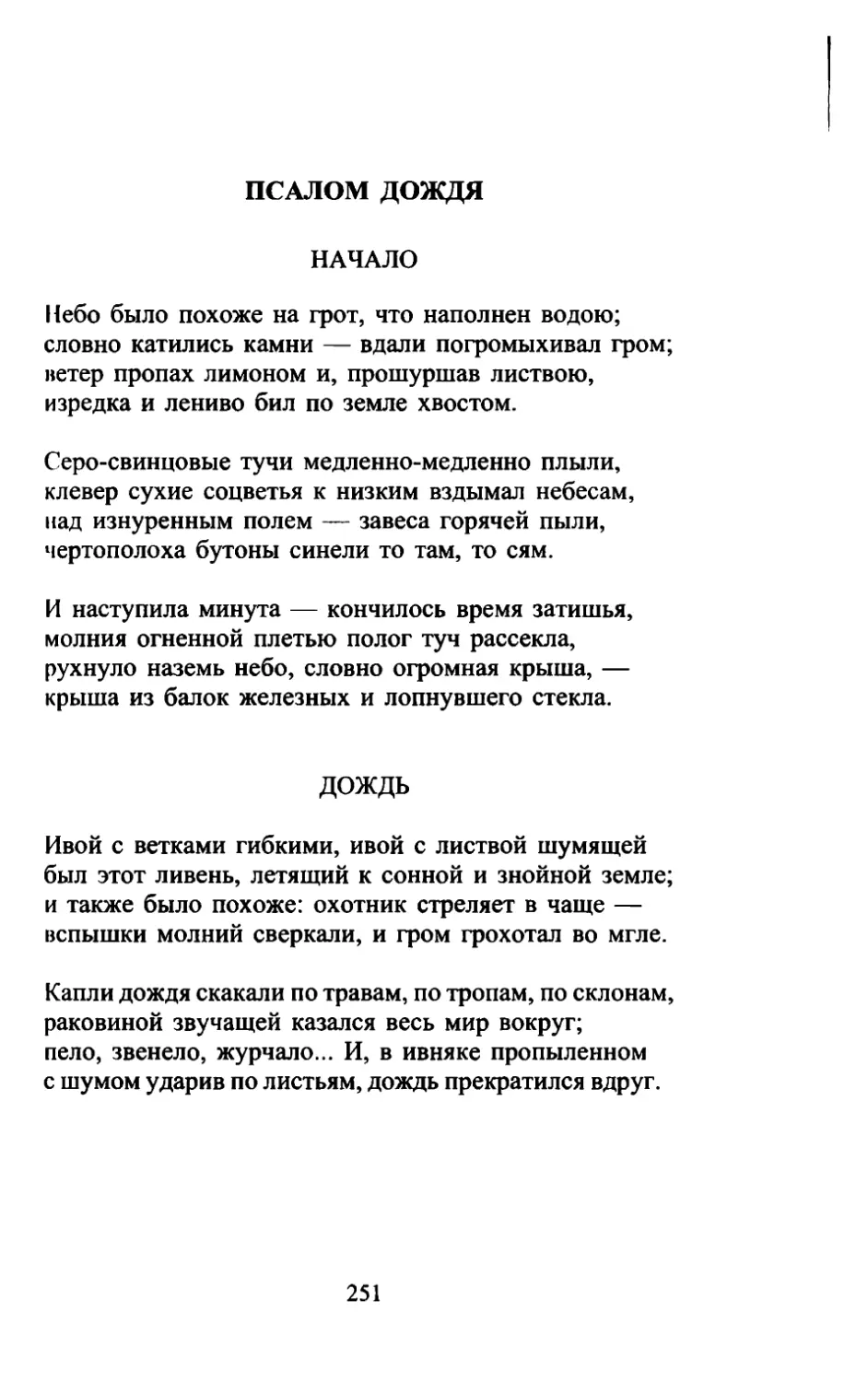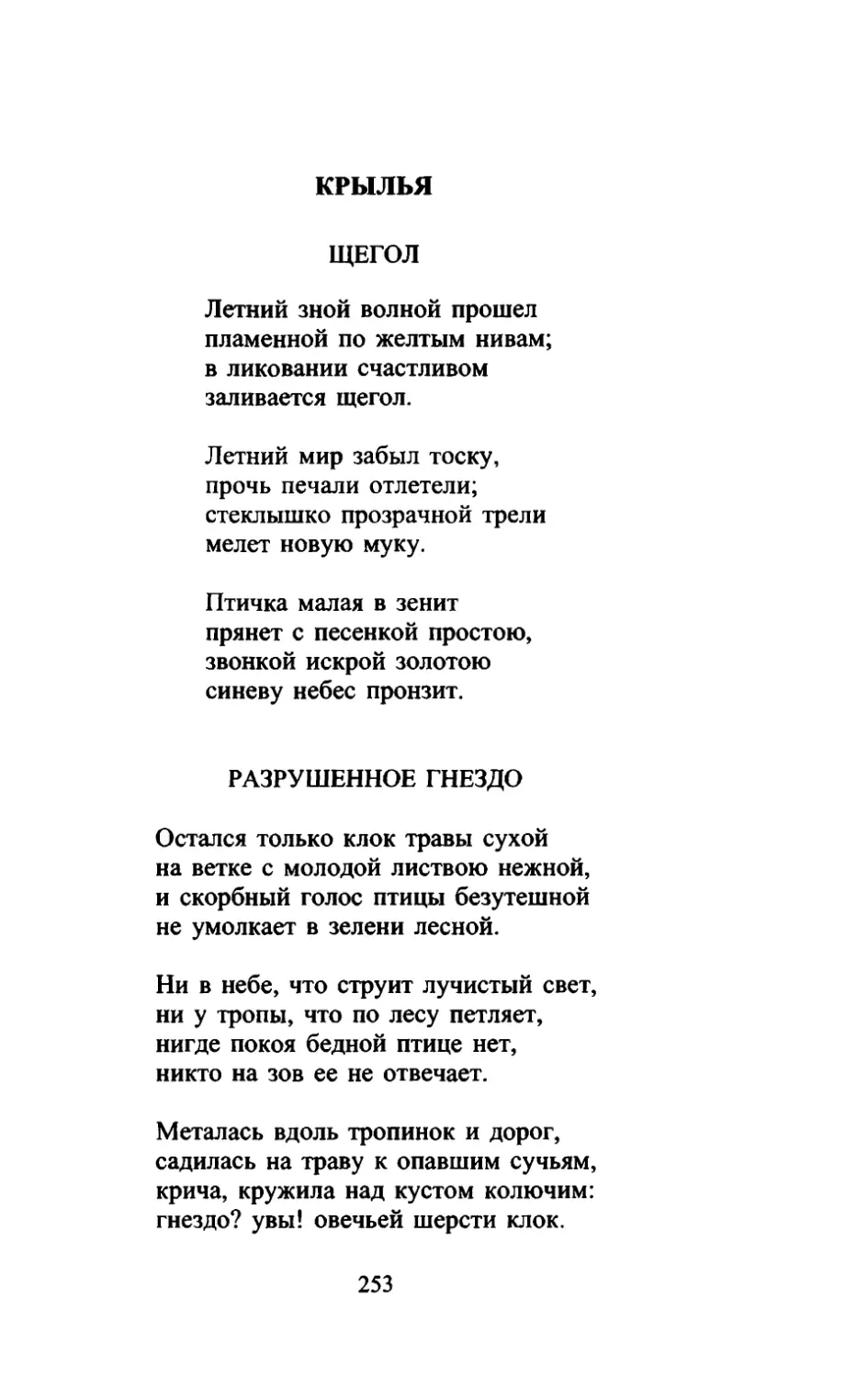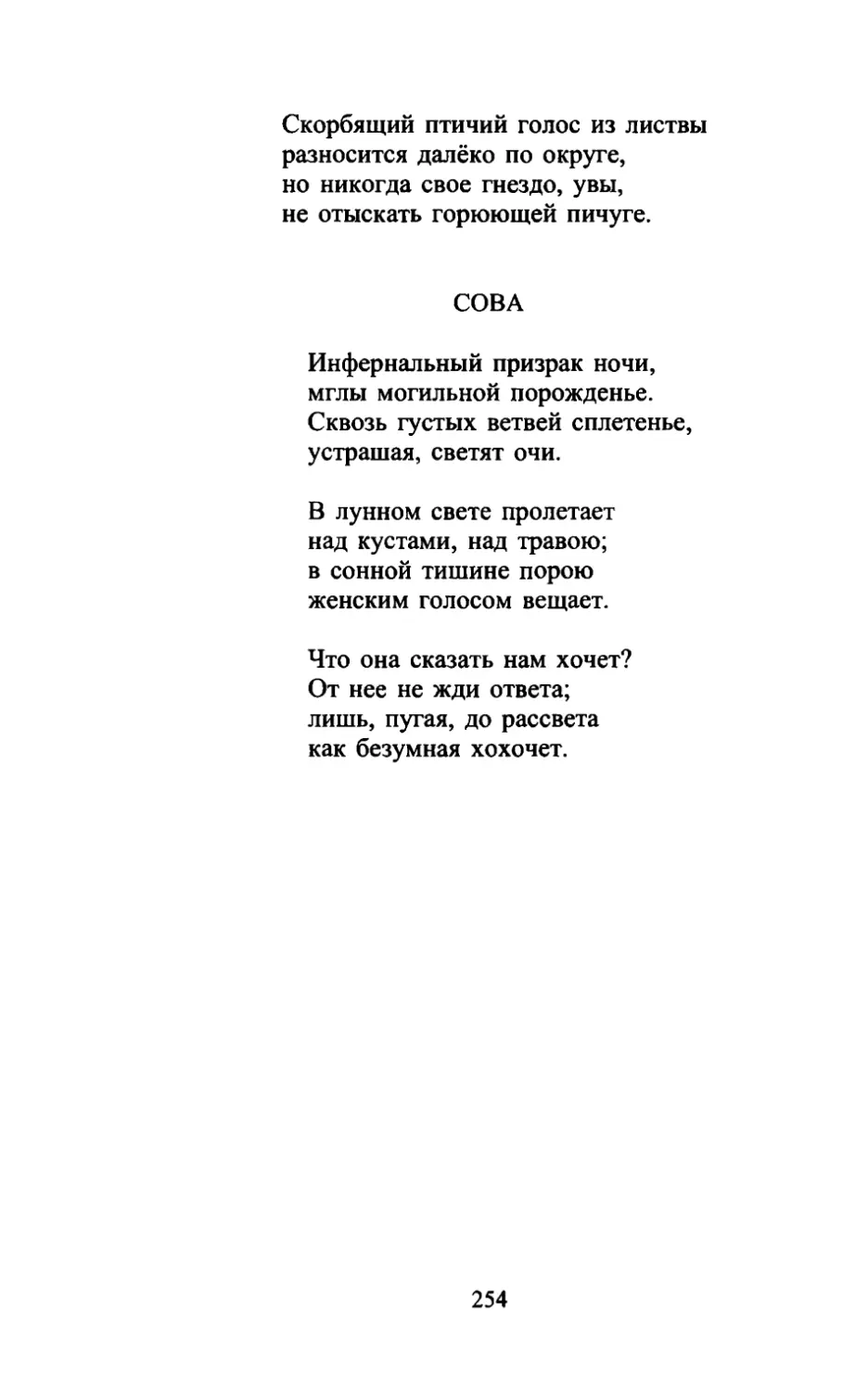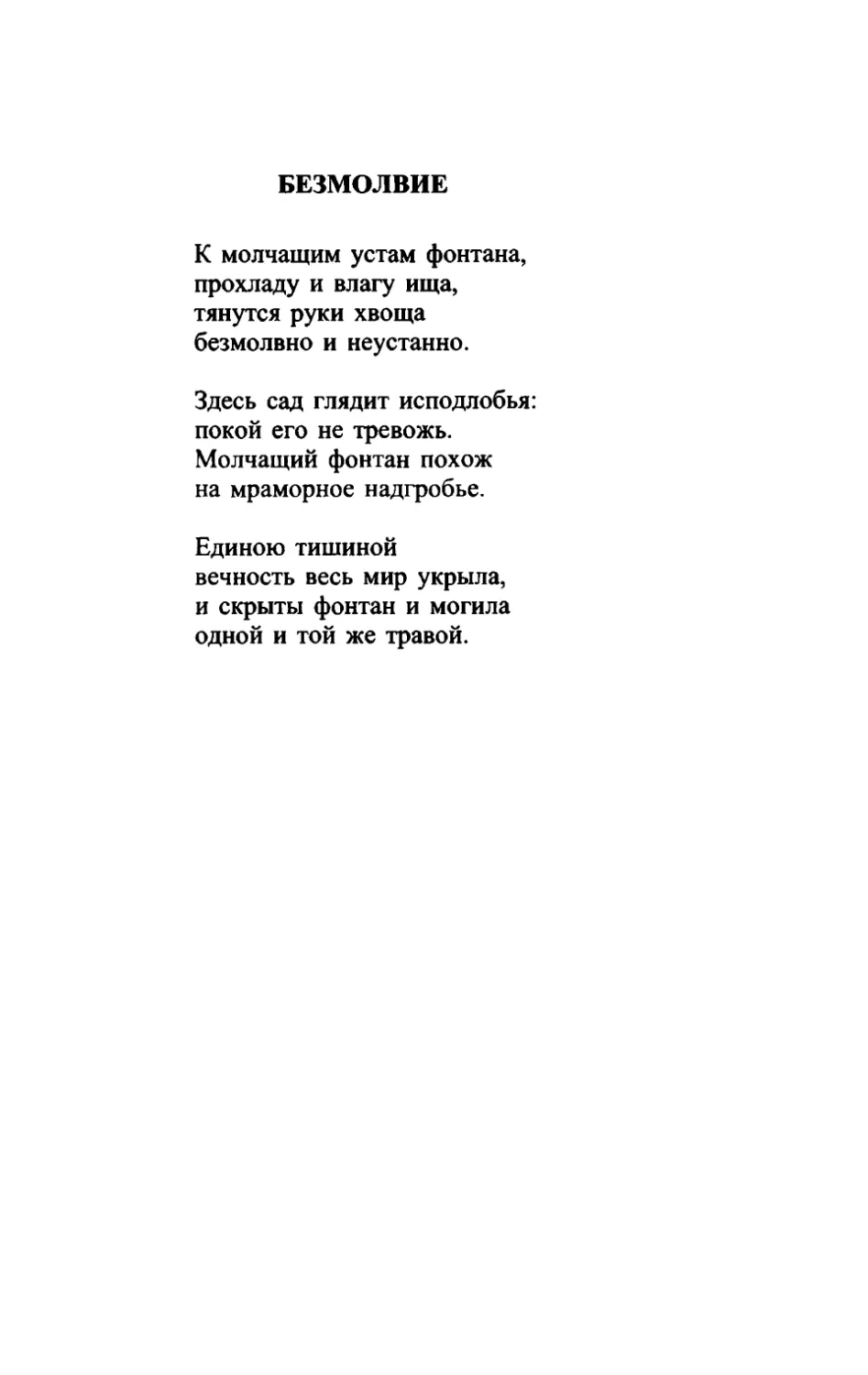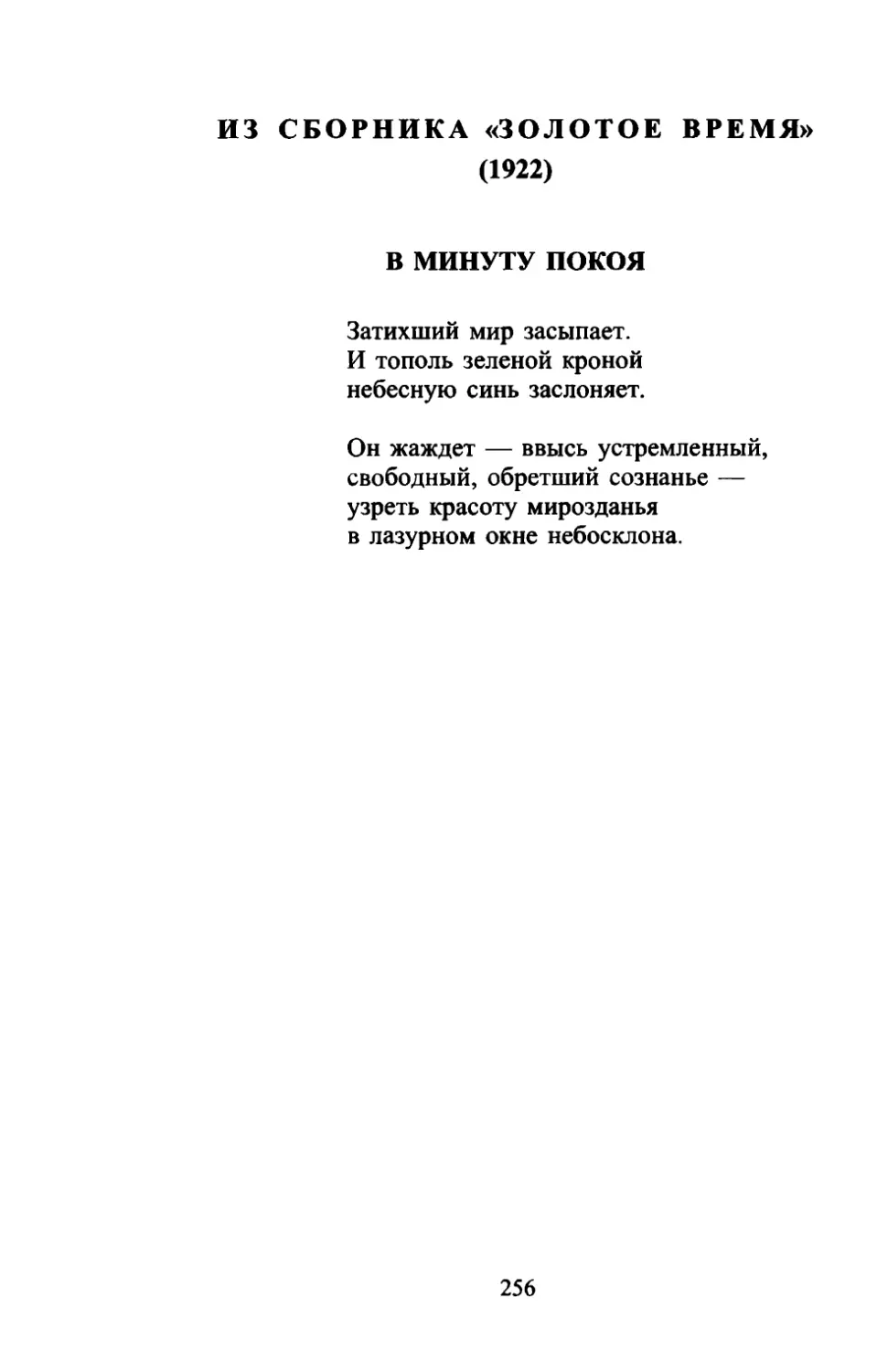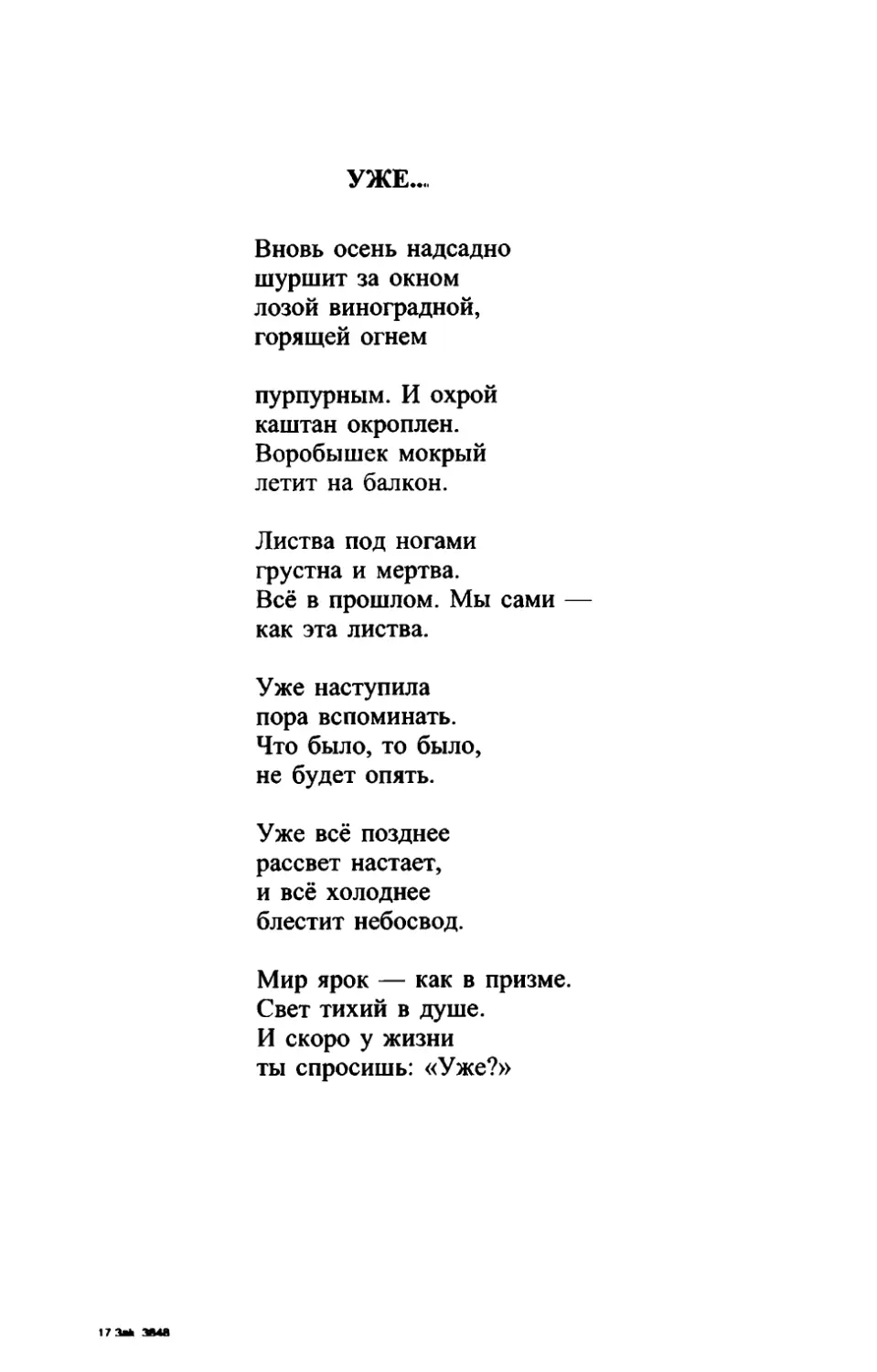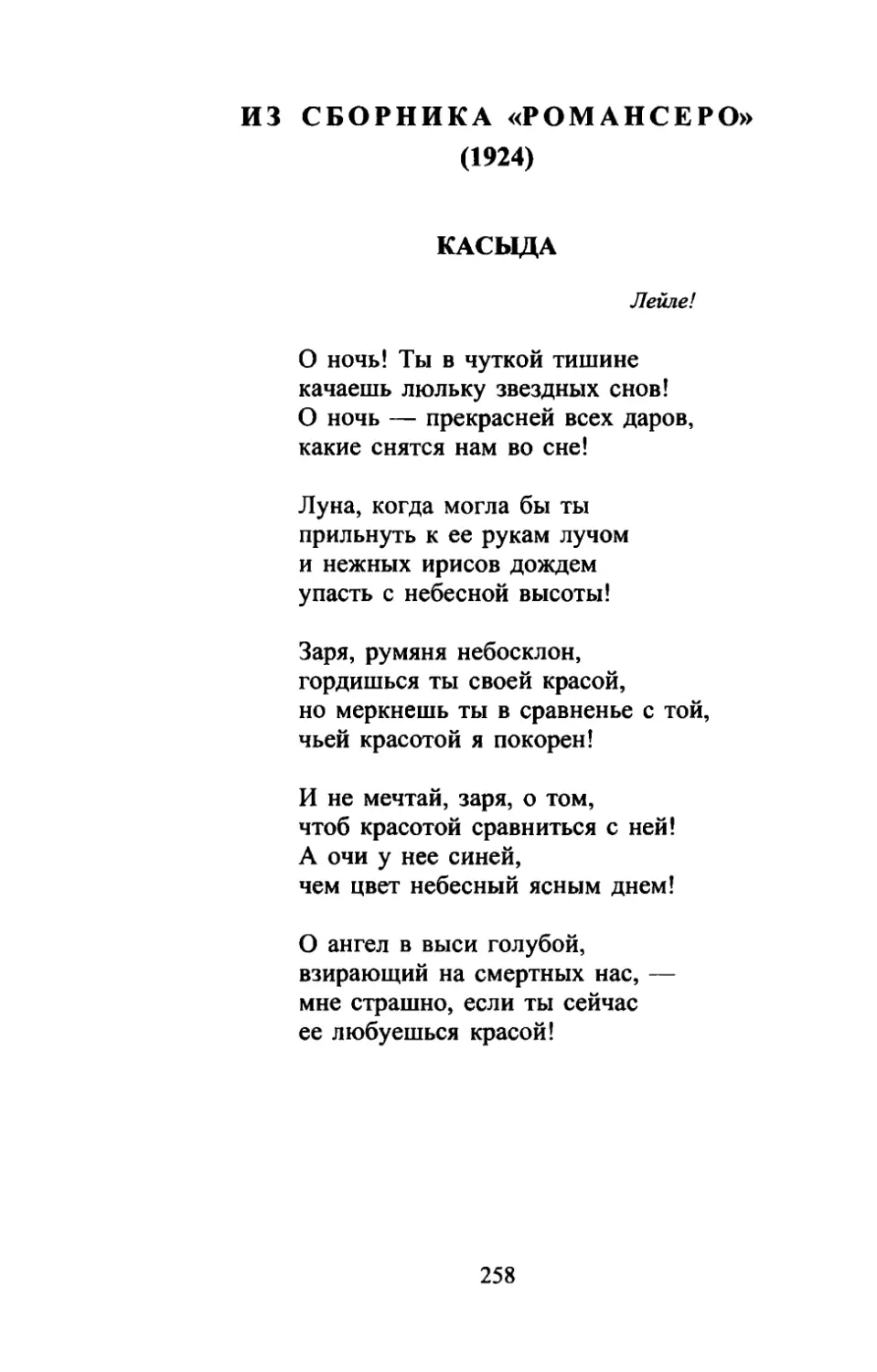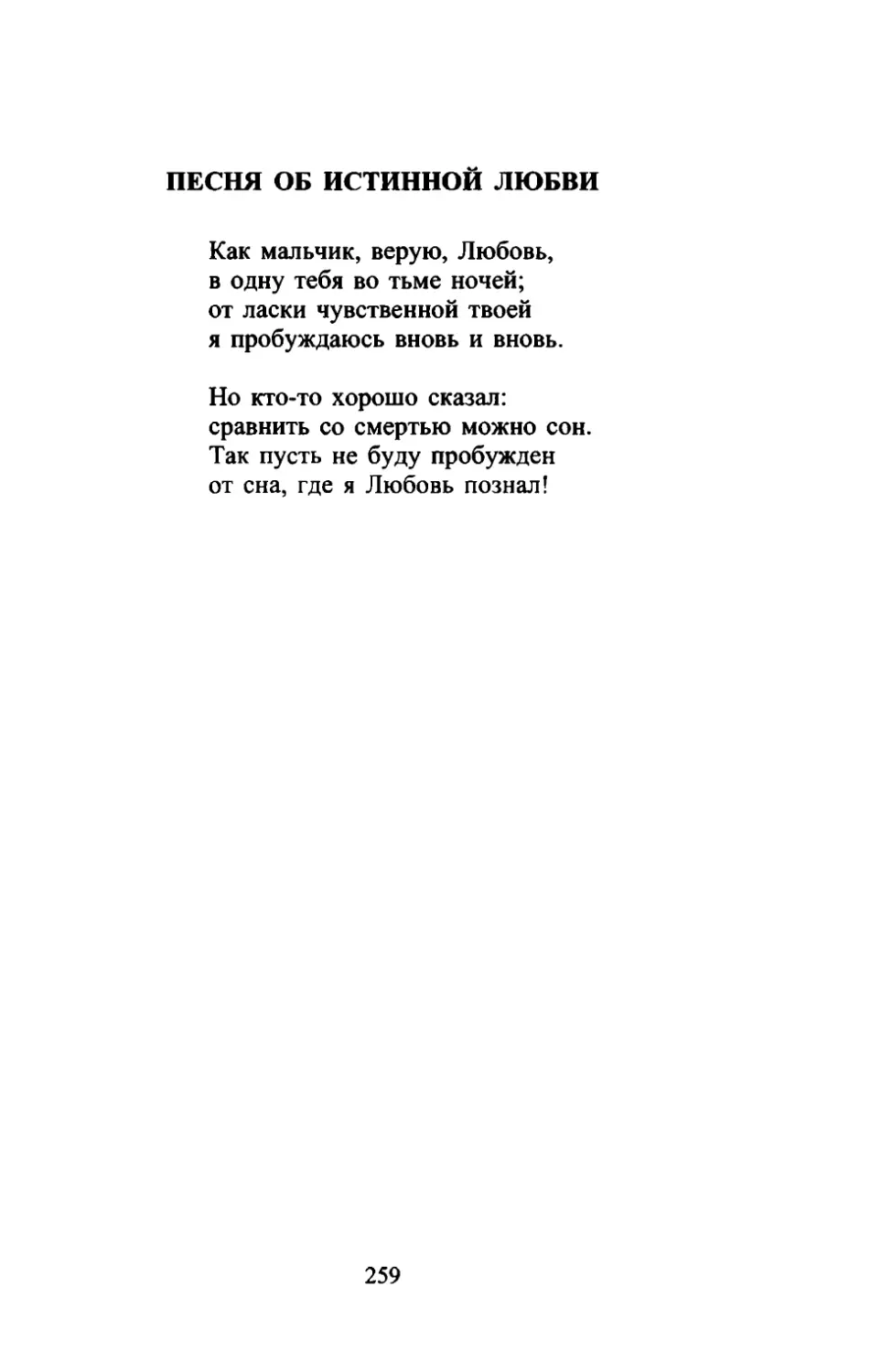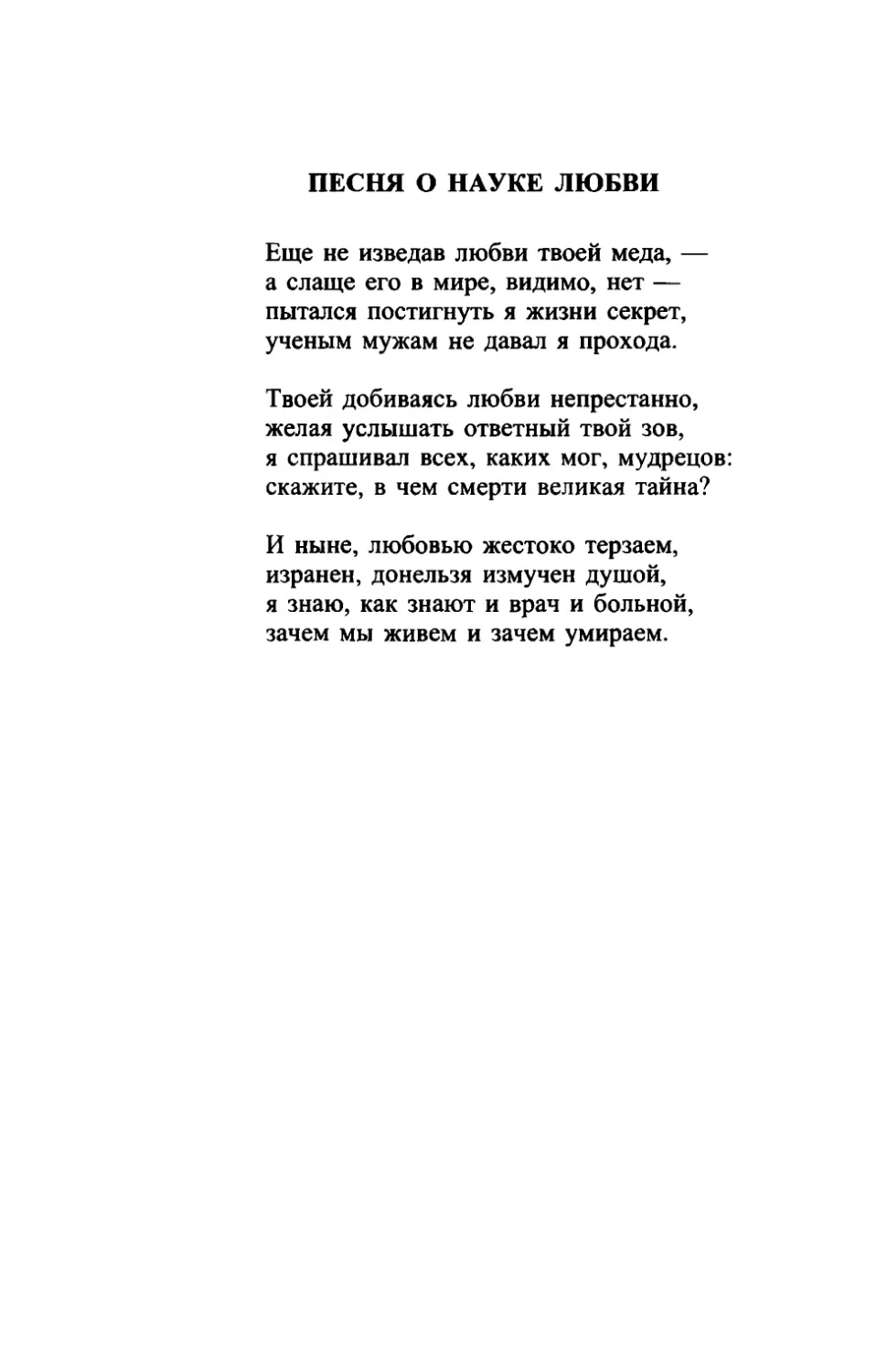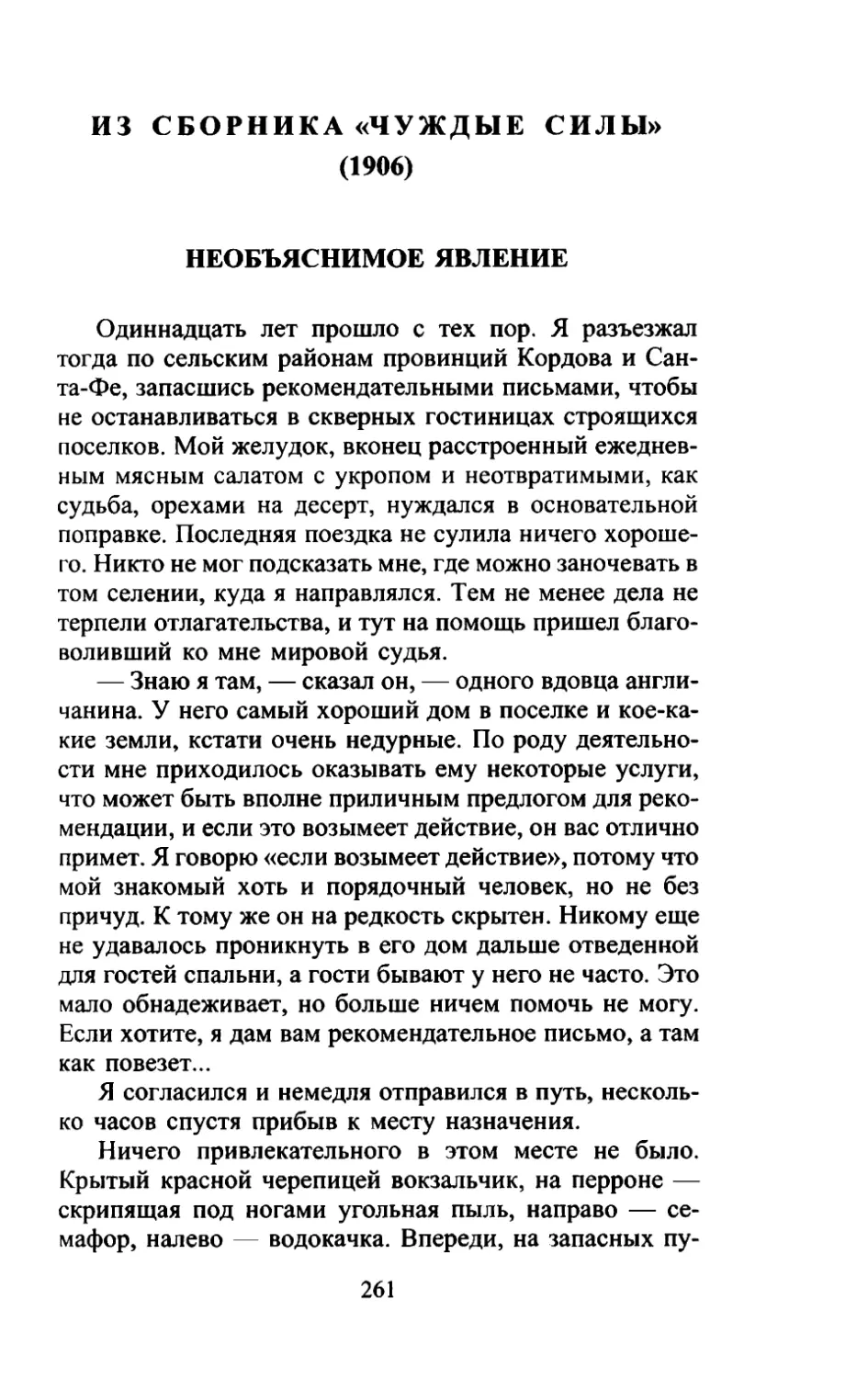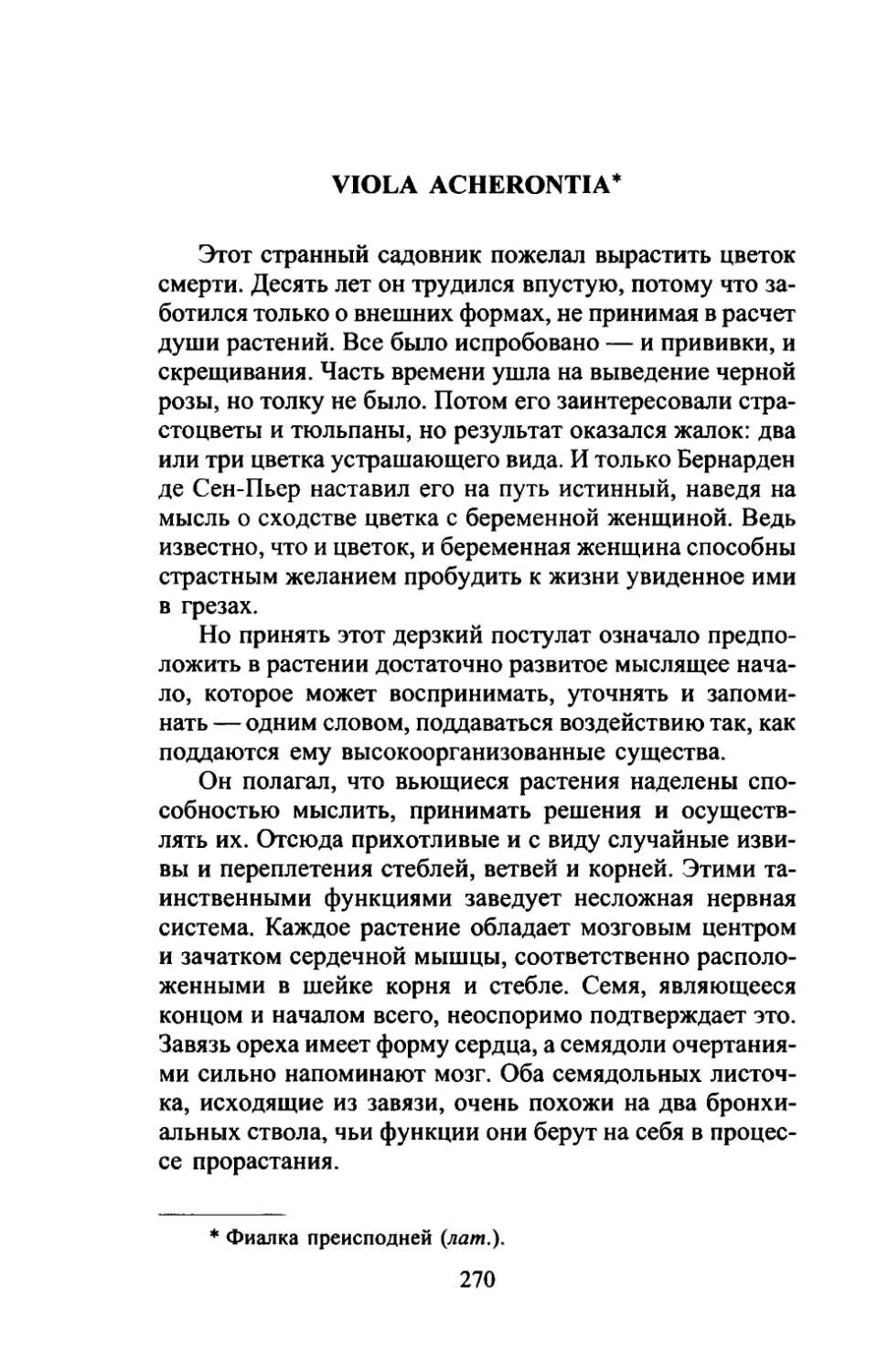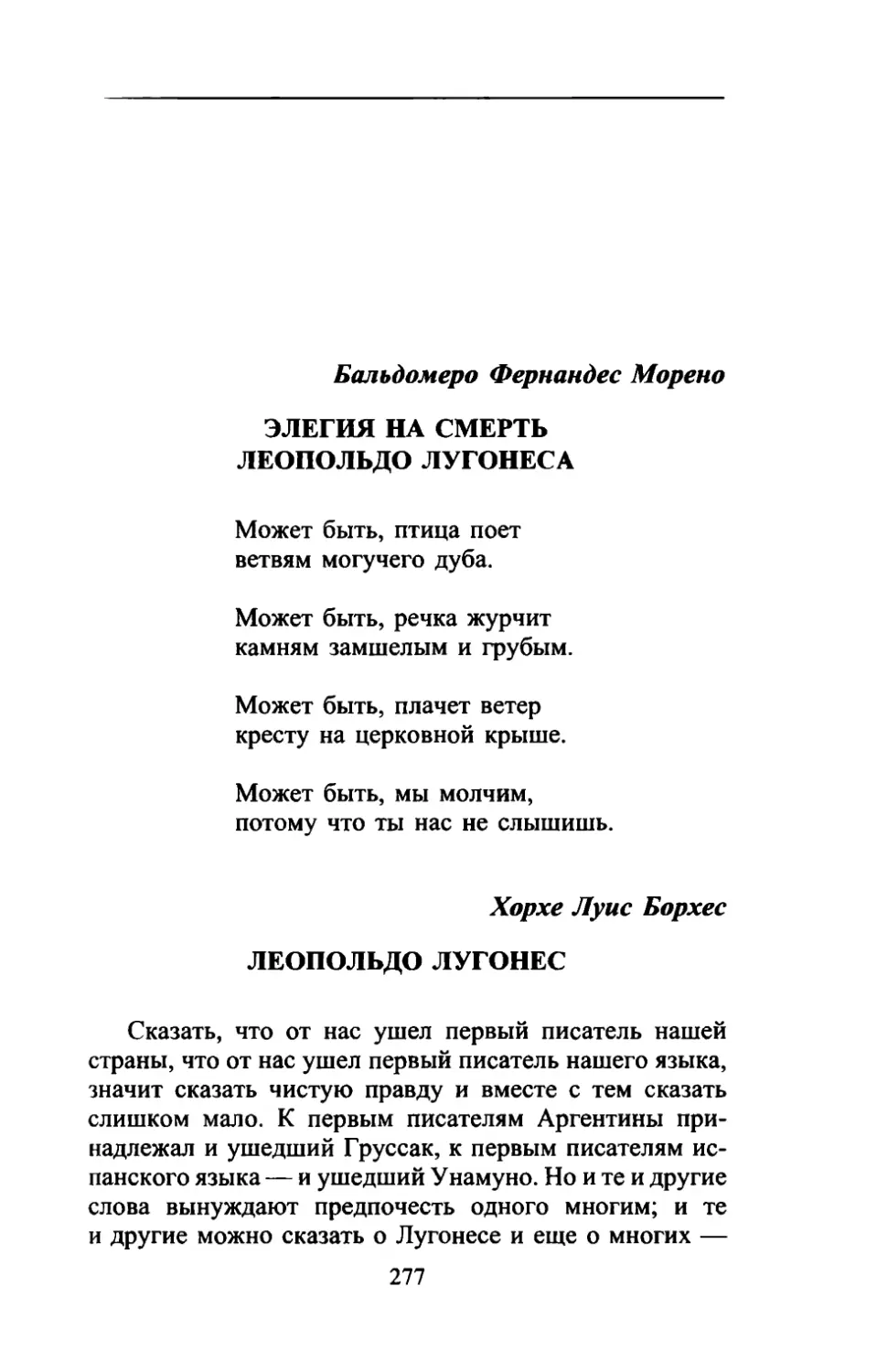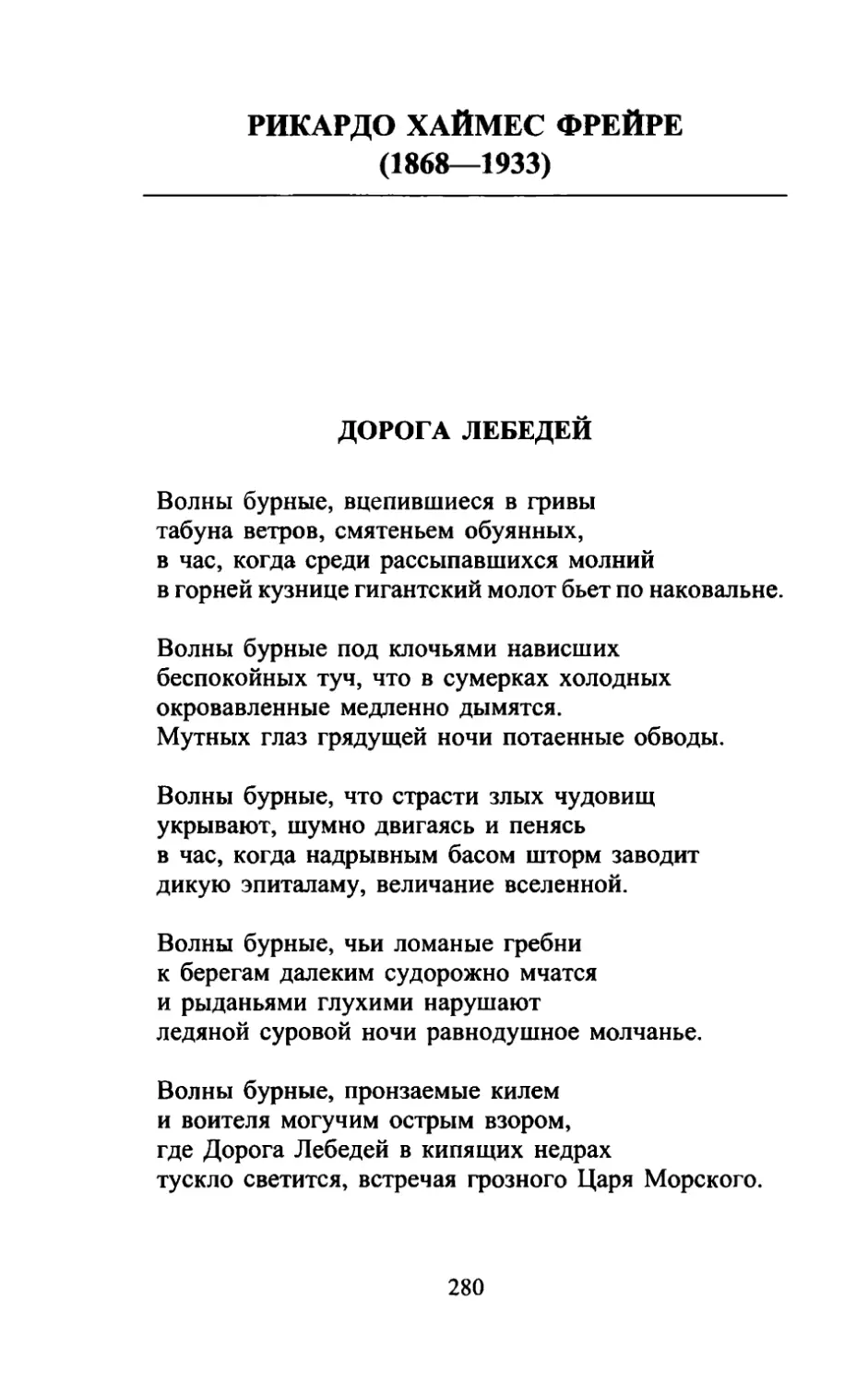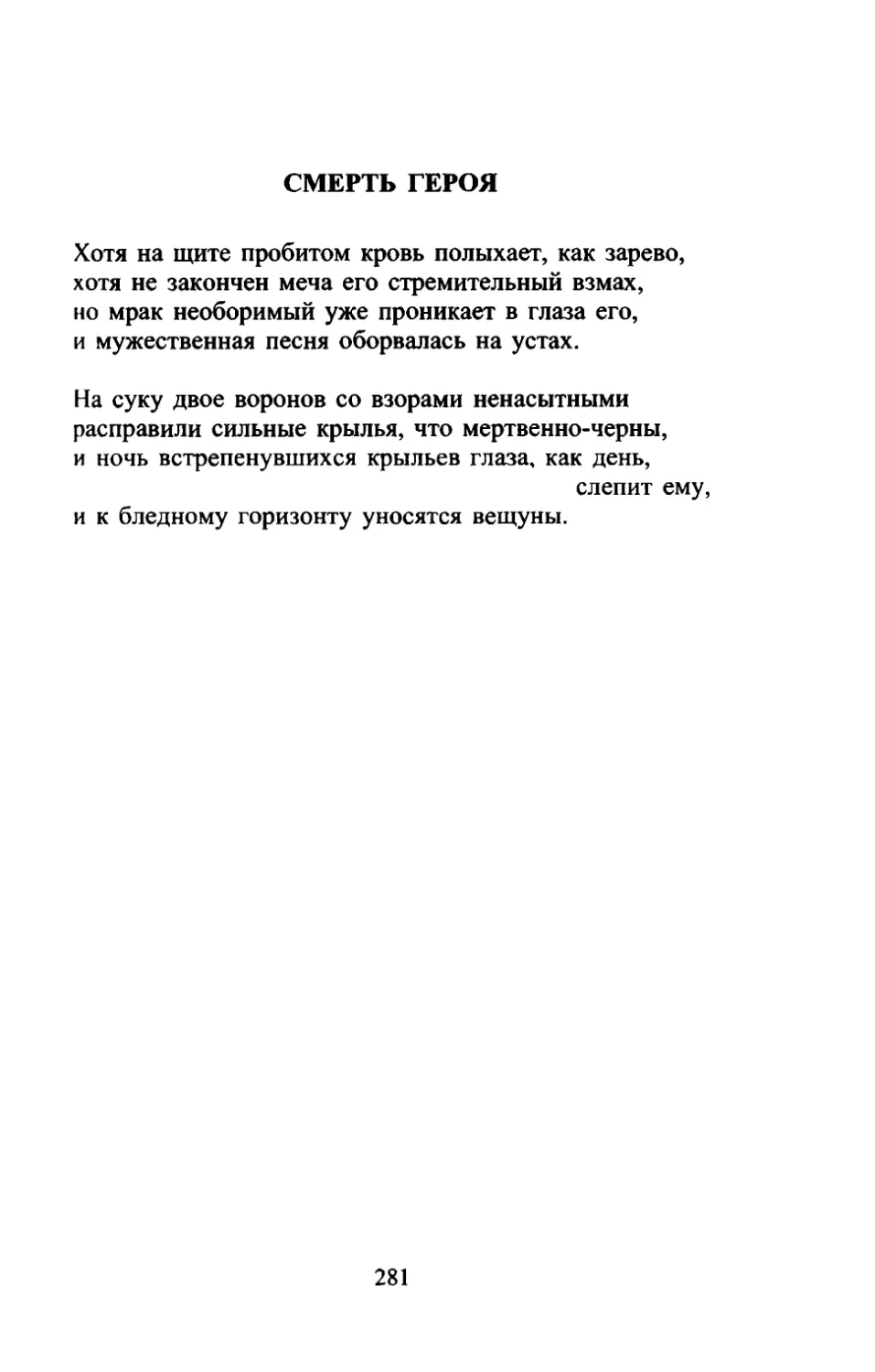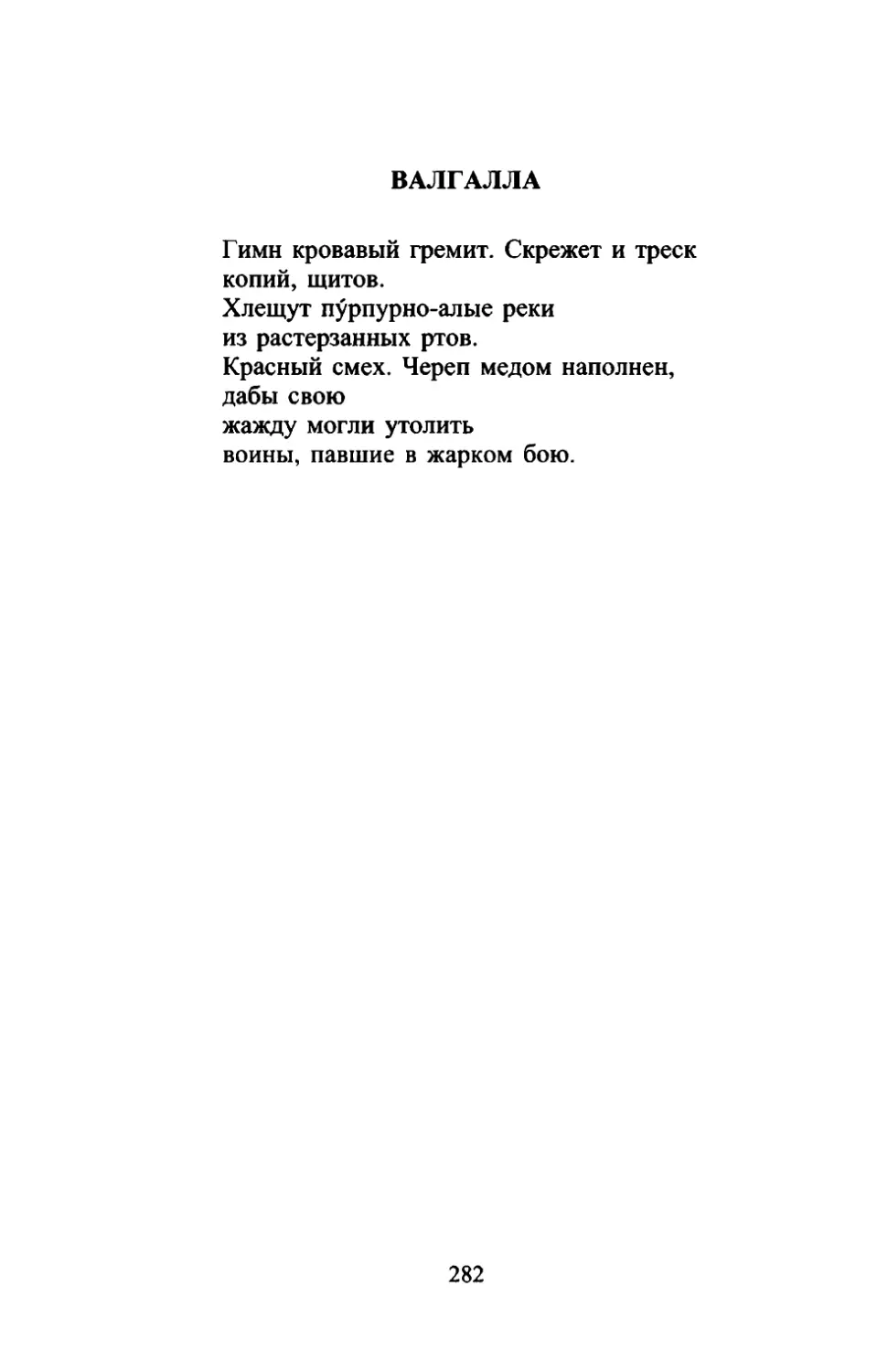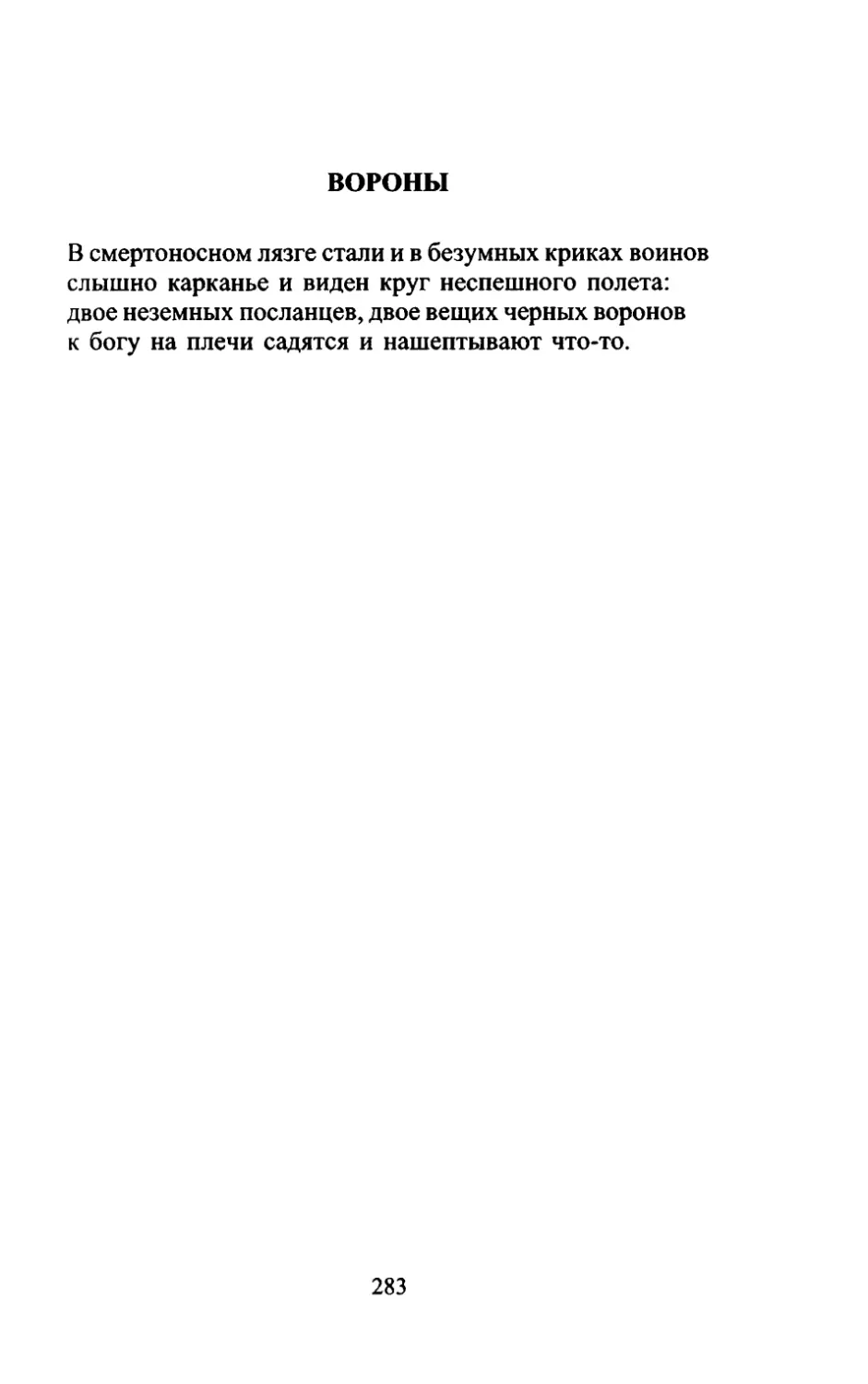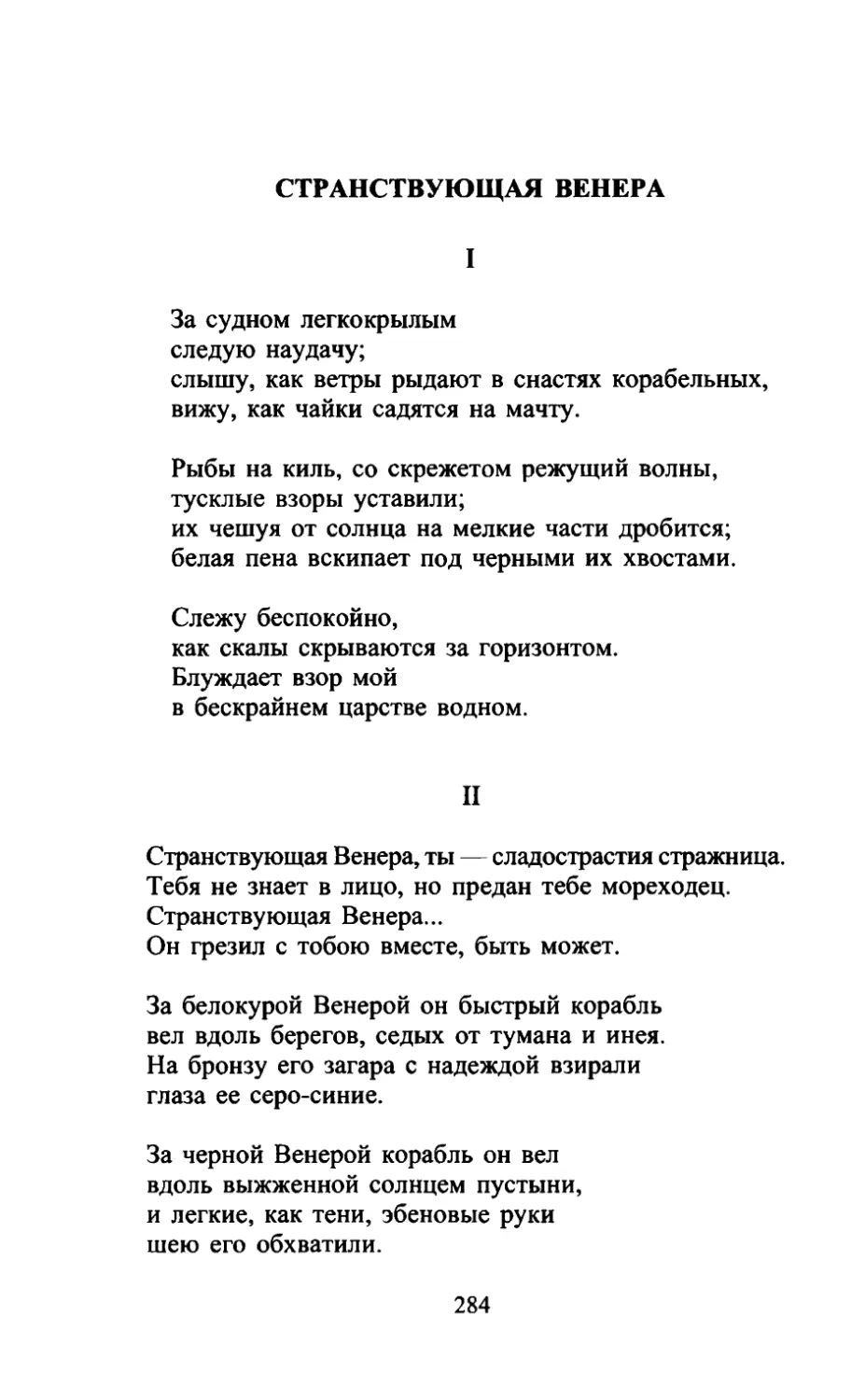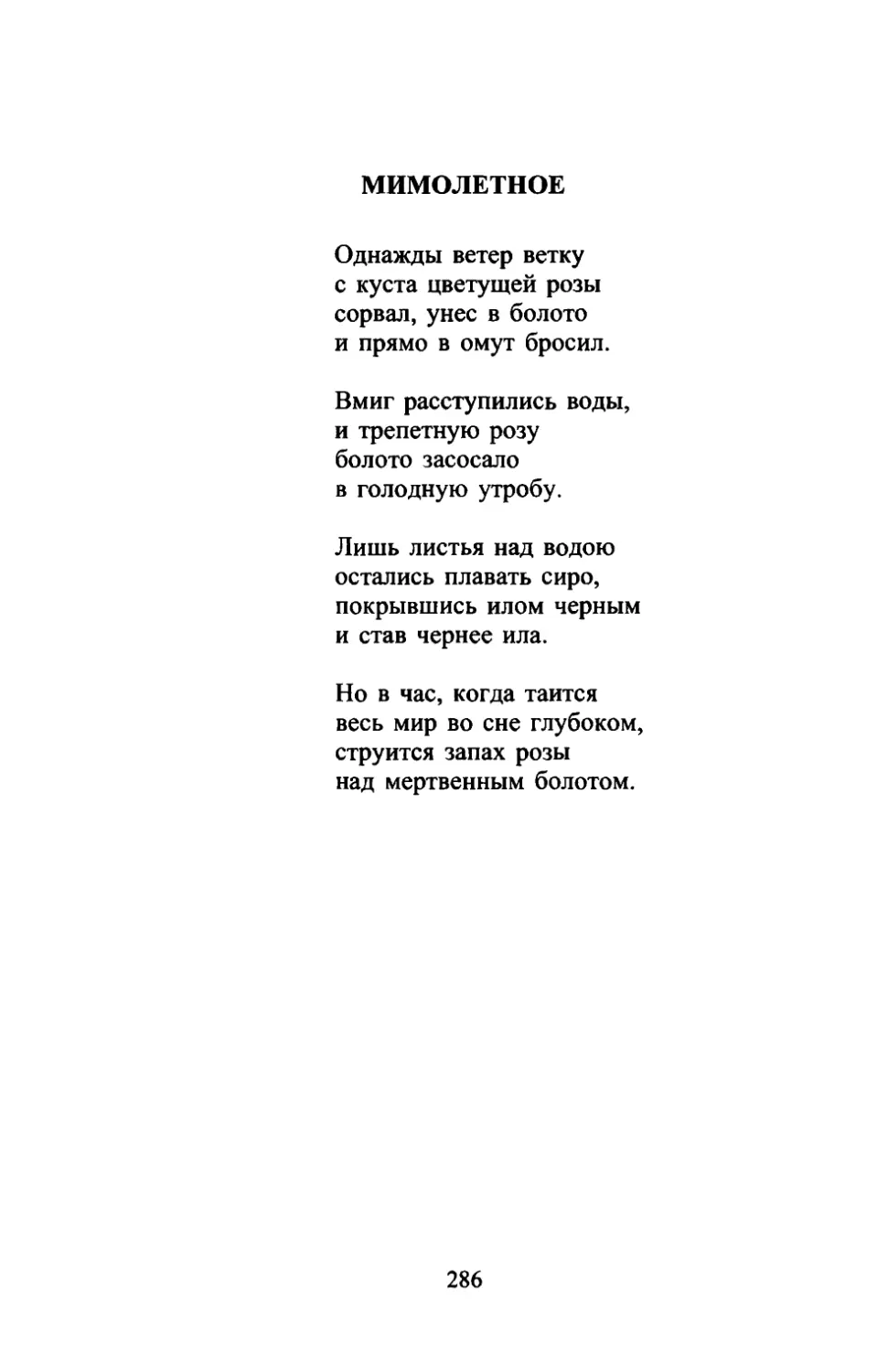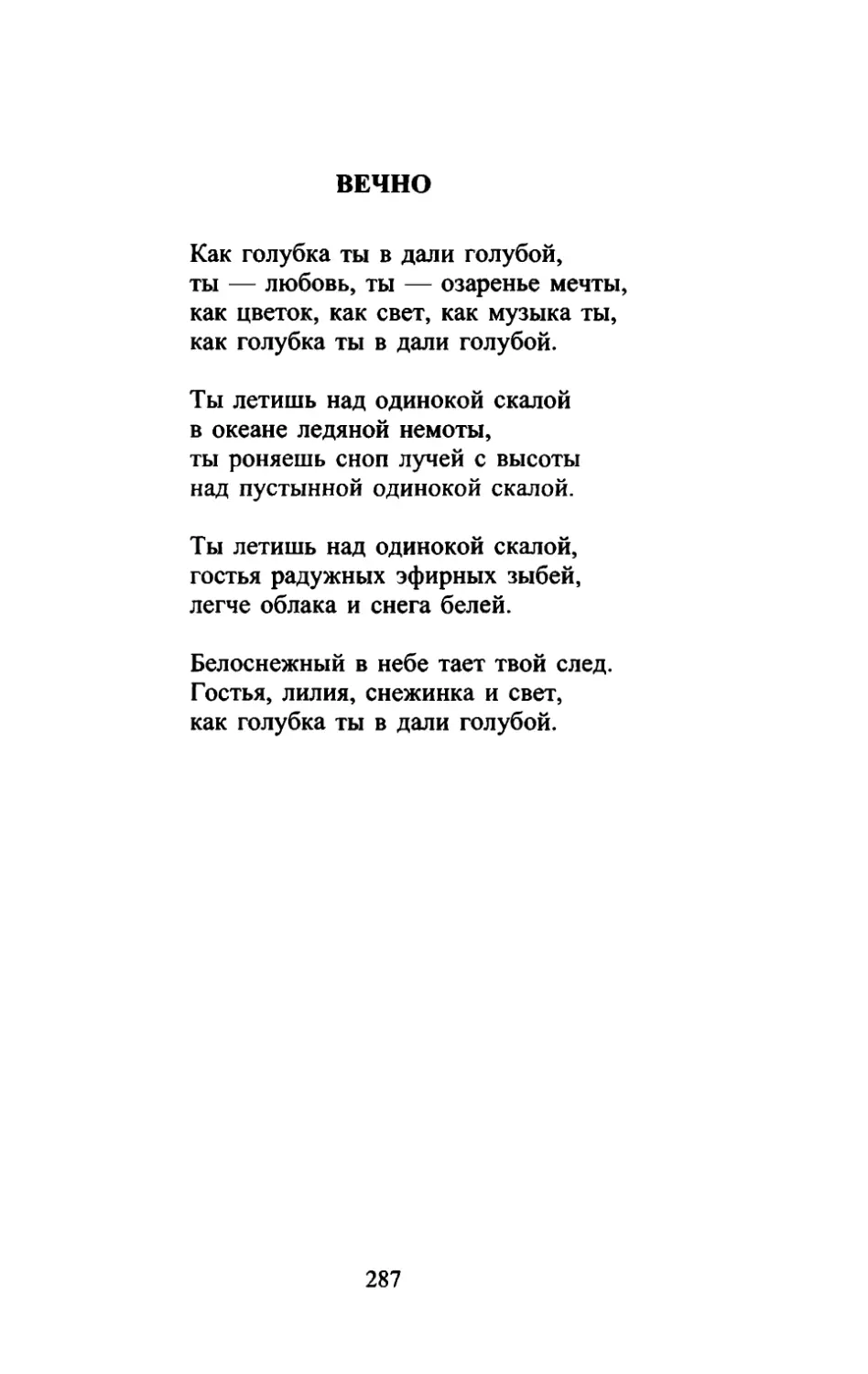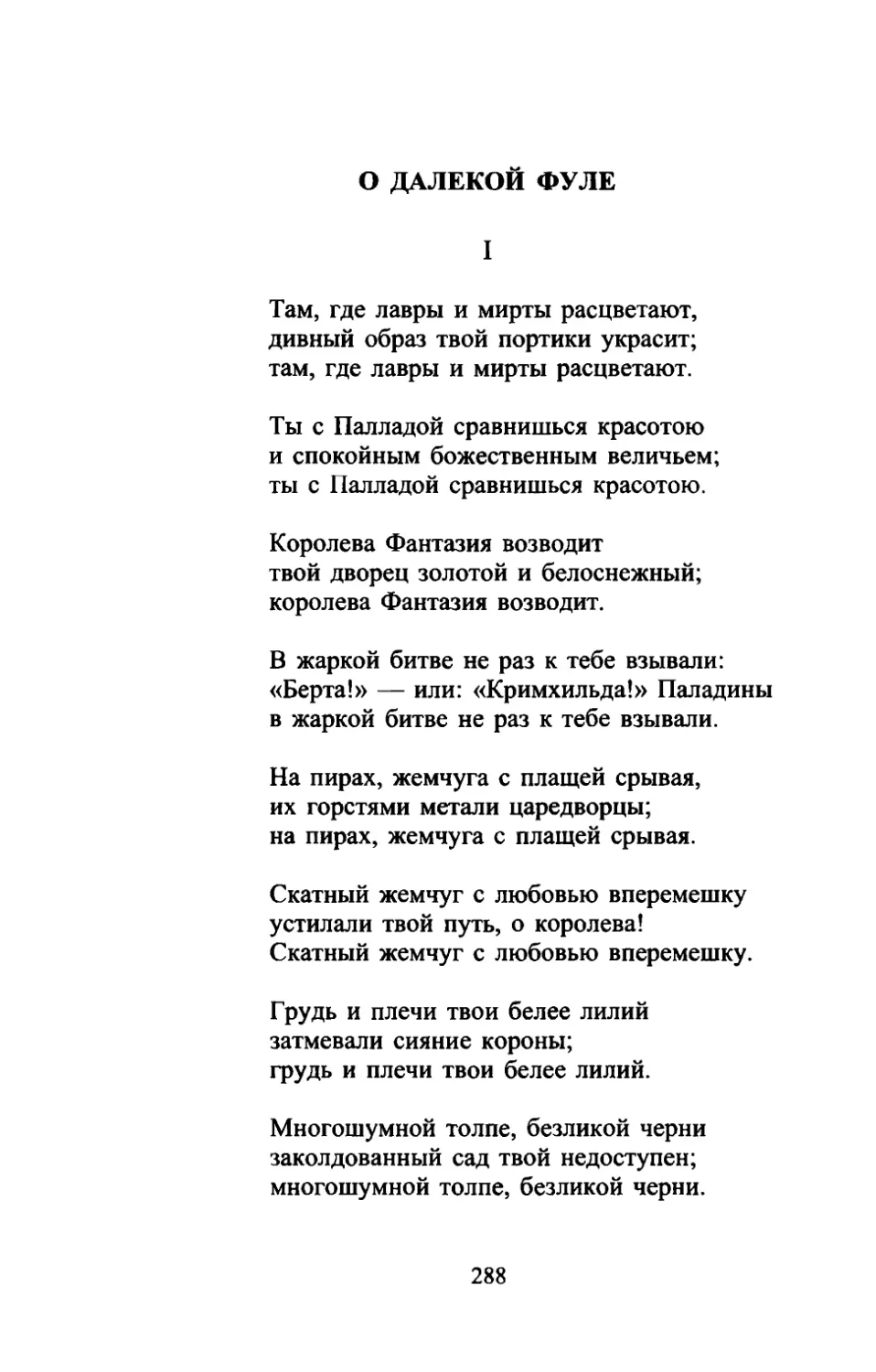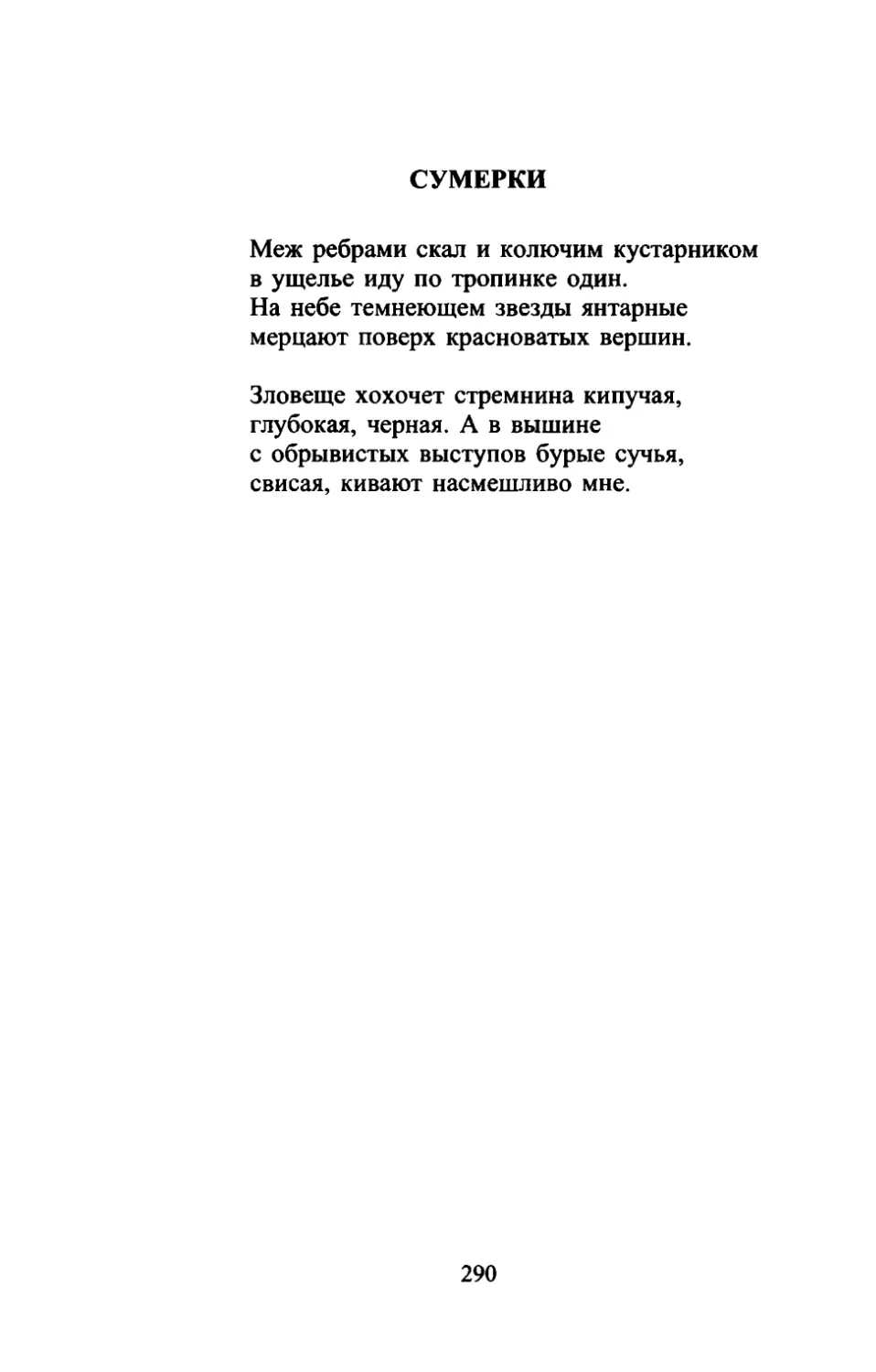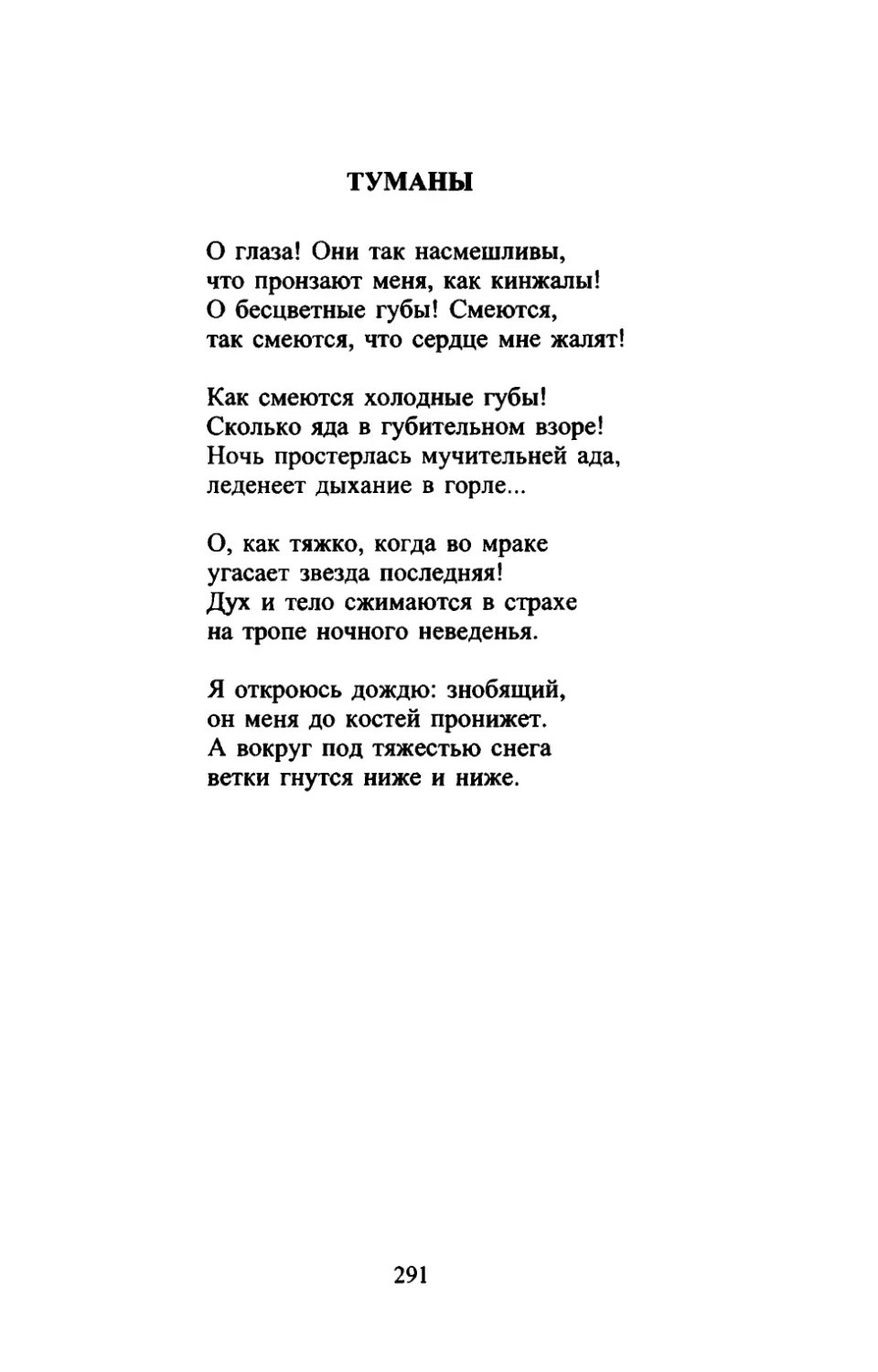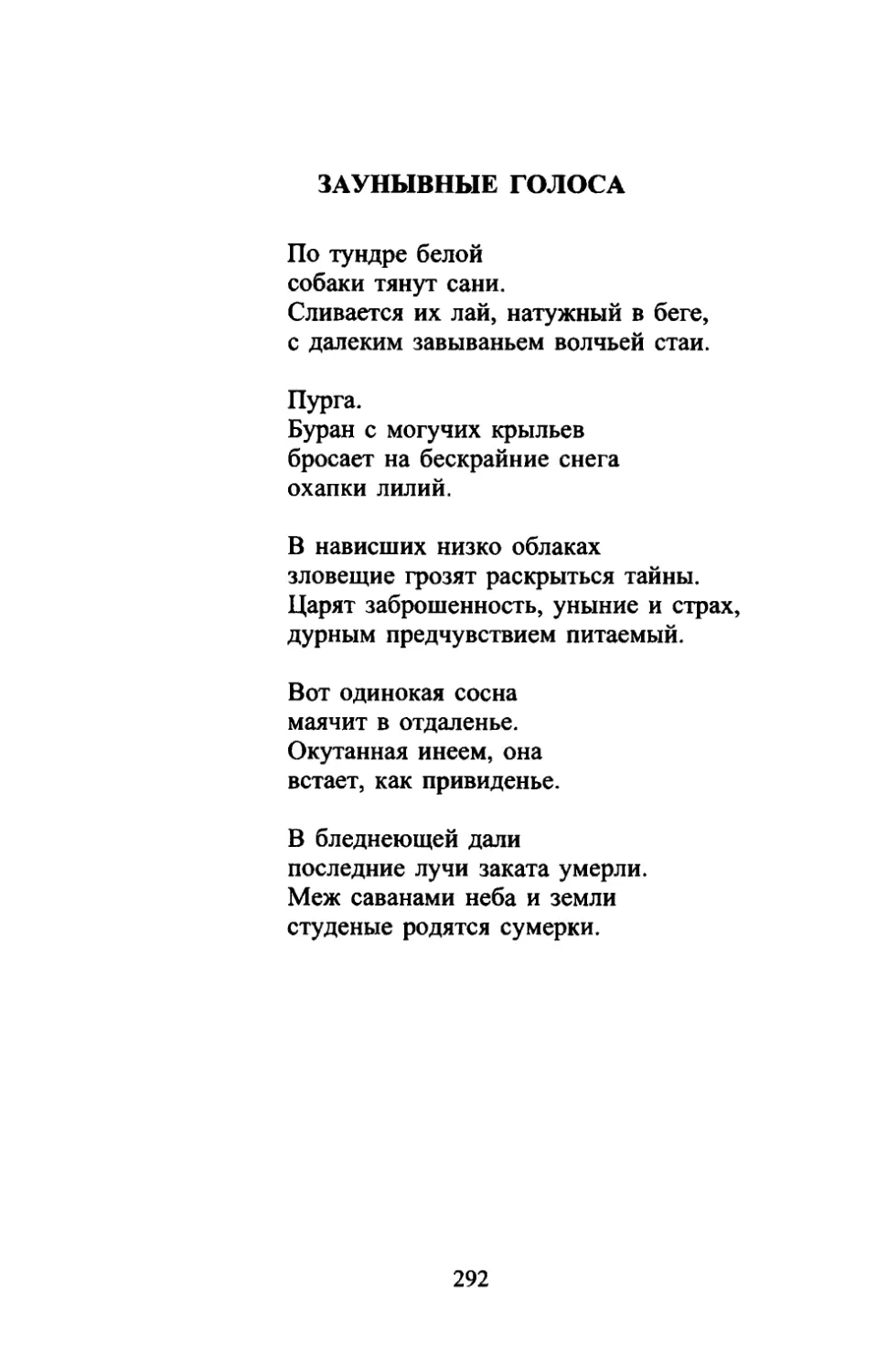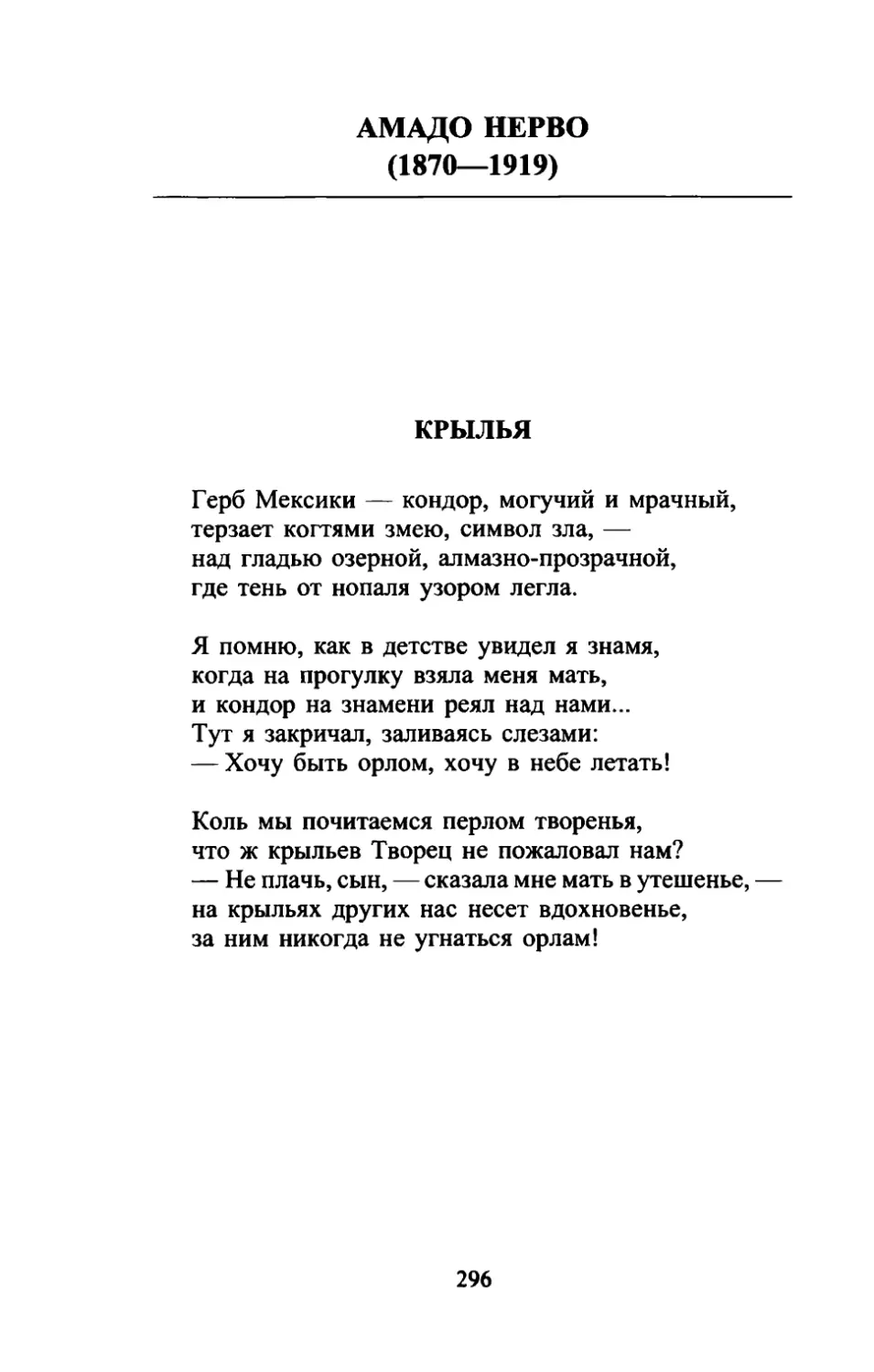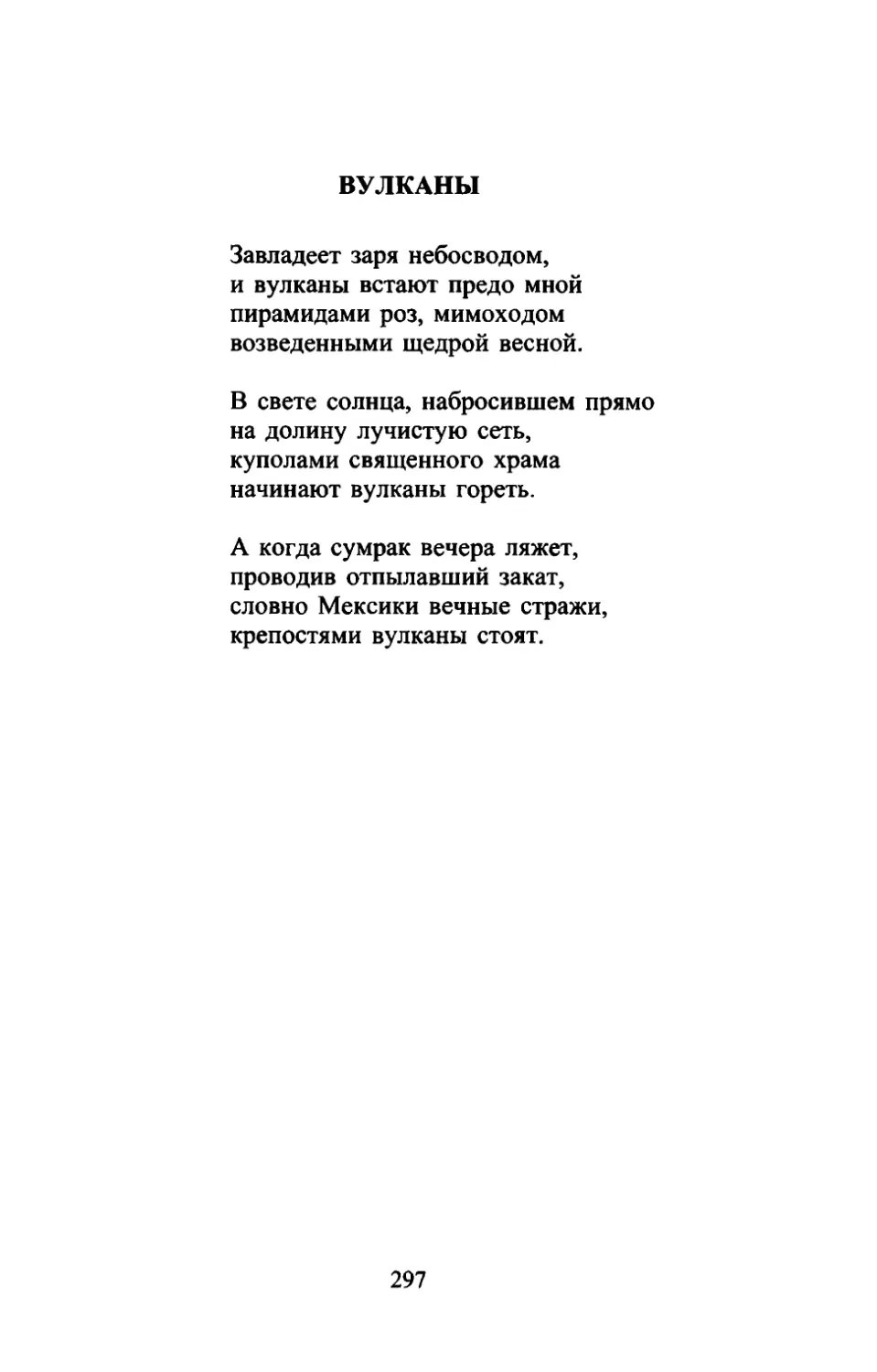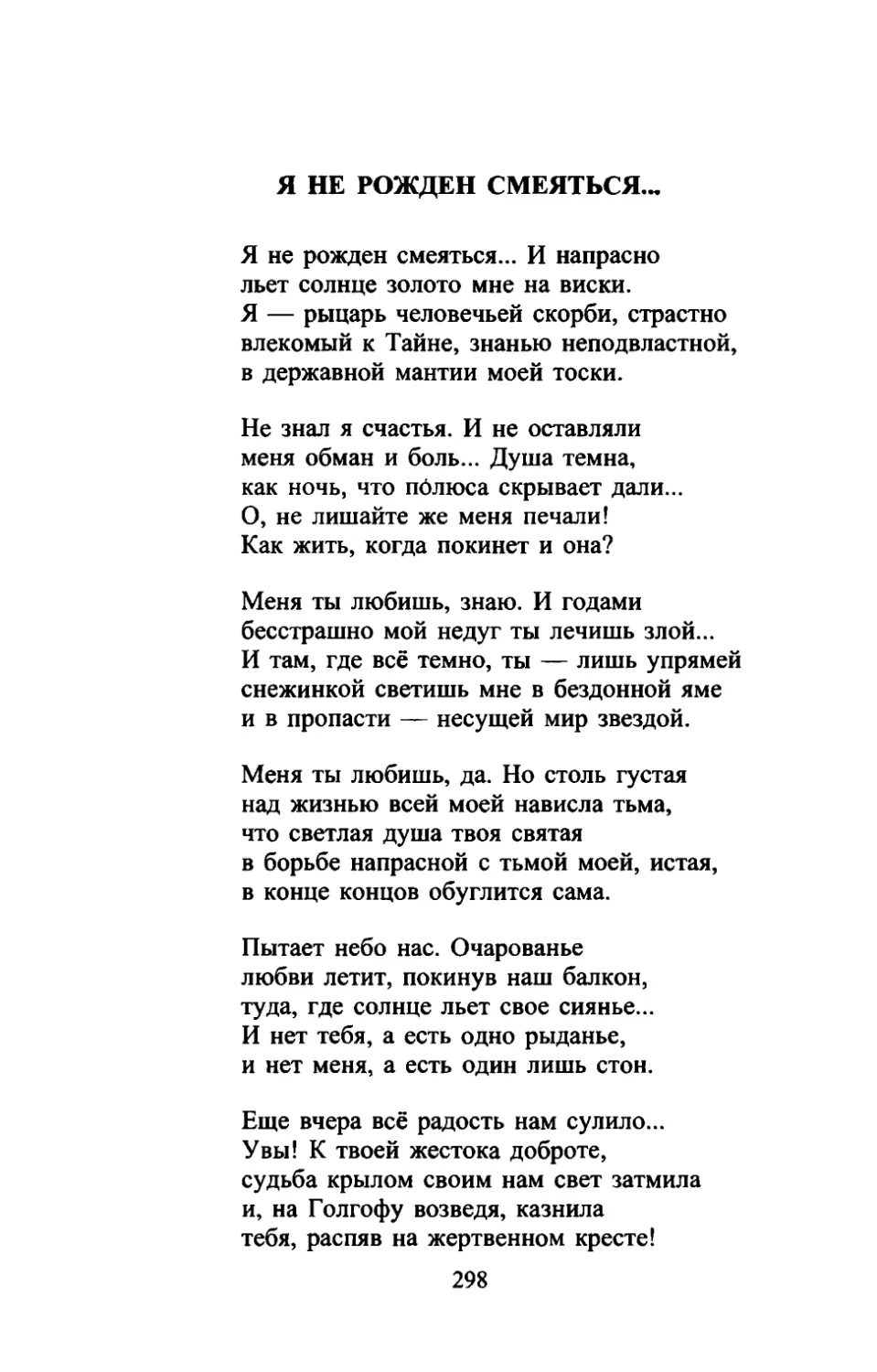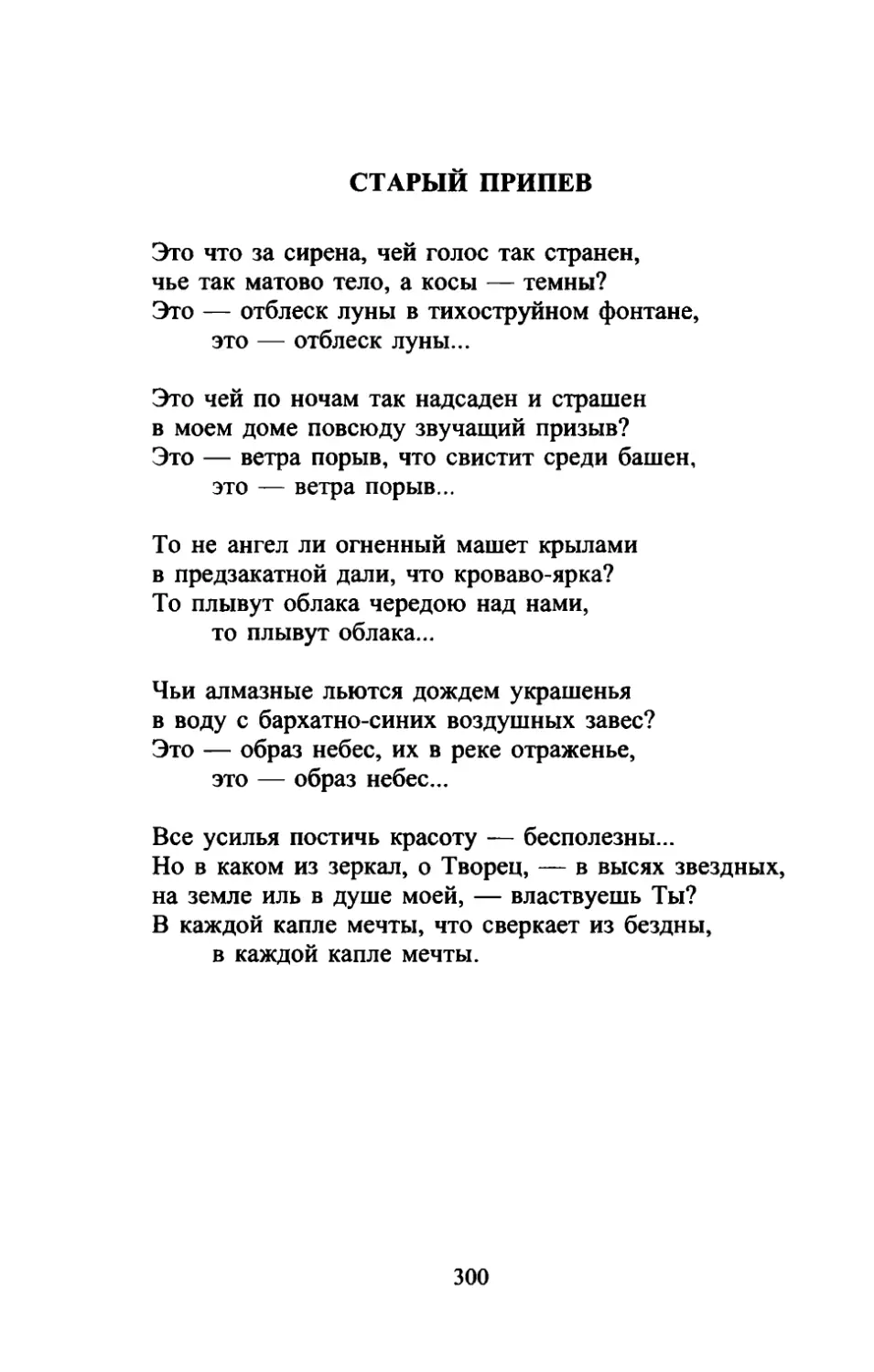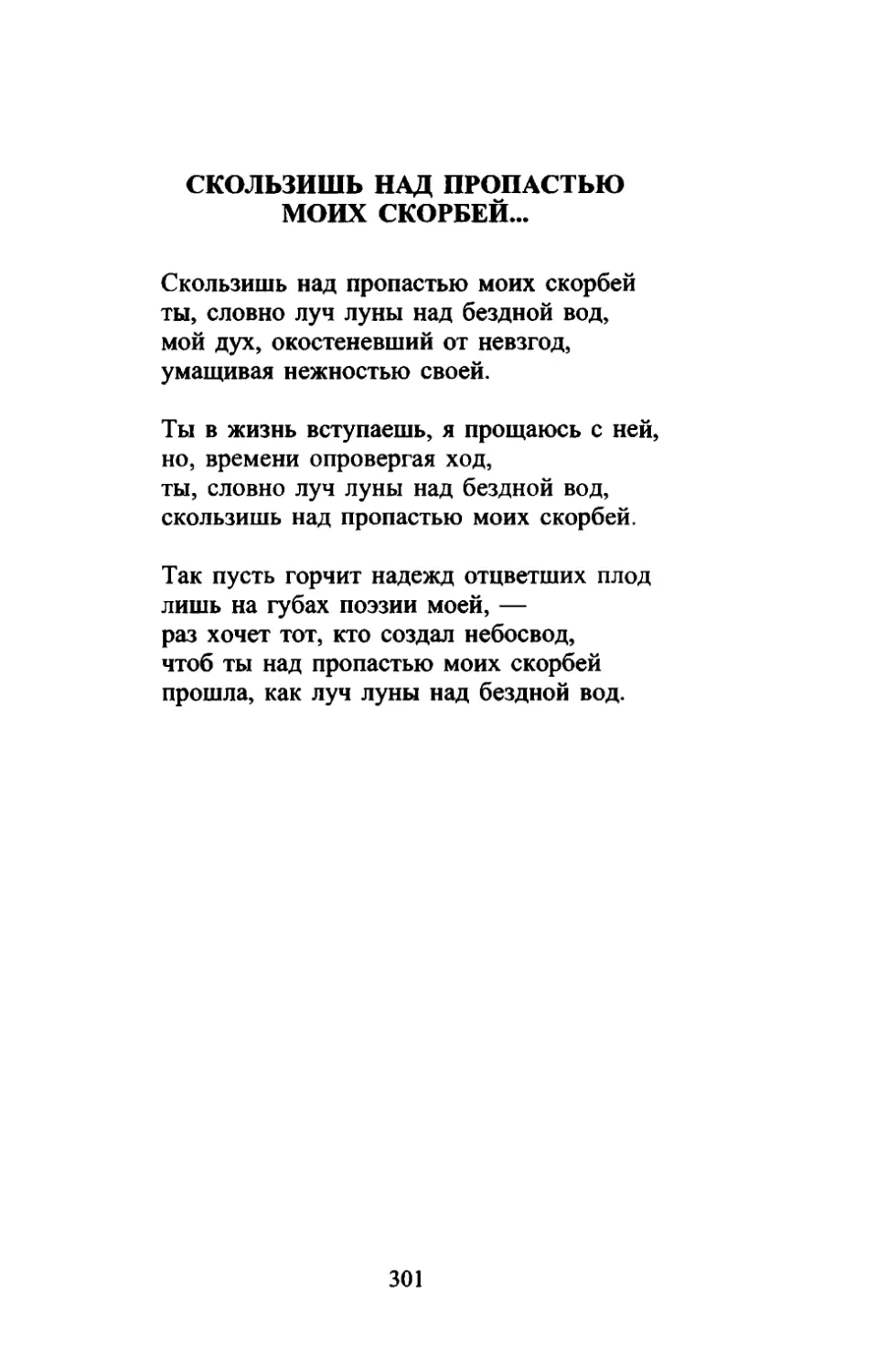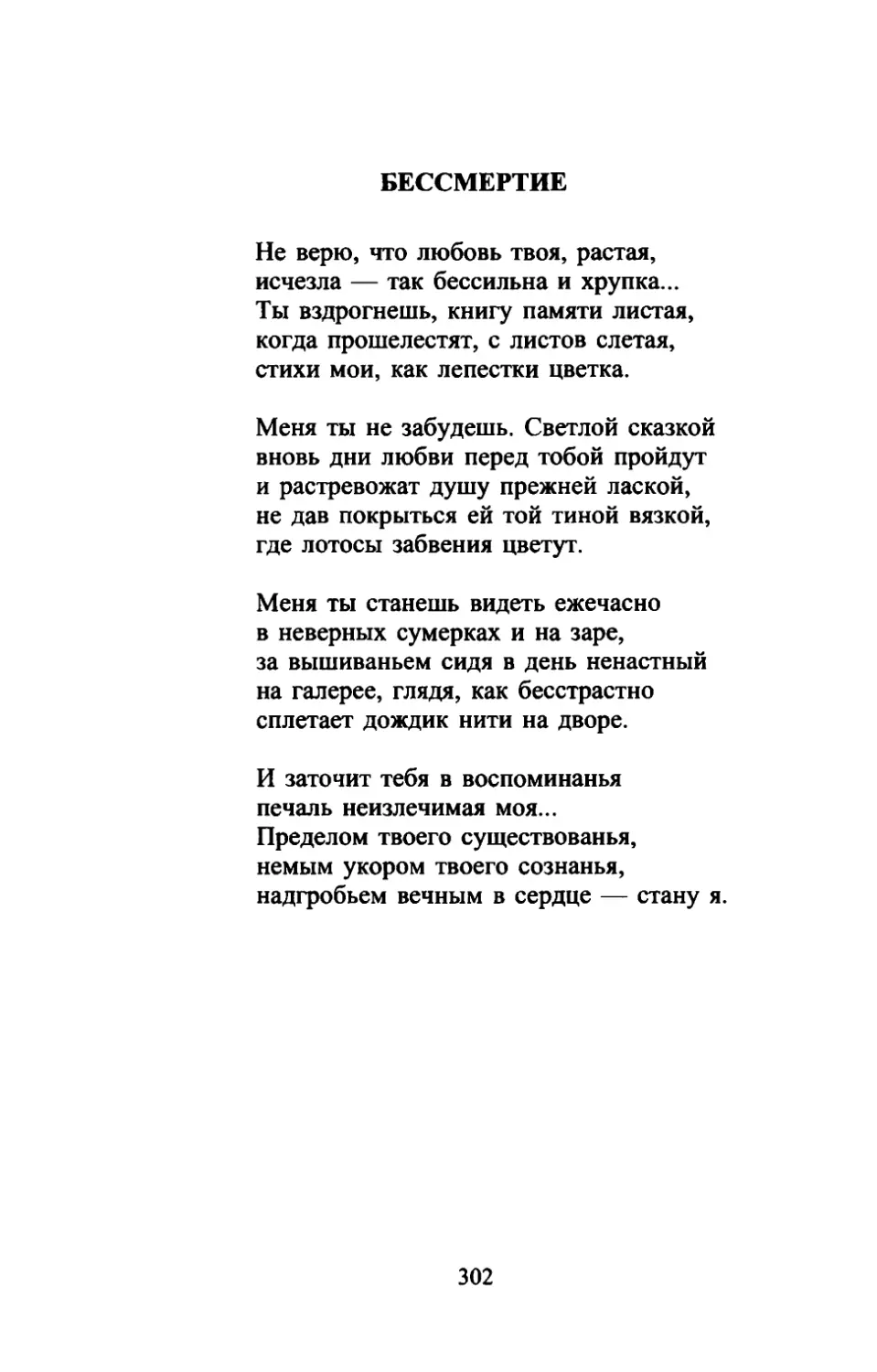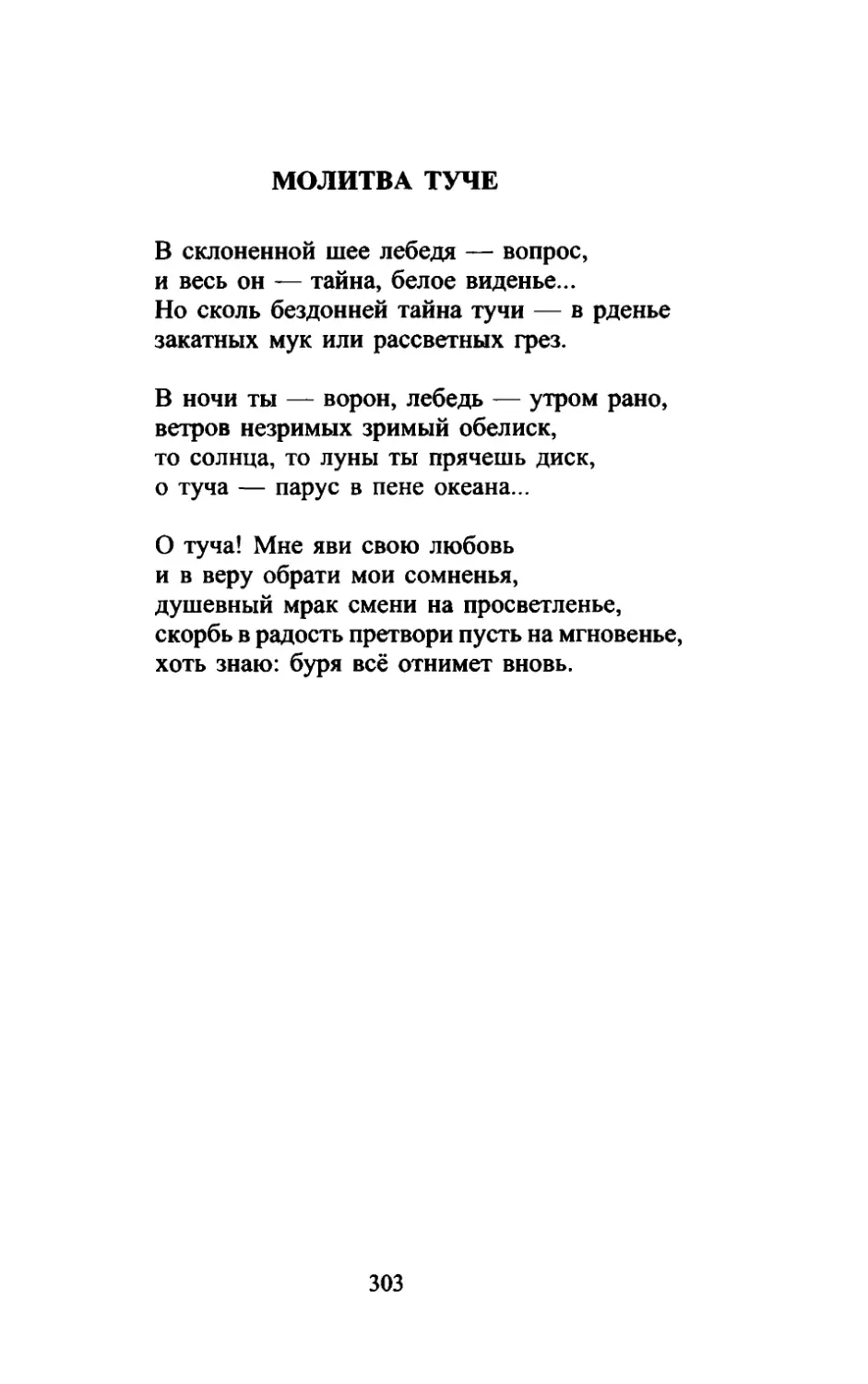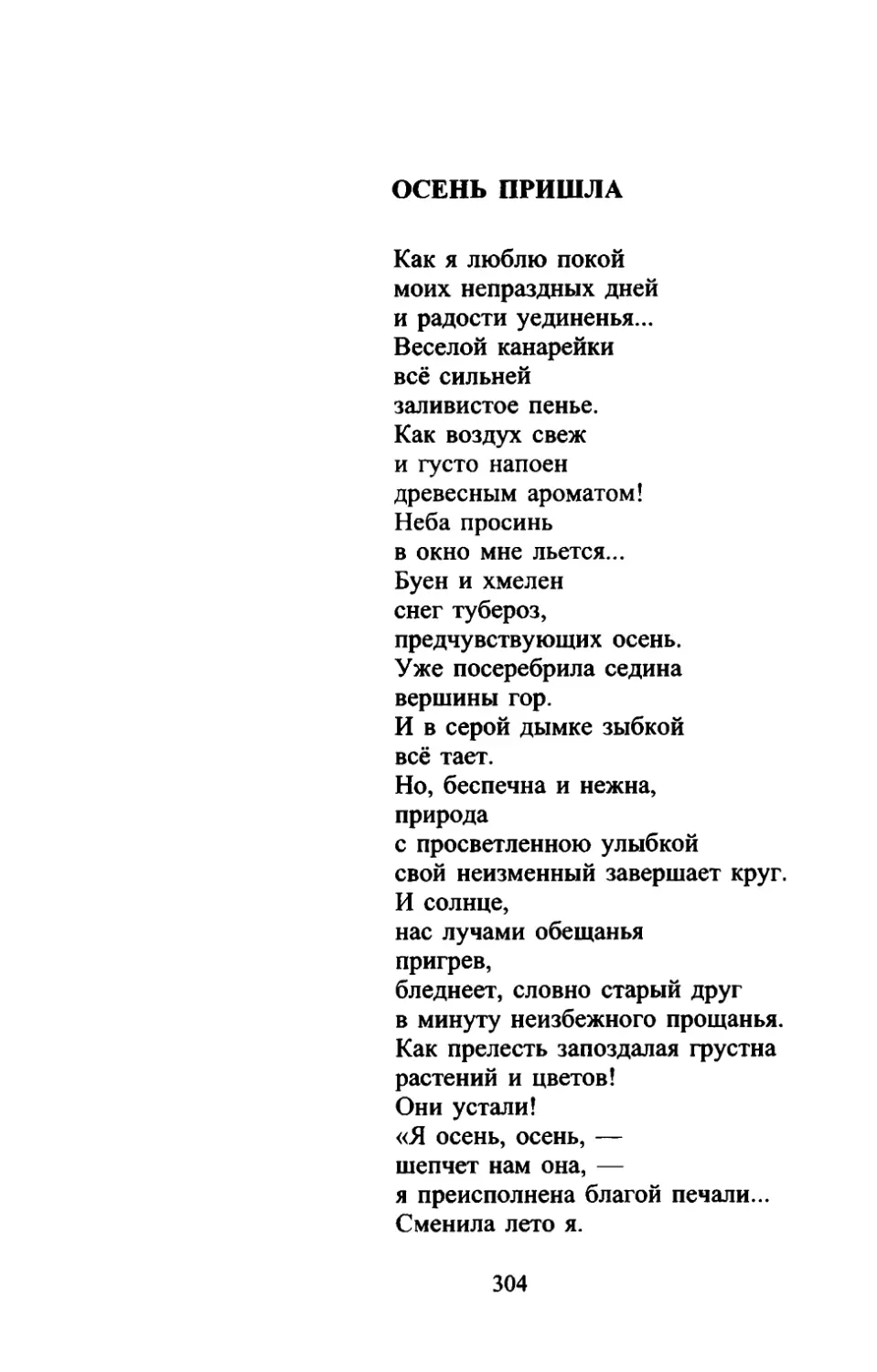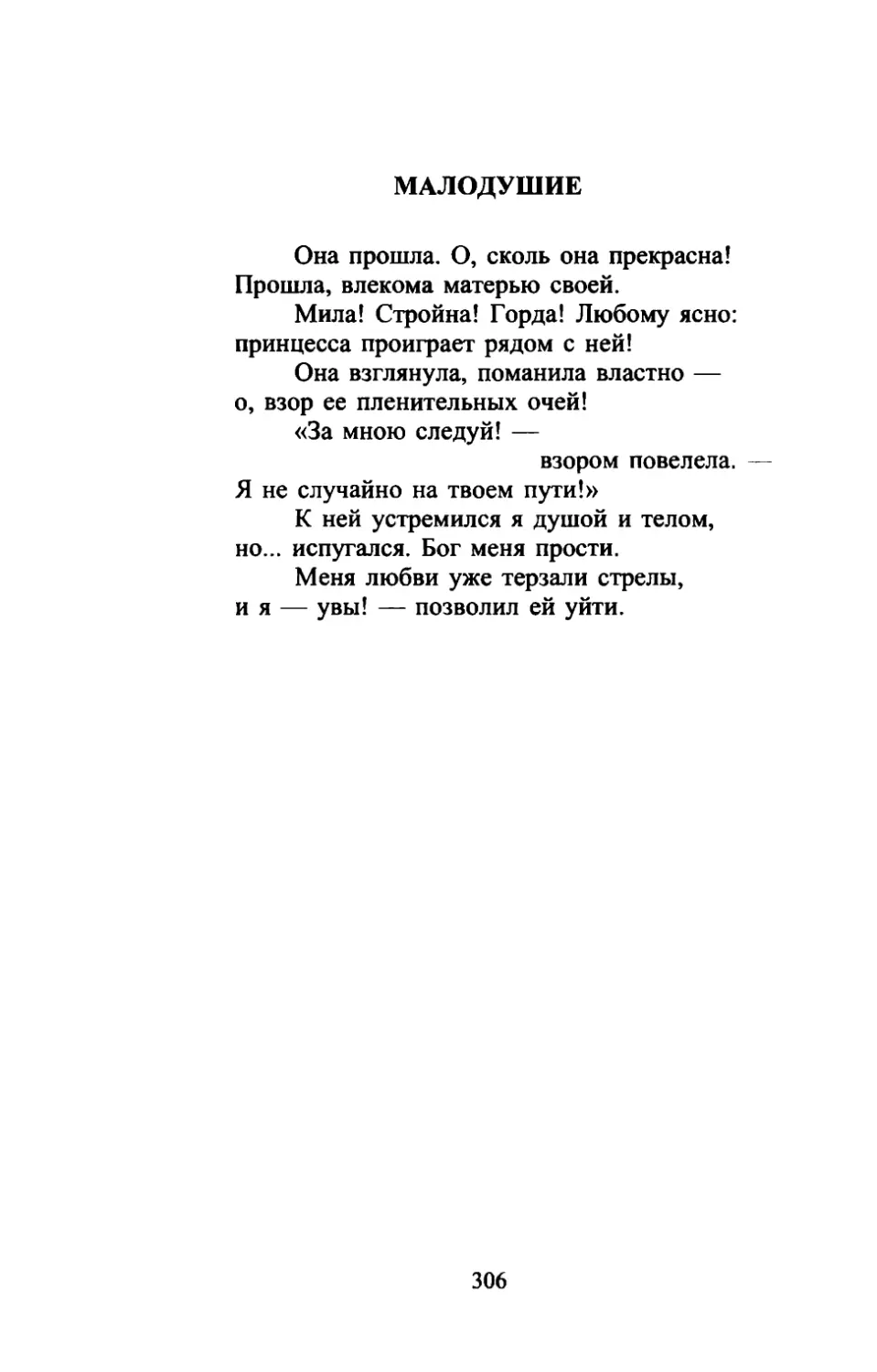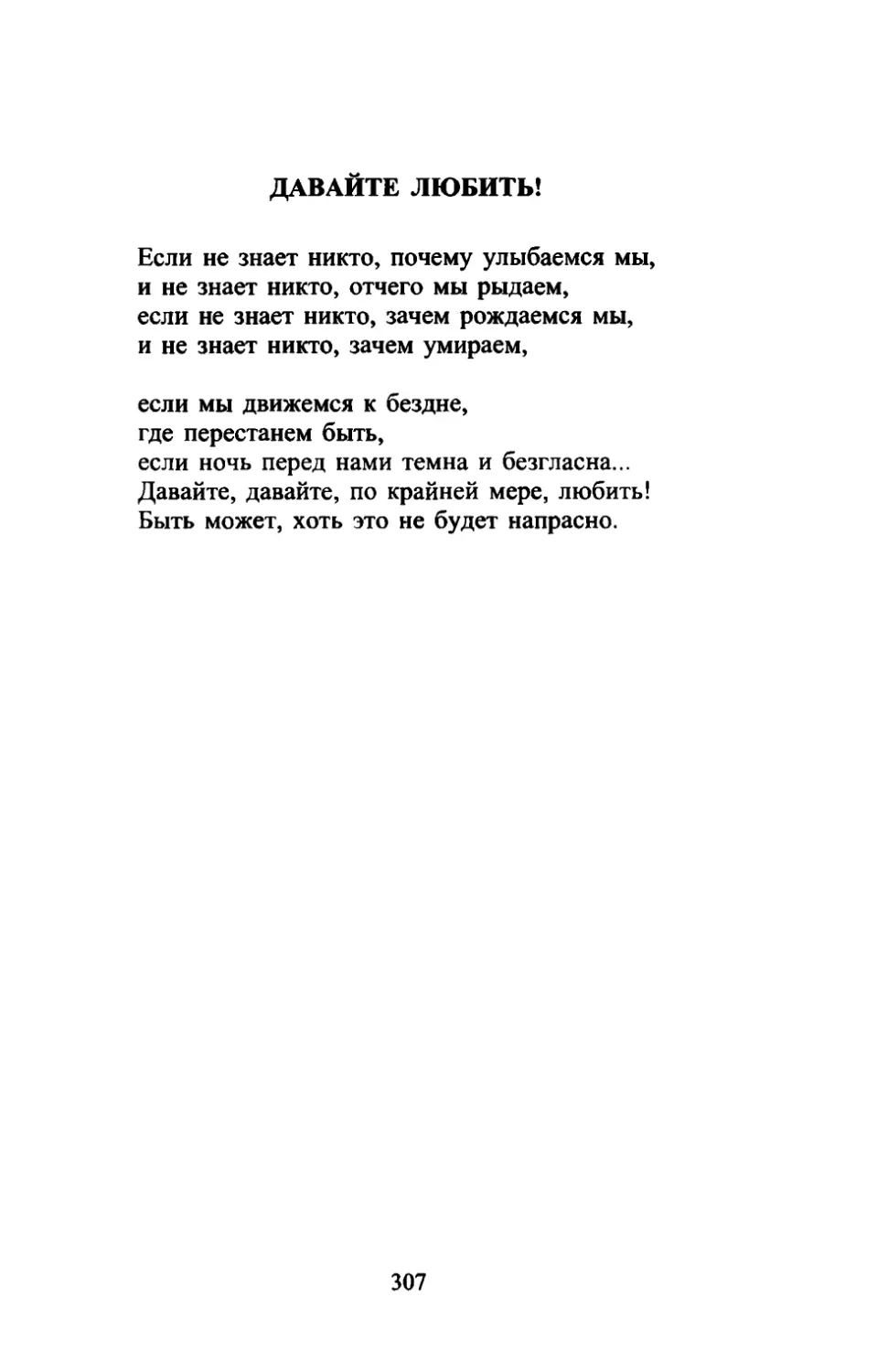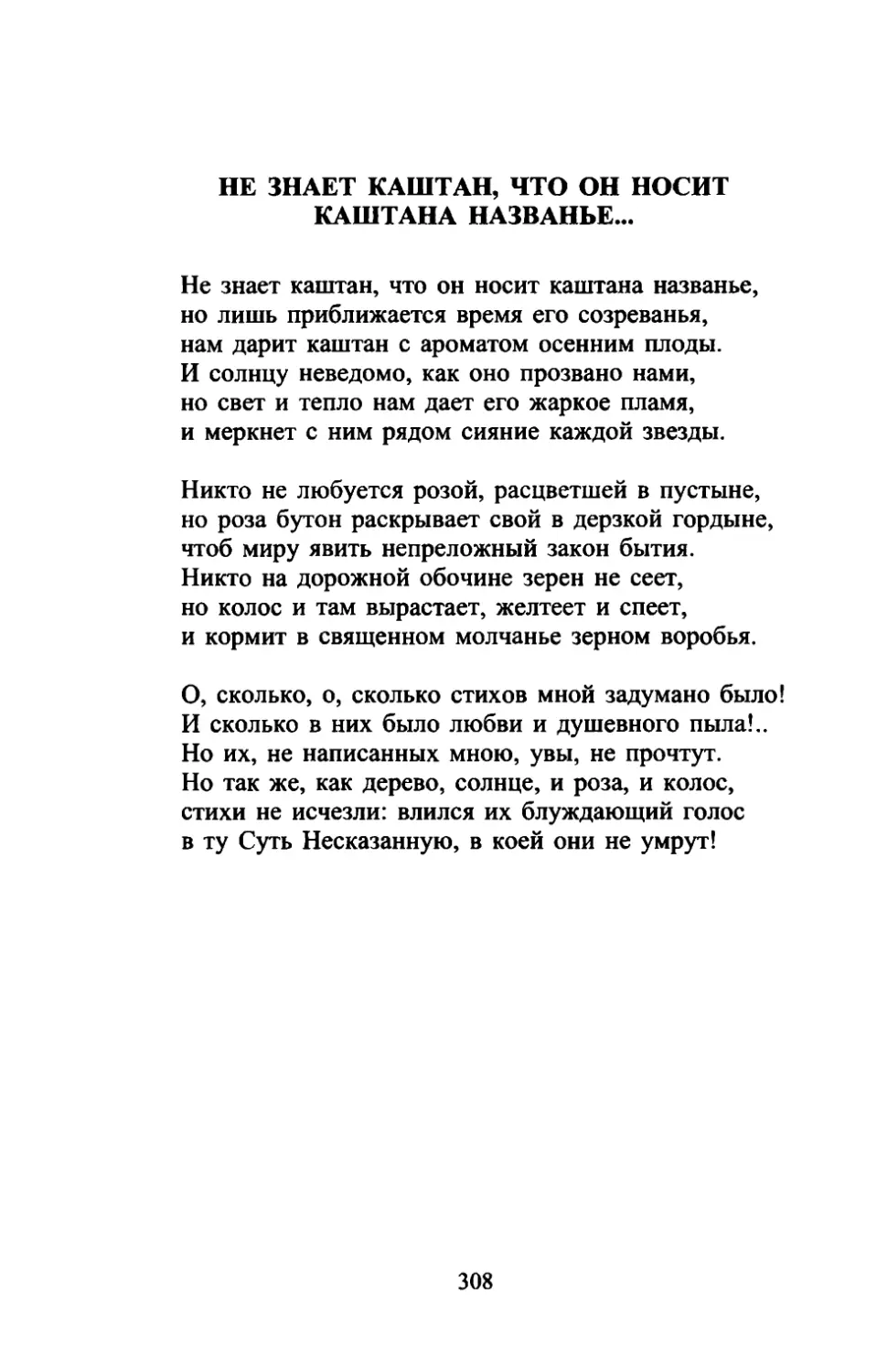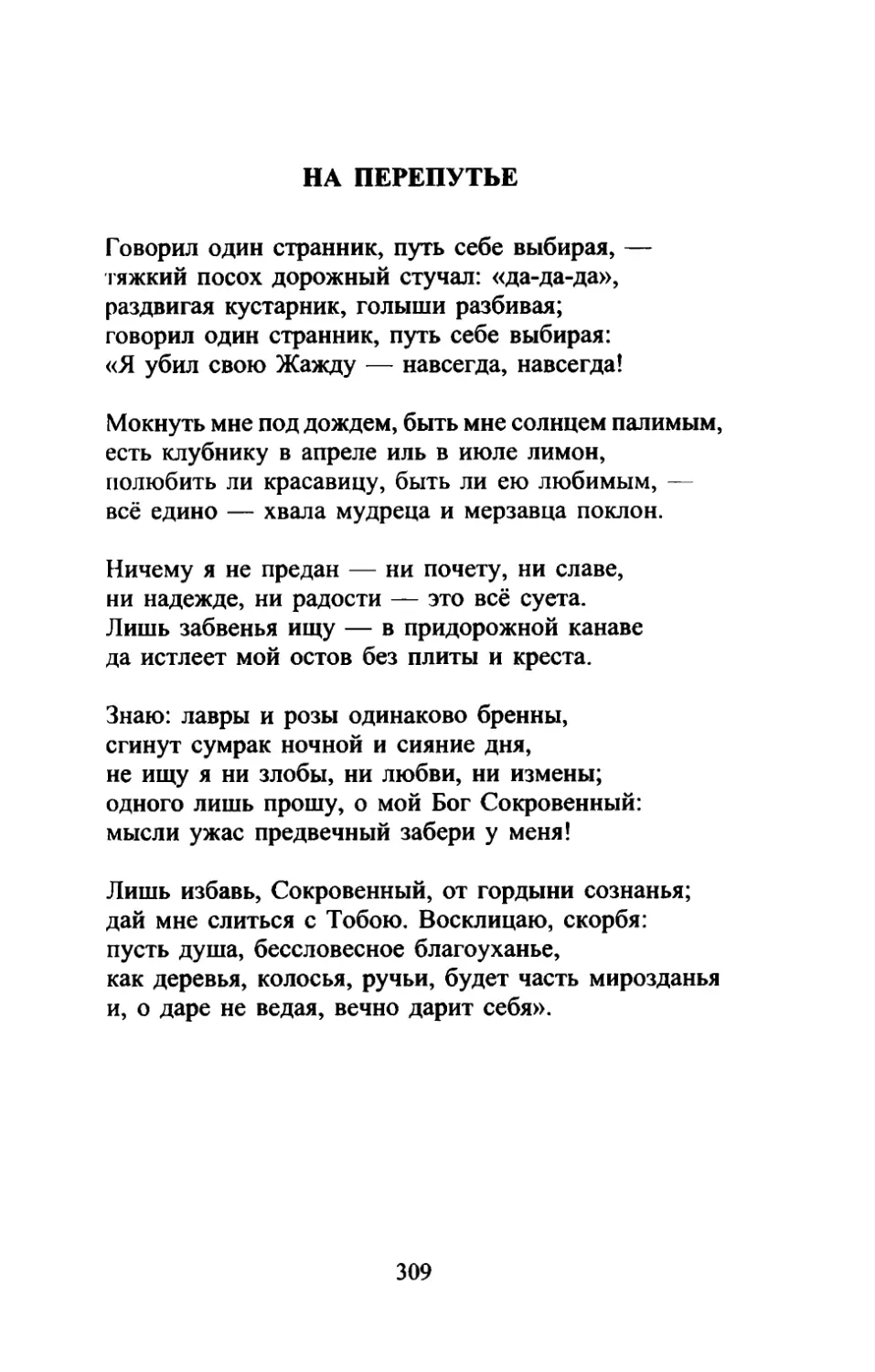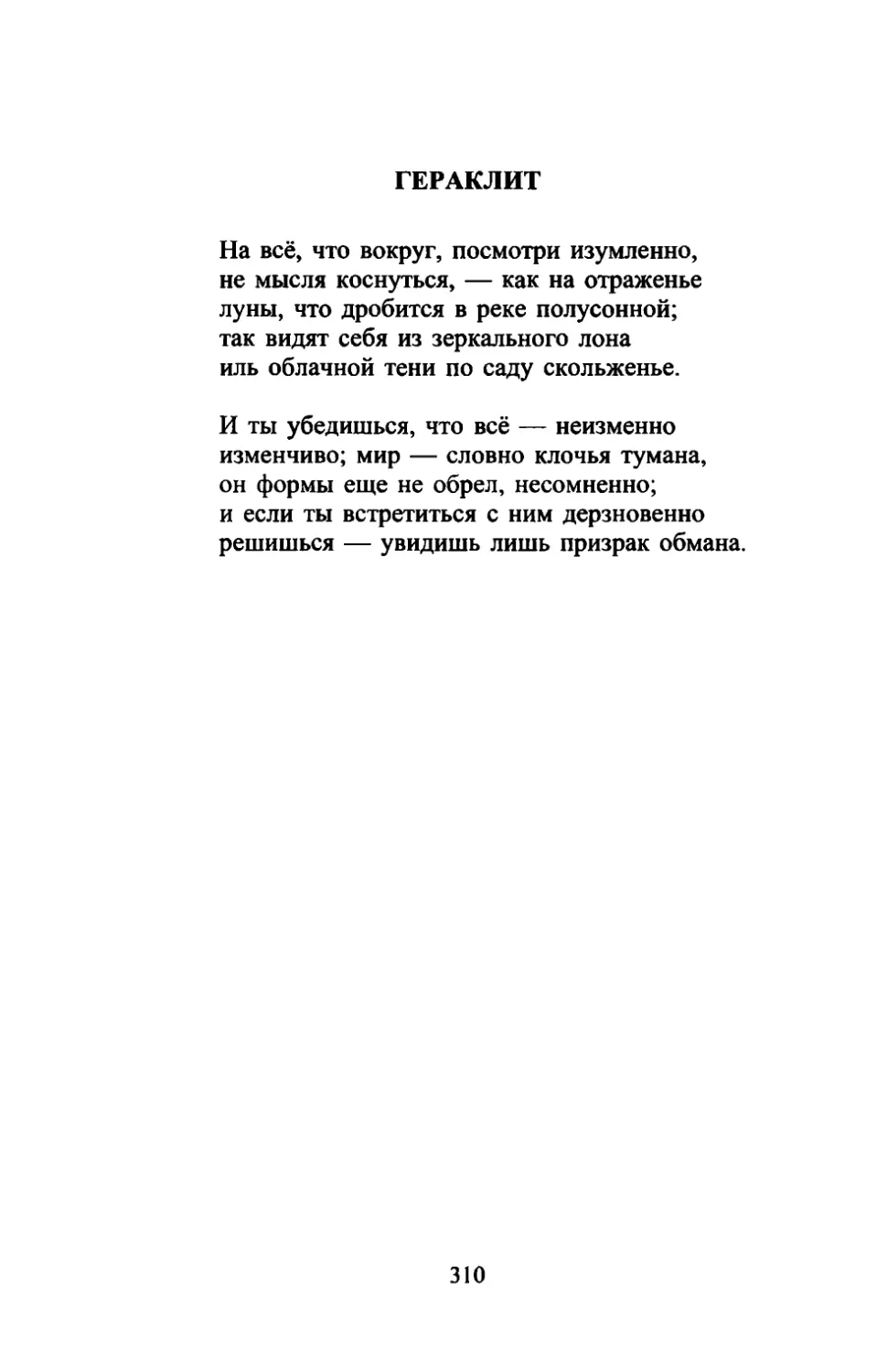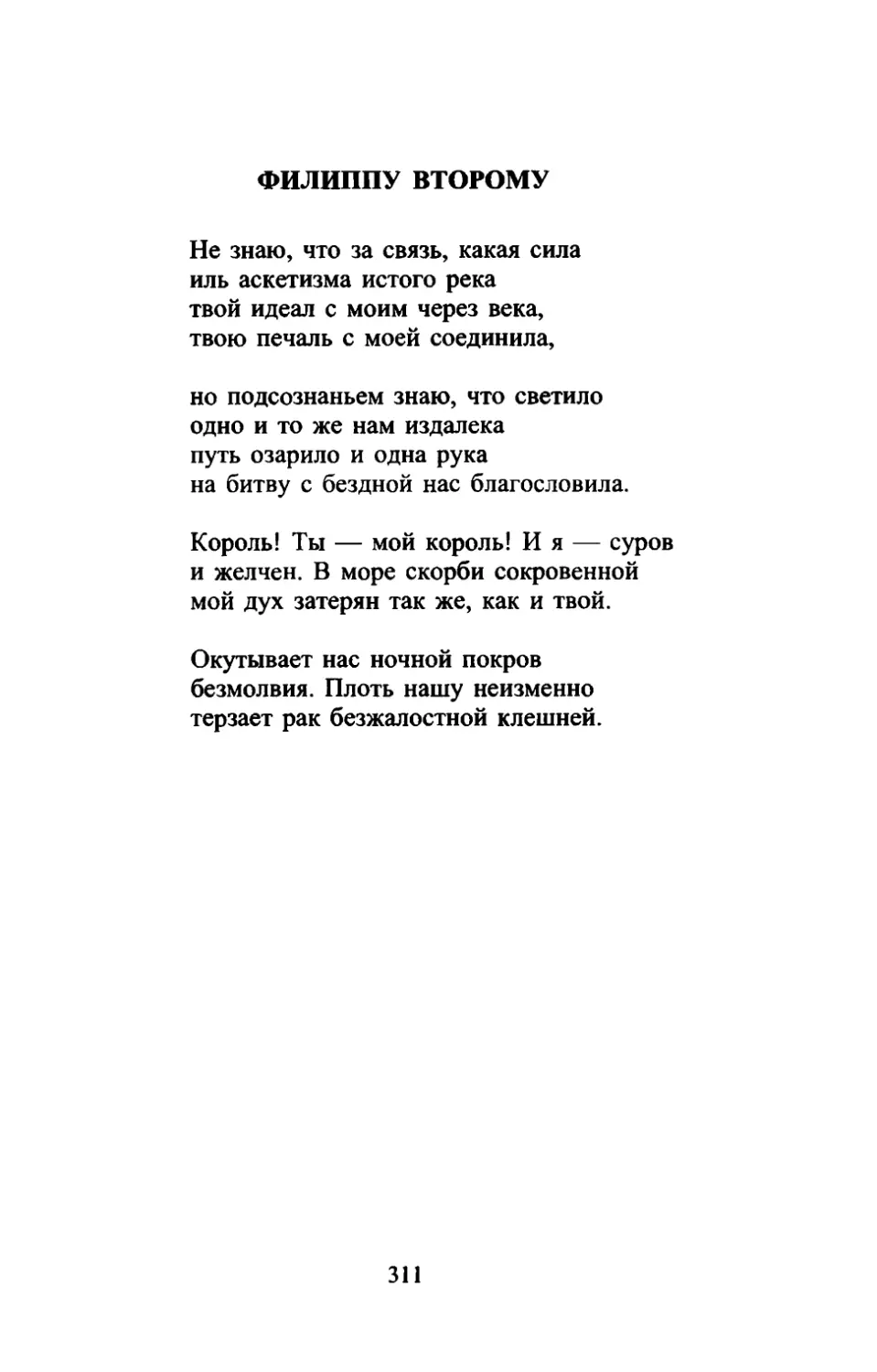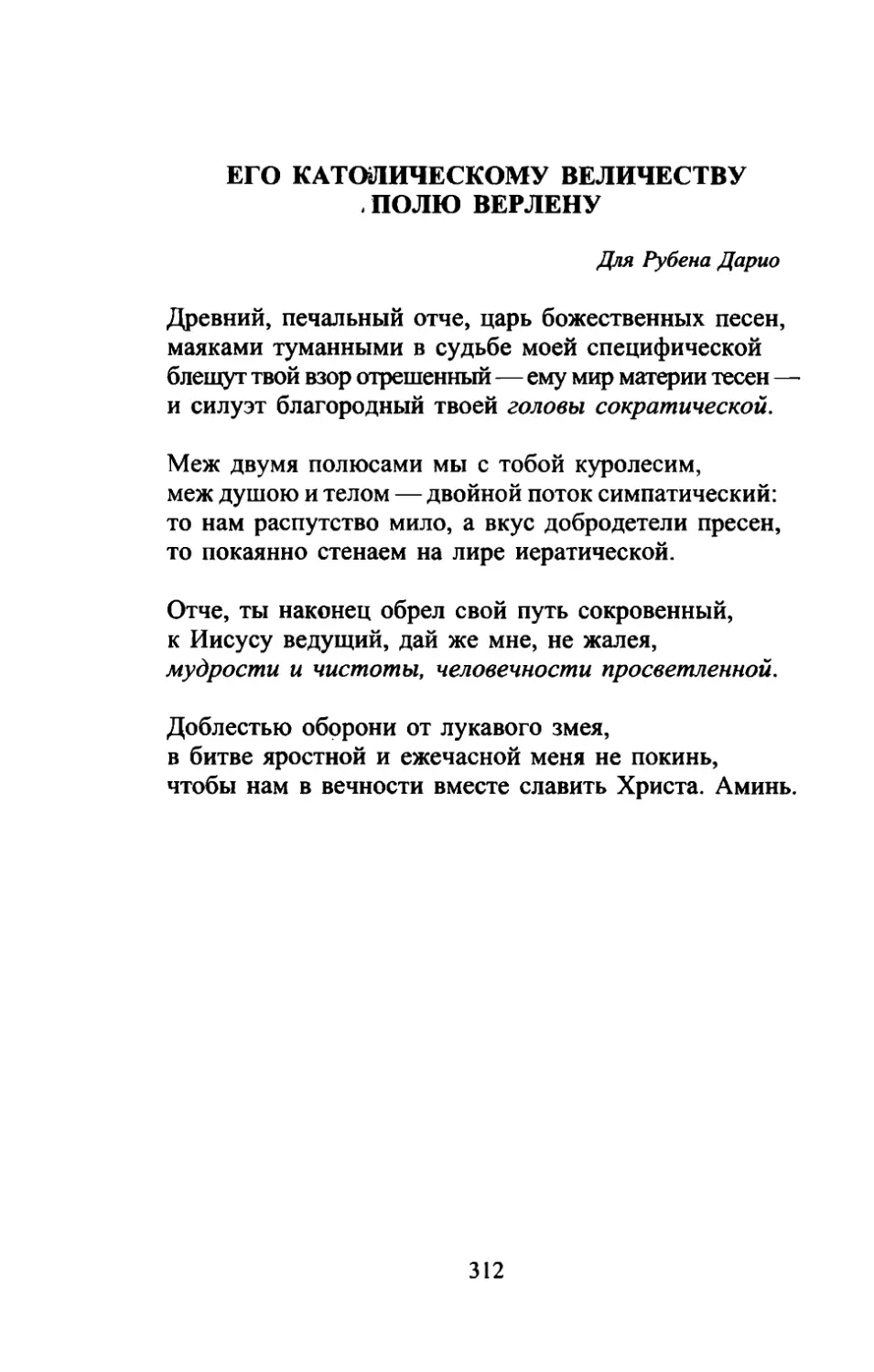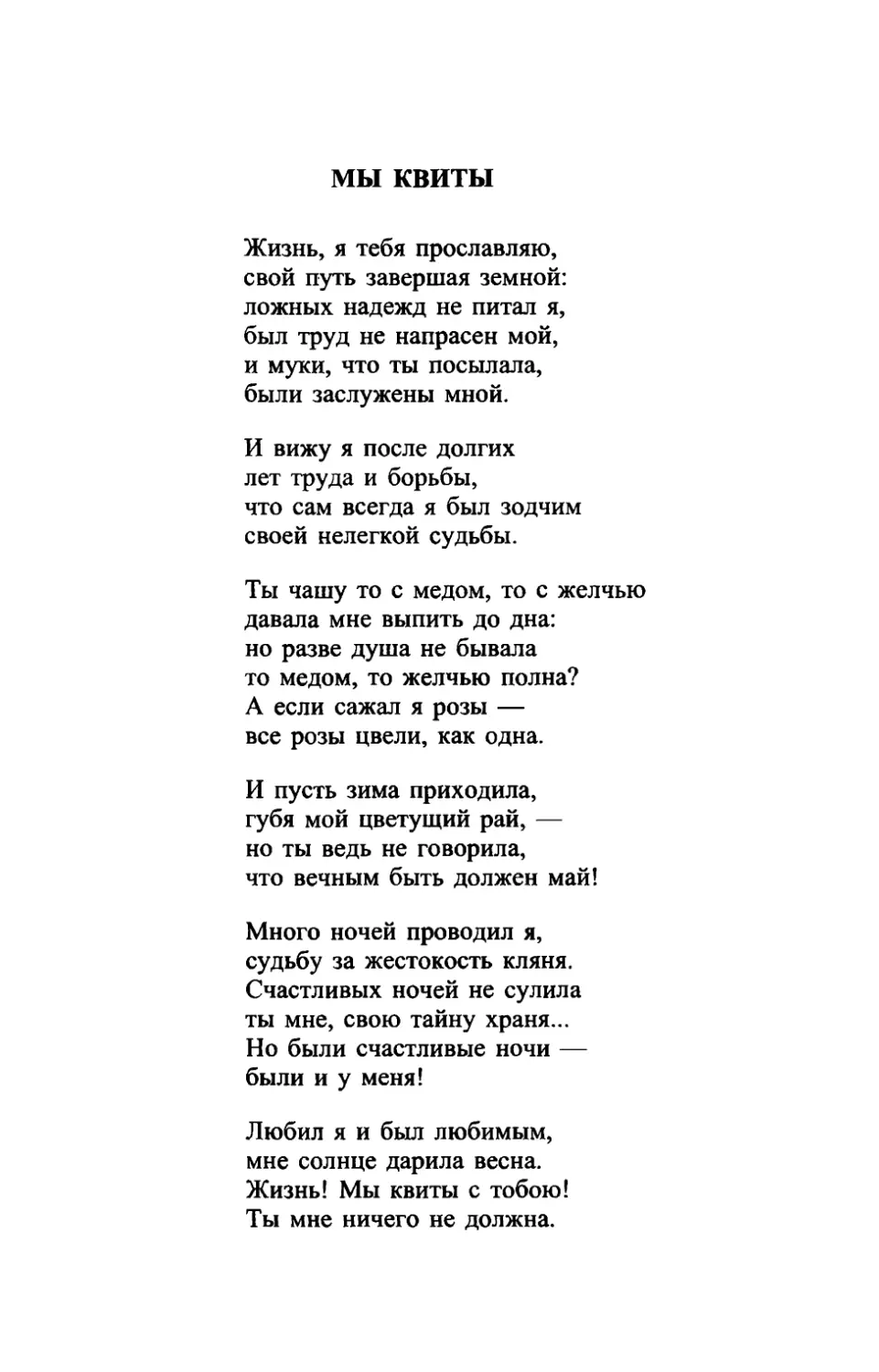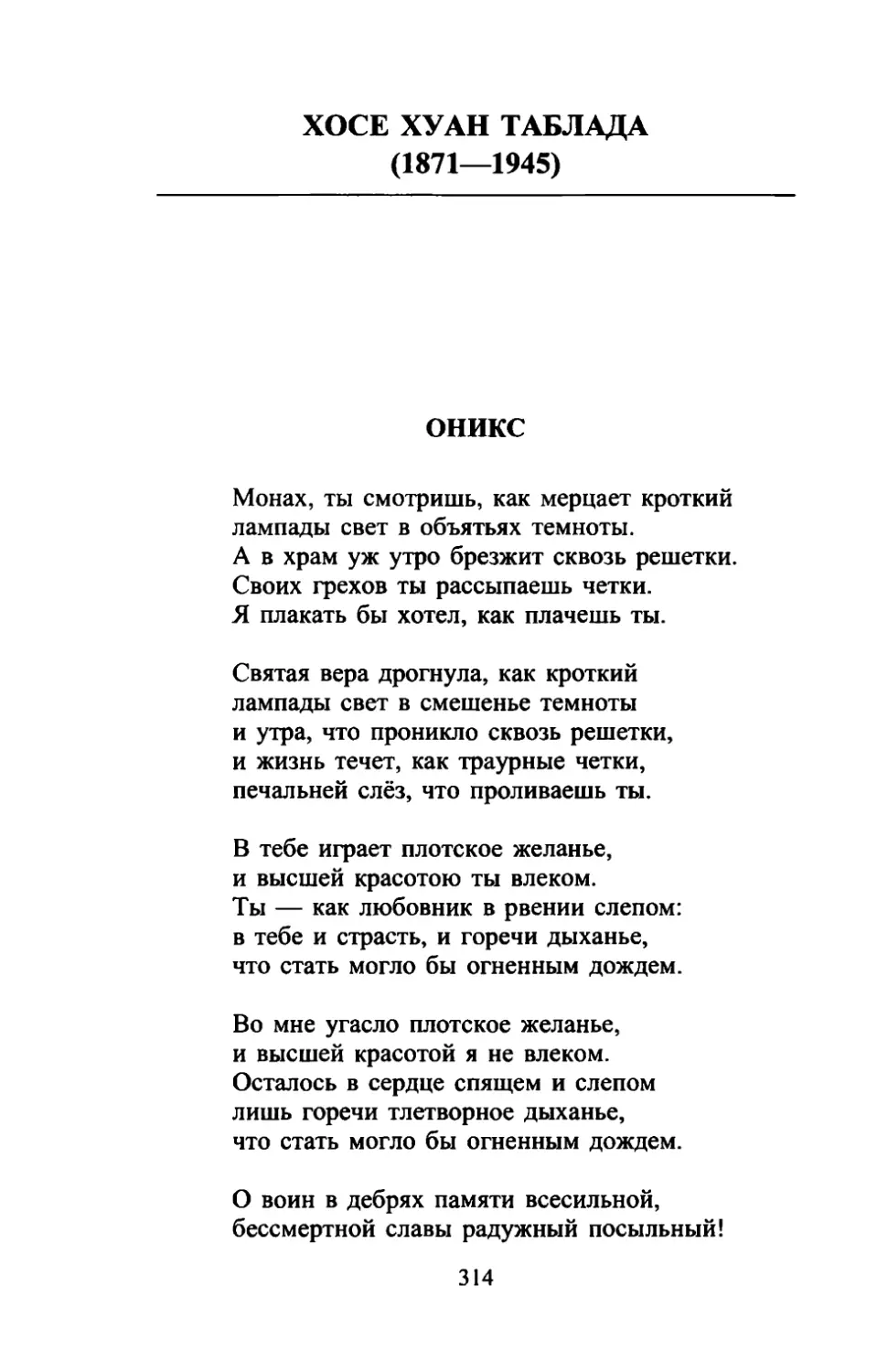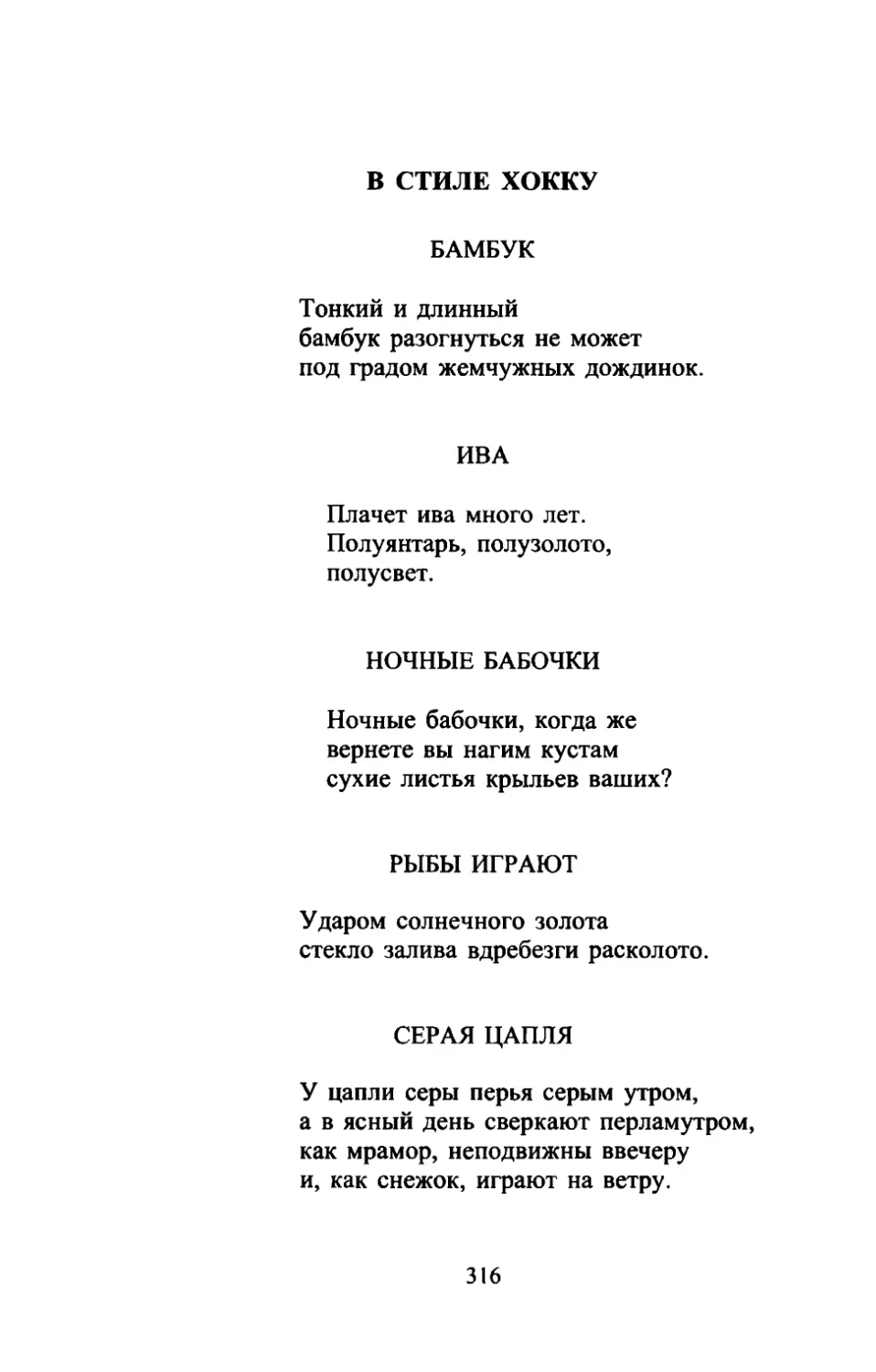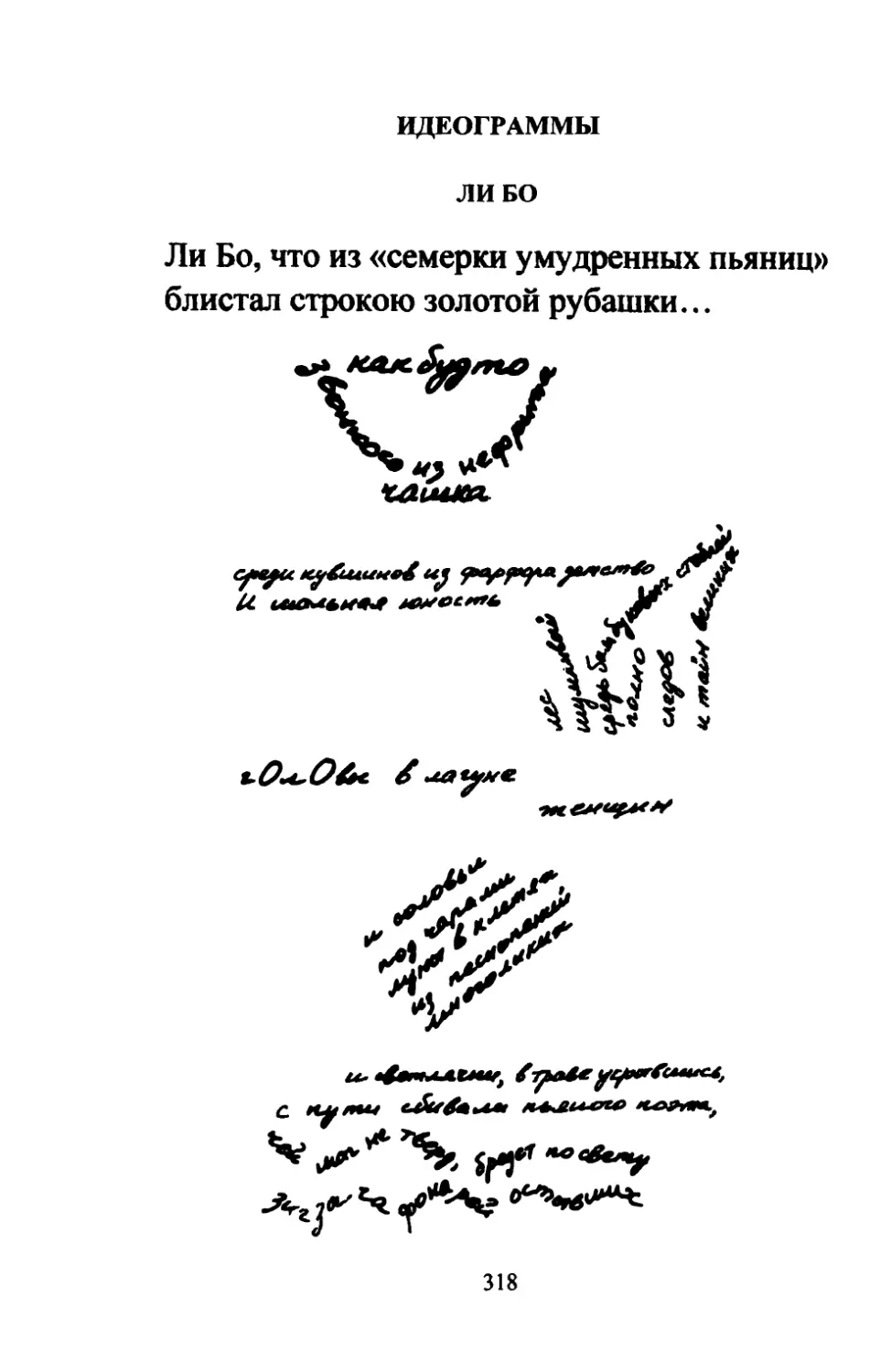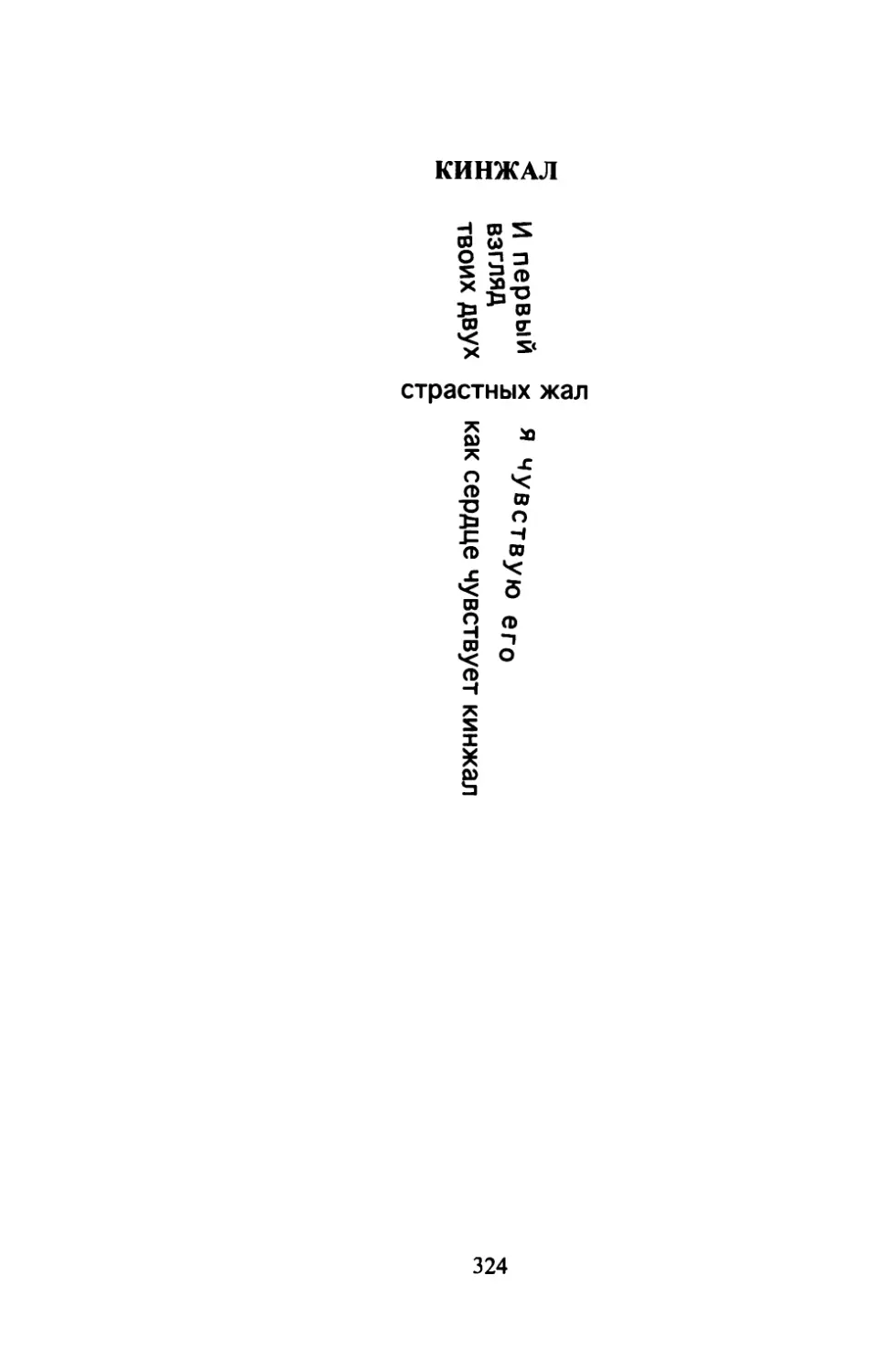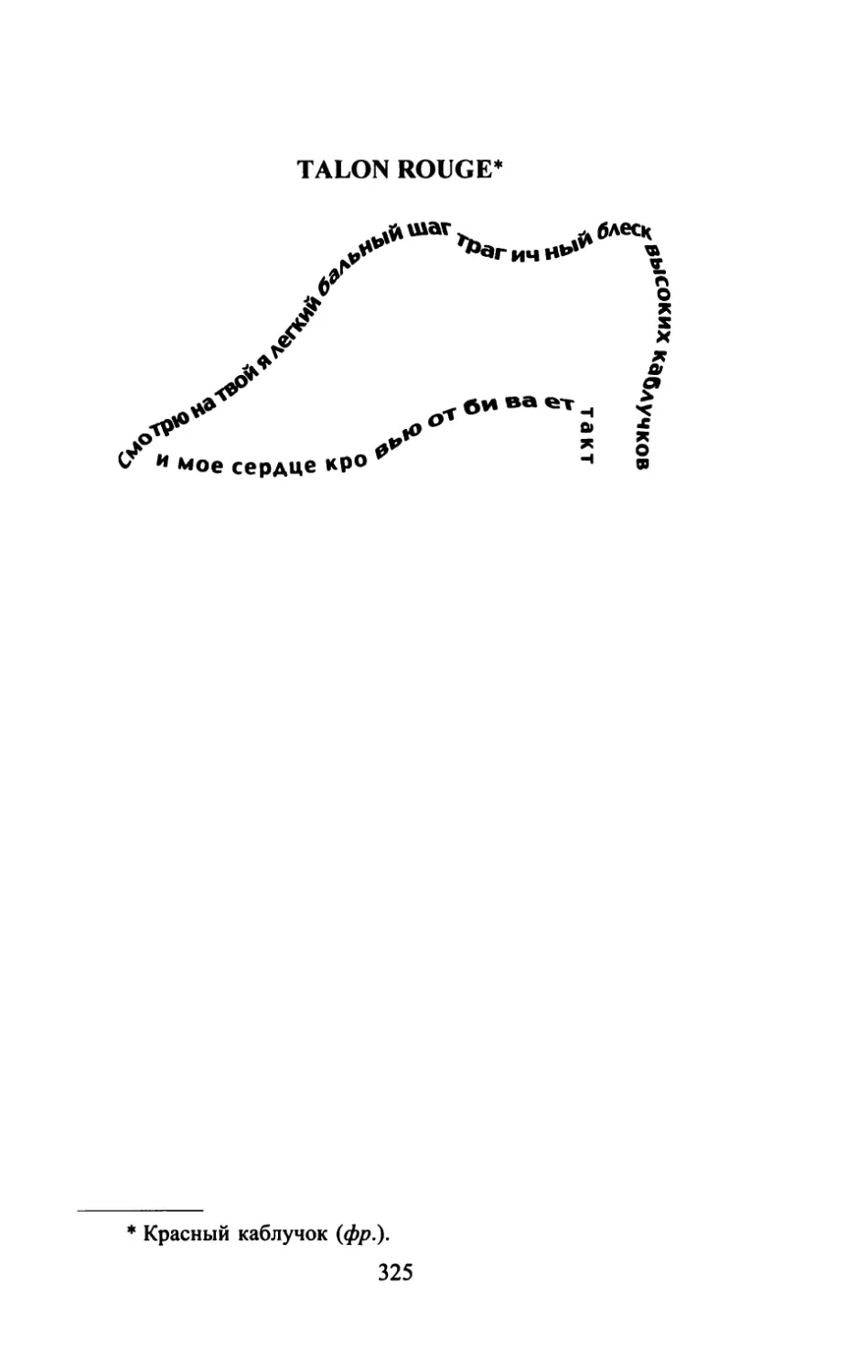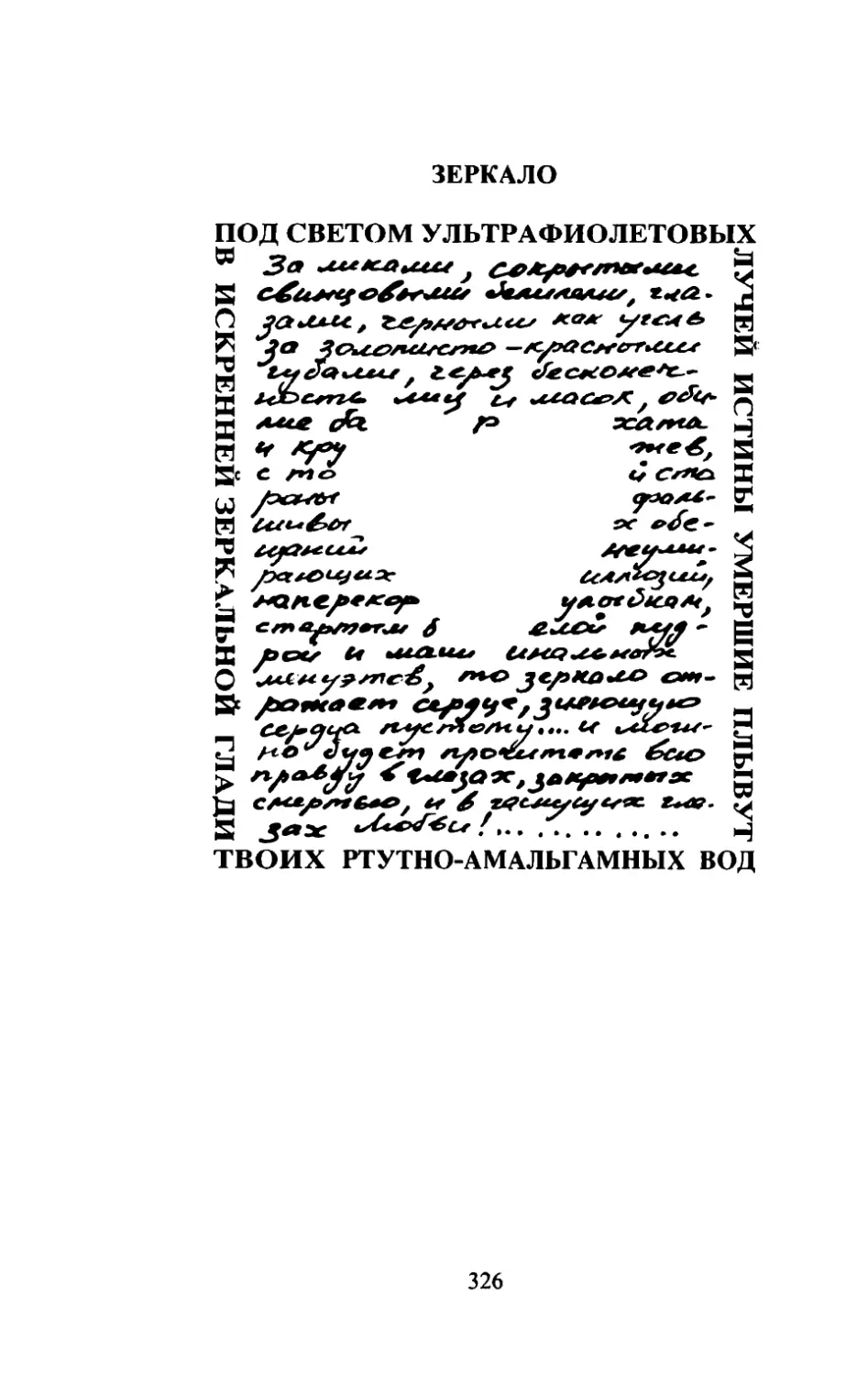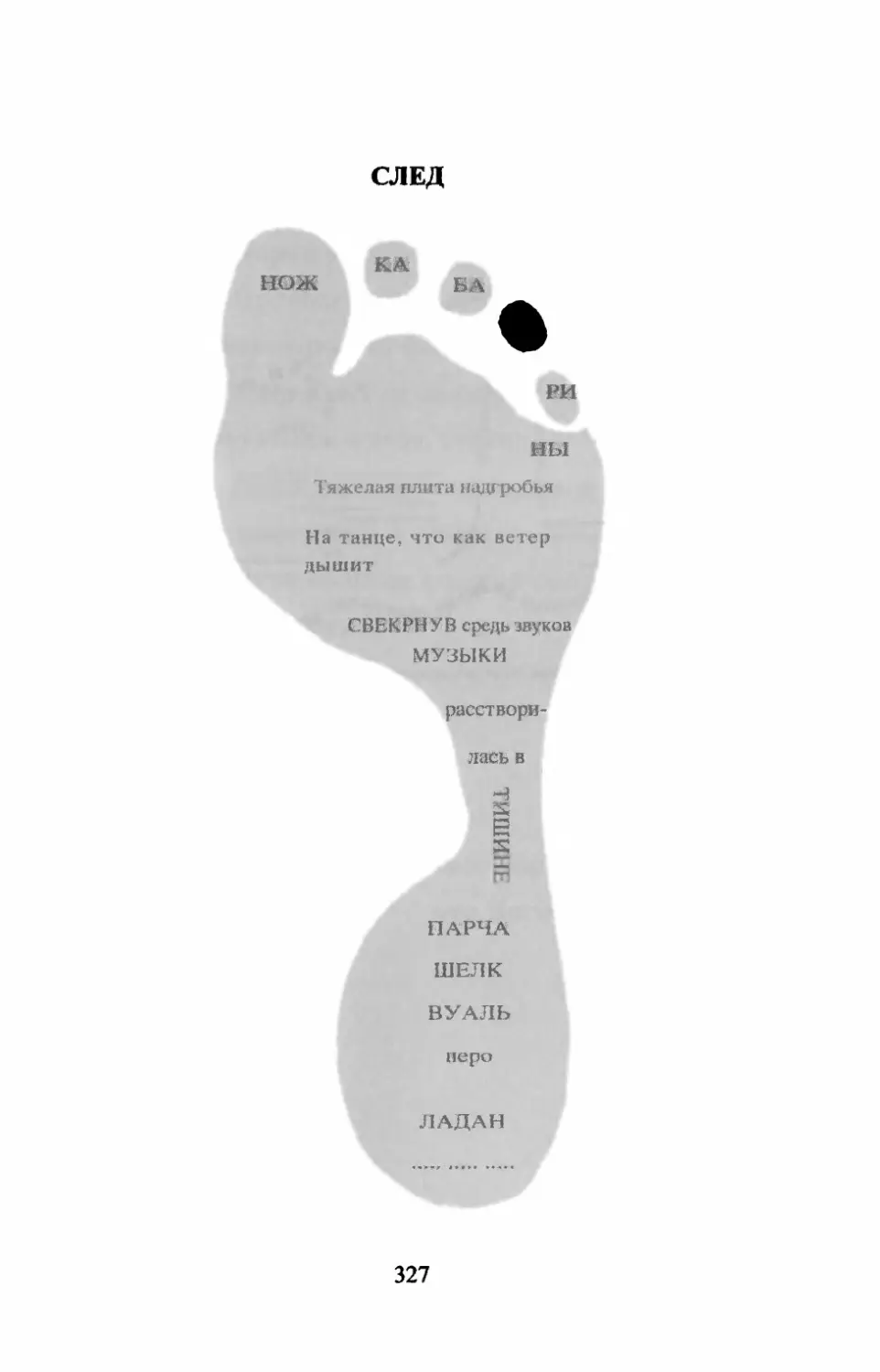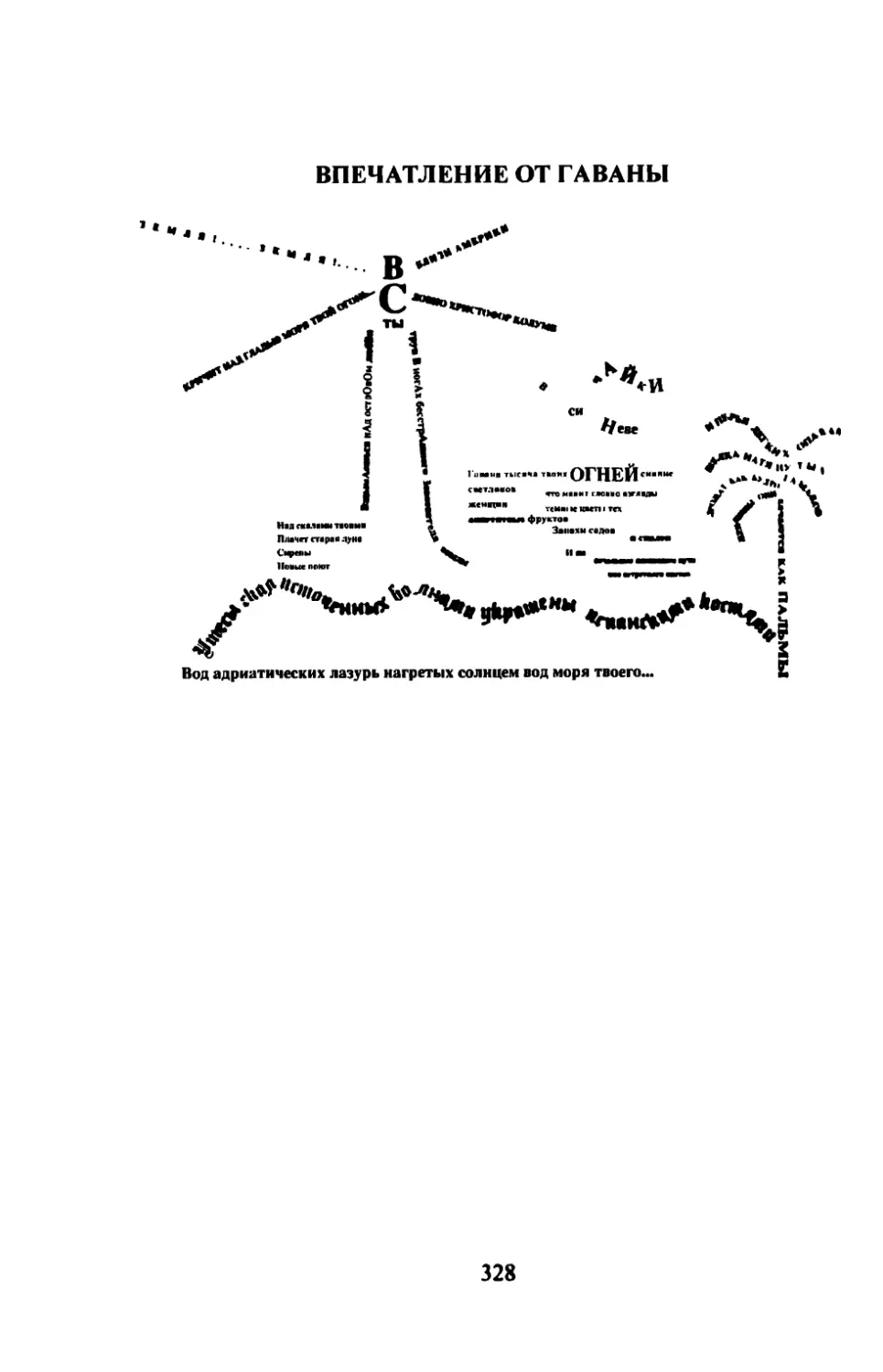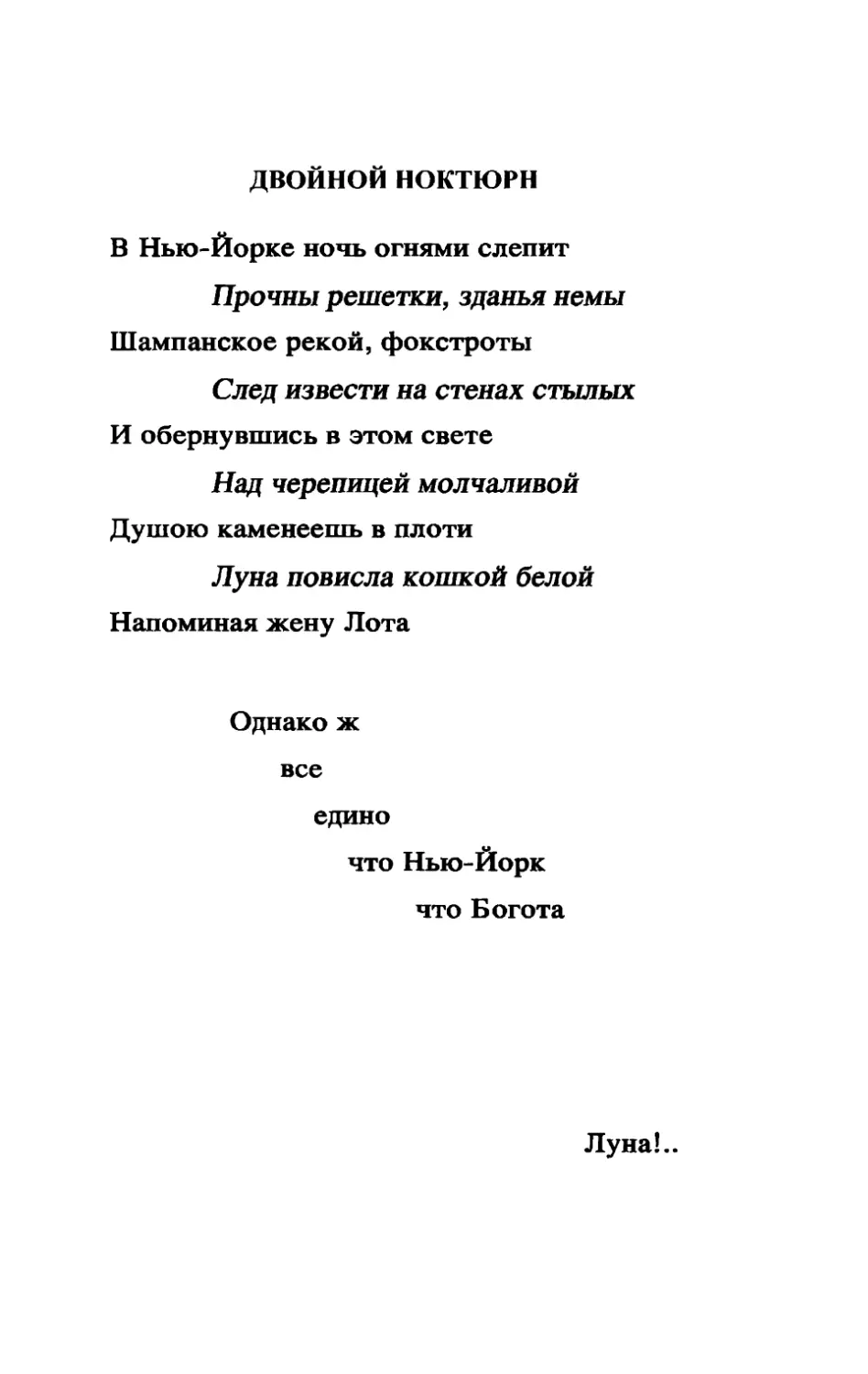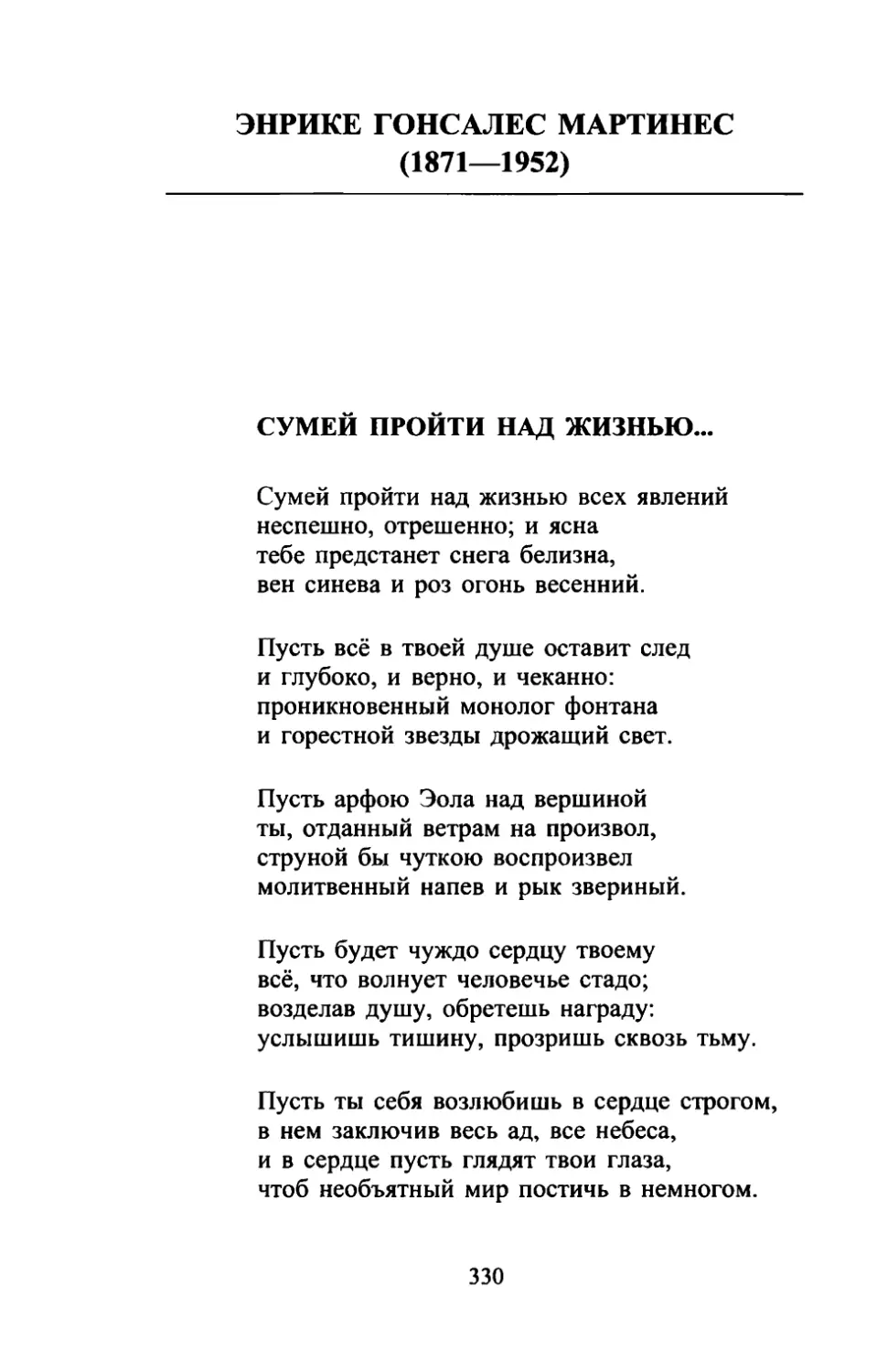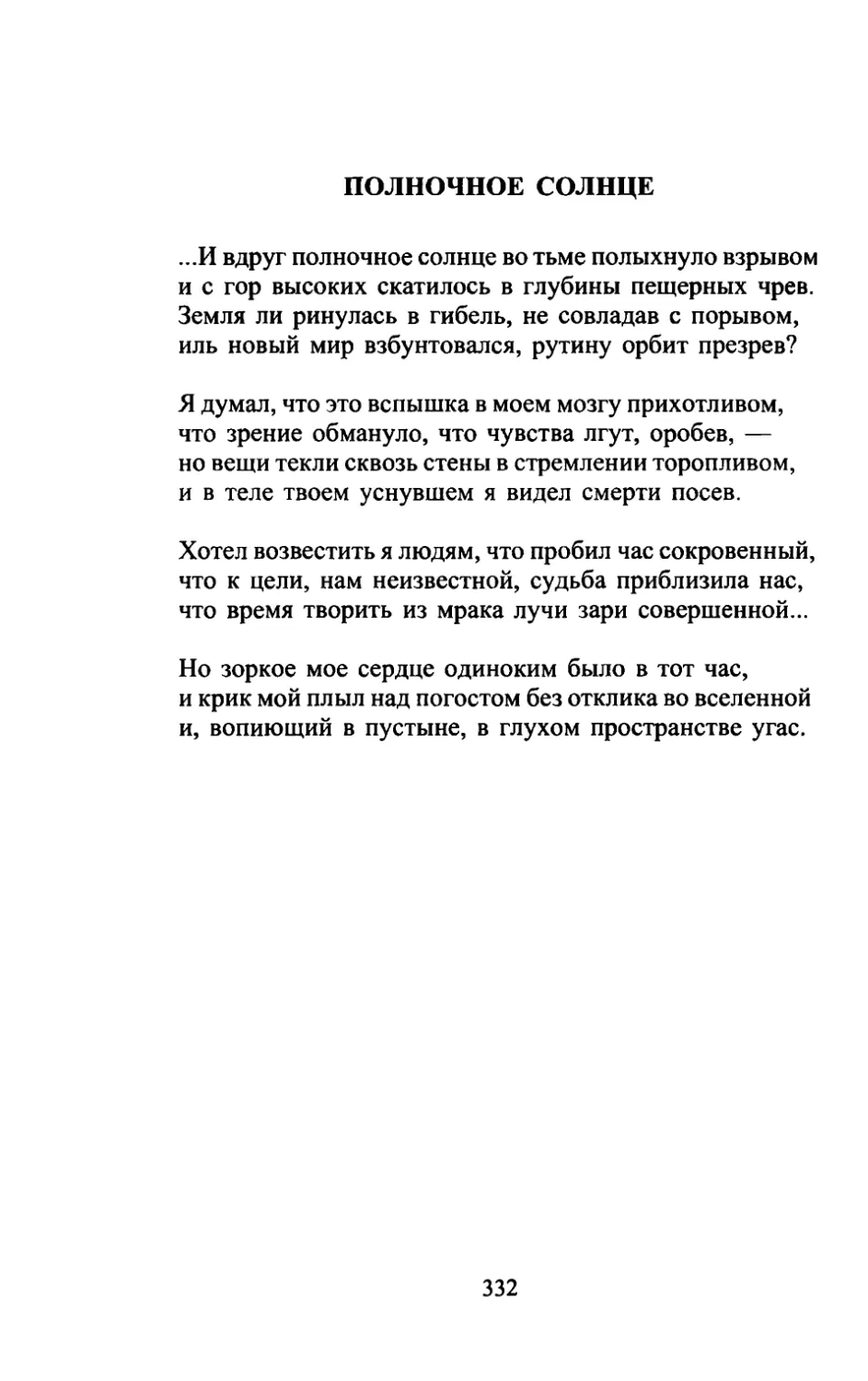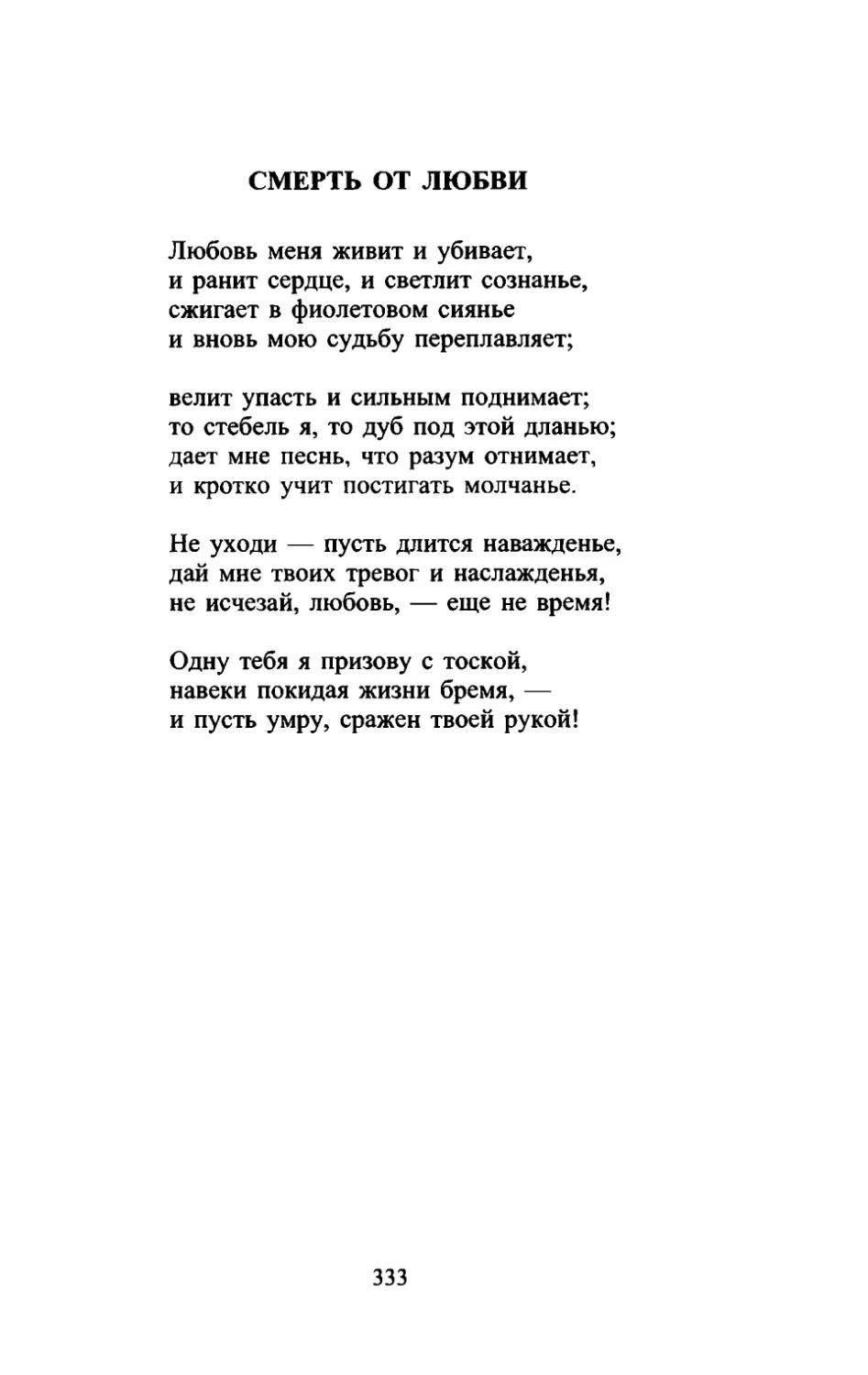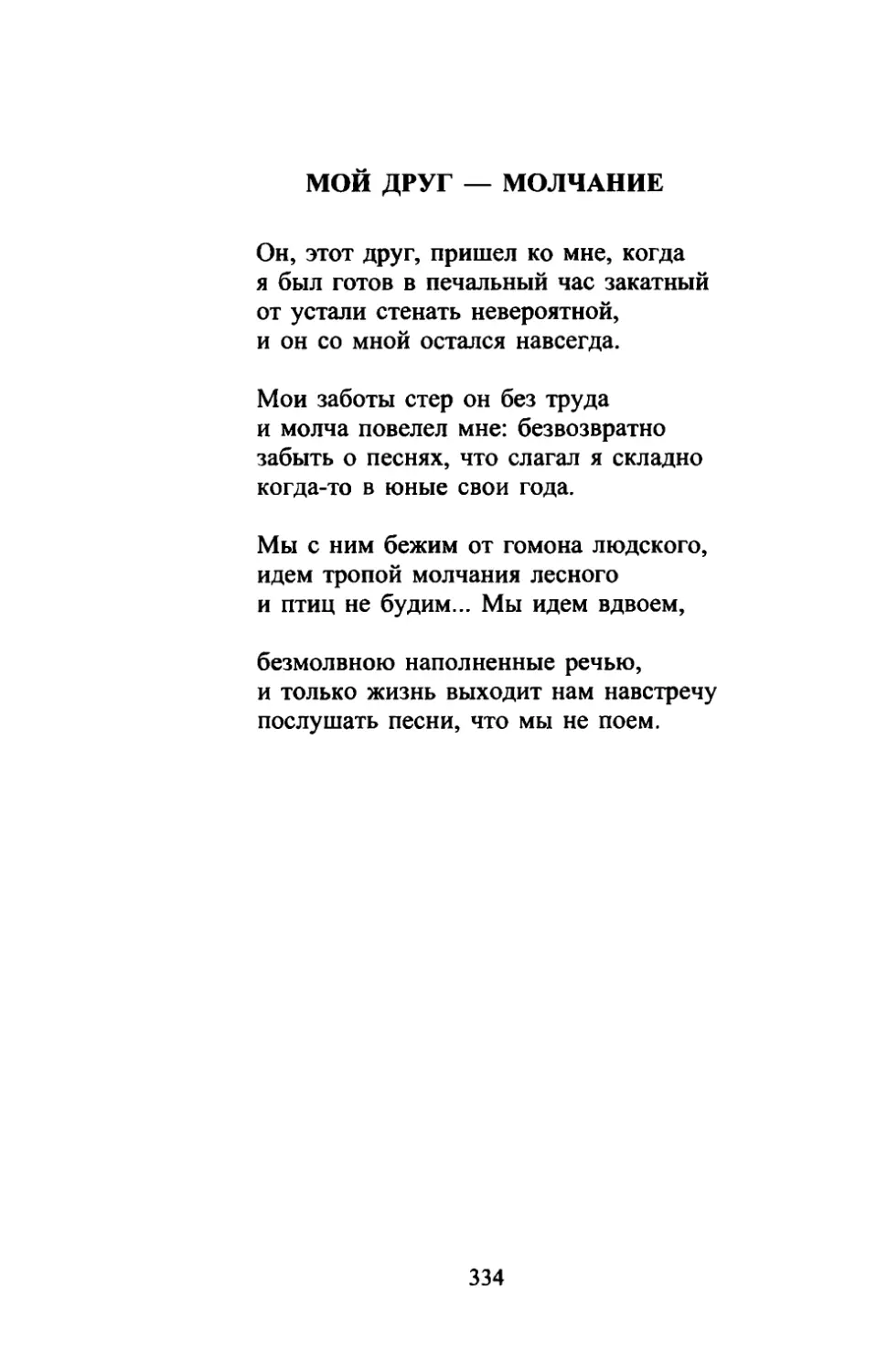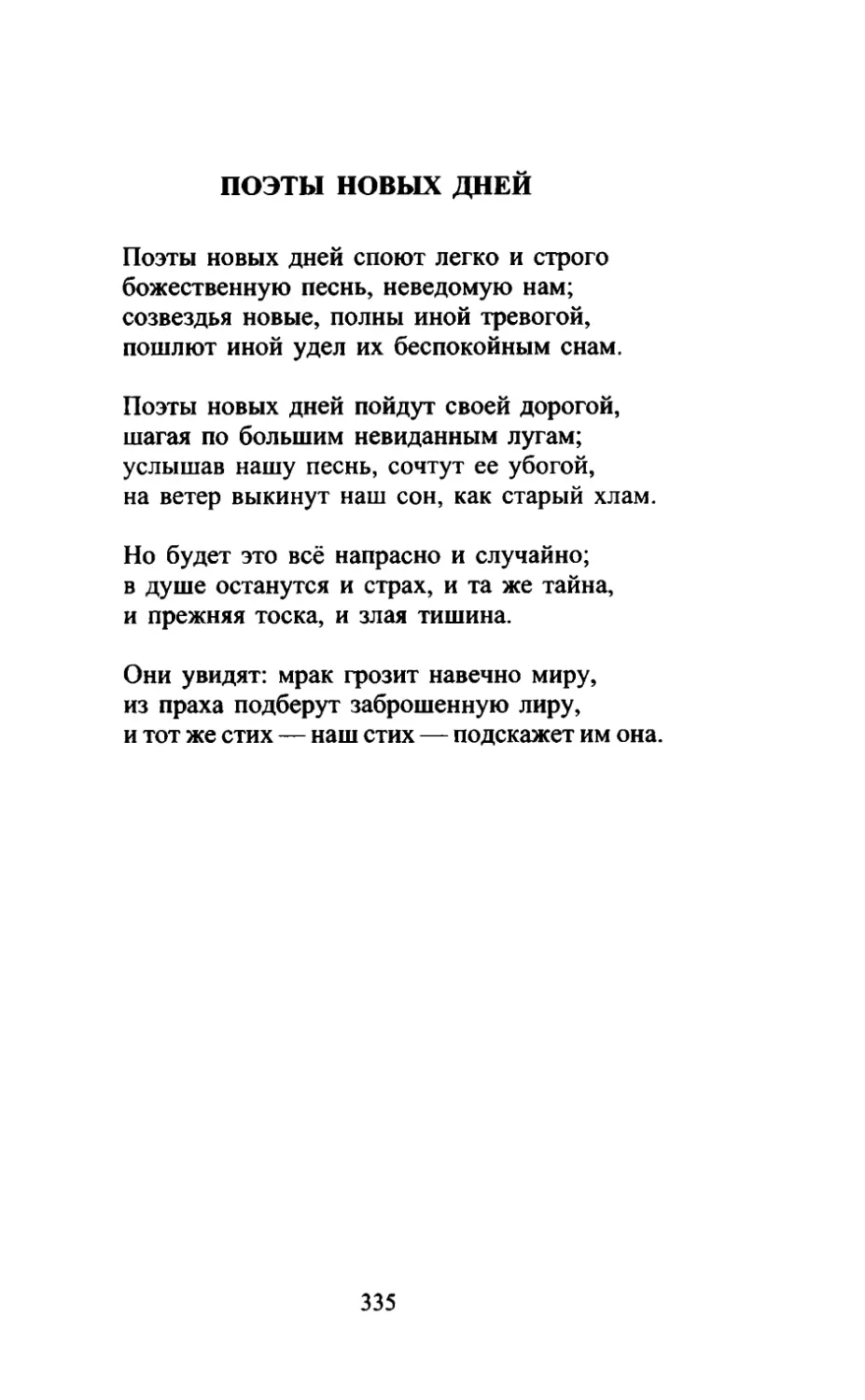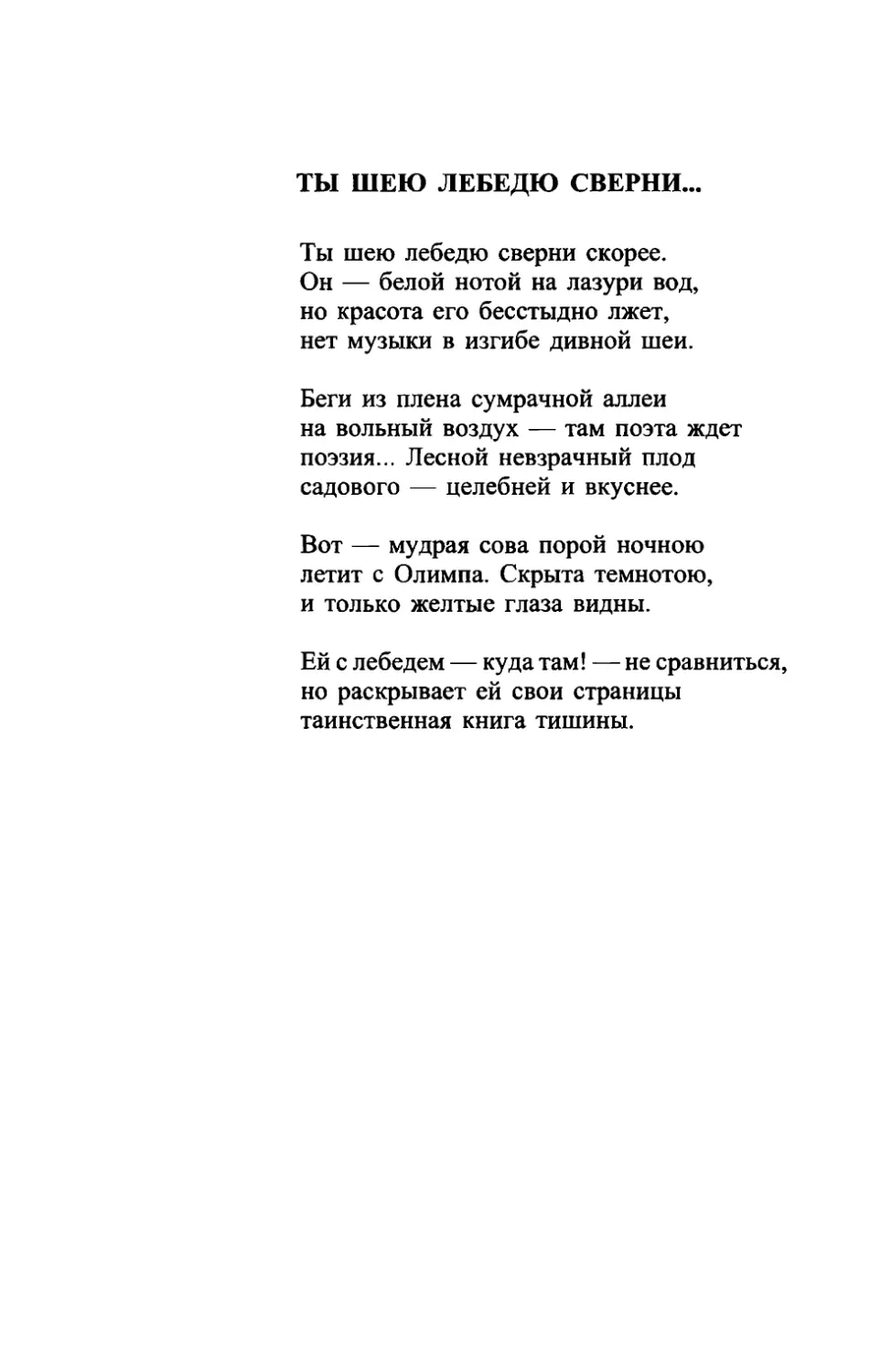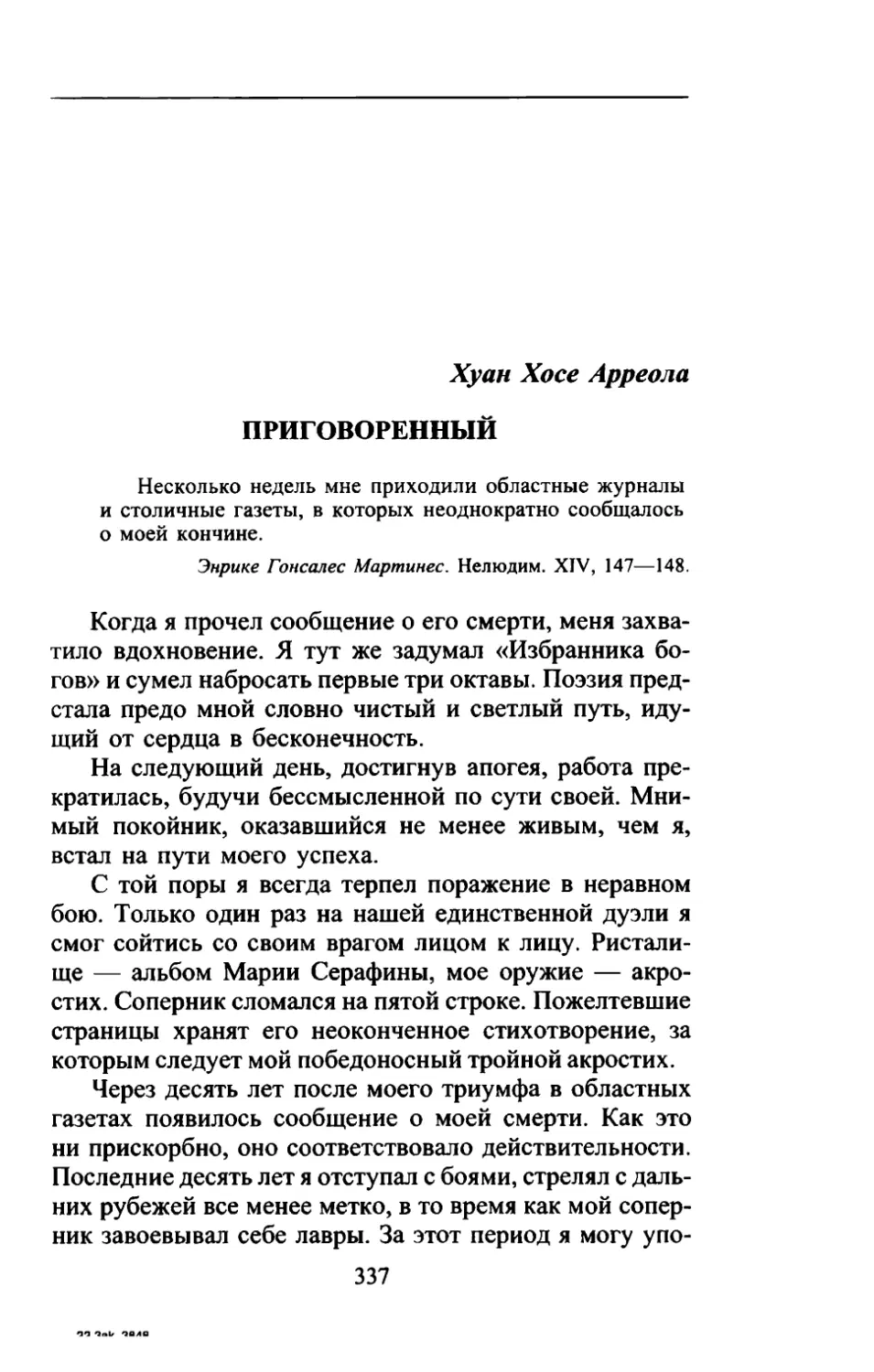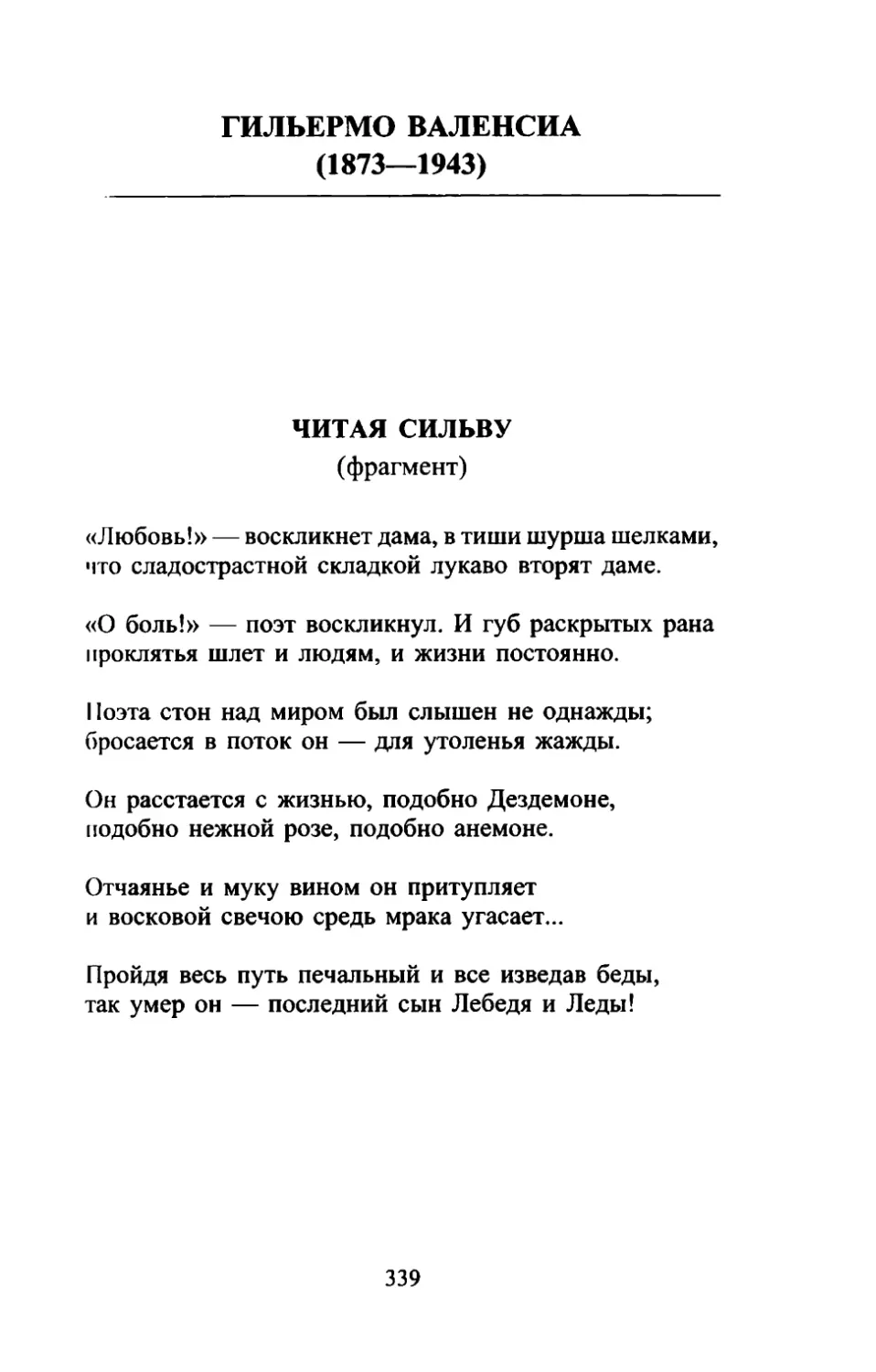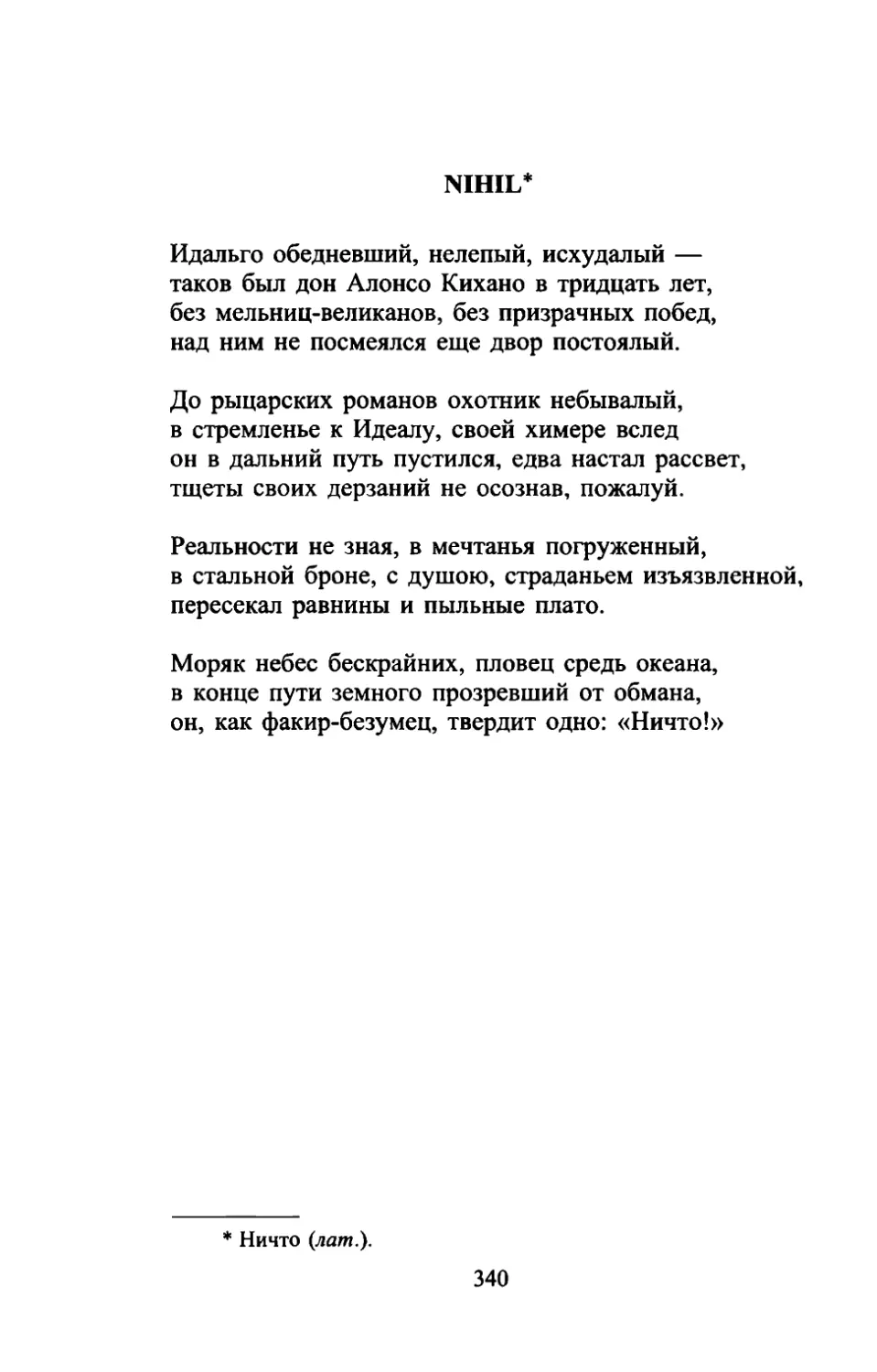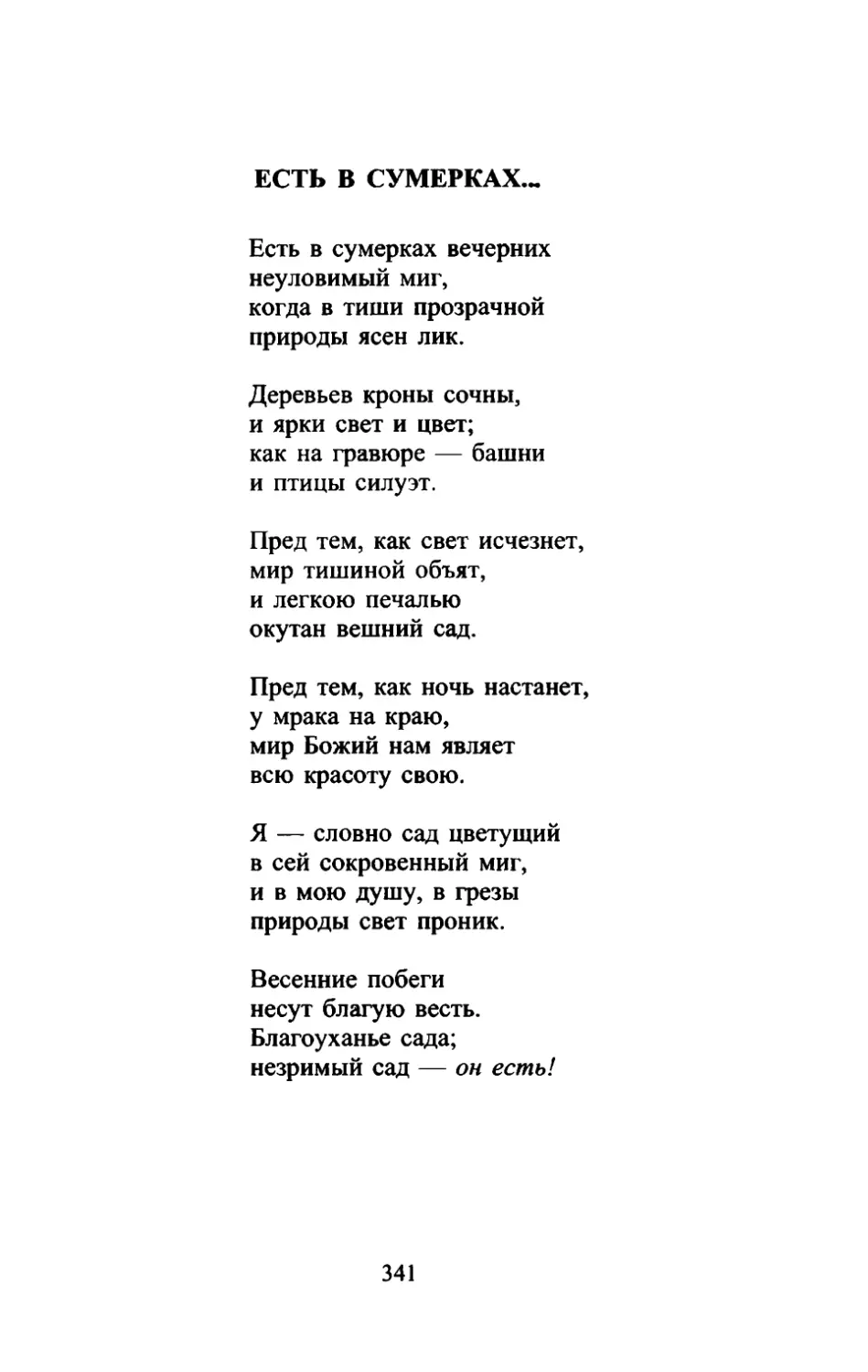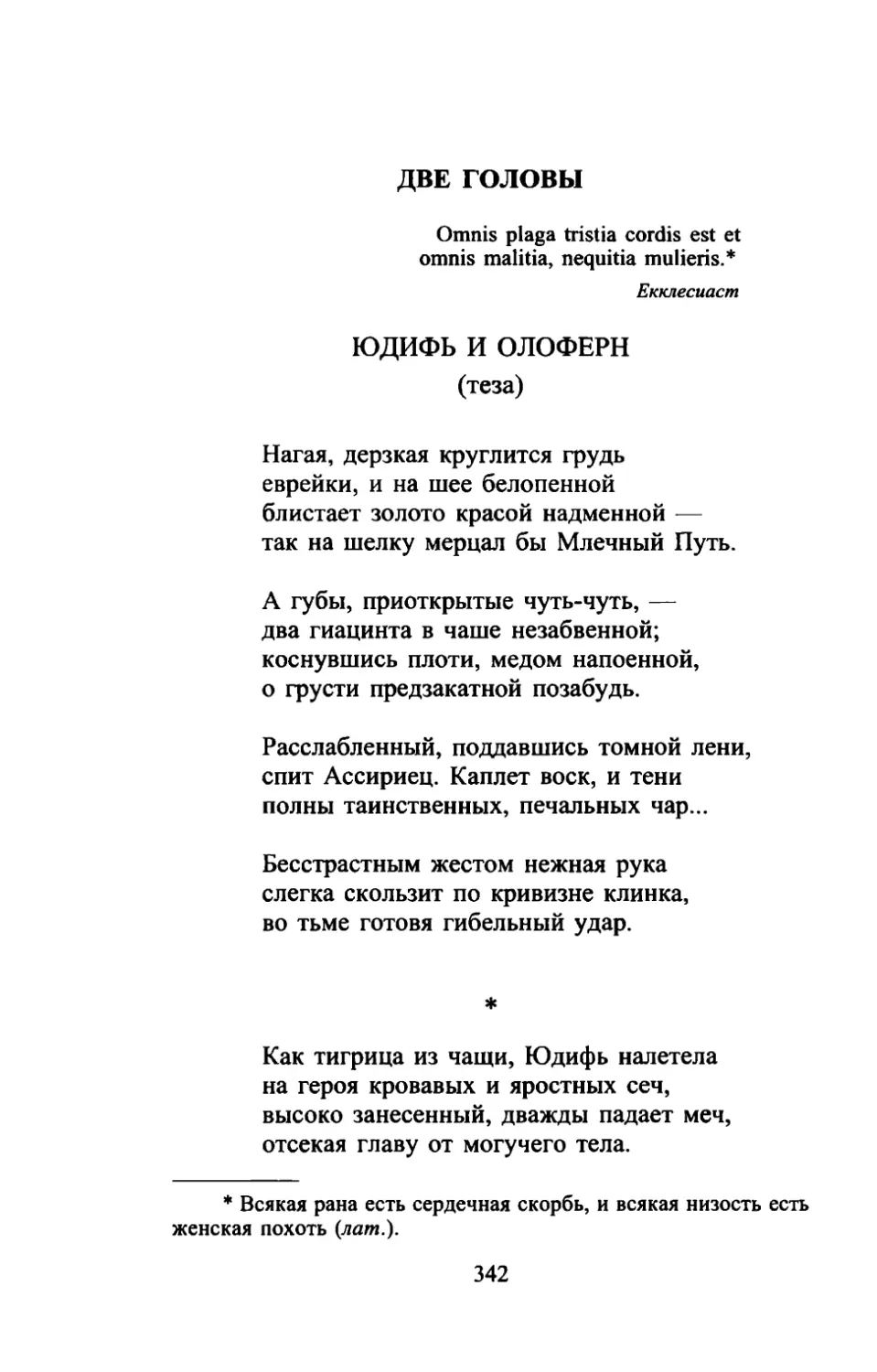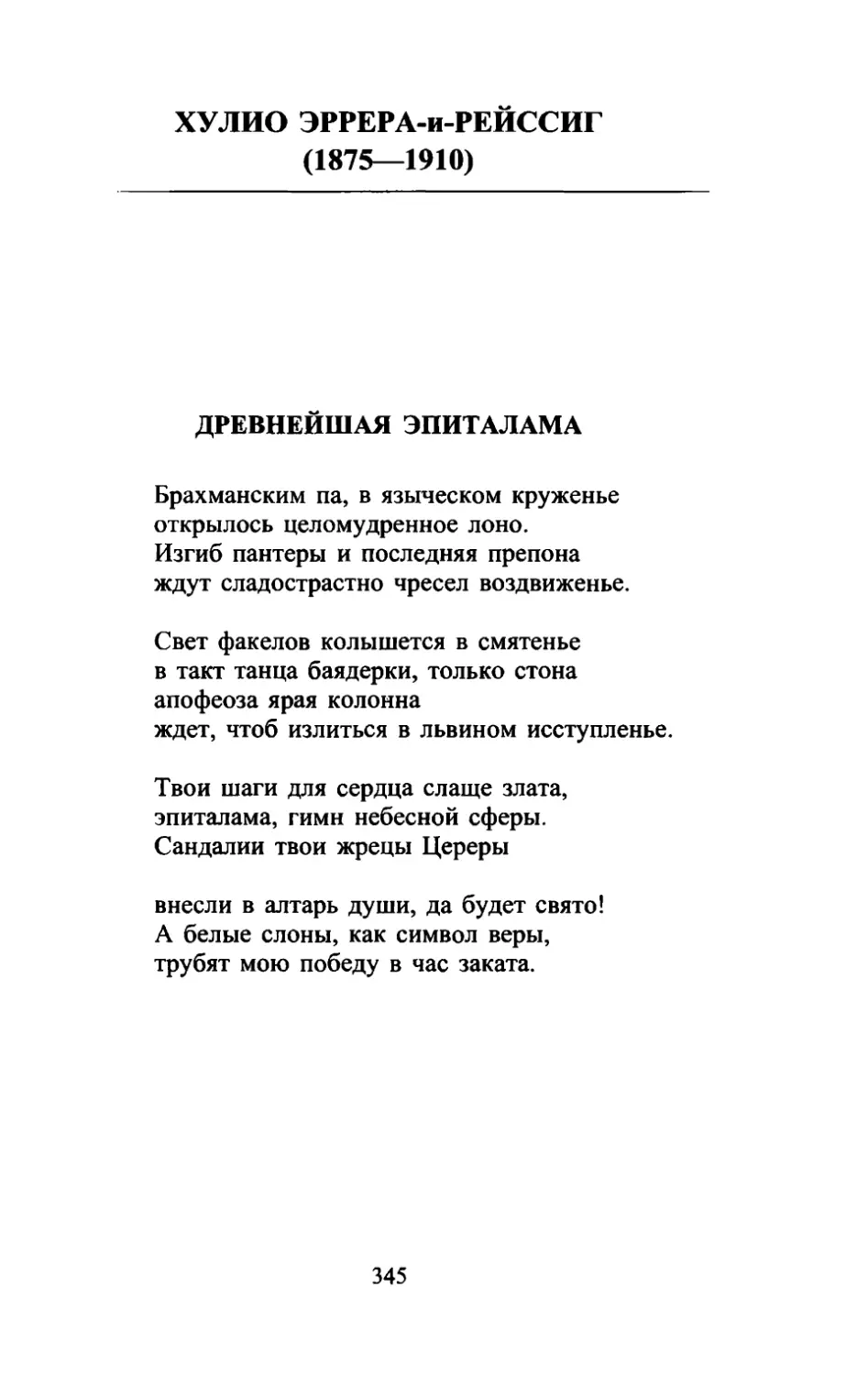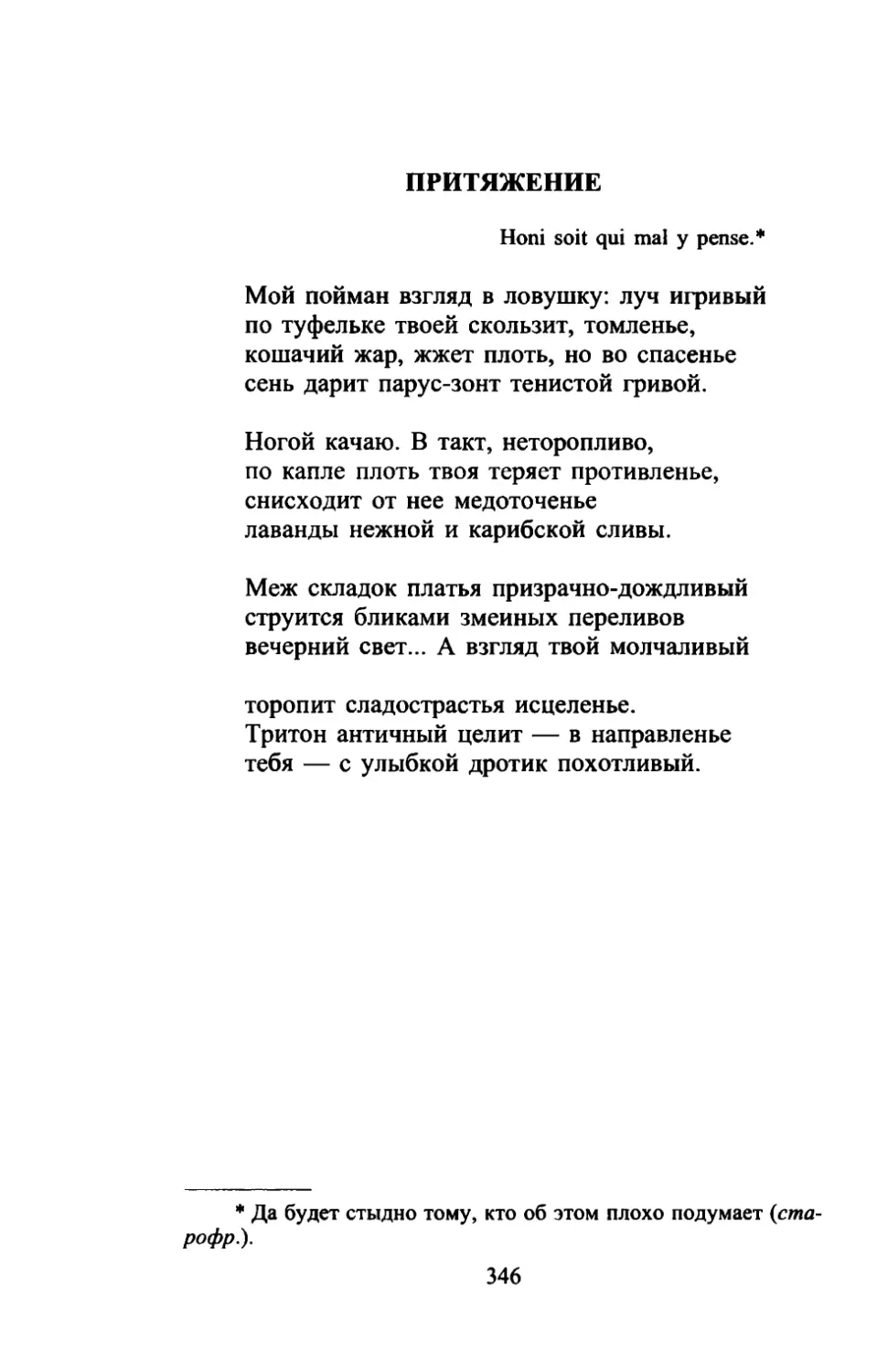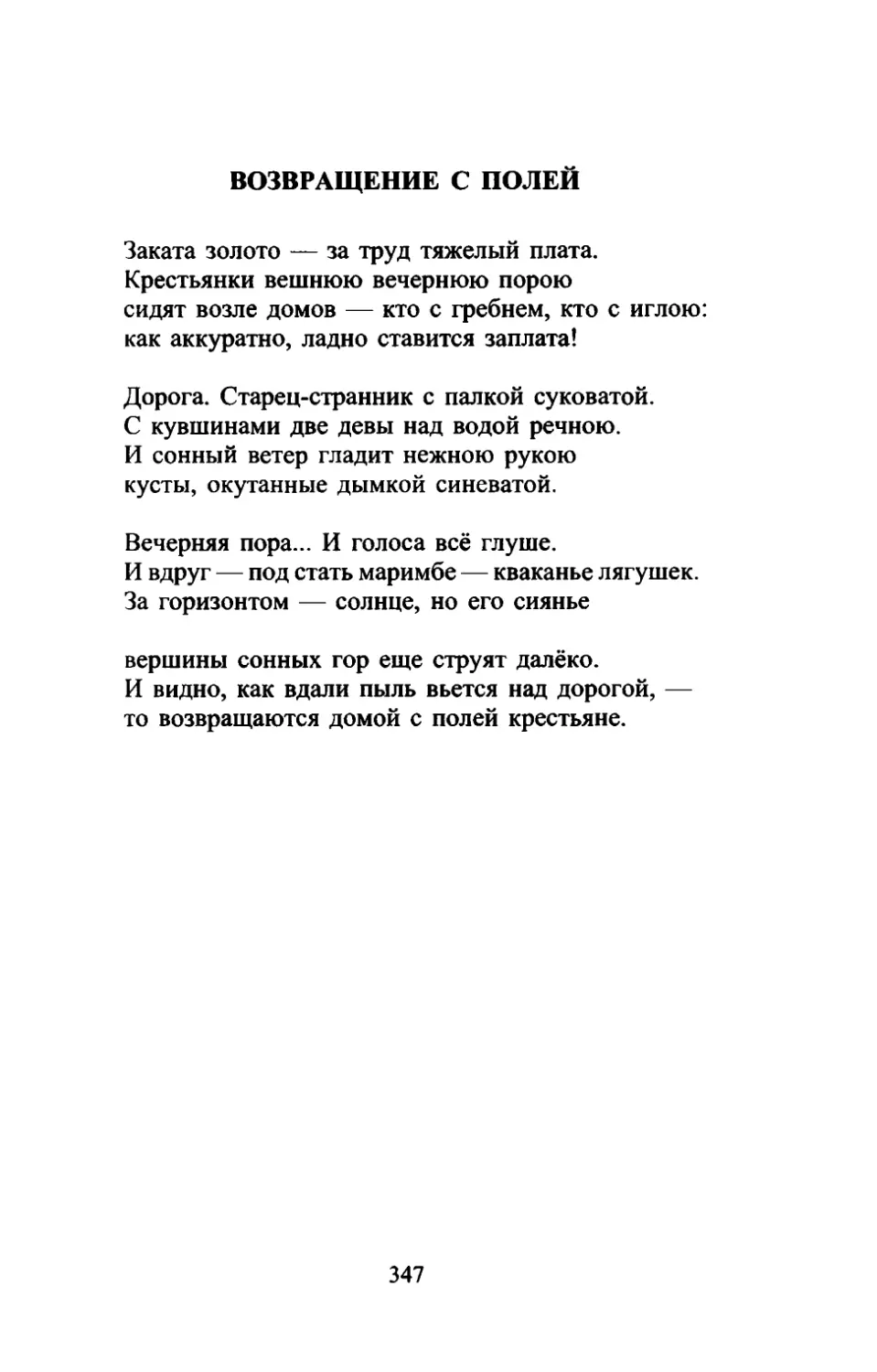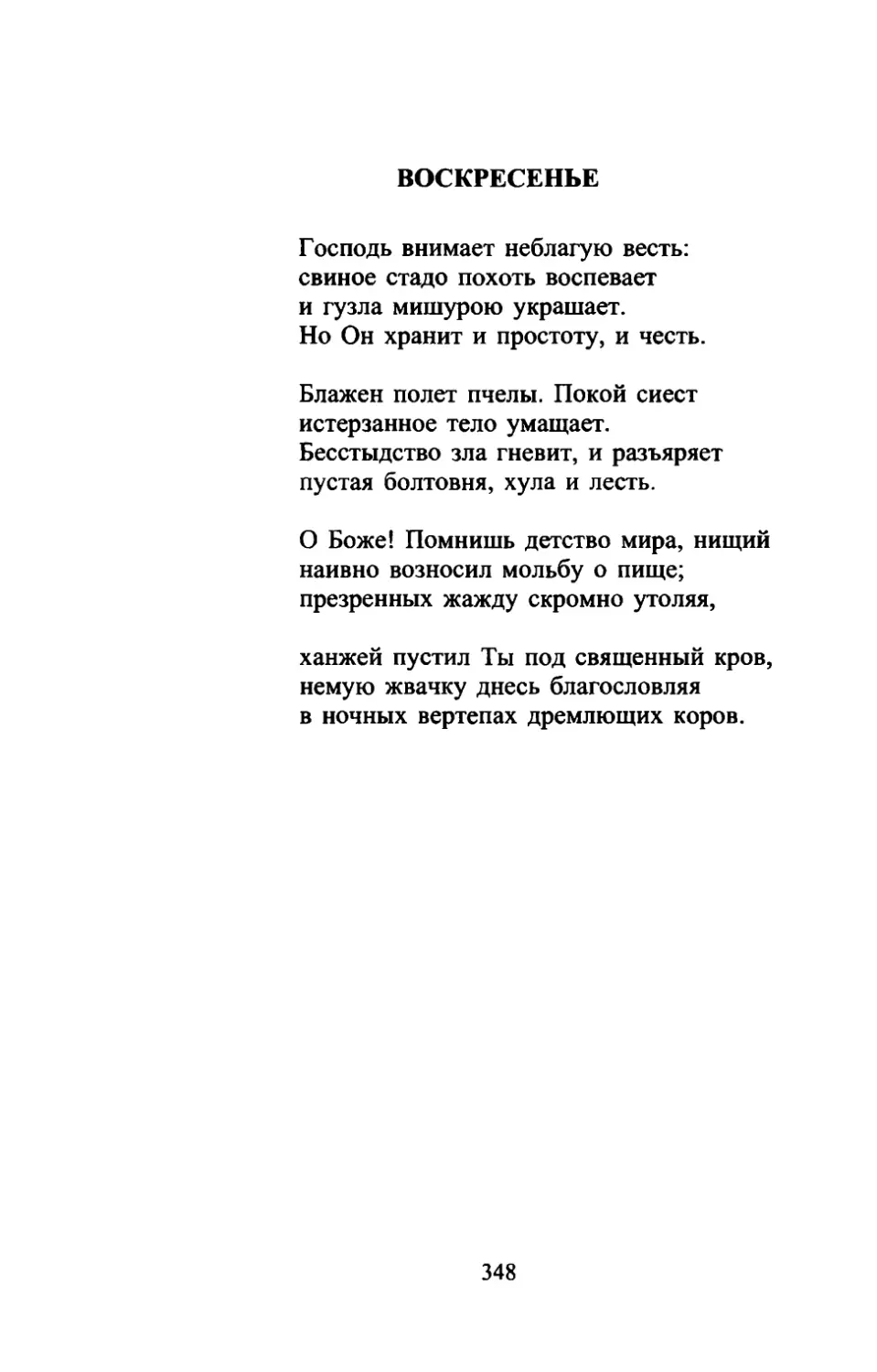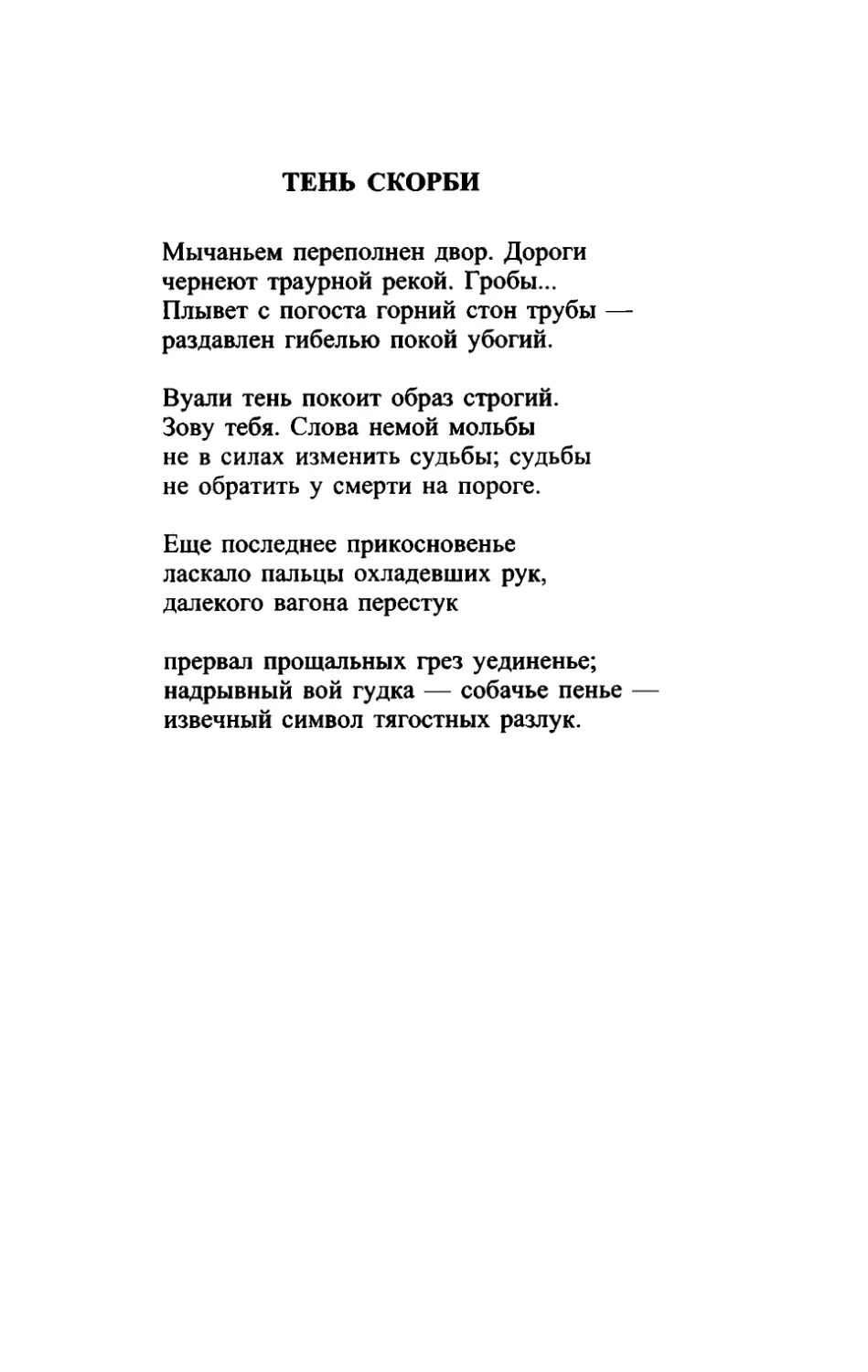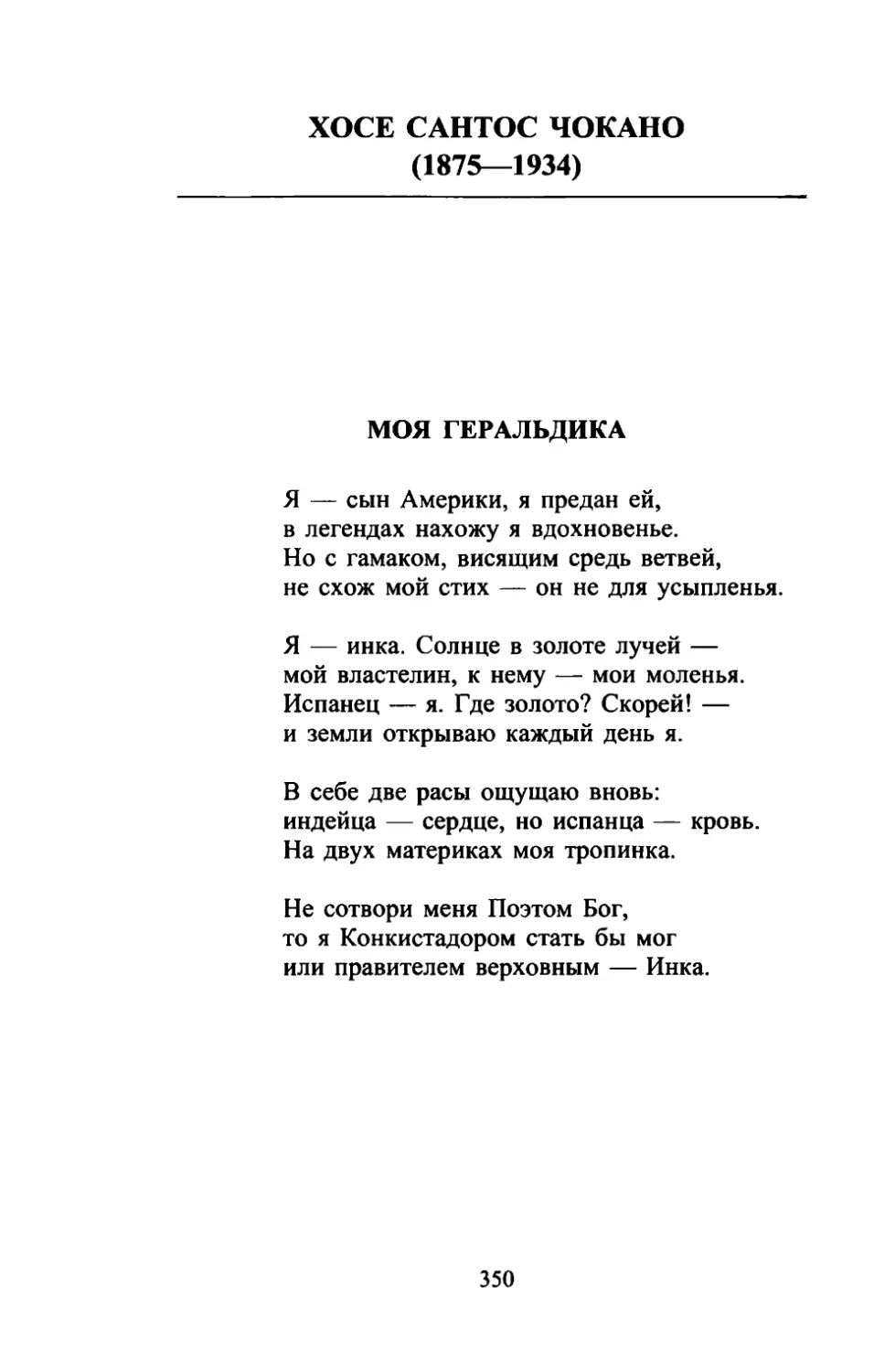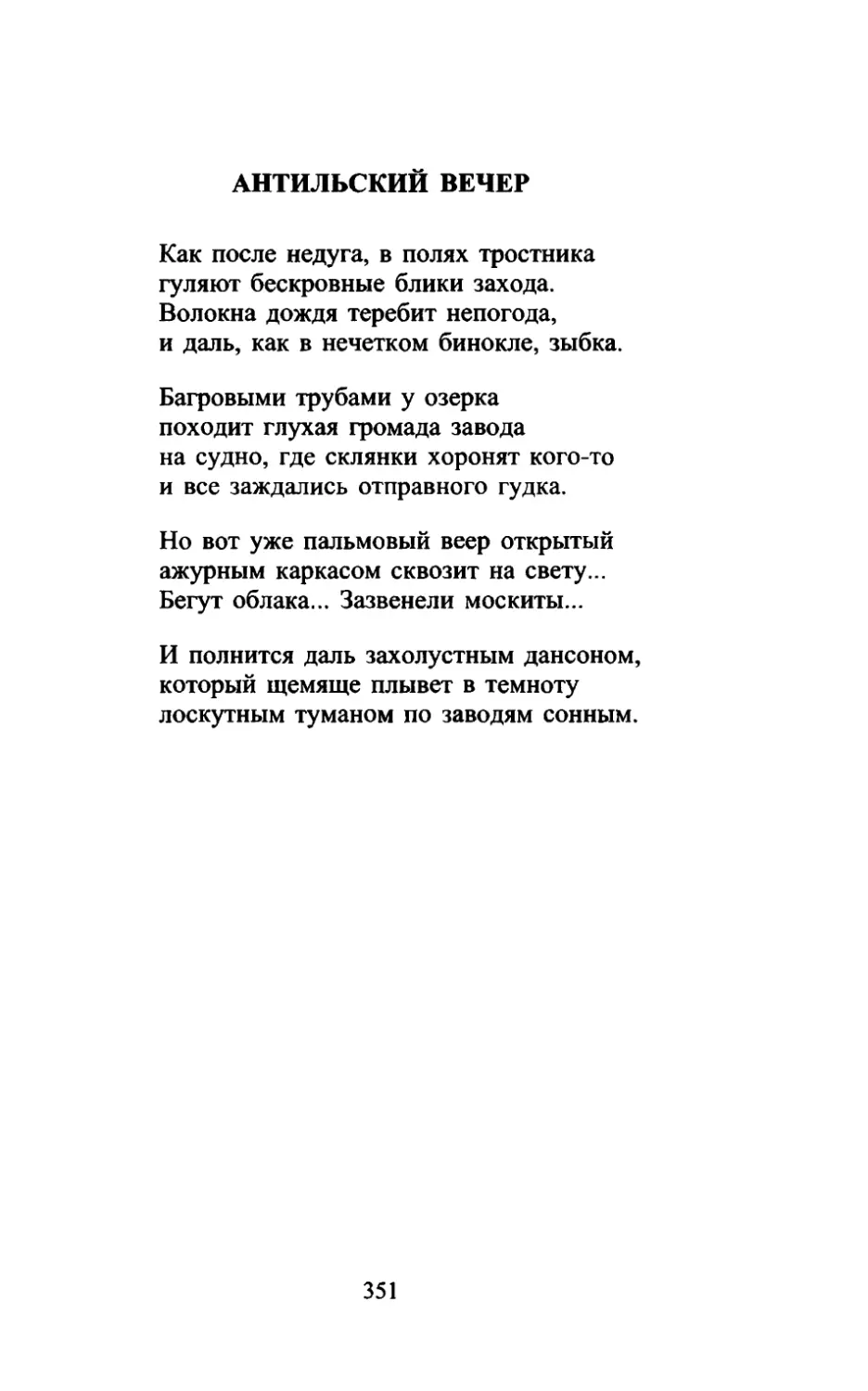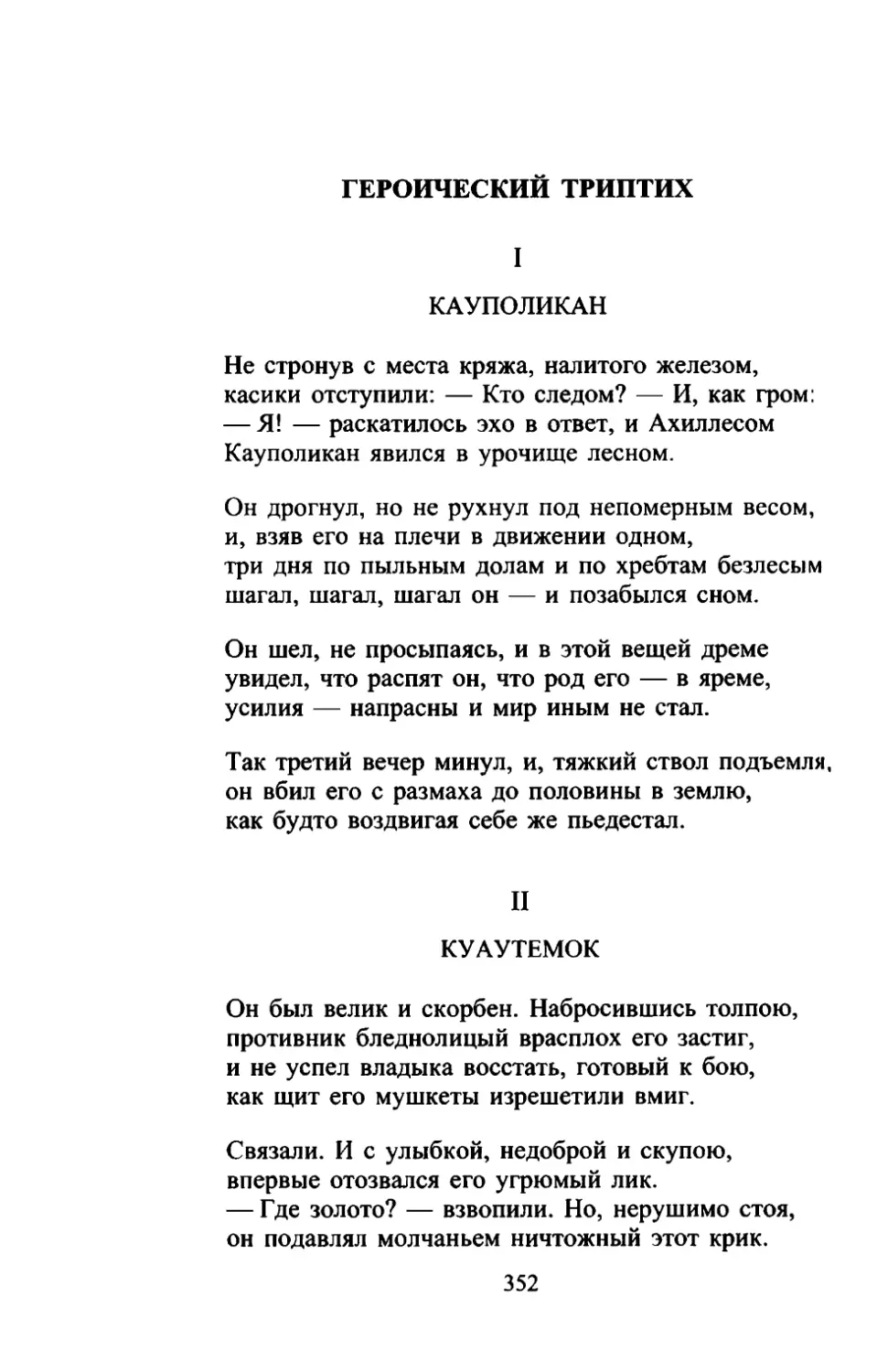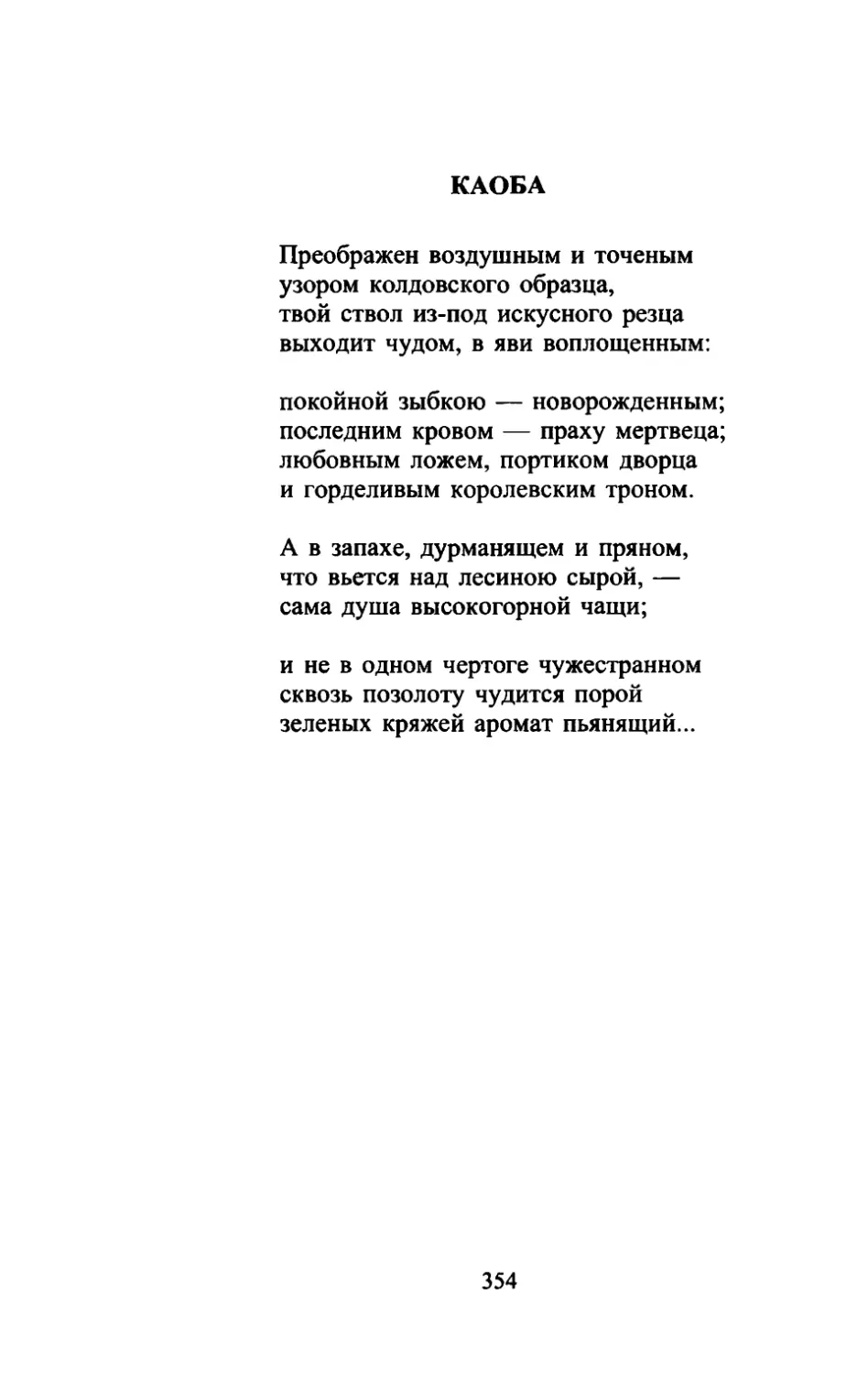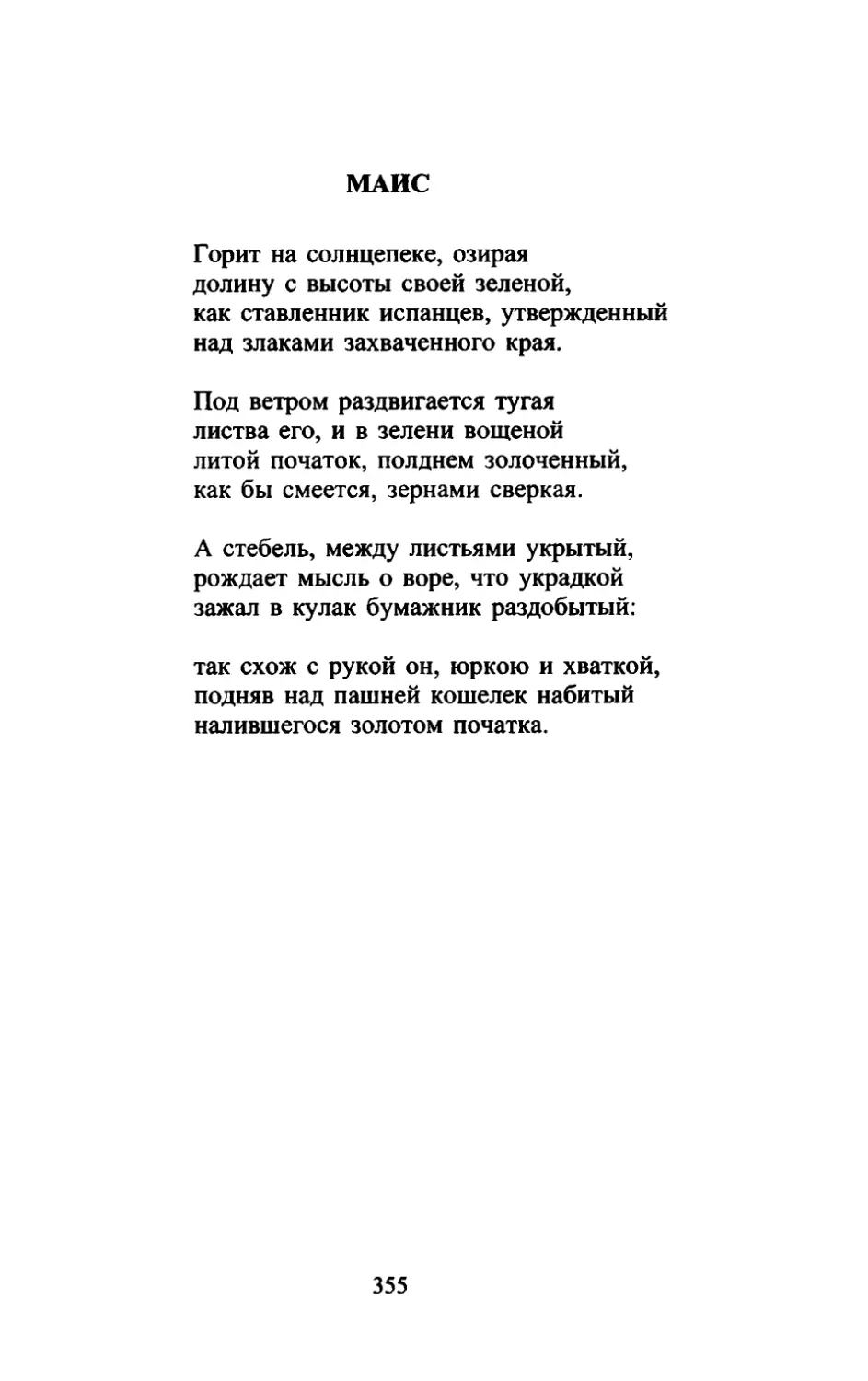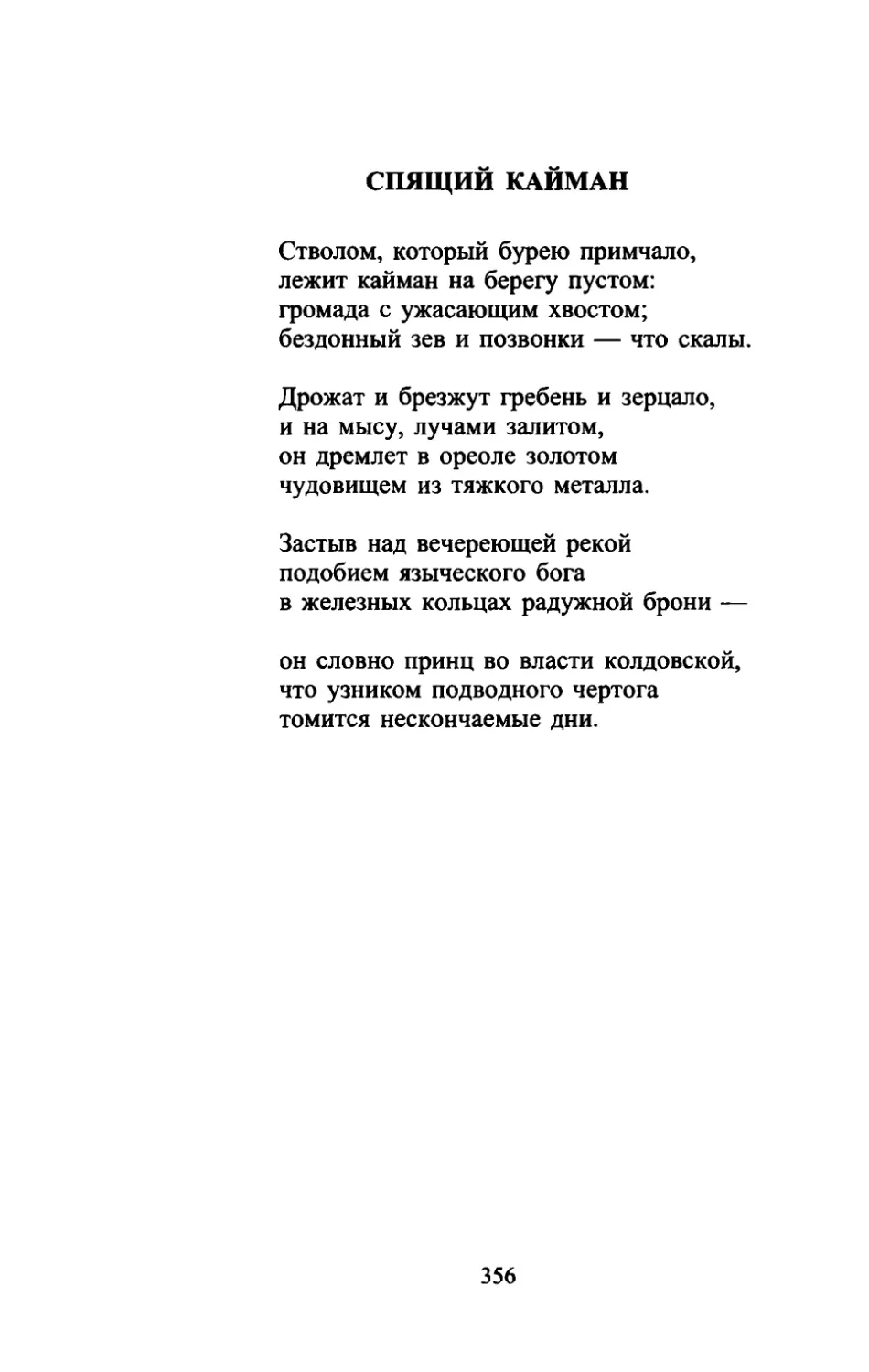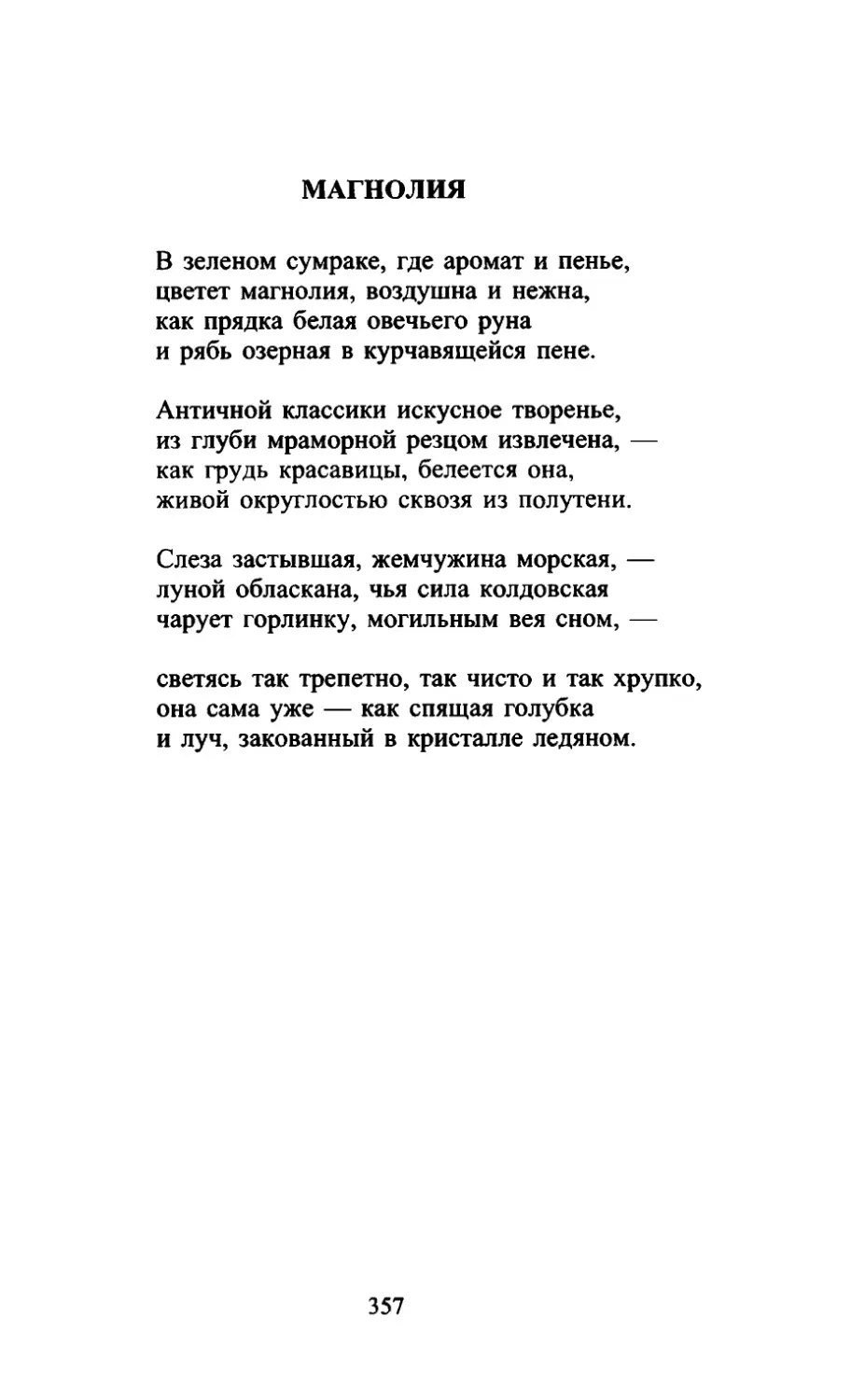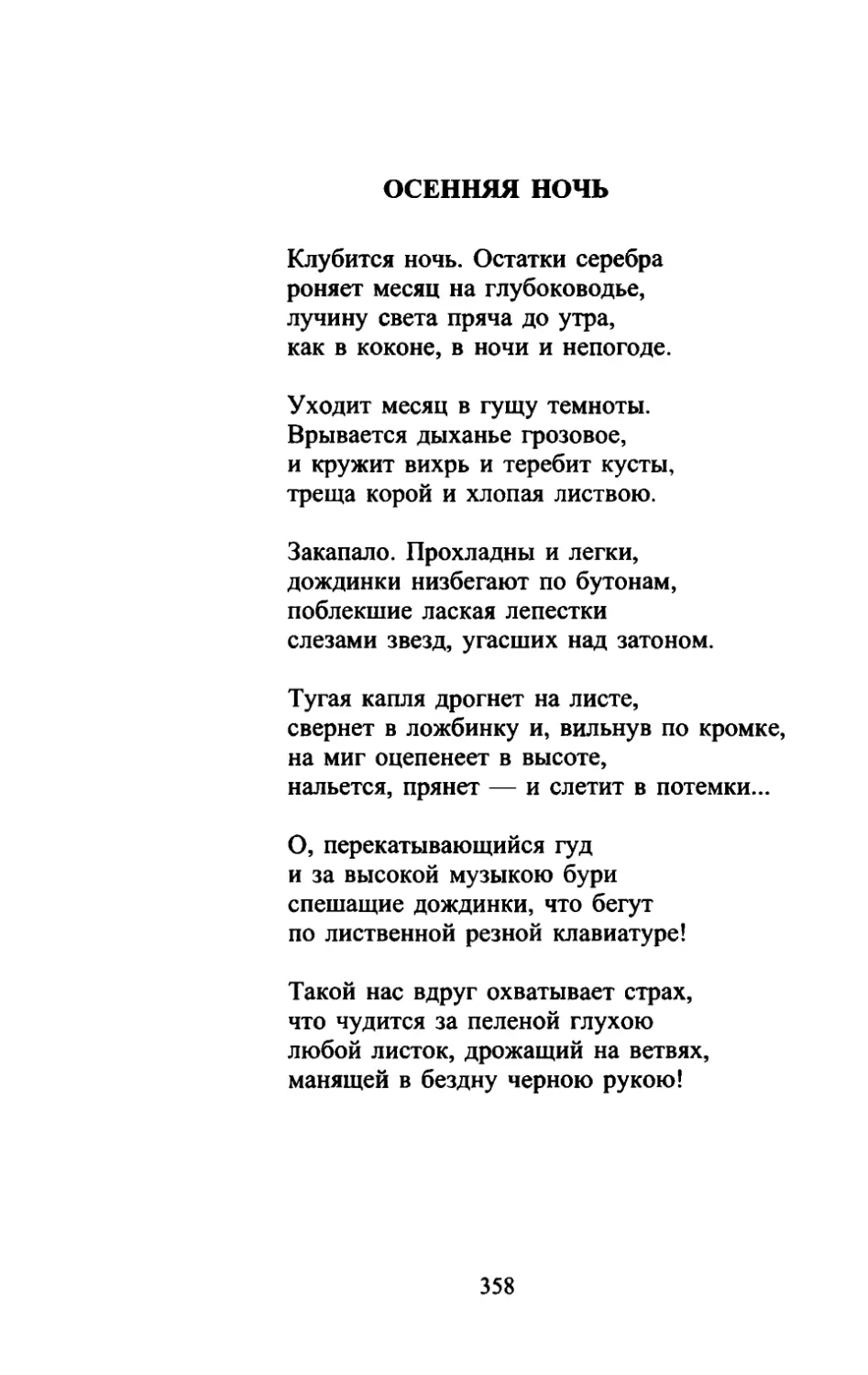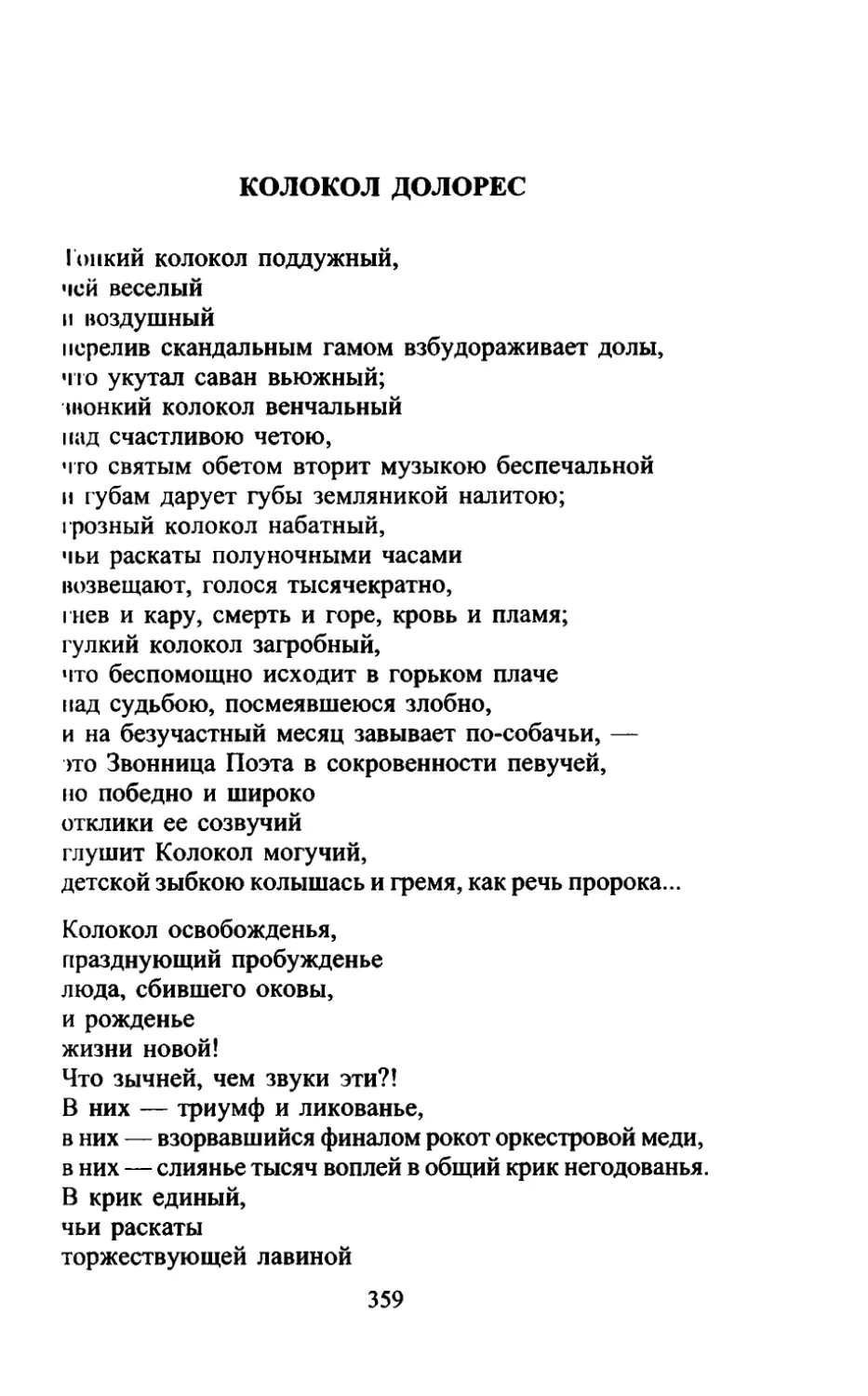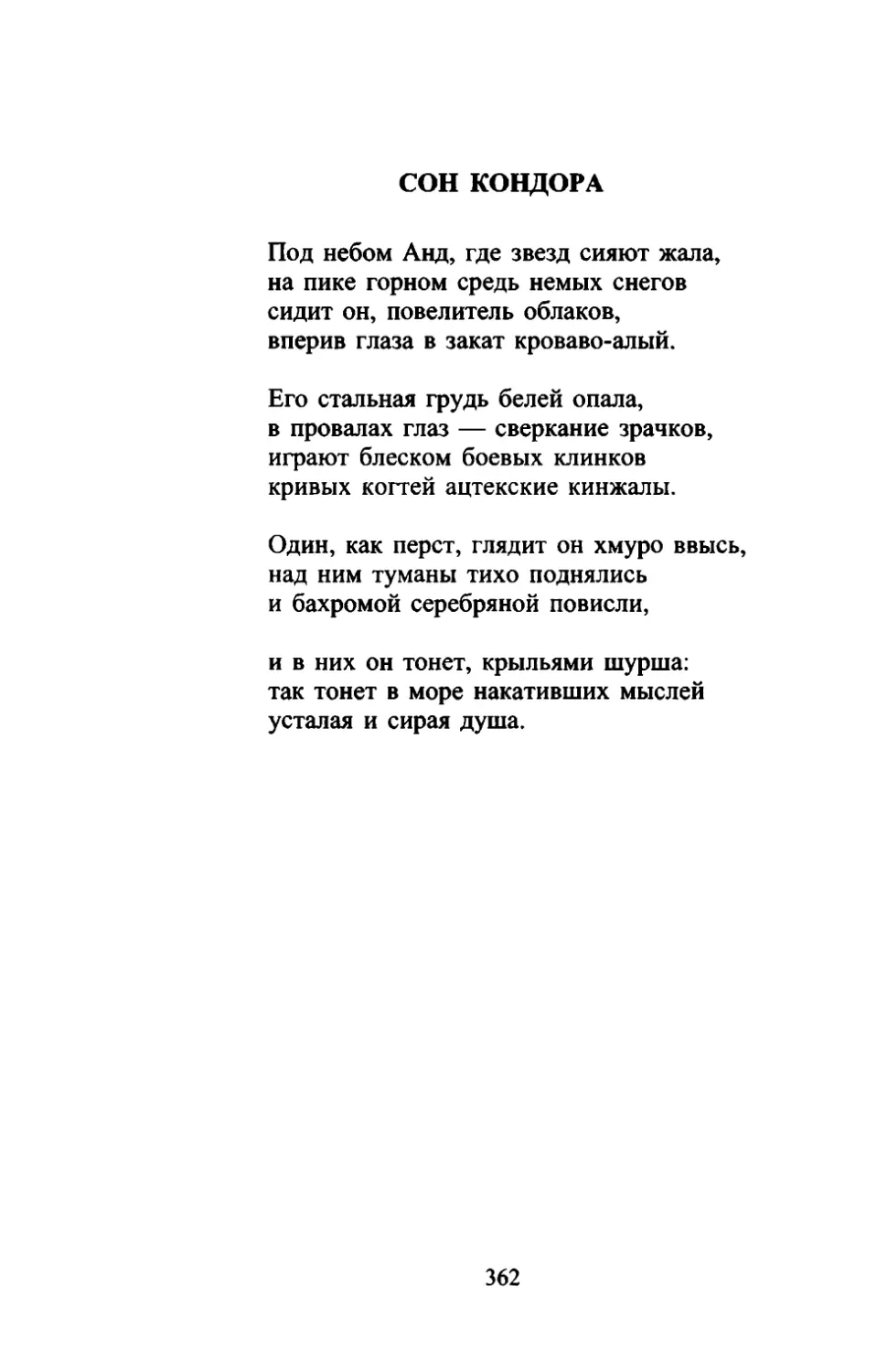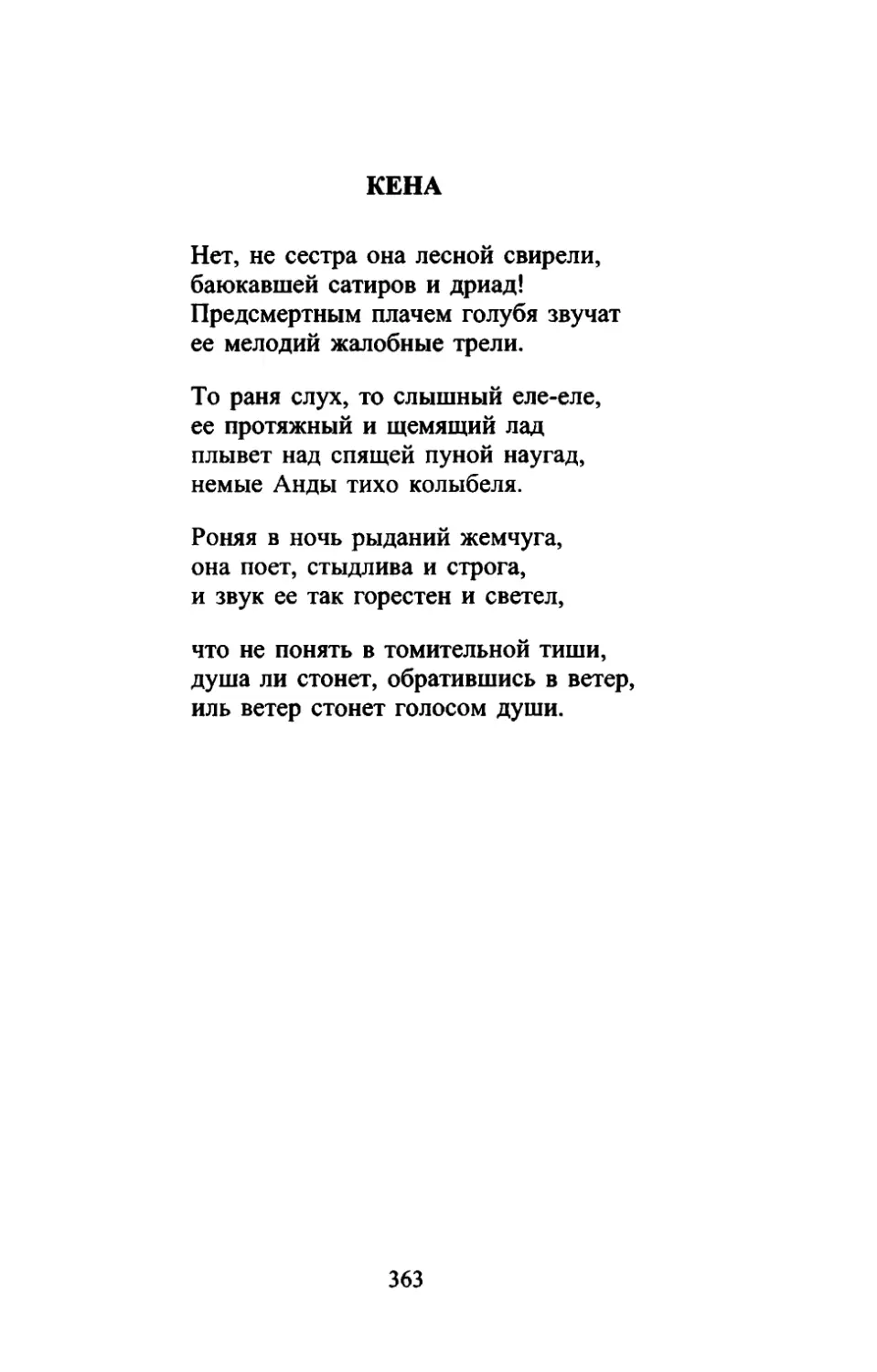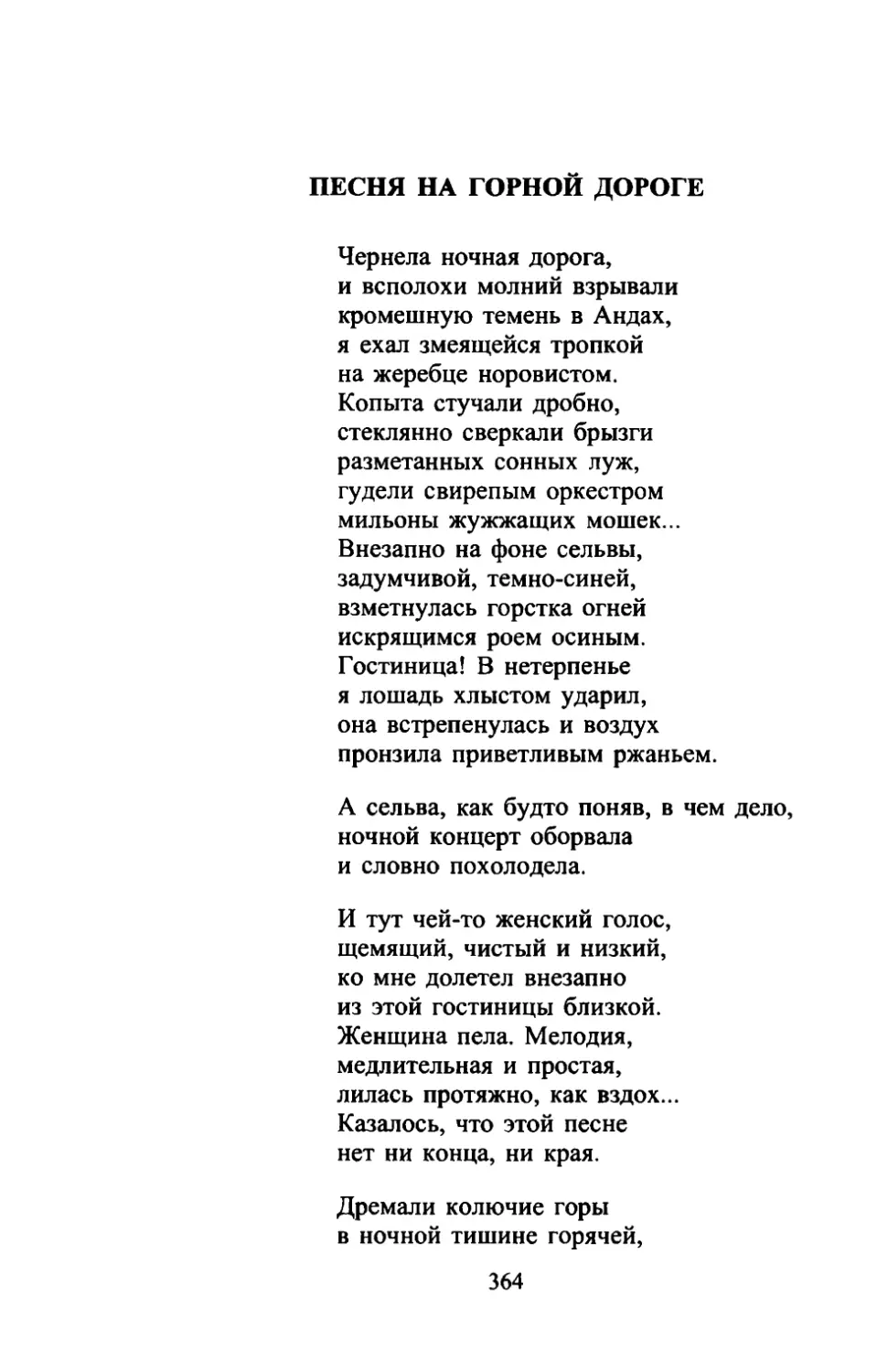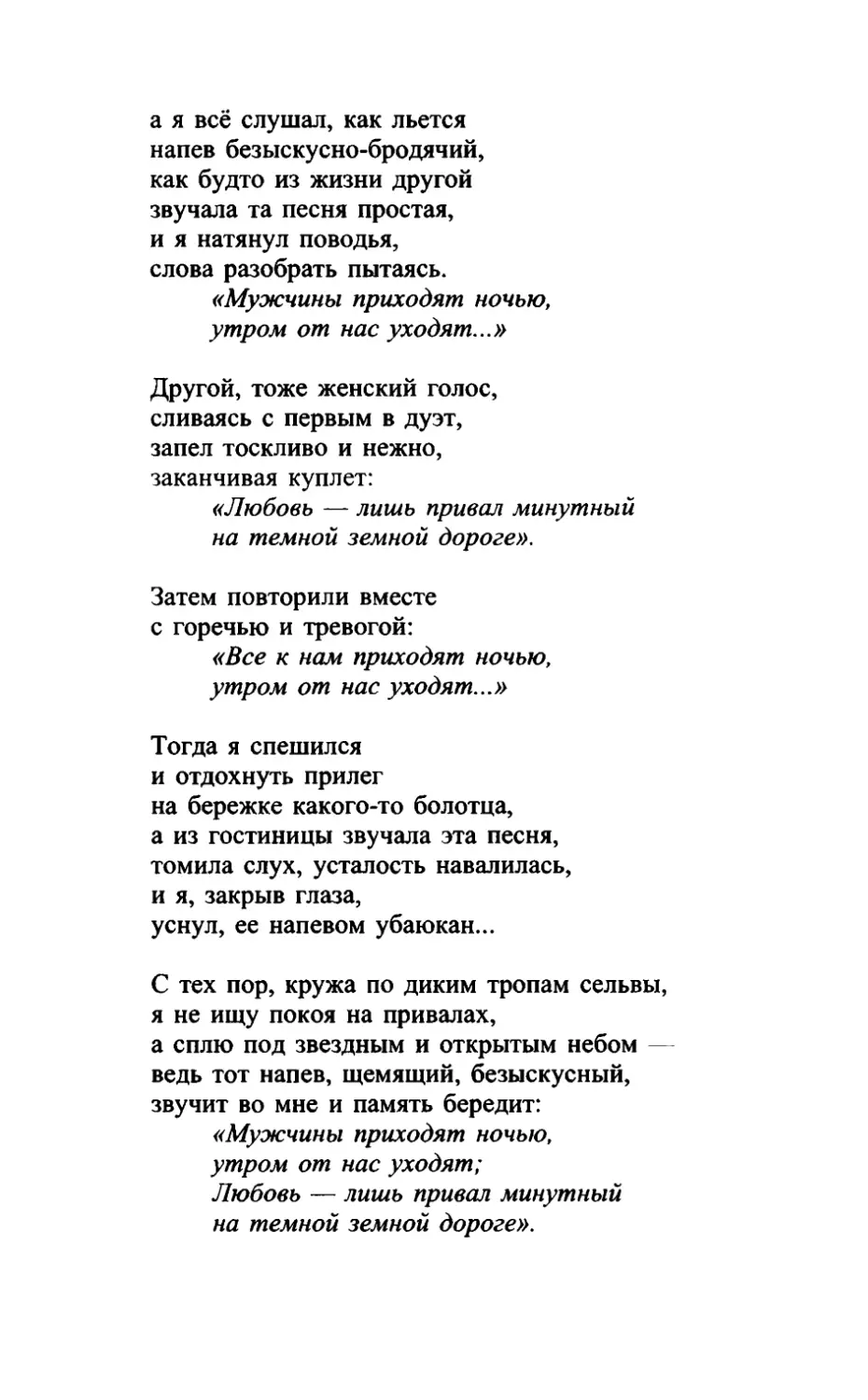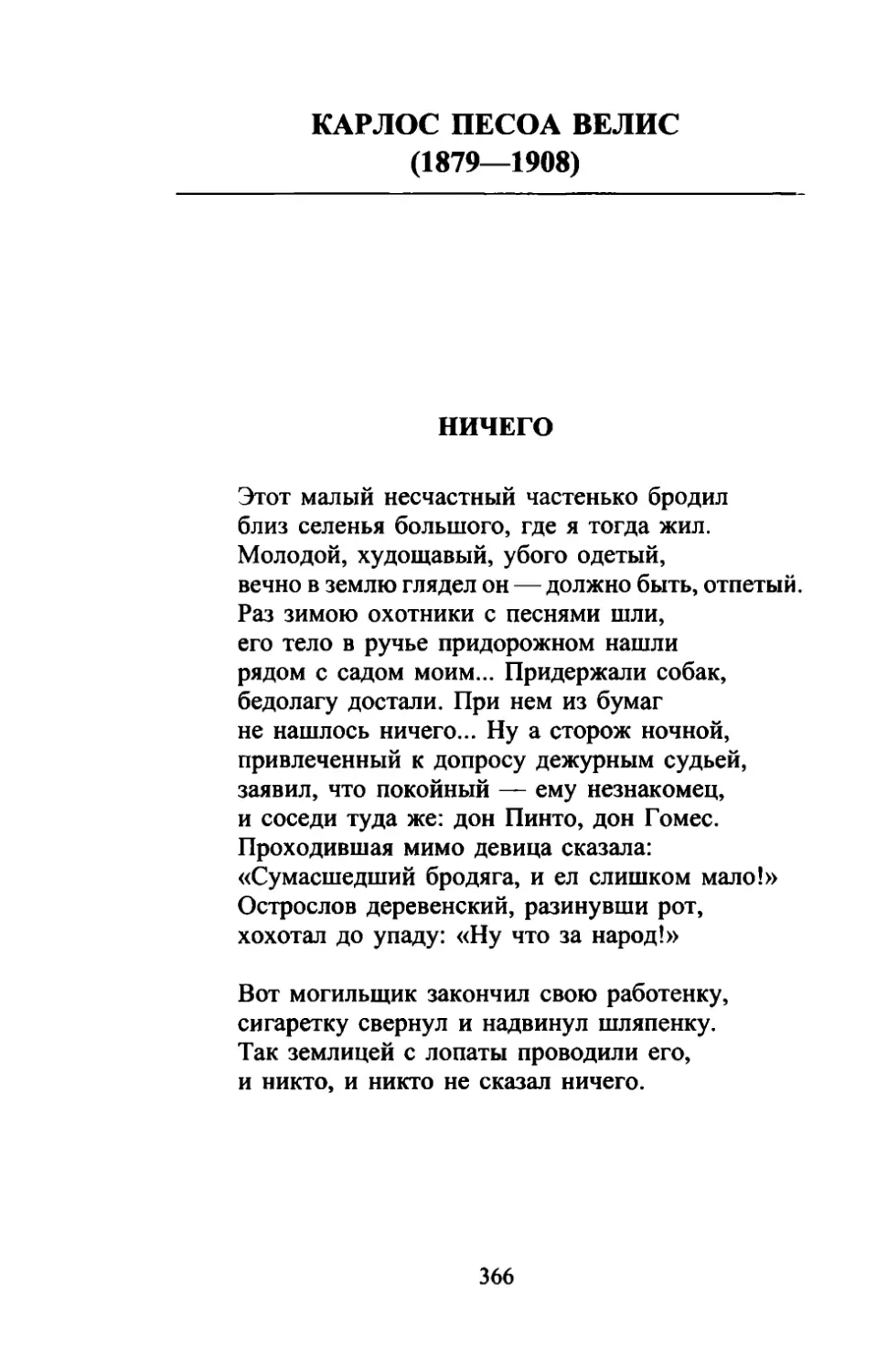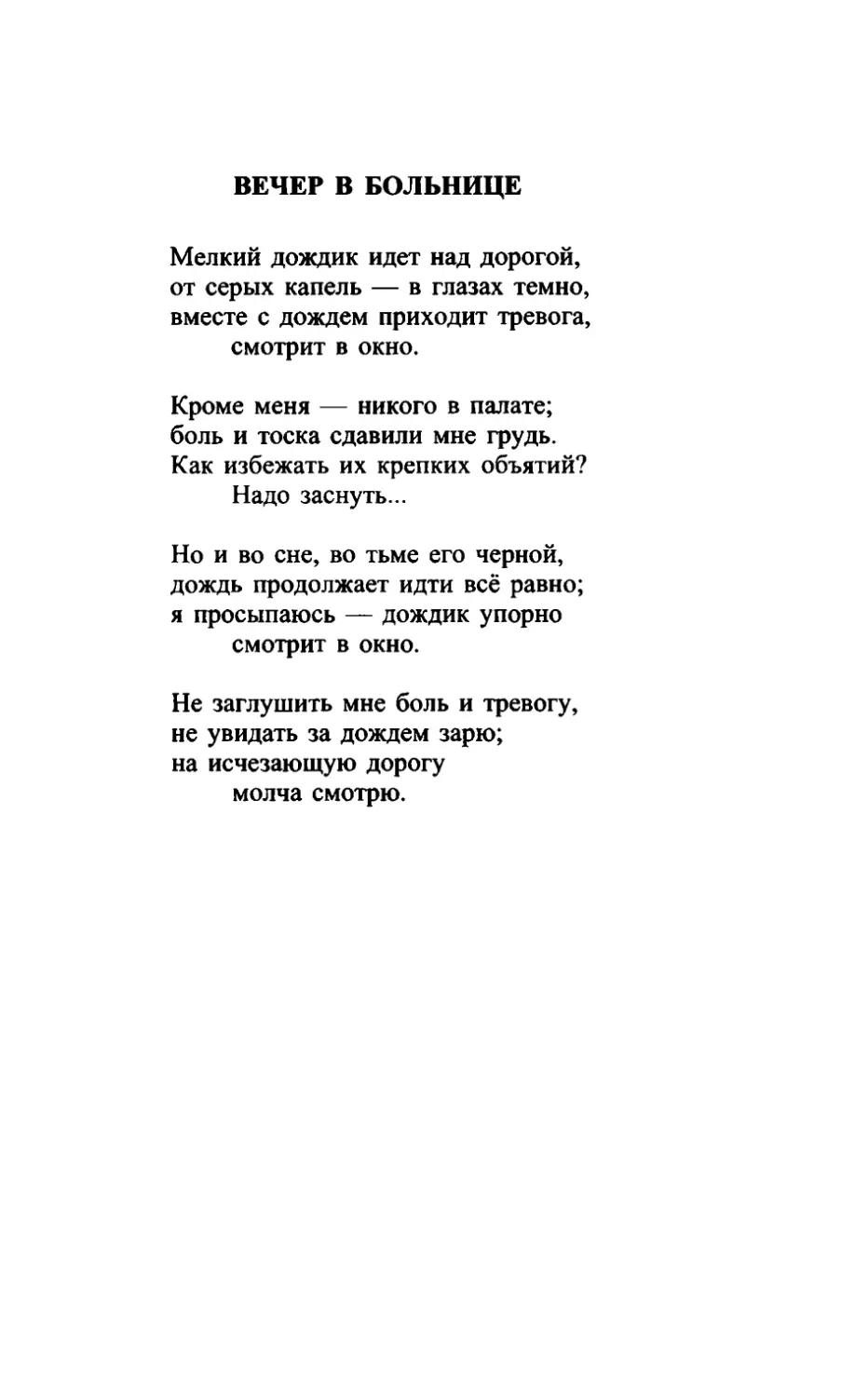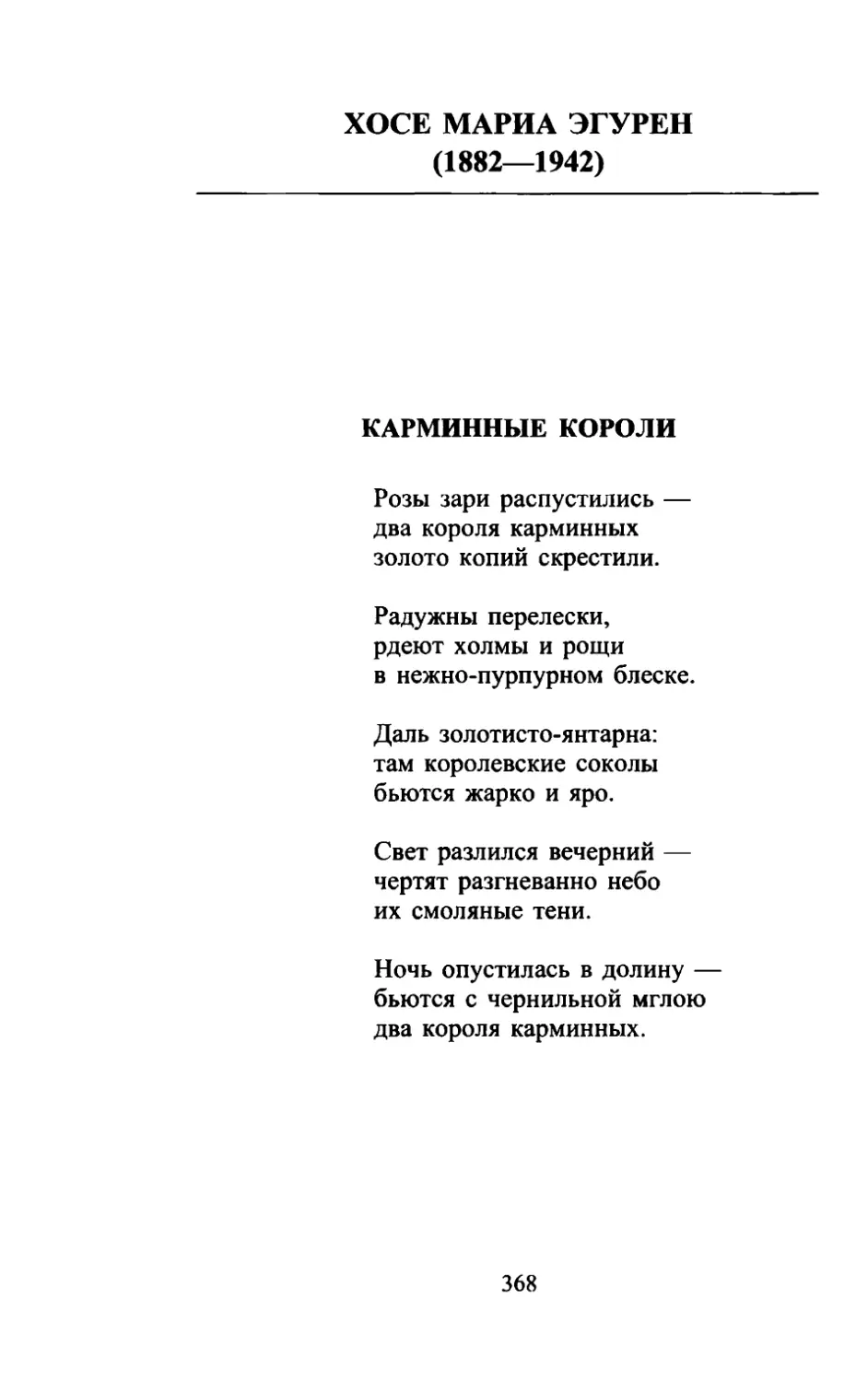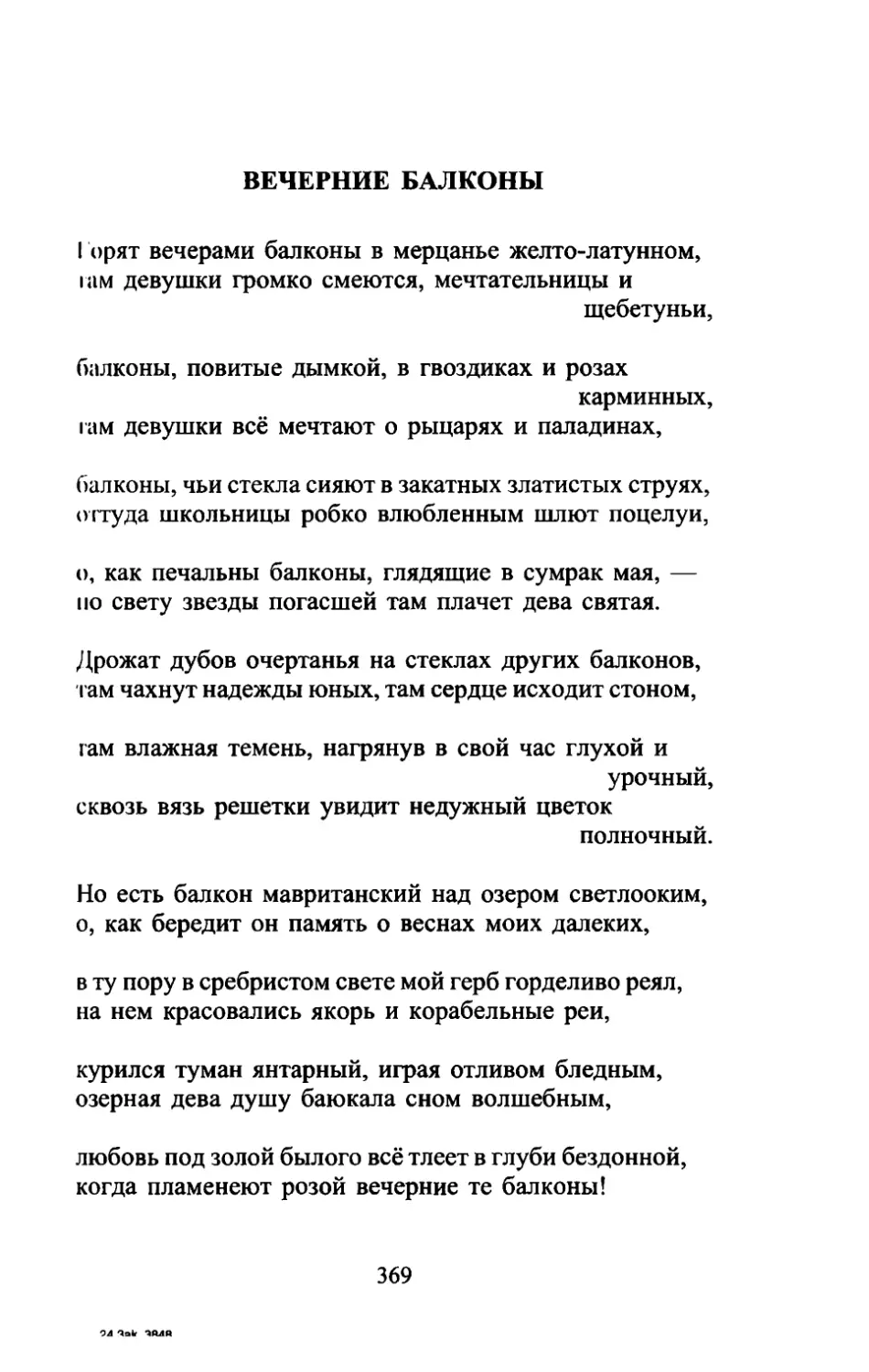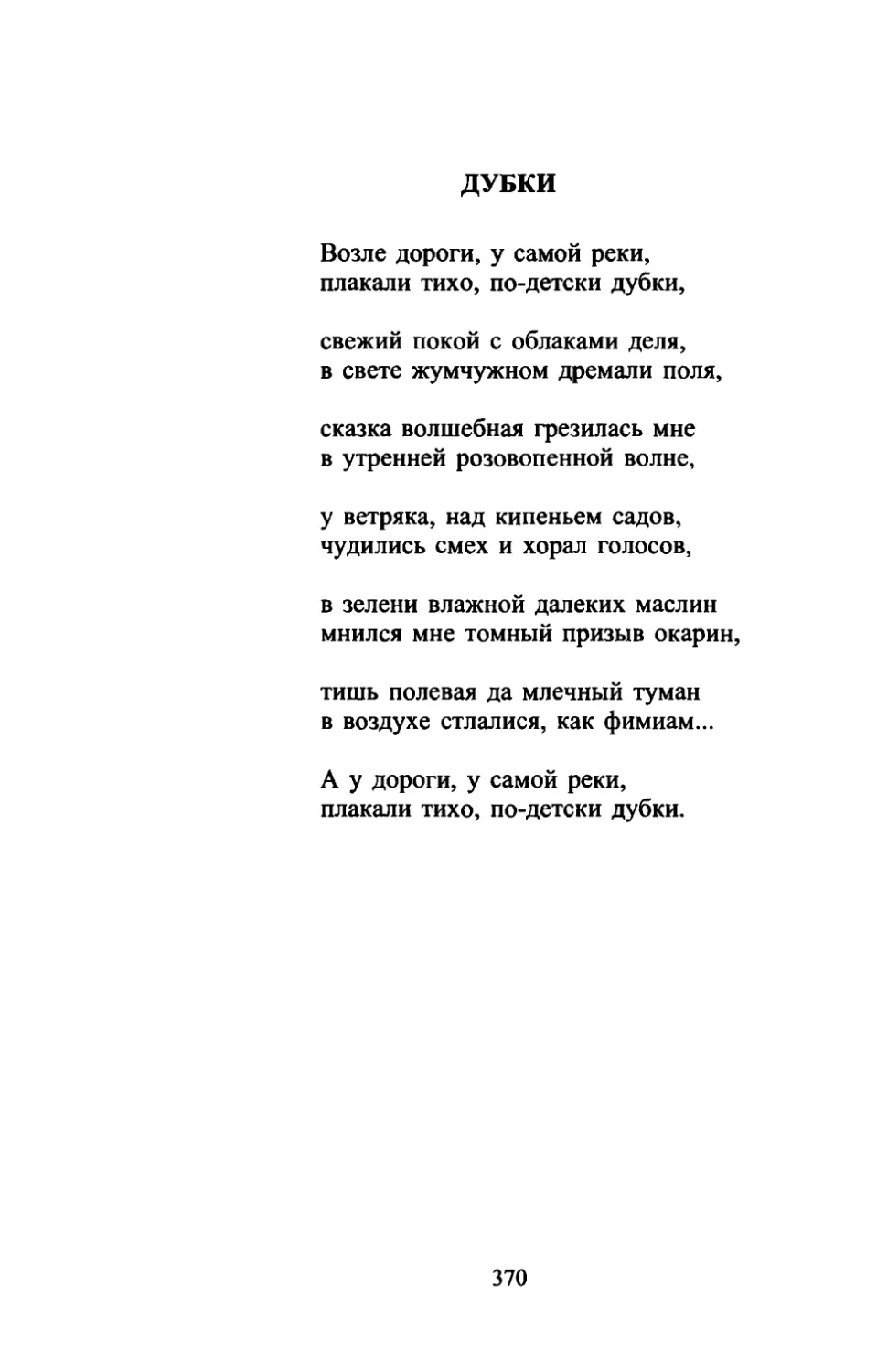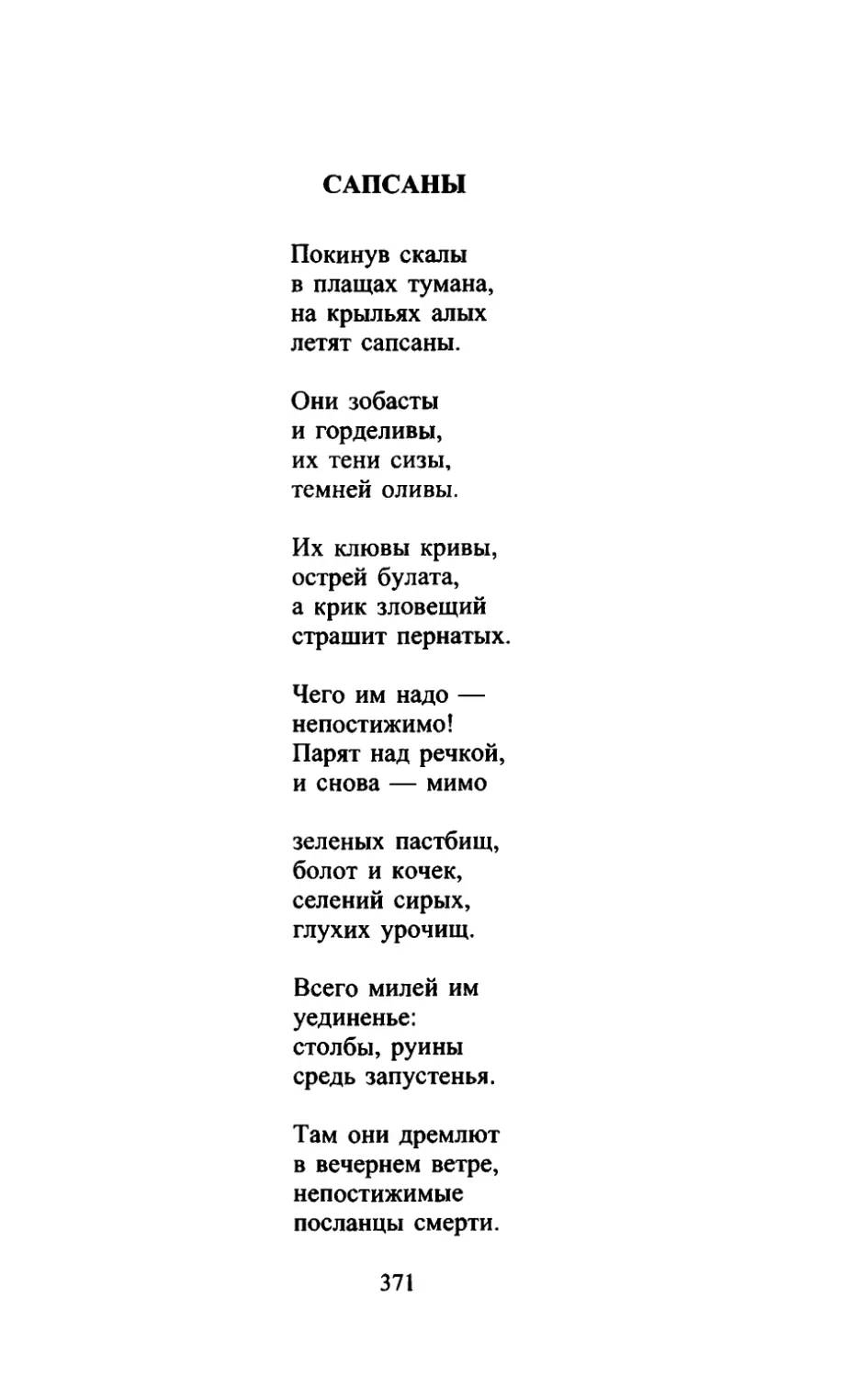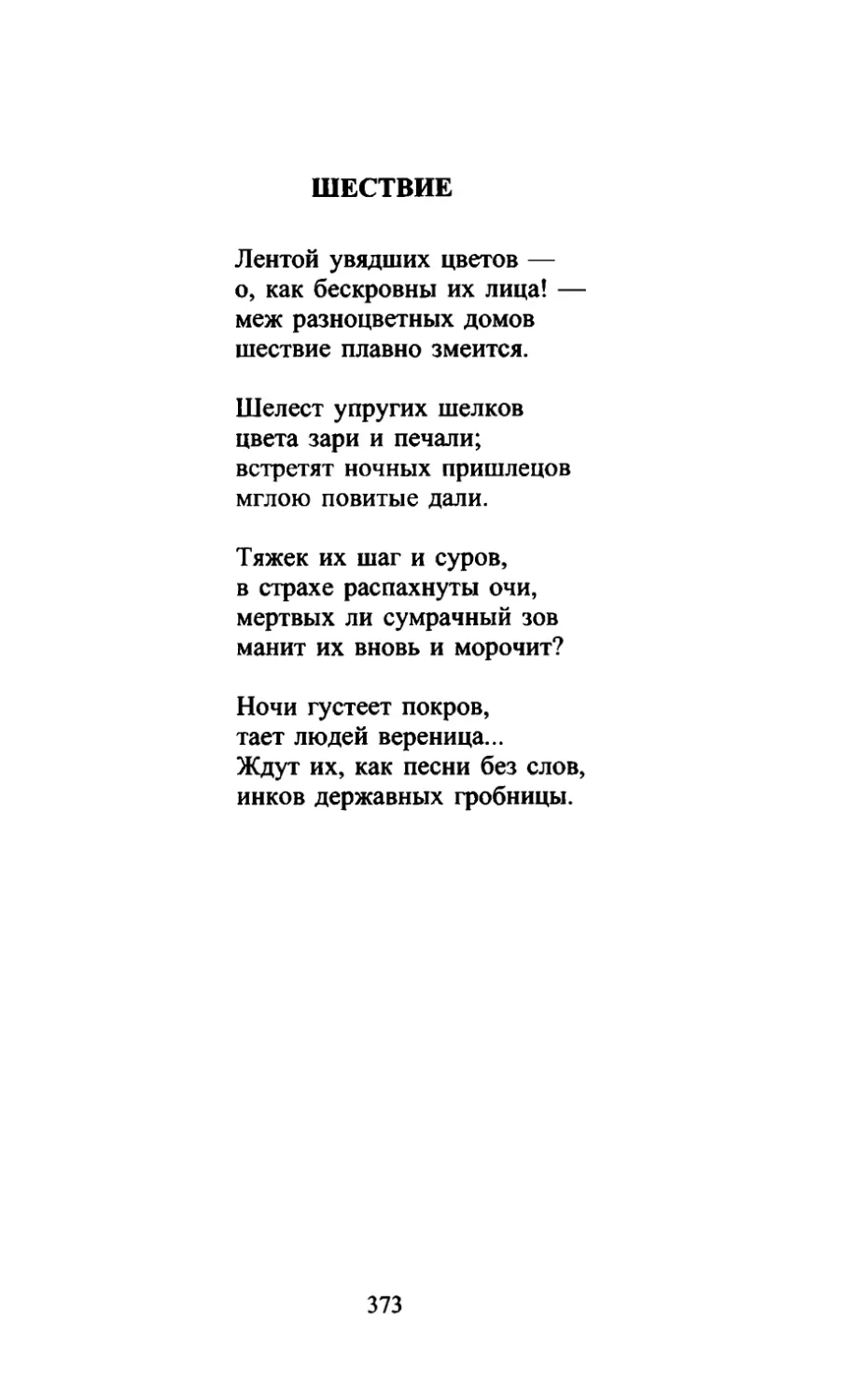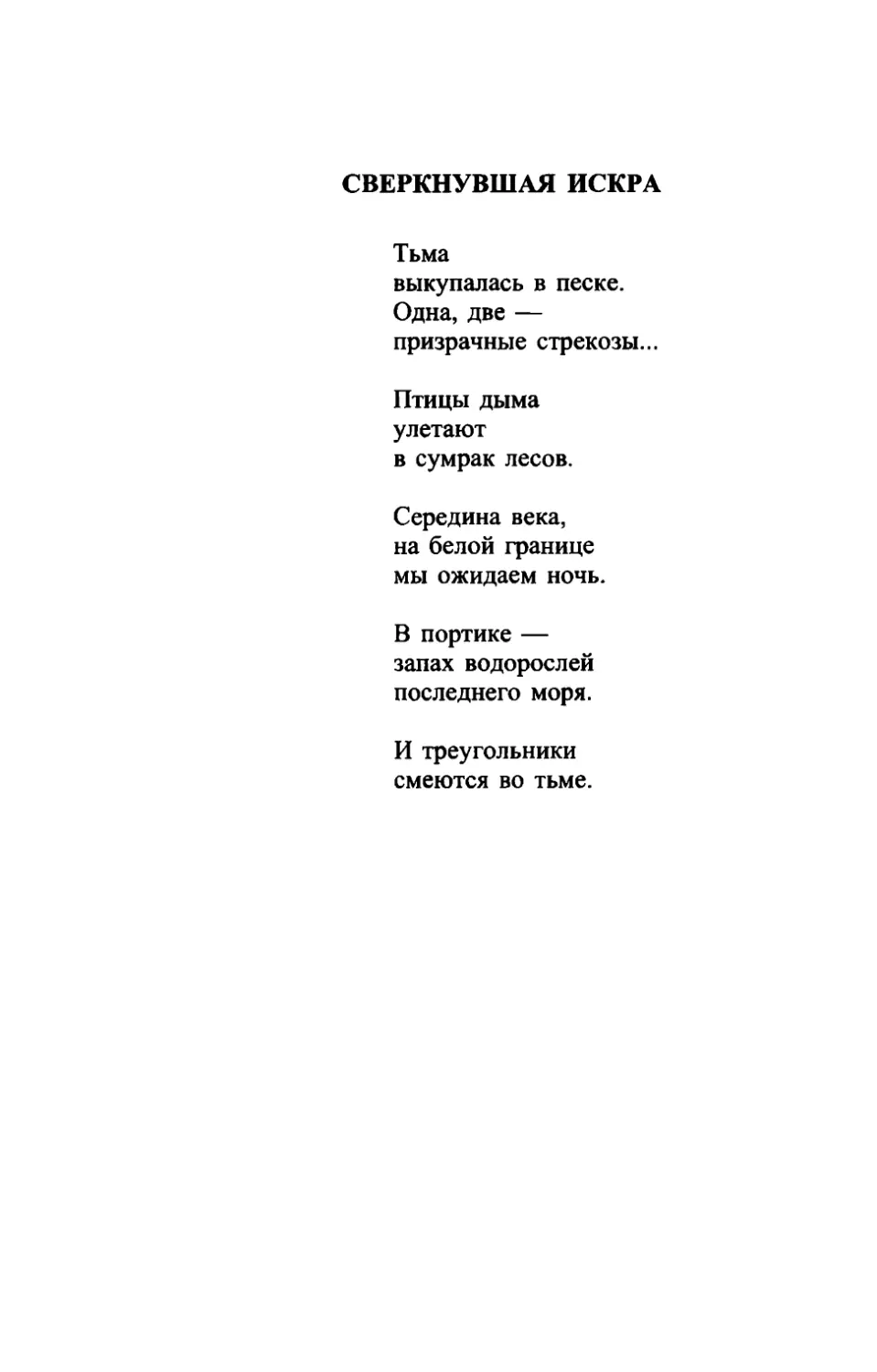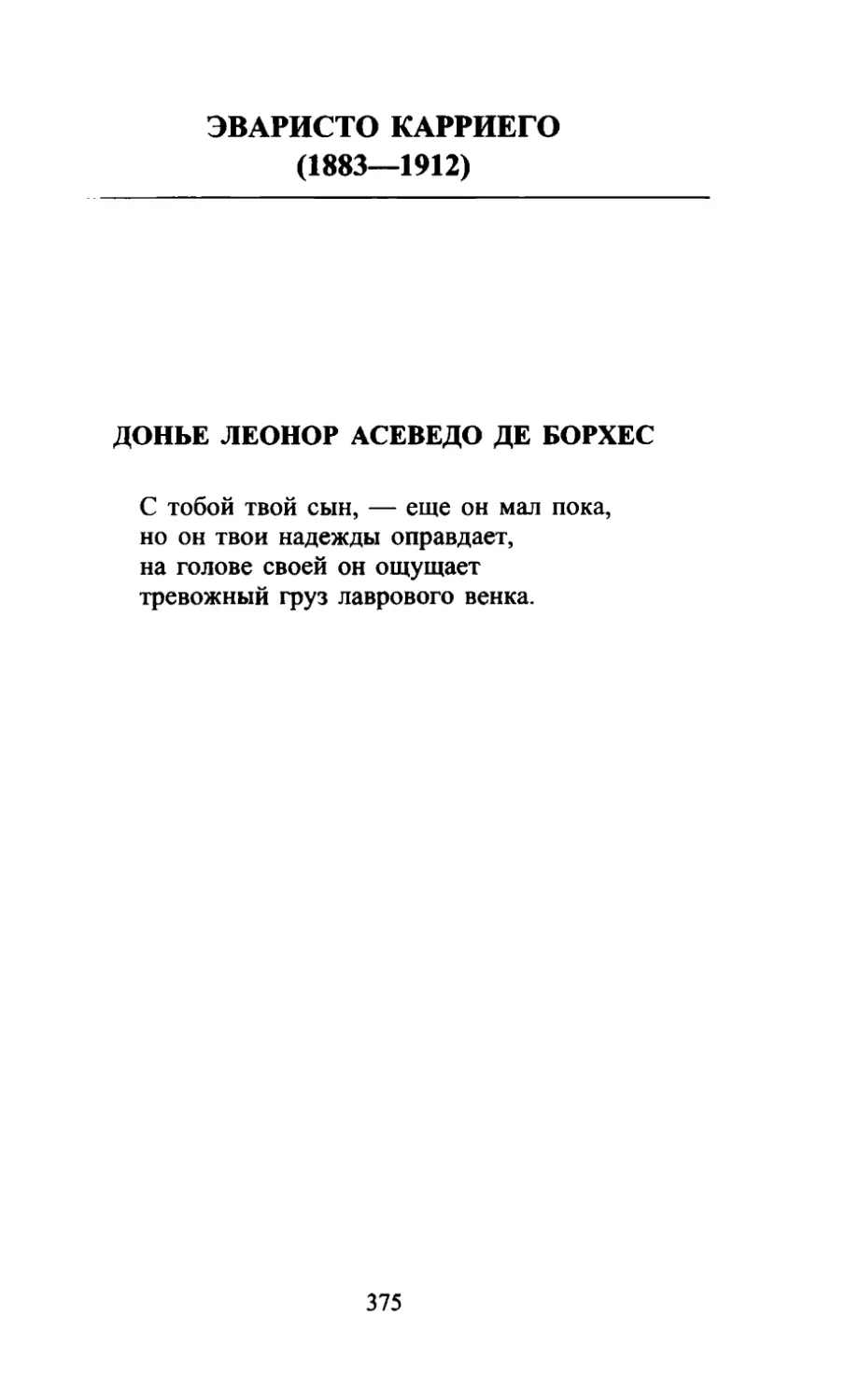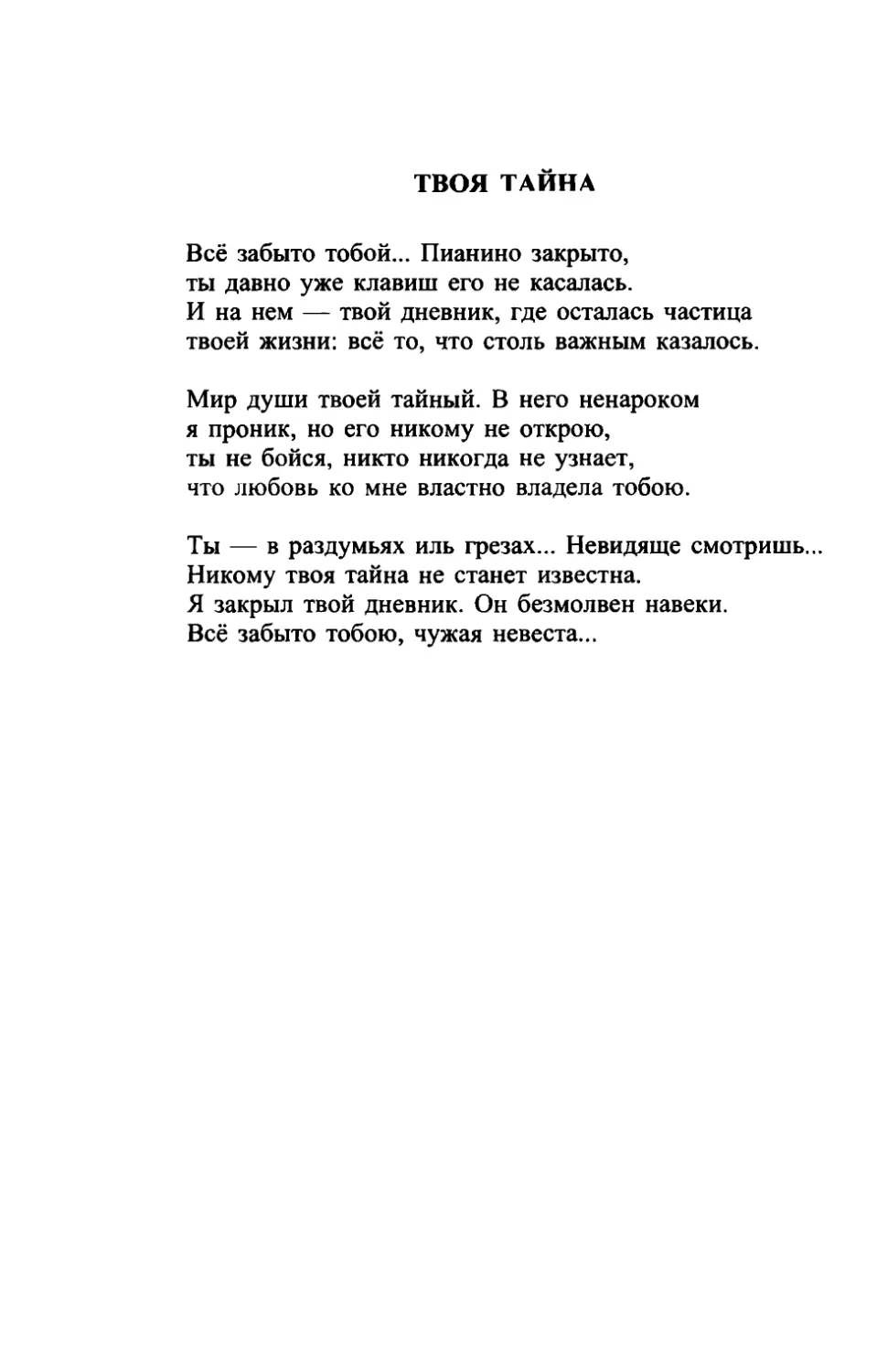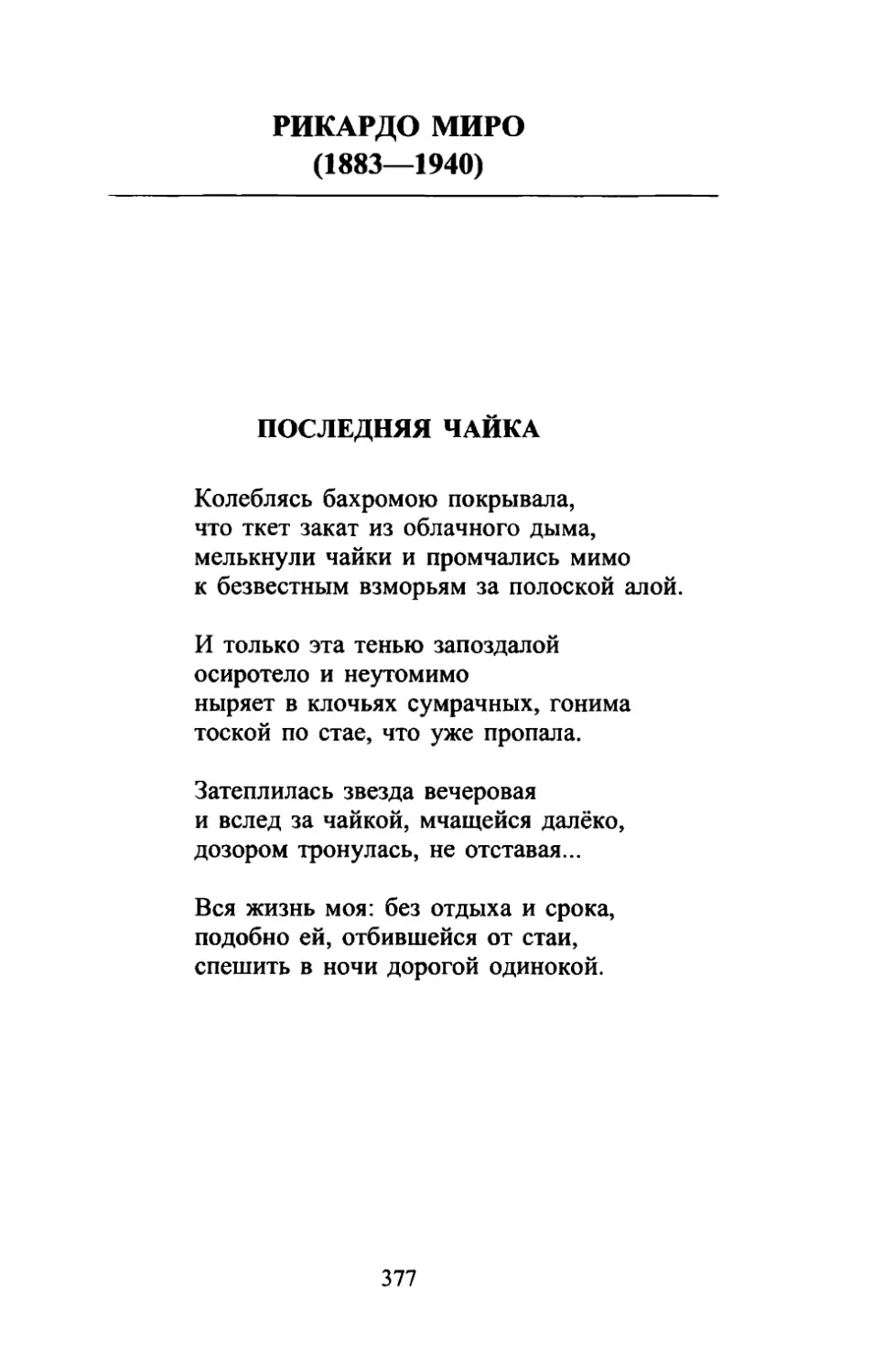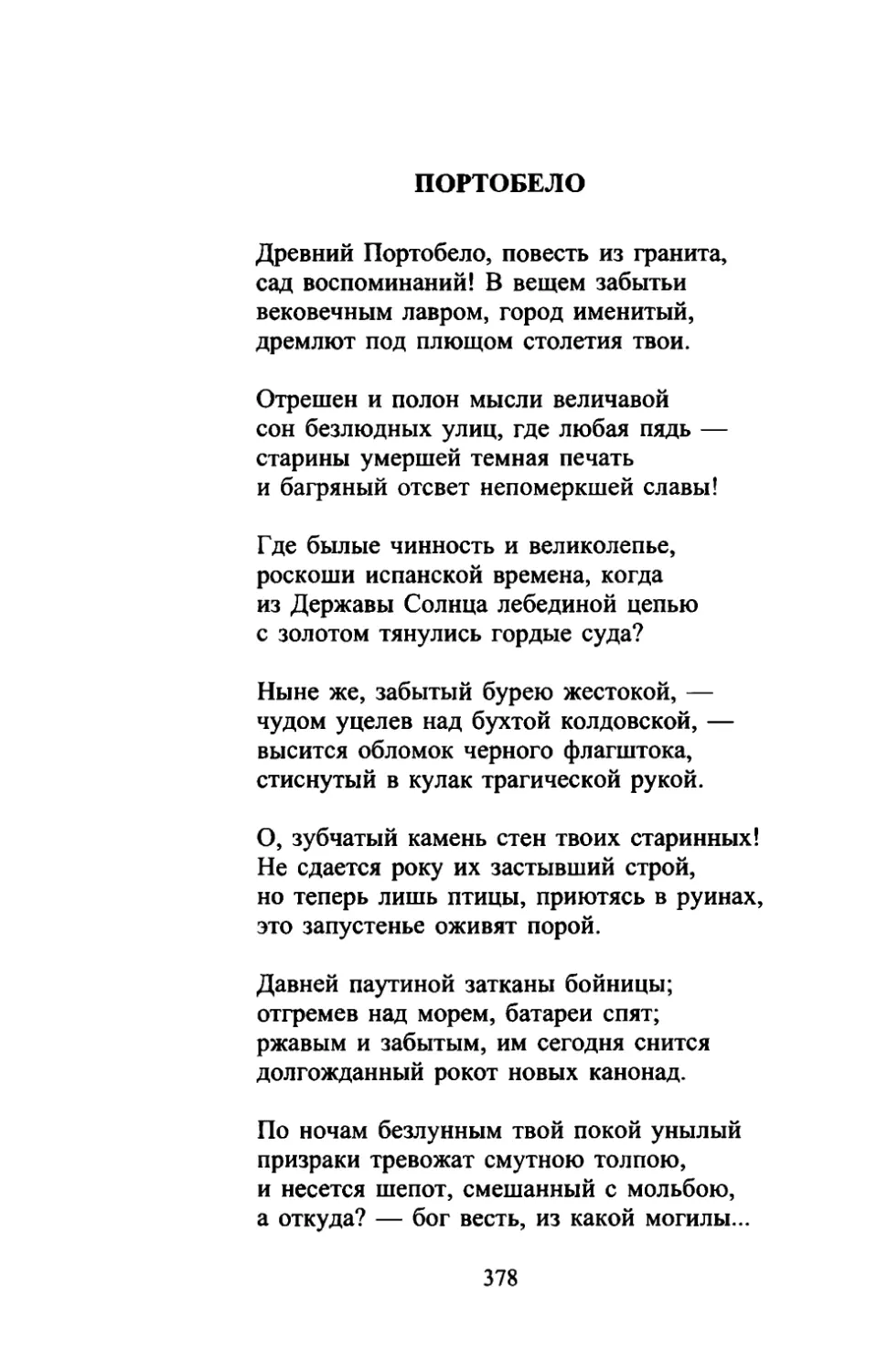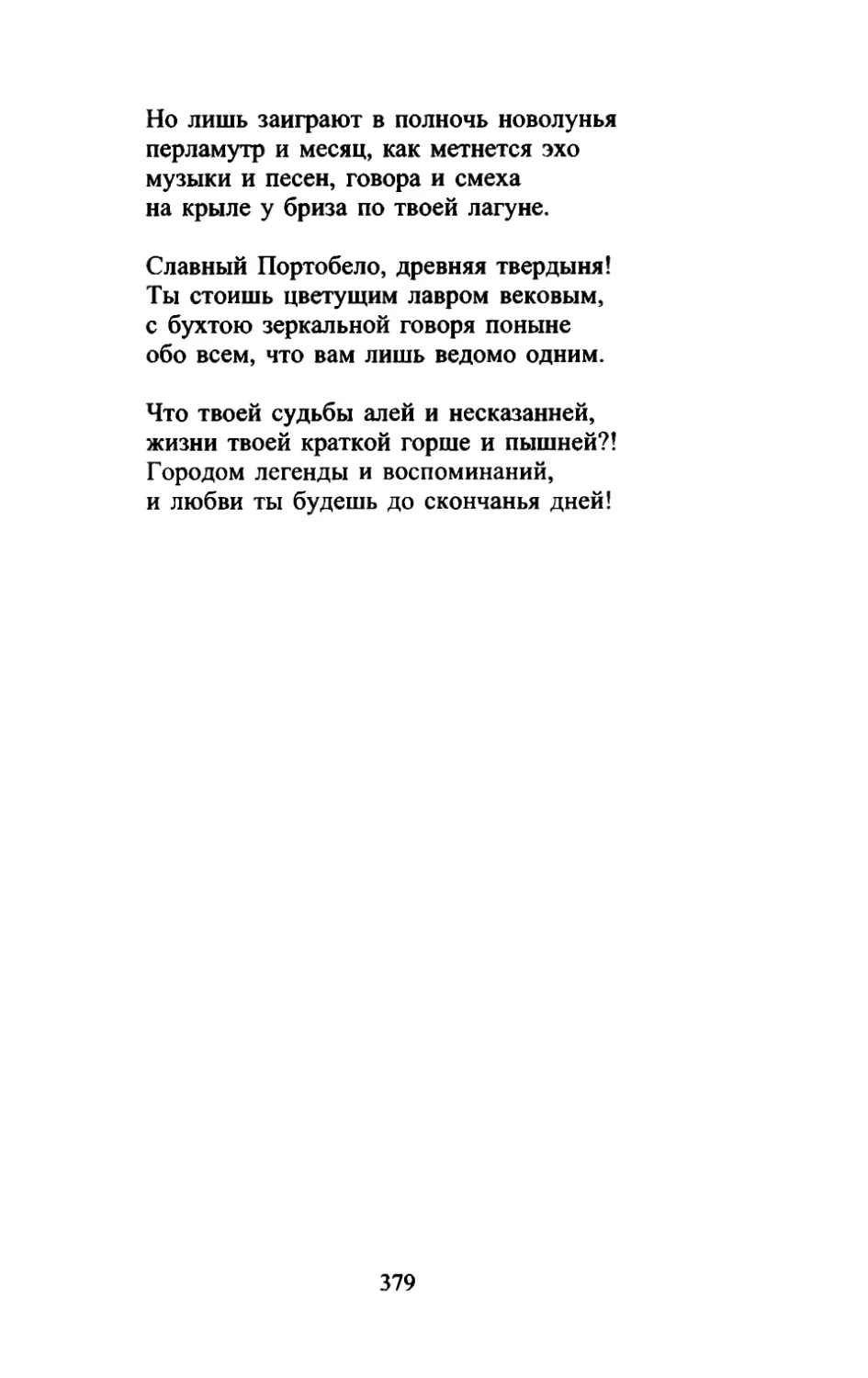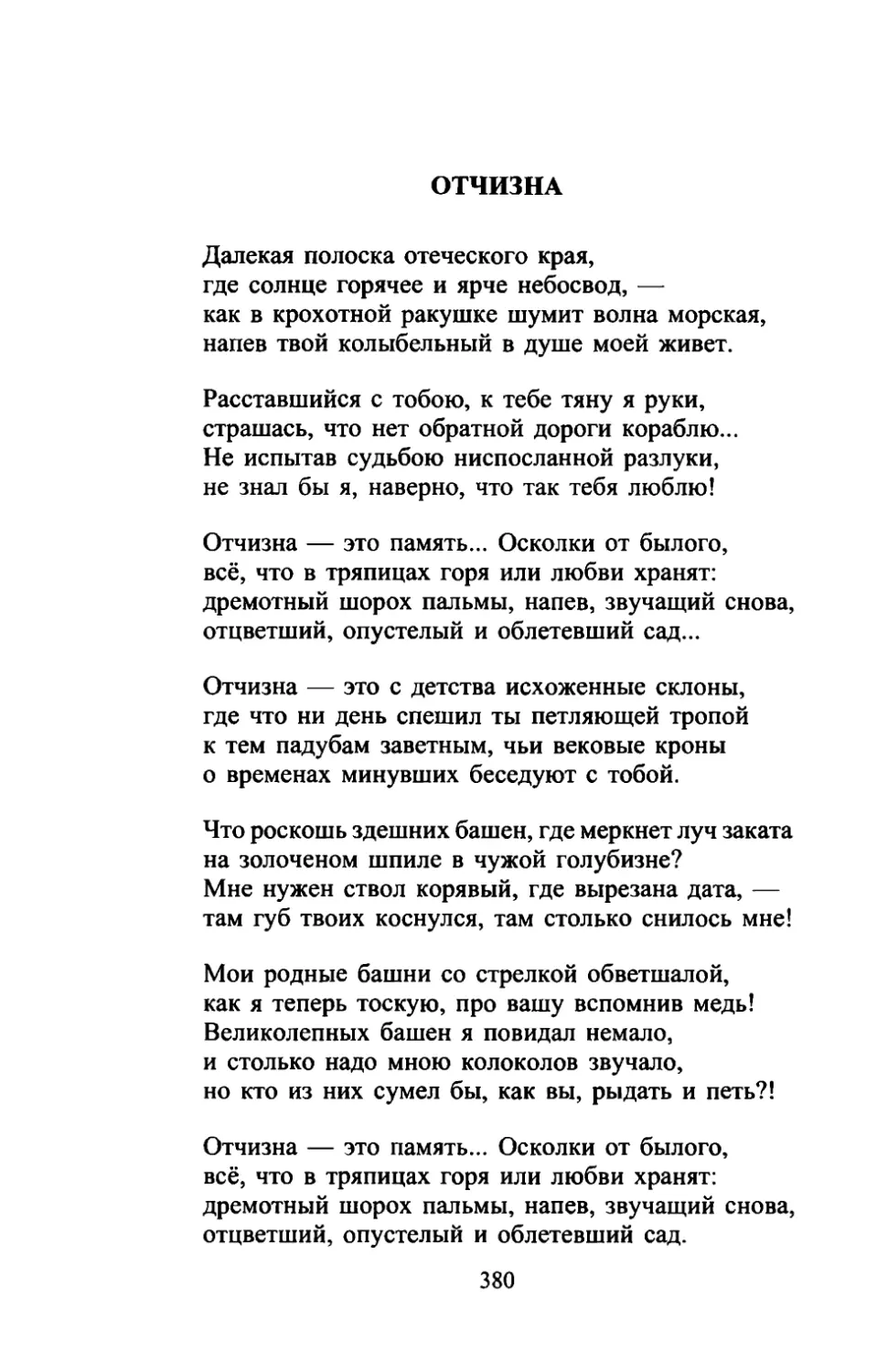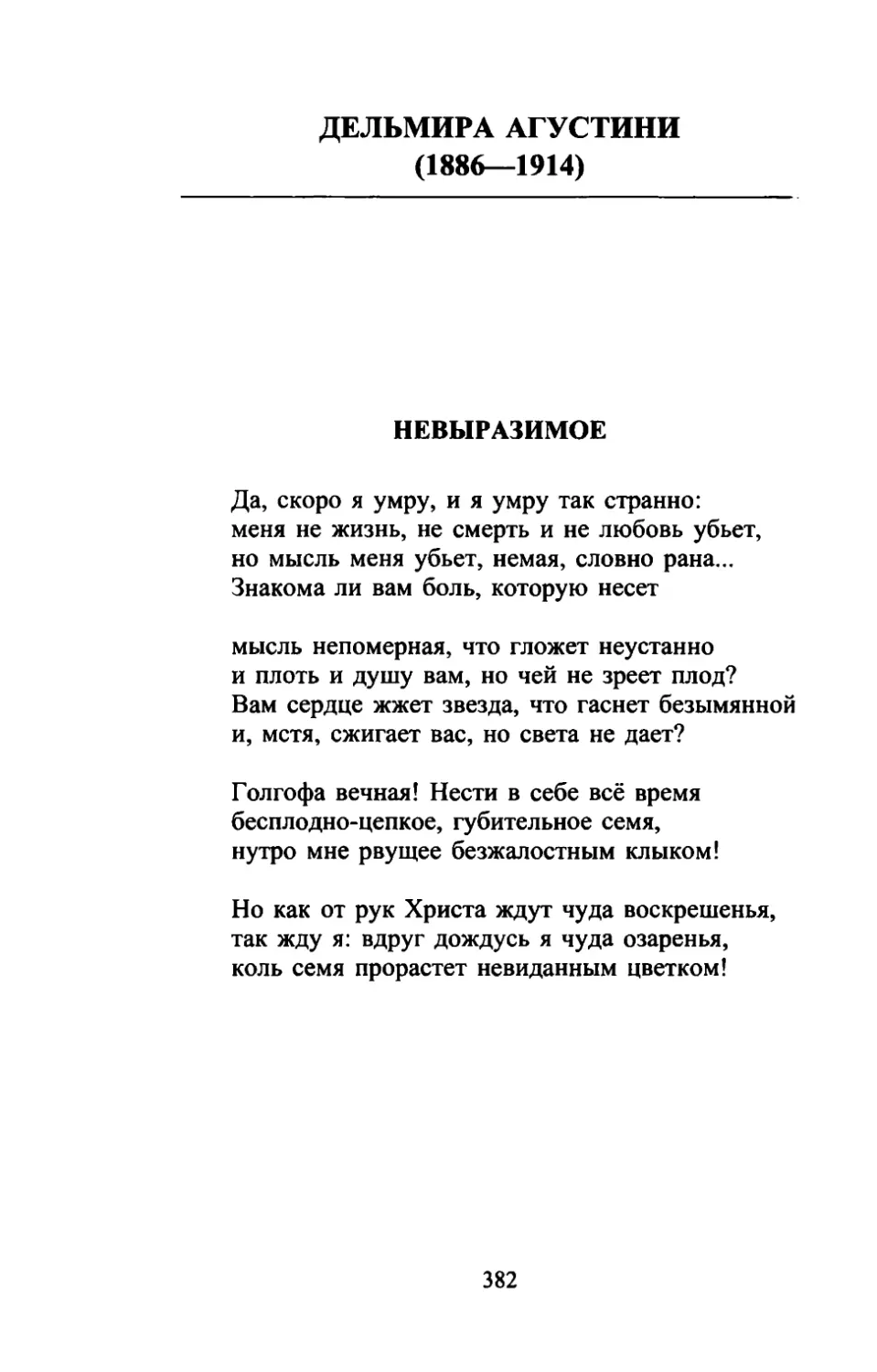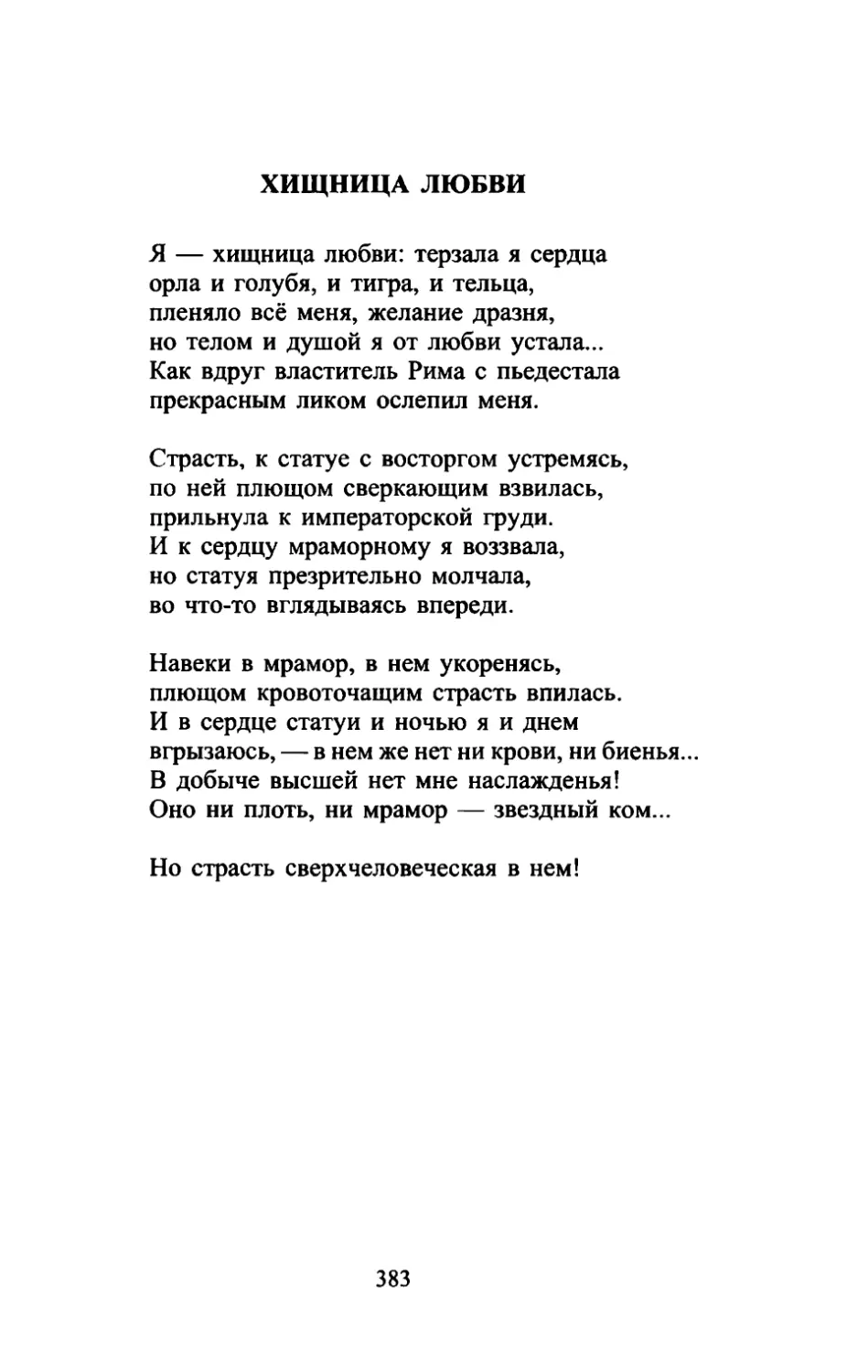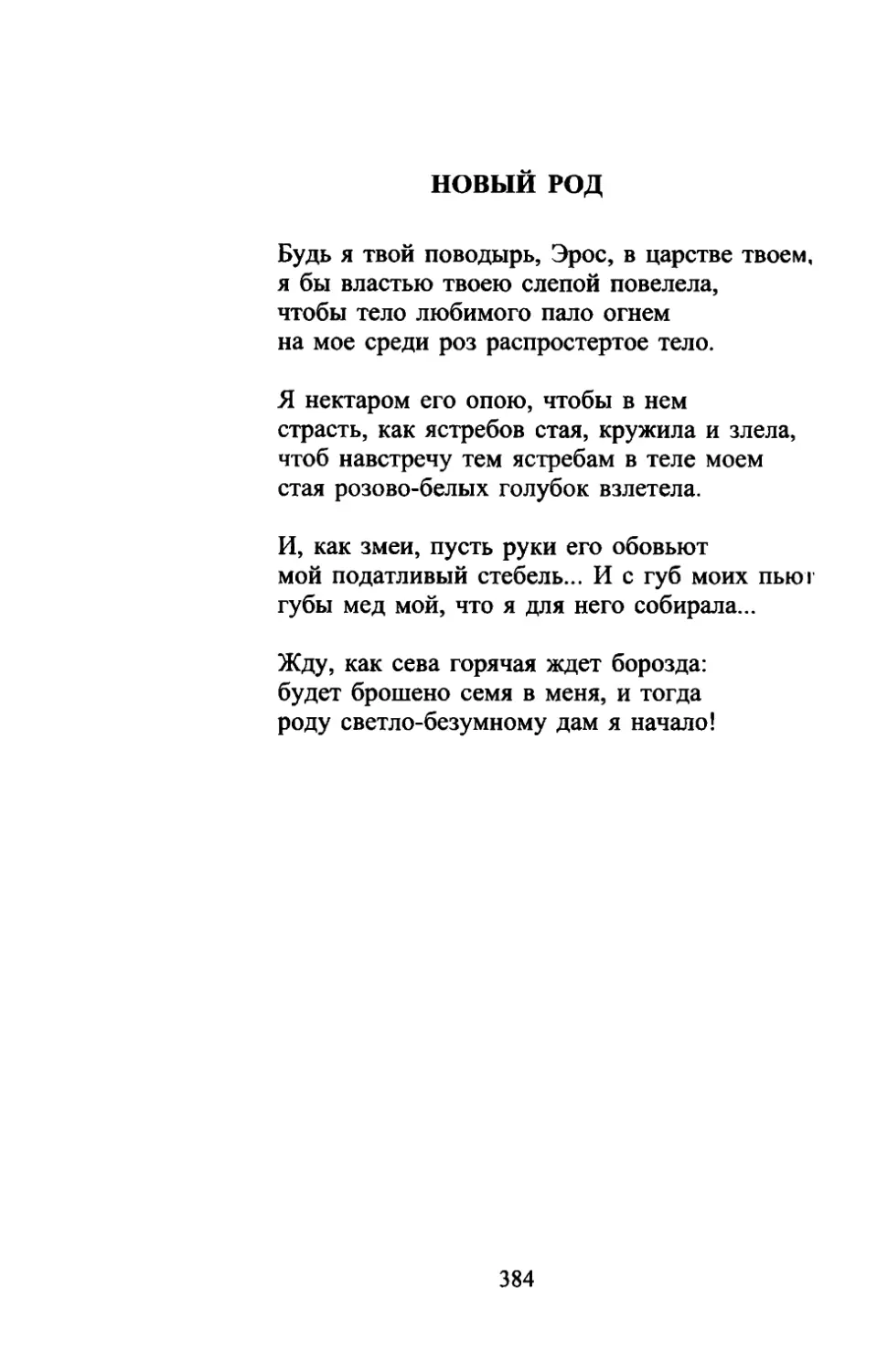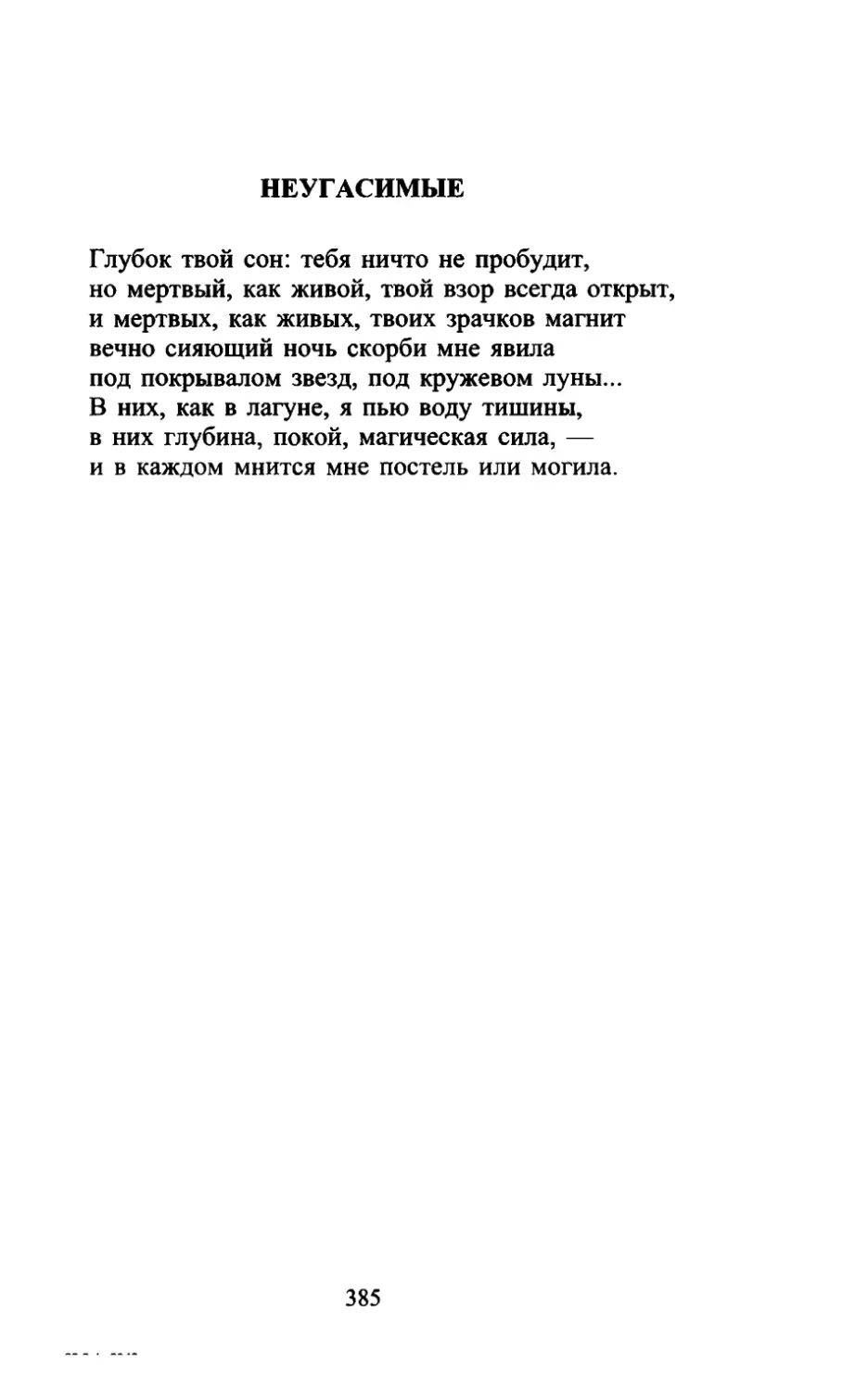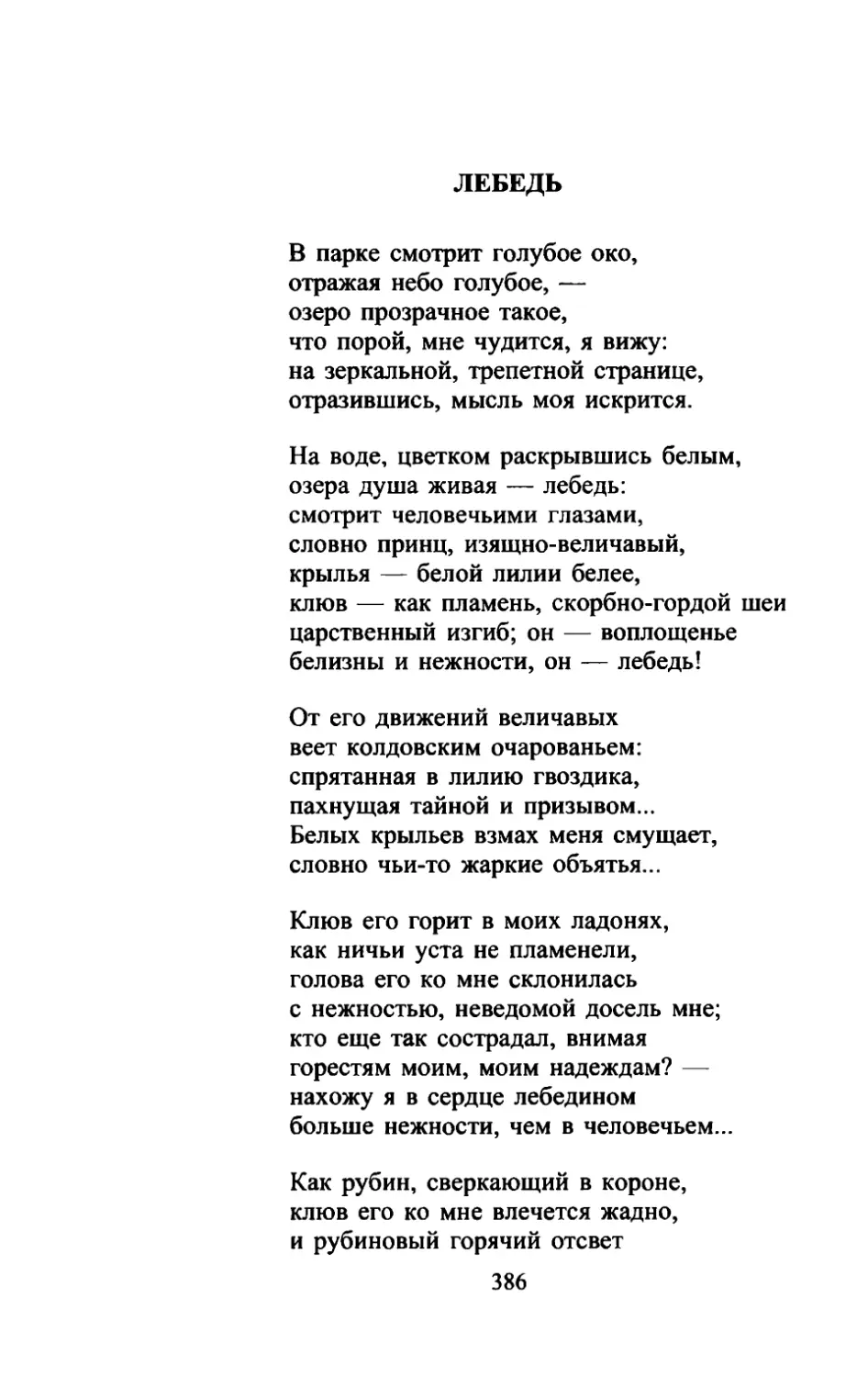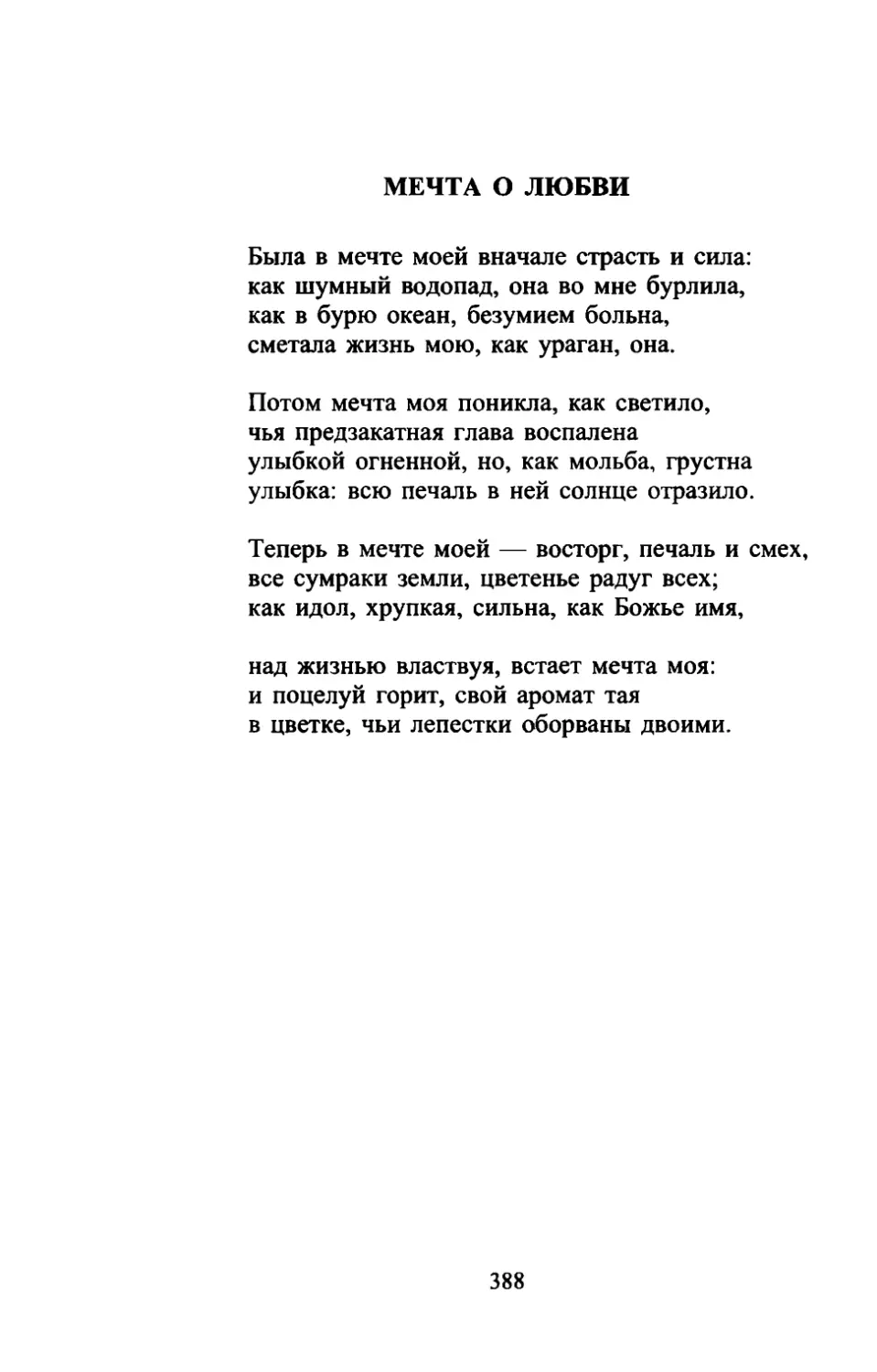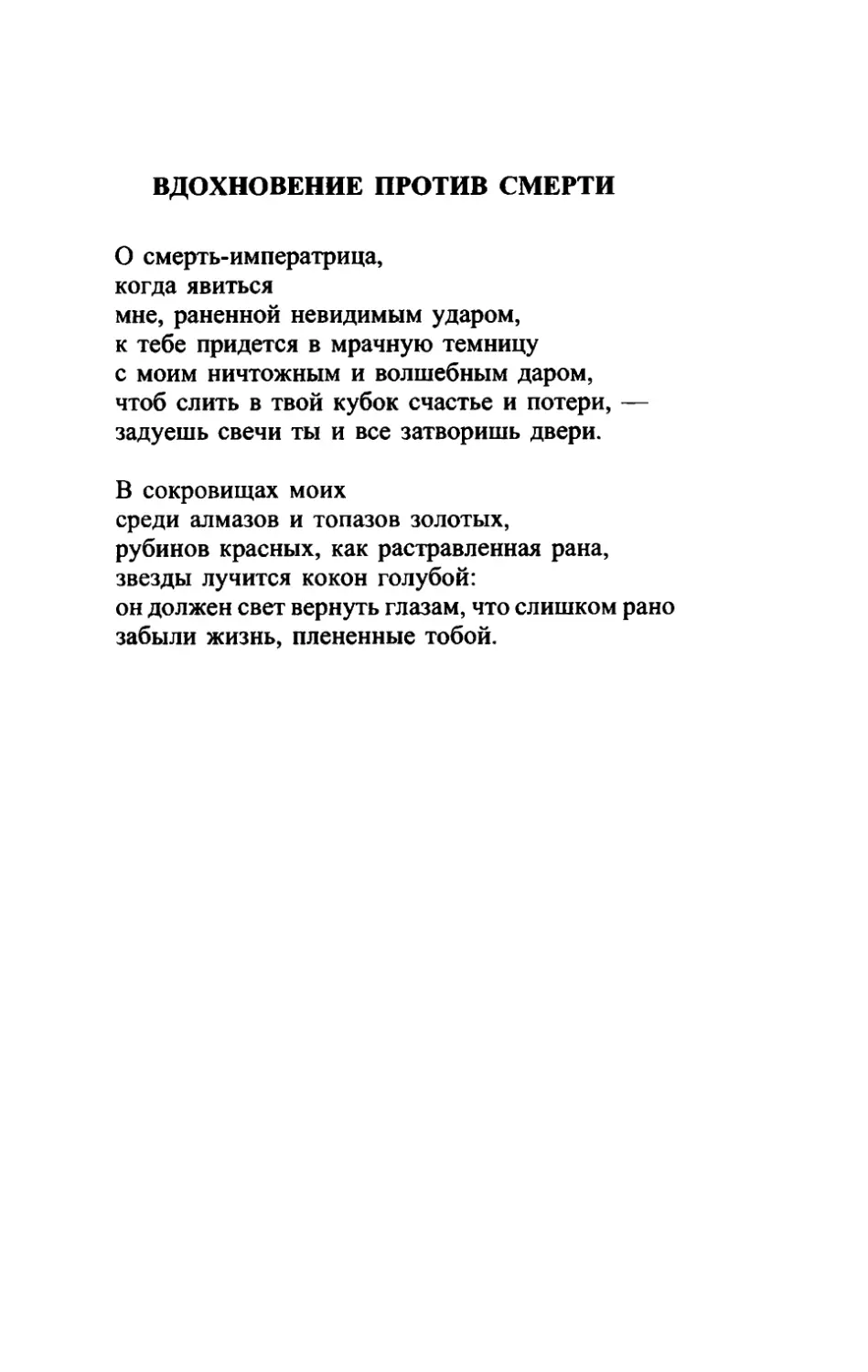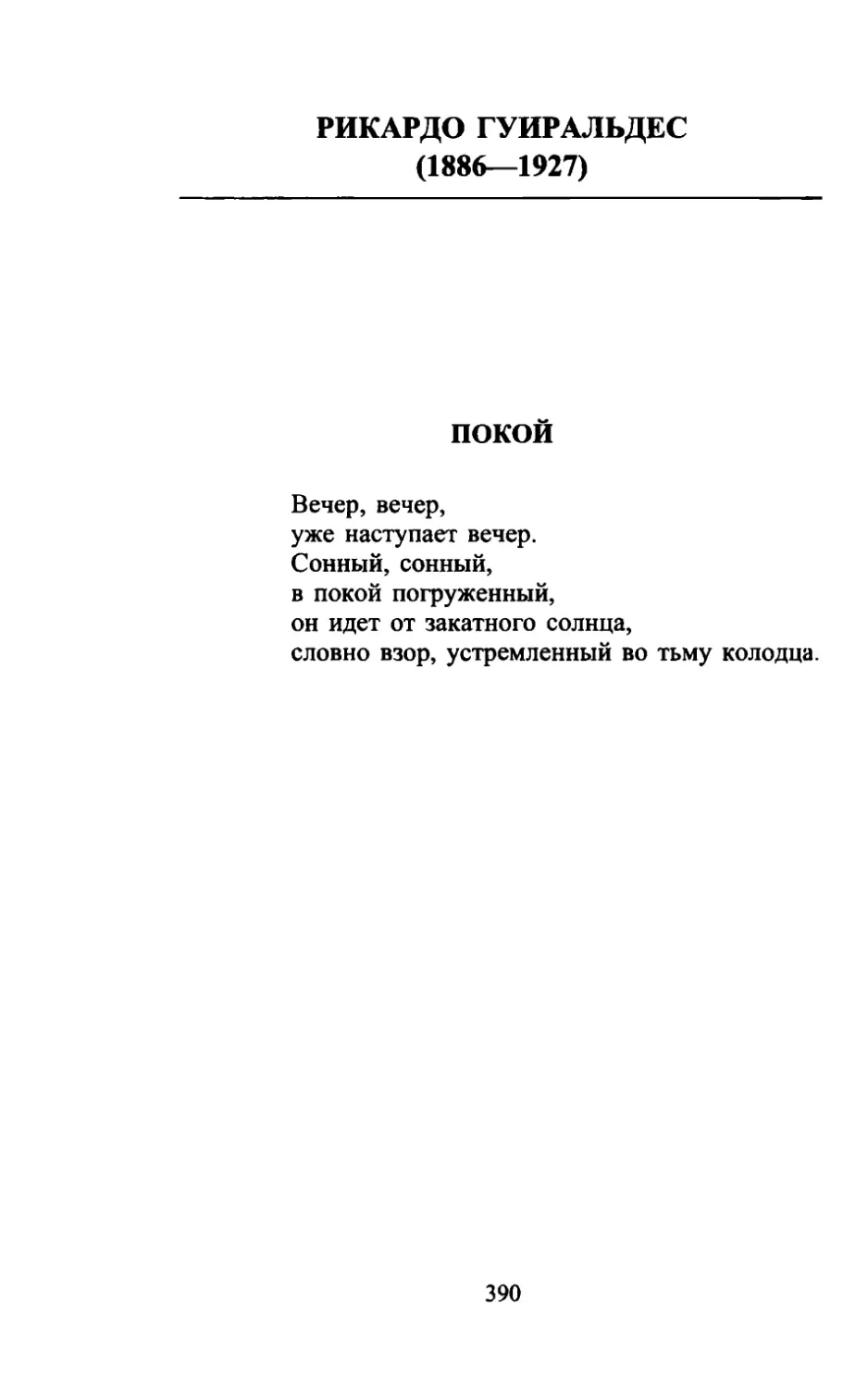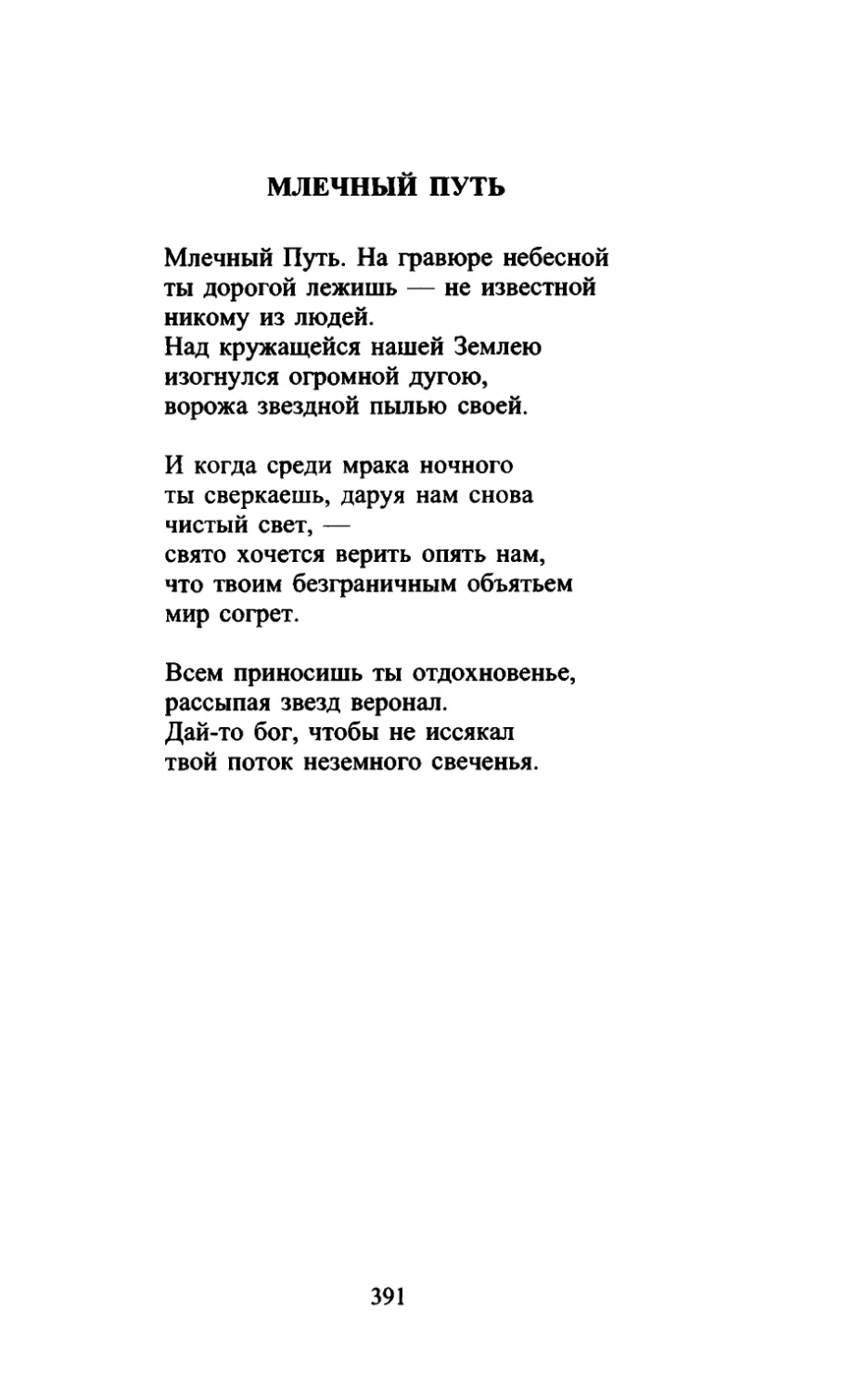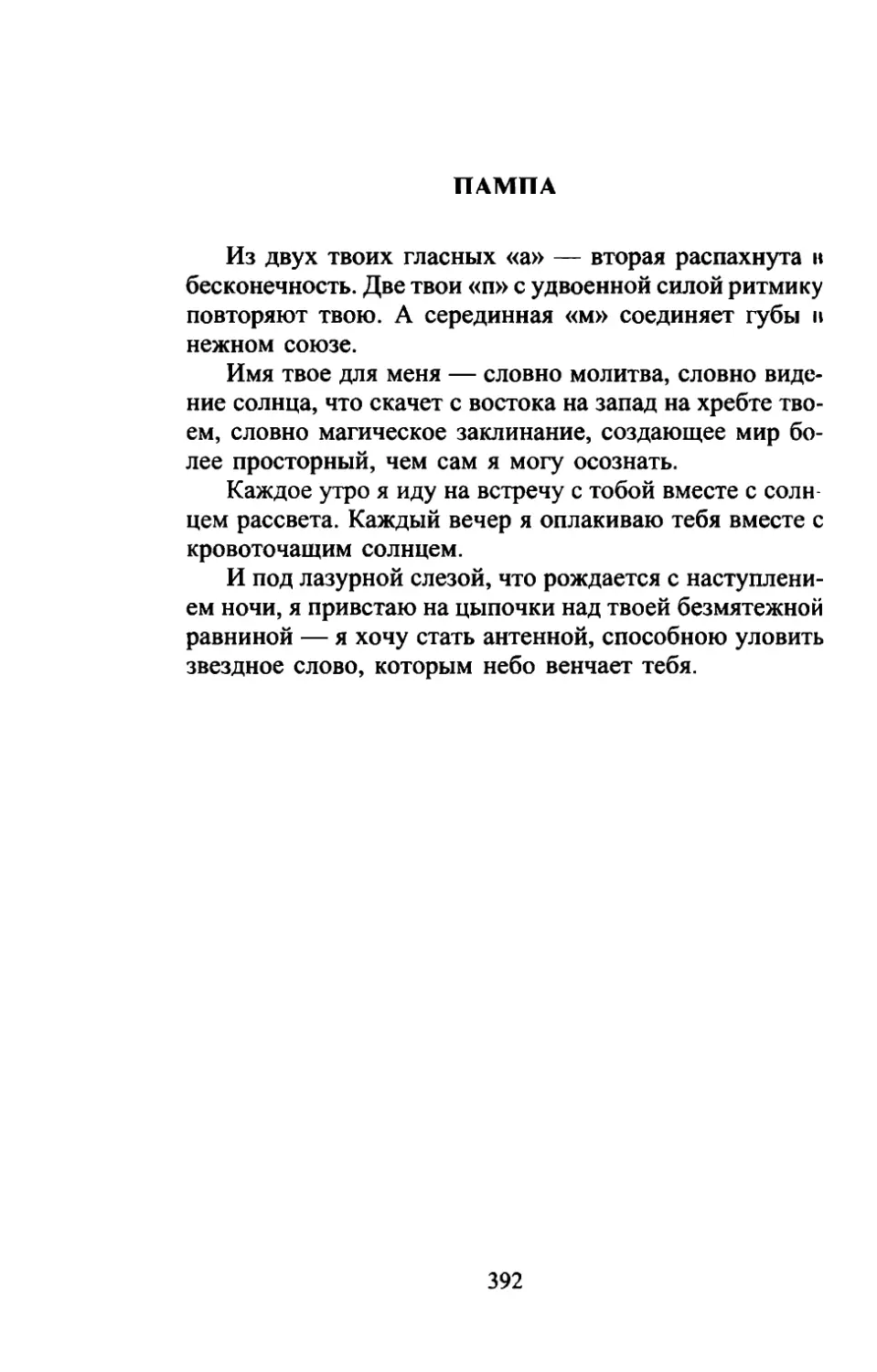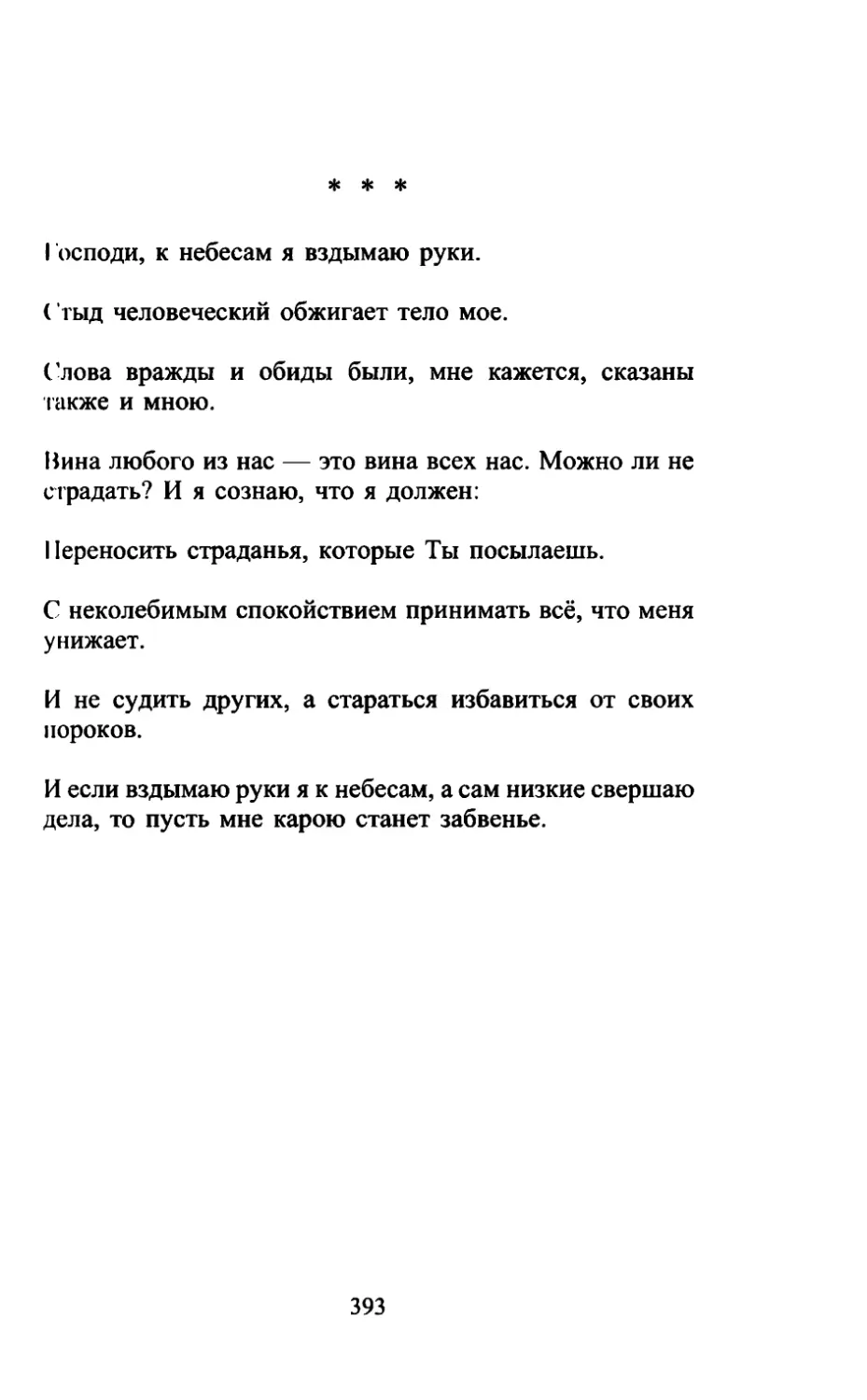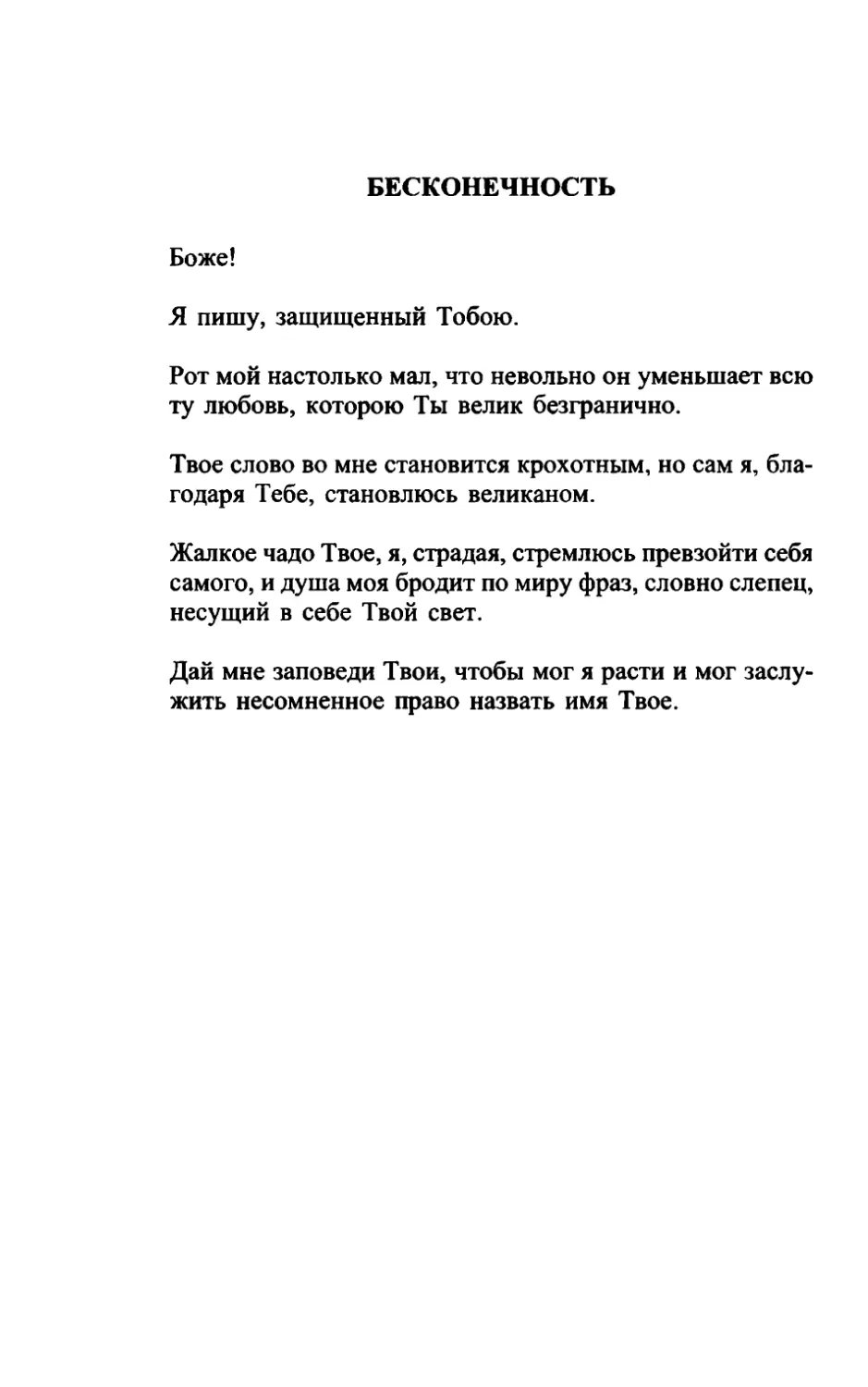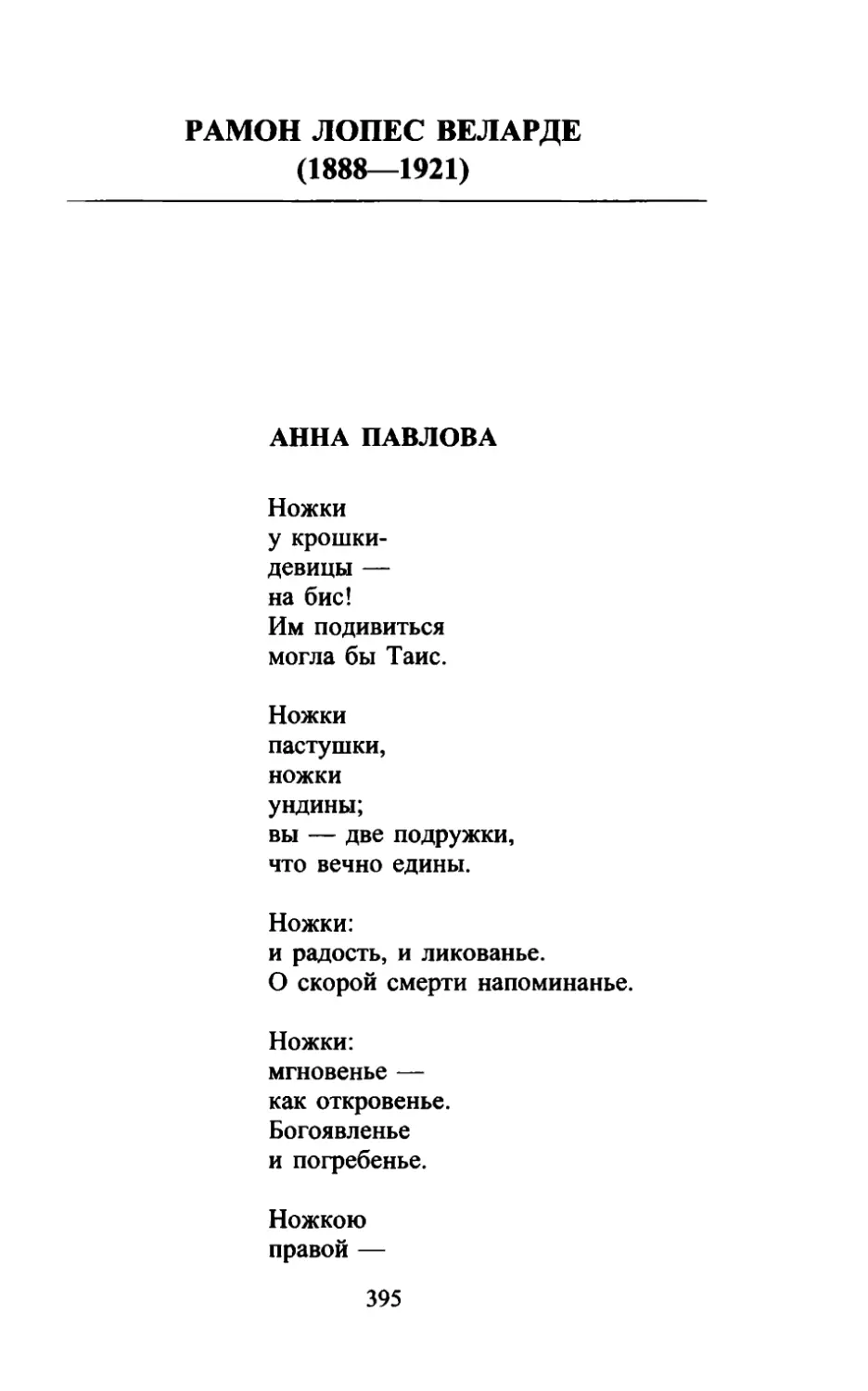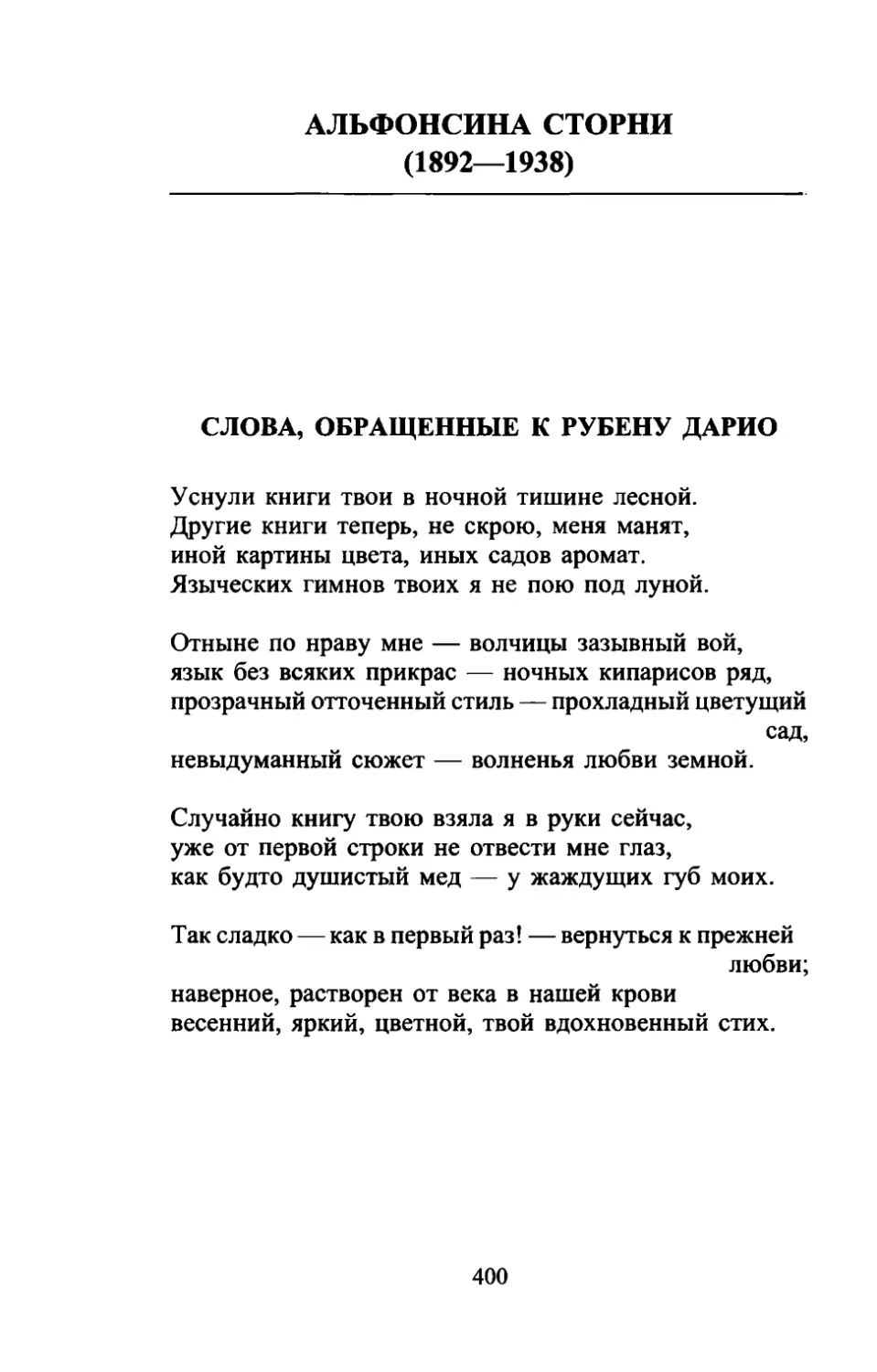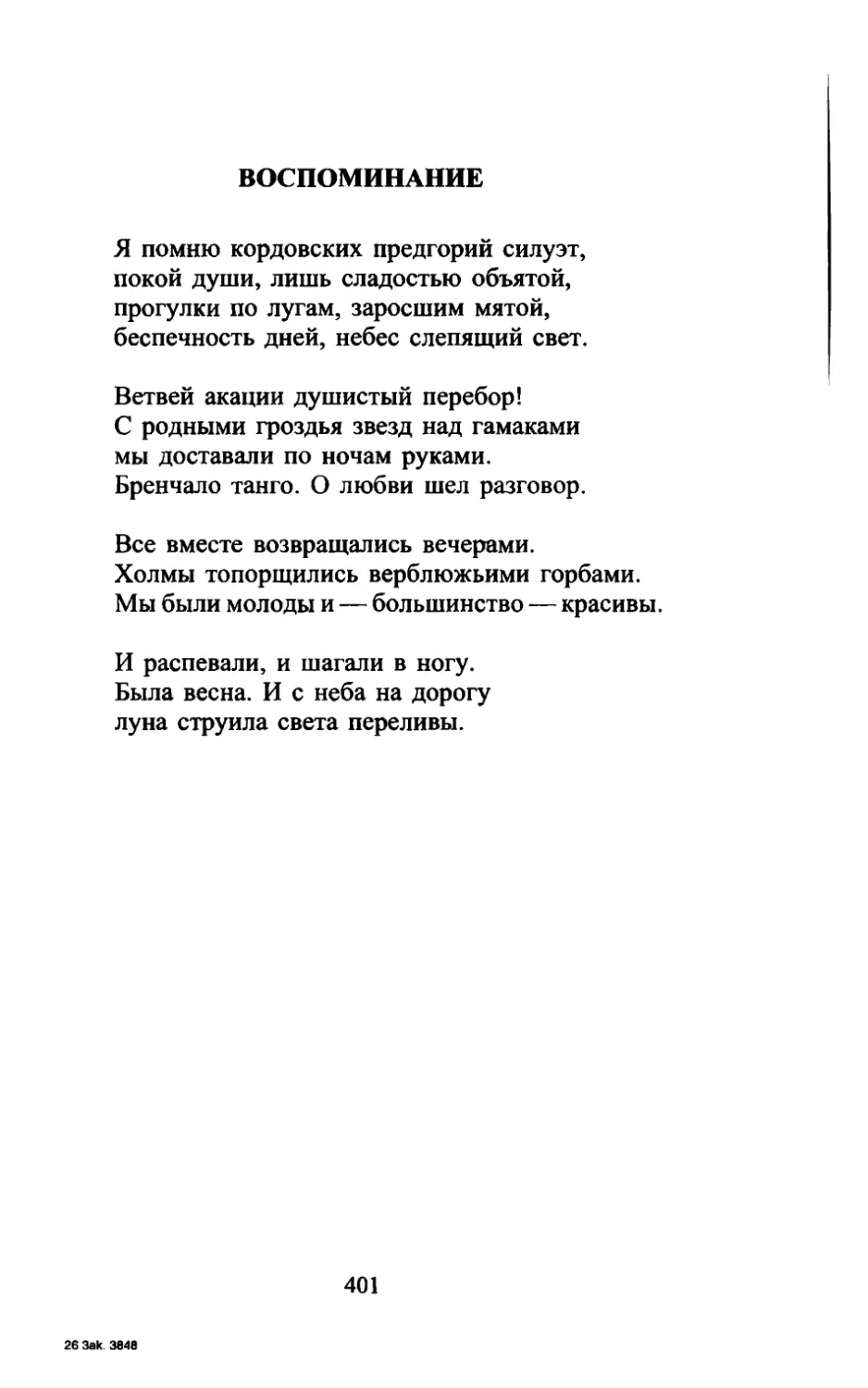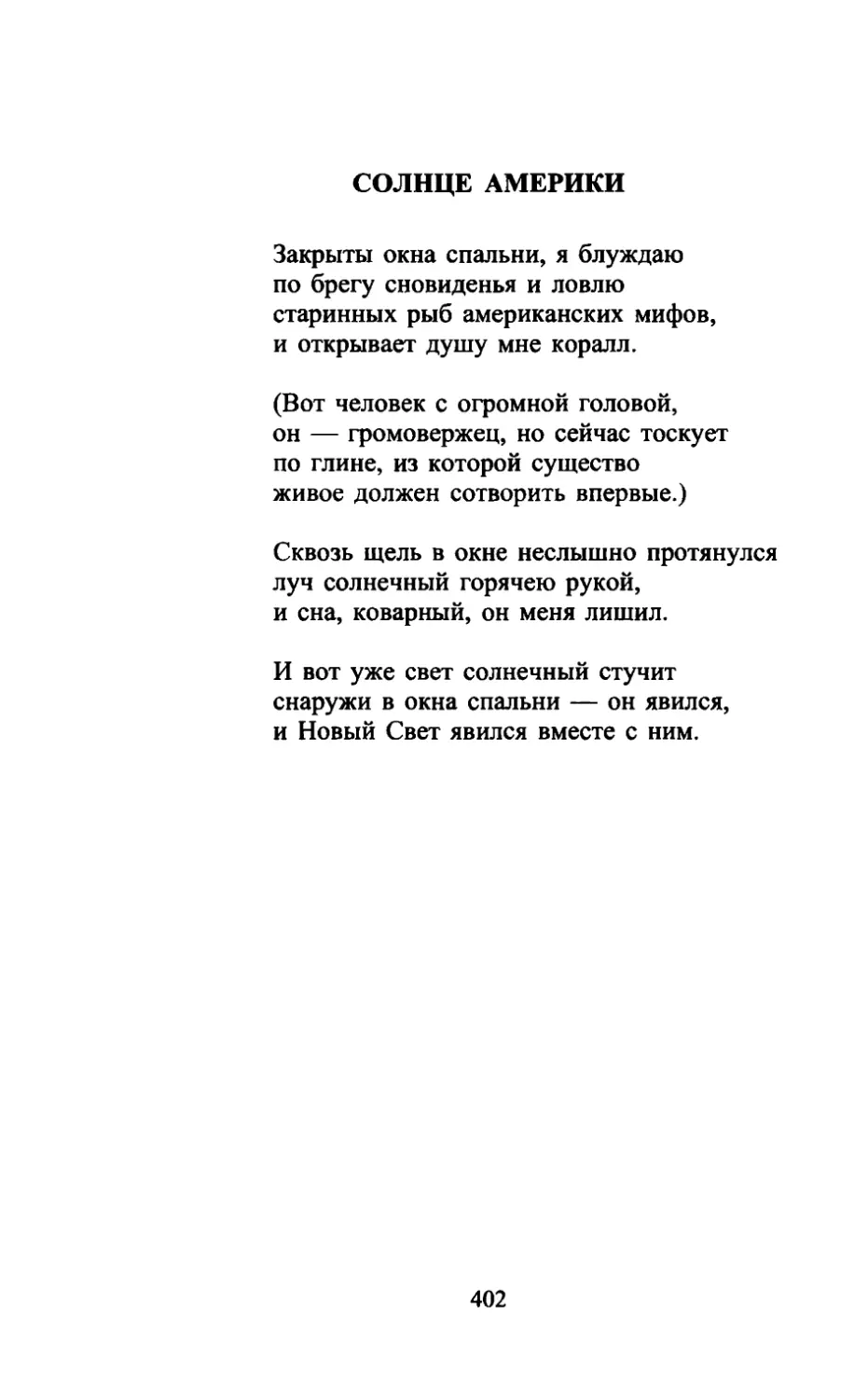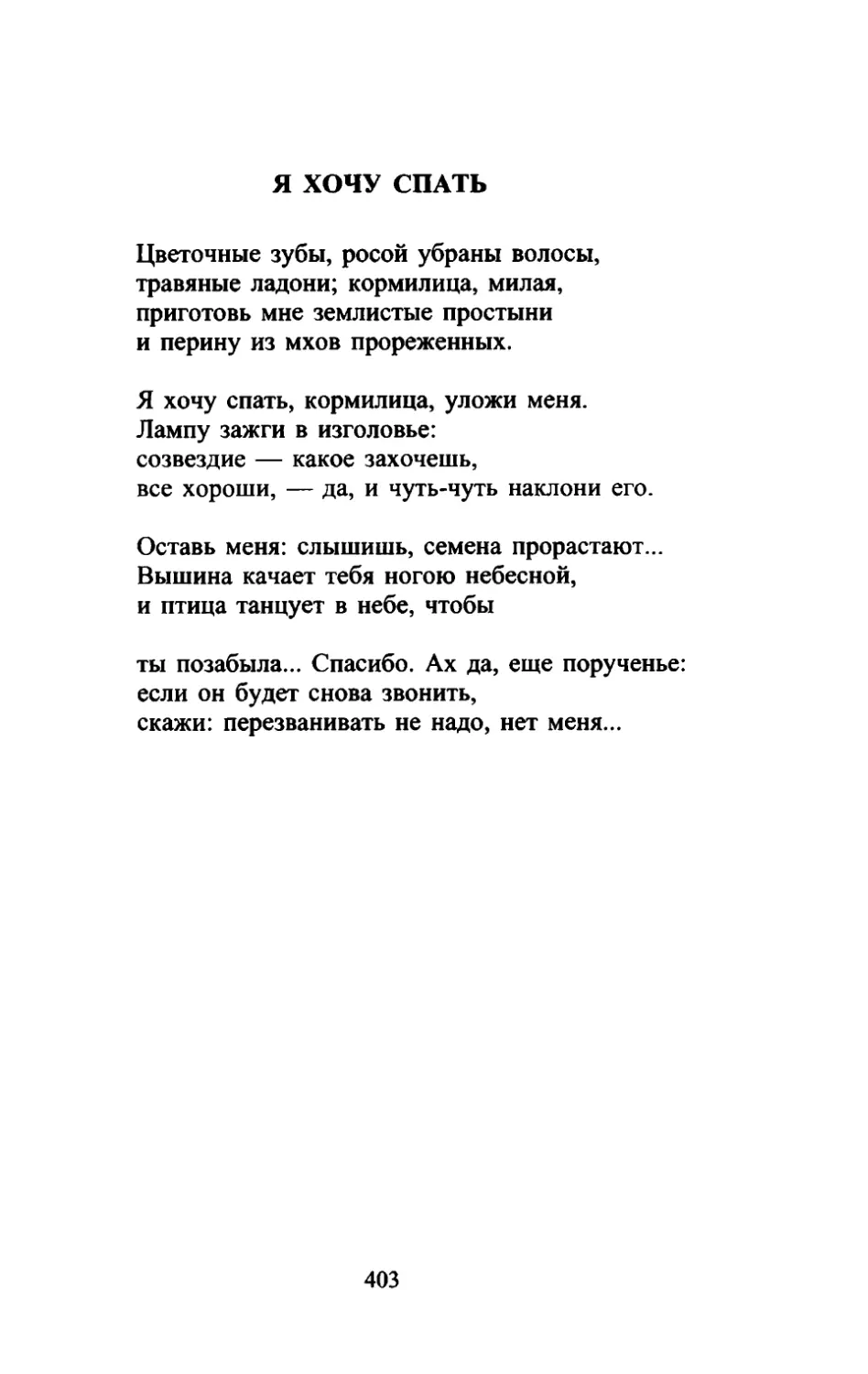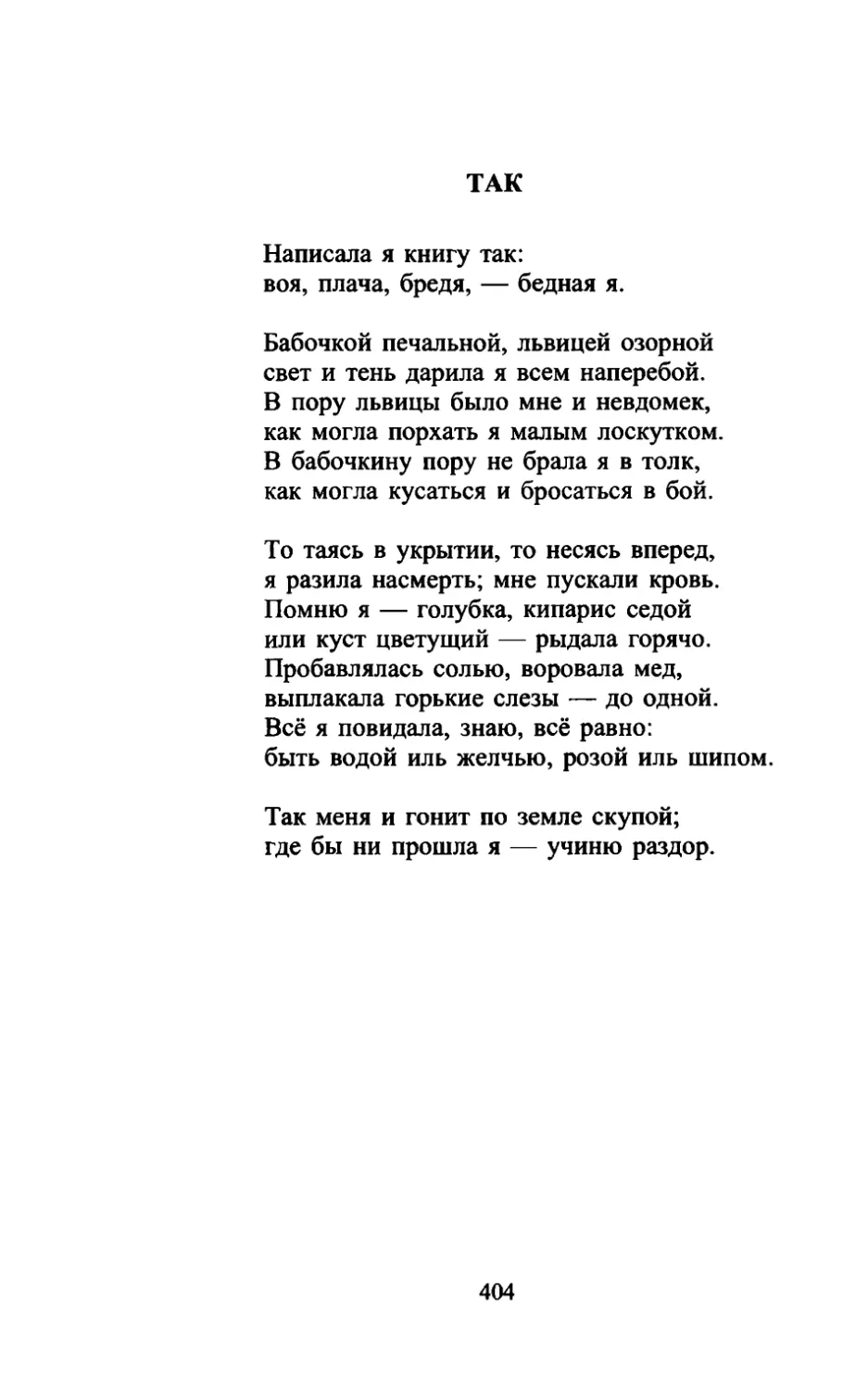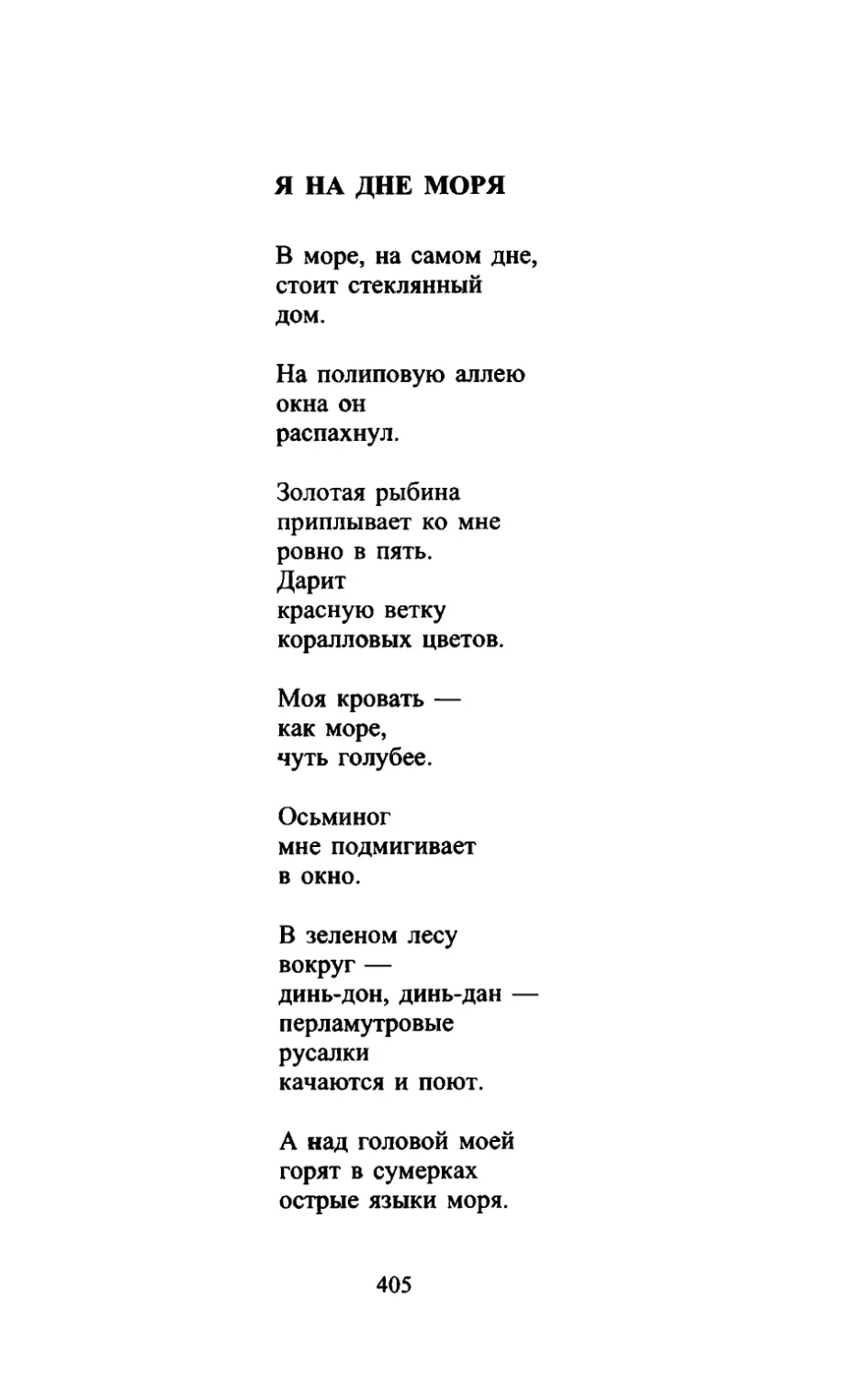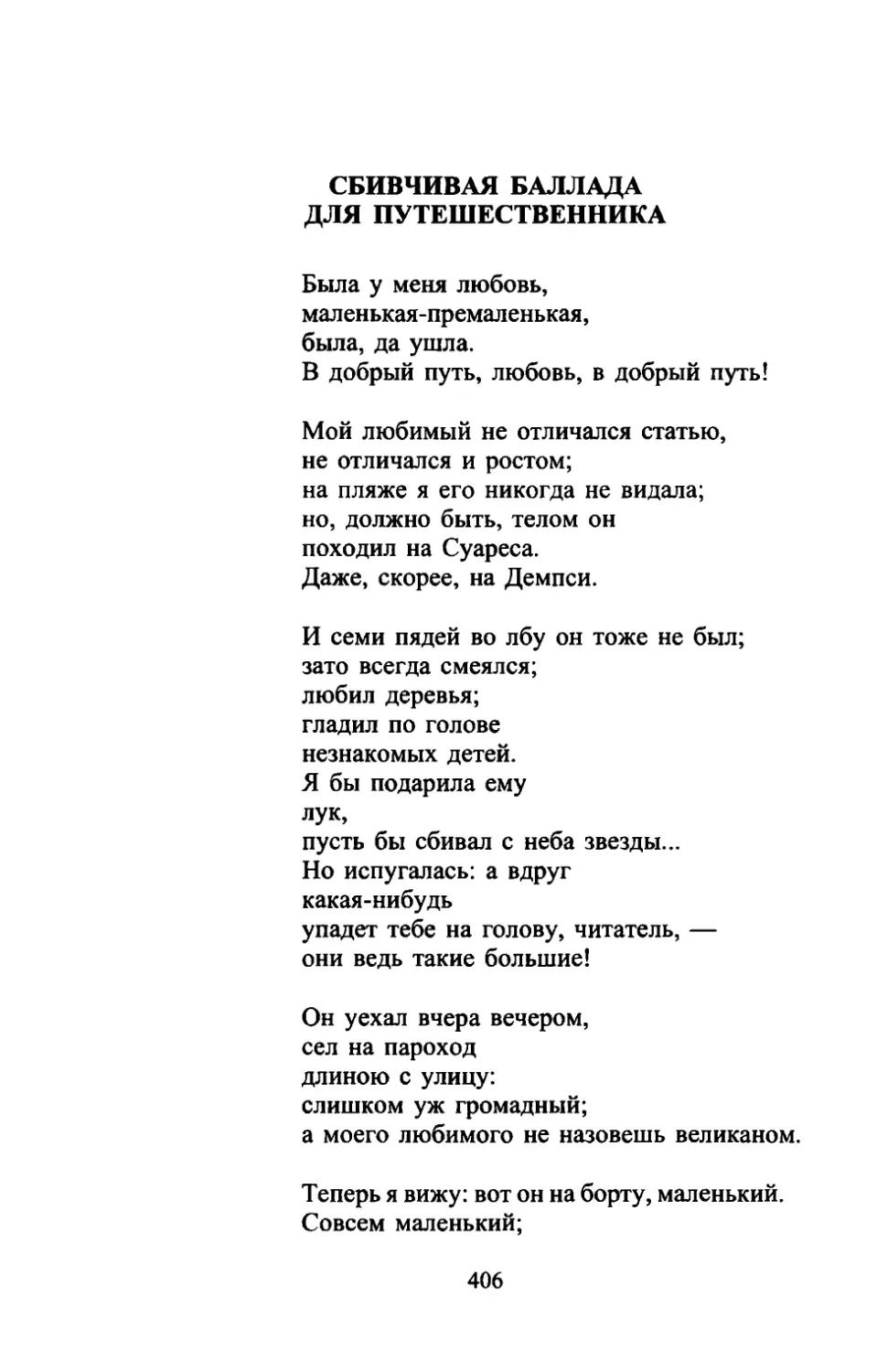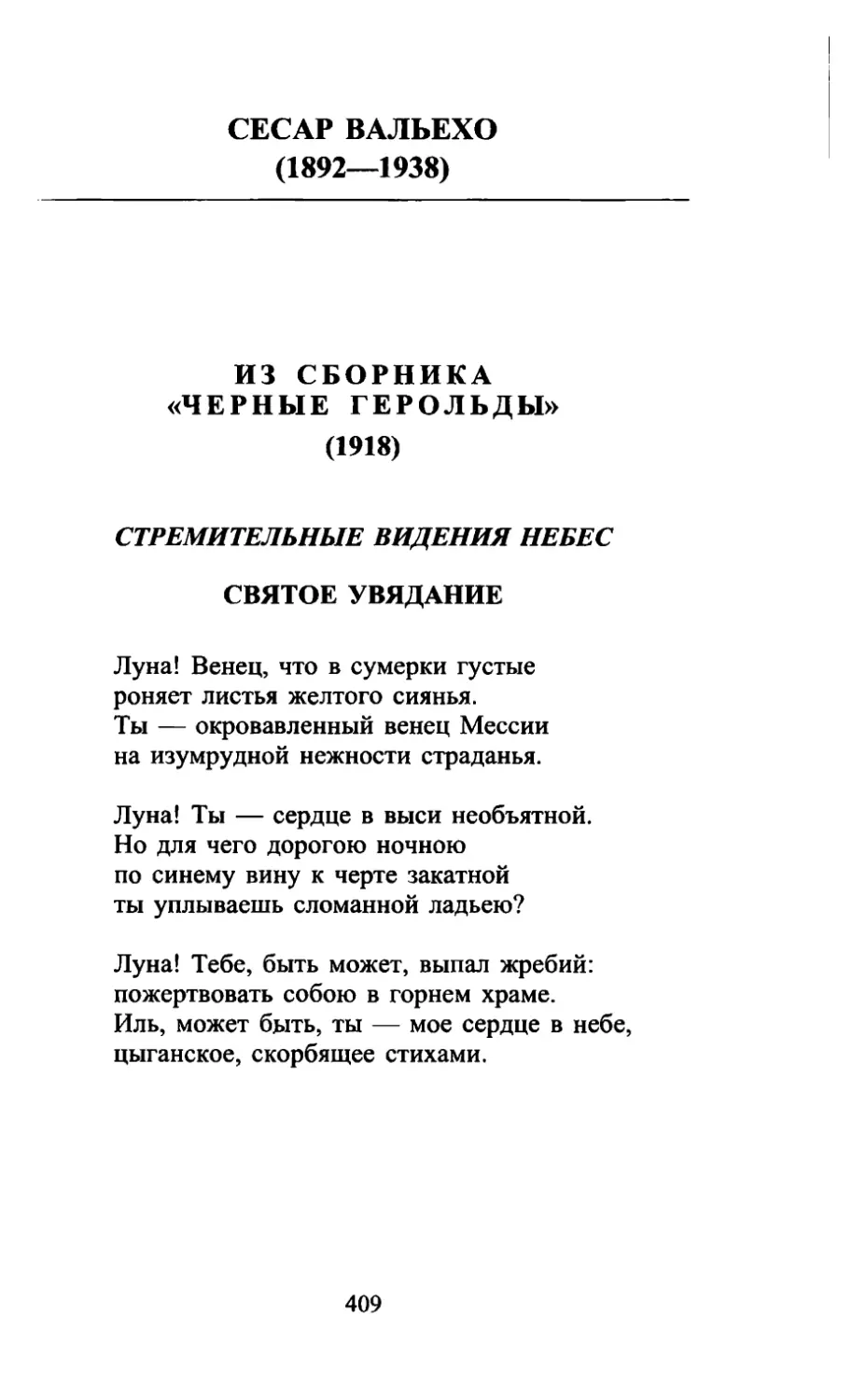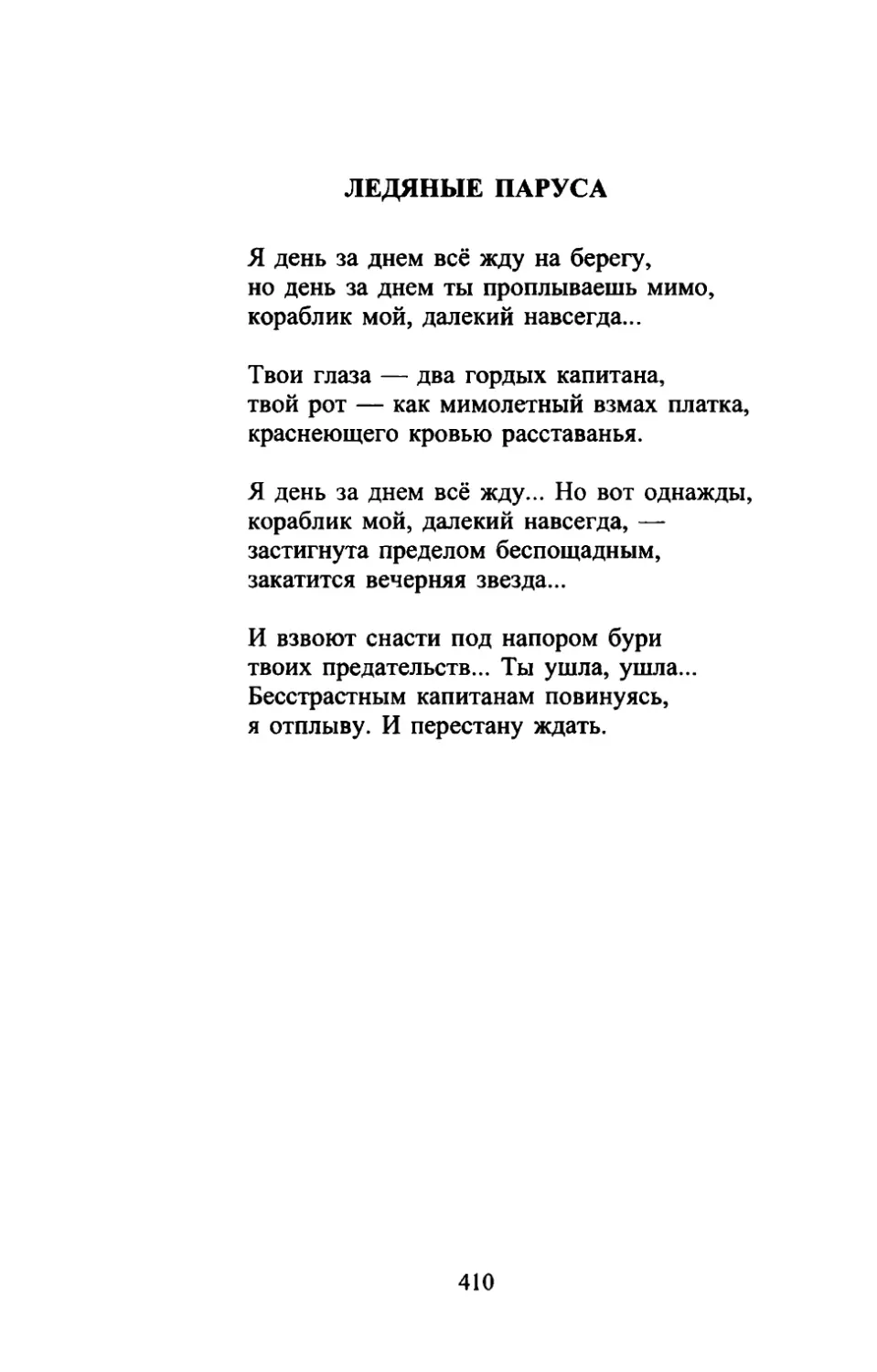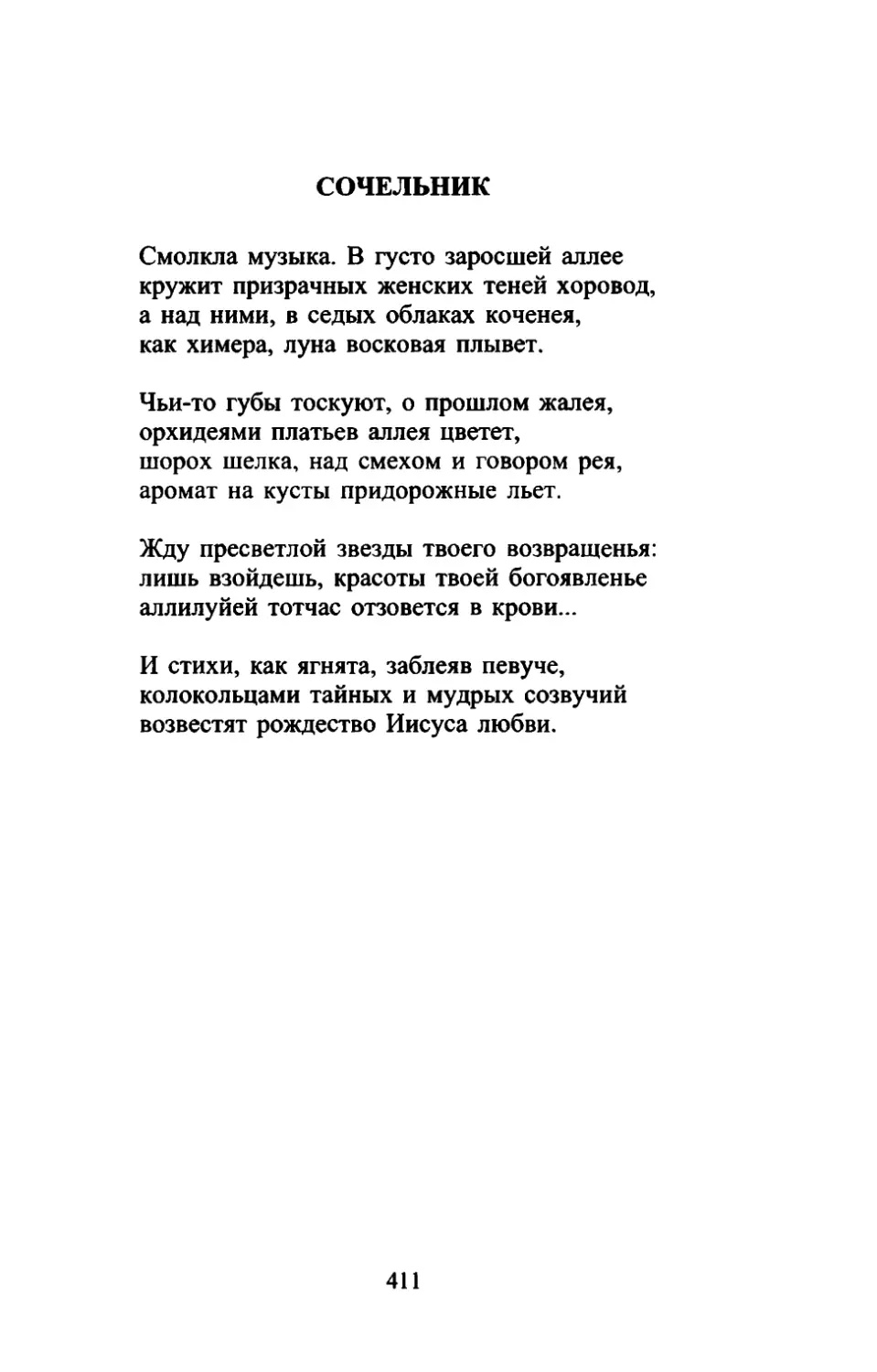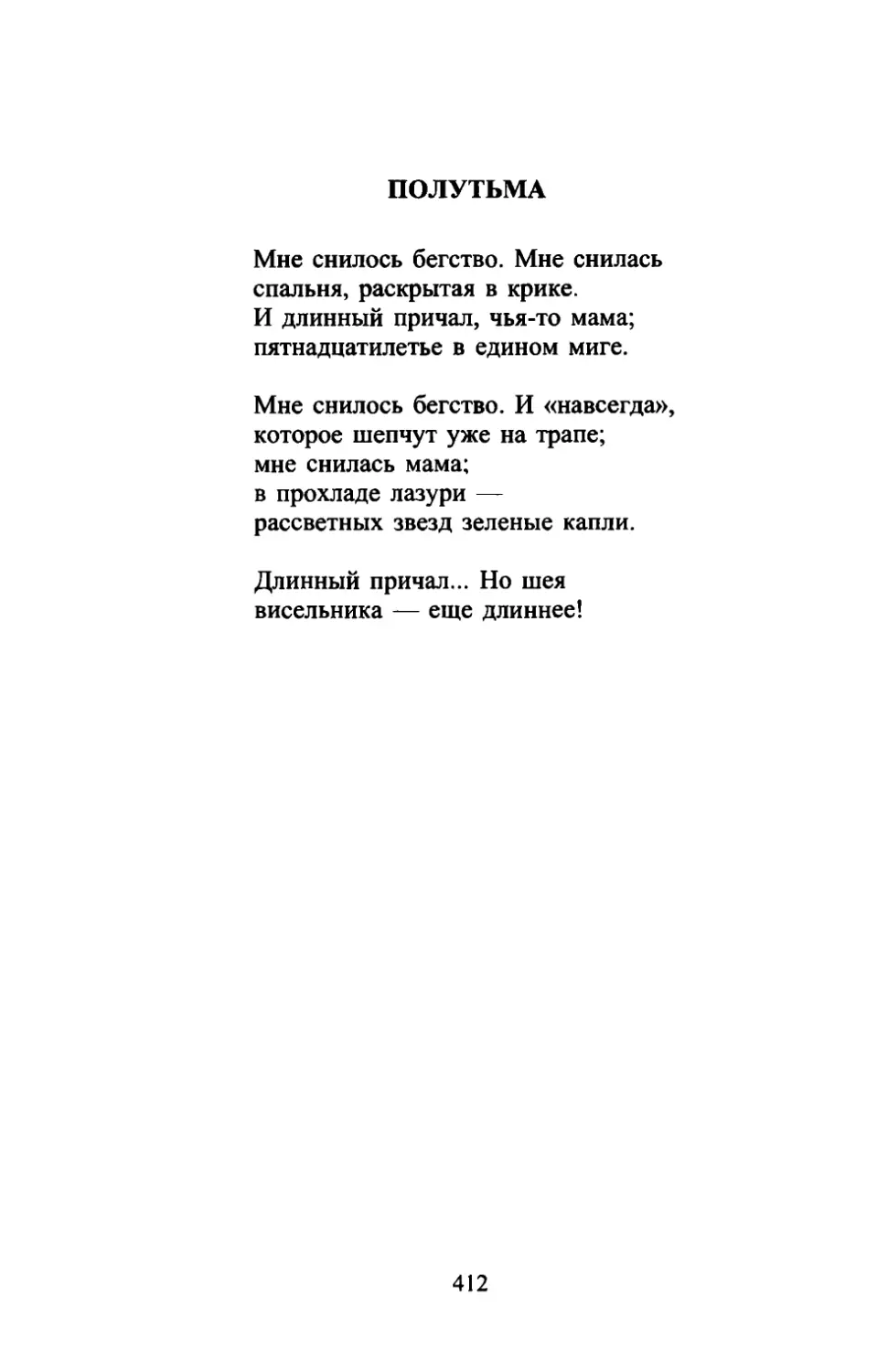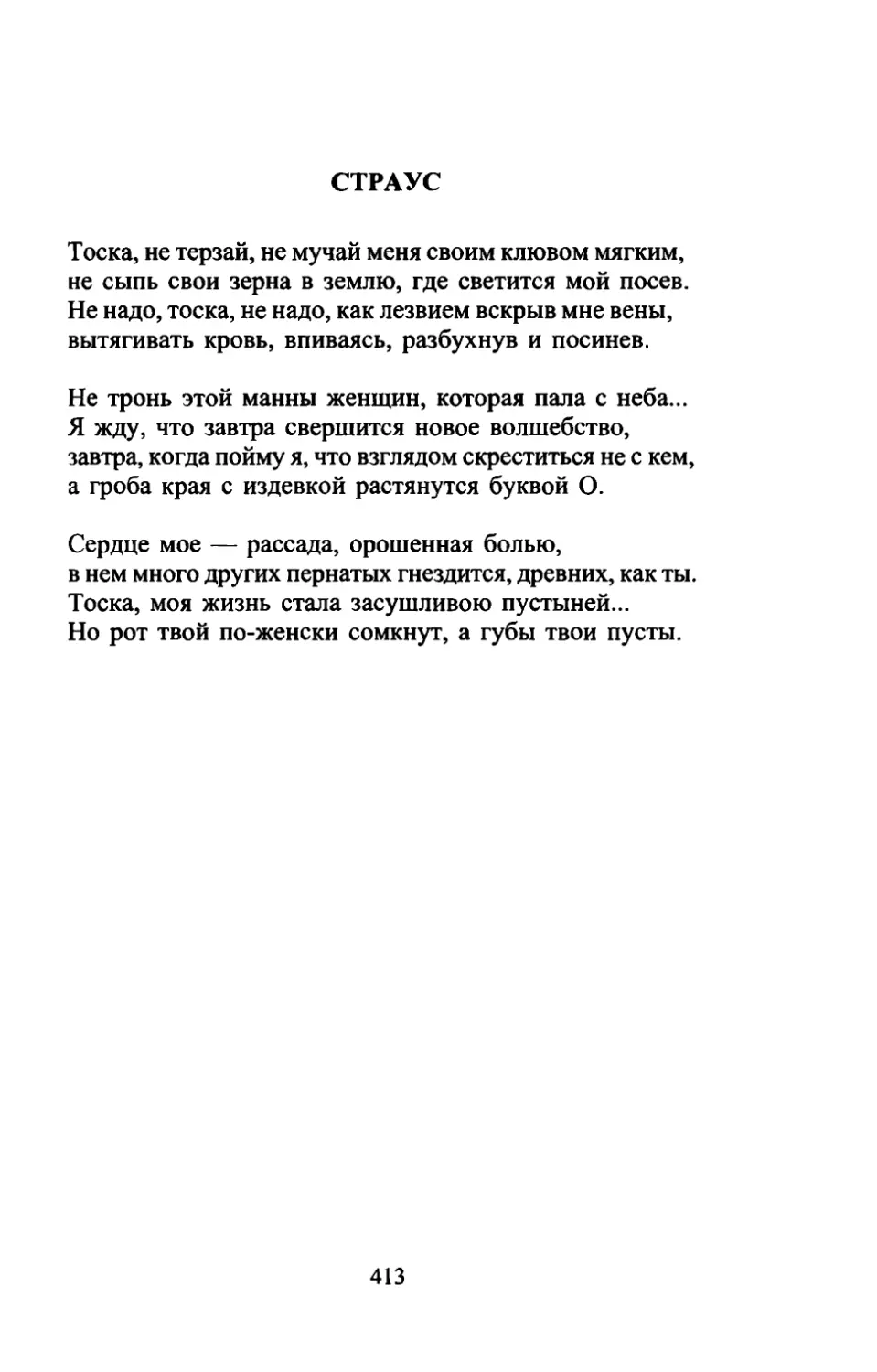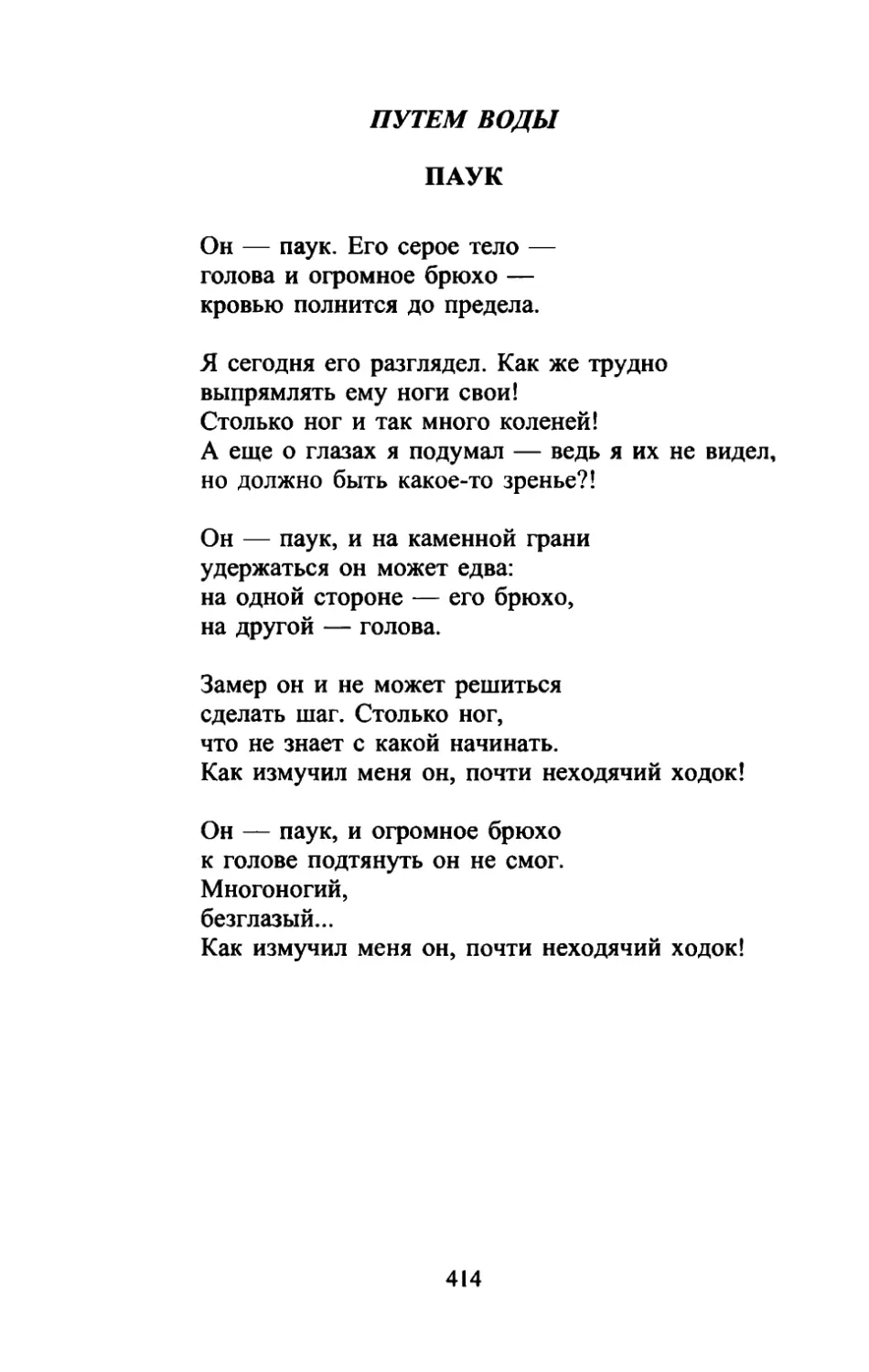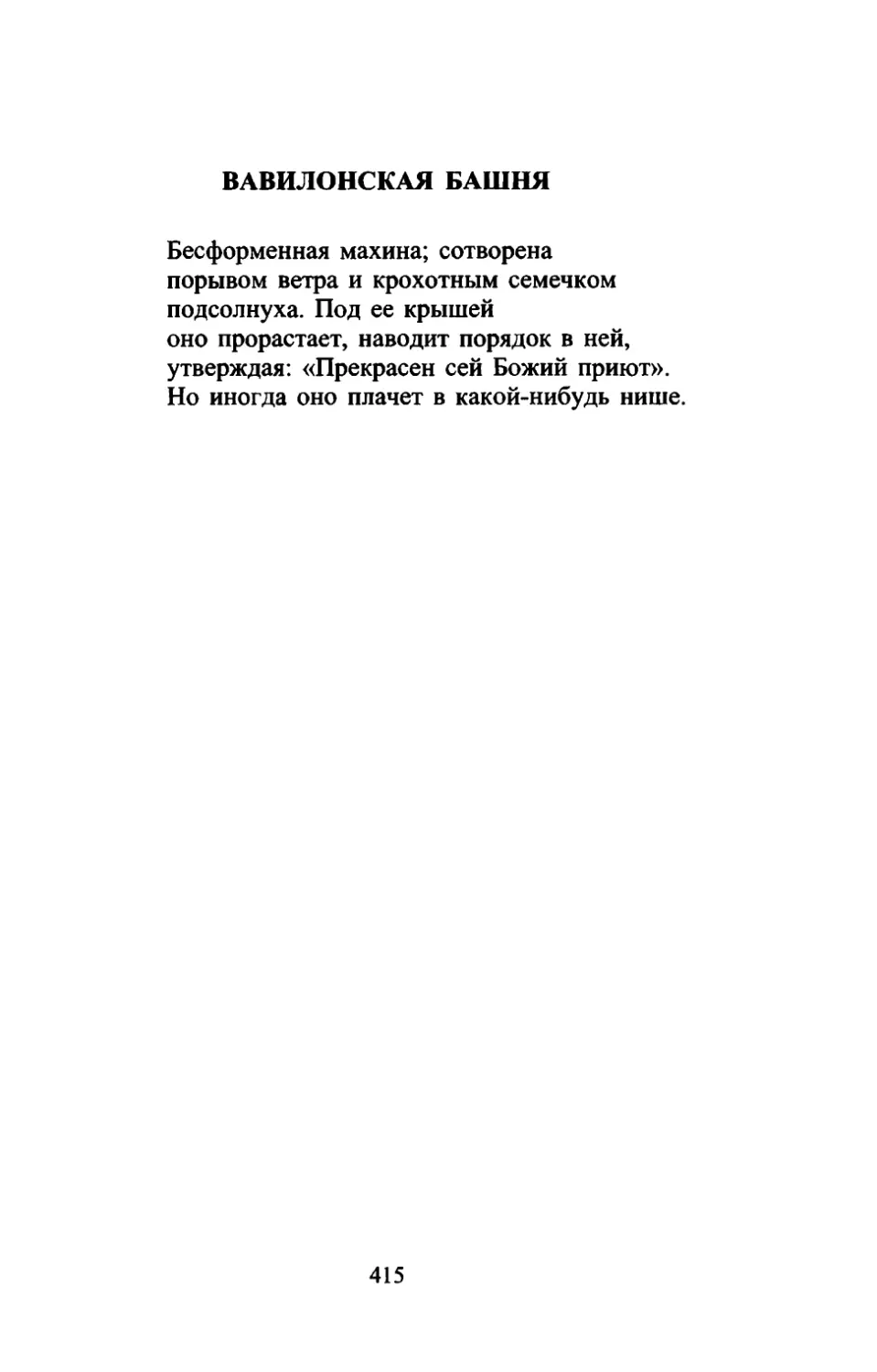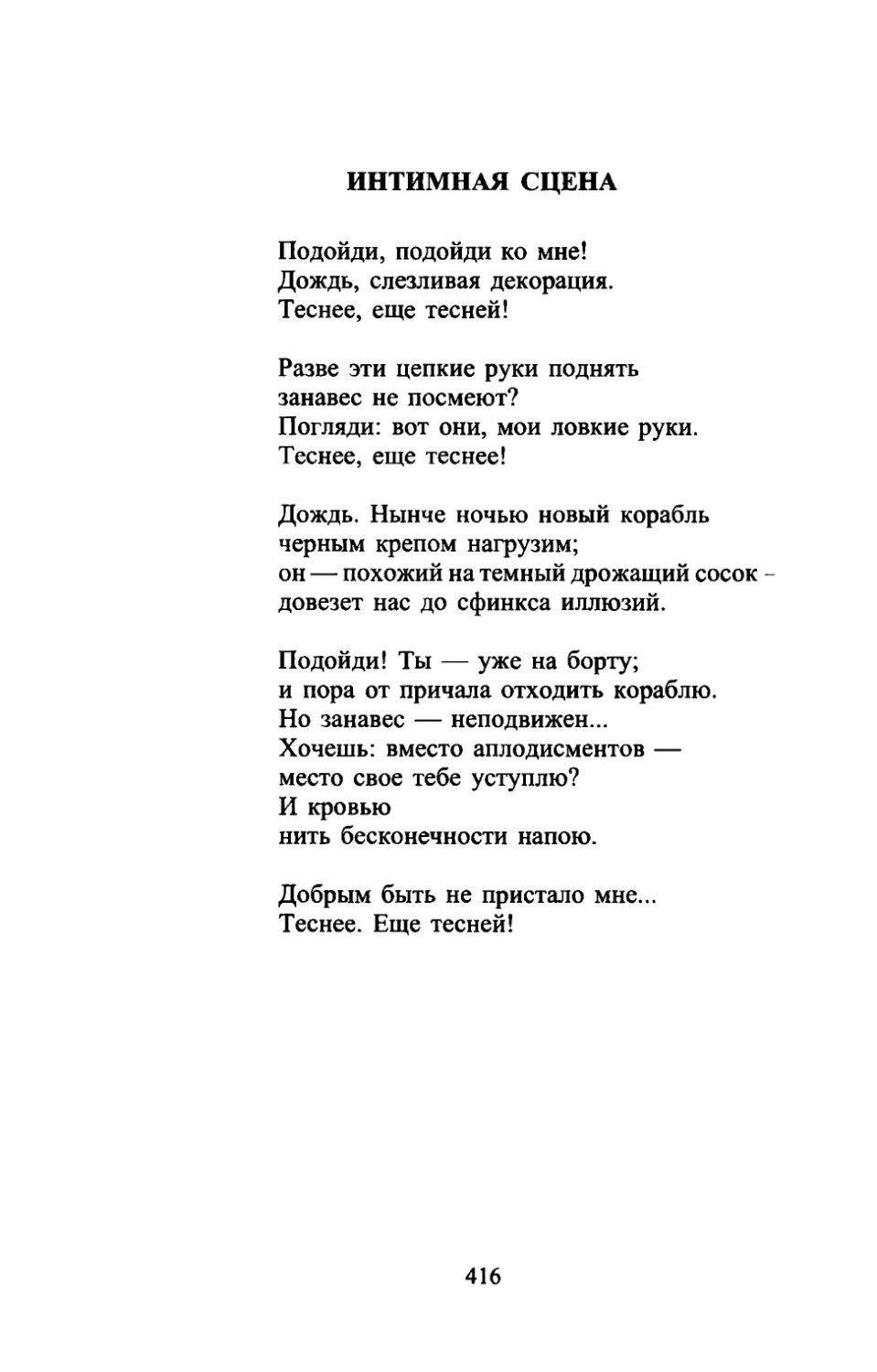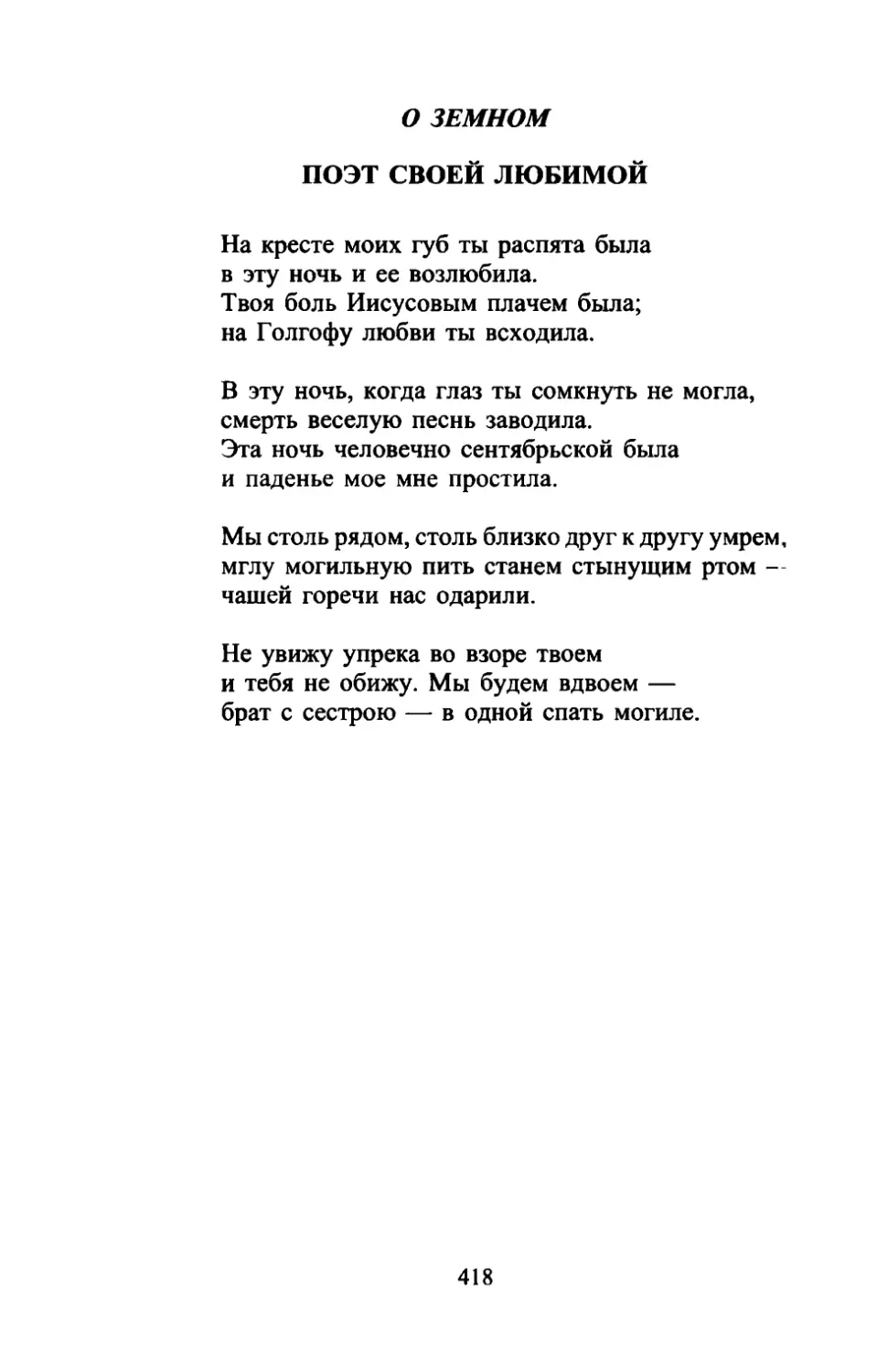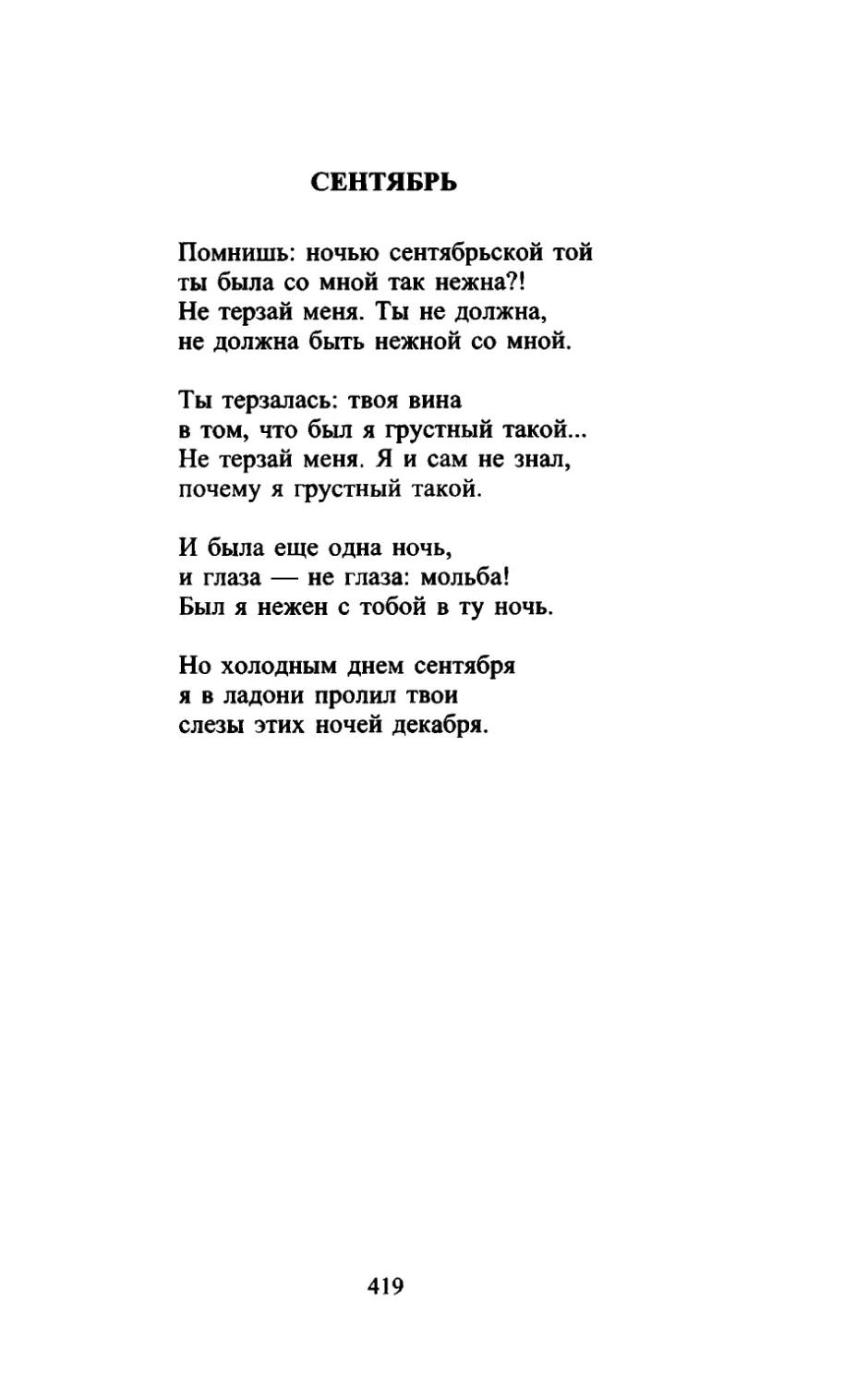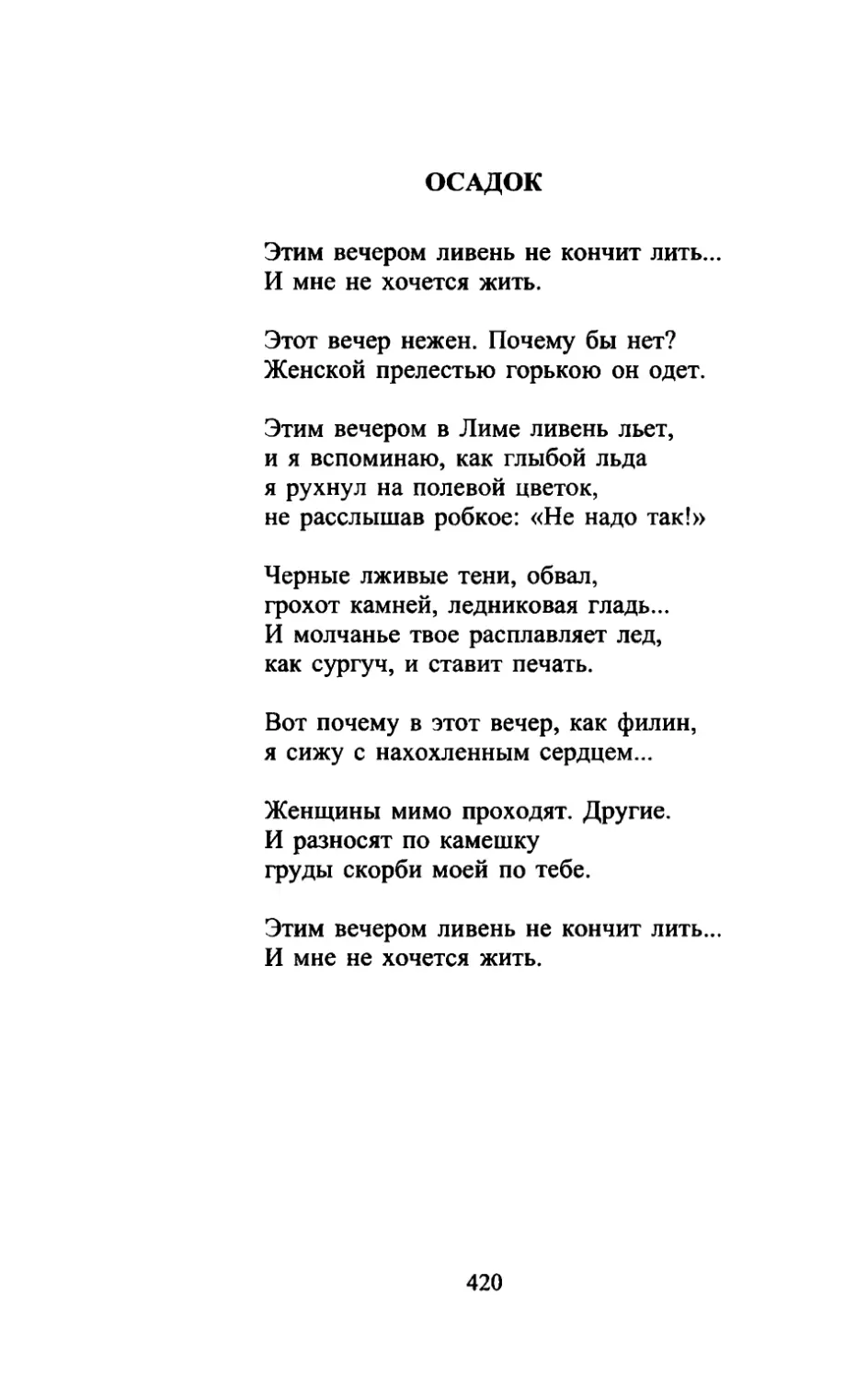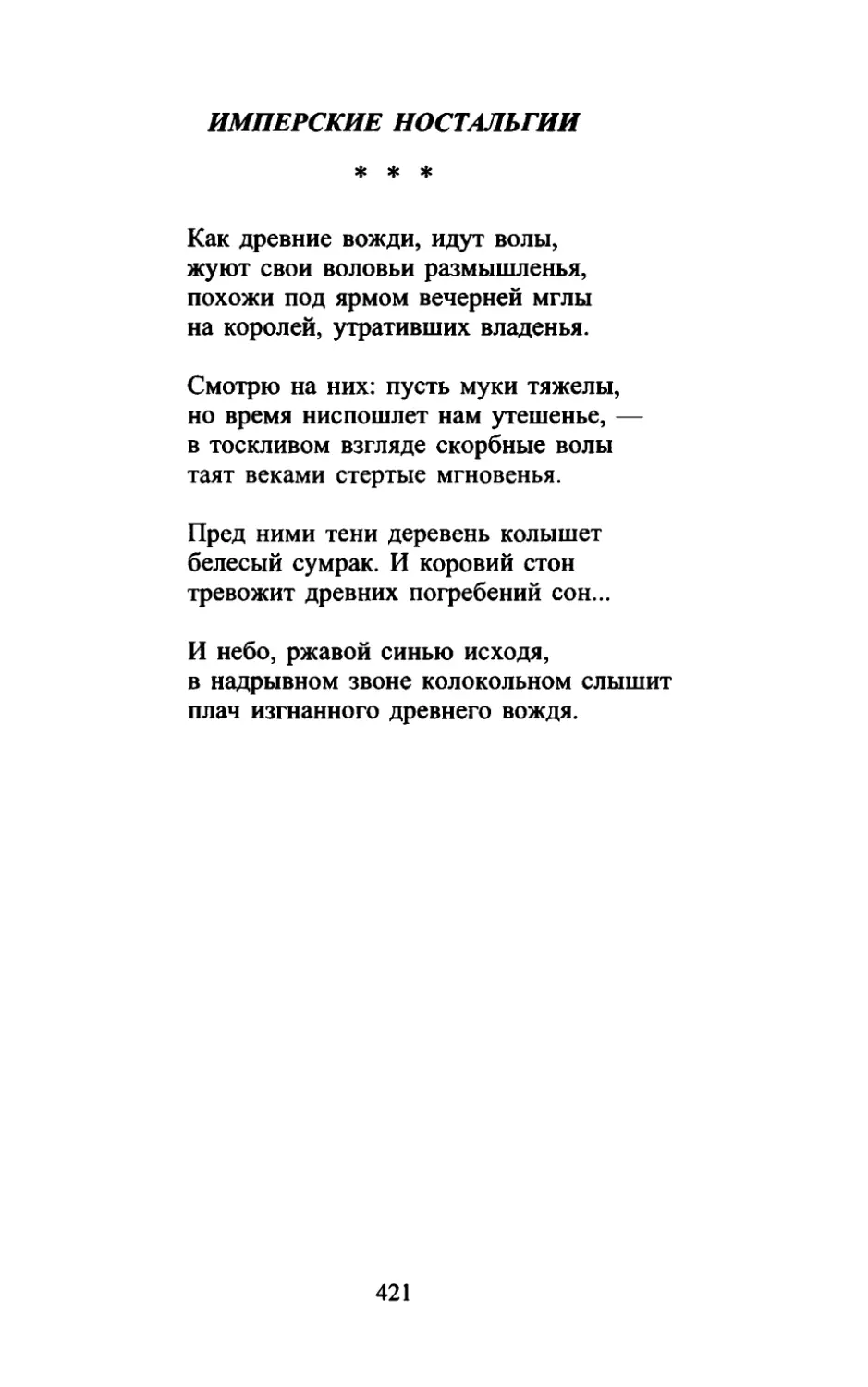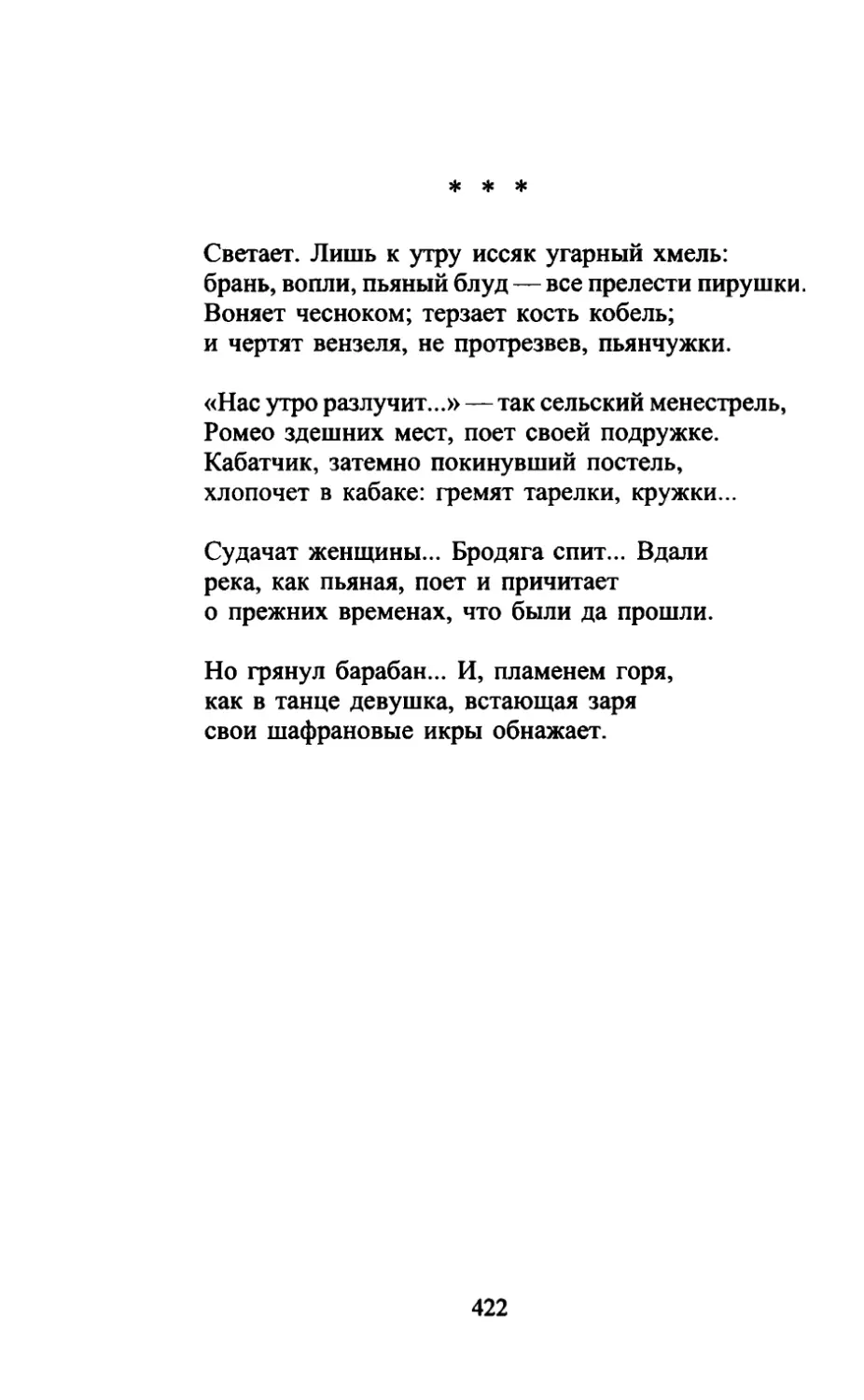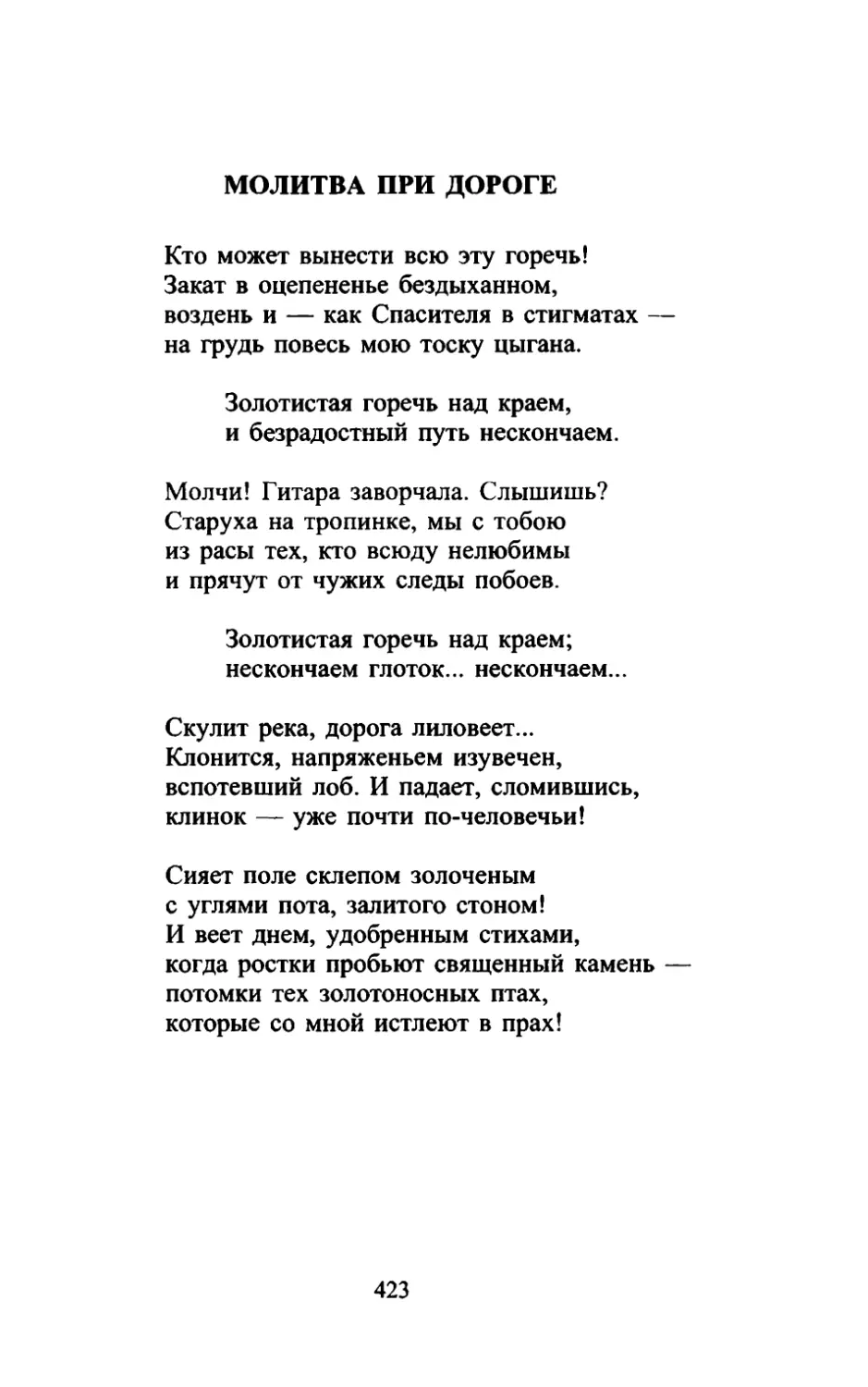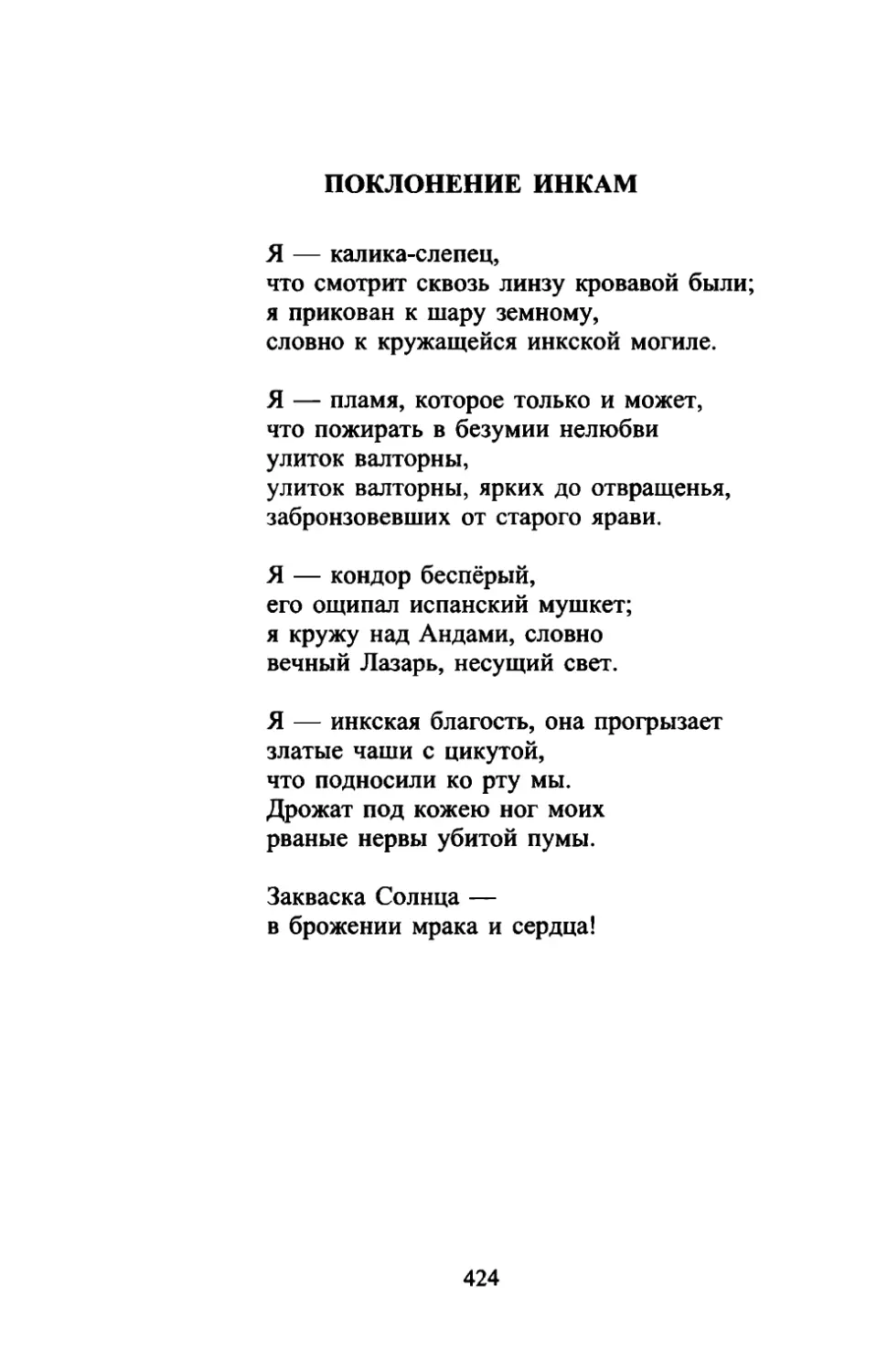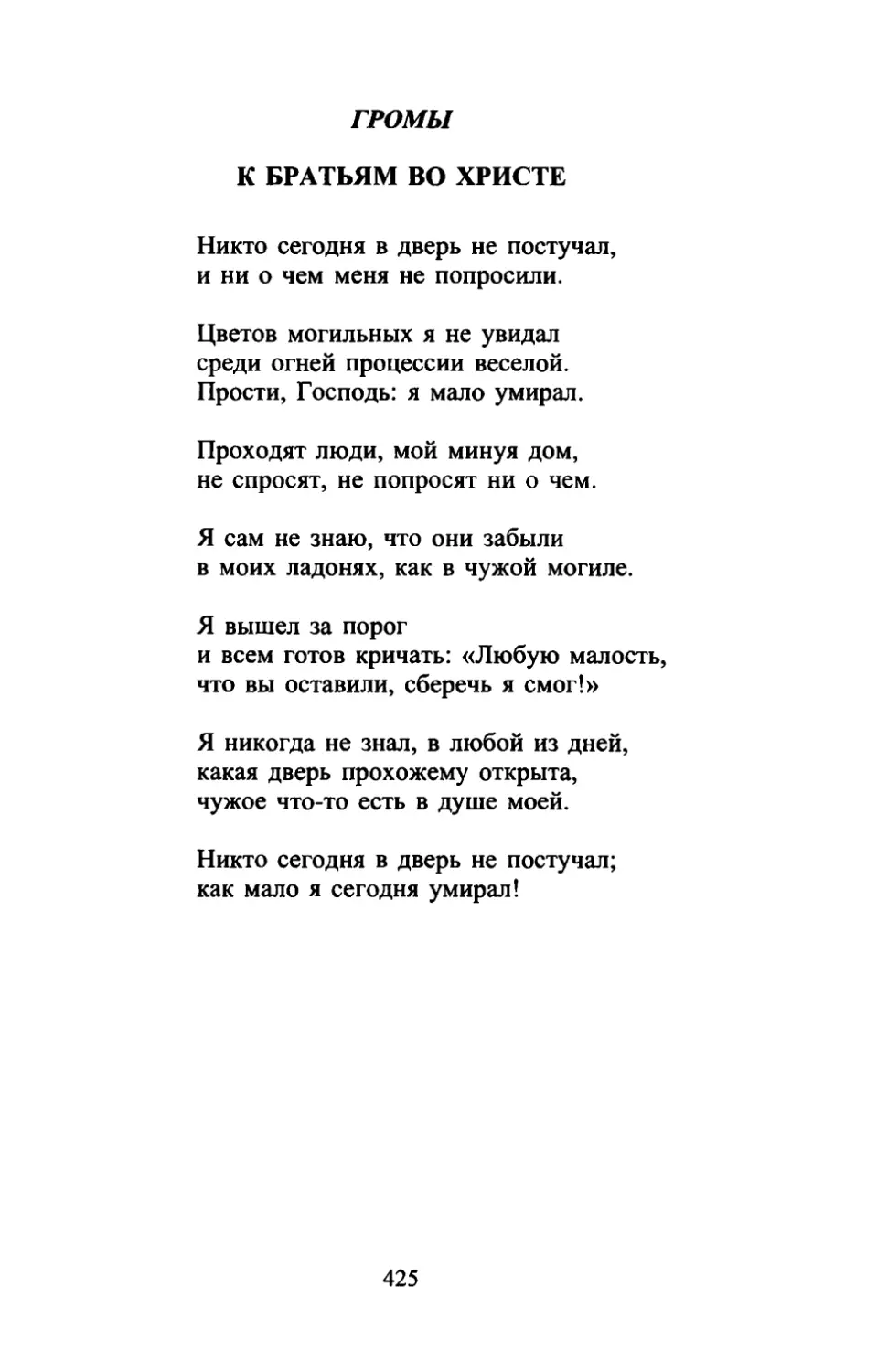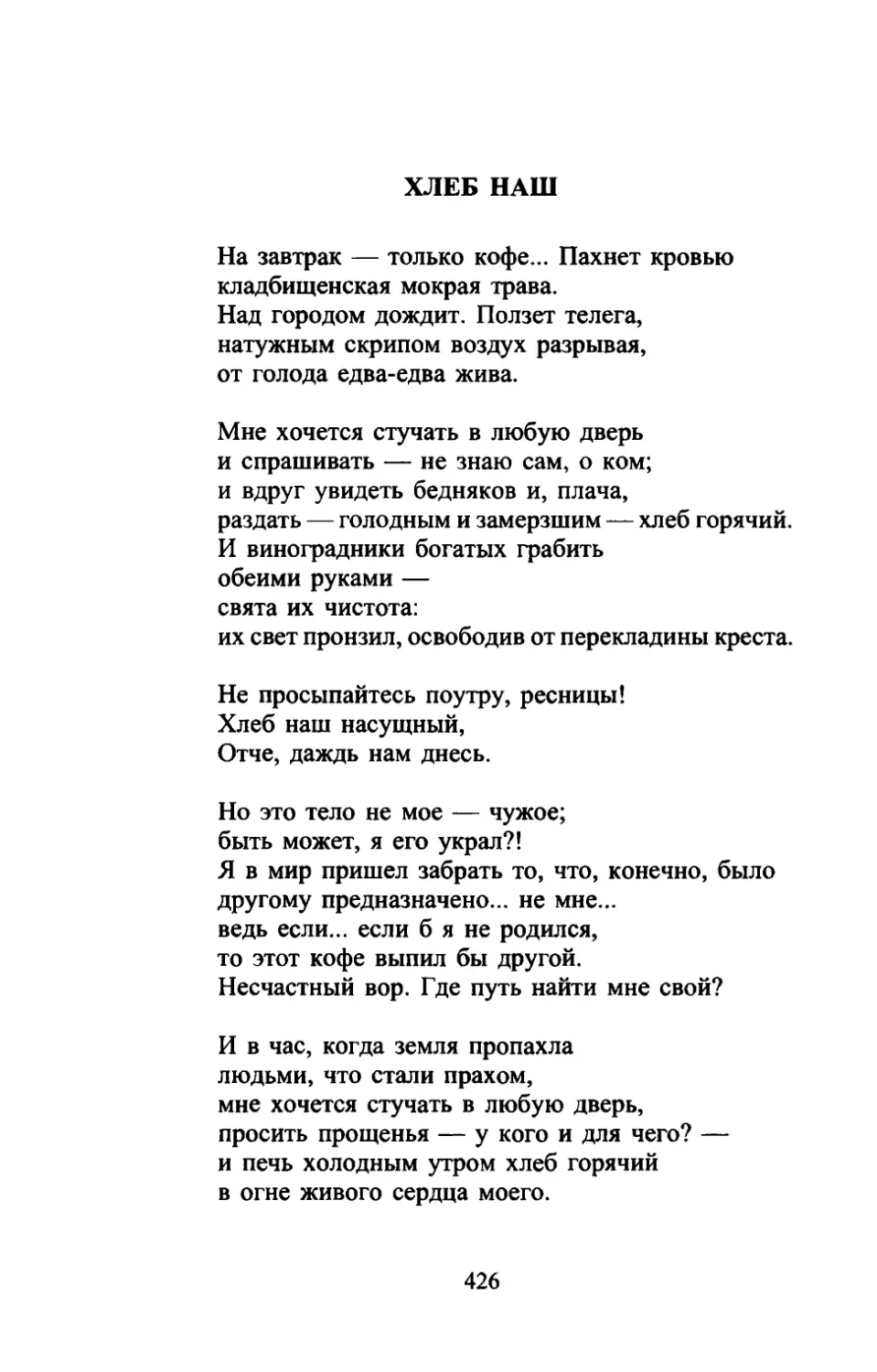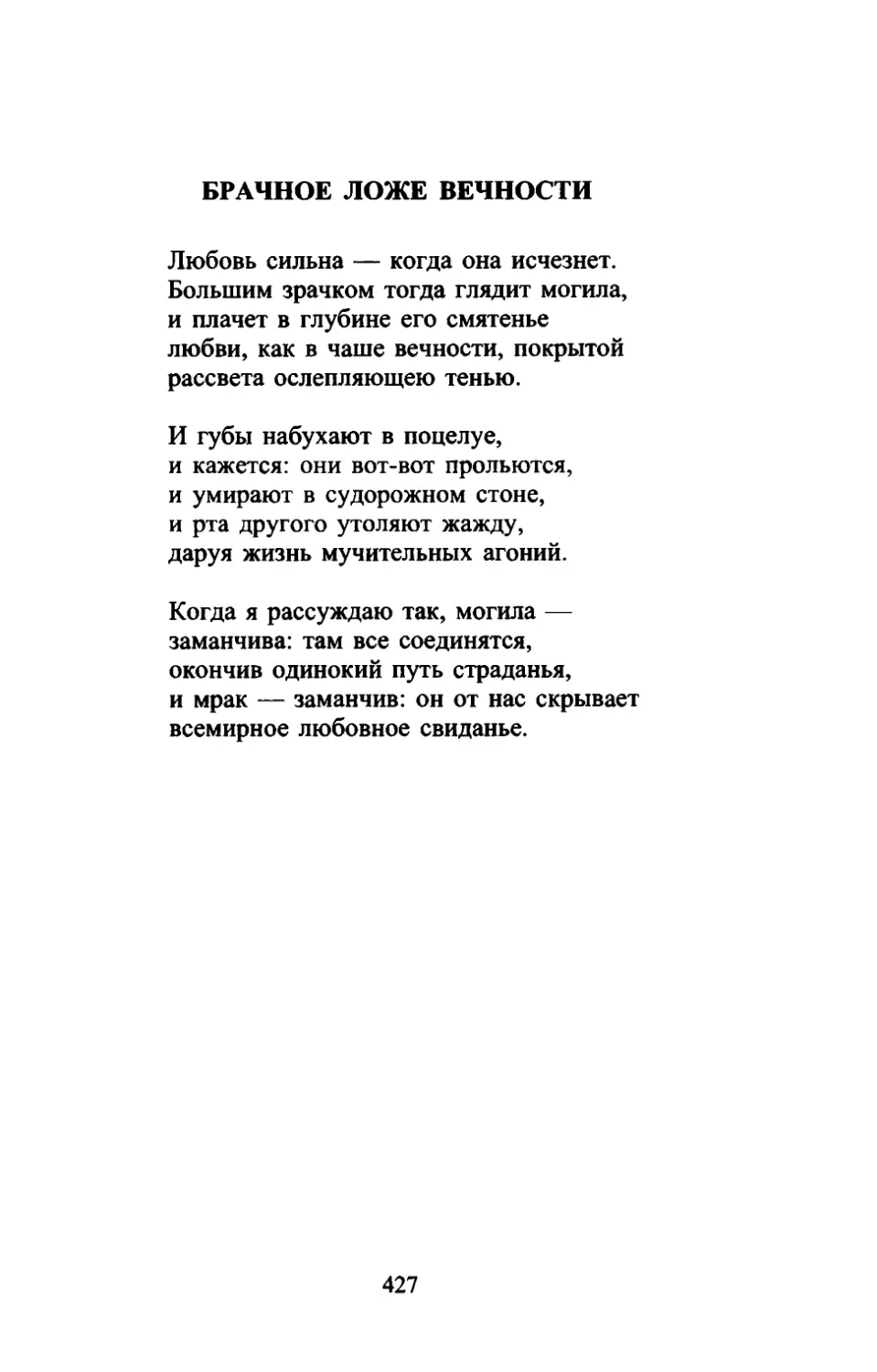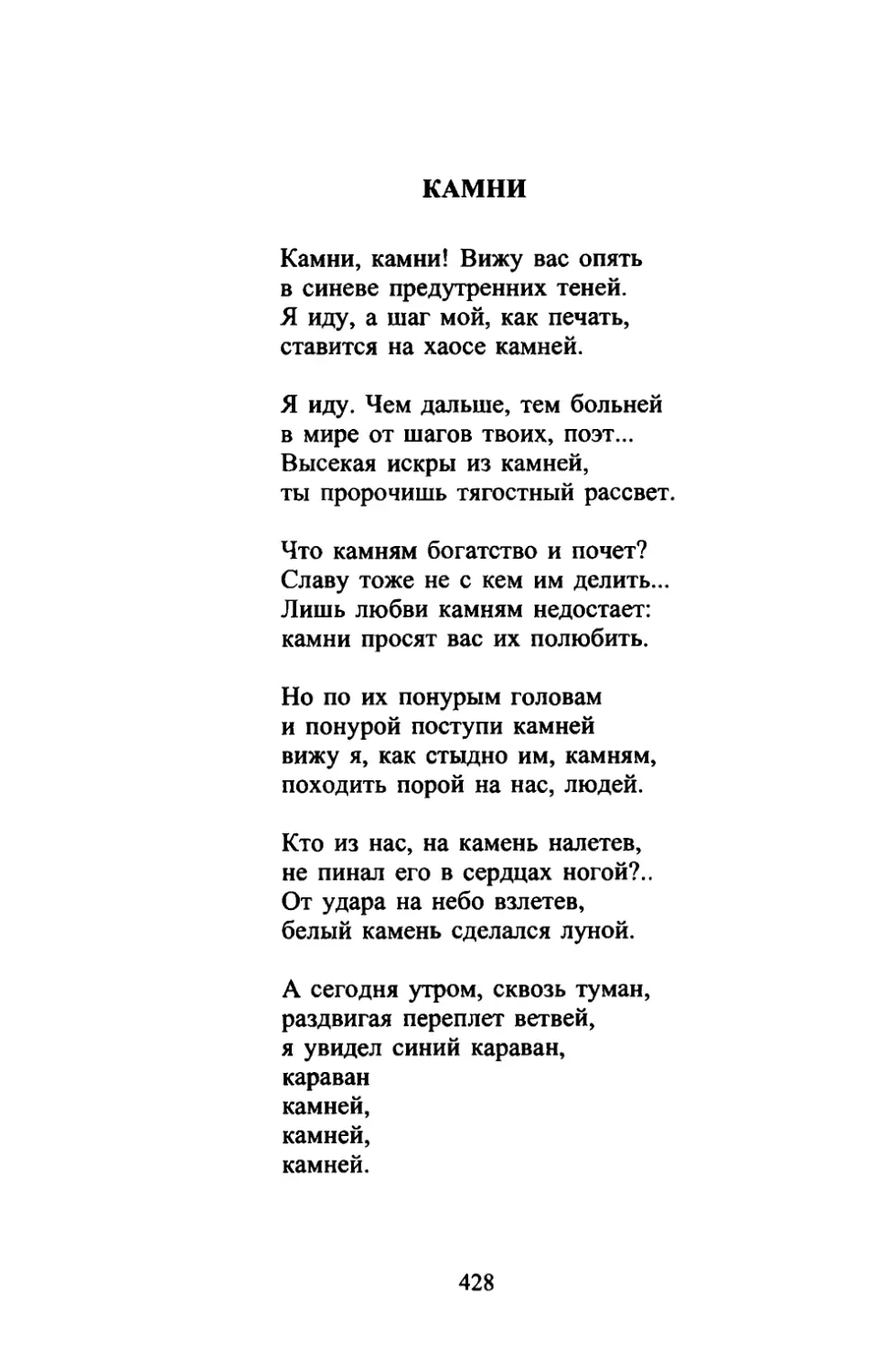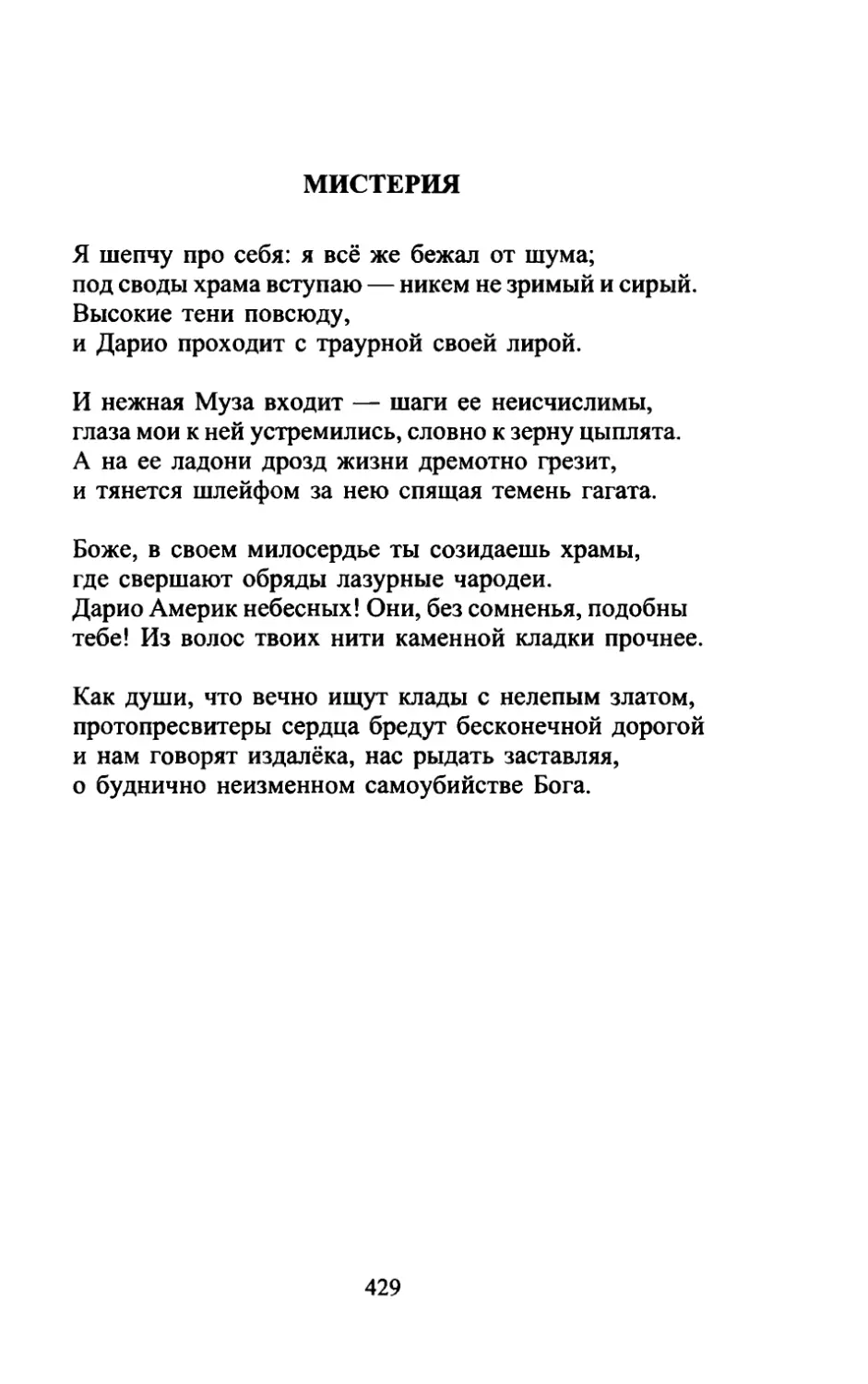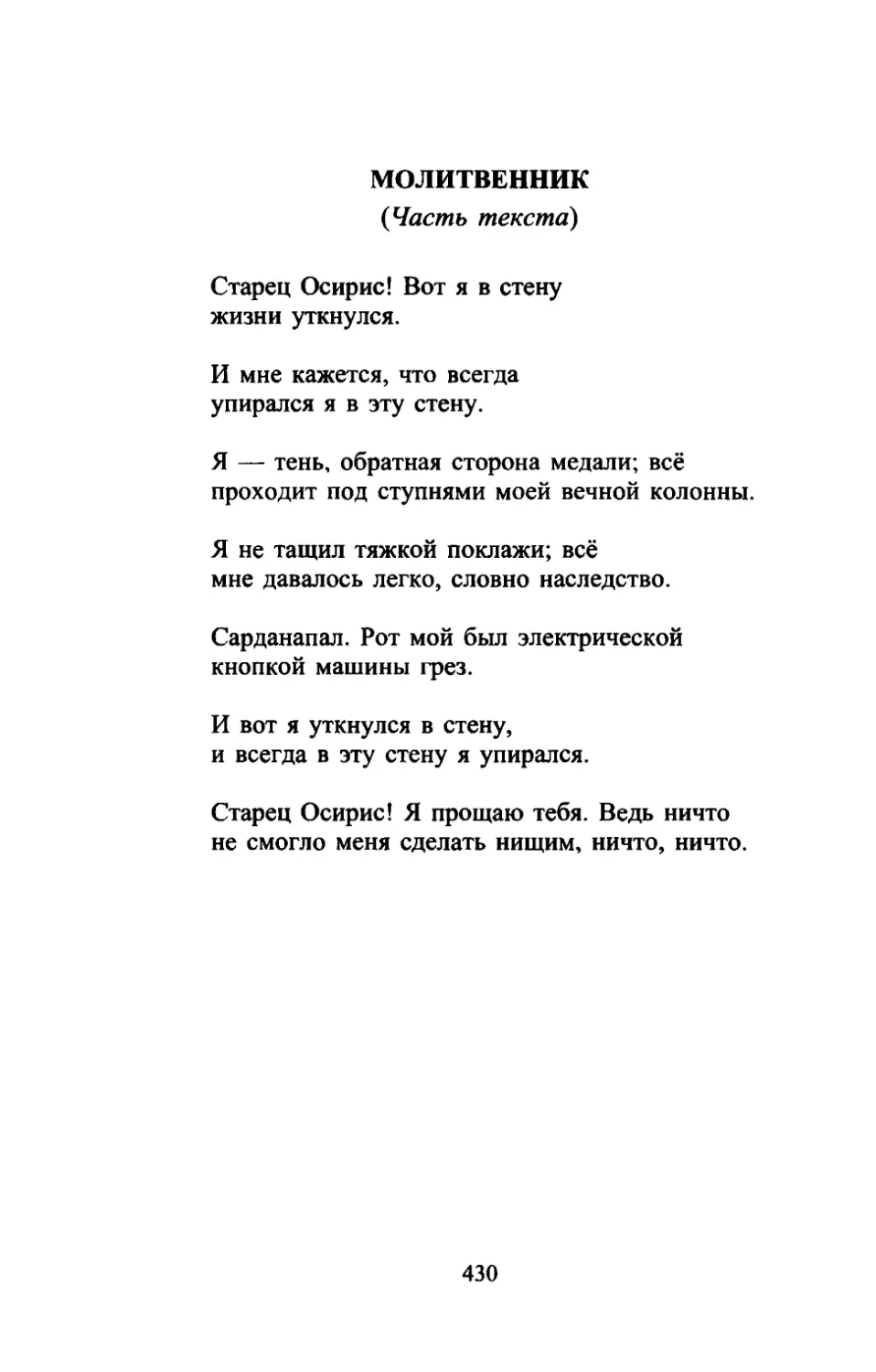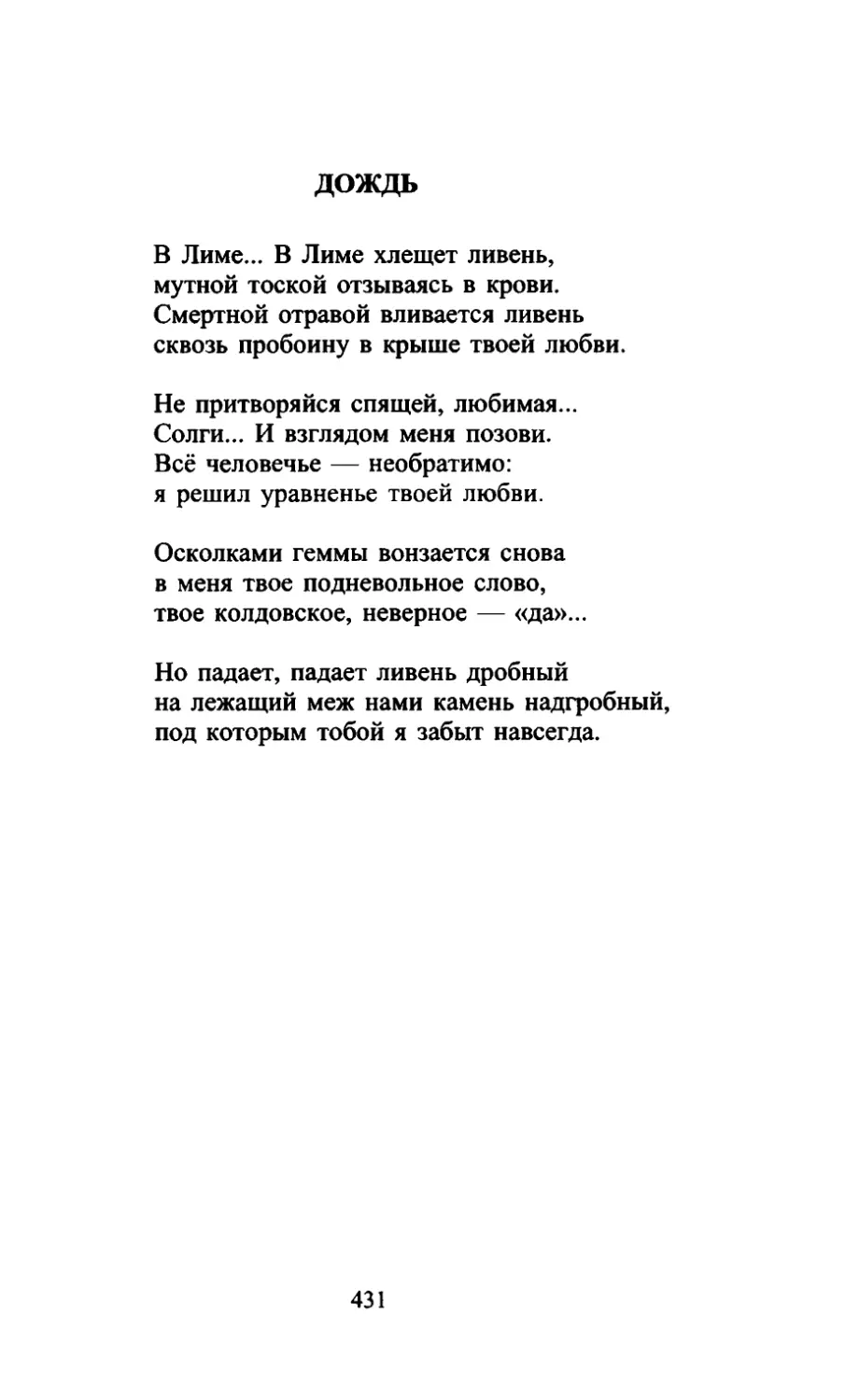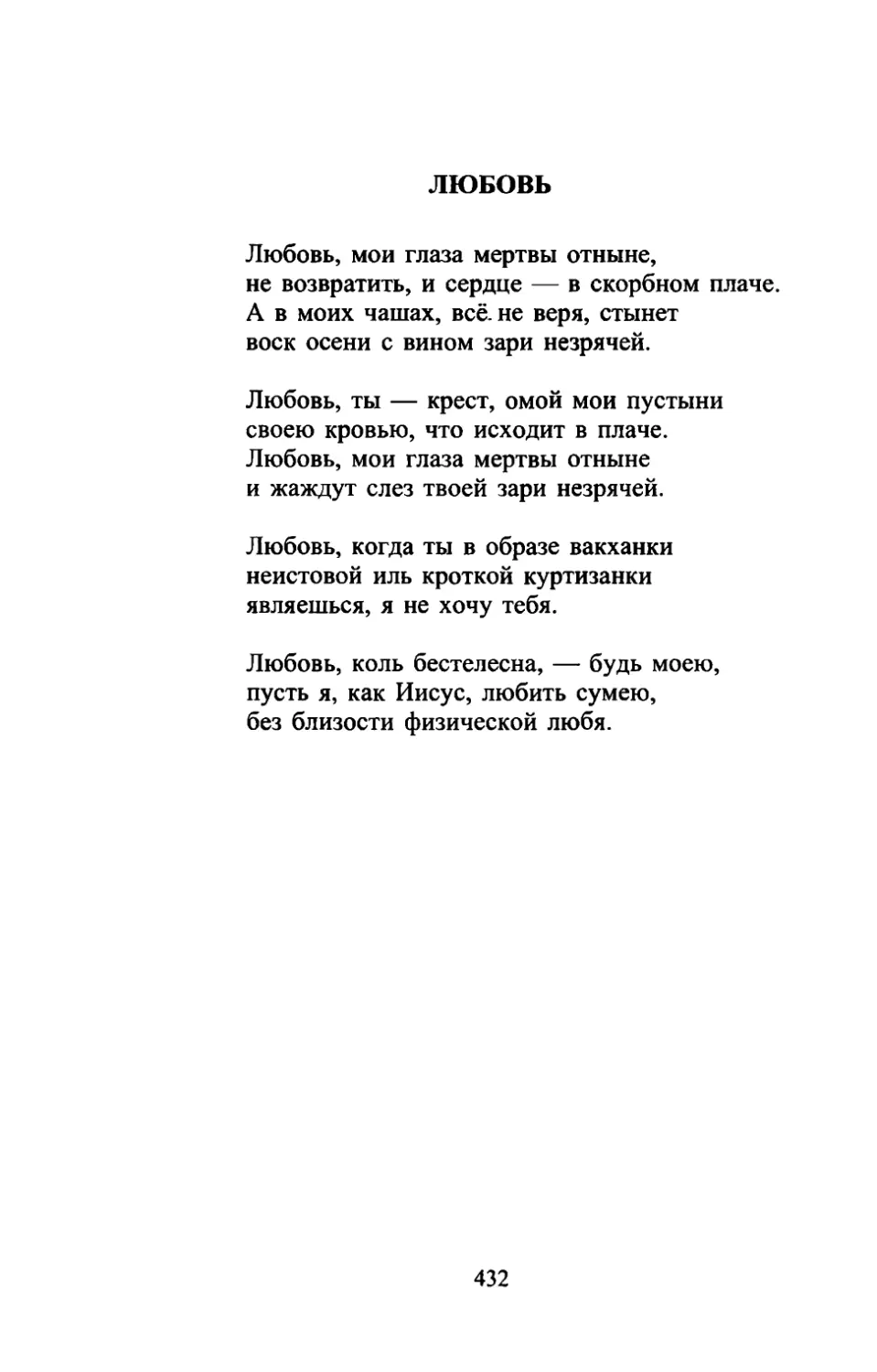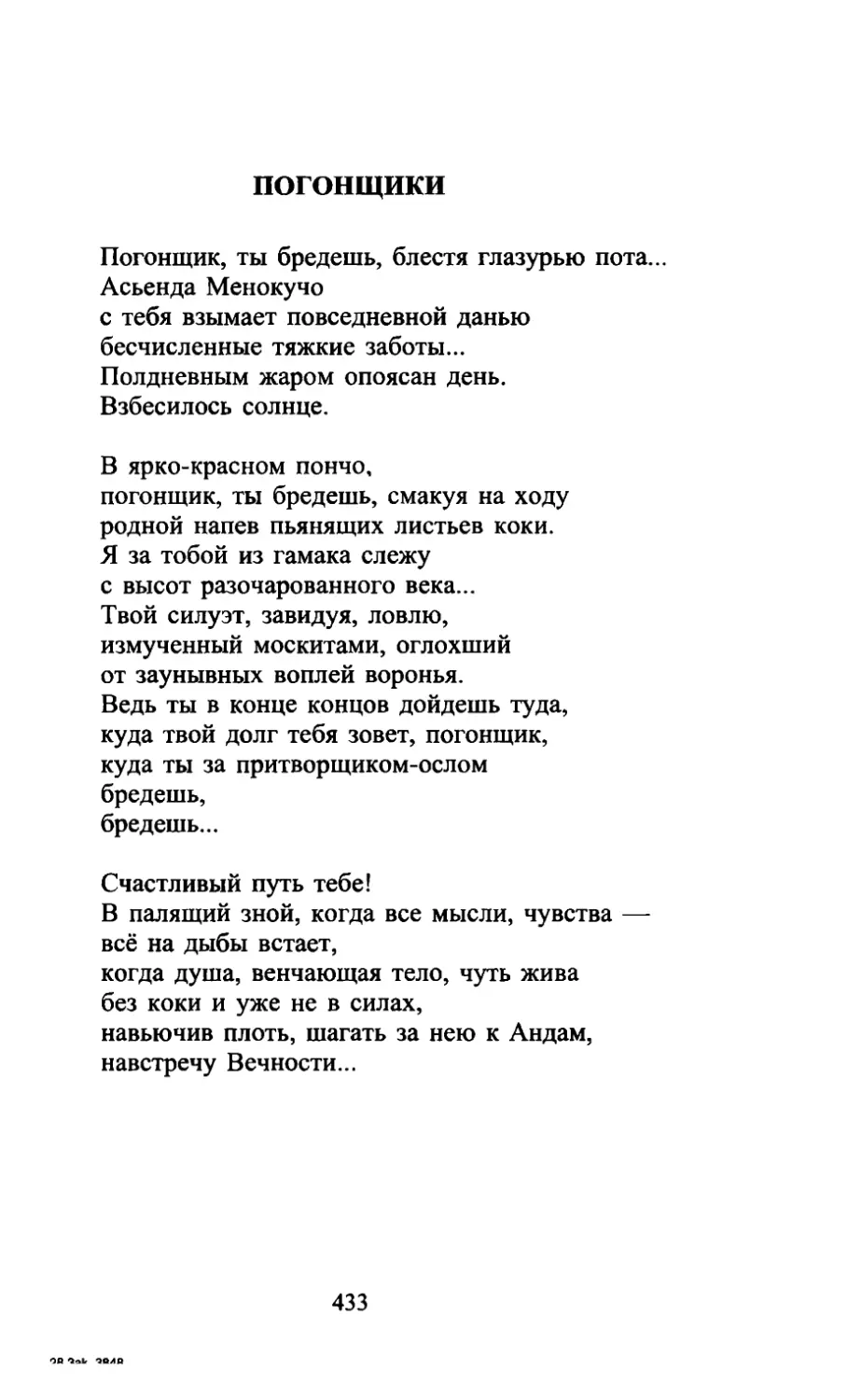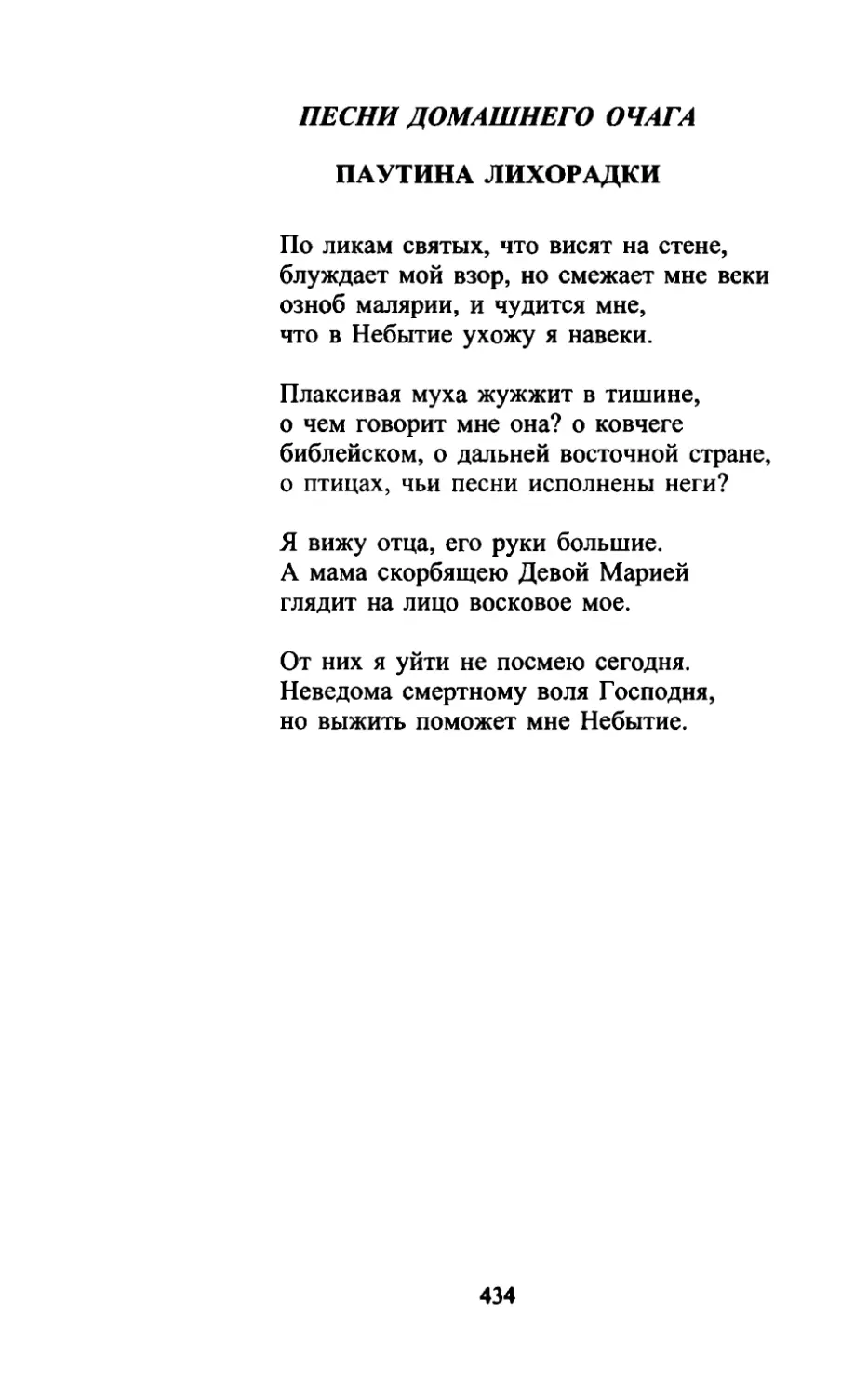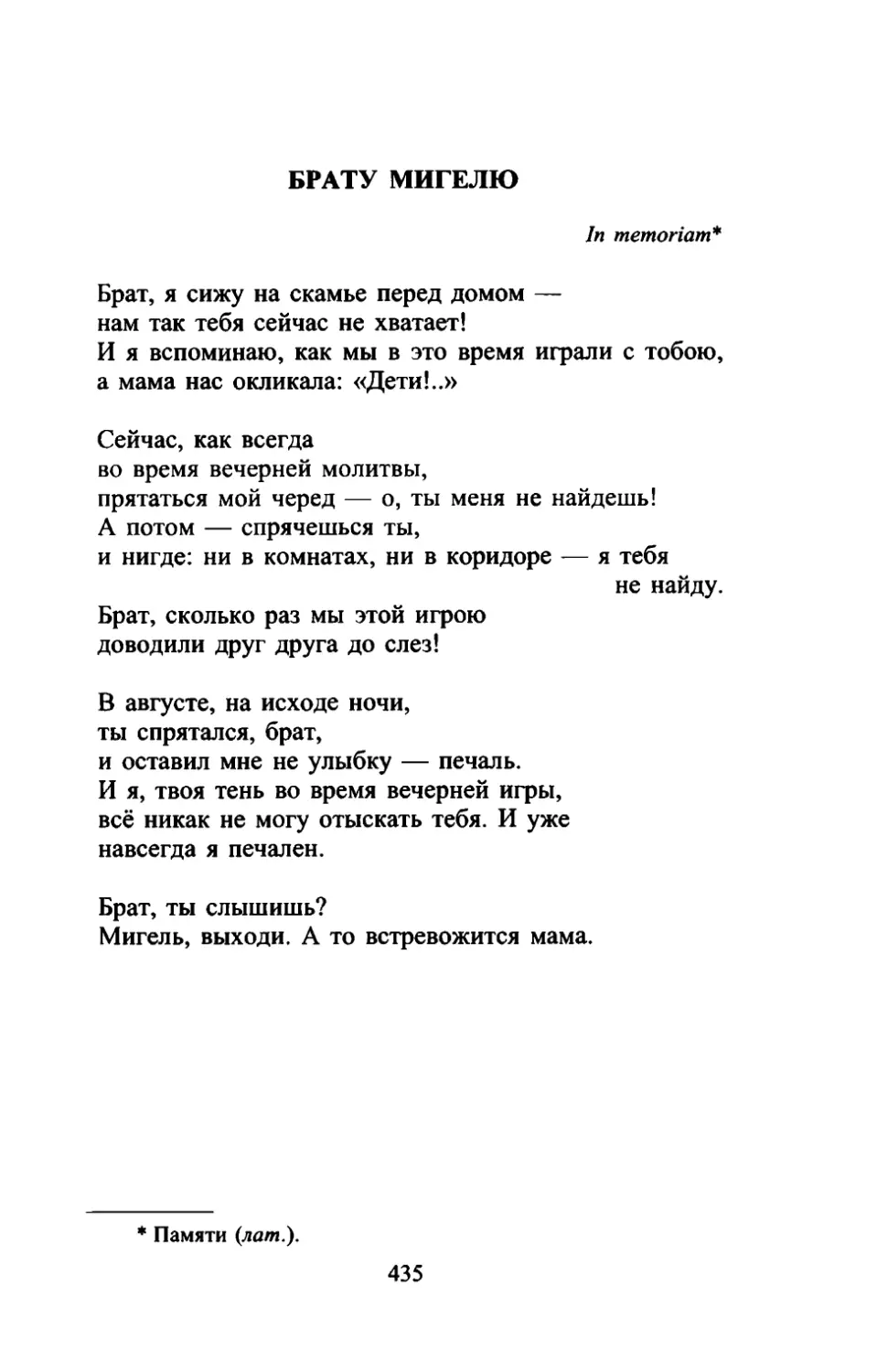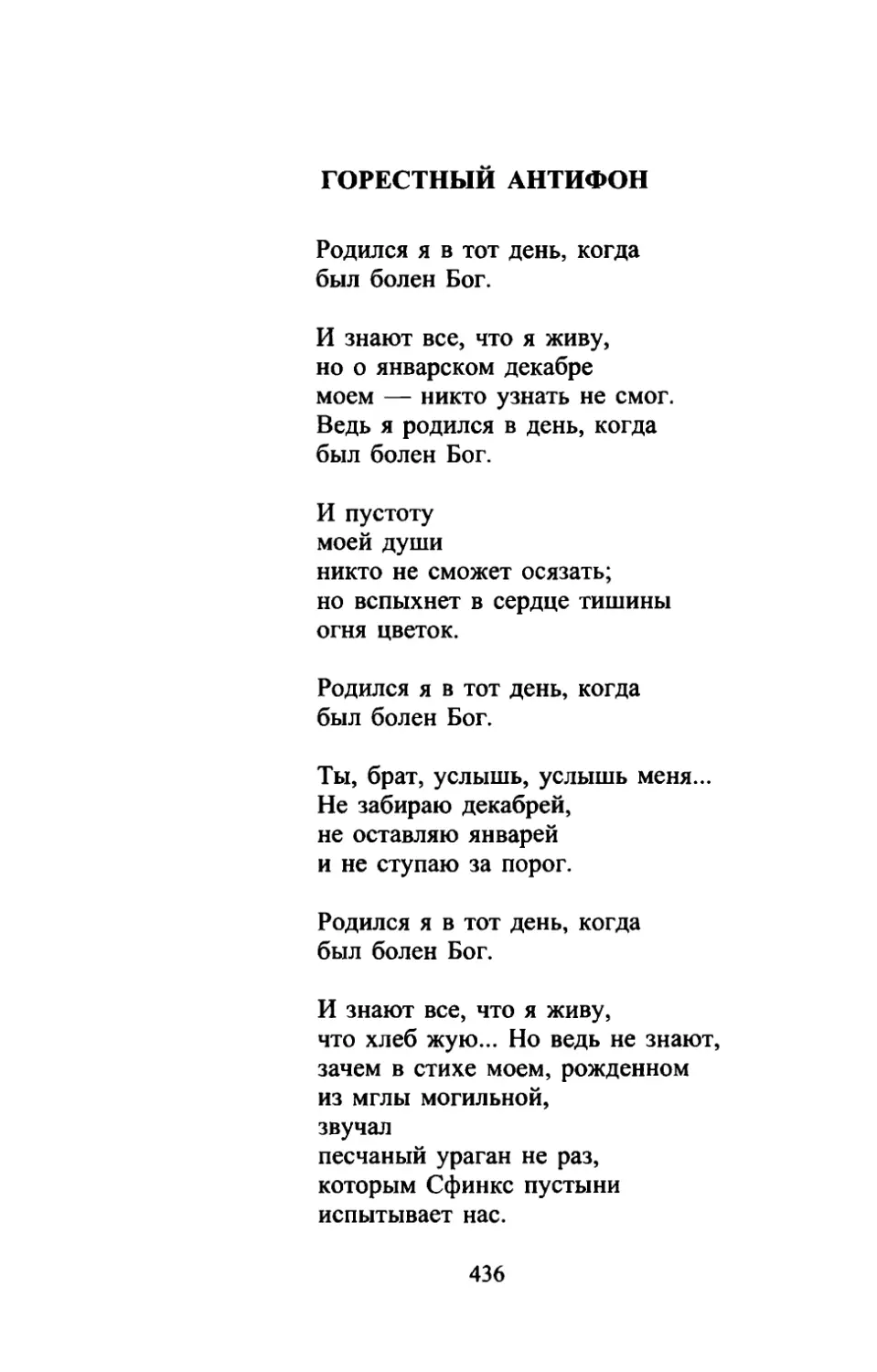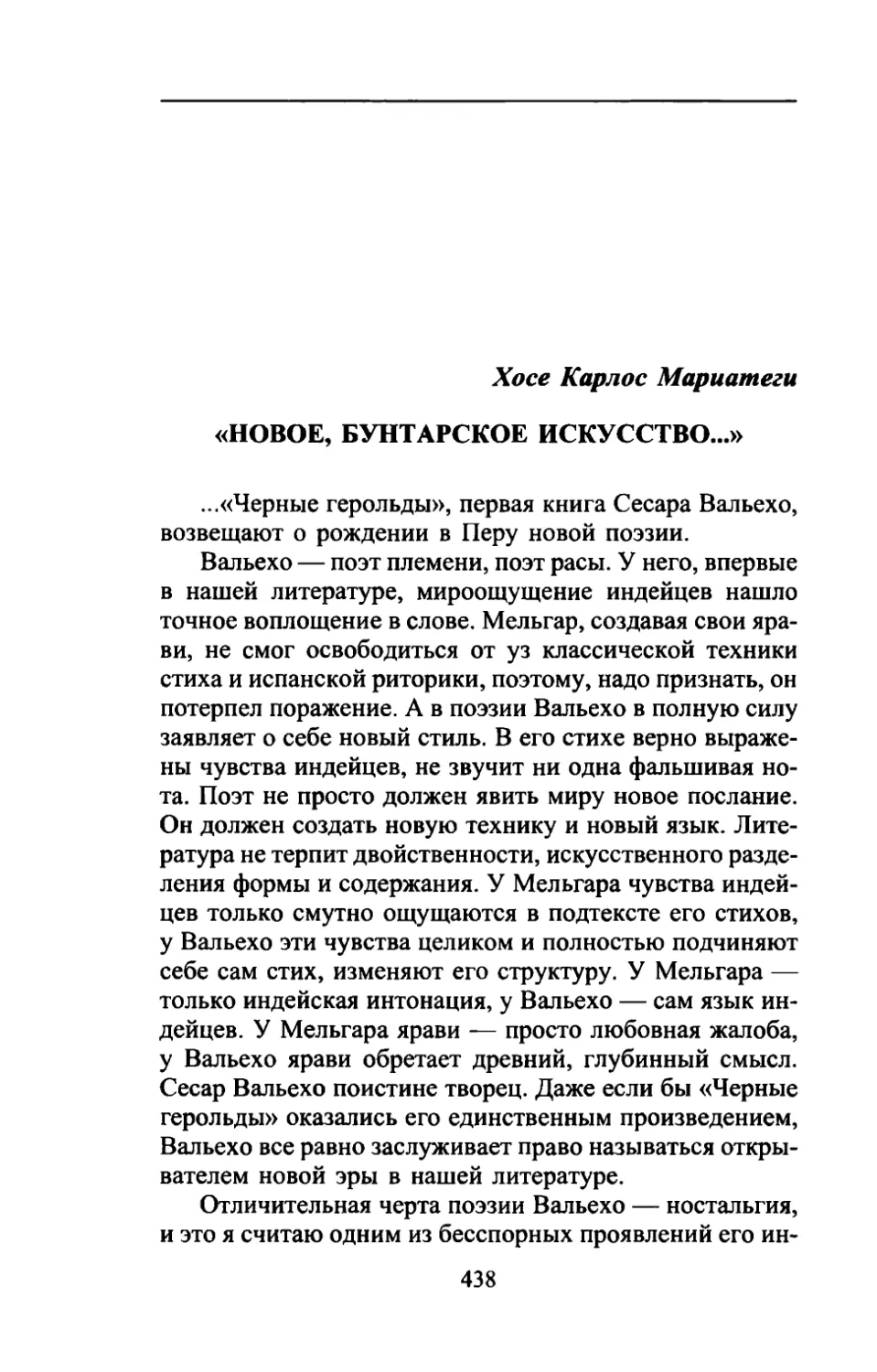Автор: Андреев В.Н.
Теги: литература литературоведение художественная литература модернизм
ISBN: 978-5-02-025413-8
Год: 2014
Текст
БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОГО ПОЭТА
ГОД ОСНОВАНИЯ СЕРИИ 2005
Редакционная коллегия серии В. Н. Андреев, Б. В. Дубин,
М. Ю. Коренева, Г. М. Кружков,
И. М. Михайлова, М. Д. Ясное (председатель)
поэзия
латиноамериканского
МОДЕРНИЗМА
Перевод с испанского
Составитель В. Н. Андреев
в
Санкт-Петербург
«НАУКА»
2014
УДК 82—1 ББК 84(4) П67
Поэзия латиноамериканского модернизма / Сост. В. Н. Андреев. — СПб.: Наука, 2014. — 494 с.
ISBN 978-5-02-025413-8
Латиноамериканский модернизм — литературное течение, существовавшее в испаноязычных странах Нового Света в последнее двадцатилетие XIX—первое двадцатилетие XX века. Во второй половине XIX столетия поэзия в Латинской Америке переживала кризис; тон в ней задавали эпигоны романтизма, уже давно изжитого в европейских литературах. Модернисты ввели в испаноязычную поэзию новые формы, ритмы, темы. Страстные приверженцы красоты, они сумели соединить слово с музыкой и живописью. И стали первыми из писателей Латинской Америки, чье творчество получило всемирную известность.
Общепризнанным вождем латиноамериканского модернизма стал никарагуанец Рубен Дарио. Он сумел объединить молодых поэтов разных стран в творческое сообщество. Это чрезвычайно благотворно сказалось на дальнейшем развитии каждой национальной литературы латиноамериканского континента. Модернисты во многом были литературными учителями и Борхеса, и Кортасара, и Гарсиа Маркеса.
В нашей стране творчество наиболее видных поэтов-модерни- стов хорошо известно. Так, например, в России неоднократно выходили книги Рубена Дарио и Хосе Марти. Но антологий, охватывающих — с максимально возможной полнотой — все этапы латиноамериканского модернизма, на русском языке еще не издавалось ни разу.
Многие переводы в данной антологии публикуются впервые.
ла'1более ви новые © В. со^тсаи ме^авалшаг © I уются клые.
© Издательство «Наука», серия «Библиотека зарубежного поэта» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2014 © В. Н. Андреев, составление, комментарии, 2014
ISBN 978-5-02-025413-8 ©Переводчики, наследники, 2014
ЗВУЧАЩАЯ РАКОВИНА ЛАЗУРНОГО МИРА
Европа влажными брала ее руками, плывя наедине с божественным быком.
Рубен Дарио. Раковина
Окрашены в единый синий цвет морская глубь и купол небосвода.
Леопольдо Лугонес. Очарование
Многие, наверное, согласятся со мной, если я скажу: но второй половине XX века главным литературным открытием для читателей всего мира было открытие латиноамериканской прозы. Читательский бум начался сразу же после публикации в 1967 году романа «Сто лет одиночества». Его написал колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес, автор, до тех пор практически никому не известный. Это озадачивало и интриговало. Если в колумбийской литературе появляются неведомые гении, то что же происходит в мексиканской, аргентинской или перуанской? И тотчас выяснилось: там есть писатели, достойные называться великими. К тому же их имена для читателей вовсе не были звуком пустым. Их произведения уже были переведены на различные языки, о них писали монографии, их восхваляли. Один из них — гватемалец Мигель Анхел Астуриас — даже получил, в том же 1967 году, когда был опубликован роман «Сто лет одиночества», Нобелевскую премию (и в нашей стране многие книги Астуриаса к тому времени были уже переведены). Но, надо признать с чистым сер-
5
дцем, настоящий читательский интерес к произведениям прозаиков Латинской Америки возник только после «Ста лет...».
Говоря об особенностях латиноамериканской прозы XX столетия, следует прежде всего отметить словесное мастерство авторов. Ведь оно — основа основ для любого писателя. В своей Нобелевской речи Астуриас, гватемалец с индейской кровью и душой, вдохновенно восклицал: «Мы, истые американцы, восхищаемся красотой речи, и потому любой из наших романов — подвиг слова. Только большим трудом и упорством создается творение, в котором в первую очередь необходимо подчинить себе материал — слово. Да, всего-навсего слово, но сколько у него законов, сколько правил! В словах — жизнь миров, которые они же и создают. Слова звучат, как дерево, как металл. Слово — звукоподражательно. Первым в нашем языке должно было возникнуть звукоподражательное слово. Сколько гармоничных и дисгармоничных отзвуков латиноамериканской природы присутствует в наших словах, в наших фразах! В романах живет и история слова, пусть не всегда осознанная авторами. Необходимо довериться звучанию слова. Слушать. Слушать своих героев. Возникает впечатление, что лучшие наши романы были не написаны, а рассказаны. В них живет внутренняя энергия поэтического слова, слово раскрывается сначала в звучании и только потом — в смысле.
Вот почему великие латиноамериканские романы — это совокупность звуков, содрогающихся в конвульсиях миров, что возникают вместе с ними...
Думаю, зарубежных читателей привлекает в наших романах еще и то, что нам удалось, не впадая в красивость, показать красоту языка, создать слово, созвучное музыке природы, а подчас — и музыке индейских языков, древние пласты которых неожиданно обнажаются в нашей прозе. Их привлекает весомость нашего слова, его абсолютная значимость, символичность. Наша проза отвергает синтаксические каноны кастильского наречия, ибо наше слово все содержит в себе и является самоцен-
6
ii мм. как это было в индейских языках. Слово, смысл, жук магия, игра. Никто не поймет нашу прозу и поэ- IIIK), если не признает за словом его колдовского могущее та».1
Кажется, подобной речи во славу слова не произнес Поныне никто из Нобелевских лауреатов-прозаиков. Что
ведь если вдуматься, с такой любовью к «совокупно- i'iii звуков» пишут обычно не романы, а стихи.
И здесь самая пора вспомнить о том, о чем многие сейчас, за давностью лет, уже изрядно подзабыли: сна- 411 па, в первой половине XX века, к читателям пришла in Латинской Америки именно поэзия. В России (в Со- ипеком Союзе) у всех на слуху были тогда имена кубинца Николаса Гильена и чилийца, будущего Нобелевского лауреата Пабло Неруды. Но кроме них — и до них — были в Латинской Америке поэты, не менее значительные, чем они? Разумеется, да.
Первым, чей голос был услышан и в Новом, и в Старом Свете, стал никарагуанец Рубен Дарио.
Вернусь ненадолго к латиноамериканской прозе. Следующим после «Ста лет...» произведением Гарсиа Маркеса, которое поразило читателей языковым мастерством, был роман «Осень патриарха» (1975). Об этом романе с колумбийским автором беседовали за круглым столом в редакции московского журнала «Латинская Америка» в августе 1979 года, когда он приехал в нашу страну. И вот что Гарсиа Маркес, в частности, сказал: «„Осень патриарха", по сути дела, обыгрывает язык Рубена Дарио. Сделано это умышленно, другими словами, я стал думать, какой поэт был бы типичным для эпохи великих диктаторов, которые правили подобно феодалам периода упадка. Таким поэтом, вне всяких сомнений, был Рубен Дарио...
Самые обычные фразы, даже диалоги, у меня получались в александрийском стиле или в десятистопнике. Пришлось потом разбивать и александрийский стих, и
1 Нобелевская премия по литературе. Лауреаты 1901— 2001. СПб., 2003. С. 82.
7
десятистопник, чтобы этого не было заметно. При появлении Рубена Дарио, особенно во время его выступления, когда он читает стихи, в мой текст все время вкраплена строка — los claros clarines (звонкие трубы). В этом изюминка».2
Вот упомянутая автором сцена из романа «Осень патриарха». Полновластный диктатор-генерал слушает в Национальном театре, как Дарио читает свое стихотворение «Триумфальный марш»: «Раскаты голоса раздавались словно в открытом море, а не в тесном зале, они заставили его превосходительство вознестись против собственой воли и над этой ложей, и над этим залом, и над самой этой земной минутой, вознестись высоко-высоко, туда, где трубили золотые горны, где в светлом всплеске их серебристых звуков возникали триумфальные арки Марса и Минервы, триумфальные арки славы. „Не вашей славы, мой генерал!“ Он видел героев- богатырей, атлетов-знаменосцев, видел черных псов с мертвой хваткой, мощных боевых коней с железными копытами, видел копья и алебарды рыцарей в касках с жестким плюмажем, видел, как эти рыцари захватили странное чужое знамя. „Захватили во славу не вашего оружия, мой генерал!“ Он видел когорты яростных юношей, бросивших вызов солнцам красного лета и снегам и ветрам ледяной зимы, и ночи, и морозу, и ненависти, и смерти — ради вечной славы и бессмертия родины...»
У читателей этой антологии есть прекрасная возможность сравнить необычный прозаический пересказ «Триумфального марша» с самим стихотворением — тем более, что перевел его Овадий Савич (1896—1967) великолепно, максимально сохранив все особенности оригинала. Для примера еще раз приведу слова из ру- бендариевского стихотворения, которые уже процитировал Гарсиа Маркес, — claros clarines. Буквальный перевод — «звонкие трубы». Все верно. Но в этом случае в переводе на русский язык исчезает аллитерация,
2 Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха. История одной смерти, о которой знали заранее. СПб., 1998. С. 408, 419—420.
8
которая есть у Дарио. Овадий Савич меняет прилагательное «звонкие» на «громкие» — «громкие трубы». 11 1ем самым сохраняет в переводе важнейший для данного случая звук «р» — к тому же он есть и в оригинале...
Шествие самого никарагуанского поэта по Америке, а затем и по Европе было тоже триумфальным.
Поэзия для Рубена Дарио, как он признавался в своей автобиографии, была чем-то органическим, естественным, прирожденным. Он стал сочинять стихи, едва научившись говорить (впрочем, ничего необычного в этом пет — рифмовать и говорить с безупречно организованным ритмом любят малыши всего мира). А научившись читать и писать, принялся с легкостью кропать вирши «на случай»: на день рождения, свадьбу, семейный праздник, да и на похороны тоже... Уже в двенадцать лет чудо-ребенок увидел свои стихи напечатанными в никарагуанских газетах.
Но быть просто умелым рифмоплетом, пусть даже и знаменитым, Дарио не хотел никогда. С самой ранней юности он ощущал себя глашатаем новой, пока еще самому ему не ведомой поэзии. Амбиций молодому человеку было не занимать. Стихия стиха захлестывает его, словно море. Ему тесны рамки романтизма — главного направления в литературе Латинской Америки тех лет. Тесны ему были и границы его «малой родины» — Никарагуа.
Впоследствии, оценивая сделанное никарагуанским поэтом для латиноамериканской литературы, Пабло Неруда с чистым сердцем признает: «Без Рубена Дарио мы не заговорили бы на нашем собственном языке. Без него мы всё еще говорили бы языком жестким, зачерствевшим и пресным».3
А пока дорога Рубена Дарио по Америке только начинается. В июне 1886 года он уезжает в Чили. Здесь, в городе Вальпараисо, в 1888 году Дарио издает книгу
3 Поэзия магов. СПб., 2003. С. 480.
9
стихов и прозы «Лазурь» — первую значительную книгу нового течения в латиноамериканском искусстве, получившего название «модернизм».
Имя для своей новаторской книги Рубен Дарио выбрал не случайно. Виктор Гюго, бывший в годы юности поэтом-новатором, написал однажды: «Искусство — это лазурь». Слова эти никарагуанскому поэту были известны, и он считал их бесспорной истиной. Для него, родившегося в тропиках, лазурь была цветом искусства и мечты, цветом идеала и жизни, цветом моря и неба. Как оказалось, лазурь любили практически все единомышленники Дарио. Они все смотрели на мир одними и теми же глазами. И уже с самого начала слово «лазурь» (azul) — а также «лебедь» (cisne) — стало в поэзии модернизма знаковым.4
Впрочем, сам термин «модернизм» появился только спустя два года после выхода в свет книги «Лазурь». В 1890 году Рубен Дарио в эссе «Фотогравюра» написал — вероятно, даже не подозревая, что дает имя целому литературному направлению: «Дух нового, вдохновляющий сегодня небольшую, но победоносную и горделивую группу прозаиков и поэтов Испанской Америки, — это модернизм... Свобода, полет и победа прекрасного над поучительным — в прозе; новизна — в поэзии: дать цвет, жизнь, воздух, гибкость старому стиху, который страдает от неподвижности, втиснутый в свинцовые формы печатной машины».5
Анализируя произведения модернизма, русская испанистка-литературовед Инна Тертерян (1933—1986) писала: «Термин модернизм явно неудачен. Уже в начале века употребление этого термина вызывало путаницу, так как модернизмом было окрещено реформа-
4 Хочу напомнить читателю о замечательном стихотворении грузинского поэта Николоза Бараташвили (1817—1845), хотя латиноамериканские модернисты никогда не слышали его имени: «Цвет небесный, синий цвет / Полюбил я с малых лет...» (перевод Бориса Пастернака).
5 Цит. по: Jiménez J. О. Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana. Madrid, 1994. P. 15—16.
10
юрское движение внутри католицизма, возглавленное iiftftiiTOM Луази и осужденное папой Пием X в 1907 году. < di'iac же, когда термин модернизм стали прилагать к более широкому кругу явлений мировой литературы X X века, путаница увеличилась. Тем не менее изменить что-либо очень трудно: модернизм как обозначение конкретного литературного течения в испаноязычных нитературах прочно вошел в литературоведческий оби- н од, в словари. Поэтому необходимо четко оговорить — к истории испанской и испано-американских литератур модернизмом называют литературное течение, существовавшее с 80-х в Испанской Америке и с 90-х годов в 11спании до Первой мировой войны. К литературным яв- нгниям периодов после Первой и после Второй мировых войн термин модернизм в истории испанской литературы не применяется. Типологически в понятие модернизм включается то, что в истории других европейских литератур обозначается как посленатуралистические течения, литература „конца века“, декаденство».6 7Определений модернизма в испаноязычной литературе существует великое множество. Может быть, лучшее из них принадлежит испанскому поэту Хуану Рамону Хименесу. Он охарактеризовал модернизм своеобразно и образно: «Это была новая встреча с Красотой, похороненной в XIX веке буржуазной литературой. Модернизм был свободным и вдохновенным походом навстречу Красоте».?
Слово «красота» модернисты (испанцы и латиноамериканцы) писали с большой буквы и ставили знак равенства между Красотой и Истиной. А следовательно: все, что некрасиво, — неистинно. И как вывод: искусство должно быть прекрасным и все некрасивое не может быть предметом искусства. Вот только жаль, никто не мог (и до сих пор не может) ответить на вопросы: что есть Красота и что есть Истина...
6 Тертерян И. А. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века. М., 1973. С. 65.
7 Jiménez J. R. El Modernismo. México. 1961. P. 17.
11
Еще до выхода «Лазури» в эссе «Катюль Мендес»8 (1888) Дарио изложил свою эстетическую программу: «Мы убеждены, что в нашей Америке мы достигли такого состояния, прожили столь стремительную жизнь, что возникла необходимость в новой форме выражения мысли, в форме вибрирующей, красочной и прежде всего полной новизны, свободной и искренней... Мы должны перенести искусство слова на территорию других искусств, например, живописи, скульптуры, музыки».9
Обрати, читатель, внимание: Рубен Дарио говорит не «я», а «мы». В данном случае это не было признаком гипертрофированного самосознания. У никарагуанского поэта, желавшего обновить искусство, уже появились единомышленники практически во всех странах Латинской Америки. Это прежде всего кубинцы Хосе Марти и Хулиан дель Касаль, мексиканцы Сальвадор Диас Мирон, Мануэль Хосе Отон, Мануэль Гутьеррес Нагера, колумбиец Хосе Асунсьон Сильва. Они были старше Дарио и, как поэты-новаторы, уже получили известность у себя на родине. Но они были поэтами-одиночками, и объединить их в некое единое целое выпало на долю именно Рубену Дарио. Он, бродяга, сын Америки, вербовал себе сторонников всюду, где ни оказывался.
Надо отметить: в творчестве почти всех упомянутых выше поэтов преобладали в ту пору мотивы тоски и отчаянья. Окружающий их мир они воспринимали едва ли не как врага и ощущали себя в нем изгоями или, в лучшем случае, отшельниками. Родственники, в подавляющем большинстве, не понимали ни их метаний, ни их мечтаний, ни их творений. Даже в любви было для них больше страдания, чем радости. «Моя грудь навеки обречена исторгать одни лишь горестные стоны», — в тягостную для себя минуту скорбно вздыхал юный Гутьеррес Нагера. Природа не приносила успокоения; поэты
8 Катюль Мендес (1841—1909) — французский писатель; входил в группу «Парнас». В своих произведениях Дарио упоминает о Катюле Мендесе (и о других «парнасцах») неоднократно.
9 Цит. по: Столбов В. С. Пути к жизни (о творчестве популярных латиноамериканских писателей). М., 1985. С. 173.
12
нтрой половины XIX столетия, как бы скептически ни нмшсились они к техническому прогрессу, оказались не » мособны жить вне города, вне благ, которые даровала шшилизация (см. в данной антологии стихотворение Хуинами дель Касаля «В деревне»). В общем, один свет в мимике — искусство. Священное, прекрасное, вдохно-
IU4IIIOC.
И в поэтических посланиях, которые Дарио охотно писал своим единомышленникам, он, желая их подбодрим., не скупился на похвалы. Например, в стихотворении, посвященном мексиканцу Сальвадору Диасу Мирону, 20-летний — но уже мэтр! — никарагуанский поэт имсклицает:
Твой стих могучий схож по резвости шальной с квадригою орлов и дерзких, и бесстрашных; тебе бы подошел тяжелый меч стальной для битвы огневой, для схватки рукопашной.
Ты, как вулкан, бурлишь, расплескивая зной; когорты буйных строф, презрев уют домашний, как буйволов стада, идут сплошной стеной по долам и горам, и пастбищам, и пашням!
(Перевод Н. Горской)
Да разве можно после таких строк не поверить в себя и не создать новые «когорты буйных строф»? В выигрыше оказывались сразу двое: и автор послания, и его адресат.
А для юных, еще непризнанных гениев Рубен Дарио был поистине ангел ом-хранителем.
Всегда доброжелательный, Рубен Дарио притягивал к себе молодых поэтов, словно магнит. Так, в Буэнос-Айресе, в который он приехал в 1893 году, вокруг него сразу же образовался кружок талантливых писателей. Среди них самыми яркими, самобытными были Рикардо Хаймес Фрейре и Леопольдо Лугонес — с ними Дарио сдружился на всю жизнь.
В 1896 году, в Аргентине, вышла вторая знаменитая книга Рубена Дарио — «Языческие псалмы». Теперь никарагуанский поэт становится общепризнанным вождем латиноамериканского модернизма.
13
Одна из главных примет модернистской поэзии (особенно произведений Дарио) — это стилизация. Поэты создавали свой особый и, как они искренне верили, прекрасный мир. Для вдохновения подходило всё, что отличалось от обыденной (серой, скучной, безобразной) жизни, окружавшей молодых авторов на рубеже двух веков. «Я проклинаю жизнь и время, в которое мне довелось родиться», — в запальчивости (а может быть, от отчаяния) утверждал Рубен Дарио в предисловии к сборнику «Языческие псалмы». Древняя Греция или Рим были для него более современны, чем Латинская Америка 80—90-х годов XIX века. Далекая Япония или Китай — ближе, чем родная земля. А если Дарио и писал о Латинской Америке, то только о ее давнем, уже овеянном легендами прошлом. Оттуда, из мифологических времен Греции, Рима, Америки, хотел он вести свою поэтическую родословную.
И, разумеется, предметом его искусства становилось само искусство. Музыка Вагнера, картины Буше или Ватто, стихи Анакреона, Овидия, Ли Бо, Виктора Гюго, Леконта де Лиля, Уолта Уитмена (продолжать можно до бесконечности) вызывали восхищение и требовали от никарагуанского литератора немедленного, вдохновенного отклика — равного восхваляемым образцам.
Но над всеми поэтами парил в необъятной лазури Небесный Лироносец (так Рубен Дарио называл Поля Верлена).
Когда в 1893 году Дарио впервые оказался в Париже, он поспешил встретиться со своим кумиром. И встретился — поздним вечером, в каком-то кабачке. «Со всем благоговением, на какое был только способен, я на плохом французском пробормотал слова о славе... Он, повернувшись ко мне и не переставая стучать по столу, ответил глухим грудным голосом: „Слава! Слава! Дерьмо и есть дерьмо!“ Я посчитал за лучшее уйти и решил дождаться более подходящего для встречи случая», ю Подходящего случая так и не представилось. Всякий раз,
10 Darío R. Antología poética. La Habana, 1962. P. 8. 14
мили Рубену Дарио доводилось увидеть где-либо Вершат, ют был безобразно пьян. Разочаровался ли 26-лет- II ii (i никарагуанец? Едва ли. Он ведь и сам, случалось, шнншился до положения риз. Наверное, он лишний раз убедился: реальная жизнь не имеет ничего общего с искусством. И не перестал восхищаться стихами гениальною поэта — Поля Верлена.11
Конечно, стилизация могла сослужить латиноамери- мшским поэтам хорошую службу только до поры до времени. Беспрерывное упоение Красотой грозило пре- нршиться (и превращалось) в красивость. Повторение одних и тех же мотивов и стилистических приемов приносило к однообразию, не приносящему радости ни ав- трам, ни читателям. Чтобы не становиться эпигонами «имих себя, не зайти в поэтический тупик, модернисты должны были признать реальностью искусства также и окружающую их реальность. К их чести надо сказать: они сумели это сделать. Многие стихи из вышедших уже и XX столетии книг того же Дарио, Гонсалеса Мартинеса, Лугонеса либо Чокано — наглядное тому подтверждение.
Новаторской для всей испаноязычной литературы (нала и столь дорогая сердцам модернистов идея синестезии: возможность перенести в словесное искусство io, что традиционно принадлежало другим искусствам — живописи и музыке. Они вернули поэтическому слову, уже изрядно потускневшему в произведениях романтиков, весь его былой, первозданный блеск. Слово в модернистской поэзии вновь стало зримым и полнозвучным. Самоценным — вспомним Нобелевскую речь Астуриаса: «как это было в индейских языках». Латиноамериканцы-модернисты считали своими учителями прежде всего французских поэтов, всегда умевших «дер-
11 Приведу слова из «Дневника» французского прозаика Жюля Ренара (1864—1910): «Всегда смешивают человека и художника под тем предлогом, что случайно они живут в одном геле... Это очень просто: у Верлена гениальность божества и сердце свиньи... Но я, скромный писатель в толпе, я знаю только бессмертного поэта. Любить его — для меня счастье».
15
жать форму». Но были у них еще и «кровные» учителя — исконные жители Нового Света, знавшие и ценившие магическую силу слова. Вероятно, многие из модернистов не задумывались над этим, но ведь зов крови звучит тем сильнее, чем менее он осознается. И к тому же лучшие стихи рождаются не разумом, а сердцем.
У Генриха Гейне есть строки, хорошо знакомые русскому читателю в переводе Самуила Маршака:
Мелодию песни, ее вещество Не высосет автор из пальца.
Сам Бог не сумел бы создать ничего,
Не будь у него матерьяльца.
«Матерьялец» у поэтов, как и у Бога, самый заурядный и самый необычный — слово. Неосязаемое и все же существующее. Сиюсекундное и вечное. Могущее растратиться впустую и способное создать мир.
Рубен Дарио и его единоверцы не сомневались: они — творцы новых миров.
Такого пиршественного изобилия неожиданных эпитетов, метафор, образов, богатых рифм, аллитераций, как в стихах модернистов, испаноязычная литература не знала со времен барокко. Испанец Валье-Инклан (его ранние произведения выдержаны в модернистском духе) однажды обронил меткую фразу: «В поэзии слова впервые встречаются вместе». Это определение в полной мере подходит для поэзии модернистов Нового Света — во всяком случае, для их лучших стихов.
Латиноамериканские поэты, словно фокусники, доставали невесть откуда разноцветные шарики-слова и с импровизационной легкостью метко раскидывали их именно в те ячейки, которые только для них и были предназначены. Да что слово! Кажется, каждый звук для них обладал и цветом, и весом, и объемом. Тогдашнему испаноязычному читателю, отнюдь не избалованному хорошими стихами, поэзия модернистов казалась поистине чудом.
Внешняя легкость чуда, разумеется, обманчива. Фокус ведь в том и состоял, чтобы скрыть пот творца. А к
16
тщательнейшей работе над поэтической формой модернистов побуждала, конечно, всецело владевшая ими идея Красоты. У произведения искусства, если оно стремится быть действительно прекрасным, не должно быть никаких изъянов. И важнейшее значение латиноамериканские модернисты всегда придавали музыке стиха, звучанию слова. На своих знаменах они не случайно начертали знаменитый верленовский девиз «De la musique avant toute chose» (первая строка стихотворения «Искусство поэзии»; в переводе Пастернака — «За музыкою только дело»). Правда, у вождя испаноязычного модернизма с музыкой слова складывались свои, достаточно индивидуальные, отношения: «В каждой строке, кроме словесной гармонии, есть мелодия мысли. Очень часто музыка создается мыслью».12 Впрочем, подобные слова о «музыке идей» мог бы сказать и Верлен. Если он их не говорил, то только потому, что они были для него аксиомой, ибо словесной бессмыслицей он никогда не грешил.
На аллитерациях, на полнозвучных внутренних рифмах построены многие стихотворные произведения модернистов. Нередко и свою прозу они старались создавать по законам поэзии. И, пожалуй, лучше всех других собратьев по континенту уроки гармонии, преподанные Верленом, усвоил аргентинец Леопольдо Лугонес. Музыку испанского языка он в своих стихах довел до совершенства. Вероятно, окружающий мир и в самом деле представлялся ему «звучащей раковиной» (стихотворение «Псалом дождя»). А может быть, такой раковиной он ощущал самого себя?..
Заслуга латиноамериканских модернистов была еще и в том, что они вводили в испаноязычную литературу новые формы поэзии — вплоть до идеограмм (стихотворений-рисунков) и верлибра, изобретали оригинальную систему строфики. (Латиноамериканские исследователи творчества Дарио подсчитали: он использовал 37 раз-
12 Дарио Р. Избранное. М., 1981. С. 10.
17
2 Эак. 3848
личных стихотворных размеров и 136 разновидностей строфы.) Чтобы добиться желаемого эмоционального эффекта — прибегали к резким «верленовским» enjam- bements (переносам) и оксиморонам (соединениям контрастных по значению слов — например, «печальная радость»), постоянно сочетали длинные и короткие строки. В общем, сотворили настоящую революцию в испанском стихосложении.
Но, даже создавая стихи в рамках старых поэтических форм, они стремились к какой-либо новизне. Взять, к примеру, сонет. Классический сонет со своими строгими правилами всегда привлекает поэтов, на каком языке они бы ни писали. Ведь создать безупречный сонет — это значит показать свое профессиональное мастерство. Но здесь, правда, стихотворцев подстерегает иная беда: за свою долгую историю (сонет родился в Италии в начале XIII века) он успел утомить читателя. Антонио Мачадо, сам автор многочисленных четырнадцатистрочных стихотворений, в одной из заметок 1912 года писал: «Несмотря на опыты Эредиа, сонет нельзя признать современной поэтической формой. Он утратил свою эмоциональность. От него остался только костяк, слишком прочный и тяжелый для современной лирической поэзии».^
А младший современник Мачадо — Луис Сернуда (1902—1963) — сотворил иронический разговор с сонетом:
— Сей миг предстань передо мной, сонет.
— Я здесь. Чего изволишь? — Написать тебя. — Попробуй. Но хочу сказать:
я не в восторге от катрена. — Нет?
Так что же будем делать? Дай совет.
— Могу тебе услугу оказать:
я помогу второй катрен создать.
Ну, как тебе понравилось, поэт?
— А... — Тошно мне от нынешнего бреда. Я Гонгорой прославлен и Кеведо. 1313 Мачадо А. Полное собрание стихотворений (1936). СПб., 2007. С. 739.
18
Л Малларме?.. — Французы хороши, ди вычурны. Оригинал когда-то, умру с клеймом позорным плагиата.
Молчи, поэт. И прозой не пиши.
1ш гаиить молчать латиноамериканских модернис- IHH, конечно, было невозможно (впоследствии их не раз \ 11|»4'К1|пи за многословие). И писать прозаические про- II ничцчшя они не забывали.
Гще и 1911 году мексиканец Энрике Гонсалес Мар-
• шит призывал себя и своих собратьев к молчанию. Да, inMicMiio, сокровенного не выразишь словами. Нам это пиитгно хотя бы по строкам Тютчева: «Молчи, скры- H iiii .i и таи / И чувства и мечты свои... / Мысль изречен- мш| есть ложь». И Верлен одну из своих лучших книг не
• нучмноо назвал «Песни без слов». А что касается Гон- i .Dii-ni Мартинеса, то он не прислушался к своему благому ито гу, не раскрыл «таинственную книгу тишины» и, н и много пережив всех модернистов, продолжал и про- ‘iniuKiui говорить — сиречь: писать.
I lo вернемся к вопросу о сонете. Опасность сделать ni сонега-оригинала сонет-плагиат сами латиноамери- I. и некие поэты хорошо осознавали. Первым это понял — еще и XIX веке — Рубен Дарио. Уже он стал разрушать
• iporyio классическую форму и писать «неправильные» i оно гы. А Сесару Вальехо в «Черных герольдах» выпа- 1ш на долю завершить эту разрушительную/созидатель- ную работу.
Данная антология посвящена поэзии латиноамериканского модернизма, но в предисловии я постоянно говорю также и об испанской литературе. Причина здесь ж* только в том, что Испанию и Латинскую Америку объединяет язык. Модернисты Нового Света помогли родиться новой литературе и на Пиренейском полуострове.
К 90-м годам XIX века ситуация в прозе и поэзии Испании была не лучше, чем в «дорубенодариевской» Ла- I ноской Америке. Испанский философ Хосе Ортега-и- I песет вспоминал о том времени: «Хорошими признава-
19
лись стихи, похожие на прозу и даже неотличимые от прозы, и проза, лишенная ритма. Начинать приходилось с реабилитации поэтического материала... Все должно было сначала умереть, а потом возродиться, преобразовавшись в метафору и в выражение чувств. Чтобы показать нам все это, и явился Рубен Дарио, божественный индеец, укротитель слов, погонщик быстроногих коней ритма. Его стихи были для нас школой мастерства».14
Когда Дарио (сын Америки и внук Испании — так он называл себя) в 1898 году приехал в Мадрид, он оказался «своим среди своих». Молодые испанские поэты зачитывали его книги до дыр. Среди единомышленников автора «Лазури» и «Языческих псалмов» были в ту пору Рамон дель Валье-Инклан, будущие Нобелевские лауреаты Хуан Рамон Хименес и Хасинто Бенавенте, братья Антонио и Мануэль Мачадо — те, что вскоре вернут Испании ее всемирную литературную славу.
Обычно сдержанный в своих чувствах Антонио Мачадо написал в честь никарагуанского поэта панегирик «Учителю Рубену Дарио»; заканчивался он такими — в модернистском духе — словами:
Каравелла летит, побеждая пространства;
в сердце — жажда открытий, восторг и отвага.
Я в Испании старой приветствую: — Здравствуй! —
из Испании новой каравеллу его с огнедышащим стягом.
Восхваления в свой адрес Рубен Дарио воспринимал с достоинством короля — как нечто само собой разумеющееся.
А в позу мэтра Дарио не вставал никогда. Он был рад познакомиться с молодыми испанскими собратьями, быстро подружился с ними и охотно признал их не только своими учениками, но и зрелыми мастерами. С несомненной искренностью и поэтическим удовольствием он посвятит им в начале XX века немало стихотворений (некоторые из них читатель найдет в этой антологии).
14 Цит. по: Столбов В. С. Пути к жизни. М., 1985. С. 173.
20
(’иустя десятилетие и для Валье-Инклана, и для Ан-
но Мачадо, и для Хименеса модернизм будет уже
пройденным этапом. Каждый из них выберет свою собст- ■i-Miiiyio литературную дорогу. Но любовь к великому ммыфагуанцу все они сохранят до конца своих дней.
Жизнь самого Рубена Дарио закончилась 6 февраля I *М <> года. Он, вечный странник, умер у себя на родине, и Никарагуа.
Испанский поэт-модернист Мануэль Мачадо на кончину Дарио откликнулся сонетом; вот несколько строк и i него:
Всюду слышатся песни твои — вечерами, на жемчужной заре и в полуденный час...
Ты живешь, поселившийся в сердце у нас, — нестихающий шум, негасимое пламя.
Ждут тебя в Аргентине, Париже и Риме; где волшебные струны с людьми говорили, ясный звук не замолкнет теперь на века.
(Перевод В. Петрова)
Что же, слова «на века», возможно, и верны. Но Ев- icpiia, муза лирической поэзии, распорядилась так, что го смертью Дарио завершился в Латинской Америке и сим модернизм. Вернее, его, так сказать, классический период.
Магией своего слова и магией своей личности Рубен Дарио смог — на рубеже столетий — объединить модернистов разных стран Латинской Америки в одно целое. Теперь, потеряв полководца, армия... нет, не сдалась на милость неприятелю, но разделилась на небольшие отряды. В каждой стране модернисты опять оказались разобщенными со своими собратьями по континенту. Кто-то из них сохранил верность модернистскому знамени навсегда; кто-то, усвоив уроки Рубена Дарио и не отрекаясь от кумира своей молодости, стал разрабатывать новые темы и литературные приемы; кто-то, не оставив, правда, писательского ремесла, занялся политической деятельностью.
21
Для поэтов, родившихся в конце 80—начале 90-х годов XIX века и вступивших в литературу в 10-е годы XX столетия, модернисты были уже классиками, у которых надлежало учиться.
Первые стихи в дальнейшем самобытнейшей чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль — например, «Сонеты смерти» (1914) — едва ли не полностью выдержаны в стилистике модернистов. Ее младший собрат и соотечественник Висенте Уидобро (1893—1948) решил в 1916 году — в год смерти Дарио — создать новое литературное течение: креасьонизм. В стихотворном манифесте «Поэтическое искусство» он заклинал — возможно, самого себя:
Ключом-стихом любую дверь открой.
Пади листом. Пари свободной птицей.
И слушай мироздание душой, и образам дай в сердце отразиться.
Мир новый создаешь — так не робей.
И если в слове — ложь, его убей.
О розе столько врали — просто страх!
А ты заставь ее цвести в стихах!
Мир ждет от нас
рожденья новых строк.
Поэту есть синоним: Бог.
Постойте! Что-то хорошо знакомое слышится в манифесте новых латиноамериканских поэтов. Ну да, ведь подобные строки были творческой программой самого Дарио, да и всех модернистов тоже. А проблема заключалась только в том, как ее, это программу, претворять в конкретных произведениях. И еще неизвестно, кто победитель...
В стихотворении «Слова, обращенные к Рубену Дарио» аргентинка Альфонсина Сторни поначалу старается отречься от влияния на нее никарагуанского поэта: «Языческих гимнов твоих я не пою под луной». Но в
22
имщс сонета — пожалуй, даже с некоторым удивлением признается:
I ii и д ко — как в первый раз! — вернуться к прежней любви;
минерное, растворен от века в нашей крови
•нм синий, яркий, цветной, твой вдохновенный стих.
Последним значительным произведением модер-
мл (постмодернизма) в Латинской Америке стала
i а перуанца Сесара Вальехо «Черные герольды»
(ММК). Не надо быть специалистом-литературоведом, чтбы понять, насколько поэтика «Черных герольдов» i»i пичастся от поэтики первых книг Рубена Дарио. В сти- 1цч Вальехо звучит не музыка Моцарта или Вагнера, а, i корсс, атональная музыка Арнольда Шёнберга. Надрывно-отчаянные строки поэта, обращенные к Богу мни к женщине (ощущение: спазм сжимает ему горло), мпкпзались бы модернистам «первого призыва» явно кощунственными. Образная система Вальехо, если к ней подходить с меркой «нормальной» логики, зачастую приводит читателя в замешательство. Но у сердца своя кошка, и разум здесь — плохой помощник. И тематически тоже стихи наследника инков отличаются от про- м шедений наследников Рубена Дарио. Его книга от начина и до конца — трагична (если воспользоваться слоив ми русского поэта Евгения Винокурова, Вальехо ощущал «трагическую подоснову мира»). Символично щмо название книги перуанского поэта: черные героль- II,i вестники несчастий, смерти. Конечно, Дарио и тобой из модернистов неоднократно писали о горестях жизни, о душевной печали, об осенней тоске, о смерти, ниже о самоубийстве. Но в их стихах, можно сказать, не (мило безысходности, их печаль (по-пушкински) светла и творчество в целом — оптимистично. Красота не колжна облачаться в черные одежды. Альфонсина Стор- ми недаром сказала о стихе Рубена Дарио: «весенний, яркий, цветной». А в стихотворении Сесара Вальехо • Мистерия» «Дарио Америк небесных» — и тот появляемся «с траурной своей лирой». В «Черных герольдах» мозг одинок и «печален навсегда». Правда, через не-
23
сколько лет Вальехо сумеет преодолеть пессимизм одиночки с индейской душой.
Решительно разорвет он и всяческие связи, соединявшие его с поэтикой модернизма. Следующая книга Сесара Вальехо — «Трильсе» (1922) — возвестит о рождении нового явления в испаноязычной литературе: сюрреализма.
О кончине модернизма заговорили еще при жизни Рубена Дарио.
В 1911 году мексиканец Энрике Гонсалес Мартинес, отдавший модернизму щедрую дань, написал сонет «Ты шею лебедю сверни...», получивший в Латинской Америке широкую известность на многие годы. Стоит присмотреться к этому стихотворению повнимательней. И вот что выясняется: Гонсалес Мартинес борется с модернизмом, используя поэтические средства... самого модернизма. Во-первых, он облекает призыв «Свернуть лебедю шею!» в форму сонета — в одну из полюбившихся модернистам стихотворных форм. Во-вторых, в его стихотворении явно присутствует синестезия: соединение слова с музыкой и живописью. Но ведь синестезия — едва ли не главная заслуга модернистов в их обновлении испаноязычной поэзии! В-третьих, символическому лебедю Рубена Дарио и его сотоварищей автор противопоставляет не менее символическую сову (которая к тому же неоднократно встречается в модернистских произведениях). А ведь Гонсалес Мартинес, ратуя за близость к родной земле, мог бы вспомнить, например, о сенсонтле — дятле-пересмешнике. О птице, которая обитает в Мексике и Центральной Америке и о которой Астуриас говорил, что она «с сорока звуками в горле». Если же его не устраивал сенсонтль, то можно было бы без особого труда отыскать какую-либо иную южноамериканскую птицу — мудрую и молчаливую (кстати, лебедь — птица, еще более молчаливая, чем сова; а выбирать, кто из пернатых мудрее всех, — это занятие сугубо человеческое).
Откровенно говоря, в 1911 году не было никаких веских причин для «кровожадного» призыва убить лебедя
24
I и не дать ему спеть лебединой песни). И модернисты, и мни i имодернисты» могли бы прекрасно ужиться в лите- |и« i у ре — ведь уживаются же в природе и лебедь, и сова. А поэта доброжелательнее, чем Рубен Дарио, во всей Ла-
I миской Америке, наверное, за много веков не сыщешь.
II о своем мексиканском собрате он ни одного худого г иона не сказал.
Может быть, сонет был написан просто «ради красного словца»? Тем более что, создавая его, мексиканский автор отталкивался от верленовской строчки: «Хре- 1114 риторике сверни» (перевод Б. Пастернака). Строка и к из стихотворения «Искусство поэзии», столь чти¬
мого всеми модернистами. Ну а в риторичности вождя модернизма, пожалуй, никак нельзя упрекнуть.
Для самого Гонсалеса Мартинеса тот резонанс, капни вызвало его крохотное произведение в литературных кругах Латинской Америки, был полнейшей неоне и данностью. Впоследствии мексиканскому «губите- 1по лебедей» пришлось даже объяснять: его сонет — «ни и коей мере не против Рубена Дарио, не против его вдохновенной и чарующей поэзии».15 16Как бы то ни было, сейчас, спустя доброе столетие после публикации сонета Гонсалеса Мартинеса, при его прочтении напрашивается парадоксальный вывод: да ведь это стихотворение — вовсе не «антимодернистский манифест», а едва ли не гимн во славу модернизма и его i норцов. Этакая своеобразная пародия, которая призвана восхвалить тех, кого она якобы высмеивает.
Любой литературный «изм» рано или поздно исчерпывает себя. Сделав свое великое дело, модернизм •■умер естественной смертью» — на рубеже 20-х годов X X века. Но писатели практически всех стран Латин- ской Америки и во второй половине века не единожды г благодарностью вспоминали модернистов, i* Именно
15 Цит. по: Jiménez J. О. Antología crítica de la poesía modernista hispanoamericana. P. 279.
16 Назову только некоторых, наиболее известных у нас. >io — уже упоминавшийся гватемалец Мигель Анхел Астуриас
25
модернизм стал для них первоначальной школой мастерства. (Впрочем, о вожде латиноамериканского модернизма испанец Федерико Гарсиа Лорка высказался, не ограничивая его рамками какого-либо литературного направления: «Душа поэзии Рубена Дарио не стареет, она шире всех норм, форм и школ».)
О Нобелевском лауреате Габриэле Гарсиа Маркесе и о его романе «Осень патриарха», пронизанном поэзией Дарио, уже говорилось.
Хулио Кортасар, аргентинский «укротитель слов», в остроумно построенном «литературоведческом» рассказе «Шаги по следам» (сборник «Восьмигранник»; 1974) старается дать психологический портрет творцов модернизма. Главный герой новеллы — выдуманный автором поэт, но Кортасар в своем произведении постоянно упоминает Рубена Дарио, Альфонсину Сторни и других реально существовавших писателей. А в одной из миниатюр, включенной в книгу «Некто Лукас» (1979), он, рассуждая о литературе, воскрешает в памяти читателя ситуацию, связанную с сонетом Гонсалеса Мартинеса, и даже переходит с прозы на стихи:
Не хочет слово быть произнесенным, пока ему мы шею не свернем, так Муза примиряется с Писцом в редчайший миг, который мы зовем Вальехо или, скажем, Маяковский.
(Перевод П. Грушко)
Так конкретный случай из истории латиноамериканской литературы («свернуть шею лебедю» — то есть покончить с модернизмом) превращается у Кортасара в кредо любого писателя-новатора («свернуть шею слову» — для того, чтобы словесное искусство осталось живым).
В начале 20-х годов молодой Хорхе Луис Борхес создал в Латинской Америке авангардистское поэтическое
(1899—1974), кубинец Алехо Карпентьер (1904—1980), венесуэлец Мигель Отеро Сильва (1908—1985), Нобелевский лауреат мексиканец Октавио Пас (1914—1998).
26
мимринление: ультраизм. Модернизм для гениев-ультра- нс ти стал не более чем поводом для язвительных насмешек наподобие такой: «Рубен Дарио беззастенчиво меблировал свои стихи словами из „Малого Лярусса“». Пройдет время, Борхес выберет свой собственный муть - вне всяческих литературных «измов» — и назо- и«м сотворенный им ультраизм «ошибкой молодости» (он был, конечно, не прав — ультраизм в истории ла- ммюамериканской литературы занял свое, весьма достойное, место). Но о модернистах (не говоря уже о Лу- I onece, Карриего и Гуиральдесе, которых он знал лично и к которым относился как к своим учителям) Борхес i ткет высказываться с явной симпатией и уважением. Например, в 1984 году в радиобеседе с аргентинским журналистом Освальдо Феррари достигший уже пре- кионного возраста Борхес сочтет нужным отметить: « Конечно, можно сказать, что модернисты просто-напросто подражали Верлену и Гюго; но ведь нет, наверное, труднее задачи, чем перенести музыку с одного языка на другой...»17
Думаю, переводчики данной книги на собственной шкуре испытали справедливость борхесовских слов о «перенесении музыки с одного языка на другой». Но хочется надеяться: победу они одержали.
Хуан Рамон Хименес в 1918 году, хотя он к тому времени уже «переболел» модернизмом, написал вполне модернистское стихотворение:
Светозарная бабочка,
но красота исчезает, едва прикасаюсь
к розе.
Слепец, я бегу за ней...
Пытаюсь поймать...
Но в моей руке остается очертанье исчезновенья.
17 Борхес X. Л., Феррари О. Новая встреча. Неизданные беседы. СПб., 2004. С. 188.
27
Уже в 80-е годы XIX века в Латинской Америке и в Испании появились статьи о модернизме. В течение XX столетия было опубликовано бесчисленное количество эссе и монографий о Дарио и его соратниках. Литературоведы стремятся противоречивое многообразие модернистской поэзии свести к единому знаменателю, поймать «светозарную бабочку». Но бабочка (не просто душа — душа поэзии) не хочет, чтобы ее прикололи к листу бумаги булавкой науки, не хочет умирать. Она выпархивает на свободу из любой ловушки, и на бумаге остается только «очертанье исчезновенья».
Конечно, читатель вправе спросить: но, в конце-то концов, что же такое модернизм? Рискну дать свое определение. Это — молодость латиноамериканской литературы, ее первая — страстная и чистая — любовь.
Виктор Андреев
поэзия
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО
МОДЕРНИЗМА
РУБЕН ДАРИО (1867—1916)
ИЗ СБОРНИКА «ЛАЗУРЬ»
(1888)
ПОЭТУ
Титан в слезах — что может быть унылей? Он выше гор, но он к цветку прикован, и стонет мужество, нет места силе, а он самим собою четвертован.
Геракл безумный палицу слагает у ног Омфалы и нейдет на битву; герой, он в женской обуви шагает, поэт, забыл он музу и молитву.
Руками рвал он львов свирепых пасти, и вот он — раб, прядет на хрупкой прялке; ни цели, ни трудов, ни битв, ни власти; повис его кулак, бессильный, жалкий.
Поэт не должен преклонять колени, пленяясь женственными мелочами; он должен прогонять лучами тени, стихи его должны звенеть мечами.
Пусть гордая строфа стихотворенья ворвется в ночь сияньем метеора, и пусть в болото сплетен и глумленья орел не кинет царственного взора.
31
Могучий воин в золоченом шлеме, кидай свой жгучий дротик, рвущий тело: так в битву рвется бык, напружив темя, так мощи льва в пустыне нет предела.
Пой смело и трудись над песней вдвое; учись у гор: они стоят, как башни; пусть мысль поэта топчет всё земное, как древний лес топтал бизон бесстрашный.
Пусть с вдохновенных уст слова-кинжалы летят в народ, рождая упованье, как шум прибоя, хлещущего скалы, пещеры голос и горы дыханье.
Самсон, оставь подол своей Далилы: обманет, волосы отрежет тайно.
Не променяй могучей доброй силы на рабство у красавицы случайной!
32
КАУПОЛИКАН
Энрике Эрнандесу Мьяресу
Однажды в старину индейцы увидали: ствол дерева взвалил себе на плечи он; таким стволом в бою, должно быть, потрясали, что грозной палицей,. Геракл или Самсон.
Как шлем — его власы, а кожа — тверже стали, неустрашимый вождь воинственных племен,
Нимрод лесов и гор, доступных нам едва ли, им лев задушен был, им бык был побежден.
Он шел, и шел, и шел — и полднем раскаленным, и в холоде ночном под звездным небосклоном; и ствол огромный нес всё время великан.
«Он — Токи, Токи — он!» — молва вослед летела. Он шел, и шел, и шел. Но — «Стой!» — заря велела.
И голову подняв, встал Кауполикан.
33
3 Зак. 3848
ВЕНЕРА
Мне не спалось, опять меня тоска снедала, и вышел я в безмолвный и прохладный сад. Венера надо мной в ночной тиши сияла на небе черном, словно бархат иль гагат.
Восточною царицей мне она предстала: любовника для утонченных ждет услад, иль в паланкине возлежит она устало — неведом ее путь, таинствен ее взгляд.
«Царица, — я сказал, — к тебе стремлюсь душою и к жарким я твоим устам хочу припасть, вдвоем с тобою плыть небесною стезею
и снова ощутить: любви всесильна власть».
Но ветер остудил мой лоб ночной росою, и взор Венеры мне явил печаль — не страсть.
34
зимой
Взгляните: здесь, в гостиной, Каролина; морозною зимой, в вечерний час, в собольей шубке, в кресле у камина сидит, устав, бедняжка, от проказ.
Ангорский кот к ней ластится невинно и выгибает спину всякий раз.
За ширмою японскою старинной заметны контуры китайских ваз.
Глаза закрыла; снится сон ей, грешной: вот я вхожу — бесшумно, словно кот, пальто снимаю и целую нежно,
как розовый бутон, припухший рот. Глаза открыла. Это явь, конечно.
А над Парижем сонным снег идет.
35
ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ
Властно с земли взметенный дыханием вдохновенья, ты озаряешь царство Муз — бессмертных сестер: так на слоне объезжает раджа свои владенья, так он глядит на долины, реки и цепи гор.
В строфах твоих — океана гулкое сердцебиенье, свежесть девственной чащи, львиных пустынь простор. Лира свет источает, струн согласное пенье с грохотом ветра и моря в стройный сливается хор.
Ты посвящен факиром в тайную суть превращений, в мудрость магических знаков, в мир колдовских видений, — ведом тебе Востока тысячелетний лик.
Запах земли в твоих песнях, дышат в них чуждые страны, каждый твой стих опоясан молниями Рамаяны, в каждом громовом созвучье — сельвы грозный язык.
36
УОЛТ УИТМЕН
В стране, что так сильна, великий старец чтится. Красив, как патриарх, и добрый, и суровый, морщиной Зевсовой он мог бы возгордиться, повелевать, пленять и побеждать готовый.
Вселенная в него, как в зеркало, глядится, по для усталых плеч не сотканы покровы.
Из дуба древнего в руках его цевница, по песню юную поет провидец новый.
Как голос божества в нестройном нашем хоре, он возвещает нам начало лучших дней; твердит орлу: «лети»; «греби» — тому, кто в море;
«трудись» — рабочему: рабочий всех сильней. Своим путем идет поэт в земном просторе, величествен лицом, как царь земли своей.
37
ГЛУХОЙ САТИР
Греческая сказка
Жил недалеко от Олимпа сатир, и был он царем в своем лесу. Боги сказали ему когда-то: «Наслаждайся, лес в твоей власти; будь счастлив, смейся, гоняйся за нимфами и играй на свирели». И сатир развлекался.
* * *
Однажды, когда Аполлон играл на своей божественной лире, сатир вышел из леса и осмелился подняться на священную гору, где и застал длиннокудрого бога. В наказание тот лишил его слуха, сделав глухим, как скала. Напрасно с тех пор из переполненной птицами чащи разносились трели и воркованье. Сатир не слышал ничего. Филомела рассыпала рулады над его лохматой, увитой виноградными побегами головой, и от ее пения замирала вода в ручьях и бледные розы наливались цветом. А он оставался бесстрастным или же дико хохотал и похотливо вскакивал, заметив среди ветвей чье-либо белое округлое бедро, ласкаемое солнцем. Все звери были ему послушны и ходили за ним, как за своим повелителем.
Чтобы развлечь сатира, перед ним танцевали вакханки, одержимые безумством страсти, и юные фавны, словно прекрасные эфебы, сопровождали его, посылая ласковые улыбки; и хотя сатир не слышал ни звука голосов, ни шороха гремучих змей, наслаждения его были разнообразны. Так и текли дни бородатого, козлоногого лесного царя.
* * *
Сатир был капризен.
У него было два придворных советника: жаворонок и осел. Первый потерял свое влияние, когда хозяин оглох.
38
Рубен Дарио, 1915 год.
А раньше, бывало, устав от любовных утех, сатир играл на свирели и жаворонок подпевал ему.
Теперь же смирный длинноухий осел возил сатира по лесу, где тот не слышал даже раскатов олимпийского грома, в то время как звонкоголосый жаворонок улетал на заре навстречу солнцу.
Лес был огромным. И жаворонок обитал на самой вершине деревьев, а осел — внизу, где можно пастись. Жаворонка приветствовали первые лучи рассвета, он пил росу из свежих листьев, от его крика: «Проснись, старый дуб!» — тот пробуждался. Он наслаждался поцелуями солнца, ведь был любим утренним светилом. И бездонное голубое небо, такое великое, знало, что крохотная птичка летает в его просторах. Осел же (хоть тогда еще он и не успел побеседовать с Кантом) слыл знатоком философии. Сатир, наблюдая, как тот щиплет травку, с серьезным видом поводя ушами, был очень высокого мнения об этом мыслителе. Конечно, в то время осел еще не приобрел большой известности. Работая своими челюстями, он и представить не мог, что о нем будут писать Даниэль Хейнсиус на латыни, Пассера, Бюффон и великий Гюго на французском, Посада и Вальдеррама на испанском.
Он был смиренным, если его кусали мухи, отгонял их хвостом, время от времени брыкался, и под сводами леса разносился его странный крик. И лес был ласков к нему. Во время послеобеденного сна, когда он ложился на мягкую черную землю, цветы и травы дарили ему свои ароматы. А большие деревья склоняли ветви, чтобы укрыть его от солнца.
В то время Орфей, поэт, убегая от людской жадности, решил уйти в леса, где камни и деревья могли внимать ему в экстазе и где он сам, играя на лире, мог бы упиваться вдохновением и огнем любви и жизни.
Когда Орфей играл на лире, лицо его освещалось улыбкой, и он был похож на Аполлона. Деметра наслаждалась его пением. Пальмы рассыпали пыльцу, лопались семена, львы мягко потряхивали гривами. Однажды цветок гвоздики оторвался от стебля и полетел, превратив-
40
шмсь в красную бабочку, а одна звезда, зачарованная, i-пустилась с неба и обернулась лилией.
Что же может быть лучше, чем лес сатира, которого пн будет радовать и где все его будут считать полубогом? Лес, полный веселья, танцев, красоты и земной шобви, где нимфы и вакханки купаются в ласках и остаются девственными, где растет виноград и розы, раздаются звуки систра и где пьяный козлоногий царь, подобно Силену, скачет и танцует перед своими фавнами.
* * *
Орфей пришел в лавровом венке, с лирой и вдохновенным, сияющим ликом.
Пришел к лесному лохматому сатиру за гостеприимен гвом — и запел. Он пел о великом Зевсе, об Эроте и Афродите, о статных кентаврах и жарких вакханках, он пел о кубке Диониса, о его тирсе, пронзающем воздух, о Пане, повелителе гор и властителе лесов, боге-сатире, который тоже умел петь. Он воспел все потайные уголки неба и великой матери-земли. В мелодии его эоловой арфы был слышен шелест деревьев, шорох улитки и гармония звучащей сиринги. Он пел о стихах, нисходящих с небес и услаждающих богов, об одах, исполняемых под звуки барбитона, и о пеанах, сопровождаемых ударами тимпана. Пел о тающих снегах и золотых кубках, о маленьких пташках и солнечной славе.
Как только он начал петь, солнце засверкало новым блеском. Дрогнули огромные деревья, с роз облетели листья, а лилии томно склонились в полуобморочной неге. Потому что ритмичные звуки лиры Орфея заставляли львов — стонать, а камни — плакать. Самые яростные вакханки притихли и, словно во сне, слушали его. ()дна девственная наяда, которой не касался даже взгляд сатира, робко приблизилась к певцу и сказала: «Я люблю тебя». Филомела взлетела и села на его лиру, подобно Анакреоновой голубке. (Не было даже эха — только голос Орфея разносился по лесу. Природа внимала великому гимну. Афродита, проходившая неподалеку, про-
41
молвила своим божественным голосом: «Уж не Аполлон ли здесь поет?»
И единственным, кто в этой дивной общей гармонии ничего не услышал, был глухой сатир.
Поэт закончил играть и спросил его:
— Вам понравились мои песни? Если да, то я останусь с вами в лесу.
Сатир посмотрел на двух своих советников. То, чего не мог понять он сам, должны были решать они. Взглядом он испрашивал их мнения.
* * *
— Мой господин, — сказал жаворонок, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал как можно громче, — пусть тот, кто пел столь прекрасно, останется с нами. Вот его чудесная мощная лира. Сегодня она показала тебе свое величие и удивительный свет, который ты видел в лесу. Она подарила тебе гармонию. Мой господин, я разбираюсь в таких вещах. Когда приходит нагая заря и пробуждается мир, я взмываю к небесам и оттуда, с вышины, рассыпаю невидимые жемчуга моих трелей, и в утреннем свете моя песня заполняет весь воздух и мир ликует. Так вот, я скажу тебе: Орфей пел превосходно, он избранник богов. Его музыка опьянила весь лес. Над нашими головами кружились орлы, цветущие кусты слегка покачивали ветвями, словно таинственными кадилами, даже пчелы покинули ульи и прилетели послушать его. А я — о мой господин! — если бы я был на твоем месте, то подарил бы ему виноградную гирлянду и тирс. Есть два вида могущества: реальное и идеальное. То, что Геркулес может сделать силой рук, Орфей делает благодаря вдохновению. Если герой-силач одним ударом мог бы разрушить даже саму гору Афон, то Орфей укротил бы своим удивительным голосом и Не- мейского льва, и Эриманфского вепря. Одни люди рождаются, чтобы ковать железо, другие — чтобы растить пшеницу на плодородной земле, третьи — чтобы воевать и проливать кровь, а есть те, кто рожден, чтобы
42
учи и., восславлять и петь. Если я — твой виночерпий, iiHi иино и услаждай свой вкус; если же я пою тебе i ими услаждай свою душу.
* * *
11ока жаворонок пел, Орфей наигрывал мелодию, и мощное лирическое дуновение разносилось по зеленому fi на гоу хающему лесу. Глухой сатир начал беспокоиться. К го же этот странный посетитель? Почему с его прихо- ||ом прекратились безумные сладострастные танцы? Что шпорят его советники?
Лх, да! Жаворонок пел, но сатир не слышал его. Тогам сатир посмотрел на осла.
Нужно его мнение? Так вот, перед всем огромным женящим лесом, под священной небесной синевой осел мотнул головой из стороны в сторону, серьезно, упрямо, кномно мудрец, размышляющий о чем-то.
Тогда сатир вонзил свое копыто в землю, грозно нахмурил брови и, не понимая сам, что делает, прокричал, указывая Орфею, чтобы тот убирался из леса:
Вон!
Эхо докатилось до соседнего Олимпа и отдалось там i ромким дружным хохотом веселящихся богов, который мотом назвали гомерическим.
А грустный Орфей ушел из леса глухого сатира, он был готов повеситься на первом попавшемся лавре.
Но не повесился, а женился на Эвридике.
43
НИМФА
Парижская история
За столом в замке, который недавно приобрела Лес- бия, эта капризная и взбалмошная актриса, нередко становившаяся предметом сплетен благодаря своим экстравагантным выходкам, нас было шестеро. Председательствовала наша Аспазия, занятая тем, что, как маленькая сладкоежка, посасывала влажный белый кусочек сахара, который она держала розовыми пальчиками. Подали шартрез. Вина, стоящие на столе, казались расплавленными драгоценными камнями, а свет канделябров преломлялся в полупустых бокалах, в которых оставалось еще немного пурпурного бургундского, златокипящего шампанского и изумрудного мятного ликера.
После великолепного обеда мы с воодушевлением заговорили о великолепных художниках. В той или иной мере художником был каждый из нас; а еще в нашей компании был один тучный ученый, на белоснежной манишке которого красовался огромный узел чудовищного галстука.
Кто-то воскликнул: «Ах, Фремье!», а от Фремье разговор перешел к изваянным им животным, к его мастерству и к двум бронзовым собачкам, которые стояли рядом с нами; одна из них словно готова была взять след, а другая, как будто смотря на охотника, взъерошила загривок и подняла тонкий прямой хвост. Потом кто-то заговорил о Мироне. И тогда тучный ученый прочел нам на греческом эпиграмму Анакреона:
Дальше паси свое стадо, пастух, чтобы телку Мирона,
Словно живую, тебе с прочим скотом не угнать.*
Лесбия перестала сосать сахар и, рассмеявшись своим серебристым смехом, сказала:
* Перевод Л. Блуменау.
44
Л мне милее сатиры. Вот если бы я могла оживить мин бронзовые статуэтки, я бы взяла себе в любовники
• итого из этих волосатых полубогов. Ну, а уж кентавров ■i просто обожаю; я бы позволила, чтобы меня похитило
0 ЛИО из этих могучих чудовищ лишь для того, чтобы у лишать жалобы обманутого, который грустно заигра- ■ i на флейте.
Совершенно очевидно, — перебил ученый, — что »in иры и фавны, кентавры и сирены существовали так *г. как саламандры и птица феникс.
Мы все засмеялись; но среди общего смеха выделял-
• и неудержимый и очаровательный смех нашей красавицы Лесбии, раскрасневшееся лицо которой сияло от удо- иольствия.
Так вот, — продолжил ученый, — по какому пра- IIV мы теперь опровергаем то, что утверждали древние?
1 )i ромная, в человеческий рост, собака, которую видел А лсксандр Македонский, столь же реальна, сколь и паук Кракен, живущий в морской пучине. А помните ли вы, что произошло со святым Антонием, когда тот, будучи /юииностолетним старцем, отправился на поиски отшельника Павла, жившего в пещере? Не смейся, Лесбия! i юн ой Антоний шел по пустыне, опираясь на посох, и не знал, где найти отшельника Павла. И знаете, кто покати ему дорогу? Кентавр — «помесь человека с лошадью», как описывает его святой Иероним. При этом кен- ишр говорил со святым Антонием сердито и поспешно убежал, так что святой вскоре потерял его из виду; а скакало чудовище так, что его грива развевалась на ветру, а брюхо волочилось по земле.
В этом же путешествии около ручья видел святой Атоний и сатира, «существо странного вида с крючко- натым носом, морщинистым лбом, тело которого закан- чикалось козлиными ногами».
— Ни дать ни взять мсье Кокюро, будущий член Института! — сказала Лесбия.
— Святой Иероним утверждает, — продолжил учений, — что во времена Константина Великого в Александрию привезли живого сатира, а когда тот умер, его
45
тело забальзамировали. Кроме того, император видел сатира в Антиохии.
Лесбия налила себе еще мятного ликера и стала лакать его, как кошечка.
— Альберт Великий говорит, что в его время в горах Саксонии поймали двух сатиров. Генрих Зорман уверяет, что в землях Татарии живут люди с одной только ногой и с одной рукой на груди. Вицентий видел в свое время чудовище, которое привезли ко двору французского короля; чудовище это было с собачьей головой (Лесбия засмеялась), ноги и руки у него были без волос, как у людей (Лесбия веселилась, как девчонка, которую щекочут), а ело оно вареное мясо и охотно пило вино.
— Коломбина! — позвала Лесбия.
И вот появилась Коломбина, болонка, тельце которой казалось пушистым комочком. Лесбия взяла ее на руки под всеобщий смех.
— Ну надо же, ты только представь: чудовище с твоей мордочкой!
Лесбия поцеловала собачку в морду, в то время как та дрожала и раздувала ноздри, словно от сладострастия.
— А вот Фигелон Тралиан, — изящно заключил ученый, — настаивает на существовании двух классов гип- покентавров, причем представители одного из этих классов величиной со слонов.
— Довольно учености, — сказала Лесбия, допивая мятный ликер.
Я был счастлив. За всю беседу я не проронил ни слова.
— О! — воскликнул я. — А мне милее всего нимфы! Мне бы хотелось созерцать в лесу или у источника их обнаженные тела, даже если бы, как Актеона, меня потом растерзали собаки. Но нимф не существует!
Этот веселый концерт завершился фугой смеха расходящихся гостей.
— Ну нет, — сказала мне Лесбия, пронизывая меня своим взглядом вакханки, а потом, понизив голос до слышного только мне шепота, добавила: — Нимфы существуют, и ты в этом убедишься!
46
* * *
Ьыл весенний день. С видом неисправимого роман- шки я бродил по парку около замка. В кустах сирени, покрытых свежими цветами, чирикали воробьи и клева- II и жуков, которые защищались от их клювов своими и |умрудными панцирями и золотистыми стальными на- I рудничками. Пунцовые, красные, как киноварь, розы источали густой сладкий аромат; а за ними на больших клумбах фиалки успокаивали зрение и обоняние своим цветом и девственным запахом. Дальше виднелись высокие деревья, в густых ветвях которых гудели пчелы; в полумраке различались статуи — бронзовые дискоболы, мускулистые гладиаторы в горделивых гимнастических птах, а за ними — душистые беседки, увитые вьюнком, портики ионического ордера, белоснежные чувственные кариатиды и мощные атланты с широкими спинами и выпуклыми бедрами. Я бродил по этому волшебному лабиринту, когда услышал шум, там в полумраке аллеи, на пруду, в котором плавали белые, словно высеченные из алебастра, лебеди: одни были совсем белые, а шея других была наполовину черной и напоминала белоснежную ногу в черном чулке.
Я подошел поближе. Неужели это сон? Но нет! Я почувствовал то же, что и ты, Нума, когда впервые увидел и фоте Эгерию.
В центре пруда, среди взволнованных и напуганных лебедей, купалась, пофужая в кристально-чистую воду свое розовое тело, нимфа, самая настоящая нимфа. Неяркий свет, падавший сквозь листву, золотил ее бедра в окружении пены. О! я увидел розы и лилии, золото и снег; я увидел воплощенный идеал и услышал среди журчания вод насмешливый и гармоничный смех, от которого кровь моя заифала.
Но вдруг видение исчезло; нимфа вышла из пруда, как Киферея из морских волн, и, собрав мокрые и блестящие волосы, побежала меж розовых кустов, мимо сирени и клумб с фиалками, туда, за густые деревья, пока, увы! совсем не скрылась из виду; а я, лирический поэт, осмеянный фавн, остался созерцать больших
47
алебастровых птиц, которые, будто насмехаясь надо мной, вытягивали свои длинные шеи и шипели блестящими агатовыми клювами.
* * *
Потом мы завтракали все вместе — те же самые друзья, что собрались накануне за ужином; был, конечно, и тучный ученый, будущий член Института, с триумфальным видом несший на груди свой огромный темный галстук.
И вдруг, пока все говорили о последней работе Фре- мье, выставленной в салоне, Лесбия воскликнула своим веселым парижским голосом:
— Тэ-тэ-тэ! — как говаривал Тартарен. А наш поэт видел нимф!..
Все с удивлением посмотрели на нее, а она смотрела на меня, как кошечка, и смеялась, как девчонка, которую щекочут.
ИЗ СБОРНИКА «ЯЗЫЧЕСКИЕ ПСАЛМЫ»
(1896)
ВАРИАЦИИ
Ты здесь, со мной, и вновь в твоем дыханье я чую воскурений древний дым, я слышу лиру, и в воспоминанье опять встают Париж, Афины, Рим.
Дыши в лицо, пусть кружат роем пчелы, сбирая с кубков олимпийских дань, полны нектара греческие долы, и Вакх, проснувшись, будит (смехом рань.
Он будит утро золотой Эллады, сжимая тирс, увенчанный плющом, и славят бога пляскою менады, дразня зубами и карминным ртом.
Вакханки славят бога, тают росы вокруг костра, рассвет жемчужно-сер, и от огня румяней рдеют розы на пестрых шкурах бархатных пантер.
Ликуй, моя смешливая подруга!
Твой смех — вино и лирные лады, у Термина он треплет ветром юга кудель длинноволосой бороды.
Взгляни, как в роще бродит Артемида, сквозя меж листьев снежной наготой, как ищет там Адониса Киприда, с сестрою споря нежной белизной.
49
Она — как роза на стебле, и нарды в себя вбирают пряный аромат, за нею мчатся свитой леопарды, за ней голубки белые летят...
*
Ты любишь греков? Ну а я влюбленно смотрю в таинственную даль веков, ищу галантных празднеств мирт зеленый, страну Буше из музыки и снов.
Там по аллеям шествуют аббаты, шепча маркизам что-то на ушко, и о любви беспечные Сократы беседуют лукаво и легко.
Там, в изумрудных зарослях порея, смеется нимфа уж который год с цветком аканта, мрамором белея, и надпись Бомарше на ней живет.
Да, я люблю Элладу, но другую, причесанную на французский лад, парижскую нескромницу, живую, чей резвый ум на игры тороват.
Как хороша в цветах, со станом узким богиня Клодиона! Лишь со мной она лопочет тихо по-французски, смущая слух веселой болтовней.
Без размышлений за Верлена разом Платона и Софокла б я отдал!
В Париже царствуют Любовь и Разум, а Янус власть отныне потерял.
Прюдомы и Оме — тупы и грубы, что мне до них, когда Киприда есть,
50
и я тебя целую крепко в губы и глаз не в силах от тебя отвесть...
♦
Играет мандолина; звуки, плача, влетают в флорентийское окно...
Ты хочешь, как Панфило у Боккаччо, тянуть глотками красное вино,
шутя, внимать соленым разговорам поэтов и художников? Смотри, как сладко слушать ветреным сеньорам о шалостях Амура до зари.
*
Тебе милей Германии просторы?
Песнь соловья, луны белесый свет?
Ты будешь Гретхен, чьи лазурны взоры, — навеки ими ранен твой поэт.
И ночью, волнами волос белея в лучах сребристых, на крутой скале, красавица русалка Лорелея нам пропоет в сырой туманной мгле.
И Лоэнгрин предстанет перед нами под хмурым сводом северных небес, и лебедь, по воде плеща крылами, напомнит формой шеи букву «S».
Вот Генрих Гейне; слышишь, как в дремоте о берег трется синеглазый Рейн, и, с белокурой гривой, юный Гёте пьет чудо лоз тевтонских — мозельвейн...
51
*
Тебя манят земли испанской дали, край золота и пурпурных цветов, любовь гвоздик, чьи лепестки вобрали пылающую кровь шальных быков?
Тебе цветок цыган ночами снится?
В нем андалусский сок любви живой, — его дыханье отдает корицей, а цвет — багрянец раны ножевой.
*
Ты от востока не отводишь взора?
Стань розою Саади, я молю!
Меня пьянят шелка и блеск фарфора, я китаянок, как Готье, люблю.
Избранница, чья ножка на ладони поместится! Готов тебе отдать драконов, чай пахучий, благовонья и рисовых просторов благодать.
Скажи «люблю» — у Ли Тай-бо немало подобных слов, его язык певуч, и я сложу сонеты, мадригалы и, как философ, воспарю меж туч.
Скажу, что ты — соперница Селены, что даже небо меркнет пред тобой, что краше и милей богатств вселенной твой хрупкий веер, снежно-золотой.
*
Шепни «твоя», явясь японкой томной из сказочной восточной старины, принцессой, целомудренной и скромной, в глазах которой опочили сны,
52
той, что, не зная новшеств Ямагаты, под пологом из пышных хризантем, сидит недвижно в нише из агата, и рот ее загадочен и нем...
Или приди ко мне индусской жрицей, справляющей таинственный обряд, ее глаза — две огненные птицы, пред ними даже небеса дрожат.
В ее краю и тигры и пантеры, там раджам на разубранных слонах всё грезятся плясуньи-баядеры в алмазах и сверкающих камнях.
Или явись смуглянкою, сестрою — той, что воспел иерусалимский царь, пускай под нежной девичьей ступнею цикута с розой расцветут, как встарь...
Любовь, ты даришь радости любые!
Ты скажешь слово — зеленеет дол, ты чарами заворожила змия, что древо жизни некогда оплел.
Люби меня, о женщина! Какая страна — твой дом, не всё ли мне равно! Моя богиня, юная, благая, тебя любить мне одному дано.
Царицей Савской, девой-недотрогой в моем дворце, где розовый уют, усни. Рабы нам фимиам зажгут, и подле моего единорога, отведав мед, верблюды отдохнут.
53
К ДЕРЕВНЕ
Моя деревня, здравствуй! И пусть Буэнос-Айрес клокочет в отдаленье, средь суеты сует, — в твоей зеленой славе душой опять воспряну, вдохну твое дыханье, нырну в твой яркий свет. Расти, мой сад, счастливо! Благословенна свежесть, что окунает персик в благоуханный цвет!
Пусть улица Флорида, проложенная в розах, Богатству, Славе, Спорту с улыбкой шлет привет! Пернатый стихотворец полощет трелью горлышко, хвастливый воробьишка трезвонит — не прерви! Ползучие лианы болтают о политике, а лилии и розы — о музах и любви.
Здесь правит Пэк лукавый, миллионер фантазии, квадригой стрекозиной, летящей в небосклон. Циркачка несравненная, вплывает в колеснице Титания-царица, и с нею — Оберон.
А ночью засверкает на безмятежном небе колечко золотое возлюбленной Пьеро, настанет бледный праздник, и с лиры-невидимки — до-ре-ми-фа! — закаплет созвучий серебро.
С балконов свесят ушки фиалки любопытные, и — вздох нетерпеливый: ну, скоро ль соловей?
Невидимые сильфы сплетают вальсы бризов в вальпургиевом вихре видений и теней.
Внезапно крик далекий послышался из пампы, серебряного солнца мерещится закат, и призрачный наездник скользит неясной тенью — запахнутое пончо и невеселый взгляд.
— Кто ты, полночный странник, чужой и одинокий?
— Поэзией зовусь я, и здесь приют был мой; я — гаучо-изгнанник, что родину оставил
и душу прежней пампы навек унес с собой.
54
КАРНАВАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Le Carnaval s’amuse!
Viens le chanter, ma Muse...
Banville*
Сбрось, Муза, грусти покрывало и маску на лицо надень: сегодня утро карнавала, веселый день!
Танцуй в кругу по друг-девчонок, вводи прохожих ножкой в грех, пускай звучит, как лира звонок, твой юный смех.
Как быть без крыльев? Что ж, пожалуй, ты, по примеру мотылька, возьми взаймы у розы алой два лепестка.
Тревога больше грудь не гложет, — так пусть в хохочущий твой рот пчела заботливая вложит сладчайший мед.
Повеселись на маскараде, где, размалеван, полосат,
Фрэнк Браун в шутовском наряде смешит ребят
и где, на радугу похожий, вертится Арлекин-остряк и Пульчинелла строит рожи толпе зевак.
* Пой, Муза, пестрый, шумный Наш карнавал бездумный!..
Банвиль (фр.).
55
Поведай Коломбине пылкой, чтомя любовью к ней томим, и примани Пьеро бутылкой и выпей с ним —
пусть о луне своей любимой расскажет, не тая обид,
№ щусть поэму пантомимой изобразит.
Вот золотая мандолина — гимн красоте сыграй на ней и черный призрак, призрак сплина, гони взашей!
Гречанкой стань, исполнись неги, под цитру пой любви огонь иль, по примеру гаучо Веги, гитару тронь.
Иди, стройна и величава, вдоль карнавальной пестроты, смеясь, налево и; направо бросай цветы.
В гнездо Андраде вековое брось горсть жемчужин, не скупясь, плащ Гидо пылью золотою ты разукрась.
Всё побоку — заботы, горе, где весело, туда лети, из лучших роз богине Флоре венок сплети,
сонет с изящным посвященьем у ног бессмертной положи и гармоничных строк теченьем обворожи.
56
Кружись, вертись, импровизируй, хмельных и шалых строф не правь и карнавал своею лирой навек прославь —
его сверкающие краски, его шумливую игру, накидки, бусы, перья, каски и мишуру!
И многозвучный голос эха победоносно разнесет твои слова, и взрывы смеха, и рифм полет.
57
ХВАЛА СЕГИДИЛЬЕ
Этой магией метра, пьянящей и грубой, то веселье, то скорбь пробуждая в сердцах, ты, как встарь, опаляешь цыганские губы и беспечно цветешь на державных устах.
Сколько верных друзей у тебя, сегидилья, музыкальная роза испанских куртин, бродит в огненном ритме твоем мансанилья, пряно пахнут гвоздики и белый жасмин.
И пока фимиам тебе курят поэты, мы на улицах слышим твое торжество. Сегидилья — ты пламень пейзажей Руэды, многоцветье и роскошь палитры его.
Ты разубрана ярко рукой ювелира, твой чекан непростой жемчугами повит.
Ты для Музы гневливой не гордая лира, а блистающий лук, что стрелою разит.
Ты звучишь, и зарей полыхают мониста, в танце праздничном юбки крахмалом шуршат, Эсмеральды за прялками в платьях искристых под сурдинку любовные нити сучат.
Посмотри: входит в круг молодая плясунья, извивается, дразнит повадкой змеи.
Одалискою нежной, прелестной колдуньей ее сделали в пляске напевы твои.
О звучащая амфора, Музой веселья в тебе смешаны вина и сладостный мед, андалусской лозы золотое похмелье, соль, цветы и корица лазурных широт.
58
Щеголиха, в каких ты гуляешь нарядах: одеваешься в звуки трескучих литавр, в шелк знамен на ликующих пестрых парадах, в песни флейты и крики победных фанфар.
Ты смеешься — и пенится вихрь карнавала, ты танцуешь — и ноги пускаются в пляс, ты заплачешь — рождаются звуки хорала, и текут у людей слезы горя из глаз.
Ты букетом созвучий нас дразнишь и манишь, о Диана с певучим и дерзким копьем, нас морочишь ты, властно ласкаешь и ранишь этим ритмом, как острых ножей лезвеем.
Ты мила поселянкам, ты сельских угодий не презрела, кружа светоносной пчелой; и в сочельник летящие искры мелодий в поединок вступают с рождественской мглой.
Ветер пыль золотую клубит на дорогах, блещет в небе слепящей лазури поток, и растет на испанского Пинда отрогах сегидилья — лесной музыкальный цветок.
59
ЛЕБЕДЬ
Это пробил божественный час, человечеству данный. Лебедь пел в старину перед тем, как ему умереть.
Но сегодня в гармонии новой, зарей осиянный, лебедь Вагнера к жизни воскрес, чтобы утро воспеть.
И над морем судеб человеческих, в выси туманной всё слышней лебединая песня, и век ей греметь. Молот Тора она заглушила, и гром его бранный, и поющую меч Аргантира фанфарную медь.
О, божественный лебедь! О, если и вправду Елена из снесенного Ледой яйца, из лазурного плена в мир явилась и нам принесла идеал красоты —
обновленная песнь, распахни белых крыльев объятья! Пусть в гармонии звука и света свершится зачатье чистой, вечной Елены — твоей воплощенной мечты.
60
СИМФОНИЯ В СЕРОМ МАЖОРЕ
Цинковым листом нависло небо над морской водой, подобной ртути; серебрится стая птиц на фоне серой и сырой небесной мути.
Солнце, словно хрупкий шар стеклянный, катится в зенит неторопливо; в пыльной бархатной тени долины ветер шелестит листвой лениво.
Волны бьются о причал дощатый, море, налито свинцом, стенает. Примостившись на канатной бухте, старый волк морской, курящий трубку, о далеком прошлом вспоминает.
Помнит он, как бушевали волны, над его суденышком взлетая, как сжигал ему лицо экватор, как ревмя ревел тайфун Китая.
Запах соли, водорослей, йода полной грудью он вдыхает жадно, на плечах своих бушлат матросский ощущать ему всегда отрадно.
Сквозь табачный дым, плывущий в море, видятся ему моря иные, берега далеких стран и порты, где бывал он в годы молодые.
Сонный полдень. И старик смежает, задремав, свои глаза устало.
Серой дымкой горизонт затянут, море тихо плещет у причала.
61
Сонный полдень. Песней монотонной ранит слух цикада под сосною, и кузнечик-старичок ей вторит — скрипка у него с одной струною.
62
ПОДВИГ СИДА
Франсиско Ассису де Икасе
WiipGe в стихах поведал (их не затмила проза) о подвиге Родриго -— тот подвиг свеж, как роза, м светел, словно жемчуг. В том доблестном деянии не слышатся раскаты победных труб Испании, м мавры не бросают свой лагерь укрепленный, едва блеснет на солнце нагая сталь Тисоны.
Ьабьека, отдыхая от бурь поры военной, шашком бредет неспешно, и всадник несравненный вдыхает полной грудью весеннее цветенье.
Весна дарит улыбкой, и жизни дуновенье бутоны грез и лилий пред Сидом раскрывает; Родриго едет молча, бог весть о чем мечтает, и вдруг ему навстречу, лучами озаренный, с протянутой рукою выходит прокаженный.
Лицом к лицу столкнулись: один — великий воин, он, как святой Иаков, — прекрасен, молод, строен; другой — живая падаль, чей мерзостный недуг отраву источает и сеет страх вокруг.
Протягивая руку, бедняк к нему подходит.
Родриго Диас ищет кошель — и не находит.
«О брат мой, — молвит рыцарь, — вот всё,
что в силах дать я:
прими, как подаянье, мое рукопожатье!»
Стальную рукавицу с руки снимает он, дает бедняге руку. Тот плачет, потрясен.
Барбе нас угощает преданием отменным — из галльского бокала напитком драгоценным.
Я тот бокал наполню Кастилии вином: итак, Родриго Диас опять своим путем
63
поехал, надевая стальную рукавицу, зеленой тропкой. С ветки порой роняла птица серебряную ноту. В весеннем аромате как будто ощущалось дыханье благодати, и звоны колоколен, заполнившие дали, как горлинки златые, казалось, ворковали; летела по дорогам цветов душа живая, свой голос с голосами паломников сливая; великий Сид с восторгом почувствовал тогда, что в сердце умиленном затеплилась звезда.
К нему по свежей пашне неслышною стопою шла девочка навстречу, сияя чистотою, шла девочка навстречу, нет! — юная жена.
Была она, как ангел — бела, тиха, нежна.
Была она, как фея — живое воплощенье божественно прекрасной весны, поры цветенья.
Она сказала Сиду: «О рыцарь несравненный, прими во имя Бога подарок от Химены — прими венок лавровый и первой розы цвет!»
И на челе у Сида — шлем, лаврами увитый, в железной рукавице — цветок полураскрытый, и сладко в душу льется доверчивый привет.
64
колос
Взгляни на этот колос: покорный дуновенью, он под ладонью ветра то клонится слегка, то выпрямляет стебель в ритмическом движенье. И золотистой кистью по воле ветерка
на полотно лазури нанесены мгновенья извечных таинств мира, суть истины близка, и в свежести рассвета, как в неком откровенье, душа вещей раскрылась, проста и велика.
Взгляни — в покое поля Господень лик угадан. В кадильницах цветущих благоухает ладан, на алтаре небесном улыбка расцвела.
Всё зелено, всё щедро усыпано цветами, и безмятежно агнец пасется под ветвями, и в злаке — слитке злата — дремотная хвала.
65
5Зак. ЗЯ4Я
источник
Прими, мой отрок, в дар серебряный бокал, избудет жажду тот, кто из него напьется, — ту жажду, чей огонь опасней, чем кинжал.
Но только пей всегда из одного колодца.
Ищи живой исток, сокрытый в сердце скал, — чужой родник тебе слезами отольется.
И там, где зазвучит певучих струй кристалл, заплачет дерево и камень отзовется.
Пусть эхо тайных вод всегда тебя ведет.
По скалам гордости взойди к снегам высот, вернись за верностью в ту бездну, в те пещеры,
где стражи грозные оберегают вход: то смертных семь грехов, свирепые пантеры. Возьми бокал и пей: твой ключ в тебе живет.
66
СТАРУХА
Сказала мне старуха: «В иные времена сухая эта роза была свежа, прекрасна.
Стирает время стены и реки пьет до дна, но мудрость этой книги стереть оно не властно.
На лепестках поблекших записана бесстрастно та истина, что в книги твои не внесена.
Она живит уста мне гармонией согласной, и я пряду сказанья под шум веретена».
Я ей сказал: «Ты — фея!» Она в ответ: «Я — фея, весну и свежесть розе я воротить умею, я дам ей жизнь и крылья, ты убедишься в том!»
И — чудо: нет старухи. В сверкающей короне царевна предо мною, и вдруг в ее ладони безжизненная роза вспорхнула мотыльком.
67
ПОЭТАМ РАДОСТИ
Старик Анакреон, веселый сумасброд,
Овидий, жрец любви, искусной и нескромной, Кеведо-жизнелюб, насмешник неуемный, Банвиль, к нему сошла поэзия с высот, —
поэты радости, в веках бессмертный род, вы, собеседники ночные розы томной, вы, пчелы Аттики, над прозой жизни темной живой поэзии сбирающие мед,
мои латиняне, прекрасна ваша муза, ликующих стихов люблю полет хмельной, и не нужна душе унылая обуза
напевов Севера с их мертвенной тоской:
они меня страшат, как древняя Медуза, —
так прочь от них, мой стих, прочь, жаворонок мой!
68
МАРИНА
Когда я нанял судно до берегов Киферы, иолнам я поклонился, и волны отвечали радушным женским пеньем, стихом трехстопной меры, и маяков священных огни меня встречали н лиловом полумраке, исполненном привета.
Прощайте, — говорил я, — отвергшие поэта суровые утесы, края тоски моей!
Прощай, бесплодный берег, где увядают лозы и опадают ноты с оливковых ветвей!
Вегу от вас на остров, где девушки и розы, где громок лирный звон,
где муза мне протянет раскрывшийся бутон. —
Моей надежной лодкой Готье когда-то правил, Верлена к рощам Кипра носило судно то, оно без всяких правил сошло с чудесной верфи кудесника Ватто.
И над священным морем мечты и сновидений луна лениво пряла на прялке золотой бесчисленные нити атласных облачений, и бризы в рог трубили, приход встречая мой, и, надувая щеки, резвей мой парус мчали.
Напевы Филомелы в душе моей звучали, когда с земли донесся какой-то странный стон.
Тогда я оглянулся и вижу привиденье,
что прежним моим сердцем обрек я на забвенье.
И обратил я взоры в бездонный небосклон, и, чтоб не слышать голос, оставленный на суше, я, как герой Гомера, зажал руками уши.
И я взмолился: — Ветры, взволнуйте зыбь и твердь, быстрей умчите, ветры, меня на остров жизни! —
И скорбное виденье, истаяв в укоризне, скулило, как собака, почуявшая смерть.
69
ДУША МОЯ
Ты — продолжение сокрытой мысли Бога. Сияет над тобой судьбы высокой знак.
Иди своим путем, пока не снидет мрак и к Сфинксу не придет последняя дорога.
В пути срывай цветы, а тернии не трогай, вдоль золотой реки на весла приналяг, приветствуй грубый плуг и Триптолемов злак, иди, как божество, вслед за мечтою строгой!
Иди, как божество, и счастья торжество пускай тебя несет под птичьи перезвоны, и звезды за тобой последуют влюбленно.
Надежда прорастет от взора твоего.
Пройди сквозь чащу зла, светла и непреклонна, вперед! Не бойся змей! Иди, как божество!
ИЗ СБОРНИКА
«ПЕСНИ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ» (1905)
СИРАНО В ИСПАНИИ
Йог Сирано де Бержерак в плаще, подбитом пылью, одним прыжком перемахнул из Франции в Кастилью.
11с дь и у нас живут в крови вино, любовь и солнце, — как брата, обнял Дон Кихот великого гасконца.
Иль не Испания — земля, куда стремятся грезы? Мурильо наши нарядят Роксан в живые розы. Голедской шпагою не раз врагов разил Кеведо, гасконцы сталью дорожат из города Толедо.
Известно всем, что Сирано был на Луне, однако Мигель Сервантес там бывал еще до Бержерака, и Клавиленьо — так его пегаса величали — нес господина своего в заоблачные дали.
Конечно, Сирано читал Сервантеса творенья, пред светлым гением его он полон преклоненья, — одна в душе у них мечта, а в голове забота, снимает шляпу Бержерак, читая «Дон Кихота».
Нин андалусских Сирано отведать не попросит — нос героический бойца их пряность не выносит.
I lo шпага Франции в руках поэта и бродяги привольно чувствует себя в краю плаща и шпаги. Привет тебе, о Сирано! Как запасные крылья, язык испанский поднесет тебе моя Кастилья.
11а нашем солнце гордый дух блестит не хуже шпаги, у пас ты — дома, не в гостях, сын песни и отваги. Сердечно встретит Кальдерон соратника-витию, ты с розой утренней сравнишь его любовь Марию. Пусть розы Франции таят весенних гроз дыханье, кастильской розы аромат — земли благоуханье. Улыбки, вздохи и мечты, и сердца стук упорный, сиянье глаз — двух черных звезд — то гордых,
то покорных,
71
и лиру, что к душе певца взывает неустанно, подарит всё тебе она — испанская Роксана.
Поэзии священный жар дала тебе природа и безобразное лицо носатого урода.
Властитель рифмы, князь мечты, грядущего дозорный, на шляпе белое перо — как снег вершины горной. Пусть песня в сердце вьет гнездо, пусть душу полнит
нежность,
но крестной матерью была старуха Безнадежность. Собрались девять муз в лесу Забвенья и Печали и раны сердца твоего любовно врачевали.
Поэт и рыцарь, по Луне недаром ты скитался, с Пиндара тенью ты на ней однажды повстречался, там, где дворец безумных Дев горит пятном багряным на белом фоне лунных скал, подернутых туманом. Скажи, ступал ты на луга, где в темноте кромешной, вздыхая, бродит дух Пьеро, скиталец безутешный?
И соловьиного царя ты не слыхал ли пенья среди загадочных цветов долины Вдохновенья?
Тебя вопросами отнюдь мы не хотим обидеть, пойми: ведь только на Луне всё это можно видеть. Привет тебе, друг Сирано, кастилец наш Сирйно де Бержерак, Гаскони сын, влюбленный непрестанно. О Дюрандале память ты принес на эти склоны, где не угас еще в ночи холодный блеск Тисоны. Искусства сила победит века и расстоянья, гранит и мрамор оживит тепло его дыханья; зовет избранников оно, как паладинов дама, и стяг его в пыли веков — народа орифламма.
Через долины и леса, как жениху невеста, на рог Роландов даст ответ о нашем Сиде хеста.
Легко шагает Сирано в плаще, от пыли сером, он возродит былой язык старинных романсеро; ему Испания дала манящие просторы, и славы нимб вокруг чела, и рыцарские шпоры.
Когда балладу сочинял Ронсар, он, как перчатку, швырял в Кеведо звонкий стих и вызывал на схватку. Привет тебе, друг Сирано! Не сушит время лавры, театр «Пачека» ждет тебя. Уже гремят литавры.
72
Ты к нам приходишь, как посол Мольера, исполина подмостков. Есть твое зерно у Тирсо де Молина.
У нас в руках горит вино рубином темно-алым, за Францию поднимем мы испанские бокалы.
73
ПЕГАС
Когда собрался укротить я этого коня, пугливого и дикого, сказал я: «Жизнь прекрасна!» Увидел я — во лбу его звезда светилась ясно, и был я наг, и небеса сияли в блеске дня.
Зажег чело мне Аполлон от своего огня, и ввысь, Беллерофонту вслед, я устремился страстно. Вершина, где ступил Пегас, бессмертью сопричастна; бесстрашного — в какую высь Пегас вознес меня!
Я — рыцарь человеческой отваги неизбытой, я на челе своем несу с победным торжеством венок лавровый, ибо он дарован божеством.
Я — укротитель скакуна Алмазное Копыто; и я лечу, с одной зарей сверяя свой полет, — вперед, в бескрайнюю лазурь, вперед, всегда вперед!
74
ТРИУМФАЛЬНЫЙ МАРШ
Нот шествие близко!
Ног шествие близко! Вот громкие трубы играют.
Ми шпаге горит отраженье небесного диска; сияя железом и золотом, воины мерно шагают.
11од арку, где Марс и Минерва белеют, вступил авангард
легиона,
под арку побед, где богини Молвы призывают поэтов и веют торжественной славой знамена, подъятые к небу руками героев-атлетов.
(>ружие всадников статных гремит и звенит
невозбранно;
со злостью грызут удила лошадиные зубы; копыта и громки и грубы; питавры чеканно
размерили мерой воинственной шаг этот медный.
Так воины с доблестью бранной проходят под аркой победной!
Нот громкие трубы опять над землею запели;
и чистым звучаньем,
и жарким дыханьем,
как гром золотой, над собраньем
державных знамен зазвенели их трели.
11оют они бой и рожденье отваги, обиды рожденье;
султаны на касках, и копья, и шпаги, и кровь, что в столетиях поле сраженья прославит;
псов грозного мщенья, —
их смерть вдохновляет, война ими правит.
Певучим стал воздух.
Ты слышишь полет исполинов?
75
Вот слава сама показалась: с птенцами расставшись в заоблачных гнездах, огромные крылья по ветру раскинув, вот кондоры мчатся. Победа примчалась!
А шествие длится.
Героев ребенку старик называет, а кудри ребенка — пшеница, ее горностай седины старика обрамляет. Красавицы держат венки, как заздравные чаши, и розовы лица под портиком каждым, и зыбкой встречает улыбкой
храбрейшего воина та, что всех краше.
О, слава тому, кто принес чужеземное знамя, и раненым слава, и родины истым сынам, что на поле сраженья убиты врагами! Тут место горнистам!
Великие шпаги времен достославных приветствуют новых героев, венцы и победные лавры; штыки гренадеров, медведям по ярости равных, и копья уланов, летевших на бой, как кентавры.
Идут победители бедствий, и воздух дрожит от приветствий...
И эти старинные шпаги, и дыры на старых знаменах — былой воплощенье отваги;
и солнце, над новой победой поднявшее алые стяги; героя, ведущего юных героев, в бою закаленных, и всех, кто вступил под знамена родимого края с оружьем в руках и в кольчуге из стали,
на тело надетой,
жару раскаленного лета, и снег и морозы зимы презирая; кто, смерти печальной
в лицо наглядевшись, бессмертья от родины ждет, — приветствуют голосом бронзы военные трубы, зовут
в триумфальный
поход!
76
ЛЕБЕДИ
Хуану Рамону Хименесу
I
К кому обращен знак вопроса твоей изогнутой шеи, — к тому, кто в мечтаньях и думах, о лебедь, по брегу
бредет?
( воей красотою безмолвной ты нам всех пернатых
милее,
к цветам луговым равнодушный, властитель озерных вод.
Я ныне тебя прославляю, как в давнее время стихами тебя прославлял на латыни Публий Овидий Назон.
11оют соловьи всё так же над вешними берегами, и песня одна и та же в лазурный летит небосклон.
О лебеди, вам испанский язык известен прекрасно.
Вы видели Гарсиласо, и я полагаю, не раз...
Я — сын Америки гордой, я — внук Испании властной... В Аранхуэсе Кеведо писал сонеты о вас...
11усть веера ваших крыльев прохладною лаской повеют и нас отвлекут от насущных и столь несущественных дел, прогнать наши черные мысли, хотелось бы верить, сумеют и грация и белоснежность ваших божественных тел.
Нас наполняет печалью северный ветер осенний, и вянут листья на пальмах, и гибнут розы в садах, почти не осталось иллюзий и вдохновенных видений, и нищие наши души одолевает страх.
Как в прежнее время, нас тешат охотою соколиной, и хищные птицы добычу покорно приносят нам.
Но где же они, герои испанской славы былинной: Родриго и Жайме, и Нуньес — внушавшие ужас врагам?
77
Мы слишком слабы для свершенья деяний, достойных
сказанья.
Поэты, что мы воспеваем? Озёра, вечернюю мглу.
И любим теперь мы не лавры, а розы благоуханье.
К чему нам правдивое слово? Мы падки на лесть и
хвалу.
Испания, как и Америка Испанская, смотрит ныне лишь на Восток, пытаясь узнать о судьбе своей.
И я вопрошаю Сфинкса в египетской знойной пустыне: какие еще невзгоды нам ждать от грядущих дней?
Неужто мы покоримся варваров дикой силе?
Иль нам, миллионам, английский станет родным
языком?
И рыцарей нету, что наши земли бы защитили?
И мы замолчим сегодня, а завтра слезы прольем?
О лебеди, крик мой услышьте! Вы верными были
друзьями
поэтам — они от иллюзий избавились, нынче прозрев.
Я слышу: в Америке кони бескрайними мчатся степями и хрипом своим предсмертным им отзывается лев.
...И черный лебедь сказал мне: «Ночь —
предвозвестница утра». И белый лебедь воскликнул: «Бессмертна, бессмертна
заря!»
Открыт был ящик Пандоры, но Зевс рассудил премудро, одна лишь надежда навеки оставлена нам, и не зря.
II
Всего лишь на миг, о лебедь, твой крик я услышу рядом, и страсть твоих крыльев белых, которые Леда знала, солью с моей страстью зрелой, сорвав с мечты
покрывала,
и пусть Диоскуров славу твой крик возвестит дриадам.
78
В осеннюю ночь, о лебедь, пройдя опустевшим садом, где вновь утешенья звуки из флейты сочатся вяло, я жадно остаток хмеля достану со дна бокала, на миг свою грусть и робость отбросив
под листопадом.
Верни мне, о лебедь, крылья всего на одно мгновенье, чтоб нежное сердце птицы, где мечется кровь живая, к моем застучало сердце, усилив его биенье.
Любовь вдохновенно сплавит и трепет, и упоенье, и, слыша, как крик твой льется, алмазный родник
скрывая,
на миг замолкает, вздрогнув, великий Пан в отдаленье.
79
ПОРТРЕТЫ
I
Дон Карлос, Лопе, Хиль, Родриго иль Хуан — кто он? Надменный лоб, глаза — два серых жала, пшеница бороды, в кольчуге тонкий стан...
В нем смерть нашла слугу и верного вассала.
Его тяжелый шаг гремел по всей земле, орел — знак доблести — в гербе спесиво реял. Америка в огне, и Фландрия в петле — он ужас насаждал и разоренье сеял.
Холодной молнией толедского клинка сверкала сталь меча в сумятице сражений, и рукояти крест остался на века кровавым знаменьем измен и преступлений.
Ртом, как у Борджиа, — злым, красным ртом своим, — он льстил и клеветал, и рушил свод законов, и в буйных выдумках был так неистощим, что их хватило бы на сто «Декамеронов».
Но этот доблестный идальго ныне стал в аббатстве гробовом неведомым монахом и «Позабыту быть!» своим девизом взял, а эпитафией — «О прах, развейся прахом!»
II
Изящно вычерчен ее лица овал; лоб, как у ангела, — бездумная прохлада; невинно сомкнут рот, но землянично-ал, и ведовской огонь в глубинах темных взгляда.
80
Прозрачный этот лик белее полотна, во всей обители нет лика благородней, но на щеках горят багрянцем два пятна, как розы самого владыки преисподней.
Мария, о сестра Мария, ты чиста, примером служишь ты для твоего аббатства, но в глубине души избранницы Христа не расцветает ли гвоздика святотатства?..
Всё кажется — проник бездонно-темный взор в мир меда и отрав, достиг последней цели... (Марию возвели, как ведьму, на костер, и с розовой груди все пчелы улетели.)
81
6 Зак. 3848
ВЕЧЕР В ТРОПИКАХ
Вечер серый и печальный в бархат море укрывает, небо в траур изначальный одевает.
Бездна в безысходном горе звонкой жалобы не прячет. Ветер запоет, и море плачет.
Солнце быстро умирает; из тумана — струн рыданье.
Вал за валом умоляет: состраданья!
Но гармония на небе, и уносит ветер вдаль моря песнь про черный жребий и печаль.
На рожке играют дали, и горнист выводит трели, словно горы заиграли на свирели.
Словно кто-то ждет, незримый... Словно ветру гордый гнев отдает неукротимый лев.
82
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ ВЕСНОЙ
Мартинесу Сьерре
Молодость, дивный мой клад, навсегда расстаюсь я с тобой.
То слез нет, когда плакать бы рад, то текут они сами собой.
История сердца поэта — летопись боли и мук...
Жила-была девочка в этом горестном мире разлук.
Свежа, словно майские росы, губы — как роз лепестки, сотканы темные косы из ночи и смутной тоски.
Я, мальчик влюбленный, робея, бродил, подбирая слова.
— Танцуй же, танцуй, Саломея, на блюде моя голова. —
Молодость, дивный мой клад, навсегда расстаюсь я с тобой.
То слез нет, когда плакать бы рад, то текут они сами собой.
Другая щедрой на ласки, утешной и милой была, покровы тайны и сказки она с любви совлекла.
В ней теплилась нежность несмело и страстный огонь полыхал. Вакханки горячее тело белый пеплум невесты скрывал.
83
Мечту забрала мою в руки, убаюкала, словно шутя.
В духоте, темноте и скуке захлебнулось мое дитя.
Молодость, дивный мой клад, навсегда расстаюсь я с тобой.
То слез нет, когда плакать бы рад, то текут они сами собой.
А третья сочла, что мой рот лишь вместилище страсти ее и зубами она сгрызет, безумная, сердце мое.
В царстве любовного хмеля воздвигла она свой дворец: над снежным простором постели ей вечности мнился венец.
И в плоти цветущей она видела вечный Эдем, не заботясь, что минет весна и плоть увянет затем.
Молодость, дивный мой клад, навсегда расстаюсь я с тобой.
То слез нет, когда плакать бы рад, то текут они сами собой.
А все остальные!.. Плывет вереница дальних земель и чужих городов...
Они — мимолетные сердца зарницы или предлог для моих стихов.
Я принцессу искал наяву, не во снах.
Но тщетно — мир оказался тесен, жизнь — тяжела, суматошна, пресна, и нет в ней принцессы, достойной песен.
84
Суровое время не знает пощады, но жажда любви неразлучна со мной, и к юным розам волшебного сада я подхожу с головою седой.
Молодость, дивный мой клад, навсегда расстаюсь я с тобой.
То слез нет, когда плакать бы рад, то текут они сами собой.
Но заря золотая — моя!
85
ЛЕТУЧИЙ СТИХ
Летучий стих, истаяв ветерком
над женским ртом иль розовым цветком,
стань поцелуем или мотыльком.
Утих в прохладной розе стих летучий. Триумф любви, в апреле неминучий. Цветок и стих, и дева с плотью жгучей.
Любовь и скорбь. Блаженство и тщета. Иродиады алые уста.
И дерзкий смех. И взор — удар хлыста.
Уметь любить. Уметь страдать — осанна! Любя, страдать. Страдая, неустанно благословлять кинжал, нанесший рану.
О роза скорби, женственный фиал, сиянье, непорочность, идеал!
Дурман дыханья. И шипа кинжал.
Спаси нас, Боже, от цветка в апреле, от ясных зорь, от соловьиной трели — чтоб мы в любви и в скорби не сгорели...
86
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,-
О потрясенье духа! Страшен был день, когда в моем сознанье рассыпались, распались зданья хрустальных вавилонских башен.
Паскаля бездну я видал, глядел в нее в немом волненье и, как Бодлер, прикосновенье «крыла идиотизма» знал.
И тем не менее мне надо быть сильным даже в бездне рока, быть победителем Порока, Безумья, Смерти, Зла и Ада.
87
ФИЛОСОФИЯ
Паук, приветствуй солнце, взошедшее над нами!
Будь благодарна, жаба, за то, что ты живешь! Колючий краб, как роза, щетинится шипами, и с тайной женской плотью моллюск упругий схож.
Умейте быть собою, загадки претворенья!
В ответе лишь природа за эти повторенья —
пред тем, кто всё объемлет. (Сверчок, возьми смычок,
танцуй, медведь в чащобе, и лейся, лунный ток!)
88
ЛЕДА
Предутренний лебедь — как будто из снега, а клюв на рассвете — огонь янтаря. Дрожащие сумерки. Краткая нега.
Невинные крылья румянит заря.
Но выгнута шея и крылья раскрыты — едва лишь Аврора устанет пылать. Серебряный, утренним светом облитый, колеблет он голубоватую гладь.
Припухшие перья трепещут победой.
Он ранен любовью, божественно груб.
Он овладевает покорною Ледой, и клюв его ищет цветок ее губ.
Нагая красавица вся в его власти, и стоны сгущаются в нежный туман. Глазами блестящими, полными страсти, из чащи глядит потревоженный Пан.
89
СОНЕТ ИЗ ТРИНАДЦАТИ СТРОК
О, не исчезни очарованье юности солнечно-золотой, чудо, что называем Весной, сада и луга благоуханье!
Грезы, наивнейшие мечтанья, сказки из «Тысячи и одной ночи» — они и поныне со мной, звонко-причудливые созданья.
Шахерезада из сновиденья...
Сказов таинственных череда...
Пусть же они не знают забвенья!
Птицы лазурной к нам возвращенье... Только...
Когда-то...
Всё же...
Всегда...
90
СОНЕТ СЕРВАНТЕСУ
Казалось: я в печали без исхода.,.
Но добрый друг Сервантес вновь со мной, и тяжких дум уже рассеян рой, и ясен свет лазурный небосвода.
Сервантес — жизнь сама, сама природа.
Он шлем дарует золотой
мне, что захвачен сладостной мечтой.
Она — моя, его страниц свобода.
Он говорит, и голос незабвенный звучит, как чистого ручья хрусталь.
И, вглядываясь в даль,
я вижу, просветленный,
как, улыбаясь, дарит он вселенной
своей души бессмертную печаль.
91
МОРСКОЕ
Море напевное,
море волшебное,
ты ароматом зеленым,
музыкой звонкой и красками
напоминаешь о детстве моем отдаленном:
были мгновенья так ласковы
и проходили в замедленном танце, как пара
за парой,
и приносили мечту или феи подарок.
Море напевное, море волшебное,
арки алмазов дробятся в летучем движенье и выдают нам какой-то порыв сокровенный; смутных небесных моих городов отраженье — белый и синий твой шум неизменный; вот прорастает напев в этом терпком настое неугасимый,
море отеческое и святое,
душа под влияньем души твоей, людям незримой.
Ветрила Колумбов и Васко ветрила
в яростной власти циклонов, неведомых румбов; злобою скал их судьба одарила; и золотые галеры, с пурпуровыми парусами ладьи, приветствовавшие с любовью и верой мычанье быка, что с Европою плыл на хребте, обдаваемый взвихренной пеною.
Это мычание звучное и несравненное, будто его издают впереди, позади, высунувшись из воды,
толпами, толпами в танце веселом тритоны!
92
Руки встают над волною, и песни звучат,
словно стоны,
драгоценные камни сияют, блуждают, перемешиваются в пространстве, и роз миллионы Венера и Солнце рождают.
93
О, ЕСЛИ ГОРЬКИЙ СФИНКС.-
О, если горький сфинкс твоей души привлек твой взор — не жди себе спасенья! Пытать богов о тайном не спеши: их только два — Незнанье и Забвенье.
И то, что ветру шелестит листва,
что зверь невольно воплотит в движенье,
мы облекаем в мысли и слова.
Различна только форма выраженья.
94
ПЕЧАЛЬ
Доминго Боливару
Скажи мне, зрячий брат, где свет твой? Погружен во тьму я, как слепец, в ней ощупью блуждаю, из урагана в бурю попадаю — пленен гармонией, мечтою ослеплен.
Мечтать — моя болезнь. Стихом я уязвлен, как власяницею с шипами. Облекаю в нее я душу, и, с шипов стекая, поет моя печаль, струит напевный звон.
Так я, безумец и слепец, брожу без цели.
То изнываю — нет пути скончанья!
То страшно: краток он!
То полной грудью вдох, то вовсе нет дыханья — свой непосильный груз влачу я еле-еле.
Ты слышишь музыку — моей печали стон?
95
ОСЕННЕЕ
«Что с ним стало? — наверное, спросят иные. — Где былое певучее самозабвенье?»
Им неведомы жизни труды потайные, озарение года, усилье мгновенья.
Словно раннее деревце, нежно и зыбко долетавшему бризу я вторил, бывало.
Но погасла моя молодая улыбка —
пусть же сердцем владеет неистовство шквала!
96
ГОЙЕ
Мечтатель смелый, упрямый, провидец и гений драмы, тебе курю фимиамы.
Полет твоей кисти зноен, капризен, быстр, беспокоен, любви поэтов достоин
за мрак печальных видений, за свет твоих озарений, за злые, черные тени,
за краски — ты взял их у Данте, за яркий костюм на франте, за складки лукавых мантий.
Ты знаешь жестокость спора и мужество матадора, и нежность женского взора.
Мелькнет пред тобой зверинец и всадник, и пехотинец, мониста, арки гостиниц.
Рука безумная пишет, — и вот твоя ведьма дышит, встает и смотрит, и слышит,
и дьявол мажет ей руки слюною бешеной суки, паясничая от скуки.
Архангел, призрак, медуза, — в полете гордая муза не бросит земного груза.
97
7 Зак. 3848
Пленяет кисть колдовская, то светом сердце сжигая, то мрак души раздвигая.
Мадридки твои прекрасны, калеки порою властны,
Христы так горько несчастны.
Горит в твоей светотени
блеск мертвый, желтый, осенний —
огонь кошмарных видений.
Но вдруг зажигаешь ты кровавых гвоздик цветы, и сладки уста, как мечты.
Глаза убийц безобразных на лицах божественно праздных у ангелов женообразных.
Капризный замысел твой — размешивать свет дневной прохладой и тьмой ночной.
И живопись эта любима, загадочна, неповторима, на грани огня и дыма.
Тому свидетельства вески: святой Антоний — за фрески, за ведьм — Сатана в адском блеске.
98
ОСЕННИЙ СОНЕТ МАРКИЗУ ДЕ БРАДОМИНУ
Пишу тебе, маркиз, в один из дней осенних. Нынче утром был в Версале.
Там толпы всяческих зевак сновали.
И не звучал Верлен в душе моей.
И я молчал средь мрамора аллей.
День выдался холодный. Я в печали смотрел, и вдруг голубку увидали мои глаза. Я был душою с ней!
И вспомнил о тебе... Версаль осенний, голубка, суетящийся народ и мрамора прекрасное молчанье...
Ты пишешь, милый мой, всё вдохновенней! Пусть осенью сонет мой принесет тебе весенних роз благоуханье!
99
РАКОВИНА
Посвящается Антонио Мачадо
Я отыскал ее на берегу морском; она из золота, покрыта жемчугами;
Европа влажными брала ее руками, плывя наедине с божественным быком.
Я с силой дунул в щель, и, словно дальний гром, раскат морской трубы возник над берегами, и полился рассказ, не меркнущий веками, пропитанный насквозь морями и песком.
Светилам по душе пришлась мечта Язона, и ветры горькие ветрил вздували лоно на «Арго» корабле; вдыхая ту же соль,
я слышу голос бурь и ропщущие волны, и незнакомый звон, и ветер, тайны полный... (Живого сердца стук, живого сердца боль.)
100
ТАМ, ДАЛЕКО
Вол детства моего — от пота он дымится, — вол Никарагуа, где солнце из огня и в небе тропиков гармония струится; ты, горлинка лесов, где спорят в шуме дня и ветер, и топор, и дикий бык, и птица, — я вас приветствую: вы — это жизнь моя.
Про утро, тучный вол, ты мне напоминаешь: пора доить коров, пора вставать и мне; живу я в розовом и нежно-белом сне; горянка горлинка, воркуешь, в небе таешь, — в моей весне былой ты олицетворяешь всё то, что есть в самой божественной весне.
101
НЕИЗБЕЖНОЕ
Рене Пересу
Блаженно дерево, лишенное сознанья, блаженны камни — те совсем неуязвимы. Больней, чем жить, нет в мире наказанья, и тяжелей, чем сознавать себя живыми.
Бесцельно по земной топтаться тверди, страх перед будущим терпеть и плоти голод, и ужас мысли о внезапной смерти, и муку жизни, мрак ее и холод.
И неизвестность душу истомила, и дразнит искушенье гроздью сочной.
В цветах зловещих ждет давно могила. Идешь быстрей, как будто надо срочно, — откуда и куда — не зная точно.
ИЗ СБОРНИКА «БРОДЯЧАЯ ПЕСНЯ»
(1908)
КОЛУМБУ
Адмирал, посмотри на свою чаровницу, на Америку, перл твоей дерзкой мечты, как, терзая, сжигает ее огневица, исказив смертной мукой простые черты.
Нынче в сердце Америки — дух разрушенья, там, где жили по-братски ее племена, что ни день — закипают меж ними сраженья, за кровавым застольем пирует война.
Истукан во плоти восседает на троне, истуканов из камня повергнув во прах, и заря поутру в золотистой короне освещает лишь трупы да пепел в полях.
Как мы рьяно закон учреждали повсюду под победные рокоты пушек вдали!
Но увы! Снова с Каином дружит Иуда: правят черные нами опять короли.
Наши губы испанцев с индейским разрезом, сок французский тянули вы, словно нектар, чтоб без устали петь каждый день «Марсельезу», чтоб потом запылал «Карманьолы» пожар.
Вероломно тщеславье, как бурные реки, — потому и втоптали свободу мы в грязь!
Так бы касики не поступили вовеки, сохраняя с природой священную связь.
Они были горды, прямодушны, угрюмы, щеголяли в уборах из перьев цветных...
103
Где же Атауальпы и Моктесумы?
Нам бы, белым, теперь поучиться у них.
Заронивши во чрево Америки дикой горделивое семя испанских бойцов, сочеталась Кастилия мощью великой с мощью наших охотников и мудрецов.
Было б лучше стократ, если б парус твой белый никогда не возник над пучиной зыбей и не видели б звезды твоей каравеллы, за собою приведшей косяк кораблей.
Как пугались тебя наши древние горы, прежде знавшие только индейцев одних, тех, что, стрелами полня лесные просторы, поражали бизонов и кондоров злых.
Хотя варварский вождь их тебе был в новинку, он намного отважней твоих молодцов, что глумились, как звери, над мумией Инки, под колеса бесстыдно толкали жрецов.
Ты пришел к нам с крестом на трепещущем стяге, ты закон насаждал — он, увы, посрамлен, и коверкает ныне писец на бумаге тот язык, что прославил навек Кальдерон.
Твой Христос на панели — он слабый
и грустный!
У Вараввы ж веселье и буйствует пир, стонут люди в Паленке и плачутся в Куско от чудовищ, надевших военный мундир.
Упованья разметаны, кровью залиты!
Мятежей и бесчинств закипающий вал, мук жестоких юдоль — мир, тобою открытый, так молись о спасенье его, адмирал!
104
МОМОТОМБО
О vieux Momotombo, colosse chauve et nu...
V. H*
Катился поезд наш, по рельсам громыхая; стояла для меня весны пора златая, то было в Никарагуа моем.
Вдруг над деревьями, под небо устремленный, гигантский конус встал, весь «лысый, оголенный»: он встал победным древним гордецом.
Я прочитал уже Гюго и то преданье, что Сквайр ему принес. Былых веков созданье, глядит на солнце черный великан, величествен, красив. Его, царя природы, в певучем зеркале здесь повторяют воды — жемчужный неоглядный океан.
Вода — опал, берилл. Свинцовых и зеленых не различить тонов, изменчивых и сонных, как их ни жги тропическим огнем.
А Момотомбо встал, поэт и царь, над нами.
А мне пятнадцать лет. Хватай звезду руками!
То было в Никарагуа моем.
Пленялся я уже Овьедо и Гомарой, и бредила душа романсом и гитарой, и небылицами, питая страсть к завоеваниям и рыцарским победам, к индейцам и жрецам, к рабов и пленных бедам в краю, где ждут нас золото и власть.
* О старец Момотомбо, о голый великан...
£[иктор] Г[юго] (фр.).
105
И в облаках чело глухого великана, загадочного грозного вулкана, возникло откровеньем тысяч лет.
Он — властелин вершин, он правит над волнами, у ног — Манагуа волшебный, с островами, где всё себе забрали песнь и свет.
О Момотомбо мой, ты — эпоса названье.
Был прав Гюго, когда в том звукоподражанье живые ритмы вечности открыл.
Идет молва: берег ты от теней народы с тех пор, как с белыми на языке свободы индейский гордый вождь заговорил.
Огня и камня бог, молил я не случайно: о, расскажи мне, в чем твоих созвучий тайна, и пламени секрет открой во мгле!
Ты дал подумать мне: восстаньем дышит воздух, титаны есть везде — и наверху, на звездах, и здесь, внизу, — на море, на земле.
Твой голос я люблю, глухой и гулкий. Слову покорна память: назову — и вслед ведет, послушна внутреннему зову, ветра и запахи далеких детских лет.
Знамена вечера и радостного утра!
Искал красивее — напрасный труд!
Твой купол из сапфира, перламутра, а ниже — золото, рубин да изумруд.
Когда раздоры западного мира на твой державный лоб, как отсвет катастроф, свой кинули огонь, не дрогнула порфира, ты был по-прежнему спокоен и суров.
Твой беспрестанный гул — как боя вечный грохот; единство цельности — в твоей скале любой.
В землетрясениях я слышу стон и хохот: бессмертный Пан венчается с землей.
106
Я в жизнь суровую вошел с душой вулкана, трепали сердце мне и бури, и туман; над головой моей бушуют неустанно и Аквилон, и ураган!
Твой голос громовой слыхал Колумб однажды, Гюго воспел тебя, былых легенд герой.
Как ты, мой великан, из них велик был каждый, и в каждом жил огонь, и каждый был горой.
Таинственна судьба поэтов и вулканов.
Со звоном небо рушится, когда у флейты Пана спор идет среди туманов с трубою Страшного суда!
107
ОСЕННИЕ СТИХИ
Даже дума моя о тебе, словно запах цветка, драгоценна; взор твой, темный от нежности, нехотя сводит с ума; под твоими босыми ногами еще не растаяла пена, и улыбкой твоей улыбается радость сама.
В том и прелесть летучей любви, что ее обаяние кратко, равный срок назначает и счастью она, и тоске.
Час назад я чертил на снегу чье-то милое имя украдкой, лишь минуту назад о любви я писал на песке.
В тополиной аллее беснуются листья в последнем
веселье,
там влюбленные пары проходят, грустны и легки.
В чаше осени ясной на дне оседает туманное зелье, в это зелье, весна, опадут твоих роз лепестки.
108
ТАНЦОВЩИЦА-БОСОНОЖКА
В летучем ритме зыбящихся линий, мятежным вихрем, вкрадчивою львицей, полузверенышем, полубогиней плясала босоножка-танцовщица.
Скрывали грудь ей бляхи золотые. Позволив розам по земле влачиться, нежней Психеи и грозней стихии ступала босоножка-танцовщица.
Жемчужиною в ямочке атласной манил живот, округл и белоснежен.
И были воплощением соблазна
мед этих смокв и свежий сок черешен.
Шуты у трона замерли, немея.
Темнели стражей каменные лица.
Самой Луной, самой Анактореей была та босоножка-танцовщица!
109
VESPER*
Покой, покой... И, причастившись тайн вечерних, город золотой безмолвен. Похож на дароносицу собор, сплетаются лазурной вязью волны, как в требнике заглавных букв узор, а паруса рыбачьи треугольны и белизной подчеркнутой своей слепят глаза и режут их до боли, и даль полна призывом: «Одиссей!» — в нем запах трав и горький привкус соли.
* Вечер, вечерняя звезда {лат.).
ПО
АНТОНИО МАЧАДО
Он идет, молчалив и задумчив, в самого себя погружен.
И глубок его взор настолько, что незрячим кажется он.
Говорит он — и величаво, и застенчиво голос звучит.
Так и видится: свет раздумий над его головой разлит.
Он живет с душой просветленной истый христианин и мудрец.
Веря в силу добра неизменно, он пасет и львов, и овец. Усмиряет душевные бури, добывает сладчайший мед.
Чудо жизни, любовь и счастье он в стихах вдохновенных поет, и великая тайна поэзии в самом сердце его живет.
На Пегасе, дивно-прекрасном, он стремится в небесную синь.
Я молюсь за дона Антонио.
Да хранят его боги. Аминь.
111
СОНЕТ
Дону Рамону дель Валье-Инклану
Великий дон Рамон — с предлинной бородою, с наметкою в глазах, с улыбкой сокровенной, — он, словно древний бог, предстал передо мною, оживший древний бог, суровый и надменный.
Но острый взгляд его пронзает нас мгновенно — как солнце сквозь листву стрелою огневою.
С ним рядом становлюсь и сам я зорче вдвое, и торжествует жизнь, та, что не знает тлена.
Великий дон Рамон, — пред ним молчу, смущенный. Мне превзойти его? Да это труд напрасный!
И, словно звездный свет ночного небосклона,
поэзия его мной завладела властно.
И вижу я: стрелой семи грехов пронзенный, ее он вырывает, как всегда, бесстрастно.
112
ПИРАТЫ
Гвоздь последний вбивают в рею шхуны. Пора отправляться. Последний гвоздь впивается в рею. И пираты молитвы обращают к Борею, чтобы поднятый парус не порвали ветра.
Притаилась химера на носу. Как хитра: медь легко оживает в блеске молний над нею. Тих тритон, что под килем прячет гибкую шею, и улыбка блуждает на губе топора.
Песней встретят пираты день, идущий с востока, встретят дружною песней в час, когда издалёка горн зари заиграет, заглушая прибой,
и властителей мира поприветствует снова, тех, чье алое знамя окровавит пунцово, горячо окровавит неба шелк голубой.
8 Зак. 3848
ИЗ СБОРНИКА «ПОЭМА ОСЕНИ» (1910)
ПОЭМА ОСЕНИ
Поникнув безутешней старца в раздумье сиром, замыслил ты, мой друг, расстаться с цветущим миром?
Но что над прожитым казниться пустым укором — не возвещает ли денница о счастье скором?
Не вьет ли розы и лилеи весна, чтоб снова украсить свежестью своею тебя, седого?
Душа-тигрица ненасытна и губит счастье своею же кровопролитной слепою страстью.
Но размыкаются объятья — и, как вначале,
Екклезиастовы проклятья звучат печалью.
В дни воскресенья гонит беды любовь, но вскоре приходят пепельные среды: memento mori.*
* Помни о смерти (лат.).
114
Так человека склон за склоном и всё отвесней ведут Хайям с Анакреоном к последней бездне.
Так вновь бежит душа людская от зла земного и зло искусственного рая находит снова.
И всё ж, пока мы есть на свете, пребудем, славя красавиц, звезды и соцветья, как чудо въяве.
Мерцает Веспер. Вал ворчащий не умолкает.
И, чудится, в зеленой чаще Сильван мелькает.
И мир нам явлен без обмана и вне сомнений,
как день, омытый долгожданной росой весенней.
Так что ж неистовствуем в глупом ожесточенье,
когда грозят змеиным клубом богини мщенья?
Так что ж, завистники, не ценим всё, чем богаты?
Что ж сердце поздним угрызеньем томим, Пилаты?
Пусть хрупко бытие земное и быстротечно,
пусть мы лишь пена над волною, но море — вечно!
115
Так не погрязнем же в унылой вседневной прозе, но устремимся всею силой к небесной розе.
Сорвем тот миг, что вянет втуне, — пусть над поляной звенит волшебница-певунья зарей медвяной.
Любовь на праздник нам сплетает венок зеленый.
Любого в жизни ожидает своя Верона.
Не молкнет хор звонкоголосый в часы заката:
«Руфь, собирай в полях Вооза ячмень дожатый!»
Срывайте, юные эфебы, цветы мгновений, пока для вас Аврора с неба сгоняет тени.
Играйте, нежные, пьянея от жаркой ласки, сплетайтесь, фавны и напей, в священной пляске.
Засушит розы время злое, поблекнут лица; любите же, Дорида, Хлоя и Сидализа.
Свивайте белый цвет лимона и розан алый,
чтобы Песнь Песней Соломона не умолкала.
116
Пусть яростные псы Гекаты исходят пеной, —
Приап не дремлет бородатый, не спит Селена,
сияя станом обнаженным и сном чудесным склоняясь над Эндимионом в саду небесном.
Спешите ж, молодую пору по-царски тратя!
Ловите юную Аврору в свои объятья.
Цветы, не сорванные в мае, увянут праздно.
Кто прожил век, любви не зная, тот жил напрасно!
А я видал на знойном юге, как бушевала
вином в бокале кровь подруги хмельно и ало,
как плоть ее огнем сквозила, огнем объята, и вся была бутоном пыла и аромата.
Так раздувайте это пламя, пока не стары!
Ловите жаркими губами струю нектара.
И — кратковременное чудо в обличье бренном — любите красоту, покуда не стала тленом.
117
Любите свет, животворящий тела и травы,
любите свет, затем что зрячи лишь до утра вы.
Любите лиру Аполлона, чей строй чудесен; любите песни — погребенный не слышит песен.
Любите землю, от которой — мощь вашей плоти, любите землю, ибо скоро в нее уйдете.
Отбросьте страх — любые стены любовь порушит; голубка Анадиомены над Сфинксом кружит.
Пусть рок могуч и время слепо — презрев угрозы,
Киприда и у двери склепа сплетает розы.
Повержен силой Кифереи наш враг старинный; встает из камня, розовея, нагая Фрина.
Клокочет в смертных кровь Адама, и с древней жаждой к заветным яблокам упрямо стремится каждый.
И разве мир быстробегущий сам не во власти неистребимой, всемогущей и жгучей страсти?
118
Не славит ли тысячезвездный салют небесный
победу вечной жизни — грозной и всё ж чудесной?
Так пусть не отыскать спасенья от рока злого,
но мирозданья сок весенний в нас бродит снова.
День в голове звенит, пылая и не смолкая,
как бы в жемчужнице былая волна морская.
И жилы полнятся соленым прибоем пенным: по крови мы сродни тритонам, под стать сиренам.
Наш дом под многошумным лавром, и, живы лесом,
по плоти мы сродни кентаврам и сатирессам.
И, предаваясь этой власти, без слез и страха, отправимся дорогой Страсти в обитель мрака!
119
ПОЛДЕНЬ
«Midi, roi des etes!»* — как, помнится мне, один француз-креол напевал.
Камни оплавлены; остров сгорает в лазурном огне знойный полдень бьет наповал.
Я на острове, в Никарагуа, полон грез об античной Греции, о богах и нимфах. Бирюзовую воду солнце пронзает насквозь — солнце тропического Коринфа.
На лазурном фоне — пальмы зеленый плюмаж. Вдали вулканов древнее племя — или это античный мираж? — сторожит уходящее в вечность время.
Какая-то птица летит над водой и вот — уже с рыбой в когтях летит.
Раскаленный воздух печи огневой сигару зажженную золотит.
* «Полдень, король лета!» (фр.).
МАРГАРИТЕ ДЕБАЙЛЬ
Маргарита, море всё синей.
Ветра крылья
спят средь апельсиновых ветвей сном бессилья.
Слышу: в сердце — будто соловей. Уж не ты ли?
Посвящаю юности твоей эту быль я.
У царя — дворец лучистый, весь из нежных жемчугов, для жары — шатер тенистый, стадо целое слонов,
мантия из горностая, кравчие, пажи, шуты и принцесса молодая, и не злая, и простая, и красивая, как ты.
Ночью звездочка зарделась над уснувшею землей, и принцессе захотелось принести ее домой,
чтоб сплести себе прелестный венчик для блестящих кос из стихов, звезды небесной, перьев, жемчуга и роз.
У принцесс и у поэтов много общего с тобой: бродят в поисках букетов, бредят дальнею звездой.
121
И пошла пешком принцесса по земле и по воде, по горам, по гребню леса, к распустившейся звезде.
Смотрят ласково светила, но большая в том вина, что у папы не спросила позволения она.
Из садов Господних к няне возвратилась в отчий дом вся в заоблачном сиянье, будто в платье голубом.
Царь сказал ей: «Что с тобою? Удивителен твой вид.
Где была и что такое на груди твоей горит?»
Лгать принцесса не умела, лгать — не дело для принцесс. «Сорвала звезду я смело в темной синеве небес». —
«Неба нам нельзя касаться, говорил я сколько раз!
Это прихоть! Святотатство!
Бог рассердится на нас!» —
«В путь далекий под луною я пустилась не со зла, ветер взял меня с собою, и звезду я сорвала».
Царь рассержен: «Марш в дорогу! Кару тотчас понесешь и похищенное Богу ты немедленно вернешь!»
122
Плачет девочка в печали: лучшую отдать из роз!
Вдруг является из дали, улыбаясь, сам Христос.
«Царь, оставь свои угрозы, сам я отдал розу ей.
Посадил я эти розы для мечтательных детей».
Царь корону надевает и, не тратя лишних слов, вывести повелевает на парад пятьсот слонов.
Так принцессе той прелестной подарил венок Христос из стихов, звезды небесной, перьев, жемчуга и роз.
Маргарита, море всё синей. Ветра крылья
спят меж апельсиновых ветвей сном бессилья.
Ты увидишь блеск иных светил, но, бродя и взрослою по свету, помни, что тебе я посвятил сказку эту.
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
ПРОЙДИ И ПОЗАБУДЬ
Мечтать — моя болезнь
Напрасно, странник, ищешь то и дело дорогу лучше, чем твоя дорога; на что тебе, скажи, моя подмога?
Я мечен знаком твоего удела.
Ты к цели не придешь! В тебе засела смерть, словно червь, точащий понемногу всё, что от Человека уцелело, — от Человека, странник, и от Бога.
Не торопись, паломник! Долог путь в страну, которой ты не забываешь, — обещанную некогда мечтами...
Мечта — болезнь. Пройди и позабудь! Упорствуя в мечтах, ты задуваешь своей неповторимой жизни пламя.
124
ПЕЧАЛЬНО.
Однажды — очень печально, печально и безжеланно, — смотрел я, как капля за каплей течет вода из фонтана; а ночь была серебристой и тихой была. Стонала ночь. Причитала ночь. Слезу за слезой роняла ночь. И мрак аметистовый, казалось, светлел
без света —
его разбавили слезы неведомого поэта.
И я был этим поэтом, неведомый и печальный, всю душу свою растворивший в струе фонтана
хрустальной.
125
ХУАНУ РАМОНУ ХИМЕНЕСУ
(Атриум)
Ты выковал доспехи боевые, подобно старым мастерам Толедо, и силу вражеских мечей изведал твой звонкий стих — и, верно, не впервые?
Как Пифагор в число, в слова святые ты веруешь и не меняешь кредо?
Как льва Геракл — хоть нелегка победа, — ты одолеть сумеешь силы злые?
Ты зачарован тишиной ночною?
И, колокол заслышав над собою, глядишь вокруг в раздумий глубоком?
Ты зова тайного покорен власти?
Да! Ты — поэт. Иди дорогой страсти, влекомый Красотой, хранимый Богом.
126
ВЕЛИКИЙ КОСМОПОЛИС
{Утренние размышления)
Башни, башни без просвета, деловые господа, слуги всяческого цвета, форды, вывески, газеты и беда, беда, беда!
Соль земли, страны опора — этот рой плодится споро, множа золотые горы в циклопическом труде, только что ж на перекрестках никнет голытьба в обносках и беде, беде, беде?
Да, за дверью ресторана состоянье — гость желанный, что срывает невозбранно наслаждения плоды, только чем, скажите, хуже те, которые снаружи гибнут под мостом от стужи и беды, беды, беды?
Что убогой этой рвани жалкие благодеянья? Драгоценней подаянья — состраданья дар простой всем, кто терпит, ожидая, что сойдет Любовь святая, осеняя добротой.
Но, слепящая металлом, оглушающая балом,
127
вилла чудом небывалым возвышается, горда тем, что куплена деньгами и захвачена штыками, позабыв, что каждый камень положила здесь беда.
Здесь под каждою колонной — безымянный погребенный, а за каждой нотой — стоны скорченного под пятой; и не розами рассвета убрано веселье это — здесь горят гвоздики цвета крови, пролитой бедой.
Здесь китайцы и славяне, самоеды, лютеране — всех народов достоянье прикарманил дядя Сэм, что, согнав рабов к подножью, примиряет многобожье, языки, оттенки кожи, — властвующий надо всем.
Вот он высится над нами, горделиво, словно знамя, вознося жилет и фрак; миролюбья он глашатай, в чем свидетель непредвзятый — этот звездно-полосатый, от восхода до заката развевающийся флаг.
Хоть сочувствие любое тут затоптано толпою — благодать и здесь жива, и склоняется с любовью Санта-Клаус к изголовью
128
детворы, которой внове вечный праздник Рождества.
И хоть правдою и верой янки служат револьверу, боксу, яхте, жеребцу — сходит радость, милость Божья, к тем, кто на нее похожи: к девочке, как день, пригожей и смешному сорванцу.
129
9 Эак 3848
ЭПИГРАММЫ
* * *
Как удачно женился Рамон!
Как он счастлив! Ну где б еще он соблазнительней женщину встретил: чтобы взор был так ласков и светел, чтобы так же была весела, чтобы так же красива была, чтобы было так много запала, чтобы так на приманку клевала?
* * *
Паломнику приют вчера я предоставил, а с утра узнал, что путь дальнейший свой продолжил он с моей женой.
* * *
Хиль нищенствовал. Жители же города его с порога гнали своего.
В конце концов скончался он от голода.
А был он даровит, и у его
таланта в наши дни нашлись поклонники:
заслуженно почтён страдалец сей
был статуей. Да здравствуют покойники,
что без желудков и без челюстей!
ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА И ПАБЛО НЕРУДА —
«С ОДНИМ ПЛАЩОМ НА ДВОИХ» — ГОВОРЯТ О РУБЕНЕ ДАРИО
Неруда: Дамы...
Лорка: ...и господа. Есть в тавромахии редкий прием — он называется «с одним плащом на двоих», — когда два тореро дразнят быка, держа в руках один плащ.
Н.: Федерико и я — мы, соединенные одним электрическим проводом, решили выступить перед вами вдвоем.
Л,: Обычно на подобных встречах поэты получают возможность обратиться к своим сотоварищам и друзьям с живым словом, звучащим, словно серебро либо листва деревьев.
Н.: Но сегодня мы хотим пригласить на трапезу мертвеца, того, кто затерялся в потемках смерти, более величественной всех прочих смертей, вдовца жизни, которой он в свое время был мужем, обольщенным ею. Мы хотим укрыться в его ослепительной тени и хотим произносить его имя до тех пор, пока он не найдет силы возвратиться из забвения.
Л.: После нашего нежно-пингвиньего объятия с утонченным поэтом Амадо Вильяром мы хотим бросить на скатерть великое имя с уверенностью, что разобьются бокалы, подпрыгнут вилки, отыскивая глаза, по которым они истосковались, и морской прибой обрызгает скатерти. Мы хотим назвать имя поэта Америки и Испании: Рубен...
131
Н.: ...Дарио. Ибо, дамы...
Л.: ...и господа.
Н.: Где в Буэнос-Айресе площадь Рубена Дарио?
Л.: Где памятник Рубену Дарио?
Н.: Он любил парки. Где парк Рубена Дарио?
Л,: Где цветочная лавка Рубена Дарио?
Н.: Где яблоня и яблоки Рубена Дарио?
Л.: Где индейские руки Рубена Дарио?
Н.: Где лампадное масло, камедь, лебедь Рубена Дарио?
Л.: Рубен Дарио спит в своем «родном Никарагуа» под чудовищным мраморным львом, наподобие тех, какие ставят у подъездов своих особняков богачи.
Н.: Кустарной работы лев — ему, творцу львов; беззвездный лев — тому, кто дарил нам звезды.
Л.: Одним прилагательным он воссоздавал шум сельвы и, словно фрай Луис де Гранада, властелин языка, превращал в звездные знаки лимон, оленье копыто и моллюсков, наполненных страхом и бесконечностью; он увел нас в море с фрегатами и чернотой зрачков наших глаз и сотворил грандиозное шествие джинна по самому серому из вечеров, какие только есть у неба; поэт-романтик, он был на «ты» с туманным южным ветром, дышал им полной грудью и, опираясь о коринфскую колонну, с грустной иронией подвергал сомнению все эпохи.
Н.: Его алое имя достойно памяти во всем, что свойственно великому поэту: и в его невыносимых сердечных терзаниях, и в его горячечной смятенности, и в его сошествии в больничный ад, и в его вознесении к башням славы — ныне, присно и во веки веков.
Л.: В Испании, как испанский поэт, он преподал и старым и молодым уроки всемирности и великодушия — того, чего так не хватает современным поэтам. Он был учителем Валье-Инклана, Хуана Рамона Хименеса и братьев Мачадо, его голос — вода и соль в борозде нашего достойного уважения языка. Со времен Родриго Каро, братьев Архенсола и дона Хуана де Арги- хо испанский язык не знал такого пиршества слов и звуков, такого сияния и совершенства, как у Рубена Да-
132
рио. Словно по своей собственной земле, Дарио прошел по земле Испании — от пейзажей Веласкеса до костров Гойи, от скорби Кеведо до восхищения румянцем крестьянок Майорки.
Н.: Волны нашего жаркого северного моря привели его в Чили и оставили на суровом, скалистом берегу, и океан швырял в него пену и колокольный звон, и черный ветер Вальпараисо наполнял его хрусткой солью. Давайте же сотворим ему в этот вечер памятник из ветра, пронизанного дымом и голосами, бытом и жизнью, подобно тому как его изумительная поэзия пронизана грезами и звуками.
Л.: И этому памятнику из ветра я хочу добавить его кровь, напоминающую ветку коралла, колеблемую волной, его нервы, подобные снимку светоносных лучей, его голову минотавра, на которой гонгоровские снега созданы полетом стайки колибри, его смутный, отсутствующий взор владельца миллионов слез, а также — его изъяны. Книжные полки, уже сокрытые сорной травой, где звучит пустота флейт, коньячные бутылки его тяжелых запоев, его магическое дурновкусие и его назойливые длинноты, которыми — слаб человек! — переполнены многие его стихи. Но вне всяких норм, форм и школ щедрая душа его великой поэзии и поныне остается живой.
Н.: Федерико Гарсиа Лорка, испанец, и я, чилиец, — мы этим вечером в кругу своих друзей склоняемся перед великой тенью того, кто пел лучше нас и кто первозданным стихом восславил аргентинскую землю, на которую ныне довелось ступить нам.
Л.: Пабло Неруда, чилиец, и я, испанец, — мы говорим на одном языке и об одном великом поэте — никарагуанском, аргентинском, чилийском, испанском — о Рубене Дарио.
Неруда и Лорка: Во славу и в честь которого мы и поднимаем сейчас свои бокалы.
ХОСЕ МАРТИ (1853—1895)
ИЗ СБОРНИКА «ПРОСТЫЕ СТИХИ» (1891)
* * *
Человек прямодушный, оттуда, где пальма растет в тиши, умирать не хочу я, покуда не родится стих из души.
Прихожу отовсюду, как чувство, уношусь в любые края, с искусствами я — искусство, на вершинах — вершина и я.
Я знаю много названий редчайших цветов и трав, знаю много гордых страданий и смертоносных отрав.
Струились в ночь без просвета дождем на меня с высоты лучи чистейшего света божественной красоты.
Я видел, как светлые крылья у прекрасных жен вырастали, я видел: из грязи и пыли бабочки вылетали.
134
Мужчину я видел: с кинжалом, вонзившимся в грудь, он жил, но ни разу вслух не назвал он той, кто жизни его лишил.
Душу, канувшую бесследно, два раза лишь видел я: когда умер отец мой бедный, когда ты ушла от меня.
Задрожал я лишь раз, — это было в саду перед входом в сторожку, когда злая пчела укусила в лицо мою девочку-крошку.
Раз в жизни был рад я безмерно, как в час настоящей удачи: когда приговор мой смертный объявил мне тюремщик, плача.
Слышу вздох над землей и водой, он, как ветер, коснулся нас, но это не вздох — это мой, это сын мой проснется сейчас.
Говорят, в самоцветах нужно искать и ценить чистоту, — оттого-то верную дружбу я любви всегда предпочту.
Я видел: орел был подстрелен и взмыл к небесам голубым, а гадюка издохла в щели, отравлена ядом своим.
Я знаю: когда мирозданье без сил, побледнев, затихает — журча в глубоком молчанье, тихий родник возникает.
135
Рукой ледяной, но бесстрашной, с восторгом и суеверьем я коснулся звезды погасшей, упавшей у самой двери.
В груди своей год за годом прячу боль, что сердце терзает: сын народа-раба народом живет и без слов умирает.
Всё прекрасно, и всё постоянно, есть музыка, разум во всём, и всё, как брильянт многогранный, было уголь, а свет — потом.
Я знаю, что толпы скорбящих с почетом хоронят глупцов и что в целом мире нет слаще кладбищенских спелых плодов.
Молчу, обо всем размышляю, не желаю прослыть рифмачом и в пищу мышам оставляю мой докторский пыльный диплом.
136
* * *
Когда бушует шторм и волны взлетают разъяренно ввысь — знай: это стих мой. Но вглядись: он также — веер, неги полный.
Мой стих — кинжал. Зияет рана, ладонь сжимает рукоять.
И — весело ему сверкать ликующей струей фонтана.
Мой стих — листва в саду весеннем, заката огнь во тьме небес.
Мой стих в безлюдный тихий лес бежит израненным оленем.
Мой стих — на мужество присяга; мой стих — короткий и простой — надежен, как клинок стальной, стремителен и прям, как шпага.
137
* is *
Чтоб, оставив земную обитель, вспоминать не зло, а добро — я возьму с собою, родитель, седины твоей серебро.
Чтобы память о жизни тленной в новой жизни оставила след — я моей сестры незабвенной унесу на груди портрет.
Чтобы в жизнь унести иную всё, чем был я в мире богат, — в золотом ларце унесу я прядь волос — потаенный клад.
138
Хосе Марти, 1892 год.
* * *
Душа одиноко томится, дрожа вслед за канувшим днем. Нынче бал; мы увидим на нем испанскую танцовщицу.
Здесь флаг над фронтоном плыл, — хорошо, что его убрали: если б это знамя не сняли, я бы камнем у двери застыл.
Танцовщица уже явилась, проходит, надменна, бледна... Говорят, из Галисьи она?
Неправда! С неба спустилась!
С тореадорским беретом, красный плащ придержала рукой, — как похожа она на левкой в берете, чуть набок надетом!
Промелькнула бровь, — это бровь мавританки непостоянной, и взгляд мавританки туманный, и от щек отхлынула кровь.
Настройка. Свет гасят. И вот — платье длинное, шаль, бахрома...
Это Дева Мария сама в андалусском танце плывет.
Руку дугой выгибает, с вызовом голову вскинув, шаль на плечо перекинув, медленно страсть накопляет.
140
И рубит пол каблучками так вкрадчиво, но без пощады, как будто помост дощатый — эшафот с мужскими сердцами.
А призыв растет всё сильней в глазах лучистой волною, и шаль бахромой огневою летает и блещет над ней.
Вдруг одним прыжком отбегает, вот-вот сломится, прячется, кружит и, выплыв из шали и кружев, свой белый наряд предлагает.
Сдается, почти не дышит, раскрытые губы зовут и дразнят, и розой цветут, а дробь каблучков всё тише.
Подбирает устало шаль, пол метет бахрома огневая, — уходит, глаза закрывая, уходит, как ветер, вдаль.
Хороша, хороша танцовщица, и двухцветная шаль хороша...
Но в свой угол вернись, душа, чтоб опять одиноко томиться.
141
* * *
По глазам, воспаленно усталым, и по брошке, криво надетой, стало ясно мне: ночью этой ты в запретные игры играла.
Вероломную, низкую, страстно всей душой я тебя ненавидел.
С отвращеньем глубоким я видел, как коварна и как ты прекрасна.
А потом — наяву ли, во сне — на глаза мне записка попалась: всю ночь напролет, оказалось, ты проплакала обо мне.
142
* * *
Час настанет — и я отправлюсь в свой последний путь, недвижим. Пусть листва мое тело укроет пологом легким своим.
Пусть земле будет предан предатель; презираю могильную мглу.
Жил достойно. И столь же достойно я к солнцу лицом умру!
143
* * *
Мне художник знаком. В исступленье пишет он и дерзко, и щедро на упругой холстине ветра и на зыбкой пене забвенья.
Я художника знаю — гиганта; с ним никто не сравнится в цвете — и цветы на торговом корвете пишет он, не щадя таланта.
Мне известен художник бедный.
День за днем трудясь неуклонно, над водой он склонился влюбленно, над клокочущей хриплой бездной.
144
* * *
Когда, как школьник простой, веселюсь, а причины не знаю, канарейку я вспоминаю и глазок ее — черный такой.
Я хочу, когда лягу под камень на чужбине, зато не рабом, чтоб лежали на склепе моем цветущая ветка и знамя!
145
10 Зек. 3848
* * *
Королевский портрет — был декрет — и на смертных есть приговорах. Расстрелян юноша; порох был завернут в такой же портрет.
В честь святых — королевский декрет — веселиться народу велено.
И поет сестра расстрелянного, королевский славя портрет!
146
* * *
Свинцовый полог туч угрюмых вдруг луч багряный разорвал. Корабль невольничий из трюма на берег негров выгружал.
А пальмы гнулись. Сильный ветер вздымал кустарник на дыбы.
В страну чужую на рассвете шли вереницею рабы.
Ломилась буря в дверь барака, ломая ветки впопыхах.
И мать-рабыня шла, и плакал ребенок на ее руках.
В тумане солнца диск багровый встал над пустынею морской.
На ветке дерева, в оковах, висел невольник молодой.
Нет, мальчику не позабыть, как он в слезах любви и боли над трупом клялся отомстить за тех, кто жизнь влачит в неволе.
147
* чк *
Страданье? Кто посмел сказать, что я страдаю? Только следом за светом, пламенем, победой придет моя пора страдать.
Я знаю, горе глубже моря, оно гнетет нас век от века, и это — рабство человека.
На свете нет страшнее горя!
Есть горы, и подняться надо на высоту их; а потом с тобою мы, душа, поймем, кто положил нам смерть наградой!
148
•к * *
Ну и пусть, ну и пусть твой кинжал вонзается в ребра мои!
Есть стихи у меня, и они сильнее, чем твой кинжал!
Ну и пусть, ну и пусть эта боль небо вычернит, высушит море! Стихи — утешение в горе — рождает крылатыми боль!
149
* * *
Вот грудь моя, женщина, — бей! Пощадить ее ты б не могла.
Быть бы пошире ей, чтоб и рана больше была!
Хитрец, в груди этой странной особенность знаю я: чем глубже зияет рана, тем лучше песня моя.
150
* * *
О тиране? Скажи про тирана всё — и больше того! Присуди всей яростью рабской груди к бесчестью, к позору тирана!
О неправде? Скажи о неправде, как крадется она осторожно в темноте; скажи всё, что можно, о тиране и о неправде.
О женщине? Даже развенчанный, отравленный — умирай, но жизни своей не пятнай, говоря дурное о женщине!
151
•к к *
Я розу белую взрастил для друга — он с душою чистой, хоть сам дорогой шел тернистой, всегда на помощь.мне спешил.
Но и для той, кто изъязвил мне сердце искренностью лживой, я не чертополох с крапивой — я розу белую взрастил...
152
* * *
Я многое мог бы отдать за дерзкое счастье, сеньора: волос твоих каждую прядь, лаская рукою и взором, неспешно перебирать и нежно все дни целовать.
Локоны легкой волной к шее твоей ниспадают, над раковиной ушной волос завитки нависают, — китайский фарфор порой дивит нас такой красотой.
Я многое мог бы отдать за счастье — и счастлив признаться! чтоб узел волос развязать: пусть по плечам струятся — и нежно опять и опять за прядью прядь целовать.
Рубен Дарио
ВСТРЕЧА С ХОСЕ МАРТИ
Я остановился в испанской гостинице, она называлась «Америка». Отсюда слухи о моем приезде разошлись по испано-американской колонии, существовавшей в этом имперском городе. Первым меня навестил один кубинец, это был молодой человек с густой черной шевелюрой, пронзительными живыми глазами, говорливый, общительный и сердечный, с благородными манерами. Его звали Гонсало де Кесада-и-Миранда (сейчас он посол Кубы в Берлине, о его обширной общественной деятельности в Латинской Америке известно достаточно). Он сказал мне, что кубинская община готовит банкет в мою честь, который состоится у Мартина, знаменитого ресторатора, и что Учитель хочет увидеться со мной как можно раньше. Учитель — это Хосе Марти, так его называли кубинцы, в то время он с головой ушел в свою революционную работу по подготовке освобождения Кубы.
Гонсало сказал также, что Марти ждет меня в этот день вечером в Харманд-холле, там он должен был выступить перед кубинцами, и что мы можем пойти туда вместе. Меня восхищали энергия и сила Марти; этого уникального писателя я узнал благодаря его замечательным лирическим публикациям в различных испано-американских газетах, таких как «Опиньон Насьональ» в Каракасе, «Эль Партидо Либералы) в Мехико и особенно «Ла Насьон» в Буэнос-Айресе. Его проза была много¬
154
образна, полна жизни и цвета, пластична и музыкальна. Чувствовалось, что автор — знаток испанской классики, а также литературы вообще, как старой, так и современной. И было понятно, что это большой и чудный поэт.
Я явился на встречу в точно назначенное время. В начале вечера вместе с Гонсало де Кесадой я вошел в одну из боковых дверей здания, где должен был выступать великий борец за кубинскую независимость. Мы прошли по темному коридору, и, едва войдя в ярко освещенную комнату, я оказался в объятиях невысокого человека с лицом ясновидящего, с голосом, одновременно мягким и властным. «Сын мой», — были его первые и единственные тогда слова.
Пора было начинать собрание, и Марти сказал мне, что я буду с ним в президиуме. После того как меня быстро представили нескольким лицам, я оказался вместе с ними и Марти на эстраде. В зале было полно публики, она встретила нас с симпатией, аплодисментами. И тут я подумал: а что скажет колумбийское правительство по поводу того, что его генеральный консул оказался в президиуме антииспанского собрания?
Марти в тот вечер был вынужден защищаться. Его обвинили, точно не помню, то ли в небрежности, то ли в ненужной поспешности при организации высадки на Острове одной революционной кубинской экспедиции. То был момент, когда ядро кубинской общины было настроено против него. Но Марти был удивительный оратор, со своей особой манерой; воспользовавшись моим присутствием, что было приятно кубинцам, которые знали меня как поэта, он представил меня со всем изяществом, в лучших традициях своего стиля. Грянули аплодисменты, и он воспользовался моментом, чтобы оправдаться и защитить себя от обвинений. Его выступление в тот вечер было одним из его лучших, успех был полный, и аудитория, вначале враждебная, аплодировала ему долго и громко.
Когда вечер окончился, мы вышли на улицу. Едва пройдя несколько шагов, мы услышали, как кто-то обратился к нему: «Дон Хосе! Дон Хосе!» Это был рабо¬
155
чий-негр, он подошел к Марти скромно и почтительно. «Я принес вам небольшой подарок», — сказал он и вручил серебряный футляр для пишущего пера. «Вы только посмотрите, — сказал Марти, — как трогательна любовь этих простых людей, негров-рабочих с табачных фабрик. Они понимают, как я страдаю, как я борюсь за свободу нашей бедной Родины!» Мы пошли пить чай к одному его товарищу, — это была любезная и умная женщина, верный помощник в его революционной борьбе.
Там я долго общался с ним, слушал его. Другого такого рассказчика и оратора я больше не встречал, даже Кастелар не мог сравниться с ним. Речь его была гармонична, он говорил как близкий человек, его отличала удивительная память, он моментально мог что-то процитировать, вспомнить нужное выражение, привести какие-то данные, нарисовать, создать образ. Это были незабываемые моменты. Потом мы попрощались. В тот день вечером ему надо было уезжать в Тампу, привести в порядок, уж не знаю какие, дела.
Больше я его не видел.
САЛЬВАДОР ДИАС МИРОН (1853—1928)
SURSUM*
(фрагмент)
Как сладостны мечты! Их озаренья страстям дают пьянящую безбрежность, лугам — надежду вечного цветенья, цветам — неувядающую нежность.
Вот появилась радуга, как будто по мановенью мага. Половину небес пересекла она и, круто упав над берегом, впиталась в тину.
Вот истина, что пестует сознанье, бунтующее сердце пожирая.
Она — как плод на дереве познанья: вкуси — и навсегда лишишься рая.
Хоть бард и держит бой с исчадьем ада Химерой, что внушает небылицы, но там, где вихри, рифы, тени, — надо к спасительной утопии стремиться.
На статую Мемнона из Египта подчас походит бард, но, безутешный, когда его надежда уж разбита, он может стать зарей чужой надежды. Что мир наш? Воплощение Тантала.
Об идеале попусту скорбит он,
Сизифов камень катит вверх устало,
* Ввысь {лат ).
157
а кровью Несса плащ его пропитан;
как жить, он от Вараввы ждет подсказки,
но и Христа он обожает тоже,
и, как пигмей, чей страх растет гигантски,
он у Прокруста корчится на ложе;
давно грехи бесчестят его имя,
и, чтоб их искупить, он брошен в пламя,
терзаемый страстями роковыми,
как Актеон безжалостными псами;
когда, то богохульствуя, то хныча,
оковами звенит он, но при этом
повертывается эгоистично
спиной к чужим страданиям и бедам,
поэт-провидец над кострищем дымным
сложить, пропеть обязан песнь такую,
что освятить могла бы горним гимном
не собственную скорбь, а мировую.
Свеча неугасимая, святая,
что на алтарь бросает свет неровный
и, жертвенно, неумолимо тая,
тьму разгоняет в сумрачной часовне;
диковинный сосуд, кадящий в храме,
сосуд, что Богом мудро был загадан
как символ единенья с сыновьями,
как вечная любовь: огонь и ладан;
безумный Дон Кихот, один удало
взывающий сквозь громы к правосудью
с зазубренным мечом и без забрала,
с разодранной, кровоточащей грудью;
бессмертный Феникс, гордо над кострами
кружащаяся царственная птица,
которая сама ныряет в пламя,
чтоб молодой из пепла возродиться, —
вот что такое бард. А славить Граций,
когда звучит повсюду, словно эхо,
призыв «К оружью!», — значит распрощаться
со званием певца и человека.
158
РЕКВИЕМ
Душа летит в неведомые дали, бесшумно от земной уходит тверди, а здесь всё полно музыкою Верди, объявшей наши муки и печали.
Кроваво над горами заблистали лучи заката, говоря о смерти, но явственно: «во благость Божью верьте» — слова в скорбящей музыке звучали.
Среди людской извечной круговерти не след нам забывать о скорой смерти; душа летит в неведомые дали,
бесшумно от земной уходит тверди; а здесь всё полно музыкою Верди, объявшей наши муки и печали.
159
В НАЗИДАНИЕ ДРУГИМ
Раскачиваясь мерно в бесстыдстве наготы, ужасный плод — как символ возмездья рокового — труп на суку высоком, трофей петли пеньковой, вываливал язык свой из мира немоты.
Чуб, как петуший гребень, гримаса тошноты и боли, — в этом было так много шутовского. Пред ним, неподалеку от моего гнедого, мальчишки надрывали от смеха животы.
Казались наважденьем и эшафот зеленый, и узник с головою пристыженно склоненной. Неугомонный ветер, зловоние стеля,
с поспешностью шальною носился вкруговую.
И выплывало солнце в долину голубую, и песнею Тибулла манили вдаль поля.
160
к м,
Сдержать себя? CáMa пойми: смогу ли? Бессилен разум верх над сердцем взять. Не приказать ветрам, чтобы не дули, прибою, чтобы смолк, не приказать.
Не удержать поток, с вершины горной сбегающий лазурно-вешним днем,; — стремительный, бурливый, непокорный, он всё сметает на пути своем.
Зачем весна в лесной листве смеется, лукавая, смущая и маня?
Зачем влечет подсолнух к свету солнца, металл — к магниту, а к тебе — меня?
11 Зек. 3848
МАНУЭЛЬ ХОСЕ ОТОН
(1858—1906)
ПОСЛАНИЕ
На твой алтарь — щепотка фимиама и лепестки моих последних роз.
Уж нет моих богинь: песок занес пустырь, где прежде возвышались храмы.
К тебе я в душу заглянул: там яма, развалины, прогнившие насквозь.
И думать больно, что с тобой стряслось, но всё о том же думаю упрямо.
Спускаюсь... Что же от тебя осталось?
На совести не видно ни пятна, она чиста: ни слез, ни угрызенья.
И лишь во мне — безмерная усталость, душа во мраке, в страх погружена, я сам себе внушаю омерзенье.
162
ЗАКАТ
Художник, я пленен твоей картиной: под небом самой синей глубины на озере — как в море — буруны окрашены зарею в цвет карминный.
Вот древо кроною густой и длинной колышет: листья ветром взметены, а вот холмы, прозрачно-зелены, и желтый луч над горною лощиной.
На мшистый склон сиянья не хватило:
полоска берега освещена
лучом последним мертвого светила,
и гладь вечерней дымкою объята, и лодка с парусом едва видна в божественном спокойствии заката.
МАНУЭЛЬ ГУТЬЕРРЕС НАГЕРА
(1859—1895)
В ТЕНИ СМОКОВНИЦ
В тени смоковниц она грустит одна.
Пойте про гордую иву, зеленую иву.
Поникла, обняв колени, в груди — томленье.
Пойте про скорбную иву, склоненную иву.
Ручей бежал по каменьям и вторил пеням.
Пойте про гордую иву, зеленую иву.
Бежали слезы печали, гранит смягчали.
Пойте про скорбную иву, склоненную иву.
Неверного я корила, ответил милый:
Пойте про гордую иву, зеленую иву.
«Мне любо лишь то, что ново, ищи другого».
164
СУМЕРКИ
Уж при смерти вечер; море разбило о берег гневные волны свои.
Отплыть пора мне: земля остыла, земля темна. Со мной уплыви!
Брось весла; пусть к борту они прижмутся; на миг отдохни на моем плече, и мы увидим, как звезды зажгутся на бирюзово-синем плаще.
Не бойся, утихли море и суша, спят волны: здесь Бог прошел невзначай. Приди, и вместе сольем наши души, чтоб вместе сказали они: «Прощай!»
Вот ночь летит, в полете бросая алмазы из черного сундука, и белая пена, пена морская, обрызгала платье твое слегка.
Бежит волна за волной, явился
нам Сириус вслед за вечерней звездой.
Всё ищет тебя, и только лишь скрылся во тьму, как в траур, берег земной.
Позволь, чтоб черной твоей косою веселый свежий ветер играл.
Полна покоем ночь под росою, зато любовь — как девятый вал.
Маяк зажег свой огонь над нами, во мраке растаяли паруса, и рыба в прыжке летит над волнами, а чайка уснула, и спят леса.
165
Мне жар твоих рук, словно воздух, нужен, смотри, как жадно я к ним приник.
Тайник есть в раковинах у жемчужин, а у любви есть в душах тайник!
На хрупкой лодке так одиноко; плывем на лодке вдвоем с тобой; любовь в глазах ты прячешь глубоко — так прячется Бог в глубине голубой.
Открой глаза, посмотри: забылось, что умирает волна за волной; открылась бездна, как ты открылась грядущему девственною душой.
Белея, след струится за лодкой, как в море упавший Млечный Путь; свеченье теплое гаснет кротко, — о, дольше, дольше со мной побудь!
Вот рыжую косу, плывя над водою, красавица нереида плетет и с завистью смотрит на нас с тобою, и вдруг над волною по грудь встает.
А ветер твоею прической играет и волосы треплет, и кольца вьет. Разбившись о берег, волна умирает, но ласка твоя во мне не умрет.
Боишься? Руки мои над тобою объятье-гнездо мгновенно совьют; тебя я легким плащом укрою, — так матери сонных детей берегут.
Вода качает лодку несмело, баюкает ветер, нежен и тих, и сладко рука моя онемела, забывшись под шапкой волос твоих.
166
Взгляни, как весло волну одолеет; земля перед нами, я правлю к ней; врезаясь в море, она чернеет, но блеск твоих глаз еще черней!
167
ЧЕРЕЗ ОКНО...
Приравнивать любовь к стыду, к позору... Идти в тени, сливаясь со стеною, бесшумно крадучись, в ночную пору, и скрыв лицо под плотною полою.
Приставив лестницу; потом с оглядкой карабкаться на стену, как на горы; где люди входят в дверь, влезать украдкой в окно, спеша, как лезут только воры.
Погашен свет, и речи торопливы; всё слушаешь, как страх, любовь, сомненья, пытливы, боязливы и стыдливы, отсчитывают, что скупцы, мгновенья.
И даже стук часов невыносимым здесь кажется, как страшная угроза; быть молодым, любить и быть любимым, быть вместе и дрожать, как от мороза!
Почувствовать, что кровь оледенела, когда по нервам бьет испуг-мучитель, и проклинать луну, когда несмело в окно пробьется луч-разоблачитель.
Искать в алькове угол самый темный, глядеть на щели с тайною опаской, страшась полоски света самой скромной; так трус-грабитель прячется под маской.
Залает пес — он предвещает горе; всплеснет волна — и новое волненье; всё то, что воздух, солнце, — на запоре держать; из права сделать преступленье.
168
И целовать беззвучно, торопливо, бояться на ковер поставить ноги, а стукнет в стекла ветер говорливый, решить, что вас окликнул голос строгий.
Под песню жаворонка удалиться, на цыпочках пройти пустою залой, дрожа, по шаткой лестнице спуститься, как после грабежа бандит усталый.
И отравив любви и жизни повесть, сковав восторги цепью унижений, как посетитель кладбища, где совесть лежит, страдать от вечных угрызений.
Глядеть, как у нее пылают щеки, — боязнь, недуга злей, ей сердце гложет; заговоришь — ей чудятся намеки и от стыда поднять глаза не может.
Нет, это не любовь; любовь — не кража, не выглядит фальшивою монетой; не о такой мечтал я; если даже и нет иной, то лучше жить без этой.
169
В ТОТ ЧАС
Я хочу умереть на просторе морском в золотистом сиянье заката.
В час, когда нам агония кажется сном, а душа, словно птица, крылата.
Пусть дежурит у смертной постели моей только небо одно голубое.
Я услышать хочу не рыданья друзей, а вскипающий грохот прибоя.
Из зеленой волны златотканую сеть извлекает дневное светило...
Я хотел бы как солнечный луч умереть, раствориться в волне белокрылой.
Ни досады, ни злобы в душе не тая, я хотел бы смежить свои веки.
Чтоб шептала мне жизнь: «Я навеки твоя...» — покидая меня навеки!
170
НА СМЕРТЬ
МАНУЭЛЯ АЛЬВАРЕСА ДЕЛЬ КАСТИЛЬО
Еще дрожит бургундское в бокале, еще в рояле эхо отдается...
Он только что ушел, его позвали, еще так рано, он сейчас вернется.
Еще благоухают и пылают цветы, оставленные у прибора, еще шаги его не замолкают в пустынном полумраке коридора.
Здесь, вероятно, тайное свиданье; внезапная отлучка так понятна: с ним говорит небесное созданье, и ждем мы друга с песнею невнятной.
Увы! Вся в черном, с черными глазами украдкой властно постучала в дверь не дева с ярко-алыми губами, — красавица без капли крови — Смерть.
Вздымалась грудь, и губы трепетали, молчальницу тоска любви томила; за доброту, за юность без печали она тебя мгновенно полюбила.
Ты ей принадлежишь. Она добилась. Печаль, цветы на свадьбу приготовь!
И вот сегодня для тебя открылась единственно бессмертная любовь.
А жизнь влюбленная всё повторяла, полна желаньем и ломая руки, — Джульетта так Ромео умоляла:
«Не уходи... не пробил час разлуки!»
171
Могилы мохом, как ковром, оделись, и, плача вслед ушедшей красоте, под незабудками мы слышим шелест, как будто поцелуи в темноте.
Ни жалобы, ни стона, ни упрека.
Мой друг, навек твой сон неторопливый. Был синий вечер. Ночь так одинока... Склонитесь над его постелью, ивы!
По-прежнему открыта дверь столовой, ее не запер путник за собою. Молчальница должна вернуться снова... Кто первым предназначен ей судьбою?
172
ПОСЛЕДНЯЯ НЕГА
Годы бегут — быстрые, словно суда! Годы бегут! Бездетная Мойра, бледная, ждет. Засыпает, стихнув, соленый Стикс.
Годы летят!
Дайте же, исчезающие мгновенья, вас ухватить за белое одеянье! Счастье проходит, и наступает безмолвье зимы...
Благоуханные розы вянут, заздравная чаша из рук выпадает. Заря скрыта горою. Все наслажденья испытаны...
В слабых объятьях моих Цинтия спит.
173
СЕРЕНАДА ШУБЕРТА
Что за дивная песня! Ключом она бьет, созвучия нежные падают в дали.
И каждая нота как будто несет частицу души моей или печали.
Так душа говорила бы... если б могла!
Это жизнь я молю:
сохрани меня добрым;
это в сердце исклеванном птицы поют,
безъязыкие птицы любви или скорби.
И чей это голос? Он словно поднялся из сини озерной, из лунного света, в пространство влетел и в пространстве распался, и звуки забились о стекла окна.
Окно приоткрыла невеста поэта.
Ты слышал? «До завтра!» — сказала она.
До завтра, любовь! Через рощу густую счастливый любовник идет, напевая...
И смутное эхо вдали повторяет:
«До завтра... до завтра», — как будто тоскуя. О, счастье! Зачем оно так мимолетно?
Зачем у окна остается невеста?
И музыке той, что о встрече поет нам, ответствует сердце: «Еще неизвестно...»
На озере лебеди игры заводят, и волны лениво ласкаются к суше, и звезды толпою на небо восходят, но так одиноки печальные души.
Серебряных звуков вскипает волна и катится в ночь, колыхаясь несмело, как будто Офелии легкое тело в далекое море уносит она...
Мелодии горек и нежен язык, и кажется: в этом любовном прощанье есть и прозрачность девичьей слезы, и беспредельность людского страданья.
174
О чем они плачут, щемящие ноты, — их, словно мечты наши, ветер уносит, — то жалуются, точно дети-сироты, то будто пощады у вечности просят.
Да, знал музыкант, что судьбой человеку лишь день миновавший для счастия дан, на «завтра» с надеждой глядим мы от веку, но горе и мрак поджидают нас там.
В смятении сердце, в душе так уныло.
О, светлая грусть изболевшихся нот! Давай-ка присядем и вспомним, что было. Пусть прошлое наше на миг оживет.
Лунная ночь. Пеньюар из муслина, белый как снег. За окном тишина.
Томик стихов... И еще — пианино.
В воздухе теплом разлита весна.
И первые розы! Как пахнут они!
Как лунные блики блестят на паркете!
И поцелуи уснули в тени, а смерти как будто и нету на свете.
Дети, собравшись у лампы, играют, бабушка вяжет и смотрит во тьму.
Шуберт в твоем пианино рыдает,
Мюссе в моем томике вторит ему.
В наших сердцах распустились мечты.
Мне в эту ночь до утра не уснуть...
Какие стихи! И какие цветы!
Жажда любви распирает мне грудь.
И всё миновало... В душе моей пусто. Навеки... Неправда! Я в это не верю! Пускай всё вокруг молчаливо и грустно, но память раскрыла волшебные двери.
Вот белый дом... И луч света в окне...
И кресло, в котором она вышивала...
И та же сияет звезда в вышине, что моему красноречью внимала.
175
И кедр. Он до звезд достает головою, с ветвей его ночь опускается к нам, под ним я впервые несмелой рукою к тонким твоим прикоснулся плечам. Память, одна ты живешь, не старея. Воспоминанья толпою собрались.
Вот оно, озеро... сад... и аллея, где мы неожиданно поцеловались!
Я жду тебя снова... И чудится мне, где-то поблизости, между цветов, уже забелел пеньюар твой, как снег, и слышится шум твоих легких шагов.
Но пианино твое замолчало...
И всё отошло... Наступило прощанье.
Ты закрыла окно и мне руку пожала, с улыбкой сказала мне: «До свиданья».
Не знал я, что путь предстоит тебе дальний, и удержать тебя был я не в силах.
Не сон тебя ждал. В темноте твоей спальни смерть твой приход в эту ночь сторожила.
О, где же вы, ночи в серебряных ризах?! Уже не сольются в душе воедино бледный Мюссе, он был сердцу так близок, и Шуберт, чьи слезы хранит пианино.
176
PAX ANIMAE*
Пусть крика боли не услышит свет.
В паденье не кощунствуй и не сетуй. Надменно и с презрением, поэт, взирай на все неправды жизни этой.
Ты постоянства не ищи в любви: ждать вечного от смертных — труд напрасный. Так претвори же горести свои в надгробия, что скорбны и прекрасны.
Белейший мрамор выбери для них, представь их целомудренно-нагими, и пусть слова замрут в устах немых, и пусть печаль навек пребудет с ними.
Что наше имя!.. Робких звуков ряд, их срок недолог — нет короче века. Жалчайшая из всех земных отрад, последнее тщеславье человека.
К чему ты просишь правого суда — откажет в нем и друг без сожалений — у тех, кто нем, кто холоднее льда: у равнодушных новых поколений?
К чему о милосердье к ним взывать?
Ведь завтрашние солнца нам не светят.
Спит эхо в сельве, тщетно уповать, что нам из тьмы грядущего ответят.
Одно лишь утешенье нам дано: глядеть на небо в звездном озаренье и вспоминать минувшие давно прекрасные часы или мгновенья.
* Душевный покой (лат.).
177
1 О 401. ОЯДЯ
Бежать от бурь, от штормовых морей, скользить по глади озера беспечно...
Уснуть... О сон, великий чародей!
Ты лжешь, но свят в своей неправде вечной.
Случается, от раны ноет грудь и справедливость требует отмщенья, но ты прости обиду, зло забудь: больны мы жизнью все без исключенья.
Пирующий средь смеха и цветов рожден для смерти, платится слезами. Прости, коль предали твою любовь: ведь что творят, не ведают и сами.
Быть может, неосознанный завет их пробуждает выместить страданья племен ушедших, много сотен лет ожесточенно ждавших воздаянья?
Тебе ль судить? Ведь сам ты разве свят?
И праведник, и полон снисхожденья?
Да кто из нас ни в чем не виноват, кто не сокрыл от кары преступленья?
Кто лживых клятв любовных не давал, невинность осквернив пустой забавой?
Кто поклянется, что не убивал?
Кто может суд вершить прямой и правый?
Прощай живым, любовью их согрей.
Ведь, научившись кротости сердечной, мы станем сострадательней, добрей и, может быть, порою — человечней.
Ты страждешь? Красоту прозреть сумей — в ней всё бессмертье и бесстрастье мира, и пусть печаль, Корделии нежней, ведет тебя, измученного Лира.
178
Взгляни: лениво прочь уходит день, как сладко отдохнуть, как мир прекрасен! Зовут леса под ласковую сень, вода прозрачна, воздух чист и ясен.
Свет, утомившись, уступает мгле, шуршат листы, журчат тихонько волны, и ночь, спускаясь, говорит земле:
«Не плачь, усни... Пора, усни же, полно...»
Прощать... Любить... Всё в памяти хранить... Счастливым быть и верить — хоть мгновенье, и голову устало приклонить к холодному, как снег, плечу Забвенья.
Беречь в груди всю нежность юных лет и, если радость в двери постучится, принять ее, как мимолетный свет, который просияет и умчится.
Всегда таить любовь и боль, и страсть, всегда являть улыбку всепрощенья, а там, земля, к тебе в объятья пасть во власти сонного изнеможенья.
Вот жизнь, достойная того, кто смог постичь, как всё минутно и обманно, кто не ступил, о Ложь, в твой мутный ток, разлившийся простором океана.
Что ж, за колючки розу не кори, срывай цветы, покуда не увяли...
Как чернокрылых бабочек рои, уносятся невзгоды и печали.
Люби, прощай... Без страха дай отпор всему, что подло, низко и трусливо...
Во всей красе нисходит вечер с гор, печальный, умудренный, молчаливый.
179
Когда порою скорбь меня гнетет, ищу я в высях света и покоя, и состраданье озаряет лед моей души, измученной тоскою.
ХУЛИАН дель КАСАЛЬ (1863—1893)
ИСКУССТВО
Когда, как тяжкий груз, мы жизнь познали — и всё сильней он давит с каждым днем — и, жарким опаленное огнем, зерно способно прорасти едва ли,
когда отведать нам не раз давали плод горький и отравленный притом и нам уже пришлось пройти путем хандры, закрывшей радужные дали,
то пусть душа, чиста и одинока, от низких истин к истине высокой взлетев, в Искусстве счастье обретет, —
так зимородок зябкой ночью темной укрытье ищет на скале огромной, в которую волна морская бьет.
181
ЖЕМЧУЖИНА
Драгоценная у мира есть жемчужина в короне!
В синем море-океане она плавает, не тонет.
Две прожорливые птицы — черная и золотая, — наточив кривые клювы, над жемчужиной летают.
Этим хищницам приманка — серебристое сиянье, их заветная добыча — жемчуг в море-океане.
Днем и ночью с хриплым криком над жемчужиной летают две прожорливые птицы — черная и золотая.
182
КРИТИКУ
Мне не дойти, я знаю, до вершины, не овладеть несбыточной мечтою, что дышит долговечной красотою на мраморе или холсте картины.
Моя душа до самой сердцевины поражена бесплодной суетою, и обнажит свое лицо пустое забвенье предо мною в час кончины.
Уйду, простясь с земными голосами, без ложного стыда и удивленья, подобно тем, что жили, как кроты.
Но будет полыхать перед глазами до самого последнего мгновенья огонь моей несбыточной мечты.
183
ПРАЗДНИК
Осенний день. В оправах золоченых блестят гербы. Гремят в церквах хоралы. Шуршат деревья. Реют опахала, и льется смех на улицах мощеных.
Орудия палят. На бастионах знамена фиолетовы и алы.
В толпе снуют торговцы и менялы.
Стоят с улыбкой дамы на балконах.
Но, Господи! Пока ликует город, пока бурлит в безудержном движенье толпа людей, вскипая, как волна,
мне в грудь вливается смертельный холод и хочется побыть в уединенье, чтоб выплакаться в этот час сполна.
184
НОСТАЛЬГИЯ
I
Манит, манит север дальний, альбатросов крик печальный над волной.
Там, на сумрачном рассвете, неустанно плачет ветер ледяной.
Там хозяйка — непогода, и слетает с небосвода белый снег.
Покрывает луг узорный, заглушает речки горной бурный бег.
Солнца там лучи бесследно пропадают в бездне бледной, в небесах.
Но там звезды в изобилье, они больше древних лилий на гербах.
II
Одного порой хочу я — по морям бродить, кочуя, или жить
где-нибудь в стране далекой и о будущем до срока не тужить.
Незнакомые мне горы, реки, рощи и озера повидать.
Повстречать иную веру,
185
необычную манеру размышлять.
Будь закон мое желанье,
я б в Алжир, как на свиданье,
поспешил.
Говорят, что мавританки, как гвоздики на полянке, хороши.
Но покой душе несносен, в даль пустынь меня уносит караван.
Солнце льет огонь повсюду, солнце красит шерсть верблюду под шафран.
А потом среди равнины мне палатку бедуины разобьют.
Будет дуть песчаный ветер, будет плавать в лунном свете мой приют.
Парус мой подхватят бури, землю огненной лазури кину я.
Во владеньях богдыхана опиум врачует раны бытия.
Коротать в тени бамбука без движения и звука буду дни.
Чай — напиток мандаринов -— меня горечью старинной опьянит.
Под луной, как бубен звонкой, вверх по Хуанхэ нас джонка понесет.
И полуночной порою белый лотос предо мною расцветет.
Что за дивное виденье!
186
Сок извечный вдохновенья в нем сокрыт.
Это чудо резчик бедный на кости в узор волшебный воплотит.
К музе странствий на поруки я хочу от вечной скуки убежать.
В океан открытый выйти, возле острова Таити дрейфовать.
Есть там озеро, я знаю, в нем волшебница седая на заре
под тягучие напевы чешет кудри королеве Помаре.
Мне простор морской позволит избежать душевной боли и химер.
Позабуду я, поверьте, о дыханье близкой смерти, меры мер.
III
Мой кораблик — из бумаги, только грезы — жизнь бродяги, путь морской.
Ах, когда ж судьбы веленьем будет мне дано забвенье и покой!
187
СУМЕРКИ
Кровоточит зари распоротый живот. Дымящаяся кровь стекает на холмы, на плоский бледно-синий небосвод, на оловянный блеск морской волны.
Утесы — как собранье мокрых спин, у пульта вечер — странный дирижер.
Он мачты скрип навязчивый, как сплин, вплел в плеск волны и в чаек хриплый хор.
Над морем сумрак поднял серый стяг и горизонт замкнул стальным кольцом.
На горизонте сумрачном маяк нам кажется пурпуровым цветком.
И водоросли — волосы наяд — колышутся, подхвачены волной.
И горьковатый йода аромат расплескивает в воздухе прибой.
Вот, как тюлени, тучи улеглись, и высыпали звезды, как роса.
Тяжелой поступью идет по скалам бриз и заглушает склянок голоса.
188
ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР
Каплет дождик затяжной на балконы, на веранды, на блестящий и густой плющ, развесивший гирлянды.
Над листвою тополей за туманом тают горы, и чирикают сильней воробьишки-мародеры.
Бережно хранят пески, жадно всасывает глина кровь — гвоздики лепестки, снег — соцветия жасмина.
Пусть пока мерцают склоны, смерклись серые аллеи: распускаются пионы, закрываются нимфеи.
Как под тихий плеск прибоя утомленные суда, дремлют мокрою гурьбою лебеди вокруг пруда.
Красный отблеск фонарей ярче скрытых в тучах звезд, и доносится с ветвей острый запах птичьих гнезд.
Колокол, далек и глух, не на тризну, не на битву — подвигает сникший дух на вечернюю молитву.
189
Мир забылся смертным сном, не шевелится, не дышит, саван пепельный на нем моросью жемчужной вышит.
Голоса поют, звеня, из предвечного эфира, призывают прочь меня из подтопленного мира.
Светят очи сквозь туман, смотрят трепетно и нежно: горек скорби океан, сострадание безбрежно.
Пасмурный слежу закат, полон смертного покоя; кости ноют и трещат, и не справиться с душою.
190
В ДЕРЕВНЕ
Любовью неестественной люблю я города — и солнце, шлющее свой свет сквозь мили и года, отдам за газовый фонарь, коптящий, как всегда.
Волнует чувства томные, бросается в висок нс аромат лесных чащоб, таинствен и глубок, по спальни непроветренной изнеженный душок.
В чем прелесть девственных лесов — мне не понять никак; люблю предместий городских я грязь, и пыль, и мрак — и в подозрительный зайти совсем не прочь кабак.
А орхидее, что цветет, вобравши луч денницы, звездою в сумраке горит, мерцает и искрится, ее сестер я предпочту, возогнанных в теплице.
Пусть звонко заливается на ветках птичий хор, — мой разум восхищается, и гибок и остер, стихом, что облачается в ритмический убор.
В деревне взор прельщается, но сердце — ни гу-гу: в невинную пастушку я влюбиться не могу, нет, для роскошной грешницы я чувство берегу.
Весенним золотым полям, где тянутся былинки к лучам светила, предпочту иные я картинки: милей мне золото кудрей у крашеной блондинки.
Не променяю я муслин, шелк, кисею, атлас на пелену туманную, уже в который раз сходящую со склонов гор в рассветный смутный час.
Не грохот водопада, что в пучину устремлен, а человеческой толпы унылый, вечный стон охотней слушаю, ее уделом удручен.
191
Не так сияет в высях гор росинка на цветке, как — для моей души больной, мятущейся в тоске, — прозрачная слезинка, что скатилась по щеке.
Брильянтов, лалов, жемчугов живую череду не променяю, ей-же-ей, ни за какую мзду на холодно горящую, далекую звезду.
192
ЦВЕТЫ
Было сердце мое хрупкой вазой хрустальной, в ней взрастала, сиянием звездным омыта, одинокая, полная неги печальной, белоснежная лилия: это — молитва.
А теперь она, слезы роняя, увяла, аромат испарился, что был столь приятен, и растет в моем сердце, поникнув устало, олеандр черно-пурпурный: это — проклятье.
193
13ЛяЬ ЗЯ4Я
ЮПИТЕР И ЕВРОПА
На финикийский брег, в прозрачном одеянье, Европа вышла из морских лазурных вод; сверкающей зарей лучился небосвод, и ветерка струилось нежное дыханье.
Являло утро всё свое очарованье, но деву у тропы, которая ведет от берега, средь скал уже Юпитер ждет, и слышится окрест греховное мычанье.
Мгновенье — и народ на берегу глядит: по вспененным волнам, по необъятной сини плывет с Европой бык, везет ее на Крит.
И с тех далеких пор нам видится доныне: плывет с добычей бык по вспененным волнам, злаченые рога вздымая к небесам.
194
ЕЛЕНА
Свет фосфорический с глубокой син луна в просветы облаков лила; златыми стрелами пронзенные тела переполняли сумрачные рвы.
Умолкло пенье страшной тетивы, шипя, стекала с факелов смола; багрово-черная стелилась мгла над Илионом, баловнем молвы.
В прозрачный облаченная хитон опаловый, с каймою золотою, стоит Елена, смотрит на восток.
Ей безразличен шумный бег времен сияет, чист, под мертвенной зарею в руке воздетой — лилии цветок.
ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА (1865—1896)
НОКТЮРН
Давней ночью,
ночью, полной ароматов, полной шепота и плеска
птичьих крыльев;
давней ночью,
ночью свежей, ночью брачной, освещенной колдовскими
светляками;
ты, прильнув ко мне всем телом, и бледна и молчалива, словно чувствуя заране наши будущие беды, в неосознанной тревоге, омрачившей сердца тайные
глубины,
через сонную равнину, по тропе в цветах и травах, шла со мною; и луна светлей опала
в небесах темно-лиловых, бесконечных и глубоких, свет
молочный разливала;
наши тени —
легким, стройным силуэтом, — наши тени,
обрисованные белым лунным светом, на равнине беспредельной сочетались и, сливаясь воедино, и, сливаясь водино,
и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной, и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной, и, сливаясь воедино, стали тенью нераздельной...
196
Этой ночью я один, и мое средце
переполнено непоправимым горем, обездолено твоею
смертью.
Многое меня с тобою разделило — расстоянье, время
и могила.
В бесконечность, в черный мрак извечный канули бесследно наши речи.
Онемевший, одинокий снова проходил я той дорогой.
И собаки выли на луну, на бескровную луну, и гремели лягушачьи хоры...
И в меня ворвался холод. То был холод, овладевший навсегда твоим альковом, оковавший твои руки, твои щеки, твои очи, белоснежным скрытые покровом погребальным.
То был холод замогильный, стужа смерти, лед небытия.
Тень моя,
обведенная печальным лунным светом, одиноко, одиноко,
одиноко протекала по пустыне.
Тень твоя
легким, стройным силуэтом, приближаясь,
словно той далекой ночью вешней, ныне мертвой, вечно
незабвенной,
ночью полной ароматов, полной шепота и плеска
птичьих крыльев,
с нею рядом полетела, с нею рядом полетела, с нею рядом полетела...
Неразлучные обнявшиеся тени! Тень души, спешащей слиться с тенью тела! Тени скорбные, нашедшие друг друга в эту ночь печали без предела!
198
К НАМ ИДЕТ СВЯТОЙ ХУАН
Ты, пила, пили чурбан!
К нам идет святой Хуан, будет каждый сыт и пьян: для Родриго есть коврига, а для Рике — горсть клубники, а для Трике — марципан,
трики, трики, трики, тран, трики, трики, тран!
На худых коленях бабушки качаясь, прыгает ребенок, устали не зная, — видно, им обоим час веселья дан!
Бабушка смеется, мальчика лаская, но невольно душу темный страх сжимает, что ее внучонка горе ожидает, разочарованья, боль душевных ран...
К нам идет святой Хуан, будет каждый сыт и пьян — трики, трики, тран!
На щеках морщины — летопись былого; от немой тревоги, долгих испытаний побелели косы и согнулся стан, на лице увядшем — след былых страданий, а в глазах потухших, зеркалах без света,
199
отразились годы, лица и предметы — всё, что невозвратно кануло в туман...
Для Родриго есть коврига, трики, трики, тран!..
Старая однажды вечным сном задремлет далеко от мира, под землею грустной, ибо всем на свете общий жребий дан.
Но в душе у внука голос безыскусный, данную поэму детства напевая, время и пространство преодолевая, зазвучит приветом из нездешних стран.
А для Рике — горсть клубники, трики, трики, тран!..
А сегодня утром на ее коленях прыгает ребенок, устали не зная, — видно, им обоим час веселья дан! Бабушка смеется, мальчика лаская, но невольно душу темный страх сжимает, что ее внучонка горе ожидает, разочарованья, боль душевных ран...
К нам идет святой Хуан, будет каждый сыт и пьян: для Родриго есть коврига, а для Рике — горсть клубники, а для Трике — марципан,
трики, трики, трики, тран, трики, трики, тран!
200
ГОЛОСА ВЕЩЕЙ
Когда бы мог поймать вас сетью строк, приветливые хрупкие созданья, — тебя, неяркий ириса цветок, и месяц, проливающий сиянье на свежий лист и влажный лепесток, вобравший мая теплое дыханье, — когда б я мог поймать вас сетью строк, улыбчивые бледные созданья!
Когда бы мог перехватить мой стих вас, тусклые видения, в полете, вас, воплощенья образов земных, — сны, искры, эфемеры — вы прейдете! Печальный поцелуй душе живых, и нежный и тлетворный, вы даете, — когда бы мог перехватить мой стих вас, тусклые видения, в полете!
201
ПОЭМА
Задумал я однажды блестящую поэму, в новаторской манере я разработал тему,
я разрывался между гротескным и трагическим, я созывал все ритмы заклятием магическим,
и ритмы подступали — лихие, непокорные, сплетались, расплетались, унылые, задорные,
одни текли спокойней, другие — горячей, одни — как птичий щебет, другие — звон мечей.
Здесь был Восток и Запад, здесь Север был и Юг — все формы стихотворные сошлись в волшебный круг.
Едва не обрывая поводья шелковистые, терцеты гарцевали, как кони норовистые,
но тут же расступились, исполнив этикет: весь в пурпуре и в золоте вошел король Сонет.
Запели все... И в этой неразберихе звонкой пленился я строфою, изысканной и тонкой,
и к ней я устремился всем сердцем изумленным, плененный музыкальным, хрустальным перезвоном.
Я взял ее в супруги, ей отдал всё добро — богатых рифм созвучья, хрусталь и серебро.
В ней воплотил я мысли поэмы благородной — трагической и нежной, причудливо свободной;
то был рассказ печальный, саморазоблачительный, о женщине умершей — любимой, восхитительной.
202
Чтоб выразить искусней утраты горечь злую, я выбрал гамму звуков, подобных поцелую,
сплел золотые фразы в гармонии единой и странной, словно лютня в слиянье с мандолиной.
Я подсветил неясно расплывчатые дали, где облака клубились и брезжили печали;
гам, выскочив из мрака, кривлялись в ритме пляски, как в вихре карнавала, уветливые маски;
гам слово мысль скрывало от посторонних глаз, как черная личина, как бархат и атлас.
Я переплел в сюжете неясные внушенья, таинственность предчувствий, соблазны, искушенья...
Стихам придал я, гордый могуществом артиста, гелиотропа запах и пурпур аметиста.
Я дал прочесть поэму светилу одному;
шесть раз ее прочел он и буркнул: «Не пойму...»
203
MIDNIGHT DREAMS*
Когда в полночный час я был охвачен дремой, былые сны ко мне пришли толпой знакомой.
Сны счастья и надежды, высокой славы сны — все радости земли, что мне не суждены,
ко мне приблизились в процессии печальной, заполнили собой углы и ниши спальной,
и гнет молчания в пустынный дом проник, и маятник застыл, удерживая миг.
Забытых запахов невнятное дыханье как призрак выплыло и как воспоминанье.
Увидел я глаза — их погасил злой рок, услышал голоса — но их узнать не мог...
И увидали сны, что я уснул на ложе, и тихо отошли, меня не потревожа,
скользнули по коврам неслышною стопой и вновь растаяли, сливаясь с темнотой.
* Полуночные грезы (англ.).
204
ТРОПИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Объят дремотной магией поток, неспешен путь в покое монотонном, пейзаж тушуя, тень течет по склонам, в низинах мрак сгустился и залег.
Мелькнет в лесу обжитый уголок — приют индейца в захолустье сонном, листва клубится кружевом зеленым, но вечереет, яркий день поблек.
Венера загорелась в выси чистой. Речную ширь пирога напролет чертою рассекает серебристой.
Рожден закатом новый небосвод — темно-зеленый, алый, золотистый — во влажных зеркалах недвижных вод.
205
ЛАЗАРЬ
— Встань, Лазарь! — повелел Спаситель, и в пещере черной, одетый саваном, поднялся труп, неверною ногой нашел опору, восстал, узрел, услышал, ощутил — и громко вскрикнул, счастья жизни полный.
Но вот четыре истекли луны — теперь в молчанье тягостном и темном, что подобает времени и месту, среди могил старинных распростерт, рыдает одиноко Лазарь, жалея об одном, — что он не мертв.
206
МЕРТВЫЕ
Во влажных рощах осени тоскливой с приходом холодов, когда, алея, кружится хоровод летучих листьев и устилает мшистые аллеи, — тогда туман, заполонив пространство, стирает все знакомые приметы, и желтый лист, лишенный соков жизни, — как дар последний умершего лета,
и призрачный, печальный свет — как смутное воспоминанье о том, чего уж больше нет.
Такие есть шкафы в домах старинных, что сохраняют в тайниках забытых следы былых страстей и заблуждений, тончайший дух секретов нераскрытых, любовных писем пожелтелый ворох, — то память лучших лет, быть может, глупых; сухие, почернелые букеты — былых цветов изломанные трупы;
их затхлый запах, блеклый цвет — как смутное воспоминанье о том, чего уж больше нет.
Так в душах любящих, когда тоскуют они о радости, уже далекой, что не вернется в темный день грядущий их утешать в печали одинокой, — в тех душах есть бездонная усталость, она упавших в битве добивает, неясная, как цвет увядших стеблей, как слабый запах, что не убывает: усталость невозвратных лет — как смутное воспоминанье о том, чего уж больше нет!
207
ПЕЧАЛЬНОЕ
Когда, ниспосланы судьбой, печали, смерти и разлуки приносят в нашу жизнь с собой еще неведомые муки
и, скрыты тайной бытия, неотвратимо, безответно уходят на погост друзья, надежды — в сумрак беспросветный, —
тогда участья громкий зов, души касаясь безутешной, как дальний звон колоколов, услышанный в ночи кромешной,
разбудит эхо прежних бед, и боль ожившего мгновенья вдруг всколыхнет в обломках лет уснувшие разуверенья,
и полетит их скорбный рой сквозь эти сумрачные дали вновь навевать душе больной сны леденеющей печали,
покуда не забрезжит в ней мысль утешенья и привета, что, разгораясь всё сильней лучистой полосой рассвета,
всем нашим горестям в укор на языке ушедших милых начнет невнятный разговор о небесах и о могилах.
208
ДИЕГО 'ФАЛЬОНУ
Когда твоих широкозвучных стансов торжественные строфы в столетиях, грядущих нам на смену, уже никто не вспомнит; когда не только о твоих твореньях не будут знать потомки; , но даже имя Нуньеса де Арсе с трудом найдет ученый, — тогда заговорят сквозь дрему духи лесов многовековых, овеянных под вечер облаками и сумрачною мглою; от тростников над озером промчится неизъяснимый ропот, идиллии родятся
под сенью пышных крон, во мху зеленом; тогда придет черед слагать поэмы вселюбящей Природе, связующей в одной строфе великой долины горные и птичьи гнезда.
209
ЧЯЛЯ
идиллия
Он был для нее кумиром, она его счастьем была.
— И что же: они поженились?
— Нет, она за другого пошла.
— А потом: умерла от горя?
— Нет, от выкидыша умерла.
— А он: покончил с собою? Верно, стала жизнь не мила?
— Нет, он прежде нее венчался, и неплохи его дела.
210
ОТВЕТ ЗЕМЛИ
Жил-был поэт великий, вития вдохновенный; к гостинице с дороги он завернул, и вдруг:
«О мать-Земля! — вскричал он. — Стезею неизменной ты шествуешь, свершая свой изначальный круг, как будто и не знаешь о нашей жизни краткой.
Скажи мне: рай иль бездна нас будет ожидать, блаженства или муки? Ты нас томишь загадкой, бездушная, слепая, безжалостная мать!
Ты нам не сострадаешь, не плачешь с нами в горе! Иль ты сама о тайне не ведаешь своей?
Зачем так черны ночи и так прозрачны зори? Сквозные отраженья трепещущих стеблей, что зыблются на водах причудливо и странно, не душам ли подобны, и темная вода творит подобье жизни неверно и туманно?
Кто мы? Куда влечемся? Зачем пришли сюда?
Быть может, только мертвым твой знак открылся
тайный?
Зачем ничтожной жизнью, без цели, мы живем?
И ждет ли нас оазис в пустыне сей бескрайней? Зачем же мы родились? Зачем же мы умрем?
Зачем? Ответь, родная, утишь печаль поэта!
Твой жрец, я преклоняю колени пред тобой и в ужасе священном смиренно жду ответа...»
Земля себе кружилась, не слушая его, да так и не сказала поэту ничего.
211
СИМФОНИЯ ЦВЕТА ЗЕМЛЯНИКИ СО СЛИВКАМИ
(фрагмент)
В лирах священных звучат сновиденья Психеи, лебеди в них оживают, эльфы и гномы, благоухают азалия, роза, жасмин, и улетают провидицы, момы и феи, властно лирической страстью поэта влекомы, в край, где царят белоснежье, лазурь и кармин горних глубин.
А с наступлением ночи над горной грядою томно вплывает Селена на край небосклона — словно возник в темноте серебристый тюльпан, — и наши строки стремятся поспешной толпою в необозримую даль, до границ Вавилона тянется сквозь беспредельный литературный туман слов караван.
О Королева поэзии — ритма и рифмы!
Песни твои — это песни любви, несомненно, блещут в них краски, что были незримы досель; солнечным светом искрящимся мир одарив, мы вновь вдохновляемся сладостной песней Рубена — в ней для услады Принцессы взял в руки свирель мальчик Апрель.
212
МАДРИГАЛ
Румянец нежный, хрупкая фигурка танагрской статуэтки, аромат цветущих лилий, очерк прихотливый карминных губ, и этот пылкий взгляд, походки ритм и речи переливы, и волосы, как будто плащ атласный, когда распустишь узел их тугой ты белоснежной, в ямочках, рукой, — всё, всё в тебе — и не дивись напрасно — мужчину призывает громогласно!
213
ARS*
Стихотворение — это священная чаша; поэту для размышлений дана; в ней появляются образы, рифмы, как пузырьки в глубине золотого вина.
В чашу добавьте цветов, что взрастали на воле в поле, на вешних лугах, нардов, омытых студеной ночною росою, воспоминаний о давних уже временах.
Пусть нашей жизни, убогой и нищей, горький настой
выкипит в огненном сердце поэта
ради божественной истины. Хватит и капли одной!
* Искусство (лат.). В данном случае: поэтическое искусство.
Габриэла Мистраль НОКТЮРН ХОСЕ АСУНСЬОНА
Альфонсу Рейесу
Та ночь подобна этой ночи, с царицею Луной-Цирцеей, ночь Сильвы, что была поэту любой из прежних тяжелее;
отравленная ядом жабы, который истекает в травы, и травы никнут и желтеют от разъедающей отравы;
ночь, озаренная Луною, сверкающей красою лживой, —
Луна в безумье серебрится, как седина или олива;
ночь, над которой тяготеет час одиночества земного, неотвратимый час, в который мир выпал из руки Христовой
(мир из руки Христовой выпал голубкою полуживою, то был двенадцатый час ночи, он стыл иглою ледяною);
215
на ветке дерева сухого висит безмолвная ворона, как человек, что удавился, испив из чаши Зла бездонной,
а Зло, должно/быть, пахнет кровью из раны, что на-теле лани; земля черным-черна под нами, но бинт еще черней на ране,
бинт, из тончайших нитей горя в ночь, роковую для Кентала, когда в устах, привычных к песне, Ничто всевластно прозвучало;
та ночь, когда сестра поэта в глуши навек уснула горной, не зная: те, кто ее любит, с ней вскоре встретятся бесспорно,
ночь Сильвы, что подобна этой, — моей:' уже донельзя черной.
ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС (1874—1938)
ИЗ СБОРНИКА «ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ» (1897)
АНТИФОНЫ
Как крылья лебяжьи, наши седины увенчивают надгробие лба...
Как крылья лебяжьи, наши седины.
С лилеи упал ее плащ непорочный, как с грустной невесты, — минула пора...
С лилеи упал ее плащ непорочный.
Мука оскверненной облатки причастья чудесную силу опять обрела...
Мукá оскверненной облатки причастья.
Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью, плодов не дает, как сухая лоза...
Плоть жалкая, плоть, угнетенная скорбью.
На смертном одре и на ложе любовном покров из того же лежит полотна...
На смертном одре и на ложе любовном.
Колосья роняют созревшие зерна в извечных конвульсиях мук родовых... Колосья роняют созревшие зерна.
217
О, как скудострастная старость бесцветна! Пусть чувства остынут, пора им остыть... О, как скудострастная старость бесцветна!
Твои, мою шею обвившие, руки — как две ежевичные плети язвят...
Твои, мою шею обвившие, руки.
Мои поцелуи глухим диссонансом враждебные струны тревожат в тебе...
Мои поцелуи глухим диссонансом,
не впитываясь, словно капельки ртути, по коже твоей безответной скользят...
Не впитываясь, словно капельки ртути.
И наши сплетенные инициалы глубоко вросли в сердцевину дубов...
И наши сплетенные инициалы.
Поправшее тайною силою годы, незыблемо совокупление их...
Поправшее тайною силою годы.
Как будто на шкуре черной пантеры, во вкрадчиво-мягкой истоме ночной...
Как будто на шкуре черной пантеры,
подобна царице из древней легенды, ты дремлешь на мраморном сердце моем... Подобна царице из древней легенды.
Пролью по тебе я белые слезы струистым каскадом венчальных цветов... Пролью по тебе я белые слезы.
Ночных светлячков наблюдаю круженье и мнятся мне факелы траурных дрог... Ночных светлячков наблюдаю круженье.
218
Столетнего дерева крона мне мнится архангелом белым, простершим крыла... Столетнего дерева крона мне мнится.
На черной Гелвуе кощунственной страсти он явит мне свой устрашающий лик...
На черной Гелвуе кощунственной страсти
архангел звездою пронзит мой язык.
219
ГОЛОС ПРОТИВ СКАЛЫ
(фрагмент)
Мерцали в небе звезд ночных короны, шумели глухо, как лесов сосновых кроны. Под молнией и ветром ураганным, что хаосом рожден был первозданным, гремели богохульные проклятья — и все стихии мира без изъятья внимали знаменьям из темной бездны и трепетали, блеск завидя звездный. Аккорды гнева в сумрачном клавире брал ураган на полуночной лире.
«Душа мрачится!» От такой угрозы катились алые, сверкающие слезы с небес, и траурный деревьев свод был темен, как тоски смертельной гнет.
И Южный Крест пылающие руки простер по небу в бесконечной муке над тьмой лесов и белизною льдин; а я средь этой жути был один, меж вечностью и мыслью. Дантов ад зрил среди бури потрясенный взгляд, стонали звезды, плакали планеты, но род людской не ждал от них совета; сквозь мглу скакала огненная рать — никто не смел поводья в руки взять. Никто, стряхнув с очей оцепененье, не разбирался в звезд хитросплетенье; никто, умом возвышен и могуч, не находил к их знакам тайный ключ и не следил их путь в крови, в огне...
С тех пор примкнул я к звездной стороне.
ИЗ СБОРНИКА «СУМЕРКИ В САДУ» (1905)
ОКЕАНИДА
Ярилось море, пенилось, ревело от похоти, стан обнимая твой, но берег длинною своей рукой тебя укрыл. Твое нагое тело
во мраке ночи на песке белело, и звездный свет мерцал над головой, и по равнине он скользил морской, ведь море без добычи присмирело.
С кошачьей лаской, нежною волною оно теперь стелилось пред тобою, и голос его вкрадчивый дрожал,
скользило по твоей упругой коже, пьянило, чтоб затем в твое межножье волной вонзиться — острой, как кинжал.
221
СТАРОСТЬ АНАКРЕОНА
Кончался день. Из алых роз корона увенчивала вдохновенный лик. Божественных созвучий бил родник, полн искристого солнечного звона.
В лад сладостным стихам Анакреона звук мерный и глухой вдали возник: мычало море, как безрогий бык, впряженный в колесницу Аполлона.
И ливень роз!.. Поэт склонил чело,
в его душе отрадно и светло, —
как будто в жилы юный пламень влили!
Он чувствует: в его кудрях цветы; к ним протянул дрожащие персты... Венок был не из роз — из белых лилий.
222
КОКЕТКА
В обрамленье струистом золотого каскада абрис нежной головки так утончен и строг, и просторный капотик — ей приют и отрада от забот повседневных и житейских тревог.
Вырез в меру нескромен. Дразнит запах медвяный. И лазурная жилка размытой чертой белизну оттеняет лилейной поляны, затуманенную лишь слегка кисеей.
Как хрупка ее грация, как подобраны краски, как идет ее облику этот деланный сплин!
И толику иронии к ее милой гримаске добавляет умело нанесенный кармин.
В глуповатых глазах нет ни дум, ни мечтаний, затуманен вечерними бденьями взор, а тщеславною ножкой в узорном сафьяне попирает она пестроцветный ковер.
Что-то шепчет поклонник. Речь игриво-пустая... Она веер сжимает, — поза так ей к лицу! — веер вздрогнет лукаво, невзначай осыпая его сердце мгновеньем, превращенным в пыльцу.
223
МАКОВОЕ ПОЛЕ
В парче златой и в рубище, в убогой тоге, о соблазнительница Хлоя, ты — прекрасна! Юнцы безусые влюбляются напрасно, едва завидят в поле, на дороге,
слагают оды и рондели недотроге.
Стерня и терние в кровь жалят властно ланиты, ноги. Солнце светит ясно.
Гвоздики — алы; маки в золотистом стоге
сокроют страстный поцелуй и всклики... Стыдливый ветерок колышет зыбко душистые цветы и солнечные блики.
Слетает вздох. Блаженная улыбка.
И, словно в неводе, в льняных сетях туники блеснет игриво розовая рыбка.
224
ЛЕНИВАЯ УСЛАДА
В вечерний томный час, когда прохлада лениво льется в дом, последний яркий штрих лучом златым коснется стен. Дворец наш тих: убежищу покой и сон — отрада.
Светило — страж блистающего града — луна в зеленом мареве. В листах сухих паук, средь звезд немых, сплетает тонкий стих. Колышется незримая преграда.
Мышей летучих тьмы... Покой недолог. Шуршит, словно живой, китайский полог. Уносит нас безжизненная нега
рекой; теряем под собой земную твердь; поток достигнет сумрачного брега, — в чертоги тайные, где затаилась смерть!
Леопольдо Лугонес.
ИЗ СБОРНИКА
«ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДУШИ»
(1909)
КАРНАВАЛЬНЫЙ ПСАЛОМ
О Луна! Как sportswoman,* над нами «форд» умело ведешь среди звезд. Аравийское небо ночами над тобой расстилает свой холст.
Ты сияешь в ночи наготою.
Что тебе дорогие шелка?!
Ты невестой под легкой фатою нам являешься издалека.
О Луна! В моих снах не случайно ты плывешь над простором морским и пытаешься вечности тайну птичьим клювом нащупать своим.
Лик твой — это лицо Арлекина. Омывает Марию твой свет.
Ты бледна, словно рейнские вина. Мать любви, преступлений и бед.
Я — певец твой. И пусть не заметишь ты меня со своей высоты.
Ты от века ночами нам светишь. Маска Солнца, Луна, — это ты.
* Спортсменка (англ.).
227
НОКТЮРН
В полных покоя водах лагуны блещет свет лунный вешней порою.
Тихо, прохладно, полночь лучиста. Золотом чистым — лунные пятна.
Вдруг потемнело. Туча сокрыла ночи светило, в траур одела.
Лунного лика взор затуманен. Серый свет странен, смазаны блики.
Как привиденья, то возникают, то исчезают смутные тени.
И, поднимая морды, собаки в стынущем мраке хрипнут от лая.
228
ЛУНА-ОБМАНЩИЦА
Луна золотая блестит в небесах, в кошачьих глазах коварно мерцая.
Поэты, не зная,
что путь ваш — впотьмах,
бредете, в стихах
луну воспевая.
О, как же был прав Шекспир, написав (и не поленитесь
прочесть те, кто юн):
«Swear not by the moon...» — «Луной не клянитесь...»
229
ДВА ВЕЛИКИХ ЛУНАТИКА,
ИЛИ ПОЛНОЕ НЕСХОДСТВО ВЗГЛЯДОВ
Г. (неизвестный; говорит с сильным скандинавским акцентом).
К. (iнеизвестный; по выговору — испанец).
Пустынный перрон железнодорожной станции. Одиннадцать вечера. Полнолуние. Ни звука. Вдали — красный огонь семафора. По краям платформы в беспорядке разбросан багаж.
Г. — невысокий безбородый блондин, склонный к полноте; видно, что хорошего происхождения. На нем мешковатый черный костюм; лаковые башмаки сильно скрипят. Он виртуозно играет тростью с дорогой отделкой и курит одну за другой турецкие сигареты. Левый угол рта беспрестанно дергается от тика, как и левое веко. Руки изумительной белизны; он не делает и трех шагов без того, чтобы не поглядеть на свои ногти. Прохаживаясь, бросает быстрые взгляды в сторону багажа. Иногда резко оборачивается, чтобы крикнуть в окружающую пустоту, будто в ней кто-то обретается. Затем продолжает прохаживаться по перрону, кругообразно вращая тростью.
К. — высок и худощав. Орлиный нос, костлявое лицо. Что-то от военного и студента в одно и то же время. Плохо сидящий серый костюм. Он почти вызывает смех — но незлобный либо издевательский. Во всем видна крайняя бедность, которую он умеет переносить с достоинством. Можно говорить о его благородной сдержанности, тогда как тот, другой, — скорее подозрительный шарлатан.
Они прогуливаются вместе, но ясно, что их беседа — лишь попытка скоротать время. Когда придет поезд, они окажутся в разных вагонах. Больше на перроне не видно никого. К. знает, что фамилия собеседника начинается с буквы «Г», поскольку тот нес чемодан с монограммой. Г., в свою очередь, заметил, что его попутчик доставал из кармана платок с вышитой на нем буквой «К».
230
СЦЕНА 1
Г.: Кажется, была объявлена всеобщая забастовка. Движение по дороге совсем прекратилось. Может, неделю не будет ни одного поезда...
К.: Настоящее безумие — приезжать сюда.
Г.: Нет, безумцы — рабочие, объявившие забастовку. Бедняги не знают истории. Им неведомо, что первой всеобщей забастовкой был уход плебеев на Авентин- ский холм.
К.: Рабочие делают правильно, сражаясь за торжество справедливости. Две-три тысячи лет — небольшой срок для того, чтобы уже завоевать это великое благо.
I еркулес в поисках сада Гесперид забрался на край света. I орная цепь преградила ему дорогу; чтобы выйти к морю, он разломил ее, взявшись руками за две горы, как разламывают вареную баранью голову, взявшись за рога.
Г.: Неплохо сказано. Но ведь вам известно, что Геркулес — это миф.
К.: Для недалеких умов идеал всегда был мифом.
Г. {резко обернувшись и помахав своей тени тросточкой): Не знаю, имеете ли вы в виду меня, говоря о недалеких умах, но знайте, что не в моих привычках есть жаркое руками. Ваша метафора мне кажется не слиш- ком-то утонченной.
К.: Хотя мне доводилось пользоваться вилкой за королевским столом, чаще всего я ел простую пищу вместе с простыми людьми. Ягоды отшельника или хлеб пахаря, тяжелый и твердый, как сама земля; моему нёбу привычен долгий пост.
Г.: У вас дурной вкус, уверяю вас в этом. Не думайте, что я не сочувствую обездоленным. Я — за равенство, но если говорить о гигиене, культуре и повседневной жизни, то я — за равенство в благополучии. Раз оно недостижимо, я предпочитаю оставаться выше других. К чему новые жертвы, когда один Христос уже искупил все грехи рода человеческого?
К.: Признак добродетели в том, чтобы восставать против неправды, препятствовать ей и карать ее, даже
231
когда исправить содеянное невозможно. Горе попранной справедливости, если помощь ей — следствие логически стройного рассуждения или безупречно доказанной теоремы! Что до меня, то мне не нужны ни равенство, ни новые законы, ни философия, даже наилучшая. Я просто не в силах видеть горе слабого. Мое сердце тут же готово пуститься на поиски счастья для него, пусть даже ценой опасностей и страданий для меня. И не важно, в согласии с законом или против него. Справедливость обычно становится жертвой законов. Вы не заставите меня примириться с подобным издевательством. Но каждое чудовище, явленное мне в видениях, каждый из моих напрасных подвигов заставляли меня еще упорнее сражаться против низкой действительности. И разве рабочие поступают дурно, если ведут борьбу, несмотря на голод? Разве голод — не плата за идеал, так же как кровь и слезы?
Г.: Ваше изысканное красноречие переносит меня лет на двадцать назад. Я тогда верил птицам и девушкам.
К.: Надеюсь, вы не хотите сказать ничего дурного о птицах или о девушках?
Г.: О, разумеется нет. Птицы переставляют ноги точно так же (показывает, встав на кончики пальцев), как девушки; а у девушек столько же ума, сколько у птиц. Но вернемся к нашему разговору. Рабочие никогда не добьются своего с помощью силы. Кстати, замечу, что сам я не принадлежу к числу собственников. Рабочие должны действовать законным образом: использовать свои права, избрать депутатов, захватить большинство в парламенте, пойти на кое-какие хитрости, чтобы сбить с толку богачей, — например, выбрать из своего числа министров; и наконец — бац! — затянуть им петлю на глотке... если, конечно, они не хотят сами превратиться в богачей. Такая вот система.
К.: Отвратительная система. Мне думается, вы явно неравнодушны к социализму.
Г.: Не спорю; в свою очередь, вы как будто склоняетесь к анархизму.
232
К.: Не стану скрывать своих предпочтений. Мне всегда было близко рыцарство; и не знаю, какое страстное влечение к забытой всеми справедливости, какое безумное желание противостоять целым армиям, какое мрачное пренебрежение к неминуемой смерти — в надежде, что другие полнее насладятся от этого жизнью, в ожидании очистительной жестокости убийства, — заставляют меня видеть глубокое родство между рыцарями со шпагой и рыцарями с бомбой. Великие правдолюбцы, на ком лежит тяжкая ответственность за грядущие времена, похожи на осенних пчел, которые с помощью своего жала добывают пищу для потомства, — но им самим не дано увидеть его. Ради жизни, что произрастет из их смерти, они убивают пауков и червей, словно своих тиранов, — иногда ни в чем не повинных, всегда ненавистных. Они лишены рта и не могут попробовать ни капли меда; все их достояние — любовь и жало. Смысл их существования — в смерти, ведь она, в конце концов, — единственный путь к бессмертию.
Г.: Вы идеалист?
К,: Да, а вы?
Г.: Материалист. Я перестал верить в реальность души с тех пор, как разочаровался в любви. {Вздрагивает всем телом.)
К.: Вам холодно?
Г.: Нет. Во всяком случае, холодно по-иному, чем представляете вы... Если хотите, это нелепо, но вон тот сундук вызывает у меня странное ощущение. Когда я прохожу мимо него в первый раз, он похож на слона, а когда возвращаюсь — на кита.
К, (в сторону): Что-то знакомое слышится мне в его словах. {Громко.) Это мой дорожный сундук. Его цвет и форма и вправду напоминают кого-то из толстокожих животных.
Г.: В Скандинавии сундукам иногда придавали внешность китообразных. {Снова вздрагивает.) Странно, до чего подобные вещи могут взволновать. Вещи, о которых узнаешь, общаясь с призраками. Обратите внимание: временами, когда я собираюсь произнести то или
233
иное слово, левый глаз почему-то оказывается у меня под носом. Забавная асимметрия. А звук «р» заставляет мои ногти вздрагивать. И знаете, почему мои ботинки так скрипят?
К.: Нет, нисколько.
Г.: Венгерская мода. Я следую ей, чтобы всегда ходить по серединам плиток и никогда не наступать на их края. В психологии для такого синдрома должно быть свое название. {Издалека слышен ослиный крик.) Проклятый лунатический осел! Я с великим удовольствием отрезал бы ему уши, невзирая на его исключительное добродушие.
К.: А мне нравятся ослы — терпеливые, верные животные. В светлые ночи их далекие крики звучат так поэтично. Я знал одного, который стоил Валаамовой ослицы.
Г.: Вы ездите на ослах?
К.: О нет. Но один мой слуга ездил. Превосходный был человек — только вооруженный нравоучениями, как дикобраз иглами.
Г.: У меня никогда не было верного слуги и не думаю, что такие вообще есть. А что касается служанок, знаю одну; она невидима, имя ей — вероломство.
К.: Мерзкая тварь, нужно признаться.
Г.: Вероломство — имя для сладострастия, порождающего преступление. {Дружески беря под руку собеседника.) Вы говорили о бомбе. Бомба тупа. Она совершает преступление, словно пьяная баба. Серьезные дела делаются не так.
Однажды утром вы понимаете, что ваша жизнь сломана — грубо и бесповоротно. Ваша кровь стынет от безнадежности, как застывает болото зимой. И отныне вы находите удовольствие только в мести. Тогда становитесь безумцем — это лучший способ выжить. Сумасшедший носит в себе пустоту. Изгоните разум — и на его место придет забвение. {Быстро поворачиваясь и парируя воображаемый удар шпагой.) Хорошо бы вам побеседовать с каким-нибудь призраком. Посещайте спиритические сеансы, они восхитительны и вполне совмес¬
234
тимы с материализмом. Вы приобретете привычку, проходя ночью через пустынные места, громко свистеть; конечно, будет постоянный холодок в спине. Зато призраки дают полезные советы. Они знают, что такое жизнь, и разговаривают с вами, как ваши умершие родственники.
Понемногу вы начинаете замечать, что ваши поступки лишены связности, и совершаете разные чудачества из чистого удовольствия. Смотрите, что происходит со мной. Мои скрипящие башмаки и фехтовальные выпады выглядят по-идиотски; зато какое наслаждение они доставляют мне! Это своего рода категорические императивы, способы рассуждения, пусть и немного необычные. Но логика говорит в них не менее ясно, чем в силлогизмах Аристотеля.
Наконец, вы проникаетесь отвращением ко всему, что любит и что живет. Внутри вас появляется новое, неожиданное существо. Вы принимаетесь бить зеркала, ступать по коврам грязными ногами. Затем вы убиваете выстрелом из пистолета в ухо, не моргнув глазом, свою любимую лошадь. Затем вам хочется чего-то большего. Н напоследок вы причиняете непоправимое зло своей матери или сестре.
К.: Сударь!
Г.: Какого черта! Дайте закончить. Знайте же: и я любил. Любил девушку, русоволосую, хрупкую, поэтичную, — настоящий аквамарин лазури. Она умела петь и вышивать; была не чужда спорту; с охотой и радостью каталась на велосипеде. По правде говоря, она была немного пресной, как куропатка без соуса. Но страсть моя к ней была так чиста, что руки холодели. Мне нравилось проводить долгие часы, положив голову ей на колени и наблюдая за горизонтом, что опускался до уровня наших зрачков. Она наклонялась ко мне с необычайной ласковостью, подобно сестре. Властный подбородок; глаза, полные юной, девственной лазури, когда бывали широко раскрыты, — но обычно она слегка прикрывала их с мечтательным безразличием ко всему. Нос немного вздернутый; рот великоват, но ни следа той алости, что
235
пятнает искушенные в любви губы, как вино — чашу. Скулы слегка выдаются. Изумительная прическа, мягкие русые пряди ниспадали в беспорядочном порядке. Шея всегда открыта, она постоянно склоняла голову, как бы для чтения. Вот и все ее кокетство. Грудь под блузкой совсем незаметна. Руки и ноги были, пожалуй, великоваты. Довольно короткая юбка; под ней угадывались стройные ноги любительницы плавать. Плавание, впрочем, было самым большим ее увлечением. Плавание — даже с опасностью для жизни, и любые запреты были напрасны. Она всегда уходила к реке — будто бы для того, чтобы украсить фиалками свою летнюю шляпку.
Я разлюбил ее, как только понял, что и она принадлежит к подлой женской породе. Потом она умерла, а может, сделалась монахиней. У нее было призвание и к тому, и к другому. Прощай навсегда, невеста моя! {Щелчком выстреливает докуренной сигаретой вверх.) А вам не кажется, сударь, что мы изъясняемся на старомодном языке, полном напыщенных фраз, как в былые времена?
К.: Я не смог бы говорить с вами иначе, хотя и сознаю устарелость подобных речений; но спешу исправить вашу ошибку относительно женщин. Женщина — это награда за годы долгого труда; ее одежды — как пальмовые листья для путешествующего по пустыне; и если берешься за трудное дело, то женская любовь — сад, где отдыхаешь после работы. Если это жена, то она — словно спокойный источник, из которого можно напиться, и вода его всегда будет рядом с вашими губами. Если это незамужняя девушка, то она вся — огонь, зажигающий другие огни и не убывающий в своей силе.
Я тоже любил, любил красавицу, необычайную во всех отношениях. Скажу одно: от ее дыхания посреди зимы могли бы расцвести все розы Трапезунда. Если бы море было бесцветным, то окунись она в волны — и море стало бы синим, ведь у него появилась бы своя звезда, как у небосвода. Ее душа — кристалл, прозрачный в своей чистоте, неизменный в своей верности, блестящий в своих переливах, тончайший в своей чувст-
236
иительности, пламенеющий даже в отсутствии света, прохладный в своей скромности. И не просто кристалл — кубок венецианского стекла, который надлежит завоевать для алтаря византийского императора силой оружия.
Г.: Будь я знаком с такой женщиной, возможно, я полюбил бы ее, как и вы.
К. (резко выпрямляясь): По-вашему, я знаком с ней — или был когда-то знаком? Если я люблю ее, то именно потому, что взгляд смертного никогда не пятнал ее немыслимой красоты.
Г. (подавляя смех): Поздравляю вас, сударь. Вот манера любить, не встреченная мной ни в одной книге. Что касается птичек, то сейчас я придерживаюсь философии растолстевшего кота: отпустить или съесть? (Бросает внезапный взгляд на небо и, замечая, что луна уже взошла, досадливо морщится.) Вот вам луна, светило влюбленных поэтов. Луна! Величайшая глупость! В каждой своей четверти она вызывает у меня головную боль. (Обращаясь к луне.) Старая перечница, бочка с желчью, пустая брехунья, собачья тоска, грязная облатка, толстомордая луна! (Обхватив голову руками.) О моя голова!
К.: При виде луны моя душа переполняется поэзией, как вода в темном пруду между елей. Своими лучшими порывами я обязан именно ей. Сколько уже лет я наблюдаю луну, и она всегда благосклонна к моей любви. Светильник верности — вот что она такое.
Г.: Проклятая самка, безнадежная дура.
К. (с совершенно серьезным видом): Сударь, луна пробуждает во мне тягу к геройству. Ваши слова относительно женщин совершенно недопустимы. Прежде чем мне придется прибегнуть к оружию для разрешения нашего спора, предупреждаю, что для меня луна — это беззащитная девушка и я не потерплю никакой бесцеремонности в обращении с ней.
Г. (болезненно ежится, будто от холода): Да будет вам известно, сударь, что и вы позволили немало дерзостей в мой адрес. Чаша переполнилась. Луна — пустая тыква, ничего больше. Кто плюнет в небо, пусть попадет
237
ей прямо в лицо. Но во рту у меня все распухло, как у ждущего первых зубов младенца, а кроме того, я вижу объявление: «Запрещено плевать в небо». Разве так пишут? Так вот же, получай, милая моя луна {плюет в сторону луны), получай (плюет снова), получай (плюет в третий раз).
К. (вынимает визитку): Разрешите представиться, сударь.
Г. (делает то же самое)'. Разрешите и мне.
К. (изумленно смотрит на визитку): Принц Гамлет!
Г. (читает заинтересованно): Алонсо Кихано!
СЦЕНА 2
Дон Кихот, поднимая глаза на собеседника, замечает, что тот исчез.
Гамлет, отыскивая взглядом Дон Кихота, видит, что того уже нет.
Читатель, в свою очередь, понимает, что Дон Кихот и Гамлет — оба — растворились в воздухе.
ИЗ СБОРНИКА «ОДЫ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ»
(1910)
К АНДАМ
Колоссы вечные, на ваших склонах народ мой лучшую писал страницу огнем и кровью; ваш высокий вал — надежная опора нашей чести.
Расскажет пусть о том рассветный пик, где сотрясает ветер снеговые покровы; сыновья утесов, кондоры, крылами, словно вольными словами, огромные пусть начертают строфы, чтоб ваша тень до солнца поднялась.
Подобна оде ваша синева, поющая сквозь дальность расстояний о том, что небо преобразовало свою лазурь в сапфиры ваших граней.
Должно быть, так же грозны и суровы сердца героев, покоривших горы в упорной многовековой борьбе.
Они, как эти горы, — крепче стали, увенчаны такой же сединою; извечное стремленье мысли к небу вершины убеляет и сердца.
И бирюзой, и мехом горностая одеты ваши царственные плечи. Ручищами утесов и лесов вы стиснули поводья водопадов — сверкающие, звонкие уздечки, закушенные пенной пастью моря.
У вашего подножья распростерла ковры побегов честная лоза,
239
которую пел некогда Мендоса, и словно кровь, струящаяся в жилах, теплом и жизнью наполняет плоть — так огнедышащая кровь вулканов животворит душистое вино, чей легкий пламень согревает душу.
Под зарослями лавра ваша грудь могучих рудных жил скрывает силу, собрали вы все климаты земные — кедровые леса и чащи буков, вас одевает бархат кипарисов, вас овевают опахала пальм.
Блестящих ваших льдов великолепье — огромные чертоги чистых вод, печальная мечта песков далеких, где лишь надежду сеял человек. Грядущий урожай предвосхищая, он сам трудом грядущее творит; и день придет, когда из черной ямы пробьется долгожданная вода, и звонкий плеск студеного колодца вам, горы, прозвенит свою хвалу, как опрокинутая колокольня, веселые затеет перезвоны, и поднимающаяся бадья, гудящая, как колокол огромный, наполненная солнцем горных речек, к нам голос ваш хрустальный донесет. Как будто мука трудного рожденья ваш мощный искорежила хребет, вы — рать бессмертная, что воплотилась в фалангу первобытных изваяний, похожих на бессмертных тех героев, что сами вы и породили, горы.
Пусть наши дети чаще видят горы!
В горах их души станут благородней; сам горец, я узнал, как много значит
240
немая дружба камня для души.
Здесь добродетель станет человечней, здесь терпко пахнет горькая трава, и мрамор скал, и ледяные шлемы во всей суровой красоте свободы заставят их раскрыть глаза пошире, чтоб лучше видеть родину свою.
241
К ГАУЧО
Род отважный, постоянный, полный первобытных сил, ты отчизну воплотил в конной статуе чеканной.
От удачи бесталанной ярче жертвенность твоя — так кровавая струя из разверстой бычьей жилы полыхает что есть силы алым стягом бытия.
Ибо стойкость в злые годы — так судьбой утверждено — претворит сполна в вино гроздья черные невзгоды. Мера полная свободы вам отмерится с лихвой меж опасностью прямой и отвагой непреклонной, между острием факона и певучею строкой.
В час великих испытаний, что в веках прославил нас, так же, как в счастливый час, слышен голос птицы ранней. Пайядора песнь в тумане возвестила нам рассвет, — и ушел за солнцем вслед, в алом свете исчезая, гаучо, избранник мая, он уж не вернется, нет.
Так прошел он по земле, за собой оставив пламя,
242
поднимая бунта знамя против жизни в кабале.
Крепко держится в седле, скачкой пампу пробуждая. Скачет с ним его родная Аргентина за спиной, охватив его рукой, — радостная, молодая.
В Суипаче, в Айякучо ратный путь его пролег — там иссяк он, как поток, низвергающийся с кручи.
Он, умелый и везучий, зло любое исцелял, он умом и силой взял и в борьбе с самоуправством верх одерживал лукавством — легкий, звонкий, как реал.
Не колеблясь, за вождем шел на смерть своей охотой; стала сабля патриота для него простым ножом; простодушен, прям во всем, верил он не без причины, что и в горький час кончины, в час борьбы и в час труда шпоры гаучо всегда — украшение мужчины.
Есть в поэзии его первого цветка приманка, зорь весенних торжество с конским ржаньем спозаранку; и румяная смуглянка, в холст одетая простой, крутобедрой красотой нам в сердца несет смятенье —
243
плод весеннего томленья, спелым соком налитой!
Стал нам памятью о нем только горький плач гитарный край его неблагодарный отказал ему во всем.
Мы добра не бережем; нам булыжник, право слово, лучше слитка золотого; без вины осуждена, гибнет в наши времена нашей родины основа.
ИЗ СБОРНИКА «КНИГА ВЕРЫ» (1912)
АДАЖИО
Обводит уголь тягостной печали глаза густою траурной каймой, и клавиши под чуткою рукой, как крылья мотылька, затрепетали.
Сухие губы наконец узнали вкус лепестков, осыпанных росой, и путь для встречи с Вечною Женой затерянные тропы указали.
Страшись любви, когда она бесстрастно себя являет миру громогласно; пусть лучше моя флейта не звучит,
пусть вечером неспешная пирога скользит неслышно водною дорогой и сердце песню нежную таит.
245
ИСТОРИЯ МОЕЙ СМЕРТИ
Смерть явилась во сне, это было очень просто: шелковый кокон вокруг меня сплетался и с каждым твоим поцелуем на один оборот истончался.
И каждый твой поцелуй дню равнялся;
а время между двух поцелуев — ночь. Смерть — это очень просто.
Мало-помалу распутывался
кокон моей судьбы. Я еще держался
за кончик нитки, скользящий между пальцев...
Когда ты внезапно застыла и клубок размотался,
и кончились поцелуи —
я выпустил нитку, и жизнь ушла.
ИЗ СБОРНИКА «КНИГА ПЕЙЗАЖЕЙ»
(1917)
ОСЕННЯЯ ОТРАДА
Над золотистой долиной бледный закат умирает. Шорох листвы тополиной наши шаги повторяет.
Точкой — далекая птица...
И от цветов на поляне вдруг голова закружится, словно бы в юности ранней.
Звездным огнем заблистало небо — от края до края.
В чаше фонтана устало плещет вода, засыпая.
247
ОДИНОКАЯ ФИАЛКА
Я, уставший, прилег на опушке лесной и увидел цветок
над пожухлой? травой. Тявкнул пес... И опять мир объят тишиной.
Смог ли я осознать, что В| росинке цветка отраженным сиять будет небо века?!
248
СЕРЫЕ ВОЛНЫ
Падает дождь шелестящей холодною тенью.
Ветер над морем стенает с надрывной тоскою. День нескончаем, печален. И спит сновиденье на берегу, над унылой равниной морскою.
Падает дождь... И уже он всю землю наполнил запахом мокрых цветов и сопревшего сена.
День нескончаем, печален. Внезапно я понял: смерть такова... такова наша жизнь, несомненно.
Дождь всё не тихнет. И день нескончаем, печален. И человек, словно призрак, исчез без следа в серой завесе дождя, что закрыла все дали.
Дождь всё идет... И пускай не кончается он никогда.
249
ОЧАРОВАНИЕ
Морской воды лазурная свобода!
Вечерних сумерек сапфирный свет!
Окрашены в единый синий цвет морская глубь и купол небосвода.
Какой покой в лазоревом просторе!
Песчаный берег — в дымке голубой.
А белый парус над тугой волной — как лунный серп, сверкающий над морем.
Ты — счастлив. Видишь, словно бы впервые, и синь воды, и синий небосвод.
И кажется, что море слезы льет — счастливые, соленые, морские.
250
ПСАЛОМ ДОЖДЯ
НАЧАЛО
Небо было похоже на грот, что наполнен водою; словно катились камни — вдали погромыхивал гром; ветер пропах лимоном и, прошуршав листвою, изредка и лениво бил по земле хвостом.
Серо-свинцовые тучи медленно-медленно плыли, клевер сухие соцветья к низким вздымал небесам, над изнуренным полем — завеса горячей пыли, чертополоха бутоны синели то там, то сям.
И наступила минута — кончилось время затишья, молния огненной плетью полог туч рассекла, рухнуло наземь небо, словно огромная крыша, — крыша из балок железных и лопнувшего стекла.
ДОЖДЬ
Ивой с ветками гибкими, ивой с листвой шумящей был этот ливень, летящий к сонной и знойной земле; и также было похоже: охотник стреляет в чаще — вспышки молний сверкали, и гром грохотал во мгле.
Капли дождя скакали по травам, по тропам, по склонам, раковиной звучащей казался весь мир вокруг; пело, звенело, журчало... И, в ивняке пропыленном с шумом ударив по листьям, дождь прекратился вдруг.
251
покой
Нега деревьев омытых, окрашенных солнца кармином. Нега ручьев и оврагов, наполненных свежей водой. Прозрачная нега песни — запел щегол над долиной. Нега чудесного вечера. Радость, отдых, покой.
ЗАВЕРШЕНИЕ
Струилось благоухание цветущего розмарина, и куропатка свистела, прячась в траве густой.
252
КРЫЛЬЯ
ЩЕГОЛ
Летний зной волной прошел пламенной по желтым нивам; в ликовании счастливом заливается щегол.
Летний мир забыл тоску, прочь печали отлетели; стеклышко прозрачной трели мелет новую муку.
Птичка малая в зенит прянет с песенкой простою, звонкой искрой золотою синеву небес пронзит.
РАЗРУШЕННОЕ ГНЕЗДО
Остался только клок травы сухой на ветке с молодой листвою нежной, и скорбный голос птицы безутешной не умолкает в зелени лесной.
Ни в небе, что струит лучистый свет, ни у тропы, что по лесу петляет, нигде покоя бедной птице нет, никто на зов ее не отвечает.
Металась вдоль тропинок и дорог, садилась на траву к опавшим сучьям, крича, кружила над кустом колючим: гнездо? увы! овечьей шерсти клок.
253
Скорбящий птичий голос из листвы разносится далёко по округе, но никогда свое гнездо, увы, не отыскать горюющей пичуге.
СОВА
Инфернальный призрак ночи, мглы могильной порожденье. Сквозь густых ветвей сплетенье, устрашая, светят очи.
В лунном свете пролетает над кустами, над травою; в сонной тишине порою женским голосом вещает.
Что она сказать нам хочет?
От нее не жди ответа; лишь, пугая, до рассвета как безумная хохочет.
254
БЕЗМОЛВИЕ
К молчащим устам фонтана, прохладу и влагу ища, тянутся руки хвоща безмолвно и неустанно.
Здесь сад глядит исподлобья: покой его не тревожь. Молчащий фонтан похож на мраморное надгробье.
Единою тишиной вечность весь мир укрыла, и скрыты фонтан и могила одной и той же травой.
ИЗ СБОРНИКА «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ»
(1922)
В МИНУТУ покоя
Затихший мир засыпает.
И тополь зеленой кроной небесную синь заслоняет.
Он жаждет — ввысь устремленный, свободный, обретший сознанье — узреть красоту мирозданья в лазурном окне небосклона.
256
УЖЕ
Вновь осень надсадно шуршит за окном лозой виноградной, горящей огнем
пурпурным. И охрой каштан окроплен.
Воробышек мокрый летит на балкон.
Листва под ногами грустна и мертва.
Всё в прошлом. Мы сами — как эта листва.
Уже наступила пора вспоминать.
Что было, то было, не будет опять.
Уже всё позднее рассвет настает, и всё холоднее блестит небосвод.
Мир ярок — как в призме. Свет тихий в душе.
И скоро у жизни ты спросишь: «Уже?»
ИЗ СБОРНИКА «РОМАНСЕРО»
(1924)
КАСЫДА
Лейле!
О ночь! Ты в чуткой тишине качаешь люльку звездных снов!
О ночь — прекрасней всех даров, какие снятся нам во сне!
Луна, когда могла бы ты прильнуть к ее рукам лучом и нежных ирисов дождем упасть с небесной высоты!
Заря, румяня небосклон, гордишься ты своей красой, но меркнешь ты в сравненье с той, чьей красотой я покорен!
И не мечтай, заря, о том, чтоб красотой сравниться с ней!
А очи у нее синей,
чем цвет небесный ясным днем!
О ангел в выси голубой, взирающий на смертных нас, — мне страшно, если ты сейчас ее любуешься красой!
258
ПЕСНЯ ОБ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ
Как мальчик, верую, Любовь, в одну тебя во тьме ночей; от ласки чувственной твоей я пробуждаюсь вновь и вновь.
Но кто-то хорошо сказал: сравнить со смертью можно сон. Так пусть не буду пробужден от сна, где я Любовь познал!
259
ПЕСНЯ О НАУКЕ ЛЮБВИ
Еще не изведав любви твоей меда, — а слаще его в мире, видимо, нет — пытался постигнуть я жизни секрет, ученым мужам не давал я прохода.
Твоей добиваясь любви непрестанно, желая услышать ответный твой зов, я спрашивал всех, каких мог, мудрецов: скажите, в чем смерти великая тайна?
И ныне, любовью жестоко терзаем, изранен, донельзя измучен душой, я знаю, как знают и врач и больной, зачем мы живем и зачем умираем.
ИЗ СБОРНИКА «ЧУЖДЫЕ СИЛЫ» (1906)
НЕОБЪЯСНИМОЕ ЯВЛЕНИЕ
Одиннадцать лет прошло с тех пор. Я разъезжал тогда по сельским районам провинций Кордова и Санта-Фе, запасшись рекомендательными письмами, чтобы не останавливаться в скверных гостиницах строящихся поселков. Мой желудок, вконец расстроенный ежедневным мясным салатом с укропом и неотвратимыми, как судьба, орехами на десерт, нуждался в основательной поправке. Последняя поездка не сулила ничего хорошего. Никто не мог подсказать мне, где можно заночевать в том селении, куда я направлялся. Тем не менее дела не терпели отлагательства, и тут на помощь пришел благоволивший ко мне мировой судья.
— Знаю я там, — сказал он, — одного вдовца англичанина. У него самый хороший дом в поселке и кое-какие земли, кстати очень недурные. По роду деятельности мне приходилось оказывать ему некоторые услуги, что может быть вполне приличным предлогом для рекомендации, и если это возымеет действие, он вас отлично примет. Я говорю «если возымеет действие», потому что мой знакомый хоть и порядочный человек, но не без причуд. К тому же он на редкость скрытен. Никому еще не удавалось проникнуть в его дом дальше отведенной для гостей спальни, а гости бывают у него не часто. Это мало обнадеживает, но больше ничем помочь не могу. Если хотите, я дам вам рекомендательное письмо, а там как повезет...
Я согласился и немедля отправился в путь, несколько часов спустя прибыв к месту назначения.
Ничего привлекательного в этом месте не было. Крытый красной черепицей вокзальчик, на перроне — скрипящая под ногами угольная пыль, направо — семафор, налево — водокачка. Впереди, на запасных пу¬
261
тях, — полдюжины вагонов, ждущих погрузки, а дальше, под навесом, — гора мешков с пшеницей. За насыпью расстилается желтая косынка пампы; вдали рассыпаны небеленые домишки с неизменной скирдой на задворках; кольца дыма от идущего где-то за горизонтом поезда, и в лад всему сельскому тону пейзажа — бескрайняя умиротворенная тишина.
Как и все постройки недавнего времени, домишки располагались с незамысловатой симметричностью. Соразмерность сквозила и в облике осенних лугов; какие-то батраки шли на почту за письмами. Я спросил у одного, как найти нужный мне дом, и он сразу показал дорогу. По его тону я заметил, что к хозяину дома здесь относятся с почтением.
Он жил неподалеку от станции. В нескольких сотнях метров к западу, у обочины, обретавшей вечером лиловый оттенок пыльной дороги, я увидел дом с карнизом и ступенями при входе, отличавшийся от других какой-то вычурностью. Садик перед домом, дворик, обнесенный стенкой, над которой торчали ветви персикового дерева. Все это дышало свежестью и благодатью, но казалось нежилым. В вечерней тишине там, над пустынным распаханным полем, этот похожий на коттедж домик источал тихую грусть, точно свежая могила на заброшенном кладбище.
Подойдя к садовой решетке, я обратил внимание на розы, чей тонкий аромат смягчал дурманящие испарения свежеобмолоченной пшеницы. Между деревьями, до которых можно было дотянуться рукой, привольно росла трава, у стены стояла ржавая лопата, усики вьюнка оплетали ее рукоятку.
Я толкнул калитку, прошел через сад и не без робости постучал в дверь. Прошло несколько минут. Где-то в щели загудел ветер, усиливая ощущение безлюдья. Я постучал еще раз и вскоре услышал шаги. Рассохшаяся деревянная дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял хозяин дома, он поздоровался со мной. Я протянул ему письмо. Пока он читал, я, не стесняясь, разглядывал его. Крупная лысая голова, гладко выбритые щеки, аристо¬
262
кратический рот, прямой нос. Вероятно, он был склонен к мистицизму. Его надбровные дуги, выдававшие импульсивный характер, уравновешивали презрительное и своевольное выражение подбородка. Этот человек мог быть и военным, и миссионером. Чтобы довершить впечатление, мне хотелось взглянуть на его руки, но видна была только тыльная их сторона.
Прочитав письмо, он пригласил меня пройти в дом, и все остальное время до ужина посвятил моему устройству. Только за столом я начал примечать нечто странное.
Я обратил внимание на то, что моего собеседника, при всех его безукоризненных манерах, как будто что-то тяготило.
Его взгляд, устремленный в угол комнаты, выражал тоскливое беспокойство. Но так как именно на это место падала тень от его фигуры, я, поглядывая украдкой в ту сторону, ничего там не мог разглядеть. Впрочем, возможно, мне это показалось, и просто хозяин отличался рассеянностью.
Тем не менее беседа была оживленной. Мы говорили о разгулявшейся в соседних поселках холере. Мой хозяин был гомеопат и не скрывал удовлетворения от встречи с единомышленником. Но вдруг оброненная мною фраза изменила тон нашей беседы. Разговор о действии малых доз навел меня на мысль, которую я поспешил высказать.
— Воздействие на маятник Рюттера близости какого-либо вещества, — сказал я, — не зависит от его количества. Одна гомеопатическая пилюля вызывает такие же отклонения, как пятьсот или тысяча пилюль.
Я сразу же заметил, что хозяина заинтересовало мое наблюдение. Теперь он смотрел на меня.
— И все же, — отвечал он, — Рейхенбах опроверг этот довод. Я полагаю, вы читали Рейхенбаха?
— Ну как же, читал. И не только читал, но и разбирался в его возражениях, ставил опыты на собственном приборе и убедился, что ошибается именно ученый немец, а вовсе не англичанин. Причина такого рода оши¬
263
бок столь явна, что я не могу взять в толк, как этого не замечает досточтимый создатель парафина и креозота.
Лицо хозяина осветилось улыбкой: верное доказательство взаимопонимания.
— Вы пользовались старым маятником Рюттера или тем, который усовершенствовал доктор Леже?
— Усовершенствованным, — отвечал я.
— Это лучше. Так в чем же, по вашему мнению, причина ошибки Рейхенбаха?
— А вот в чем. На испытуемых, с которыми он работал, производило впечатление количество вещества, и они оказывали соответствующее воздействие на прибор. Если, скажем, под влиянием крупицы магнезии амплитуда маятника достигала четырех делений, то, согласно общепринятым представлениям о причинно-следственной связи, ббльшая амплитуда колебаний соответствует большему количеству вещества, например десяти граммам. Испытуемые барона были, как правило, людьми, далекими от науки, но те, кто этим занимался, знают, сколь сильно влияние расхожих идей, если они с виду логичны, на такого рода субъектов. Здесь-то и кроется причина ошибки. Маятник зависит не от количества, а от свойств изучаемого вещества, и только от них. Но когда испытуемый считает, что важно количество, воздействие растет, ибо всякая убежденность есть, по сути, волевой акт. Зато когда испытуемые не знают о количественных изменениях, колебания маятника подтверждают версию Рюттера. Когда влияние галлюцинаций исключается...
— Ох, опять эти галлюцинации, — сказал мой собеседник с явным неудовольствием.
— Я не из тех, кто все на свете готов объяснять галлюцинациями, особенно если принять во внимание, что их обычно путают с субъективными впечатлениями. Для меня галлюцинации — это, скорее, проявление некой силы, а не состояние души, и если с этим согласиться, то таким образом можно объяснить целый ряд феноменов. Думаю, что так оно и есть.
264
— Увы, это не так. Я, знаете ли, году в тысяча восемьсот семьдесят втором познакомился с Холмом, лондонским медиумом. Потом я с большим интересом с сугубо материалистических позиций следил за опытами Крукса. Но истинное положение дел я уразумел в тысяча иосемьсот семьдесят четвертом году. Галлюцинациями всего не объяснишь. Поверьте мне, видения, они сами по себе...
— Позвольте маленькое отступление, — прервал я, улучив момент, удобный для того, чтобы удостовериться в правоте моих предположений. — Позвольте спросить вас, но, если вопрос покажется вам нескромным, можете не отвечать: вы ведь военный в прошлом?
— Очень недолгое время: в Индии я дослужился до младшего лейтенанта.
— Ну уж в Индии у вас были, наверное, возможности для любопытных штудий?
— Вовсе нет. Война закрыла мне дорогу в Тибет, а я гак хотел побывать там. Я добрался до Гампура, и на этом все кончилось; из-за нездоровья я вскоре вернулся в Англию, из Англии в тысяча восемьсот семьдесят девятом году переехал в Чили и вот, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом приехал сюда.
— А что, в Индии вы заболели?
— Да, — снова уставляясь в угол, грустно отвечал мне бывший военный.
— Холера? — домогался я.
Но он, подперев левой рукой голову, смотрел невидящим взором поверх меня. Потом он запустил большой палец в поредевшие на затылке волосы — я понял, что этот жест предваряет признание, — и молча ждал. Снаружи в темноте трещал кузнечик.
— Нет, это было нечто похуже, — начал хозяин. — Это было нечто непонятное. Сорок лет минуло с тех пор, но я никому ничего не рассказывал. Да и зачем? К чему рассказы? Никто бы не понял. А меня в лучшем случае сочли бы за помешанного. Нет, я не просто мрачный человек, я человек отчаявшийся. Моя жена скончалась восемь лет назад, ничего не зная о моем недуге, а детьми я,
265
по счастью, не обзавелся. И вот сейчас впервые встретил человека, который может меня понять. — Я учтиво поклонился. — Как прекрасна наука, свободная наука, без академий и послушников. И все же ее порога вы еще не перешагнули. Рейхенбах — это только пролог. То, что вы услышите, покажет вам, как далеко может завести эта дорога.
Рассказчик волновался. Он вставлял английские фразы в свой преувеличенно правильный испанский. Он не мог обойтись без этих вкраплений, они ритмически оттеняли его акцент иностранца.
— В феврале тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года — вот когда растерял я все свое жизнелюбие. Вы, наверное, слышали о йогах, об этих удивительных нищих, которые тем и живут, что шпионят и творят чудеса. Путешественники столько нарассказали об этих чудесах, что не стоит повторяться. Но знаете ли вы, на чем основаны способности йогов?
— Я думаю, на умении впадать в состояние сомнамбулизма, когда им захочется. Они становятся физически нечувствительными и обретают дар ясновидения.
— Все именно так. Мне довелось видеть йогов при обстоятельствах, которые исключали какое бы то ни было мошенничество. Я даже заснял эти сцены, и пластина запечатлела все то, что я видел своими глазами. Стало быть, это не галлюцинации, ведь химические вещества не галлюцинируют... И тогда я пожелал развить в себе такие же способности. Я был отважным малым. К тому же в те времена я не мог предвидеть таких последствий. И я приступил к делу.
— Как именно?
Но он продолжал, ничего не ответив:
— А результаты оказались поразительными. Очень скоро я выучился засыпать. По прошествии двух лет я мог усилием воли двигать предметы. Однако эти занятия повергли меня в глубокую тревогу. Меня страшила собственная беззащитность перед лицом всемогущих сил, мою жизнь словно отравлял яд. В то же время меня снедало любопытство. Я уже стоял на наклонной плос¬
266
кости, и мне было не удержаться. Впрочем, огромным усилием воли я заставлял себя блюсти приличия в обществе. Но мало-помалу силы, которые я сам в себе пробудил, становились все непокорнее. Длительное пребывание в нирване приводило к раздвоению личности. Я ощущал себя вне себя. Я бы даже сказал, что мое тело было подтверждением того, что я — это не я. Вот как мне казалось. Поскольку это впечатление все усиливалось, оно стало тревожить меня в момент просветления, и однажды ночью я решил посмотреть на своего двойника. Посмотреть, что же покидает меня во время экстатического сна, будучи мною.
— Неужели вам это удалось?
— Это случилось однажды вечером, даже ночью. Раздвоение произошло по обыкновению легко. Когда я пришел в себя, передо мной в углу комнаты маячила какая-то форма. И эта форма была обезьяной, мерзким животным, которое пристально на меня смотрело. С тех пор она со мной. Я все время ее вижу, я ее пленник. Куда бы она ни шла, я иду со мной, с нею. Она всегда здесь, все время смотрит на меня, но никогда к ней не подходит, никогда не шевелится, я никогда не шевелюсь...
В последней фразе я сознательно подчеркиваю путаницу в личных местоимениях, ибо так я от него услышал. Я был искренне огорчен. Этот человек действительно страдал навязчивой идеей.
— Ради бога, успокойтесь, — сказал я ему доверительным тоном, — ведь можно и обратно...
— Вовсе нет, — с горечью отвечал он, — это длится так долго, и я уже забыл, что такое целостное «я». Я знаю, что дважды два четыре, потому что знаю это на память, но я не чувствую этого. В самой простой арифметической задачке я не вижу никакого смысла, потому что я утратил представление о том, что такое количество. И со мной происходят еще более странные вещи. Например, когда я берусь одной рукой за другую, я чувствую, что она не моя, что рука принадлежит другому человеку, не мне. Иногда я вижу вещи удвоенными, оттого что глаза видят порознь...
267
Без сомнения, это был очень интересный случай помешательства: он не исключал совершенного владения рассудком.
— А обезьяна-то что? — спросил я, чтобы исчерпать тему.
— Она черна, как моя тень, и печальна, как человек. Описание точное, потому что сейчас я на нее смотрю. Она среднего роста, а морда у нее как у всех обезьян. И все же я чувствую, что она похожа на меня. Я говорю это в здравом уме. Это животное похоже на меня!
Мой собеседник действительно был спокоен. И тем не менее представление об обезьяньей морде так резко контрастировало с его безупречным лицевым углом, высоким лбом, прямым носом, что уже одно это было самым весомым доказательством нелепости его видений.
Он заметил мое замешательство и вскочил, словно принял окончательное решение.
— Сейчас я буду ходить по комнате, и вы увидите. Прошу вас, понаблюдайте за моей тенью.
Он прибавил света в лампе, отшвырнул в противоположную сторону столик и начал расхаживать по комнате. И вот тут я изумился: его тень не двигалась! Выше пояса она падала на стену, а ниже пояса — на деревянный пол; она напоминала гармошку, которая то удлинялась, то укорачивалась в зависимости от приближения или удаления хозяина. И хотя свет падал на него то так, то этак, на тени это никак не сказывалось.
Меня охватила тревога за собственный рассудок, и я принял решение отделаться от наваждения, а заодно, быть может, помочь моему собеседнику, проведя убедительный опыт. Я попросил у него разрешения обвести контур тени карандашом.
После того как он мне разрешил, я приклеил лист бумаги хлебным мякишем, постаравшись, чтобы он как можно плотнее прилегал к стенке и чтобы тень от лица падала на самую середину листа. Мне хотелось, как вы понимаете, установить идентичность контура лица и тени — для меня это было дело очевидное, хотя хозяин утверждал обратное, доказать, чья она, а потом объ¬
268
яснить, исходя из научных данных, почему она неподвижна.
Я был бы не вполне искренен, если бы сказал, что у меня не дрожали пальцы, когда я прикасался к темному пятну, контур которого прекрасно воспроизводил профиль моего собеседника. Однако уверяю вас, когда я рисовал, рука у меня была тверда. Синим карандашом я осторожно провел линию и не отлеплял листа бумаги от стенки до тех пор, пока совершенно не убедился в том, что проведенная мною линия полностью совпадает с контуром тени, а контур в точности передает профиль моего повредившегося рассудком собеседника.
Хозяин с большим интересом следил за опытом. Когда я подошел к столу, я увидел, что его руки дрожат от сдерживаемого волнения. Сердце у меня, словно предвидя роковую развязку, бешено колотилось.
— Не смотрите, — сказал я.
— Нет уж, я посмотрю! — ответил он таким властным тоном, что мне пришлось поднести лист бумаги к свету.
Мы оба страшно побледнели. На листе перед нашим взором линия карандаша очерчивала покатый лоб, приплюснутый нос, морду животного. Обезьяна! Проклятье!
Кстати, примите к сведению, что я не умею рисовать.
269
VIOLA ACHERONTIA*
Этот странный садовник пожелал вырастить цветок смерти. Десять лет он трудился впустую, потому что заботился только о внешних формах, не принимая в расчет души растений. Все было испробовано — и прививки, и скрещивания. Часть времени ушла на выведение черной розы, но толку не было. Потом его заинтересовали страстоцветы и тюльпаны, но результат оказался жалок: два или три цветка устрашающего вида. И только Бернарден де Сен-Пьер наставил его на путь истинный, наведя на мысль о сходстве цветка с беременной женщиной. Ведь известно, что и цветок, и беременная женщина способны страстным желанием пробудить к жизни увиденное ими в грезах.
Но принять этот дерзкий постулат означало предположить в растении достаточно развитое мыслящее начало, которое может воспринимать, уточнять и запоминать — одним словом, поддаваться воздействию так, как поддаются ему высокоорганизованные существа.
Он полагал, что вьющиеся растения наделены способностью мыслить, принимать решения и осуществлять их. Отсюда прихотливые и с виду случайные извивы и переплетения стеблей, ветвей и корней. Этими таинственными функциями заведует несложная нервная система. Каждое растение обладает мозговым центром и зачатком сердечной мышцы, соответственно расположенными в шейке корня и стебле. Семя, являющееся концом и началом всего, неоспоримо подтверждает это. Завязь ореха имеет форму сердца, а семядоли очертаниями сильно напоминают мозг. Оба семядольных листочка, исходящие из завязи, очень похожи на два бронхиальных ствола, чьи функции они берут на себя в процессе прорастания.
* Фиалка преисподней (лат.).
270
Но морфологическое сходство почти всегда предполагает более глубокую общность, и потому-то внушение влияет на форму организма больше, чем принято думать. Наиболее прозорливые представители естественной истории — такие как Мишле и Фрис — предвидели то, что ныне доказывается опытом. Пример тому — мир насекомых. Самое яркое оперение у птиц там, где всегда ясное небо (Гулд). Белые коты с голубыми глазами чаще всего глухи (Дарвин). Имеются рыбы, в позвоночном веществе которых запечатлелись морские волны (Стринд- берг). Подсолнух поворачивается вослед светилу и доподлинно воспроизводит его вкупе с лучами и пятнами (Сен-Пьер).
Вот отправная точка. Бэкон в своем «Novum Organum» отмечает, что коричное дерево и прочие благовонные растения, помещенные в смрадных местах, удерживают аромат, не давая ему распространяться и смешиваться со зловонными испарениями...
И вот как раз исследованием воздействия внушения на фиалки занимался тот необыкновенный садовник, с которым я собирался встретиться. Он находил эти цветы чрезвычайно нервными: это подтверждается, прибавлял он, тем, что истерички не знают меры в любви и ненависти к фиалкам. Ему хотелось добиться того, чтобы эти лишенные запаха цветы источали смертельную отраву, некий мгновенно и безболезненно действующий яд. Что это было, чистое сумасбродство или что-нибудь другое, осталось для меня загадкой.
Меня встретил заурядного вида старик, разговаривавший со мной очень вежливо, почти подобострастно. Ему передали, что меня интересует, и мы сразу же завели долгий разговор на тему, которая была близка нам обоим.
Он, как отец, любил свои цветы, он обожал их. Сведения и догадки, изложенные мной в начале, послужили вступлением к нашему диалогу. И так как старик распознал во мне знатока, он почувствовал себя в своей стихии.
Просто и ясно изложив свои теории, он предложил мне взглянуть на фиалки.
271
— Я попытался эволюционным путем, — рассказывал он мне, пока мы шли по саду, — вывести фиалки, которые бы испускали яд, и хотя результат оказался не таким, какого я ожидал, это все равно настоящее чудо, так что я все еще рассчитываю получить испарения смерти. Но вот мы и пришли. Смотрите.
Они росли в конце сада на некоем подобии клумбы, окруженной странными растениями. Над обычными листьями возвышались черные венчики, и поначалу я принял эти растения за незабудки.
— Черные фиалки! — воскликнул я, разглядев их.
— Да, как видите. Чтобы полнее выразить идею смерти, пришлось начать с цвета. Ведь черный, если исключить причуды китайцев, — это общепринятый цвет траура, потому что это цвет ночи, печали, убывания жизненных сил и сна, который родствен смерти. К тому же, в соответствии с моим замыслом, цветы не имеют запаха, и это еще одно следствие моего метода. Черный цвет вообще не соотносится с запахом: на тысячу сто девяносто три вида белых цветов приходится сто семьдесят пять благовонных и двенадцать с неприятным запахом, меж тем как из восемнадцати видов черных цветов семнадцать не пахнут и один пахнет неприятно. Но самое интересное не это. Самое замечательное кроется в другой особенности, которая, к несчастью, нуждается в пространном пояснении...
— Это не страшно, — сказал я, — мое желание все понять едва ли не сильнее моего любопытства.
— Тогда слушайте, как это было! Прежде всего мне понадобилось создать для моих цветов среду, которая благоприятствовала бы вызреванию образа смерти, затем внушить им этот образ, потом подготовить их нервную систему к восприятию и закреплению образа и наконец — добиться выработки яда, сочетая разнообразные яды как в окружении, так и в растительном соке. Об остальном заботится наследственность.
Фиалки, на которые вы смотрите, я выращивал в этих условиях в течение десяти лет. Несколько скрещиваний, необходимых для того, чтобы предотвратить вы¬
272
рождение, на какое-то время задержали получение конечного результата. Я говорю — конечного результата, потому что получить черную фиалку без запаха — это уже результат.
И все же это не очень трудно, достаточно осуществить ряд реакций на основе углерода, чтобы получить одну из разновидностей анилина. Я опускаю ту часть исследований, которая касается толуидинов и ксилемы, ибо эти подробности заведут нас слишком далеко. И к тому же выдадут мой секрет. Тем не менее одно я могу вам подсказать: анилиновые красители имеют в основе соединение водорода с углеродом; затем химикам остается создать устойчивые соединения кислорода и азота, получить искусственную щелочь, каковой является анилин и его производные. Нечто подобное проделал я. Вы знаете, что хлорофилл очень чувствителен, и с этим связано много удивительных вещей. Выставляя плющ на солнце так, чтобы свет падал на него ромбами, я сумел изменить форму листа, и она обрела вид циссоиды, и, кстати, нетрудно заметить, что стелющиеся травы в лесу имитируют узор пробивающегося сквозь листву солнечного света.
Теперь мы подошли к главной части эксперимента. Практикуемое мною внушение трудноисполнимо, потому что мозговой центр цветка расположен под землей: эти существа устроены наоборот. Поэтому в основном я сосредоточился на проблеме воздействия среды обитания. Когда мне удалось вывести фиалку черного цвета, я как бы положил первый траурный мазок на задуманное полотно. Потом я посадил вокруг растения, они перед вами: дурман, жасмин и красавка. Фиалки попали под химическое и физиологическое воздействие смерти. Соланин действительно содержит наркотическое вещество, состоящее из датурина, белены, атропина, двух алкалоидов, расширяющих зрачки и вызывающих спазм аккомодации, при котором все предметы увеличиваются в размерах. Вот так я получил компоненты сновидений и галлюцинаций — всего того, что вызывает кошмары. К специфическому эффекту черного цвета, эффекту сно¬
273
1Я Лак ЯЙ4Й
видений и галлюцинаций, прибавился страх. И еще позволю себе заметить, что для усиления галлюцинаторного действия я посадил белену.
— А для чего, ведь у цветка нет глаз? — спросил я.
— Ах, сеньор, видят не только глазами, — отвечал старец, — лунатики видят пальцами и ступнями ног. Не забывайте, что речь идет о внушении.
Я с трудом удержался от возражений, я молчал, пытаясь понять, куда может завести нас эта странная теория.
— Соланин и датурин, — продолжил мой собеседник, — очень близки трупным ядам — томаину и лейко- маину, которые пахнут жасмином и розой. Если белладонна и дурман дают мне субстанцию, то кусты жасмина и роз обеспечивают запахи; эти запахи мне удалось усилить, ведь по совету Декандоля я сажаю поблизости лук. В деле выращивания роз мы нынче очень продвинулись, прививки дают чудесный эффект; кстати, первые прививки роз в Англии были произведены во времена Шекспира...
Это замечание, которое делалось явно в угоду моим литературным склонностям, меня растрогало.
— Позвольте, — сказал я, — воздать должное вашей поистине юношеской памяти.
— Но для того, чтобы еще сильнее влиять на мои цветы, — продолжал он, неопределенно улыбаясь, — я посадил то здесь то там, вперемежку с наркотическими, трупные растения: лакмусовый лишай, стапелию, ибо их запах и цвет походят на запах и цвет разлагающейся плоти. Фиалки охватывает сильное возбуждение, естественное любовное возбуждение, ведь цветок — это орган размножения, и он вдыхает запах трупных ядов и запах самого трупа, на них усыпляюще действуют наркотические вещества, предрасполагающие к впадению в гипнотическое состояние, а тут еще расширяющие зрачки галлюцинаторные яды. Тогда-то и начинает отчетливо кристаллизоваться идея смерти, а я тем временем удесятеряю и без того непомерную чувствительность цветка, приближая к нему то валериану, то шпорник, при этом цианиды сильно раздражают фиалку. Выделяемый ро-
274
1ой этилен действует в том же духе. Мы добрались до кульминационного момента нашего опыта, и здесь я хотел бы предупредить вас вот о чем: человеческое «ай» свойственно всей природе.
Когда я услышал эту неожиданную реплику, я окончательно уверился, что передо мной сумасшедший. По он, не дав мне передохнуть, продолжал:
— «Ай» — междометие, которым пользовались во все времена. Любопытно, что и у животных оно есть. У собаки, а она высшее позвоночное, у бабочки-бражника «мертвая голова». «Ай» выражает боль и страх. Именно странное насекомое, которое я только что назвал, обязанное своим именем черепу на щитке, напоминает о мрачной фауне, пользующейся этим междометием. Вряд ли нужно упоминать филина, этого беспутного обитателя первозданных лесов, этого ленивца, чье «ай» таит скорбь об утраченном величии...
И вот, раззадоренный десятью годами неустанных трудов, я вознамерился разыграть перед цветами такое жестокое зрелище, которое произвело бы на них впечатление, но и это не помогло. И вот однажды... Подойдите и посудите сами.
Он наклонился вплотную к черным цветам, и мне пришлось сделать то же самое, и тогда — неслыханное дело — мне почудилось, что я слышу слабые стенания. Я быстро убедился в том, что да, это так. Цветы действительно жаловались, из их темных венчиков исходили тоненькие, напоминающие детский плач «ай». Внушение самым непредвиденным образом подействовало на них. Отныне всю свою недолгую жизнь они были обречены только плакать.
Я еще не пришел в себя от изумления, когда меня пронзила ужасная мысль: я вспомнил, что в страшных сказках мандрагора, когда ее орошают детской кровью, гоже плачет, и, смертельно побледнев от ужасного подозрения, взглянул на садовника.
— Как мандрагора, — сказал я.
— Как мандрагора, — повторил он, побледнев еще сильнее, чем я.
275
Больше мы никогда не встречались. Но сейчас я уверен в том, что это был настоящий негодяй, колдун, какие бывали в старину, с их ядовитыми снадобьями и цветами, взращенными на невинной крови. Вырастит ли он, как рассчитывает, фиалку преисподней? И может быть, назвать его окаянное имя?..
Бальдомеро Фернандес Морено
ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕСА
Может быть, птица поет ветвям могучего дуба.
Может быть, речка журчит камням замшелым и грубым.
Может быть, плачет ветер кресту на церковной крыше.
Может быть, мы молчим, потому что ты нас не слышишь.
Хорхе Луис Борхес ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС
Сказать, что от нас ушел первый писатель нашей страны, что от нас ушел первый писатель нашего языка, значит сказать чистую правду и вместе с тем сказать слишком мало. К первым писателям Аргентины принадлежал и ушедший Груссак, к первым писателям испанского языка — и ушедший Унамуно. Но и те и другие слова вынуждают предпочесть одного многим; и те и другие можно сказать о Лугонесе и еще о многих —
277
только не о единственном близком каждому из нас Луго- несе; и те и другие изолируют его от остальных. Наконец, и тем и другим словам (не хочу сказать, что они неоправданны), как всем превосходным степеням, недостает гибкости.
Говоря о Лугонесе, обычно говорят о бесчисленных переломах в Лугонесе. Вернее, ограничиваются двумя: до 1897 года — до «Золотых гор» — он был социалистом, до 1916 — до «Моей войны» — демократом, после 1923 — после выступлений в «Колизее» — напористым ежевоскресным пророком Эры Меча. Кроме того, из-за «Чуждых сил» (1906) ему, насколько я понимаю, ставят в вину прямое непостоянство: он-де не предвидит теорий Эйнштейна, которые в 1924 году будет с жаром популяризировать. Еще меньше Лугонесу прощают переход от самого непочтительного атеизма к самой горячей христианской вере — будто бы то и другое не воплощения одной страсти.
Неоспоримо одно: пресловутые «бесчисленные переломы» в Лугонесе, которые так удручают и восхищают соотечественников, — переломы идеологические, а каждый знает, что идеи (или, лучше сказать, мнения) Луго- неса всегда слабее той захваченное™ и блистательной риторики, с какими он их излагает. Говорю о блистательной, а не об услужливой риторике, поскольку Луго- нес обыкновенно предпочитал свысока запугивать читателя, нежели приобщать его к сказанному. Понятно, что всегда найдутся малодушные читатели, любящие, чтобы их заставили вскрикивать от страха, равно как и те, кто ощущает своим долгом те крики подхватить... Клодель, Честертон или Шоу беспрестанно расцвечивали доводами различные учения, которые исповедовали; Лугонес не изобрел ни единого нового софизма.
Главным в Лугонесе была форма. Его убеждения убеждали редко, эпитеты и метафоры — почти всегда. А потому лучше всего искать Лугонеса там, где его слова не запятнаны полемикой: в описательных фрагментах «Истории Сармьенто» и «Пайядора» («Это был настоящий пир для солдат, собак и хищных птиц... По локоть в
278
крови, мужчины у гигантских очагов наставительным гоном комментировали события дня, то рисуя на земле, то неспешно обтирая жирные пальцы о голенища сапог...»), в том или ином из великолепных фантастических рассказов — «Огненном дожде», «Абдерских скакунах», «Изуре» — либо в «Лунном календаре души», который по сей день остается непризнанным архетипом всей, если пользоваться цеховым языком, «новой» поэзии Латинской Америки — от «Стеклянного колокольчика» Гуиральдеса до «Злополучного возвращения» и «Нежной родины» Лопеса Веларде, может быть, превзошедших свой образец. (Не говоря о его факсимильных копиях вроде «Трубки гашиша».)
При жизни о Лугонесе судили по последней мимолетной статье, которую позволяло себе его перо. Теперь он обладает всеми правами умерших, и судить о нем нужно по лучшему из написанного.
Его стихи зрели вместе с моей жизнью, вместе с жизнью моих родителей.
РИКАРДО ХАЙМЕС ФРЕЙРЕ (1868—1933)
ДОРОГА ЛЕБЕДЕЙ
Волны бурные, вцепившиеся в гривы табуна ветров, смятеньем обуянных, в час, когда среди рассыпавшихся молний в горней кузнице гигантский молот бьет по наковальне.
Волны бурные под клочьями нависших беспокойных туч, что в сумерках холодных окровавленные медленно дымятся.
Мутных глаз грядущей ночи потаенные обводы.
Волны бурные, что страсти злых чудовищ укрывают, шумно двигаясь и пенясь в час, когда надрывным басом шторм заводит дикую эпиталаму, величание вселенной.
Волны бурные, чьи ломаные гребни к берегам далеким судорожно мчатся и рыданьями глухими нарушают ледяной суровой ночи равнодушное молчанье.
Волны бурные, пронзаемые килем
и воителя могучим острым взором,
где Дорога Лебедей в кипящих недрах
тускло светится, встречая грозного Царя Морского.
280
СМЕРТЬ ГЕРОЯ
Хотя на щите пробитом кровь полыхает, как зарево, хотя не закончен меча его стремительный взмах, но мрак необоримый уже проникает в глаза его, и мужественная песня оборвалась на устах.
На суку двое воронов со взорами ненасытными расправили сильные крылья, что мертвенно-черны, и ночь встрепенувшихся крыльев глаза, как день,
слепит ему,
и к бледному горизонту уносятся вещуны.
281
ВАЛГАЛЛА
Гимн кровавый гремит. Скрежет и треск копий, щитов.
Хлещут пурпурно-алые реки из растерзанных ртов.
Красный смех. Череп медом наполнен, дабы свою
жажду могли утолить воины, павшие в жарком бою.
282
ВОРОНЫ
В смертоносном лязге стали и в безумных криках воинов слышно карканье и виден круг неспешного полета: двое неземных посланцев, двое вещих черных воронов к богу на плечи садятся и нашептывают что-то.
283
СТРАНСТВУЮЩАЯ ВЕНЕРА
I
За судном легкокрылым следую наудачу;
слышу, как ветры рыдают в снастях корабельных, вижу, как чайки садятся на мачту.
Рыбы на киль, со скрежетом режущий волны, тусклые взоры уставили;
их чешуя от солнца на мелкие части дробится; белая пена вскипает под черными их хвостами.
Слежу беспокойно,
как скалы скрываются за горизонтом.
Блуждает взор мой в бескрайнем царстве водном.
II
Странствующая Венера, ты — сладострастия стражница. Тебя не знает в лицо, но предан тебе мореходец. Странствующая Венера...
Он грезил с тобою вместе, быть может.
За белокурой Венерой он быстрый корабль вел вдоль берегов, седых от тумана и инея.
На бронзу его загара с надеждой взирали глаза ее серо-синие.
За черной Венерой корабль он вел вдоль выжженной солнцем пустыни, и легкие, как тени, эбеновые руки шею его обхватили.
284
Странствующая Венера, на берегу его ждешь ты. Может быть, баядерой ты обернуться хочешь? Искусна ли ты в любви?
Тебя не знает в лицо, но предан тебе мореходец.
III
Всплыли в тиши одиночества мечты и виденья зыбкие, и контуры их таинственные вычерчиваются в дымке.
285
МИМОЛЕТНОЕ
Однажды ветер ветку с куста цветущей розы сорвал, унес в болото и прямо в омут бросил.
Вмиг расступились воды, и трепетную розу болото засосало в голодную утробу.
Лишь листья над водою остались плавать сиро, покрывшись илом черным и став чернее ила.
Но в час, когда таится весь мир во сне глубоком, струится запах розы над мертвенным болотом.
286
ВЕЧНО
Как голубка ты в дали голубой, ты — любовь, ты — озаренье мечты, как цветок, как свет, как музыка ты, как голубка ты в дали голубой.
Ты летишь над одинокой скалой в океане ледяной немоты, ты роняешь сноп луней с высоты над пустынной одинокой скалой.
Ты летишь над одинокой скалой, гостья радужных эфирных зыбей, легче облака и снега белей.
Белоснежный в небе тает твой след. Гостья, лилия, снежинка и свет, как голубка ты в дали голубой.
287
О ДАЛЕКОЙ ФУЛЕ
I
Там, где лавры и мирты расцветают, дивный образ твой портики украсит; там, где лавры и мирты расцветают.
Ты с Палладой сравнишься красотою и спокойным божественным величьем; ты с Палладой сравнишься красотою.
Королева Фантазия возводит твой дворец золотой и белоснежный; королева Фантазия возводит.
В жаркой битве не раз к тебе взывали: «Берта!» — или: «Кримхильда!» Паладины в жаркой битве не раз к тебе взывали.
На пирах, жемчуга с плащей срывая, их горстями метали царедворцы; на пирах, жемчуга с плащей срывая.
Скатный жемчуг с любовью вперемешку устилали твой путь, о королева!
Скатный жемчуг с любовью вперемешку.
Грудь и плечи твои белее лилий затмевали сияние короны; грудь и плечи твои белее лилий.
Многошумной толпе, безликой черни заколдованный сад твой недоступен; многошумной толпе, безликой черни.
288
II
Слова любви чуть слышные слетают с губ, на которых дремлет поцелуй; слова любви чуть слышные слетают.
В каком краю таинственном разлился рассвет твоих лазоревых очей?
В каком краю таинственном разлился?
О, принц мечты, принц из далекой Фулы!
Он никогда не явится к тебе;
о, принц мечты, принц из далекой Фулы!
К нему ты руки трепетные тянешь, внимая ночью призраку его; к нему ты руки трепетные тянешь.
И цветом розы и слоновой кости ты мысленно избранника влечешь; и цветом розы и слоновой кости.
В изгнании твоем, о королева, тебя тоска туманно облекла; в изгнании твоем, о королева!
289
19 Эак. ЗЙ48
СУМЕРКИ
Меж ребрами скал и колючим кустарником в ущелье иду по тропинке один.
На небе темнеющем звезды янтарные мерцают поверх красноватых вершин.
Зловеще хохочет стремнина кипучая, глубокая, черная. А в вышине с обрывистых выступов бурые сучья, свисая, кивают насмешливо мне.
290
ТУМАНЫ
О глаза! Они так насмешливы, что пронзают меня, как кинжалы!
О бесцветные губы! Смеются, так смеются, что сердце мне жалят!
Как смеются холодные губы! Сколько яда в губительном взоре! Ночь простерлась мучительней ада, леденеет дыхание в горле...
О, как тяжко, когда во мраке угасает звезда последняя!
Дух и тело сжимаются в страхе на тропе ночного неведенья.
Я откроюсь дождю: знобящий, он меня до костей пронижет.
А вокруг под тяжестью снега ветки гнутся ниже и ниже.
291
ЗАУНЫВНЫЕ ГОЛОСА
По тундре белой собаки тянут сани.
Сливается их лай, натужный в беге, с далеким завываньем волчьей стаи.
Пурга.
Буран с могучих крыльев бросает на бескрайние снега охапки лилий.
В нависших низко облаках зловещие грозят раскрыться тайны. Царят заброшенность, уныние и страх, дурным предчувствием питаемый.
Вот одинокая сосна маячит в отдаленье.
Окутанная инеем, она встает, как привиденье.
В бледнеющей дали последние лучи заката умерли.
Меж саванами неба и земли студеные родятся сумерки.
292
ПРЕДКИ
(фрагменты)
Я древней расы отпрыск; мой пращур был тот самый, кто в Новый Свет когда-то вступил, и горд и смел, кто возводил искусно фортеции и храмы, а тровадор об этом повсюду песни пел.
Мой знатный род был славен еще во время оно.
Кровь у меня издревле красна и голуба, и на зеленом поле червленых два дракона легли неустрашимо на перевязь герба.
А хроники с патиной дворянского тщеславья приводят мне на память деянья старины, консервативность предков, разгул их своенравья и прочие виденья, туманные, как сны.
Былого силуэты мелькают пред глазами.
В ночи при вспышках молний я к ним стремлюсь порой... Но где они, аббатства, ристалища и замки, и я, тогда державший крест, меч или перо?
*
Озеро Солнца, спящее в котловине горной, светло-зеленые воды, белые берега.
От ветров, вылетающих из пещеры черной, неотступно твой сон хранят вечные снега.
Здесь родился из твоего чистого кристалла земледельцев и воинов мудрый властелин. Тень от великого инки Капака упала полосою широкою до горных вершин.
293
От Параны до Маулы, от Куско до Кито толпы за ним устремились в дальние края.
По Кордильерам, по сельве, по пампе открытой шествуют императоры, Солнца сыновья.
А принцессы, что гурии в раю Магомета, лбы украшают перьями во имя любви. Арауканы-воины не спят до рассвета, избранницам посвящая свои ярави.
На ростки кукурузные глядя отчим взором, бог дарует им светлые и теплые дни.
Золотистые волосы метнул из-за гор он; землю, легко ниспадая, ласкают они.
Мир и гордость в души льет сторона родная.
Под божественным скипетром индейцы живут, словно пчелы, словно бобры, отдыха не зная.
Но зато свободный у них, а не рабский труд.
Добрый народ, растаяли грез твоих туманы!
Всё еще в жизнь влюбленная, тихо, не спеша, струями крови уходит в землю через раны расы твоей горемычной светлая душа.
Дерзкому конкистадору муки меланхолии передаешь ты в наследство на тысячу лет, сумерками агонии каждый миг всё более приглушаешь испанского неба яркий свет.
Вековая дворянская спесь конкистадоров, омрачившая некогда ясный небосклон, посреди неизведанных голубых просторов растворяется в горечи туземных племен.
К сладострастью избыточно та горечь примешана, сокровенною тайною окружив любовь, горечь, что на губах несет индейская женщина, что наполняет рыданья индейских певцов.
294
О, неотвратные мечи, те, что без пощады славным инкам и ацтекам пресекали дни, те, что доблестных сарацин лишили Гранады! Трем цивилизациям смерть принесли они.
Но совершилось таинство, хотя и не скоро: слава и бесславье, сойдясь один на один, создали новую расу, в жилах у которой кровь индейцев, кровь испанцев и кровь сарацин.
АМАДО НЕРВО (1870—1919)
КРЫЛЬЯ
Герб Мексики — кондор, могучий и мрачный, терзает когтями змею, символ зла, — над гладью озерной, алмазно-прозрачной, где тень от нопаля узором легла.
Я помню, как в детстве увидел я знамя, когда на прогулку взяла меня мать, и кондор на знамени реял над нами...
Тут я закричал, заливаясь слезами:
— Хочу быть орлом, хочу в небе летать!
Коль мы почитаемся перлом творенья, что ж крыльев Творец не пожаловал нам?
— Не плачь, сын, — сказала мне мать в утешенье, — на крыльях других нас несет вдохновенье,
за ним никогда не угнаться орлам!
296
ВУЛКАНЫ
Завладеет заря небосводом, и вулканы встают предо мной пирамидами роз, мимоходом возведенными щедрой весной.
В свете солнца, набросившем прямо на долину лучистую сеть, куполами священного храма начинают вулканы гореть.
А когда сумрак вечера ляжет, проводив отпылавший закат, словно Мексики вечные стражи, крепостями вулканы стоят.
297
Я НЕ РОЖДЕН СМЕЯТЬСЯ.,
Я не рожден смеяться... И напрасно льет солнце золото мне на виски.
Я — рыцарь человечьей скорби, страстно влекомый к Тайне, знанью неподвластной, в державной мантии моей тоски.
Не знал я счастья. И не оставляли меня обман и боль... Душа темна, как ночь, что полюса скрывает дали...
О, не лишайте же меня печали!
Как жить, когда покинет и она?
Меня ты любишь, знаю. И годами бесстрашно мой недуг ты лечишь злой...
И там, где всё темно, ты — лишь упрямей снежинкой светишь мне в бездонной яме и в пропасти — несущей мир звездой.
Меня ты любишь, да. Но столь густая над жизнью всей моей нависла тьма, что светлая душа твоя святая в борьбе напрасной с тьмой моей, истая, в конце концов обуглится сама.
Пытает небо нас. Очарованье любви летит, покинув наш балкон, туда, где солнце льет свое сиянье...
И нет тебя, а есть одно рыданье, и нет меня, а есть один лишь стон.
Еще вчера всё радость нам сулило...
Увы! К твоей жестока доброте, судьба крылом своим нам свет затмила и, на Голгофу возведя, казнила тебя, распяв на жертвенном кресте!
298
Прости мне скорбь. Поверь, она бескрайней всех чувств. И не разжать ее тиски.
Моя звезда, снежинка! Руку дай мне, и вместе мы пойдем навстречу Тайне в державной мантии моей тоски!
299
СТАРЫЙ ПРИПЕВ
Это что за сирена, чей голос так странен, чье так матово тело, а косы — темны?
Это — отблеск луны в тихоструйном фонтане, это — отблеск луны...
Это чей по ночам так надсаден и страшен в моем доме повсюду звучащий призыв?
Это — ветра порыв, что свистит среди башен, это — ветра порыв...
То не ангел ли огненный машет крылами в предзакатной дали, что кроваво-ярка?
То плывут облака чередою над нами, то плывут облака...
Чьи алмазные льются дождем украшенья в воду с бархатно-синих воздушных завес?
Это — образ небес, их в реке отраженье, это — образ небес...
Все усилья постичь красоту — бесполезны...
Но в каком из зеркал, о Творец, — в высях звездных, на земле иль в душе моей, — властвуешь Ты?
В каждой капле мечты, что сверкает из бездны, в каждой капле мечты.
300
СКОЛЬЗИШЬ НАД ПРОПАСТЬЮ МОИХ СКОРБЕЙ...
Скользишь над пропастью моих скорбей ты, словно луч луны над бездной вод, мой дух, окостеневший от невзгод, умащивая нежностью своей.
Ты в жизнь вступаешь, я прощаюсь с ней, но, времени опровергая ход, ты, словно луч луны над бездной вод, скользишь над пропастью моих скорбей.
Так пусть горчит надежд отцветших плод лишь на губах поэзии моей, — раз хочет тот, кто создал небосвод, чтоб ты над пропастью моих скорбей прошла, как луч луны над бездной вод.
301
БЕССМЕРТИЕ
Не верю, что любовь твоя, растая, исчезла — так бессильна и хрупка...
Ты вздрогнешь, книгу памяти листая, когда прошелестят, с листов слетая, стихи мои, как лепестки цветка.
Меня ты не забудешь. Светлой сказкой вновь дни любви перед тобой пройдут и растревожат душу прежней лаской, не дав покрыться ей той тиной вязкой, где лотосы забвения цветут.
Меня ты станешь видеть ежечасно в неверных сумерках и на заре, за вышиваньем сидя в день ненастный на галерее, глядя, как бесстрастно сплетает дождик нити на дворе.
И заточит тебя в воспоминанья печаль неизлечимая моя...
Пределом твоего существованья, немым укором твоего сознанья, надгробьем вечным в сердце — стану я.
302
МОЛИТВА ТУЧЕ
В склоненной шее лебедя — вопрос, и весь он — тайна, белое виденье...
Но сколь бездонней тайна тучи — в рденье закатных мук или рассветных грез.
В ночи ты — ворон, лебедь — утром рано, ветров незримых зримый обелиск, то солнца, то луны ты прячешь диск, о туча — парус в пене океана...
О туча! Мне яви свою любовь и в веру обрати мои сомненья, душевный мрак смени на просветленье, скорбь в радость претвори пусть на мгновенье, хоть знаю: буря всё отнимет вновь.
303
ОСЕНЬ ПРИШЛА
Как я люблю покой моих непраздных дней и радости уединенья...
Веселой канарейки всё сильней заливистое пенье.
Как воздух свеж и густо напоен древесным ароматом!
Неба просинь в окно мне льется...
Буен и хмелен снег тубероз, предчувствующих осень.
Уже посеребрила седина вершины гор.
И в серой дымке зыбкой всё тает.
Но, беспечна и нежна, природа
с просветленною улыбкой свой неизменный завершает круг. И солнце,
нас лучами обещанья пригрев,
бледнеет, словно старый друг в минуту неизбежного прощанья. Как прелесть запоздалая грустна растений и цветов!
Они устали!
«Я осень, осень, — шепчет нам она, — я преисполнена благой печали... Сменила лето я.
304
В соблазнах женской плоти
тебе не станет больше мниться рай.
Пришел черед
таинственной работе
ума.
Теперь молчи и размышляй».
305
МАЛОДУШИЕ
Она прошла. О, сколь она прекрасна! Прошла, влекома матерью своей.
Мила! Стройна! Горда! Любому ясно: принцесса проиграет рядом с ней!
Она взглянула, поманила властно — о, взор ее пленительных очей!
«За мною следуй! —
взором повелела. Я не случайно на твоем пути!»
К ней устремился я душой и телом, но... испугался. Бог меня прости.
Меня любви уже терзали стрелы, ия — увы! — позволил ей уйти.
306
ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ!
Если не знает никто, почему улыбаемся мы, и не знает никто, отчего мы рыдаем, если не знает никто, зачем рождаемся мы, и не знает никто, зачем умираем,
если мы движемся к бездне, где перестанем быть,
если ночь перед нами темна и безгласна... Давайте, давайте, по крайней мере, любить! Быть может, хоть это не будет напрасно.
307
НЕ ЗНАЕТ КАШТАН, ЧТО ОН НОСИТ КАШТАНА НАЗВАНЬЕ...
Не знает каштан, что он носит каштана названье, но лишь приближается время его созреванья, нам дарит каштан с ароматом осенним плоды.
И солнцу неведомо, как оно прозвано нами, но свет и тепло нам дает его жаркое пламя, и меркнет с ним рядом сияние каждой звезды.
Никто не любуется розой, расцветшей в пустыне, но роза бутон раскрывает свой в дерзкой гордыне, чтоб миру явить непреложный закон бытия.
Никто на дорожной обочине зерен не сеет, но колос и там вырастает, желтеет и спеет, и кормит в священном молчанье зерном воробья.
О, сколько, о, сколько стихов мной задумано было! И сколько в них было любви и душевного пыла!.. Но их, не написанных мною, увы, не прочтут.
Но так же, как дерево, солнце, и роза, и колос, стихи не исчезли: влился их блуждающий голос в ту Суть Несказанную, в коей они не умрут!
308
НА ПЕРЕПУТЬЕ
Говорил один странник, путь себе выбирая, — тяжкий посох дорожный стучал: «да-да-да», раздвигая кустарник, голыши разбивая; говорил один странник, путь себе выбирая:
«Я убил свою Жажду — навсегда, навсегда!
Мокнуть мне под дождем, быть мне солнцем палимым, есть клубнику в апреле иль в июле лимон, полюбить ли красавицу, быть ли ею любимым, — всё едино — хвала мудреца и мерзавца поклон.
Ничему я не предан — ни почету, ни славе, ни надежде, ни радости — это всё суета.
Лишь забвенья ищу — в придорожной канаве да истлеет мой остов без плиты и креста.
Знаю: лавры и розы одинаково бренны, сгинут сумрак ночной и сияние дня, не ищу я ни злобы, ни любви, ни измены; одного лишь прошу, о мой Бог Сокровенный: мысли ужас предвечный забери у меня!
Лишь избавь, Сокровенный, от гордыни сознанья; дай мне слиться с Тобою. Восклицаю, скорбя: пусть душа, бессловесное благоуханье, как деревья, колосья, ручьи, будет часть мирозданья и, о даре не ведая, вечно дарит себя».
309
ГЕРАКЛИТ
На всё, что вокруг, посмотри изумленно, не мысля коснуться, — как на отраженье луны, что дробится в реке полусонной; так видят себя из зеркального лона иль облачной тени по саду скольженье.
И ты убедишься, что всё — неизменно изменчиво; мир — словно клочья тумана, он формы еще не обрел, несомненно; и если ты встретиться с ним дерзновенно решишься — увидишь лишь призрак обмана.
310
ФИЛИППУ ВТОРОМУ
Не знаю, что за связь, какая сила иль аскетизма истого река твой идеал с моим через века, твою печаль с моей соединила,
но подсознаньем знаю, что светило одно и то же нам издалека путь озарило и одна рука на битву с бездной нас благословила.
Король! Ты — мой король! Ия — суров и желчен. В море скорби сокровенной мой дух затерян так же, как и твой.
Окутывает нас ночной покров безмолвия. Плоть нашу неизменно терзает рак безжалостной клешней.
311
ЕГО КАТОЛИЧЕСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ , ПОЛЮ ВЕРЛЕНУ
Для Рубена Дарио
Древний, печальный отче, царь божественных песен, маяками туманными в судьбе моей специфической блещут твой взор отрешенный—ему мир материи тесен — и силуэт благородный твоей головы сократической.
Меж двумя полюсами мы с тобой куролесим, меж душою и телом — двойной поток симпатический: то нам распутство мило, а вкус добродетели пресен, то покаянно стенаем на лире иератической.
Отче, ты наконец обрел свой путь сокровенный, к Иисусу ведущий, дай же мне, не жалея, мудрости и чистоты, человечности просветленной.
Доблестью оборони от лукавого змея, в битве яростной и ежечасной меня не покинь, чтобы нам в вечности вместе славить Христа. Аминь.
312
мы квиты
Жизнь, я тебя прославляю, свой путь завершая земной: ложных надежд не питал я, был труд не напрасен мой, и муки, что ты посылала, были заслужены мной.
И вижу я после долгих лет труда и борьбы, что сам всегда я был зодчим своей нелегкой судьбы.
Ты чашу то с медом, то с желчью давала мне выпить до дна: но разве душа не бывала то медом, то желчью полна?
А если сажал я розы — все розы цвели, как одна.
И пусть зима приходила, губя мой цветущий рай, — но ты ведь не говорила, что вечным быть должен май!
Много ночей проводил я, судьбу за жестокость кляня. Счастливых ночей не сулила ты мне, свою тайну храня...
Но были счастливые ночи — были и у меня!
Любил я и был любимым, мне солнце дарила весна.
Жизнь! Мы квиты с тобою!
Ты мне ничего не должна.
ХОСЕ ХУАН ТАБЛАДА (1871—1945)
ОНИКС
Монах, ты смотришь, как мерцает кроткий лампады свет в объятьях темноты.
А в храм уж утро брезжит сквозь решетки. Своих грехов ты рассыпаешь четки.
Я плакать бы хотел, как плачешь ты.
Святая вера дрогнула, как кроткий лампады свет в смешенье темноты и утра, что проникло сквозь решетки, и жизнь течет, как траурные четки, печальней слёз, что проливаешь ты.
В тебе играет плотское желанье, и высшей красотою ты влеком.
Ты — как любовник в рвении слепом: в тебе и страсть, и горечи дыханье, что стать могло бы огненным дождем.
Во мне угасло плотское желанье, и высшей красотой я не влеком.
Осталось в сердце спящем и слепом лишь горечи тлетворное дыханье, что стать могло бы огненным дождем.
О воин в дебрях памяти всесильной, бессмертной славы радужный посыльный!
314
Ты пал от золотого острия, покрыли лавры твой курган могильный.
О, так же умереть хотел бы я!
Храм памяти моей — во мгле всесильной. Презренного бесславия посыльный, не жду я золотого острия.
В пустой груди царит лишь мрак могильный, но лавровых венков не вижу я.
Монах, любовник, воин! Где же ныне тот след, что вел меня к моей святыне и навсегда исчез в трясине лет?
Моя надежда где? Нет и в помине.
Ни Бога, ни любви, ни стяга нет.
315
В СТИЛЕ ХОККУ
БАМБУК
Тонкий и длинный
бамбук разогнуться не может
под градом жемчужных дождинок.
ИВА
Плачет ива много лет. Полуянтарь, полузолото, полусвет.
НОЧНЫЕ БАБОЧКИ
Ночные бабочки, когда же вернете вы нагим кустам сухие листья крыльев ваших?
РЫБЫ ИГРАЮТ
Ударом солнечного золота стекло залива вдребезги расколото.
СЕРАЯ ЦАПЛЯ
У цапли серы перья серым утром, а в ясный день сверкают перламутром, как мрамор, неподвижны ввечеру и, как снежок, играют на ветру.
316
ПАВЛИН
Разодетый в пух и прах, павлин на птичнике плебейском расхаживает, как монарх.
ГУСИ
Бог весть из-за чего и не впервые тревогу гуси лапчатые бьют испачканными трубами своими.
СОЛОВЕЙ
Под горестным небом, в бреду, всю ночь соловей прославляет единственную звезду.
ЛУНА
Ночь необъятна в море сна. Как раковина — облако и как жемчужина — луна.
РАЗРЕЗАННЫЙ АРБУЗ
Смехом напоенное, стозвонное лета зрелого красное чрево.
БЕССОННИЦА
На черном шифере
выводит фосфорические цифры.
317
ИДЕОГРАММЫ
ЛИ БО
Ли Бо, что из «семерки умудренных пьяниц» блистал строкою золотой рубашки...
хашмп
7
U Jr
4*| f'
t V* 5 *
uO-*,0/!k. /
Лгг 4 ^*^4?
318
и. ЛЛ$СА***
а.гиж*4 н*
é
Ма*< Г+4М4*
319
320
tfmuvar é**o*if4 -¿¡ueuatttT' xstto си+л>* **/a /iecy,&uj«A
**9TU¿#0 6 7KU4JU J*ct
дл*1 w io ¿fercc и Wk
'шябяэс 73ae еьетЛ л*С Лнце
НО xuj&oor uac *€U*uí
j ¿u édtot» é jueujcoe spc***
мий лер-мьммгрв&яэс чешрё* orna, -теки* ибстииа. ZL Mt бо мл ífum., n&9Óuwcu-4ft как среуг мо
vtU mu миut-r -é>uc>&(, ¿аареслет
ней -utJL 5* ZetUf.
Zlkimo* ох£а***Л <U u*u яг
и*лто cu
но KU/oéúf
жемчужина ЛУНЫ
Луна, упав в пучину пауком,
серебром ткет паутину в отражении своем
А Ли Бо из бокала цедил вино а в вине не
беса свои луна искала
колдовство загадки ощущает он
вина шального нет в достатке и клонит его в сон
И где же тот, кого зовут Ли Бо? Провинции правитель ждет его
321
Чуть пьяный наконец идет поэт средь женщин милых шатаясь от игривого вина; навстречу вдруг одна красавица явилась протягивает кисть она, затем бумагу для письма, чернила, в тиши
вот пишет Ли:
луна же в этот миг мне шлет свой луч
и двое нас уже
и тень моя луне во след поет
но разве может пить луна неведомо то мне а тень - исчезнуть где-то там в далеком далеке?
Ви
на
кув
шин
со
мной, я пью
один под деревом
что
трое
НАС
ведь выпил с ними я вина,
я с ними заодно смешна же мне тоска мо когда в душе Весна
322
и. JL.
aci
JL é*U4AC. - т*мь>
м€кя , прт-ж *-€> -1*—/**«Г ✓Глэд «ve х /у;л^ ^*■»0 «0>uL ¿O ' *«J л/с уСА ^#я»»
А*
//\
>.
•АР***>
aV" *•*, % *%¥***<*• Vy«£>
rUlófÁjt ** *Сф**МО
л-алж, a*
«г
¿t /лм
C<AtifC*tO ytÉ*
XL égecJíiCU* HtÓA. сам 6ашослл**сиЬш ег/*г*Ъ фи
vuuaut... Z/mv&AtH cro
лора?* , кта S ок&еЯнул
U7 •сашхл* ло /laficéche
Я ъашка та -иона & fatjmx M*ótuA айв с. се*>* £е.влал/ оА/ПА^/
323
КИНЖАЛ
Hos
BJ 0>
о дэ x Ц-S
Ja ^ со 00 сг
X SC
страстных жал
X
О)
X
о
(D
■а
Ja
J=
CD
X
00
о
н
00
<D
-I
X
S
X
X
§
X
ч:
го
о
н
00
ч:
5
а>
324
TALON ROUGE*
y
Ж
0+
О и мое сердце кр°
о*
би ва ет
m
*
о
О
к
S
X
S
>
'К
X
X
о
да
* Красный каблучок (фр.).
325
ЗЕРКАЛО
ПОД СВЕТОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ
о
я
Jcajt
yt£*é>
2a Zcbc&/bUscr**& —jcy>GCj+crr%¿¿c*
3 2^^auM// c/í?
M J*<X>c+riX* ¿y
/W /3
И V 'Vе?
¡ge C AÍO y yx**órf H ¿tíi«é>£rr
J *<}&+*<**'
П pcc+€>tjy£d.3e
£j
g- í
Я ir -
*ус**«л*у- « мы.
<t_J /í O с/«/9 «V*7 sy90«£TV»*«s»r¿ £>C*C>
И
S>
s
o
H
s
> ЭСА/ПА-
ые£,
£ £Wtó S
^cvxi' CJ Sf r/í'
¿eAsfco^ctÁif ^ уА0Г<?К9Л;
¿//W^tWsc o ГЧО je/>*u>UM> ow- H
S * c*/>jb«,3»****>**t4*=> a
Ví /НГe/к t ^ • ««• ¿< g
2 w
и
я
Б
S
► л/»^ *+*»JO*e,S**V"—*
Ja САЛ/АГ<Гву <r / г+49. 3
Я J£»2C »sC*C&6t* !
ТВОИХ РТУТНО-АМАЛЬГАМНЫХ ВОД
326
СЛЕД
шт
нож
Ш
тш
Тяжелая плита надгробья
На танце, что как ветер дышит
СВВНЯДОВ средь звуков МУЗЫКИ
расствори-
Щ
ПАРЧА
ШЕЛК
ВУАЛЬ
перо
ЛАДАН
лась в
327
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ГАВАНЫ
'•»41
» t
* • i
'•••• В ***
' м
* I
9 !Г
S t
I
I светлее*
I женцшя
\
ч
*к**и
си
Неше
ОГНЕЙ-—
мшит слома вэглщды
'0'
!
*«^|
Вод адриатических лазурь нагретых солнцем вод моря твоего...
328
ДВОЙНОЙ НОКТЮРН
В Нью-Йорке ночь огнями слепит
Прочны решетки, зданья немы Шампанское рекой, фокстроты
След извести на стенах стылых И обернувшись в этом свете
Над черепицей молчаливой Душою каменеешь в плоти
Луна повисла кошкой белой Напоминая жену Лота
Однако ж все едино
что Нью-Йорк что Богота
Луна!..
ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС (1871—1952)
СУМЕЙ ПРОЙТИ НАД ЖИЗНЬЮ...
Сумей пройти над жизнью всех явлений неспешно, отрешенно; и ясна тебе предстанет снега белизна, вен синева и роз огонь весенний.
Пусть всё в твоей душе оставит след и глубоко, и верно, и чеканно: проникновенный монолог фонтана и горестной звезды дрожащий свет.
Пусть арфою Эола над вершиной ты, отданный ветрам на произвол, струной бы чуткою воспроизвел молитвенный напев и рык звериный.
Пусть будет чуждо сердцу твоему всё, что волнует человечье стадо; возделав душу, обретешь награду: услышишь тишину, прозришь сквозь тьму.
Пусть ты себя возлюбишь в сердце строгом, в нем заключив весь ад, все небеса, и в сердце пусть глядят твои глаза, чтоб необъятный мир постичь в немногом.
330
И пусть, оковы жизни разреша, с собою взяв весь мир, тобой творимый, услышишь ты свой стих неповторимый, где бьется жизни легкая душа.
331
ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ
...И вдруг полночное солнце во тьме полыхнуло взрывом и с гор высоких скатилось в глубины пещерных чрев. Земля ли ринулась в гибель, не совладав с порывом, иль новый мир взбунтовался, рутину орбит презрев?
Я думал, что это вспышка в моем мозгу прихотливом, что зрение обмануло, что чувства лгут, оробев, — но вещи текли сквозь стены в стремлении торопливом, и в теле твоем уснувшем я видел смерти посев.
Хотел возвестить я людям, что пробил час сокровенный, что к цели, нам неизвестной, судьба приблизила нас, что время творить из мрака лучи зари совершенной...
Но зоркое мое сердце одиноким было в тот час, и крик мой плыл над погостом без отклика во вселенной и, вопиющий в пустыне, в глухом пространстве угас.
332
СМЕРТЬ ОТ ЛЮБВИ
Любовь меня живит и убивает, и ранит сердце, и светлит сознанье, сжигает в фиолетовом сиянье и вновь мою судьбу переплавляет;
велит упасть и сильным поднимает; то стебель я, то дуб под этой дланью; дает мне песнь, что разум отнимает, и кротко учит постигать молчанье.
Не уходи — пусть длится наважденье, дай мне твоих тревог и наслажденья, не исчезай, любовь, — еще не время!
Одну тебя я призову с тоской, навеки покидая жизни бремя, — и пусть умру, сражен твоей рукой!
333
МОЙ ДРУГ — МОЛЧАНИЕ
Он, этот друг, пришел ко мне, когда я был готов в печальный час закатный от устали стенать невероятной, и он со мной остался навсегда.
Мои заботы стер он без труда и молча повелел мне: безвозвратно забыть о песнях, что слагал я складно когда-то в юные свои года.
Мы с ним бежим от гомона людского, идем тропой молчания лесного и птиц не будим... Мы идем вдвоем,
безмолвною наполненные речью, и только жизнь выходит нам навстречу послушать песни, что мы не поем.
334
ПОЭТЫ НОВЫХ ДНЕЙ
Поэты новых дней споют легко и строго божественную песнь, неведомую нам; созвездья новые, полны иной тревогой, пошлют иной удел их беспокойным снам.
Поэты новых дней пойдут своей дорогой, шагая по большим невиданным лугам; услышав нашу песнь, сочтут ее убогой, на ветер выкинут наш сон, как старый хлам.
Но будет это всё напрасно и случайно; в душе останутся и страх, и та же тайна, и прежняя тоска, и злая тишина.
Они увидят: мрак грозит навечно миру, из праха подберут заброшенную лиру, и тот же стих — наш стих — подскажет им она.
335
ТЫ ШЕЮ ЛЕБЕДЮ СВЕРНИ...
Ты шею лебедю сверни скорее.
Он — белой нотой на лазури вод, но красота его бесстыдно лжет, нет музыки в изгибе дивной шеи.
Беги из плена сумрачной аллеи на вольный воздух — там поэта ждет поэзия... Лесной невзрачный плод садового — целебней и вкуснее.
Вот — мудрая сова порой ночною летит с Олимпа. Скрыта темнотою, и только желтые глаза видны.
Ей с лебедем — куда там! — не сравниться, но раскрывает ей свои страницы таинственная книга тишины.
Хуан Хосе Арреола ПРИГОВОРЕННЫЙ
Несколько недель мне приходили областные журналы и столичные газеты, в которых неоднократно сообщалось о моей кончине.
Энрике Гонсалес Мартинес. Нелюдим. XIV, 147—148.
Когда я прочел сообщение о его смерти, меня захватило вдохновение. Я тут же задумал «Избранника богов» и сумел набросать первые три октавы. Поэзия предстала предо мной словно чистый и светлый путь, идущий от сердца в бесконечность.
На следующий день, достигнув апогея, работа прекратилась, будучи бессмысленной по сути своей. Мнимый покойник, оказавшийся не менее живым, чем я, встал на пути моего успеха.
С той поры я всегда терпел поражение в неравном бою. Только один раз на нашей единственной дуэли я смог сойтись со своим врагом лицом к лицу. Ристалище — альбом Марии Серафины, мое оружие — акростих. Соперник сломался на пятой строке. Пожелтевшие страницы хранят его неоконченное стихотворение, за которым следует мой победоносный тройной акростих.
Через десять лет после моего триумфа в областных газетах появилось сообщение о моей смерти. Как это ни прискорбно, оно соответствовало действительности. Последние десять лет я отступал с боями, стрелял с дальних рубежей все менее метко, в то время как мой соперник завоевывал себе лавры. За этот период я могу упо¬
337
ПО Qal/ 'ЗОЛа
мянуть с гордостью лишь «Свадебный сонет», посвященный Марии Серафине (небольшой компромисс между благородством и досадой), и слова школьного гимна «К прогрессу», которые ежедневно перевираются нерадивыми исполнителями.
Соперник не узнал истинного величия моего таланта, ибо судьба хранила его от всех опасностей, а его смерть была единственным условием создания мною «Избранника богов», несомненного шедевра.
Каждое утро ко мне приходят ангелы и читают стихи неутомимого соперника, чтобы я признал его величие. После чтения, прежде чем я успеваю сформулировать свое суждение, воспоминание о неоконченном акростихе в альбоме Марии Серафины заставляет меня высказать отрицательное мнение. Понурив головы, ангелы улетают на поиски новых стихов.
Это продолжается последние сорок лет. Мой скромный гроб порядком обветшал. Сырость, жучок-древото- чец и зависть разрушают его, пока я отказываю в таланте и величии поэту, который угрожает мне своим бессмертием.
ГИЛЬЕРМО ВАЛЕНСИА (1873—1943)
ЧИТАЯ СИЛЬВУ
(фрагмент)
«Любовь!» — воскликнет дама, в тиши шурша шелками, что сладострастной складкой лукаво вторят даме.
«О боль!» — поэт воскликнул. И губ раскрытых рана проклятья шлет и людям, и жизни постоянно.
11оэта стон над миром был слышен не однажды; бросается в поток он — для утоленья жажды.
Он расстается с жизнью, подобно Дездемоне, подобно нежной розе, подобно анемоне.
Отчаянье и муку вином он притупляет и восковой свечою средь мрака угасает...
Пройдя весь путь печальный и все изведав беды, так умер он — последний сын Лебедя и Леды!
339
NIHIL*
Идальго обедневший, нелепый, исхудалый — таков был дон Алонсо Кихано в тридцать лет, без мельниц-великанов, без призрачных побед, над ним не посмеялся еще двор постоялый.
До рыцарских романов охотник небывалый, в стремленье к Идеалу, своей химере вслед он в дальний путь пустился, едва настал рассвет, тщеты своих дерзаний не осознав, пожалуй.
Реальности не зная, в мечтанья погруженный, в стальной броне, с душою, страданьем изъязвленной, пересекал равнины и пыльные плато.
Моряк небес бескрайних, пловец средь океана, в конце пути земного прозревший от обмана, он, как факир-безумец, твердит одно: «Ничто!»
* Ничто (лат.).
340
ЕСТЬ В СУМЕРКАХ,
Есть в сумерках вечерних неуловимый миг, когда в тиши прозрачной природы ясен лик.
Деревьев кроны сочны, и ярки свет и цвет; как на гравюре — башни и птицы силуэт.
Пред тем, как свет исчезнет, мир тишиной объят, и легкою печалью окутан вешний сад.
Пред тем, как ночь настанет, у мрака на краю, мир Божий нам являет всю красоту свою.
Я — словно сад цветущий в сей сокровенный миг, и в мою душу, в грезы природы свет проник.
Весенние побеги несут благую весть. Благоуханье сада; незримый сад — он есть!
341
ДВЕ ГОЛОВЫ
Omnis plaga tristia cordis est et omnis malitia, nequitia mulieris.*
Екклесиаст
ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН (теза)
Нагая, дерзкая круглится грудь еврейки, и на шее белопенной блистает золото красой надменной — так на шелку мерцал бы Млечный Путь.
А губы, приоткрытые чуть-чуть, — два гиацинта в чаше незабвенной; коснувшись плоти, медом напоенной, о грусти предзакатной позабудь.
Расслабленный, поддавшись томной лени, спит Ассириец. Каплет воск, и тени полны таинственных, печальных чар...
Бесстрастным жестом нежная рука слегка скользит по кривизне клинка, во тьме готовя гибельный удар.
♦
Как тигрица из чащи, Юдифь налетела на героя кровавых и яростных сеч, высоко занесенный, дважды падает меч, отсекая главу от могучего тела.
* Всякая рана есть сердечная скорбь, и всякая низость есть женская похоть (лат.).
342
Забурлила горячая кровь, заалела,
как из амфоры треснувшей, брызнула с плеч.
Всё... забвенье... последнего сна не сберечь...
А убийца берет хладнокровно и смело
страшный плод. Гаснет пламя зениц возмущенных, от завитой брады до волос умащенных все сгущаются тени... в них таится угроза...
Лиловеет разреза кровавый гранат...
Этот черный обрубок — сладострастия клад, полуночных садов похотливая роза.
САЛОМЕЯ И ИОАНН (антитеза)
Со змеиной повадкой, с алой розой во рту, Саломея-цыганка в бурной пляске взлетает, и стучат кастаньеты, и мужчины вздыхают, погружая сердца в пламень и в темноту.
И глядят отрешенно на ее красоту, и нечистою страстью к чаровнице пылают, и томятся, и тают, и к ногам ей бросают жизни юной цветенье, зрелых дум полноту.
Даже дряхлый Тетрарх не удерживал стона; с налитым кровью взором рванулся он с трона и сказал, как в бреду, и услышали люди:
«Иудею отдам я за миг наслажденья».
А она: «Смерть пожрет все земные владенья; пусть Ессея главу принесут мне на блюде».
*
И, как в злой ураган пожелтевший листок, угодил старый царь в вихрь любви необорной, —
343
сделал знак, и невольник для казни позорной приготовил широкий и острый клинок.
А пурпурный когда заструился поток, затаили дыханье гости в зале просторной, и главу на серебряной глади узорной царь вручил Саломее, исполнив зарок.
Бесконечности свет, миновавший века, на челе, на губах и на воске виска начертал белизну утомленной кометы.
Пена белая в море предвечных скорбей, голова твоя в блюде кровавом, Ессей, легким облаком мирры душистой одета.
ХУЛИО ЭРРЕРА-и-РЕЙССИГ (1875—1910)
ДРЕВНЕЙШАЯ ЭПИТАЛАМА
Брахманским па, в языческом круженье открылось целомудренное лоно.
Изгиб пантеры и последняя препона ждут сладострастно чресел воздвиженье.
Свет факелов колышется в смятенье в такт танца баядерки, только стона апофеоза ярая колонна ждет, чтоб излиться в львином исступленье.
Твои шаги для сердца слаще злата, эпиталама, гимн небесной сферы.
Сандалии твои жрецы Цереры
внесли в алтарь души, да будет свято!
А белые слоны, как символ веры, трубят мою победу в час заката.
345
ПРИТЯЖЕНИЕ
Honi soit qui mal y pense.*
Мой пойман взгляд в ловушку: луч игривый по туфельке твоей скользит, томленье, кошачий жар, жжет плоть, но во спасенье сень дарит парус-зонт тенистой гривой.
Ногой качаю. В такт, неторопливо, по капле плоть твоя теряет противленье, снисходит от нее медоточенье лаванды нежной и карибской сливы.
Меж складок платья призрачно-дождливый струится бликами змеиных переливов вечерний свет... А взгляд твой молчаливый
торопит сладострастья исцеленье.
Тритон античный целит — в направленье тебя — с улыбкой дротик похотливый.
* Да будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (ста-
рофр.).
346
ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОЛЕЙ
Заката золото — за труд тяжелый плата. Крестьянки вешнюю вечернюю порою сидят возле домов — кто с гребнем, кто с иглою: как аккуратно, ладно ставится заплата!
Дорога. Старец-странник с палкой суковатой.
С кувшинами две девы над водой речною.
И сонный ветер гладит нежною рукою кусты, окутанные дымкой синеватой.
Вечерняя пора... И голоса всё глуше.
И вдруг — под стать маримбе — кваканье лягушек. За горизонтом — солнце, но его сиянье
вершины сонных гор еще струят далёко.
И видно, как вдали пыль вьется над дорогой, — то возвращаются домой с полей крестьяне.
347
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Господь внимает неблагую весть: свиное стадо похоть воспевает и гузла мишурою украшает.
Но Он хранит и простоту, и честь.
Блажен полет пчелы. Покой сиест истерзанное тело умащает.
Бесстыдство зла гневит, и разъяряет пустая болтовня, хула и лесть.
О Боже! Помнишь детство мира, нищий наивно возносил мольбу о пище; презренных жажду скромно утоляя,
ханжей пустил Ты под священный кров, немую жвачку днесь благословляя в ночных вертепах дремлющих коров.
348
ТЕНЬ СКОРБИ
Мычаньем переполнен двор. Дороги чернеют траурной рекой. Гробы...
Плывет с погоста горний стон трубы — раздавлен гибелью покой убогий.
Вуали тень покоит образ строгий.
Зову тебя. Слова немой мольбы не в силах изменить судьбы; судьбы не обратить у смерти на пороге.
Еще последнее прикосновенье ласкало пальцы охладевших рук, далекого вагона перестук
прервал прощальных грез уединенье; надрывный вой гудка — собачье пенье — извечный символ тягостных разлук.
ХОСЕ САНТОС ЧОКАНО (1875—1934)
МОЯ ГЕРАЛЬДИКА
Я — сын Америки, я предан ей, в легендах нахожу я вдохновенье.
Но с гамаком, висящим средь ветвей, не схож мой стих — он не для усыпленья.
Я — инка. Солнце в золоте лучей — мой властелин, к нему — мои моленья. Испанец — я. Где золото? Скорей! — и земли открываю каждый день я.
В себе две расы ощущаю вновь: индейца — сердце, но испанца — кровь. На двух материках моя тропинка.
Не сотвори меня Поэтом Бог, то я Конкистадором стать бы мог или правителем верховным — Инка.
350
АНТИЛЬСКИЙ ВЕЧЕР
Как после недуга, в полях тростника гуляют бескровные блики захода. Волокна дождя теребит непогода, и даль, как в нечетком бинокле, зыбка.
Багровыми трубами у озерка походит глухая громада завода на судно, где склянки хоронят кого-то и все заждались отправного гудка.
Но вот уже пальмовый веер открытый ажурным каркасом сквозит на свету... Бегут облака... Зазвенели москиты...
И полнится даль захолустным дансоном, который щемяще плывет в темноту лоскутным туманом по заводям сонным.
351
ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРИПТИХ
I
КАУПОЛИКАН
Не стронув с места кряжа, налитого железом, касики отступили: — Кто следом? — И, как гром:
— Я! — раскатилось эхо в ответ, и Ахиллесом Кауполикан явился в урочище лесном.
Он дрогнул, но не рухнул под непомерным весом, и, взяв его на плечи в движении одном, три дня по пыльным долам и по хребтам безлесым шагал, шагал, шагал он — и позабылся сном.
Он шел, не просыпаясь, и в этой вещей дреме увидел, что распят он, что род его — в яреме, усилия — напрасны и мир иным не стал.
Так третий вечер минул, и, тяжкий ствол подъемля, он вбил его с размаха до половины в землю, как будто воздвигая себе же пьедестал.
II
КУАУ ТЕМОК
Он был велик и скорбен. Набросившись толпою, противник бледнолицый врасплох его застиг, и не успел владыка восстать, готовый к бою, как щит его мушкеты изрешетили вмиг.
Связали. И с улыбкой, недоброй и скупою, впервые отозвался его угрюмый лик.
— Где золото? — взвопили. Но, нерушимо стоя, он подавлял молчаньем ничтожный этот крик.
352
Взялись пытать. И кто-то из свиты властелина посетовал на муки. Герой взглянул орлино и обронил сурово: — Не розы подо мной! —
и вновь умолк бесстрастно. А под его стопами всё жарче клокотало и вспыхивало пламя, свиваясь языками как бы в мольбе немой.
III
ОЛЬЯНТА
В нем ярый дух вскипает, с монаршей волей споря; он точит гнев и меч свой, чтоб отомстить в бою, и, ни единым стоном не выдавая горя, клянется морем крови залить любовь свою.
Взобравшись по утесам на снежное нагорье, он кондором гнездится у кручи на краю; и десять лет, что длится его противоборье, влачатся для принцессы веками десятью.
Дочь Инки полюбил он, скрываясь от владыки; монарх узнал об этом — и грянул гром великий, принцессу заточили — и паладин восстал.
Явился новый Инка и чтил его как брата.
И после столькой крови, здесь пролитой когда-то, остался лишь багрянец на льдистом гребне скал.
353
КАОБА
Преображен воздушным и точеным узором колдовского образца, твой ствол из-под искусного резца выходит чудом, в яви воплощенным:
покойной зыбкою — новорожденным; последним кровом — праху мертвеца; любовным ложем, портиком дворца и горделивым королевским троном.
А в запахе, дурманящем и пряном, что вьется над лесиною сырой, — сама душа высокогорной чащи;
и не в одном чертоге чужестранном сквозь позолоту чудится порой зеленых кряжей аромат пьянящий...
354
МАИС
Горит на солнцепеке, озирая долину с высоты своей зеленой, как ставленник испанцев, утвержденный над злаками захваченного края.
Под ветром раздвигается тугая листва его, и в зелени вощеной литой початок, полднем золоченный, как бы смеется, зернами сверкая.
А стебель, между листьями укрытый, рождает мысль о воре, что украдкой зажал в кулак бумажник раздобытый:
так схож с рукой он, юркою и хваткой, подняв над пашней кошелек набитый налившегося золотом початка.
355
СПЯЩИЙ КАЙМАН
Стволом, который бурею примчало, лежит кайман на берегу пустом: громада с ужасающим хвостом; бездонный зев и позвонки — что скалы.
Дрожат и брезжут гребень и зерцало, и на мысу, лучами залитом, он дремлет в ореоле золотом чудовищем из тяжкого металла.
Застыв над вечереющей рекой подобием языческого бога в железных кольцах радужной брони —
он словно принц во власти колдовской, что узником подводного чертога томится нескончаемые дни.
356
МАГНОЛИЯ
В зеленом сумраке, где аромат и пенье, цветет магнолия, воздушна и нежна, как прядка белая овечьего руна и рябь озерная в курчавящейся пене.
Античной классики искусное творенье, из глуби мраморной резцом извлечена, — как грудь красавицы, белеется она, живой округлостью сквозя из полутени.
Слеза застывшая, жемчужина морская, — луной обласкана, чья сила колдовская чарует горлинку, могильным вея сном, —
светясь так трепетно, так чисто и так хрупко, она сама уже — как спящая голубка и луч, закованный в кристалле ледяном.
357
ОСЕННЯЯ НОЧЬ
Клубится ночь. Остатки серебра роняет месяц на глубоководье, лучину света пряча до утра, как в коконе, в ночи и непогоде.
Уходит месяц в гущу темноты.
Врывается дыханье грозовое, и кружит вихрь и теребит кусты, треща корой и хлопая листвою.
Закапало. Прохладны и легки, дождинки низбегают по бутонам, поблекшие лаская лепестки слезами звезд, угасших над затоном.
Тугая капля дрогнет на листе,
свернет в ложбинку и, вильнув по кромке,
на миг оцепенеет в высоте,
нальется, прянет — и слетит в потемки...
О, перекатывающийся гуд и за высокой музыкою бури спешащие дождинки, что бегут по лиственной резной клавиатуре!
Такой нас вдруг охватывает страх, что чудится за пеленой глухою любой листок, дрожащий на ветвях, манящей в бездну черною рукою!
358
КОЛОКОЛ ДОЛОРЕС
Гонкий колокол поддужный, чей веселый и воздушный
перелив скандальным гамом взбудораживает долы, что укутал саван вьюжный; звонкий колокол венчальный над счастливою четою,
что святым обетом вторит музыкою беспечальной
и губам дарует губы земляникой налитою;
грозный колокол набатный,
чьи раскаты полуночными часами
возвещают, голося тысячекратно,
гнев и кару, смерть и горе, кровь и пламя;
гулкий колокол загробный,
что беспомощно исходит в горьком плаче
над судьбою, посмеявшеюся злобно,
и на безучастный месяц завывает по-собачьи, —
)то Звонница Поэта в сокровенности певучей, но победно и широко отклики ее созвучий глушит Колокол могучий,
детской зыбкою колышась и гремя, как речь пророка...
Колокол освобожденья, празднующий пробужденье люда, сбившего оковы, и рожденье жизни новой!
Что зычней, чем звуки эти?!
В них — триумф и ликованье,
в них — взорвавшийся финалом рокот оркестровой меди, в них — слиянье тысяч воплей в общий крик негодованья. В крик единый, чьи раскаты
торжествующей лавиной
359
захлестнули высь когда-то, над металлом пенясь валом,
что клокочет и сегодня, той же яростью объятый...
Это Колокол Долорес, чьи удары гулкой меди,
как из рога изобилья, рушатся, ярясь и вторясь, вихрем огненных соцветий.
Это Колокол восстанья амфорою, из укрома, отозвался на гаданье, —
Колокол, что запрокинут чашею во славу грома!
Он не молкнет, как в соборе речь молитвенная, вторя праздничным ладам, плывущим с горней высоты — к живущим; он бушует, как с амвона проповедник исступленный, возмущением, текущим от живущих — к горним кущам...
Столько жертвованных перстней сплавилось в его
металле,
и знатнейшие из знати
горделивыми клинками эхо звонкое пытали,
ударяя по металлу крестовиной рукояти;
и такою чистотою
серебристо-золотою
откликалась медь раструба, замерев на долгой ноте, — голубиными крылами чуть задетая в полете!..
Это — длань, что побеждает силы мрака духом сущим, длань, что властью обладает над прошедшим и грядущим, длань святая, что, сплетая
в гневе пальцы на канате,
крепнет, в колокол ударив, чтоб вещала медь литая
360
норный трепет новой жизни в торжествующем раскате; • го сызнова сегодня, как порою беспросветной, миру подано знаменье, и во тьме глухой пещеры мод незримою рукою дрогнул Колокол заветный, мерным эхом отзываясь пастырю грядущей веры...
Мег! Сегодня медь литую пробуждает, негодуя, нс могучая десница: ю Орел, что шевелится на гербе чеканной меди и кружится, н змея метя.
Небо крыльями объемля, камнем падает на землю, чтоб в сверкающей короне и с достоинством державным, как на троне,
сесть на Колоколе славном.
Крылья веером расправил, на мгновенье каменея и царственном своем величье, наклонился над канатом и, схватив его, как змея, взмыл с трепещущей добычей...
И, предсказывая въяве новой жизни утвержденье, над бунтующим народом загремел в победном кличе Колокол Освобожденья!
361
СОН КОНДОРА
Под небом Анд, где звезд сияют жала, на пике горном средь немых снегов сидит он, повелитель облаков, вперив глаза в закат кроваво-алый.
Его стальная грудь белей опала, в провалах глаз — сверкание зрачков, играют блеском боевых клинков кривых когтей ацтекские кинжалы.
Один, как перст, глядит он хмуро ввысь, над ним туманы тихо поднялись и бахромой серебряной повисли,
и в них он тонет, крыльями шурша: так тонет в море накативших мыслей усталая и сирая душа.
362
КЕНА
Нет, не сестра она лесной свирели, баюкавшей сатиров и дриад! Предсмертным плачем голубя звучат ее мелодий жалобные трели.
То раня слух, то слышный еле-еле, ее протяжный и щемящий лад плывет над спящей пуной наугад, немые Анды тихо колыбеля.
Роняя в ночь рыданий жемчуга, она поет, стыдлива и строга, и звук ее так горестен и светел,
что не понять в томительной тиши, душа ли стонет, обратившись в ветер, иль ветер стонет голосом души.
363
ПЕСНЯ НА ГОРНОЙ ДОРОГЕ
Чернела ночная дорога, и всполохи молний взрывали кромешную темень в Андах, я ехал змеящейся тропкой на жеребце норовистом.
Копыта стучали дробно, стеклянно сверкали брызги разметанных сонных луж, гудели свирепым оркестром мильоны жужжащих мошек...
Внезапно на фоне сельвы, задумчивой, темно-синей, взметнулась горстка огней искрящимся роем осиным.
Гостиница! В нетерпенье я лошадь хлыстом ударил, она встрепенулась и воздух пронзила приветливым ржаньем.
А сельва, как будто поняв, в чем дело, ночной концерт оборвала и словно похолодела.
И тут чей-то женский голос, щемящий, чистый и низкий, ко мне долетел внезапно из этой гостиницы близкой.
Женщина пела. Мелодия, медлительная и простая, лилась протяжно, как вздох...
Казалось, что этой песне нет ни конца, ни края.
Дремали колючие горы в ночной тишине горячей,
364
а я все слушал, как льется напев безыскусно-бродячий, как будто из жизни другой звучала та песня простая, и я натянул поводья, слова разобрать пытаясь.
«Мужчины приходят ночью, утром от нас уходят,..»
Другой, тоже женский голос, сливаясь с первым в дуэт, запел тоскливо и нежно, заканчивая куплет:
«Любовь — лишь привал минутный на темной земной дороге».
Затем повторили вместе с горечью и тревогой:
«Все к нам приходят ночью, утром от нас уходят...»
Тогда я спешился
и отдохнуть прилег
на бережке какого-то болотца,
а из гостиницы звучала эта песня,
томила слух, усталость навалилась,
и я, закрыв глаза,
уснул, ее напевом убаюкан...
С тех пор, кружа по диким тропам сельвы, я не ищу покоя на привалах, а сплю под звездным и открытым небом — ведь тот напев, щемящий, безыскусный, звучит во мне и память бередит:
«Мужчины приходят ночью, утром от нас уходят;
Любовь — лишь привал минутный на темной земной дороге».
КАРЛОС ПЕСОА ВЕЛИС (1879—1908)
НИЧЕГО
Этот малый несчастный частенько бродил близ селенья большого, где я тогда жил. Молодой, худощавый, убого одетый, вечно в землю глядел он — должно быть, отпетый. Раз зимою охотники с песнями шли, его тело в ручье придорожном нашли рядом с садом моим... Придержали собак, бедолагу достали. При нем из бумаг не нашлось ничего... Ну а сторож ночной, привлеченный к допросу дежурным судьей, заявил, что покойный — ему незнакомец, и соседи туда же: дон Пинто, дон Гомес. Проходившая мимо девица сказала: «Сумасшедший бродяга, и ел слишком мало!» Острослов деревенский, разинувши рот, хохотал до упаду: «Ну что за народ!»
Вот могильщик закончил свою работенку, сигаретку свернул и надвинул шляпенку.
Так землицей с лопаты проводили его, и никто, и никто не сказал ничего.
366
ВЕЧЕР В БОЛЬНИЦЕ
Мелкий дождик идет над дорогой, от серых капель — в глазах темно, вместе с дождем приходит тревога, смотрит в окно.
Кроме меня — никого в палате; боль и тоска сдавили мне грудь. Как избежать их крепких объятий? Надо заснуть...
Но и во сне, во тьме его черной, дождь продолжает идти всё равно; я просыпаюсь — дождик упорно смотрит в окно.
Не заглушить мне боль и тревогу, не увидать за дождем зарю; на исчезающую дорогу молча смотрю.
ХОСЕ МАРИА ЭГУРЕН (1882—1942)
КАРМИННЫЕ КОРОЛИ
Розы зари распустились — два короля карминных золото копий скрестили.
Радужны перелески, рдеют холмы и рощи в нежно-пурпурном блеске.
Даль золотисто-янтарна: там королевские соколы бьются жарко и яро.
Свет разлился вечерний — чертят разгневанно небо их смоляные тени.
Ночь опустилась в долину — бьются с чернильной мглою два короля карминных.
368
ВЕЧЕРНИЕ БАЛКОНЫ
I орят вечерами балконы в мерцанье желто-латунном, гам девушки громко смеются, мечтательницы и
щебетуньи,
балконы, повитые дымкой, в гвоздиках и розах
карминных,
гам девушки всё мечтают о рыцарях и паладинах,
балконы, чьи стекла сияют в закатных златистых струях, оттуда школьницы робко влюбленным шлют поцелуи,
о, как печальны балконы, глядящие в сумрак мая, — но свету звезды погасшей там плачет дева святая.
Дрожат дубов очертанья на стеклах других балконов, гам чахнут надежды юных, там сердце исходит стоном,
гам влажная темень, нагрянув в свой час глухой и
урочный,
сквозь вязь решетки увидит недужный цветок
полночный.
Но есть балкон мавританский над озером светлооким, о, как бередит он память о веснах моих далеких,
в ту пору в сребристом свете мой герб горделиво реял, на нем красовались якорь и корабельные реи,
курился туман янтарный, играя отливом бледным, озерная дева душу баюкала сном волшебным,
любовь под золой былого всё тлеет в глуби бездонной, когда пламенеют розой вечерние те балконы!
369
ОЛ Qalr 1ЙЛП
ДУБКИ
Возле дороги, у самой реки, плакали тихо, по-детски дубки,
свежий покой с облаками деля, в свете жумчужном дремали поля,
сказка волшебная грезилась мне в утренней розовопенной волне,
у ветряка, над кипеньем садов, чудились смех и хорал голосов,
в зелени влажной далеких маслин мнился мне томный призыв окарин,
тишь полевая да млечный туман в воздухе стлалися, как фимиам...
А у дороги, у самой реки, плакали тихо, по-детски дубки.
370
САПСАНЫ
Покинув скалы в плащах тумана, на крыльях алых летят сапсаны.
Они зобасты и горделивы, их тени сизы, темней оливы.
Их клювы кривы, острей булата, а крик зловещий страшит пернатых.
Чего им надо — непостижимо! Парят над речкой, и снова — мимо
зеленых пастбищ, болот и кочек, селений сирых, глухих урочищ.
Всего милей им уединенье: столбы, руины средь запустенья.
Там они дремлют в вечернем ветре, непостижимые посланцы смерти.
371
Горит их перьев великолепье, они — как тени седых столетий!
372
ШЕСТВИЕ
Лентой увядших цветов — о, как бескровны их лица! — меж разноцветных домов шествие плавно змеится.
Шелест упругих шелков цвета зари и печали; встретят ночных пришлецов мглою повитые дали.
Тяжек их шаг и суров, в страхе распахнуты очи, мертвых ли сумрачный зов манит их вновь и морочит?
Ночи густеет покров, тает людей вереница...
Ждут их, как песни без слов, инков державных гробницы.
373
СВЕРКНУВШАЯ ИСКРА
Тьма
выкупалась в песке. Одна, две — призрачные стрекозы...
Птицы дыма улетают в сумрак лесов.
Середина века, на белой границе мы ожидаем ночь.
В портике — запах водорослей последнего моря.
И треугольники смеются во тьме.
ЭВАРИСТО КАРРИЕГО (1883—1912)
ДОНЬЕ ЛЕОНОР АСЕВЕДО ДЕ БОРХЕС
С тобой твой сын, — еще он мал пока, но он твои надежды оправдает, на голове своей он ощущает тревожный груз лаврового венка.
375
ТВОЯ ТАЙНА
Всё забыто тобой... Пианино закрыто, ты давно уже клавиш его не касалась.
И на нем — твой дневник, где осталась частица твоей жизни: всё то, что столь важным казалось.
Мир души твоей тайный. В него ненароком я проник, но его никому не открою, ты не бойся, никто никогда не узнает, что любовь ко мне властно владела тобою.
Ты — в раздумьях иль грезах... Невидяще смотришь... Никому твоя тайна не станет известна.
Я закрыл твой дневник. Он безмолвен навеки.
Всё забыто тобою, чужая невеста...
РИКАРДО МИРО (1883—1940)
ПОСЛЕДНЯЯ ЧАЙКА
Колеблясь бахромою покрывала, что ткет закат из облачного дыма, мелькнули чайки и промчались мимо к безвестным взморьям за полоской алой.
И только эта тенью запоздалой осиротело и неутомимо ныряет в клочьях сумрачных, гонима тоской по стае, что уже пропала.
Затеплилась звезда вечеровая и вслед за чайкой, мчащейся далёко, дозором тронулась, не отставая...
Вся жизнь моя: без отдыха и срока, подобно ей, отбившейся от стаи, спешить в ночи дорогой одинокой.
377
ПОРТОБЕЛО
Древний Портобело, повесть из гранита, сад воспоминаний! В вещем забытьи вековечным лавром, город именитый, дремлют под плющом столетия твои.
Отрешен и полон мысли величавой сон безлюдных улиц, где любая пядь — старины умершей темная печать и багряный отсвет непомеркшей славы!
Где былые чинность и великолепье, роскоши испанской времена, когда из Державы Солнца лебединой цепью с золотом тянулись гордые суда?
Ныне же, забытый бурею жестокой, — чудом уцелев над бухтой колдовской, — высится обломок черного флагштока, стиснутый в кулак трагической рукой.
О, зубчатый камень стен твоих старинных! Не сдается року их застывший строй, но теперь лишь птицы, приютясь в руинах, это запустенье оживят порой.
Давней паутиной затканы бойницы; отгремев над морем, батареи спят; ржавым и забытым, им сегодня снится долгожданный рокот новых канонад.
По ночам безлунным твой покой унылый призраки тревожат смутною толпою, и несется шепот, смешанный с мольбою, а откуда? — бог весть, из какой могилы...
378
Но лишь заиграют в полночь новолунья перламутр и месяц, как метнется эхо музыки и песен, говора и смеха на крыле у бриза по твоей лагуне.
Славный Портобело, древняя твердыня! Ты стоишь цветущим лавром вековым, с бухтою зеркальной говоря поныне обо всем, что вам лишь ведомо одним.
Что твоей судьбы алей и несказанней, жизни твоей краткой горше и пышней?! Городом легенды и воспоминаний, и любви ты будешь до скончанья дней!
379
ОТЧИЗНА
Далекая полоска отеческого края,
где солнце горячее и ярче небосвод, —
как в крохотной ракушке шумит волна морская,
напев твой колыбельный в душе моей живет.
Расставшийся с тобою, к тебе тяну я руки, страшась, что нет обратной дороги кораблю...
Не испытав судьбою ниспосланной разлуки, не знал бы я, наверно, что так тебя люблю!
Отчизна — это память... Осколки от былого, всё, что в тряпицах горя или любви хранят: дремотный шорох пальмы, напев, звучащий снова, отцветший, опустелый и облетевший сад...
Отчизна — это с детства исхоженные склоны, где что ни день спешил ты петляющей тропой к тем падубам заветным, чьи вековые кроны о временах минувших беседуют с тобой.
Что роскошь здешних башен, где меркнет луч заката на золоченом шпиле в чужой голубизне?
Мне нужен ствол корявый, где вырезана дата, — там губ твоих коснулся, там столько снилось мне!
Мои родные башни со стрелкой обветшалой, как я теперь тоскую, про вашу вспомнив медь! Великолепных башен я повидал немало, и столько надо мною колоколов звучало, но кто из них сумел бы, как вы, рыдать и петь?!
Отчизна — это память... Осколки от былого, всё, что в тряпицах горя или любви хранят: дремотный шорох пальмы, напев, звучащий снова, отцветший, опустелый и облетевший сад.
380
Далекая полоска, земля отчизны милой, в тени под нашим стягом ты можешь скрыться вся! Ты так мала, наверно, что грудь тебя вместила, на долгую разлуку с собою унося!
ДЕЛЬМИРА АГУСТИНИ (1886—1914)
НЕВЫРАЗИМОЕ
Да, скоро я умру, и я умру так странно: меня не жизнь, не смерть и не любовь убьет, но мысль меня убьет, немая, словно рана... Знакома ли вам боль, которую несет
мысль непомерная, что гложет неустанно и плоть и душу вам, но чей не зреет плод?
Вам сердце жжет звезда, что гаснет безымянной и, мстя, сжигает вас, но света не дает?
Голгофа вечная! Нести в себе всё время бесплодно-цепкое, губительное семя, нутро мне рвущее безжалостным клыком!
Но как от рук Христа ждут чуда воскрешенья, так жду я: вдруг дождусь я чуда озаренья, коль семя прорастет невиданным цветком!
382
ХИЩНИЦА ЛЮБВИ
Я — хищница любви: терзала я сердца орла и голубя, и тигра, и тельца, пленяло всё меня, желание дразня, но телом и душой я от любви устала...
Как вдруг властитель Рима с пьедестала прекрасным ликом ослепил меня.
Страсть, к статуе с восторгом устремясь, по ней плющом сверкающим взвилась, прильнула к императорской груди.
И к сердцу мраморному я воззвала, но статуя презрительно молчала, во что-то вглядываясь впереди.
Навеки в мрамор, в нем укоренясь, плющом кровоточащим страсть впилась.
И в сердце статуи и ночью я и днем вгрызаюсь, — в нем же нет ни крови, ни биенья... В добыче высшей нет мне наслажденья!
Оно ни плоть, ни мрамор — звездный ком...
Но страсть сверхчеловеческая в нем!
383
НОВЫЙ РОД
Будь я твой поводырь, Эрос, в царстве твоем, я бы властью твоею слепой повелела, чтобы тело любимого пало огнем на мое среди роз распростертое тело.
Я нектаром его опою, чтобы в нем страсть, как ястребов стая, кружила и злела, чтоб навстречу тем ястребам в теле моем стая розово-белых голубок взлетела.
И, как змеи, пусть руки его обовьют
мой податливый стебель... И с губ моих пью г
губы мед мой, что я для него собирала...
Жду, как сева горячая ждет борозда: будет брошено семя в меня, и тогда роду светло-безумному дам я начало!
384
НЕУГАСИМЫЕ
Глубок твой сон: тебя ничто не пробудит, но мертвый, как живой, твой взор всегда открыт, и мертвых, как живых, твоих зрачков магнит вечно сияющий ночь скорби мне явила под покрывалом звезд, под кружевом луны...
В них, как в лагуне, я пью воду тишины, в них глубина, покой, магическая сила, — и в каждом мнится мне постель или могила.
385
ЛЕБЕДЬ
В парке смотрит голубое око, отражая небо голубое, — озеро прозрачное такое, что порой, мне чудится, я вижу: на зеркальной, трепетной странице, отразившись, мысль моя искрится.
На воде, цветком раскрывшись белым, озера душа живая — лебедь: смотрит человечьими глазами, словно принц, изящно-величавый, крылья — белой лилии белее, клюв — как пламень, скорбно-гордой шеи царственный изгиб; он — воплощенье белизны и нежности, он — лебедь!
От его движений величавых веет колдовским очарованьем: спрятанная в лилию гвоздика, пахнущая тайной и призывом...
Белых крыльев взмах меня смущает, словно чьи-то жаркие объятья...
Клюв его горит в моих ладонях, как ничьи уста не пламенели, голова его ко мне склонилась с нежностью, неведомой досель мне; кто еще так сострадал, внимая горестям моим, моим надеждам? — нахожу я в сердце лебедином больше нежности, чем в человечьем...
Как рубин, сверкающий в короне, клюв его ко мне влечется жадно, и рубиновый горячий отсвет
386
полон сокровенного желанья.
Воду пьет он из моих ладоней, в клюве огненном вода пылает, и всем телом к лебедю тянусь я, и меня сжигает этот пламень.
Днем я с ним не расстаюсь, и часто вижу я во сне его ночами...
И порой мне чудится, что лебедь со своими быстрыми крылами, странным, словно человечьим взором, с клювом, опаляющим, как пламень, он, скользящий по озерной глади, — мой возлюбленный, мой долгожданный.
К озеру иду я голубому,
лебедя зову, с ним говорю я,
мне в ответ молчанье, словно роза,
расцветает в лебедином клюве,
но без слов его мне внятен отклик,
мы без слов с ним говорим друг с другом...
И порой я вся — душа сплошная, а порой я вся — сплошное тело...
Мне на грудь склонившись, застывает, словно мертвый, белоснежный лебедь...
На отзывчивой, зеркальной глади озера, прозрачного такого, что на нем, как на листе бумаги, вижу мысль свою запечатленной; белый лебедь, словно красный пламень, и, как смерть, бледна я и безмолвна.
387
МЕЧТА О ЛЮБВИ
Была в мечте моей вначале страсть и сила: как шумный водопад, она во мне бурлила, как в бурю океан, безумием больна, сметала жизнь мою, как ураган, она.
Потом мечта моя поникла, как светило, чья предзакатная глава воспалена улыбкой огненной, но, как мольба, грустна улыбка: всю печаль в ней солнце отразило.
Теперь в мечте моей — восторг, печаль и смех, все сумраки земли, цветенье радуг всех; как идол, хрупкая, сильна, как Божье имя,
над жизнью властвуя, встает мечта моя: и поцелуй горит, свой аромат тая в цветке, чьи лепестки оборваны двоими.
388
ВДОХНОВЕНИЕ ПРОТИВ СМЕРТИ
О смерть-императрица, когда явиться
мне, раненной невидимым ударом, к тебе придется в мрачную темницу с моим ничтожным и волшебным даром, чтоб слить в твой кубок счастье и потери, — задуешь свечи ты и все затворишь двери.
В сокровищах моих
среди алмазов и топазов золотых,
рубинов красных, как растравленная рана,
звезды лучится кокон голубой:
он должен свет вернуть глазам, что слишком рано
забыли жизнь, плененные тобой.
РИКАРДО ГУИРАЛЬДЕС (1886—1927)
ПОКОЙ
Вечер, вечер, уже наступает вечер.
Сонный, сонный,
в покой погруженный,
он идет от закатного солнца,
словно взор, устремленный во тьму колодца.
390
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Млечный Путь. На гравюре небесной ты дорогой лежишь — не известной никому из людей.
Над кружащейся нашей Землею изогнулся огромной дугою, ворожа звездной пылью своей.
И когда среди мрака ночного ты сверкаешь, даруя нам снова чистый свет, —
свято хочется верить опять нам, что твоим безграничным объятьем мир согрет.
Всем приносишь ты отдохновенье, рассыпая звезд веронал.
Дай-то бог, чтобы не иссякал твой поток неземного свеченья.
391
ПАМПА
Из двух твоих гласных «а» — вторая распахнута и бесконечность. Две твои «п» с удвоенной силой ритмику повторяют твою. А серединная «м» соединяет губы и нежном союзе.
Имя твое для меня — словно молитва, словно видение солнца, что скачет с востока на запад на хребте твоем, словно магическое заклинание, создающее мир более просторный, чем сам я могу осознать.
Каждое утро я иду на встречу с тобой вместе с солн цем рассвета. Каждый вечер я оплакиваю тебя вместе с кровоточащим солнцем.
И под лазурной слезой, что рождается с наступлением ночи, я привстаю на цыпочки над твоей безмятежной равниной — я хочу стать антенной, способною уловить звездное слово, которым небо венчает тебя.
392
* * *
I осподи, к небесам я вздымаю руки.
( гыд человеческий обжигает тело мое.
Слова вражды и обиды были, мне кажется, сказаны также и мною.
Вина любого из нас — это вина всех нас. Можно ли не страдать? И я сознаю, что я должен:
11ереносить страданья, которые Ты посылаешь.
С неколебимым спокойствием принимать всё, что меня унижает.
И не судить других, а стараться избавиться от своих пороков.
И если вздымаю руки я к небесам, а сам низкие свершаю дела, то пусть мне карою станет забвенье.
393
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Боже!
Я пишу, защищенный Тобою.
Рот мой настолько мал, что невольно он уменьшает всю ту любовь, которою Ты велик безгранично.
Твое слово во мне становится крохотным, но сам я, благодаря Тебе, становлюсь великаном.
Жалкое чадо Твое, я, страдая, стремлюсь превзойти себя самого, и душа моя бродит по миру фраз, словно слепец, несущий в себе Твой свет.
Дай мне заповеди Твои, чтобы мог я расти и мог заслужить несомненное право назвать имя Твое.
РАМОН ЛОПЕС ВЕЛАРДЕ (1888—1921)
АННА ПАВЛОВА
Ножки у крошки- девицы — на бис!
Им подивиться могла бы Тайс.
Ножки
пастушки,
ножки
ундины;
вы — две подружки, что вечно едины.
Ножки:
и радость, и ликованье.
О скорой смерти напоминанье.
Ножки: мгновенье — как откровенье.
Богоявленье и погребенье.
Ножкою правой —
395
на милосердие право;
ножкою
левой —
право быть королевой.
Ножки
от бедер и до ступней; сердце колотится всё сильней.
Ножки — как стрелки точных часов, как непонятность таинственных слов.
Нами владей,
чудная, с очарованьем кокетливых фей. Ты
и смущаешь и дразнишь, весталка.
Если б фиалка ноги
приобрести пожелала, только твои
у Творца бы выпрашивать стала.
Сердце балета
бесспорно пронзаешь иглою.
И на пуантах летишь над планетой неуловимою стрекозою.
Ты вызываешь всегда восхищенье поэта, ибо, поверь, говорит с нами Бог на языке твоих ног!
396
НЕЖНАЯ РОДИНА
(фрагмент)
ПРОЛОГ
Мой стих нисколько не привык греметь, он был под стать салонным разговорам. Но вот я выхожу на людный форум, и в голосе моем — литавров медь.
Я, нежный тенор, превратился в баса: поэму я сложил, дождавшись часа.
Хочу теперь, страна моя родная, я переплыть тебя, как океан, и пусть примером будет мне шуан, что греб ружьем, Ла-Манш пересекая.
Здесь нужен слог эпического сказа: ты, родина, прекраснее алмаза.
Позволь, — к тебе я обращаю речь, — лесной мелодией тебя облечь, ведь мне она с младенчества знакома: железных топоров ритмичный стук, вскрик девушки и смех ее подруг, и птичий свист внутри простого дома.
АКТ ПЕРВЫЙ
Смотри: ты вся в маисовых полях, под ними золотые кладовые, а в небе крыльев беспощадный взмах, и попугаи — молнии живые.
Дарил тебе коров дитя Христос, а дьявол нефть пахучую принес.
397
О родина! Здесь время над столицей летит вовсю стремительною птицей, в провинции течет себе лениво, и каждый час сравним с волной прилива: приходит мерно и неторопливо.
Ты злым врагом изранена стократ.
На ситце нитка бус — вот твой наряд.
Хотя твои урезаны просторы,
им края нет. Леса, поля и горы —
сквозь них ползет игрушкой поезд скорый.
На станциях, где гомон без конца, глаза твои с индейского лица глядят — и ширью полнятся сердца.
Кто, милую обнявши ночью тихой, со сладкой дрожью глядя на нее, не восторгался огненной шутихой, пугающей окрестное зверье?
О родина! Твои задорны пляски, где царствуют немыслимые краски; к твоей груди доверчиво прильнет душа, изнемогая от невзгод; любитель искрометного веселья, тебе дары приносит мой народ, и отвечаешь ты, щедроты сея.
Комок твоей извечно скудной глины ценнее, чем топазы и рубины.
А выйдем спозаранку в переулок — как воздух там невероятно гулок, как опьяняет запах свежих булок!
Рекой молочной мы тебя считаем, затем, чуть подрастя, — компотным раем, и вот ты вся, прекрасная на диво: запаслива, скромна, птицелюбива.
398
Твой поцелуй излечит нас в тоске, зажегшись, словно свечка на песке, кунжутным семенем на языке.
И наконец — твой гром! Да будут святы вовек его всесильные раскаты!
Он начинает буйный разговор, безумьем поражая цепи гор, окрашивая щеки женщин гордых, больных леча и воскрешая мертвых. Порой он жутче лязганья костей — скрежещет так, что устрашит чертей, и разрушает с легкостью всегдашней строения богов над черной пашней.
В нем прошлое и будущее в нем: мгновенье каждое объемлет гром, и прозреваю я в грозе нередко моей судьбы немолчную рулетку.
АЛЬФОНСИНА СТОРНИ (1892—1938)
СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К РУБЕНУ ДАРИО
Уснули книги твои в ночной тишине лесной.
Другие книги теперь, не скрою, меня манят, иной картины цвета, иных садов аромат.
Языческих гимнов твоих я не пою под луной.
Отныне по нраву мне — волчицы зазывный вой, язык без всяких прикрас — ночных кипарисов ряд, прозрачный отточенный стиль — прохладный цветущий
сад,
невыдуманный сюжет — волненья любви земной.
Случайно книгу твою взяла я в руки сейчас,
уже от первой строки не отвести мне глаз,
как будто душистый мед — у жаждущих губ моих.
Так сладко — как в первый раз! — вернуться к прежней
любви;
наверное, растворен от века в нашей крови весенний, яркий, цветной, твой вдохновенный стих.
400
ВОСПОМИНАНИЕ
Я помню кордовских предгорий силуэт, покой души, лишь сладостью объятой, прогулки по лугам, заросшим мятой, беспечность дней, небес слепящий свет.
Ветвей акации душистый перебор!
С родными гроздья звезд над гамаками мы доставали по ночам руками.
Бренчало танго. О любви шел разговор.
Все вместе возвращались вечерами.
Холмы топорщились верблюжьими горбами. Мы были молоды и — большинство — красивы.
И распевали, и шагали в ногу.
Была весна. И с неба на дорогу луна струила света переливы.
401
26 Зек. 3646
СОЛНЦЕ АМЕРИКИ
Закрыты окна спальни, я блуждаю по брегу сновиденья и ловлю старинных рыб американских мифов, и открывает душу мне коралл.
(Вот человек с огромной головой, он — громовержец, но сейчас тоскует по глине, из которой существо живое должен сотворить впервые.)
Сквозь щель в окне неслышно протянулся луч солнечный горячею рукой, и сна, коварный, он меня лишил.
И вот уже свет солнечный стучит снаружи в окна спальни — он явился, и Новый Свет явился вместе с ним.
402
Я ХОЧУ СПАТЬ
Цветочные зубы, росой убраны волосы, травяные ладони; кормилица, милая, приготовь мне землистые простыни и перину из мхов прореженных.
Я хочу спать, кормилица, уложи меня.
Лампу зажги в изголовье:
созвездие — какое захочешь,
все хороши, — да, и чуть-чуть наклони его.
Оставь меня: слышишь, семена прорастают... Вышина качает тебя ногою небесной, и птица танцует в небе, чтобы
ты позабыла... Спасибо. Ах да, еще порученье:
если он будет снова звонить,
скажи: перезванивать не надо, нет меня...
403
ТАК
Написала я книгу так:
воя, плача, бредя, — бедная я.
Бабочкой печальной, львицей озорной свет и тень дарила я всем наперебой.
В пору львицы было мне и невдомек, как могла порхать я малым лоскутком.
В бабочкину пору не брала я в толк, как могла кусаться и бросаться в бой.
То таясь в укрытии, то несясь вперед, я разила насмерть; мне пускали кровь. Помню я — голубка, кипарис седой или куст цветущий — рыдала горячо. Пробавлялась солью, воровала мед, выплакала горькие слезы — до одной.
Всё я повидала, знаю, всё равно:
быть водой иль желчью, розой иль шипом.
Так меня и гонит по земле скупой; где бы ни прошла я — учиню раздор.
404
Я НА ДНЕ МОРЯ
В море, на самом дне, стоит стеклянный дом.
На полиповую аллею окна он распахнул.
Золотая рыбина приплывает ко мне ровно в пять.
Дарит
красную ветку коралловых цветов.
Моя кровать — как море, чуть голубее.
Осьминог мне подмигивает в окно.
В зеленом лесу вокруг —
динь-дон, динь-дан —
перламутровые
русалки
качаются и поют.
А над головой моей горят в сумерках острые языки моря.
405
СБИВЧИВАЯ БАЛЛАДА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Была у меня любовь, маленькая-премаленькая, была, да ушла.
В добрый путь, любовь, в добрый путь!
Мой любимый не отличался статью, не отличался и ростом; на пляже я его никогда не видала; но, должно быть, телом он походил на Суареса.
Даже, скорее, на Демпси.
И семи пядей во лбу он тоже не был; зато всегда смеялся; любил деревья; гладил по голове незнакомых детей.
Я бы подарила ему лук,
пусть бы сбивал с неба звезды...
Но испугалась: а вдруг какая-нибудь
упадет тебе на голову, читатель, — они ведь такие большие!
Он уехал вчера вечером,
сел на пароход
длиною с улицу:
слишком уж громадный;
а моего любимого не назовешь великаном.
Теперь я вижу: вот он на борту, маленький. Совсем маленький;
406
кажется, не больше иголки
от швейной машинки, дрожащей на склоне плавучей горы.
Господин стюард, господин пароходный стюард: низко склоните голову, завидев его,
хорошенько расстелите простыни, будите его осторожно.
Госпожа путешественница, да, вы, самая красивая на корабле: гляньте ему в глаза с нежностью, скажите какой-нибудь вздор:
— За вас я бы вышла, не сходя с места. —
Или, к примеру: — А не выпить ли нам по чашечке чаю?
А вы, госпожа Река, воздержитесь от безрассудств; ведите себя, как дама с мужчиной, видящим сны; ему нужна колыбель, не важно, сойдет и водяная.
Никогда не встречала я над Рио-де-ла-Платой летучих рыб.
Если и есть какая-нибудь, пусть не вздумает летать он не любит рыб, а тем более крылатых.
Завтра он прибудет в порт, корабль замрет у причала.
О господин Пароход, о шкатулка, где мой любимый сияет брильянтом:
407
не трясите сильно, когда будет швартоваться, не мечитесь!
Он сойдет по трапу, напевая фокстрот.
Он всегда напевает фокстрот.
На нем будет серый костюм и темно-синий плащ.
Ради бога, постарайтесь их не запачкать, господин Пароход: мой любимый беден...
СЕСАР ВАЛЬЕХО (1892—1938)
ИЗ СБОРНИКА «ЧЕРНЫЕ ГЕРОЛЬДЫ»
(1918)
СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ НЕБЕС СВЯТОЕ УВЯДАНИЕ
Луна! Венец, что в сумерки густые роняет листья желтого сиянья.
Ты — окровавленный венец Мессии на изумрудной нежности страданья.
Луна! Ты — сердце в выси необъятной.
Но для чего дорогою ночною по синему вину к черте закатной ты уплываешь сломанной ладьею?
Луна! Тебе, быть может, выпал жребий: пожертвовать собою в горнем храме.
Иль, может быть, ты — мое сердце в небе, цыганское, скорбящее стихами.
409
ЛЕДЯНЫЕ ПАРУСА
Я день за днем всё жду на берегу, но день за днем ты проплываешь мимо, кораблик мой, далекий навсегда...
Твои глаза — два гордых капитана, твой рот — как мимолетный взмах платка, краснеющего кровью расставанья.
Я день за днем всё жду... Но вот однажды, кораблик мой, далекий навсегда, — застигнута пределом беспощадным, закатится вечерняя звезда...
И взвоют снасти под напором бури твоих предательств... Ты ушла, ушла... Бесстрастным капитанам повинуясь, я отплыву. И перестану ждать.
410
СОЧЕЛЬНИК
Смолкла музыка. В густо заросшей аллее кружит призрачных женских теней хоровод, а над ними, в седых облаках коченея, как химера, луна восковая плывет.
Чьи-то губы тоскуют, о прошлом жалея, орхидеями платьев аллея цветет, шорох шелка, над смехом и говором рея, аромат на кусты придорожные льет.
Жду пресветлой звезды твоего возвращенья: лишь взойдешь, красоты твоей богоявленье аллилуйей тотчас отзовется в крови...
И стихи, как ягнята, заблеяв певуче, колокольцами тайных и мудрых созвучий возвестят рождество Иисуса любви.
411
ПОЛУТЬМА
Мне снилось бегство. Мне снилась спальня, раскрытая в крике.
И длинный причал, чья-то мама; пятнадцатилетье в едином миге.
Мне снилось бегство. И «навсегда», которое шепчут уже на трапе; мне снилась мама; в прохладе лазури — рассветных звезд зеленые капли.
Длинный причал... Но шея висельника — еще длиннее!
412
СТРАУС
Тоска, не терзай, не мучай меня своим клювом мягким, не сыпь свои зерна в землю, где светится мой посев. Не надо, тоска, не надо, как лезвием вскрыв мне вены, вытягивать кровь, впиваясь, разбухнув и посинев.
Не тронь этой манны женщин, которая пала с неба... Я жду, что завтра свершится новое волшебство, завтра, когда пойму я, что взглядом скреститься не с кем, а гроба края с издевкой растянутся буквой О.
Сердце мое — рассада, орошенная болью, в нем много других пернатых гнездится, древних, как ты. Тоска, моя жизнь стала засушливою пустыней...
Но рот твой по-женски сомкнут, а губы твои пусты.
413
ПУТЕМ ВОДЫ ПАУК
Он — паук. Его серое тело — голова и огромное брюхо — кровью полнится до предела.
Я сегодня его разглядел. Как же трудно выпрямлять ему ноги свои!
Столько ног и так много коленей!
А еще о глазах я подумал — ведь я их не видел, но должно быть какое-то зренье?!
Он — паук, и на каменной грани удержаться он может едва: на одной стороне — его брюхо, на другой — голова.
Замер он и не может решиться сделать шаг. Столько ног, что не знает с какой начинать.
Как измучил меня он, почти неходячий ходок!
Он — паук, и огромное брюхо к голове подтянуть он не смог.
Многоногий,
безглазый...
Как измучил меня он, почти неходячий ходок!
414
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Бесформенная махина; сотворена порывом ветра и крохотным семечком подсолнуха. Под ее крышей оно прорастает, наводит порядок в ней, утверждая: «Прекрасен сей Божий приют». Но иногда оно плачет в какой-нибудь нише.
415
ИНТИМНАЯ СЦЕНА
Подойди, подойди ко мне!
Дождь, слезливая декорация.
Теснее, еще тесней!
Разве эти цепкие руки поднять занавес не посмеют?
Погляди: вот они, мои ловкие руки. Теснее, еще теснее!
Дождь. Нынче ночью новый корабль черным крепом нагрузим; он — похожий на темный дрожащий сосок - довезет нас до сфинкса иллюзий.
Подойди! Ты — уже на борту; и пора от причала отходить кораблю.
Но занавес — неподвижен...
Хочешь: вместо аплодисментов — место свое тебе уступлю?
И кровью
нить бесконечности напою.
Добрым быть не пристало мне...
Теснее. Еще тесней!
416
Сесар Вальехо.
О ЗЕМНОМ
ПОЭТ СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ
На кресте моих губ ты распята была в эту ночь и ее возлюбила.
Твоя боль Иисусовым плачем была; на Голгофу любви ты всходила.
В эту ночь, когда глаз ты сомкнуть не могла, смерть веселую песнь заводила.
Эта ночь человечно сентябрьской была и паденье мое мне простила.
Мы столь рядом, столь близко друг к другу умрем, мглу могильную пить станем стынущим ртом - чашей горечи нас одарили.
Не увижу упрека во взоре твоем и тебя не обижу. Мы будем вдвоем — брат с сестрою — в одной спать могиле.
418
СЕНТЯБРЬ
Помнишь: ночью сентябрьской той ты была со мной так нежна?!
Не терзай меня. Ты не должна, не должна быть нежной со мной.
Ты терзалась: твоя вина в том, что был я грустный такой... Не терзай меня. Я и сам не знал, почему я грустный такой.
И была еще одна ночь, и глаза — не глаза: мольба!
Был я нежен с тобой в ту ночь.
Но холодным днем сентября я в ладони пролил твои слезы этих ночей декабря.
419
ОСАДОК
Этим вечером ливень не кончит лить. И мне не хочется жить.
Этот вечер нежен. Почему бы нет? Женской прелестью горькою он одет.
Этим вечером в Лиме ливень льет, и я вспоминаю, как глыбой льда я рухнул на полевой цветок, не расслышав робкое: «Не надо так!»
Черные лживые тени, обвал, грохот камней, ледниковая гладь...
И молчанье твое расплавляет лед, как сургуч, и ставит печать.
Вот почему в этот вечер, как филин, я сижу с нахохленным сердцем...
Женщины мимо проходят. Другие.
И разносят по камешку груды скорби моей по тебе.
Этим вечером ливень не кончит лить. И мне не хочется жить.
420
ИМПЕРСКИЕ НОСТАЛЬГИИ
* * *
Как древние вожди, идут волы, жуют свои воловьи размышленья, похожи под ярмом вечерней мглы на королей, утративших владенья.
Смотрю на них: пусть муки тяжелы, но время ниспошлет нам утешенье, — в тоскливом взгляде скорбные волы таят веками стертые мгновенья.
Пред ними тени деревень колышет белесый сумрак. И коровий стон тревожит древних погребений сон...
И небо, ржавой синью исходя, в надрывном звоне колокольном слышит плач изгнанного древнего вождя.
421
* * *
Светает. Лишь к утру иссяк угарный хмель: брань, вопли, пьяный блуд — все прелести пирушки. Воняет чесноком; терзает кость кобель; и чертят вензеля, не протрезвев, пьянчужки.
«Нас утро разлучит...» — так сельский менестрель, Ромео здешних мест, поет своей подружке. Кабатчик, затемно покинувший постель, хлопочет в кабаке: гремят тарелки, кружки...
Судачат женщины... Бродяга спит... Вдали река, как пьяная, поет и причитает о прежних временах, что были да прошли.
Но грянул барабан... И, пламенем горя, как в танце девушка, встающая заря свои шафрановые икры обнажает.
422
МОЛИТВА ПРИ ДОРОГЕ
Кто может вынести всю эту горечь!
Закат в оцепененье бездыханном, воздень и — как Спасителя в стигматах — на грудь повесь мою тоску цыгана.
Золотистая горечь над краем, и безрадостный путь нескончаем.
Молчи! Гитара заворчала. Слышишь? Старуха на тропинке, мы с тобою из расы тех, кто всюду нелюбимы и прячут от чужих следы побоев.
Золотистая горечь над краем; нескончаем глоток... нескончаем...
Скулит река, дорога лиловеет...
Клонится, напряженьем изувечен, вспотевший лоб. И падает, сломившись, клинок — уже почти по-человечьи!
Сияет поле склепом золоченым с углями пота, залитого стоном!
И веет днем, удобренным стихами, когда ростки пробьют священный камень — потомки тех золотоносных птах, которые со мной истлеют в прах!
423
ПОКЛОНЕНИЕ ИНКАМ
Я — калика-слепец,
что смотрит сквозь линзу кровавой были;
я прикован к шару земному,
словно к кружащейся инкской могиле.
Я — пламя, которое только и может, что пожирать в безумии нелюбви улиток валторны,
улиток валторны, ярких до отвращенья, забронзовевших от старого ярави.
Я — кондор беспёрый, его ощипал испанский мушкет; я кружу над Андами, словно вечный Лазарь, несущий свет.
Я — инкская благость, она прогрызает златые чаши с цикутой, что подносили ко рту мы.
Дрожат под кожею ног моих рваные нервы убитой пумы.
Закваска Солнца — в брожении мрака и сердца!
424
ГРОМЫ
К БРАТЬЯМ ВО ХРИСТЕ
Никто сегодня в дверь не постучал, и ни о чем меня не попросили.
Цветов могильных я не увидал среди огней процессии веселой.
Прости, Господь: я мало умирал.
Проходят люди, мой минуя дом, не спросят, не попросят ни о чем.
Я сам не знаю, что они забыли в моих ладонях, как в чужой могиле.
Я вышел за порог
и всем готов кричать: «Любую малость, что вы оставили, сберечь я смог!»
Я никогда не знал, в любой из дней, какая дверь прохожему открыта, чужое что-то есть в душе моей.
Никто сегодня в дверь не постучал; как мало я сегодня умирал!
425
ХЛЕБ НАШ
На завтрак — только кофе... Пахнет кровью кладбищенская мокрая трава.
Над городом дождит. Ползет телега, натужным скрипом воздух разрывая, от голода едва-едва жива.
Мне хочется стучать в любую дверь
и спрашивать — не знаю сам, о ком;
и вдруг увидеть бедняков и, плача,
раздать — голодным и замерзшим — хлеб горячий.
И виноградники богатых грабить
обеими руками —
свята их чистота:
их свет пронзил, освободив от перекладины креста.
Не просыпайтесь поутру, ресницы!
Хлеб наш насущный,
Отче, даждь нам днесь.
Но это тело не мое — чужое; быть может, я его украл?!
Я в мир пришел забрать то, что, конечно, было другому предназначено... не мне... ведь если... если б я не родился, то этот кофе выпил бы другой.
Несчастный вор. Где путь найти мне свой?
И в час, когда земля пропахла людьми, что стали прахом, мне хочется стучать в любую дверь, просить прощенья — у кого и для чего? — и печь холодным утром хлеб горячий в огне живого сердца моего.
426
БРАЧНОЕ ЛОЖЕ ВЕЧНОСТИ
Любовь сильна — когда она исчезнет. Большим зрачком тогда глядит могила, и плачет в глубине его смятенье любви, как в чаше вечности, покрытой рассвета ослепляющею тенью.
И губы набухают в поцелуе, и кажется: они вот-вот прольются, и умирают в судорожном стоне, и рта другого утоляют жажду, даруя жизнь мучительных агоний.
Когда я рассуждаю так, могила — заманчива: там все соединятся, окончив одинокий путь страданья, и мрак — заманчив: он от нас скрывает всемирное любовное свиданье.
427
КАМНИ
Камни, камни! Вижу вас опять в синеве предутренних теней.
Я иду, а шаг мой, как печать, ставится на хаосе камней.
Я иду. Чем дальше, тем больней в мире от шагов твоих, поэт... Высекая искры из камней, ты пророчишь тягостный рассвет.
Что камням богатство и почет? Славу тоже не с кем им делить... Лишь любви камням недостает: камни просят вас их полюбить.
Но по их понурым головам и понурой поступи камней вижу я, как стыдно им, камням, походить порой на нас, людей.
Кто из нас, на камень налетев, не пинал его в сердцах ногой?.. От удара на небо взлетев, белый камень сделался луной.
А сегодня утром, сквозь туман,
раздвигая переплет ветвей,
я увидел синий караван,
караван
камней,
камней,
камней.
428
МИСТЕРИЯ
Я шепчу про себя: я всё же бежал от шума; под своды храма вступаю — никем не зримый и сирый. Высокие тени повсюду, и Дарио проходит с траурной своей лирой.
И нежная Муза входит — шаги ее неисчислимы, глаза мои к ней устремились, словно к зерну цыплята.
А на ее ладони дрозд жизни дремотно грезит, и тянется шлейфом за нею спящая темень гагата.
Боже, в своем милосердье ты созидаешь храмы, где свершают обряды лазурные чародеи.
Дарио Америк небесных! Они, без сомненья, подобны тебе! Из волос твоих нити каменной кладки прочнее.
Как души, что вечно ищут клады с нелепым златом, протопресвитеры сердца бредут бесконечной дорогой и нам говорят издалёка, нас рыдать заставляя, о буднично неизменном самоубийстве Бога.
429
МОЛИТВЕННИК
{Часть текста)
Старец Осирис! Вот я в стену жизни уткнулся.
И мне кажется, что всегда упирался я в эту стену.
Я — тень, обратная сторона медали; всё проходит под ступнями моей вечной колонны.
Я не тащил тяжкой поклажи; всё мне давалось легко, словно наследство.
Сарданапал. Рот мой был электрической кнопкой машины грез.
И вот я уткнулся в стену, и всегда в эту стену я упирался.
Старец Осирис! Я прощаю тебя. Ведь ничто не смогло меня сделать нищим, ничто, ничто.
430
дождь
В Лиме... В Лиме хлещет ливень, мутной тоской отзываясь в крови. Смертной отравой вливается ливень сквозь пробоину в крыше твоей любви.
Не притворяйся спящей, любимая...
Солги... И взглядом меня позови.
Всё человечье — необратимо: я решил уравненье твоей любви.
Осколками геммы вонзается снова в меня твое подневольное слово, твое колдовское, неверное — «да»...
Но падает, падает ливень дробный на лежащий меж нами камень надгробный, под которым тобой я забыт навсегда.
431
ЛЮБОВЬ
Любовь, мои глаза мертвы отныне, не возвратить, и сердце — в скорбном плаче. А в моих чашах, всё. не веря, стынет воск осени с вином зари незрячей.
Любовь, ты — крест, омой мои пустыни своею кровью, что исходит в плаче.
Любовь, мои глаза мертвы отныне и жаждут слез твоей зари незрячей.
Любовь, когда ты в образе вакханки неистовой иль кроткой куртизанки являешься, я не хочу тебя.
Любовь, коль бестелесна, — будь моею, пусть я, как Иисус, любить сумею, без близости физической любя.
432
погонщики
Погонщик, ты бредешь, блестя глазурью пота... Асьенда Менокучо с тебя взымает повседневной данью бесчисленные тяжкие заботы...
Полдневным жаром опоясан день.
Взбесилось солнце.
В ярко-красном пончо,
погонщик, ты бредешь, смакуя на ходу
родной напев пьянящих листьев коки.
Я за тобой из гамака слежу с высот разочарованного века...
Твой силуэт, завидуя, ловлю, измученный москитами, оглохший от заунывных воплей воронья.
Ведь ты в конце концов дойдешь туда, куда твой долг тебя зовет, погонщик, куда ты за притворщиком-ослом бредешь, бредешь...
Счастливый путь тебе!
В палящий зной, когда все мысли, чувства — всё на дыбы встает,
когда душа, венчающая тело, чуть жива без коки и уже не в силах, навьючив плоть, шагать за нею к Андам, навстречу Вечности...
433
30 3*ь 30vi о
ПЕСНИ ДОМАШНЕГО ОЧАГА ПАУТИНА ЛИХОРАДКИ
По ликам святых, что висят на стене, блуждает мой взор, но смежает мне веки озноб малярии, и чудится мне, что в Небытие ухожу я навеки.
Плаксивая муха жужжит в тишине, о чем говорит мне она? о ковчеге библейском, о дальней восточной стране, о птицах, чьи песни исполнены неги?
Я вижу отца, его руки большие.
А мама скорбящею Девой Марией глядит на лицо восковое мое.
От них я уйти не посмею сегодня. Неведома смертному воля Господня, но выжить поможет мне Небытие.
434
БРАТУ МИГЕЛЮ
In memoriam*
Брат, я сижу на скамье перед домом — нам так тебя сейчас не хватает!
И я вспоминаю, как мы в это время играли с тобою, а мама нас окликала: «Дети!..»
Сейчас, как всегда
во время вечерней молитвы,
прятаться мой черед — о, ты меня не найдешь!
А потом — спрячешься ты, и нигде: ни в комнатах, ни в коридоре — я тебя
не найду.
Брат, сколько раз мы этой игрою доводили друг друга до слез!
В августе, на исходе ночи,
ты спрятался, брат,
и оставил мне не улыбку — печаль.
И я, твоя тень во время вечерней игры, всё никак не могу отыскать тебя. И уже навсегда я печален.
Брат, ты слышишь?
Мигель, выходи. А то встревожится мама.
* Памяти (лат.).
435
ГОРЕСТНЫЙ АНТИФОН
Родился я в тот день, когда был болен Бог.
И знают все, что я живу, но о январском декабре моем — никто узнать не смог. Ведь я родился в день, когда был болен Бог.
И пустоту моей души
никто не сможет осязать; но вспыхнет в сердце тишины огня цветок.
Родился я в тот день, когда был болен Бог.
Ты, брат, услышь, услышь меня... Не забираю декабрей, не оставляю январей и не ступаю за порог.
Родился я в тот день, когда был болен Бог.
И знают все, что я живу,
что хлеб жую... Но ведь не знают,
зачем в стихе моем, рожденном
из мглы могильной,
звучал
песчаный ураган не раз, которым Сфинкс пустыни испытывает нас.
436
Все знают... Но никто не знает, что болен свет чахоткой, а тьма жирна...
Никто не знает, что заманчивая Тайна... она свой горб под платьем прячет и возвещает издалёка музыкой печальной о том, что есть предел земным пределам.
Родился я в тот день, когда был не на шутку болен Бог.
Хосе Карлос Мариатеги «НОВОЕ, БУНТАРСКОЕ ИСКУССТВО...»
...«Черные герольды», первая книга Сесара Вальехо, возвещают о рождении в Перу новой поэзии.
Вальехо — поэт племени, поэт расы. У него, впервые в нашей литературе, мироощущение индейцев нашло точное воплощение в слове. Мельгар, создавая свои яра- ви, не смог освободиться от уз классической техники стиха и испанской риторики, поэтому, надо признать, он потерпел поражение. А в поэзии Вальехо в полную силу заявляет о себе новый стиль. В его стихе верно выражены чувства индейцев, не звучит ни одна фальшивая нота. Поэт не просто должен явить миру новое послание. Он должен создать новую технику и новый язык. Литература не терпит двойственности, искусственного разделения формы и содержания. У Мельгара чувства индейцев только смутно ощущаются в подтексте его стихов, у Вальехо эти чувства целиком и полностью подчиняют себе сам стих, изменяют его структуру. У Мельгара — только индейская интонация, у Вальехо — сам язык индейцев. У Мельгара ярави — просто любовная жалоба, у Вальехо ярави обретает древний, глубинный смысл. Сесар Вальехо поистине творец. Даже если бы «Черные герольды» оказались его единственным произведением, Вальехо все равно заслуживает право называться открывателем новой эры в нашей литературе.
Отличительная черта поэзии Вальехо — ностальгия, и это я считаю одним из бесспорных проявлений его ин-
438
дихенизма. Валькарсель, которому мы обязаны, вероятно, самым точным объяснением индейской души, утверждает: печаль индейца ■— это ностальгия.
Сесару Вальехо свойственна глубочайшая тоска по родине. Он, без сомнения, любит погружаться в прошлое. И описания прошлого у Вальехо всегда неповторимо индивидуальны. Поэт захвачен ностальгией, но это не просто тоска по прошлому родины. Его тоска по империи инков не имеет ничего общего с тоской приверженцев перричолизма по вице-королевству. Его ностальгия — протест, рожденный чувством либо сугубо личной идеей. Это ностальгия изгнанника, ностальгия изгоя.
Пессимизм Вальехо исполнен нежности и человеколюбия. Поэт вбирает в себя всю человеческую боль. Страдание Вальехо — не его личная боль. Его душа «навсегда печальна» печалью всех людей, печалью Бога, печалью природы, ибо для поэта существует не только людское страдание.
И столь велика его жалость к человеку, что подчас он ощущает свою ответственность за страдания других людей. И тогда, сострадая им, в их страданиях он обвиняет себя.
Но это тело не мое — чужое; быть может, я его украл?!
Я в мир пришел забрать то, что, конечно, было другому предназначено... не мне... ведь если... если б я не родился, то этот кофе выпил бы другой.
Несчастный вор. Где путь найти мне свой?
(«Хлеб наш»)
Такова вся книга «Черные герольды». Душа Вальехо настежь открыта страданиям, и конкретно — страданиям бедняков:
Погонщик, ты бредешь, блестя глазурью пота... Асьенда Менокучо с тебя взымает повседневной данью бесчисленные тяжкие заботы...
(«Погонщики»)
439
Поэзия Сесара Вальехо являет нам рождение новых чувств. Это новое, бунтарское искусство, решительно порывающее с придворной традицией шутов и лакеев.
Душа поэта Вальехо устремлена в бесконечность и неустанно алчет истины. Творчество причиняет ему одновременно и невыразимые страдания, и несказанную радость. Как человек искусства, он хочет только того, чтобы его голос звучал естественно и чисто. Поэтому он отбрасывает прочь все риторические побрякушки и отказывается от какого бы то ни было литературного тщеславия. Вальехо упорно добивается самой трудной, самой смиренной, самой гордой простоты. В стремлении к простоте и естественности он, кажется, не знает предела; он снимает обувь, чтобы босыми ногами ощутить, сколь кремнист и неровен путь...
КОММЕНТАРИИ
РУБЕН ДАРИО
(наст, имя — Феликс Рубен Гарсиа Сармьенто)
Никарагуанский поэт, прозаик, эссеист (ряд его очерков посвящен русской литературе). Глава испано-американского модернизма. Основные поэтические сборники: «Лазурь» (1888), «Языческие псалмы» (1896), «Песни жизни и надежды» (1905), «Бродячая песня» (1908).
На русском языке избранные произведения Рубена Дарио выходили отдельными книгами в 1958, 1967 и 1981 годах.
ИЗ СБОРНИКА «ЛАЗУРЬ»
(1888)
Поэту. — Геракл безумный палицу слагает /у ног Омфальг и нейдет на битву... — В припадке безумия Геракл убил аргонавта Ифита и в наказание за это был отдан богами в рабство лидийской царице Омфале. Царица нарядила Геракла в женские одежды и заставила его выполнять домашние работы.
Самсон, оставь подол своей Далилы. / обманет, волосы отрежет тайно. — См.: Суд., 16:17—19.
Кауполикан. — Кауполикан (?—1558) — вождь араука- нов (индейского народа, жившего на территории современного Чили). Возглавил борьбу арауканов против испанских конкистадоров. В 1558 году был захвачен испанцами в плен и казнен. Кауполикан — один из героев эпической поэмы «Ара- укана» испанского поэта Алонсо де Эрсильи (1533— 1594). Ср. также сонет Рубена Дарио «Кауполикан» с одноименным сонетом Хосе Сантоса Чокано.
Нимрод (Немврод) — легендарный царь Вавилона. В Ветхом Завете о Нимроде сказано: «сильный зверолов пред Господом» (Быт., 10:9).
443
Токи — военный вождь арауканов.
Венера. — Гагат — черный, со смолистым блеском каменный уголь.
Леконт де Лиль. — Леконт де Лиль, Шарль (1818—1894) — французский поэт, глава «парнасцев». Оказал существенное влияние на Рубена Дарио и других латиноамериканских модернистов. О творчестве Леконта де Лиля (вскоре после его смерти) Дарио написал обширное эссе.
Рамаяна (IV век до н. э.) — древнеиндийская эпическая поэма о подвигах Рамы, легендарного царя из Солнечной династии.
Уолт Уитмен. — В примечаниях ко второму изданию книги «Лазурь» (1890) Дарио отметил: «На мой взгляд, Уолт Уитмен — самый крупный поэт Северной Америки». В 1887 году статью о жизни и творчестве Уолта Уитмена (1819—1892) написал кубинец Хосе Марти. Наибольшей популярностью в Испании и Латинской Америке Уитмен пользовался в начале XX века; в ту пору его главным переводчиком на испанский язык был поэт Леон Фелипе (1884—1968).
Глухой сатир. — Филомела — соловей. В греческой мифологии Филомела — дочь афинского царя Пандиона, сестра Прокны. Филомела была изнасилована мужем сестры, фракийским царем Тереем. Чтобы скрыть свое преступление, Те- рей вырезал Филомеле язык и хотел убить, но Зевс превратил ее в соловья.
Даниэль Хейнсиус (1580—1655) — голландский поэт, драматург; автор сатирической поэмы «Похвала ослу».
Пассера, Жан (1534—1602) — французский поэт, фило- лог-классик; один из авторов памфлета «Мениппова сатира».
Бюффон, Жорж (1707—1788) — французский естествоиспытатель.
Великий Гюго. — Виктор Гюго (1802—1885) упомянут здесь Рубеном Дарио в связи с тем, что он является автором сатирической поэмы «Осел».
Посада, Пабло (1825—1880) — колумбийский писатель-сатирик.
Вальдеррама, Адольфо (1834—1902) — чилийский писатель; был в дружеских отношениях с Дарио.
Деметра — богиня плодородия и земледелия.
Систр — ударный музыкальный инструмент.
Силен — воспитатель и наставник Диониса. Силена изображали в виде пьяного, веселого и лысого старика, толстого, как винный мех, с которым он никогда не расстается.
Тирс — жезл Диониса, увитый плющом, виноградными листьями и увенчанный еловой шишкой.
444
Эолова арфа — музыкальный инструмент, струны которого звучат от дуновения ветра. Эол — бог ветров.
Сиринга — многоствольная пастушеская флейта, флейта Пана. В греческой мифологии Сиринга — наяда, которую преследовал Пан. Спасаясь от него, Сиринга бросилась в реку и превратилась в тростник, который, колеблясь на ветру, издавал жалобные звуки. Из этого тростника Пан вырезал пастушескую свирель (флейту).
Барбитон — музыкальный струнный инструмент.
Пеан — благодарственная песнь богам.
Наяда — речная либо озерная нимфа.
...подобно Анакреоновой голубке. — В оде IX Анакреона говорится о голубке, спящей на лире. Об Анакреоне см. далее.
Афон — гора в Восточной Греции, считалась священной еще в дохристианские времена.
...укротил бы... и Немейского льва, и Эриманфского вепря. — Победы над Немейским львом и Эриманфским вепрем — первый и третий подвиги Геракла.
Нимфа. — Лесбия. — Автор дал своей героине имя возлюбленной римского поэта Гая Валерия Катулла (ок. 87—ок. 54 до н. э.).
Аспазия. — Тоже не случайно выбранное Рубеном Дарио имя. Аспазия (470—400 до н. э.) — греческая гетера, прославившаяся своей красотой и умом. Жена полководца Перикла, собеседница Сократа, натурщица Фидия.
Фремье, Эммануэль (1824—1910) — французский скульптор.
Мирон (V век до н. э.) — древнегреческий скульптор.
Анакреон (570—487 до н. э.) — древнегреческий поэт, певец любви, вина, праздной жизни, веселья. В произведениях многих латиноамериканских модернистов, ведших богемный образ жизни, упоминается либо цитируется неоднократно.
Саламандра. — Здесь: мифическое существо (в Средние века саламандра считалась духом огня).
Кракен — морское чудовище из скандинавских мифов; изображалось обычно в виде огромного осьминога.
Антоний (250—356) — отшельник, большую часть жизни проведший в Тебаидской пустыне (Египет).
Павел (228—341) — первый христианский отшельник, ушедший от мира в египетскую пустыню.
Иероним (342—420) — христианский богослов, один из отцов церкви, переводчик Библии на латинский язык.
Константин Великий (ок. 285—337) — римский император с 306 года. В 330 году перенес столицу империи из Рима в Константинополь.
445
Антиохия — древняя столица государства Селевкидов. С 64 года до н. э. стала резиденцией наместника римской провинции Сирия. В VI—VII веках входила в состав Византии. Ныне — город Антакья в Турции.
Альберт Великий (Альберт фон Больштедт; 1193?— 1280) — немецкий философ, богослов, ученый-энциклопедист. Получил титул Doctor Universalis.
Татария. — Здесь: территории, расположенные к востоку от Урала.
Вицентий. — Скорее всего, речь идет о французском богослове Винсенте (1190—1264), авторе научной энциклопедии «Speculum majus».
Актеон — в греческой мифологии сын бога земледелия Аристея. Охотясь, Актеон увидел купающуюся Артемиду (см. далее). Разгневанная богиня-девственница превратила юношу в оленя, и его растерзали собственные собаки.
Нума (Нума Помпилий) — в римской мифологии легендарный римский царь, женой и советчицей которого была нимфа Эгерия.
Киферея — Афродита.
Тартарен — главный герой трилогии «Тартарен из Тара- скона» французского писателя Альфонса Доде (1840— 1897).
ИЗ СБОРНИКА «ЯЗЫЧЕСКИЕ ПСАЛМЫ»
(1896)
Вариации. — Тирс. — См. примеч. к сказке «Глухой сатир».
Менады — вакханки.
Термин (Терминус) — в римской мифологии бог межей, столбов и камней, считавшихся священными. В честь Термина был учрежден праздник терминалии, отмечавшийся 28 февраля — в последний день римского года.
Артемида — в греческой мифологии богиня плодородия, растительности, охоты, покровительница деторождения, владычица зверей, олицетворение луны (в римской мифологии — Диана).
Адонис — в греческой мифологии сын Мирры, юноша, отличавшийся редкой красотой, которого полюбила богиня Афродита. Адонис погиб во время охоты от раны, нанесенной ему вепрем; из капель его крови выросли розы.
Киприда — Афродита.
Нард — пахучее травянистое растение семейства валерьяновых, с красноватыми цветками.
446
Буше, Франсуа (1703—1770) — французский художник. Одна из его наиболее известных картин — «Галантные празднества».
Акант — южное травянистое растение с большими зубчатыми листьями, собранными в виде розеток.
...м надпись Бомарше на ней живет. — На одной из статуй Люксембургского сада в Париже есть надпись, сделанная, по преданию, французским драматургом Пьером Огюстеном Бомарше (1732—1799).
Клодион (наст, имя — Мишель Клод; 1738—1814) — французский скульптор.
Без размышлений за Верлена разом / Платона и Софокла б я отдал! — На Рубена Дарио и других латиноамериканских модернистов Поль Верлен (1844—1896) из всех поэтов оказал наиболее значительное влияние. В сборниках латиноамериканцев можно найти немало стихотворений, посвященных французскому поэту; см. в данной антологии сонет Амадо Нерво «Его католическому величеству Полю Верлену».
Янус — в римской мифологии бог времени.
Прюдомы и Оме — персонажи, олицетворявшие для Рубена Дарио мещанство и пошлость. Прюдом — карикатурный образ, созданный французским писателем и художником Анри Монье (1799—1877). Оме — аптекарь в романе Гюстава Флобера (1821—1880) «Мадам Бовари».
Панфило — один из рассказчиков в «Декамероне» Джованни Боккаччо (1313—1375).
Гретхен (Маргарита) — героиня трагедии Гёте «Фауст».
Лорелея — рейнская русалка (сирена) из немецких народных сказаний. Первым обработал сюжет о Лорелее немецкий поэт-романтик Клеменс Брентано (1778—1842). Всемирную известность легенда о Лорелее получила благодаря стихотворению Генриха Гейне (1797—1856).
Лоэнгрин — герой немецких средневековых сказаний, заглавный герой оперы Рихарда Вагнера (1813—1883), «рыцарь лебедя».
...чудо лоз тевтонских — мозельвейн... — Здесь прилагательное «тевтонских» — в значении «немецких». Мозельвейн — вино, которое производится в долине реки Мозель (левый приток Рейна).
Саади (ок. 1181—1292) — персидский поэт.
Готье, Теофиль (1811—1872) — французский поэт. Красоту китаянок Готье воспел в стихотворении «Китайское».
Ли Тай-бо (Ли Бо; 701—762) — китайский поэт.
Селена — луна.
447
Ямагата, Аристомо (1838—1928) — японский политический и военный деятель, реформатор японской армии.
...той, что воспел иерусалимский царь... — В библейской «Книге песни песней Соломона» воспета Суламифь.
Царица Савская. — См.: 3 Цар., 10:1—13.
К деревне. — Флорида — центральная улица Буэнос- Айреса.
Пэк, Титания, Оберон — эльфы, персонажи комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».
Сильфы — в кельтской и германской мифологии существа, являющиеся олицетворением воздуха.
Гаучо — скотовод и пастух в Аргентине. Гаучо, обычно романтически идеализированный, — герой многих произведений аргентинской литературы.
Карнавальная песня. — Банвиль, Теодор де (1823— 1891) — французский поэт.
Фрэнк Браун (?—1943) — английский клоун, друг Рубена Дарио.
Гаучо Вега — герой аргентинских фольклорных произведений, а также поэм Иларио Аскасуби (1807—1875) и Рафаэля Облигадо (1851—1920).
В гнездо Андраде... — Отсылка к оде аргентинского поэта Олигарио Виктора Андраде (1839—1882) «Гнездо кондора».
Гидо (Гидо-и-Спано), Карлос (1827—1918) — аргентинский поэт и прозаик.
Хвала сегидилье. — Рубен Дарио написал это стихотворение в Мадриде в 1892 году, когда впервые оказался в испанской столице.
Сегидилья — андалусская народная песня-танец.
Мансанилья — белое вино, родиной которого является западная часть Андалусии.
Руэда, Сальвадор (1857—1933) — испанский поэт-модернист. Автор красочных, образных стихотворений.
Пинд — горный хребет в Греции, где находится Парнас.
Лебедь. — Стихотворение написано в связи с постановкой в буэнос-айресском театре «Колумб» оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер», созданной композитором на основе немецких сказаний.
Тор — в германо-скандинавской мифологии бог грома и войны.
Меч Аргантира — так называется и одно из стихотворений Леконта де Лиля (сборник «Варварские стихи).
Леда — в греческой мифологии дочь Фестия, царя Этолии, жена Тиндарея. Зевс, плененный красотой Леды,
448
явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Эвроте. После соития с Зевсом-лебедем Леда снесла два яйца, из которых вылупились Елена Прекрасная и Диоскуры: Кастор и Полидевк. См. также стихотворения Рубена Дарио «Лебеди» и «Леда». К мифу о Леде и лебеде неоднократно обращались в своих стихах и другие латиноамериканские модернисты.
Подвиг Сида. — Сид (Родриго Диас де Бивар; 1043— 1099) — главный герой испанского национального эпоса «Песнь о моем Сиде» (XII век) и многочисленных народных романсов, участник Реконкисты — отвоевания испанцами своей территории у мавров (арабов). Реконкиста длилась с начала VIII до конца XV века.
Франсиско Ассис де Икаса (1863—1925) — мексиканский поэт.
Барбе д’Оревильи, Жюль Амеде (1808—1889) — французский писатель.
Тисона — меч Сида.
Бабъека — боевой конь Сида.
Святой Иаков (исп. Santiago) — покровитель Испании. Во времена Реконкисты его изображали на белом коне, разящим и обращающим мавров в бегство. По преданию, мощи святого Иакова хранятся в кафедральном соборе города Сантьяго-де-Компостела (в Галисии, в северо-западной части Испании). Со Средних веков город Сантьяго — место паломничества христиан Западной Европы.
Химена — жена Сида.
Поэтам радости. — Анакреон. — См. примеч. к рассказу «Нимфа».
Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э.—17 н. э.) — римский поэт. Среди его произведений — поэмы «Наука любви» и «Метаморфозы» (где, в частности, пересказывается миф о лебеде и Леде).
Кеведо, Франсиско де (1580—1645) — испанский поэт и прозаик.
Аттика — область древней Греции, объединившаяся вокруг Афин.
Медуза — в греческой мифологии одна из горгон (жен- щин-чудовищ, которые всех смотревших на них обращали в камень).
Марина. — Название стихотворения — термин в живописи: морской пейзаж.
Кифера — остров в Эгейском море, где находится храм Афродиты.
...Верлена к рощам Кипра... — отсылка к стихотворению Поля Верлена «На корабле» (сборник «Галантные празднест¬
449
ва»; название сборнику дано по названию картины Франсуа Буше, см. примеч. к стихотворению «Вариации»).
Ватто, Антуан (1684—1721) — французский художник. Автор картины «Поездка на остров Киферу».
Филомела — соловей (см. примеч. к сказке «Глухой сатир»).
...я, как герой Гомера, зажал руками уши. — Автор не совсем верно пересказывает эпизод из «Одиссеи» Гомера. Одиссей, проплывая мимо острова, где обитали сирены, залепил своим спутникам уши воском, а себя, так как он хотел услышать пение сирен, приказал привязать к мачте.
Душа моя. — Триптолемов злак... — В греческой мифологии Триптолем — сын элевсинского царя Келея, которому богиня плодородия Деметра передала искусство земледелия.
ИЗ СБОРНИКА «ПЕСНИ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ» (1905)
Сирано в Испании. — Стихотворение написано в 1899 году в связи с премьерой в мадридском театре «Пачека» стихотворной драмы Эдмона Ростана (1868—1918) «Сирано де Бержерак».
Сирано де Бержерак, Савиньен (1619—1655) — французский поэт, прозаик, драматург. Его главное произведение — философско-фантастический роман «Иной свет, или Государства и империи луны».
Мурильо, Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский художник.
Роксана — героиня пьесы Эдмона Ростана, возлюбленная Сирано де Бержерака.
Клавиленъо. — О приключении Дон Кихота и Санчо Пан- сы, связанном с деревянным конем Клавиленьо, говорится в главе XLI второй части романа Сервантеса.
Конечно, Сирано читал Сервантеса творенья... — Первый том «Дон Кихота» был опубликован в 1605 году, второй — в 1615. Вскоре роман Сервантеса стал известен французскому читателю.
...в краю плаща и шпаги. — Намек на испанские «комедии плаща и шпаги».
Кальдерон де ла Барка, Педро (1600—1681) — испанский драматург.
Пиндар (518?—442? до н. э.) — древнегреческий поэт.
...кастилец наш Сирано... — Здесь ударение в имени Сирано сделано по правилам испанского языка.
450
Дюрандаль — меч Роланда, главного героя французского национального эпоса «Песнь о Роланде» (XII век).
Тисона. — См. примеч. к стихотворению «Подвиг Сида».
Орифламма — боевой штандарт французских королей в XII—XV веках; в переносном значении боевое знамя.
Рог Роландов. — Командовавший в Ронсевальском ущелье арьергардом Карла Великого, Роланд перед своей смертью, призывая на помощь, громко затрубил в рог.
Хеста — героическая поэма; сказание о подвигах.
Тирсо де Молина (наст, имя — Габриэль Тельес; 1579— 1648) — испанский драматург. Автор пьесы «Севильский озорник, или Каменный гость», которая сделала испанский миф о Дон Жуане (Дон Хуане) всемирно известным.
Пегас. — Беллерофонт — в греческой мифологии сын коринфского царя Главка, победивший на Пегасе трехглавую огнедышащую Химеру.
Триумфальный марш. — Минерва — в римской мифологии богиня мудрости и войны, покровительница ремесел. Римские полководцы приносили свои трофеи в храм Минервы. Отождествляется с греческой Афиной.
Лебеди. — Хуан Рамон Хименес (1881—1958) — испанский поэт, прозаик. В первый период творчества — модернист (стихи этого периода он называл «музыкой губ»). Впоследствии сторонник «чистой» поэзии («музыка души»), С 1936 года жил в Америке. Лауреат Нобелевской премии (1956). О книге Хименеса «Грустные напевы», вышедшей в 1903 году, Рубен Дарио, например, писал: «В них, в этих чудесных и тонких стихах, те же образы и те же печали, что и в народных песнях... Родился тот, кому дано выразить, благородно и сдержанно, ту потаенную тоску, что несешь ты в своем сердце, Андалусия...» См. также сонет Дарио «Хуану Рамону Хименесу».
Гарсиласо (Гарсиласо де ла Вега; 1501—1536) — испанский поэт.
Аранхуэс — город к югу от Мадрида, на реке Тахо. В Аран- хуэсе находится летняя резиденция испанских королей.
Родриго. — Здесь, скорее всего, речь идет о Сиде (см. примеч. к стихотворению «Подвиг Сида»).
Жайме. — Это имя в XIII—XIV веках (в период Реконкисты) носили несколько королей Арагона и Каталонии.
Нуньес. — Возможно, имеется в виду Баско Нуньес де Бальбоа (1475—1517), испанский конкистадор. В 1513 году он первым из европейцев пересек американский континент (на территории нынешней Панамы) и вышел на побережье Тихого океана.
451
Пандора — в греческой мифологии жена титана Эпиме- тея (он был братом Прометея). Зевс подарил Эпиметею сосуд (ящик), в котором были заключены все пороки, болезни и несчастья людей. Любопытная Пандора, несмотря на запрет, открыла ящик и выпустила на волю бедствия человеческие. А когда, спохватившись, она захлопнула крышку, на дне ящика осталась только одна надежда.
Дриады — нимфы, покровительницы деревьев.
Портреты. — ...Фландрия в петле... — В 1567 году армия герцога Фернандо де Альбы (1507—1582) подавила восстание во Фландрии, принадлежавшей тогда Испании. Фландрия занимала часть территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов.
Борджиа, Чезаре (1475—1507) — итальянский государственный деятель. Был известен коварством, жестокостью и распутным поведением.
Осенняя песня весной. — Мартинес Сьерра, Грегорио (1881—1947) — испанский поэт, прозаик, драматург, театральный режиссер (ставил, в частности, пьесы Леонида Андреева). В первый период творчества — модернист.
Танцуй же, танцуй, Саломея, / на блюде моя голова. — Отсылка к новозаветному эпизоду, где говорится об Иоанне Крестителе и Саломее, дочери Иродиады (Мф., 14:6—11; Мк., 6:21—28). См. также сонетный цикл Гильермо Валенсиа «Две головы».
Пеплум — верхняя одежда древних гречанок и римлянок из легкой ткани, без рукавов, надевавшаяся поверх туники.
Летучий стих. — Иродиада (ок. 15 до н. э.—после 39 н. э.) — внучка Ирода Великого от его сына Аристобула.
Леда. — ...из чащи глядит потревоженный Пан. — Ср. с последней строкой стихотворения Дарио «Лебеди».
Морское. — Васко да Гама (1460/1469—1524) — португальский мореплаватель, открывший восточный путь в Индию.
...мычанье быка, что с Европою плыл на хребте... — Европа — в греческой мифологии дочь финикийского царя Аге- нора. Зевс (в римской мифологии Юпитер) явился Европе, игравшей вместе с подругами на берегу моря, в виде быка, похитил ее и отвез на остров Крит. См. также сонет Хулиана дель Касаля «Юпитер и Европа».
Гойе. — Гойя, Франсиско де (1746— 1828) — испанский художник. Дарио в своем стихотворении упоминает о святом Антонии (см. примеч. к рассказу «Нимфа») в связи с тем, что одна из работ Гойи — роспись потолка в мадридской церкви Святого Антония.
452
Осенний сонет маркизу де Брадомину. — Маркиз де Брадомин — главный герой тетралогии «Сонаты» испанского писателя (прозаика, драматурга, поэта) Рамона дель Валье-Инклана (1869—1936). В начале XX века «Сонаты» в испаноязычных странах были столь популярны, что ее автора зачастую называли маркизом де Брадомином. Никарагуанский поэт посвятил своему испанскому собрату несколько стихотворений — ив частности, публикуемый в данной антологии «Сонет». В «Заметках о Валье-Инклане» (1908) Дарио писал: «Самые фантастические, самые странные образы Инклана в основе своей реальны. Жизнь разворачивается перед ним — и поэт, силой творческого дара, преображает ее, возвышает и возвеличивает согласно настрою своей души, одним словом, обоготворяет. Не одержимый демоном к этому не способен...» А сам Рубен Дарио стал прототипом главного героя пьесы Валье-Инклана «Светоч богемы» (1924).
Пусть осенью сонет мой принесет / тебе весенних роз благоуханье! — Среди сонат Валье-Инклана — «Весенняя» и «Осенняя». Ср. также эти строки Рубена Дарио с заключительным двустишием его «Осенних стихов».
Раковина. — Антонио Мачадо (1875—1939) — испанский поэт, прозаик, драматург. В первый период творчества — модернист. Был в дружеских отношениях с Дарио; посвятил ему несколько стихотворений. Рубен Дарио в статье «Новые поэты Испании» (1906) писал: «Антонио Мачадо, возможно, самый значительный из всех. Музыка его стиха — в его раздумьях. Он пишет мало, размышляет много. Его жизнь — жизнь философа-стоика. Он умеет рассказывать о своих мечтаниях и сновидениях верными словами. Проникает в суть вещей, в жизнь природы. Его стихи о земле смогли бы восхитить Лукреция... Некоторые критики видят в нем продолжателя давних традиций национальной лирики. Мне же, наоборот, он представляется поэтом-космополитом, одним из самых всеобъемлющих поэтов, как я считаю, одним из самых человечных». См. также стихотворение Рубена Дарио «Антонио Мачадо». Дарио был дружен и со старшим братом Антонио — поэ- том-модернистом Мануэлем Мачадо (1874—1947).
Язон (Ясон) — в греческой мифологии правнук бога ветров Эола. Вместе с другими героями Эллады Язон отправился на корабле «Арго» за золотым руном в страну Эа (Колхиду).
453
ИЗ СБОРНИКА «БРОДЯЧАЯ ПЕСНЯ» (1908)
Колумбу. — Стихотворение написано Рубеном Дарио в 1892 году, к четырехсотлетию со дня открытия Америки Христофором Колумбом (12 октября 1492 года).
«Карманьола» — французская народная революционная песня-пляска. Впервые прозвучала в Париже вскоре после взятия королевского дворца Тюильри (10 августа 1792 года).
Касик — вождь (старейшина) индейского племени.
Атауалыга (1500—1533) — последний Единственный Инка (или просто Инка — так называли себя правители государства Тауантинсуйу, существовавшего в XV—XVI веках на территории современного Перу). Атауальпа был пленен испанским конкистадором Франсиско Писарро в 1532 году и вскоре казнен.
Моктесума (1466—1520) — верховный правитель ацтеков с 1503 года. Пленен Эрнаном Кортесом в ноябре 1519 года.
Варавва — разбойник, которого по требованию толпы Понтий Пилат отпустил вместо Христа (см.: Мф., 27).
Паленке — майякский город на юге Мексики.
Куско — город в южной части Перу. В доколумбовой Америке — столица государства инков Тауантинсуйу. Был захвачен и разграблен конкистадорами Франсиско Писарро в 1533 году.
Момотомбо. — Момотомбо — вулкан в Никарагуа, на северном побережье озера Манагуа (высота 1865 м).
«О vieux Momotombo...» — из стихотворения Виктора Гюго «Момотомбо» (сборник «Легенды веков»).
Сквайр, Эфраим (1821—1888) — американский археолог, историк. Автор книги «Путешествие по Южной Америке».
Овьедо (Фернандес де Овьедо), Гонсало (1478—1557) — испанский хронист, автор «Всеобщей и естественной истории Индий».
Гомара (Лопес де Гомара), Франсиско (1512—1560) — испанский хронист, участник экспедиций Эрнана Кортеса.
Ураган — первое индейское слово, вошедшее в европейские языки. Ураган (Хуракан) — бог ветров в мифологии антильских индейцев.
Твой голос громовой слыхал Колумб однажды... — Христофор Колумб достиг берегов современного Никарагуа в сентябре 1502 года, во время своего четвертого плавания в Америку.
454
Танцовщица-босоножка. — Стихотворение посвящено американской балерине Айседоре Дункан (1878—1927).
Анакторея (греч.) — царица.
Антонио Мачадо. — См. примем, к стихотворению «Раковина».
Сонет. — Рамон дель Валье-Инклан. — См. примем, к стихотворению «Осенний сонет маркизу де Брадомину».
Пираты. — Борей — в греческой мифологии бог северного ветра.
Химера. — Здесь: скульптурное изображение фантастического животного.
ИЗ СБОРНИКА «ПОЭМА ОСЕНИ»
(1910)
Поэма осени. — ...приходят пепельные среды... — Пепельная (покаянная) среда у католиков — первый день великого поста.
Веспер. — Здесь: вечерняя звезда, Венера. В римской мифологии бог вечерней звезды.
Сильван — в римской мифологии лесное божество, отождествляется с Паном.
Верона — итальянский город, в котором жили шекспировские Ромео и Джульетта.
«Руфь, собирай в полях Вооза /ячмень дожатый!» — См. ветхозаветную «Книгу Руфь», гл. 2.
Напей — нимфы долин.
Дорида, Хлоя и Сидализа — героини древнегреческих пастушеских (пасторальных) романов и стихотворений.
Геката — в греческой мифологии богиня призраков, ночных кошмаров, волшебства и заклинаний, повелительница теней в подземном царстве. Священное животное гекаты — собака.
Приап — в греческой мифологии сын Диониса, бог садов и полей, покровитель виноделия, садоводства и рыбной ловли, а также бог сладострастия и чувственных наслаждений.
Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, внук Эола. Выполняя желание Эндимиона, Зевс погрузил его в глубокий сон и тем самым сохранил ему вечную молодость и красоту. Богиня луны Селена влюбилась в Эндимиона и стала приходить к нему в пещеру на горе Латмос, чтобы любоваться прекрасным юношей и целовать его.
Анадиомена, Киприда, Киферея — прозвища Афродиты.
455
Фрина (IV век до н. э.) — греческая гетера, возлюбленная и натурщица скульптора Праксителя (390—330 до н. э.).
Полдень. — Коринф — древнегреческий город-государство.
Маргарите Дебайль. — Стихотворение посвящено дочери аргентинского врача Луиса Дебайля, друга Рубена Дарио.
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Пройди и позабудь. — Мечтать —моя болезнь. — В качестве эпиграфа Дарио взял слова из своего стихотворения «Печаль».
Хуану Рамону Хименесу. — О Хименесе см. примеч. к стихотворению «Лебеди».
Атриум. — Букв.: помещение при входе в храм.
Как Пифагор в число... — Древнегреческий математик и философ Пифагор (570—500 до н. э.) считал число основой всего сущего.
Как льва Геракл... — Первый подвиг Геракла: победа над Немейским львом.
* * *
Федерико Гарсиа Лорка и Пабло Неруда —
«с одним плащом на двоих» — говорят о Рубене Дарио
Данный текст, перевод которого публикуется впервые, представляет собой совместное выступление Гарсиа Лорки и Неруды в аргентинском Пен-клубе (в Буэнос-Айресе) в конце 1933 года. Это выступление, восхваляющее Рубена Дарио, интересно тем, что и Гарсиа Лорка и Неруда в своем творчестве были, можно сказать, антагонистами никарагуанского поэта, и говорят они о нем на сугубо сюрреалистическом языке.
Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936) — испанский поэт, драматург; глава «Поколения 1927 года». В Аргентине жил с 13 октября 1933 года до 27 марта 1934 года.
Пабло Неруда (наст, имя — Нефтали Рикардо Рейес Басу- альто; 1904—1973) — чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии (1971). С Гарсиа Лоркой познакомился и подружился осенью 1933 года в Буэнос-Айресе. О встречах с Лоркой Пабло Неруда рассказал на страницах своей мемуарной книги «Признаюсь: я жил», изданной после смерти автора.
456
Тавромахия — искусство ведения боя быков.
...пригласить на трапезу мертвеца... — Несомненная отсылка к мифу о Дон Жуане и Каменном Госте.
Амадо Вильяр (1899—1954) — аргентинский поэт, драматург.
Луис де Гранада (1504—1588) — испанский писатель, философ, богослов.
Родриго Каро (1573—1647) — испанский поэт.
Братья Архенсола — испанские поэты Луперсио (1559— 1613) и Бартоломе (1562—1631) Леонардо де Архенсола.
Хуан де Аргихо (1560—1623) — испанский поэт.
Кеведо. — См. примем, к стихотворению Рубена Дарио «Поэтам радости».
Вальпараисо — чилийский город-порт на побережье Тихого океана. Расположен неподалеку от столицы Чили — Сантьяго. В Вальпараисо в 1888 году вышла книга Рубена Дарио «Лазурь».
...гонгоровские снега... — Луис де Гонгора (1561—1627) — испанский поэт. Оказал большое влияние на многих испаноязычных поэтов первой половины XX века (в частности, на Лорку и Неруду).
...восславил аргентинскую землю... — В 1910 году, в связи со столетием независимости Аргентины, Рубен Дарио создал стихотворный цикл «Песнь об Аргентине». Отдельным изданием эта «Песнь» вышла в 1914 году.
ХОСЕ МАРТИ
Кубинский поэт, прозаик, литературный критик, журналист, общественный и политический деятель. Национальный герой Кубы. 14 мая 1895 года погиб в бою с испанцами.
При жизни Марти были изданы две его поэтические книги «Исмаэлильо» (1882) и «Простые стихи» (1891). Посмертно опубликованы сборники «Свободные стихи» и «Цветы изгнания».
На русском языке избранные произведения Хосе Марти выходили неоднократно — начиная с 1956 года.
457
ИЗ СБОРНИКА «ПРОСТЫЕ СТИХИ» (1891)
«Человек прямодушный, оттуда...» — В 50-е годы XX века кубинский музыкант и певец Хулиан Орбон положил эти стихи на музыку народной песни «Гуантанамера».
«Чтоб, оставив земную обитель...» — ...я моей сестры незабвенной / унесу на груди портрет. — «Незабвенная сестра» — Ана Марти, умершая в январе 1875 года.
«Душа одиноко томится...» — Здесь флаг над фронтоном плыл, — / хорошо, что его убрали... — Речь идет об испанском флаге, который для Марти являлся символом порабощения Кубы.
Галисъя (Галисия) — историческая область на северо-западе Испании. В XIX веке в Латинской Америке (в том числе и на Кубе) было немало эмигрантов из Галисии.
«Час настанет — и я отправлюсь...» — ...я к солнцу лицом умру! — Эта строка стала на Кубе поговоркой.
«Когда, как школьник простой...» — ...на чужбине, зато не рабом... — Хосе Марти написал эти слова весной 1890 года; в ту пору он находился в эмиграции — в США.
* * *
Рубен Дарио Встреча с Хосе Марти
Данный текст — отрывок из автобиографической книги Дарио «Жизнь Рубена Дарио, рассказанная им самим» (1912). Перевод публикуется впервые.
Единственная встреча никарагуанского^ поэта с Хосе Марти произошла 24 мая 1893 года, в Нью-Йорке.
Каракас — столица Венесуэлы.
...генеральный консул... — Рубен Дарио говорит о себе. В ту пору он, хотя и гражданин Никарагуа, занимал пост генерального консула Колумбии в Аргентине.
Остров. — Имеется в виду Куба.
Кастелар, Эмилио (1832—1899) — испанский политический деятель, писатель, блестящий оратор.
Тампа — город во Флориде (юго-восток США). В XIX веке многие кубинские эмигранты работали в этом городе на табачных фабриках.
458
САЛЬВАДОР ДИАС МИРОН
Мексиканский поэт, журналист, общественный деятель. Первые произведения опубликовал в 1874 году. Главная книга Диаса Мирона — стихотворный сборник «Осколки» (1901). Об этом сборнике кубинский поэт Николас Гильен (1902—1989) писал в 1961 году: «,,Осколки“, несомненно, самая отшлифованная книга во всем творчестве Диаса Мирона, — драгоценность, созданная мастером, который постиг все тайны искусства».
Sursum* —Химера — в греческой мифологии чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона.
Мемнон — в греческой мифологии один из героев Троянской войны. По преданию, создал в Египте гигантские статуи фараона Аменхотепа III (колоссы Мемнона), одна из которых при восходе солнца издавала жалобный звук, напоминавший человеческий голос.
Тантал — в греческой мифологии сын Зевса. Был любимцем богов и удостоился великой для смертного чести: он посещал пиры богов на Олимпе. Возгордившись, Тантал оскорбил богов и был за это низвергнут в Аид. В подземном царстве стоял по горло в воде и терзался жаждой: когда он намеревался сделать глоток, вода отступала. Не мог он утолить и голод: свисавшие над ним ветви с плодами отодвигались, когда Тантал протягивал к ним руку.
Несс — в греческой мифологии кентавр, перевозивший через реку Геракла и его жену Деяниру. Перевозя Деяниру, попытался овладеть ею и был убит стрелой Геракла, пропитанной желчью Лернейской гидры. Умирая, Несс сказал Дея- нире, чтобы она собрала его кровь, которая поможет ей, если понадобится, вернуть любовь Геракла. Деянира поверила кентавру и позже, чтобы сохранить любовь мужа к себе, послала ему плащ (хитон), пропитанный отравленной кровью Несса. Как только Геракл надел хитон, ткань приросла к телу. Испытывая жесточайшие муки, Геракл бросился в огонь.
Варавва. — См. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Колумбу».
Актеон. — См. примеч. к рассказу Рубена Дарио «Нимфа».
Реквием. — По своему строению этот сонет в творчестве Диаса Мирона не является исключением: мексиканский поэт, стремясь преобразовать сонетную форму, нередко повторял в терцетах либо рифмы катренов, либо полностью первый катрен.
459
Верди, Джузеппе (1813—1901) — итальянский композитор. Среди его наиболее известных произведений — «Реквием» (1874).
В назидание другим. — Тибулл Альбий (ок. 50—19 до н. э.) — римский поэт. Писал, в частности, элегические стихи о природе.
МАНУЭЛЬ ХОСЕ ОТОН
Мексиканский поэт, прозаик, драматург. Стал печататься в 1875 году. Выпустил сборники: «Стихи» (1880), «Новые стихи» (1883), «Последние стихи» (1888), «Сельские стихи» (1902).
МАНУЭЛЬ ГУТЬЕРРЕС НАГЕРА
Мексиканский поэт, прозаик, журналист, литературный и театральный критик. В 1894 году основал журнал «Ревиста асуль» («Лазурный журнал»), с которым сотрудничали многие поэты-модернисты — в том числе Рубен Дарио и Хосе Марти. В этом журнале печатались также переводы произведений Льва Толстого и Тургенева. Сборник Гутьерреса Наге- ры «Хрупкие рассказы» (1883) является одним из первых образцов модернистской прозы. Но его стихи были опубликованы отдельной книгой только после смерти автора — в 1896 году.
На русском языке сборник избранных произведений Мануэля Гутьерреса Нагеры — «Стихи» — вышел в 1960 году.
Сумерки. — Нереида — в греческой мифологии нимфа моря, дочь морского бога Нерея.
На смерть Мануэля Альвареса дель Кастильо. — «Не уходи... не пробил час разлуки!» — из трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (действие III, картина V).
Последняя нега. — Мойра — в греческой мифологии богиня человеческой судьбы (в римской — Парка).
Стикс — река подземного царства.
Цинтия — Артемида (см. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Вариации»).
Серенада Шуберта. — Шуберт, Франц (1797—1828) — австрийский композитор. В стихотворении Гутьерреса Нагеры речь идет о «Вечерней серенаде» Шуберта.
Офелия — героиня трагедии Шекспира «Гамлет». Лишившись рассудка, бросилась в реку.
460
Мюссе, Альфред де (1810—1857) — французский поэт, прозаик.
Pax animae. — ...ведь что творят, не ведают и сами. — Парафраз евангельского «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк., 23:34).
Корделия — героиня шекспировской трагедии «Король Лир»; единственная из дочерей Лира, оставшаяся верной ему.
ХУЛИАН дель КАСАЛЬ
Кубинский поэт, прозаик, журналист. При жизни Касаля вышли стихотворные сборники «Листья на ветру» (1890) и «Снег» (1892). Книга «Скульптуры и рифмы» (1893) увидела свет уже после смерти поэта (Хулиан дель Касаль скончался от скоротечной чахотки).
Жемчужина. — В этом символическом стихотворении «драгоценная жемчужина» — Куба, «две прожорливые птицы» — Испания («черная») и США («золотая»).
Ностальгия. — Богдыхан — китайский император.
Мандарины. — Здесь: китайские чиновники (название «мандарины» им было дано португальцами).
Помаре — королевская династия, правившая на острове Таити в XVIII—XIX веках.
Дождливый вечер. — Нимфеи — водяные лилии.
В деревне. — Нал — старинное название драгоценного красного камня шпинели.
Цветы. — Олеандр. — В данном случае олеандр упомянут автором потому, что это растение в испаноязычной поэзии — символ обреченности и измены.
Юпитер и Европа. — Ср. произведение Касаля с катренами сонета Рубена Дарио «Раковина».
Елена. — В сонете речь идет о Елене Прекрасной, дочери Зевса и Леды, виновнице Троянской войны.
Илион — Троя.
ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА
Колумбийский поэт, эссеист. Автор сборников «Стихи» (1886), «Перламутровый ларец» (1893). Многие неопубликованные рукописи Сильвы погибли во время кораблекрушения, когда он, незадолго до смерти, возвращался на родину из Венесуэлы. Покончил жизнь самоубийством.
461
Хотя творчество Хосе Асунсьона Сильвы практически полностью принадлежит начальному периоду модернизма, в ряде его стихотворений уже явственно ощущается ирония по отношению к символическим и мифологическим пристрастиям (штампам) единомышленников Рубена Дарио.
Ноктюрн. — Стихотворение написано в связи со смертью любимой сестры поэта Эльвиры, скончавшейся в 1891 году. В Латинской Америке стихотворение стало хрестоматийным.
К нам идет святой Хуан. — Святой Хуан — апостол Иоанн. Праздник святого Хуана — 24 июня (в России — день Ивана Купалы).
Лазарь. — О воскрешении Лазаря см.: Ин., 11:1—44. В последнем шестистишии стихотворения Сильвы говорится о распятии Христа.
Диего Фальону. —Диего Фальон (1834—1905) — колумбийский поэт-романтик, музыковед.
Нуньес де Арсе, Гаспар (1834—1903) — испанский поэт.
Симфония цвета земляники со сливками. — Название стихотворения — пародийная отсылка к «Симфонии в сером мажоре» Рубена Дарио.
Психея — душа.
Азалия (рододендрон) — южное растение семейства вересковых. Азалия постоянно упоминается в поэзии символистов.
Момы. — В греческой мифологии Мом — божество насмешки и злословия.
Рубен. — Имеется в виду Рубен Дарио.
Мадригал. — ...танагрской статуэтки... — Танагра — древний греческий город, к северо-востоку от Афин. Город прославился мастерами, делавшими миниатюрные керамические статуэтки.
* * *
Габриэла Мистраль Ноктюрн Хосе Асунсьона
Габриэла Мистраль (наст, имя — Лусила Годой Алькая- га; 1889—1957) — чилийская поэтесса. В 1945 году — первой из литераторов Латинской Америки — была удостоена Нобелевской премии.
Стихотворение «Ноктюрн Хосе Асунсьона» входит в сборник Мистраль «Рубка леса» (1938). Перевод публикуется впервые.
462
Альфонсо Рейес (1889—1959) — мексиканский поэт, прозаик, критик, переводчик (переводил, в частности, Чехова). В первый период своего творчества испытал влияние модернизма.
Цирцея (Кирка) — в греческой мифологии нимфа острова Эя, волшебница; обольстительная красавица.
Кентал, Антеру Т аркиниу ди (1842—1891) — португальский поэт. Покончил жизнь самоубийством.
ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС
Аргентинский поэт, прозаик, эссеист, историк, общественный деятель. По значимости сделанного для латиноамериканской литературы рубежа веков Лугонес уступает только Рубену Дарио. Опубликовал десять стихотворных сборников: «Золотые горы» (1897), «Сумерки в саду» (1905), «Лунный календарь души» (1909), «Оды в честь столетия» (1910), «Книга веры» (1912), «Книга пейзажей» (1917), «Золотое время» (1922), «Романсеро» (1924), «Старые стихи» (1928), «Романсы Рио-Секо» (1938). Первым из аргентинских литераторов стал писать фантастические рассказы (сборник «Чуждые силы»; 1906). 18 февраля 1938 года покончил жизнь самоубийством.
Лугонес оказал существенное влияние на многих писателей Латинской Америки XX века.
ИЗ СБОРНИКА «ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ»
(1897)
Антифоны. —Антифон — песнопение на прозаический текст, связанное с псалмом и чередующееся с ним.
Пантера — символ сладострастия, восходящий к «Божественной комедии» Данте (в переводе М. Лозинского пантера заменена на рысь).
Гелвуя — гора в Палестине, упоминаемая в Библии. В битве на Гелвуе филистимляне одержали победу над израильтянами, армию которых возглавлял Саул (см.: 1 Цар., 31).
ИЗ СБОРНИКА «СУМЕРКИ В САДУ»
(1905)
Океанида. — Океанида — нимфа, дочь Океана и Тефиды. Старость Анакреона. — Об Анакреоне см. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Нимфа».
463
Маковое поле. — Хлоя — героиня любовно-буколического романа «Дафнис и Хлоя» греческого писателя Лонга (II—III века).
Рондель — стихотворение строго определенной формы: три строфы на две рифмы, причем первые два стиха повторяются в конце второй строфы, а первый — также и в конце третьей строфы.
ИЗ СБОРНИКА «ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДУШИ» (1909)
Вероятно, сборник создан Лугонесом под впечатлением от стихотворной книги «Подражание государыне нашей Луне» (1885) французского поэта Жюля Лафорга (1860— 1887).
Луна-обманщица. — «Swear not by the moon...» — из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» (действие II, картина II).
Два великих лунатика, или Полное несходство взглядов. — Возможно, одним из поводов для создания этого произведения послужила получившая всемирную известность статья Тургенева «Гамлет и Дон Кихот».
Авентинский холм (Авентин) — один из семи холмов Рима. Римские плебеи во время их борьбы с патрициями уходили на Авентинский холм.
Геркулес в поисках сада Гесперид... — Геспериды, хранительницы золотых яблок, жили на крайнем западе земного круга. Чтобы добыть яблоки Гесперид, Геркулесу (Гераклу) пришлось пройти Европу и Африку (одиннадцатый подвиг Геракла). Но воздвижение Геркулесовых столбов (двух скал на противоположных берегах Гибралтарского пролива) обычно связывают с десятым подвигом Геракла: похищение коров Гериона, который тоже обитал на крайнем западе.
Венгерская мода. —- Вероятнее всего, ироническая отсылка к симфонической поэме венгерского композитора Ференца Листа (1811—1886) «Гамлет».
Валаамова ослица. — См. ветхозаветную притчу об ослице пророка Валаама: Числа, гл. 22. В переносном значении валаамова ослица — обычно покорный, но неожиданно взбунтовавшийся человек.
Силлогизм — умозаключение, в котором из двух данных суждений (посылок) получается третье (вывод).
464
Трапезунд — древний город в Турции, на южном побережье Черного моря. В XIII—XV веках — столица Трапезунд- ской империи.
Алонсо Кихано — Дон Кихот.
ИЗ СБОРНИКА «ОДЫ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ»
(1910)
Эта книга была написана Лугонесом в связи со столетием провозглашения независимости Аргентины (25 мая 1810 года).
К Андам. — Мендоса, Педро де (1487—1537) — испанский конкистадор. В 1536 году основал город Буэнос-Айрес.
К гаучо. — Стихотворение Лугонеса представляет собой десимы (десятистишия с определенной рифмовкой). Десимы были изобретены испанским поэтом Висенте Эспинелем (1550—1624) и получили в испаноязычной поэзии широкое распространение. О гаучо см. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «К деревне».
Факон — длинный прямой нож.
Пайядор — бродячий певец.
...избранникмая... — Речь идет об участии аргентинских гаучо в Майской революции 1810 года, свершенной в Буэнос-Айресе и ставшей частью Войны за независимость испанских колоний в Америке (1810—1826).
Суипача — холм в Боливии, у подножия которого 7 ноября 1810 года армия патриотов одержала победу над испанскими войсками.
Айякучо — город на юге Перу. 9 декабря 1824 года на равнине близ Айякучо произошло сражение, решившее исход Войны за независимость в пользу патриотов.
Реал — испанская серебряная монета.
ИЗ СБОРНИКА «КНИГА ПЕЙЗАЖЕЙ»
(1917)
Одинокая фиалка. — Последнее четверостишие, возможно, реминисценция стихотворения Уильяма Блейка (1757—1827), известного у нас в переводе Самуила Маршака:
В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность И небо — в чашечке цветка.
465
ОЛ QoLr Qfl/O
ИЗ СБОРНИКА «РОМАНСЕРО» (1924)
Касыда. — В стихотворении отразился интерес Лугонеса к восточной (арабской) поэзии. Вместе с тем аргентинский поэт не сохраняет строго узаконенную форму классической касыды.
Песня о науке любви. — Название стихотворения — отсылка к поэме Овидия «Наука любви».
ИЗ СБОРНИКА «ЧУЖДЫЕ СИЛЫ»
(1906)
Переводы обеих новелл печатаются по изданию: Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки. Л., 1990.
Необъяснимое явление. — Кордова, Санта-Фе — граничащие друг с другом провинции в северо-восточной части Аргентины.
Крукс. — Возможно, автор имел в виду Уильяма Крукса (1832—1919), английского физика и химика.
Viola acherontia. — Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри (1737—1814) — французский писатель.
Мишле, Жюль (1798—1874) — французский историк, писатель.
Фрис, Элиас Магнус (1794—1878) — шведский ботаник.
Гулд, Джон (1804—1881) — английский орнитолог.
Стриндберг, Август Юхан (1849—1912) — шведский писатель.
Сен-Пьер — Бернарден де Сен-Пьер.
Бэкон, Фрэнсис (1561—1626) — английский философ. В трактате «Novum Organum» провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой.
Циссоида — алгебраическая кривая.
Соланин — растительный гликоалколоид. Обладает горьким вкусом и предохраняет растения от поедания животными.
Декандоль, Огюстен Пирам (1778—1841) — швейцарский ботаник.
Мандрагора — растение семейства пасленовых с корневищем, напоминающим человеческую фигуру. Поэтому в древности мандрагоре приписывали магическую силу, а корень считался колдовским.
466
* * *
Бальдомеро Фернандес Морено Элегия на смерть Леопольдо Лугонеса
Бальдомеро Фернандес Морено (1886—1950) — аргентинский поэт. Создатель литературного течения «сенсиль- изм», представители которого стремились к простоте и безы- скусности поэтической речи. Был в дружеских отношениях с Лугонесом.
Перевод «Элегии» печатается по изданию: Поэзия Латинской Америки. М., 1975.
Хорхе Луис Борхес Леопольдо Лугонес
Хорхе Луис Борхес (1899—1986) — аргентинский прозаик, поэт, эссеист. Один из наиболее значительных писателей мировой литературы XX века.
Некролог «Леопольдо Лугонес» был опубликован в буэ- нос-айресском литературном журнале «Юг» в 1938 году. Перевод печатается по изданию: Борхес X Л. Собр. соч.: В 4-х т. СПб., 2005. Т. 1.
О своем соотечественнике и литературном предшественнике Борхес писал неоднократно и неизменно в уважительном тоне; в 1960 году он посвятил Лугонесу стихотворный сборник «Делатель».
Груссак, Поль (1848—1929) — аргентинский прозаик.
Унамуно, Мигель де (1864—1936) — испанский прозаик, поэт, драматург, эссеист, философ. Глава «Поколения 1898 года».
...пророком Эры Меча. — В 20-е годы Лугонес был сторонником фашистской идеологии.
Клодель, Поль Луи Шарль (1868—1955) — французский драматург, поэт.
Честертон, Гилберт Кит (1874—1936) — английский прозаик, поэт, философ.
Шоу, Джордж Бернард (1856—1950) — английский драматург; лауреат Нобелевской премии (1925).
Софизм — ложное умозаключение, прикрытое формальной правильностью логического построения; у Борхеса в значении «философский парадокс», «философский афоризм».
467
«История Сармьенто» (1911) — написанная Лугонесом биография Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888), аргентинского государственного деятеля, прозаика, историка.
«Пайядор» (1906) — обширное эссе, посвященное гаучо и аргентинской гаучистской литературе. Пайядор — бродячий певец.
«Огненный дождь», «Абдерские скакуны», «Изур» — все три рассказа входят в сборник «Чуждые силы» (1906).
«Трубка гашиша» — стихотворный сборник Рамона дель Валье-Инклана (см. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Осенний сонет маркизу де Брадомину»).
РИКАРДО ХАЙМЕС ФРЕЙРЕ
Боливийский поэт, прозаик, драматург, литературовед, общественный деятель. Многие годы прожил в Аргентине. Был дружен с Дарио и Лугонесом. Основные стихотворные сборники: «Варварская Кастилия» (1899), «Сны — это жизнь» (1917). Написал несколько стихотворений, посвященных России (в том числе на смерть Льва Толстого). В литературоведческой книге «Законы испанского стихосложения» (1912) выступил защитником и пропагандистом верлибра.
Дорога Лебедей. — Эпиталама. — Букв.: свадебная песня.
Валгалла. — Валгалла — в германо-скандинавской мифологии место, где обитают воины, погибшие во время сражения.
Красный смех. — Возможно, сознательная авторская отсылка к названию повести Леонида Николаевича Андреева (1871—1919) «Красный смех», в которой описывается Русско-японская война 1904—1905 годов. В первое двадцатилетие XX века Леонид Андреев в Испании и Латинской Америке был одним из самых популярных писателей России.
Вороны. — В германо-скандинавской мифологии ворон — священная птица Одина (Вотана), бога войны.
О далекой Фуле. — Фула (Фуле) — по представлениям древних греков и римлян остров, находящийся на крайнем западе земного круга (вероятно, Исландия).
Паллада — Афина.
Берта (?—783) — королева франков, мать Карла Великого.
Кримхильда — героиня немецкого героического эпоса «Песнь о Нибелунгах» (XIII век).
Заунывные голоса. — Одно из «русских» стихотворений Хаймеса Фрейре.
468
Предки. — Тровадор — трубадур.
Капак Юпанки (XII век) — полулегендарный правитель империи инков.
Парана — река в Бразилии и в Аргентине; впадает в залив Ла-Плата.
Маула — река в Чили.
Куско. — См. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Колумбу».
Кито — город, основанный испанскими конкистадорами в 1534 году. Ныне — столица Эквадора.
Гурии — в мусульманской мифологии вечно юные красавицы, обитательницы рая, услаждающие попавших туда праведников.
Арауканы — индейский народ в Чили и Аргентине.
Ярави — любовные песни индейцев (обычно печальные).
...доблестных сарацин лишили Гранады! — Речь идет о взятии Гранады испанцами в 1492 году. С падением Гранадского эмирата завершилась и вся Реконкиста. Сарацины — так в средневековой Европе называли арабов.
АМАДО HERBO
Мексиканский поэт, прозаик, журналист, общественный деятель. Печатался в журнале «Ревиста асуль», основанном Гутьерресом Нагерой. Опубликовал стихотворные сборники: «Черный жемчуг» (1898), «Исход и придорожные цветы» (1902), «Сады моей души» (1905), «Вполголоса» (1909), «Безмятежность» (1914), «Экзальтация» (1917) и др.
Крылья. — Герб Мексики... — На гербе Мексики изображен орел (кондор), терзающий змею. По преданию, ацтеки основали столицу своего государства Теночтитлан (современный Мехико) там, где увидели орла, сидящего на вершине кактуса и пожирающего змею.
Нопаль (индейская смоква) — разновидность кактуса.
Молитва туче. — Ср. первые строки стихотворения Амадо Нерво с начальными строками стихотворения Рубена Дарио «Лебеди».
Гераклит. — Стихотворение представляет собой поэтически преобразованные идеи древнегреческого философа Гераклита (VI век до н. э.).
Филиппу Второму. — Филипп II (1527—1598) — король Испании с 1556 года. Вел аскетичный образ жизни.
469
Его католическому величеству Полю Верлену. —
...твоей головы сократической. — Современники Верлена не раз отмечали, что его голова напоминает голову Сократа. ...на лире иератической. — Иератический — священный.
ХОСЕ ХУАН ТАБЛАДА
Мексиканский поэт, журналист, искусствовед, общественный деятель. Два года прожил в Японии, изучал искусство и поэзию Востока. Автор стихотворных сборников: «Избранное» (1899), «Национальная эпопея» (1909), «Под солнцем и под луной» (1918), «Ли Бо» (1920), «Цветочная ваза» (1922).
Оникс. — Оникс — полудрагоценный камень, состоящий из чередующихся слоев белой и черной окраски. Это камень воинов и вождей. Но он также и камень, уносящий радость.
В стиле хокку. — Хокку (хайку) — японское трехстишие. Создатель хокку — поэт Мацуо Басё (1644—1694).
ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС
Мексиканский поэт, прозаик, общественный деятель. Автор многочисленных стихотворных сборников, среди них: «Прелюдия» (1903), «В молчании» (1909), «Тайные тропы» (1911), «Смерть лебедя» (1915).
Сумей пройти над жизнью... — Арфа Эола (эолова арфа). — См. примеч. к сказке Рубена Дарио «Глухой сатир».
Полночное солнце. — Литературной основой для создания этого сонета автору послужило «Откровение святого Иоанна Богослова» (Апокалипсис), а образ черного (ночного) солнца восходит к «Божественной комедии» Данте.
Мой друг — молчание. — Ср. с заключительными строками сонета «Ты шею лебедю сверни...» Не исключена возможность того, что мексиканский поэт знал о стихотворении Тютчева «Silentium!» («Молчи, скрывайся и таи...»). В начале XX века благодаря русским символистам, заново открывшим Тютчева, в литературных кругах Европы (на нее латиноамериканцы всегда ориентировались) возник интерес к его творчеству.
470
Ты шею лебедю сверни... — Одно из самых известных в Латинской Америке стихотворений Гонсалеса Мартинеса. Приводим перевод Майи Квятковской:
Ты шею лебедю-обманщику сверни — он белой нотою звучит в озерной сини; ему, застывшему в законченности линий, чужда душа вещей, природа не сродни.
Беги от косных форм, от стертых слов — они не согласуются с укрытой в сердцевине глубинной жизнью, и — люби сильней отныне живую жизнь, и ей свой трепет объясни.
Взгляни на мудрую сову в ночи беззвездной, когда, слетев с плеча Пал лады шлемоносной, неслышно на сосну спускается она.
Ей не дана краса лебяжья, но пытливый зрачок ее, во мрак вперяясь молчаливый, читает тайные ночные письмена.
и Овадия Савича:
Ты шею лебедю сверни. Синеют воды, но ложь — тот белый блик, что он в воде колышет; своей лишь прелестью он полон и не слышит живой души вещей и голоса природы.
Ты избегай тех форм и в речи — той свободы, когда не в ритме дня рука поэта пишет, одной гармонией пусть сердце с жизнью дышит, и примет жизнь твои восторженные оды.
Вот мудрая сова бесшумно улетает с Олимпа и подол Паллады покидает; на то же дерево она садится снова.
Без внешней прелести ее зрачок тревожный, вперяясь в темноту, толкует осторожно таинственный язык молчания ночного.
471
Хуан Хосе Арреола Приговоренный
Хуан Хосе Арреола (1918—2001) — мексиканский прозаик, мастер короткой новеллы. Один из лучших стилистов испаноязычной литературы.
Рассказ «Приговоренный» входит в сборник Арреолы «Побасенки» (1949). Перевод печатается по изданию: Арреола X. X. Фантастические истории. СПб., 2000.
Героем своей иронической новеллы автор сделал именно Энрике Гонсалеса Мартинеса в связи с тем, что тот оказался долгожителем (он пережил всех латиноамериканских поэ- тов-модернистов), и для мексиканских писателей, вступивших в литературу в середине XX века, его поэзия была уже порядком надоевшей классикой.
«Нелюдим». — Такого произведения у Гонсалеса Мартинеса нет.
Акростих — стихотворение, в котором первые буквы строк составляют какое-либо слово или фразу. Есть и более сложные акростихи, когда слово или фразу составляют еще и определенные буквы в середине и в конце строк (тройной акростих).
ГИЛЬЕРМО ВАЛЕНСИА
Колумбийский поэт, политический деятель. Первое стихотворение опубликовал в 1896 году — перевод басни Крылова «Гуси». Многие годы занимался переводами из китайской поэзии. Автор сборников «Стихотворения» (1898), «Обряды» (1914).
Читая Сильву. — Стихи Хосе Асунсьона Сильвы см. в настоящей антологии. Ср. также произведение Гильермо Ва- ленсиа со стихотворением Габриэлы Мистраль.
Дездемона — героиня шекспировской трагедии «Отелло». Возможно, здесь ошибка автора; логичнее было бы вспомнить об Офелии, героине трагедии «Гамлет».
Лебедь и Леда. — См. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Лебедь».
Nihil. — Алонсо Кихано — «настоящие» имя и фамилия Дон Кихота.
472
Есть в сумерках... — Не исключено, что Гильермо Валенсия знал стихотворение Тютчева «Есть в осени первоначальной...»
Две головы. — Omnis plaga tristia cordis est et omnis malitia, nequitia mulieris. — В русском каноническом тексте Екклесиаста нет фразы, хотя бы отдаленно напоминающей перевод этих слов.
Юдифь и Олоферн. — Когда — в 658 году до н. э. — ассирийский военачальник Олоферн, командовавший армией Навуходоносора, окружил город Вефулию (Палестина), то жительница этого города, прекрасная еврейка Юдифь, проникла в его шатер и, опоив вином, отрубила ему голову. О подвиге бесстрашной еврейки рассказывается в «Книге Юдифь», являющейся частью католического Ветхого Завета. В русскую каноническую Библию «Книга Юдифь» не входит.
Теза. — В классическом сонете в первом катрене высказывается какая-либо мысль — теза (тезис), во втором катрене она развивается; первый терцет является антитезой (антитезисом), а второй — синтезом. Этот принцип построения сонета автор и использует в своей поэтической тетралогии.
Ассириец. — Имеется в виду Олоферн.
Саломея и Иоанн. —См.: Мф., 14:6—11; Мк., 6:21—28.
Тетрарх. — Здесь: Ирод Антипа, правитель Галилеи, являвшейся в ту пору провинцией Римской империи.
Ессей. — В каноническом тексте Нового Завета Иоанн Креститель ни разу не назван Ессеем. Гильермо Валенсия дает ему такое имя потому, что ессеи — члены общин, существовавших в Иудее во второй половине II века до н. э.—I веке н. э., — были предшественниками христиан.
ХУЛИО ЭРРЕРА-и-РЕЙССИГ
Уругвайский поэт, журналист. Первое стихотворение опубликовал в 1898 году. Первая поэтическая книга Эрре- ры-и-Рейссига — «Каменные пилигримы» — вышла в 1910 году, уже после смерти автора. В 1913 году было издано пятитомное собрание его сочинений.
Древнейшая эпиталама. — Эпиталама. — См. примеч. к стихотворению Рикардо Хаймеса Фрейре «Дорога лебедей».
Пантера. — См. примеч. к стихотворению Леопольдо Лугонеса «Антифоны».
473
Церера — в римской мифологии богиня плодородия и земледелия, а также подземного мира (отождествлялась с греческой Деметрой).
Притяжение. — Honni soit qui mal y pense — девиз ордена Подвязки, созданного английским королем Эдуардом III в 1348 году.
Возвращение с полей. — Маримба — музыкальный инструмент, напоминающий примитивный ксилофон.
ХОСЕ САНТОС ЧОКАНО
Перуанский поэт, драматург, общественный и политический деятель. Первое стихотворение опубликовал в 1890 году. В 1895 году, почти одновременно, вышли две его первые книги: «В деревне» и «Священный гнев». Затем опубликовал книги «Флёрдоранж» (1896), «Девственная сельва» (1898), «Эпопея Морро» (1899), «Конец Сатаны» (1901), «Песни Тихого океана» (1904). Континентальную и европейскую известность Хосе Сантосу Чокано принес сборник «Душа-Америка. Индо-испанские стихи» (1906; с предисловием Мигеля де Унамуно). Был провозглашен «Поэтом Америки». 13 февраля 1934 года убит в Сантьяго (Чили) своим политическим противником.
Моя геральдика. — ...правителем верховным — Инка. — См. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Колумбу».
Антильский вечер. — Дансон — латиноамериканский парный танец.
Героический триптих. — Кауполикан. — См. одноименный сонет Рубена Дарио и примеч. к нему.
Касики. — См. примеч. к стихотворению Рубена Дарио «Колумбу».
Куаутемок (ок. 1500—1525) — последний вождь ацтеков. Руководил борьбой против испанских завоевателей. В 1521 году после падения Теночтитлана захвачен испанцами в плен, подвергнут жестоким пыткам и казнен.
Ольянта (Ольянтай) — заглавный герой драмы, созданной на языке кечуа в доколумбову эпоху. В драме воспевается верность в любви и дружбе, стремление к свободе.
Каоба. — Каоба — дерево с красной древесиной семейства мелиевых.
Колокол Долорес. — Стихотворение посвящено одному из важнейших событий в истории Мексики XIX века: 16 сен¬
474
тября 1810 года в селении Долорес (расположено к семеро- ja- паду от Мехико) священник Мигель Идальго (1753 IК11 > ударом в колокол возвестил о начале Освободительной ной мы против испанских колонизаторов. Ныне 16 сентября н Мексике — День независимости.
...Орел, что шевелится I на гербе чеканной меди / и кружится, / в змея метя. — См. примем, к стихотворению Амадо Нерво «Крылья».
Кена. — Кена — музыкальный инструмент индейцев: флейта из тростника.
Пуна — область плоскогорий в Центральных Андах (в Перу, Боливии, Чили и Аргентине).
КАРЛОС ПЕСОА ВЕЛИС
(наст, имя — Карлос Энрике Мойано Янья)
Чилийский поэт, журналист. Первое стихотворение напечатал в 1899 году. Во время землетрясения 1906 года был серьезно ранен, затем заболел туберкулезом; все это и стало причиной его ранней смерти. Первый сборник Карлоса Песоа Велиса — «Чилийская душа» — был опубликован в 1911 году. Затем, в 1920 году, вышла его стихотворная книга «Золотые колокола».
ХОСЕ МАРИА ЭГУРЕН
Перуанский поэт, эссеист, художник. Автор сборников «Символическое» (1911), «Песни фигур» (1916), «Стихи» (1929).
Дубки. — Окарина — духовой музыкальный инструмент, по звучанию напоминающий флейту.
Сапсаны. — Сапсаны — хищные птицы рода соколов.
Шествие. — ...как песни без слов... — Вероятно, сознательная авторская отсылка к сборнику Поля Верлена «Песни без слов».
ЭВАРИСТО КАРРИЕГО
Аргентинский поэт, драматург. Опубликовал сборники «Еретические мессы» (1908), «Песня моего квартала» (1911). В 1913 году, после смерти поэта, вышел сборник «Душа предместья».
475
Донье Леонор Асеведо де Борхес. — Можно сказать, пророческое четверостишие. Карриего был хорошо знаком и с Леонор Асеведо де Борхес (1876—1975), и с Хорхе Гильермо Борхесом (1874—1938) — родителями Хорхе Луиса. Склонность к сочинительству проявилась у младшего Борхеса в раннем детстве. В семь лет он написал (в манере Сервантеса) рассказ «Роковое забрало», в девять — перевел сказку Оскара Уайльда (1854—1900) «Счастливый принц» (этот перевод тогда же был напечатан в буэнос-айресской газете «Эль Пайс»). О своем старшем современнике и соотечественнике Хорхе Луис Борхес писал неоднократно; в 1930 году он издал книгу «Эваристо Карриего».
РИКАРДО МИРО
Панамский поэт, общественный деятель. Автор стихотворных сборников «Прелюдии» (1908), «Легенды Тихого океана» (1919), «Патриотическая лирика» (1925).
Портобело. — Портобело — город в Панаме, на побережье Карибского моря. Основан Колумбом во время его четвертой экспедиции в Америку (1502—1504). В колониальное время — важный порт на морском пути, соединяющем Испанию и Южную Америку.
Отчизна. — Падубы — вечнозеленые деревья семейства падубовых. Растут в тропиках и субтропиках. Наиболее известен падуб парагвайский. Из его измельченных листьев и молодых побегов приготавливают тонизирующий напиток мате (парагвайский чай).
ДЕЛЬМИРА АГУСТИН И
Уругвайская поэтесса. Широкую известность в Латинской Америке принес ей первый же сборник — «Белая книга»
(1907). Затем она опубликовала еще два сборника: «Утренние песни» (1910) и «Пустая чаша» (1913). Рубен Дарио предсказывал молодой уругвайской поэтессе блестящее будущее. Но ее жизнь оборвалась рано и трагически: 6 июля 1914 года она была застрелена ревнивым мужем.
Новый род. — И с губ моих пьют / губы мед мой... — Несомненная библейская аллюзия. «Сотовый мед каплет из уст
476
твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим» (Книга песни песней Соломона, 4:11).
Лебедь. — Стихотворение частично связано с мифом о Леде и лебеде.
РИКАРДО ГУИРАЛЬДЕС
Аргентинский поэт, прозаик. В 1915 году издал стихотворный сборник «Стеклянный колокольчик». Книги «Мистические стихи» и «Стихи одиночества» были опубликованы в 1928 году, после смерти автора. Рикардо Гуиральдес одним из первых в латиноамериканской литературе обратился к жанру «стихи в прозе». Самое знаменитое, получившее всемирную известность произведение Гуиральдеса — гаучистский роман «Дон Сегундо Сомбра» (1926; русский перевод — 1960). Роман признан одним из шедевров латиноамериканской модернистской прозы.
Пампа. — О пампе (аргентинской равнине) Рикардо Гуиральдес писал неоднократно и в поэтических, и в прозаических произведениях. Для автора и для его героев — гаучо — пампа являлась существеннейшей частью их жизни. Гуиральдес, например, однажды заметил: «Пампа входит в наши дома». Подобное отношение к ней было свойственно и большинству аргентинских литераторов-гаучистов. Любопытное определение необъятной южноамериканской равнине дал побывавший в Аргентине французский писатель Пьер Дриё ла Рошель (1893—1945): «vertige horisontal» («горизонтальное головокружение»).
РАМОН ЛОПЕС ВЕЛАРДЕ
Мексиканский поэт, публицист. Автор стихотворных книг «Священная кровь» (1916) и «Тоска» (1918). В Мексике хрестоматийной стала поэма Лопеса Веларде «Нежная родина» (1921).
Анна Павлова. — Павлова, Анна Павловна (1881—1931) — русская балерина. Выступала с гастролями во многих странах Старого и Нового Света.
Тайс (IV век до н. э.) — греческая куртизанка, возлюбленная Александра Македонского, жена царя Египта Птоломея 1.
Ундина — русалка из немецких народных легенд.
477
Нежная родина. — Шуан. — В данном случае собирательный образ героев исторического романа Оноре де Бальзака (1799—1850) «Шуаны», посвященного восстанию, поднятому крестьянами на северо-западе Франции в 1793 году против якобинцев. Некоторые из шуанов, оставшихся в живых после разгрома восстания, переправились через Ла-Манш в Англию.
...твои урезаны просторы... — Потерпев поражение в Американо-мексиканской войне 1846—1848 годов, Мексика лишилась более половины своей территории.
...кунжутным семенем... — Мексика — один из главных в Латинской Америке производителей кунжута.
АЛЬФОНСИНА СТОРНИ
Аргентинская поэтесса, журналистка. Автор сборников «Сладкая боль» (1918), «Непоправимое» (1919), «Охра» (1925) и др. Будучи неизлечимо больной, покончила жизнь самоубийством.
Слова, обращенные к Рубену Дарио. — Языческих гимнов твоих... — Отсылка к сборнику Рубена Дарио «Языческие псалмы».
Воспоминание. — ...кордовских предгорий силуэт. — Кордова — аргентинская провинция, расположенная к северу от провинции Буэнос-Айрес.
Солнце Америки. — ...американских мифов... — Здесь слово «американских» в значении: «южноамериканских», «латиноамериканских».
Я на дне моря. — На полиповую аллею... — В данном случае удачный каламбур (в параллель к «липовой аллее»), созданный переводчицей. Полипы — кишечнополостные животные, прикрепляющиеся одним концом к кораллам.
Сбивчивая баллада для путешественника. — Суарес. — В Латинской Америке немало знаменитых людей с такой фамилией. В стихотворении, вероятнее всего, имеется в виду Хусто Суарес (1909—1939), аргентинский боксер; в 20—30-е годы он был у себя на родине чрезвычайно знаменит. Например, Хулио Кортасар (1914—1984) посвятил Хусто Суаресу рассказ «Бычок» (сборник «Конец игры»).
Демпси, Джек (наст, имя — Уильям Харрисон; 1895— 1983) — североамериканский боксер; в 1919—1926 годах — неоднократный чемпион мира.
Река — так аргентинцы в разговорной речи называют залив Рио-де-ла-Плата (букв.: Серебряная река).
478
СЕСАР ВАЛЬЕХО
Перуанский поэт, прозаик, драматург, журналист. С 1923 года жил в Европе: во Франции и в Испании. Несколько раз, начиная с 1928 года, приезжал в Россию, познакомился с некоторыми советскими поэтами — в том числе с Маяковским. Эти поездки дали ему материал для пьесы «Москва против Москвы» (1930) и для очерковой книги «Россия в 1931 году. Размышления у подножья Кремля» (1931). При жизни Вальехо вышли только две его стихотворные книги: «Черные герольды» (1918) и «Трильсе» (1922). Всемирную славу принесли ему опубликованные посмертно, в 1939 году, сборники «Человечьи стихи» и «Испания, да минует меня чаша сия». Оказал существенное воздействие на испаноязычную поэзию второй половины XX века.
На русском языке избранные произведения Сесара Вальехо отдельными книгами выходили дважды: в 1966 и в 1984 году.
ИЗ СБОРНИКА «ЧЕРНЫЕ ГЕРОЛЬДЫ»
(1918)
Святое увядание. — Ср. произведение Вальехо с «лунными стихами» Лугонеса.
Ледяные паруса. — Стихотворение представляет собой перевернутый сонет.
Осадок. — Этим вечером ливень не кончит лить... / И мне не хочется жить. — В поэзии Вальехо в большинстве случаев дождь — символ смерти, небытия.
Имперские ностальгии. — Для Сесара Вальехо империя — это империя инков Тауантинсуйу (XV—XVI века), уничтоженная испанскими конкистадорами.
Молитва при дороге. — Стигматы. — Здесь: кровавые язвы на теле распятого Христа.
Поклонение инкам. —Я — кондор беспёрый... — Вальехо знал платоновское определение человека: двуногое, беспёрое животное.
Лазарь. — Скорее всего, речь идет не о брате Марфы и Марии, которого воскресил Христос, а о нищем Лазаре, попавшем по смерти в рай (см.: Лк., 16:19—31).
К братьям во Христе. — ...я мало умирал (poco he muerto). — Литературной основой для создания этой фразы, быть может, послужил сонет испанского поэта Габриэля Альвареса
479
де Толедо (1662—1714) «Смерть есть жизнь»; вот его заключительные строки:
Душа мертва, когда жив человек, душа жива, когда он умирает.
Мистерия. — ...протопресвитеры сердца... — Возможно, слово «протопресвитер» (главный священник кафедрального собора) появилось в стихотворении Вальехо в связи с тем, что в испанской литературе есть Протопресвитер Итский (наст, имя — Хуан Руис; 1283—1350), автор поэмы «Книга благой любви», и Протопресвитер Талаверский (наст, имя — Альфонсо Мартинес де Толедо; 1398?—1470?), историк и прозаик.
Молитвенник. — Осирис — в египетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы.
Сарданапал (IX век до н. э.) — полумифический царь Ассирии.
Дождь. — Ср. со стихотворением «Осадок».
Гемма — резной камень с надписью либо изображением.
Погонщики. — Асьенда — имение, поместье, скотоводческая ферма.
Брату Мигелю. — Мигель Вальехо, с которым Сесар был очень дружен, умер в 1915 году.
Горестный антифон. —Антифон. — См. примеч. к стихотворению Леопольдо Лугонеса «Антифоны».
* * *
Хосе Карлос Мариатеги «Новое, бунтарское искусство...»
Хосе Карлос Мариатеги (1895—1930) — перуанский журналист, публицист, литературовед, общественный и политический деятель. Главная работа Мариатеги — книга «Семь очерков истолкования перуанской действительности» (1928; русский перевод— 1963). Написал также ряд статей о русской литературе.
Данный текст, перевод которого публикуется впервые, является фрагментом эссе «Сесар Вальехо», которое Мариатеги включил в книгу «Семь очерков истолкования перуанской действительности».
Мельгар, Мариано (1791—1815) — перуанский поэт. Прославился песнями в жанре ярави. Принял участие в вос-
480
станин против колонизаторов, был захвачен испанцами в плен и расстрелян.
Индихенизм (индианизм) — общественное течение в Латинской Америке, сторонники которого ставят своей задачей глубинное познание коренного населения Нового Света.
Валькарсель, Луис Эдуардо (1891—1987) — перуанский историк, археолог, политический деятель.
Перричолизм. — Слово «перричолизм» образовано от имени Перричоли — так в Перу называли Микаэлу Вильегас (1748—1819), возлюбленную вице-короля Мануэля де Амата. Об их любви в Перу было создано множество легенд.
Вице-королевство. — Испанские колонии в Южной Америке были разделены на четыре вице-королевства: Новая Испания, Новая Гранада, Ла-Плата и Перу. Правители этих колониальных территорий — вице-короли — назначались королем Испании.
...«навсегда печальна»... — слегка измененная цитата из стихотворения Вальехо «Брату Мигелю».
Виктор Андреев
41 4аи 4ЯАЯ
СОДЕРЖАНИЕ
Виктор Андреев. Звучащая раковина лазурного мира 5
РУБЕН ДАРИО
ИЗ СБОРНИКА «ЛАЗУРЬ» (1888)
Поэту. Перевод О. Савина 31
Кауполикан. Перевод В. Андреева 33
Венера. Перевод В. Андреева 34
Зимой. Перевод В. Андреева 35
Леконт де Лиль. Перевод Э. Липецкой 36
Уолт Уитмен. Перевод О. Савина 37
Глухой сатир. Перевод М. Толстой 38
Нимфа. Перевод Н. Ивановой 44
ИЗ СБОРНИКА «ЯЗЫЧЕСКИЕ ПСАЛМЫ» (1896)
Вариации. Перевод Г. Шмакова 49
К деревне. Перевод М Квятковской 54
Карнавальная песня. Перевод Э. Липецкой 55
Хвала сегидилье. Перевод Г. Шмакова 58
Лебедь. Перевод М. Квятковской 60
Симфония в сером мажоре. Перевод В. Андреева 61
Подвиг Сида. Перевод М Квятковской 63
Колос. Перевод М. Квятковской 65
Источник. Перевод М. Квятковской 66
482
Старуха. Перевод М. Квятковской 67
Поэтам радости. Перевод Э. Липецкой 68
Марина. Перевод М Квятковской 69
Душа моя. Перевод М. Квятковской 70
ИЗ СБОРНИКА «ПЕСНИ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ»
(1905)
Сирано в Испании. Перевод В. Столбова 71
Пегас. Перевод М. Квятковской 74
Триумфальный марш. Перевод О. Савина 75
Лебеди
I. «К кому обращен знак вопроса твоей изогнутой
шеи...» Перевод В. Андреева 77
II. «Всего лишь на миг, о лебедь, твой крик я услышу рядом...» Перевод К Азадовского .... 78
Портреты. Перевод Э. Липецкой 80
Вечер в тропиках. Перевод О. Савина 82
Осенняя песня весной. Перевод В. Столбова .... 83
Летучий стих. Перевод М. Квятковской 86
Тем не менее... Перевод О. Савина 87
Философия. Перевод М. Квятковской 88
Леда. Перевод В. Капустиной 89
Сонет из тринадцати строк. Перевод В. Андреева . . 90
Сонет Сервантесу. Перевод В. Андреева 91
Морское. Перевод О. Савина 92
О, если горький сфинкс... Перевод М. Квятковской 94
Печаль. Перевод М. Квятковской 95
Осеннее. Перевод Б. Дубина 96
Гойе. Перевод О. Савина 97
Осенний сонет маркизу де Брадомину. Перевод В. Андреева 99
Раковина. Перевод О. Савина 100
Там, далеко. Перевод О. Савина 101
Неизбежное. Перевод В. Капустиной 102
ИЗ СБОРНИКА «БРОДЯЧАЯ ПЕСНЯ» (1908)
Колумбу. Перевод Г. Шмакова 103
Момотомбо. Перевод О. Савина 105
483
Осенние стихи. Перевод М. Квятковской 108
Танцовщица-босоножка. Перевод Б. Дубина .... 109
Vesper. Перевод Э. Липецкой 110
Антонио Мачадо. Перевод В. Андреева 111
Сонет. Перевод В. Андреева 112
Пираты. Перевод Вл. Васильева ИЗ
ИЗ СБОРНИКА «ПОЭМА ОСЕНИ» (1910)
Поэма осени. Перевод Б. Дубина 114
Полдень. Перевод В. Андреева 120
Маргарите Дебайль. Перевод О. Савича 121
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Пройди и позабудь. Перевод М. Квятковской ... 124
Печально... Перевод М. Квятковской 125
Хуану Рамону Хименесу. Перевод В. Андреева ... 126
Великий Космополис. Перевод Б. Дубина 127
Эпиграммы. Перевод Вл. Васильева 130
* * *
Федерико Гарсиа Лорка и Пабло Неруда — «с одним плащом на двоих» — говорят о Рубене Дарио. Перевод В. Андреева 131
ХОСЕ МАРТИ
ИЗ СБОРНИКА «ПРОСТЫЕ СТИХИ» (1891)
«Человек прямодушный, оттуда...» Перевод О. Савича 134
«Когда бушует шторм и волны...» Перевод В. Андреева 137
«Чтоб, оставив земную обитель...» Перевод М. Квятковской 138
«Душа одиноко томится...» Перевод О. Савича ... 140
«По г лазам, воспаленно усталым...» Перевод О. Савича 142
«Час настанет — и я отправлюсь...» Перевод В. Андреева 143
484
«Мне художник знаком. В исступленье...» Перевод
М. Квятковской 144
«Когда, как школьник простой...» Перевод О. Савина 145 «Королевский портрет — был декрет...» Перевод О. Савина 146
«Свинцовый полог туч угрюмых...» Перевод В. Столбова 147
«Страданье? Кто посмел сказать...» Перевод О. Савина 148
«Ну и пусть, ну и пусть твой кинжал...» Перевод О. Савина 149
«Вот грудь моя, женщина, — бей!..» Перевод О. Савина 150
«О тиране? Скажи про тирана...» Перевод О. Савина 151 «Я розу белую взрастил...» Перевод В. Андреева 152
«Я многое мог бы отдать...» Перевод В. Андреева . . 153
* * *
Рубен Дарио.
Встреча с Хосе Марти. Перевод Ю. Шашкова 154
САЛЬВАДОР ДИАС МИРОН
Sursum (фрагмент). Перевод Вл. Васильева 157
Реквием. Перевод В. Андреева 159
В назидание другим. Перевод Вл. Васильева .... 160
К М... Перевод В. Андреева 161
МАНУЭЛЬ ХОСЕ ОТОН
Перевод К. Корконосенко
Послание 162
Закат 163
МАНУЭЛЬ ГУТЬЕРРЕС НАГЕРА
В тени смоковниц. Перевод А. Косс 164
Сумерки. Перевод О. Савина 165
Через окно... Перевод О. Савина 168
485
В тот час. Перевод В. Столбова 170
На смерть Мануэля Альвареса дель Кастильо. Перевод
О. Савина 171
Последняя нега. Перевод В. Андреева 173
Серенада Шуберта. Перевод В. Столбова 174
Pax animae. Перевод А. Косс 177
ХУЛИАН дель КАСАЛЬ
Искусство. Перевод В. Андреева 181
Жемчужина. Перевод В. Столбова 182
Критику. Перевод К. Азадовского 183
Праздник. Перевод К. Азадовского 184
Ностальгия. Перевод В. Столбова 185
Сумерки. Перевод В. Столбова 188
Дождливый вечер. Перевод А. Миролюбовой .... 189
В деревне. Перевод А. Миролюбовой 191
Цветы. Перевод В. Андреева 193
Юпитер и Европа. Перевод В. Андреева 194
Елена. Перевод А. Миролюбовой 195
ХОСЕ АСУНСЬОН СИЛЬВА
Ноктюрн. Перевод М. Квятковской 196
К нам идет святой Хуан. Перевод М. Квятковской 199
Голоса вещей. Перевод М. Квятковской 201
Поэма. Перевод М. Квятковской 202
Midnight dreams. Перевод М. Квятковской 204
Тропический пейзаж. Перевод М. Квятковской . . . 205
Лазарь. Перевод М. Квятковской 206
Мертвые. Перевод М. Квятковской 207
Печальное. Перевод М. Квятковской 208
Диего Фальону. Перевод М. Квятковской 209
Идиллия. Перевод М. Квятковской 210
Ответ Земли. Перевод М. Квятковской 211
Симфония цвета земляники со сливками (фрагмент).
Перевод В. Андреева 212
Мадригал. Перевод М. Квятковской 213
Ars. Перевод В. Андреева 214
486
* * *
Габриэла Мистраль.
Ноктюрн Хосе Асунсьона. Перевод В. Андреева 215
ЛЕОПОЛЬДО ЛУГОНЕС
ИЗ СБОРНИКА «ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ» (1897)
Антифоны. Перевод М. Донского 217
Голос против скалы (фрагмент). Перевод А. Миролюбовой 220
ИЗ СБОРНИКА «СУМЕРКИ В САДУ» (1905)
Океанида. Перевод В. Андреева 221
Старость Анакреона. Перевод М. Донского 222
Кокетка. Перевод М. Донского 223
Маковое поле. Перевод В. Литуса 224
Ленивая услада. Перевод В. Литуса 225
ИЗ СБОРНИКА «ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДУШИ» (1909)
Карнавальный псалом. Перевод В. Андреева .... 227
Ноктюрн. Перевод В. Андреева 228
Луна-обманщица. Перевод В. Андреева 229
Два великих лунатика, или Полное несходство взглядов. Перевод В. Петрова 230
ИЗ СБОРНИКА «ОДЫ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ» (1910) Перевод М. Квятковской
К Андам 239
К гаучо 242
ИЗ СБОРНИКА «КНИГА ВЕРЫ» (1912)
Адажио. Перевод В. Андреева 245
История моей смерти. Перевод А. Миролюбовой . . 246
487
ИЗ СБОРНИКА «КНИГА ПЕЙЗАЖЕЙ» (1917)
Осенняя отрада. Перевод В. Андреева 247
Одинокая фиалка. Перевод В. Михайлова 248
Серые волны. Перевод В. Андреева 249
Очарование. Перевод В. Андреева 250
Псалом дождя. Перевод В. Андреева 251
Крылья
Щегол. Перевод А. Миролюбовой 253
Разрушенное гнездо. Перевод В. Михайлова 253
Сова. Перевод В. Андреева 254
Безмолвие. Перевод В. Андреева 255
ИЗ СБОРНИКА «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» (1922)
Перевод В. Андреева
В минуту покоя 256
Уже 257
ИЗ СБОРНИКА «РОМАНСЕРО» (1924)
Касыда. Перевод В. Андреева 258
Песня об истинной любви. Перевод В. Андреева . . 259
Песня о науке любви. Перевод А. Андреева .... 260
ИЗ СБОРНИКА «ЧУЖДЫЕ СИЛЫ» (1906)
Перевод В. Резник
Необъяснимое явление 261
Viola acherontia 270
* * *
Бальдомеро Фернандес Морено.
Элегия на смерть Леопольдо Лугонеса. Перевод
В. Столбова 277
Хорхе Луис Борхес.
Леопольдо Лугонес. Перевод Б. Дубина 277
488
РИКАРДО ХАЙМЕС ФРЕЙ РЕ
Дорога Лебедей. Перевод Вл. Васильева 2КО
Смерть героя. Перевод Вл, Васильева 2КI
Валгалла. Перевод В, Андреева 2К2
Вороны. Перевод Вл, Васильева 283
Странствующая Венера. Перевод Вл. Васильева . . . 284
Мимолетное. Перевод Вл. Васильева 286
Вечно. Перевод Вл. Васильева 287
О далекой Фуле. Перевод Вл. Васильева 288
Сумерки. Перевод Вл. Васильева 290
Туманы. Перевод Вл. Васильева 291
Заунывные голоса. Перевод Вл. Васильева 292
Предки (фрагменты). Перевод Вл. Васильева 293
АМАДО НЕРВО
Крылья. Перевод И. Чежеговой 296
Вулканы. Перевод И. Чежеговой 297
Я не рожден смеяться... Перевод И. Чежеговой . . 298
Старый припев. Перевод И Чежеговой 300
Скользишь над пропастью моих скорбей... Перевод
И. Чежеговой 301
Бессмертие. Перевод И. Чежеговой 302
Молитва туче. Перевод И. Чежеговой 303
Осень пришла. Перевод И. Чежеговой 304
Малодушие. Перевод В. Андреева 306
Давайте любить! Перевод И. Чежеговой 307
Не знает каштан, что он носит каштана названье... Перевод И. Чежеговой 308
На перепутье. Перевод А. Миролюбовой 309
Гераклит. Перевод В. Андреева 310
Филиппу Второму. Перевод В. Андреева 311
Его католическому величеству Полю Верлену. Перевод
А. Миролюбовой 312
Мы квиты. Перевод И. Чежеговой 313
ХОСЕ ХУАН ТАБЛАДА
Оникс. Перевод Вл. Васильева 314
489
В стиле хокку. Перевод Вл. Васильева 316
Идеограммы. Перевод М. Петрова
Ли Бо 318
Кинжал 324
Talón rouge 325
Зеркало 326
След 327
Впечатление от Гаваны 328
Двойной ноктюрн 329
ЭНРИКЕ ГОНСАЛЕС МАРТИНЕС
Сумей пройти над жизнью... Перевод М Квятковской 330
Полночное солнце. Перевод М. Квятковской .... 332
Смерть от любви. Перевод М. Квятковской .... 333
Мой друг — молчание. Перевод В. Андреева .... 334
Поэты новых дней. Перевод О. Савина 335
Ты шею лебедю сверни... Перевод В. Андреева . . . 336
* * *
Хуан Хосе Арреола.
Приговоренный. Перевод С. Корзаковой .... 337
ГИЛЬЕРМО ВАЛЕНСИА
Читая Сильву (фрагмент). Перевод В. Андреева . . . 339
Nihil. Перевод В. Андреева 340
Есть в сумерках... Перевод В. Андреева 341
Две головы. Перевод А. Миролюбовой 342
ХУЛИО ЭРРЕРА-и-РЕЙССИГ
Древнейшая эпиталама. Перевод В. Литуса .... 345
Притяжение. Перевод В. Литуса 346
Возвращение с полей. Перевод В. Андреева .... 347
Воскресенье. Перевод В. Литуса 348
Тень скорби. Перевод В. Литуса 349
490
ХОСЕ САНТОС ЧОКАНО
Моя геральдика. Перевод В. Андреева 350
Антильский вечер. Перевод Б. Дубина 351
Героический триптих. Перевод Б. Дубина 352
Каоба. Перевод Б. Дубина 354
Маис. Перевод Б. Дубина 355
Спящий кайман. Перевод Б. Дубина 356
Магнолия. Перевод Б. Дубина 357
Осенняя ночь. Перевод Б. Дубина 358
Колокол Долорес. Перевод Б. Дубина 359
Сон кондора. Перевод Г. Шмакова 362
Кена. Перевод Г. Шмакова 363
Песня на горной дороге. Перевод Г\ Шмакова 364
КАРЛОС ПЕСОА ВЕЛИС
Ничего. Перевод К. Корконосенко 366
Вечер в больнице. Перевод В. Андреева 367
ХОСЕ МАРИА ЭГУРЕН
Карминные короли. Перевод Г. Шмакова 368
Вечерние балконы. Перевод Г. Шмакова 369
Дубки. Перевод Г\ Шмакова 370
Сапсаны. Перевод Г. Шмакова 371
Шествие. Перевод Г. Шмакова 373
Сверкнувшая искра. Перевод В. Андреева 374
ЭВАРИСТО КАРРИЕГО
Перевод В. Андреева
Донье Леонор Асеведо де Борхес 375
Твоя тайна 376
491
РИКАРДО МИРО
Перевод Б. Дубина
Последняя чайка 377
Портобело 378
Отчизна 380
ДЕЛЬМИРА АГУСТИНИ
Перевод И. Чежеговой
Невыразимое 382
Хищница любви .... 383
Новый род 384
Неугасимые 385
Лебедь 386
Мечта о любви 388
Вдохновение против смерти 389
РИКАРДО ГУИРАЛЬДЕС
Перевод В. Андреева
Покой 390
Млечный Путь 391
Пампа 392
«Господи, к небесам я вздымаю руки...» 393
Бесконечность 394
РАМОН ЛОПЕС ВЕЛАРДЕ
Анна Павлова. Перевод В. Андреева 395
Нежная родина (фрагмент). Перевод В. Петрова . . 397
АЛЬФОНСИНА СТОРНИ
Слова, обращенные к Рубену Дарио. Перевод В. Андреева 400
Воспоминание. Перевод Д. Синицыной 401
492
Солнце Америки. Перевод В. Андреева 402
Я хочу спать. Перевод Д. Синицыной 401
Так. Перевод Д. Синицыной 404
Я на дне моря. Перевод Д. Синицыной 405
Сбивчивая баллада для путешественника. Перми н)
Д. Синицыной 406
СЕСАР ВАЛЬЕХО
ИЗ СБОРНИКА «ЧЕРНЫЕ ГЕРОЛЬДЫ» (1918)
Стремительные видения небес
Святое увядание. Перевод В. Андреева 409
Ледяные паруса. Перевод И. Чежеговой 410
Сочельник. Перевод И. Чежеговой 411
Полутьма. Перевод В. Андреева 412
Страус. Перевод К. Азадовского 413
Путем воды
Паук. Перевод В. Андреева 414
Вавилонская башня. Перевод В. Андреева 415
Интимная сцена. Перевод В. Андреева 416
О земном
Поэт своей любимой. Перевод В. Андреева 418
Сентябрь. Перевод В. Андреева 419
Осадок. Перевод И. Чежеговой 420
Имперские ностальгии
«Как древние вожди, идут волы...» Перевод И. Чежеговой 421
«Светает. Лишь к утру иссяк угарный хмель...» Перевод
И. Чежеговой 422
Молитва при дороге. Перевод Б. Дубина 423
Поклонение инкам. Перевод В. Андреева 424
493
Громы
К братьям во Христе. Перевод В. Андреева .... 425
Хлеб наш. Перевод В. Андреева 426
Брачное ложе вечности. Перевод В. Андреева . . . 427
Камни. Перевод И. Чежеговой 428
Мистерия. Перевод В. Андреева 429
Молитвенник. Перевод В. Андреева 430
Дождь. Перевод И. Чежеговой 431
Любовь. Перевод В. Андреева 432
Погонщики. Перевод И. Чежеговой 433
Песни домашнего очага
Паутина лихорадки. Перевод В. Андреева 434
Брату Мигелю. Перевод В. Андреева 435
Горестный антифон. Перевод В. Андреева 436
* * *
Хосе Карлос Мариатеги.
«Новое, бунтарское искусство...» Перевод В. Андреева 438
Комментарии (В. Андреев) 441
поэзия
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО
МОДЕРНИЗМА
Утверждено к печати
Редколлегией серии «Библиотека зарубежного поэта»
Редактор издательства Т. Л. Ломакина Художник Е. В. Кудина Технический редактор И. М. Кашеварова Компьютерная верстка Л. Н. Наполъской
Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 12.10.12. Подписано к печати 14.10.13. Формат 84x108 V32- Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уел. печ. л. 26. Уч.-изд. л. 16.8.
Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3848. С 193
Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука» 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1 E-mail: main@nauka.nw.ru
Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
ISBN 978-5-02-025413-8
о
5
2 <d
СЗ го rr*