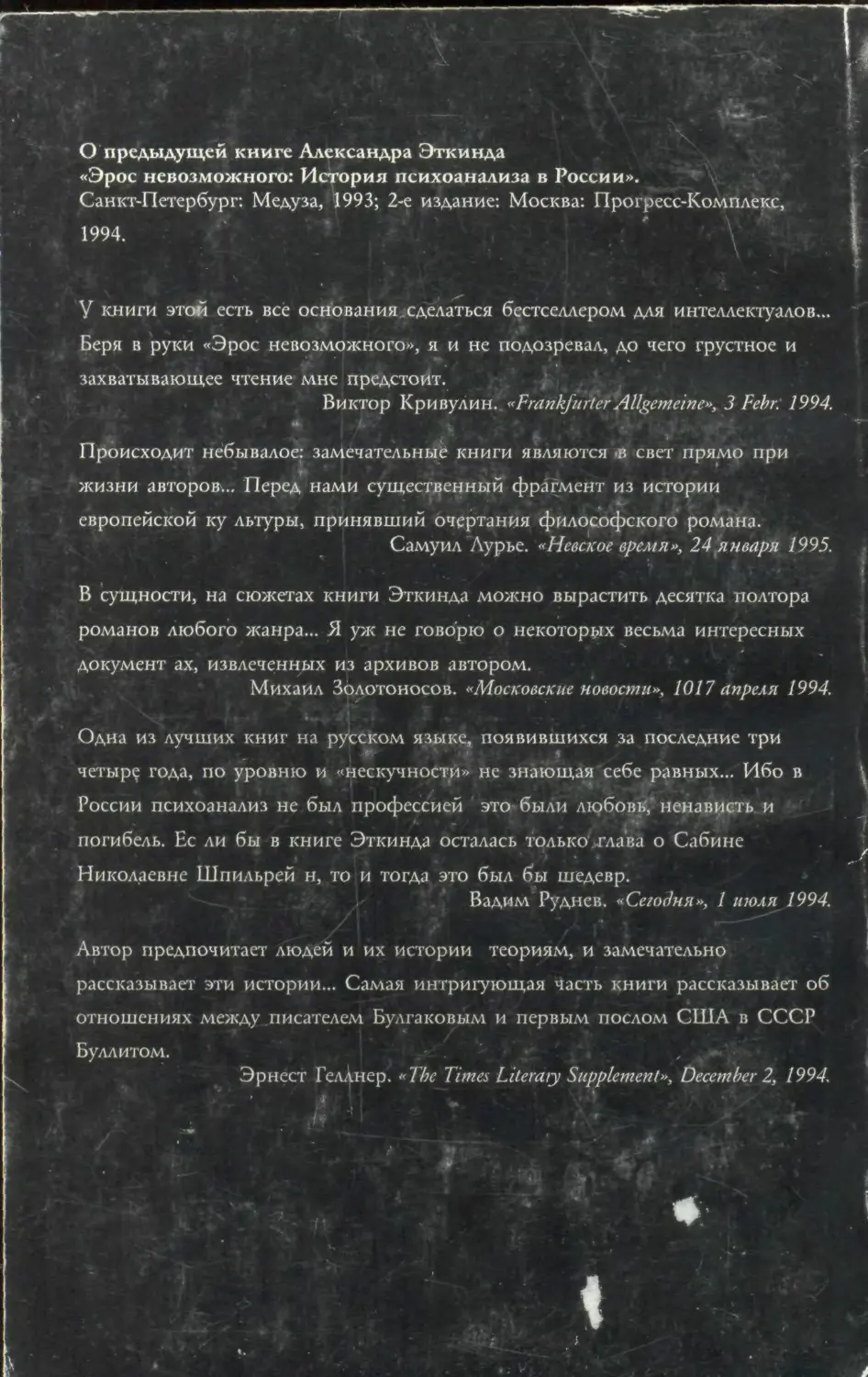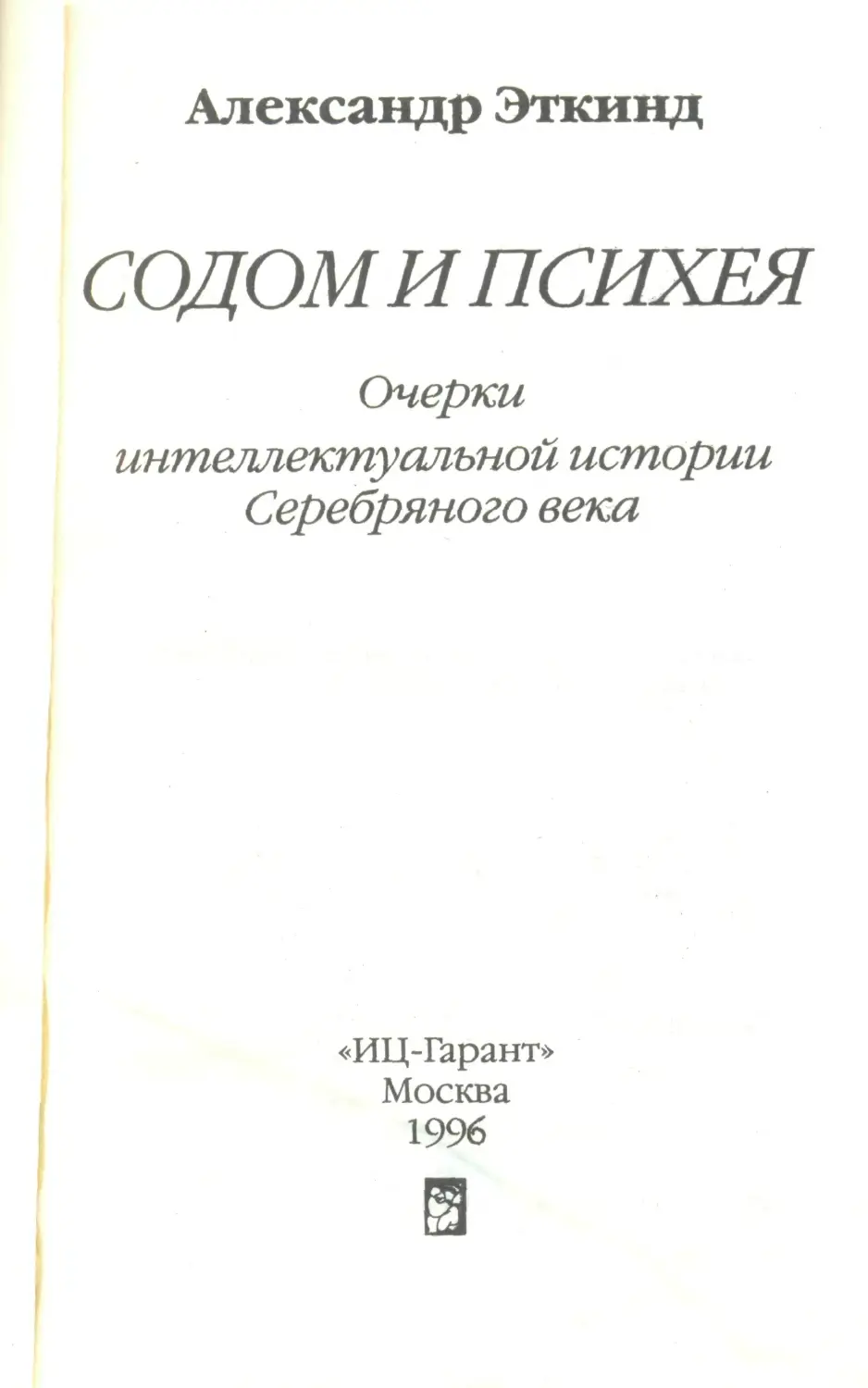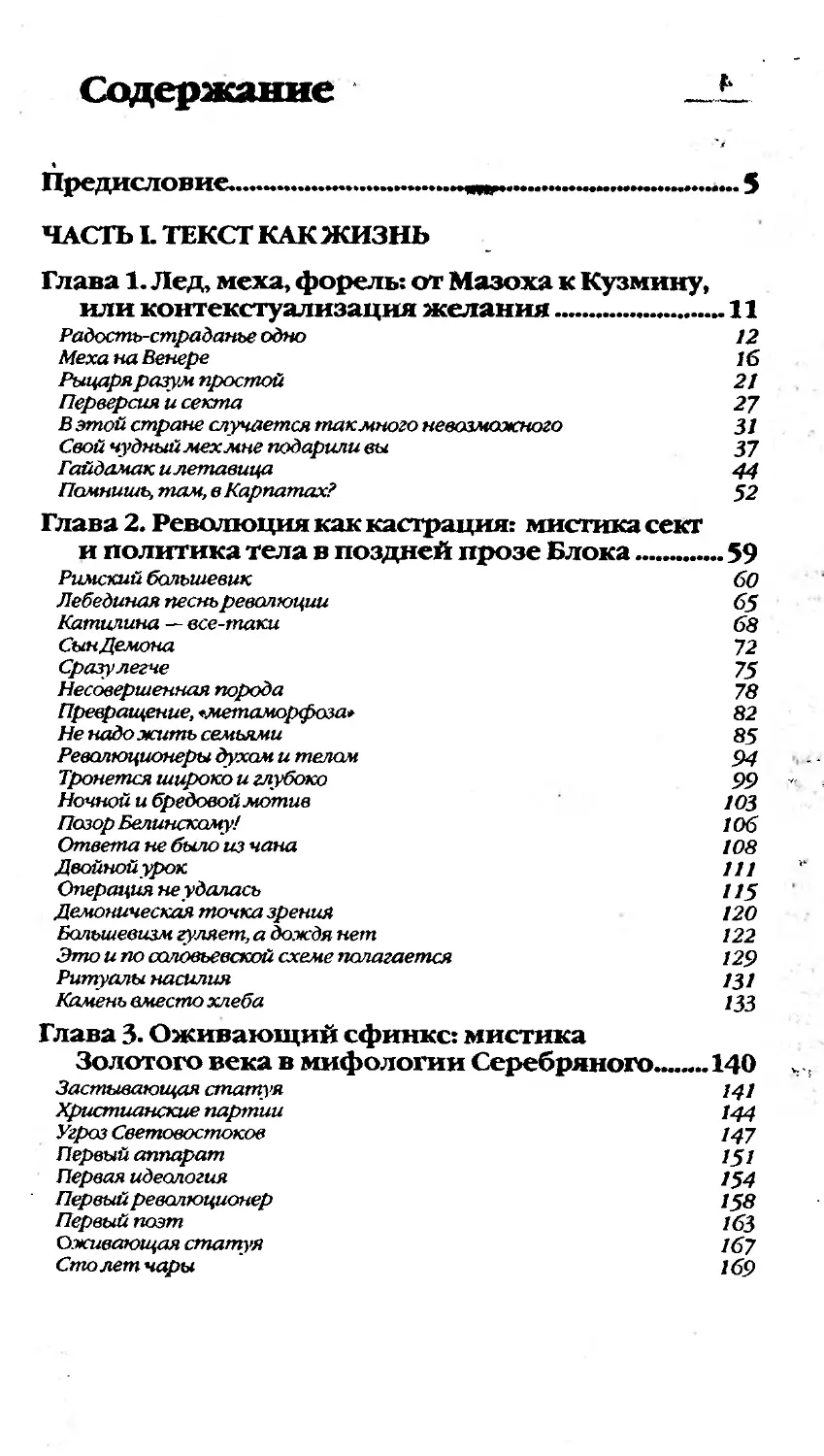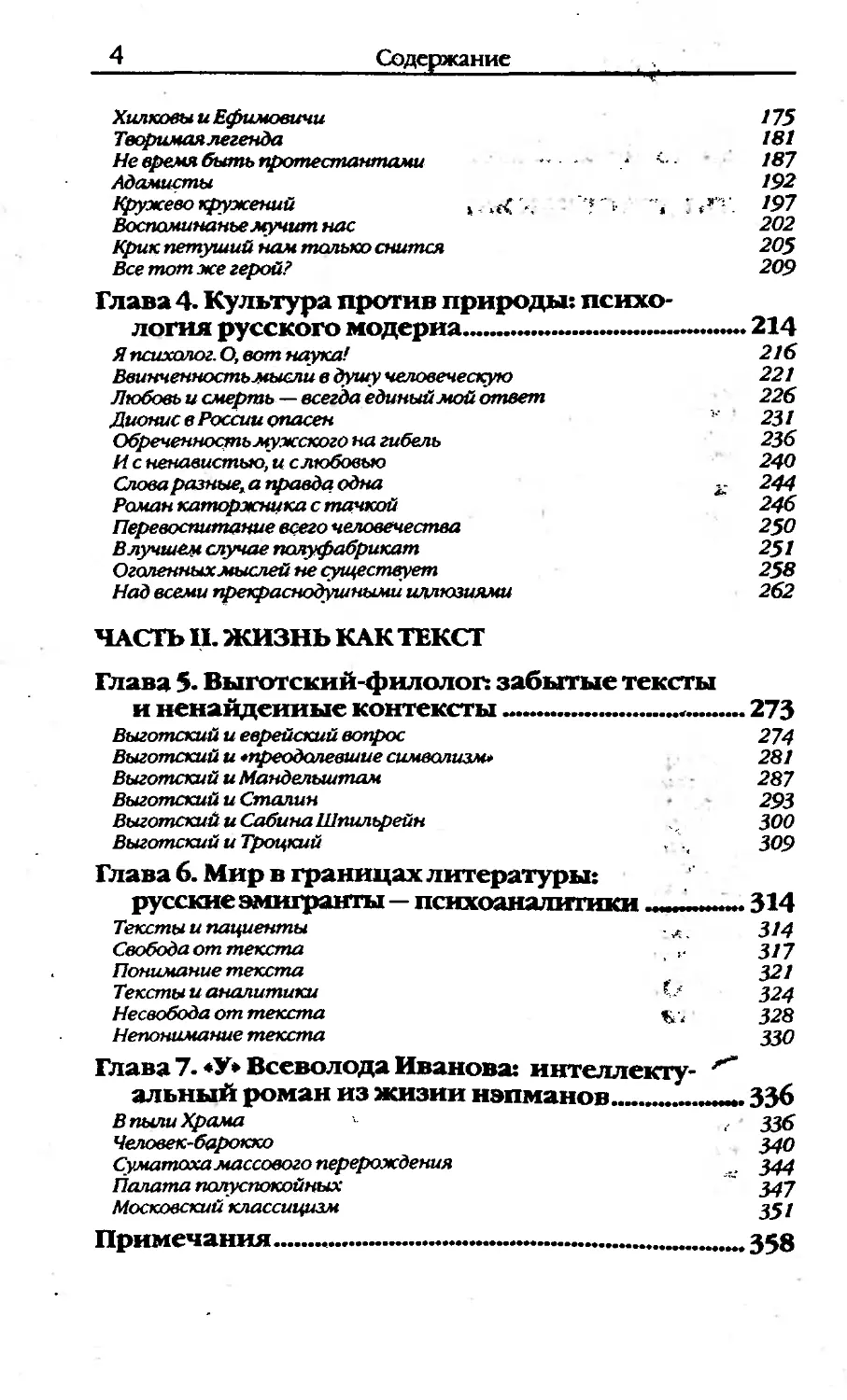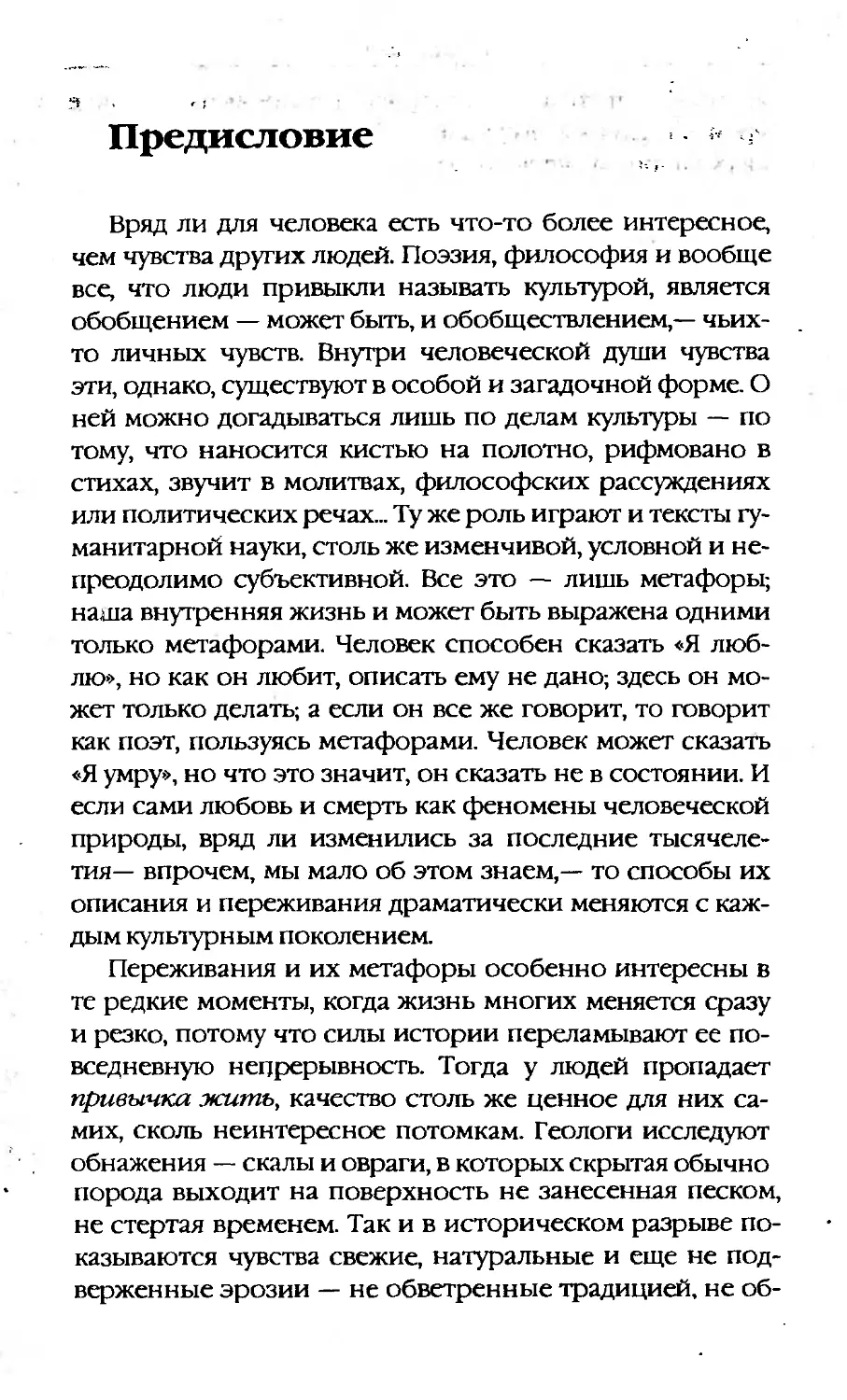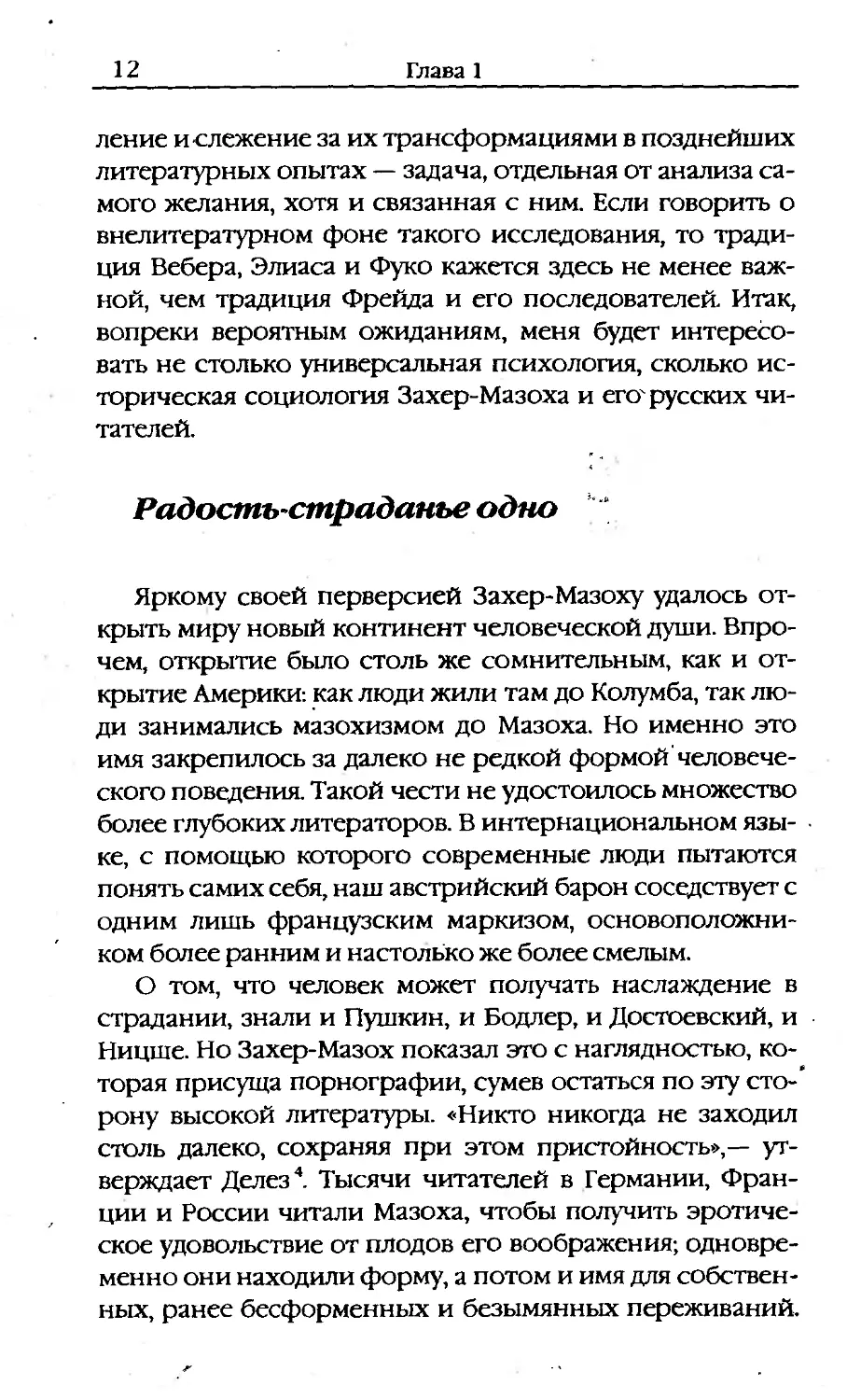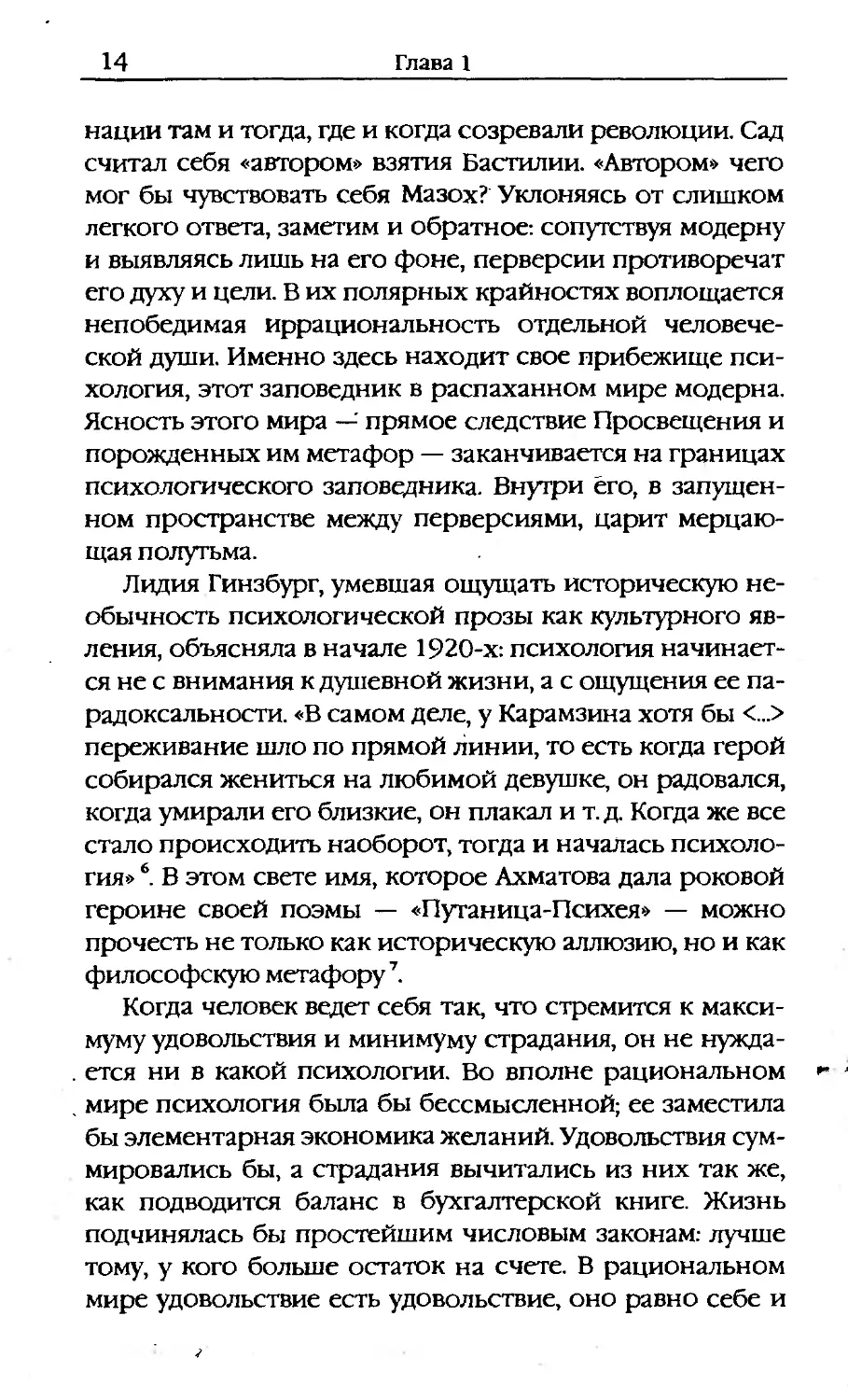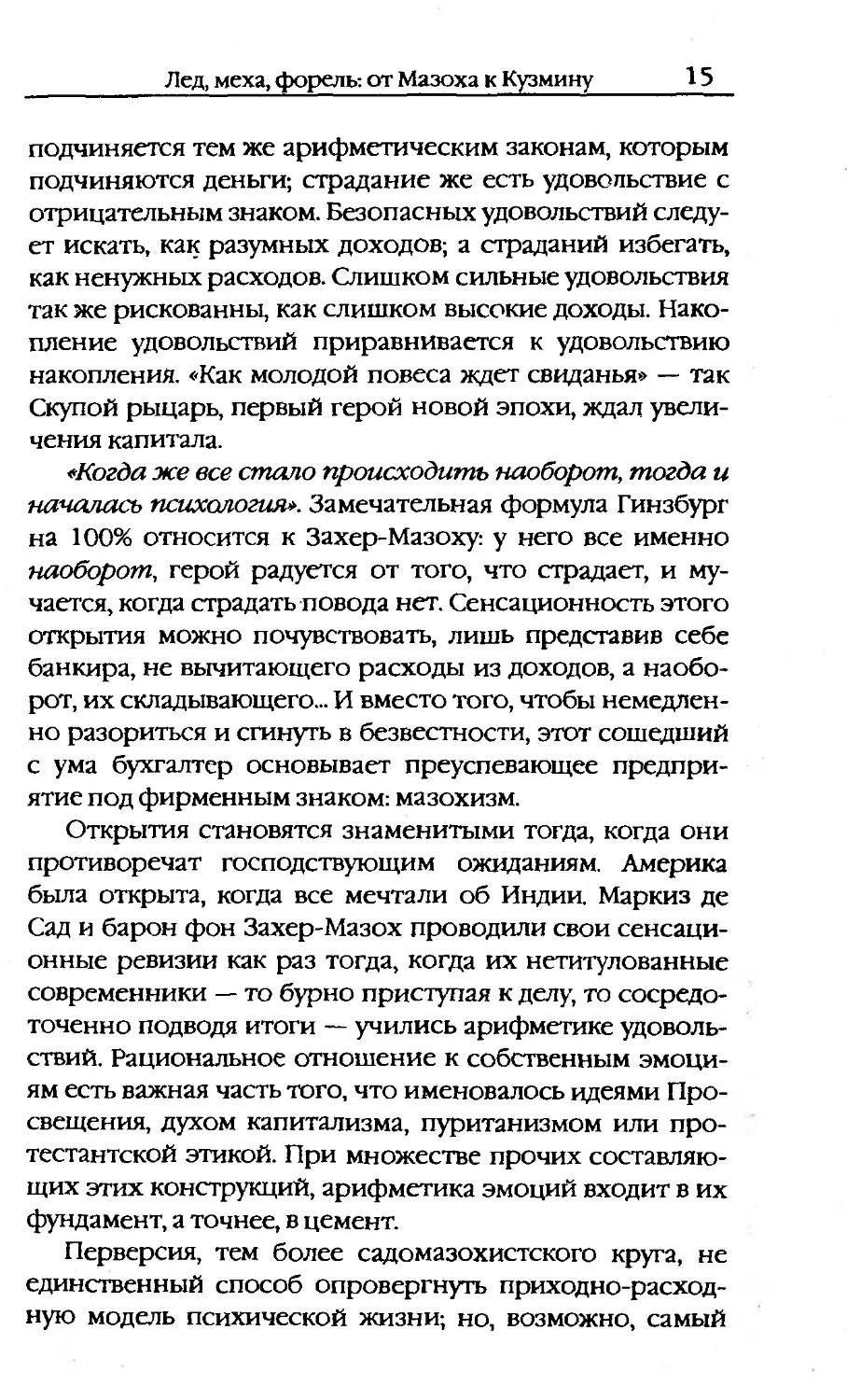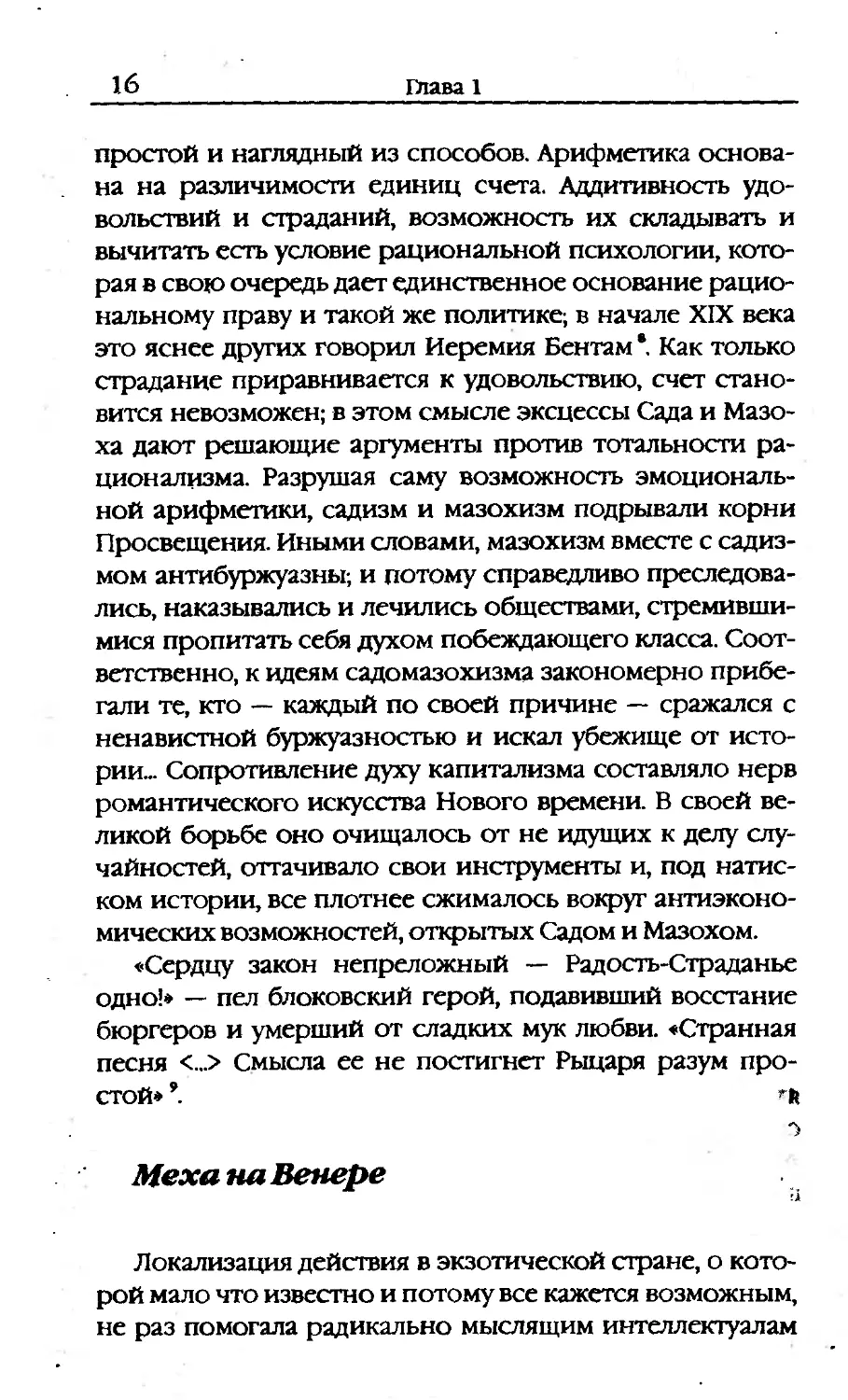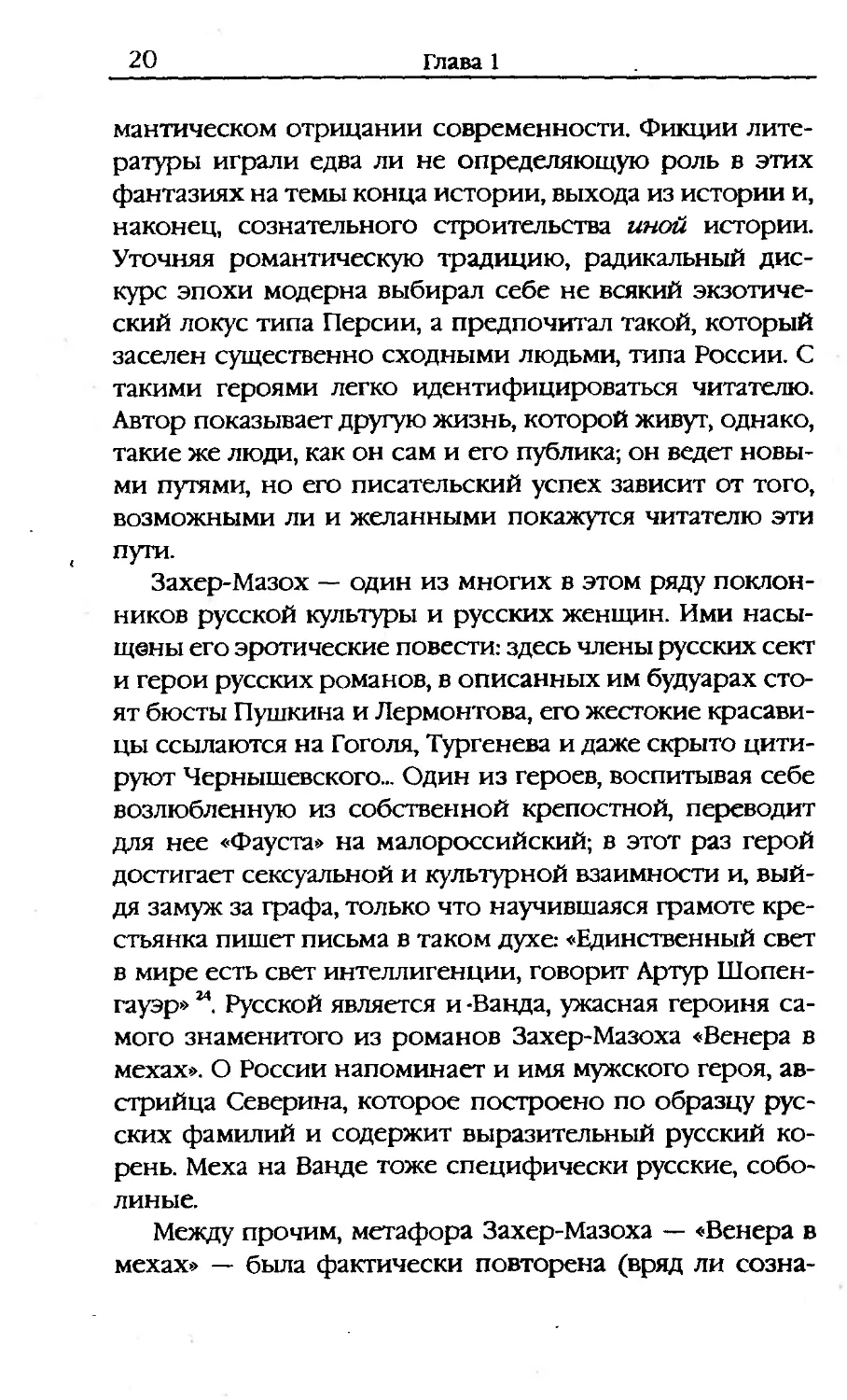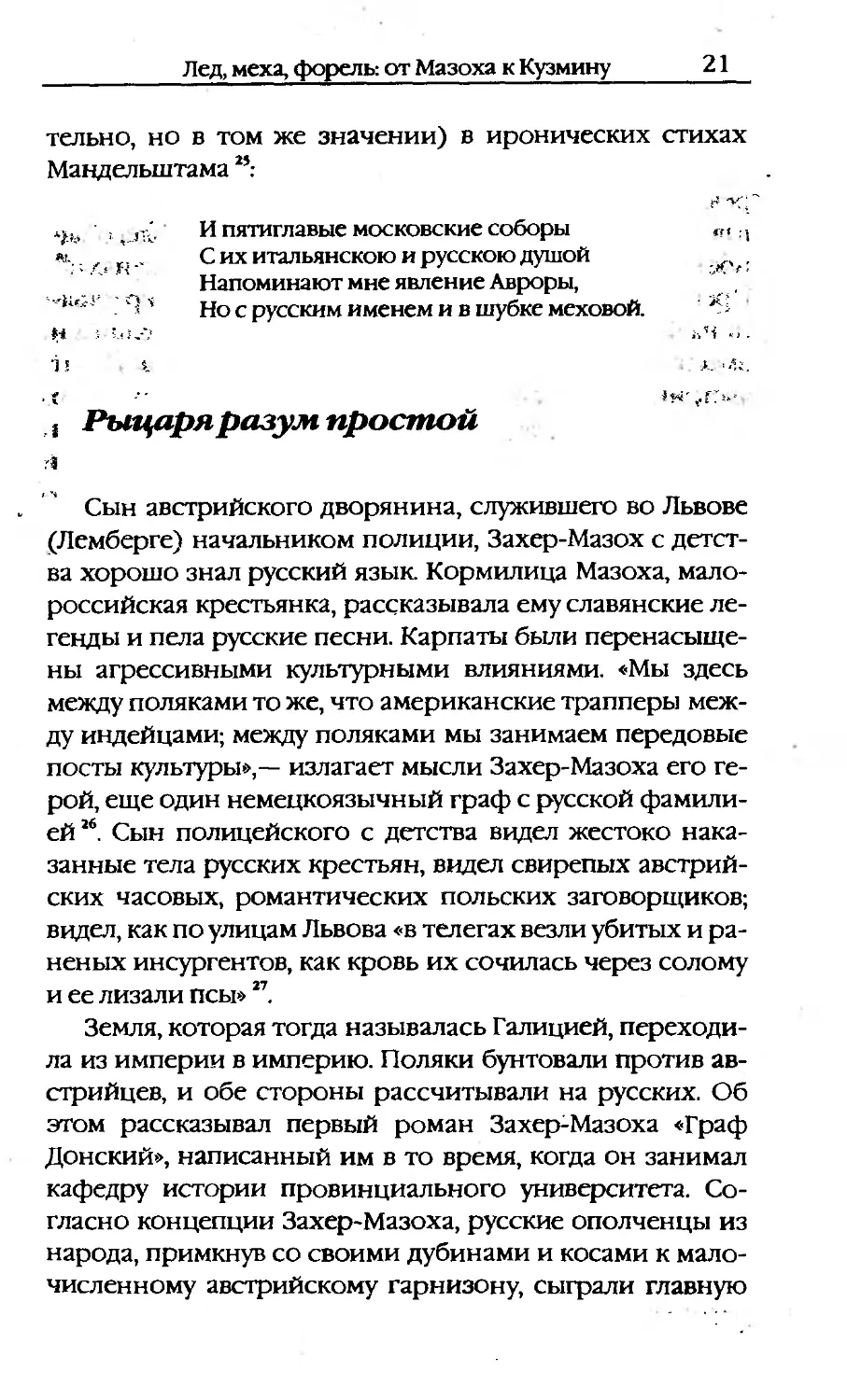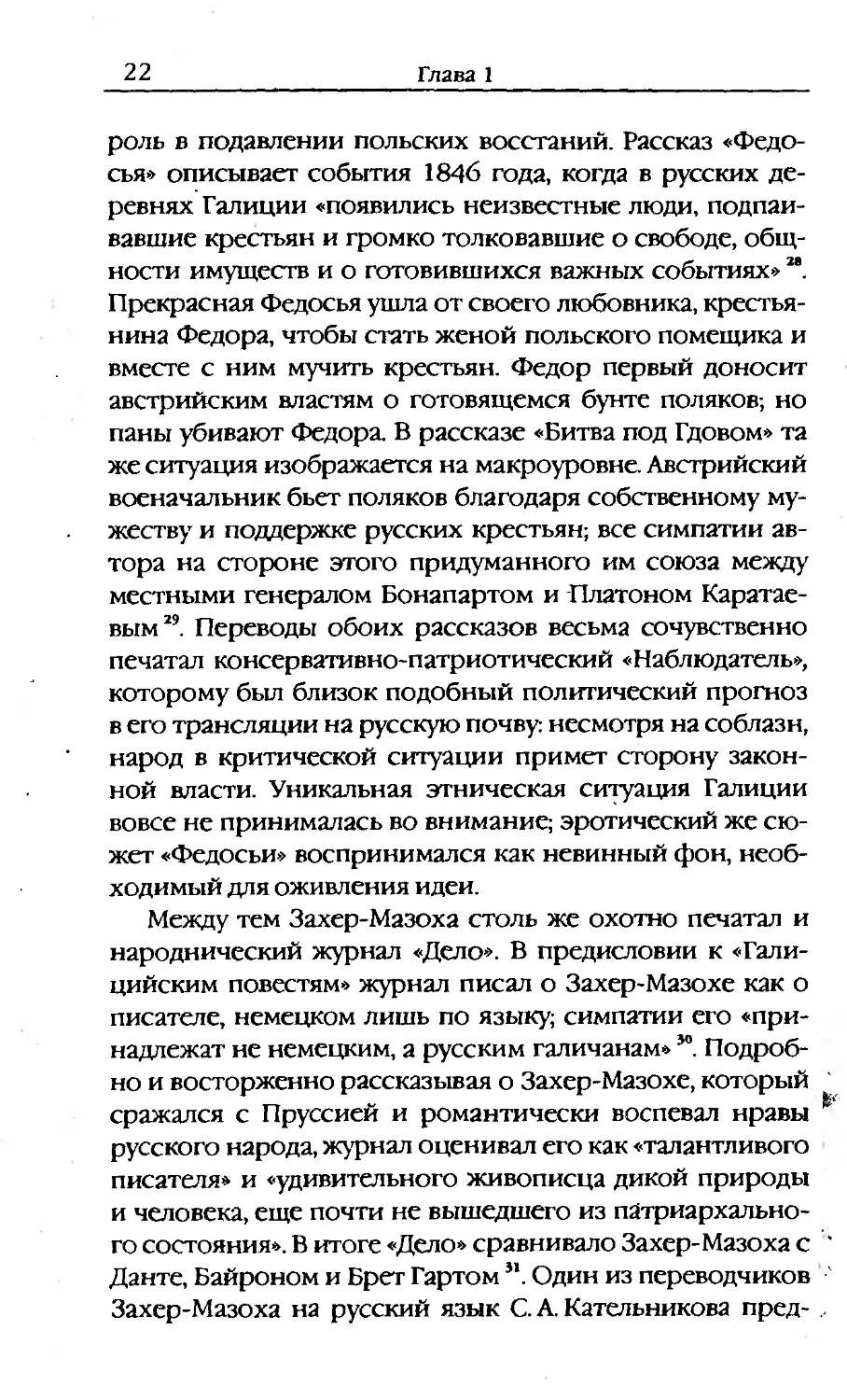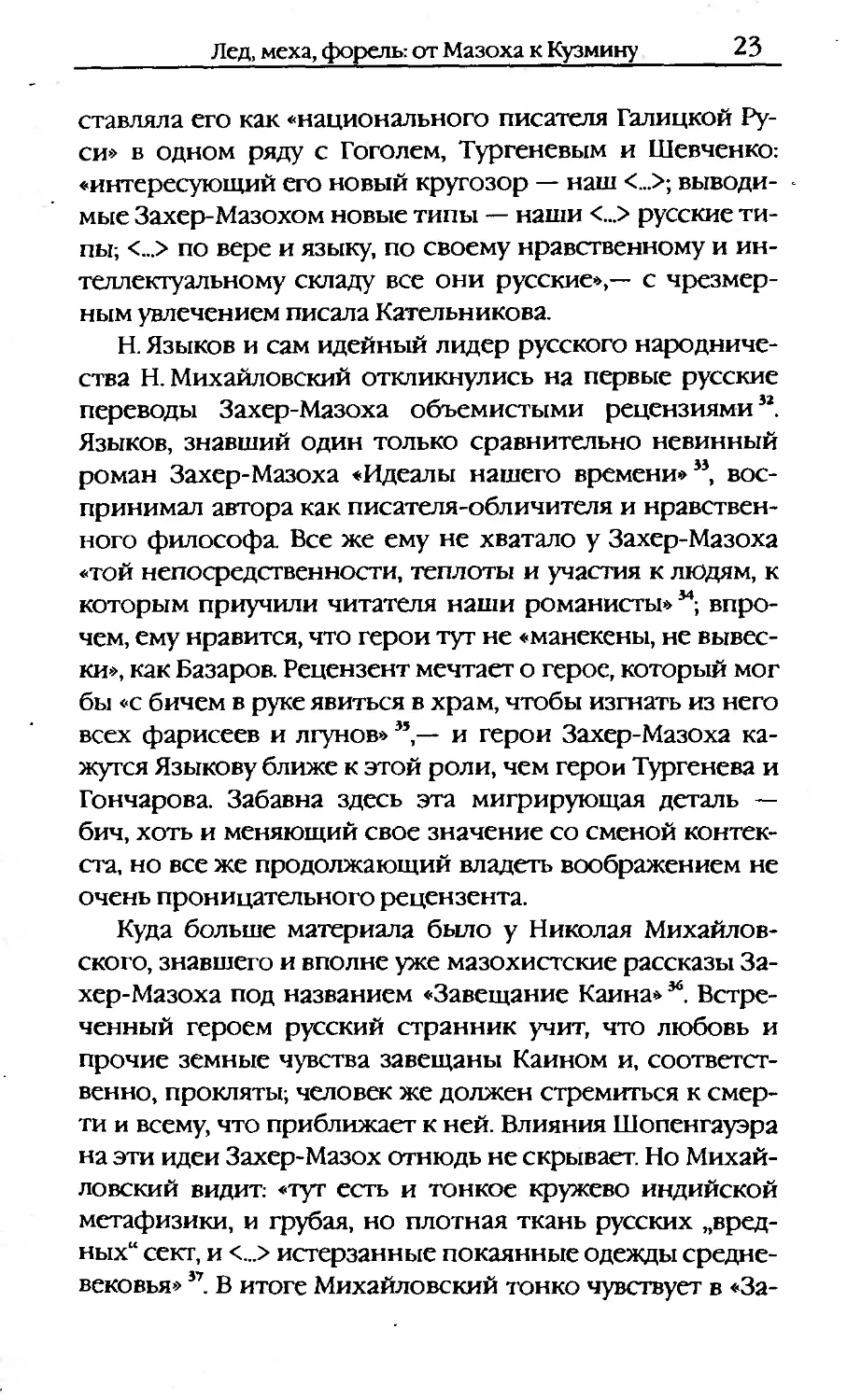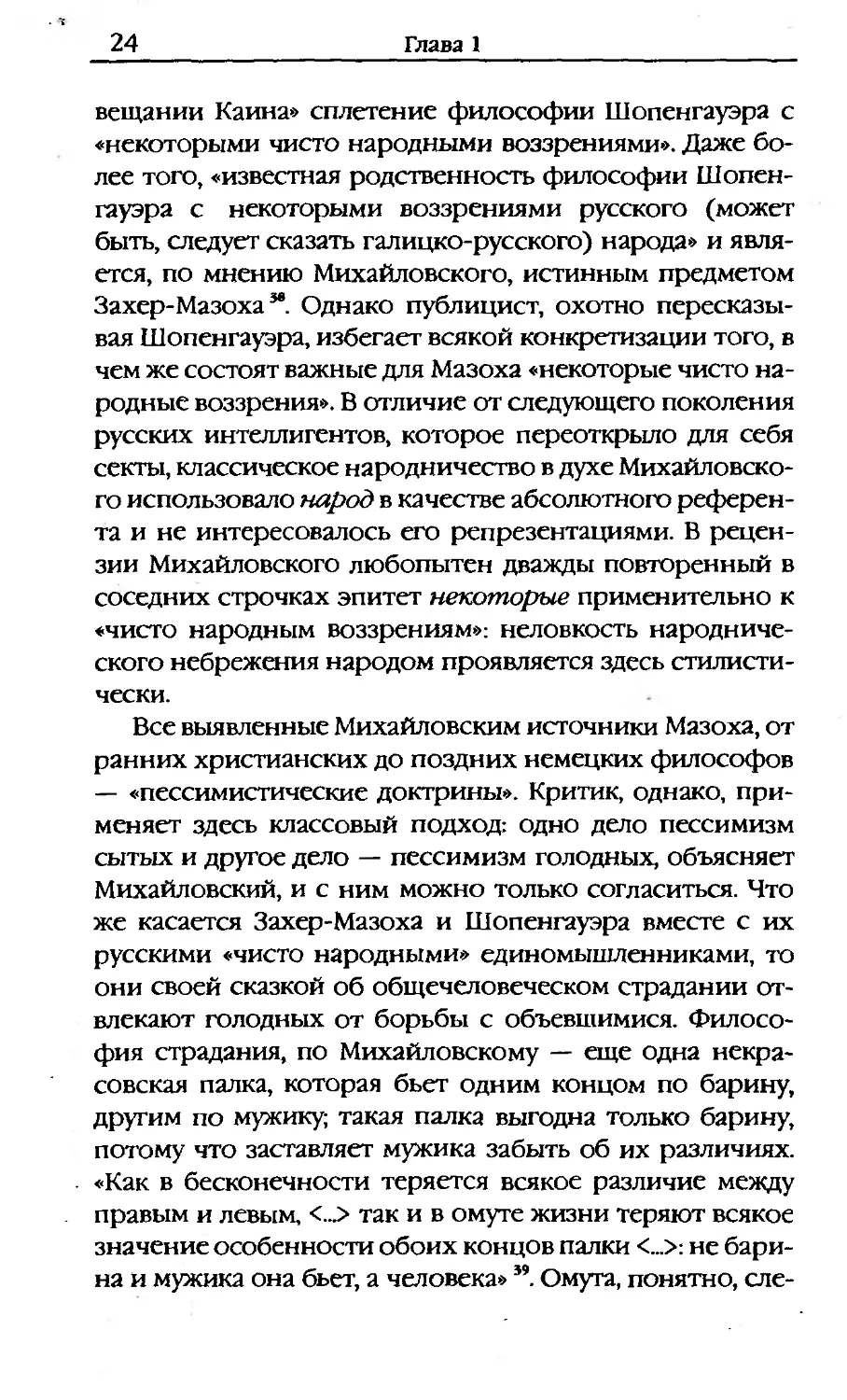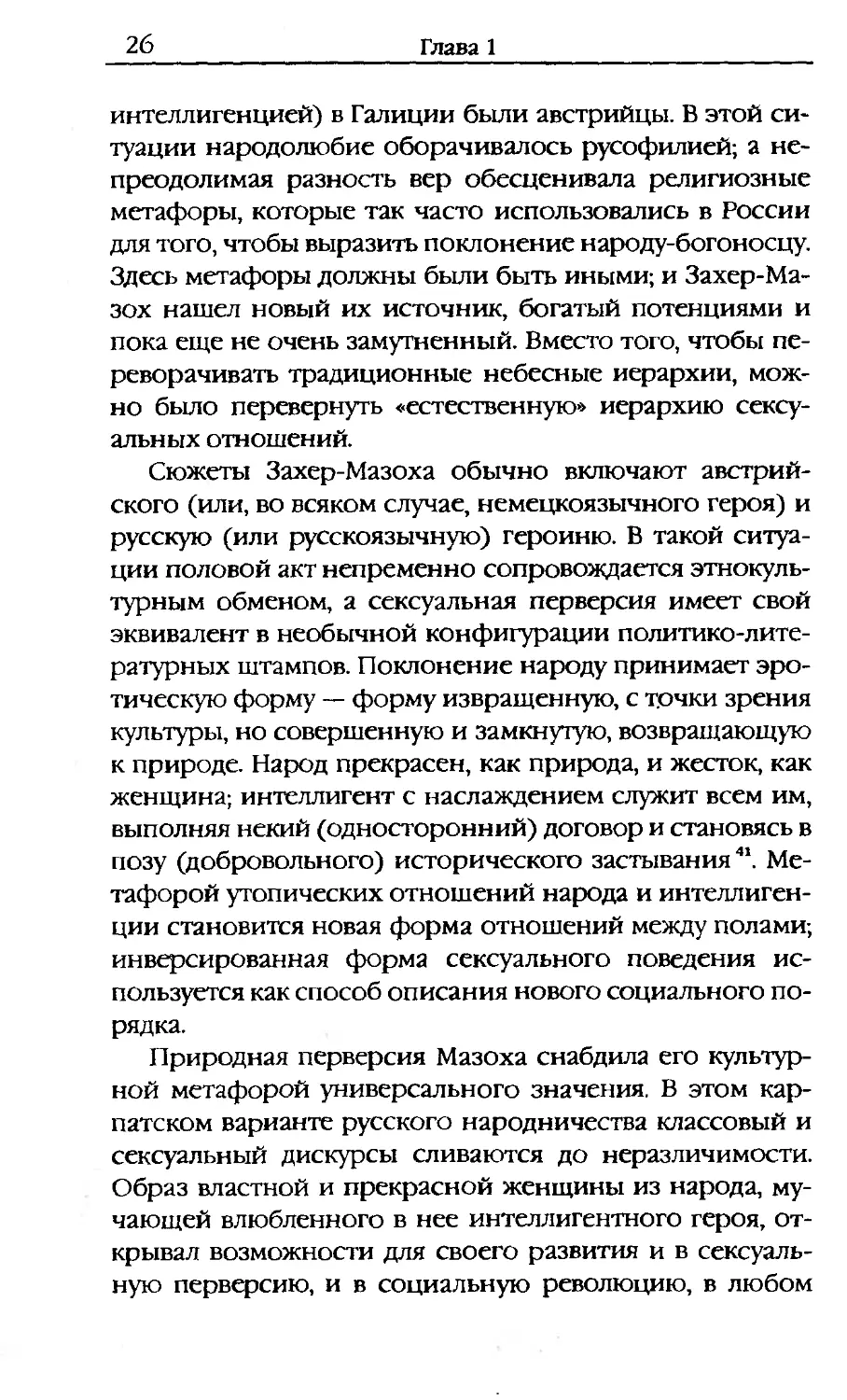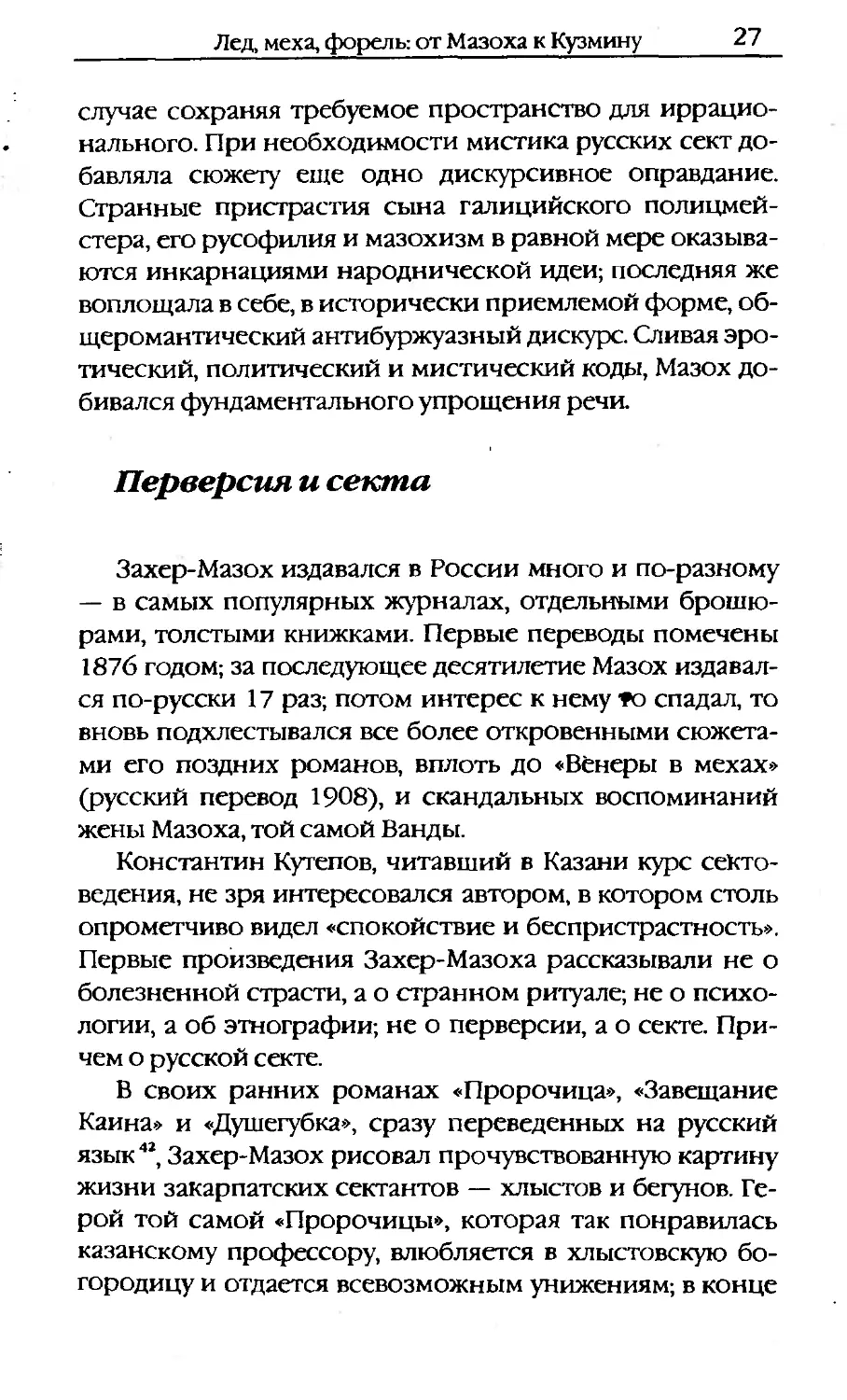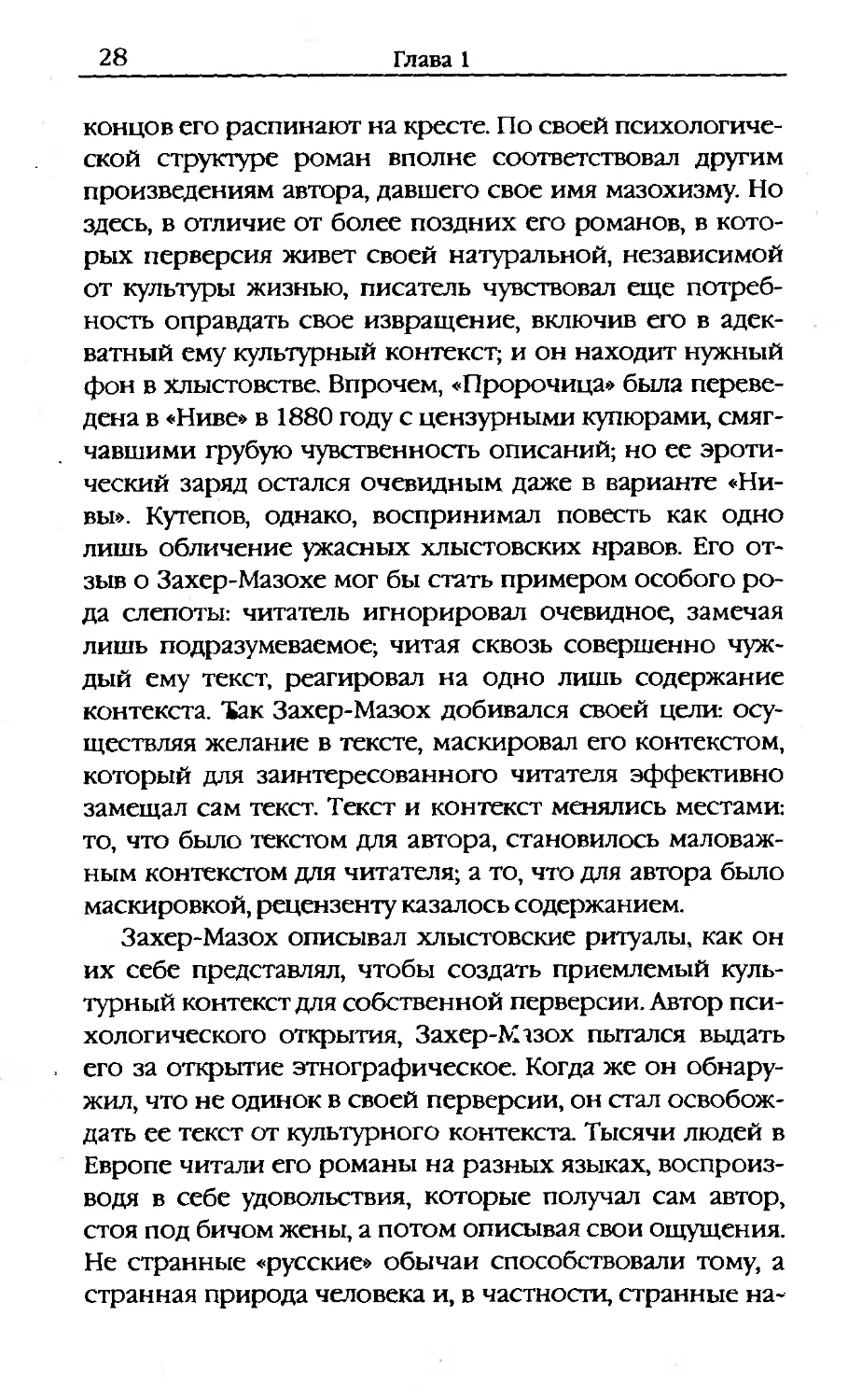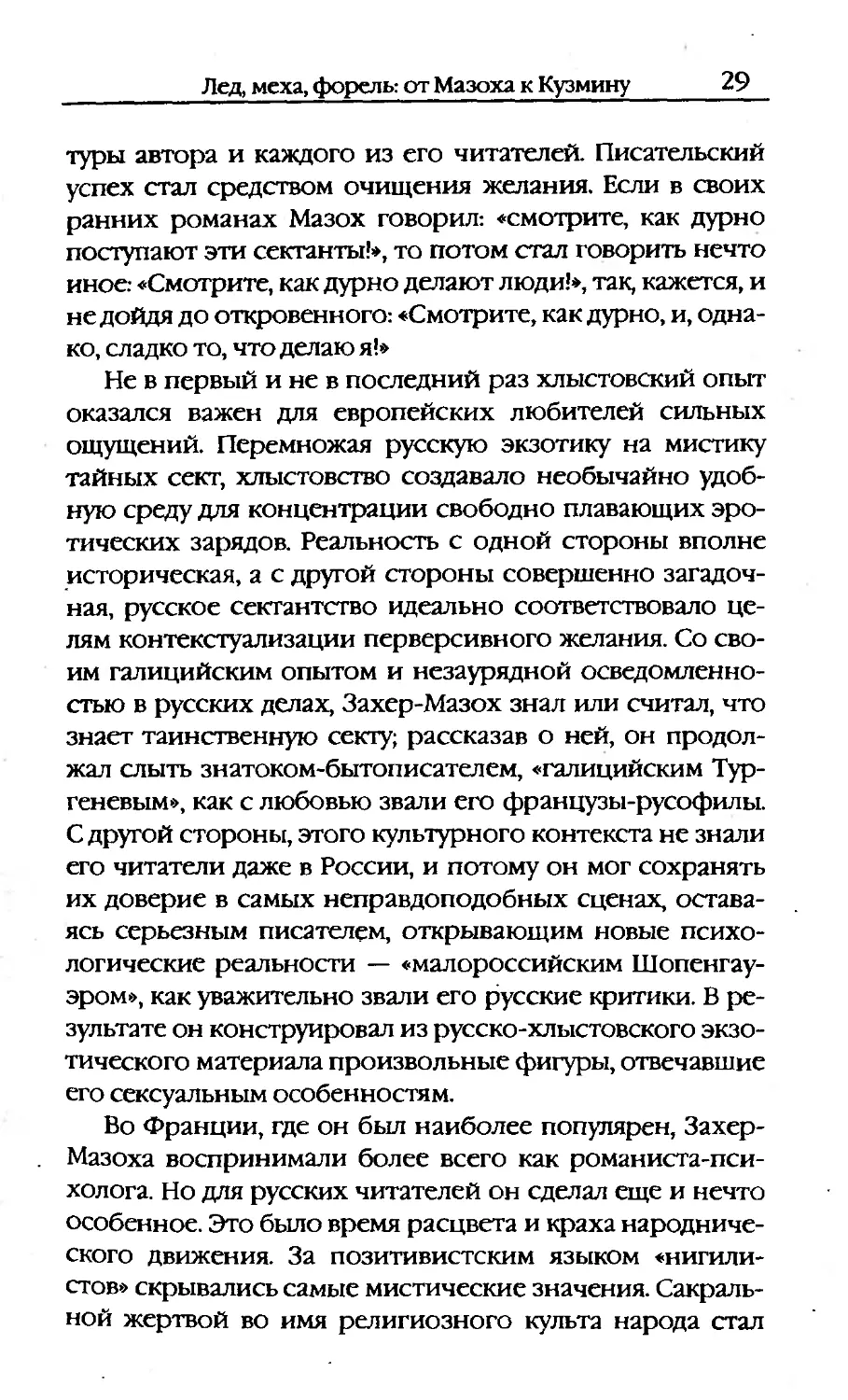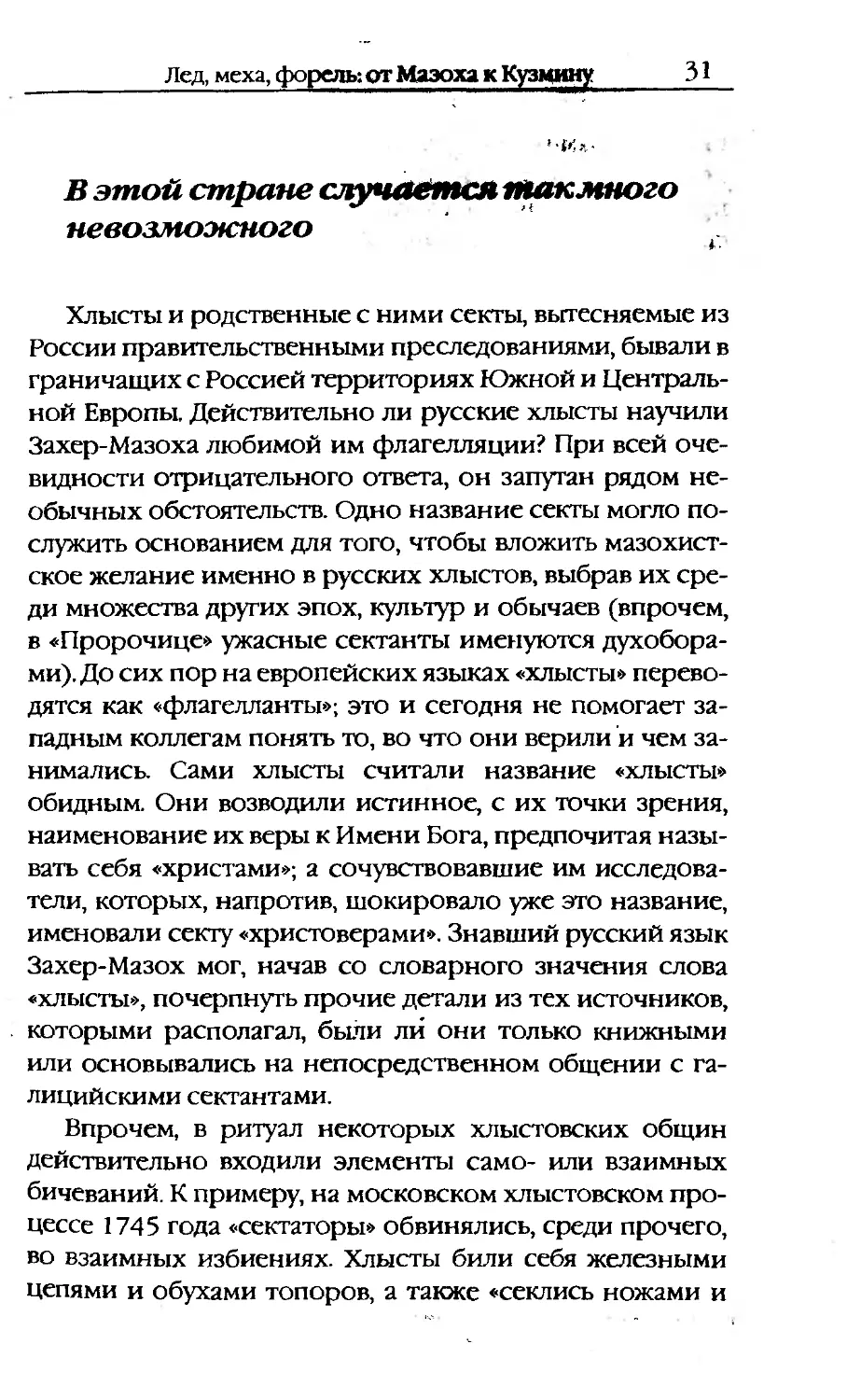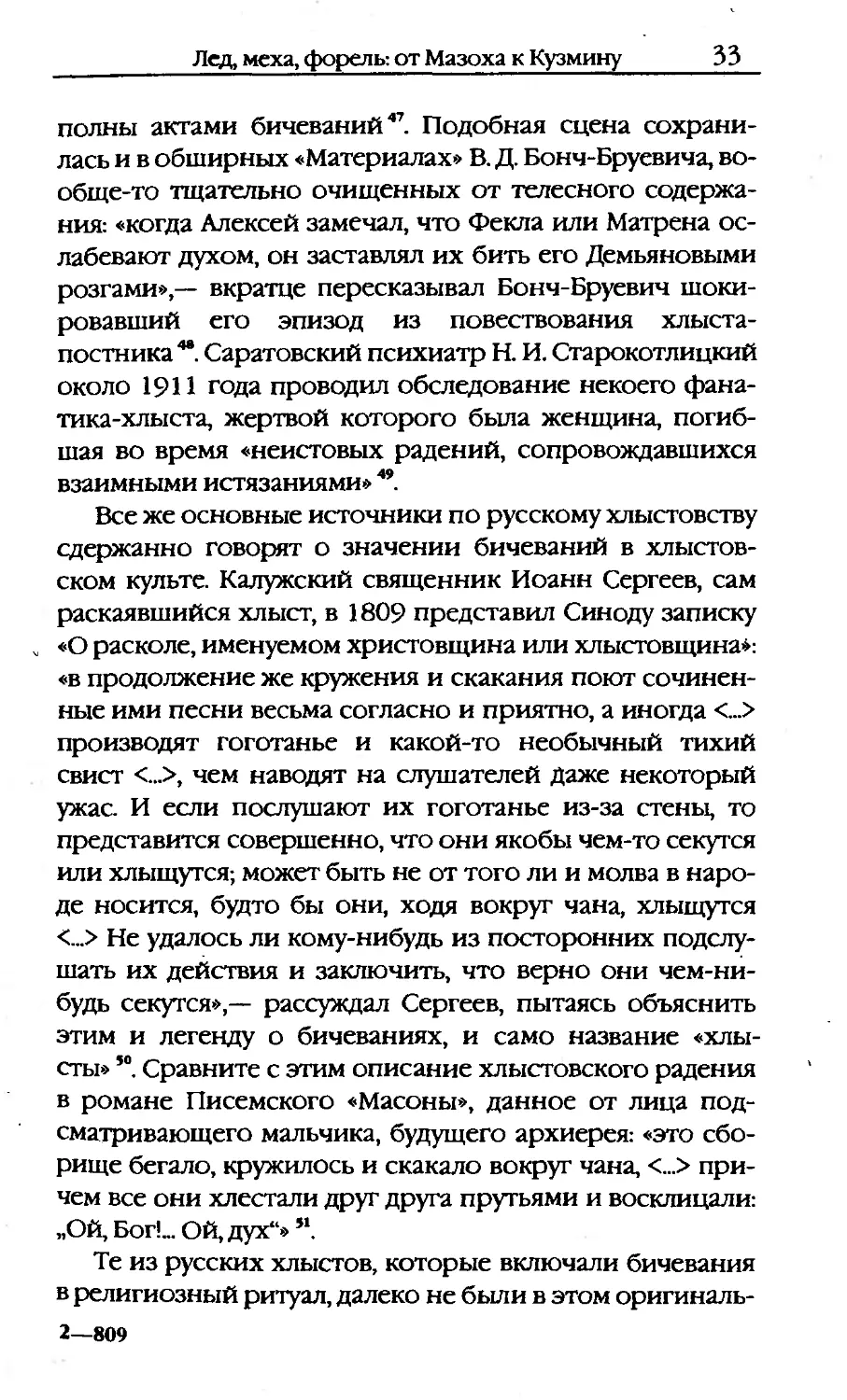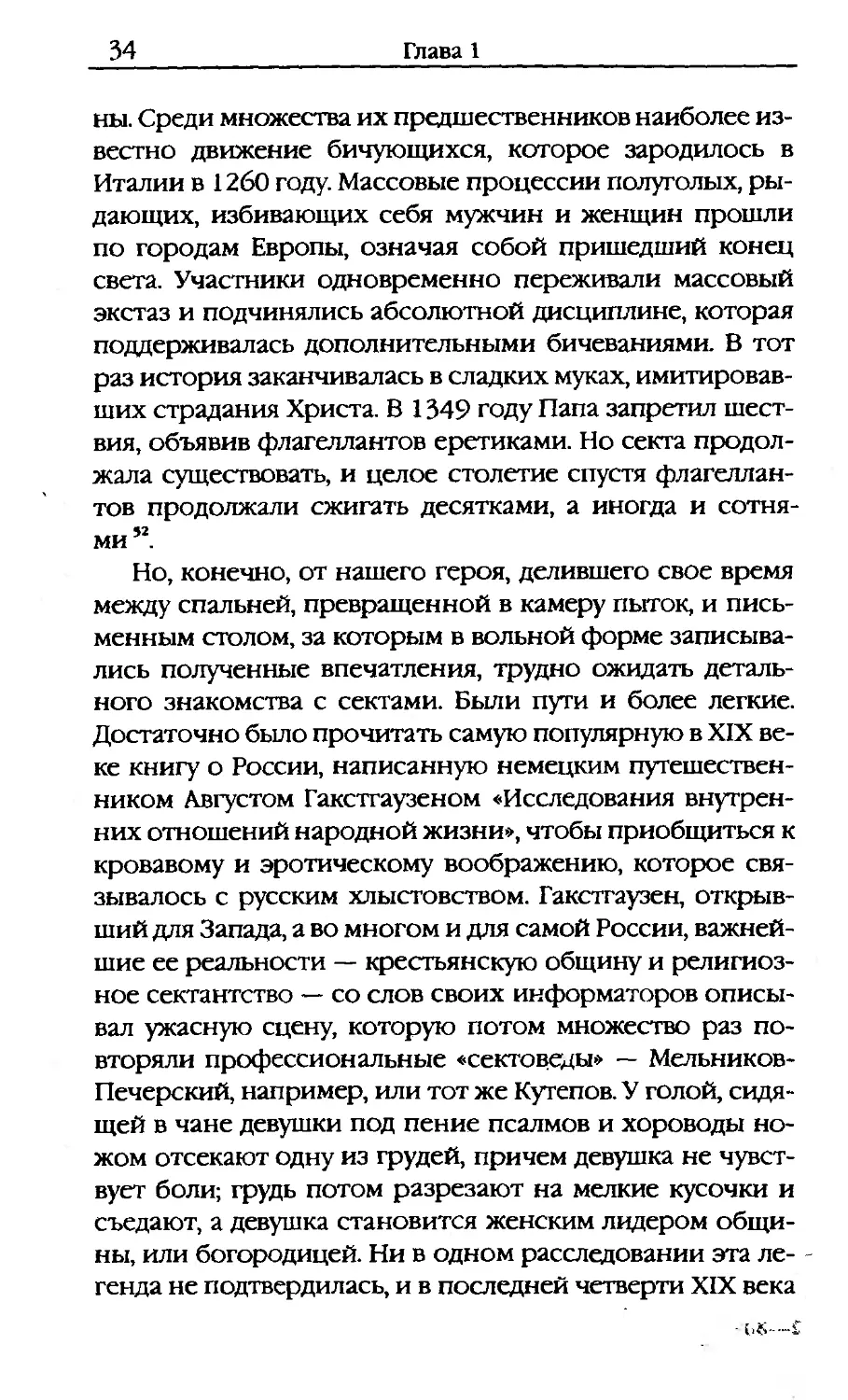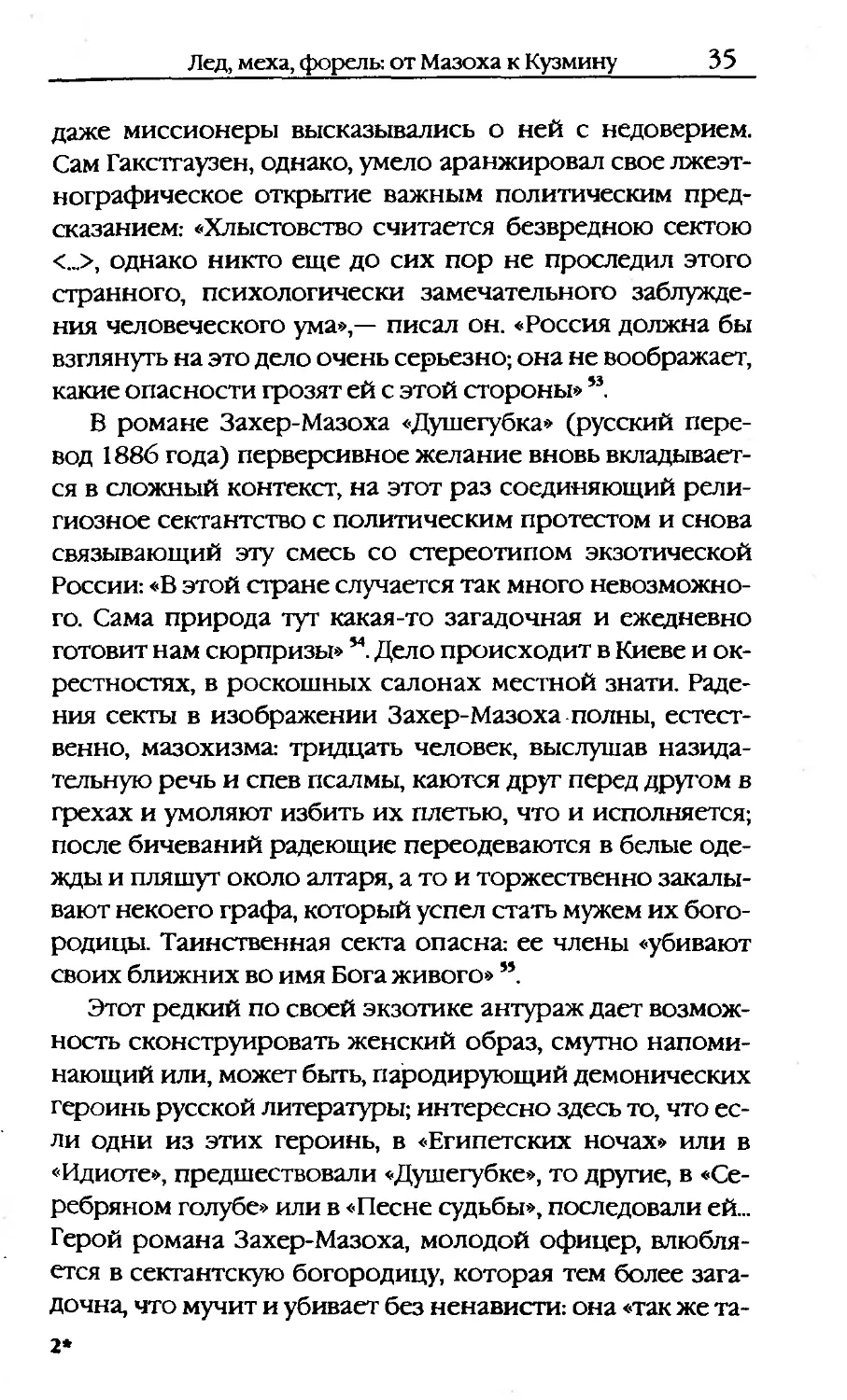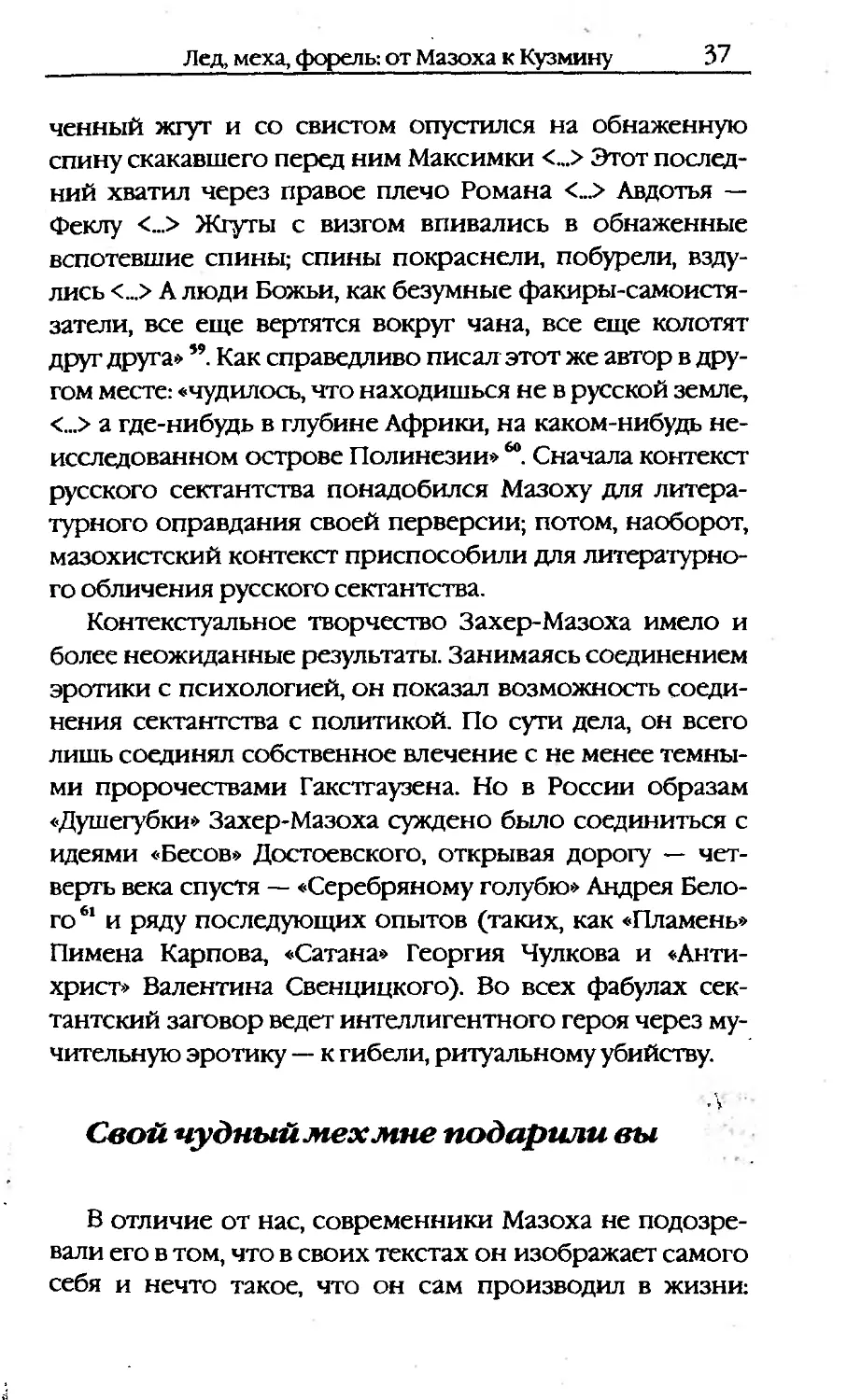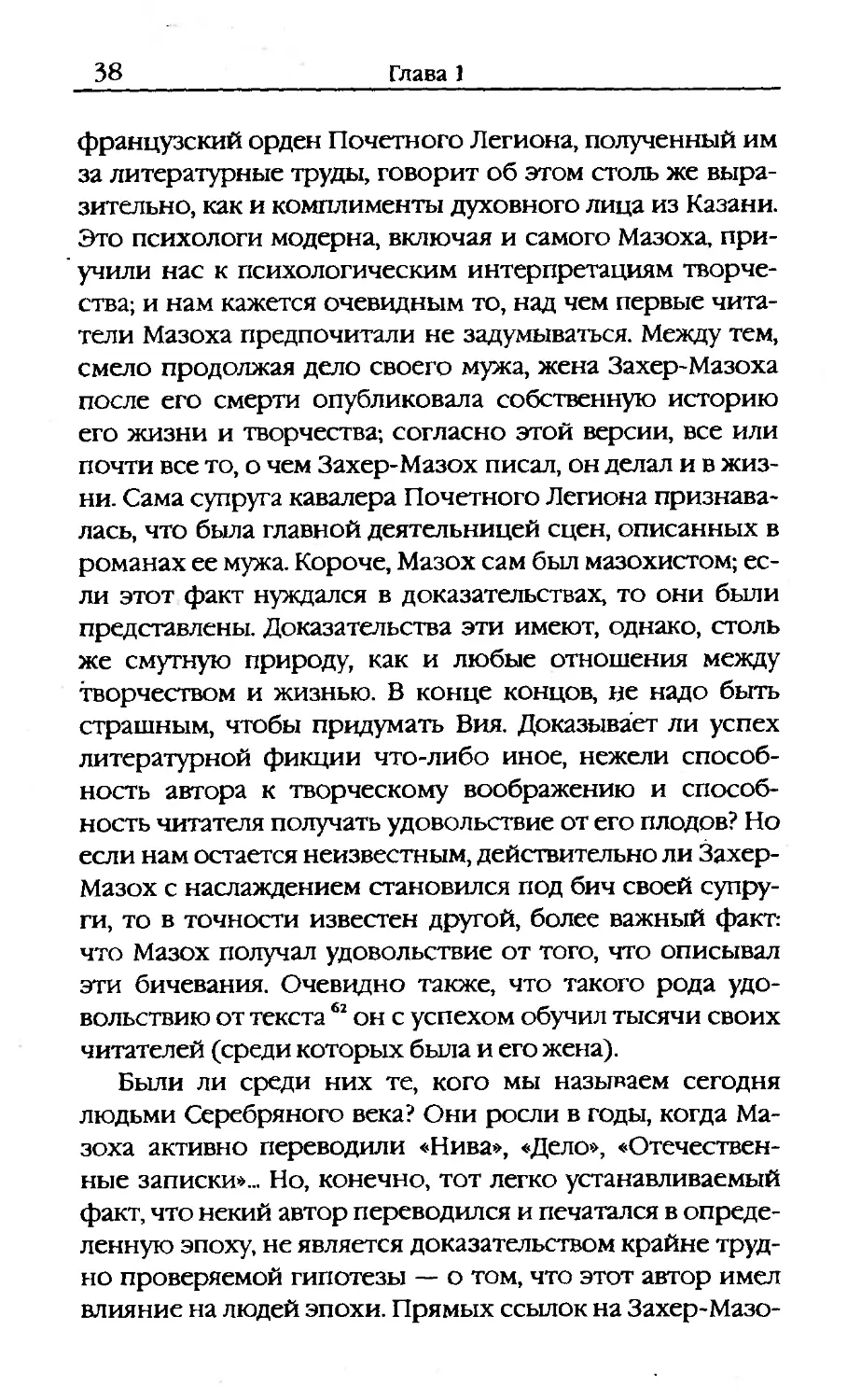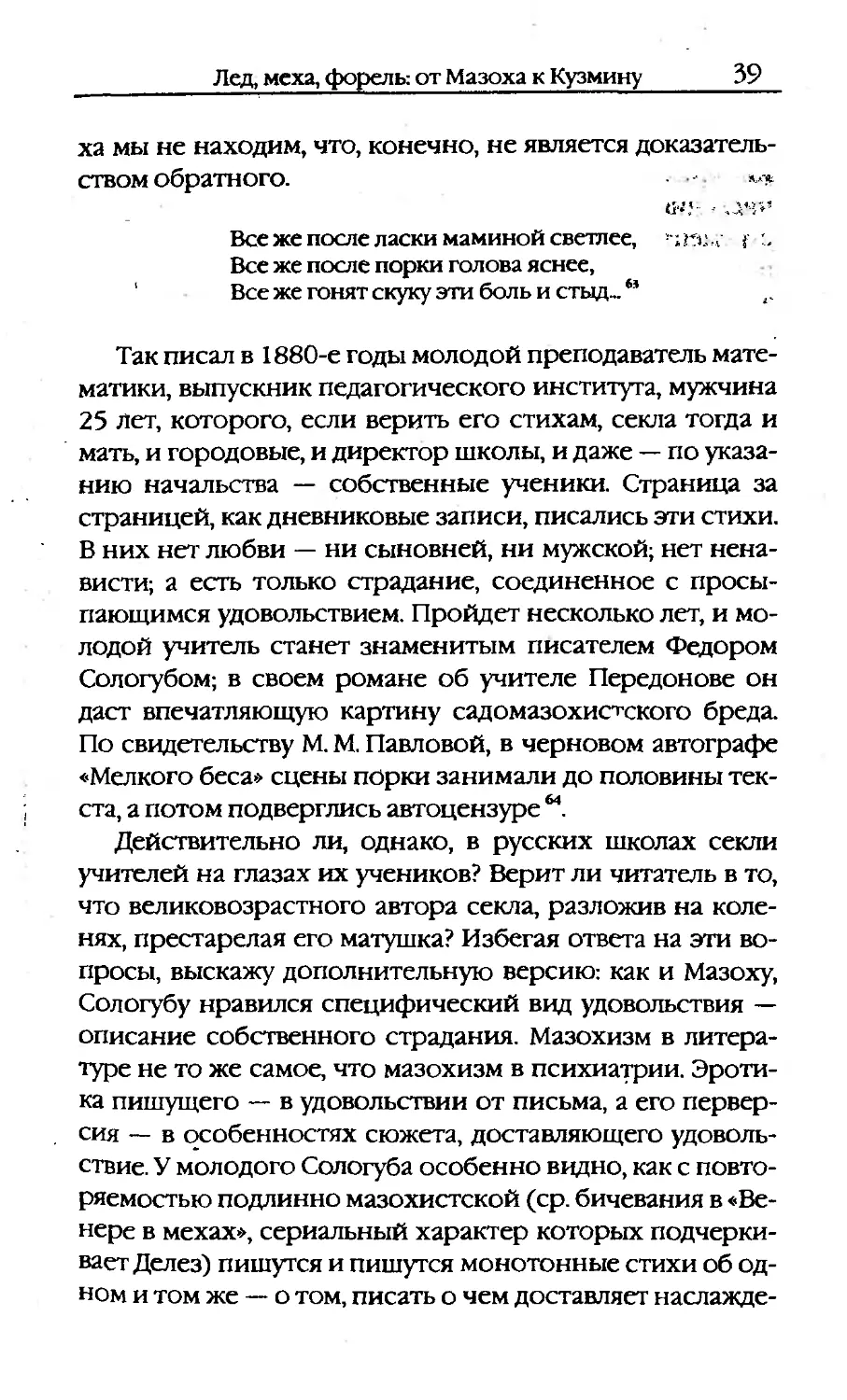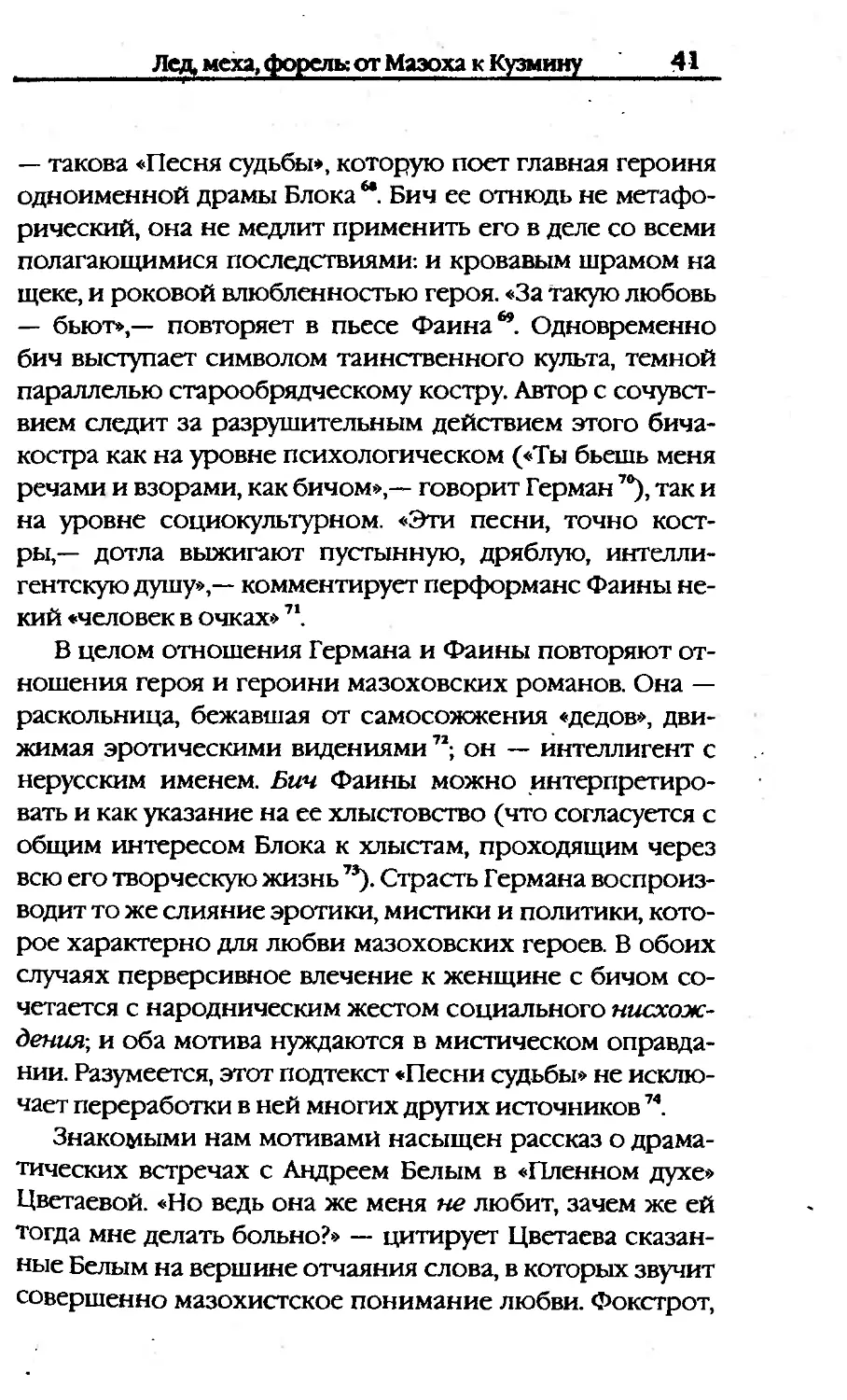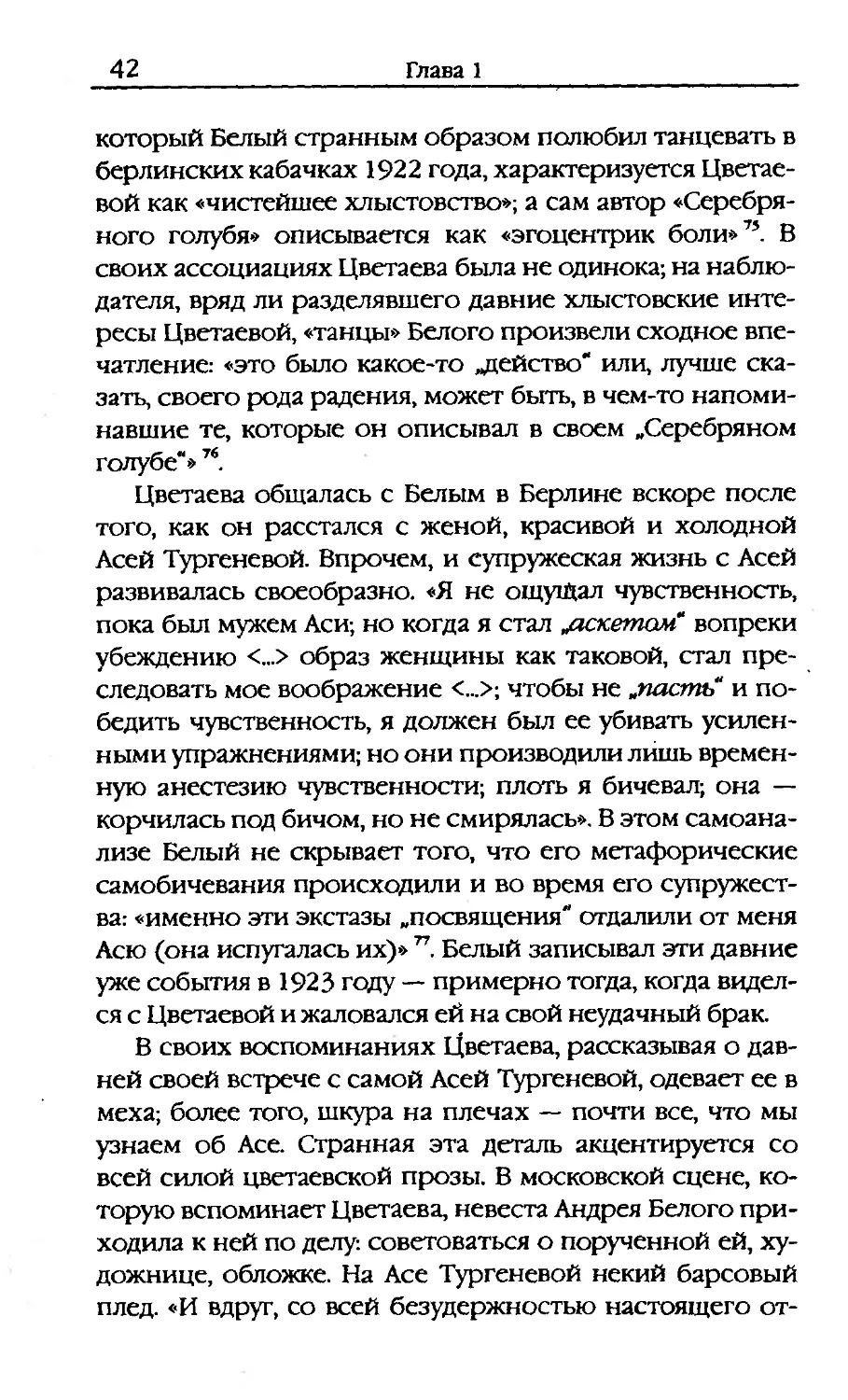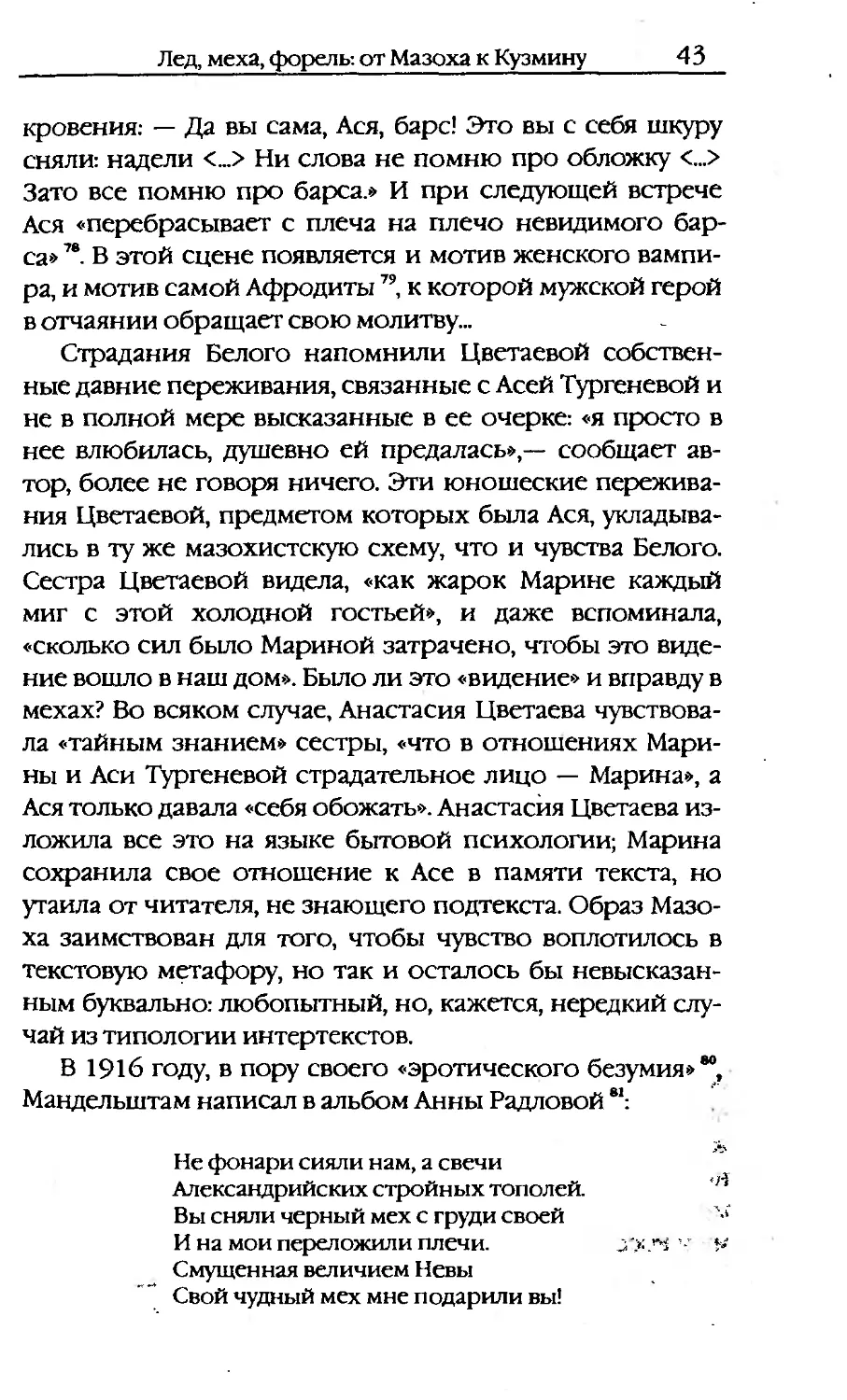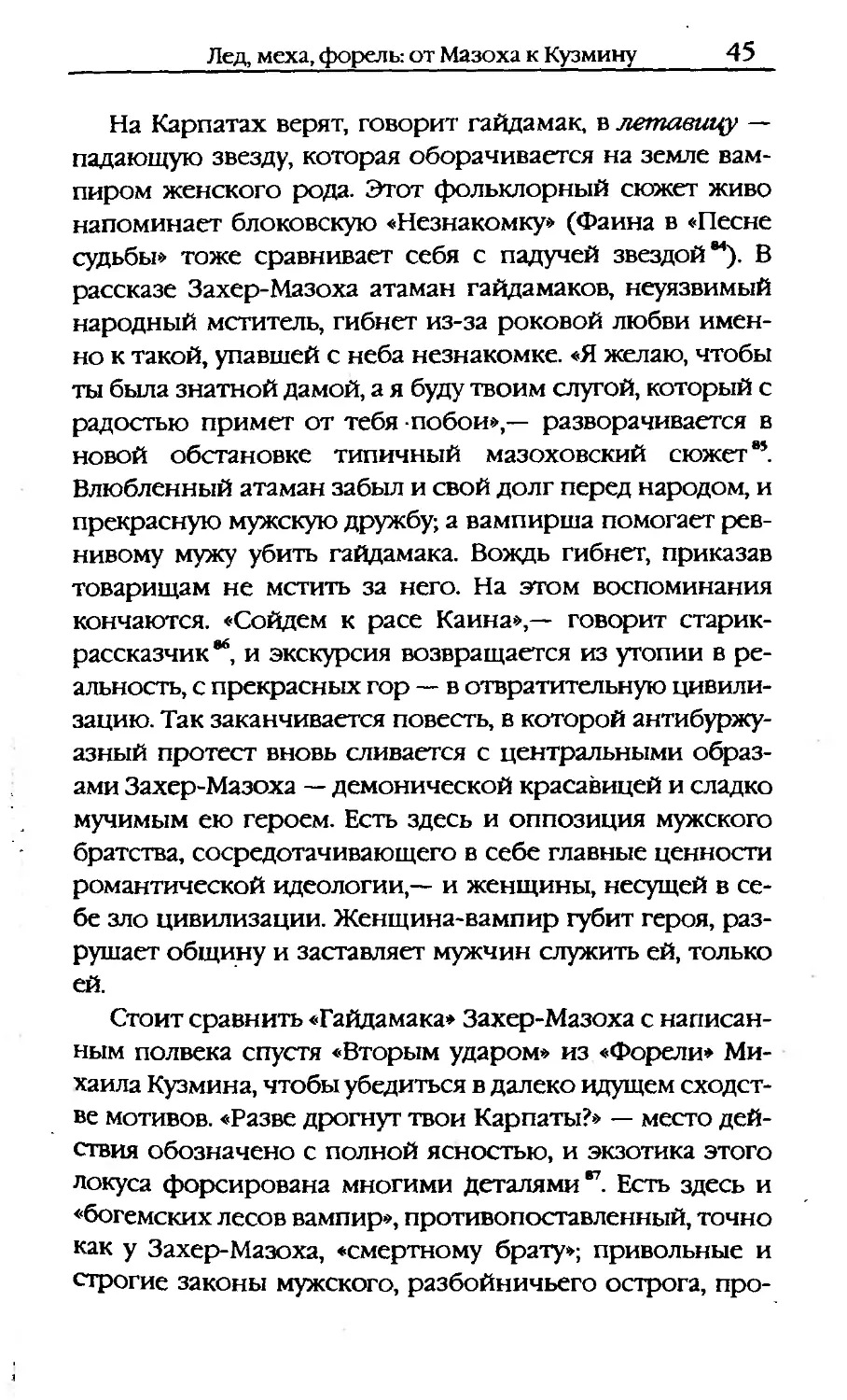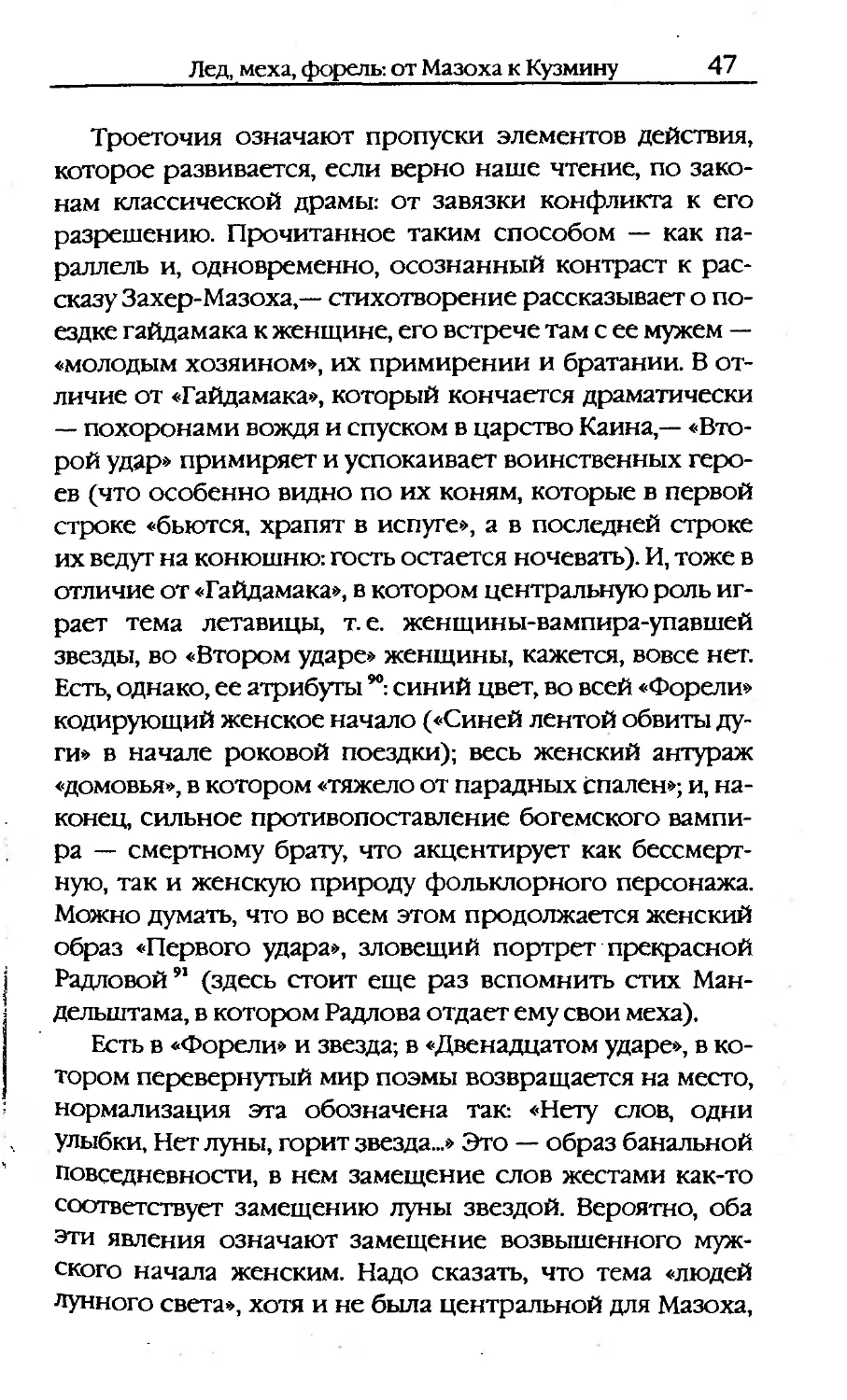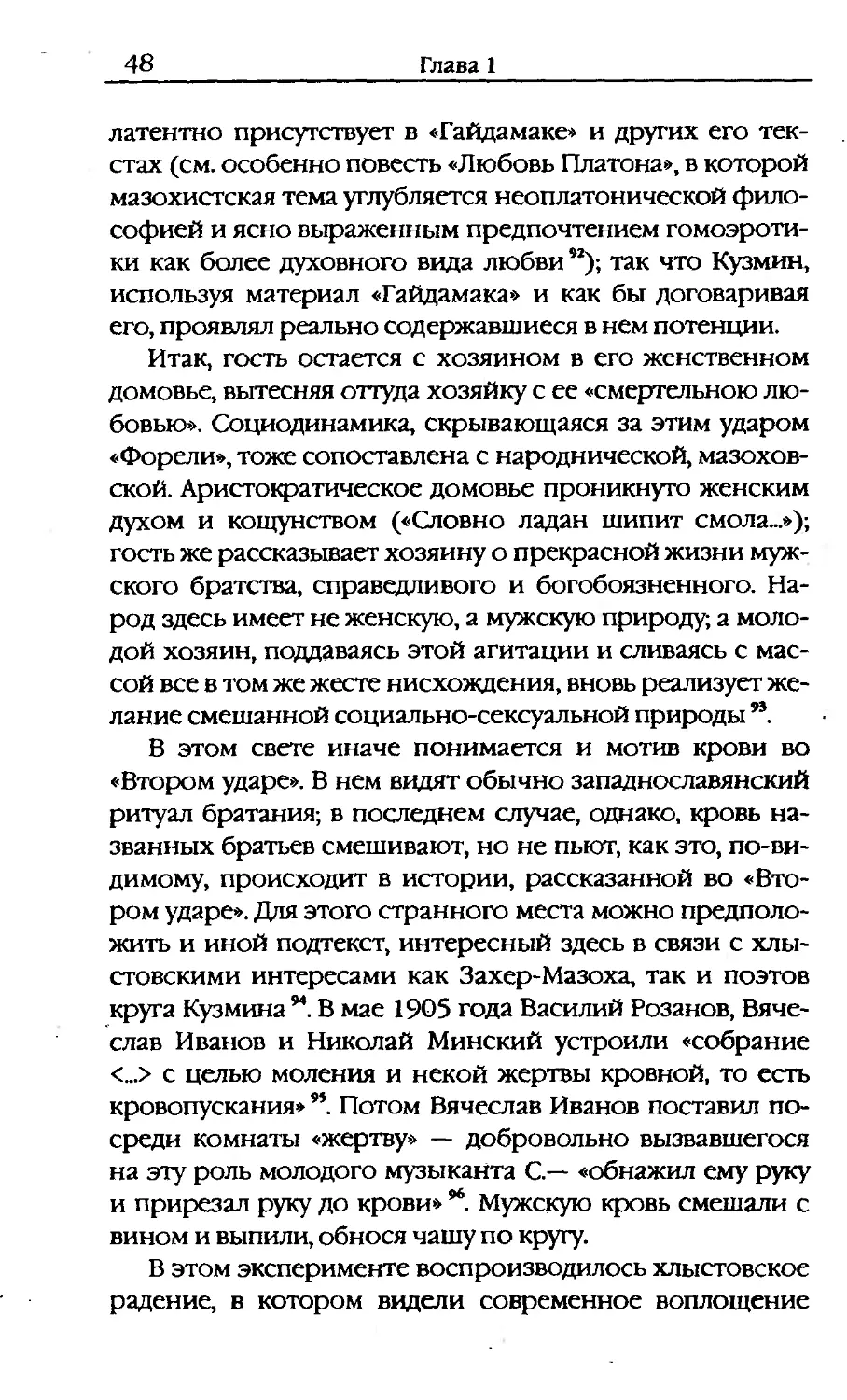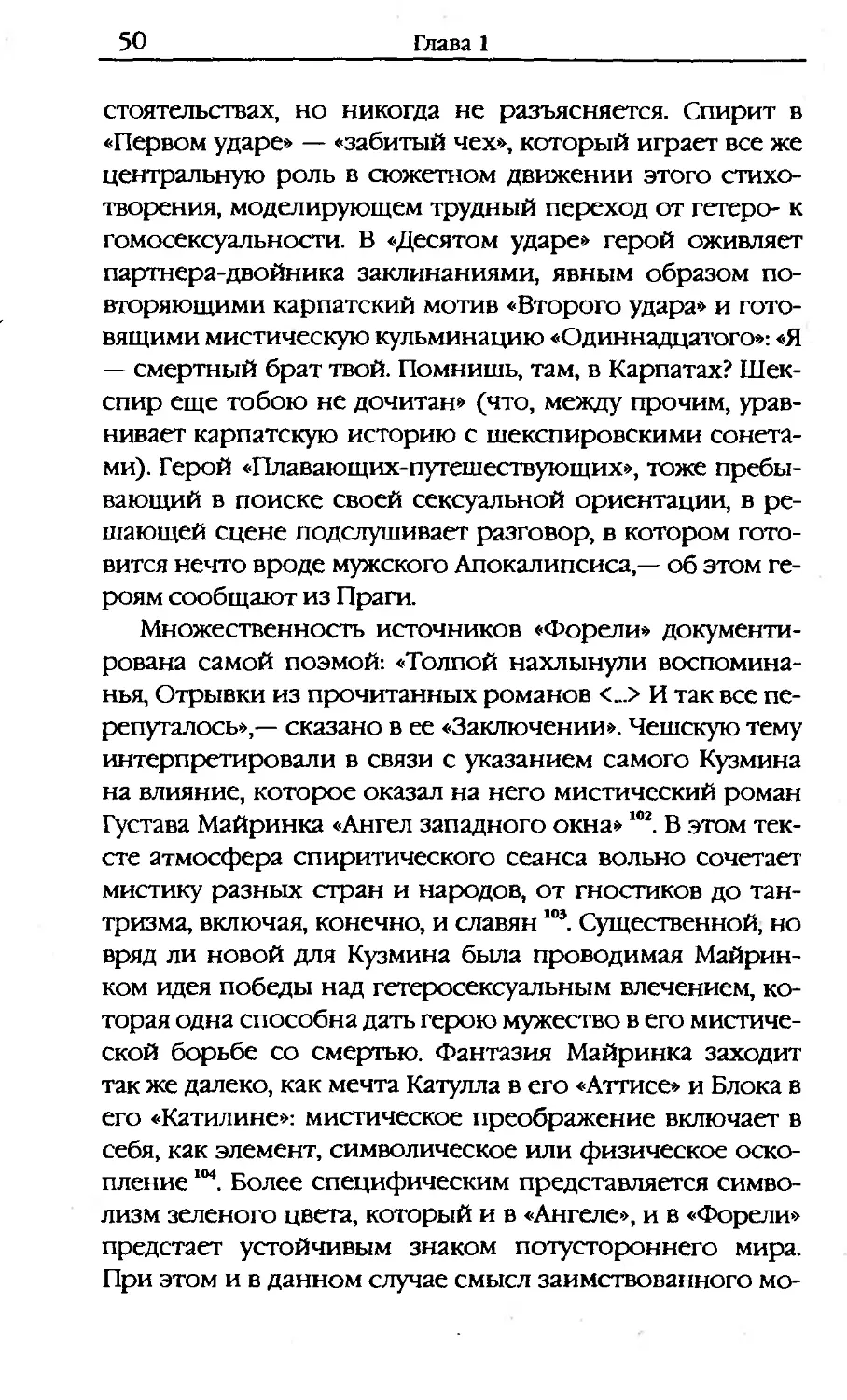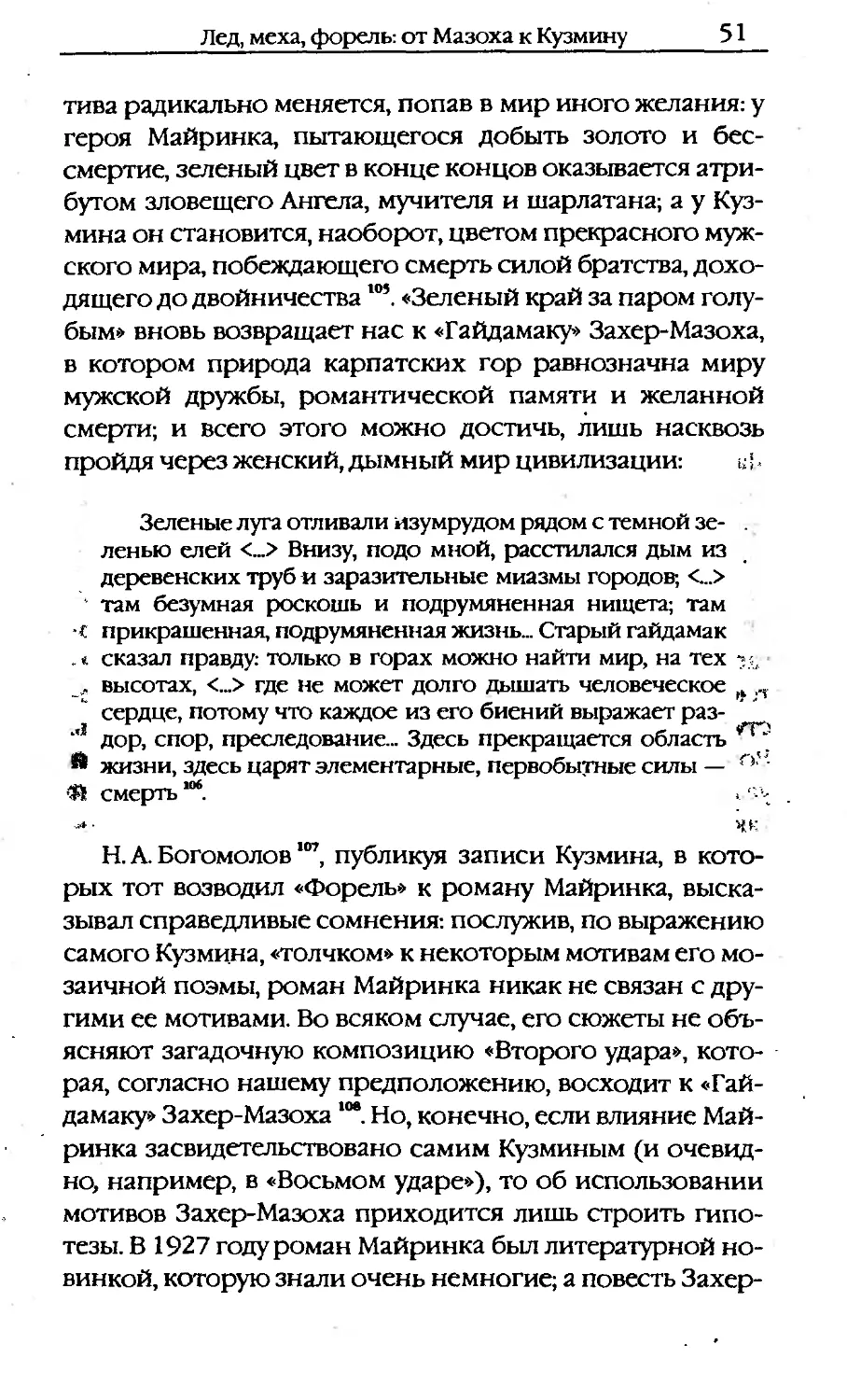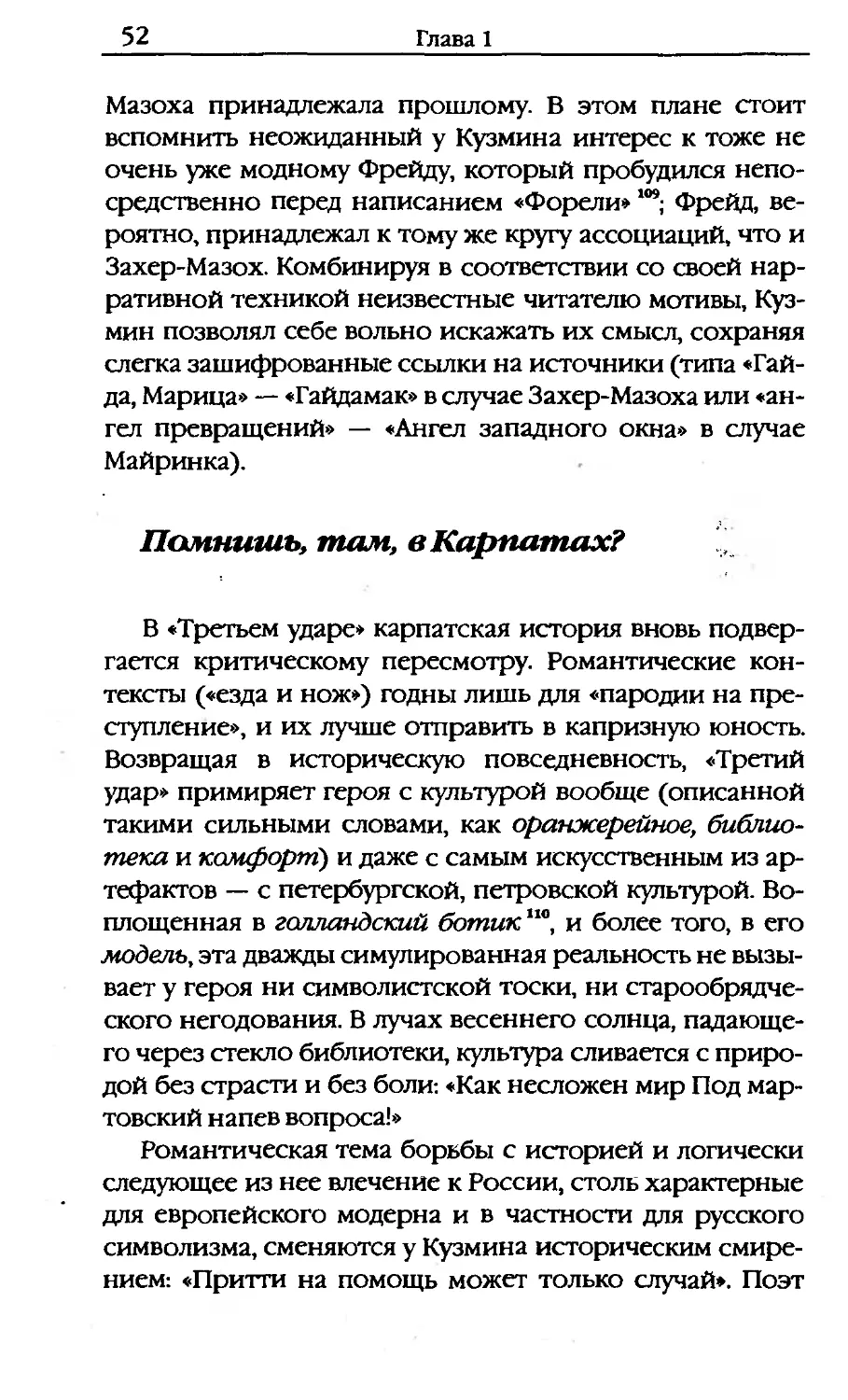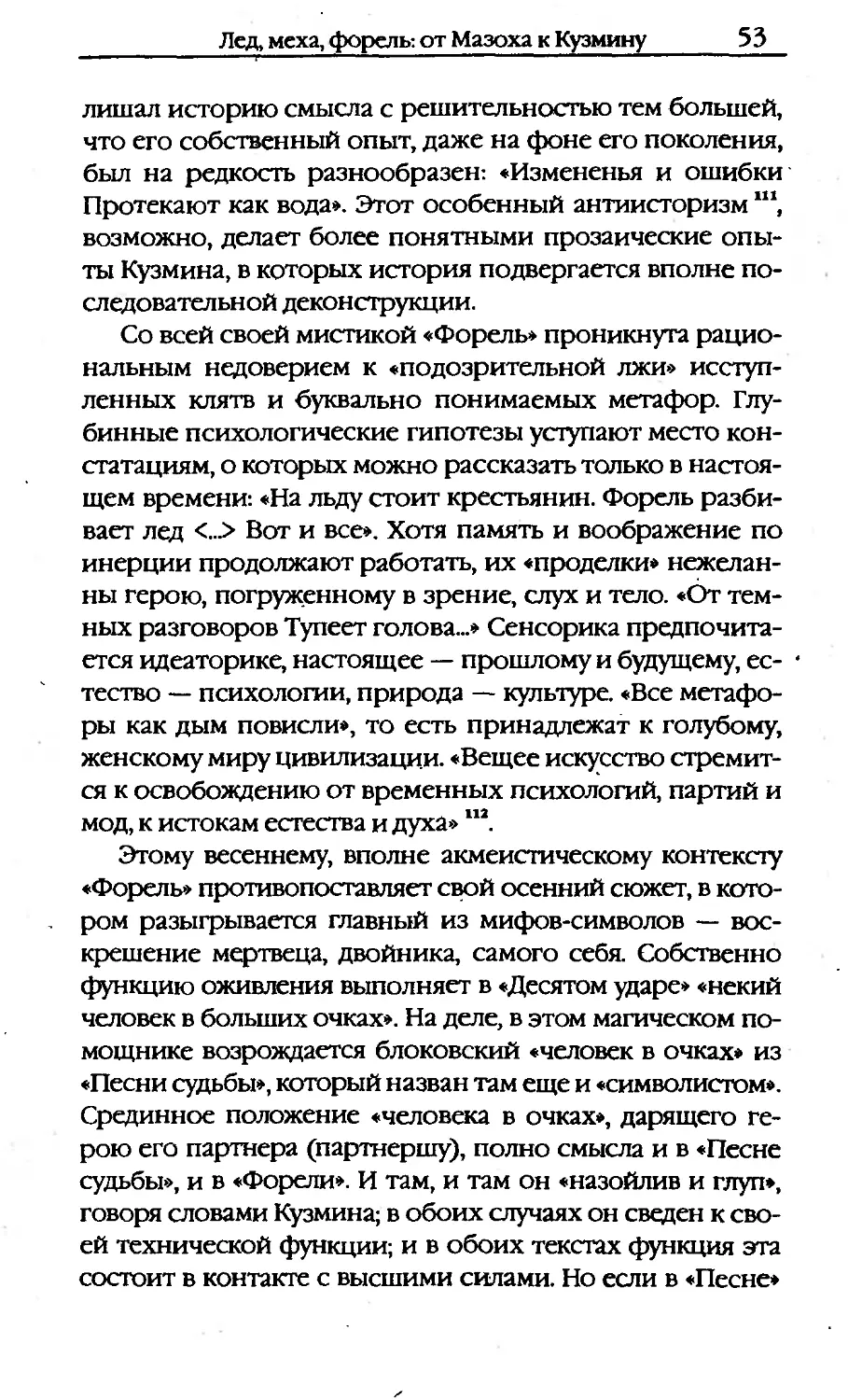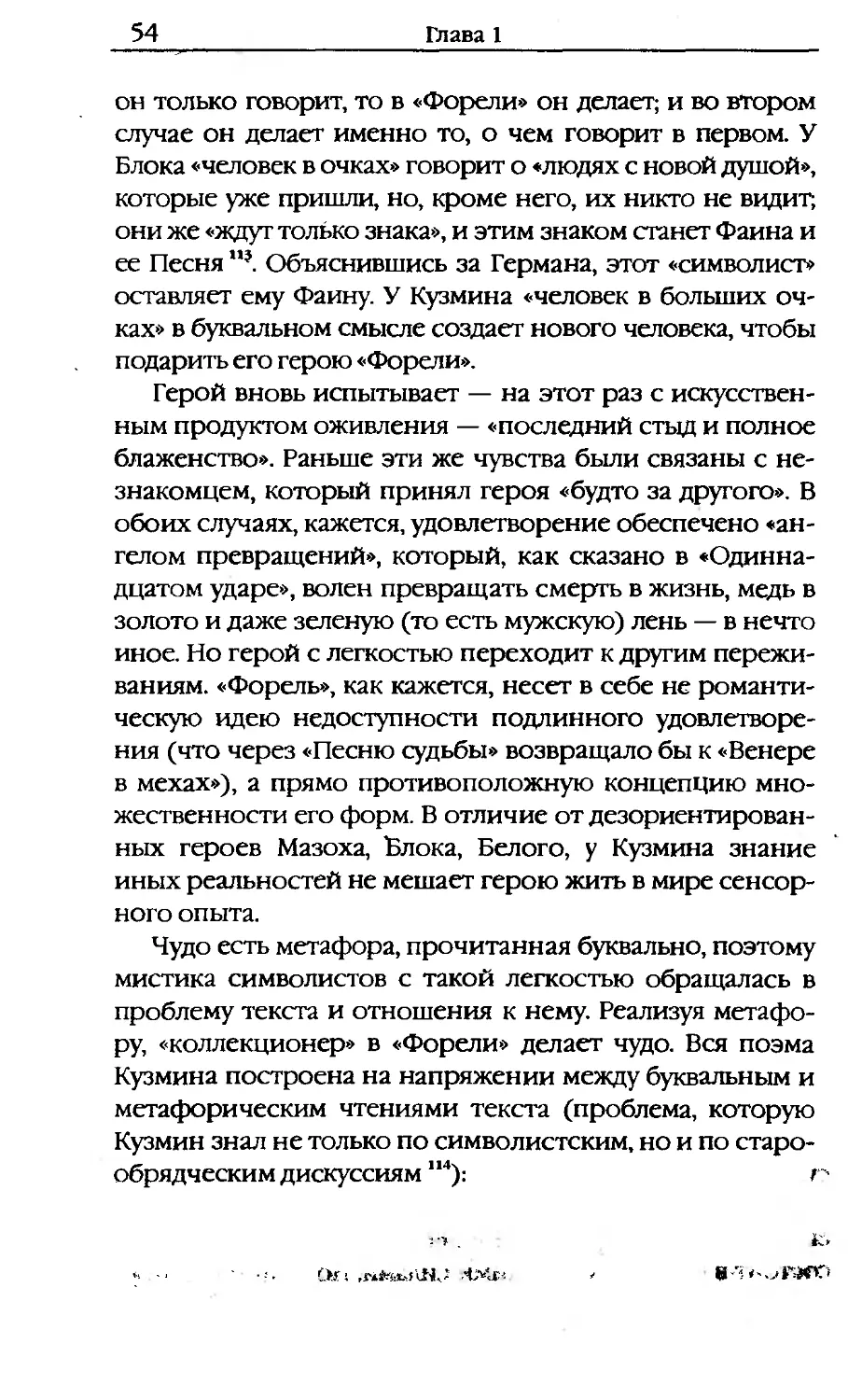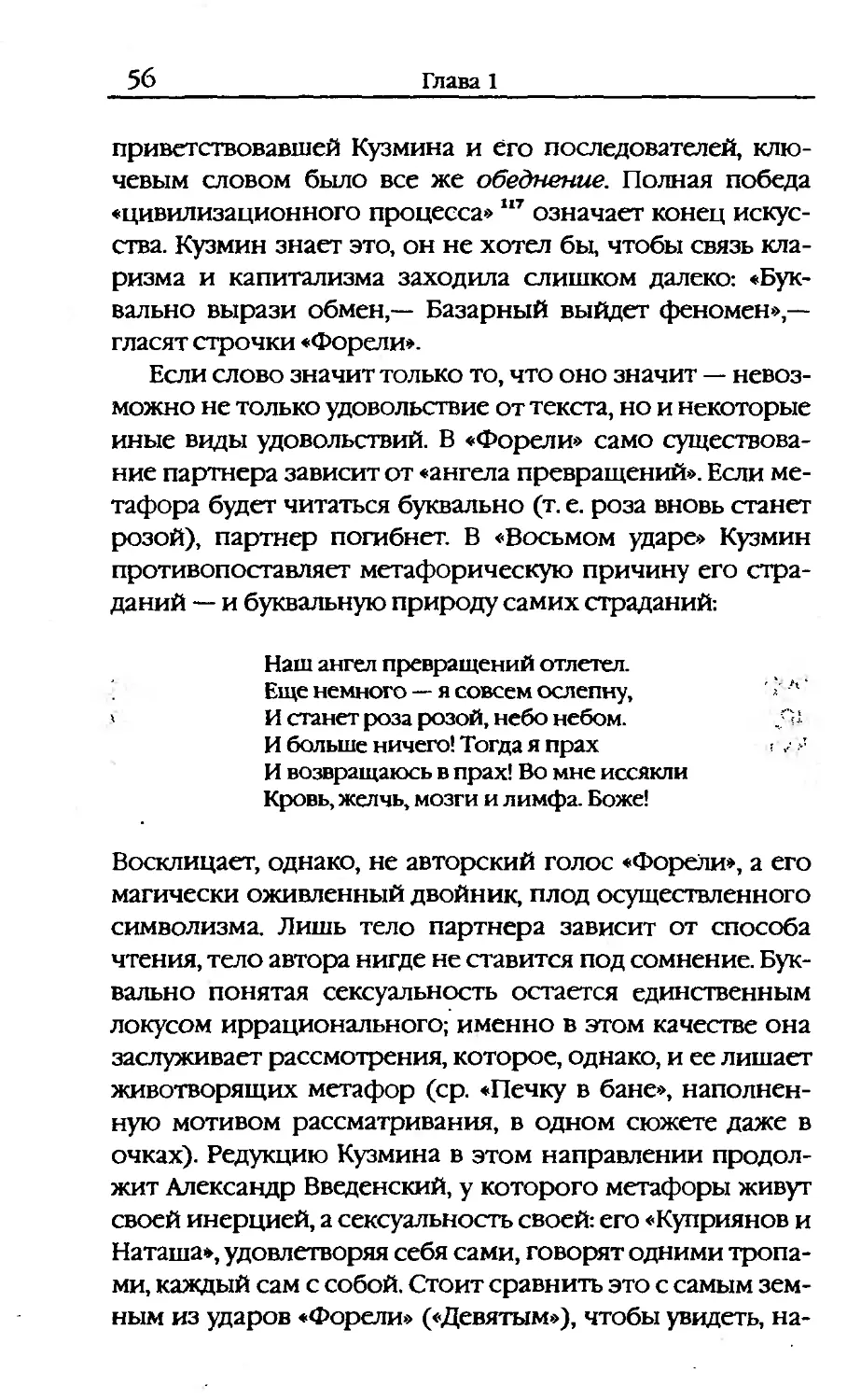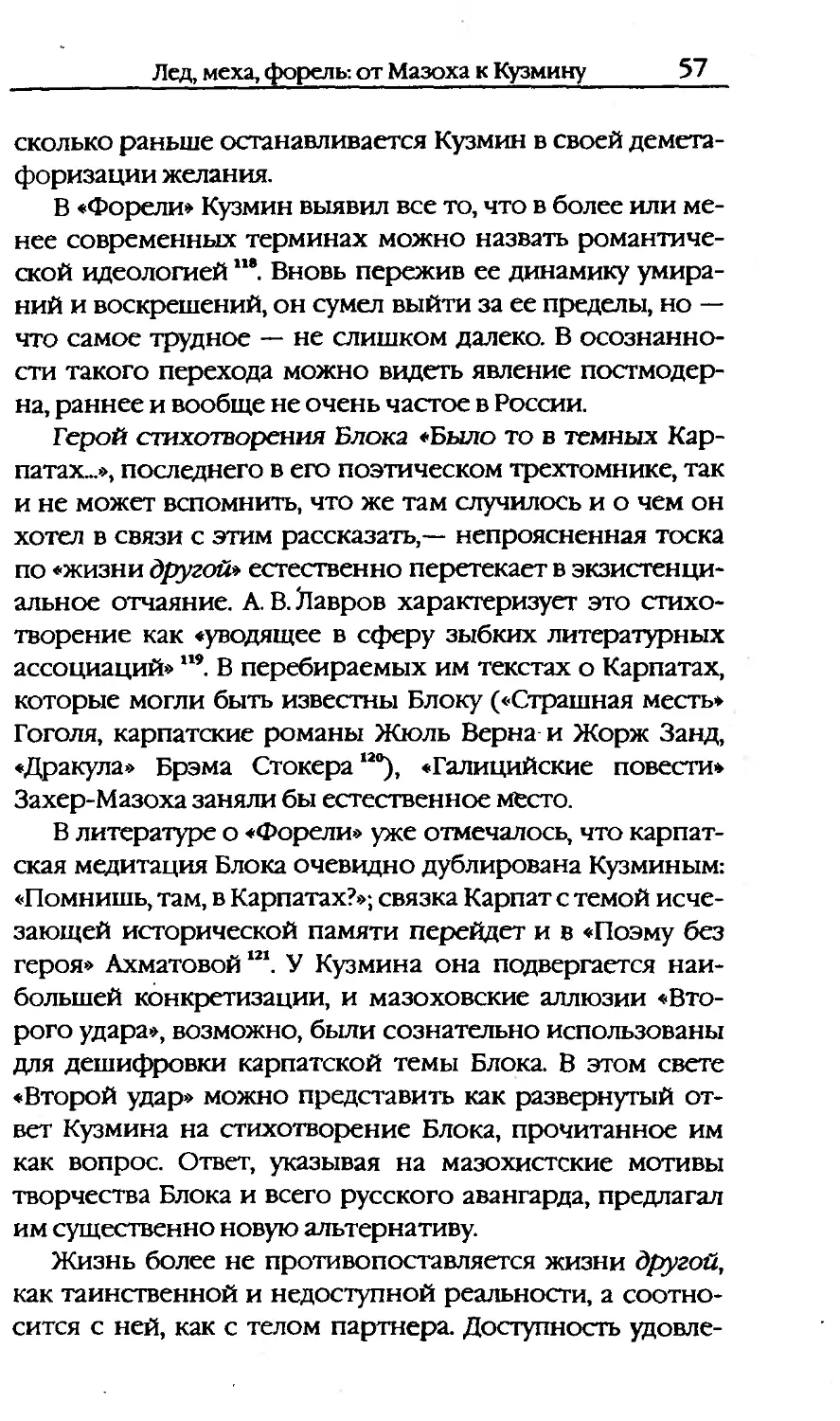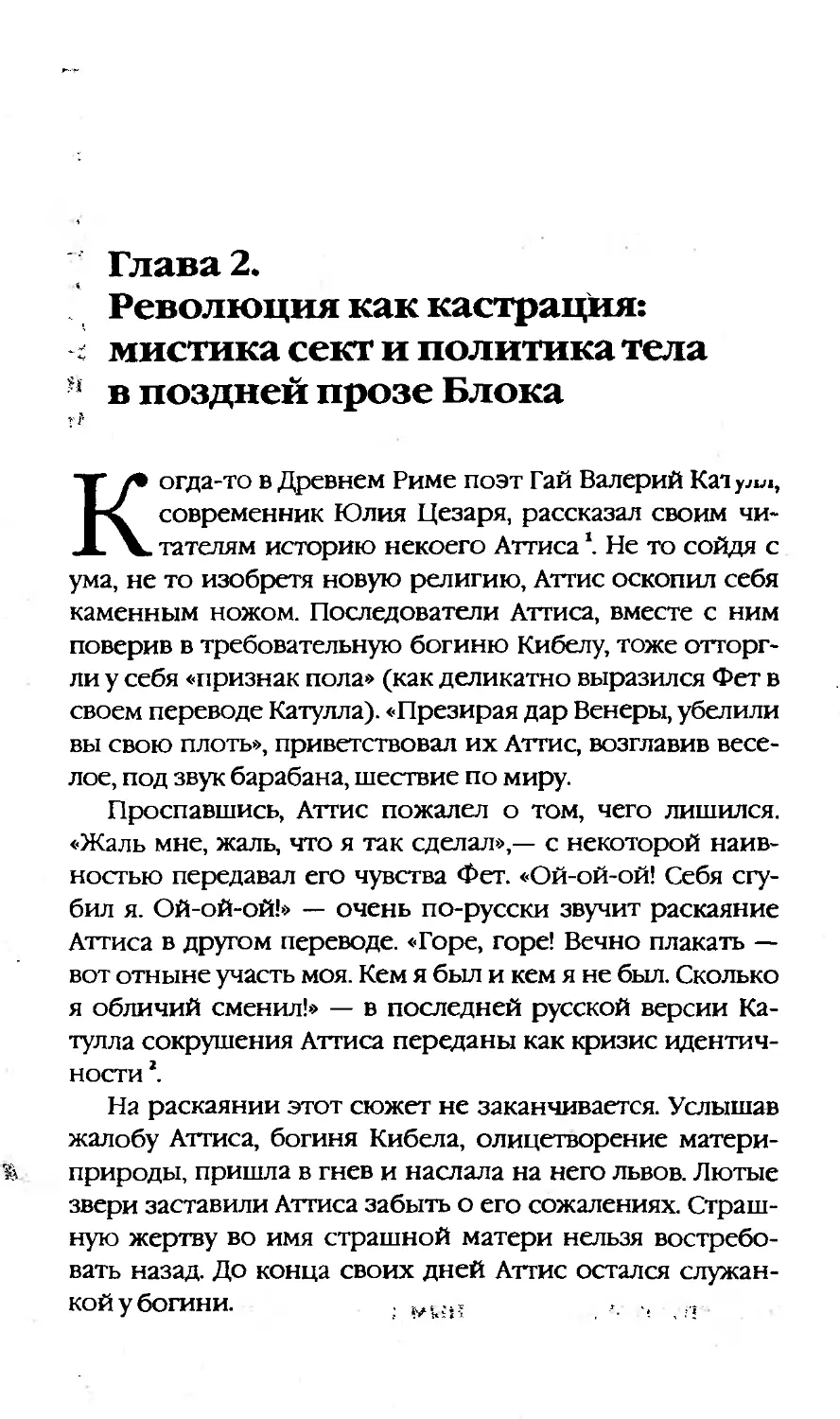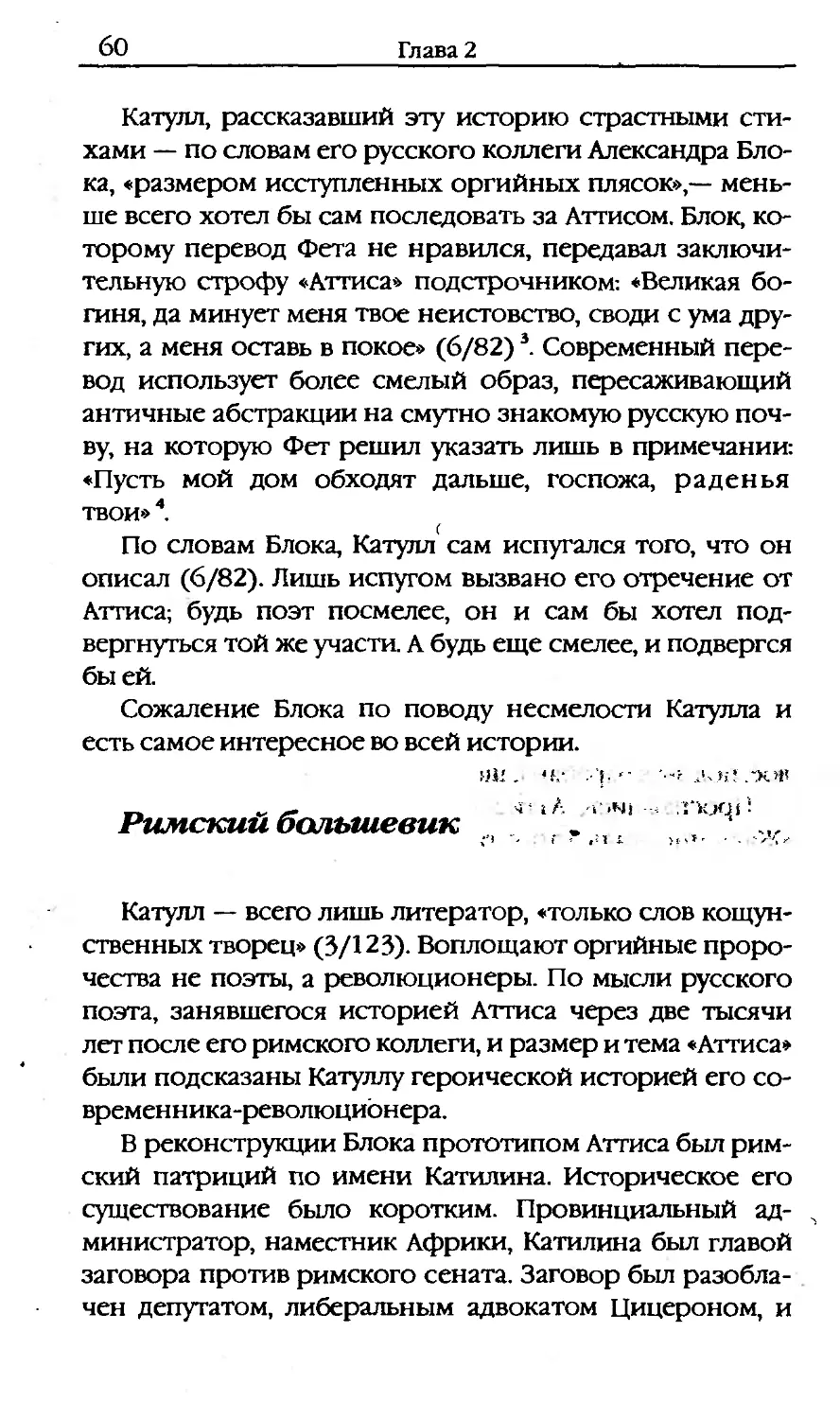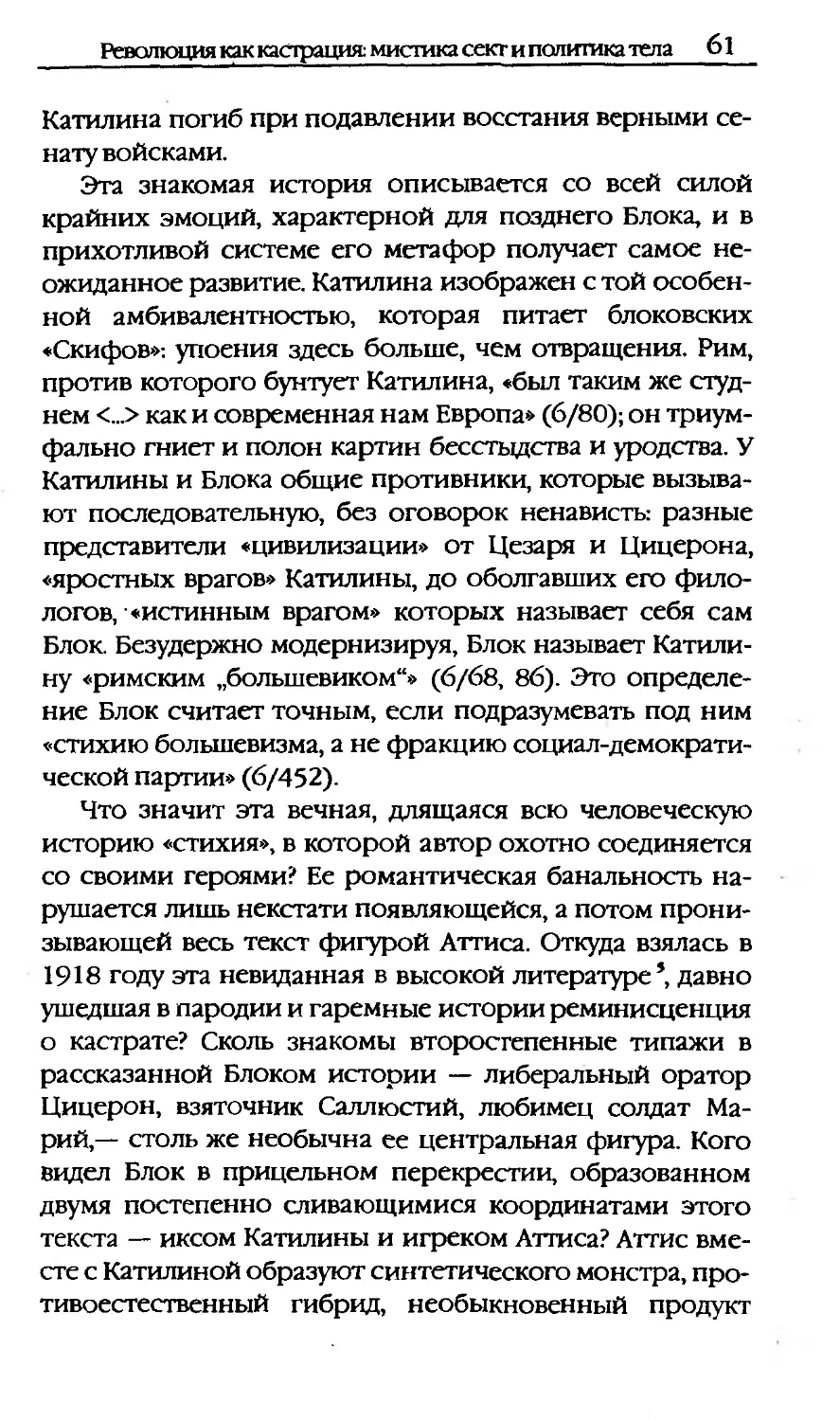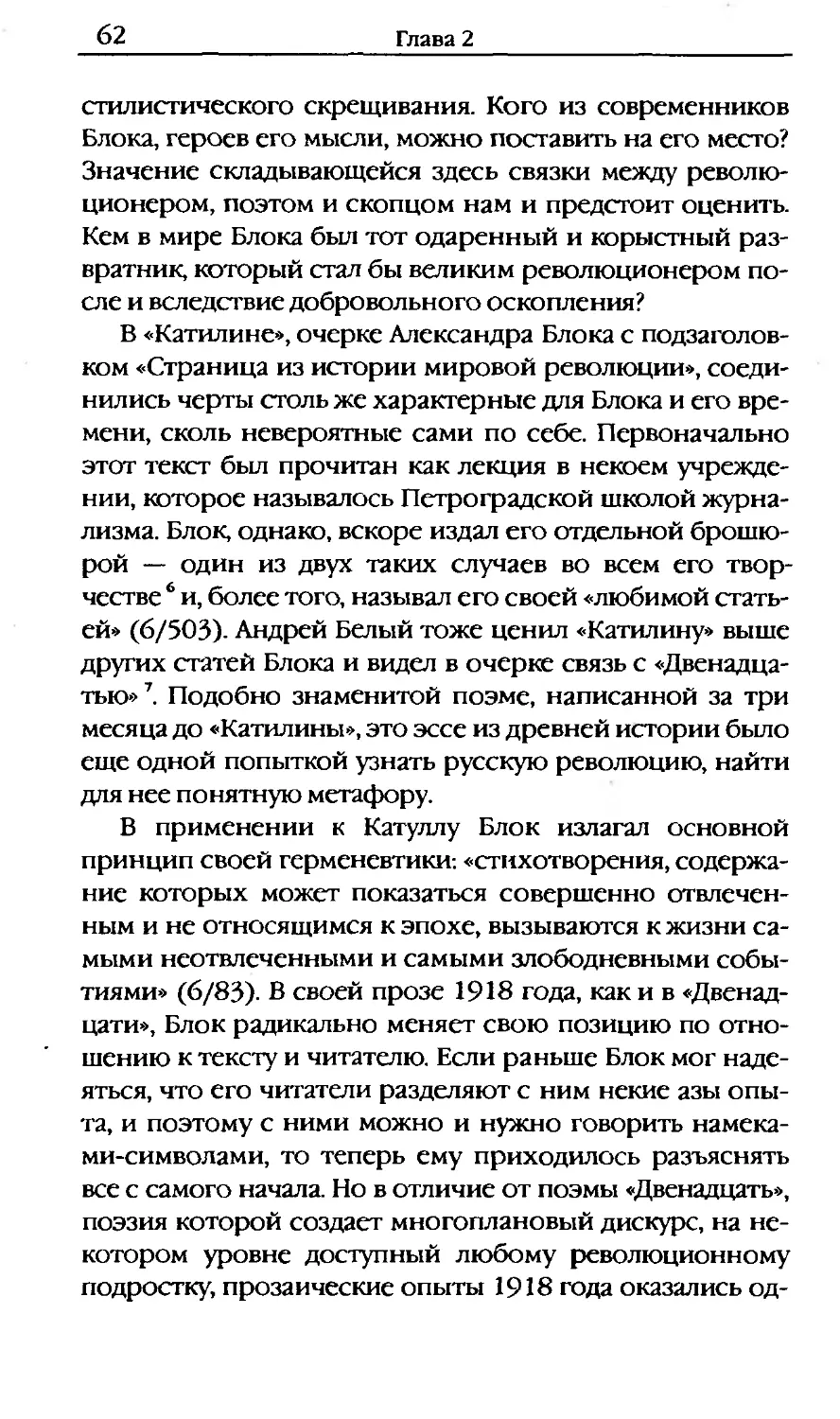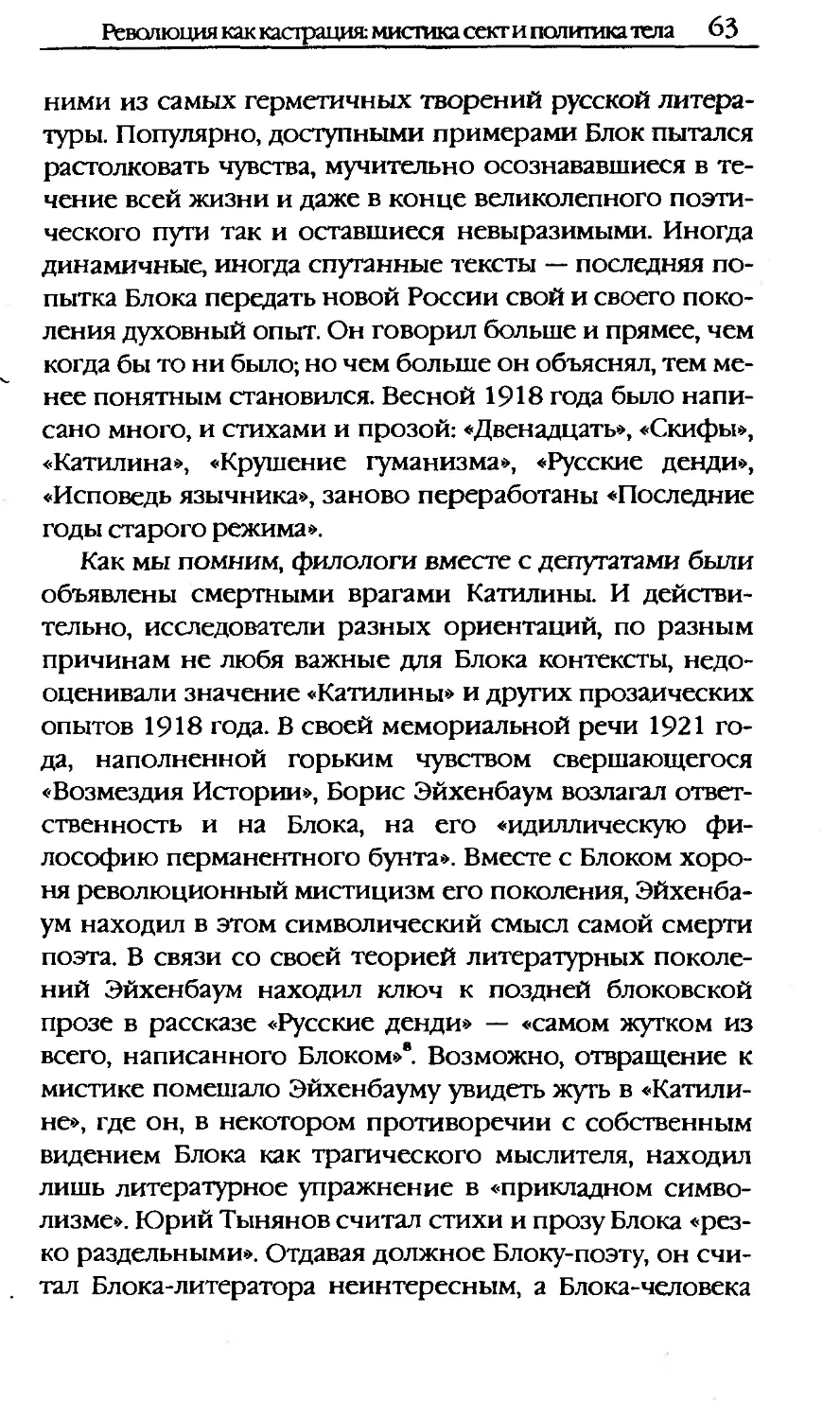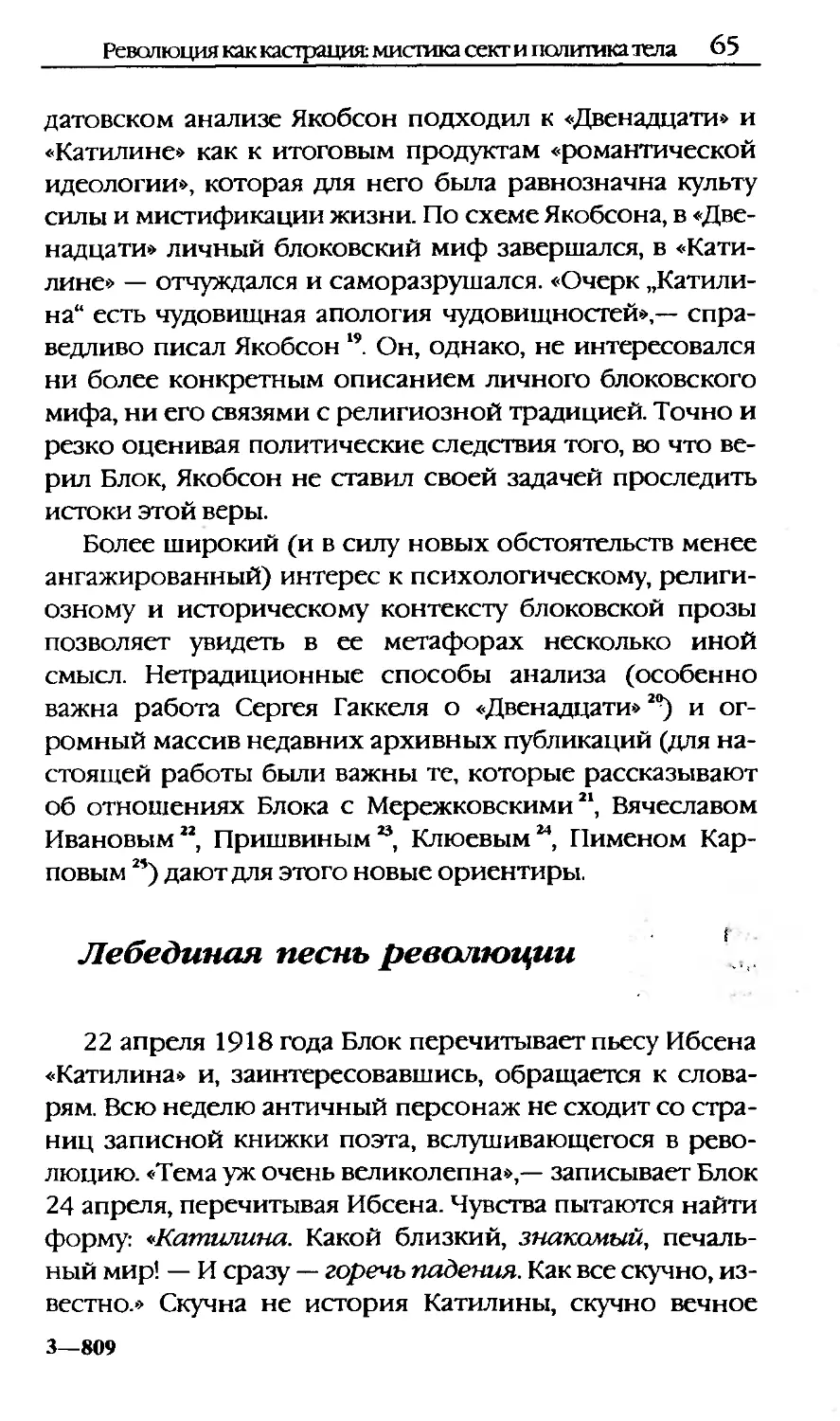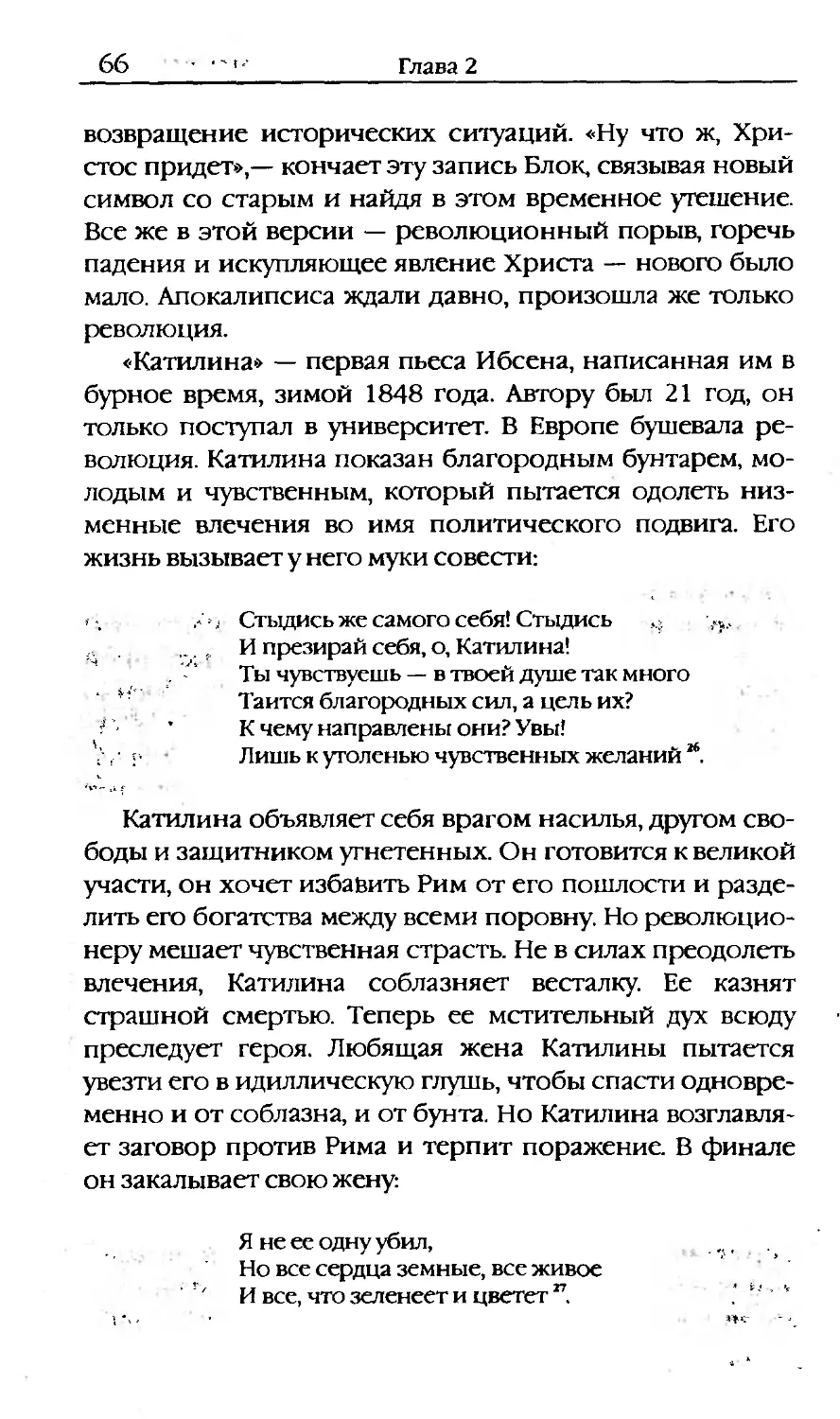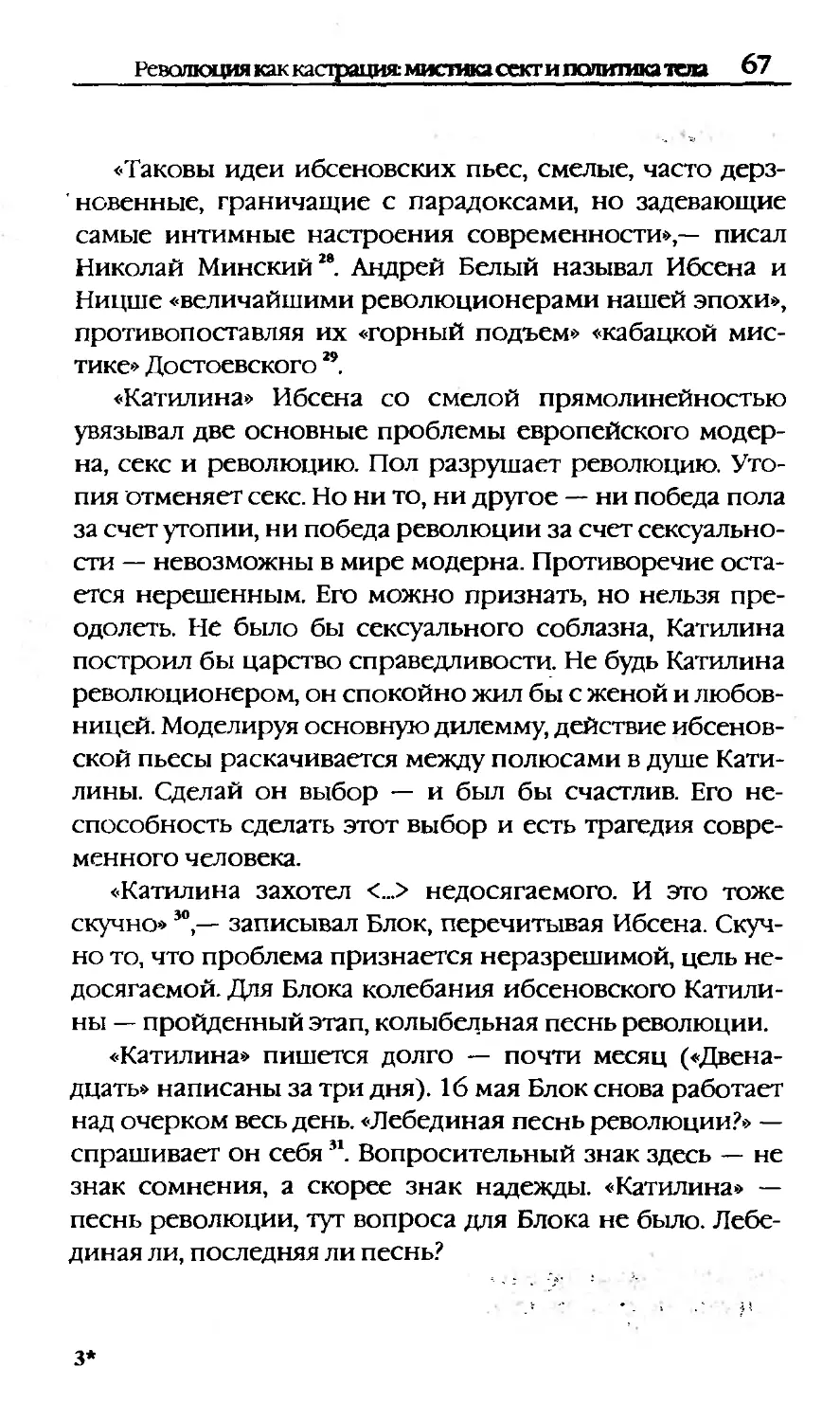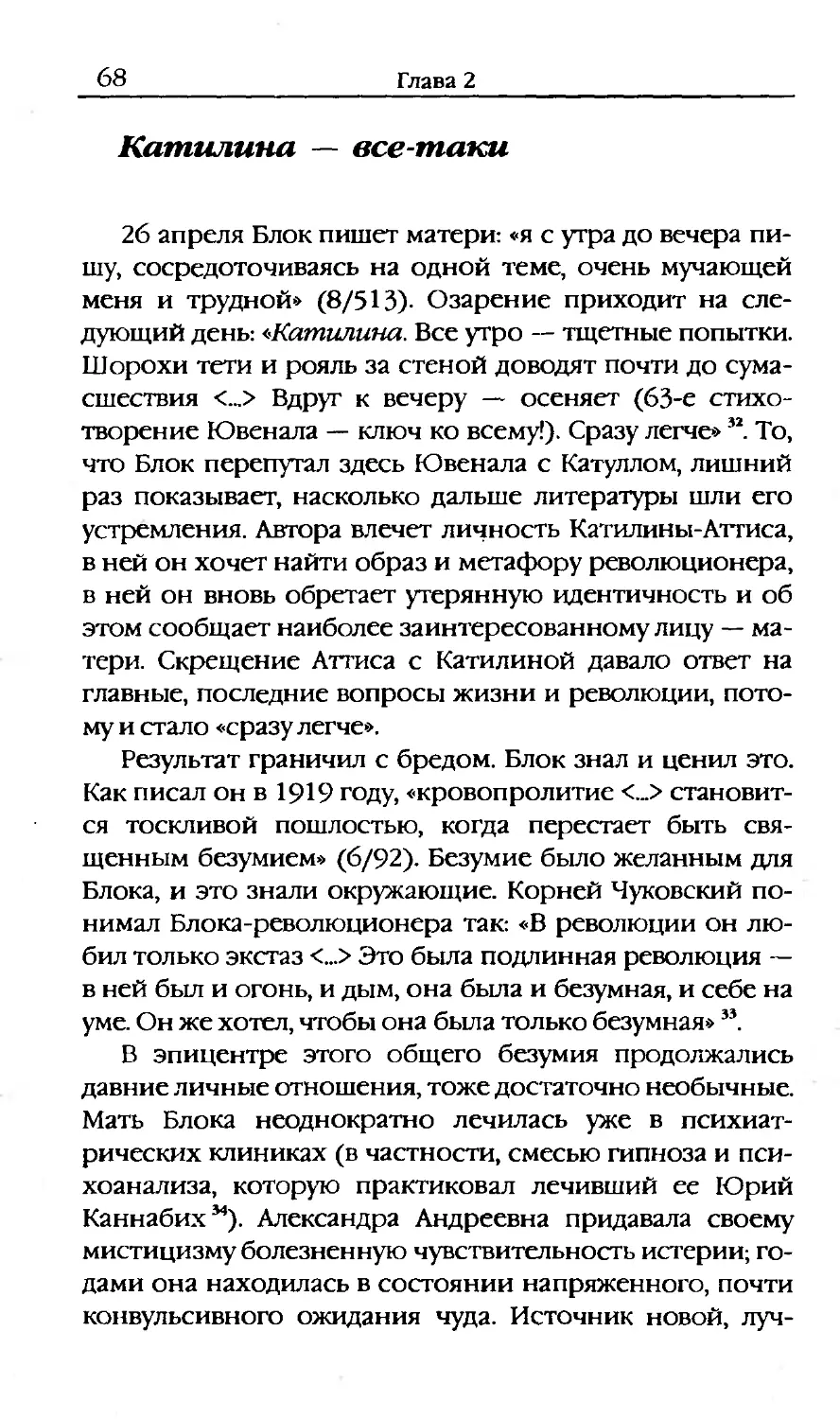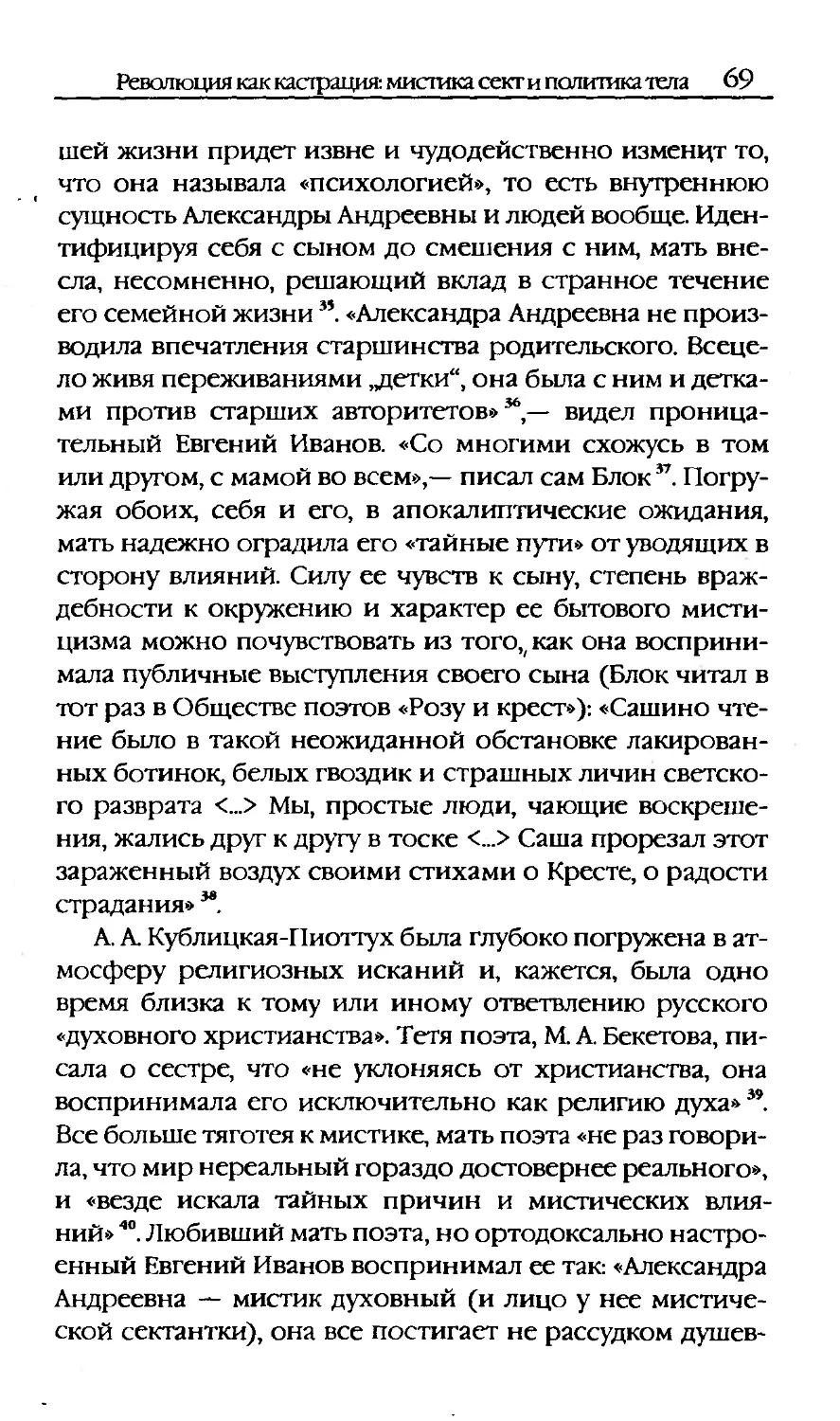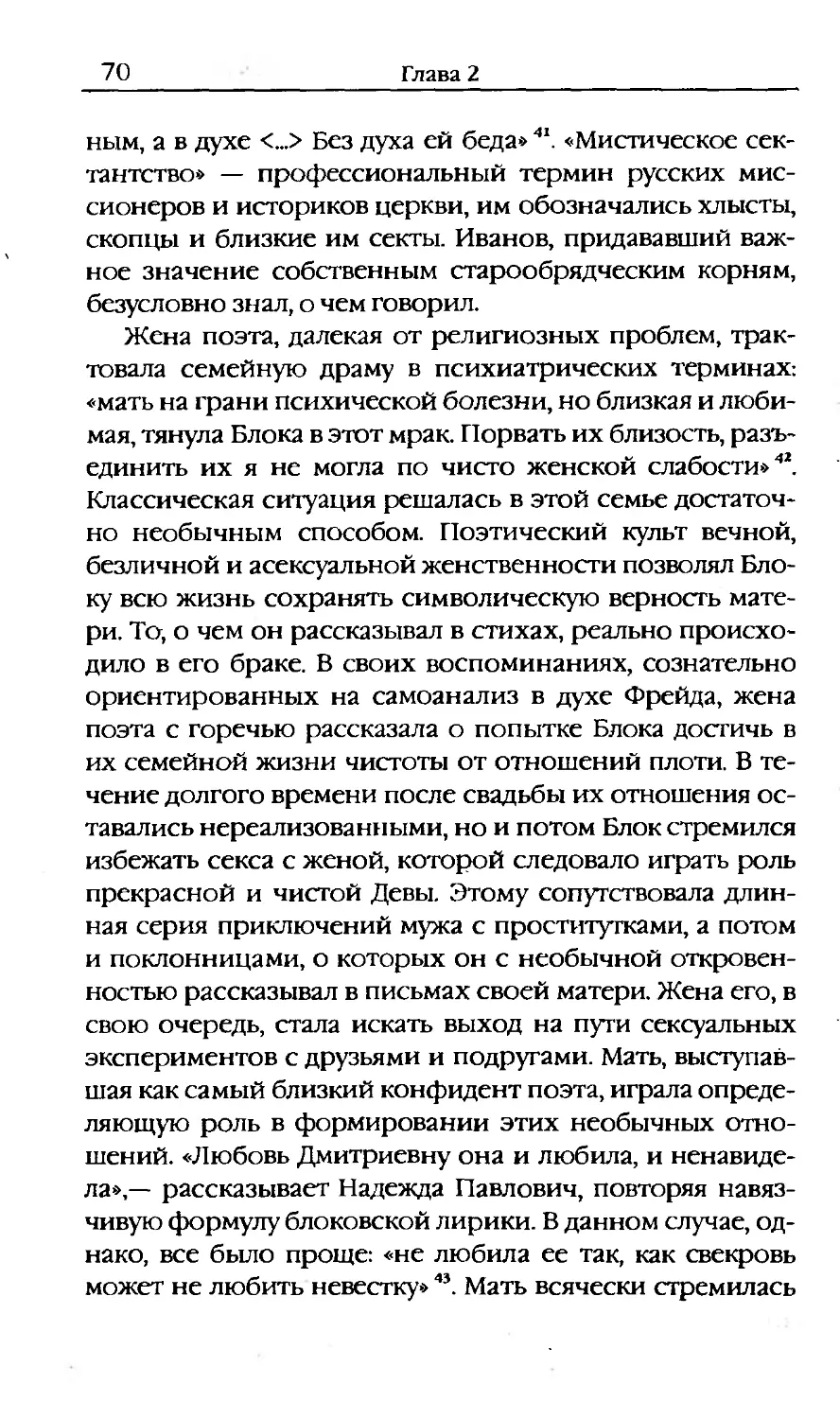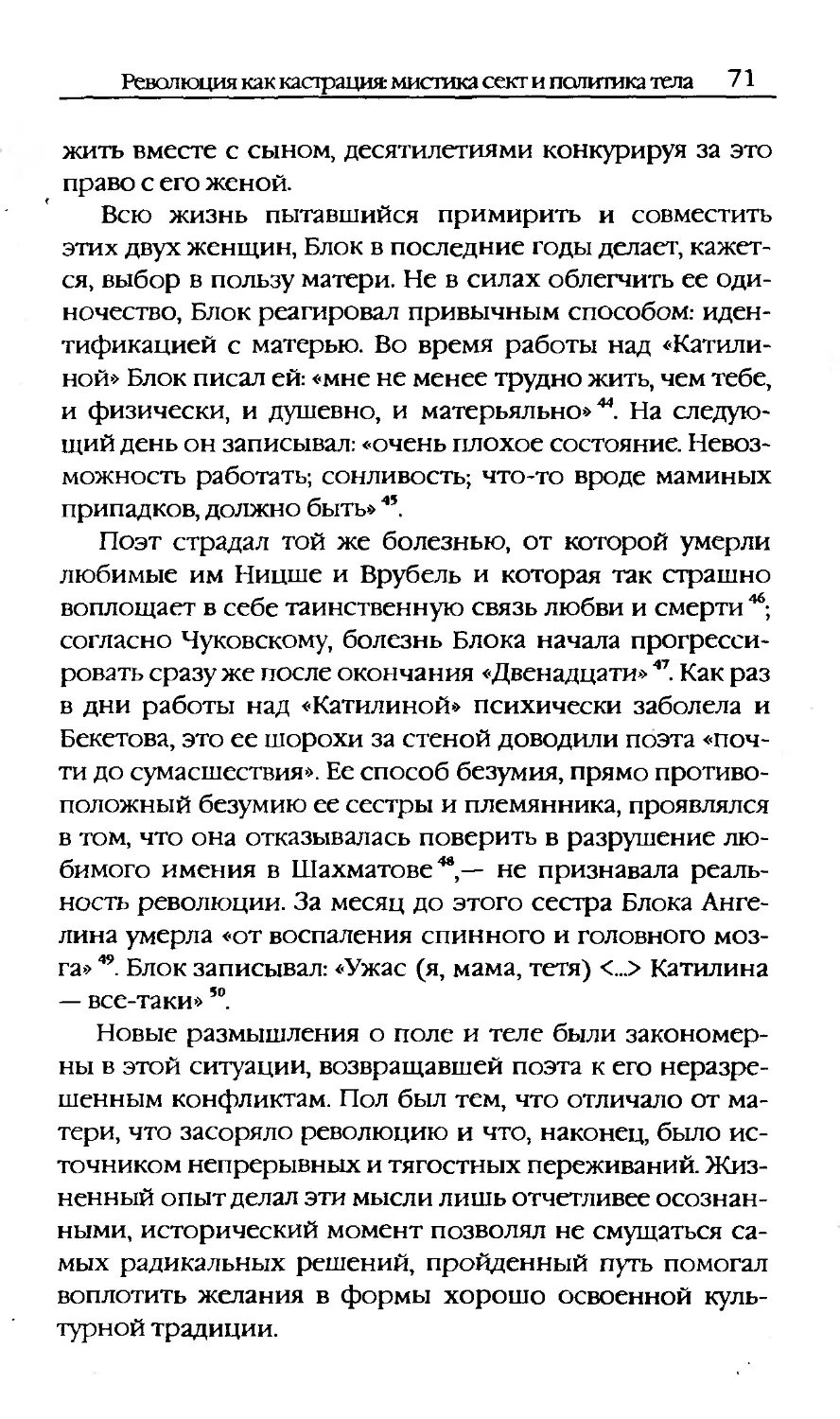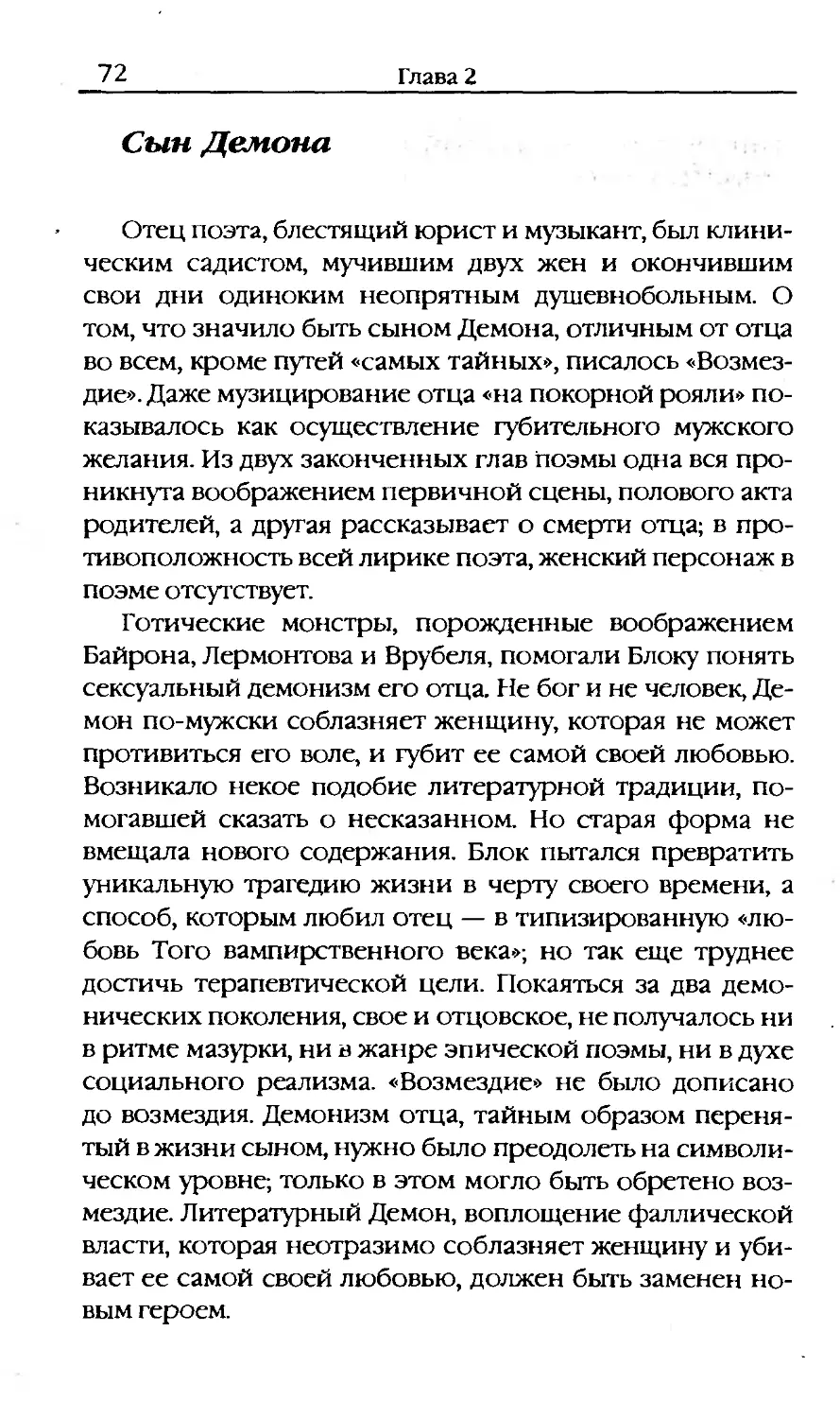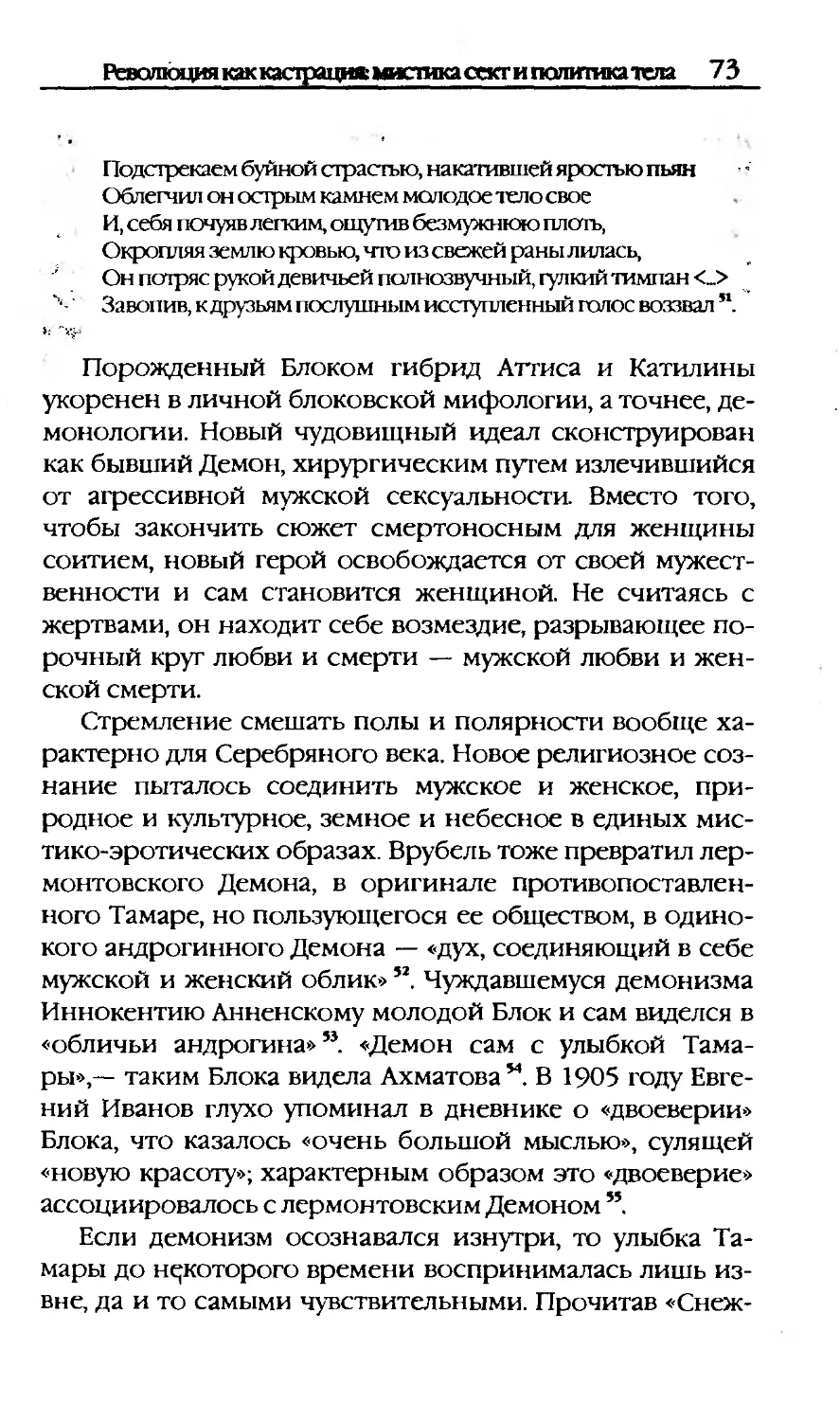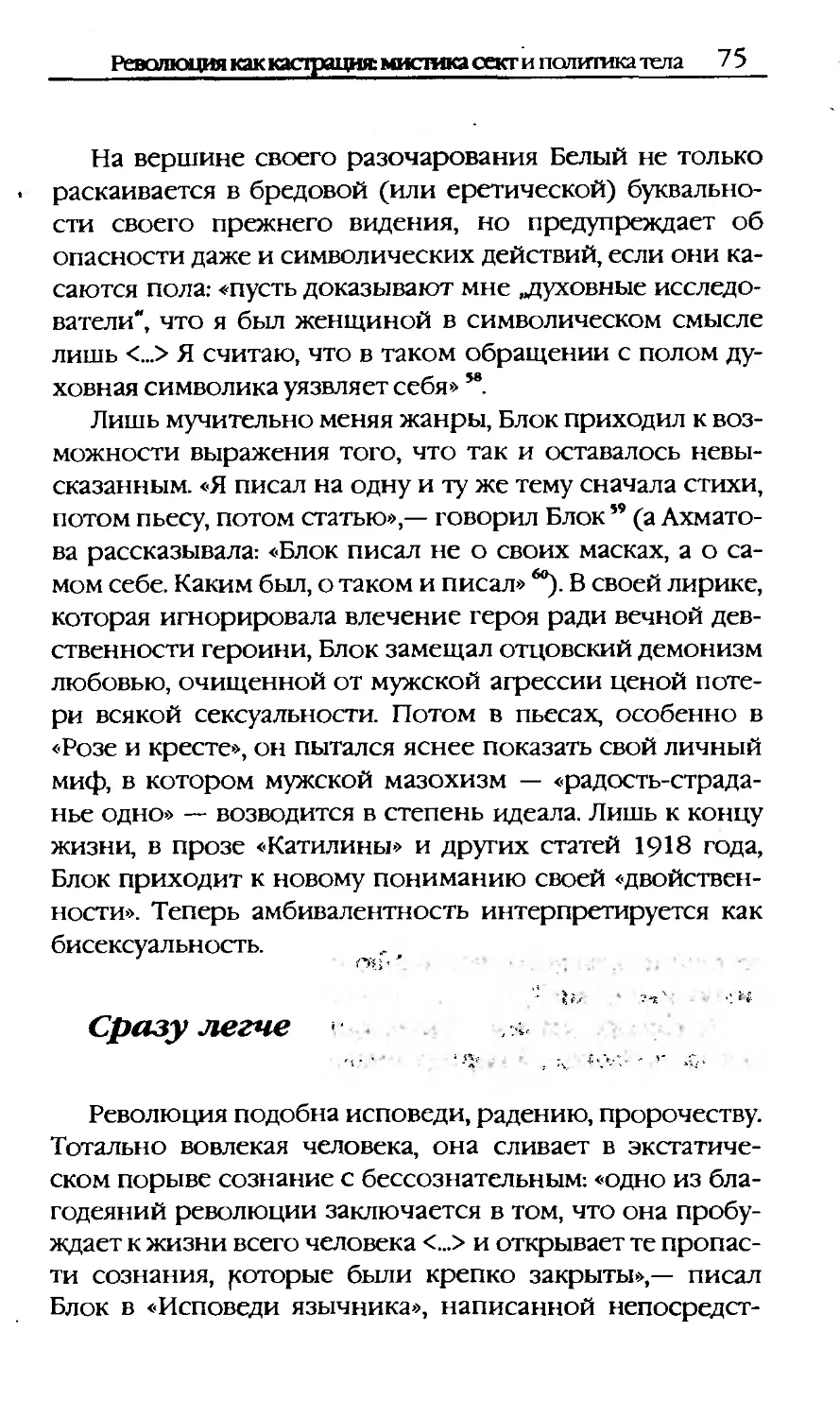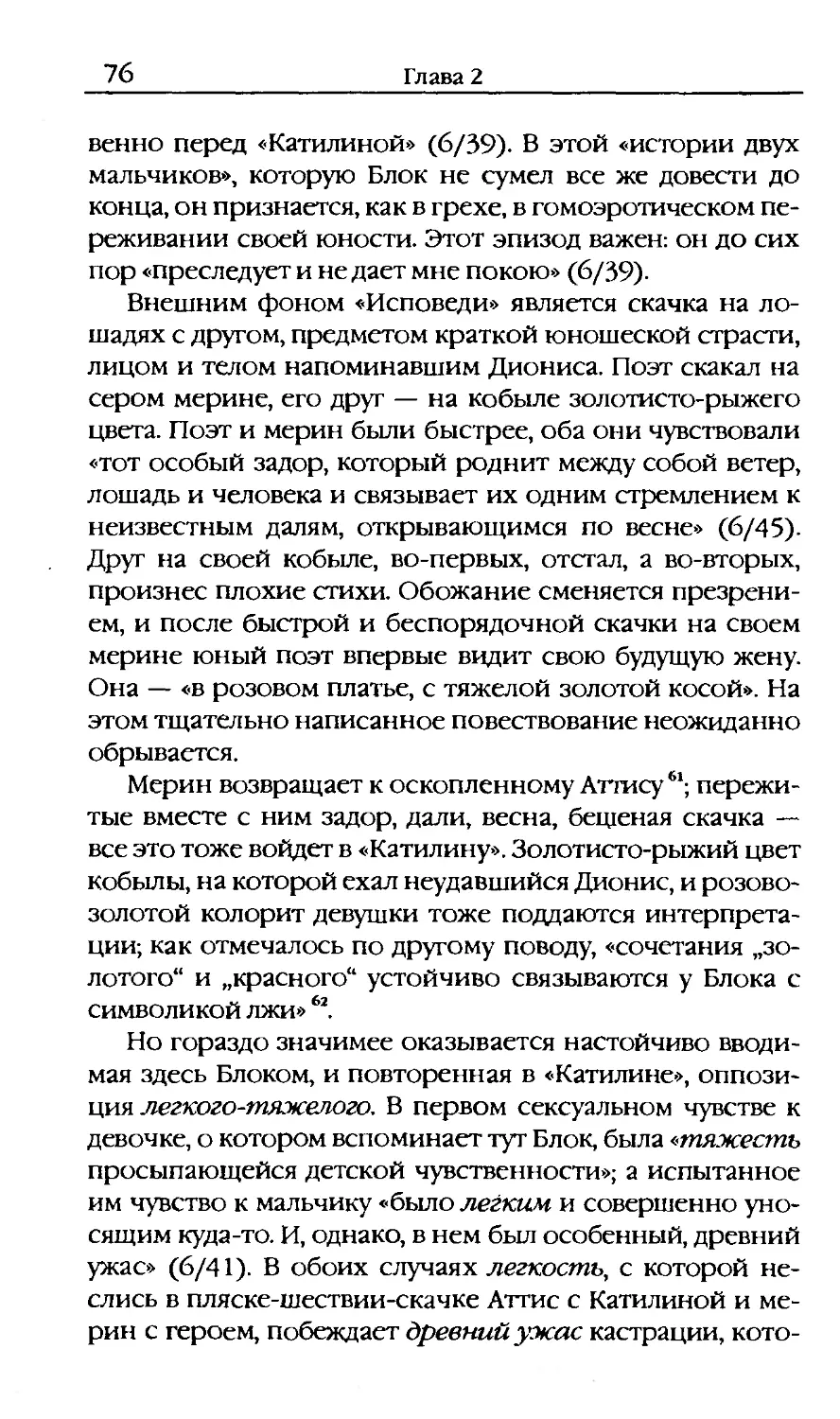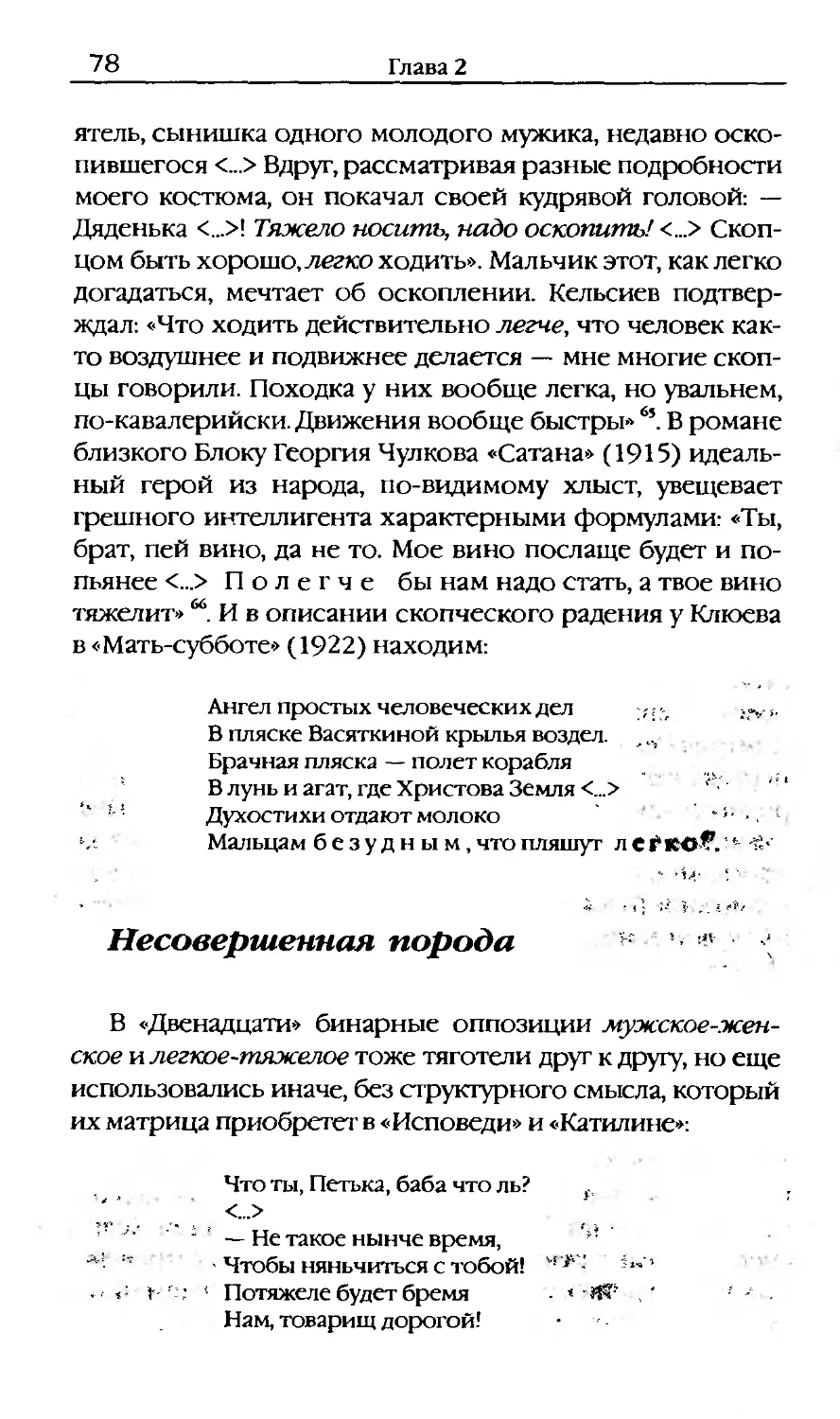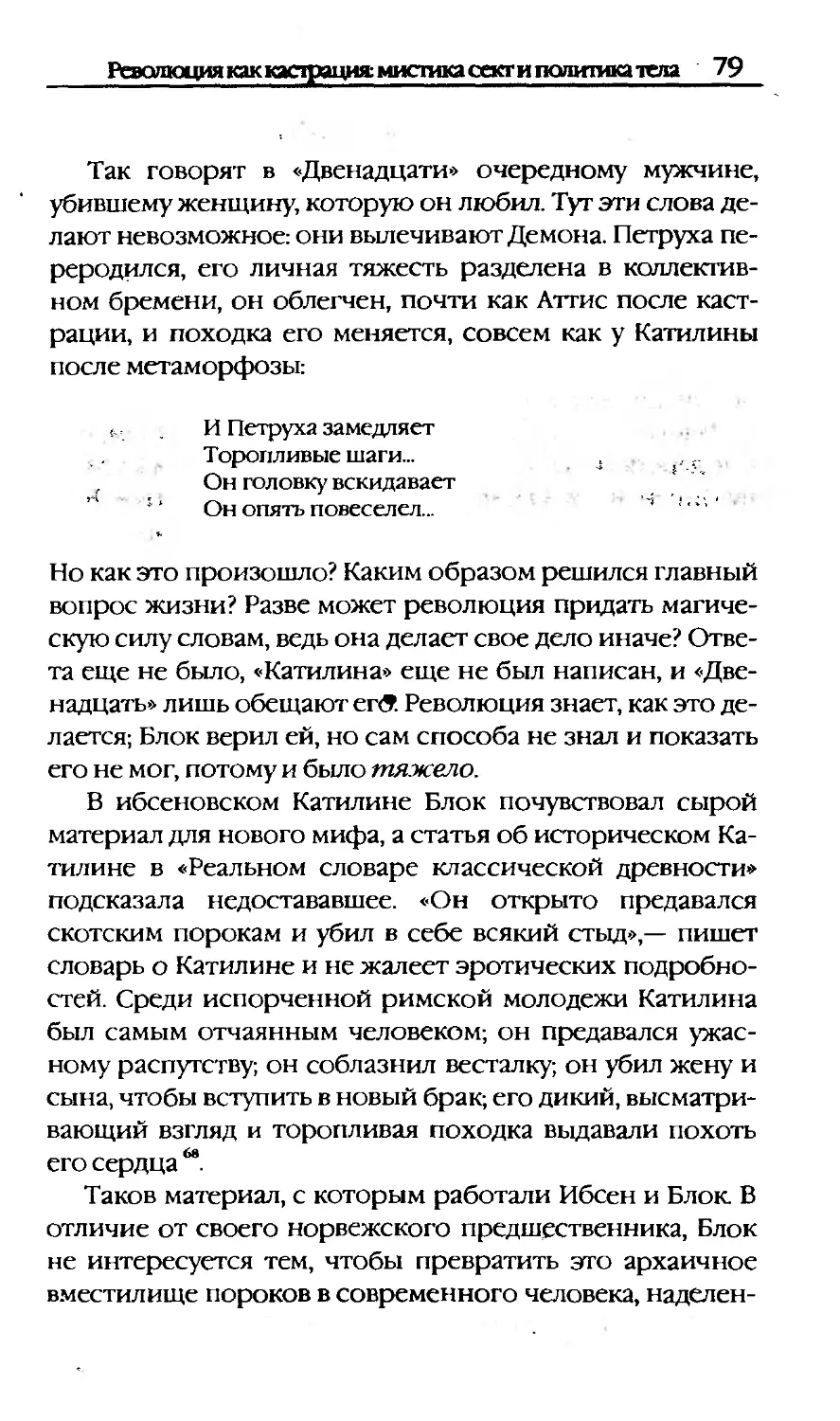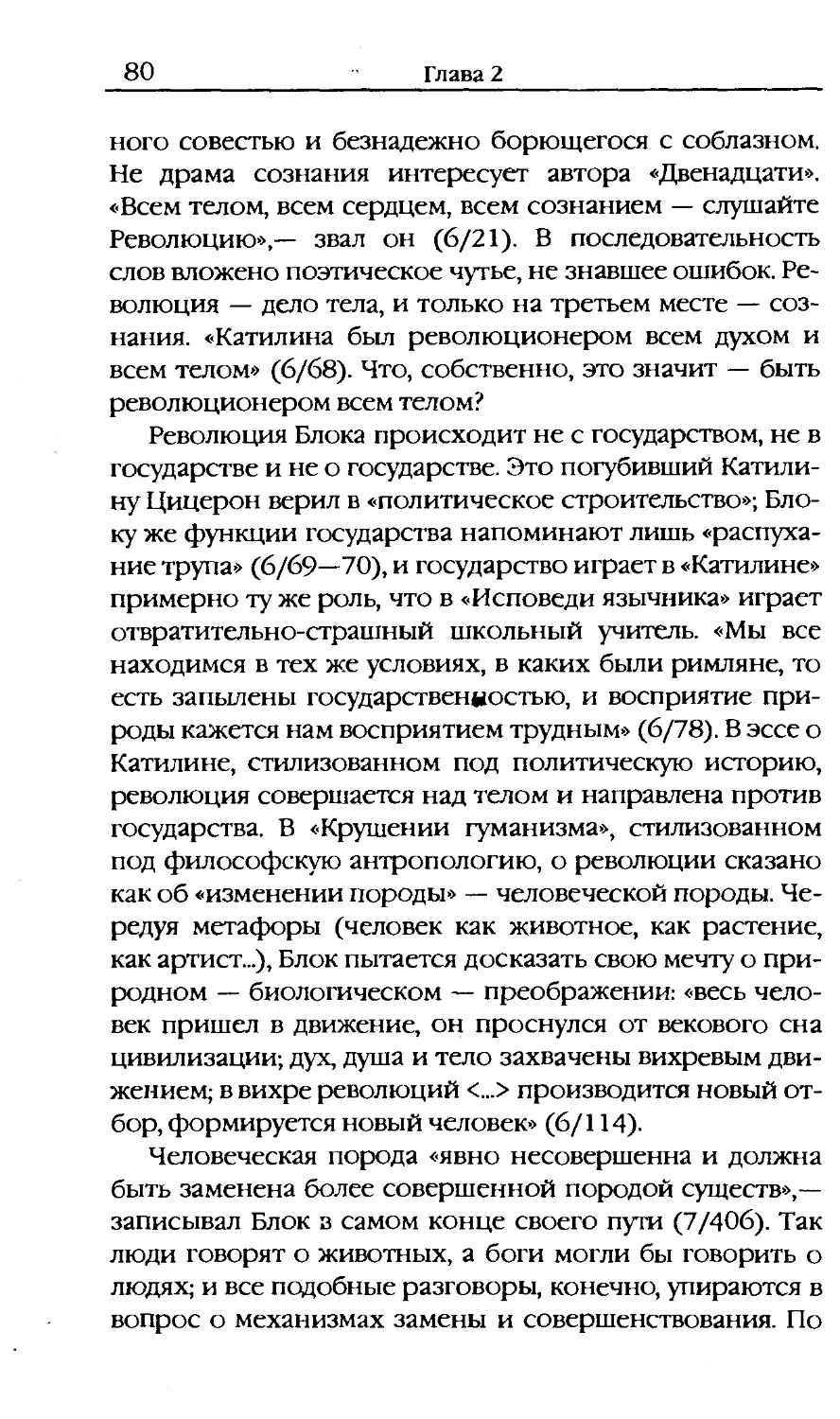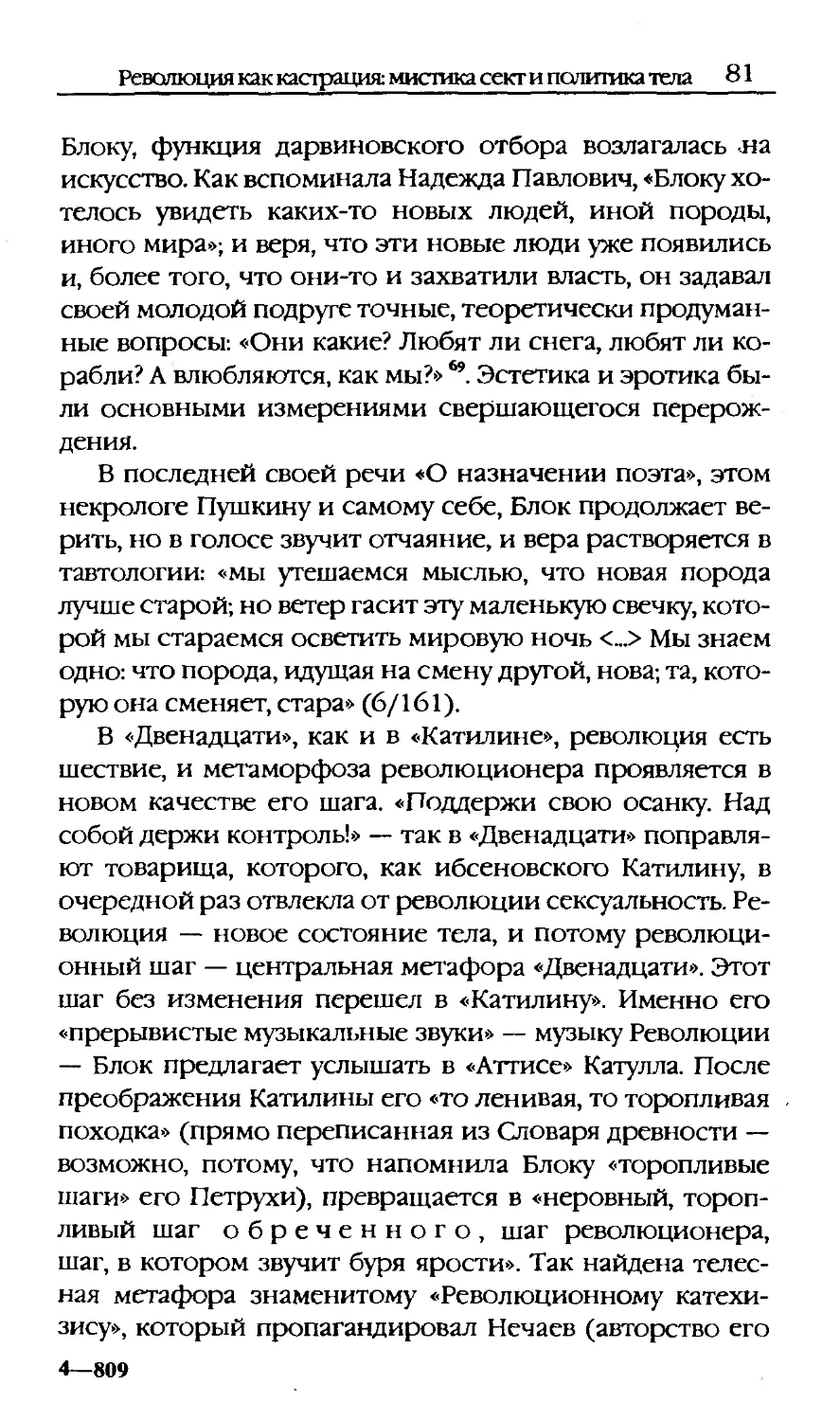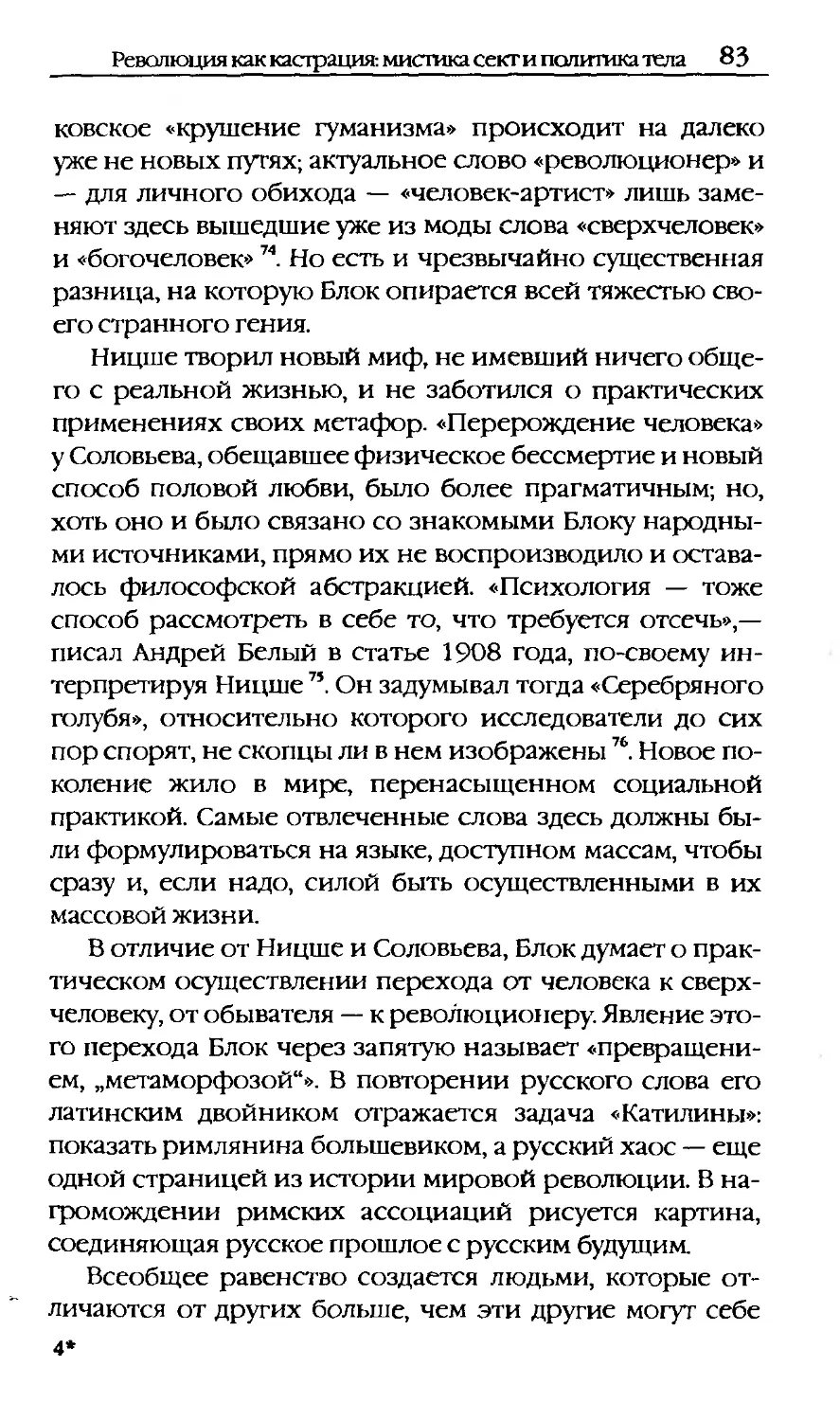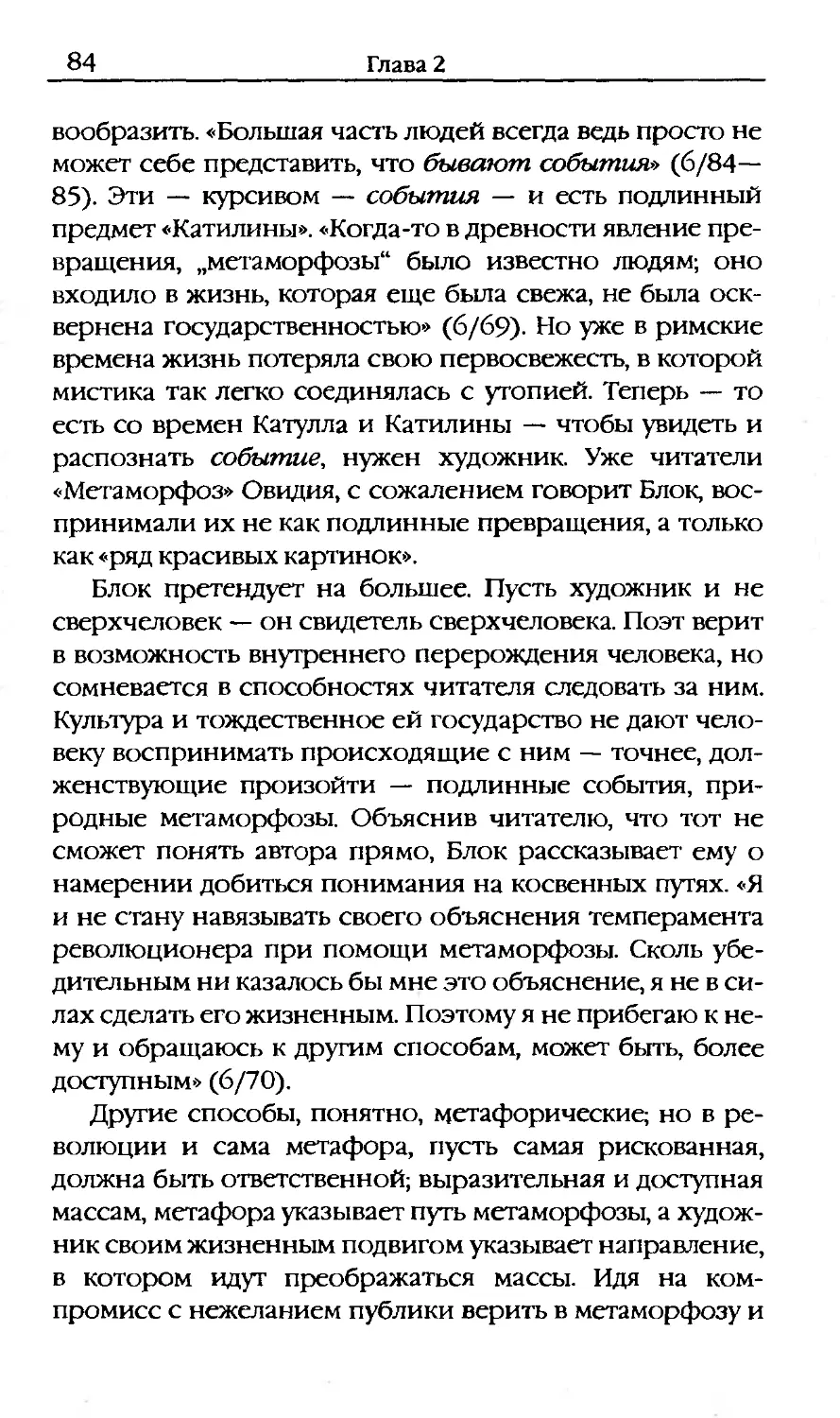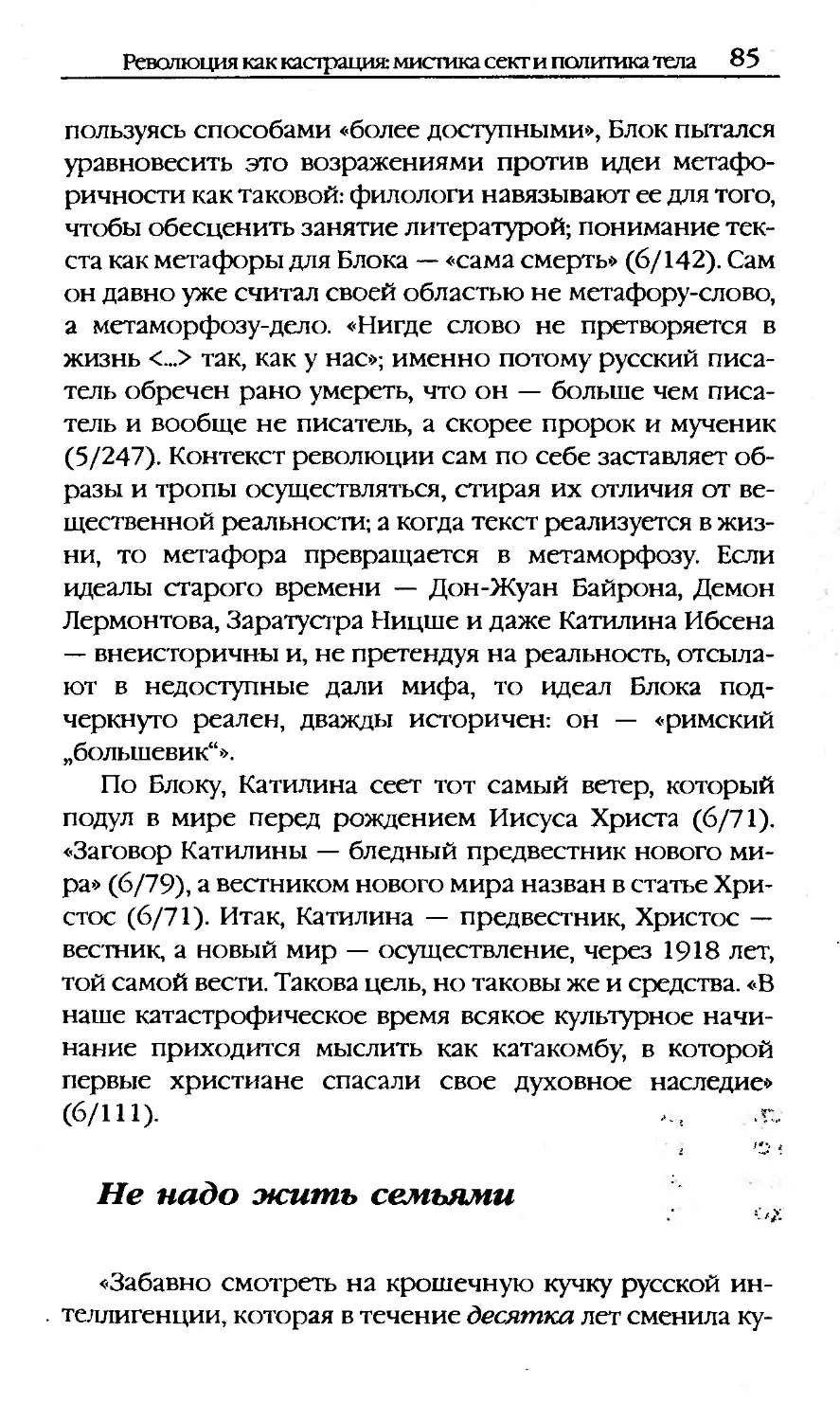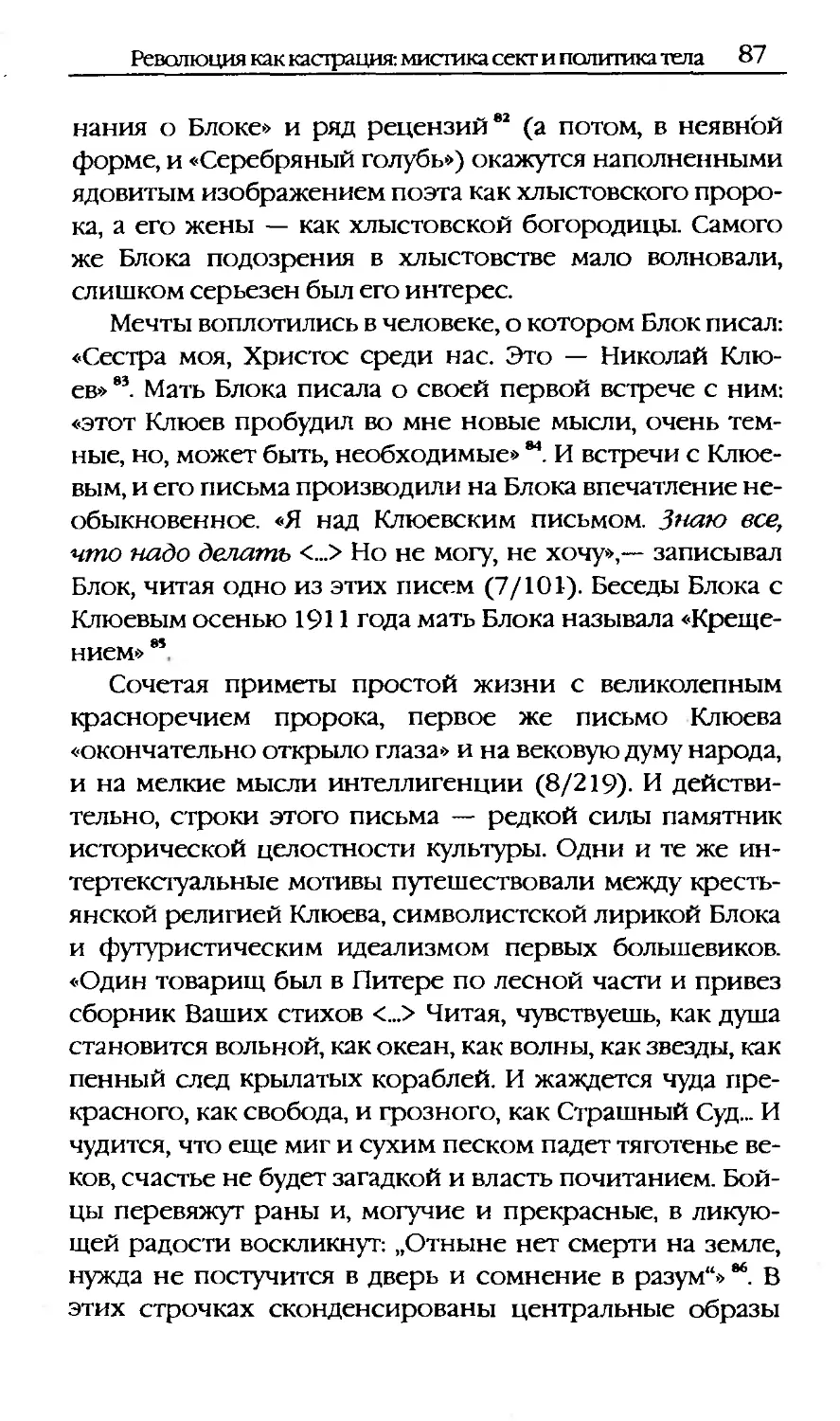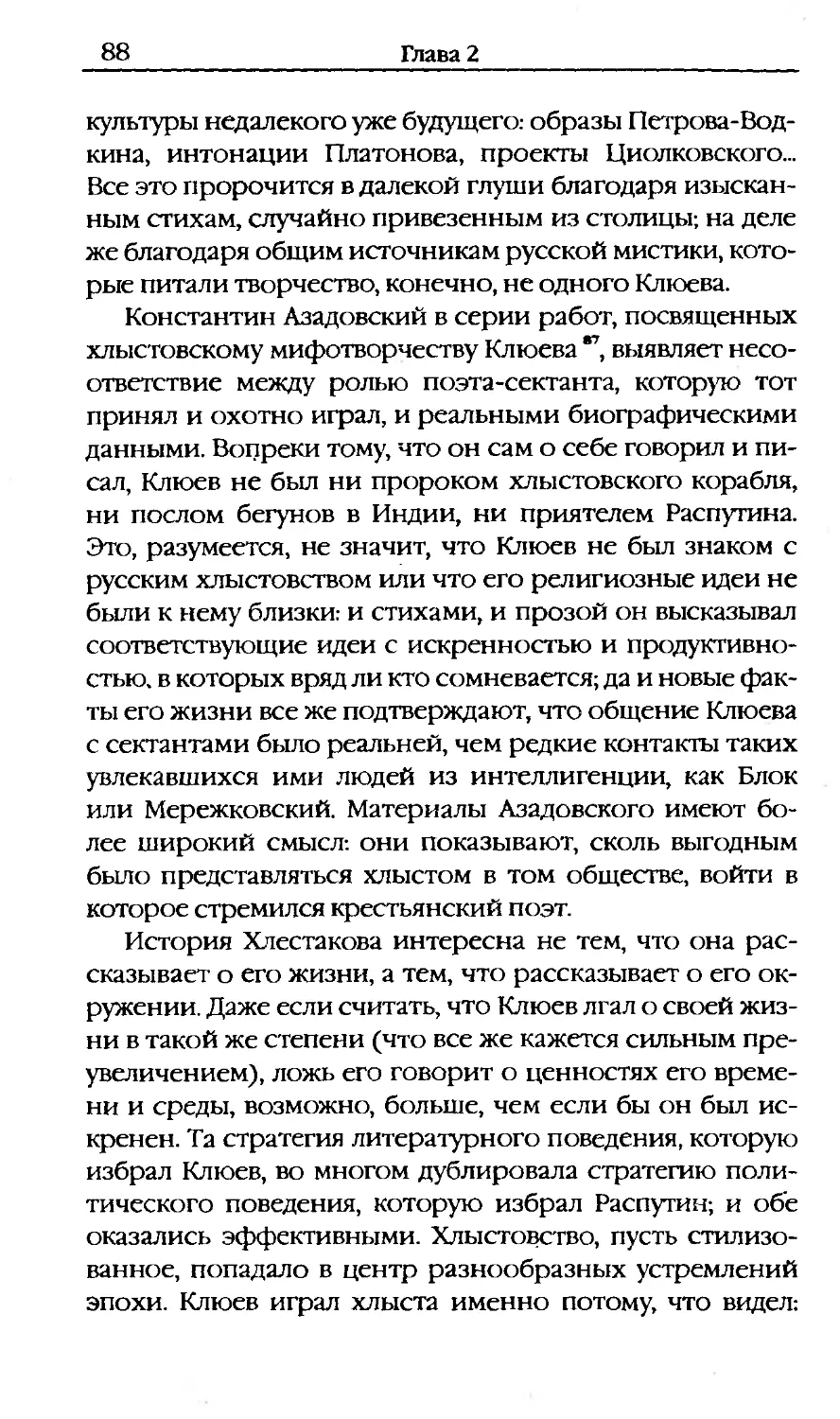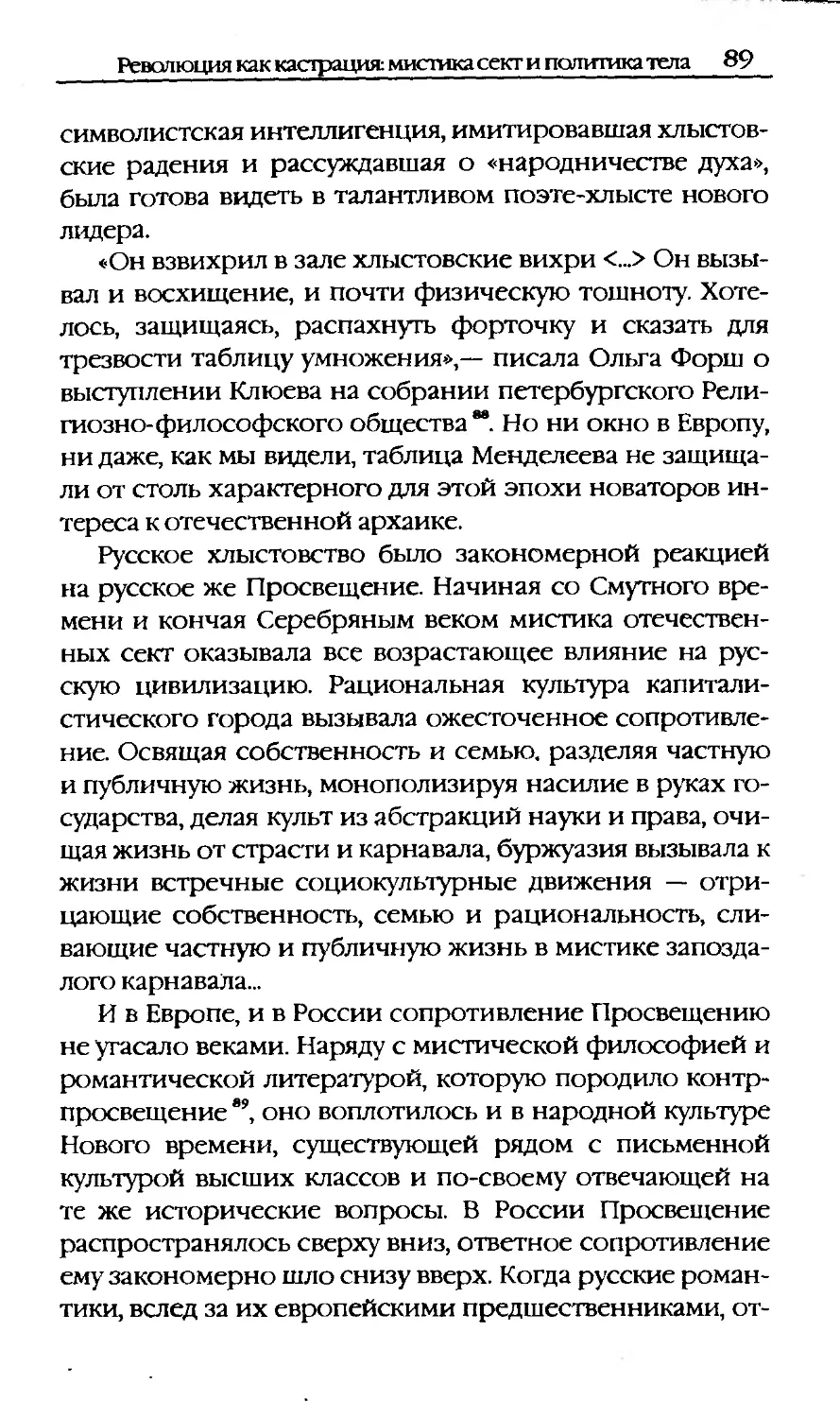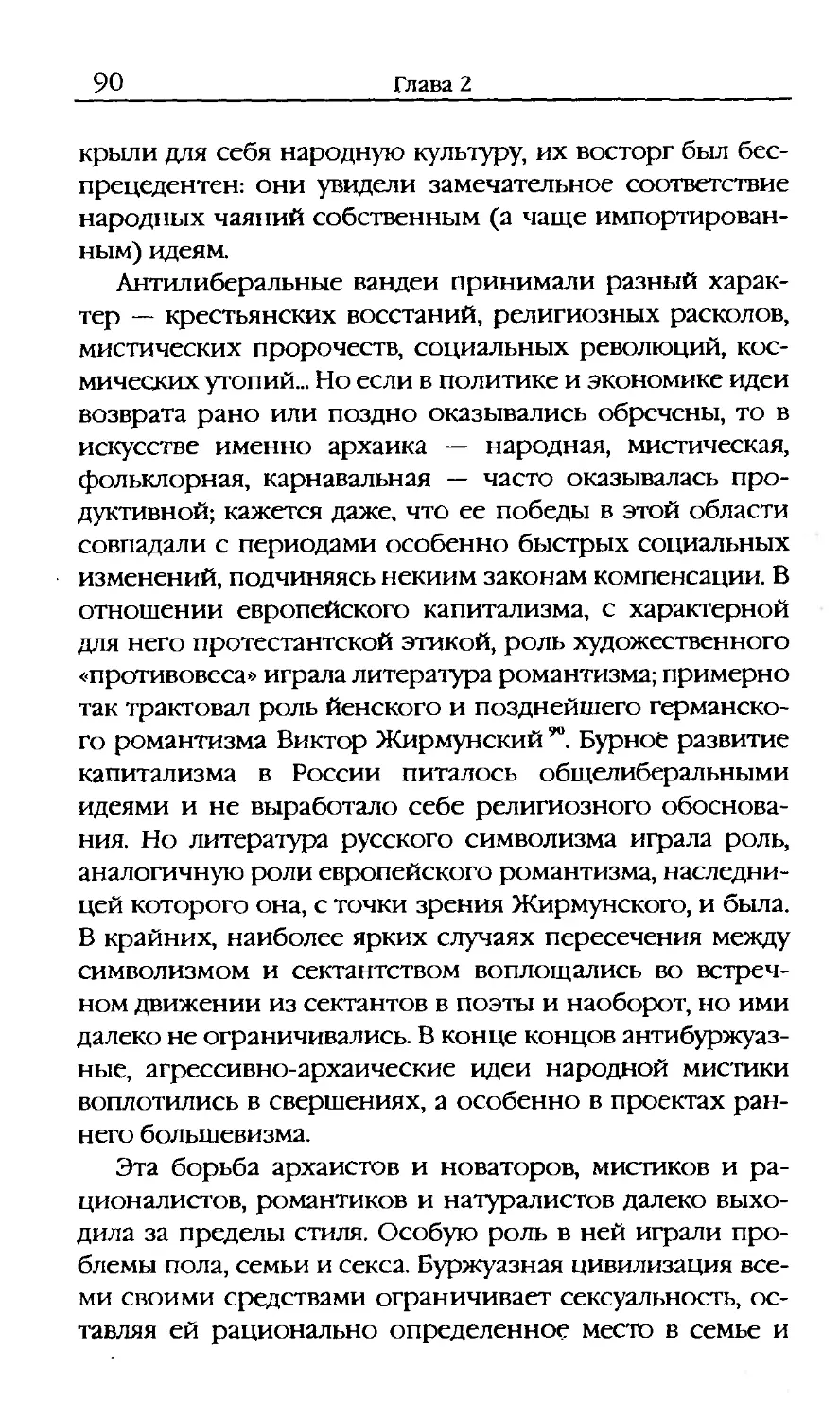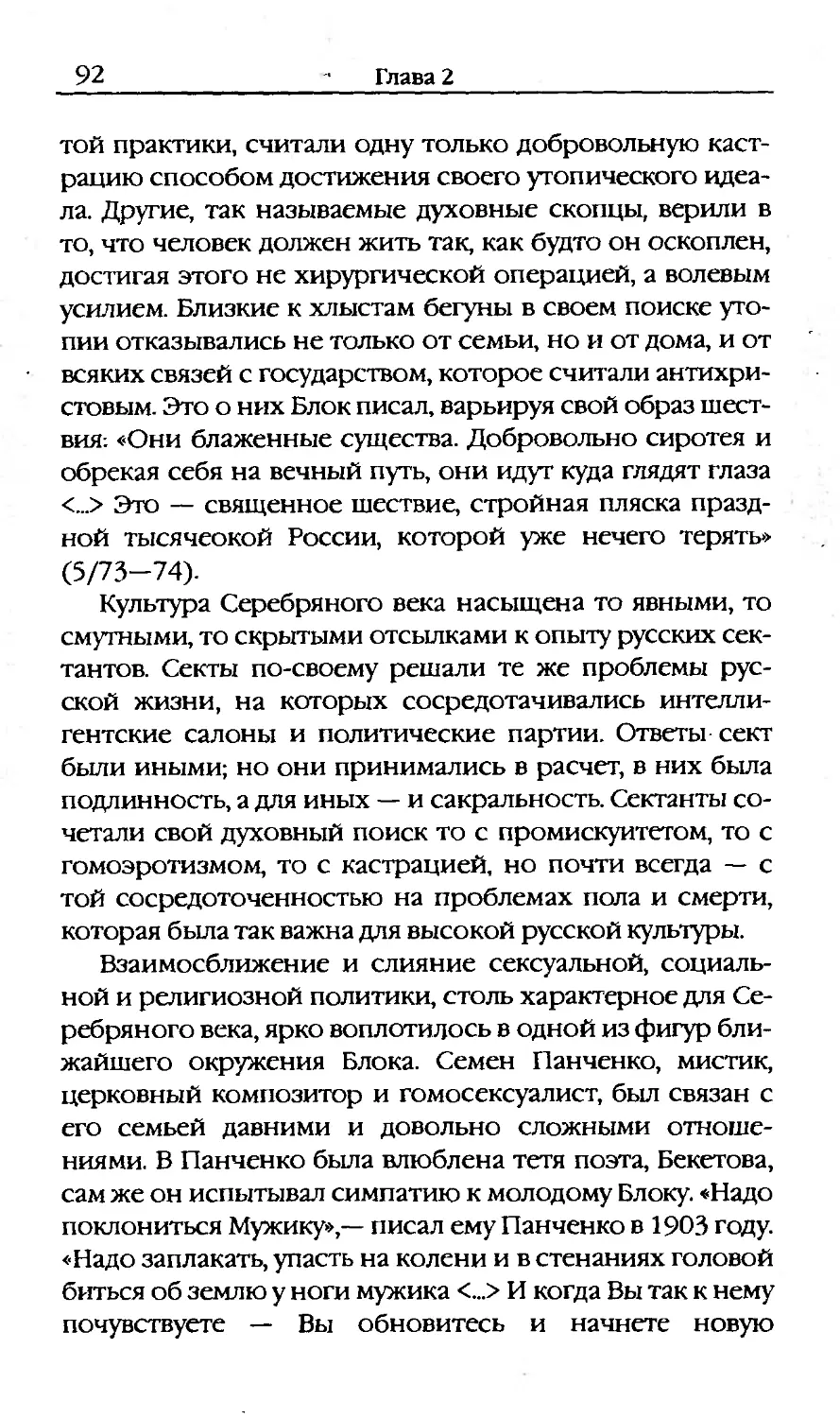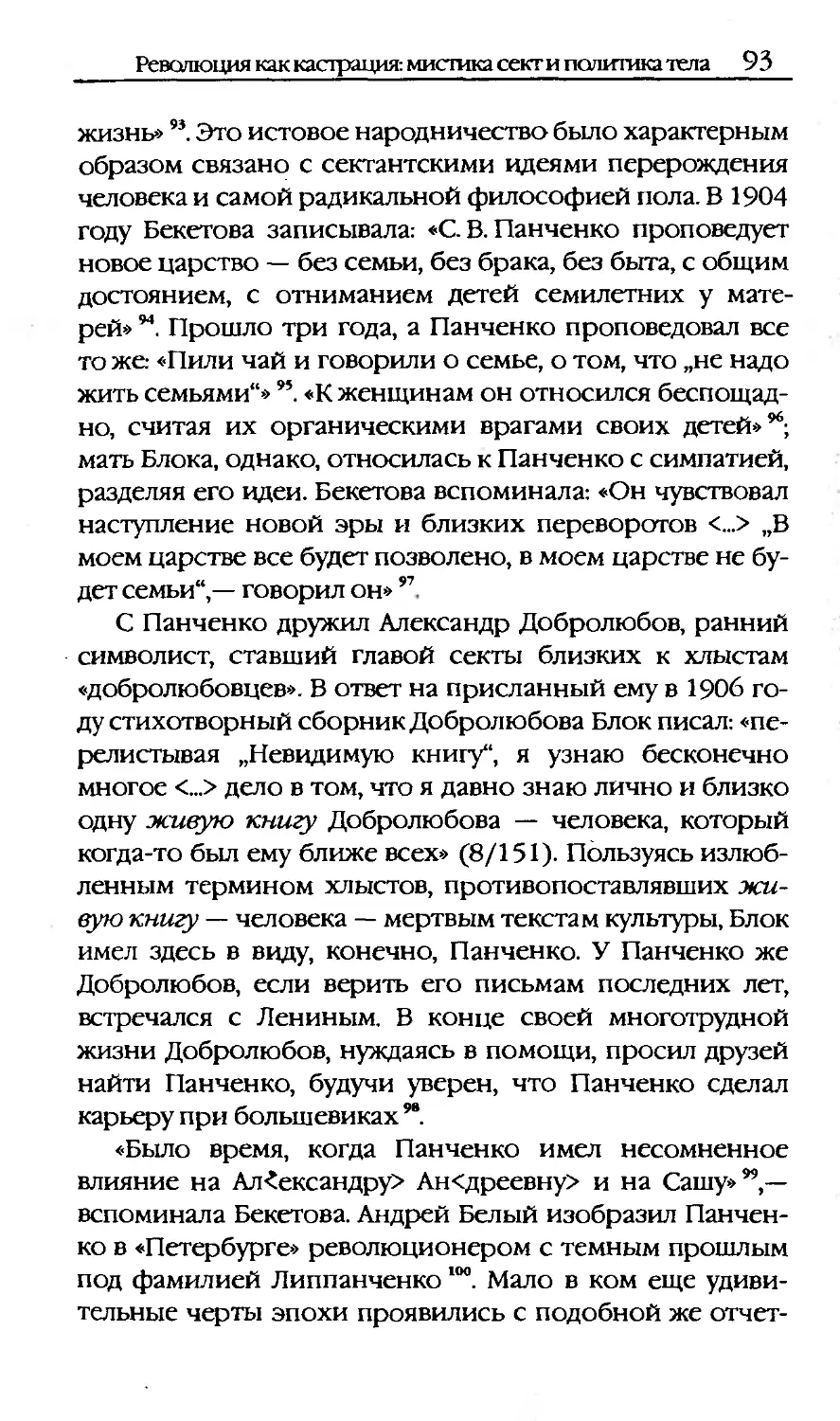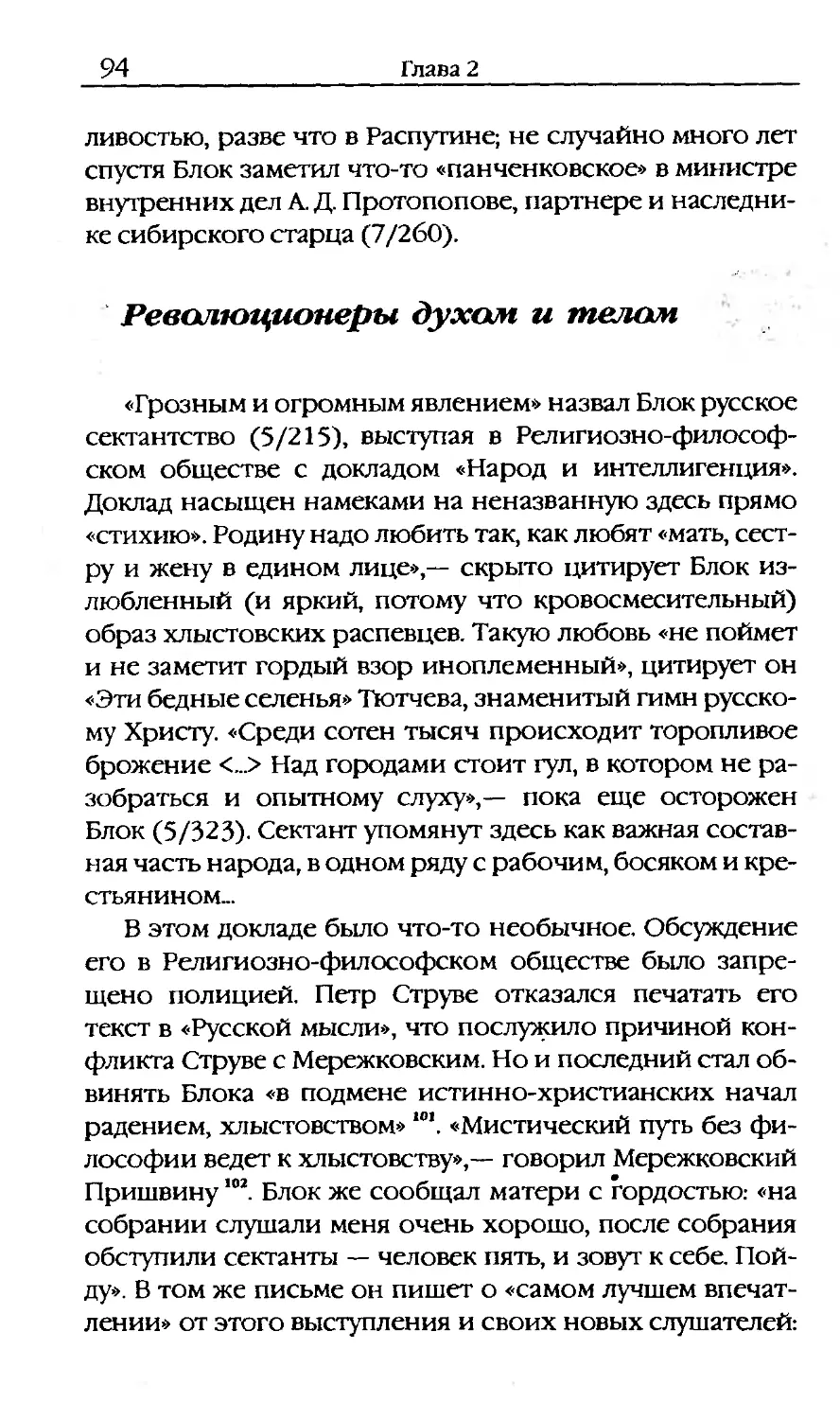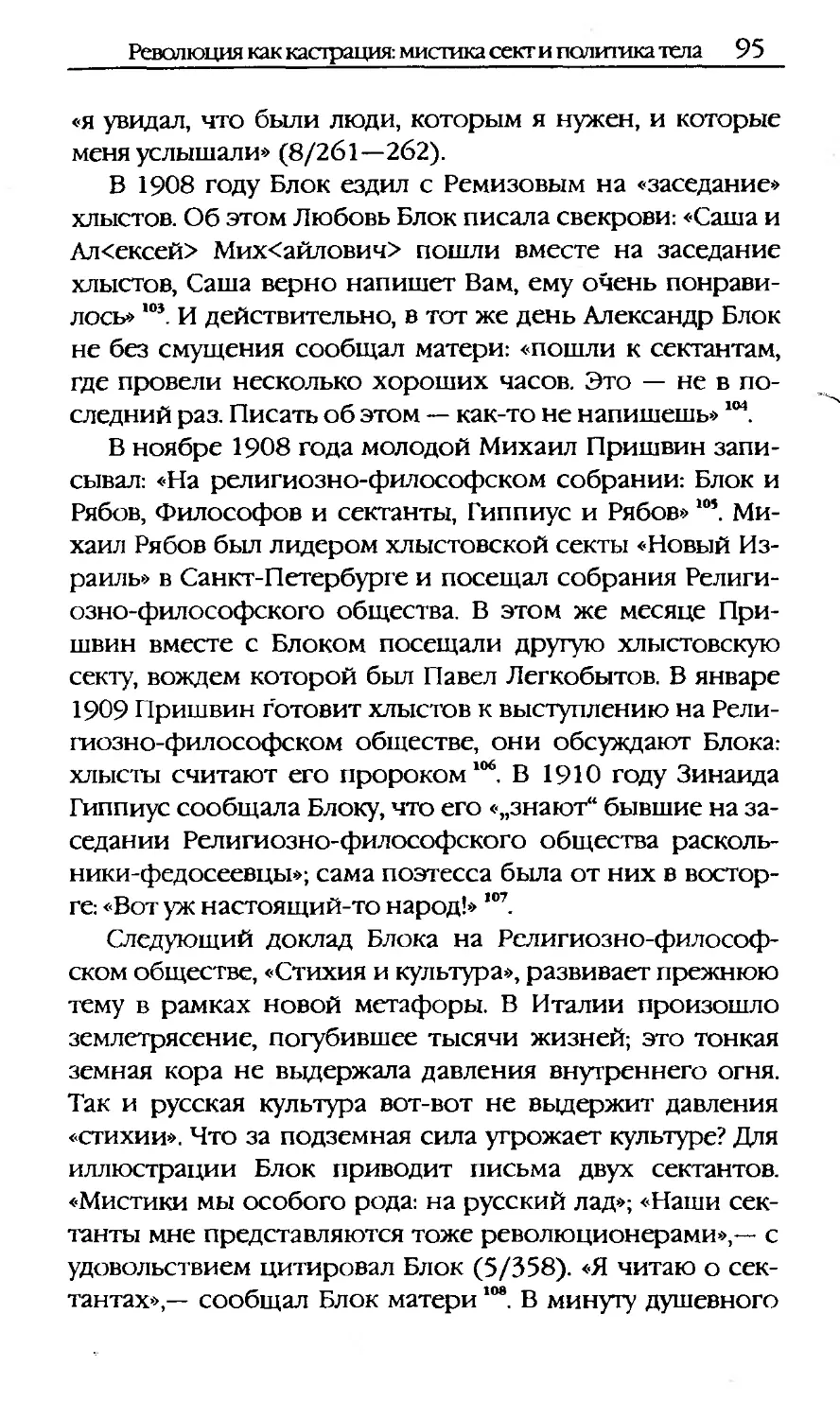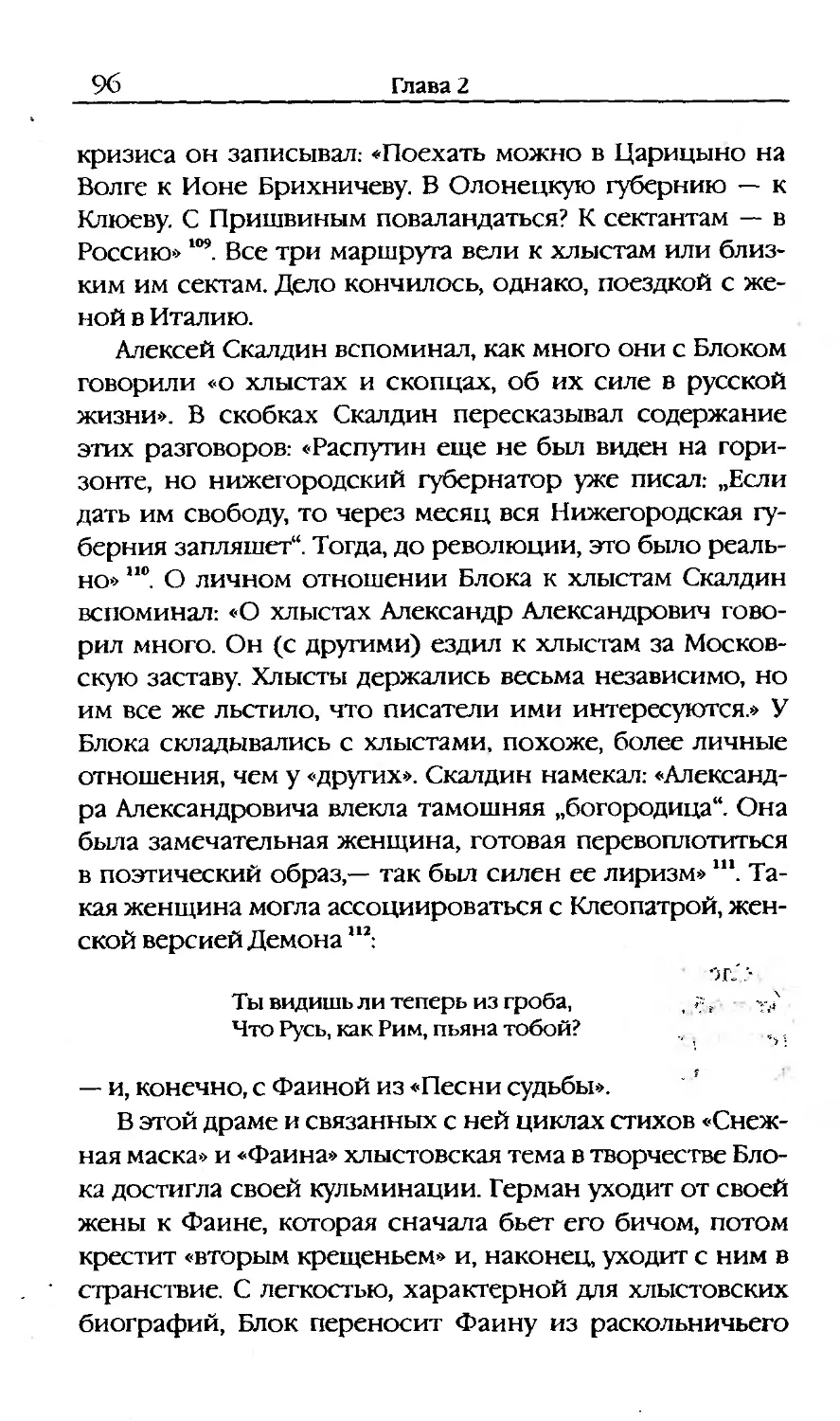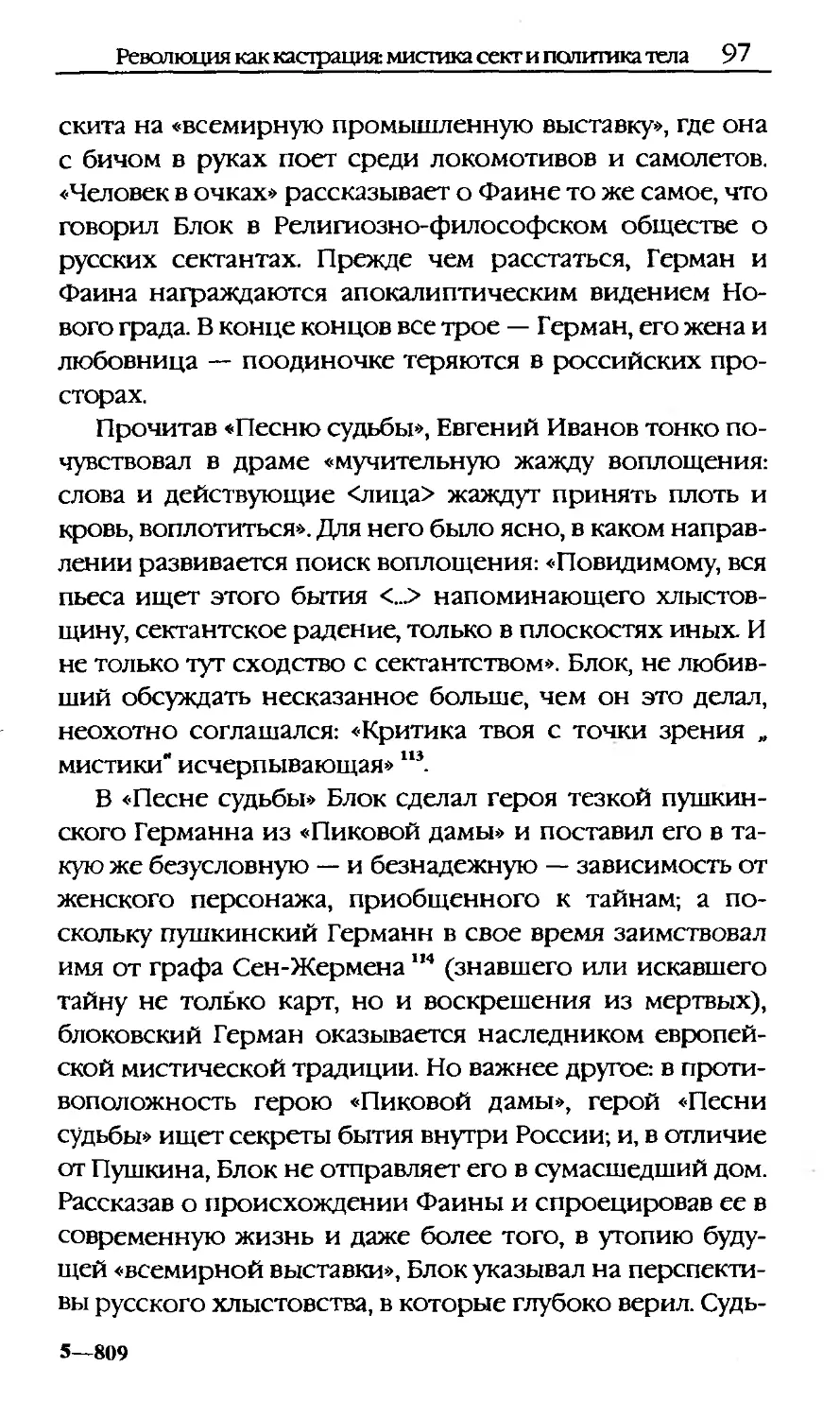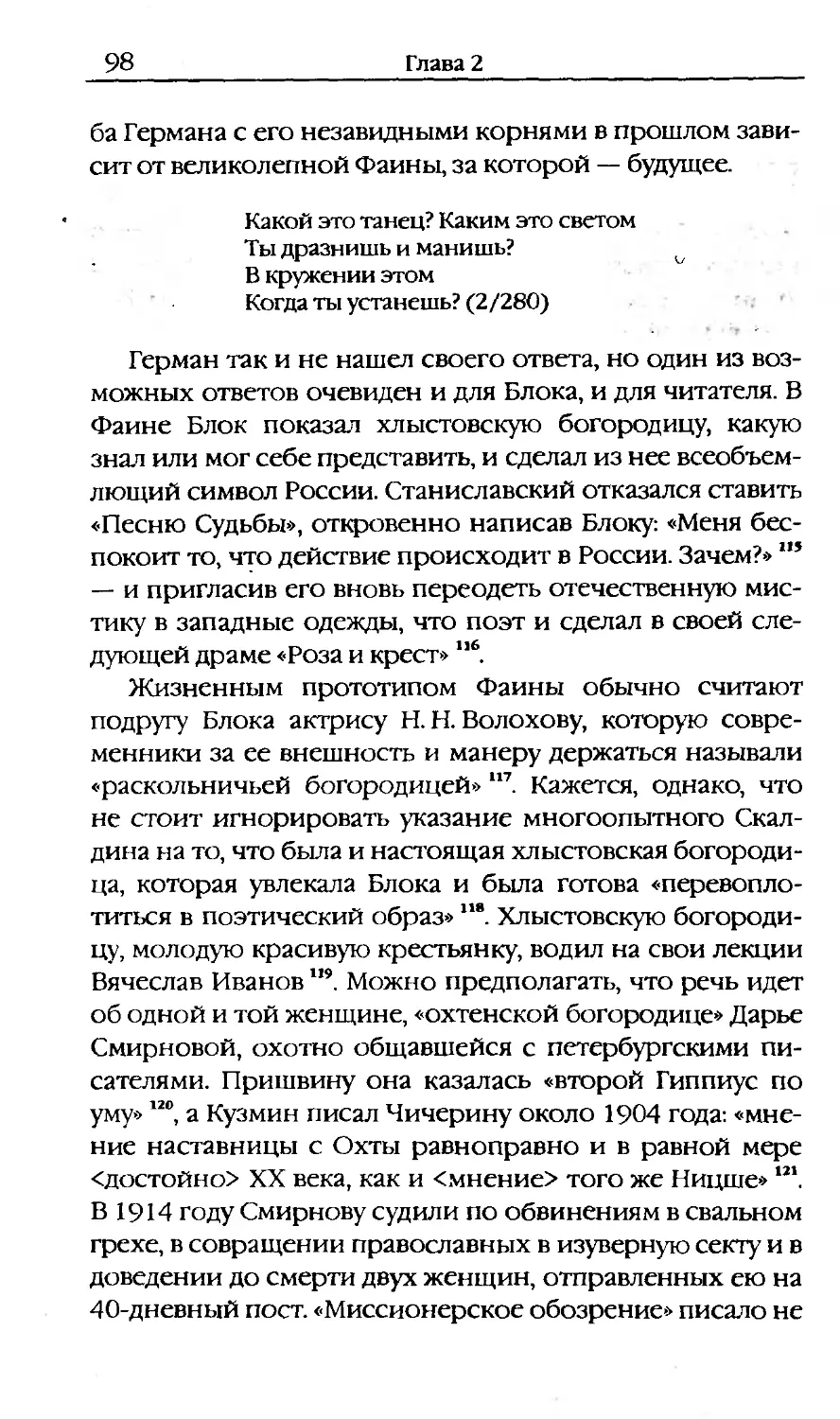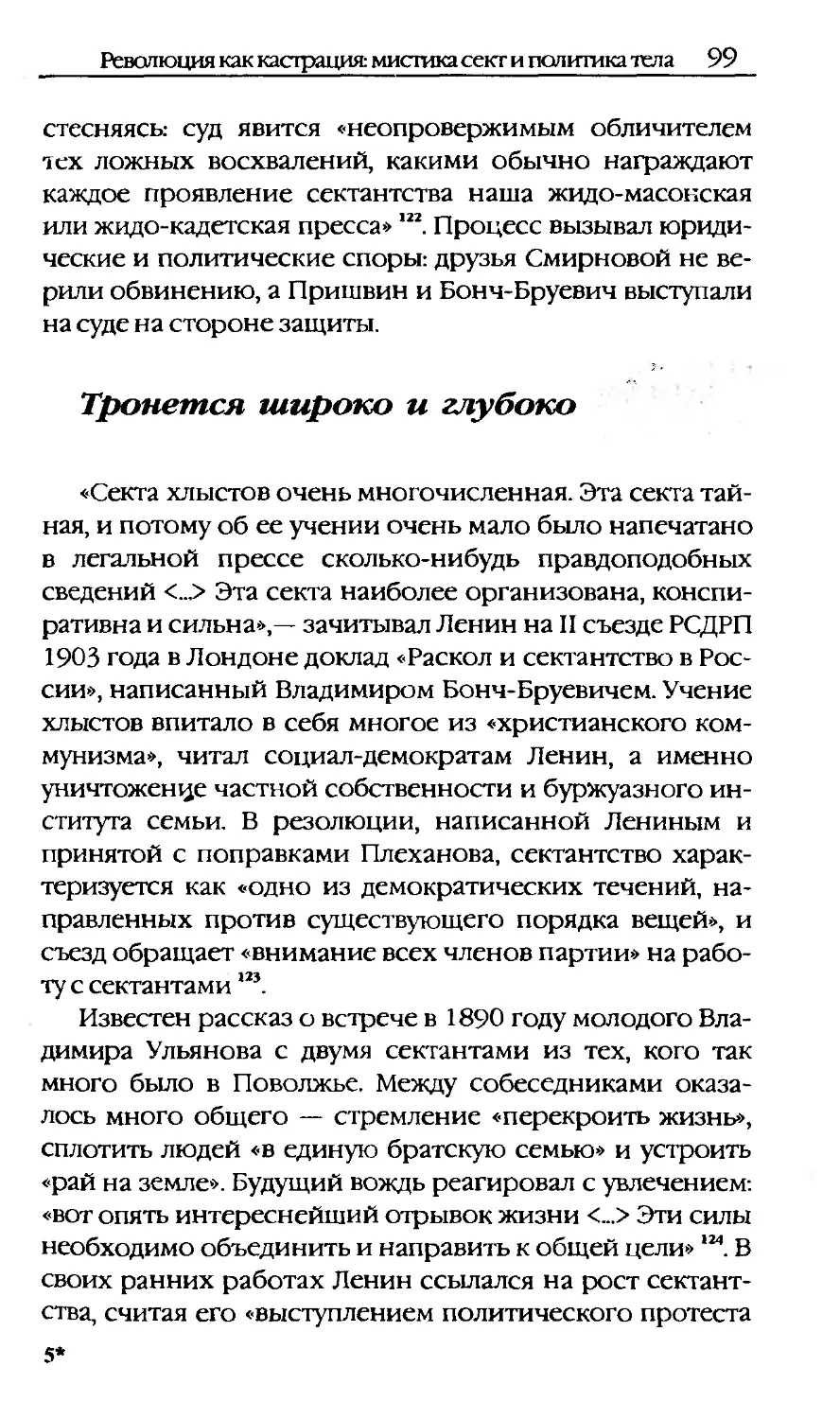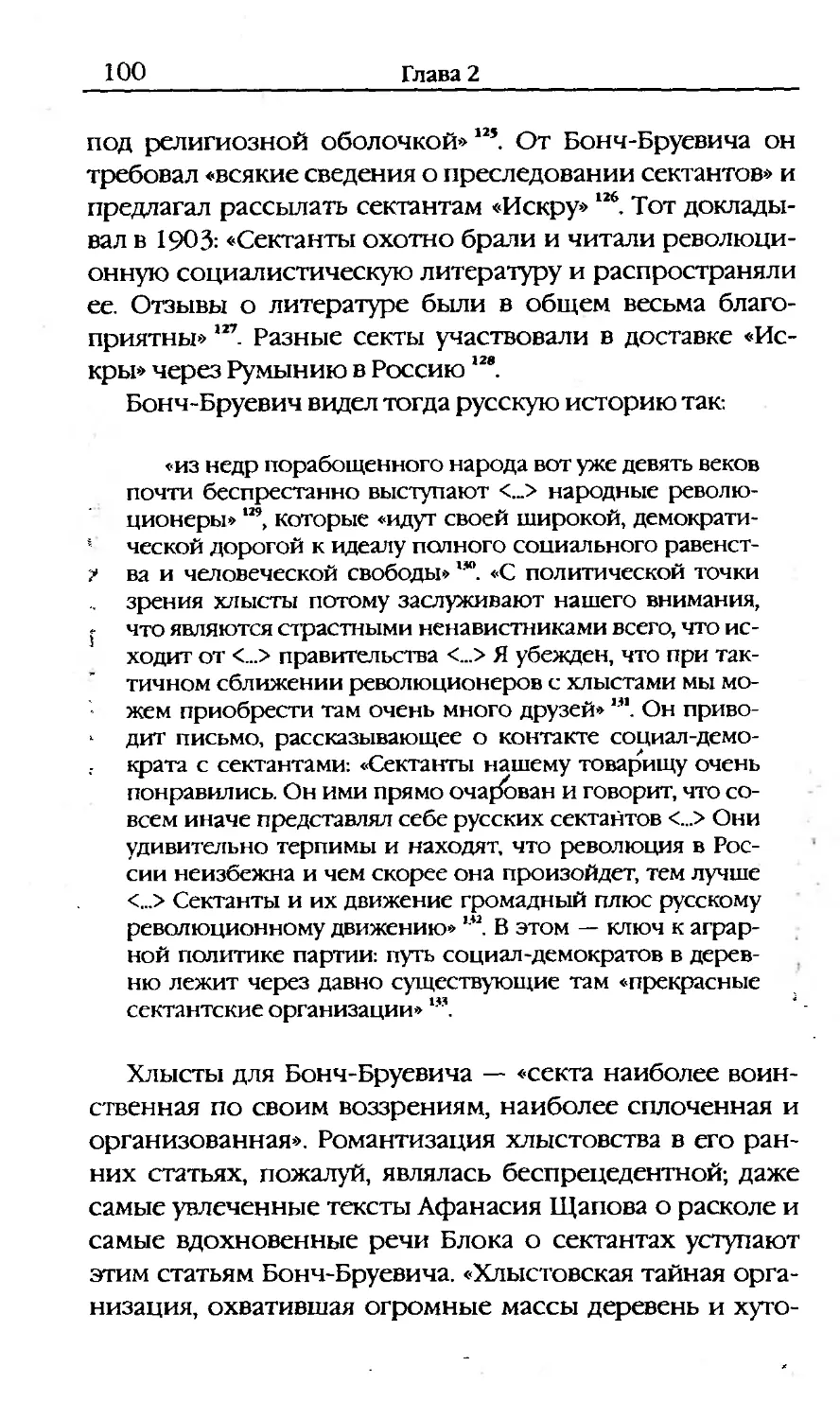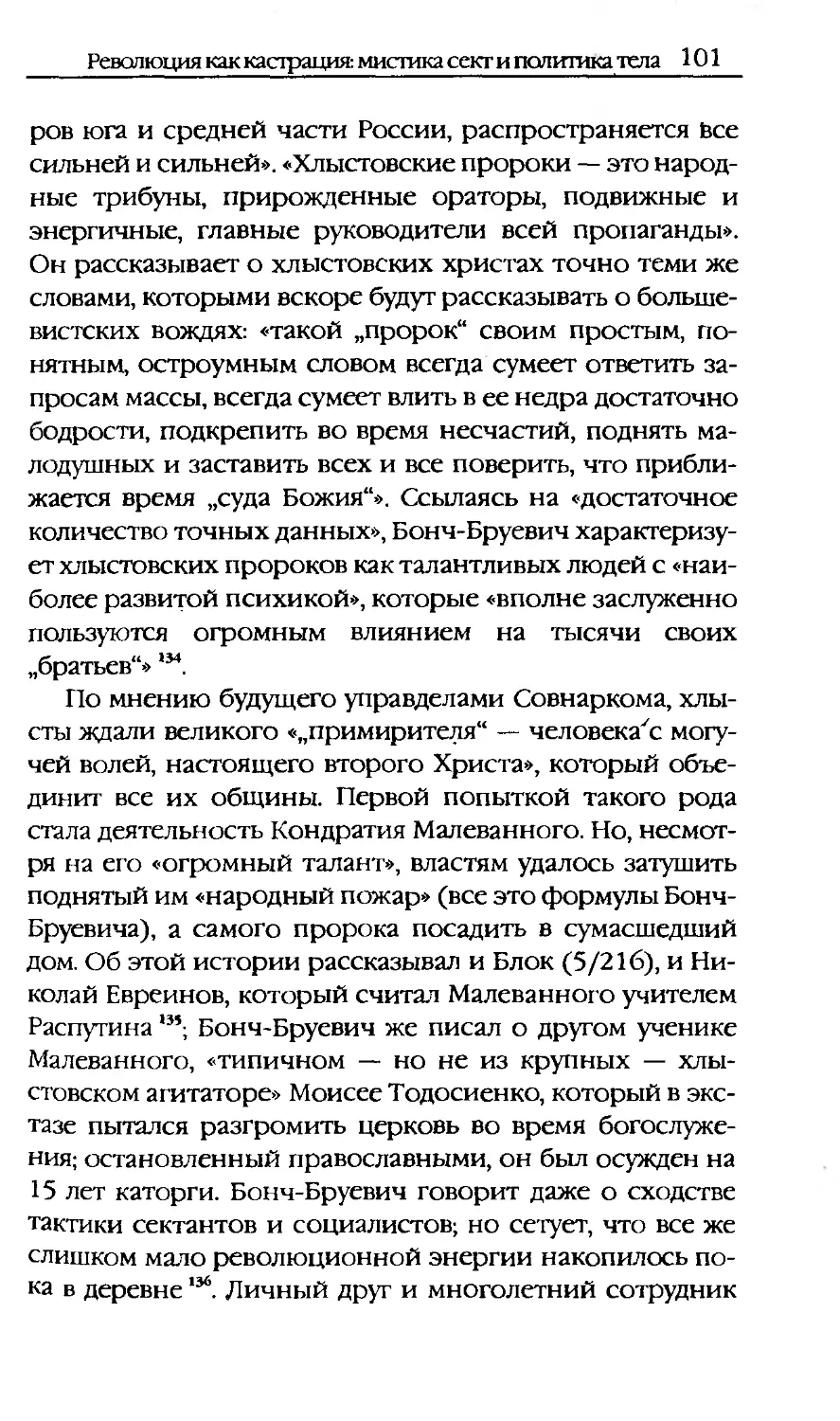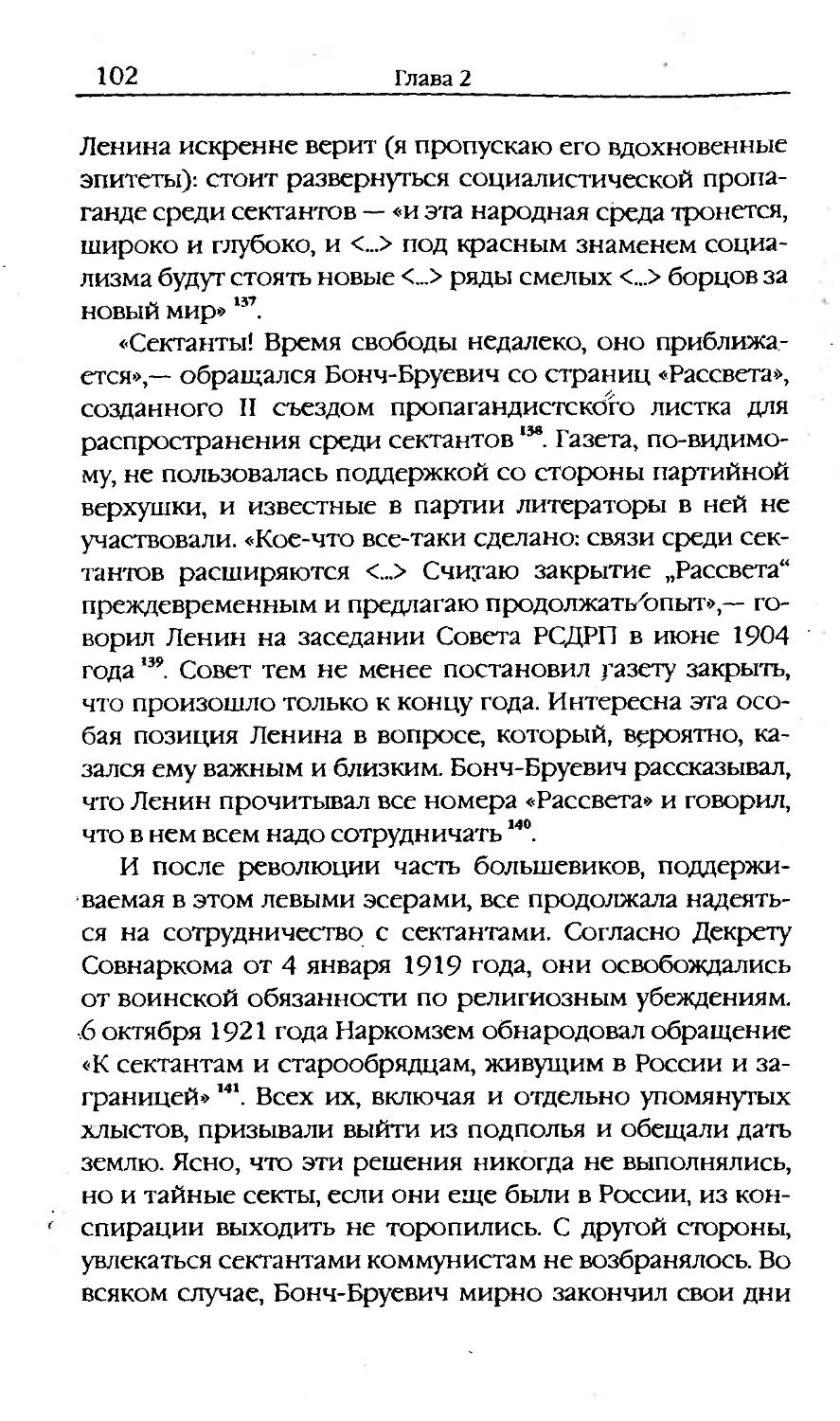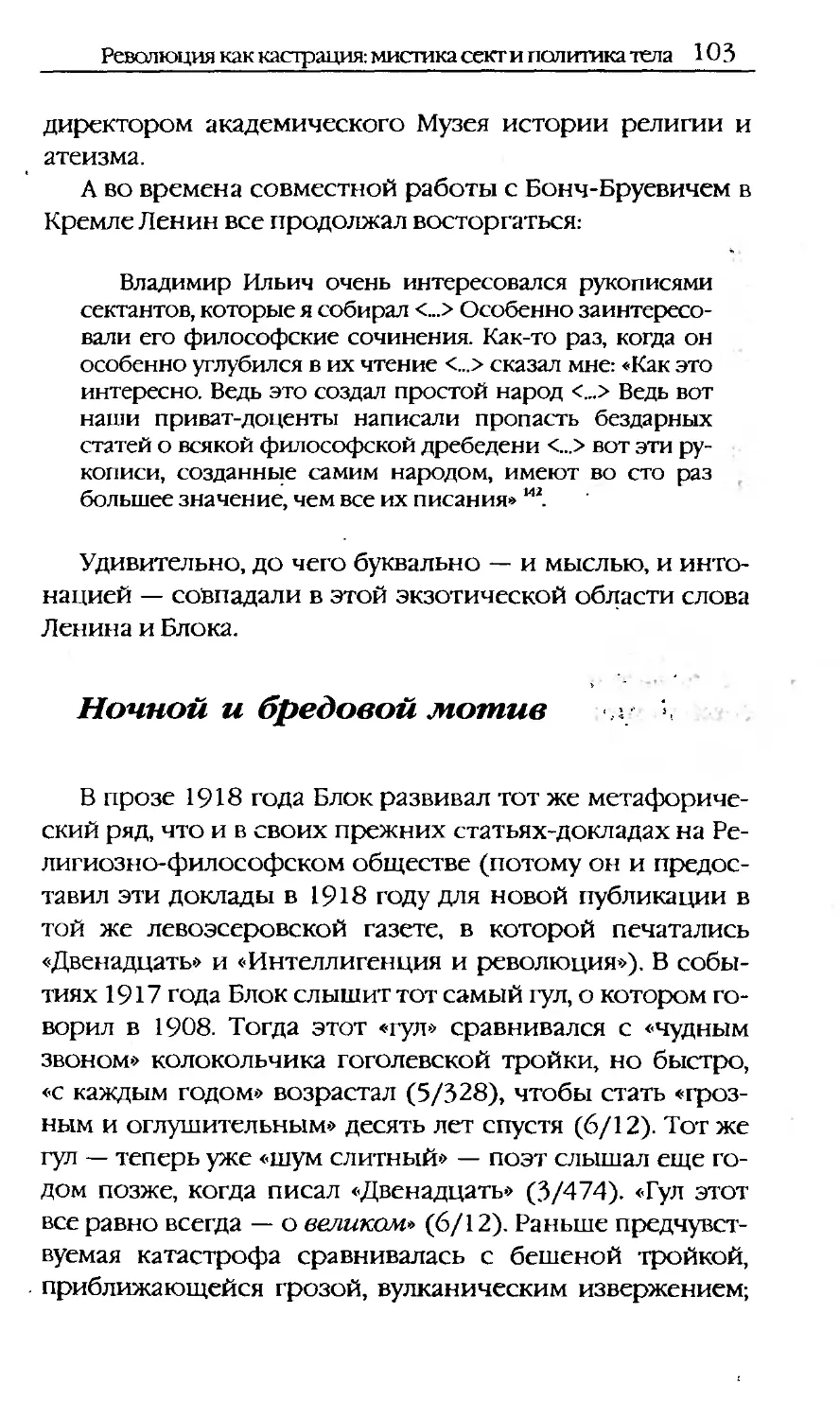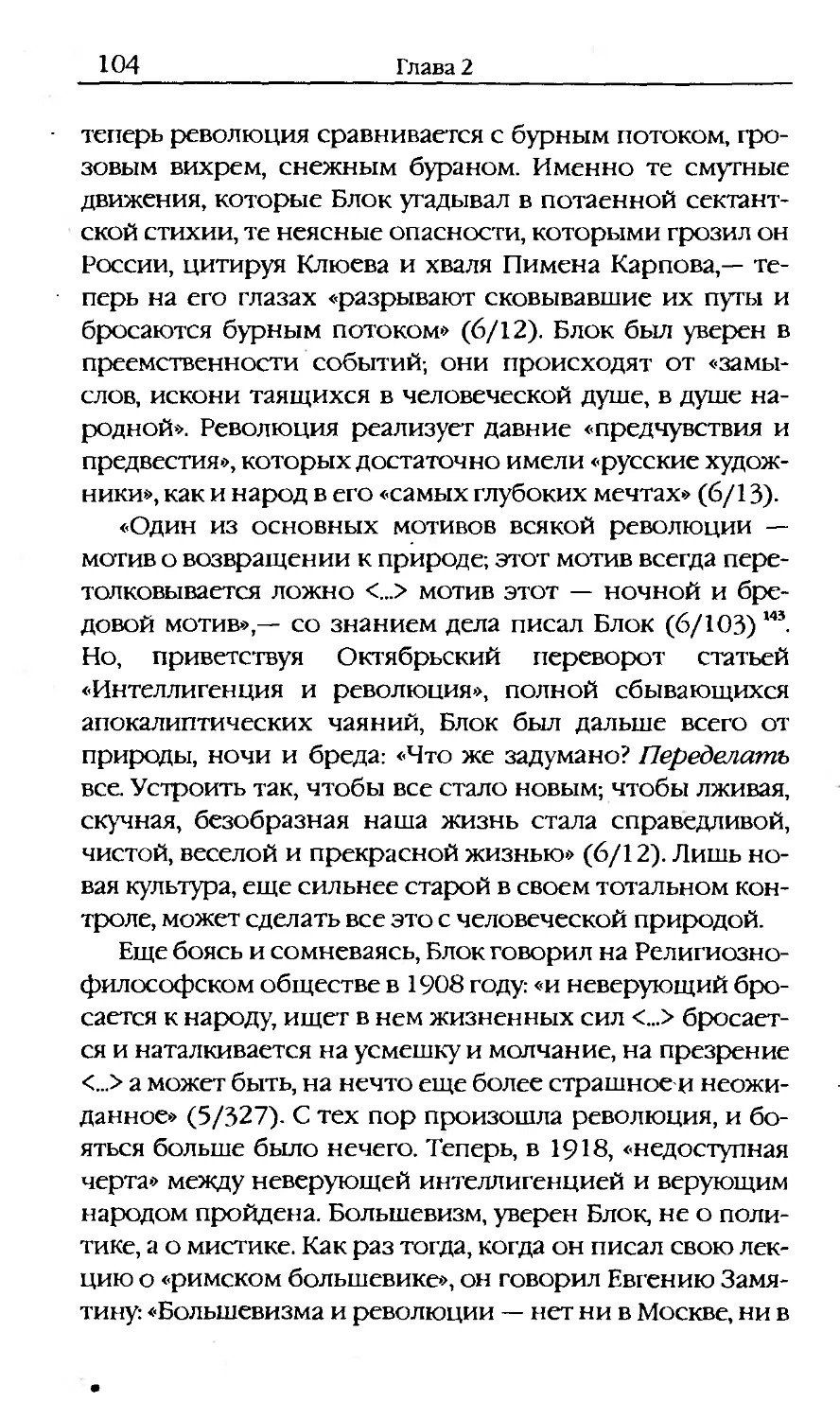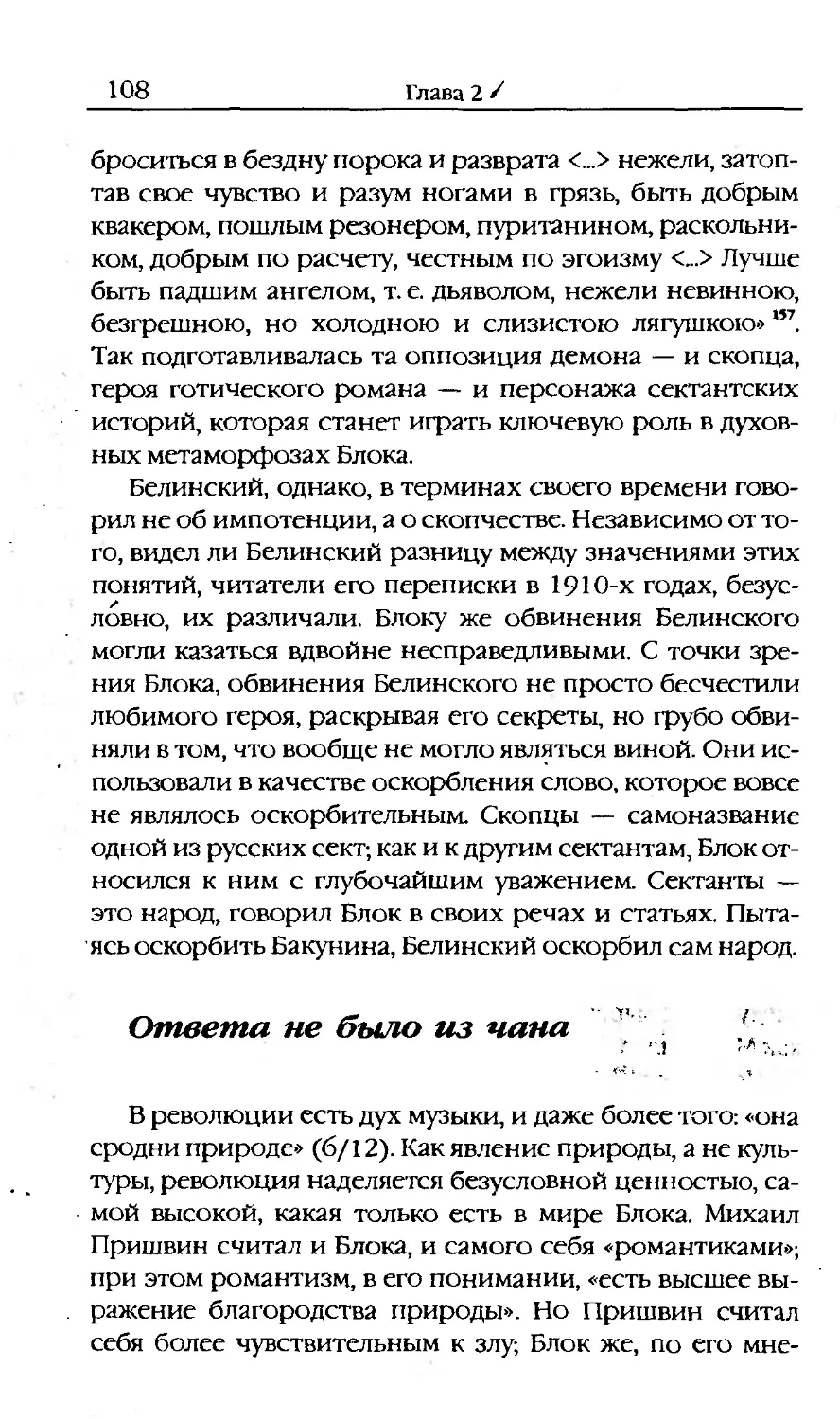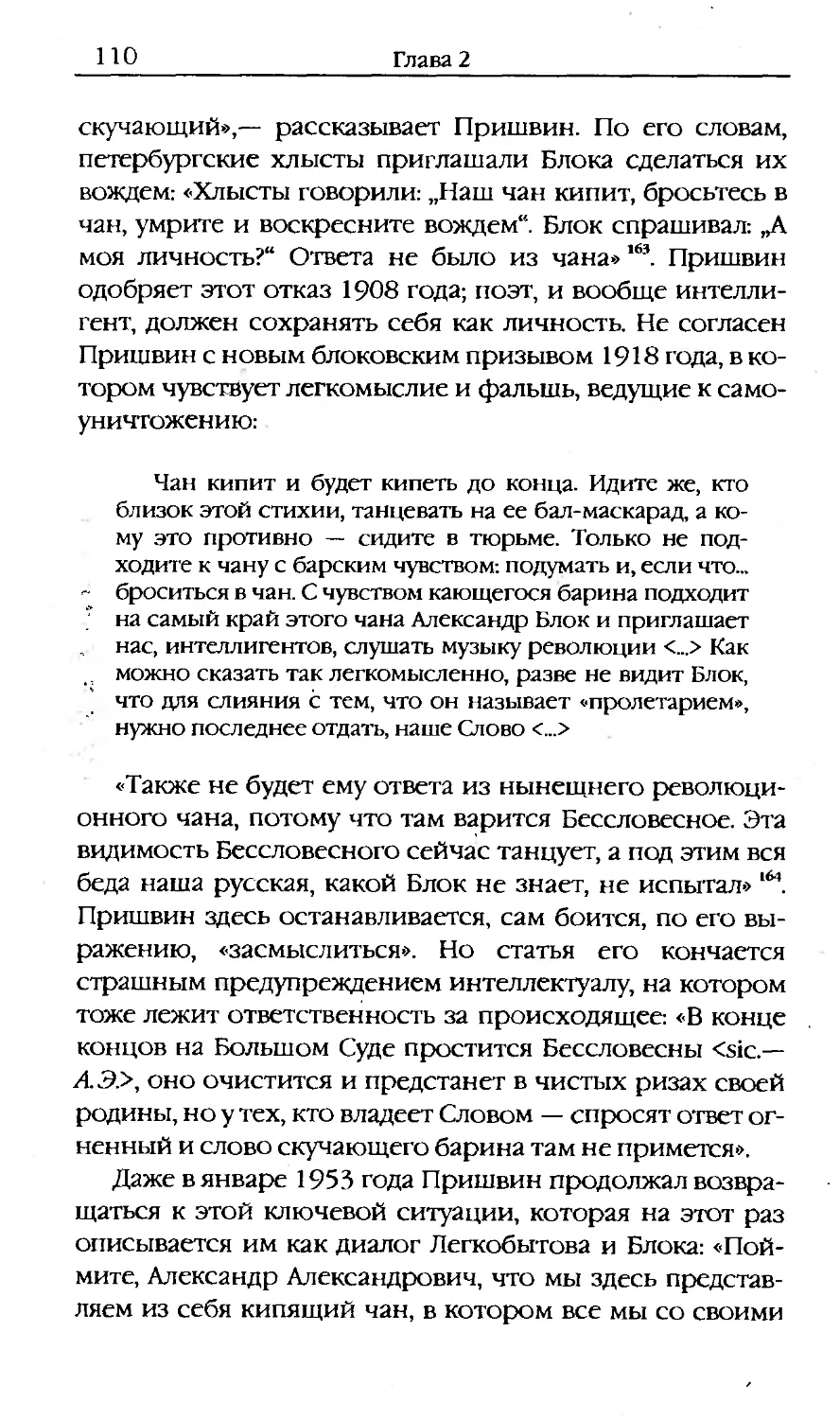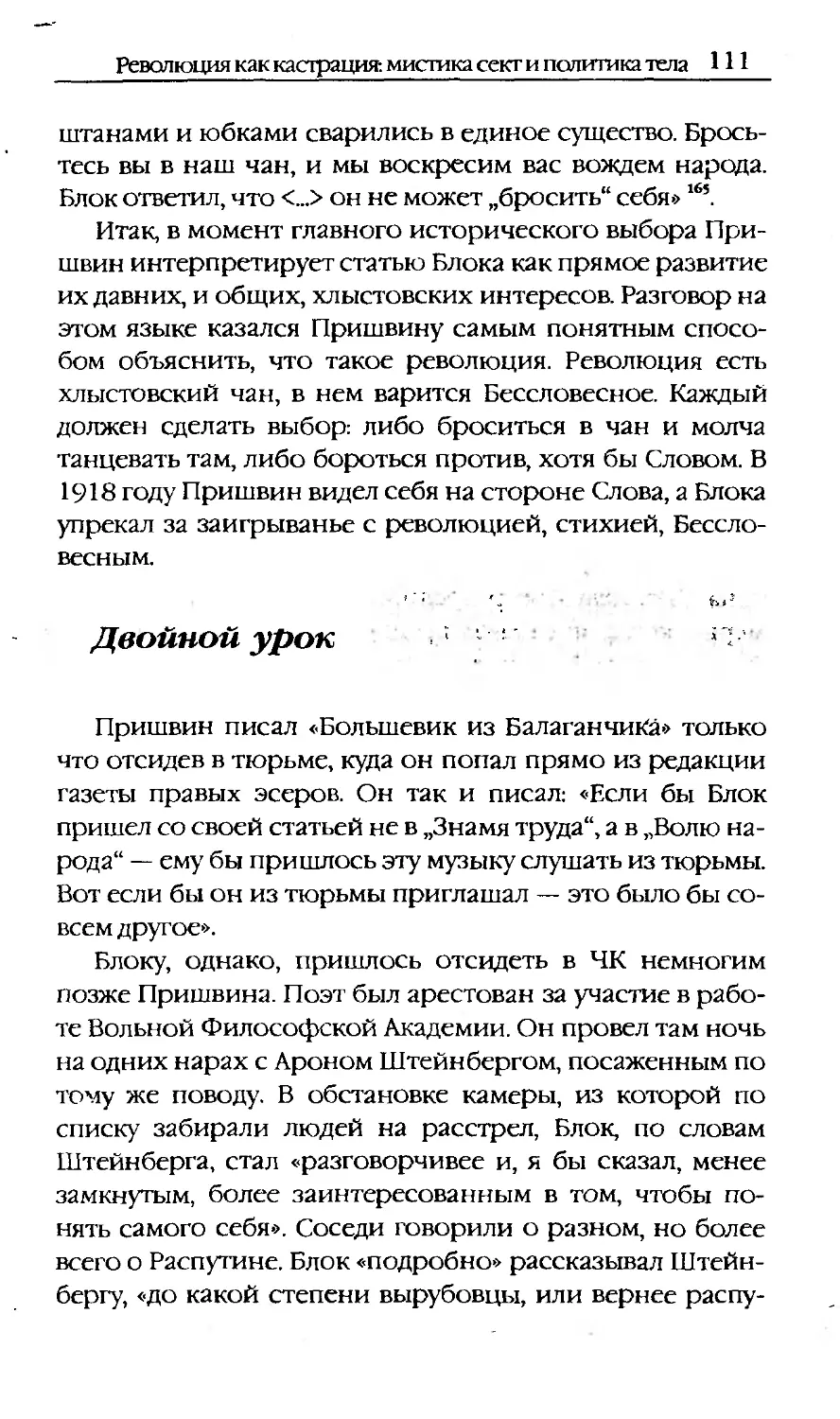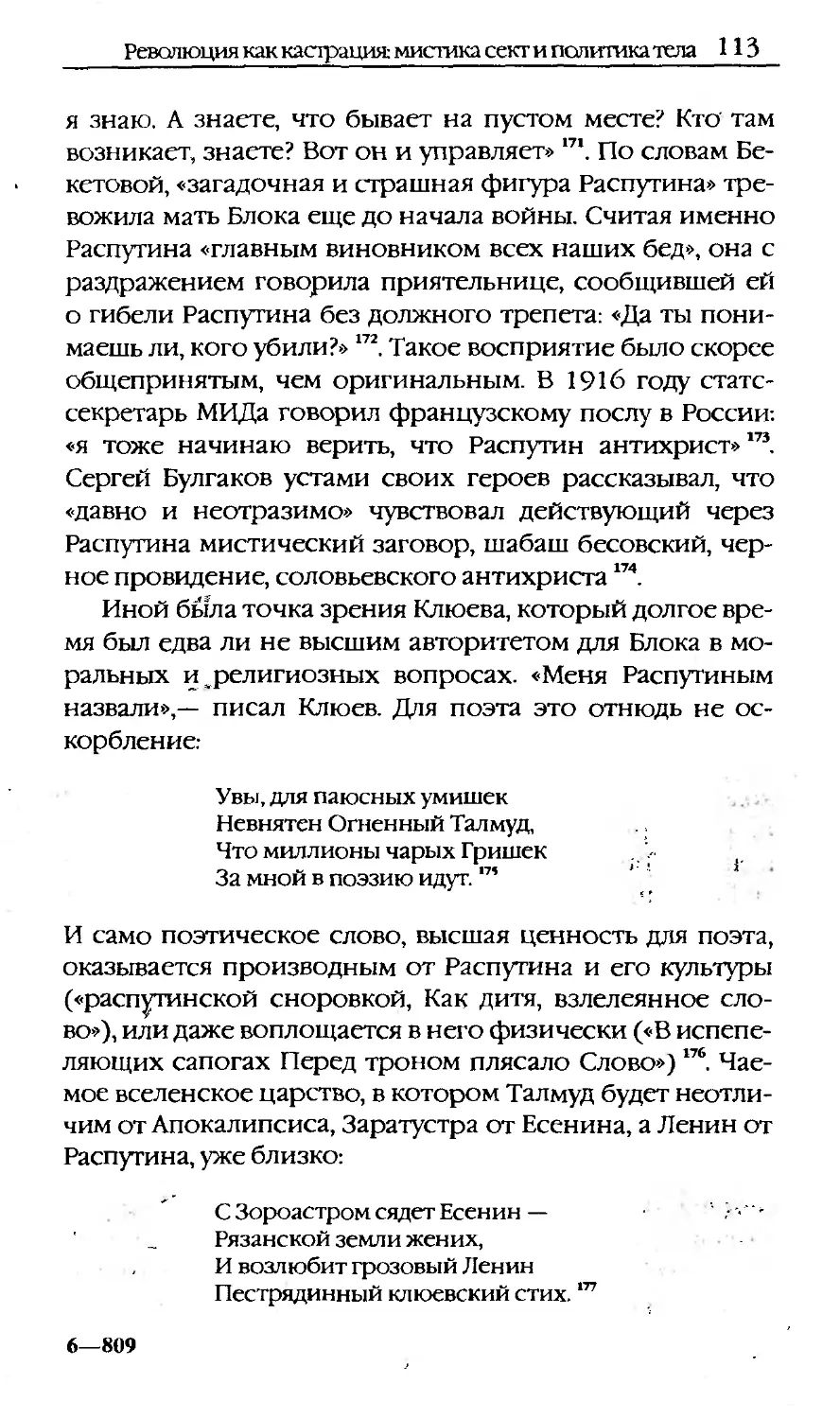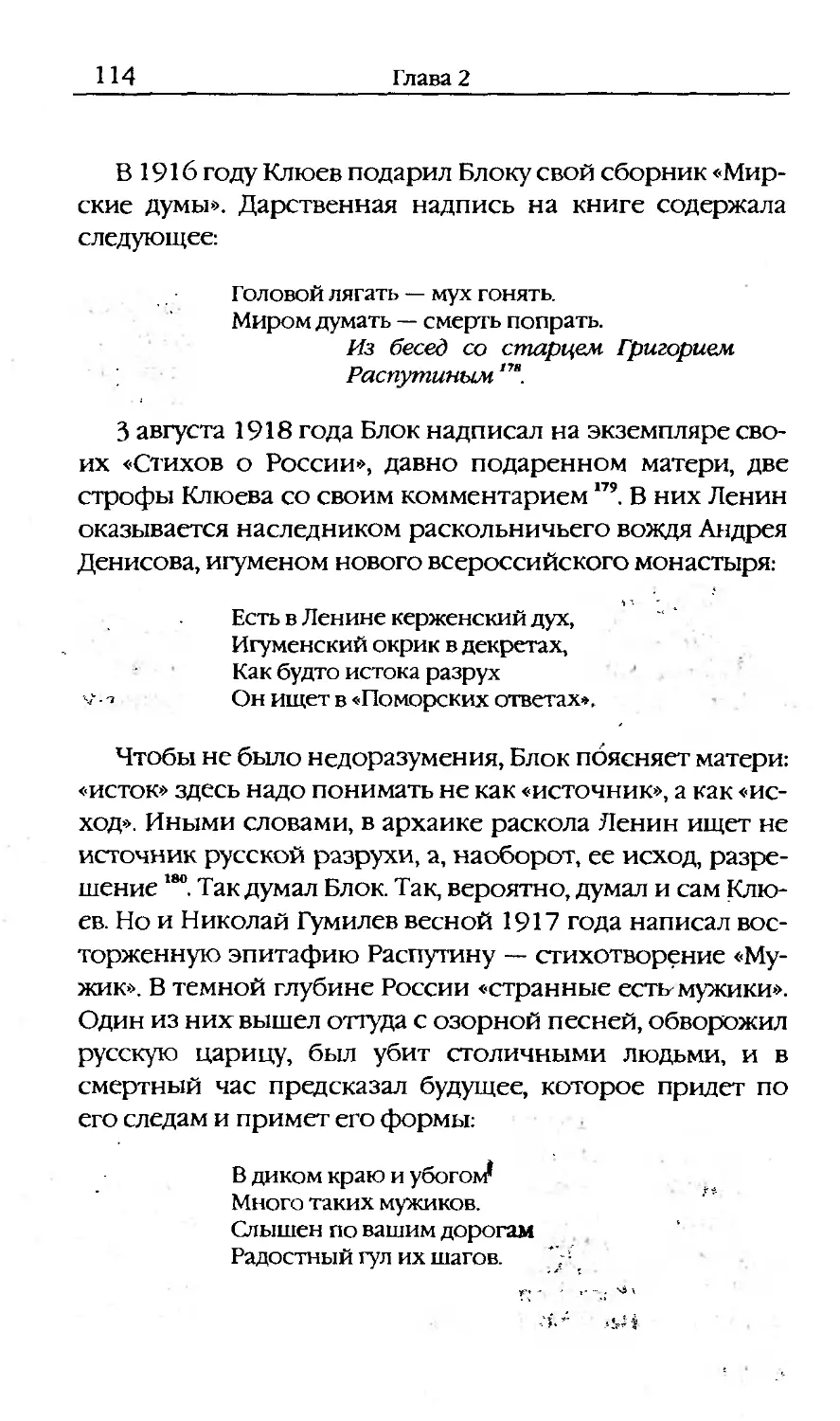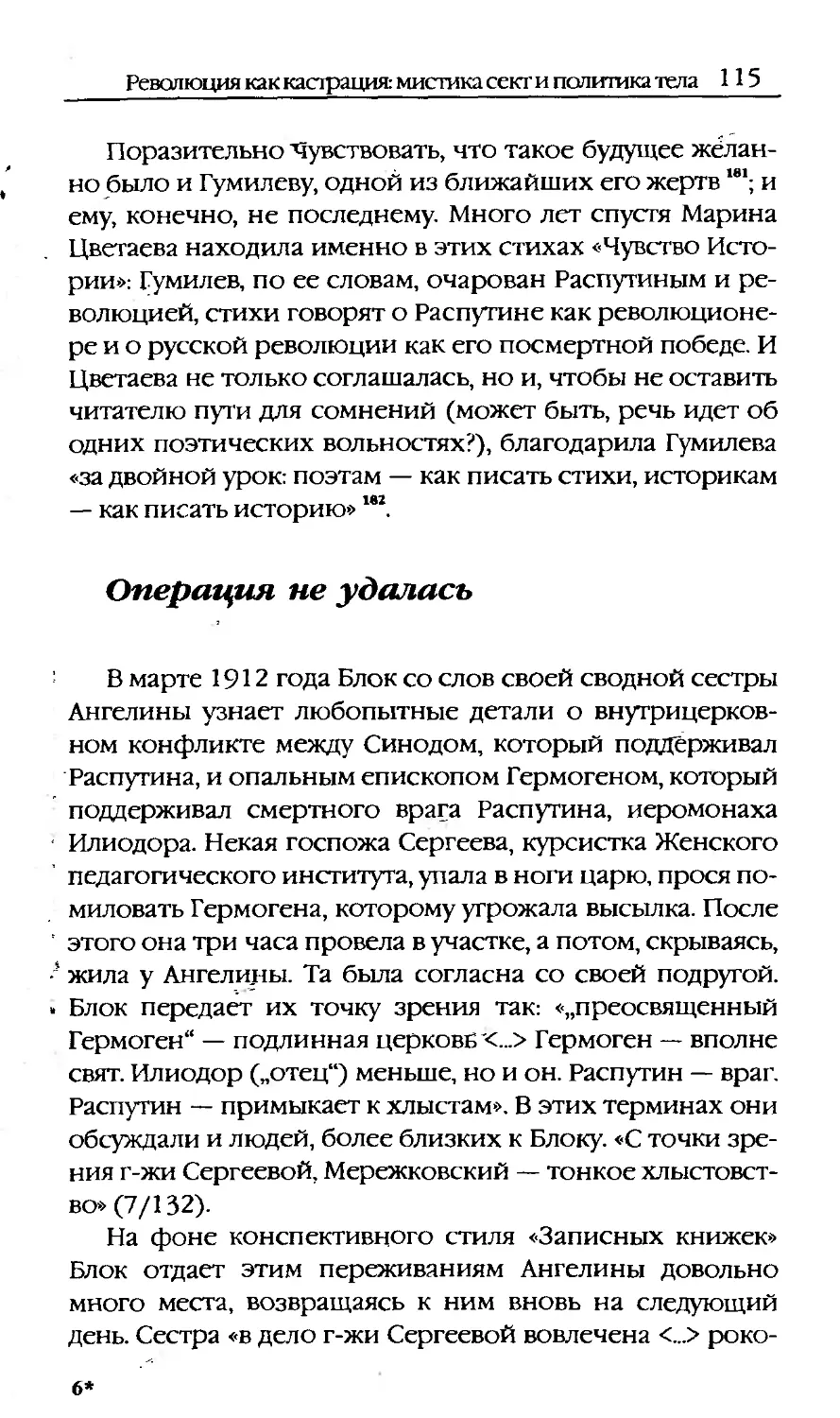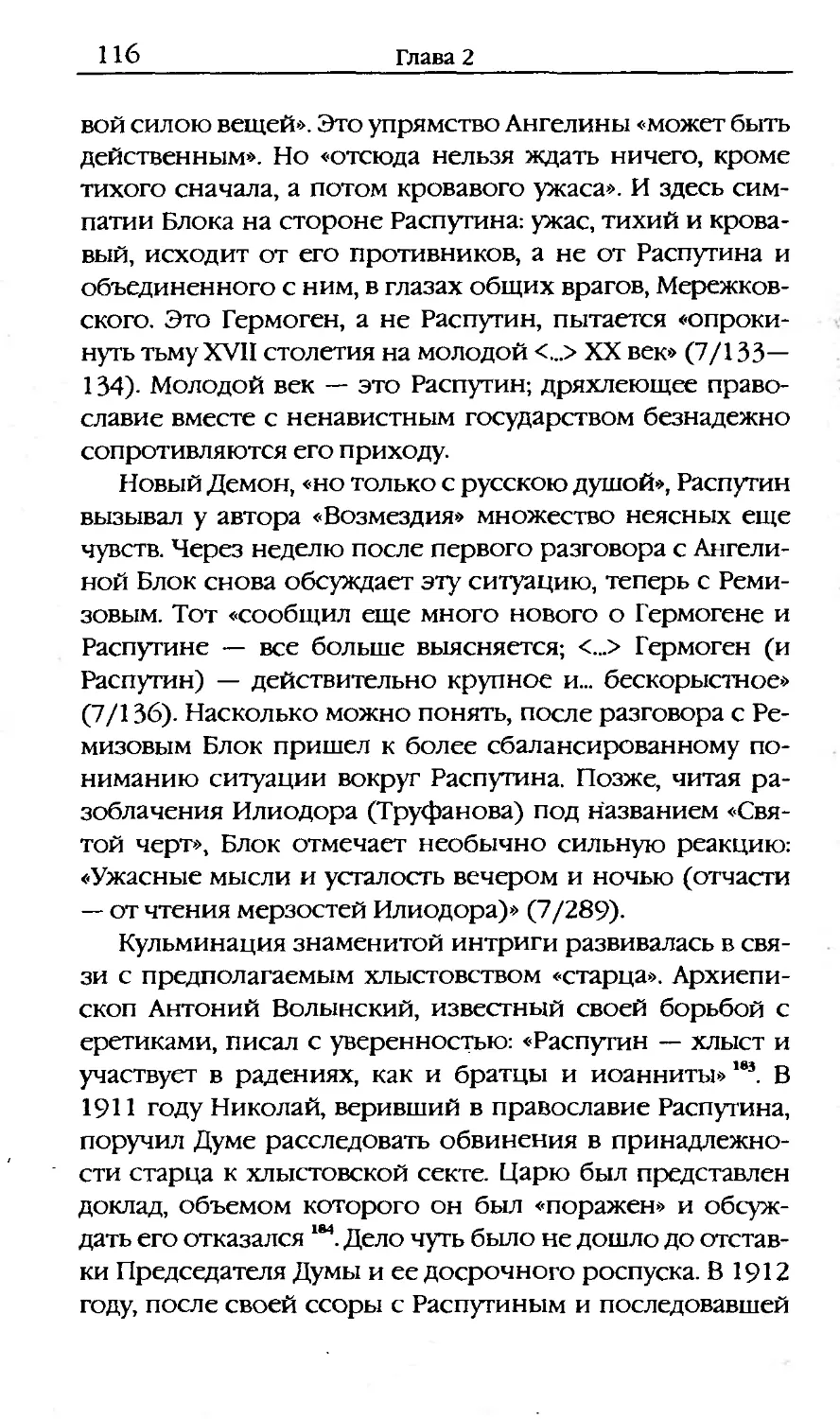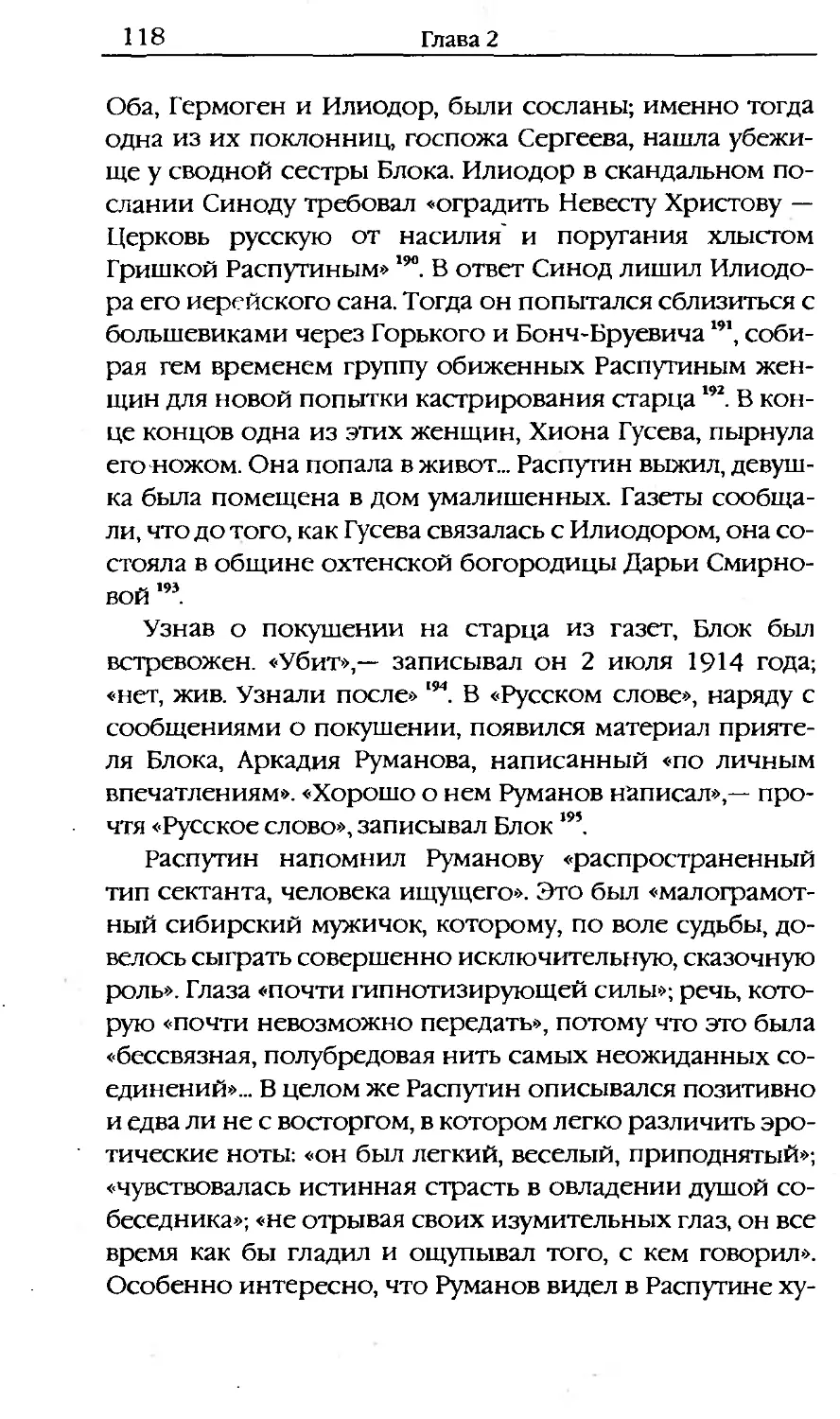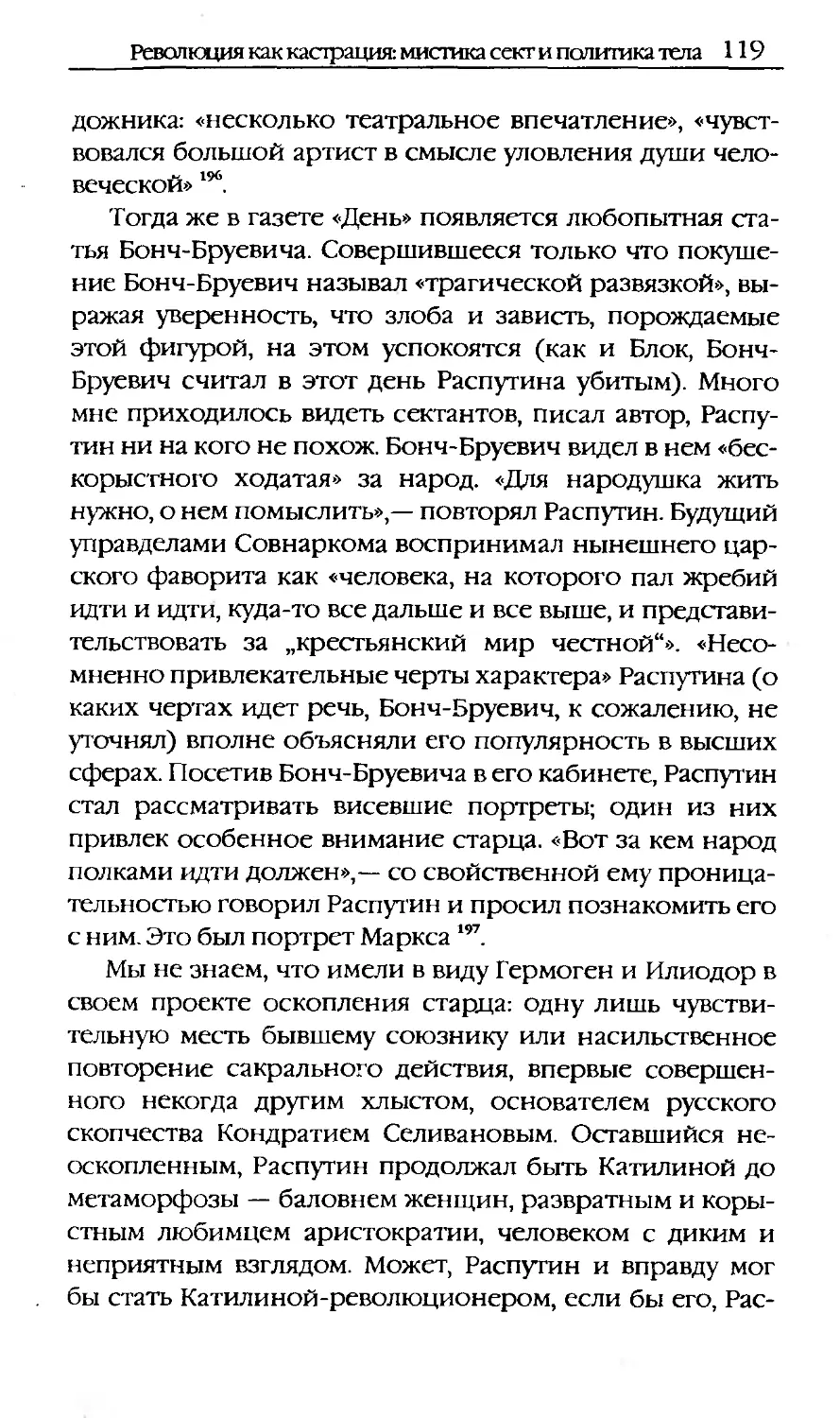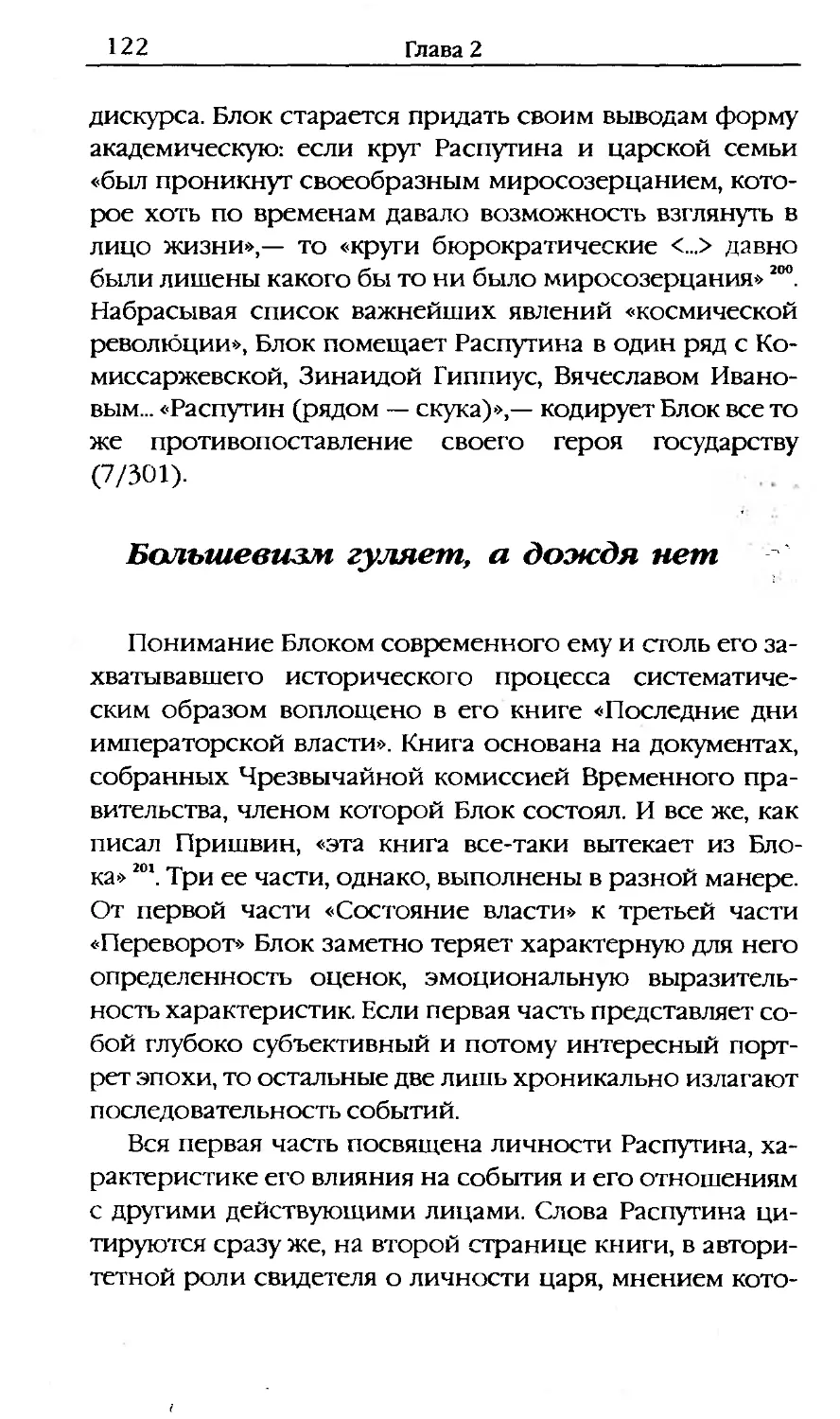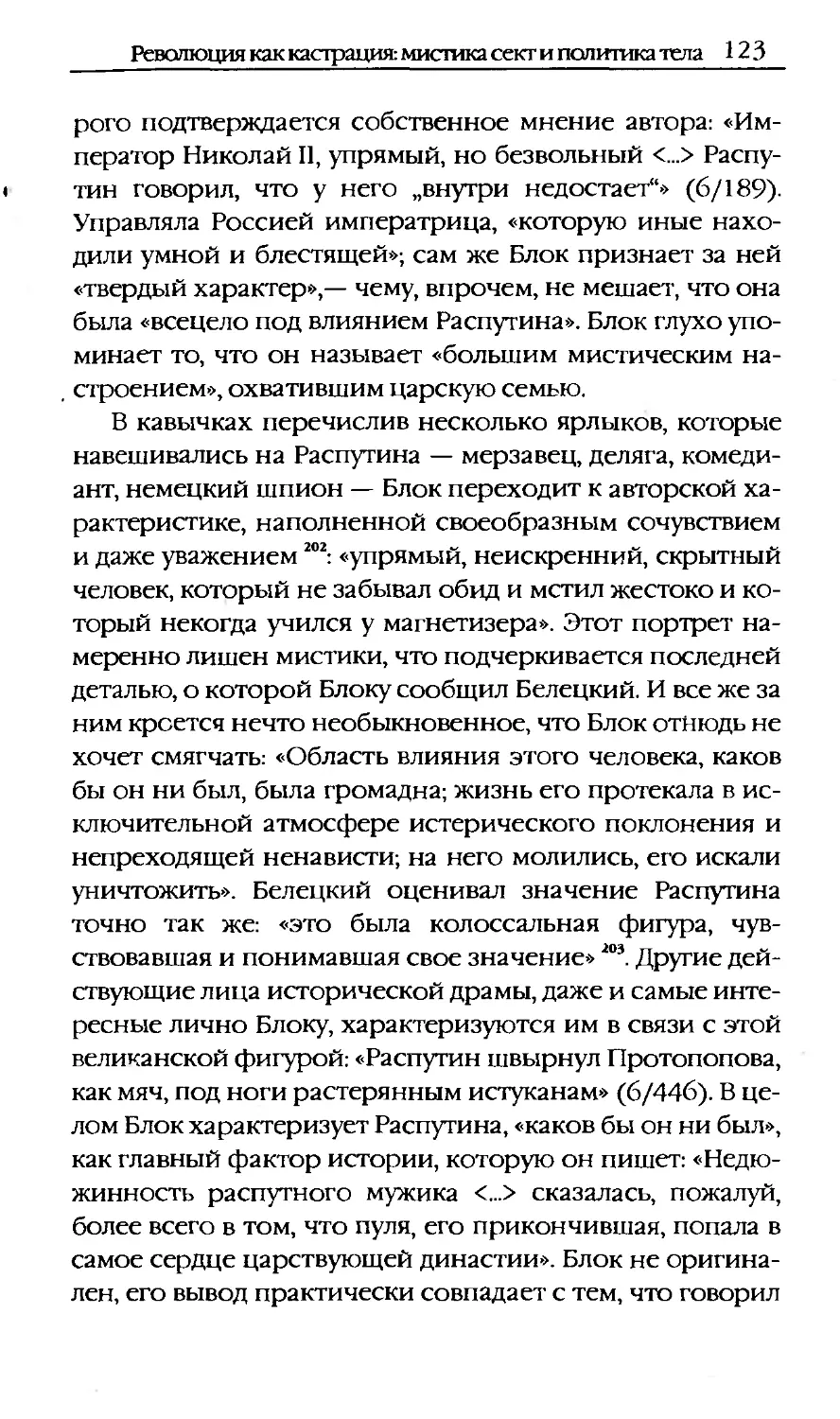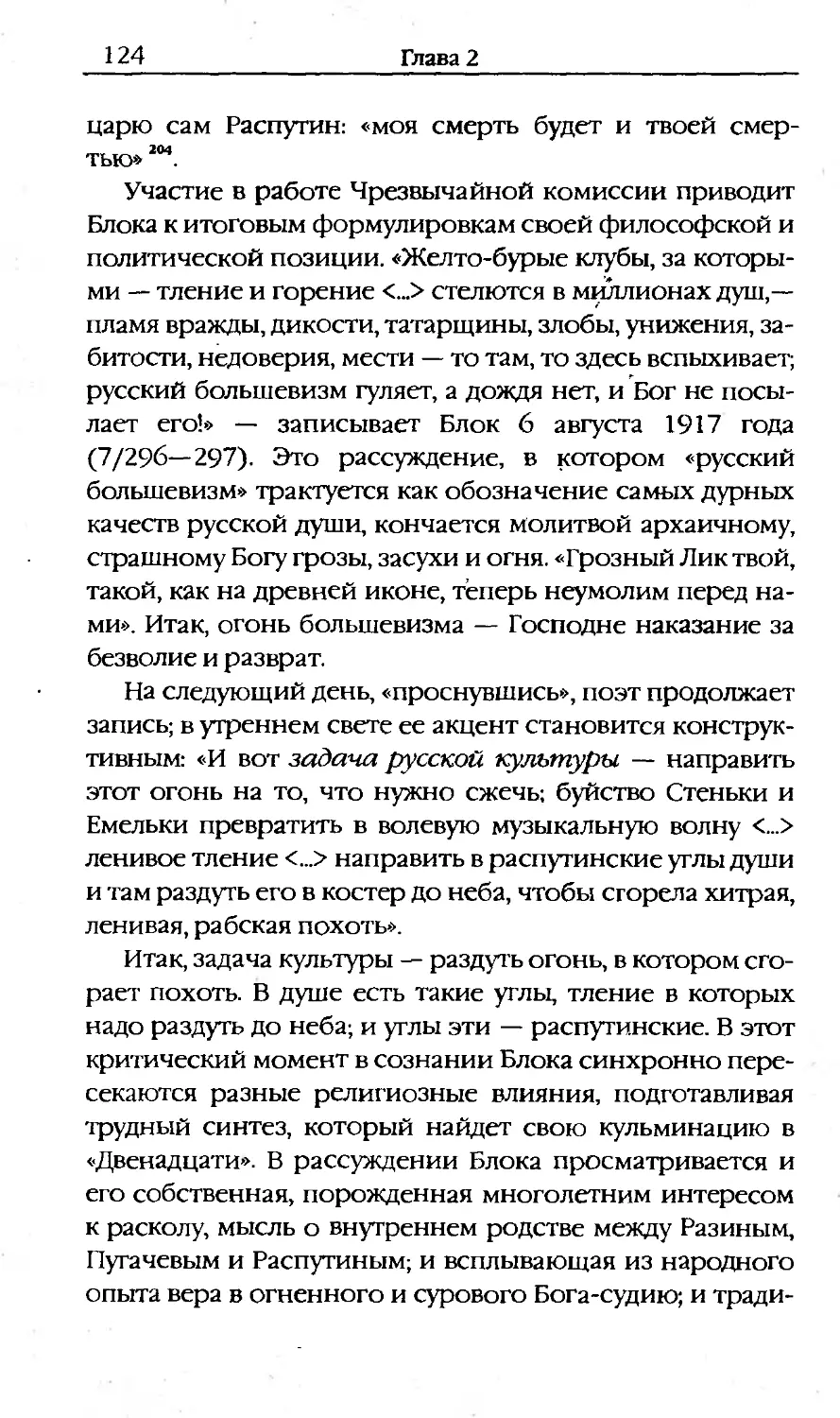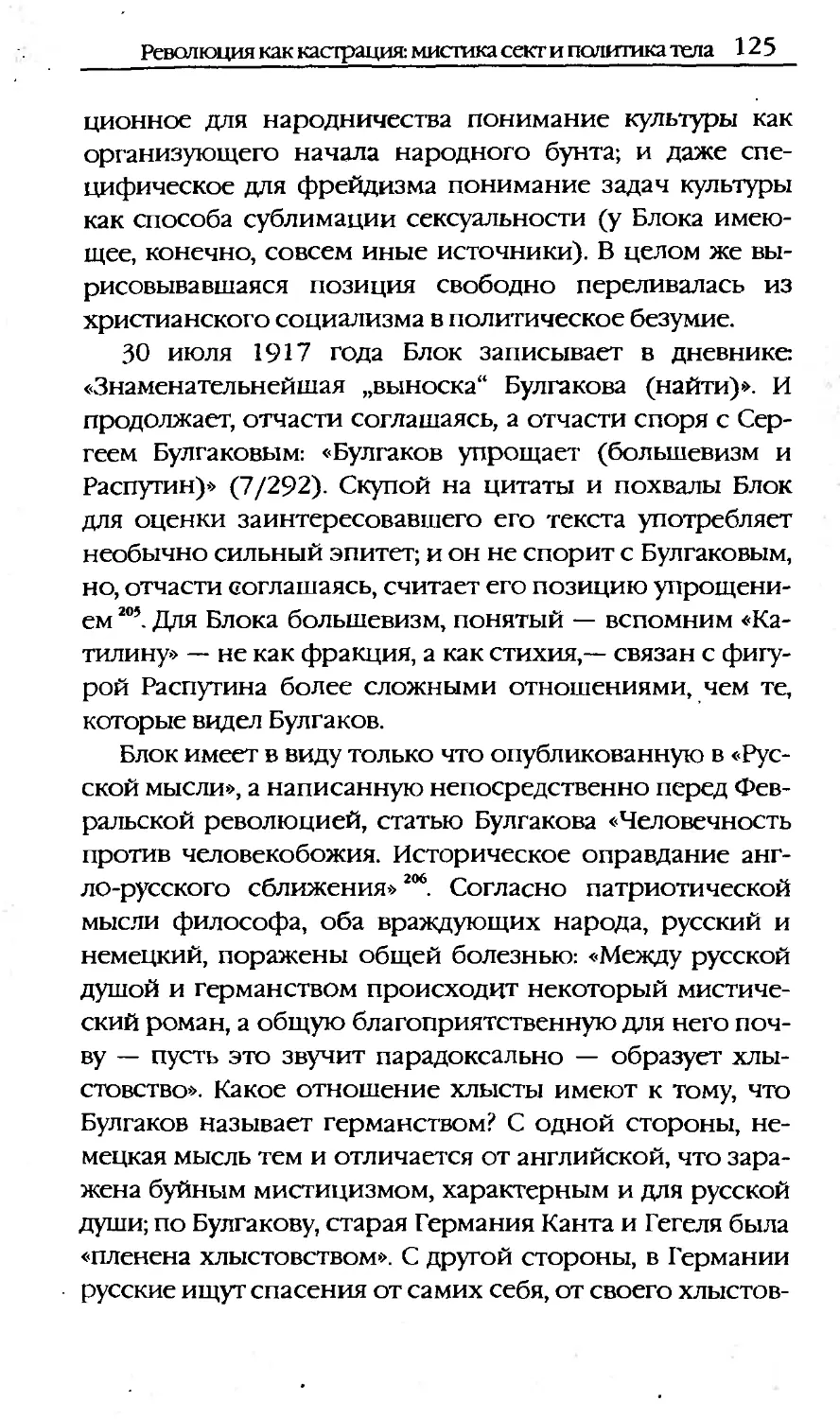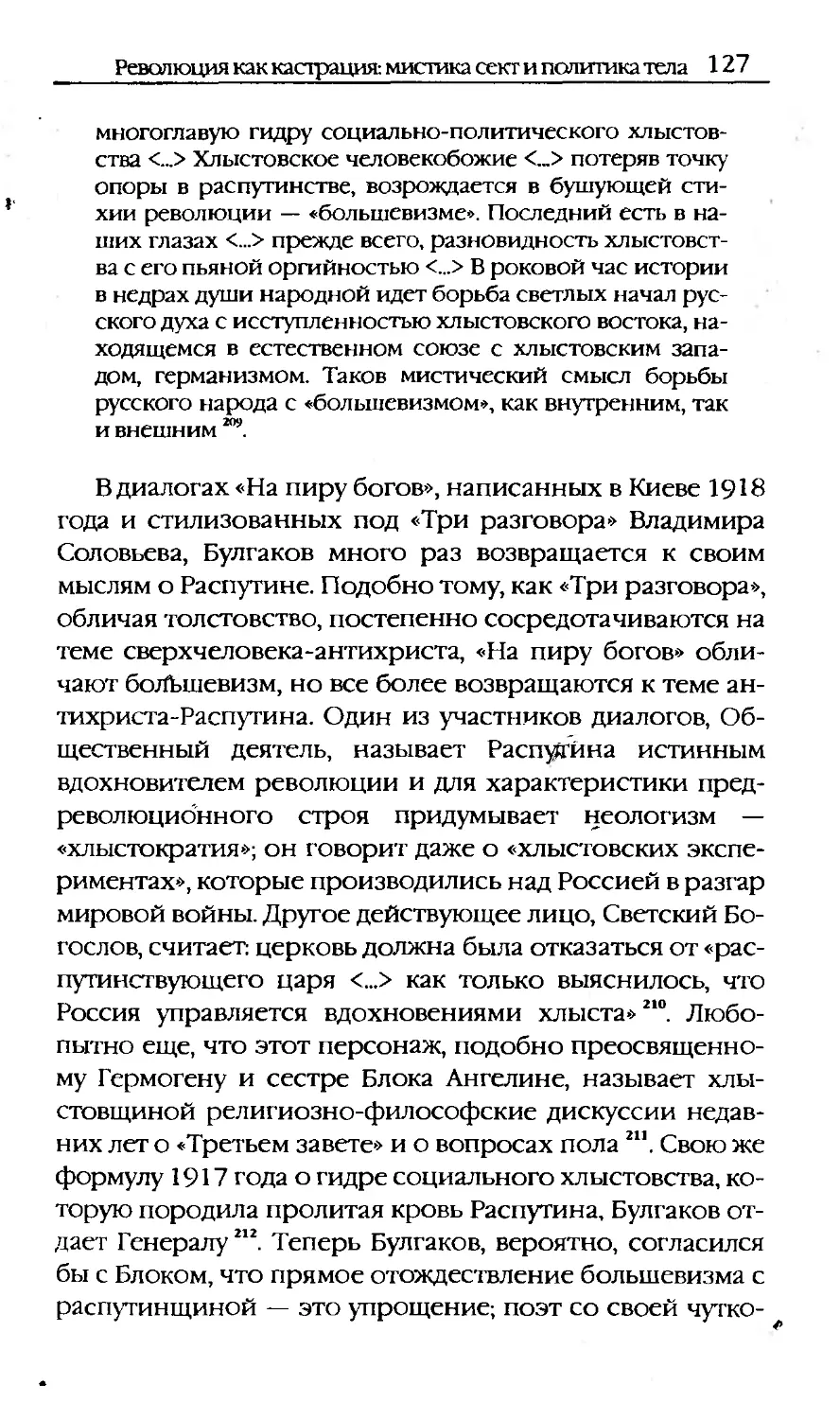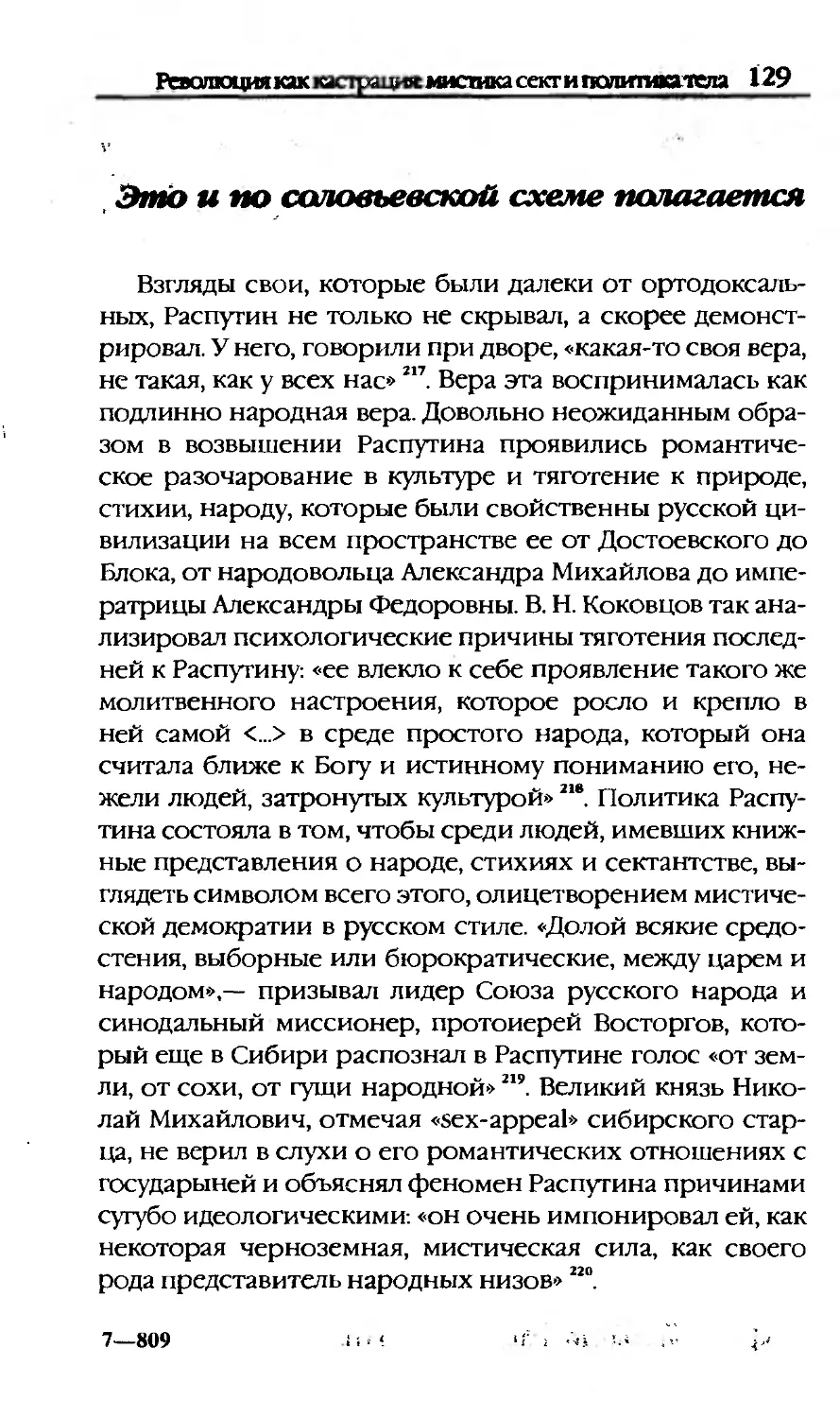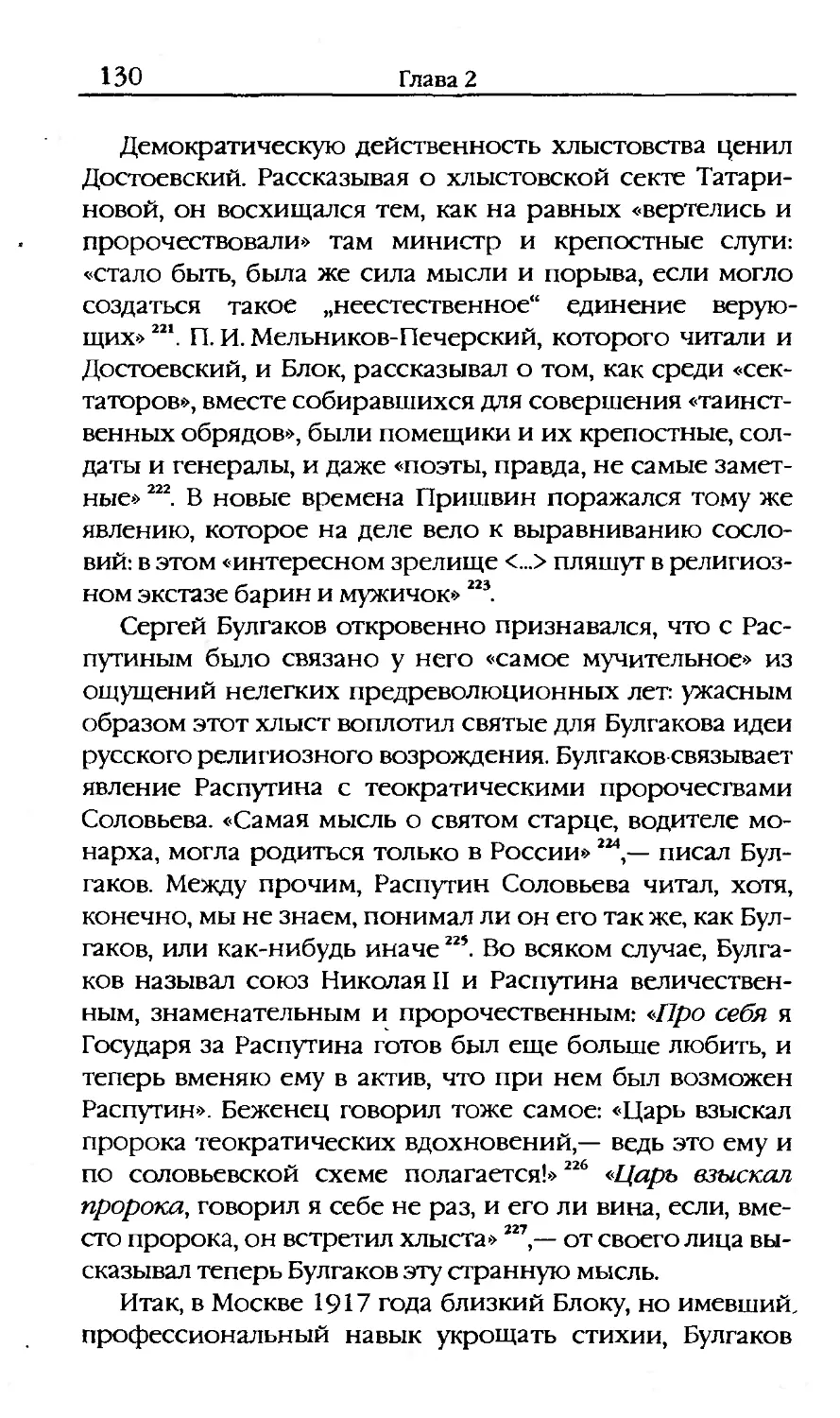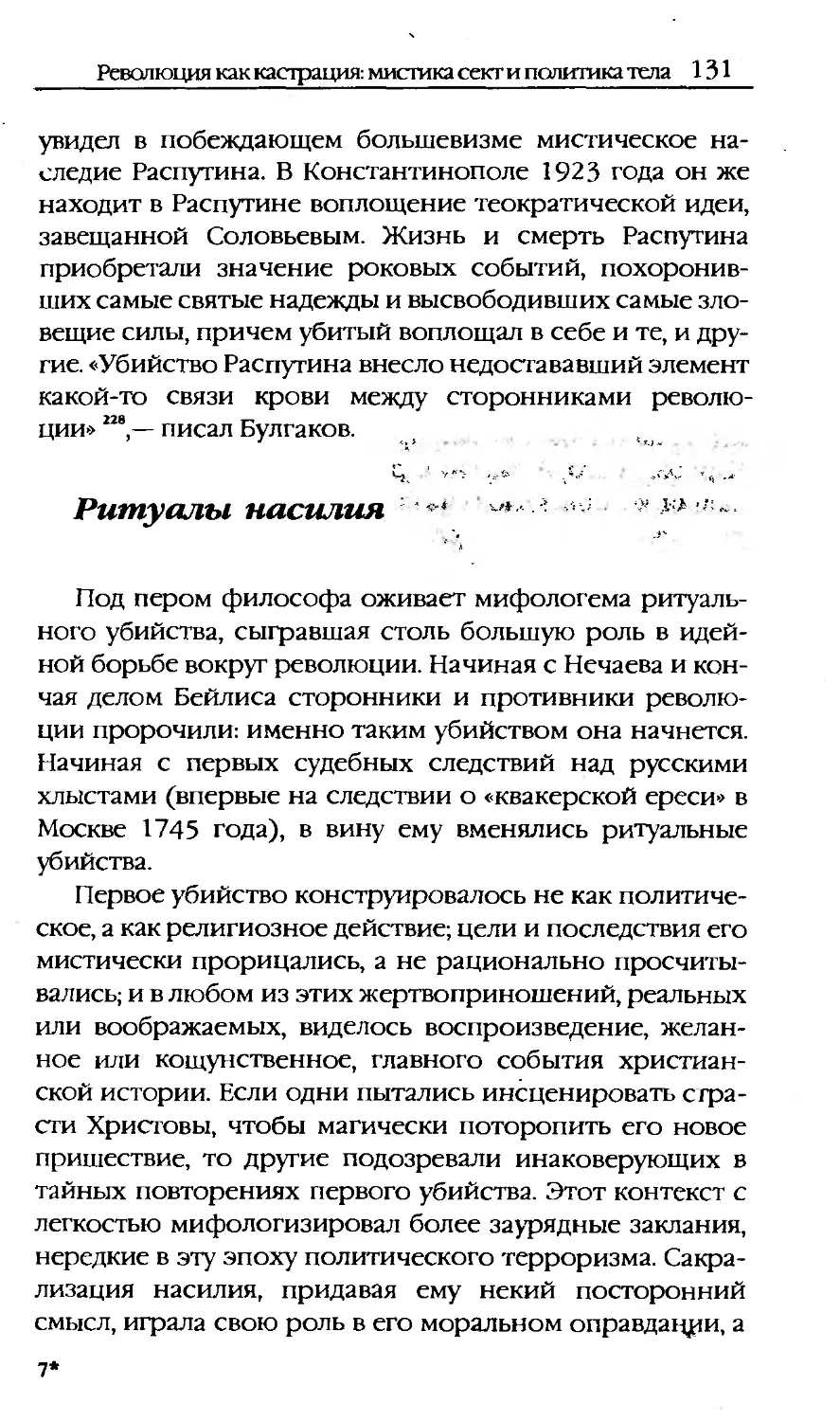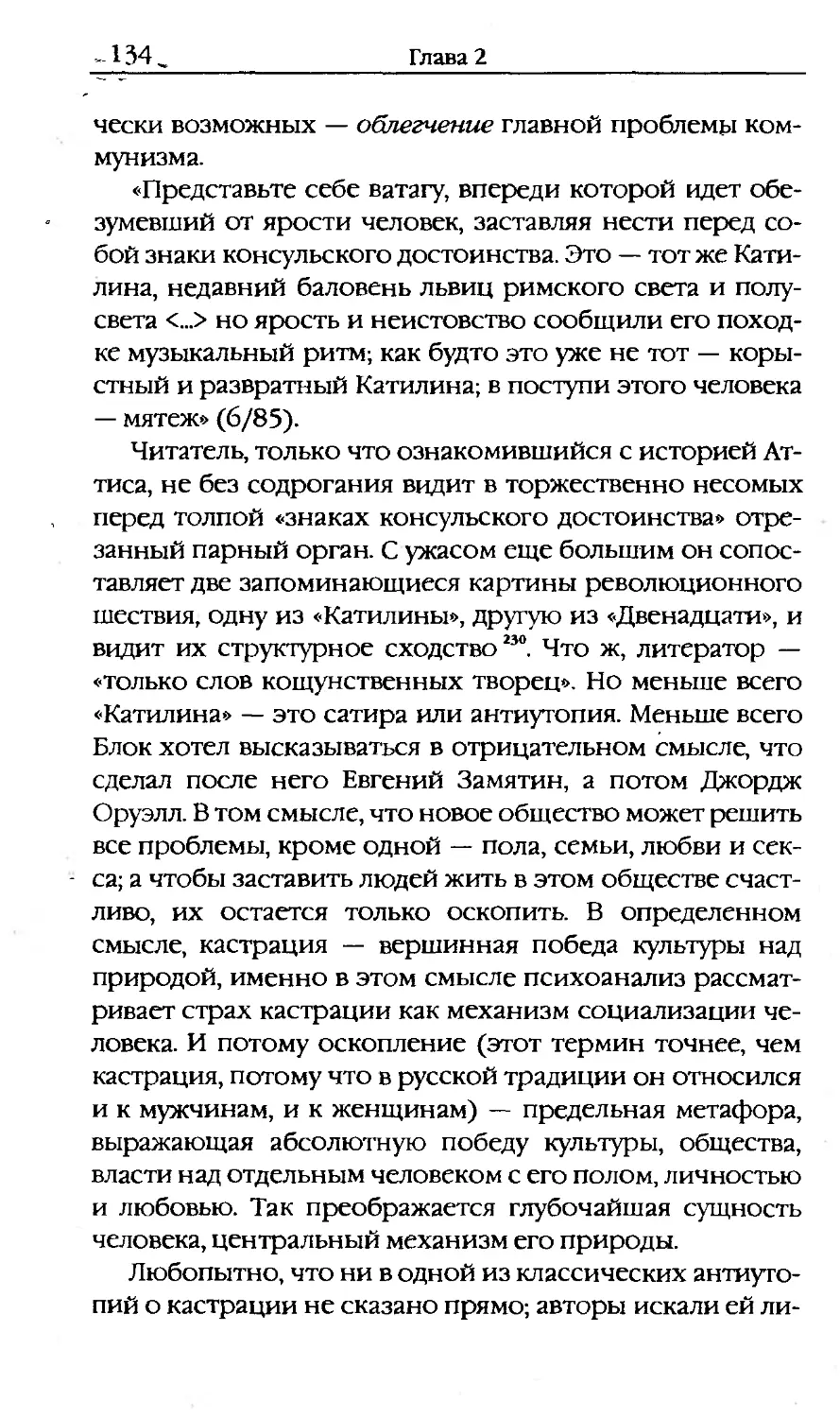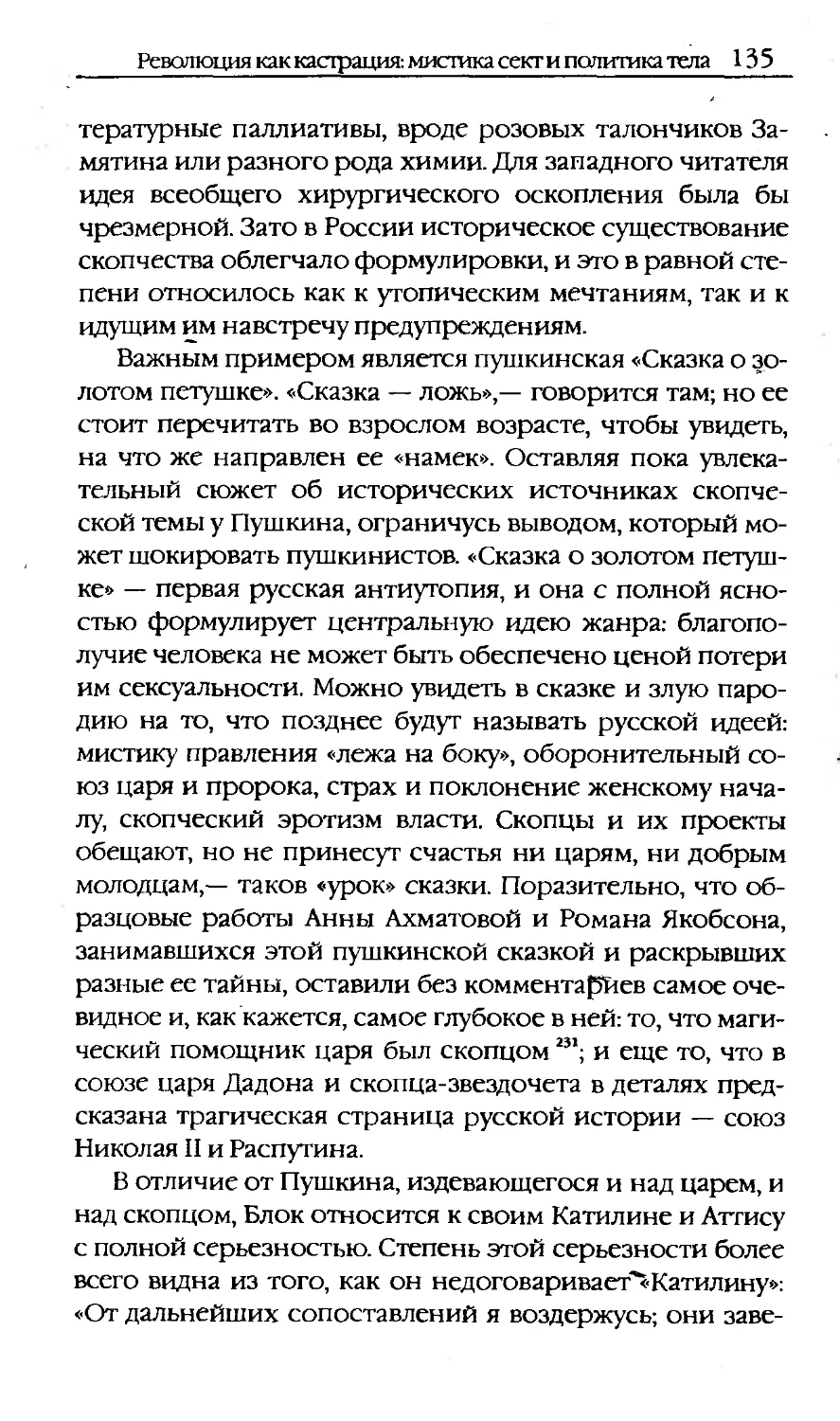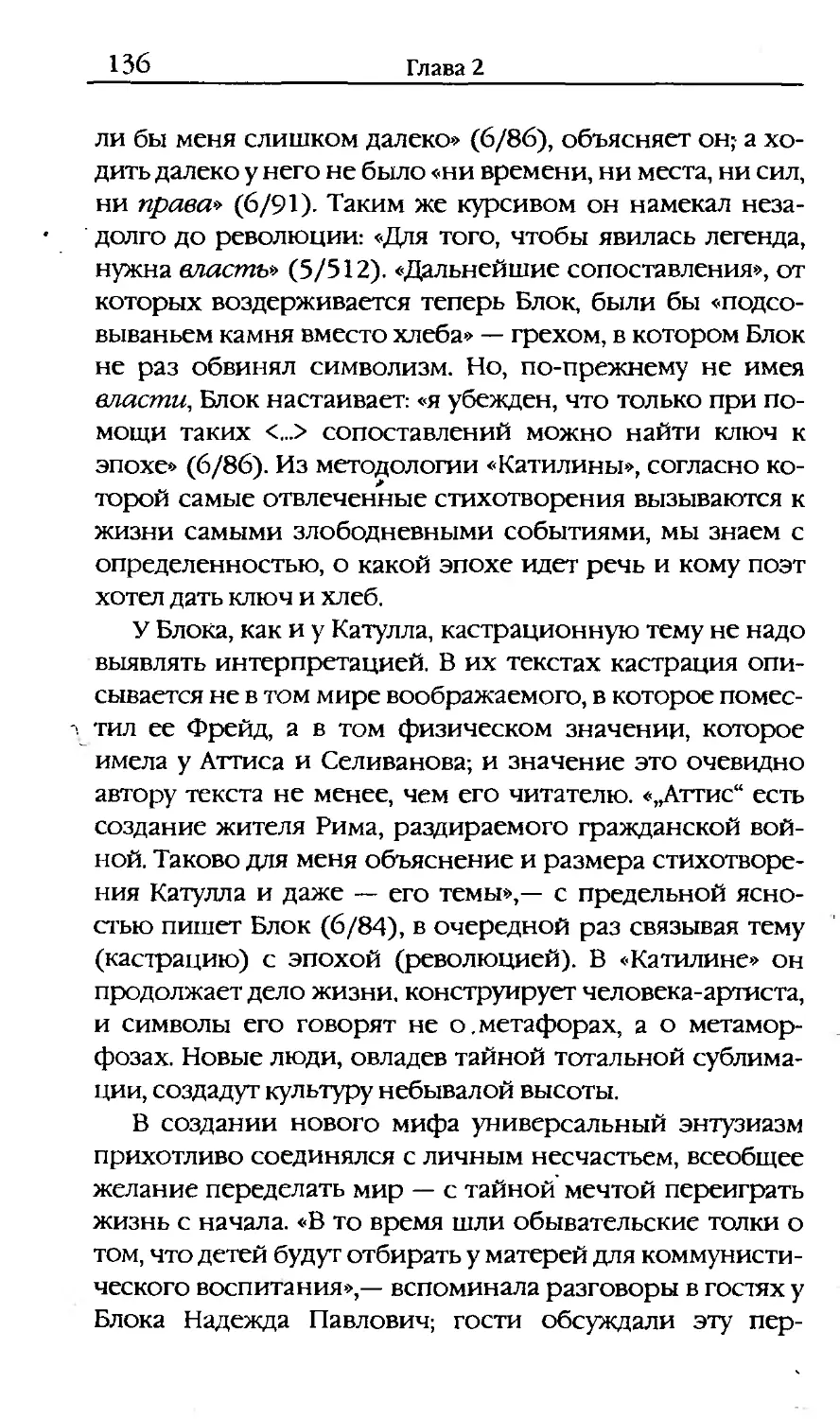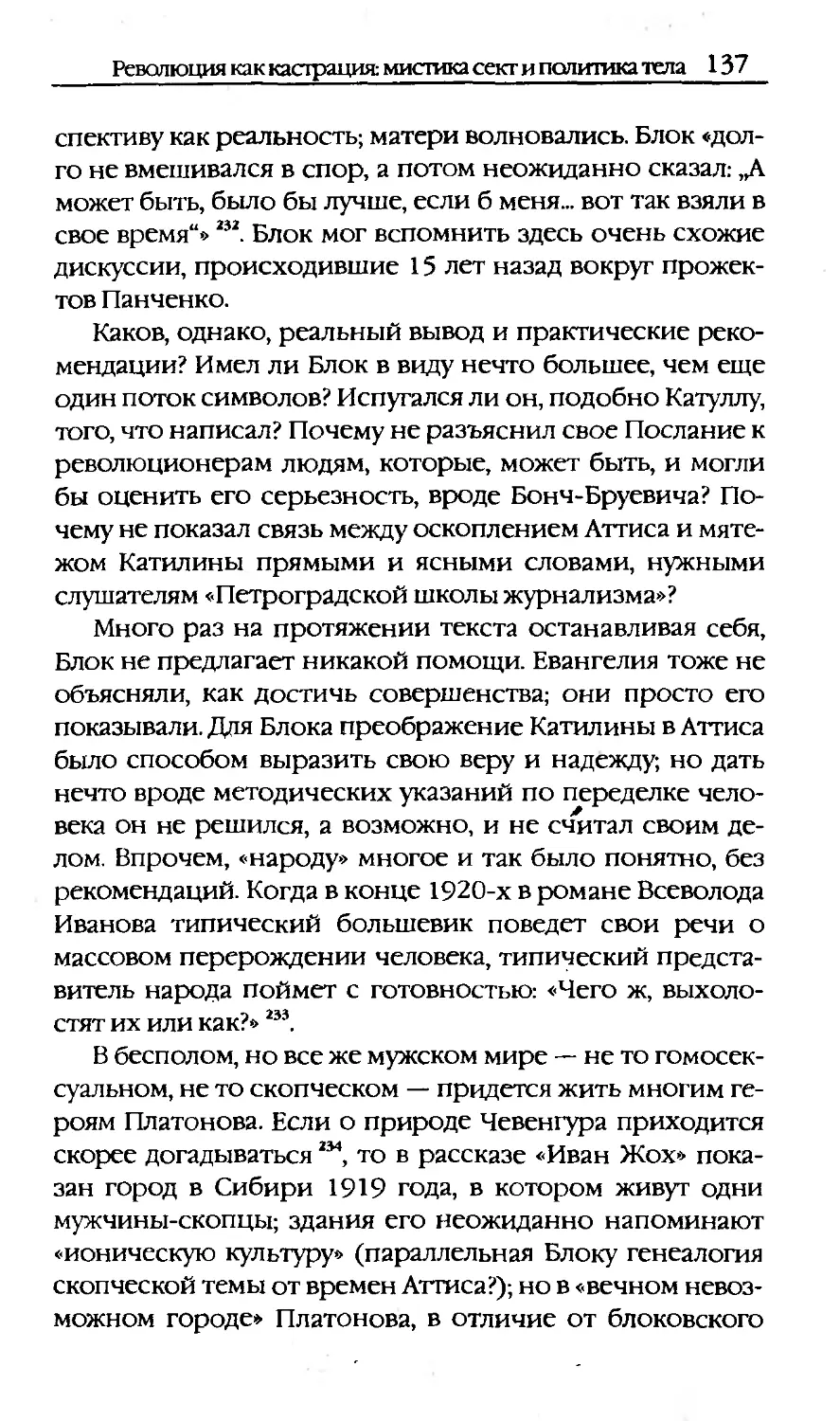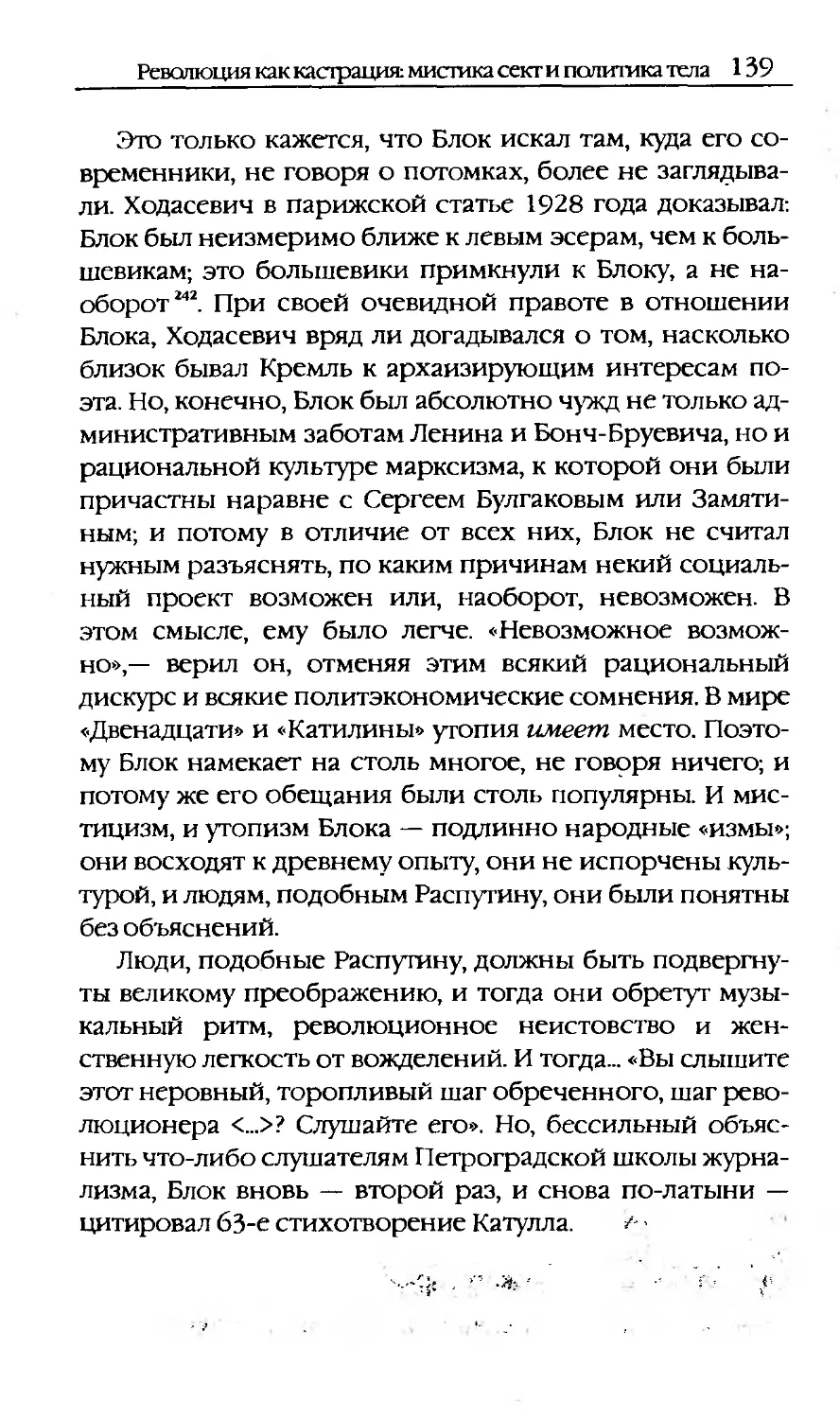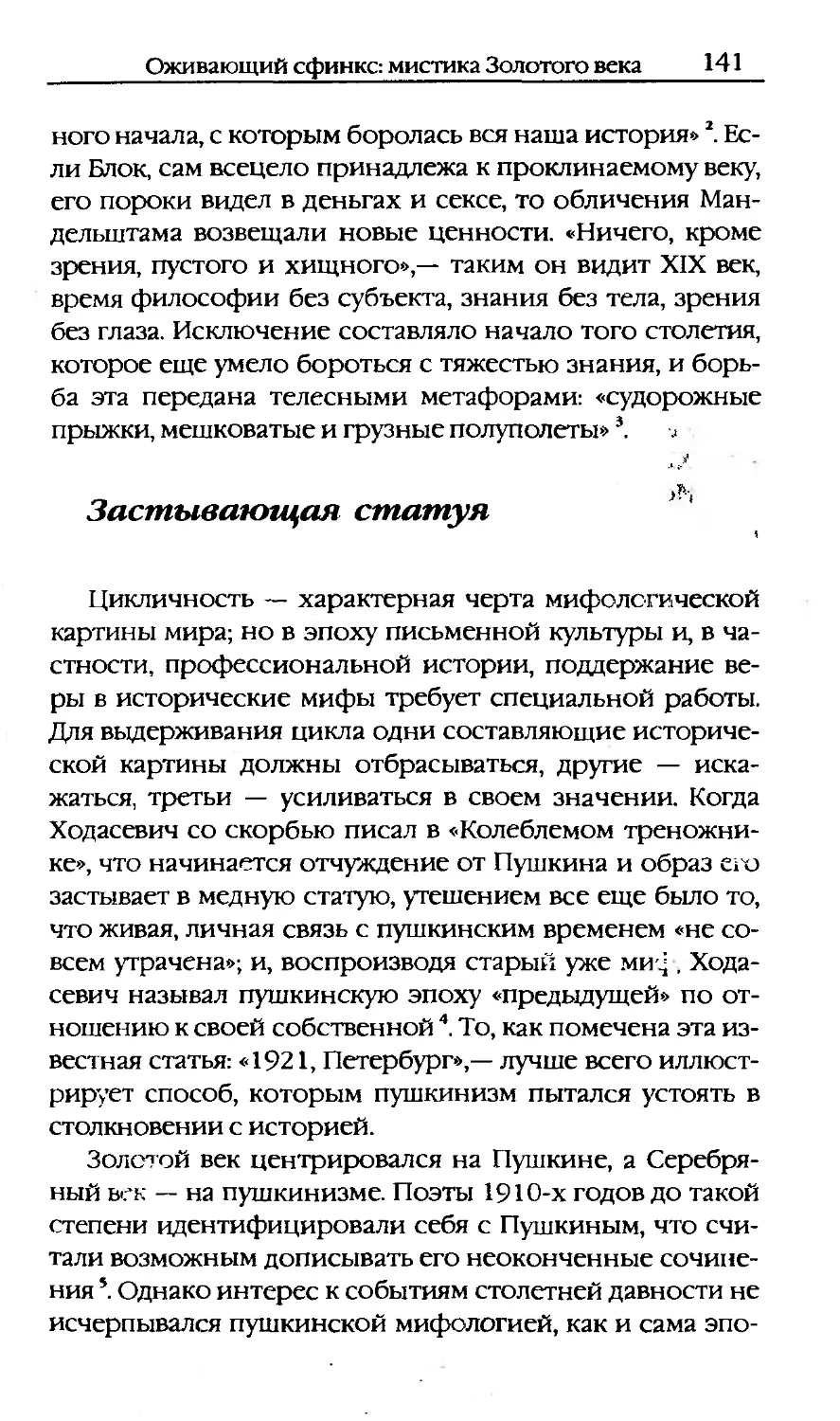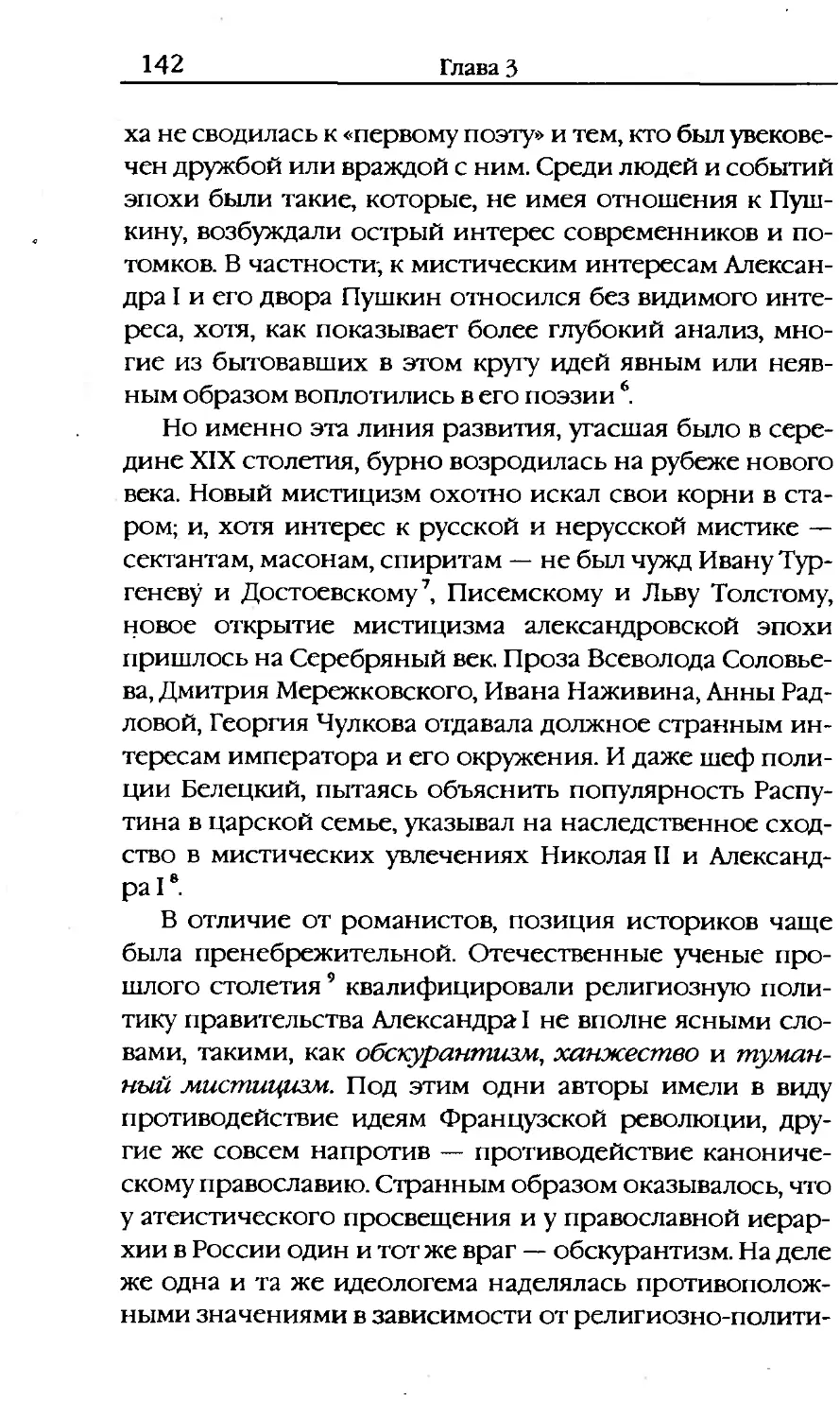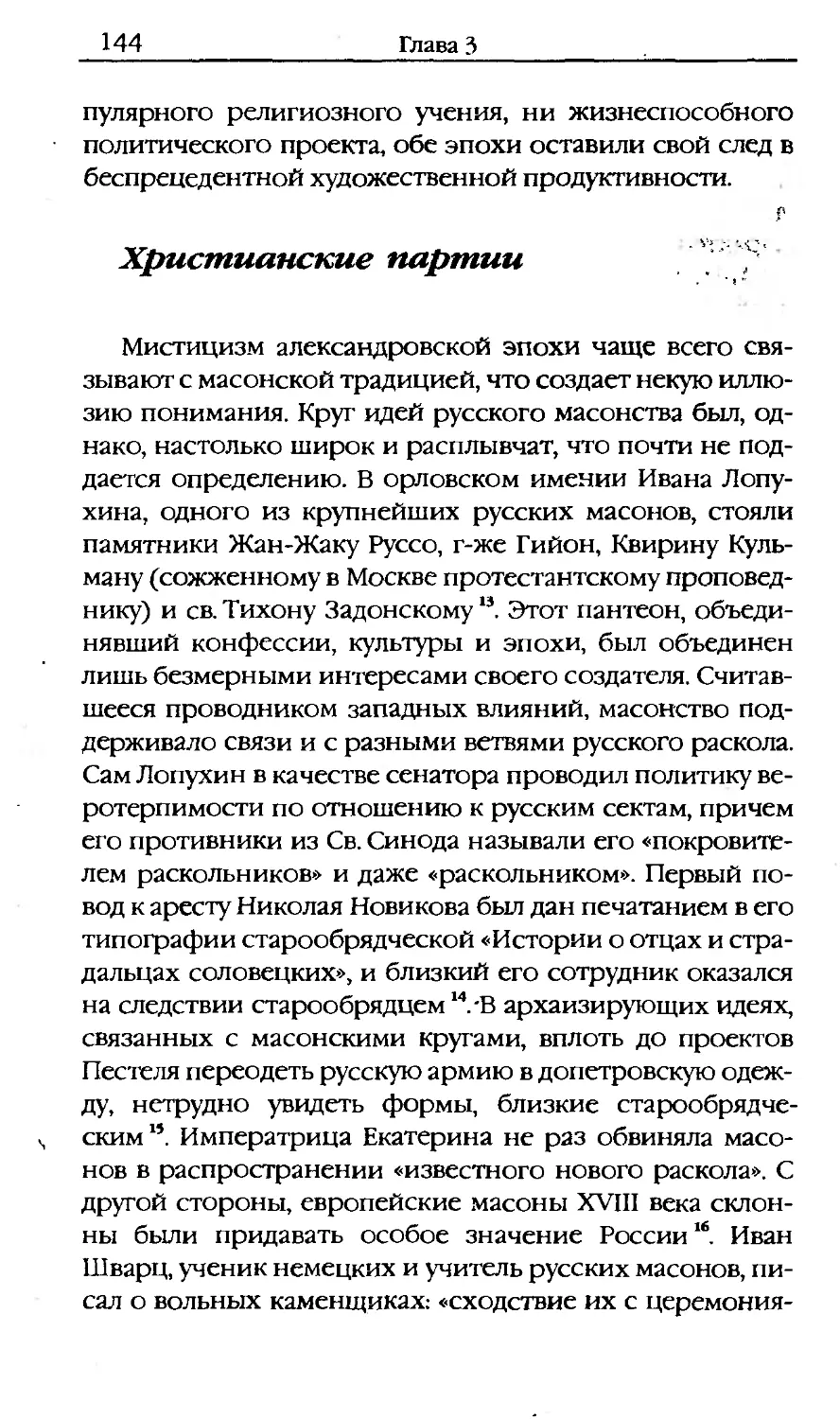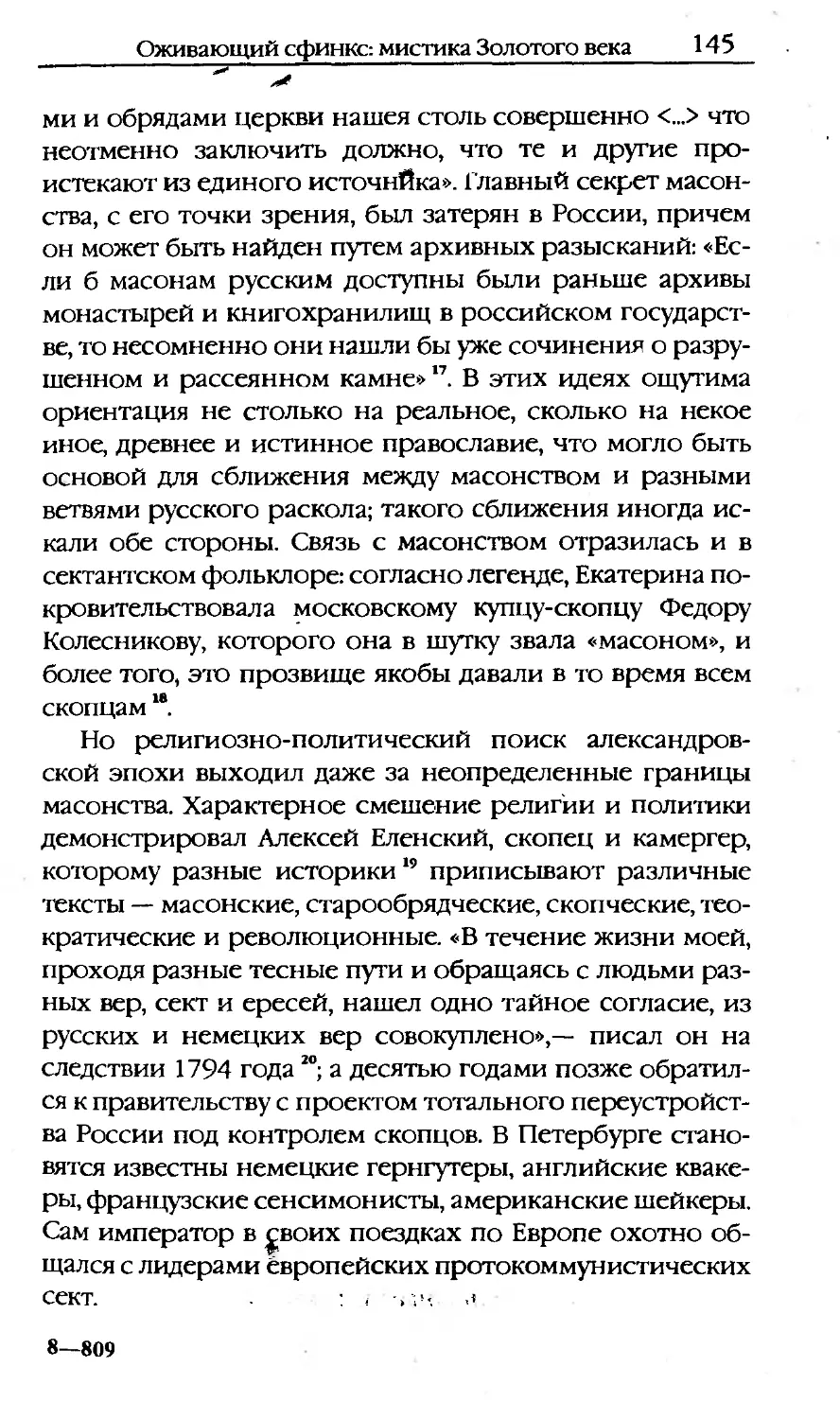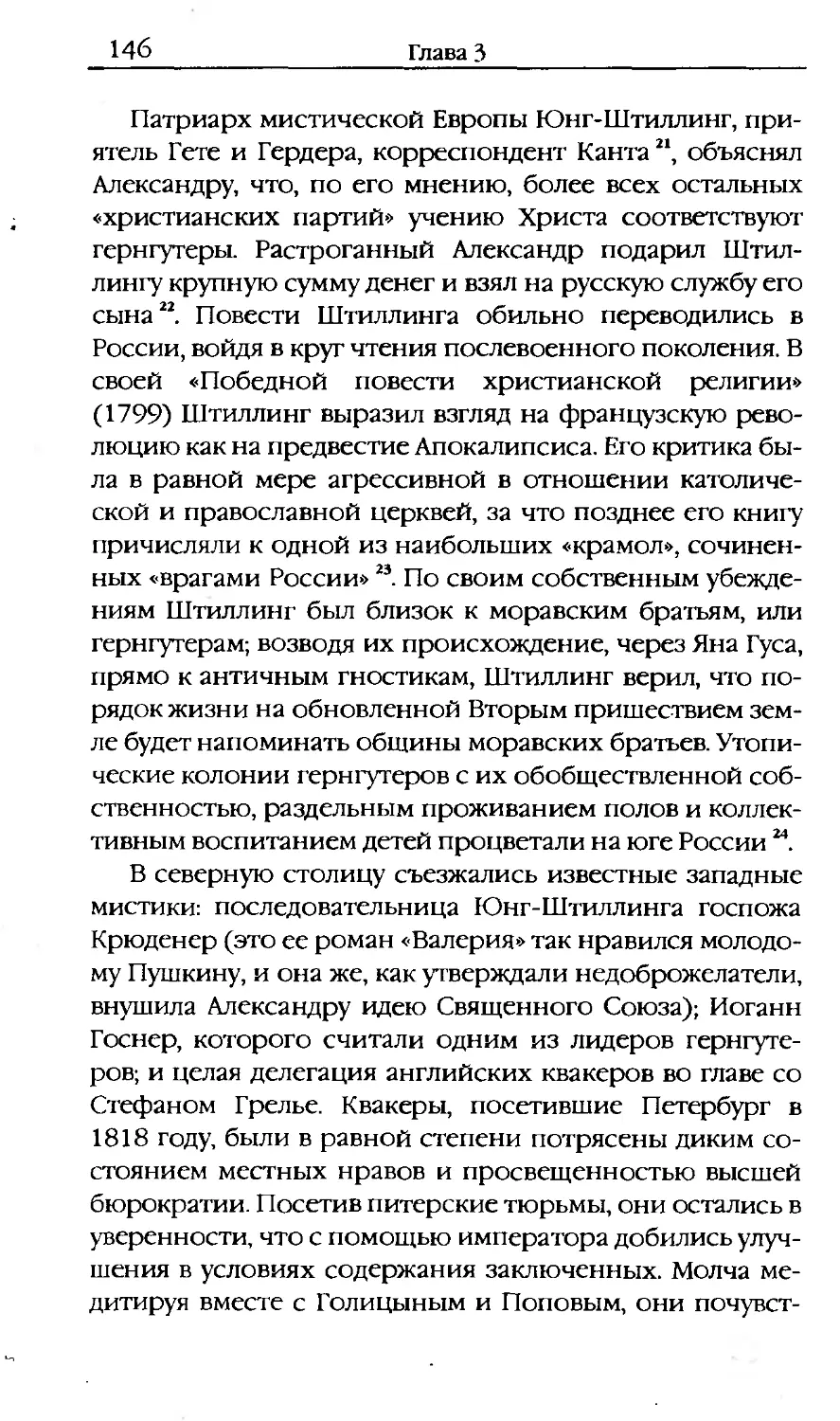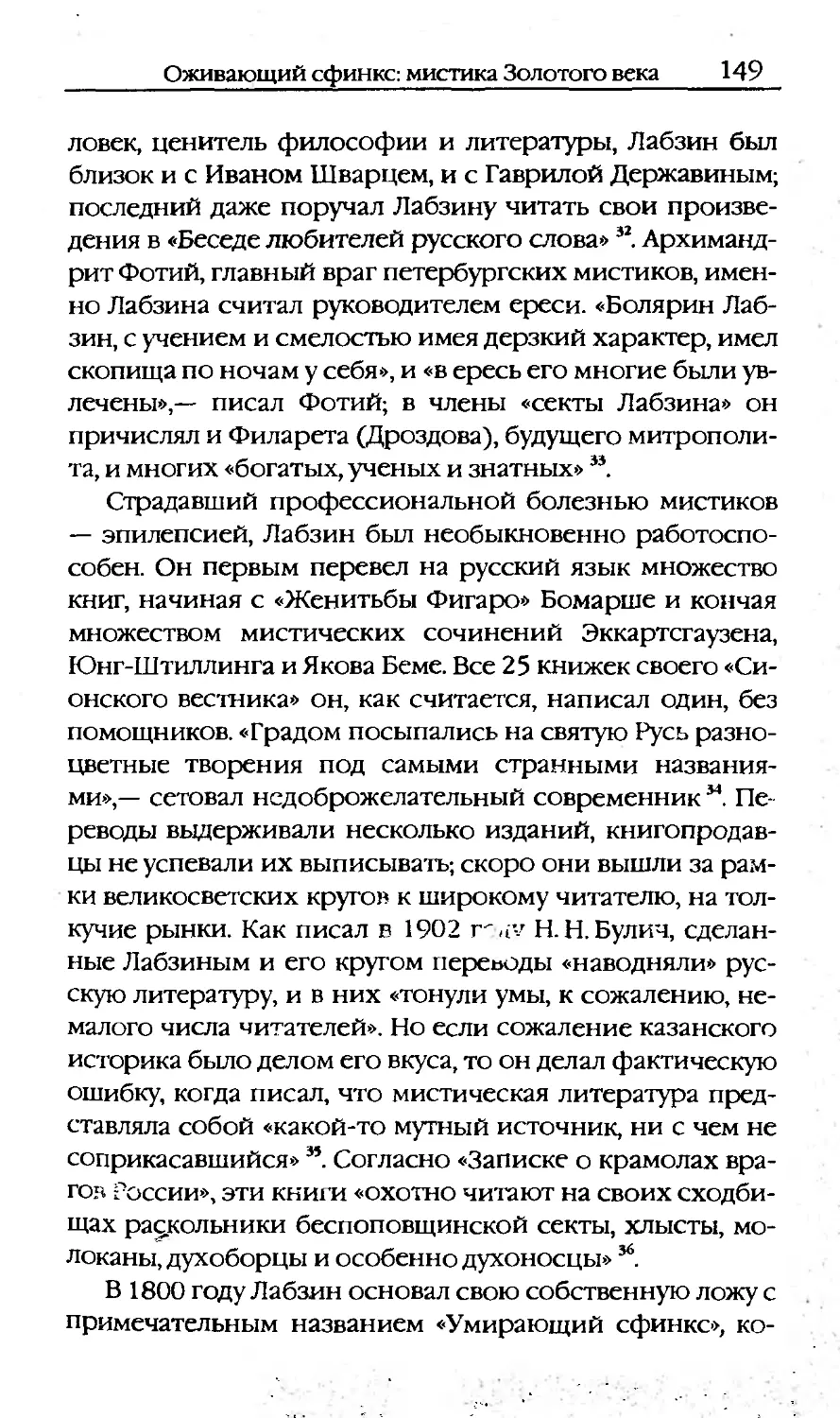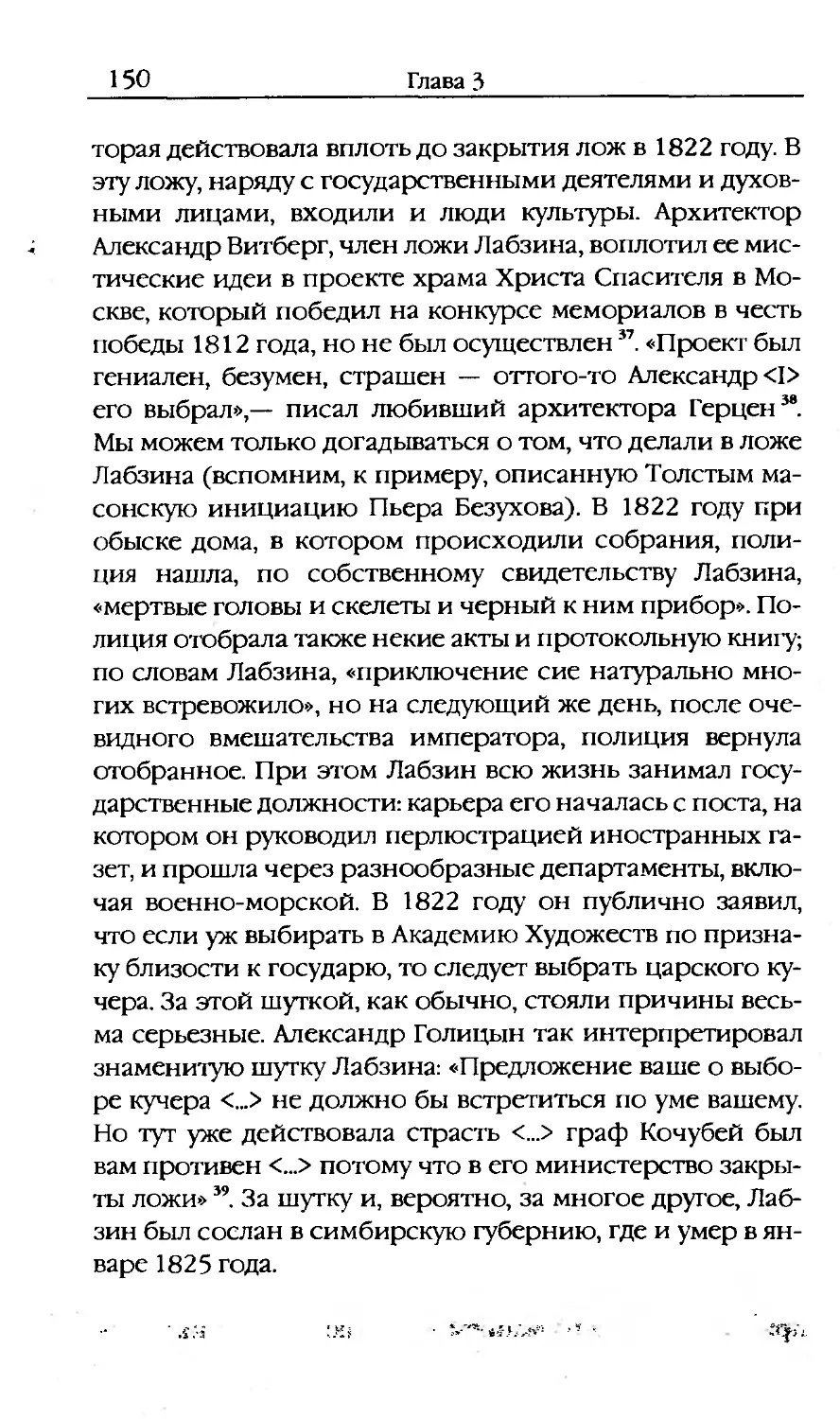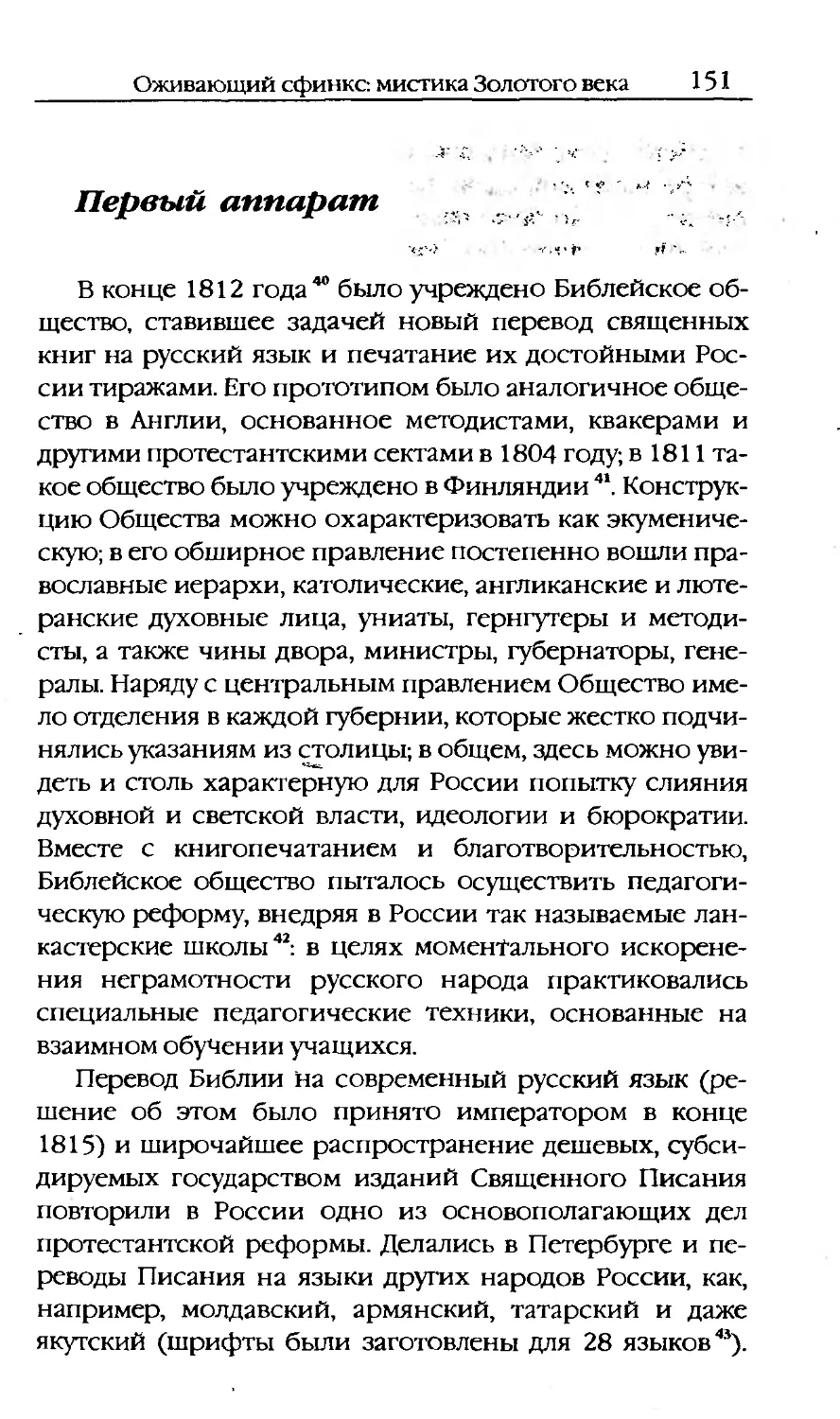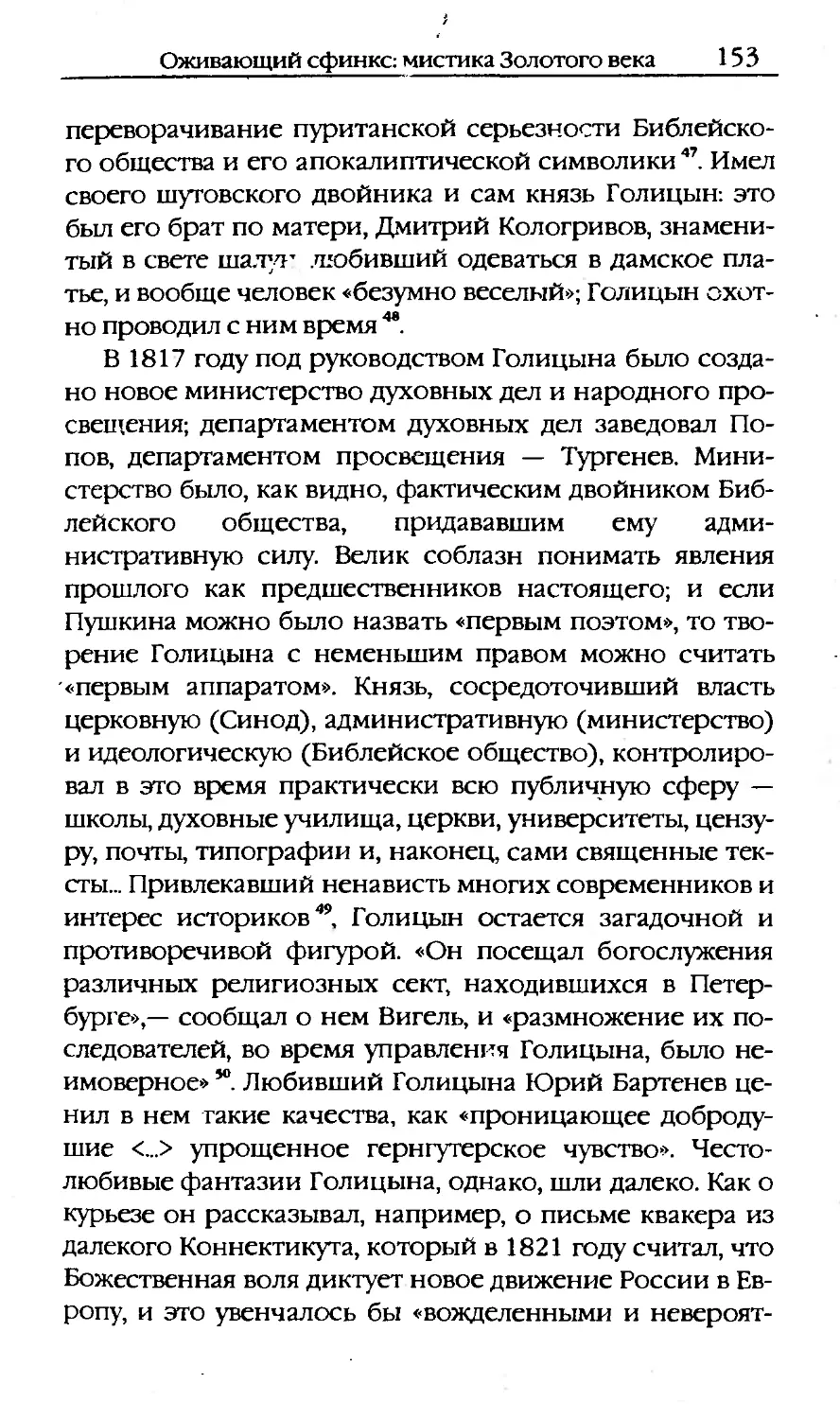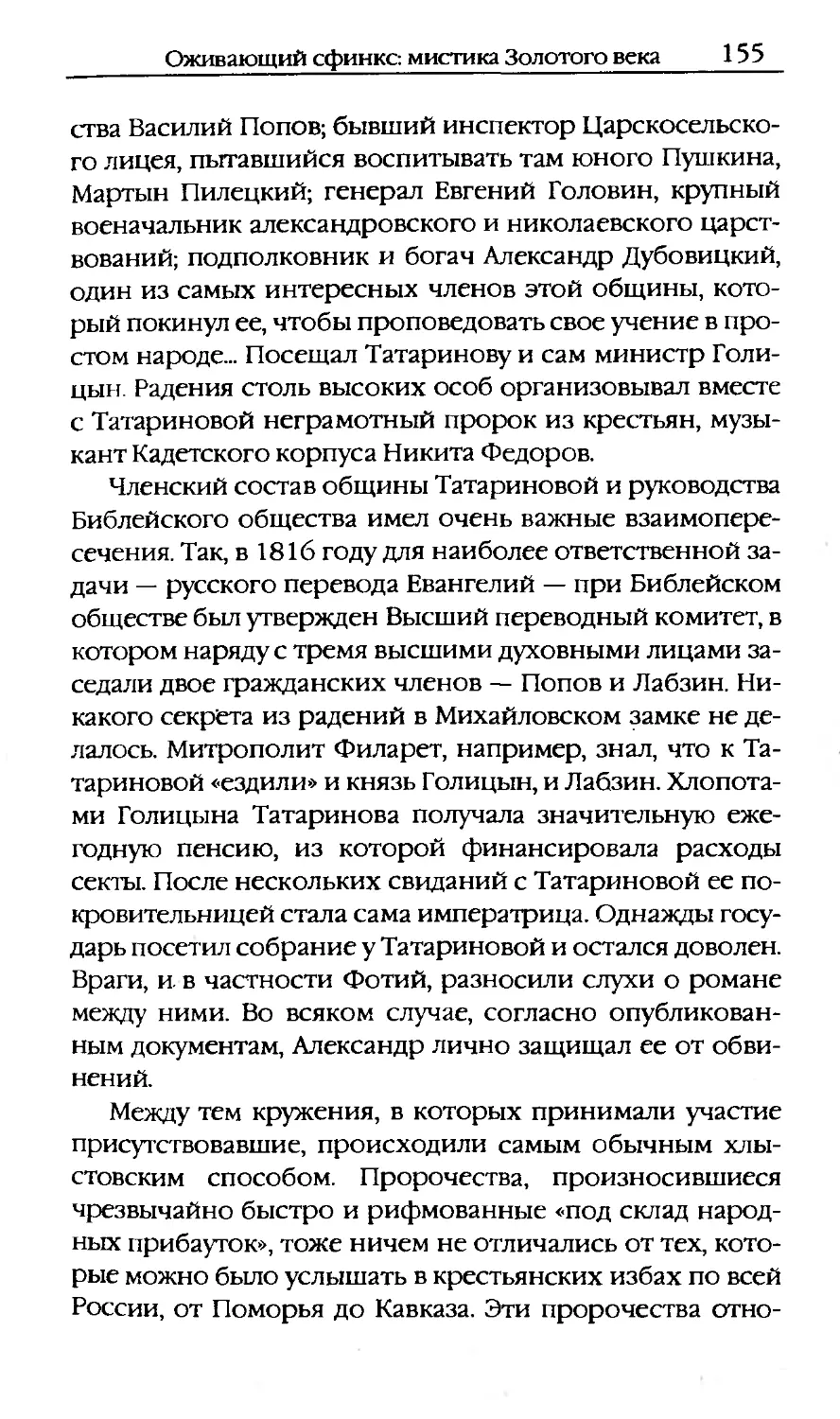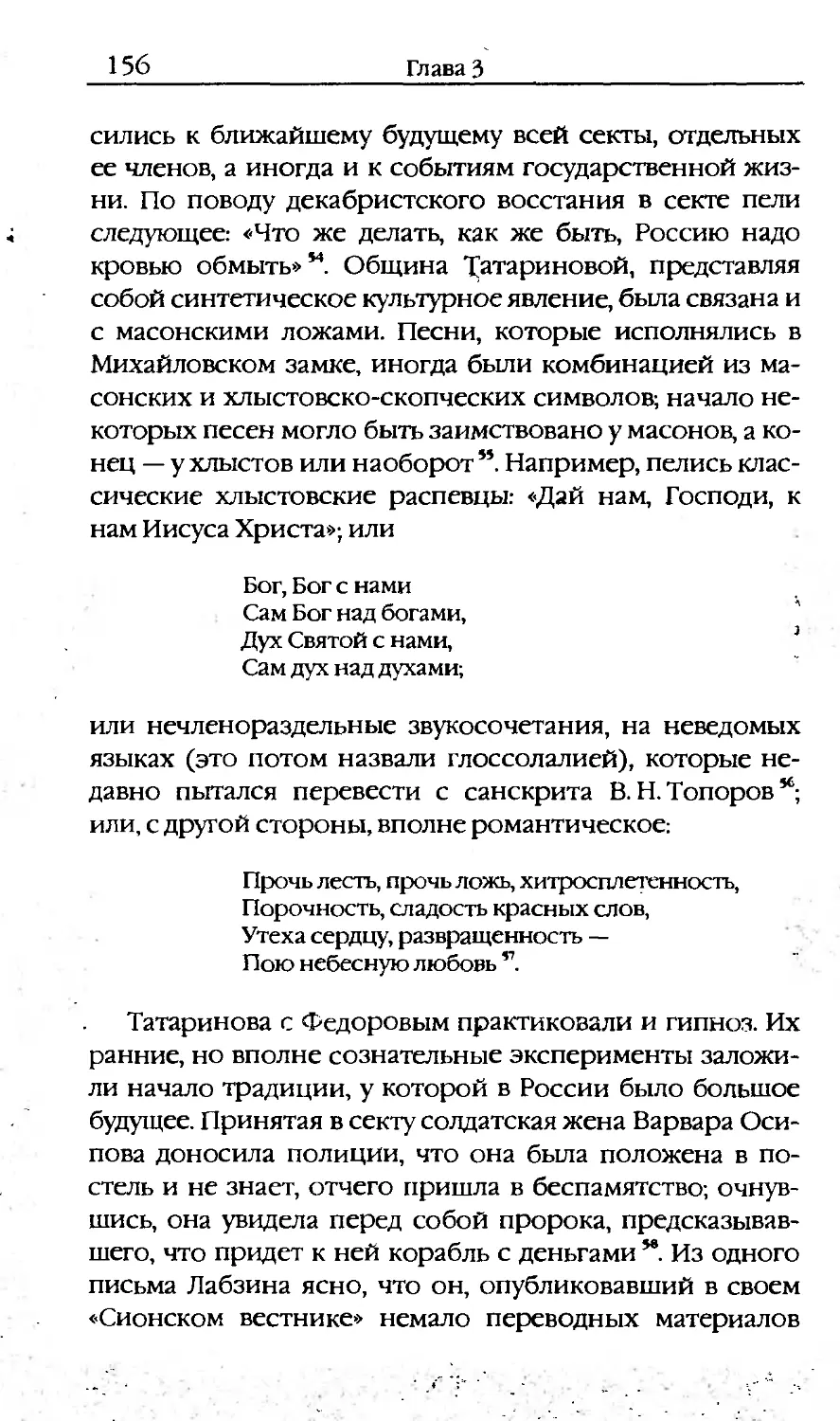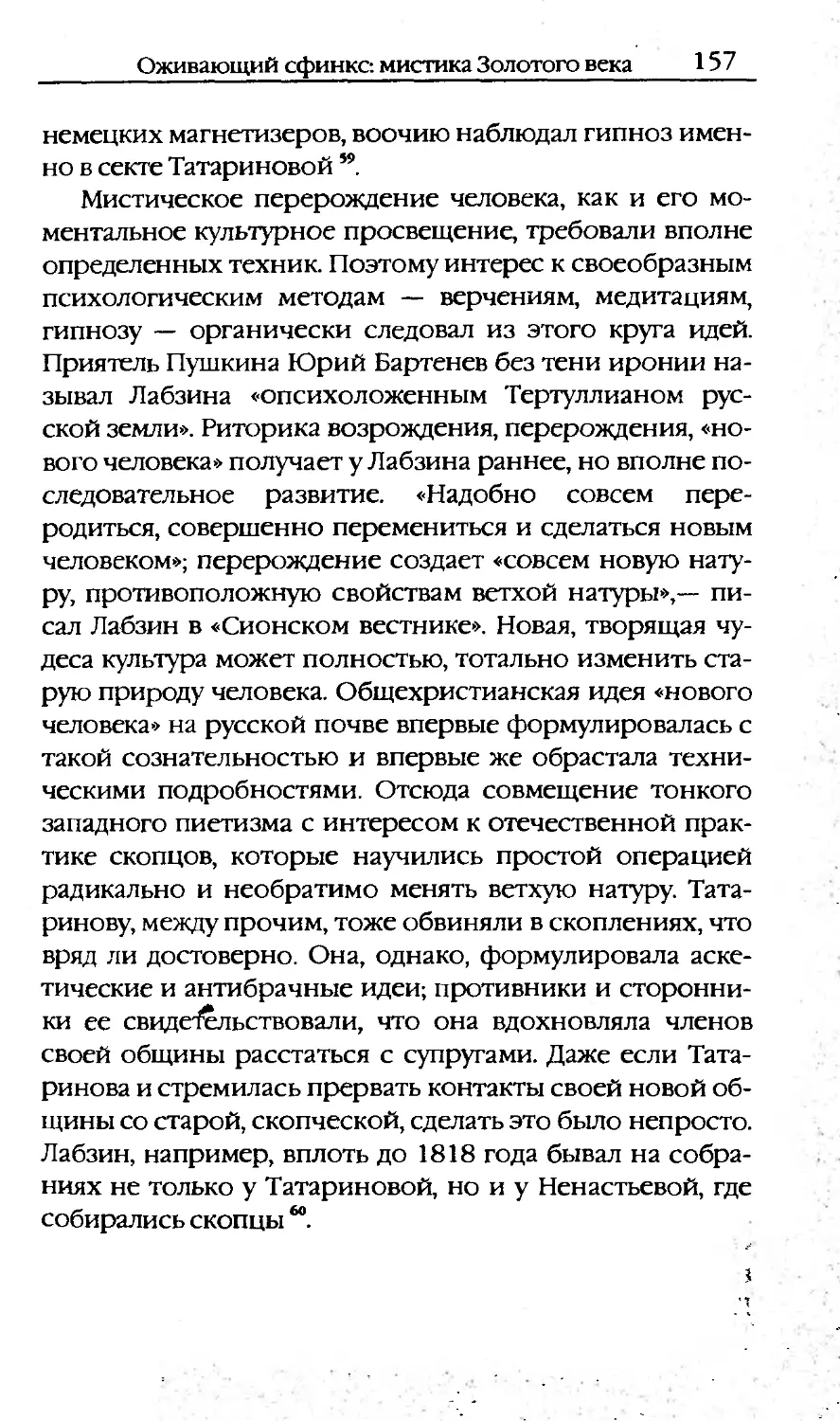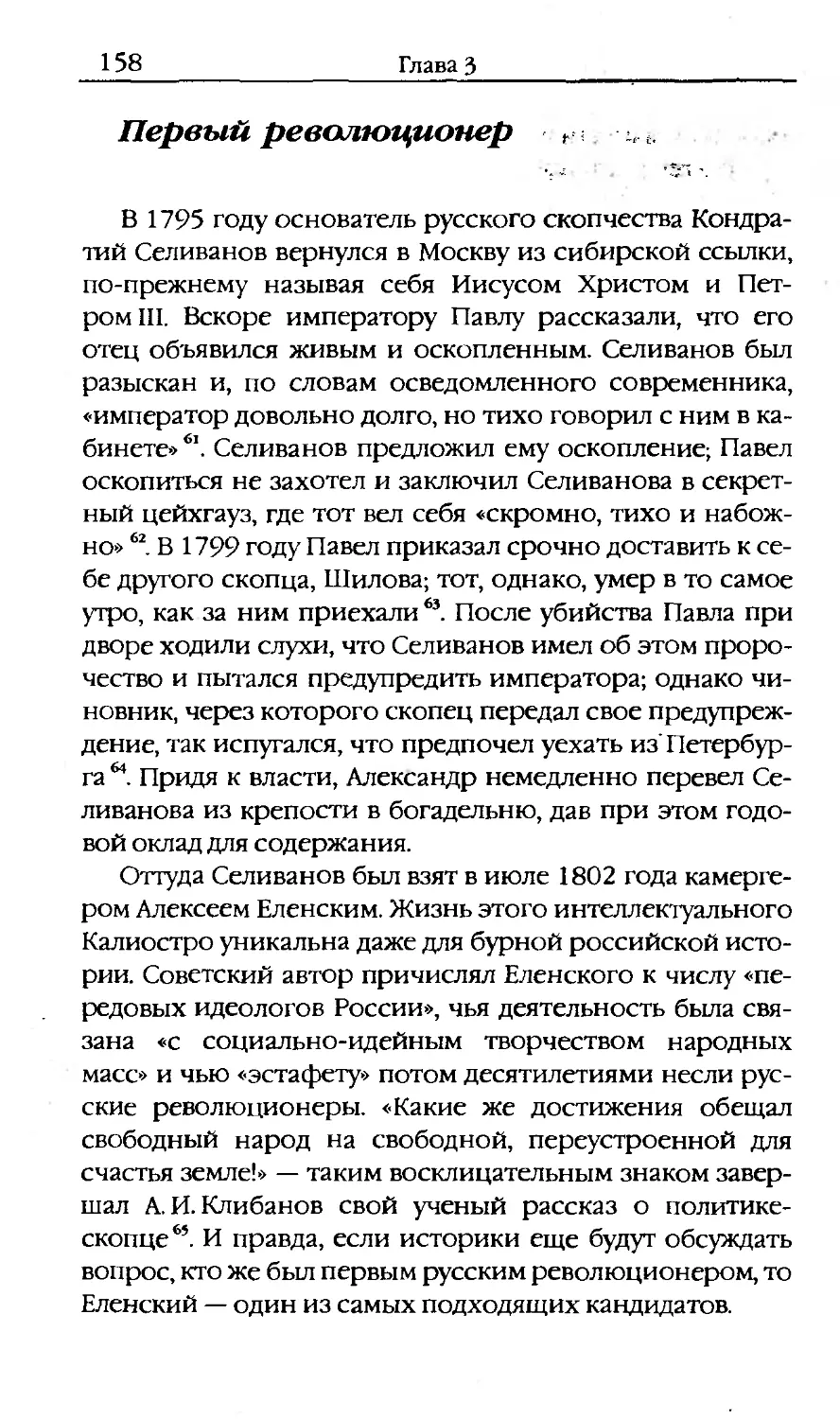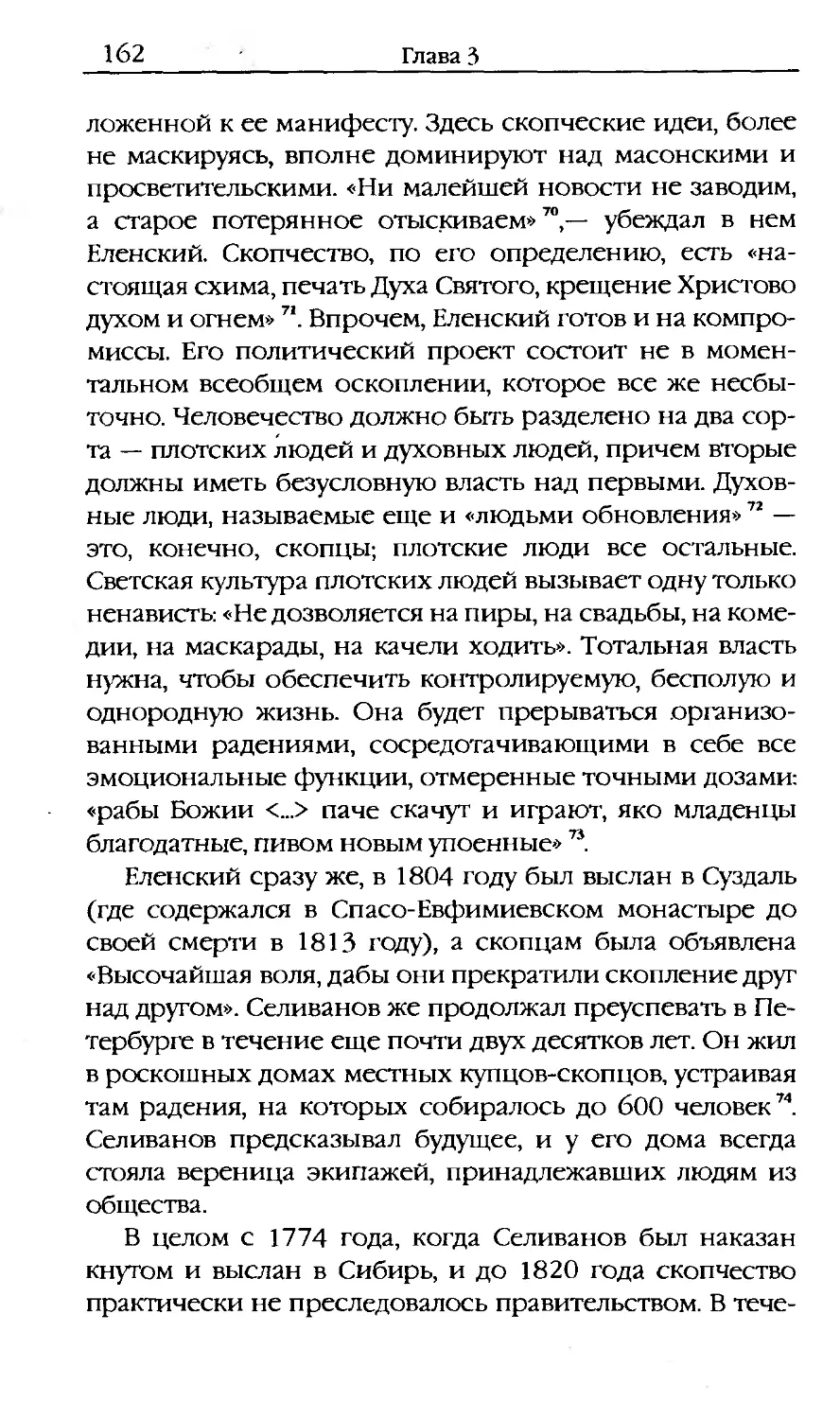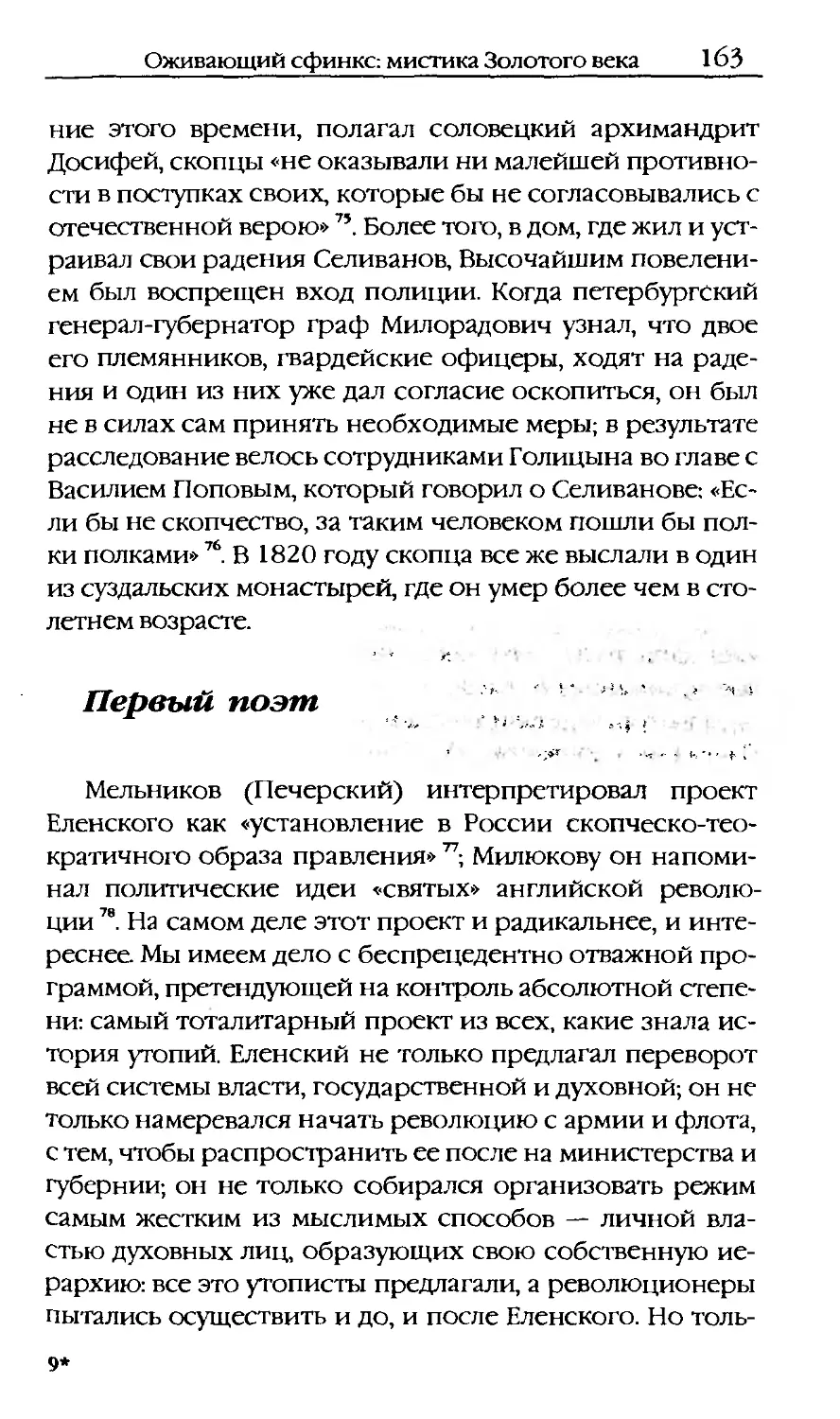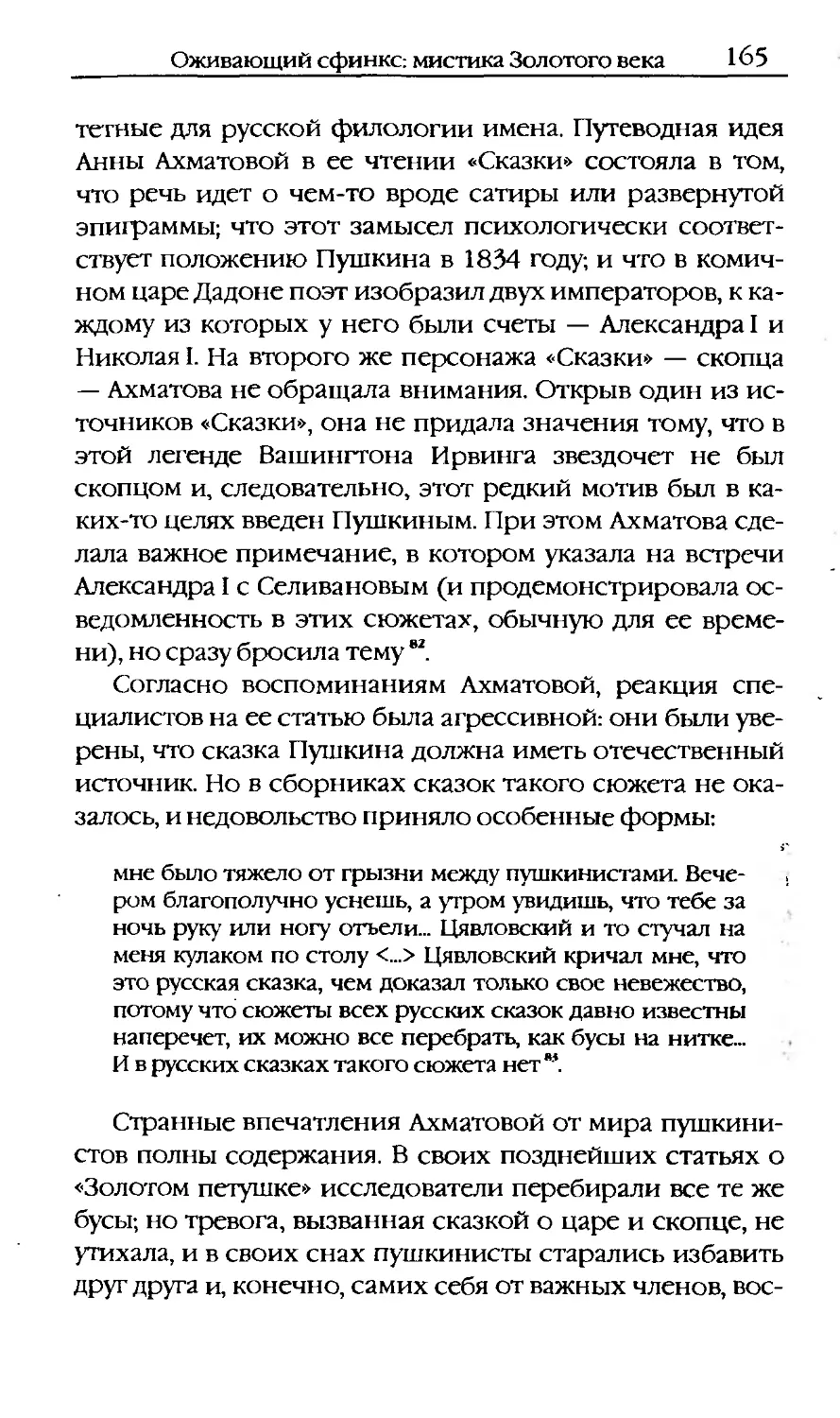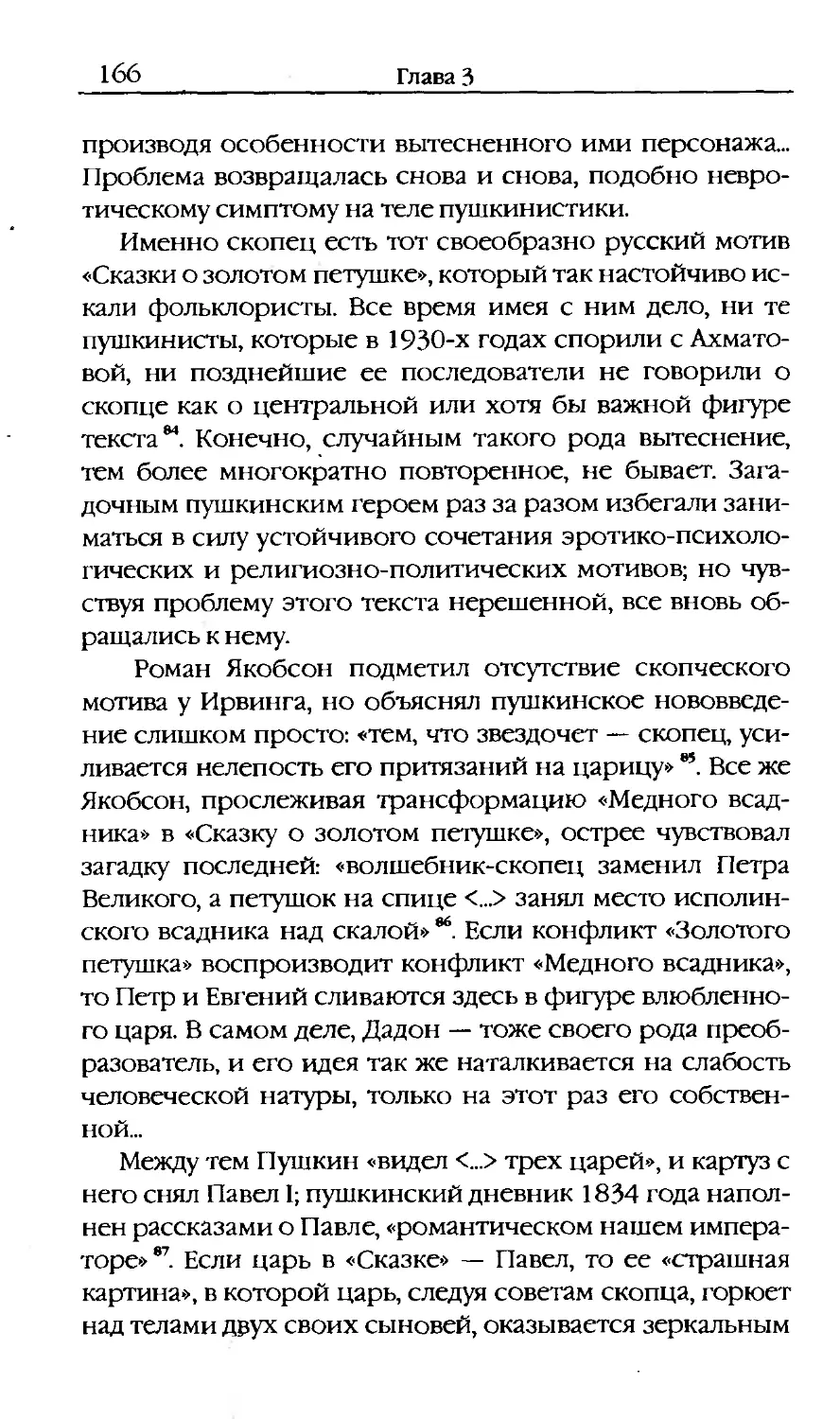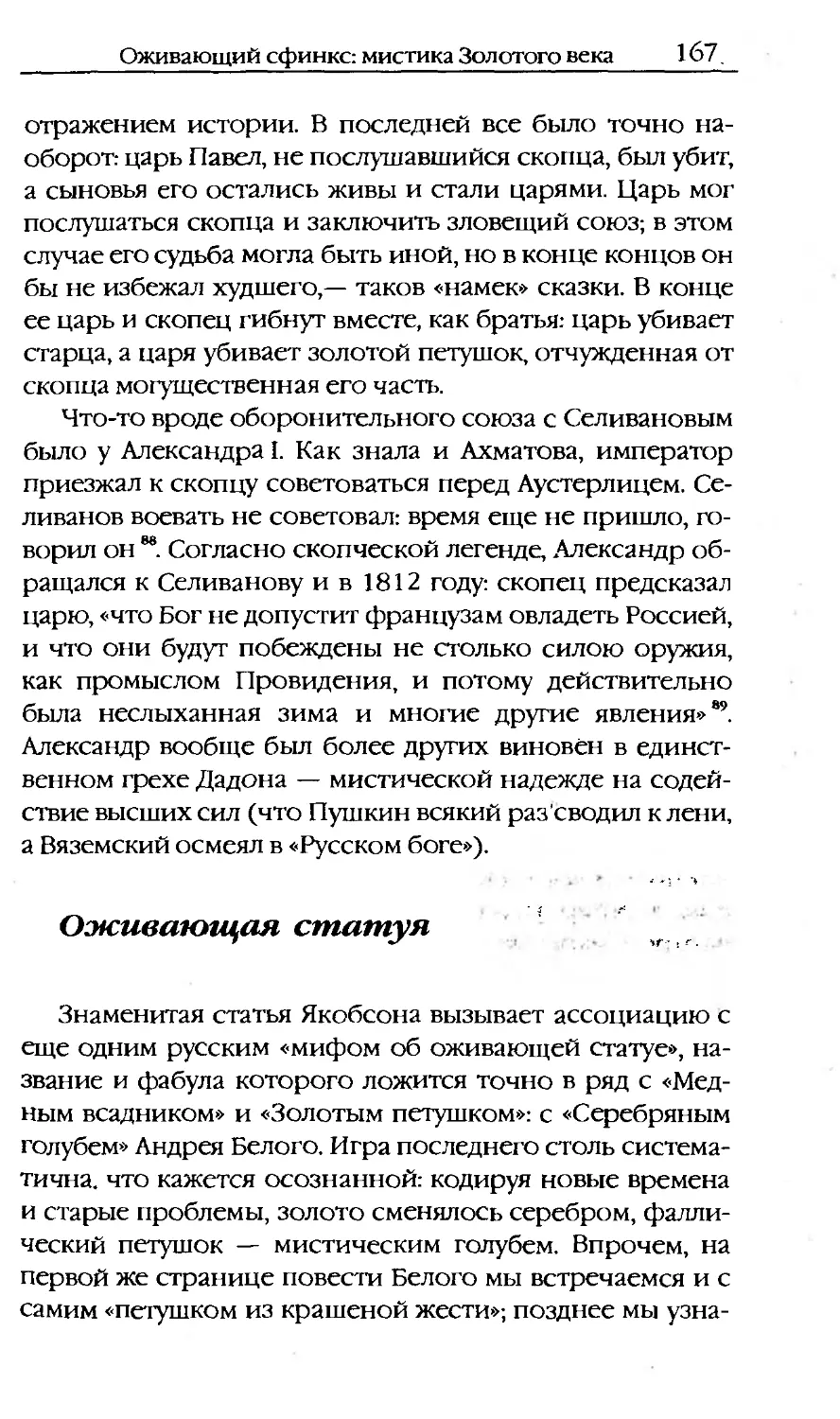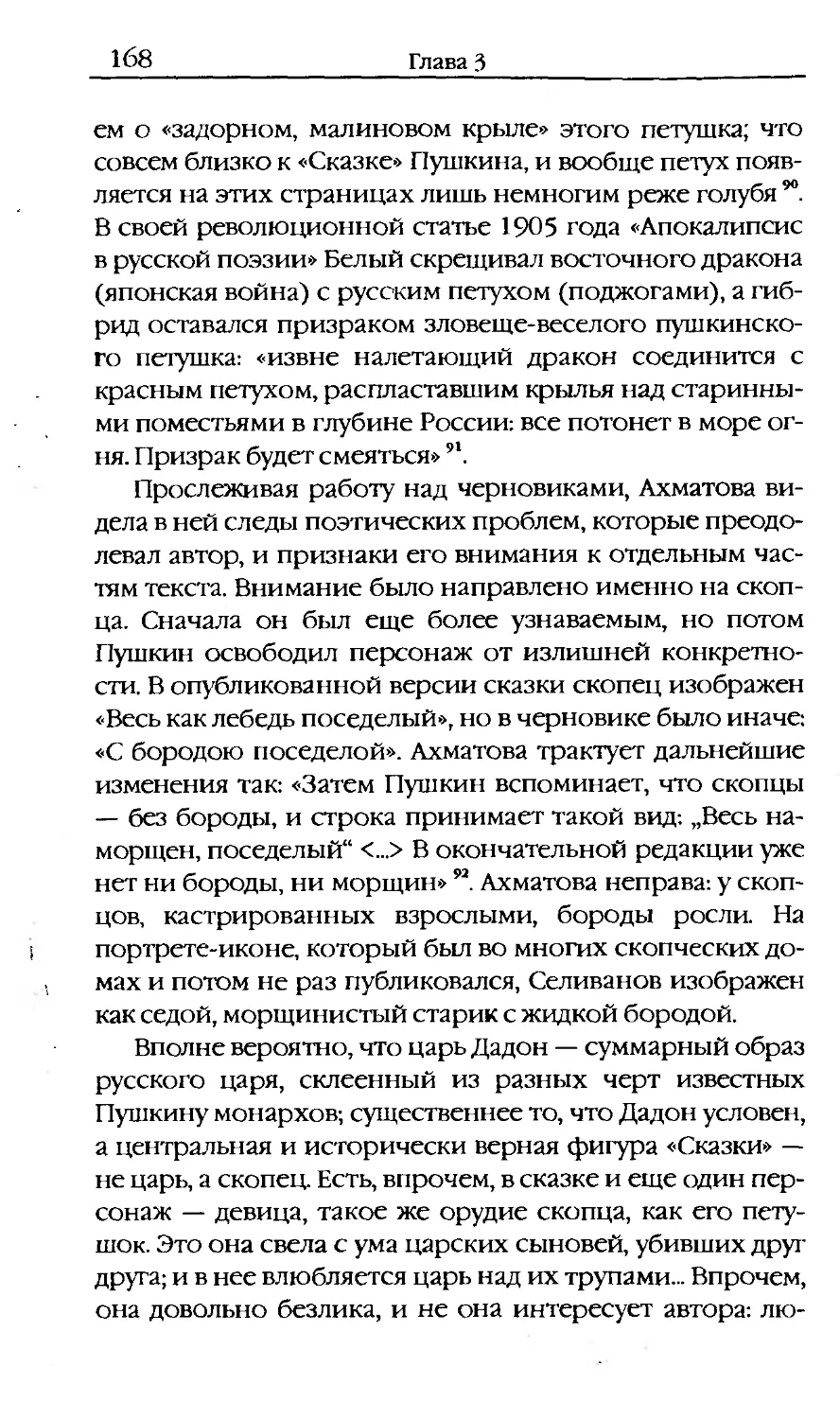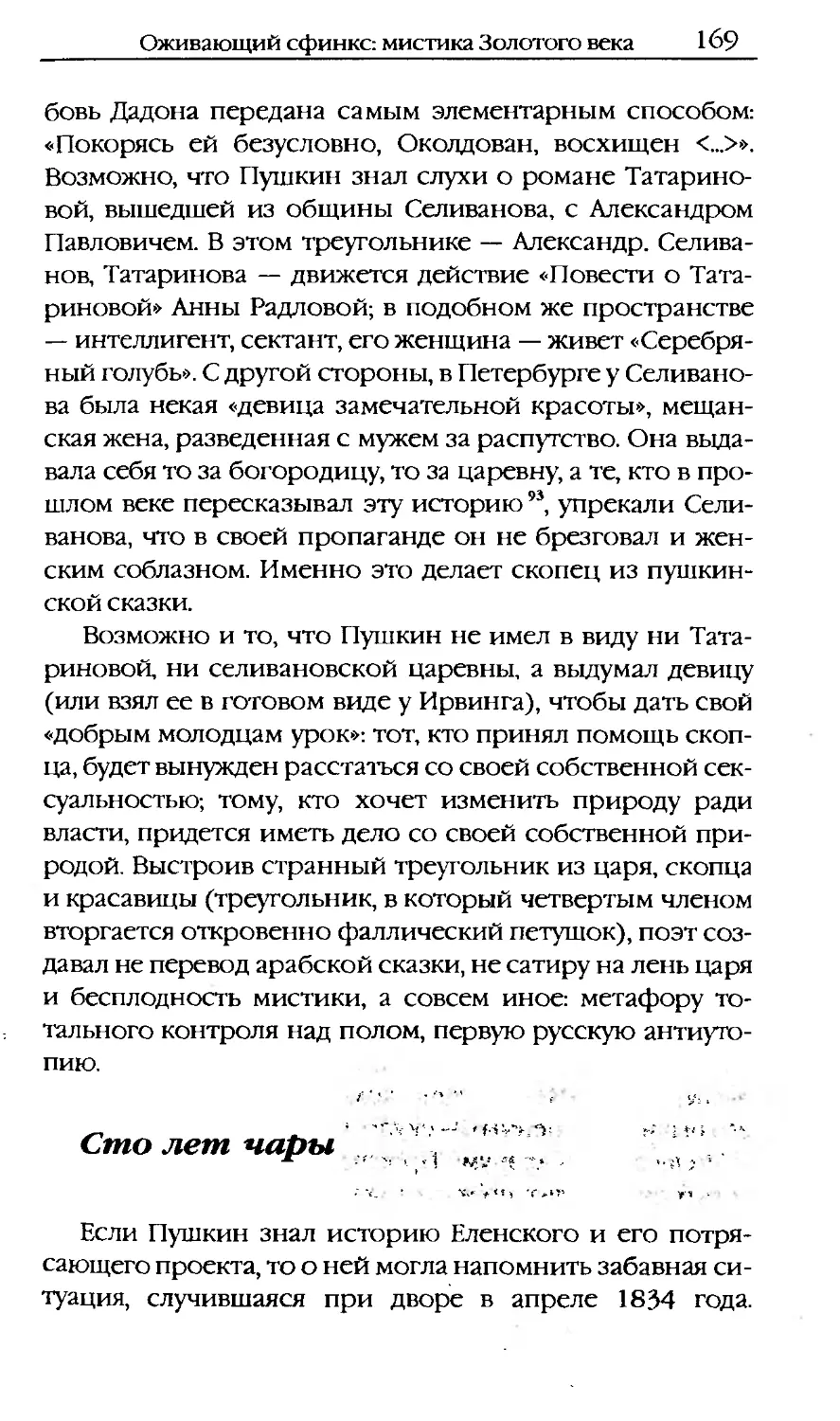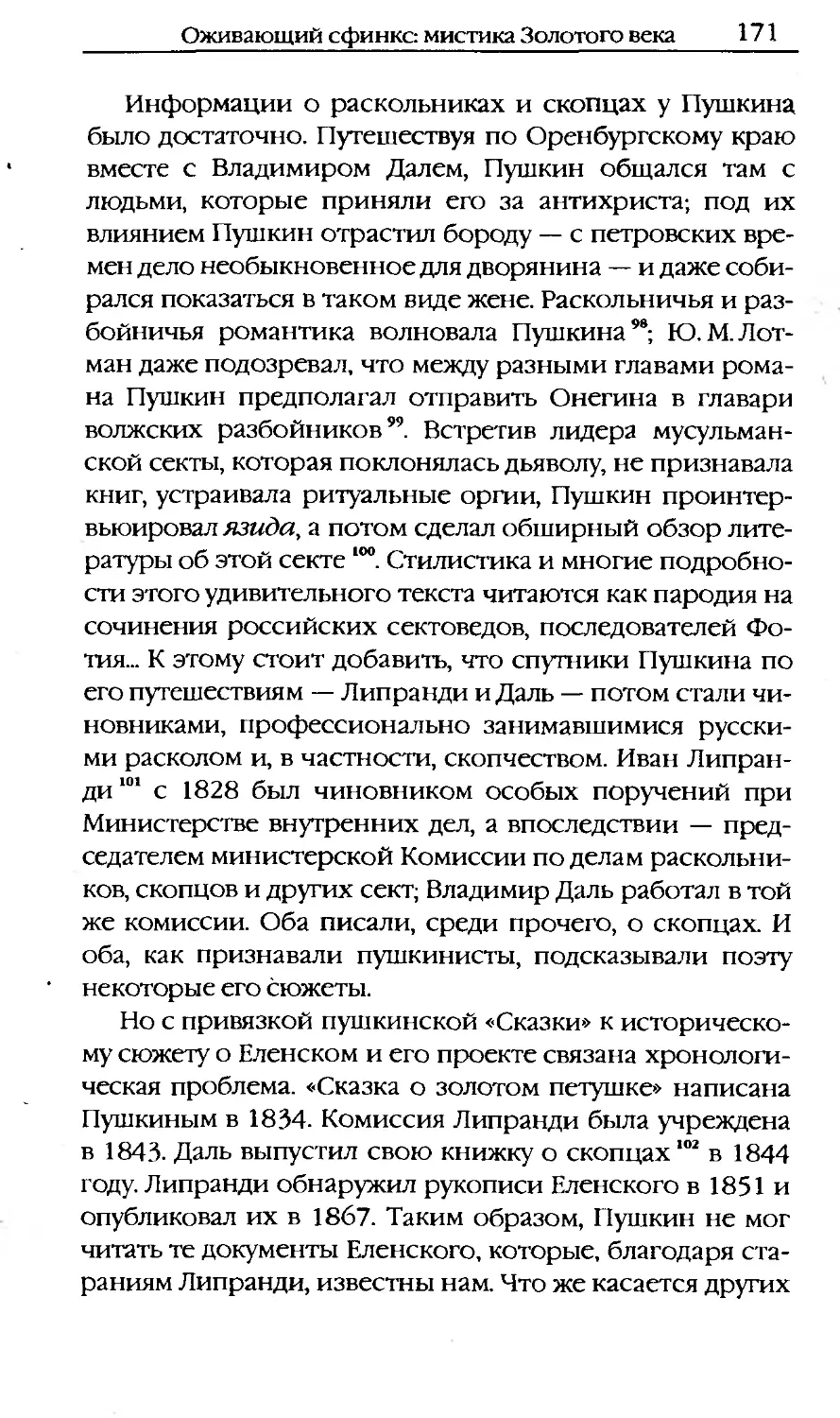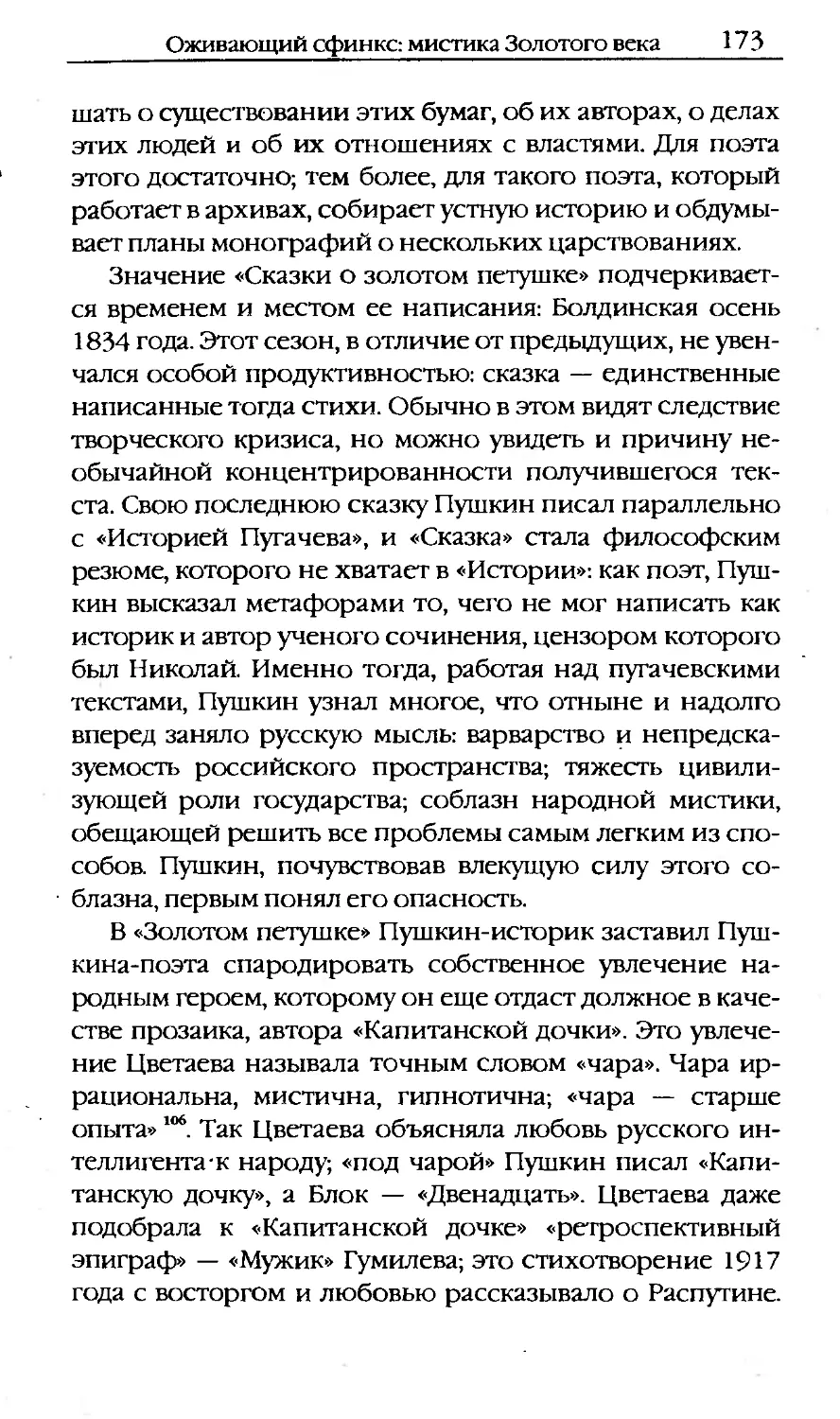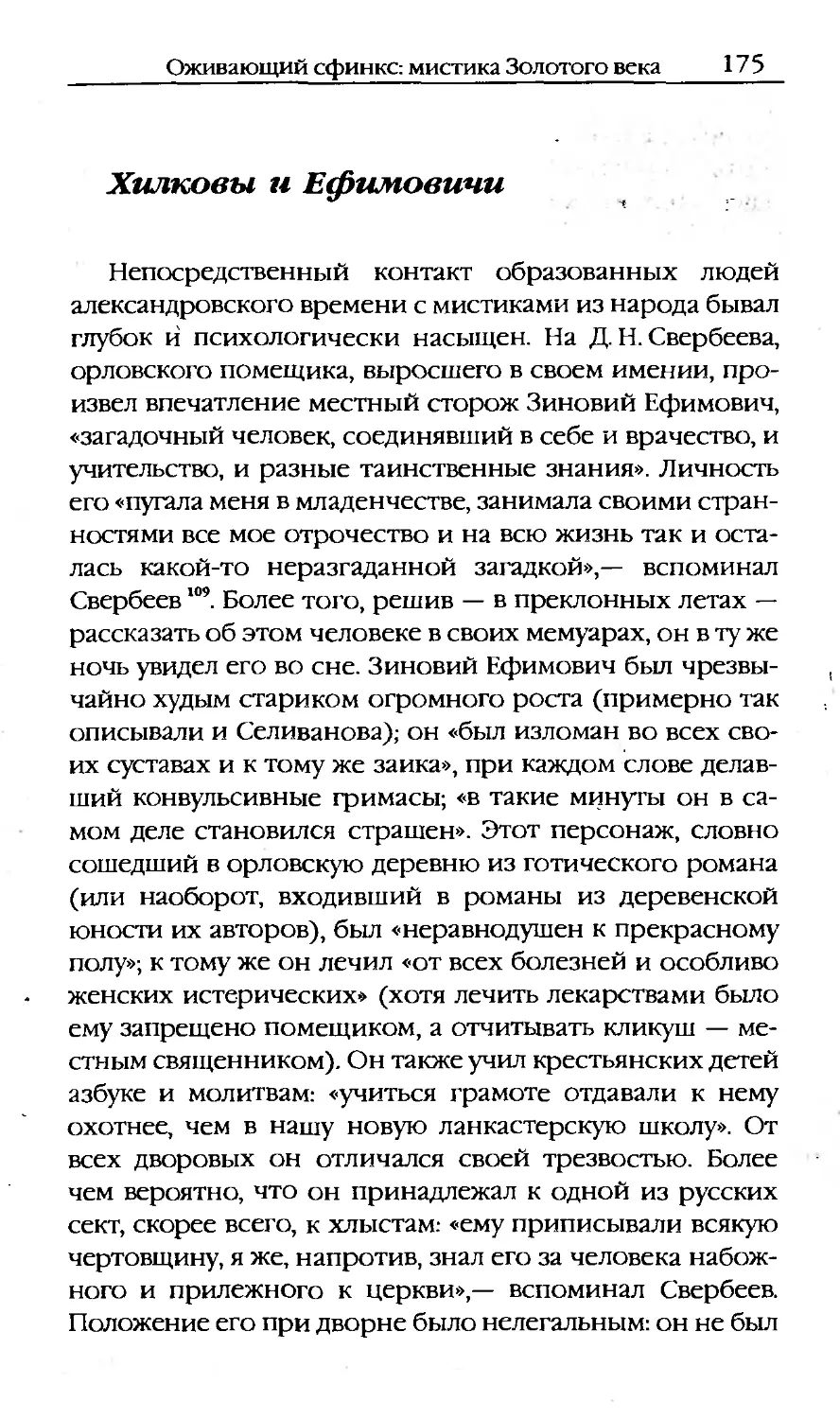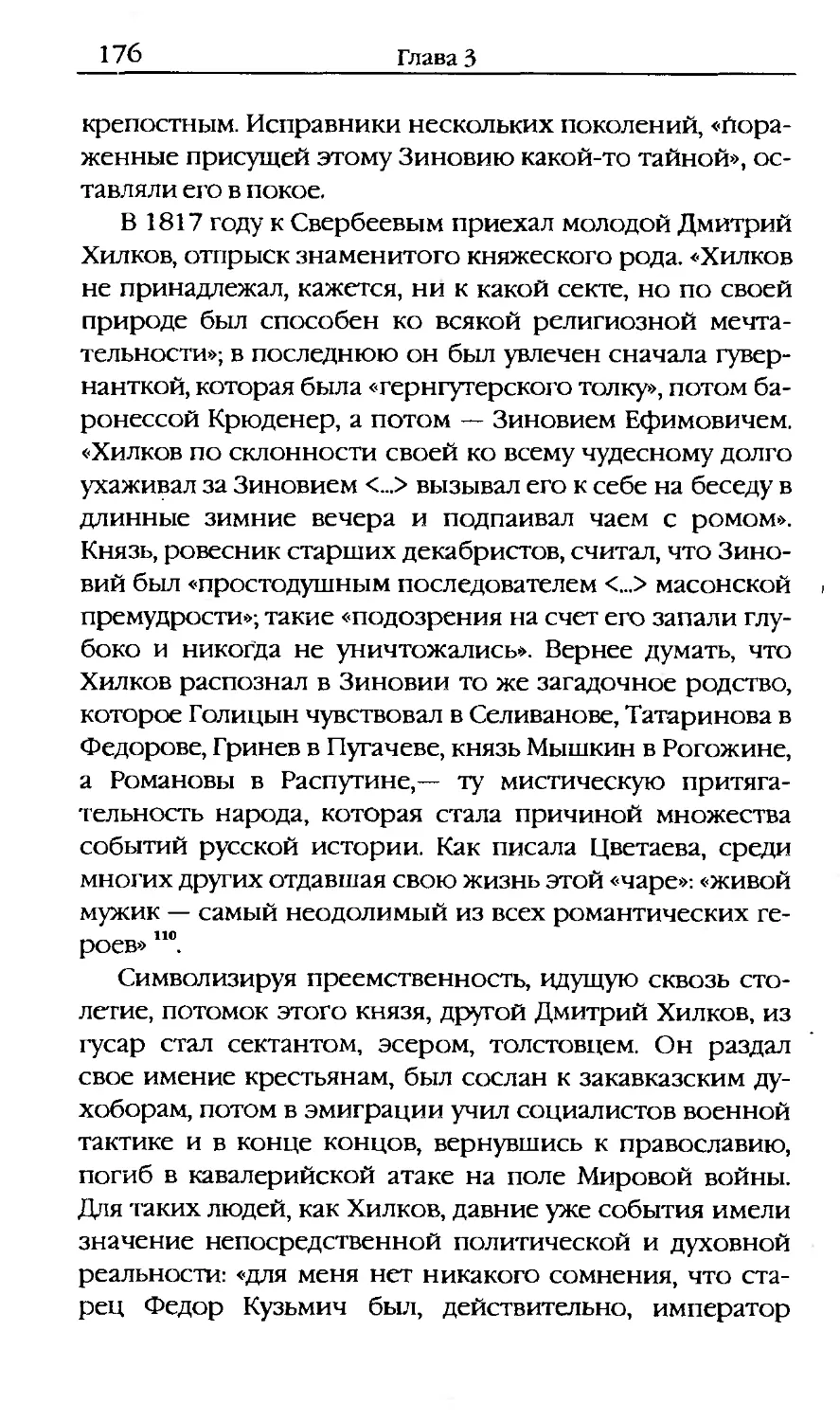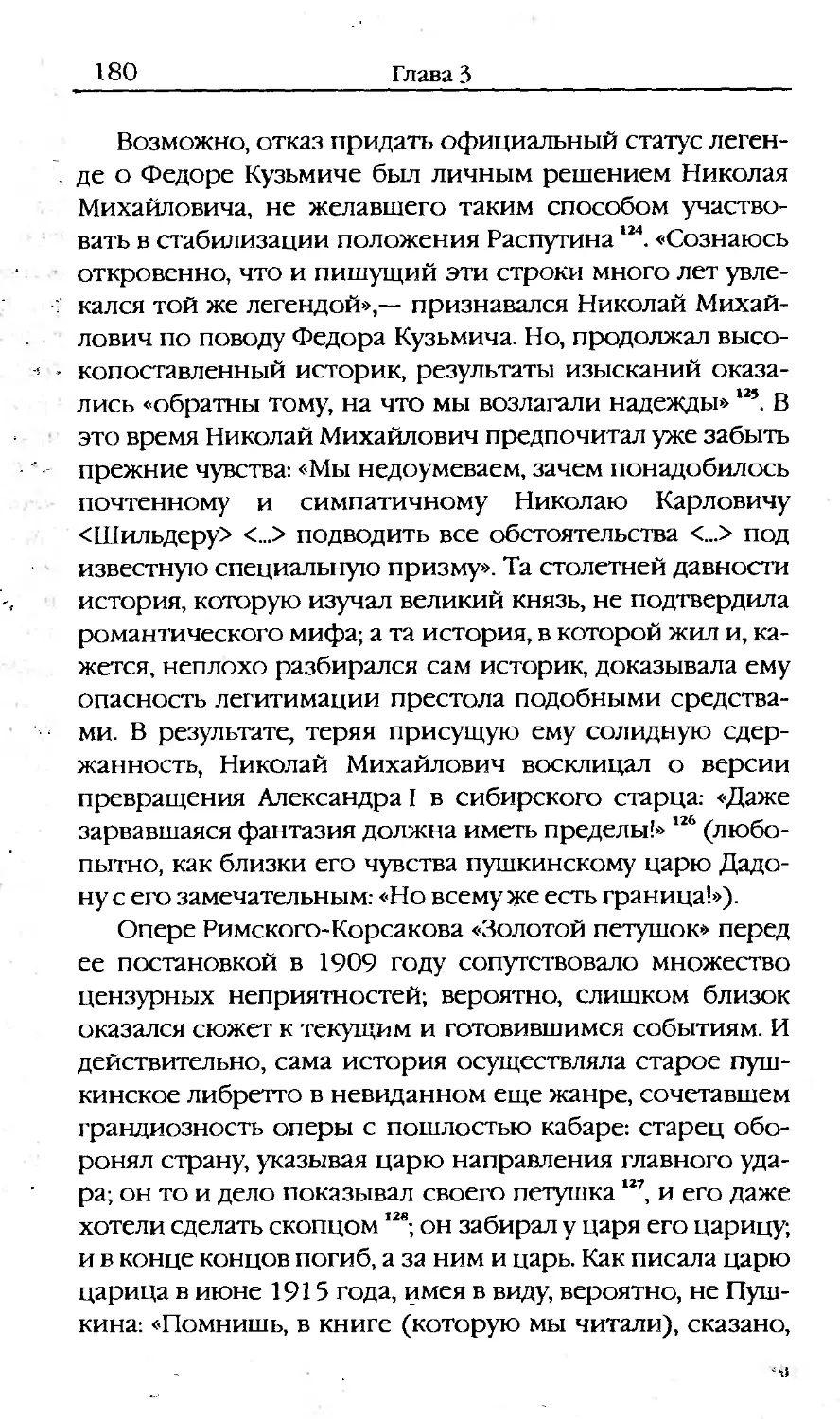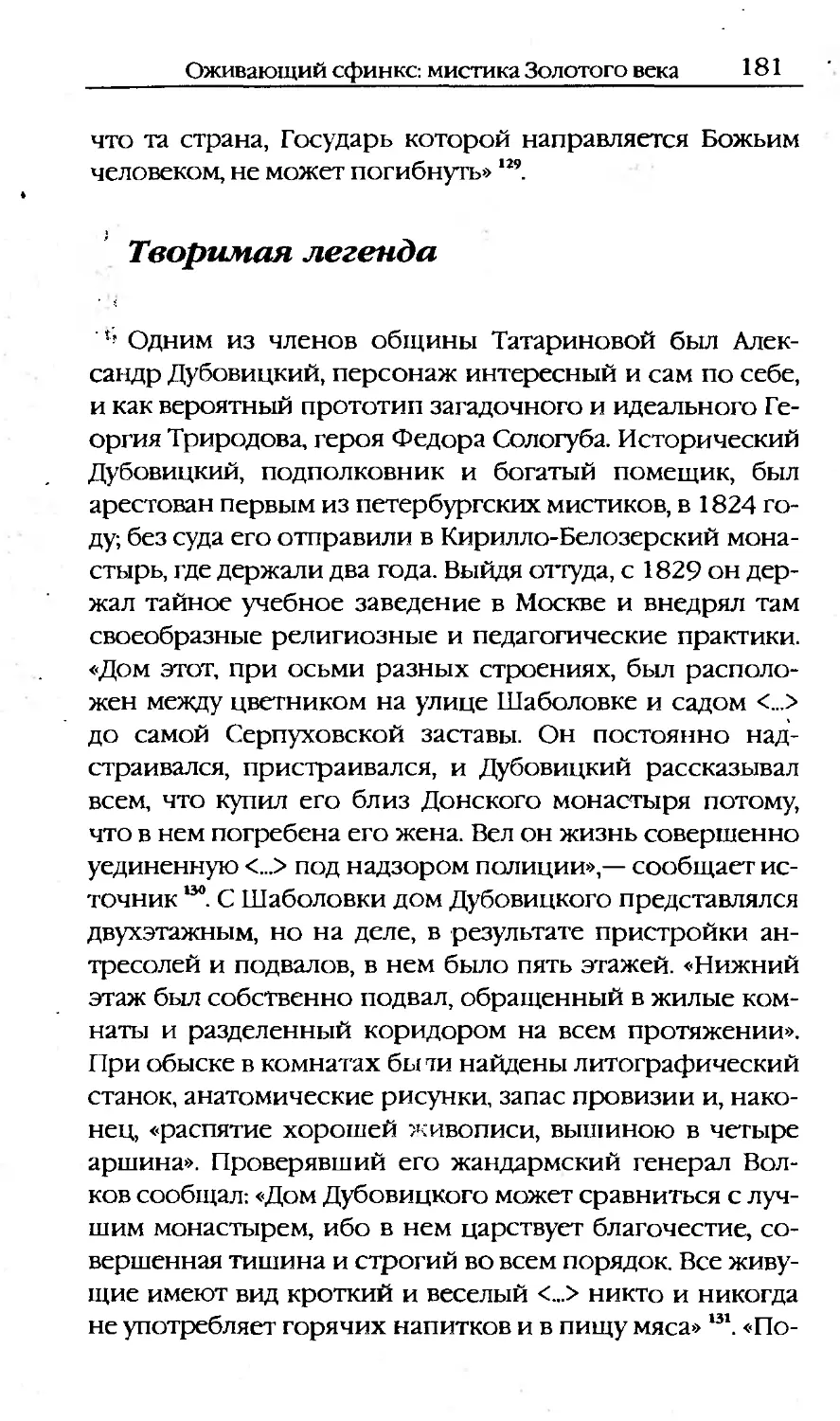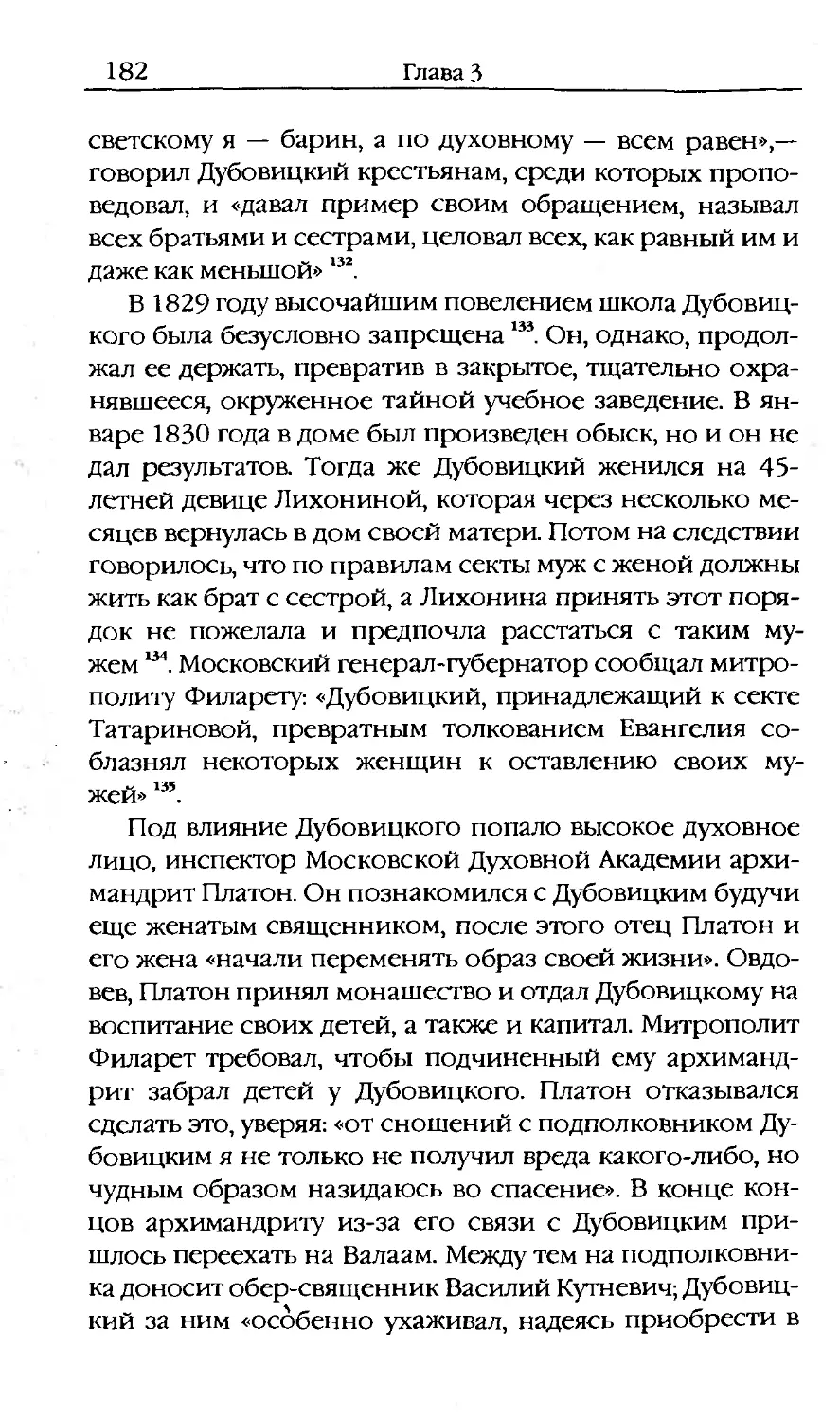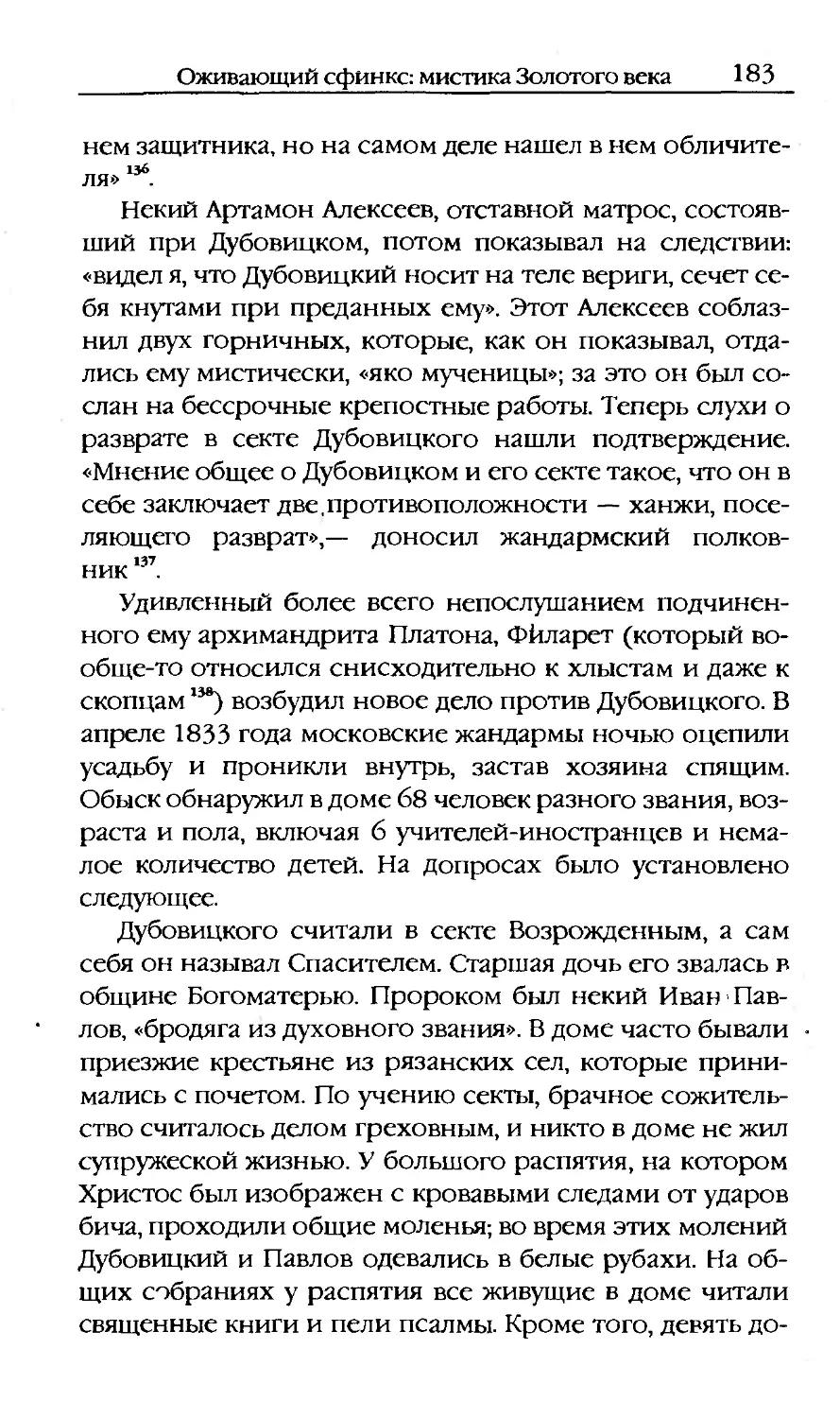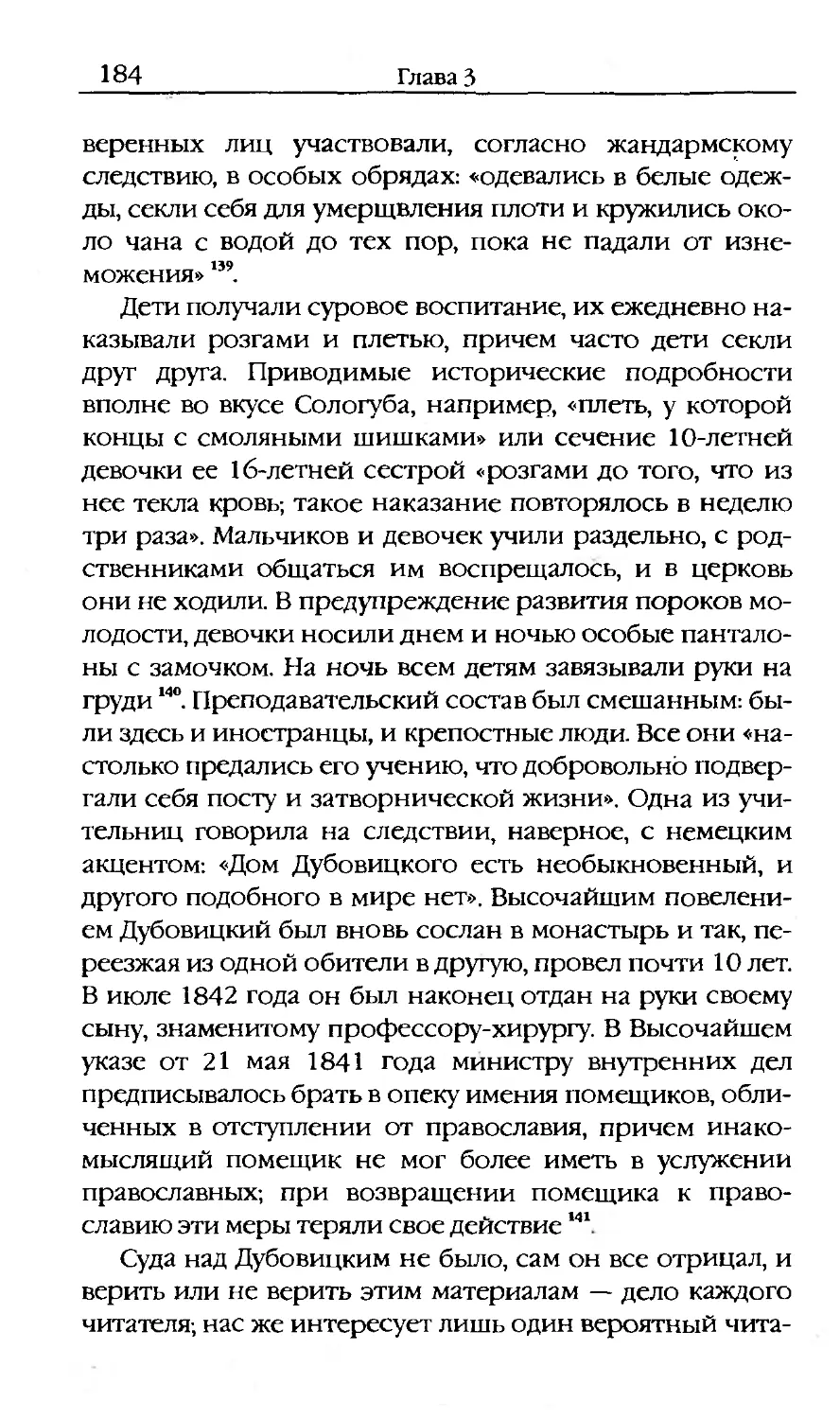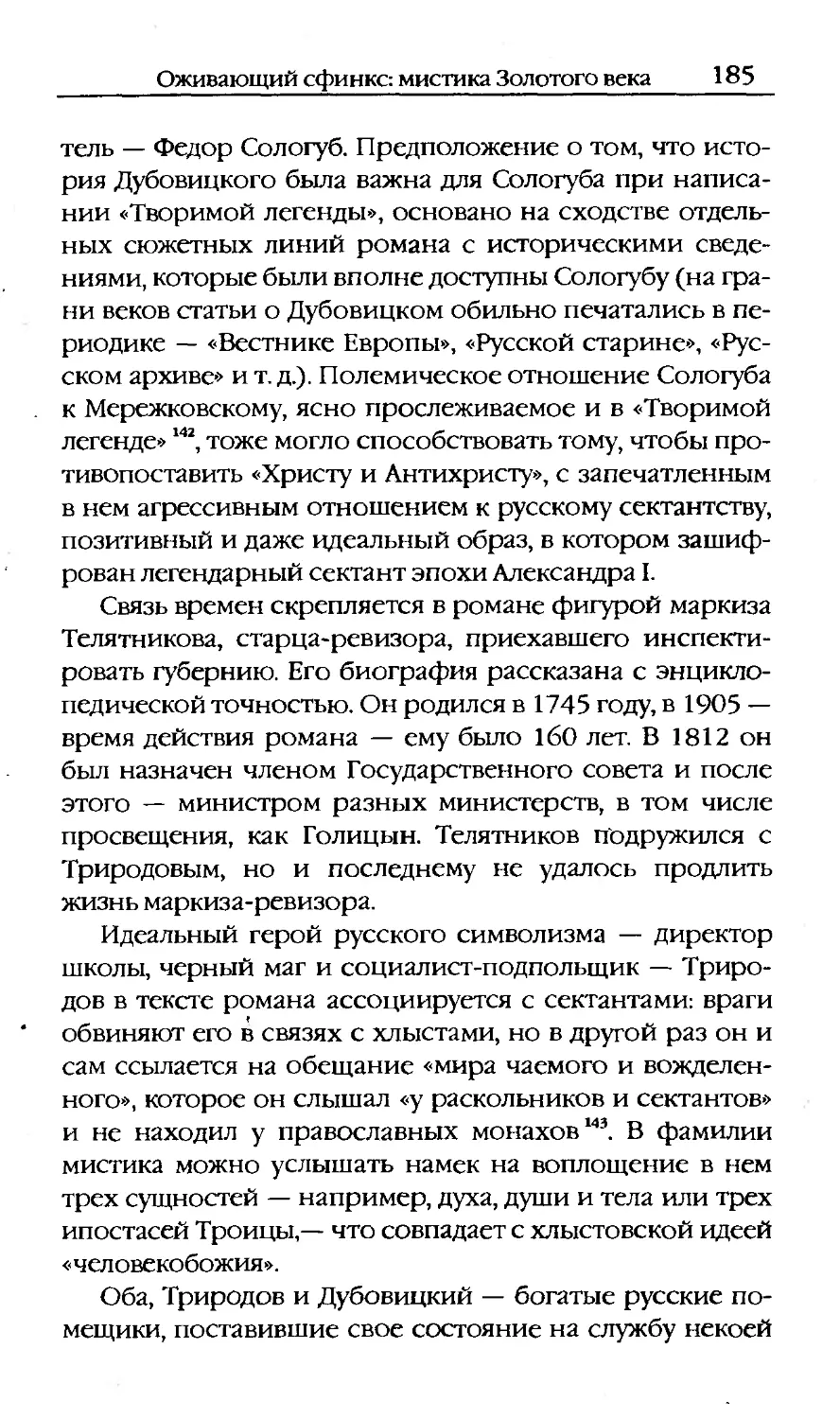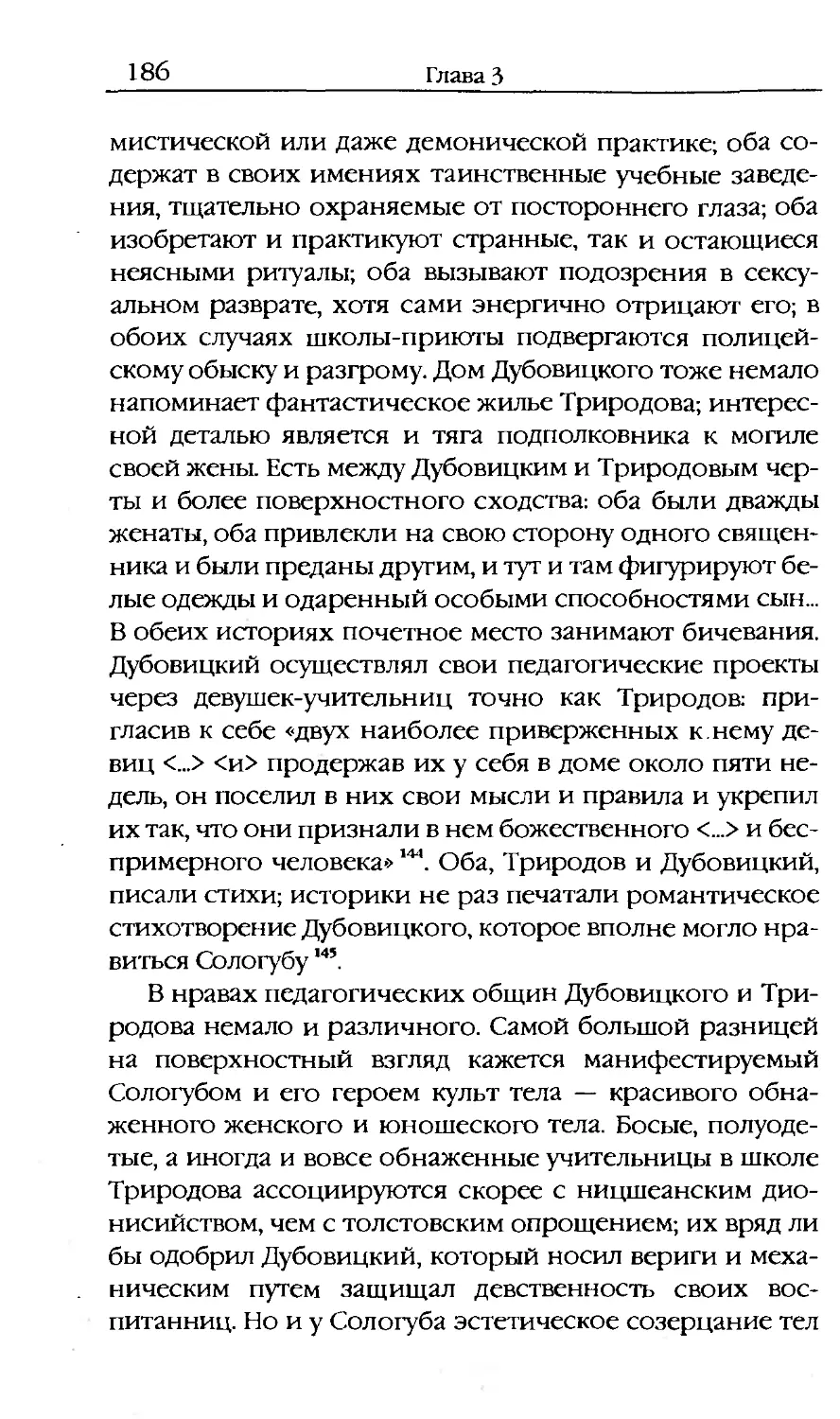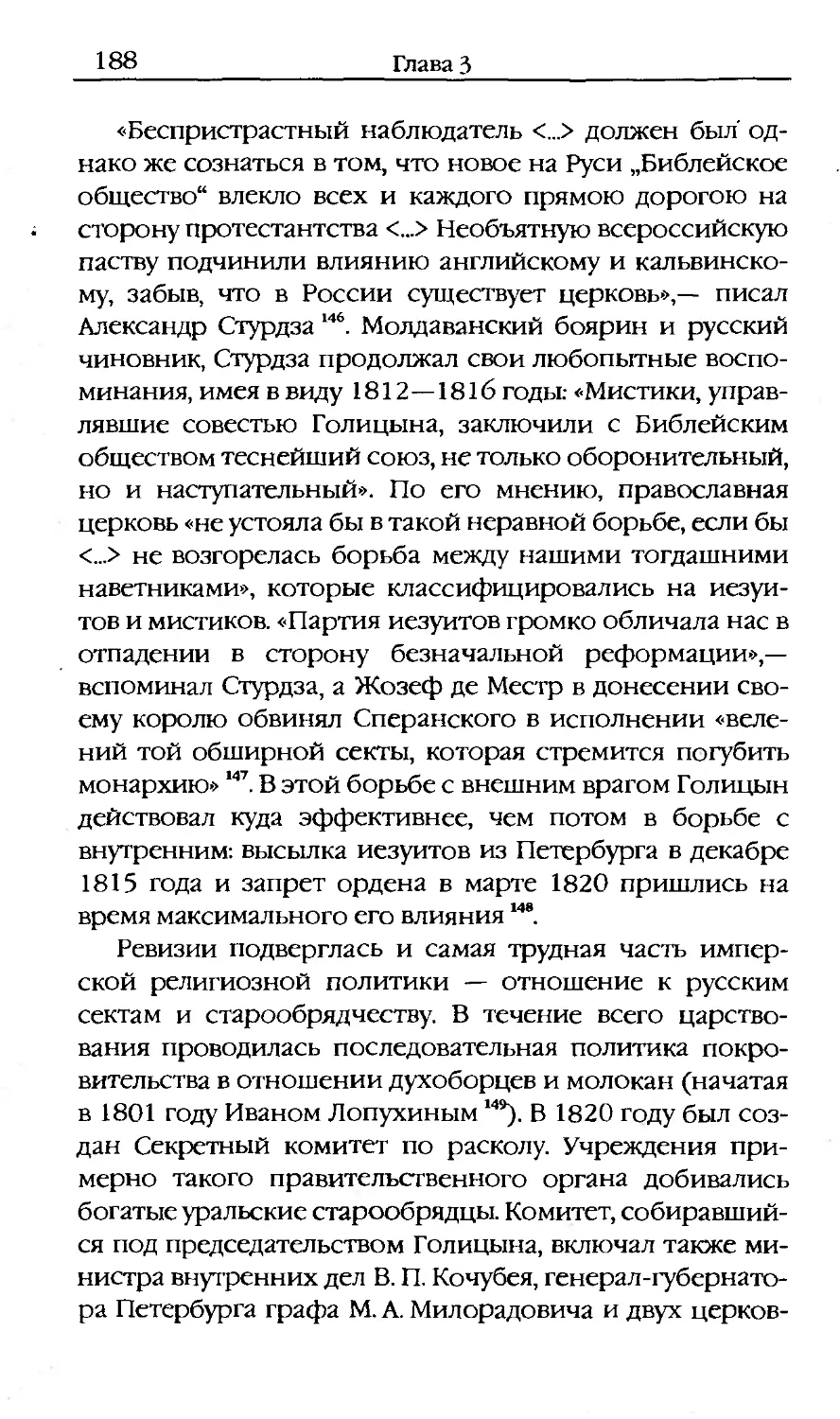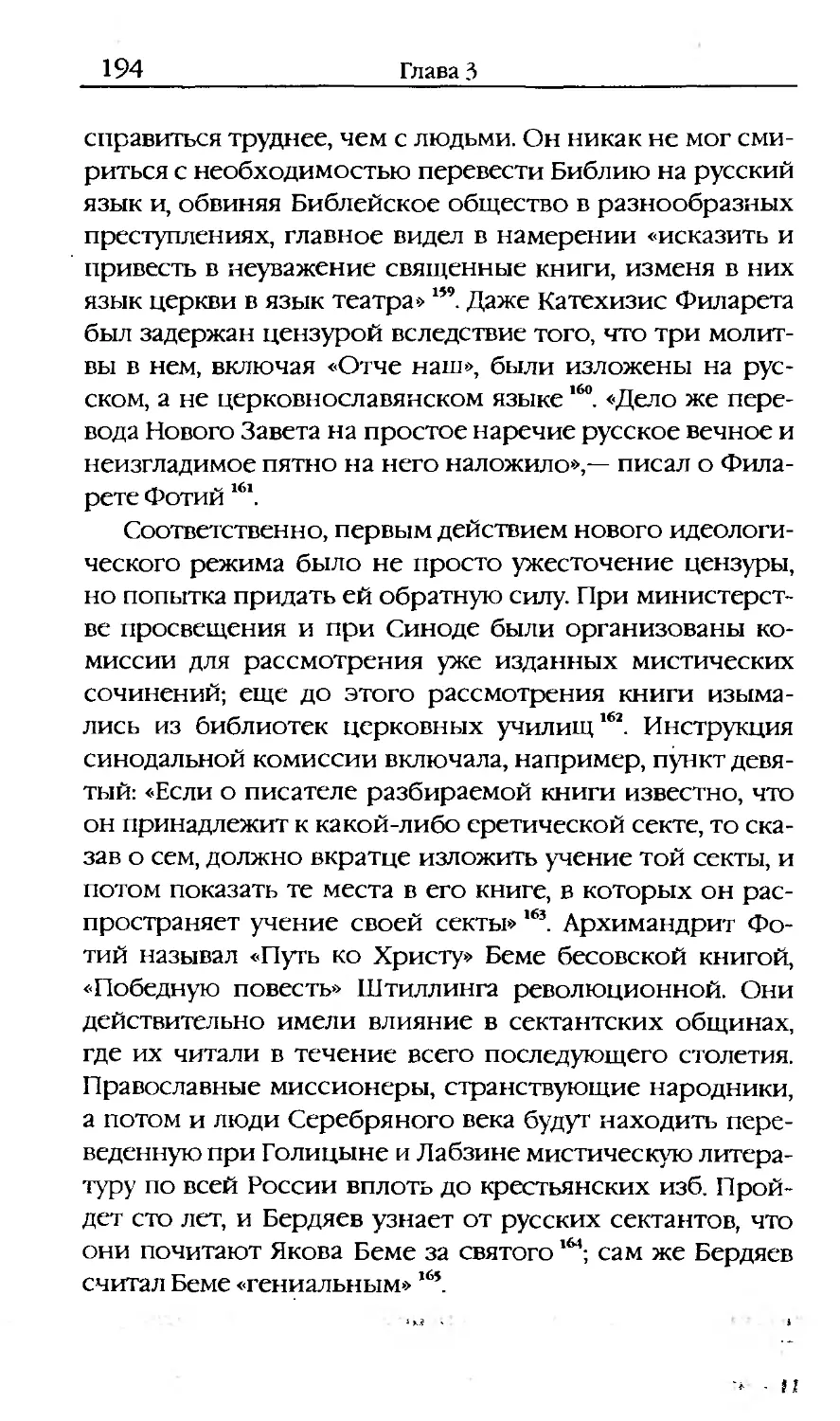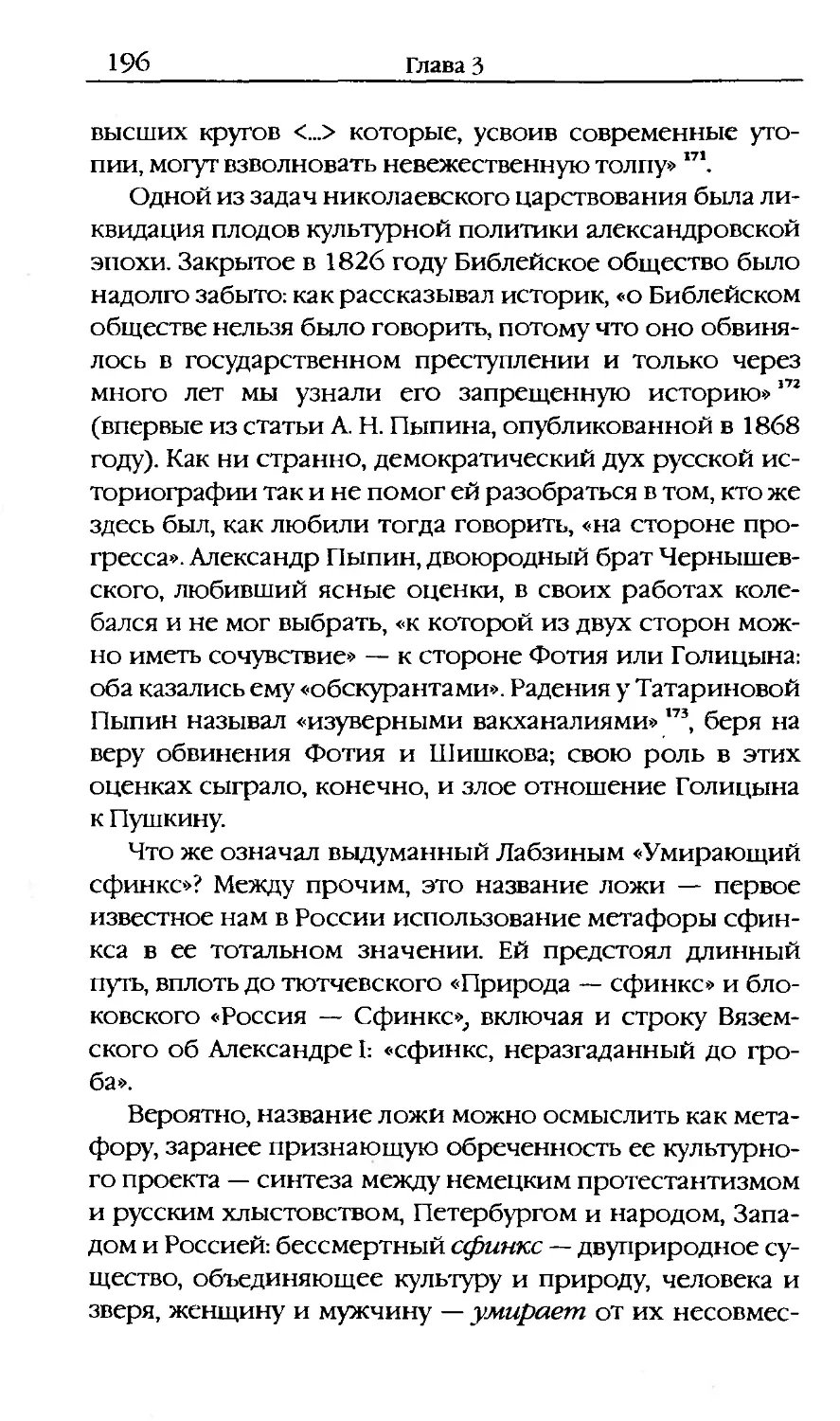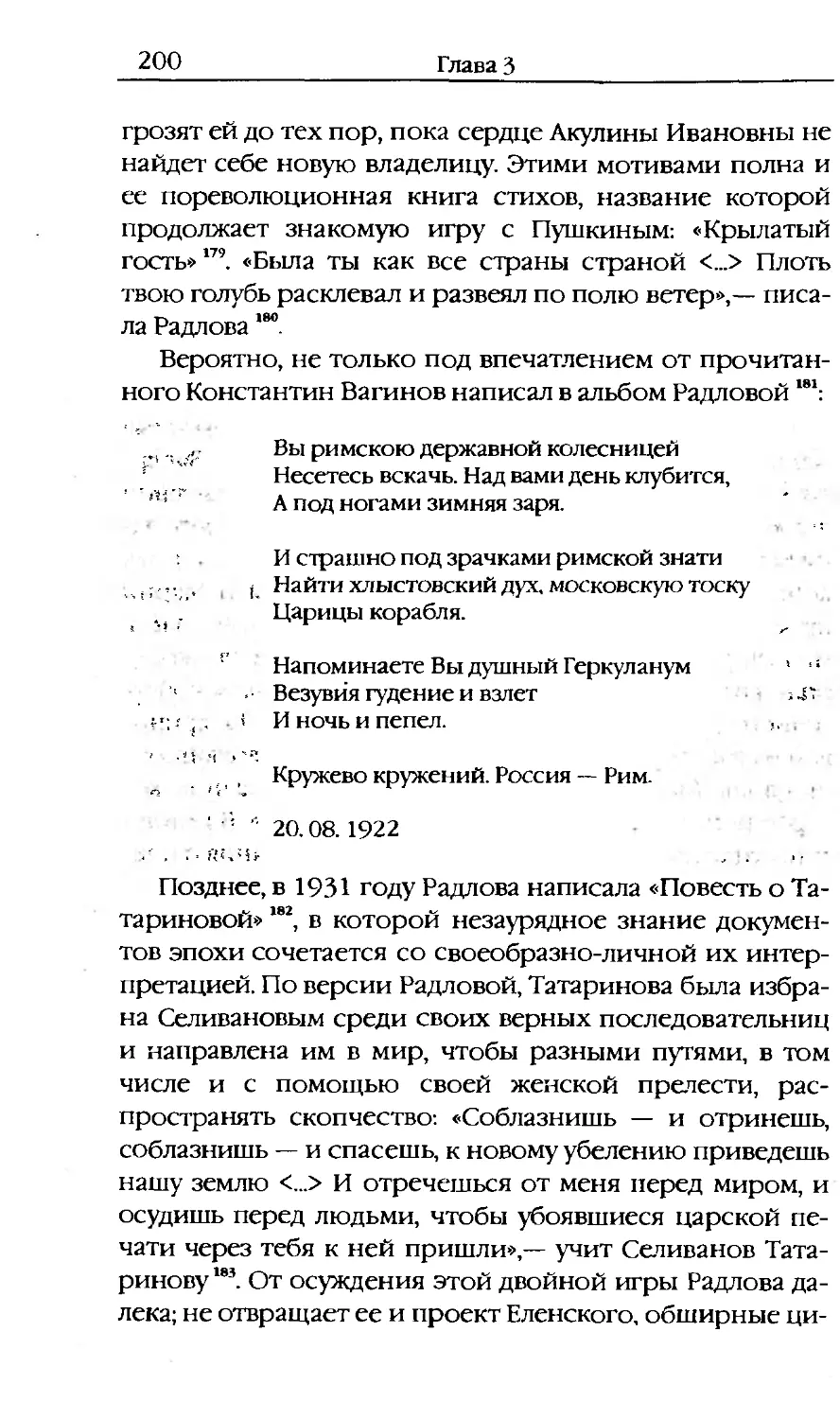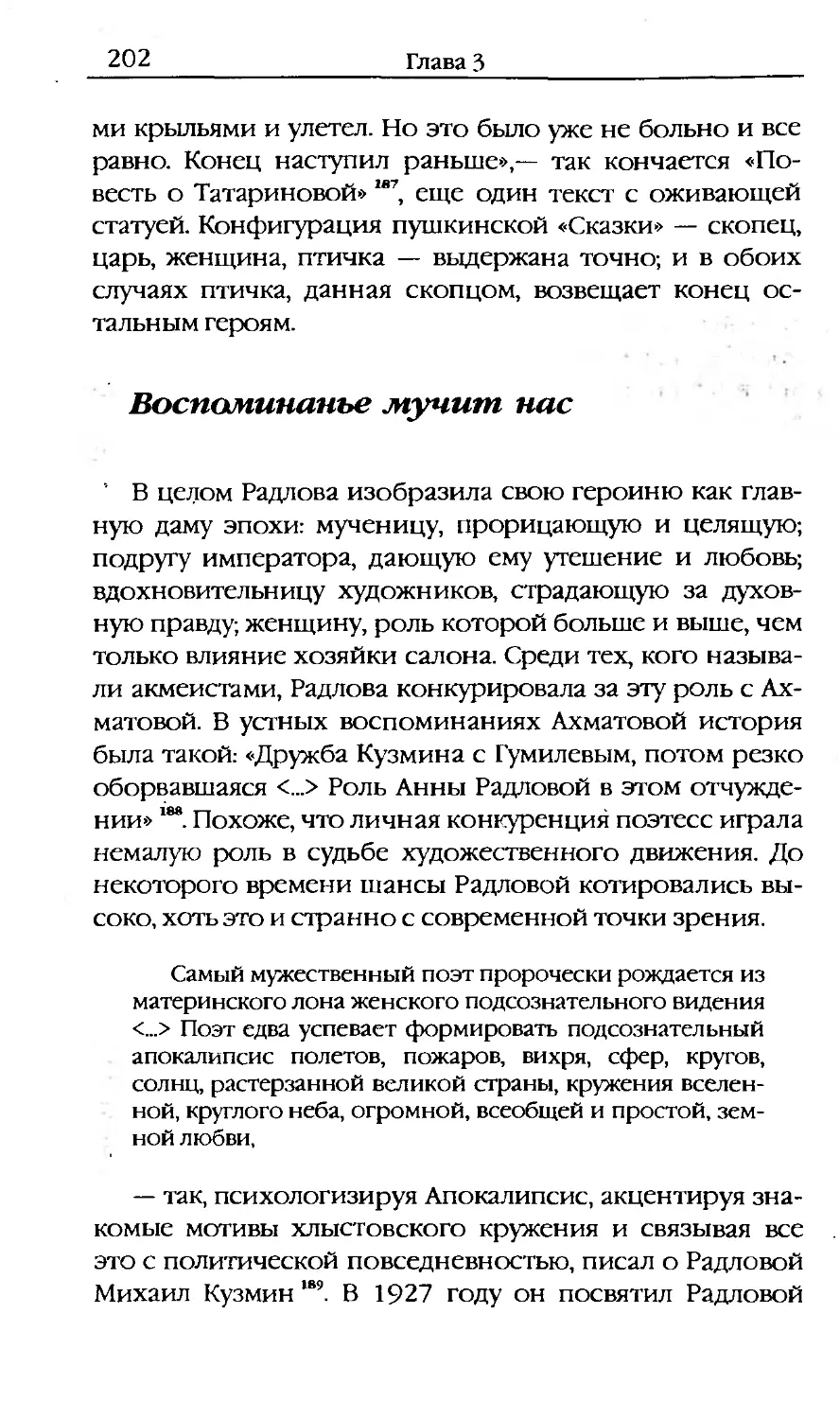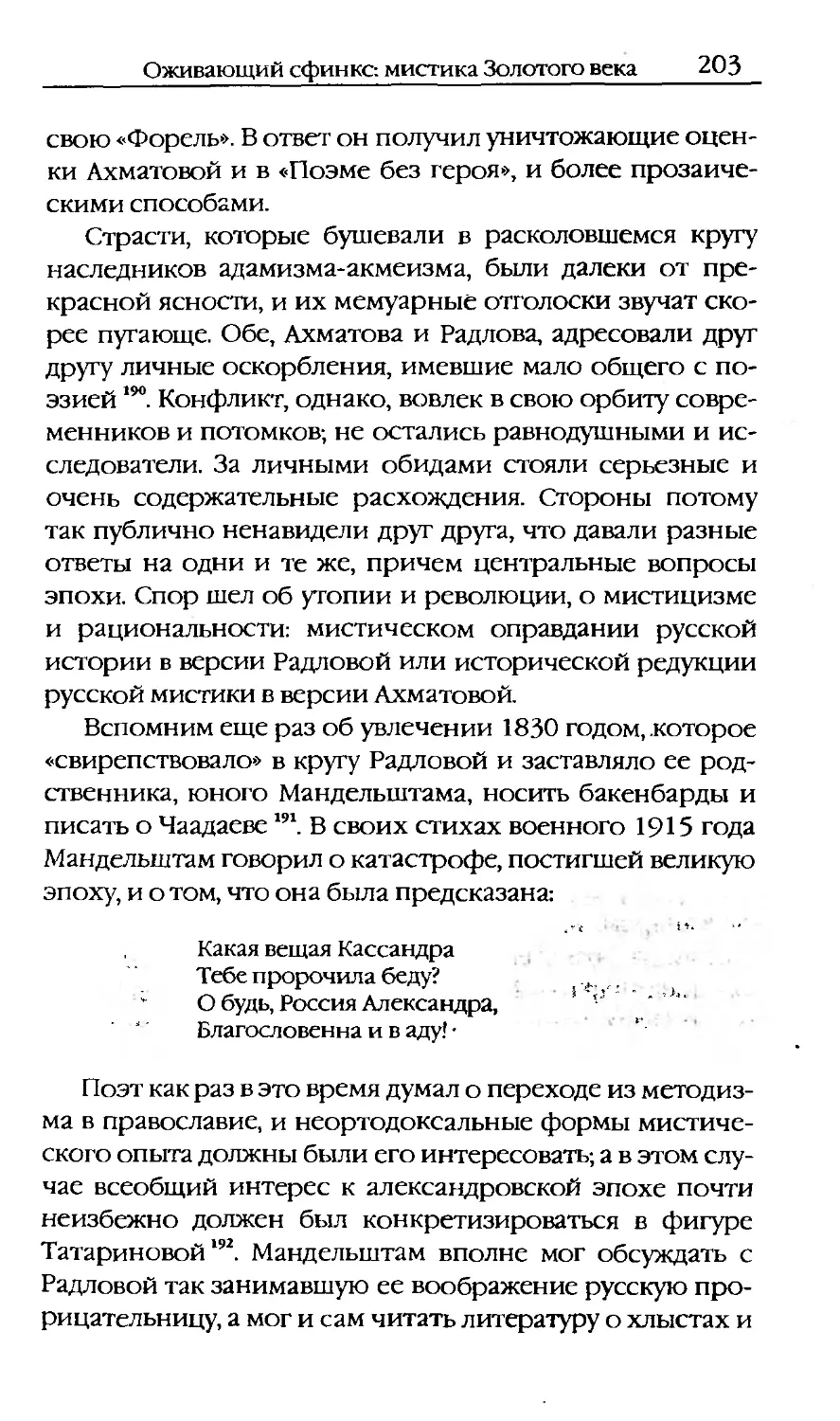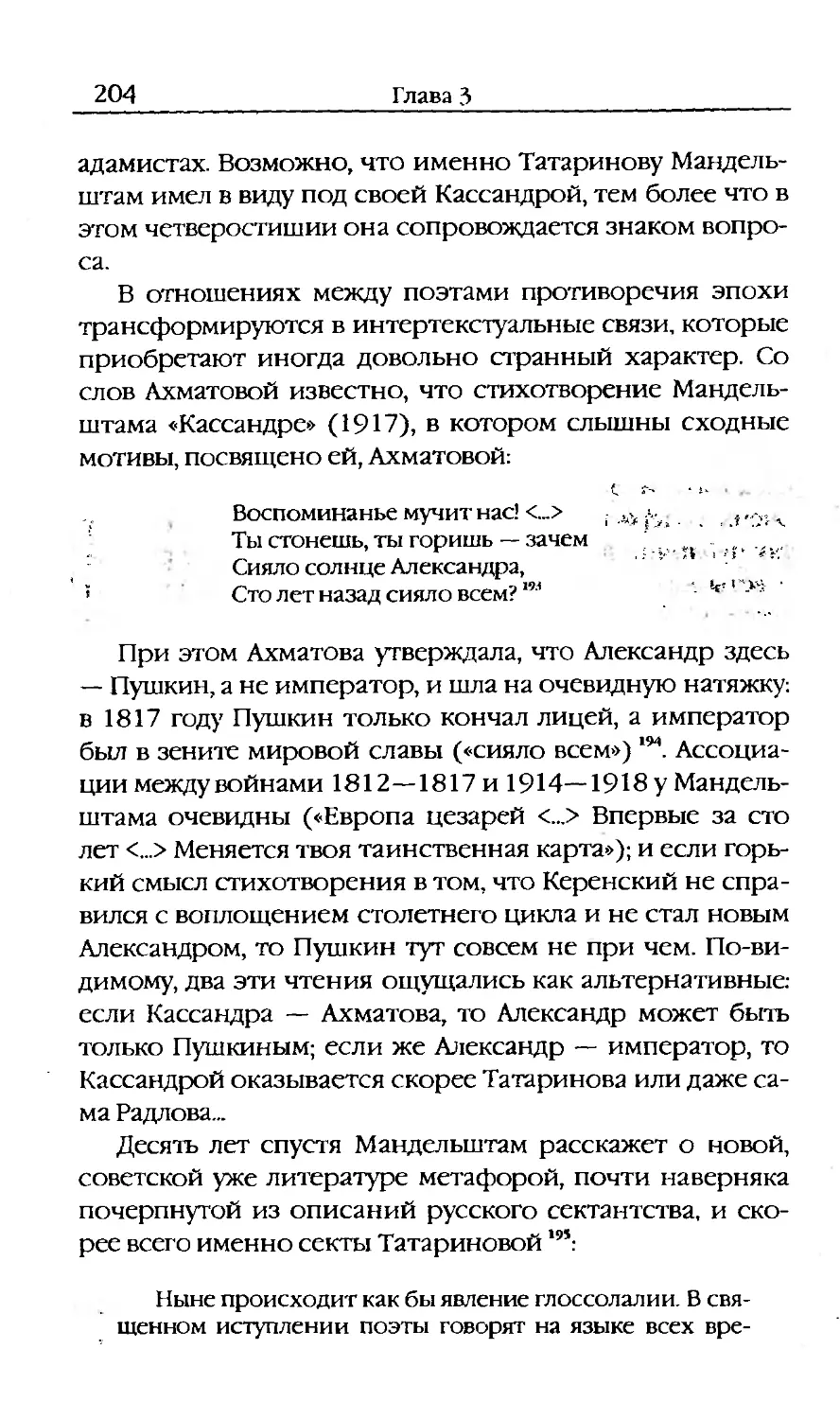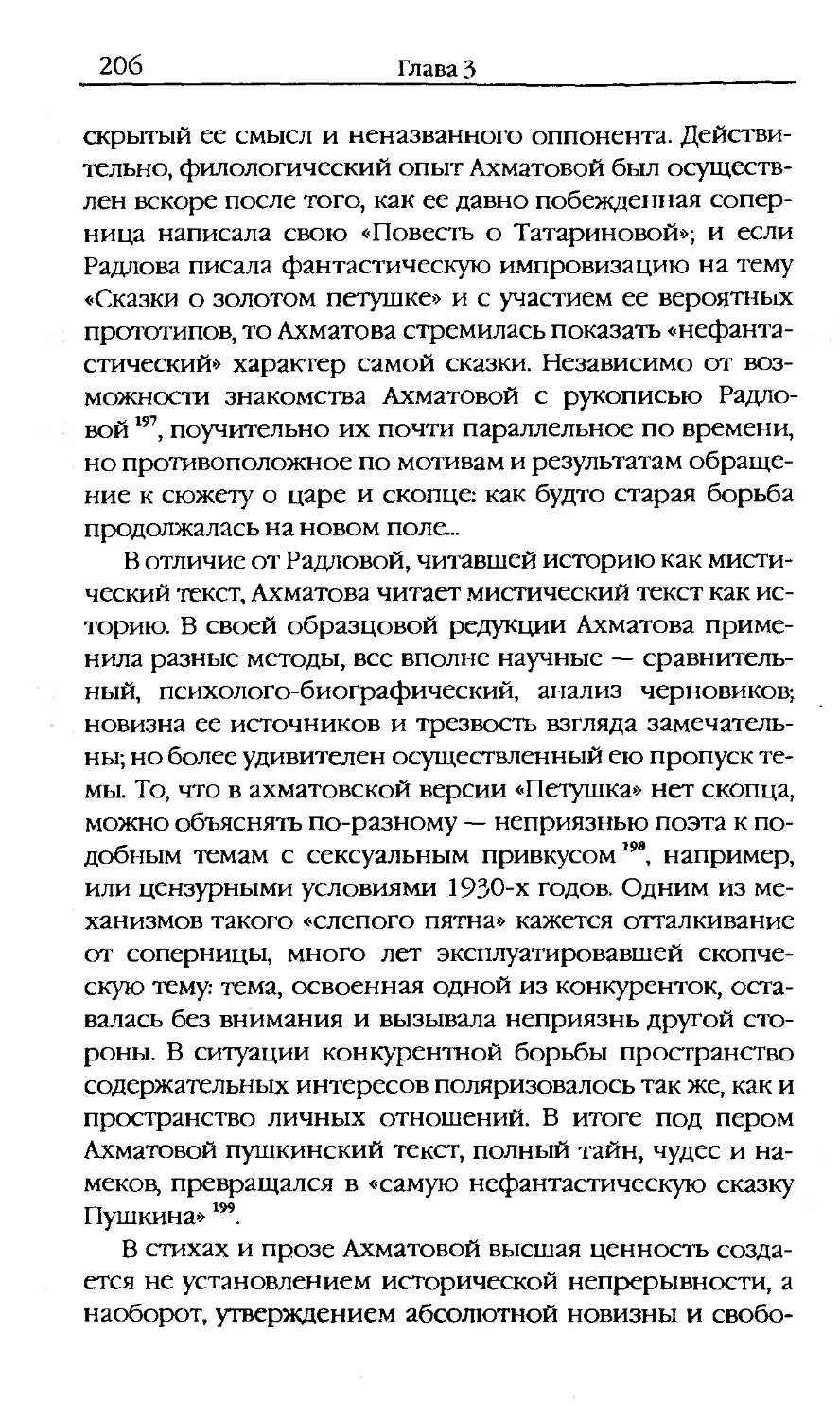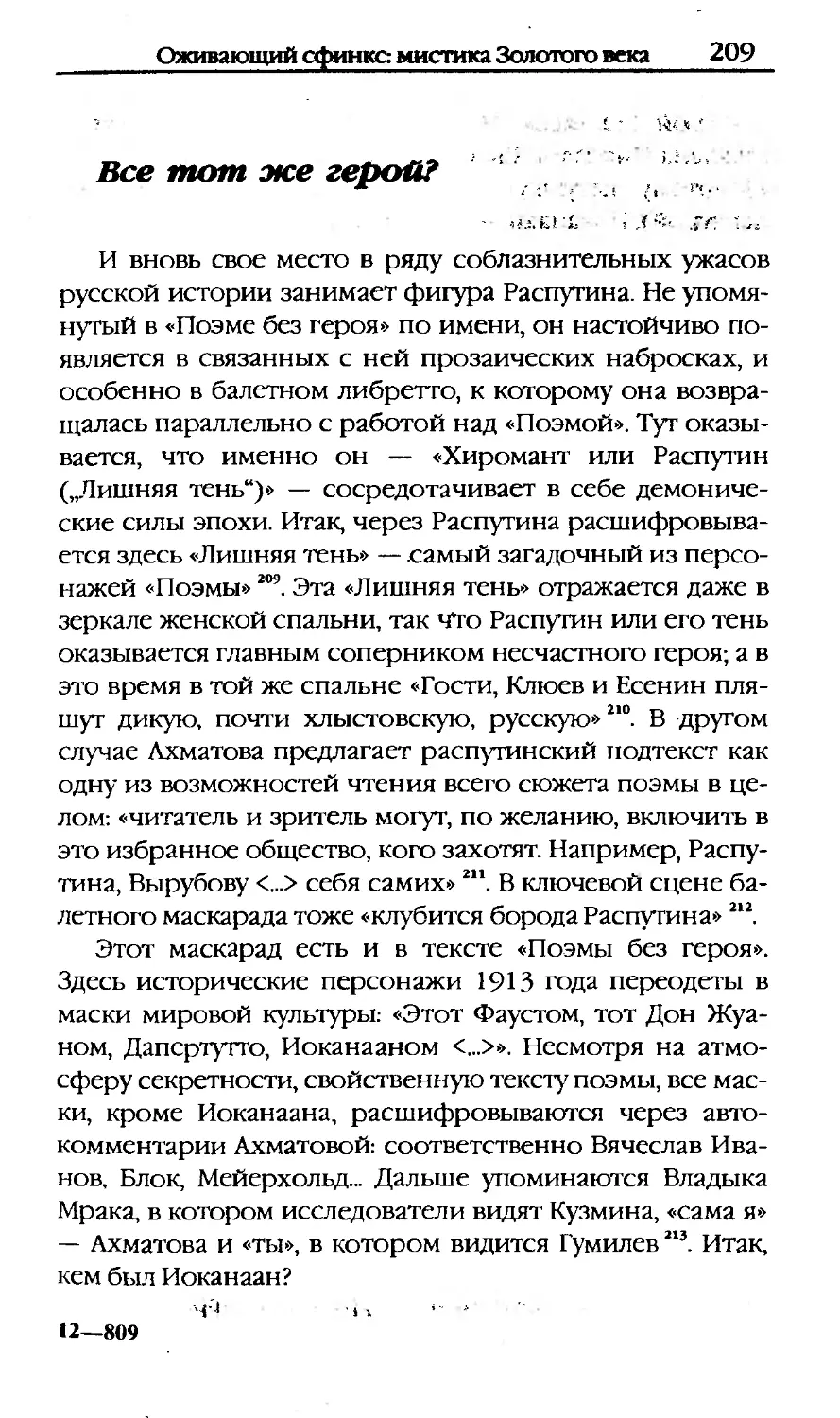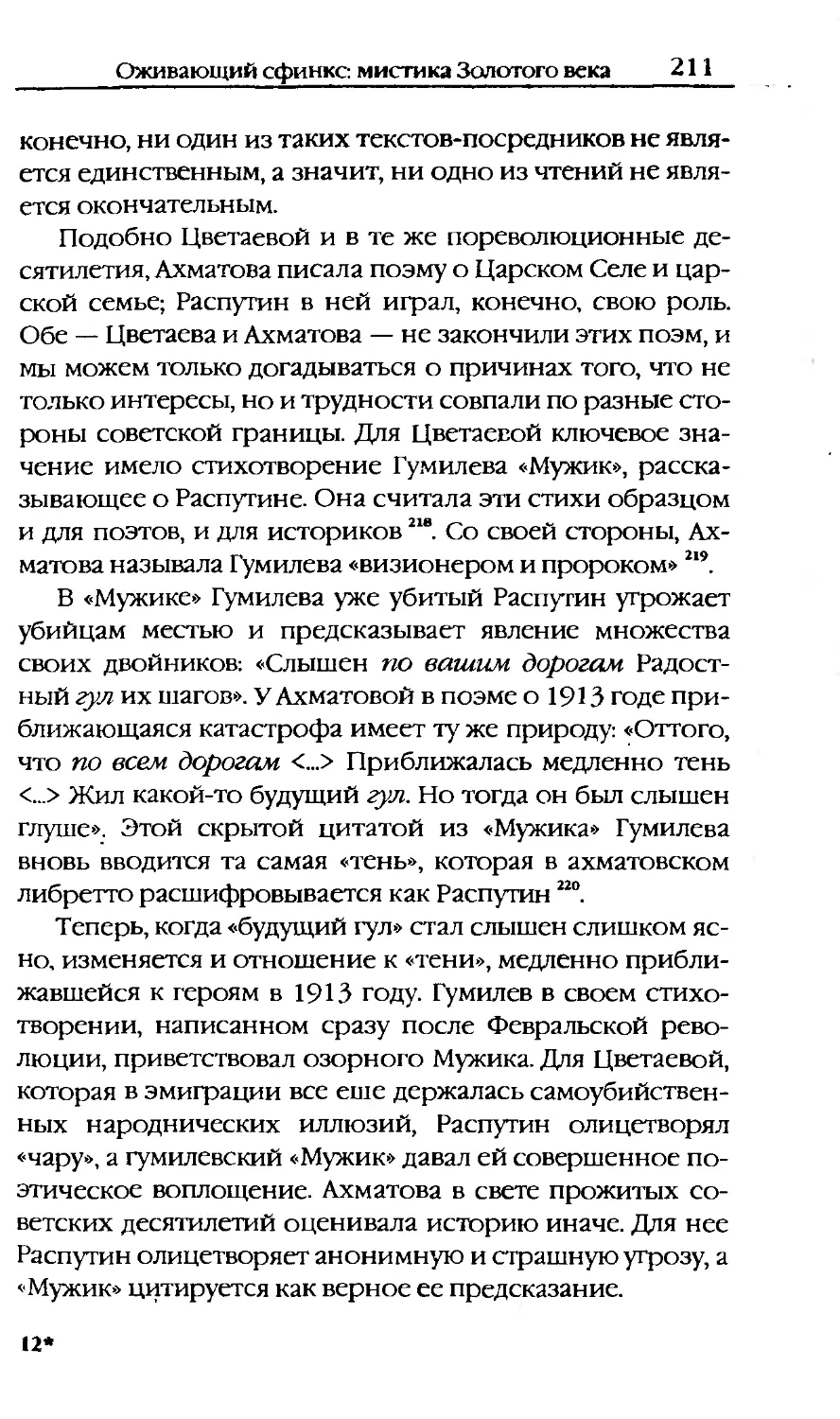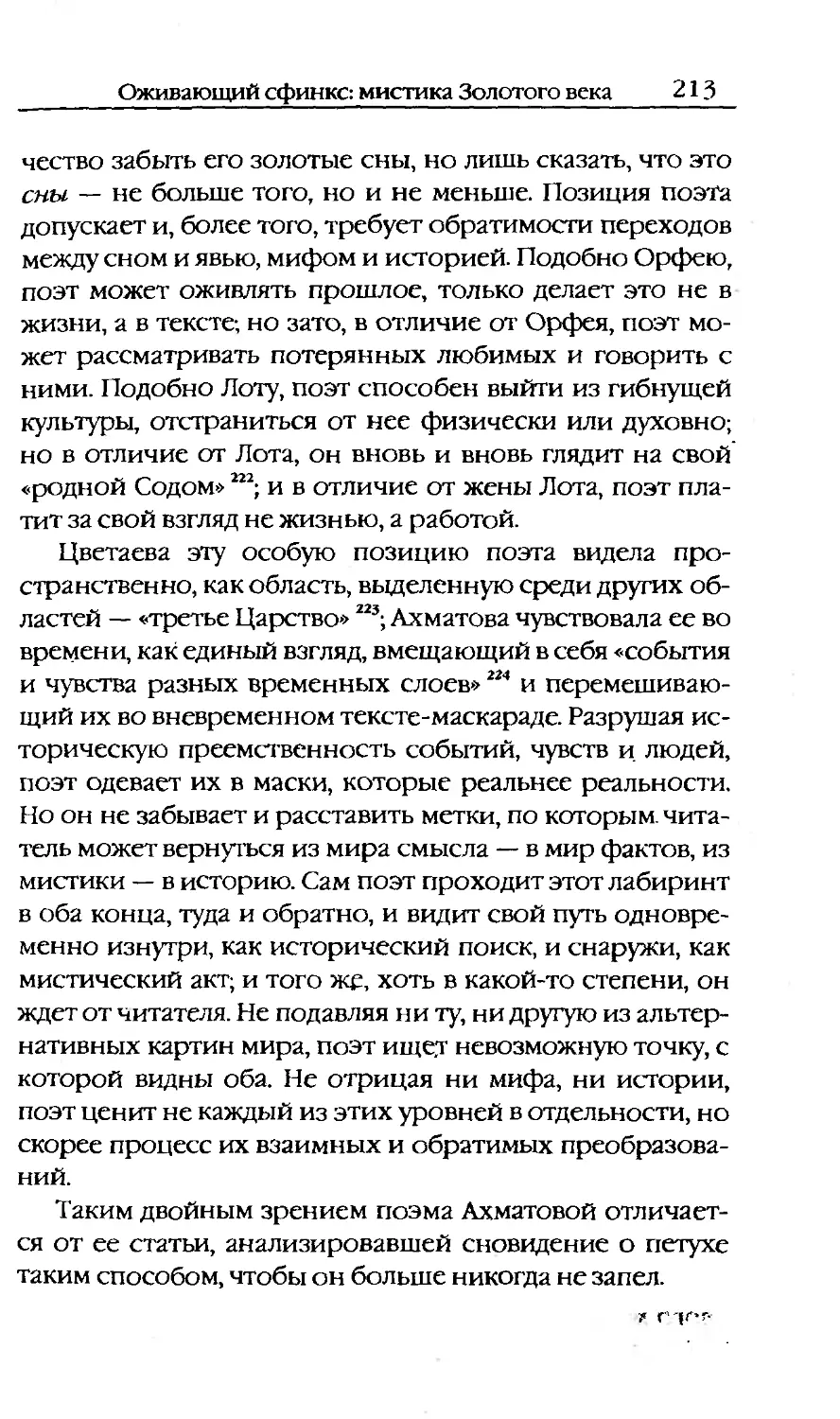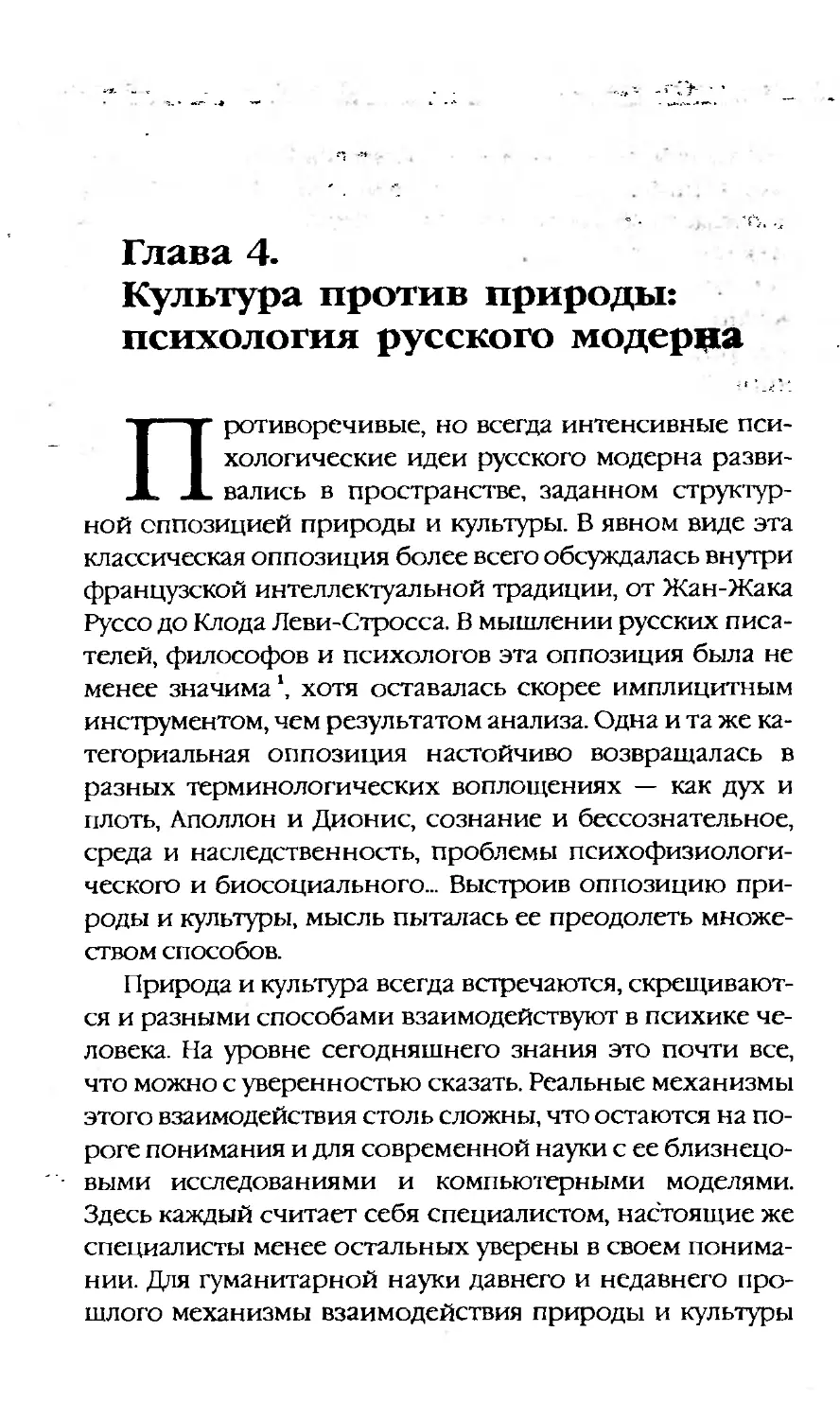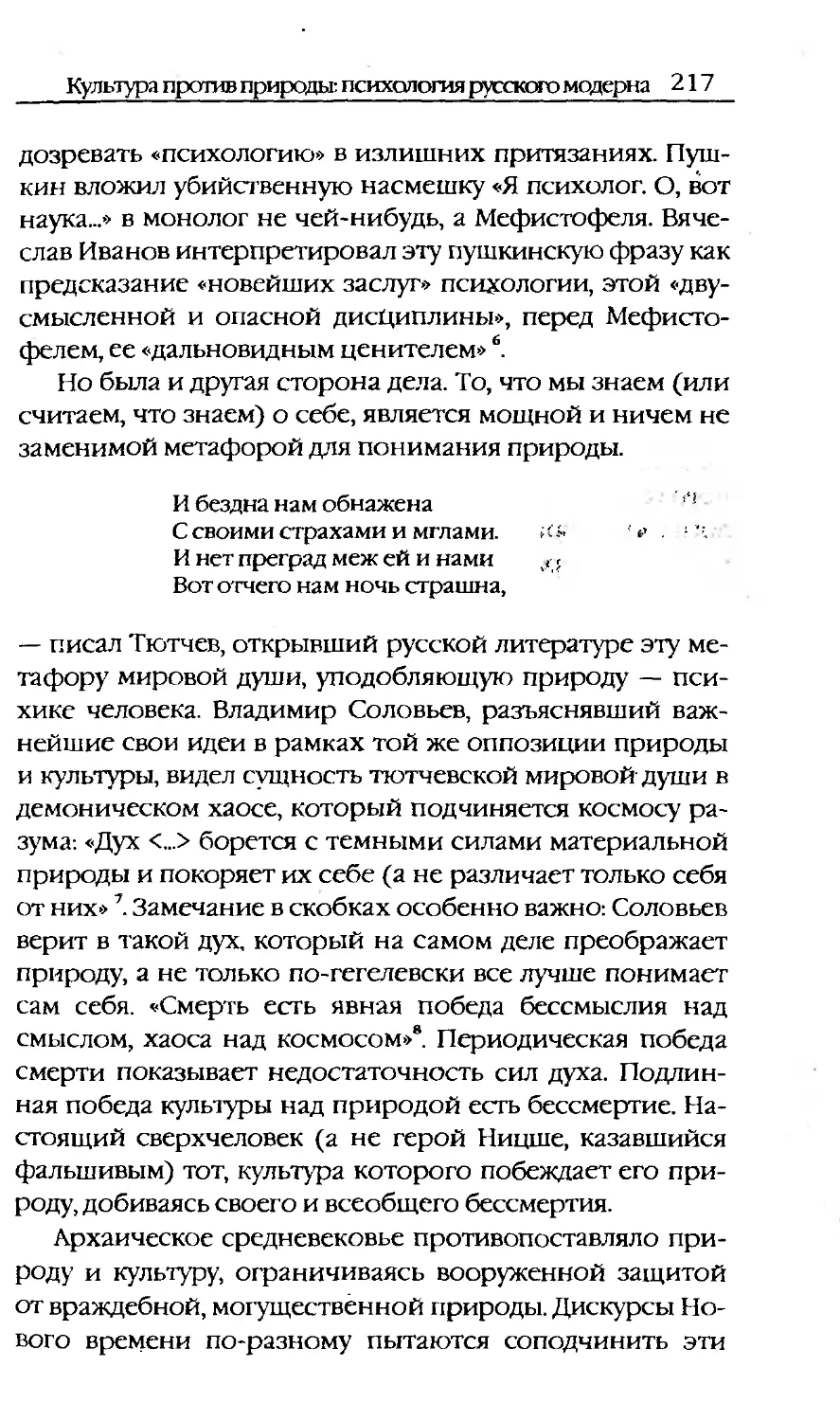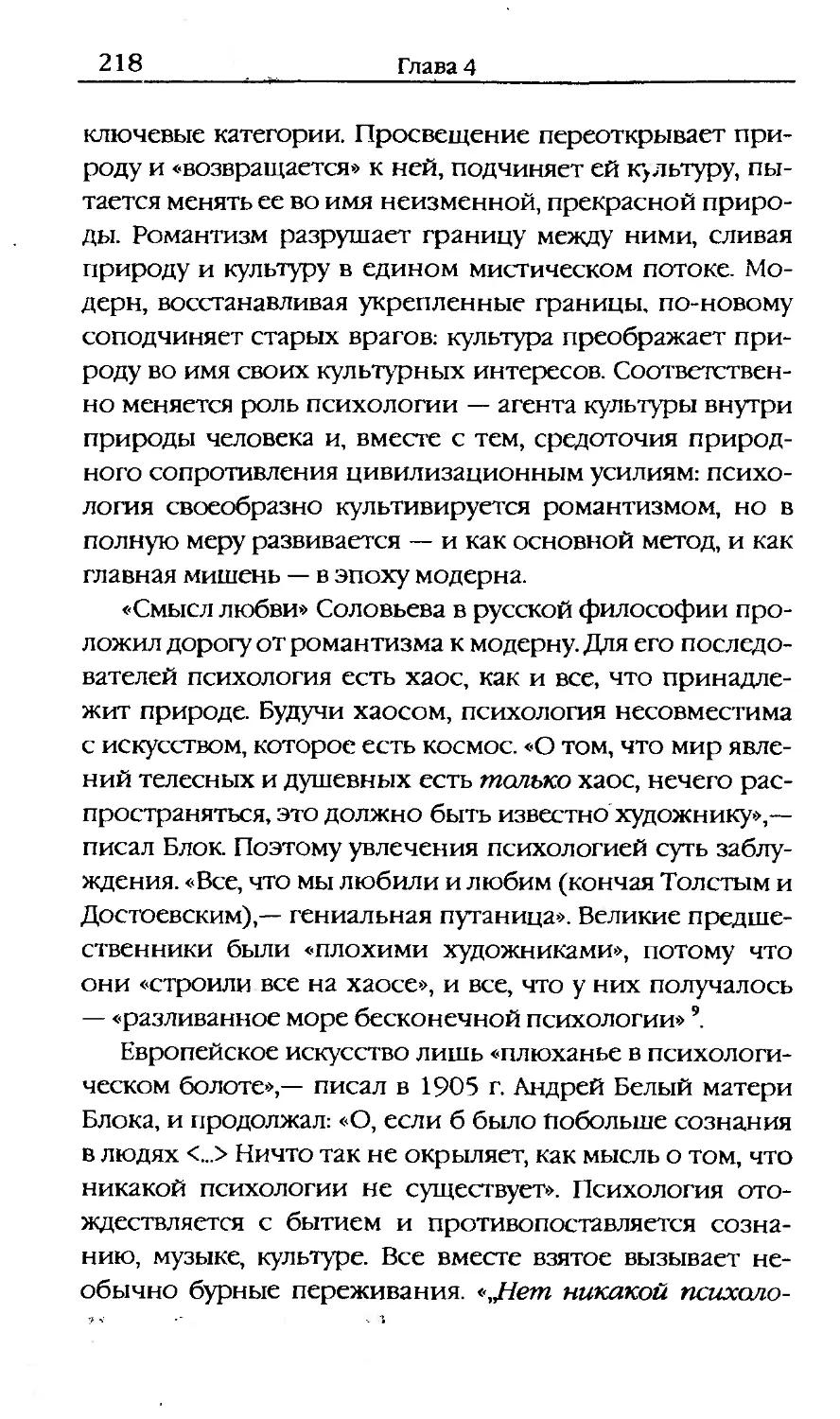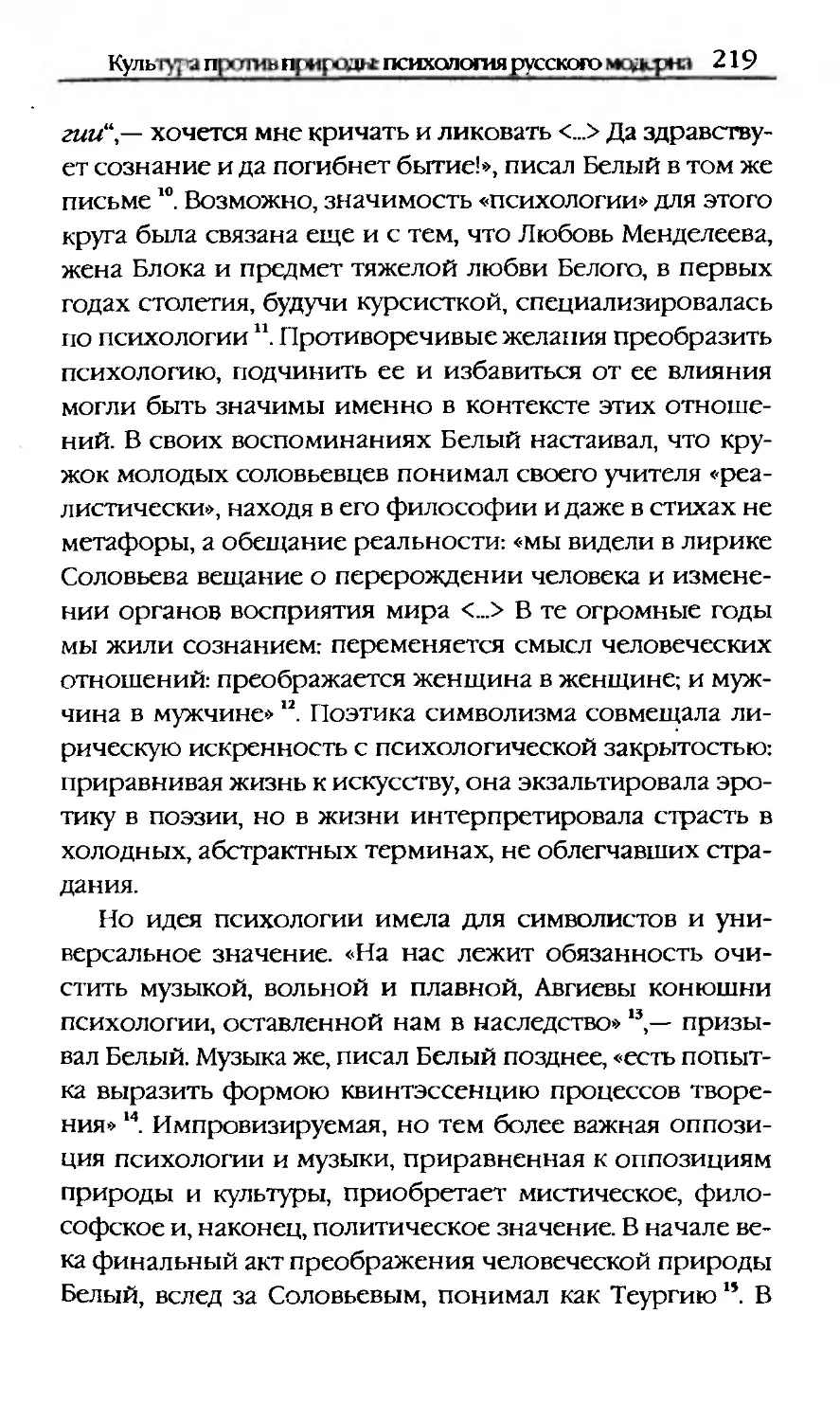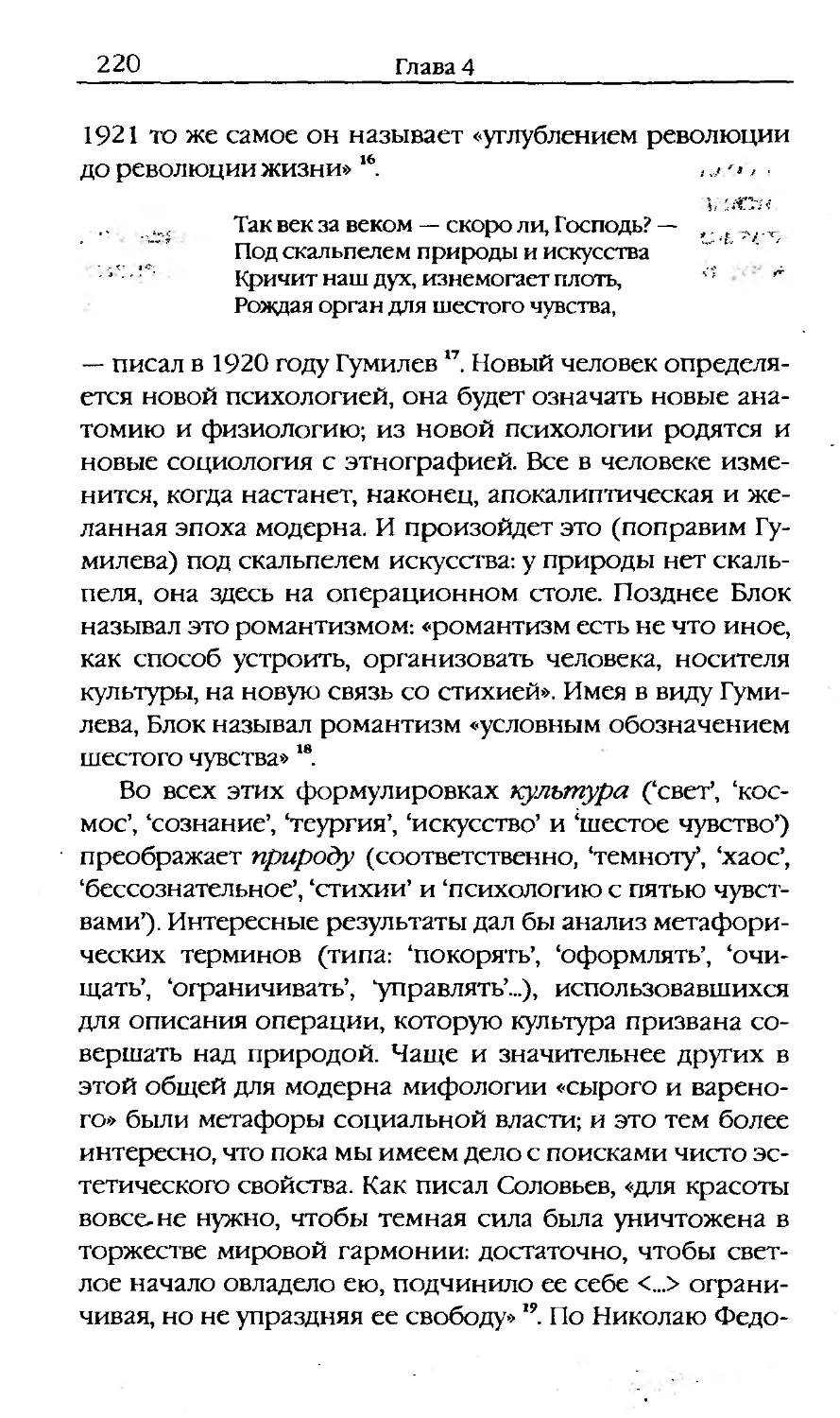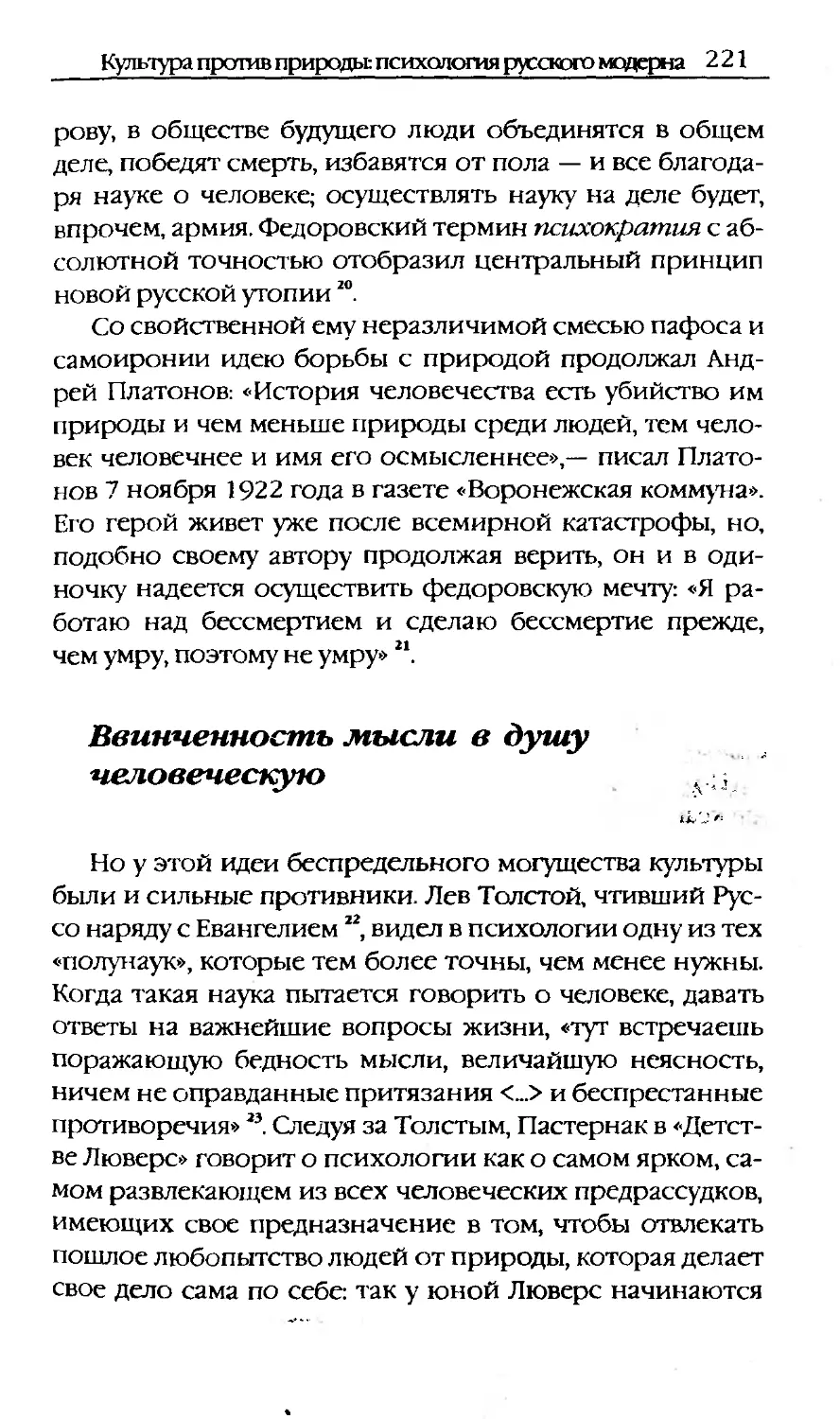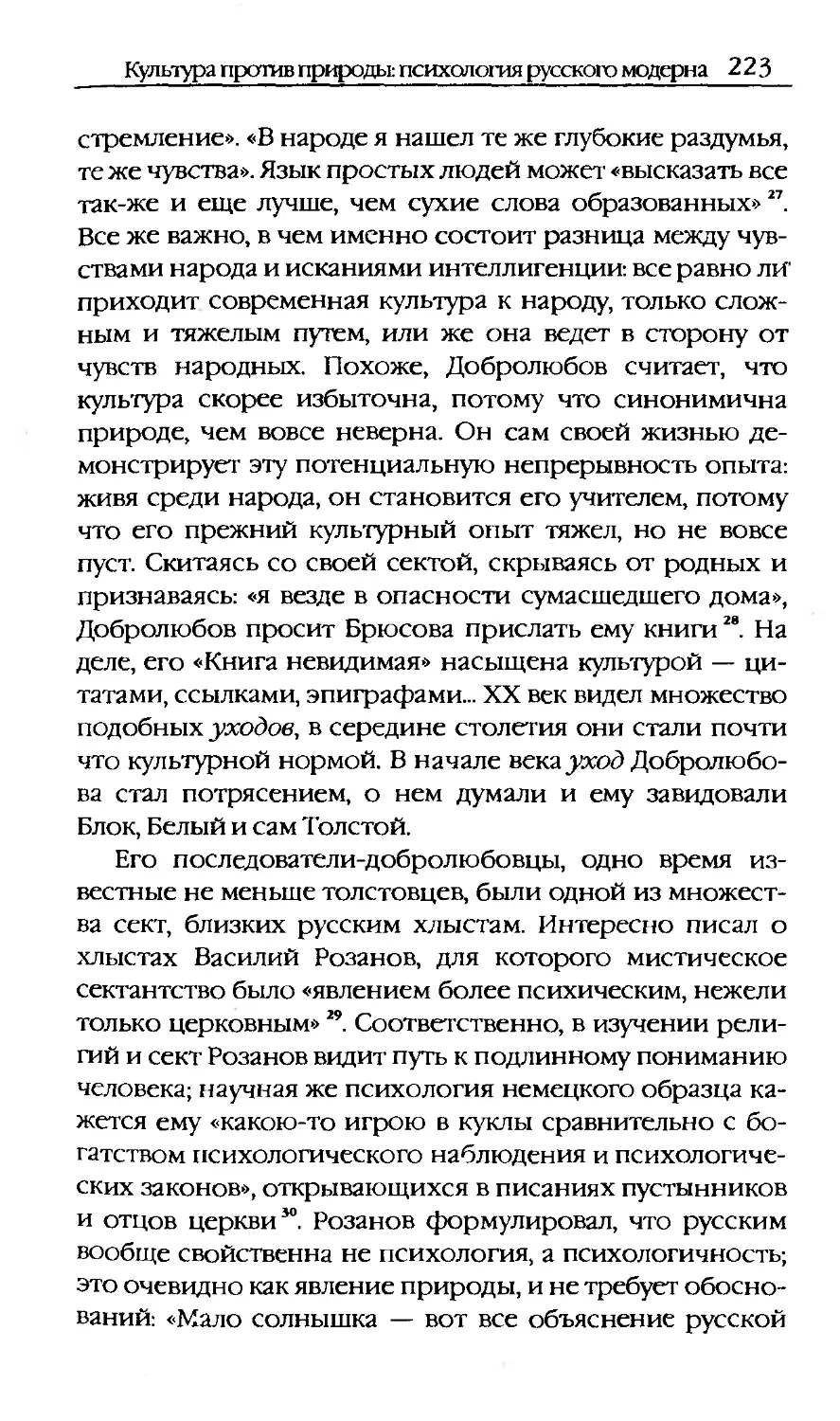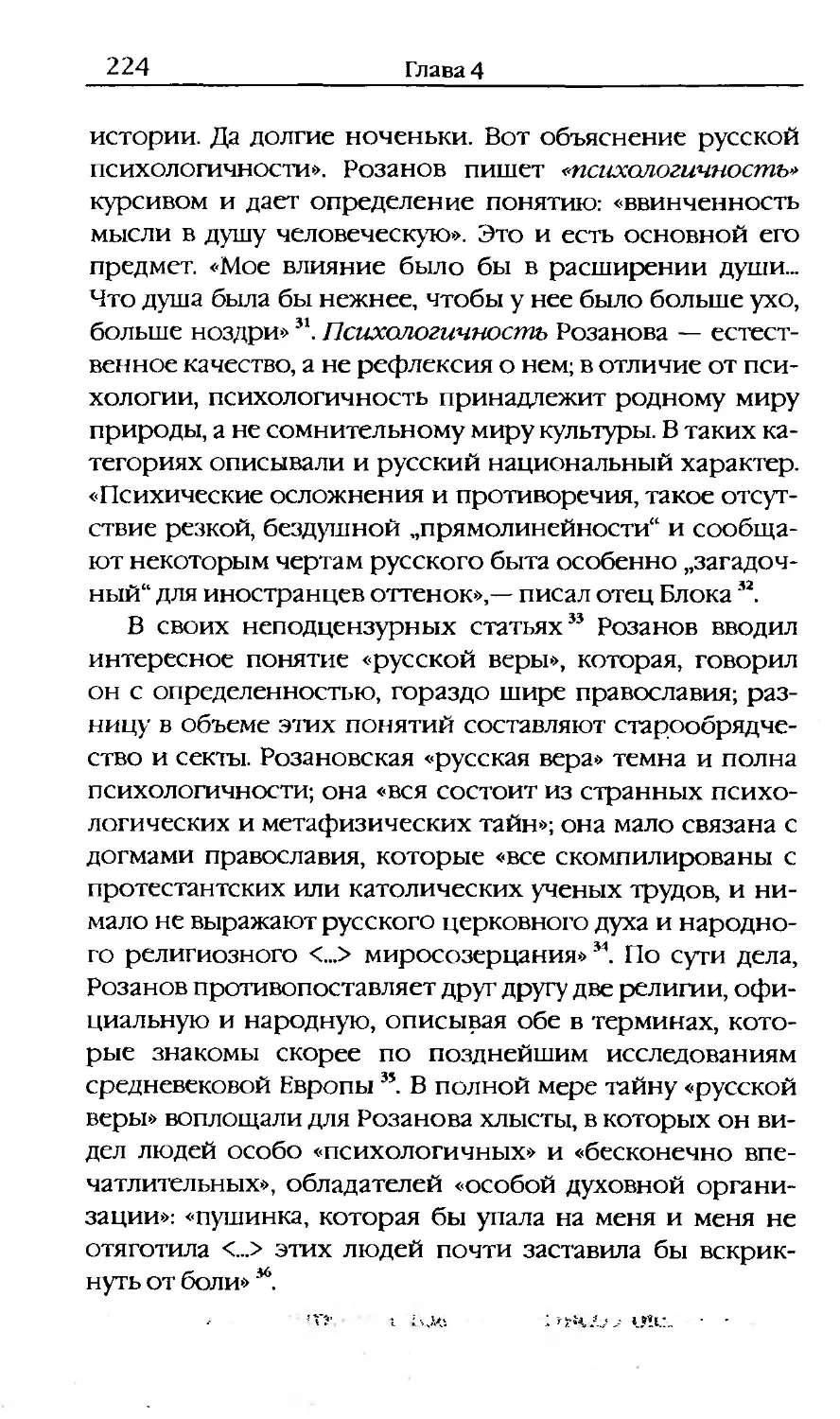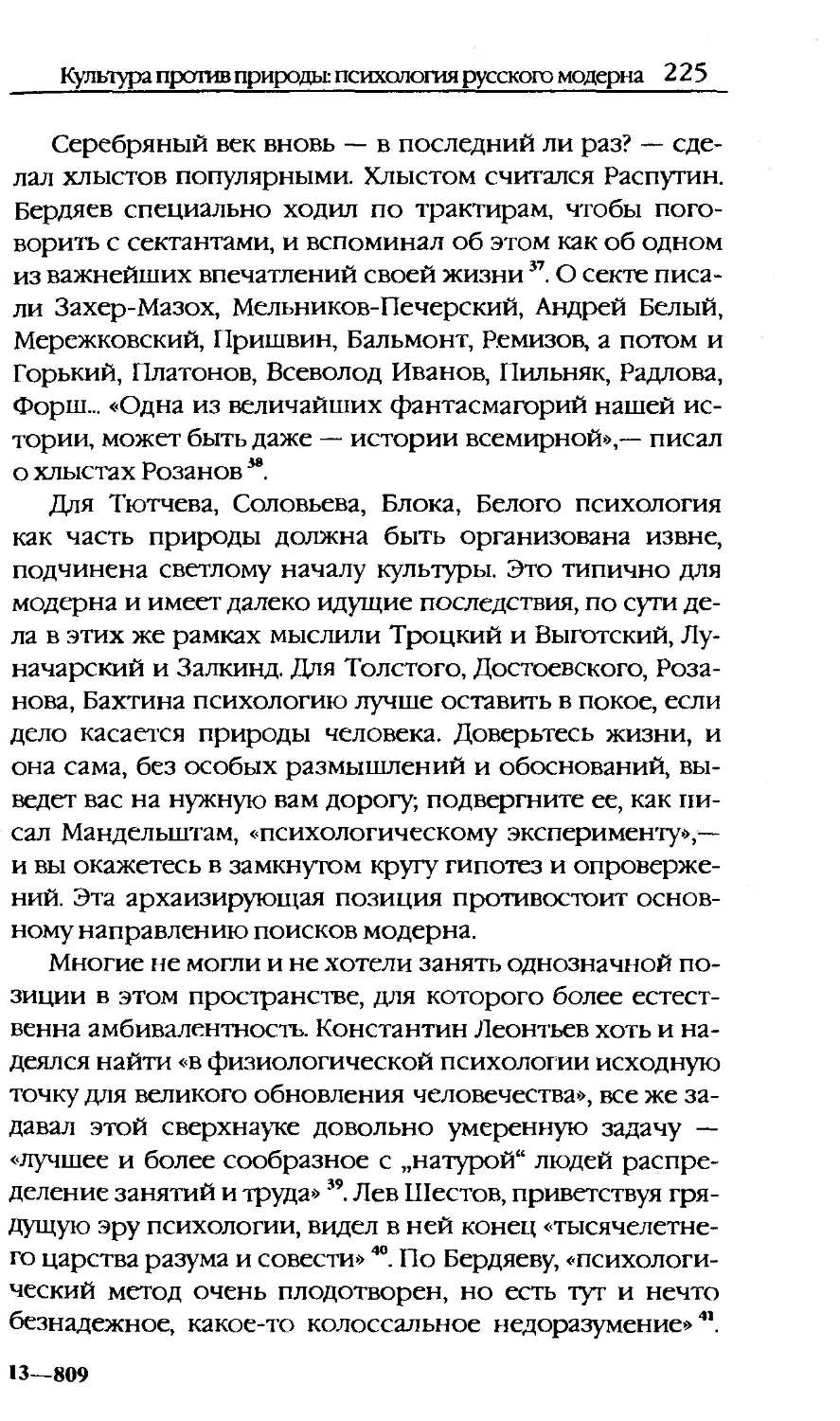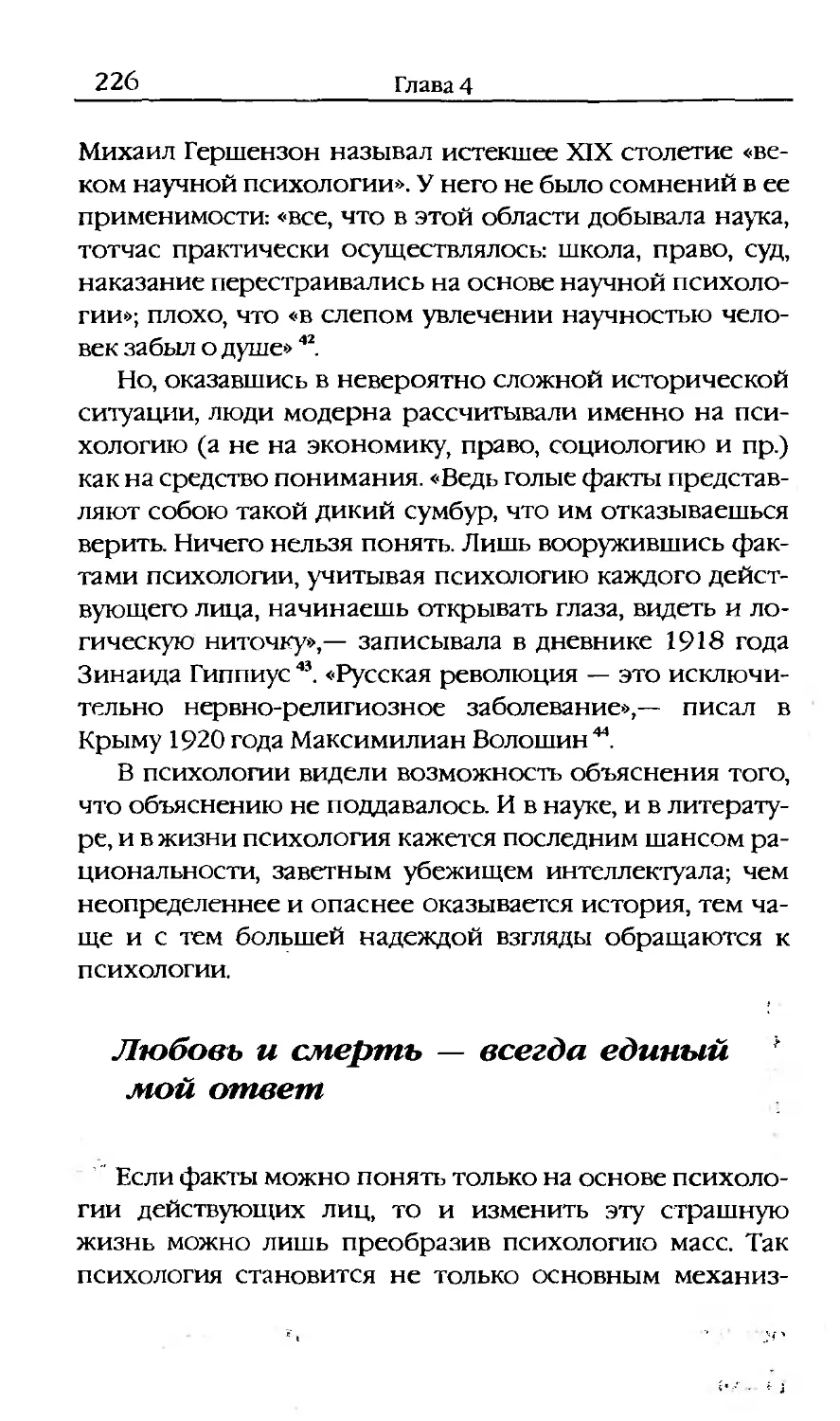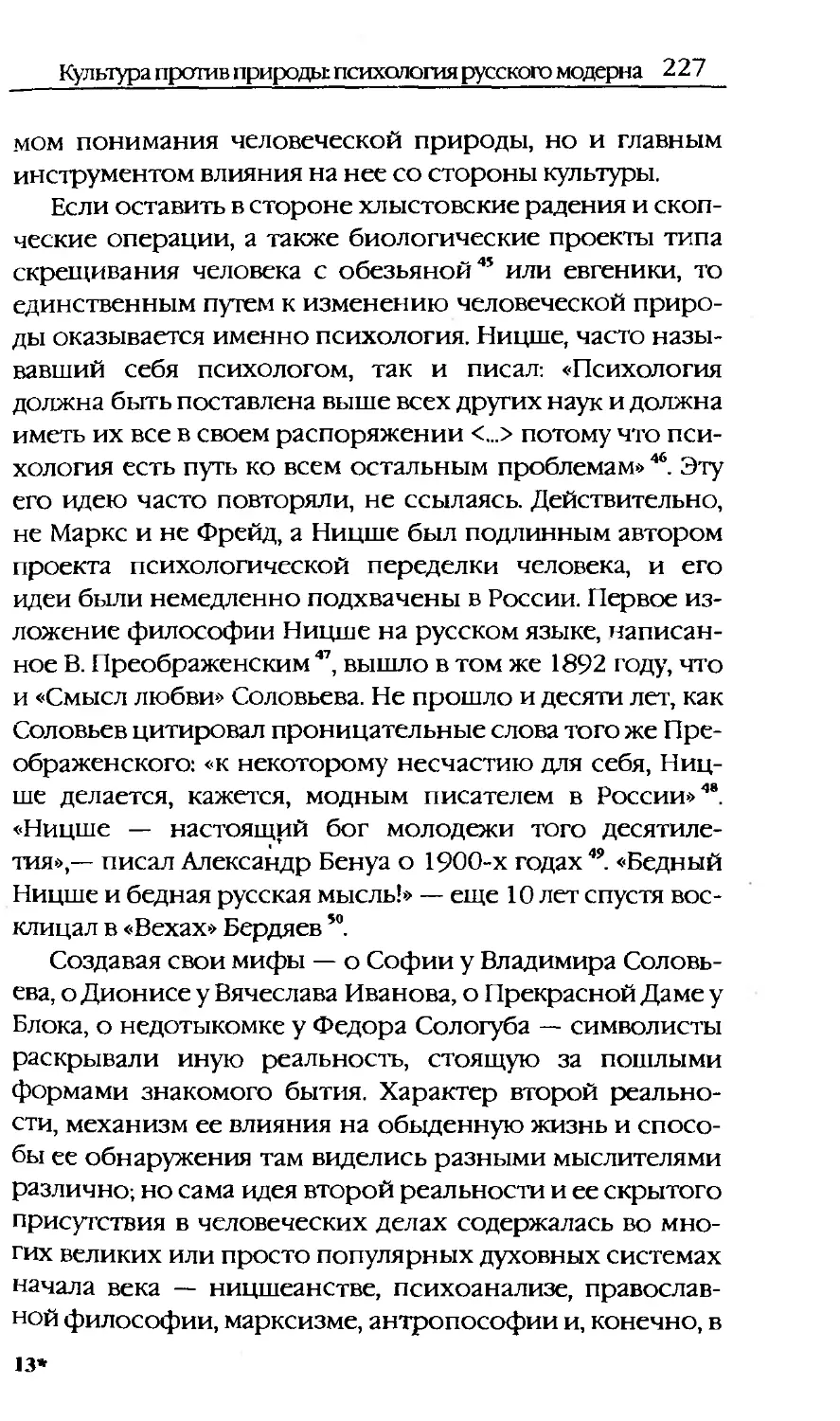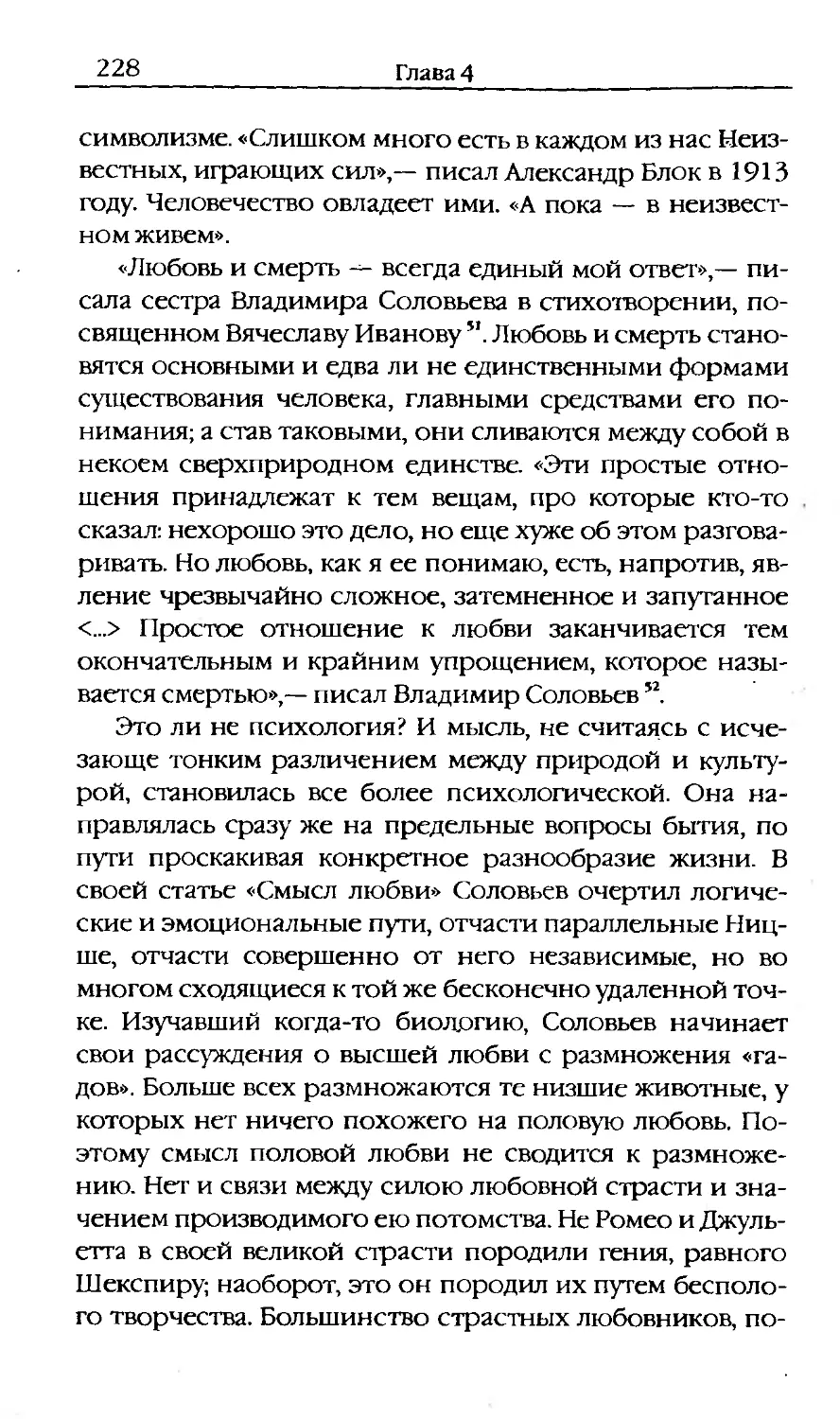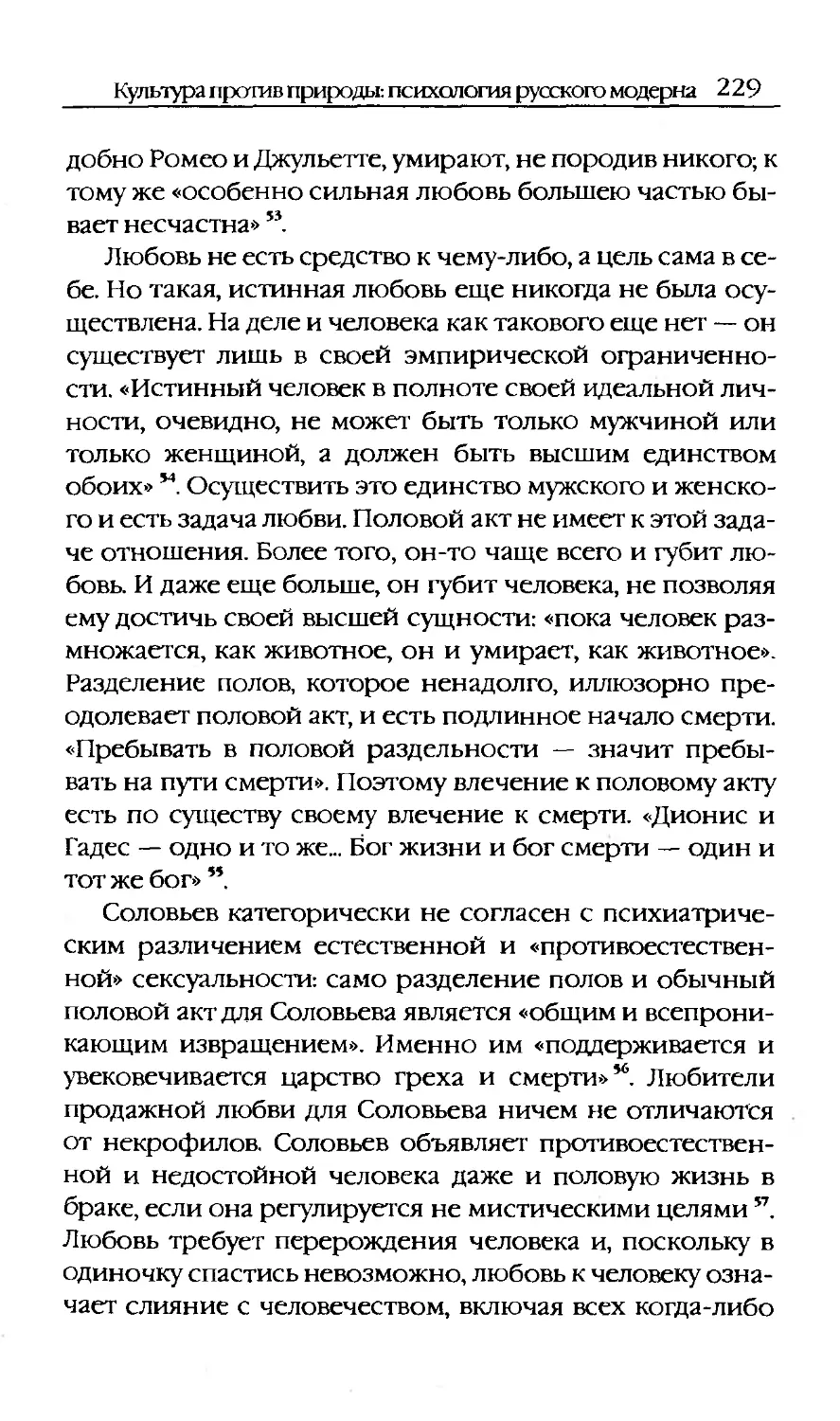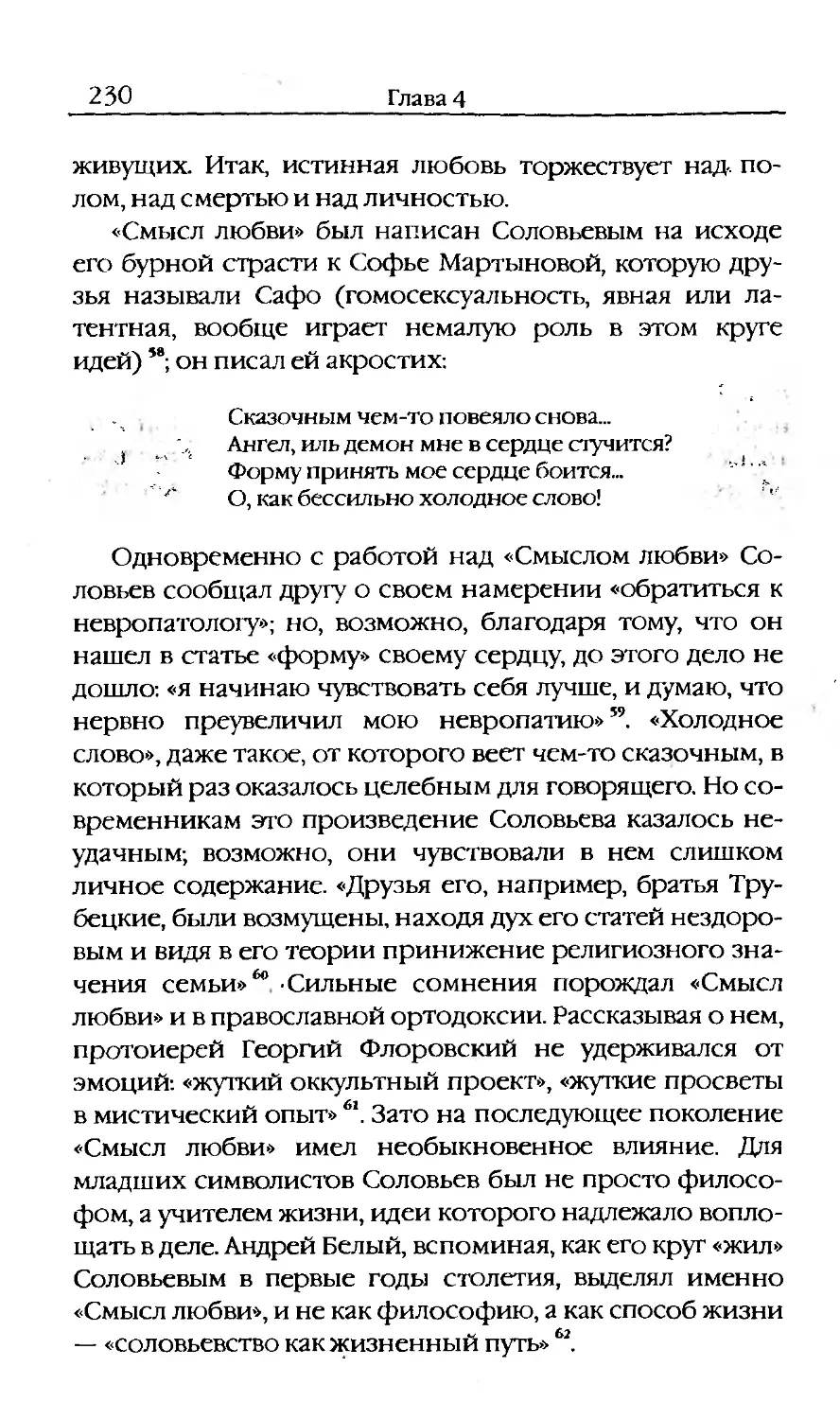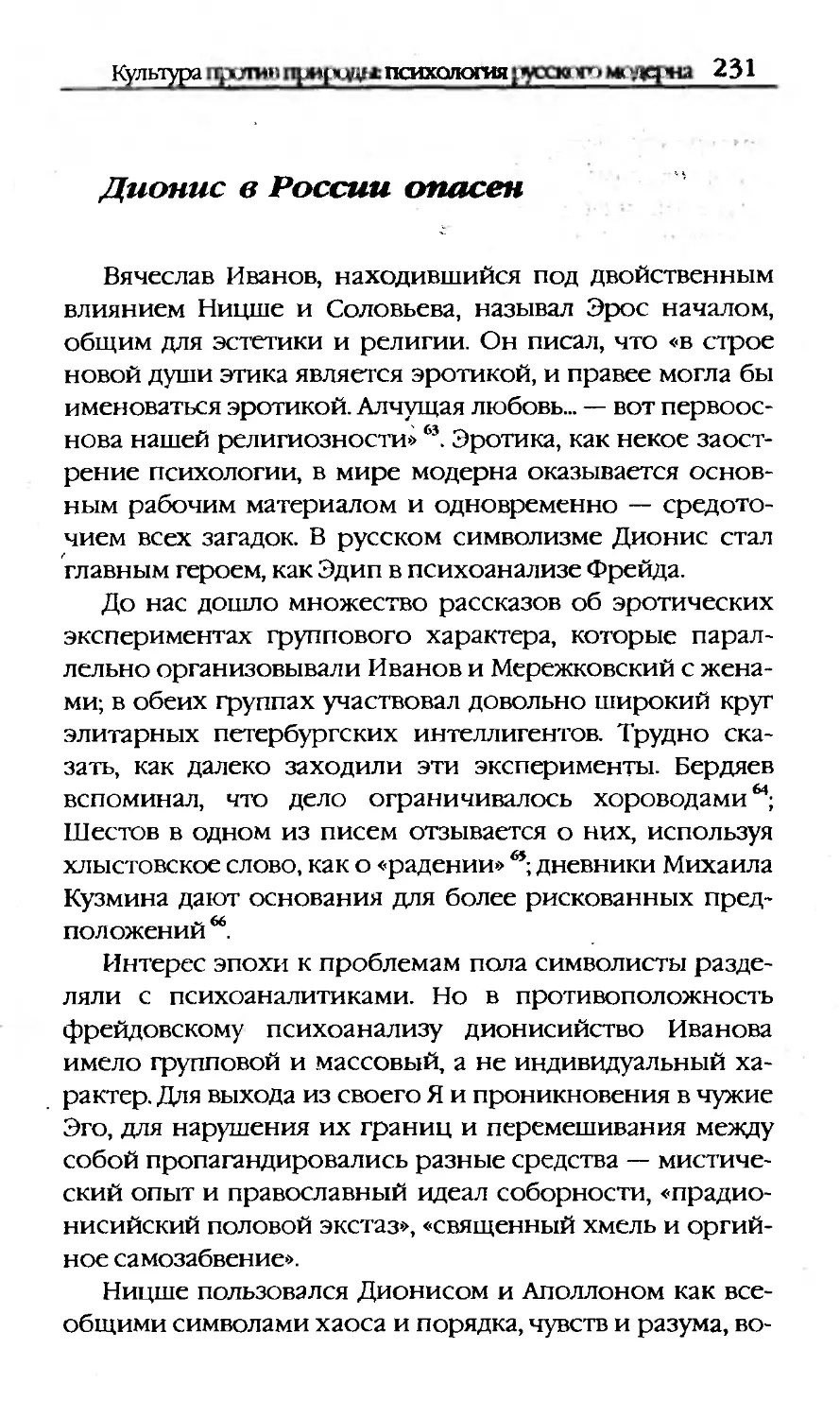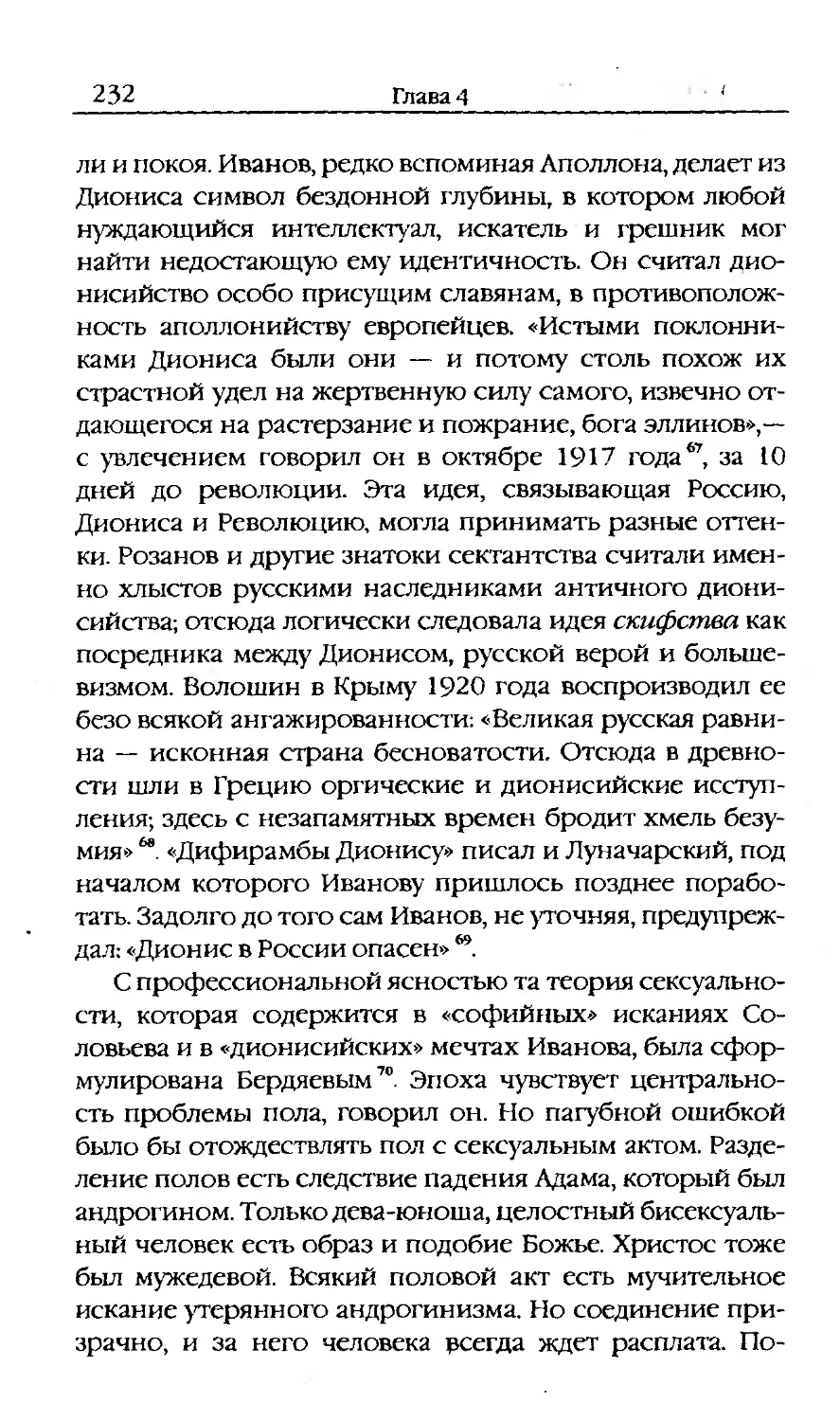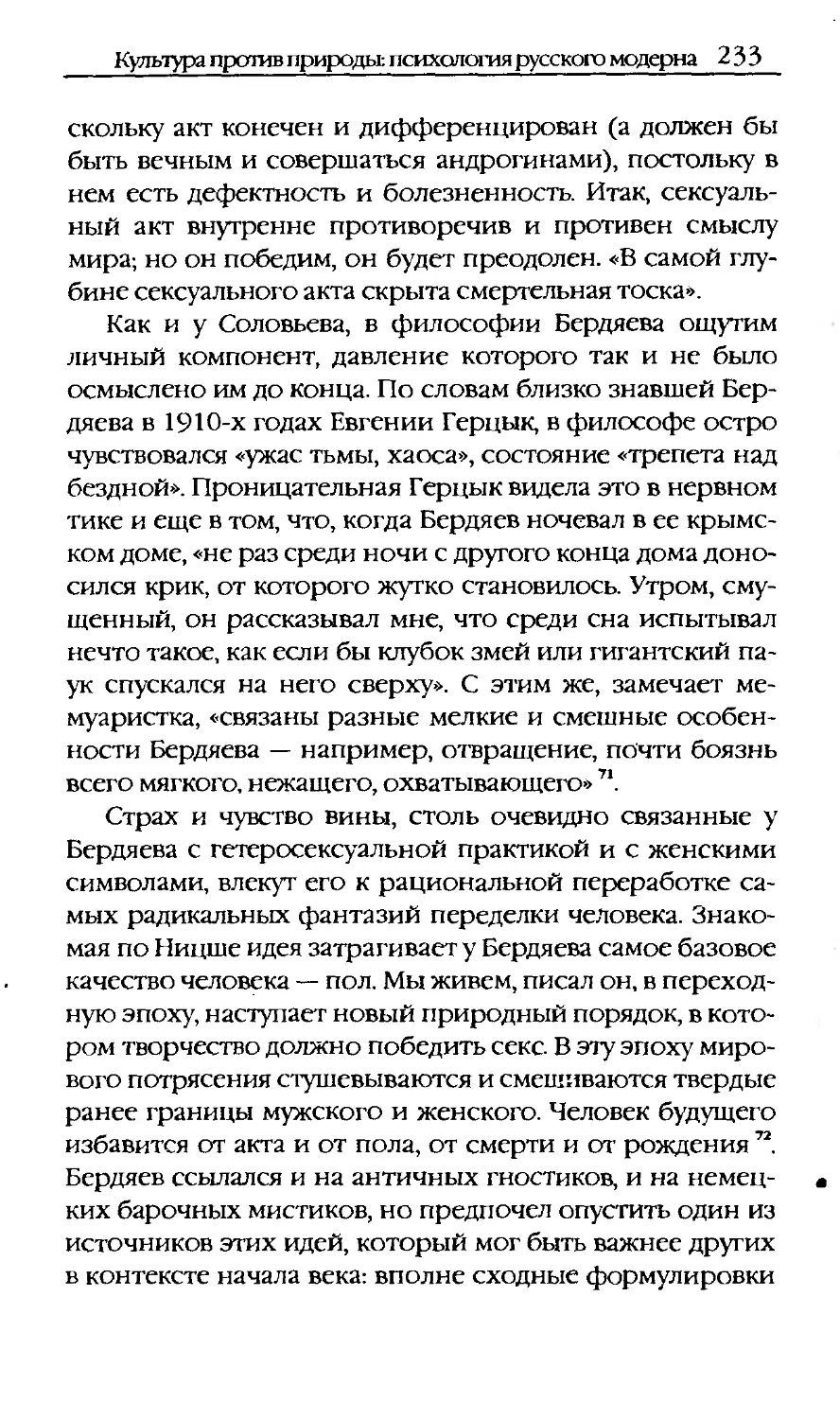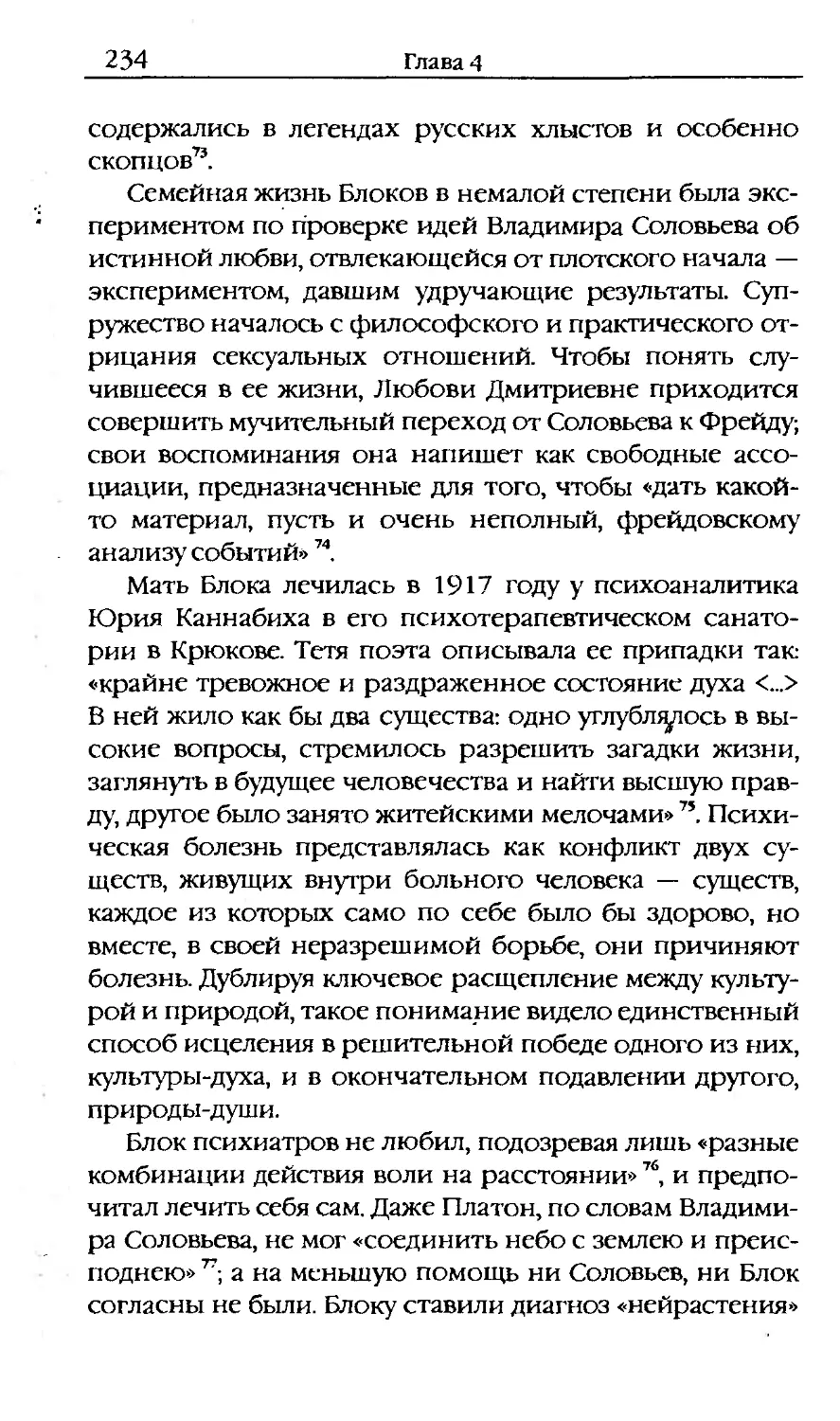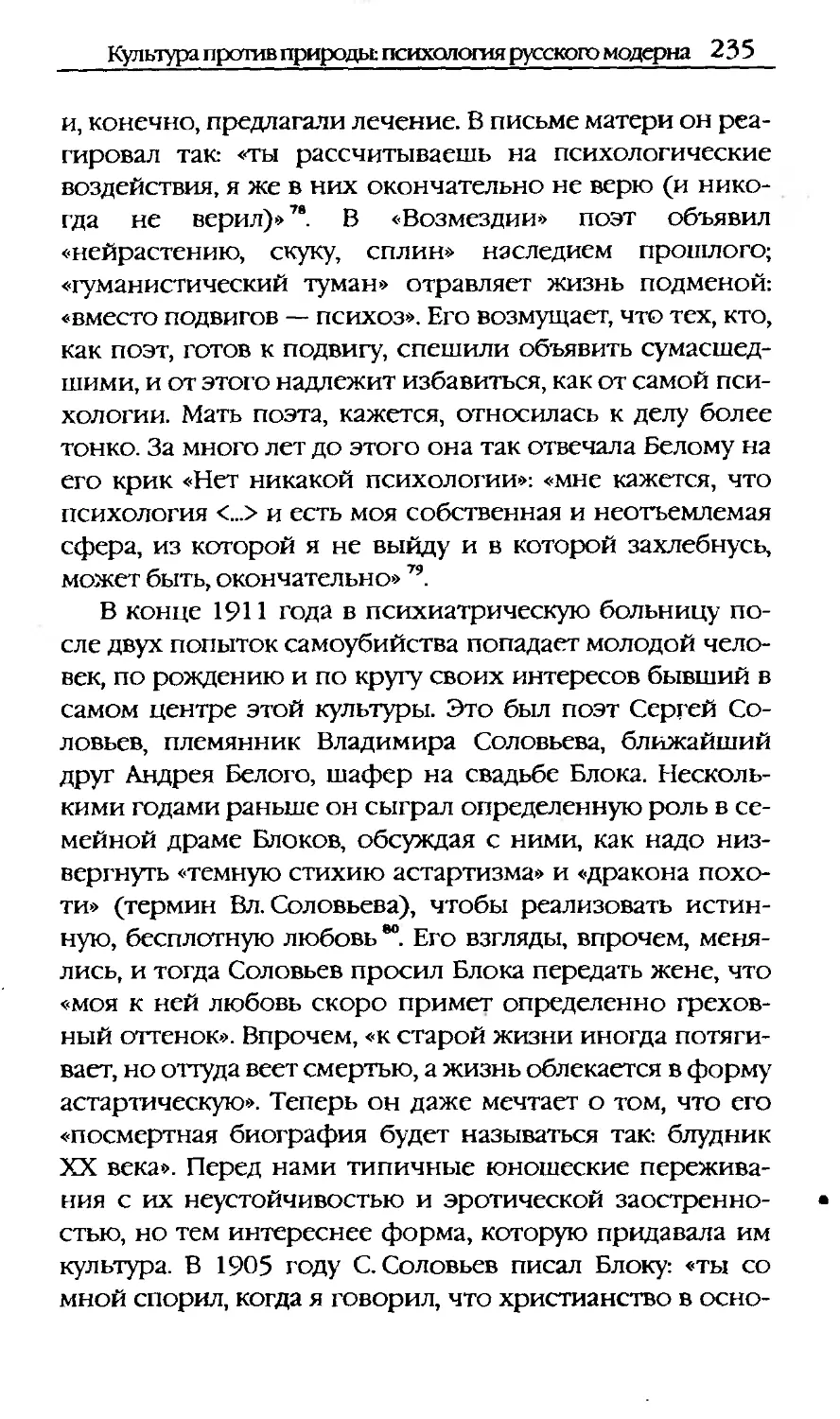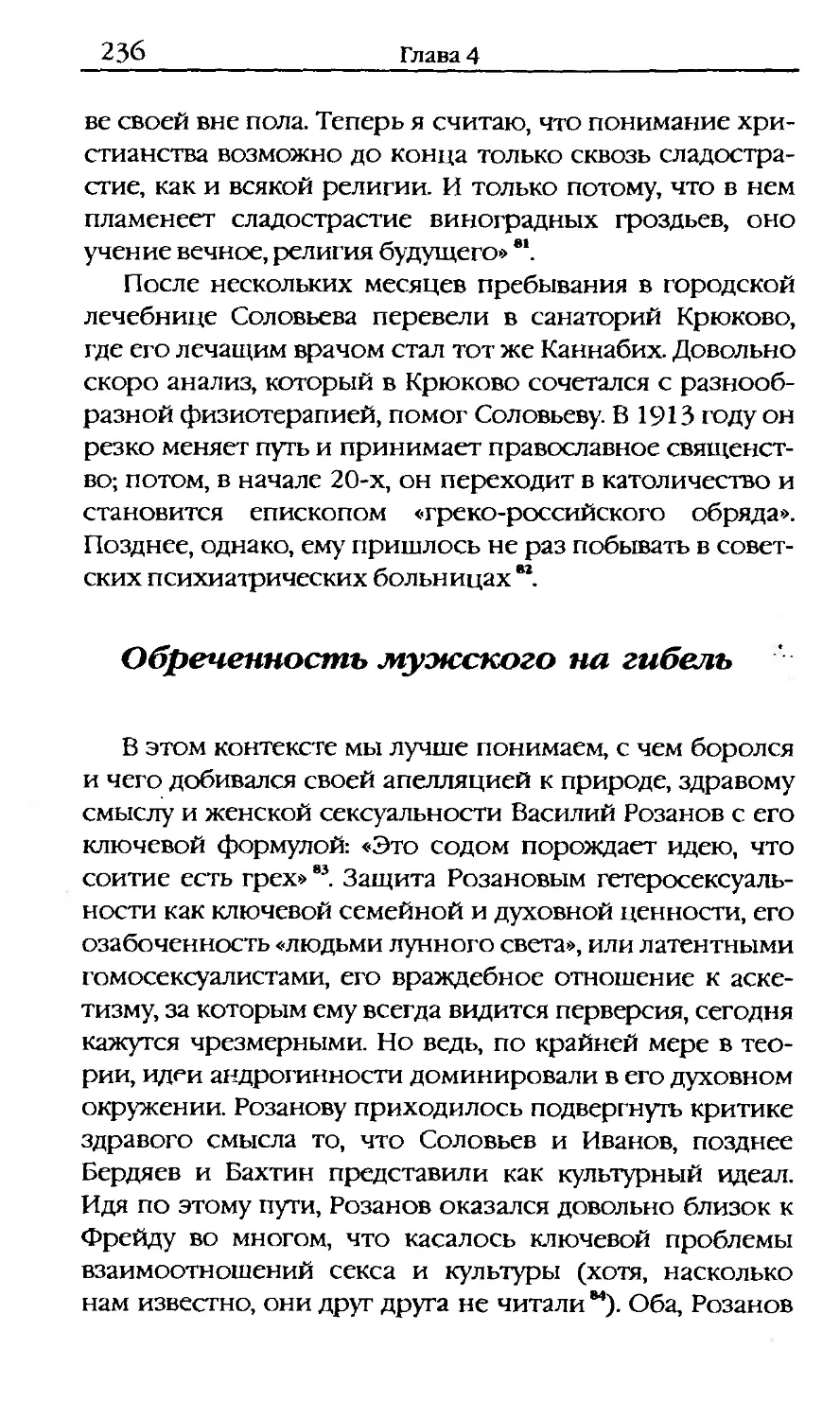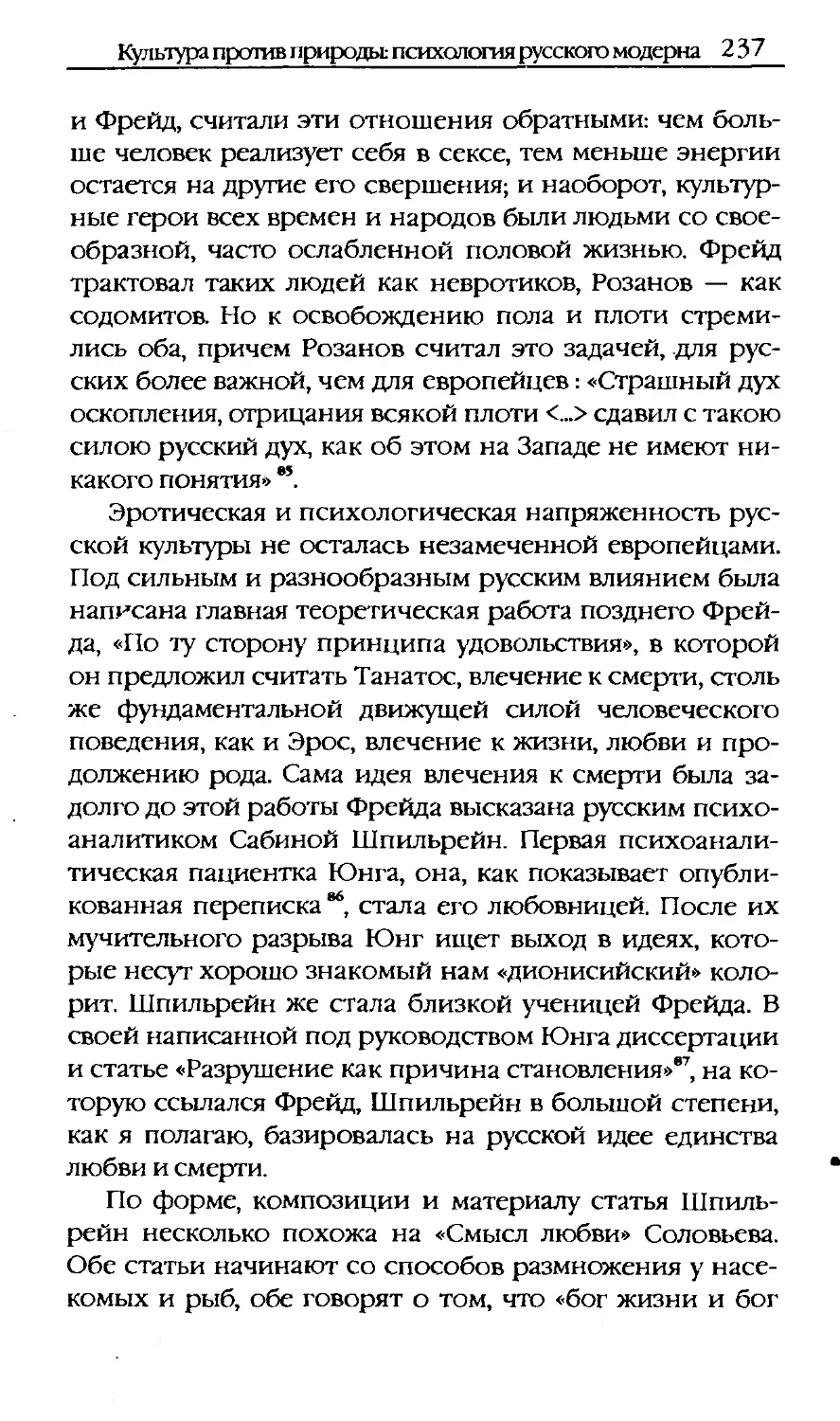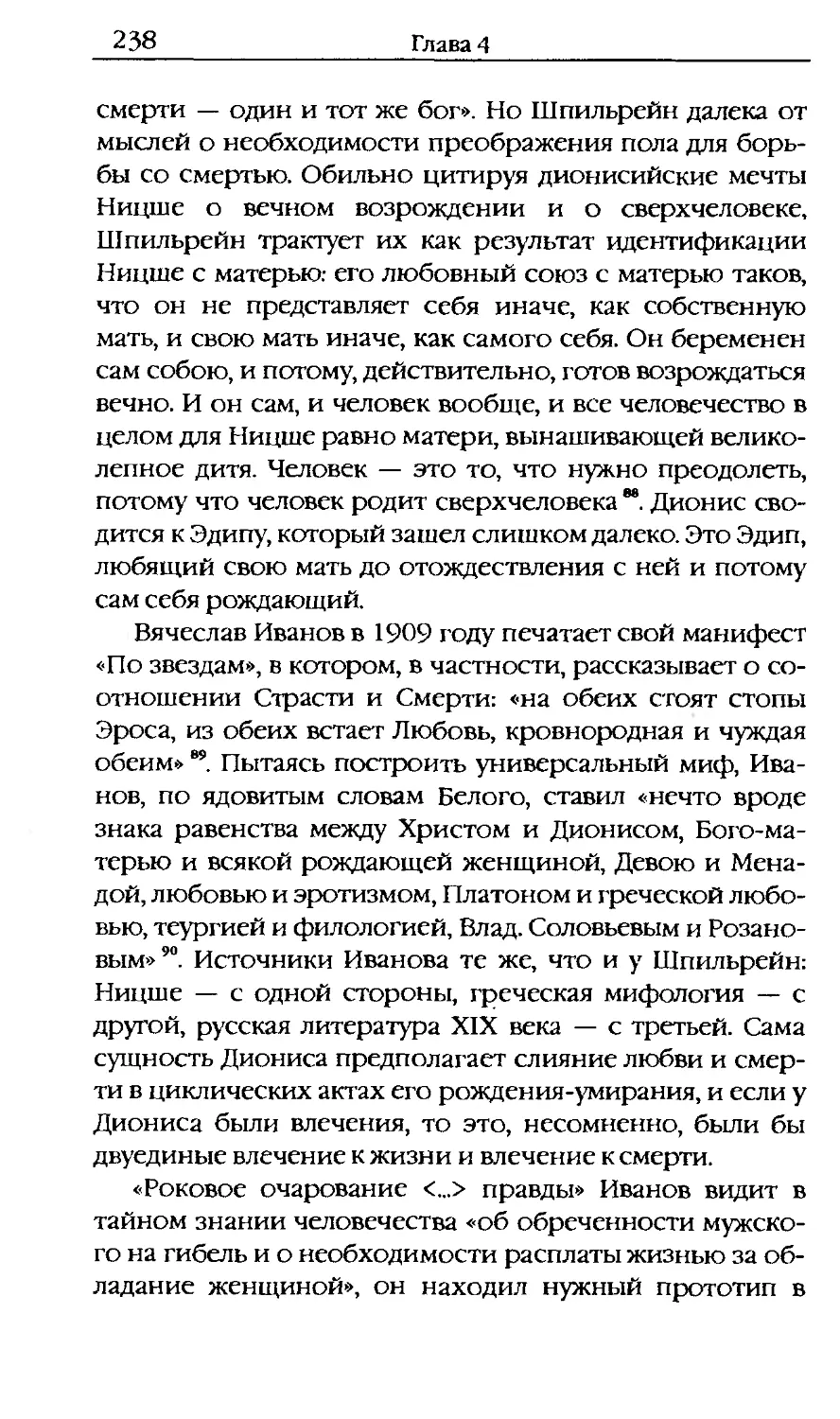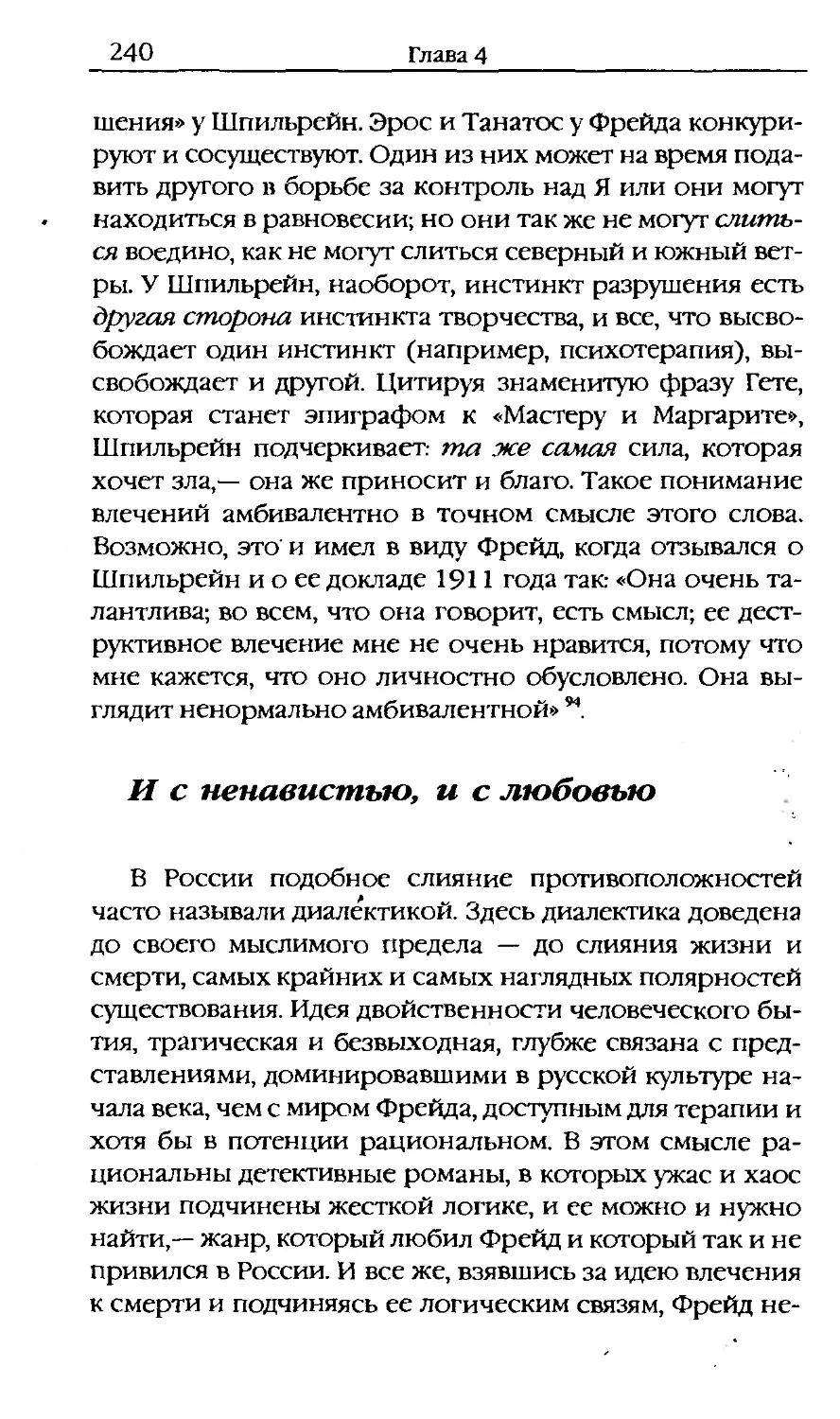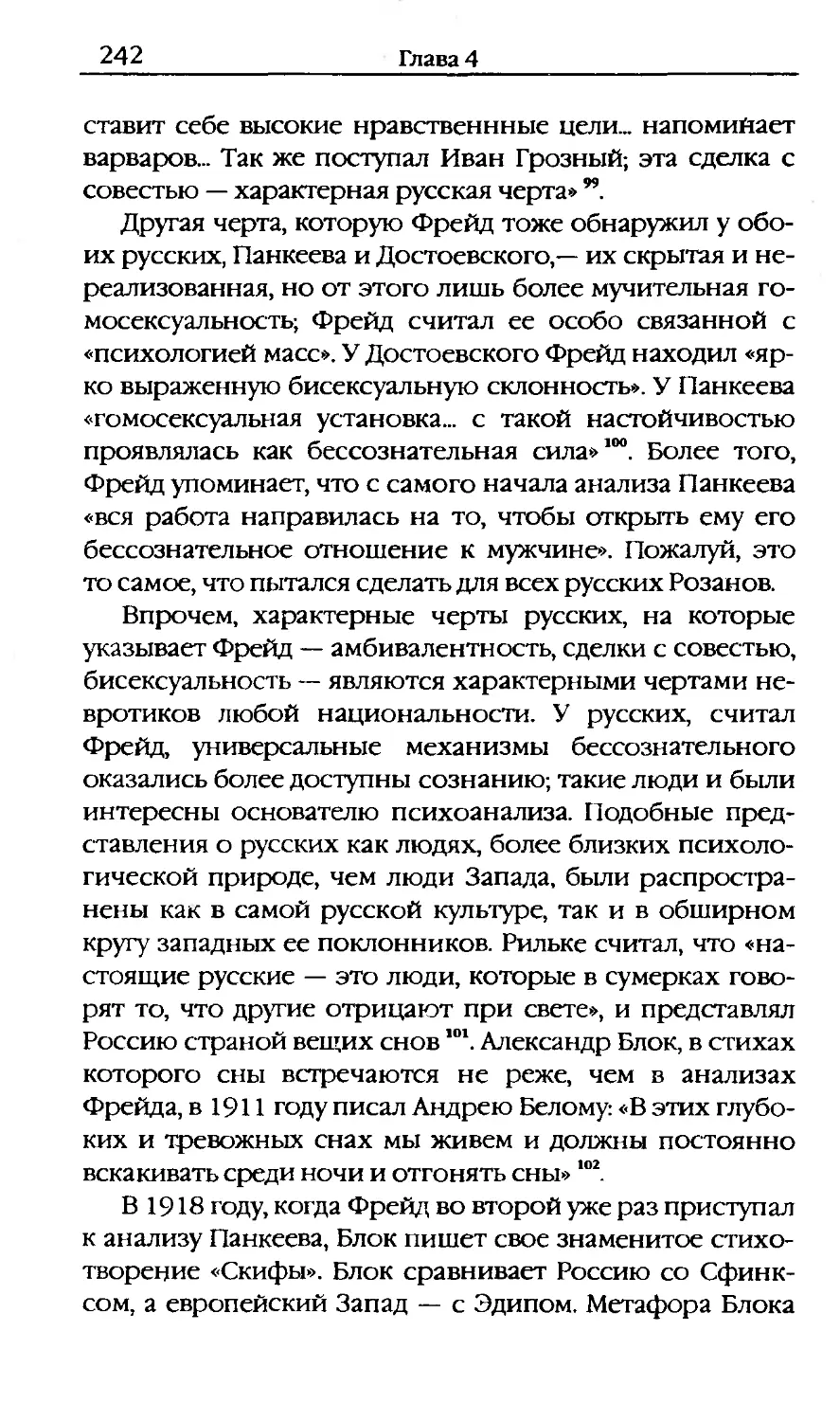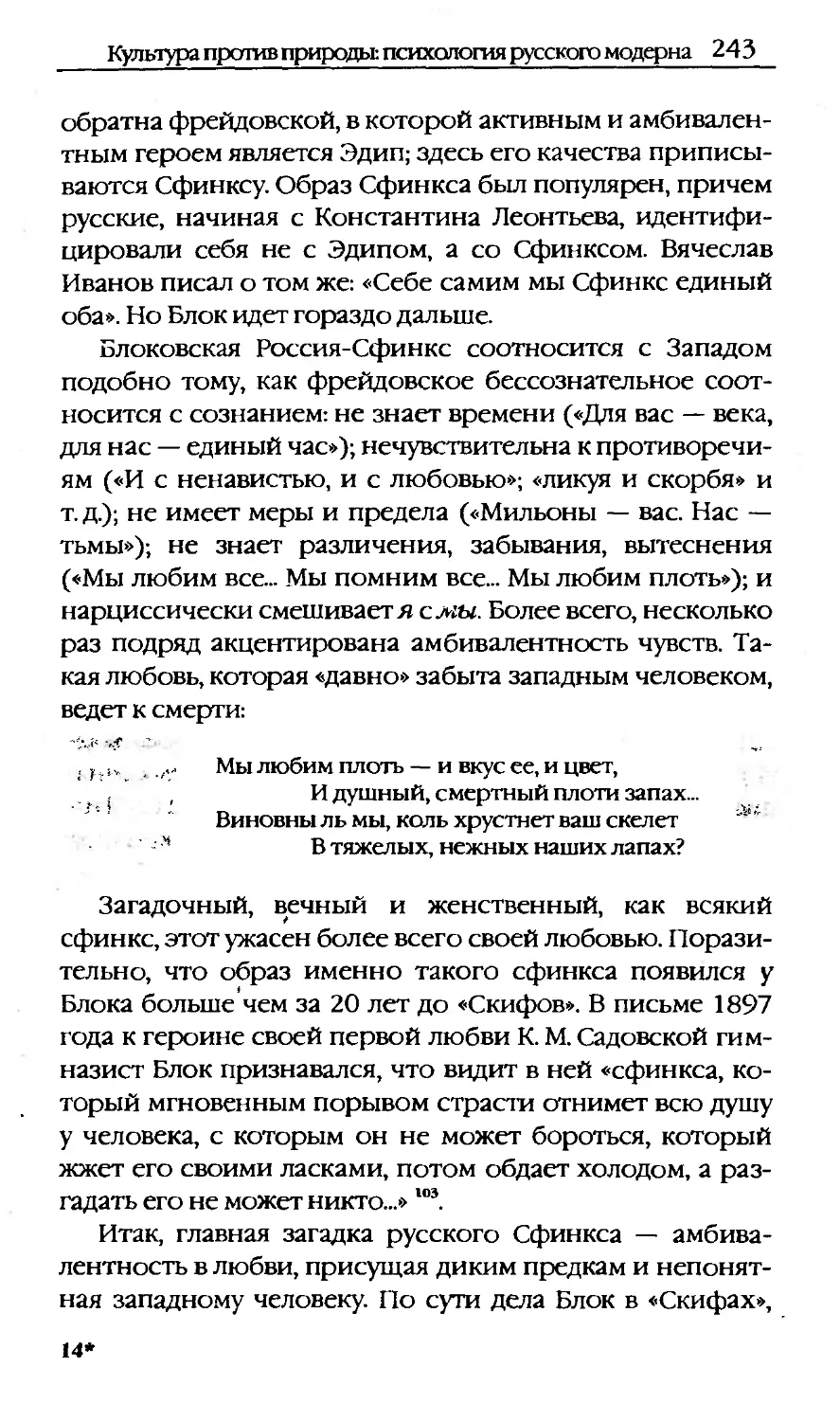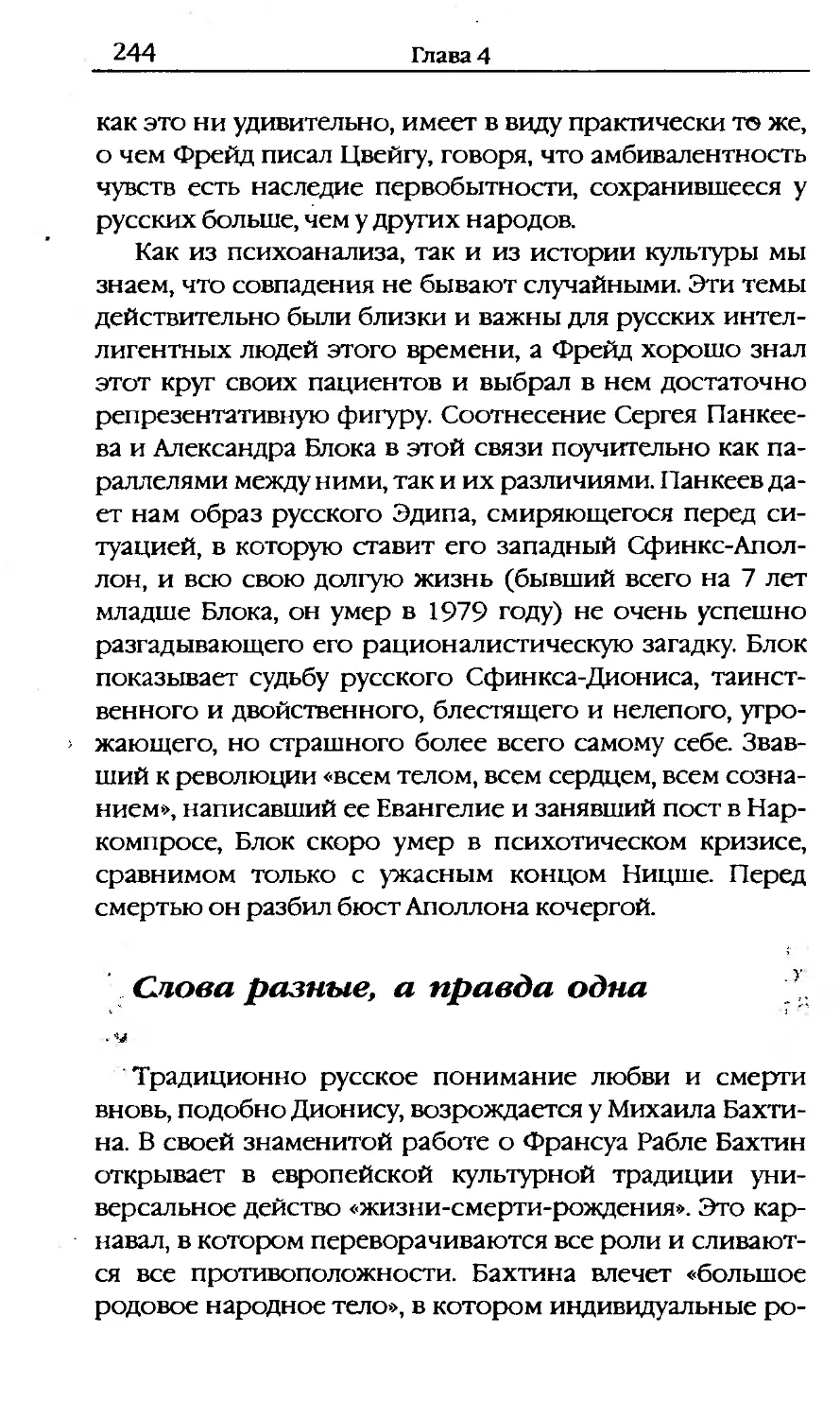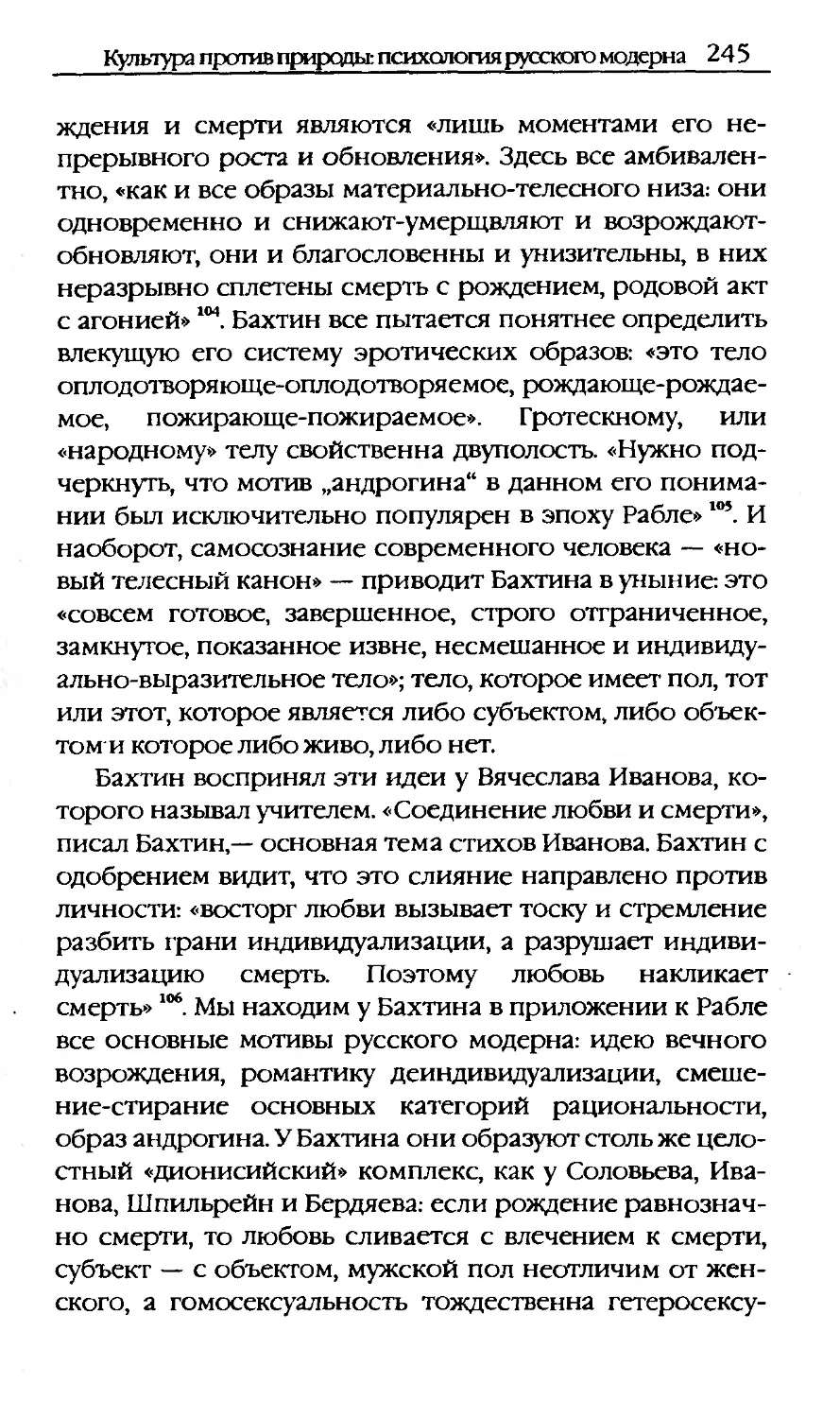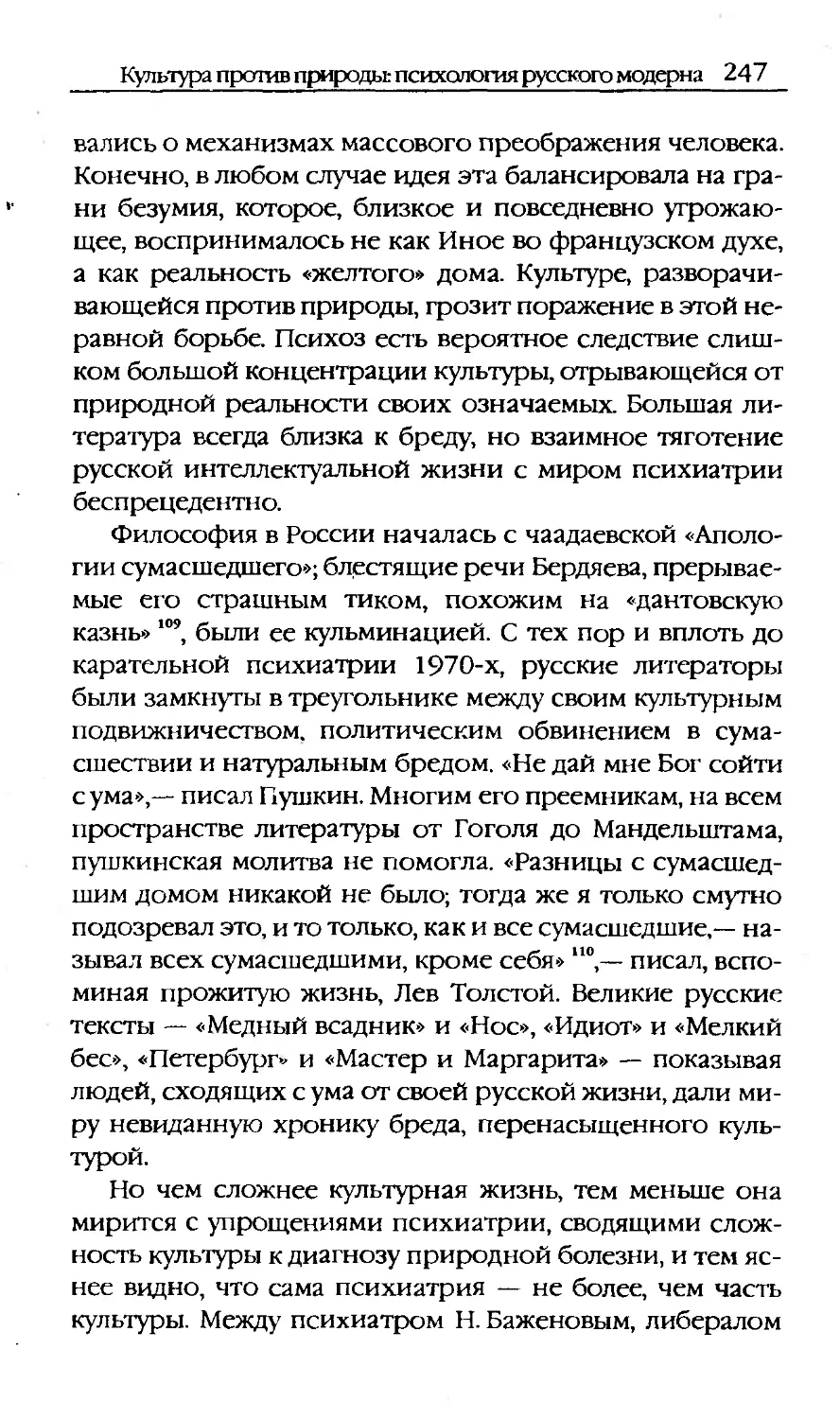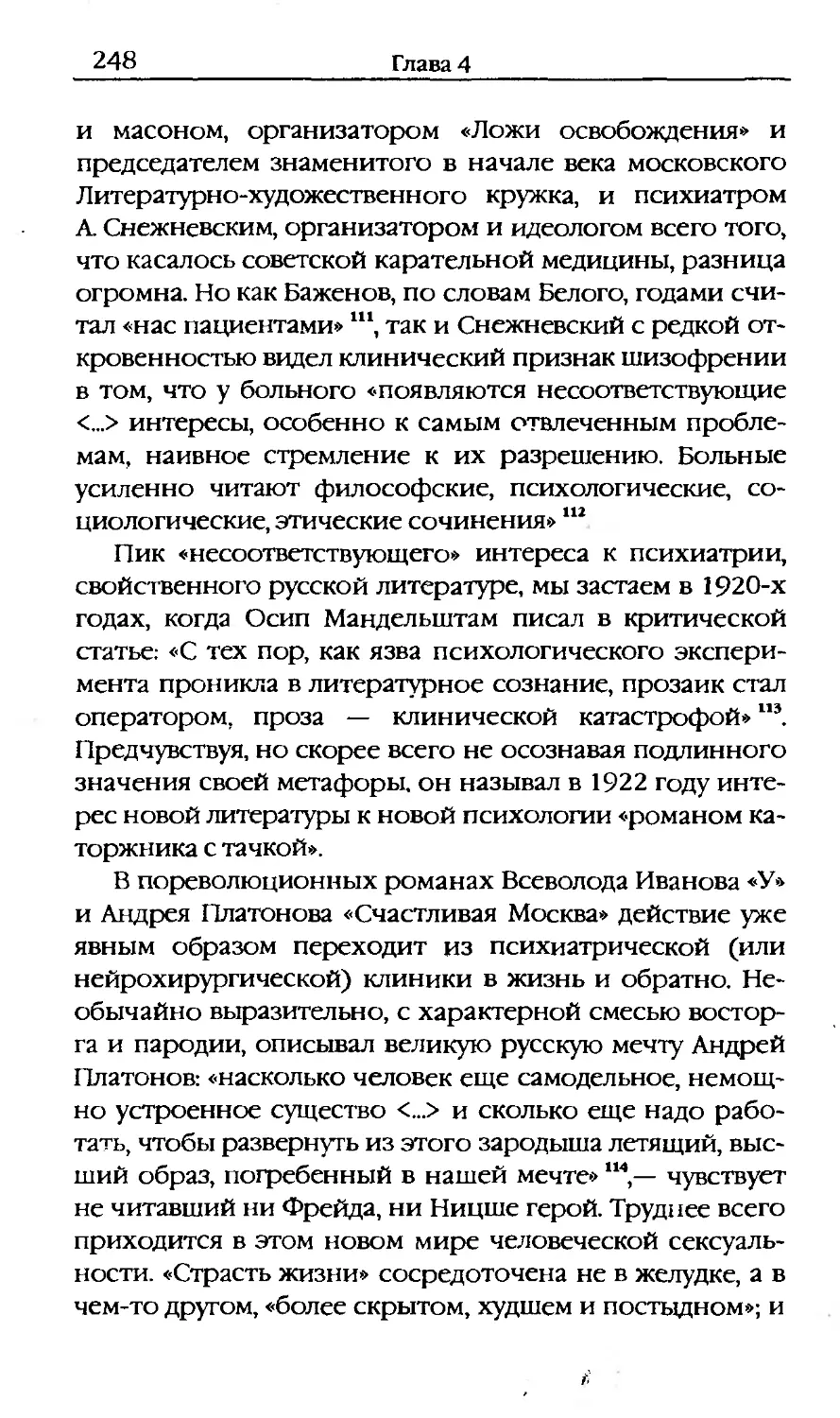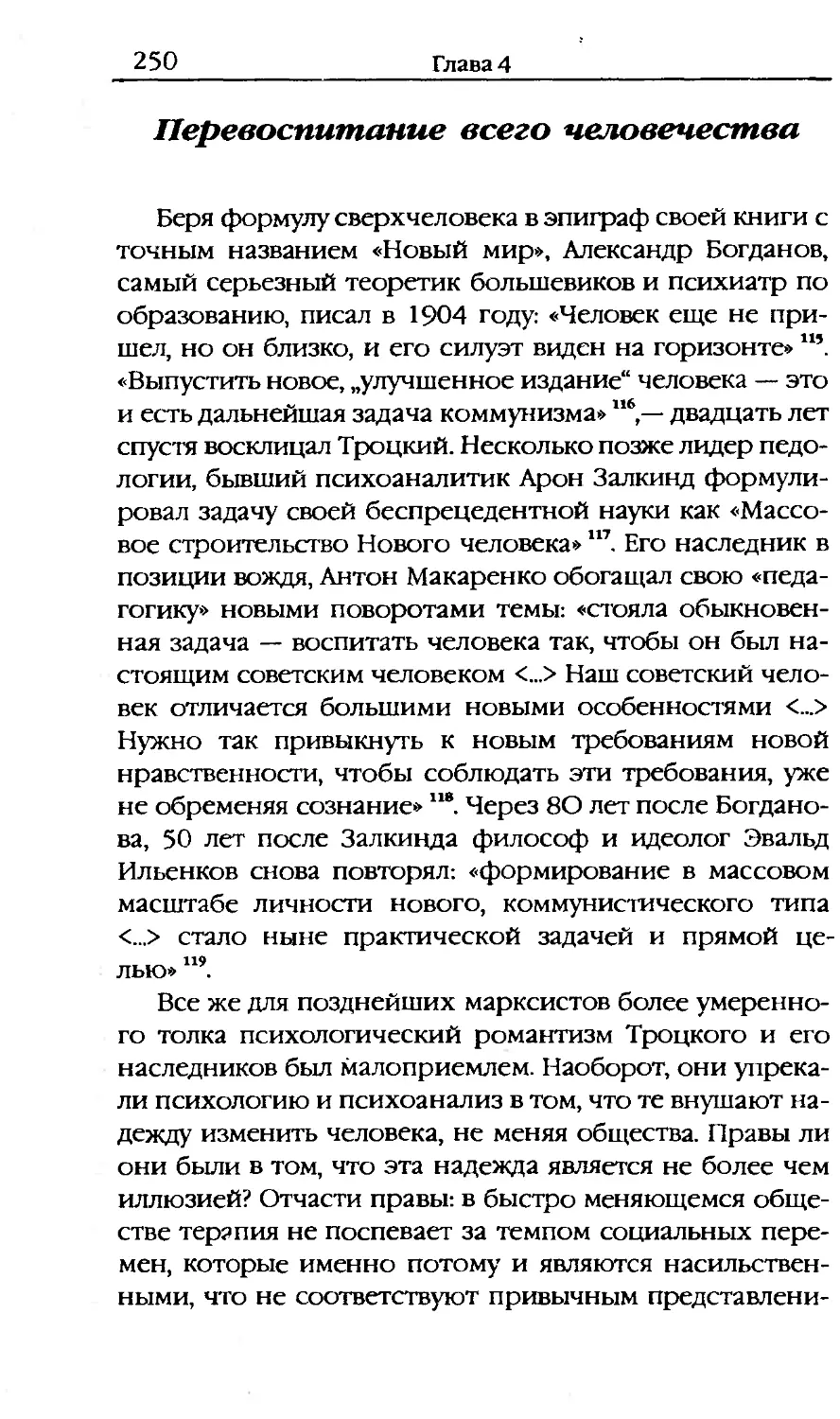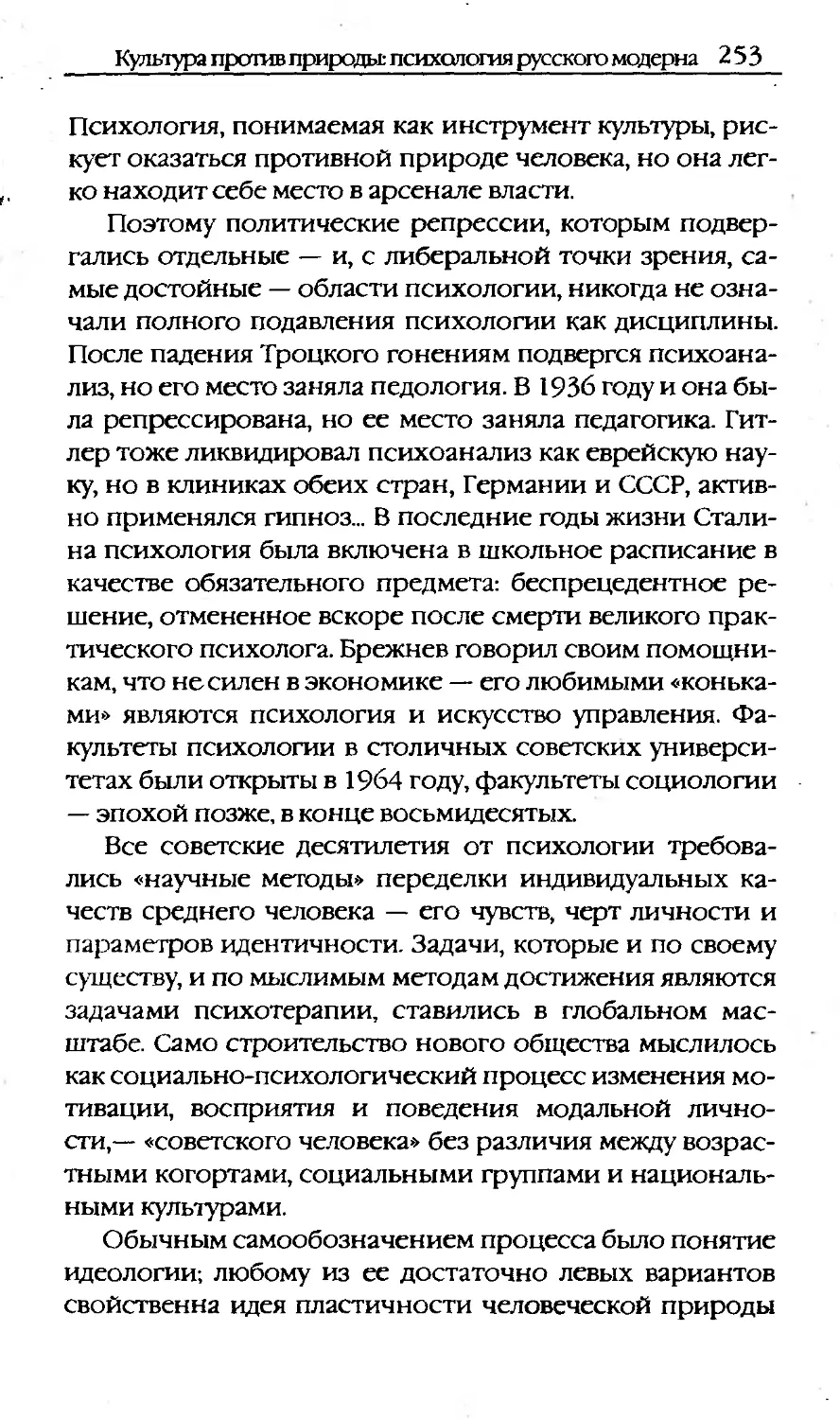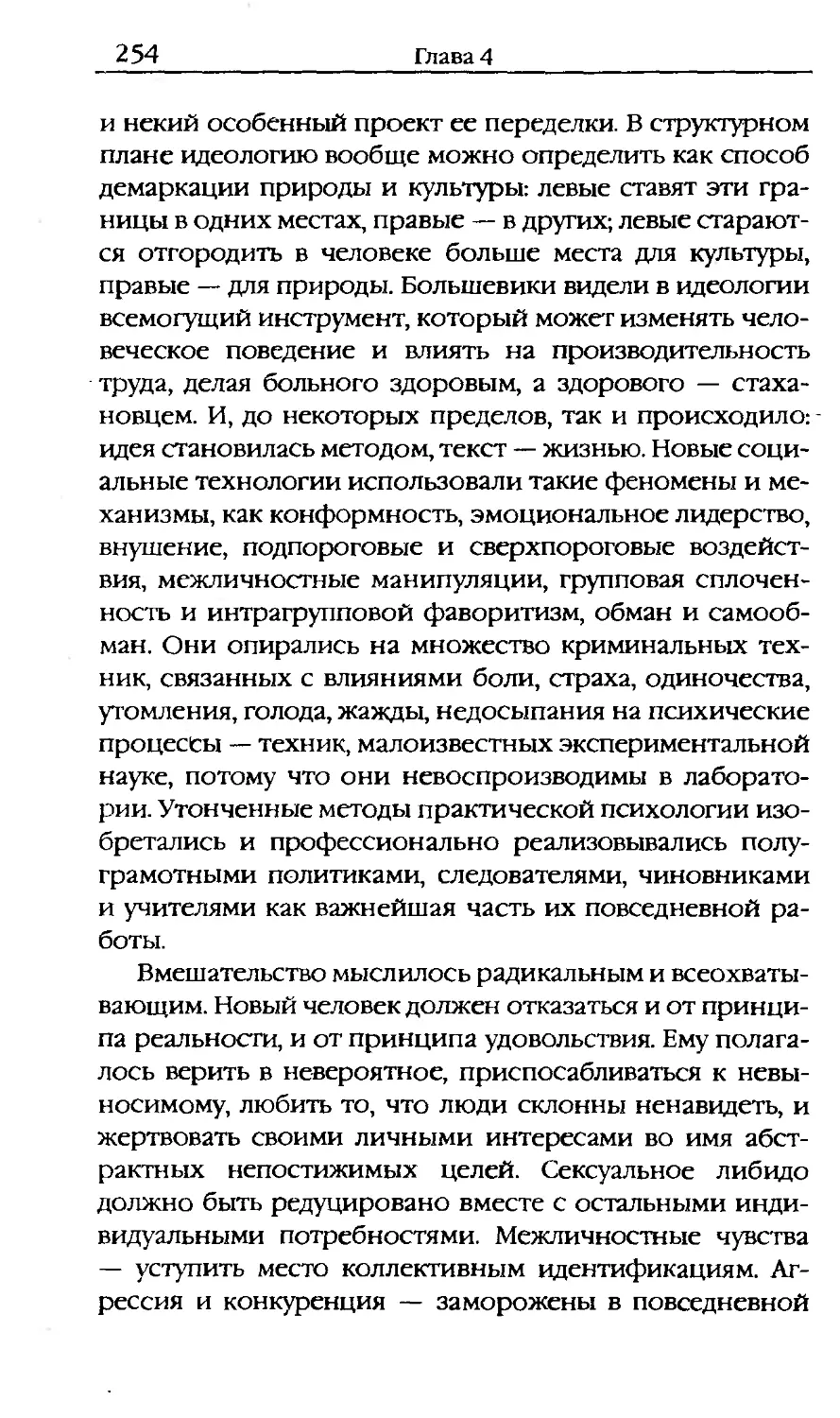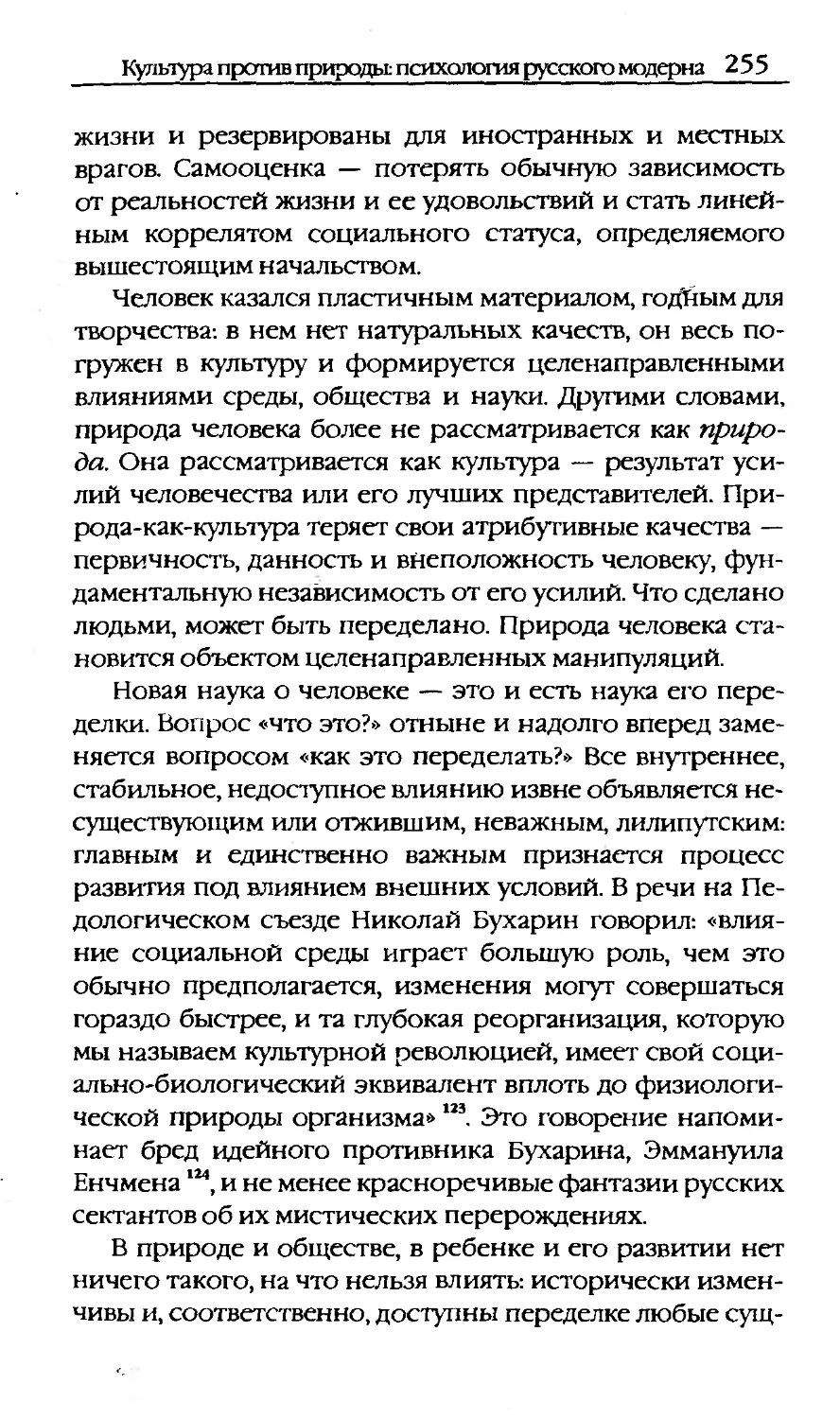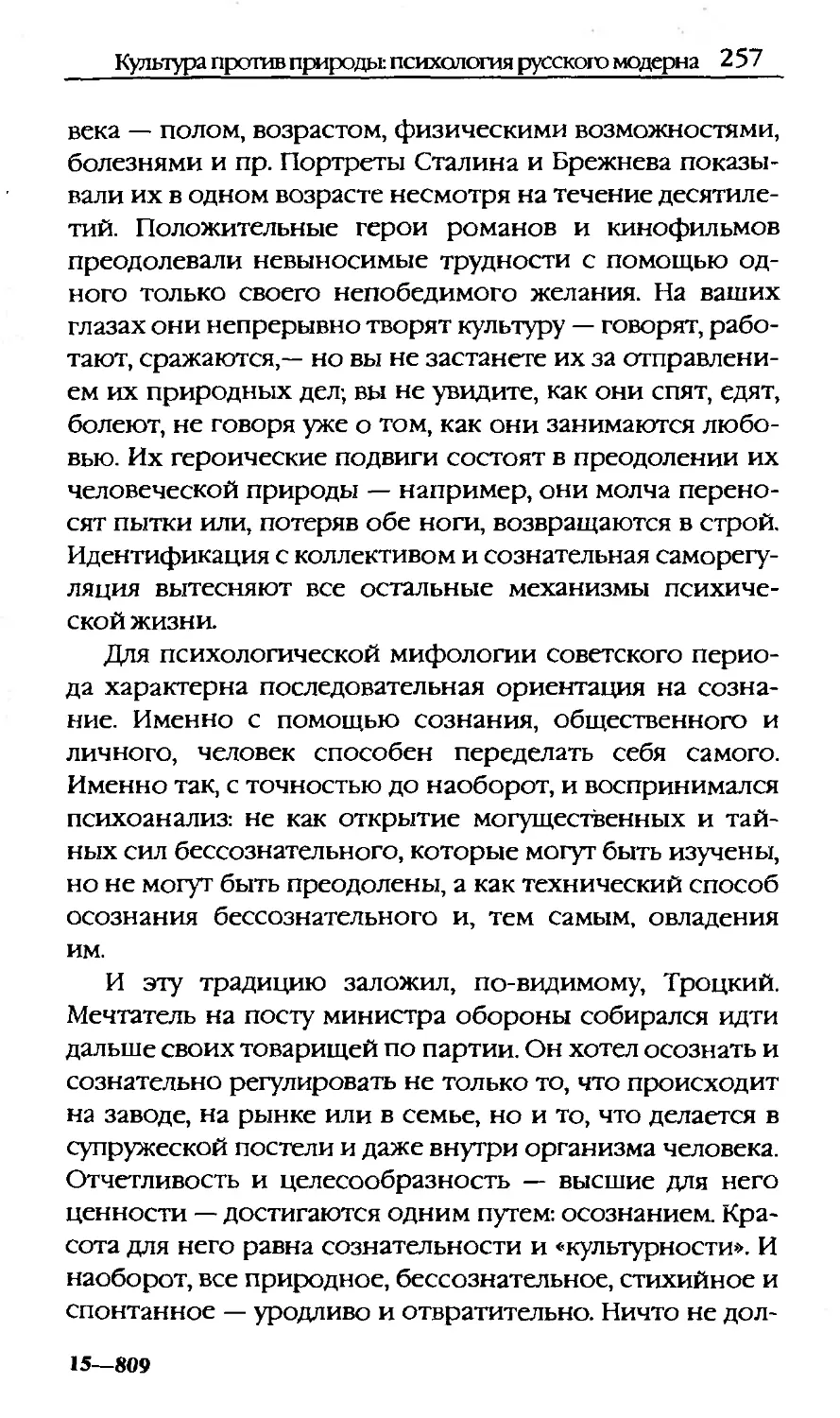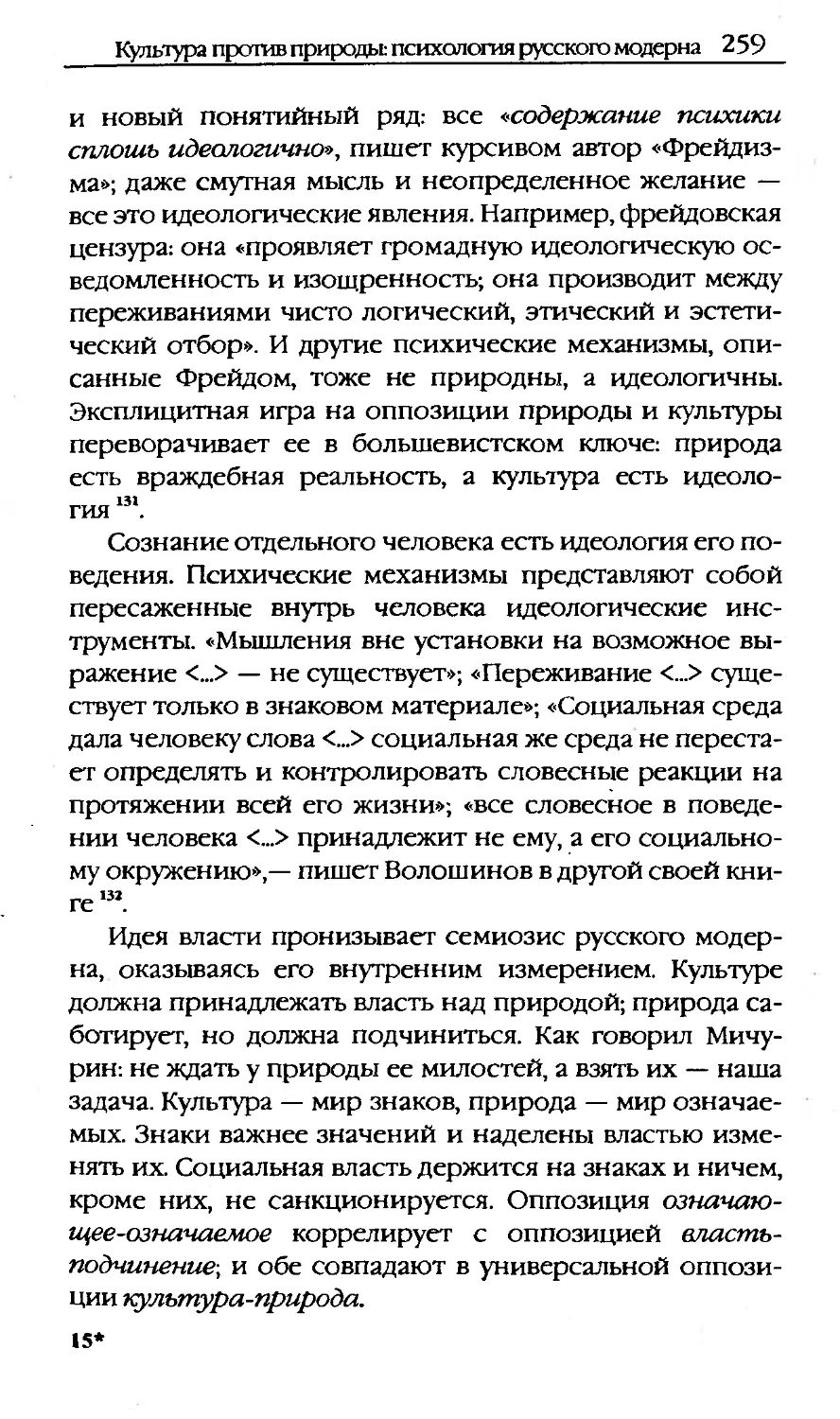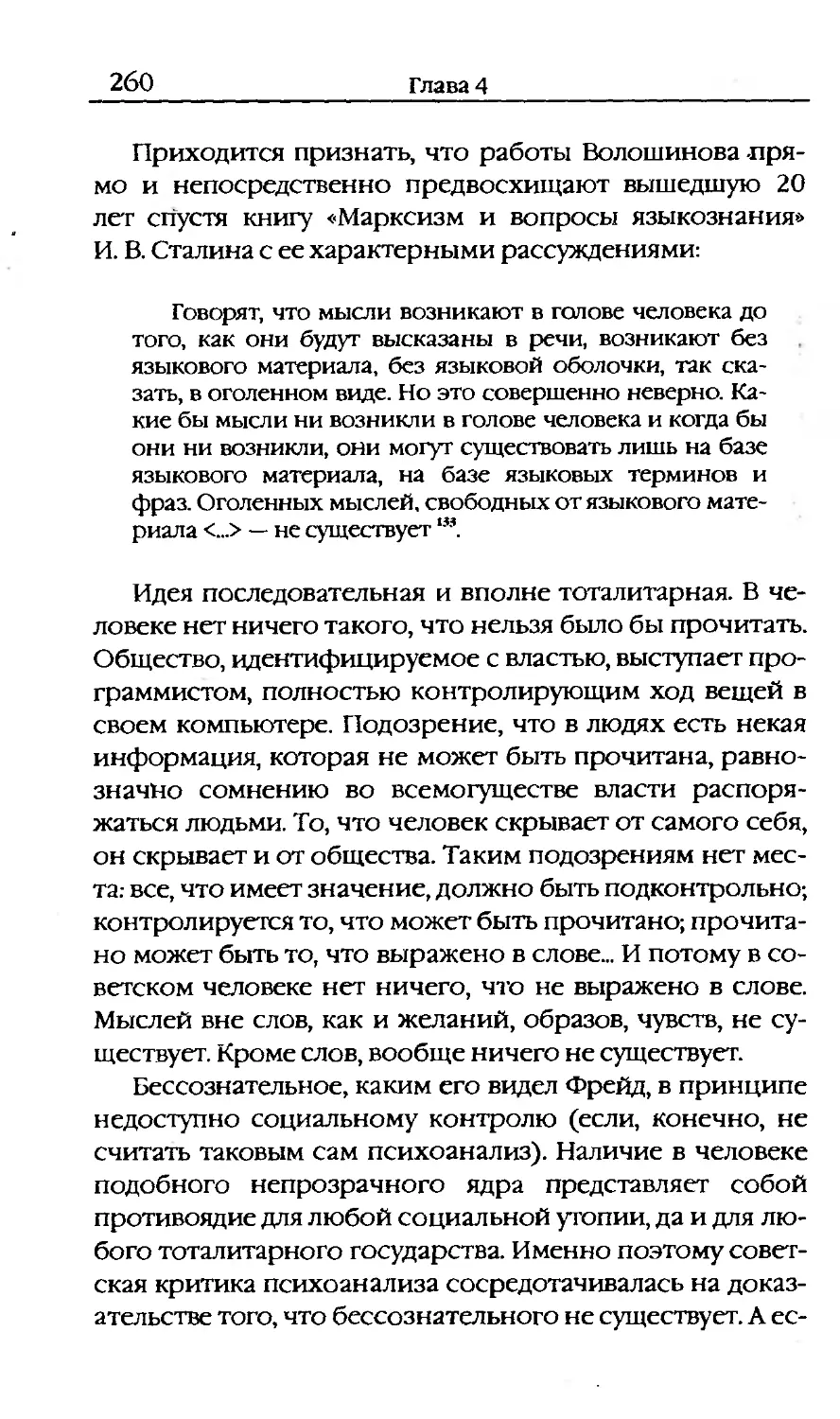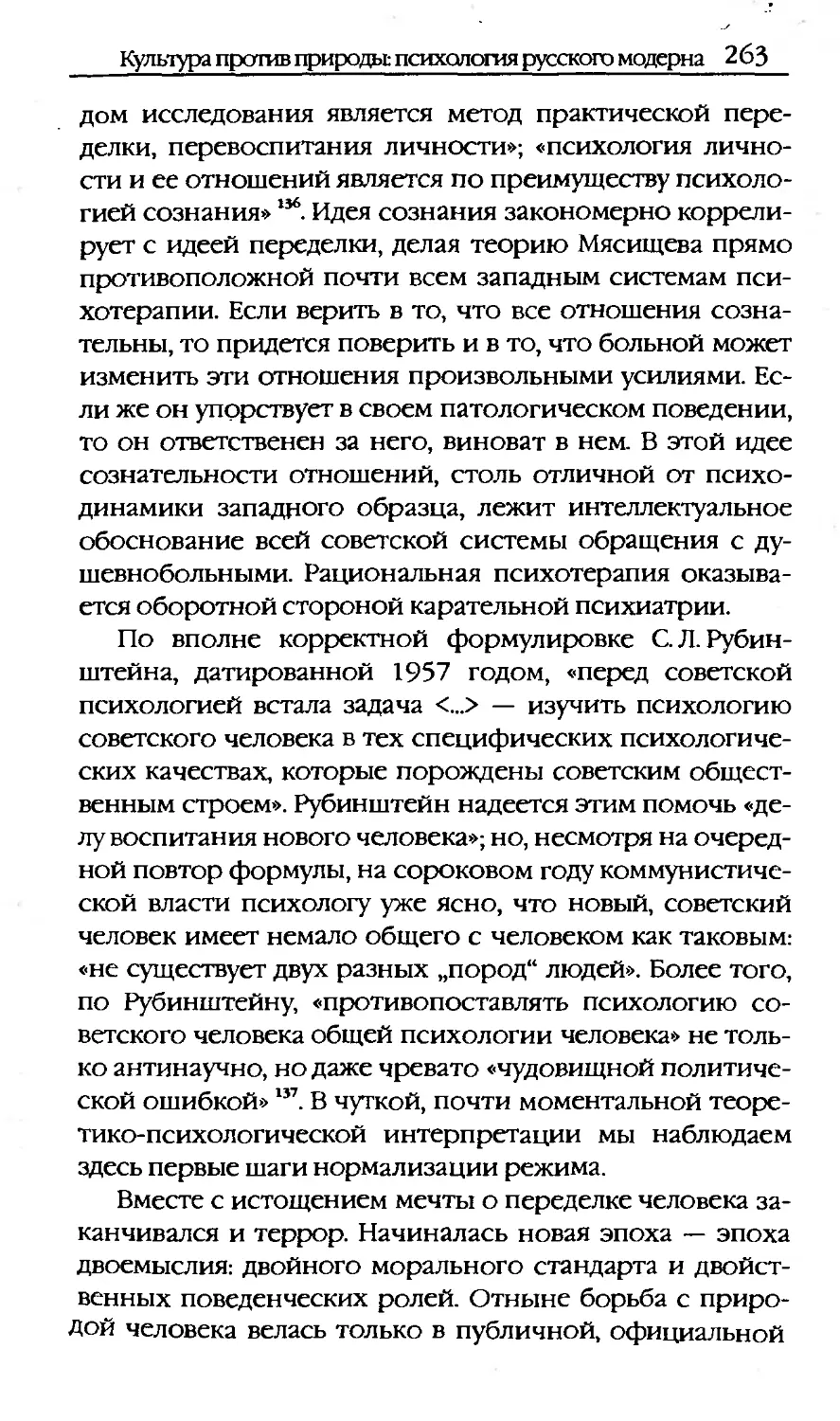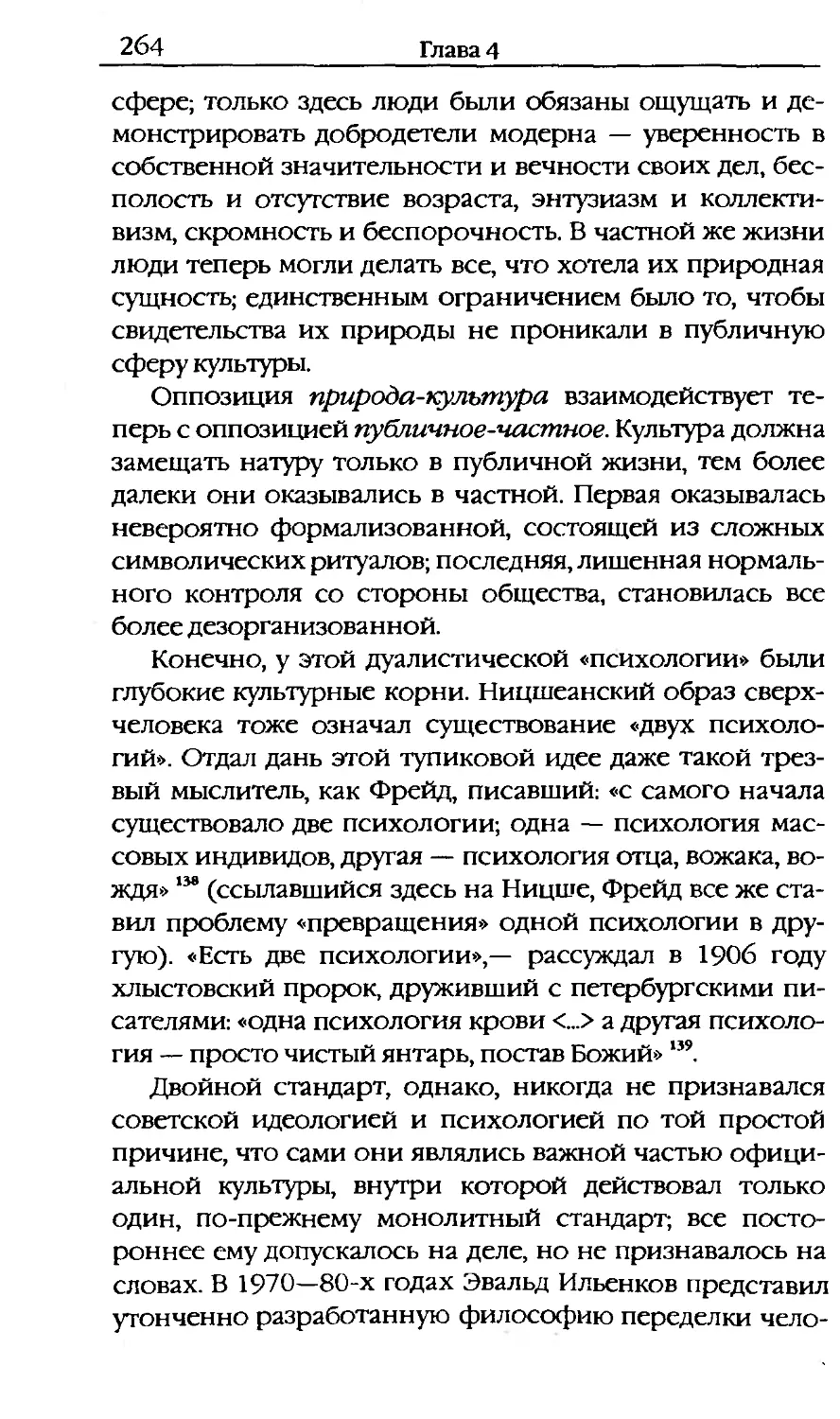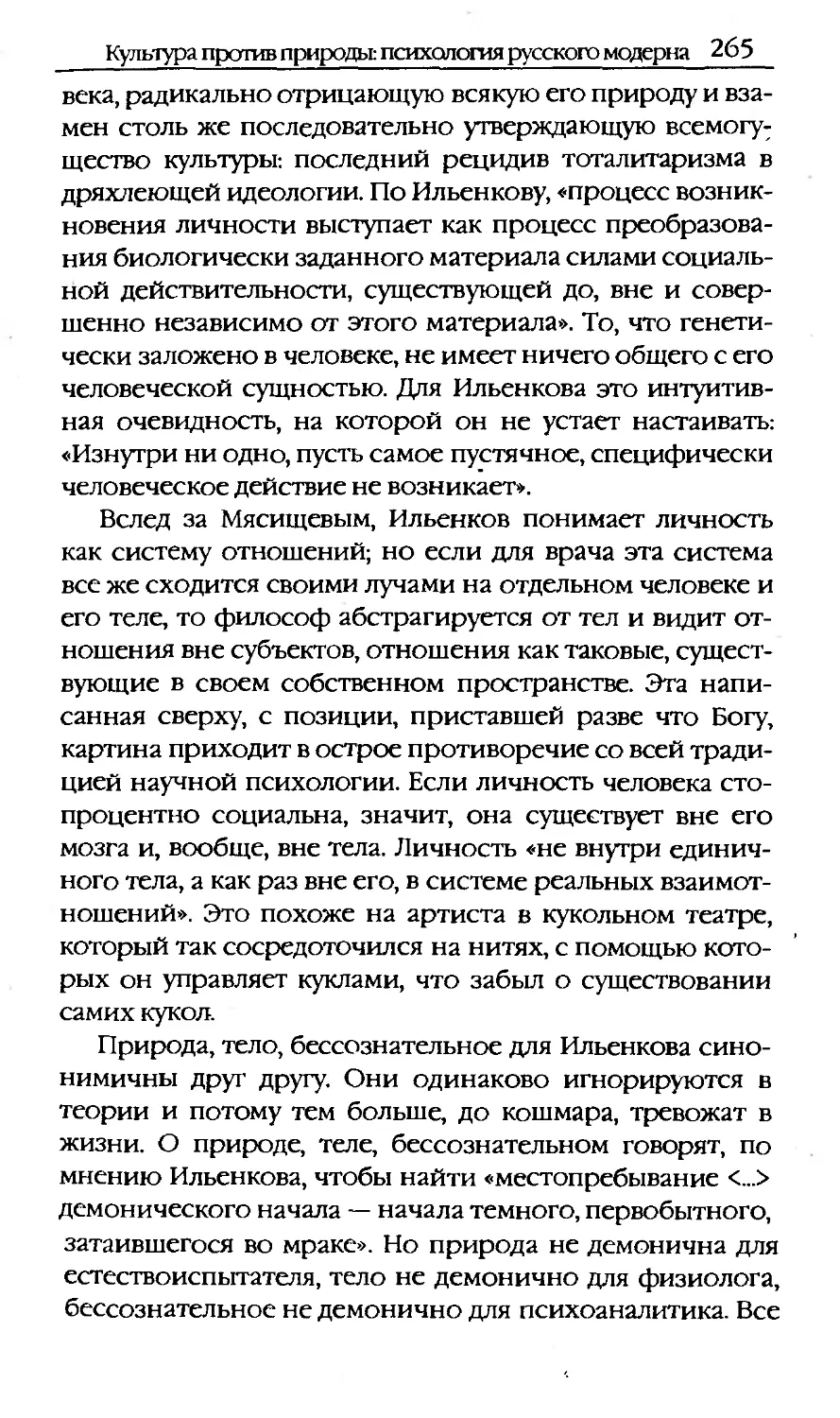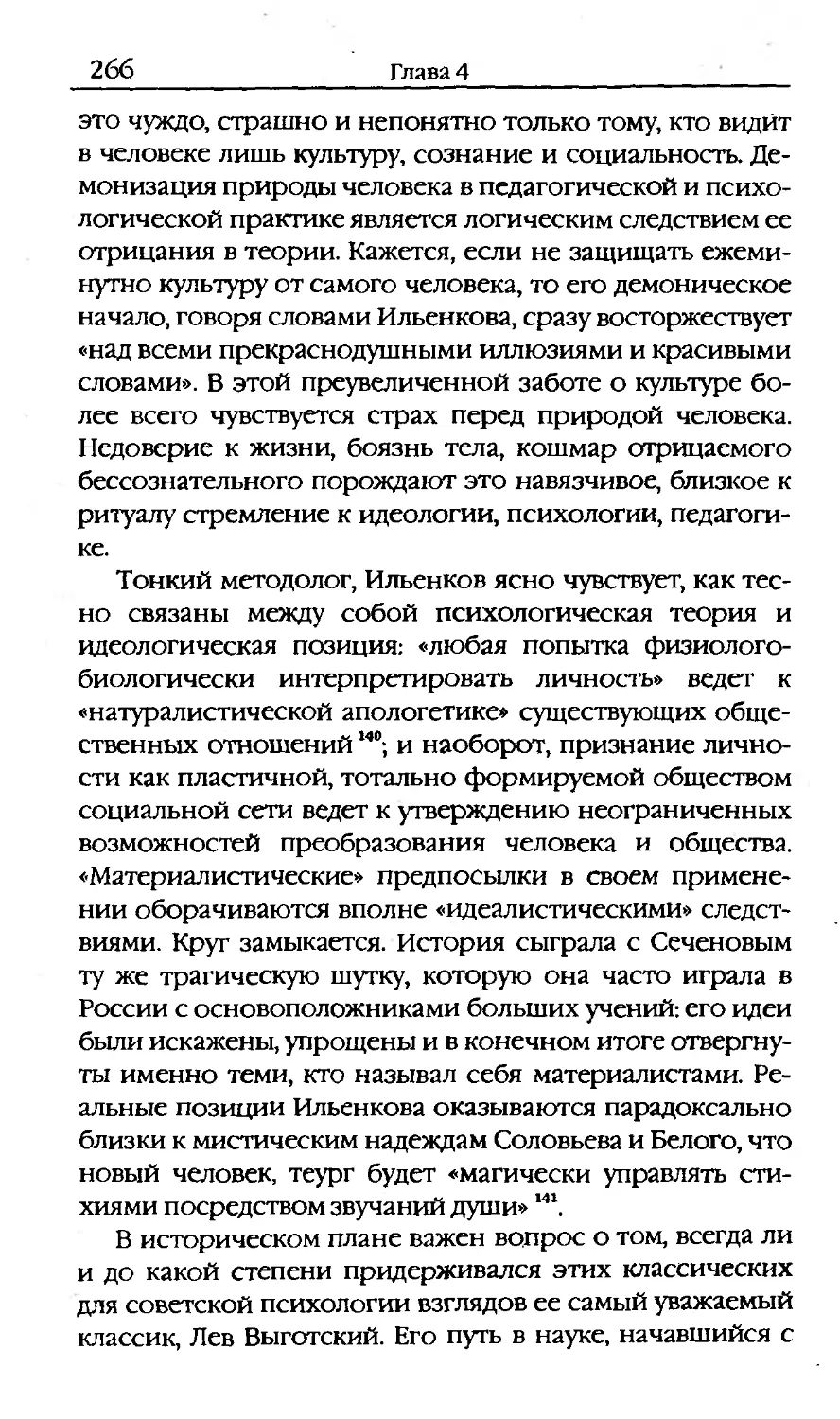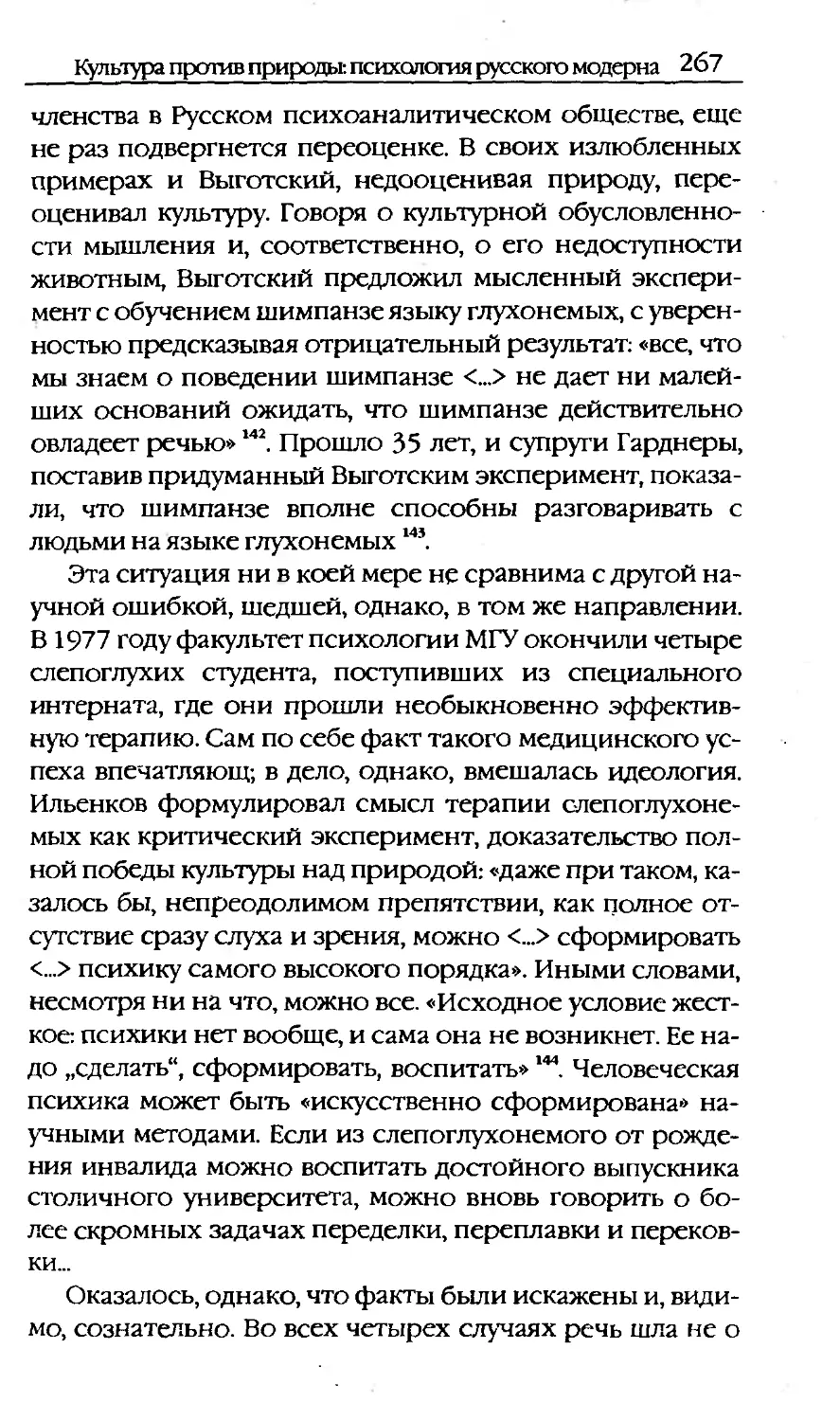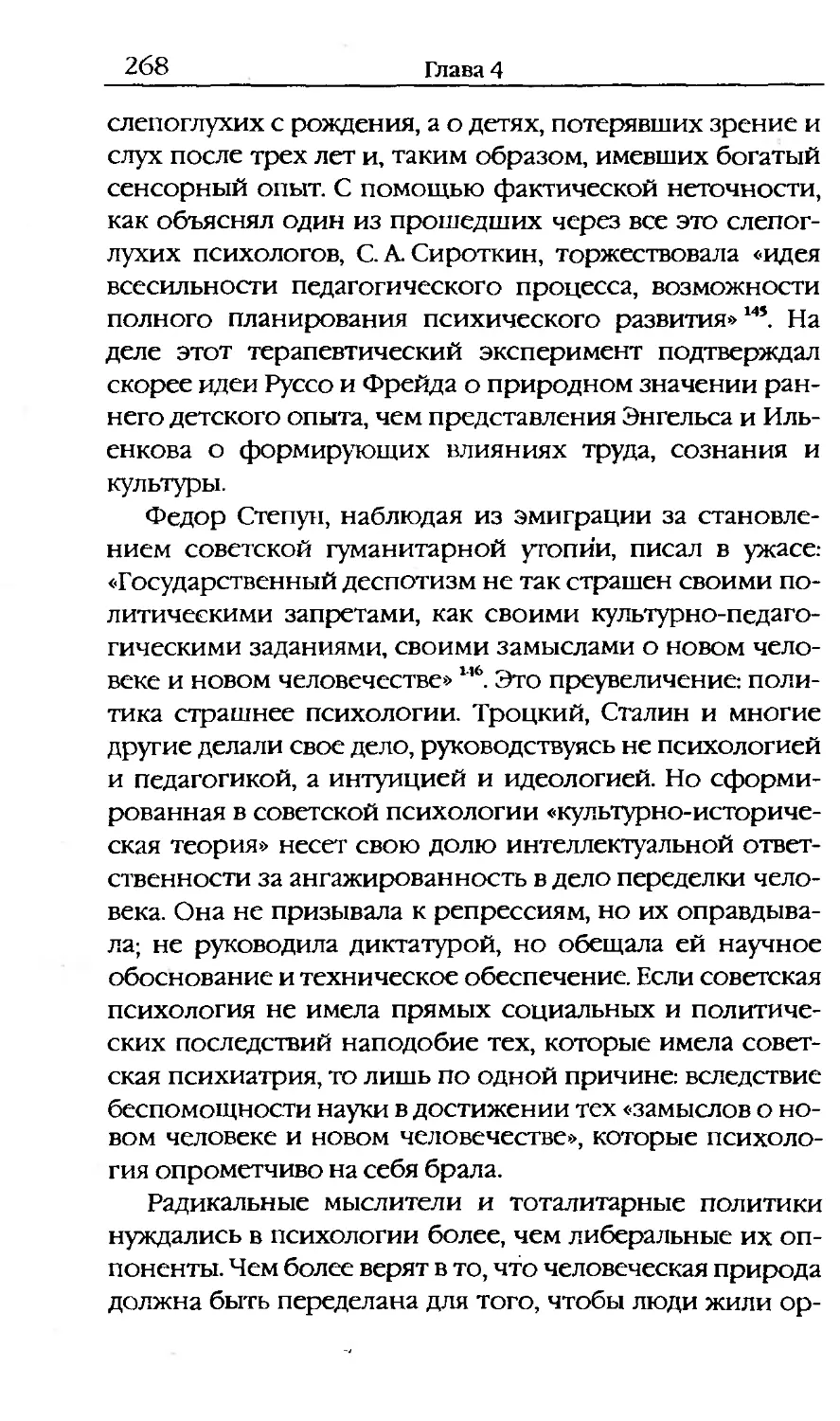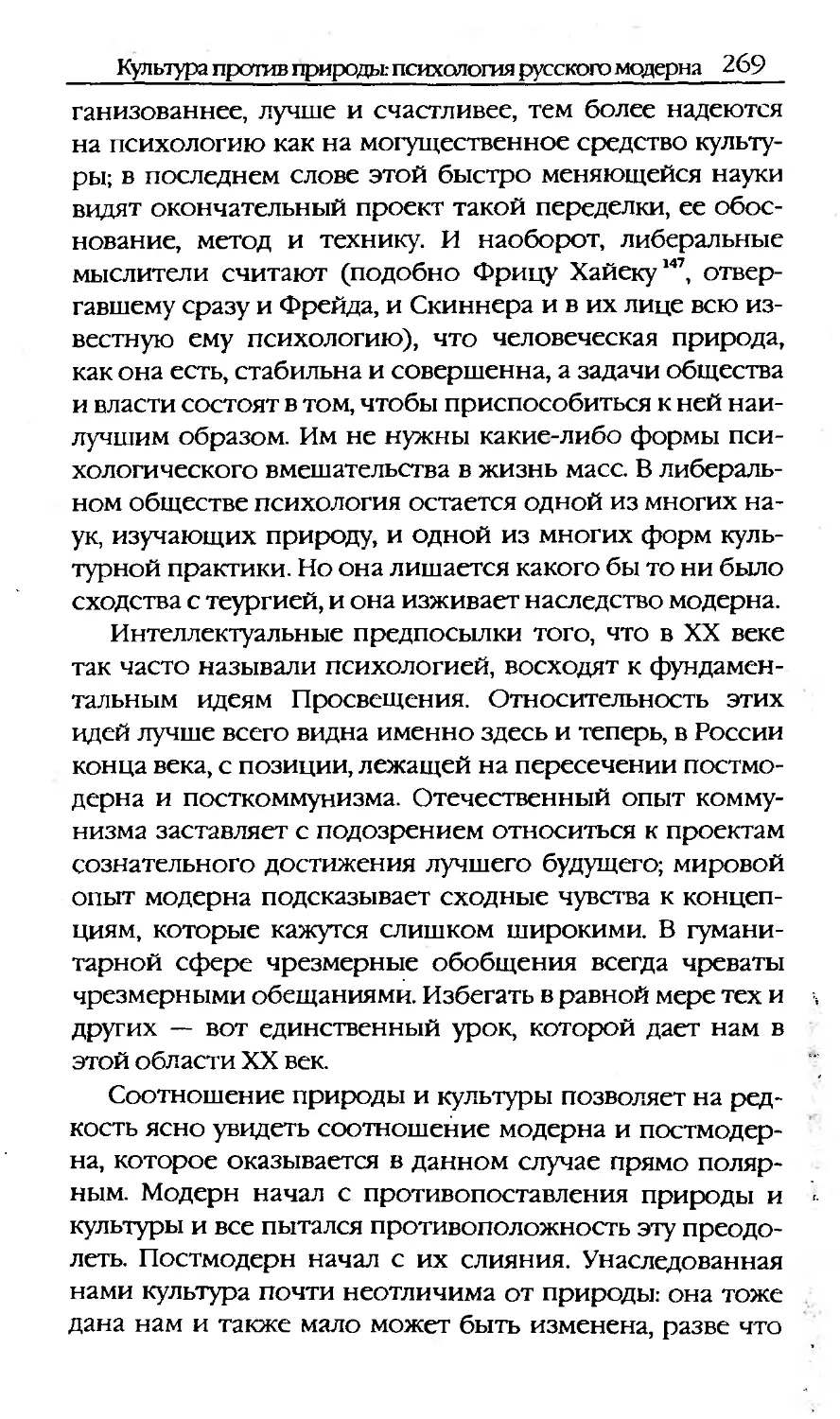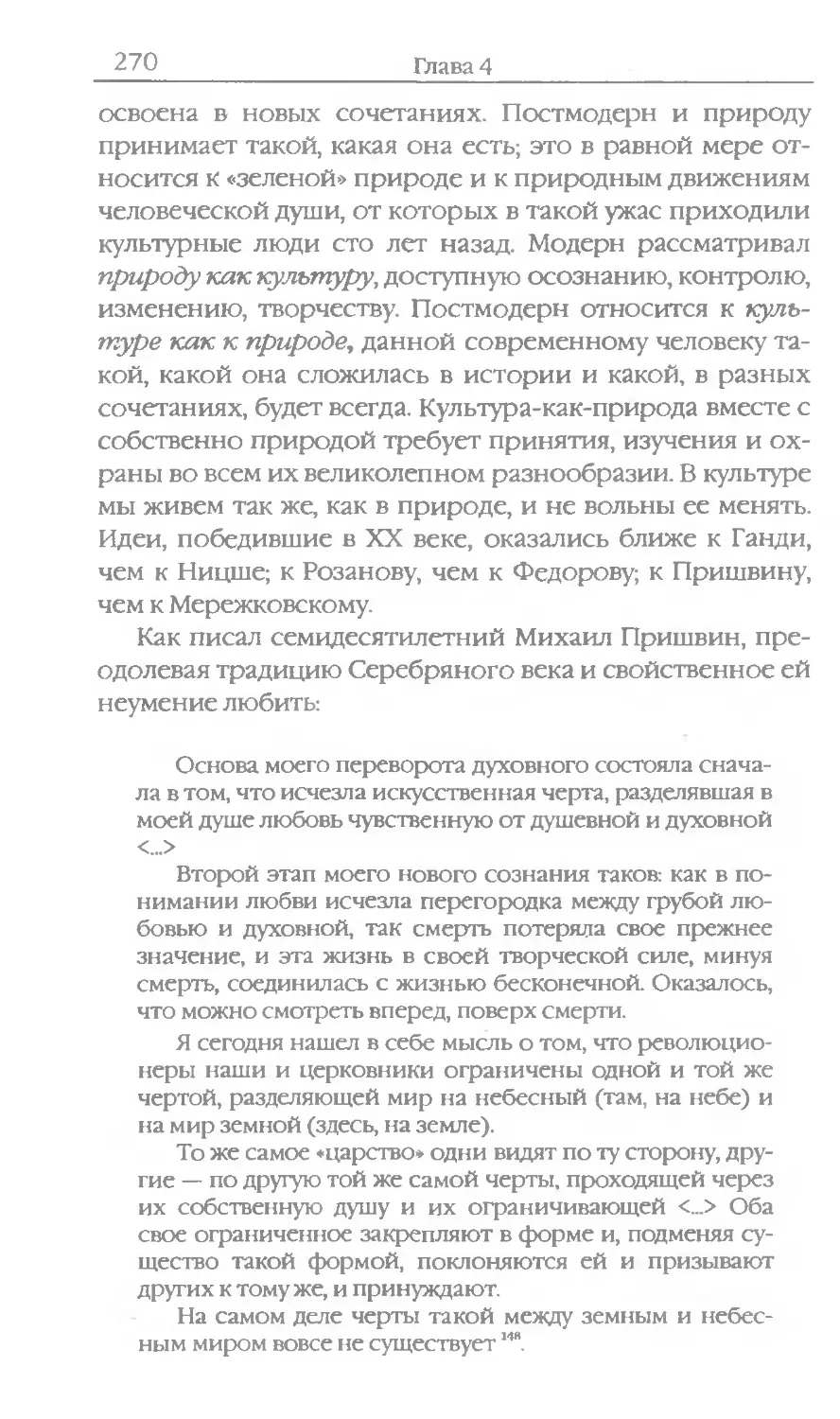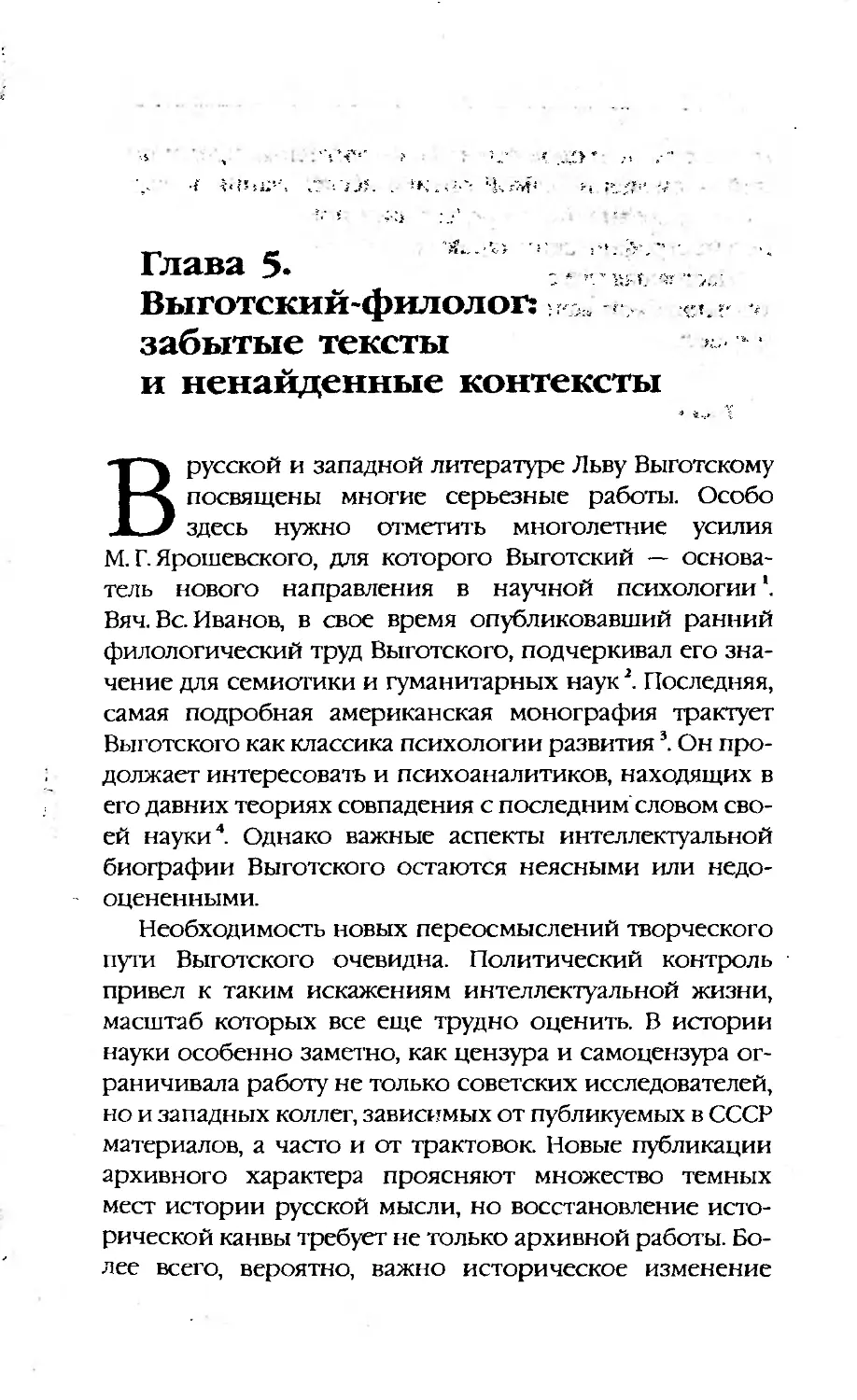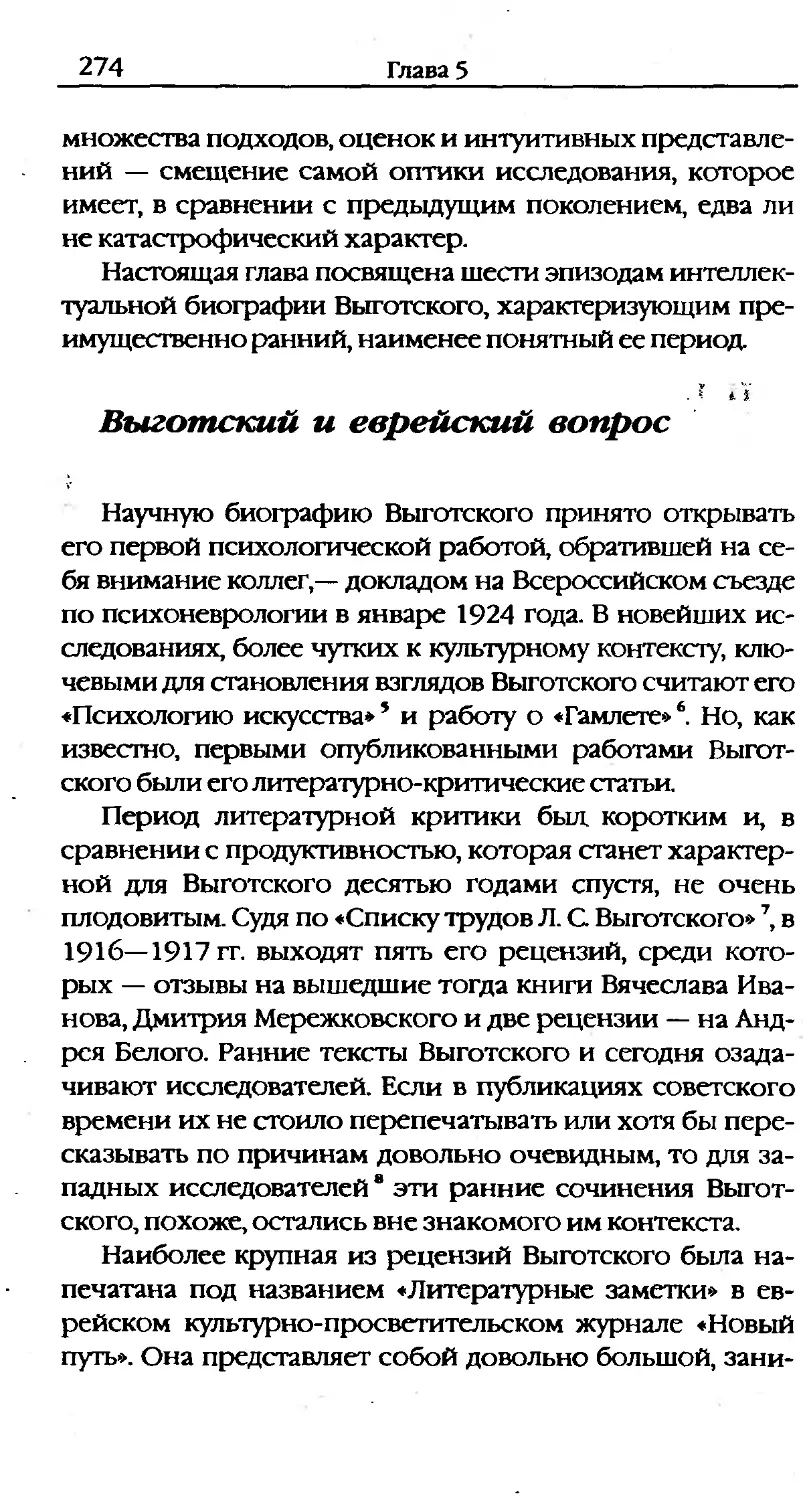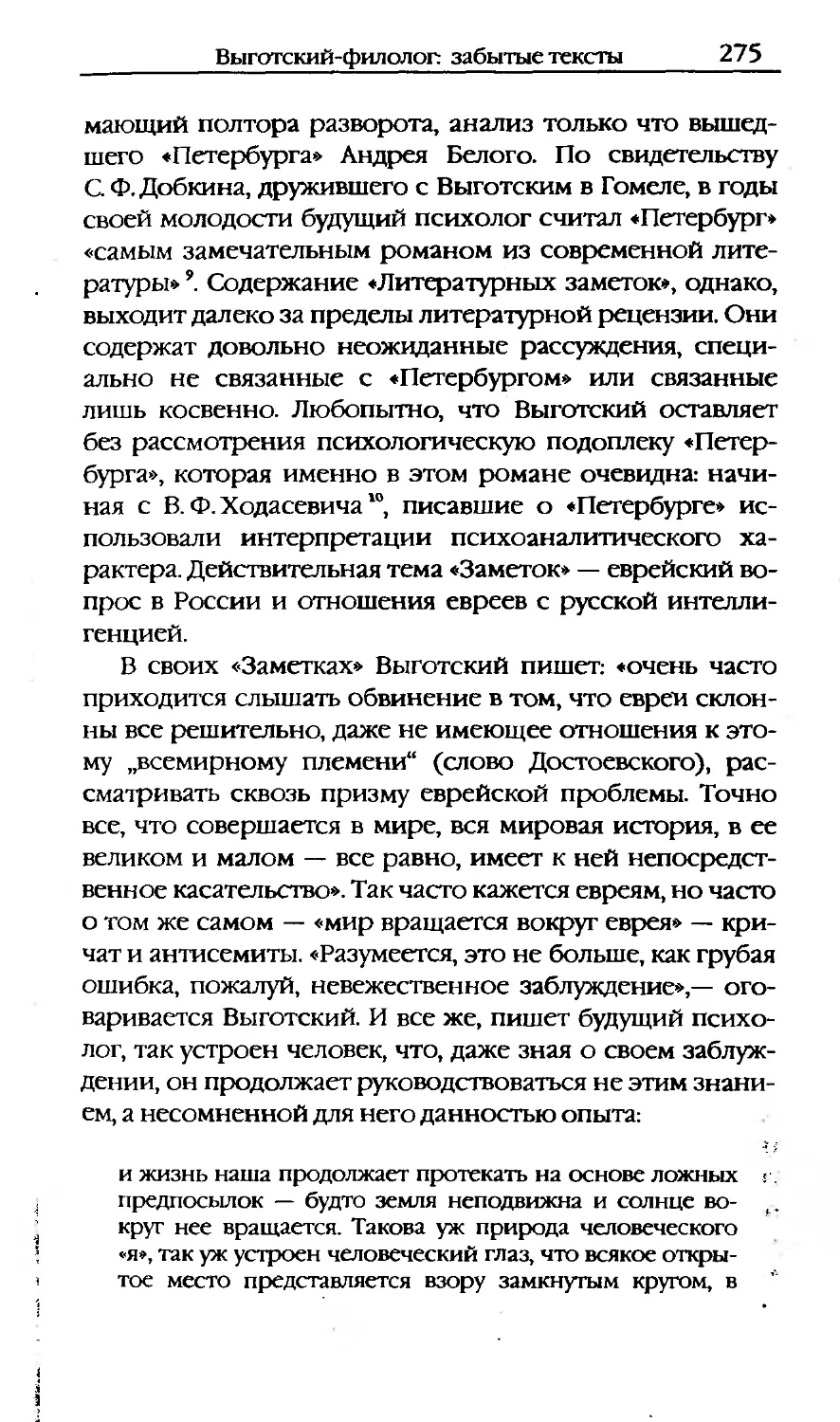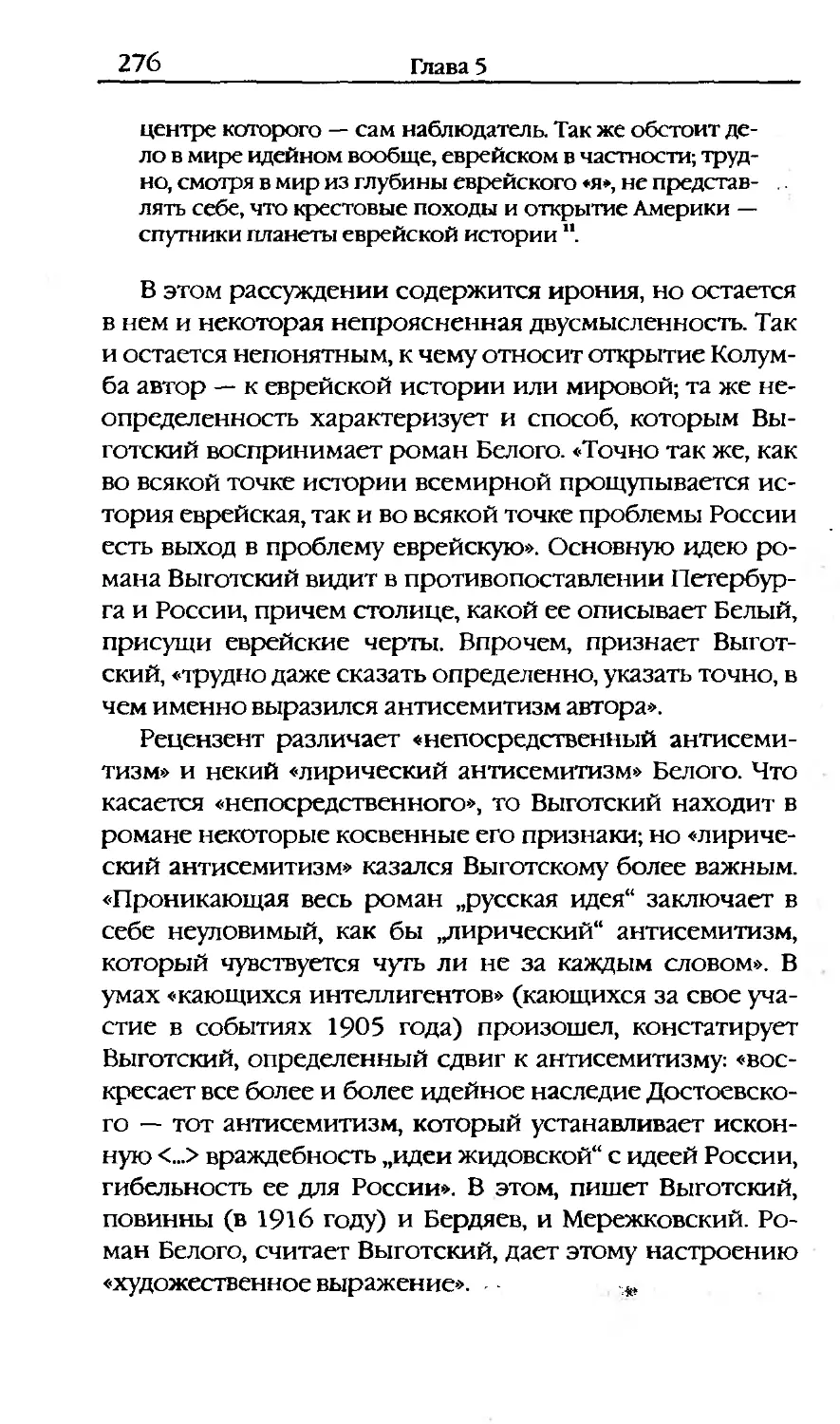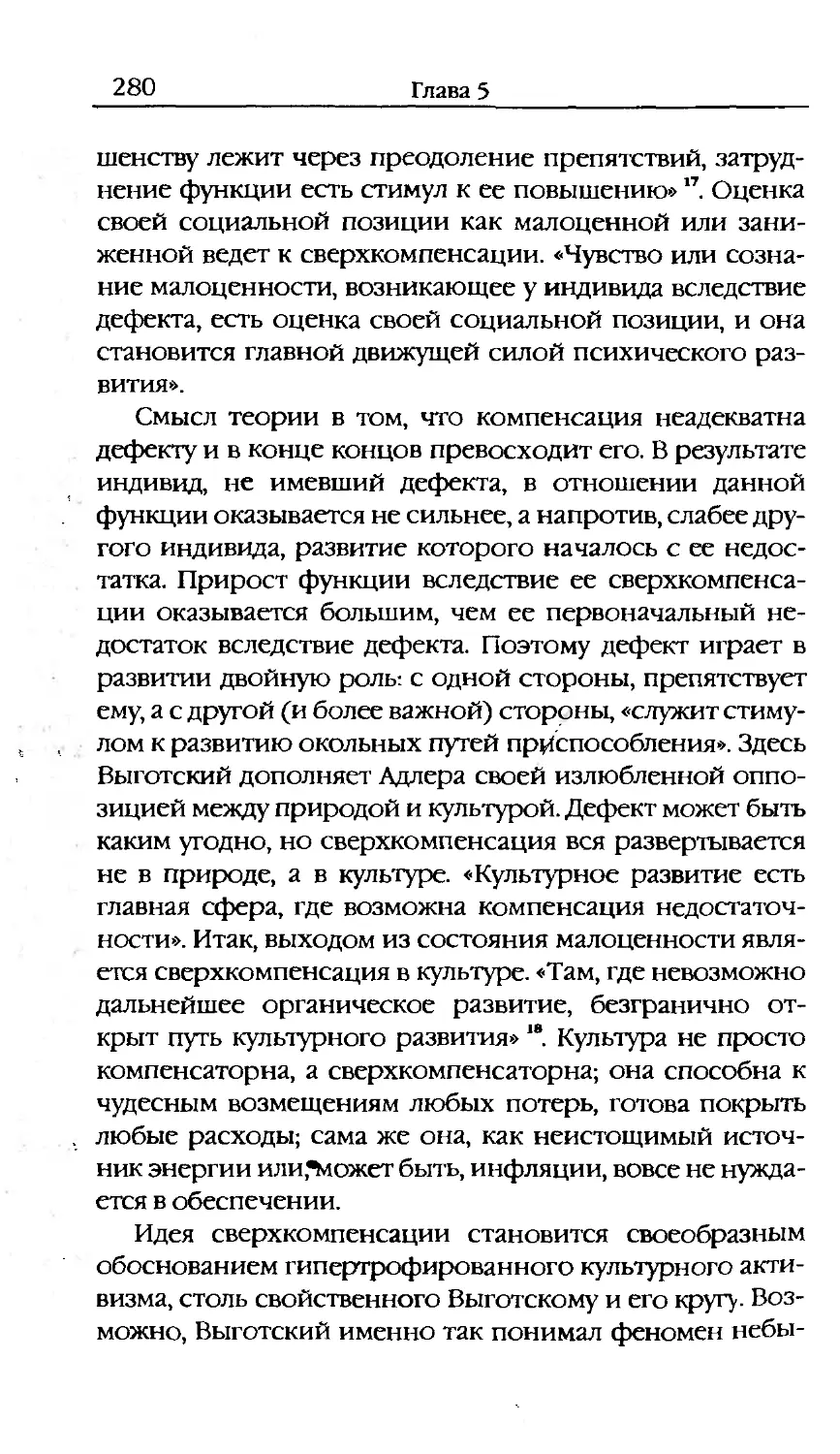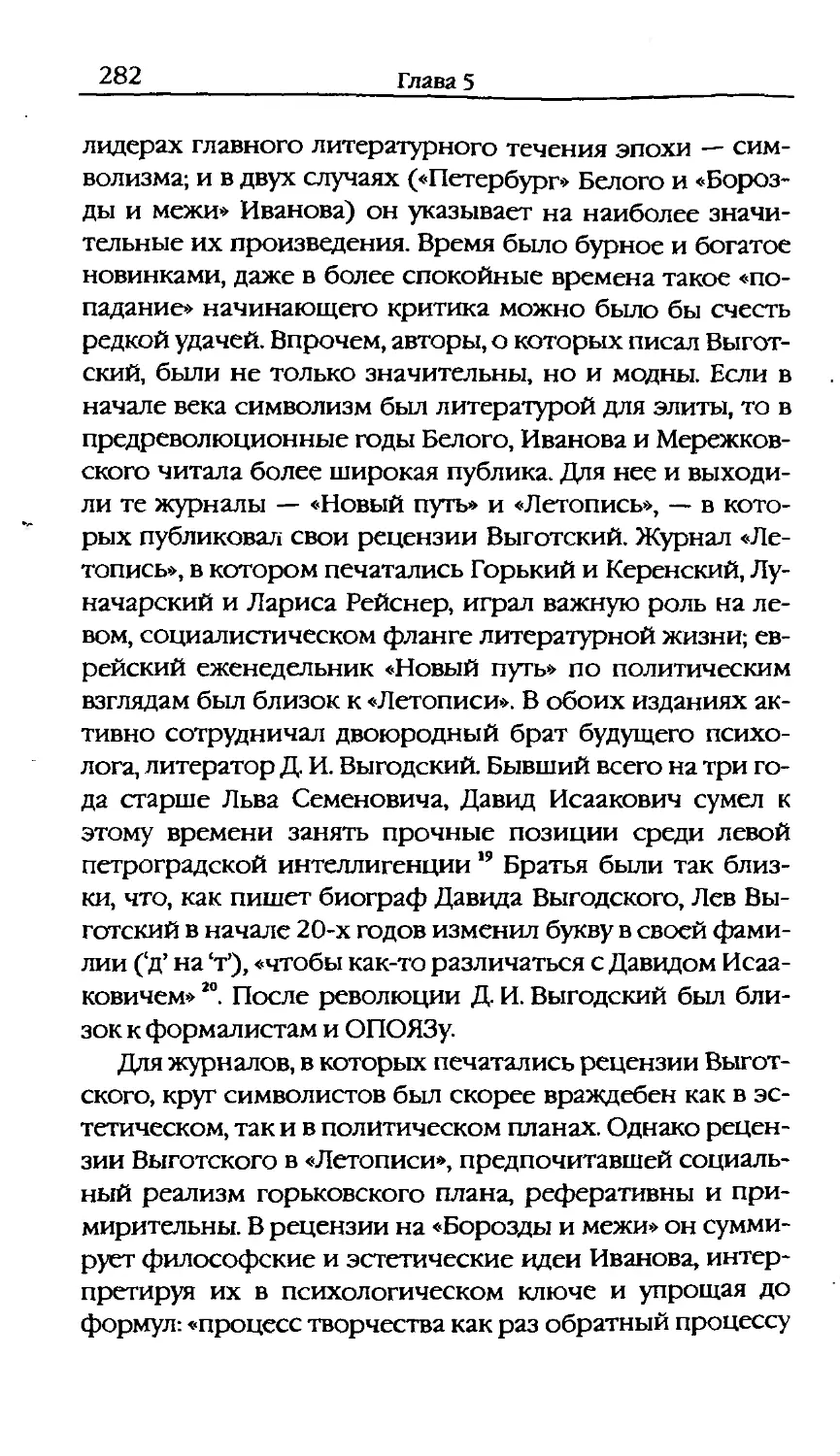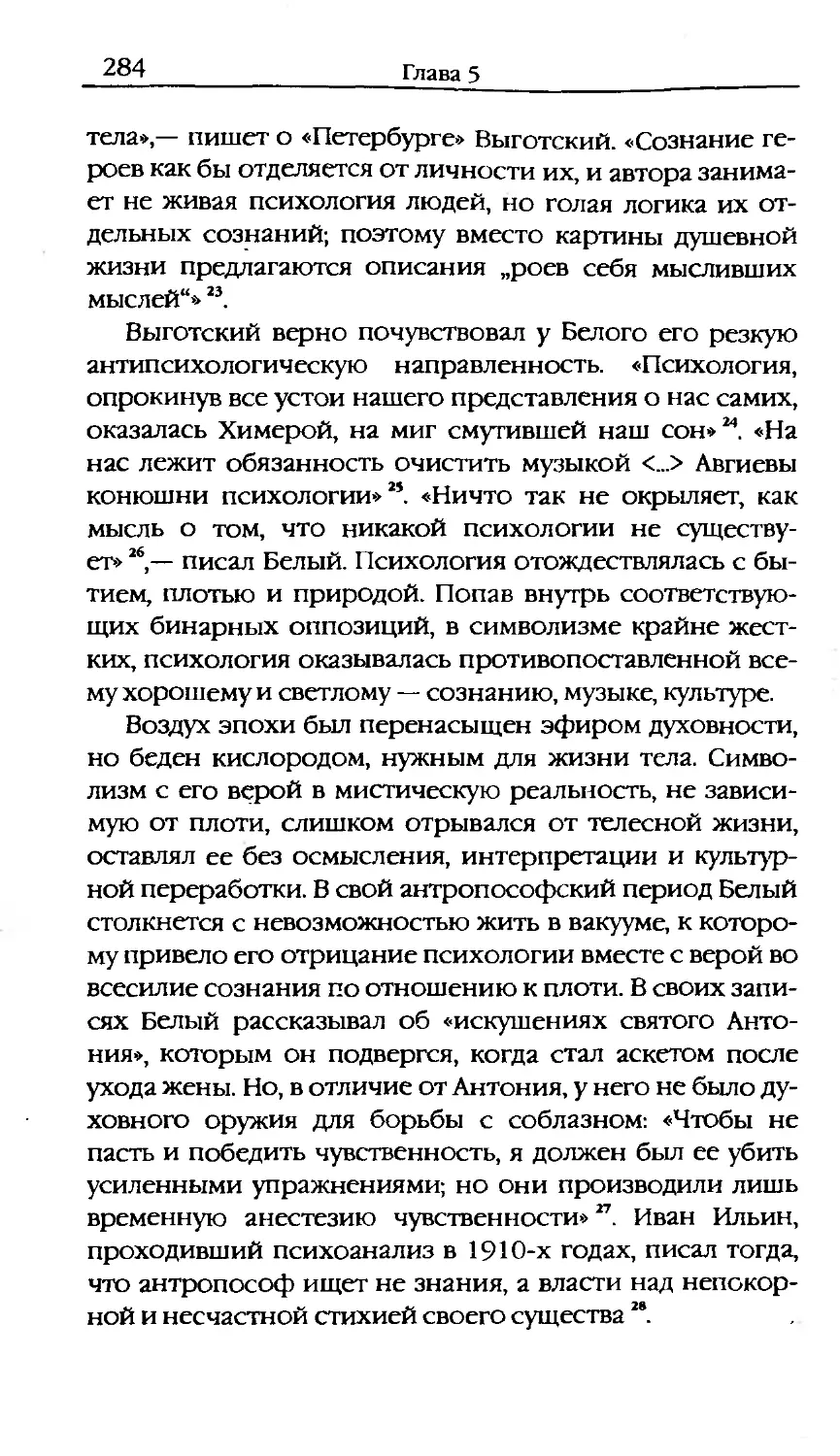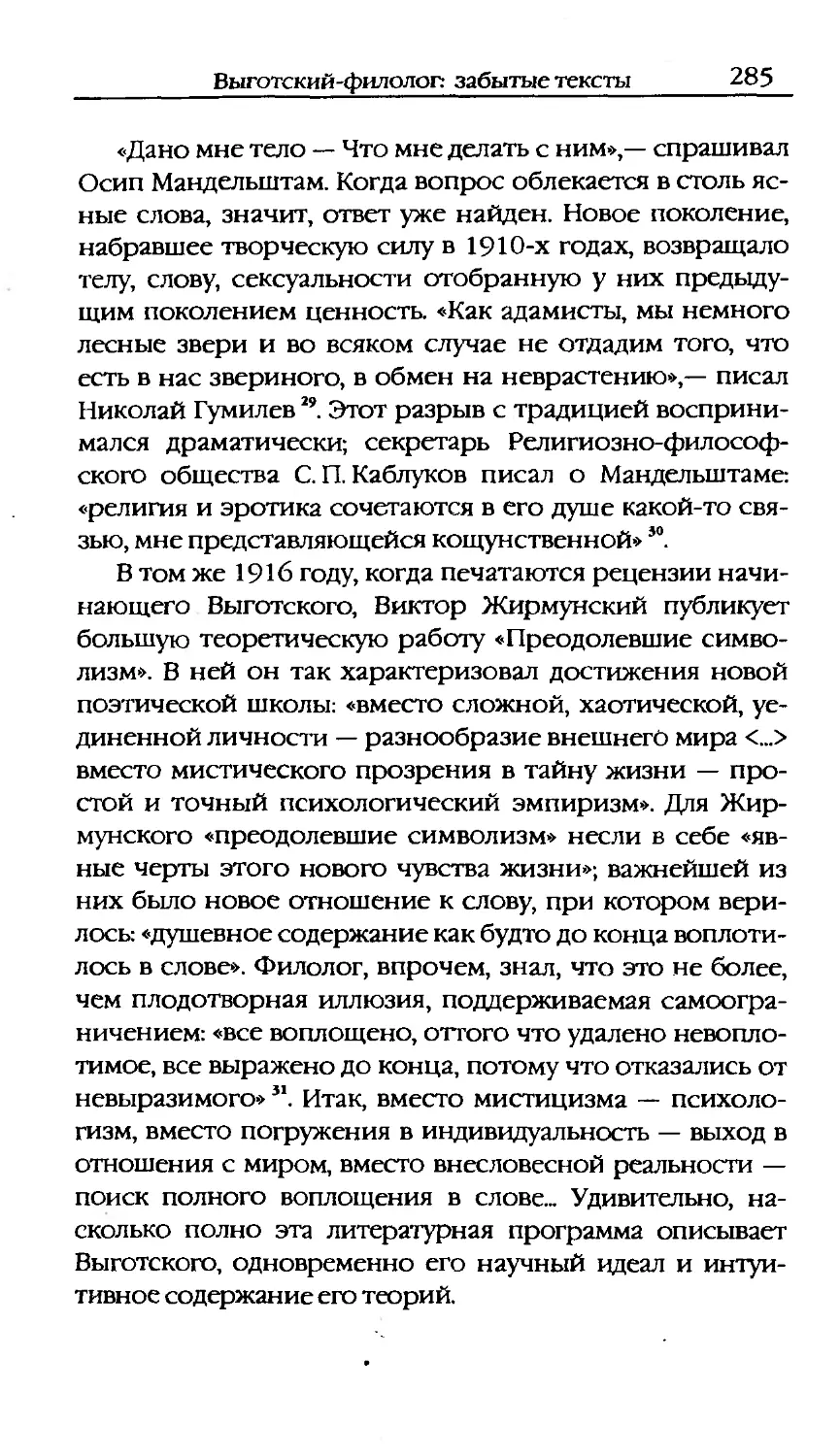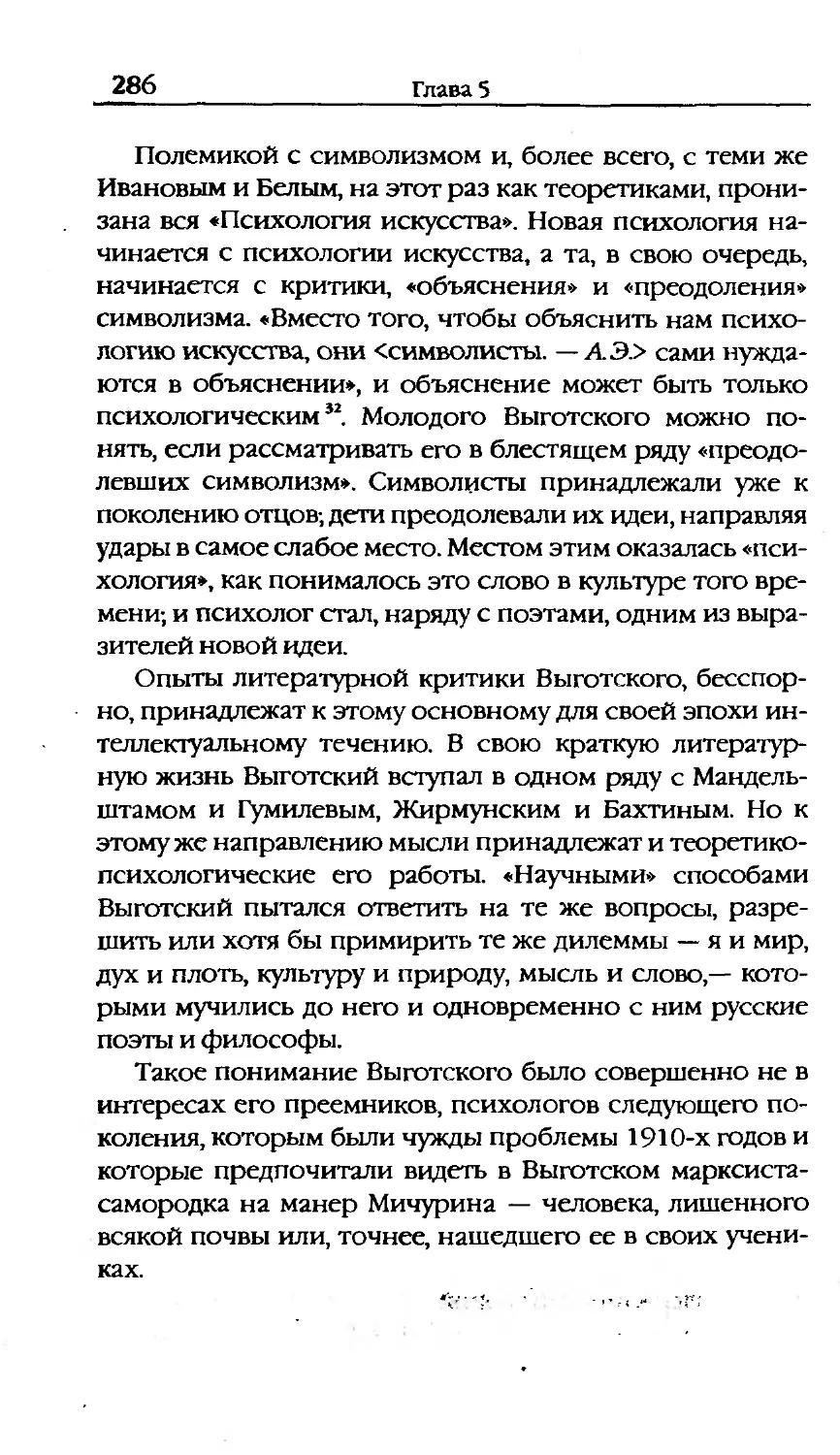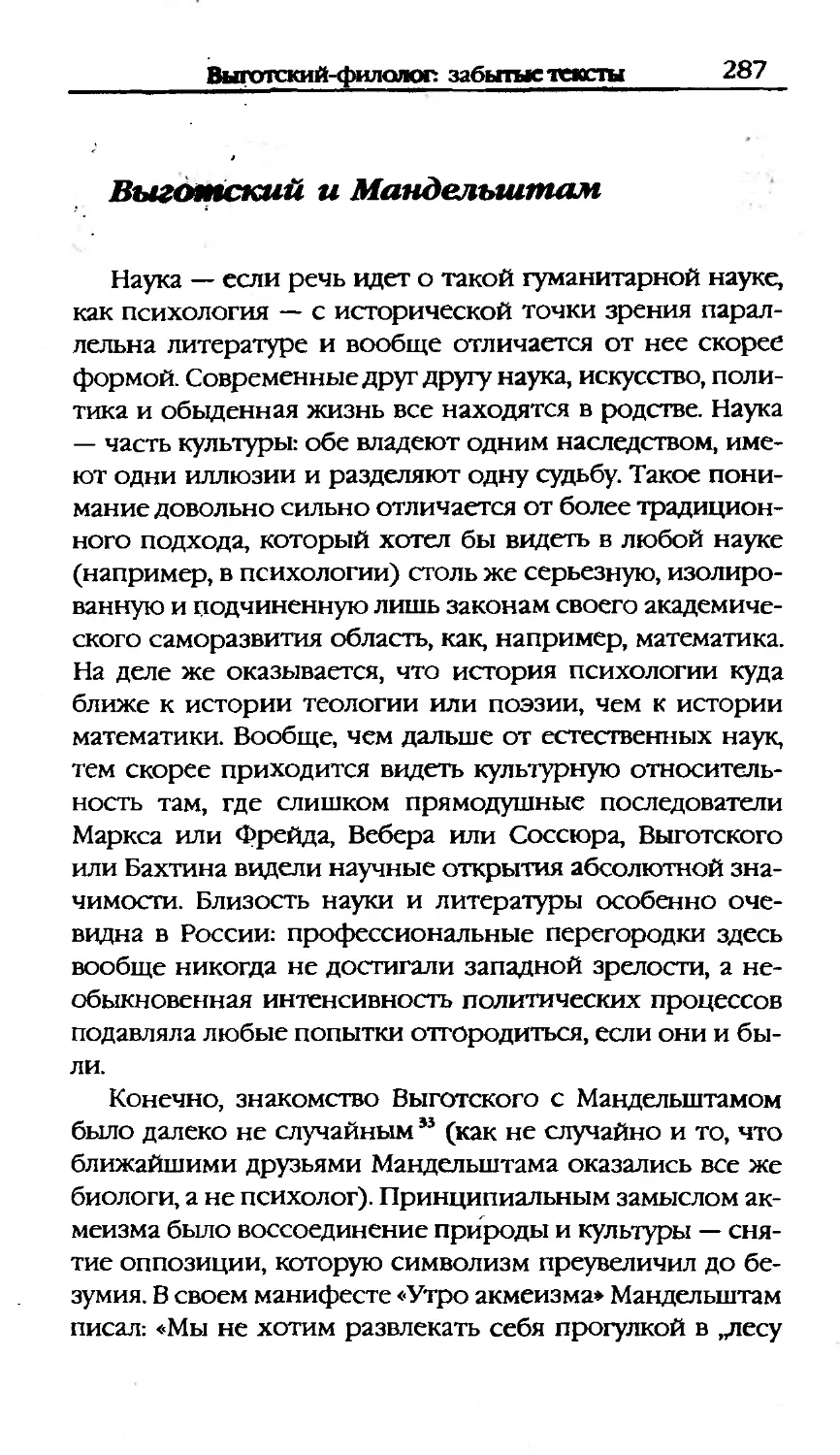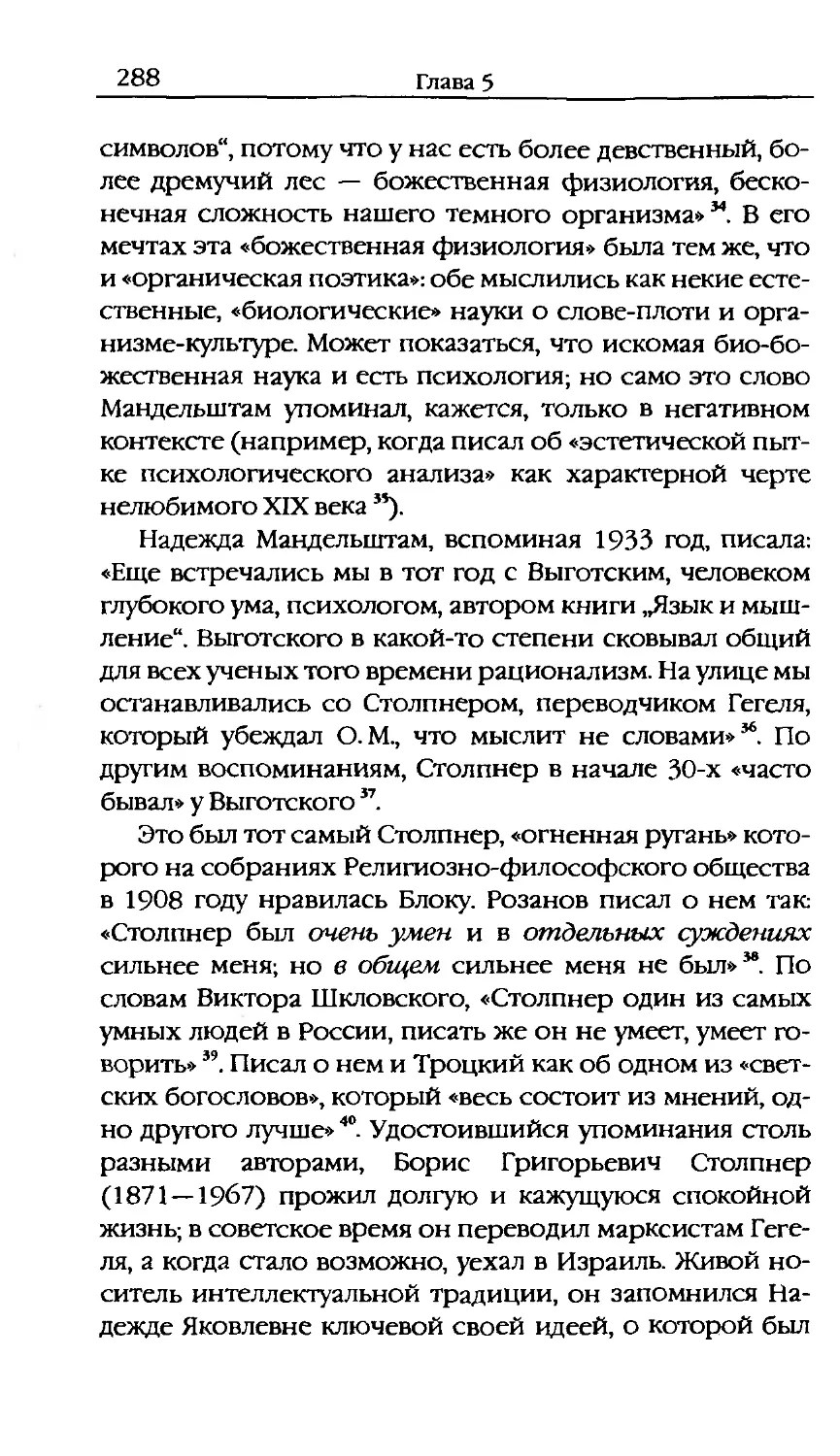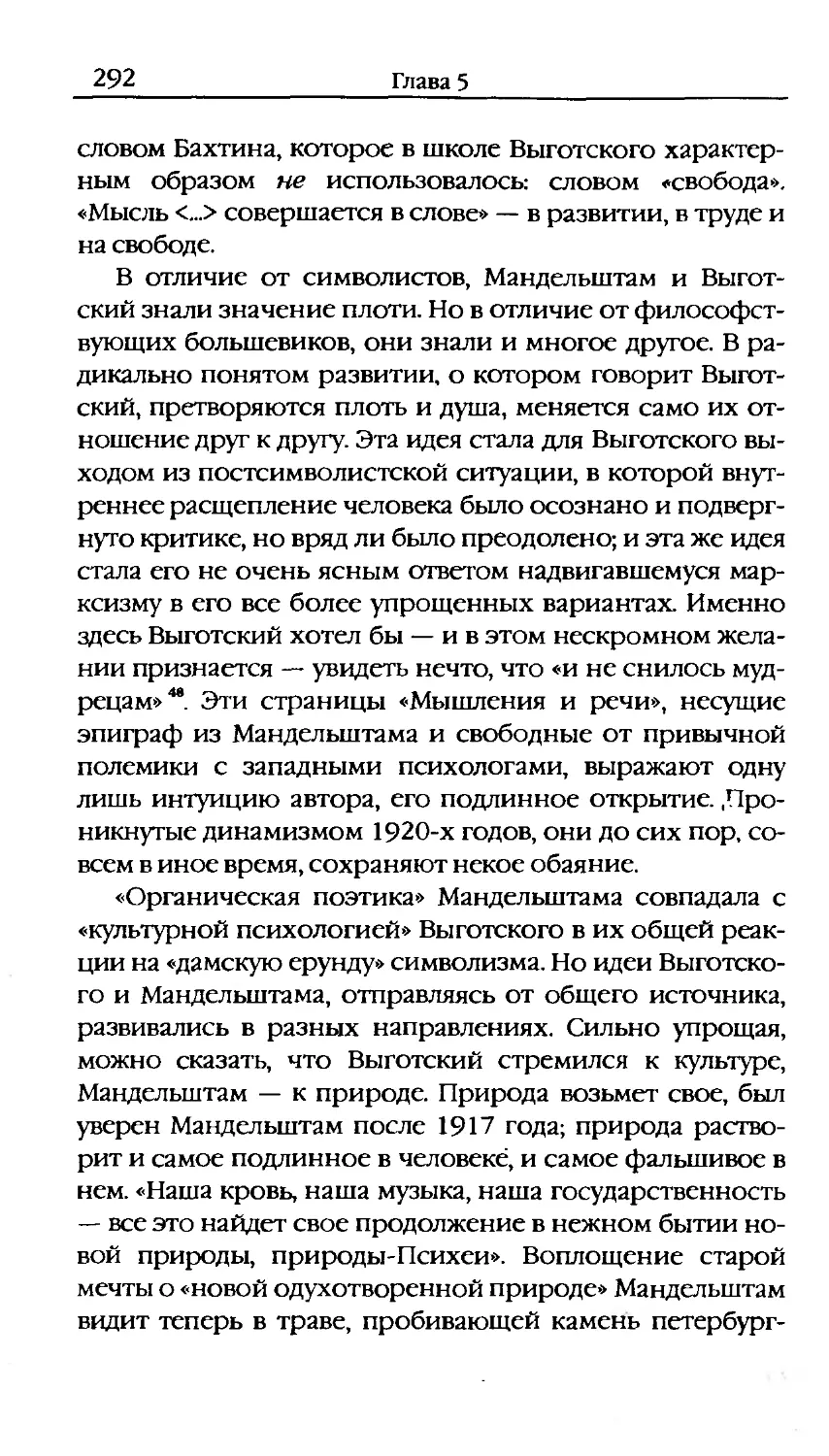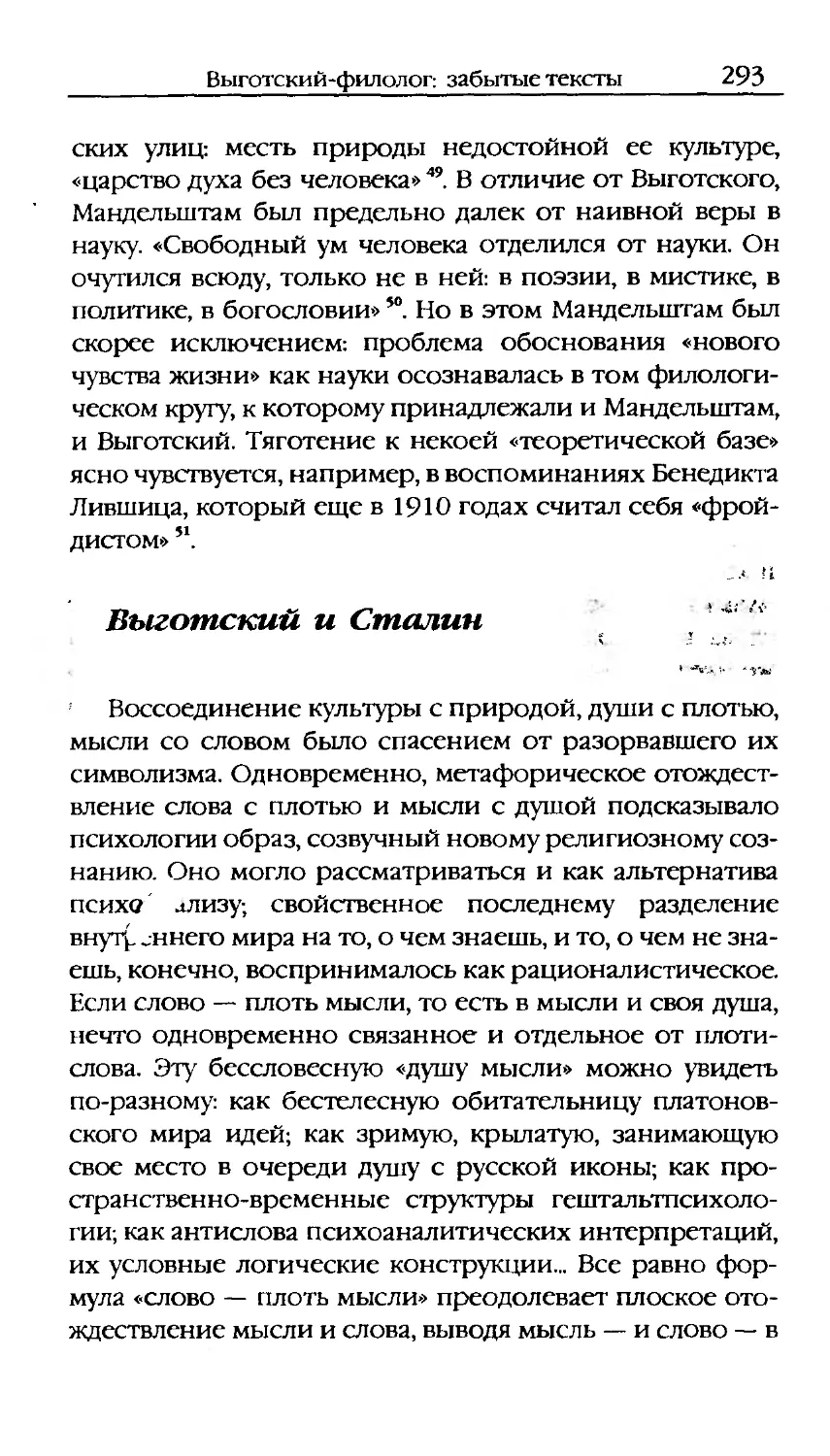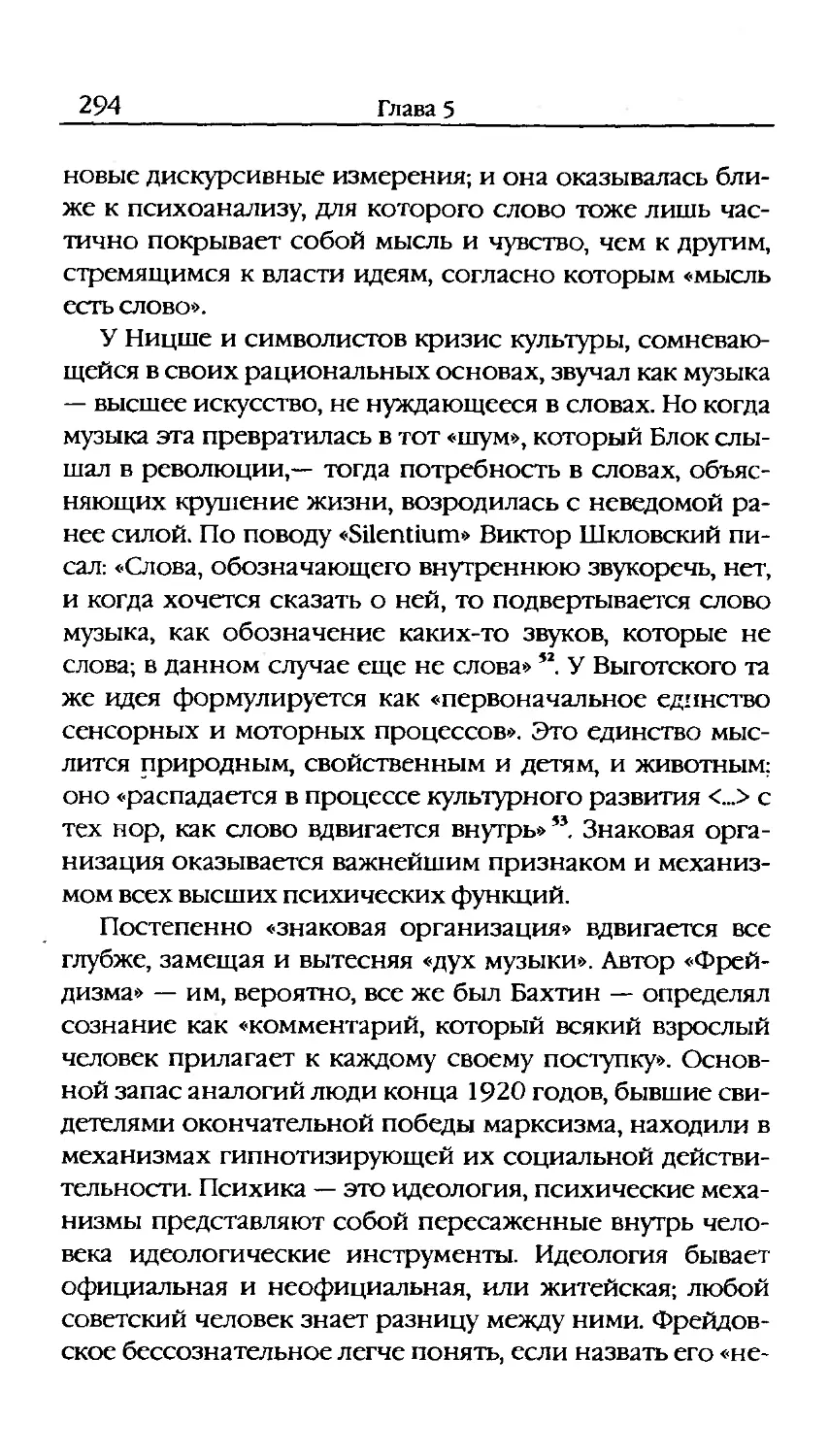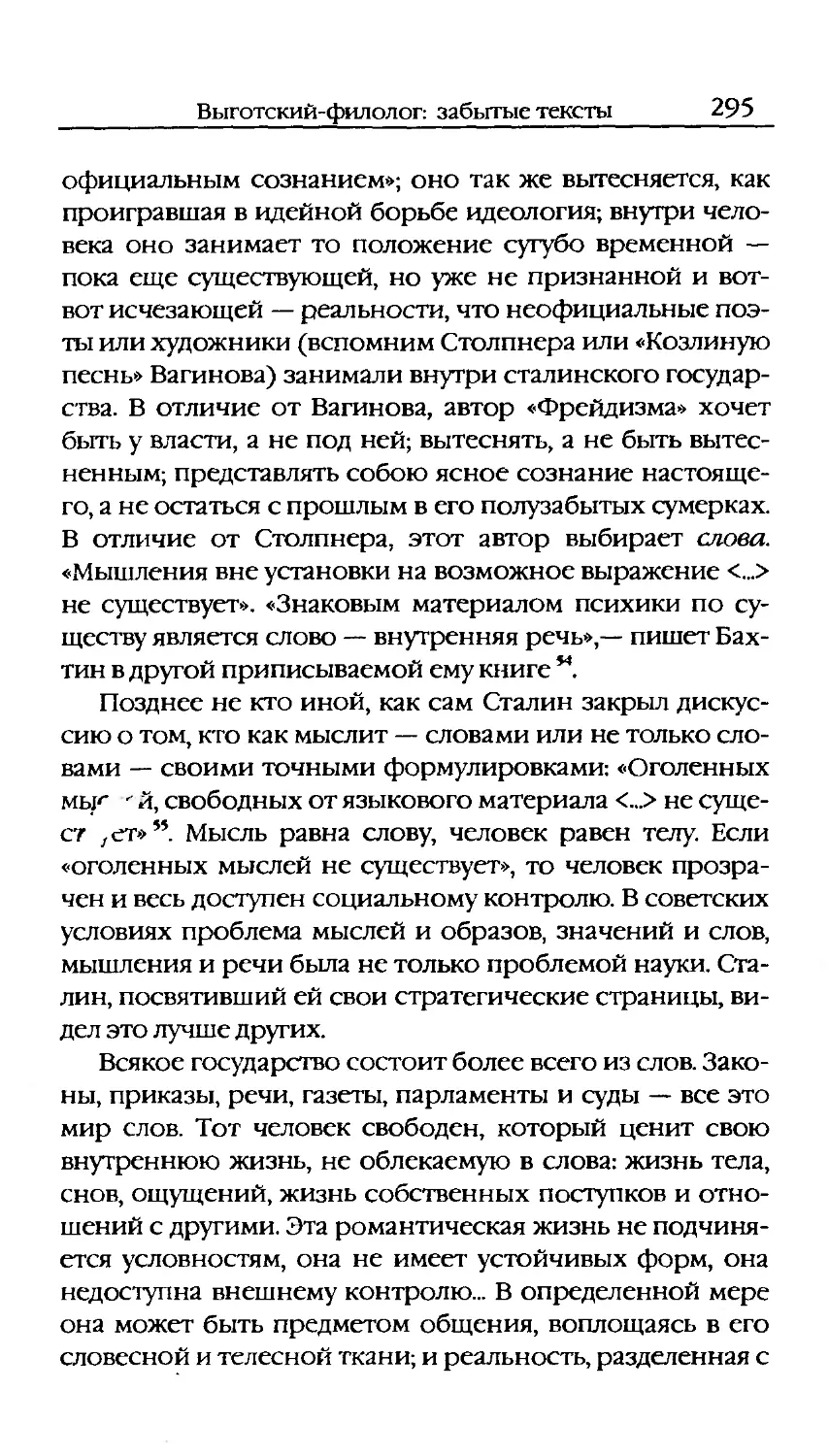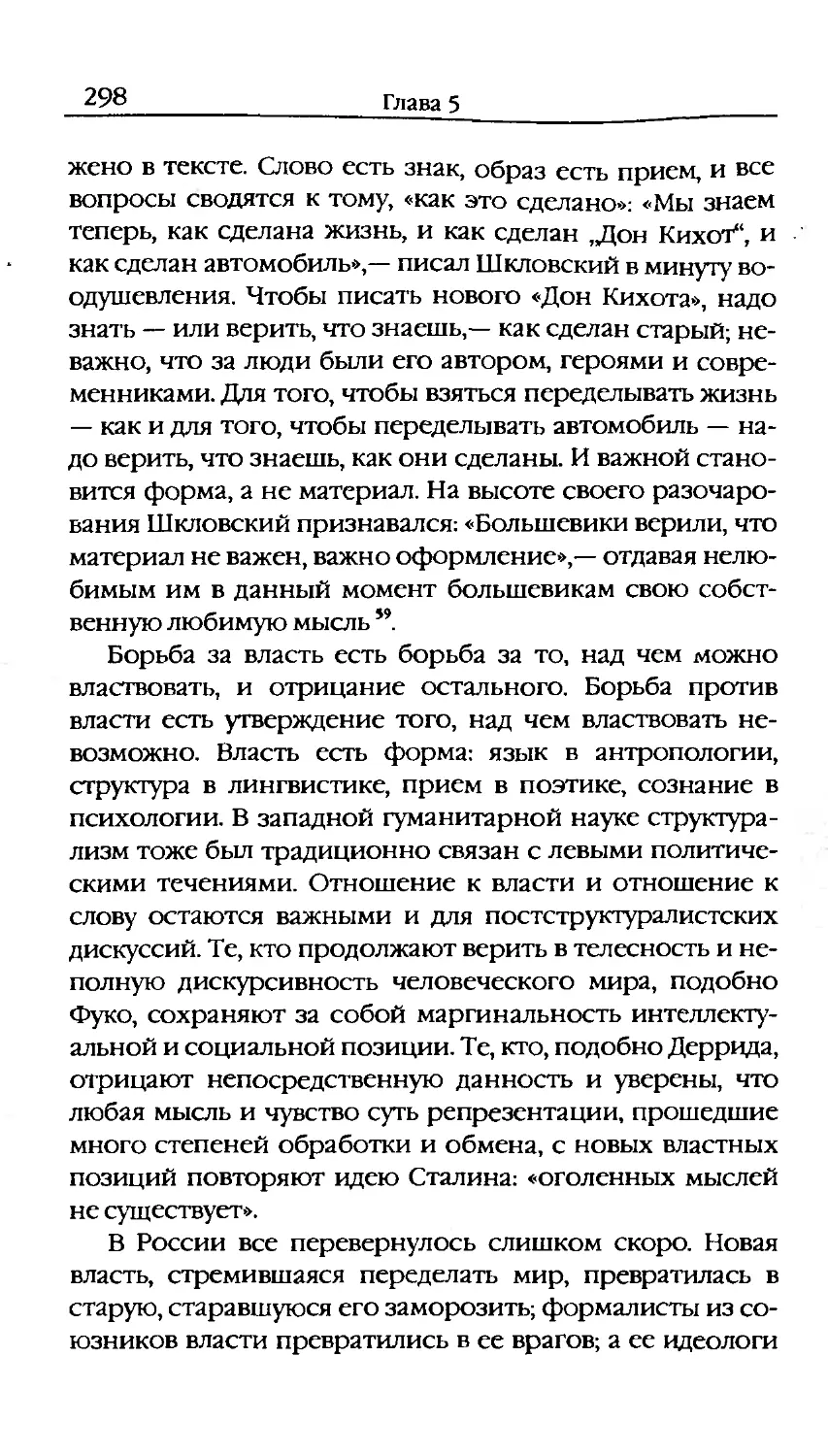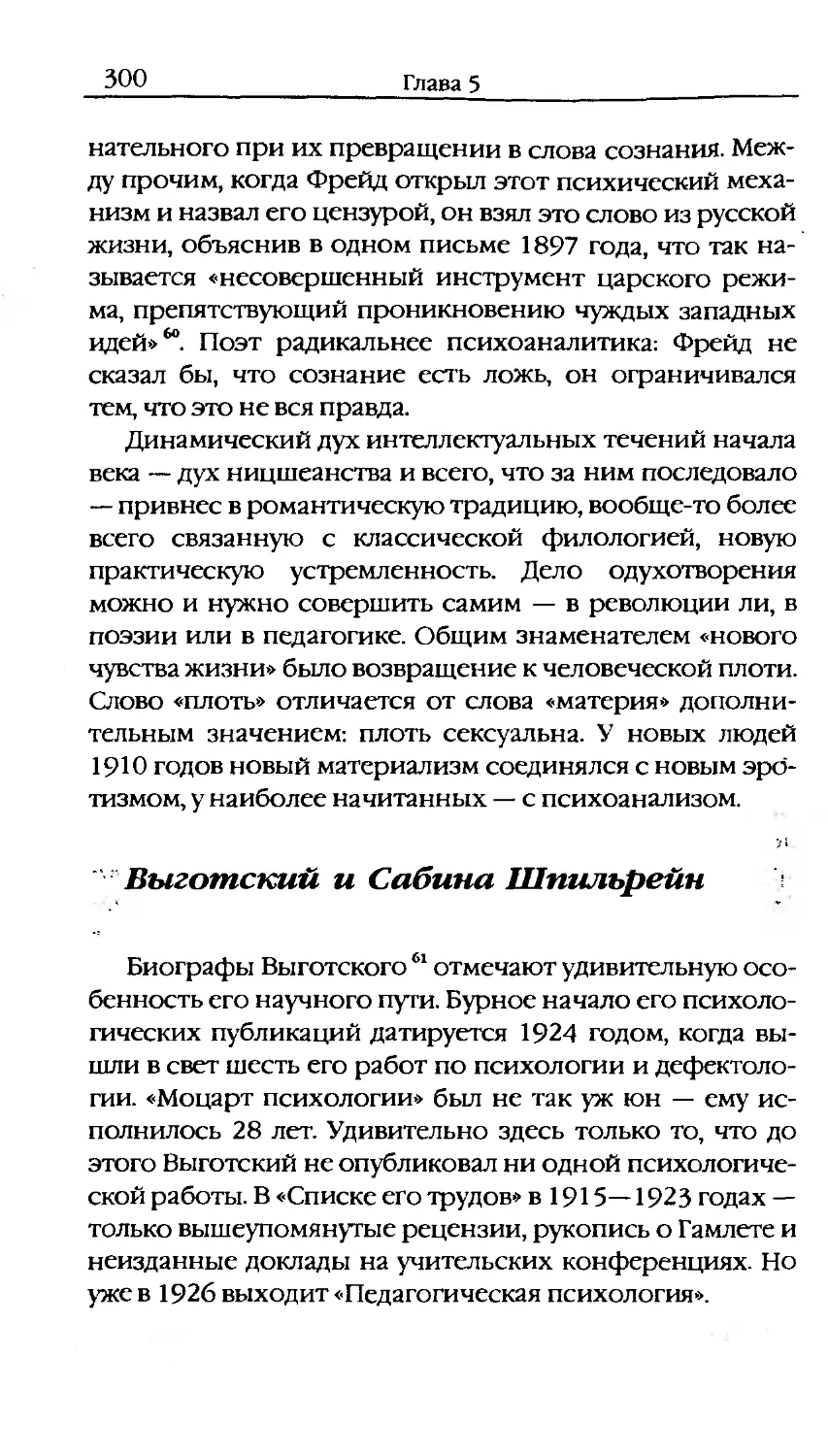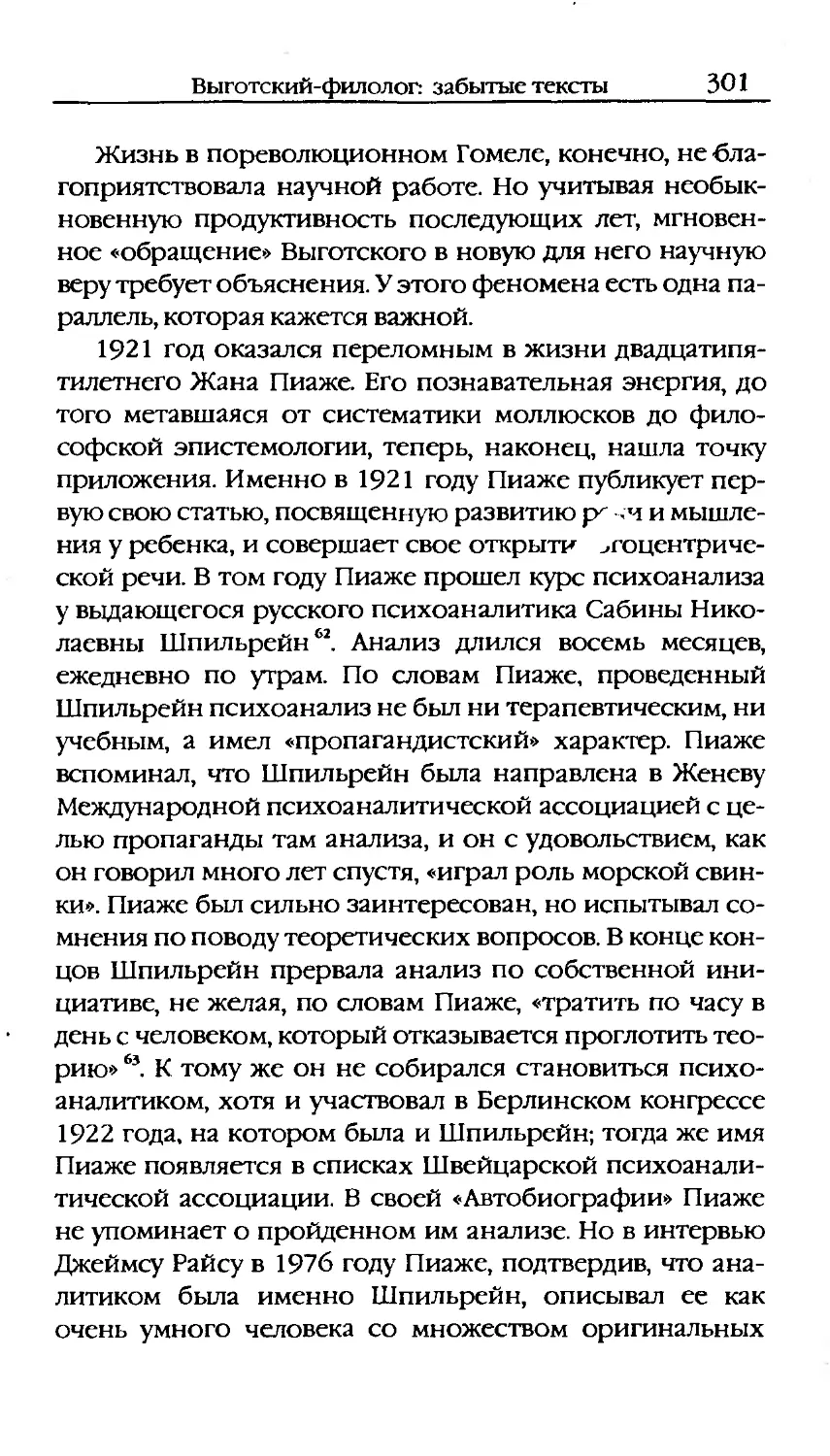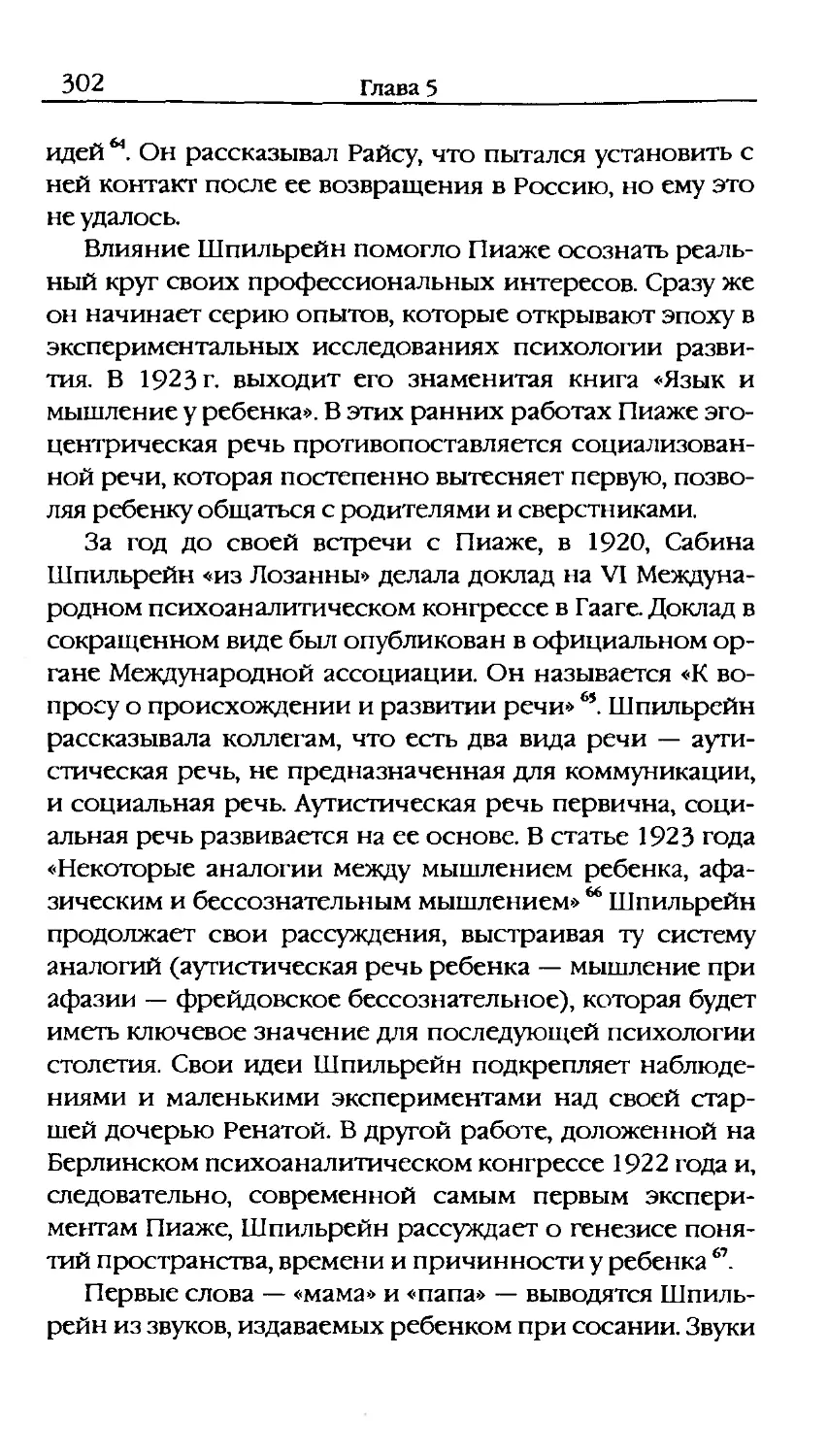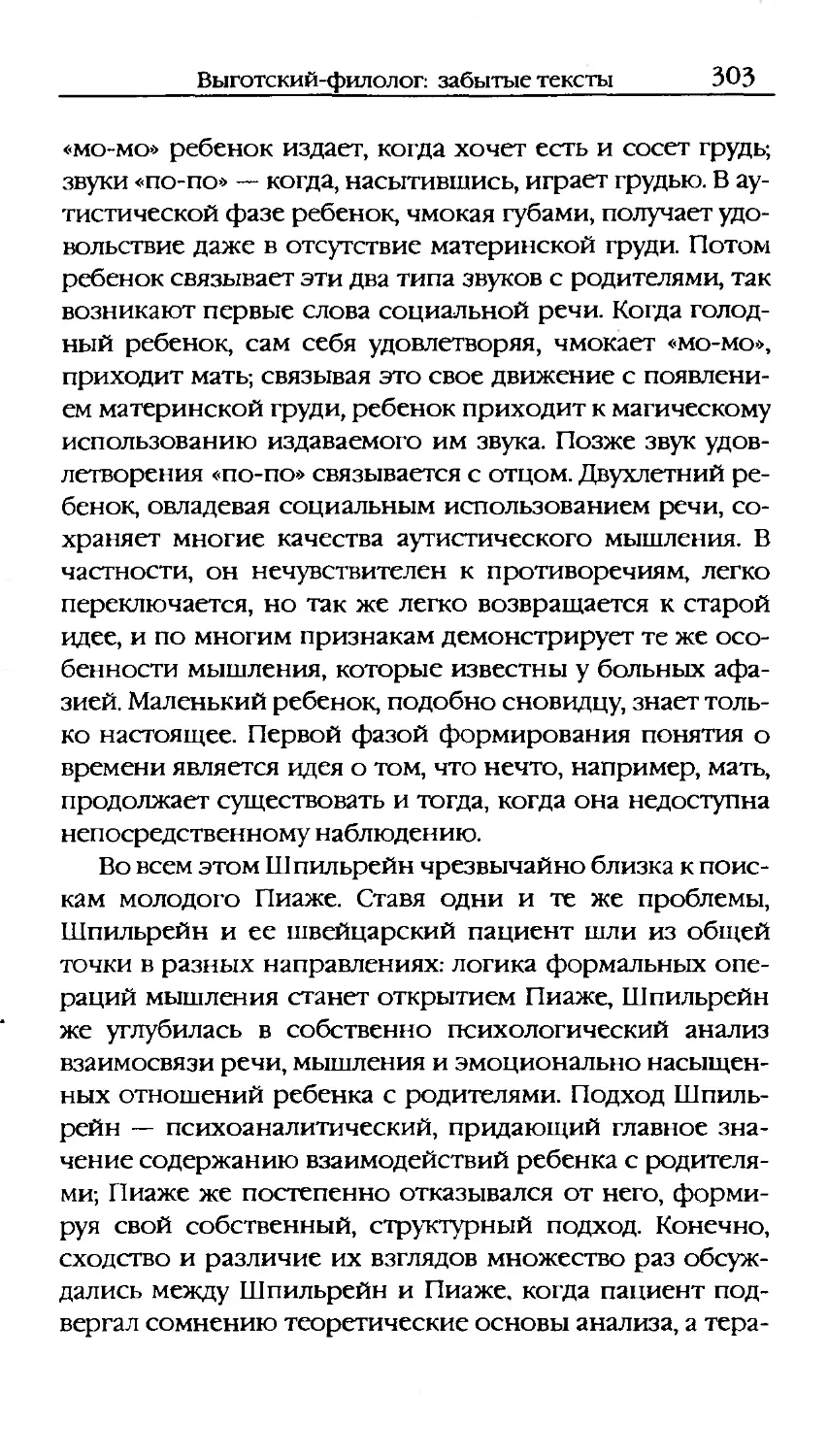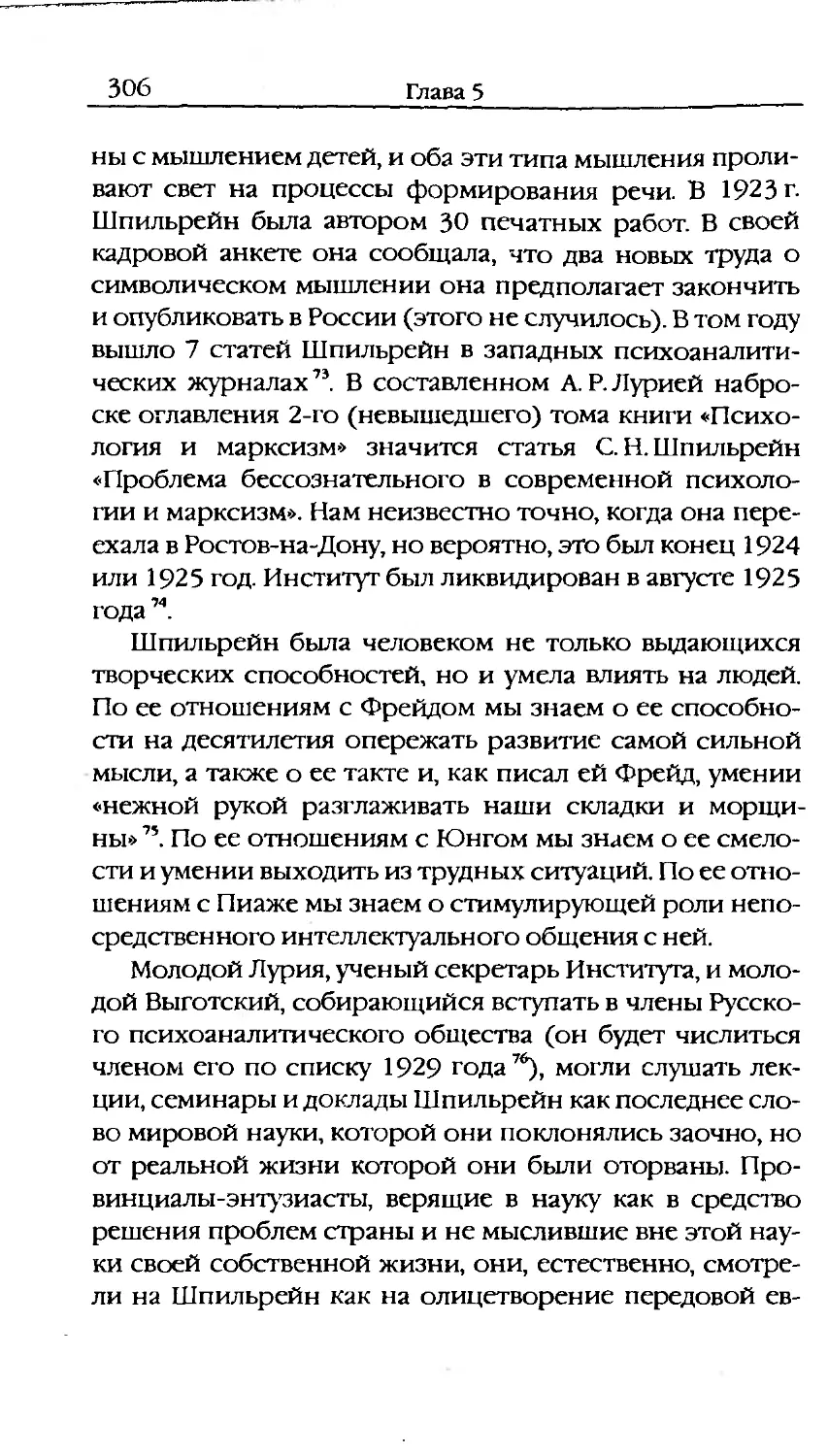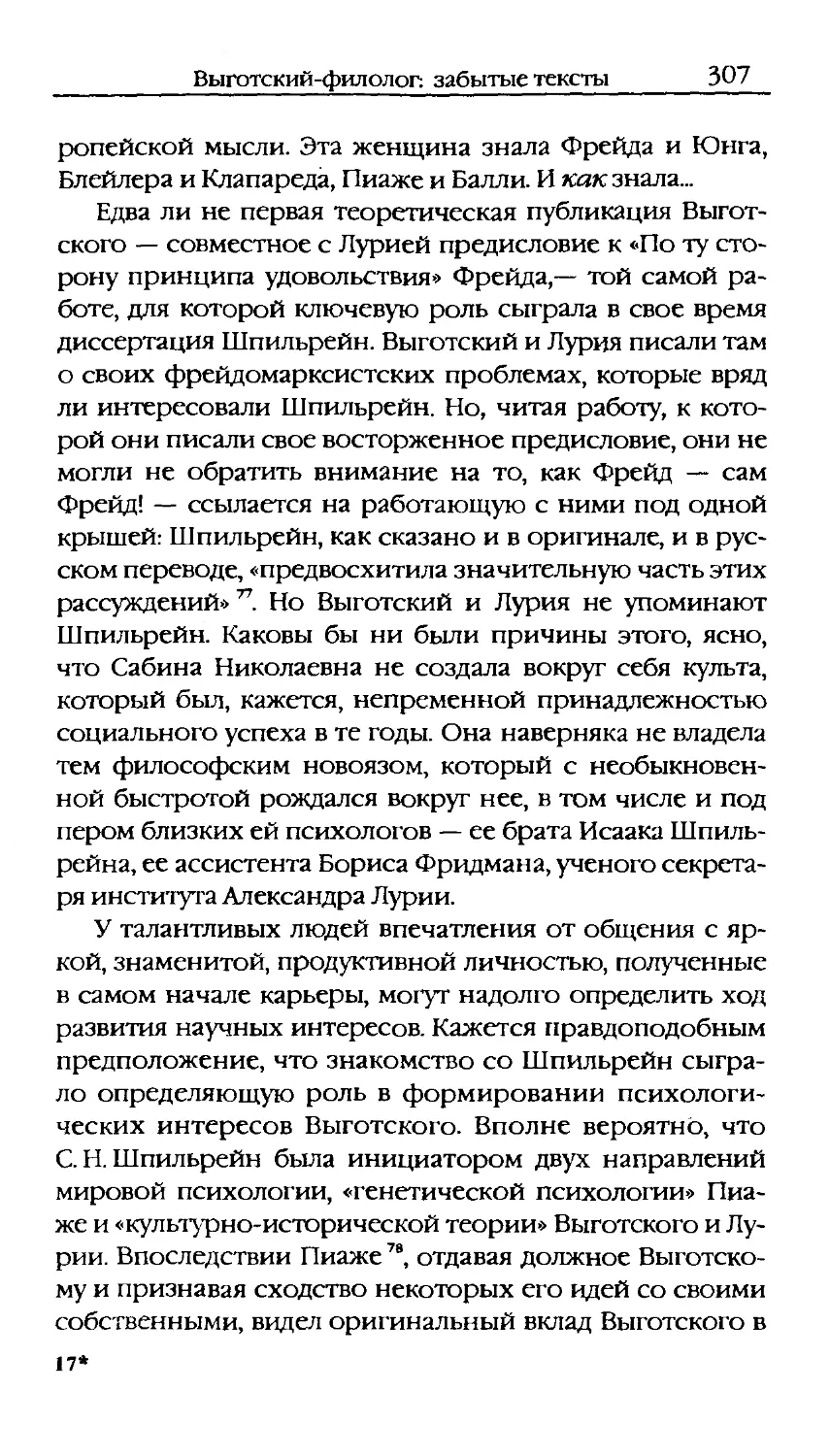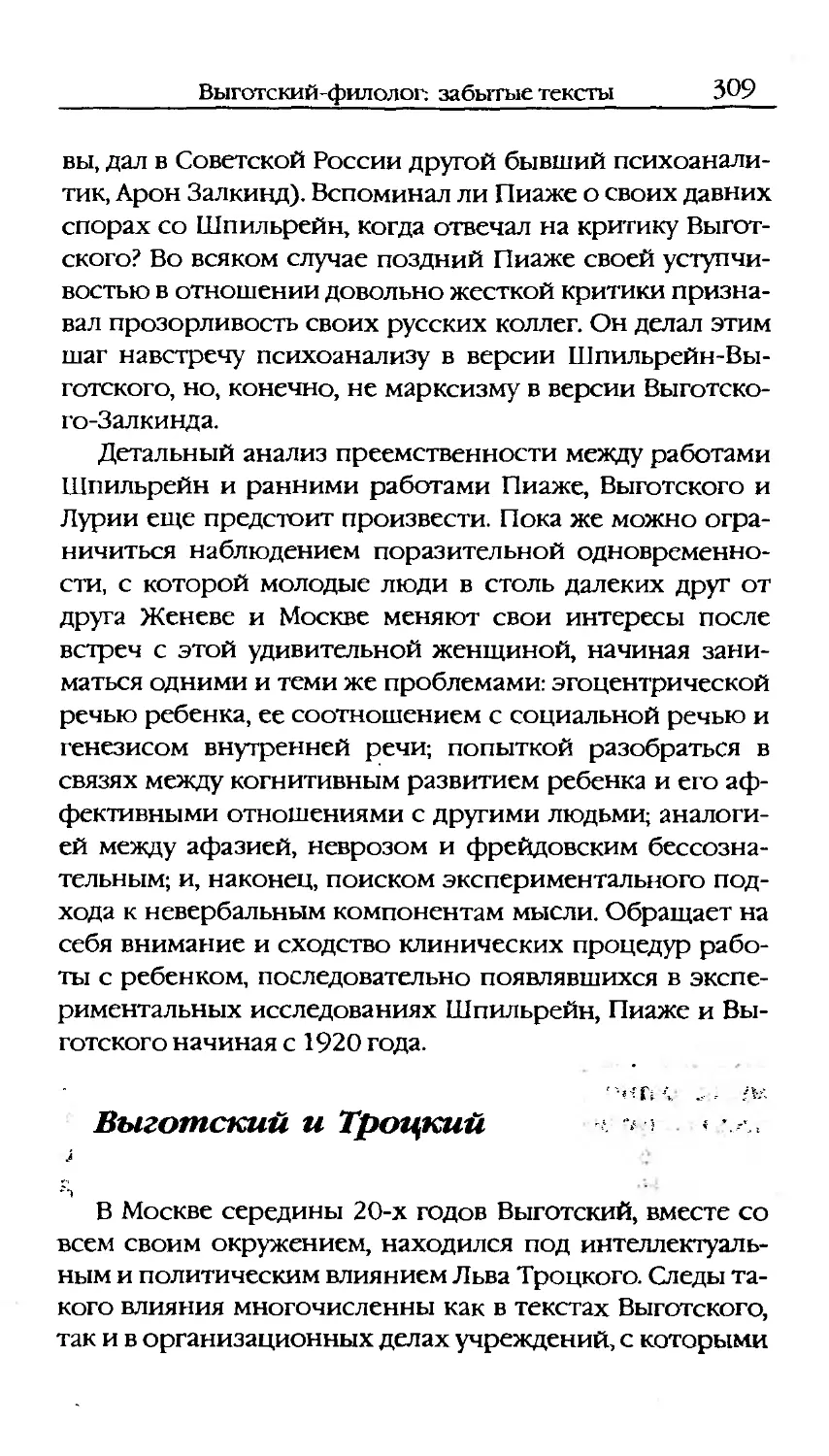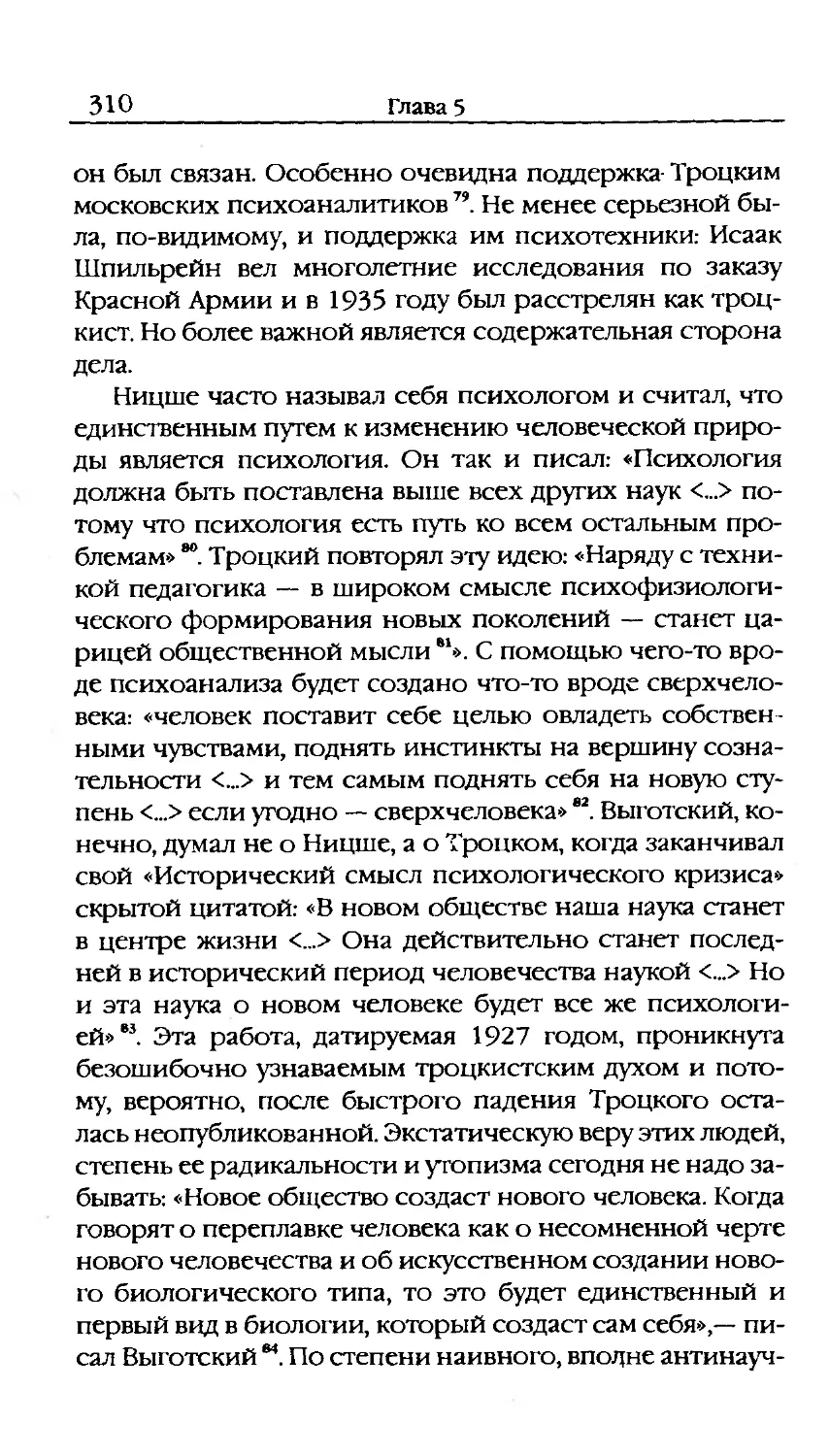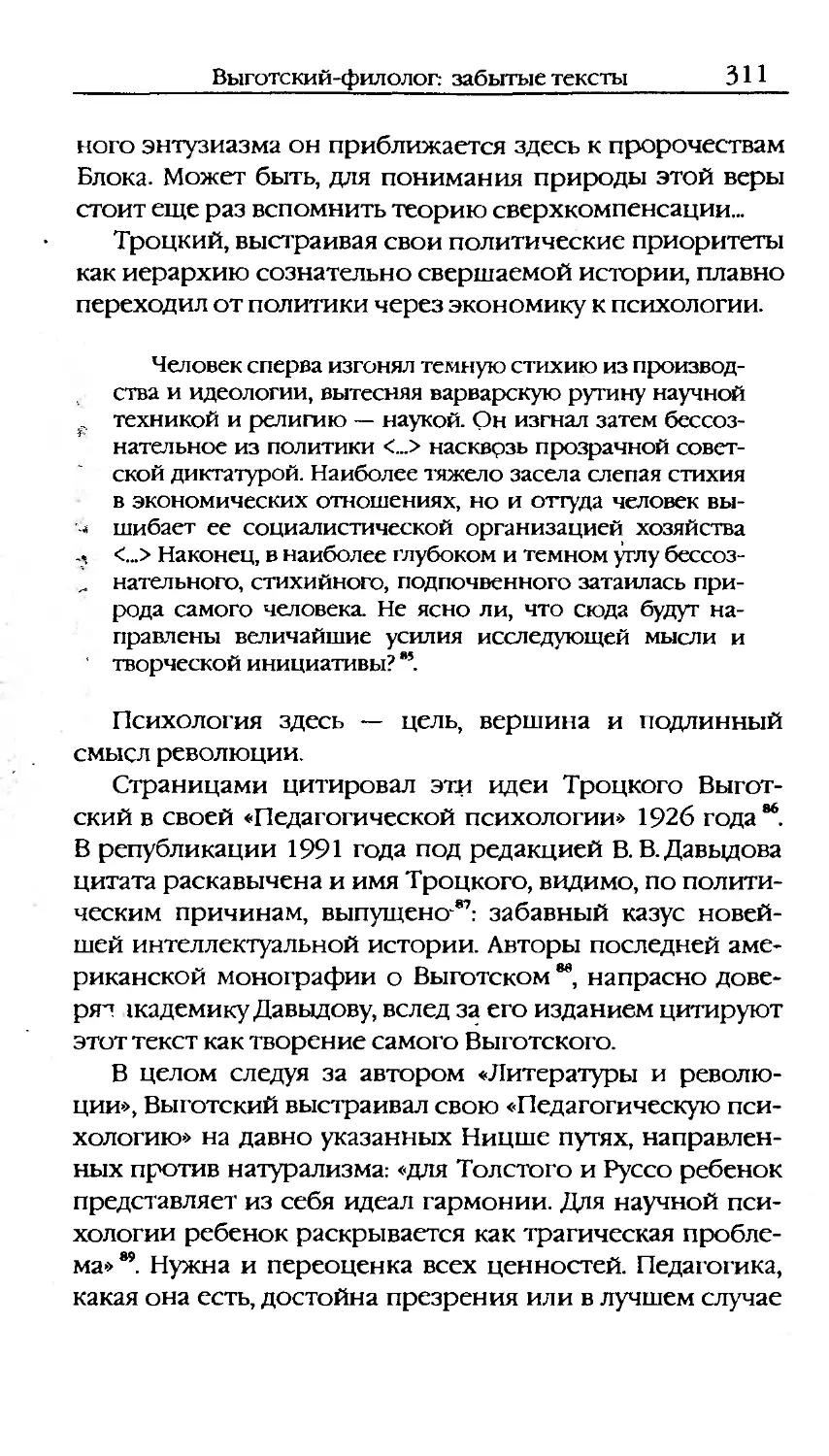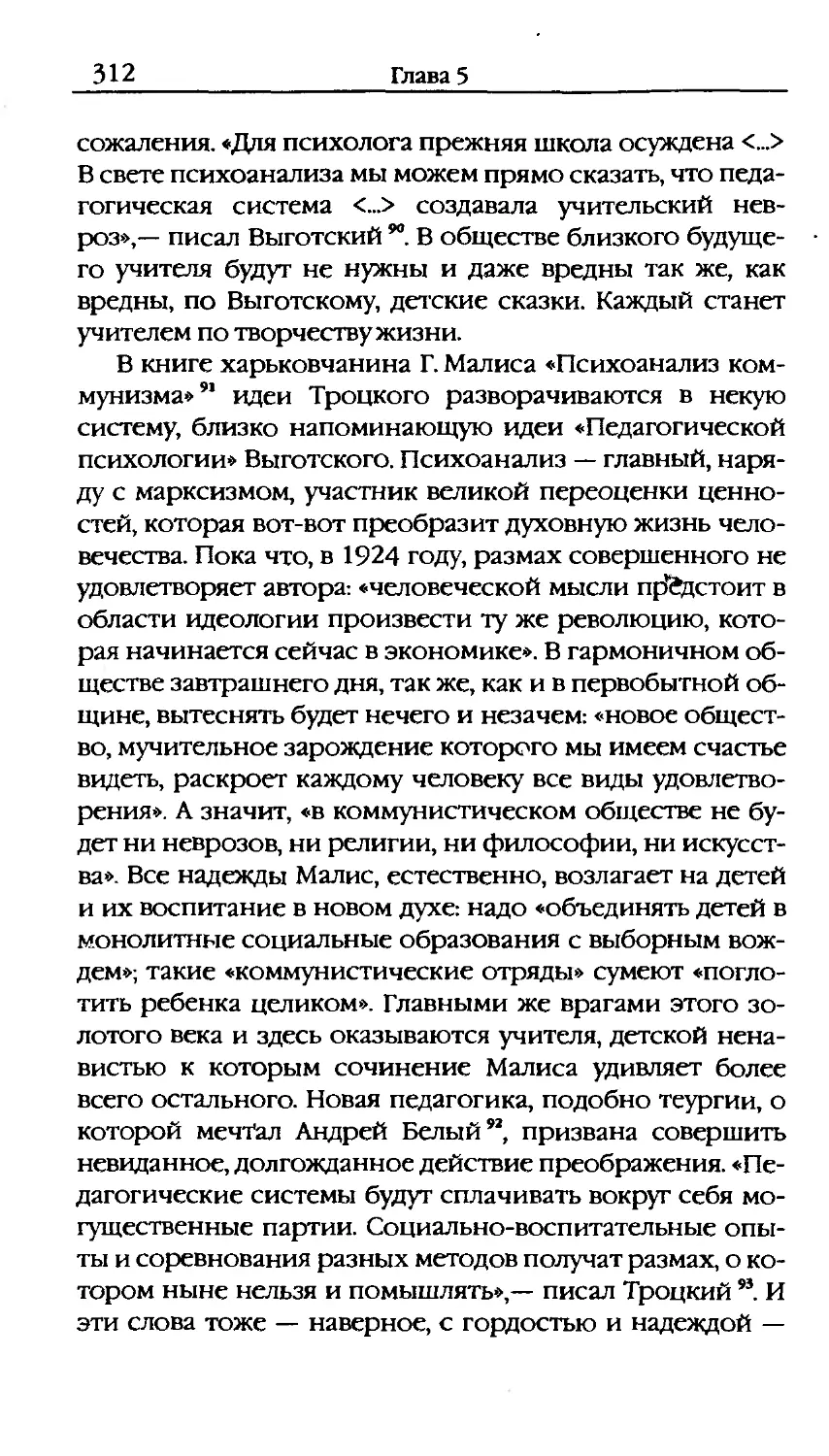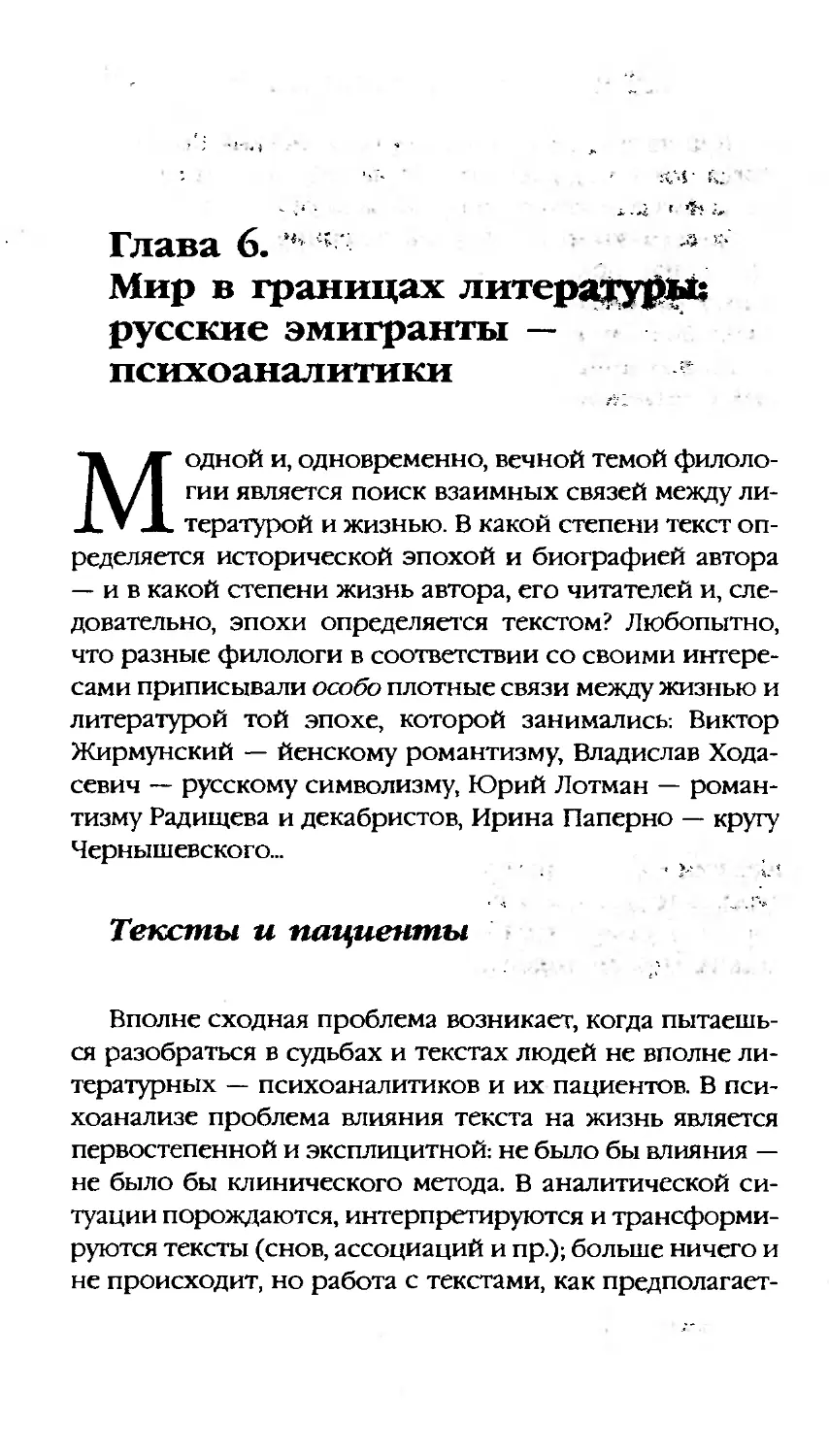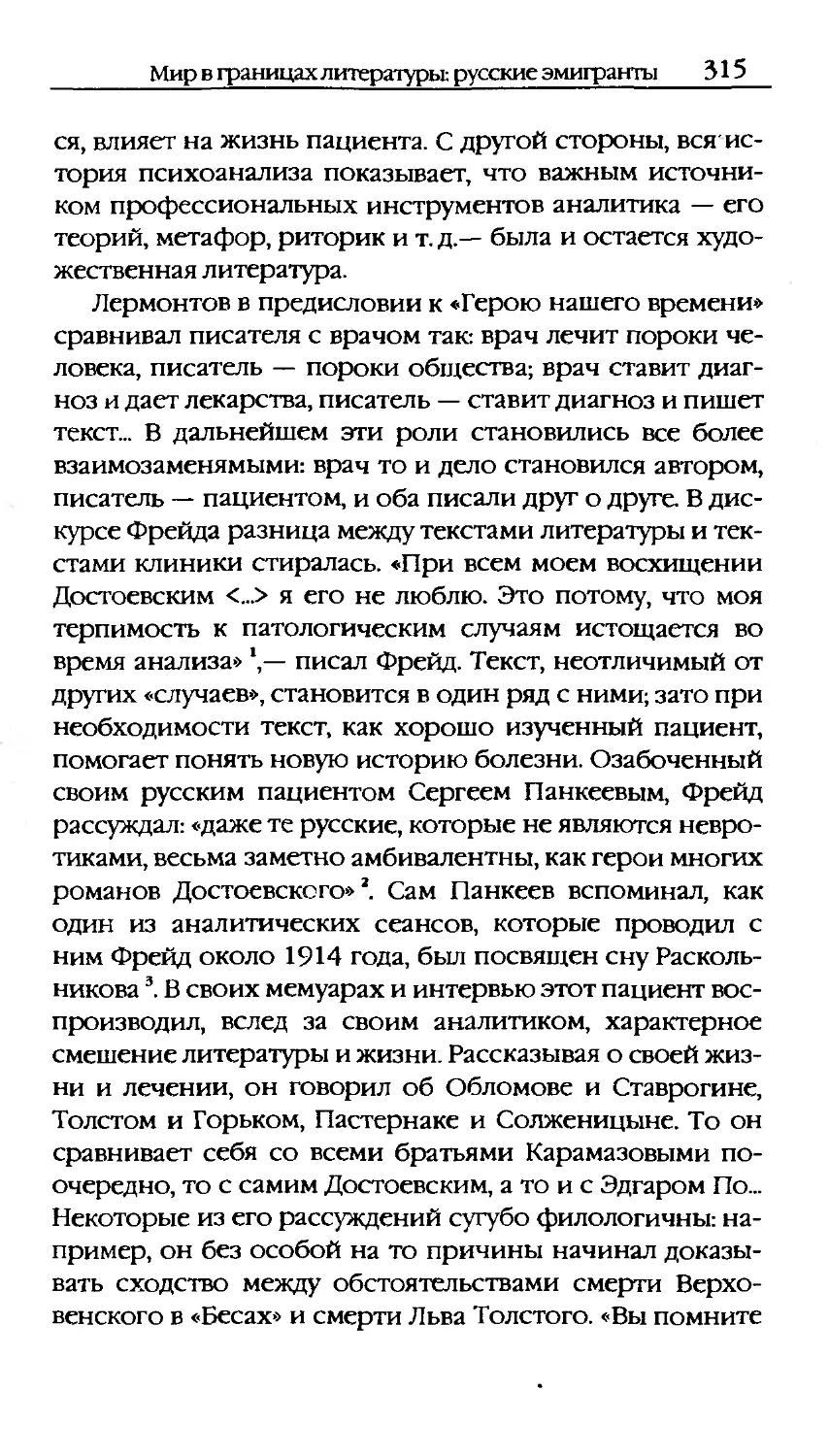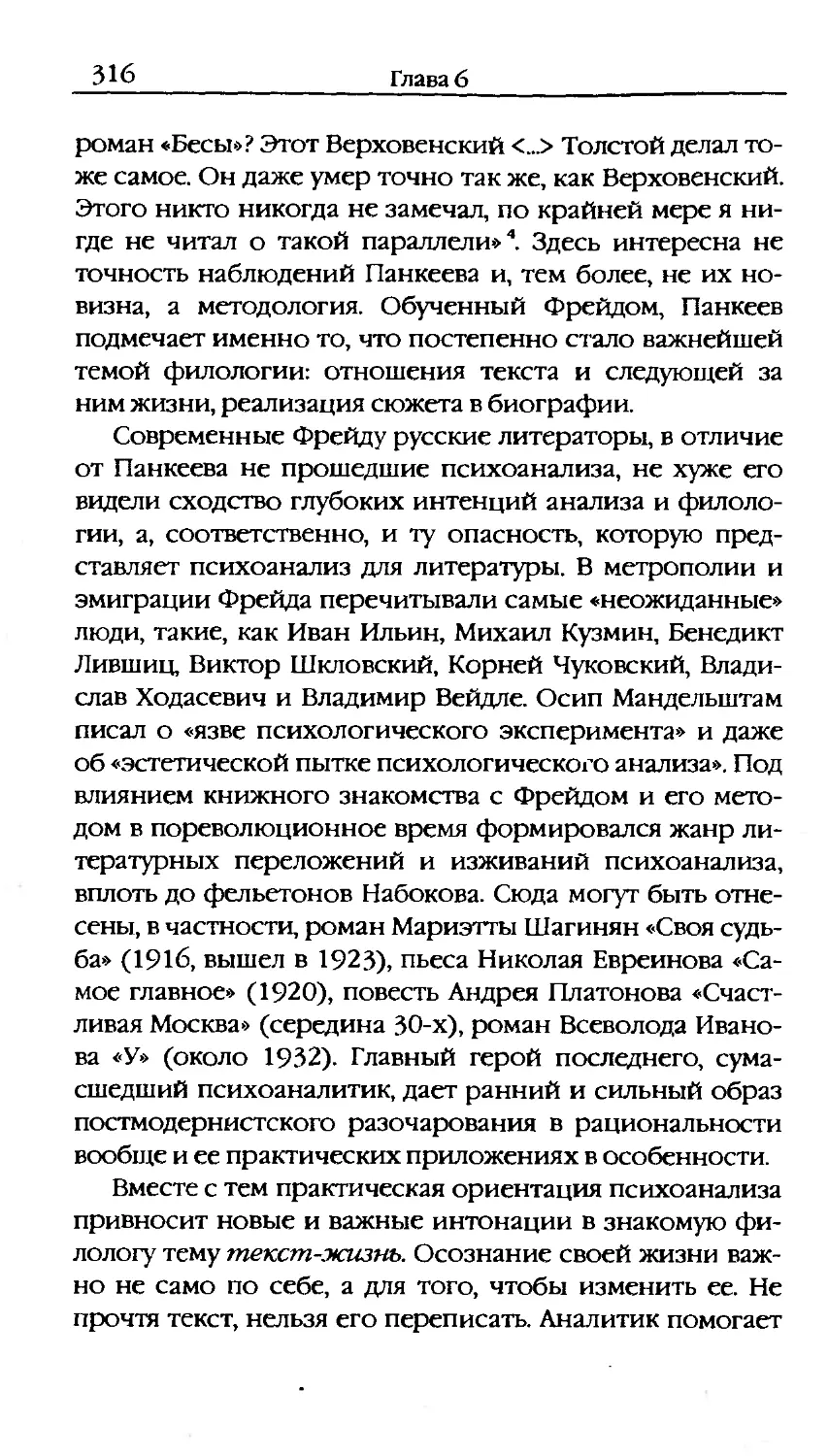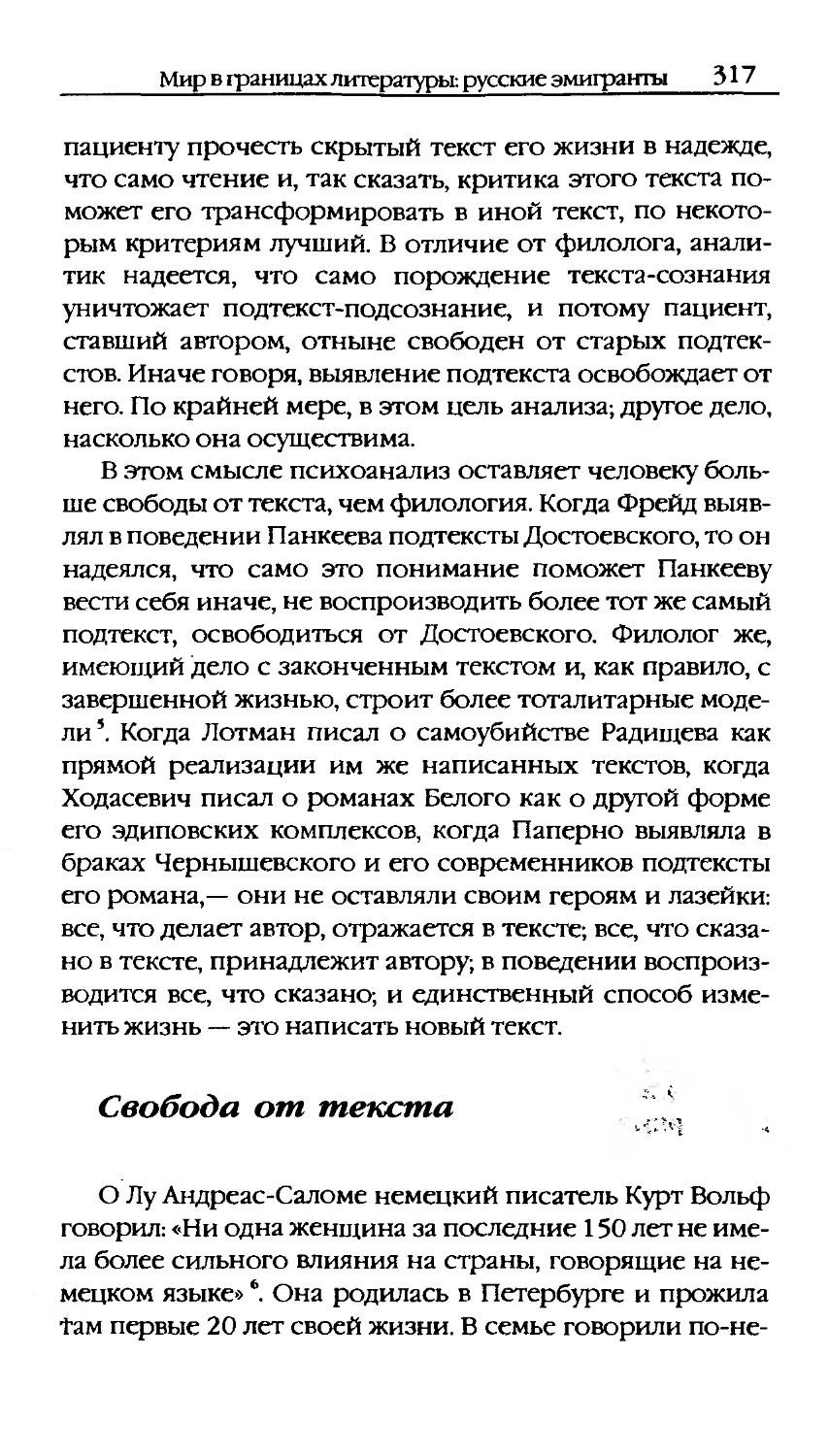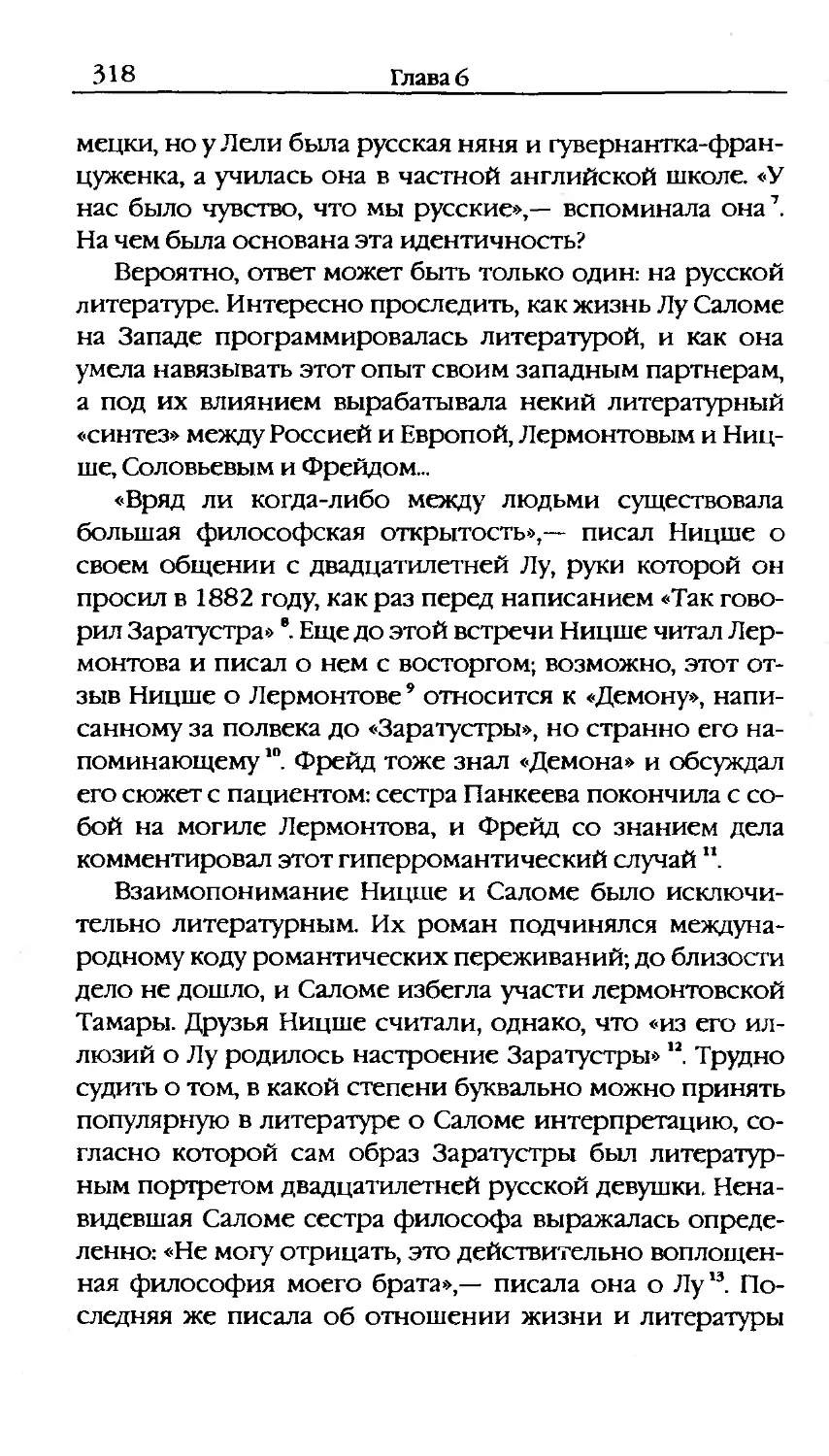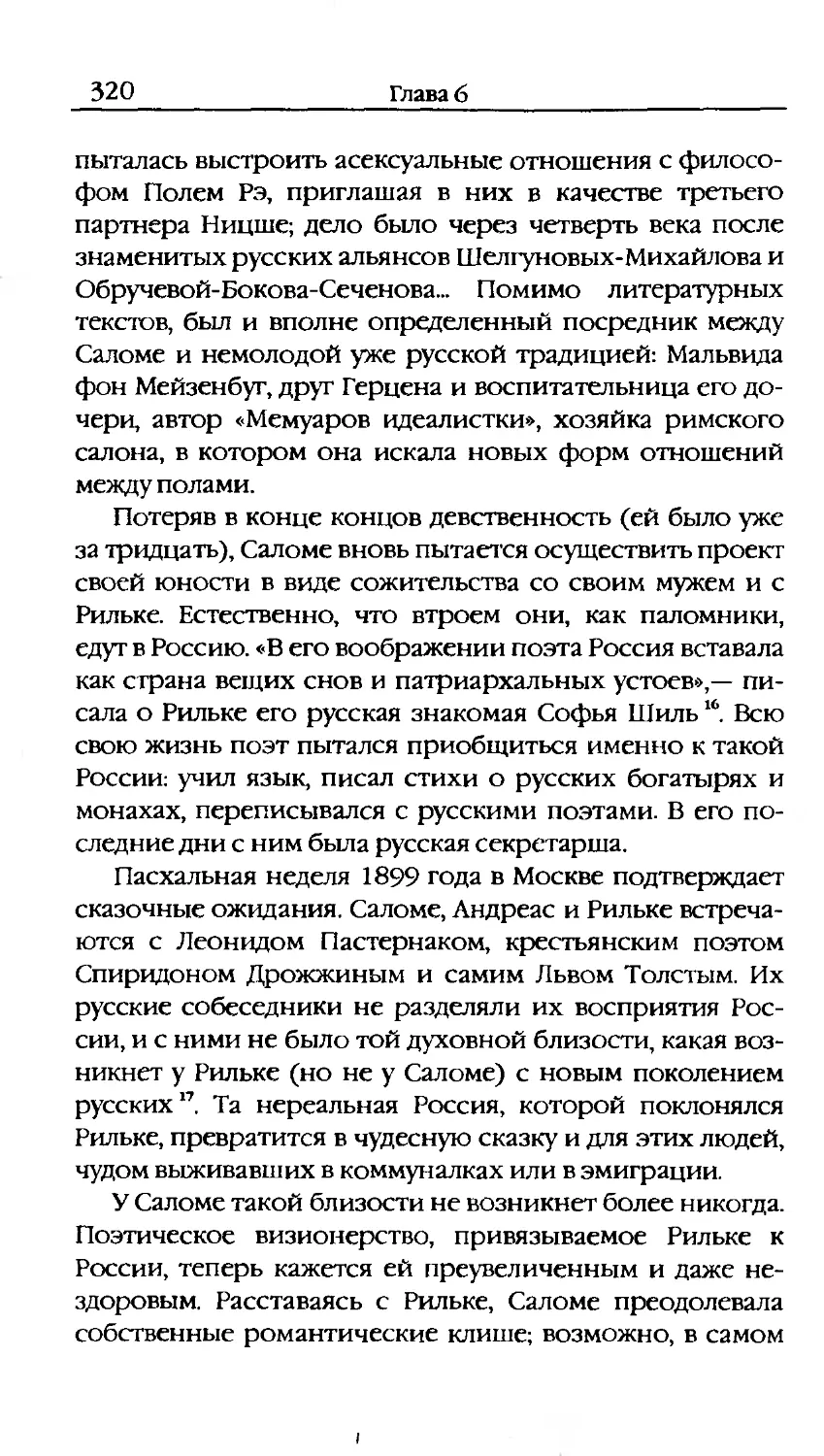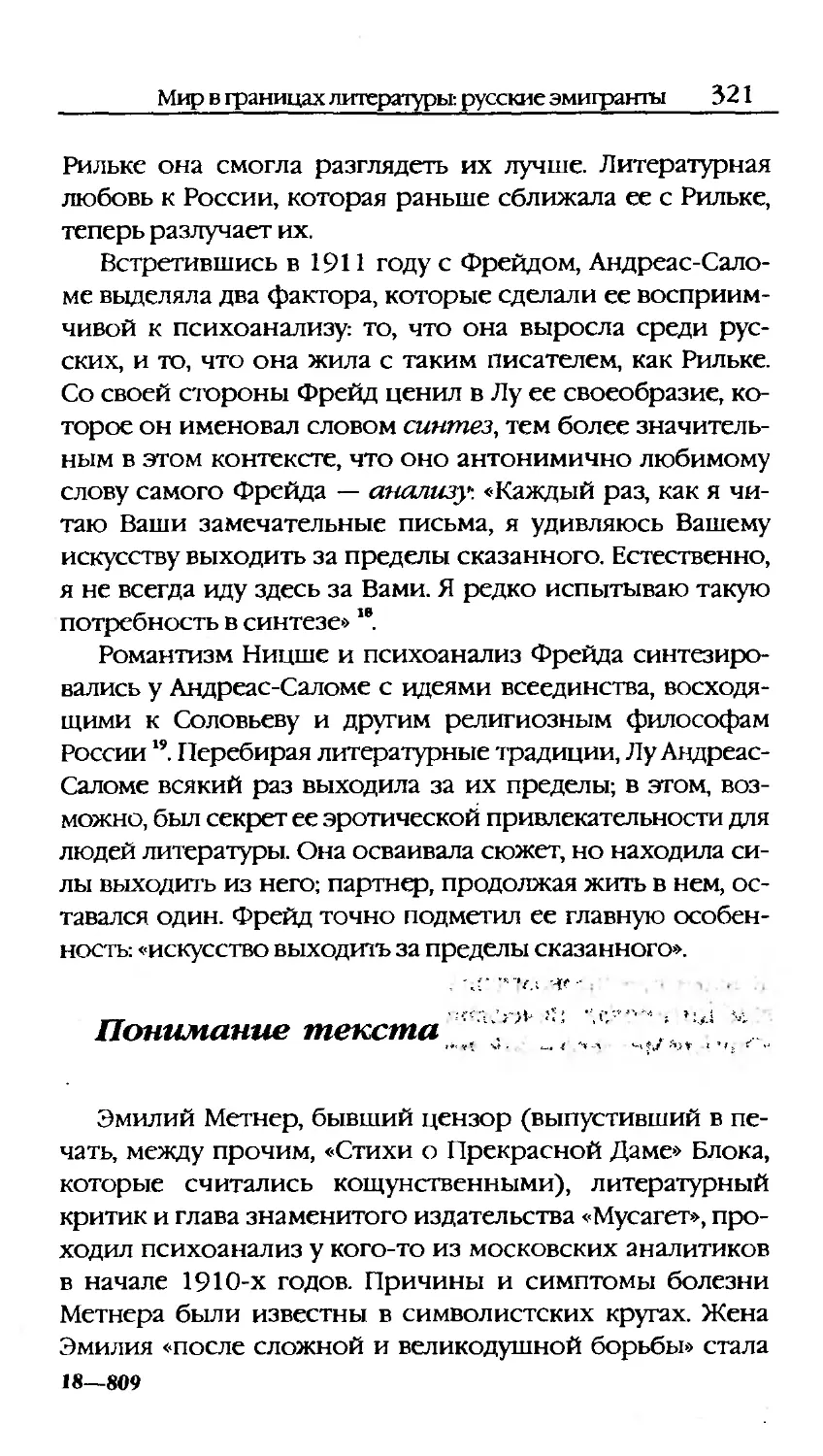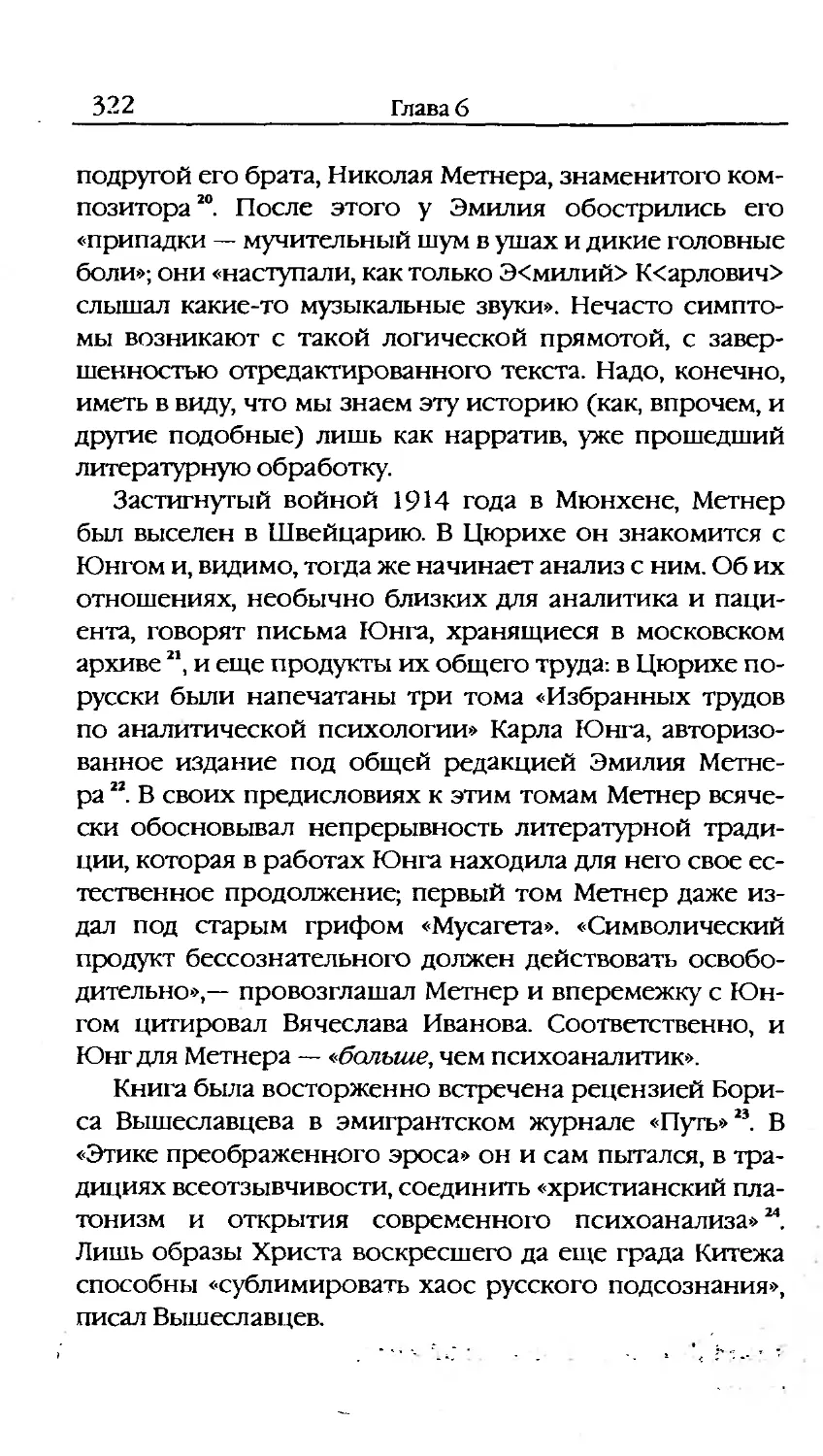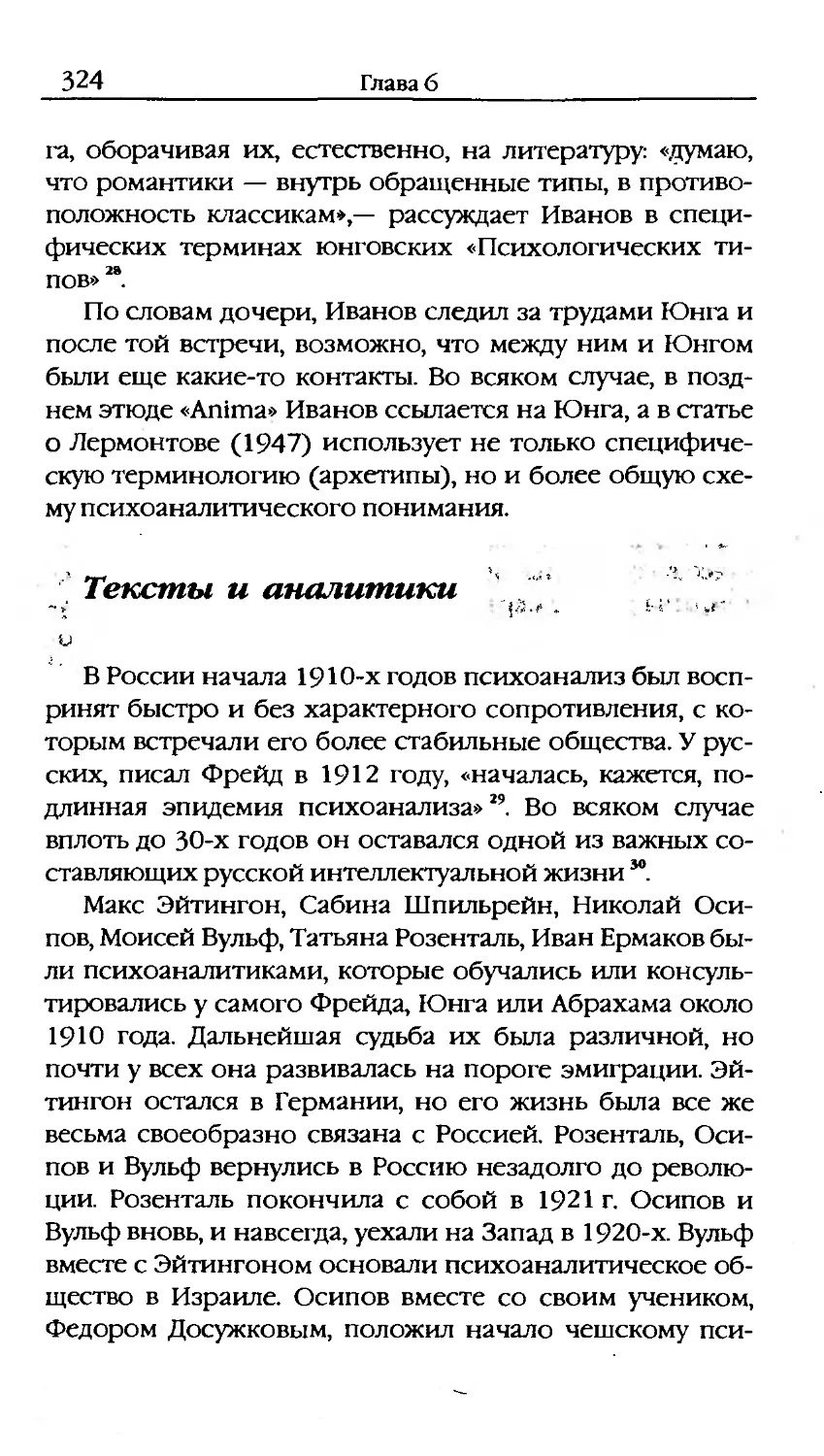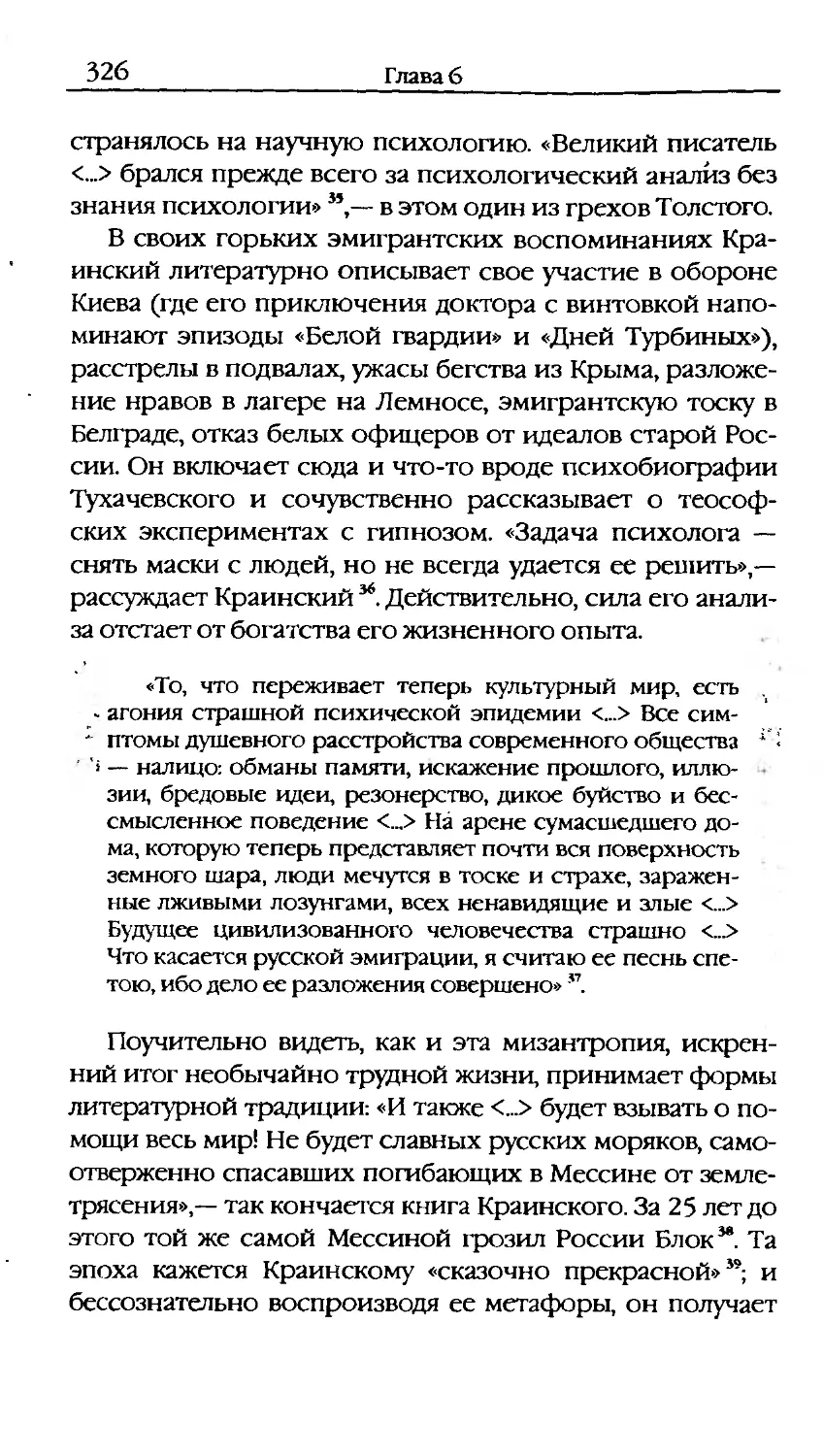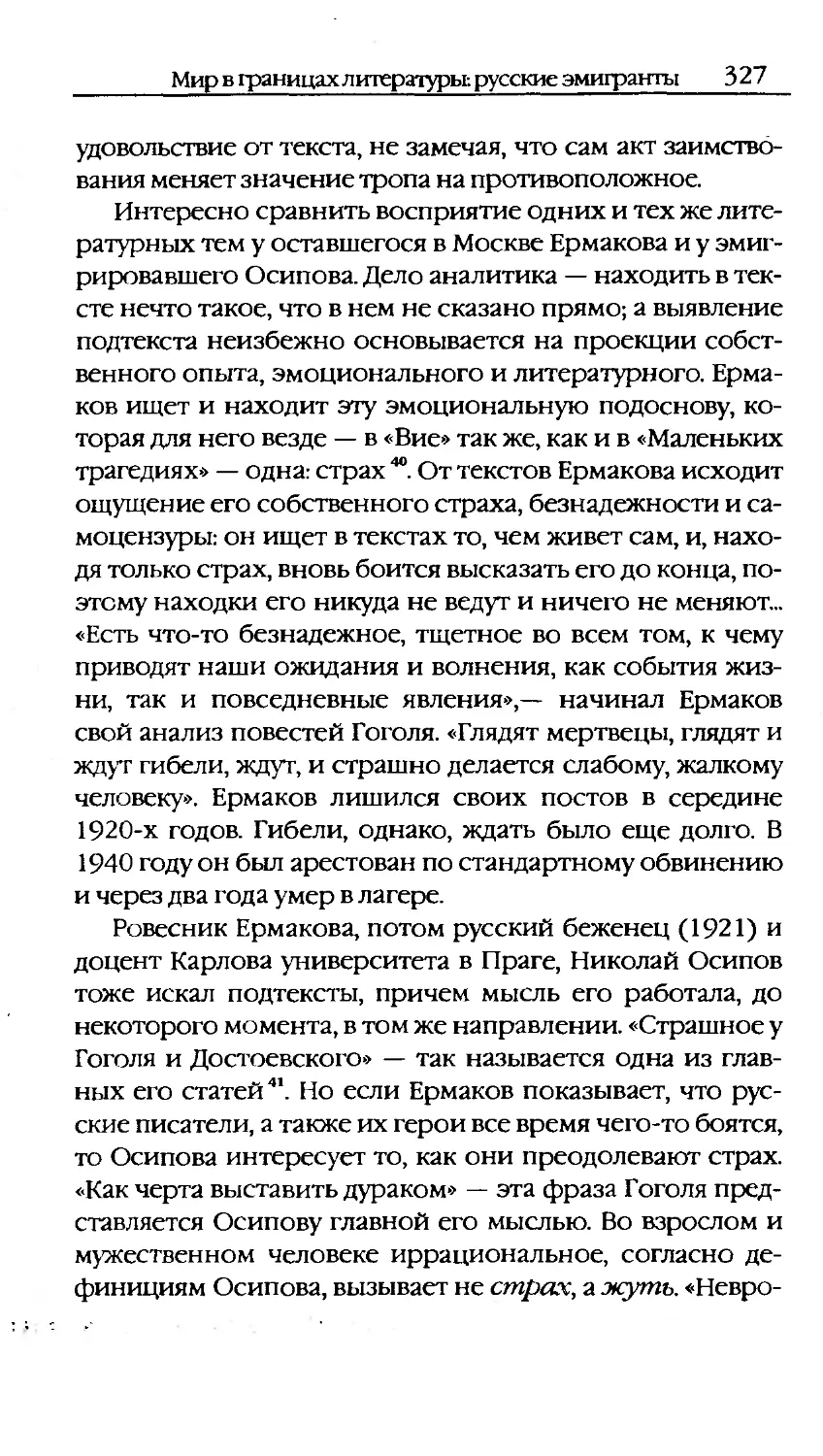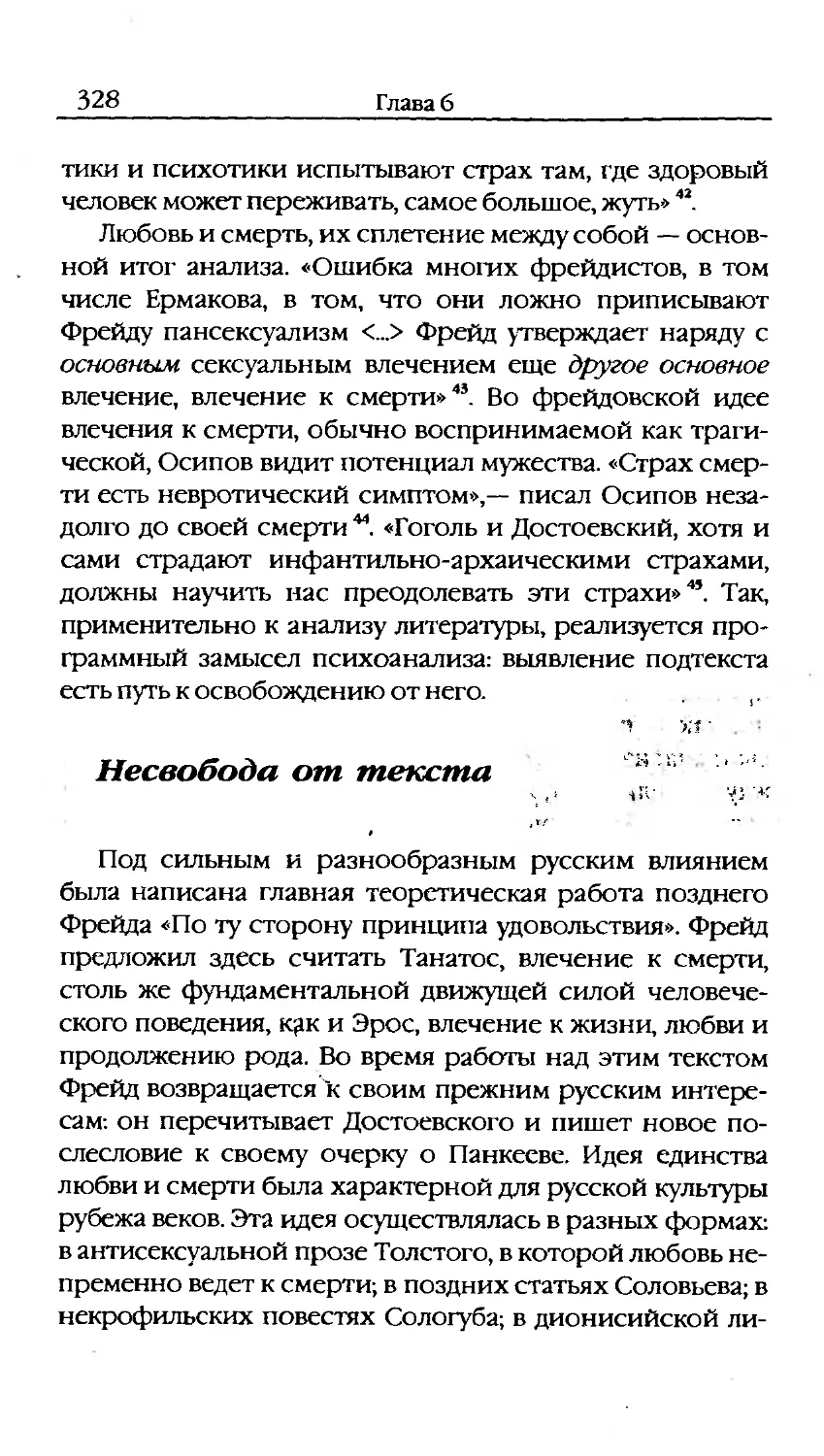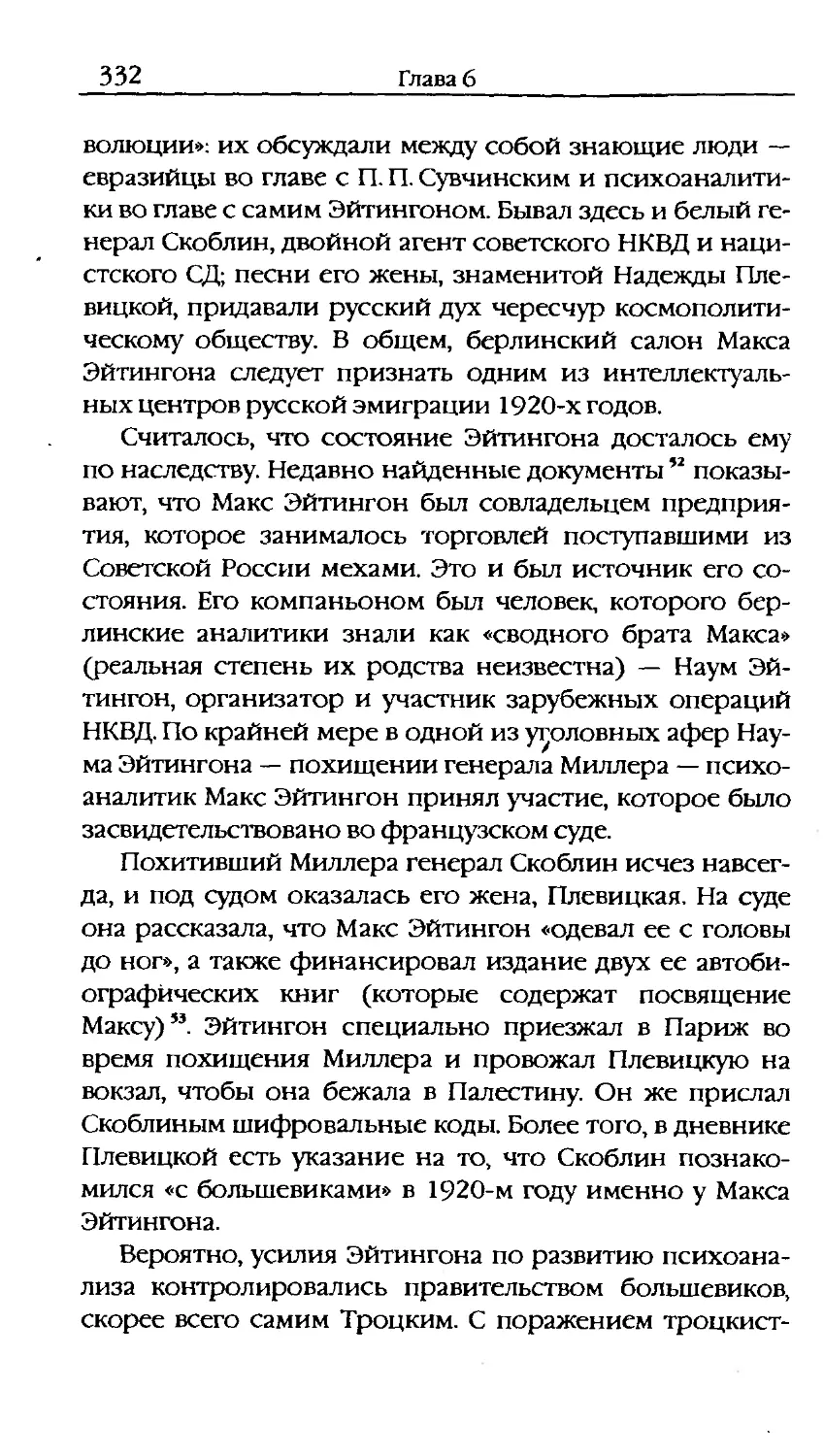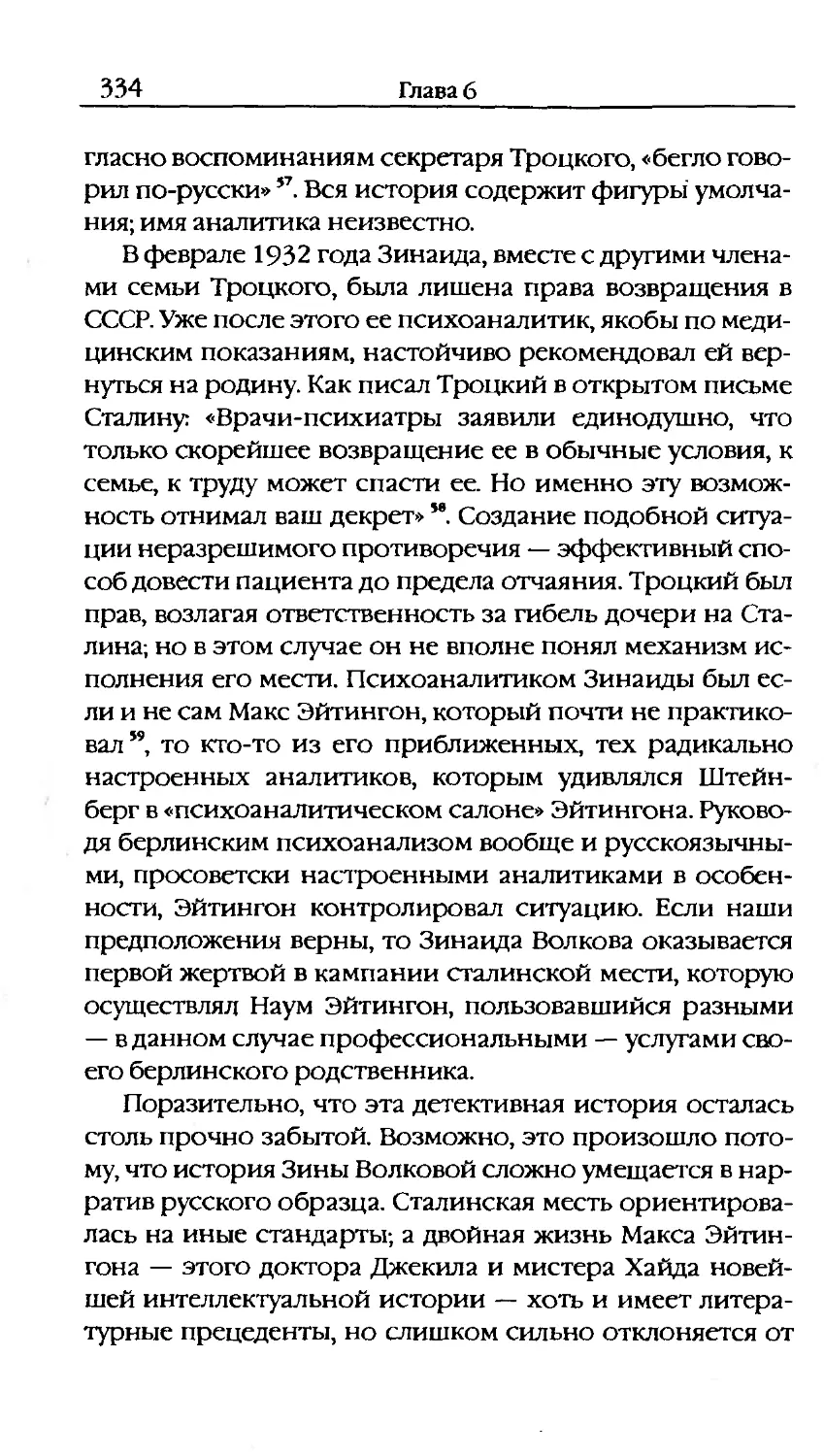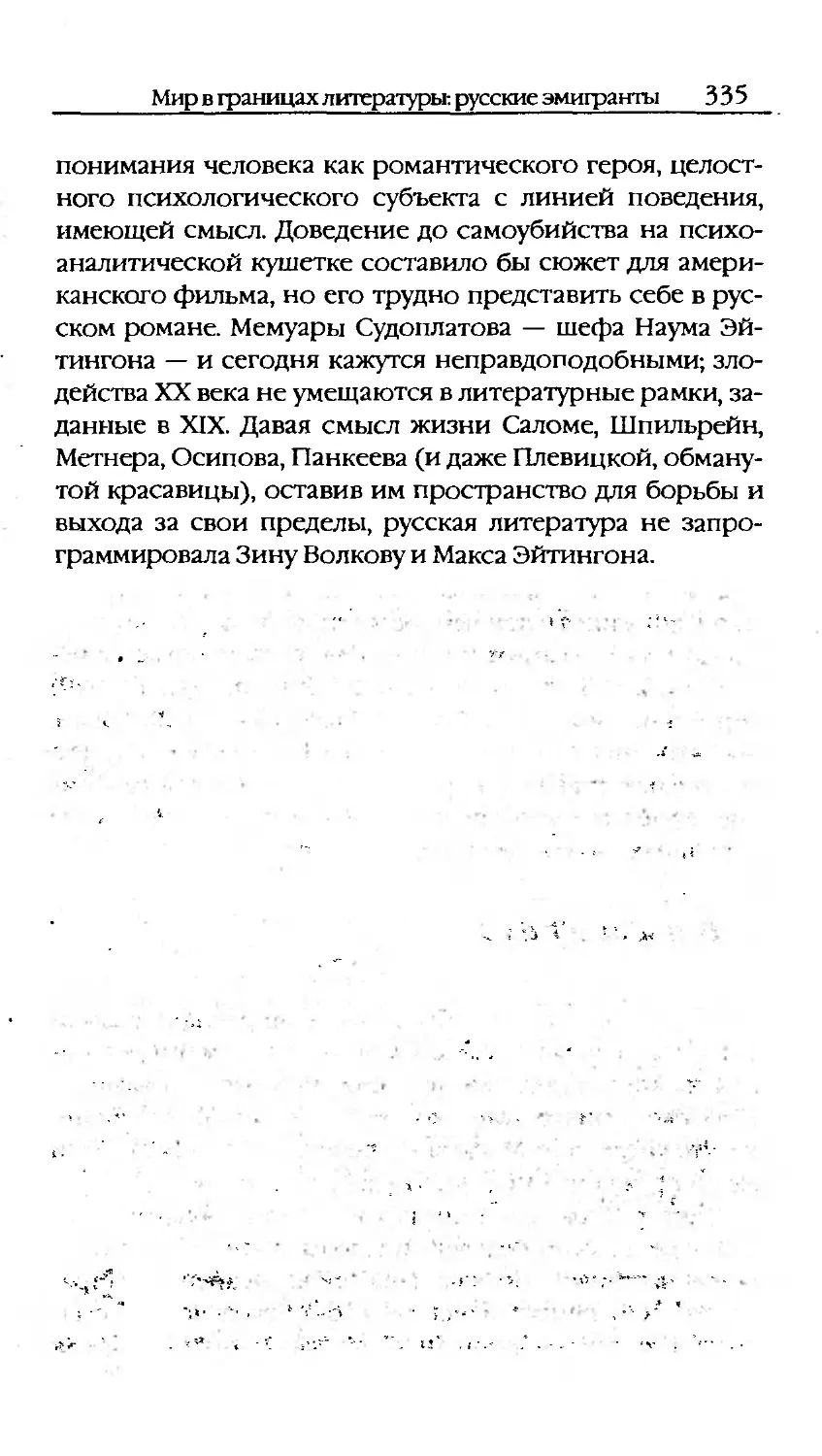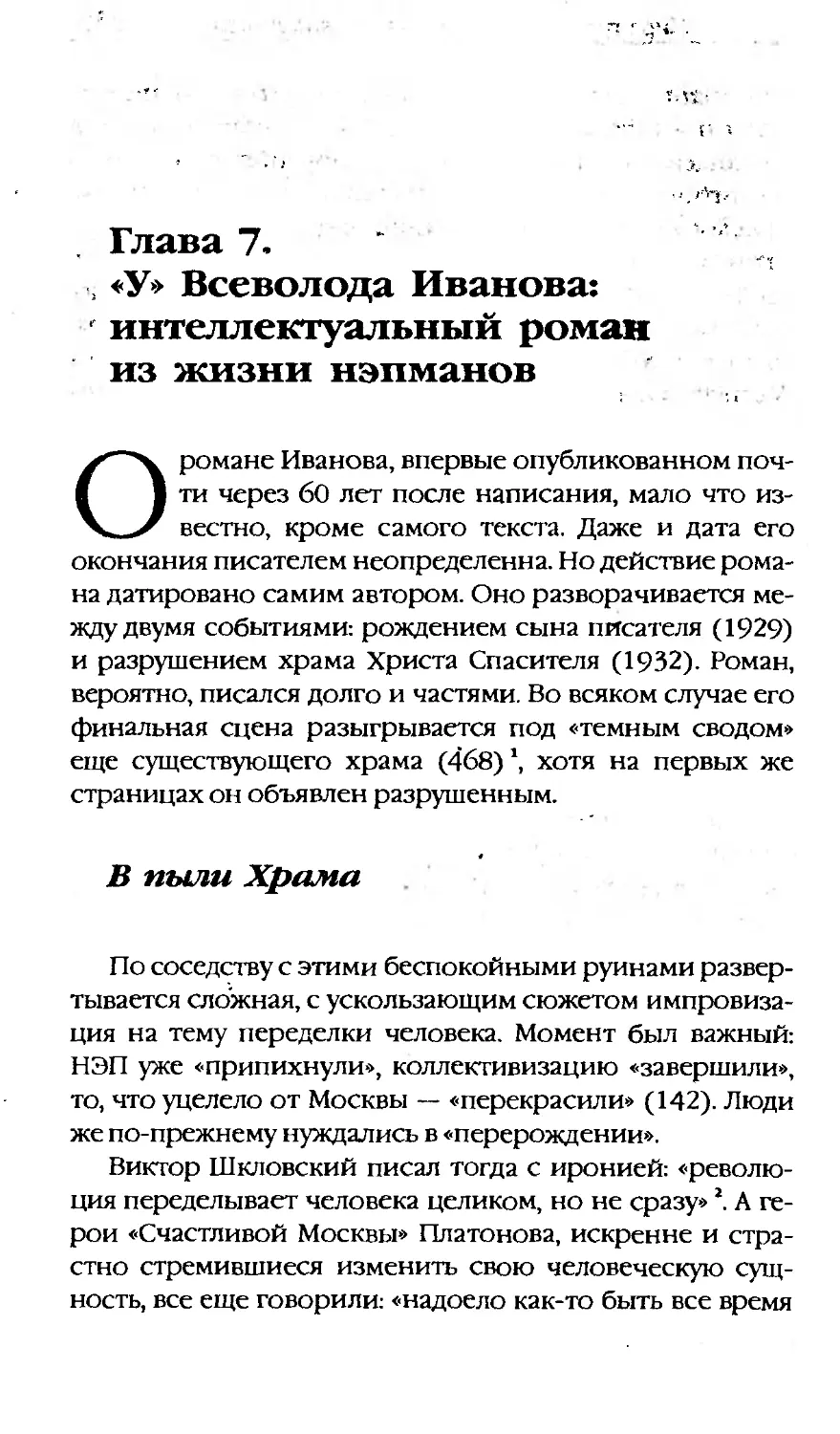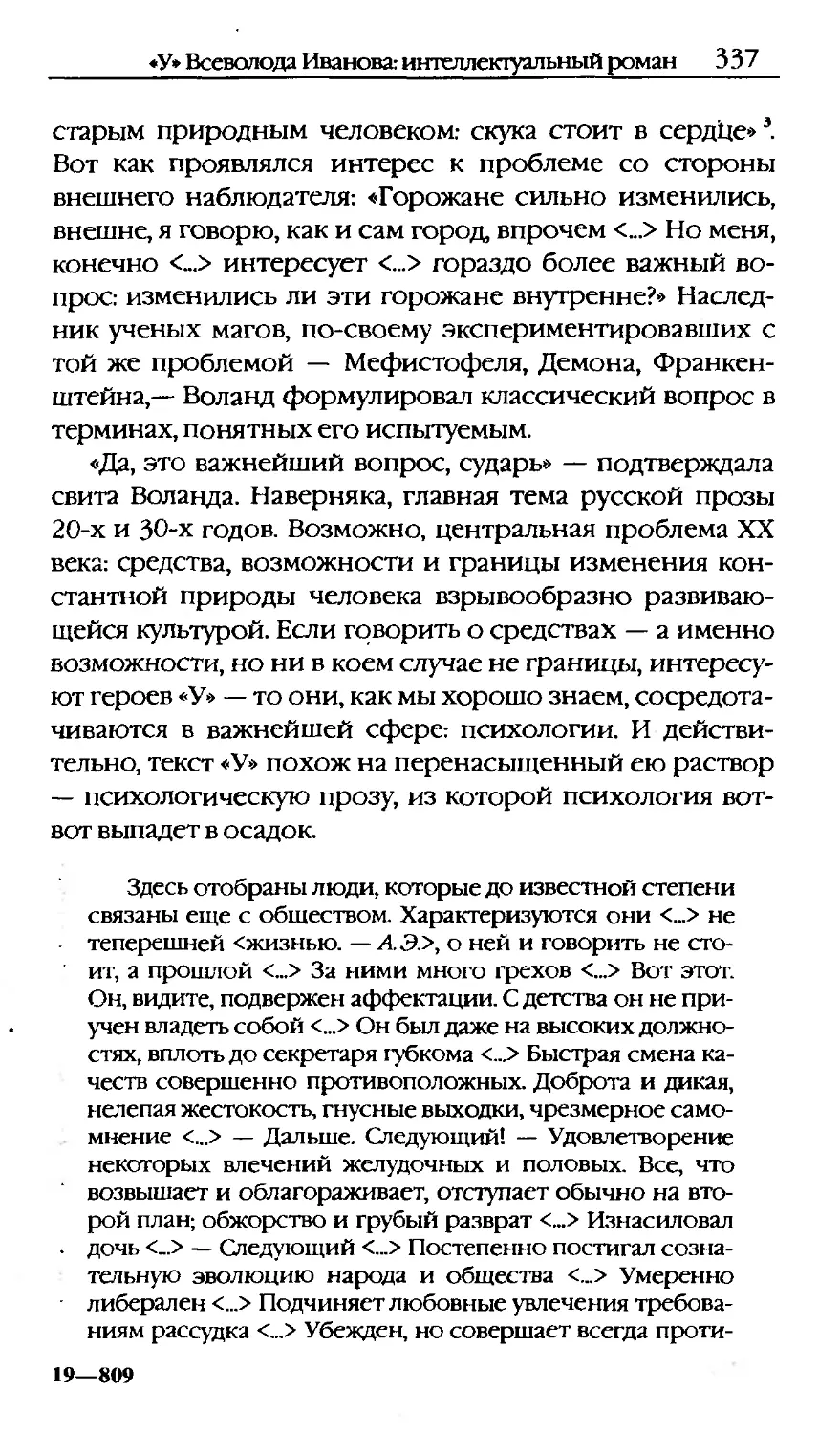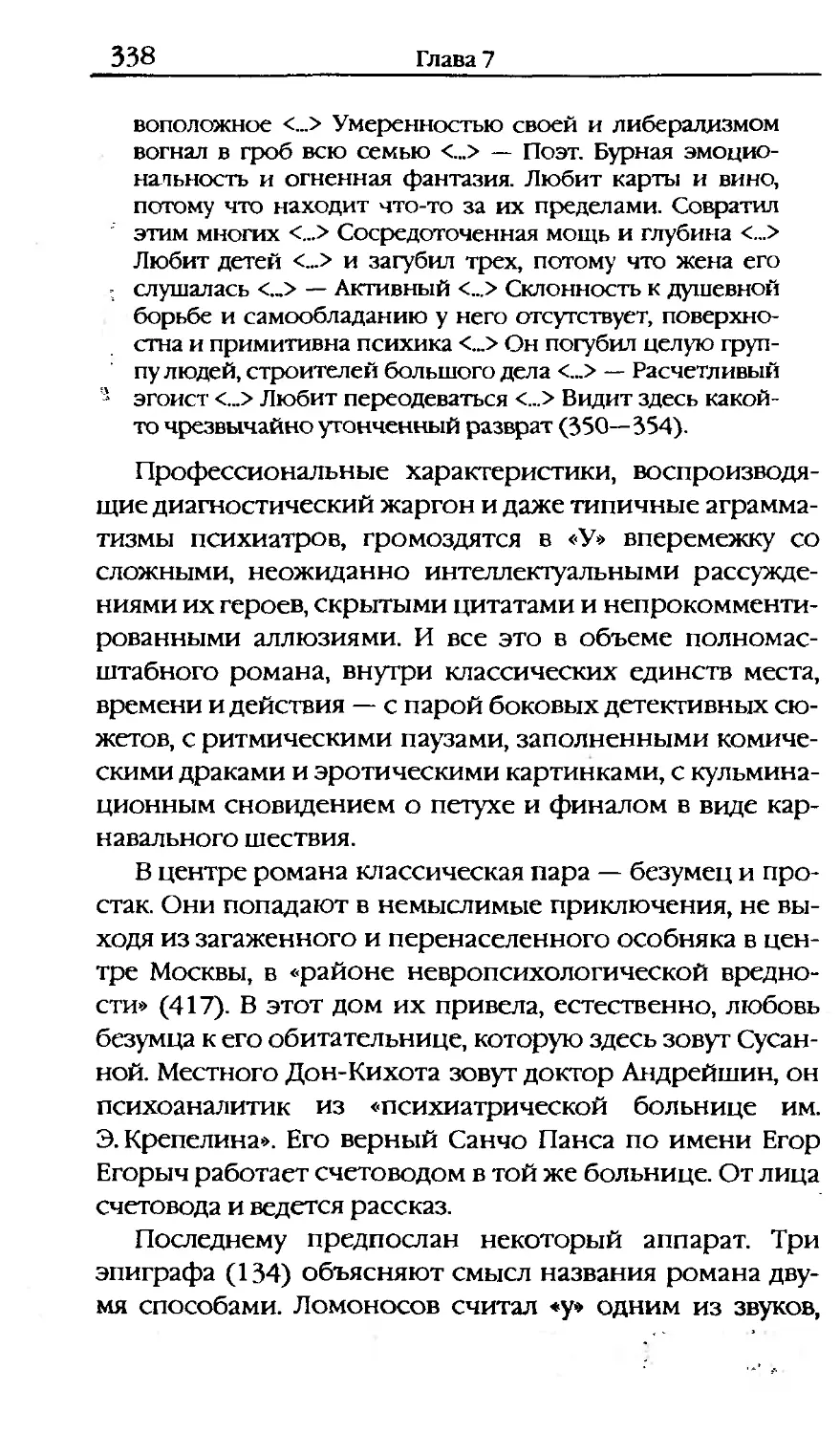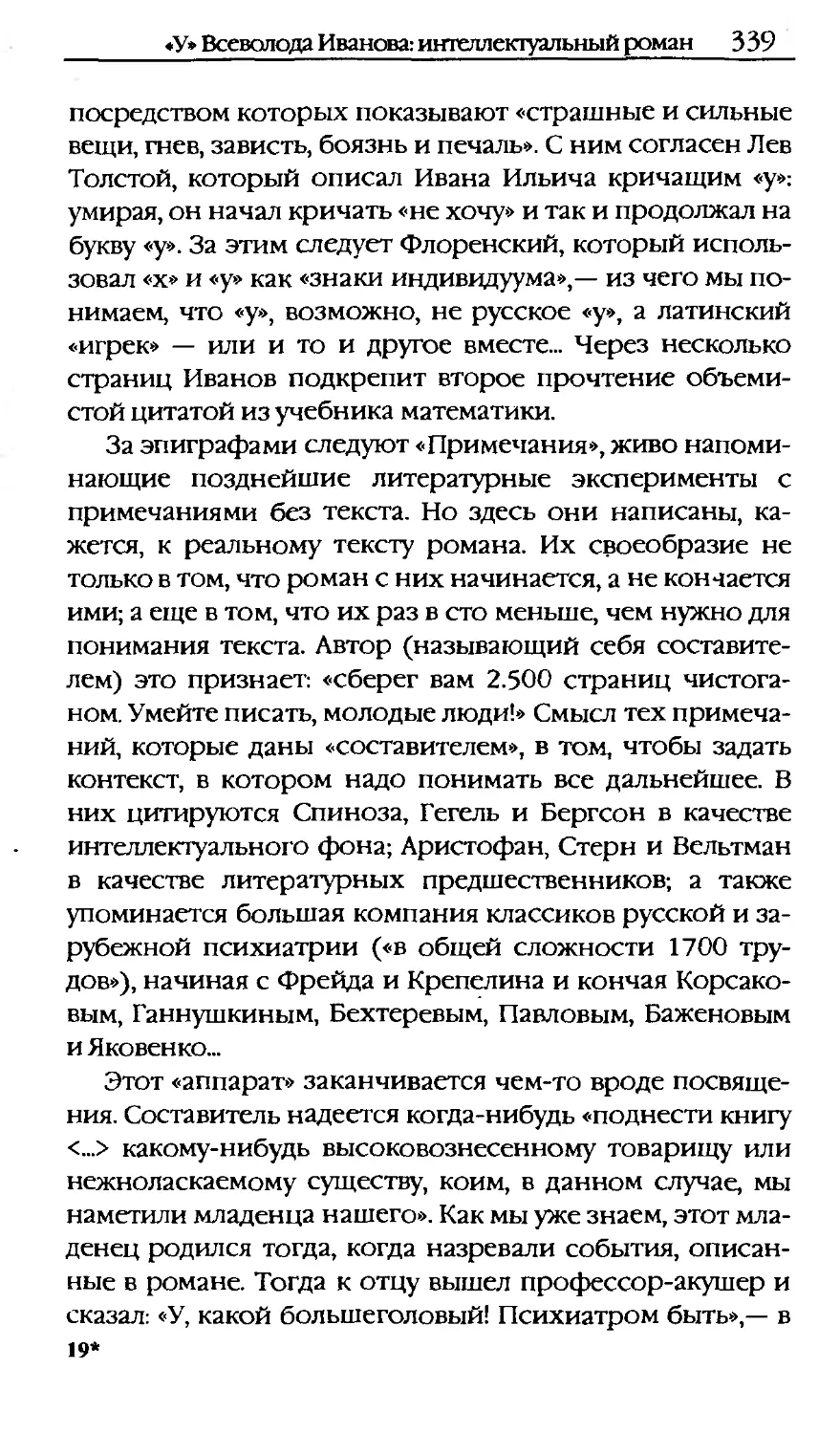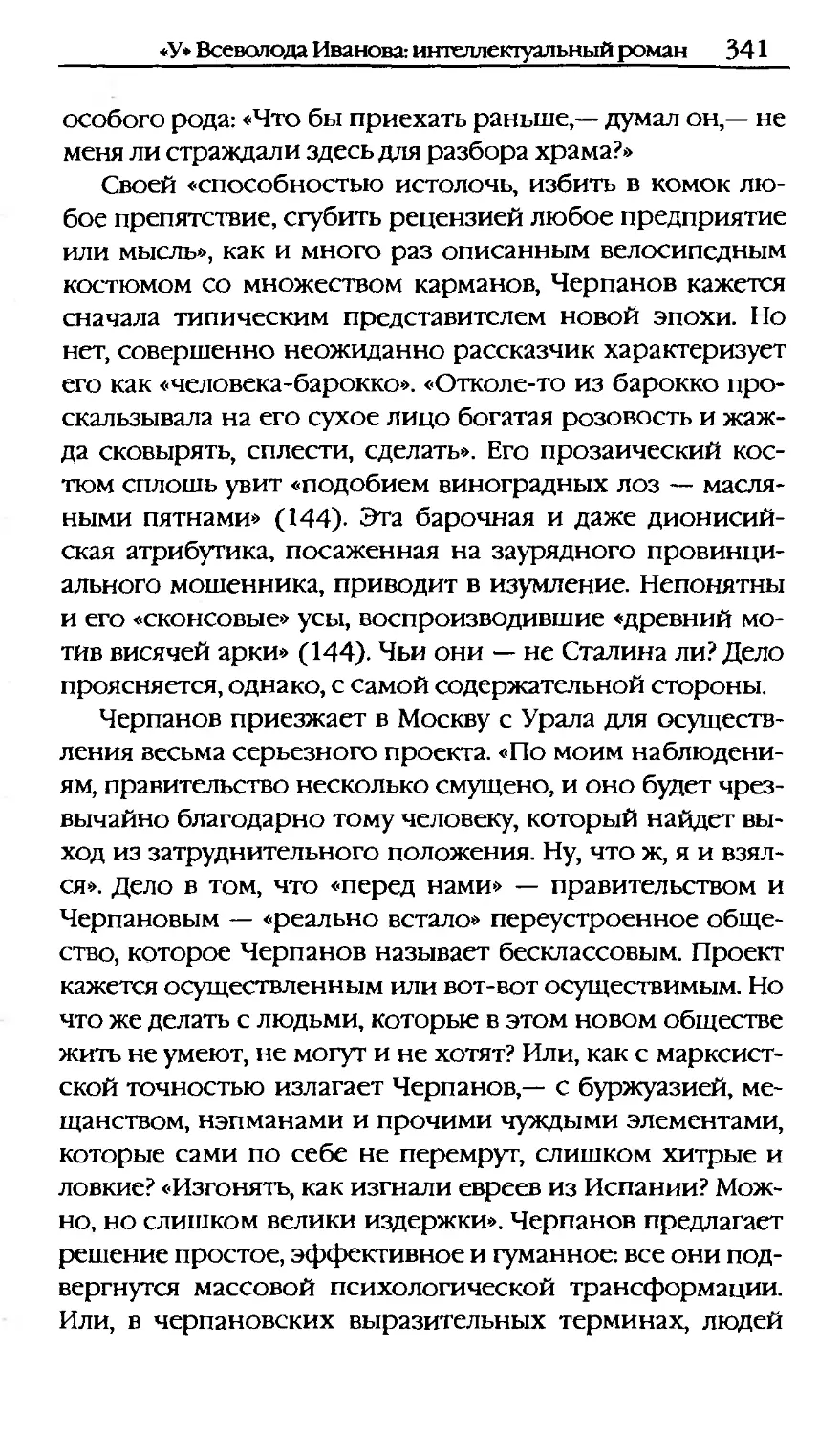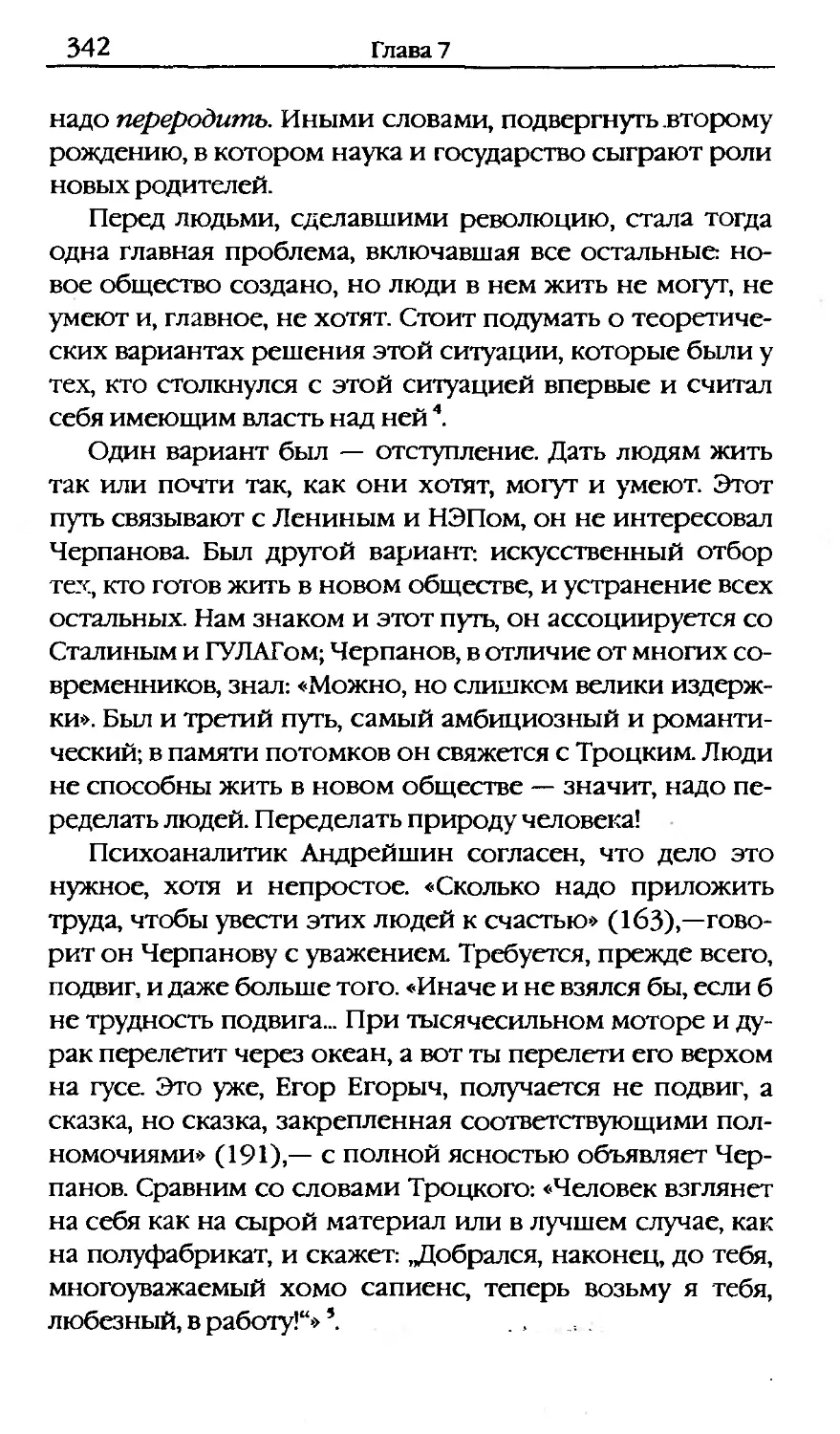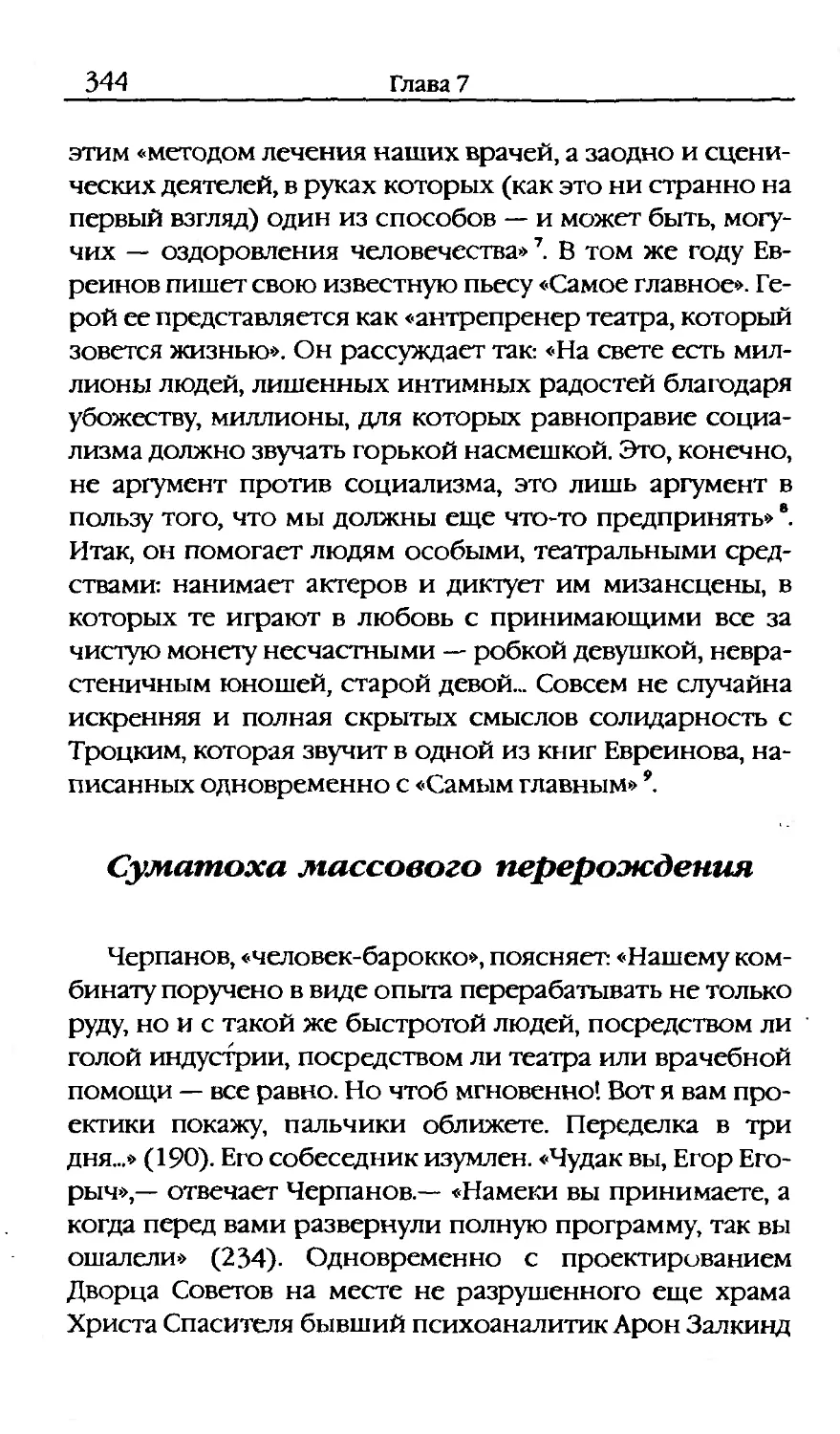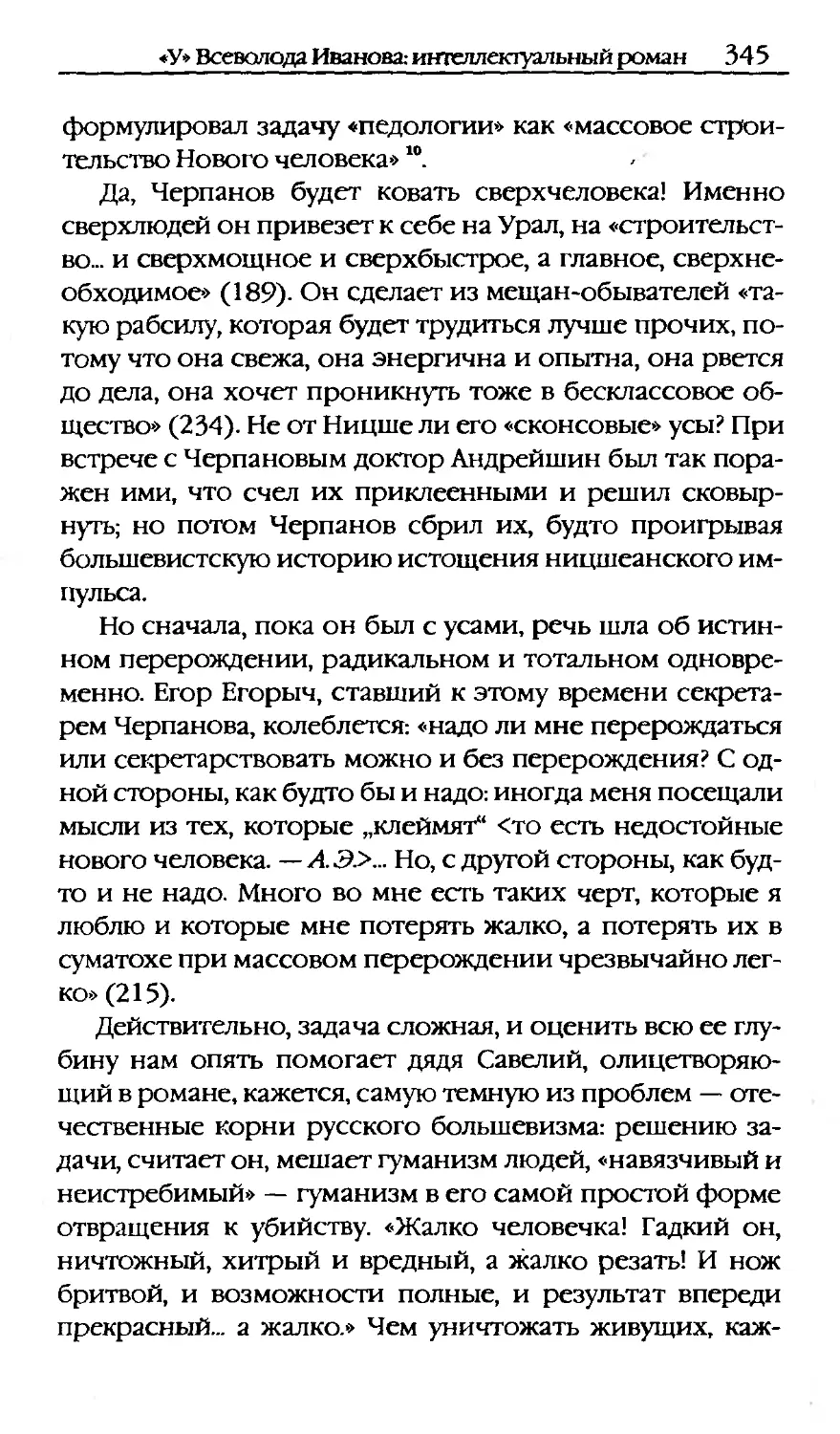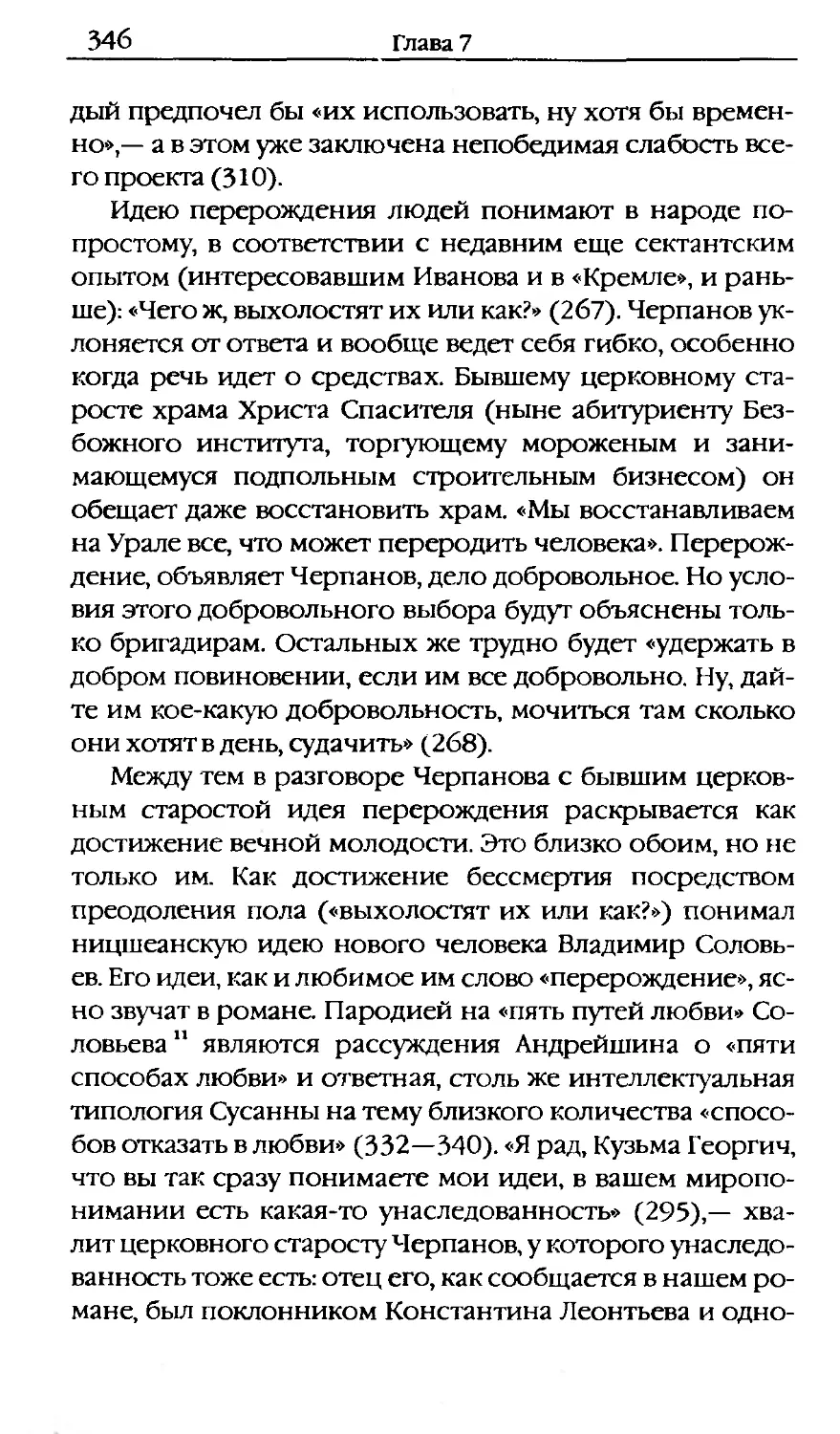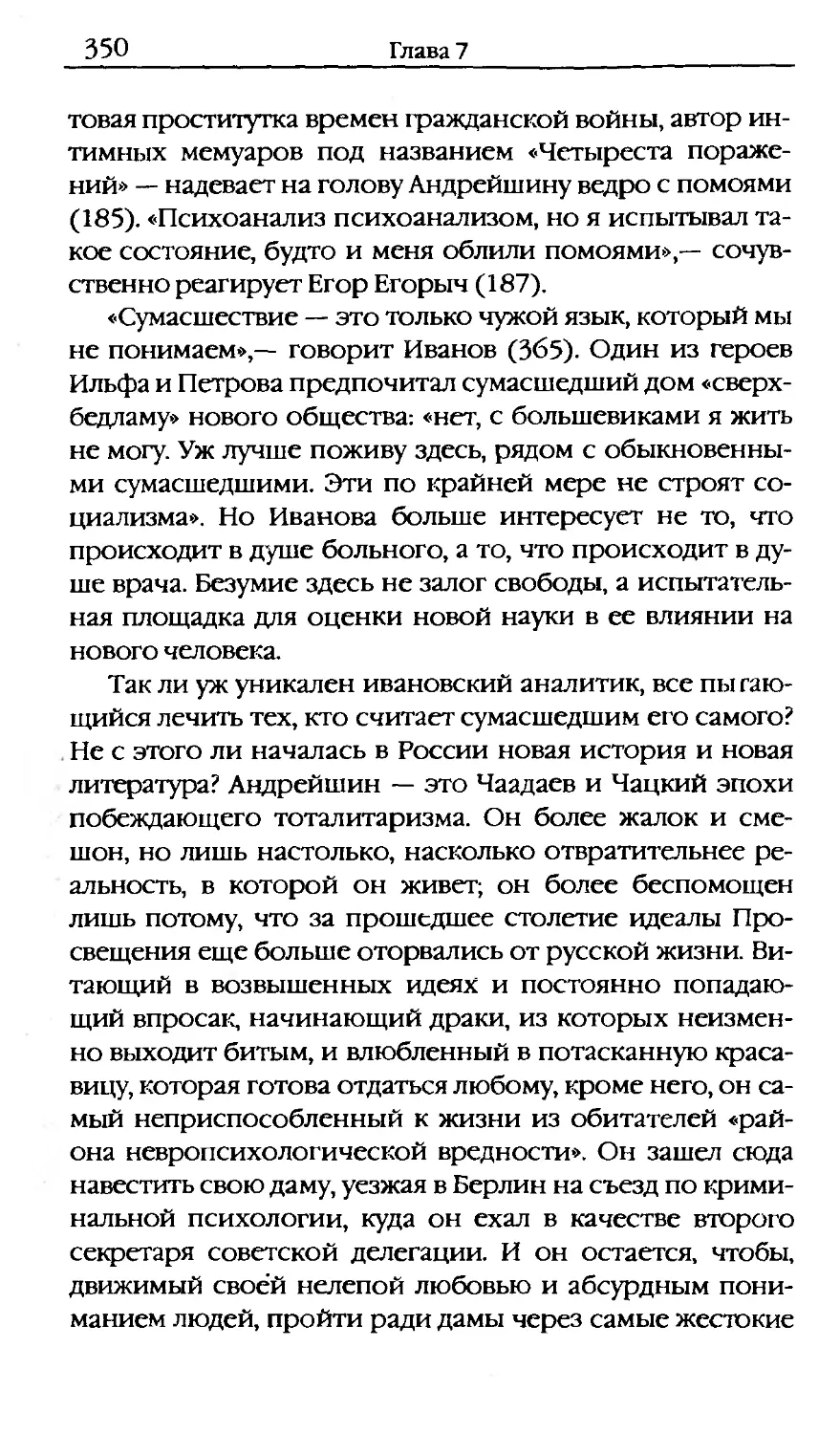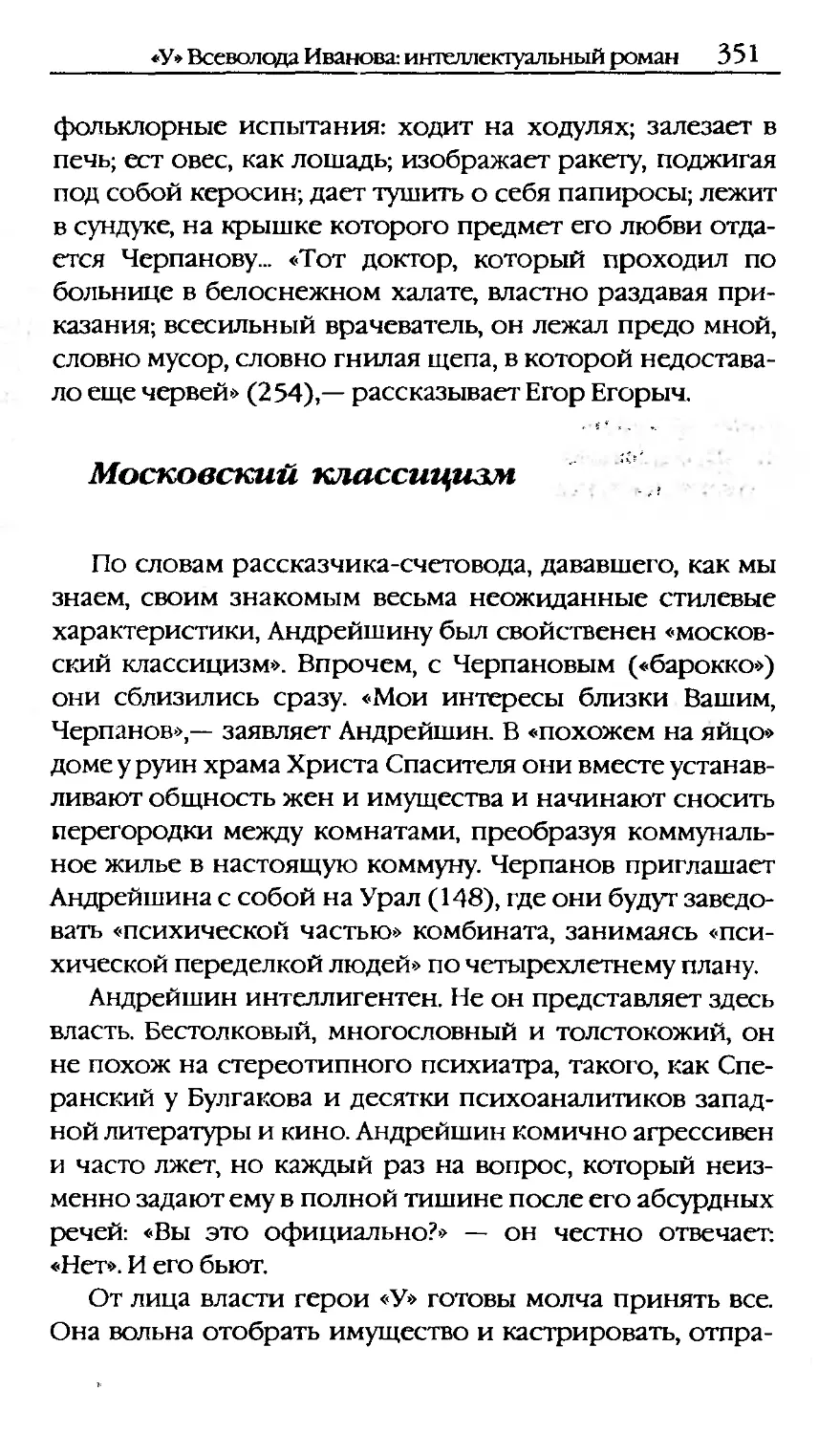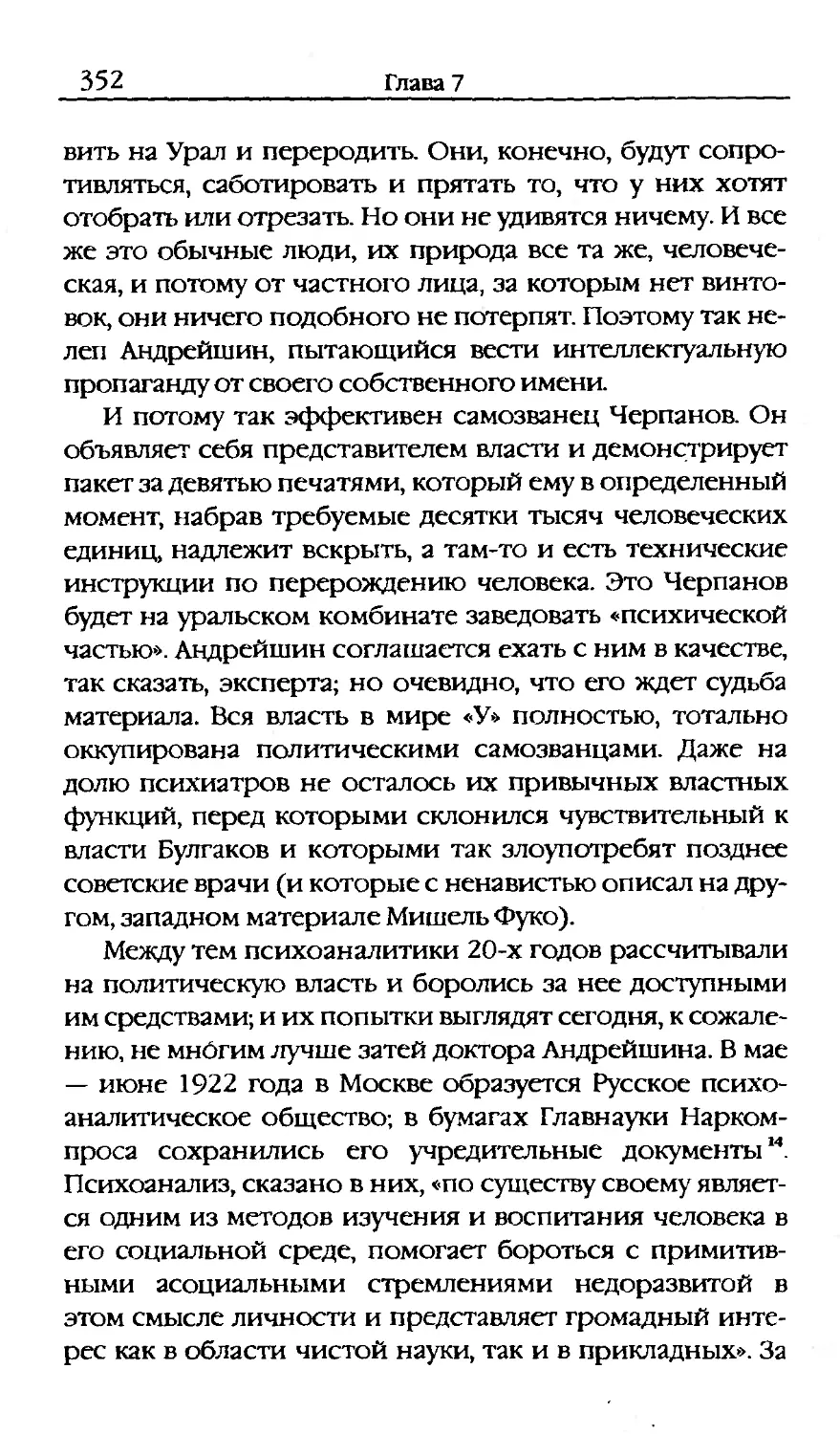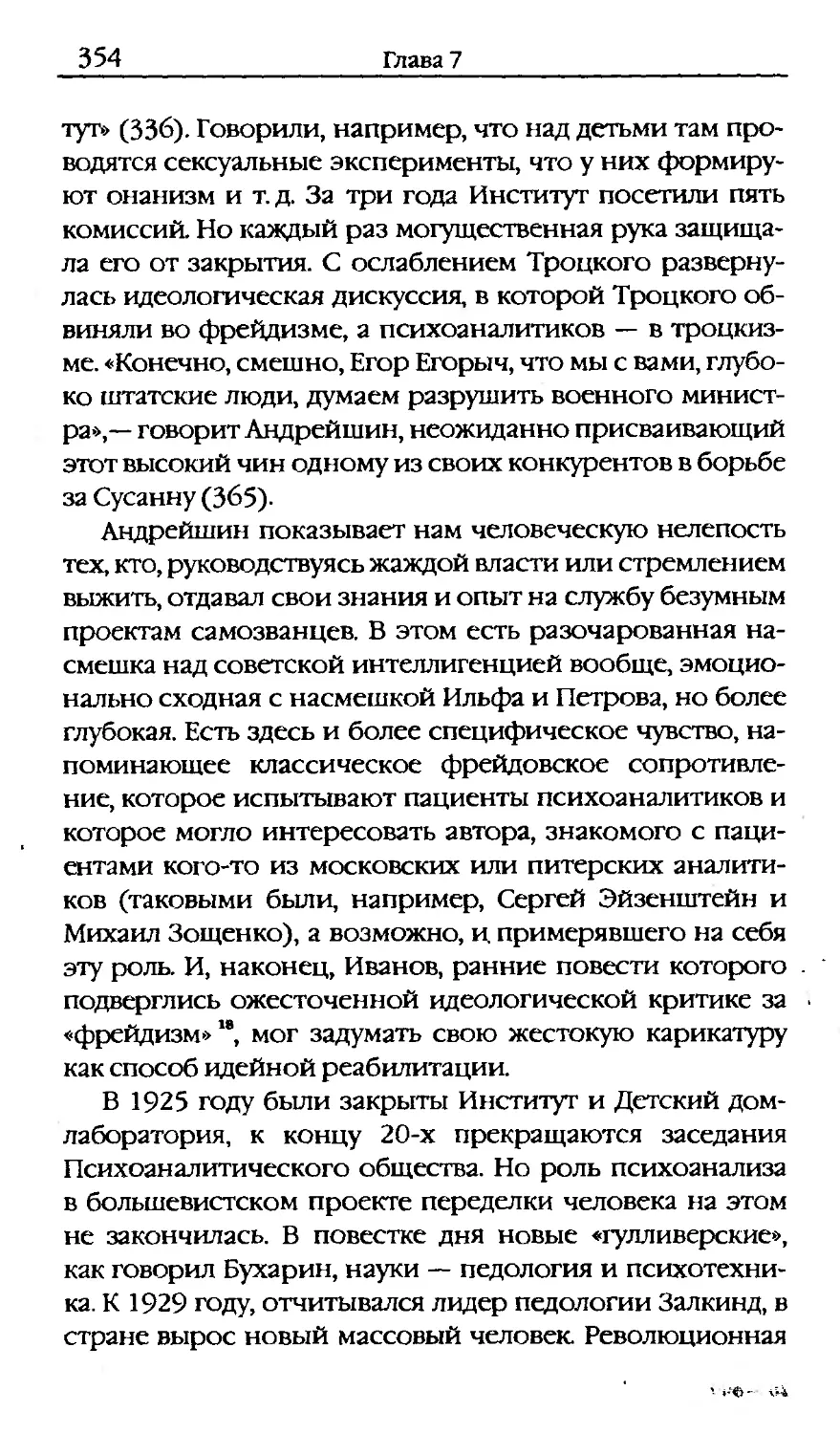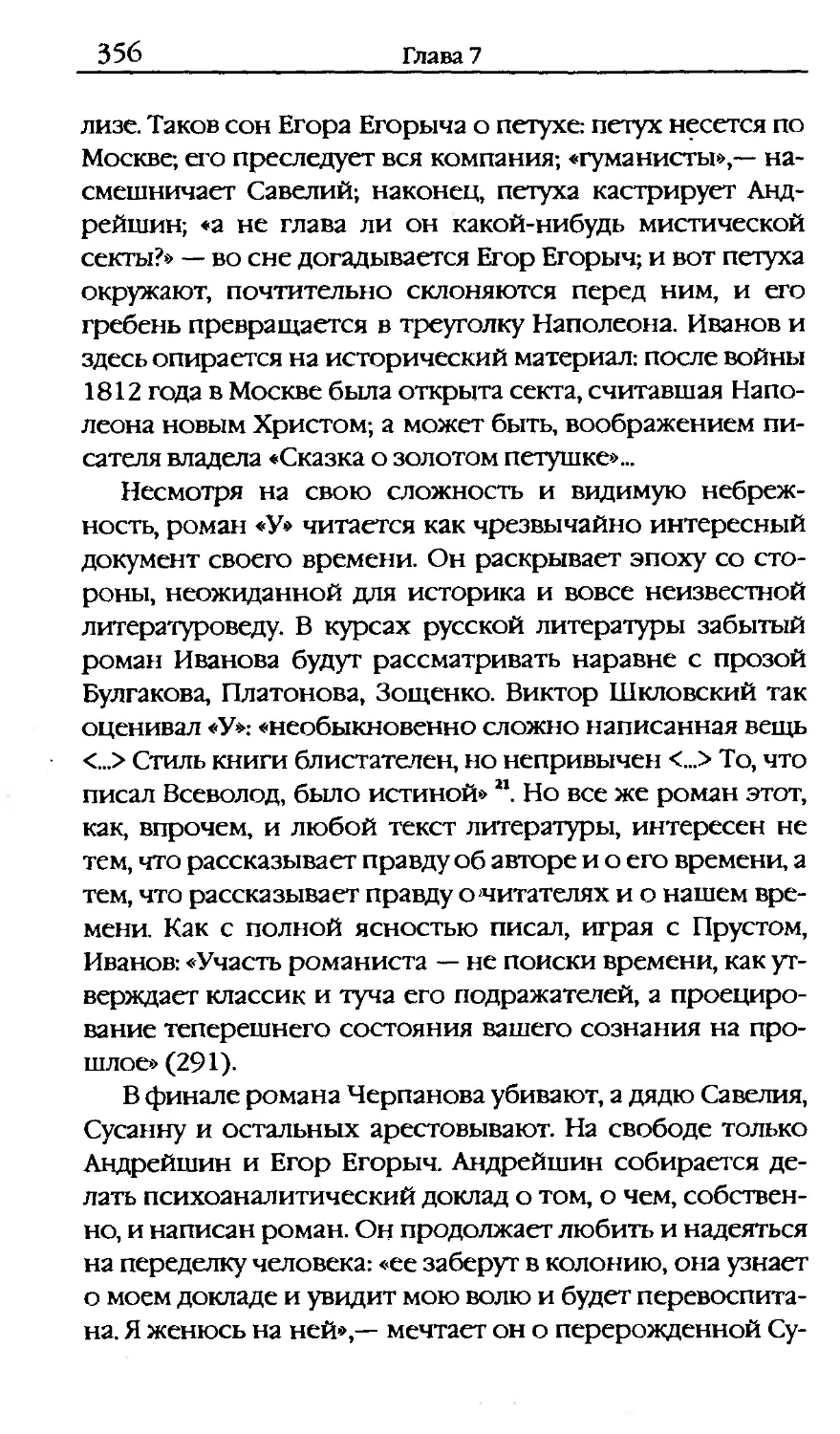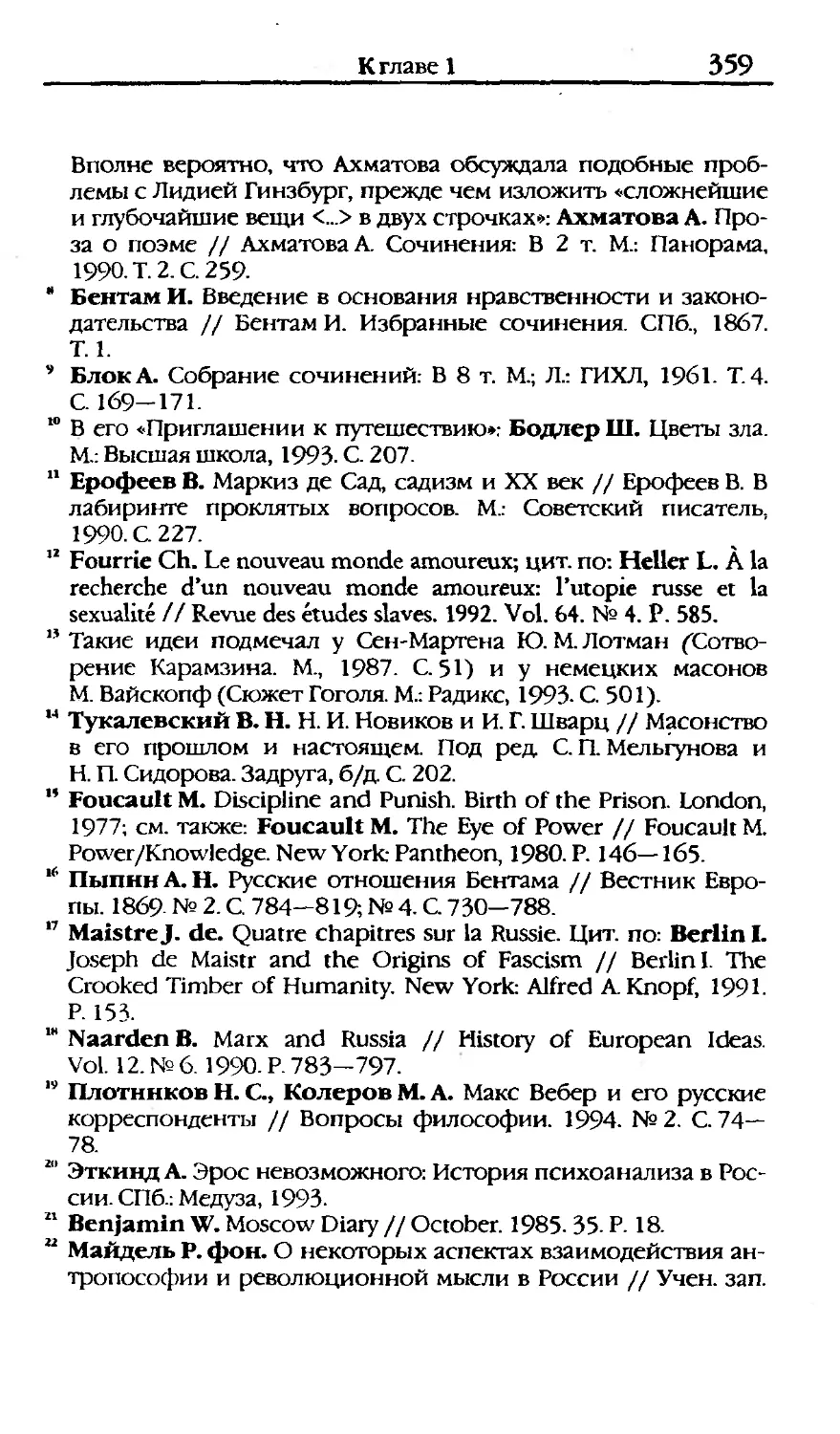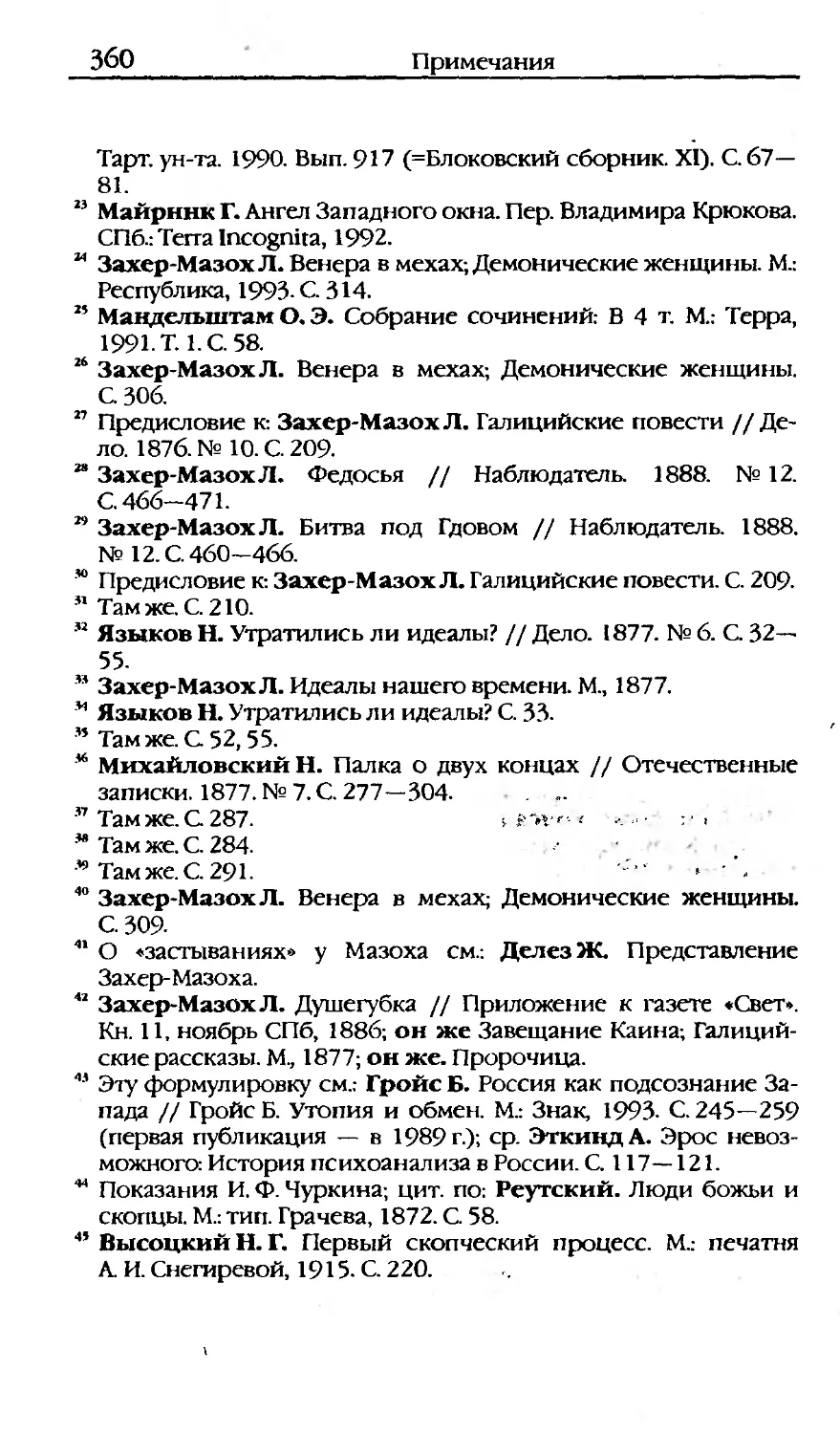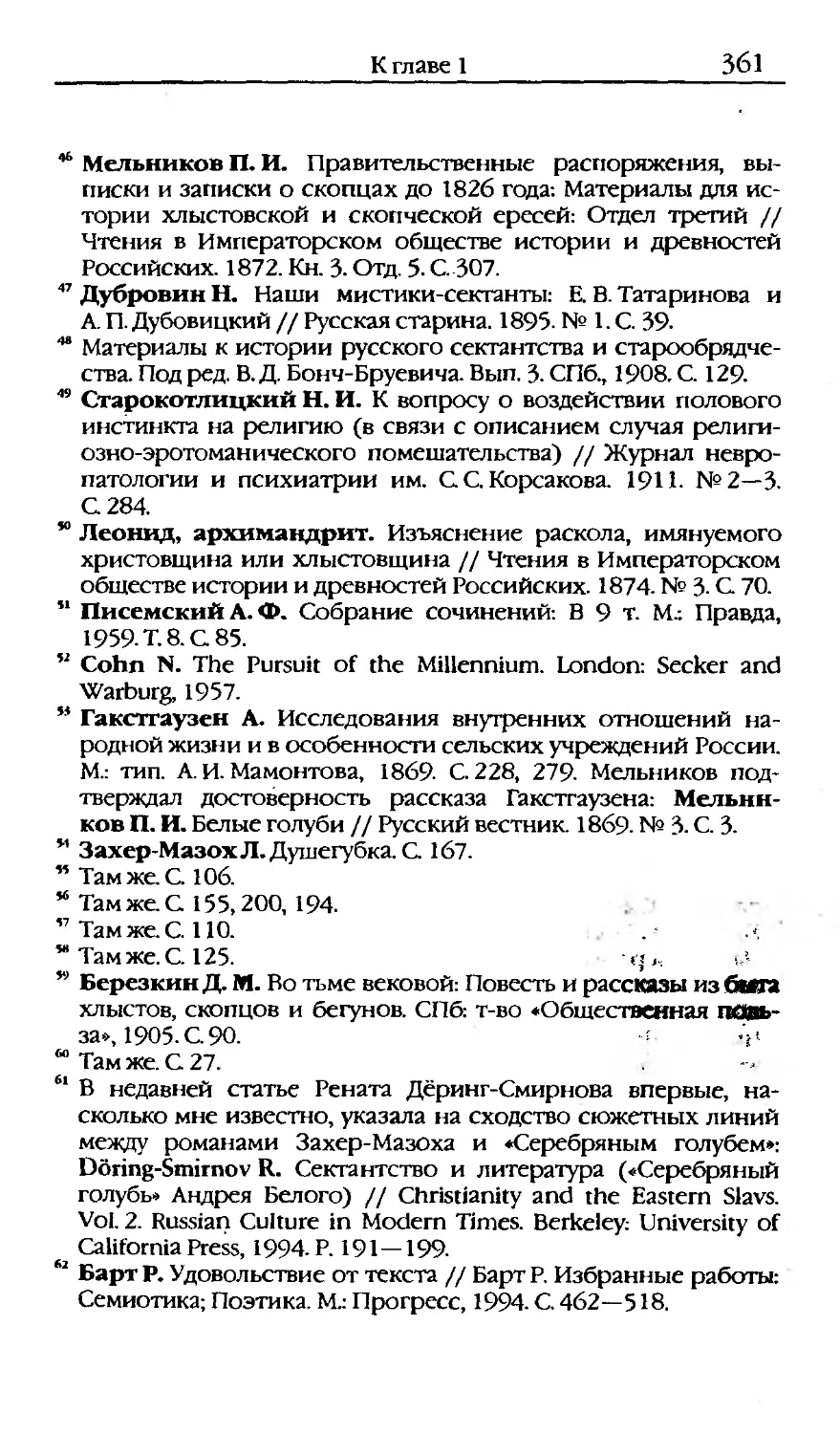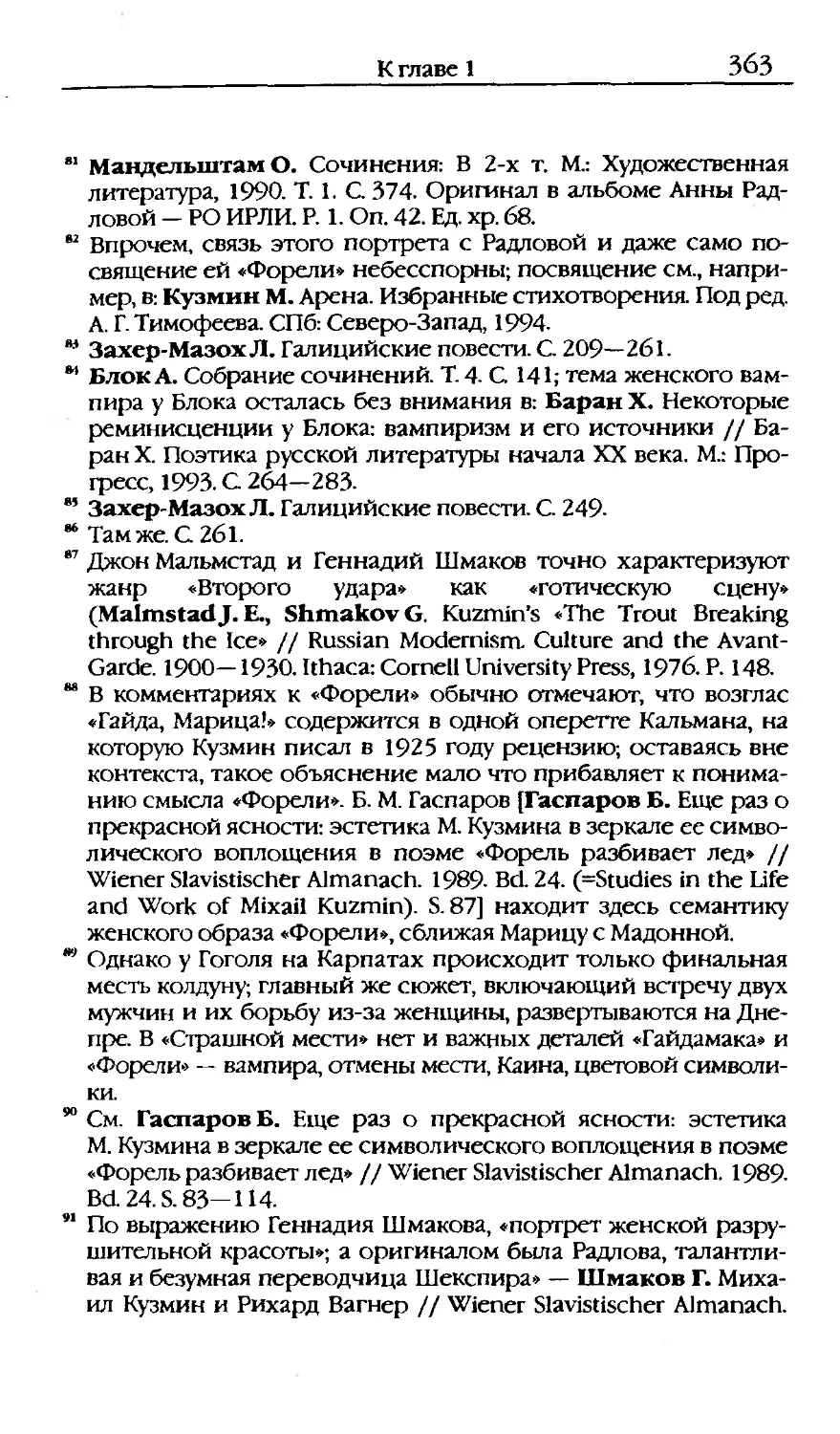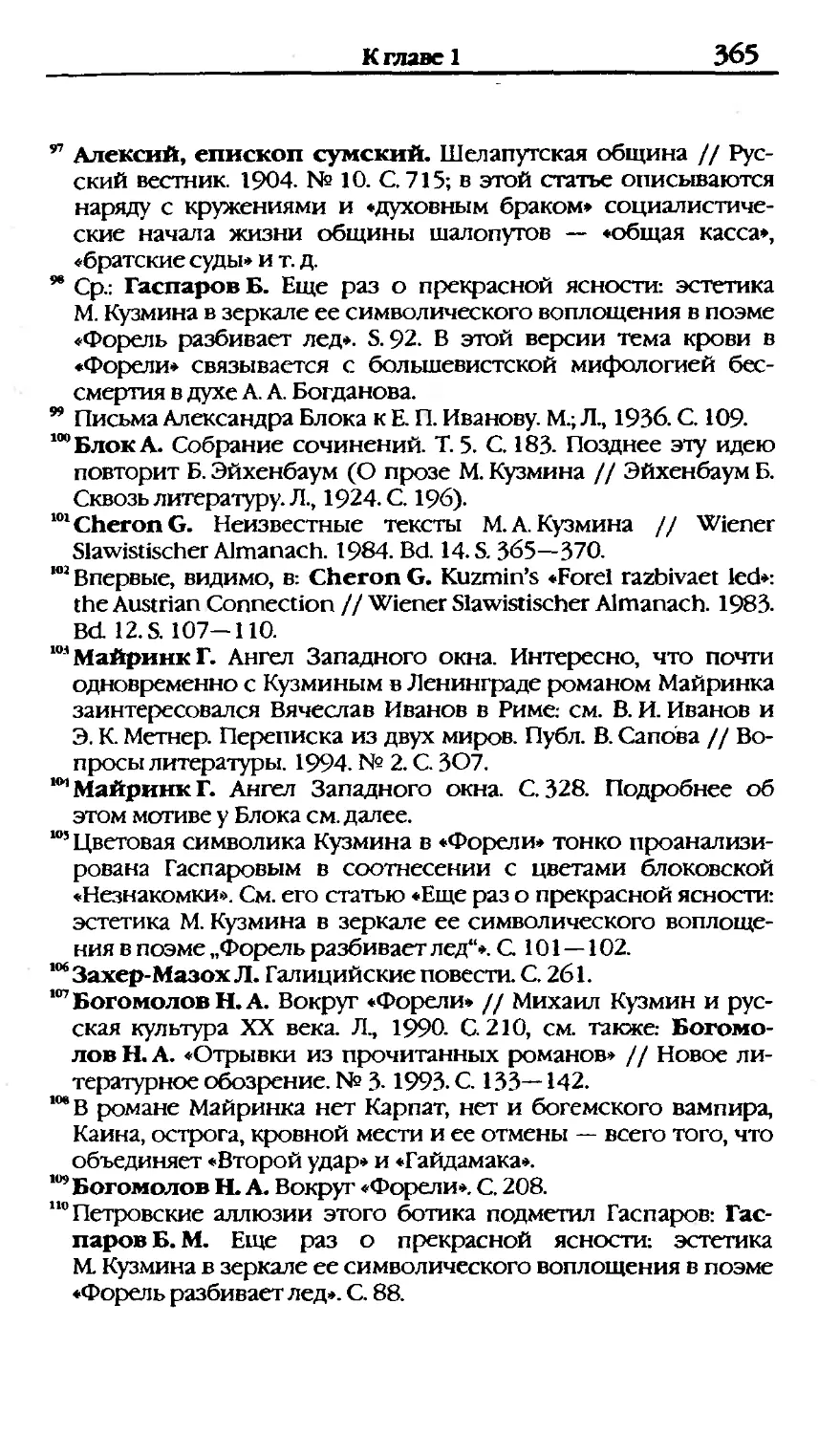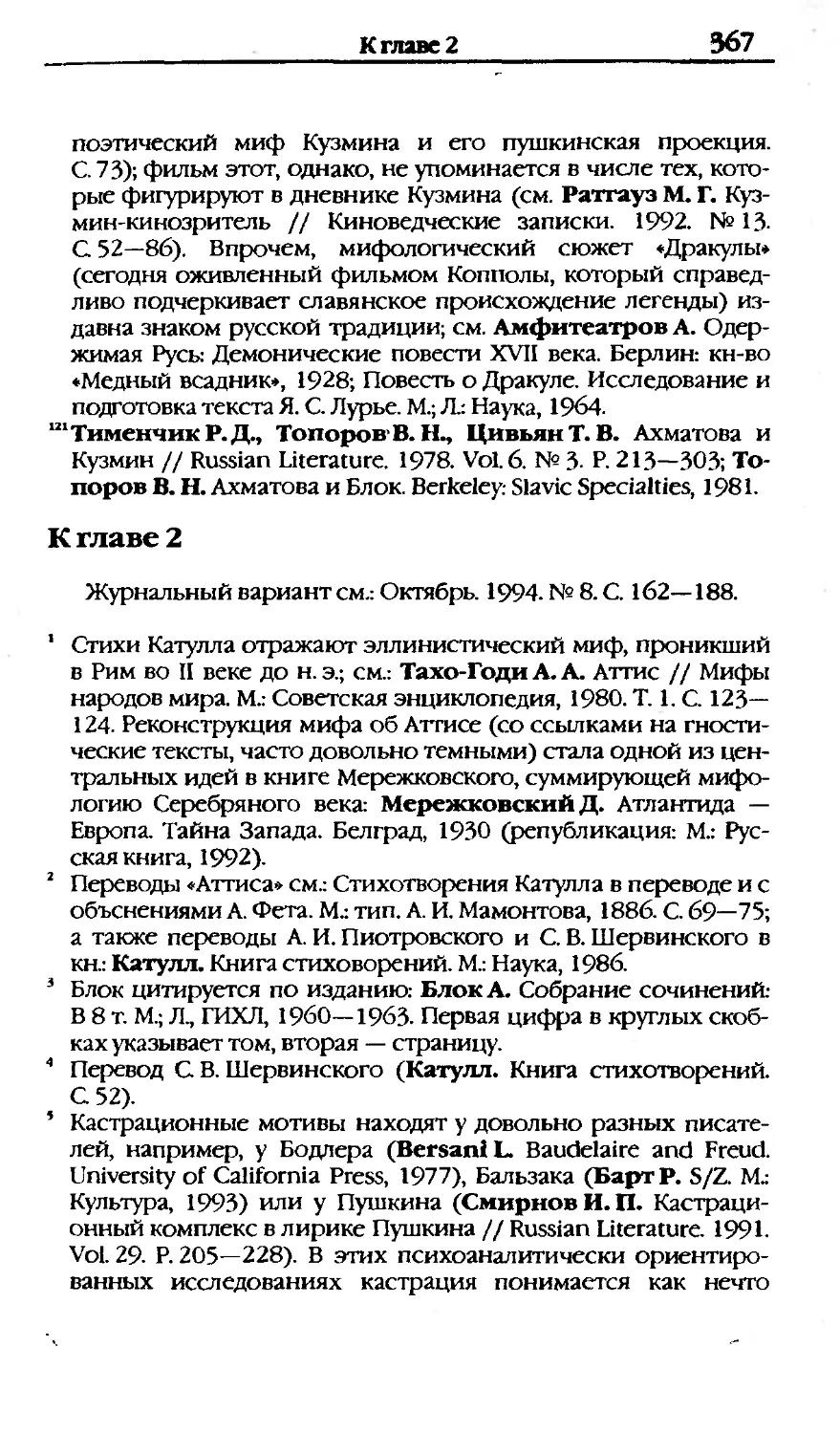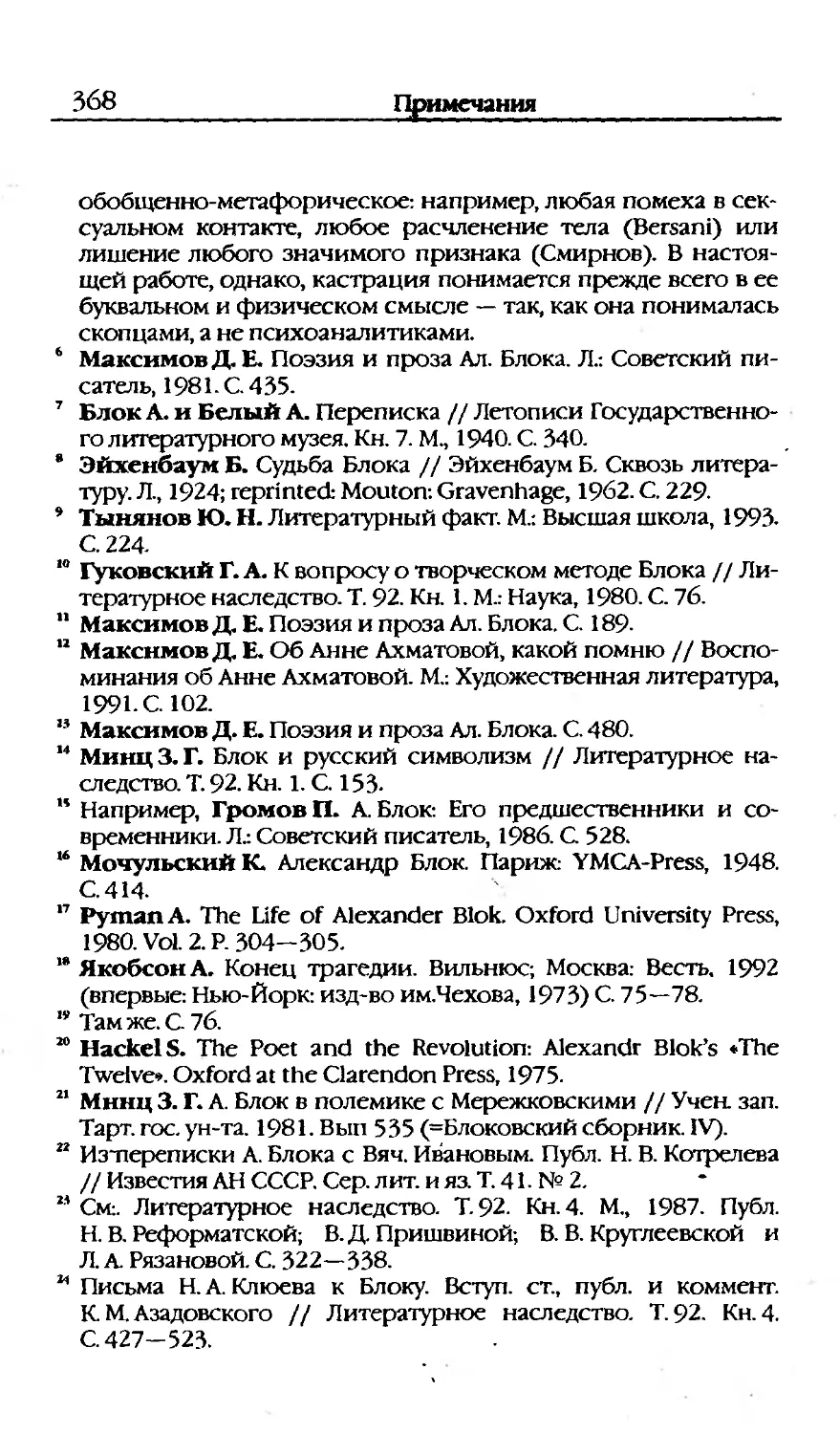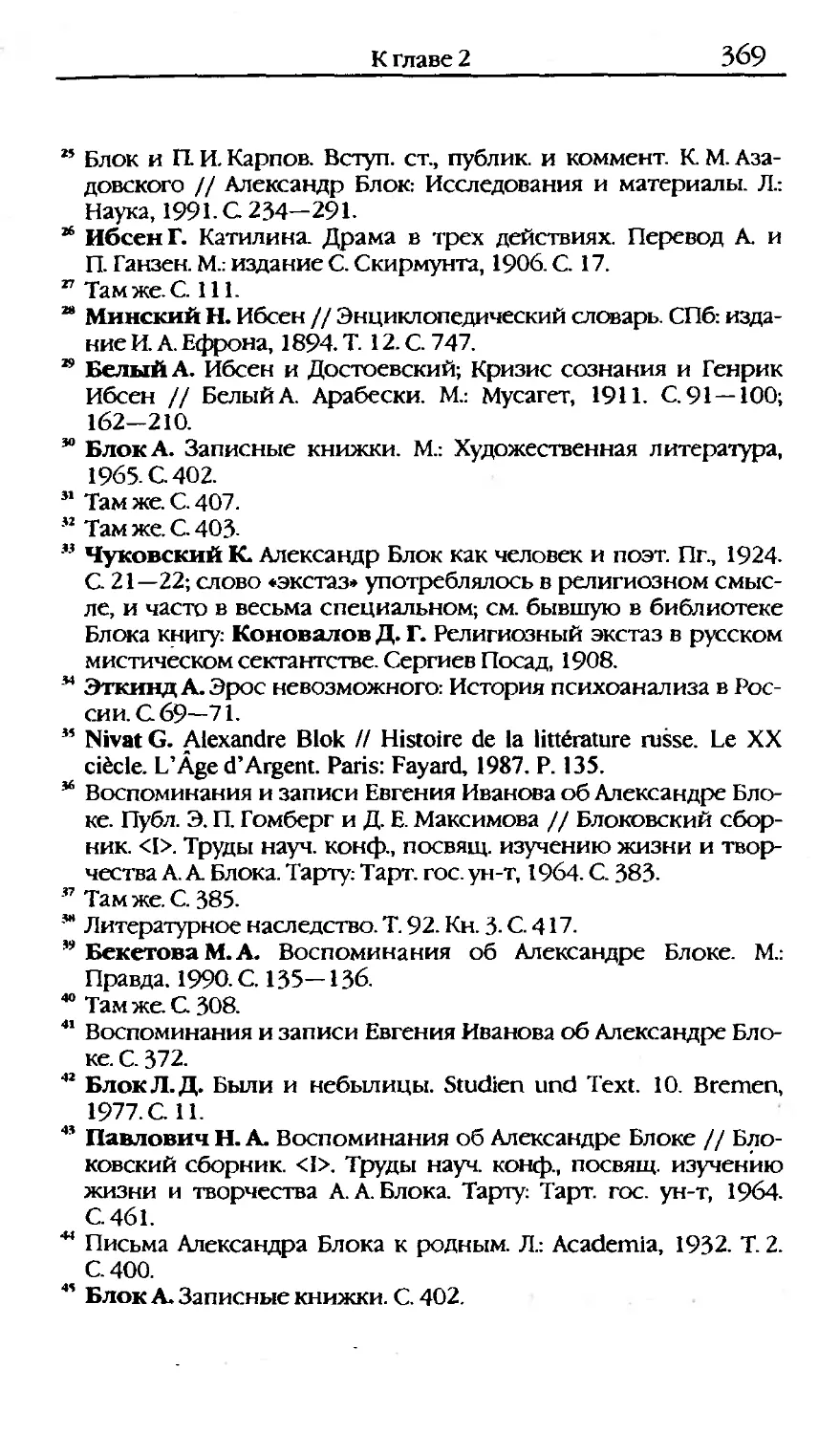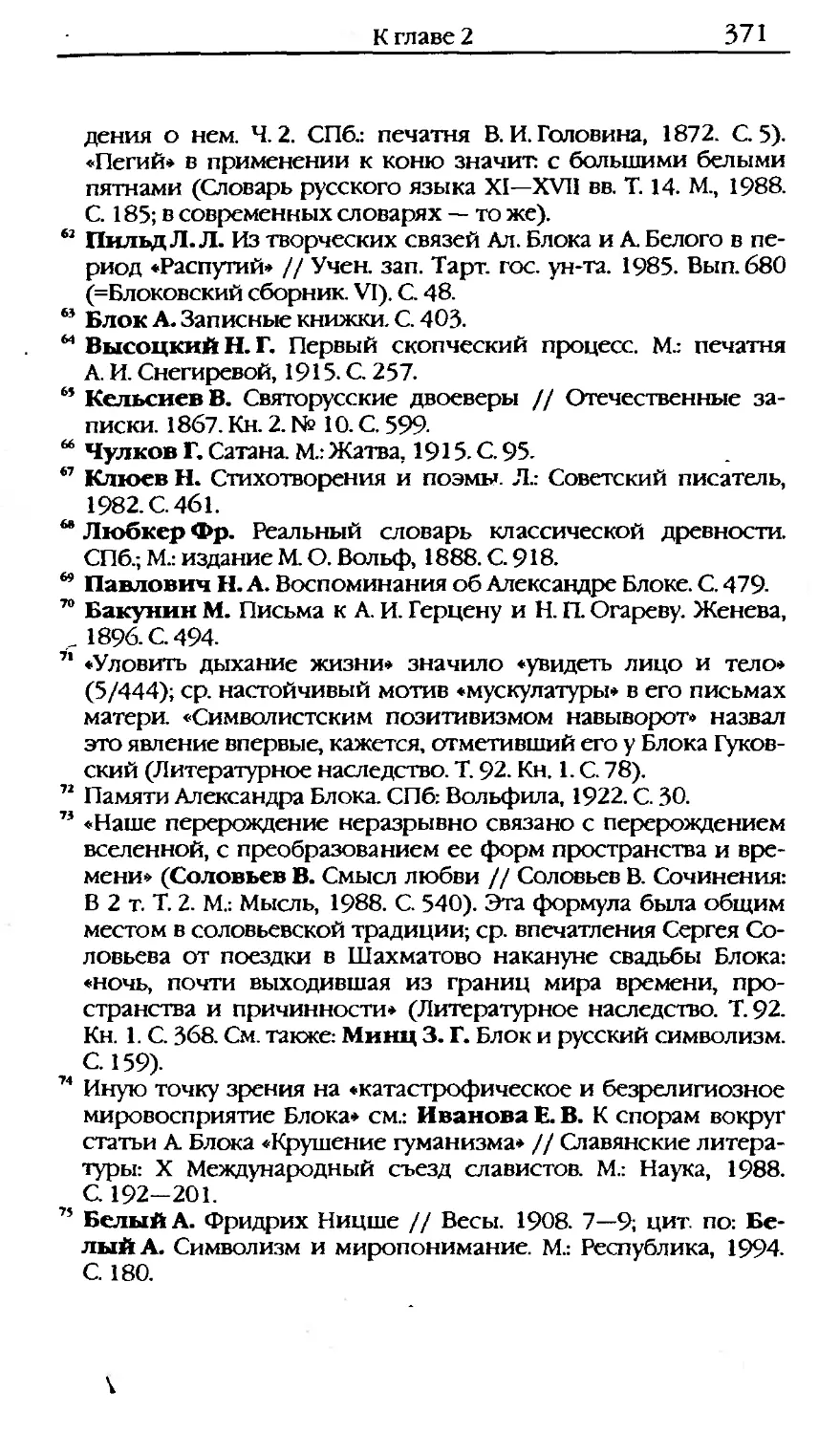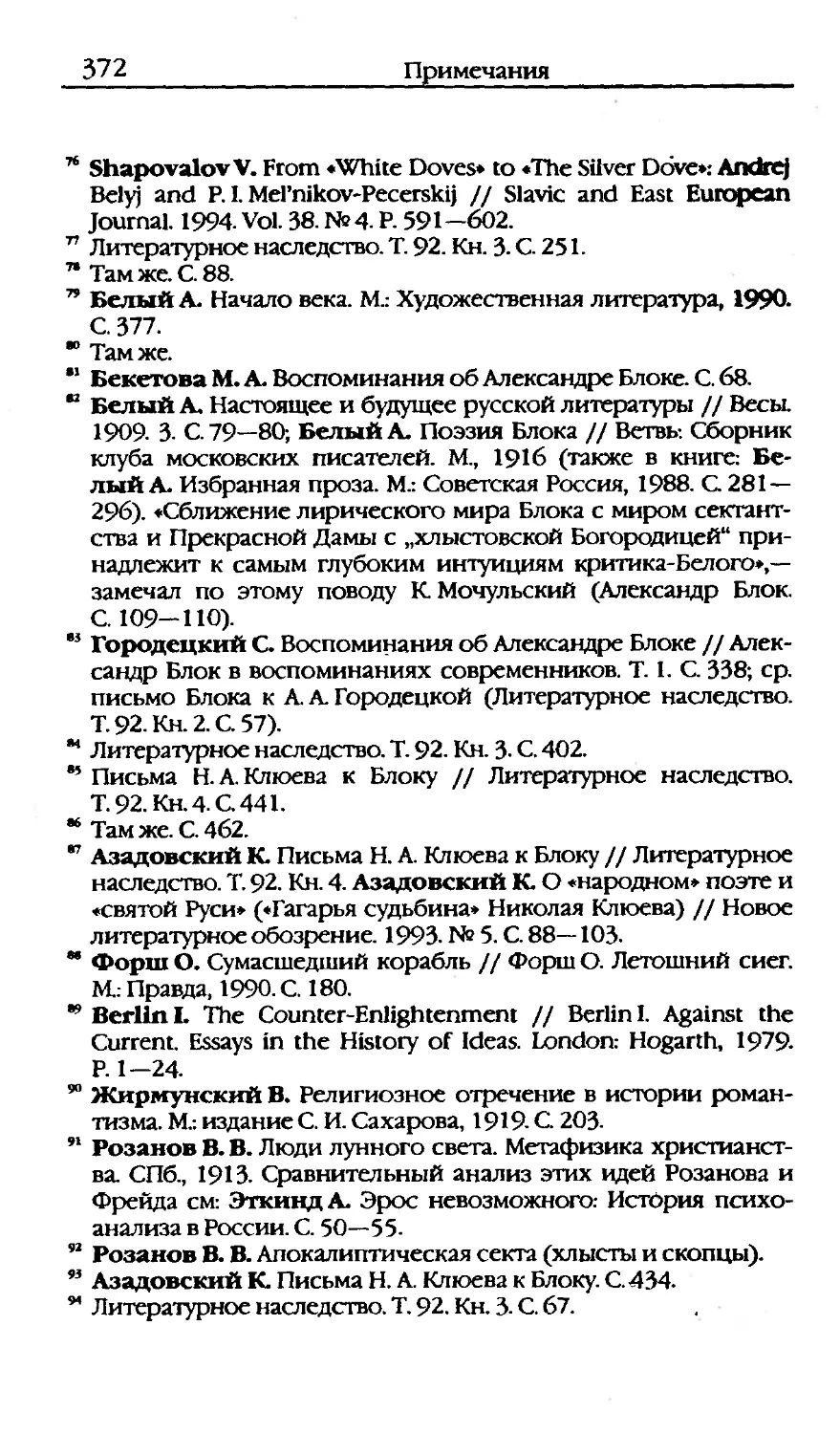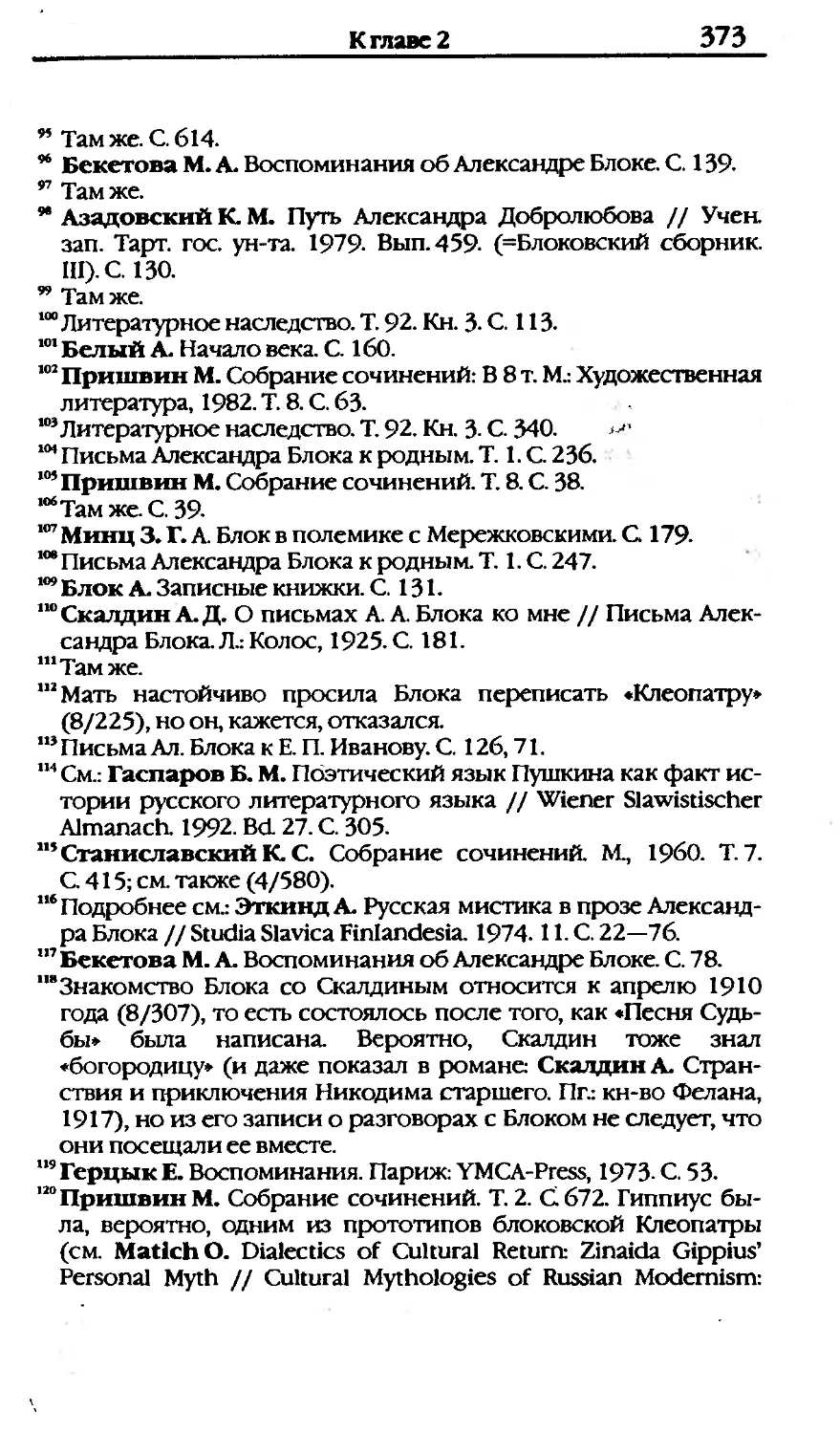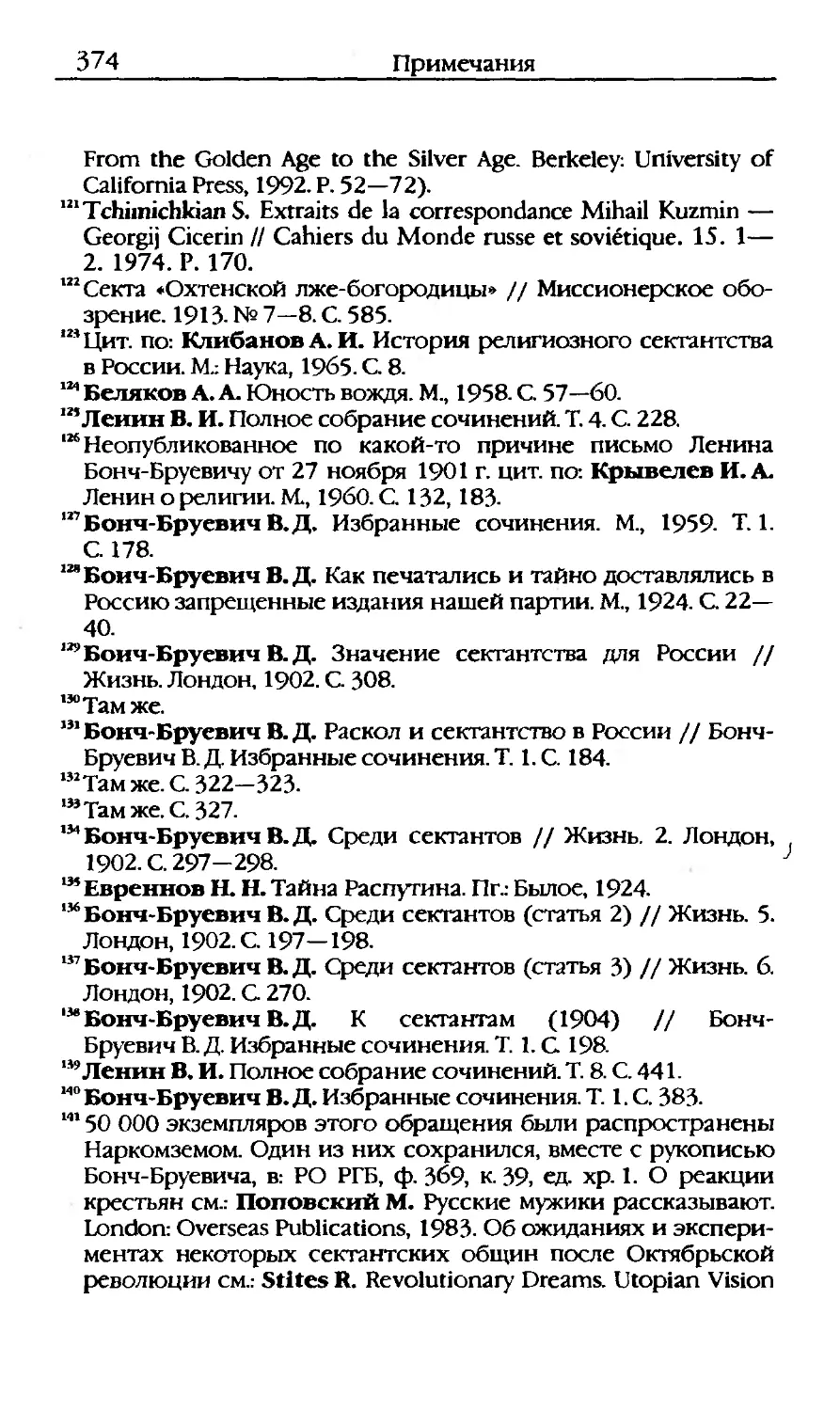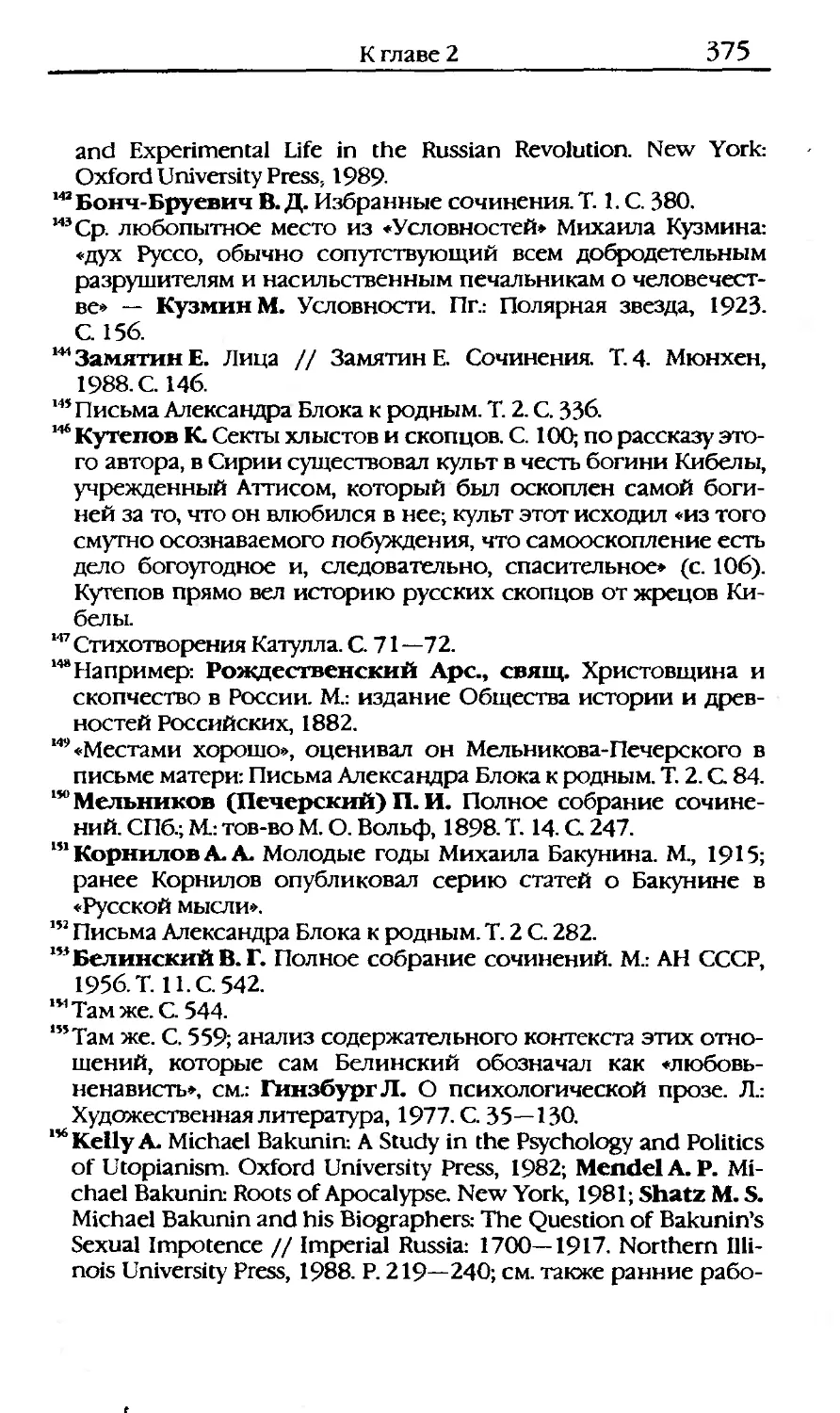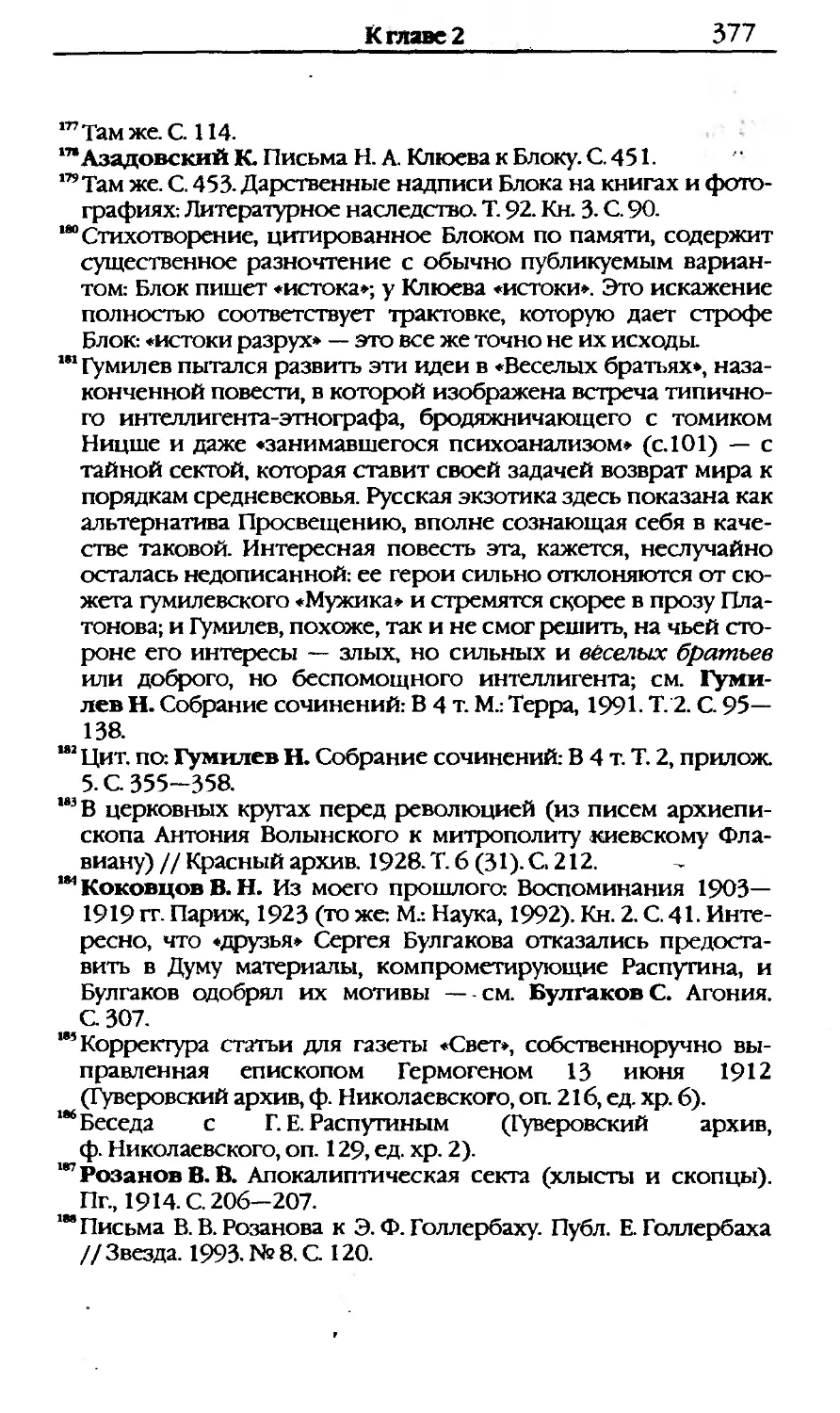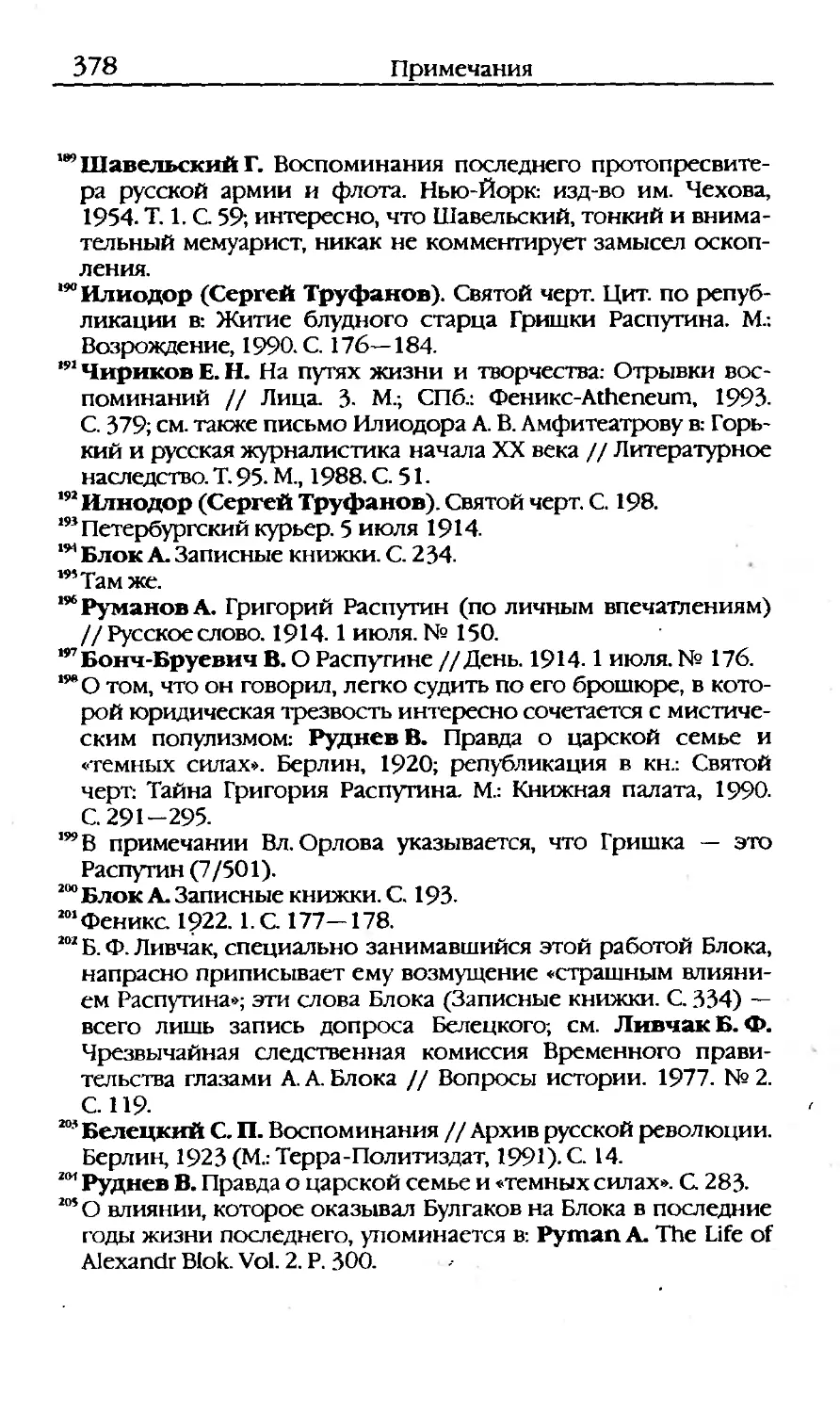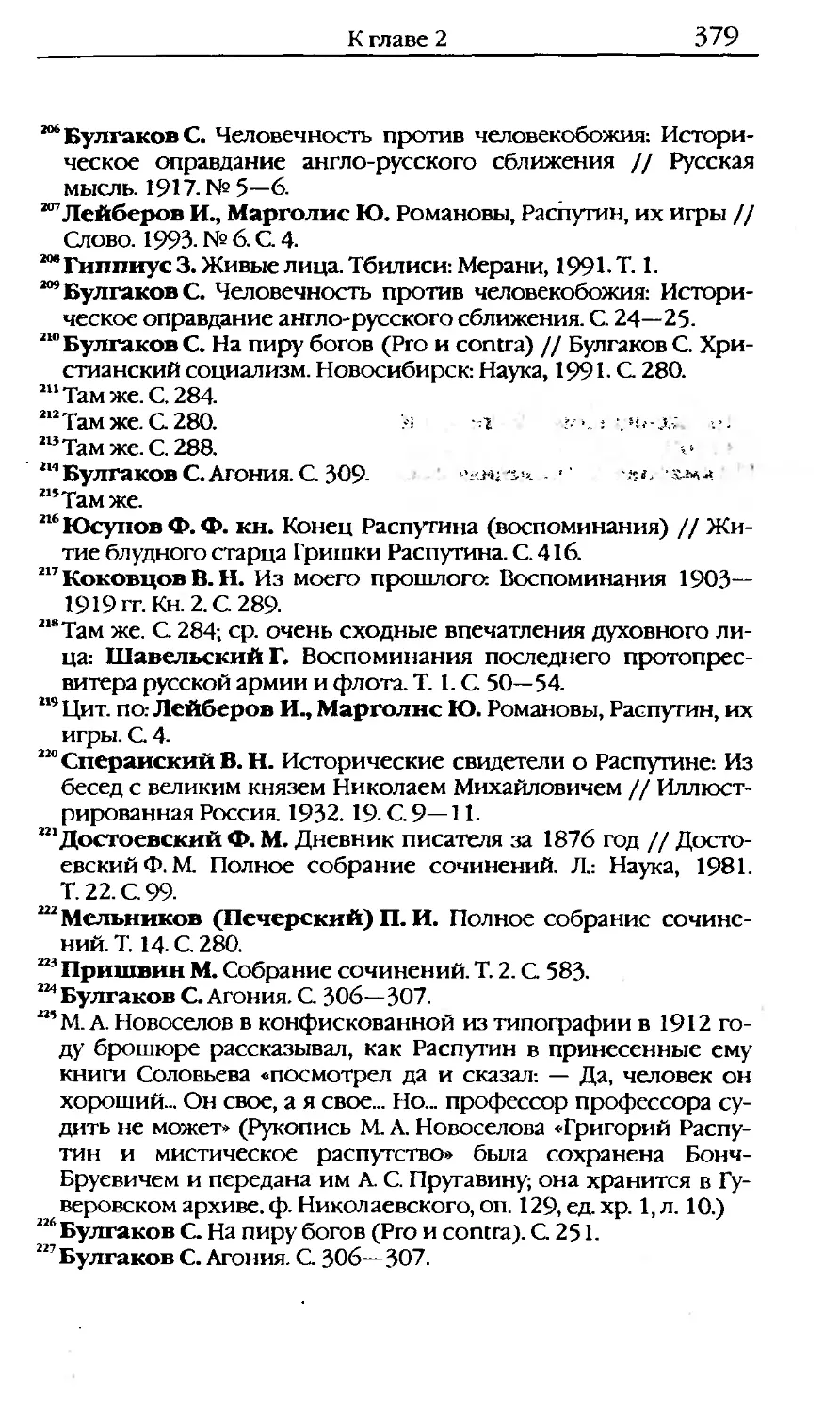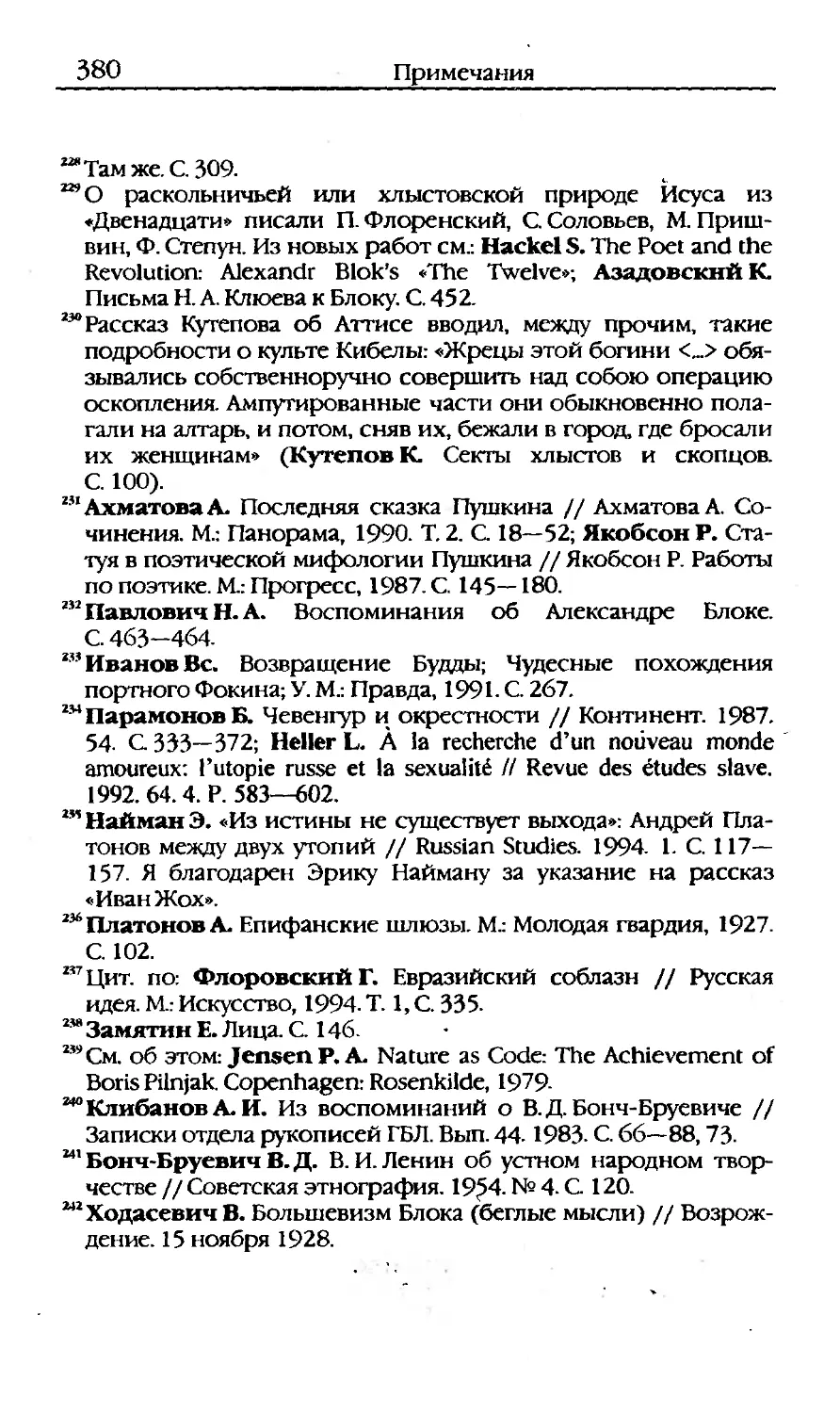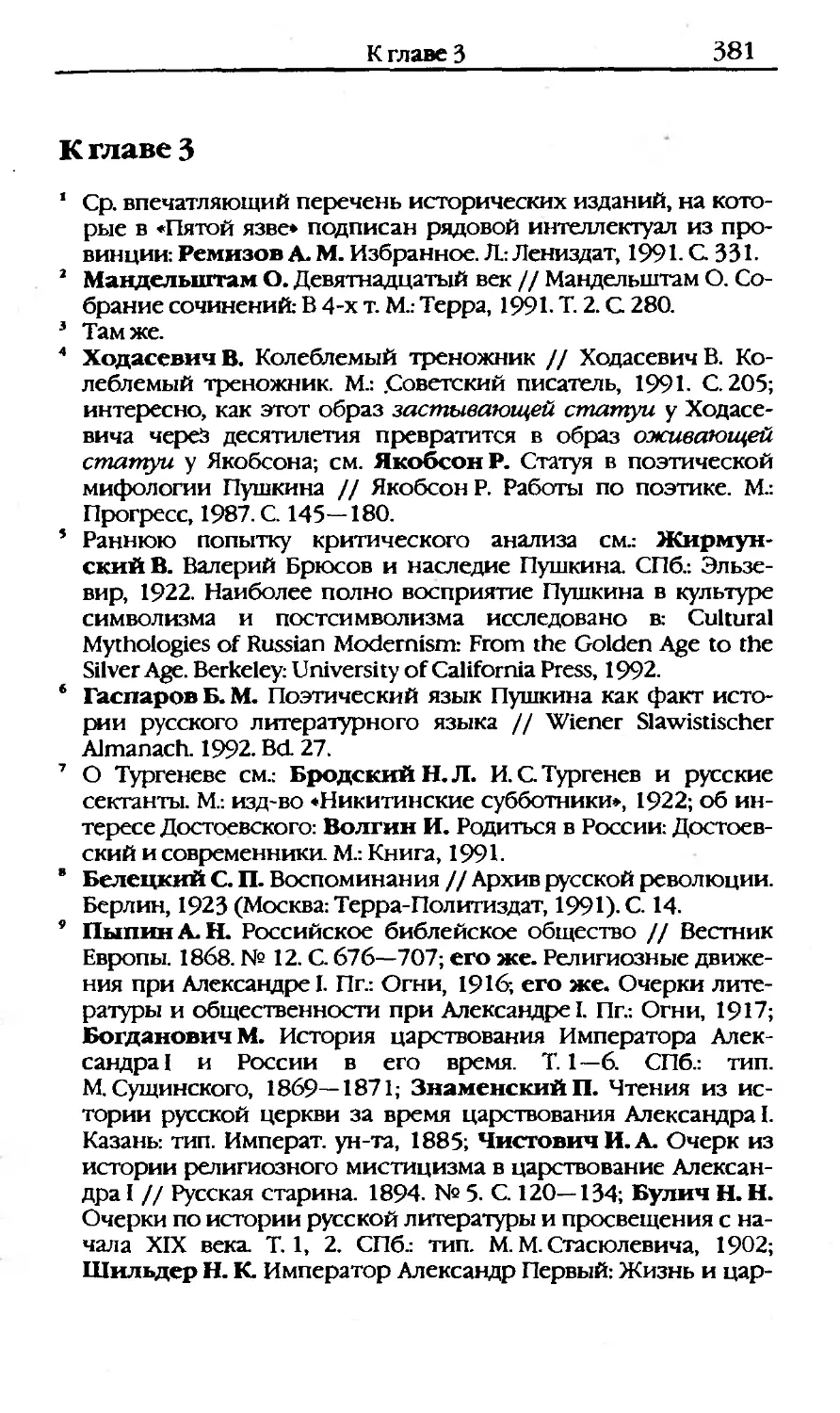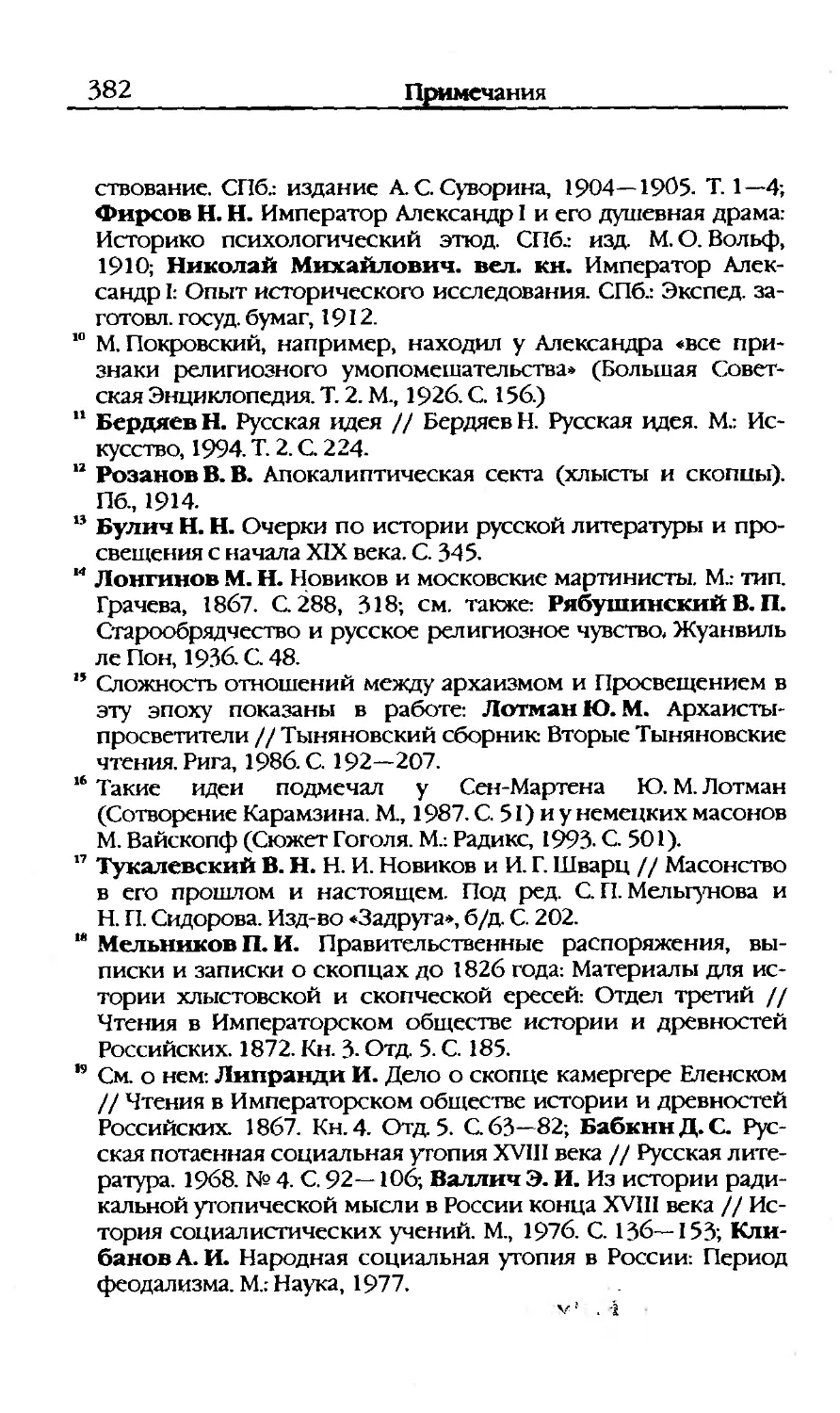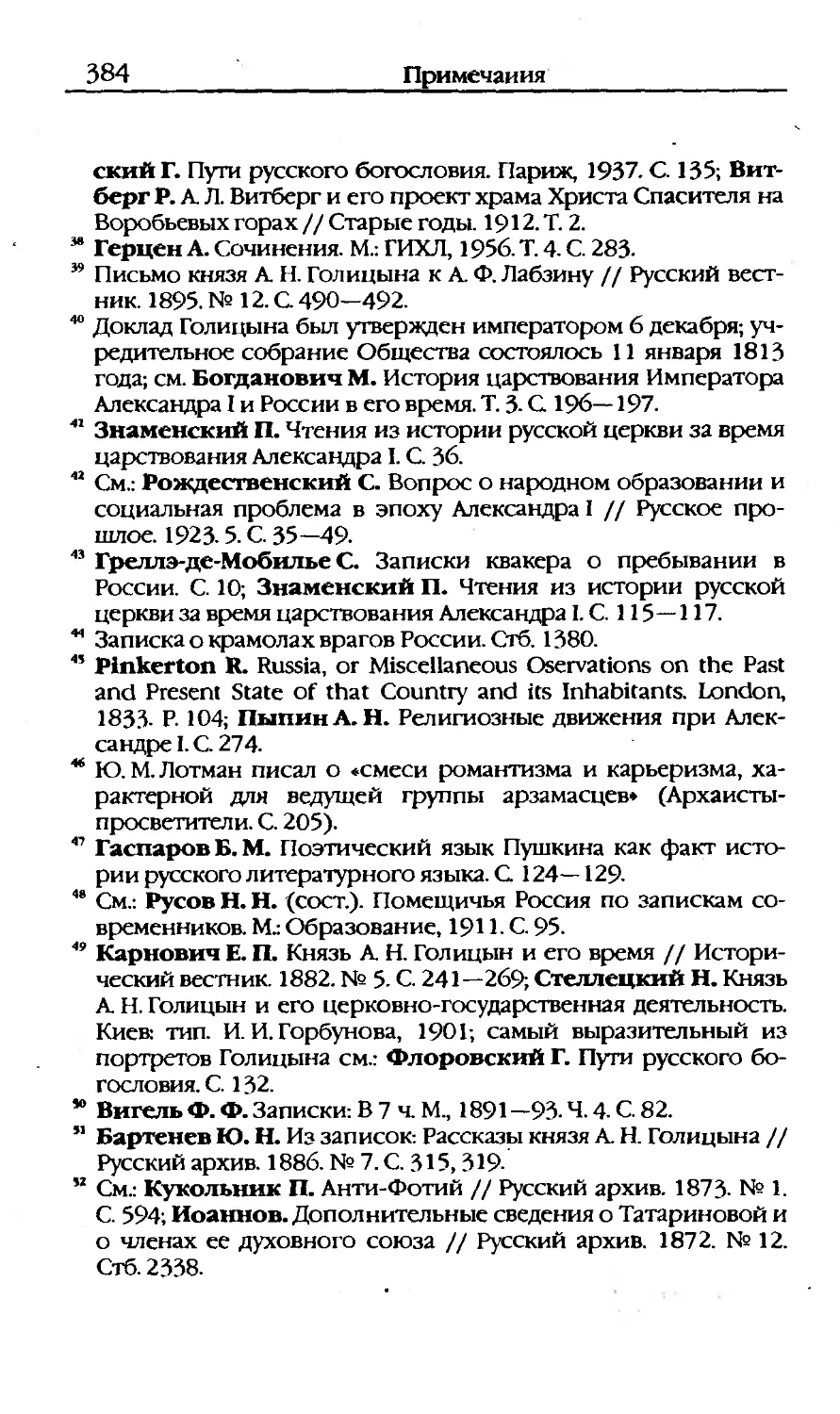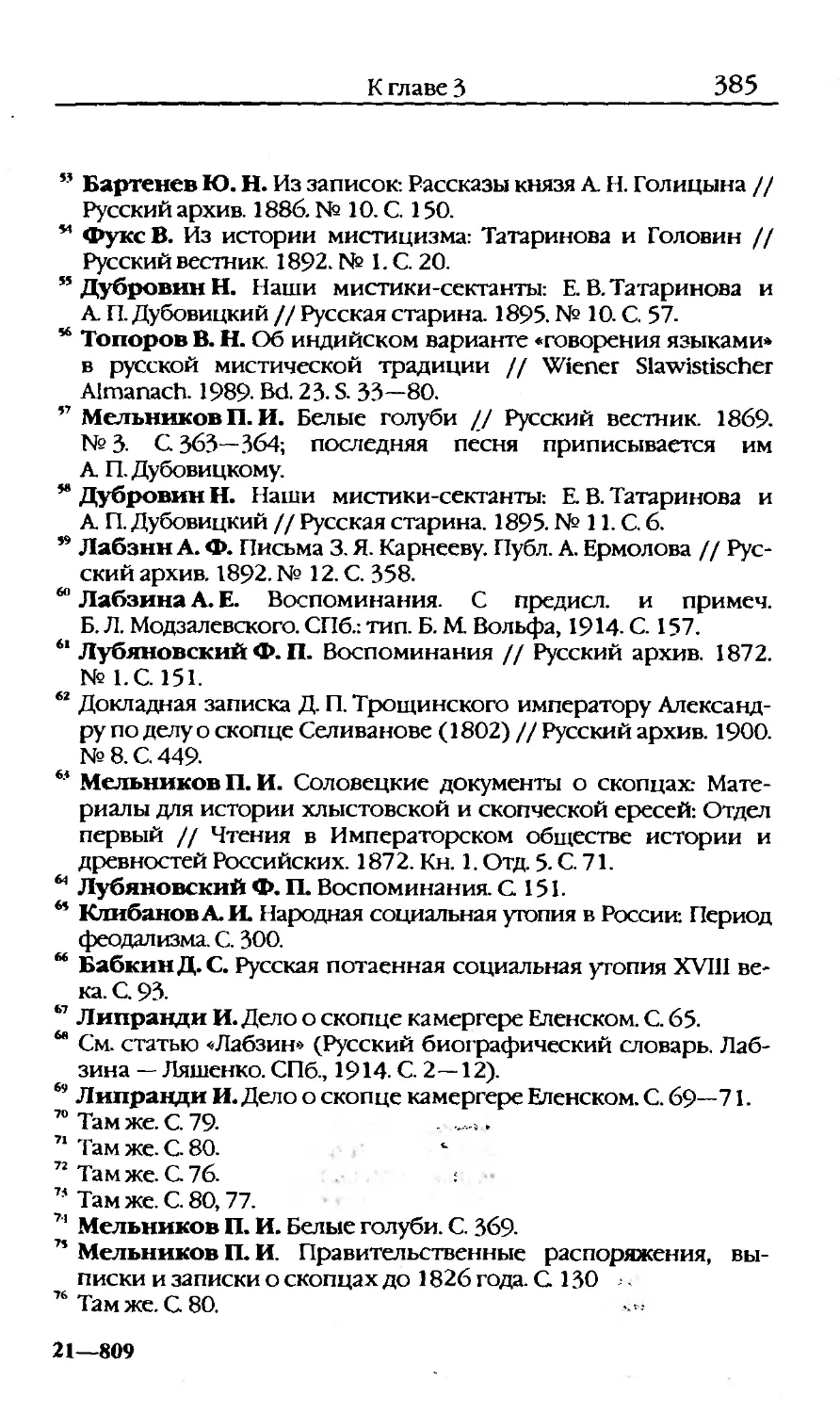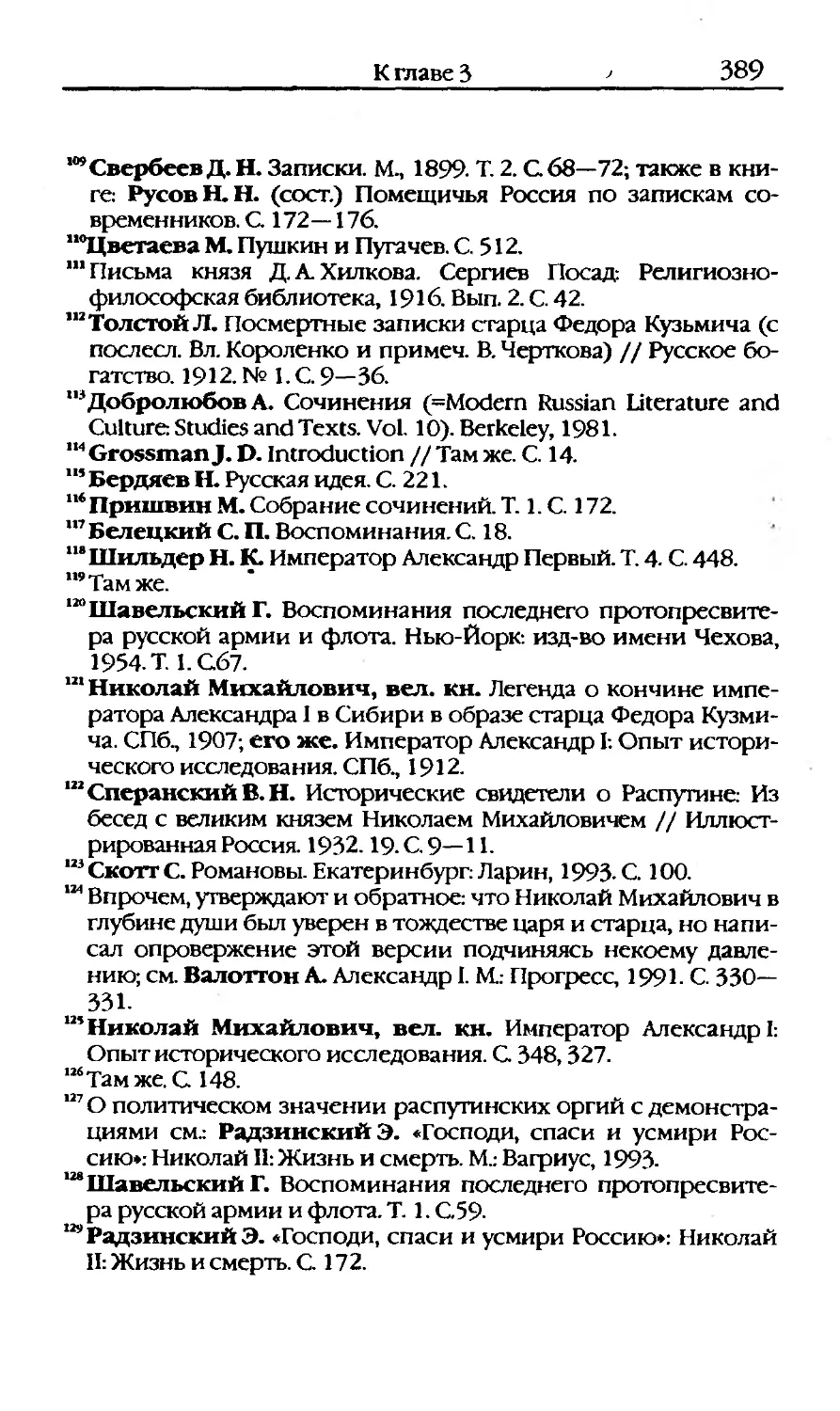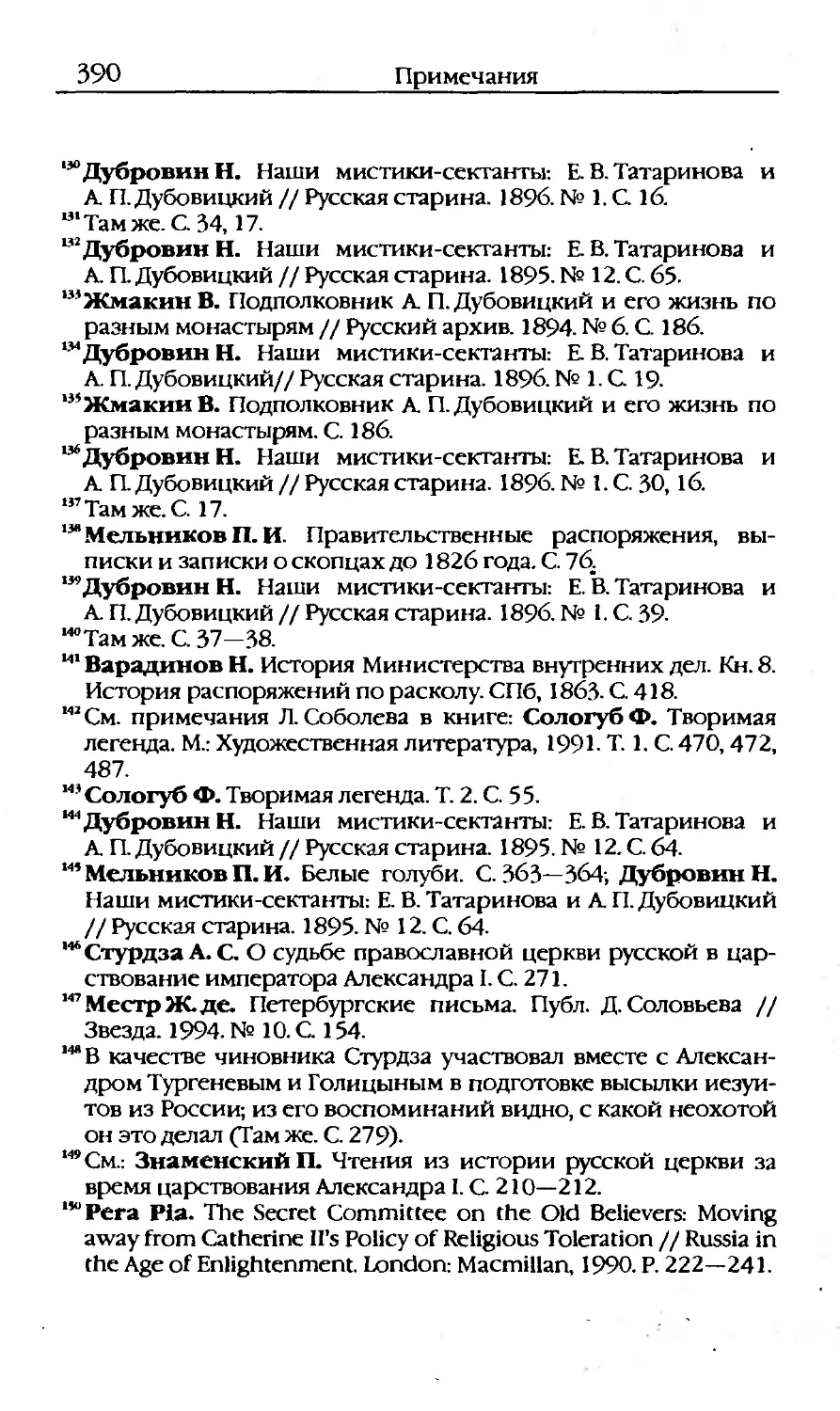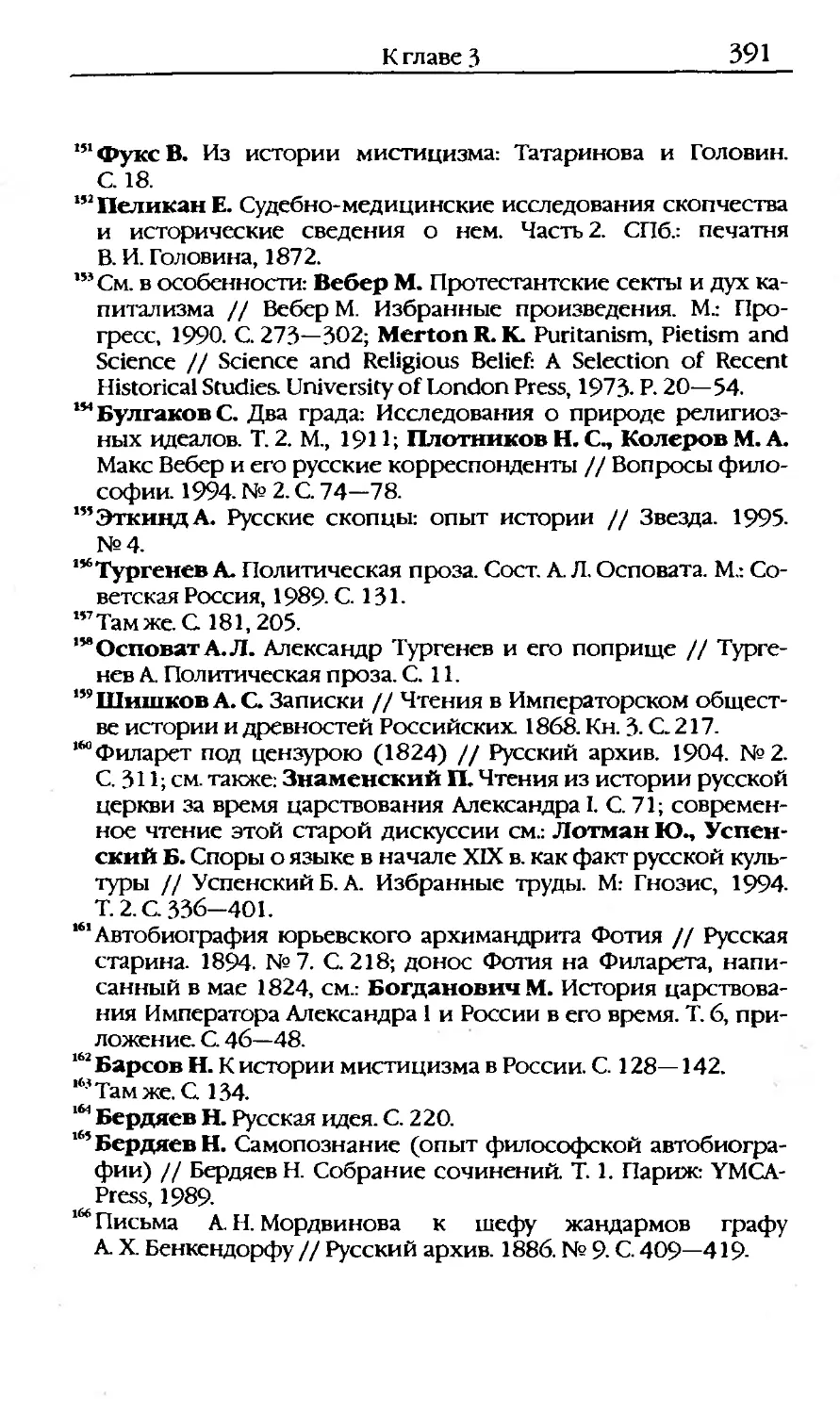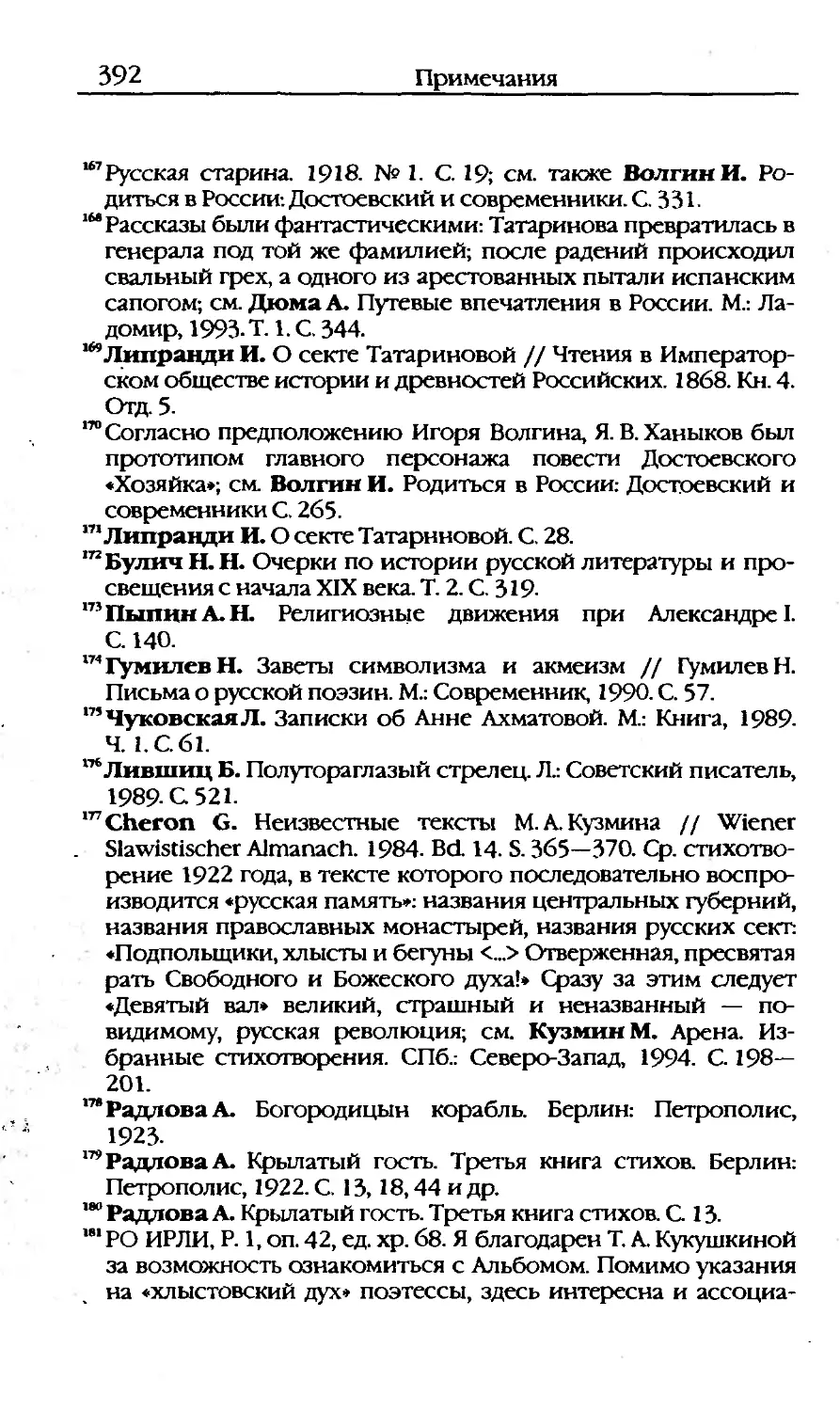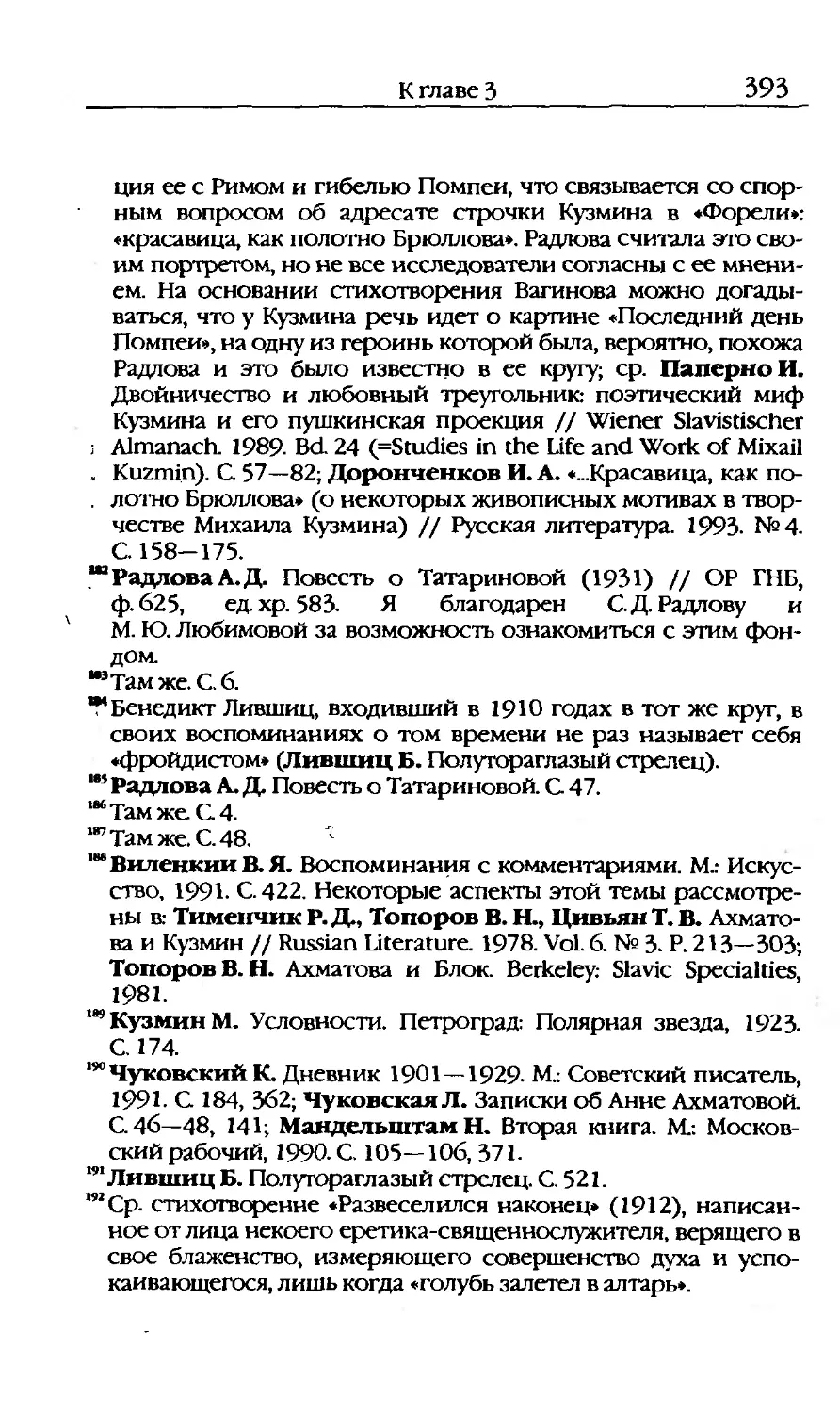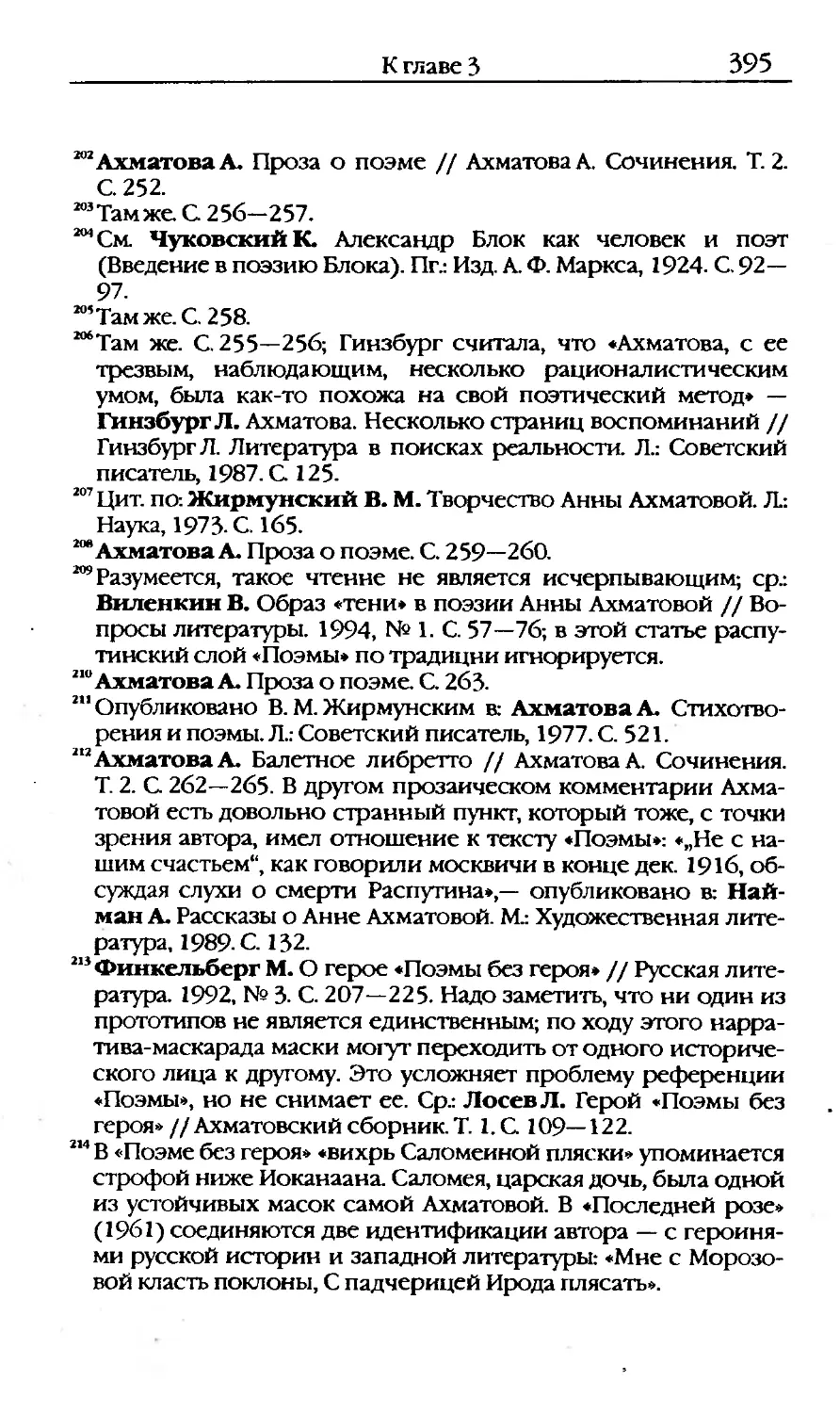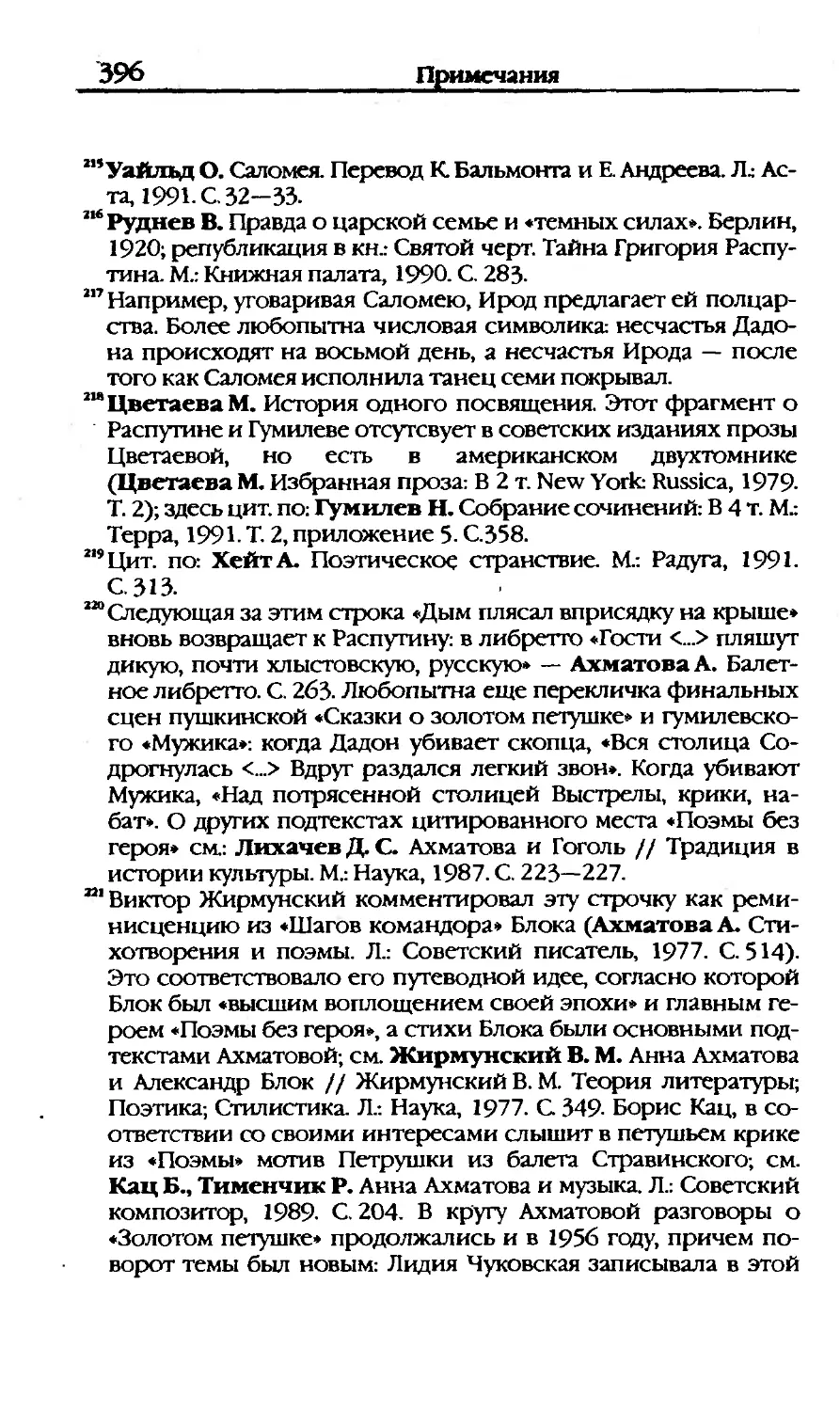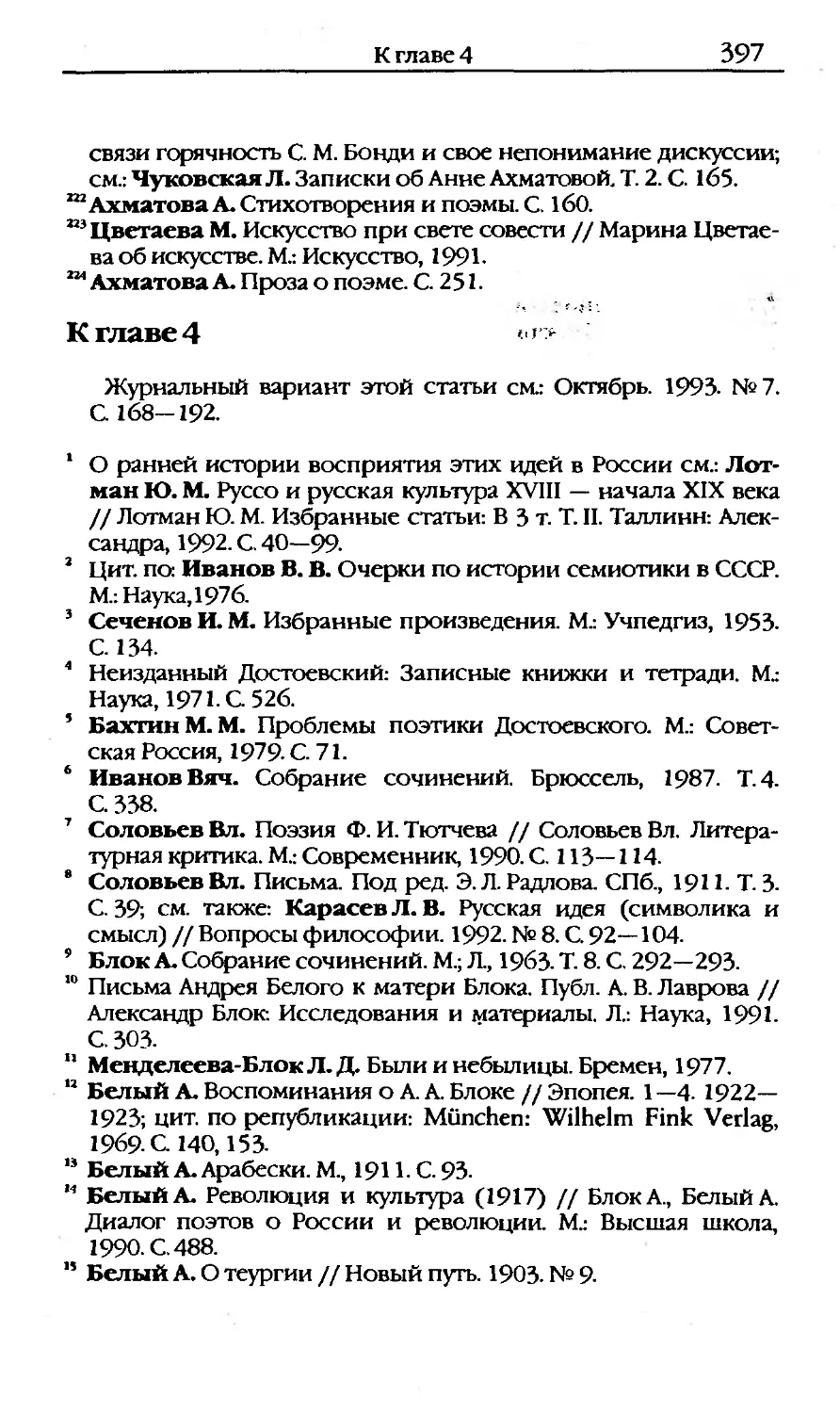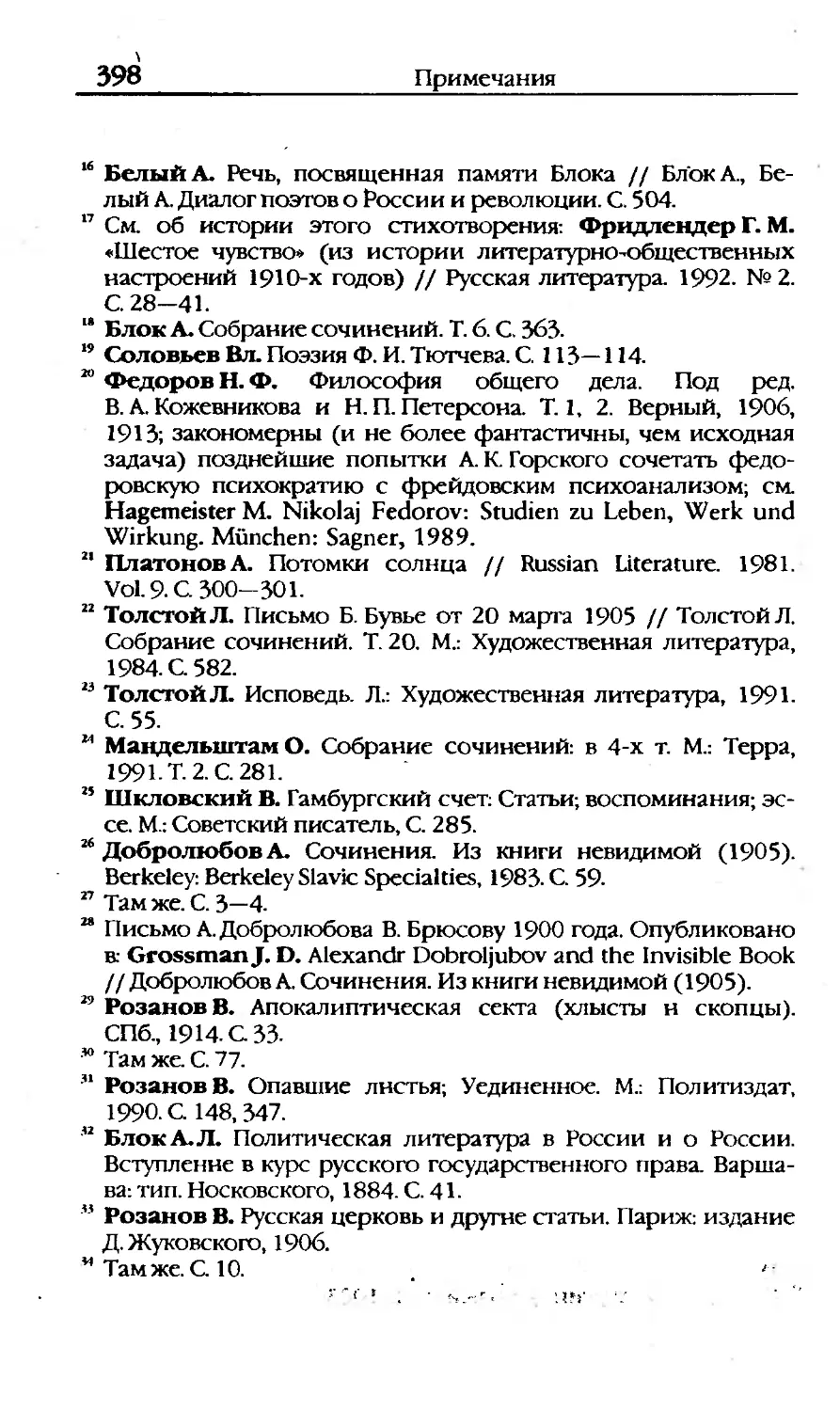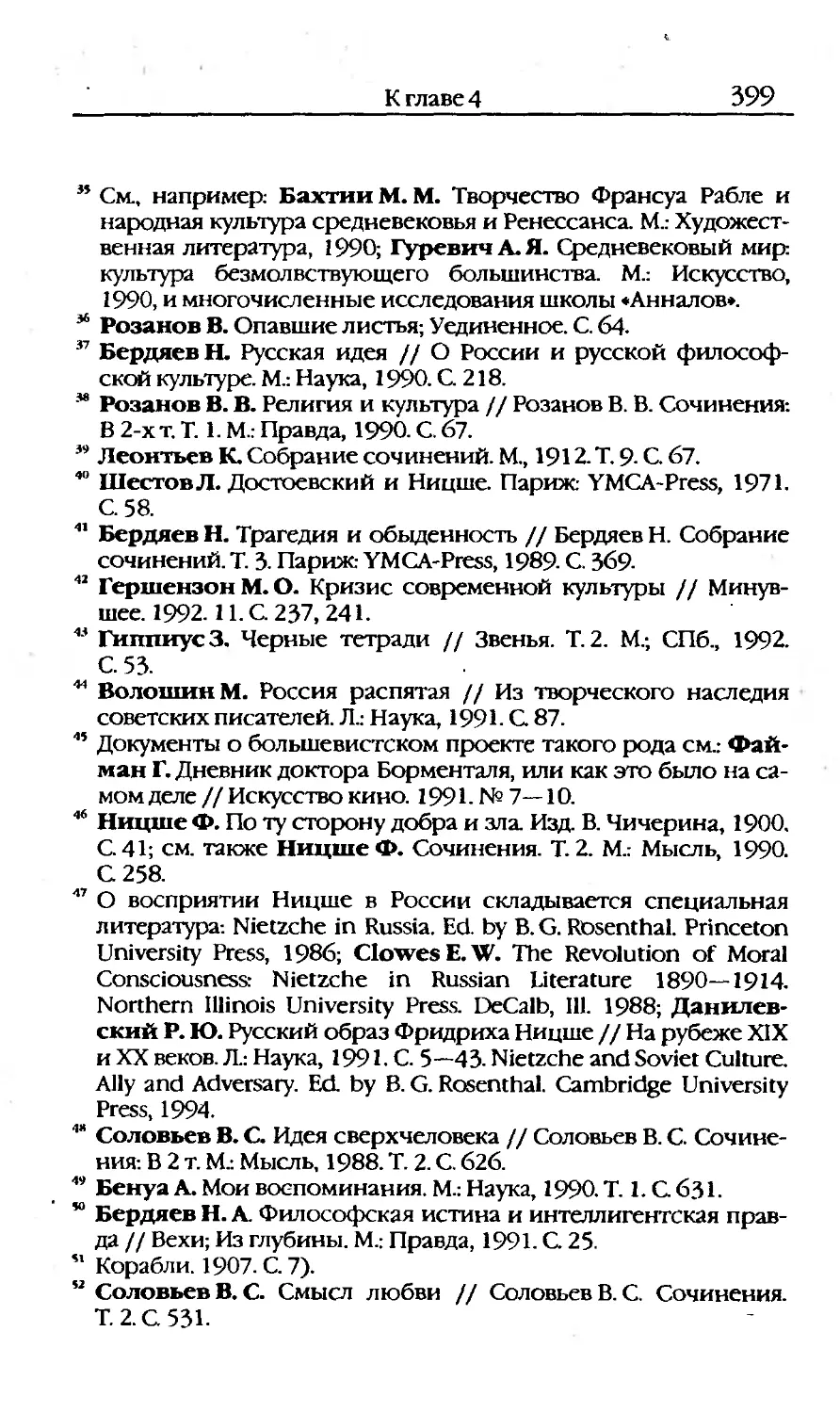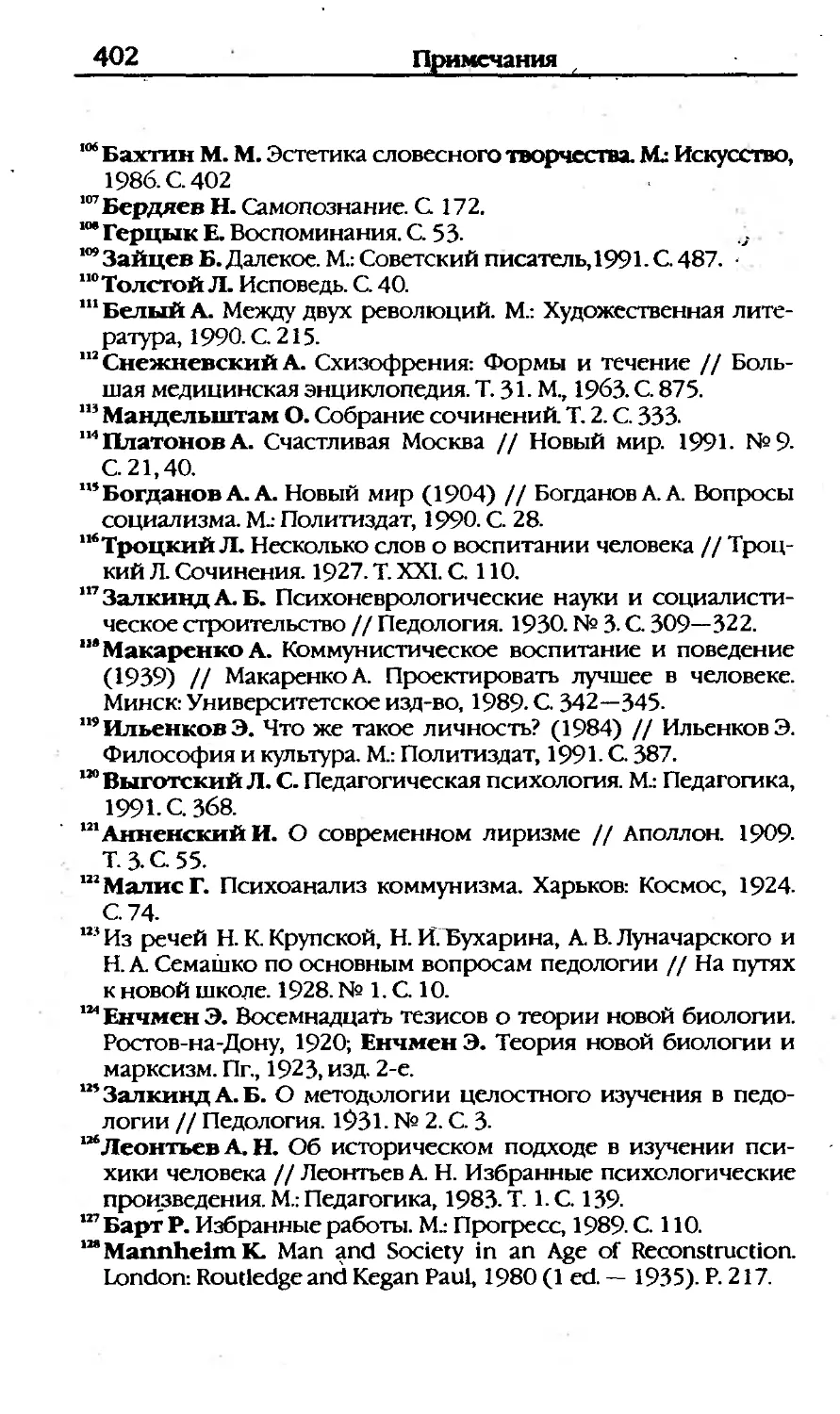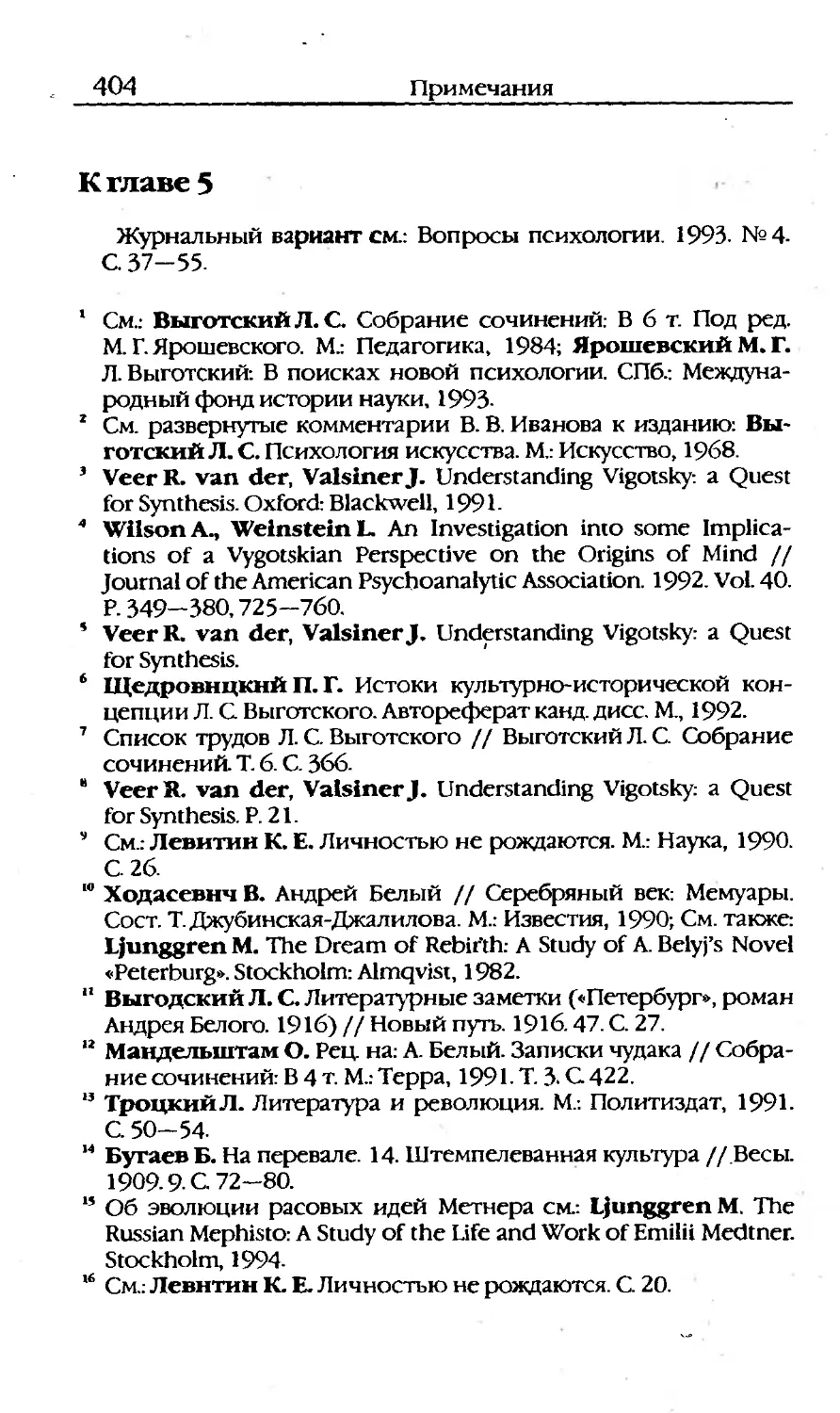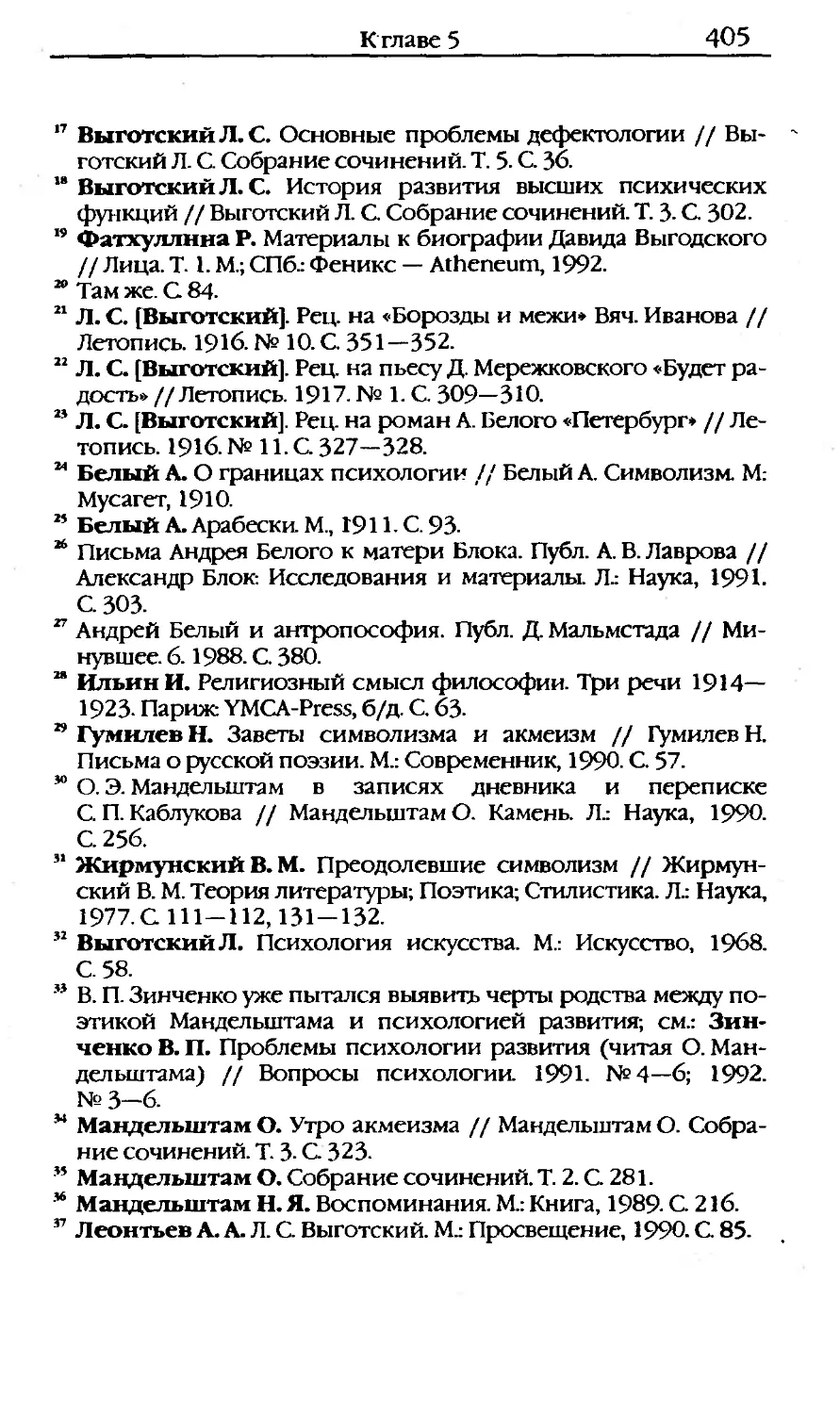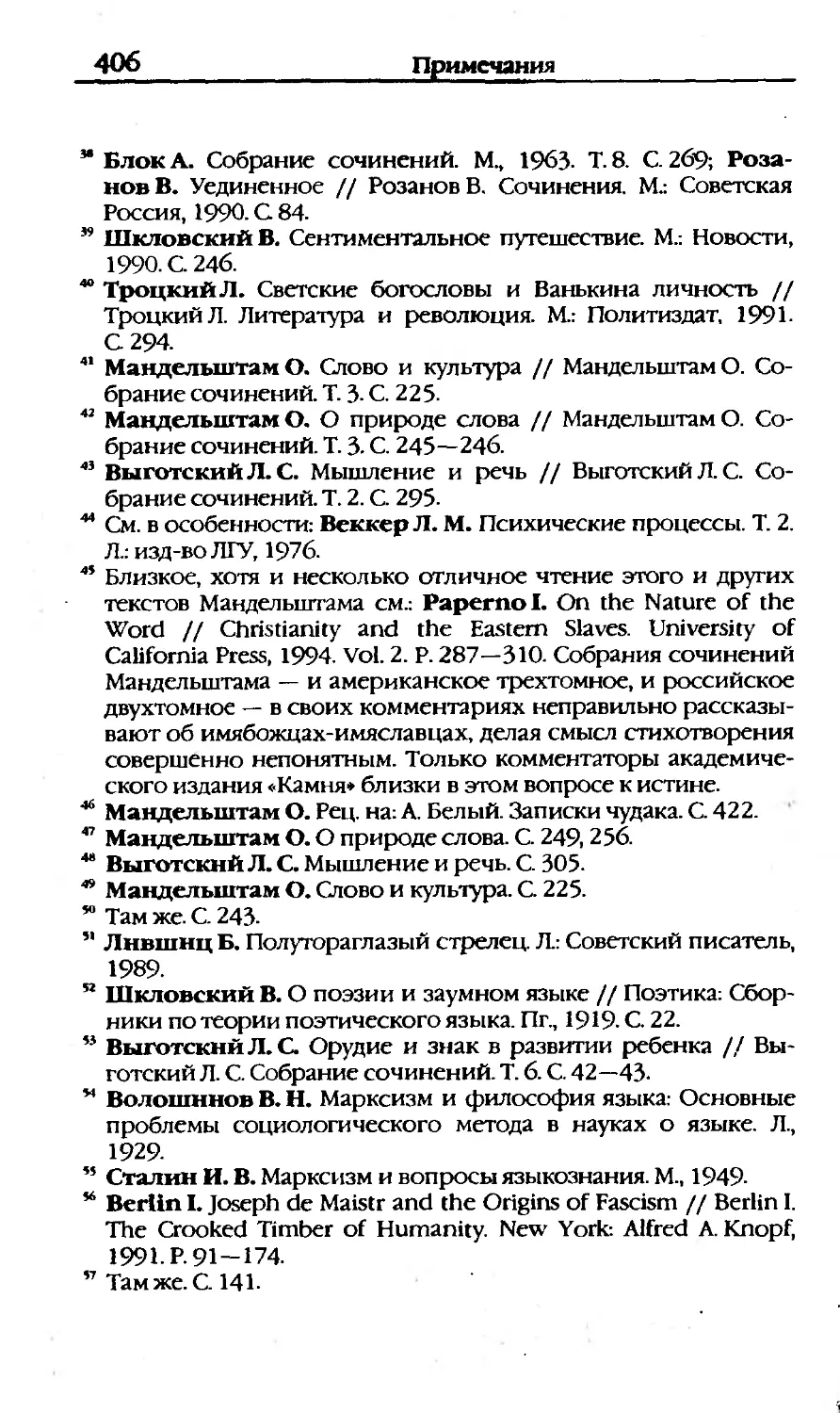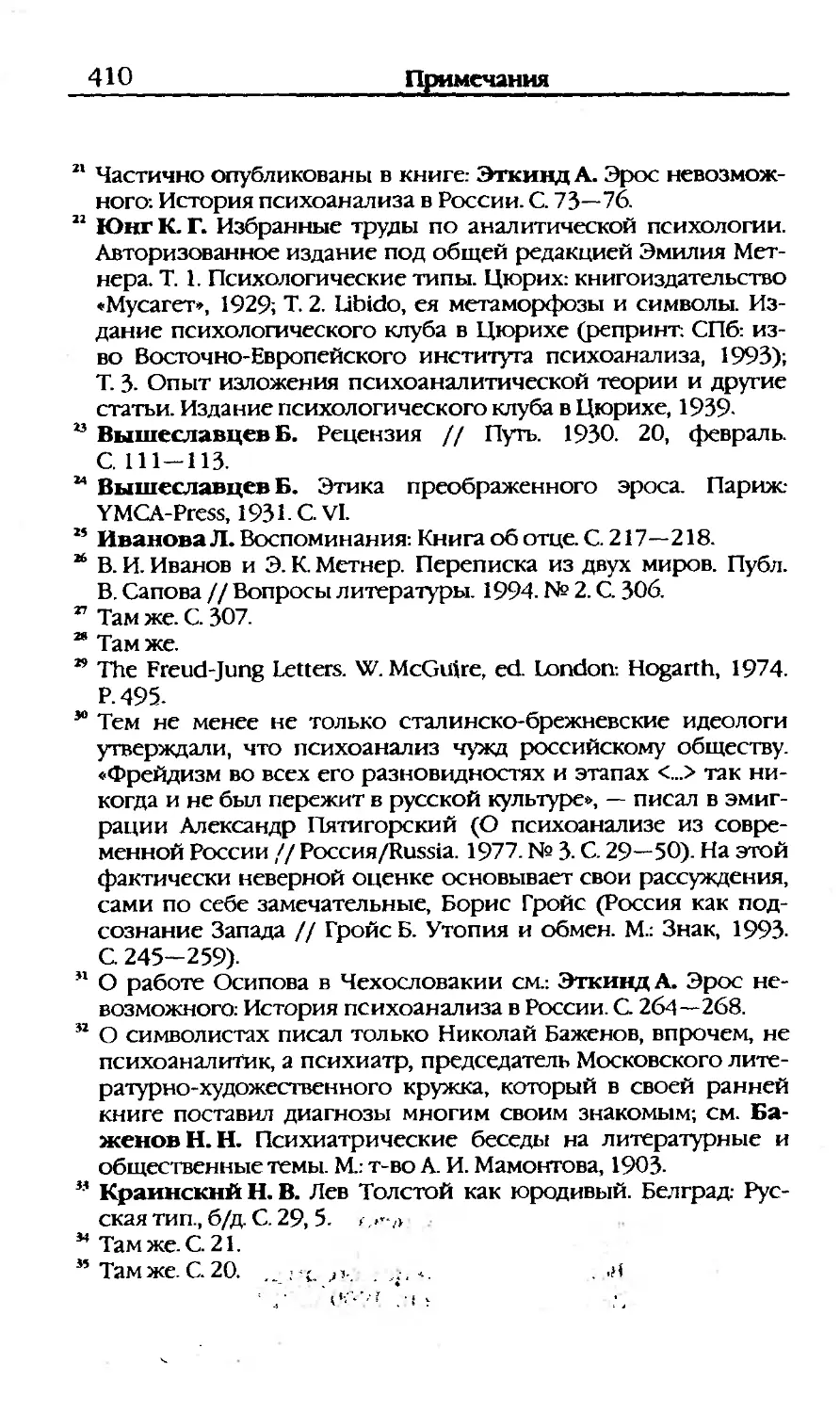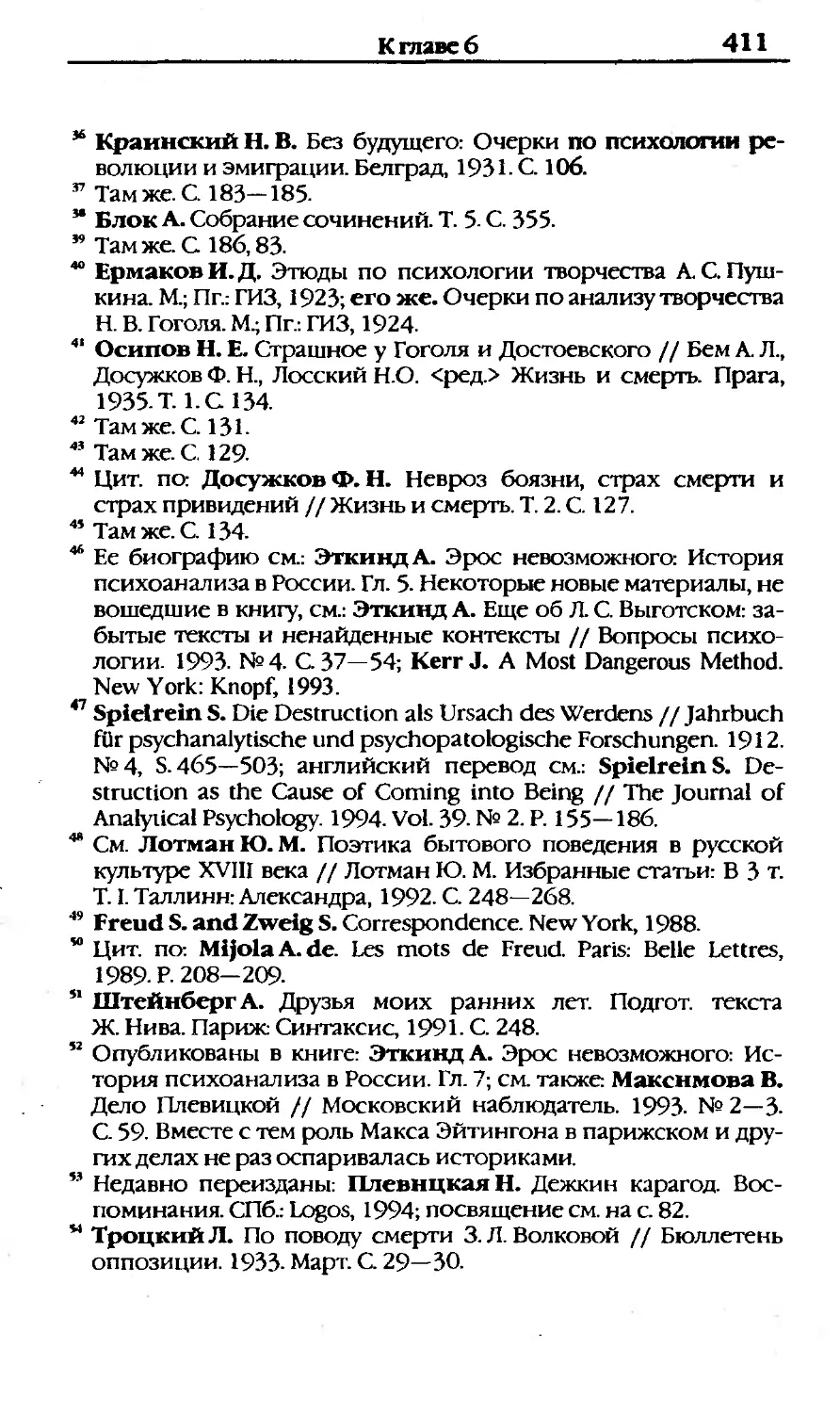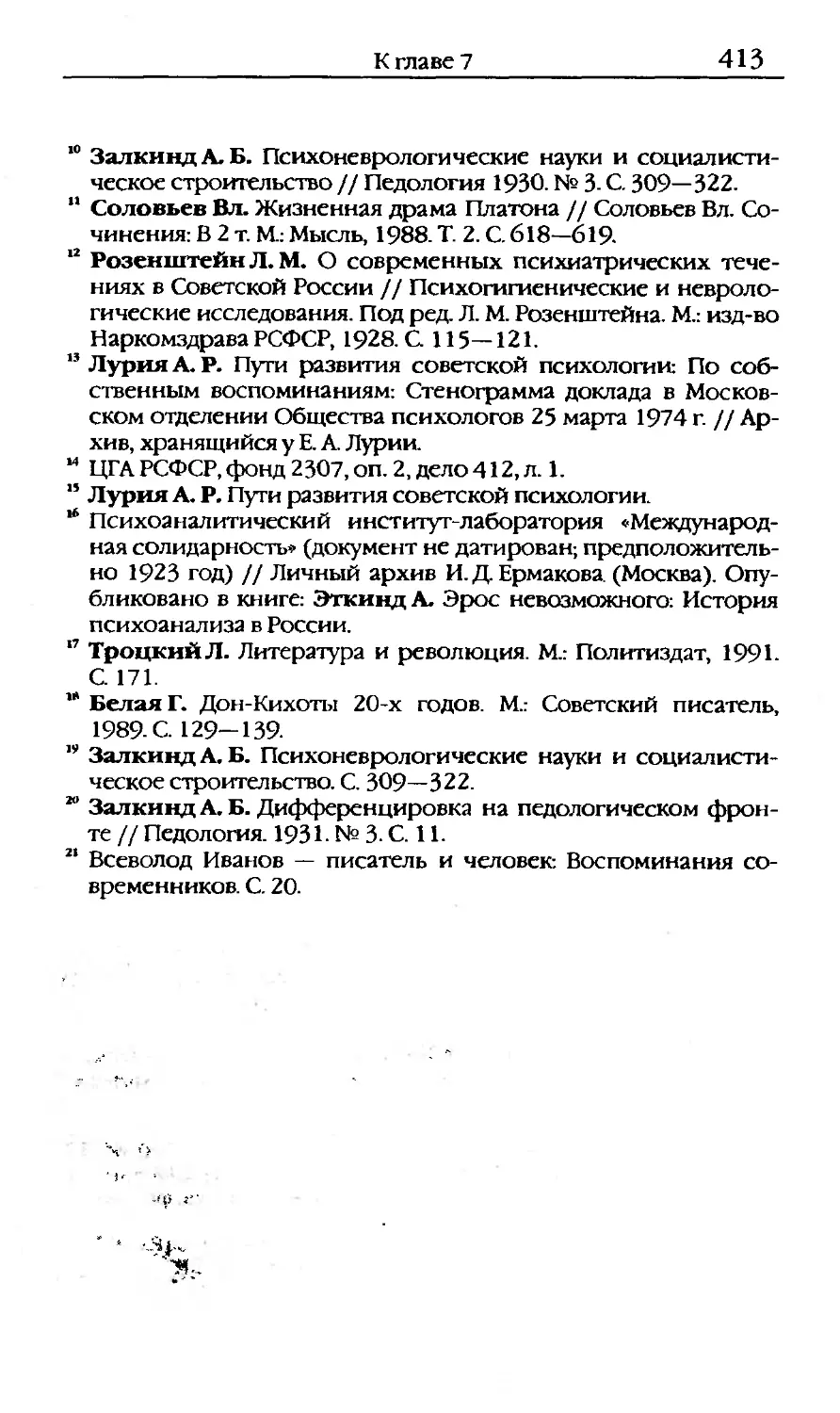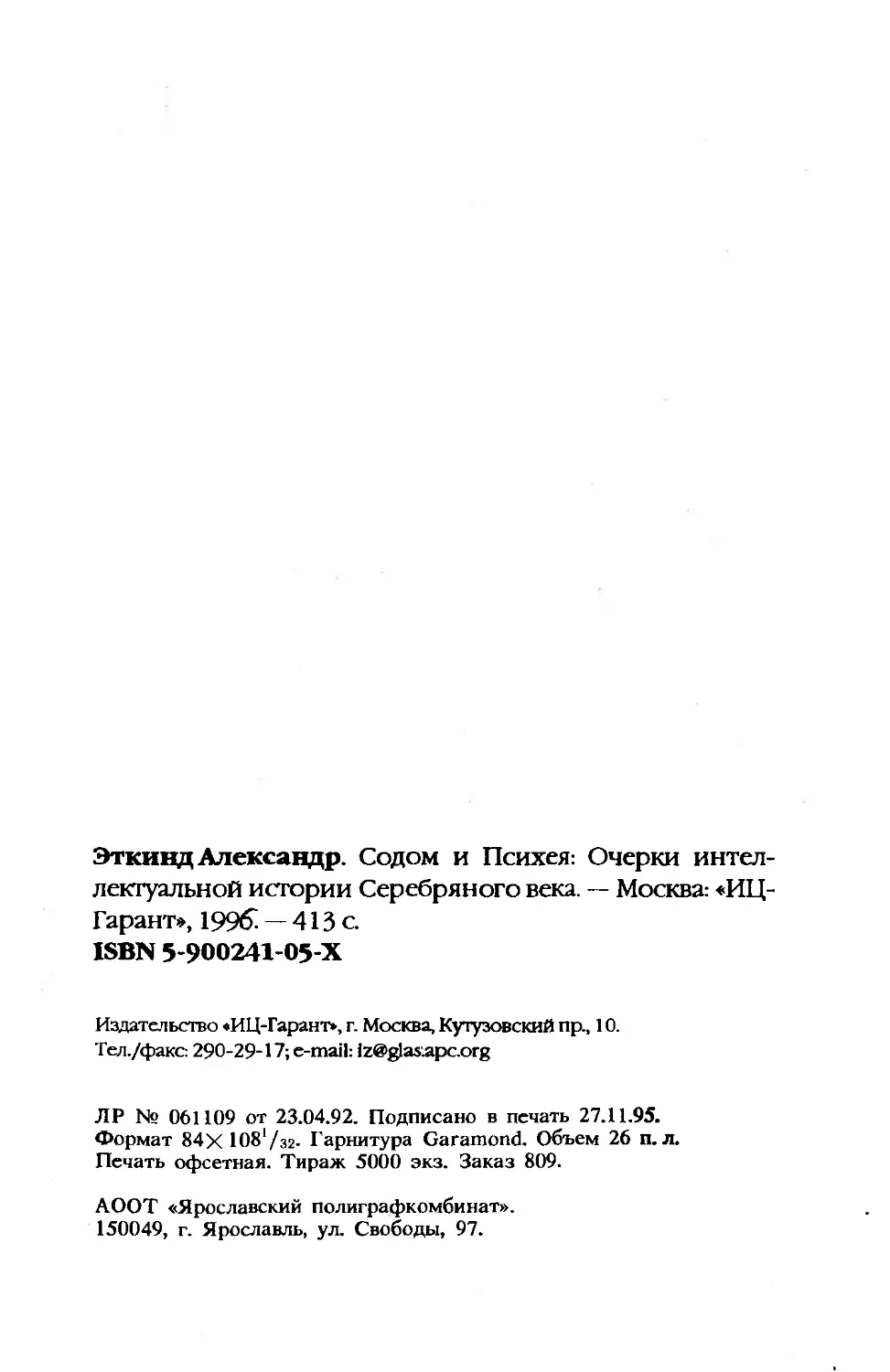Автор: Эткинд А.М.
Теги: история культуры серебряный век интеллектуальная история сексуальность религии науки содом и психея
ISBN: 5-900241-05-Х
Год: 1996
Текст
Александр Эткинд
I СОДОМ И ПСИХЕЯ
Очерки интеллектуальной истории Серебряного века
О предыдущей книге Александра Эткинда
«Эрос невозможного: История психоанализа в России».
Санкт-Петербург: Медуза, 1993; 2-е издание: Москва: Прогресс-Комплекс, 1994.
У книги этой есть все основания сделаться бестселлером для интеллектуалов... Беря в руки «Эрос невозможного», я и не подозревал, до чего грустное и захватывающее чтение мне предстоит.
Виктор Кривулин. «Frankfurter Allgemeine», 3 Fehr. 1994.
Происходит небывалое: замечательные книги являются .в свет прямо при жизни авторов... Перед нами существенный фрагмент из истории европейской ку льтуры, принявший очертания философского романа.
Самуил Лурье. «Невское время», 24 января 1995.
В сущности, на сюжетах книги Эткинда можно вырастить десятка полтора романов любого жанра... Я уж не говорю о некоторых весьма интересных документ ах, извлеченных из архивов автором.
Михаил Золотоносов. «Московские новости», 1017 апреля 1994.
Одна из лучших книг на русском языке, появившихся за последние три четыре года, по уровню и «нескучности» не знающая себе равных... Ибо в России психоанализ не был профессией это были любовь, ненависть и погибель. Ес ли бы в книге Эткинда осталась только глава о Сабине Николаевне Шпильрей н, то и тогда это был бы шедевр.
Вадим Руднев. «СегоЗня», 1 июля 1994.
Автор предпочитает людей и их истории теориям, и замечательно рассказывает эти истории... Самая интригующая часть книги рассказывает об отношениях между писателем Булгаковым и первым послом США в СССР Буллитом.
Эрнест Геллнер. «The Times Literaty Supplement», December 2, 1994.
Александр Эткинд
СОДОМ И ПСИХЕЯ
Очерки интеллектуальной истории Серебряного века
«ИЦ-Гарант» Москва 1996
а
Редактор Е. В. Пермяков Изготовление оригинал-макета И. Е. Кудрявцев Художник Г ГЛесскис
Корректоры Р.Д Харламова, Ю.А Каулъ
Эткинд Александр. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. — Москва-. «ИЦ-Гарант», 1996. — 413 с.
Новая книга Александра Эткинда продолжает его «Эрос невозможного. История психоанализа в России». История русской литературы неотделима от истории культуры, религии, науки — интеллектуальной истории. В анализ классических текстов Серебряного века вовлекается забытый материал. Тексты отражаются друг в друге, но в конце концов их игра влияет на реальное поведение людей; поэтому археология текста, выявляя скрытые в нем уровни, выводит за его пределы — в историю. В фокусе — русская ментальность предреволюционных и революционных лет, как она выразилась в высокой культуре, народной религии, формах сексуальности. Значительное место уделено русскому религиозному сектантству и его влиянию на литературу рубежа веков. Один из героев книги, проходящий через разные ее главы — Распутии. В книгу включены статьи автора, опубликованные в 1993—1995 гг. в журналах «Октябрь», «Новое литературное обозрение», «Звезда», «Вопросы психологии»; некоторые главы публикуются впервые.
ISBN 5-900241-05-Х
© А. М. Эткинд, 1995
© «ИЦ-Гарант», оформление, 1995
Содержание
Препигттпвие |1№ 5
ЧАСТЬ I. ТЕКСТ КАК ЖИЗНЬ
Глава 1. Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину, или коитекстуализация желания......................... 11
Радость-страданье одно 12
Меха на Венере 16
Рыцаря разум простой 21
Перверсия и секта 27
В этой стране случается так много невозможного 31
Свой чудный мех мне подарили вы 37
Гайдамак илетавица 44
Помнишь, там, в Карпатах? 52
Глава 2. Революция как кастрация: мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока________________59
Римский большевик 60
Лебединая песнь революции 65
Катилина — все-таки 68
СынДемона 72
Сразулегче 75
Несовершенная порода 78
Превращение, ^метаморфоза» 82
Не надо жить семьями 85
Революционеры духам и телам 94
Тронется широко и глубоко 99
Ночной и бредовоймотив ЮЗ
Позор Белинскому! 106
Ответа не было из чана 108
Двойной урок 111
Операция не удалась 115
Демоническая точка зрения 120
Большевизм гуляет, а дождя нет 122
Это и по соловьевской схеме полагается 129
Ритуалы насилия 131
Камень вместо хлеба 133
Глава 3. Оживающий сфинкс: мистика
Золотого века в мифологии Серебряного........ 140
Застывающая статуя 141
Христианские партии 144
Угроз Световостоков 147
Первый аппарат 151
Первая идеология 154
Первый революционер 158
Первый поэт 163
Оживающая статуя 167
Сто лет чары 169
Содержание
Хилковы и Ефимовичи
Творимаялегенда
Не время быть протестантами .*
Адамисты
Кружево кружений ,, l{< ' ",
Воспоминанье мучит нас
Крик петуший нам только снится Все тот же герой?
Глава 4. Культура против природы: психология русского модериа________________________
Я психолог. О, вот наука! Ввинченностьмысли в душу человеческую Любовь и смерть — всегда единый мой ответ Дионис в России опасен
Обреченностьмужского на гибель И с ненавистью, и с любовью Слова разные, а правда одна Роман каторжника с тачкой Перевоспитание всего человечества В лучшем случае полуфабрикат Оголенных мыслей не существует Над всеми прекрасно^лиными иллюзиями
175
181
187
192
197
202
205
209
214
216
221
226
231
236
240
244
246
250
251
258
262
ЧАСТЬ П. ЖИЗНЬ КАК ТЕКСТ
Глава 5- Выготский-филолог: забытые тексты и ненайденные контексты____________________..__273
Выготский и еврейский вопрос 274
Выготский и •преодолевшие символизм» 281
Выготский и Мандельштам 287
Выготский и Сталин 293
Выготский и Сабина Шпильрейн 300
Выготский и Троцкий . 309
Глава 6. Мир в границах литературы: русские эмигранты—психоаналитики 314
Тексты и пациенты . Л 314
Свобода от текста 317
Понимание текста 321
Тексты и аналитики О 324
Несвобода от текста %-, 328
Непонимание текста 330
Глава 7. «У» Всеволода Иванова: интеллекту- 1"' альный роман из жизни нэпманов____________ 336
В пыли Храма 336
Человек-барокко 340
Суматоха массового перерождения . 544
Палата палуспокойных ~ 347
Московский классицизм 351
Примечания-----------------------------------------358
5
Предисловие
Вряд ли для человека есть что-то более интересное, чем чувства других людей. Поэзия, философия и вообще все, что люди привыкли называть культурой, является обобщением — может быть, и обобществлением,— чьих-то личных чувств. Внутри человеческой души чувства эти, однако, существуют в особой и загадочной форме. О ней можно догадываться лишь по делам культуры — по тому, что наносится кистью на полотно, рифмовано в стихах, звучит в молитвах, философских рассуждениях или политических речах... Ту же роль играют и тексты гуманитарной науки, столь же изменчивой, условной и непреодолимо субъективной. Все это — лишь метафоры-, наша внутренняя жизнь и может быть выражена одними только метафорами. Человек способен сказать «Я люблю», но как он любит, описать ему не дано; здесь он может только делать; а если он все же говорит, то говорит как поэт, пользуясь метафорами. Человек может сказать «Я умру», но что это значит, он сказать не в состоянии. И если сами любовь и смерть как феномены человеческой природы, вряд ли изменились за последние тысячелетия— впрочем, мы мало об этом знаем,— то способы их описания и переживания драматически меняются с каждым культурным поколением.
Переживания и их метафоры особенно интересны в те редкие моменты, когда жизнь многих меняется сразу и резко, потому что силы истории переламывают ее повседневную непрерывность. Тогда у людей пропадает привычка жить, качество столь же ценное для них самих, сколь неинтересное потомкам. Геологи исследуют обнажения — скалы и овраги, в которых скрытая обычно порода выходит на поверхность не занесенная песком, не стертая временем. Так и в историческом разрыве показываются чувства свежие, натуральные и еще не подверженные эрозии — не обветренные традицией, не об-
6
Предисловие
катанные опытом, не испорченные привычкой. Такие времена ведут к величайшим страданиям и к выдающимся культурным свершениям. То, что сеется в такое время, жнут долго; жнут, не всегда зная, что это... А все же интересно — кем, когда и зачем это было посеяно.
В истории культуры модерн имеет свое начало и свой конец. Модерн — это разрыв с традицией и болезненный процесс возвращения к ней в новых формах, переход в постмодерн... Серебряный век породил великий взлет русской культуры, и он же готовил трагическое ее падение. От романтизации Серебряного века нужно перейти к его критической истории: разглядеть переходы от забытых странностей русского подполья к блестящему взрыву начала века и отсюда — ко всему ужасному или бесцветному, что происходило в этом столетии в России. Непросто смириться с мыслью, что одна и та же эпоха, одни и те же идеи, а часто одни и те же люди ответственны и за удивительные достижения, и за столь же неимоверные ошибки человеческого духа.
Когда меняются глубинные основы жизни, представления человека о любви и смерти, о реальности и душе перестают действовать автоматически. Традиционные регуляторы обыденного существования — религия, право, мораль — более не справляются со своими функциями. В такое время человек теряет смысл своей жизни; именно в такое время он ищет его и, бывает, находит. Это — время расцвета литературы, философии, психологии и гуманитарных наук, которые берут на себя роль недостающих норм культурной регуляции. Теоретические идеи, в традиционной культуре интересные лишь схоластам, становятся важны как реальные механизмы поведения, его оправдание и единственный источник. Жизнь, лишенная традиции, питается идеей — или, вернее, идеями; и так происходит до тех пор, пока победившая идея сама не станет традицией.
Все здание культуры вовлекается в работу по замене шатающегося фундамента. Новые чувства требуют новых слов, новой культуры; потом оказывается, что смени-
Предисловие
7
лись лишь метафоры, но в этом-то и состояло главное обретение эпохи. Реконструкция ведется новыми архитекторами и по новым проектам. Формы и стили, методы и темпы строительства — все новое. Лишь строительный материал оказывается, как правило, старым. Радикально меняется иерархия единиц культуры, но не они сами. Ч Прежде чем идея станет привычной, она проходит мучительный процесс отбора и приспособления, причем критериями в нем оказываются старые ценности и стереотипы. Даже когда идея порождается в другой культуре и, как строительный материал, завозится по импорту, она подлежит ассимиляции; прежде чем культура допустит ее в свои основы, идея, скорее всего, приобретет иные, местные черты. Под неузнаваемой оболочкой анализ нередко выявляет старые, а иногда и очень старые, химические составляющие: архаичные символы, пронизывающие разные, по видимости ничем не связанные профессиональные сферы — науку, искусство, религию, политику; элементы народной культуры, участвующие в самых авангардных построениях и скрывающиеся за их
* травестийными масками.
Как писал в 1918 году Вячеслав Иванов: «В такие эпохи всеобщего расплава или распада — уповаем, животворного — важны особенно наши мысли <...> Поверхность жизни пластична — на ней отпечатлевается весь состав нашего духовно-душевного бытия» *. Мысль уравнивается с действием; писатель хочет преображать жизнь, как скульптор формует пластилин... Но пластичной оказывается только поверхность жизни; историку слишком легко видеть, как быстро менялись тексты, как медленно менялась жизнь и как заблуждались законодатели литературных мод, считавшие себя творцами нового человека. На деле тексты таких эпох полнее выражают их, чем сама история, — бледная копия литературы, вымученный компромисс между фантазией и реальностью. Цветаева об одной из своих поэм сказала: это «не о революции, а она: ее шаг»2. Тексты — не описания жизни, какой она была, а воплощения того, чем она хотела быть;
8
Предисловие
не учебники, написанные историей для нас, а задачники, которые она писала для самой себя; не путеводители по историческому музею, а главные его экспонаты. Русская литература — не зеркало русской революции; скорее наоборот, революции воплощаются и совершаются в текстах, а потом брезгливо смотрятся в свое историческое отражение, — тусклое, грязное и всегда неверное.
Отношения литературы и жизни, проблематичные во все времена, в революционную эпоху становятся скорее инцестуозными. Главный русский революционер писал в анкетах: «профессия — литератор». И если революционеры, считавшие себя литераторами, видели жизнь как литературу, в которой неудачный текст можно и нужно переписать, то литераторы, считавшие себя революционерами, настаивали: их профессия больше, чем литература, а их символы больше, чем слова; их письмо творит жизнь; их дело —литература как жизнь.
♦ ♦ ♦
Мои интеллектуальные долги, старые и новые, перед множеством коллег в разных областях гуманитарной науки нельзя перечислить. Вот имена людей, чьи мысли звучат на страницах этой книги как дары, которые далеко не всегда можно отметить ссылками: Марк Эткинд, Моисей Каган, Ефим Эткинд, Лев Веккер, Леонид Гозман, Пекка Пессонен, Ирина Паперно, Светлана Бойм, Эрик Найман, Елена Хилберг-Хирн, Борис Гаспаров, Александр Осповат, Ричард Стайтс, Владимир Костюшев, Геннадий Обатнин, Ефим Курганов, Карин Грельц.
За многое и в жизни, и в тексте я обязан Марине Хмелевой.
Во время работы над статьями, вошедшими в эту книгу, мне оказывали организационную и финансовую поддержку Санкт-Петербургский филиал Института социологии РАН и кафедра славистики Университета Хельсинки, а также фонды Сороса, IREX и CIMO. Я рад возможности выразить этим организациям мою благодарность.
Все главы мной изменены и дополнены по сравнению с их журнальными вариантами.
Часть I
Глава 1.
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину, или контекстуализация желания
В 1882 году Константин Кутепов писал о Леопольде Захер-Мазохе «заслуживает внимания повесть „Пророчица" по тому спокойствию и беспристрастию, какие составляют отличительные качества этого писателя» В таких выражениях благочестивый профессор Казанской духовной Академии рекомендовал читать роман Захер-Мазоха «Die Gottesmutter», недавно переведенный, под несколько смягченным названием, популярным журналом «Нива»2.
Не один Захер-Мазох воспринимался в России таким перевернутым способом. Его случай, однако, интересен еще и тем, что русский материал для него и вправду был важен. Он много писал о русских, а в Европе его иногда так и называли — русским (или, как вариант для знатоков — малороссийским). В России он вызывал ответный читательский интерес и разнообразные писательские подражания.
В новые времена психоаналитики занимались Мазо-хом чаще, чем историки литературы: очевидное психо-логическ! >е содержание его текстов заслоняло более тонкую интертекстуальную преемственность. Известная теперь и на русском языке работа Жиля Делеза о «Венере в мехах»5 дает образец психоаналитического чтения: текст, подобно сновидению, интерпретируется как кодированное желание, которое стремится к воплощению независимо от контекста. Важны, однако, и контексты, в которые неизбежно заключено желание. Их восстанов
12
Глава 1
ление и слежение за их трансформациями в позднейших литературных опытах — задача, отдельная от анализа самого желания, хотя и связанная с ним. Если говорить о внелитературном фоне такого исследования, то традиция Вебера, Элиаса и Фуко кажется здесь не менее важной, чем традиция Фрейда и его последователей. Итак, вопреки вероятным ожиданиям, меня будет интересовать не столько универсальная психология, сколько историческая социология Захер-Мазоха и его'русских читателей.
Радость-страданье одно
Яркому своей перверсией Захер-Мазоху удалось открыть миру новый континент человеческой души. Впрочем, открытие было столь же сомнительным, как и открытие Америки: как люди жили там до Колумба, так люди занимались мазохизмом до Мазоха. Но именно это имя закрепилось за далеко не редкой формой человеческого поведения. Такой чести не удостоилось множество более глубоких литераторов. В интернациональном языке, с помощью которого современные люди пытаются понять самих себя, наш австрийский барон соседствует с одним лишь французским маркизом, основоположником более ранним и настолько же более смелым.
О том, что человек может получать наслаждение в страдании, знали и Пушкин, и Бодлер, и Достоевский, и Ницше. Но Захер-Мазох показал это с наглядностью, которая присуща порнографии, сумев остаться по эту сторону высокой литературы. «Никто никогда не заходил столь далеко, сохраняя при этом пристойность»,— утверждает Делез4. Тысячи читателей в Германии, Франции и России читали Мазоха, чтобы получить эротическое удовольствие от плодов его воображения; одновременно они находили форму, а потом и имя для собственных, ранее бесформенных и безымянных переживаний.
Лед меха, форель: от Мазоха к Кузмину 13
Идея того, что человек может получать удовольствие, мучая себя или заставляя делать это других, не только усложняет представление о природе человека, но и составляет загадку для рациональности, саму по себе мучительную. Когда за дело взялись психиатры, эти профессиональные топографы человеческих страданий, их трудный для академического воображения путь освещался двумя первооткрывателями-беллетристами, Садом и Ма-зохом.
В мазохизме, как и в садизме, иррациональность психической жизни доходит до своего мыслимого предела. Мазохизм даже более удивительная крайность. При садизме получает удовольствие один, а страдает другой; главный психологический парадокс здесь оказывается разнесен между субъектом и объектом. В психоаналитических трактовках садизм оказывается вторичен по отношению к мазохизму, надстраиваясь над ним как способ чувственной идентификации со страданиями жертвы ’. Психологу мазохизм кажется более элементарным, потому что придает большую автономию психологическому субъекту и, тем самым, оставляет больше свободы как для субъекта, так и для психолога. Мазохист вполне свободен в выборе вида и способа своего мучения-наслаждения. Он получает удовольствие от добровольно выбранного страдания, от свободно принятого ограничения своей свободы. Каждое минутное его решение взрывает рациональную модель человеческого поведения. Если любимые герои Достоевского доказывали свою свободу тем, что выбирали между жизнью и смертью, то любимые герои Захер-Мазоха выбирают между удовольствием и страданием. Как первые выбирали смерть — в противном случае они ничего не доказали бы,— так вторые выбирают страдание; причем первые вынуждены были ограничиться всего одним актом свободы, а вторые могут без конца предаваться своим доказательствам.
Само сочетание эротики и страдания имеет трудноуловимое родство с духом модерна, достигая кульми
14
Глава 1
нации там и тогда, где и когда созревали революции. Сад считал себя «автором» взятия Бастилии. «Автором» чего мог бы чувствовать себя Мазох? Уклоняясь от слишком легкого ответа, заметим и обратное: сопутствуя модерну и выявляясь лишь на его фоне, перверсии противоречат его духу и цели. В их полярных крайностях воплощается непобедимая иррациональность отдельной человеческой души. Именно здесь находит свое прибежище психология, этот заповедник в распаханном мире модерна. Ясность этого мира —' прямое следствие Просвещения и порожденных им метафор — заканчивается на границах психологического заповедника. Внутри его, в запущенном пространстве между перверсиями, царит мерцающая полутьма.
Лидия Гинзбург, умевшая ощущать историческую необычность психологической прозы как культурного явления, объясняла в начале 1920-х: психология начинается не с внимания к душевной жизни, а с ощущения ее парадоксальности. «В самом деле, у Карамзина хотя бы <...> переживание шло по прямой линии, то есть когда герой собирался жениться на любимой девушке, он радовался, когда умирали его близкие, он плакал и т.д. Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология» 6. В этом свете имя, которое Ахматова дала роковой героине своей поэмы — «Путаница-Психея» — можно прочесть не только как историческую аллюзию, но и как философскую метафору7.
Когда человек ведет себя так, что стремится к максимуму удовольствия и минимуму страдания, он не нуждается ни в какой психологии. Во вполне рациональном мире психология была бы бессмысленной; ее заместила бы элементарная экономика желаний. Удовольствия суммировались бы, а страдания вычитались из них так же, как подводится баланс в бухгалтерской книге. Жизнь подчинялась бы простейшим числовым законам: лучше тому, у кого больше остаток на счете. В рациональном мире удовольствие есть удовольствие, оно равно себе и
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
15
подчиняется тем же арифметическим законам, которым подчиняются деньги; страдание же есть удовольствие с отрицательным знаком. Безопасных удовольствий следует искать, как разумных доходов; а страданий избегать, как ненужных расходов. Слишком сильные удовольствия так же рискованны, как слишком высокие доходы. Накопление удовольствий приравнивается к удовольствию накопления. «Как молодой повеса ждет свиданья» — так Скупой рыцарь, первый герой новой эпохи, ждал увеличения капитала.
«Когда же все стало происходить наоборот, тогда и началась психология». Замечательная формула Гинзбург на 100% относится к Захер-Мазоху: у него все именно наоборот, герой радуется от того, что страдает, и мучается, когда страдать повода нет. Сенсационность этого открытия можно почувствовать, лишь представив себе банкира, не вычитающего расходы из доходов, а наоборот, их складывающего... И вместо того, чтобы немедленно разориться и сгинуть в безвестности, этот сошедший с ума бухгалтер основывает преуспевающее предприятие под фирменным знаком: мазохизм.
Открытия становятся знаменитыми тогда, когда они противоречат господствующим ожиданиям. Америка была открыта, когда все мечтали об Индии. Маркиз де Сад и барон фон Захер-Мазох проводили свои сенсационные ревизии как раз тогда, когда их нетитулованные современники — то бурно приступая к делу, то сосредоточенно подводя итоги — учились арифметике удовольствий. Рациональное отношение к собственным эмоциям есть важная часть того, что именовалось идеями Просвещения, духом капитализма, пуританизмом или протестантской этикой. При множестве прочих составляющих этих конструкций, арифметика эмоций входит в их фундамент, а точнее, в цемент.
Перверсия, тем более садомазохистского круга, не единственный способ опровергнуть приходно-расходную модель психической жизни; но, возможно, самый
16
Глава 1
простой и наглядный из способов. Арифметика основана на различимости единиц счета. Аддитивность удовольствий и страданий, возможность их складывать и вычитать есть условие рациональной психологии, которая в свою очередь дает единственное основание рациональному праву и такой же политике; в начале XIX века это яснее других говорил Иеремия Бентам *. Как только страдание приравнивается к удовольствию, счет становится невозможен; в этом смысле эксцессы Сада и Мазо-ха дают решающие аргументы против тотальности рационализма. Разрушая саму возможность эмоциональной арифметики, садизм и мазохизм подрывали корни Просвещения. Иными словами, мазохизм вместе с садизмом антибуржуазны; и потому справедливо преследовались, наказывались и лечились обществами, стремившимися пропитать себя духом побеждающего класса. Соответственно, к идеям садомазохизма закономерно прибегали те, кто — каждый по своей причине — сражался с ненавистной буржуазностью и искал убежище от истории... Сопротивление духу капитализма составляло нерв романтического искусства Нового времени. В своей великой борьбе оно очищалось от не идущих к делу случайностей, оттачивало свои инструменты и, под натиском истории, все плотнее сжималось вокруг антиэконо-мических возможностей, открытых Садом и Мазохом.
«Сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно!» — пел блоковский герой, подавивший восстание бюргеров и умерший от сладких мук любви. «Странная песня <...> Смысла ее не постигнет Рыцаря разум простой»’.
•>
Меха на Венере
Локализация действия в экзотической стране, о которой мало что известно и потому все кажется возможным, не раз помогала радикально мыслящим интеллектуалам
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
17
придавать повествованию некую степень правдоподобия. Так — беря нарочито далекие примеры — русские романтики отправляли своих героев к цыганам или на Кавказ; Монтескье изображал свои идеи осуществленными в Персии; Ницше примерно туда же поместил своего сверхчеловека; для Бодлера счастливый «Восток Запада» был ближе, в Голландии ” Богданову пришлось отправить свой социальный идеал дальше, на Марс; Бахтину — в ренессансную Францию; а Леви-Стросс находил свои идеи среди диких индейцев. В выбранной точке, как и вообще в романтическом дискурсе — хотя, конечно, у разных авторов в разных пропорциях — сливались воедино три потока: мистика, эротика и политика.
Среди экзотических мест мира Россия играла свою, традиционно почетную, роль. Деятели европейского модерна то и дело оказывались под русским влиянием, реальным или воображаемым, эротическим или интеллектуальным, или теми и другими одновременно. В противоположность традиционной сдержанности русской литературы, западные представления о русских приписывали им сексуальную свободу, которая несколько противоречиво сочеталась с их же духовной сосредоточенностью и бескорыстием в материальных делах. Необыкног венные истории императрицы Екатерины, Достоевского, Распутина приобретали всемирную популярность в свете именно этого ходячего взгляда.
Самые утонченные сцены «Жульетты» де Сада (отец которого был посланником в России") устраиваются русскими. Фурье в своих мечтах о политико-сексуальной утопии пересказывал неправдоподобные слухи об аристократическом клубе, где обнаженные московиты из знатных родов предавались «ангелическим оргиям» ". Европейские масоны XVIII века склонны были придавать особое значение Россйи, находя в своем учении больше родства с православной церковью, чем с католической ", а их ученик Иван Шварц надеялся отыскать секрет «камня» в российских архивах м. Иеремия Бентам спроекти
18
Глава 1
ровал свой знаменитый Паноптикон (вновь известным сделал его Фуко1’) в России; архитектурная метафора утопии, в России задуманная как фабрика, в Англии пригодилась как тюрьма16. Жозеф де Местр, проведший в России 15 лет творческой жизни, писал о ней так: «Нет человека, который хочет так страстно, как русский»; «если кто сможет запереть русское желание в крепости, крепость взорвется» ”. Предупреждая Россию о катастрофе, которая случится, если миллионам этих страстных людей дать свободу, де Местр верил, что, благодаря его советам, русские смогут избежать того, от чего не смогли уйти французы: построят для своих желаний такую крепость, которую даже они сами не смогут разрушить.
Маркс, всю жизнь боявшийся России, перед смертью поверил в возможности русского социализма и начал изучать русский язык; наследники нашли у него два кубических метра материалов о России “. Сходное увлечение пережил и Макс Вебер, писавший о революции 1905 года и в этой связи собиравшийся заняться изучением русских сект ”. Ницше был влюблен в русскую девушку и делал ей предложение, единственное в его жизни; «Заратустра» был написан после ее отказа. Рильке под сходным впечатлением всерьез думал о переселении в Россию.
Под русским влиянием были написаны самые смелые работы позднего Фрейда; одна из первых русских психоаналитиков оказала формирующее влияние на Юнга; на русской же был женат Адлер20. «Ася напомнила мне о моем желании написать нечто вроде критики психологии, и я снова осознал, до какой степени моя способность заниматься такими сюжетами зависит от моего контакта с ней»,— записывал в Москве влюбленный в местную жительницу Вальтер Беньямин21. Более счастливый Рудольф Штейнер, женатый на русской, пророчил, что мистический брак Востока и Запада свершится в России 22.
Густав Майринк продолжал приписывать русским ключевую роль в искомом синтезе Востока и Запада, ар
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 19
хаизма и постсовременности23; героиня его «Ангела западного окна» ведет обычную мистико-эротическую схватку с западным интеллектуалом, но, подчиняясь некоему закону насыщения — часто посещаемая экзотика перестает быть таковой,— оказывается уже не просто русской эмигранткой, а осетинской княгиней. Обнаженная Галя, супруга и героиня Сальвадора Дали, нагляднее других демонстрирует эту избирательную силу русских женщин, которая достигала пика своей эффективности лишь среди самых радикальных из западных мужчин.
Серию подобных историй легко продолжить; в новейшее время в ней доминируют романы специальной идеологической окраски. Плавность этой русофильской традиции — от де Местра и Бентама через Ницше и Рильке к Беньямину и Деррида — провоцирует на обобщения, которые все же трудны из-за идейной пестроты ее представителей. Возможно, общим знаменателем может оказаться антипуританская настроенность множества европейских интеллектуалов, которая заставляла их проецировать свои надежды на отстающую в деле Просвещения русскую жизнь. Одиночки, искавшие опоры для своего сопротивления духу капитализма, находили политический, эстетический и эротический образцы в великой стране, которая, легко справляясь с иными духами, запаздывала в освоении именно этого. Таким способом популярную в Европе систему представлений о русских можно описать как идею специфически русской антибуржуазной резистентности; это и поднимало градус их привлекательности в соответствии с силой сходных чувств тоскующего европейского интеллигента.
Сопротивление Просвещению мощно противостояло основному, бентамо-веберовскому руслу истории. В зависимости от времен и темпераментов, Сопротивление окрашивалось в противоположные цвета — у одних архаизирующе-феодальные, у других футуро-коммуни-стические. Но за этой культурной радугой можно разглядеть тенденции, тождественные между собой в своем ро
20
Глава 1
мантическом отрицании современности. Фикции литературы играли едва ли не определяющую роль в этих фантазиях на темы конца истории, выхода из истории и, наконец, сознательного строительства иной истории. Уточняя романтическую традицию, радикальный дискурс эпохи модерна выбирал себе не всякий экзотический локус типа Персии, а предпочитал такой, который заселен существенно сходными людьми, типа России. С такими героями легко идентифицироваться читателю. Автор показывает другую жизнь, которой живут, однако, такие же люди, как он сам и его публика; он ведет новыми путями, но его писательский успех зависит от того, возможными ли и желанными покажутся читателю эти пути.
Захер-Мазох — один из многих в этом ряду поклонников русской культуры и русских женщин. Ими насыщены его эротические повести: здесь члены русских сект и герои русских романов, в описанных им будуарах стоят бюсты Пушкина и Лермонтова, его жестокие красавицы ссылаются на Гоголя, Тургенева и даже скрыто цитируют Чернышевского... Один из героев, воспитывая себе возлюбленную из собственной крепостной, переводит для нее «Фауста» на малороссийский; в этот раз герой достигает сексуальной и культурной взаимности и, выйдя замуж за графа, только что научившаяся грамоте крестьянка пишет письма в таком духе: «Единственный свет в мире есть свет интеллигенции, говорит Артур Шопенгауэр» м. Русской является и -Ванда, ужасная героиня самого знаменитого из романов Захер-Мазоха «Венера в мехах». О России напоминает и имя мужского героя, австрийца Северина, которое построено по образцу русских фамилий и содержит выразительный русский корень. Меха на Ванде тоже специфически русские, соболиные.
Между прочим, метафора Захер-Мазоха — «Венера в мехах» — была фактически повторена (вряд ли созна
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
21
тельно, но в том же значении) в иронических стихах Мандельштама2>:
И пятиглавые московские соборы «< :1
С их итальянскою и русскою душой Напоминают мне явление Авроры,
.'Р Но с русским именем и в шубке меховой. '
н : .
7! 1 . А. >
; Рыцаря разум простой
Сын австрийского дворянина, служившего во Львове (Лемберге) начальником полиции, Захер-Мазох с детства хорошо знал русский язык. Кормилица Мазоха, малороссийская крестьянка, рассказывала ему славянские легенды и пела русские песни. Карпаты были перенасыщены агрессивными культурными влияниями. «Мы здесь между поляками то же, что американские трапперы между индейцами; между поляками мы занимаем передовые посты культуры»,— излагает мысли Захер-Мазоха его герой, еще один немецкоязычный граф с русской фамилией 26. Сын полицейского с детства видел жестоко наказанные тела русских крестьян, видел свирепых австрийских часовых, романтических польских заговорщиков; видел, как по улицам Львова «в телегах везли убитых и раненых инсургентов, как кровь их сочилась через солому и ее лизали псы»27.
Земля, которая тогда называлась Галицией, переходила из империи в империю. Поляки бунтовали против австрийцев, и обе стороны рассчитывали на русских. Об этом рассказывал первый роман Захер-Мазоха «Граф Донский», написанный им в то время, когда он занимал кафедру истории провинциального университета. Согласно концепции Захер-Мазоха, русские ополченцы из народа, примкнув со своими дубинами и косами к малочисленному австрийскому гарнизону, сыграли главную
22
Глава 1
роль в подавлении польских восстаний. Рассказ «Федосья» описывает события 1846 года, когда в русских деревнях Галиции «появились неизвестные люди, подпаивавшие крестьян и громко толковавшие о свободе, общности имуществ и о готовившихся важных событиях» ”. Прекрасная Федосья ушла от своего любовника, крестьянина Федора, чтобы стать женой польского помещика и вместе с ним мучить крестьян. Федор первый доносит австрийским властям о готовящемся бунте поляков; но паны убивают Федора. В рассказе «Битва под Гдовом» та же ситуация изображается на макроуровне. Австрийский военачальник бьет поляков благодаря собственному мужеству и поддержке русских крестьян; все симпатии автора на стороне этого придуманного им союза между местными генералом Бонапартом и Платоном Каратаевым2’. Переводы обоих рассказов весьма сочувственно печатал консервативно-патриотический «Наблюдатель», которому был близок подобный политический прогноз в его трансляции на русскую почву несмотря на соблазн, народ в критической ситуации примет сторону законной власти. Уникальная этническая ситуация Галиции вовсе не принималась во внимание; эротический же сюжет «Федосьи» воспринимался как невинный фон, необходимый для оживления идеи.
Между тем Захер-Мазоха столь же охотно печатал и народнический журнал «Дело». В предисловии к «Галицийским повестям» журнал писал о Захер-Мазохе как о писателе, немецком лишь по языку; симпатии его «принадлежат не немецким, а русским галичанам» ”. Подробно и восторженно рассказывая о Захер-Мазохе, который сражался с Пруссией и романтически воспевал нравы русского народа, журнал оценивал его как «талантливого писателя» и «удивительного живописца дикой природы и человека, еще почти не вышедшего из патриархального состояния». В итоге «Дело» сравнивало Захер-Мазоха с Данте, Байроном и Брет Гартом ”. Один из переводчиков Захер-Мазоха на русский язык С. А. Кательникова пред
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 23
ставляла его как «национального писателя Галицкой Руси» в одном ряду с Гоголем, Тургеневым и Шевченко: «интересующий его новый кругозор — наш <...>; выводимые Захер-Мазохом новые типы — наши <...> русские типы; <...> по вере и языку, по своему нравственному и интеллектуальному складу все они русские»,— с чрезмерным увлечением писала Кательникова.
Н. Языков и сам идейный лидер русского народничества Н. Михайловский откликнулись на первые русские переводы Захер-Мазоха объемистыми рецензиями Языков, знавший один только сравнительно невинный роман Захер-Мазоха «Идеалы нашего времени»33, воспринимал автора как писателя-обличителя и нравственного философа. Все же ему не хватало у Захер-Мазоха «той непосредственности, теплоты и участия к людям, к которым приучили читателя наши романисты» м; впрочем, ему нравится, что герои тут не «манекены, не вывески», как Базаров. Рецензент мечтает о герое, который мог бы «с бичем в руке явиться в храм, чтобы изгнать из него всех фарисеев и лгунов»33,— и герои Захер-Мазоха кажутся Языкову ближе к этой роли, чем герои Тургенева и Гончарова. Забавна здесь эта мигрирующая деталь — бич, хоть и меняющий свое значение со сменой контекста, но все же продолжающий владеть воображением не очень проницательного рецензента.
Куда больше материала было у Николая Михайловского, знавшего и вполне уже мазохистские рассказы Захер-Мазоха под названием «Завещание Каина»* Встреченный героем русский странник учит, что любовь и прочие земные чувства завещаны Каином и, соответственно, прокляты; человек же должен стремиться к смерти и всему, что приближает к ней. Влияния Шопенгауэра на эти идеи Захер-Мазох отнюдь не скрывает. Но Михайловский видит: «тут есть и тонкое кружево индийской метафизики, и грубая, но плотная ткань русских „вредных" сект, и <...> истерзанные покаянные одежды средневековья» 37. В итоге Михайловский тонко чувствует в «За
24
Глава 1
вещании Каина» сплетение философии Шопенгауэра с «некоторыми чисто народными воззрениями». Даже более того, «известная родственность философии Шопенгауэра с некоторыми воззрениями русского (может быть, следует сказать галицко-русского) народа» и является, по мнению Михайловского, истинным предметом Захер-Мазоха38. Однако публицист, охотно пересказывая Шопенгауэра, избегает всякой конкретизации того, в чем же состоят важные для Мазоха «некоторые чисто народные воззрения». В отличие от следующего поколения русских интеллигентов, которое переоткрыло для себя секты, классическое народничество в духе Михайловского использовало народ в качестве абсолютного референта и не интересовалось его репрезентациями. В рецензии Михайловского любопытен дважды повторенный в соседних строчках эпитет некоторые применительно к «чисто народным воззрениям»: неловкость народнического небрежения народом проявляется здесь стилистически.
Все выявленные Михайловским источники Мазоха, от ранних христианских до поздних немецких философов — «пессимистические доктрины». Критик, однако, применяет здесь классовый подход: одно дело пессимизм сытых и другое дело — пессимизм голодных, объясняет Михайловский, и с ним можно только согласиться. Что же касается Захер-Мазоха и Шопенгауэра вместе с их русскими «чисто народными» единомышленниками, то они своей сказкой об общечеловеческом страдании отвлекают голодных от борьбы с объевшимися. Философия страдания, по Михайловскому — еще одна некрасовская палка, которая бьет одним концом по барину, другим по мужику; такая палка выгодна только барину, потому что заставляет мужика забыть об их различиях. «Как в бесконечности теряется всякое различие между правым и левым, <...> так и в омуте жизни теряют всякое значение особенности обоих концов палки <...>: не барина и мужика она бьет, а человека» ”. Омута, понятно, еле-
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
25
дует избегать. Согласно этой сугубо прагматической концепции, насколько полезно рассказывать о страданиях голодных, настолько же вредно рассказывать о страданиях сытых.
В своей обширной статье народник Михайловский проделал с Захер-Мазохом точно ту же операцию, что совершил с последним миссионер Кутепов: не разглядев ясно воплощенное в тексте желание автора, стал впитывать свое собственное желание в контекст. Между тем Захер-Мазох отнюдь не философ страдания, а совсем наоборот, поэт удовольствия — особого вида удовольствия. В этом его отличие от Шопенгауэра и даже противоположность ему. Наверно, это правда, что гедонизм любого сорта больше понятен сытым, чем голодным и занятым борьбой за существование. В этом тривиальном смысле излюбленные Мазохом удовольствия имеют классовую природу. Но социология мазохизма гораздо более содержательна.
«Я прочла новую повесть Тургенева. Я поняла ее так же, как и все понимаю, то есть как можно проще»,— пишет мужу-графу очаровательная крестьянка40 В подобном же целеустремленном упрощении состоит один из формальных секретов Захер-Мазоха, которыми он до сих пор привлекает читателей. В галицийском мире Захер-Мазоха власть оказывается трижды воплощенной: классово, этнически и сексуально. Воплощения эти соответствуют друг другу, создавая картину хоть и многоуровневую, но на удивление простую. После второго раздела Польши и ряда других перипетий Галиция перешла от Российской империи к Австро-Венгрии; большинство ее населения составляли славяне-русины, по вероисповеданию униаты, которых в России — тем более в панславистски настроенной среде 1880-х годов — охотно считали русскими. Этническая структура этой карпатской провинции соответствовала классовой. Русины были крестьянами; их помещиками были поляки, потомки старых феодальных родов; а чиновниками (по-русски,
26
Глава 1
интеллигенцией) в Галиции были австрийцы. В этой ситуации народолюбие оборачивалось русофилией; а непреодолимая разность вер обесценивала религиозные метафоры, которые так часто использовались в России для того, чтобы выразить поклонение народу-богоносцу. Здесь метафоры должны были быть иными; и Захер-Мазох нашел новый их источник, богатый потенциями и пока еще не очень замутненный. Вместо того, чтобы переворачивать традиционные небесные иерархии, можно было перевернуть «естественную» иерархию сексуальных отношений.
Сюжеты Захер-Мазоха обычно включают австрийского (или, во всяком случае, немецкоязычного героя) и русскую (или русскоязычную) героиню. В такой ситуации половой акт непременно сопровождается этнокультурным обменом, а сексуальная перверсия имеет свой эквивалент в необычной конфигурации политико-литературных штампов. Поклонение народу принимает эротическую форму — форму извращенную, с точки зрения культуры, но совершенную и замкнутую, возвращающую к природе. Народ прекрасен, как природа, и жесток, как женщина; интеллигент с наслаждением служит всем им, выполняя некий (односторонний) договор и становясь в позу (добровольного) исторического застывания41. Метафорой утопических отношений народа и интеллигенции становится новая форма отношений между полами; инверсированная форма сексуального поведения используется как способ описания нового социального порядка.
Природная перверсия Мазоха снабдила его культурной метафорой универсального значения. В этом карпатском варианте русского народничества классовый и сексуальный дискурсы сливаются до неразличимости. Образ властной и прекрасной женщины из народа, мучающей влюбленного в нее интеллигентного героя, открывал возможности для своего развития и в сексуальную перверсию, и в социальную революцию, в любом
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 27
случае сохраняя требуемое пространство для иррационального. При необходимости мистика русских сект добавляла сюжету еще одно дискурсивное оправдание. Странные пристрастия сына галицийского полицмейстера, его русофилия и мазохизм в равной мере оказываются инкарнациями народнической идеи; последняя же воплощала в себе, в исторически приемлемой форме, общеромантический антибуржуазный дискурс. Сливая эротический, политический и мистический коды, Мазох добивался фундаментального упрощения речи.
Перверсия и секта
Захер-Мазох издавался в России много и по-разному — в самых популярных журналах, отдельными брошюрами, толстыми книжками. Первые переводы помечены 1876 годом; за последующее десятилетие Мазох издавался по-русски 17 раз; потом интерес к нему то спадал, то вновь подхлестывался все более откровенными сюжетами его поздних романов, вплоть до «Венеры в мехах» (русский перевод 1908), и скандальных воспоминаний жены Мазоха, той самой Ванды.
Константин Кутепов, читавший в Казани курс сеКто-ведения, не зря интересовался автором, в котором столь опрометчиво видел «спокойствие и беспристрастность». Первые произведения Захер-Мазоха рассказывали не о болезненной страсти, а о странном ритуале; не о психологии, а об этнографии; не о перверсии, а о секте. Причем о русской секте.
В своих ранних романах «Пророчица», «Завещание Каина» и «Душегубка», сразу переведенных на русский язык42, Захер-Мазох рисовал прочувствованную картину жизни закарпатских сектантов — хлыстов и бегунов. Герой той самой «Пророчицы», которая так понравилась казанскому профессору, влюбляется в хлыстовскую богородицу и отдается всевозможным унижениям; в конце
28
Глава 1
концов его распинают на кресте. По своей психологической структуре роман вполне соответствовал другим произведениям автора, давшего свое имя мазохизму. Но здесь, в отличие от более поздних его романов, в которых перверсия живет своей натуральной, независимой от культуры жизнью, писатель чувствовал еще потребность оправдать свое извращение, включив его в адекватный ему культурный контекст; и он находит нужный фон в хлыстовстве. Впрочем, «Пророчица» была переведена в «Ниве» в 1880 году с цензурными купюрами, смягчавшими грубую чувственность описаний; но ее эротический заряд остался очевидным даже в варианте «Нивы». Кутепов, однако, воспринимал повесть как одно лишь обличение ужасных хлыстовских нравов. Его отзыв о Захер-Мазохе мог бы стать примером особого рода слепоты: читатель игнорировал очевидное, замечая лишь подразумеваемое; читая сквозь совершенно чуждый ему текст, реагировал на одно лишь содержание контекста. Ъак Захер-Мазох добивался своей цели: осуществляя желание в тексте, маскировал его контекстом, который для заинтересованного читателя эффективно замещал сам текст. Текст и контекст менялись местами: то, что было текстом для автора, становилось маловажным контекстом для читателя; а то, что для автора было маскировкой, рецензенту казалось содержанием.
Захер-Мазох описывал хлыстовские ритуалы, как он их себе представлял, чтобы создать приемлемый культурный контекст для собственной перверсии. Автор психологического открытия, Захер-Мазох пытался выдать его за открытие этнографическое. Когда же он обнаружил, что не одинок в своей перверсии, он стал освобождать ее текст от культурного контекста. Тысячи людей в Европе читали его романы на разных языках, воспроизводя в себе удовольствия, которые получал сам автор, стоя под бичом жены, а потом описывая свои ощущения. Не странные «русские» обычаи способствовали тому, а странная природа человека и, в частности, странные на
Лед меха, форель: от Мазоха к Кузмину 29
туры автора и каждого из его читателей. Писательский успех стал средством очищения желания. Если в своих ранних романах Мазох говорил: «смотрите, как дурно поступают эти сектанты!», то потом стал говорить нечто иное: «Смотрите, как дурно делают люди!», так, кажется, и не дойдя до откровенного: «Смотрите, как дурно, и, однако, сладко то, что делаю я!»
Не в первый и не в последний раз хлыстовский опыт оказался важен для европейских любителей сильных ощущений. Перемножая русскую экзотику на мистику тайных сект, хлыстовство создавало необычайно удобную среду для концентрации свободно плавающих эротических зарядов. Реальность с одной стороны вполне историческая, а с другой стороны совершенно загадочная, русское сектантство идеально соответствовало целям контекстуализации перверсивного желания. Со своим галицийским опытом и незаурядной осведомленностью в русских делах, Захер-Мазох знал или считал, что знает таинственную секту; рассказав о ней, он продолжал слыть знатоком-бытописателем, «галицийским Тургеневым», как с любовью звали его французы-русофилы. С другой стороны, этого культурного контекста не знали его читатели даже в России, и потому он мог сохранять их доверие в самых неправдоподобных сценах, оставаясь серьезным писателем, открывающим новые психологические реальности — «малороссийским Шопенгауэром», как уважительно звали его русские критики. В результате он конструировал из русско-хлыстовского экзотического материала произвольные фигуры, отвечавшие его сексуальным особенностям.
Во Франции, где он был наиболее популярен, Захер-Мазоха воспринимали более всего как романиста-психолога. Но для русских читателей он сделал еще и нечто особенное. Это было время расцвета и краха народнического движения. За позитивистским языком «нигилистов» скрывались самые мистические значения. Сакральной жертвой во имя религиозного культа народа стал
30
Глава 1
русский царь. Именно в это время популистская интеллигенция вновь почувствовала интерес к народным сектам с их нетрадиционным мистицизмом, культом общинной жизни и предполагаемой у них практикой ритуальных убийств. Чувствуя себя мишенью романтических ожиданий Европы и вполне разделяя их мотивы, но не видя себя способной им соответствовать, русская интеллигенция производила ту же операцию, конструируя Другого внутри собственного народа. Сами не справляясь с ролью подсознательного в отношении рассчитывающего на них Запада43, русские европейцы искали и, как обычно, находили другую жизнь внутри «народа». Открывая виртуальную реальность тайных сект, русские историки и писатели i860—1880-х воспроизводили тот самый жест, с которым обращались к ним западные интеллектуалы; но последствия оказались иными, вполне неожиданными.
В этом деле «русский» Захер-Мазох тоже оказался одним из первых. Он показывал хлыстовство тем, кто о нем слышал, и подтверждал своим свидетельством подозрения тех, кто, подобно Кутепову, давно нуждались в дополнительных аргументах. Культурные читатели, страстно влекомые к народу и привыкшие знакомиться с ним в журналах и книгах, получили от Мазоха более чем наглядное, и столь же привлекательное, представление об ужасах сектантства. Для Мазоха хлыстовство было контекстом, одновременно экзотическим и реальным; для его русских читателей хлыстовство стало текстом, одновременно загадочным и общеизвестным. Питаясь ограниченным, нередко повторяющимся кругом фактов и фантазий, статьи и книги о сектах в 1880-х годах наводняли рынок, составляя важную часть того мифа о русском народе, который определял развитие нового, по-сленароднического поколения; к нему принадлежали и символисты, и большевики.
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 31
•к.-.-
В этой стране случается такмного невозможного
Хлысты и родственные с ними секты, вытесняемые из России правительственными преследованиями, бывали в граничащих с Россией территориях Южной и Центральной Европы, Действительно ли русские хлысты научили Захер-Мазоха любимой им флагелляции? При всей очевидности отрицательного ответа, он запутан рядом необычных обстоятельств. Одно название секты могло послужить основанием для того, чтобы вложить мазохистское желание именно в русских хлыстов, выбрав их среди множества других эпох, культур и обычаев (впрочем, в «Пророчице» ужасные сектанты именуются духоборами). До сих пор на европейских языках «хлысты» переводятся как «флагелланты»; это и сегодня не помогает западным коллегам понять то, во что они верили и чем занимались. Сами хлысты считали название «хлысты» обидным. Они возводили истинное, с их точки зрения, наименование их веры к Имени Бога, предпочитая называть себя «христами»; а сочувствовавшие им исследователи, которых, напротив, шокировало уже это название, именовали секту «христоверами». Знавший русский язык Захер-Мазох мог, начав со словарного значения слова «хлысты», почерпнуть прочие детали из тех источников, которыми располагал, были ли они только книжными или основывались на непосредственном общении с галицийскими сектантами.
Впрочем, в ритуал некоторых хлыстовских общин действительно входили элементы само- или взаимных бичеваний. К примеру, на московском хлыстовском процессе 1745 года «сектаторы» обвинялись, среди прочего, во взаимных избиениях. Хлысты били себя железными цепями и обухами топоров, а также «секлись ножами и
32
Глава 1
бились ядрами», произнося при этом иисусову молитву; два укрепленных в холстинах ядра действительно нашли при обыске, причем на холстине были следы крови, а на спинах «стариц» — сеченые и битые раны. К этому прибавлялись полученные на дыбе (перверсии бывают, как известно, не только у обвиняемых) показания, согласно которым после пророчеств, кружений и избиений секта-торы ложились спать все в одной комнате, и «кто с кем любился, <...> плотскую любовь, яко в темном месте, и чинили» **. Более того, согласно формуле обвинения, зачатых в свальном грехе младенцев мужского пола ритуальным образом убивали, выпускали из них кровь, пекли на ней хлебцы и использовали эти хлебцы для причастия; впрочем, в эту версию, судя по материалам процесса, не верил сам суд.
В 17б9 году основатель русского скопчества требовал: « как человеческая плоть <...> принуждала иногда искать женского пола, от которого и самое жестокое бичевание отвесть было не в силах <„.>, от греха того разве только одним оскоплением избавляться можно»45. Любопытно это противопоставление оскопления бичеванию, как нового и эффективного метода борьбы с плотским влечением — старому, неэффективному. Используясь в эротическом контексте, бичевание осознавалось не как способ обострения, а как средство подавления влечения; не стимулятор секса, а замена ему. Но в этой роли бичевания не могли конкурировать с оскоплением.
Согласно донесению, поданному Александру I в 1825 году, в общине хлыстов «пророки их, во время пророчества, били некоторых, по полу таскали за волосы и по ним ходили. Небитые битых не укоряли, напротив говорили между собою, что то Дух Святой <...> сегодня накажет одного, а завтра другого»46. Тем же занимались и члены московской школы-общины Александра Дубовицкого, соединявшей хлыстовский ритуал с масонскими символами и весьма своеобразной педагогикой протона-роднического плана; материалы следствия 1833 года
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 33
полны актами бичеваний47. Подобная сцена сохранилась и в обширных «Материалах» В. Д. Бонч-Бруевича, вообще-то тщательно очищенных от телесного содержания: «когда Алексей замечал, что Фекла или Матрена ослабевают духом, он заставлял их бить его Демьяновыми розгами»,— вкратце пересказывал Бонч-Бруевич шокировавший его эпизод из повествования хлыста-постника4*. Саратовский психиатр Н. И. Старокотлицкий около 1911 года проводил обследование некоего фанатика-хлыста, жертвой которого была женщина, погибшая во время «неистовых радений, сопровождавшихся взаимными истязаниями» 49
Все же основные источники по русскому хлыстовству сдержанно говорят о значении бичеваний в хлыстовском культе. Калужский священник Иоанн Сергеев, сам раскаявшийся хлыст, в 1809 представил Синоду записку «О расколе, именуемом христовщина или хлыстовщина»: «в продолжение же кружения и скакания поют сочиненные ими песни весьма согласно и приятно, а иногда <...> производят гоготанье и какой-то необычный тихий свист <...>, чем наводят на слушателей Даже некоторый ужас. И если послушают их гоготанье из-за стены, то представится совершенно, что они якобы чем-то секутся или хлыщутся; может быть не от того ли и молва в народе носится, будто бы они, ходя вокруг чана, хлыщутся <...> Не удалось ли кому-нибудь из посторонних подслушать их действия и заключить, что верно они чем-нибудь секутся»,— рассуждал Сергеев, пытаясь объяснить этим и легенду о бичеваниях, и само название «хлысты» ”. Сравните с этим описание хлыстовского радения в романе Писемского «Масоны», данное от лица подсматривающего мальчика, будущего архиерея: «это сборище бегало, кружилось и скакало вокруг чана, <...> причем все они хлестали друг друга прутьями и восклицали: „Ой, Бог!... Ой, дух“» м.
Те из русских хлыстов, которые включали бичевания в религиозный ритуал, далеко не были в этом оригиналь-2—809
34
Глава 1
ны. Среди множества их предшественников наиболее известно движение бичующихся, которое зародилось в Италии в 1260 году. Массовые процессии полуголых, рыдающих, избивающих себя мужчин и женщин прошли по городам Европы, означая собой пришедший конец света. Участники одновременно переживали массовый экстаз и подчинялись абсолютной дисциплине, которая поддерживалась дополнительными бичеваниями. В тот раз история заканчивалась в сладких муках, имитировавших страдания Христа. В 1349 году Папа запретил шествия, объявив флагеллантов еретиками. Но секта продолжала существовать, и целое столетие спустя флагеллантов продолжали сжигать десятками, а иногда и сотнями”.
Но, конечно, от нашего героя, делившего свое время между спальней, превращенной в камеру пыток, и письменным столом, за которым в вольной форме записывались полученные впечатления, трудно ожидать детального знакомства с сектами. Были пути и более легкие. Достаточно было прочитать самую популярную в XIX веке книгу о России, написанную немецким путешественником Августом Гакстгаузеном «Исследования внутренних отношений народной жизни», чтобы приобщиться к кровавому и эротическому воображению, которое связывалось с русским хлыстовством. Гакстгаузен, открывший для Запада, а во многом и для самой России, важнейшие ее реальности — крестьянскую общину и религиозное сектантство — со слов своих информаторов описывал ужасную сцену, которую потом множество раз повторяли профессиональные «сектоведы» — Мельников-Печерский, например, или тот же Кутепов. У голой, сидящей в чане девушки под пение псалмов и хороводы ножом отсекают одну из грудей, причем девушка не чувствует боли; грудь потом разрезают на мелкие кусочки и съедают, а девушка становится женским лидером общины, или богородицей. Ни в одном расследовании эта легенда не подтвердилась, и в последней четверти XIX века
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 35
даже миссионеры высказывались о ней с недоверием. Сам Гакстгаузен, однако, умело аранжировал свое лжеэтнографическое открытие важным политическим пред-сказанием,- «Хлыстовство считается безвредною сектою <.„>, однако никто еще до сих пор не проследил этого странного, психологически замечательного заблуждения человеческого ума»,— писал он. «Россия должна бы взглянуть на это дело очень серьезно; она не воображает, какие опасности грозят ей с этой стороны» ”.
В романе Захер-Мазоха «Душегубка» (русский перевод 1886 года) перверсивное желание вновь вкладывается в сложный контекст, на этот раз соединяющий религиозное сектантство с политическим протестом и снова связывающий эту смесь со стереотипом экзотической России: «В этой стране случается так много невозможного. Сама природа тут какая-то загадочная и ежедневно готовит нам сюрпризы» ”. Дело происходит в Киеве и окрестностях, в роскошных салонах местной знати. Радения секты в изображении Захер-Мазоха полны, естественно, мазохизма: тридцать человек, выслушав назидательную речь и спев псалмы, каются друг перед другом в грехах и умоляют избить их плетью, что и исполняется; после бичеваний радеющие переодеваются в белые одежды и пляшут около алтаря, а то и торжественно закалывают некоего графа, который успел стать мужем их богородицы. Таинственная секта опасна: ее члены «убивают своих ближних во имя Бога живого» ”.
Этот редкий по своей экзотике антураж дает возможность сконструировать женский образ, смутно напоминающий или, может быть, пародирующий демонических героинь русской литературы; интересно здесь то, что если одни из этих героинь, в «Египетских ночах» или в «Идиоте», предшествовали «Душегубке», то другие, в «Серебряном голубе» или в «Песне судьбы», последовали ей... Герой романа Захер-Мазоха, молодой офицер, влюбляется в сектантскую богородицу, которая тем более загадочна, что мучит и убивает без ненависти: она «так же та
2*
36
Глава 1
инственна и жестока, как древние сфинксы». Сама она, впрочем, объясняет свои действия исключительно деловыми соображениями — долгом, а не удовольствием: «я с душевным прискорбием исполняю мои священные, но тяжелые обязанности»,— говорит героиня *. В этой общине она не одна такая; напротив, здесь, «как и в большинстве русских сект, например у духоборцев, беспоповщины и других, женщины играют главную роль»,— рассуждает Захер-Мазох. Сама же изображенная в романе «богородица» такого мнения о русских женщинах: «с первого взгляда они кажутся одалисками, в сущности же они скифские амазонки, неутомимые, неустрашимые и жестокие создания» ”.
Гомо- и гетеросексуальные избиения и казни откровенно эротичны. Но за действиями сектантов стоят и некие политические цели, правда, неразъясненные. Киев полон слухов о политическом заговоре секты против русского правительства; на трупах находят прокламации, подписанные «Тайным правительством Киевской губернии»... Интерпретирует происходящее некий детектив-иезуит: «тайные религиозные секты стараются приобретать сообщников в аристократических семействах и делают их орудиями для достижения своих пагубных целей»’0. Иезуит этот воплощает в романе рациональность Запада и, естественно, влюбляется в русскую красавицу. В конце концов богородица погибает от руки соперницы, а апостол секты умирает на кресте.
Под влиянием Мазоха, воспринятом через его русских переводчиков и имитаторов, новая стилистика утвердилась и в массовой литературе, повествующей об ужасах сектантства. В 1905 году Д. М. Березкин, автор «Повестей и рассказов из быта хлыстов, скопцов и бегунов», так описывал хлыстовское радение: «Все братья-корабельщики и сестры-корабельщицы спустили с плеч по пояс свои „радельные рубашки" и <...> стали вокруг чана в два круга <...> Вот взвился в руке Евдокима палкой скру
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 37
ченный жгут и со свистом опустился на обнаженную спину скакавшего перед ним Максимки <...> Этот последний хватил через правое плечо Романа <...> Авдотья — Феклу <...> Жгуты с визгом впивались в обнаженные вспотевшие спины; спины покраснели, побурели, вздулись <„.> А люди Божьи, как безумные факиры-самоистя-затели, все еще вертятся вокруг чана, все еще колотят друг друга» ”. Как справедливо писал этот же автор в другом месте: «чудилось, что находишься не в русской земле, <„.> а где-нибудь в глубине Африки, на каком-нибудь неисследованном острове Полинезии» “. Сначала контекст русского сектантства понадобился Мазоху для литературного оправдания своей перверсии; потом, наоборот, мазохистский контекст приспособили для литературного обличения русского сектантства.
Контекстуальное творчество Захер-Мазоха имело и более неожиданные результаты. Занимаясь соединением эротики с психологией, он показал возможность соединения сектантства с политикой. По сути дела, он всего лишь соединял собственное влечение с не менее темными пророчествами Гакстгаузена. Но в России образам «Душегубки» Захер-Мазоха суждено было соединиться с идеями «Бесов» Достоевского, открывая дорогу — четверть века спустя — «Серебряному голубю» Андрея Белого 61 и ряду последующих опытов (таких, как «Пламень» Пимена Карпова, «Сатана» Георгия Чулкова и «Антихрист» Валентина Свенцицкого). Во всех фабулах сектантский заговор ведет интеллигентного героя через мучительную эротику — к гибели, ритуальному убийству.
Свой чудный мех мне подарили вы
В отличие от нас, современники Мазоха не подозревали его в том, что в своих текстах он изображает самого себя и нечто такое, что он сам производил в жизни:
38
Глава 1
французский орден Почетного Легиона, полученный им за литературные труды, говорит об этом столь же выразительно, как и комплименты духовного лица из Казани. Это психологи модерна, включая и самого Мазоха, приучили нас к психологическим интерпретациям творчества; и нам кажется очевидным то, над чем первые читатели Мазоха предпочитали не задумываться. Между тем, смело продолжая дело своего мужа, жена Захер-Мазоха после его смерти опубликовала собственную историю его жизни и творчества; согласно этой версии, все или почти все то, о чем Захер-Мазох писал, он делал и в жизни. Сама супруга кавалера Почетного Легиона признавалась, что была главной деятельницей сцен, описанных в романах ее мужа. Короче, Мазох сам был мазохистом; если этот факт нуждался в доказательствах, то они были представлены. Доказательства эти имеют, однако, столь же смутную природу, как и любые отношения между творчеством и жизнью. В конце концов, не надо быть страшным, чтобы придумать Вия. Доказывает ли успех литературной фикции что-либо иное, нежели способность автора к творческому воображению и способность читателя получать удовольствие от его плодов? Но если нам остается неизвестным, действительно ли Захер-Мазох с наслаждением становился под бич своей супруги, то в точности известен другой, более важный факт: что Мазох получал удовольствие от того, что описывал эти бичевания. Очевидно также, что такого рода удовольствию от текста 62 он с успехом обучил тысячи своих читателей (среди которых была и его жена).
Были ли среди них те, кого мы называем сегодня людьми Серебряного века? Они росли в годы, когда Мазоха активно переводили «Нива», «Дело», «Отечественные записки»... Но, конечно, тот легко устанавливаемый факт, что некий автор переводился и печатался в определенную эпоху, не является доказательством крайне трудно проверяемой гипотезы — о том, что этот автор имел влияние на людей эпохи. Прямых ссылок на Захер-Мазо-
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
39
ха мы не находим, что, конечно, не является доказательством обратного. '
Все же после ласки маминой светлее, Все же после порки голова яснее, ' Все же гонят скуку эти боль и стыд... *’
Так писал в 1880-е годы молодой преподаватель математики, выпускник педагогического института, мужчина 25 лет, которого, если верить его стихам, секла тогда и мать, и городовые, и директор школы, и даже — по указанию начальства — собственные ученики. Страница за страницей, как дневниковые записи, писались эти стихи. В них нет любви — ни сыновней, ни мужской; нет ненависти; а есть только страдание, соединенное с просыпающимся удовольствием. Пройдет несколько лет, и молодой учитель станет знаменитым писателем Федором Сологубом; в своем романе об учителе Передонове он даст впечатляющую картину садомазохистского бреда. По свидетельству М. М. Павловой, в черновом автографе «Мелкого беса» сцены порки занимали до половины текста, а потом подверглись автоцензуре Ь4.
Действительно ли, однако, в русских школах секли учителей на глазах их учеников? Верит ли читатель в то, что великовозрастного автора секла, разложив на коленях, престарелая его матушка? Избегая ответа на эти вопросы, выскажу дополнительную версию: как и Мазоху, Сологубу нравился специфический вид удовольствия — описание собственного страдания. Мазохизм в литературе не то же самое, что мазохизм в психиатрии. Эротика пишущего — в удовольствии от письма, а его перверсия — в особенностях сюжета, доставляющего удовольствие. У молодого Сологуба особенно видно, как с повторяемостью подлинно мазохистской (ср. бичевания в «Венере в мехах», сериальный характер которых подчеркивает Делез) пишутся и пишутся монотонные стихи об одном и том же — о том, писать о чем доставляет наслажде-
40
Глава 1
ние Особенно выразительно в этом плане стихотворение «Как есть домашняя скотина...», состоящее из перечисления синонимических обозначений порки и ее инструментов,— объяснение в любви не столько к самой порке, сколько к ее семиозису. Рассуждая так, кажется даже вероятным, что действительный акт подобного рода, переведя перверсию из воображаемого универсума в реальный, разрушил бы сериальность письма; не именно ли так учитель в конце концов перестал писать свои строфы о порке, а написал роман? *
* Правда страшная побоев '
ЛГ- Обнаружиласявся: , Ч .<-'О .
Болью душу успокоив, Г ‘Н-НЙ1*
Я за дело принялсям. j
Критика 1900-х годов пользовалась понятием «мазохизм» в его современном значении и с легкостью находила его у Сологуба: в «Навьих чарах» «революционеры в одно и то же время насаждают и мазохизм, и садизм, и уранингизм» (то есть гомосексуализм),— писал автор исследования «Порнографический элемент в русской литературе» №. В этой ситуации прямые заимствования Сологуба у Мазоха доказать нелегко 61Возможно, и даже вероятно, что Сологуб научился своему письменному удовольствию от Захер-Мазоха (или, что то же самое, нашел у модного писателя оправдание самостоятельно найденному удовольствию). Все же тот факт, что двое обладают сходной перверсией, еще не доказывает их знакомства между собой. Последнее, в отсутствие прямых ссылок, может показать интертекстуальное сходство содержательных (а не только психологических) мотивов,— сходство ничем иным, кроме прямой зависимости, не объяснимое.
*' t
. ( Над красотой, над сединой, Над вашей глупой головой —
' - Свисти, мой тонкий бич! • v
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 41
— такова «Песня судьбы», которую поет главная героиня одноименной драмы Блока **. Бич ее отнюдь не метафорический, она не медлит применить его в деле со всеми полагающимися последствиями: и кровавым шрамом на щеке, и роковой влюбленностью героя. «За Такую любовь — бьют»,— повторяет в пьесе Фаина69. Одновременно бич выступает символом таинственного культа, темной параллелью старообрядческому костру. Автор с сочувствием следит за разрушительным действием этого бича-костра как на уровне психологическом («Ты бьешь меня речами и взорами, как бичом»,— говорит Герман70), так и на уровне социокультурном. «Эти песни, точно костры,— дотла выжигают пустынную, дряблую, интеллигентскую душу»,— комментирует перформанс Фаины некий «человек в очках»71.
В целом отношения Германа и Фаины повторяют отношения героя и героини мазоховских романов. Она — раскольница, бежавшая от самосожжения «дедов», движимая эротическими видениями72; он — интеллигент с нерусским именем. Бич Фаины можно интерпретировать и как указание на ее хлыстовство (что согласуется с общим интересом Блока к хлыстам, проходящим через всю его творческую жизнь 7J). Страсть Германа воспроизводит то же слияние эротики, мистики и политики, которое характерно для любви мазоховских героев. В обоих случаях перверсивное влечение к женщине с бичом сочетается с народническим жестом социального нисхождения-, и оба мотива нуждаются в мистическом оправдании. Разумеется, этот подтекст «Песни судьбы» не исключает переработки в ней многих других источников74.
Знакомыми нам мотивами насыщен рассказ о драматических встречах с Андреем Белым в «Пленном духе» Цветаевой. «Но ведь она же меня не любит, зачем же ей тогда мне делать больно?» — цитирует Цветаева сказанные Белым на вершине отчаяния слова, в которых звучит совершенно мазохистское понимание любви. Фокстрот,
42
Глава 1
который Белый странным образом полюбил танцевать в берлинских кабачках 1922 года, характеризуется Цветаевой как «чистейшее хлыстовство»; а сам автор «Серебряного голубя» описывается как «эгоцентрик боли»75. В своих ассоциациях Цветаева была не одинока; на наблюдателя, вряд ли разделявшего давние хлыстовские интересы Цветаевой, «танцы» Белого произвели сходное впечатление: «это было какое-то „действо" или, лучше сказать, своего рода радения, может быть, в чем-то напоминавшие те, которые он описывал в своем „Серебряном голубе"» 7в.
Цветаева общалась с Белым в Берлине вскоре после того, как он расстался с женой, красивой и холодной Асей Тургеневой. Впрочем, и супружеская жизнь с Асей развивалась своеобразно. «Я не ощуЩал чувственность, пока был мужем Аси; но когда я стал „аскетом вопреки убеждению <...> образ женщины как таковой, стал преследовать мое воображение <...>; чтобы не „пасть и победить чувственность, я должен был ее убивать усиленными упражнениями; но они производили лишь временную анестезию чувственности; плоть я бичевал; она — корчилась под бичом, но не смирялась». В этом самоанализе Белый не скрывает того, что его метафорические самобичевания происходили и во время его супружества: «именно эти экстазы „посвящения" отдалили от меня Асю (она испугалась их)» 71 . Белый записывал эти давние уже события в 1923 году — примерно тогда, когда виделся с Цветаевой и жаловался ей на свой неудачный брак.
В своих воспоминаниях Цветаева, рассказывая о давней своей встрече с самой Асей Тургеневой, одевает ее в меха; более того, шкура на плечах — почти все, что мы узнаем об Асе. Странная эта деталь акцентируется со всей силой цветаевской прозы. В московской сцене, которую вспоминает Цветаева, невеста Андрея Белого приходила к ней по делу: советоваться о порученной ей, художнице, обложке. На Асе Тургеневой некий барсовый плед. «И вдруг, со всей безудержностью настоящего от
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
43
кровения: — Да вы сама, Ася, барс! Это вы с себя шкуру сняли: надели <...> Ни слова не помню про обложку <...> Зато все помню про барса.» И при следующей встрече Ася «перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса» 7*. В этой сцене появляется и мотив женского вампира, и мотив самой Афродиты79, к которой мужской герой в отчаянии обращает свою молитву...
Страдания Белого напомнили Цветаевой собственные давние переживания, связанные с Асей Тургеневой и не в полной мере высказанные в ее очерке: «я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась»,— сообщает автор, более не говоря ничего. Эти юношеские переживания Цветаевой, предметом которых была Ася, укладывались в ту же мазохистскую схему, что и чувства Белого. Сестра Цветаевой видела, «как жарок Марине каждый миг с этой холодной гостьей», и даже вспоминала, «сколько сил было Мариной затрачено, чтобы это видение вошло в наш дом». Было ли это «видение» и вправду в мехах? Во всяком случае, Анастасия Цветаева чувствовала «тайным знанием» сестры, «что в отношениях Марины и Аси Тургеневой страдательное лицо — Марина», а Ася только давала «себя обожать». Анастасия Цветаева изложила все это на языке бытовой психологии; Марина сохранила свое отношение к Асе в памяти текста, но утаила от читателя, не знающего подтекста. Образ Мазоха заимствован для того, чтобы чувство воплотилось в текстовую метафору, но так и осталось бы невысказанным буквально: любопытный, но, кажется, нередкий случай из типологии интертекстов.
В 1916 году, в пору своего «эротического безумия»*0, Мандельштам написал в альбом Анны Радловой "
Не фонари сияли нам, а свечи Александрийских стройных тополей. Вы сняли черный мех с груди своей И на мои переложили плечи. !•
Смущенная величием Невы Свой чудный мех мне подарили вы!
44
Глава 1
Снимая мех — мазохистский фетиш — и отдавая его мужчине, женщина отказывается от своей демонической позиции; теперь она готова любить, а не мучить. Для Мандельштама такое преображение — возвращение к природному порядку человеческих отношений. Внутренней метаморфозе соответствует внешняя: метафорами перехода из состояния страдания в состояние любви являются обращение культуры в природу (не фонари, а тополя) и расширение русского пространства в мировое (Александрия). Радлова, мистическая поэтесса и автор исторической прозы о хлыстах и скопцах, была известна особого рода красотой; в посвященной ей поэме Кузми-на «Форель разбивает лед» о ней говорится:
, Такие женщины живут в романах <...> > -.цм
За них свершают кражи, преступленья <...> ,г И отравляются на чердаках." '
/у? • СДП '.К& ’чМ
: й.!
к Гайдамак и летавица- и.мк
: Один из рассказов Захер-Мазоха, «Гайдамак», переведенный народническим «Делом» в 1876 году83, особенно насыщен духом романтической утопии. Старик, бывший карпатский разбойник, ведет в горы небольшую экскурсию пошлых городских жителей, а по пути рассказывает им о прекрасном прошлом. В его истории гайдамаки оказываются мужским братством, детьми природы, справедливыми защитниками народа; они чужды культуре и двум злым ее силам — женщинам и деньгам. Гайдамаки те же казаки, просто в разных местах их называют по-разному,— рассказывает Захер-Мазох со свойственным ему желанием стереть культурные границы между Карпатами и Россией.
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
45
На Карпатах верят, говорит гайдамак, в летавицу — падающую звезду, которая оборачивается на земле вампиром женского рода. Этот фольклорный сюжет живо напоминает блоковскую «Незнакомку» (Фаина в «Песне судьбы» тоже сравнивает себя с падучей звездой*4). В рассказе Захер-Мазоха атаман гайдамаков, неуязвимый народный мститель, гибнет из-за роковой любви именно к такой, упавшей с неба незнакомке. «Я желаю, чтобы ты была знатной дамой, а я буду твоим слугой, который с радостью примет от тебя побои»,— разворачивается в новой обстановке типичный мазоховский сюжет*5. Влюбленный атаман забыл и свой долг перед народом, и прекрасную мужскую дружбу; а вампирша помогает ревнивому мужу убить гайдамака. Вождь гибнет, приказав товарищам не мстить за него. На этом воспоминания кончаются. «Сойдем к расе Каина»,— говорит старик-рассказчик*6, и экскурсия возвращается из утопии в реальность, с прекрасных гор — в отвратительную цивилизацию. Так заканчивается повесть, в которой антибуржуазный протест вновь сливается с центральными образами Захер-Мазоха — демонической красавицей и сладко мучимым ею героем. Есть здесь и оппозиция мужского братства, сосредотачивающего в себе главные ценности романтической идеологии,— и женщины, несущей в себе зло цивилизации. Женщина-вампир губит героя, разрушает общину и заставляет мужчин служить ей, только ей.
Стоит сравнить «Гайдамака» Захер-Мазоха с написанным полвека спустя «Вторым ударом» из «Форели» Михаила Кузмина, чтобы убедиться в далеко идущем сходстве мотивов. «Разве дрогнут твои Карпаты?» — место действия обозначено с полной ясностью, и экзотика этого локуса форсирована многими Деталями*7. Есть здесь и «богемских лесов вампир», противопоставленный, точно как у Захер-Мазоха, «смертному брату»; привольные и строгие законы мужского, разбойничьего острога, про
46
Глава 1
тивопоставленные женскому уюту «домовья»; мотив отмены «кровавой мести»; и в конце образ Каина. Наконец, кажется, что само слово «гайдамак» прозрачно кодировано в возгласе «гайда, Марица!» “.
У карпатских текстов Кузмина и Захер-Мазоха можно найти и общий источник, который, как можно с разумной вероятностью предполагать, был известен обоим — «Страшную месть» Гоголя. В этой инцестуозной фантазии есть некоторые мотивы, общие для «Гайдамака» и «Форели»: Карпаты, романтика казацкого братства, предательство женщины... Во всех случаях экзотические декорации строятся для того, чтобы оправдать слишком бурные влечения героев, поглотить излишнюю энергию автора, дать тексту видимость рациональной мотивации ”. Но детали «Страшной мести» и «Гайдамака» складываются во «Втором ударе» в другую историю: интертекст используется как контекст для иного желания — желания Кузмина, а не Гоголя и не Захер-Мазоха. «Второй удар» предлагает иное решение конфликта: то, которое наступило бы, если бы герои не стали потакать нечистой силе, смертельно ссорясь из-за женщины, а вместо этого реализовали бы, наконец, свое влечение к мужскому союзу. Страдальческая борьба двух мужчин за женщину трансформируется в любовную связь двух мужчин, в которой женщина становится фоном, элементом обстановки. Гетеросексуальные треугольники Гоголя и Захер-Мазоха преобразуются, в гомосексуальный треугольник Кузмина.
Сам себя осуждает Каин... ,
Побледнел молодой хозяин, Резанул по ладони вкось... Тихо капает кровь в стаканы: Знак обмена и знак охраны...
На конюшню ведут коней... *.
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
47
Троеточия означают пропуски элементов действия, которое развивается, если верно наше чтение, по законам классической драмы: от завязки конфликта к его разрешению. Прочитанное таким способом — как параллель и, одновременно, осознанный контраст к рассказу Захер-Мазоха,— стихотворение рассказывает о поездке гайдамака к женщине, его встрече там с ее мужем — «молодым хозяином», их примирении и братании. В отличие от «Гайдамака», который кончается драматически — похоронами вождя и спуском в царство Каина,— «Второй удар» примиряет и успокаивает воинственных героев (что особенно видно по их коням, которые в первой строке «бьются, храпят в испуге», а в последней строке их ведут на конюшню: гость остается ночевать). И, тоже в отличие от «Гайдамака», в котором центральную роль играет тема летавицы, т. е. женщины-вампира-упавшей звезды, во «Втором ударе» женщины, кажется, вовсе нет. Есть, однако, ее атрибуты ’°: синий цвет, во всей «Форели» кодирующий женское начало («Синей лентой обвиты дуги» в начале роковой поездки); весь женский антураж «домовья», в котором «тяжело от парадных спален»; и, наконец, сильное противопоставление богемского вампира — смертному брату, что акцентирует как бессмертную, так и женскую природу фольклорного персонажа. Можно думать, что во всем этом продолжается женский образ «Первого удара», зловещий портрет прекрасной Радловой ” (здесь стоит еще раз вспомнить стих Мандельштама, в котором Радлова отдает ему свои меха).
Есть в «Форели» и звезда; в «Двенадцатом ударе», в котором перевернутый мир поэмы возвращается на место, нормализация эта обозначена так: «Нету слов, одни улыбки, Нет луны, горит звезда...» Это — образ банальной повседневности, в нем замещение слов жестами как-то соответствует замещению луны звездой. Вероятно, оба эти явления означают замещение возвышенного мужского начала женским. Надо сказать, что тема «людей лунного света», хотя и не была центральной для Мазоха,
48
Глава 1
латентно присутствует в «Гайдамаке» и других его текстах (см. особенно повесть «Любовь Платона», в которой мазохистская тема углубляется неоплатонической философией и ясно выраженным предпочтением гомоэротики как более духовного вида любви ”); так что Кузмин, используя материал «Гайдамака» и как бы договаривая его, проявлял реально содержавшиеся в нем потенции.
Итак, гость остается с хозяином в его женственном домовье, вытесняя оттуда хозяйку с ее «смертельною любовью». Социодинамика, скрывающаяся за этим ударом «Форели», тоже сопоставлена с народнической, мазохов-ской. Аристократическое домовье проникнуто женским духом и кощунством («Словно ладан шипит смола...»); гость же рассказывает хозяину о прекрасной жизни мужского братства, справедливого и богобоязненного. Народ здесь имеет не женскую, а мужскую природу; а молодой хозяин, поддаваясь этой агитации и сливаясь с массой все в том же жесте нисхождения, вновь реализует желание смешанной социально-сексуальной природы ”.
В этом свете иначе понимается и мотив крови во «Втором ударе». В нем вццят обычно западнославянский ритуал братания; в последнем случае, однако, кровь названных братьев смешивают, но не пьют, как это, по-видимому, происходит в истории, рассказанной во «Втором ударе». Для этого странного места можно предположить и иной подтекст, интересный здесь в связи с хлыстовскими интересами как Захер-Мазоха, так и поэтов круга Кузмина ”. В мае 1905 года Василий Розанов, Вячеслав Иванов и Николай Минский устроили «собрание <.„> с целью моления и некой жертвы кровной, то есть кровопускания» ”. Потом Вячеслав Иванов поставил посреди комнаты «жертву» — добровольно вызвавшегося на эту роль молодого музыканта С.— «обнажил ему руку и прирезал руку до крови» ”. Мужскую кровь смешали с вином и выпили, обнося чашу по кругу.
В этом эксперименте воспроизводилось хлыстовское радение, в котором видели современное воплощение
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
49
дионисийской мистерии; на это указывает и употребление термина «раденйе», и кружения, и ритуальное жертвоприношение. Возможно, это радение у Минского имитировало только что описанный в «Русском вестнике» ритуал инициации, принятый в южнорусской общине хлыстов-шелапутов. «Клятва эта той мрачной обстановкой, при которой она совершается, напоминает кровавые языческие мистерии <„.> Клянущийся урезывает палец, берет на перо каплю крови и ею подписывает акт о своем переходе <...> в секту»,— рассказывал в 1904 году сумской епископ Алексий ’7. Такое понимание концовки «Второго удара» не исключает тему братания, но придает ей более широкий смысл * «Тут надежда получить то религиозное искомое в совокупном собрании, чего не могут получить в одиночном пребывании»,— объяснял Е. Иванов смысл церемонии, устроенной Минским ”.
Примерно тогда же Блок уверенно писал о «генеалогии Кузмина <...> от темного ствола сектантских чаяний» “°. Но в отличие от личных интересов Кузмина в 1900-е годы, от его стихов и романов 1910-х годов и увлечений его окружения в 1920-х, в позднем творчестве Кузмина сектантские и старообрядческие мотивы, за некоторыми исключениями (например, цикл «Плен» 1919 года ’“), практически не встречаются. Это связано с определенной динамикой историко-философских позиций, которая пока что не привлекала интереса исследователей.
Россия теряет свое значение как уникальное средоточие проекций. В «Форели», наполненной внеконфессио-нальным мистицизмом и разнокультурной экзотикой, русская мистика совсем отсутствует. Среди множества этнонимов (Исландия, чех, Карпаты, голландский, шотландский, американское, Египет..) в «Форели» нет ничего российского; единственное исключение, само по себе характерное — Нева в «Двенадцатом ударе». Между тем западнославянское пространство продолжало иметь некое значение: роль его упоминается при загадочных об
50
Глава 1
стоятельствах, но никогда не разъясняется. Спирит в «Первом ударе» — «забитый чех», который играет все же центральную роль в сюжетном движении этого стихотворения, моделирующем трудный переход от гетеро- к гомосексуальности. В «Десятом ударе» герой оживляет партнера-двойника заклинаниями, явным образом повторяющими карпатский мотив «Второго удара» и готовящими мистическую кульминацию «Одиннадцатого»: «Я — смертный брат твой. Помнишь, там, в Карпатах? Шекспир еще тобою не дочитан» (что, между прочим, уравнивает карпатскую историю с шекспировскими сонетами). Герой «Плавающих-путешествующих», тоже пребывающий в поиске своей сексуальной ориентации, в решающей сцене подслушивает разговор, в котором готовится нечто вроде мужского Апокалипсиса,— об этом героям сообщают из Праги.
Множественность источников «Форели» документирована самой поэмой: «Толпой нахлынули воспоминанья, Отрывки из прочитанных романов <...> И так все перепуталось»,— сказано в ее «Заключении». Чешскую тему интерпретировали в связи с указанием самого Кузмина на влияние, которое оказал на него мистический роман Густава Майринка «Ангел западного окна» В этом тексте атмосфера спиритического сеанса вольно сочетает мистику разных стран и народов, от гностиков до тантризма, включая, конечно, и славян,os. Существенной, но вряд ли новой для Кузмина была проводимая Майрин-ком идея победы над гетеросексуальным влечением, которая одна способна дать герою мужество в его мистической борьбе со смертью. Фантазия Майринка заходит так же далеко, как мечта Катулла в его «Аттисе» и Блока в его «Каталине»: мистическое преображение включает в себя, как элемент, символическое или физическое оскопление ,<м. Более специфическим представляется символизм зеленого цвета, который и в «Ангеле», и в «Форели» предстает устойчивым знаком потустороннего мира. При этом и в данном случае смысл заимствованного мо
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
51
тива радикально меняется, попав в мир иного желания: у героя Майринка, пытающегося добыть золото и бессмертие, зеленый цвет в конце концов оказывается атрибутом зловещего Ангела, мучителя и шарлатана; а у Кузмина он становится, наоборот, цветом прекрасного мужского мира, побеждающего смерть силой братства, доходящего до двойничества ’°’. «Зеленый край за паром голубым» вновь возвращает нас к «Гайдамаку» Захер-Мазоха, в котором природа карпатских гор равнозначна миру мужской дружбы, романтической памяти и желанной смерти; и всего этого можно достичь, лишь насквозь пройдя через женский, дымный мир цивилизации: и >.
Зеленые луга отливали изумрудом рядом с темной зе- .
ленью елей <...> Внизу, подо мной, расстилался дым из деревенских труб и заразительные миазмы городов; <...> ‘ там безумная роскошь и подрумяненная нищета; там
•с прикрашенная, подрумяненная жизнь... Старый гайдамак .«. сказал правду: только в горах можно найти мир, на тех -у,, высотах, <„.> где не может долго дышать человеческое „ сердце, потому что каждое из его биений выражает раз-
‘*5 дор, спор, преследование... Здесь прекращается область • жизни, здесь царят элементарные, первобытные силы— п’' 41 смерть *°*. . ;
.... 41
Н. А. Богомолов1т, публикуя записи Кузмина, в которых тот возводил «Форель» к роману Майринка, высказывал справедливые сомнения: послужив, по выражению самого Кузмина, «толчком» к некоторым мотивам его мозаичной поэмы, роман Майринка никак не связан с другими ее мотивами. Во всяком случае, его сюжеты не объясняют загадочную композицию «Второго удара», которая, согласно нашему предположению, восходит к «Гайдамаку» Захер-Мазоха Но, конечно, если влияние Майринка засвидетельствовано самим Кузминым (и очевидно, например, в «Восьмом ударе»), то об использовании мотивов Захер-Мазоха приходится лишь строить гипотезы. В 1927 году роман Майринка был литературной новинкой, которую знали очень немногие; а повесть Захер-
52
Глава 1
Мазоха принадлежала прошлому. В этом плане стоит вспомнить неожиданный у Кузмина интерес к тоже не очень уже модному Фрейду, который пробудился непосредственно перед написанием «Форели» ’°9; Фрейд, вероятно, принадлежал к тому же кругу ассоциаций, что и Захер-Мазох. Комбинируя в соответствии со своей нарративной техникой неизвестные читателю мотивы, Куз-мин позволял себе вольно искажать их смысл, сохраняя слегка зашифрованные ссылки на источники (типа «Гайда, Марица» — «Гайдамак» в случае Захер-Мазоха или «ангел превращений» — «Ангел западного окна» в случае Майринка).
Помнишь, там, в Карпатах?
В «Третьем ударе» карпатская история вновь подвергается критическому пересмотру. Романтические контексты («езда и нож») годны лишь для «пародии на преступление», и их лучше отправить в капризную юность. Возвращая в историческую повседневность, «Третий удар» примиряет героя с культурой вообще (описанной такими сильными словами, как оранжерейное, библиотека и комфорт) и даже с самым искусственным из артефактов — с петербургской, петровской культурой. Воплощенная в голландский ботик “°, и более того, в его модель, эта дважды симулированная реальность не вызывает у героя ни символистской тоски, ни старообрядческого негодования. В лучах весеннего солнца, падающего через стекло библиотеки, культура сливается с природой без страсти и без боли: «Как несложен мир Под мартовский напев вопроса!»
Романтическая тема борьбы с историей и логически следующее из нее влечение к России, столь характерные для европейского модерна и в частности для русского символизма, сменяются у Кузмина историческим смирением: «Притти на помощь может только случай». Поэт
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
53
лишал историю смысла с решительностью тем большей, что его собственный опыт, даже на фоне его поколения, был на редкость разнообразен: «Измененья и ошибки Протекают как вода». Этот особенный антиисторизм возможно, делает более понятными прозаические опыты Кузмина, в которых история подвергается вполне последовательной деконструкции.
Со всей своей мистикой «Форель» проникнута рациональным недоверием к «подозрительной лжи» исступленных клятв и буквально понимаемых метафор. Глубинные психологические гипотезы уступают место констатациям, о которых можно рассказать только в настоящем времени: «На льду стоит крестьянин. Форель разбивает лед <...> Вот и все». Хотя память и воображение по инерции продолжают работать, их «проделки» нежеланны герою, погруженному в зрение, слух и тело. «6т темных разговоров Тупеет голова...» Сенсорика предпочитается идеаторике, настоящее — прошлому и будущему, естество — психологии, природа — культуре. «Все метафоры как дым повисли», то есть принадлежат к голубому, женскому миру цивилизации. «Вещее искусство стремится к освобождению от временных психологий, партий и мод, к истокам естества и духа»112.
Этому весеннему, вполне акмеистическому контексту «Форель» противопоставляет свой осенний сюжет, в котором разыгрывается главный из мифов-символов — воскрешение мертвеца, двойника, самого себя. Собственно функцию оживления выполняет в «Десятом ударе» «некий человек в больших очках». На деле, в этом магическом помощнике возрождается блоковский «человек в очках» из «Песни судьбы», который назван там еще и «символистом». Срединное положение «человека в очках», дарящего герою его партнера (партнершу), полно смысла и в «Песне судьбы», и в «Форели». И там, и там он «назойлив и глуп», говоря словами Кузмина; в обоих случаях он сведен к своей технической функции; и в обоих текстах функция эта состоит в контакте с высшими силами. Но если в «Песне»
54
Глава 1
он только говорит, то в «Форели» он делает; и во втором случае он делает именно то, о чем говорит в первом. У Блока «человек в очках» говорит о «людях с новой душой», которые уже пришли, но, кроме него, их никто не видит, они же «ждут только знака», и этим знаком станет Фаина и ее Песня Объяснившись за Германа, этот «символист» оставляет ему Фаину. У Кузмина «человек в больших очках» в буквальном смысле создает нового человека, чтобы подарить его герою «Форели».
Герой вновь испытывает — на этот раз с искусственным продуктом оживления — «последний стыд и полное блаженство». Раньше эти же чувства были связаны с незнакомцем, который принял героя «будто за другого». В обоих случаях, кажется, удовлетворение обеспечено «ангелом превращений», который, как сказано в «Одиннадцатом ударе», волен превращать смерть в жизнь, медь в золото и даже зеленую (то есть мужскую) лень — в нечто иное. Но герой с легкостью переходит к другим переживаниям. «Форель», как кажется, несет в себе не романтическую идею недоступности подлинного удовлетворения (что через «Песню судьбы» возвращало бы к «Венере в мехах»), а прямо противоположную концепцию множественности его форм. В отличие от дезориентированных героев Мазоха, Блока, Белого, у Кузмина знание иных реальностей не мешает герою жить в мире сенсорного опыта.
Чудо есть метафора, прочитанная буквально, поэтому мистика символистов с такой легкостью обращалась в проблему текста и отношения к нему. Реализуя метафору, «коллекционер» в «Форели» делает чудо. Вся поэма Кузмина построена на напряжении между буквальным и метафорическим чтениями текста (проблема, которую Кузмин знал не только по символистским, но и по старообрядческим дискуссиям,14): г
Or 1
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину 55
1 Ведь, надобно признаться, было б глупо
Упрямо утверждать, что за словами Скрывается какой-то «высший смысл».
В конце годичного цикла «Форели» слова возвращаются к своим значениям. Конец поэмы наполнен настойчиво повторяющимися тавтологиями (типа: «роза — роза и окно — окно» или «Живы мы? И все живые»). Поэт отказывается от своей роли творца метафор, «ангела превращений», предтечи чудотворца. Вещь есть то, что она есть, а не то, что она значит. Именно этим — а не своей противоположностью — некоторые вещи доставляют удовольствие. В отличие от того, что хотел Мазох и о чем писал Блок, для Кузмина удовольствие есть удовольствие. Центральная формула «Форели»: «роза — роза» противостоит центральной формуле «Розы и креста»: «радость-страданье одно». Неслучаен, конечно, здесь выбор именно розы (для тавтологии подошло бы любое другое слово): центральный символ хорошо знакомого Кузмину розенкрейцерства, роза нагружалась бесконечными метафорическими значениями
На теоретическом языке еще Виктор Жирмунский описал взаимосвязь между семиотической и психологической редукциями, которые производил Кузмин. По словам Жирмунского, в акмеистическом мире «Гиперборея» ясные границы проведены как между вещами, так и между переживаниями: «Переживания конкретны и определенны, отчетливы и раздельны» ”6. Эти переживания увидены почти по Бентаму, кажется, они вот-вот поддадутся счету... Но все же и «Гиперборею» не удалось построить Паноптикон.
Проблема оказывается в том, что слова, редуцированные к своим значениям, вообще становятся ненужными. Язык, лишенный метафор, уступает свое место телу и его жестам. Слишком последовательный кларизм сводит текст к перечислению нередуцируемых денотатов тела («Кровь, желчь, мозги и лимфа)». В статье Жирмунского,
56
Глава 1
приветствовавшей Кузмина и его последователей, ключевым словом было все же обеднение. Полная победа «цивилизационного процесса» 1,7 означает конец искусства. Кузмин знает это, он не хотел бы, чтобы связь кла-ризма и капитализма заходила слишком далеко: «Буквально вырази обмен,— Базарный выйдет феномен»,— гласят строчки «Форели».
Если слово значит только то, что оно значит — невозможно не только удовольствие от текста, но и некоторые иные виды удовольствий. В «Форели» само существование партнера зависит от «ангела превращений». Если метафора будет читаться буквально (т. е. роза вновь станет розой), партнер погибнет. В «Восьмом ударе» Кузмин противопоставляет метафорическую причину его страданий — и буквальную природу самих страданий:
Наш ангел превращений отлетел.
Еще немного — я совсем ослепну, ' * '*
> И станет роза розой, небо небом. 1
И больше ничего! Тогда я прах <
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!
Восклицает, однако, не авторский голос «Форели», а его магически оживленный двойник, плод осуществленного символизма. Лишь тело партнера зависит от способа чтения, тело автора нигде не ставится под сомнение. Буквально понятая сексуальность остается единственным локусом иррационального; именно в этом качестве она заслуживает рассмотрения, которое, однако, и ее лишает животворящих метафор (ср. «Печку в бане», наполненную мотивом рассматривания, в одном сюжете даже в очках). Редукцию Кузмина в этом направлении продолжит Александр Введенский, у которого метафоры живут своей инерцией, а сексуальность своей: его «Куприянов и Наташа», удовлетворяя себя сами, говорят одними тропами, каждый сам с собой. Стоит сравнить это с самым земным из ударов «Форели» («Девятым»), чтобы увидеть, на
Лед, меха, форель: от Мазоха к Кузмину
57
сколько раньше останавливается Кузмин в своей демета-форизации желания.
В «Форели» Кузмин выявил все то, что в более или менее современных терминах можно назвать романтической идеологией Вновь пережив ее динамику умираний и воскрешений, он сумел выйти за ее пределы, но — что самое трудное — не слишком далеко. В осознанности такого перехода можно видеть явление постмодерна, раннее и вообще не очень частое в России.
Герой стихотворения Блока «Было то в темных Карпатах...», последнего в его поэтическом трехтомнике, так и не может вспомнить, что же там случилось и о чем он хотел в связи с этим рассказать,— непроясненная тоска по «жизни другой* естественно перетекает в экзистенциальное отчаяние. А. В. Лавров характеризует это стихотворение как «уводящее в сферу зыбких литературных ассоциаций» п*. В перебираемых им текстах о Карпатах, которые могли быть известны Блоку («Страшная месть» Гоголя, карпатские романы Жюль Верна и Жорж Занд, «Дракула» Брэма Стокера1ао), «Галицийские повести» Захер-Мазоха заняли бы естественное место.
В литературе о «Форели» уже отмечалось, что карпатская медитация Блока очевидно дублирована Кузминым: «Помнишь, там, в Карпатах?»; связка Карпат с темой исчезающей исторической памяти перейдет и в «Поэму без героя» АхматовойУ Кузмина она подвергается наибольшей конкретизации, и мазоховские аллюзии «Второго удара», возможно, были сознательно использованы для дешифровки карпатской темы Блока. В этом свете «Второй удар» можно представить как развернутый ответ Кузмина на стихотворение Блока, прочитанное им как вопрос. Ответ, указывая на мазохистские мотивы творчества Блока и всего русского авангарда, предлагал им существенно новую альтернативу.
Жизнь более не противопоставляется жизни другой, как таинственной и недоступной реальности, а соотносится с ней, как с телом партнера. Доступность удовле
58
Глава 1
творения вытесняет риторику Апокалипсиса. Поэзия локальных удовольствий делает экзотику излишней и даже безвкусной. Комфорт и обмен получают эстетическую санкцию. Мужественность не является ни агрессивной, ни нуждающейся в агрессии. Перверсия перестает быть универсальной метафорой, но зато и не нуждается в оправдании вымышленными контекстами. Иррациональность замыкается в мире желания, не стремясь к выходу за пределы этой резервации, но и не уступая последнего из своих владений.
Замыкая эпоху, Кузмин рассказал о том, чего не мог вспомнить Блок в своем итоговом стихотворении. Кузмин же, вспомнив, сразу — со следующим ударом форели — пожалел о потраченных усилиях:
Узнать хотелось.. Очень жаль...
Но мужественный вид комфорта Доказывал мне, что локаль Не для бесед такого сорта.
Глава 2.
Революция как кастрация:
< мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока г?
Когда-то в Древнем Риме поэт Гай Валерий Kaiywi, современник Юлия Цезаря, рассказал своим читателям историю некоего Аттиса *. Не то сойдя с ума, не то изобретя новую религию, Аттис оскопил себя каменным ножом. Последователи Аттиса, вместе с ним поверив в требовательную богиню Кибелу, тоже отторгли у себя «признак пола» (как деликатно выразился Фет в своем переводе Катулла). «Презирая дар Венеры, убелили вы свою плоть», приветствовал их Аттис, возглавив веселое, под звук барабана, шествие по миру.
Проспавшись, Аттис пожалел о том, чего лишился. «Жаль мне, жаль, что я так сделал»,— с некоторой наивностью передавал его чувства Фет. «Ой-ой-ой! Себя сгубил я. Ой-ой-ой!» — очень по-русски звучит раскаяние Аттиса в другом переводе. «Горе, горе! Вечно плакать — вот отныне участь моя. Кем я был и кем я не был. Сколько я обличий сменил!» — в последней русской версии Катулла сокрушения Аттиса переданы как кризис идентичности ’.
На раскаянии этот сюжет не заканчивается. Услышав жалобу Аттиса, богиня Кибела, олицетворение матери-природы, пришла в гнев и наслала на него львов. Лютые звери заставили Аттиса забыть о его сожалениях. Страшную жертву во имя страшной матери нельзя востребовать назад. До конца своих дней Аттис остался служанкой у богини. .
60
Глава 2
Катулл, рассказавший эту историю страстными стихами — по словам его русского коллеги Александра Блока, «размером исступленных оргийных плясок»,— меньше всего хотел бы сам последовать за Аттисом. Блок, которому перевод Фета не нравился, передавал заключительную строфу «Аттиса» подстрочником: «Великая богиня, да минует меня твое неистовство, своди с ума других, а меня оставь в покое» (6/82)3. Современный перевод использует более смелый образ, пересаживающий античные абстракции на смутно знакомую русскую почву, на которую Фет решил указать лишь в примечании: «Пусть мой дом обходят дальше, госпожа, раденья твои» 4.
По словам Блока, Катулл сам испугался того, что он описал (6/82). Лишь испугом вызвано его отречение от Аттиса; будь поэт посмелее, он и сам бы хотел подвергнуться той же участи. А будь еще смелее, и подвергся бы ей.
Сожаление Блока по поводу несмелости Катулла и есть самое интересное во всей истории.
Римский большевик
Катулл — всего лишь литератор, «только слов кощунственных творец» (3/123). Воплощают оргийные пророчества не поэты, а революционеры. По мысли русского поэта, занявшегося историей Аттиса через две тысячи лет после его римского коллеги, и размер и тема «Аттиса» были подсказаны Катуллу героической историей его современника-революционера.
В реконструкции Блока прототипом Аттиса был римский патриций по имени Каталина. Историческое его существование было коротким. Провинциальный администратор, наместник Африки, Каталина был главой заговора против римского сената. Заговор был разоблачен депутатом, либеральным адвокатом Цицероном, и
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела
61
Каталина погиб при подавлении восстания верными сенату войсками.
Эта знакомая история описывается со всей силой крайних эмоций, характерной для позднего Блока, и в прихотливой системе его метафор получает самое неожиданное развитие. Каталина изображен с той особенной амбивалентностью, которая питает блоковских «Скифов»: упоения здесь больше, чем отвращения. Рим, против которого бунтует Каталина, «был таким же студнем <...> как и современная нам Европа» (6/80); он триумфально гниет и полон картин бесстыдства и уродства. У Каталины и Блока общие противники, которые вызывают последовательную, без оговорок ненависть: разные представители «цивилизации» от Цезаря и Цицерона, «яростных врагов» Каталины, до оболгавших его филологов, «истинным врагом» которых называет себя сам Блок. Безудержно модернизируя, Блок называет Каталину «римским „большевиком"» (6/68, 86). Это определение Блок считает точным, если подразумевать под ним «стихию большевизма, а не фракцию социал-демократической партии» (6/452).
Что значит эта вечная, длящаяся всю человеческую историю «стихия», в которой автор охотно соединяется со своими героями? Ее романтическая банальность нарушается лишь некстати появляющейся, а потом пронизывающей весь текст фигурой Аттиса. Откуда взялась в 1918 году эта невиданная в высокой литературе’, давно ушедшая в пародии и гаремные истории реминисценция о кастрате? Сколь знакомы второстепенные типажи в рассказанной Блоком истории — либеральный оратор Цицерон, взяточник Саллюстий, любимец солдат Марий,— столь же необычна ее центральная фигура. Кого видел Блок в прицельном перекрестии, образованном двумя постепенно сливающимися координатами этого текста — иксом Каталины и игреком Аттиса? Аттис вместе с Каталиной образуют синтетического монстра, противоестественный гибрид, необыкновенный продукт
62
Глава 2
стилистического скрещивания. Кого из современников Блока, героев его мысли, можно поставить на его место? Значение складывающейся здесь связки между революционером, поэтом и скопцом нам и предстоит оценить. Кем в мире Блока был тот одаренный и корыстный развратник, который стал бы великим революционером после и вследствие добровольного оскопления?
В «Катилине», очерке Александра Блока с подзаголовком «Страница из истории мировой революции», соединились черты столь же характерные для Блока и его времени, сколь невероятные сами по себе. Первоначально этот текст был прочитан как лекция в некоем учреждении, которое называлось Петроградской школой журнализма. Блок, однако, вскоре издал его отдельной брошюрой — один из двух таких случаев во всем его творчестве 6 и, более того, называл его своей «любимой статьей» (6/503)- Андрей Белый тоже ценил «Каталину» выше других статей Блока и видел в очерке связь с «Двенадцатью»7. Подобно знаменитой поэме, написанной за три месяца до «Каталины», это эссе из древней истории было еще одной попыткой узнать русскую революцию, найти для нее понятную метафору.
В применении к Катуллу Блок излагал основной принцип своей герменевтики-, «стихотворения, содержание которых может показаться совершенно отвлеченным и не относящимся к эпохе, вызываются к жизни самыми неотвлеченными и самыми злободневными событиями» (6/83). В своей прозе 1918 года, как и в «Двенадцати», Блок радикально меняет свою позицию по отношению к тексту и читателю. Если раньше Блок мог надеяться, что его читатели разделяют с ним некие азы опыта, и поэтому с ними можно и нужно говорить намеками-символами, то теперь ему приходилось разъяснять все с самого начала. Но в отличие от поэмы «Двенадцать», поэзия которой создает многоплановый дискурс, на некотором уровне доступный любому революционному подростку, прозаические опыты 1918 года оказались од-
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 63
ними из самых герметичных творений русской литературы. Популярно, доступными примерами Блок пытался растолковать чувства, мучительно осознававшиеся в течение всей жизни и даже в конце великолепного поэтического пути так и оставшиеся невыразимыми. Иногда динамичные, иногда спутанные тексты — последняя попытка Блока передать новой России свой и своего поколения духовный опыт. Он говорил больше и прямее, чем когда бы то ни было; но чем больше он объяснял, тем менее понятным становился. Весной 1918 года было написано много, и стихами и прозой: «Двенадцать», «Скифы», «Каталина», «Крушение гуманизма», «Русские денди», «Исповедь язычника», заново переработаны «Последние годы старого режима».
Как мы помним, филологи вместе с депутатами были объявлены смертными врагами Каталины. И действительно, исследователи разных ориентаций, по разным причинам не любя важные для Блока контексты, недооценивали значение «Каталины» и других прозаических опытов 1918 года. В своей мемориальной речи 1921 года, наполненной горьким чувством свершающегося «Возмездия Истории», Борис Эйхенбаум возлагал ответственность и на Блока, на его «идиллическую философию перманентного бунта». Вместе с Блоком хороня революционный мистицизм его поколения, Эйхенбаум находил в этом символический смысл самой смерти поэта. В связи со своей теорией литературных поколений Эйхенбаум находил ключ к поздней блоковской прозе в рассказе «Русские денди» — «самом жутком из всего, написанного Блоком»8. Возможно, отвращение к мистике помешало Эйхенбауму увидеть жуть в «Каталине», где он, в некотором противоречии с собственным видением Блока как трагического мыслителя, находил лишь литературное упражнение в «прикладном символизме». Юрий Тынянов считал стихи и прозу Блока «резко раздельными». Отдавая должное Блоку-поэту, он считал Блока-литератора неинтересным, а Блока-человека
64
Глава 2
непонятым. «Как человек он остался загадкой для <.„> всей России»; и «едва-ли кто-нибудь, думая о нем сейчас, вспомнит его статьи»,— писал Тынянов в 1921 году’. Эту тему потом продолжил Григорий Гуковский: «Конечно, Блок-теоретик и критик гораздо слабее, чем Блок-поэт, и гораздо более ограничен представлениями <.„> века. Но Блок достаточно отчетливо осознавал и теоретически, к чему он стремится как поэт, хотя <...> выражал это осознание более метафорами, чем языком рациональной мысли*10. Дмитрий Максимов писал, что логика духовного пути Блока в его прозе даже более наглядна, чем в лирике11. Еще важнее для нашей темы другое замечание этого исследователя, которым он не без горечи подытоживал свой многолетний опыт представления Блока новому читателю: «Контакт с ним современного эстетического сознания ограничен. Многое в Блоке для многих из нас невоспринимаемо»,2.
Что касается «Каталины», то Максимов считал очерк попыткой оправдания революции, в результате которой Блок «создает собственный, исторически сомнительный миф о Каталине» °. Зара Минц выявляла в этом эссе отзвуки полемики Блока с Мережковским м. Вообще же советские исследователи старались внимательно отнестись к восторженному очерку о большевике, хоть и римском, находя в «Каталине» «недописанную социальную трагедию» Ученые, работавшие в иных традициях, соглашались в оценке очерка как случайного, для творчества Блока нехарактерного и интересного лишь как спутник «Двенадцати». Константан Мочульский, для которого Блок — заблудший, но христианский поэт, относился к «Каталине» как к «полу-комическому недоразумению* 16. Аврил Пайман в своей двухтомной монографии о Блоке ограничивается пересказом «Каталины», не рискнув в данном случае предложить свою интерпретацию ".
Косвенный комментарий к «Двенадцати» видел в «Каталине* Анатолий Якобсон “. В своем блестящем самиз-
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела
65
датовском анализе Якобсон подходил к «Двенадцати» и «Катилине» как к итоговым продуктам «романтической идеологии», которая для него была равнозначна культу силы и мистификации жизни. По схеме Якобсона, в «Двенадцати» личный блоковский миф завершался, в «Катилине» — отчуждался и саморазрушался. «Очерк „Каталина" есть чудовищная апология чудовищностей»,— справедливо писал Якобсон Он, однако, не интересовался ни более конкретным описанием личного блоковского мифа, ни его связями с религиозной традицией. Точно и резко оценивая политические следствия того, во что верил Блок, Якобсон не ставил своей задачей проследить истоки этой веры.
Более широкий (и в силу новых обстоятельств менее ангажированный) интерес к психологическому, религиозному и историческому контексту блоковской прозы позволяет увидеть в ее метафорах несколько иной смысл. Нетрадиционные способы анализа (особенно важна работа Сергея Гаккеля о «Двенадцати»29) и огромный массив недавних архивных публикаций (для настоящей работы были важны те, которые рассказывают об отношениях Блока с Мережковскими21, Вячеславом Ивановым22, Пришвиным23, Клюевым24, Пименом Карповым 2’) дают для этого новые ориентиры.
Лебединая песнь революции
22 апреля 1918 года Блок перечитывает пьесу Ибсена «Каталина» и, заинтересовавшись, обращается к словарям. Всю неделю античный персонаж не сходит со стра-
ниц записной книжки поэта, вслушивающегося в революцию. «Тема уж очень великолепна»,— записывает Блок
24 апреля, перечитывая Ибсена. Чувства пытаются найти форму: «Катилина. Какой близкий, знакомый, печальный мир! — И сразу — горечь падения. Как все скучно, известно.» Скучна не история Каталины, скучно вечное
3—809
66
Глава 2
возвращение исторических ситуаций. «Ну что ж, Христос придет»,— кончает эту запись Блок, связывая новый символ со старым и найдя в этом временное утешение. Все же в этой версии — революционный порыв, горечь падения и искупляющее явление Христа — нового было мало. Апокалипсиса ждали давно, произошла же только революция.
«Каталина» — первая пьеса Ибсена, написанная им в бурное время, зимой 1848 года. Автору был 21 год, он только поступал в университет. В Европе бушевала революция. Каталина показан благородным бунтарем, молодым и чувственным, который пытается одолеть низменные влечения во имя политического подвига. Его жизнь вызывает у него муки совести:
. Стыдись же самого себя! Стыдись , >
И презирай себя, о, Каталина!
. '' Ты чувствуешь — в твоей душе так много
’' Таится благородных сил, а цель их?
? ’ К чему направлены они? Увы!
г Лишь к утоленью чувственных желаний “.
Каталина объявляет себя врагом насилья, другом свободы и защитником угнетенных. Он готовится к великой участи, он хочет избавить Рим от его пошлости и разделить его богатства между всеми поровну. Но революционеру мешает чувственная страсть. Не в силах преодолеть влечения, Каталина соблазняет весталку. Ее казнят страшной смертью. Теперь ее мстительный дух всюду преследует героя. Любящая жена Каталины пытается увезти его в идиллическую глушь, чтобы спасти одновременно и от соблазна, и от бунта. Но Каталина возглавляет заговор против Рима и терпит поражение. В финале он закалывает свою жену:
Я не ее одну убил,
Но все сердца земные, все живое
И все, что зеленеет и цветет ”. ‘ '
Ре ^здкхдия как к. 1страция: мистика сект и политика теда 67
«Таковы идеи ибсеновских пьес, смелые, часто дерзновенные, граничащие с парадоксами, но задевающие самые интимные настроения современности»,— писал Николай Минский2’. Андрей Белый называл Ибсена и Ницше «величайшими революционерами нашей эпохи», противопоставляя их «горный подъем» «кабацкой мистике» Достоевского29.
«Катилина» Ибсена со смелой прямолинейностью увязывал две основные проблемы европейского модерна, секс и революцию. Пол разрушает революцию. Утопия отменяет секс. Но ни то, ни другое — ни победа пола за счет утопии, ни победа революции за счет сексуальности — невозможны в мире модерна. Противоречие остается нерешенным. Его можно признать, но нельзя преодолеть. Не было бы сексуального соблазна, Катилина построил бы царство справедливости. Не будь Катилина революционером, он спокойно жил бы с женой и любовницей. Моделируя основную дилемму, действие ибсеновской пьесы раскачивается между полюсами в душе Каталины. Сделай он выбор — и был бы счастлив. Его неспособность сделать этот выбор и есть трагедия современного человека.
«Катилина захотел <...> недосягаемого. И это тоже скучно» м,— записывал Блок, перечитывая Ибсена. Скучно то, что проблема признается неразрешимой, цель недосягаемой. Для Блока колебания ибсеновского Каталины — пройденный этап, колыбельная песнь революции.
«Катилина» пишется долго — почта месяц («Двенадцать» написаны за три дня). 16 мая Блок снова работает над очерком весь день. «Лебединая песнь революции?» — спрашивает он себя и. Вопросительный знак здесь — не знак сомнения, а скорее знак надежды. «Катилина» — песнь революции, тут вопроса для Блока не было. Лебединая ли, последняя ли песнь?
з*
68
Глава 2
Катилина — все-таки
26 апреля Блок пишет матери: «я с утра до вечера пишу, сосредоточиваясь на одной теме, очень мучающей меня и трудной» (8/513)- Озарение приходит на следующий день: «Катилина. Все утро — тщетные попытки. Шорохи тети и рояль за стеной доводят почти до сумасшествия <...> Вдруг к вечеру — осеняет (63-е стихотворение Ювенала — ключ ко всему!). Сразу легче» ”. То, что Блок перепутал здесь Ювенала с Катуллом, лишний раз показывает, насколько дальше литературы шли его устремления. Автора влечет личность Катилины-Аттиса, в ней он хочет найти образ и метафору революционера, в ней он вновь обретает утерянную идентичность и об этом сообщает наиболее заинтересованному лицу — матери. Скрещение Аттиса с Каталиной давало ответ на главные, последние вопросы жизни и революции, потому и стало «сразу легче».
Результат граничил с бредом. Блок знал и ценил это. Как писал он в 1919 году, «кровопролитие <...> становится тоскливой пошлостью, когда перестает быть священным безумием» (6/92). Безумие было желанным для Блока, и это знали окружающие. Корней Чуковский понимал Блока-революционера так: «В революции он любил только экстаз <...> Это была подлинная революция — в ней был и огонь, и дым, она была и безумная, и себе на уме. Он же хотел, чтобы она была только безумная» ”.
В эпицентре этого общего безумия продолжались давние личные отношения, тоже достаточно необычные. Мать Блока неоднократно лечилась уже в психиатрических клиниках (в частности, смесью гипноза и психоанализа, которую практиковал лечивший ее Юрий Каннабих54). Александра Андреевна придавала своему мистицизму болезненную чувствительность истерии; годами она находилась в состоянии напряженного, почти конвульсивного ожидания чуда. Источник новой, луч
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 69
шей жизни придет извне и чудодейственно изменцт то, что она называла «психологией», то есть внутреннюю сущность Александры Андреевны и людей вообще. Идентифицируя себя с сыном до смешения с ним, мать внесла, несомненно, решающий вклад в странное течение его семейной жизни ”. «Александра Андреевна не производила впечатления старшинства родительского. Всецело живя переживаниями,щетки", она была с ним и детками против старших авторитетов»56,— видел проницательный Евгений Иванов. «Со многими схожусь в том или другом, с мамой во всем»,— писал сам Блок57. Погружая обоих, себя и его, в апокалиптические ожидания, мать надежно оградила его «тайные пути» от уводящих в сторону влияний. Силу ее чувств к сыну, степень враждебности к окружению и характер ее бытового мистицизма можно почувствовать из того,, как она воспринимала публичные выступления своего сына (Блок читал в тот раз в Обществе поэтов «Розу и крест»): «Сашино чтение было в такой неожиданной обстановке лакированных ботинок, белых гвоздик и страшных личин светского разврата <...> Мы, простые люди, чающие воскрешения, жались друг к другу в тоске <...> Саша прорезал этот зараженный воздух своими стихами о Кресте, о радости страдания» ”.
А. А. Кублицкая-Пиоттух была глубоко погружена в атмосферу религиозных исканий и, кажется, была одно время близка к тому или иному ответвлению русского «духовного христианства». Тетя поэта, М. А. Бекетова, писала о сестре, что «не уклоняясь от христианства, она воспринимала его исключительно как религию духа» ”. Все больше тяготея к мистике, мать поэта «не раз говорила, что мир нереальный гораздо достовернее реального», и «везде искала тайных причин и мистических влияний» Любивший мать поэта, но ортодоксально настроенный Евгений Иванов воспринимал ее так: «Александра Андреевна — мистик духовный (и лицо у нее мистической сектантки), она все постигает не рассудком душев
70
Глава 2
ным, а в духе <...> Без духа ей беда» 41. «Мистическое сектантство» — профессиональный термин русских миссионеров и историков церкви, им обозначались хлысты, скопцы и близкие им секты. Иванов, придававший важное значение собственным старообрядческим корням, безусловно знал, о чем говорил.
Жена поэта, далекая от религиозных проблем, трактовала семейную драму в психиатрических терминах: «мать на грани психической болезни, но близкая и любимая, тянула Блока в этот мрак. Порвать их близость, разъединить их я не могла по чисто женской слабости»42. Классическая ситуация решалась в этой семье достаточно необычным способом. Поэтический культ вечной, безличной и асексуальной женственности позволял Блоку всю жизнь сохранять символическую верность матери. То, о чем он рассказывал в стихах, реально происходило в его браке. В своих воспоминаниях, сознательно ориентированных на самоанализ в духе Фрейда, жена поэта с горечью рассказала о попытке Блока достичь в их семейной жизни чистоты от отношений плоти. В течение долгого времени после свадьбы их отношения оставались нереализованными, но и потом Блок стремился избежать секса с женой, которой следовало играть роль прекрасной и чистой Девы. Этому сопутствовала длинная серия приключений мужа с проститутками, а потом и поклонницами, о которых он с необычной откровенностью рассказывал в письмах своей матери. Жена его, в свою очередь, стала искать выход на пути сексуальных экспериментов с друзьями и подругами. Мать, выступавшая как самый близкий конфидент поэта, играла определяющую роль в формировании этих необычных отношений. «Любовь Дмитриевну она и любила, и ненавидела»,— рассказывает Надежда Павлович, повторяя навязчивую формулу блоковской лирики. В данном случае, однако, все было проще: «не любила ее так, как свекровь может не любить невестку»43. Мать всячески стремилась
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела
71
жить вместе с сыном, десятилетиями конкурируя за это право с его женой.
Всю жизнь пытавшийся примирить и совместить этих двух женщин, Блок в последние годы делает, кажется, выбор в пользу матери. Не в силах облегчить ее одиночество, Блок реагировал привычным способом.- идентификацией с матерью. Во время работы над «Катили-ной» Блок писал ей: «мне не менее трудно жить, чем тебе, и физически, и душевно, и матерьяльно»44. На следующий день он записывал: «очень плохое состояние. Невозможность работать; сонливость; что-то вроде маминых припадков, должно быть»4’.
Поэт страдал той же болезнью, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель и которая так страшно воплощает в себе таинственную связь любви и смерти * согласно Чуковскому, болезнь Блока начала прогрессировать сразу же после окончания «Двенадцати» 47 Как раз в дни работы над «Катилиной» психически заболела и Бекетова, это ее шорохи за стеной доводили поэта «почти до сумасшествия». Ее способ безумия, прямо противоположный безумию ее сестры и племянника, проявлялся в том, что она отказывалась поверить в разрушение любимого имения в Шахматове48,— не признавала реальность революции. За месяц до этого сестра Блока Ангелина умерла «от воспаления спинного и головного мозга» 49 Блок записывал: «Ужас (я, мама, тетя) <...> Катилина — все-таки» ’°.
Новые размышления о поле и теле были закономерны в этой ситуации, возвращавшей поэта к его неразрешенным конфликтам. Пол был тем, что отличало от матери, что засоряло революцию и что, наконец, было источником непрерывных и тягостных переживаний. Жизненный опыт делал эти мысли лишь отчетливее осознанными, исторический момент позволял не смущаться самых радикальных решений, пройденный путь помогал воплотить желания в формы хорошо освоенной культурной традиции.
72
Глава 2
Сын Демона
Отец поэта, блестящий юрист и музыкант, был клиническим садистом, мучившим двух жен и окончившим свои дни одиноким неопрятным душевнобольным. О том, что значило быть сыном Демона, отличным от отца во всем, кроме путей «самых тайных», писалось «Возмездие». Даже музицирование отца «на покорной рояли» показывалось как осуществление губительного мужского желания. Из двух законченных глав поэмы одна вся проникнута воображением первичной сцены, полового акта родителей, а другая рассказывает о смерти отца; в противоположность всей лирике поэта, женский персонаж в поэме отсутствует.
Готические монстры, порожденные воображением Байрона, Лермонтова и Врубеля, помогали Блоку понять сексуальный демонизм его отца. Не бог и не человек, Демон по-мужски соблазняет женщину, которая не может противиться его воле, и губит ее самой своей любовью. Возникало некое подобие литературной традиции, помогавшей сказать о несказанном. Но старая форма не вмещала нового содержания. Блок пытался превратить уникальную трагедию жизни в черту своего времени, а способ, которым любил отец — в типизированную «любовь Того вампирственного века»; но так еще труднее достичь терапевтической цели. Покаяться за два демонических поколения, свое и отцовское, не получалось ни в ритме мазурки, ни в жанре эпической поэмы, ни в духе социального реализма. «Возмездие» не было дописано до возмездия. Демонизм отца, тайным образом перенятый в жизни сыном, нужно было преодолеть на символическом уровне; только в этом могло быть обретено возмездие. Литературный Демон, воплощение фаллической власти, которая неотразимо соблазняет женщину и убивает ее самой своей любовью, должен быть заменен новым героем.
Революция как кастращ<* мистика ожт и гюлигика тела 73
Подстрекаем буйной страстью, накатившей яростью пьян Облегчил он острым камнем молодое тело свое И, себя почуяв легким, ощутив безмужнюю плоть, Окропляя землю кровью, что из свежей раны лилась, Он потряс рукой девичьей полнозвучный, гулкий тимпан <_> Завопив, к друзьям послушным исступленный голос воззвал ”.
Порожденный Блоком гибрид Аттиса и Каталины укоренен в личной блоковской мифологии, а точнее, демонологии. Новый чудовищный идеал сконструирован как бывший Демон, хирургическим путем излечившийся от агрессивной мужской сексуальности. Вместо того, чтобы закончить сюжет смертоносным для женщины соитием, новый герой освобождается от своей мужественности и сам становится женщиной. Не считаясь с жертвами, он находит себе возмездие, разрывающее порочный круг любви и смерти — мужской любви и женской смерти.
Стремление смешать полы и полярности вообще характерно для Серебряного века. Новое религиозное сознание пыталось соединить мужское и женское, природное и культурное, земное и небесное в единых мистико-эротических образах. Врубель тоже превратил лермонтовского Демона, в оригинале противопоставленного Тамаре, но пользующегося ее обществом, в одинокого андрогинного Демона — «дух, соединяющий в себе мужской и женский облик» ”. Чуждавшемуся демонизма Иннокентию Анненскому молодой Блок и сам виделся в «обличьи андрогина»”. «Демон сам с улыбкой Тамары»,— таким Блока видела Ахматова”. В 1905 году Евгений Иванов глухо упоминал в дневнике о «двоеверии» Блока, что казалось «очень большой мыслью», сулящей «новую красоту»; характерным образом это «двоеверие» ассоциировалось с лермонтовским Демоном ”.
Если демонизм осознавался изнутри, то улыбка Тамары до некоторого времени воспринималась лишь извне, да и то самыми чувствительными. Прочитав «Снеж
74
Глава 2
ную маску», Вячеслав Иванов предупреждал поэта: «опять чувствую <...> опасность, прозревая и страстно влюбляясь в женскую стихию темной русской души, отдать ей свое мужское, не осверхличив его светом Христовым» 56. Комментируя Катулла в своей речи о Каталине, Блок настойчиво подчеркивал использованный им грамматический трюк, который из русских переводчиков воспроизвел один Фет”: с момента оскопления Катулл писал об Аттисе в женском роде. Теперь Аттис готова к революции. Свободная от желания, легкая и прекрасная, бывшая мужчина создаст новый мир, в котором не будет женщин, пола и секса.
Христос был мужедевой в воображении Мережковского, Бердяева, Клюева... В 1918 году, в записях до и после «Двенадцати» и в самой поэме, Христос Блока тоже приобретает женственные, а точнее — андрогинные черты. Это, между прочим, логически ведет к пересмотру христианского догмата Троицы именно в том направлении, в котором производили его русские хлысты: если мужское начало в лице Христа неотличимо от женского, то Христос отождествляется с Богоматерью, продукт этого слияния рождает из себя Св. Духа и тем самым является собственным Отцом... Такой Христос больше похож на языческого Диониса.
Буквальное понимание софианСких и дионисийских идей русской философии (а на вершине экстаза люди, в том числе и символисты, склонны деметафоризировать) было чревато грубыми операциями над полом. Андрей Белый, в сознании которого символы эпохи приобретали гиперреализм психотических переживаний, писал в начале 1920-х о полученном им ложном откровении:
Дух не родился во мне, но он явился во мне; и это явление имело лишь вид рождения <.„> Первое его движение во мне была ложь, которую он вшепнул мне: будто он во мне родился и будто я, тридцатитрехлетний, лысеющий господин, есмь «Богородица»; обратите внимание: первое движение Духа во мне оболгало во мне пол; оно заставило мужчину пережить себя женщиной.
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела
75
На вершине своего разочарования Белый не только раскаивается в бредовой (или еретической) буквальности своего прежнего видения, но предупреждает об опасности даже и символических действий, если они касаются пола.- «пусть доказывают мне .духовные исследователи', что я был женщиной в символическом смысле лишь <...> Я считаю, что в таком обращении с полом духовная символика уязвляет себя» ”.
Лишь мучительно меняя жанры, Блок приходил к возможности выражения того, что так и оставалось невысказанным. «Я писал на одну и ту же тему сначала стихи, потом пьесу, потом статью»,— говорил Блок ” (а Ахматова рассказывала: «Блок писал не о своих масках, а о самом себе. Каким был, о таком и писал» 6о). В своей лирике, которая игнорировала влечение героя ради вечной девственности героини, Блок замещал отцовский демонизм любовью, очищенной от мужской агрессии ценой потери всякой сексуальности. Потом в пьесах, особенно в «Розе и кресте», он пытался яснее показать свой личный миф, в котором мужской мазохизм — «радость-страданье одно» — возводится в степень идеала. Лишь к концу жизни, в прозе «Каталины» и других статей 1918 года, Блок приходит к новому пониманию своей «двойственности». Теперь амбивалентность интерпретируется как бисексуальность. ,
Сразу легче
1 «? - Г. ')>.*. - V с...
Революция подобна исповеди, радению, пророчеству. Тотально вовлекая человека, она сливает в экстатическом порыве сознание с бессознательным: «одно из благодеяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека <...> и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты»,— писал Блок в «Исповеди язычника», написанной непосредст
76
Глава 2
венно перед «Каталиной» (6/39). В этой «истории двух мальчиков», которую Блок не сумел все же довести до конца, он признается, как в грехе, в гомоэротическом переживании своей юности. Этот эпизод важен: он до сих пор «преследует и не дает мне покою» (6/39).
Внешним фоном «Исповеди» является скачка на лошадях с другом, предметом краткой юношеской страсти, лицом и телом напоминавшим Диониса. Поэт скакал на сером мерине, его друг — на кобыле золотисто-рыжего цвета. Поэт и мерин были быстрее, оба они чувствовали «тот особый задор, который роднит между собой ветер, лошадь и человека и связывает их одним стремлением к неизвестным далям, открывающимся по весне» (6/45). Друг на своей кобыле, во-первых, отстал, а во-вторых, произнес плохие стихи. Обожание сменяется презрением, и после быстрой и беспорядочной скачки на своем мерине юный поэт впервые видит свою будущую жену. Она — «в розовом платье, с тяжелой золотой косой». На этом тщательно написанное повествование неожиданно обрывается.
Мерин возвращает к оскопленному Аттису61; пережитые вместе с ним задор, дали, весна, бещеная скачка — все это тоже войдет в «Каталину». Золотисто-рыжий цвет кобылы, на которой ехал неудавшийся Д ионис, и розово-золотой колорит девушки тоже поддаются интерпретации; как отмечалось по другому поводу, «сочетания „золотого" и „красного" устойчиво связываются у Блока с символикой лжи» б2.
Но гораздо значимее оказывается настойчиво вводимая здесь Блоком, и повторенная в «Каталине», оппозиция легкого-тяжелого. В первом сексуальном чувстве к девочке, о котором вспоминает тут Блок, была «тяжесть просыпающейся детской чувственности»; а испытанное им чувство к мальчику «было легким и совершенно уносящим куда-то. И, однако, в нем был особенный, древний ужас» (6/41). В обоих случаях легкость, с которой неслись в пляске-шествии-скачке Аттис с Каталиной и мерин с героем, побеждает древний ужас кастрации, кото
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 77
рый Блок осознает в «Исповеди» и преодолевает в «Каталине» (и осуждает Катулла за неспособность к этому). В самоанализе Блока испытанное им женское влечение к мальчику соотносится с мужским гетеросексуальным влечением таким же способом, как легкое с тяжелым, «уносящее куда-то» — с приковывающим к земле и конкретному месту на ней. Женское чувство легкое, мужское чувство тяжелое; поэтому кастрация облегчает. Вспомним, что чувствует Блок, когда его «осеняет», что «Аттис» Катулла — «ключ ко всему»: «сразулегче» и.
Уже после «Двенадцати» и «Каталины», в одной рецензии 1919 года Блок продолжит: «тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». Тяжесть и здесь коррелирует с мужской чувственностью. «В этом мире нет места для страсти — она скоро превращается в чувственность». Через запятую, как синонимы, следуют: «чувственное, по-хотливенькое, мужичье». И еще более ясно: «Веянием этой обезличивающей чувственности <...> страсть уже обескрылена». Рецензия была написана на стихи некоего Дмитрия Семеновского. Блок ассоциирует его, как он это нередко делал, с куда более важной для себя фигурой: «В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым <...> черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих <...> с чем, по-моему, жить невозможно» (6/342). Полет несовместим с похотью, органы чувственности нужно обменять на крылья, органы полета.
Блоковская идея легкости кастрированного Аттиса, похоже, опиралась на вполне определенные представления. Первый русский скопец, кастрировавший в 1769 году в орловском селе Сосновка десятки местных жителей, уговаривал их так: «Не бойся, не умрешь, а паче воскресишь душу свою, и будет тебе легко и радостно, и станешь, как на крыльях, летать; дух к тебе переселится, и душа в тебе обновится» м. Василий Кель-сиев, писатель и революционер, рассказывал о встреченных им в Турции русских скопцах: «Был у меня там при
78
Глава 2
ятель, сынишка одного молодого мужика, недавно оскопившегося <...> Вдруг, рассматривая разные подробности моего костюма, он покачал своей кудрявой головой: — Дяденька <...>! Тяжело носить, надо оскопить! <...> Скопцом быть хорошо, легко ходить». Мальчик этот, как легко догадаться, мечтает об оскоплении. Кельсиев подтверждал: «Что ходить действительно легче, что человек как-то воздушнее и подвижнее делается — мне многие скопцы говорили. Походка у них вообще легка, но увальнем, по-кавалерийски. Движения вообще быстры»6’. В романе близкого Блоку Георгия Чулкова «Сатана» (1915) идеальный герой из народа, по-видимому хлыст, увещевает грешного интеллигента характерными формулами: «Ты, брат, пей вино, да не то. Мое вино послаще будет и попьянее <...> П о л е г ч е бы нам надо стать, а твое вино тяжелит» И в описании скопческого радения у Клюева в «Мать-субботе» (1922) находим:
Ангел простых человеческих дел ;;
В пляске Васяткиной крылья воздел. л,, Брачная пляска — полет корабля
В лунь и агат, где Христова Земля <...>
! ; Духостихи отдают молоко *<-.
Мальцам безудным, что пляшут л е ? КОИ1. ’1 -£•
’• мл- ‘ '
« • <}
Несовершенная порода ’ ;
В «Двенадцати» бинарные оппозиции мужское-жен-ское алегкое-тяжелое тоже тяготели друг к другу, но еще использовались иначе, без структурного смысла, который их матрица приобретет в «Исповеди» и «Катилине»:
Что ты, Петька, баба что ль?
' : ' — Не такое нынче время,
: - Чтобы няньчиться с тобой!
t : * Потяжеле будет бремя • « Ж-‘ Нам, товарищ дорогой!
Революция как кастрация: мистика сект и политика той 79
Так говорят в «Двенадцати» очередному мужчине, убившему женщину, которую он любил. Тут эти слова делают невозможное: они вылечивают Демона. Петруха переродился, его личная тяжесть разделена в коллективном бремени, он облегчен, почти как Аттис после кастрации, и походка его меняется, совсем как у Каталины после метаморфозы:
И Петруха замедляет Торопливые шаги... Он головку вскидавает Он опять повеселел...
Но как это произошло? Каким образом решился главный вопрос жизни? Разве может революция придать магическую силу словам, ведь она делает свое дело иначе? Ответа еще не было, «Каталина» еще не был написан, и «Двенадцать» лишь обещают ег<У. Революция знает, как это делается; Блок верил ей, но сам способа не знал и показать его не мог, потому и было тяжело.
В ибсеновском Каталине Блок почувствовал сырой материал для нового мифа, а статья об историческом Каталине в «Реальном словаре классической древности» подсказала недостававшее. «Он открыто предавался скотским порокам и убил в себе всякий стыд»,— пишет словарь о Каталине и не жалеет эротических подробностей. Среди испорченной римской молодежи Каталина был самым отчаянным человеком; он предавался ужасному распутству; он соблазнил весталку; он убил жену и сына, чтобы вступить в новый брак; его дикий, высматривающий взгляд и торопливая походка выдавали похоть его сердца 68
Таков материал, с которым работали Ибсен и Блок В отличие от своего норвежского предшественника, Блок не интересуется тем, чтобы превратить это архаичное вместилище пороков в современного человека, наделен-
80
Глава 2
него совестью и безнадежно борющегося с соблазном. Не драма сознания интересует автора «Двенадцати». «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию»,— звал он (6/21). В последовательность слов вложено поэтическое чутье, не знавшее ошибок. Революция — дело тела, и только на третьем месте — сознания. «Катилина был революционером всем духом и всем телом» (6/68). Что, собственно, это значит — быть революционером всем телом?
Революция Блока происходит не с государством, не в государстве и не о государстве. Это погубивший Каталину Цицерон верил в «политическое строительство»; Блоку же функции государства напоминают лишь «распухание трупа» (6/69—70), и государство играет в «Каталине» примерно ту же роль, что в «Исповеди язычника» играет отвратительно-страшный школьный учитель. «Мы все находимся в тех же условиях, в каких были римляне, то есть запылены государственностью, и восприятие природы кажется нам восприятием трудным» (6/78). В эссе о Каталине, стилизованном под политическую историю, революция совершается над телом и направлена против государства. В «Крушении гуманизма», стилизованном под философскую антропологию, о революции сказано как об «изменении породы» — человеческой породы. Чередуя метафоры (человек как животное, как растение, как артист...), Блок пытается досказать свою мечту о природном — биологическом — преображении: «весь человек пришел в движение, он проснулся от векового сна цивилизации; дух, душа и тело захвачены вихревым движением; в вихре революций <...> производится новый отбор, формируется новый человек» (6/114).
Человеческая порода «явно несовершенна и должна быть заменена более совершенной породой существ»,— записывал Блок в самом конце своего пути (7/406). Так люди говорят о животных, а боги могли бы говорить о людях; и все подобные разговоры, конечно, упираются в вопрос о механизмах замены и совершенствования. По
Революция как кастрация мистика сект и политика тела
81
Блоку, функция дарвиновского отбора возлагалась на искусство. Как вспоминала Надежда Павлович, «Блоку хотелось увидеть каких-то новых людей, иной породы, иного мира»; и веря, что эти новые люди уже появились и, более того, что они-то и захватили власть, он задавал своей молодой подруге точные, теоретически продуманные вопросы: «Они какие? Любят ли снега, любят ли корабли? А влюбляются, как мы?» Эстетика и эротика были основными измерениями свершающегося перерождения.
В последней своей речи «О назначении поэта», этом некрологе Пушкину и самому себе, Блок продолжает верить, но в голосе звучит отчаяние, и вера растворяется в тавтологии: «мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь <.„> Мы знаем одно: что порода, идущая на смену другой, нова; та, которую она сменяет, стара» (6/161).
В «Двенадцати», как и в «Катилине», революция есть шествие, и метаморфоза революционера проявляется в новом качестве его шага. «Поддержи свою осанку. Над собой держи контроль!» — так в «Двенадцати» поправляют товарища, которого, как ибсеновского Каталину, в очередной раз отвлекла от революции сексуальность. Революция — новое состояние тела, и потому революционный шаг — центральная метафора «Двенадцати». Этот шаг без изменения перешел в «Каталину». Именно его «прерывистые музыкальные звуки» — музыку Революции — Блок предлагает услышать в «Аттисе» Катулла. После преображения Каталины его «то ленивая, то торопливая походка» (прямо переписанная из Словаря древности — возможно, потому, что напомнила Блоку «торопливые шаги» его Петрухи), превращается в «неровный, торопливый шаг обреченного, шаг революционера, шаг, в котором звучит буря ярости». Так найдена телесная метафора знаменитому «Революционному катехизису», который пропагандировал Нечаев (авторство его
4—809
82
Глава 2
приписывалось Бакунину): «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени <...> Чувства <...> должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела» 70.
Превращение, «метаморфоза»
Блок и раньше знал значение тела 71. Теперь он уверен.- революция производится над шагом и полом; ее результат — новый человек, а не новое государство; она целостна и вовлекает тело, душу и дух, а не какие-то частные проявления человека типа собственности или власти. Именно так Блока читали сочувствующие современники. «„Впереди — Исус Христос'* — что это? Через все, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве»72,— объяснял Белый в речи, посвященной смерти Блока. В мистических проектах позднего символизма «революция жизни» обретала поистине тотальный характер: переходя от политики к религии и от экономики к эротике; от общества к индивиду и от государства к телу; от слова к плоти и от плоти к претворенной плоти.
Тотальное преображение мира начинается с радикально особенного индивида. Революция творится людьми, сама природа которых нова и отлична от природы остальных. Революционер — особый человек: его жизнь подчинена «другим законам причинности, пространства и времени»,— скрыто цитирует Блок любимую им с юности статью Владимира Соловьева «Смысл любви»75. «Такой человек — безумец, маниак, одержимый» (6/69); весь его «состав — телесный и духовный» совершенно иной, чем у других людей — «постепеновцев», вкратце пересказывает Блок «Заратустру» Ницше. Бло
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 83
ковское «крушение гуманизма» происходит на далеко уже не новых путях; актуальное слово «революционер» и — для личного обихода — «человек-артист» лишь заменяют здесь вышедшие уже из моды слова «сверхчеловек» и «богочеловек»74. Но есть и чрезвычайно существенная разница, на которую Блок опирается всей тяжестью своего странного гения.
Ницше творил новый миф, не имевший ничего общего с реальной жизнью, и не заботился о практических применениях своих метафор. «Перерождение человека» у Соловьева, обещавшее физическое бессмертие и новый способ половой любви, было более прагматичным; но, хоть оно и было связано со знакомыми Блоку народными источниками, прямо их не воспроизводило и оставалось философской абстракцией. «Психология — тоже способ рассмотреть в себе то, что требуется отсечь»,— писал Андрей Белый в статье 1908 года, по-своему интерпретируя Ницше ”. Он задумывал тогда «Серебряного голубя», относительно которого исследователи до сих пор спорят, не скопцы ли в нем изображены76. Новое поколение жило в мире, перенасыщенном социальной практикой. Самые отвлеченные слова здесь должны были формулироваться на языке, доступном массам, чтобы сразу и, если надо, силой быть осуществленными в их массовой жизни.
В отличие от Ницше и Соловьева, Блок думает о практическом осуществлении перехода от человека к сверхчеловеку, от обывателя — к революционеру. Явление этого перехода Блок через запятую называет «превращением, „метаморфозой"». В повторении русского слова его латинским двойником отражается задача «Катилины»: показать римлянина большевиком, а русский хаос — еще одной страницей из истории мировой революции. В нагромождении римских ассоциаций рисуется картина, соединяющая русское прошлое с русским будущим.
Всеобщее равенство создается людьми, которые отличаются от других больше, чем эти другие могут себе
4*
84
Глава 2
вообразить. «Большая часть людей всегда ведь просто не может себе представить, что бывают события» (6/84— 85). Эти — курсивом — события — и есть подлинный предмет «Каталины». «Когда-то в древности явление превращения, „метаморфозы11 было известно людям; оно входило в жизнь, которая еще была свежа, не была осквернена государственностью» (6/69). Но уже в римские времена жизнь потеряла свою первосвежесть, в которой мистика так легко соединялась с утопией. Теперь — то есть со времен Катулла и Каталины — чтобы увидеть и распознать событие, нужен художник. Уже читатели «Метаморфоз» Овидия, с сожалением говорит Блок, воспринимали их не как подлинные превращения, а только как «ряд красивых картинок».
Блок претендует на большее. Пусть художник и не сверхчеловек — он свидетель сверхчеловека. Поэт верит в возможность внутреннего перерождения человека, но сомневается в способностях читателя следовать за ним. Культура и тождественное ей государство не дают человеку воспринимать происходящие с ним — точнее, долженствующие произойти — подлинные события, природные метаморфозы. Объяснив читателю, что тот не сможет понять автора прямо, Блок рассказывает ему о намерении добиться понимания на косвенных путях. «Я и не стану навязывать своего объяснения темперамента революционера при помощи метаморфозы. Сколь убедительным ни казалось бы мне это объяснение, я не в силах сделать его жизненным. Поэтому я не прибегаю к нему и обращаюсь к другим способам, может быть, более доступным» (6/70).
Другие способы, понятно, метафорические; но в революции и сама метафора, пусть самая рискованная, должна быть ответственной; выразительная и доступная массам, метафора указывает путь метаморфозы, а художник своим жизненным подвигом указывает направление, в котором идут преображаться массы. Идя на компромисс с нежеланием публики верить в метаморфозу и
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 85
пользуясь способами «более доступными», Блок пытался уравновесить это возражениями против идеи метафоричности как таковой: филологи навязывают ее для того, чтобы обесценить занятие литературой; понимание текста как метафоры для Блока — «сама смерть» (6/142). Сам он давно уже считал своей областью не метафору-слово, а метаморфозу-дело. «Нигде слово не претворяется в жизнь <...> так, как у нас»; именно потому русский писатель обречен рано умереть, что он — больше чем писатель и вообще не писатель, а скорее пророк и мученик (5/247). Контекст революции сам по себе заставляет образы и тропы осуществляться, стирая их отличия от вещественной реальности; а когда текст реализуется в жизни, то метафора превращается в метаморфозу. Если идеалы старого времени — Дон-Жуан Байрона, Демон Лермонтова, Заратустра Ницше и даже Катилина Ибсена — внеисторичны и, не претендуя на реальность, отсылают в недоступные дали мифа, то идеал Блока подчеркнуто реален, дважды историчен: он — «римский „большевик"».
По Блоку, Катилина сеет тот самый ветер, который подул в мире перед рождением Иисуса Христа (6/71). «Заговор Катилины — бледный предвестник нового мира» (6/79), а вестником нового мира назван в статье Христос (6/71). Итак, Катилина — предвестник, Христос — вестник, а новый мир — осуществление, через 1918 лет, той самой вести. Такова цель, но таковы же и средства. «В наше катастрофическое время всякое культурное начинание приходится мыслить как катакомбу, в которой первые христиане спасали свое духовное наследие» (6/111). .г...
> *
Не надо жить семьями
«Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение десятка лет сменила ку
86
Глава 2
чу миросозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, который с XV века несет одну и ту же однообразную и упорную думу о боге (в сектантстве)»,— писал Блок матери в ноябре 1907 года (8/219) и ей же сообщал: «Хочу заниматься русским расколом» (8/206). Интерес этот был далеко не только академическим интересом недавнего студента-слависта. Увлечение сектантством было унаследовано Блоком от предыдущего поколения, переоткрывшего это явление народной культуры. Очень многие в 1860—1890-х годах пытались разглядеть именно в этих «глубинах» сердце-вину русской души и залог ее лучшего будущего: так старое народничество соединялось с новыми религиозными исканиями на общей утопической почве. Евгений Иванов, в 1906 году посетивший тестя Блока Д. И. Менделеева, рассказывал о знаменитом ученом: «изумительная личность старик, он не химией только интересуется, а и сектантством <...> к мистикам симпатия и даже к хлыстам» 77. О расколе-сектантстве с увлечением писали такие разные люди, как Достоевский и Лев Толстой, Мельников-Печерский и Овсянико-Куликовский, Афанасий Щапов и Владимир Соловьев. Мистические поиски, которыми была заполнена юность Блока, несли более или менее явный отпечаток народной сектантской жизни. Андрей Белый называл окружение молодого Блока «сектой блоковцев»7в. Понимая неортодоксальный характер нового культа, который стал создаваться в этом кругу, Сергей Соловьев выдумал будущего историка-академика по фамилии Лапан, который будет научно решать трудный вопрос: «была ль некогда секта, подобная, скажем, хлыстам — „соловьевцев"»79. Сам Лапан в своем XXII веке отвечал на свой вопрос отрицательно: секты не было; его последователь Пампан шел дальше, предлагая все происходившее понимать в иносказательном смысле80. Бекетова знала, что «во всех этих шутках была, однако, серьезная подкладка» ". Потом в эту рискованную игру многие десятилетия продолжал играть Белый, чьи «Воспоми
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела
87
нания о Блоке» и ряд рецензий*2 (а потом, в неявной форме, и «Серебряный голубь») окажутся наполненными ядовитым изображением поэта как хлыстовского пророка, а его жены — как хлыстовской богородицы. Самого же Блока подозрения в хлыстовстве мало волновали, слишком серьезен был его интерес.
Мечты воплотились в человеке, о котором Блок писал: «Сестра моя, Христос среди нас. Это — Николай Клюев» ”. Мать Блока писала о своей первой встрече с ним: «этот Клюев пробудил во мне новые мысли, очень темные, но, может быть, необходимые» ”. И встречи с Клюевым, и его письма производили на Блока впечатление необыкновенное. «Я над Клюевским письмом. Знаю все, что надо делать <...> Но не могу, не хочу»,— записывал Блок, читая одно из этих писем (7/101). Беседы Блока с Клюевым осенью 1911 года мать Блока называла «Крещением» ”.
Сочетая приметы простой жизни с великолепным красноречием пророка, первое же письмо Клюева «окончательно открыло глаза» и на вековую думу народа, и на мелкие мысли интеллигенции (8/219). И действительно, строки этого письма — редкой силы памятник исторической целостности культуры. Одни и те же интертекстуальные мотивы путешествовали между крестьянской религией Клюева, символистской лирикой Блока и футуристическим идеализмом первых большевиков. «Один товарищ был в Питере по лесной части и привез сборник Ваших стихов <...> Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... И чудится, что еще миг и сухим песком падет тяготенье веков, счастье не будет загадкой и власть почитанием. Бойцы перевяжут раны и, могучие и прекрасные, в ликующей радости воскликнут: „Отныне нет смерти на земле, нужда не постучится в дверь и сомнение в разум"» “. В этих строчках сконденсированы центральные образы
88
Глава 2
культуры недалекого уже будущего.- образы Петрова-Водкина, интонации Платонова, проекты Циолковского... Все это пророчится в далекой глуши благодаря изысканным стихам, случайно привезенным из столицы; на деле же благодаря общим источникам русской мистики, которые питали творчество, конечно, не одного Клюева.
Константин Азадовский в серии работ, посвященных хлыстовскому мифотворчеству Клюева выявляет несоответствие между ролью поэта-сектанта, которого тот принял и охотно играл, и реальными биографическими данными. Вопреки тому, что он сам о себе говорил и писал, Клюев не был ни пророком хлыстовского корабля, ни послом бегунов в Индии, ни приятелем Распутина. Это, разумеется, не значит, что Клюев не был знаком с русским хлыстовством или что его религиозные идеи не были к нему близки: и стихами, и прозой он высказывал соответствующие идеи с искренностью и продуктивностью. в которых вряд ли кто сомневается; да и новые факты его жизни все же подтверждают, что общение Клюева с сектантами было реальней, чем редкие контакты таких увлекавшихся ими людей из интеллигенции, как Блок или Мережковский. Материалы Азадовского имеют более широкий смысл-, они показывают, сколь выгодным было представляться хлыстом в том обществе, войти в которое стремился крестьянский поэт.
История Хлестакова интересна не тем, что она рассказывает о его жизни, а тем, что рассказывает о его окружении. Даже если считать, что Клюев лгал о своей жизни в такой же степени (что все же кажется сильным преувеличением), ложь его говорит о ценностях его времени и среды, возможно, больше, чем если бы он был искренен. Та стратегия литературного поведения, которую избрал Клюев, во многом дублировала стратегию политического поведения, которую избрал Распутин; и обе оказались эффективными. Хлыстовство, пусть стилизованное, попадало в центр разнообразных устремлений эпохи. Клюев играл хлыста именно потому, что видел:
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 89 символистская интеллигенция, имитировавшая хлыстовские радения и рассуждавшая о «народничестве духа», была готова видеть в талантливом поэте-хлысте нового лидера.
«Он взвихрил в зале хлыстовские вихри <...> Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту. Хотелось, защищаясь, распахнуть форточку и сказать для трезвости таблицу умножения»,— писала Ольга Форш о выступлении Клюева на собрании петербургского Религиозно-философского общества88. Но ни окно в Европу, ни даже, как мы видели, таблица Менделеева не защищали от столь характерного для этой эпохи новаторов интереса к отечественной архаике.
Русское хлыстовство было закономерной реакцией на русское же Просвещение. Начиная со Смутного времени и кончая Серебряным веком мистика отечественных сект оказывала все возрастающее влияние на русскую цивилизацию. Рациональная культура капиталистического города вызывала ожесточенное сопротивление. Освящая собственность и семью, разделяя частную и публичную жизнь, монополизируя насилие в руках государства, делая культ из абстракций науки и права, очищая жизнь от страсти и карнавала, буржуазия вызывала к жизни встречные социокультурные движения — отрицающие собственность, семью и рациональность, сливающие частную и публичную жизнь в мистике запоздалого карнавала...
И в Европе, и в России сопротивление Просвещению не угасало веками. Наряду с мистической философией и романтической литературой, которую породило контрпросвещение 8’, оно воплотилось и в народной культуре Нового времени, существующей рядом с письменной культурой высших классов и по-своему отвечающей на те же исторические вопросы. В России Просвещение распространялось сверху вниз, ответное сопротивление ему закономерно шло снизу вверх. Когда русские романтики, вслед за их европейскими предшественниками, от-
90
Глава 2
крыли для себя народного культуру, их восторг был беспрецедентен: они увидели замечательное соответствие народных чаяний собственным (а чаще импортированным) идеям.
Антилиберальные вандеи принимали разный характер — крестьянских восстаний, религиозных расколов, мистических пророчеств, социальных революций, космических утопий... Но если в политике и экономике идеи возврата рано или поздно оказывались обречены, то в искусстве именно архаика — народная, мистическая, фольклорная, карнавальная — часто оказывалась продуктивной; кажется даже, что ее победы в этой области совпадали с периодами особенно быстрых социальных изменений, подчиняясь некиим законам компенсации. В отношении европейского капитализма, с характерной для него протестантской этикой, роль художественного «противовеса» играла литература романтизма; примерно так трактовал роль йенского и позднейшего германского романтизма Виктор Жирмунский ’°. Бурное развитие капитализма в России питалось общелиберальными идеями и не выработало себе религиозного обоснования. Но литература русского символизма играла роль, аналогичную роли европейского романтизма, наследницей которого она, с точки зрения Жирмунского, и была. В крайних, наиболее ярких случаях пересечения между символизмом и сектантством воплощались во встречном движении из сектантов в поэты и наоборот, но ими далеко не ограничивались. В конце концов антибуржуазные, агрессивно-архаические идеи народной мистики воплотились в свершениях, а особенно в проектах раннего большевизма.
Эта борьба архаистов и новаторов, мистиков и рационалистов, романтиков и натуралистов далеко выходила за пределы стиля. Особую роль в ней играли проблемы пола, семьи и секса. Буржуазная цивилизация всеми своими средствами ограничивает сексуальность, оставляя ей рационально определенное место в семье и
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 91
еще — как всегда говорили критики — в публичном доме. Другие виды желания и способы его удовлетворения репрессируются как «извращения», подвергаясь осуждению, преследованию или лечению. Фрейд представлял себе всю культурную жизнь человека как результат тотальной репрессии сексуальности; веря, что задача сублимации может быть решена без религии, одними только рациональными средствами Просвещения, он знал, что платой за цивилизацию становится болезнь — невроз. Переоткрывая психоанализ на русской почве, Василий Розанов переместил фокус на проблемы гомосексуальности: если «нормальное» влечение находит удовлетворение в семье, то «люди лунного света» не могут найти такового и потому вынуждены творить культуру ”. Вот почему религия, мораль и искусство так аскетичны, так чужды милых Розанову радостей семейного секса: среди тех, кто создавал и создает культуру, слишком много латентных гомосексуалистов. Розанов, находя «прослойки содомии» у Чернышевского, Достоевского и Толстого (и у Христа, Платона, Рафаэля), о современниках говорить, понятно, остерегался. Но вряд ли случайно, что его теория гомосексуализма в наиболее ясном виде была изложена не в «Людях лунного света», а в чуть позже вышедшей книге «Апокалиптическая секта. Хлысты и скопцы», где она прямо соседствует с наблюдениями над феноменом Распутина’2. Насколько его интонации в «Людях лунного света» полны схематизма и негодования по поводу всевозможных аскетов, содомитов и некрофилов, настолько «Апокалиптическая секта» вся продиктована уважением и желанием поняты «Дивны дела твои, Господи»; «Ум мутится, ум бессилен»; «ничего не понимаю»,— восклицает Розанов то по поводу хлыстов вообще, то по поводу Распутина.
Хлысты практиковали общинную жизнь и относительное сексуальное воздержание, нарушаемое лишь во время самих радений, похожих на карнавал. Скопцы, выделившиеся из хлыстов, чтобы отказаться от этой нечис
92
Глава 2
той практики, считали одну только добровольную кастрацию способом достижения своего утопического идеала. Другие, так называемые духовные скопцы, верили в то, что человек должен жить так, как будто он оскоплен, достигая этого не хирургической операцией, а волевым усилием. Близкие к хлыстам бегуны в своем поиске утопии отказывались не только от семьи, но и от дома, и от всяких связей с государством, которое считали антихристовым. Это о них Блок писал, варьируя свой образ шествия: «Они блаженные существа. Добровольно сиротея и обрекая себя на вечный путь, они идут куда глядят глаза <...> Это — священное шествие, стройная пляска праздной тысячеокой России, которой уже нечего терять» (5/73-74).
Культура Серебряного века насыщена то явными, то смутными, то скрытыми отсылками к опыту русских сектантов. Секты по-своему решали те же проблемы русской жизни, на которых сосредотачивались интеллигентские салоны и политические партии. Ответы сект были иными; но они принимались в расчет, в них была подлинность, а для иных — и сакральность. Сектанты сочетали свой духовный поиск то с промискуитетом, то с гомоэротизмом, то с кастрацией, но почти всегда — с той сосредоточенностью на проблемах пола и смерти, которая была так важна для высокой русской культуры.
Взаимосближение и слияние сексуальной, социальной и религиозной политики, столь характерное для Серебряного века, ярко воплотилось в одной из фигур ближайшего окружения Блока. Семен Панченко, мистик, церковный композитор и гомосексуалист, был связан с его семьей давними и довольно сложными отношениями. В Панченко была влюблена тетя поэта, Бекетова, сам же он испытывал симпатию к молодому Блоку. «Надо поклониться Мужику»,— писал ему Панченко в 1903 году. «Надо заплакать, упасть на колени и в стенаниях головой биться об землю у ноги мужика <...> И когда Вы так к нему почувствуете — Вы обновитесь и начнете новую
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 93
жизнь» ”. Это истовое народничество было характерным образом связано с сектантскими идеями перерождения человека и самой радикальной философией пола. В 1904 году Бекетова записывала: «С. В. Панченко проповедует новое царство — без семьи, без брака, без быта, с общим достоянием, с отниманием детей семилетних у матерей» ”. Прошло три года, а Панченко проповедовал все то же «Пили чай и говорили о семье, о том, что „не надо жить семьями"» ”. «К женщинам он относился беспощадно, считая их органическими врагами своих детей»96; мать Блока, однако, относилась к Панченко с симпатией, разделяя его идеи. Бекетова вспоминала: «Он чувствовал наступление новой эры и близких переворотов <...> „В моем царстве все будет позволено, в моем царстве не будет семьи",— говорил он»97
С Панченко дружил Александр Добролюбов, ранний символист, ставший главой секты близких к хлыстам «добролюбовцев». В ответ на присланный ему в 1906 году стихотворный сборник Добролюбова Блок писал: «перелистывая „Невидимую книгу", я узнаю бесконечно многое <...> дело в том, что я давно знаю лично и близко одну живую книгу Добролюбова — человека, который когда-то был ему ближе всех» (8/151). Пользуясь излюбленным термином хлыстов, противопоставлявших живую книгу — человека — мертвым текстам культуры, Блок имел здесь в виду, конечно, Панченко. У Панченко же Добролюбов, если верить его письмам последних лет, встречался с Лениным. В конце своей многотрудной жизни Добролюбов, нуждаясь в помощи, просил друзей найти Панченко, будучи уверен, что Панченко сделал карьеру при большевиках ”.
«Было время, когда Панченко имел несомненное влияние на Ал<ександру> Ан<дреевну> и на Сашу»99,— вспоминала Бекетова. Андрей Белый изобразил Панченко в «Петербурге» революционером с темным прошлым под фамилией Липпанченко1<w. Мало в ком еще удивительные черты эпохи проявились с подобной же отчет
94
Глава 2
ливостью, разве что в Распутине; не случайно много лет спустя Блок заметил что-то «панченковское» в министре внутренних дел А. Д. Протопопове, партнере и наследнике сибирского старца (7/260).
Революционеры духом и телом
«Грозным и огромным явлением» назвал Блок русское сектантство (5/215), выступая в Религиозно-философском обществе с докладом «Народ и интеллигенция». Доклад насыщен намеками на неназванную здесь прямо «стихию». Родину надо любить так, как любят «мать, сестру и жену в едином лице»,— скрыто цитирует Блок излюбленный (и яркий, потому что кровосмесительный) образ хлыстовских распевцев. Такую любовь «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный», цитирует он «Эти бедные селенья» Тютчева, знаменитый гимн русскому Христу. «Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение <...> Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху»,— пока еще осторожен Блок (5/323). Сектант упомянут здесь как важная составная часть народа, в одном ряду с рабочим, босяком и крестьянином...
В этом докладе было что-то необычное. Обсуждение его в Религиозно-философском обществе было запрещено полицией. Петр Струве отказался печатать его текст в «Русской мысли», что послужило причиной конфликта Струве с Мережковским. Но и последний стал обвинять Блока «в подмене истинно-христианских начал радением, хлыстовством» ,0'. «Мистический путь без философии ведет к хлыстовству»,— говорил Мережковский Пришвину,02. Блок же сообщал матери с гордостью,- «на собрании слушали меня очень хорошо, после собрания обступили сектанты — человек пять, и зовут к себе. Пойду». В том же письме он пишет о «самом лучшем впечатлении» от этого выступления и своих новых слушателей:
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 95
«я увидал, что были люди, которым я нужен, и которые меня услышали» (8/261—262).
В 1908 году Блок ездил с Ремизовым на «заседание» хлыстов. Об этом Любовь Блок писала свекрови: «Саша и Ал<ексей> Мих<айлович> пошли вместе на заседание хлыстов, Саша верно напишет Вам, ему очень понравилось» ,0’. И действительно, в тот же день Александр Блок не без смущения сообщал матери: «пошли к сектантам, где провели несколько хороших часов. Это — не в последний раз. Писать об этом — как-то не напишешь»1М.
В ноябре 1908 года молодой Михаил Пришвин записывал: «На религиозно-философском собрании: Блок и Рябов, Философов и сектанты, Гиппиус и Рябов»Михаил Рябов был лидером хлыстовской секты «Новый Израиль» в Санкт-Петербурге и посещал собрания Религиозно-философского общества. В этом же месяце Пришвин вместе с Блоком посещали другую хлыстовскую секту, вождем которой был Павел Легкобытов. В январе 1909 Пришвин готовит хлыстов к выступлению на Религиозно-философском обществе, они обсуждают Блока: хлысты считают его пророком106. В 1910 году Зинаида Гиппиус сообщала Блоку, что его «„знают" бывшие на заседании Религиозно-философского общества раскольники-федосеевцы»; сама поэтесса была от них в восторге: «Вот уж настоящий-то народ!» ,07.
Следующий доклад Блока на Религиозно-философском обществе, «Стихия и культура», развивает прежнюю тему в рамках новой метафоры. В Италии произошло землетрясение, погубившее тысячи жизней; это тонкая земная кора не выдержала давления внутреннего огня. Так и русская культура вот-вот не выдержит давления «стихии». Что за подземная сила угрожает культуре? Для иллюстрации Блок приводит письма двух сектантов. «Мистики мы особого рода: на русский лад»; «Наши сектанты мне представляются тоже революционерами»,— с удовольствием цитировал Блок (5/358). «Я читаю о сектантах»,— сообщал Блок матери108 В минуту душевного
96
Глава 2
кризиса он записывал: «Поехать можно в Царицыно на Волге к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию» 109 Все три маршрута вели к хлыстам или близким им сектам. Дело кончилось, однако, поездкой с женой в Италию.
Алексей Скалдин вспоминал, как много они с Блоком говорили «о хлыстах и скопцах, об их силе в русской жизни». В скобках Скалдин пересказывал содержание этих разговоров.- «Распутин еще не был виден на горизонте, но нижегородский губернатор уже писал,- „Если дать им свободу, то через месяц вся Нижегородская губерния запляшет*'. Тогда, до революции, это было реально» 1,0 О личном отношении Блока к хлыстам Скалдин вспоминал: «О хлыстах Александр Александрович говорил много. Он (с другими) ездил к хлыстам за Московскую заставу. Хлысты держались весьма независимо, но им все же льстило, что писатели ими интересуются.» У Блока складывались с хлыстами, похоже, более личные отношения, чем у «других». Скалдин намекал: «Александра Александровича влекла тамошняя „богородица". Она была замечательная женщина, готовая перевоплотиться в поэтический образ,— так был силен ее лиризм»1П. Такая женщина могла ассоциироваться с Клеопатрой, женской версией Демона112:
'я..-
Ты видишь ли теперь из гроба, ,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
— и, конечно, с Фаиной из «Песни судьбы».
В этой драме и связанных с ней циклах стихов «Снежная маска» и «Фаина» хлыстовская тема в творчестве Блока достигла своей кульминации. Герман уходит от своей жены к Фаине, которая сначала бьет его бичом, потом крестит «вторым крещеньем» и, наконец, уходит с ним в странствие. С легкостью, характерной для хлыстовских биографий, Блок переносит Фаину из раскольничьего
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 97
скита на «всемирную промышленную выставку», где она с бичом в руках поет среди локомотивов и самолетов. «Человек в очках» рассказывает о Фаине то же самое, что говорил Блок в Религиозно-философском обществе о русских сектантах. Прежде чем расстаться, Герман и Фаина награждаются апокалиптическим видением Нового града. В конце концов все трое — Герман, его жена и любовница — поодиночке теряются в российских просторах.
Прочитав «Песню судьбы», Евгений Иванов тонко почувствовал в драме «мучительную жажду воплощения: слова и действующие <лица> жаждут принять плоть и кровь, воплотиться». Для него было ясно, в каком направлении развивается поиск воплощения: «Повидимому, вся пьеса ищет этого бытия <...> напоминающего хлыстовщину, сектантское радение, только в плоскостях иных. И не только тут сходство с сектантством». Блок, не любивший обсуждать несказанное больше, чем он это делал, неохотно соглашался: «Критика твоя с точки зрения „ мистики" исчерпывающая»
В «Песне судьбы» Блок сделал героя тезкой пушкинского Германна из «Пиковой дамы» и поставил его в такую же безусловную — и безнадежную — зависимость от женского персонажа, приобщенного к тайнам; а поскольку пушкинский Германн в свое время заимствовал имя от графа Сен-Жермена1,4 (знавшего или искавшего тайну не только карт, но и воскрешения из мертвых), блоковский Герман оказывается наследником европейской мистической традиции. Но важнее другое: в противоположность герою «Пиковой дамы», герой «Песни судьбы» ищет секреты бытия внутри России; и, в отличие от Пушкина, Блок не отправляет его в сумасшедший дом. Рассказав о происхождении Фаины и спроецировав ее в современную жизнь и даже более того, в утопию будущей «всемирной выставки», Блок указывал на перспективы русского хлыстовства, в которые глубоко верил. Судь
5—809
98
Глава 2
ба Германа с его незавидными корнями в прошлом зависит от великолепной Фаины, за которой — будущее.
Какой это танец? Каким это светом Ты дразнишь и манишь? v
В кружении этом
Когда ты устанешь? (2/280)
Герман так и не нашел своего ответа, но один из возможных ответов очевиден и для Блока, и для читателя. В Фаине Блок показал хлыстовскую богородицу, какую знал или мог себе представить, и сделал из нее всеобъемлющий символ России. Станиславский отказался ставить «Песню Судьбы», откровенно написав Блоку: «Меня беспокоит то, что действие происходит в России. Зачем?»1,5 — и пригласив его вновь переодеть отечественную мистику в западные одежды, что поэт и сделал в своей следующей драме «Роза и крест» ”6.
Жизненным прототипом Фаины обычно считают подругу Блока актрису Н. Н. Волохову, которую современники за ее внешность и манеру держаться называли «раскольничьей богородицей» *’7. Кажется, однако, что не стоит игнорировать указание многоопытного Скал-дина на то, что была и настоящая хлыстовская богородица, которая увлекала Блока и была готова «перевоплотиться в поэтический образ» "8. Хлыстовскую богородицу, молодую красивую крестьянку, водил на свои лекции Вячеслав Иванов Можно предполагать, что речь идет об одной и той женщине, «охтенской богородице» Дарье Смирновой, охотно общавшейся с петербургскими писателями. Пришвину она казалась «второй Гиппиус по уму» 12°, а Кузмин писал Чичерину около 1904 года: «мнение наставницы с Охты равноправно и в равной мере <достойно> XX века, как и <мнение> того же Ницше» *21. В 1914 году Смирнову судили по обвинениям в свальном грехе, в совращении православных в изуверную секту и в доведении до смерти двух женщин, отправленных ею на 40-дневный пост. «Миссионерское обозрение» писало не
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 99
стесняясь: суд явится «неопровержимым обличителем тех ложных восхвалений, какими обычно награждают каждое проявление сектантства наша жидо-масонская или жидо-кадетская пресса»,и. Процесс вызывал юридические и политические споры: друзья Смирновой не верили обвинению, а Пришвин и Бонч-Бруевич выступали на суде на стороне защиты.
Тронется широко и глубоко
«Секта хлыстов очень многочисленная. Эта секта тайная, и потому об ее учении очень мало было напечатано в легальной прессе сколько-нибудь правдоподобных сведений <...> Эта секта наиболее организована, конспиративна и сильна»,— зачитывал Ленин на II съезде РСДРП 1903 года в Лондоне доклад «Раскол и сектантство в России», написанный Владимиром Бонч-Бруевичем. Учение хлыстов впитало в себя многое из «христианского коммунизма», читал социал-демократам Ленин, а именно уничтожение частной собственности и буржуазного института семьи. В резолюции, написанной Лениным и принятой с поправками Плеханова, сектантство характеризуется как «одно из демократических течений, направленных против существующего порядка вещей», и съезд обращает «внимание всех членов партии» на работу с сектантами
Известен рассказ о встрече в 1890 году молодого Владимира Ульянова с двумя сектантами из тех, кого так много было в Поволжье. Между собеседниками оказалось много общего — стремление «перекроить жизнь», сплотить людей «в единую братскую семью» и устроить «рай на земле». Будущий вождь реагировал с увлечением: «вот опять интереснейший отрывок жизни <...> Эти силы необходимо объединить и направить к общей цели»,м. В своих ранних работах Ленин ссылался на рост сектантства, считая его «выступлением политического протеста 5*
100
Глава 2
под религиозной оболочкой»12’. От Бонч-Бруевича он требовал «всякие сведения о преследовании сектантов» и предлагал рассылать сектантам «Искру» 126. Тот докладывал в 1903; «Сектанты охотно брали и читали революционную социалистическую литературу и распространяли ее. Отзывы о литературе были в общем весьма благоприятны» Разные секты участвовали в доставке «Искры» через Румынию в Россию12’.
Бонч-Бруевич видел тогда русскую историю так:
«из недр порабощенного народа вот уже девять веков почти беспрестанно выступают <...> народные революционеры» 1Ю, которые «идут своей широкой, демократи-‘ ческой дорогой к идеалу полного социального равенст-? ва и человеческой свободы» «С политической точки зрения хлысты потому заслуживают нашего внимания, - что являются страстными ненавистниками всего, что исходит от <...> правительства <...> Я убежден, что при тактичном сближении революционеров с хлыстами мы можем приобрести там очень много друзей» Он приво-* дит письмо, рассказывающее о контакте социал-демократа с сектантами: «Сектанты нашему товарищу очень понравились. Он ими прямо очарован и говорит, что совсем иначе представлял себе русских сектантов <...> Они удивительно терпимы и находят, что революция в России неизбежна и чем скорее она произойдет, тем лучше <...> Сектанты и их движение громадный плюс русскому революционному движению» В этом — ключ к аграрной политике партии: путь социал-демократов в деревню лежит через давно существующие там «прекрасные сектантские организации»,и.
Хлысты для Бонч-Бруевича — «секта наиболее воинственная по своим воззрениям, наиболее сплоченная и организованная». Романтизация хлыстовства в его ранних статьях, пожалуй, являлась беспрецедентной; даже самые увлеченные тексты Афанасия Щапова о расколе и самые вдохновенные речи Блока о сектантах уступают этим статьям Бонч-Бруевича. «Хлыстовская тайная организация, охватившая огромные массы деревень и хуто
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 101
ров юга и средней части России, распространяется bee сильней и сильней». «Хлыстовские пророки — это народные трибуны, прирожденные ораторы, подвижные и энергичные, главные руководители всей пропаганды». Он рассказывает о хлыстовских христах точно теми же словами, которыми вскоре будут рассказывать о большевистских вождях: «такой „пророк" своим простым, понятным, остроумным словом всегда сумеет ответить запросам массы, всегда сумеет влить в ее недра достаточно бодрости, подкрепить во время несчастий, поднять малодушных и заставить всех и все поверить, что приближается время „суда Божия"». Ссылаясь на «достаточное количество точных данных», Бонч-Бруевич характеризует хлыстовских пророков как талантливых людей с «наиболее развитой психикой», которые «вполне заслуженно пользуются огромным влиянием на тысячи своих „братьев"» 134.
По мнению будущего управделами Совнаркома, хлысты ждали великого «„примирителя" — человекаУс могучей волей, настоящего второго Христа», который объединит все их общины. Первой попыткой такого рода стала деятельность Кондратия Малеванного. Но, несмотря на его «огромный талант», властям удалось затушить поднятый им «народный пожар» (все это формулы Бонч-Бруевича), а самого пророка посадить в сумасшедший дом. Об этой истории рассказывал и Блок (5/216), и Николай Евреинов, который считал Малеванного учителем Распутина Бонч-Бруевич же писал о другом ученике Малеванного, «типичном — но не из крупных — хлыстовском агитаторе» Моисее Тодосиенко, который в экстазе пытался разгромить церковь во время богослужения; остановленный православными, он был осужден на 15 лет каторги. Бонч-Бруевич говорит даже о сходстве тактики сектантов и социалистов; но сетует, что все же слишком мало революционной энергии накопилось пока в деревне,36. Личный друг и многолетний сотрудник
102
Глава 2
Ленина искренне верит (я пропускаю его вдохновенные эпитеты): стоит развернуться социалистической пропаганде среди сектантов — «и эта народная среда тронется, широко и глубоко, и <...> под красным знаменем социализма будут стоять новые <...> ряды смелых <...> борцов за новый мир» *57.
«Сектанты! Время свободы недалеко, оно приближается»,— обращался Бонч-Бруевич со страниц «Рассвета», созданного II съездом пропагандистского листка для распространения среди сектантов,и. Газета, по-видимому, не пользовалась поддержкой со стороны партийной верхушки, и известные в партии литераторы в ней не участвовали. «Кое-что все-таки сделано: связи среди сектантов расширяются <...> Считаю закрытие „Рассвета" преждевременным и предлагаю продолжата/опыт»,— говорил Ленин на заседании Совета РСДРП в июне 1904 года w. Совет тем не менее постановил газету закрыть, что произошло только к концу года. Интересна эта особая позиция Ленина в вопросе, который, вероятно, казался ему важным и близким. Бонч-Бруевич рассказывал, что Ленин прочитывал все номера «Рассвета» и говорил, что в нем всем надо сотрудничать м0.
И после революции часть большевиков, поддерживаемая в этом левыми эсерами, все продолжала надеяться на сотрудничество с сектантами. Согласно Декрету Совнаркома от 4 января 1919 года, они освобождались от воинской обязанности по религиозным убеждениям. .6 октября 1921 года Наркомзем обнародовал обращение «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и заграницей» ,41. Всех их, включая и отдельно упомянутых хлыстов, призывали выйти из подполья и обещали дать землю. Ясно, что эти решения никогда не выполнялись, но и тайные секты, если они еще были в России, из конспирации выходить не торопились. С другой стороны, увлекаться сектантами коммунистам не возбранялось. Во всяком случае, Бонч-Бруевич мирно закончил свои дни
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела ЮЗ
директором академического Музея истории религии и атеизма.
А во времена совместной работы с Бонч-Бруевичем в Кремле Ленин все продолжал восторгаться:
Владимир Ильич очень интересовался рукописями сектантов, которые я собирал <...> Особенно заинтересовали его философские сочинения. Как-то раз, когда он особенно углубился в их чтение <...> сказал мне: «Как это интересно. Ведь это создал простой народ <...> Ведь вот наши приват-доценты написали пропасть бездарных статей о всякой философской дребедени <...> вот эти рукописи, созданные самим народом, имеют во сто раз большее значение, чем все их писания» и2.
Удивительно, до чего буквально — и мыслью, и интонацией — совпадали в этой экзотической области слова Ленина и Блока.
Ночной и бредовой мотив
В прозе 1918 года Блок развивал тот же метафорический ряд, что и в своих прежних статьях-докладах на Религиозно-философском обществе (потому он и предоставил эти доклады в 1918 году для новой публикации в той же левоэсеровской газете, в которой печатались «Двенадцать» и «Интеллигенция и революция»), В событиях 1917 года Блок слышит тот самый гул, о котором говорил в 1908. Тогда этот «гул» сравнивался с «чудным звоном» колокольчика гоголевской тройки, но быстро, «с каждым годом» возрастал (5/328), чтобы стать «грозным и оглушительным» десять лет спустя (6/12). Тот же гул — теперь уже «шум слитный» — поэт слышал еще годом позже, когда писал «Двенадцать» (3/474). «Гул этот все равно всегда — о великом» (6/12). Раньше предчувствуемая катастрофа сравнивалась с бешеной тройкой, приближающейся грозой, вулканическим извержением;
104
Глава 2
теперь революция сравнивается с бурным потоком, грозовым вихрем, снежным бураном. Именно те смутные движения, которые Блок угадывал в потаенной сектантской стихии, те неясные опасности, которыми грозил он России, цитируя Клюева и хваля Пимена Карпова,— теперь на его глазах «разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком» (6/12). Блок был уверен в преемственности событий; они происходят от «замыслов, искони таящихся в человеческой душе, в душе народной». Революция реализует давние «предчувствия и предвестия», которых достаточно имели «русские художники», как и народ в его «самых глубоких мечтах» (6/13).
«Один из основных мотивов всякой революции — мотив о возвращении к природе; этот мотив всегда перетолковывается ложно <...> мотив этот — ночной и бредовой мотив»,— со знанием дела писал Блок (6/103) ,45. Но, приветствуя Октябрьский переворот статьей «Интеллигенция и революция», полной сбывающихся апокалиптических чаяний, Блок был дальше всего от природы, ночи и бреда: «Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (6/12). Лишь новая культура, еще сильнее старой в своем тотальном контроле, может сделать все это с человеческой природой.
Еще боясь и сомневаясь, Блок говорил на Религиознофилософском обществе в 1908 году: «и неверующий бросается к народу, ищет в нем жизненных сил <...> бросается и наталкивается на усмешку и молчание, на презрение <...> а может быть, на нечто еще более страшное и неожиданное» (5/327). С тех пор произошла революция, и бояться больше было нечего. Теперь, в 1918, «недоступная черта» между неверующей интеллигенцией и верующим народом пройдена. Большевизм, уверен Блок, не о политике, а о мистике. Как раз тогда, когда он писал свою лекцию о «римском большевике», он говорил Евгению Замятину: «Большевизма и революции — нет ни в Москве, ни в
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 105
Петербурге. Большевизм — настоящий, русский, набожный — где-то в глуши России, может быть, в деревне»,44. Примерно это же Блок, вероятно, имел в виду, когда писал матери еще до октябрьского переворота: «русский большевизм <...> насыщен и перенасыщен чужим самому себе, и всякой вообще политике» 14’. В чем могла состоять для Блока эта вожделенная — не политическая, а религиозная — утопия? Во всяком случае, уже не в той крестьянской вере, которой он увлекался несколько лет назад, которую ассоциировал более всего с Клюевым и о которой теперь писал как о «тяжелом русском духе», с которым «нельзя лететь» (6/342).
Чтобы из Катилины сделать большевика, его надо оскопить. Это русские сектанты-скопцы верили в то, что кастрация ведет к тотальному перерождению человека, делает его легким и прекрасным, как дева, сильным и возвышенным, как бог. Чтобы отречься от старого мира, надо оскопиться — буквально или хотя бы «духовно». Оскопленный развратник становится народным героем, «бледным предвестником нового мира» (6/79), подобием и воплощением самого Христа...
Ход метафорической мысли Блока оживает в контексте именно скопческих верований. История Аттиса немедленно попала в этот контекст, как только стала звучать по-русски. Константин Кутепов в книге «Секты хлыстов и скопцов» рассказывал о мифологическом Аттисе как об одном из предшественников русского скопчества 146 Трудным языком прозы, в примечании к своему переводу «Аттиса» Катулла, Фет пояснял актуальность стихотворения таю «опыт показывает нам, что люди <...> доходят в своей ненависти к Венере тоже до крайности, заставляющей и наших скопцов находить величайшую отраду в умножении прозелитов» ,47. Православные миссионеры и близкие к ним исследователи считали скопцов сектой с наиболее радикальными политическими взглядами, противопоставляя их хлыстам как людям аполитичным148 Впрочем, Мельников-Печерский, рабо
106
Глава 2
ты которого о сектантстве Блок безусловно знал149, считал, что скопцы ничем не отличаются от хлыстов, кроме хирургической операции1,0
Позор Белинскому! Г г . 1
В одной статье 1918 года Блок писал о революции.-«ветер для этой бури сеяла <...> русская мятежная душа в лице Бакунина», с его «пламенной верой в мировой пожар» (6/22). В этих фразах закладываются основные символы и «Двенадцати» («мировой пожар раздуем»), и «Катилины» («сеять в мире ветер»). Бакунин — русская душа — здесь довольно откровенно, хотя и с оговорками, противопоставлялся Марксу. И в более широком смысле, вся риторика государства в «Катилине», как и поэзия разгула в «Двенадцати», основаны на текстах и подвигах Бакунина. Это его огонь, сжигая государство, очищает природную сущность человека.
Поклонение Бакунину — одно из тех, которые Блок пронес через всю жизнь. «Займем огня у Бакунина!» — звал Блок в одной из первых своих статей (5/34); «о Бакунине можно писать сказку»,— писал он и, будто начиная . ее, считал Бакунина схожим с Владимиром Соловьевым. Статья о Бакунине 1906 года кончалась апологетической цитатой из Белинского, у которого Блок находил тогда подтверждение своих оценок.
Маркса Блок, раз упомянув, оставляет в покое. Зато множество раз в своих поздних статьях Блок возвращался к Белинскому. Фактически отношение к Белинскому, и именно в связи с Бакуниным, меняется на противоположное. Формировавшаяся на глазах Блока советская традиция, игнорируя и символизм, и даже народничество, возвращалась к Белинскому и литературным идеалам 1860-х годов. Не жалея сильных слов, Блок пытался бороться с подменой контекста. «Позор Белинскому!» (6/28) — кричал он, но эпигоны Белинского не замечали
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 107
ругани. «Шестидесятничество и есть ведь одичание; только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле» (6/141),— пытался он теоретизировать в старом духе Религиозно-философских собраний, но никто не понимал уже его идею природы. «Русская интеллигенция покатилась вниз по лестнице своих российских западнических надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больнее — о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917—1918 годов» (6/28),—говорил он с полной ясностью, но и этого никто не цитировал.
Из писем и других документов Белинского, опубликованных в 1910-1Х годах (впервые близким Блоку Р. Ивановым-Разумником, а потом в статьях и книге А. А. Корнилова которые Блок знал ”2), выяснилось, что Белинский третировал Бакунина особым способом. В 1840 году на квартире у Белинского произошла ссора между Бакуниным и Михаилом Катковым, которая, как полагал Белинский, должна была закончиться дуэлью, если бы от нее не уклонился Бакунин. Катков тогда назвал Бакунина подлецом и скопцом1,3 Сам Белинский, рассказывая об этой истории, трактовал отказ Бакунина драться в столь же сильных, хотя и противоречивых выражениях, как написанный «онанистическим и скопече-ским <sic!> слогом» 1и. И наконец, в очередной раз влюбившись, Белинский жаловался другу на свою натуру в следующих выражениях: «зачем я не скопец от природы, как М<ихаил> Б<акунин>»
Историки1,6 и сегодня спорят о том, был или не был импотентом вождь мирового анархизма; жена Бакунина родила трех детей от одного из его итальянских сотрудников. Впрочем, в данном контексте это не особенно важно. Еще до столкновения с Бакуниным, как бы программируя жизненное событие в тексте, Белинский конструировал свое романтическое Я в противопоставлении воображаемому оппоненту, сочетавшему религиозность с асексуальностью: «я скорее решусь стремглав
108
Глава 2 /
броситься в бездну порока и разврата <...> нежели, затоптав свое чувство и разум ногами в грязь, быть добрым квакером, пошлым резонером, пуританином, раскольником, добрым по расчету, честным по эгоизму <„.> Лучше быть падшим ангелом, т. е. дьяволом, нежели невинною, безгрешною, но холодною и слизистою лягушкою» ”7. Так подготавливалась та оппозиция демона — и скопца, героя готического романа — и персонажа сектантских историй, которая станет играть ключевую роль в духовных метаморфозах Блока.
Белинский, однако, в терминах своего времени говорил не об импотенции, а о скопчестве. Независимо от того, видел ли Белинский разницу между значениями этих понятий, читатели его переписки в 1910-х годах, безусловно, их различали. Блоку же обвинения Белинского могли казаться вдвойне несправедливыми. С точки зрения Блока, обвинения Белинского не просто бесчестили любимого героя, раскрывая его секреты, но грубо обвиняли в том, что вообще не могло являться виной. Они использовали в качестве оскорбления слово, которое вовсе не являлось оскорбительным. Скопцы — самоназвание одной из русских сект; как и к другим сектантам, Блок относился к ним с глубочайшим уважением. Сектанты — это народ, говорил Блок в своих речах и статьях. Пытаясь оскорбить Бакунина, Белинский оскорбил сам народ.
Ответа не было из чана 1 '
".1
В революции есть дух музыки, и даже более того: «она сродни природе» (6/12). Как явление природы, а не культуры, революция наделяется безусловной ценностью, самой высокой, какая только есть в мире Блока. Михаил Пришвин считал и Блока, и самого себя «романтиками»; при этом романтизм, в его понимании, «есть высшее выражение благородства природы». Но Пришвин считал себя более чувствительным к злу; Блок же, по его мне
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 109
нию, был «глуповат и слеп в отношении к дьяволу» 1’* так, намеренно непонятно, поздний Пришвин намекал на восторженное принятие Блоком большевистской революции. Возможно, это и впрямь дьявол сыграл философский трюк, заставив поэта совершить логическую ошибку. Преображение человека, каких бы природных основ его жизни оно ни касалось, является делом цивилизации; оно может быть произведено только культурными инструментами и только в умственных целях; и потому изменение природы человека значит лишь еще более глубокое проникновение в него культуры. Рационализм и «культурность» большевистского проекта входили в неразрешимый конфликт с блоковской мистикой и поклонением природе; Серебряный век был несовместим с веком Железным, пришествие которого готовил. Троцкий, например, видел все это с подавляющей ясностью1”. Блок не хотел признавать конфликта и потому оказывался один. Ему не сочувствовали даже те, кто совсем недавно разделял его увлечение сектами.
«Блок для меня — это человек, живущий „в духе", редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами» 16°,— вспоминал Пришвин. Здесь интересно как соотнесение сектантов с «высшими натурами» и используемое Пришвиным хлыстовское выражение «в духе», так и признание в «неловкости» общения. Политические и человеческие позиции Пришвина и Блока, в 1910-х годах довольно близкие резко разошлись во время большевистской революции.
В феврале 1918 года Пришвин с яростью отреагировал на статью «Интеллигенция и революция» в фельетоне под названием «Большевик из Балаганчика», который был опубликован в газете правых эсеров «Воля страны» 1<а. Статья Пришвина возвращает блоковское видение революции в религиозно-этический, а точнее — в хлыстовский контекст. «Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я — как любопытный, он — как
no
Глава 2
скучающий»,— рассказывает Пришвин. По его словам, петербургские хлысты приглашали Блока сделаться их вождем: «Хлысты говорили: „Наш чан кипит, бросьтесь в чан, умрите и воскресните вождем". Блок спрашивал: „А моя личность?" Ответа не было из чана»,6Э. Пришвин одобряет этот отказ 1908 года; поэт, и вообще интеллигент, должен сохранять себя как личность. Не согласен Пришвин с новым блоковским призывом 1918 года, в котором чувствует легкомыслие и фальшь, ведущие к самоуничтожению:
Чан кипит и будет кипеть до конца. Идите же, кто близок этой стихии, танцевать на ее бал-маскарад, а кому это противно — сидите в тюрьме. Только не подходите к чану с барским чувством: подумать и, если что... - броситься в чан. С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции <„.> Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, ' что для слияния с тем, что он называет «пролетарием», нужно последнее отдать, наше Слово <...>
«Также не будет ему ответа из нынещнего революционного чана, потому что там варится Бессловесное. Эта видимость Бессловесного сейчас танцует, а под этим вся беда наша русская, какой Блок не знает, не испытал» ,64. Пришвин здесь останавливается, сам боится, по его выражению, «засмыслиться». Но статья его кончается страшным предупреждением интеллектуалу, на котором тоже лежит ответственность за происходящее: «В конце концов на Большом Суде простится Бессловесны <sic.— А.Э>, оно очистится и предстанет в чистых ризах своей родины, но у тех, кто владеет Словом — спросят ответ огненный и слово скучающего барина там не примется».
Даже в январе 1953 года Пришвин продолжал возвращаться к этой ключевой ситуации, которая на этот раз описывается им как диалог Легкобытова и Блока: «Поймите, Александр Александрович, что мы здесь представляем из себя кипящий чан, в котором все мы со своими
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 111
штанами и юбками сварились в единое существо. Бросьтесь вы в наш чан, и мы воскресим вас вождем народа. Блок ответил, что <...> он не может „бросить" себя»16’.
Итак, в момент главного исторического выбора Пришвин интерпретирует статью Блока как прямое развитие их давних, и общих, хлыстовских интересов. Разговор на этом языке казался Пришвину самым понятным способом объяснить, что такое революция. Революция есть хлыстовский чан, в нем варится Бессловесное. Каждый должен сделать выбор: либо броситься в чан и молча танцевать там, либо бороться против, хотя бы Словом. В 1918 году Пришвин видел себя на стороне Слова, а Блока упрекал за заигрыванье с революцией, стихией, Бессловесным.
’ • - ь*3
Двойной урок '
Пришвин писал «Большевик из Балаганчика» только что отсидев в тюрьме, куда он попал прямо из редакции газеты правых эсеров. Он так и писал: «Если бы Блок пришел со своей статьей не в „Знамя труда", а в „Волю народа" — ему бы пришлось эту музыку слушать из тюрьмы. Вот если бы он из тюрьмы приглашал — это было бы совсем другое».
Блоку, однако, пришлось отсидеть в ЧК немногим позже Пришвина. Поэт был арестован за участие в работе Вольной Философской Академии. Он провел там ночь на одних нарах с Ароном Штейнбергом, посаженным по тому же поводу. В обстановке камеры, из которой по списку забирали людей на расстрел, Блок, по словам Штейнберга, стал «разговорчивее и, я бы сказал, менее замкнутым, более заинтересованным в том, чтобы понять самого себя». Соседи говорили о разном, но более всего о Распутине. Блок «подробно» рассказывал Штейнбергу, «до какой степени вырубовцы, или вернее распу-
112
Глава 2
тинцы, были активнее и приятнее, чем царские бюрократы». Ключевую роль здесь играли не политические соображения, а особое отношение к Распутину и тому влиянию, которое он оказывал на людей: «ему бросилось в глаза, что общение с Распутиным <...> отражалось каким-то необъяснимым образом на личности того, кто общался с ним». Противников же Распутина Блок, посреди разговора сосредоточенно уничтожавший клопов на тюремной стене, презрительно называл «клопиными шкурками» 166. Блок обсуждал с соседом по нарам и свое отношение к евреям, о котором мало кто знал. Штейнберг, будущий деятель Всемирного Еврейского Конгресса, был шокирован. Для него антисемитизм Блока был так же мало понятен, как его тяготение к одиозной фигуре Распу-#. тина: «Это целый мир предрассудков. То же самое примерно, когда он отдавал предпочтение распутинцам» *67. В своей речи в Вольфиле после смерти Блока Штейнберг упоминал, что симпатии Блока принадлежали Распутину и его сторонникам при дворе, а не тем, кто пытался с ними бороться По словам самого Блока, примерно то же сочетание тем — «о иудаизме, Протопопове, германофильстве» — преобладало и в его поздних разговорах с Леонидом Андреевым (6/135).
Столичная интеллигенция узнала о Распутине, по-видимому, в 1907 году; по крайней мере, тогда о нем впервые услышал Сергей Булгаков, бывший депутатом Думы 16’. Для людей, окружавших Блока, Распутин был достаточно близкой реальностью в течение многих лет. Они давали ему полярные, но неизменно крайние характеристики... Евгений Иванов в разговоре с Розановым называл Распутина Ильей Муромцем, а Розанов, соглашаясь, добавлял: «Гриша — гениальный мужик Он нисколько не хлыст» 17°. Мать Блока, скорее наоборот, считала Распутина не то чертом, не то антихристом; в марте 1916 года она писала подруге: «Россия совсем никем не управляется, Маня. Вы ведь не знаете всей подноготной, а
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 113
я знаю. А знаете, что бывает на пустом месте? Кто там возникает, знаете? Вот он и управляет» ,71. По словам Бекетовой, «загадочная и страшная фигура Распутина» тревожила мать Блока еще до начала войны. Считая именно Распутина «главным виновником всех наших бед», она с раздражением говорила приятельнице, сообщившей ей о гибели Распутина без должного трепета: «Да ты понимаешь ли, кого убили?»172. Такое восприятие было скорее общепринятым, чем оригинальным. В 1916 году статс-секретарь МИДа говорил французскому послу в России: «я тоже начинаю верить, что Распутин антихрист»173. Сергей Булгаков устами своих героев рассказывал, что «давно и неотразимо» чувствовал действующий через Распутина мистический заговор, шабаш бесовский, черное провидение, соловьевского антихриста174.
Иной была точка зрения Клюева, который долгое время был едва ли не высшим авторитетом для Блока в моральных и религиозных вопросах. «Меня Распутиным назвали»,— писал Клюев. Для поэта это отнюдь не оскорбление:
Увы, для паюсных умишек Невнятен Огненный Талмуд, Что миллионы чарых Гришек ;
За мной в поэзию идут.
И само поэтическое слово, высшая ценность для поэта, оказывается производным от Распутина и его культуры («распутинской сноровкой, Как дитя, взлелеянное слово»), или даже воплощается в него физически («В испепеляющих сапогах Перед троном плясало Слово»)176. Чае-мое вселенское царство, в котором Талмуд будет неотличим от Апокалипсиса, Заратустра от Есенина, а Ленин от Распутина, уже близко:
С Зороастром сядет Есенин — ' ;
Рязанской земли жених, И возлюбит грозовый Ленин Пестрядинный клюевский стих.177
6—809
114
Глава 2
В 1916 году Клюев подарил Блоку свой сборник «Мирские думы». Дарственная надпись на книге содержала следующее:
Головой лягать — мух гонять.
Миром думать — смерть попрать.
Из бесед со старцем Григорием Распутиным
3 августа 1918 года Блок надписал на экземпляре своих «Стихов о России», давно подаренном матери, две строфы Клюева со своим комментарием17’. В них Ленин оказывается наследником раскольничьего вождя Андрея Денисова, игуменом нового всероссийского монастыря,-
Есть в Ленине керженский дух, Игуменский окрик в декретах, Как будто истока разрух
•-> Он ищет в «Поморских ответах».
Чтобы не было недоразумения, Блок поясняет матери: «исток» здесь надо понимать не как «источник», а как «исход». Иными словами, в архаике раскола Ленин ищет не источник русской разрухи, а, наоборот, ее исход, разрешение 180. Так думал Блок. Так, вероятно, думал и сам Клюев. Но и Николай Гумилев весной 1917 года написал восторженную эпитафию Распутину — стихотворение «Мужик». В темной глубине России «странные есть мужики». Один из них вышел оттуда с озорной песней, обворожил русскую царицу, был убит столичными людьми, и в смертный час предсказал будущее, которое придет по его следам и примет его формы;
В диком краю и убогои/ Много таких мужиков. Слышен по вашим дорогам Радостный гул их шагов. *У;
ЦТ» ' t' . •'S l
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 115
Поразительно "Чувствовать, что такое будущее желанно было и Гумилеву, одной из ближайших его жертв и ему, конечно, не последнему. Много лет спустя Марина Цветаева находила именно в этих стихах «Чувство Истории»: Гумилев, по ее словам, очарован Распутиным и революцией, стихи говорят о Распутине как революционере и о русской революции как его посмертной победе. И Цветаева не только соглашалась, но и, чтобы не оставить читателю пути для сомнений (может быть, речь идет об одних поэтических вольностях?), благодарила Гумилева «за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю» “2.
Операция не удалась
: В марте 1912 года Блок со слов своей сводной сестры
Ангелины узнает любопытные детали о внутрицерков-ном конфликте между Синодом, который поддерживал Распутина, и опальным епископом Гермогеном, который поддерживал смертного врага Распутина, иеромонаха Илиодора. Некая госпожа Сергеева, курсистка Женского педагогического института, упала в ноги царю, прося помиловать Гермогена, которому угрожала высылка. После ' этого она три часа провела в участке, а потом, скрываясь, •' жила у Ангелины. Та была согласна со своей подругой. > Блок передает их точку зрения так: «„преосвященный Гермоген" — подлинная церковь <...> Гермоген — вполне свят. Илиодор (,,отец“) меньше, но и он. Распутин — враг. Распутин — примыкает к хлыстам». В этих терминах они обсуждали и людей, более близких к Блоку. «С точки зрения г-жи Сергеевой, Мережковский — тонкое хлыстовство» (7/132).
На фоне конспективного стиля «Записных книжек» Блок отдает этим переживаниям Ангелины довольно много места, возвращаясь к ним вновь на следующий день. Сестра «в дело г-жи Сергеевой вовлечена <...> роко
6*
116
Глава 2
вой силою вещей». Это упрямство Ангелины «может быть действенным». Но «отсюда нельзя ждать ничего, кроме тихого сначала, а потом кровавого ужаса». И здесь симпатии Блока на стороне Распутина: ужас, тихий и кровавый, исходит от его противников, а не от Распутина и объединенного с ним, в глазах общих врагов, Мережковского. Это Гермоген, а не Распутин, пытается «опрокинуть тьму XVII столетия на молодой <.„> XX век» (7/133— 134)- Молодой век — это Распутин; дряхлеющее православие вместе с ненавистным государством безнадежно сопротивляются его приходу.
Новый Демон, «но только с русскою душой», Распутин вызывал у автора «Возмездия» множество неясных еще чувств. Через неделю после первого разговора с Ангелиной Блок снова обсуждает эту ситуацию, теперь с Ремизовым. Тот «сообщил еще много нового о Гермогене и Распутине — все больше выясняется; <.„> Гермоген (и Распутин) — действительно крупное и... бескорыстное» (7/136). Насколько можно понять, после разговора с Ремизовым Блок пришел к более сбалансированному пониманию ситуации вокруг Распутина. Позже, читая разоблачения Илиодора (Труфанова) под названием «Святой черт», Блок отмечает необычно сильную реакцию: «Ужасные мысли и усталость вечером и ночью (отчасти — от чтения мерзостей Илиодора)» (7/289).
Кульминация знаменитой интриги развивалась в связи с предполагаемым хлыстовством «старца». Архиепископ Антоний Волынский, известный своей борьбой с еретиками, писал с уверенностью: «Распутин — хлыст и участвует в радениях, как и братцы и иоанниты»,<ч. В 1911 году Николай, веривший в православие Распутина, поручил Думе расследовать обвинения в принадлежности старца к хлыстовской секте. Царю был представлен доклад, объемом которого он был «поражен» и обсуждать его отказался 1М. Дело чуть было не дошло до отставки Председателя Думы и ее досрочного роспуска. В 1912 году, после своей ссоры с Распутиным и последовавшей
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 117
за этим опалы, епископ Гермоген давал такие интервью газетам: «Я считаю главнейшими виновниками В. К. Саб-лера и известнейшего хлыста Григория Распутина, вреднейшего религиозного веросовратителя и насадителя в России новой хлыстовщины <...> Это опаснейший и, повторяю, яростный хлыст <...> Он свой разврат прикрывает кощунственно религиозностью»185. Сам Распутин отвечал в таких выражениях: «Вот говорят, что я хлыст. Какой же я хлыст. Упаси, Господи. В церковь хожу, признаю все догматы, молюсь <...> Какой же я хлыст. Клевещут, милый, на меня»186
В своей статье 1913 года «О „сибирском страннике"» Розанов уверял: «перед глазами России происходит не „анекдот", а история страшной серьезности <...> чем кончится его история — неисповедимо. Но она уже не коротка теперь, и будет еще очень длинна. Но только никто не должен на него смотреть, как <...> на неразоблаченного обманщика»187. Тогда Розанов сомневался в хлыстовстве Распутина и признавался в своем непонимании этой «потаенной истории». Позднее он помещал Распутина на самую вершину конструируемой им мировой фаллической мифологии: «Гришка среди женщин был Священный Апис, был Адонис, <...> Дионис». С гордостью рассказывая, как Распутин его однажды «испугался», Розанов считал себя «старшим» в общей «Распутинско-Аписово-Дионисовой-АООП’аевой теогонии, космогонии», в которой «все фалл и фалл»18я.
Со своей стороны, Гермоген g Илиодором действовали в соответствии с давней традицией: хлыста следовало превратить в скопца. «Гришка был приглашен к епископу Гермогену, не прерывавшему еще с ним отношений. Там на него набросились знаменитый Илиодор <...> и еще кто-то и, повалив, пытались оскопить его. Операция не удалась, так как Гришка вырвался. Гермоген после этого проклял Гришку, а Государю написал обличительное письмо»,— рассказывал хорошо осведомленный отец Григорий Шавельский, армейский протопресвитер189.
118
Глава 2
Оба, Гермоген и Илиодор, были сосланы; именно тогда одна из их поклонниц, госпожа Сергеева, нашла убежище у сводной сестры Блока. Илиодор в скандальном послании Синоду требовал «оградить Невесту Христову — Церковь русскую от насилия и поругания хлыстом Гришкой Распутиным» 19°. В ответ Синод лишил Илиодо-ра его иерейского сана. Тогда он попытался сблизиться с большевиками через Горького и Бонч-Бруевича собирая гем временем группу обиженных Распутиным женщин для новой попытки кастрирования старца ”2. В конце концов одна из этих женщин, Хиона Гусева, пырнула его ножом. Она попала в живот... Распутин выжил, девушка была помещена в дом умалишенных. Газеты сообщали, что до того, как Гусева связалась с Илиодором, она состояла в общине охтенской богородицы Дарьи Смирновой
Узнав о покушении на старца из газет, Блок был встревожен. «Убит»,— записывал он 2 июля 1914 года; «нет, жив. Узнали после» 1!М. В «Русском слове», наряду с сообщениями о покушении, появился материал приятеля Блока, Аркадия Руманова, написанный «по личным впечатлениям». «Хорошо о нем Руманов нйписал»,— прочтя «Русское слово», записывал Блок
Распутин напомнил Руманову «распространенный тип сектанта, человека ищущего». Это был «малограмотный сибирский мужичок, которому, по воле судьбы, довелось сыграть совершенно исключительную, сказочную роль». Глаза «почти гипнотизирующей силы»; речь, которую «почти невозможно передать», потому что это была «бессвязная, полубредовая нить самых неожиданных соединений»... В целом же Распутин описывался позитивно и едва ли не с восторгом, в котором легко различить эротические ноты: «он был легкий, веселый, приподнятый»; «чувствовалась истинная страсть в овладении душой собеседника»; «не отрывая своих изумительных глаз, он все время как бы гладил и ощупывал того, с кем говорил». Особенно интересно, что Руманов видел в Распутине ху
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 119
дожника: «несколько театральное впечатление», «чувствовался большой артист в смысле уловления души человеческой» 196
Тогда же в газете «День» появляется любопытная статья Бонч-Бруевича. Совершившееся только что покушение Бонч-Бруевич называл «трагической развязкой», выражая уверенность, что злоба и зависть, порождаемые этой фигурой, на этом успокоятся (как и Блок, Бонч-Бруевич считал в этот день Распутина убитым). Много мне приходилось видеть сектантов, писал автор, Распутин ни на кого не похож. Бонч-Бруевич видел в нем «бескорыстного ходатая» за народ. «Для народушка жить нужно, о нем помыслить»,— повторял Распутин. Будущий управделами Совнаркома воспринимал нынешнего царского фаворита как «человека, на которого пал жребий идти и идти, куда-то все дальше и все выше, и представительствовать за „крестьянский мир честной"». «Несомненно привлекательные черты характера» Распутина (о каких чертах идет речь, Бонч-Бруевич, к сожалению, не уточнял) вполне объясняли его популярность в высших сферах. Посетив Бонч-Бруевича в его кабинете, Распутин стал рассматривать висевшие портреты; один из них привлек особенное внимание старца. «Вот за кем народ полками идти должен»,— со свойственной ему проницательностью говорил Распутин и просил познакомить его с ним. Это был портрет Маркса197.
Мы не знаем, что имели в виду Гермоген и Илиодор в своем проекте оскопления старца: одну лишь чувствительную месть бывшему союзнику или насильственное повторение сакрального действия, впервые совершенного некогда другим хлыстом, основателем русского скопчества Кондратием Селивановым. Оставшийся не-оскопленным, Распутин продолжал быть Катилиной до метаморфозы — баловнем женщин, развратным и корыстным любимцем аристократии, человеком с диким и неприятным взглядом. Может, Распутин и вправду мог бы стать Катилиной-революционером, если бы его, Рас-
120
Глава 2
путина, оскопили. И это — рискованным образом соединяя идеи Катулла, Блока и Иллиодора — освободило бы сил)' Распутина для того, чтобы сделать его вождем революции, творцом нового мира... < ъ. .
Демоническая точка зрения ‘
Судя по письмам и дневникам Блока, в дни своей работы в Чрезвычайной комиссии Временного правительства он более всего интересуется именно Распутиным. Допросы Вырубовой, Лохтиной, Протопопова, Хвостова, Белецкого давали ему более чем достаточную пищу для размышлений. Русскую историю XX века надо писать «как увлекательный роман <...> в духе более всего Достоевского»,— пишет он матери (8/493). И тут же делится с ней идеей о том, что лишь «демоническая» точка зрения имеет вес и власть в понимании этих событий (8/492). В этом письме матери Блок пытался представить некую личную методологию демонизма, но преуспел мало: демонизм оказывается здесь лишь философским оправданием амбивалентности. 26 июня он записывает-. «И ночью и утром я читаю интереснейший допрос Хвостова А. Н. (кружки, Распутин и пр.)» (7/269). 14 июля он продолжает работать с Хвостовым: «противно и интересно вместе; вот придворные помои» (7/283). 4 августа перечитывает стенограммы допроса Хвостова: «увлекательно и гнусно» (7/295). Судя по дневнику Блока, его собеседники говорят с ним именно о Распутине, разделяя его эмоциональную вовлеченность. В. М. Руднев, «самый талантливый» из следователей Чрезвычайной комиссии, рассказывал Блоку о Распутине «очень просто и глубоко» (8/500) 198 Белецкий, этот профессионал сыска, в разговоре с Блоком неожиданно «всплакнул: Распутин ночью снится» (7/259).
На фоне погружения в работу Чрезвычайной комиссии у самого Блока созревает чувство, поэтическое выра
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 121
жение которого мы находим в дневниковой записи от 13 июля 1917 года, как раз во время работы с допросами Хвостова, Белецкого и прочих, рассказывавших о Распутине: «Ночь, как мышь <...> глаза мои как у кошки, сидит во мне Гришка, и жить люблю, а не умею, и — когда же старость, и много, много, а за всем — Люба» (7/281) 199. Сочетание старца с женой в этой лирической, наполненной восторженным принятием мира записи особенно характерно. Текст начинается деловой заметкой: «Кончил третий допрос Маклакова» и кончается колыбельной, пропетой жене: «Баюшки, Люба, баюшки, Люба, господь с тобой, Люба, Люба». Посередине, как раз в точке перехода от дня к ночи, от дела — к любви, и оказалось чувство, выраженное словами: «сидит во мне Гришка»... В своей интонации эти слова не содержат и тени протеста, а наоборот, спокойное и радостное признание факта. В этой лирической записи видно, как далеко зашла у Блока идентификация с его героем,— процесс, грозящий любому историку.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что подлинным героем Блока в его истории русской революции становится Распутин. «Распутин — все, Распутин — всюду»,— писал Блок, характеризуя прошедшие годы (6/10). Сама его историческая концепция в значительной степени основана на противопоставлении Распутина всем тем, кого Блок в беседе со Штейнбергом называл «клопиными шкурками». «Мистический круг», руководимый Распутиным, противопоставляется «придворной рвани». «Распутин — пропасти, а Штюрмер (много чести) — плоский выгон <...> Только покойный Витте был если не горой, то возвышенностью; с его времени в правительстве этого больше не встречалось: ничего „высокого", все „плоско", а рядом — глубокая трещина (Распутин), куда все и проваливалось» (7/262). Эта структурная ось — Распутин как могучая сила и глубокая пропасть, с одной стороны, и мелкие плоские бюрократы, с другой стороны,— организует все пространство блоковского исторического
122
Глава 2
дискурса. Блок старается придать своим выводам форму академическую: если круг Распутина и царской семьи «был проникнут своеобразным миросозерцанием, которое хоть по временам давало возможность взглянуть в лицо жизни»,— то «круги бюрократические <...> давно были лишены какого бы то ни было миросозерцания»2<ю. Набрасывая список важнейших явлений «космической революции», Блок помещает Распутина в один ряд с Ко-миссаржевской, Зинаидой Гиппиус, Вячеславом Ивановым... «Распутин (рядом — скука)»,— кодирует Блок все то же противопоставление своего героя государству (7/301).
Большевизм гуляет, а дождя нет
Понимание Блоком современного ему и столь его захватывавшего исторического процесса систематическим образом воплощено в его книге «Последние дни императорской власти». Книга основана на документах, собранных Чрезвычайной комиссией Временного правительства, членом которой Блок состоял. И все же, как писал Пришвин, «эта книга все-таки вытекает из Блока» 2(”. Три ее части, однако, выполнены в разной манере. От первой части «Состояние власти» к третьей части «Переворот» Блок заметно теряет характерную для него определенность оценок, эмоциональную выразительность характеристик. Если первая часть представляет собой глубоко субъективный и потому интересный портрет эпохи, то остальные две лишь хроникально излагают последовательность событий.
Вся первая часть посвящена личности Распутина, характеристике его влияния на события и его отношениям с другими действующими лицами. Слова Распутина цитируются сразу же, на второй странице книги, в авторитетной роли свидетеля о личности царя, мнением кото
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 123
рого подтверждается собственное мнение автора: «Император Николай II, упрямый, но безвольный <...> Распутин говорил, что у него „внутри недостает"» (6/189)-Управляла Россией императрица, «которую иные находили умной и блестящей»; сам же Блок признает за ней «твердый характер»,— чему, впрочем, не мешает, что она была «всецело под влиянием Распутина». Блок глухо упоминает то, что он называет «большим мистическим настроением», охватившим царскую семью.
В кавычках перечислив несколько ярлыков, которые навешивались на Распутина — мерзавец, деляга, комедиант, немецкий шпион — Блок переходит к авторской характеристике, наполненной своеобразным сочувствием и даже уважением 202: «упрямый, неискренний, скрытный человек, который не забывал обид и мстил жестоко и который некогда учился у магнетизера». Этот портрет намеренно лишен мистики, что подчеркивается последней деталью, о которой Блоку сообщил Белецкий. И все же за ним кроется нечто необыкновенное, что Блок отнюдь не хочет смягчать: «Область влияния этого человека, каков бы он ни был, была громадна; жизнь его протекала в исключительной атмосфере истерического поклонения и непреходящей ненависти; на него молились, его искали уничтожить». Белецкий оценивал значение Распутина точно так же: «это была колоссальная фигура, чувствовавшая и понимавшая свое значение»2О3. Другие действующие лица исторической драмы, даже и самые интересные лично Блоку, характеризуются им в связи с этой великанской фигурой: «Распутин швырнул Протопопова, как мяч, под ноги растерянным истуканам» (6/446). В целом Блок характеризует Распутина, «каков бы он ни был», как главный фактор истории, которую он пишет: «Недюжинность распутного мужика <...> сказалась, пожалуй, более всего в том, что пуля, его прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии». Блок не оригинален, его вывод практически совпадает с тем, что говорил
124
Глава 2
царю сам Распутин: «моя смерть будет и твоей смертью» 2М.
Участие в работе Чрезвычайной комиссии приводит Блока к итоговым формулировкам своей философской и политической позиции. «Желто-бурые клубы, за которыми — тление и горение <.„> стелются в миллионах душ,— пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и Бог не посылает его!» — записывает Блок 6 августа 1917 года (7/296—297). Это рассуждение, в котором «русский большевизм» трактуется как обозначение самых дурных качеств русской души, кончается молитвой архаичному, страшному Богу грозы, засухи и огня. «Грозный Лик твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами». Итак, огонь большевизма — Господне наказание за безволие и разврат.
На следующий день, «проснувшись», поэт продолжает запись; в утреннем свете ее акцент становится конструктивным: «И вот задача русской культуры — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну <...> ленивое тление <...> направить в распутинские углы души и там раздуть его в костер до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть».
Итак, задача культуры — раздуть огонь, в котором сгорает похоть. В душе есть такие утлы, тление в которых надо раздуть до неба; и углы эти — распутинские. В этот критический момент в сознании Блока синхронно пересекаются разные религиозные влияния, подготавливая трудный синтез, который найдет свою кульминацию в «Двенадцати». В рассуждении Блока просматривается и его собственная, порожденная многолетним интересом к расколу, мысль о внутреннем родстве между Разиным, Пугачевым и Распутиным; и всплывающая из народного опыта вера в огненного и сурового Бога-судию; и тради
Революция как кастрация: мистика сект и падитика тела 125
ционное для народничества понимание культуры как организующего начала народного бунта; и даже специфическое для фрейдизма понимание задач культуры как способа сублимации сексуальности (у Блока имеющее, конечно, совсем иные источники). В целом же вырисовывавшаяся позиция свободно переливалась из христианского социализма в политическое безумие.
30 июля 1917 года Блок записывает в дневнике «Знаменательнейшая „выноска" Булгакова (найти)». И продолжает, отчасти соглашаясь, а отчасти споря с Сергеем Булгаковым: «Булгаков упрощает (большевизм и Распутин)» (7/292). Скупой на цитаты и похвалы Блок для оценки заинтересовавшего его текста употребляет необычно сильный эпитет; и он не спорит с Булгаковым, но, отчасти соглашаясь, считает его позицию упрощением т. Для Блока большевизм, понятый — вспомним «Ка-тилину» — не как фракция, а как стихия,— связан с фигурой Распутина более сложными отношениями, чем те, которые видел Булгаков.
Блок имеет в виду только что опубликованную в «Русской мысли», а написанную непосредственно перед Февральской революцией, статью Булгакова «Человечность против человекобожия. Историческое оправдание англо-русского сближения»206. Согласно патриотической мысли философа, оба враждующих народа, русский и немецкий, поражены общей болезнью: «Между русской душой и германством происходит некоторый мистический роман, а общую благоприятственную для него почву — пусть это звучит парадоксально — образует хлыстовство». Какое отношение хлысты имеют к тому, что Булгаков называет германством? С одной стороны, немецкая мысль тем и отличается от английской, что заражена буйным мистицизмом, характерным и для русской души; по Булгакову, старая Германия Канта и Гегеля была «пленена хлыстовством». С другой стороны, в Германии русские ищут спасения от самих себя, от своего хлыстов
126
Глава 2
ства. «Какими угодно средствами — кантианством, научным методизмом, оккультной тренировкой, социал-демократией — но только спасите, спасите нас самих от русского соблазна — так с немой надеждой обращается русское хлыстовство к германству». Философ, конечно, понимает используемое им понятие несколько расширительно: «хлыстовство относится к изначальным возможностям и уклонам человеческого духа, и половая ор-гийность — лишь внешняя его черта».
Для Булгакова хлыстовство — финальный продукт обоготворения природы, человека и пола. Борясь с ним как с ересью, засоряющей русское православие, бывший депутат Думы, будущий священник не забывал и реальную политику. Распутин добивался сепаратного мира с немцами, который отказывались заключить и царское, и временное правительства и который в конце концов заключили большевики. Не исключено, что- выход России из войны по сценарию Распутина мог бы предотвратить революцию ; на фоне той некомпетентности, которая царила при дворе, здравый смысл Распутина вполне мог играть позитивную роль. Позже Распутина, но раньше многих своих современников необходимость мира понял и Блок (именно по этому вопросу разошедшийся с Мережковскими “*). Булгаков же, как и большая часть интеллигенции Серебряного века, ратовал за дальнейшее сближение с союзниками.
В той сноске, которая обратила на себя внимание Блока и была написана после Февраля, не без удивления читаем:
Post-Scriptum. Неслучайно, что Распутин, отравляя русскую власть хлыстовством, фактически являлся проводником германских влияний, ибо между распу-тинством и германизмом существует глубочайшая мистическая связь, как между двумя ответвлениями хлыстовства. И ныне это наглядно проявляется в мистическом наследии распутинства — «большевизме». Кровь Распутина, пролившаяся на русскую землю, зародила в ней
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 127
многоглавую гидру социально-политического хлыстовства <...> Хлыстовское человекобожие <...> потеряв точку опоры в распутинстве, возрождается в бушующей стихии революции — «большевизме». Последний есть в наших глазах <...> прежде всего, разновидность хлыстовства с его пьяной оргийностью <...> В роковой час истории в недрах души народной идет борьба светлых начал русского духа с исступленностью хлыстовского востока, находящемся в естественном союзе с хлыстовским западом, германизмом. Таков мистический смысл борьбы русского народа с «большевизмом», как внутренним, так и внешним т.
В диалогах «На пиру богов», написанных в Киеве 1918 года и стилизованных под «Три разговора» Владимира Соловьева, Булгаков много раз возвращается к своим мыслям о Распутине. Подобно тому, как «Три разговора», обличая толстовство, постепенно сосредотачиваются на теме сверхчеловека-антихриста, «На пиру богов» обличают большевизм, но все более возвращаются к теме антихриста-Распутина. Один из участников диалогов, Общественный деятель, называет Распуйина истинным вдохновителем революции и для характеристики предреволюционного строя придумывает неологизм — «хлыстократия»; он говорит даже о «хлыстовских экспериментах», которые производились над Россией в разгар мировой войны. Другое действующее лицо, Светский Богослов, считает: церковь должна была отказаться от «рас-путинствующего царя <...> как только выяснилось, что Россия управляется вдохновениями хлыста» 21°. Любопытно еще, что этот персонаж, подобно преосвященному Гермогену и сестре Блока Ангелине, называет хлыстовщиной религиозно-философские дискуссии недавних лет о «Третьем завете» и о вопросах пола211. Свою же формулу 1917 года о гидре социального хлыстовства, которую породила пролитая кровь Распутина, Булгаков отдает Генералу212. Теперь Булгаков, вероятно, согласился бы с Блоком, что прямое отождествление большевизма с распутинщиной — это упрощение; поэт со своей чутко
128
Глава 2
стью к стихиям увидел их сложность несколько раньше философа. А вот что говорит Беженец, точка зрения которого в этих диалогах обычно совпадает с авторской: «мистический смысл и значительность явления Распутина вами недооцениваются» ад. Иными словами, роль Распутина еще более велика, чем отводят ему другие действующие лица (хотя, кажется, крупнее роли не бывает).
В неопубликованных при жизни скорбных воспоминаниях «Агония», написанных в «Царьграде» в 1923 году, ставший беженцем Булгаков от первого лица продолжает размышления своего недавнего героя — Беженца. Здесь Булгаков сполна признается в «шестом чувстве», неожиданном для бывшего марксиста — в мистической любви к русскому царю. Убийство Распутина Булгаков характеризует знакомыми словами: «пуля, направленная в Распутина, попала в царскую семью»2М. Философ вспоминает страх и едва ли не скорбь, которые вызвала у него гибель Распутина. С этого убийства «началась революция», оно революцию «разнуздало», и это было.очевидно для Булгакова «уже тогда»215.
Понятно, что убийца Распутина, с которым Булгаков познакомился в эмиграции, не вызывал у него сочувствия. Воспоминания самого Феликса Юсупова о том, как он убил Распутина, часто напоминают попытку оправдаться. Возможно, под влиянием своих бесед с Булгаковым он использовал ту же аналогию между распу-тинством и большевизмом, о которой говорил сам Булгаков в 1917 и, позже, его Генерал: «Большевики обманули весь русский народ, который слепо пошел за ними в каком-то диком опьянении чисто хлыстовским экстазом революции». Распутин для Юсупова — «олицетворение той темной силы, которая поднималась со дна русской жизни»; он «прообраз грядущих ужасов» и даже «первый „комиссар" большевизма»216. •
Режмкхщякаккжтраиижмистикасектипатштикатеты 129
Это и по соловьевской схеме полагается
Взгляды свои, которые были далеки от ортодоксальных, Распутин не только не скрывал, а скорее демонстрировал. У него, говорили при дворе, «какая-то своя вера, не такая, как у всех нас»217. Вера эта воспринималась как подлинно народная вера. Довольно неожиданным образом в возвышении Распутина проявились романтическое разочарование в культуре и тяготение к природе, стихии, народу, которые были свойственны русской цивилизации на всем пространстве ее от Достоевского до Блока, от народовольца Александра Михайлова до императрицы Александры Федоровны. В. Н. Коковцов так анализировал психологические причины тяготения последней к Распутину: «ее влекло к себе проявление такого же молитвенного настроения, которое росло и крепло в ней самой <...> в среде простого народа, который она считала ближе к Богу и истинному пониманию его, нежели людей, затронутых культурой» 2“. Политика Распутина состояла в том, чтобы среди людей, имевших книжные представления о народе, стихиях и сектантстве, выглядеть символом всего этого, олицетворением мистической демократии в русском стиле. «Долой всякие средостения, выборные или бюрократические, между царем и народом»,— призывал лидер Союза русского народа и синодальный миссионер, протоиерей Восторгов, который еще в Сибири распознал в Распутине голос «от земли, от сохи, от гущи народной»2”’. Великий князь Николай Михайлович, отмечая «sex-appeal» сибирского старца, не верил в слухи о его романтических отношениях с государыней и объяснял феномен Распутина причинами сугубо идеологическими: «он очень импонировал ей, как некоторая черноземная, мистическая сила, как своего рода представитель народных низов» 22“.
7—809
130
Глава 2
Демократическую действенность хлыстовства ценил Достоевский. Рассказывая о хлыстовской секте Татариновой, он восхищался тем, как на равных «вертелись и пророчествовали» там министр и крепостные слуги: «стало быть, была же сила мысли и порыва, если могло создаться такое „неестественное" единение верующих» 22‘. П. И. Мельников-Печерский, которого читали и Достоевский, и Блок, рассказывал о том, как среди «сек-таторов», вместе собиравшихся для совершения «таинственных обрядов», были помещики и их крепостные, солдаты и генералы, и даже «поэты, правда, не самые заметные» 222. В новые времена Пришвин поражался тому же явлению, которое на деле вело к выравниванию сословий: в этом «интересном зрелище <...> пляшут в религиозном экстазе барин и мужичок» 223.
Сергей Булгаков откровенно признавался, что с Распутиным было связано у него «самое мучительное» из ощущений нелегких предреволюционных лет: ужасным образом этот хлыст воплотил святые для Булгакова идеи русского религиозного возрождения. Булгаков связывает явление Распутина с теократическими пророчествами Соловьева. «Самая мысль о святом старце, водителе монарха, могла родиться только в России» 224,— писал Булгаков. Между прочим, Распутин Соловьева читал, хотя, конечно, мы не знаем, понимал ли он его так же, как Булгаков, или как-нибудь иначе22’. Во всяком случае, Булгаков называл союз Николая И и Распутина величественным, знаменательным и пророчественным: «Про себя я Государя за Распутина готов был еще больше любить, и теперь вменяю ему в актив, что при нем был возможен Распутин». Беженец говорил тоже самое: «Царь взыскал пророка теократических вдохновений,— ведь это ему и по соловьевской схеме полагается!» 226 «Царь взыскал пророка, говорил я себе не раз, и его ли вина, если, вместо пророка, он встретил хлыста» 227,— от своего лица высказывал теперь Булгаков эту странную мысль.
Итак, в Москве 1917 года близкий Блоку, но имевший, профессиональный навык укрощать стихии, Булгаков
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 131
увидел в побеждающем большевизме мистическое наследие Распутина. В Константинополе 1923 года он же находит в Распутине воплощение теократической идеи, завещанной Соловьевым. Жизнь и смерть Распутина приобретали значение роковых событий, похоронивших самые святые надежды и высвободивших самые зловещие силы, причем убитый воплощал в себе и те, и другие. «Убийство Распутина внесло недостававший элемент какой-то связи крови между сторонниками революции» 22в,— писал Булгаков.
ч : а/ •,
Ритуалы насилия 4 4 •*
Под пером философа оживает мифологема ритуального убийства, сыгравшая столь большую роль в идейной борьбе вокруг революции. Начиная с Нечаева и кончая делом Бейлиса сторонники и противники революции пророчили: именно таким убийством она начнется. Начиная с первых судебных следствий над русскими хлыстами (впервые на следствии о «квакерской ереси» в Москве 1745 года), в вину ему вменялись ритуальные убийства.
Первое убийство конструировалось не как политическое, а как религиозное действие; цели и последствия его мистически прорицались, а не рационально просчитывались; и в любом из этих жертвоприношений, реальных или воображаемых, виделось воспроизведение, желанное или кощунственное, главного события христианской истории. Если одни пытались инсценировать страсти Христовы, чтобы магически поторопить его новое пришествие, то другие подозревали инаковерующих в тайных повторениях первого убийства. Этот контекст с легкостью мифологизировал более заурядные заклания, нередкие в эту эпоху политического терроризма. Сакрализация насилия, придавая ему некий посторонний смысл, играла свою роль в его моральном оправдании, а
7*
132
Глава 2
значит, и в новых его воспроизведениях. Инструментальное значение мистики для подготовки политического убийства расследовал Достоевский в «Бесах»; но уже Бердяев читал этот роман не как детектив, написанный с целью демистификации насилия, а скорее обратным способом — как пророчество о хлыстовской природе русской революции. Андрей Белый в «Серебряном голубе» показал ритуальное убийство поэта, организованное зловещим сектантом, в котором, как он утверждал задним числом, был предсказан Распутин. У Пимена Карпова в его «Пламени», романе о хлыстовской революции, который Блок считал пророческим (5/483—486), ритуальные убийства следуют одно за другим, что их сильно обесценивает. Сам Блок в «Двенадцати», приветствуя революционное шествие, ведомое раскольничьим Исусом и’, показал лишь первую и единственную его жертву. Все они думали, что, начав с ритуального убийства, народная сектантская стихия осуществит расправу над культурой — для одних трагичное, для других желанное событие жизни и истории.
В новой, пореволюционной версии все перевернулось. Ужас истории заставил переконструировать недавние мечты и страхи. То первоначальное заклание, которое угрожало русской цивилизации, ожидалось от хлыстовской стихии; теперь его увидели в убийстве, совершенном графом и депутатом. Ритуальное убийство должно было произойти над раскаявшимся революционером, студентом, поэтом, проституткой — одним словом, людьми культуры. Сно оказалось произведенным над хлыстом. Теперь уже не боялись связи хлыстовства с революцией, а, наоборот, сожалели о загубленном союзе хлыста и монарха. Если Белый считал, что его «Серебряный голубь» показывает ритуальное убийство, совершенное людьми вроде Распутина, то Булгаков, наоборот, рассматривал убийство самого Распутина как решающий акт русской катастрофы. В сакральном действе, давшем старт революции и освободившем путь большевизму, в
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 133
жертву был принесен хлыст. Но Блок с его недоверием к словам и чувствительностью к телу, наверное, снова счел бы такое понимание упрощением.
Усложняя «знаменательнейшую» схему Булгакова образца 1917 года, которая объявляла большевизм мистическим наследием хлыстовства, Блок защищал отнюдь не историческую истину. Для/него, придумавшего «римский „большевизм11», было бы нетрудно объявить Распутина большевистским комиссаром, как это делал Юсупов, или сектантов XVII века коммунистами, как это делал Бонч-Бруевич. Но в хлыстовстве, знакомом по книгам по личным знакомствам, чего-то не хватало; и только в образе Аттиса поэт нашел подсказку. В своей интуиции он повторяет то, что с полной членораздельностью совершил когда-то Кондоатий Селиванов: Блок вновь изобретает скопчество. Конечно, в отличие от Селиванова и от Гермогена, Блок делает все это символически, на уровне своих идентификаций, проявленных метафорами. На этом уровне Катилина-Аттис, удивительный продукт воображения Блока, оказывается смесью из Селиванова, Бакунина и Распутина — продуктом, впрочем, не менее удивительным. ' ,
Камень вместо хлеба
Блок зашел далеко, гораздо дальше Ибсена. В «Катилине» мистический утопизм Блока настолько же выходит/ за пределы социального романтизма Ибсена, насколько русская Революция выходила за пределы европейского Просвещения. Ибсен лишь показал, как трудно сеять ветер в этом мире, отягощенном политической властью и сексуальным влечением. Блок же указал путь, на котором революционные идеи современности, соединяясь с вековым опытом народа и его мечтой, предлагают радикальное — может быть, самое решительное из теорети
- 134 „ Глава 2
чески возможных — облегчение главной проблемы коммунизма.
«Представьте себе ватагу, впереди которой идет обезумевший от ярости человек, заставляя нести перед собой знаки консульского достоинства. Это — тот же Катилина, недавний баловень львиц римского света и полусвета <...> но ярость и неистовство сообщили его походке музыкальный ритм; как будто это уже не тот — корыстный и развратный Катилина; в поступи этого человека — мятеж» (6/85).
Читатель, только что ознакомившийся с историей Аттиса, не без содрогания видит в торжественно несомых перед толпой «знаках консульского достоинства» отрезанный парный орган. С ужасом еще большим он сопоставляет две запоминающиеся картины революционного шествия, одну из «Катилины», другую из «Двенадцати», и видит их структурное сходство 250. Что ж, литератор — «только слов кощунственных творец». Но меньше всего «Катилина» — это сатира или антиутопия. Меньше всего Блок хотел высказываться в отрицательном смысле, что сделал после него Евгений Замятин, а потом Джордж Оруэлл. В том смысле, что новое общество может решить все проблемы, кроме одной — пола, семьи, любви и секса; а чтобы заставить людей жить в этом обществе счастливо, их остается только оскопить. В определенном смысле, кастрация — вершинная победа культуры над природой, именно в этом смысле психоанализ рассматривает страх кастрации как механизм социализации человека. И потому оскопление (этот термин точнее, чем кастрация, потому что в русской традиции он относился и к мужчинам, и к женщинам) — предельная метафора, выражающая абсолютную победу культуры, общества, власти над отдельным человеком с его полом, личностью и любовью. Так преображается глубочайшая сущность человека, центральный механизм его природы.
Любопытно, что ни в одной из классических антиутопий о кастрации не сказано прямо; авторы искали ей ли
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 135
тературные паллиативы, вроде розовых талончиков Замятина или разного рода химии. Для западного читателя идея всеобщего хирургического оскопления была бы чрезмерной. Зато в России историческое существование скопчества облегчало формулировки, и это в равной степени относилось как к утопическим мечтаниям, так и к идущим им навстречу предупреждениям.
Важным примером является пушкинская «Сказка о золотом петушке». «Сказка — ложь»,— говорится там; но ее стоит перечитать во взрослом возрасте, чтобы увидеть, на что же направлен ее «намек». Оставляя пока увлекательный сюжет об исторических источниках скопческой темы у Пушкина, ограничусь выводом, который может шокировать пушкинистов. «Сказка о золотом петушке» — первая русская антиутопия, и она с полной ясностью формулирует центральную идею жанра,- благополучие человека не может быть обеспечено ценой потери им сексуальности. Можно увидеть в сказке и злую пародию на то, что позднее будут называть русской идеей: мистику правления «лежа на боку», оборонительный союз царя и пророка, страх и поклонение женскому началу, скопческий эротизм власти. Скопцы и их проекты обещают, но не принесут счастья ни царям, ни добрым молодцам,— таков «урок» сказки. Поразительно, что образцовые работы Анны Ахматовой и Романа Якобсона, занимавшихся этой пушкинской сказкой и раскрывших разные ее тайны, оставили без комментариев самое очевидное и, как кажется, самое глубокое в ней: то, что магический помощник царя был скопцом2”; и еще то, что в союзе царя Дадона и скопца-звездочета в деталях предсказана трагическая страница русской истории — союз Николая II и Распутина.
В отличие от Пушкина, издевающегося и над царем, и над скопцом, Блок относится к своим Катилине и Аттису с полной серьезностью. Степень этой серьезности более всего видна из того, как он недоговариваетЖатилину»: «От дальнейших сопоставлений я воздержусь; они заве
136
Глава 2
ли бы меня слишком далеко» (6/86), объясняет он? а ходить далеко у него не было «ни времени, ни места, ни сил, ни права» (6/91). Таким же курсивом он намекал незадолго до революции: «Для того, чтобы явилась легенда, нужна власть» (5/512). «Дальнейшие сопоставления», от которых воздерживается теперь Блок, были бы «подсовываньем камня вместо хлеба» — грехом, в котором Блок не раз обвинял символизм. Но, по-прежнему не имея власти, Блок настаивает: «я убежден, что только при помощи таких <...> сопоставлений можно найти ключ к эпохе» (6/86). Из методологии «Каталины», согласно которой самые отвлеченные стихотворения вызываются к жизни самыми злободневными событиями, мы знаем с определенностью, о какой эпохе идет речь и кому поэт хотел дать ключ и хлеб.
У Блока, как и у Катулла, кастрационную тему не надо выявлять интерпретацией. В их текстах кастрация описывается не в том мире воображаемого, в которое поместил ее Фрейд, а в том физическом значении, которое имела у Аттиса и Селиванова; и значение это очевидно автору текста не менее, чем его читателю. «,,Аттис“ есть создание жителя Рима, раздираемого гражданской войной. Таково для меня объяснение и размера стихотворения Катулла и даже — его темы»,— с предельной ясностью пишет Блок (6/84), в очередной раз связывая тему (кастрацию) с эпохой (революцией). В «Каталине» он продолжает дело жизни, конструирует человека-артиста, и символы его говорят не о.метафорах, а о метаморфозах. Новые люди, овладев тайной тотальной сублимации, создадут культуру небывалой высоты.
В создании нового мифа универсальный энтузиазм прихотливо соединялся с личным несчастьем, всеобщее желание переделать мир — с тайной мечтой переиграть жизнь с начала. «В то время шли обывательские толки о том, что детей будут отбирать у матерей для коммунистического воспитания»,— вспоминала разговоры в гостях у Блока Надежда Павлович; гости обсуждали эту пер
Революция как кастрация: мистика сект и политика тела 137
спективу как реальность; матери волновались. Блок «долго не вмешивался в спор, а потом неожиданно сказал: ,Л может быть, было бы лучше, если б меня... вот так взяли в свое время"» пг. Блок мог вспомнить здесь очень схожие дискуссии, происходившие 15 лет назад вокруг прожектов Панченко.
Каков, однако, реальный вывод и практические рекомендации? Имел ли Блок в виду нечто большее, чем еще один поток символов? Испугался ли он, подобно Катуллу, того, что написал? Почему не разъяснил свое Послание к революционерам людям, которые, может быть, и могли бы оценить его серьезность, вроде Бонч-Бруевича? Почему не показал связь между оскоплением Аттиса и мятежом Каталины прямыми и ясными словами, нужными слушателям «Петроградской школы журнализма»?
Много раз на протяжении текста останавливая себя, Блок не предлагает никакой помощи. Евангелия тоже не объясняли, как достичь совершенства; они просто его показывали. Для Блока преображение Каталины в Аттиса было способом выразить свою веру и надежду; но дать нечто вроде методических указаний по переделке человека он не решился, а возможно, и не считал своим делом. Впрочем, «народу» многое и так было понятно, без рекомендаций. Когда в конце 1920-х в романе Всеволода Иванова типический большевик поведет свои речи о массовом перерождении человека, типический представитель народа поймет с готовностью: «Чего ж, выхолостят их или как?»2М.
В бесполом, но все же мужском мире — не то гомосексуальном, не то скопческом — придется жить многим героям Платонова. Если о природе Чевенгура приходится скорее догадываться2М, то в рассказе «Иван Жох» показан город в Сибири 1919 года, в котором живут одни мужчины-скопцы; здания его неожиданно напоминают «ионическую культуру» (параллельная Блоку генеалогия скопческой темы от времен Аттиса?); но в «вечном невозможном городе» Платонова, в отличие от блоковского
138
Глава 2
Рима, царит «тишина истории». В тексте рассказа, во многом основанного на материале пушкинской «Истории Пугачева» и как бы ее продолжающего, Платонов объединяет в одну семью три ключевые персонажа: героя, в котором легко виден Пугачев; основателя скопчества, в котором виден Селиванов; и их прямого потомка, великого философа, в котором легко узнать Федорова-Но потомок Пугачева сражается против большевиков; а «красно-зеленые партизаны», попавшие в скопческий город, остаются равнодушны и едут к Ленину. Вероятно, в этой более поздней конструкции (1927) проявился переход к иным формам утопизма, которые сознательно разрывали с утопической традицией2”; так коллективизация в сектантских общинах, которые уже десяток лет называли себя коммунистическими, проводилась теми же методами, что и по всей стране. Впрочем, герой Платонова, выбирая Москву Ленина, а не Вечный-град-на-Дальней-реке, сомневался вместе с автором: «не обменялся ли нечаянно я на кого-то другого в трудном фантастическом пути» 236. В это время евразийцы, очередные наследники русской утопии, все еще надеялись на столкновение сектантов с большевиками,— «таинственные процессы сектантского исхода, которые вскружат, поднимут и организуют новых современных людей» 237.
В 1920 году Блок говорил удивленному Замятину: «Наше время — тот же самый XVI век» 238 Тогда же и буквально так же рассуждал в «Голом годе» (1920) герой Пильняка, пользовавшийся сочувствием автора: «Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами — вошла в семнадцатый век <...> И это благо! Вся история России мужицкой — история сектантства» 239. И примерно в то же время Ленин, листая в Кремле сектантские рукописи из коллекции Бонч-Бруевича, замечал: «Как это интересно! <...> Ведь это семнадцатый век Европы и Англии в девятнадцатом столетии России» г4°. Ту же мысль — «XVII век в XIX столетии»241 — Ленин повторял, похоже, не раз. »д;
Революция как кастрация мистика сект и политика тела 139
Это только кажется, что Блок искал там, куда его современники, не говоря о потомках, более не заглядывали. Ходасевич в парижской статье 1928 года доказывал: Блок был неизмеримо ближе к левым эсерам, чем к большевикам; это большевики примкнули к Блоку, а не наоборот242. При своей очевидной правоте в отношении Блока, Ходасевич вряд ли догадывался о том, насколько близок бывал Кремль к архаизирующим интересам поэта. Но, конечно, Блок был абсолютно чужд не только административным заботам Ленина и Бонч-Бруевича, но и рациональной культуре марксизма, к которой они были причастны наравне с Сергеем Булгаковым или Замятиным; и потому в отличие от всех них, Блок не считал нужным разъяснять, по каким причинам некий социальный проект возможен или, наоборот, невозможен. В этом смысле, ему было легче. «Невозможное возможно»,— верил он, отменяя этим всякий рациональный дискурс и всякие политэкономические сомнения. В мире «Двенадцати» и «Каталины» утопия имеет место. Поэтому Блок намекает на столь многое, не говоря ничего; и потому же его обещания были столь популярны. И мистицизм, и утопизм Блока — подлинно народные «измы»; они восходят к древнему опыту, они не испорчены культурой, и людям, подобным Распутину, они были понятны без объяснений.
Люди, подобные Распутину, должны быть подвергнуты великому преображению, и тогда они обретут музыкальный ритм, революционное неистовство и женственную легкость от вожделений. И тогда... «Вы слышите этот неровный, торопливый шаг обреченного, шаг революционера <...>? Слушайте его». Но, бессильный объяснить что-либо слушателям Петроградской школы журнализма, Блок вновь — второй раз, и снова по-латыни — цитировал 63-е стихотворение Катулла.
Глава 3.
Оживающий сфинкс:
. мистика Золотого века
в мифологии Серебряного
Если предыдущие десятилетия российской истории не вызывали сочувствия у людей Серебряного века, то события столетней давности, напротив, были предметом моды. Историческая литература была общедоступна; в ходу были такие издания, как «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских», «Исторический вестник», «Русский архив», «Русская старина» Множество вторичных источников о прекрасной эпохе дополнялось все новыми текстами, историческими и художественными.
Утопия совпала с генеалогией; идеальным образец казался прямым, непосредственным предшественником. В природном времени от Золотого века отделяло целое столетие — четыре поколения; во времени культуры люди Серебряного века осуществляли нереализованные замыслы своих пращуров. Русская цивилизация, свершив большой цикл и по пути пройдя XIX столетие, едва его заметив, возвращалась к своим великим началам. «Век девятнадцатый, железный, Воистину жестокий век»,— писал Блок в «Возмездии». Из Золотого века обратно в Серебряный, с отвращением минуя Железный — такова эта мифология. Бренные металлы в очередной раз использовались для соотнесения вечных ценностей. Более неожиданными, но столь же сильными образами пользовался Мандельштам: «Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европейской культуру. Он был носителем чужого, враждебного и могуществен
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 141
ного начала, с которым боролась вся наша история»2. Если Блок, сам всецело принадлежа к проклинаемому веку, его пороки видел в деньгах и сексе, то обличения Мандельштама возвещали новые ценности. «Ничего, кроме зрения, пустого и хищного»,— таким он видит XIX век, время философии без субъекта, знания без тела, зрения без глаза. Исключение составляло начало того столетия, которое еще умело бороться с тяжестью знания, и борьба эта передана телесными метафорами: «судорожные прыжки, мешковатые и грузные полуполеты» ’. j
. ./
Застывающая статуя
Цикличность — характерная черта мифологической картины мира; но в эпоху письменной культуры и, в частности, профессиональной истории, поддержание веры в исторические мифы требует специальной работы. Для выдерживания цикла одни составляющие исторической картины должны отбрасываться, другие — искажаться, третьи — усиливаться в своем значении. Когда Ходасевич со скорбью писал в «Колеблемом треножнике», что начинается отчуждение от Пушкина и образ е/о застывает в медную статую, утешением все еще было то, что живая, личная связь с пушкинским временем «не совсем утрачена»; и, воспроизводя старый уже ми'4 , Ходасевич называл пушкинскую эпоху «предыдущей» по отношению к своей собственной 4. То, как помечена эта известная статья: «1921, Петербург»,— лучше всего иллюстрирует способ, которым пушкинизм пытался устоять в столкновении с историей.
Золотой век центрировался на Пушкине, а Серебряный век — на пушкинизме. Поэты 1910-х годов до такой степени идентифицировали себя с Пушкиным, что считали возможным дописывать его неоконченные сочинения ’. Однако интерес к событиям столетней давности не исчерпывался пушкинской мифологией, как и сама эпо
142
Глава 3
ха не сводилась к «первому поэту» и тем, кто был увековечен дружбой или враждой с ним. Среди людей и событий эпохи были такие, которые, не имея отношения к Пушкину, возбуждали острый интерес современников и потомков. В частности, к мистическим интересам Александра I и его двора Пушкин относился без видимого интереса, хотя, как показывает более глубокий анализ, многие из бытовавших в этом кругу идей явным или неявным образом воплотились в его поэзии 6.
Но именно эта линия развития, угасшая было в середине XIX столетия, бурно возродилась на рубеже нового века. Новый мистицизм охотно искал свои корни в старом; и, хотя интерес к русской и нерусской мистике — сектантам, масонам, спиритам — не был чужд Ивану Тургеневу и Достоевскому7, Писемскому и Льву Толстому, новое открытие мистицизма александровской эпохи пришлось на Серебряный век. Проза Всеволода Соловьева, Дмитрия Мережковского, Ивана Наживина, Анны Рад-ловой, Георгия Чулкова отдавала должное странным интересам императора и его окружения. И даже шеф полиции Белецкий, пытаясь объяснить популярность Распутина в царской семье, указывал на наследственное сходство в мистических увлечениях Николая II и Александра Iе.
В отличие от романистов, позиция историков чаще была пренебрежительной. Отечественные ученые прошлого столетия ’ квалифицировали религиозную политику правительства Александра I не вполне ясными словами, такими, как обскурантизм, ханжество и туманный мистицизм. Под этим одни авторы имели в виду противодействие идеям Французской революции, другие же совсем напротив — противодействие каноническому православию. Странным образом оказывалось, что у атеистического просвещения и у православной иерархии в России один и тот же враг — обскурантизм. На деле же одна и та же идеологема наделялась противоположными значениями в зависимости от религиозно-полити
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
143
ческих взглядов историка. Советские авторы не стали разбираться в сложившейся путанице и вообще не были склонны придавать значение религиозным исканиям, даже когда они приобретали отчетливо политический характер,0.
Интеллектуальное значение александровской эпохи остро осознавалось философами Серебряного века. «Элемент ренессансный у нас только и был в эпоху Александра I и в начале XX в.»,— писал Николай Бердяев п, одной фразой сближая две эпохи под знаком высшей культурной оценки. Михаил Гершензон по-новому читал Чаадаева, делая его прямым предшественником Владимира Соловьева. Николай Минский находил у Александра и его правительства намерение осуществить глобальную религиозную реформу по протестантскому образцу — ту самую, осуществить которую он сам считал необходимым для России. Дмитрий Мережковский приписывал тайным обществам декабристов собственные идеи религиозной революции, находя у них тот контакт с сектантскими кругами, осуществить который без особого успеха пытался сам. Таким образом идея углублялась в пространства менее известные. Василий Розанов переиздавал в своей редакции документы Кондратия Селиванова, основателя русского скопчества, современника и апокрифического собеседника императора Александра. Розанов называл Селиванова «нашим Мильтоном» и решительно предпочитал его Чаадаеву «по могуществу и новизне» 12.
Единство места, которое почти всем актерам этой исторической драмы предоставлял Петербург, и предполагаемое единство действия компенсировали очевидное отсутствие преемственности во времени. В этой мифологии люди начала XX века непосредственно продолжали дело, которое не удалось закончить столетие назад. В обоих случаях и с интервалом в сто лет мистические поиски Золотого и Серебряного веков были насильственно оборваны иными историческими силами. Не дав ни по
144
Глава 3
пулярного религиозного учения, ни жизнеспособного политического проекта, обе эпохи оставили свой след в беспрецедентной художественной продуктивности.
Христианские партии
Мистицизм александровской эпохи чаще всего связывают с масонской традицией, что создает некую иллюзию понимания. Круг идей русского масонства был, однако, настолько широк и расплывчат, что почти не поддается определению. В орловском имении Ивана Лопухина, одного из крупнейших русских масонов, стояли памятники Жан-Жаку Руссо, г-же Гийон, Квирину Кульману (сожженному в Москве протестантскому проповеднику) и св. Тихону Задонскому13. Этот пантеон, объединявший конфессии, культуры и эпохи, был объединен лишь безмерными интересами своего создателя. Считавшееся проводником западных влияний, масонство поддерживало связи и с разными ветвями русского раскола. Сам Лопухин в качестве сенатора проводил политику веротерпимости по отношению к русским сектам, причем его противники из Св. Синода называли его «покровителем раскольников» и даже «раскольником». Первый повод к аресту Николая Новикова был дан печатанием в его типографии старообрядческой «Истории о отцах и страдальцах соловецких», и близкий его сотрудник оказался на следствии старообрядцем 14.-В архаизирующих идеях, связанных с масонскими кругами, вплоть до проектов Пестеля переодеть русскую армию в допетровскую одежду, нетрудно увидеть формы, близкие старообрядческим ”. Императрица Екатерина не раз обвиняла масонов в распространении «известного нового раскола». С другой стороны, европейские масоны XVIII века склонны были придавать особое значение России16. Иван Шварц, ученик немецких и учитель русских масонов, писал о вольных каменщиках: «сходствие их с церемония
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 145
ми и обрядами церкви нашея столь совершенно <...> что неотменно заключить должно, что те и другие проистекают из единого источнйка». Главный секрет масонства, с его точки зрения, был затерян в России, причем он может быть найден путем архивных разысканий: «Если б масонам русским доступны были раньше архивы монастырей и книгохранилищ в российском государстве, то несомненно они нашли бы уже сочинения о разрушенном и рассеянном камне» *7. В этих идеях ощутима ориентация не столько на реальное, сколько на некое иное, древнее и истинное православие, что могло быть основой для сближения между масонством и разными ветвями русского раскола; такого сближения иногда искали обе стороны. Связь с масонством отразилась и в сектантском фольклоре: согласно легенде, Екатерина покровительствовала московскому купцу-скопцу Федору Колесникову, которого она в шутку звала «масоном», и более того, это прозвище якобы давали в то время всем скопцам
Но религиозно-политический поиск александровской эпохи выходил даже за неопределенные границы масонства. Характерное смешение религии и политики демонстрировал Алексей Еленский, скопец и камергер, которому разные историки15 приписывают различные тексты — масонские, старообрядческие, скопческие, теократические и революционные. «В течение жизни моей, проходя разные тесные пути и обращаясь с людьми разных вер, сект и ересей, нашел одно тайное согласие, из русских и немецких вер совокуплено»,— писал он на следствии 1794 года” а десятью годами позже обратился к правительству с проектом тотального переустройства России под контролем скопцов. В Петербурге становятся известны немецкие гернгутеры, английские квакеры, французские сенсимонисты, американские шейкеры. Сам император в £воих поездках по Европе охотно общался с лидерами европейских протокоммунистических сект. : , ,»
8—809
146
Глава 3
Патриарх мистической Европы Юнг-Штиллинг, приятель Гете и Гердера, корреспондент Канта ”, объяснял Александру, что, по его мнению, более всех остальных «христианских партий» учению Христа соответствуют гернгутеры. Растроганный Александр подарил Штил-лингу крупную сумму денег и взял на русскую службу его сына22. Повести Штиллинга обильно переводились в России, войдя в круг чтения послевоенного поколения. В своей «Победной повести христианской религии» (1799) Штиллинг выразил взгляд на французскую революцию как на предвестие Апокалипсиса. Его критика была в равной мере агрессивной в отношении католической и православной церквей, за что позднее его книгу причисляли к одной из наибольших «крамол», сочиненных «врагами России»23. По своим собственным убеждениям Штиллинг был близок к моравским братьям, или гернгутерам; возводя их происхождение, через Яна Гуса, прямо к античным гностикам, Штиллинг верил, что порядок жизни на обновленной Вторым пришествием земле будет напоминать общины моравских братьев. Утопические колонии гернгутеров с их обобществленной собственностью, раздельным проживанием полов и коллективным воспитанием детей процветали на юге России и.
В северную столицу съезжались известные западные мистики: последовательница Юнг-Штиллинга госпожа Крюденер (это ее роман «Валерия» так нравился молодому Пушкину, и она же, как утверждали недоброжелатели, внушила Александру идею Священного Союза); Иоганн Госнер, которого считали одним из лидеров гернгутеров; и целая делегация английских квакеров во главе со Стефаном Грелье. Квакеры, посетившие Петербург в 1818 году, были в равной степени потрясены диким состоянием местных нравов и просвещенностью высшей бюрократии. Посетив питерские тюрьмы, они остались в уверенности, что с помощью императора добились улучшения в условиях содержания заключенных. Молча медитируя вместе с Голицыным и Поповым, они почувст
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
147
вовали, что состояние это «не было новым» для их петербургских хозяев; более того, о Голицыне они'вспоминали, что «князь крещен с ними единым духом». Сам император Александр охотно участвовал в медитациях с квакерами. Потом гости отправились в селения молокан, духоборов и меннонитов в южных губерниях ”.
Угроз Световостоков
Штиллинг умер в 1817 году в уверенности, что в последние годы жизни в него воплотился Христос. Тогда же две тысячи швабов, его сторонников, отправились на восток ждать тысячелетнего Царства Божия; они дошли до Бессарабии и даже до Тифлиса26. Туда же, на Кавказ и на Каспий, направлялся вплоть до 1830-х годов исход молокан, бегунов и других сектантов. Хилиастические настроения были распространены и на самом верху; в 1816 году на собрании Библейского общества его президент, князь Александр Голицын, назвал само общество «Апокалипсическим Ангелом»27. В 1822 году о. Феодосий Левицкий, провинциальный священник, передал императору пространные тексты, из которых следовало, что Наполеон был Антихристом, Священный Союз есть предвестие Царства Божия на земле, а сам Александр — Ангел Божий. Согласно вычислениям, конец света был близок и должен был начаться в России. Левицкий был сразу же привезен в Петербург и в течение года тайно общался с князем Голицыным; был он принят и Александром, который просил у Левицкого благословения. После наводнения 1824 года он произнес публичную проповедь, в которой объявил о начавшемся светопреставлении. За нарушение секретности в ночь на 11 ноября Левицкий был выслан в Коневский монастырь28. Интересно, в какой степени отразилась эта хорошо известная современникам история в апокалиптических мотивах «Медного всадника»... •, . . *.
8*
148
Глава 3
В 1813—1823 годах были изданы важнейшие Лчиги Яковй Беме, 25 сочинений Эккартсгаузена, переводы из Сведенборга, Сен-Мартена, Таулера, Паркера, Госнера и других мистиков, в основном протестантских29. Обширная переводческая деятельность осуществлялась в разных формах. Михаил Сперанский, например, с 1805 г. каждое утро переводил по странице из «Подражания Христу» Фомы Кемпийского (перевод был издан в 181930). Главное сочинение Штиллинга, в оригинале называвшееся «Серый человек», в России было переведено и издано под названием «Угроз Световостоков»; это название пояснялось в том смысле, что Свет с Востока есть Угроза человечеству за его грехи. Популярным автором, много переводившимся в России, была Эжен Гийон (это ее памятник стоял в усадьбе Лопухина). Ее книга «Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова» была переведена секретарем Голицына Иваном Ястребцовым и тысячами экземпляров рассылалась по епархиям на казенный счет; немалыми цифрами исчислялись государственные закупки и книг других европейских мистиков В России сочинения Гийон воспринимались как призыв к соединению церквей на основе новой религии, близкой к инстинктам естественного человека в духе Руссо. Гийон взывает человеков к «последованию внутреннему влечению инстинкта» и, значит, «научает их жить по внушениям инстинкта, как живут скоты и звери»,— писал анонимный автор «Записки о крамолах врагов России».
Крупнейшим переводчиком и издателем этой литературы был Александр Лабзин, вице-президент Академии Художеств и редактор журнала «Сионский вестник». Взгляды Лабзина представляли собой эклектичную комбинацию идей немецких романтиков, русских масонов, православной церкви и народного сектантства. Не вдаваясь в догматические вопросы, программу Лабзина можно описать как отрицание внешней обрядности ради личного общения с Богом. Блестяще образованный че
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 149
ловек, ценитель философии и литературы, Лабзин был близок и с Иваном Шварцем, и с Гаврилой Державиным; последний даже поручал Лабзину читать свои произведения в «Беседе любителей русского слова*32. Архимандрит Фотий, главный враг петербургских мистиков, именно Лабзина считал руководителем ереси. «Болярин Лабзин, с учением и смелостью имея дерзкий характер, имел скопища по ночам у себя», и «в ересь его многие были увлечены»,— писал Фотий; в члены «секты Лабзина» он причислял и Филарета (Дроздова), будущего митрополита, и многих «богатых, ученых и знатных»33.
Страдавший профессиональной болезнью мистиков — эпилепсией, Лабзин был необыкновенно работоспособен. Он первым перевел на русский язык множество книг, начиная с «Женитьбы Фигаро» Бомарше и кончая множеством мистических сочинений Эккартсгаузена, Юнг-Штиллинга и Якова Беме. Все 25 книжек своего «Сионского вестника» он, как считается, написал один, без помощников. «Градом посыпались на святую Русь разноцветные творения под самыми странными названиями»,— сетовал недоброжелательный современник м. Переводы выдерживали несколько изданий, книгопродавцы не успевали их выписывать; скоро они вышли за рамки великосветских крутон к широкому читателю, на толкучие рынки. Как писал в 1902 r'av Н. Н. Булич, сделанные Лабзиным и его кругом переводы «наводняли» русскую литературу, и в них «тонули умы, к сожалению, немалого числа читателей». Но если сожаление казанского историка было делом его вкуса, то он делал фактическую ошибку, когда писал, что мистическая литература представляла собой «какой-то мутный источник, ни с чем не соприкасавшийся» 33. Согласно «Записке о крамолах врагов России», эти книги «охотно читают на своих сходбищах раскольники беспоповщинской секты, хлысты, молоканы, духоборцы и особенно духоносцы»36.
В 1800 году Лабзин основал свою собственную ложу с примечательным названием «Умирающий сфинкс», ко
150
Глава 3
торая действовала вплоть до закрытия лож в 1822 году. В эту ложу, наряду с государственными деятелями и духовными лицами, входили и люди культуры. Архитектор Александр Витберг, член ложи Лабзина, воплотил ее мистические идеи в проекте храма Христа Спасителя в Москве, который победил на конкурсе мемориалов в честь победы 1812 года, но не был осуществлен ”. «Проект был гениален, безумен, страшен — оттого-то Александр <1> его выбрал»,— писал любивший архитектора Герцен38. Мы можем только догадываться о том, что делали в ложе Лабзина (вспомним, к примеру, описанную Толстым масонскую инициацию Пьера Безухова). В 1822 году при обыске дома, в котором происходили собрания, полиция нашла, по собственному свидетельству Лабзина, «мертвые головы и скелеты и черный к ним прибор». Полиция отобрала также некие акты и протокольную книгу; по словам Лабзина, «приключение сие натурально многих встревожило», но на следующий же день, после очевидного вмешательства императора, полиция вернула отобранное. При этом Лабзин всю жизнь занимал государственные должности: карьера его началась с поста, на котором он руководил перлюстрацией иностранных газет, и прошла через разнообразные департаменты, включая военно-морской. В 1822 году он публично заявил, что если уж выбирать в Академию Художеств по признаку близости к государю, то следует выбрать царского кучера. За этой шуткой, как обычно, стояли причины весьма серьезные. Александр Голицын так интерпретировал знаменитую шутку Лабзина: «Предложение ваше о выборе кучера <„.> не должно бы встретиться по уме вашему. Но тут уже действовала страсть <...> граф Кочубей был вам противен <...> потому что в его министерство закрыты ложи» ”. За шутку и, вероятно, за многое другое, Лабзин был сослан в симбирскую губернию, где и умер в январе 1825 года.
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
151
Первый аппарат
В конце 1812 года40 было учреждено Библейское общество, ставившее задачей новый перевод священных книг на русский язык и печатание их достойными России тиражами. Его прототипом было аналогичное общество в Англии, основанное методистами, квакерами и другими протестантскими сектами в 1804 году; в 1811 такое общество было учреждено в Финляндии 4*. Конструкцию Общества можно охарактеризовать как экуменическую; в его обширное правление постепенно вошли православные иерархи, католические, англиканские и лютеранские духовные лица, униаты, гернгутеры и методисты, а также чины двора, министры, губернаторы, генералы. Наряду с центральным правлением Общество имело отделения в каждой губернии, которые жестко подчинялись указаниям из столицы; в общем, здесь можно увидеть и столь характерную для России попытку слияния духовной и светской власти, идеологии и бюрократии. Вместе с книгопечатанием и благотворительностью, Библейское общество пыталось осуществить педагогическую реформу, внедряя в России так называемые ланкастерские школы42: в целях моментального искоренения неграмотности русского народа практиковались специальные педагогические техники, основанные на взаимном обучении учащихся.
Перевод Библии на современный русский язык (решение об этом было принято императором в конце 1815) и широчайшее распространение дешевых, субсидируемых государством изданий Священного Писания повторили в России одно из основополагающих дел протестантской реформы. Делались в Петербурге и переводы Писания на языки других народов России, как, например, молдавский, армянский, татарский и даже якутский (шрифты были заготовлены для 28 языков45).
152
Глава 3
Согласно враждебному источнику, «Экземпляры библии вскоре начали продаваться по самой дешевой цене, и библию можно было видеть и в лавках книгопродавцев <...> и в переднях боярских, и в кухнях, и под банками ваксы, и под сальными подсвечниками. Божественная книга уничижена до последней степени»44. Враги Библейского общества обвиняли его и в умножении раскола. Действительно, новый перевод Библии поддерживался старообрядцами, которые, как сообщали из епархий, раскупали значительную часть тиража. В конце концов даже скопчество стали объявлять последствием доступности Писания. Английскому путешественнику рассказывали, что в армейском полку, получившем русские книги Нового Завета, под влиянием чтения их разом оскопилось 17 человек. Петербургский митрополит Серафим, однако, тонко отводил обвинения: «Если они не поняли мысли Спасителя, то Новый Завет нужен им теперь больше, чем прежде» 4’.
Президентом Общества был князь Александр Голицын, обер-прокурор Священного Синода; секретарями — Василий Попов и Александр Тургенев. Понятно значение аппарата в подобной, идеологической по своему существу, организации; он вел текущую работу, осуществлял связь Общества с группами, которые его поддерживали, и боролся с врагами. Один из секретарей Библейского общества, Попов был ведущим членом мистического кружка Татариновой; другой, Тургенев, был одним из лидеров литературного общества «Арзамас».
Пушкин обращался к нему в 1817 году так: «Тургенев, верный покровитель попов, евреев и скопцов». Александр Тургенев был также другом Карамзина, Чаадаева, Жуковского, учился в Геттингене и объездил Европу. Его ведущее положение в Библейском обществе и в «Арзамасе» позволяет увидеть достаточно близкие отношения между этими весьма несходными организациями46; в свете тонкого анализа Бориса Гаспарова, в пародийной и эротической игре «Арзамаса» видится травестийное
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 153
переворачивание пуританской серьезности Библейского общества и его апокалиптической символики 47. Имел своего шутовского двойника и сам князь Голицын: это был его брат по матери, Дмитрий Кологривов, знаменитый в свете шалун любивший одеваться в дамское платье, и вообще человек «безумно веселый»; Голицын охотно проводил с ним время 48
В 1817 году под руководством Голицына было создано новое министерство духовных дел и народного просвещения; департаментом духовных дел заведовал Попов, департаментом просвещения — Тургенев. Министерство было, как видно, фактическим двойником Библейского общества, придававшим ему административную силу. Велик соблазн понимать явления прошлого как предшественников настоящего; и если Пушкина можно было назвать «первым поэтом», то творение Голицына с неменьшим правом можно считать «первым аппаратом». Князь, сосредоточивший власть церковную (Синод), административную (министерство) и идеологическую (Библейское общество), контролировал в это время практически всю публичную сферу — школы, духовные училища, церкви, университеты, цензуру, почты, типографии и, наконец, сами священные тексты... Привлекавший ненависть многих современников и интерес историков49, Голицын остается загадочной и противоречивой фигурой. «Он посещал богослужения различных религиозных сект, находившихся в Петербурге»,— сообщал о нем Вигель, и «размножение их последователей, во время управления Голицына, было неимоверное» ’°. Любивший Голицына Юрий Бартенев ценил в нем такие качества, как «проницающее добродушие <...> упрощенное гернгутерское чувство». Честолюбивые фантазии Голицына, однако, шли далеко. Как о курьезе он рассказывал, например, о письме квакера из далекого Коннектикута, который в 1821 году считал, что Божественная воля диктует новое движение России в Европу, и это увенчалось бы «вожделенными и невероят-
154
Глава 3
ними последствиями»; квакер настаивал, чтобы в рим-ские короли Александр посадил именно Голицына ”.
Первая идеология '
Секте Екатерины Татариновой Голицын предоставил для радений особые помещения в Михайловском замке. Там неистово кружились в белых одеждах, пели, пророчествовали и исцелялись. Лютеранка, получившая воспитание в Смольном институте, и вдова полковника — героя Отечественной войны, Татаринова была членом корабля петербургской хлыстовско-скопческой общины под руководством Кондратия Селиванова и Веры Нена-стьевой. Радения пришлись Татариновой по душе, но с самим Селивановым произошел конфликт и она, кажется, пыталась его «разуверить»: «Что толку скопить тело, но не скопить сердца? В нем седалище греха <...> Возможность отнимется, а желание останется»,— говорила Татаринова52, Голицын, впрочем, и его современники не видели разницы между нею и скопцами: «эта госпожа была некогда представительницею в Петербурге секты так называемых пророков или скопцов»,— вспоминал позднее Голицын’3. В 1817 году она приняла православие и в этот самый момент почувствовала в себе пророческий дар. Уведя у Селиванова некоторых членов его корабля, чтобы основать свой собственный, она возвращалась от скопчества к хлыстовству, обогащенному современными ей европейскими мистическими идеями.
Среди 70 членов ее кружка, сначала называвшегося «Братством во Христе», потом — «духовным союзом» или «русскими квакерами», были высшие офицеры, чины двора, государственные чиновники, священники. Наиболее заметными среди них были известный нам Александр Лабзин; знаменитый живописец Владимир Боровиковский; директор правительственного Департамента народного просвещения, секретарь Библейского обще
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
155
ства Василий Попов; бывший инспектор Царскосельского лицея, пытавшийся воспитывать там юного Пушкина, Мартын Пилецкий; генерал Евгений Головин, крупный военачальник александровского и николаевского царствований; подполковник и богач Александр Дубовицкий, один из самых интересных членов этой общины, который покинул ее, чтобы проповедовать свое учение в простом народе... Посещал Татаринову и сам министр Голицын. Радения столь высоких особ организовывал вместе с Татариновой неграмотный пророк из крестьян, музыкант Кадетского корпуса Никита Федоров.
Членский состав общины Татариновой и руководства Библейского общества имел очень важные взаимопере-сечения. Так, в 1816 году для наиболее ответственной задачи — русского перевода Евангелий — при Библейском обществе был утвержден Высший переводный комитет, в котором наряду с тремя высшими духовными лицами заседали двое гражданских членов — Попов и Лабзин. Никакого секрета из радений в Михайловском замке не делалось. Митрополит Филарет, например, знал, что к Татариновой «ездили» и князь Голицын, и Лабзин. Хлопотами Голицына Татаринова получала значительную ежегодную пенсию, из которой финансировала расходы секты. После нескольких свиданий с Татариновой ее покровительницей стала сама императрица. Однажды государь посетил собрание у Татариновой и остался доволен. Враги, и. в частности Фотий, разносили слухи о романе между ними. Во всяком случае, согласно опубликованным документам, Александр лично защищал ее от обвинений.
Между тем кружения, в которых принимали участие присутствовавшие, происходили самым обычным хлыстовским способом. Пророчества, произносившиеся чрезвычайно быстро и рифмованные «под склад народных прибауток», тоже ничем не отличались от тех, которые можно было услышать в крестьянских избах по всей России, от Поморья до Кавказа. Эти пророчества отно
156
Глава 3
сились к ближайшему будущему всей секты, отдельных ее членов, а иногда и к событиям государственной жизни. По поводу декабристского восстания в секте пели следующее: «Что же делать, как же быть, Россию надо кровью обмыть»”. Община Татариновой, представляя собой синтетическое культурное явление, была связана и с масонскими ложами. Песни, которые исполнялись в Михайловском замке, иногда были комбинацией из масонских и хлыстовско-скопческих символов; начало некоторых песен могло быть заимствовано у масонов, а конец — у хлыстов или наоборот ”. Например, пелись классические хлыстовские распевцы: «Дай нам, Господи, к нам Иисуса Христа»; или
Бог, Бог с нами
Сам Бог над богами,
Дух Святой с нами, 3
Сам дух над духами;
или нечленораздельные звукосочетания, на неведомых языках (это потом назвали глоссолалией), которые недавно пытался перевести с санскрита В. Н. Топоров * или, с другой стороны, вполне романтическое:
Прочь лесть, прочь ложь, хитросплетенность, Порочность, сладость красных слов, Утеха сердцу, развращенность —
Пою небесную любовь ”.
Татаринова с Федоровым практиковали и гипноз. Их ранние, но вполне сознательные эксперименты заложили начало традиции, у которой в России было большое будущее. Принятая в секту солдатская жена Варвара Осипова доносила полиции, что она была положена в постель и не знает, отчего пришла в беспамятство; очнувшись, она увидела перед собой пророка, предсказывавшего, что придет к ней корабль с деньгами ”. Из одного письма Лабзина ясно, что он, опубликовавший в своем «Сионском вестнике» немало переводных материалов
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
157
немецких магнетизеров, воочию наблюдал гипноз именно в секте Татариновой ”.
Мистическое перерождение человека, как и его моментальное культурное просвещение, требовали вполне определенных техник. Поэтому интерес к своеобразным психологическим методам — верчениям, медитациям, гипнозу — органически следовал из этого круга идей. Приятель Пушкина Юрий Бартенев без тени иронии называл Лабзина «опсихоложенным Тертуллианом русской земли». Риторика возрождения, перерождения, «нового человека» получает у Лабзина раннее, но вполне последовательное развитие. «Надобно совсем переродиться, совершенно перемениться и сделаться новым человеком»; перерождение создает «совсем новую натуру, противоположную свойствам ветхой натуры»,— писал Лабзин в «Сионском вестнике». Новая, творящая чудеса культура может полностью, тотально изменить старую природу человека. Общехристианская идея «нового человека» на русской почве впервые формулировалась с такой сознательностью и впервые же обрастала техническими подробностями. Отсюда совмещение тонкого западного пиетизма с интересом к отечественной практике скопцов, которые научились простой операцией радикально и необратимо менять ветхую натуру. Татаринову, между прочим, тоже обвиняли в скоплениях, что вряд ли достоверно. Она, однако, формулировала аскетические и антибрачные идеи; противники и сторонники ее свидетельствовали, что она вдохновляла членов своей общины расстаться с супругами. Даже если Татаринова и стремилась прервать контакты своей новой общины со старой, скопческой, сделать это было непросто. Лабзин, например, вплоть до 1818 года бывал на собраниях не только у Татариновой, но и у Ненастьевой, где собирались скопцы “.
158
Глава 3
Первый революционер t;
В 1795 году основатель русского скопчества Кондра-тий Селиванов вернулся в Москву из сибирской ссылки, по-прежнему называя себя Иисусом Христом и Петром III. Вскоре императору Павлу рассказали, что его отец объявился живым и оскопленным. Селиванов был разыскан и, по словам осведомленного современника, «император довольно долго, но тихо говорил с ним в кабинете» 6’. Селиванов предложил ему оскопление; Павел оскопиться не захотел и заключил Селиванова в секретный цейхгауз, где тот вел себя «скромно, тихо и набожно» 62 В 1799 году Павел приказал срочно доставить к себе другого скопца, Шилова; тот, однако, умер в то самое утро, как за ним приехали 63. После убийства Павла при дворе ходили слухи, что Селиванов имел об этом пророчество и пытался предупредить императора; однако чиновник, через которого скопец передал свое предупреждение, так испугался, что предпочел уехать из'Петербурга Придя к власти, Александр немедленно перевел Селиванова из крепости в богадельню, дав при этом годовой оклад для содержания.
Оттуда Селиванов был взят в июле 1802 года камергером Алексеем Еленским. Жизнь этого интеллектуального Калиостро уникальна даже для бурной российской истории. Советский автор причислял Еленского к числу «передовых идеологов России», чья деятельность была связана «с социально-идейным творчеством народных масс» и чью «эстафету» потом десятилетиями несли русские революционеры. «Какие же достижения обещал свободный народ на свободной, переустроенной для счастья земле!» — таким восклицательным знаком завершал А. И. Клибанов свой ученый рассказ о политике-скопце6’. И правда, если историки еще будут обсуждать вопрос, кто же был первым русским революционером, то Еленский — один из самых подходящих кандидатов.
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
159
В мае месяце 1794 года у Еленского были найдены «возмутительные манифесты» после чего он провел на Соловках около 7 лет. Из материалов следствия ясно, что Еленского подозревали в организованной пропаганде своих идей; например, он — на полвека опережая народников — собирался переодеться в крестьянское платье и идти проповедовать свой «закон».
Возмутительный манифест Еленского угрожал всеобщим народным бунтом: «Дворянский чин успел завладеть народом российским, переменить веру, спортить древние книги <...> Разве чего в аде не было, того нет в России». Наряду с классовой ненавистью к дворянству, есть здесь и более специфические объяснения народных страданий: в них слышится характерный отголосок женоненавистничества. «Сделали между собою господа совет и присягою скрепили, дабы род царской мужеского полу истреблять, а женский пол царствовал бы всегда». Режим Екатерины Великой обвинялся в «блудодеяниях, публичных и бесстыдных» и множестве других грехов. Россия была бы уничтожена подобно древней Греции, если бы не замаливалась «совершенными мужами», к которым принадлежит автор.
Новый царь с их помощью должен был устроить новую правку священных книг и примирить на этой основе все народы, включая «греков и латынников»,— то есть учредить экуменическую религию и, на ее базе, новую священную империю; упразднить все дворянские звания и привилегии, кроме царских; и ввести в России систему трех сословий — земледельцев, ремесленников и купцов, которые представительствовали бы при царе. Деньги, подати, пошлины, суды и законы подлежали отмене. Земля и ее ресурсы принадлежат всем; так «и починка дорог установится». Лишь армия сохранялась как есть. Как положено в утопии, устанавливалась общая регулярность половых сношений, но есть в тексте и следы иных настроений. Тех молитвенников при царе, которые должны были обеспечить Божью благодать, следовало из
160
Глава 3
брать из «мужей честных, невиновников, к женщинам не прикасающихся, мяса не идущих».
Остается неясным, когда Еленский оскопился и был ли он скопцом уже тогда, когда писал свою замечательную «Благовесть». Отбыв в Соловках, камергер был возвращен в Петербург, и в январе 1802 года по высочайшему повелению ему была предоставлена квартира в Александро-Невской лавре, в Митрополичьих покоях (митрополит Петербургский Михаил поддерживал контакты с Татариновой). В первые годы XIX века Еленский уже производил оскопления «над многими лицами» 67
В 1804 году действительный статский советник Лабзин был назначен директором департамента военно-морских сил **. В том же году Еленский отправил послание на имя Николая Новосильцева, ближайшего друга молодого императора. В этом послании, касающемся военно-морских дел, а на деле предлагающем проект полного переустройства русской жизни, масонски стилизованное скопчество Еленского оставило себе уникальный памятник. Искусными стилистическими средствами автор демонстрирует, что они, Еленский и Новосильцев, союзники или по крайней мере единоверцы. Нагромождая тайны, он смешивает скопческие идеи и слова с масонскими, чтобы показать Новосильцеву: их веры не только совместимы, но и нуждаются друг в друге. Стилизуясь под масонство, скопческий дискурс претендовал на глобальную религиозно-политическую роль — роль государственной идеологии (в том смысле этих слов, который станет ясен лишь целым столетием позже). «Кто не радит об отечестве, в числе живых людей да не именуется»,— писал Еленский. Российская империя и раньше была богоизбранной, теперь же объединенные усилия масонства-скопчества, Новосильцева-Еленского, поведут ее на новые подвиги. Таинственная Церковь, к которой принадлежит Еленский, выходит на свет и, ведомая Святым Духом, идет на службу Отечеству.
•!. ч . •• . •
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
161
Кадровая политика, как известно, играет главную роль в подобных проектах. «Таинственной церкви люди, вкусившие дару небесного <...> все Богом учены»,— уверен Еленский. К тому же среди них, рассказывает он, есть и «некоторое число грамотных людей». Согласно проекту, правительство таких людей стрижет в иеромонахи и определяет на корабли,— по одному на каждый корабль. Речь идет не только о перестройке военно-морского флота: в следующем абзаце Еленский говорит о «граде, корабле и полке», а потом и об армии. Дальнейшее мыслилось таким образом: «иеромонах, занимаясь из уст пророческих гласом небесным, должен будет секретно командиру того корабля совет предлагать как к сражению, так и во всех случаях». Идейное руководство светскими командирами мыслилось как скрытое, но вездесущее влияние «таинственной Церкви». Теперь Еленский осуществляет плавный переход от масонства к скопчеству. Избранные — многие, но не все — сами собой окажутся скопцами; этим Бог-отец докажет, как он «печется о народе Российском». От его лица Еленский собирается взять эти вопросы непосредственно на себя: «На меня возложена должность от непостижимого Отца светов <...> истинных и сильных набрать не только на корабли, но даже и в сухопутную армию». Итак, к каждому воинскому соединению предлагалось приставить скопческих комиссаров, которые должны были направлять и контролировать их деятельность, одновременно распространяя скопчество; все это до боли напоминает другой, столетием спустя осуществленный проект... Себе Еленский отводил место главного Иеромонаха, Селиванову же — место главного Пророка; вдвоем они должны были вдохновлять самого Государя. Проект готов: «только от Всемилостивейшего престола зависит повелеть в экзекуцию произвесть»,— заключает Еленский 69.
К «Посланию» Еленского был приложен догматический документ, популярно разъясняющий основания скопчества — нечто вроде программы партии, при
9—809
162
Глава 3
ложенной к ее манифесту. Здесь скопческие идеи, более не маскируясь, вполне доминируют над масонскими и просветительскими. «Ни малейшей новости не заводим, а старое потерянное отыскиваем»70,— убеждал в нем Еленский. Скопчество, по его определению, есть «настоящая схима, печать Духа Святого, крещение Христово духом и огнем»71. Впрочем, Еленский готов и на компромиссы. Его политический проект состоит не в моментальном всеобщем оскоплении, которое все же несбыточно. Человечество должно быть разделено на два сорта — плотских людей и духовных людей, причем вторые должны иметь безусловную власть над первыми. Духовные люди, называемые еще и «людьми обновления»72 — это, конечно, скопцы; плотские люди все остальные. Светская культура плотских людей вызывает одну только ненависть: «Не дозволяется на пиры, на свадьбы, на комедии, на маскарады, на качели ходить». Тотальная власть нужна, чтобы обеспечить контролируемую, бесполую и однородную жизнь. Она будет прерываться организованными радениями, сосредотачивающими в себе все эмоциональные функции, отмеренные точными дозами: «рабы Божии <...> паче скачут и играют, яко младенцы благодатные, пивом новым упоенные»7*.
Еленский сразу же, в 1804 году был выслан в Суздаль (где содержался в Спасо-Евфимиевском монастыре до своей смерти в 1813 году), а скопцам была объявлена «Высочайшая воля, дабы они прекратили скопление друг над другом». Селиванов же продолжал преуспевать в Петербурге в течение еще почти двух десятков лет. Он жил в роскошных домах местных купцов-скопцов, устраивая там радения, на которых собиралось до 600 человек74. Селиванов предсказывал будущее, и у его дома всегда стояла вереница экипажей, принадлежавших людям из общества.
В целом с 1774 года, когда Селиванов был наказан кнутом и выслан в Сибирь, и до 1820 года скопчество практически не преследовалось правительством. В тече
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 163
ние этого времени, полагал соловецкий архимандрит Досифей, скопцы «не оказывали ни малейшей противности в поступках своих, которые бы не согласовывались с отечественной верою» ”. Более того, в дом, где жил и устраивал свои радения Селиванов, Высочайшим повелением был воспрещен вход полиции. Когда петербургский генерал-губернатор граф Милорадович узнал, что двое его племянников, гвардейские офицеры, ходят на радения и один из них уже дал согласие оскопиться, он был не в силах сам принять необходимые меры; в результате расследование велось сотрудниками Голицына во главе с Василием Поповым, который говорил о Селиванове: «Если бы не скопчество, за таким человеком пошли бы полки полками»76. В 1820 году скопца все же выслали в один из суздальских монастырей, где он умер более чем в столетнем возрасте.
Первый поэт
Мельников (Печерский) интерпретировал проект Еленского как «установление в России скопческо-тео-кратичного образа правления» ” Милюкову он напоминал политические идеи «святых» английской революции ™. На самом деле этот проект и радикальнее, и интереснее. Мы имеем дело с беспрецедентно отважной программой, претендующей на контроль абсолютной степени: самый тоталитарный проект из всех, какие знала история утопий. Еленский не только предлагал переворот всей системы власти, государственной и духовной; он не только намеревался начать революцию с армии и флота, с тем, чтобы распространить ее после на министерства и губернии; он не только собирался организовать режим самым жестким из мыслимых способов — личной властью духовных лиц, образующих свою собственную иерархию: все это утописты предлагали, а революционеры пытались осуществить и до, и после Еленского. Но толь
9*
164
Глава 3
ко в этом проекте к внешней, внутренней и духовной политике присоединяется политика тела в ее самом радикальном и необратимом варианте — хирургическом. Даже антиутописты XX века не доходили в своих более чем радикальных построениях до этой простой и эффективной процедуры; никто, кроме Еленского, не расшифровал так прямо метафору всякой утопии; никто не разгадал ее элементарного секрета — кастрации всех под руководством уже кастрированных...
Никто, кроме Пушкина. В «Сказке о золотом петушке» Пушкин рассказал о зловещем союзе царя и скопца,— и о том, что могло бы из него выйти. Царь обращается за помощью в военных делах к скопцу-мудрецу; и тот помогает, но так, что царские сыновья убивают друг друга. Потом скопец требует от царя, в оплату услуг, отказаться от собственной любви. «Но всему же есть граница»,— отвечает царь; только его, как и многих других, это запоздалое понимание не спасло.
Некоторые детали текста прямо отсылают ко встрече Павла! и Селиванова. У Пушкина царь приветствует скопца словами: «А, здорово, мой отец». По версии скопцов, на вопрос Павла «ты мой отец?» Селиванов отвечал: «греху я не отец: прими мое дело, и я признаю тебя моим сыном»7’. Женщина, которую полюбил царь над трупами своих сыновей, в опубликованной версии сказки названа «шамаханской царицей». В черновиках «звездочет все время называется шамаханским скопцом и шамаханским мудрецом и один раз даже астраханским» *°; в беловой версии это географическое определение от скопца перешло к девице. Шемаха — область Закавказья. После присоединения ее к России в начале XIX века туда стали ссылать скопцов из разных мест России, и под Шемахой образовались известные их поселения ”. Так что шемаханский скопец — никак не восточный евнух, а ссыльный русский сектант.
С изучением этого текста, который обманчиво кажется простым, как детская игрушка, связаны самые автори
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
165
тетные для русской филологии имена. Путеводная идея Анны Ахматовой в ее чтении «Сказки» состояла в том, что речь идет о чем-то вроде сатиры или развернутой эпиграммы; что этот замысел психологически соответствует положению Пушкина в 1834 году; и что в комичном царе Дадоне поэт изобразил двух императоров, к каждому из которых у него были счеты — Александра I и Николая I. На второго же персонажа «Сказки» — скопца — Ахматова не обращала внимания. Открыв один из источников «Сказки», она не придала значения тому, что в этой легенде Вашингтона Ирвинга звездочет не был скопцом и, следовательно, этот редкий мотив был в каких-то целях введен Пушкиным. При этом Ахматова сделала важное примечание, в котором указала на встречи Александра I с Селивановым (и продемонстрировала осведомленность в этих сюжетах, обычную для ее времени), но сразу бросила тему
Согласно воспоминаниям Ахматовой, реакция специалистов на ее статью была агрессивной: они были уверены, что сказка Пушкина должна иметь отечественный источник. Но в сборниках сказок такого сюжета не оказалось, и недовольство приняло особенные формы:
мне было тяжело от грызни между пушкинистами. Вече- , ром благополучно уснешь, а утром увидишь, что тебе за ночь руку или ногу отъели... Цявловский и то стучал на меня кулаком по столу <...> Цявловский кричал мне, что это русская сказка, чем доказал только свое невежество, потому что сюжеты всех русских сказок давно известны наперечет, их можно все перебрать, как бусы на нитке...
И в русских сказках такого сюжета нет ”.
Странные впечатления Ахматовой от мира пушкинистов полны содержания. В своих позднейших статьях о «Золотом петушке» исследователи перебирали все те же бусы; но тревога, вызванная сказкой о царе и скопце, не утихала, и в своих снах пушкинисты старались избавить друг друга и, конечно, самих себя от важных членов, вое-
166
Глава 3
производя особенности вытесненного ими персонажа... Проблема возвращалась снова и снова, подобно невротическому симптому на теле пушкинистики.
Именно скопец есть тот своеобразно русский мотив «Сказки о золотом петушке», который так настойчиво искали фольклористы. Все время имея с ним дело, ни те пушкинисты, которые в 1930-х годах спорили с Ахматовой, ни позднейшие ее последователи не говорили о скопце как о центральной или хотя бы важной фигуре текстам. Конечно, случайным такого рода вытеснение, тем более многократно повторенное, не бывает. Загадочным пушкинским героем раз за разом избегали заниматься в силу устойчивого сочетания эротико-психологических и религиозно-политических мотивов; но чувствуя проблему этого текста нерешенной, все вновь обращались к нему.
Роман Якобсон подметил отсутствие скопческого мотива у Ирвинга, но объяснял пушкинское нововведение слишком просто: «тем, что звездочет — скопец, усиливается нелепость его притязаний на царицу» ”. Все же Якобсон, прослеживая трансформацию «Медного всадника» в «Сказку о золотом петушке», острее чувствовал загадку последней: «волшебник-скопец заменил Петра Великого, а петушок на спице <...> занял место исполинского всадника над скалой»в6. Если конфликт «Золотого петушка» воспроизводит конфликт «Медного всадника», то Петр и Евгений сливаются здесь в фигуре влюбленного царя. В самом деле, Дадон — тоже своего рода преобразователь, и его идея так же наталкивается на слабость человеческой натуры, только на этот раз его собственной...
Между тем Пушкин «видел <...> трех царей», и картуз с него снял Павел I; пушкинский дневник 1834 года наполнен рассказами о Павле, «романтическом нашем императоре»87. Если царь в «Сказке» — Павел, то ее «страшная картина», в которой царь, следуя советам скопца, горюет над телами друх своих сыновей, оказывается зеркальным
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
167
отражением истории. В последней все было точно наоборот: царь Павел, не послушавшийся скопца, был убит, а сыновья его остались живы и стали царями. Царь мог послушаться скопца и заключить зловещий союз; в этом случае его судьба могла быть иной, но в конце концов он бы не избежал худшего,— таков «намек» сказки. В конце ее царь и скопец гибнут вместе, как братья: царь убивает старца, а царя убивает золотой петушок, отчужденная от скопца могущественная его часть.
Что-то вроде оборонительного союза с Селивановым было у Александра I. Как знала и Ахматова, император приезжал к скопцу советоваться перед Аустерлицем. Селиванов воевать не советовал: время еще не пришло, говорил он “. Согласно скопческой легенде, Александр обращался к Селиванову и в 1812 году: скопец предсказал царю, «что Бог не допустит французам овладеть Россией, и что они будут побеждены не столько силою оружия, как промыслом Провидения, и потому действительно была неслыханная зима и многие другие явления»8’. Александр вообще был более других виновен в единственном грехе Дадона — мистической надежде на содействие высших сил (что Пушкин всякий раз'сводил к лени, а Вяземский осмеял в «Русском боге»).
Оживающая статуя
Знаменитая статья Якобсона вызывает ассоциацию с еще одним русским «мифом об оживающей статуе», название и фабула которого ложится точно в ряд с «Медным всадником» и «Золотым петушком»: с «Серебряным голубем» Андрея Белого. Игра последнего столь систематична. что кажется осознанной: кодируя новые времена и старые проблемы, золото сменялось серебром, фаллический петушок — мистическим голубем. Впрочем, на первой же странице повести Белого мы встречаемся и с самим «петушком из крашеной жести»; позднее мы узна
168
Глава 3
ем о «задорном, малиновом крыле» этого петушка; что совсем близко к «Сказке» Пушкина, и вообще петух появляется на этих страницах лишь немногим реже голубя90. В своей революционной статье 1905 года «Апокалипсис в русской поэзии» Белый скрещивал восточного дракона (японская война) с русским петухом (поджогами), а гибрид оставался призраком зловеще-веселого пушкинского петушка: «извне налетающий дракон соединится с красным петухом, распластавшим крылья над старинными поместьями в глубине России: все потонет в море огня. Призрак будет смеяться»
Прослеживая работу над черновиками, Ахматова видела в ней следы поэтических проблем, которые преодолевал автор, и признаки его внимания к отдельным частям текста. Внимание было направлено именно на скопца. Сначала он был еще более узнаваемым, но потом Пушкин освободил персонаж от излишней конкретности. В опубликованной версии сказки скопец изображен «Весь как лебедь поседелый», но в черновике было иначе: «С бородою поседелой». Ахматова трактует дальнейшие изменения так: «Затем Пушкин вспоминает, что скопцы — без бороды, и строка принимает такой вид-. „Весь наморщен, поседелый" <...> В окончательной редакции уже нет ни бороды, ни морщин» ”. Ахматова неправа: у скопцов, кастрированных взрослыми, бороды росли. На портрете-иконе, который был во многих скопческих домах и потом не раз публиковался, Селиванов изображен как седой, морщинистый старик с жидкой бородой.
Вполне вероятно, что царь Дадон — суммарный образ русского царя, склеенный из разных черт известных Пушкину монархов; существеннее то, что Дадон условен, а центральная и исторически верная фигура «Сказки» — не царь, а скопец. Есть, впрочем, в сказке и еще один персонаж — девица, такое же орудие скопца, как его петушок. Это она свела с ума царских сыновей, убивших друг друга; и в нее влюбляется царь над их трупами... Впрочем, она довольно безлика, и не она интересует автора: лю
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 169
бовь Дадона передана самым элементарным способом: «Покорясь ей безусловно, Околдован, восхищен <...>». Возможно, что Пушкин знал слухи о романе Татариновой, вышедшей из общины Селиванова, с Александром Павловичем. В этом треугольнике — Александр. Селиванов, Татаринова — движется действие «Повести о Татариновой» Анны Радловой; в подобном же пространстве — интеллигент, сектант, его женщина — живет «Серебряный голубь». С другой стороны, в Петербурге у Селиванова была некая «девица замечательной красоты», мещанская жена, разведенная с мужем за распутство. Она выдавала себя то за богородицу, то за царевну, а те, кто в прошлом веке пересказывал эту историю9S, упрекали Селиванова, что в своей пропаганде он не брезговал и женским соблазном. Именно это делает скопец из пушкинской сказки.
Возможно и то, что Пушкин не имел в виду ни Татариновой, ни селивановской царевны, а выдумал девицу (или взял ее в готовом виде у Ирвинга), чтобы дать свой «добрым молодцам урок»: тот, кто принял помощь скопца, будет вынужден расстаться со своей собственной сексуальностью; тому, кто хочет изменить природу ради власти, придется иметь дело со своей собственной природой. Выстроив странный треугольник из царя, скопца и красавицы (треугольник, в который четвертым членом вторгается откровенно фаллический петушок), поэт создавал не перевод арабской сказки, не сатиру на лень царя и бесплодность мистики, а совсем иное: метафору тотального контроля над полом, первую русскую антиутопию.
Сто лет чары >
I • < му •’( - ' .< ; •
Если Пушкин знал историю Еленского и его потрясающего проекта, то о ней могла напомнить забавная ситуация, случившаяся при дворе в апреле 1834 года.
170
Глава 3
Праздновалось совершеннолетие наследника, будущего Александра II. Присягу его сочинял митрополит Филарет, который, как сообщает «Дневник» Пушкина, включил сюда такой текст из Писания: «царь собрал и тысящ-ников, и сотников, и евнухов своих». В отношении последних обер-гофмаршал двора «сказал, что это искусное применение к камергерам». Пушкин не объяснил, на каком основании Кирилл Нарышкин именно так интерпретировал замысел Филарета; история камергера-скопца Еленского могла бы быть, как кажется, разумным комментарием к этому месту «Дневника». Слово «евнух» в присяге будущего императора заменили; «всегда много смешного подвернется в случаи самые торжественные»,— заметил Пушкин<м; через несколько месяцев был закончен «Золотой петушок».
Как и будущих его последователей — акмеистов, Пушкина интересовала жизнь тела: удовольствия и беды, которыми тело разнообразит мужскую жизнь; метафоры, которые тело предоставляет поэту”; эксперименты, которые проводит над телом природа и культура. В Бендерах на поэта произвела, как вспоминает бывший с ним тогда Иван Липранди, «сильное впечатление» история штабс-капитана Созоновича. Последнего судили за то, что он, используя служебное положение, оскопил «до тридцати» солдат («противоположным», по формуле Липранди, был случай капитана Борозды, который распространял в своей роте «содомитство», и ему Пушкин посвятил известную эпиграмму) *. Встретив на Кавказе русского, который был оскоплен турками и служил евнухом в гареме, Пушкин расспрашивал его с вниманием эксперта: «В физиологическом отношении показания его были драгоценны»,— скупо, но весомо сообщает нам «Путешествие в Арзрум». Прослышав, что среди пленных есть гермафродит, поэт настоял на встрече с ним, осмотрел его вместе с лекарем и сообщил результаты обследования на профессиональной латыни97.
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
171
Информации о раскольниках и скопцах у Пушкина было достаточно. Путешествуя по Оренбургскому краю вместе с Владимиром Далем, Пушкин общался там с людьми, которые приняли его за антихриста; под их влиянием Пушкин отрастил бороду — с петровских времен дело необыкновенное для дворянина — и даже собирался показаться в таком виде жене. Раскольничья и разбойничья романтика волновала Пушкина98; Ю. М.Лотман даже подозревал, что между разными главами романа Пушкин предполагал отправить Онегина в главари волжских разбойников". Встретив лидера мусульманской секты, которая поклонялась дьяволу, не признавала книг, устраивала ритуальные оргии, Пушкин проинтервьюировал язида, а потом сделал обширный обзор литературы об этой секте 10°. Стилистика и многие подробности этого удивительного текста читаются как пародия на сочинения российских сектоведов, последователей Фотия... К этому стоит добавить, что спутники Пушкина по его путешествиям — Липранди и Даль — потом стали чиновниками, профессионально занимавшимися русскими расколом и, в частности, скопчеством. Иван Липранди 101 с 1828 был чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел, а впоследствии — председателем министерской Комиссии по делам раскольников, скопцов и других сект; Владимир Даль работал в той же комиссии. Оба писали, среди прочего, о скопцах. И оба, как признавали пушкинисты, подсказывали поэту некоторые его сюжеты.
Но с привязкой пушкинской «Сказки» к историческому сюжету о Еленском и его проекте связана хронологическая проблема. «Сказка о золотом петушке» написана Пушкиным в 1834. Комиссия Липранди была учреждена в 1843. Даль выпустил свою книжку о скопцах102 в 1844 году. Липранди обнаружил рукописи Еленского в 1851 и опубликовал их в 1867. Таким образом, Пушкин не мог читать те документы Еленского, которые, благодаря стараниям Липранди, известны нам. Что же касается других
172
Глава 3
сюжетов, связанных с особыми отношениями между Селивановым и императорами Павлом и Александром I, то знакомство с ними Пушкина представляется вполне возможным.
Липранди не зря называли первооткрывателем русского скопчества; это он «своими исследованиями первый пролил свет на темную секту белых голубей, до него совершенно почти неизвестную» ’°’,— вспоминал наследовавший его должность в Министерстве внутренних дел Мельников (Печерский). Очевидно, что прежде, чем основать комиссию по столь экзотической проблеме, надо было достаточно долго доказывать ее необходимость. «У меня есть много любопытных сведений о скопцах; жаль, что все это должно у меня пропадать. Дикое, бессмысленное изуверство этого толка весьма примечательно»,— писал Даль до того, как сумел издать свою книгу 104. Когда и в какой степени стала известна в кругу близких к правительству интеллектуалов, в который входил Пушкин, история 1804 года?
Послание Еленского, до того как достаться Липранди, хранилось в бумагах председателя Государственного совета Новосильцева. В расследовании дел Еленского и Селиванова участвовали такие известные в свете люди, как князь Голицын, граф Милорадович, Василий Попов. Другие информированные участники событий, как Мартын Пилецкий — давний лицейский враг Пушкина, или Александр Тургенев — его близкий друг, тоже не имели особых причин молчать об этой, увлекательной истории. Сам Липранди позже указывал, что хотя его Комиссия не знала в точности, чем Еленский провинился более других скопцов, на него все еще указывали как на оскопите-ля, и вообще с его именем была связана «тайна»10’. Наконец, на сектантов из общества вновь начались гонения: Дубовицкий арестован в 1833, община Татариновой разогнана в 1837. Таким образом, хотя Пушкин в 1834 году и не мог читать документы, с которыми его приятель Липранди ознакомился значительно позже, он мог слы
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
173
шать о существовании этих бумаг, об их авторах, о делах этих людей и об их отношениях с властями. Для поэта этого достаточно; тем более, для такого поэта, который работает в архивах, собирает устную историю и обдумывает планы монографий о нескольких царствованиях.
Значение «Сказки о золотом петушке» подчеркивается временем и местом ее написания: Болдинская осень 1834 года. Этот сезон, в отличие от предыдущих, не увенчался особой продуктивностью: сказка — единственные написанные тогда стихи. Обычно в этом видят следствие творческого кризиса, но можно увидеть и причину необычайной концентрированности получившегося текста. Свою последнюю сказку Пушкин писал параллельно с «Историей Пугачева», и «Сказка» стала философским резюме, которого не хватает в «Истории»: как поэт, Пушкин высказал метафорами то, чего не мог написать как историк и автор ученого сочинения, цензором которого был Николай. Именно тогда, работая над пугачевскими текстами, Пушкин узнал многое, что отныне и надолго вперед заняло русскую мысль: варварство и непредсказуемость российского пространства; тяжесть цивилизующей роли государства; соблазн народной мистики, обещающей решить все проблемы самым легким из способов. Пушкин, почувствовав влекущую силу этого соблазна, первым понял его опасность.
В «Золотом петушке» Пушкин-историк заставил Пушкина-поэта спародировать собственное увлечение народным героем, которому он еще отдаст должное в качестве прозаика, автора «Капитанской дочки». Это увлечение Цветаева называла точным словом «чара». Чара иррациональна, мистична, гипнотична; «чара — старше опыта»106. Так Цветаева объясняла любовь русского ин-теллигента-к народу; «под чарой» Пушкин писал «Капитанскую дочку», а Блок — «Двенадцать». Цветаева даже подобрала к «Капитанской дочке» «ретроспективный эпиграф» — «Мужик» Гумилева; это стихотворение 1917 года с восторгом и любовью рассказывало о Распутине.
174
Глава 3
«И чара та же... И так же поддался сто лет спустя этой чаре — поэт» 107писала Цветаева. Из этого очерка 1937 года очевидно, насколько «чара» близка самой Цветаевой и в какой степени рассуждения о Пугачеве нужны были ей тогда для принятия тяжких решений. Подгоняя Пугачева под Распутина и заостряя тенденцию «Капитанской дочки» 10в, Цветаева-историк шла на искажения, которые, в отличие от ее коллеги Пушкина, вряд ли контролировала.
Между тем Цветаева искусно показала, как умел сдерживать Пушкин свои чувства, когда становился историком. Согласно ее анализу, Пушкин никак не проявил за-чарованность народным бунтом в «Истории Пугачева», но отдался «чаре» в «Капитанской дочке». Понятно, почему Цветаева проигнорировала в своем анализе «Сказку о золотом петушке», которая дает иную версию, не умещающуюся в цветаевскую схему: Дадон находится здесь именно «под чарой», но это ведет не к спасению царства, а к гибели и царя, и его (вновь пользуясь цветаевским термином) Вожатого.
Как всегда, в выборе текста для чтения и в способе чтения драматически проявились различия жизненных позиций. Ахматова в Ленинграде, борясь с ненавистной, столь прозрачной для нее «чарой», занимается ироничным «Золотым петушком» так, чтобы вполне отрезвить его текст, изгнать из него элементы национальной мистики, представить его как заимствование и сатиру. Цветаева в Париже, неотразимо влекомая этой самой «чарой» и, соответственно, влюбленная в зловещего героя «Капитанской дочки», привносит в тщательно уравновешенный текст последней недостающие магию и народность. , . ' к < '
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
175
Хилковы и Ефимовичи
Непосредственный контакт образованных людей александровского времени с мистиками из народа бывал глубок й психологически насыщен. На Д. Н. Свербеева, орловского помещика, выросшего в своем имении, произвел впечатление местный сторож Зиновий Ефимович, «загадочный человек, соединявший в себе и врачество, и учительство, и разные таинственные знания». Личность его «пугала меня в младенчестве, занимала своими странностями все мое отрочество и на всю жизнь так и осталась какой-то неразгаданной загадкой»,— вспоминал Свербеев ’°’. Более того, решив — в преклонных летах — рассказать об этом человеке в своих мемуарах, он в ту же ночь увидел его во сне. Зиновий Ефимович был чрезвычайно худым стариком огромного роста (примерно так описывали и Селиванова); он «был изломан во всех своих суставах и к тому же заика», при каждом слове делавший конвульсивные гримасы; «в такие минуты он в самом деле становился страшен». Этот персонаж, словно сошедший в орловскую деревню из готического романа (или наоборот, входивший в романы из деревенской юности их авторов), был «неравнодушен к прекрасному полу»; к тому же он лечил «от всех болезней и особливо женских истерических» (хотя лечить лекарствами было ему запрещено помещиком, а отчитывать кликуш — местным священником). Он также учил крестьянских детей азбуке и молитвам: «учиться грамоте отдавали к нему охотнее, чем в нашу новую ланкастерскую школу». От всех дворовых он отличался своей трезвостью. Более чем вероятно, что он принадлежал к одной из русских сект, скорее всего, к хлыстам.- «ему приписывали всякую чертовщину, я же, напротив, знал его за человека набожного и прилежного к церкви»,— вспоминал Свербеев. Положение его при дворне было нелегальным: он не был
176
Глава 3
крепостным. Исправники нескольких поколений, «Пораженные присущей этому Зиновию какой-то тайной», оставляли его в покое.
В 1817 году к Свербеевым приехал молодой Дмитрий Хилков, отпрыск знаменитого княжеского рода. «Хилков не принадлежал, кажется, ни к какой секте, но по своей природе был способен ко всякой религиозной мечтательности»; в последнюю он был увлечен сначала гувернанткой, которая была «гернгутерского толку», потом баронессой Крюденер, а потом — Зиновием Ефимовичем. «Хилков по склонности своей ко всему чудесному долго ухаживал за Зиновием <...> вызывал его к себе на беседу в длинные зимние вечера и подпаивал чаем с ромом». Князь, ровесник старших декабристов, считал, что Зиновий был «простодушным последователем <...> масонской премудрости»; такие «подозрения на счет его запали глубоко и никогда не уничтожались». Вернее думать, что Хилков распознал в Зиновии то же загадочное родство, которое Голицын чувствовал в Селиванове, Татаринова в Федорове, Гринев в Пугачеве, князь Мышкин в Рогожине, а Романовы в Распутине,— ту мистическую притягательность народа, которая стала причиной множества событий русской истории. Как писала Цветаева, среди многих других отдавшая свою жизнь этой «чаре»: «живой мужик — самый неодолимый из всех романтических героев» 1И>.
Символизируя преемственность, идущую сквозь столетие, потомок этого князя, другой Дмитрий Хилков, из гусар стал сектантом, эсером, толстовцем. Он раздал свое имение крестьянам, был сослан к закавказским духоборам, потом в эмиграции учил социалистов военной тактике и в конце концов, вернувшись к православию, погиб в кавалерийской атаке на поле Мировой войны. Дня таких людей, как Хилков, давние уже события имели значение непосредственной политической и духовной реальности: «для меня нет никакого сомнения, что старец Федор Кузьмич был, действительно, император
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 177
Александр I. И мне жаль, что это не объявлено, ибо для народа он, несомненно, был бы святой; и это намного подняло бы престиж царской власти» 1П,— писал Хилков в свой ортодоксальный период, в 1913 году.
Он имел в виду легенду об уходе и опрощении императора, который не умер, а стал святым странником вроде Зиновия Ефимовича или, может быть, пушкинского скопца-звездочета: в самом деле, что бы стало с Дадоном, если бы он отдал скопцу свою девицу? Миф этот дал начало множеству текстов, которые сами по себе достойны внимательного изучения. Лев Толстой думал и писал об уходе Александра незадолго до своей смерти112, что, вероятно, сыграло свою роль в его собственном уходе. Один из разделов книги Александра Добролюбова «Natura naturans. Natura Naturata», написанной незадолго до его ухода, посвящен «Федору Кузьмичу, великому служителю Бога»113. Обычно в этом видят свидетельство хороших отношений Добролюбова с Ф. К Сологубом1М; возможно, Добролюбов в своем посвящении имел в виду обоих Федоров Кузьмичей. Ни Мережковский в «Александре!», ни Радлова в «Повести о Татариновой» чудесную судьбу императора, которая слишком буквально превращает царя в хлыстовского Христа, описывать не стали; а Бердяев считал эту легенду «очень русской и очень правдоподобной»
Идея Хилкова-старшего, который объяснял феномен своего Зиновия Ефимовича тем, что раньше, до того как стать крестьянином, он был масоном, аналогична мифу о перевоплощении Александра Павловича в Федора Кузьмича. У них были и предшественники, и последователи. Как рассказывал Пришвин в 1907 году116, бегуны одного из согласий (странники-христолюбцы) живут в миру обыкновенной жизнью, а перед смертью обязаны для своего спасения уйти в бега, стать скрытниками. В июне 1916 года сам Распутин вернулся к этой теме. Он уверял своих поклонниц, что через пять лет скроется в
10—809
178
Глава 3
глухом месте и «там будет спасаться, строго соблюдая устав древней подвижнической жизни»,17.
Среди тех, кто верил в перевоплощение Александра и просчитывал политическое значение такого факта, буде он официально признан — крупнейший биограф императора, Николай Шильдер. «Установленная этим путем действительность оставила бы за собою самые смелые поэтические вымыслы <...> В этом новом образе, созданном народным творчеством, император Александр <...> представился бы самым трагическим лицом русской истории» 118. В этом финальном аккорде 4-томного труда Шильдера слышна поразительно необычная нота. Автор знает, как создать такую действительность, которая превзойдет самые смелые вымыслы. Сын военного инженера, любимца Николая I, изобретавшего подземные мины и подводные лодки (мины не взрывались, а лодки не плавали, и генерал проявлял чудеса храбрости обычным способом), Шильдер нашел свой способ служения Отечеству: переизобретение его истории. Жизнь его ампирного героя, уверен Шильдер, «могла бы послужить основой для неподражаемой драмы с потрясающим эпилогом». История пишется в сослагательном наклонении и открыто, без колебаний подчиняется законам поэтики. С тактом, соответствующим серьезности своего предложения, автор выступает в роли скромного прожектера и, высказав свои аргументы, оставляет последнее слово на усмотрение власти: Николаю II решать, увенчается ли путь Александра! «небывалым загробным апофеозом, осененным лучами святости» 119. Канонизация императора, основанная не на его военных победах, а на его мистическом опрощении, немало облегчила бы жизнь потомкам и последователям, пытавшимся сочетать царскую и пророческую роли новыми способами.
Идеологическое значение легенды о Федоре Кузьмиче в эпоху, готовившую Распутина, очевидно. Политическая ситуация требовала исторического оправдания. Перевоплощение царя в старца дало бы обоснование союзу
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
179
царя и старца. Опрокинутый в прошлое сюжет естественно принимал фольклорный характер. Прецедент Федора Кузьмича доказывал бы не только близость, но и обратимость царя и пророка; не только их совместимость друг с другом, но и возможность (взаимных?) переходов между этими состояниями. Как обычно, история оказывалась средоточием борьбы между дискурсами, претендующими на власть.
Около 1915 года архимандрит Алексий (Кузнецов) составил книгу «Юродивые святые Русской церкви», в которой утверждал, что у некоторых святых «юродство проявлялось в форме половой распущенности»“°. Автор пытался защитить свой труд в качестве диссертации в Петербургской Духовной Академии, но потерпел неудачу. Зато в экземпляре, который показали главному священнику русской армии Георгию Шавельскому, рукою императрицы были подчеркнуты фразы о распущенности святых старцев. Шавельский понял, что вся книга написана «в оправдание Распутина».
Было бы интересно узнать, почему Николай II не воспользовался той возможностью легитимации Распутина, которую предоставляла история Федора Кузьмича. По поручению царя официальную версию жизни Александра 1121 писал Николай Михайлович Романов, бывший, по его собственным словам, «почитателем и приятелем» Шильдера. Отличавшийся независимым поведением, великий князь без успеха выступал против Распутина. Стоящие за Распутиным силы этот историк понимал вполне профессионально, считая, что «влечение к этому коварному старцу было подсказано мотивами, в конце концов, недурными»: тяготением двора к «черноземной, мистической силе» 122. О характере его взглядов говорит то, что в 1917 году он в качестве тамбовского землевладельца намеревался представительствовать в Учредительном собрании и вел об этом переговоры с Керенским; вскоре он был расстрелян большевиками в Петропавловской крепости 123
ю*
180
Глава 3
Возможно, отказ придать официальный статус легенде о Федоре Кузьмиче был личным решением Николая Михайловича, не желавшего таким способом участвовать в стабилизации положения Распутина1М. «Сознаюсь откровенно, что и пишущий эти строки много лет увлекался той же легендой»,— признавался Николай Михайлович по поводу Федора Кузьмича. Но, продолжал высокопоставленный историк, результаты изысканий оказались «обратны тому, на что мы возлагали надежды» *2’. В это время Николай Михайлович предпочитал уже забыть прежние чувства: «Мы недоумеваем, зачем понадобилось почтенному и симпатичному Николаю Карловичу <Шильдеру> <...> подводить все обстоятельства <...> под известную специальную призму». Та столетней давности история, которую изучал великий князь, не подтвердила романтического мифа; а та история, в которой жил и, кажется, неплохо разбирался сам историк, доказывала ему опасность легитимации престола подобными средствами. В результате, теряя присущую ему солидную сдержанность, Николай Михайлович восклицал о версии превращения Александра I в сибирского старца.- «Даже зарвавшаяся фантазия должна иметь пределы!» 126 (любопытно, как близки его чувства пушкинскому царю Дадо-ну с его замечательным.- «Но всему же есть граница!»).
Опере Римского-Корсакова «Золотой петушок» перед ее постановкой в 1909 году сопутствовало множество цензурных неприятностей; вероятно, слишком близок оказался сюжет к текущим и готовившимся событиям. И действительно, сама история осуществляла старое пушкинское либретто в невиданном еще жанре, сочетавшем грандиозность оперы с пошлостью кабаре: старец оборонял страну, указывая царю направления главного удара; он то и дело показывал своего петушка127, и его даже хотели сделать скопцом,2в; он забирал у царя его царицу; и в конце концов погиб, а за ним и царь. Как писала царю царица в июне 1915 года, имея в виду, вероятно, не Пушкина: «Помнишь, в книге (которую мы читали), сказано,
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
181
что та страна, Государь которой направляется Божьим человеком, не может погибнуть» *”
Творимая легенда
Одним из членов общины Татариновой был Александр Дубовицкий, персонаж интересный и сам по себе, и как вероятный прототип загадочного и идеального Георгия Триродова, героя Федора Сологуба. Исторический Дубовицкий, подполковник и богатый помещик, был арестован первым из петербургских мистиков, в 1824 году; без суда его отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, где держали два года. Выйдя оттуда, с 1829 он держал тайное учебное заведение в Москве и внедрял там своеобразные религиозные и педагогические практики. «Дом этот, при осьми разных строениях, был расположен между цветником на улице Шаболовке и садом <...> до самой Серпуховской заставы. Он постоянно надстраивался, пристраивался, и Дубовицкий рассказывал всем, что купил его близ Донского монастыря потому, что в нем погребена его жена. Вел он жизнь совершенно уединенную <...> под надзором полиции»,— сообщает источник *30. С Шаболовки дом Дубовицкого представлялся двухэтажным, но на деле, в результате пристройки антресолей и подвалов, в нем было пять этажей. «Нижний этаж был собственно подвал, обращенный в жилые комнаты и разделенный коридором на всем протяжении». При обыске в комнатах быти найдены литографический станок, анатомические рисунки, запас провизии и, наконец, «распятие хорошей живописи, вышиною в четыре аршина». Проверявший его жандармский генерал Волков сообщал: «Дом Дубовицкого может сравниться с лучшим монастырем, ибо в нем царствует благочестие, совершенная тишина и строгий во всем порядок. Все живущие имеют вид кроткий и веселый <...> никто и никогда не употребляет горячих напитков и в пищу мяса» *31. «По-
182
Глава 3
светскому я — барин, а по духовному — всем равен»,— говорил Дубовицкий крестьянам, среди которых проповедовал, и «давал пример своим обращением, называл всех братьями и сестрами, целовал всех, как равный им и даже как меньшой»132.
В 1829 году высочайшим повелением школа Дубовицкого была безусловно запрещена133. Он, однако, продолжал ее держать, превратив в закрытое, тщательно охранявшееся, окруженное тайной учебное заведение. В январе 1830 года в доме был произведен обыск, но и он не дал результатов. Тогда же Дубовицкий женился на 45-летней девице Лихониной, которая через несколько месяцев вернулась в дом своей матери. Потом на следствии говорилось, что по правилам секты муж с женой должны жить как брат с сестрой, а Лихонина принять этот порядок не пожелала и предпочла расстаться с таким мужем 134. Московский генерал-губернатор сообщал митрополиту Филарету: «Дубовицкий, принадлежащий к секте Татариновой, превратным толкованием Евангелия соблазнял некоторых женщин к оставлению своих мужей» 13’.
Под влияние Дубовицкого попало высокое духовное лицо, инспектор Московской Духовной Академии архимандрит Платон. Он познакомился с Дубовицким будучи еще женатым священником, после этого отец Платон и его жена «начали переменять образ своей жизни». Овдовев, Платон принял монашество и отдал Дубовицкому на воспитание своих детей, а также и капитал. Митрополит Филарет требовал, чтобы подчиненный ему архимандрит забрал детей у Дубовицкого. Платон отказывался сделать это, уверяя: «от сношений с подполковником Дубовицким я не только не получил вреда какого-либо, но чудным образом назидаюсь во спасение». В конце концов архимандриту из-за его связи с Дубовицким пришлось переехать на Валаам. Между тем на подполковника доносит обер-священник Василий Кутневич; Дубовицкий за ним «особенно ухаживал, надеясь приобрести в
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
183
нем защитника, но на самом деле нашел в нем обличителя» 1з6.
Некий Артамон Алексеев, отставной матрос, состоявший при Дубовицком, потом показывал на следствии: «видел я, что Дубовицкий носит на теле вериги, сечет себя кнутами при преданных ему». Этот Алексеев соблазнил двух горничных, которые, как он показывал, отдались ему мистически, «яко мученицы»; за это он был сослан на бессрочные крепостные работы. Теперь слухи о разврате в секте Дубовицкого нашли подтверждение. «Мнение общее о Дубовицком и его секте такое, что он в себе заключает две,противоположности — ханжи, поселяющего разврат»,— доносил жандармский полковник137
Удивленный более всего непослушанием подчиненного ему архимандрита Платона, Фйларет (который вообще-то относился снисходительно к хлыстам и даже к скопцам13в) возбудил новое дело против Дубовицкого. В апреле 1833 года московские жандармы ночью оцепили усадьбу и проникли внутрь, застав хозяина спящим. Обыск обнаружил в доме 68 человек разного звания, возраста и пола, включая 6 учителей-иностранцев и немалое количество детей. На допросах было установлено следующее.
Дубовицкого считали в секте Возрожденным, а сам себя он называл Спасителем. Старшая дочь его звалась в общине Богоматерью. Пророком был некий Иван Павлов, «бродяга из духовного звания». В доме часто бывали приезжие крестьяне из рязанских сел, которые принимались с почетом. По учению секты, брачное сожительство считалось делом греховным, и никто в доме не жил супружеской жизнью. У большого распятия, на котором Христос был изображен с кровавыми следами от ударов бича, проходили общие моленья; во время этих молений Дубовицкий и Павлов одевались в белые рубахи. На общих собраниях у распятия все живущие в доме читали священные книги и пели псалмы. Кроме того, девять до
184
Глава 3
веренных лиц участвовали, согласно жандармскому следствию, в особых обрядах: «одевались в белые одежды, секли себя для умерщвления плоти и кружились около чана с водой до тех пор, пока не падали от изне-139 можения» .
Дети получали суровое воспитание, их ежедневно наказывали розгами и плетью, причем часто дети секли друг друга. Приводимые исторические подробности вполне во вкусе Сологуба, например, «плеть, у которой концы с смоляными шишками» или сечение 10-летней девочки ее 16-летней сестрой «розгами до того, что из нее текла кровь; такое наказание повторялось в неделю три раза». Мальчиков и девочек учили раздельно, с родственниками общаться им воспрещалось, и в церковь они не ходили. В предупреждение развития пороков молодости, девочки носили днем и ночью особые панталоны с замочком. На ночь всем детям завязывали руки на груди мо. Преподавательский состав был смешанным: были здесь и иностранцы, и крепостные люди. Все они «настолько предались его учению, что добровольно подвергали себя посту и затворнической жизни». Одна из учительниц говорила на следствии, наверное, с немецким акцентом: «Дом Дубовицкого есть необыкновенный, и другого подобного в мире нет». Высочайшим повелением Дубовицкий был вновь сослан в монастырь и так, переезжая из одной обители в другую, провел почти 10 лет. В июле 1842 года он был наконец отдан на руки своему сыну, знаменитому профессору-хирургу. В Высочайшем указе от 21 мая 1841 года министру внутренних дел предписывалось брать в опеку имения помещиков, обличенных в отступлении от православия, причем инакомыслящий помещик не мог более иметь в услужении православных; при возвращении помещика к православию эти меры теряли свое действие141
Суда над Дубовицким не было, сам он все отрицал, и верить или не верить этим материалам — дело каждого читателя; нас же интересует лишь один вероятный чита
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
185
тель — Федор Сологуб. Предположение о том, что история Дубовицкого была важна для Сологуба при написании «Творимой легенды», основано на сходстве отдельных сюжетных линий романа с историческими сведениями, которые были вполне доступны Сологубу (на грани веков статьи о Дубовицком обильно печатались в периодике — «Вестнике Европы», «Русской старине», «Русском архиве» и т. д.). Полемическое отношение Сологуба к Мережковскому, ясно прослеживаемое и в «Творимой легенде» М2, тоже могло способствовать тому, чтобы противопоставить «Христу и Антихристу», с запечатленным в нем агрессивным отношением к русскому сектантству, позитивный и даже идеальный образ, в котором зашифрован легендарный сектант эпохи Александра I.
Связь времен скрепляется в романе фигурой маркиза Телятникова, старца-ревизора, приехавшего инспектировать губернию. Его биография рассказана с энциклопедической точностью. Он родился в 1745 году, в 1905 — время действия романа — ему было 160 лет. В 1812 он был назначен членом Государственного совета и после этого — министром разных министерств, в том числе просвещения, как Голицын. Телятников подружился с Триродовым, но и последнему не удалось продлить жизнь маркиза-ревизора.
Идеальный герой русского символизма — директор школы, черный маг и социалист-подпольщик — Триродов в тексте романа ассоциируется с сектантами: враги обвиняют его в связях с хлыстами, но в другой раз он и сам ссылается на обещание «мира чаемого и вожделенного», которое он слышал «у раскольников и сектантов» и не находил у православных монахов143. В фамилии мистика можно услышать намек на воплощение в нем трех сущностей — например, духа, души и тела или трех ипостасей Троицы,— что совпадает с хлыстовской идеей «человекобожия».
Оба, Триродов и Дубовицкий — богатые русские помещики, поставившие свое состояние на службу некоей
186
Глава 3
мистической или даже демонической практике; оба содержат в своих имениях таинственные учебные заведения, тщательно охраняемые от постороннего глаза; оба изобретают и практикуют странные, так и остающиеся неясными ритуалы; оба вызывают подозрения в сексуальном разврате, хотя сами энергично отрицают его; в обоих случаях школы-приюты подвергаются полицейскому обыску и разгрому. Дом Дубовицкого тоже немало напоминает фантастическое жилье Триродова; интересной деталью является и тяга подполковника к могиле своей жены. Есть между Дубовицким и Триродовым черты и более поверхностного сходства: оба были дважды женаты, оба привлекли на свою сторону одного священника и были преданы другим, и тут и там фигурируют белые одежды и одаренный особыми способностями сын... В обеих историях почетное место занимают бичевания. Дубовицкий осуществлял свои педагогические проекты через девушек-учительниц точно как Триродов: пригласив к себе «двух наиболее приверженных к . нему девиц <...> <и> продержав их у себя в доме около пяти недель, он поселил в них свои мысли и правила и укрепил их так, что они признали в нем божественного <...> и беспримерного человека»144. Оба, Триродов и Дубовицкий, писали стихи; историки не раз печатали романтическое стихотворение Дубовицкого, которое вполне могло нравиться Сологубу,4’.
В нравах педагогических общин Дубовицкого и Триродова немало и различного. Самой большой разницей на поверхностный взгляд кажется манифестируемый Сологубом и его героем культ тела — красивого обнаженного женского и юношеского тела. Босые, полуодетые, а иногда и вовсе обнаженные учительницы в школе Триродова ассоциируются скорее с ницшеанским дио-нисийством, чем с толстовским опрощением; их вряд ли бы одобрил Дубовицкий, который носил вериги и механическим путем защищал девственность своих воспитанниц. Но и у Сологуба эстетическое созерцание тел
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
187
отнюдь не плавно перетекает в их половые отношения, которые почти напрочь вытеснены садомазохистской эротикой. Дети в школе Триродова ведут себя как бесполые существа, хотя упоминаются, кажется, одни мальчики; часть их, под названием «тихие дети», вообще являются оккультными персонажами, пришедшими с того света (что не помешало критикам упрекать героя Сологуба в содомском разврате с учениками). Вообще, гетеросексуальная практика в романе Сологуба — удел самых пошлых его персонажей. На этом фоне отношения Триродова с его женой Елисаветой изображены с редким целомудрием: супруги предаются мистическим подвигам, в сравнении с которыми сексуальная сторона их любви кажется излишней.
Не время быть протестантами
Деятели, группировавшиеся в 1810-х годах вокруг Голицына, пытались осуществить необычно широкий религиозно-культурный синтез, в который входили модные мистические искания протестантской Европы, с одной стороны, и тайные верования русского простонародья, с другой стороны. В их идеях и практиках очевидны антипросветительские мотивы, вместе с тем их отличал собственный, достаточно оригинальный утопизм. В отличие от консервативной утопии пришедших им на смену славянофилов, идеологи голицынского министерства рассчитывали не на изоляцию страны, а наоборот, на ее открытость современным им духовным течениям Европы, прежде всего — протестантским. Действительно, те, кого расплывчато называли в то время «мистиками» (а позже прозвали «обскурантами»), чаще всего были протестантами или находились под их влиянием. В этом свете, видимо, и воспринималось отечественное сектантство, в котором видели опору для предстоящей евангелиза-ции страны.
188
Глава 3
«Беспристрастный наблюдатель <...> должен был' однако же сознаться в том, что новое на Руси „Библейское общество" влекло всех и каждого прямою дорогою на сторону протестантства <...> Необъятную всероссийскую паству подчинили влиянию английскому и кальвинско-му, забыв, что в России существует церковь»,— писал Александр Стурдза 146. Молдаванский боярин и русский чиновник, Стурдза продолжал свои любопытные воспоминания, имея в виду 1812—1816 годы; «Мистики, управлявшие совестью Голицына, заключили с Библейским обществом теснейший союз, не только оборонительный, но и наступательный». По его мнению, православная церковь «не устояла бы в такой неравной борьбе, если бы <...> не возгорелась борьба между нашими тогдашними наветниками», которые классифицировались на иезуитов и мистиков. «Партия иезуитов громко обличала нас в отпадении в сторону безначальной реформации»,— вспоминал Стурдза, а Жозеф де Местр в донесении своему королю обвинял Сперанского в исполнении «велений той обширной секты, которая стремится погубить монархию» М7. В этой борьбе с внешним врагом Голицын действовал куда эффективнее, чем потом в борьбе с внутренним: высылка иезуитов из Петербурга в декабре 1815 года и запрет ордена в марте 1820 пришлись на время максимального его влияния14в.
Ревизии подверглась и самая трудная часть имперской религиозной политики — отношение к русским сектам и старообрядчеству. В течение всего царствования проводилась последовательная политика покровительства в отношении духоборцев и молокан (начатая в 1801 году Иваном Лопухиным м*). В 1820 году был создан Секретный комитет по расколу. Учреждения примерно такого правительственного органа добивались богатые уральские старообрядцы. Комитет, собиравшийся под председательством Голицына, включал также министра внутренних дел В. П. Кочубея, генерал-губернатора Петербурга графа М. А. Милорадовича и двух церков
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
189
ных иерархов — петербургского митрополита Михаила Десницкого и Филарета Дроздова, бывшего тогда епископом Твери; участвовал в заседаниях и М. М. Сперанский Комитет пытался выработать некую правительственную политику в отношении раскола, надеясь согласовать действия церковных и светских властей. Хотя решения Комитета часто кажутся жесткими, само его существование открывало раскольникам возможность прямого обращения к царю и его высшим сановникам, минуя обычное посредничество Синода.
Такова была позиция официальных кругов в годы, непосредственно следовавшие за Отечественной войной, когда — под влиянием этих идей и в продуктивной борьбе с ними — рождалась новая русская литература. Важной частью этого любопытного проекта, родившегося и умершего в Санкт-Петербурге, была, в соответствии с духом места, религиозно-культурная терпимость. Космополитическая и даже экуменическая ориентация этой политики нашла свою кульминацию в идее Священного Союза, что много раз отмечалась историками, правда, часто с негативной идеологической оценкой. Интересно, однако, что политика эта осознавалась в эгалитарных, почти народнических терминах: «Не надобно удивляться, что действия духовные <...> открываются в наше время преимущественно перед низшим классом людей»,— писал гвардейский генерал Головин, член секты Татариновой, с точки зрения которого высший класс весь «окован прелестью европейского просвещения, то есть утонченного служения миру и его похотям» Возможно, в кружке Татариновой, который несколько лет играл роль одного из «мозговых штабов» при голицын-ском министерстве просвещения, вынашивался вариант протославянофильских идей, придававший уникальное значение не сельской общине (тогда еще не открытой), а особой религиозности русского народа. В этом находит свое объяснение временный союз высокопоставленных «мистиков» с сектантами из народа. Вместо того, чтобы
190
Глава 3
изолировать секты, объявив их пережитками языческого варварства (как это стало делать при Николае! Министерство внутренних дел и по его следам — православные миссионеры), деятели александровской эпохи видели в хлыстовстве и скопчестве ближайший эквивалент европейского пиетизма и пуританизма. Сектанты шли навстречу интересу власти: как показывает статистика, скопчество и другие крайние направления русского сектантства, в XVIII веке распространявшиеся из Москвы и центральных губерний, в начале XIX сосредотачиваются в Петербурге ”2. Над взаимным тяготением двух столь непохожих явлений — почвенного мистицизма и иноземного протестантизма — издевался в «Русском боге» Вяземский: «Бог в особенности немцев»; и с этим может быть связана омонимическая игра Пушкина с «Золотым петушком», который в тексте сказки является подарком и инструментом скопца, но с другой стороны, как всем известно, заменяет крест на лютеранских храмах.
Голицынское министерство пыталось сразу провести и религиозную реформу, и культурную революцию, действуя сверху, но надеясь завоевать поддержку просвещаемого им общества. Союз с русским сектантством, в котором виделся вариант религиозной реформы снизу, давал надежду на успех этой политики среди «народа». Эта идеологизированная политика верховной власти увязла в сопротивлении бюрократии, с которой вступила в союз встревоженная церковная иерархия. Победив, такие люди, как Фотий, Аракчеев, Шишков, немало сделали для уничтожения самой памяти о своей победе.
Мережковский в своем романе «Александр I» представил эту ситуацию как противостояние двух утопий — мистической утопии Татариновой и полицейской утопии Аракчеева. Движимые этими полюсами, расположились в романе как императорская власть, так и противостоящие ей декабристы, которые все питаются теми же идеями. Сюжет ходит по кругу — тому же, по которому
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
191
ходила и продолжала ходить, по Мережковскому, сама история.
Для понимания происходившего Мережковскому не хватало социологического понимания роли религии в историческом процессе, которое было выработано его современником Максом Вебером1,3 (с его теорией дискутировал Сергей Булгаков,и). В самом деле, идея пуританизма как движущей силы раннекапиталистического развития позволяет придать историческую перспективу усилиям Лабзина и Голицына и найти контекст для пугающей уникальности русского скопчества Мережковский, однако, не согласился бы с такой трактовкой по идеологическим причинам: символизм отнюдь не был настроен прокапиталистически и еще менее сочувствовал протестантской экспансии в Россию. Хотя некоторые его деятели и выступали с проектами религиозной Реформации на русский лад (так Минский объявил Льва Толстого русским Лютером), с началом Первой мировой войны такие идеи стали совсем непопулярны.
Между тем социологические наблюдения над религиозной жизнью, и в частности, над протестантской этикой, не были чужды самим людям александровского времени. «Что касается до протестантов и католиков, то мудрено ли, что первые умнее и трудолюбивее последних. Их свободный образ мыслей, очищенный от предрассудков, сблизил протестантов более с просвещением <...> между тем как католиков с намерением держат в их прежнем невежестве <...> Католикам даже нет столько времени быть трудолюбивыми, как протестантам; у них множество праздников <...> Но католики сидят у Бога за пазушкой <...> во всех сих жарких странах, где ум ленивее и не так поворотлив, удержался католицизм, и северная, а не южная Германия произвела Лютера»,1,6 — писал Александр Тургенев в 1804 году из южной Европы домой, на север. Мысли о русском протестантстве и позже не оставляли Тургенева. Если в 1819 он восклицал «нам не время быть протестантами», то в 1830 после того, как
192
Глава 3
провел с Шатобрианом «два часа в жарком разговоре о политических следствиях протестантизма» 157, он писал брату Николаю: «и по рассудку, да скоро и по привычке мы будем протестантами, я люблю нашу церковь, как любят воспоминания молодости <...> но это еще не есть быть греком или любить все московское <...> Мы не греки и не римляне, а, вероятно, христиане, следовательно, по правилам протестантизма ближе к нему, нежели к греческому православию»158. Точно как у Вебера, внимание Тургенева направлено не на догматические различия между конфессиями, а на их неочевидные культурные и экономические следствия. Нечто подобное имел в виду Мандельштам, у которого постаревший Декабрист рассуждает в духе протестантской этики: «Но жертвы не хотят слепые небеса,- Вернее труд и постоянство».
В своем чтении духовных поисков столетней давности Серебряный век расщепил их мозаичную сложность, пройдя мимо западных, прокапиталистических, протестантских влияний и заострив их архаические, народные, сектантские источники. Такая операция, которую начал еще Лев Толстой в «Войне и мире», продолжалась Всеволодом Соловьевым в «Старом доме», Мережковским в «Александре!», Радловой в «Повести о Татариновой». В результате искажениям подверглась канва событий; своеобразные явления русской жизни — община и сектантство, Платон Каратаев и Кондратий Селиванов — лишившись общеевропейского контекста, повисли в идеологической изоляции; а люди революционной эпохи остались без исторического опыта, который был так нужен для распознавания возвращающихся духов.
Адамисты ,
* t:
Оба раза — во времена Голицына, Татариновой, Селиванова, Аракчеева и потом, во времена Витте, Гиппиус, Распутина, Ленина,— полицейская утопия победила уто
Оживающий сфинкс: мистика Золотого Дека 193
пию мистическую. В варианте Александра I меры цензурного и полицейского характера сопутствовали развертыванию военных поселений, предшественников большевистской коллективизации. В течение нескольких лет религиозно-культурная ситуация была упрощена почти до предела. Был закрыт «Сионский вестник», перевод очередной книги гернгутера Госнера сожжен, выслан лидер скопцов Селиванов, закрыты масонские ложи, Татаринова с ее хлыстовской общиной выдворены из Михайловского замка, выслан Лабзин, и, наконец, подвергнутый анафеме Голицын лишился своего министерства. При этом он сохранил личную дружбу государя и даже управление деликатным Почтовым департаментом; такую необычную форму опалы можно трактовать как признак продуманного политического решения (а не просто колебаний депрессивного императора, о чем нередко писали историки). Проект мемориального храма Витберга был отвергнут, а сам он отдан под следствие еще при Александре. Потом архитектор будет отправлен в ссылку, а проект его будет заменен другим, выполненным в новом славянофильском духе; храм этот, воплощая разрывы истории, будет построен, разрушен и, наконец, в третий раз запроектирован...
Несмотря на радость сосланного при Голицыне Пушкина, который приветствовал перемены патриотическими стихами, новый министр просвещения, семидесятилетний Шишков был куда жестче Голицына. «Небывалые никогда прежде, произвольные толки о вере, о свободе, о Правительстве умножили у нас секты и расколы»,— привычно смешивал Шишков религию и политику, находя и причину беды: «Все сие как во Франции, так и у нас породилось от распространения и чтения мистических безнравственных книг и журналов, без должного рассмотрения проходивших через слабую Цензуру». При всей наивности этого обычного для бюрократа способа объяснить историю Шишков правильно понимал свою первоочередную проблему: с книгами
11—809
194
Глава 3
справиться труднее, чем с людьми. Он никак не мог смириться с необходимостью перевести Библию на русский язык и, обвиняя Библейское общество в разнообразных преступлениях, главное видев в намерении «исказить и привесть в неуважение священные книги, изменя в них язык церкви в язык театра»159. Даже Катехизис Филарета был задержан цензурой вследствие того, что три молитвы в нем, включая «Отче наш», были изложены на русском, а не церковнославянском языке 16°. «Депо же перевода Нового Завета на простое наречие русское вечное и неизгладимое пятно на него наложило»,— писал о Филарете Фотий,61.
Соответственно, первым действием нового идеологического режима было не просто ужесточение цензуры, но попытка придать ей обратную силу. При министерстве просвещения и при Синоде были организованы комиссии для рассмотрения уже изданных мистических сочинений; еще до этого рассмотрения книги изымались из библиотек церковных училищ162. Инструкция синодальной комиссии включала, например, пункт девятый: «Если о писателе разбираемой книги известно, что он принадлежит к какой-либо еретической секте, то сказав о сем, должно вкратце изложить учение той секты, и потом показать те места в его книге, в которых он распространяет учение своей секты» ,<3. Архимандрит Фотий называл «Путь ко Христу» Беме бесовской книгой, «Победную повесть» Штиллинга революционной. Они действительно имели влияние в сектантских общинах, где их читали в течение всего последующего столетия. Православные миссионеры, странствующие народники, а потом и люди Серебряного века будут находить переведенную при Голицыне и Лабзине мистическую литературу по всей России вплоть до крестьянских изб. Пройдет сто лет, и Бердяев узнает от русских сектантов, что они почитают Якова Беме за святого,64; сам же Бердяев считал Беме «гениальным»165.
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
195
В 1837 члены секты Татариновой были арестованы. При обыске наибольшее впечатление на полицию произвела избитая девочка, дочь Василия Попова, которую, если верить следствию, мучили в чулане за отказ участвовать в радениях; и еще «бронзовая позолоченная статуя старика князя Голицына, отличной работы, на подставке, с символическими знаками» 166 В этот раз статуя, не ожила, Голицын вмешаться не смог, и «сектаторы» без суда были сосланы в отдаленные монастыри. Но следы Татариновой и слухи о ней еще долго поражали воображение петербуржцев. В начале 1840-х годов в Инженерном замке некий писарь Игумнов любил рассказать молодежи о радениях, которые происходили в этих стенах; рассказы эти слушал Достоевский167. О Татариновой говорили Дюма-отцу, посетившему Петербург двадцать лет спустя после разгона ее общины
В 1848 году в Министерстве внутренних дел получили донос о том, что члены секты по-прежнему собираются в Петербурге под названием «тайного общества адами-стов»169. Лидером кружка назывался Головин, только что вышедший в отставку с высокого поста генерал-губернатора Прибалтийского края. Согласно доносу, он вел переписку с Татариновой, только освободившейся из Кашинского монастыря. Дело веч Иван Липранди, в том же году расследовавший дело петрашевцев. В довершение многих странных совпадений, кружок Головина оказался связан с кружком Петрашевского родственными связями: зять Головина, Яков Ханыков, был участником сектантских радений ’70, а его брат Александр Ханыков был осужден по делу петрашевцев. Впоследствии Липранди старался обосновать свою позицию, с которой религиозное и политическое инакомыслие сливались между собой до неразличимости: пока хлыстовство «ограничивалось простонародьем, оно было только противно Православной церкви и нравственности»; для государства оно становится опасно тогда, когда переходит «в область
11*
196
Глава 3
высших кругов <...> которые, усвоив современные утопии, могут взволновать невежественную толпу» ,71.
Одной из задач николаевского царствования была ликвидация плодов культурной политики александровской эпохи. Закрытое в 1826 году Библейское общество было надолго забыто: как рассказывал историк, «о Библейском обществе нельзя было говорить, потому что оно обвинялось в государственном преступлении и только через много лет мы узнали его запрещенную историю» 172 (впервые из статьи А. Н. Пыпина, опубликованной в 1868 году). Как ни странно, демократический дух русской историографии так и не помог ей разобраться в том, кто же здесь был, как любили тогда говорить, «на стороне прогресса». Александр Пыпин, двоюродный брат Чернышевского, любивший ясные оценки, в своих работах колебался и не мог выбрать, «к которой из двух сторон можно иметь сочувствие» — к стороне Фотия или Голицына: оба казались ему «обскурантами». Радения у Татариновой Пыпин называл «изуверными вакханалиями» ’73, беря на веру обвинения Фотия и Шишкова; свою роль в этих оценках сыграло, конечно, и злое отношение Голицына к Пушкину.
Что же означал выдуманный Лабзиным «Умирающий сфинкс»? Между прочим, это название ложи — первое известное нам в России использование метафоры сфинкса в ее тотальном значении. Ей предстоял длинный путь, вплоть до тютчевского «Природа — сфинкс» и блоковского «Россия — Сфинкс», включая и строку Вяземского об Александре I: «сфинкс, неразгаданный до гроба».
Вероятно, название ложи можно осмыслить как метафору, заранее признающую обреченность ее культурного проекта — синтеза между немецким протестантизмом и русским хлыстовством, Петербургом и народом, Западом и Россией: бессмертный сфинкс — двуприродное существо, объединяющее культуру и природу, человека и зверя, женщину и мужчину — умирает от их несовмес
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
197
тимости... Провал Голицына, Лабзина и их дела оказался важным уроком для последующих эпох русской интеллектуальной истории: определенные пути были испробованы и скомпрометированы, по ним ходить было нельзя. Особенно важным этот опыт был для прямых преемников Голицына и Лабзина, славянофилов; ища точку опоры для своей веры в уникальность русского народа, славянофилы не могли уже воспользоваться реальным элементом его исторического своеобразия, русским сектантством. Запоздалое освоение опыта народной религии стало возможным лишь в конце XIX столетия, в кругах позднего народничества и символизма; а значение мистических поисков александровской эпохи было понято теми, кто пришел на смену символистам и стал называть себя точно так же, как члены секты Татариновой — адамистами174, или еще акмеистами.
Вряд ли речь может идти о совпадении вновь образуемых неологизмов. Случайность маловероятна уже в силу исторической эрудиции, свойственной людям этого круга, в котором «архивные юноши» (и «архивные девушки» — термин Ахматовой,7’) играли немалую роль. По свидетельству мемуариста, в 1914 году в кругу авангардных поэтов и художников, в который входили Сологуб, Мандельштам, Гумилев, Радлова, «свирепствовало» увлечение 1830 годом,76. Совпадение дат примечательно: в 1830-м до ареста Татариновой оставалось 7 лет, в 1914-м столько же оставалось до ареста Гумилева.
»г > '
Кружево кружений
Как надежды конструировались по давним образцам, так же осознавались и разочарования. В 1916 году Куз-мин написал стихотворение «Хлыстовская». Переложив сектантский распевец с помощью новейшей стихотворной техники, он поместил его, рядом с более личными стихами, в цикл «Русский рай». В малоизвестном стихо
198
Глава 3
творении «Ангел Благовествующий», которое стало частью цикла «Плен» 177, Кузмин вновь описывает хлыстовское радение, совмещая его со сюжетом Благовещенья:
Крутится искряной розой Адонисова бока, Высокого вестник рока, Расплавленного вестник чувства, Гавриил.
Хотя здесь есть и ускользающий намек на мотивы пушкинской «Гаврилиады», стихотворение Кузмина — не о Марии и не о рождении Христа, а о вести особого рода — об архангеле Гаврииле, который, принося свою благую весть Марии, кружится и пророчит по-хлыстовски. Обычные хлыстовские образы кружения — быстрого как вихрь, столь быстрого, что нельзя различить лица кружащегося — нагнетаются и дальше:
Когда вихревые складки
В радужной одежде
Вращались перед изумленным оком
<...>
Вращаясь, все соединяет И лица все напоминает.
Кружение тела, как открыли хлысты, имеет действенность психологическую, а странная динамика строф этого стихотворения напоминает об эклектике хлыстовских распевцев:
Рукою радостной завеса Отдернута с твоей души... Психея, мотылек без веса, В звенящей слушает тиши.
Происходит неизбежное: вмешивается социальная власть, которая силой кладет конец экстазу. Тут поэт с очевидностью пишет не о Гаврииле, а о себе в 1919 году: «По морде смазали грязной тряпкой, Отняли свет, хлеб, тепло, мясо». И здесь Кузмин с точностью обозначает ис
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
199
торический референт, с помощью которого он понимает текущие проблемы-. «Не твой ли идеал осуществляется, Аракчеев?» Дальше идет все более прозрачное повествование о трудностях пореволюционного быта, сменяющееся надеждой вновь встретить кружащегося ангела: «ЖДУ его, Думая о чуде». Ожидание мистического события переходит в предвкушение того, как, проснувшись после тяжкого «двухлетнего сна», вновь можно будет сходить в нормальную, частную баню.
История неназванной здесь Татариновой и Аракчеева используется как метафора собственной судьбы. «Заперли в клетку, в казармы, В богадельню, в сумасшедший дом» указывает, возможно, и на Селиванова, которого запирали именно в этих местах. Возникает трехслойная конструкция: евангельская история Гавриила и Марии проецируется на радение у Татариновой, а оно, часть милого русского прошлого («Прежде Мление сладкое»), становится у Кузмина всеобъемлющим символом собственного поэтического мира. Преследования Татариновой и ее кружка используются как образ пореволюционных лишений, но поэта не оставляет надежда на чудо, которое принесет ему «Ангел благовествующий». В результате стихотворение развивается от воспоминания о прекрасном хлыстовском прошлом, через отвратительное настоящее (в котором через «четыре жизни» сбываются идеалы Аракчеева) — к предвкушаемому будущему.
В 1921 году Радлова пишет драму «Богородицын корабль» 178, в которой перелагает в белые стихи скопческую легенду. Елизавета Петровна, тайно уйдя от коронации и оставив царствовать вместо себя служанку, стала богородицей Акулиной Ивановной. Тут показано все — радения, бичевания, пророчества; есть у этой богородицы и свой Гавриил. Радлова изображает и прежнего любовника Елизаветы, графа Разумовского, который пытается вернуть ее на царство; но богородица не хочет, и ее казнят. Радлова вкладывает в монологи своей героини страшные пророчества о судьбе русской земли; беды
200
Глава 3
грозят ей до тех пор, пока сердце Акулины Ивановны не найдет себе новую владелицу. Этими мотивами полна и ее пореволюционная книга стихов, название которой продолжает знакомую игру с Пушкиным: «Крылатый гость»179. «Была ты как все страны страной <...> Плоть твою голубь расклевал и развеял по полю ветер»,— писала Радловаtee.
Вероятно, не только под впечатлением от прочитанного Константин Вагинов написал в альбом Радловой
..... Вы римскою державной колесницей
’ Несетесь вскачь. Над вами день клубится,
: ' А под ногами зимняя заря.
И страшно под зрачками римской знати . । Найти хлыстовский дух, московскую тоску
Царицы корабля.
! Напоминаете Вы душный Геркуланум 1 • '•
Везувия гудение и взлет щ
i И ночь и пепел.
,. , Кружево кружений. Россия — Рим.
' 20.08.1922
Позднее, в 1931 году Радлова написала «Повесть о Татариновой» 182, в которой незаурядное знание документов эпохи сочетается со своеобразно-личной их интерпретацией. По версии Радловой, Татаринова была избрана Селивановым среди своих верных последовательниц и направлена им в мир, чтобы разными путями, в том числе и с помощью своей женской прелести, распространять скопчество: «Соблазнишь — и отринешь, соблазнишь — и спасешь, к новому убелению приведешь нашу землю <...> И отречешься от меня перед миром, и осудишь перед людьми, чтобы убоявшиеся царской печати через тебя к ней пришли»,— учит Селиванов Татаринову От осуждения этой двойной игры Радлова далека; не отвращает ее и проект Еленского, обширные ци
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
201
таты из которого играют роль вводной главы «Повести». Татаринова показана как человек необычайной одаренности, способный оказывать помощь своим приближенным в области, которую современники Радловой вполне могли назвать психотерапией1М. Героиня предсказывает, консультирует, исцеляет. В этом ремесле она то и депо встречается с трансферными эффектами, с которыми справляется не вполне классическими способами, в одной замечательной сцене даже лесбийским актом.
Постсимволистская проза Радловой позволяет ей многое недоговаривать; но ясно, что она верит и в магическую силу Селиванова, и в роман Татариновой с Александром I. Ненависть же ее сосредоточена на врагах петербургских мистиков и более всего на «страшном противнике» Татариновой, Николае I:
Петербург стал для Катерины Филипповны как тот свет <...> И все, кого ни встретит Катерина Филипповна — неживые. Бродит она одна, все пережившая, по Петербургу, только ветер развевает широкий ее черный плащ и кажется ей в белые ночи, что солнце никогда не встанет <...> А живые, оставшиеся, кажутся Кате мертвее и • желче и растленнее лежащих в земле <„> Летят над горо- , дом белые ночи и черные дни, но времени больше нет, потому что время — это любовь и движение, а в Петербурге поселился страх, и стало в нем будто две смерти — Смерть и Государь Страшный противник Катерины Филипповны живет в этом городе и отсюда управляет притихшей страной, в которой никто больше не смеется
Одним из подтекстов радловской «Повести» была, похоже, «Сказка о золотом петушке», только петушок на спице закономерно заменен игрушечным голубем: «на тонкой нитке <...> восковой нежненький голубок»,в6. Впервые эта птичка появляется в сцене, когда Татаринова приходит к Селиванову получать его благословение. Когда же ее увозят в монастырь, «белый голубок, сидевший всегда у нее на подоконнике, взмахнул грустны
202
Глава 3
ми крыльями и улетел. Но это было уже не больно и все равно. Конец наступил раньше»,— так кончается «Повесть о Татариновой» “7, еще один текст с оживающей статуей. Конфигурация пушкинской «Сказки» — скопец, царь, женщина, птичка — выдержана точно; и в обоих случаях птичка, данная скопцом, возвещает конец остальным героям.
Воспоминанье мучит нас
В целом Радлова изобразила свою героиню как главную даму эпохи: мученицу, прорицающую и целящую; подругу императора, дающую ему утешение и любовь; вдохновительницу художников, страдающую за духовную правду; женщину, роль которой больше и выше, чем только влияние хозяйки салона. Среди тех, кого называли акмеистами, Радлова конкурировала за эту роль с Ахматовой. В устных воспоминаниях Ахматовой история была такой: «Дружба Кузмина с Гумилевым, потом резко оборвавшаяся <...> Роль Анны Радловой в этом отчуждении» 188. Похоже, что личная конкуренция поэтесс играла немалую роль в судьбе художественного движения. До некоторого времени шансы Радловой котировались высоко, хоть это и странно с современной точки зрения.
Самый мужественный поэт пророчески рождается из материнского лона женского подсознательного видения <...> Поэт едва успевает формировать подсознательный апокалипсис полетов, пожаров, вихря, сфер, кругов, солнц, растерзанной великой страны, кружения вселенной, круглого неба, огромной, всеобщей и простой, земной любви,
— так, психологизируя Апокалипсис, акцентируя знакомые мотивы хлыстовского кружения и связывая все это с политической повседневностью, писал о Радловой Михаил Кузмин189. В 1927 году он посвятил Радловой
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 203
свою «Форель». В ответ он получил уничтожающие оценки Ахматовой и в «Поэме без героя», и более прозаическими способами.
Страсти, которые бушевали в расколовшемся кругу наследников адамизма-акмеизма, были далеки от прекрасной ясности, и их мемуарные отголоски звучат скорее пугающе. Обе, Ахматова и Радлова, адресовали друг другу личные оскорбления, имевшие мало общего с поэзией 19°. Конфликт, однако, вовлек в свою орбиту современников и потомков; не остались равнодушными и исследователи. За личными обидами стояли серьезные и очень содержательные расхождения. Стороны потому так публично ненавидели друг друга, что давали разные ответы на одни и те же, причем центральные вопросы эпохи. Спор шел об утопии и революции, о мистицизме и рациональности: мистическом оправдании русской истории в версии Радловой или исторической редукции русской мистики в версии Ахматовой.
Вспомним еще раз об увлечении 1830 годом, .которое «свирепствовало» в кругу Радловой и заставляло ее родственника, юного Мандельштама, носить бакенбарды и писать о Чаадаеве191. В своих стихах военного 1915 года Мандельштам говорил о катастрофе, постигшей великую эпоху, и о том, что она была предсказана:
Какая вещая Кассандра
Тебе пророчила беду? _ ,
' О будь, Россия Александра, ’
Благословенна и в аду! •
Поэт как раз в это время думал о переходе из методизма в православие, и неортодоксальные формы мистического опыта должны были его интересовать; а в этом случае всеобщий интерес к александровской эпохе почти неизбежно должен был конкретизироваться в фигуре Татариновой192. Мандельштам вполне мог обсуждать с Радловой так занимавшую ее воображение русскую прорицательницу, а мог и сам читать литературу о хлыстах и
204
Глава 3
адамистах. Возможно, что именно Татаринову Мандельштам имел в виду под своей Кассандрой, тем более что в этом четверостишии она сопровождается знаком вопроса.
В отношениях между поэтами противоречия эпохи трансформируются в интертекстуальные связи, которые приобретают иногда довольно странный характер. Со слов Ахматовой известно, что стихотворение Мандельштама «Кассандре» (1917), в котором слышны сходные мотивы, посвящено ей, Ахматовой:
Воспоминанье мучит нас! <...> i т ,,.
Ты стонешь, ты горишь — зачем ’ , . v,
: Сияло солнце Александра,
> Сто лет назад сияло всем?1,1
При этом Ахматова утверждала, что Александр здесь — Пушкин, а не император, и шла на очевидную натяжку: в 1817 году Пушкин только кончал лицей, а император был в зените мировой славы («сияло всем») ,94. Ассоциации между войнами 1812—1817 и 1914—1918 у Мандельштама очевидны («Европа цезарей <...> Впервые за сто лет <...> Меняется твоя таинственная карта»); и если горький смысл стихотворения в том, что Керенский не справился с воплощением столетнего цикла и не стал новым Александром, то Пушкин тут совсем не при чем. По-ви-димому, два эти чтения ощущались как альтернативные: если Кассандра — Ахматова, то Александр может быть только Пушкиным; если же Александр — император, то Кассандрой оказывается скорее Татаринова или даже сама Радлова...
Десять лет спустя Мандельштам расскажет о новой, советской уже литературе метафорой, почти наверняка почерпнутой из описаний русского сектантства, и скорее всего именно секты Татариновой
Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном иступлении поэты говорят на языке всех вре
Оживающий сфинкс мистика Золотого века
205
мен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало . достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы <...> В * глоссолалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем, и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции.
Именно так — и по-гречески, и по-халдейски — пророчествовали у Татариновой. В словах Мандельштама слышна трезвая ирония, которую лишь усиливала предшествовавшая им цитата из собственных стихов десятилетней давности: «Все было встарь, все повторится снова И сладок нам лишь узнаванья миг».
За десять лет произошло так много, что с прежними надеждами на вечное возвращение и сладость узнаваний приходилось расставаться. Но и в 1917 году Мандельштам уже знал, что у его героини «Когда-нибудь в столице шалой <...> Сорвут платок с прекрасной головы»; и знал потому, что именно это уже происходило с ее и его предшественниками, адамистами 1830-х годов. Новый Железный век — режим большевиков — понимался по аналогии с николаевским царствованием, которому тоже предшествовала прекрасная эпоха, а потом ужасное насилие. Серебряный век предвидел собственное будущее, находя его в прошлом. Мифология играла свою роль, иногда помогая, а иногда мешая понять историю.
Крик петуший нам только снится ,
Прочтя ахматовский анализ «Сказки о золотом петушке», Мандельштам сказал: «Прямо — шахматная партия» 196 Между тем в самом тексте статьи игрового начала нет, и можно допустить, что Мандельштам почувствовал
206
Глава 3
скрытый ее смысл и неназванного оппонента. Действительно, филологический опыт Ахматовой был осуществлен вскоре после того, как ее давно побежденная соперница написала свою «Повесть о Татариновой»; и если Радлова писала фантастическую импровизацию на тему «Сказки о золотом петушке» и с участием ее вероятных прототипов, то Ахматова стремилась показать «нефантастический» характер самой сказки. Независимо от возможности знакомства Ахматовой с рукописью Радловой 157, поучительно их почти параллельное по времени, но противоположное по мотивам и результатам обращение к сюжету о царе и скопце: как будто старая борьба продолжалась на новом поле...
В отличие от Радловой, читавшей историю как мистический текст, Ахматова читает мистический текст как историю. В своей образцовой редукции Ахматова применила разные методы, все вполне научные — сравнительный, психолого-биографический, анализ черновиков; новизна ее источников и трезвость взгляда замечательны; но более удивителен осуществленный ею пропуск темы. То, что в ахматовской версии «Петушка» нет скопца, можно объяснять по-разному — неприязнью поэта к подобным темам с сексуальным привкусом”8, например, или цензурными условиями 1930-х годов. Одним из механизмов такого «слепого пятна» кажется отталкивание от соперницы, много лет эксплуатировавшей скопческую тему: тема, освоенная одной из конкуренток, оставалась без внимания и вызывала неприязнь другой стороны. В ситуации конкурентной борьбы пространство содержательных интересов поляризовалось так же, как и пространство личных отношений. В итоге под пером Ахматовой пушкинский текст, полный тайн, чудес и намеков, превращался в «самую нефантастическую сказку Пушкина»
В стихах и прозе Ахматовой высшая ценность создается не установлением исторической непрерывности, а наоборот, утверждением абсолютной новизны и свобо
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века
207
ды от контекста: «Ты в Россию пришла ниоткуда»,— писала она о любимой подруге; и то же самое о любимом поэте, «первые же стихи которого <...> ниоткуда не идут»200. Фактически со «Сказкой о золотом петушке» Ахматова проделала целенаправленную операцию в том же духе: освободила текст от контекста, обрубила его темные отечественные корни.
Эссе Ахматовой замыкало собою пушкинизм 1910-х годов и предсказывало некоторые мотивы «Поэмы без героя». Автор сообщает, что поиски литературного источника «Сказки» продолжались «в течение последних 20—30 лет», то есть как раз с 1913 года — ключевого времени, о котором будет написана «Поэма». «Однако все поиски <...> не увенчались успехом», и лишь теперь ей «удалось найти источник»2М. Несмотря на свою нелюбовь к историческому мифотворчеству, Ахматова продолжала хронологическую мистику Серебряного века с характерным отставанием от прототипа ровно на сто лет. В статье Ахматовой, напечатанной в 1933 году, на первой же странице приведены две даты: книга Ирвинга — 1832; сказка Пушкина — 1834.
О личном отношении Ахматовой к исторической мистике и мифологической преемственности все сказано в «Поэме без героя». Прошедшее «тлеет» в настоящем и еще будет тлеть в будущем, но это вызывает не ностальгическое умиление, а скорее ужас исторического триллера: «Страшный праздник мертвой листвы». К мистикам 1910-х годов Ахматова безжалостна: «Я забыла ваши уроки, Краснобаи и лжепророки!» Она знала, что те, кто верил в близость апокалиптических «последних сроков»,, этим лишь приближал их отвратительное земное подобие.
В своей «Прозе о поэме» Ахматова пытается повторить опыт «Последней сказки Пушкина», на этот раз со своим собственным текстом. Ее автокомментарий начинается с самых земных и историчных его аспектов. Автор хочет видеть в «Поэме без героя» новое поэтическое
208
Глава 3
«Возмездие», признание ответственности своего поколения, еще одну версию первого убийства 202. Но этот способ чтения не выдерживает столкновения с собственными метафорами: поэту проще «заземлять» (термин Ахматовой) чужую поэзию, чем свою собственную. Так историку проще придавать рациональность чужой истории, а психологу — чужой жизни. В столкновении с собственным текстом оказывается, что мистика прошлого как-то связана с субъективностью настоящего. «Я забыла ваши уроки <...> Но меня не забыли вы»,— обращается Ахматова к тем самым лжепророкам. Такова асимметрия отношений между памятью и историей: память забывает, но история найдет вас там, где вы есть; а лжепророки Серебряного века играют роль на «страшном празднике» истории, и роль важную. Думая о написанной поэме, Ахматова сталкивается со старыми проблемами и, неожиданно для читателя, использует вполне мистические образы: «демонская легкость»; «мне ее <поэму. — А. Э.> действительно кто-то продиктовал»2<”. Так, почти дословно, говорил о своих стихах Блок2<м; и действительно, в этот момент Ахматова вспоминает самое мистическое из его сочинений — «Песню судьбы».
В итоге собственную «Поэму» Ахматова «заземлить» отказывается; целенаправленные попытки такого «процесса заземления» кончились, по словам поэта, «полной неудачей» 205. Не соглашаясь с Лидией Гинзбург, говорившей о «Поэме без героя», «что ее магия — запрещенный прием» («why?» — отвечал поэт критику), Ахматова даже называет себя «старой шаманкой» 206. Автор знал, что произошло с текстом: «Поэма без героя», вспоминала Ахматова, «рвалась обратно куда-то в темноту, в историю <...> в Петербургскую Историю <...> или вернее, в Петербургский Миф» 207. В воображении поэта, писавшего о 1913 годе, всплывают «петербургские ужасы: смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада» 20°. Время сливается в образ, диахрония — в синхронию. История вновь превращается в миф, без которого ее не понять.
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 209
Все тот же герой?
- UJ.CIL
И вновь свое место в ряду соблазнительных ужасов русской истории занимает фигура Распутина. Не упомянутый в «Поэме без героя» по имени, он настойчиво появляется в связанных с ней прозаических набросках, и особенно в балетном либретто, к которому она возвращалась параллельно с работой над «Поэмой». Тут оказывается, что именно он — «Хиромант или Распутин („Лишняя тень“)» — сосредотачивает в себе демонические силы эпохи. Итак, через Распутина расшифровывается здесь «Лишняя тень» — самый загадочный из персонажей «Поэмы»2О9. Эта «Лишняя тень» отражается даже в зеркале женской спальни, так что Распутин или его тень оказывается главным соперником несчастного героя; а в это время в той же спальне «Гости, Клюев и Есенин пляшут дикую, почти хлыстовскую, русскую»210. В другом случае Ахматова предлагает распутинский подтекст как одну из возможностей чтения всего сюжета поэмы в целом: «читатель и зритель могут, по желанию, включить в это избранное общество, кого захотят. Например, Распутина, Вырубову <„.> себя самих»2”. В ключевой сцене балетного маскарада тоже «клубится борода Распутина» 212.
Этот маскарад есть и в тексте «Поэмы без героя». Здесь исторические персонажи 1913 года переодеты в маски мировой культуры: «Этот Фаустом, тот Дон Жуаном, Дапертутто, Иоканааном <„.>». Несмотря на атмосферу секретности, свойственную тексту поэмы, все маски, кроме Иоканаана, расшифровываются через автокомментарии Ахматовой: соответственно Вячеслав Иванов, Блок, Мейерхольд... Дальше упоминаются Владыка Мрака, в котором исследователи видят Кузмина, «сама я» — Ахматова и «ты», в котором видится Гумилев213. Итак, кем был Иоканаан?
Т1 ,, <- '
12—809
210
Глава 3
Герой «Саломеи» 214 Оскара Уайльда (которая была поставлена Николаем Евреиновым в 1908 году и, подобно «Золотому петушку» Римского-Корсакова, запрещена цензурой), Иоканаан — мистический пророк и предтеча Христа. Он находится в заточении у царя Ирода, который боится и слушается его. Дочь царицы влюблена в пророка, но тот отказывает ей в поцелуе. Тогда Саломея требует у Ирода, в обмен на свой танец, голову Иоканаа-на. Царь пытается отказать: «Умри он, меня может поразить несчастье. Он сказал, что в день, когда он умрет, кого-то поразит несчастье. Только меня он мог разуметь» 2И. Распутин был лаконичнее: «моя смерть будет и твоей смертью»,— говорил он царю Николаю216. Царь Ирод, в отличие от Дадона, всегда выполнял свои обещания, и голова Иоканаана была принесена на серебряном блюде. Теперь Ирод обречен, но в финале он успевает убить Саломею.
Мы вновь встречаем хорошо знакомый союз царя и пророка, и союз этот, как всегда, разрушает красавица. Более того, Саломее, подобно шемаханской царице, тоже помогает некая мистическая птица: в начале роковой сцены Ирод слышит ужасное предзнаменование — «взмахи крыльев в воздухе, взмахи гигантских крыльев». Метвду «Сказкой о золотом петушке» Пушкина и «Саломеей» Уайльда есть и другие пересечения, объяснимые литературной традицией или случайным совпадением мотивов217. Важнее всего, конечно, сходство апокалиптических финалов обоих действ.
Возможно, многолетний интерес Ахматовой к «Саломее» сыграл свою роль в многолетнем же поиске ею источника «Сказки о золотом петушке». Можно предполагать также, что в «Поэме без героя» Иоканаан отсылает к Распутину в том же ограниченном смысле, в каком поддаются расшифровке другие маски (в том смысле, например, в каком Дон-Жуан отсылает к Блоку). Маска и ее носитель соотносятся через чужой текст-посредник, который выполняет функции шифра и дешифратора. Но,
Оживающий сфинкс мистика Золотого века
211
конечно, ни один из таких текстов-посредников не является единственным, а значит, ни одно из чтений не является окончательным.
Подобно Цветаевой и в те же пореволюционные десятилетия, Ахматова писала поэму о Царском Селе и царской семье; Распутин в ней играл, конечно, свою роль. Обе — Цветаева и Ахматова — не закончили этих поэм, и мы можем только догадываться о причинах того, что не только интересы, но и трудности совпали по разные стороны советской границы. Для Цветаевой ключевое значение имело стихотворение Гумилева «Мужик», рассказывающее о Распутине. Она считала эти стихи образцом и для поэтов, и для историков 2“. Со своей стороны, Ахматова называла Гумилева «визионером и пророком» 2”.
В «Мужике» Гумилева уже убитый Распутин угрожает убийцам местью и предсказывает явление множества своих двойников: «Слышен по вашим дорогам Радостный гул их шагов». У Ахматовой в поэме о 1913 годе приближающаяся катастрофа имеет ту же природу: «Оттого, что по всем дорогам <...> Приближалась медленно тень <...> Жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуше». Этой скрытой цитатой из «Мужика» Гумилева вновь вводится та самая «тень», которая в ахматовском либретто расшифровывается как Распутин “°.
Теперь, когда «будущий гул» стал слышен слишком ясно, изменяется и отношение к «тени», медленно приближавшейся к героям в 1913 году. Гумилев в своем стихотворении, написанном сразу после Февральской революции, приветствовал озорного Мужика. Для Цветаевой, которая в эмиграции все еше держалась самоубийственных народнических иллюзий, Распутин олицетворял «чару», а гумилевский «Мужик» давал ей совершенное поэтическое воплощение. Ахматова в свете прожитых советских десятилетий оценивала историю иначе. Для нее Распутин олицетворяет анонимную и страшную угрозу, а «Мужик» цитируется как верное ее предсказание.
12*
212
Глава 3
«Крик петуший» входит составной частью в «Петербургскую чертовню», и сон этот все еще «длится, длится». Крик какого петуха слышат здесь автор, герои и читатель — евангельского? пушкинского? или блоковского?221 Во всяком случае, в поэме есть и еще один похожий «страшный звук», тоже птичий:
1
'<; i • Все в порядке: лежит поэма ' 1 , 'J ’ J . >'
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
' Ж - Кулаком в окно застучит,— \ ‘V Q > г- х
И откликнется издалека
* • U- На призыв этот страшный звук — > . е х.
- А Клокотанье, стон и клекот
И виденье скрещенных рук?..
На призыв одного поэтического текста может ответить только другой поэтический текст, и любому из них свойственно молчать до тех пор, пока они не вступили в перекличку. Кажется вероятным, что среди других интертекстуальных партнеров ахматовская «тема» могла ожидать именно такого отклика, страшного и с клекотом, от «Сказки о золотом петушке». Высокая русская литература развивалась под давлением разных, но чаще всего крайних форм утопизма — мистического, национального, социального. Гораздо меньше тех, кто пытался противостоять модным утопиям современников: Карамзин, Пушкин, Чехов, Ахматова... В этом смысле близость между «Сказкой о золотом петушке» и «Поэмой без героя» глубже, чем кажется на основе нескольких вероятных аллюзий. И, если наши рассуждения верны, именно эта содержательная близость, среди прочих причин, мотивировала давний интерес Ахматовой к пушкинской сказке.
«Крик петуший нам только снится». Цель анализа не в том, чтобы сны не снились, а скорее в том, чтобы они помнились; и еще в том, чтобы научиться различать сон и явь. В этом же смысл антиутопий: не заставить челове
Оживающий сфинкс: мистика Золотого века 213
чество забыть его золотые сны, но лишь сказать, что это сны — не больше того, но и не меньше. Позиция поэта допускает и, более того, требует обратимости переходов между сном и явью, мифом и историей. Подобно Орфею, поэт может оживлять прошлое, только делает это не в жизни, а в тексте-, но зато, в отличие от Орфея, поэт может рассматривать потерянных любимых и говорить с ними. Подобно Лоту, поэт способен выйти из гибнущей культуры, отстраниться от нее физически или духовно; но в отличие от Лота, он вновь и вновь глядит на свой «родной Содом» И2; и в отличие от жены Лота, поэт платит за свой взгляд не жизнью, а работой.
Цветаева эту особую позицию поэта видела пространственно, как область, выделенную среди других областей — «третье Царство» Ахматова чувствовала ее во времени, как единый взгляд, вмещающий в себя «события и чувства разных временных слоев»ги и перемешивающий их во вневременном тексте-маскараде. Разрушая историческую преемственность событий, чувств и людей, поэт одевает их в маски, которые реальнее реальности. Но он не забывает и расставить метки, по которым, читатель может вернуться из мира смысла — в мир фактов, из мистики — в историю. Сам поэт проходит этот лабиринт в оба конца, туда и обратно, и видит свой путь одновременно изнутри, как исторический поиск, и снаружи, как мистический акт; и того же, хоть в какой-то степени, он ждет от читателя. Не подавляя ни ту, ни другую из альтернативных картин мира, поэт ищет невозможную точку, с которой видны оба. Не отрицая ни мифа, ни истории, поэт ценит не каждый из этих уровней в отдельности, но скорее процесс их взаимных и обратимых преобразований.
Таким двойным зрением поэма Ахматовой отличается от ее статьи, анализировавшей сновидение о петухе таким способом, чтобы он больше никогда не запел.
Глава 4.
Культура против природы: психология русского модерца
Противоречивые, но всегда интенсивные психологические идеи русского модерна развивались в пространстве, заданном структурной оппозицией природы и культуры. В явном виде эта классическая оппозиция более всего обсуждалась внутри французской интеллектуальной традиции, от Жан-Жака Руссо до Клода Леви-Стросса. В мышлении русских писателей, философов и психологов эта оппозиция была не менее значима1, хотя оставалась скорее имплицитным инструментом, чем результатом анализа. Одна и та же категориальная оппозиция настойчиво возвращалась в разных терминологических воплощениях — как дух и плоть, Аполлон и Дионис, сознание и бессознательное, среда и наследственность, проблемы психофизиологического и биосоциального... Выстроив оппозицию природы и культуры, мысль пыталась ее преодолеть множеством способов.
Природа и культура всегда встречаются, скрещиваются и разными способами взаимодействуют в психике человека. На уровне сегодняшнего знания это почти все, что можно с уверенностью сказать. Реальные механизмы этого взаимодействия столь сложны, что остаются на пороге понимания и для современной науки с ее близнецовыми исследованиями и компьютерными моделями. Здесь каждый считает себя специалистом, настоящие же специалисты менее остальных уверены в своем понимании. Для гуманитарной науки давнего и недавнего прошлого механизмы взаимодействия природы и культуры
Культура против природы: психология русского модерна 215
были, конечно, не более ясными. Как и во множестве других случаев, отсутствие знания заменялось принятием желаемого за действительное. Научные идеи и понятия на деле играли роль метафор, воплощающих более или менее осознанные интересы и надежды, личные и политические. Короче, мы имеем дело с мифами, индивидуальными и коллективными; или, возможно, с единым, исторически развивающимся мифом, имеющим упорядоченную серию син- и диахронических вариантов.
Век модерна сдвигает саму границу между природой и культурой. Естественные и очевидные проявления человека кажутся мнимыми и вторичными. Они скрывают за собой более глубокую реальность, которая одна имеет подлинное значение. Главной задачей представляется постижение этой реальности, которая скрывается за обыденной жизнью и которая неведома обычному человеку; но именно от этого понимания зависит его счастье и здоровье. Эта реальность не принадлежит более к данному нам миру природы — природы Бога, природы человека, природы вещей. Она осознается как феномен культуры, создаваемый исторической работой человечества и сознательными усилиями творческой личности.
Для радикальных идей, которыми так богата русская интеллектуальная история, характерно отрицание всего, что не входит в фокус их внимания. От интеллектуальных и политических вкусов зависело, какому из элементов сочленения природы и культуры придавалось решающее значение; соответственно, другой элемент отрицался как таковой. Одни мыслители увлеченно восклицали: «Психика вся исчерпывается культурой; природа человека и есть его культура». А другие столь же уверенно утверждали прямо противоположное: «Психология — это не больше чем часть природы! и вообще между культурой и природой различия вымышлены». В первом, радикальном, варианте романтизировалась культура; соответственно, все, связанное с властью человека над природой, и в частности, его собственной природой, под
216
Глава 4
вергалось безмерному преувеличению. Во втором, охранительном, напротив, романтизировалась природа, а вместе с ней — наличное состояние вещей, с которым ничего не может сделать человек. Возможно, сущность идеологии модерна, подобно функции мифа, заключается в выстраивании оппозиции между природой и культурой и постоянных попытках ее нейтрализации, теоретическом и, главное, практическом поиске посредствующих звеньев. «Равносильной Голгофе» называл муку их несоединения Сергей Эйзенштейн2
Я психолог. О, вот наука! 1 *
В своем качестве структурной оппозиции, имеющей ключевое значение для понимания человека и его действий, проблема природы и культуры была поставлена в самом начале разработки «научной психологии» в России. Илья Сеченов не сомневался в природном характере психических явлений. Человеческие мысль и личность оказываются здесь не более чем частью природы, а психология — частной естественной наукой вроде геологии или любимой русскими нигилистами гистологии3. Достоевский видел в сеченовском проекте часть культуры, следующую той же культурно-исторической (а не естественно-научной) логике, которой подчиняются религия и народная мифология: «Ничтожность культуры. Сеченов. Жажда чудес. Неизменность понимания. Христианство и восточные чудеса» 4.
«Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист» — твердо, хотя и не совсем ясно писал Достоевский, а его герой Ставрогин прямо говорил: «не люблю шпионов и психологов». Бахтин потом повторял: «психолог как шпион», и говорил о Достоевском, что тот видел в психологии «унижающее человека овеществление его души» ’.
Ставящаяся своим утонченным психологическим пониманием, русская традиция издавна была склонна по
Культура против природы: психология русского модерна 217
дозревать «психологию» в излишних притязаниях. Пушкин вложил убийственную насмешку «Я психолог. О, вот наука...» в монолог не чей-нибудь, а Мефистофеля. Вячеслав Иванов интерпретировал эту пушкинскую фразу как предсказание «новейших заслуг» психологии, этой «двусмысленной и опасной дисциплины», перед Мефистофелем, ее «дальновидным ценителем»6.
Но была и другая сторона дела. То, что мы знаем (или считаем, что знаем) о себе, является мощной и ничем не заменимой метафорой для понимания природы.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами. д « '•> '
И нет преград меж ей и нами л <
Вот отчего нам ночь страшна,
— писал Тютчев, открывший русской литературе эту метафору мировой души, уподобляющую природу — психике человека. Владимир Соловьев, разъяснявший важнейшие свои идеи в рамках той же оппозиции природы и культуры, видел сущность тютчевской мировой души в демоническом хаосе, который подчиняется космосу разума: «Дух <...> борется с темными силами материальной природы и покоряет их себе (а не различает только себя от них»Замечание в скобках особенно важно: Соловьев верит в такой дух, который на самом деле преображает природу, а не только по-гегелевски все лучше понимает сам себя. «Смерть есть явная победа бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом»8. Периодическая победа смерти показывает недостаточность сил духа. Подлинная победа культуры над природой есть бессмертие. Настоящий сверхчеловек (а не герой Ницше, казавшийся фальшивым) тот, культура которого побеждает его природу, добиваясь своего и всеобщего бессмертия.
Архаическое средневековье противопоставляло природу и культуру, ограничиваясь вооруженной защитой от враждебной, могущественной природы. Дискурсы Нового времени по-разному пытаются соподчинить эти
218
Глава 4
ключевые категории. Просвещение переоткрывает природу и «возвращается» к ней, подчиняет ей культуру, пытается менять ее во имя неизменной, прекрасной природы. Романтизм разрушает границу между ними, сливая природу и культуру в едином мистическом потоке. Модерн, восстанавливая укрепленные границы, по-новому соподчиняет старых врагов: культура преображает природу во имя своих культурных интересов. Соответственно меняется роль психологии — агента культуры внутри природы человека и, вместе с тем, средоточия природного сопротивления цивилизационным усилиям: психология своеобразно культивируется романтизмом, но в полную меру развивается — и как основной метод, и как главная мишень — в эпоху модерна.
«Смысл любви» Соловьева в русской философии проложил дорогу от романтизма к модерну. Для его последователей психология есть хаос, как и все, что принадлежит природе. Будучи хаосом, психология несовместима с искусством, которое есть космос. «О том, что мир явлений телесных и душевных есть только хаос, нечего распространяться, это должно быть известно художнику»,— писал Блок Поэтому увлечения психологией суть заблуждения. «Все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским),— гениальная путаница». Великие предшественники были «плохими художниками», потому что они «строили все на хаосе», и все, что у них получалось — «разливанное море бесконечной психологии» ’.
Европейское искусство лишь «плюханье в психологическом болоте»,— писал в 1905 г. Андрей Белый матери Блока, и продолжал: «О, если б было Побольше сознания в людях <...> Ничто так не окрыляет, как мысль о том, что никакой психологии не существует». Психология отождествляется с бытием и противопоставляется сознанию, музыке, культуре. Все вместе взятое вызывает необычно бурные переживания. «„Нет никакой психоло
Кул ь п,';-а пр ггиьп^1И|«.и> J психология русского мсукрк! 219
гии“ — хочется мне кричать и ликовать <...> Да здравствует сознание и да погибнет бытие!», писал Белый в том же письме10. Возможно, значимость «психологии» для этого круга была связана еще и с тем, что Любовь Менделеева, жена Блока и предмет тяжелой любви Белого, в первых годах столетия, будучи курсисткой, специализировалась по психологии ". Противоречивые желания преобразить психологию, подчинить ее и избавиться от ее влияния могли быть значимы именно в контексте этих отношений. В своих воспоминаниях Белый настаивал, что кружок молодых соловьевцев понимал своего учителя «реалистически», находя в его философии и даже в стихах не метафоры, а обещание реальности: «мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира <...> В те огромные годы мы жили сознанием: переменяется смысл человеческих отношений: преображается женщина в женщине; и мужчина в мужчине»12. Поэтика символизма совмещала лирическую искренность с психологической закрытостью: приравнивая жизнь к искусству, она экзальтировала эротику в поэзии, но в жизни интерпретировала страсть в холодных, абстрактных терминах, не облегчавших страдания.
Ио идея психологии имела для символистов и универсальное значение. «Иа нас лежит обязанность очистить музыкой, вольной и плавной, Авгиевы конюшни психологии, оставленной нам в наследство» призывал Белый. Музыка же, писал Белый позднее, «есть попытка выразить формою квинтэссенцию процессов творения» 14. Импровизируемая, но тем более важная оппозиция психологии и музыки, приравненная к оппозициям природы и культуры, приобретает мистическое, философское и, наконец, политическое значение. В начале века финальный акт преображения человеческой природы Белый, вслед за Соловьевым, понимал как Теургию ”. В
220
Глава 4
1921 то же самое он называет «углублением революции до революции жизни» 16. ,'•,
I, Л".,-'
Так век за веком — скоро ли, Господь? — , ?
Под скальпелем природы и искусства - - - •
' Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рояедая орган для шестого чувства,
— писал в 1920 году Гумилев17Новый человек определяется новой психологией, она будет означать новые анатомию и физиологию; из новой психологии родятся и новые социология с этнографией. Все в человеке изменится, когда настанет, наконец, апокалиптическая и желанная эпоха модерна. И произойдет это (поправим Гумилева) под скальпелем искусства: у природы нет скальпеля, она здесь на операционном столе. Позднее Блок называл это романтизмом: «романтизм есть не что иное, как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией». Имея в виду Гумилева, Блок называл романтизм «условным обозначением шестого чувства» ,8.
Во всех этих формулировках культура (‘свет’, ‘космос’, ‘сознание’, ‘теургия’, ‘искусство’ и ‘шестое чувство’) преображает природу (соответственно, ‘темноту5, ‘хаос’, ‘бессознательное’, ‘стихии’ и ‘психологию с пятью чувствами5). Интересные результаты дал бы анализ метафорических терминов (типа: ‘покорять’, ‘оформлять’, ‘очищать’, ‘ограничивать’, ‘управлять’...), использовавшихся для описания операции, которую культура призвана совершать над природой. Чаще и значительнее других в этой общей для модерна мифологии «сырого и вареного» были метафоры социальной власти; и это тем более интересно, что пока мы имеем дело с поисками чисто эстетического свойства. Как писал Соловьев, «для красоты вовсе-не нужно, чтобы темная сила была уничтожена в торжестве мировой гармонии: достаточно, чтобы светлое начало овладело ею, подчинило ее себе <...> ограничивая, но не упраздняя ее свободу» ”. По Николаю Федо
Культура против природы: психология русского модерна 221
рову, в обществе будущего люди объединятся в общем деле, победят смерть, избавятся от пола — и все благодаря науке о человеке; осуществлять науку на деле будет, впрочем, армия. Федоровский термин психократия с абсолютной точностью отобразил центральный принцип новой русской утопии ”.
Со свойственной ему неразличимой смесью пафоса и самоиронии идею борьбы с природой продолжал Андрей Платонов: «История человечества есть убийство им природы и чем меньше природы среди людей, тем человек человечнее и имя его осмысленнее»,— писал Платонов 7 ноября 1922 года в газете «Воронежская коммуна». Его герой живет уже после всемирной катастрофы, но, подобно своему автору продолжая верить, он и в одиночку надеется осуществить федоровскую мечту: «Я работаю над бессмертием и сделаю бессмертие прежде, чем умру, поэтому не умру»11.
Ввинченностъ мысли в душу человеческую Л;;
tL 'J *=
Но у этой идеи беспредельного могущества культуры были и сильные противники. Лев Толстой, чтивший Руссо наряду с Евангелием “, видел в психологии одну из тех «полунаук», которые тем более точны, чем менее нужны. Когда такая наука пытается говорить о человеке, давать ответы на важнейшие вопросы жизни, «тут встречаешь поражающую бедность мысли, величайшую неясность, ничем не оправданные притязания <...> и беспрестанные противоречия»23 Следуя за Толстым, Пастернак в «Детстве Люверс» говорит о психологии как о самом ярком, самом развлекающем из всех человеческих предрассудков, имеющих свое предназначение в том, чтобы отвлекать пошлое любопытство людей от природы, которая делает свое дело сама по себе: так у юной Люверс начинаются
222
Глава 4
менструации. У Пастернака психология выступает как элемент культуры, и притом очень яркий, противостоящий природе и вводящий в заблуждение ее элемент. О том же писал и Мандельштам, слышавший в «эстетической пытке психологического анализа» дух чуждой ему культуры. В его экстравагантной метафоре, уподоблявшей психологический анализ Флобера и неназванного тут Фрейда японской танке, сказано многое: у танки «нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что сама есть мир и постоянное внутреннее вихревое движение»24. Для Мандельштама более всего характерно обратное тяготение к естеству, биологии, телу: культура лишь образ природы, «Природа — тот же Рим и отразилась в нем». Знаменитая «тоска по мировой культуре» есть скорее тоска по общечеловеческой природе, и «теологическое тепло» — это и тепло тела, его «божественной физиологии». В этом, вероятно, смысле Виктор Шкловский писал о «старой уже борьбе русских писателей с одолевающей их психологичностью» ”.
Но самый радикальный ход в этой борьбе сделал Александр Добролюбов, ушедший из культуры в природу, из символистов — в сектанты, чтобы на деле воплотить то, к чему призывали на словах многие его современники. Не говоря более на языках культуры, Добролюбов соединяет их в языке природы:
1
И в ручьях и в людях есть другой язык,
’' Есть один язык всеобъемлющий, проникающий,
Как любовь, как жизнь, как бессмертие опьяняющий “.
Грех культуры в ее фрагментации. Культура аналитична и множественна, природа едина. Многословным языкам культуры предпочитается молчаливый, целостный язык природного чувства. «Соединенье — вот слово, которое я нашел в народе»,— пишет Добролюбов, выделяя ключевое для себя слово. «Вместо разделенья соединенье всего, вместо сухого рассудка всеобъемлющее духовное
Культура против природы: психология русского модерна 223
стремление». «В народе я нашел те же глубокие раздумья, те же чувства». Язык простых людей может «высказать все так-же и еще лучше, чем сухие слова образованных»27. Все же важно, в чем именно состоит разница между чувствами народа и исканиями интеллигенции: все равно ли приходит современная культура к народу, только сложным и тяжелым путем, или же она ведет в сторону от чувств народных. Похоже, Добролюбов считает, что культура скорее избыточна, потому что синонимична природе, чем вовсе неверна. Он сам своей жизнью демонстрирует эту потенциальную непрерывность опыта: живя среди народа, он становится его учителем, потому что его прежний культурный опыт тяжел, но не вовсе пуст. Скитаясь со своей сектой, скрываясь от родных и признаваясь: «я везде в опасности сумасшедшего дома», Добролюбов просит Брюсова прислать ему книги “. На деле, его «Книга невидимая» насыщена культурой — цитатами, ссылками, эпиграфами... XX век видел множество подобных уходов, в середине столетия они стали почти что культурной нормой. В начале века уход Добролюбова стал потрясением, о нем думали и ему завидовали Блок, Белый и сам Толстой.
Его последователи-добролюбовцы, одно время известные не меньше толстовцев, были одной из множества сект, близких русским хлыстам. Интересно писал о хлыстах Василий Розанов, для которого мистическое сектантство было «явлением более психическим, нежели только церковным»29. Соответственно, в изучении религий и сект Розанов видит путь к подлинному пониманию человека; научная же психология немецкого образца кажется ему «какою-то игрою в куклы сравнительно с богатством психологического наблюдения и психологических законов», открывающихся в писаниях пустынников и отцов церкви30. Розанов формулировал, что русским вообще свойственна не психология, а психологичность; это очевидно как явление природы, и не требует обоснований: «Мало солнышка — вот все объяснение русской
224
Глава 4
истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности». Розанов пишет «психологичносты курсивом и дает определение понятию: «ввинченность мысли в душу человеческую». Это и есть основной его предмет. «Мое влияние было бы в расширении души... Что душа была бы нежнее, чтобы у нее было больше ухо, больше ноздри» ”. Психологичъюсть Розанова — естественное качество, а не рефлексия о нем; в отличие от психологии, психологичность принадлежит родному миру природы, а не сомнительному миру культуры. В таких категориях описывали и русский национальный характер. «Психические осложнения и противоречия, такое отсутствие резкой, бездушной „прямолинейности" и сообщают некоторым чертам русского быта особенно „загадочный" для иностранцев оттенок»,— писал отец Блока ”.
В своих неподцензурных статьях” Розанов вводил интересное понятие «русской веры», которая, говорил он с определенностью, гораздо шире православия; разницу' в объеме этих понятий составляют старообрядчество и секты. Розановская «русская вера» темна и полна психологичности; она «вся состоит из странных психологических и метафизических тайн»; она мало связана с догмами православия, которые «все скомпилированы с протестантских или католических ученых трудов, и нимало не выражают русского церковного духа и народного религиозного <...> миросозерцания»”. По сути дела, Розанов противопоставляет друг другу две религии, официальную и народную, описывая обе в терминах, которые знакомы скорее по позднейшим исследованиям средневековой Европы ”. В полной мере тайну «русской веры» воплощали для Розанова хлысты, в которых он видел людей особо «психологичных» и «бесконечно впечатлительных», обладателей «особой духовной организации»: «пушинка, которая бы упала на меня и меня не отяготила <...> этих людей почти заставила бы вскрикнуть от боли» ”.
Культура против природы: психология русского модерна 225
Серебряный век вновь — в последний ли раз? — сделал хлыстов популярными. Хлыстом считался Распутин. Бердяев специально ходил по трактирам, чтобы поговорить с сектантами, и вспоминал об этом как об одном из важнейших впечатлений своей жизни37.0 секте писали Захер-Мазох, Мельников-Печерский, Андрей Белый, Мережковский, Пришвин, Бальмонт, Ремизов, а потом и Горький, Платонов, Всеволод Иванов, Пильняк, Радлова, Форш... «Одна из величайших фантасмагорий нашей истории, может быть даже — истории всемирной»,— писал о хлыстах Розанов”.
Для Тютчева, Соловьева, Блока, Белого психология как часть природы должна быть организована извне, подчинена светлому началу культуры. Это типично для модерна и имеет далеко идущие последствия, по сути дела в этих же рамках мыслили Троцкий и Выготский, Луначарский и Залкинд. Для Толстого, Достоевского, Розанова, Бахтина психологию лучше оставить в покое, если дело касается природы человека. Доверьтесь жизни, и она сама, без особых размышлений и обоснований, выведет вас на нужную вам дорогу; подвергните ее, как писал Мандельштам, «психологическому эксперименту»,— и вы окажетесь в замкнутом кругу гипотез и опровержений. Эта архаизирующая позиция противостоит основному направлению поисков модерна.
Многие не могли и не хотели занять однозначной позиции в этом пространстве, для которого более естественна амбивалентность. Константин Леонтьев хоть и надеялся найти «в физиологической психологии исходную точку для великого обновления человечества», все же задавал этой сверхнауке довольно умеренную задачу — «лучшее и более сообразное с „натурой" людей распределение занятий и труда» ”. Лев Шестов, приветствуя грядущую эру психологии, видел в ней конец «тысячелетнего царства разума и совести» 40. По Бердяеву, «психологический метод очень плодотворен, но есть тут и нечто безнадежное, какое-то колоссальное недоразумение»4’.
13—809
226
Глава 4
Михаил Гершензон называл истекшее XIX столетие «веком научной психологии». У него не было сомнений в ее применимости: «все, что в этой области добывала наука, тотчас практически осуществлялось: школа, право, суд, наказание перестраивались на основе научной психологии»; плохо, что «в слепом увлечении научностью человек забыл о душе» 42
Но, оказавшись в невероятно сложной исторической ситуации, люди модерна рассчитывали именно на психологию (а не на экономику, право, социологию и пр.) как на средство понимания. «Ведь голые факты представляют собою такой дикий сумбур, что им отказываешься верить. Ничего нельзя понять. Лишь вооружившись фактами психологии, учитывая психологию каждого действующего лица, начинаешь открывать глаза, видеть и логическую ниточку»,— записывала в дневнике 1918 года Зинаида Гиппиус 4Э. «Русская революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание»,— писал в Крыму 1920 года Максимилиан Волошин44.
В психологии видели возможность объяснения того, что объяснению не поддавалось. И в науке, и в литературе, и в жизни психология кажется последним шансом рациональности, заветным убежищем интеллектуала; чем неопределеннее и опаснее оказывается история, тем чаще и с тем большей надеждой взгляды обращаются к психологии.
Любовь и смерть — всегда единый ? мой ответ
Если факты можно понять только на основе психологии действующих лиц, то и изменить эту страшную жизнь можно лишь преобразив психологию масс. Так психология становится не только основным механиз-
Культура против природы: психология русского модерна 227 мом понимания человеческой природы, но и главным инструментом влияния на нее со стороны культуры.
Если оставить в стороне хлыстовские радения и скопческие операции, а также биологические проекты типа скрещивания человека с обезьяной4’ или евгеники, то единственным путем к изменению человеческой природы оказывается именно психология. Ницше, часто называвший себя психологом, так и писал: «Психология должна быть поставлена выше всех других наук и должна иметь их все в своем распоряжении <„.> потому что психология есть путь ко всем остальным проблемам» 46. Эту его идею часто повторяли, не ссылаясь. Действительно, не Маркс и не Фрейд, а Ницше был подлинным автором проекта психологической переделки человека, и его идеи были немедленно подхвачены в России. Первое изложение философии Ницше на русском языке, написанное В. Преображенским47, вышло в том же 1892 году, что и «Смысл любви» Соловьева. Не прошло и десяти лет, как Соловьев цитировал проницательные слова того же Преображенского: «к некоторому несчастию для себя, Ницше делается, кажется, модным писателем в России»48. «Ницше — настоящий бог молодежи того десятилетия»,— писал Александр Бенуа о 1900-х годах4’. «Бедный Ницше и бедная русская мысль!» — еще 10 лет спустя восклицал в «Вехах» Бердяев ”.
Создавая свои мифы — о Софии у Владимира Соловьева, о Дионисе у Вячеслава Иванова, о Прекрасной Даме у Блока, о недотыкомке у Федора Сологуба — символисты раскрывали иную реальность, стоящую за пошлыми формами знакомого бытия. Характер второй реальности, механизм ее влияния на обыденную жизнь и способы ее обнаружения там виделись разными мыслителями различно; но сама идея второй реальности и ее скрытого присутствия в человеческих делах содержалась во многих великих или просто популярных духовных системах начала века — ницшеанстве, психоанализе, православной философии, марксизме, антропософии и, конечно, в
13»
228
Глава 4
символизме. «Слишком много есть в каждом из нас Неизвестных, играющих сил»,— писал Александр Блок в 1913 году. Человечество овладеет ими. «А пока — в неизвестном живем».
«Любовь и смерть — всегда единый мой ответ»,— писала сестра Владимира Соловьева в стихотворении, посвященном Вячеславу Иванову ”. Любовь и смерть становятся основными и едва ли не единственными формами существования человека, главными средствами его понимания; а став таковыми, они сливаются между собой в некоем сверхприродном единстве. «Эти простые отношения принадлежат к тем вещам, про которые кто-то сказал: нехорошо это дело, но еще хуже об этом разговаривать. Но любовь, как я ее понимаю, есть, напротив, явление чрезвычайно сложное, затемненное и запутанное <...> Простое отношение к любви заканчивается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью»,— писал Владимир Соловьев ”.
Это ли не психология? И мысль, не считаясь с исчезающе тонким различением между природой и культурой, становилась все более психологической. Она направлялась сразу же на предельные вопросы бытия, по пути проскакивая конкретное разнообразие жизни. В своей статье «Смысл любви» Соловьев очертил логические и эмоциональные пути, отчасти параллельные Ницше, отчасти совершенно от него независимые, но во многом сходящиеся к той же бесконечно удаленной точке. Изучавший когда-то биологию, Соловьев начинает свои рассуждения о высшей любви с размножения «гадов». Больше всех размножаются те низшие животные, у которых нет ничего похожего на половую любовь. Поэтому смысл половой любви не сводится к размножению. Нет и связи между силою любовной страсти и значением производимого ею потомства. Не Ромео и Джульетта в своей великой страсти породили гения, равного Шекспиру; наоборот, это он породил их путем бесполого творчества. Большинство страстных любовников, по
Культура против природы: психология русского модерна 229
добно Ромео и Джульетте, умирают, не породив никого; к тому же «особенно сильная любовь большею частью бывает несчастна» ”.
Любовь не есть средство к чему-либо, а цель сама в себе. Но такая, истинная любовь еще никогда не была осуществлена. На деле и человека как такового еще нет — он существует лишь в своей эмпирической ограниченности. «Истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих» и. Осуществить это единство мужского и женского и есть задача любви. Половой акт не имеет к этой задаче отношения. Более того, он-то чаще всего и губит любовь. И даже еще больше, он губит человека, не позволяя ему достичь своей высшей сущности: «пока человек размножается, как животное, он и умирает, как животное». Разделение полов, которое ненадолго, иллюзорно преодолевает половой акт, и есть подлинное начало смерти. «Пребывать в половой раздельности — значит пребывать на пути смерти». Поэтому влечение к половому акту есть по существу своему влечение к смерти. «Дионис и Гадес — одно и то же... Бог жизни и бог смерти — один и тот же бог» ”.
Соловьев категорически не согласен с психиатрическим различением естественной и «противоестественной» сексуальности: само разделение полов и обычный половой акт для Соловьева является «общим и всепроникающим извращением». Именно им «поддерживается и увековечивается царство греха и смерти»’6. Любители продажной любви для Соловьева ничем не отличаются от некрофилов. Соловьев объявляет противоестественной и недостойной человека даже и половую жизнь в браке, если она регулируется не мистическими целями ’7. Любовь требует перерождения человека и, поскольку в одиночку спастись невозможно, любовь к человеку означает слияние с человечеством, включая всех когда-либо
230
Глава 4
живущих. Итак, истинная любовь торжествует над-, полом, над смертью и над личностью.
«Смысл любви» был написан Соловьевым на исходе его бурной страсти к Софье Мартыновой, которую друзья называли Сафо (гомосексуальность, явная или латентная, вообще играет немалую роль в этом круге идей) **; он писал ей акростих-.
Сказочным чем-то повеяло снова...
। Ангел, иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое сердце боится...
О, как бессильно холодное слово!
Одновременно с работой над «Смыслом любви» Соловьев сообщал другу о своем намерении «обратиться к невропатологу»; но, возможно, благодаря тому, что он нашел в статье «форму» своему сердцу, до этого дело не дошло: «я начинаю чувствовать себя лучше, и думаю, что нервно преувеличил мою невропатию» ”. «Холодное слово», даже такое, от которого веет чем-то сказочным, в который раз оказалось целебным для говорящего. Но современникам это произведение Соловьева казалось неудачным; возможно, они чувствовали в нем слишком личное содержание. «Друзья его, например, братья Трубецкие, были возмущены, находя дух его статей нездоровым и видя в его теории принижение религиозного значения семьи»60 -Сильные сомнения порождал «Смысл любви» и в православной ортодоксии. Рассказывая о нем, протоиерей Георгий Флоровский не удерживался от эмоций: «жуткий оккультный проект», «жуткие просветы в мистический опыт» 61. Зато на последующее поколение «Смысл любви» имел необыкновенное влияние. Для младших символистов Соловьев был не просто философом, а учителем жизни, идеи которого надлежало воплощать в деле. Андрей Белый, вспоминая, как его круг «жил» Соловьевым в первые годы столетия, выделял именно «Смысл любви», и не как философию, а как способ жизни 62 — «соловьевство как жизненным путы .
Культура rrtmwi приемам психология j-yogf; манерна 231
Дионис в России опасен
Вячеслав Иванов, находившийся под двойственным влиянием Ницше и Соловьева, называл Эрос началом, общим для эстетики и религии. Он писал, что «в строе новой души этика является эротикой, и правее могла бы именоваться эротикой. Алчущая любовь... — вот первооснова нашей религиозности»63. Эротика, как некое заострение психологии, в мире модерна оказывается основным рабочим материалом и одновременно — средоточием всех загадок. В русском символизме Дионис стал главным героем, как Эдип в психоанализе Фрейда.
До нас дошло множество рассказов об эротических экспериментах группового характера, которые параллельно организовывали Иванов и Мережковский с женами; в обеих группах участвовал довольно широкий круг элитарных петербургских интеллигентов. Трудно сказать, как далеко заходили эти эксперименты. Бердяев вспоминал, что дело ограничивалось хороводамии; Шестов в одном из писем отзывается о них, используя хлыстовское слово, как о «радении» 65; дневники Михаила Кузмина дают основания для более рискованных предположений 66.
Интерес эпохи к проблемам попа символисты разделяли с психоаналитиками. Но в противоположность фрейдовскому психоанализу дионисийство Иванова имело групповой и массовый, а не индивидуальный характер. Для выхода из своего Я и проникновения в чужие Эго, для нарушения их границ и перемешивания между собой пропагандировались разные средства — мистический опыт и православный идеал соборности, «прадио-нисийский половой экстаз», «священный хмель и оргийное самозабвение».
Ницше пользовался Дионисом и Аполлоном как всеобщими символами хаоса и порядка, чувств и разума, во
232
Глава 4
ли и покоя. Иванов, редко вспоминая Аполлона, делает из Диониса символ бездонной глубины, в котором любой нуждающийся интеллектуал, искатель и грешник мог найти недостающую ему идентичность. Он считал дио-нисийство особо присущим славянам, в противоположность аполлонийству европейцев. «Истыми поклонниками Диониса были они — и потому столь похож их страстной удел на жертвенную силу самого, извечно отдающегося на растерзание и пожрание, бога эллинов»,— с увлечением говорил он в октябре 1917 года67, за 10 дней до революции. Эта идея, связывающая Россию, Диониса и Революцию, могла принимать разные оттенки. Розанов и другие знатоки сектантства считали именно хлыстов русскими наследниками античного диони-сийства; отсюда логически следовала идея скифства как посредника между Дионисом, русской верой и большевизмом. Волошин в Крыму 1920 года воспроизводил ее безо всякой ангажированности: «Великая русская равнина — исконная страна бесноватости. Отсюда в древности шли в Грецию оргические и дионисийские исступления; здесь с незапамятных времен бродит хмель безумия» ы. «Дифирамбы Дионису» писал и Луначарский, под началом которого Иванову пришлось позднее поработать. Задолго до того сам Иванов, не уточняя, предупреждал: «Дионис в России опасен» 69.
С профессиональной ясностью та теория сексуальности, которая содержится в «софийных» исканиях Соловьева и в «дионисийских» мечтах Иванова, была сформулирована Бердяевым70 Эпоха чувствует центральность проблемы пола, говорил он. Но пагубной ошибкой было бы отождествлять пол с сексуальным актом. Разделение полов есть следствие падения Адама, который был андрогином. Только дева-юноша, целостный бисексуальный человек есть образ и подобие Божье. Христос тоже был мужедевой. Всякий половой акт есть мучительное искание утерянного андрогинизма. Но соединение призрачно, и за него человека всегда ждет расплата. По
Культура против природы: психология русского модерна 233
скольку акт конечен и дифференцирован (а должен бы быть вечным и совершаться андрогинами), постольку в нем есть дефектность и болезненность. Итак, сексуальный акт внутренне противоречив и противен смыслу мира-, но он победим, он будет преодолен. «В самой глубине сексуального акта скрыта смертельная тоска».
Как и у Соловьева, в философии Бердяева ощутим личный компонент, давление которого так и не было осмыслено им до конца. По словам близко знавшей Бердяева в 1910-х годах Евгении Герцык, в философе остро чувствовался «ужас тьмы, хаоса», состояние «трепета над бездной». Проницательная Герцык видела это в нервном тике и еще в том, что, когда Бердяев ночевал в ее крымском доме, «не раз среди ночи с другого конца дома доносился крик, от которого жутко становилось. Утром, смущенный, он рассказывал мне, что среди сна испытывал нечто такое, как если бы клубок змей или гигантский паук спускался на него сверху». С этим же, замечает мемуаристка, «связаны разные мелкие и смешные особенности Бердяева — например, отвращение, почти боязнь всего мягкого, нежащего, охватывающего»”.
Страх и чувство вины, столь очевидно связанные у Бердяева с гетеросексуальной практикой и с женскими символами, влекут его к рациональной переработке самых радикальных фантазий переделки человека. Знакомая по Ницше идея затрагивает у Бердяева самое базовое качество человека — пол. Мы живем, писал он, в переходную эпоху, наступает новый природный порядок, в котором творчество должно победить секс. В эту эпоху мирового потрясения стушевываются и смешиваются твердые ранее границы мужского и женского. Человек будущего избавится от акта и от пола, от смерти и от рождения ”. Бердяев ссылался и на античных гностиков, и на немецких барочных мистиков, но предпочел опустить один из источников этих идей, который мог быть важнее других в контексте начала века: вполне сходные формулировки
234
Глава 4
содержались в легендах русских хлыстов и особенно скопцов73.
Семейная жизнь Блоков в немалой степени была экспериментом по проверке идей Владимира Соловьева об истинной любви, отвлекающейся от плотского начала — экспериментом, давшим удручающие результаты. Супружество началось с философского и практического отрицания сексуальных отношений. Чтобы понять случившееся в ее жизни, Любови Дмитриевне приходится совершить мучительный переход от Соловьева к Фрейду; свои воспоминания она напишет как свободные ассоциации, предназначенные для того, чтобы «дать какой-то материал, пусть и очень неполный, фрейдовскому анализу событий»74.
Мать Блока лечилась в 1917 году у психоаналитика Юрия Каннабиха в его психотерапевтическом санатории в Крюкове. Тетя поэта описывала ее припадки так «крайне тревожное и раздраженное состояние духа <...> В ней жило как бы два существа: одно углублялось в высокие вопросы, стремилось разрешить загадки жизни, заглянуть в будущее человечества и найти высшую правду, другое было занято житейскими мелочами»7’. Психическая болезнь представлялась как конфликт двух существ, живущих внутри больного человека — существ, каждое из которых само по себе было бы здорово, но вместе, в своей неразрешимой борьбе, они причиняют болезнь. Дублируя ключевое расщепление между культурой и природой, такое понимание видело единственный способ исцеления в решительной победе одного из них, культуры-духа, и в окончательном подавлении другого, природы-души.
Блок психиатров не любил, подозревая лишь «разные комбинации действия воли на расстоянии»76, и предпочитал лечить себя сам. Даже Платон, по словам Владимира Соловьева, не мог «соединить небо с землею и преисподнею» 77; а на меньшую помощь ни Соловьев, ни Блок согласны не были. Блоку ставили диагноз «нейрастения»
Культу]эа против природы: психология русского модерна 235 и, конечно, предлагали лечение. В письме матери он реагировал так «ты рассчитываешь на психологические воздействия, я же в них окончательно не верю (и никогда не верил)»п. В «Возмездии» поэт объявил «нейрастению, скуку, сплин» наследием прошлого; «гуманистический туман» отравляет жизнь подменой: «вместо подвигов — психоз». Его возмущает, что тех, кто, как поэт, готов к подвигу, спешили объявить сумасшедшими, и от этого надлежит избавиться, как от самой психологии. Мать поэта, кажется, относилась к делу более тонко. За много лет до этого она так отвечала Белому на его крик «Нет никакой психологии»: «мне кажется, что психология <...> и есть моя собственная и неотъемлемая сфера, из которой я не выйду и в которой захлебнусь, может быть, окончательно» т’.
В конце 19П года в психиатрическую больницу после двух попыток самоубийства попадает молодой человек, по рождению и по кругу своих интересов бывший в самом центре этой культуры. Это был поэт Сергей Соловьев, племянник Владимира Соловьева, ближайший друг Андрея Белого, шафер на свадьбе Блока. Несколькими годами раньше он сыграл определенную роль в семейной драме Блоков, обсуждая с ними, как надо низвергнуть «темную стихию астартизма» и «дракона похоти» (термин Вл. Соловьева), чтобы реализовать истинную, бесплотную любовь *°. Его взгляды, впрочем, менялись, и тогда Соловьев просил Блока передать жене, что «моя к ней любовь скоро примет определенно греховный оттенок». Впрочем, «к старой жизни иногда потягивает, но оттуда веет смертью, а жизнь облекается в форму астартическую». Теперь он даже мечтает о том, что его «посмертная биография будет называться так: блудник XX века». Перед нами типичные юношеские переживания с их неустойчивостью и эротической заостренностью, но тем интереснее форма, которую придавала им культура. В 1905 году С. Соловьев писал Блоку: «ты со мной спорил, когда я говорил, что христианство в осно-
236
Глава 4
ве своей вне пола. Теперь я считаю, что понимание христианства возможно до конца только сквозь сладострастие, как и всякой религии. И только потому, что в нем пламенеет сладострастие виноградных гроздьев, оно учение вечное, религия будущего» ".
После нескольких месяцев пребывания в городской лечебнице Соловьева перевели в санаторий Крюково, где его лечащим врачом стал тот же Каннабих. Довольно скоро анализ, который в Крюково сочетался с разнообразной физиотерапией, помог Соловьеву. В 1913 году он резко меняет путь и принимает православное священство; потом, в начале 20-х, он переходит в католичество и становится епископом «греко-российского обряда». Позднее, однако, ему пришлось не раз побывать в советских психиатрических больницах ".
Обреченность мужского на гибель
В этом контексте мы лучше понимаем, с чем боролся и чего добивался своей апелляцией к природе, здравому смыслу и женской сексуальности Василий Розанов с его ключевой формулой: «Это содом порождает идею, что соитие есть грех»83. Защита Розановым гетеросексуальности как ключевой семейной и духовной ценности, его озабоченность «людьми лунного света», или латентными гомосексуалистами, его враждебное отношение к аскетизму, за которым ему всегда видится перверсия, сегодня кажутся чрезмерными. Но ведь, по крайней мере в теории, идеи андрогинности доминировали в его духовном окружении. Розанову приходилось подвергнуть критике здравого смысла то, что Соловьев и Иванов, позднее Бердяев и Бахтин представили как культурный идеал. Идя по этому пути, Розанов оказался довольно близок к Фрейду во многом, что касалось ключевой проблемы взаимоотношений секса и культуры (хотя, насколько нам известно, они друг друга не читали м). Оба, Розанов
Культура против природы: психология русского модерна 237
и Фрейд, считали эти отношения обратными: чем больше человек реализует себя в сексе, тем меньше энергии остается на другие его свершения; и наоборот, культурные герои всех времен и народов были людьми со своеобразной, часто ослабленной половой жизнью. Фрейд трактовал таких людей как невротиков, Розанов — как содомитов. Но к освобождению пола и плоти стремились оба, причем Розанов считал это задачей, для русских более важной, чем для европейцев: «Страшный дух оскопления, отрицания всякой плоти <...> сдавил с такою силою русский дух, как об этом на Западе не имеют никакого понятия»
Эротическая и психологическая напряженность русской культуры не осталась незамеченной европейцами. Под сильным и разнообразным русским влиянием была написана главная теоретическая работа позднего Фрейда, «По ту сторону принципа удовольствия», в которой он предложил считать Танатос, влечение к смерти, столь же фундаментальной движущей силой человеческого поведения, как и Эрос, влечение к жизни, любви и продолжению рода. Сама идея влечения к смерти была задолго до этой работы Фрейда высказана русским психоаналитиком Сабиной Шпильрейн. Первая психоаналитическая пациентка Юнга, она, как показывает опубликованная переписка “, стала его любовницей. После их мучительного разрыва Юнг ищет выход в идеях, которые несут хорошо знакомый нам «дионисийский» колорит. Шпильрейн же стала близкой ученицей Фрейда. В своей написанной под руководством Юнга диссертации и статье «Разрушение как причина становления»87, на которую ссылался Фрейд, Шпильрейн в большой степени, как я полагаю, базировалась на русской идее единства любви и смерти.
По форме, композиции и материалу статья Шпильрейн несколько похожа на «Смысл любви» Соловьева. Обе статьи начинают со способов размножения у насекомых и рыб, обе говорят о том, что «бог жизни и бог
238
Глава 4
смерти — один и тот же бог». Но Шпильрейн далека от мыслей о необходимости преображения пола для борьбы со смертью. Обильно цитируя дионисийские мечты Ницше о вечном возрождении и о сверхчеловеке, Шпильрейн трактует их как результат идентификации Ницше с матерью: его любовный союз с матерью таков, что он не представляет себя иначе, как собственную мать, и свою мать иначе, как самого себя. Он беременен сам собою, и потому, действительно, готов возрождаться вечно. И он сам, и человек вообще, и все человечество в целом для Ницше равно матери, вынашивающей великолепное дитя. Человек — это то, что нужно преодолеть, потому что человек родит сверхчеловека ". Дионис сводится к Эдипу, который зашел слишком далеко. Это Эдип, любящий свою мать до отождествления с ней и потому сам себя рождающий.
Вячеслав Иванов в 1909 году печатает свой манифест «По звездам», в котором, в частности, рассказывает о соотношении Страсти и Смерти: «на обеих стоят стопы Эроса, из обеих встает Любовь, кровнородная и чуждая обеим» 89 Пытаясь построить универсальный миф, Иванов, по ядовитым словам Белого, ставил «нечто вроде знака равенства между Христом и Дионисом, Бого-ма-терью и всякой рождающей женщиной, Девою и Менадой, любовью и эротизмом, Платоном и греческой любовью, теургией и филологией, Влад. Соловьевым и Розановым» ’°. Источники Иванова те же, что и у Шпильрейн: Ницше — с одной стороны, греческая мифология — с другой, русская литература XIX века — с третьей. Сама сущность Диониса предполагает слияние любви и смерти в циклических актах его рождения-умирания, и если у Диониса были влечения, то это, несомненно, были бы двуединые влечение к жизни и влечение к смерти.
«Роковое очарование <...> правды» Иванов видит в тайном знании человечества «об обреченности мужского на гибель и о необходимости расплаты жизнью за обладание женщиной», он находил нужный прототип в
Культура против природы психология русского модерна 239
«Египетских ночах» Пушкина ”. Впрочем, в лермонтовском «Демоне» расстановка знаков противоположна, жизнью за любовь расплачивается женщина. Инвариантом является, похоже, сама соединенность любви и смерти, действующая для любого пола и как бы вне пола. Это же, и так же инвариантно, делал Лев Толстой. Безразлично, кого убивают, любя, герои «Крейцеровой сонаты» и «Дьявола»: в одном варианте «Дьявола» герой после любви убивает себя (примерно как в «Египетских ночах»); в другом — героиню (примерно как в «Демоне»). Важно, что любовь ведет к смерти и по сути дела идентична ей; соблазн пола и есть соблазн смерти.
Важная для позднего Фрейда идея эквивалентности или, точнее, соположности любви и смерти прошла путь, нс раз пересекавший в обе стороны русскую границу. Намеченная у ранних русских романтиков, эта идея была своеобразно усилена Владимиром Соловьевым и стала в России общей темой «декадентской» культуры. Идея эта будет считаться воспринятой более всего от Ницше (который сам, возможно, находился в важный для себя момент под литературным влиянием Лермонтова ”). Через Шпильрейн эта идея возвращается к Фрейду (для которого, впрочем, тоже всю жизнь был очень важен Ницше). Но у Фрейда она, естественно, подвергается очередной трансформации.
Фрейд отдал должное Шпильрейн в достаточно странной форме: «В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений» ”. Может ли восприниматься как «богатое содержанием и мыслями» то, что непонятно? Фрейд признает этим формальный приоритет Сабины Шпильрейн, но русский контекст, существенный для нее и в большой степени эту ее работу породивший, был Фрейду далек. Именно это делало для него статью Шпильрейн «непонятной». Фрейдовское «влечение к смерти» все-таки не совсем то же, что «инстинкт разру
240
Глава 4
шения» у Шпильрейн. Эрос и Танатос у Фрейда конкурируют и сосуществуют. Один из них может на время подавить другого в борьбе за контроль над Я или они могут находиться в равновесии; но они так же не могут слиться воедино, как не могут слиться северный и южный ветры. У Шпильрейн, наоборот, инстинкт разрушения есть другая сторона инстинкта творчества, и все, что высвобождает один инстинкт (например, психотерапия), высвобождает и другой. Цитируя знаменитую фразу Гете, которая станет эпиграфом к «Мастеру и Маргарите», Шпильрейн подчеркивает; та же самая сила, которая хочет зла,— она же приносит и благо. Такое понимание влечений амбивалентно в точном смысле этого слова. Возможно, это и имел в виду Фрейд, когда отзывался о Шпильрейн и о ее докладе 1911 года так: «Она очень талантлива; во всем, что она говорит, есть смысл; ее деструктивное влечение мне не очень нравится, потому что мне кажется, что оно личностно обусловлено. Она выглядит ненормально амбивалентной»
И с ненавистью, и с любовью
В России подобное слияние противоположностей часто называли диалектикой. Здесь диалектика доведена до своего мыслимого предела — до слияния жизни и смерти, самых крайних и самых наглядных полярностей существования. Идея двойственности человеческого бытия, трагическая и безвыходная, глубже связана с представлениями, доминировавшими в русской культуре начала века, чем с миром Фрейда, доступным для терапии и хотя бы в потенции рациональном. В этом смысле рациональны детективные романы, в которых ужас и хаос жизни подчинены жесткой логике, и ее можно и нужно найти,— жанр, который любил Фрейд и который так и не привился в России. И все же, взявшись за идею влечения к смерти и подчиняясь ее логическим связям, Фрейд не-
Культура против природы: психология русского модерна 241 уверенно — как он пишет, «хромая» — переходит к другой столь же чуждой ему идее, к андрогину. Вслед за изложением своей концепции двух влечений он приводит объемистую цитату из платоновского «Пира», в которой излагается столь любимая русскими философами легенда о стремлении естества к воссоединению в двуполости. «Я думаю, на этом месте нужно оборвать рассуждения»,— замечает столь уверенный обычно Фрейд чувствующий себя именно здесь слишком приблизившимся к роли «адвоката дьявола» ”.
Самая знаменитая из написанных Фрейдом историй болезни рассказывает о русском. Сергей Панкеев, сын деятеля кадетской партии, вошел в историю психоанализа под несколько странным названием «Человек-волк». «Личные особенности, чуждый нашему пониманию национальный характер ставили большие трудности перед необходимостью вчувствоваться в характер больного»,— так характеризовал этот случай Фрейд. И продолжал: «пропасть между милой, идущей навстречу личностью больного <...> и совершенно неукротимыми порывами влечений...» ”. Чему же присуща в глазах Фрейда эта столь знакомая «пропасть» — личным особенностям или национальному характеру?
Фрейд считал амбивалентность самой характерной чертой своего русского пациента и не жалел здесь сильных эпитетов. Амбивалентность Панкеева, как и в случае со Шпильрейн, представлялась Фрейду «необычайно ясной, интенсивной и длительной» и даже «невероятной» ’7. Фрейд обобщал: «даже те русские, которые не являются невротиками, весьма заметно амбивалентны, как герои многих романов Достоевского». И в том же письме: «амбивалентность чувств есть наследие душевной жизни первобытного человека, сохранившееся у русских лучше и в более доступном сознанию виде, чем у других народов» ”. Здесь, по-видимому, есть влияние культурного стереотипа. В своей работе о Достоевском Фрейд повторяет. «Кто попеременно то грешит, то, раскаиваясь,
14—809
242
Глава 4
ставит себе высокие нравственнные цели... напоминает варваров... Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью — характерная русская черта» ”.
Другая черта, которую Фрейд тоже обнаружил у обоих русских, Панкеева и Достоевского,— их скрытая и нереализованная, но от этого лишь более мучительная гомосексуальность; Фрейд считал ее особо связанной с «психологией масс». У Достоевского Фрейд находил «ярко выраженную бисексуальную склонность». У Панкеева «гомосексуальная установка... с такой настойчивостью проявлялась как бессознательная сила»100. Более того, Фрейд упоминает, что с самого начала анализа Панкеева «вся работа направилась на то, чтобы открыть ему его бессознательное отношение к мужчине». Пожалуй, это то самое, что пытался сделать для всех русских Розанов.
Впрочем, характерные черты русских, на которые указывает Фрейд — амбивалентность, сделки с совестью, бисексуальность — являются характерными чертами невротиков любой национальности. У русских, считал Фрейд, универсальные механизмы бессознательного оказались более доступны сознанию; такие люди и были интересны основателю психоанализа. Подобные представления о русских как людях, более близких психологической природе, чем люди Запада, были распространены как в самой русской культуре, так и в обширном кругу западных ее поклонников. Рильке считал, что «настоящие русские — это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете», и представлял Россию страной вещих снов,01. Александр Блок, в стихах которого сны встречаются не реже, чем в анализах Фрейда, в 1911 году писал Андрею Белому: «В этих глубоких и тревожных снах мы живем и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны»102.
В 1918 году, когда Фрейд во второй уже раз приступал к анализу Панкеева, Блок пишет свое знаменитое стихотворение «Скифы». Блок сравнивает Россию со Сфинксом, а европейский Запад — с Эдипом. Метафора Блока
Культура против природы: психология русского модерна 243
обратна фрейдовской, в которой активным и амбивалентным героем является Эдип; здесь его качества приписываются Сфинксу. Образ Сфинкса был популярен, причем русские, начиная с Константина Леонтьева, идентифицировали себя не с Эдипом, а со Сфинксом. Вячеслав Иванов писал о том же: «Себе самим мы Сфинкс единый оба». Но Блок идет гораздо дальше.
Блоковская Россия-Сфинкс соотносится с Западом подобно тому, как фрейдовское бессознательное соотносится с сознанием: не знает времени («Для вас — века, для нас — единый час»); нечувствительна к противоречиям («И с ненавистью, и с любовью»; «ликуя и скорбя» и т. д.); не имеет меры и предела («Мильоны — вас. Нас — тьмы»); не знает различения, забывания, вытеснения («Мы любим все... Мы помним все... Мы любим плоть»); и нарциссически смешивает я с мы. Более всего, несколько раз подряд акцентирована амбивалентность чувств. Такая любовь, которая «давно» забыта западным человеком, ведет к смерти:
, Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
. , И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет " ' - В тяжелых, нежных наших лапах?
Загадочный, вечный и женственный, как всякий сфинкс, этот ужасен более всего своей любовью. Поразительно, что образ именно такого сфинкса появился у Блока больше чем за 20 лет до «Скифов». В письме 1897 года к героине своей первой любви К. М. Садовской гимназист Блок признавался, что видит в ней «сфинкса, который мгновенным порывом страсти отнимет всю душу у человека, с которым он не может бороться, который жжет его своими ласками, потом обдает холодом, а разгадать его не может никто...» ,оэ.
Итак, главная загадка русского Сфинкса — амбивалентность в любви, присущая диким предкам и непонятная западному человеку. По сути дела Блок в «Скифах»,
14*
244
Глава 4
как это ни удивительно, имеет в виду практически то же, о чем Фрейд писал Цвейгу, говоря, что амбивалентность чувств есть наследие первобытности, сохранившееся у русских больше, чем у других народов.
Как из психоанализа, так и из истории культуры мы знаем, что совпадения не бывают случайными. Эти темы действительно были близки и важны для русских интеллигентных людей этого времени, а Фрейд хорошо знал этот круг своих пациентов и выбрал в нем достаточно репрезентативную фигуру. Соотнесение Сергея Панкее-ва и Александра Блока в этой связи поучительно как параллелями между ними, так и их различиями. Панкеев дает нам образ русского Эдипа, смиряющегося перед ситуацией, в которую ставит его западный Сфинкс-Аполлон, и всю свою долгую жизнь (бывший всего на 7 лет младше Блока, он умер в 1979 году) не очень успешно разгадывающего его рационалистическую загадку. Блок показывает судьбу русского Сфинкса-Диониса, таинственного и двойственного, блестящего и нелепого, угрожающего, но страшного более всего самому себе. Звавший к революции «всем телом, всем сердцем, всем сознанием», написавший ее Евангелие и занявший пост в Нар-компросе, Блок скоро умер в психотическом кризисе, сравнимом только с ужасным концом Ницше. Перед смертью он разбил бюст Аполлона кочергой.
Слова разные, а правда одна \
Традиционно русское понимание любви и смерти вновь, подобно Дионису, возрождается у Михаила Бахтина. В своей знаменитой работе о Франсуа Рабле Бахтин открывает в европейской культурной традиции универсальное действо «жизни-смерти-рождения». Это карнавал, в котором переворачиваются все роли и сливаются все противоположности. Бахтина влечет «большое родовое народное тело», в котором индивидуальные ро
Культура против природы: психология русского модерна 245
ждения и смерти являются «лишь моментами его непрерывного роста и обновления». Здесь все амбивалентно, «как и все образы материально-телесного низа: они одновременно и снижают-умерщвляют и возрождают-обновляют, они и благословенны и унизительны, в них неразрывно сплетены смерть с рождением, родовой акт с агонией»104. Бахтин все пытается понятнее определить влекущую его систему эротических образов: «это тело оплодотворяюще-оплодотворяемое, рождающе-рождае-мое, пожирающе-пожираемое». Гротескному, или «народному» телу свойственна двуполость. «Нужно подчеркнуть, что мотив „андрогина" в данном его понимании был исключительно популярен в эпоху Рабле»1О5. И наоборот, самосознание современного человека — «новый телесный канон» — приводит Бахтина в уныние: это «совсем готовое, завершенное, строго отграниченное, замкнутое, показанное извне, несмешанное и индивидуально-выразительное тело»; тело, которое имеет пол, тот или этот, которое является либо субъектом, либо объектом и которое либо живо, либо нет.
Бахтин воспринял эти идеи у Вячеслава Иванова, которого называл учителем. «Соединение любви и смерти», писал Бахтин,— основная тема стихов Иванова. Бахтин с одобрением видит, что это слияние направлено против личности: «восторг любви вызывает тоску и стремление разбить грани индивидуализации, а разрушает индивидуализацию смерть. Поэтому любовь накликает смерть»106. Мы находим у Бахтина в приложении к Рабле все основные мотивы русского модерна: идею вечного возрождения, романтику деиндивидуализации, смешение-стирание основных категорий рациональности, образ андрогина. У Бахтина они образуют столь же целостный «дионисийский» комплекс, как у Соловьева, Иванова, Шпильрейн и Бердяева: если рождение равнозначно смерти, то любовь сливается с влечением к смерти, субъект — с объектом, мужской пол неотличим от женского, а гомосексуальность тождественна гетеросексу
246
Глава 4
альности. Этот «дионисийский» комплекс чувств и верований внутренне устойчив, он полно и непротиворечиво объясняет мир человеческих отношений и, по видимости, так же адекватен ему, как половая «эдиповская» логика.
И здесь снова вспоминаются хлысты, сочетавшие истовую набожность то с ритуальным промискуитетом, то, наоборот, с ритуальной же кастрацией, но всегда — с необычайной сосредоточенностью на проблемах пола и смерти. Хлысты доводили себя до экстаза с помощью коллективных моторных упражнений, «кружения» (современная психотерапия хорошо знает эффективность подобных методов). В театрализованных сценах некоторые направления хлыстовства разыгрывали рождение, жизнь и смертные страсти Христа, с которым идентифицировали себя лидеры секты. Отколовшиеся от хлыстов скопцы добровольно лишали себя пола, чтобы достичь бессмертия. Само существование пола рассматривалось как источник смерти. Движением ножа неграмотный мужик договаривал то, чему посвящал сотни страйиц религиозный философ.
Пройдет время, и Бердяев увидит в произошедшей революции «дионисийские оргии темного мужицкого царства» ’°7. Невероятное сочетание интеллектуальных обстоятельств скрестило хлыстов с Ницше, породив феномены, которые мы еще только учимся узнавать. В 1910-х годах Иванов разыскал где-то «хлыстовскую богородицу» и водил ее на свои лекции. На вопрос о том, понятна ли ей лекция, в которой много ученых слов, та отвечала: «Что ж, понятно, имена разные, и слова разные, а правда одна»108 . г-
Роман каторжника с тачкой . . ’ ‘ и
В отличие от хлыстов и большевиков, мечтатели-символисты, как и их предшественник Ницше, мало задумы
Культура против природы: психология русского модерна 247
вались о механизмах массового преображения человека. Конечно, в любом случае идея эта балансировала на грани безумия, которое, близкое и повседневно угрожающее, воспринималось не как Иное во французском духе, а как реальность «желтого» дома. Культуре, разворачивающейся против природы, грозит поражение в этой неравной борьбе. Психоз есть вероятное следствие слишком большой концентрации культуры, отрывающейся от природной реальности своих означаемых. Большая литература всегда близка к бреду, но взаимное тяготение русской интеллектуальной жизни с миром психиатрии беспрецедентно.
Философия в России началась с чаадаевской «Апологии сумасшедшего»; блестящие речи Бердяева, прерываемые его страшным тиком, похожим на «дантевскую казнь» ‘°’, были ее кульминацией. С тех пор и вплоть до карательной психиатрии 1970-х, русские литераторы были замкнуты в треугольнике между своим культурным подвижничеством, политическим обвинением в сумасшествии и натуральным бредом. «Не дай мне Бог сойти с ума»,— писал Пушкин. Многим его преемникам, на всем пространстве литературы от Гоголя до Мандельштама, пушкинская молитва не помогла. «Разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все сумасшедшие,— называл всех сумасшедшими, кроме себя» "°,— писал, вспоминая прожитую жизнь, Лев Толстой. Великие русские тексты — «Медный всадник» и «Нос», «Идиот» и «Мелкий бес», «Петербург» и «Мастер и Маргарита» — показывая людей, сходящих с ума от своей русской жизни, дали миру невиданную хронику бреда, перенасыщенного культурой.
Но чем сложнее культурная жизнь, тем меньше она мирится с упрощениями психиатрии, сводящими сложность культуры к диагнозу природной болезни, и тем яснее видно, что сама психиатрия — не более, чем часть культуры. Между психиатром Н. Баженовым, либералом
248
Глава 4
и масоном, организатором «Ложи освобождения» и председателем знаменитого в начале века московского Литературно-художественного кружка, и психиатром А. Снежневским, организатором и идеологом всего того, что касалось советской карательной медицины, разница огромна. Но как Баженов, по словам Белого, годами считал «нас пациентами» так и Снежневский с редкой откровенностью видел клинический признак шизофрении в том, что у больного «появляются несоответствующие <...> интересы, особенно к самым отвлеченным проблемам, наивное стремление к их разрешению. Больные усиленно читают философские, психологические, социологические, этические сочинения»112
Пик «несоответствующего» интереса к психиатрии, свойственного русской литературе, мы застаем в 1920-х годах, когда Осип Мандельштам писал в критической статье: «С тех пор, как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой»1,э. Предчувствуя, но скорее всего не осознавая подлинного значения своей метафоры, он называл в 1922 году интерес новой литературы к новой психологии «романом каторжника с тачкой».
В пореволюционных романах Всеволода Иванова «У» и Андрея Платонова «Счастливая Москва» действие уже явным образом переходит из психиатрической (или нейрохирургической) клиники в жизнь и обратно. Необычайно выразительно, с характерной смесью восторга и пародии, описывал великую русскую мечту Андрей Платонов: «насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо <...> и сколько еще надо работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте»1М,— чувствует не читавший ни Фрейда, ни Ницше герой. Труднее всего приходится в этом новом мире человеческой сексуальности. «Страсть жизни» сосредоточена не в желудке, а в чем-то другом, «более скрытом, худшем и постыдном»; и
Культура против природы психология русского модерна 249
понять это необходимо именно теперь, потому' что «он давно втайне уже боялся за коммунизм, не осквернит ли его остервенелая дрожь, ежеминутно подымающаяся из низов человеческого организма».
Оппозиция природы и культуры, следствия которой были осознаны задолго до большевистской революции, после нее приобрела лишь большую актуальность. Идея «нового человека» — человека, состоящего из культуры,— была центральной для левых русских интеллектуалов, начиная с поэтов-символистов 1910-х годов и вплоть до педологов 1930-х. Противоестественное государство могло достичь стабильности лишь при условии изменения самой человеческой природы своих подданных — преображения, которого оно ежечасно от них требовало и действительно пыталось осуществить. Неподконтрольная природа человека должна быть замещена сознательно конструируемой культурой, для этого шли в ход любые пригодные или обещающие быть таковыми идеи. Теряя свое значение параллельно с либерализацией режима и выхолащиваясь до пустого лозунга, идея «нового человека» дожила до брежневского времени.
Чего не удалось достичь на пути изменения экономических и политических структур, вопреки марксизму пытались искать на пути психологических и педагогических экспериментов. Политическим лидером этого нового в большевизме пути был, безусловно, Лев Троцкий. Ответственным исполнителем планов переделки человека стал нарком просвещения Анатолий Луначарский. Не знавшими меры пропагандистами этих идей были деятели Пролеткульта. Колеблясь и отступая перед здравым смыслом, это направление поддерживали многие интеллигентные большевики.
250
Глава 4
Перевоспитание всего человечества
Беря формулу сверхчеловека в эпиграф своей книги с точным названием «Новый мир», Александр Богданов, самый серьезный теоретик большевиков и психиатр по образованию, писал в 1904 году: «Человек еще не пришел, но он близко, и его силуэт виден на горизонте» «Выпустить новое, „улучшенное издание" человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма»116,— двадцать лет спустя восклицал Троцкий. Несколько позже лидер педологии, бывший психоаналитик Арон Залкинд формулировал задачу своей беспрецедентной науки как «Массовое строительство Нового человека»117Его наследник в позиции вождя, Антон Макаренко обогащал свою «педагогику» новыми поворотами темы: «стояла обыкновенная задача — воспитать человека так, чтобы он был настоящим советским человеком <...> Наш советский человек отличается большими новыми особенностями <...> Нужно так привыкнуть к новым требованиям новой нравственности, чтобы соблюдать эти требования, уже не обременяя сознание»11в. Через 80 лет после Богданова, 50 лет после Залкинда философ и идеолог Эвальд Ильенков снова повторял: «формирование в массовом масштабе личности нового, коммунистического типа <...> стало ныне практической задачей и прямой целью»
Все же для позднейших марксистов более умеренного толка психологический романтизм Троцкого и его наследников был малоприемлем. Наоборот, они упрекали психологию и психоанализ в том, что те внушают надежду изменить человека, не меняя общества. Правы ли они были в том, что эта надежда является не более чем иллюзией? Отчасти правы: в быстро меняющемся обществе терапия не поспевает за темпом социальных перемен, которые именно потому и являются насильственными, что не соответствуют привычным представлени
Культура против природы: психология русского модерна 251
ям о жизни; а только на них может основываться практическая психология. Но когда жизнь вновь придет в относительное равновесие, тогда можно работать с теми, у кого в силу их индивидуальных особенностей сознание не вполне соответствует бытию. В стабильном обществе психология с ее практическими приложениями оказывается одним из средств поправить положение тех, кого оно не устраивает; но эту свою функцию психология может выполнять, похоже, только в стабильном обществе.
Выготский же вслед за Троцким писал, что «революция предпринимает перевоспитание всего человечества» ,20. Следующая фраза по законам логики должна была быть такой: и всякая психология до завершения революции бессмысленна. Так, пользуясь столь характерной для интеллектуала метафорой Троцкого, не стоит переиздавать книгу до того, как она написана. Но вывод, вслед за Троцким же, оказывался прямо противоположным. Революция перманентна и осуществляется в сознании так же, как в бытии,— или даже с опережением. Поэтому революция оставляет такое большое и почетное место для психологии. Как незаменимый инструмент в арсенале культуры, психология должна служить революции, совершая свою долю изменения мира. В этом соподчинении души и тела, психологии и политики, текста и жизни — логика модерна, доведенная до мыслимого предела.
В лучшем случае полуфабрикат
' По мере же разочарования в возможностях улучшения жизни взгляды сосредотачивались на детях: с ними, неиспорченными косной жизнью и доступными новым методам, можно все начать сначала. Своего расцвета эта идея достигнет гораздо позже, на пике преобразущего энтузиазма советского времени. Но закладывалась она очень рано, среди совсем иных людей и обстоятельств. «Дети — эти несуразные воли и полусознательные пас
252
Глава 4
сивности, дети — наши гротески и они же — эскизы задуманных наших творений,— вот мир, в котором как-то особенно весело болтать и петь нашему модернизму»,— писал поэт и директор гимназии Иннокентий Анненский
Наука о детях в ее философских и прикладных, мифологизированных и наукообразных вариантах становится в центр устремлений эпохи. Выступавшая под разными названиями (педагогическая психология, педология, педагогика), она неизменно понималась как могущественная социальная техника, которую можно изобрести и которой можно обучать. Учителя сейчас — «наиболее надломленный элемент общества», писал харьковчанин Г. Малис в книге «Психоанализ коммунизма» *22; в обществе же близкого будущего они вовсе будут не нужны. Зато новые, необыкновенные педагоги станут хозяевами жизни. Педагогика вместо теургии призвана совершить невиданное, долгожданное действие преображения. Новая наука адаптирует людей к новой власти. Педагогический Апокалипсис совершится под чутким и требовательным руководством политиков. Перерождение, перевоспитание, переплавка, перековка должны идти под крылом существующей власти, под началом ныне здравствующих лидеров. Это и есть задача новой гуманитарной науки — переделывать людей так, чтобы они были довольны и производительны в существующих условиях. Дискуссия о средствах, не о целях, станет центром общественной жизни, над которой будут возвышаться победившие большевики.
Психология и педагогика удобны тем, что нисколько не покушаются на сакральность власти. Наука о душе, в отличие от социологии, экономики, права, обещает многое, не ограничивая ни в чем. Любые, даже эффективные психологические манипуляции никак не затрагивают социальные и политические отношения. Наоборот, надежда на их эффективность может подкреплять тех, кто оставляет за собой власть над природой и культурой.
Культура против природьь психология русского модерна 253
Психология, понимаемая как инструмент культуры, рискует оказаться противной природе человека, но она легко находит себе место в арсенале власти.
Поэтому политические репрессии, которым подвергались отдельные — и, с либеральной точки зрения, самые достойные — области психологии, никогда не означали полного подавления психологии как дисциплины. После падения Троцкого гонениям подвергся психоанализ, но его место заняла педология. В 1936 году и она была репрессирована, но ее место заняла педагогика. Гитлер тоже ликвидировал психоанализ как еврейскую науку, но в клиниках обеих стран, Германии и СССР, активно применялся гипноз... В последние годы жизни Сталина психология была включена в школьное расписание в качестве обязательного предмета: беспрецедентное решение, отмененное вскоре после смерти великого практического психолога. Брежнев говорил своим помощникам, что несилен в экономике — его любимыми «коньками» являются психология и искусство управления. Факультеты психологии в столичных советских университетах были открыты в 1964 году, факультеты социологии — эпохой позже, в конце восьмидесятых.
Все советские десятилетия от психологии требовались «научные методы» переделки индивидуальных качеств среднего человека — его чувств, черт личности и параметров идентичности. Задачи, которые и по своему существу, и по мыслимым методам достижения являются задачами психотерапии, ставились в глобальном масштабе. Само строительство нового общества мыслилось как социально-психологический процесс изменения мотивации, восприятия и поведения модальной личности,— «советского человека» без различия между возрастными когортами, социальными группами и национальными культурами.
Обычным самообозначением процесса было понятие идеологии; любому из ее достаточно левых вариантов свойственна идея пластичности человеческой природы
254
Глава 4
и некий особенный проект ее переделки. В структурном плане идеологию вообще можно определить как способ демаркации природы и культуры: левые ставят эти границы в одних местах, правые — в других; левые стараются отгородить в человеке больше места для культуры, правые — для природы. Большевики видели в идеологии всемогущий инструмент, который может изменять человеческое поведение и влиять на производительность труда, делая больного здоровым, а здорового — стахановцем. И, до некоторых пределов, так и происходило: идея становилась методом, текст — жизнью. Новые социальные технологии использовали такие феномены и механизмы, как конформность, эмоциональное лидерство, внушение, подпороговые и сверхпороговые воздействия, межличностные манипуляции, групповая сплоченность и интрагрупповой фаворитизм, обман и самообман. Они опирались на множество криминальных техник, связанных с влияниями боли, страха, одиночества, утомления, голода, жажды, недосыпания на психические процессы — техник, малоизвестных экспериментальной науке, потому что они невоспроизводимы в лаборатории. Утонченные методы практической психологии изобретались и профессионально реализовывались полуграмотными политиками, следователями, чиновниками и учителями как важнейшая часть их повседневной работы.
Вмешательство мыслилось радикальным и всеохватывающим. Новый человек должен отказаться и от принципа реальности, и от принципа удовольствия. Ему полагалось верить в невероятное, приспосабливаться к невыносимому, любить то, что люди склонны ненавидеть, и жертвовать своими личными интересами во имя абстрактных непостижимых целей. Сексуальное либидо должно быть редуцировано вместе с остальными индивидуальными потребностями. Межличностные чувства — уступить место коллективным идентификациям. Агрессия и конкуренция — заморожены в повседневной
Культура против природы: психология русского модерна 255
жизни и резервированы для иностранных и местных врагов. Самооценка — потерять обычную зависимость от реальностей жизни и ее удовольствий и стать линейным коррелятом социального статуса, определяемого вышестоящим начальством.
Человек казался пластичным материалом, годным для творчества-, в нем нет натуральных качеств, он весь погружен в культуру и формируется целенаправленными влияниями среды, общества и науки. Другими словами, природа человека более не рассматривается как природа. Она рассматривается как культура — результат усилий человечества или его лучших представителей. При-рода-как-культура теряет свои атрибутивные качества — первичность, данность и внеположность человеку, фундаментальную независимость от его усилий. Что сделано людьми, может быть переделано. Природа человека становится объектом целенаправленных манипуляций.
Новая наука о человеке — это и есть наука его переделки. Вопрос «что это?» отныне и надолго вперед заменяется вопросом «как это переделать?» Все внутреннее, стабильное, недоступное влиянию извне объявляется несуществующим или отжившим, неважным, лилипутским: главным и единственно важным признается процесс развития под влиянием внешних условий. В речи на Педологическом съезде Николай Бухарин говорил: «влияние социальной среды играет большую роль, чем это обычно предполагается, изменения могут совершаться гораздо быстрее, и та глубокая реорганизация, которую мы называем культурной революцией, имеет свой социально-биологический эквивалент вплоть до физиологической природы организма»1И, Это говорение напоминает бред идейного противника Бухарина, Эммануила Енчмена124, и не менее красноречивые фантазии русских сектантов об их мистических перерождениях.
В природе и обществе, в ребенке и его развитии нет ничего такого, на что нельзя влиять: исторически изменчивы и, соответственно, доступны переделке любые сущ
256
Глава 4
ности — понятия у Выготского, гены у Лысенко, языки у Марра, породы у Мичурина, коллективы у Макаренко... На этой платформе сходятся люди, расходящиеся во множестве иных вопросов. Отвечая на идеологическую критику своей педологии, Залкинд оправдывался: я всегда «обосновывал чрезвычайную социогенную обусловленность, пластичность человека и человеческого поведения». На этой основе ог; ясно сформулировал еше в 1931 году те «принципы», которые после разгрома педологии надолго и практически без изменений зафиксировались как методологический канон официальной советской психологии
«Природа наша делаема — это более всего относится к духовной природе человека, к природе его психике»,— писал в конце 50-х годов А. Н. Леонтьев В своих ранних работах Леонтьев показывал, как особой тренировкой человека можно обучить распознавать цвета не глазом, а кожей руки. В последующих исследованиях эти результаты не вполне подтвердились, но для нас важны лежавшие в их основе теоретические намерения. В структурных терминах — это полная инверсия оппозиции между природой и культурой. Вера в то, что природа человека — это просто его культура, чрезвычайно увеличивает объем радикальных вмешательств во все области человеческих дел. По сути дела замещение природы культурой — интеллектуальная база любого тоталитарного проекта. Бывший в 1956 году образцовым левым интеллектуалом, Ролан Барт видел «сущность буржуазной идеологии» в мифологической операции, которая «трансформирует мир в его образ, Историю в Природу» (к примеру, объявляет социальное неравенство естественным и вечным)П7. Симметрично, сущность левой идеологии — в трансформации образа в мир, Природы в Историю.
Характерным для большевистского периода примером такого замещения природы культурой является пренебрежение любыми биологическими качествами чело
Культура против природы психология русского модерна 257
века — полом, возрастом, физическими возможностями, болезнями и пр. Портреты Сталина и Брежнева показывали их в одном возрасте несмотря на течение десятилетий. Положительные герои романов и кинофильмов преодолевали невыносимые трудности с помощью одного только своего непобедимого желания. На ваших глазах они непрерывно творят культуру — говорят, работают, сражаются,— но вы не застанете их за отправлением их природных дел; вы не увидите, как они спят, едят, болеют, не говоря уже о том, как они занимаются любовью. Их героические подвиги состоят в преодолении их человеческой природы — например, они молча переносят пытки или, потеряв обе ноги, возвращаются в строй. Идентификация с коллективом и сознательная саморегуляция вытесняют все остальные механизмы психической жизни.
Для психологической мифологии советского периода характерна последовательная ориентация на сознание. Именно с помощью сознания, общественного и личного, человек способен переделать себя самого. Именно так, с точностью до наоборот, и воспринимался психоанализ: не как открытие могущественных и тайных сил бессознательного, которые могут быть изучены, но не могут быть преодолены, а как технический способ осознания бессознательного и, тем самым, овладения им.
И эту традицию заложил, по-видимому, Троцкий. Мечтатель на посту министра обороны собирался идти дальше своих товарищей по партии. Он хотел осознать и сознательно регулировать не только то, что происходит на заводе, на рынке или в семье, но и то, что делается в супружеской постели и даже внутри организма человека. Отчетливость и целесообразность — высшие для него ценности — достигаются одним путем: осознанием. Красота для него равна сознательности и «культурности». И наоборот, все природное, бессознательное, стихийное и спонтанное — уродливо и отвратительно. Ничто не дол
15—809
258
Глава 4
жно происходить само собой, как в заклятом прошлом. Лишь обдуманное, осознанное, планомерное достойно существования.
Даже много позже, на протяжении 30-х годов о возможностях «трансформации человека» с помощью психоанализа писали многие интеллектуалы левой ориентации, и в том числе, например, такой серьезный мыслитель, как Карл Мангейм 129 Путь Троцкого на этом фоне выглядит не так уж плохо. В его логике фрейдизм оказывается прямым продолжением и даже вершиной марксизма, так же, как последний — продолжение и вершина науки вообще. Из базиса стихия изгоняется марксизмом, из надстройки — фрейдизмом! Нужно только еще и еще раз, не жалея красноречия, говорить с полной убежденностью: «Человек взглянет на себя как на сырой материал или в лучшем случае как на полуфабрикат, и скажет: .Добрался, наконец, до тебя, многоуважаемый хомо са-пиенс, теперь возьму я тебя, любезный, в работу!"»129.
В «Будущем одной иллюзии» Фрейд амбивалентно, с уважением и иронией отзываясь о проекте «новой перестройки человеческих отношений», высказывал сомнения в его выполнимости. «Можно испугаться безмерного количества принуждения, которое будет неизбежно до полного проведения в жизнь этих заданий»,— писал он с замечательной точностью *30.
Оголенных мыслей не существует
В России романтическая риторика Троцкого была отчасти продолжена, отчасти перевернута в книге В. Н. Во-лошинова «Фрейдизм», авторство которой приписывают Михаилу Бахтину. Независимо от этого гипотетического авторства, «Фрейдизм» остается единственной серьезной работой за полвека советского словоблудия по поводу психоанализа, начавшегося с конца 1920-х годов. В рассмотрение решительно вводится ключевая проблема
Культура против природы: психология русского модерна 259
и новый понятийный ряд: все «содержание психики сплошь идеологично», пишет курсивом автор «Фрейдизма»; даже смутная мысль и неопределенное желание — все это идеологические явления. Например, фрейдовская цензура: она «проявляет громадную идеологическую осведомленность и изощренность; она производит между переживаниями чисто логический, этический и эстетический отбор». И другие психические механизмы, описанные Фрейдом, тоже не природны, а идеологичны. Эксплицитная игра на оппозиции природы и культуры переворачивает ее в большевистском ключе: природа есть враждебная реальность, а культура есть идеология 1ЭТ.
Сознание отдельного человека есть идеология его поведения. Психические механизмы представляют собой пересаженные внутрь человека идеологические инструменты. «Мышления вне установки на возможное выражение <...> — не существует»; «Переживание <...> существует только в знаковом материале»; «Социальная среда дала человеку слова <...> социальная же среда не перестает определять и контролировать словесные реакции на протяжении всей его жизни»; «все словесное в поведении человека <...> принадлежит не ему, а его социальному окружению»,— пишет Волошинов в другой своей книге132.
Идея власти пронизывает семиозис русского модерна, оказываясь его внутренним измерением. Культуре должна принадлежать власть над природой; природа саботирует, но должна подчиниться. Как говорил Мичурин: не ждать у природы ее милостей, а взять их — наша задача. Культура — мир знаков, природа — мир означаемых. Знаки важнее значений и наделены властью изменять их. Социальная власть держится на знаках и ничем, кроме них, не санкционируется. Оппозиция означающее-означаемое коррелирует с оппозицией власть-подчинение-, и обе совпадают в универсальной оппозиции культура-природа.
15*
260
Глава 4
Приходится признать, что работы Волошинова прямо и непосредственно предвосхищают вышедшую 20 лег спустя книгу «Марксизм и вопросы языкознания» И. В. Сталина с ее характерными рассуждениями:
Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они ни возникли, они могут существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала <...> — не существует
Идея последовательная и вполне тоталитарная. В человеке нет ничего такого, что нельзя было бы прочитать. Общество, идентифицируемое с властью, выступает программистом, полностью контролирующим ход вещей в своем компьютере. Подозрение, что в людях есть некая информация, которая не может быть прочитана, равнозначно сомнению во всемогуществе власти распоряжаться людьми. То, что человек скрывает от самого себя, он скрывает и от общества. Таким подозрениям нет места.- все, что имеет значение, должно быть подконтрольно; контролируется то, что может быть прочитано; прочитано может быть то, что выражено в слове... И потому в советском человеке нет ничего, что не выражено в слове. Мыслей вне слов, как и желаний, образов, чувств, не существует. Кроме слов, вообще ничего не существует.
Бессознательное, каким его видел Фрейд, в принципе недоступно социальному контролю (если, конечно, не считать таковым сам психоанализ). Наличие в человеке подобного непрозрачного ядра представляет собой противоядие для любой социальной утопии, да и для любого тоталитарного государства. Именно поэтому советская критика психоанализа сосредотачивалась на доказательстве того, что бессознательного не существует. А ес
Культура против природы: психология русского модерна 261
ли это так, то все важное в человеке может контролироваться его сознанием и, следовательно, обществом. И, следовательно, властью.
По Макаренко, «в Советском Союзе не может быть личности вне коллектива и поэтому не может быть обособленной личной судьбы»1И. Эту точно сформулированную мысль можно дополнить и еще одним положением: в Советском Союзе не может быть чувств вне слов и потому не может быть бессознательного. «О чем нельзя говорить, о том следует молчать»,— писал когда-то Витгенштейн. Но эта идея резко отлична от другой, которую можно было бы передать словами: «О чем нельзя говорить, того не существует». Она приемлема лишь для подлинно тоталитарного человека, но зато для него такое рассуждение является абсолютно необходимым. Тоталитарной власти подконтрольно все; а то, что неподконтрольно, то не существует. Подконтрольно только то, что выражено в слове. То, что не выразимо словами, не существует. Но все словесное имеет значение, вплоть до любой мелочи — лексики, аббревиатур, цитат и риторических фигур.
Культура, состоящая из одних означающих, самодовольна и подозрительна. Означаемое становится в ней чрезвычайным обстоятельством, как внешний раздражитель для спящего. Подобно миру сновидения или психоза, возврат к реальности возможен, но только как вынужденный. Означаемые остаются на случай кризисов, подобных войнам. Чрезвычайные меры эффективны, как пробуждения.
262
Глава 4
Над всеми прекраснодушными иллюзиями
Итак, тоталитаризм, воплощаясь, по определение, во всех сферах жизни общества, в психологической теории имел вид нескольких имплицитных презумпций:
— человек несовершенен, поэтому его спонтанность опасна; его, как ребенка, нельзя оставлять самого по себе; зато он пластичен и, как ребенок, доступен формирующим воздействиям среды, общества и культуры;
— сущность человека не внутри, а вовне его — в его связях с обществом и властью; эти связи опосредованы коллективами, организованными по типу армейской команды (семья или группа ровесников не является коллективом}-,
— все важное и нужное в человеке ограничено сферой его сознания; все может быть осознано и рассчитано; означаемое, бессознательное, невербальное суть враги этой культуры; как таковые, они должны исчезнуть и уже не существуют.
Тоталитаризм сменялся более мягкими вариантами авторитарной власти и соответствующим образом вели себя мифы психологической науки. «Теория отношений» В. Н. Мясищева утверждала здравую мысль о том, что индивидуальные свойства человека являются отношениями — к людям, к обществу, к врачу и т. д. Пожалуй, многие психоаналитики увидели бы в этом согласие с их понятием объектных отношений, а социальные психологии — дальний отголосок символического интерак-ционизма. Мясищев не предлагал никакой типологии отношений, не утверждал, например, что какие-либо из них важнее других, и потому его система оставляла свободу для интерпретаций. Но он отнюдь не был свободен от базовых советских идей и понятий: «решающим мето-
Культура против природы психология русского модерна 263 дом исследования является метод практической переделки, перевоспитания личности»; «психология личности и ее отношений является по преимуществу психологией сознания»136. Идея сознания закономерно коррелирует с идеей переделки, делая теорию Мясищева прямо противоположной почти всем западным системам психотерапии. Если верить в то, что все отношения сознательны, то придется поверить и в то, что больной может изменить эти отношения произвольными усилиями. Если же он упорствует в своем патологическом поведении, то он ответственен за него, виноват в нем. В этой идее сознательности отношений, столь отличной от психодинамики западного образца, лежит интеллектуальное обоснование всей советской системы обращения с душевнобольными. Рациональная психотерапия оказывается оборотной стороной карательной психиатрии.
По вполне корректной формулировке С. Л. Рубинштейна, датированной 1957 годом, «перед советской психологией встала задача <...> — изучить психологию советского человека в тех специфических психологических качествах, которые порождены советским общественным строем». Рубинштейн надеется этим помочь «делу воспитания нового человека»; но, несмотря на очередной повтор формулы, на сороковом году коммунистической власти психологу уже ясно, что новый, советский человек имеет немало общего с человеком как таковым: «не существует двух разных „пород" людей». Более того, по Рубинштейну, «противопоставлять психологию советского человека общей психологии человека» не только антинаучно, но даже чревато «чудовищной политической ошибкой»137. В чуткой, почти моментальной теоретико-психологической интерпретации мы наблюдаем здесь первые шаги нормализации режима.
Вместе с истощением мечты о переделке человека заканчивался и террор. Начиналась новая эпоха — эпоха двоемыслия: двойного морального стандарта и двойственных поведенческих ролей. Отныне борьба с природой человека велась только в публичной, официальной
264
Глава 4
сфере; только здесь люди были обязаны ощущать и демонстрировать добродетели модерна — уверенность в собственной значительности и вечности своих дел, бесполость и отсутствие возраста, энтузиазм и коллективизм, скромность и беспорочность. В частной же жизни люди теперь могли делать все, что хотела их природная сущность; единственным ограничением было то, чтобы свидетельства их природы не проникали в публичную сферу культуры.
Оппозиция природа-культура взаимодействует теперь с оппозицией публичное-частное. Культура должна замещать натуру только в публичной жизни, тем более далеки они оказывались в частной. Первая оказывалась невероятно формализованной, состоящей из сложных символических ритуалов; последняя, лишенная нормального контроля со стороны общества, становилась все более дезорганизованной.
Конечно, у этой дуалистической «психологии» были глубокие культурные корни. Ницшеанский образ сверхчеловека тоже означал существование «двух психологий». Отдал дань этой тупиковой идее даже такой трезвый мыслитель, как Фрейд, писавший: «с самого начала существовало две психологии; одна — психология массовых индивидов, другая — психология отца, вожака, вождя» 138 (ссылавшийся здесь на Ницше, Фрейд все же ставил проблему «превращения» одной психологии в другую). «Есть две психологии»,— рассуждал в 1906 году хлыстовский пророк, друживший с петербургскими писателями: «одна психология крови <...> а другая психология — просто чистый янтарь, постав Божий»
Двойной стандарт, однако, никогда не признавался советской идеологией и психологией по той простой причине, что сами они являлись важной частью официальной культуры, внутри которой действовал только один, по-прежнему монолитный стандарт; все постороннее ему допускалось на деле, но не признавалось на словах. В 1970—80-х годах Эвальд Ильенков представил утонченно разработанную философию переделки чело-
Культура против природы: психология русского модерна 265 века, радикально отрицающую всякую его природу и взамен столь же последовательно утверждающую всемогу; щество культуры: последний рецидив тоталитаризма в дряхлеющей идеологии. По Ильенкову, «процесс возникновения личности выступает как процесс преобразования биологически заданного материала силами социальной действительности, существующей до, вне и совершенно независимо от этого материала». То, что генетически заложено в человеке, не имеет ничего общего с его человеческой сущностью. Для Ильенкова это интуитивная очевидность, на которой он не устает настаивать: «Изнутри ни одно, пусть самое пустячное, специфически человеческое действие не возникает».
Вслед за Мясищевым, Ильенков понимает личность как систему отношений; но если для врача эта система все же сходится своими лучами на отдельном человеке и его теле, то философ абстрагируется от тел и видит отношения вне субъектов, отношения как таковые, существующие в своем собственном пространстве. Эта написанная сверху, с позиции, приставшей разве что Богу, картина приходит в острое противоречие со всей традицией научной психологии. Если личность человека стопроцентно социальна, значит, она существует вне его мозга и, вообще, вне тела. Личность «не внутри единичного тела, а как раз вне его, в системе реальных взаимот-ношений». Это похоже на артиста в кукольном театре, который так сосредоточился на нитях, с помощью которых он управляет куклами, что забыл о существовании самих кукол.
Природа, тело, бессознательное для Ильенкова синонимичны друг другу. Они одинаково игнорируются в теории и потому тем больше, до кошмара, тревожат в жизни. О природе, теле, бессознательном говорят, по мнению Ильенкова, чтобы найти «местопребывание <...> демонического начала — начала темного, первобытного, затаившегося во мраке». Но природа не демонична для естествоиспытателя, тело не демонично для физиолога, бессознательное не демонично для психоаналитика. Все
266
Глава 4
это чуждо, страшно и непонятно только тому, кто видит в человеке лишь культуру, сознание и социальность. Демонизация природы человека в педагогической и психологической практике является логическим следствием ее отрицания в теории. Кажется, если не защищать ежеминутно культуру от самого человека, то его демоническое начало, говоря словами Ильенкова, сразу восторжествует «над всеми прекраснодушными иллюзиями и красивыми словами». В этой преувеличенной заботе о культуре более всего чувствуется страх перед природой человека. Недоверие к жизни, боязнь тела, кошмар отрицаемого бессознательного порождают это навязчивое, близкое к ритуалу стремление к идеологии, психологии, педагогике.
Тонкий методолог, Ильенков ясно чувствует, как тесно связаны между собой психологическая теория и идеологическая позиция: «любая попытка физиологобиологически интерпретировать личность» ведет к «натуралистической апологетике» существующих общественных отношений мо; и наоборот, признание личности как пластичной, тотально формируемой обществом социальной сети ведет к утверждению неограниченных возможностей преобразования человека и общества. «Материалистические» предпосылки в своем применении оборачиваются вполне «идеалистическими» следствиями. Круг замыкается. История сыграла с Сеченовым ту же трагическую шутку, которую она часто играла в России с основоположниками больших учений: его идеи были искажены, упрощены и в конечном итоге отвергнуты именно теми, кто называл себя материалистами. Реальные позиции Ильенкова оказываются парадоксально близки к мистическим надеждам Соловьева и Белого, что новый человек, теург будет «магически управлять стихиями посредством звучаний души» Mt.
В историческом плане важен вопрос о том, всегда ли и до какой степени придерживался этих классических для советской психологии взглядов ее самый уважаемый классик, Лев Выготский. Его путь в науке, начавшийся с
Культура против природы: психология русского модерна 267
членства в Русском психоаналитическом обществе, еще не раз подвергнется переоценке. В своих излюбленных примерах и Выготский, недооценивая природу, переоценивал культуру. Говоря о культурной обусловленности мышления и, соответственно, о его недоступности животным, Выготский предложил мысленный эксперимент с обучением шимпанзе языку глухонемых, с уверенностью предсказывая отрицательный результат: «все, что мы знаем о поведении шимпанзе <...> не дает ни малейших оснований ожидать, что шимпанзе действительно овладеет речью»142. Прошло 35 лет, и супруги Гарднеры, поставив придуманный Выготским эксперимент, показали, что шимпанзе вполне способны разговаривать с людьми на языке глухонемых
Эта ситуация ни в коей мере не сравнима с другой научной ошибкой, шедшей, однако, в том же направлении. В 1977 году факультет психологии МГУ окончили четыре слепоглухих студента, поступивших из специального интерната, где они прошли необыкновенно эффективную терапию. Сам по себе факт такого медицинского успеха впечатляющ; в дело, однако, вмешалась идеология. Ильенков формулировал смысл терапии слепоглухонемых как критический эксперимент, доказательство полной победы культуры над природой: «даже при таком, казалось бы, непреодолимом препятствии, как полное отсутствие сразу слуха и зрения, можно <...> сформировать <...> психику самого высокого порядка». Иными словами, несмотря ни на что, можно все. «Исходное условие жесткое: психики нет вообще, и сама она не возникнет. Ее надо „сделать", сформировать, воспитать»144. Человеческая психика может быть «искусственно сформирована» научными методами. Если из слепоглухонемого от рождения инвалида можно воспитать достойного выпускника столичного университета, можно вновь говорить о более скромных задачах переделки, переплавки и перековки...
Оказалось, однако, что факты были искажены и, видимо, сознательно. Во всех четырех случаях речь шла не о
268
Глава 4
слепоглухих с рождения, а о детях, потерявших зрение и слух после трех лет и, таким образом, имевших богатый сенсорный опыт. С помощью фактической неточности, как объяснял один из прошедших через все это слепоглухих психологов, С. А. Сироткин, торжествовала «идея всесильности педагогического процесса, возможности полного планирования психического развития»14’. На деле этот терапевтический эксперимент подтверждал скорее идеи Руссо и Фрейда о природном значении раннего детского опыта, чем представления Энгельса и Ильенкова о формирующих влияниях труда, сознания и культуры.
Федор Степун, наблюдая из эмиграции за становлением советской гуманитарной утопии, писал в ужасе.-«Государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и новом человечестве»146. Это преувеличение: политика страшнее психологии. Троцкий, Сталин и многие другие делали свое дело, руководствуясь не психологией и педагогикой, а интуицией и идеологией. Но сформированная в советской психологии «культурно-историческая теория» несет свою долю интеллектуальной ответственности за ангажированность в дело переделки человека. Она не призывала к репрессиям, но их оправдывала; не руководила диктатурой, но обещала ей научное обоснование и техническое обеспечение. Если советская психология не имела прямых социальных и политических последствий наподобие тех, которые имела советская психиатрия, то лишь по одной причине: вследствие беспомощности науки в достижении тех «замыслов о новом человеке и новом человечестве», которые психология опрометчиво на себя брала.
Радикальные мыслители и тоталитарные политики нуждались в психологии более, чем либеральные их оппоненты. Чем более верят в то, что человеческая природа должна быть переделана для того, чтобы люди жили ор-
Культура против природы- психология русского модерна 269 ганизованнее, лучше и счастливее, тем более надеются на психологию как на могущественное средство культуры; в последнем слове этой быстро меняющейся науки видят окончательный проект такой переделки, ее обоснование, метод и технику. И наоборот, либеральные мыслители считают (подобно Фрицу Хайеку147, отвергавшему сразу и Фрейда, и Скиннера и в их лице всю известную ему психологию), что человеческая природа, как она есть, стабильна и совершенна, а задачи общества и власти состоят в том, чтобы приспособиться к ней наилучшим образом. Им не нужны какие-либо формы психологического вмешательства в жизнь масс. В либеральном обществе психология остается одной из многих наук, изучающих природу, и одной из многих форм культурной практики. Но она лишается какого бы то ни было сходства с теургией, и она изживает наследство модерна.
Интеллектуальные предпосылки того, что в XX веке так часто называли психологией, восходят к фундаментальным идеям Просвещения. Относительность этих идей лучше всего видна именно здесь и теперь, в России конца века, с позиции, лежащей на пересечении постмодерна и посткоммунизма. Отечественный опыт коммунизма заставляет с подозрением относиться к проектам сознательного достижения лучшего будущего; мировой опыт модерна подсказывает сходные чувства к концепциям, которые кажутся слишком широкими. В гуманитарной сфере чрезмерные обобщения всегда чреваты чрезмерными обещаниями. Избегать в равной мере тех и других — вот единственный урок, которой дает нам в этой области XX век.
Соотношение природы и культуры позволяет на редкость ясно увидеть соотношение модерна и постмодерна, которое оказывается в данном случае прямо полярным. Модерн начал с противопоставления природы и культуры и все пытался противоположность эту преодолеть. Постмодерн начал с их слияния. Унаследованная нами культура почти неотличима от природы.- она тоже дана нам и также мало может быть изменена, разве что
270
Глава 4
освоена в новых сочетаниях. Постмодерн и природу принимает такой, какая она есть; это в равной мере относится к «зеленой» природе и к природным движениям человеческой души, от которых в такой ужас приходили культурные люди сто лет назад. Модерн рассматривал природу как культуру, доступную осознанию, контролю, изменению, творчеству. Постмодерн относится к культуре как к природе, данной современному человеку такой, какой она сложилась в истории и какой, в разных сочетаниях, будет всегда. Культура-как-природа вместе с собственно природой требует принятия, изучения и охраны во всем их великолепном разнообразии. В культуре мы живем так же, как в природе, и не вольны ее менять. Идеи, победившие в XX веке, оказались ближе к Ганди, чем к Ницше; к Розанову, чем к Федорову; к Пришвину, чем к Мережковскому.
Как писал семидесятилетний Михаил Пришвин, преодолевая традицию Серебряного века и свойственное ей неумение любить:
Основа моего переворота духовного состояла сначала в том, что исчезла искусственная черта, разделявшая в моей душе любовь чувственную от душевной и духовной
Второй этап моего нового сознания таков: как в понимании любви исчезла перегородка между грубой любовью и духовной, так смерть потеряла свое прежнее значение, и эта жизнь в своей творческой силе, минуя смерть, соединилась с жизнью бесконечной. Оказалось, что можно смотреть вперед, поверх смерти.
Я сегодня нашел в себе мысль о том, что революционеры наши и церковники ограничены одной и той же чертой, разделяющей мир на небесный (там, на небе) и на мир земной (здесь, на земле).
То же самое «царство» одни видят по ту сторону, другие — по другую той же самой черты, проходящей через их собственную душу и их ограничивающей <...> Оба свое ограниченное закрепляют в форме и, подменяя существо такой формой, поклоняются ей и призывают других к тому же, и принуждают.
На самом деле черты такой между земным и небесным миром вовсе не существует м“
. .‘ЧЧ**’ ? . •:/ * .„'у* .•
/ .?•.*/л. . Чч;М< н -,
'' * *’*> ’ ..
Глава 5. ’. / Ч//
Выготский-филолог: г 4 забытые тексты
и ненайденные контексты
В русской и западной литературе Льву Выготскому посвящены многие серьезные работы. Особо здесь нужно отметить многолетние усилия М. Г. Ярошевского, для которого Выготский — основатель нового направления в научной психологии Вяч. Вс. Иванов, в свое время опубликовавший ранний филологический труд Выготского, подчеркивал его значение для семиотики и гуманитарных наук2. Последняя, самая подробная американская монография трактует Выготского как классика психологии развития3. Он продолжает интересовать и психоаналитиков, находящих в его давних теориях совпадения с последним словом своей науки4. Однако важные аспекты интеллектуальной биографии Выготского остаются неясными или недо
оцененными.
Необходимость новых переосмыслений творческого пути Выготского очевидна. Политический контроль привел к таким искажениям интеллектуальной жизни, масштаб которых все еще трудно оценить. В истории науки особенно заметно, как цензура и самоцензура ограничивала работу не только советских исследователей, но и западных коллег, зависимых от публикуемых в СССР материалов, а часто и от трактовок. Новые публикации архивного характера проясняют множество темных мест истории русской мысли, но восстановление исторической канвы требует не только архивной работы. Более всего, вероятно, важно историческое изменение
274
Глава 5
множества подходов, оценок и интуитивных представлений — смещение самой оптики исследования, которое имеет, в сравнении с предыдущим поколением, едва ли не катастрофический характер.
Настоящая глава посвящена шести эпизодам интеллектуальной биографии Выготского, характеризующим преимущественно ранний, наименее понятный ее период
. ? 4 J
Выготский и еврейский вопрос
Научную биографию Выготского принято открывать его первой психологической работой, обратившей на себя внимание коллег,— докладом на Всероссийском съезде по психоневрологии в январе 1924 года. В новейших исследованиях, более чутких к культурному контексту, ключевыми для становления взглядов Выготского считают его ♦Психологию искусства*’ и работу о ♦Гамлете»6. Но, как известно, первыми опубликованными работами Выготского были его литературно-критические статьи.
Период литературной критики был коротким и, в сравнении с продуктивностью, которая станет характерной для Выготского десятью годами спустя, не очень плодовитым. Судя по ♦Списку трудов Л. С Выготского»7, в 1916—1917 гг. выходят пять его рецензий, среди которых — отзывы на вышедшие тогда книги Вячеслава Иванова, Дмитрия Мережковского и две рецензии — на Андрея Белого. Ранние тексты Выготского и сегодня озадачивают исследователей. Если в публикациях советского времени их не стоило перепечатывать или хотя бы пересказывать по причинам довольно очевидным, то для западных исследователей ® эти ранние сочинения Выготского, похоже, остались вне знакомого им контекста.
Наиболее крупная из рецензий Выготского была напечатана под названием ♦Литературные заметки» в еврейском культурно-просветительском журнале ♦Новый путь». Она представляет собой довольно большой, зани
Выготский-филолог: забытые тексты
275
мающий полтора разворота, анализ только что вышедшего «Петербурга» Андрея Белого. По свидетельству С Ф. Добкина, дружившего с Выготским в Гомеле, в годы своей молодости будущий психолог считал «Петербург» «самым замечательным романом из современной литературы» Содержание «Литературных заметок», однако, выходит далеко за пределы литературной рецензии. Они содержат довольно неожиданные рассуждения, специально не связанные с «Петербургом» или связанные лишь косвенно. Любопытно, что Выготский оставляет без рассмотрения психологическую подоплеку «Петербурга», которая именно в этом романе очевидна: начиная с В. Ф. Ходасевича10, писавшие о «Петербурге» использовали интерпретации психоаналитического характера. Действительная тема «Заметок» — еврейский вопрос в России и отношения евреев с русской интеллигенцией.
В своих «Заметках» Выготский пишет: «очень часто приходится слышать обвинение в том, что евреи склонны все решительно, даже не имеющее отношения к этому „всемирному племени" (слово Достоевского), рассматривать сквозь призму еврейской проблемы. Точно все, что совершается в мире, вся мировая история, в ее великом и малом — все равно, имеет к ней непосредственное касательство». Так часто кажется евреям, но часто о том же самом — «мир вращается вокруг еврея» — кричат и антисемиты. «Разумеется, это не больше, как грубая ошибка, пожалуй, невежественное заблуждение»,— оговаривается Выготский. И все же, пишет будущий психолог, так устроен человек, что, даже зная о своем заблуждении, он продолжает руководствоваться не этим знанием, а несомненной для него данностью опыта:
и жизнь наша продолжает протекать на основе ложных г. предпосылок — будто земля неподвижна и солнце вокруг нее вращается. Такова уж природа человеческого «я», так уж устроен человеческий глаз, что всякое открытое место представляется взору замкнутым кругом, в
276
Глава 5
центре которого — сам наблюдатель. Так же обстоит дело в мире идейном вообще, еврейском в частности; трудно, смотря в мир из глубины еврейского «я», не представ- . лять себе, что крестовые походы и открытие Америки — спутники планеты еврейской истории “.
В этом рассуждении содержится ирония, но остается в нем и некоторая непроясненная двусмысленность. Так и остается непонятным, к чему относит открытие Колумба автор — к еврейской истории или мировой; та же неопределенность характеризует и способ, которым Выготский воспринимает роман Белого. «Точно так же, как во всякой точке истории всемирной прощупывается история еврейская, так и во всякой точке проблемы России есть выход в проблему еврейскую». Основную идею романа Выготский видит в противопоставлении Петербурга и России, причем столице, какой ее описывает Белый, присущи еврейские черты. Впрочем, признает Выготский, «трудно даже сказать определенно, указать точно, в чем именно выразился антисемитизм автора».
Рецензент различает «непосредственный антисемитизм» и некий «лирический антисемитизм» Белого. Что касается «непосредственного», то Выготский находит в романе некоторые косвенные его признаки; но «лирический антисемитизм» казался Выготскому более важным. «Проникающая весь роман „русская идея" заключает в себе неуловимый, как бы „лирический" антисемитизм, который чувствуется чуть ли не за каждым словом». В умах «кающихся интеллигентов» (кающихся за свое участие в событиях 1905 года) произошел, констатирует Выготский, определенный сдвиг к антисемитизму: «воскресает все более и более идейное наследие Достоевского — тот антисемитизм, который устанавливает исконную <...> враждебность „идеи жидовской" с идеей России, гибельность ее для России». В этом, пишет Выготский, повинны (в 1916 году) и Бердяев, и Мережковский. Роман Белого, считает Выготский, дает этому настроению «художественное выражение». ;je!
Выготский-филолог: забытые тексты 277
Андрей Белый сменил за свою жизнь немало верований и увлечений, антисемитизм наверняка не был главным из них. Те реплики, которые приводит в качестве примеров Выготский, говорятся не автором, а его героями. В «Петербурге» антисемитские идеи едва ощущаются, и в объемистой литературе о романе мне неизвестны другие работы, которые, подобно рецензии Выготского, указывали на антисемитизм как на главную идею этого произведения. Роман Белого любил, например, Осип Мандельштам, который несколькими годами спустя, иронизируя над новыми сочинениями Белого, писал: «над Белым смеяться не хочется и грех: он написал „Петербург"»12. Смеялся же над Белым, и специально над «Петербургом», Троцкий ”.
Но, еще задумывая «Петербург», в 1909 году Андрей Белый опубликовал в «Весах» открыто идеологическую статью «Штемпелеванная культура». Разделяя российскую интеллигенцию по национальному признаку, он призывал к кампании против «космополитства», «интернационала» и, наконец, против «еврейской гегемонии во всех областях культурного руководительства». Как исключение, среди русских евреев есть «талантливые и чуткие люди, которые понимают задачи национальной культуры, может быть, и глубже русских»; но «общая масса еврейских критиков совсем чужда русскому народу <...> и терроризирует всякую попытку углубить и обогатить русский язык». Себя Белый причислял к жертвам еврейского засилья, к «морально терроризированным писателям». По его мнению, евреи потому избегают ответной критики, что их положение в России вызывает всеобщее сочувствие. Культурную активность евреев Белый тоже объяснял дискриминацией: поскольку для них закрыты пути в экономике и политике, они собираются в культуре. Евреям нужно дать политическое равноправие для того, чтобы подвергнуть их культурной изоляции: «Равноправием должны доказать мы евреям, что они не дурной народ <...> они народ иной, чуждый задачам рус
278
Глава 5
ской культуры». Как наследники арийского прошлого, русские интеллигенты должны объединиться с германцами и другими озабоченными европейцами в борьбе против «международного базара искусств», который насаждают евреи14.
Эти протофашистские идеи были заимствованы у Эмилия Метнера, под влиянием которого Белый тогда находился15. В другие свои периоды Белый находился под совсем иными влияниями (например, М. О. Гершензона), и воинственные настроения 1909 года составили любопытный, но преходящий и потому забытый момент его бурного пути. Выготский, который острее других критиков Белого обратил внимание на эти его идеи, рос в черте оседлости и (в 1909 ему было 13 лет) имел все основания принимать угрозы «Весов» на свой счет. Принадлежа к открыто дискриминируемому меньшинству, он был одним из тех провинциальных интеллигентов с заостренной культурной восприимчивостью и закрытыми путями в жизни, о которых с пренебрежением писал Белый.
В пятнадцать лет Выготский уже руководил кружком еврейской истории и, по словам участника кружка, «сумел внести в наши занятия так много удивительного». В частности, юный Выготский дал тогда собственное определение нации, считая ее критерием не территорию и язык, а «общность исторической судьбы»16. Озабоченность молодого интеллектуала проблемами своей нации более чем понятна; понятна и чувствительность, с которой он реагировал на призывы к культурной дискриминации, исходящие от высокой литературы. Понятно также, что подобного рода сверхчувствительность должна была играть определенную роль в становлении талантов и интересов молодого Выготского. Выбор им психологии 1&к профессии и Спинозы как главного своего героя — в русской интеллектуальной традиции выбор достаточно необычный — давал основу не только для научных занятий, но и для сознательного конструирования иден
I
Выготский-филолог забытые тексты
279
тичности. Вслед за Спинозой и другими еврейскими учителями человечества — Марксом и Фрейдом, Дизраэли и Троцким — Выготский искал точку опоры на периферии жизни и знания о ней, чтобы сделать ее, эту точку, всеобщей причиной и абсолютным объяснением — и овладев ею, перевернуть картину мира и структуру власти. Как не раз повторял он: «Камень, который презрели строители, — краеугольный камень».
Человек маргинальной культуры, Выготский ненадолго оказался в центре исторического катаклизма и вскоре был из него вытеснен разными обстоятельствами — хронической болезнью, личной порядочностью, ненужным профессионализмом. Проходя через непрерывные кризисы, Выготский, как и многие из его современников, использовал свою интеллектуальную продуктивность как инструмент физического выживания в столкновении с историей. В этой ничем иным не заменимой — и эффективной до тех пор, пока эффективной — аутотерапии использовались все виды психологической защиты, от отрицания угрозы до идентификации с агрессором; а более всего, конечно, рационализация. Нетрудно предположить, что проблемы антисемитизма и еврейской идентичности, как бы ни менялся их исторически конкретный характер, продолжали занимать его мысли, получая интерпретацию в психологических терминах. Но, по столь же понятным причинам, явных следов этих юношеских увлечений в позднейших сочинениях Выготского искать не стоит.
Воплощение психологических размышлений Выготского по национальному вопросу можно увидеть в его теории дефекта и сверхкомпенсации. Эта словесная оболочка была заимствована у Альфреда Адлера (левый социал-демократ, женатый на русской социалистке и общавшийся с Троцким, по своему положению и взглядам он казался близок Выготскому и его кругу). Понятие дефекта и особенно понятие сверхкомпенсации понимаются Выготским безгранично широко. «Путь к совер
280
Глава 5
шенству лежит через преодоление препятствий, затруднение функции есть стимул к ее повышению» ". Оценка своей социальной позиции как малоценной или заниженной ведет к сверхкомпенсации. «Чувство или сознание малоценности, возникающее у индивида вследствие дефекта, есть оценка своей социальной позиции, и она становится главной движущей силой психического развития».
Смысл теории в том, что компенсация неадекватна дефекту и в конце концов превосходит его. В результате индивид, не имевший дефекта, в отношении данной функции оказывается не сильнее, а напротив, слабее другого индивида, развитие которого началось с ее недостатка. Прирост функции вследствие ее сверхкомпенсации оказывается большим, чем ее первоначальный недостаток вследствие дефекта. Поэтому дефект играет в развитии двойную ролы с одной стороны, препятствует ему, а с другой (и более важной) стороны, «служит стимулом к развитию окольных путей приспособления». Здесь Выготский дополняет Адлера своей излюбленной оппозицией между природой и культурой. Дефект может быть каким угодно, но сверхкомпенсация вся развертывается не в природе, а в культуре. «Культурное развитие есть главная сфера, где возможна компенсация недостаточности». Итак, выходом из состояния малоценности является сверхкомпенсация в культуре. «Там, где невозможно дальнейшее органическое развитие, безгранично открыт путь культурного развития» 1в. Культура не просто компенсаторна, а сверхкомпенсаторна; она способна к чудесным возмещениям любых потерь, готова покрыть любые расходы; сама же она, как неистощимый источник энергии или,Гаджет быть, инфляции, вовсе не нуждается в обеспечении.
Идея сверхкомпенсации становится своеобразным обоснованием гипертрофированного культурного активизма, столь свойственного Выготскому и его кругу. Возможно, Выготский именно так понимал феномен небы
Выготский-филолог забытые тексты
281
валой культурной продуктивности того вышедшего из черты оседлости поколения, к которому принадлежал. Но, в соответствии со своими задачами, Выготский ничего не сказал о проблеме, которая логически следует из его теории сверхкомпенсации. Вследствие самого компенсаторного характера развивающейся таким способом культуры, ее продуктам должны быть свойственны некоторые особенности; но они данной теорией не предсказываются и не описываются. В духе Адлера эти особенности легко назвать невротическими; к ним могут быть отнесены навязчивость, насильственность, непрочность такой культуры. Сверхкомпенсация порождает удивительные культурные результаты; но, насколько они «выдвинуты» в культуру, настолько же они «оторваны» от природы, и последняя будет мстить. Не об этом ли гадал в «Петербурге», а особенно в «Серебряном голубе» Андрей Белый? И не потому ли так не любил его Троцкий? И не об этом ли позднее, в пору разочарований, была написана книжка Александра Лурии «Ум мнемониста»: портрет семиотического чудовища, наделенного сверхчеловеческими возможностями, но неспособного к делам и удовольствиям жизни; метафора саморазрушения культуры, оторвавшейся от своих природных основ; своеобразная психологическая антиутопия... Выготский же здесь, в своей теории сверхкомпенсации, как и во множестве других случаев, был нечувствителен к опасностям, которые несет в себе смещение равновесия между природой и культурой в пользу культуры.
Выготский и «преодолевшие символизм» л
В других рецензиях Выготского интересно не столько их содержание, сколько выбор литературных «героев» и журналов, в которых он печатался. Выготский пишет о
282
Глава 5
лидерах главного литературного течения эпохи — символизма; и в двух случаях («Петербург» Белого и «Борозды и межи» Иванова) он указывает на наиболее значительные их произведения. Время было бурное и богатое новинками, даже в более спокойные времена такое «попадание» начинающего критика можно было бы счесть редкой удачей. Впрочем, авторы, о которых писал Выготский, были не только значительны, но и модны. Если в начале века символизм был литературой для элиты, то в предреволюционные годы Белого, Иванова и Мережковского читала более широкая публика. Для нее и выходили те журналы — «Новый путь» и «Летопись», — в которых публиковал! свои рецензии Выготский. Журнал «Летопись», в котором печатались Горький и Керенский, Луначарский и Лариса Рейснер, играл важную роль на левом, социалистическом фланге литературной жизни; еврейский еженедельник «Новый путь» по политическим взглядам был близок к «Летописи». В обоих изданиях активно сотрудничал двоюродный брат будущего психолога, литератор Д. И. Выгодский. Бывший всего на три года старше Льва Семеновича, Давид Исаакович сумел к этому времени занять прочные позиции среди левой петроградской интеллигенции19 Братья были так близки, что, как пишет биограф Давида Выгодского, Лев Выготский в начале 20-х годов изменил букву в своей фамилии (‘д’ на ‘т’), «чтобы как-то различаться с Давидом Исааковичем» 20. После революции Д. И. Выгодский был близок к формалистам и ОПОЯЗу.
Для журналов, в которых печатались рецензии Выготского, круг символистов был скорее враждебен как в эстетическом, так и в политическом планах. Однако рецензии Выготского в «Летописи», предпочитавшей социальный реализм горьковского плана, реферативны и примирительны. В рецензии на «Борозды и межи» он суммирует философские и эстетические идеи Иванова, интерпретируя их в психологическом ключе и упрощая до формул: «процесс творчества как раз обратный процессу
Выготский-филолог: забытые тексты
283
восприятия»; «человек восходит, художник нисходит». Статья сдержанно оценивает теоретический труд признанного лидера символизма. Язык Иванова, «в котором есть нечто, напоминающее скульптуру», кажется Выготскому не лишенным «крупных подчас недостатков». Продолжая мысль Иванова, Выготский замечает от себя: «утверждая символизм как принцип всякого истинного искусства, школа тем самым сливается со всем истинным и подлинным, что в нем было, и перестает отдельно существовать» ”.
Короткая рецензия на пьесу Д Мережковского «Будет радость»22 носит более резкий характер. Пьеса Выготскому не нравится, кажется лишенной жизни, драматизма и, можно сказать, диалогизма: герои Мережковского «не живые лица», они «только сосуды его идей, за них всегда говорит автор». В этой пьесе «один автор — первопричина всего»; «Здесь одна воля — преднамереннотенденциозная власть автора».
Перед нами размышления молодого учителя литературы из черты оседлости, увлеченного основным руслом современной ему русской литературы и находящего в ней те две проблемы, которые более всего волновали его самого: еврейский вопрос, с одной стороны, и психологию, с другой. В более нейтральной рецензии на «Петербург», опубликованной в «Летописи», Выготский признает достоинства романа и пишет (в отличие от того, что он писал в «Новом пути») о выразительности образа Петербурга. На этот раз рецензент акцентирует не антисемитизм Белого, а скорее его антипсихологизм, и критика получает иной характер: «Здесь нет реалистически психологической жизненной ткани, но все зыбко, неустойчиво, размывается туманом». Похоже, что в этой рецензии Выготский подвергает критике не только особенности данного романа, но и занимавшие его аспекты символистского метода в целом. Для этого Выготский находит довольно сильные слова. «Все герои романа не только мертвые души, но и мертвые сознания, отдельные от
284
Глава 5
тела»,— пишет о «Петербурге» Выготский. «Сознание героев как бы отделяется от личности их, и автора занимает не живая психология людей, но голая логика их отдельных сознаний; поэтому вместо картины душевной жизни предлагаются описания „роев себя мысливших мыслей"» 23.
Выготский верно почувствовал у Белого его резкую антипсихологическую направленность. «Психология, опрокинув все устои нашего представления о нас самих, оказалась Химерой, на миг смутившей наш сон»24. «На нас лежит обязанность очистить музыкой <...> Авгиевы конюшни психологии»2’. «Ничто так не окрыляет, как мысль о том, что никакой психологии не существует» 26,— писал Белый. Психология отождествлялась с бытием, плотью и природой. Попав внутрь соответствующих бинарных оппозиций, в символизме крайне жестких, психология оказывалась противопоставленной всему хорошему и светлому — сознанию, музыке, культуре.
Воздух эпохи был перенасыщен эфиром духовности, но беден кислородом, нужным для жизни тела. Символизм с его верой в мистическую реальность, не зависимую от плоти, слишком отрывался от телесной жизни, оставлял ее без осмысления, интерпретации и культурной переработки. В свой антропософский период Белый столкнется с невозможностью жить в вакууме, к которому привело его отрицание психологии вместе с верой во всесилие сознания по отношению к плоти. В своих записях Белый рассказывал об «искушениях святого Антония», которым он подвергся, когда стал аскетом после ухода жены. Но, в отличие от Антония, у него не было духовного оружия для борьбы с соблазном: «Чтобы не пасть и победить чувственность, я должен был ее убить усиленными упражнениями; но они производили лишь временную анестезию чувственности» ”. Иван Ильин, проходивший психоанализ в 1910-х годах, писал тогда, что антропософ ищет не знания, а власти над непокорной и несчастной стихией своего существа
Выготский-филолог: забытые тексты
285
«Дано мне тело — Что мне делать с ним»,— спрашивал Осип Мандельштам. Когда вопрос облекается в столь ясные слова, значит, ответ уже найден. Новое поколение, набравшее творческую силу в 1910-х годах, возвращало телу, слову, сексуальности отобранную у них предыдущим поколением ценность. «Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что есть в нас звериного, в обмен на неврастению»,— писал Николай Гумилев29. Этот разрыв с традицией воспринимался драматически; секретарь Религиозно-философского общества С. П. Каблуков писал о Мандельштаме: «религия и эротика сочетаются в его душе какой-то связью, мне представляющейся кощунственной» ’°.
В том же 1916 году, когда печатаются рецензии начинающего Выготского, Виктор Жирмунский публикует большую теоретическую работу «Преодолевшие символизм». В ней он так характеризовал достижения новой поэтической школы: «вместо сложной, хаотической, уединенной личности — разнообразие внешнего мира <...> вместо мистического прозрения в тайну жизни — простой и точный психологический эмпиризм». Для Жирмунского «преодолевшие символизм» несли в себе «явные черты этого нового чувства жизни»; важнейшей из них было новое отношение к слову, при котором верилось: «душевное содержание как будто до конца воплотилось в слове». Филолог, впрочем, знал, что это не более, чем плодотворная иллюзия, поддерживаемая самоограничением: «все воплощено, оттого что удалено невопло-тимое, все выражено до конца, потому что отказались от невыразимого» ”. Итак, вместо мистицизма — психологизм, вместо погружения в индивидуальность — выход в отношения с миром, вместо внесловесной реальности — поиск полного воплощения в слове... Удивительно, насколько полно эта литературная программа описывает Выготского, одновременно его научный идеал и интуитивное содержание его теорий.
286
Глава 5
Полемикой с символизмом и, более всего, с теми же Ивановым и Белым, на этот раз как теоретиками, пронизана вся «Психология искусства». Новая психология начинается с психологии искусства, а та, в свою очередь, начинается с критики, «объяснения» и «преодоления» символизма. «Вместо того, чтобы объяснить нам психологию искусства, они <символисты. — А. Э.> сами нуждаются в объяснении», и объяснение может быть только психологическим32. Молодого Выготского можно понять, если рассматривать его в блестящем ряду «преодолевших символизм». Символисты принадлежали уже к поколению отцов; дети преодолевали их идеи, направляя удары в самое слабое место. Местом этим оказалась «психология», как понималось это слово в культуре того времени; и психолог стал, наряду с поэтами, одним из выразителей новой идеи.
Опыты литературной критики Выготского, бесспорно, принадлежат к этому основному для своей эпохи интеллектуальному течению. В свою краткую литературную жизнь Выготский вступал в одном ряду с Мандельштамом и Гумилевым, Жирмунским и Бахтиным. Но к этомуже направлению мысли принадлежат и теоретикопсихологические его работы. «Научными» способами Выготский пытался ответить на те же вопросы, разрешить или хотя бы примирить те же дилеммы — я и мир, дух и плоть, культуру и природу, мысль и слово,— которыми мучились до него и одновременно с ним русские поэты и философы.
Такое понимание Выготского было совершенно не в интересах его преемников, психологов следующего поколения, которым были чужды проблемы 1910-х годов и которые предпочитали видеть в Выготском марксиста-самородка на манер Мичурина — человека, лишенного всякой почвы или, точнее, нашедшего ее в своих учени
ках.
Выготский-филолог: забытые тексты 287
Выготский и Мандельштам
Наука — если речь идет о такой гуманитарной науке, как психология — с исторической точки зрения параллельна литературе и вообще отличается от нее скорее формой. Современные друг другу наука, искусство, политика и обыденная жизнь все находятся в родстве. Наука — часть культуры: обе владеют одним наследством, имеют одни иллюзии и разделяют одну судьбу. Такое понимание довольно сильно отличается от более традиционного подхода, который хотел бы видеть в любой науке (например, в психологии) столь же серьезную, изолированную и подчиненную лишь законам своего академического саморазвития область, как, например, математика. На деле же оказывается, что история психологии куда ближе к истории теологии или поэзии, чем к истории математики. Вообще, чем дальше от естественных наук, тем скорее приходится видеть культурную относительность там, где слишком прямодушные последователи Маркса или Фрейда, Вебера или Соссюра, Выготского или Бахтина видели научные открытия абсолютной значимости. Близость науки и литературы особенно очевидна в России: профессиональные перегородки здесь вообще никогда не достигали западной зрелости, а необыкновенная интенсивность политических процессов подавляла любые попытки отгородиться, если они и были.
Конечно, знакомство Выготского с Мандельштамом было далеко не случайным и (как не случайно и то, что ближайшими друзьями Мандельштама оказались все же биологи, а не психолог). Принципиальным замыслом акмеизма было воссоединение природы и культуры — снятие оппозиции, которую символизм преувеличил до безумия. В своем манифесте «Утро акмеизма» Мандельштам писал: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в .лесу
288
Глава 5
символов", потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма»34. В его мечтах эта «божественная физиология» была тем же, что и «органическая поэтика»: обе мыслились как некие естественные, «биологические» науки о слове-плоти и организме-культуре. Может показаться, что искомая био-божественная наука и есть психология; но само это слово Мандельштам упоминал, кажется, только в негативном контексте (например, когда писал об «эстетической пытке психологического анализа» как характерной черте нелюбимого XIX века
Надежда Мандельштам, вспоминая 1933 год, писала: «Еще встречались мы в тот год с Выготским, человеком глубокого ума, психологом, автором книги „Язык и мышление". Выготского в какой-то степени сковывал общий для всех ученых того времени рационализм. На улице мы останавливались со Столпнером, переводчиком Гегеля, который убеждал О.М., что мыслит не словами»36. По другим воспоминаниям, Столпнер в начале 30-х «часто бывал» у Выготского37.
Это был тот самый Столпнер, «огненная ругань» которого на собраниях Религиозно-философского общества в 1908 году нравилась Блоку. Розанов писал о нем так: «Столпнер был очень умен и в отдельных суждениях сильнее меня; но в общем сильнее меня не был»38. По словам Виктора Шкловского, «Столпнер один из самых умных людей в России, писать же он не умеет, умеет говорить» ”. Писал о нем и Троцкий как об одном из «светских богословов», который «весь состоит из мнений, одно другого лучше» 4°. Удостоившийся упоминания столь разными авторами, Борис Григорьевич Столпнер (1871—1967) прожил долгую и кажущуюся спокойной жизнь; в советское время он переводил марксистам Гегеля, а когда стало возможно, уехал в Израиль. Живой носитель интеллектуальной традиции, он запомнился Надежде Яковлевне ключевой своей идеей, о которой был
Выготский-филолог: забытые тексты
289
готов говорить на улице: «что мыслит не словами». Тогда, после многих соблазнов, к этому же пришел и Мандельштам: разочарование в слове, власти и писателях как «расе», соединяющей первое со второй — предмет его «Четвертой прозы». Жаль, что мы не знаем аргументов Столп-нера. Может быть, эту его идею («что мыслит не словами») стоит сопоставить с его личными особенностями: отмеченным Шкловским неумением писать при умении говорить и думать, а еще больше с чуждостью социальной власти и играм с ней, — так сказать, с аграфией и ак-ратией, редкими болезнями для интеллектуала. С замечательной последовательностью Столпнер выбрал не слова—и остался в подсознательном эпохи.
Выготский с Мандельштамом и со Столпнером наверняка обсуждали проблему слова и мысли, следствия которой простирались далеко за пределы психологии. Идеи раннего Мандельштама сосредоточены на слове, но также и на том, что стоит за ним. «Слово — плоть и хлеб»,— пишет поэт41. Таков для него русский язык — «непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти». И курсивом: «поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью* 42. То же и в стихах: «Я слово позабыл, что я хотел сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется»,— цитирует Выготский43. Говоря прозой, мысль без слова становится бесплотной. Слово — плоть мысли.
Позиция Выготского казалась Н. Я. Мандельштам «рационалистической», но эпиграф из Мандельштама, поставленный на центральное место «Мышления и речи» Выготского, сполна отражал родство их идей. Возвращаясь в «чертог теней», в бессловесный мир психических образов, мысль, подобно душе без тела, не перестает существовать, но она принимает иную форму. Как призрак, она тревожит своими чувственными и эмоциональными составляющими: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, И выпуклую радость узнаванья». Но подлинно воскреснуть, воплотиться мысль может только в
16—809
290
Глава 5
слове. Это понимание не так уж далеко от изощренных формулировок более современных авторов
Бесплотная, бессловесная, прозрачная мысль невнятна и бесцельна: «Все не о том прозрачная твердит». В знаменитом «Silentium» поэт конструирует праединство слова и того, что, за неимением другого термина, он вслед за Ницше и Блоком называл «музыкой»: «Она и музыка и слово, И потому всего живого Ненарушаемая связь». Хорошо бы жить в молчании, одной душой, не воплощаясь в словах, как дельфины (тогда не знали, что и дельфины разговаривают): «Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить»... Хорошо, но невозможно, и вынужденное, ироничное либо радостное признание этого — новое слово культуры: «Мы напряженного молчанья не выносим — Несовершенство душ обидно, наконец!»; но, с другой стороны, «Слово — чистое веселье, Исцеленье от тоски!»
В стихотворении об имябожцах, веривших в то, что Бог живет в своем имени, и бесконечно это имя повторявших, чтобы приобщиться к благодати4’, Мандельштам выстраивает новую версию основной метафоры: поскольку слово есть плоть, а любовь есть любовь к плоти, постольку нельзя любить то, имени чего не знаешь. Любовь к слову-плоти разрывает с традицией и потому есть ересь: «Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. Каждый раз, когда мы любим, Мы в нее впадаем вновь». И действительно, любовь поэта совершается в переборе все новых кличек, которые он дает возлюбленной: «Я научился вам, блаженные слова — Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита». В этом осуществление человека, потому что «смертным власть дана любить и узнавать», а это значит — называть.
Итак, слово — плоть мысли. Такое понимание приходит не сразу: «Сначала думал я, что имя — серафим, И тела легкого дичился». Мистификация слова и пренебрежение к телу — это и есть оставленный позади символизм. «Значенье — суета, и слово — только шум, Когда фонети
Выготский-филолог: забытые тексты
291
ка — служанка серафима». Позже, в 1922 году, поэт скажет о символизме жесткой прозой: «От этой дамской ерунды с одинаковым подозрением отшатываются и профессиональные почтенные мистики, и представители науки»46. Место символизма, противопоставлявшего природу и культуру, должна занять «божественная физиология», сливающая их в новом единстве. Если слово — плоть мысли, то филология обладает «всеми чертами биологической науки»; поэтому подлинная жизнь «теплится <...> в филологии и только в филологии»47.
«Мысль не выражается в слове, но совершается в слове»,— писал Выготский. «Слово <...> есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие»,— писал Мандельштам. Для обоих это значило, что ни души, ни плоти, ни слова, ни мысли по отдельности нет, а есть процесс их становлений и взаимных превращений. Выход из непреодолимости статических оппозиций искался на пути их динамизации; в решающей форме удастся это сделать, однако, только позднему Бахтину. Мысли — не то же самое, что слова, но и не совсем отдельные от слов сущности; мыслей и слов вообще нет, а есть только события их перехода — мысли в слово, слова в мысль. Переводя знаменитую формулу Выготского с помощью метафоры Мандельштама, получаем: «Дух не выражается в плоти, но совершается в плоти». Это могли бы сказать Розанов и Мережковский, с этим согласились бы Шестов и Бубер. Мы возвращаемся к иудеохристианской традиции, считавшей возможным и желанным — в ожидании мессии, в его образе или в подражании ему — искать одухотворения плоти и воплощения духа. «Слово плоть бысть»,— сказано в Писании. Мысль не есть слово, но лишь может стать им — при условии многих усилий и при других разнообразных условиях. В человеке есть многое, что не суть слова, но в его деятельности что-то из этого может воплотиться в слова. «Деятельность» — любимое слово Выготского, еще больше мифологизированное его последователями — тут хотелось бы заменить любимым
16*
292
Глава 5
словом Бахтина, которое в школе Выготского характерным образом не использовалось: словом «свобода». «Мысль <...> совершается в слове» — в развитии, в труде и на свободе.
В отличие от символистов, Мандельштам и Выготский знали значение плоти. Но в отличие от философствующих большевиков, они знали и многое другое. В радикально понятом развитии, о котором говорит Выготский, претворяются плоть и душа, меняется само их отношение друг к другу. Эта идея стала для Выготского выходом из постсимволистской ситуации, в которой внутреннее расщепление человека было осознано и подвергнуто критике, но вряд ли было преодолено; и эта же идея стала его не очень ясным ответом надвигавшемуся марксизму в его все более упрощенных вариантах. Именно здесь Выготский хотел бы — и в этом нескромном желании признается — увидеть нечто, что «и не снилось мудрецам»4*. Эти страницы «Мышления и речи», несущие эпиграф из Мандельштама и свободные от привычной полемики с западными психологами, выражают одну лишь интуицию автора, его подлинное открытие. .Проникнутые динамизмом 1920-х годов, они до сих пор, совсем в иное время, сохраняют некое обаяние.
«Органическая поэтика» Мандельштама совпадала с «культурной психологией» Выготского в их общей реакции на «дамскую ерунду» символизма. Но идеи Выготского и Мандельштама, отправляясь от общего источника, развивались в разных направлениях. Сильно упрощая, можно сказать, что Выготский стремился к культуре, Мандельштам — к природе. Природа возьмет свое, был уверен Мандельштам после 1917 года; природа растворит и самое подлинное в человеке, и самое фальшивое в нем. «Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы-Психеи». Воплощение старой мечты о «новой одухотворенной природе» Мандельштам видит теперь в траве, пробивающей камень Петербург
Выготский-филолог: забытые тексты
293
ских улиц: месть природы недостойной ее культуре, «царство духа без человека» В отличие от Выготского, Мандельштам был предельно далек от наивной веры в науку. «Свободный ум человека отделился от науки. Он очутился всюду, только не в ней: в поэзии, в мистике, в политике, в богословии» ’°. Но в этом Мандельштам был скорее исключением: проблема обоснования «нового чувства жизни» как науки осознавалась в том филологическом кругу, к которому принадлежали и Мандельштам, и Выготский. Тяготение к некоей «теоретической базе» ясно чувствуется, например, в воспоминаниях Бенедикта Лившица, который еще в 1910 годах считал себя «фрой-дистом»
. . .. .4 ' £
Выготский и Сталин
* ' •Э'йй
Воссоединение культуры с природой, души с плотью, мысли со словом было спасением от разорвавшего их символизма. Одновременно, метафорическое отождествление слова с плотью и мысли с душой подсказывало психологии образ, созвучный новому религиозному сознанию. Оно могло рассматриваться и как альтернатива психо ллизу; свойственное последнему разделение внуту _ннсто мира на то, о чем знаешь, и то, о чем не знаешь, конечно, воспринималось как рационалистическое. Если слово — плоть мысли, то есть в мысли и своя душа, нечто одновременно связанное и отдельное от плоти-слова. Эту бессловесную «душу мысли» можно увидеть по-разному: как бестелесную обитательницу платоновского мира идей; как зримую, крылатую, занимающую свое место в очереди душу с русской иконы; как пространственно-временные структуры гештальтпсихоло-гии; как антислова психоаналитических интерпретаций, их условные логические конструкции... Все равно формула «слово — плоть мысли» преодолевает плоское отождествление мысли и слова, выводя мысль — и слово — в
294
Глава 5
новые дискурсивные измерения; и она оказывалась ближе к психоанализу, для которого слово тоже лишь частично покрывает собой мысль и чувство, чем к другим, стремящимся к власти идеям, согласно которым «мысль есть слово».
У Ницше и символистов кризис культуры, сомневающейся в своих рациональных основах, звучал как музыка — высшее искусство, не нуждающееся в словах. Но когда музыка эта превратилась в тот «шум», который Блок слышал в революции,— тогда потребность в словах, объясняющих крушение жизни, возродилась с неведомой ранее силой. По поводу «Silentium» Виктор Шкловский писал: «Слова, обозначающего внутреннюю звукоречь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово музыка, как обозначение каких-то звуков, которые не слова; в данном случае еще не слова» ”. У Выготского та же идея формулируется как «первоначальное единство сенсорных и моторных процессов». Это единство мыслится природным, свойственным и детям, и животным: оно «распадается в процессе культурного развития <...> с тех нор, как слово вдвигается внутрь» ”. Знаковая организация оказывается важнейшим признаком и механизмом всех высших психических функций.
Постепенно «знаковая организация» вдвигается все глубже, замещая и вытесняя «дух музыки». Автор «Фрейдизма» — им, вероятно, все же был Бахтин — определял сознание как «комментарий, который всякий взрослый человек прилагает к каждому своему поступку». Основной запас аналогий люди конца 1920 годов, бывшие свидетелями окончательной победы марксизма, находили в механизмах гипнотизирующей их социальной действительности. Психика — это идеология, психические механизмы представляют собой пересаженные внутрь человека идеологические инструменты. Идеология бывает официальная и неофициальная, или житейская; любой советский человек знает разницу между ними. Фрейдовское бессознательное легче понять, если назвать его «не
Выготский-филолог: забытые тексты
295
официальным сознанием»; оно так же вытесняется, как проигравшая в идейной борьбе идеология; внутри человека оно занимает то положение сугубо временной — пока еще существующей, но уже не признанной и вот-вот исчезающей — реальности, что неофициальные поэты или художники (вспомним Столпнера или «Козлиную песнь» Вагинова) занимали внутри сталинского государства. В отличие от Вагинова, автор «Фрейдизма» хочет быть у власти, а не под ней; вытеснять, а не быть вытесненным; представлять собою ясное сознание настоящего, а не остаться с прошлым в его полузабытых сумерках. В отличие от Столпнера, этот автор выбирает слова. «Мышления вне установки на возможное выражение <...> не существует». «Знаковым материалом психики по существу является слово — внутренняя речь»,— пишет Бахтин в другой приписываемой ему книге ”.
Позднее не кто иной, как сам Сталин закрыл дискуссию о том, кто как мыслит — словами или не только словами — своими точными формулировками: «Оголенных мьк ' й, свободных от языкового материала <...> не суще-ст уст»”. Мысль равна слову, человек равен телу. Если «оголенных мыслей не существует», то человек прозрачен и весь доступен социальному контролю. В советских условиях проблема мыслей и образов, значений и слов, мышления и речи была не только проблемой науки. Сталин, посвятивший ей свои стратегические страницы, видел это лучше других.
Всякое государство состоит более всего из слов. Законы, приказы, речи, газеты, парламенты и суды — все это мир слов. Тот человек свободен, который ценит свою внутреннюю жизнь, не облекаемую в слова: жизнь тела, снов, ощущений, жизнь собственных поступков и отношений с другими. Эта романтическая жизнь не подчиняется условностям, она не имеет устойчивых форм, она недоступна внешнему контролю... В определенной мере она может быть предметом общения, воплощаясь в его словесной и телесной ткани; и реальность, разделенная с
296
Глава 5
другим человеком, приобретает особую ценность. Но в какой-то мере внутренний мир вообще некоммунициру-ем. То, в какой степени и при каких условиях люди способны выражать словами свои внутренние процессы,— важная проблема психологии, в том числе и практической; важны и те случаи, когда они к этому вовсе неспособны. Но любой из этих случаев неприемлем как для автора «Марксизма и философии языка», так и для автора «Марксизма и вопросов языкознания». Тоталитарной власти, по определению, подконтрольно все; а то, что неподконтрольно, то не существует. Подконтрольно только то, что выражено в слове. То, что не выразимо словами, не существует.
Представим себе советских следователей, современников Выготского и Бахтина. Для них потому так нужен был факт признания обвиняемого, что иной, внесчовес-ной реальности не существовало. Лжет ли обвиняемый, оговаривая сам себя, делает ли он это под угрозой или чтобы прекратить невыносимую пытку — все это неважно, потому что требует для своего учета чего-то, кроме слов: чувств, поступков, ситуаций. И, с другой стороны, можно позволить себе любые действия по той же самой причине,- внесловесной реальности не существует. В человеке нет ничего такого, что нельзя было бы прочитать. И потому в советском человеке нет ничего, что не выражено в слове. Кроме слов вообще ничего не существует.
Но было бы заблуждением думать, что советский мир слов уникален, и что идея мышления как речи была создана сталинским режимом впервые в истории человечества. Скорее наоборот, эта идея не раз возникала в истории как оправдание и обоснование духовных функций власти — всякой власти, не обязательно коммунистической. Сильно упрощая, можно сказать, что лингвистическая ориентация в гуманитарных науках вообще коррелировала с близостью к власти. И наоборот, отчуждение от власти и сопротивление ей вело к утверждению не-
Выготский-филолог.- забытые тексты
297
сводимости психики к сознанию, внутреннего мира — к языку, психологии и поэтики — к лингвистике.
В истории идей считается, что о тождестве мышления и языка заявил Платон, автор «республики философов», а среди мыслителей нового времени — Жозеф де Местр *. Этот полузабытый предтеча тоталитаризма, имевший немалое значение для русской интеллектуальной истории, был уверен: «мысль и речь — не более, чем два замечательных синонима» ’7. Другим примером является лингвистическая антропология Вильгельма фон Гумбольдта. Человек, открывший для науки саму проблематику мышления-речи и тоже считавший язык спутником и синонимом человеческой субъективности, был прусским чиновником и дипломатом, начальником департамента просвещения, министром по сословным делам. Его русский современник и коллега, министр просвещения и адмирал А. С. Шишков тоже внес свой вклад в лингвистику, относясь к языку как к некоей моральной субстанции, которая может грешить и которую, соответственно, можнр оказывать и исправлять.
Д<! о, конечно, не в профессии. Веймарский министр Гете, например, всю жизнь рассказывал словами о том, что, как он верил, существует в душе и в мире вне языка и что не подлежит земной власти. И наоборот, гарвардский профессор Б. Ф. Скиннер, коллега и младший современник Выготского, не имевший особого касательства к власти, кроме академической, посвятил свою жизнь научным доказательствам того, что субъективные (не выражающиеся в слове или движении) реакции человека не имеют значения — и написал ужасающую утопию, в осуществимость которой верил десятилетиями ”.
Другой и более близкий пример — советская «формальная школа» 20-х годов. Основавшие ее интеллектуалы левых взглядов были близки к власти и на деле озадачены ее проблемами; самый темпераментный из них, Виктор Шкловский, принимал весьма реальное участие в политической борьбе. Существенно только то, что выра
298
Глава 5
жено в тексте. Слово есть знак, образ есть прием, и все вопросы сводятся к тому, «как это сделано»: «Мы знаем теперь, как сделана жизнь, и как сделан ,Дон КихоТ“, и как сделан автомобиль»,— писал Шкловский в минуту воодушевления. Чтобы писать нового «Дон Кихота», надо знать — или верить, что знаешь,— как сделан старый; неважно, что за люди были его автором, героями и современниками. Для того, чтобы взяться переделывать жизнь — как и для того, чтобы переделывать автомобиль — надо верить, что знаешь, как они сделаны. И важной становится форма, а не материал. На высоте своего разочарования Шкловский признавался: «Большевики верили, что материал не важен, важно оформление»,— отдавая нелюбимым им в данный момент большевикам свою собственную любимую мысль ”.
Борьба за власть есть борьба за то, над чем можно властвовать, и отрицание остального. Борьба против власти есть утверждение того, над чем властвовать невозможно. Власть есть форма: язык в антропологии, структура в лингвистике, прием в поэтике, сознание в психологии. В западной гуманитарной науке структурализм тоже был традиционно связан с левыми политическими течениями. Отношение к власти и отношение к слову остаются важными и для постструктуралистских дискуссий. Те, кто продолжают верить в телесность и неполную дискурсивность человеческого мира, подобно Фуко, сохраняют за собой маргинальность интеллектуальной и социальной позиции. Те, кто, подобно Деррида, отрицают непосредственную данность и уверены, что любая мысль и чувство суть репрезентации, прошедшие много степеней обработки и обмена, с новых властных позиций повторяют идею Сталина: «оголенных мыслей не существует».
В России все перевернулось слишком скоро. Новая власть, стремившаяся переделать мир, превратилась в старую, старавшуюся его заморозить; формалисты из союзников власти превратились в ее врагов; а ее идеологи
Выготский-филолог,- забытые тексты
299
стали говорить, что главным является содержание, а не форма. Большевики вскоре после взятия власти столкнулись с невозможностью далее конструировать из наличного человеческого материала. Их стали занимать новые задачи, сравнимые уже не со сборкой автомобиля, а с его переплавкой. В сферу власти стал вовлекаться материал, для обработки негодный — чувства людей, их вкусы и привычки, их способы любить друг друга, воспитывать детей, читать книги. Материал ломался и крошился. Крах режима стал новой проверкой древней идеи об особой природе внутренней реальности, ее неполной открытости, неполной доступности социальному миру. Как слесарь не имеет власти над металлом, а только над его формой, так политик не имеет власти над человеческим материалом. Оба могут соединять подвластные им детали в разных нужных им сочетаниях, но оба столкнутся с сопротивлением материала. Мастерство обоих определяется их смирением перед ограничениями, которые они не могут преодолеть.
Впрочем, в России идею невыразимости человека в слове сфорг пировал тоже человек власти, дипломат и цензор. «Кол океан объемлет шар земной, Земная жизнь кругом объята снами»,— писал Тютчев, предвидя излюбленную Фрейдом «океаническую» метафору бессознательного. Быть может, это в минуты разочарования в своих профессиональных обязанностях Тютчев выражал свои «сны» в словах, непередаваемых другими словами, непереводимых на другие языки и, значит, по определению уже не являющихся словами и вообще знаками. «Мысль изреченная есть ложь»,— писал поэт-цензор. В таком случае цензура теряет смысл: можно ли подвергать ей мысль неизреченную! а как быть начальству — где найдет оно правду, если все сказанное словами есть ложь? и можно ли осуществлять в этих условиях тютчевские геополитические проекты? Реальная цензура контролирует лишь то, что уже подверглось чистке иной цензуры — той самой, что стоит на пути образов бессоз
300
Глава 5
нательного при их превращении в слова сознания. Между прочим, когда Фрейд открыл этот психический механизм и назвал его цензурой, он взял это слово из русской жизни, объяснив в одном письме 1897 года, что так называется «несовершенный инструмент царского режима, препятствующий проникновению чуждых западных идей»60. Поэт радикальнее психоаналитика: Фрейд не сказал бы, что сознание есть ложь, он ограничивался тем, что это не вся правда.
Динамический дух интеллектуальных течений начала века — дух ницшеанства и всего, что за ним последовало — привнес в романтическую традицию, вообще-то более всего связанную с классической филологией, новую практическую устремленность. Дело одухотворения можно и нужно совершить самим — в революции ли, в поэзии или в педагогике. Общим знаменателем «нового чувства жизни» было возвращение к человеческой плоти. Слово «плоть» отличается от слова «материя» дополнительным значением: плоть сексуальна. У новых людей 19Ю годов новый материализм соединялся с новым эротизмом, у наиболее начитанных — с психоанализом.
Выготский и Сабина Шпильрейн
Биографы Выготского 61 отмечают удивительную особенность его научного пути. Бурное начало его психологических публикаций датируется 1924 годом, когда вышли в свет шесть его работ по психологии и дефектологии. «Моцарт психологии» был не так уж юн — ему исполнилось 28 лет. Удивительно здесь только то, что до этого Выготский не опубликовал ни одной психологической работы. В «Списке его трудов» в 1915—1923 годах — только вышеупомянутые рецензии, рукопись о Гамлете и неизданные доклады на учительских конференциях. Но уже в 1926 выходит «Педагогическая психология».
Выготский-филолоп забытые тексты
301
Жизнь в пореволюционном Гомеле, конечно, неблагоприятствовала научной работе. Но учитывая необыкновенную продуктивность последующих лет, мгновенное «обращение» Выготского в новую для него научную веру требует объяснения. У этого феномена есть одна параллель, которая кажется важной.
1921 год оказался переломным в жизни двадцатипятилетнего Жана Пиаже. Его познавательная энергия, до того метавшаяся от систематики моллюсков до философской эпистемологии, теперь, наконец, нашла точку приложения. Именно в 1921 году Пиаже публикует первую свою статью, посвященную развитию -и и мышления у ребенка, и совершает свое открыти эгоцентрической речи. В том году Пиаже прошел курс психоанализа у выдающегося русского психоаналитика Сабины Николаевны Шпильрейн62. Анализ длился восемь месяцев, ежедневно по утрам. По словам Пиаже, проведенный Шпильрейн психоанализ не был ни терапевтическим, ни учебным, а имел «пропагандистский» характер. Пиаже вспоминал, что Шпильрейн была направлена в Женеву Международной психоаналитической ассоциацией с целью пропаганды там анализа, и он с удовольствием, как он говорил много лет спустя, «играл роль морской свинки». Пиаже был сильно заинтересован, но испытывал сомнения по поводу теоретических вопросов. В конце концов Шпильрейн прервала анализ по собственной инициативе, не желая, по словам Пиаже, «тратить по часу в день с человеком, который отказывается проглотить теорию» 63. К тому же он не собирался становиться психоаналитиком, хотя и участвовал в Берлинском конгрессе 1922 года, на котором была и Шпильрейн; тогда же имя Пиаже появляется в списках Швейцарской психоаналитической ассоциации. В своей «Автобиографии» Пиаже не упоминает о пройденном им анализе. Но в интервью Джеймсу Райсу в 1976 году Пиаже, подтвердив, что аналитиком была именно Шпильрейн, описывал ее как очень умного человека со множеством оригинальных
302
Глава 5
идей Он рассказывал Райсу, что пытался установить с ней контакт после ее возвращения в Россию, но ему это не удалось.
Влияние Шпильрейн помогло Пиаже осознать реальный круг своих профессиональных интересов. Сразу же он начинает серию опытов, которые открывают эпоху в экспериментальных исследованиях психологии развития. В 1923 г. выходит его знаменитая книга «Язык и мышление у ребенка». В этих ранних работах Пиаже эгоцентрическая речь противопоставляется социализован-ной речи, которая постепенно вытесняет первую, позволяя ребенку общаться с родителями и сверстниками.
За год до своей встречи с Пиаже, в 1920, Сабина Шпильрейн «из Лозанны» делала доклад на VI Международном психоаналитическом конгрессе в Гааге. Доклад в сокращенном виде был опубликован в официальном органе Международной ассоциации. Он называется «К вопросу о происхождении и развитии речи» 6’. Шпильрейн рассказывала коллегам, что есть два вида речи — аутистическая речь, не предназначенная для коммуникации, и социальная речь. Аутистическая речь первична, социальная речь развивается на ее основе. В статье 1923 года «Некоторые аналогии между мышлением ребенка, афазическим и бессознательным мышлением» “ Шпильрейн продолжает свои рассуждения, выстраивая ту систему аналогий (аутистическая речь ребенка — мышление при афазии — фрейдовское бессознательное), которая будет иметь ключевое значение для последующей психологии столетия. Свои идеи Шпильрейн подкрепляет наблюдениями и маленькими экспериментами над своей старшей дочерью Ренатой. В другой работе, доложенной на Берлинском психоаналитическом конгрессе 1922 года и, следовательно, современной самым первым экспериментам Пиаже, Шпильрейн рассуждает о генезисе понятий пространства, времени и причинности у ребенка 67.
Первые слова — «мама» и «папа» — выводятся Шпильрейн из звуков, издаваемых ребенком при сосании. Звуки
Выготский-филолог: забытые тексты
303
«мо-мо» ребенок издает, когда хочет есть и сосет грудь; звуки «по-по» — когда, насытившись, играет грудью. В аутистической фазе ребенок, чмокая губами, получает удовольствие даже в отсутствие материнской груди. Потом ребенок связывает эти два типа звуков с родителями, так возникают первые слова социальной речи. Когда голодный ребенок, сам себя удовлетворяя, чмокает «мо-мо», приходит мать; связывая это свое движение с появлением материнской груди, ребенок приходит к магическому использованию издаваемого им звука. Позже звук удовлетворения «по-по» связывается с отцом. Двухлетний ребенок, овладевая социальным использованием речи, сохраняет многие качества аутистического мышления. В частности, он нечувствителен к противоречиям, легко переключается, но так же легко возвращается к старой идее, и по многим признакам демонстрирует те же особенности мышления, которые известны у больных афазией. Маленький ребенок, подобно сновидцу, знает только настоящее. Первой фазой формирования понятия о времени является идея о том, что нечто, например, мать, продолжает существовать и тогда, когда она недоступна непосредственному наблюдению.
Во всем этом Шпильрейн чрезвычайно близка к поискам молодого Пиаже. Ставя одни и те же проблемы, Шпильрейн и ее швейцарский пациент шли из общей точки в разных направлениях: логика формальных операций мышления станет открытием Пиаже, Шпильрейн же углубилась в собственно психологический анализ взаимосвязи речи, мышления и эмоционально насыщенных отношений ребенка с родителями. Подход Шпильрейн — психоаналитический, придающий главное значение содержанию взаимодействий ребенка с родителями; Пиаже же постепенно отказывался от него, формируя свой собственный, структурный подход. Конечно, сходство и различие их взглядов множество раз обсуждались между Шпильрейн и Пиаже, когда пациент подвергал сомнению теоретические основы анализа, а тера
304
Глава 5
певт, помня о своих «пропагандистских» задачах» в ответ* приводила свои теоретические аргументы. Работу знаменитого швейцарского психолога еще многие десятилетия продолжал стимулировать интерес к ключевым вопросам, поставленным перед ним в 1921 году Сабиной Николаевной Шпильрейн.
В 1923 году Шпильрейн публикует экспериментальную работу под названием «Три вопроса»68. Студенты женевского Института Руссо должны были придумать три самых важных вопроса, которые они могли бы задать Богу, судьбе или другой высшей инстанции; через неделю эксперимент был повторен с той разницей, что перед ним студенты сидели две минуты с закрытыми глазами. Во второй серии вопросы студентов были более конкретными и, как пишет Шпильрейн, «эгоцентрическими». Наконец, уже в 1931 году, в Ростове-на-Дону Шпильрейн в иной экспериментальной процедуре исследует ту же ключевую проблему соотношения сознательной, социальной, адаптивной и бессознательной, эгоцентричной, аутистической мысли6’. Несколько групп детей и взрослых получали задания рисовать с открытыми и закрытыми глазами. Рисунки, сделанные с закрытыми глазами, были не только более примитивны технически, но и в большей степени связаны с телесным опытом, более проективны и во многом напоминали рисунки детей.
В 1923 году Шпильрейн по совету Фрейда возвращается в СССР. Согласно официальному сообщению Международной психоаналитической ассоциации70, доктор Сабина Шпильрейн, бывший член Швейцарского психоаналитического общества, была принята в члены только что организованного Русского общества осенью 1923, одновременно с Александром Лурия и двумя другими казанскими аналитиками. Ее авторитет и научные связи были сразу же признаны. В том же 1923 году она вошла в комитет из пяти членов, сформированный для верховного руководства Государственным психоаналитиче
Выготский-филолог: забытые тексты
305
ским институтом и Русским психоаналитическим обществом. С сентября 1923, судя по ее кадровой анкете, Шпильрейн работает в трех местах: научным сотрудником Государственного психоаналитического института, врачом-педологом в «Городке имени Третьего Интернационала» и заведующей секцией по детской психологии 1-го Московского университета. Свою профессию она определяет как «психиатр и врач-педолог». В январе 1924 года (как раз тогда, когда Выготский делает свой доклад в Петрограде и входит в московский научно-политический мир) документ, направленный в Нарком-прос за подписью директора Государственного психоаналитического института И. Д. Ермакова, подтверждает: Шпильрейн числилась тогда научным сотрудником института71.
Итак, возвратившись из длительной эмиграции и сориентировавшись в непростой московской атмосфере, Шпильрейн делает акцент на медико-психологической работе с детьми. То же — одновременно или чуть позже — делает приехавший из Гомеля Выготский, идущий как в своей карьере, так и в теоретических интересах буквально по следам Сабины Николаевны. Разница, конечно, в том, что Шпильрейн была в это время ученым с мировым именем; Выготский же — блестящим дебютантом. К этому еще можно добавить, что брат Сабины Николаевны, Исаак Шпильрейн, лидер советской психотехники, тогда был и надолго останется для Выготского уважаемым и близким коллегой (например, в 1933 году Выготский был заместителем Шпильрейна как председателя Психотехнического общества72).
Сабина Шпильрейн читала в Институте курс лекций по психологии бессознательного мышления, а также вела семинар по психоанализу детей и амбулаторный прием. В ноябре 1923 г. она делала на заседании Психоаналитического общества доклад «Мышление при афазии и инфантильное мышление», в котором рассказывала о том, что нарушения мышления при афазии сход
17—809
306
Глава 5
ны с мышлением детей, и оба эти типа мышления проливают свет на процессы формирования речи. В 1923 г. Шпильрейн была автором 30 печатных работ. В своей кадровой анкете она сообщала, что два новых труда о символическом мышлении она предполагает закончить и опубликовать в России (этого не случилось). В том году вышло 7 статей Шпильрейн в западных психоаналитических журналах ”. В составленном А. Р. Лурией наброске оглавления 2-го (невышедшего) тома книги «Психология и марксизм» значится статья С. Н. Шпильрейн «Проблема бессознательного в современной психологии и марксизм». Нам неизвестно точно, когда она переехала в Ростов-на-Дону, но вероятно, это был конец 1924 или 1925 год. Институт был ликвидирован в августе 1925 года .
Шпильрейн была человеком не только выдающихся творческих способностей, но и умела влиять на людей. По ее отношениям с Фрейдом мы знаем о ее способности на десятилетия опережать развитие самой сильной мысли, а также о ее такте и, как писал ей Фрейд, умении «нежной рукой разглаживать наши складки и морщины» ”. По ее отношениям с Юнгом мы знаем о ее смелости и умении выходить из трудных ситуаций. По ее отношениям с Пиаже мы знаем о стимулирующей роли непосредственного интеллектуального общения с ней.
Молодой Лурия, ученый секретарь Института, и молодой Выготский, собирающийся вступать в члены Русского психоаналитического общества (он будет числиться членом его по списку 1929 года76), могли слушать лекции, семинары и доклады Шпильрейн как последнее слово мировой науки, которой они поклонялись заочно, но от реальной жизни которой они были оторваны. Провинциалы-энтузиасты, верящие в науку как в средство решения проблем страны и не мыслившие вне этой науки своей собственной жизни, они, естественно, смотрели на Шпильрейн как на олицетворение передовой ев
Выготский-филолог, забытые тексты
307
ропейской мысли. Эта женщина знала Фрейда и Юнга, Блейлера и Клапареда, Пиаже и Балли. И как знала...
Едва ли не первая теоретическая публикация Выготского — совместное с Лурией предисловие к «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейда,— той самой работе, для которой ключевую роль сыграла в свое время диссертация Шпильрейн. Выготский и Лурия писали там о своих фрейдомарксистских проблемах, которые вряд ли интересовали Шпильрейн. Но, читая работу, к которой они писали свое восторженное предисловие, они не могли не обратить внимание на то, как Фрейд — сам Фрейд! — ссылается на работающую с ними под одной крышей: Шпильрейн, как сказано и в оригинале, и в русском переводе, «предвосхитила значительную часть этих рассуждений» ”. Но Выготский и Лурия не упоминают Шпильрейн. Каковы бы ни были причины этого, ясно, что Сабина Николаевна не создала вокруг себя культа, который был, кажется, непременной принадлежностью социального успеха в те годы. Она наверняка не владела тем философским новоязом, который с необыкновенной быстротой рождался вокруг нее, в том числе и под пером близких ей психологов — ее брата Исаака Шпиль-рейна, ее ассистента Бориса Фридмана, ученого секретаря института Александра Лурии.
У талантливых людей впечатления от общения с яркой, знаменитой, продуктивной личностью, полученные в самом начале карьеры, могут надолго определить ход развития научных интересов. Кажется правдоподобным предположение, что знакомство со Шпильрейн сыграло определяющую роль в формировании психологических интересов Выготского. Вполне вероятно, что С. Н. Шпильрейн была инициатором двух направлений мировой психологии, «генетической психологии» Пиаже и «культурно-исторической теории» Выготского и Лурии. Впоследствии Пиаже78, отдавая должное Выготскому и признавая сходство некоторых его идей со своими собственными, видел оригинальный вклад Выготского в
17*
30«
1 лава 5
идее внутренней речи и в гипотезе о том, что она происходит из эгоцентрической речи. Мы снова чувствуем здесь, в этой оригинальности Выготского, влияние ранних идей Шпильрейн. Пиаже никак не комментировал исторические корни странного сходства своих вглядов с идеями Выготского — сходства тем более удивительного, если представить себе разницу между обстоятельствами их жизненного пути, равно как и между московским и женевским бытием 1920-х годов.
Для Шпильрейн, в отличие от Пиаже, Выготский был человеком той же культуры, к которой принадлежала она сама. Его интеллектуальное наследство и его проблемы были хорошо знакомы и понятны Шпильрейн. В ее экспериментах со словом и с тем, что стоит за ним и что может обойтись без него, чувствуется тот же общий для постсимволистской культуры интерес, с которым пришел в психологию Выготский и о котором писал на языке своих метафор Мандельштам.
Эта проблематика важна и сегодня. Попробуйте мысленно представить себе, из-за каких «теоретических разногласий» буксовал проводившийся когда-то в Женеве анализ и что отвечала на возражения Пиаже Шпильрейн. Скорее всего Ваша внутренняя речь воспроизведет аргументы Выготского из «Мышления и речи»... Как и Шпильрейн, Выготский придавал значение тем эмоциональным факторам общения ребенка с родителями, которые был склонен игнорировать Пиаже. Подход Выготского, пытавшегося совместить структурные модели Пиаже с интуицией о роли Другого, по своей сути продолжает подход Шпильрейн. Свой вклад Выготский идентифицировал как «марксистский»; но в конце концов его идеи оказались более близки психоаналитикам, чем марксистам. И генетически они глубже связаны с фрейдовским пониманием роли родителей, чем с теми неограниченно политизированными представлениями, которые назывались марксистским учением о среде (пример подобной эволюции, далеко уводящей от общей с Выготским осно
Выготский-филолог: забытые тексты
309
вы, дал в Советской России другой бывший психоаналитик, Арон Залкинд). Вспоминал ли Пиаже о своих давних спорах со Шпильрейн, когда отвечал на критику Выготского? Во всяком случае поздний Пиаже своей уступчивостью в отношении довольно жесткой критики признавал прозорливость своих русских коллег. Он делал этим шаг навстречу психоанализу в версии Шпильрейн-Вы-готского, но, конечно, не марксизму в версии Выготского-Зал кинда.
Детальный анализ преемственности между работами Шпильрейн и ранними работами Пиаже, Выготского и Лурии еще предстоит произвести. Пока же можно ограничиться наблюдением поразительной одновременности, с которой молодые люди в столь далеких друг от друга Женеве и Москве меняют свои интересы после встреч с этой удивительной женщиной, начиная заниматься одними и теми же проблемами: эгоцентрической речью ребенка, ее соотношением с социальной речью и генезисом внутренней речи; попыткой разобраться в связях между когнитивным развитием ребенка и его аффективными отношениями с другими людьми; аналогией между афазией, неврозом и фрейдовским бессознательным; и, наконец, поиском экспериментального подхода к невербальным компонентам мысли. Обращает на себя внимание и сходство клинических процедур работы с ребенком, последовательно появлявшихся в экспериментальных исследованиях Шпильрейн, Пиаже и Выготского начиная с 1920 года.
<4 . ...
Выготский и Троцкий
В Москве середины 20-х годов Выготский, вместе со всем своим окружением, находился под интеллектуальным и политическим влиянием Льва Троцкого. Следы такого влияния многочисленны как в текстах Выготского, так и в организационных делах учреждений, с которыми
ЗЮ
Глава 5
он был связан. Особенно очевидна поддержка Троцким московских психоаналитиков”'. Не менее серьезной была, по-видимому, и поддержка им психотехники.- Исаак Шпильрейн вел многолетние исследования по заказу Красной Армии ив 1935 году был расстрелян как троцкист. Но более важной является содержательная сторона дела.
Ницше часто называл себя психологом и считал, что единственным путем к изменению человеческой природы является психология. Он так и писал.- «Психология должна быть поставлена выше всех других наук <...> потому что психология есть путь ко всем остальным проблемам» “. Троцкий повторял эту идею: «Наряду с техникой педагогика — в широком смысле психофизиологического формирования новых поколений — станет царицей общественной мысли “». С помощью чего-то вроде психоанализа будет создано что-то вроде сверхчеловека: «человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности <...> и тем самым поднять себя на новую ступень <...> если угодно — сверхчеловека» ”. Выготский, конечно, думал не о Ницше, а о Троцком, когда заканчивал свой «Исторический смысл психологического кризиса» скрытой цитатой: «В новом обществе наша наука станет в центре жизни <...> Она действительно станет последней в исторический период человечества наукой <...> Но и эта наука о новом человеке будет все же психологией»83. Эта работа, датируемая 1927 годом, проникнута безошибочно узнаваемым троцкистским духом и потому, вероятно, после быстрого падения Троцкого осталась неопубликованной. Экстатическую веру этих людей, степень ее радикальности и утопизма сегодня не надо забывать: «Новое общество создаст нового человека. Когда говорят о переплавке человека как о несомненной черте нового человечества и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст сам себя»,— писал Выготский м. По степени наивного, вподне антинауч-
Выготский-филолог: забытые тексты
311
него энтузиазма он приближается здесь к пророчествам Блока. Может быть, для понимания природы этой веры стоит еще раз вспомнить теорию сверхкомпенсации...
Троцкий, выстраивая свои политические приоритеты как иерархию сознательно свершаемой истории, плавно переходил от политики через экономику к психологии.
Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной f техникой и религию — наукой. Он изгнал затем бессознательное из политики <...> наскврзь прозрачной советской диктатурой. Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, но и оттуда человек вы-шибает ее социалистической организацией хозяйства <...> Наконец, в наиболее глубоком и темном углу бессоз-
Л нательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и ' творческой инициативы? ”.
Психология здесь — цель, вершина и подлинный смысл революции.
Страницами цитировал эти идеи Троцкого Выготский в своей «Педагогической психологии» 1926 года86. В републикации 1991 года под редакцией В. В. Давыдова цитата раскавычена и имя Троцкого, видимо, по политическим причинам, выпущено 87: забавный казус новейшей интеллектуальной истории. Авторы последней американской монографии о Выготском ", напрасно доверял жадемику Давыдову, вслед за его изданием цитируют этот текст как творение самого Выготского.
В целом следуя за автором «Литературы и революции», Выготский выстраивал свою «Педагогическую психологию» на давно указанных Ницше путях, направленных против натурализма: «для Толстого и Руссо ребенок представляет из себя идеал гармонии. Для научной психологии ребенок раскрывается как трагическая проблема»89. Нужна и переоценка всех ценностей. Педагогика, какая она есть, достойна презрения или в лучшем случае
312
Глава 5
сожаления. «Для психолога прежняя школа осуждена <...> В свете психоанализа мы можем прямо сказать, что педагогическая система <...> создавала учительский невроз»,— писал Выготский ’°. В обществе близкого будущего учителя будут не нужны и даже вредны так же, как вредны, по Выготскому, детские сказки. Каждый станет учителем по творчеству жизни.
В книге харьковчанина Г. Малиса «Психоанализ коммунизма»” идеи Троцкого разворачиваются в некую систему, близко напоминающую идеи «Педагогической психологии» Выготского. Психоанализ — главный, наряду с марксизмом, участник великой переоценки ценностей, которая вот-вот преобразит духовную жизнь человечества. Пока что, в 1924 году, размах совершенного не удовлетворяет автора: «человеческой мысли предстоит в области идеологии произвести ту же революцию, которая начинается сейчас в экономике». В гармоничном обществе завтрашнего дня, так же, как и в первобытной общине, вытеснять будет нечего и незачем: «новое общество, мучительное зарождение которого мы имеем счастье видеть, раскроет каждому человеку все виды удовлетворения». А значит, «в коммунистическом обществе не будет ни неврозов, ни религии, ни философии, ни искусства». Все надежды Малис, естественно, возлагает на детей и их воспитание в новом духе: надо «объединять детей в монолитные социальные образования с выборным вождем»; такие «коммунистические отряды» сумеют «поглотить ребенка целиком». Главными же врагами этого золотого века и здесь оказываются учителя, детской ненавистью к которым сочинение Малиса удивляет более всего остального. Новая педагогика, подобно теургии, о которой мечтал Андрей Белый”, призвана совершить невиданное, долгожданное действие преображения. «Педагогические системы будут сплачивать вокруг себя могущественные партии. Социально-воспитательные опыты и соревнования разных методов получат размах, о котором ныне нельзя и помышлять»,— писал Троцкий ”. И эти слова тоже — наверное, с гордостью и надеждой —
Выготский-филолог: забытые тексты
313
цитировал в «Педагогической психологии» Выготский. Когда новая наука адаптирует людей к новой власти — тогда новые педагоги станут хозяевами жизни.
За всем этим чувствуется соперничество в высших сферах партийной власти; но одновременно старая, как мир, борьба между реальностью и мечтой. Учителя давили на Наркомпрос, требуя притормозить темпы культурной революции и возбуждая этим ненависть радикальных коммунистов. Но реальность побеждала, и последовательные варианты решения проблемы — трудовая школа, поддерживаемая Крупской; педология, за которой стоял Бухарин; и, наконец, сталинская педагогика — были все более компромиссны и даже консервативны. Выготский времен «Педагогической психологии» еще целиком на стороне Троцкого и троцкистов; но ему скоро придется выучить правила новой игры, более умеренные, менее блестящие, столь же опасные.
* * *
Выготский не был одиноким героем из ницшеанско-большевистской мифологии; тем более, не был он мессией, ниоткуда явившимся спасать психологию и сразу нашедшим в ней верных апостолов. Это был человек культуры, интеллектуал, действовавший в основном русле современных ему филологических, философских, политических и просто жизненных идей. Не родоначальник новых принципов, взявший их из недр своей одаренности, а один из представителей модных течений, владевших умами своего поколения. Не вундеркинд, родившийся марксистом, а литератор постсимволистской эпохи, пришедший к психологии и марксизму сложными и характерными путями. Не «Моцарт психологии», а человек своего времени, удачно приложивший его культурный опыт в новой и неожиданной области.
>• ‘ ft"? ''! >ГГ Z;: '>
t Al
Глава 6. *
Мир в границах литературы: русские эмигранты — психоаналитики
Модной и, одновременно, вечной темой филологии является поиск взаимных связей между литературой и жизнью. В какой степени текст определяется исторической эпохой и биографией автора — ив какой степени жизнь автора, его читателей и, следовательно, эпохи определяется текстом? Любопытно, что разные филологи в соответствии со своими интересами приписывали особо плотные связи между жизнью и литературой той эпохе, которой занимались: Виктор Жирмунский — йенскому романтизму, Владислав Ходасевич — русскому символизму, Юрий Лотман — романтизму Радищева и декабристов, Ирина Паперно — кругу Чернышевского...
Тексты и пациенты
Вполне сходная проблема возникает, когда пытаешься разобраться в судьбах и текстах людей не вполне литературных — психоаналитиков и их пациентов. В психоанализе проблема влияния текста на жизнь является первостепенной и эксплицитной: не было бы влияния — не было бы клинического метода. В аналитической ситуации порождаются, интерпретируются и трансформируются тексты (снов, ассоциаций и пр.); больше ничего и не происходит, но работа с текстами, как предполагает
Мир в границах литературы: русские эмигранты
315
ся, влияет на жизнь пациента. С другой стороны, вся история психоанализа показывает, что важным источником профессиональных инструментов аналитика — его теорий, метафор, риторик и т. д,— была и остается художественная литература.
Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени» сравнивал писателя с врачом так: врач лечит пороки человека, писатель — пороки общества; врач ставит диагноз и дает лекарства, писатель — ставит диагноз и пишет текст... В дальнейшем эти роли становились все более взаимозаменямыми: врач то и дело становился автором, писатель — пациентом, и оба писали друг о друге. В дискурсе Фрейда разница между текстами литературы и текстами клиники стиралась. «При всем моем восхищении Достоевским <...> я его не люблю. Это потому, что моя терпимость к патологическим случаям истощается во время анализа» писал Фрейд. Текст, неотличимый от других «случаев», становится в один ряд с ними; зато при необходимости текст, как хорошо изученный пациент, помогает понять новую историю болезни. Озабоченный своим русским пациентом Сергеем Панкеевым, Фрейд рассуждал: «даже те русские, которые не являются невротиками, весьма заметно амбивалентны, как герои многих романов Достоевского»2. Сам Панкеев вспоминал, как один из аналитических сеансов, которые проводил с ним Фрейд около 1914 года, был посвящен сну Раскольникова В своих мемуарах и интервью этот пациент воспроизводил, вслед за своим аналитиком, характерное смешение литературы и жизни. Рассказывая о своей жизни и лечении, он говорил об Обломове и Ставрогине, Толстом и Горьком, Пастернаке и Солженицыне. То он сравнивает себя со всеми братьями Карамазовыми поочередно, то с самим Достоевским, а то и с Эдгаром По... Некоторые из его рассуждений сугубо филологичны: например, он без особой на то причины начинал доказывать сходство между обстоятельствами смерти Верховенского в «Бесах» и смерти Льва Толстого. «Вы помните
316
Глава 6
роман «Бесы»? Этот Верховенский <„> Толстой делал тоже самое. Он даже умер точно так же, как Верховенский. Этого никто никогда не замечал, по крайней мере я нигде не читал о такой параллели»4. Здесь интересна не точность наблюдений Панкеева и, тем более, не их новизна, а методология. Обученный Фрейдом, Панкеев подмечает именно то, что постепенно стало важнейшей темой филологии: отношения текста и следующей за ним жизни, реализация сюжета в биографии.
Современные Фрейду русские литераторы, в отличие от Панкеева не прошедшие психоанализа, не хуже его видели сходство глубоких интенций анализа и филологии, а, соответственно, и ту опасность, которую представляет психоанализ для литературы. В метрополии и эмиграции Фрейда перечитывали самые «неожиданные» люди, такие, как Иван Ильин, Михаил Кузмин, Бенедикт Лившиц, Виктор Шкловский, Корней Чуковский, Владислав Ходасевич и Владимир Вейдле. Осип Мандельштам писал о «язве психологического эксперимента» и даже об «эстетической пытке психологического анализа». Под влиянием книжного знакомства с Фрейдом и его методом в пореволюционное время формировался жанр литературных переложений и изживаний психоанализа, вплоть до фельетонов Набокова. Сюда могут быть отнесены, в частности, роман Мариэтты Шагинян «Своя судьба» (1916, вышел в 1923), пьеса Николая Евреинова «Самое главное» (1920), повесть Андрея Платонова «Счастливая Москва» (середина 30-х), роман Всеволода Иванова «У» (около 1932). Главный герой последнего, сумасшедший психоаналитик, дает ранний и сильный образ постмодернистского разочарования в рациональности вообще и ее практических приложениях в особенности.
Вместе с тем практическая ориентация психоанализа привносит новые и важные интонации в знакомую филологу тему текст-жизнь. Осознание своей жизни важно не само по себе, а для того, чтобы изменить ее. Не прочтя текст, нельзя его переписать. Аналитик помогает
Мир в границах литературы: русские эмигранты
317
пациенту прочесть скрытый текст его жизни в надежде, что само чтение и, так сказать, критика этого текста поможет его трансформировать в иной текст, по некоторым критериям лучший. В отличие от филолога, аналитик надеется, что само порождение текста-сознания уничтожает подтекст-подсознание, и потому пациент, ставший автором, отныне свободен от старых подтекстов. Иначе говоря, выявление подтекста освобождает от него. По крайней мере, в этом цель анализа; другое дело, насколько она осуществима.
В этом смысле психоанализ оставляет человеку больше свободы от текста, чем филология. Когда Фрейд выявлял в поведении Панкеева подтексты Достоевского, то он надеялся, что само это понимание поможет Панкееву вести себя иначе, не воспроизводить более тот же самый подтекст, освободиться от Достоевского. Филолог же, имеющий дело с законченным текстом и, как правило, с завершенной жизнью, строит более тоталитарные модели’. Когда Лотман писал о самоубийстве Радищева как прямой реализации им же написанных текстов, когда Ходасевич писал о романах Белого как о другой форме его эдиповских комплексов, когда Паперно выявляла в браках Чернышевского и его современников подтексты его романа,— они не оставляли своим героям и лазейки: все, что делает автор, отражается в тексте; все, что сказано в тексте, принадлежит автору; в поведении воспроизводится все, что сказано; и единственный способ изменить жизнь — это написать новый текст.
Свобода от текста
О Лу Андреас-Саломе немецкий писатель Курт Вольф говорил: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке»6. Она родилась в Петербурге и прожила Там первые 20 лет своей жизни. В семье говорили по-не
318
Глава 6
мецки, но у Лели была русская няня и гувернантка-француженка, а училась она в частной английской школе. «У нас было чувство, что мы русские»,— вспоминала она7. На чем была основана эта идентичность?
Вероятно, ответ может быть только один: на русской литературе. Интересно проследить, как жизнь Лу Саломе на Западе программировалась литературой, и как она умела навязывать этот опыт своим западным партнерам, а под их влиянием вырабатывала некий литературный «синтез» между Россией и Европой, Лермонтовым и Ницше, Соловьевым и Фрейдом...
«Вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость»,— писал Ницше о своем общении с двадцатилетней Лу, руки которой он просил в 1882 году, как раз перед написанием «Так говорил Заратустра» *. Еще до этой встречи Ницше читал Лермонтова и писал о нем с восторгом; возможно, этот отзыв Ницше о Лермонтове ’ относится к «Демону», написанному за полвека до «Заратустры», но странно его напоминающему 10. Фрейд тоже знал «Демона» и обсуждал его сюжет с пациентом: сестра Панкеева покончила с собой на могиле Лермонтова, и Фрейд со знанием дела комментировал этот гиперромантический случай ".
Взаимопонимание Ницше и Саломе было исключительно литературным. Их роман подчинялся международному коду романтических переживаний; до близости дело не дошло, и Саломе избегла участи лермонтовской Тамары. Друзья Ницше считали, однако, что «из его иллюзий о Лу родилось настроение Заратустры» ". Трудно судить о том, в какой степени буквально можно принять популярную в литературе о Саломе интерпретацию, согласно которой сам образ Заратустры был литературным портретом двадцатилетней русской девушки. Ненавидевшая Саломе сестра философа выражалась определенно: «Не могу отрицать, это действительно воплощенная философия моего брата»,— писала она о Лу”. Последняя же писала об отношении жизни и литературы
Мир в границах литературы: русские эмигранты
319
более тонко: «Когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения <...> он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу»14, Иными словами, Саломе допускает, что человек, по крайней мере в отдельные моменты, не только свободен в выражении своих влечений, но даже способен выражать нечто противоположное своему существу.
Биографы Лу Саломе не могут объяснить, почему она вышла замуж за Фреда Андреаса, сорокалетнего знатока восточных языков. Это произошло в июне 1886 года. По требованию Саломе, которое было выдержано в течение многих десятилетий совместной жизни, брак н£ включал в себя сексуальной близости между супругами. До нас дошли описания неудовлетворенной страсти Андреаса и сопротивления, которое исходило от Лу и которое она никогда, даже в своих поздних мемуарах, не объясняла.
В России традиция нереализованных браков была заложена за поколение до Лу Саломе Следуя ответу Чернышевского на его же вопрос «Что делать?», молодые люди вступали в фиктивные браки, которые не реализовывались в сексе. Так жили супруги Чернышевские, Бакунины, Шелгуновы, Ковалевские... В одних случаях эти браки вели в конце концов к обычной семейной жизни, в других супруги предоставляли друг другу полную свободу, в третьих формировались разного рода альянсы. Отрицанию, таким образом, подвергался не брак, как у старооб-рядцев-безбрачников, а секс в браке. У этой своеобразной традиции тоже были давние корни, религиозные и литературные. Во всяком случае она сыграла значительную роль в русской культуре, передаваясь из поколения в поколение. На рубеже XIX и XX веков примерно такой же характер имели браки Мережковских, Бердяевых, Андрея Белого и Аси Тургеневой, Сологуба и Чеботаревской, Блока и Менделеевой-Блок...
Странный брак Лу Андреас-Саломе получает смысл именно в этом контексте. Еще до брака с Андреасом она
320
Глава 6
пыталась выстроить асексуальные отношения с философом Полем Рэ, приглашая в них в качестве третьего партнера Ницше; дело было через четверть века после знаменитых русских альянсов Шелгуновых-Михайлова и Обручевой-Бокова-Сеченова... Помимо литературных текстов, был и вполне определенный посредник между Саломе и немолодой уже русской традицией: Мальвида фон Мейзенбуг, друг Герцена и воспитательница его дочери, автор «Мемуаров идеалистки», хозяйка римского салона, в котором она искала новых форм отношений между полами.
Потеряв в конце концов девственность (ей было уже за тридцать), Саломе вновь пытается осуществить проект своей юности в виде сожительства со своим мужем и с Рильке. Естественно, что втроем они, как паломники, едут в Россию. «В его воображении поэта Россия вставала как страна вещих снов и патриархальных устоев»,— писала о Рильке его русская знакомая Софья Шиль16. Всю свою жизнь поэт пытался приобщиться именно к такой России: учил язык, писал стихи о русских богатырях и монахах, переписывался с русскими поэтами. В его последние дни с ним была русская секретарша.
Пасхальная неделя 1899 года в Москве подтверждает сказочные ожидания. Саломе, Андреас и Рильке встречаются с Леонидом Пастернаком, крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным и самим Львом Толстым. Их русские собеседники не разделяли их восприятия России, и с ними не было той духовной близости, какая возникнет у Рильке (но не у Саломе) с новым поколением русских17. Та нереальная Россия, которой поклонялся Рильке, превратится в чудесную сказку и для этих людей, чудом выживавших в коммуналках или в эмиграции.
У Саломе такой близости не возникнет более никогда. Поэтическое визионерство, привязываемое Рильке к России, теперь кажется ей преувеличенным и даже нездоровым. Расставаясь с Рильке, Саломе преодолевала собственные романтические клише; возможно, в самом
Мир в границах литературы: русские эмигранты
321
Рильке она смогла разглядеть их лучше. Литературная любовь к России, которая раньше сближала ее с Рильке, теперь разлучает их.
Встретившись в 1911 году с Фрейдом, Андреас-Саломе выделяла два фактора, которые сделали ее восприимчивой к психоанализу: то, что она выросла среди русских, и то, что она жила с таким писателем, как Рильке. Со своей стороны Фрейд ценил в Лу ее своеобразие, которое он именовал словом синтез, тем более значительным в этом контексте, что оно антонимично любимому слову самого Фрейда — анализу-. «Каждый раз, как я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе»1в.
Романтизм Ницше и психоанализ Фрейда синтезировались у Андреас-Саломе с идеями всеединства, восходящими к Соловьеву и другим религиозным философам России *’. Перебирая литературные традиции, Лу Андреас-Саломе всякий раз выходила за их пределы; в этом, возможно, был секрет ее эротической привлекательности для людей литературы. Она осваивала сюжет, но находила силы выходить из него; партнер, продолжая жить в нем, оставался один. Фрейд точно подметил ее главную особенность: «искусство выходить за пределы сказанного».
Понимание текста Л .
Эмилий Метнер, бывший цензор (выпустивший в печать, между прочим, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока, которые считались кощунственными), литературный критик и глава знаменитого издательства «Мусагет», проходил психоанализ у кого-то из московских аналитиков в начале 1910-х годов. Причины и симптомы болезни Метнера были известны в символистских кругах. Жена Эмилия «после сложной и великодушной борьбы» стала 18—809
322
Глава 6
подругой его брата, Николая Метнера, знаменитого композитора20. После этого у Эмилия обострились его «припадки — мучительный шум в ушах и дикие головные боли»; они «наступали, как только Э<милий> К<арлович> слышал какие-то музыкальные звуки». Нечасто симптомы возникают с такой логической прямотой, с завершенностью отредактированного текста. Надо, конечно, иметь в виду, что мы знаем эту историю (как, впрочем, и другие подобные) лишь как нарратив, уже прошедший литературную обработку.
Застигнутый войной 1914 года в Мюнхене, Метнер был выселен в Швейцарию. В Цюрихе он знакомится с Юнгом и, видимо, тогда же начинает анализ с ним. Об их отношениях, необычно близких для аналитика и пациента, говорят письма Юнга, хранящиеся в московском архиве ”, и еще продукты их общего труда-, в Цюрихе по-русски были напечатаны три тома «Избранных трудов по аналитической психологии» Карла Юнга, авторизованное издание под общей редакцией Эмилия Метнера 22. В своих предисловиях к этим томам Метнер всячески обосновывал непрерывность литературной традиции, которая в работах Юнга находила для него свое естественное продолжение; первый том Метнер даже издал под старым грифом «Мусагета». «Символический продукт бессознательного должен действовать освободительно»,— провозглашал Метнер и вперемежку с Юнгом цитировал Вячеслава Иванова. Соответственно, и Юнг для Метнера — «больше, чем психоаналитик».
Книга была восторженно встречена рецензией Бориса Вышеславцева в эмигрантском журнале «Путь»23. В «Этике преображенного эроса» он и сам пытался, в традициях всеотзывчивости, соединить «христианский платонизм и открытия современного психоанализа»м. Лишь образы Христа воскресшего да еще града Китежа способны «сублимировать хаос русского подсознания», писал Вышеславцев.
Мир в границах литературы-, русские эмигранты 323
Летом 1929 года в Давосе Метнер вновь, после многих лет, встретился с Вячеславом и Лидией Ивановыми. Они сидели в кафе, когда заиграла музыка. Метнер, однако, не реагировал: «результат лечения Юнга»,— объяснил он. «Все болезненные признаки прошли, он стал нормальным человеком и даже с благословения самого Юнга начал принимать больных и сам лечить их психоанализом»,— вспоминала Лидия. После этой встречи с Метне-ром Иванов посвящает ему свой написанный еще в 1917 году сонет «Порог сознания»: для него преображение Метнера вписывалось в старый литературный контекст. А Лидия Иванова воспринимала результат анализа так: «на меня лично образ Метнера произвел крайне угнетающее впечатление: он мне представился как бы человеком, отчасти уже мертвым, который еще ходит и действует нормально <...> Душа уже <...> ампутирована. Этого добился Юнг своим психоанализом? Но какая же плата!» ” Платой за анализ стало расставание с литературой. После эффективного анализа Метнер настолько освободился от старых, понятных Ивановым подтекстов, что в разговоре, который оживлялся символами и клише, он выглядел мертвецом.
Иванов получил тогда от Метнера русский том «Психологических типов» Юнга. Как литература эта книга Иванову не понравилась: он видел в ней «рапсодическое настроение» и «покушение свести все, безостаточно, на одну психологию»26. Все же новое состояние Метнера далеко отклонилось от символизма, хотя он сам не готов был это признать. Вместе с тем Иванов, оговаривая не-окончательность своей критики, оценил дух предисловия Метнера: «Из моего протеста против Юнга не делайте вывода, что я осуждаю выход „Псих<ологических> типов" под маркою „Мусагета". Считаться с Юнгом стоит, и „Мусагет" еще выяснит окончательно со временем свое отношение к его теориям, независимость коего уже и в предисловии слегка намечена»27. И правда, уже в этом письме восприимчивый Иванов пользуется идеями Юн-18*
324
Глава 6
га, оборачивая их, естественно, на литературу: «.думаю, что романтики — внутрь обращенные типы, в противоположность классикам»,— рассуждает Иванов в специфических терминах юнговских «Психологических типов» “.
По словам дочери, Иванов следил за трудами Юнга и после той встречи, возможно, что между ним и Юнгом были еще какие-то контакты. Во всяком случае, в позднем этюде «Anima» Иванов ссылается на Юнга, а в статье о Лермонтове (1947) использует не только специфическую терминологию (архетипы), но и более общую схему психоаналитического понимания.
Тексты и аналитики
~ а . 5
V
В России начала 1910-х годов психоанализ был воспринят быстро и без характерного сопротивления, с которым встречали его более стабильные общества. У русских, писал Фрейд в 1912 году, «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа» ”. Во всяком случае вплоть до 30-х годов он оставался одной из важных составляющих русской интеллектуальной жизни30.
Макс Эйтингон, Сабина Шпильрейн, Николай Осипов, Моисей Вульф, Татьяна Розенталь, Иван Ермаков были психоаналитиками, которые обучались или консультировались у самого Фрейда, Юнга или Абрахама около 19Ю года. Дальнейшая судьба их была различной, но почти у всех она развивалась на пороге эмиграции. Эйтингон остался в Германии, но его жизнь была все же весьма своеобразно связана с Россией. Розенталь, Осипов и Вульф вернулись в Россию незадолго до революции. Розенталь покончила с собой в 1921 г. Осипов и Вульф вновь, и навсегда, уехали на Запад в 1920-х. Вульф вместе с Эйтингоном основали психоаналитическое общество в Израиле. Осипов вместе со своим учеником, Федором Досужковым, положил начало чешскому пси
Мир в границах литературы, русские эмигранты 325
хоанализу Психиатр Николай Краинский преподавал в Варшаве. Ермаков, оставшись в Москве, стал организатором советского психоанализа.
Почти все они писали о русской литературе: Розенталь — о Достоевском (в деталях предвосхитив трактовку его Фрейдом), Осипов — о Гоголе и Достоевском, Ермаков — о Пушкине и Гоголе (книга о Достоевском так и осталась неопубликованной), Краинский — о Толстом. Их вкусы, как видно, не отличались особой новизной 32. Трактовки, однако, были оригинальны.
Николай Краинский, директор Колмовской психиатрической больницы (где ему пришлось лечить, в частности, Глеба Успенского), автор ученых книг «Порча, кликуша и бесноватые» fl900) и «Основные принципы энергетики в связи с абсурдами современной физики» (1908), стал более известен своей статьей о сексуальном садисте, инспекторе учебного округа Н. Г. Косаковском, которая чуть было не довела доктора до дуэли. Эта история, в жизни происходившая в 1909 (статья опубликована в 1912), осуществляла самые жуткие сцены «Мелкого беса» (1907) и, возможно, была — как факт и/или как нарратив — стимулирована романом. Эмигрировав, Краинский продолжал совмещать довольно необычные литературные занятия с не менее своебразными психиатрическими наблюдениями. В белградской брошюре «Лев Толстой как юродивый» Краинский возложил на писателя всю ответственность за русскую катастрофу. «Разрушитель русской культуры, сеятель разгрома и анархии», Толстой заразил своей проповедью «толпы людей, падших морально и слабых умом» ”. Краинский знает силу литературы по себе: «мы — молодежь того времени — ее слабо понимали, но чем запретнее был плод, тем был он слаще <...> Целые волны недоучившейся молодежи шли в так называемые толстовские колонии, где жили полукоммунами, полумонашескими братствами <...> почти сплошь люди падшие, полубольные» ”. Любопытно, что в данном случае разочарование в литературе не распро
326
Глава 6
странялось на научную психологию. «Великий писатель <.„> брался прежде всего за психологический аналйз без знания психологии» в этом один из грехов Толстого.
В своих горьких эмигрантских воспоминаниях Кра-инский литературно описывает свое участие в обороне Киева (где его приключения доктора с винтовкой напоминают эпизоды «Белой гвардии» и «Дней Турбиных»), расстрелы в подвалах, ужасы бегства из Крыма, разложение нравов в лагере на Лемносе, эмигрантскую тоску в Белграде, отказ белых офицеров от идеалов старой России. Он включает сюда и что-то вроде психобиографии Тухачевского и сочувственно рассказывает о теософских экспериментах с гипнозом. «Задача психолога — снять маски с людей, но не всегда удается ее решить»,— рассуждает Краинский Действительно, сила его анализа отстает от богатства его жизненного опыта.
«То, что переживает теперь культурный мир, есть
- агония страшной психической эпидемии <...> Все сим-* птомы душевного расстройства современного общества ‘ : i — налицо: обманы памяти, искажение прошлого, иллюзии, бредовые идеи, резонерство, дикое буйство и бессмысленное поведение <...> На арене сумасшедшего дома, которую теперь представляет почти вся поверхность земного шара, люди мечутся в тоске и страхе, зараженные лживыми лозунгами, всех ненавидящие и злые <...> Будущее цивилизованного человечества страшно <...> Что касается русской эмиграции, я считаю ее песнь спетою, ибо дело ее разложения совершено» ”.
Поучительно видеть, как и эта мизантропия, искренний итог необычайно трудной жизни, принимает формы литературной традиции: «И также <...> будет взывать о помощи весь мир! Не будет славных русских моряков, самоотверженно спасавших погибающих в Мессине от землетрясения»,— так кончается книга Краинского. За 25 лет до этого той же самой Мессиной грозил России Блок38. Та эпоха кажется Краинскому «сказочно прекрасной»39; и бессознательно воспроизводя ее метафоры, он получает
Мир в границах литературы: русские эмигранты
327
удовольствие от текста, не замечая, что сам акт заимствования меняет значение тропа на противоположное.
Интересно сравнить восприятие одних и тех же литературных тем у оставшегося в Москве Ермакова и у эмигрировавшего Осипова. Дело аналитика — находить в тексте нечто такое, что в нем не сказано прямо; а выявление подтекста неизбежно основывается на проекции собственного опыта, эмоционального и литературного. Ермаков ищет и находит эту эмоциональную подоснову, которая для него везде — в «Вие» так же, как и в «Маленьких трагедиях» — одна: страх ‘м>. От текстов Ермакова исходит ощущение его собственного страха, безнадежности и са-моцензуры: он ищет в текстах то, чем живет сам, и, находя только страх, вновь боится высказать его до конца, поэтому находки его никуда не ведут и ничего не меняют... «Есть что-то безнадежное, тщетное во всем том, к чему приводят наши ожидания и волнения, как события жизни, так и повседневные явления»,— начинал Ермаков свой анализ повестей Гоголя. «Глядят мертвецы, глядят и ждут гибели, ждут, и страшно делается слабому, жалкому человеку». Ермаков лишился своих постов в середине 1920-х годов. Гибели, однако, ждать было еще долго. В 1940 году он был арестован по стандартному обвинению и через два года умер в лагере.
Ровесник Ермакова, потом русский беженец (1921) и доцент Карлова университета в Праге, Николай Осипов тоже искал подтексты, причем мысль его работала, до некоторого момента, в том же направлении. «Страшное у Гоголя и Достоевского» — так называется одна из главных его статей 4‘. Но если Ермаков показывает, что русские писатели, а также их герои все время чего-то боятся, то Осипова интересует то, как они преодолевают страх. «Как черта выставить дураком» — эта фраза Гоголя представляется Осипову главной его мыслью. Во взрослом и мужественном человеке иррациональное, согласно дефинициям Осипова, вызывает не страх, а жуть. «Невро
328
Глава 6
тики и психотики испытывают страх там, где здоровый человек может переживать, самое большое, жуть»42.
Любовь и смерть, их сплетение между собой — основной итог анализа. «Ошибка многих фрейдистов, в том числе Ермакова, в том, что они ложно приписывают Фрейду пансексуализм <...> Фрейд утверждает наряду с основным сексуальным влечением еще другое основное влечение, влечение к смерти»43. Во фрейдовской идее влечения к смерти, обычно воспринимаемой как трагической, Осипов видит потенциал мужества. «Страх смерти есть невротический симптом»,— писал Осипов незадолго до своей смерти **. «Гоголь и Достоевский, хотя и сами страдают инфантильно-архаическими страхами, должны научить нас преодолевать эти страхи»4’. Так, применительно к анализу литературы, реализуется программный замысел психоанализа: выявление подтекста есть путь к освобождению от него. ,,
т >;т
Несвобода от текста '
Под сильным и разнообразным русским влиянием была написана главная теоретическая работа позднего Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Фрейд предложил здесь считать Танатос, влечение к смерти, столь же фундаментальной движущей силой человеческого поведения, к^к и Эрос, влечение к жизни, любви и продолжению рода. Во время работы над этим текстом Фрейд возвращается к своим прежним русским интересам-. он перечитывает Достоевского и пишет новое послесловие к своему очерку о Панкееве. Идея единства любви и смерти была характерной для русской культуры рубежа веков. Эта идея осуществлялась в разных формах: в антисексуальной прозе Толстого, в которой любовь непременно ведет к смерти; в поздних статьях Соловьева; в некрофильских повестях Сологуба; в дионисийской ли
Мир в границах литературы: русские эмигранты
329
рике Иванова; в драмах Леонида Андреева; в философии Бердяева; и, наконец, в карнавальных мечтах Бахтина.
Фрейд, мало знавший об этих исканиях русских писателей (впрочем, читавший и, вероятно, лично знавший Мережковского), не мог проигнорировать вклад своей ученицы Сабины Шпильрейн. Русская пациентка и подруга Юнга (которому она на вершине любви так же читала Лермонтова, как за 30 лет до нее — Лу Саломе для Ницше), Шпильрейн стала доктором психиатрии Университета Цюриха, членом Венского, Женевского и потом Русского психоаналитических обществ46. Идея влечения к смерти была высказана ею задолго до Фрейда 47. Именно литературой насыщена работа Шпильрейн, в которой цитаты из Юнга перемежаются пересказами Пушкина и Гоголя, явные ссылки на Ницше и Фрейда — ощутимой зависимостью от русских символистов.
Самая романтическая фигура в истории психоанализа, Сабина Шпильрейн вернулась в 1923 году в Россию, чтобы внести вклад в строительство утопии. Она прожила русскую половину своей жизни в нищете, одиночестве и страхе. Когда к Ростову-на-Дону, в котором она жила, подходили нацистские войска, Сабина Николаевна могла эвакуироваться, но решила остаться вместе с дочерьми в оккупированном городе и была немедленно расстреляна. Мало кто из русских добровольно возвращался из Европы в 1923 году, накануне большевистского геноцида, и мало кто из евреев добровольно оставался в Ростове в 1941, накануне нацистского геноцида.
Принимая стратегически важные решения, Шпильрейн руководствовалась, похоже, тем самым влечением, которое сама впервые описала языком «науки». Соединяя психологический опыт русской литературы с литературными открытиями психоанализа, Шпильрейн лучше или по крайней мере раньше других поняла деструктивные силы собственной души; но это знание не помогло ей от них освободиться. В этой необыкновенной биографии мы вновь наблюдаем программирующее влияние лите
330
Глава 6
ратуры; но, в отличие от истории Лу Андреас-Саломе, показывающей возможность «выхода за пределы сказанного», здесь влияние латентного текста кажется трагически непреодолимым.
Подобно тому, как Радищев не спасся от самоубийства своими медитациями о нем *, самоанализ Шпильрейн не помог ей уйти от реализации своего влечения к смерти. Принципиальная разница в том, что Радищев писал и умирал в рамках романтического дискурса, Шпильрейн же пыталась войти в дискурс модерна. В первом случае осуществление текста в жизни признавалось высшей добродетелью героя; успех второго определялся его способностью изменить автора, разорвать связь жизни и текста.
Непонимание текста
t f
Амбивалентная заинтересованность Россией, характерная для Фрейда и особенно для его окружения, сочеталась с острым интересом к ее социалистическому эксперименту. Сам Фрейд сначала с надеждой, потом с отчаянием следил за развитием событий в Советской России: «Советский эксперимент <...> лишил нас надежды и иллюзии, не дав ничего взамен»4’. В июне 1933 года Фрейд писал,- нацистская Германия «начала с того, что объявила большевизм своим злейшим врагом; она кончит чем-то таким, что будет от него неотличимо»; но если выбирать из этих двух безнадежных альтернатив, Фрейд предпочитал русских: «большевизм, как-никак, заимствовал революционные идеи, а гитлеризм является абсолютно средневековым и реакционным» ”.
Некоторые из ближайших учеников Фрейда были социал-демократами, поддерживавшими русскую революцию. Альфред Адлер был женат на русской эмигрантке, социалистке крайних взглядов Раисе Адлер-Эпштейн. Одним из пациентов Адлера в Вене был большевик-эмигрант Адольф Иоффе, ученик и друг Троцкого. Из исто
Мир в границах литературы: русские эмигранты
331
рии его болезни, доложенной Адлером на заседании Венского психоаналитического общества в 1909 году, очевиден острый интерес к русским событиям; смущение перед чересчур крайними идеями пациента принимало форму причудливых аналитических интерпретаций. Адлер знал и самого Троцкого, который возлагал на психоанализ утопические надежды. Работа с Иоффе дала Адлеру материал, сыгравший важную роль в формировании его собственной версии психологии, которая придает первостепенное значение не только сексуальному либидо, но и влечению к власти. Реализуя своей трагической судьбой тексты Адлера, Иоффе стал крупнейшим большевистским дипломатом и деятелем троцкистской оппозиции, а оказавшись не у власти, покончил с собой.
С судьбой самого Троцкого переплелась деятельность другого эмигранта, одного из лидеров мирового психоаналитического движения Макса Эйтингона. Родившийся в Могилеве, он с детства жил в Германии, учился в одном из центров русского студенчества на Западе — на философском факультете в Марбурге, а потом занялся медициной. После защиты докторской диссертации в Цюрих-е, Эйтингон становится близким учеником и другом Фрейда. В 1926 он избирается президентом Международной психоаналитической ассоциации. Он был богат и из личных средств финансировал многие начинания германских аналитиков, помогал он и русским эмигрантам. На своей берлинской вилле в Тиргартене он охотно принимал и тех, и других. У Эйтингона читали свои произведения Ремизов и Шестов; последний был связан с Эйтингоном многолетней дружбой, а его сестра Фаня Ловцкая была психоаналитиком и работала у Эйтингона. Как вспоминал Арон Штейнберг, «приезды Шестова в Берлин давали поэтому доктору Эйтингону желанный повод собирать у себя, наряду с людьми собственной школы, также и эмигрантскую интеллигенцию из разных стран» ”. По его словам, в «психоаналитическом салоне» Эйтингона были популярны идеи «духовной ре
332
Глава 6
волюции»: их обсуждали между собой знающие люди — евразийцы во главе с П. П. Сувчинским и психоаналитики во главе с самим Эйтингоном. Бывал здесь и белый генерал Скоблин, двойной агент советского НКВД и нацистского СД; песни его жены, знаменитой Надежды Пле-вицкой, придавали русский дух чересчур космополитическому обществу. В общем, берлинский салон Макса Эйтингона следует признать одним из интеллектуальных центров русской эмиграции 1920-х годов.
Считалось, что состояние Эйтингона досталось ему по наследству. Недавно найденные документы п показывают, что Макс Эйтингон был совладельцем предприятия, которое занималось торговлей поступавшими из Советской России мехами. Это и был источник его состояния. Его компаньоном был человек, которого берлинские аналитики знали как «сводного брата Макса» (реальная степень их родства неизвестна) — Наум Эйтингон, организатор и участник зарубежных операций НКВД. По крайней мере в одной из уголовных афер Наума Эйтингона — похищении генерала Миллера — психоаналитик Макс Эйтингон принял участие, которое было засвидетельствовано во французском суде.
Похитивший Миллера генерал Скоблин исчез навсегда, и под судом оказалась его жена, Плевицкая. На суде она рассказала, что Макс Эйтингон «одевал ее с головы до ног», а также финансировал издание двух ее автобиографических книг (которые содержат посвящение Максу)”. Эйтингон специально приезжал в Париж во время похищения Миллера и провожал Плевицкую на вокзал, чтобы она бежала в Палестину. Он же прислал Скоблиным шифровальные коды. Более того, в дневнике Плевицкой есть указание на то, что Скоблин познакомился «с большевиками» в 1920-м году именно у Макса Эйтингона.
Вероятно, усилия Эйтингона по развитию психоанализа контролировались правительством большевиков, скорее всего самим Троцким. С поражением троцкист
Мир в границах литературы: русские эмигранты
333
ской оппозиции эти источники финансирования закончились; агентуру же продолжали использовать в новых целях, и Макс оказался полностью зависим от своего родственника. Возможно также, что после своей второй эмиграции (из Германии в Палестину в 1933) он пытался таким способом помочь борьбе с нацизмом. Как бы то ни было, но сложная игра Троцкого с психоанализом привела, при посредстве Эйтингонов, к финальному удару ледоруба... По пути, однако, произошли события, для понимания которых стоит еще раз вернуться к отношениям жизни и литературы.
Эмиграцию Троцкого сопровождали события, которые подчинялись не политической, а иной логике: «политически бесцельные акты обнаженной мести»,— такими видел их сам Троцкий ”. Его недоумение можно понять: источники сталинских представлений, архетипические или во всяком случае, долитературные, и сегодня не поддаются более точному определению. Жертва перед собственной гибелью должна была видеть гибель собственных детей ”.
Технические средства мести тоже подчинялись механизму зловеще-логического нарратива. Двое детей Троцкого, уехавшие с ним в эмиграцию, умерли при обстоятельствах, заставляющих подозревать участие в их смерти врачей. В 1938 году сын Троцкого Лев Седов погиб в русской хирургической клинике в Париже; историки не сомневаются в том, что в его смерти приняла участие команда Наума Эйтингона. 5 января 1933 г. дочь Троцкого Зинаида Волкова покончила с собой, проходя психоанализ у берлинского аналитика’6. Более конкретные обстоятельства ее гибели неизвестны и, в отличие от смерти ее брата, не привлекали к себе внимания историков.
К моменту гибели Зинаиды ее анализ длился уже более года. Она вырвалась из России в конце 1930 года и страдала депрессиями. Троцкий, пользуясь своими политическими связями и будучи ограничен в средствах, сумел устроить ее к некоему психоаналитику, который, со
334
Глава 6
гласно воспоминаниям секретаря Троцкого, «бегло говорил по-русски» ”. Вся история содержит фигуры умолчания; имя аналитика неизвестно.
В феврале 1932 года Зинаида, вместе с другими членами семьи Троцкого, была лишена права возвращения в СССР. Уже после этого ее психоаналитик, якобы по медицинским показаниям, настойчиво рекомендовал ей вернуться на родину. Как писал Троцкий в открытом письме Сталину: «Врачи-психиатры заявили единодушно, что только скорейшее возвращение ее в обычные условия, к семье, к труду может спасти ее. Но именно эту возможность отнимал ваш декрет» ”. Создание подобной ситуации неразрешимого противоречия — эффективный способ довести пациента до предела отчаяния. Троцкий был прав, возлагая ответственность за гибель дочери на Сталина; но в этом случае он не вполне понял механизм исполнения его мести. Психоаналитиком Зинаиды был если и не сам Макс Эйтингон, который почти не практиковал”, то кто-то из его приближенных, тех радикально настроенных аналитиков, которым удивлялся Штейнберг в «психоаналитическом салоне» Эйтингона. Руководя берлинским психоанализом вообще и русскоязычными, просоветски настроенными аналитиками в особенности, Эйтингон контролировал ситуацию. Если наши предположения верны, то Зинаида Волкова оказывается первой жертвой в кампании сталинской мести, которую осуществлял Наум Эйтингон, пользовавшийся разными — в данном случае профессиональными — услугами своего берлинского родственника.
Поразительно, что эта детективная история осталась столь прочно забытой. Возможно, это произошло потому, что история Зины Волковой сложно умещается в нарратив русского образца. Сталинская месть ориентировалась на иные стандарты; а двойная жизнь Макса Эйтингона — этого доктора Джекила и мистера Хайда новейшей интеллектуальной истории — хоть и имеет литературные прецеденты, но слишком сильно отклоняется от
Мир в границах литературы: русские эмигранты 335
понимания человека как романтического героя, целостного психологического субъекта с линией поведения, имеющей смысл. Доведение до самоубийства на психоаналитической кушетке составило бы сюжет для американского фильма, но его трудно представить себе в русском романе. Мемуары Судоплатова — шефа Наума Эйтингона — и сегодня кажутся неправдоподобными; злодейства XX века не умещаются в литературные рамки, заданные в XIX. Давая смысл жизни Саломе, Шпильрейн, Метнера, Осипова, Панкеева (и даже Плевицкой, обманутой красавицы), оставив им пространство для борьбы и выхода за свои пределы, русская литература не запрограммировала Зину Волкову и Макса Эйтингона.
Глава 7.
«У» Всеволода Иванова:
* интеллектуальный роман из жизни нэпманов
О романе Иванова, впервые опубликованном почти через 60 лет после написания, мало что известно, кроме самого текста. Даже и дата его окончания писателем неопределенна. Но действие романа датировано самим автором. Оно разворачивается между двумя событиями: рождением сына писателя (1929) и разрушением храма Христа Спасителя (1932). Роман, вероятно, писался долго и частями. Во всяком случае его финальная сцена разыгрывается под «темным сводом» еще существующего храма (468) ’, хотя на первых же страницах он объявлен разрушенным.
В пыли Храма
По соседству с этими беспокойными руинами развертывается сложная, с ускользающим сюжетом импровизация на тему переделки человека. Момент был важный: НЭП уже «припихнули», коллективизацию «завершили», то, что уцелело от Москвы — «перекрасили» (142). Люди же по-прежнему нуждались в «перерождении».
Виктор Шкловский писал тогда с иронией: «революция переделывает человека целиком, но не сразу»2. А герои «Счастливой Москвы» Платонова, искренне и страстно стремившиеся изменить свою человеческую сущность, все еще говорили: «надоело как-то быть все время
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 337
старым природным человеком: скука стоит в сердЦе» Вот как проявлялся интерес к проблеме со стороны внешнего наблюдателя: «Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем <„.> Но меня, конечно <...> интересует <...> гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?» Наследник ученых магов, по-своему экспериментировавших с той же проблемой — Мефистофеля, Демона, Франкенштейна,— Воланд формулировал классический вопрос в терминах, понятных его испытуемым.
«Да, это важнейший вопрос, сударь» — подтверждала свита Воланда. Наверняка, главная тема русской прозы 20-х и 30-х годов. Возможно, центральная проблема XX века: средства, возможности и границы изменения константной природы человека взрывообразно развивающейся культурой. Если говорить о средствах — а именно возможности, но ни в коем случае не границы, интересуют героев «У» — то они, как мы хорошо знаем, сосредотачиваются в важнейшей сфере: психологии. И действительно, текст «У» похож на перенасыщенный ею раствор — психологическую прозу, из которой психология вот-вот выпадет в осадок.
Здесь отобраны люди, которые до известной степени связаны еще с обществом. Характеризуются они <...> не теперешней <жизнью. — А.Э.>, о ней и говорить не стоит, а прошлой <...> За ними много грехов <.„> Вот этот. Он, видите, подвержен аффектации. С детства он не приучен владеть собой <„.> Он был даже на высоких должностях, вплоть до секретаря губкома <...> Быстрая смена качеств совершенно противоположных. Доброта и дикая, нелепая жестокость, гнусные выходки, чрезмерное самомнение <...> — Дальше. Следующий! — Удовлетворение некоторых влечений желудочных и половых. Все, что возвышает и облагораживает, отступает обычно на второй план; обжорство и грубый разврат <...> Изнасиловал
• дочь <...> — Следующий <...> Постепенно постигал сознательную эволюцию народа и общества <.„> Умеренно либерален <...> Подчиняет любовные увлечения требованиям рассудка <...> Убежден, но совершает всегда проти
19—809
338
Глава 7
воположное <...> Умеренностью своей и либерализмом вогнал в гроб всю семью <.„> — Поэт. Бурная эмоциональность и огненная фантазия. Любит карты и вино, потому что находит что-то за их пределами. Совратил этим многих <„.> Сосредоточенная мощь и глубина <...> Любит детей <...> и загубил трех, потому что жена его
слушалась <...> — Активный <...> Склонность к душевной борьбе и самообладанию у него отсутствует, поверхностна и примитивна психика <...> Он погубил целую группу людей, строителей большого дела <...> — Расчетливый
• эгоист <...> Любит переодеваться <...> Видит здесь какой-то чрезвычайно утонченный разврат (350—354).
Профессиональные характеристики, воспроизводящие диагностический жаргон и даже типичные аграмма-тизмы психиатров, громоздятся в «У» вперемежку со сложными, неожиданно интеллектуальными рассуждениями их героев, скрытыми цитатами и непрокомменти-рованными аллюзиями. И все это в объеме полномасштабного романа, внутри классических единств места, времени и действия — с парой боковых детективных сюжетов, с ритмическими паузами, заполненными комическими драками и эротическими картинками, с кульминационным сновидением о петухе и финалом в виде карнавального шествия.
В центре романа классическая пара — безумец и простак. Они попадают в немыслимые приключения, не выходя из загаженного и перенаселенного особняка в центре Москвы, в «районе невропсихологической вредности» (417). В этот дом их привела, естественно, любовь безумца к его обитательнице, которую здесь зовут Сусанной. Местного Дон-Кихота зовут доктор Андрейшин, он психоаналитик из «психиатрической больнице им. Э. Крепелина». Его верный Санчо Панса по имени Егор Егорыч работает счетоводом в той же больнице. От лица счетовода и ведется рассказ.
Последнему предпослан некоторый аппарат. Три эпиграфа (134) объясняют смысл названия романа двумя способами. Ломоносов считал «у» одним из звуков,
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 339
посредством которых показывают «страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль». С ним согласен Лев Толстой, который описал Ивана Ильича кричащим «у»: умирая, он начал кричать «не хочу» и так и продолжал на букву «у». За этим следует Флоренский, который использовал «х» и «у» как «знаки индивидуума»,— из чего мы понимаем, что «у», возможно, не русское «у», а латинский «игрек» — или и то и другое вместе... Через несколько страниц Иванов подкрепит второе прочтение объемистой цитатой из учебника математики.
За эпиграфами следуют «Примечания», живо напоминающие позднейшие литературные эксперименты с примечаниями без текста. Но здесь они написаны, кажется, к реальному тексту романа. Их своеобразие не только в том, что роман с них начинается, а не кончается ими; а еще в том, что их раз в сто меньше, чем нужно для понимания текста. Автор (называющий себя составителем) это признает: «сберег вам 2.500 страниц чистоганом. Умейте писать, молодые люди!» Смысл тех примечаний, которые даны «составителем», в том, чтобы задать контекст, в котором надо понимать все дальнейшее. В них цитируются Спиноза, Гегель и Бергсон в качестве интеллектуального фона; Аристофан, Стерн и Вельтман в качестве литературных предшественников; а также упоминается большая компания классиков русской и зарубежной психиатрии («в общей сложности 1700 трудов»), начиная с Фрейда и Крепелина и кончая Корсаковым, Ганнушкиным, Бехтеревым, Павловым, Баженовым и Яковенко...
Этот «аппарат» заканчивается чем-то вроде посвящения. Составитель надеется когда-нибудь «поднести книгу <...> какому-нибудь высоковознесенному товарищу или нежноласкаемому существу, коим, в данном случае, мы наметили младенца нашего». Как мы уже знаем, этот младенец родился тогда, когда назревали события, описанные в романе. Тогда к отцу вышел профессор-акушер и сказал: «У, какой большеголовый! Психиатром быть»,— в 19*
340
Глава 7
ответ на что составитель, подчиняясь довольно сложным ассоциациям, назвал своего сына Вячеславом (140).
И наконец, перед тем, как начать рассказ «по существу», нам дают прочесть некое «обобщение». Рассказывается здесь о Савелии, «мерзейшем» старичке, по характеру похожем на горьковского Луку, но еще больше — на героев миссионерских историй о тайных сектах с их двуличными лидерами-изуверами. Савелий тайно управляет остальными героями, под конец выдает их властям и к тому же, кажется, втайне обладает всеми желанной Сусанной (249). Итак, этот Савелий, увидев, как ломают храм Христа Спасителя, «поднял высоко над головой палец, на котором моталась нервно подтяжка, и повторил,-— Наконец-то Советская власть победила! В чем ее победа?»
Человек-барокко
Ответ на этот ключевой вопрос и заключает в себе «х», будто извлеченнный из названия храма Христа Спасителя. «Игрек» же, как пишет цитированный Ивановым учебник математики, «неясная функция от X». Как сквозь магический кристалл, Иванов неясно еще различает этот «У» — время, которое достанется на долю его сына. И, как Иван Ильич, «на разные интонации» кричит: «у-у-у».
Двадцатидвухлетний Черпанов, уполномоченный по вербовке рабочей силы, интересует автора, кажется, более всех остальных; во всяком случае никому другому он не посвятил так много странных, разностильных описаний. В его карманах содержатся бесконечные справки о благонадежности: «вот даже по Фрейду» — что не сумасшедший (464), и мандаты с печатями — как выяснится позже, фальшивыми. Бывший алкоголик, которого излечили кулаками, а также предложением «излечиться и приняться за психическую обработку общества» (385), Черпанов смотрит на происходящее с недовольством
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 341
особого рода: «Что бы приехать раньше,— думал он,— не меня ли страждали здесь для разбора храма?»
Своей «способностью истолочь, избить в комок любое препятствие, сгубить рецензией любое предприятие или мысль», как и много раз описанным велосипедным костюмом со множеством карманов, Черпанов кажется сначала типическим представителем новой эпохи. Но нет, совершенно неожиданно рассказчик характеризует его как «человека-барокко». «Отколе-то из барокко проскальзывала на его сухое лицо богатая розовость и жажда сковырять, сплести, сделать». Его прозаический костюм сплошь увит «подобием виноградных лоз — масляными пятнами» (144). Эта барочная и даже дионисийская атрибутика, посаженная на заурядного провинциального мошенника, приводит в изумление. Непонятны и его «сконсовые» усы, воспроизводившие «древний мотив висячей арки» (144). Чьи они — не Сталина ли? Дело проясняется, однако, с самой содержательной стороны.
Черпанов приезжает в Москву с Урала для осуществления весьма серьезного проекта. «По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно будет чрезвычайно благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения. Ну, что ж, я и взялся». Дело в том, что «перед нами» — правительством и Черпановым — «реально встало» переустроенное общество, которое Черпанов называет бесклассовым. Проект кажется осуществленным или вот-вот осуществимым. Но что же делать с людьми, которые в этом новом обществе жить не умеют, не могут и не хотят? Или, как с марксистской точностью излагает Черпанов,— с буржуазией, мещанством, нэпманами и прочими чуждыми элементами, которые сами по себе не перемрут, слишком хитрые и ловкие? «Изгонять, как изгнали евреев из Испании? Можно, но слишком велики издержки». Черпанов предлагает решение простое, эффективное и гуманное: все они подвергнутся массовой психологической трансформации. Или, в черпановских выразительных терминах, людей
342
Глава 7
надо переродить. Иными словами, подвергнуть второму рождению, в котором наука и государство сыграют роли новых родителей.
Перед людьми, сделавшими революцию, стала тогда одна главная проблема, включавшая все остальные новое общество создано, но люди в нем жить не могут, не умеют и, главное, не хотят. Стоит подумать о теоретических вариантах решения этой ситуации, которые были у тех, кто столкнулся с этой ситуацией впервые и считал себя имеющим власть над ней 4.
Один вариант был — отступление. Дать людям жить так или почти так, как они хотят, могут и умеют. Этот путь связывают с Лениным и НЭПом, он не интересовал Черпанова. Был другой вариант, искусственный отбор тех, кто готов жить в новом обществе, и устранение всех остальных. Нам знаком и этот путь, он ассоциируется со Сталиным и ГУЛАГом; Черпанов, в отличие от многих современников, знал: «Можно, но слишком велики издержки». Был и третий путь, самый амбициозный и романтический; в памяти потомков он свяжется с Троцким. Люди не способны жить в новом обществе — значит, надо переделать людей. Переделать природу человека!
Психоаналитик Андрейшин согласен, что дело это нужное, хотя и непростое. «Сколько надо приложить труда, чтобы увести этих людей к счастью» (163),—говорит он Черпанову с уважением. Требуется, прежде всего, подвиг, и даже больше того. «Иначе и не взялся бы, если б не трудность подвига... При тысячесильном моторе и дурак перелетит через океан, а вот ты перелети его верхом на гусе. Это уже, Егор Егорыч, получается не подвиг, а сказка, но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями» (191),— с полной ясностью объявляет Черпанов. Сравним со словами Троцкого: «Человек взглянет на себя как на сырой материал или в лучшем случае, как на полуфабрикат, и скажет: .Добрался, наконец, до тебя, многоуважаемый хомо сапиенс, теперь возьму я тебя, любезный, в работу!'*» ’.
>У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 343
Игра в «У» идет по крупной: иронически проигрывается идея нового человека, которая была центральной для левых русских интеллектуалов в течение всего Серебряного века, объединяя религиозных философов, радикальных марксистов и поэтов-символистов. Она была унаследована, усилена и примитивизирована советскими идеологами, найдя свой расцвет в литературе, психологии и педологии конца 20-х и начала 30-х годов. Одни видели свою функцию в том, чтобы стать «инженерами человеческих душ» (замечательно, что эта формула была впервые сказана Горьким, в присутствии Сталина, в том самом особняке, в котором за несколько лет до того помещался Государственный психоаналитический институт); другие брали на себя более скромную роль свидетеля. Как говорил своим друзьям (Хармсу, Введенскому и другим «чинарям») около 1934 года ленинградский писатель Яков Друскин, «некоторые предвидели ту перемену в людях, при которой мы сейчас присутствуем, — появилась точно новая раса. Но все представляют себе это очень приблизительно и неверно. Мы же видим это своими глазами. И нам следовало бы написать об этом книгу, оставить свидетельские показания. Ведь потом этой ясно ощутимой нами разницы нельзя будет уже восстановить». Сам Друскин понимал эту «перемену» как предшествие финального светопреставления ‘.
Черпанов не особо задумывается о методах планируемой переделки. «Э, мало ли от чего люди перерождаются»,— небрежно бросает и многоопытный дядя Савелий (203). В карманах у Черпанова заветные пакеты с инструкциями, которых он еще не читал; к тому же при необходимости можно сослаться на авторитет психоанализа, благо он рядом и, в лице Андрейшина, готов на многое. Но у Савелия свой рецепт,- «театры могут большую работу проделывать, в вашем духе» (203). О театре то и дело заговаривает и сам Черпанов.
Термин «театротерапия» придумал Николай Евреи-нов. В Петрограде 1920 года он призывал пользоваться
344
Глава 7
этим «методом лечения наших врачей, а заодно и сценических деятелей, в руках которых (как это ни странно на первый взгляд) один из способов — и может быть, могучих — оздоровления человечества» 7. В том же году Ев-реинов пишет свою известную пьесу «Самое главное». Герой ее представляется как «антрепренер театра, который зовется жизнью». Он рассуждает так: «На свете есть миллионы людей, лишенных интимных радостей благодаря убожеству, миллионы, для которых равноправие социализма должно звучать горькой насмешкой. Это, конечно, не аргумент против социализма, это лишь аргумент в пользу того, что мы должны еще что-то предпринять» *. Итак, он помогает людям особыми, театральными средствами: нанимает актеров и диктует им мизансцены, в которых те играют в любовь с принимающими все за чистую монету несчастными — робкой девушкой, неврастеничным юношей, старой девой... Совсем не случайна искренняя и полная скрытых смыслов солидарность с Троцким, которая звучит в одной из книг Евреинова, написанных одновременно с «Самым главным» ’.
Суматоха массового перерождения
Черпанов, «человек-барокко», поясняет «Нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам про-ектики покажу, пальчики оближете. Переделка в три дня...» (190). Его собеседник изумлен. «Чудак вы, Егор Егорыч»,— отвечает Черпанов.— «Намеки вы принимаете, а когда перед вами развернули полную программу, так вы ошалели» (234). Одновременно с проектированием Дворца Советов на месте не разрушенного еще храма Христа Спасителя бывший психоаналитик Арон Залкинд
♦У» Всеволода Иванова,- интеллектуальный роман 345
формулировал задачу «педологии» как «массовое строительство Нового человека»10.
Да, Черпанов будет ковать сверхчеловека! Именно сверхлюдей он привезет к себе на Урал, на «строительство... и сверхмощное и сверхбыстрое, а главное, сверхнеобходимое» (189). Он сделает из мещан-обывателей «такую рабсилу, которая будет трудиться лучше прочих, потому что она свежа, она энергична и опытна, она рвется до дела, она хочет проникнуть тоже в бесклассовое общество» (234). Не от Ницше ли его «сконсовые» усы? При встрече с Черпановым доктор Андрейшин был так поражен ими, что счел их приклеенными и решил сковырнуть; но потом Черпанов сбрил их, будто проигрывая большевистскую историю истощения ницшеанского импульса.
Но сначала, пока он был с усами, речь шла об истинном перерождении, радикальном и тотальном одновременно. Егор Егорыч, ставший к этому времени секретарем Черпанова, колеблется: «надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, как будто бы и надо: иногда меня посещали мысли из тех, которые „клеймят" Сто есть недостойные нового человека. — А. Э>... Но, с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне есть таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко» (215).
Действительно, задача сложная, и оценить всю ее глубину нам опять помогает дядя Савелий, олицетворяющий в романе, кажется, самую темную из проблем — отечественные корни русского большевизма: решению задачи, считает он, мешает гуманизм людей, «навязчивый и неистребимый» — гуманизм в его самой простой форме отвращения к убийству. «Жалко человечка! Гадкий он, ничтожный, хитрый и вредный, а жалко резать! И нож бритвой, и возможности полные, и результат впереди прекрасный... а жалко.» Чем уничтожать живущих, каж
346
Глава 7
дый предпочел бы «их использовать, ну хотя бы временно»,— а в этом уже заключена непобедимая слабость всего проекта (ЗЮ).
Идею перерождения людей понимают в народе по-простому, в соответствии с недавним еще сектантским опытом (интересовавшим Иванова и в «Кремле», и раньше): «Чего ж, выхолостят их или как?» (267). Черпанов уклоняется от ответа и вообще ведет себя гибко, особенно когда речь идет о средствах. Бывшему церковному старосте храма Христа Спасителя (ныне абитуриенту Безбожного института, торгующему мороженым и занимающемуся подпольным строительным бизнесом) он обещает даже восстановить храм. «Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека». Перерождение, объявляет Черпанов, дело добровольное. Но условия этого добровольного выбора будут объяснены только бригадирам. Остальных же трудно будет «удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность, мочиться там сколько они хотят в день, судачить» (268).
Между тем в разговоре Черпанова с бывшим церковным старостой идея перерождения раскрывается как достижение вечной молодости. Это близко обоим, но не только им. Как достижение бессмертия посредством преодоления пола («выхолостят их или как?») понимал ницшеанскую идею нового человека Владимир Соловьев. Его идеи, как и любимое им слово «перерождение», ясно звучат в романе. Пародией на «пять путей любви» Соловьева 11 являются рассуждения Андрейшина о «пяти способах любви» и ответная, столь же интеллектуальная типология Сусанны на тему близкого количества «способов отказать в любви» (332—340). «Я рад, Кузьма Георгия, что вы так сразу понимаете мои идеи, в вашем миропонимании есть какая-то унаследованность» (295),— хвалит церковного старосту Черпанов, у которого унаследованность тоже есть: отец его, как сообщается в нашем романе, был поклонником Константина Леонтьева и одно
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 347
временно «заглядывал» в Маркса. Леонтьева можно Синтезировать с Марксом, на это автор намекает как на один из интеллектуальных секретов большевизма. А вот психоаналитик Андрейшин — безотцовщина...
Палата полуспокойных
В рассказе Егора Егорыча подробно, со всеми доступными счетоводу хозяйственными подробностями изображены дела в «Больнице им. Э. Крепелина, что в полутора часах езды из Москвы». Мы узнаем и то, что директор клиники — «выдающийся специалист клинико-нозологической психиатрии проф. Ч.» — вместе с частью врачей выступал за теорию «нозологических единиц», то есть «за возможность подведения болезней человека, его психики под твердые и неколебимые разновидности <...> Другая часть, а к ним принадлежал и д-р Андрейшин, отстаивала борьбу за детальное углубление в психику» и практиковала «увеличенную психотерапию». Егор Егорыч продолжал: «Пока шли эти споры <.. > положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась <...> Все мы ожидали крупного медицинского скандала» (157). Иванов с полным знанием дела воспроизводит здесь содержание дискуссии, которая велась московскими психиатрами в 10-х и 20-х годах. После смерти основателя русской психиатрии С. С. Корсакова в их среде возник раскол в зависимости от отношения к немецкой психиатрической школе Э. Крепелина. Одна группа во главе с П. Б. Ганнушкиным «пошла путем Крепелина <...> другие, во главе с Сербским, явились пионерами в проведении в России идей Фрейда, Юнга и Блейлера»,— писал в 1928 году один из участников событий, Л. М. Розенштейн12.
Двадцатишестилетний Матвей Андрейшин, «возглавлявший течение увеличенной психотерапии», был в больнице «ординатором палаты полуспокойных». Сын
348
Глава 7
сельского учителя, он принял краткое, но героическое участие в гражданской войне, отбив под Казанью, в основном с помощью красноречия, у белочехов пароход под названием «X. Колумб». Поплавав на пароходе, сменившем несколько замечательных имен — от «И. Канта» через «Ницше» до «Ф. Лассаля»,— Андрейшин поступил в университет.
В Казанском университете как раз в те годы учился сверстник Андрейшина Александр Лурия, рассказывавший об этом периоде своей жизни так: «Я помню годы — 1918,1919,1920, когда я, совсем молодой парень, стал заниматься чем угодно. Меня интересовали общественные науки». Лурия только поступил на юридический факультет Казанского университета, как его переименовали в факультет общественных наук, и бывший профессор церковного права читал в нем социологию. «У меня, человека абсолютно средних способностей, возник рад проектов, как всегда у молодых людей, проектов невыполнимых, но имеющих какое-то мотивационное значение» ”. Лурия организовал в Казани кружок психоанализа, вступил в переписку с самим Фрейдом, добился признания своего кружка Международной психоаналитической ассоциацией и стал ученым секретарем Русского психоаналитического общества, а потом, после ряда зигзагов карьеры, всемирно известным психологом.
Закончив университет, Андрейшин стал поклонником рациональной психотерапии Дюбуа, а потом — психоанализа Фрейда и особенно Адлера. Он постоянно использует такие специфически адлеровские термины, как влечение к власти и бегство в болезнь. Этот путь — от Дюбуа к Фрейду, от него к Адлеру и разным вариантам фрейдомарксизма — вполне типичен для московских психоаналитиков. Отказ от наивной «терапии убеждением», увлечение Фрейдом и отчетливо возрастающее тяготение к Адлеру прослеживается, например, в их журнале «Психотерапия», выходившем с 1910 по 1914 годы.
♦У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 349
Егор Егорыч обратился к д-ру Андрейшину с просьбой помочь ему бросить курить. Его рассказ о проведенном с ним психоанализе по-своему замечателен. Андрей-шин «впивался часов на шесть в вашу субъективную душевную установку, освещал ее с такой бесцеремонностью, что у вас два дня болели зубы»; он твердо верил: «таким образом вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность: давать показания себе и другим во всех своих чувствах искренно» (184); он призывал к тому, чтобы «все так называемое „бессознательное" стало сознательным» (196). Егор Егорыча он заставил «вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен если не к убийствам, то к насилию над своей няней» (этот мотив скорее всего взят из фрейдовского очерка «Из истории одного детского невроза», написанного о Сергее Панкееве). 17 сеансов анализа у д-ра Андрейшина привели счетовода в довольно тяжелое состояние: «моя жизнь представилась мне сплошным изуверством <...> я дико напутался и у меня вдруг обнаружились явные признаки отравления» (152). Прекращая лечение, Егор Егорыч просил «вернуть мне хотя бы часть моего душевного мира».
Как и Черпанов, Андрейшин верит в возможность изменения человеческой природы: «Новый класс, идущий на смену, будет беспощадно искренним» (204). Он ясно и солидно определяет свое место в новом мире: «не исключена возможность, что врачи приобретут большое влияние в бесклассовом обществе, кроме того, врачебная наука приобретет то единство, которого ей сейчас не хватает» (423, здесь слышны интонации Троцкого). Андрейшин ведет перед удивленными согражданами длинные красноречивые речи, призывая их, например, внимательнее относиться к своим родителям и хотя бы раз в году — по строго определенным дням — вспоминать их: «Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, можно и следует задуматься над участью отцов» (182). В ответ колоритная сестра героини — фрон
350
Глава 7
товая проститутка времен гражданской войны, автор интимных мемуаров под названием «Четыреста поражений» — надевает на голову Андрейшину ведро с помоями (185). «Психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, будто и меня облили помоями»,— сочувственно реагирует Егор Егорыч (187).
«Сумасшествие — это только чужой язык, который мы не понимаем»,— говорит Иванов (365). Один из героев Ильфа и Петрова предпочитал сумасшедший дом «сверхбедламу» нового общества: «нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма». Но Иванова больше интересует не то, что происходит в душе больного, а то, что происходит в душе врача. Безумие здесь не залог свободы, а испытательная площадка для оценки новой науки в ее влиянии на нового человека.
Так ли уж уникален ивановский аналитик, все пытающийся лечить тех, кто считает сумасшедшим его самого? Не с этого ли началась в России новая история и новая литература? Андрейшин — это Чаадаев и Чацкий эпохи побеждающего тоталитаризма. Он более жалок и смешон, но лишь настолько, насколько отвратительнее реальность, в которой он живет; он более беспомощен лишь потому, что за прошедшее столетие идеалы Просвещения еще больше оторвались от русской жизни. Витающий в возвышенных идеях и постоянно попадающий впросак, начинающий драки, из которых неизменно выходит битым, и влюбленный в потасканную красавицу, которая готова отдаться любому, кроме него, он самый неприспособленный к жизни из обитателей «района невропсихологической вредности». Он зашел сюда навестить свою даму, уезжая в Берлин на съезд по криминальной психологии, куда он ехал в качестве второго секретаря советской делегации. И он остается, чтобы, движимый своей нелепой любовью и абсурдным пониманием людей, пройти ради дамы через самые жестокие
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 351
фольклорные испытания: ходит на ходулях; залезает в печь; ест овес, как лошадь; изображает ракету, поджигая под собой керосин; дает тушить о себя папиросы; лежит в сундуке, на крышке которого предмет его любви отдается Черпанову... «Тот доктор, который проходил по больнице в белоснежном халате, властно раздавая приказания; всесильный врачеватель, он лежал предо мной, словно мусор, словно гнилая щепа, в которой недоставало еще червей» (254),— рассказывает Егор Егорыч.
Московский классицизм
По словам рассказчика-счетовода, дававшего, как мы знаем, своим знакомым весьма неожиданные стилевые характеристики, Андрейшину был свойственен «московский классицизм». Впрочем, с Черпановым («барокко») они сблизились сразу. «Мои интересы близки Вашим, Черпанов»,— заявляет Андрейшин. В «похожем на яйцо» доме у руин храма Христа Спасителя они вместе устанавливают общность жен и имущества и начинают сносить перегородки между комнатами, преобразуя коммунальное жилье в настоящую коммуну. Черпанов приглашает Андрейшина с собой на Урал (148), где они будут заведовать «психической частью» комбината, занимаясь «психической переделкой людей» по четырехлетнему плану.
Андрейшин интеллигентен. Не он представляет здесь власть. Бестолковый, многословный и толстокожий, он не похож на стереотипного психиатра, такого, как Сперанский у Булгакова и десятки психоаналитиков западной литературы и кино. Андрейшин комично агрессивен и часто лжет, но каждый раз на вопрос, который неизменно задают ему в полной тишине после его абсурдных речей: «Вы это официально?» — он честно отвечает. «Нет». И его бьют.
От лица власти герои «У» готовы молча принять все. Она вольна отобрать имущество и кастрировать, отпра
352
Глава 7
вить на Урал и переродить. Они, конечно, будут сопротивляться, саботировать и прятать то, что у них хотят отобрать или отрезать. Но они не удивятся ничему. И все же это обычные люди, их природа все та же, человеческая, и потому от частного лица, за которым нет винтовок, они ничего подобного не потерпят. Поэтому так нелеп Андрейшин, пытающийся вести интеллектуальную пропаганду от своего собственного имени.
И потому так эффективен самозванец Черпанов. Он объявляет себя представителем власти и демонстрирует пакет за девятью печатями, который ему в определенный момент, набрав требуемые десятки тысяч человеческих единиц, надлежит вскрыть, а там-то и есть технические инструкции по перерождению человека. Это Черпанов будет на уральском комбинате заведовать «психической частью». Андрейшин соглашается ехать с ним в качестве, так сказать, эксперта; но очевидно, что его ждет судьба материала. Вся власть в мире «У» полностью, тотально оккупирована политическими самозванцами. Даже на долю психиатров не осталось их привычных властных функций, перед которыми склонился чувствительный к власти Булгаков и которыми так злоупотребят позднее советские врачи (и которые с ненавистью описал на другом, западном материале Мишель Фуко).
Между тем психоаналитики 20-х годов рассчитывали на политическую власть и боролись за нее доступными им средствами; и их попытки выглядят сегодня, к сожалению, не многим лучше затей доктора Андрейшина. В мае — июне 1922 года в Москве образуется Русское психоаналитическое общество; в бумагах Главнауки Нарком-проса сохранились его учредительные документы14. Психоанализ, сказано в них, «по существу своему является одним из методов изучения и воспитания человека в его социальной среде, помогает бороться с примитивными асоциальными стремлениями недоразвитой в этом смысле личности и представляет громадный интерес как в области чистой науки, так и в прикладных». За
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 353
этим следует длинный список «прикладных знаний», в котором психиатрия занимает последнее место.
Говорит Андрейшин: «Я предполагал, что возможно организовать институт любви, где бы любовь преподавали практически, где человек, сколько бы то ни было нуждающийся в любви, проходил краткие курсы <...> Боюсь, что в институт попадут педанты, болтуны, у которых не только выболело, но и никогда не болело» (336).
В особняке Рябушинского на Малой Никитской, который потом занял Горький, были открыты Государственный психоаналитический институт и Психоаналитический Детский дом-лаборатория. Ученый секретарь института Александр Лурия, которому был 21 год, получил, по его словам, «великолепный кабинет, оклеенный шелковыми обоями, и страшно торжественно заседал в этом кабинете, устраивая раз в две недели, кажется, заседания психоаналитического общества» ”. В уставе Детского дома-лаборатории психоанализ характеризуется как «могущественный метод освобождения ущербного человека от его социальной ограниченности». Контингент воспитанников описан в уставе так: «Дети: большинство их дети партийных работников, отдающих все свое время ответственной партийной работе и не могущих воспитывать детей»16. В этом же смысле высказывался и Лурия: по его воспоминаниям, в «психоаналитическом детском саду» воспитывались дети высокопоставленных персон, в частности, сын Сталина, Василий. В течение первой половины 20-х годов московский психоанализ поддерживался с самой вершины власти. «Что сказать о психоаналитической теории Фрейда? Примирима ли она с материализмом, как думает, например, т. Радек (и я вместе с ним)?»— писал Троцкий в «Литературе и революции» ”.
Психоаналитические учреждения в Москве действительно сопровождали, говоря словами Андрейшина, «вечные склоки, от которых я предостерегаю как будущее советское правительство, так и высшие планирующие органы, в ведении которых будет находиться инсти-
20—809
354
Глава 7
тут» (336). Говорили, например, что над детьми там проводятся сексуальные эксперименты, что у них формируют онанизм и т. д. За три года Институт посетили пять комиссий. Но каждый раз могущественная рука защищала его от закрытия. С ослаблением Троцкого развернулась идеологическая дискуссия, в которой Троцкого обвиняли во фрейдизме, а психоаналитиков — в троцкизме. «Конечно, смешно, Егор Егорыч, что мы с вами, глубоко штатские люди, думаем разрушить военного министра»,— говорит Андрейшин, неожиданно присваивающий этот высокий чин одному из своих конкурентов в борьбе за Сусанну (365).
Андрейшин показывает нам человеческую нелепость тех, кто, руководствуясь жаждой власти или стремлением выжить, отдавал свои знания и опыт на службу безумным проектам самозванцев. В этом есть разочарованная насмешка над советской интеллигенцией вообще, эмоционально сходная с насмешкой Ильфа и Петрова, но более глубокая. Есть здесь и более специфическое чувство, напоминающее классическое фрейдовское сопротивление, которое испытывают пациенты психоаналитиков и которое могло интересовать автора, знакомого с пациентами кого-то из московских или питерских аналитиков (таковыми были, например, Сергей Эйзенштейн и Михаил Зощенко), а возможно, и. примерявшего на себя эту роль. И, наконец, Иванов, ранние повести которого подверглись ожесточенной идеологической критике за «фрейдизм» “, мог задумать свою жестокую карикатуру как способ идейной реабилитации.
В 1925 году были закрыты Институт и Детский дом-лаборатория, к концу 20-х прекращаются заседания Психоаналитического общества. Но роль психоанализа в большевистском проекте переделки человека на этом не закончилась. В повестке дня новые «гулливерские», как говорил Бухарин, науки — педология и психотехника. К 1929 году, отчитывался лидер педологии Залкинд, в стране вырос новый массовый человек Революционная
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 355
эпоха создала его в кустарном порядке, но побеждает* он изумительно. Необходимо создать массовую психоневрологическую литературу, массовую консультацию, массовый инструктаж1’. А в психоанализе Залкинду пришлось покаяться. «И я продолжал называть свои взгляды фрейдизмом, и это соблазняло „малых сих“». Но теперь порядок восстановлен: «Укрепление диктатуры пролетариата вбивает — и навсегда — осиновый кол в могилу советского фрейдизма» ”. Педологи были уже почти в каждой московской школе. В 1932 году только через систему психотехнических консультаций Наркомтруда было запланировано провести 3 миллиона человек.
Вот о чем догадывался, слушая Черпанова, Егор Егорыч: «здесь производится единственное в своем роде психологическое испытание, более реальное и более ощутимое, чем все затеи доктора Андрейшина» (17).
Несмотря на почти непрерывную иронию автора, его магический кристалл, через который Иванов смотрел на разрушение Москвы (по его словам, через такой же кристалл «Нерон, по преданию, смотрел на пожар Рима»), сохранил все же следы психоанализа. Очевидно, что его идеи интересуют Иванова не только в рамках безумного черпановского проекта, но и сами по себе. Много раз герои романа без ссылок цитируют Фрейда и Адлера; важнее моменты, когда по осознанной воле автора они говорят и действуют таким образом, что напрямую иллюстрируют психоаналитические механизмы. Андрейшин, к примеру, рассказывает явно вымышленную историю о своем героизме на пароходе «Колумб»; а через несколько страниц мы узнаем, что он почему-то ненавидит Колумба и считает его лжецом. В описании его ревнивых подозрений очевидно знание фрейдовских описаний проекции и паранойи. Богаче такими случаями начало романа; к концу аналитическая струя в нем сливается с карнавальными мотивами, которые навеяны чтением скорее Дж. Фрезера, чем Фрейда, и более связаны с размышлениями о русском сектантстве, чем о советском психоана-20*
356
Глава 7
лизе. Таков сон Егора Егорыча о петухе: петух несется по Москве; его преследует вся компания; «гуманисты»,— насмешничает Савелий; наконец, петуха кастрирует Андрейшин; «а не глава ли он какой-нибудь мистической секты?» — во сне догадывается Егор Егорыч; и вот петуха окружают, почтительно склоняются перед ним, и его гребень превращается в треуголку Наполеона. Иванов и здесь опирается на исторический материал: после войны 1812 года в Москве была открыта секта, считавшая Наполеона новым Христом; а может быть, воображением писателя владела «Сказка о золотом петушке»...
Несмотря на свою сложность и видимую небрежность, роман «У» читается как чрезвычайно интересный документ своего времени. Он раскрывает эпоху со стороны, неожиданной для историка и вовсе неизвестной литературоведу. В курсах русской литературы забытый роман Иванова будут рассматривать наравне с прозой Булгакова, Платонова, Зощенко. Виктор Шкловский так оценивал «У»: «необыкновенно сложно написанная вещь <...> Стиль книги блистателен, но непривычен <...> То, что писал Всеволод, было истиной» “ Но все же роман этот, как, впрочем, и любой текст литературы, интересен не тем, что рассказывает правду об авторе и о его времени, а тем, что рассказывает правду о читателях и о нашем времени. Как с полной ясностью писал, играя с Прустом, Иванов: «Участь романиста — не поиски времени, как утверждает классик и туча его подражателей, а проецирование теперешнего состояния вашего сознания на прошлое» (291).
В финале романа Черпанова убивают, а дядю Савелия, Сусанну и остальных арестовывают. На свободе только Андрейшин и Егор Егорыч. Андрейшин собирается делать психоаналитический доклад о том, о чем, собственно, и написан роман. Он продолжает любить и надеяться на переделку человека: «ее заберут в колонию, она узнает о моем докладе и увидит мою волю и будет перевоспитана. Я женюсь на ней»,— мечтает он о перерожденной Су
«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман 357
санне. «Как можно любить такое отвратительное явление?» (476),— удивлялись его пациенты...
А Андрейшин с Егор Егорычем «шли вечерней Москвой. Она была пленительна».
Примечания
К предисловию
' Опубликована и предположительно датирована в: Обат-нинГ. В. Из материалов Вячеслава Иванова в рукописном отделе Пушкинского дома // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1991 год. СПб.: Академический проект, 1994. С. 45.
2 Цветаева М. Поэт и время // Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 5. С. 333; Здесь и далее в цитатах курсив принадлежит авторам приводимых фрагментов, разрядка — мне.
К главе 1
Журнальный вариант см: Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 76—106.
1 Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов. Казань: тип. Императ, ун-та, 1882. С. 16.
2 Захер-Мазох Л. Пророчица // Нива. 1880. № 3—6.
’ Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Захер-Мазох Л. Венера в мехах. М.: Культура, 1992. С. 189—313-
4 Там же. С. 212.
’ Обзор подобных трактовок и обсуждение их применимости к анализу культуры русского авангарда см.: Смирнов И. П. Садоавангард // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Sbd. 31. S. 289—325. Психоаналитическое обсуждение гипотезы об особом сродстве «русской души» с «моральным мазохизмом» см. Rancour-Laferriere D. The Slave Soul of Russia. Moral Masochism and the Cult of Suffering. New York University Press, 1995.
6 Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л.: Советский писатель, 1987. С. 177.
7 В «Поэме без героя» тему продолжает «Черно-белый веер» этой героини, в котором читается другая метафора ее внутренней амбивалентности, доводящей героя до самоубийства.
Кглаве 1
359
Вполне вероятно, что Ахматова обсуждала подобные проблемы с Лидией Гинзбург, прежде чем изложить «сложнейшие и глубочайшие вещи <...> в двух строчках»: Ахматова А. Проза о поэме // Ахматова А. Сочинения: В 2 т. М.: Панорама, 1990. Т. 2. С. 259.
“ Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Бентам И. Избранные сочинения. СПб., 1867. Т. 1.
’ БлокА. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1961. Т.4. С. 169-171.
10 В его «Приглашении к путешествию»: Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Высшая школа, 1993- С. 207.
11 Ерофеев В. Маркиз де Сад садизм и XX век // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М.: Советский писатель, 1990. С 227.
12 Fourrie Ch. Le nouveau monde amoureux; цит. no: Heller L. A la recherche d’un nouveau monde amoureux: 1’utopie russe et la sexualite // Revue des etudes slaves. 1992. Vol. 64. № 4. P. 585.
” Такие идеи подмечал у Сен-Мартена Ю. М. Лотман (Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 51) и у немецких масонов М. Вайскопф (Сюжет Гоголя. М.; Радикс, 1993- С. 501).
24 Тукалевский В. Н. Н. И. Новиков и И. Г. Шварц // Масонство в его прошлом и настоящем. Под ред С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Задруга, б/д. С. 202.
” Foucault М. Discipline and Punish. Birth of the Prison. London, 1977; см. также: Foucault M. The Eye of Power // Foucault M. Power/Knowledge. New York: Pantheon, 1980. P. 146—165.
16 Пыпнн A. H. Русские отношения Бентама // Вестник Европы. 1869 № 2. С. 784—819, № 4. С 730—788.
17 MaistreJ. de. Quatre chapitres sur la Russie. Цит. no: Berlin I. Joseph de Maistr and the Origins of Fascism // Berlin I. The Crooked Timber of Humanity. New York: Alfred A. Knopf, 1991. P. 153.
” Naarden B. Marx and Russia // History of European Ideas. Vol. 12. № 6.1990. P. 783—797.
19 Плотников H. С., Колеров M. А. Макс Вебер и его русские корреспонденты // Вопросы философии. 1994. № 2. С. 74— 78.
211 Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.
21 Benjamin W. Moscow Diary // October. 1985. 35- P. 18.
22 Майдель P. фон. О некоторых аспектах взаимодействия антропософии и революционной мысли в России // Учен. зап.
360
Примечания
Тарт, ун-та. 1990. Вып. 917 (=Блоковский сборник. XI). С. 67— 81.
23 Майрннк Г. Ангел Западного окна. Пер. Владимира Крюкова. СПб.: Terra Incognita, 1992.
24 Захер-Мазох Л. Венера в мехах; Демонические женщины. М.: Республика, 1S>93- С. 314.
23 Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 1.С. 58.
26 Захер-Мазох Л. Венера в мехах; Демонические женщины. С 306.
27 Предисловие к: Захер-Мазох Л. Галицийские повести //Дело. 1876. № 10. С. 209.
м Захер-Мазох Л. Федосья // Наблюдатель. 1888. № 12. С. 466-471.
29 Захер-Мазох Л. Битва под Гдовом // Наблюдатель. 1888. № 12. С. 460-466.
30 Предисловие к: Захер-Мазох Л. Галицийские повести. С. 209.
31 Там же. С. 210.
32 Языков Н. Утратились ли идеалы? // Дело. 1877. № 6. С. 32— 55.
33 Захер-Мазох Л. Идеалы нашего времени. М., 1877.
34 Языков Н. Утратились ли идеалы? С. 33.
33 Там же. С 52,55.
36 Михайловский Н. Палка о двух концах // Отечественные записки. 1877. №7. С. 277—304. . ..
37 Там же. С 287. t 1 < ;1 >
* Там же. С. 284.
” Там же. С. 291. ' >
40 Захер-Мазох Л. Венера в мехах; Демонические женщины. С. 309.
41 О «застываниях» у Мазоха см.: Делез Ж. Представление Захер-Мазоха.
42 Захер-Мазох Л. Душегубка // Приложение к газете «Свет». Кн. 11, ноябрь СПб, 1886; он же Завещание Каина; Галицийские рассказы. М, 1877; он же. Пророчица.
43 Эту формулировку см.: Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993- С. 245—259 (первая публикация — в 1989 г.); ср. ЭткиндА. Эрос невозможного: История психоанализа в России. С. 117—121.
44 Показания И. Ф. Чуркина; цит. по: Реутский. Люди божьи и скопцы. М.: тип. Грачева, 1872. С. 58.
43 Высоцкий Н. Г. Первый скопческий процесс. М.: печатня А. И. Снегиревой, 1915. С. 220.
К главе 1
361
44 Мельников П. И. Правительственные распоряжения, выписки и записки о скопцах до 1826 года: Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей: Отдел третий // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1872. Кн. 3. Отд. 5. С. 307.
47 Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А. П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. №1.0 39.
44 Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества. Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича. Вып. 3. СПб., 1908. С. 129.
49 Старокотлицкий Н. И. К вопросу о воздействии полового инстинкта на религию (в связи с описанием случая религиозно-эротоманического помешательства) // Журнал невропатологии и психиатрии им. С С. Корсакова. 1911. №2—3. С 284.
90 Леонид, архимандрит. Изъяснение раскола, имянуемого христовщина или хлыстовщина // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1874. № 3- С 70.
91 Писемский А. Ф. Собрание сочинений: В 9 т. М.: Правда, 1959-Т 8. С 85.
92 Cohn N. The Pursuit of the Millennium. London: Seeker and Warburg, 1957.
99 Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России. М.: тип. А. И. Мамонтова, 1869. С. 228, 279. Мельников подтверждал достоверность рассказа Гакстгаузена: Мельников П. И. Белые голуби // Русский вестник. 1869. № 3. С. 3.
94 Захер-МазохЛ. Душегубка. С. 167.
99 Там же. С. 106.
96 Там же. С 155,200, 194.
97 Там же. С. ПО.
94 Там же. С. 125. q>,
99 Березкин Д. М. Во тьме вековой: Повесть и рассказы из бевга хлыстов, скопцов и бегунов. СПб: т-во «Общественная поаь-за», 1905. G 90. :
" Там же. С 27.
61 В недавней статье Рената Дёринг-Смирнова впервые, насколько мне известно, указала на сходство сюжетных линий между романами Захер-Мазоха и «Серебряным голубем»: Doring-Smirnov R. Сектантство и литература («Серебряный голубь» Андрея Белого) // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. 2. Russian Culture in Modern Times. Berkeley: University of California Press, 1994. P. 191—199.
“ Барт P. Удовольствие от текста // Барт Р. Избранные работы: Семиотика; Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 462—518.
362
Примечания
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
Сологуб Ф. Цикл «Из дневника» (Неизданные стихотворения). Публ. М. М. Павловой // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1990 год. СПб.: Академический проект, 1993. С.145.
Павлова М. М. Из творческой предыстории «Мелкого беса» (Алголагнический роман Федора Сологуба) // De visu. 1993-№9. С. 31.
Сологуб Ф. Цикл «Из дневника». С. 134-
Новополин Г. С. Порнографический элемент в русской литературе. СПб., 1909. С. 187.
М. М. Павлова (Из творческой предыстории «Мелкого беса». С 46) указывает на сходство функций сна в «Венере в мехах» и в «Мелком бесе»; в обоих случаях персонажи узнают о перверсивном желании из сновидения, которое затем осуществляется наяву.
Блок А. Собрание сочинений. Т. 4. С. 129.
Там же. С. 143.
Тамже. С. 163. •*- Ф • £ 1
Тамже. С. 134. '<'>
Там же. С. 144. ' "
Подробнее см.; Эткинд А. Русская мистика в прозе Александра Блока // Studia Slavica Finlandesia. Helsinki, 1994. С. 21—76.
См. Приходько И. С. Мифопоэтика «Песни судьбы» А. Блока // Известия АН СССР. Сер. яз. и лит. 1993. Т. 52. № 6. С 38—51; Борисова Л. М. Кризис символизма и творческая эволюция Блока-драматурга // Филологические науки. 1994. №2. С. 13-23.
Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 281, 285.
Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж: La presse fibre, 1980. С. 52.
Андрей Белый и антропософия. Публ. Д. МаЛьмстада // Минувшее. 6. 1988. С. 380.; впрочем, по словам осведомленного Николая Валентинова, Ася Тургенева вообще никогда не была женой Белого «в том смысле, какой обычно вкладывается в это слово» (Валентинов Н. Два года с символистами. Под ред. Г. П. Струве. Stanford: The Hoover Institution, 1969- С. 15). Цветаева М. Сочинения. Т. 2. С. 244.
Там же. С. 246—247.
О. Э. Мандельштам в записях дневника и переписке СП. Каблукова // Мандельштам О. Камень. Л.: Наука, 1990. С. 256.
hi' г к. 1
К главе 1
363
81 Мандельштам О. Сочинения: В 2-х т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 374. Оригинал в альбоме Анны Радловой — РО ИРЛИ. Р. 1. Оп. 42. Ед. хр. 68.
82 Впрочем, связь этого портрета с Радловой и даже само посвящение ей «Форели» небесспорны; посвящение см., например, в: Кузмин М. Арена. Избранные стихотворения Под ред. А. Г. Тимофеева. СПб: Северо-Запад, 1994.
м Захер-Мазох Л. Галицийские повести. С. 209—261.
81 Блока. Собрание сочинений. Т. 4. С 141; тема женского вампира у Блока осталась без внимания в: Баран X. Некоторые реминисценции у Блока: вампиризм и его источники // Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. М.: Прогресс, 1993. С 264-283.
” Захер-Мазох Л. Галицийские повести. С. 249.
88 Там же. С 261.
87 Джон Мальмстад и Геннадий Шмаков точно характеризуют жанр «Второго удара» как «готическую сцену» (MalmstadJ. Е., Shmakov G. Kuzmin’s «The Trout Breaking through the Ice» // Russian Modernism. Culture and the Avant-Garde. 1900—1930. Ithaca: Cornell University Press, 1976. P. 148.
88 В комментариях к «Форели» обычно отмечают, что возглас «Гайда, Марица!» содержится в одной оперетте Кальмана, на которую Кузмин писал в 1925 году рецензию; оставаясь вне контекста, такое объяснение мало что прибавляет к пониманию смысла «Форели». Б. М. Гаспаров [Гаспаров Б. Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме «Форель разбивает лед» // Wiener Slavistischer Almanach. 1989- Bd. 24. (=Studies in the Life and Work of Mixail Kuzmin). S. 87] находит здесь семантику женского образа «Форели», сближая Марицу с Мадонной.
89 Однако у Гоголя на Карпатах происходит только финальная месть колдуну; главный же сюжет, включающий встречу двух мужчин и их борьбу из-за женщины, развертываются на Днепре. В «Страшной мести» нет и важных деталей «Гайдамака» и «Форели» — вампира, отмены мести, Каина, цветовой символики.
’° См. Гаспаров Б. Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме «Форель разбивает лед» //Wiener Slavistischer Almanach. 1989-Bd. 24. S. 83—114.
91 По выражению Геннадия Шмакова, «портрет женской разрушительной красоты»; а оригиналом была Радлова, талантливая и безумная переводчица Шекспира» — Шмаков Г. Михаил Кузмин и Рихард Вагнер // Wiener Slavistischer Almanach.
364
Примечания
1989- Bd. 24. (“Studies in the Life and Work of Mixail Kuzmin). S. 37.
” Русский перевод см. в кн.-. Захер-Мазох Л. Венера в мехах; Демонические женщины.
” Такое понимание «Форели» расходится с чтением, которое предложено в работе: Паперно И. Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция // Wiener Slavistischer Almanach. 1989. Bd. 24. (“Studies in the Life and Work of Mixail Kuzmin). S. 57—82. Cp.: Дорончеиков И. А. «...Красавица, как полотно Брюллова» (о • некоторых живописных мотивах в творчестве Михаила Кузмина) // Русская литература. 1993- №4. С. 158—175. Отмечу, что экзотический сюжет, который Паперно прочитывает в ♦Форели», а именно дуэль между гомосексуальными любовниками из-за женщины, был описан, вне видимой связи с Пушкиным, в повести А. Григорьева «Другой из многих» (1847); см.; Григорьев А. Сочинения: В 2 т. Сост. Б. Ф. Егорова и А. Л. Осповата. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 420—511. Как и самого Кузмина, младшего из героев повести даже сравнивали с Антиноем (с. 425). Повесть Григорьева была напечатана в малодоступном издании и не переиздавалась; но с учетом интереса к Григорьеву, который был свойственен, например, позднему Блоку, эта параллель достойна исследования. Я благодарен Александру Осповату за указание, в другой связи, на эту повесть Григорьева.
** О хлыстовских мотивах в лирике Кузмина см..- IvaskG. Russian Modernist Poets and the Mystical Sectarians // Russian Modernism. Culture and the Avant-Garde. 1900—1930. Ithaca: Cornell University Press, 1976. P. 85—106. Об увлечении хлыстовскими идеями в кругу Кузмина 1920-х годов см.: Никольская Т. Тема мистического сектантства в русской поэзии 20-х годов XX века // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1990. Вып. 883- Тарту, 1990; Никольская Т. Поэтическая судьба Ольги Черемшановой // Лица: Биографический альманах Феникс-Atheneum, 1993. Т. 3. С.40—82.
” Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке. Публ. Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова // Блоковский сборник. <1>. Труды научи, конф., посвящ изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 г. Тарту, 1964. С. 393; Сто-юнннаЛ. А. «Так жили поэты...» // Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л.: изд-во ЛГУ, 1989-С. 178—180.
96 Там же. •'
К главе 1
365
97 Алексий, епископ сумский. Шелапутская община // Русский вестник. 1904. № 10. С. 715; в этой статье описываются наряду с кружениями и «духовным браком» социалистические начала жизни общины шалопутов — «общая касса», «братские суды» и т. д.
99 Ср.: Гаспаров Б. Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме «Форель разбивает лед». S. 92. В этой версии тема крови в ♦Форели» связывается с большевистской мифологией бессмертия в духе А. А. Богданова.
99 Письма Александра Блока к Е. П. Иванову. М.; Л., 1936. С. 109.
100 Блок А. Собрание сочинений. Т. 5. С. 183- Позднее эту идею повторит Б. Эйхенбаум (О прозе М. Кузмина // Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. Л., 1924. С. 196).
101 Cheron G. Неизвестные тексты М. А. Кузмина // Wiener Slawistischer Almanach. 1984. Bd. 14. S. 365—370.
102 Впервые, видимо, в: Cheron G. Kuzmin’s «Forel razbivaet led»: the Austrian Connection // Wiener Slawistischer Almanach. 1983. Bd. 12. S. 107—110.
““МайринкГ. Ангел Западного окна. Интересно, что почти одновременно с Кузминым в Ленинграде романом Майринка заинтересовался Вячеслав Иванов в Риме: см. В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров. Публ. В. Сапова // Вопросы литературы. 1994. № 2. С. 307.
,<ч МайринкГ. Ангел Западного окна. С.328. Подробнее об этом мотиве у Блока см. далее.
Цветовая символика Кузмина в «Форели» тонко проанализирована Гаспаровым в соотнесении с цветами блоковской «Незнакомки». См. его статью «Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме „Форель разбивает лед“». С 101—102.
‘‘"За хер-Мазох Л. Галицийские повести. С. 261.
107 Богомолов Н. А. Вокруг «Форели» // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 210, см. также.- Богомолов Н. А. «Отрывки из прочитанных романов» // Новое литературное обозрение. № 3-1993. С. 133—142.
,МВ романе Майринка нет Карпат, нет и богемского вампира, Каина, острога, кровной мести и ее отмены — всего того, что объединяет «Второй удар» и «Гайдамака».
109 Богомолов Н. А. Вокруг «Форели». С. 208.
“’Петровские аллюзии этого ботика подметил Гаспаров: Гаспаров Б. М. Еще раз о прекрасной ясности: эстетика М. Кузмина в зеркале ее символического воплощения в поэме ♦Форель разбивает лед». С. 88.
366
Примечания
111 Ср..- Тимофеев А. Г. «Память» и «археология»-«реставрация» в поэзии и «пристрастной» критике М. А. Кузмина // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1990. Вып. 881. (=Блоковский сборник. X). С. 101-115.
112 Кузмин М. Лицом к лицу // Жизнь искусства. 1921.9—14 августа.
1,3 Блок А. Собрание сочинений. Т. 4- С. 135.
114 О значении этой проблемы для старообрядческой традиции см.: Успенский Б. Раскол и культурный конфликт XVII века И Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 90-129.
“’Ср «Стихи о розе» Вяч. Иванова и особенно выразительно: СкалдинА. Затемненный лик (По поводу книги В. В. Розанова «Метафизика христианства») // Труды и дни. М..-Мусагет, 1913. 1—2. С. 108—109. В рецензии Скалдина гимн розе наделяет ее множеством мистических функций (например, ей уподобляется пол Богоматери); в подтверждение Скалдин апеллирует к Блоку. Вина Розанова в том, что он не видит этих значений «как бы в насмешку над своей фамилией», которая, таким образом, тоже подвергается метафори-зации (с. 90).
‘“Жирмунский В. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. Теория литературы; Поэтика; Стилистика. Л.: Наука, 1977. G 109.
“’Это понятие используется в смысле Элиаса; см. Ellias N. The Civilizing Process. Vol. 1—2. Oxford: Basil Blackwell, 1978—1982.
*“См. Якобсон А. Конец трагедии. Нью-Йорк: изд-во им.Чехова, 1973-
‘“Лавров А. «Другая жизнь» в стихотворении А. Блока «Было то в темных Карпатах...» // Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 357. Надо отметить, что Андрей Белый однозначно связывал это стихотворение Блока со ♦Страшной местью» Гоголя, делая отсюда вывод о «мании преследования», свойственной обоим; см. Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л.: ОГИЗ, 1934. С. 297.
‘“Роман Стокера «Дракула» вместе с его немецкой экранизацией Ф. В. Мурнау «Носферату — симфония ужаса» составляет вероятный источник карпатской темы у Блока и Кузмина. Вместе с тем «Дракула» в любой из своих версий достаточно далек от выразительных деталей «Второго удара», чтобы имело смысл всерьез рассматривать и иные подтексты. О значении «Дракулы» для Блока см.: Баран X. Некоторые реминисценции у Блока. На «Носферату» как источник Кузмина указывает И. Паперно (Двойничество и любовный треугольник:
К главе 2
367
поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция. С. 73); фильм этот, однако, не упоминается в числе тех, которые фигурируют в дневнике Кузмина (см. Ратгауз М. Г. Куз-мин-кинозритель // Киноведческие записки. 1992. №13-С 52—86). Впрочем, мифологический сюжет «Дракулы» (сегодня оживленный фильмом Копполы, который справедливо подчеркивает славянское происхождение легенды) издавна знаком русской традиции; см. Амфитеатров А. Одержимая Русы Демонические повести XVII века. Берлин: кн-во ♦Медный всадник», 1928; Повесть о Дракуле. Исследование и подготовка текста Я. С. Лурье. М.; Л.: Наука, 1964.
‘“Тименчик Р. Д., Топоров'В. Н., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978. Vol 6. № 3- Р. 213—303; Топоров В. Н. Ахматова и Блок. Berkeley: Slavic Specialties, 1981.
Кглаве 2
Журнальный вариант см.: Октябрь. 1994. № 8. С. 162—188.
1 Стихи Катулла отражают эллинистический миф, проникший в Рим во II веке до н. э.; см.: Тахо-Годи А. А. Аттис // Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 123— 124. Реконструкция мифа об Аттисе (со ссылками на гностические тексты, часто довольно темными) стала одной из центральных идей в книге Мережковского, суммирующей мифологию Серебряного века: Мережковский Д. Атлантида — Европа. Тайна Запада. Белград, 1930 (републикация: М.: Русская книга, 1992).
2 Переводы «Аттиса» см.: Стихотворения Катулла в переводе и с объснениями А. Фета. М.: тип. А. И. Мамонтова, 1886. С. 69—75; а также переводы А. И. Пиотровского и С. В. Шервинского в кн.: Катулл. Книга стиховорений. М.: Наука, 1986.
’ Блок цитируется по изданию: Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.; Л., ГИХЛ, 1960—1963. Первая цифра в круглых скобках указывает том, вторая — страницу.
4 Перевод С В. Шервинского (Катулл. Книга стихотворений. С 52).
’ Кастрационные мотивы находят у довольно разных писателей, например, у Бодлера (Bersani L. Baudelaire and Freud. University of California Press, 1977), Бальзака (БартР. S/Z. M.: Культура, 1993) или у Пушкина (Смирнов И. П. Кастраци-онный комплекс в лирике Пушкина // Russian Literature. 1991. Vol. 29. Р. 205—228). В этих психоаналитически ориентированных исследованиях кастрация понимается как нечто
368
Примечания
обобщенно-метафорическое: например, любая помеха в сексуальном контакте, любое расчленение тела (Bersani) или лишение любого значимого признака (Смирнов). В настоящей работе, однако, кастрация понимается прежде всего в ее буквальном и физическом смысле — так, как она понималась скопцами, а не психоаналитиками.
6 Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л.: Советский писатель, 1981. С. 435.
7 Блок А. и Белый А. Переписка // Летописи Государственного литературного музея. Кн. 7. М., 1940. С. 340.
• Эйхенбаум Б. Судьба Блока // Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. Л., 1924; reprinted: Mouton: Gravenhage, 1962. С. 229.
* Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М.: Высшая школа, 1993. С. 224.
'° Гуковский Г. А. К вопросу о творческом методе Блока // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1. М..- Наука, 1980. С. 76.
11 Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 189-
“ Максимов Д. Е. Об Анне Ахматовой, какой помню // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Художественная литература, 1991-С. 102.
13 Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 480.
14 Минц 3. Г. Блок и русский символизм // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1. С 153-
” Например, Громов П. А Блок: Его предшественники и современники. Л.: Советский писатель, 1986. С 528.
“ Мочульский К. Александр Блок. Париж: YMCA-Press, 1948. С. 414.
17 PymanA. The Life of Alexander Blok. Oxford University Press, 1980. Vol. 2. P. 304-305.
” Якобсон А. Конец трагедии. Вильнюс; Москва.- Весть. 1992 (впервые: Нью-Йорк: изд-во им.Чехова, 1973) С. 75—78.
” Там же. С. 76.
20 HackelS. The Poet and the Revolution: Alexandr Blok’s «The Twelve». Oxford at the Clarendon Press, 1975.
21 Минц 3. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Учен зап. Тарт. гос. ун-та. 1981. Вып 535 (=Блоковский сборник. IV).
22 Изттереписки А. Блока с Вяч. Ивановым. Публ. Н. В. Котрелева // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 41. № 2.
23 См:. Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987. Публ. Н. В. Реформатской; В. Д. Пришвиной; В. В. Круглеевской и Л. А Рязановой. С. 322—338.
24 Письма Н. А. Клюева к Блоку. Вступ. ст., публ. и коммент. К. М. Азадовского // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 427-523.
К главе 2
369
25
26
27
2Я
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ЗН
39
40
41
42
43
44
45
Блок и П. И. Карпов. Вступ. ст., публик. и коммент. К. М. Аза-довского И Александр Блок: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. С 234—291.
Ибсен Г. Катилина. Драма в трех действиях. Перевод А. и П. Ганзен. М.: издание С. Скирмунта, 1906. С. 17.
Там же. С. 111.
Минский Н. Ибсен // Энциклопедический словарь. СПб: издание И. А. Ефрона, 1894. Т. 12. С. 747.
Белый А. Ибсен и Достоевский; Кризис сознания и Генрик Ибсен И БелыйА. Арабески. М.: Мусагет, 1911. С.91—100; 162—210.
БлокА. Записные книжки. М.: Художественная литература, 1965. С. 402.
Тамже. С. 407.
Там же. С. 403-
Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924. С. 21—22; слово «экстаз» употреблялось в религиозном смысле, и часто в весьма специальном; см. бывшую в библиотеке Блока книгу: Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908.
Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. С 69—71.
Nivat G. Alexandre Blok // Histoire de la litterature russe. Le XX circle. L’Age d’Argent. Paris: Fayard, 1987. P. 135.
Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке. Публ. Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова // Блоковский сборник. <1>. Труды науч, конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А Блока. Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1964. С. 383.
Там же. С. 385.
Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3- С. 417.
Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда. 1990. С. 135-136.
Там же. С 308.
Воспоминания и записи Евгения Иванова об Александре Блоке. С. 372.
Блок Л. Д. Были и небылицы. Studien und Text. 10. Bremen, 1977. С. 11.
Павлович Н. А. Воспоминания об Александре Блоке // Блоковский сборник. <1>. Труды науч, конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту: Тарт. гос. ун-т, 1964. С. 461.
Письма Александра Блока к родным. Л.: Academia, 1932. Т. 2. С. 400.
Блок А. Записные книжки. С. 402.
370
Примечания
* PymanA. The Life of Alexander Blok. Vol 2. P. 147; NivatG. Alexandre Blok. P. 135,150.
” Чуковский К. Последние годы Блока // Записки мечтателей. 1922.6. С. 155-183.
* Блок А. Записные книжки. С. 309. >•. -и
* * Там же. С. 396.
" Там же. С. 402.
51 Перевод А. И. Пиотровского (Катулл. Книга стихотворений. С. 138).
52 Врубель М. Письма к сестре. Л., 1929. С. 166.
” Анненский И. Избранные произведения. Л.: Художественная литература, 1988. С. 171.
w См.: Долгополов Л. Достоевский и Блок в «Поэме без героя» Анны Ахматовой // В мире Блока. М.: Советский писатель, 1981. С. 465; ТименчикР.Д. Блок и его современники в «Поэме без героя»: Заметки к теме // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1989- Вып. 857 (=Блоковский сборник. IX.) С. 118.
” Воспоминания и записи Евгения Иванова. С 390. Загадка связи Лермонтова с двоеверием становится более понятной в свете «Апокалиптической секты» Розанова, бывшего родст-- венником Е Иванова. Розанов всерьез объявлял Лермонтова > «не осознавшим себя хлыстом», а его поэзию — «лучшим вве-дением в хлыстовство» (Розанове.В. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). СПб., 1914-С. 182].
₽ Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым. С. 168.
*’ Ср. исторический рассказ о жрецах Кибелы, который мог быть доступен Блоку: «После кастрации кандидаты навсегда облекались в женское платье» (Кутепов К Секты хлыстов и скопцов. Казань: тип. Императ, ун-та, 1882. С. 100).
“ЛавровА.В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме И Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 года. Л.: Наука, 1980. С. 59-
* Павлович Н. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 484.
“ Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. С. 40.
“ Мерин — холощеный жеребец; см.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 321. М., 1955. Оскоплен-ность этого коня дублирована в цветовой символике. «Подо мной была крупная серая лошадь, мерин в яблоках»,— пишет Блок (6/44); между тем поэт приезжал к невесте «верхом на белом коне» (Блок Л. Д. Были и небылицы. С. 32; тоже в стихах самого Блока.- «Высокий белый конь, почуя...»). У русских скопцов общепринятым названием кастрации было: «сесть на пегого коня» (например: Пеликан Е. Судебно-медицинские исследования скопчества и исторические све
К главе 2
371
дения о нем. 4.2. СПб.: печатня В. И. Головина, 1872. С. 5). «Пегий» в применении к коню значит: с большими белыми пятнами (Словарь русского языка XI—XVII вв. Т. 14. М., 1988. С. 185; в современных словарях — то же).
“ Пильд Л. Л. Из творческих связей Ал. Блока и А. Белого в период «Распутий» И Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1985. Вып. 680 (=Блоковский сборник. VI). С. 48.
63 Блок А. Записные книжки. С. 403.
64 Высоцкий Н. Г. Первый скопческий процесс. М.: печатня А. И. Снегиревой, 1915. С. 257.
63 КельсиевВ. Святорусские двоеверы // Отечественные записки. 1867. Кн. 2. № 10. С. 599-
“ Чулков Г. Сатана. М.: Жатва, 1915. С. 95.
” Клюев Н. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1982. С. 461.
“ Любкер Фр. Реальный словарь классической древности. СПб.; М.: издание М. О. Вольф, 1888. С. 918.
и Павлович Н. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 479-
70 Бакунин М. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, _ 1896. С. 494.
71 «Уловить дыхание жизни» значило «увидеть лицо и тело» (5/444); ср. настойчивый мотив «мускулатуры» в его письмах матери. «Символистским позитивизмом навыворот» назвал это явление впервые, кажется, отметивший его у Блока Гуковский (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 78).
72 Памяти Александра Блока. СПб: Вольфила, 1922. С. 30.
73 «Наше перерождение неразрывно связано с перерождением вселенной, с преобразованием ее форм пространства и времени» (Соловьев В. Смысл любви // Соловьев В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 540). Эта формула была общим местом в соловьевской традиции; ср. впечатления Сергея Соловьева от поездки в Шахматове накануне свадьбы Блока: ♦ночь, почти выходившая из границ мира времени, пространства и причинности» (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 368. См. также: Минц 3. Г. Блок и русский символизм. С. 159).
74 Иную точку зрения на «катастрофическое и безрелигиозное мировосприятие Блока» см.: Иванова Е. В. К спорам вокруг статьи А Блока «Крушение гуманизма» // Славянские литературы: X Международный съезд славистов. М.: Наука, 1988. С. 192—201.
” Белый А. Фридрих Ницше // Весы. 1908. 7—9; цит. по: Белый А. Символизм и миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 180.
372
Примечания
76 Shapovalov V. From «White Doves» to «The Silver Dove»: Andre} Belyj and P. I. Mel’nikov-Pecerskij // Slavic and East European Journal. 1994. Vol. 38. № 4. P. 591—602.
77 Литературное наследство. T. 92. Кн. 3. С. 251.
” Там же. С. 88.
” Белый А. Начало века. М.: Художественная литература, 1990. С. 377.
" Тамже.
*' Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 68.
“ Белый А. Настоящее и будущее русской литературы // Весы. 1909. 3- С. 79—80; Белый А. Поэзия Блока // Ветвь-. Сборник клуба московских писателей. М., 1916 (также в книге: Белый А. Избранная проза. М.: Советская Россия, 1988. С. 281 — 296). «Сближение лирического мира Блока с миром сектантства и Прекрасной Дамы с „хлыстовской Богородицей" принадлежит к самым глубоким интуициям критика-Белого»,— замечал по этому поводу К Мочульский (Александр Блок. С. 109-110).
” Городецкий С. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 338; ср. письмо Блока к А. А. Городецкой (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 57).
w Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3- С. 402.
” Письма Н. А. Клюева к Блоку // Литературное наследство. Т.92. Kh.4C.441.
“ Там же. С. 462.
" Азадовский К. Письма Н. А. Клюева к Блоку // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. Азадовский К. О «народном» поэте и «святой Руси» («Гагарья судьбина» Николая Клюева) // Новое литературное обозрение. 1993. № 5. С. 88—103.
“ Форш О. Сумасшедший корабль // Форш О. Летошний сиег. М..- Правда, 1990. С. 180.
” Berlin I. The Counter-Enlightenment // Berlin I. Against the Current. Essays in the History of Ideas. London: Hogarth, 1979-P. 1-24.
Жирмунский В. Религиозное отречение в истории романтизма. М.: издание С. И. Сахарова, 1919. С. 203-
” Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1913. Сравнительный анализ этих идей Розанова и Фрейда см: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. С. 50—55.
” Розанов В. В. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы).
” Азадовский К. Письма Н. А. Клюева к Блоку. С.434.
” Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 67.
Кглаве 2
373
99 Там же. С. 614.
* Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 139.
97 Там же.
* Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Учен, зап. Тарт. гос. ун-та. 1979- Вып.459- (=Блоковский сборник. III). С. 130.
” Там же.
100 Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3- С. 113.
101 Белый А. Начало века. С. 160.
102 Пришвин М. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 8. С. 63.
103 Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3- С. 340. >
“* Письма Александра Блока к родным. Т. 1. С 236.
"°’Пришвин М. Собрание сочинений. Т. 8. С. 38.
’“Там же. С. 39.
107 Минц 3. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими. G 179-"“Письма Александра Блока к родным. Т. 1. С. 247.
"°9 Блок А. Записные книжки. С. 131.
‘“Скалдин А. Д. О письмах А. А. Блока ко мне // Письма Александра Блока. Л.: Колос, 1925. С. 181.
‘"‘Там же.
"“Мать настойчиво просила Блока переписать «Клеопатру» (8/225), но он, кажется, отказался.
’"’Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. С. 126,71.
“4 См.: Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd. 27. С. 305.
Станиславский К. С. Собрание сочинений. М., I960. Т. 7. С 415; см. также (4/580).
’"‘Подробнее см.: Эткинд А. Русская мистика в прозе Александра Блока // Studia Slavica Finlandesia. 1974.11. С. 22—76.
1,7 Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 78.
‘“Знакомство Блока со Скалдиным относится к апрелю 19Ю года (8/307), то есть состоялось после того, как «Песня Судьбы» была написана. Вероятно, Скалдин тоже знал «богородицу» (и даже показал в романе: Скаддин А. Странствия и приключения Никодима старшего. Пг.: кн-во Фелана, 1917), но из его записи о разговорах с Блоком не следует, что они посещали ее вместе.
Герцык Е. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973- С. 53.
“° Пришвин М. Собрание сочинений. Т. 2. С 672. Гиппиус была, вероятно, одним из прототипов блоковской Клеопатры (см. MatichO. Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius’ Personal Myth // Cultural Mythologies of Russian Modernism:
374
Примечания
From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 52—72).
’“Tchimichkian S. Extraits de la correspondance Mihail Kuzmin — Georgij Cicerin // Cahiers du Monde russe et sovietique. 15. 1— 2. 1974. P. 170.
122 Секта «Охтенской лже-богородицы» // Миссионерское обозрение. 1913- № 7—8. С. 585.
,2’Цит. по: КлибановА. И. История религиозного сектантства в России. М.: Наука, 1965. С 8.
124 Беляков А. А. Юность вождя. М., 1958. G 57—60.
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 228.
126 Неопубликованное по какой-то причине письмо Ленина Бонч-Бруевичу от 27 ноября 1901 г. пит. по: Крывелев И. А. Ленин о религии. М., I960. С. 132,183-
127 Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. М., 1959. Т. 1. С. 178.
‘“Боич-Бруевич В. Д. Как печатались и тайно доставлялись в Россию запрещенные издания нашей партии. М., 1924. С 22— 40.
’” Бонч-Бруевич В. Д. Значение сектантства для России // Жизнь. Лондон, 1902. С 308.
”°Тамже.
’’’Бонч-Бруевич В. Д. Раскол и сектантство в России // Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. G 184.
”2Там же. С. 322-323.
’’’Там же. С. 327.
154 Бонч-Бруевич В. Д. Среди сектантов // Жизнь. 2. Лондон, 1902. С. 297-298. J
’’’Евреннов Н. Н. Тайна Распутина. Пг.: Былое, 1924.
136 Бонч-Бруевич В. Д. Среди сектантов (статья 2) // Жизнь. 5. Лондон, 1902. С 197—198.
”7 Бонч-Бруевич В. Д. Среди сектантов (статья 3) // Жизнь. 6. Лондон, 1902. G 270.
”* Бонч-Бруевич В. Д. К сектантам (1904) // Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. G 198.
’’’Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 441.
“'"Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. С. 383.
50 000 экземпляров этого обращения были распространены Наркомземом. Один из них сохранился, вместе с рукописью Бонч-Бруевича, в: РО РГБ, ф. 369, к. 39, ед. хр. 1. О реакции крестьян см.: Поповский М. Русские мужики рассказывают. London: Overseas Publications, 1983. Об ожиданиях и экспериментах некоторых сектантских общин после Октябрьской революции см.: Stites R. Revolutionary Dreams. Utopian Vision
К главе 2
375
and Experimental Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989-
142 Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. С. 380.
143 Ср. любопытное место из «Условностей» Михаила Кузмина: ♦дух Руссо, обычно сопутствующий всем добродетельным разрушителям и насильственным печальникам о человечестве» — Кузмин М. Условности. Пг.: Полярная звезда, 1923-С. 156.
144 Замятин Е. Лица // Замятин Е. Сочинения. Т. 4. Мюнхен, 1988. С. 146.
'"Письма Александра Блока к родным. Т. 2. С. 336.
146 Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов. С. 100; по рассказу этого автора, в Сирии существовал культ в честь богини Кибелы, учрежденный Аттисом, который был оскоплен самой богиней за то, что он влюбился в нее; культ этот исходил «из того смутно осознаваемого побуждения, что самооскопление есть дело богоугодное и, следовательно, спасительное» (с. 106). Кутепов прямо вел историю русских скопцов от жрецов Кибелы.
147 Стихотворения Катулла. С. 71 —72.
148 Например: Рождественский Арс., свящ. Христовщина и скопчество в России. М.: издание Общества истории и древностей Российских, 1882.
“’♦Местами хорошо», оценивал он Мельникова-Печерского в письме матери: Письма Александра Блока к родным. Т. 2. G 84.
”° Мельников (Печерский) П. И. Полное собрание сочинений. СПб.; М.: тов-во М. О. Вольф, 1898. Т. 14. С 247.
1,1 Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М, 1915; ранее Корнилов опубликовал серию статей о Бакунине в ♦Русской мысли».
1,2 Письма Александра Блока к родным. Т. 2 С. 282.
’’’Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М.: АН СССР, 1956. Т. 11. С. 542.
’"Тамже. С. 544.
’’’Там же. С. 559; анализ содержательного контекста этих отношений, которые сам Белинский обозначал как «любовь-ненависть», см.: Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Художественная литература, 1977. С. 35—130.
1,6 Kelly A. Michael Bakunin: A Study in the Psychology and Politics of Utopianism. Oxford University Press, 1982; Mendel A. P. Michael Bakunin: Roots of Apocalypse. New York, 1981; Shatz M. S. Michael Bakunin and his Biographers: The Question of Bakunin’s Sexual Impotence // Imperial Russia: 1700—1917. Northern Illinois University Press, 1988. P. 219—240; см. также ранние рабо
376
Примечания
ты в эмиграции: ГульР. Скиф. Берлин: Петрополис, 1931; Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина: К вопросу о психологии бунта. Белград, 1934
1,7 Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 167.
** Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 329.
159Троцкий Л. Литература и революция. Пг., 1922.
‘“Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4 С. 331; Пришвин в этой поздней записи, видимо, путая, называет Легкобытова вождем секты «Новый Израиль», и это повторяют за ним комментаторы. Это неверна Легкобытов был основателем секты ♦Начало века», а вождь петербургского корабля «Нового Израиля» Рябов, по сведениям самого Пришвина (Собрание сочинений. Т. 1. С. 590), считал Легкобытова антихристом.
• “‘ Реформатская Н. В. Блок и Пришвин // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 322—326.
162 Пришвин М. Большевик из Балаганчика (ответ Александру Блоку) //Воля страны. 16. 3—16 февраля 1918-С. 1.
163 Пришвина В. Д. Путь к слову. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 188.
164 Пришвин М. Большевик из Балаганчика (ответ Александру Блоку).
‘“Литературное наследство. Т. 92. Кн. 4. С. 334.
*“Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911—1928). Публ. Ж. Нива. Париж: Синтаксис, 1991. G 37.
“’Там же. С. 42.
‘“Памяти Александра Блока. СПб: Вольфила, 1922.
‘“Булгаков С. Агония // Булгаков С. Христианский социализм. Новосибирск: Наука, 1991. С. 306. Между прочим, эта датировка заставляет поставить под сомнение известные слова Андрея Белого о том, что в «Серебряном голубе», написанном в 1909, он «предсказал» Распутина; см.: Белый А. Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990. G 316, 341.
"° Розанов В. Мимолетное. М.: Республика, 1994. С. 60.
171 Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3- С. 460.
172 Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 318.
173 Это был А В. Кривошеин. Антихристом называл Распутина и министр иностранных дел С. Д. Сазонов: Палеолог М. Распутин. Воспоминания. М.: изд-во «Девятое января», 1923- С. 63,7.
”* Булгаков С. На пиру богов (Pro и contra). Современные диалоги. Киев: Летопись, 1918; цит. по републикации в книге: Булгаков С. Христианский социализм. Новосибирск: Наука, 1991- С 256,265.
‘’’Клюев Н. Песнослов. Петрозаводск: Карелия, 1990. G 95.
176 Там же, с. 128,99.
К главе 2
377
177 Там же. С 114.
Азадовский К. Письма Н. А. Клюева к Блоку. С. 451.
,тоТам же. С. 453- Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 90.
““Стихотворение, цитированное Блоком по памяти, содержит существенное разночтение с обычно публикуемым вариантом: Блок пишет «истока»; у Клюева «истоки». Это искажение полностью соответствует трактовке, которую дает строфе Блок: «истоки разрух» — это все же точно не их исходы.
“* Гумилев пытался развить эти идеи в «Веселых братьях», незаконченной повести, в которой изображена встреча типичного интеллигента-этнографа, бродяжничающего с томиком Ницше и даже «занимавшегося психоанализом» (с.101) — с тайной сектой, которая ставит своей задачей возврат мира к порядкам средневековья. Русская экзотика здесь показана как альтернатива Просвещению, вполне сознающая себя в качестве таковой. Интересная повесть эта, кажется, неслучайно осталась недописанной: ее герои сильно отклоняются от сюжета гумилевского «Мужика» и стремятся скорее в прозу Платонова; и Гумилев, похоже, так и не смог решить, на чьей стороне его интересы — злых, но сильных и веселых братьев или доброго, но беспомощного интеллигента; см. Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2. С. 95— 138.
“ Цит. по: Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2, прилож 5. С 355-358.
183 В церковных кругах перед революцией (из писем архиепископа Антония Волынского к митрополиту киевскому Фла-виану)//Красный архив. 1928.Т.6(31).С.212.
m Коковцов В. Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903— 1919 гг. Париж, 1923 (то же. М.-. Наука, 1992). Кн. 2. С. 41. Интересно, что «друзья» Сергея Булгакова отказались предоставить в Думу материалы, компрометирующие Распутина, и Булгаков одобрял их мотивы — см. Булгакове. Агония. С 307.
“’Корректура статьи для газеты «Свет», собственноручно выправленная епископом Гермогеном 13 июня 1912 (Гуверовский архив, ф. Николаевского, оп. 216, ед. хр. 6).
'“Беседа с Г. Е. Распутиным (Гуверовский архив, ф. Николаевского, on. 129, ед. хр. 2).
'"Розанов В. В. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). Пг„ 1914. С. 206—207.
'“Письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху. Публ. Е. Голлербаха // Звезда. 1993. № 8. С 120.
378
Примечания
“’ШавельскийГ. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк: изд-во им. Чехова, 1954. Т. 1. С 59; интересно, что Шавельский, тонкий и внимательный мемуарист, никак не комментирует замысел оскопления.
Илиодор (Сергей Труфанов). Святой черт. Цит. по републикации в: Житие блудного старца Гришки Распутина. М.: Возрождение, 1990. С. 176—184.
Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества: Отрывки воспоминаний И Лица. з. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 379; см. также письмо Илиодора А. В. Амфитеатрову в: Горький и русская журналистика начала XX века // Литературное наследство. Т. 95. М., 1988. С. 51.
192 Илиодор (Сергей Труфанов). Святой черт. С. 198. Петербургский курьер. 5 июля 1914.
w Блок А. Записные книжки. С. 234.
’’’Тамже.
”*Руманов А. Григорий Распутин (по личным впечатлениям) И Русское слово. 1914.1 июля. № 150.
“"Бонч-Бруевич В. О Распутине //День. 1914.1 июля. № 176.
”“О том, что он говорил, легко судить по его брошюре, в которой юридическая трезвость интересно сочетается с мистическим популизмом: Руднев В. Правда о царской семье и «темных силах». Берлин, 1920; републикация в кн.: Святой черт: Тайна Григория Распутина. М.: Книжная палата, 1990. С. 291-295.
,даВ примечании Вл. Орлова указывается, что Гришка — это Распутин (7/501).
’“Блок А. Записные книжки. С. 193.
“’Феникс. 1922. 1. С 177-178.
“2 Б. Ф. Ливчак, специально занимавшийся этой работой Блока, напрасно приписывает ему возмущение «страшным влиянием Распутина»; эти слова Блока (Записные книжки. С. 334) — всего лишь запись допроса Белецкого; см. Ливчак Б. Ф. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства глазами А. А. Блока // Вопросы истории. 1977. № 2. С. 119-
“’Белецкий С. П. Воспоминания //Архив русской революции. Берлин, 1923 (М.:Терра-Политиздат, 1991). С. 14.
2<и Руднев В. Правда о царской семье и «темных силах». G 283.
“’О влиянии, которое оказывал Булгаков на Блока в последние годы жизни последнего, упоминается в: Pyman A. The Life of Alexandr Blok. Vol. 2. P. 300.
К главе 2
379
’“Булгакове. Человечность против человекобожия: Историческое оправдание англо-русского сближения // Русская мысль. 1917. № 5—6.
“’Лейберов И., Марголис Ю. Романовы, Распутин, их игры // Слово. 1993. № 6. С. 4.
“Гиппиус 3. Живые лица. Тбилиси: Мерани, 1991- Т. 1.
209 Булгаков С. Человечность против человекобожия: Историческое оправдание англо-русского сближения. G 24—25.
2,0 Булгаков С. На пиру богов (Pro и contra) // Булгаков С. Христианский социализм. Новосибирск: Наука, 1991- С 280.
211 Там же. С. 284.
2,2 Тамже.С280. >: =г.- <•.
2,3 Там же. С. 288. о
2И Булгаков С. Агония. С 309- v-m;-s». . '
21’Там же.
216 Юсупов Ф. Ф. кн. Конец Распутина (воспоминания) // Житие блудного старца Гришки Распутина. С. 416.
217 Коковцов В. Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903— 1919 гг. Кн. 2. С. 289.
218 Там же. С 284; ср. очень сходные впечатления духовного лица: Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 1. С. 50—54.
219 Цит. по.-Лейберов И., Марголис Ю. Романовы, Распутин, их игры. С 4.
220 Сперанский В. Н. Исторические свидетели о Распутине: Из бесед с великим князем Николаем Михайловичем // Иллюстрированная Россия. 1932.19. С. 9—11.
221 Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Л.: Наука, 1981. Т. 22. С. 99.
222 Мельников (Печерский) П. И. Полное собрание сочинений. Т. 14. С. 280.
223 Пришвин М. Собрание сочинений. Т. 2. С 583.
224 Булгаков С. Агония. С 306—307.
223 М. А. Новоселов в конфискованной из типографии в 1912 году брошюре рассказывал, как Распутин в принесенные ему книги Соловьева «посмотрел да и сказал-. — Да, человек он хороший... Он свое, а я свое... Но... профессор профессора судить не может» (Рукопись М. А. Новоселова «Григорий Распутин и мистическое распутство» была сохранена Бонч-Бруевичем и передана им А. С. Пругавину; она хранится в Гу-веровском архиве, ф. Николаевского, оп. 129, ед. хр. 1, л. 10.)
’“Булгаков С. На пиру богов (Pro и contra). С 251.
227 Булгаков С. Агония. С 306—307.
380
Примечания
““Там же. С. 309.
229 О раскольничьей или хлыстовской природе Исуса из «Двенадцати» писали П. Флоренский, С Соловьев, М. Пришвин, Ф. Степун. Из новых работ см.: Hackel S. The Poet and the Revolution: Alexandr Blok’s «The Twelve»; Азадовскнй К. Письма H. А. Клюева к Блоку. С. 452.
230 Рассказ Кутепова об Аттисе вводил, между прочим, такие подробности о культе Кибелы: «Жрецы этой богини <„> обязывались собственноручно совершить над собою операцию оскопления. Ампутированные части они обыкновенно полагали на алтарь, и потом, сняв их, бежали в город, где бросали их женщинам» (Кутепов К. Секты хлыстов и скопцов. С. 100).
2,1 Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // Ахматова А. Сочинения. М.: Панорама, 1990. Т. 2. С 18—52; Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145—180.
2,2 Павловичи. А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 463—4б4-
2” Иванов Вс. Возвращение Будды; Чудесные похождения портного Фокина; У. М.: Правда, 1991. С. 267.
234 Парамонов Б. Чевенгур и окрестности // Континент. 1987. 54- С 333—372; Heller L. A la recherche d’un nouveau monde amoureux: i’utopie russe et la sexualite // Revue des etudes slave. 1992. 64.4. P. 583—602.
233 Найман Э. «Из истины не существует выхода»: Андрей Платонов между двух утопий // Russian Studies. 1994. 1. С. 117— 157. Я благодарен Эрику Найману за указание на рассказ «Иван Жох».
“Платонов А. Епифанские шлюзы. М.: Молодая гвардия, 1927. С. 102.
2,7 Цит. по: ФлоровскийГ. Евразийский соблазн // Русская идея. М.: Искусство, 1994. Т. 1, С. 335.
238 Замятин Е. Лица. С. 146.
239 См. об этом: Jensen Р. A. Nature as Code: The Achievement of Boris Pilnjak. Copenhagen: Rosenkilde, 1979-
“Клибанов А. И. Из воспоминаний о В. Д. Бонч-Бруевиче // Записки отдела рукописей ГБЛ. Вып. 44-1983- С. 66—88,73.
241 Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве // Советская этнография. 1954. № 4. С 120.
W2 Ходасевич В. Большевизм Блока (беглые мысли) // Возрождение. 15 ноября 1928.
К главе 3
381
Кглаве 3
1 Ср. впечатляющий перечень исторических изданий, на которые в «Пятой язве» подписан рядовой интеллектуал из провинции: Ремизов А. М. Избранное. Л: Лениздат, 1991. С 331.
2 Мандельштам О. Девятнадцатый век // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4-х т. М..- Терра, 1991. Т. 2. С 280.
3 Тамже.
4 Ходасевиче. Колеблемый треножник // Ходасевич В. Колеблемый треножник. М.: .Советский писатель, 1991. С. 205; интересно, как этот образ застывающей статуи у Ходасевича через десятилетия превратится в образ оживающей статуи у Якобсона; см. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145—180.
’ Раннюю попытку критического анализа см.: Жирмунский В. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. СПб.: Эльзевир, 1922. Наиболее полно восприятие Пушкина в культуре символизма и постсимволизма исследовано в: Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley: University of California Press, 1992.
6 Гаспаров Б. M. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd 27.
7 О Тургеневе см.: Бродский Н. Л. И. С Тургенев и русские сектанты. М.: изд-во «Никитинские субботники», 1922; об интересе Достоевского: Волгин И. Родиться в России: Достоевский и современники. М.: Книга, 1991.
’ Белецкий С. П. Воспоминания // Архив русской революции. Берлин, 1923 (Москва: Терра-Политиздат, 1991). С. 14.
’ ПыпинА. Н. Российское библейское общество // Вестник Европы. 1868. № 12. С. 676—707; его же. Религиозные движения при Александре!. Пг.: Огни, 1916; его же. Очерки литературы и общественности при Александре!. Пг.: Огни, 1917; Богданович М. История царствования Императора Александра! и России в его время. Т. 1—6. СПб.: тип. М. Сушинского, 1869—1871; Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра I. Казань: тип. Императ, ун-та, 1885; ЧистовичИ.А. Очерк из истории религиозного мистицизма в царствование Александра! И Русская старина. 1894. №5. С. 120—134; БуличН.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Т. 1, 2. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 1902; Шильдер Н. К. Император Александр Первый: Жизнь и цар
382
Примечания
ствование. СПб.: издание А. С Суворина, 1904—1905. Т. 1—4; Фирсов Н. Н. Император Александр 1 и его душевная драма: Историко психологический этюд. СПб.: изд. М. О. Вольф, 1910; Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр 1: Опыт исторического исследования. СПб.: Экспед. за-готовл. госуд. бумаг, 1912.
10 М. Покровский, например, находил у Александра «все признаки религиозного умопомешательства» (Большая Советская Энциклопедия. Т. 2. М., 1926. С. 156.)
11 Бердяев Н. Русская идея // Бердяев Н. Русская идея. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 224.
12 Розанове.В. Апокалиптическая секта (хлысты и скопцы). Пб., 1914.
° Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. С. 345.
14 Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М..- тип. Грачева, 1867. С. 288, 318; см. также: Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Жуанвиль ле Пон, 1936. С. 48.
” Сложность отношений между архаизмом и Просвещением в эту эпоху показаны в работе: Лотман Ю.М. Архаисты-просветители // Тыняновский сборник Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 192—207.
16 Такие идеи подмечал у Сен-Мартена Ю. М. Лотман (Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 51) и у немецких масонов М. Вайскопф (Сюжет Гоголя. М.: Радикс, 1993- С. 501).
17 Тукалевский В. Н. Н. И. Новиков и И. Г. Шварц // Масонство в его прошлом и настоящем. Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. Изд-во «Задруга», б/д. С. 202.
“ Мельников П. И. Правительственные распоряжения, выписки и записки о скопцах до 1826 года: Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей: Отдел третий // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1872. Кн. 3- Отд. 5. С. 185.
” См. о нем: Липранди И. Дело о скопце камергере Еленском И Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских 1867. Кн. 4. Отд 5. С. 63—82; Бабкин Д. С. Русская потаенная социальная утопия XVIII века // Русская литература. 1968. № 4. С. 92—106; Валлич Э. И. Из истории радикальной утопической мысли в России конца XVIII века // История социалистических учений. М., 1976. С. 136—153; Кли-банов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. М.: Наука, 1977.
К главе 3
383
20 Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. С 306.
21 Его влияние было важным и для йенского романтизма в Германии; об этом писал, в частности, В. Жирмунский (Немецкий романтизм и современная мистика. СПб., 1914).
22 Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. С. 342.
23 Записка о крамолах врагов России. С предисл. М. Морошкина //Русский архив. 18б8.№9.Стб. 1329—1391.
23 Клаус А. Наши колонии. Вып. 1. СПб.: тип. В. В. Нусвальта, 1869; Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма.
“ ПыпинА.Н. Император Александр! и квакеры // Вестник Европы. 1869. № 10. С. 751—769; Греллэ-де-Мобилье С. Записки квакера о пребывании в России (1818—1819). Публ. И. Осинина // Русская старина. 1874. № 1. С. 1—36.
26 Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. С 50.
27 Записка о крамолах врагов России. Стб. 1381.
2“ Бродский Л. К. Священник Феодосий Левицкий и его сочинения, поднесенные Императору Александру Первому. СПб.: Синодальная типография, 1911.
29 Там же. С. 158.
30 Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра 1. С. 153-
31 Барсов Н. К истории мистицизма в России // Христианское чтение. 1876.1—2. С. 130, 142.
32 По спискам «Беседы», Лабзин состоял ее действительным, а Голицын — почетным членом; см. Алэтшуллер М. Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ardis: Ann Arbor, 1984. С. 366,369-
33 Фотий, архимандрит юрьевский. Из записок о скопцах, хлыстах и других тайных сектах в Петербурге в 1919 году. Публ. П. И. Мельникова // Русский архив. 1873- №8. Стб. 1435-1437.
34 Стурдза А. С. О судьбе православной церкви русской в царствование императора Александра I (Публ. Н. И. Барсова) // Русская старина. 1876. № 2. С. 272.
” Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Т. 1. С. 363-
36 Записка о крамолах врагов России. Стб. 1367.
37 Этот неосуществленный проект храма на Воробьевых горах был наполнен символикой интерконфессионального христианства, часто масонского происхождения; см. Флоров-
384
Примечания
ский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 135; Вит-берг Р. А Л. Витберг и его проект храма Христа Спасителя на Воробьевых горах // Старые годы. 1912. Т. 2.
* Герцен А. Сочинения. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 4. С. 283-
” Письмо князя А Н. Голицына к А Ф. Лабзину // Русский вестник. 1895. № 12. С. 490—492.
40 Доклад Голицына был утвержден императором 6 декабря; учредительное собрание Общества состоялось 11 января 1813 года; см. Богданович М. История царствования Императора Александра I и России в его время. Т. 3- С 196—197.
41 Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра I. С. 36.
42 См.: Рождественский С. Вопрос о народном образовании и социальная проблема в эпоху Александра 1 // Русское прошлое. 1923.5. С. 35-49.
43 Греллэ-де-Мобилье С. Записки квакера о пребывании в России. С. 10; Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра 1. С. 115—117.
44 Записка о крамолах врагов России. Стб. 1380.
43 Pinkerton R. Russia, or Miscellaneous Oservations on the Past and Present State of that Country and its Inhabitants. London, 183.3. P. 104; ПыпинА. H. Религиозные движения при Александре I. С. 274.
46 Ю. М. Лотман писал о «смеси романтизма и карьеризма, характерной для ведущей группы арзамасцев» (Архаисты-просветители. С. 205).
47 Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. С 124—129.
48 См.-. Русов Н. Н. (сост.). Помещичья Россия по запискам современников. М.: Образование, 1911- С. 95.
49 Карнович Е. П. Князь А Н. Голицын и его время // Исторический вестник. 1882. № 5. С. 241—269; Стеллецкий Н. Князь А Н. Голицын и его церковно-государственная деятельность. Киев: тип. И. И. Горбунова, 1901; самый выразительный из портретов Голицына см.: Флоренский Г. Пути русского богословия. С. 132.
30 ВигельФ.Ф.Записки:В7ч.М., 1891—93-4.4.С.82.
31 Бартенев Ю. Н. Из записок-. Рассказы князя А Н. Голицына // Русский архив. 1886. № 7. С. 315, 319-
32 См.: Кукольник П. Анти-Фотий // Русский архив. 1873- № 1. С. 594; Иоаннов. Дополнительные сведения о Татариновой и о членах ее духовного союза // Русский архив. 1872. № 12. Стб. 2338.
К главе 3
385
” Бартенев Ю. Н. Из записок-. Рассказы князя А Н. Голицына // Русский архив. 1886. № 10. С. 150.
м Фукс В. Из истории мистицизма: Татаринова и Головин // Русский вестник. 1892. № 1. С. 20.
” Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 10. С. 57.
* Топоров В. Н. Об индийском варианте «говорения языками» в русской мистической традиции // Wiener Slawistischer Almanach. 1989- Bd. 23. S. 33—80.
” Мельников П. И. Белые голуби Ц Русский вестник. 1869. № 3. G 363—364; последняя песня приписывается им А П. Дубовицкому.
* Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 11. С. 6.
* Лабзнн А. Ф. Письма 3. Я. Карнееву. Публ. А. Ермолова // Русский архив. 1892. № 12. С. 358.
60 Лабзина А. Е. Воспоминания. С предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб.: тип. Б. М. Вольфа, 1914- С. 157.
“ Лубяновский Ф. П. Воспоминания // Русский архив. 1872. № 1.С. 151.
62 Докладная записка Д. П. Трощинского императору Александру по делуо скопце Селиванове (1802) // Русский архив. 1900. № 8. С. 449.
Мельников П. И. Соловецкие документы о скопцах- Материалы для истории хлыстовской и скопческой ересей: Отдел первый // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1872. Кн. 1. Отд. 5. С. 71.
41 Лубяновский Ф. П. Воспоминания. G 151.
“ Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма. С. 300.
“ Бабкин Д. С. Русская потаенная социальная утопия XVIII века. С. 93.
47 Липранди И. Дело о скопце камергере Еленском. С. 65.
“ См. статью «Лабзин» (Русский биографический словарь. Лабзина — Ляшенко. СПб., 1914. С. 2—12).
w Липранди И. Дело о скопце камергере Еленском. С. 69—71.
70 Там же. С. 79.
71 Тамже. С. 80.
72 Там же. G 76.
71 Там же. С. 80, 77.
71 Мельников П. И. Белые голуби. С. 369-
” Мельников П. И. Правительственные распоряжения, выписки и записки о скопцах до 1826 года. G 130
76 Там же. G 80.
21—809
386
Примечания
77 Там же. С. 56.
” Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т, 2. Кн. 1. М.: Прогресс, 1994. С. 130; об английских революционных «святых» см.: Walzer М. The Revolution of the Saints: A Study in the Origins of Radical Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1965.
77 Дубровин H. Наши мистики-сектанты: E. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 10. С. 34.
"° Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // Ахматова А Сочинения. М.: Панорама, 1990. Т. 2. С. 42.
“ Толстой В. С. О великороссийских беспоповских расколах в Закавказье // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1864. Кн. 4. С. 52.
“ Ахматова А. Последняя сказка Пушкина. С. 42.
и Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. С. 157—158. Этой проблемой потом занимался Марк Азадовский, пытаясь найти Золотого петушка в редких сказках, не вошедших в классические сборники, или даже в новых фольклорных записях; но результат ему и самому не казался убедительным; см.-. Азадовский М. К. Источники «Сказок» Пушкина // Азадовский М. К. Литература и фольклор. Л.: Художественная литература, 1938. С 65—105. В другом известном исследовании в качестве литературного подтекста «Сказки» предлагалась повесть Ф.М. Клингера (Алексеев М. П. Пушкин и повесть Ф. М. Клингера «История о золотом петушке» // Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л.: Наука, 1987. С. 502—541). Между тем, генерал Клингер интересовался русским расколом (см. цитированный Алексеевым «Дневник» Этьена Дюмона — Голос минувшего. 1913. №3) и находился в вероятном свойстве с Татариновой (через Буксгевденов). Если, как предполагает Алексеев, Пушкин читал и знал Клингера, то ввод им скопца в русский вариант кощунственной «Истории о петушке» получает, таким образом, еще одну косвенную мотивацию.
14 Свой смысл вкладывал в «Сказку» В. Непомнящий. Для него это христианская притча о греховности желаний и о неизбежности наказания. Такому чтению несколько мешает то, что высший судия здесь — не Бог и даже не православный, а скопец. Автор, с некоторым замешательством констатируя этот факт, оставляет его без интерпретации: Непомнящий В. Поэзия и судьба: Статьи и заметки о Пушкине. М., 1983. С. 143—209- Соня Хойзингтон в недавней статье верно заметила, что фигура скопца осталась недооцененной предшественниками. Автор находит в скопце самого Пушкина,
К главе 3
387
в»
86
87
88
89
90
91
92
91
94
95
оскорбленного званием камер-юнкера до чувства кастрации, а в девице — Наталью Николаевну. Среди прочих проблем такой трактовки стоит отметить характерное непонимание слова скопец, которое автор считает синонимом евнуха-. Hoisington S. Pushkin’s Golden Cockerel: A Critical Reexamination // The Golden Age of Russian Literature and Thought. Selected Papers from the Fourth Congress for Soviet and East European Studies. St. Martin’s Press, 1992. P. 25—33. В статье Елены Погосян в рассмотрение вводятся новые важные контексты, но и она проходит мимо исторического значения пушкинского скопца, см.: Погосян Е. К проблеме значения символа «Золотой петушок» в сказке Пушкина // В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана. Тарту: Эйдос, 1992. С. 99— 106.
Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина. С. 163.
Там же.
ПушкинА. С. Собрание сочинений: В 10 т. М.: изд-во АН СССР, 1957. Т. 8. С. 53.
Лубяновский Ф. П. Воспоминания. С. 472; Дубровин Н. Наши мистики-сектанты,- Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий. № 10. С. 36.
Толстой В. С. О великороссийских беспоповских расколах в Закавказье. С. 52.
Белый А. Серебряный голубь. М.: Художественная литература, 1989. С. 31,71.
Белый А. Луг зеленый. М.: Альциона, 1910. С. 227.
Ахматова А. «Сказка о золотом петушке...» и «Царь увидел пред собой...» // Ахматова А Сочинения. Т. 2. С. 49-Мельников П. И. Правительственные распоряжения, выписки и записки о скопцах до 1826 года. С. 88; Кутепов К Секты хлыстов и скопцов. С. 206.
Пушкин А С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. С. 47—48.
Вспомним «Пророка»: «И вырвал грешный мой язык <...> И в грудь» и т. д. (метафора зловеще осуществляется в башкирце с вырванным языком из «Капитанской дочки»), Борис Гаспаров в своем анализе «Пророка» и прилежащих к нему стихотворений выделяет «характерную деталь, игравшую огромную роль на всем протяжении творческого развития Пушкина — мотив физической отмеченности пророка»; среди симптомов последней исследователь указывает на увечье, хромоту, одно-глазие и пр. «Носитель пророческой миссии наделяется физическим недостатком, который служит печатью его встречи с божественной силой», что может амбивалентно пониматься
21*
388
Примечания
и как «инфернальная печать»; а для этой последней Гаспаров считает типичным «сочетание похоти и импотенции». Финальным воплощением всего этого является скопец-пророк из «Сказки о золотом петушке», но ее Гаспаров не анализирует и не упоминает (Гаспаров Б. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. С. 246; 204). Скопца из «Сказки о золотом петушке» не упоминает и И. П. Смирнов в своем обширном каталоге кастрационных метафор у Пушкина; см.: Смирнов И. П. Кастрационный комплекс в лирике Пушкина // Russian Literature. 1991. Vol. 29. Р. 205—228.
96 Липранди И. Из дневника и воспоминаний // Русский архив. 1866. № 10. Стб. 1462.
” Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум // Пушкин А С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. С. 697,685.
” ЗакруткинВ. «Братья-разбойники» Пушкина // Красная новь. 1936. № 6. С 169—189.
” Баевский В. С. Elan vital // Russian Studies. 1994.1. С. 17.
“ПушкинА. G Приложения к Путешествию в Арзрум. Notice sur la secte des yesides // Там же. С. 702—711.
1ЮСм. о нем и его отношениях с Пушкиным: Эйдельман Н.Я. «Где и что Липранди?» //' Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX вв. М.: Высшая школа, 1993- С. 429— 464.
102 Даль В. Исследования о скопческой ереси. СПб., 1844.
,ол Мельников П. И. Белые голуби. С. 414.
,<н Переписка В. И. Даля и М. П. Погодина. Публ. А. А Ильина-Томича //Лица. 1993. 2. С. 342.
“'Липранди И. Дело о скопце камергере Еленском. С 63.
106 Цветаева М. Пушкин и Пугачев; Искусство при свете совести // Цветаева М. Собрание сочинений. М.: Эллис Лак, 1994- Т. 5. С. 520.
‘°7 Цветаева М. Пушкин и Пугачев. С 513. В связи с цветаевской «чарой», приписываемой ею Распутину, интересно вспомнить странный эпитет, которым снабдил его наследников Клюев: «миллионы чарых Гришек». Слова «чарый» нет ни в словарях русского языка, ни в диалектных словниках, которые прилагаются к изданиям Клюева; так что слово это, вероятно, надо рассматривать как производное от «чары».
""См. Коркина Е. «Пушкин и Пугачев»: лирическое расследование Марины Цветаевой // Marina Tsvetaeva: One Hundred Years. Berkeley Slavic Specialties, 1992. P. 221—239.
К главе 3
389
,<s Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С 68—72; также в книге: Русов Н.Н. (сост.) Помещичья Россия по запискам современников. С. 172— 176.
““Цветаева М. Пушкин и Пугачев. С. 512.
222 Письма князя Д. А. Хилкова. Сергиев Посад Религиознофилософская библиотека, 1916. Вып. 2. С. 42.
’“Толстой Л. Посмертные записки старца Федора Кузьмича (с послесл. Вл. Короленко и примеч. В. Черткова) // Русское богатство. 1912. № 1. С. 9—36.
‘“Добролюбов А. Сочинения (=Modem Russian Literature and Culture Studies and Texts. Vol. 10). Berkeley, 1981.
““Grossman J. D. Introduction 11 Там же. С. 14.
Бердяев Н. Русская идея. С. 221.
“‘Пришвин М. Собрание сочинений. Т. 1. С. 172.
“’Белецкий С. П. Воспоминания. С. 18.
‘“Шилвдер Н. К. Император Александр Первый. Т. 4. С. 448. “’Там же.
220 Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк-, изд-во имени Чехова, 1954. Т 1.С.67.
Николай Михайлович, вел. кн. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузмича. СПб, 1907; его же. Император Александр I: Опыт исторического исследования. СПб, 1912.
“’СперанскийВ.Н. Исторические свидетели о Распутине: Из бесед с великим князем Николаем Михайловичем // Иллюстрированная Россия. 1932.19. С. 9—11.
123 Скотт С. Романовы. Екатеринбург: Ларин, 1993-С. 100.
т Впрочем, утверждают и обратное: что Николай Михайлович в глубине души был уверен в тождестве царя и старца, но написал опровержение этой версии подчиняясь некоему давлению; см. Валоттон А. Александр I. М..- Прогресс, 1991- С. 330— 331.
“’Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр!: Опыт исторического исследования. С 348,327.
‘“Там же. С 148.
127 О политическом значении распутинских оргий с демонстрациями см.: Радзинский Э. «Господи, спаси и усмири Россию»: Николай II: Жизнь и смерть. М.: Вагриус, 1993-
128 Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 1. С.59-
229 Радзинский Э. «Господи, спаси и усмири Россию»: Николай II: Жизнь и смерть. С. 172.
390
Примечания
1 30Дубровин Н. Наши мистики-сектанты-. Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий И Русская старина. 1896. № 1. С 16.
ш Там же. С. 34,17.
1 ,2Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 12. С. 65.
'"Жмакин В. Подполковник А П. Дубовицкий и его жизнь по разным монастырям // Русский архив. 1894. № 6. С. 186.
134 Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А. П. Дубовицкий// Русская старина. 1896. № 1. С 19.
"’ЖмакииВ. Подполковник А П. Дубовицкий и его жизнь по разным монастырям. С. 186.
136 Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1896. № 1. С. 30, 16.
137 Там же. С. 17.
""Мельников П. И. Правительственные распоряжения, выписки и записки о скопцах до 1826 года. С. 7 6.
139 Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1896. № 1. С. 39.
,4°Там же. С. 37-38.
141 Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Кн. 8. История распоряжений по расколу. СПб, 1863. С. 418.
142 См. примечания Л. Соболева в книге: Сологуб Ф. Творимая легенда. М.: Художественная литература, 1991. Т. 1. С. 470,472, 487.
143 Сологуб Ф. Творимая легенда. Т. 2. С. 55.
144 Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий // Русская старина. 1895. № 12. С. 64.
*4’Мельников П. И. Белые голуби. С. 363—364; Дубровин Н. Наши мистики-сектанты: Е. В. Татаринова и А П. Дубовицкий И Русская старина. 1895. № 12. С. 64.
"‘Стурдза А. С. О судьбе православной церкви русской в царствование императора Александра I. С. 271.
147 Местр Ж. де. Петербургские письма. Публ. Д. Соловьева // Звезда. 1994. № 10. С. 154.
144 В качестве чиновника Стурдза участвовал вместе с Александром Тургеневым и Голицыным в подготовке высылки иезуитов из России; из его воспоминаний видно, с какой неохотой он это делал (Там же. С. 279).
149 См.: Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра 1. С. 210—212.
’"Pera Pia. The Secret Committee on the Old Believers: Moving away from Catherine H’s Policy of Religious Toleration // Russia in the Age of Enlightenment. London: Macmillan, 1990. P. 222—241.
К главе 3
391
151 Фукс В. Из истории мистицизма: Татаринова и Головин. С. 18.
1,2 Пеликан Е. Судебно-медицинские исследования скопчества и исторические сведения о нем. Часть 2. СПб.: печатня В. И. Головина, 1872.
”’См. в особенности: Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 273—302; Merton R. К. Puritanism, Pietism and Science // Science and Religious Belief: A Selection of Recent Historical Studies. University of London Press, 1973. P. 20—54.
*иБулгакове. Два града: Исследования о природе религиозных идеалов. Т. 2. М., 1911; Плотников Н. С., Колеров М. А. Макс Вебер и его русские корреспонденты // Вопросы философии. 1994. № 2. С. 74—78.
"’’Эткинд А. Русские скопцы: опыт истории // Звезда. 1995. №4.
1,6 Тургенев А. Политическая проза. Сост. А. Л. Осповата. М.: Советская Россия, 1989- С. 131.
”7 Там же. С 181,205.
’“Осповат А.Л. Александр Тургенев и его поприще // Тургенев А. Политическая проза. С. 11.
Шишков А. С. Записки // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских 1868. Кн. 3. С. 217.
’“Филарет под цензурою (1824) // Русский архив. 1904. №2. С. 311; см. также: Знаменский П. Чтения из истории русской церкви за время царствования Александра I. С. 71; современное чтение этой старой дискуссии см.: Лотман Ю., Успенский Б. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Успенский Б. А. Избранные труды. М: Гнозис, 1994. Т. 2. С. 336-401.
“'Автобиография юрьевского архимандрита Фотия // Русская старина. 1894. № 7. С. 218; донос Фотия на Филарета, написанный в мае 1824, см.: Богданович М. История царствования Императора Александра 1 и России в его время. Т. 6, приложение. С. 46—48.
162 Барсов Н. К истории мистицизма в России. С. 128— 142.
“’Там же. С 134.
Бердяев Н. Русская идея. С. 220.
“’Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) // Бердяев Н. Собрание сочинений. Т. 1. Париж- YMCA-Press, 1989.
166 Письма А. Н. Мордвинова к шефу жандармов графу А X. Бенкендорфу // Русский архив. 1886. № 9. С. 409—419-
392
Примечания
“’Русская старина. 1918. № 1. С. 19; см. также Волгин И. Родиться в России: Достоевский и современники. С. 3 31.
‘“Рассказы были фантастическими: Татаринова превратилась в генерала под той же фамилией; после радений происходил свальный грех, а одного из арестованных пытали испанским сапогом; см. Дюма А. Путевые впечатления в России. М.: Ла-домир, 1993-Т. 1. С. 344.
“’Липранди И. О секте Татариновой // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1868. Кн. 4. Отд. 5.
"° Согласно предположению Игоря Волгина, Я. В. Ханыков был прототипом главного персонажа повести Достоевского «Хозяйка»; см. Волгин И. Родиться в России: Достоевский и современники С. 265.
Липранди И. О секте Татариновой. С. 28.
"‘Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Т. 2. С. 319-
ПыпинА.И. Религиозные движения при Александре!. С. 140.
т Гумилев Н. Заветы символизма и акмеизм // Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С. 57.
‘’’ЧуковскаяЛ. Записки об Анне Ахматовой. М.: Книга, 1989. Ч. 1.С.61.
‘“Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Д: Советский писатель, 1989-С 521.
Cheron G. Неизвестные тексты М. А. Кузмина // Wiener Slawistischer Almanach. 1984. Bd. 14. S. 365—370. Ср. стихотворение 1922 года, в тексте которого последовательно воспроизводится «русская память»: названия центральных губерний, названия православных монастырей, названия русских сект: «Подпольщики, хлысты и бегуны <...> Отверженная, пресвятая рать Свободного и Божеского духа!» Сразу за этим следует «Девятый вал» великий, страшный и неназванный — по-видимому, русская революция; см. Кузмин М. Арена. Избранные стихотворения. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 198— 201.
”* Радлова А. Богородицын корабль. Берлин: Петрополис, 1923-
‘“ Радлова А. Крылатый гость. Третья книга стихов. Берлин: Петрополис, 1922. С. 13,18,44 и др.
'“Радлова А. Крылатый гость. Третья книга стихов. С 13.
РО ИРЛИ, Р. 1, оп. 42, ед. хр. 68. Я благодарен Т. А Кукушкиной за возможность ознакомиться с Альбомом. Помимо указания на «хлыстовский дух» поэтессы, здесь интересна и ассоциа-
К главе 3
393
8 8
ция ее с Римом и гибелью Помпеи, что связывается со спорным вопросом об адресате строчки Кузмина в «Форели»: «красавица, как полотно Брюллова». Радлова считала это своим портретом, но не все исследователи согласны с ее мнением. На основании стихотворения Вагинова можно догадываться, что у Кузмина речь идет о картине «Последний день Помпеи», на одну из героинь которой была, вероятно, похожа Радлова и это было известно в ее кругу; ср. ПаперноИ. Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция // Wiener Slavistischer > Almanach. 1989. Bd. 24 (=Studies in the Life and Work of Mixail . Kuzmin). C 57—82; Доронченков И. А. «...Красавица, как по-. лотно Брюллова» (о некоторых живописных мотивах в творчестве Михаила Кузмина) // Русская литература. 1993. №4. С. 158-175.
“’РадловаА.Д. Повесть о Татариновой (1931) // ОР ГНБ, ф.625, ед хр. 583. Я благодарен С.Д. Радлову и М. Ю. Любимовой за возможность ознакомиться с этим фондом.
Там же. С. 6.
Бенедикт Лившиц, входивший в 1910 годах в тот же круг, в своих воспоминаниях о том времени не раз называет себя «фройдистом» (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец).
Радлова А. Д. Повесть о Татариновой. С 47.
'“Тамже С 4.
1К7 Там же. С. 48.
'“ВиленкииВ.Я. Воспоминания с комментариями. М.: Искусство, 1991- С. 422. Некоторые аспекты этой темы рассмотрены в: Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Ахматова и Кузмин // Russian Literature. 1978. Vol. 6. № 3. Р. 213—303; Топоров В. Н. Ахматова и Блок. Berkeley: Slavic Specialties, 1981.
Кузмин М. Условности. Петроград: Полярная звезда, 1923. С. 174.
и* Чуковский К. Дневник 1901 —1929- М.: Советский писатель, 1991. С 184, 362; Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. С4б—48, 141; Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С. 105—106, 371.
""Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. С. 521.
*”Ср. стихотворение «Развеселился наконец» (1912), написанное от лица некоего еретика-священнослужителя, верящего в свое блаженство, измеряющего совершенство духа и успокаивающегося, лишь когда «голубь залетел в алтарь».
394
Примечания
*”Цит. вариант, опубликованный в: Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. С. 67.
1,1 ССАверинцев видит в Александре из стихотворения «Кассандра» сразу трех героев — Романова, Пушкина и Керенского (см. Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1); ср. колебания комментаторов в: Мандельштам О. Камень. Л.: Наука, 1990. С. 330. Такая же проблема существует в отношении стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой» (1913).
‘’’Мандельштам О. Слово и культура // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. С. 227; о литературной реакции на это заявление Мандельштама см.: Гаспаров Б. М. «Извиняюсь» // Культура русского модернизма. М.: Наука, 1993. (= UCLA Slavic Studies. 1) С. 109—120; исторический источник мандельштамовской «глоссолалии» здесь, к сожалению, не указан.
** Ахматова А. Листки из дневника // Ахматова А Сочинения. Т. 2. С. 208.
1,7 Сергей Радлов добился в Ленинградском ГорЛите разрешение печатать на машинке 100 экземпляров «Повести о Татариновой» «на правах рукописи». «Остальное, как говорят шахматисты, дело техники»,— писал он жене 14 января 1931 (ОР ГПБ, ф.625, ед.хр. 485). Несмотря на нелюбовь друг к другу, Ахматова и Радлова имели в это время множество общих знакомых и бывали в одних домах. Так, летом 1931 года Ахматова и супруги Радловы с еще несколькими друзьями жили (правда, неясно, вместе или по очереди) на одной даче; см. Анна Ахматова в дневниках Л. В. Шапориной. Публ. В. Сажина // Ахматовский сборник. Париж: Institut d’Etudes Slave. 1989. Т 1.С.2О5.
*’*В этом смысле характерно ахматовское отношение к Фрейду, о котором упоминает, например, Чуковская (Записки об Анне Ахматовой).
194 Ахматова А. «Сказка о золотом петушке...» и «Царь увидел пред собой...» //Ахматова А. Сочинения. Т. 2. С. 48.
“° Ахматова А. Листки из дневника (о Мандельштаме) // Ахматова А Сочинения. Т. 2. С. 219; ср. еще ахматовскую похвалу молодому Маяковскому: «Божественный юноша, явившийся неизвестно откуда» — Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Париж: YMCA-Press, 1980. Т. 2. С. 293- Так «Поэма без героя» говорит и сама о себе: «Вовсе нет у меня родословной, Кроме солнечной и баснословной».
“’Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // Ахматова А. Сочинения. Т. 2. С 18.
К главе 3
395
“'Ахматова А Проза о поэме // Ахматова А Сочинения. Т. 2. С. 252.
“’Тамже С 256—257.
201 См. Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт (Введение в поэзию Блока). Пг.: Изд. А Ф. Маркса, 1924. С. 92— 97.
“’Там же. С. 258.
“Там же. С. 255—256; Гинзбург считала, что «Ахматова, с ее трезвым, наблюдающим, несколько рационалистическим умом, была как-то похожа на свой поэтический метод» — Гинзбург Л. Ахматова. Несколько страниц воспоминаний // Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. Л.: Советский писатель, 1987. С 125.
207 Цит. по: Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973-С. 165.
“Ахматова А. Прюза о поэме. С. 259—260.
“Разумеется, такое чтение не является исчерпывающим; ср.: Виленкин В. Образ «тени» в поэзии Анны Ахматовой // Вопросы литературы. 1994, № 1. С. 57—76; в этой статье распутинский слой «Поэмы» по традиции игнорируется.
'“Ахматова А. Прюза о поэме. С. 263.
2,1 Опубликовано В. М. Жирмунским в: Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1977. С. 521.
212 Ахматова А. Балетное либретто // Ахматова А Сочинения. Т. 2. С 262—265. В другом прюзаическом комментарии Ахматовой есть довольно странный пункт, который тоже, с точки зрения автора, имел отношение к тексту «Поэмы»: «„Не с нашим счастьем", как говорили москвичи в конце дек. 1916, обсуждая слухи о смерти Распутина»,— опубликовано в: Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: Художественная литература, 1989-С. 132.
2”Финкельберг М. О герое «Поэмы без герюя» // Русская литература. 1992, № 3. С. 207—225. Надо заметить, что ни один из прототипов не является единственным; по ходу этого нарратива-маскарада маски могут пер>еходить от одного исторического лица к другому. Это усложняет проблему р>ефер>енции ♦Поэмы», но не снимает ее. Ср.: Лосев Л. Герюй «Поэмы без героя» //Ахматовский сборник. Т. 1.С 109—122.
214 В «Поэме без герюя» «вихрь Саломеиной пляски» упоминается стрюфой ниже Иоканаана. Саломея, царская дочь, была одной из устойчивых масок самой Ахматовой. В «Последней рюзе» (1961) соединяются две идентификации автора — с герюиня-ми русской истории и западной литературы: «Мне с Морозовой класть поклоны, С падчерицей Ирюда плясать».
396
Примечания
2,9 Уайльд О. Саломея. Перевод К Бальмонта и Е. Андреева. Л.: Ас-та, 1991. С. 32-33.
’“Руднев В. Правда о царской семье и «темных силах». Берлин, 1920; републикация в кн..- Святой черт. Тайна Григория Распутина. М.: Книжная палата, 1990. С. 283.
2,7 Например, уговаривая Саломею, Ирод предлагает ей полцарства. Более любопытна числовая символика: несчастья Дадо-на происходят на восьмой день, а несчастья Ирода — после того как Саломея исполнила танец семи покрывал.
2“ Цветаева М. История одного посвящения. Этот фрагмент о Распутине и Гумилеве отсутсвует в советских изданиях прозы Цветаевой, но есть в американском двухтомнике (Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. New York: Russica, 1979-Т. 2); здесь цит. по: Гумилев Н. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 2, приложение 5. С.358.
219 Цит. по: Хейт А. Поэтическое странствие. М.: Радуга, 1991. С. 313.
’“Следующая за этим строка «Дым плясал вприсядку на крыше» вновь возвращает к Распутину: в либретто «Гости <...> пляшут дикую, почти хлыстовскую, русскую» — Ахматова А. Балетное либретто. С. 263. Любопытна еще перекличка финальных сцен пушкинской «Сказки о золотом петушке» и гумилевского «Мужика»: когда Дадон убивает скопца, «Вся столица Содрогнулась <...> Вдруг раздался легкий звон». Когда убивают Мужика, «Над потрясенной столицей Выстрелы, крики, набат». О других подтекстах цитированного места «Поэмы без героя» см.: Лихачев Д. С. Ахматова и Гоголь // Традиция в истории культуры. М.: Наука, 1987. С. 223—227.
221 Виктор Жирмунский комментировал эту строчку как реминисценцию из «Шагов командора» Блока (Ахматова А. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1977. С. 514). Это соответствовало его путеводной идее, согласно которой Блок был «высшим воплощением своей эпохи» и главным героем «Поэмы без героя», а стихи Блока были основными подтекстами Ахматовой; см. Жирмунский В. М. Анна Ахматова и Александр Блок // Жирмунский В. М. Теория литературы; Поэтика; Стилистика. Л.: Наука, 1977. С 349- Борис Кац, в соответствии со своими интересами слышит в петушьем крике из «Поэмы» мотив Петрушки из балета Стравинского; см. Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка. Л.: Советский композитор, 1989. С. 204. В кругу Ахматовой разговоры о «Золотом петушке» продолжались и в 1956 году, причем поворот темы был новым: Лидия Чуковская записывала в этой
К главе 4
397
связи горячность С. М. Бонди и свое непонимание дискуссии; см.: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. С. 165.
“Ахматова А. Стихотворения и поэмы. С. 160.
223 Цветаева М. Искусство при свете совести // Марина Цветаева об искусстве. М.: Искусство, 1991.
224 Ахматова А. Проза о поэме. С. 251.
К главе4 -
Журнальный вариант этой статьи см.: Октябрь. 1993. №7. С 168—192.
* О ранней истории восприятия этих идей в России см.: Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII — начала XIX века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. II. Таллинн: Александра, 1992. С. 40—99.
2 Цит. по: Иванов В. В. Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука,1976.
’ Сеченов И. М. Избранные произведения. М.: Учпедгиз, 1953. С. 134.
4 Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради. М.: Наука, 1971. С 526.
’ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. С. 71.
6 Иванов Вяч. Собрание сочинений. Брюссель, 1987. Т.4. С 338.
7 Соловьев Вл. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев Вл. Литературная критика. М.: Современник, 1990. С. 113— 114.
* Соловьев Вл. Письма. Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1911- Т. 3. С. 39; см. также: Карасев Л. В. Русская идея (символика и смысл) // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 92—104.
’ Блок А. Собрание сочинений. М.; Д, 1963. Т. 8. С. 292—293.
10 Письма Андрея Белого к матери Блока. Публ. А В. Лаврова // Александр Блок: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991-С. 303.
” Менделеева-Блок Л. Д. Были и небылицы. Бремен, 1977.
12 Белый А. Воспоминания о А. А Блоке // Эпопея. 1—4- 1922— 1923; цит. по републикации: Miinchen: Wilhelm Fink Verlag, 1969-С 140,153-
” Белый А. Арабески. М., 1911- С. 93.
24 Белый А. Революция и культура (1917) // БлокА., Белый А Диалог поэтов о России и революции. М.: Высшая школа, 1990. С. 488.
15 Белый А. О теургии // Новый путь. 1903. № 9.
398
Примечания
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
.30
31
32
33
34
Белый А. Речь, посвященная памяти Блока // БлокА., Белый А Диалог поэтов о России и революции. С. 504.
См. об истории этого стихотворения: Фридлендер Г. М. ♦Шестое чувство» (из истории литературно-общественных настроений 1910-х годов) // Русская литература. 1992. №2. С. 28-41.
Блок А. Собрание сочинений. Т. 6. С. 363.
Соловьев Вл. Поэзия Ф. И. Тютчева. С. 113— 114.
Федоров Н. Ф. Философия общего дела. Под ред. В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона. Т. 1, 2. Верный, 1906, 1913; закономерны (и не более фантастичны, чем исходная задача) позднейшие попытки А. К Горского сочетать федоровскую психократию с фрейдовским психоанализом; см. Hagemeister М. Nikolaj Fedorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung. Miinchen: Sagner, 1989.
Платонов А. Потомки солнца // Russian Literature. 1981. Vol. 9. C 300—301.
Толстой Л. Письмо Б. Бувье от 20 марта 1905 // Толстой Л. Собрание сочинений. Т. 20. М.: Художественная литература, 1984. С 582.
Толстой Л. Исповедь. Л.: Художественная литература, 1991. С. 55.
Мандельштам О. Собрание сочинений: в 4-х т. М.: Терра, 1991-Т. 2. С. 281.
Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи; воспоминания; эссе. М.: Советский писатель, С. 285.
Добролюбов А. Сочинения. Из книги невидимой (1905). Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1983. С. 59.
Там же. С. 3—4.
Письмо А Добролюбова В. Брюсову 1900 года. Опубликовано в- Grossman J. D. Alexandr Dobroljubov and the Invisible Book 11 Добролюбов А Сочинения. Из книги невидимой (1905).
Розанове. Апокалиптическая секта (хлысты н скопцы). СПб., 1914. С 33.
Там же. С. 77.
Розанове. Опавшие листья; Уединенное. М.: Политиздат, 1990. С 148, 347.
Блок А. Л. Политическая литература в России и о России. Вступление в курс русского государственного права. Варшава: тип. Носковского, 1884. С. 41.
Розанов В. Русская церковь и другие статьи. Париж: издание Д. Жуковского, 1906.
Тамже. G10. '
К главе 4
399
” См., например: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1990; Гуревич А. Я. Средневековый мир культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 1990, и многочисленные исследования школы «Анналов».
36 Розанов В. Опавшие листья; Уединенное. С. 64.
37 Бердяев Н. Русская идея // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С 218.
38 Розанов В. В. Религия и культура // Розанов В. В. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 67.
” Леонтьев К. Собрание сочинений. М., 1912. Т. 9- С. 67.
** Шестов Л. Достоевский и Ницше. Париж: YMCA-Press, 1971. С. 58.
41 Бердяев Н. Трагедия и обыденность // Бердяев Н. Собрание сочинений. Т. 3. Париж: YMCA-Press, 1989- С. 369-
42 Гершензон М. О. Кризис современной культуры // Минувшее. 1992.11. G 237, 241.
43 Гиппиус 3. Черные тетради // Звенья. Т. 2. М.; СПб., 1992. С. 53.
44 Волошин М. Россия распятая // Из творческого наследия советских писателей. Л.: Наука, 1991- С 87.
45 Документы о большевистском проекте такого рода см.: Фай-ман Г. Дневник доктора Борменталя, или как это было на самом деле//Искусство кино. 1991-№7—10.
46 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Изд. В. Чичерина, 1900. С. 41; см. также Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С 258.
47 О восприятии Ницше в России складывается специальная литература: Nietzche in Russia. Ed. by В. G. Rosenthal. Princeton University Press, 1986; Clowes E.W. The Revolution of Moral Consciousness: Nietzche in Russian Literature 1890—1914. Northern Illinois University Press. DeCalb, Ill. 1988; Данилевский P. Ю. Русский образ Фридриха Ницше // На рубеже XIX и XX веков. Л.: Наука, 1991. С. 5—43. Nietzche and Soviet Culture. Ally and Adversary. Ed. by B. G. Rosenthal. Cambridge University Press, 1994.
4“ Соловьев В. С. Идея сверхчеловека // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 626.
49 Бенуа А. Мои воспоминания. М.: Наука, 1990. Т. 1. С 631.
” Бердяев Н. А Философская истина и интеллигентская правда // Вехи; Из глубины. М.: Правда, 1991. С 25.
” Корабли. 1907. С. 7).
32 Соловьев В. С. Смысл любви // Соловьев В. С. Сочинения. Т. 2. С 531-
400
Примечания
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
61
Там же С 497. .« . ’
Тамже. С. 513. : , i
Тамже. С. 521. г
Там же. С. 528.
Тамже.С.527. .
Соловьев С. М. Жизнь и творческая ЭВОЛЮЦИИ Аиднмира
Соловьева. Брюссель, 1988. С. 308. < » ,
Тамже. С 316.
Там же. С. 314. -, ;; 11.6
ФлоровскийГ. Пути русского богословия./ Париж, 1937.
С. 466. > т "St
Белый А. Воспоминания о Блоке.
Иванов Вяч. Собрание сочинений. Брюссель, 1987. Т. 3.
С. 133.
БердяевН. Самопознание // Бердяевы. Сочинения. Т. 1. С 179—180.
Переписка Л. И. Шестова с AM. Ремизовым. Публ.
И. Р. Даниловой и А А. Данилевского // Русская литература. 1992. №2. С. 144.
Шумихин С. В. Дневник Михаила Кузмина: Архивная предыстория // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990. С. 139-145.
Иванов Вяч. Духовный лик славянства // Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. 4. С 668.
Волошин М. Россия распятая. С. 94.
Иванов Вяч. По звездам.
Бердяев И. Смысл творчества. Опыт оправдания человека //
Бердяев Н. Собрание сочинений. Т. 2. С 216—240.
Герцык Е. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973- С. 134.
Бердяев Н. Смысл творчества.
См. об этом: Эткинд А. Русские скопцы: опыт истории // Звезда. 1995. № 4.
Менделеева-Блок Л. Д. Были и небылицы. С. 50.
Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М..-Правда, 1990. С. 322.
Блок А. Сочинения: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 2. С. 718.
Соловьев Вл. Жизненная драма Платона // Соловьев Вл. Собрание сочинений. Т. 8. СПб, 1907. С. 376.
Блок А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 718.
Письма Андрея Белого к матери Блока. С. 303.
Орлов Вл. Сны и явь // Блок А. Письма к жене. М.: Наука, 1976.
С. 21.
Литературное наследство. Т. 92. Кн. I. М.: Наука, 1980. С. 358, 369, 394.
К главе 4
401
“ Венгер А. Материалы к биографии С. М. Соловьева // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева.
Розанове.В. Люди лунного света. Метафизика христианства. 2-е изд. СПб., 1913 (Москва.-Дружба народов, 1990).
w Переписка В. В. Розанова и М. О. Гершензона. Публ. В. Проскуриной // Новый мир. 1991. №3- С. 231. См. также: Синявский А. «Опавшие листья» В. В. Розанова. Париж: Синтаксис, 1982. С. 33-
99 Розанов В. Русская церковь и другие статьи. С 8.
“ CarotenutoA. A Secret Symmetry: Sabina Spielrein between Freud and Jung. London.- Routledge, 1980; ЭткиндА. Эрос невозможного История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. Гл. 5.
87 Spielrein S. Die Destruction als Ursach des Werdens // Jahrbuch fir psychanalytische und psychopatologische Forschungen. 1912. 4. S. 465—503.
“ Там же
Иванов Вяч. По звездам. С. 64.
90 Белый А. Воспоминания об А. А. Блоке // Записки мечтателей. 6.1922.
” Иванов Вяч. По звездам. С. 413.
92 См. об этом: ЭткиндА. Эрос невозможного: История психоанализа в России. С 23—24-
” Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд 3. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989- С. 417.
91 The Freud-Jung letters. W. McGuire, ed. London.- Hogarth, 1974. P.494.
” Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия. С 420—421.
96 Фрейд 3. Из истории одного детского невроза // Фрейд 3. Психоаналитические этюды. Минск-. Беларусь, 1991. С. 195.
97 Там же. С. 194,2б7.
99 Фрейд 3. «Я» и «Оно». Тбилиси: Мерани, 1991- Т. 1. С. 395.
99 Фрейд 3. Достоевский и отцеубийство // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Т. 2. С 408.
“° Фрейд 3. Из истории одного детского невроза. С. 267 Рильке Р. М. Ворпсведе. М., 1980. С. 360.
102 Блок А. Сочинения: В 2-х т. Т. 2. С. 653-
103 Цит. по-. Орлов Вл. Гамаюн. Л.-. Советский писатель, 1980. С. 65.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. С. 167 и др.
“’Там же. С. 356.
402
Примечания
106 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Мл Искусство, 1986. С. 402
107 Бердяев Н. Самопознание. С 172.
"* Герцык Е. Воспоминания. С. 5 3-
2W Зайцев Б. Далекое. М.: Советский писатель, 1991. С 487. •
110 Толстой Л. Исповедь. С. 40.
111 Белый А. Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990. С. 215.
222 Снежневский А. Схизофрения: Формы и течение // Большая медицинская энциклопедия. Т. 31- М, 1963. С. 875.
113 Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 2. С. 333-
114 Платонов А. Счастливая Москва // Новый мир. 1991. №9-С. 21,40.
“’Богданов А. А. Новый мир (1904) // Богданов А. А. Вопросы социализма. М.: Политиздат, 1990. С. 28.
‘“Троцкий Л. Несколько слов о воспитании человека // Троцкий Л. Сочинения. 1927. Т. XXI. С 110.
227ЗалкиндА.Б. Психоневрологические науки и социалистическое строительство // Педология. 1930. № 3. С 309—322.
“* Макаренко А. Коммунистическое воспитание и поведение (1939) // Макаренко А. Проектировать лучшее в человеке. Минск: Университетское изд-во, 1989- С 342—345.
1,9 Ильенков Э. Что же такое личность? (1984) // Ильенков Э. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991. С. 387.
120 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. С. 368.
221 Анненский И. О современном лиризме // Аполлон. 1909-Т.З.С55.
,22МалисГ. Психоанализ коммунизма. Харьков: Космос, 1924. С. 74-
123 Из речей Н. К. Крупской, Н. И. Бухарина, А В. Луначарского и Н. А Семашко по основным вопросам педологии // На путях к новой школе. 1928. № 1. G 10.
123 Енчмен Э. Восемнадцать тезисов о теории новой биологии. Ростов-на-Дону, 1920; Енчмен Э. Теория новой биологии и марксизм. Пг., 1923, изд. 2-е.
‘"Залкинд А.Б. О методологии целостного изучения в педологии // Педология. 1931. № 2. С. 3-
126Леонтьев А. Н. Об историческом подходе в изучении психики человека // Леонтьев А Н. Избранные психологические произведения. М.: Педагогика, 1983-Т. 1.С 139.
227 Барт Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1989. С 110.
22* Mannheim К. Man and Society in an Age of Reconstruction. London: Routledge and Kegan Paul, 1980 (1 ed. — 1935). P. 217.
К главе 4
403
129 Троцкий Л. Несколько слов о воспитании человека // Троцкий Л. Сочинения. 1927. Т. XXI. С. 110.
130 Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Фрейд 3. Психоаналитические этюды. С 483—484.
Волошиной В. Н. Фрейдизм. М.: ГИЗ, 1927.
132 Волошиной В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929.
133 Там же.
“* Макаренко А. С. Цель воспитания (1937) // Хрестоматия по психологии. М.: Просвещение, 1977. С. 474.
’’’Гозман Л.Я., ЭткиндА. М. От культа власти к власти людей //Нева. 1989-№7.С 156—180; они же. Люди и власть: от тоталитаризма к демократии // В человеческом измерении. М.: Прогресс, 1989-С. 378—393.
136 Мясищев В. Н. Личность ребенка-невротика (1934) // Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Л.: изд-во ЛГУ, I960. С. 66,72.
”7 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1973-Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд 3. Психоаналитические этюды. С 4б4.
139 Пришвин М. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1982. Т. 2. С. 750.
110 Ильенков Э. Что же такое личность? С. 408.
““Белый А. О теургии. В 1950-х годах о сходстве символистских идей с «нынешними взглядами людей Кремля» писал старый знакомый Белого, меньшевик Николай Валентинов; он даже говорит о «теургах Кремля»: см. Валентинов Н. Два года с символистами. Под ред. Г. П. Струве. Stanford: The Hoover Institution, 1969-С. 127.
И2 Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 97.
133 Gardner R. A., Gardner В. Т. Teaching Sign Language to a Chimpanzee //Science. 1969-165. P. 664—672.
111 Ильенков Э. Становление личности: к итогам научного эксперимента И Коммунист. 1977. № 2. С. 69, 71.
Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты: Мифы и реальность. М., 1989. С. 93.
и6 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. С. 276.
М7 Hayek F. А. Общество свободных. London: Overseas Publications, 1979.
““ Пришвин М.М. Мы с тобой // Дружба народов. 1990. №9. С. 253.
404
Примечания
Кглаве 5
Журнальный вариант см.: Вопросы психологии. 1993. №4-С 37-55.
1 См..- Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. Под ред. М. Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1984; Ярошевский М. Г. Л. Выготский: В поисках новой психологии. СПб.: Международный фонд истории науки, 1993-
г См. развернутые комментарии В. В. Иванова к изданию: Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
’ Veer R. van der, Valsiner J. Understanding Vigotsky: a Quest for Synthesis. Oxford: Blackwell, 1991-
4 Wilson A., Weinstein L. An Investigation into some Implications of a Vygotskian Perspective on the Origins of Mind // Journal of the American Psychoanalytic Association. 1992. Vol. 40. P. 349-380,725-760.
' Veer R. van der, Valsiner J. Understanding Vigotsky: a Quest for Synthesis.
6 Щедровицкий П. Г. Истоки культурно-исторической концепции Л. С Выготского. Автореферат канд. дисс. М., 1992.
7 Список трудов Л. С. Выготского // Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 366.
" VeerR. van der, Valsiner J. Understanding Vigotsky; a Quest for Synthesis. P. 21.
’ См.: Левитин К. E. Личностью не рождаются. М.: Наука, 1990. С. 26.
ю Ходасевич В. Андрей Белый // Серебряный век: Мемуары. Сост. Т. Джубинская-Джалилова. М.: Известия, 1990; См. также: Ljunggren М. The Dream of Rebirth: A Study of A. Belyj’s Novel «Peterburg». Stockholm: Almqvist, 1982.
“ Выгодский Л. С. Литературные заметки («Петербург», роман Андрея Белого. 1916) // Новый путь. 1916.47. С. Т7.
,г Мандельштам О. Рец на: А. Белый. Записки чудака //Собрание сочинений: В 4 т. М.: Терра, 1991. Т. 3. С 422.
13 Троцкий Л. Литература и революция. М.-. Политиздат, 1991. С. 50-54.
и Бугаев Б. На перевале. 14. Штемпелеванная культура //.Весы. 1909.9. С. 72—80.
” Об эволюции расовых идей Метнера см.: Ljunggren М. The Russian Mephisto: A Study of the Life and Work of Emilii Medtner. Stockholm, 1994.
16 См.: Левитин К. E. Личностью не рождаются. С. 20.
К главе 5
405
17 Выготский Л. С. Основные проблемы дефектологии // Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 5. С. 36.
“ Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Выготский Л. С Собрание сочинений. Т. 3- С 302.
” Фатхуллнна Р. Материалы к биографии Давида Выгодского // Лица. Т. 1. М.; СПб.: Феникс — Atheneum, 1992.
20 Там же. С 84.
21 Л. С. [Выготский]. Рец. на «Борозды и межи» Вяч. Иванова // Летопись. 1916. № 10. С 351—352.
22 Л. С. [Выготский]. Рец. на пьесу Д. Мережковского «Будет радость» //Летопись. 1917- № 1. С. 309—310.
23 Л. С. [Выготский]. Рец. на роман А. Белого «Петербург» // Летопись. 1916. № 11. С. 327—328.
21 Белый А. О границах психологии // Белый А. Символизм. М: Мусагет, 1910.
23 Белый А. Арабески М., 1911. С. 93-
26 Письма Андрея Белого к матери Блока. Публ. А. В. Лаврова // Александр Блок: Исследования и материалы. Л.: Наука, 1991. С. зоз.
27 Андрей Белый и антропософия. Публ. Д. Мальмстада // Минувшее. 6.1988. С 380.
” Ильин И. Религиозный смысл философии. Три речи 1914— 1923- Париж: YMCA-Press, б/д. С. 63-
23 Гумилев Н. Заветы символизма и акмеизм // Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М.: Современник, 1990. С 57.
30 О. Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С. П. Каблукова // Мандельштам О. Камень. Л.: Наука, 1990. С. 256.
31 Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы; Поэтика; Стилистика. Л.: Наука, 1977. С 111-112,131-132.
32 Выготский Л. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 58.
33 В. П. Зинченко уже пытался выявить черты родства между поэтикой Мандельштама и психологией развития; см.: Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (читая О. Мандельштама) // Вопросы психологии. 1991. №4—6; 1992. № 3—6.
34 Мандельштам О. Утро акмеизма // Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 3- С. 323.
” Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 2. С. 281.
36 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989- С. 216.
37 Леонтьев А. А. Л. С. Выготский. М.: Просвещение, 1990. С 85-
406
Примечания
34 Блок А. Собрание сочинений. М., 1963- Т. 8. С. 2б9; Розанов В. Уединенное // Розанов В. Сочинения. М.: Советская Россия, 1990. С 84.
” Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М.: Новости, 1990. С. 246.
40 Троцкий Л. Светские богословы и Ванькина личность // Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991-С 294.
41 Мандельштам О. Слово и культура // Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 3- С. 225.
42 Мандельштам О. О природе слова // Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 3. С. 245—246.
43 Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 2. С. 295.
44 См. в особенности: Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 2. Л.: изд-во ЛГУ, 1976.
43 Близкое, хотя и несколько отличное чтение этого и других текстов Мандельштама см.: Papernol. On the Nature of the Word // Christianity and the Eastern Slaves. University of California Press, 1994. Vol. 2. P. 287—310. Собрания сочинений Мандельштама — и американское трехтомное, и российское двухтомное — в своих комментариях неправильно рассказывают об имябожцах-имяславцах, делая смысл стихотворения совершенно непонятным. Только комментаторы академического издания «Камня» близки в этом вопросе к истине.
46 Мандельштам О. Рец. на: А. Белый. Записки чудака. С. 422.
47 Мандельштам О. О природе слова. С. 249,256.
44 Выготский Л. С. Мышление и речь. С. 305.
49 Мандельштам О. Слово и культура. С. 225.
30 Там же. С. 243-
” Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Советский писатель, 1989.
” Шкловский В. О поэзии и заумном языке // Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919. С 22.
33 Выготский Л. С Орудие и знак в развитии ребенка // Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 42—43-
" Волошннов В. Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науках о языке. Л., 1929.
33 Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1949-
36 Berlin I. Joseph de Maistr and the Origins of Fascism // Berlin I. The Crooked Timber of Humanity. New York: Alfred A. Knopf, 1991. P. 91-174.
37 Там же. C. 141-
К главе 5
407
и Skinner В. F. Walden Two. New York: Macmillan, 1948; Skinner B. F. Walden Two Revisited // Skinner B. F. Reflections on Behaviorism and Society. Prentice-Hall, 1978. P. 56—68.
” Шкловский В. Сентиментальное путешествие. С .197.
“ Jones Е. The Life and Work of Sigmund Freud. New York: Basic Books, 1953- Vol. I P.403-
61 VeerR. van der, Valsiner J. Understanding Vigotsky: a Quest for Synthesis.
62 Об этой женщине см.: CarotenutoA. A Secret Symmetry: Sabina Spielrein between Freud and Jung. London: Routledge, 1980; Waning A. van. The Works of Pioneering Psychoanalyst Sabina Spielrein // International Review of Psychoanalysis. 1992. 19. P. 399—414; Эткинд А. Чистая игра, или Необыкновенная история Сабины Шпильрейн, рассказанная документами // Звезда. 1992. № 7. С. 115— 138; Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России.
63 CarotenutoA. A Secret Symmetry; Sabina Spielrein between Freud and Jung. P. 145.
64 Rice J. L. Russian Stereotypes in the Freud-Jung Correspondence Il Slavic review. Vol. 41. Spring 1982. P. 13—35.
63 Spielrein S. On the Origin and Development of the Speech // International Journal of Psychanalysis. 1.1920. P. 359.
“ Spielrein S. Quelques analogies entre la pens6e de 1’enfant, celle de 1’aphasique et la pens6e subconsciente // Archive de psychologic. 18.1923. P. 305-322.
67 Spielrein S. Die Zeit im unterschwelligen Seelenleben // Imago. 9.1993-S. 300-317.
“ Spielrein S. Die drei Fragen // Imago. 9.1923. S. 260—263.
69 Spielrein S. Kinderzeichnungen bei offenen und geschlossenen Augen 11 Imago. 16.1931- S. 259—291-
70 International Journal of Psychoanalysis. Vol. 5.1924. P. 258.
71 ЦГА РСФСР, фонд 2307, on. 9, дело 222, л. 1.
72 См. автобиографию Выготского, опубликованную в книге: Леонтьев А. А. Л. С Выготский.
73 ЦГА РСФСР, фонд 2307, оп. 23, ед. хр.13, л. 19—20.
74 ЦГА РСФСР, фонд 259, оп. 9а, дело 3, л. 159.
73 CarotenutoA. A Secret Symmetry: Sabina Spielrein between Freud and Jung. P. 115.
76 International Journal of Psychoanalysis. Vol. 10.1929. P. 562.
77 Фрейд 3. По ту сторону принципа удовольствия // Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1989- С. 417.
™ Пнаже Ж. Комментарии к критическим замечаниям Л. С Выготского // Хрестоматия по общей психологии. М.: изд-во МГУ, 1981.С 188—193.
408
Примечания
79 См..- Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. Гл. 7.
“° Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Издание В. Чичерина, 1900. С. 41; см. также Ницше Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С 258.
“ Троцкий Л. О культуре будущего (из набросков) // Троцкий Л. Сочинения. Т. XXI. С 460.
“ Троцкий Л. Литература и революция. С. 197.
” Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 1. С 435.
м Там же. С. 436.
” Троцкий Л. Несколько слов о воспитании человека. С. ПО; см. этот текст и в: Троцкий Л. Литература и революция. С 197.
86 Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Работник просвещения, 1926. С. 347; ср.: Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
87 Ради исторической ясности замечу, что цитировать Троцкого в 1 S>S> 1 было вполне безопасным занятием; во всяком случае, этот же пассаж Троцкого цитировался в: ЭткиндА. Лев Троцкий и психоанализ // Нева. 1991. № 4- С 183—190.
" VeerR. van der, ValsinerJ. Understanding Vigotsky; a Quest for Synthesis.
” Выготский Л. С. Педагогическая психология. M: Педагогика, 1991-С. 367.
* Там же. С. 365
” Малис Г. Психоанализ коммунизма. Харьков: Космос, 1924. С. 74-
91 Белый А. О теургии // Новый путь. 1903. № 9-
” Троцкий Л. О культуре будущего (из набросков) // Троцкий Л. Сочинения. Т. XXI. С. 460.
Кглаве 6
Статья написана для публикации в материалах конференции «Русская культура XX века: Метрополия и диаспора», которая проводилась Тартуским университетом в ноябре 1994 года.
’ Письмо Фрейда Т. Рейку цит. по: Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. Ardis: Ann Arbor, 1985. P. 76.
2 Фрейд 3. «Я» и «Оно». Тбилиси: Мерани, 1991. Т. 1. С 395.
’ Историю Сергея Панкеева и обзор литературы о нем см.: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993- Гл. 3; также: RiceJ. L. Freud’s Russia:
Кглаве 6
409
National Identity in the Evolution of Psychoanalysis. New Brunswick, 1993-
4 Obholzer K. The Wolf-man Sixty Years Later. London.- Routledge, 1980. P. 88.
’ Ср., однако, более гибкий подход в анализах Светланы Бойм: Boym S. Death in Quotation Marks: Cultural Myths of the Modern Poet. Harvard University Press, 1991.
6 Цит. no: Livingstone A. Salome, her Life and Work. New York: Moyer, 1984. P. 9-
7 Andreas-Salome L. Ma vie. Ed. par E. Pfeiffer. Paris: PUF, 1977. P.24.
* Письмо Ницше Полю Рэ от 21 марта 1882 г. Цит. по: Nietzsche, Ree, Salome. Correspondance. E. Pfeiffer, ed. Paris: PUF, 1979.
’ Ibid. P. 62.
10 Запрещенная русской цензурой, поэма Лермонтова вышла в Германии раньше, чем в России, и не раз переводилась на немецкий (впервые в 1852 году Ф. Ботенштетдом, лично знавшим как Лермонтова, так и Ницше).— Лермонтовская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 393.
11 Фрейд 3. Из истории одного детского невроза // Фрейд 3. Психоаналитические этюды. Минск: Беларусь, 1991.
12 Написано в конце апреля 1884 г. Цит. по: Peters H.F. Му Sister, my Spouse. London, 1963. P. 176.
” Ферстер-Ницше Э. Возникновение «Так говорил Заратустра» // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: изд-во МГУ, 1990. С. 291.
м См.: Андреас-Саломе Л. Фридрих Ницше в своих произведениях //Северный вестник. 1896. № 3—5.
" Paperno I. Chernyshevsky and the Age of Realism- A Study in the Semiotics of Behavior. Stanford University Press, 1988; см. также: Matich O. Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius’ Personal Myth // Cultural Mythologies of Russian Modernism. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 52—72.
16 Неопубликованные воспоминания С. H. Шиль хранятся в Научной библиотеке Московского университета, ед. хр. 1004.
17 Азадовский К. Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. СПб: Акрополь, 1992.
“ Andreas-Salome L. Correspondance avec Sigmund Freud Paris: Gallimard, 1970. P. 333.
” Подробнее см. Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. Гл. 1.
20 Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. Подгот. текста Дж. Мальмстада. Париж: Atheneum, 1990. С. 217.
410
Примечания
“ Частично опубликованы в книге: ЭткиндА. Эрос невозможного: История психоанализа в России. С. 73—76.
22 Юнг К. Г. Избранные труды по аналитической психологии. Авторизованное издание под общей редакцией Эмилия Мет-нера. Т. 1. Психологические типы. Цюрих: книгоиздательство ♦Мусагет», 1929; Т. 2. Libido, ея метаморфозы и символы. Издание психологического клуба в Цюрихе (репринт. СПб: из-во Восточно-Европейского института психоанализа, 1993); Т. 3- Опыт изложения психоаналитической теории и другие статьи. Издание психологического клуба в Цюрихе, 1939-
23 Вышеславцев Б. Рецензия // Путь. 1930. 20, февраль. С 111—113.
24 Вышеславцев Б. Этика преображенного эроса. Париж YMCA-Press, 1931. С. VI.
23 Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. С. 217—218.
26 В. И. Иванов и Э. К. Метнер. Переписка из двух миров. Публ. В. Сапова // Вопросы литературы. 1994. № 2. С. 306.
27 Там же. С. 307.
“ Там же.
29 The Freud-Jung Letters. W. McGuire, ed. London-. Hogarth, 1974. P.495.
30 Тем не менее не только сталинско-брежневские идеологи утверждали, что психоанализ чужд российскому обществу. «Фрейдизм во всех его разновидностях и этапах <...> так никогда и не был пережит в русской культуре», — писал в эмиграции Александр Пятигорский (О психоанализе из современной России // Россия/Russia. 1977. № 3. С. 29—50). На этой фактически неверной оценке основывает свои рассуждения, сами по себе замечательные, Борис Гройс (Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993-С. 245-259).
31 О работе Осипова в Чехословакии см.: Эткинд А. Эрос невозможного; История психоанализа в России. С. 264—268.
32 О символистах писал только Николай Баженов, впрочем, не психоаналитик, а психиатр, председатель Московского литературно-художественного кружка, который в своей ранней книге поставил диагнозы многим своим знакомым; см. Баженов Н.Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М.: т-во А. И. Мамонтова, 1903-
33 Краинский Н. В. Лев Толстой как юродивый. Белград: Русская тип., б/д. С. 29, 5. <
34 Там же. С. 21.
33 Там же. С. 20. .. ,-t. . .4
К главе 6
411
* Краинский Н. В. Без будущего: Очерки по психологии революции и эмиграции. Белград, 1931- С. 106.
37 Там же. С. 183—185.
34 Блок А. Собрание сочинений. Т. 5. С. 355.
39 Там же. С 186,83.
44 Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества АС. Пушкина. М.; Пг.: ГИЗ, 1923; его же. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. М.; Пг.: ГИЗ, 1924.
41 Осипов Н. Е. Страшное у Гоголя и Достоевского // Бем А Л., Досужков Ф. Н., Лосский Н.О. <ред.> Жизнь и смерть. Прага, 1935. Т. 1.С 134.
42 Там же. С. 131.
43 Там же. С 129.
44 Цит. по: Досужков Ф. Н. Невроз боязни, страх смерти и страх привидений // Жизнь и смерть. Т. 2. С. 127.
45 Там же. С. 134.
46 Ее биографию см.: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. Гл. 5. Некоторые новые материалы, не вошедшие в книгу, см.: Эткинд А. Еще об Л. С. Выготском: забытые тексты и ненайденные контексты // Вопросы психологии. 1993. №4. С. 37—54; Kerr J. A Most Dangerous Method. New York: Knopf, 1993.
47 Spielrein S. Die Destruction als Ursach des Werdens // Jahrbuch filr psychanalytische und psychopatologische Forschungen. 1912. №4, S. 465—503; английский перевод см.: Spielrein S. Destruction as the Cause of Coming into Being // The Journal of Analytical Psychology. 1994. Vol. 39. № 2. P. 155—186.
44 См. Лотман Ю. M. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. I. Таллинн: Александра, 1992. С. 248—268.
49 Freud S. and Zweig S. Correspondence. New York, 1988.
” Цит. no: MijolaA.de. Les mots de Freud. Paris: Belle Lettres, 1989- P. 208—209-
” Штейнберг А. Друзья моих ранних лет. Подгот. текста Ж. Нива. Париж: Синтаксис, 1991. С. 248.
52 Опубликованы в книге: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. Гл. 7; см. также Максимова В. Дело Плевицкой // Московский наблюдатель. 1993- № 2—3-С. 59. Вместе с тем роль Макса Эйтингона в парижском и других делах не раз оспаривалась историками.
” Недавно переизданы: ПлевнцкаяН. Дежкин карагод. Воспоминания. СПб.: Logos, 1994; посвящение см. на с. 82.
44 Троцкий Л. По поводу смерти 3. Л. Волковой // Бюллетень оппозиции. 1933- Март. С. 29—30.
412
Примечания
” Кто-нибудь сравнит эту историю с мифом о Лаокооне, троянском жреце, которого Афина убила вместе с сыновьями за сопротивление победителям-ахейцам; эта гипотеза дает еще и созвучие Троцкий-троянский, а также связывается с другой, популярной у большевиков фигурой того же мифа — с троянским конем (Лаокоон пытался не пустить его в город и этим особенно рассердил Афину). Может быть, семинарская риторика Сталина и не чужда была подобным ассоциациям в духе постлакановского анализа, но сегодня они еще не кажутся правдоподобными.
36 Дойчер И. Троцкий в изгнании. М.: Политиздат, 1991. С. 214.
” Heijenoort J. van. With Trotsky in Exile. From Prinkipo to Coyoacan. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978. P. 35.
* Троцкий Л. По поводу смерти 3. Л. Волковой.
* В одном письме речь идет о некоем докторе Мае; известно также, что анализ проводился на русском языке. См. Волкогонов Д. Троцкий. М.: Новости, 1992. Т. 2. С. 157.
К главе 7
Журнальный вариант см-. Звезда. 1993. № 8. С. 192—200.
1 Иванов Вс. Возвращение Будды; Чудесные похождения портного Фокина; У. М.: Правда, 1991; далее все цитаты из романа даются по этому изданию с указанием номера страницы в круглых скобках.
2 В кн.: Всеволод Иванов — писатель и человек Воспоминания современников. М.: Советский писатель, 1975. С. 19.
3 Платонов А. Счастливая Москва // Новый мир. 1991- №9-С. 21,40.
4 Подробнее см.: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб: Медуза, 1993-
’ Троцкий Л. Несколько слов о воспитании человека // Троцкий Л. Сочинения. Т. XXI. М., 1927. С. 110.
* Опубликовано в: Сажин В Н. «...Сборище друзей, оставленных судьбою» // Тыняновский сборник Четвертые Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1990. С. 198.
’ Евреинов Н. Н. Театротерапия // Жизнь искусства. Пг., 9— 10 октября 1920 г. С. 578—579-
8 Евреинов Н. Н. Самое главное. СПб.: Государственое изд-во, 1921.
’ Евреинов Н. Н. Театр у животных (о смысле театральности с биологической точки зрения). Пг.; Книга, 1924. С. 10.
К главе 7
413
10
и
12
13
14
13
16
17
16
19
20
21
Залкинд А. Б. Психоневрологические науки и социалистическое строительство // Педология 1930. № 3- С. 309—322.
Соловьев Вл. Жизненная драма Платона // Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 618—619.
Розенштейн Л. М. О современных психиатрических течениях в Советской России // Психогигиенические и неврологические исследования. Под ред. Л. М. Розенштейна. М.: изд-во Наркомздрава РСФСР, 1928. С. 115—121.
Лурия А. Р. Пути развития советской психологии: По собственным воспоминаниям: Стенограмма доклада в Московском отделении Общества психологов 25 марта 1974 г. // Архив, хранящийся у Е. А. Лурии.
ЦГАРСФСР,фонд 2307,оп. 2, дело412, л. 1.
Лурия А. Р. Пути развития советской психологии.
Психоаналитический институт-лаборатория «Международная солидарность» (документ не датирован-, предположительно 1923 год) // Личный архив И. Д Ермакова (Москва). Опубликовано в книге: Эткинд А. Эрос невозможного: История психоанализа в России.
Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991-С. 171.
Белая Г. Дон-Кихоты 20-х годов. М.: Советский писатель, 1989-С. 129—139.
Залкинд А. Б. Психоневрологические науки и социалистическое строительство. С. 309—322.
Залкинд А. Б. Дифференцировка на педологическом фронте // Педология. 1931- № 3. С. 11.
Всеволод Иванов — писатель и человек Воспоминания современников. С. 20.
Эткинд Александр. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. — Москва: «ИЦ-Гарант», 1996 — 413 с.
ISBN 5-900241-05-Х
Издательство «ИЦ-Гарант», г. Москва, Кутузовский пр., 10.
Тел./факс 290-29-17; e-mail: iz@glas.apc.org
ЛР № 061109 от 23.04.92. Подписано в печать 27.11.95.
Формат 84Х Юв’/зг- Гарнитура Garamond. Объем 26 п. л.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ 809.
АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.