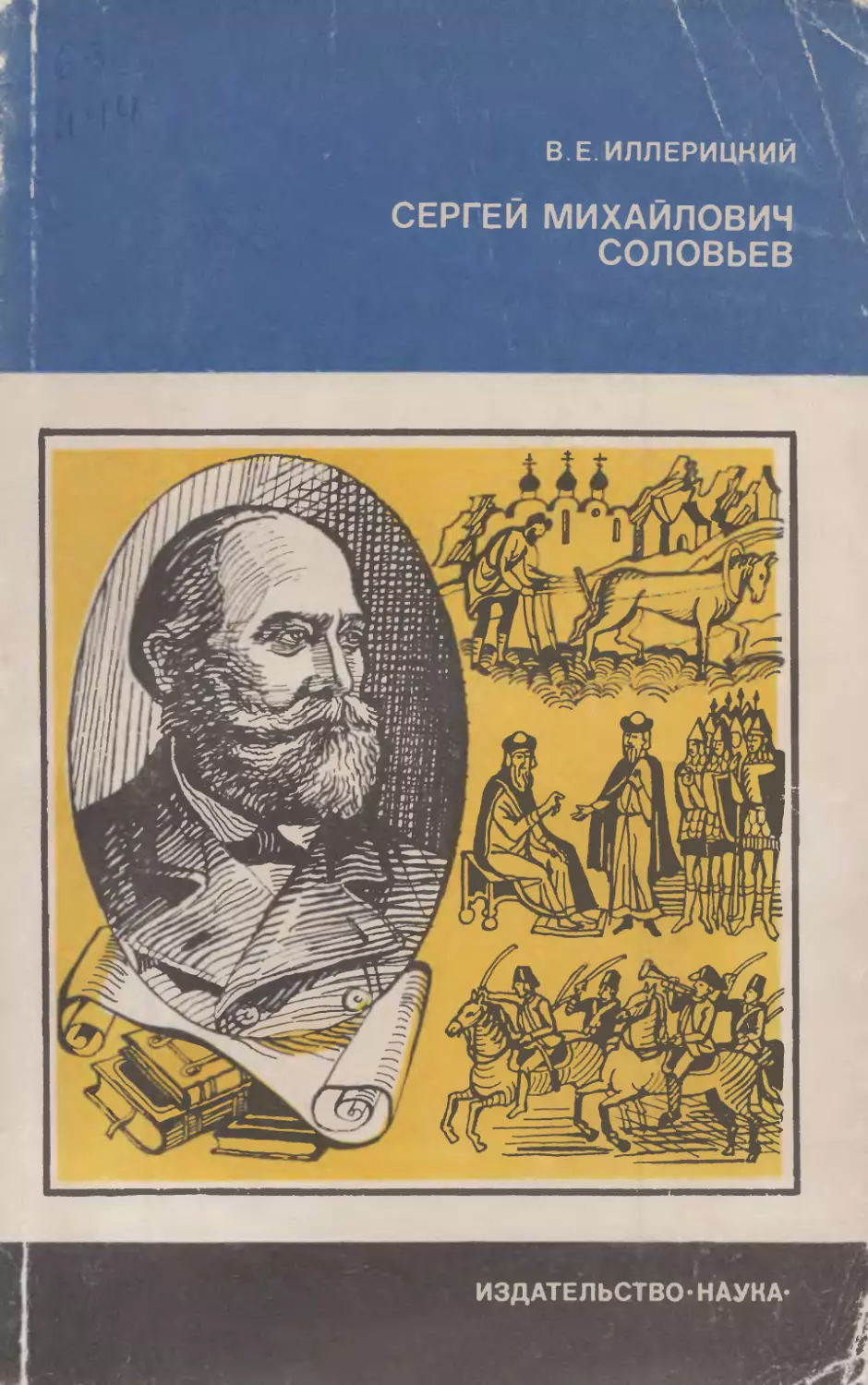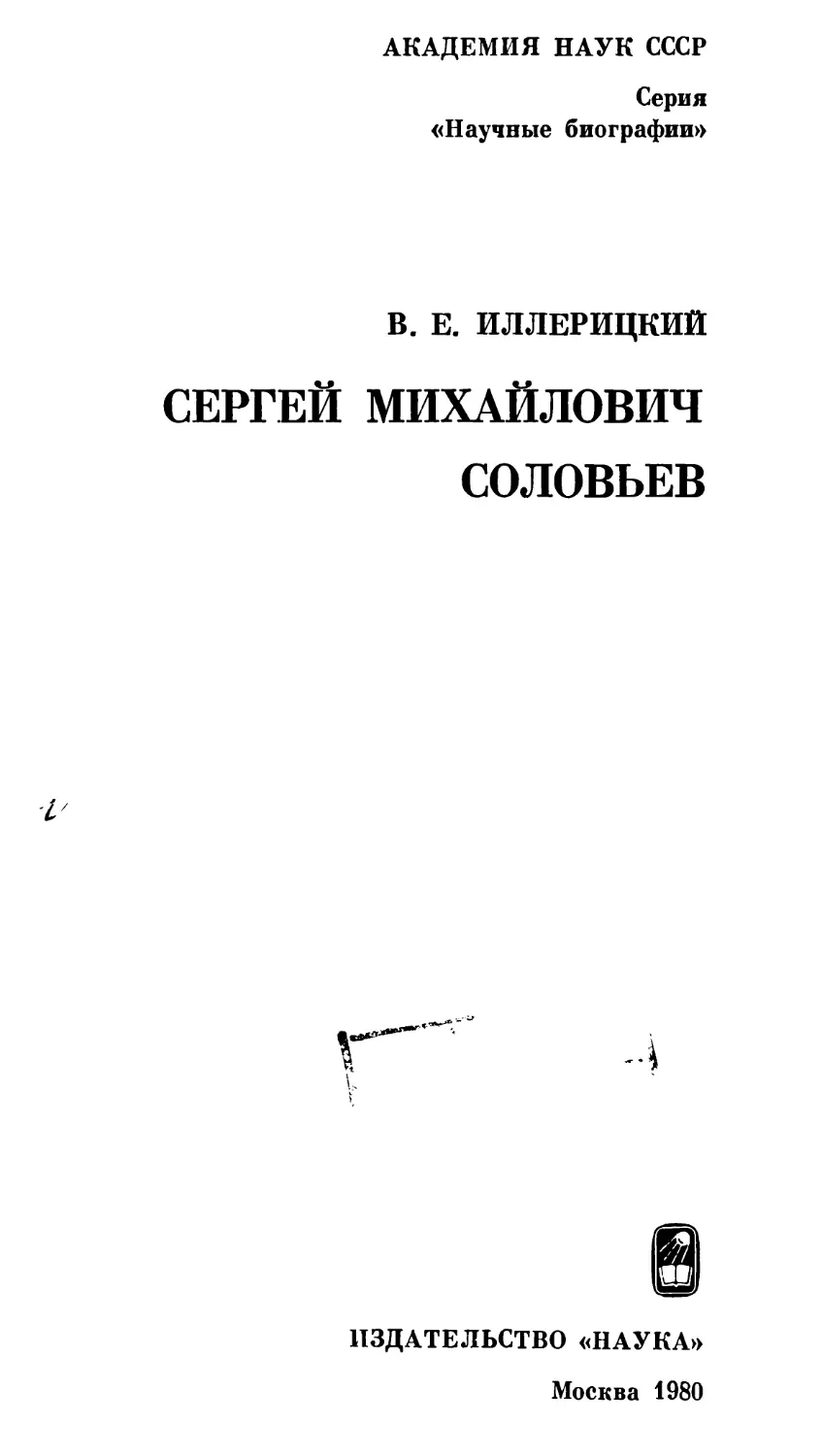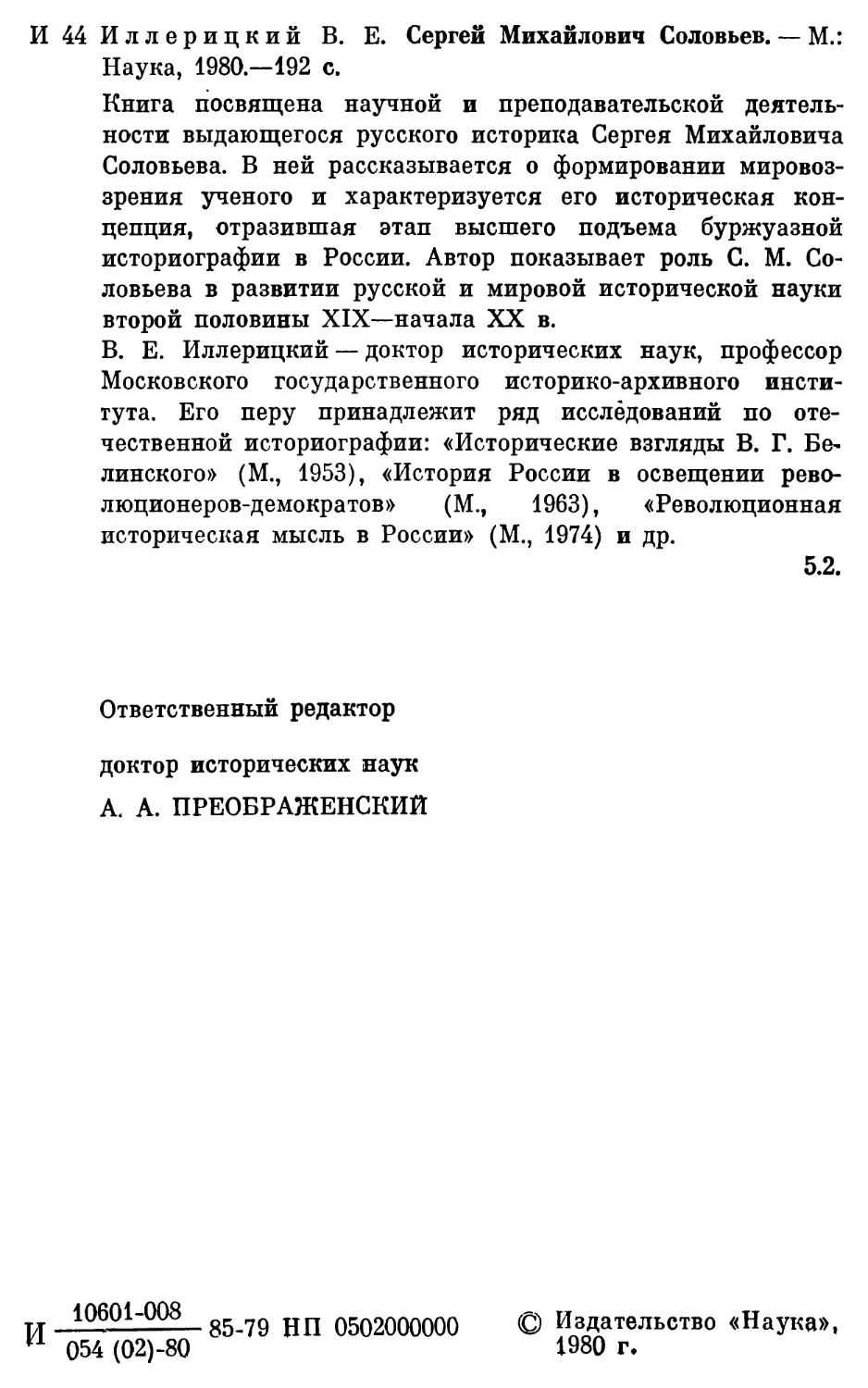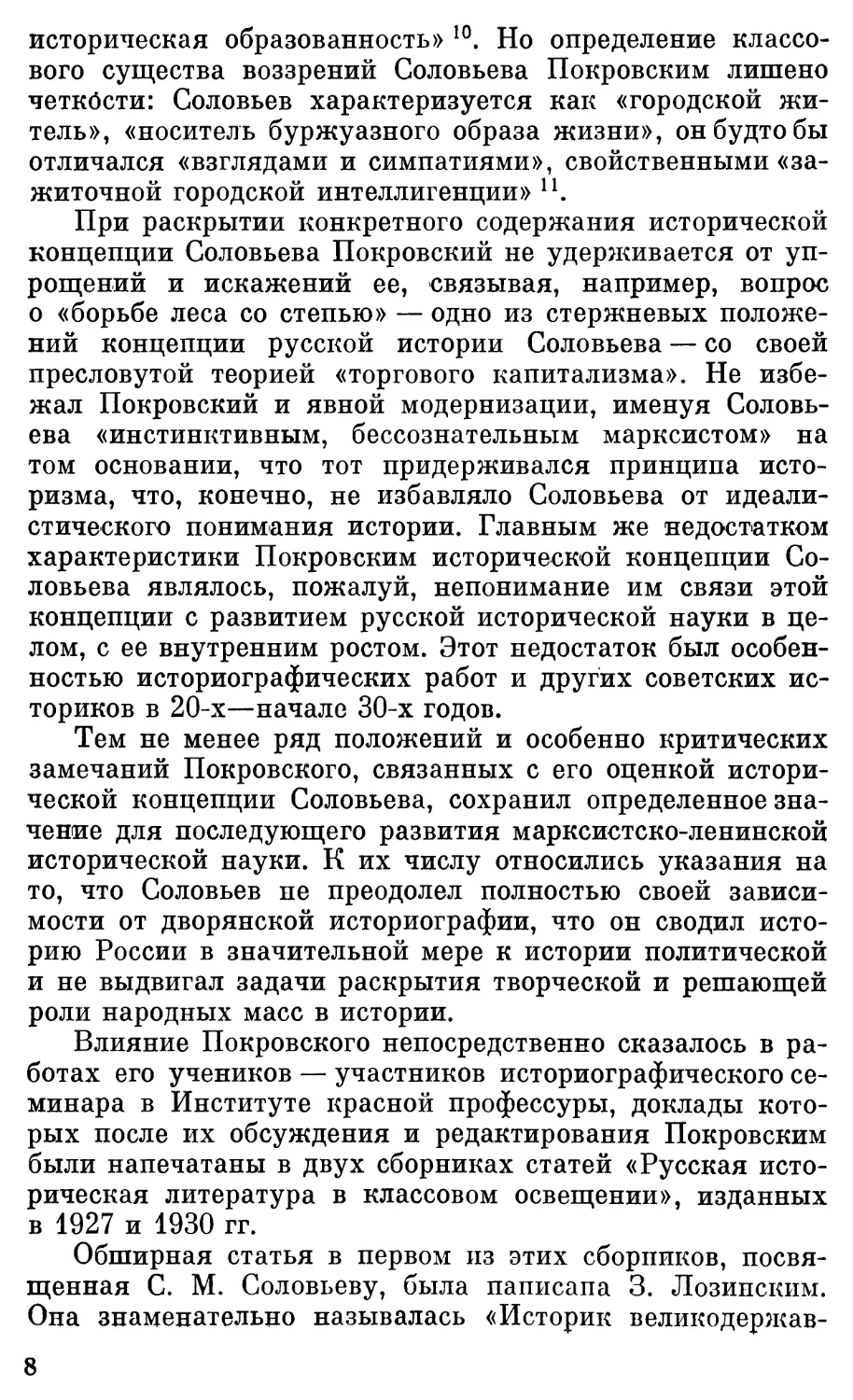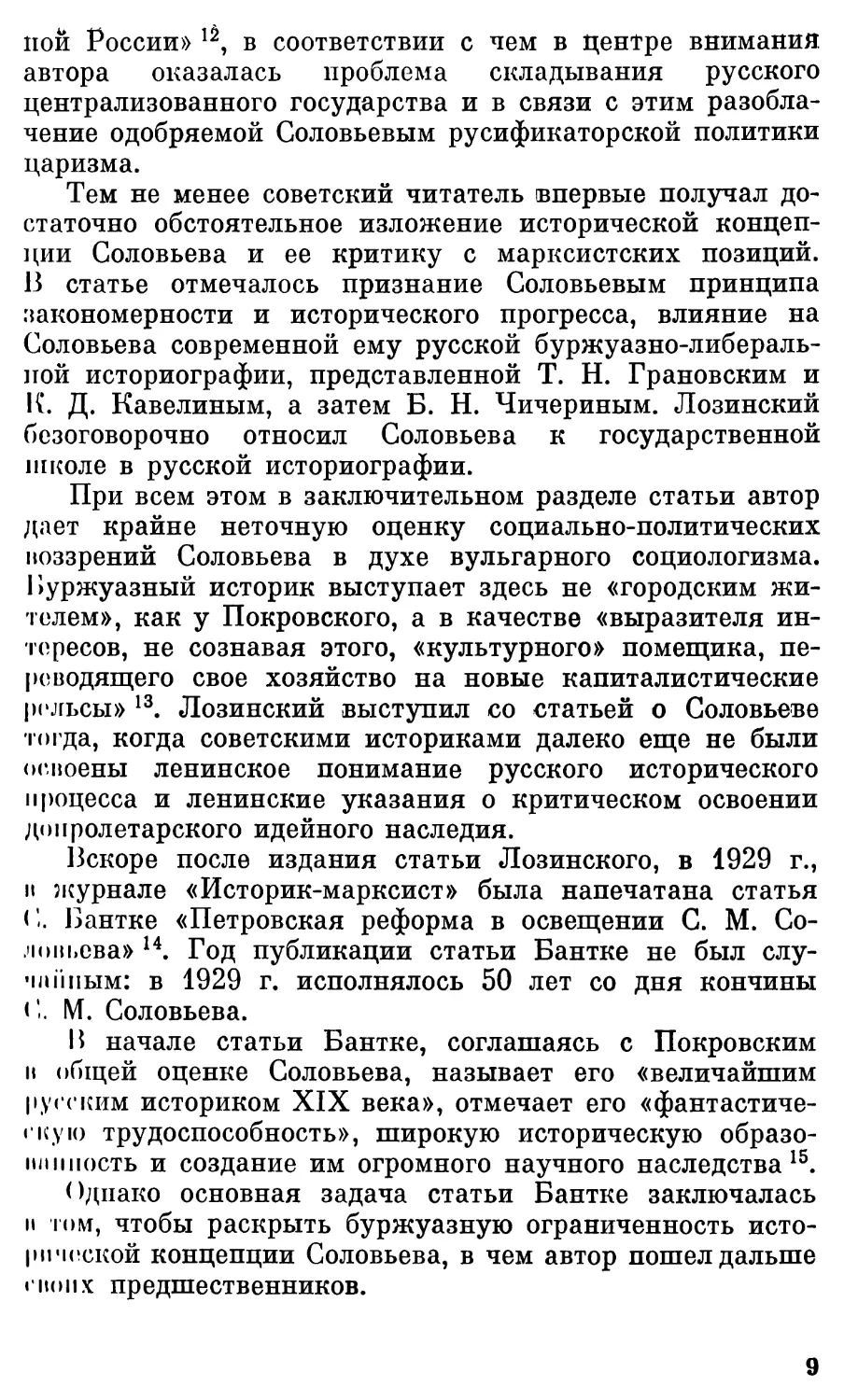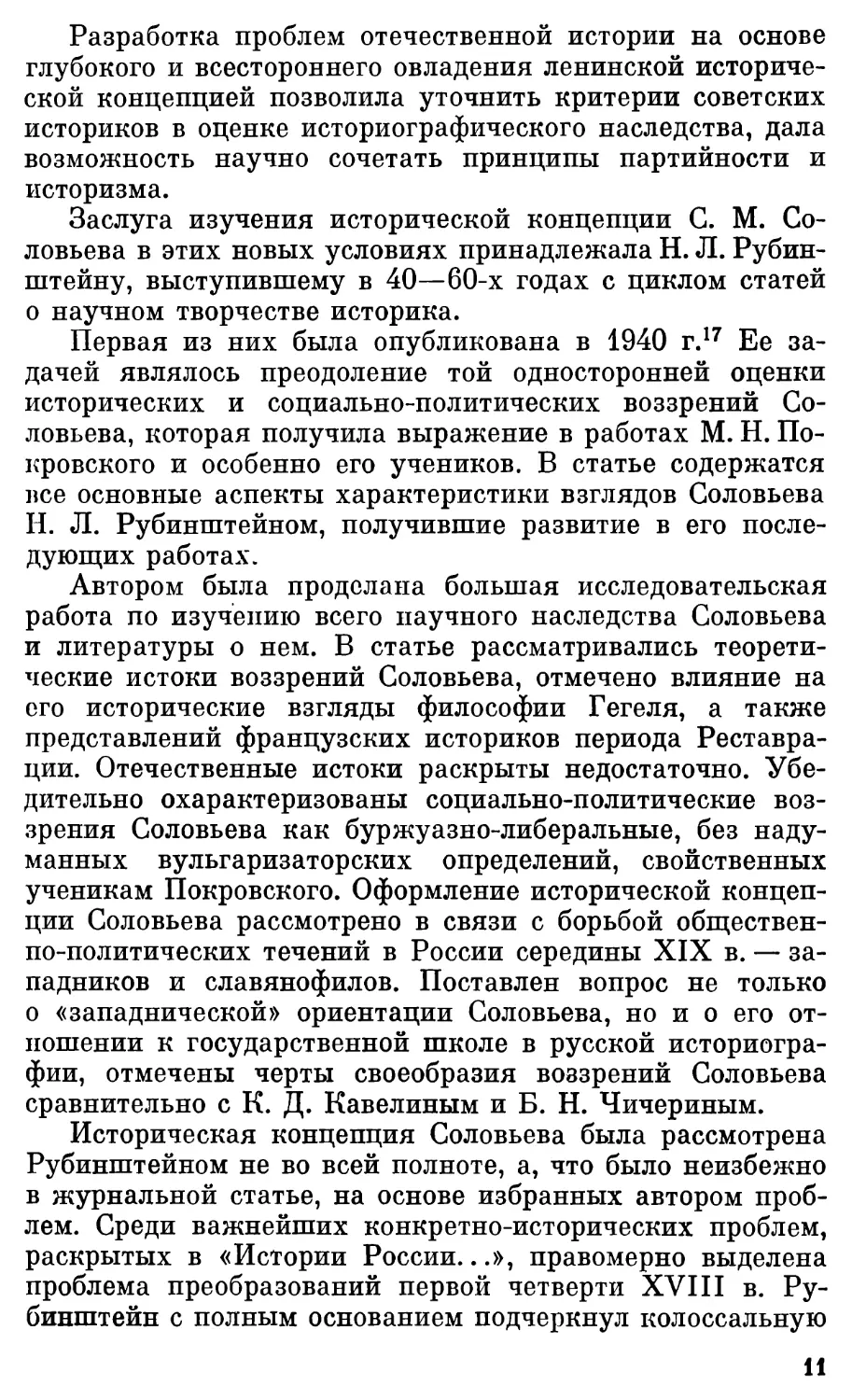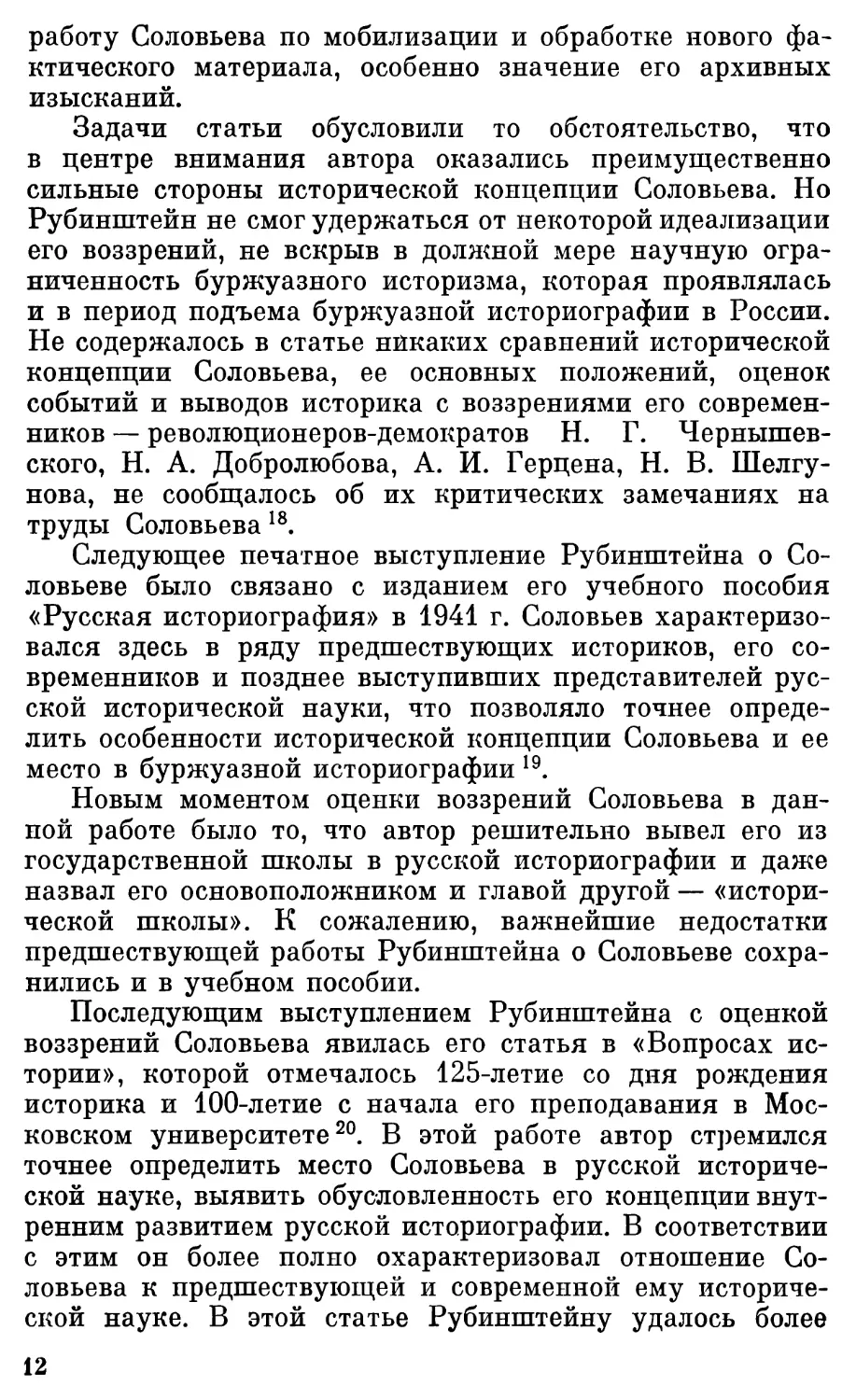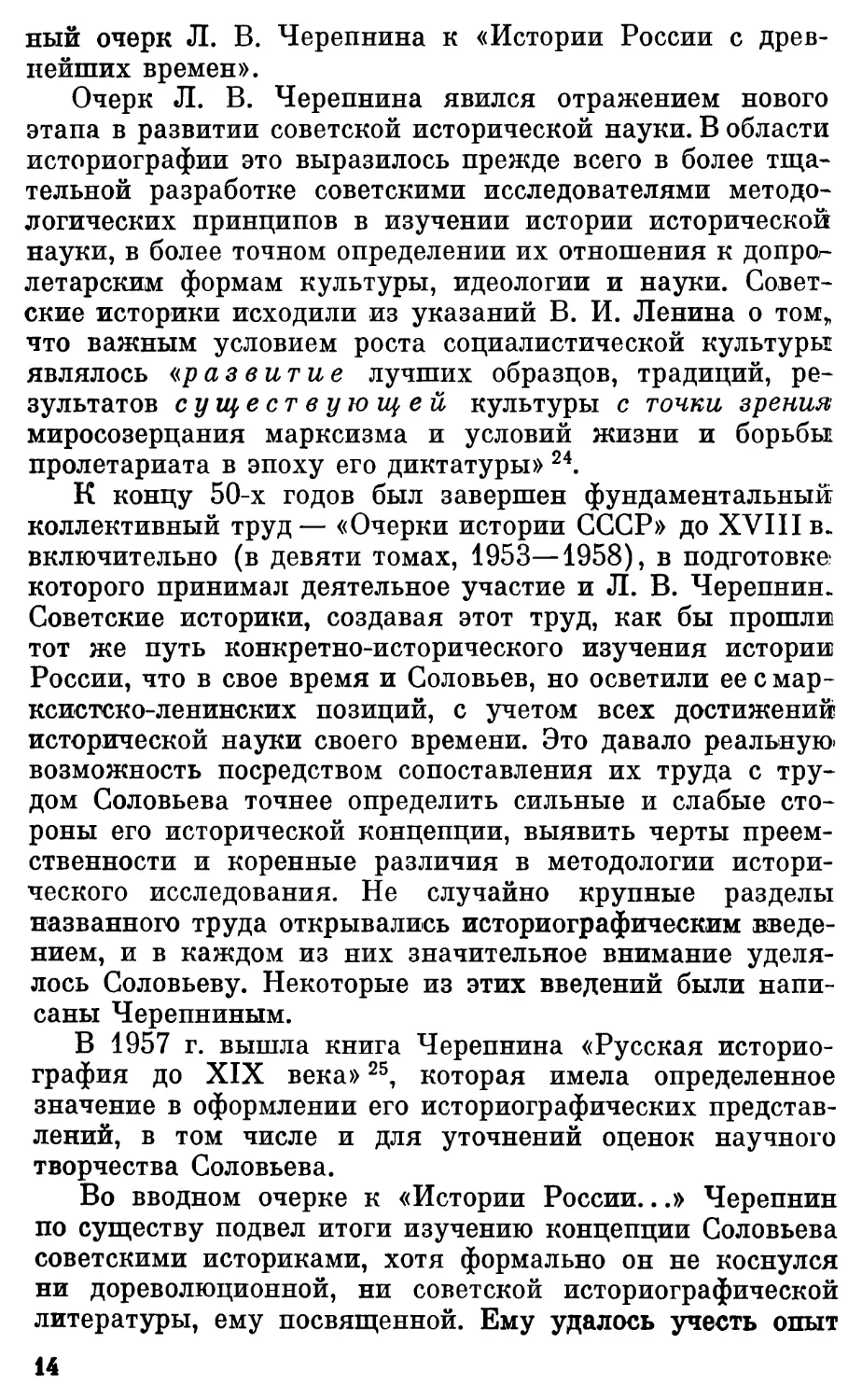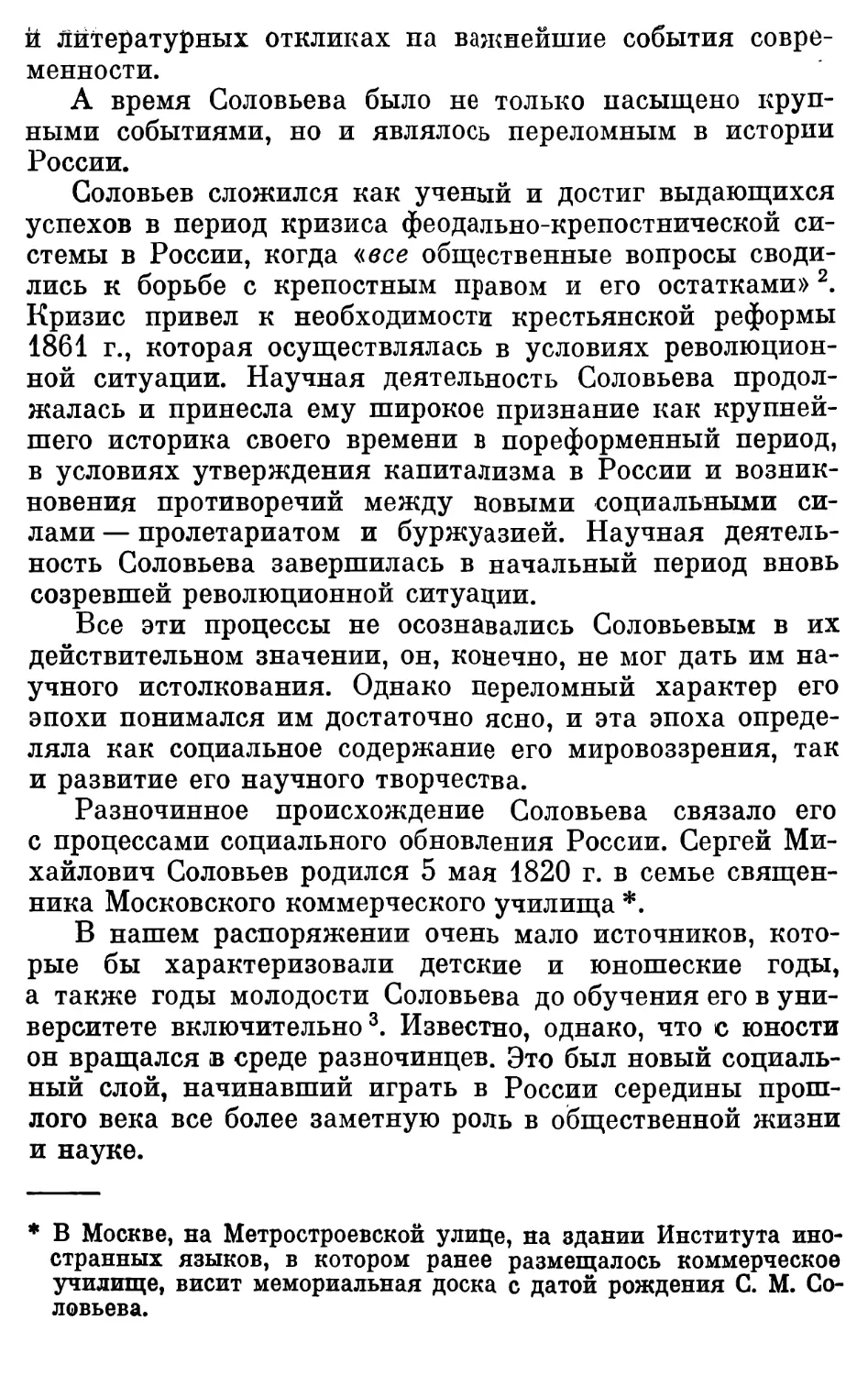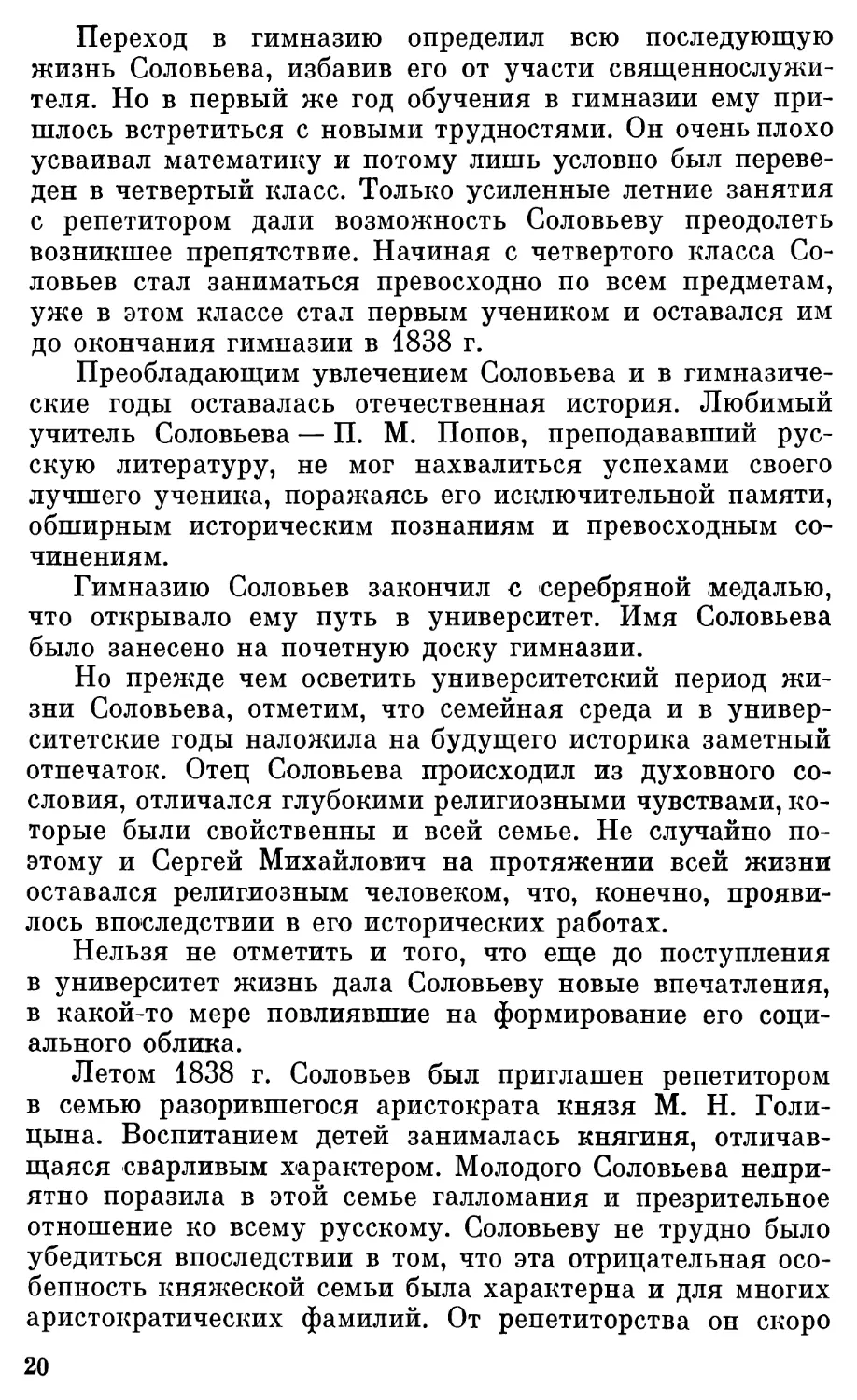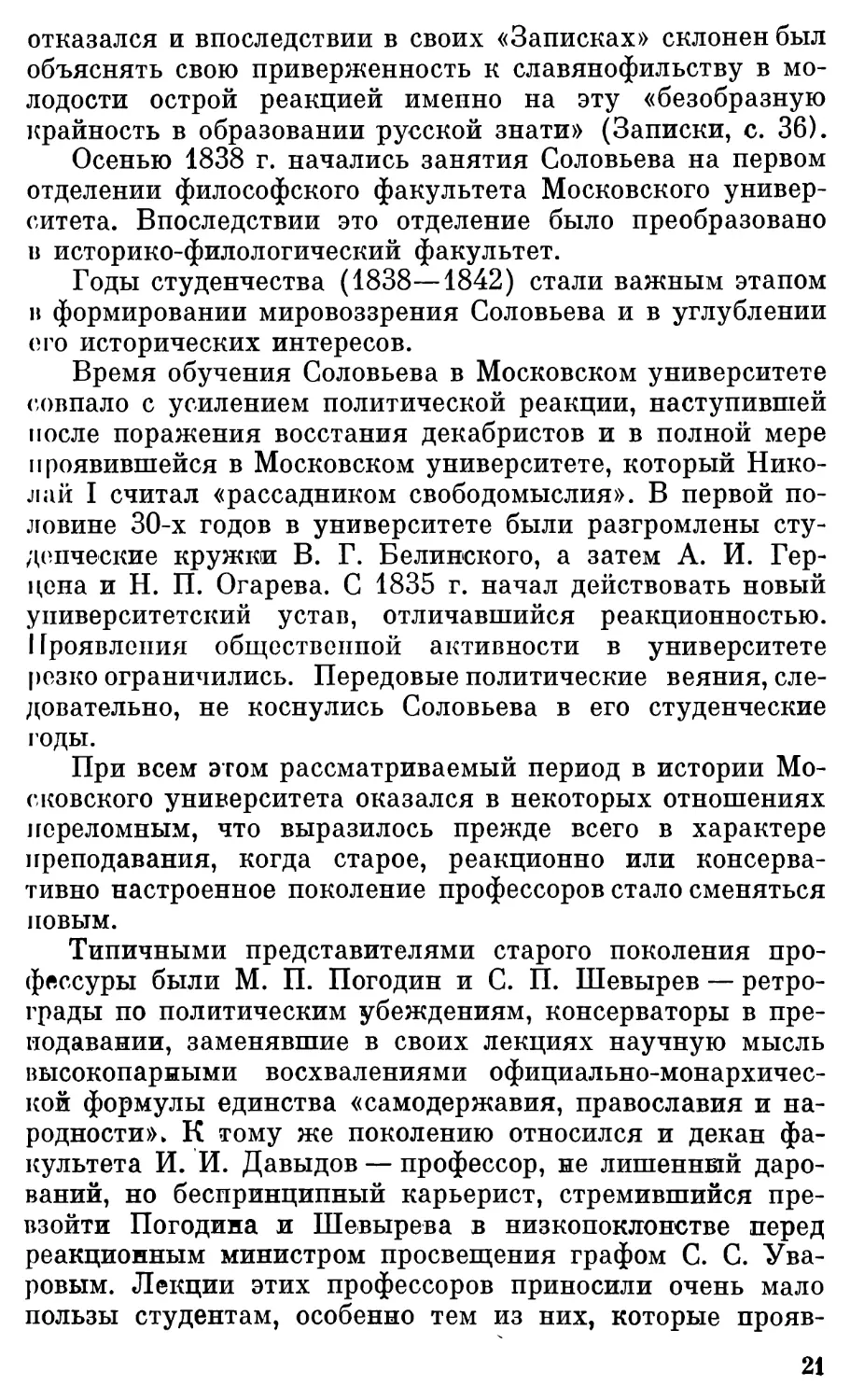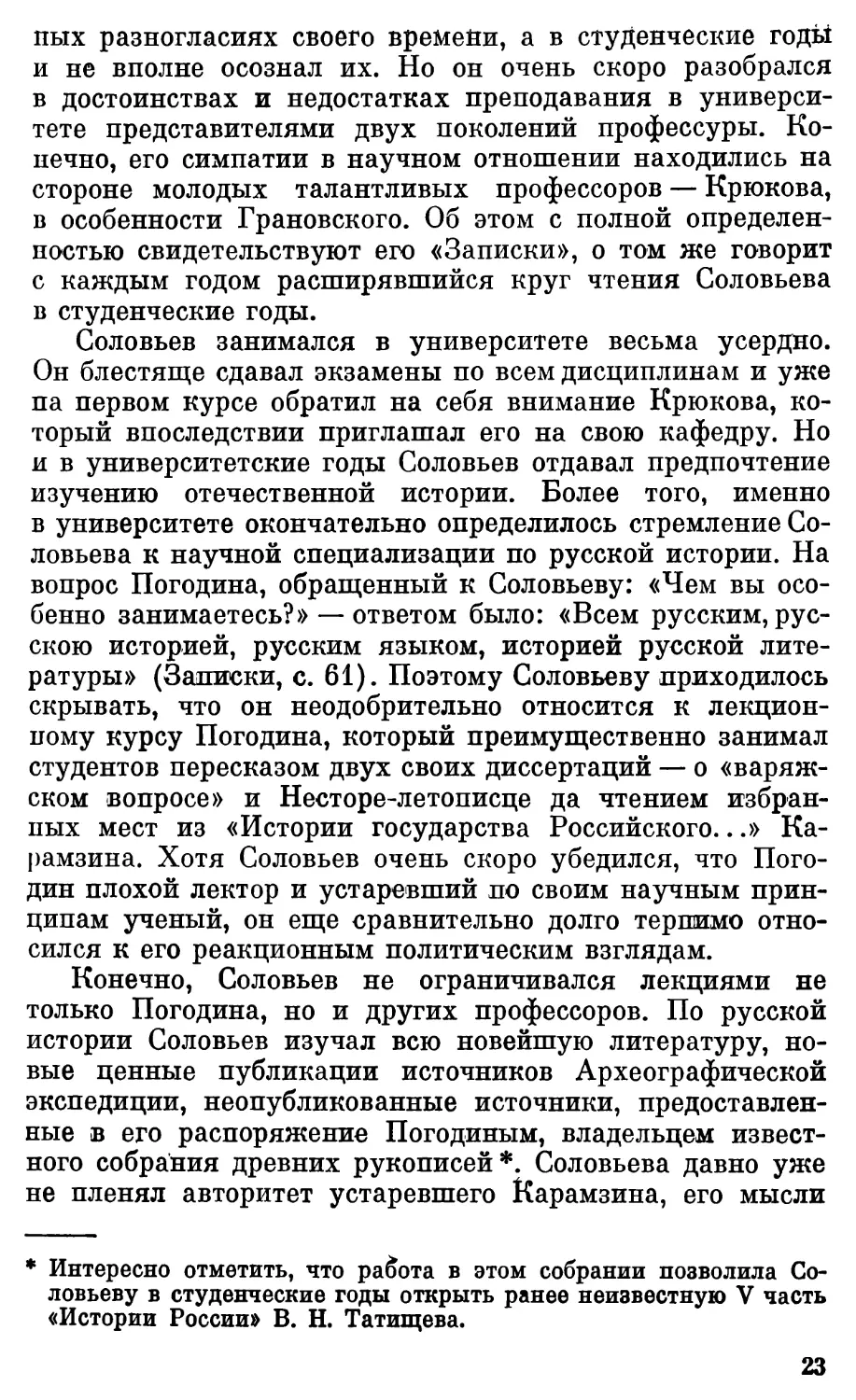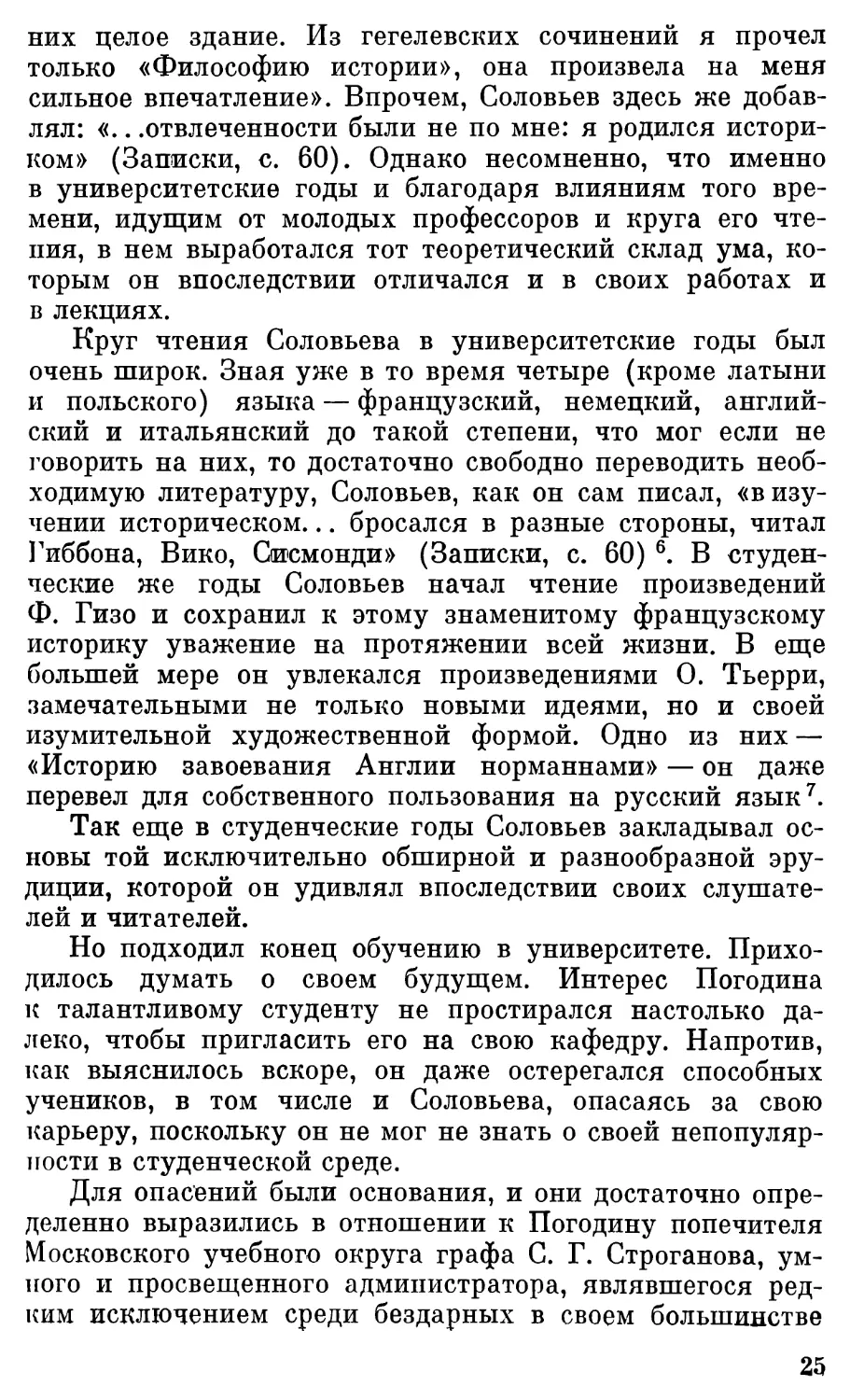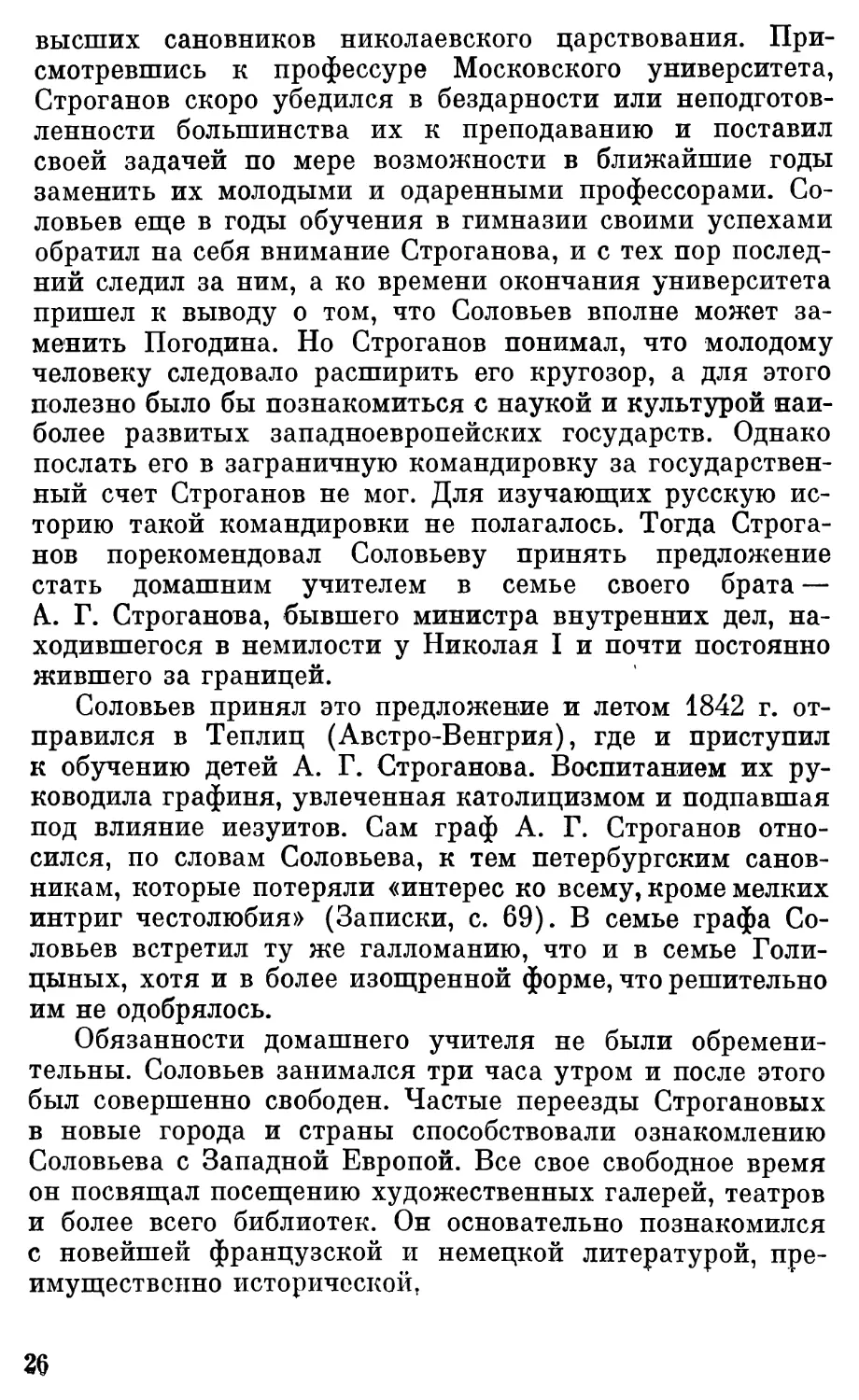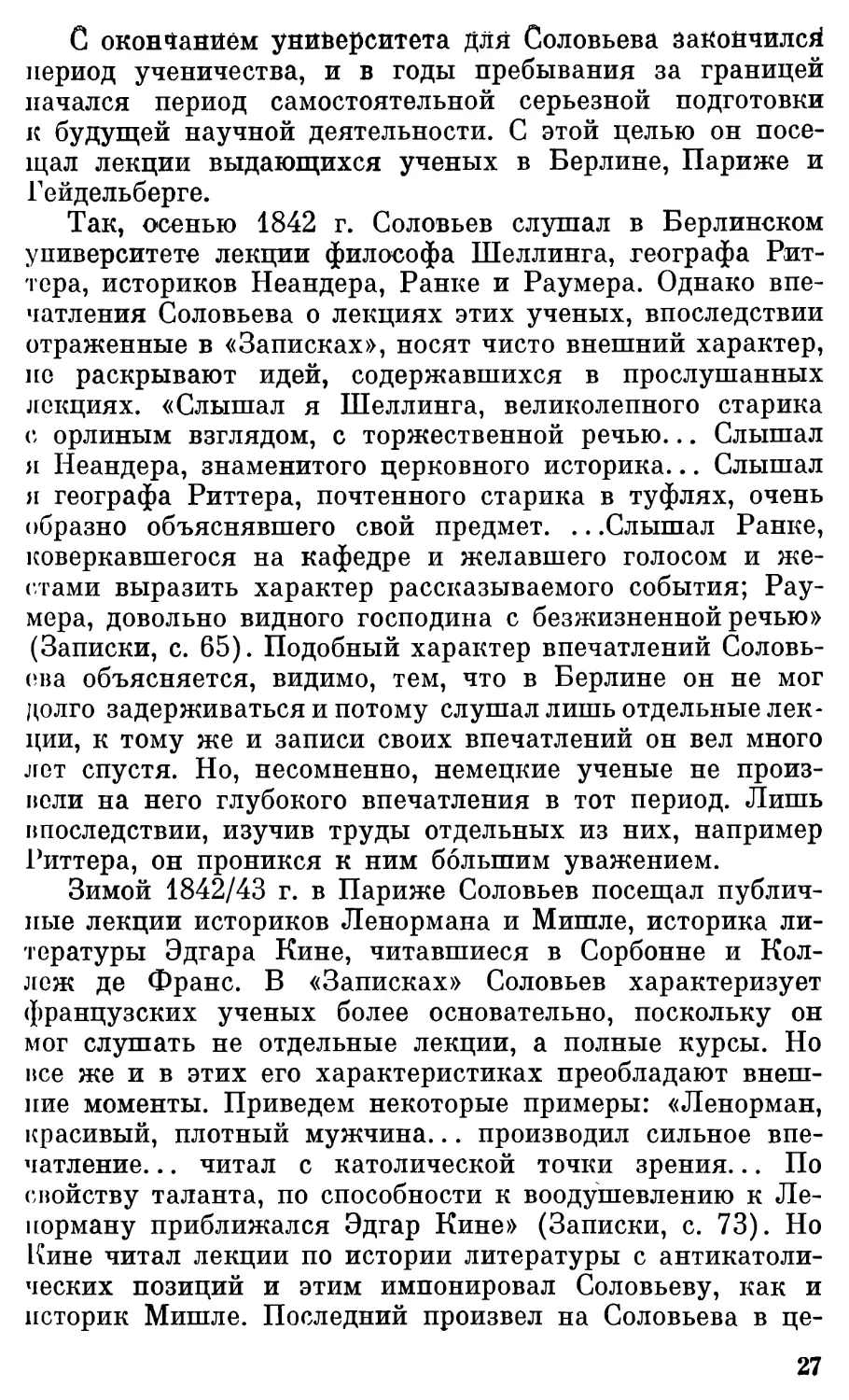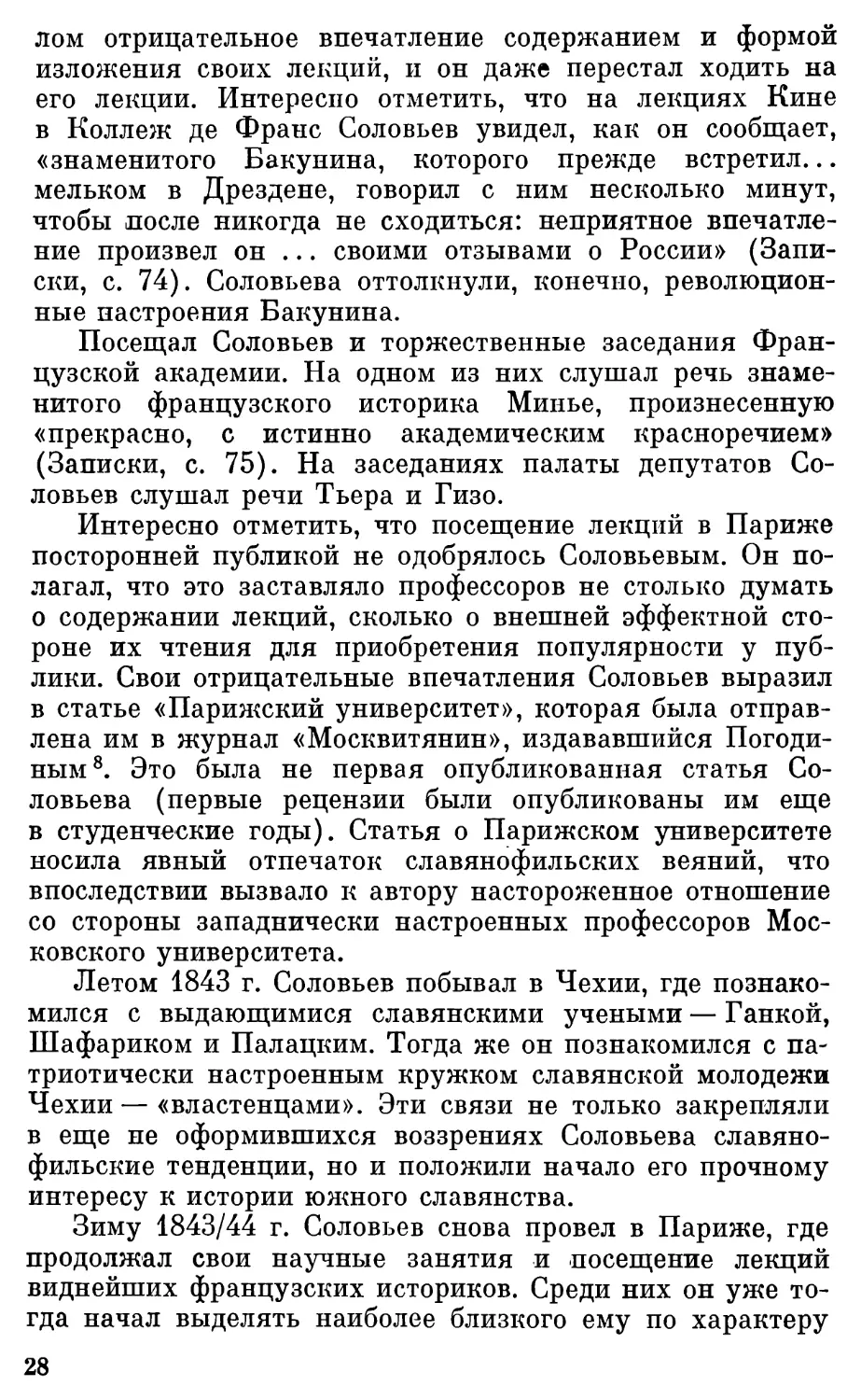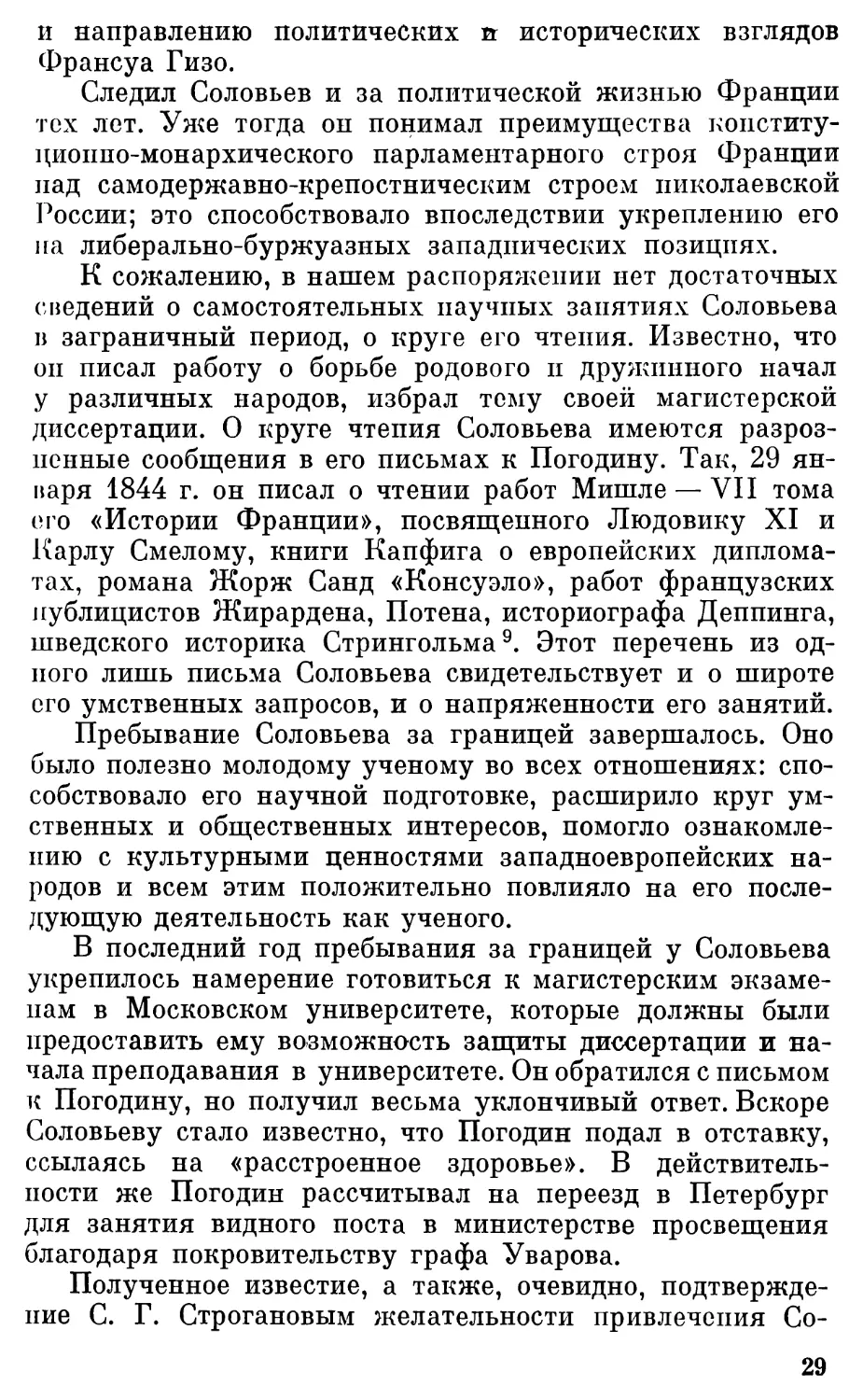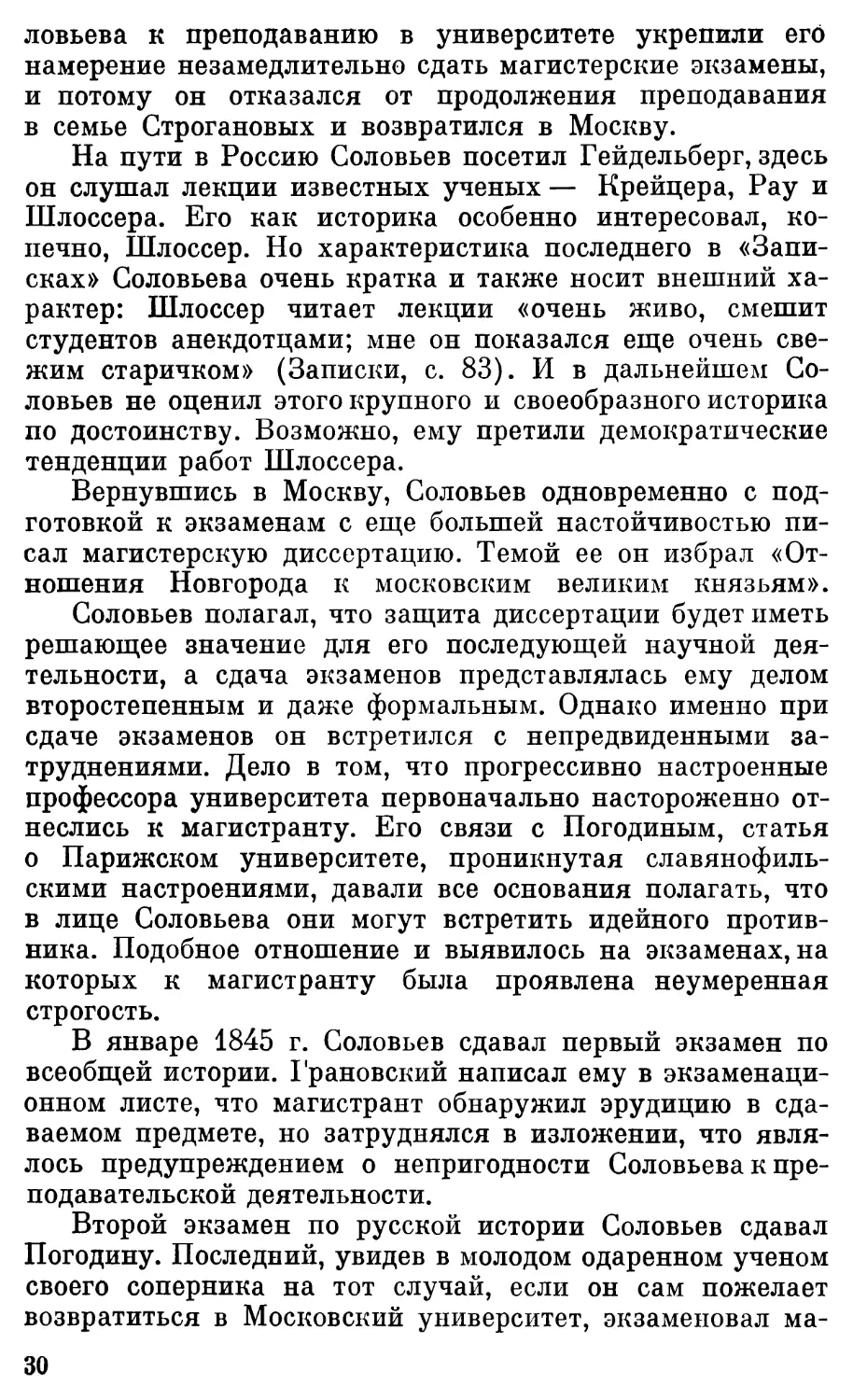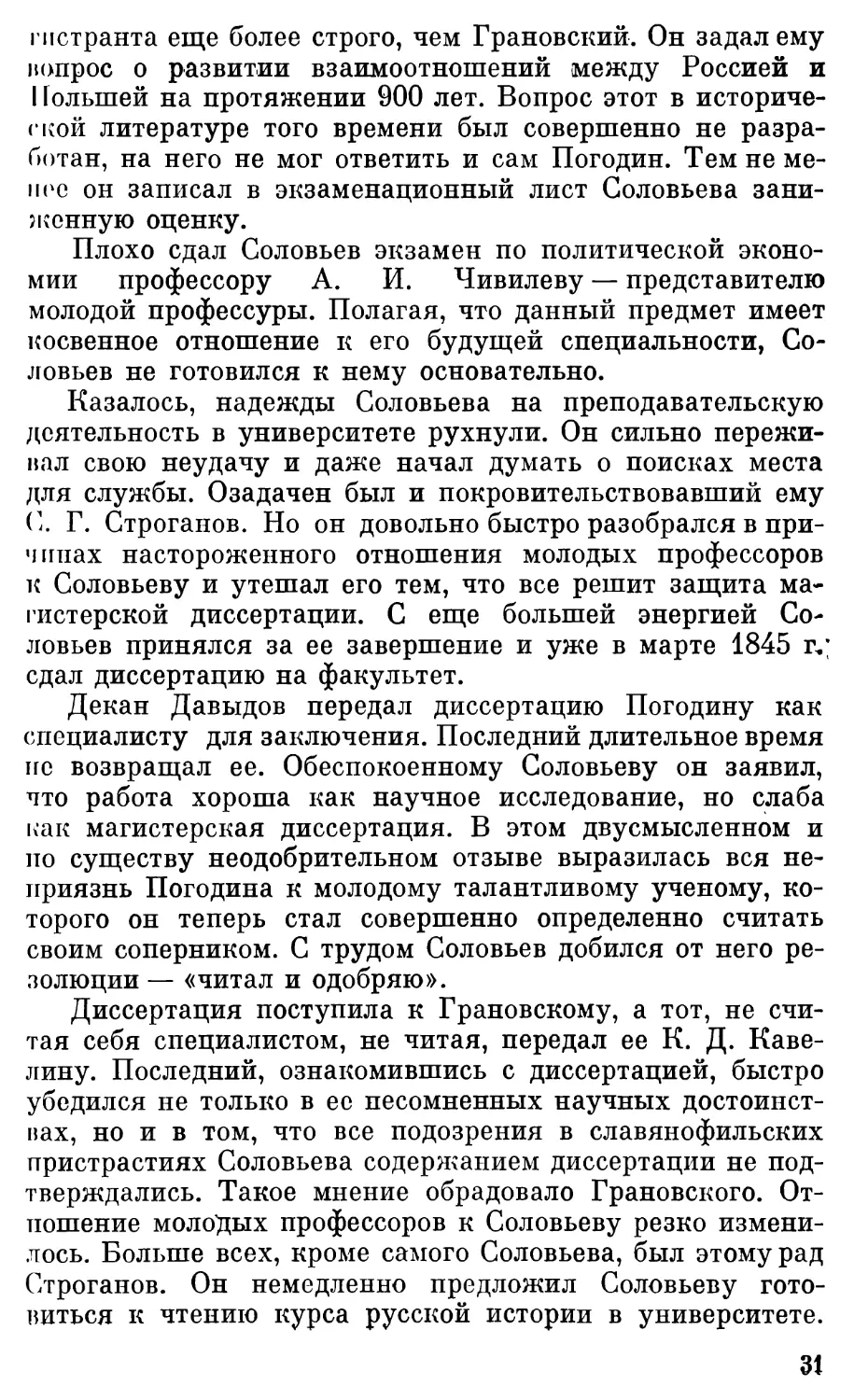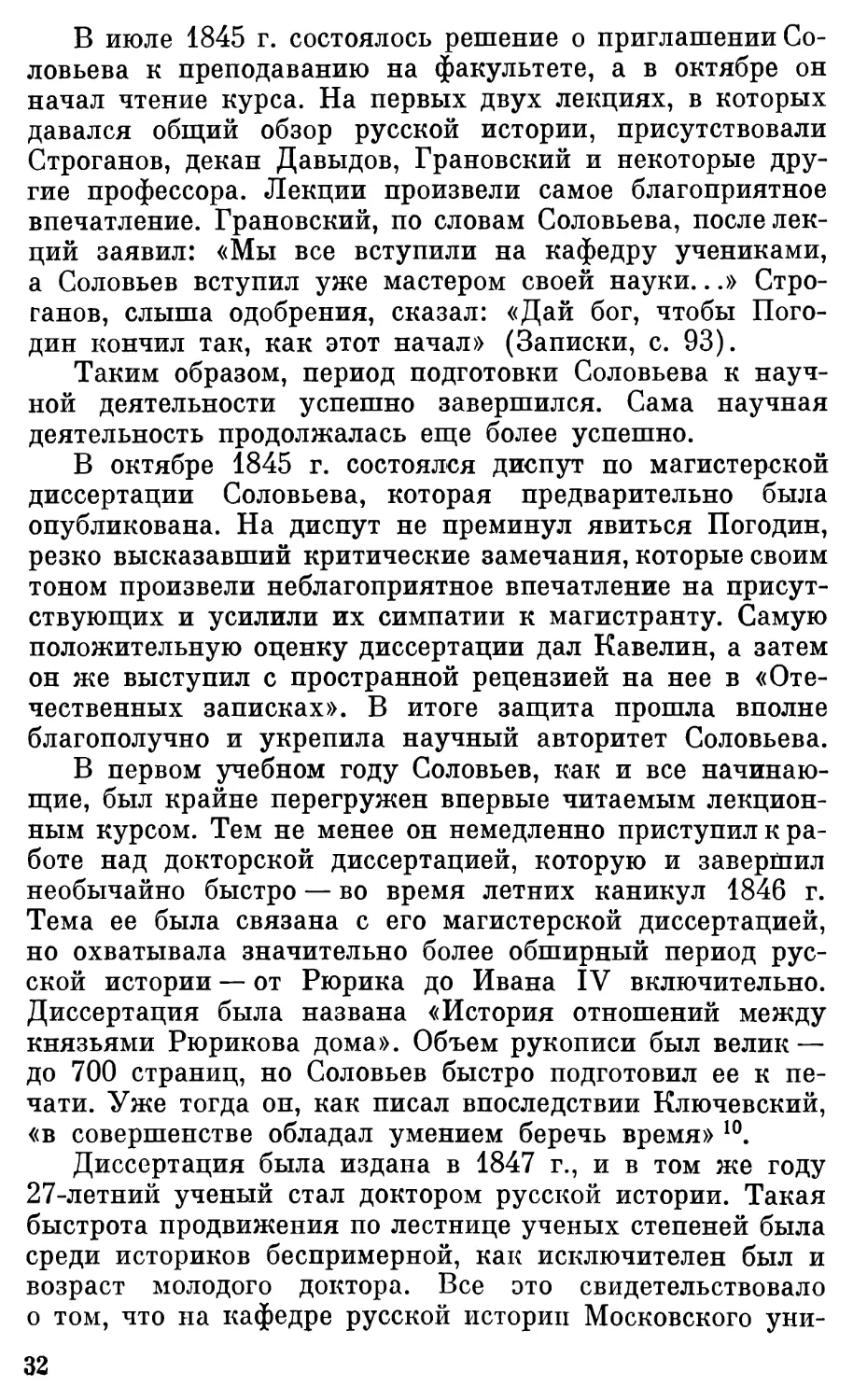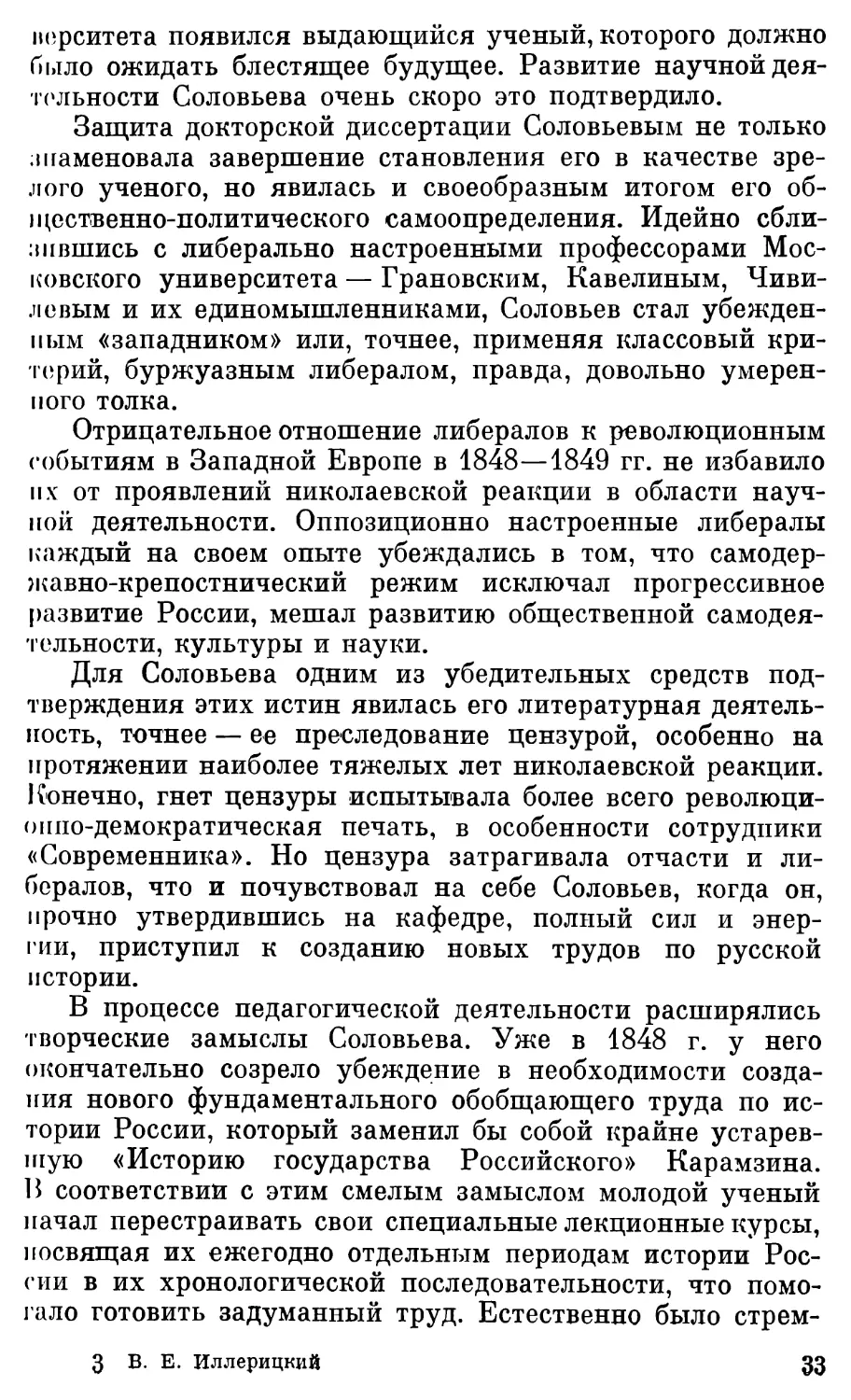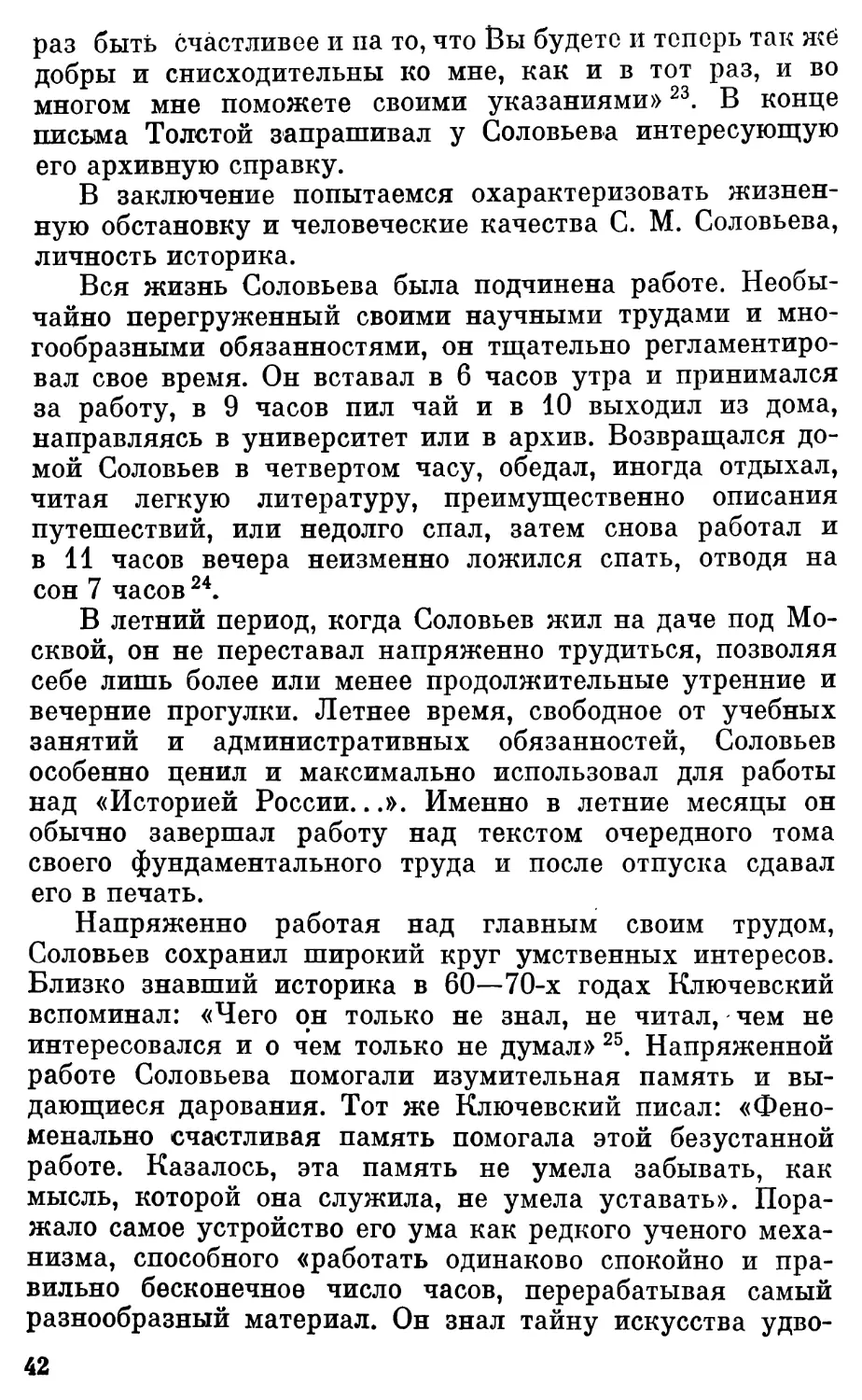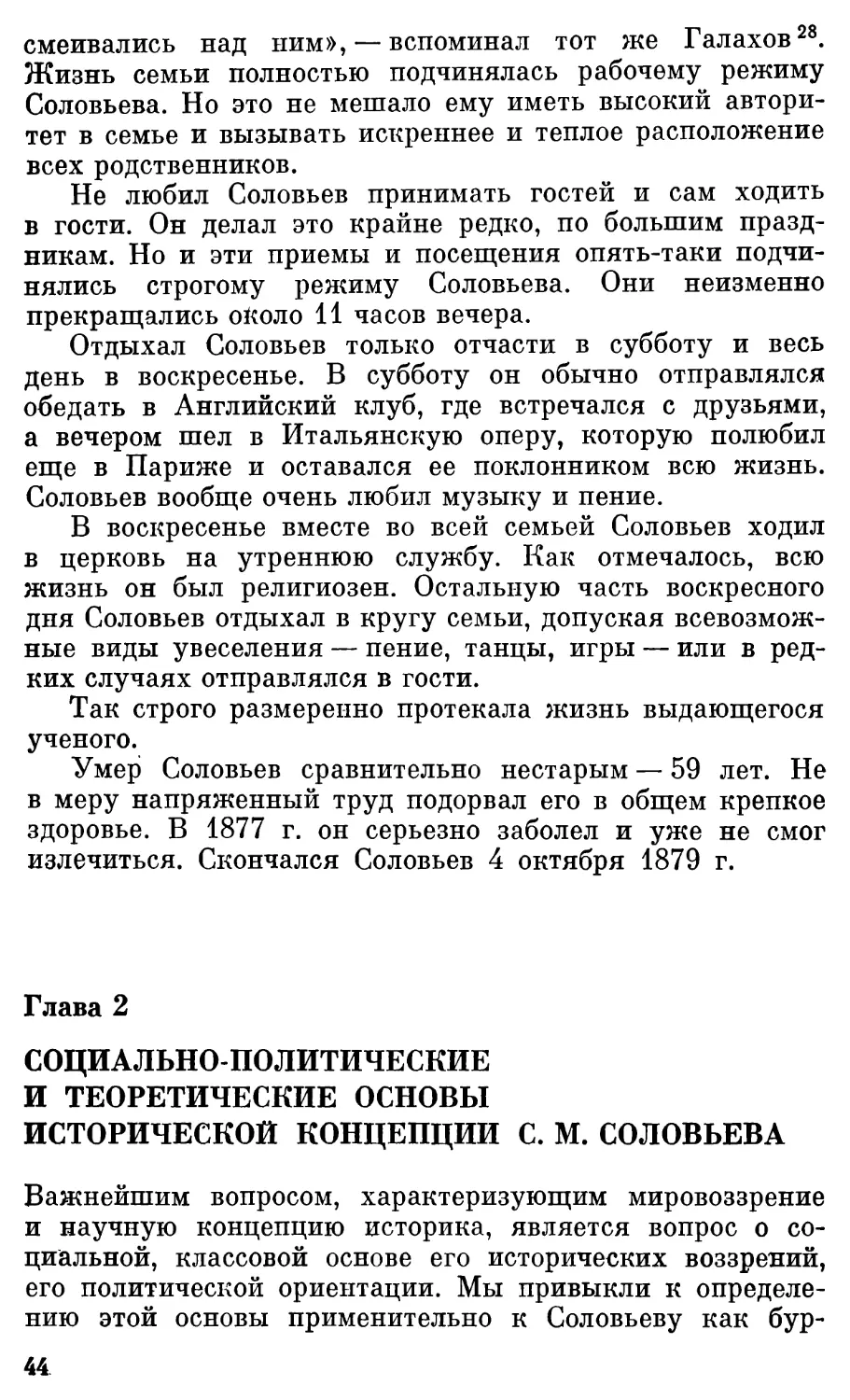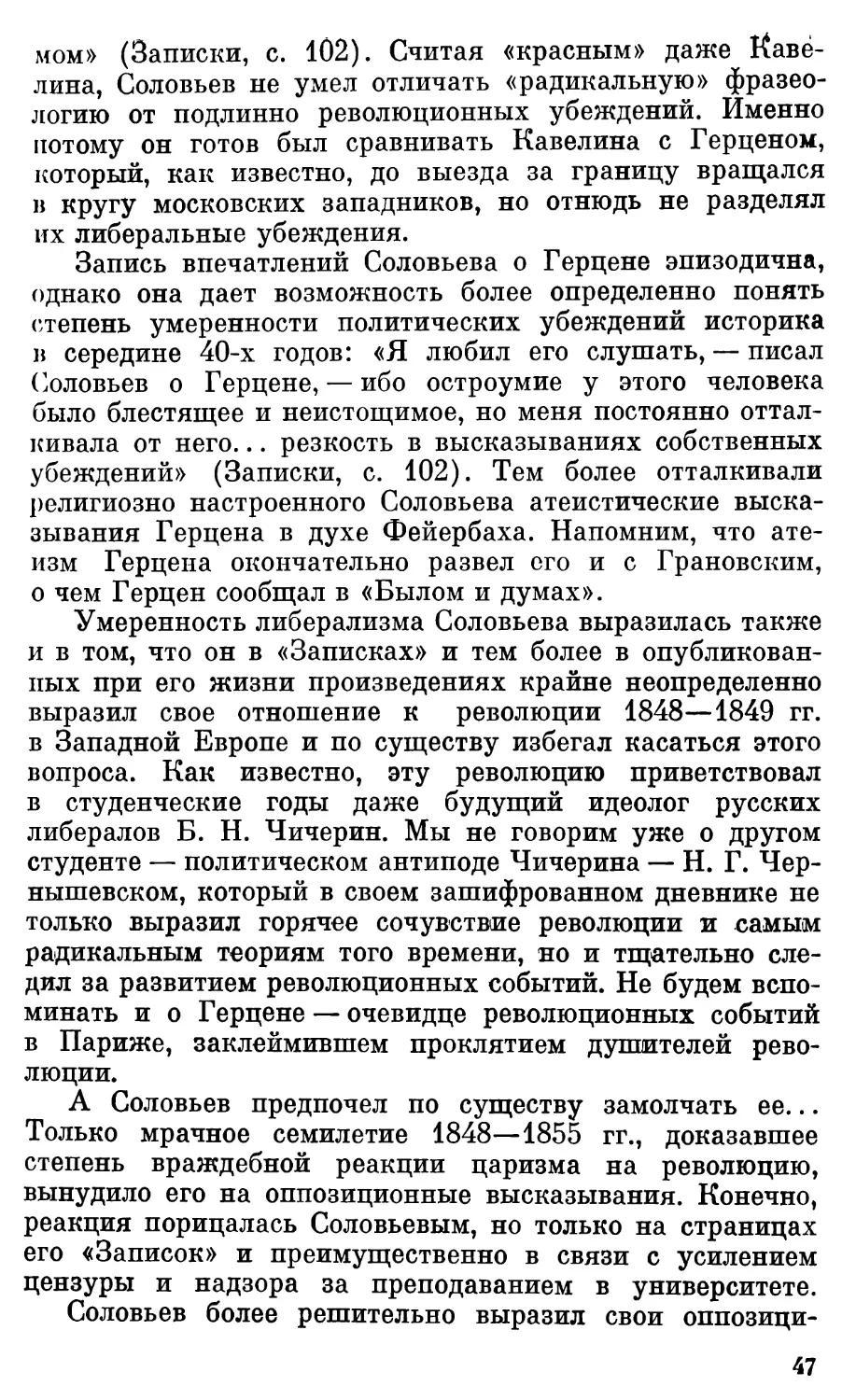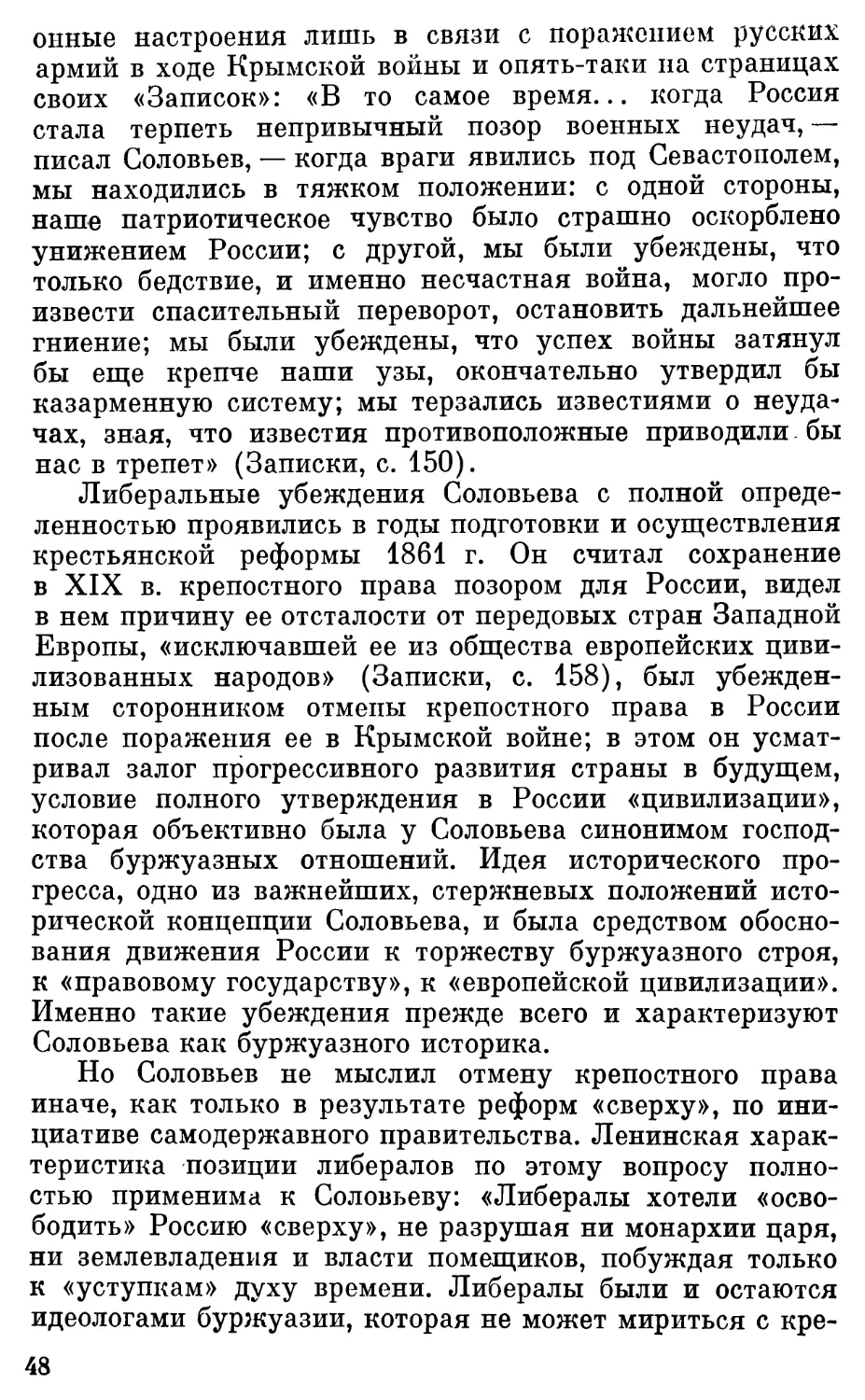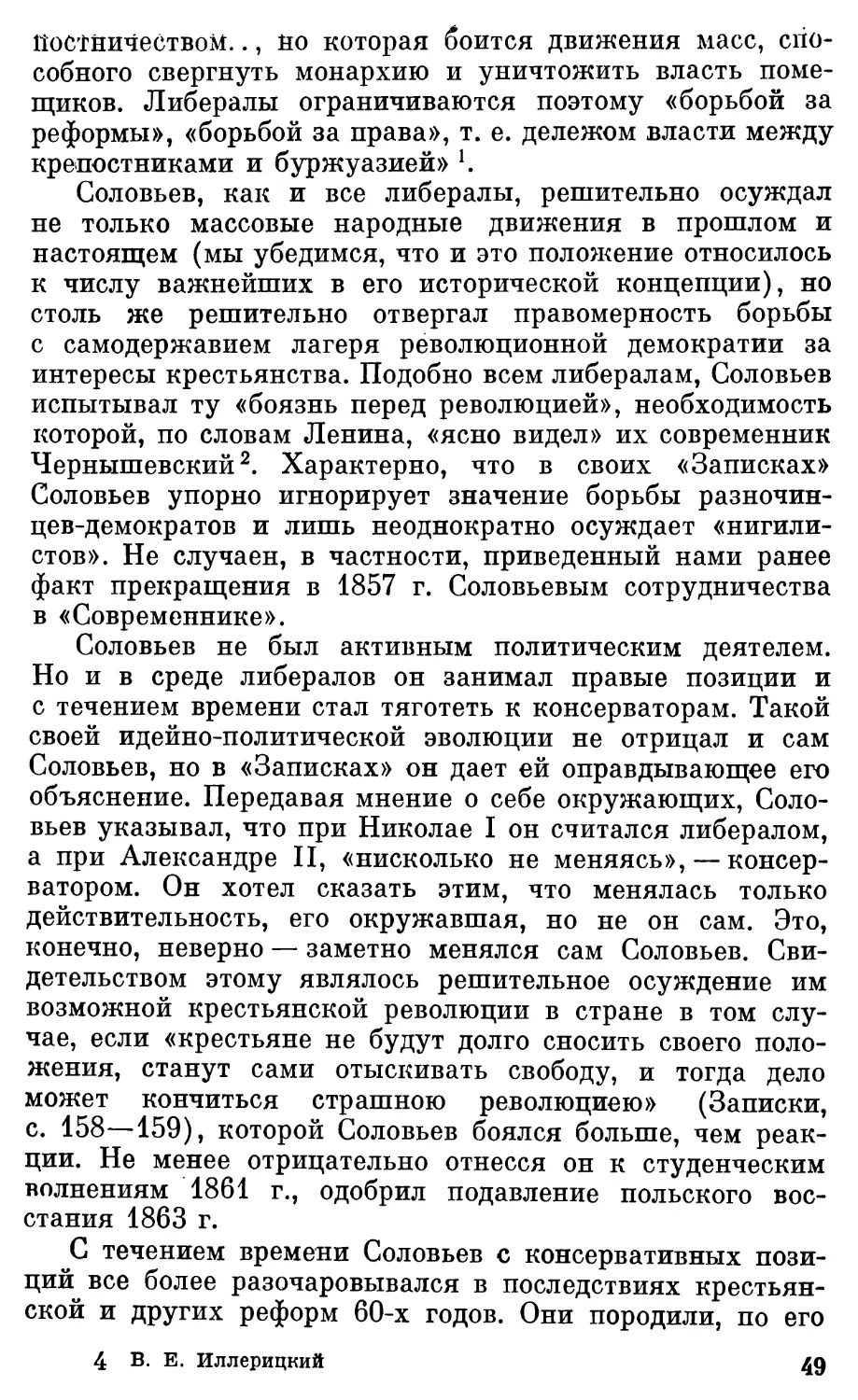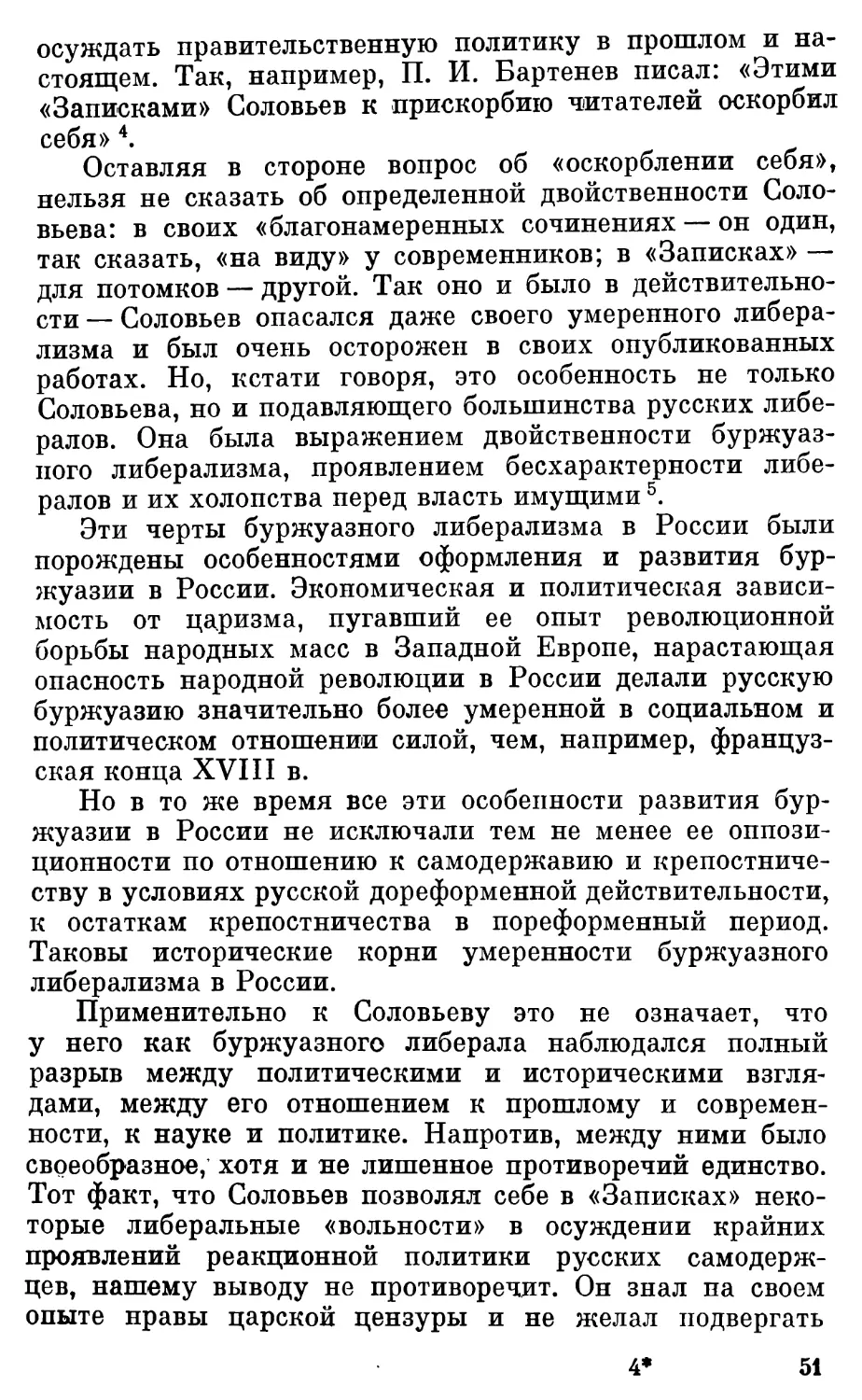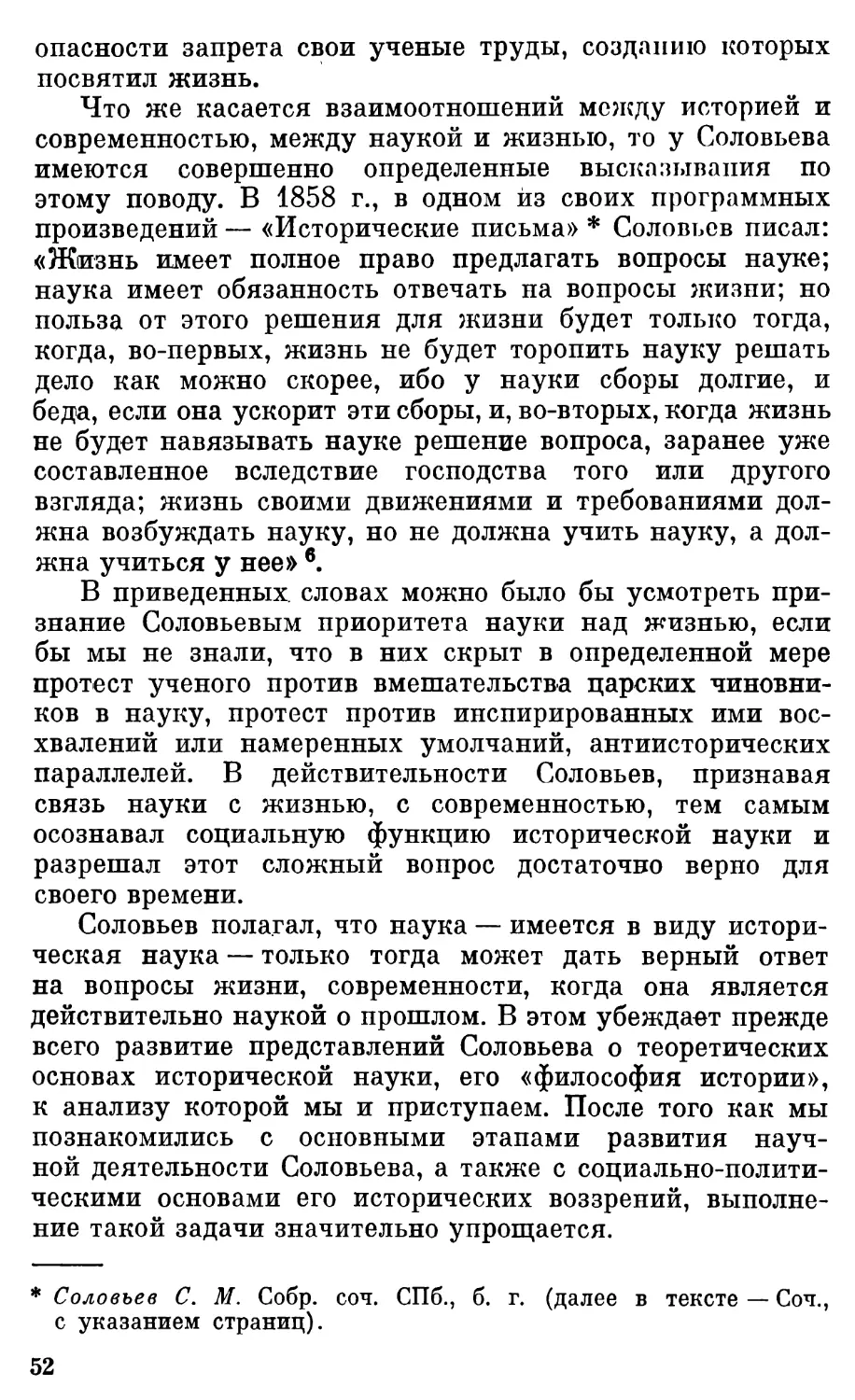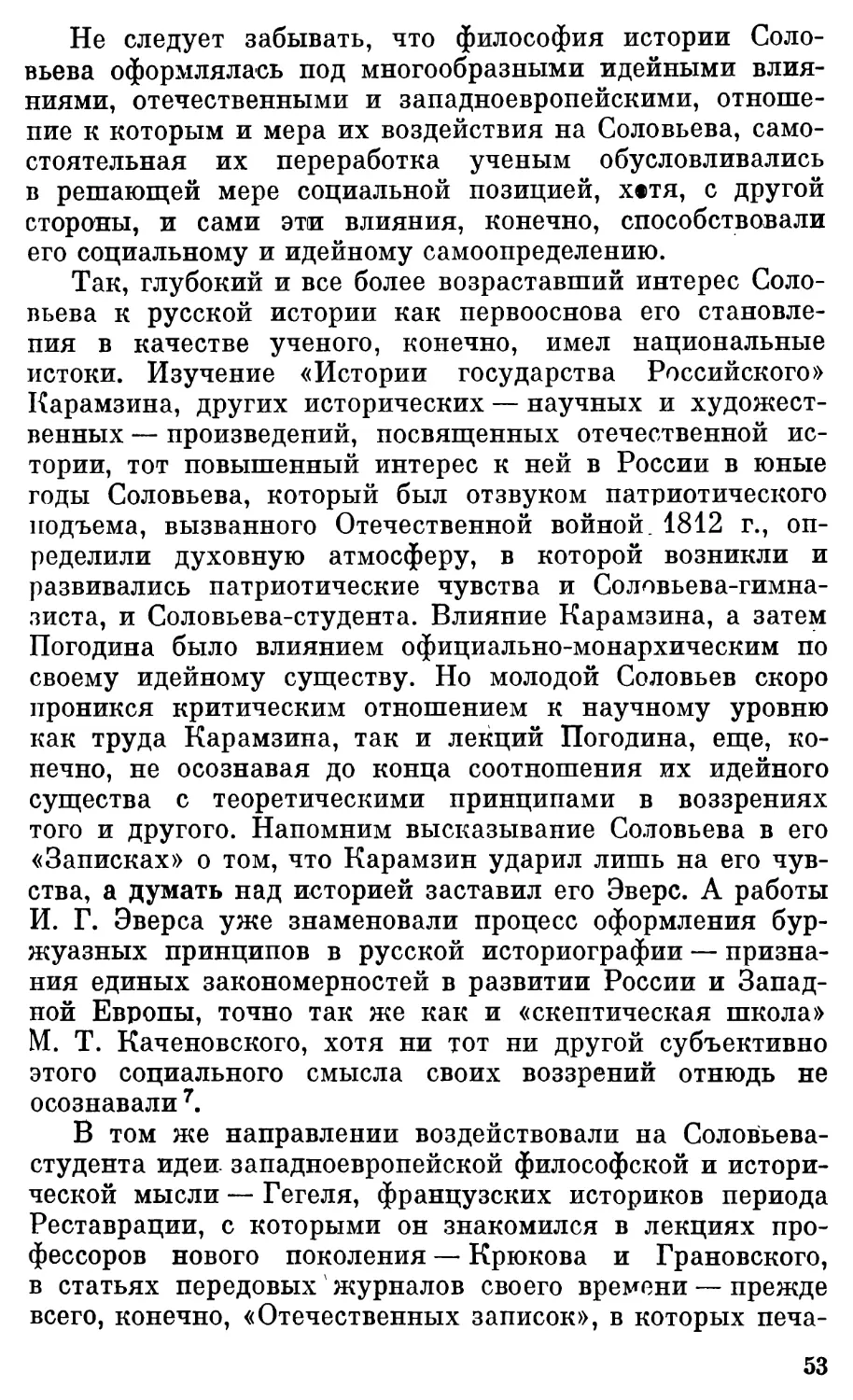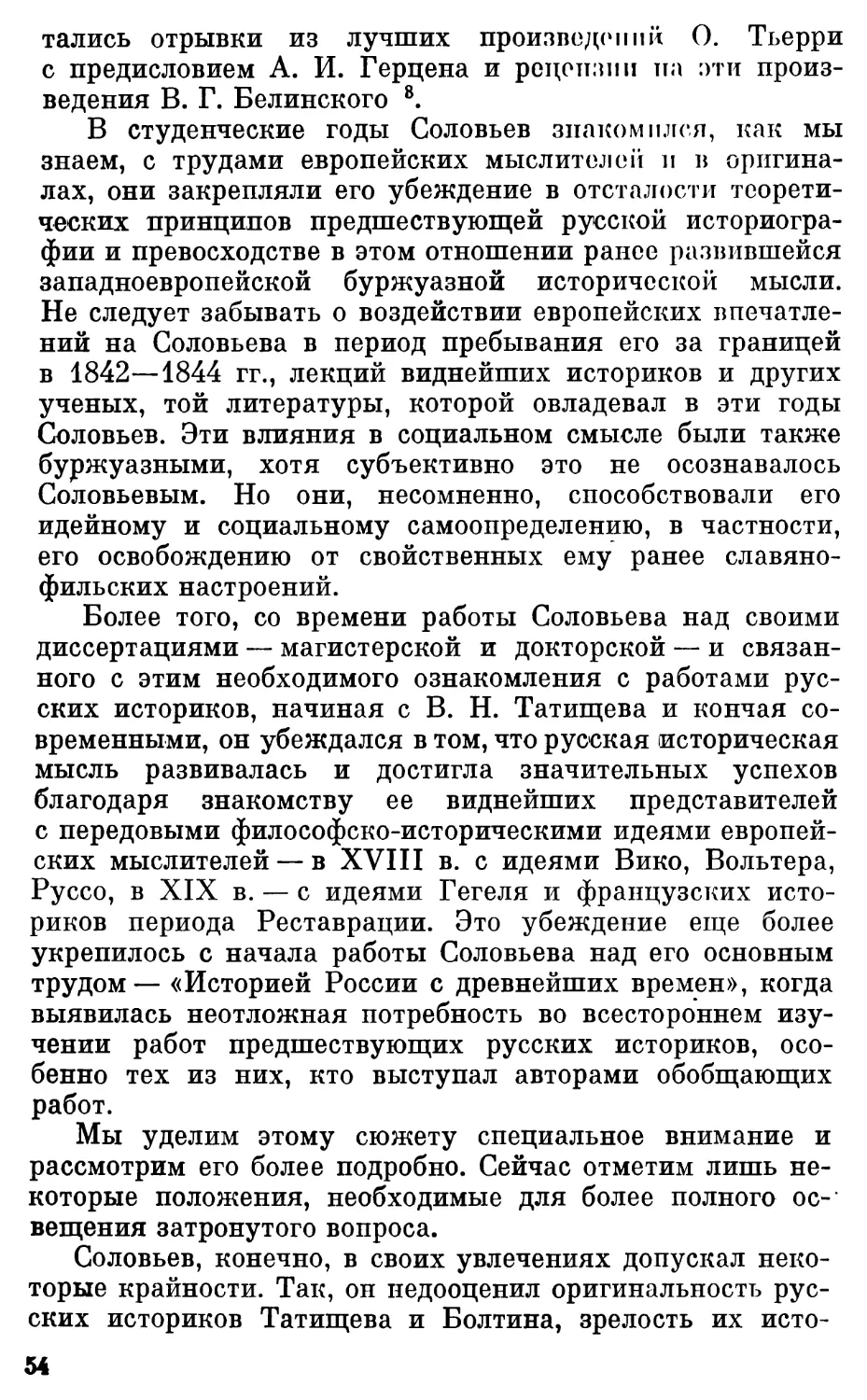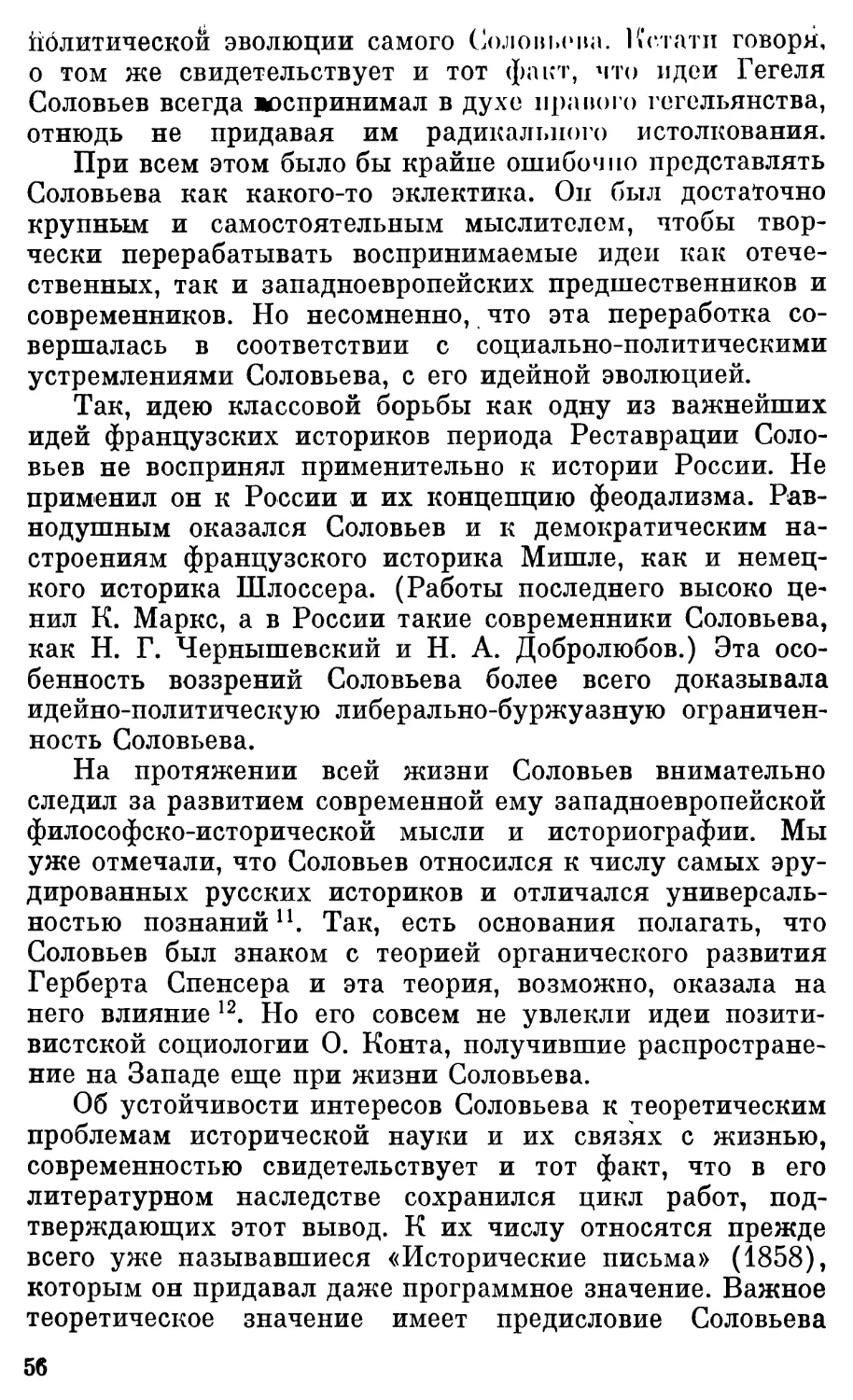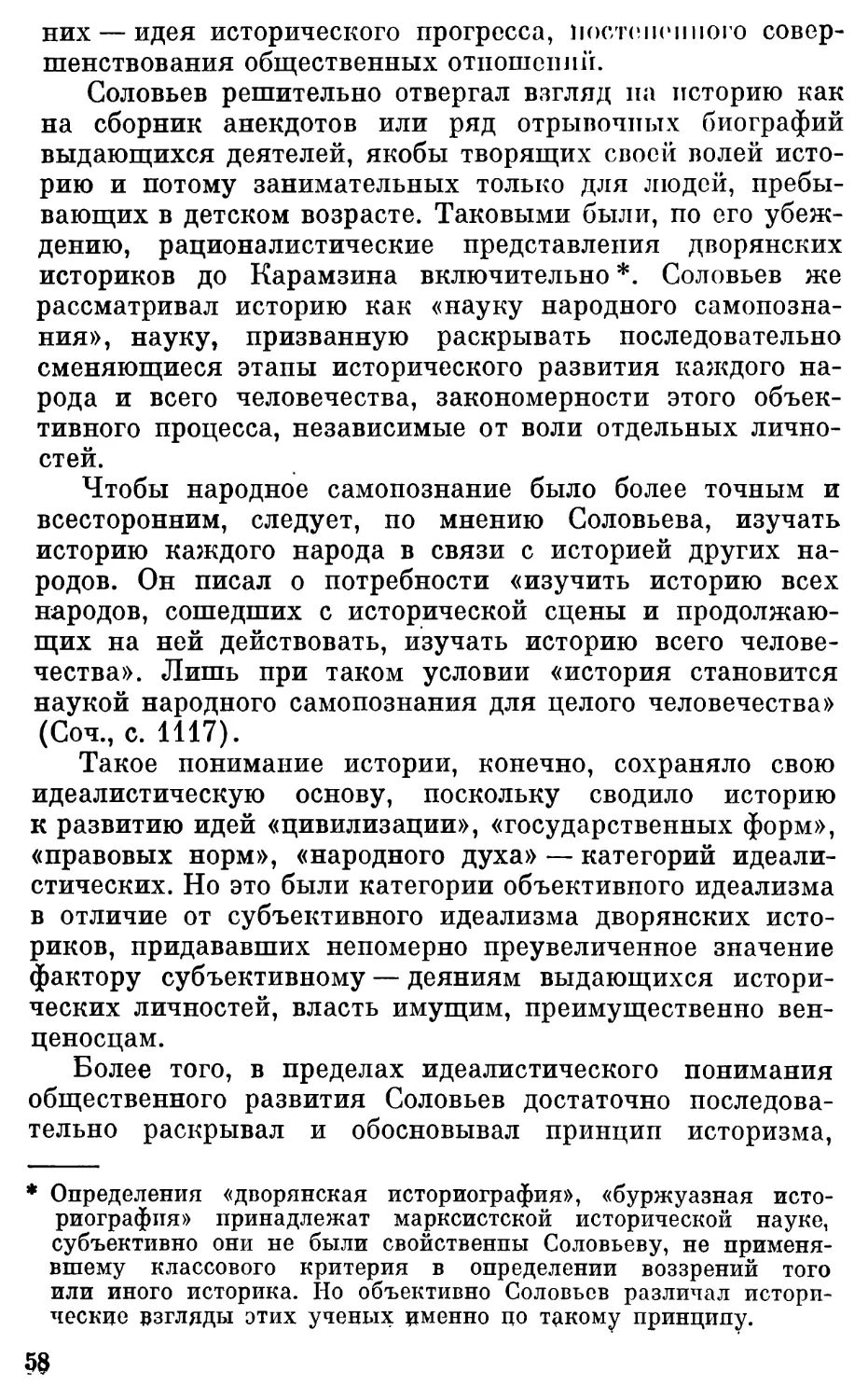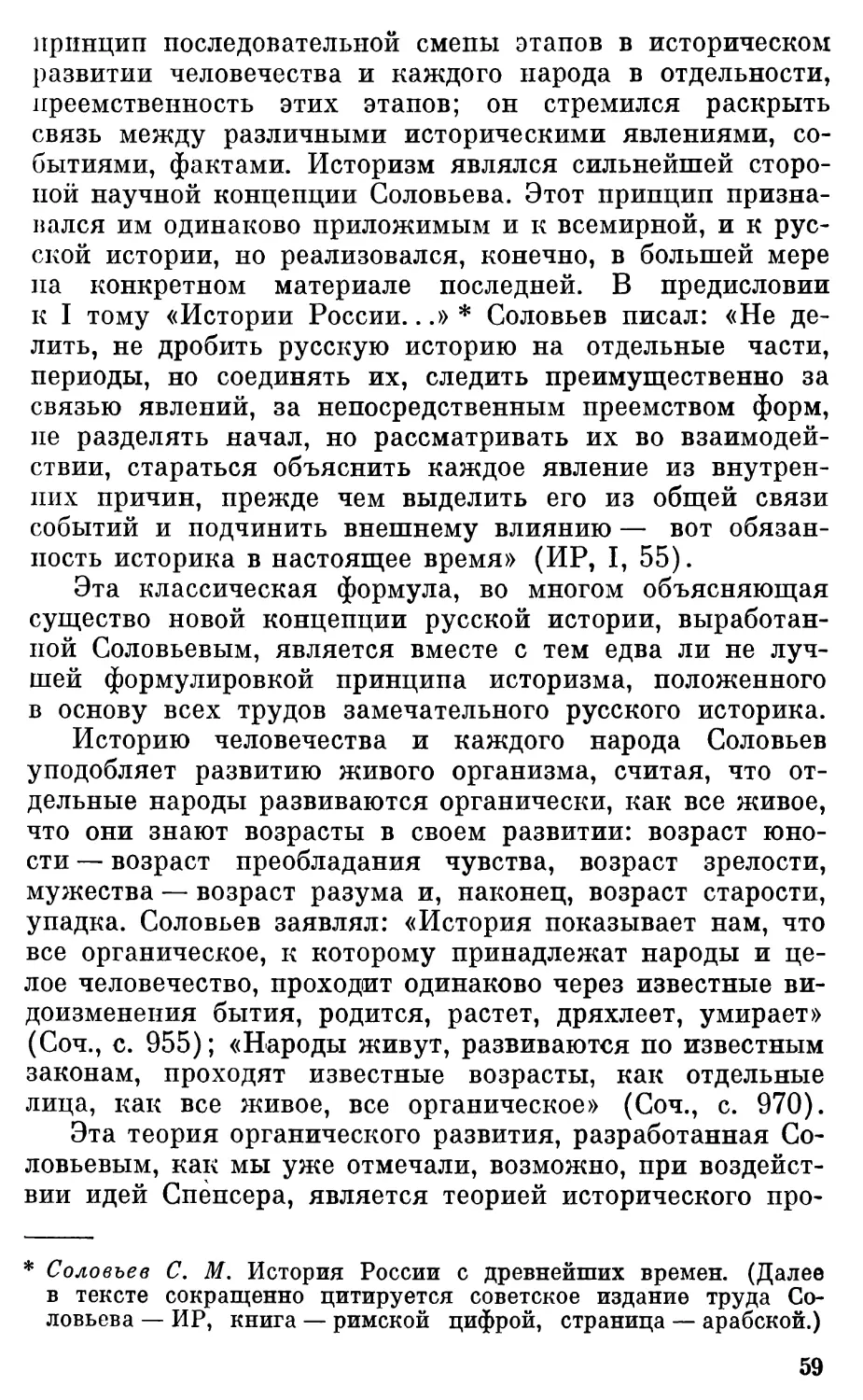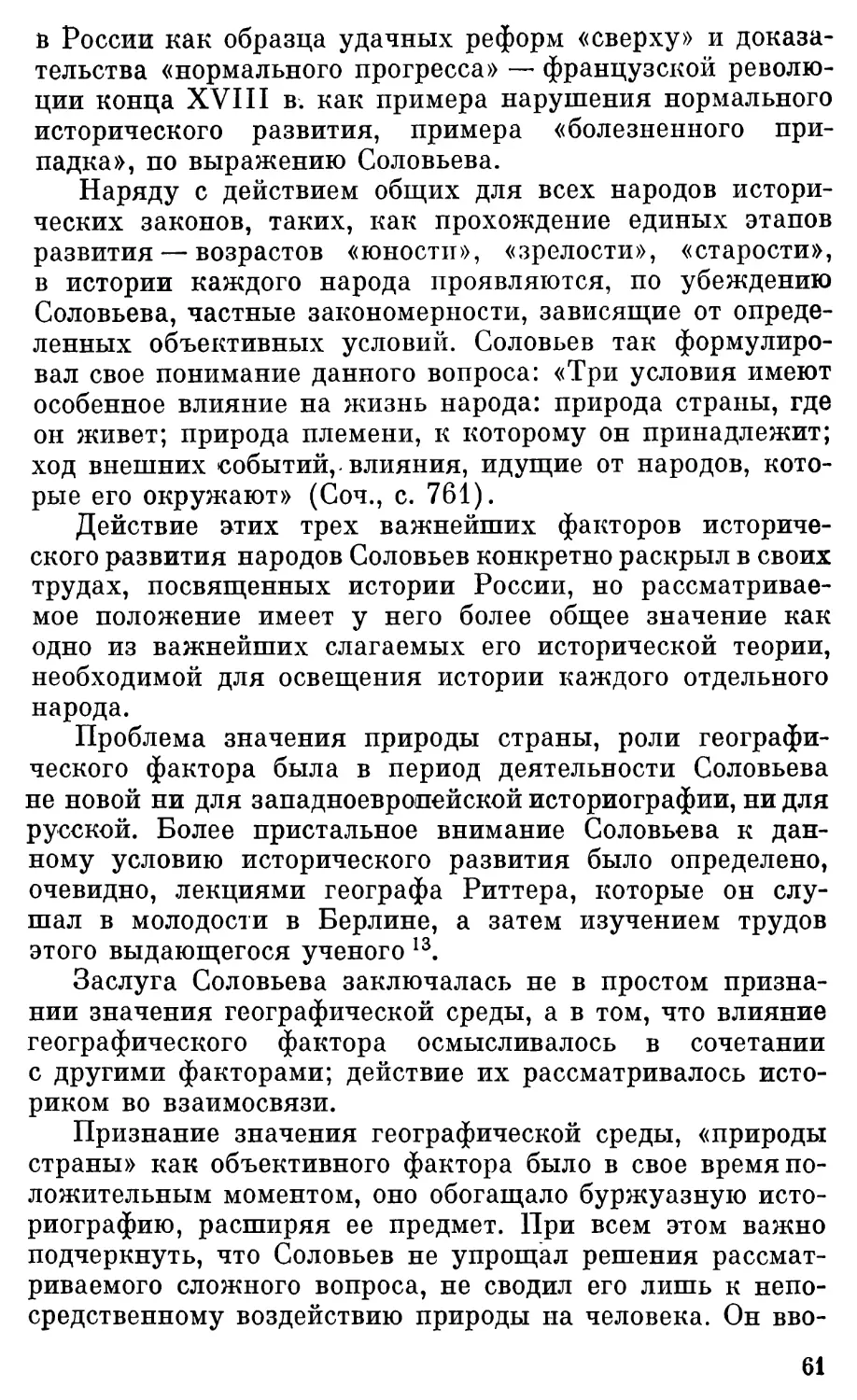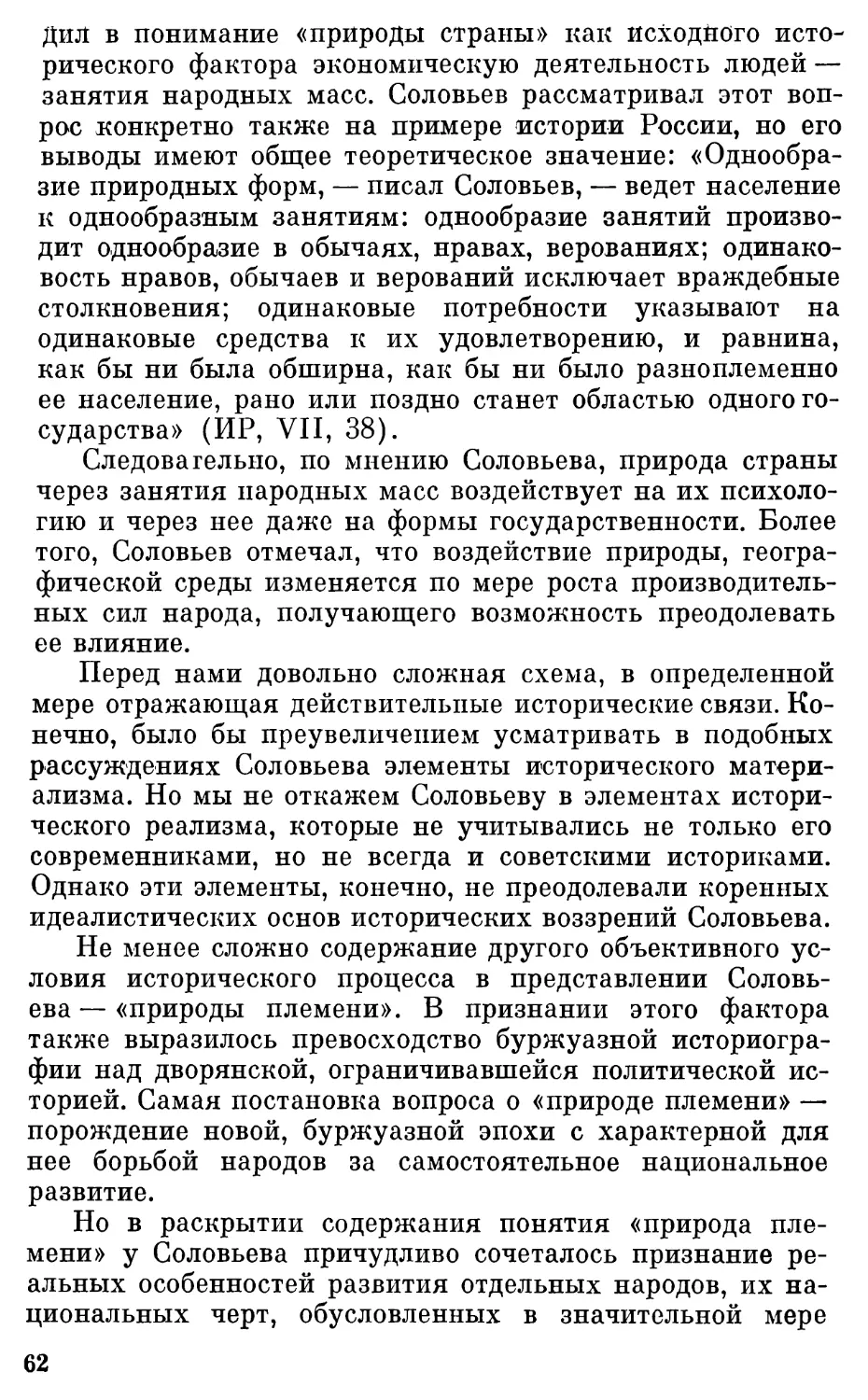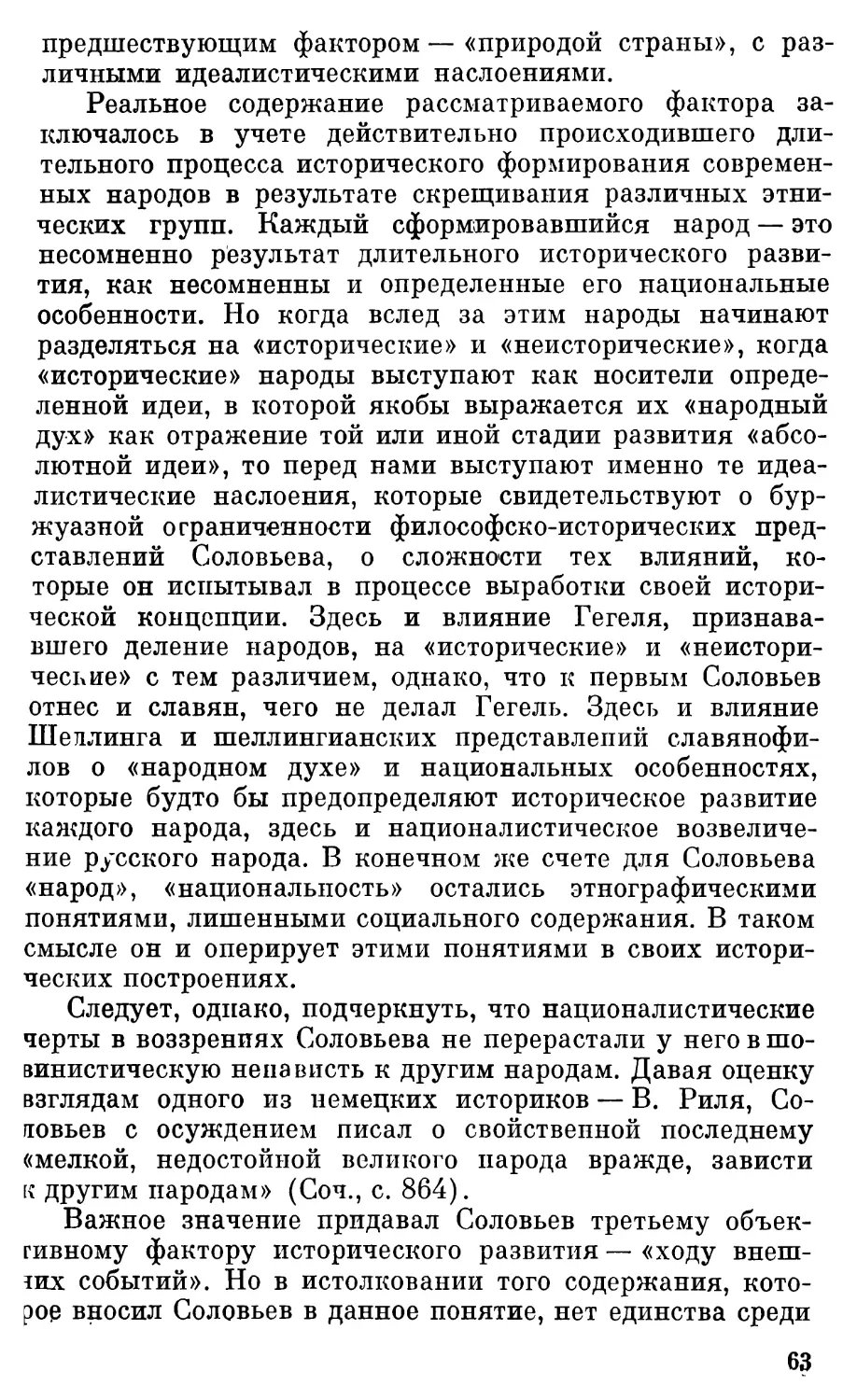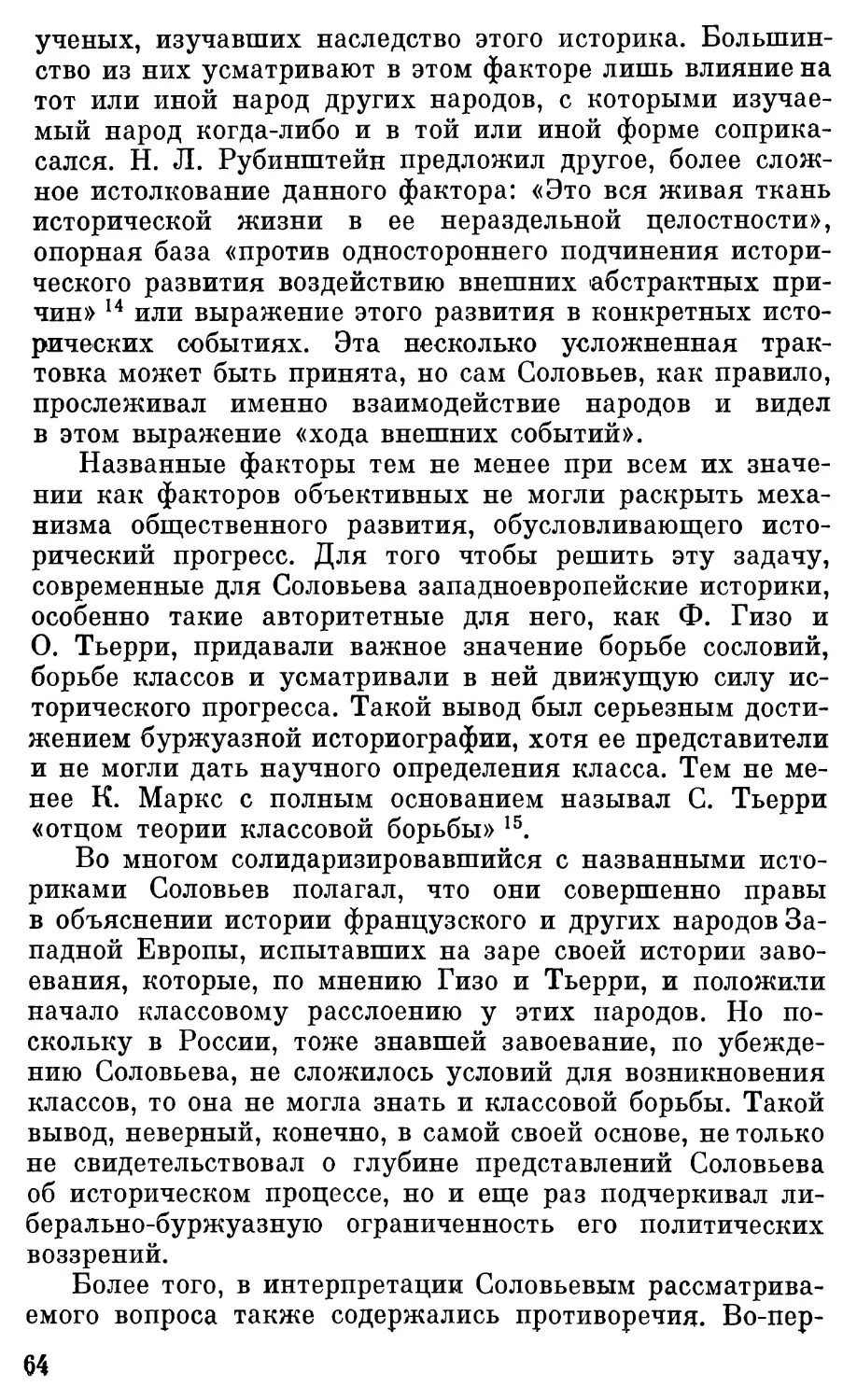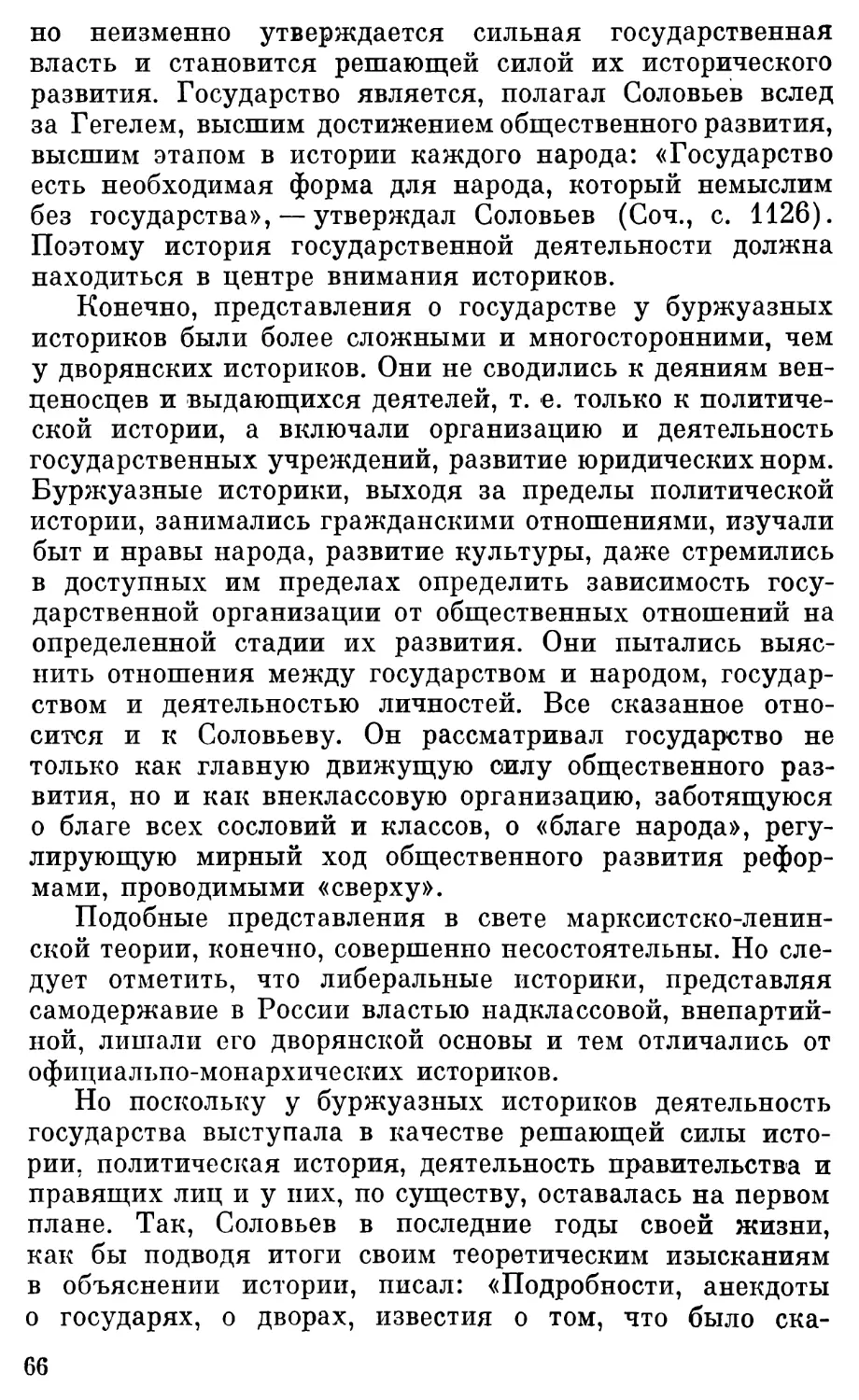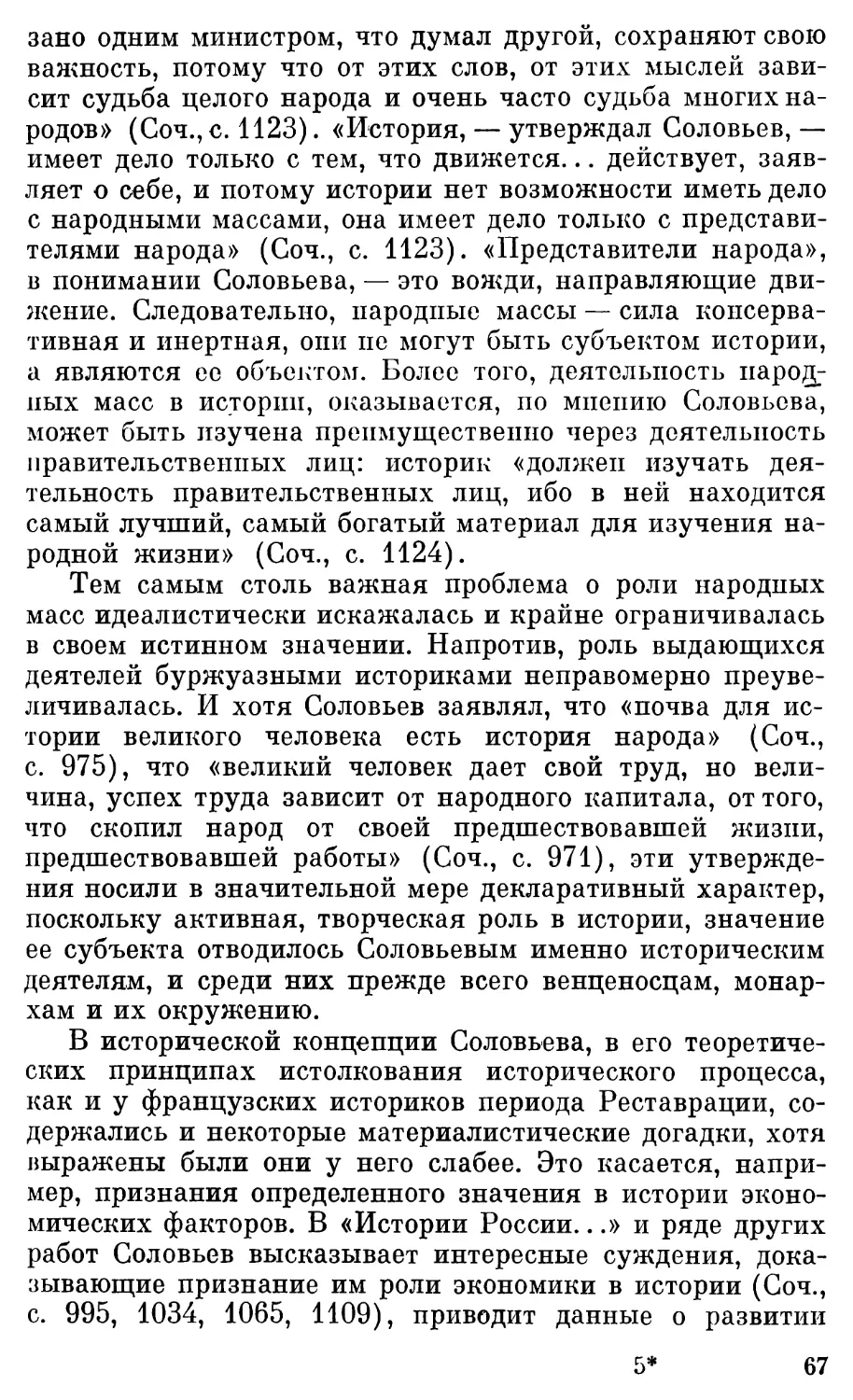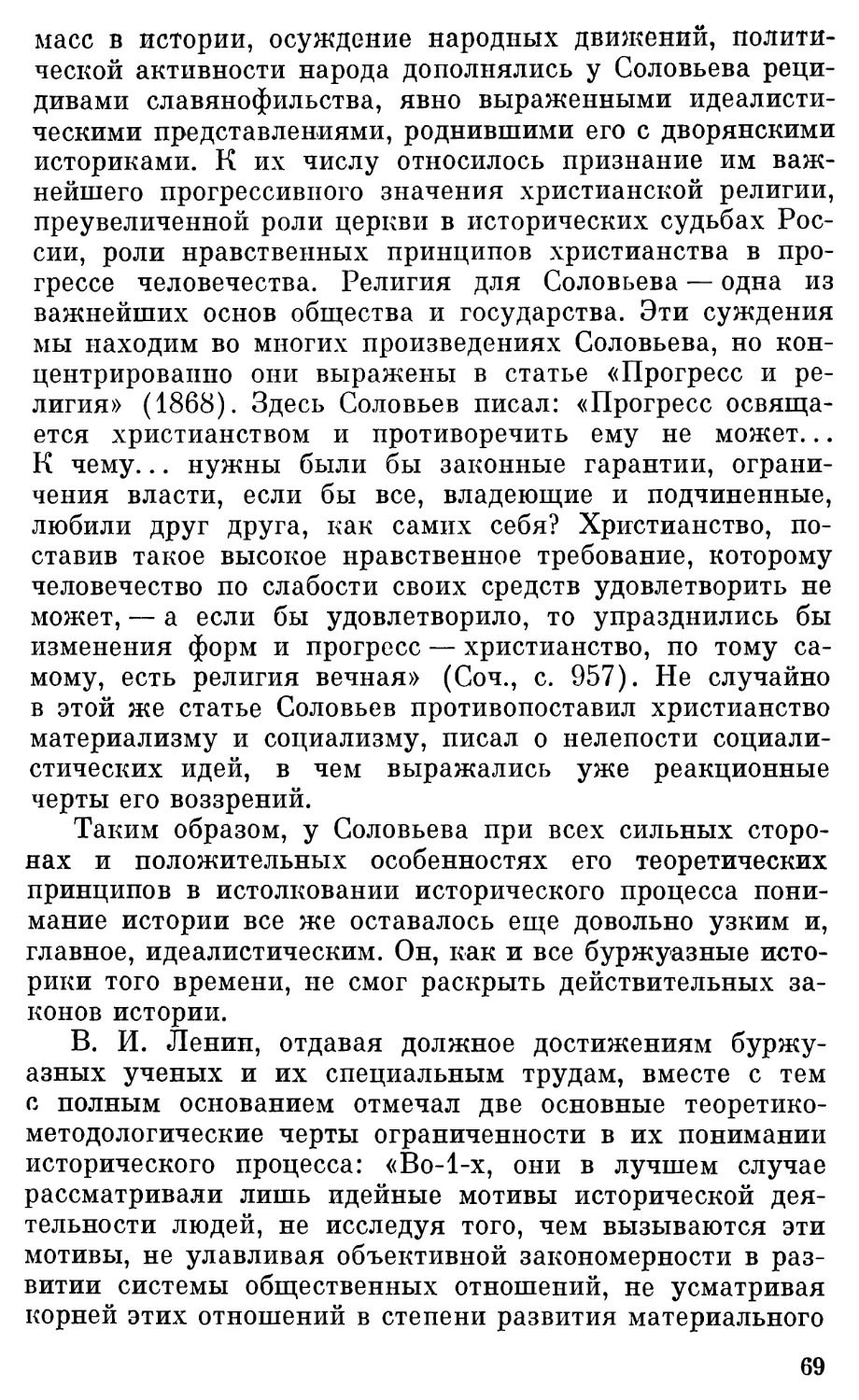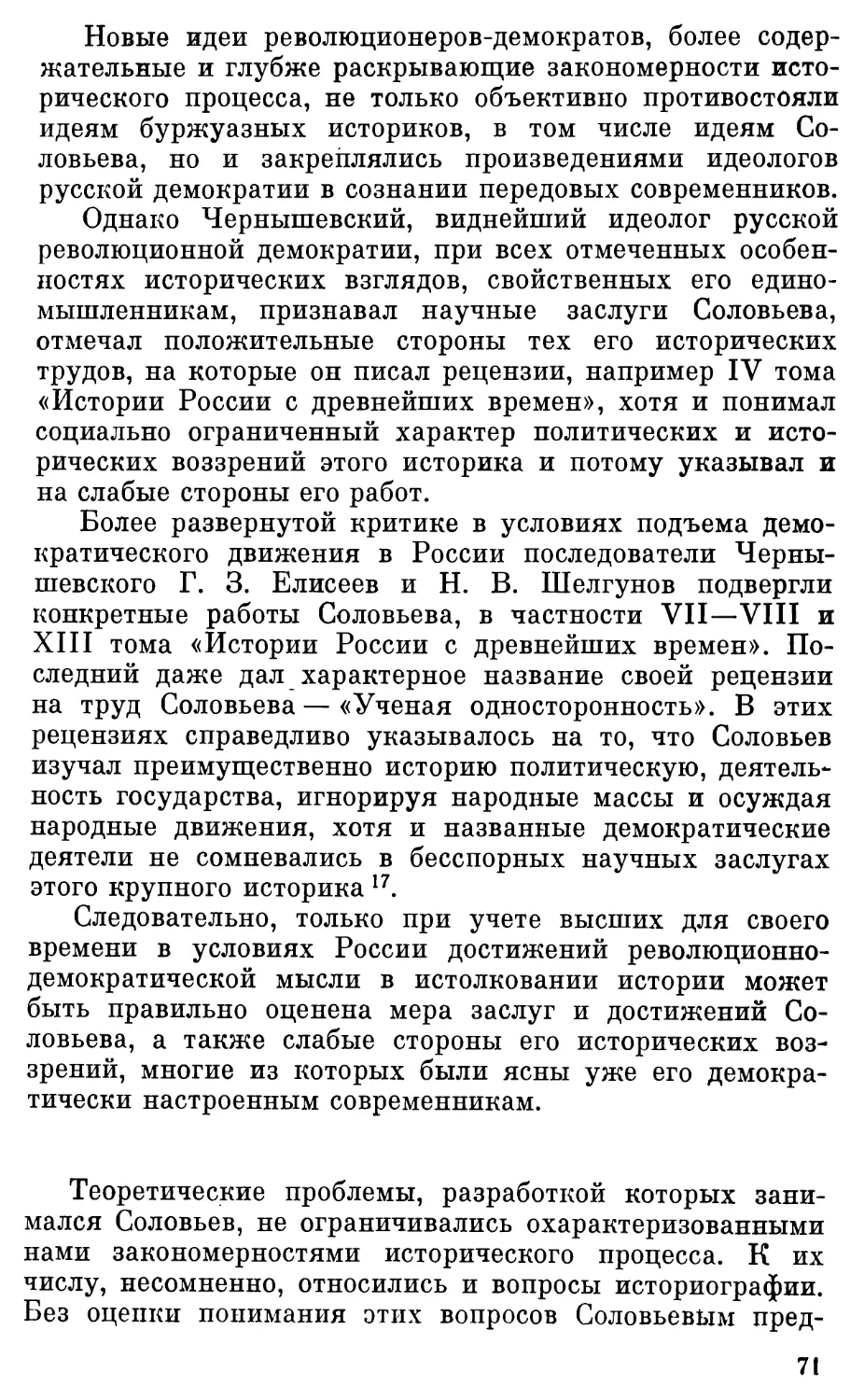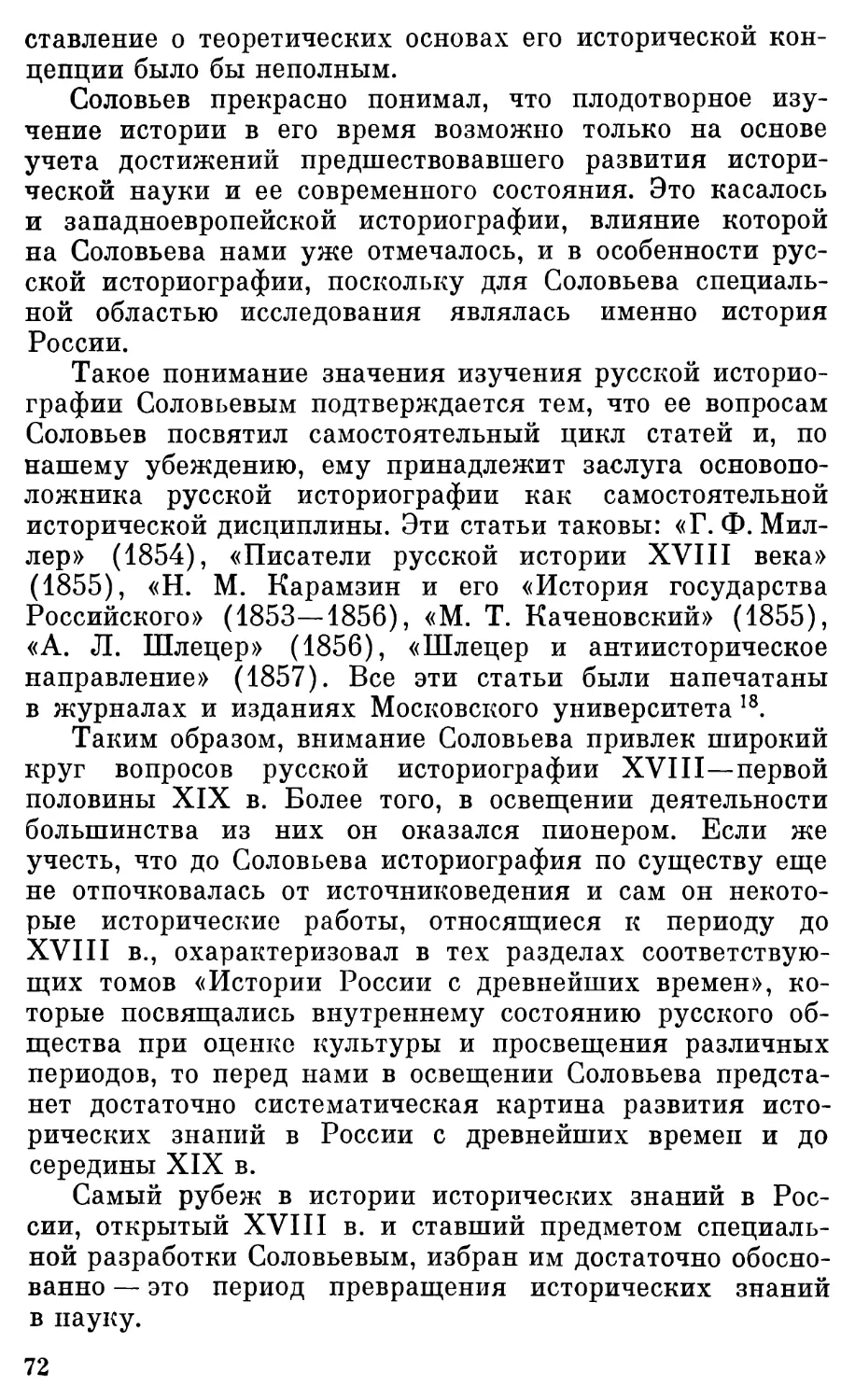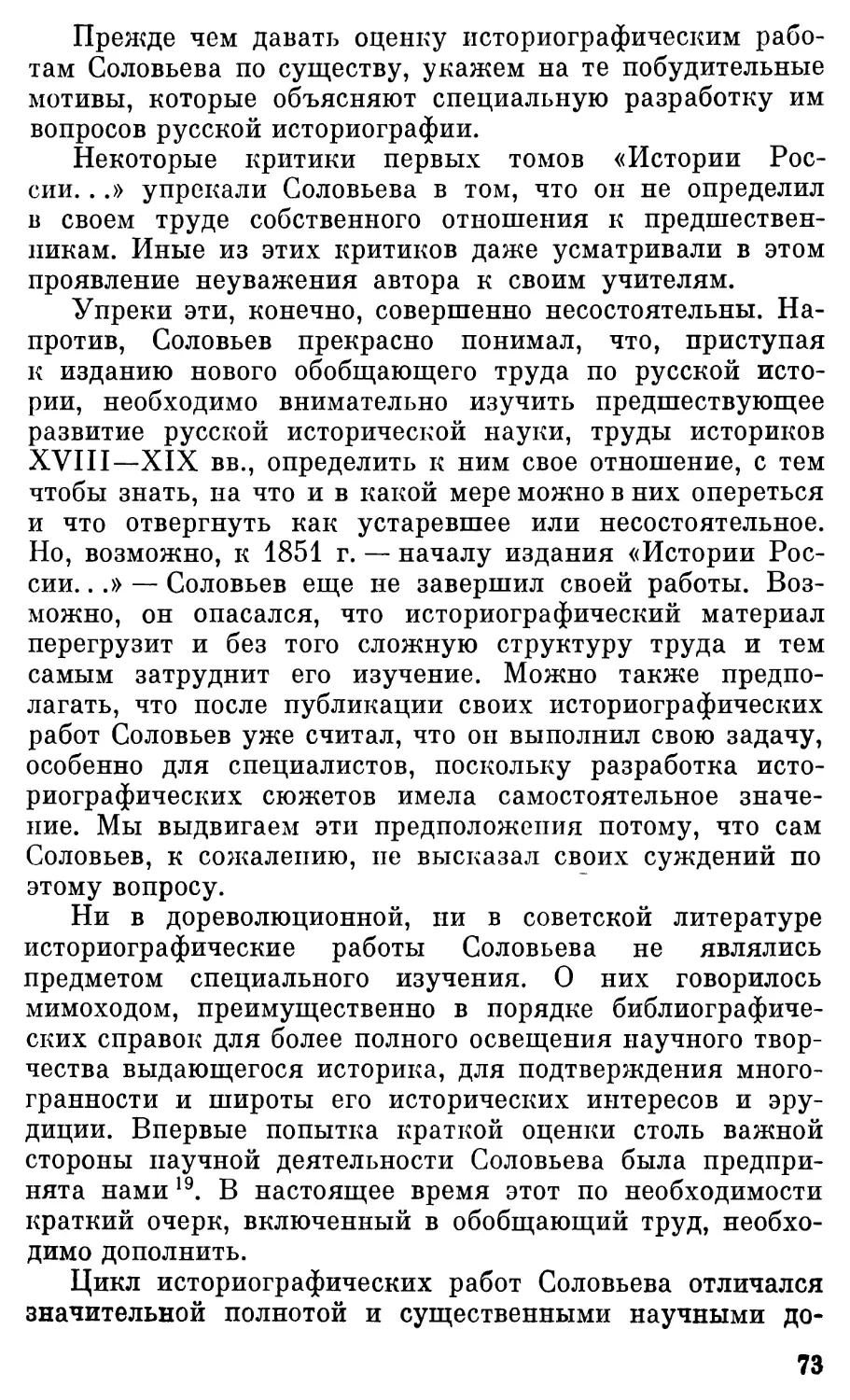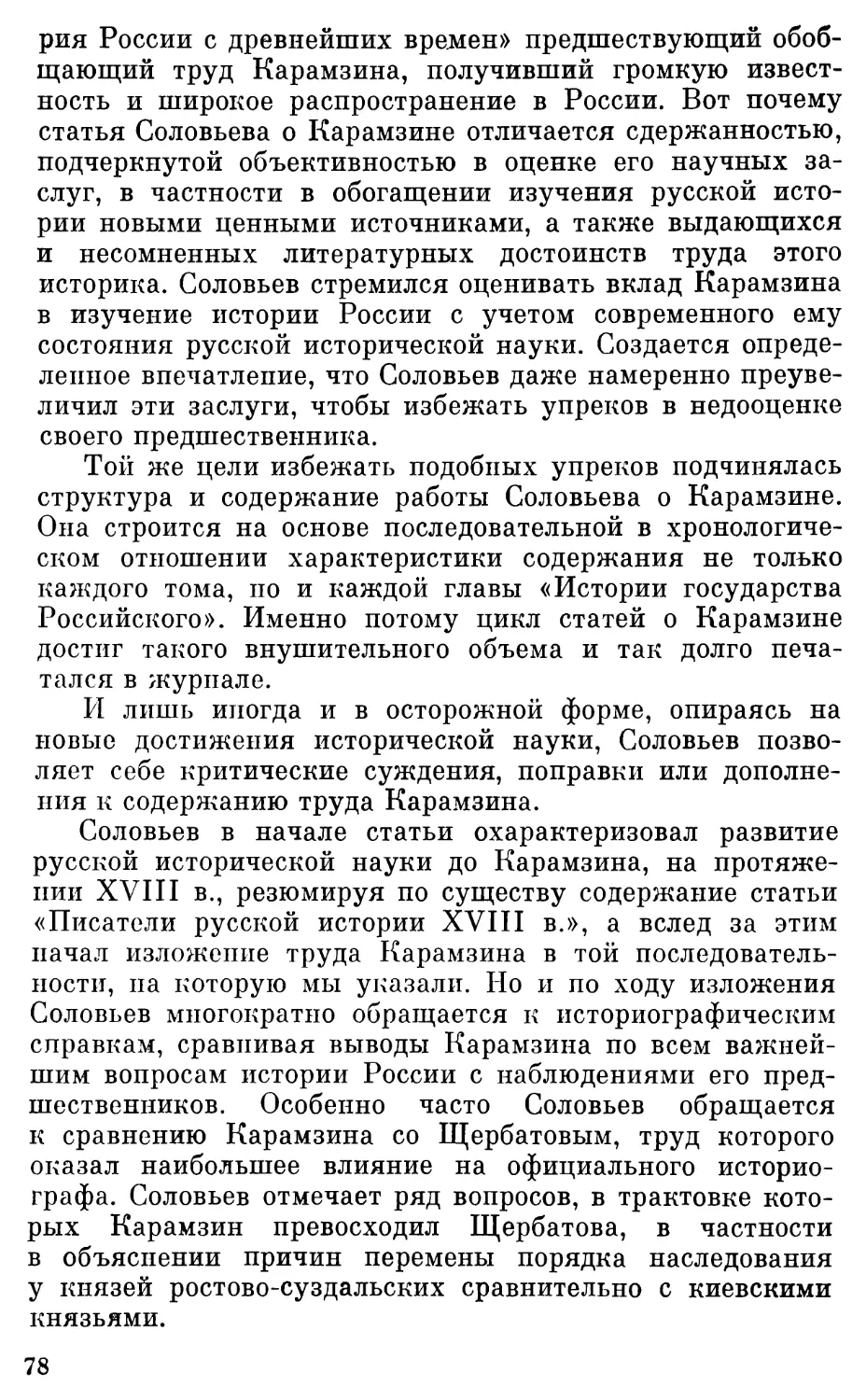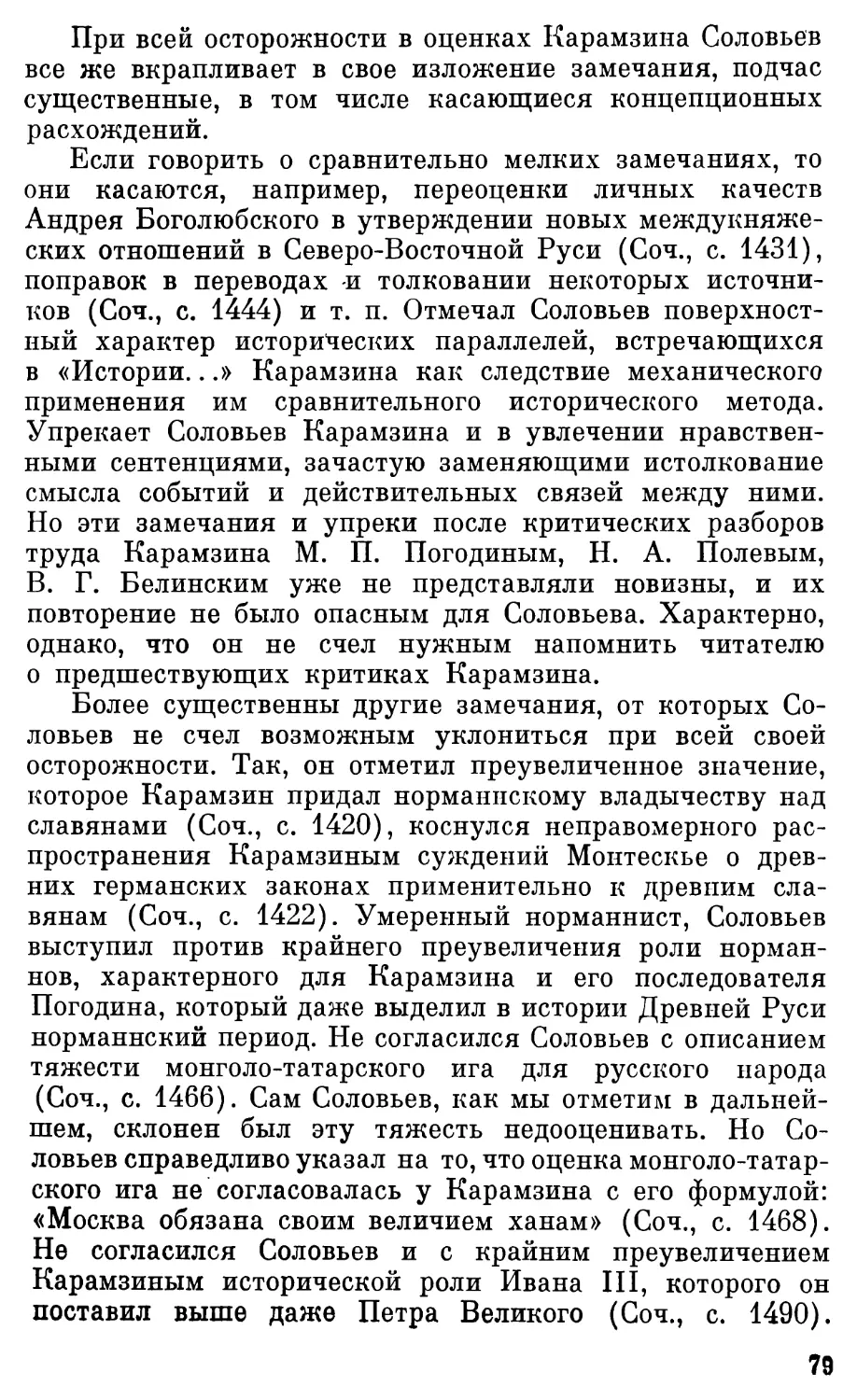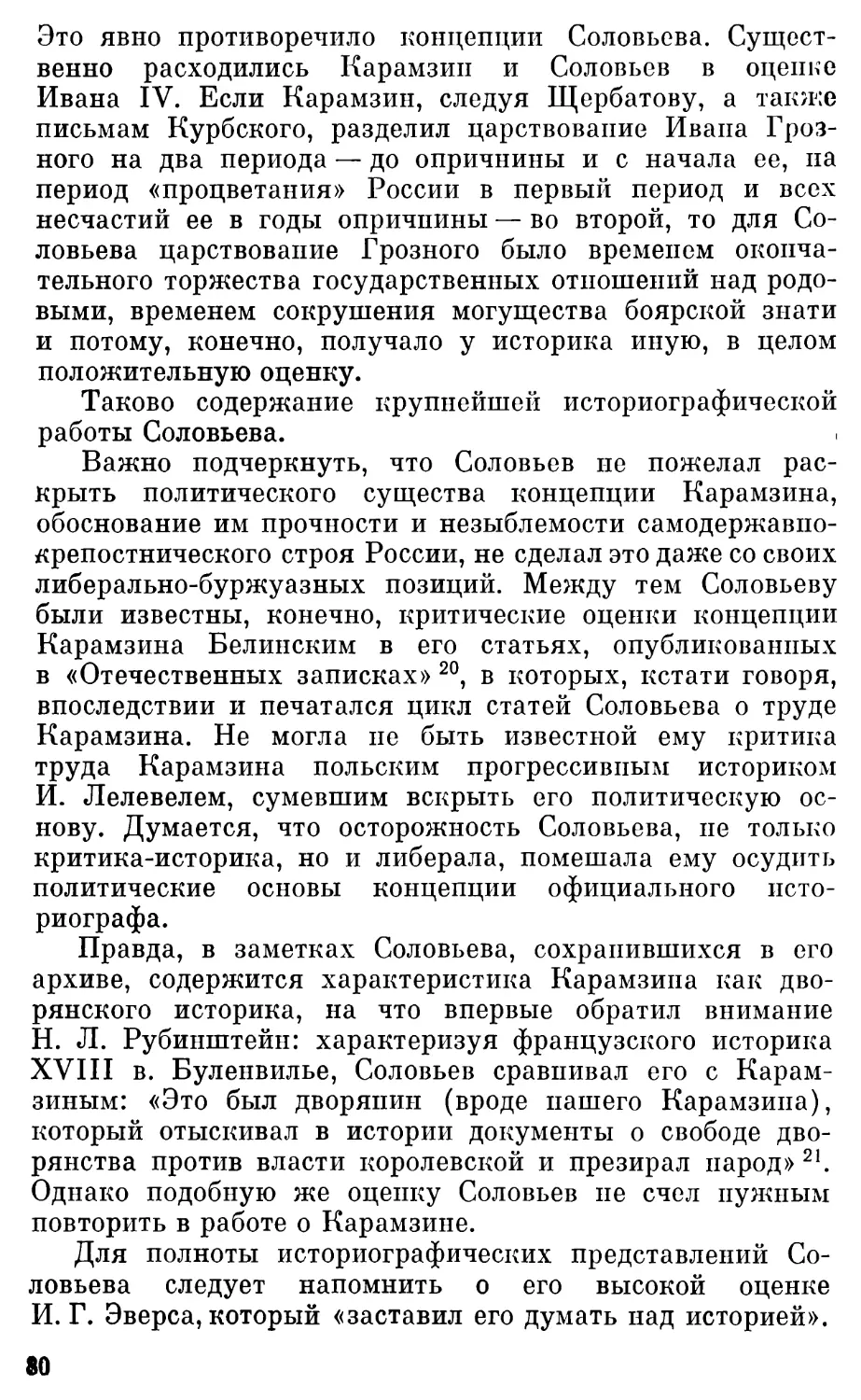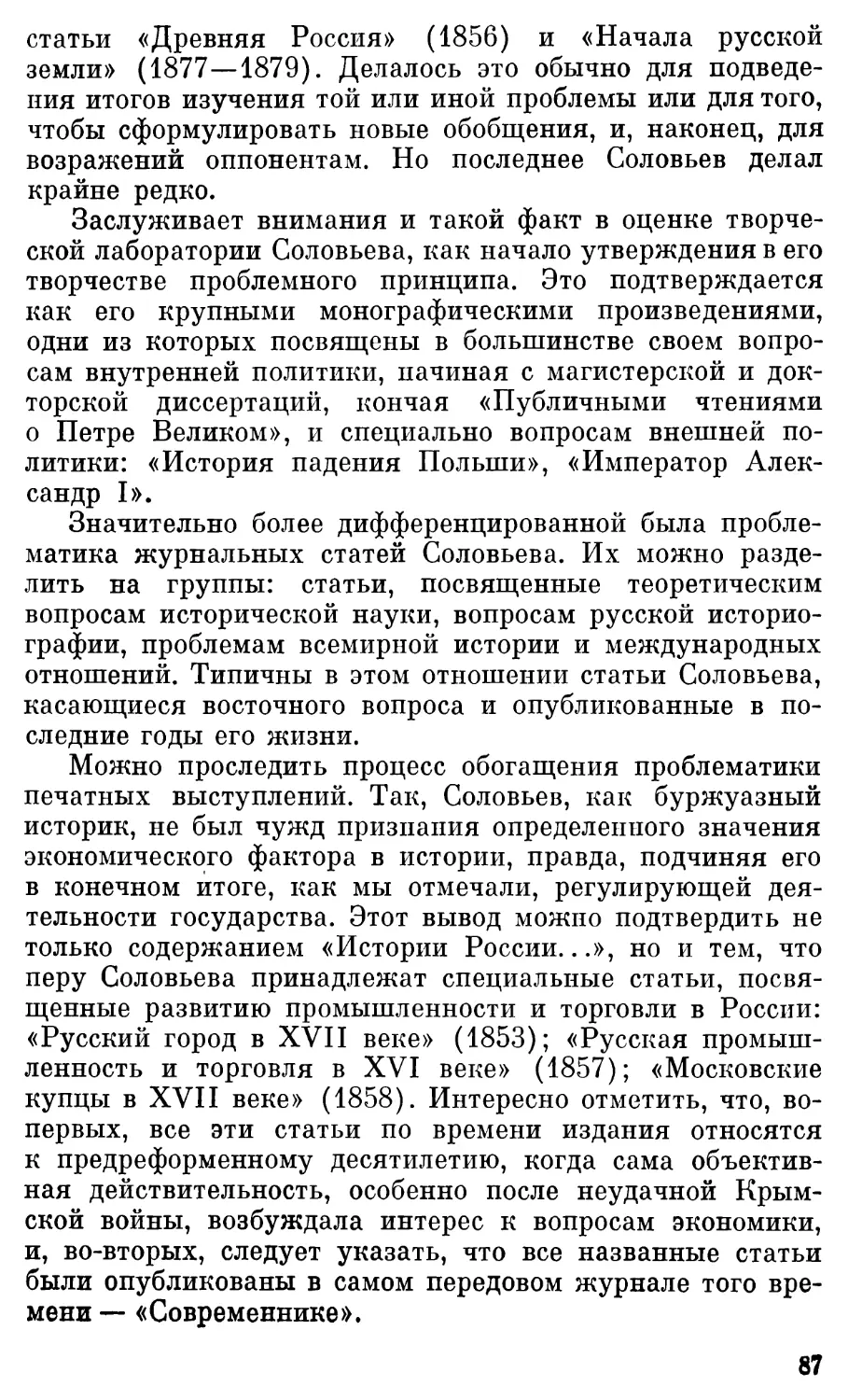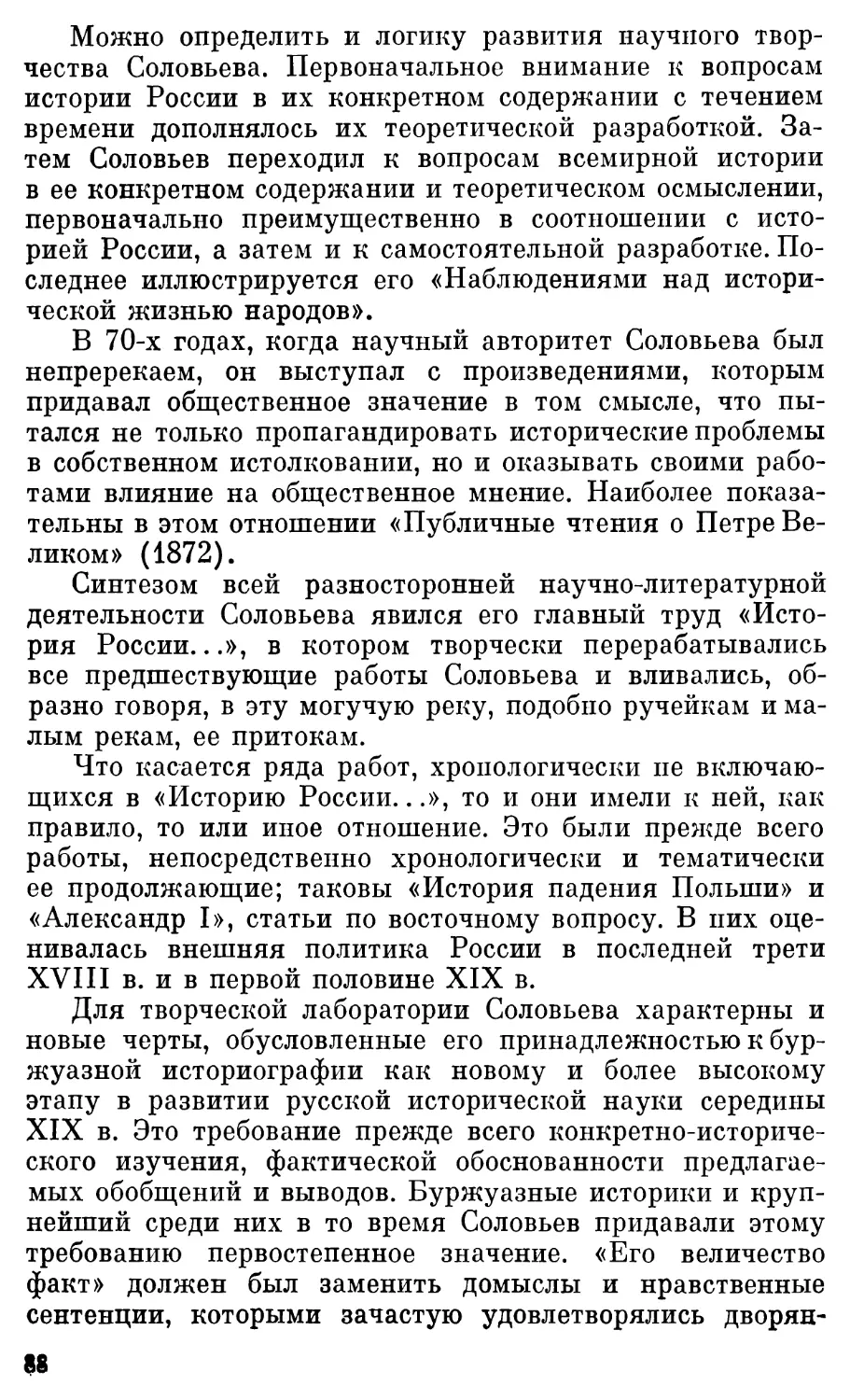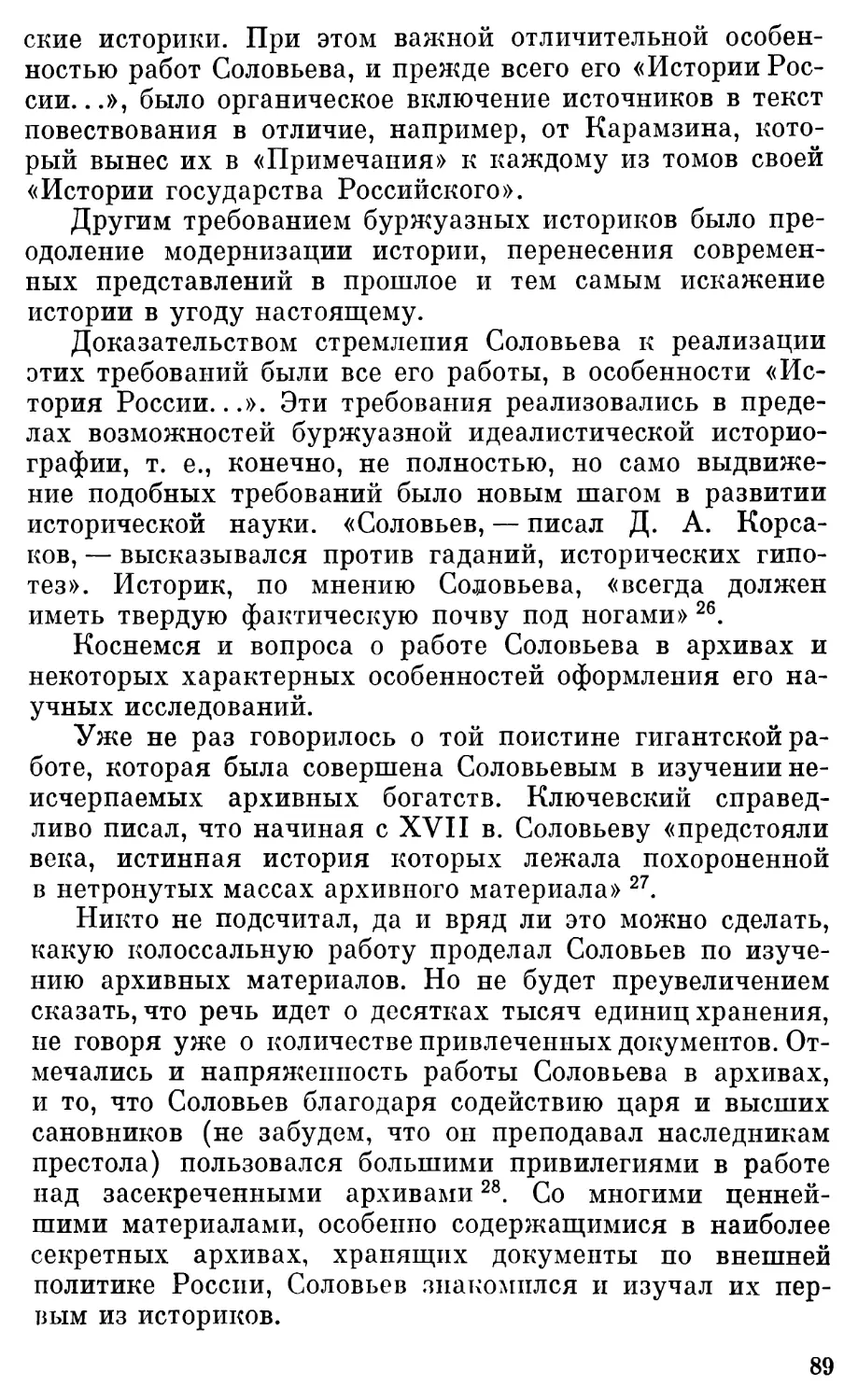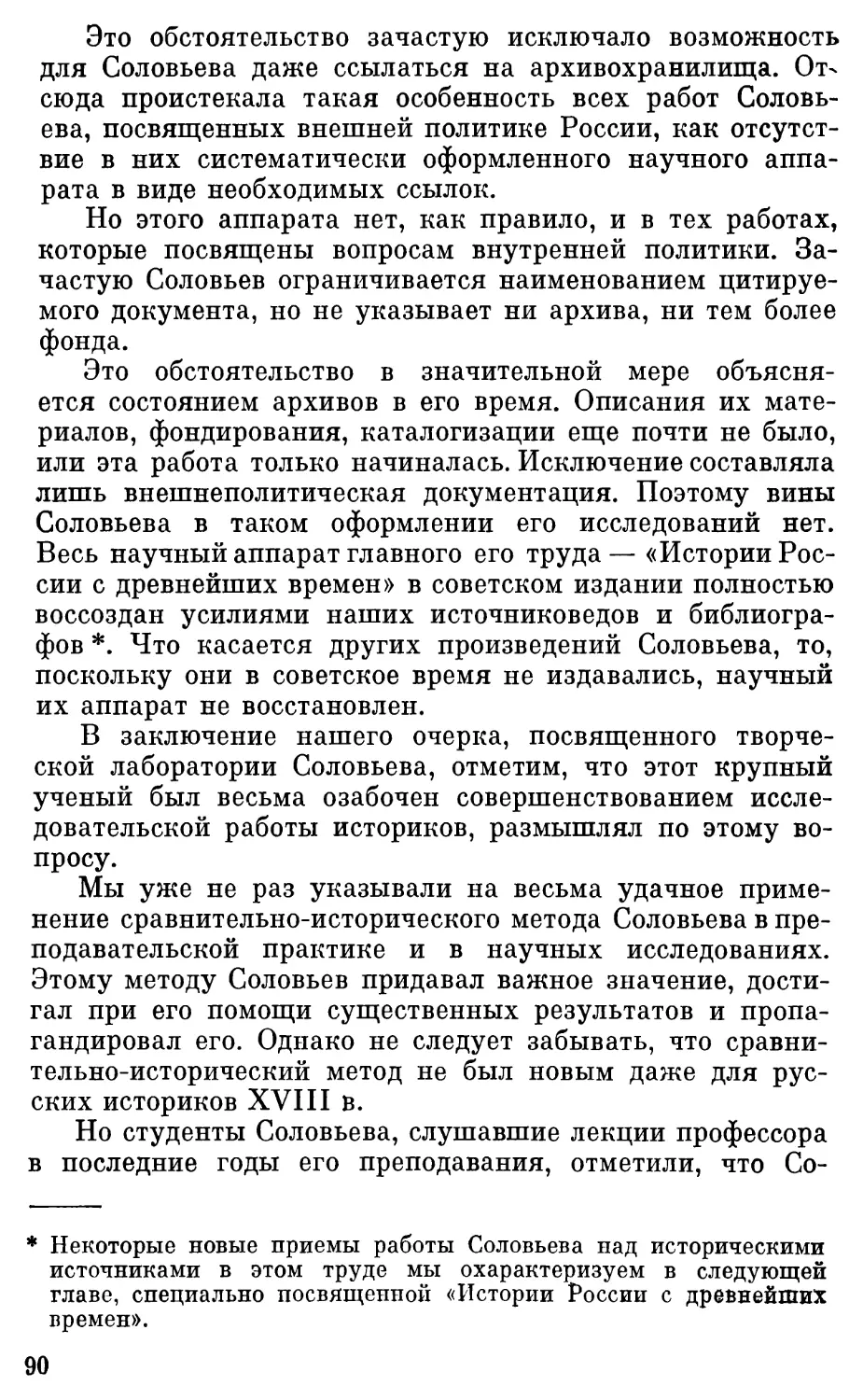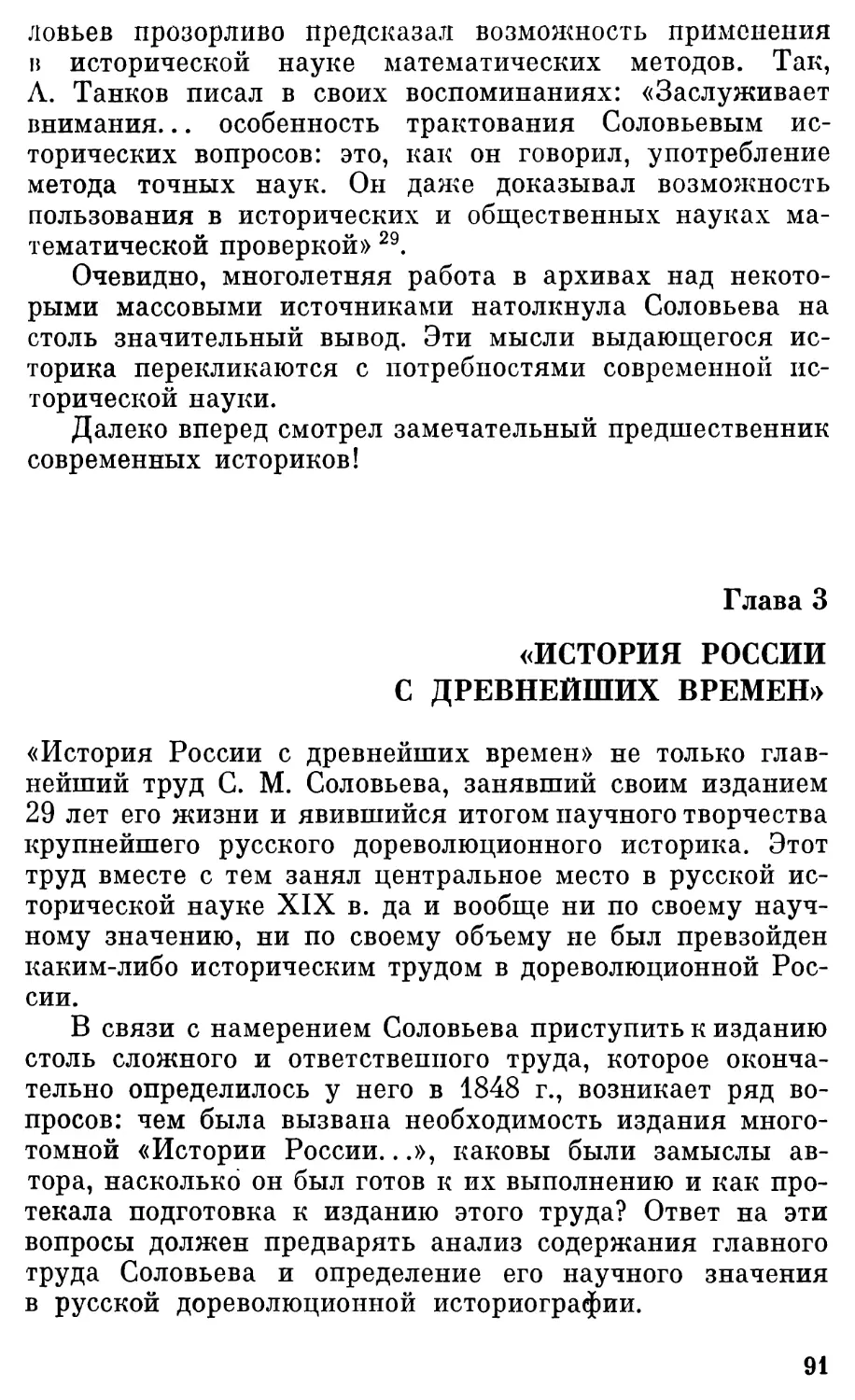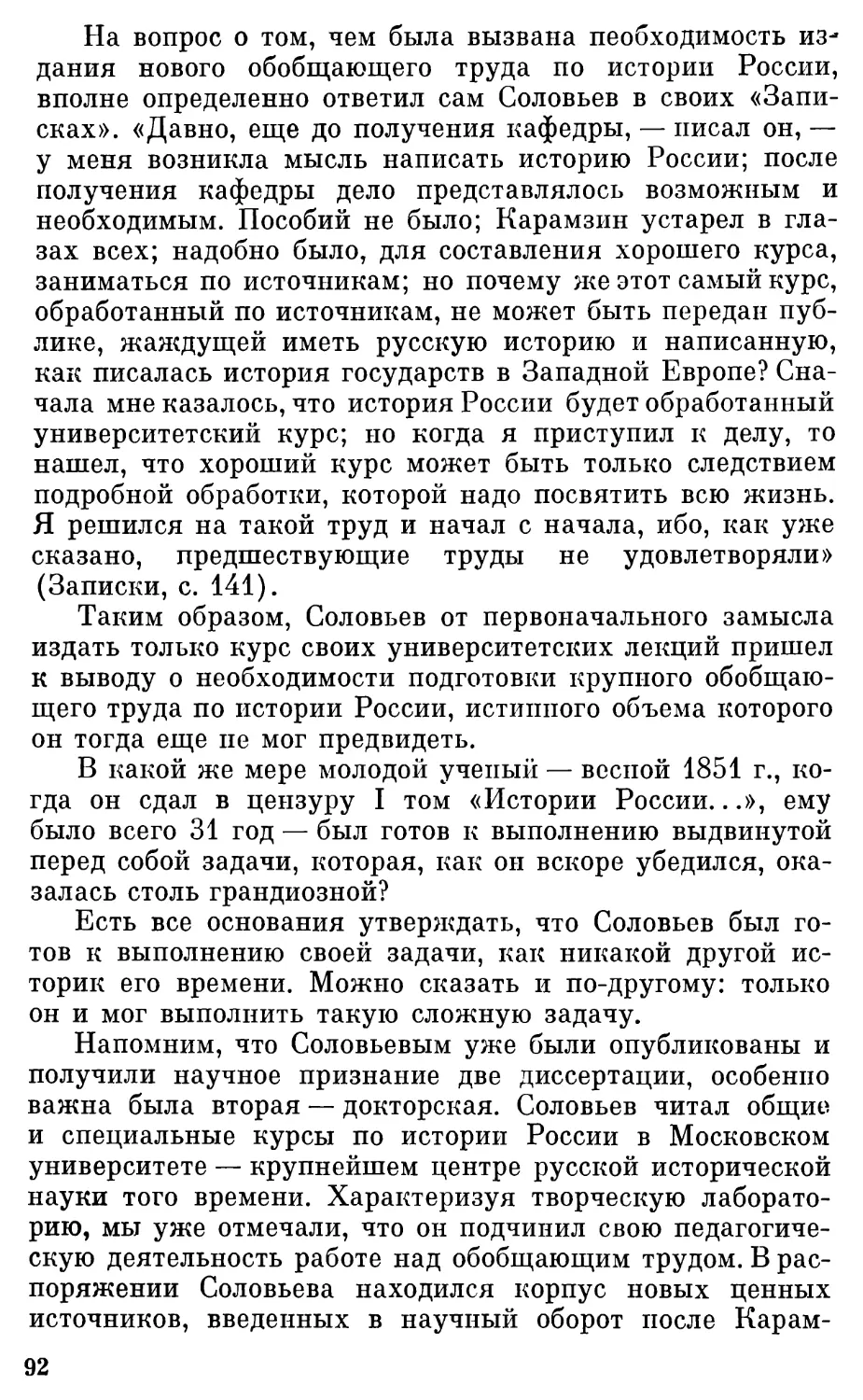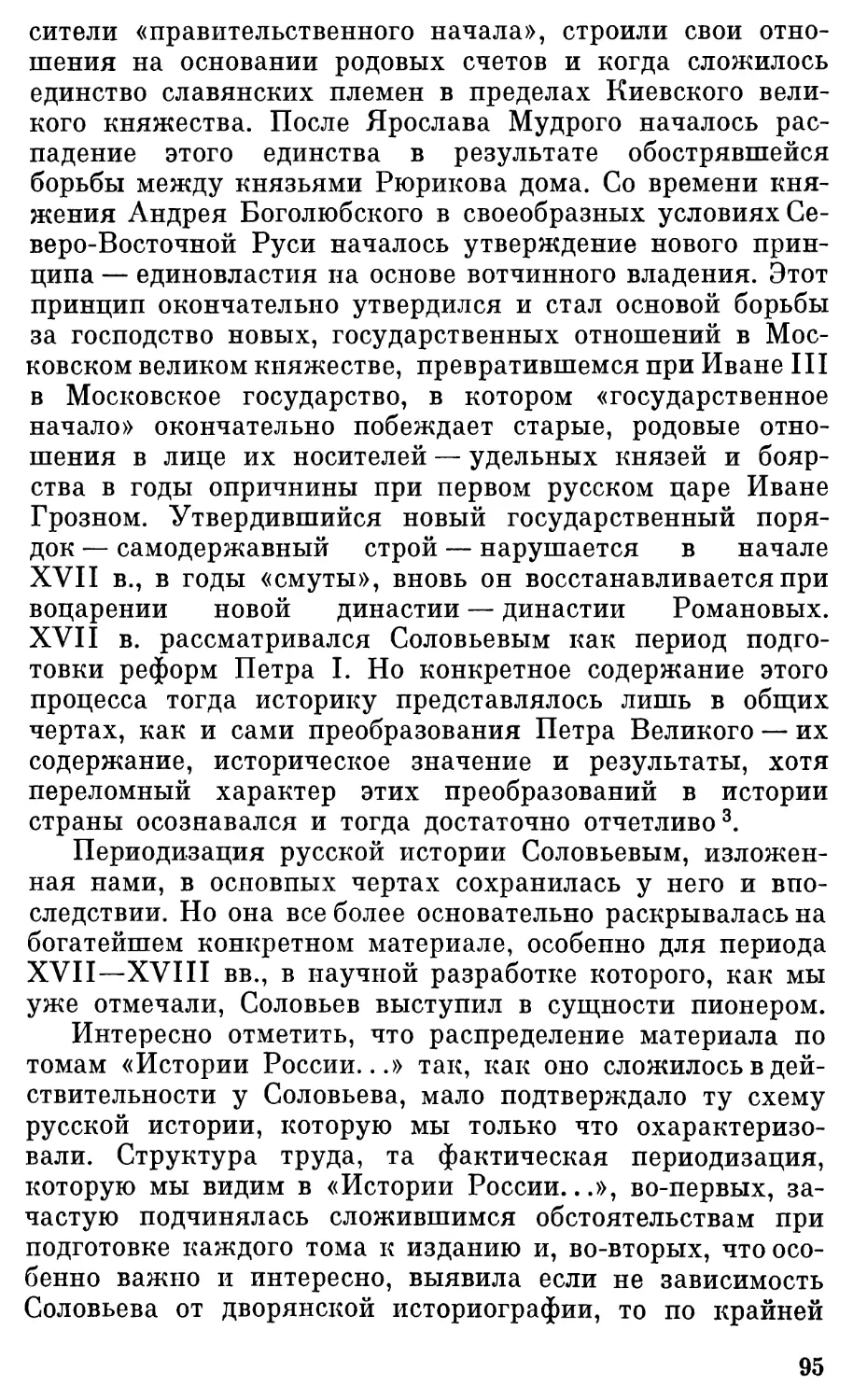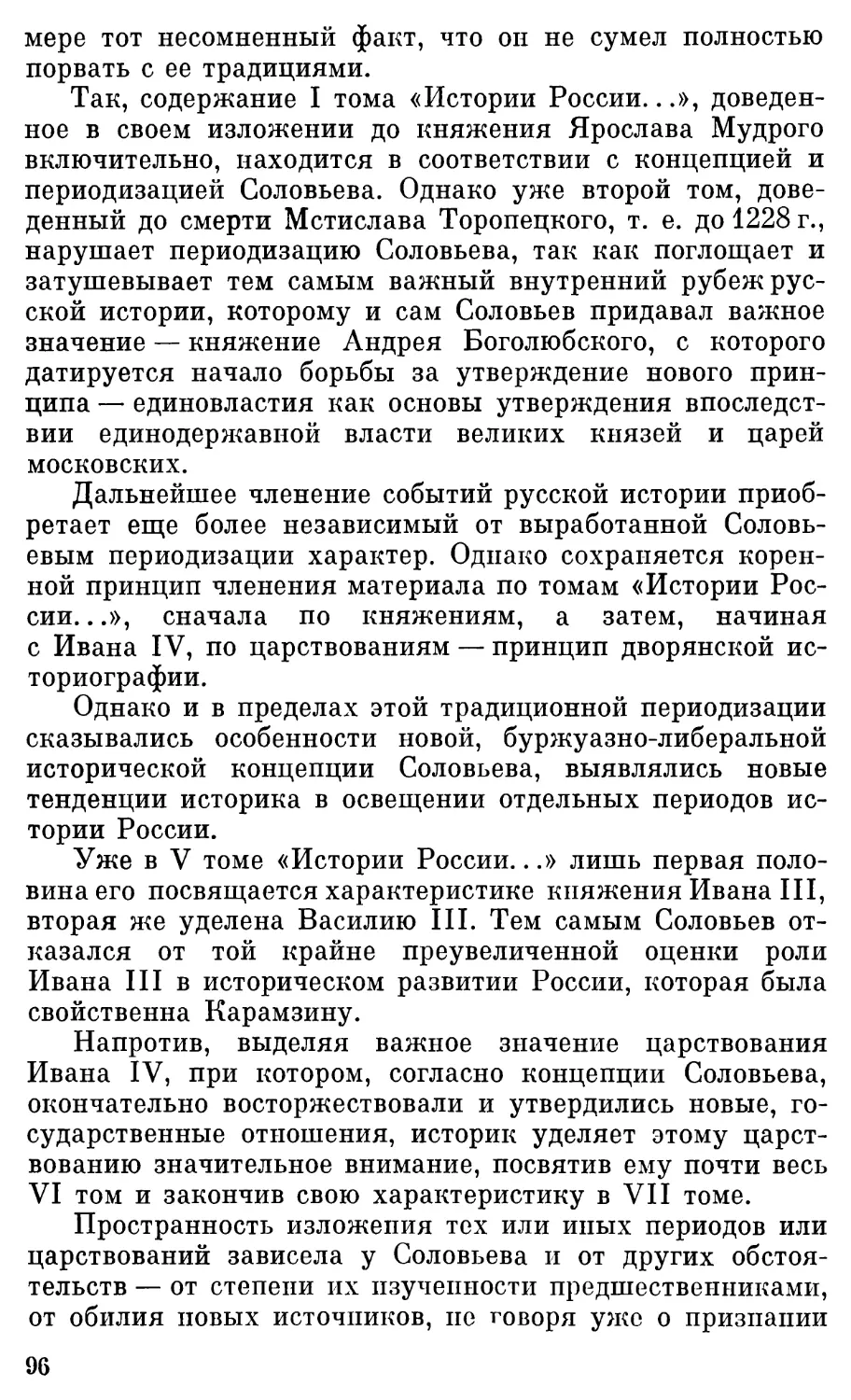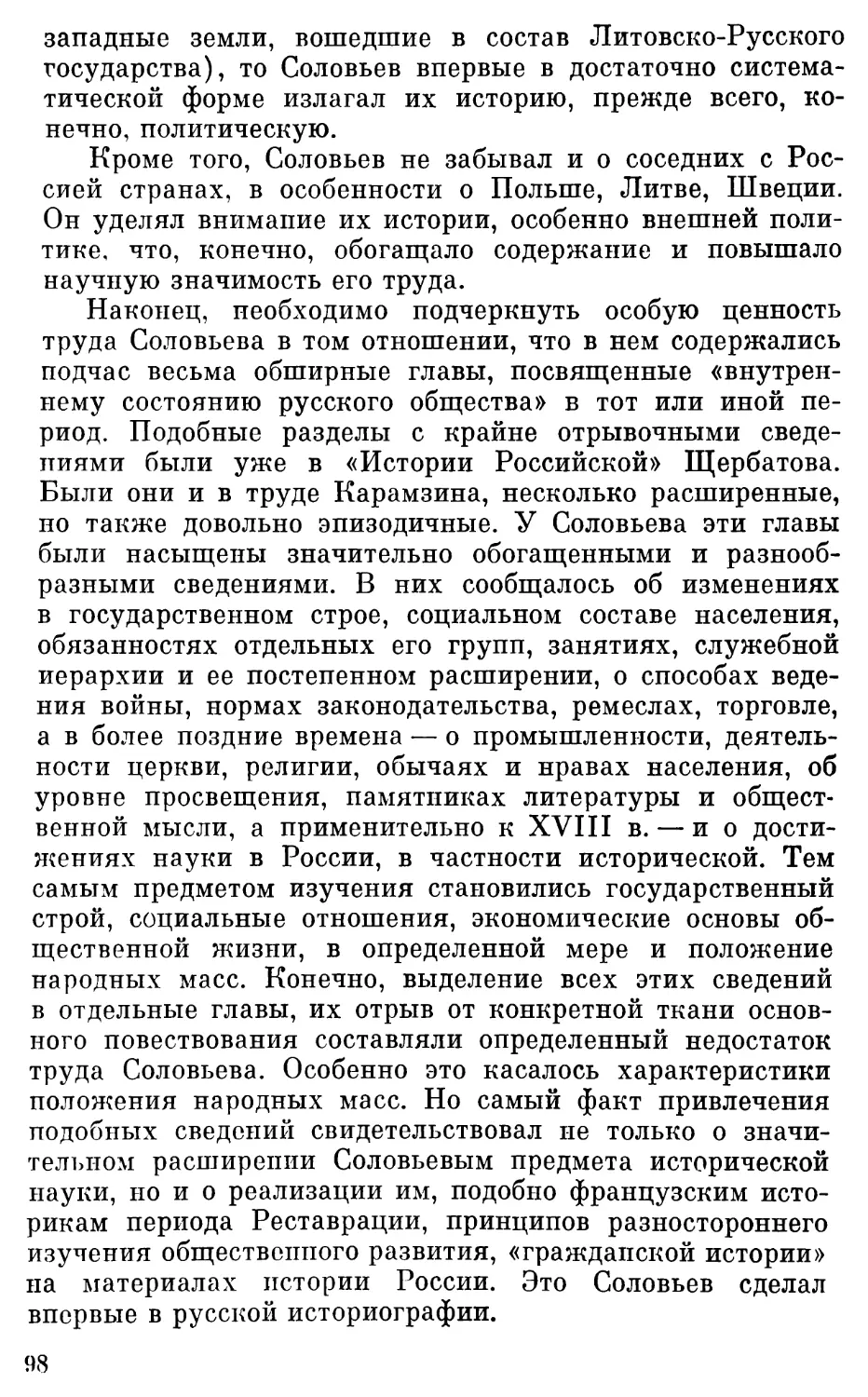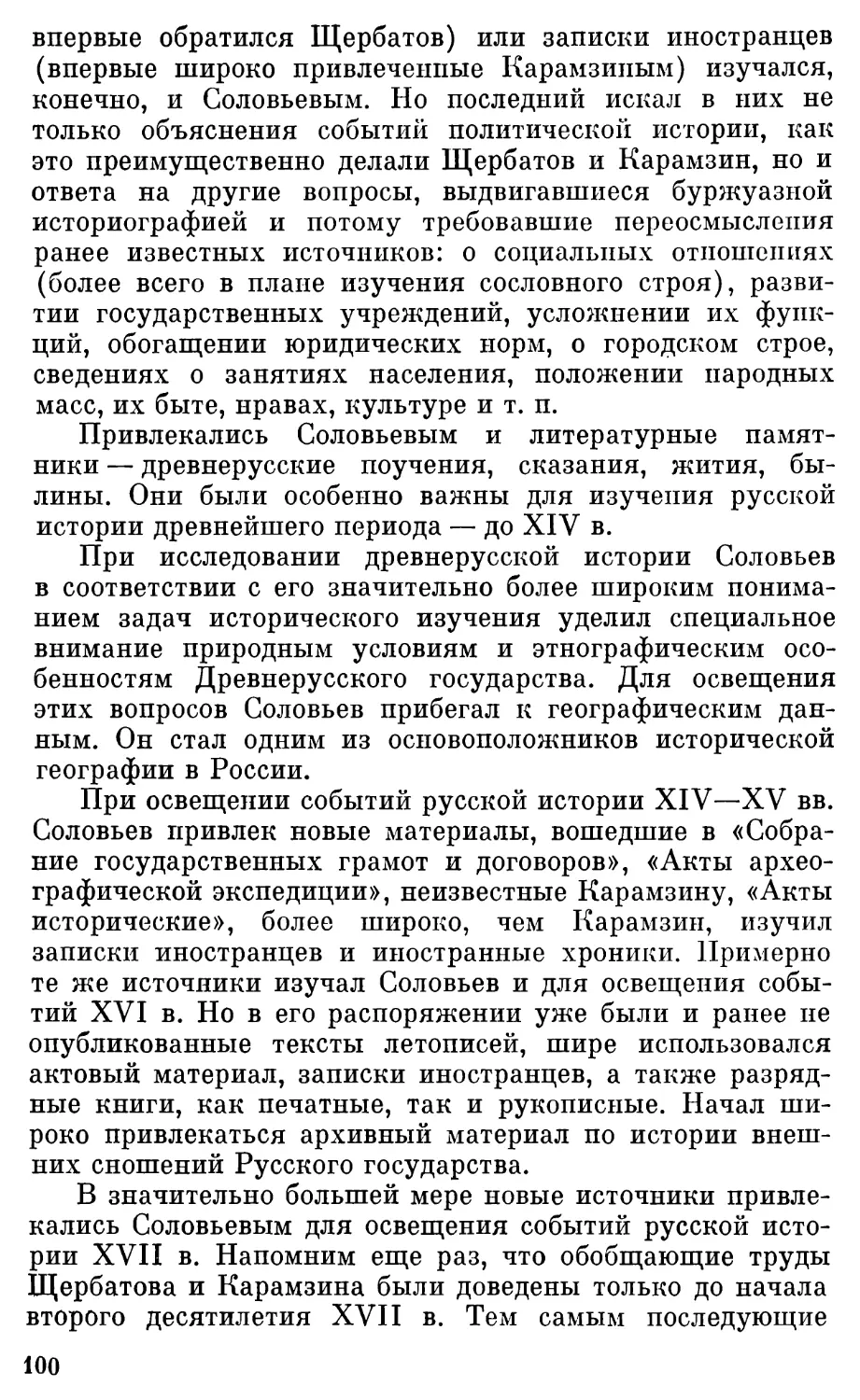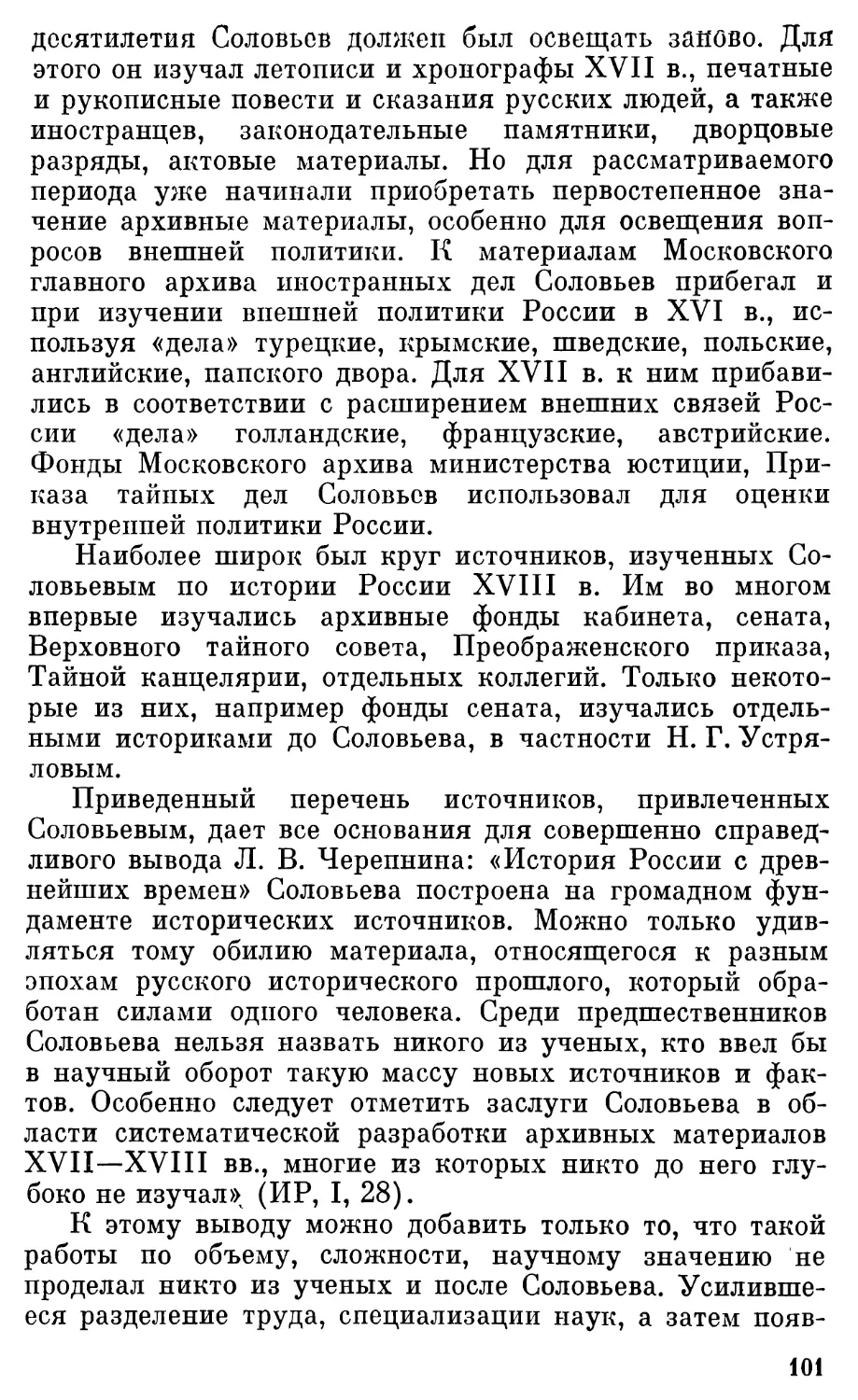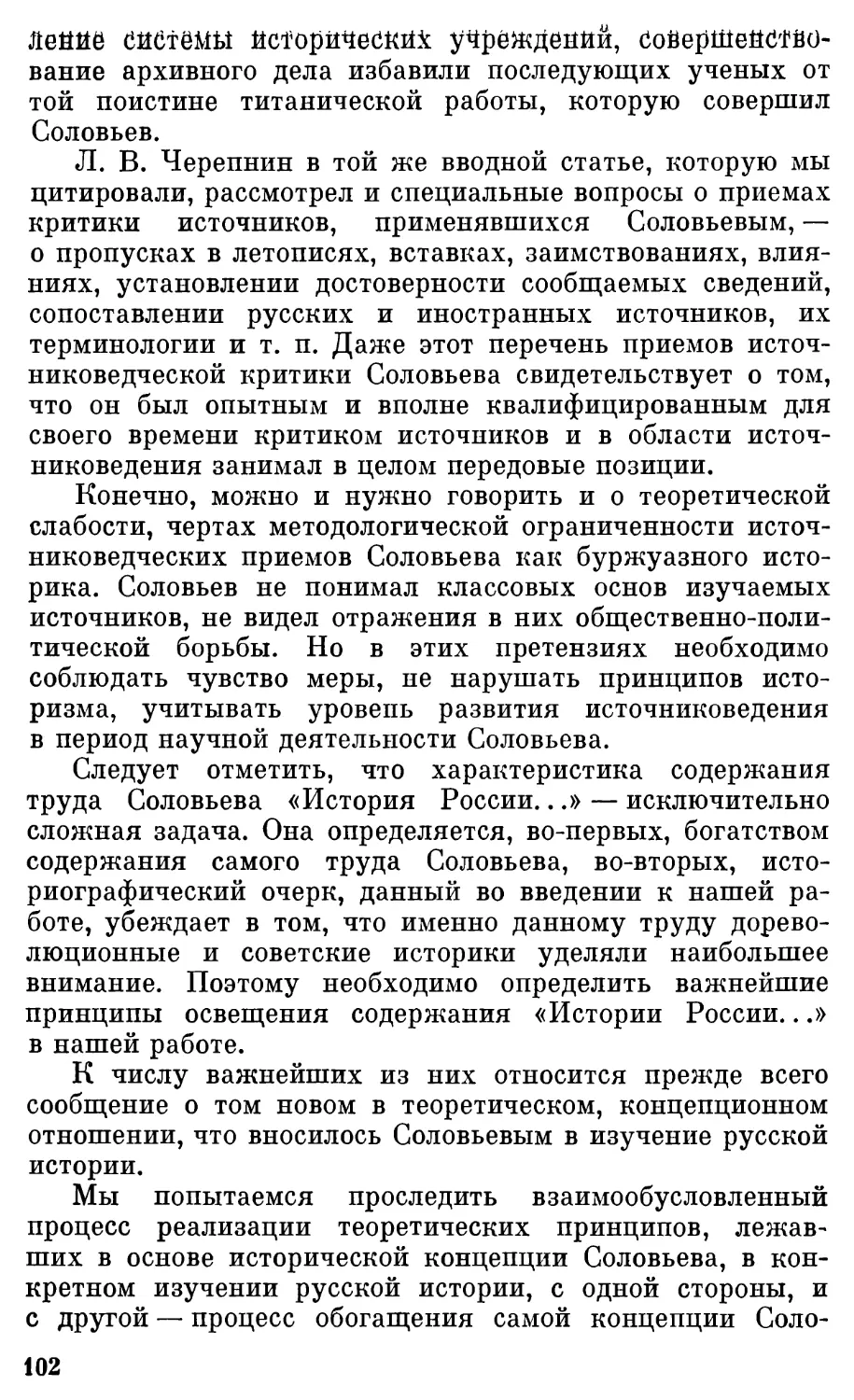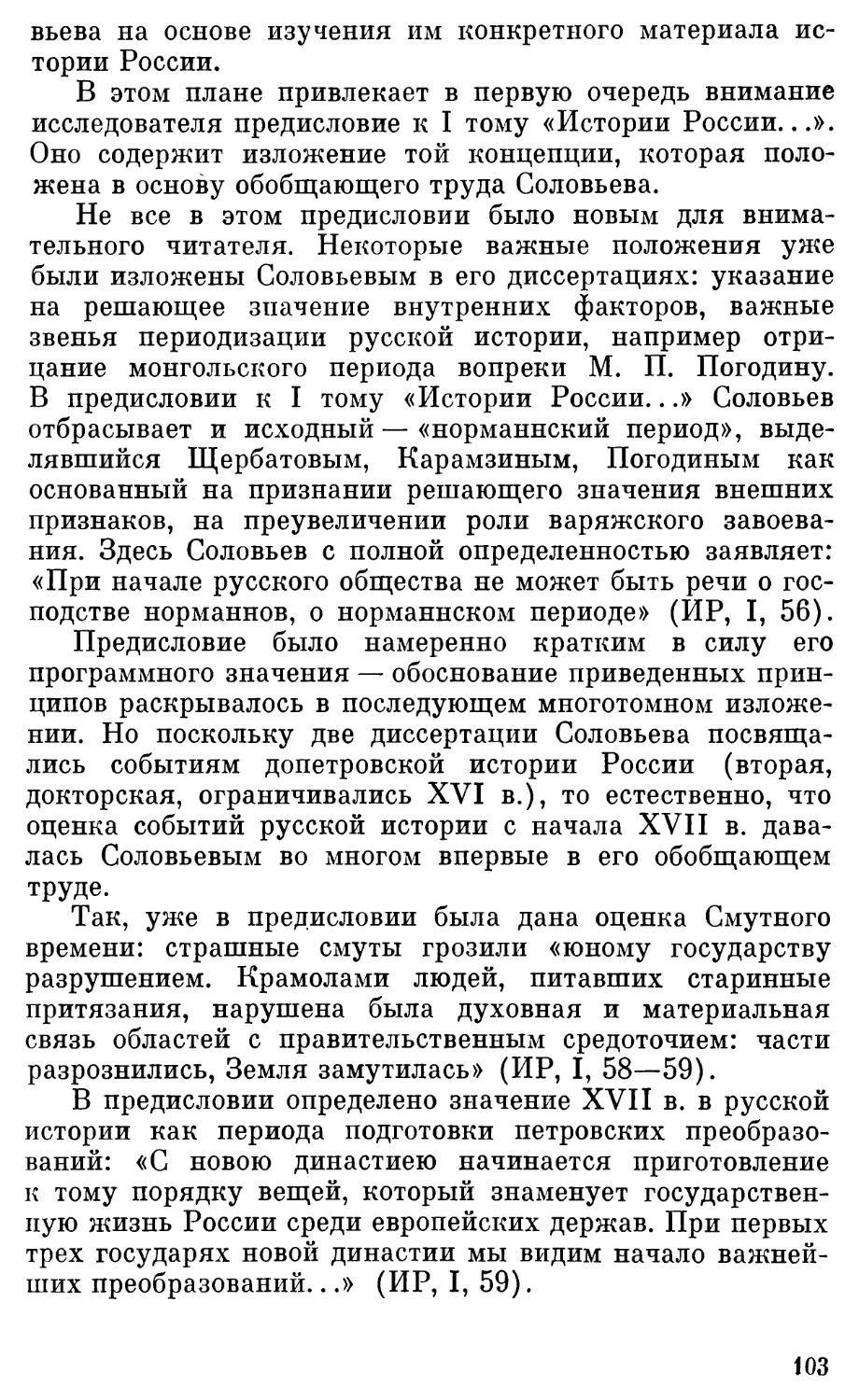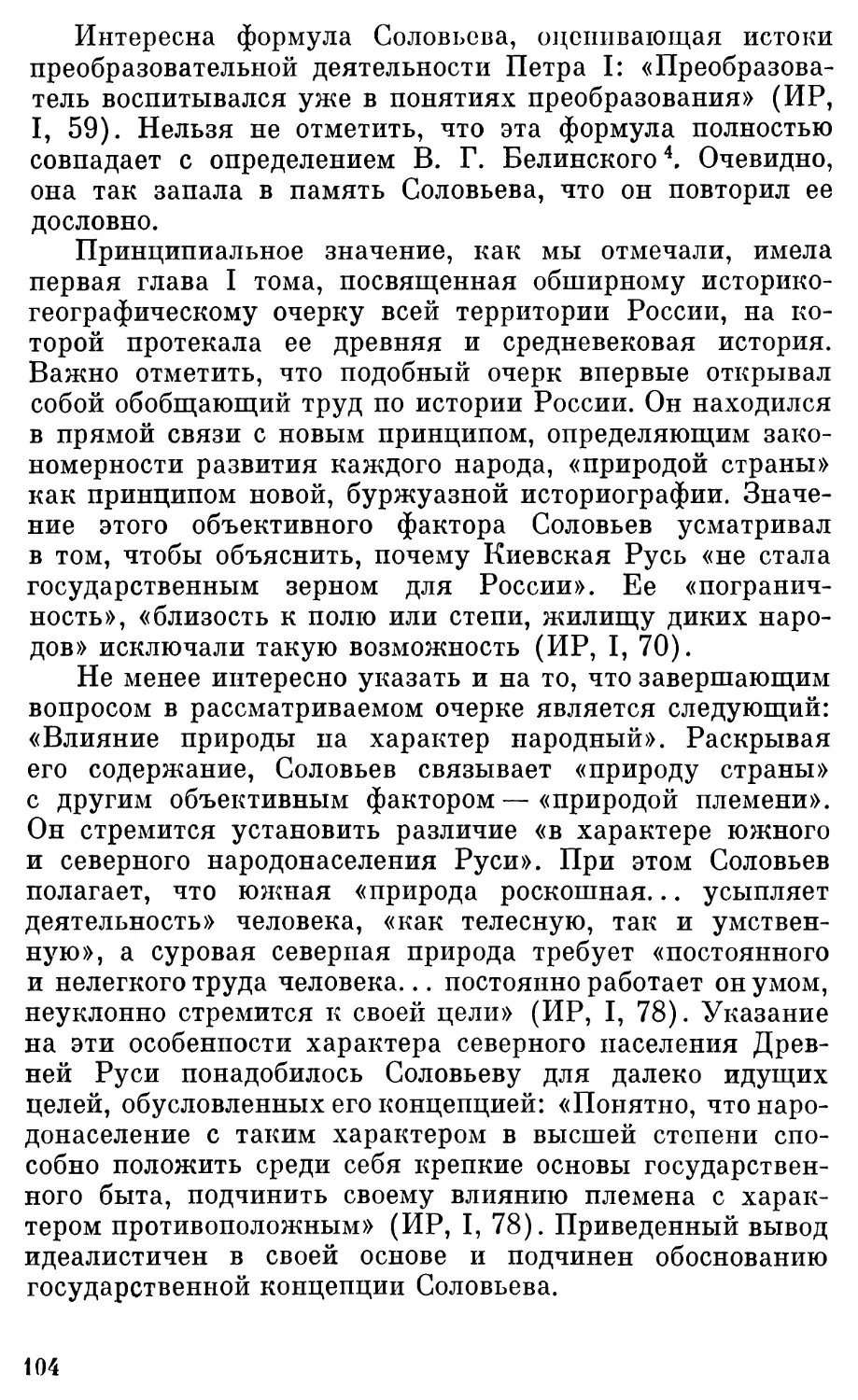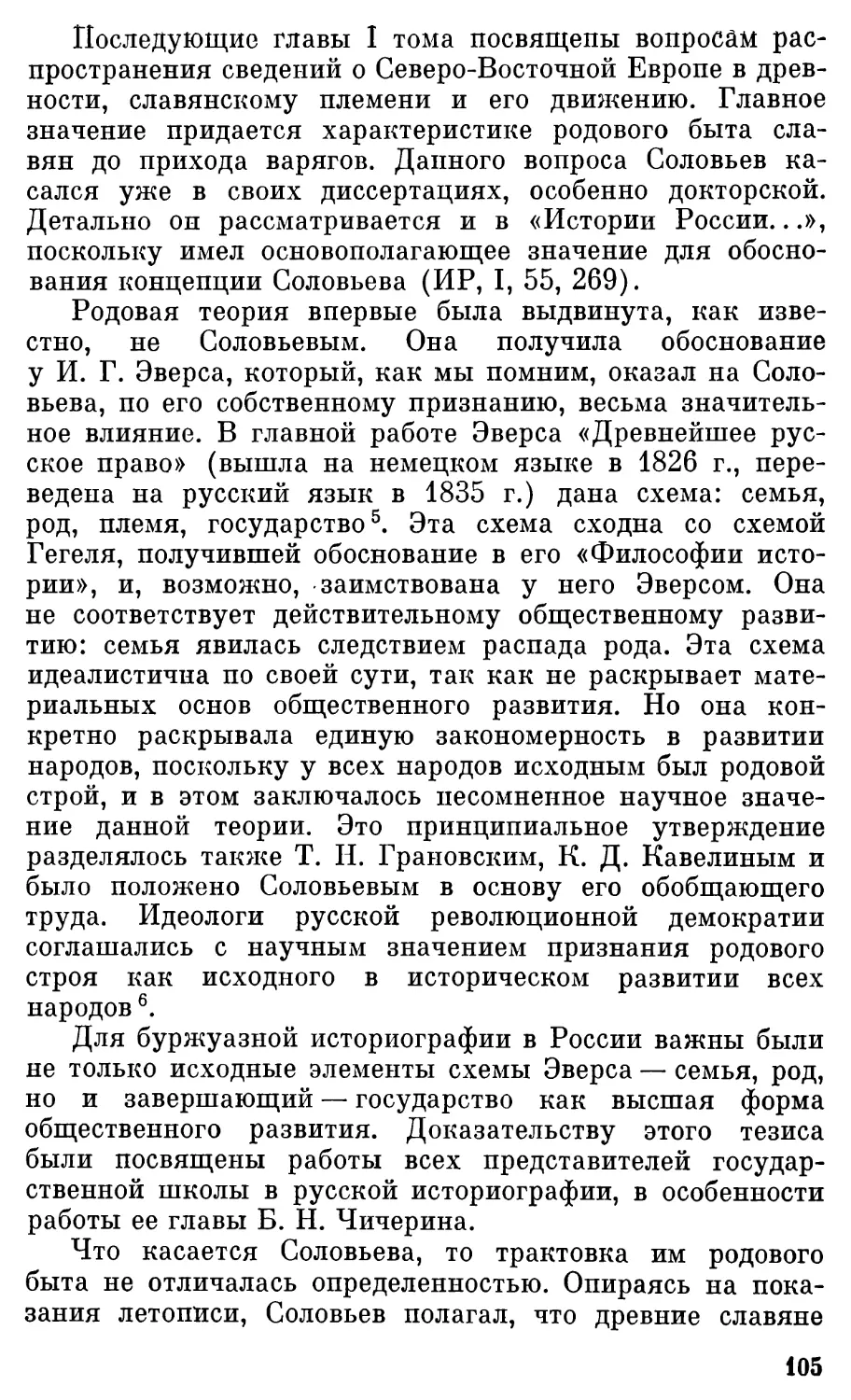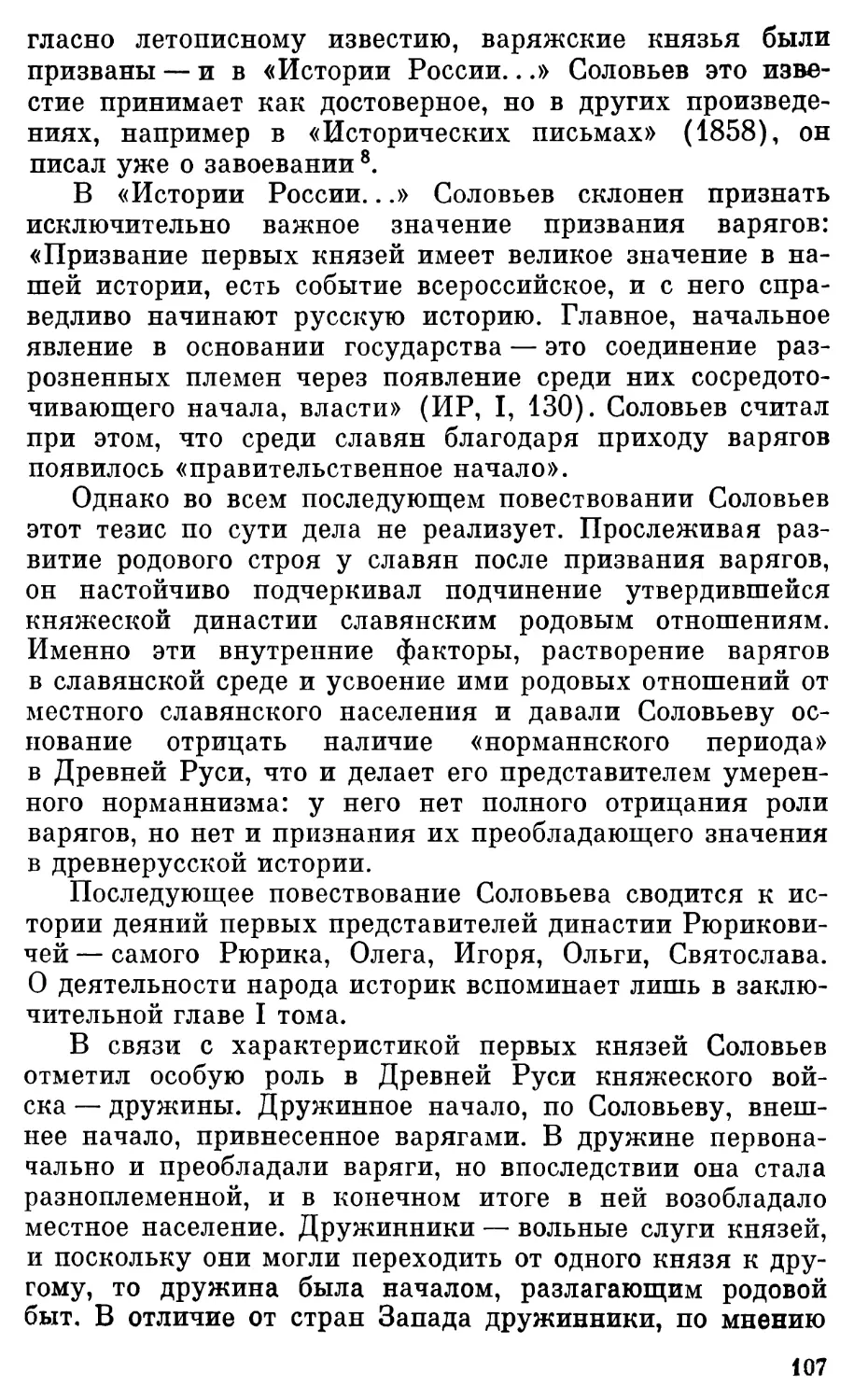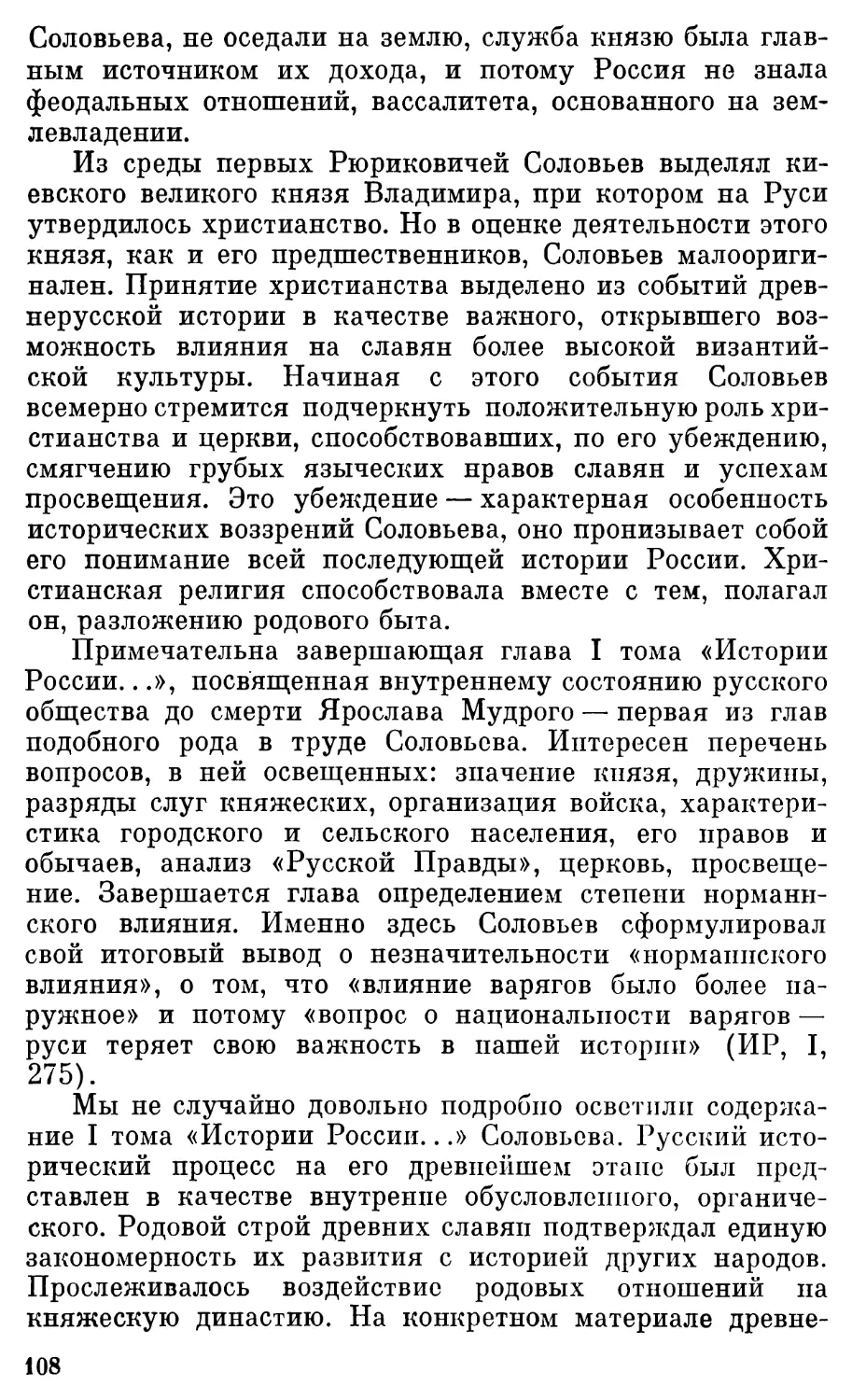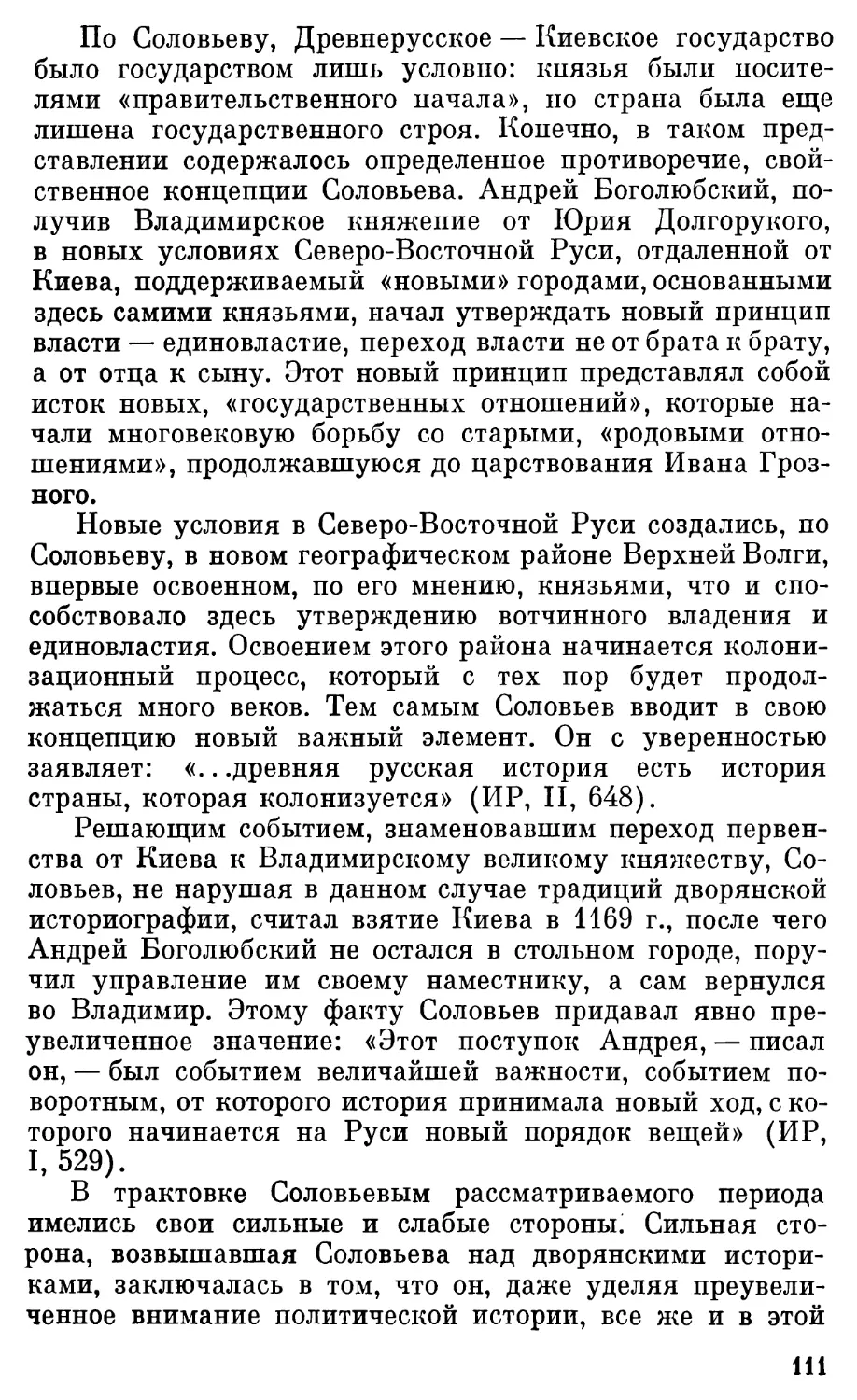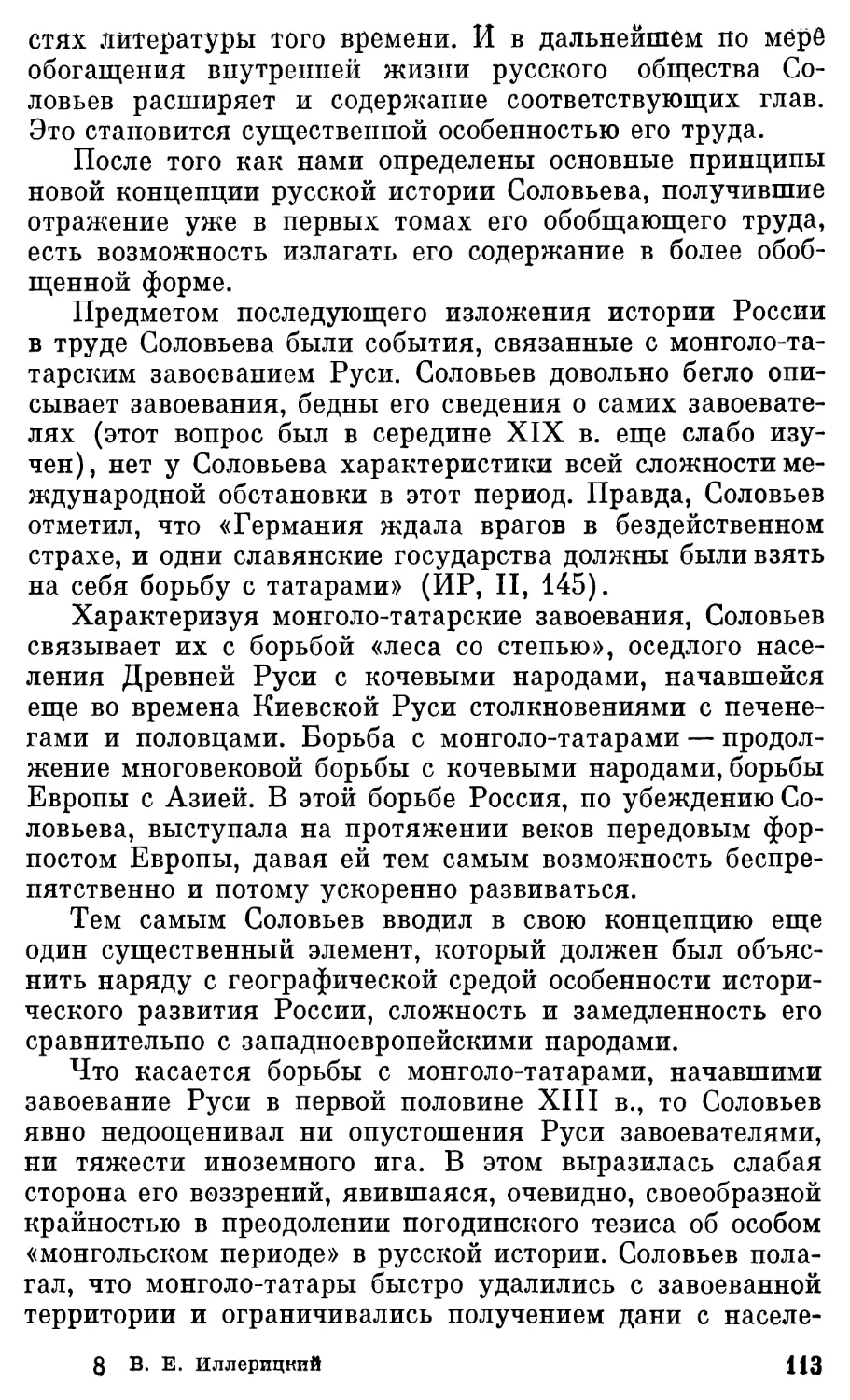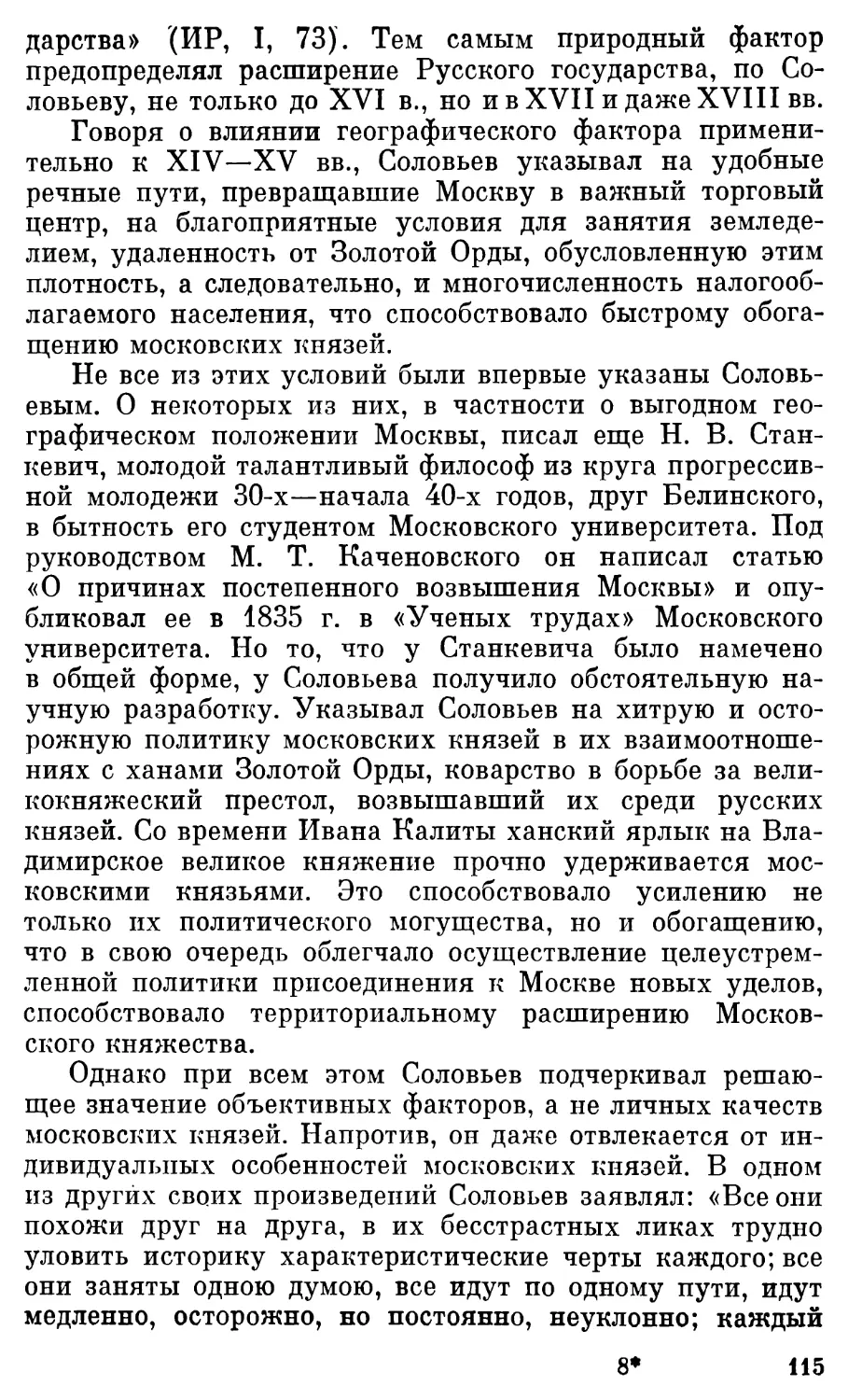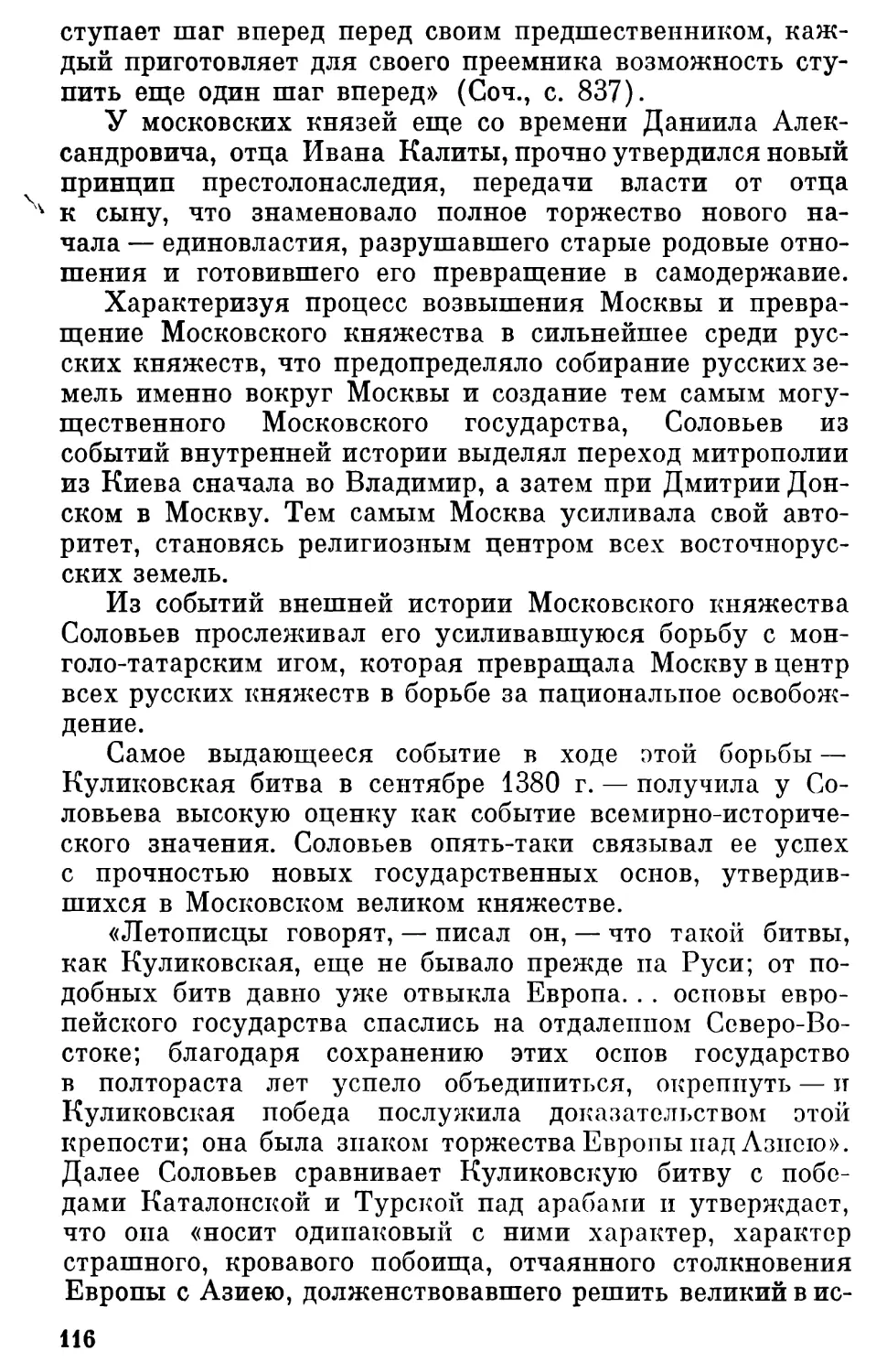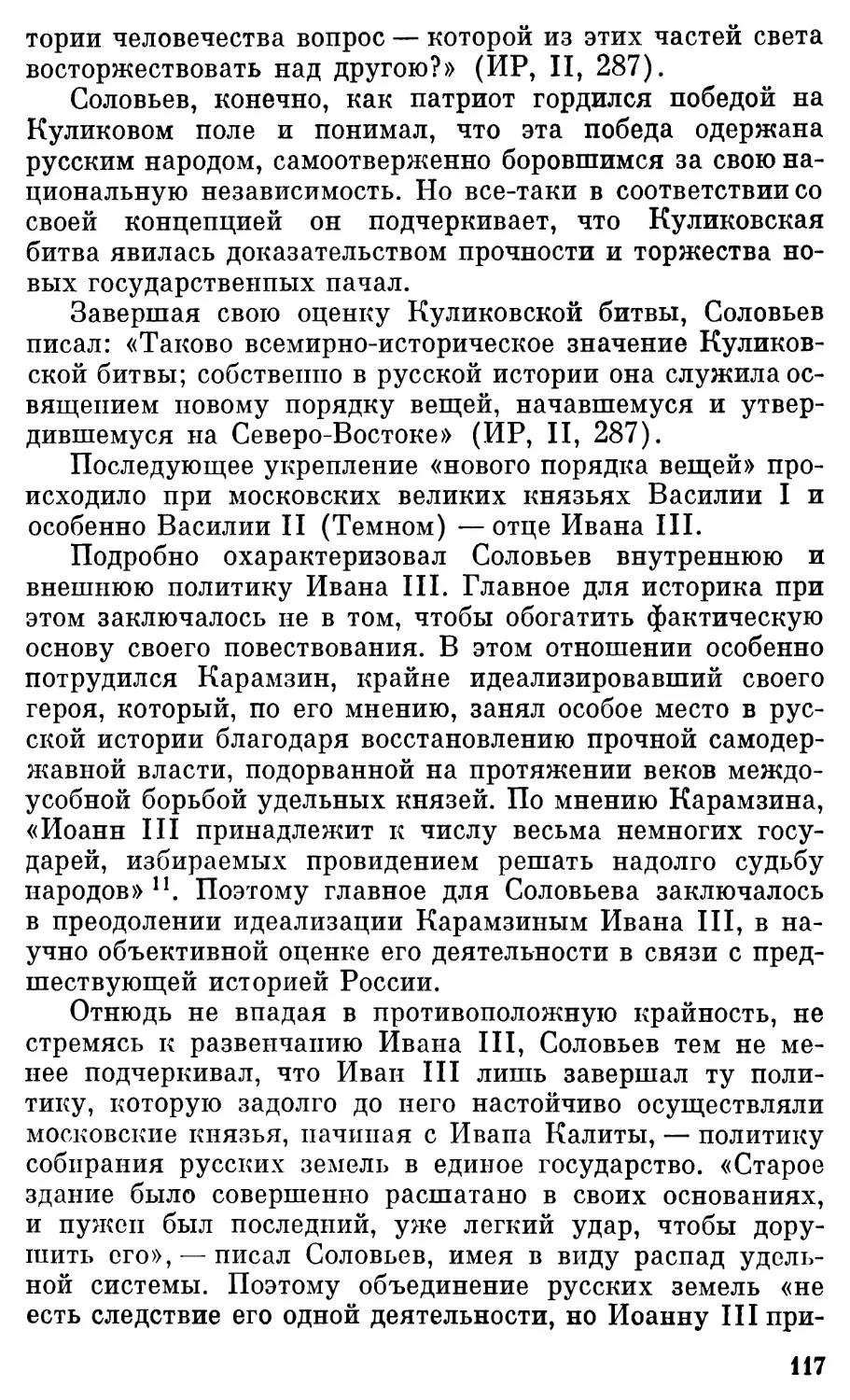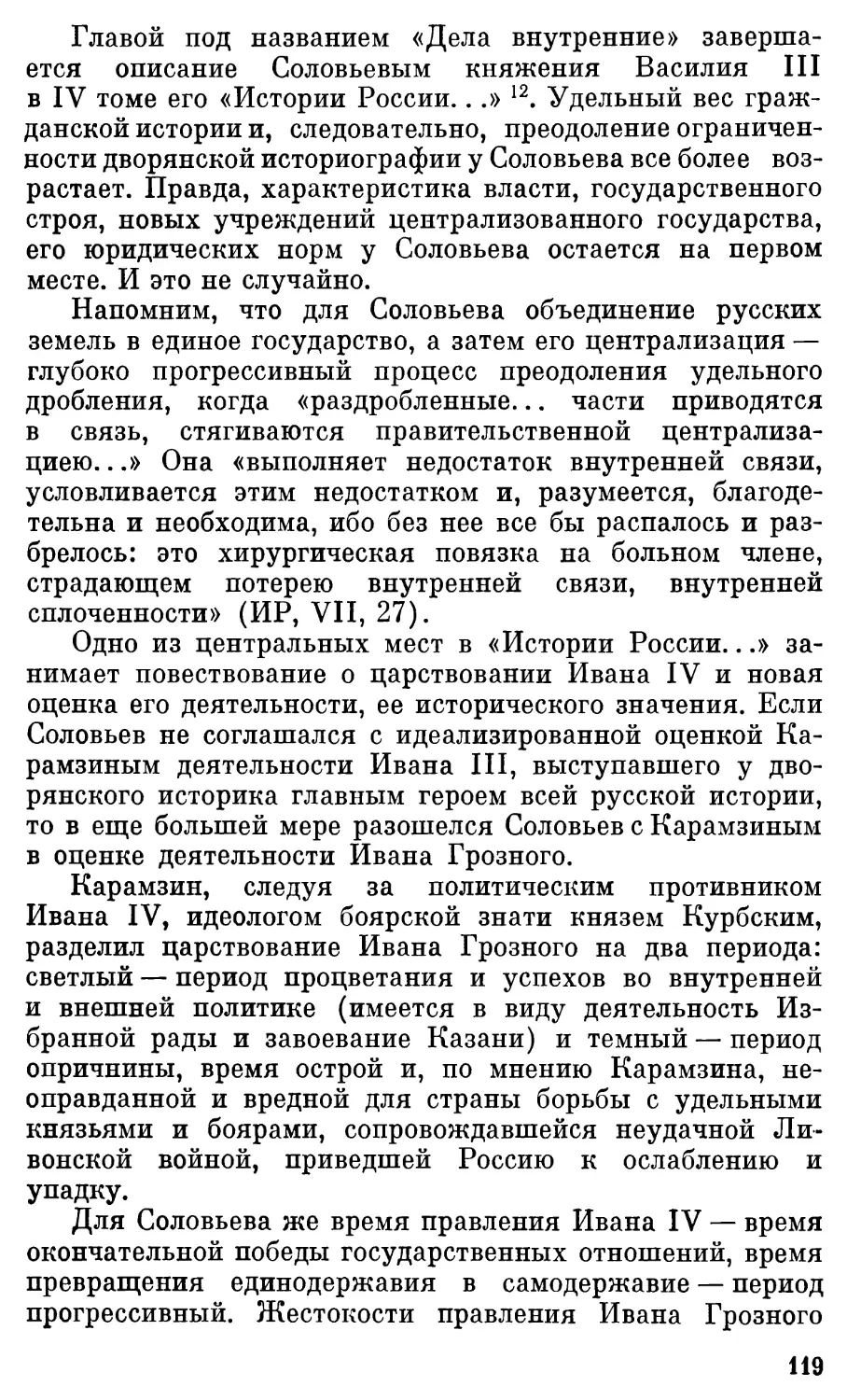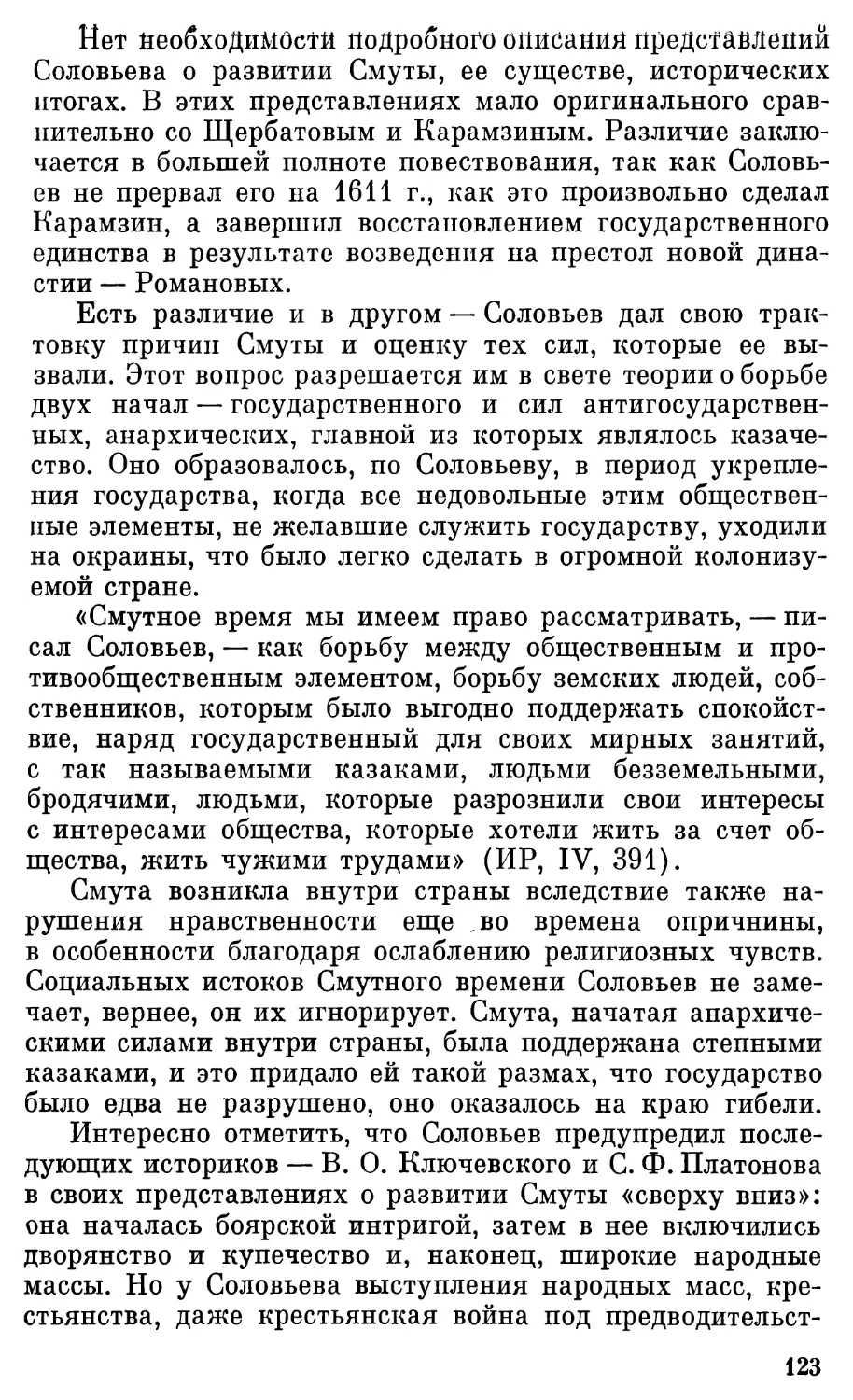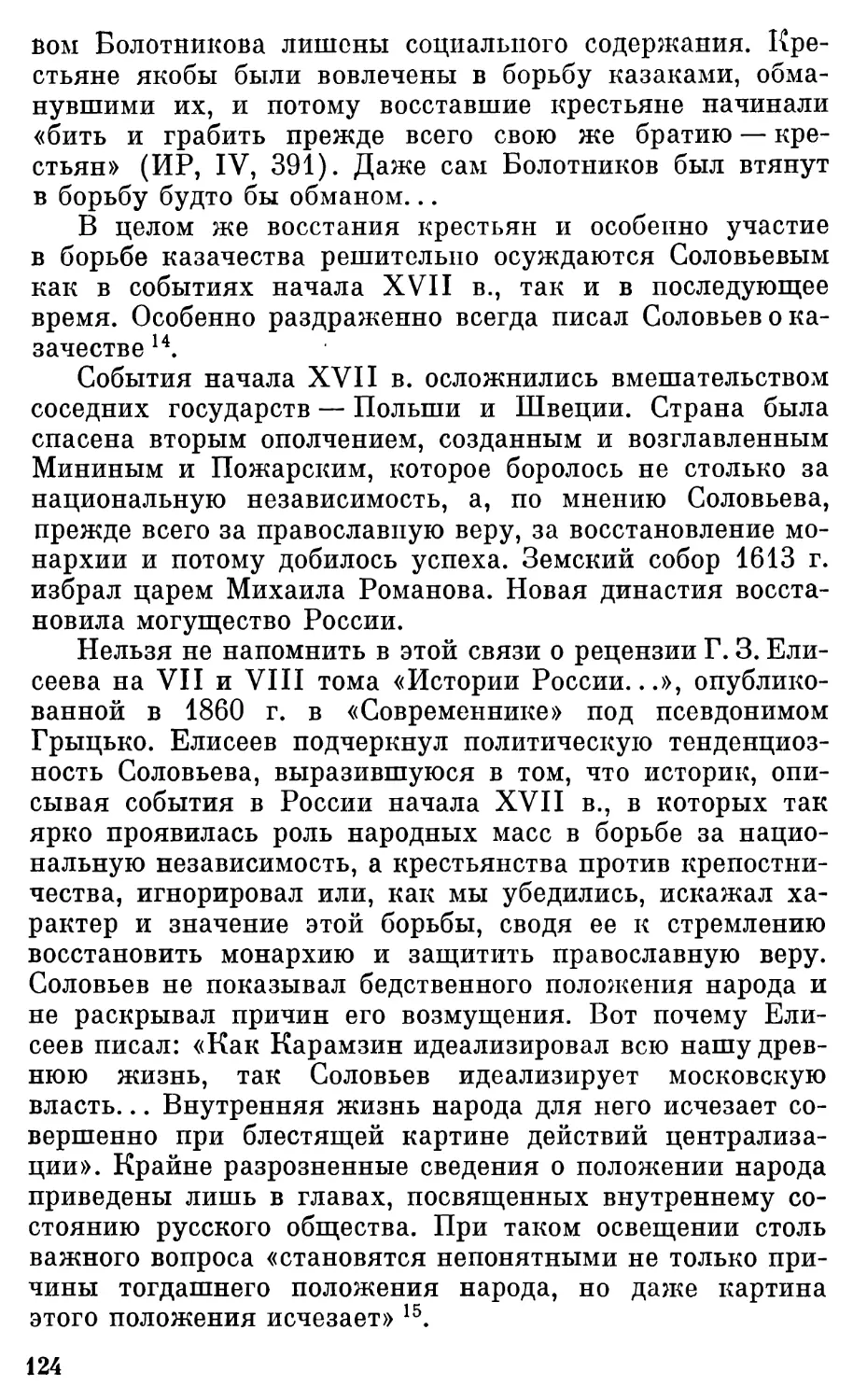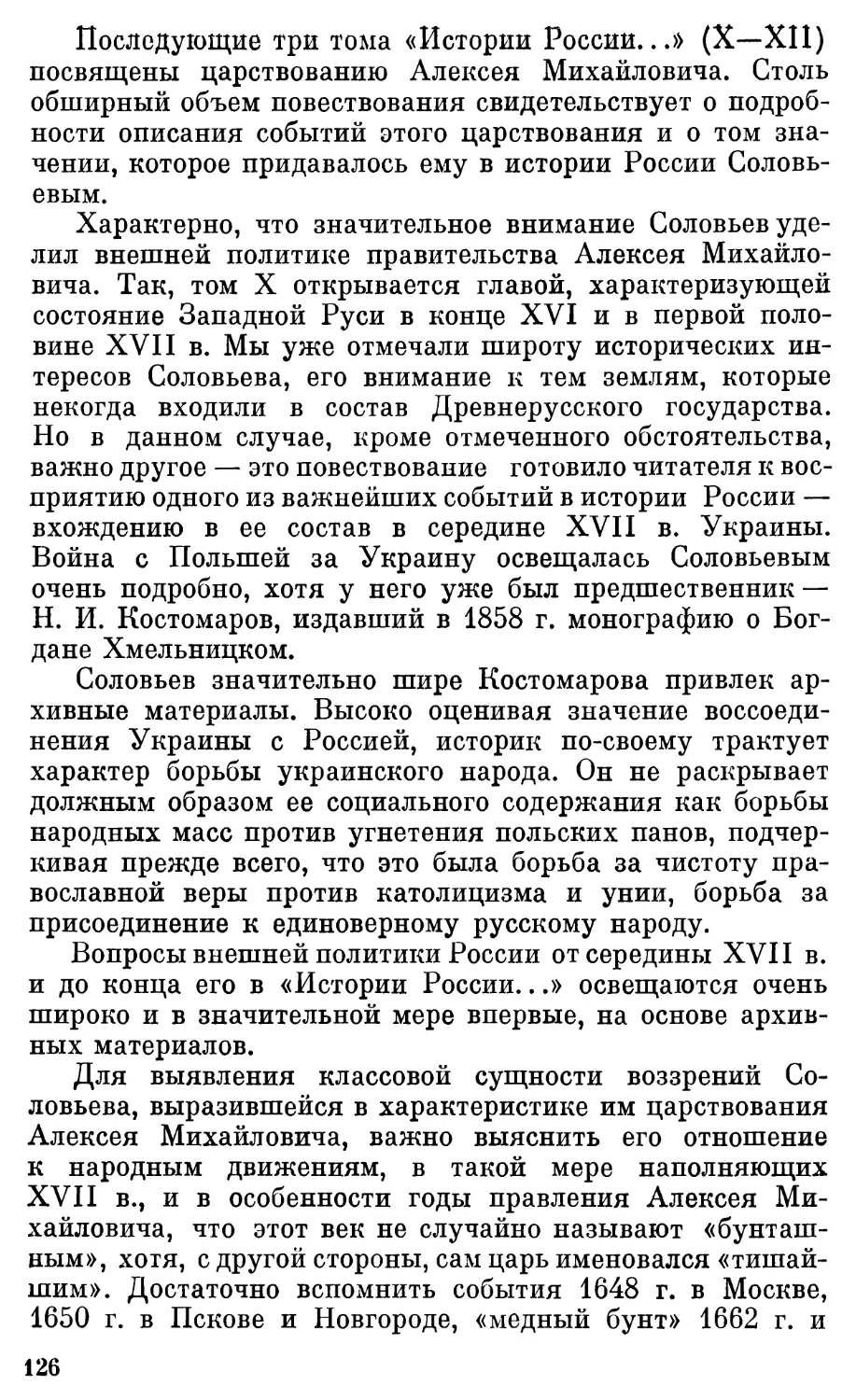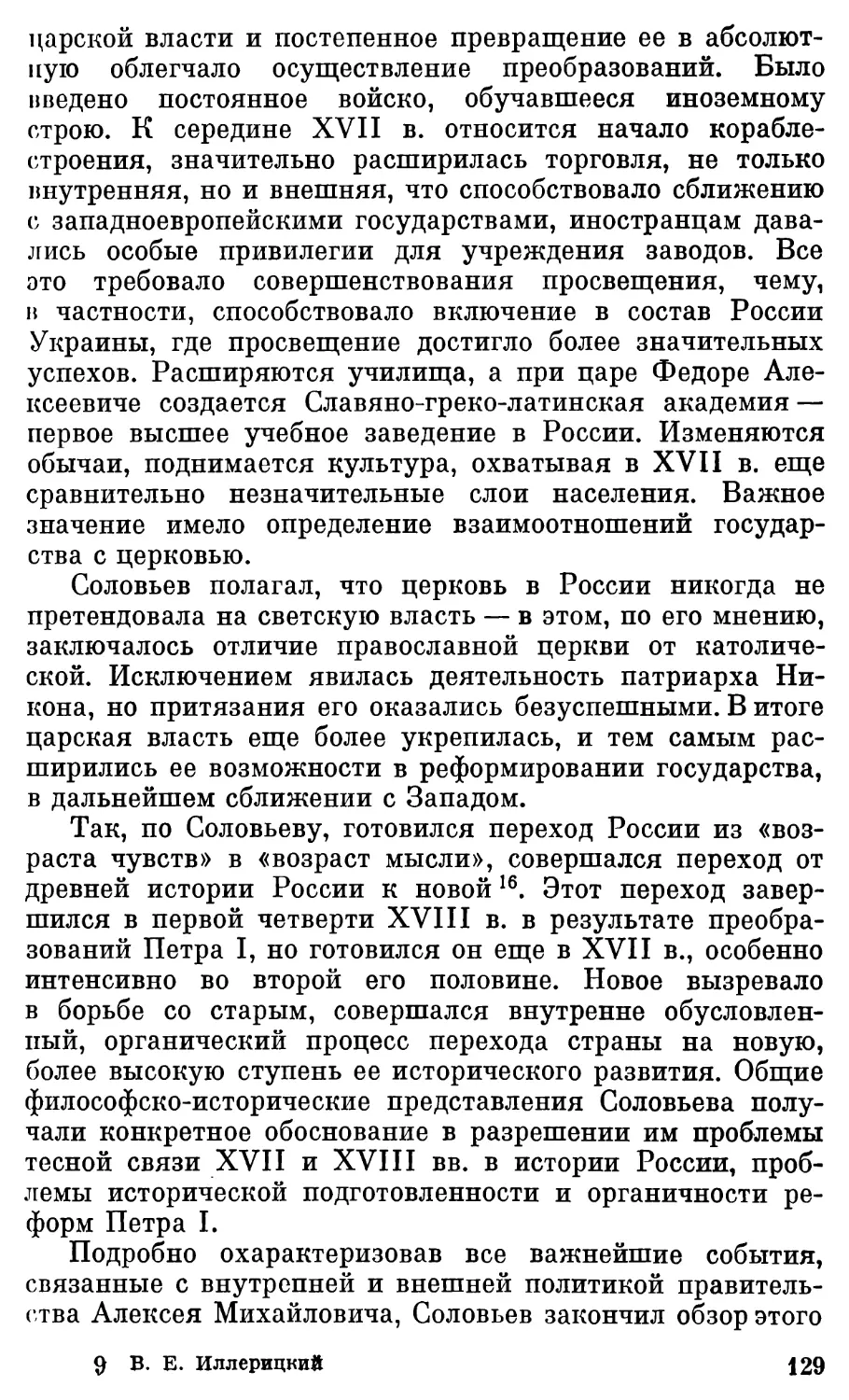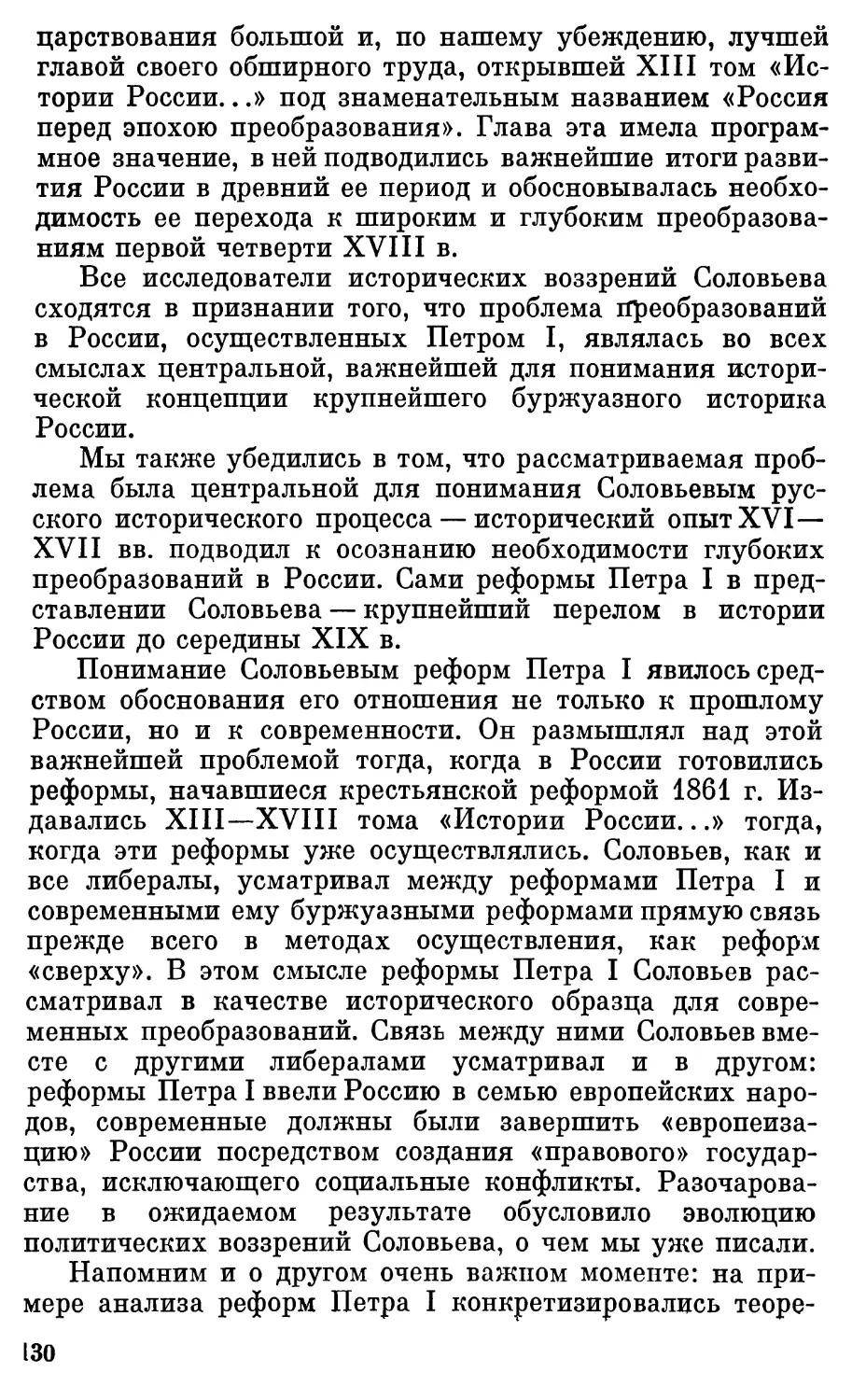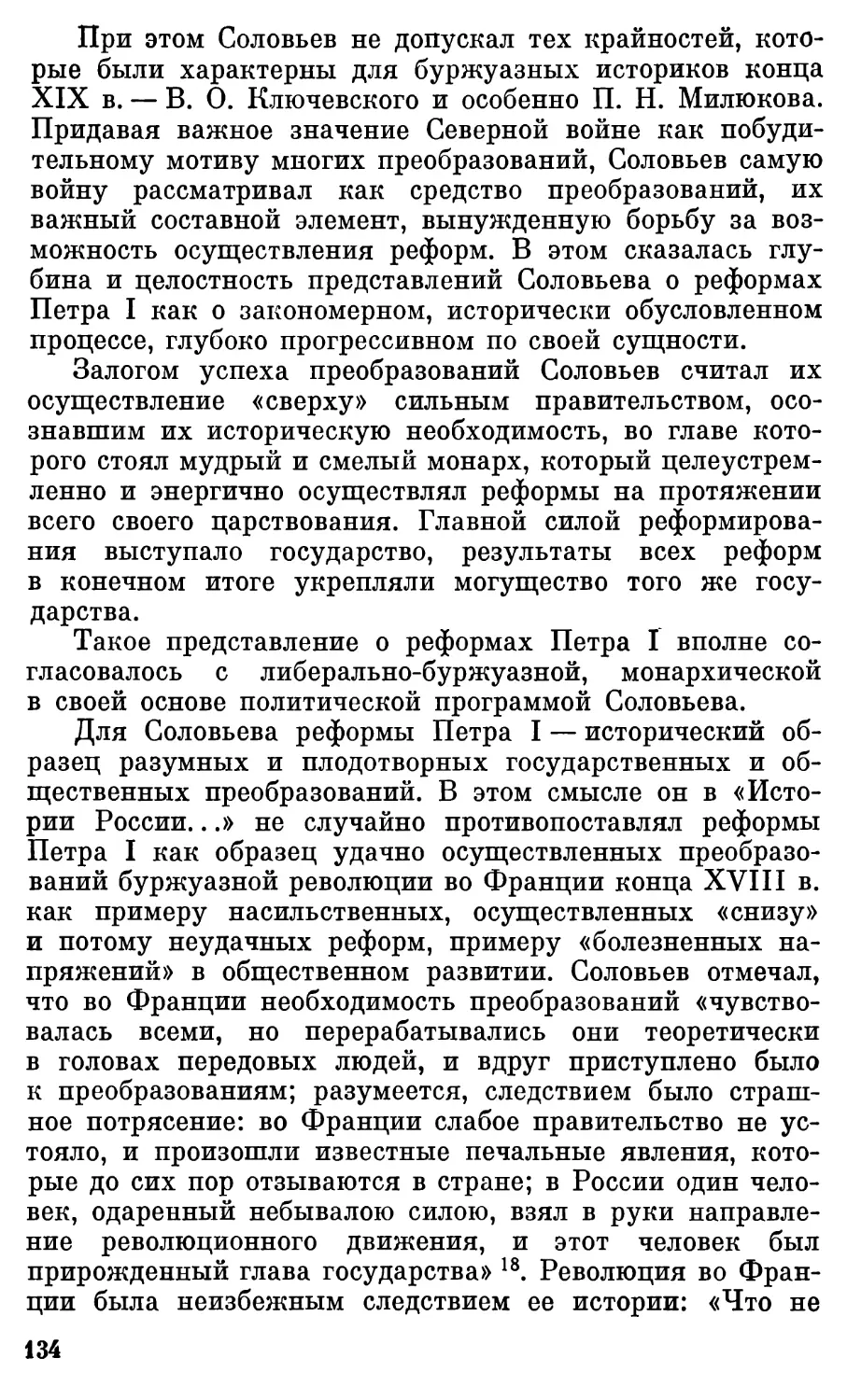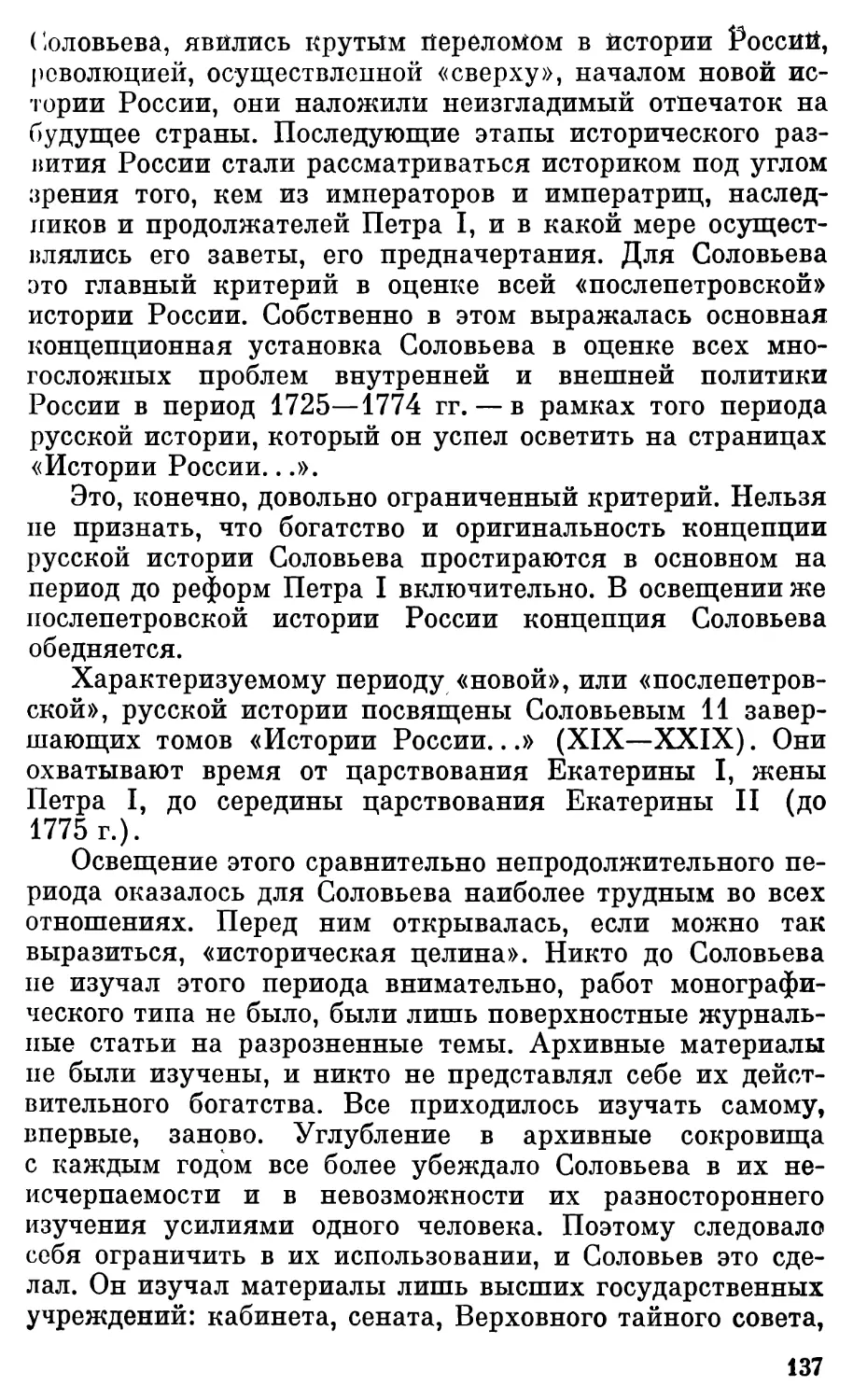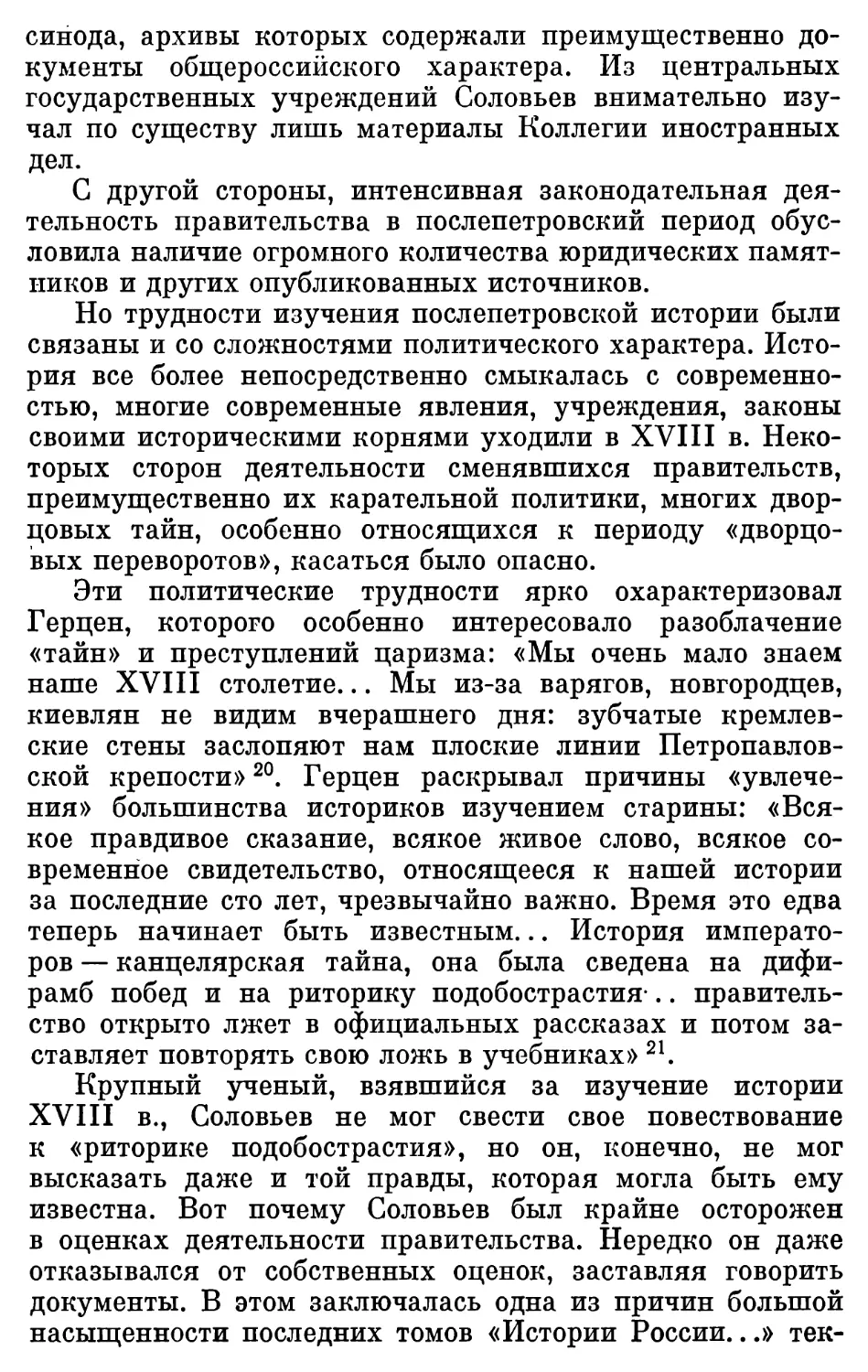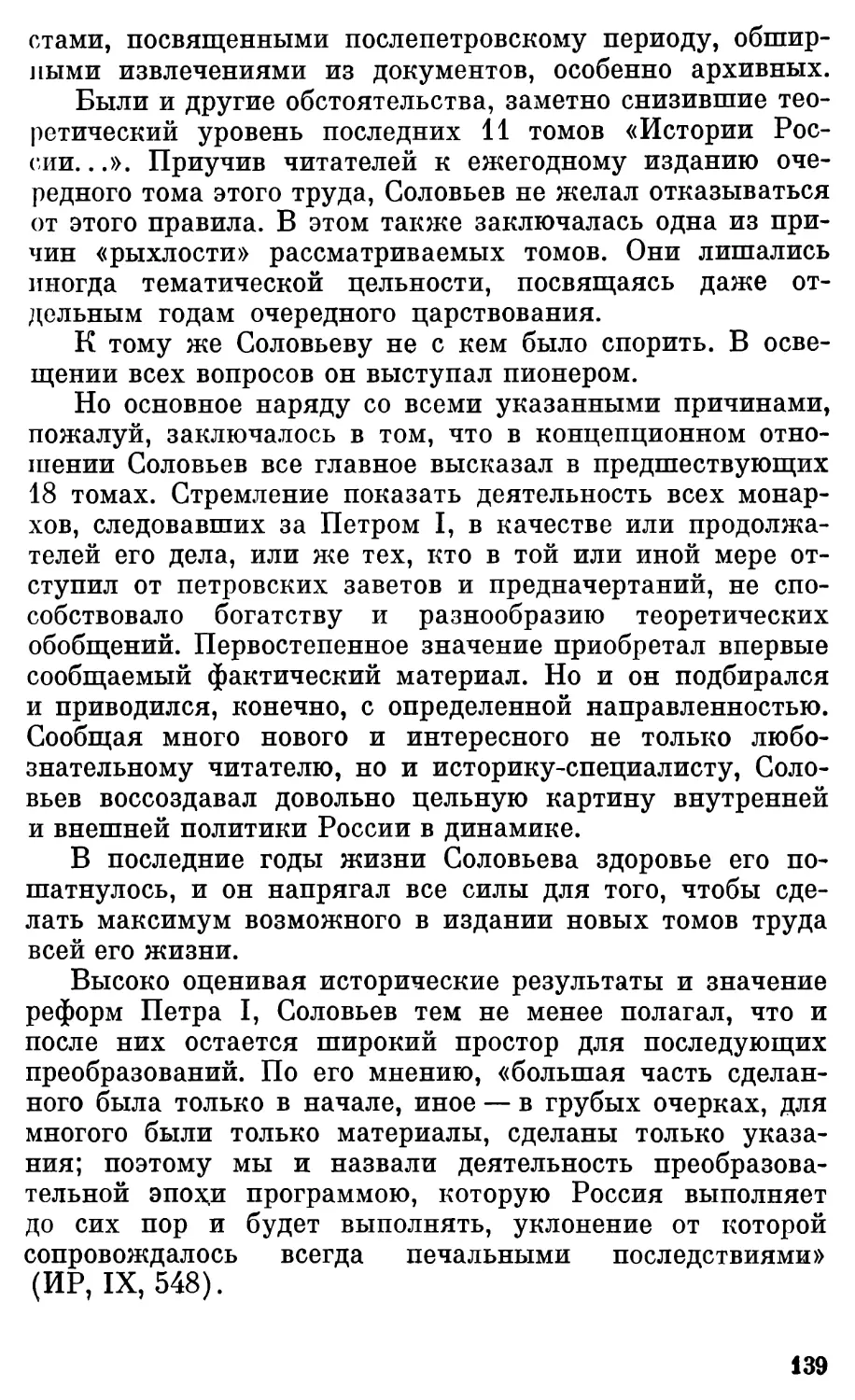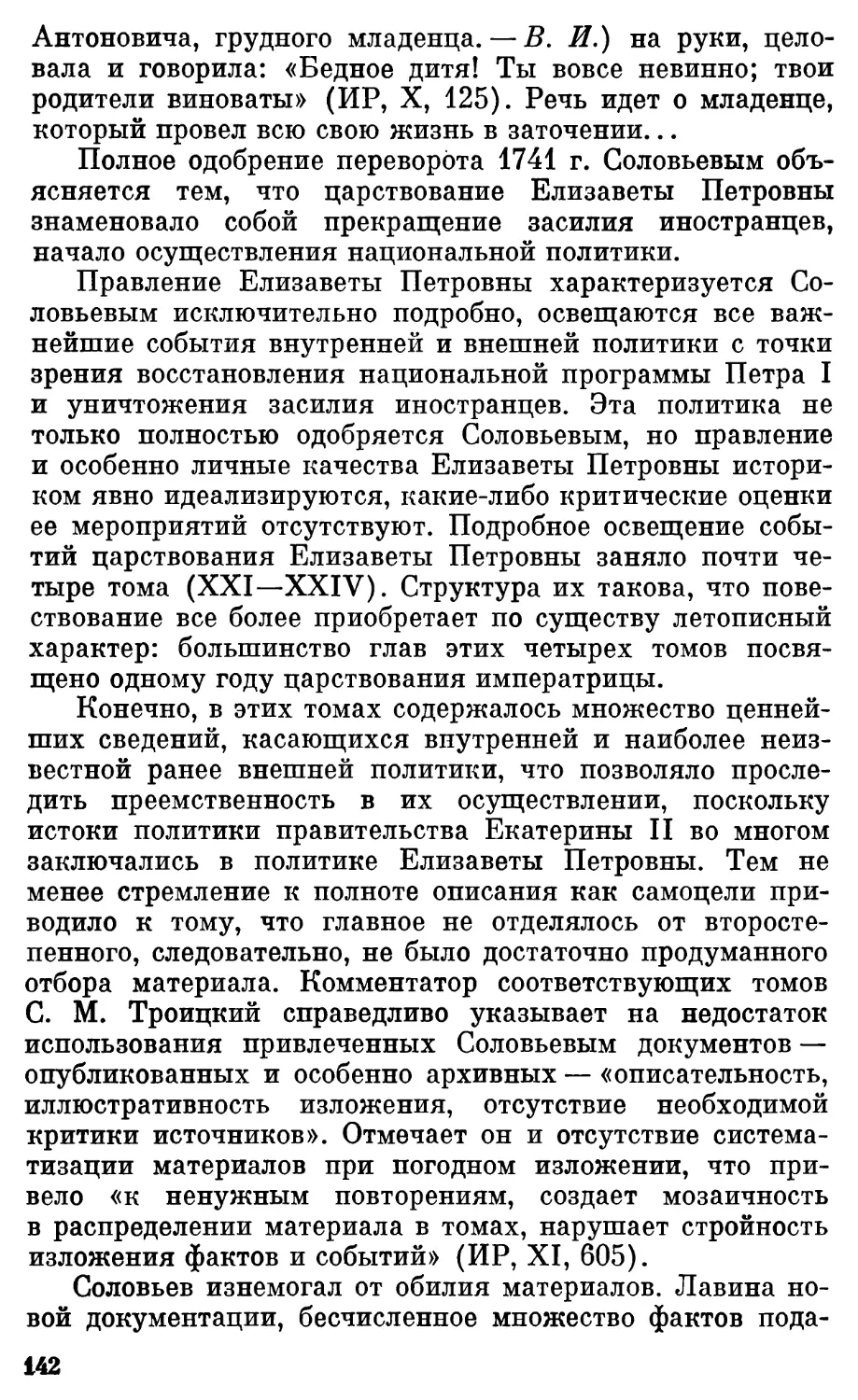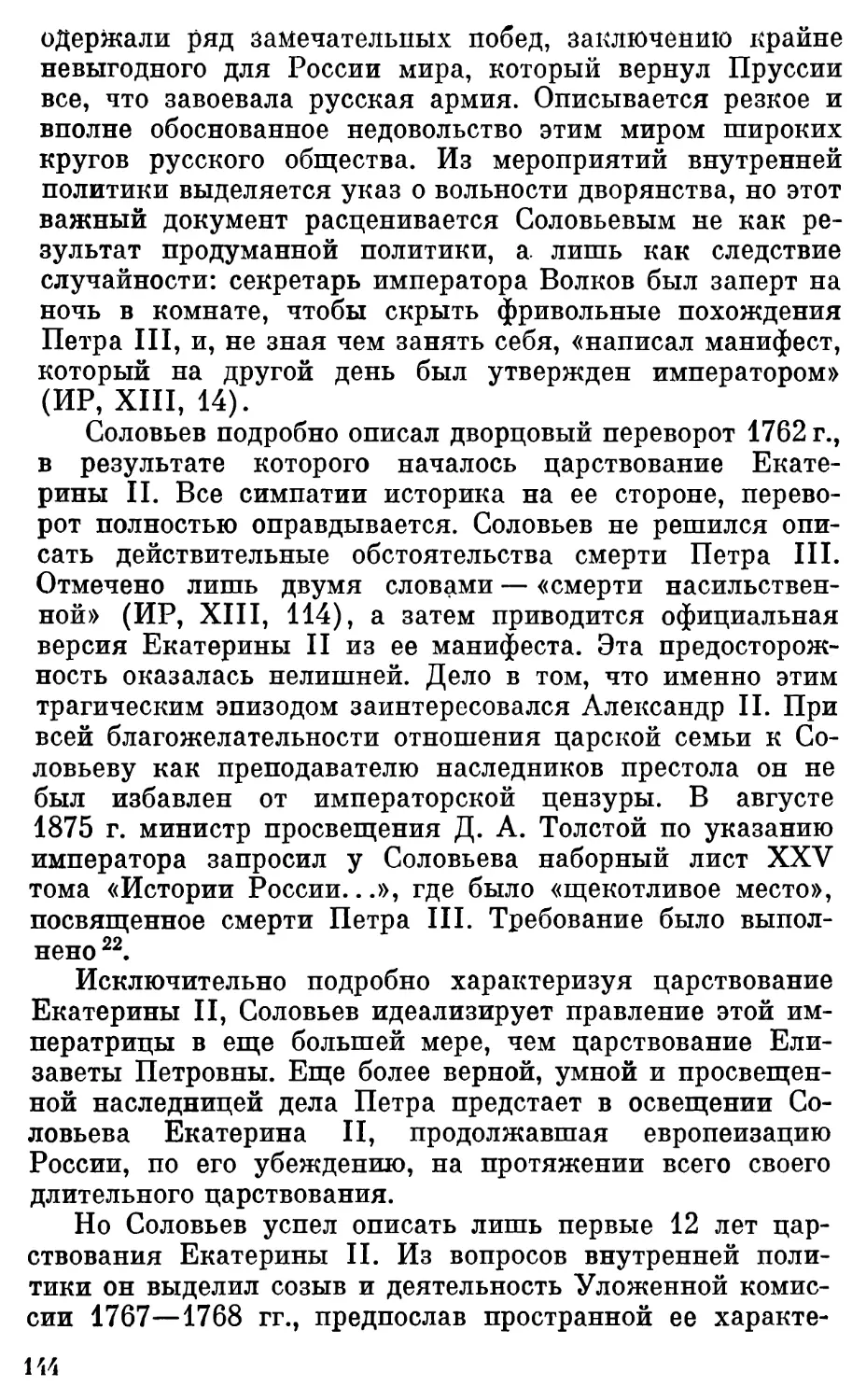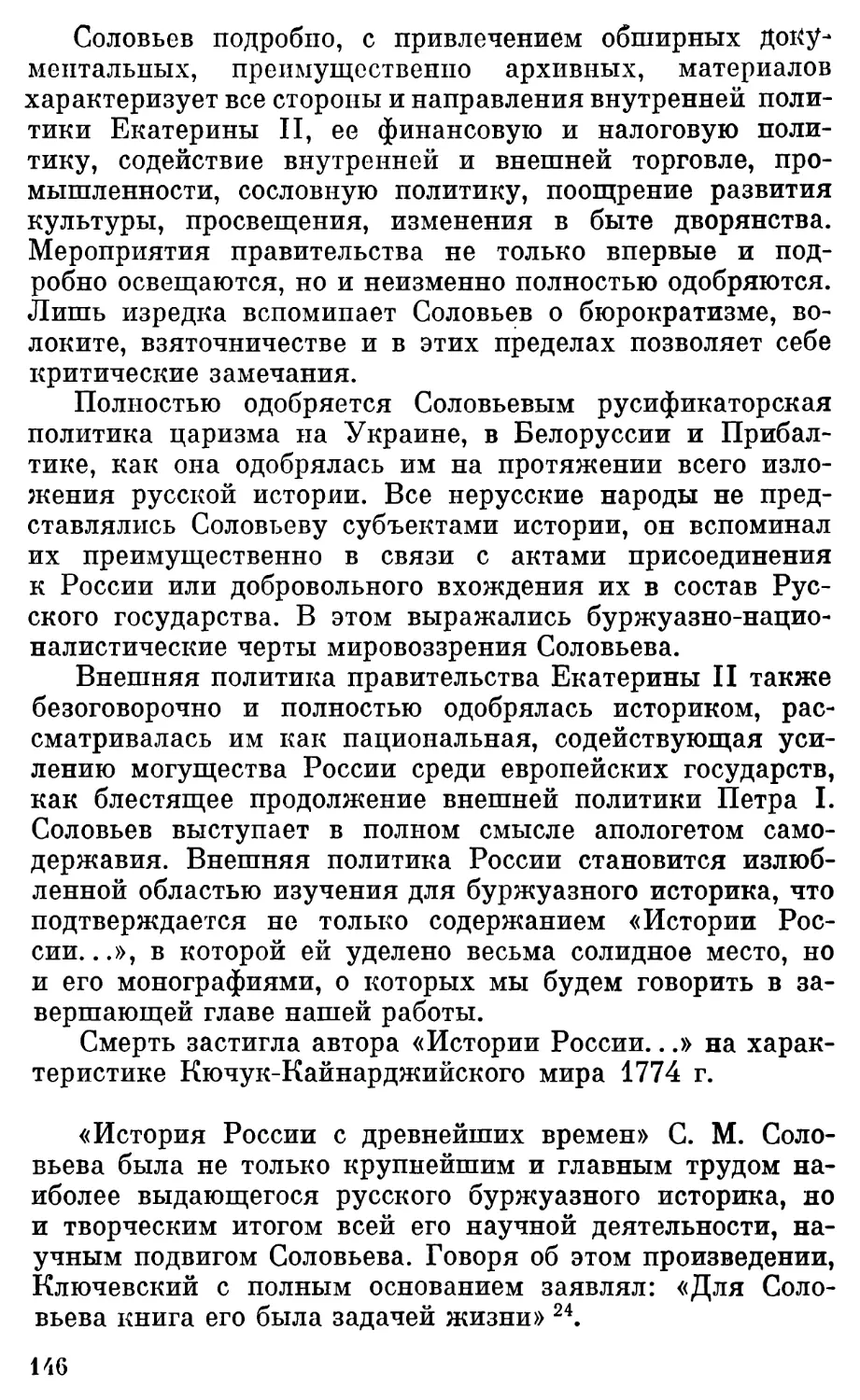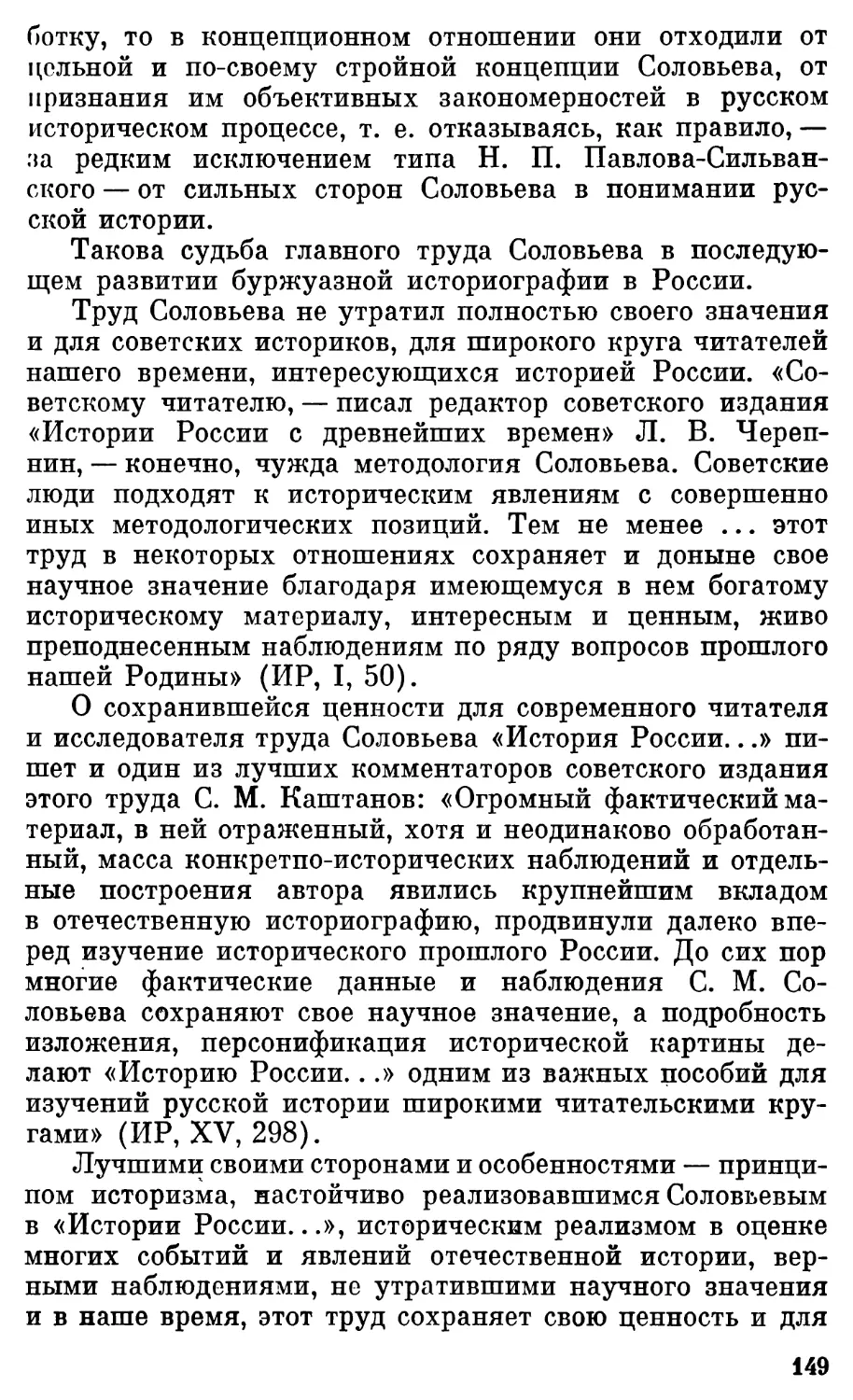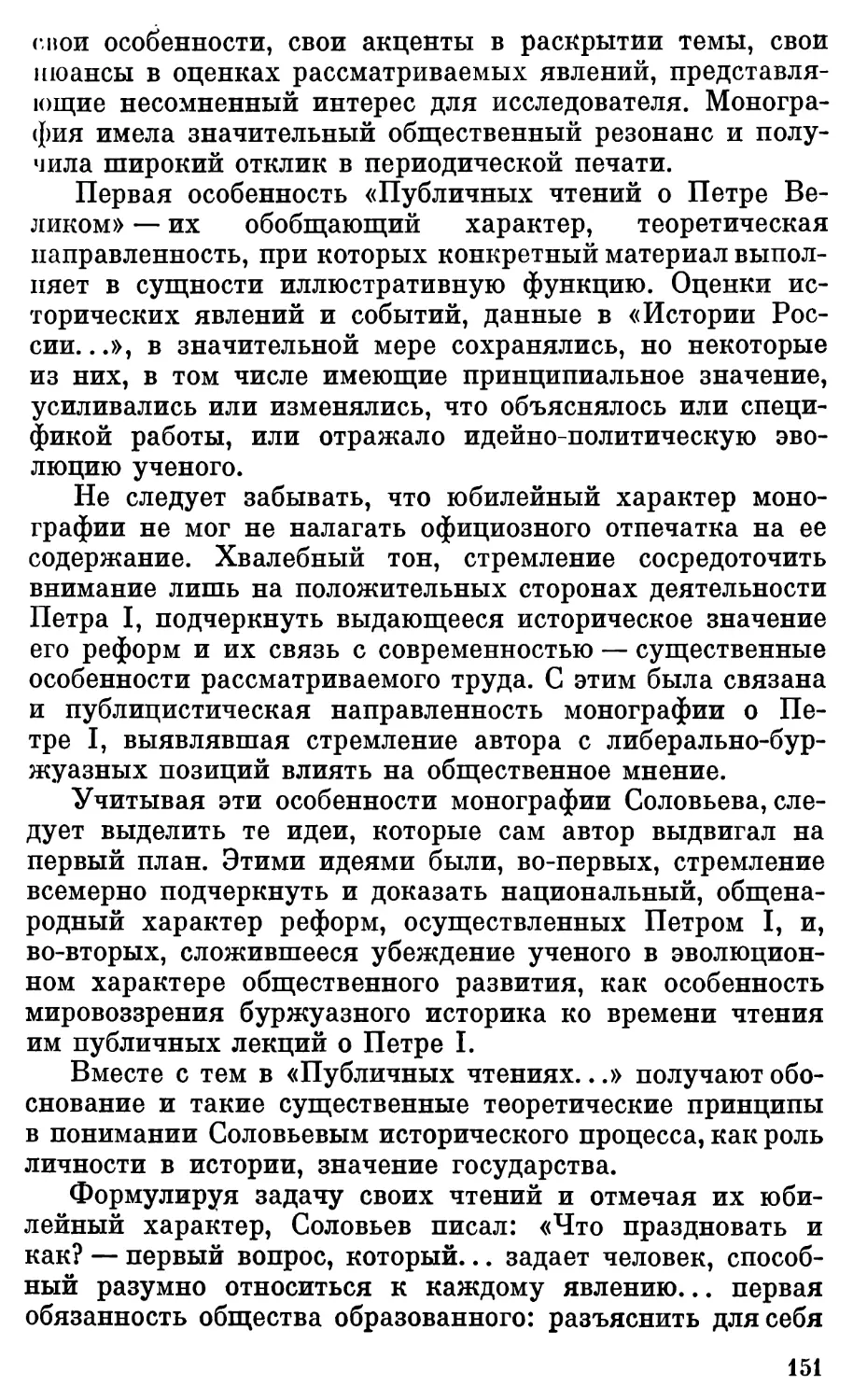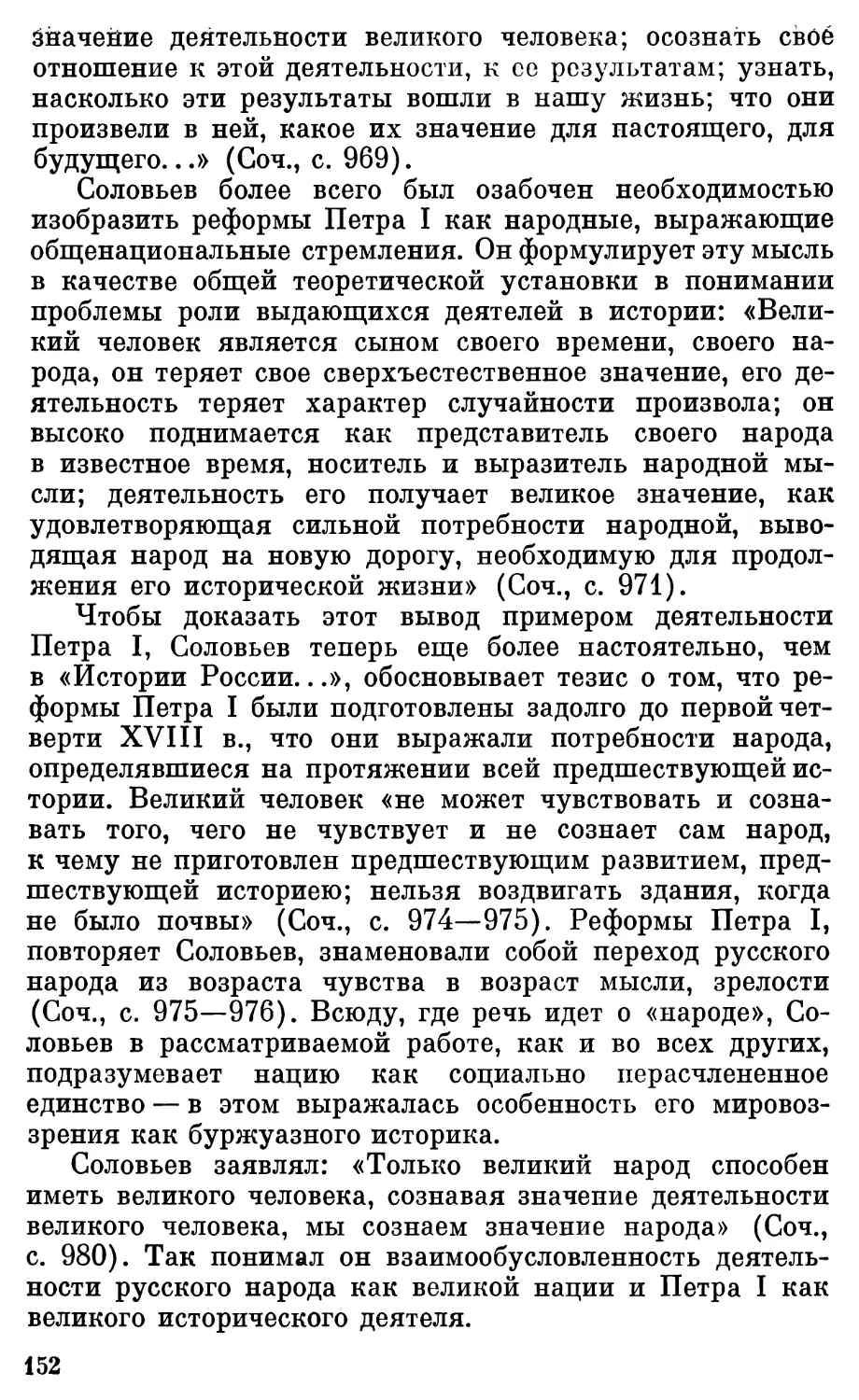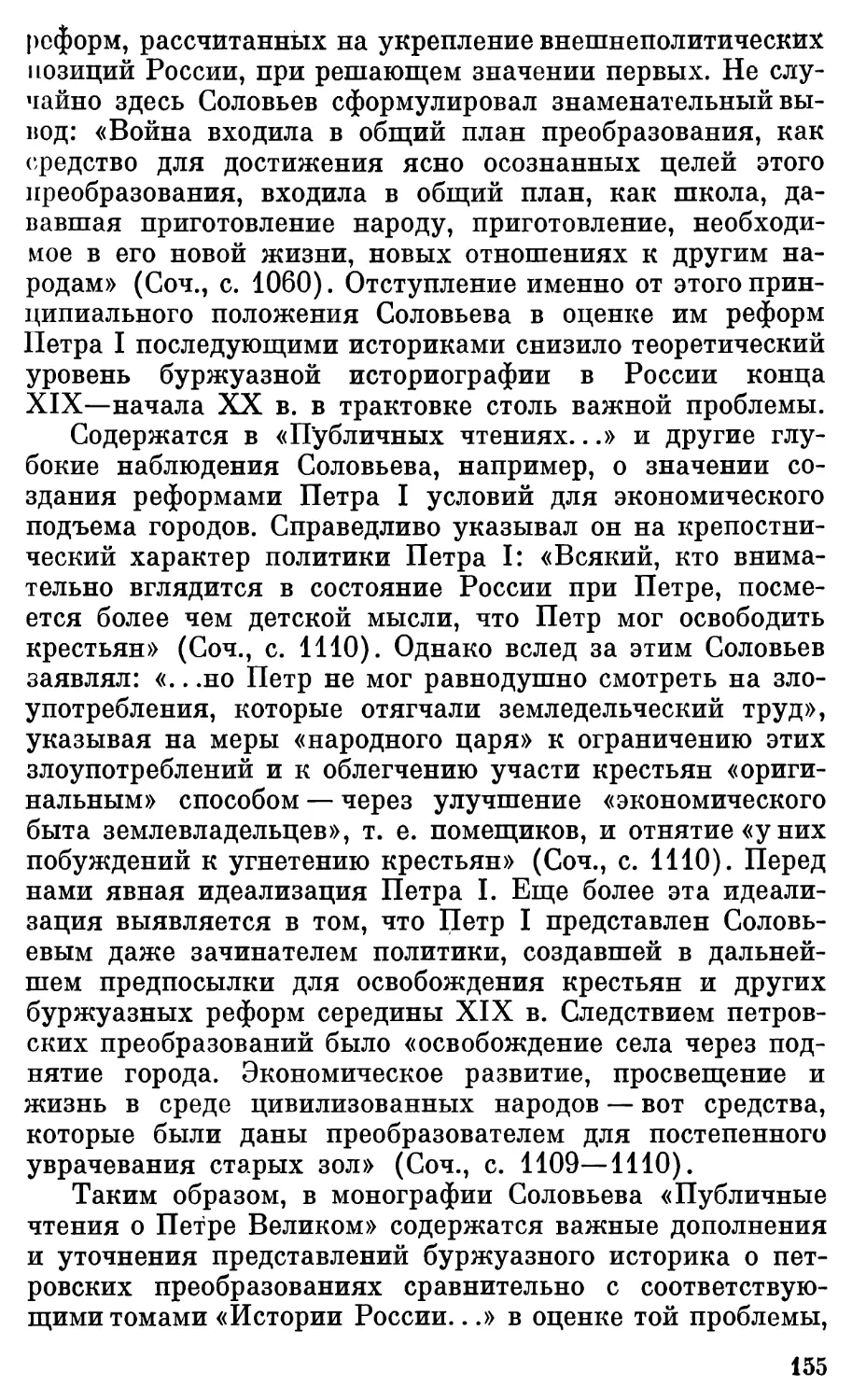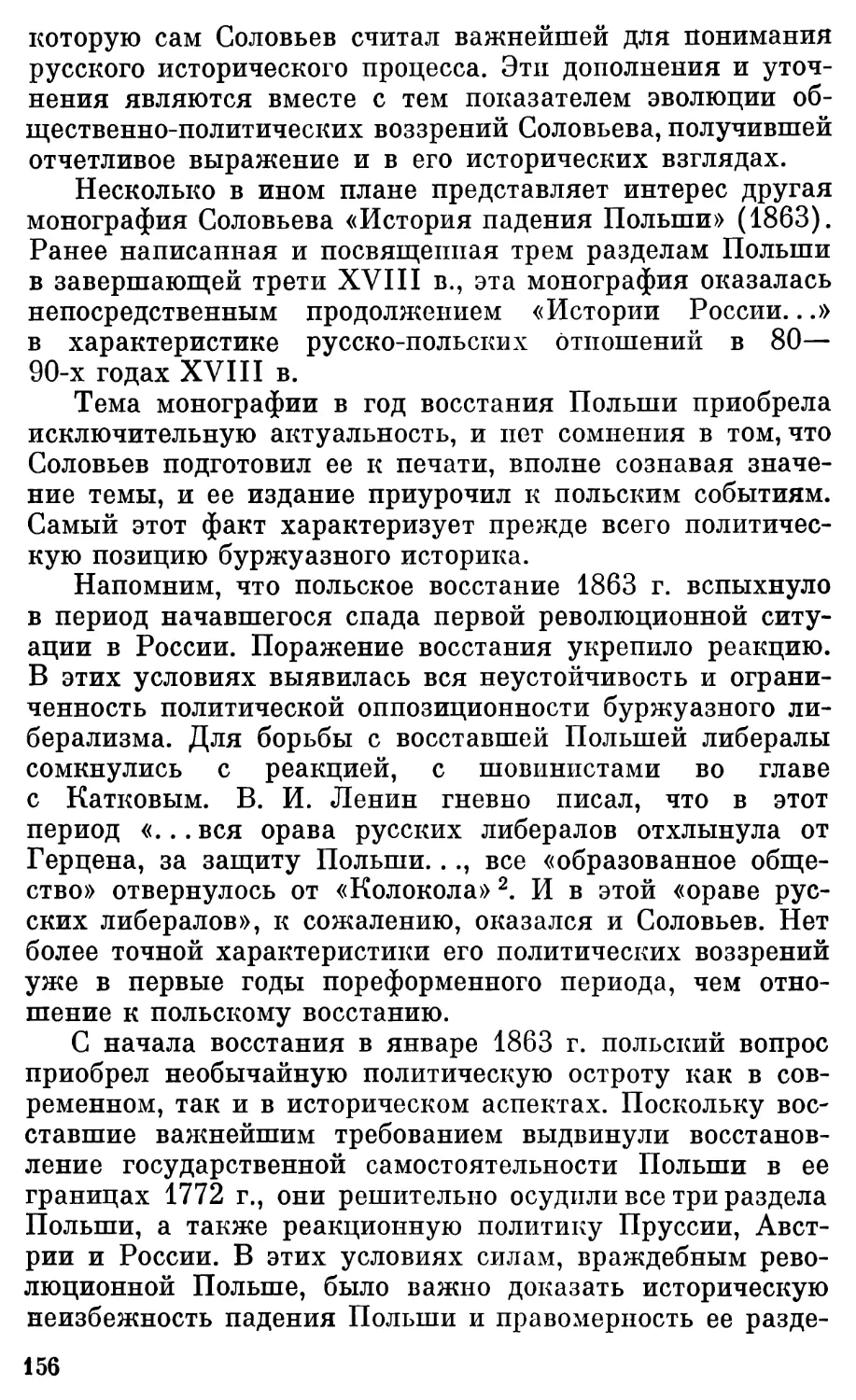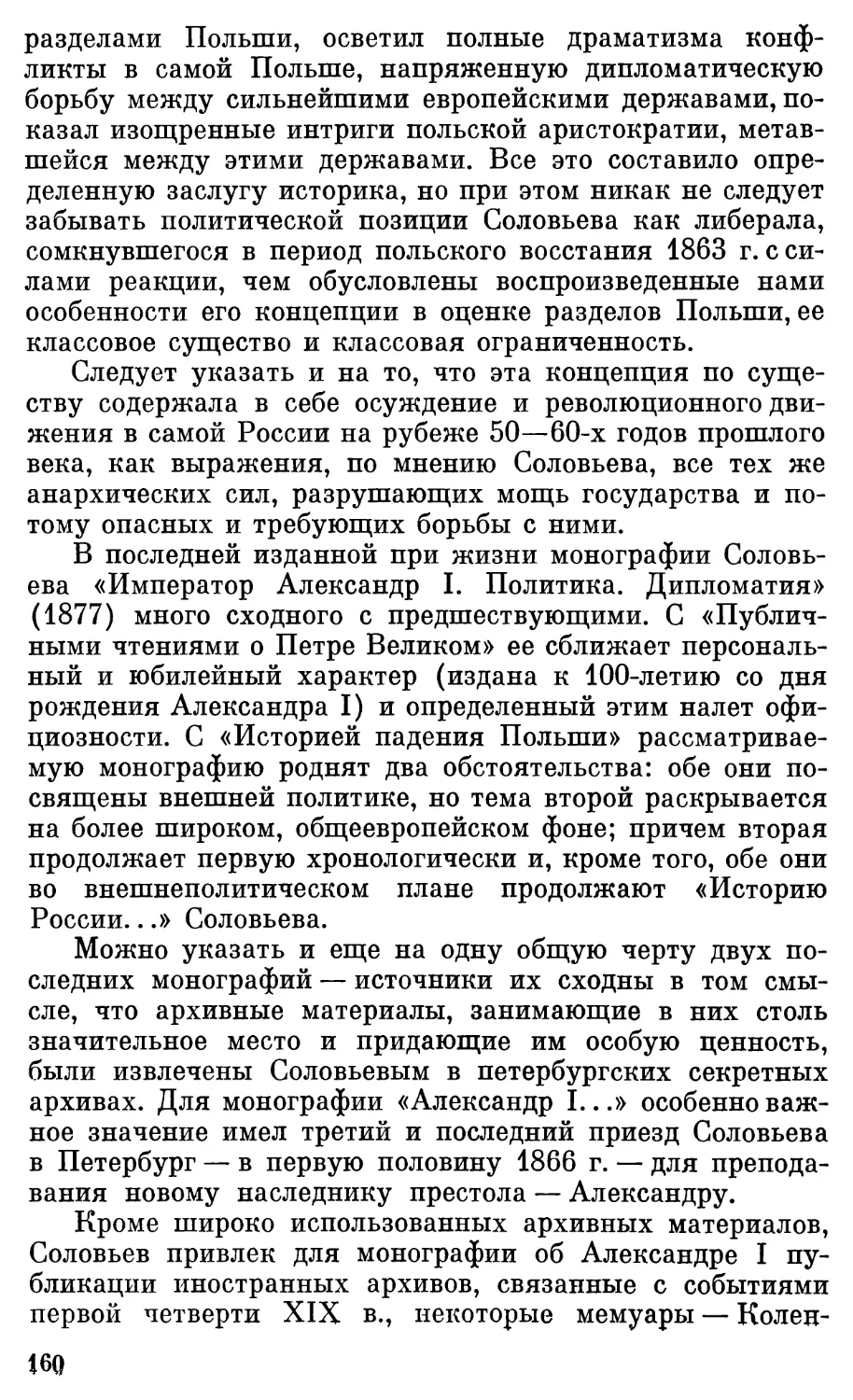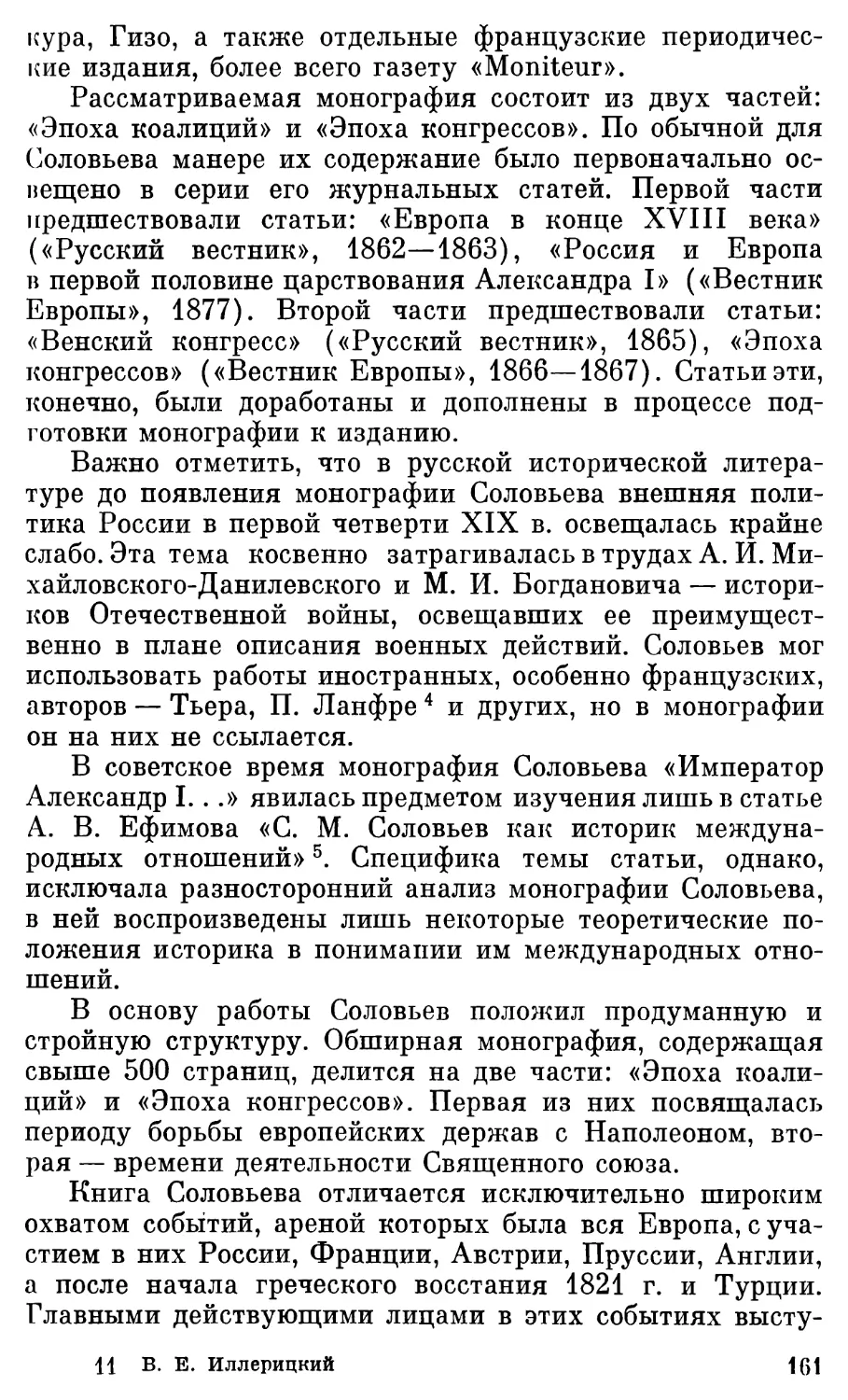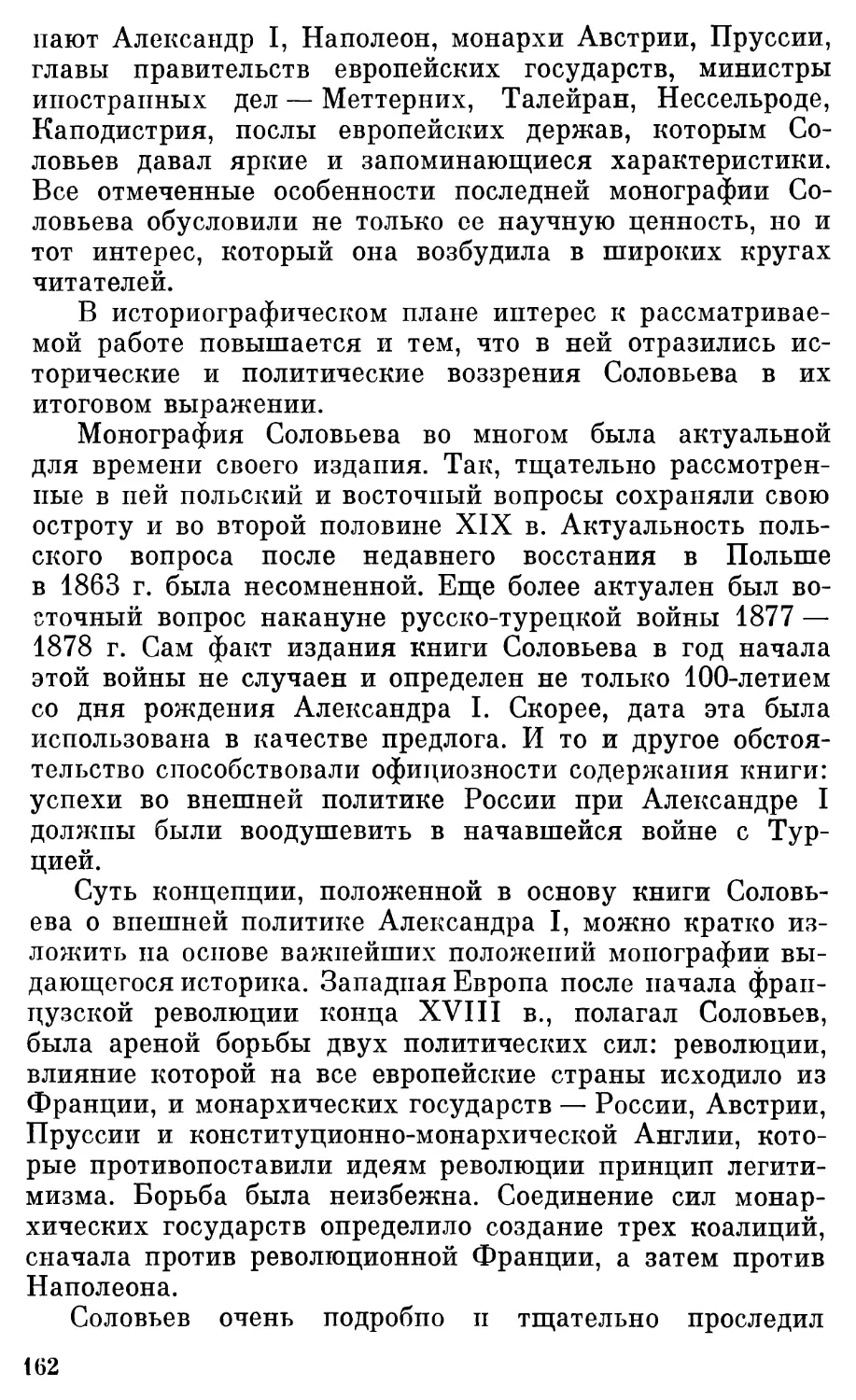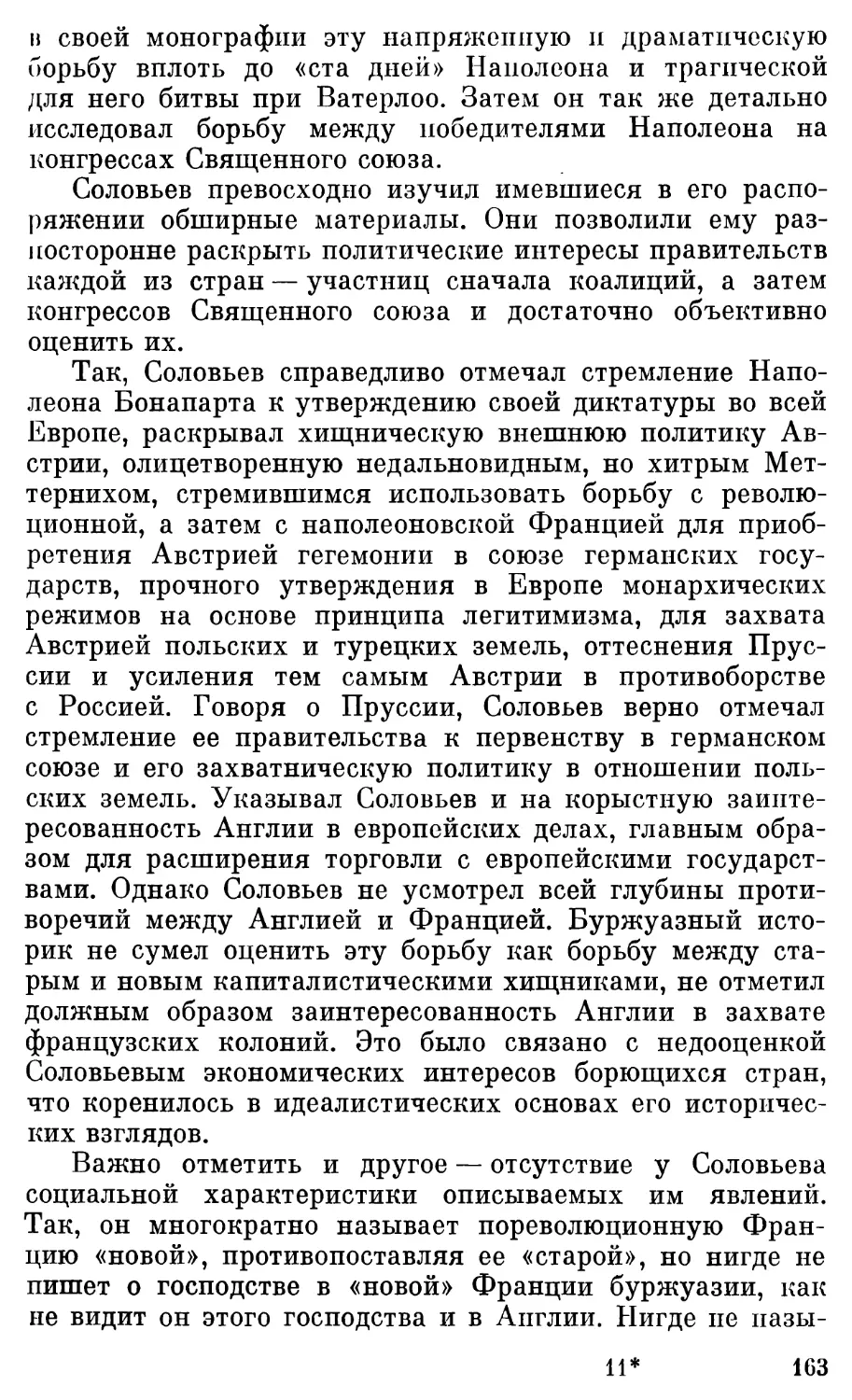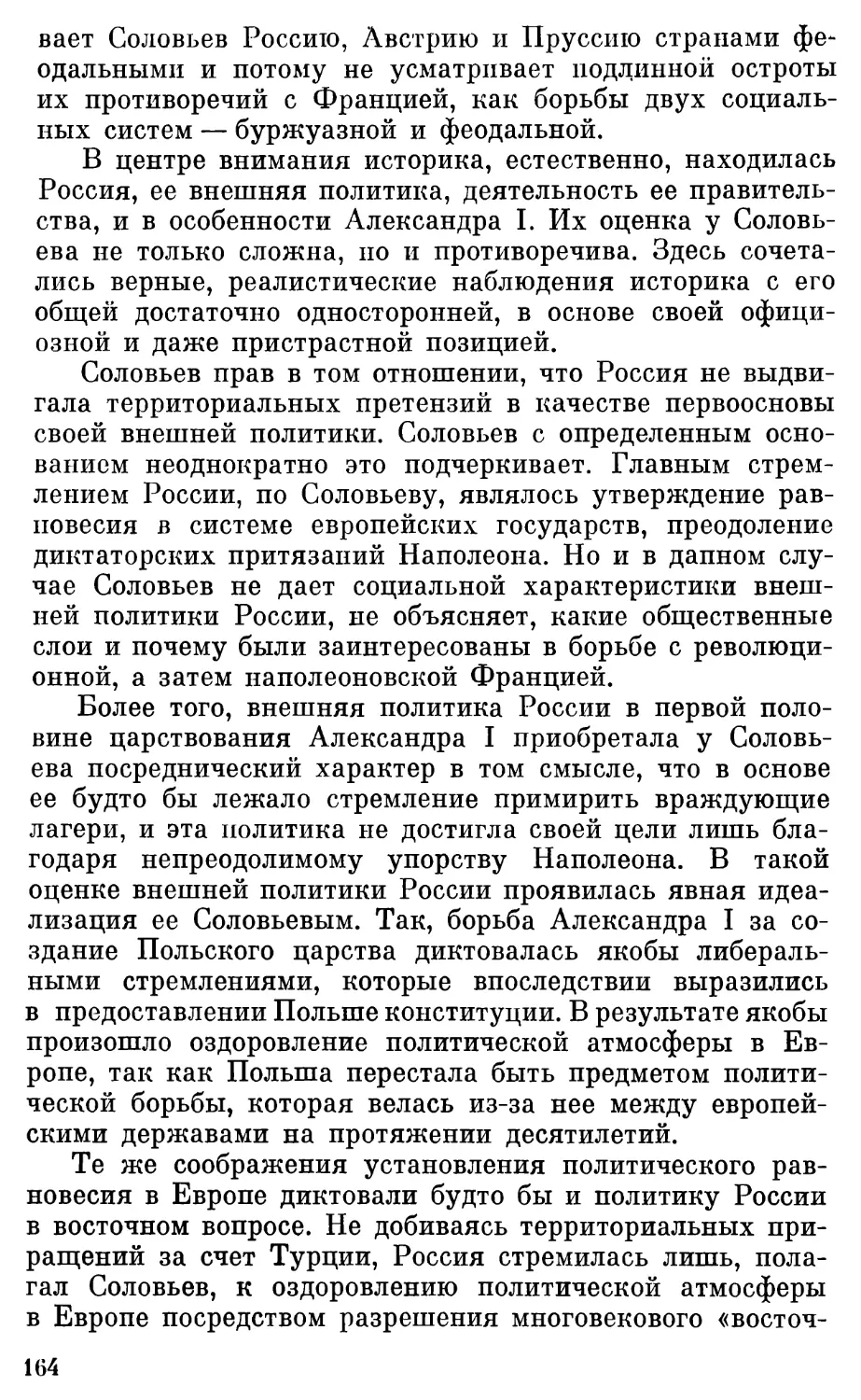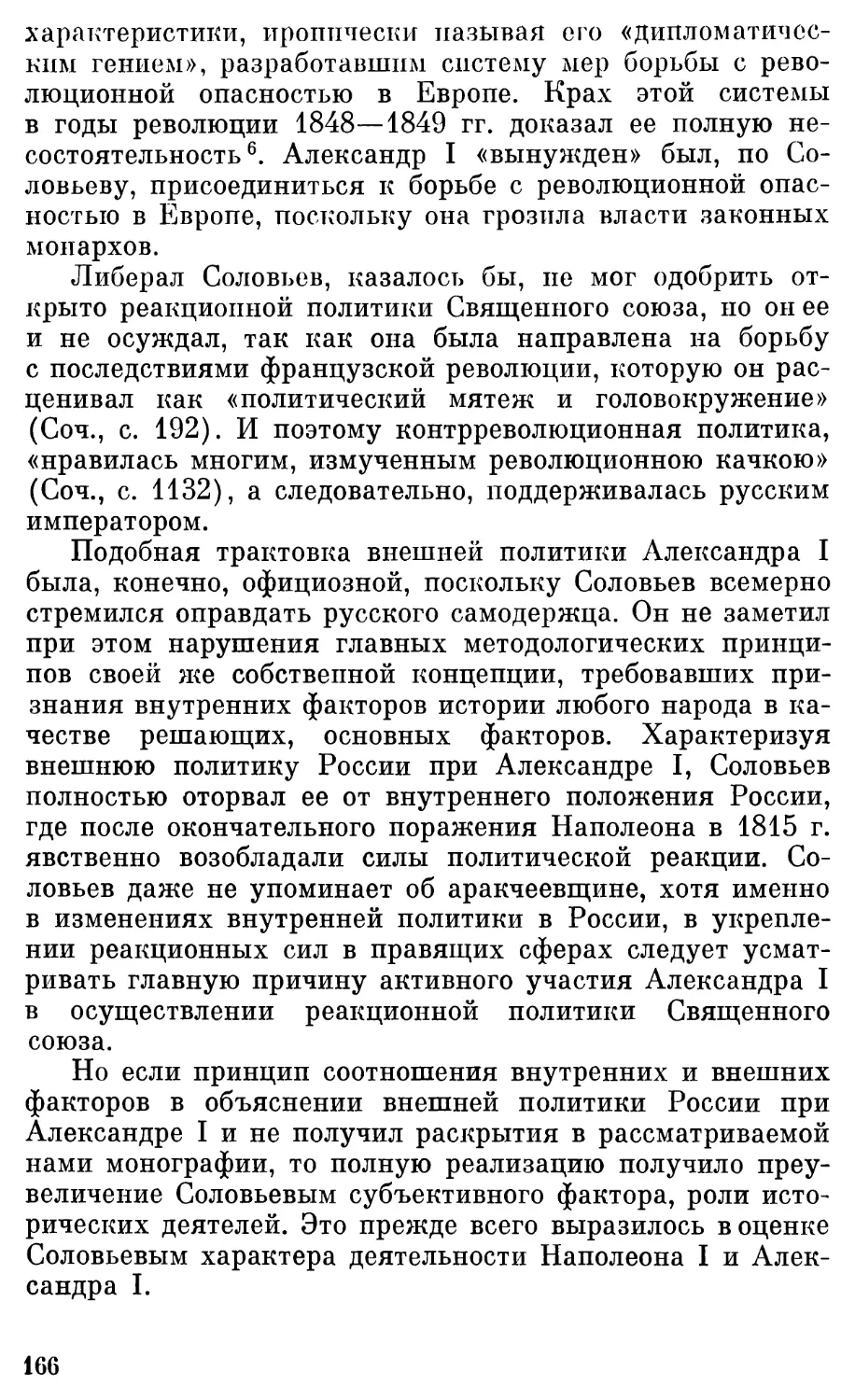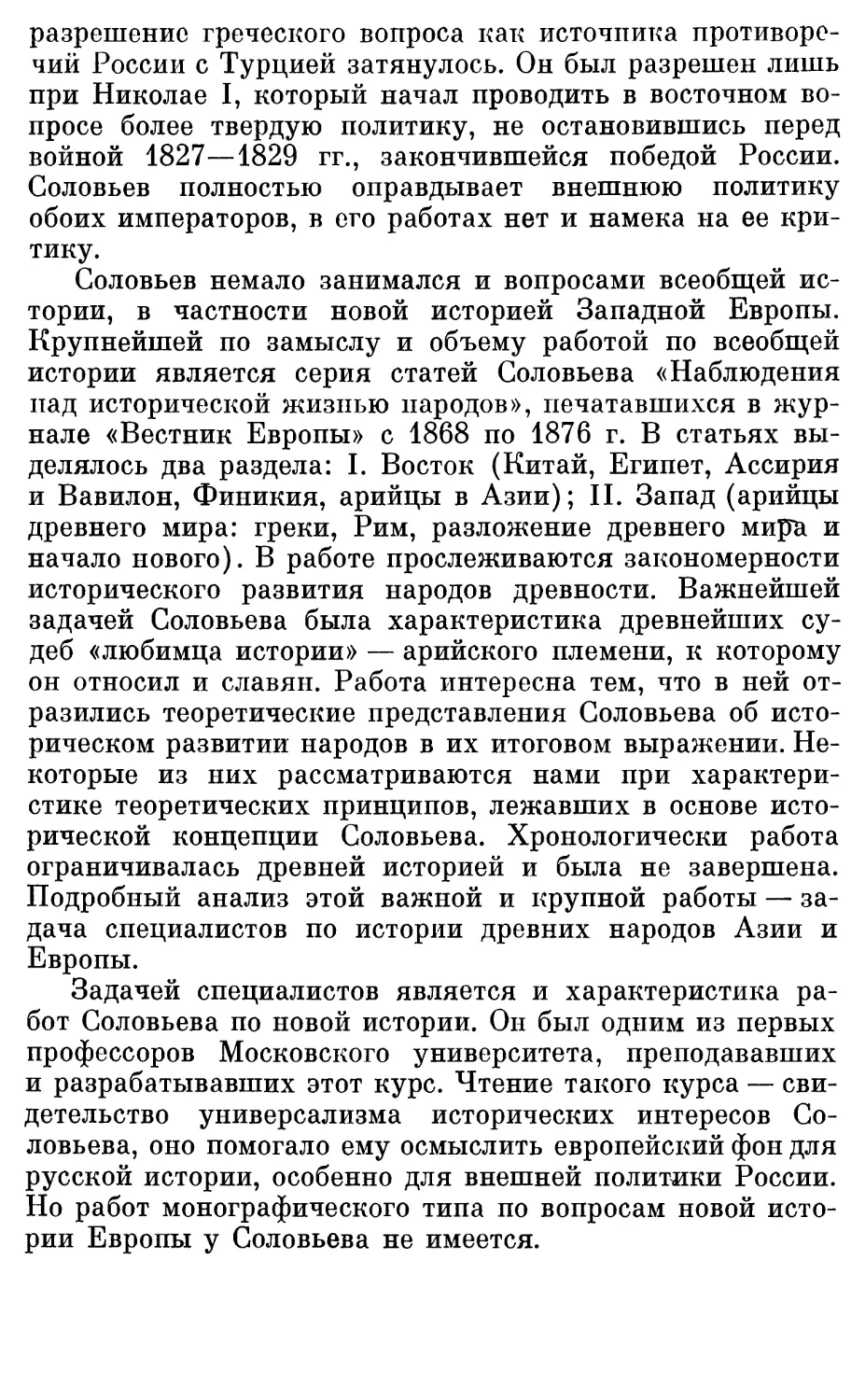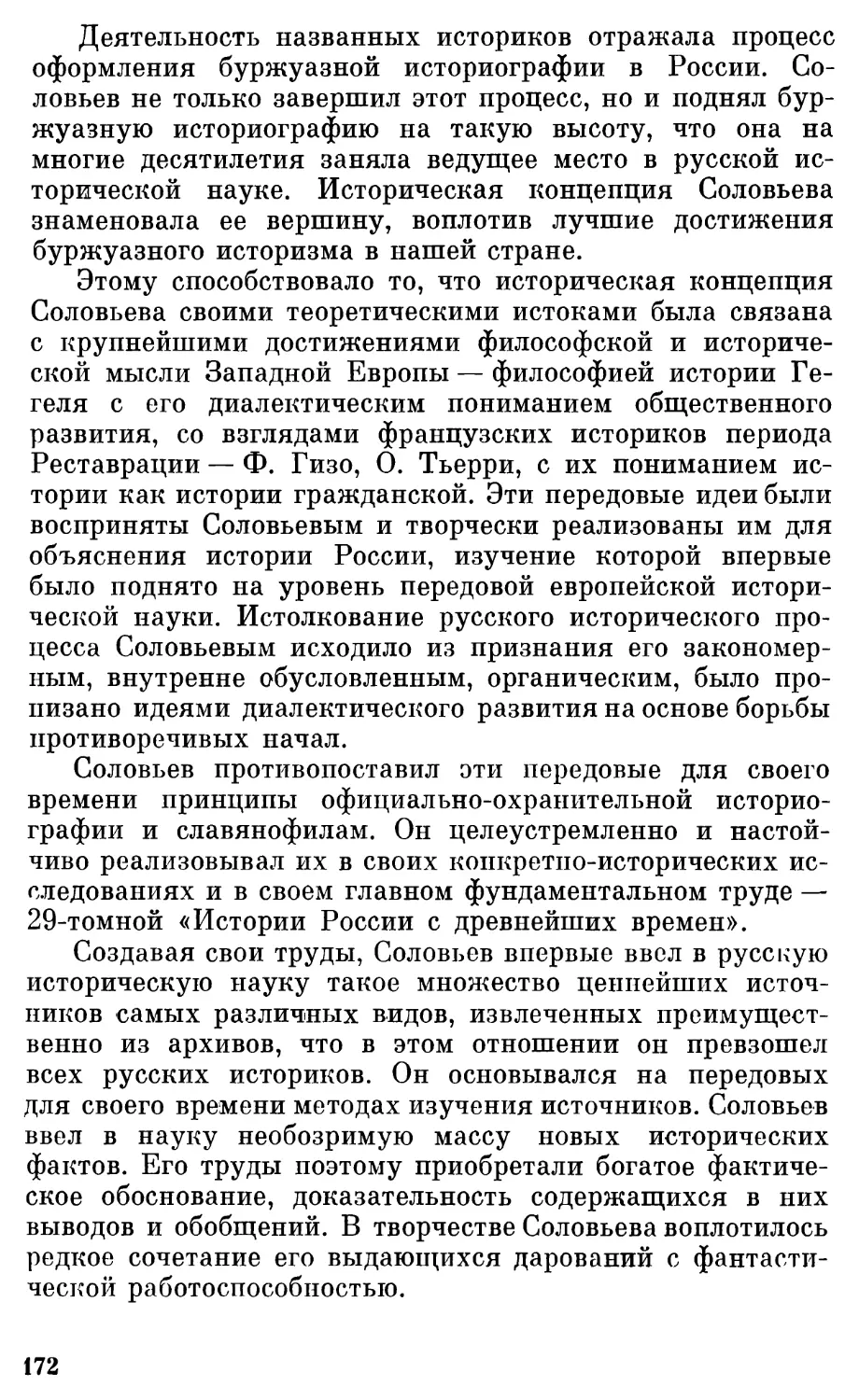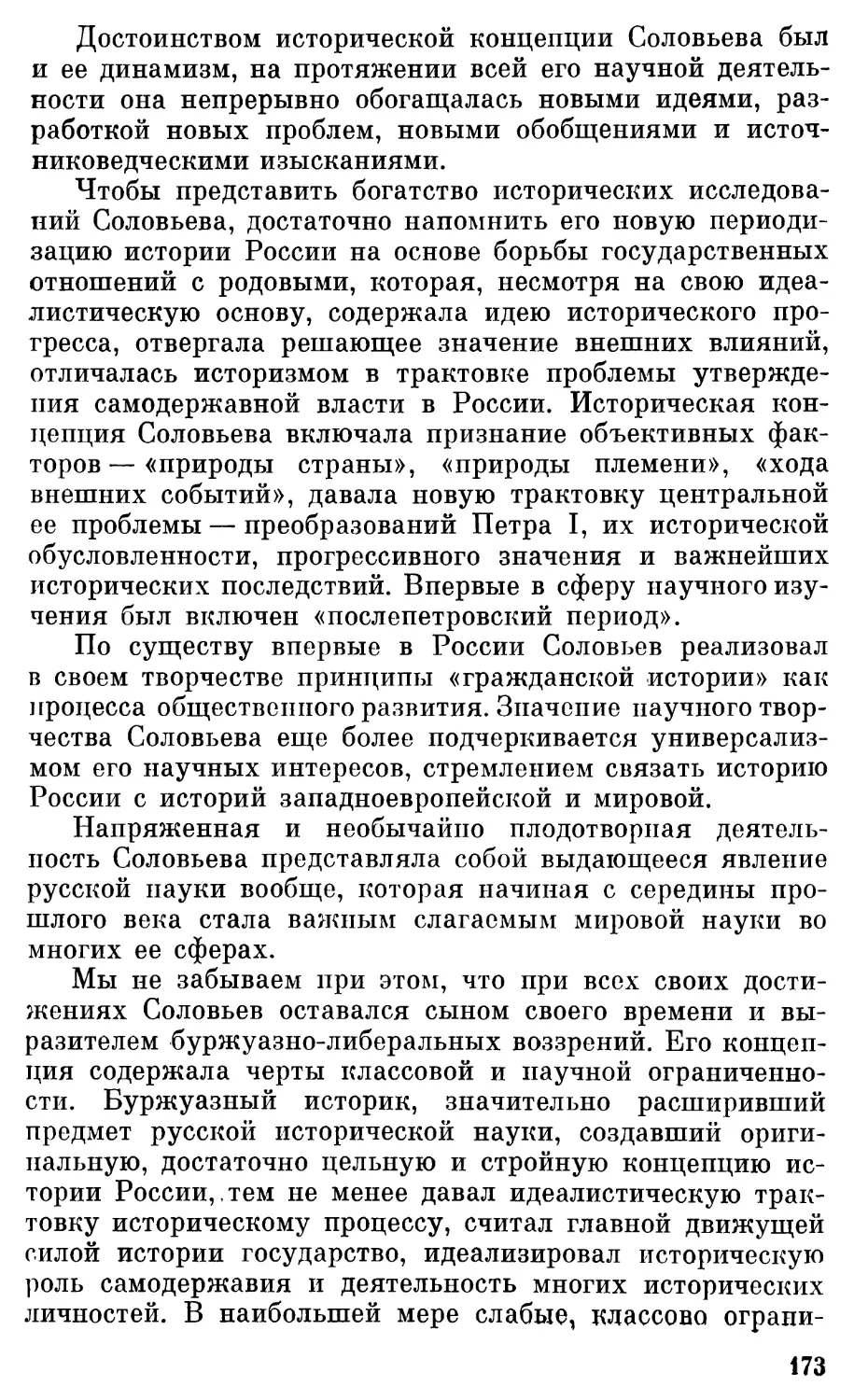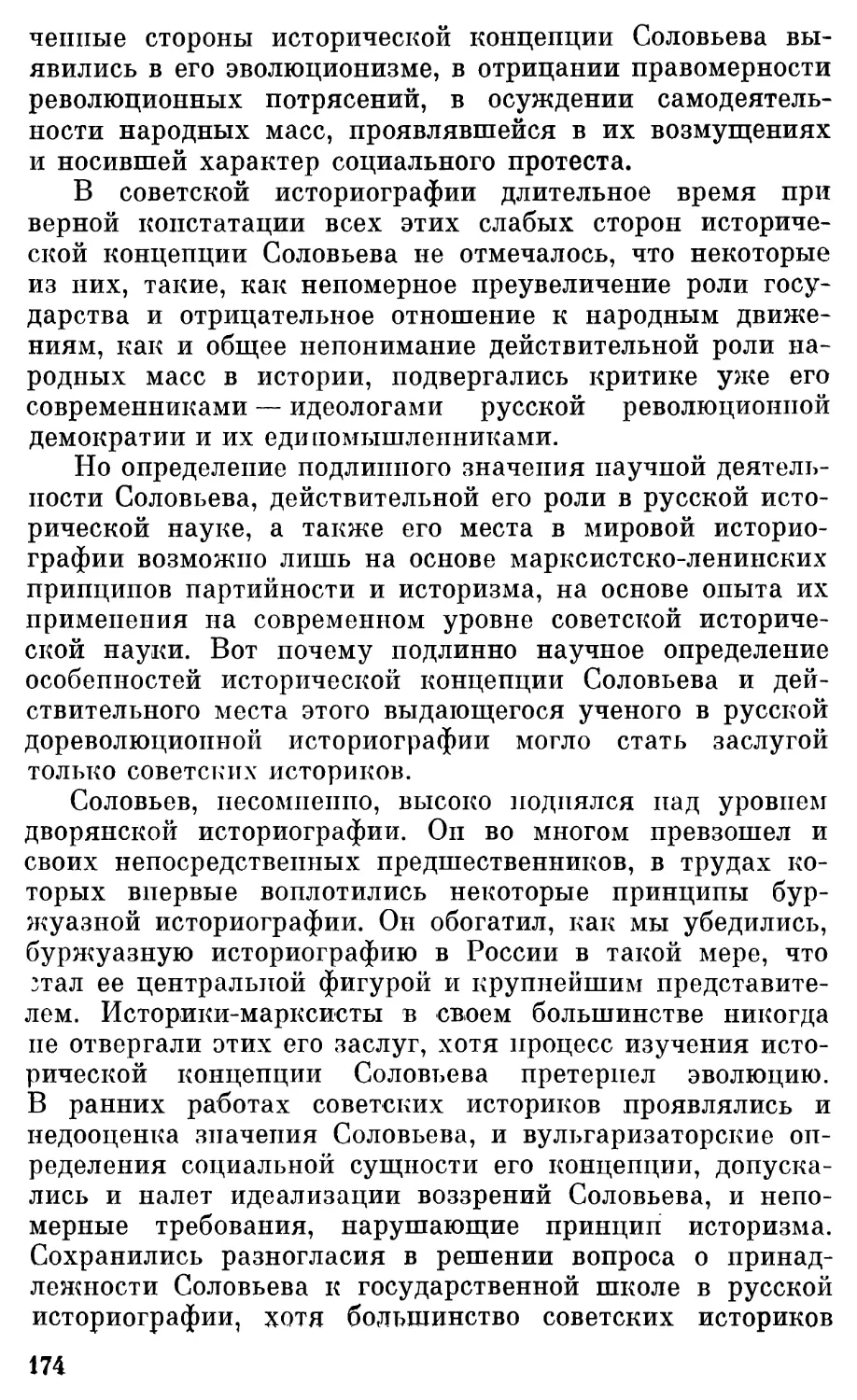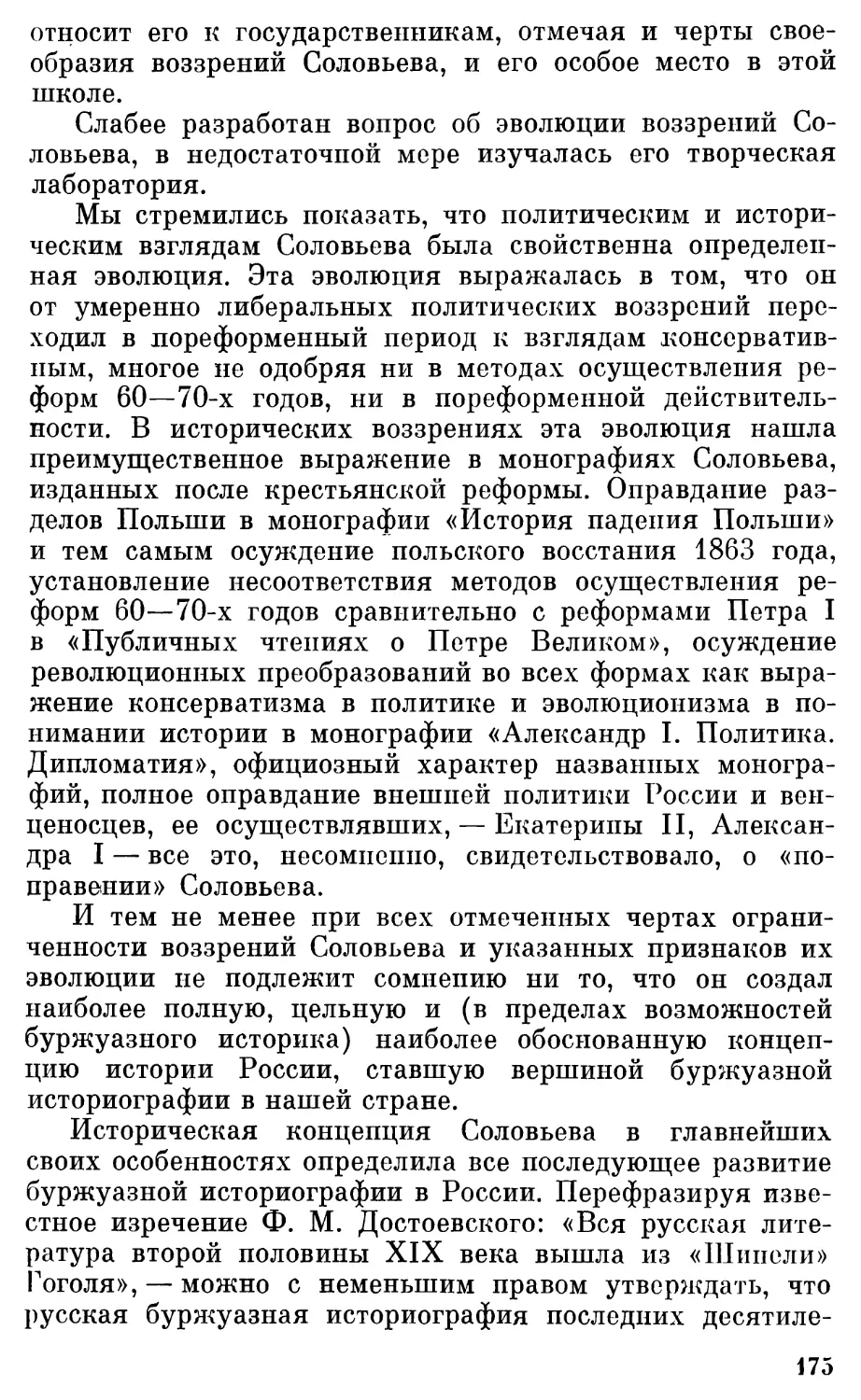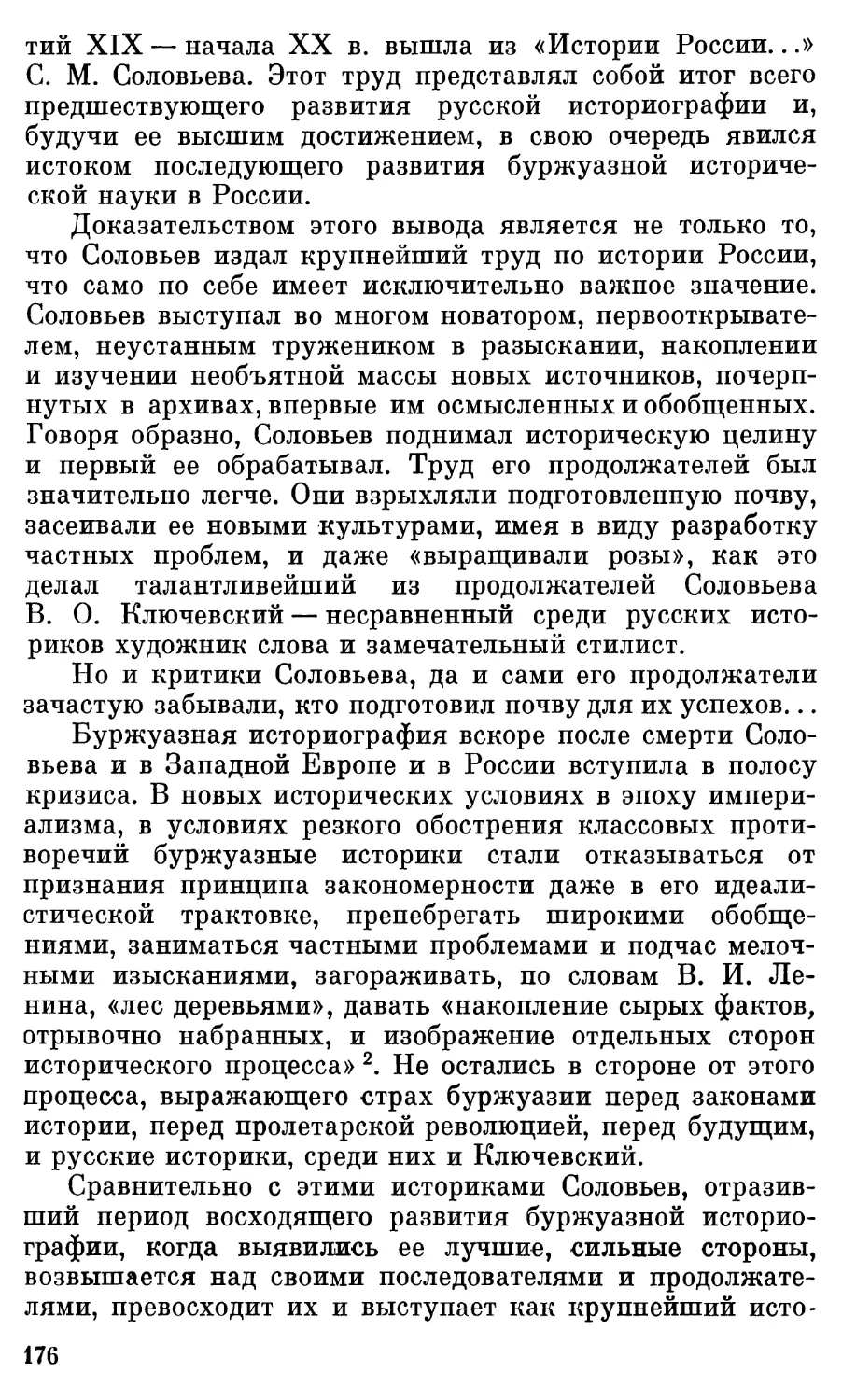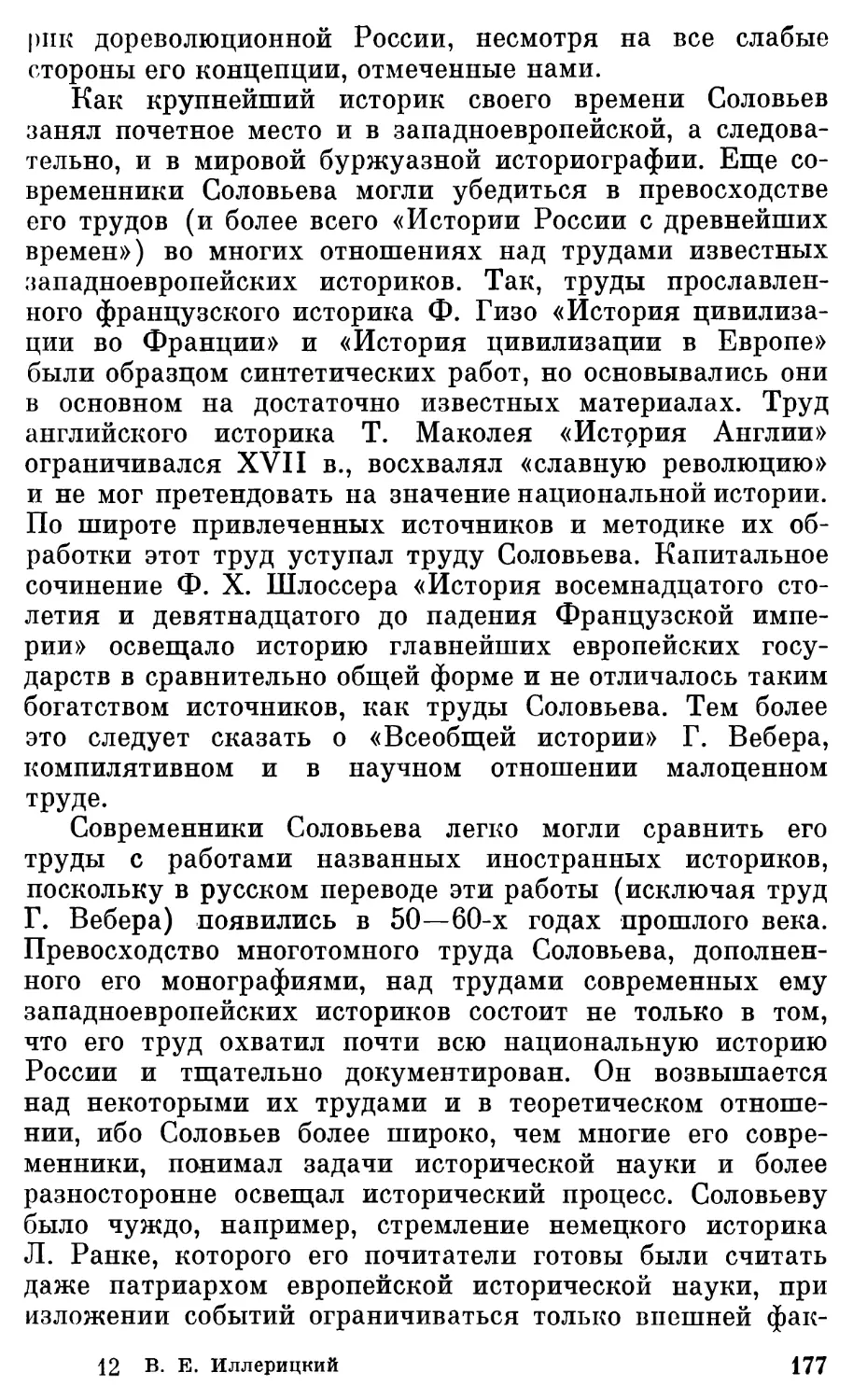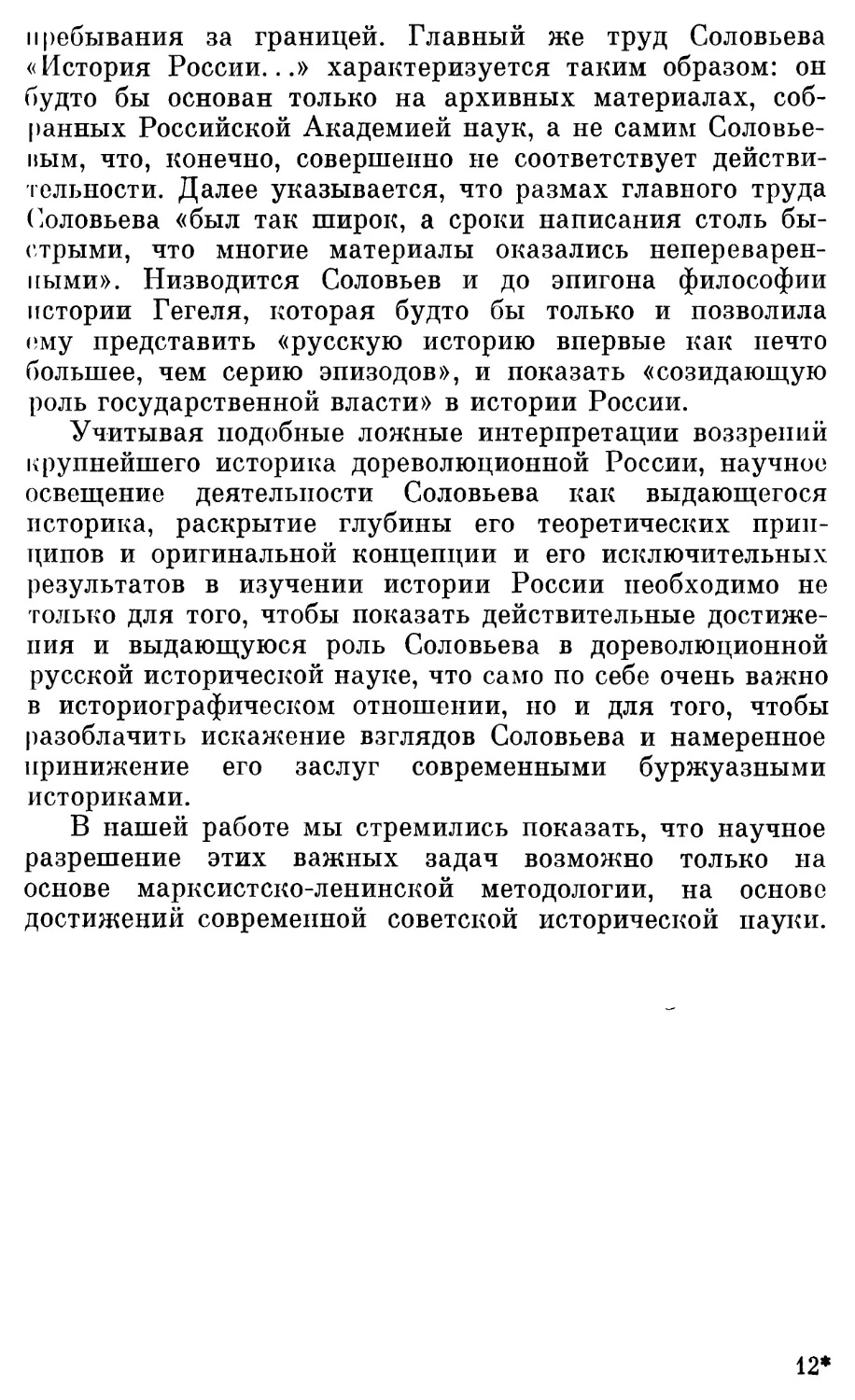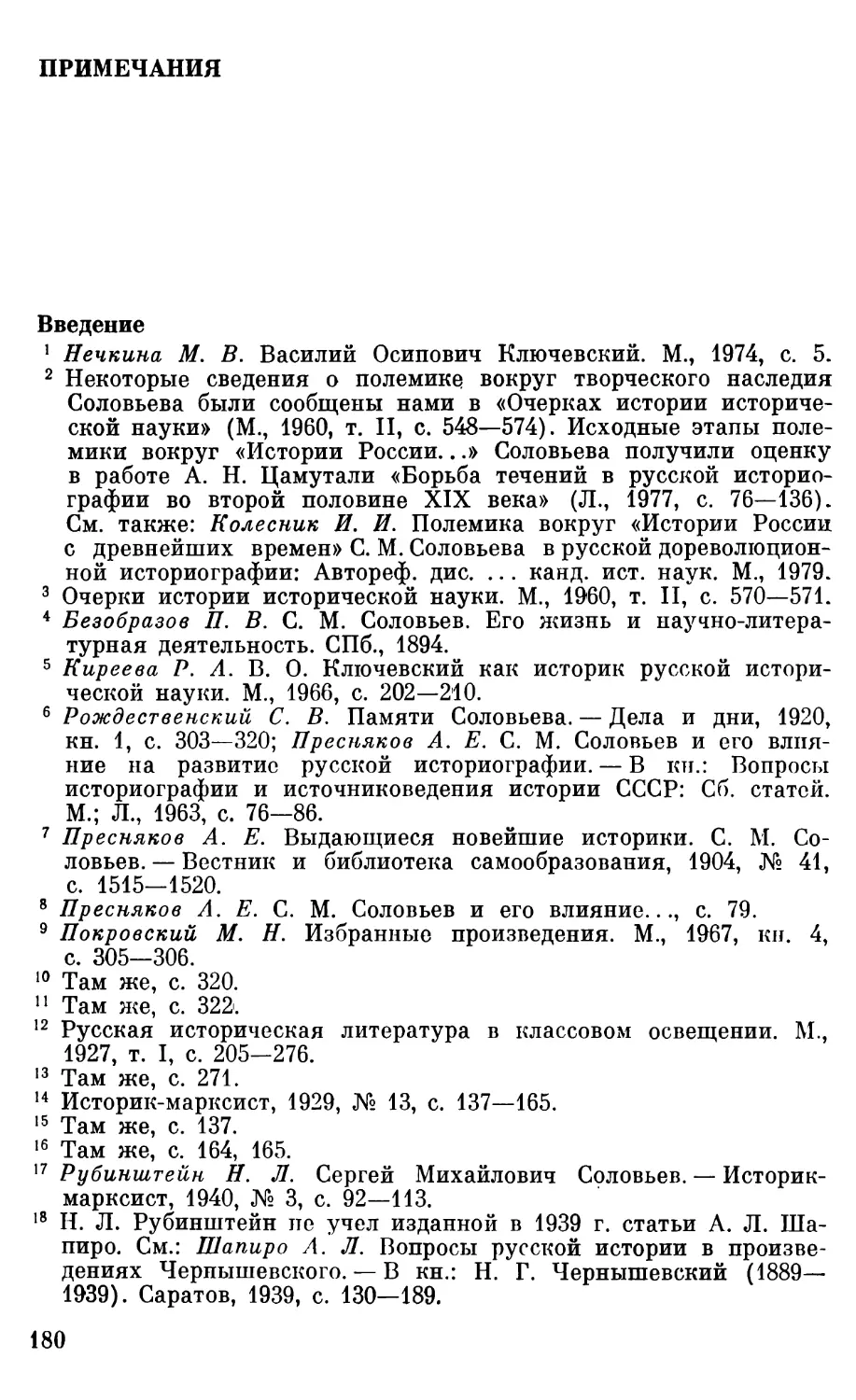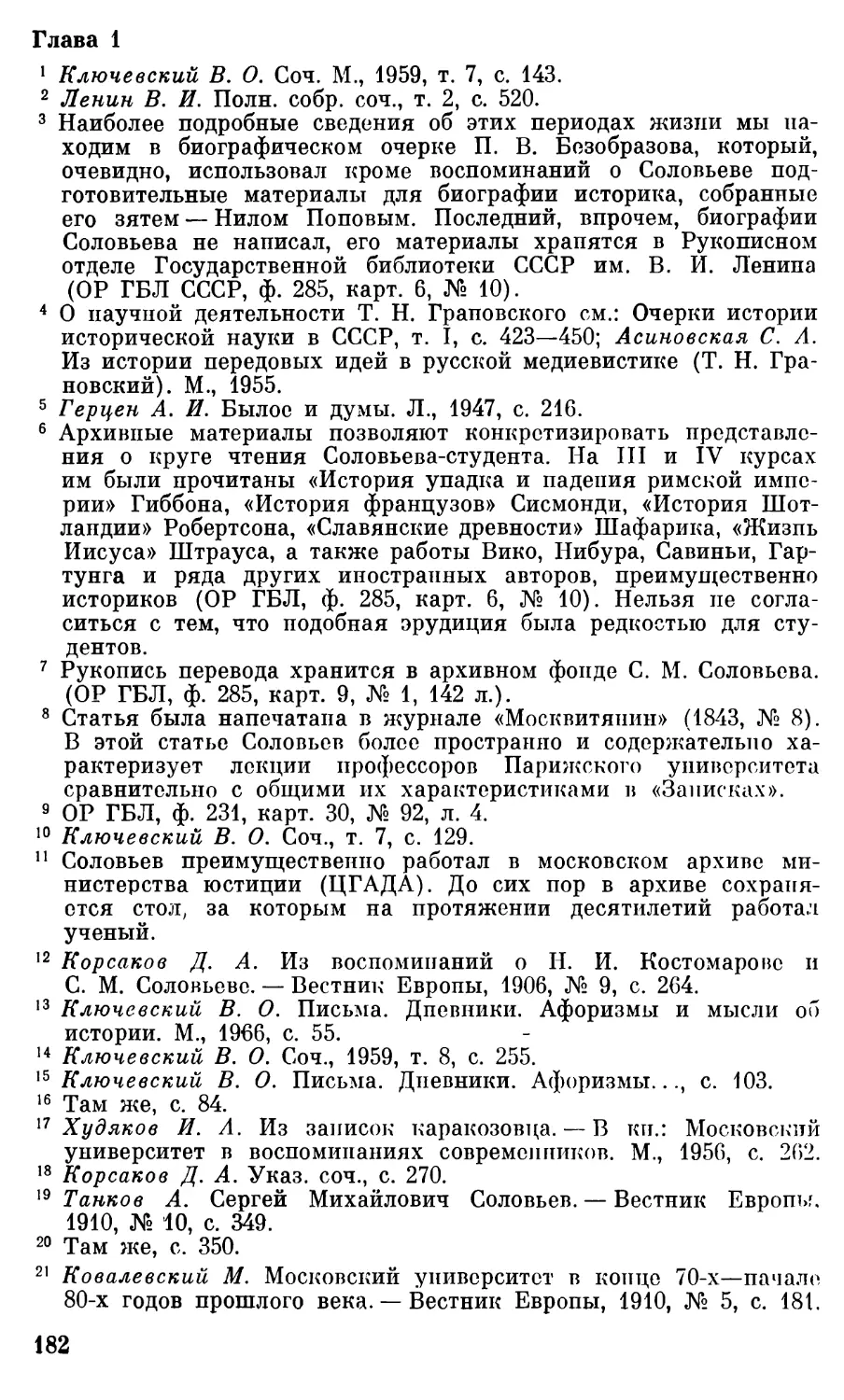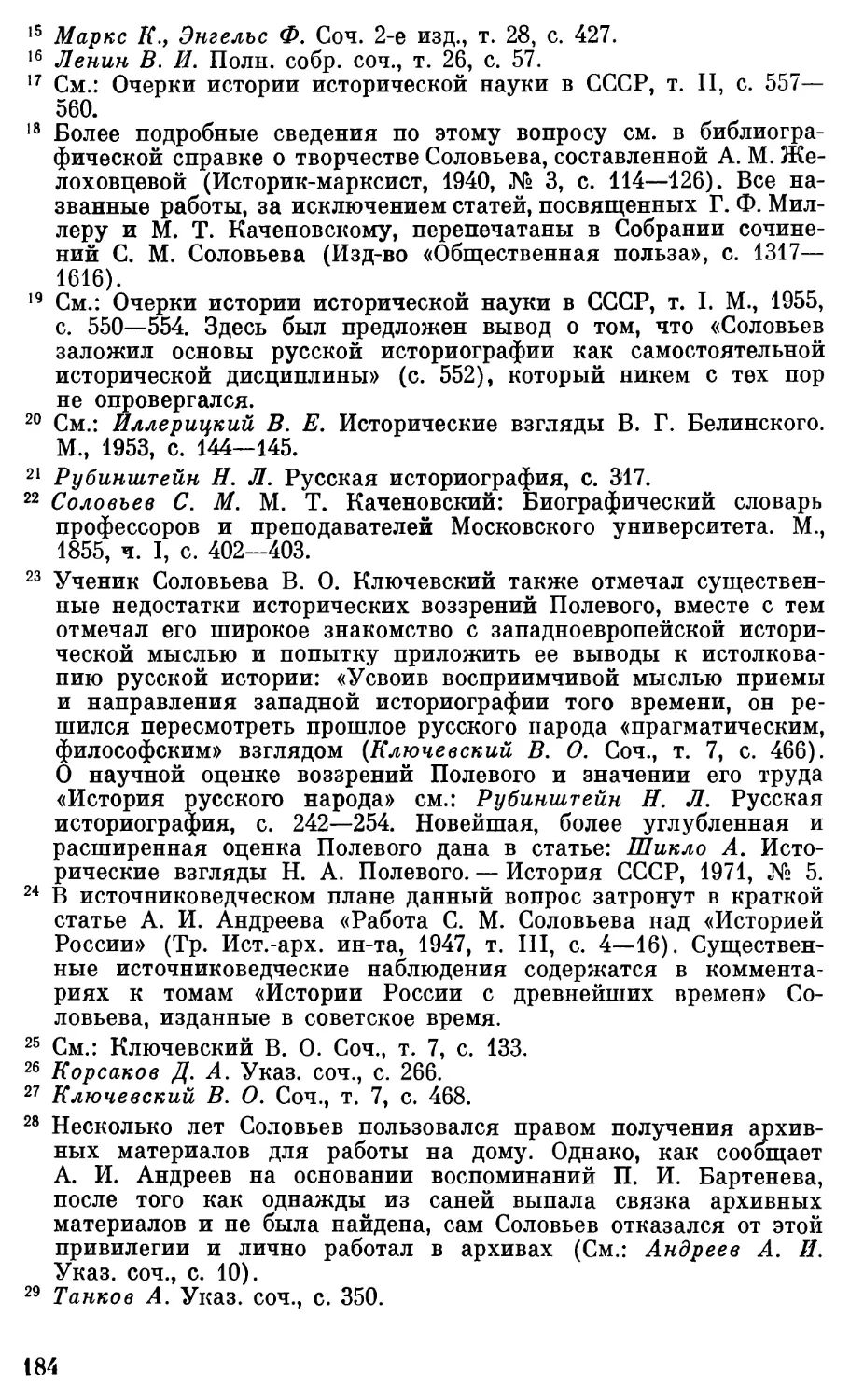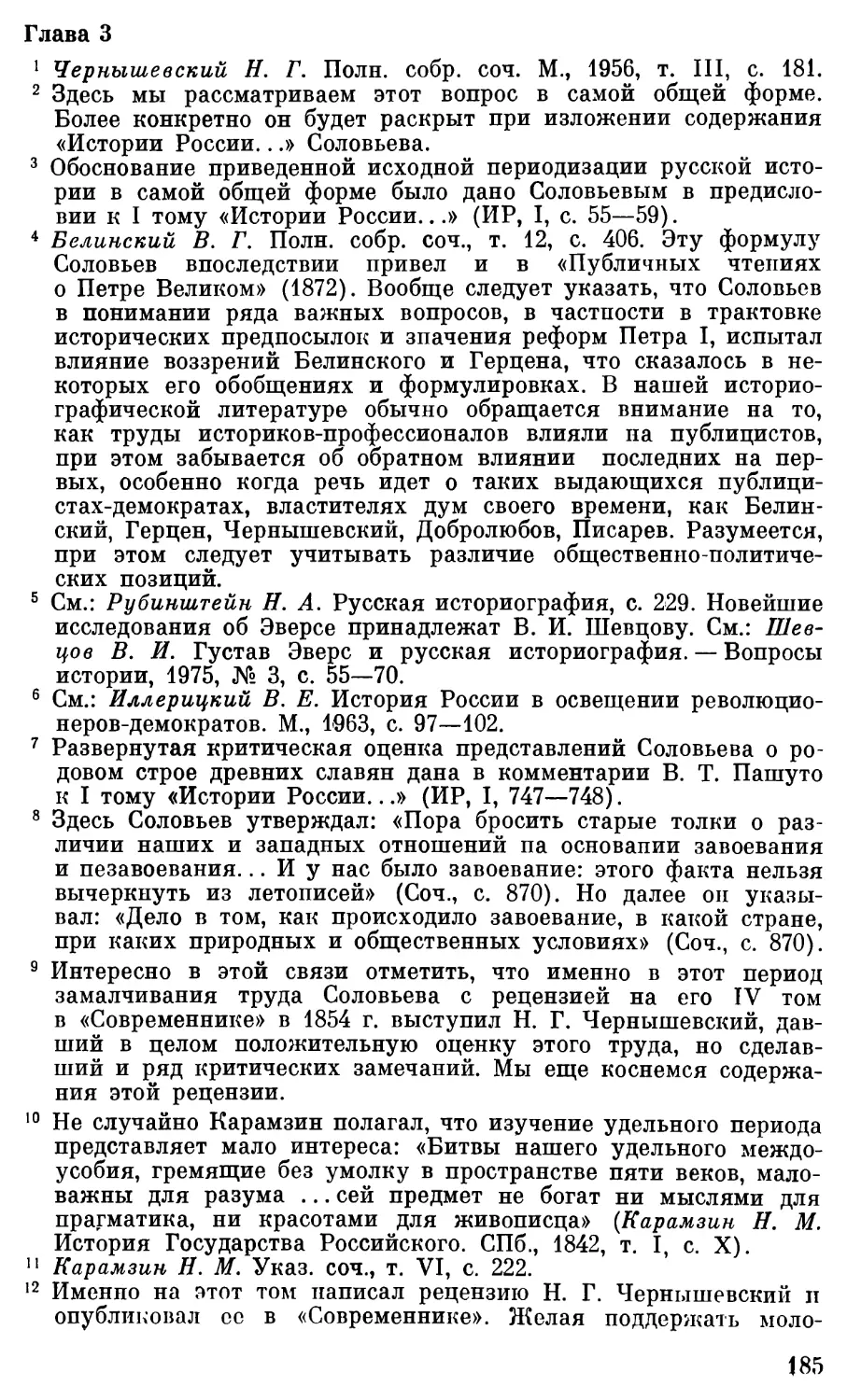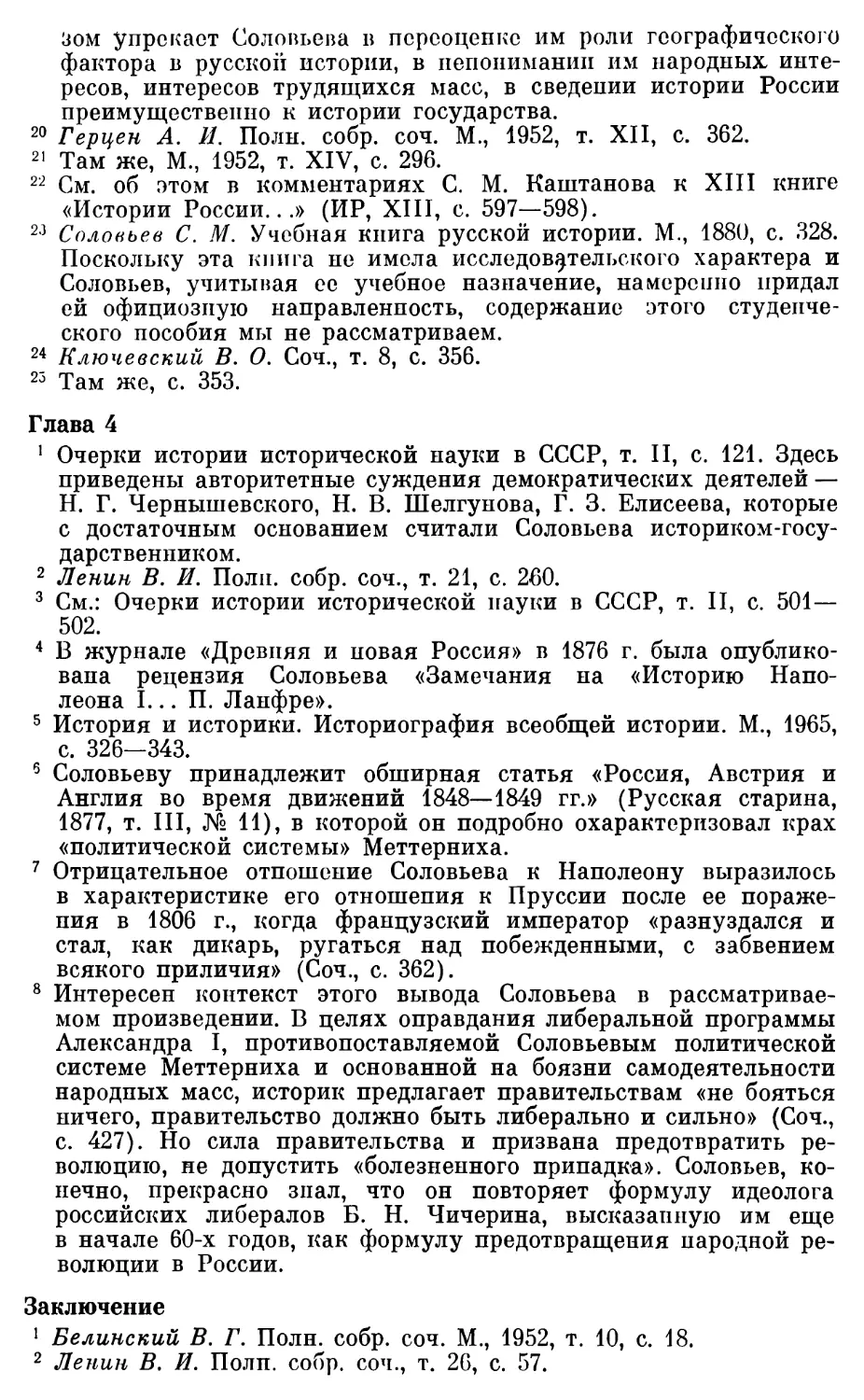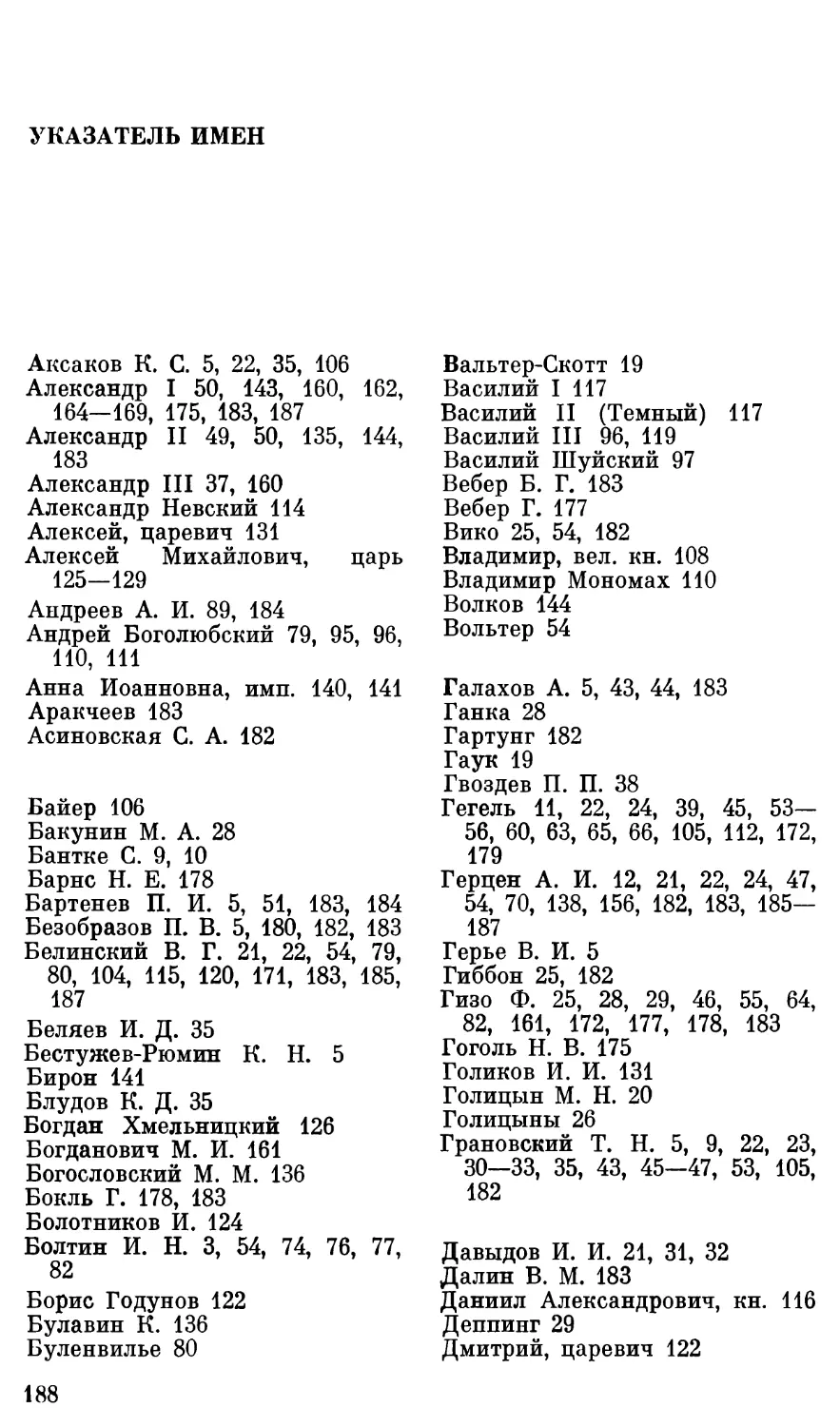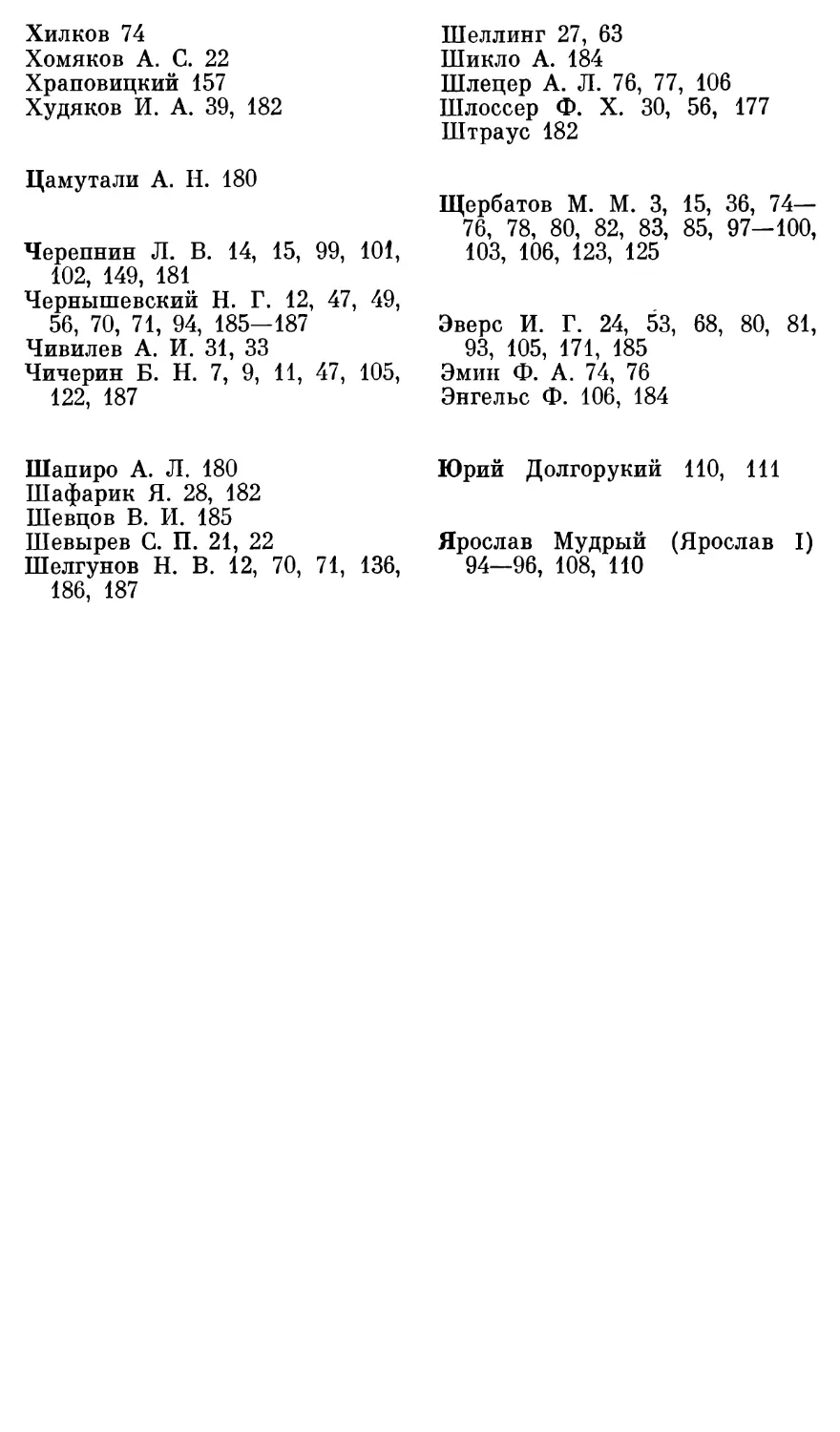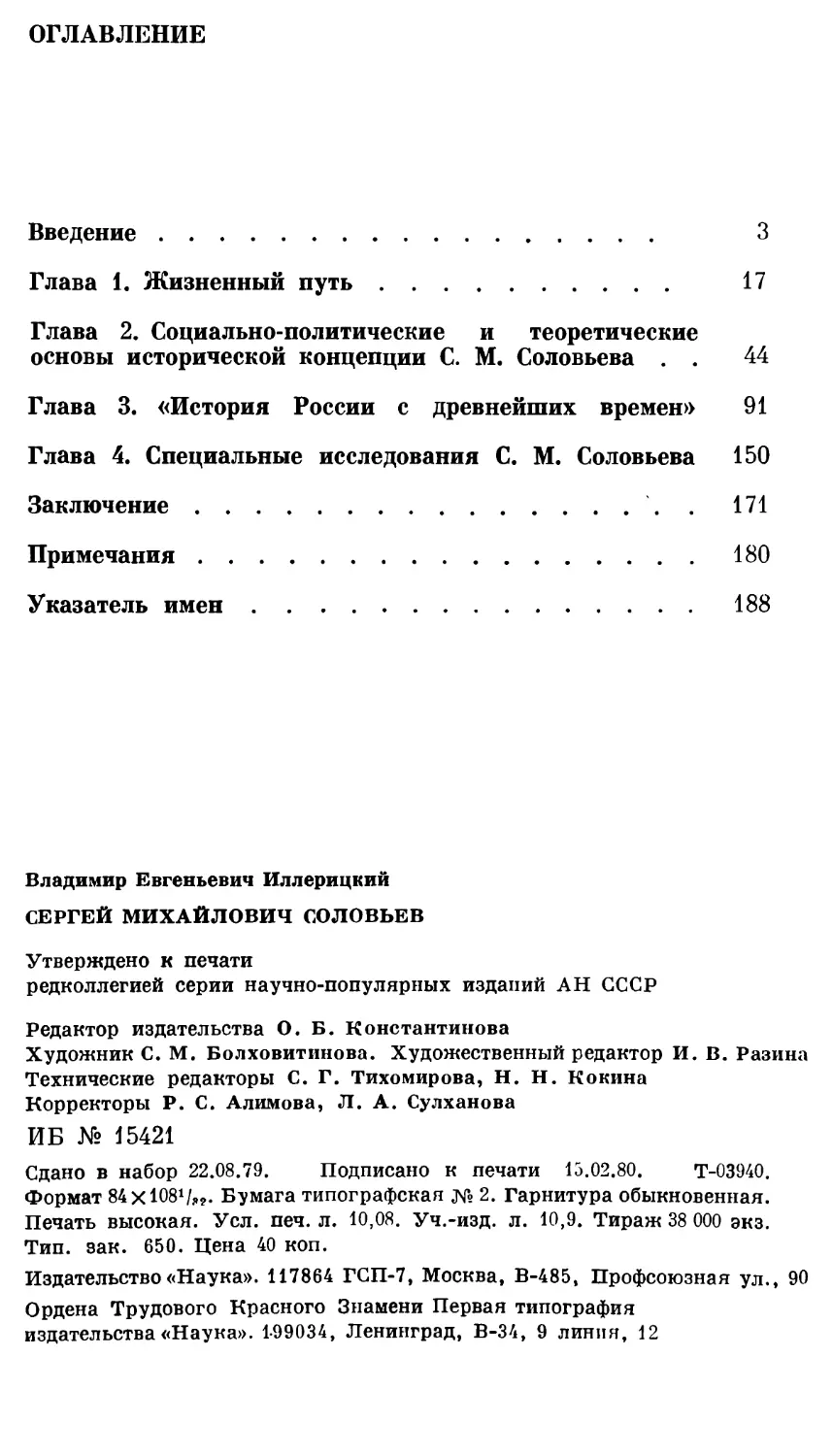Текст
‘ ’ 'К
В.Е. ИЛЛЕРИЦКИЙ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
* СОЛОВЬЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО- НАУКА-
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия
«Научные биографии»
В. Е. ИЛЛЕРИЦКИЙ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
СОЛОВЬЕВ
Г -»
V
8
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1980
И44Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев. — М.:
Наука, 1980.—192 с.
Книга посвящена научной и преподавательской деятель-
ности выдающегося русского историка Сергея Михайловича
Соловьева. В ней рассказывается о формировании мировоз-
зрения ученого и характеризуется его историческая кон-
цепция, отразившая этап высшего подъема буржуазной
историографии в России. Автор показывает роль С. М. Со-
ловьева в развитии русской и мировой исторической науки
второй половины XIX—начала XX в.
В. Е. Иллерицкий — доктор исторических наук, профессор
Московского государственного историко-архивного инсти-
тута. Его перу принадлежит ряд исследований по оте-
чественной историографии: «Исторические взгляды В. Г. Бе-
линского» (М., 1953), «История России в освещении рево-
люционеров-демократов» (М., 1963), «Революционная
историческая мысль в России» (М., 1974) и др.
5.2.
Ответственный редактор
доктор исторических наук
А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
9 нп 0502000000 © Издательство «Наука»,
054 (02)-80 1980 г.
ВВЕДЕНИЕ
Сергей Михайлович Соловьев был крупнейшим историком
дореволюционной России. Он, как никакой другой уче-
ны ii, обогатил отечественную историческую науку, создав
фундаментальный 29-томный труд по истории нашей
сграпы. Его перу принадлежат и несколько капитальных
исследований монографического типа, десятки журналь-
ных статей.
Выдающееся значение С. М. Соловьева в дореволюци-
онной исторической науке доказывается и тем, что его
научная деятельность не только завершила процесс фор-
мирования буржуазной историографии в России, но и озна-
меновала в теоретическом отношении вершину буржуаз-
ной исторической мысли. Если к этому добавить, что Со-
ловьев оказал сильнейшее влияние на ее последующее
развитие до начала XX в. включительно, то можно смело
утверждать, что он занял центральное место в дореволю-
ционной буржуазной историографии.
Между тем действительное значение Соловьева как ис-
торика в полной мере недооценивалось как при его жи-
зни, так и после смерти. Такая недооценка характерна и
для советской историографии, вообще крайне бедной ра-
ботами, посвященными творчеству даже крупнейших ис-
ториков. Лкад. М. В. Нечкина справедливо писала: «Рус-
ская историческая наука, посвященная отечественной
ПСТорИИ, ПрОШЛа ДЛИННЫЙ ПУТЬ — ТРУДНЫЙ, СЛОЖНЫЙ, ПОЛ-
НЫ!! противоречий. История науки сейчас тщательно изу-
чается. По удивительное дело! Ни об одном из выдаю-
щихся историков дореволюционной России еще нет боль-
ших монографий, книг, им в целом посвященных. О писа-
телях есть— об историках нет. Таких работ нет ни
о В. И. Татищеве, пи о И. Н. Болтине, ни о М. М. Щерба-
тове, пи о II. М. Карамзине, ни о С. М. Соловьеве... Мы
еще не вникли сосредоточенно в историю их жизни и
1*
3
творчества, в тесную связь их с эпохой, с борьбой классо-
вых сил, в которую все они были органически вклю-
чены» Ч
Приятным исключением в этом отношении в настоящее
время является издание цитируемой нами монографии
М. В. Нечкиной, посвященной ученику С. М. Соловьева —
В. О. Ключевскому. Но научный подвиг его учителя, не
имевшего равных среди историков как по гигантскому
труду, затраченному им на изучение истории России, так
и по достигнутым результатам, остается неоцененным
в его подлинном значении.
Настало время заполнить этот ощутимый пробел в на-
шей историографической литературе. Это тем более необ-
ходимо, что имеющиеся разработки частных тем, а также
состояние источниковедческой базы вполне позволяют вы-
полнить такую задачу. Исполнившееся в 1979 г. 100-ле-
тие со дня смерти замечательного историка и одновре-
менно 100-летие со времени издания заключительного
тома его главного труда — «Истории России с древней-
ших времен», который многие десятилетия служил своеоб-
разной энциклопедией русской истории, напоминает нам
о неотложности издания труда, посвященного С. М. Со-
ловьеву.
О Соловьеве немало писали при его жизни. Представи-
тели различных течений исторической мысли со своих
позиций оценивали его научное творчество. Особенно
оживленную полемику вызвал главный труд Соловьева —
«История России с древнейших времен». Эта полемика
продолжалась и после смерти историка. Она имела важ-
ное значение как показатель развития отечественной ис-
ториографии, как фактор самоопределения и борьбы раз-
личных направлений в русской исторической науке2.
Напомним важнейшие этапы полемики вокруг наслед-
ства Соловьева, которая, кстати говоря, и открывает со-
бой дореволюционную историографию, посвященную на-
учному творчеству этого выдающегося историка.
Как известно, начало научной деятельности Соловьева
и тем более начало издания им «Истории России с древ-
нейших времен» были встречены противоречивыми оцен-
ками. М. П. Погодин, Н. Г. Устрялов — представители
официально-монархической историографии — встретили
труд молодого историка враждебно, полагая, что создание
нового обобщающего труда по истории России несвоевре-
4 ।
менно, непосильно для Соловьева и является дерзким и
самонадеянным покушением на авторитет Н. М. Карам-
зина.
Славянофилы в лице К. С. Аксакова выразили несо-
гласие с основополагающим принципом исторической
концепции Соловьева — с идеей борьбы государственных
отношений с родовыми в истолковании истории древней
России.
На защиту молодого историка выступили лишь «за-
падники» — К. Д. Кавелин и Т. Н. Грановский, которые
после ознакомления с диссертациями Соловьева — маги-
стерской и докторской — увидели в их авторе своего еди-
номышленника.
С течением времени оценки крупнейшего труда Соло-
вьева менялись. Становилось очевидным, что его труд во
многом превосходит «Историю государства Российского»
Карамзина своей концепцией, выявлением существенных
закономерностей истории России, обилием вновь извлечен-
ных из архивных документов фактов, в невиданной ра-
нее мере обогативших русскую историческую науку. Со-
ловьев убеждал своих современников в том, что он вполне
успешно справляется с задачей создания нового обобщаю-
щего труда по истории России. С этим приходилось счи-
таться историкам всех направлений уже начиная с 60-х го-
дов. Особенно характерна в этом отношении эволюция
взглядов одного из активных критиков работ Соловьева —
К. II. Бестужева-Рюмина, который в своих рецензиях от
неумеренно резких оценок первых томов «Истории Рос-
сии. . .» вынужден был перейти к признанию выдающегося
значения главного труда Соловьева3.
Соответственно менялось и представление о значении
1ворчества Соловьева для развития исторической науки
в России. Уже в последние десятилетия жизни Соловьева
и особенно после его смерти в работах, приуроченных
к различным юбилейным датам, высказывались суждения
и оценки, которые свидетельствовали о признании выдаю-
щихся достижений ученого.
Но дореволюционная литература не ограничивалась
оценками Соловьева как ученого. В воспоминаниях и
письмах друзей и современников — В. И. Герье, Д. А. Кор-
сакова, П. Н. Бартенева, А. Д. Галахова и др. — содержа-
лись интересные сведения о Соловьеве как общественном
деятеле и человеке. П. В. Безобразовым была предпринята
5
и первая попытка характеристики жизни и деятельности
Соловьева в научно-популярном очерке4.
Вполне оправдан был авторитет Соловьева пре'жде
всего в представлении его учеников, среди них наиболее
талантливого — В. О. Ключевского, который неоднократно
и очень высоко оценивал научные заслуги своего учи-
теля 5.
Однако быстро возраставшая слава Ключевского как
исследователя и особенно как лектора, историка-худож-
ника немало способствовала с конца XIX в. постепенному
забвению заслуг его учителя. Ключевский, особенно
после начала издания им «Курса русской истории», стал
канонизироваться в качестве непревзойденного корифея
русской исторической науки.
В конце XIX—начале XX в., в период борьбы буржу-
азной историографии с марксизмом, концепция Ключев-
ского с его плюралистической «теорией факторов» стала
представляться буржуазным историкам универсальной и
потому считалась ими наиболее надежным оружием
в борьбе с «односторонним» материалистическим понима-
нием истории. В действительности же, как известно, кон-
цепция Ключевского в ее итоговом выражении отражала
кризисное состояние буржуазной исторической науки.
Поскольку вопрос об освещении исторической концеп-
ции и научной деятельности С. М. Соловьева в советской
историографической литературе еще не затрагивался в ка-
честве специальной темы, остановимся на нем более под-
робно.
Впервые в исторической литературе, изданной в со-
ветский период, Соловьеву были посвящены статьи и вы-
ступления на ученых заседаниях в 1920 г. в связи со
100-летием со дня рождения выдающегося русского исто-
рика. К их числу относятся статья С. В. Рождественского
«Памяти Соловьева» и речь А. Е. Преснякова на заседа-
нии Союза архивных деятелей, опубликованная впервые
в 1963 г.6
Эти два отклика на юбилейную дату неравноценны.
Статья Рождественского не содержит новых материалов
и каких-либо оригинальных обобщений. В ней в высоко-
парном юбилейном стиле повторяются те оценки деятель-
ности и воззрений Соловьева, которые были характерны
для дореволюционной историографии.
6
Более интересно выступление А. Е. Преснякова.
К этому времени он принял Октябрьскую революцию, на-
чал работу в советских научных учреждениях и учебных
заведениях, ознакомление с марксизмом. На этой основе
Пресняков пересматривает и сложившиеся у него ранее
историографические представления, в том числе и связан-
ные с Соловьевым. Дореволюционная оценка Пресняко-
вым воззрений этого историка была дана им еще в начале
научной деятельности7. Соловьев тогда провозглашался
родоначальником «новой исторической науки», характе-
ризующейся признанием принципа закономерности, ут-
верждавшей единство правительства и народа в историче-
ской деятельности. Пресняков в тот период готов был про-
тивопоставлять Соловьева позднейшим русским истори-
кам, отрицавшим принцип закономерности.
В речи Преснякова, произнесенной в 1920 г., мы на-
ходим уже другие акценты. Признавая по-прежнему вы-
дающееся значение Соловьева в русской историографии,
именуя его «основоположником русской истории как осо-
бой паучной дисциплины» 8, Пресняков теперь уже усмат-
ривает и черты ограпичепности в реализации Соловьевым
принципа закономерности в истории. В своей речи Прес-
няков с полной определенностью относил Соловьева
к представителям государственной школы и в этом также
усматривал ограниченность воззрений историка, забывав-
шего о необходимости изучать народную жизнь. Однако
Пресняков еще не ставил задач выявления классовой
сущности воззрений Соловьева, доказывая тем самым соб-
ственную методологическую незрелость в тот период.
Зв слуга первоначальной попытки определения классо-
вого существа воззрений крупнейших дореволюционных
буржуазных историков —Б. Н. Чичерина, С. М. Соловь-
ев;!, В. О. Ключевского — принадлежала М. Н. Покров-
скому в его известном историографическом лекционном
курсе «Борьба классов и русская историческая литера-
тура» (1923).
Здесь Покровский достаточно определенно и четко
оценивает воззрения «тамбовского помещика и профес-
сора Московского университета Б. Н. Чичерина» как вы-
разителя буржуазных интересов9. Развернутую характе-
ристику получает научная деятельность С. М. Соловьева.
Он справедливо признается «величайшим русским истори-
ком XIX столетия», отмечается его «громадная
7
историческая образованность» 10. Но определение классо-
вого существа воззрений Соловьева Покровским лишено
четкости: Соловьев характеризуется как «городской жи-
тель», «носитель буржуазного образа жизни», он будто бы
отличался «взглядами и симпатиями», свойственными «за-
житочной городской интеллигенции» и.
При раскрытии конкретного содержания исторической
концепции Соловьева Покровский не удерживается от уп-
рощений и искажений ее, связывая, например, вопрос
о «борьбе леса со степью» — одно из стержневых положе-
ний концепции русской истории Соловьева — со своей
пресловутой теорией «торгового капитализма». Не избе-
жал Покровский и явной модернизации, именуя Соловь-
ева «инстинктивным, бессознательным марксистом» на
том основании, что тот придерживался принципа исто-
ризма, что, конечно, не избавляло Соловьева от идеали-
стического понимания истории. Главным же недостатком
характеристики Покровским исторической концепции Со-
ловьева являлось, пожалуй, непонимание им связи этой
концепции с развитием русской исторической науки в це-
лом, с ее внутренним ростом. Этот недостаток был особен-
ностью историографических работ и других советских ис-
ториков в 20-х—начале 30-х годов.
Тем не менее ряд положений и особенно критических
замечаний Покровского, связанных с его оценкой истори-
ческой концепции Соловьева, сохранил определенное зна-
чение для последующего развития марксистско-ленинской
исторической науки. К их числу относились указания на
то, что Соловьев не преодолел полностью своей зависи-
мости от дворянской историографии, что он сводил исто-
рию России в значительной мере к истории политической
и не выдвигал задачи раскрытия творческой и решающей
роли народных масс в истории.
Влияние Покровского непосредственно сказалось в ра-
ботах его учеников — участников историографического се-
минара в Институте красной профессуры, доклады кото-
рых после их обсуждения и редактирования Покровским
были напечатаны в двух сборниках статей «Русская исто-
рическая литература в классовом освещении», изданных
в 1927 и 1930 гг.
Обширная статья в первом из этих сборников, посвя-
щенная С. М. Соловьеву, была паписапа 3. Лозинским.
Она знаменательно называлась «Историк великодержав-
8
пой России» 12, в соответствии с чем в центре внимания
автора оказалась проблема складывания русского
централизованного государства и в связи с этим разобла-
чение одобряемой Соловьевым русификаторской политики
царизма.
Тем не менее советский читатель впервые получал до-
статочно обстоятельное изложение исторической концеп-
ции Соловьева и ее критику с марксистских позиций.
В статье отмечалось признание Соловьевым принципа
закономерности и исторического прогресса, влияние на
Соловьева современной ему русской буржуазно-либераль-
ной историографии, представленной Т. Н. Грановским и
К. Д. Кавелиным, а затем Б. Н. Чичериным. Лозинский
безоговорочно относил Соловьева к государственной
школе в русской историографии.
При всем этом в заключительном разделе статьи автор
дает крайне неточную оценку социально-политических
воззрений Соловьева в духе вульгарного социологизма.
Буржуазный историк выступает здесь не «городским жи-
телем», как у Покровского, а в качестве «выразителя ин-
тересов, не сознавая этого, «культурного» помещика, пе-
реводящего свое хозяйство на новые капиталистические
релгьсы» 13. Лозинский выступил со статьей о Соловьеве
тогда, когда советскими историками далеко еще не были
освоены ленинское понимание русского исторического
процесса и ленинские указания о критическом освоении
допролетарского идейного наследия.
Вскоре после издания статьи Лозинского, в 1929 г.,
в журнале «Историк-марксист» была напечатана статья
< ’. Бантке «Петровская реформа в освещении С. М. Со-
ловьева» 14. Год публикации статьи Бантке не был слу-
•н1 иным: в 1929 г. исполнялось 50 лет со дня кончины
С. М. Соловьева.
В начале статьи Бантке, соглашаясь с Покровским
в общей оценке Соловьева, называет его «величайшим
русским историком XIX века», отмечает его «фантастиче-
скую трудоспособность», широкую историческую образо-
ппппость и создание им огромного научного наследства15.
Однако основная задача статьи Бантке заключалась
и том, чтобы раскрыть буржуазную ограниченность исто-
рической концепции Соловьева, в чем автор пошел дальше
« вонк предшественников.
9
Ё статье подчеркивается основополагающее зпачепиё
оценки реформ Петра I Соловьевым для раскрытия его
социально-политических воззрений и всей концепции рус-
ской истории, отмечается антиславянофильская направ-
ленность этой оценки. Однако реформы Петра I, внутрен-
няя и внешняя политика его правительства освещались
автором в духе концепции М. Н. Покровского, связыва-
лись с экономическими и колониальными устремлениями
русского «торгового капитала»; такое их толкование слу-
жило основой для критики воззрений Соловьева.
Крайним упрощением и вульгаризацией отличается
итоговая характеристика Бантке воззрений Соловьева как
великодержавного буржуазного монархиста, «который
стремится установить тесный союз помещика, купца, про-
мышленника, церкви, государства с расчетом, чтобы они
действовали сообща и приводили один другого в движе-
ние», как выразителя интересов «крупнобуржуазного, соб-
ственнического лагеря» 16.
С 1929 по 1940 г. в печати не появлялось работ о Со-
ловьеве. Но именно в этот период произошли существен-
ные изменения в развитии советской исторической науки,
свидетельствовавшие о больших ее успехах.
Начиная с середины 30-х годов в результате реализа-
ции известных решений ЦК ВКП(б) и Советского прави-
тельства об исторической науке было перестроено
изучение и преподавание истории. Была выдвинута задача
изучения «гражданской истории» как многостороннего
процесса общественного развития, не ограничивающегося
развитием экономики и классовой борьбы, чем до того
преимущественно занимались историки-марксисты. На
этой основе была проведена большая работа по созданию
учебников по истории для начальной, средней и высшей
школы, в которых освещались, кроме экономики и клас-
совой борьбы, политическая история, культура, героичес-
кие страницы борьбы народов нашей страны за нацио-
нальную независимость. Для разрешения этих сложных
задач объединились поколения «старых» историков, вос-
принявших марксистско-ленинскую методологию, и исто-
риков-марксистов, успешно приобретавших более совер-
шенные исследовательские приемы в изучении прошлого.
Открылся новый этап в развитии советской исторической
науки.
10
Разработка проблем отечественной истории на основе
глубокого и всестороннего овладения ленинской историче-
ской концепцией позволила уточнить критерии советских
историков в оценке историографического наследства, дала
возможность научно сочетать принципы партийности и
историзма.
Заслуга изучения исторической концепции С. М. Со-
ловьева в этих новых условиях принадлежала Н. Л. Рубин-
штейну, выступившему в 40—60-х годах с циклом статей
о научном творчестве историка.
Первая из них была опубликована в 1940 г.17 Ее за-
дачей являлось преодоление той односторонней оценки
исторических и социально-политических воззрений Со-
ловьева, которая получила выражение в работах М. Н. По-
кровского и особенно его учеников. В статье содержатся
все основные аспекты характеристики взглядов Соловьева
Н. Л. Рубинштейном, получившие развитие в его после-
дующих работах.
Автором была проделана большая исследовательская
работа по изучению всего научного наследства Соловьева
и литературы о нем. В статье рассматривались теорети-
ческие истоки воззрений Соловьева, отмечено влияние на
его исторические взгляды философии Гегеля, а также
представлений французских историков периода Реставра-
ции. Отечественные истоки раскрыты недостаточно. Убе-
дительно охарактеризованы социально-политические воз-
зрения Соловьева как буржуазно-либеральные, без наду-
манных вульгаризаторских определений, свойственных
ученикам Покровского. Оформление исторической концеп-
ции Соловьева рассмотрено в связи с борьбой обществен-
но-политических течений в России середины XIX в. — за-
падников и славянофилов. Поставлен вопрос не только
о «западнической» ориентации Соловьева, но и о его от-
ношении к государственной школе в русской историогра-
фии, отмечены черты своеобразия воззрений Соловьева
сравнительно с К. Д. Кавелиным и Б. Н. Чичериным.
Историческая концепция Соловьева была рассмотрена
Рубинштейном не во всей полноте, а, что было неизбежно
в журнальной статье, на основе избранных автором проб-
лем. Среди важнейших конкретно-исторических проблем,
раскрытых в «Истории России...», правомерно выделена
проблема преобразований первой четверти XVIII в. Ру-
бинштейн с полным основанием подчеркнул колоссальную
И
работу Соловьева по мобилизации и обработке нового фа-
ктического материала, особенно значение его архивных
изысканий.
Задачи статьи обусловили то обстоятельство, что
в центре внимания автора оказались преимущественно
сильные стороны исторической концепции Соловьева. Но
Рубинштейн не смог удержаться от некоторой идеализации
его воззрений, не вскрыв в должной мере научную огра-
ниченность буржуазного историзма, которая проявлялась
и в период подъема буржуазной историографии в России.
Не содержалось в статье никаких сравнений исторической
концепции Соловьева, ее основных положений, оценок
событий и выводов историка с воззрениями его современ-
ников — революционеров-демократов Н. Г. Чернышев-
ского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Н. В. Шелгу-
нова, не сообщалось об их критических замечаниях на
труды Соловьева 18.
Следующее печатное выступление Рубинштейна о Со-
ловьеве было связано с изданием его учебного пособия
«Русская историография» в 1941 г. Соловьев характеризо-
вался здесь в ряду предшествующих историков, его со-
временников и позднее выступивших представителей рус-
ской исторической науки, что позволяло точнее опреде-
лить особенности исторической концепции Соловьева и ее
место в буржуазной историографии 19.
Новым моментом оценки воззрений Соловьева в дан-
ной работе было то, что автор решительно вывел его из
государственной школы в русской историографии и даже
назвал его основоположником и главой другой — «истори-
ческой школы». К сожалению, важнейшие недостатки
предшествующей работы Рубинштейна о Соловьеве сохра-
нились и в учебном пособии.
Последующим выступлением Рубинштейна с оценкой
воззрений Соловьева явилась его статья в «Вопросах ис-
тории», которой отмечалось 125-летие со дня рождения
историка и 100-летие с начала его преподавания в Мос-
ковском университете20. В этой работе автор стремился
точнее определить место Соловьева в русской историче-
ской науке, выявить обусловленность его концепции внут-
ренним развитием русской историографии. В соответствии
с этим он более полно охарактеризовал отношение Со-
ловьева к предшествующей и современной ему историче-
ской науке. В этой статье Рубинштейну удалось более
12
полно показать широту исторических интересов Соловь-
ева, его исключительную для своего времени образован-
ность. С особой силой в статье подчеркивается признание
Соловьевым единых закономерностей в историческом раз-
витии России и Западной Европы. Налет идеализации ис-
торических воззрений Соловьева выявился в этой работе
с еще большей определенностью. Ему приписывалось по-
нимание задачи «исторического синтеза, которую он уже
осознал, но разрешить не мог»21. Тем самым Соловьев
чуть ли не подводился к научной теории исторического
материализма.
В 1948 г. книга Рубинштейна «Русская историогра-
фия» была подвергнута неумеренно суровой критике, ко-
торая затронула и освещение исторической концепции
Соловьева в данной книге и в указанных статьях. Отме-
чалась идеализация воззрений Соловьева и игнорирование
автором критики их идеологами русской революционной
демократии. Эти замечания были учтены Рубинштейном
в его последующих печатных выступлениях, прежде всего
в главе, посвящсппой Соловьеву, в первом томе «Очерков
истории исторической науки» 22. Здесь Рубинштейн впер-
вые сопоставляет взгляды Соловьева со взглядами идеоло-
гов русской революционной демократии, отмечает их пре-
восходство в понимании закономерностей исторического
процесса, более четко выявляя тем самым черты клас-
совой ограниченности во взглядах либерально-буржуаз-
ного ученого23.
Н. Л. Рубинштейн проделал наиболее значительную
среди советских исследователей работу по изучению кон-
цепции крупнейшего дореволюционного историка и ее
марксистской интерпретации. Им были преодолены недо-
статки школы Покровского в оценке воззрений Соловьева.
Нго итоговые оценки этих воззрений в значительной мере
выдержали испытание временем и восприняты современ-
ной советской историографией.
Последующие труды о Соловьеве связаны в основном
с советским изданием «Истории России с древнейших вре-
мен» (1959—1966) в 15 книгах — главного труда С. М. Со-
ловьева. Наиболее обширным обзором научной деятель-
ности Соловьева, развернутой оценкой его исторической
концепции и в особенности основного труда выдающегося
историка, достаточно верным определением его места в до-
революционной русской исторической науке явился здод-
13
ный очерк Л. В. Черепнина к «Истории России с древ-
нейших времен».
Очерк Л. В. Черепнина явился отражением нового
этапа в развитии советской исторической науки. В области
историографии это выразилось прежде всего в более тща-
тельной разработке советскими исследователями методо-
логических принципов в изучении истории исторической
науки, в более точном определении их отношения к допрос
летарским формам культуры, идеологии и науки. Совет-
ские историки исходили из указаний В. И. Ленина о том„
что важным условием роста социалистической культуры
являлось «развитие лучших образцов, традиций, ре-
зультатов существующей культуры с точки зрения
миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы
пролетариата в эпоху его диктатуры» 24.
К концу 50-х годов был завершен фундаментальный
коллективный труд — «Очерки истории СССР» до XVIII в.
включительно (в девяти томах, 1953—1958), в подготовке-
которого принимал деятельное участие и Л. В. Черепнин.
Советские историки, создавая этот труд, как бы прошли
тот же путь конкретно-исторического изучения истории
России, что в свое время и Соловьев, но осветили ее с мар-
ксистско-ленинских позиций, с учетом всех достижений
исторической науки своего времени. Это давало реальную
возможность посредством сопоставления их труда с тру-
дом Соловьева точнее определить сильные и слабые сто-
роны его исторической концепции, выявить черты преем-
ственности и коренные различия в методологии истори-
ческого исследования. Не случайно крупные разделы
названного труда открывались историографическим введе-
нием, и в каждом из них значительное внимание уделя-
лось Соловьеву. Некоторые из этих введений были напи-
саны Черепниным.
В 1957 г. вышла книга Черепнина «Русская историо-
графия до XIX века»25, которая имела определенное
значение в оформлении его историографических представ-
лений, в том числе и для уточнений оценок научного
творчества Соловьева.
Во вводном очерке к «Истории России...» Черепнин
по существу подвел итоги изучению концепции Соловьева
советскими историками, хотя формально он не коснулся
ни дореволюционной, ни советской историографической
литературы, ему посвященной. Ему удалось учесть опыт
14
изучения концепции Соловьева, преодолеть ошибки свои£
предшественников и дать верную, марксистскую оценку
научного творчества Соловьева. В очерке сообщаются ва-
жнейшие факты, характеризующие биографию ученого, его
научную и служебную деятельность в Московском уни-
верситете, определены этапы его научного творчества, по-
лучили оценку социально-политические взгляды историка.
При этом учтены особенности буржуазного либерализма
в России, его двойственность, боязнь народной рёволюции,
отразившиеся в мировоззрении Соловьева. Раскрыты тео-
ретические основы его исторической концепции.
В соответствии с главной задачей вводного историо-
графического очерка основное внимание в нем уделено
характеристике труда всей жизни Соловьева — «Истории
России с древнейших времен». В этой связи Черепнин
указал на значение работ виднейших предшественников
Соловьева — М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, опре-
делил ту источниковедческую базу, в особенности архив-
ную, которая легла в основу «Истории России», высоко
оцепил титанический труд Соловьева по созданию беспри-
мерного в русской историографии монументального 29-то-
мпого обобщающего исторического произведения, отметил
те значительные трудности, которые преодолел ученый
в процессе подготовки его к изданию, кратко остановился
и на полемике, которая на протяжении десятилетий со-
провождала «Историю России...» Соловьева. Давая ито-
говую оценку выдающегося научного значения крупней-
шего труда Соловьева, Черепнин указал на неприемле-
мость в наше время идеалистической методологии буржу-
азного историка и дал объективную критику его классово
ограниченной исторической концепции26.
Целевое назначение рассматриваемого вводного очерка
исключало для автора возможность коснуться ряда важ-
ных вопросов: историографии, посвященной Соловьеву,
оценки его специальных исследований, дополняющих «Ис-
торию России...», творческой лаборатории выдающегося
ученого, определения его места в западноевропейской ли-
тературе а7.
Важным научным достижением советского издания
«Истории России...» Соловьева явилось раскрытие науч-
ного аппарата этого труда, каждая книга сопровождается
именным, географическим и этнографическим указате-
лями.
15
Последними по времени издания явились работы
А. М. Сахарова. Это — во-первых, статья о Соловьеве28 и,
во-вторых, сдвоенная лекция в его учебном пособии «Ис-
ториография истории СССР. Досоветский период», в ко-
торой преобладающее внимание уделено Соловьеву29.
Превосходно и с большим знанием дела написанные эти
два этюда о Соловьеве отличаются прежде всего тем, что
они при малом объеме сообщают основные сведения чита-
телю, хотя в исследовательском плане и не вносят суще-
ственно новых черт в характеристику исторической кон-
цепции ученого. Но важны тон и акценты в этих работах:
они лишены тенденции «критицизма», которые присутст-
вовали в комментариях к советскому изданию «Истории
России...». В позднейших работах Сахаров дает более
точные и тонкие оценки научного творчества Соловьева,
не нарушающие принципа историзма.
* * *
Обзор литературы о Соловьеве свидетельствует о том, что
советские историки проделали значительную работу по
изучению его исторических воззрений и этим подготовили
возможность создания обобщающих работ о крупнейшем
русском дореволюционном историке.
Но эта же литература убеждает и в том, что имею-
щихся статей и обзоров, посвященных Соловьеву, на сов-
ременном уровне развития советской исторической науки
явно недостаточно и что для создания новых работ — ра-
бот монографического типа — необходимы дополнительные
исследования ряда существенных вопросов. Главные из них,
по нашему мнению, таковы: необходимо в большей мере
раскрыть состояние исторической науки в России до Со-
ловьева и в период его научной деятельности, более полно
охарактеризовать процесс формирования его мировоззре-
ния, точнее определить социальный облик ученого, эво-
люцию его общественно-политических воззрений, шире
раскрыть теоретические источники его исторической кон-
цепции, показать реакцию ученого на новые веяния в по-
литической жизни страны и в исторической науке его вре-
мени. Не было уделено должного внимания и творческой
лаборатории историка. В центре внимания исследовате-
лей находился по преимуществу главный труд Соловьева
«История России с древнейших времен», другие же об-
16
niирные и важные в научном отношении его специальные
исследования, в том числе и крупные монографии, не изу-
чались, а без этого невозможно составить верное и полное
представление об исторической концепции Соловьева в це-
лом, во всех ее компонентах. Нет также необходимой чет-
кости и в определении места Соловьева в русской и тем
более западноевропейской историографии. Наконец,
крайне недостаточно освещалась в советской историогра-
фической литературе научно-общественная деятельность
Соловьева, а также личная жизнь историка, его челове-
ческие качества, своеобразная индивидуальность.
В целом же можно утверждать, что современный чита-
тель еще не располагает научной биографией крупнейшего
историка дореволюционной России.
Мы попытаемся привлечь внимание читателей и ис-
следователей к указанным выше недостаточно изученным
вопросам и осветить их в пределах тех возможностей, ко-
торые представляются сравнительно кратким научно-по-
пулярным очерком жизни и научного творчества С. М. Со-
ловьева.
§
Глава 1
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Жизнь крупнейшего дореволюционного историка Сер-
гея Михайловича Соловьева не изобилует контрастами и
драматическими коллизиями. Это была внешне размерен-
ная жизнь ученого, более всего поглощенного своими на-
учными исследованиями. Именно о Соловьеве писал его
талантливейший ученик и продолжатель В. О. Ключевс-
кий: «В жизни ученого и писателя главные биографиче-
ские факты — книги, важнейшие события — мысли. В ис-
тории нашей науки и литературы было немного жизней,
столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Со-
ловьева» !. Столь насыщенная научно-литературная дея-
тельность замечательного историка не означала, конечно,
полного и тем более намеренного его отвлечения от
общественной жизни своего времени. Напротив, Соловьев
принимал в ней довольно деятельное участие. Но и само
это участие выражалось преимущественно в его научных
2 В. Е. Иллерицкий
г
17
й литературных откликах на важнейшие события совре-
менности.
А время Соловьева было не только насыщено круп-
ными событиями, но и являлось переломным в истории
России.
Соловьев сложился как ученый и достиг выдающихся
успехов в период кризиса феодально-крепостнической си-
стемы в России, когда «все общественные вопросы своди-
лись к борьбе с крепостным правом и его остатками» 2.
Кризис привел к необходимости крестьянской реформы
1861 г., которая осуществлялась в условиях революцион-
ной ситуации. Научная деятельность Соловьева продол-
жалась и принесла ему широкое признание как крупней-
шего историка своего времени в пореформенный период,
в условиях утверждения капитализма в России и возник-
новения противоречий между новыми социальными си-
лами — пролетариатом и буржуазией. Научная деятель-
ность Соловьева завершилась в начальный период вновь
созревшей революционной ситуации.
Все эти процессы не осознавались Соловьевым в их
действительном значении, он, конечно, не мог дать им на-
учного истолкования. Однако переломный характер его
эпохи понимался им достаточно ясно, и эта эпоха опреде-
ляла как социальное содержание его мировоззрения, так
и развитие его научного творчества.
Разночинное происхождение Соловьева связало его
с процессами социального обновления России. Сергей Ми-
хайлович Соловьев родился 5 мая 1820 г. в семье священ-
ника Московского коммерческого училища *.
В нашем распоряжении очень мало источников, кото-
рые бы характеризовали детские и юношеские годы,
а также годы молодости Соловьева до обучения его в уни-
верситете включительно3. Известно, однако, что с юности
он вращался в среде разночинцев. Это был новый социаль-
ный слой, начинавший играть в России середины прош-
лого века все более заметную роль в общественной жизни
и науке.
* В Москве, на Метростроевской улице, на здании Института ино-
странных языков, в котором ранее размещалось коммерческое
училище, висит мемориальная доска с датой рождения С. М. Со-
ловьева.
Отец будущего знаменитого историка — Михаил Ва-
сильевич — первоначально хотел по семейной традиции
дать сыну духовное образование и с этой целью записал
его в 1828 г. в духовное училище с правом обучаться дома
и являться в училище только на экзамены. Отец намере-
вался сам обучать сына, но, перегруженный своими обя-
занностями, предоставил его самостоятельным занятиям,
с которыми, как вскоре обнаружилось, мальчик плохо
справлялся. Особенно малоуспешны были занятия Сергея
латынью. Механическое заучивание латинской грамматики
скоро наскучивало любознательному мальчику, и он,
пользуясь отсутствием контроля, предпочитал заниматься
чтением доступной ему литературы.
Первоначально в его распоряжении оказалась неболь-
шая библиотека его отца, человека просвещенного для
своего времени. Но вскоре она уже оказалась недостаточ-
ной для Сергея. Он начал брать книги у знакомых и
в библиотеках.
В посмертно изданных «Записках» * Соловьев вспо-
минал, что чтение его в годы отрочества было весьма бес-
порядочным. Он «читал романы Гаука, и Радклиф, и На-
режного, и Загоскина, Вальтер-Скотта». Такая литература
сильно возбуждала фантазию мальчика и мешала его си-
стематическому обучению. Но уже в раннем возрасте выя-
вилось преобладание у Соловьева интереса к историчес-
кой литературе, в особенности посвященной отечествен-
ной истории. Так, до 13 лет, как сообщает сам Соловьев,
он многократно перечитал все 12 томов «Истории государ-
ства Российского» Карамзина, заложив тем самым уже
тогда основы своей незаурядной осведомленности в исто-
рии России. Увлечению трудом Карамзина способство-
вали, несомненно, его высокие литературные достоинства.
Однако экзамены в духовном училище мальчик сдавал
плохо. Отец скоро убедился и в том, что сам он мало чем
может помочь в обучении сыну. Малоуспешные занятия
Сергея в духовном училище, отрицательное отношение
к грубым нравам, царившим в нем, а также, видимо, вли-
яние матери, получившей светское образование, заставили
Михаила Васильевича записать сына в 1833 г. в третий
класс первой Московской гимназии.
* Соловьев С. М. Мои записки для детей моих и если можно и для
других. М., б. г. (далее в тексте — Записки, с указанием стра-
ниц).
2*
19
Переход в гимназию определил всю последующую
жизнь Соловьева, избавив его от участи священнослужи-
теля. Но в первый же год обучения в гимназии ему при-
шлось встретиться с новыми трудностями. Он очень плохо
усваивал математику и потому лишь условно был переве-
ден в четвертый класс. Только усиленные летние занятия
с репетитором дали возможность Соловьеву преодолеть
возникшее препятствие. Начиная с четвертого класса Со-
ловьев стал заниматься превосходно по всем предметам,
уже в этом классе стал первым учеником и оставался им
до окончания гимназии в 1838 г.
Преобладающим увлечением Соловьева и в гимназиче-
ские годы оставалась отечественная история. Любимый
учитель Соловьева — П. М. Попов, преподававший рус-
скую литературу, не мог нахвалиться успехами своего
лучшего ученика, поражаясь его исключительной памяти,
обширным историческим познаниям и превосходным со-
чинениям.
Гимназию Соловьев закончил с серебряной медалью,
что открывало ему путь в университет. Имя Соловьева
было занесено на почетную доску гимназии.
Но прежде чем осветить университетский период жи-
зни Соловьева, отметим, что семейная среда и в универ-
ситетские годы наложила на будущего историка заметный
отпечаток. Отец Соловьева происходил из духовного со-
словия, отличался глубокими религиозными чувствами, ко-
торые были свойственны и всей семье. Не случайно по-
этому и Сергей Михайлович на протяжении всей жизни
оставался религиозным человеком, что, конечно, прояви-
лось впоследствии в его исторических работах.
Нельзя не отметить и того, что еще до поступления
в университет жизнь дала Соловьеву новые впечатления,
в какой-то мере повлиявшие на формирование его соци-
ального облика.
Летом 1838 г. Соловьев был приглашен репетитором
в семью разорившегося аристократа князя М. Н. Голи-
цына. Воспитанием детей занималась княгиня, отличав-
щаяся сварливым характером. Молодого Соловьева непри-
ятно поразила в этой семье галломания и презрительное
отношение ко всему русскому. Соловьеву не трудно было
убедиться впоследствии в том, что эта отрицательная осо-
бенность княжеской семьи была характерна и для многих
аристократических фамилий. От репетиторства он скоро
20
отказался и впоследствии в своих «Записках» склонен был
объяснять свою приверженность к славянофильству в мо-
лодости острой реакцией именно на эту «безобразную
крайность в образовании русской знати» (Записки, с. 36).
Осенью 1838 г. начались занятия Соловьева на первом
отделении философского факультета Московского универ-
ситета. Впоследствии это отделение было преобразовано
в историко-филологический факультет.
Годы студенчества (1838—1842) стали важным этапом
в формировании мировоззрения Соловьева и в углублении
его исторических интересов.
Время обучения Соловьева в Московском университете
совпало с усилением политической реакции, наступившей
после поражения восстания декабристов и в полной мере
проявившейся в Московском университете, который Нико-
лай I считал «рассадником свободомыслия». В первой по-
ловине 30-х годов в университете были разгромлены сту-
денческие кружки В. Г. Белинского, а затем А. И. Гер-
цена и Н. П. Огарева. С 1835 г. начал действовать новый
университетский устав, отличавшийся реакционностью.
Проявления общественной активности в университете
резко ограничились. Передовые политические веяния, сле-
довательно, не коснулись Соловьева в его студенческие
годы.
При всем этом рассматриваемый период в истории Мо-
сковского университета оказался в некоторых отношениях
переломным, что выразилось прежде всего в характере
преподавания, когда старое, реакционно или консерва-
тивно настроенное поколение профессоров стало сменяться
новым.
Типичными представителями старого поколения про-
фессуры были М. П. Погодин и С. П. Шевырев — ретро-
грады по политическим убеждениям, консерваторы в пре-
подавании, заменявшие в своих лекциях научную мысль
высокопарными восхвалениями официально-монархичес-
кой формулы единства «самодержавия, православия и на-
родности». К тому же поколению относился и декан фа-
культета И. И. Давыдов — профессор, не лишенный даро-
ваний, но беспринципный карьерист, стремившийся пре-
взойти Погодина и Шевырева в низкопоклонстве перед
реакционным министром просвещения графом С. С. Ува-
ровым. Лекции этих профессоров приносили очень мало
пользы студентам, особенно тем из них, которые прояв-
21
ляли научные интересы. Мы убедимся впоследствии, ка-
кие сложные отношения установились у Соловьева с од-
ним из этих профессоров — М. П. Погодиным.
Новое поколение профессоров было представлено
в годы обучения Соловьева в университете Д. Л. Крюко-
вым и Т. Н. Грановским. Эти ученые обладали широкими
историческими интересами, стремились к философскому
осмыслению исторического процесса, новому пониманию
задач исторической науки, призванной, по их убеждению,
изучать не только политическую, но и гражданскую исто-
рию. Им была свойственна и либерально-^буржуазная оп-
позиционность умеренного толка по отношению к реакци-
онному николаевскому реяшму.
Д. Л. Крюков читал курс древней истории и был очень
увлечен философией истории Гегеля, с которой студенты
в большинстве своем благодаря ему впервые и знакоми-
лись. С 1839 г. начал читать курс истории средних веков
и нового времени Т. Н. Грановский, только что вернув-
шийся из длительной заграничной научной командировки.
Блестящий лектор, хорошо знавший новейшую западноев-
ропейскую историческую литературу, так же, как и Крю-
ков, испытавший влияние философии Гегеля, Грановский
очень скоро покорил сердца всех мыслящих студентов4.
Однако потребовалось некоторое время для того, чтобы но-
вое поколение профессоров, к которому вскоре присоеди-
нились К. Д. Кавелин, П. К. Кудрявцев, а затем С. В. Ешев-
ский, оказало преобладающее влияние на характер препо-
давания в Московском университете. Это произошло уже
после того, как его окончил Соловьев.
Идеологическое размежевание среди московской про-
фессуры на рубеже 30—40-х годов прошлого века в опре-
деленной мере отразило процесс оформления именно
в этот период двух новых направлений в русской общест-
венной мысли — славянофильства и западничества.
Если первое из них выражало либерально-помещичью
идеологию, но первоначально слабо проявляло свою оппо-
зиционность, что позволяло Погодину и Шевыреву высту-
пать в союзе с К. С. Аксаковым и А. С. Хомяковым, то
либерально настроенные западники в лице Грановского,
Крюкова и временно примыкавших к ним Белинского и
Герцена выражали свою оппозиционность к самодержа-
вию — крепостническому режиму и его идеологии — более
решительно. Соловьев не сразу самоопределился в идей-
22
пых разногласиях своего времени, а в студенческие годь!
и не вполне осознал их. Но он очень скоро разобрался
в достоинствах и недостатках преподавания в универси-
тете представителями двух поколений профессуры. Ко-
нечно, его симпатии в научном отношении находились на
стороне молодых талантливых профессоров — Крюкова,
в особенности Грановского. Об этом с полной определен-
ностью свидетельствуют его «Записки», о том же говорит
с каждым годом расширявшийся круг чтения Соловьева
в студенческие годы.
Соловьев занимался в университете весьма усердно.
Он блестяще сдавал экзамены по всем дисциплинам и уже
па первом курсе обратил на себя внимание Крюкова, ко-
торый впоследствии приглашал его на свою кафедру. Но
и в университетские годы Соловьев отдавал предпочтение
изучению отечественной истории. Более того, именно
в университете окончательно определилось стремление Со-
ловьева к научной специализации по русской истории. На
вопрос Погодина, обращенный к Соловьеву: «Чем вы осо-
бенно занимаетесь?» — ответом было: «Всем русским, рус-
скою историей, русским языком, историей русской лите-
ратуры» (Записки, с. 61). Поэтому Соловьеву приходилось
скрывать, что он неодобрительно относится к лекцион-
ному курсу Погодина, который преимущественно занимал
студентов пересказом двух своих диссертаций — о «варяж-
ском вопросе» и Несторе-летописце да чтением избран-
ных мест из «Истории государства Российского...» Ка-
рамзина. Хотя Соловьев очень скоро убедился, что Пого-
дин плохой лектор и устаревший по своим научным прин-
ципам ученый, он еще сравнительно долго терпимо отно-
сился к его реакционным политическим взглядам.
Конечно, Соловьев не ограничивался лекциями не
только Погодина, но и других профессоров. По русской
истории Соловьев изучал всю новейшую литературу, но-
вые ценные публикации источников Археографической
экспедиции, неопубликованные источники, предоставлен-
ные в его распоряжение Погодиным, владельцем извест-
ного собрания древних рукописей*. Соловьева давно уже
не пленял авторитет устаревшего Карамзина, его мысли
* Интересно отметить, что работа в этом собрании позволила Со-
ловьеву в студенческие годы открыть ранее неизвестную V часть
«Истории России» В. Н. Татищева.
23
зайймали Другие Историки, прежде всего Эверс. Ё «Запи-
сках» он отмечал: «.. .пе помню, когда именно попалась
мне в руки Эверсово «Древнейшее право руссов». Эта книга
составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Ка-
рамзина я набирал только факты; Карамзин ударял
только на мои чувства, Эверс ударял на мысль; он заста-
вил меня думать над русскою историею» (Записки, с. 60).
Погодин следил за успехами Соловьева, старался при-
близить его к себе и дал ему превосходную характери-
стику после выпускного экзамена, назвав его одним из
лучших студентов, когда-либо у него учившихся.
Но Соловьев хотя и отдавал предпочтение занятиям
русской историей, ею далеко не удовлетворялся. Уже
в студенческие годы он осознал, что изучать историю Рос-
сии изолированно от истории других стран невозможно,
что успехи такого изучения определяются не только хо-
рошим знанием истории западноевропейских государств,
но и осведомленностью в новейших достижениях истори-
ческой науки в этих государствах, развитием ее теории
или, как говорили во времена Соловьева, изучением «фи-
лософии истории».
Соловьев вместе со своими передовыми современни-
ками отдал дань увлечению философией Гегеля, расцени-
вая ее как самую передовую философскую теорию. Но это
увлечение не приняло у него таких преувеличенных
форм, которые так ярко охарактеризованы Герценом
в «Былом и думах» применительно к его студенческим
годам, когда параграфы работ Гегеля брались «спорами
нескольких ночей», когда «люди, любившие друг друга,
расходились на целые недели», не согласившись в пони-
мании гегелевских категорий, а «все ничтожнейшие бро-
шюры, выходившие в Берлине и других губернских и
уездных городах немецкой философии, где только упо-
миналось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр,
до пятен, до выпадения листов в несколько дней» 5. Бо-
лее сдержанно писал об увлечении гегелевской филосо-
фией и ее приложении к изучению истории Соловьев:
«Время проходило не столько в изучении фактов, сколько
в думании над ними, ибо у нас господствовало философ-
ское направление; Гегель кружил нам всем голову, хотя
очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им
из лекций молодых профессоров. И моя голова работала
постоянно; схватив несколько фактов, я уже строил из
24
них целое здание. Из гегелевских сочинений я прочел
только «Философию истории», она произвела на меня
сильное впечатление». Впрочем, Соловьев здесь же добав-
лял: «.. .отвлеченности были не по мне: я родился истори-
ком» (Записки, с. 60). Однако несомненно, что именно
в университетские годы и благодаря влияниям того вре-
мени, идущим от молодых профессоров и круга его чте-
ния, в нем выработался тот теоретический склад ума, ко-
торым он впоследствии отличался и в своих работах и
в лекциях.
Круг чтения Соловьева в университетские годы был
очень широк. Зная уже в то время четыре (кроме латыни
и польского) языка — французский, немецкий, англий-
ский и итальянский до такой степени, что мог если не
говорить на них, то достаточно свободно переводить необ-
ходимую литературу, Соловьев, как он сам писал, «в изу-
чении историческом... бросался в разные стороны, читал
Гиббона, Вико, Сисмонди» (Записки, с. 60) 6. В студен-
ческие же годы Соловьев начал чтение произведений
Ф. Гизо и сохранил к этому знаменитому французскому
историку уважение на протяжении всей жизни. В еще
большей мере он увлекался произведениями О. Тьерри,
замечательными не только новыми идеями, но и своей
изумительной художественной формой. Одно из них —
«Историю завоевания Англии норманнами» — он даже
перевел для собственного пользования на русский язык7.
Так еще в студенческие годы Соловьев закладывал ос-
новы той исключительно обширной и разнообразной эру-
диции, которой он удивлял впоследствии своих слушате-
лей и читателей.
Но подходил конец обучению в университете. Прихо-
дилось думать о своем будущем. Интерес Погодина
к талантливому студенту не простирался настолько да-
леко, чтобы пригласить его на свою кафедру. Напротив,
как выяснилось вскоре, он даже остерегался способных
учеников, в том числе и Соловьева, опасаясь за свою
карьеру, поскольку он не мог не знать о своей непопуляр-
ности в студенческой среде.
Для опасений были основания, и они достаточно опре-
деленно выразились в отношении к Погодину попечителя
Московского учебного округа графа С. Г. Строганова, ум-
ного и просвещенного администратора, являвшегося ред-
ким исключением среди бездарных в своем большинстве
25
высших сановников николаевского царствования. При-
смотревшись к профессуре Московского университета,
Строганов скоро убедился в бездарности или неподготов-
ленности большинства их к преподаванию и поставил
своей задачей по мере возможности в ближайшие годы
заменить их молодыми и одаренными профессорами. Со-
ловьев еще в годы обучения в гимназии своими успехами
обратил на себя внимание Строганова, и с тех пор послед-
ний следил за ним, а ко времени окончания университета
пришел к выводу о том, что Соловьев вполне может за-
менить Погодина. Но Строганов понимал, что молодому
человеку следовало расширить его кругозор, а для этого
полезно было бы познакомиться с наукой и культурой наи-
более развитых западноевропейских государств. Однако
послать его в заграничную командировку за государствен-
ный счет Строганов не мог. Для изучающих русскую ис-
торию такой командировки не полагалось. Тогда Строга-
нов порекомендовал Соловьеву принять предложение
стать домашним учителем в семье своего брата —
А. Г. Строганова, бывшего министра внутренних дел, на-
ходившегося в немилости у Николая I и почти постоянно
жившего за границей.
Соловьев принял это предложение и летом 1842 г. от-
правился в Теплиц (Австро-Венгрия), где и приступил
к обучению детей А. Г. Строганова. Воспитанием их ру-
ководила графиня, увлеченная католицизмом и подпавшая
под влияние иезуитов. Сам граф А. Г. Строганов отно-
сился, по словам Соловьева, к тем петербургским санов-
никам, которые потеряли «интерес ко всему, кроме мелких
интриг честолюбия» (Записки, с. 69). В семье графа Со-
ловьев встретил ту же галломанию, что и в семье Голи-
цыных, хотя и в более изощренной форме, что решительно
им не одобрялось.
Обязанности домашнего учителя не были обремени-
тельны. Соловьев занимался три часа утром и после этого
был совершенно свободен. Частые переезды Строгановых
в новые города и страны способствовали ознакомлению
Соловьева с Западной Европой. Все свое свободное время
он посвящал посещению художественных галерей, театров
и более всего библиотек. Он основательно познакомился
с новейшей французской и немецкой литературой, пре-
имущественно исторической,
26
С окончанием университета Для Соловьева закончился
период ученичества, и в годы пребывания за границей
начался период самостоятельной серьезной подготовки
к будущей научной деятельности. С этой целью он посе-
щал лекции выдающихся ученых в Берлине, Париже и
Гейдельберге.
Так, осенью 1842 г. Соловьев слушал в Берлинском
университете лекции философа Шеллинга, географа Рит-
тера, историков Неандера, Ранке и Раумера. Однако впе-
чатления Соловьева о лекциях этих ученых, впоследствии
отраженные в «Записках», носят чисто внешний характер,
не раскрывают идей, содержавшихся в прослушанных
лекциях. «Слышал я Шеллинга, великолепного старика
с орлиным взглядом, с торжественной речью... Слышал
я Неандера, знаменитого церковного историка... Слышал
я географа Риттера, почтенного старика в туфлях, очень
образно объяснявшего свой предмет. .. .Слышал Ранке,
коверкавшегося на кафедре и желавшего голосом и же-
стами выразить характер рассказываемого события; Рау-
мера, довольно видного господина с безжизненной речью»
(Записки, с. 65). Подобный характер впечатлений Соловь-
ева объясняется, видимо, тем, что в Берлине он не мог
долго задерживаться и потому слушал л ишь отдельные лек-
ции, к тому же и записи своих впечатлений он вел много
лет спустя. Но, несомненно, немецкие ученые не произ-
вели на него глубокого впечатления в тот период. Лишь
впоследствии, изучив труды отдельных из них, например
Риттера, он проникся к ним большим уважением.
Зимой 1842/43 г. в Париже Соловьев посещал публич-
ные лекции историков Ленормана и Мишле, историка ли-
тературы Эдгара Кине, читавшиеся в Сорбонне и Кол-
леж де Франс. В «Записках» Соловьев характеризует
французских ученых более основательно, поскольку он
мог слушать не отдельные лекции, а полные курсы. Но
все же и в этих его характеристиках преобладают внеш-
ние моменты. Приведем некоторые примеры: «Ленорман,
красивый, плотный мужчина... производил сильное впе-
чатление. .. читал с католической точки зрения... По
свойству таланта, по способности к воодушевлению к Ле-
норману приближался Эдгар Кине» (Записки, с. 73). Но
Кине читал лекции по истории литературы с антикатоли-
ческих позиций и этим импонировал Соловьеву, как и
историк Мишле. Последний произвел на Соловьева в це-
27
лом отрицательное впечатление содержанием и формой
изложения своих лекций, и он даже перестал ходить на
его лекции. Интересно отметить, что на лекциях Кине
в Коллеж де Франс Соловьев увидел, как он сообщает,
«знаменитого Бакунина, которого прежде встретил...
мельком в Дрездене, говорил с ним несколько минут,
чтобы после никогда не сходиться: неприятное впечатле-
ние произвел он ... своими отзывами о России» (Запи-
ски, с. 74). Соловьева оттолкнули, конечно, революцион-
ные настроения Бакунина.
Посещал Соловьев и торжественные заседания Фран-
цузской академии. На одном из них слушал речь знаме-
нитого французского историка Минье, произнесенную
«прекрасно, с истинно академическим красноречием»
(Записки, с. 75). На заседаниях палаты депутатов Со-
ловьев слушал речи Тьера и Гизо.
Интересно отметить, что посещение лекций в Париже
посторонней публикой не одобрялось Соловьевым. Он по-
лагал, что это заставляло профессоров не столько думать
о содержании лекций, сколько о внешней эффектной сто-
роне их чтения для приобретения популярности у пуб-
лики. Свои отрицательные впечатления Соловьев выразил
в статье «Парижский университет», которая была отправ-
лена им в журнал «Москвитянин», издававшийся Погоди-
ным8. Это была не первая опубликованная статья Со-
ловьева (первые рецензии были опубликованы им еще
в студенческие годы). Статья о Парижском университете
носила явный отпечаток славянофильских веяний, что
впоследствии вызвало к автору настороженное отношение
со стороны западнически настроенных профессоров Мос-
ковского университета.
Летом 1843 г. Соловьев побывал в Чехии, где познако-
мился с выдающимися славянскими учеными — Ганкой,
Шафариком и Палацким. Тогда же он познакомился с па-
триотически настроенным кружком славянской молодежи
Чехии—«властенцами». Эти связи не только закрепляли
в еще не оформившихся воззрениях Соловьева славяно-
фильские тенденции, но и положили начало его прочному
интересу к истории южного славянства.
Зиму 1843/44 г. Соловьев снова провел в Париже, где
продолжал свои научные занятия и посещение лекций
виднейших французских историков. Среди них он уже то-
гда начал выделять наиболее близкого ему по характеру
28
и направлению политических и исторических взглядов
Франсуа Гизо.
Следил Соловьев и за политической жизнью Франции
тех лет. Уже тогда он понимал преимущества конститу-
ционно-монархического парламентарного строя Франции
над самодержавно-крепостническим строем николаевской
России; это способствовало впоследствии укреплению его
на либерально-буржуазных западнических позициях.
К сожалению, в нашем распоряжении нет достаточных
сведений о самостоятельных научных занятиях Соловьева
в заграничный период, о круге его чтения. Известно, что
он писал работу о борьбе родового п дружинного начал
у различных народов, избрал тому своей магистерской
диссертации. О круге чтения Соловьева имеются разроз-
ненные сообщения в его письмах к Погодину. Так, 29 ян-
варя 1844 г. он писал о чтении работ Мишле — VII тома
его «Истории Франции», посвященного Людовику XI и
Карлу Смелому, книги Капфига о европейских диплома-
тах, романа Жорж Санд «Консуэло», работ французских
публицистов Жирардена, Потена, историографа Деппинга,
шведского историка Стрингольма9. Этот перечень из од-
ного лишь письма Соловьева свидетельствует и о широте
его умственных запросов, и о напряженности его занятий.
Пребывание Соловьева за границей завершалось. Оно
было полезно молодому ученому во всех отношениях: спо-
собствовало его научной подготовке, расширило круг ум-
ственных и общественных интересов, помогло ознакомле-
нию с культурными ценностями западноевропейских на-
родов и всем этим положительно повлияло на его после-
дующую деятельность как ученого.
В последний год пребывания за границей у Соловьева
укрепилось намерение готовиться к магистерским экзаме-
нам в Московском университете, которые должны были
предоставить ему возможность защиты диссертации и на-
чала преподавания в университете. Он обратился с письмом
к Погодину, но получил весьма уклончивый ответ. Вскоре
Соловьеву стало известно, что Погодин подал в отставку,
ссылаясь на «расстроенное здоровье». В действитель-
ности же Погодин рассчитывал на переезд в Петербург
для занятия видного поста в министерстве просвещения
благодаря покровительству графа Уварова.
Полученное известие, а также, очевидно, подтвержде-
ние С. Г. Строгановым желательности привлечения Со-
29
ловьева к преподаванию в университете укрепили его
намерение незамедлительно сдать магистерские экзамены,
и потому он отказался от продолжения преподавания
в семье Строгановых и возвратился в Москву.
На пути в Россию Соловьев посетил Гейдельберг, здесь
он слушал лекции известных ученых — Крейцера, Рау и
Шлоссера. Его как историка особенно интересовал, ко-
нечно, Шлоссер. Но характеристика последнего в «Запи-
сках» Соловьева очень кратка и также носит внешний ха-
рактер: Шлоссер читает лекции «очень живо, смешит
студентов анекдотцами; мне он показался еще очень све-
жим старичком» (Записки, с. 83). И в дальнейшем Со-
ловьев не оценил этого крупного и своеобразного историка
по достоинству. Возможно, ему претили демократические
тенденции работ Шлоссера.
Вернувшись в Москву, Соловьев одновременно с под-
готовкой к экзаменам с еще большей настойчивостью пи-
сал магистерскую диссертацию. Темой ее он избрал «От-
ношения Новгорода к московским великим князьям».
Соловьев полагал, что защита диссертации будет иметь
решающее значение для его последующей научной дея-
тельности, а сдача экзаменов представлялась ему делом
второстепенным и даже формальным. Однако именно при
сдаче экзаменов он встретился с непредвиденными за-
труднениями. Дело в том, что прогрессивно настроенные
профессора университета первоначально настороженно от-
неслись к магистранту. Его связи с Погодиным, статья
о Парижском университете, проникнутая славянофиль-
скими настроениями, давали все основания полагать, что
в лице Соловьева они могут встретить идейного против-
ника. Подобное отношение и выявилось на экзаменах, на
которых к магистранту была проявлена неумеренная
строгость.
В январе 1845 г. Соловьев сдавал первый экзамен по
всеобщей истории. Грановский написал ему в экзаменаци-
онном листе, что магистрант обнаружил эрудицию в сда-
ваемом предмете, но затруднялся в изложении, что явля-
лось предупреждением о непригодности Соловьева к пре-
подавательской деятельности.
Второй экзамен по русской истории Соловьев сдавал
Погодину. Последний, увидев в молодом одаренном ученом
своего соперника на тот случай, если он сам пожелает
возвратиться в Московский университет, экзаменовал ма-
30
гпстранта еще более строго, чем Грановский. Он задал ему
вопрос о развитии взаимоотношений между Россией и
I (олыпей на протяжении 900 лет. Вопрос этот в историче-
ской литературе того времени был совершенно не разра-
ботан, на него не мог ответить и сам Погодин. Тем не ме-
нее он записал в экзаменационный лист Соловьева зани-
женную оценку.
Плохо сдал Соловьев экзамен по политической эконо-
мии профессору А. И. Чивилеву — представителю
молодой профессуры. Полагая, что данный предмет имеет
косвенное отношение к его будущей специальности, Со-
ловьев не готовился к нему основательно.
Казалось, надежды Соловьева на преподавательскую
деятельность в университете рухнули. Он сильно пережи-
вал свою неудачу и даже начал думать о поисках места
для службы. Озадачен был и покровительствовавший ему
С. Г. Строганов. Но он довольно быстро разобрался в при-
чинах настороженного отношения молодых профессоров
к Соловьеву и утешал его тем, что все решит защита ма-
гистерской диссертации. С еще большей энергией Со-
ловьев принялся за ее завершение и уже в марте 1845 г.’
сдал диссертацию на факультет.
Декан Давыдов передал диссертацию Погодину как
специалисту для заключения. Последний длительное время
нс возвращал ее. Обеспокоенному Соловьеву он заявил,
что работа хороша как научное исследование, но слаба
как магистерская диссертация. В этом двусмысленном и
по существу неодобрительном отзыве выразилась вся не-
приязнь Погодина к молодому талантливому ученому, ко-
торого он теперь стал совершенно определенно считать
своим соперником. С трудом Соловьев добился от него ре-
золюции — «читал и одобряю».
Диссертация поступила к Грановскому, а тот, не счи-
тая себя специалистом, не читая, передал ее К. Д. Каве-
лину. Последний, ознакомившись с диссертацией, быстро
убедился не только в ее несомненных научных достоинст-
вах, но и в том, что все подозрения в славянофильских
пристрастиях Соловьева содержанием диссертации не под-
тверждались. Такое мнение обрадовало Грановского. От-
ношение молодых профессоров к Соловьеву резко измени-
лось. Больше всех, кроме самого Соловьева, был этому рад
Строганов. Он немедленно предложил Соловьеву гото-
виться к чтению курса русской истории в университете.
31
В июле 1845 г. состоялось решение о приглашении Со-
ловьева к преподаванию на факультете, а в октябре он
начал чтение курса. На первых двух лекциях, в которых
давался общий обзор русской истории, присутствовали
Строганов, декан Давыдов, Грановский и некоторые дру-
гие профессора. Лекции произвели самое благоприятное
впечатление. Грановский, по словам Соловьева, после лек-
ций заявил: «Мы все вступили на кафедру учениками,
а Соловьев вступил уже мастером своей науки...» Стро-
ганов, слыша одобрения, сказал: «Дай бог, чтобы Пого-
дин кончил так, как этот начал» (Записки, с. 93).
Таким образом, период подготовки Соловьева к науч-
ной деятельности успешно завершился. Сама научная
деятельность продолжалась еще более успешно.
В октябре 1845 г. состоялся диспут по магистерской
диссертации Соловьева, которая предварительно была
опубликована. На диспут не преминул явиться Погодин,
резко высказавший критические замечания, которые своим
тоном произвели неблагоприятное впечатление на присут-
ствующих и усилили их симпатии к магистранту. Самую
положительную оценку диссертации дал Кавелин, а затем
он же выступил с пространной рецензией на нее в «Оте-
чественных записках». В итоге защита прошла вполне
благополучно и укрепила научный авторитет Соловьева.
В первом учебном году Соловьев, как и все начинаю-
щие, был крайне перегружен впервые читаемым лекцион-
ным курсом. Тем не менее он немедленно приступил к ра-
боте над докторской диссертацией, которую и завершил
необычайно быстро — во время летних каникул 1846 г.
Тема ее была связана с его магистерской диссертацией,
но охватывала значительно более обширный период рус-
ской истории — от Рюрика до Ивана IV включительно.
Диссертация была названа «История отношений между
князьями Рюрикова дома». Объем рукописи был велик —
до 700 страниц, но Соловьев быстро подготовил ее к пе-
чати. Уже тогда он, как писал впоследствии Ключевский,
«в совершенстве обладал умением беречь время» 10.
Диссертация была издана в 1847 г., и в том же году
27-летний ученый стал доктором русской истории. Такая
быстрота продвижения по лестнице ученых степеней была
среди историков беспримерной, как исключителен был и
возраст молодого доктора. Все это свидетельствовало
о том, что на кафедре русской истории Московского уни-
32
верситета появился выдающийся ученый, которого должно
было ожидать блестящее будущее. Развитие научной дея-
тельности Соловьева очень скоро это подтвердило.
Защита докторской диссертации Соловьевым не только
знаменовала завершение становления его в качестве зре-
лого ученого, но явилась и своеобразным итогом его об-
щественно-политического самоопределения. Идейно сбли-
зившись с либерально настроенными профессорами Мос-
ковского университета — Грановским, Кавелиным, Чиви-
левым и их единомышленниками, Соловьев стал убежден-
ным «западником» или, точнее, применяя классовый кри-
терий, буржуазным либералом, правда, довольно умерен-
ного толка.
Отрицательное отношение либералов к революционным
событиям в Западной Европе в 1848—1849 гг. не избавило
их от проявлений николаевской реакции в области науч-
ной деятельности. Оппозиционно настроенные либералы
каждый на своем опыте убеждались в том, что самодер-
жавно-крепостнический режим исключал прогрессивное
развитие России, мешал развитию общественной самодея-
тельности, культуры и науки.
Для Соловьева одним из убедительных средств под-
тверждения этих истин явилась его литературная деятель-
ность, точнее — ее преследование цензурой, особенно на
протяжении наиболее тяжелых лет николаевской реакции.
Конечно, гнет цензуры испытывала более всего революци-
онно-демократическая печать, в особенности сотрудники
«Современника». Но цензура затрагивала отчасти и ли-
бералов, что и почувствовал на себе Соловьев, когда он,
прочно утвердившись на кафедре, полный сил и энер-
гии, приступил к созданию новых трудов по русской
истории.
В процессе педагогической деятельности расширялись
творческие замыслы Соловьева. Уже в 1848 г. у него
окончательно созрело убеждение в необходимости созда-
ния нового фундаментального обобщающего труда по ис-
тории России, который заменил бы собой крайне устарев-
шую «Историю государства Российского» Карамзина.
В соответствии с этим смелым замыслом молодой ученый
начал перестраивать свои специальные лекционные курсы,
посвящая их ежегодно отдельным периодам истории Рос-
сии в их хронологической последовательности, что помо-
гало готовить задуманный труд. Естественно было стрем-
3 В. Е. Иллерицкий
33
ление Соловьева апробировать в печати свои подготови-
тельные материалы и варианты будущего труда.
С течением времени, как сообщает Соловьев в «Запи-
сках», стали играть определенную роль и материальные
соображения. Литературные гонорары стали необходимым
дополнением профессорского жалованья. Соловьев в 1848 г.
женился, и семья его стала довольно быстро разрастаться.
Каково же было изумление Соловьева, когда он стал
убеждаться в том, что немалая доля текста его статей,
посвященных отдаленному прошлому, вычеркивалась без-
жалостной рукой цензоров! Вспоминая этот период, Со-
ловьев писал: «Журнальная деятельность... причиняла
мне часто горе. Являлся нумер журнала, где помещена
моя статья; по моему расчету должно выйти столько-то
печатных листов — смотрю, выходит меньше: цензор вы-
марал! Оскорбление было тем чувствительнее, что смо-
лоду я обращался с наукою уважительно, не позволял
себе тенденции, передавал факты .. .почерпая их из ис-
точников печатных, самим же правительством большей
частью изданных. И тут невежественный и желающий
непременно что-нибудь вычеркнуть цензор вычеркивал!»
(Записки, с. 136). И далее Соловьев приводил примеры
нелепых предлогов, на основании которых страдали его
статьи. С цензурой приходилось мириться, но его недо-
вольство реакционным николаевским режимом возрастало,
политический опыт постепенно обогащался.
В начале 1851 г. Соловьев, всегда отличавшийся по-
разительной трудоспособностью, закончил первый том сво-
его обобщающего труда, названного им «Историей России
с древнейших времен», и в августе того же года издал его
в 1200 экз. С тех пор с беспримерной пунктуальностью
ежегодно выходил очередной том «Истории России...».
Только последний, 29-й том Соловьев не успел подготовить
к изданию лично, и он уже вышел в 1879 г., после его
кончины.
С началом издания главного труда Соловьева открылся
самый плодотворный период в его научном творчестве.
Этим трудом он внес наиболее ценный вклад в русскую
историческую науку своего времени, а с конца 50-х—на-
чала 60-х годов XIX в. становится ее виднейшим предста-
вителем.
Однако в первые годы после начала издания «Истории
России...» неизвестно, чего больше приносил автору его
34
труд — радости йли огорчений. Как это ни странно, его
груд, ставший не только важнейшим смыслом жизни Со-
ловьева, но и доказательством научного подвига крупней-
шего историка своего времени, встречен был многими его
современниками без воодушевления или даже враждебно.
Мы уже отмечали, что вопрос о полемике вокруг «Ис-
тории России...» Соловьева достаточно основательно изу-
чался советскими историками. Поэтому приведем в самой
общей форме наиболее яркие факты.
Как и следовало ожидать, самым непримиримым вра-
гом Соловьева после начала издания «Истории России...»
оказался Погодин. Но он первоначально не выступал от-
крыто, а предпочел действовать через своих единомыш-
ленников, среди которых самым рьяным оказался
И. Д. Беляев, впоследствии получивший известность как
историк русского крестьянства, отличавшийся славяно-
фильскими убеждениями. Открыто или под псевдонимами
оп первый начал критический обстрел Соловьева, находя
все основные положения его труда или неверными, или
недоказанными.
Критически отнеслись к труду Соловьева также идео-
логи раннего славянофильства, среди них в особенности
активен был К. С. Аксаков, с которым у Соловьева в не-
давнем прошлом были хорошие личные отношения. Акса-
ков подверг сомнению некоторые принципиальные поло-
жения труда, в особенности родовую теорию.
Неблагоприятно был встречен труд Соловьева и в офи-
циальных сферах. Попытка автора преподнести первый
том императору и тем самым заручиться его покровитель-
ством успеха не имела. Граф К. Д. Блудов, крупный са-
новник, дал понять Соловьеву, что его стремление заме-
нить своим трудом «Историю государства Российского»
Карамзина в правительственных сферах поддержку иметь
не будет.
Только западники во главе с Грановским отнеслись
к труду молодого историка одобрительно. Выразителем
мнения западников выступил, как и ранее, Кавелин, не
сомневавшийся ни в творческих дарованиях автора, ни
в полезности и научной ценности его труда, что он и вы-
ражал в своих одобрительных рецензиях. В этой друже-
ской поддержке Соловьев черпал утешение в постигших
его неприятностях. Отметим, что на этой основе укрепля-
лось не только научное единство, но и родство политиче-
3*
35
ских убеждений Соловьева с другими буржуазными либе-
ралами.
Критика труда Соловьева, порой не только злонаме-
ренная, но и недобросовестная, связанная с заведомыми
передержками, не могла не раздражать ученого. Первона-
чально Соловьев пытался возражать своим оппонентам
в печати. Но скоро он убедился в бесполезности такой
полемики и пришел к самому разумному выводу — отве-
чать своим критикам ежегодно издаваемыми очередными
томами «Истории России...». И Соловьев не ошибся. На-
учный авторитет автора с каждым новым томом возра-
стал, число покупателей неизменно увеличивалось, и скоро
первые тома труда потребовали новых изданий.
Работа над столь фундаментальным трудом сама по
себе требовала огромной затраты времени и его жесткой
регламентации. Не следует забывать, что такая работа
постепенно становилась все более сложной в связи с воз-
раставшей необходимостью обращения к изучению архив-
ных материалов, особенно за хронологическими пределами
начала XVII в. — конечного рубежа обобщающих трудов
Щербатова и Карамзина11.
Чтобы должным образом оценить степень напряжен-
ности и продуктивности творческой деятельности Соловь-
ева, напомним, что кроме своего основного труда Соловьев
создал обширное литературное наследство. Мы уже назы-
вали две его диссертации, предшествовавшие «Истории
России...» и в значительной мере подготовившие три по-
следующие монографии, которые мы оценим в соответст-
вующей главе. Перу Соловьева принадлежат две серии
статей — одна по русской историографии XVIII—XIX вв.,
по своему значению и объему не уступающая монографии,
и наконец другая серия—«Наблюдения над историче-
ской жизнью народов» (1868—1876), оставшаяся незавер-
шенной.
Не менее 40 статей Соловьева по вопросам русской ис-
тории, опубликованных им в журналах, не вошли в соб-
рания его сочинений и потому широкому кругу читателей
малоизвестны. Вместе с тем значительное число статей
Соловьева посвящено вопросам всеобщей истории, более
всего новейшей. По своей тематике они в большинстве
соприкасаются с историей России, характеризуя преиму-
щественно ее внешнюю политику.
36
Не следует также забывать, что Соловьев выступал ав-
тором многих рецензий на исторические работы, выходив-
шие при его жизни, которые, как правило, им не подписы-
вались, особенно ранние. Работа по их выявлению не за-
вершена.
Наконец, Соловьев издавал учебные пособия. Так, для
определения минимума требований на экзаменах по чи-
тавшемуся им с 1845 по 1877 г. общему курсу русской
истории в Московском университете он многократно изда-
вал «Учебную книгу русской истории». При жизни исто-
рика она выдержала семь изданий, каждое из последую-
щих он совершенствовал. Кстати говоря, это пособие ис-
пользовалось и в гимназиях. Еще важнее указать на то,
что Соловьев свои универсальные исторические интересы
выразил в издании «Курса новой истории» (ч. 1. М., 1869;
ч. 2. М., 1873; второе издание вышло в 1898 г.).
Авторитет Соловьева в 70-е годы получил европейское
признание. Его «Учебная книга русской истории» в 1879 г.
была издана в Париже на французском языке.
Не забудем и неоднократно цитировавшихся нами
«Записок» Соловьева, изданных уже после его смерти.
Литературное наследство Соловьева таким образом из-
меряется колоссальным объемом. При его жизни было
опубликовано свыше 1000 печатных листов.
Все сказанное дает основание не только охарактеризо-
вать труд Соловьева на поприще исторической науки как
титанический и беспримерный в русской историографии,
но и заставляет удивляться тому, что все это было сделано
на протяжении жизни одного человека, причем относи-
тельно краткой (59 лет).
Но литературным творчеством Соловьев не ограничи-
вался. Кроме работы в. кабинете и в архиве, он одновре-
менно вел напряженную преподавательскую деятельность
сначала только в Московском университете (Соловьев
иногда читал здесь и курс новой истории), затем до
187’2 г. в Николаевском военном училище, а после этого
на Высших женских курсах. Кроме того, Соловьев три-
жды приглашался на длительные сроки в Петербург: сна-
чала для занятий по русской истории с наследником це-
саревичем Николаем (с ноября 1859 по май 1861 г. и
с августа 1862 по январь 1863 г.), после его смерти для
занятий с будущим императором Александром III (пер-
вая половина 1866 г.). Свои длительные пребывания в Пе-
37
тербурге Соловьев использовал также для интенсивней-
шей работы в столичных архивах, собирая материалы для
«Истории России..
К своей преподавательской деятельности Соловьев
относился в высшей степени добросовестно. Это выража-
лось не только в том, что он с педантичной точностью на-
чинал и кончал свои лекции, но прежде всего в их
содержании. Непрерывно обогащая свои лекции по мере
расширения своей осведомленности в исторических мате-
риалах и обогащения опыта преподавания, Соловьев обра-
щал основное внимание на раскрытие внутреннего смысла
характеризуемых событий, на связь между ними.
Ученики и современники Соловьева оставили свои вос-
поминания о его внешнем облике и лекторском искусстве
в годы преподавания в Московском университете. Так,
Д. А. Корсаков писал о Соловьеве 60-х годов: «В наруж-
ности Соловьева все было оригинально, в коротко обстри-
женных белокурых волосах на голове была заметпа се-
дина. Лицо было гладко выбрито — ни усов, ни бороды
(позднее, в 70-х годах, Соловьев отрастит усы и бороду);
широкий, выступающий вперед лоб, сосредоточенпое вы-
ражение голубых глаз, вдумчиво смотревших из-за золо-
тых очков, и глубокая линия около тонких губ свидетель-
ствовали о сильном уме и твердом характере» 12.
Что касается особенностей лекторского мастерства Со-
ловьева, то в этом отношении интересны воспоминания
В. О. Ключевского. Будучи студентом первого курса,
в 1861/62 учебном году Ключевский еще не слушал лек-
ций Соловьева на своем курсе — тот читал их на третьем
и четвертом курсах. Но Ключевский посещал отдельные
лекции, о чем сообщал своему семинарскому другу
П. П. Гвоздеву в Пензу: «Слушал его и заслушался. Он
читает чрезвычайно медленно, что можно записывать до
слова. Лекция его как-то особенно выработана, хотя он и
читает экспромтом. За живое задевает его здоровая крити-
ческая мысль научная, не чуждая самой трезвой поэ-
зии» 13. В позднейшей статье «Соловьев как преподава-
тель» Ключевский добавит о характернейшей особенности
лекций своего учителя: «.. .с кафедры слышался не про-
фессор, читающий аудитории, а ученый, размышляющий
вслух в своем кабинете» 14.
В январе 1862 г. Ключевский сообщал в Пензу своему
родственнику П. И. Европейцеву о начале чтения Со-
38
ловьевым лекций по новой истории: «Доселе он прочитал
до того времени, как Наполеон стал консулом. Его харак-
теристика Наполеона не лишена оригинальных черт. Он
смотрит на него как на богатыря, вызванного бурей рево-
люции» 15.
Ключевскому с его возросшими духовными потребно-
стями и под определенным воздействием демократических
идей не все стало нравиться в содержании лекций Со-
ловьева, когда он начал слушать его систематически — на
третьем курсе. Он отмечал идеализацию Соловьевым мо-
сковской централизации «с ее бесстыдным деспотизмом и
самодурством». Интересно, что подобную интерпретацию
Соловьевым русской истории молодой Ключевский спра-
ведливо связывал с фаталистической формулой Гегеля
«все действительное разумно» 16. Будущий каракозовец
И. А. Худяков отмечал также: «Соловьев читал с замет-
ным талантом, но излагал предмет с чиновничье-центра-
лизаторской точки зрения» 17.
Все современники считали Соловьева весьма эрудиро-
ванным и знающим ученым, но отмечали, что материал
его лекций был сложен и не всеми студентами усваивался
легко. Все они отмечали философский склад ума Соло-
вьева, его склонность к широким и глубоким обобще-
ниям. Правда, некоторые современники, например
Д. А. Корсаков, указывали и на слабые стороны его лек-
торского искусства, в особенности когда он выступал не
перед студентами, а с публичными лекциями: «Очевидно,
Соловьев затруднялся публично говорить об хорошо из-
вестном ему вопросе» 18. Но известно, что публичные лек-
ции, требующие весьма сжатого и вместе с тем популяр-
ного изложения, особенно трудны.
Что же касается университетских лекций, то Соловьев
продолжал читать их с успехом до конца своей преподава-
тельской деятельности. Один из позднейших его студен-
тов А. Танков вспоминал: «Говорил Сергей Михайлович
плавно, спокойно, без признаков старческой слабости.
Прекрасная речь его отличалась замечательною уверен-
ностью и сознанием ученой силы... Его лекции были кри-
тическим разбором событий и периодов русской историче-
ской жизни, а не прагматическим только очерком ее.
Изложению Соловьева придавала все это замечательная
эрудиция» 19. Отмечал Танков и такую особенность лек-
ционных курсов Соловьева? как систематическое освеще-
39
ние лектором истории России в связи с всеобщей исто-
рией: «Для объяснения явления русской истории Соло-
вьев прибегал к сопоставлениям из истории других
народов. Ни одного более или менее значительного факта
он не оставлял без блестящей или по крайней мере
остроумной параллели» 20.
Но Соловьев не только делил свое время между рабо-
чим кабинетом, архивом и студенческой аудиторией.
Он еще выполнял и административную работу. В 1864—
1870 гг. он избирался деканом вновь созданного историко-
филологического факультета, затем в 1871—1877 гг. был
ректором Московского университета. Административная
деятельность, поглощавшая значительную часть рабочего
времени Соловьева за счет научных исследований, очень
тяготила его, тем более что он с 1870 г. стал еще дирек-
тором Оружейной палаты в Кремле, а также почетным
членом многих научных обществ. В последние годы
жизни Соловьев был председателем Московского общества
истории и древностей российских. В 1872 г. он был из-
бран в академики, но связь его с Академией паук, нахо-
дившейся в Петербурге, была слабой.
Но если административная деятельность обременяла
Соловьева, то она была очень полезна для факультета,
а затем и для университета. По единодушному мнению
его коллег и современников, Соловьев был хорошим адми-
нистратором. Будучи сам воплощением дисциплины и не-
утомимым тружеником, он требовал того же от всех
сотрудников факультета и университета. Благожелатель-
ность Соловьева к студентам, требовательность к препо-
давателям, постоянная забота о повышении уровня препо-
давания, чему он способствовал и личным примером,
снискали ему высокий авторитет и оставили заметный
след в истории Московского университета.
Соловьев был деканом факультета после принятия
нового университетского устава 1863 г. Устав расширял
права студентов и самостоятельность профессуры, созда-
вал условия для совершенствования преподавания. Но
это не исключало конфликтов на факультете и в универ-
ситете, чаще всего при выборах профессоров на новые
сроки или столкновениях студентов с ретроградами в про-
фессорской среде. Соловьев не всегда защищал студентов.
Сказывались его осторожность, стремление уладить конф-
ликты. Так было в годы деканства Соловьева в связи
40
с конфликтом студентов с профессором латыни П. М. Ле-
онтьевым, оскорблявшим студентов. Последовала жалоба
студентов, но Соловьев избежал разбирательства. Но
в 1867 г. Соловьев, будучи деканом, выступил с группой
профессоров против реакционно настроенного и ненавист-
ного всем профессора полицейского права В. Н. «Пеш-
кова при выборах его на новый срок, и когда он все же
был избран благодаря вмешательству министерства про-
свещения, то Соловьев даже подавал в отставку, которая,
однако, не была принята.
Уход Соловьева с поста ректора университета также
был связан с конфликтной ситуацией. В министерстве
началась работа по подготовке нового, реакционного ус-
тава для университетов. Соловьев решительно и открыто
протестовал. Реакционно настроенный Катков и его соре-
дактор «Русского вестника» профессор «Леонтьев активно
поддерживали подготовляемую реформу. К тому же
в самом университете профессор физики Н. А. «Любимов
позволил себе, как писал М. М. Ковалевский, «дать уни-
верситетским порядкам пе отвечающую действительности
и крайне резкую оценку» 21, встретившую решительный
протест либеральной профессуры. Соловьев, не желая
стать орудием реакционеров, готовивших новый устав,
будучи ректором по выбору, «не задумавшись ни минуты,
как подтверждал впоследствии знаменитый ученый
К. А. Тимирязев, скорее покинул бы свой почетный пост,
чем допустил нарушение прав им представляемой колле-
гии» 22. Это произошло в 1877 г.
В 70-х годах Соловьев не только пользовался заслу-
женным авторитетом, но и был своего рода патриархом
русской исторической науки. Это выражалось как в избра-
нии его почетным членом многих ученых обществ в Рос-
сии и за границей, в присвоении звания академика, при-
глашении для чтения публичных лекций, так и в том,
что к нему обращались известнейшие деятели, артисты,
художники, писатели за консультациями по вопросам рус-
ской истории. Как к известному ученому обращался к Со-
ловьеву Л. Н. Толстой. В сохранившемся письме к Соловь-
еву он писал: «Я на днях ездил в Москву с тем, чтобы
быть у Вас и воспользоваться Вашими советами и содей-
ствием, в которых лет шесть тому назад Вы мне не отка-
зали, когда я занимался исторической работой времен
Петра I, но к несчастью не застал Вас. Надеюсь, в другой
41
раз быть счастливее и па то, что Вы будете и теперь так жё
добры и снисходительны ко мне, как и в тот раз, и во
многом мне поможете своими указаниями»23. В конце
письма Толстой запрашивал у Соловьева интересующую
его архивную справку.
В заключение попытаемся охарактеризовать жизнен-
ную обстановку и человеческие качества С. М. Соловьева,
личность историка.
Вся жизнь Соловьева была подчинена работе. Необы-
чайно перегруженный своими научными трудами и мно-
гообразными обязанностями, он тщательно регламентиро-
вал свое время. Он вставал в 6 часов утра и принимался
за работу, в 9 часов пил чай и в 10 выходил из дома,
направляясь в университет или в архив. Возвращался до-
мой Соловьев в четвертом часу, обедал, иногда отдыхал,
читая легкую литературу, преимущественно описания
путешествий, или недолго спал, затем снова работал и
в 11 часов вечера неизменно ложился спать, отводя на
сон 7 часов 24.
В летний период, когда Соловьев жил на даче под Мо-
сквой, он не переставал напряженно трудиться, позволяя
себе лишь более или менее продолжительные утренние и
вечерние прогулки. Летнее время, свободное от учебных
занятий и административных обязанностей, Соловьев
особенно ценил и максимально использовал для работы
над «Историей России...». Именно в летние месяцы он
обычно завершал работу над текстом очередного тома
своего фундаментального труда и после отпуска сдавал
его в печать.
Напряженно работая над главным своим трудом,
Соловьев сохранил широкий круг умственных интересов.
Близко знавший историка в 60—70-х годах Ключевский
вспоминал: «Чего он только не знал, не читал, чем не
интересовался и о чем только не думал» 25. Напряженной
работе Соловьева помогали изумительная память и вы-
дающиеся дарования. Тот же Ключевский писал: «Фено-
менально счастливая память помогала этой безустанной
работе. Казалось, эта память не умела забывать, как
мысль, которой она служила, не умела уставать». Пора-
жало самое устройство его ума как редкого ученого меха-
низма, способного «работать одинаково спокойно и пра-
вильно бесконечное число часов, перерабатывая самый
разнообразный материал. Он знал тайну искусства удво-
42
ять время и восстановлять силы простой переменой за-
нятий» 26.
Систематически печатаясь в журналах, Соловьев учи-
тывал их общественное лицо. Он избегал печататься
в журналах крайних направлений — радикальных и реак-
ционных, что само по себе характеризует либерально-
буржуазный характер его убеждений. Так, до 1857 г.
Соловьев предпочитал печатать свои статьи в «Отечествен-
ных записках» и в «Современнике». Когда же четко
определилась революционно-демократическая направлен-
ность «Современника», особенно после начала работы
в нем Н. А. Добролюбова, Соловьев стал печататься
в «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Однако после
выявления с полной очевидностью реакционности убежде-
ний его редактора и соответственно направления журнала
Соловьев с 1865 г. прекратил сотрудничество в нем.
С 1868 г. он стал регулярно печататься в либерально-
буржуазном «Вестнике Европы», а также «Древней Рос-
сии» и в специальных академических изданиях.
Любопытно отметить, что Соловьев, верный своей
жесткой регламентации времени, выделял, по свидетель-
ству его современников, определенные дни и часы для
подготовки статей в журналы. Писал он «статьи, — вспо-
минает А. Галахов, — по вторникам для «Отечественных
записок», по пятницам для «Современника» ...но как
только наступал положенный предел работы, он, несмотря
ни на что, бросал ее...» 27
Суровое самоограничение, -жесточайший режим ра-
боты, выявлявшие замечательно сильную волю Соловьева,
не могли не сказаться на его характере и поведении.
Всегда занятый, сосредоточенный, он внешне был суро-
вым и малодоступным, хотя по существу являлся очень
доброжелательным человеком. Он не приглашал и сту-
дентов на дом, как любил это делать в свое время
Грановский. Такие посещения оторвали бы его от напря-
женного и размеренного труда. Со студентами он общался
только в университете.
Внешне суровым он был и с членами своей многочи-
сленной семьи. Так, он не позволял своим детям даже
входить в свой кабинет, а летом на даче — в рабочий ме-
зонин. «Никто в эти часы не беспокоил его; вход был во-
спрещен всем без исключения; близкие его знакомые
нередко удивлялись такому его распорядку и даже по-
43
смеивались над ним», — вспоминал тот же Галахов28.
Жизнь семьи полностью подчинялась рабочему режиму
Соловьева. Но это не мешало ему иметь высокий автори-
тет в семье и вызывать искреннее и теплое расположение
всех родственников.
Не любил Соловьев принимать гостей и сам ходить
в гости. Он делал это крайне редко, по большим празд-
никам. Но и эти приемы и посещения опять-таки подчи-
нялись строгому режиму Соловьева. Они неизменно
прекращались около 11 часов вечера.
Отдыхал Соловьев только отчасти в субботу и весь
день в воскресенье. В субботу он обычно отправлялся
обедать в Английский клуб, где встречался с друзьями,
а вечером шел в Итальянскую оперу, которую полюбил
еще в Париже и оставался ее поклонником всю жизнь.
Соловьев вообще очень любил музыку и пение.
В воскресенье вместе во всей семьей Соловьев ходил
в церковь на утреннюю службу. Как отмечалось, всю
жизнь он был религиозен. Остальную часть воскресного
дня Соловьев отдыхал в кругу семьи, допуская всевозмож-
ные виды увеселения — пение, танцы, игры — или в ред-
ких случаях отправлялся в гости.
Так строго размеренно протекала жизнь выдающегося
ученого.
Умер Соловьев сравнительно нестарым — 59 лет. Не
в меру напряженный труд подорвал его в общем крепкое
здоровье. В 1877 г. он серьезно заболел и уже не смог
излечиться. Скончался Соловьев 4 октября 1879 г.
Глава 2
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ С. М. СОЛОВЬЕВА
Важнейшим вопросом, характеризующим мировоззрение
и научную концепцию историка, является вопрос о со-
циальной, классовой основе его исторических воззрений,
его политической ориентации. Мы привыкли к определе-
нию этой основы применительно к Соловьеву как бур-
44
жуазной. Но такая характеристика слишком обща, и ее
потому необходимо доказать и конкретизировать.
Ранее отмечалась связь Соловьева с разночинной сре-
дой, начиная с его происхождения; на протяжении всей
жизни он осуждал отрицательные особенности дворян-
ской среды. Но происхождение и общественные связи
сами по себе не могут определять социальный облик того
или иного деятеля. Достаточно сослаться на пример
М. П. Погодина — сына крепостного, сумевшего выку-
питься на свободу. Он вращался преимущественно в раз-
ночинной среде, что не помешало ему стать выразителем
монархической идеологии, защитником самодержавия.
Важнейшее значение имеют, конечно, убеждения, их
социальная сущность, факты, свидетельствующие об
определенной политической ориентации изучаемого дея-
теля. Но именно в данном отношении Соловьев само-
определился далеко не сразу, и вообще этот вопрос при-
менительно к нему достаточно сложен. До окончания
университета он был политически индифферентен, тер-
пимо относился даже к ретроградным убеждениям своего
учителя Погодина, обнаруживал пристрастие к славяно-
фильству в годы пребывания за границей.
Однако в ранний период жизни Соловьева имели ме-
сто и другие факторы, противодействовавшие его полити-
ческому индифферентизму и славянофильским влияниям.
Он слушал лекции прогрессивно настроенных профес-
соров — Крюкова, Грановского, либерально-буржуазная
ориентация которых общеизвестна. Определенное влия-
ние оказала на Соловьева и новейшая западноевропей-
ская литература, в особенности философия истории Ге-
геля, признание которым объективных исторических зако-
номерностей, прежде всего идеи исторического прогресса,
было по существу обоснованием неизбежности утвержде-
ния новых, буржуазных отношений.
Студент Соловьев мог только смутно осознавать эту
объективную социальную функцию философии истории
Гегеля, но ее усвоение способствовало, конечно, тому, что
в дальнейшем он стал более отчетливо понимать общую
закономерность своего времени. В этом смысле на него
оказало влияние пребывание за границей, особенно во
Франции с ее богатыми революционными традициями.
Соловьев очень скоро смог убедиться в преимуществах
парламентарного строя Франции по сравнению с деспоти-"
45
ческим самодержавным строем России, да еще в условиях
николаевской реакции. Поэтому в своих «Записках» он
выражал недоумение по поводу недовольства многих
французов монархией Луи-Филиппа Орлеанского: «Я
легко сделался в Париже приверженцем Орлеанской дина-
стии и министерства Гизо; по умеренности своей я не
мог понять, чего еще французам нужно более того, что
они имели в этом? Мой взгляд был вполне оправдан послег
когда февральская революция повела к нелепой респуб-
лике и гнусной империи» (Записки, с. 75).
Это высказывание во многих отношениях характерно
для уяснения политических взглядов Соловьева не только
в молодости, но и на протяжении всей его жизни. Полити-
ческий идеал, воплощенный в определенном государствен-
ном строе, для Соловьева — конституционная монархия,
республика для него, да еще утверждаемая революцион-
ными потрясениями, — нелепость. Это, конечно, программа
буржуазного либерализма, оформившаяся в своеобразных
условиях России.
Но мы очень бы поспешили, если бы подумали, что эта
программа была глубоко осмыслена и полностью принята
Соловьевым уже в годы пребывания за границей.
Потребовалось острое столкновение с Погодиным после
возвращения в Москву, постепенное освобождение от сла-
вянофильских настроений, которые, кстати говоря, были
у него довольно поверхностными, потребовалось тесное
сближение с Грановским и другими западниками, чтобы
Соловьев во второй половине 40-х годов достаточно прочно
утвердился на либерально-буржуазных идейных позициях
и тем самым политически самоопределился.
Но либерализм Соловьева всегда был крайне умерен-
ным. Впоследствии он сам таким образом определял свои
политические убеждения в «Записках»: «По политиче-
ским убеждениям Грановский был очень близок ко мне,
т. е. был очень умерен, так что приятели менее умеренные
называли его приверженцем русской ученой монархии»,
т. е. сторонником просвещенного абсолютизма. Но, продол-
жая свое высказывание, Соловьев обнаруживает не только
политическую умеренность, но даже и наивность. Про-
тивопоставляя Грановскому Кавелина, он считал послед-
него человеком неумеренно увлекающимся, который
будто бы «не робел ни перед какою крайностью в со-
циальных преобразованиях, ни перед самым коммуниз-
46
мом» (Записки, с. 102). Считая «красным» даже Каве-
лина, Соловьев не умел отличать «радикальную» фразео-
логию от подлинно революционных убеждений. Именно
потому он готов был сравнивать Кавелина с Герценом,
который, как известно, до выезда за границу вращался
в кругу московских западников, но отнюдь не разделял
их либеральные убеждения.
Запись впечатлений Соловьева о Герцене эпизодична,
однако она дает возможность более определенно понять
степень умеренности политических убеждений историка
в середине 40-х годов: «Я любил его слушать, — писал
Соловьев о Герцене, — ибо остроумие у этого человека
было блестящее и неистощимое, но меня постоянно оттал-
кивала от него... резкость в высказываниях собственных
убеждений» (Записки, с. 102). Тем более отталкивали
религиозно настроенного Соловьева атеистические выска-
зывания Герцена в духе Фейербаха. Напомним, что ате-
изм Герцена окончательно развел его и с Грановским,
о чем Герцен сообщал в «Былом и думах».
Умеренность либерализма Соловьева выразилась также
и в том, что он в «Записках» и тем более в опубликован-
ных при его жизни произведениях крайне неопределенно
выразил свое отношение к революции 1848—1849 гг.
в Западной Европе и по существу избегал касаться этого
вопроса. Как известно, эту революцию приветствовал
в студенческие годы даже будущий идеолог русских
либералов Б. Н. Чичерин. Мы не говорим уже о другом
студенте — политическом антиподе Чичерина — Н. Г. Чер-
нышевском, который в своем зашифрованном дневнике не
только выразил горячее сочувствие революции и самым
радикальным теориям того времени, но и тщательно сле-
дил за развитием революционных событий. Не будем вспо-
минать и о Герцене — очевидце революционных событий
в Париже, заклеймившем проклятием душителей рево-
люции.
А Соловьев предпочел по существу замолчать ее...
Только мрачное семилетие 1848—1855 гг., доказавшее
степень враждебной реакции царизма на революцию,
вынудило его на оппозиционные высказывания. Конечно,
реакция порицалась Соловьевым, но только на страницах
его «Записок» и преимущественно в связи с усилением
цензуры и надзора за преподаванием в университете.
Соловьев более решительно выразил свои оппозици-
47
онные настроения лишь в связи с поражением русских
армий в ходе Крымской войны и опять-таки па страницах
своих «Записок»: «В то самое время... когда Россия
стала терпеть непривычный позор военных неудач, —
писал Соловьев, — когда враги явились под Севастополем,
мы находились в тяжком положении: с одной стороны,
наше патриотическое чувство было страшно оскорблено
унижением России; с другой, мы были убеждены, что
только бедствие, и именно несчастная война, могло про-
извести спасительный переворот, остановить дальнейшее
гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул
бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы
казарменную систему; мы терзались известиями о неуда-
чах, зная, что известия противоположные приводили , бы
нас в трепет» (Записки, с. 150).
Либеральные убеждения Соловьева с полной опреде-
ленностью проявились в годы подготовки и осуществления
крестьянской реформы 1861 г. Он считал сохранение
в XIX в. крепостного права позором для России, видел
в нем причину ее отсталости от передовых стран Западной
Европы, «исключавшей ее из общества европейских циви-
лизованных народов» (Записки, с. 158), был убежден-
ным сторонником отмены крепостного права в России
после поражения ее в Крымской войне; в этом он усмат-
ривал залог прогрессивного развития страны в будущем,
условие полного утверждения в России «цивилизации»,
которая объективно была у Соловьева синонимом господ-
ства буржуазных отношений. Идея исторического про-
гресса, одно из важнейших, стержневых положений исто-
рической концепции Соловьева, и была средством обосно-
вания движения России к торжеству буржуазного строя,
к «правовому государству», к «европейской цивилизации».
Именно такие убеждения прежде всего и характеризуют
Соловьева как буржуазного историка.
Но Соловьев не мыслил отмену крепостного права
иначе, как только в результате реформ «сверху», по ини-
циативе самодержавного правительства. Ленинская харак-
теристика позиции либералов по этому вопросу полно-
стью применима к Соловьеву: «Либералы хотели «осво-
бодить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя,
ни землевладения и власти помещиков, побуждая только
к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются
идеологами буржуазии, которая не может мириться с кре-
48
Постничеством.., но которая боится движения масс, спо-
собного свергнуть монархию и уничтожить власть поме-
щиков. Либералы ограничиваются поэтому «борьбой за
реформы», «борьбой за права», т. е. дележом власти между
крепостниками и буржуазией» Ч
Соловьев, как и все либералы, решительно осуждал
не только массовые народные движения в прошлом и
настоящем (мы убедимся, что и это положение относилось
к числу важнейших в его исторической концепции), но
столь же решительно отвергал правомерность борьбы
с самодержавием лагеря революционной демократии за
интересы крестьянства. Подобно всем либералам, Соловьев
испытывал ту «боязнь перед революцией», необходимость
которой, по словам Ленина, «ясно видел» их современник
Чернышевский2. Характерно, что в своих «Записках»
Соловьев упорно игнорирует значение борьбы разночин-
цев-демократов и лишь неоднократно осуждает «нигили-
стов». Не случаен, в частности, приведенный нами ранее
факт прекращения в 1857 г. Соловьевым сотрудничества
в «Современнике».
Соловьев не был активным политическим деятелем.
Но и в среде либералов он занимал правые позиции и
с течением времени стал тяготеть к консерваторам. Такой
своей идейно-политической эволюции не отрицал и сам
Соловьев, но в «Записках» он дает ей оправдывающее его
объяснение. Передавая мнение о себе окружающих, Соло-
вьев указывал, что при Николае I он считался либералом,
а при Александре II, «нисколько не меняясь», — консер-
ватором. Он хотел сказать этим, что менялась только
действительность, его окружавшая, но не он сам. Это,
конечно, неверно — заметно менялся сам Соловьев. Сви-
детельством этому являлось решительное осуждение им
возможной крестьянской революции в стране в том слу-
чае, если «крестьяне не будут долго сносить своего поло-
жения, станут сами отыскивать свободу, и тогда дело
может кончиться страшною революциею» (Записки,
с. 158—159), которой Соловьев боялся больше, чем реак-
ции. Не менее отрицательно отнесся он к студенческим
волнениям 1861 г., одобрил подавление польского вос-
стания 1863 г.
С течением времени Соловьев с консервативных пози-
ций все более разочаровывался в последствиях крестьян-
ской и других реформ 60-х годов. Они породили, по его
4 В. Е. Иллерицкий
49
мнению, идейные расхождения в среде интеллигенций,
студенческое движение, волнения в народе, «развраще-
ние» крестьянских масс, «судорожную промышленную
деятельность», «манию железнодорожную» (Записки,
с. 165). Если в свое время Соловьев склонен был счи-
тать реформы 60-х годов в России завершением преобра-
зований Петра I, то уже в начале 70-х годов он противо-
поставляет эти реформы петровским преобразованиям,
осуждает политику и личные качества Александра II как
реформатора. «Крайности — дело легкое, — писал Соло-
вьев, — легко было завинчивать при Николае, легко было
взять противоположное направление при Александре II;
но тормозить экипаж при этом судорожном спуске было
дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при пра-
вительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразо-
вания производятся успешно Петрами Великими; но беда,
если за них принимаются Людовики XVI-ые и Алек-
сандры П-ые. Преобразователь, вроде Петра Великого, при
самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке —
и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пу-
стят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их
не имеют, и потому экипажу предстоит гибель» (Записки,
с. 168). Словом, перед нами критика реформ 60-х годов
«справа», обвинение Александра II не только в слабости,
но и в том, что он будто бы в «реформировании» России
зашел слишком далеко...
Таким образом, в условиях пореформенной действи-
тельности Соловьев стал сторонником сильной и «мудрой»
монархической власти.
«Записки» Соловьева, правда, наполнены отрицатель-
ными характеристиками реакционных актов политики Ека-
терины II, Александра I и особенно Николая I3. В опреде-
ленной степени они свидетельствуют о либерализме Соло-
вьева. Но сам он полагал, что «Записки» носят настолько
радикальный характер, что завещал их потомкам, отнюдь
не намереваясь публиковать при жизни.
И действительно, когда в конце XIX в. были опублико-
ваны отрывки из «Записок», они привели в замешатель-
ство многих друзей Соловьева и его современников, кото-
рые никогда не подозревали, что столь благонамеренный
профессор, декан факультета, а затем ректор универси-
тета, преподаватель наследников престола, тайный совет-
ник и кавалер высших орденов может хоть в чем-либо
50
осуждать правительственную политику в прошлом и на-
стоящем. Так, например, П. И. Бартенев писал: «Этими
«Записками» Соловьев к прискорбию читателей оскорбил
себя» 4.
Оставляя в стороне вопрос об «оскорблении себя»,
нельзя не сказать об определенной двойственности Соло-
вьева: в своих «благонамеренных сочинениях — он один,
так сказать, «на виду» у современников; в «Записках» —
для потомков — другой. Так оно и было в действительно-
сти — Соловьев опасался даже своего умеренного либера-
лизма и был очень осторожен в своих опубликованных
работах. Но, кстати говоря, это особенность не только
Соловьева, но и подавляющего большинства русских либе-
ралов. Она была выражением двойственности буржуаз-
ного либерализма, проявлением бесхарактерности либе-
ралов и их холопства перед власть имущими 5.
Эти черты буржуазного либерализма в России были
порождены особенностями оформления и развития бур-
жуазии в России. Экономическая и политическая зависи-
мость от царизма, пугавший ее опыт революционной
борьбы народных масс в Западной Европе, нарастающая
опасность народной революции в России делали русскую
буржуазию значительно более умеренной в социальном и
политическом отношении силой, чем, например, француз-
ская конца XVIII в.
Но в то же время все эти особенности развития бур-
жуазии в России не исключали тем не менее ее оппози-
ционности по отношению к самодержавию и крепостниче-
ству в условиях русской дореформенной действительности,
к остаткам крепостничества в пореформенный период.
Таковы исторические корни умеренности буржуазного
либерализма в России.
Применительно к Соловьеву это не означает, что
у него как буржуазного либерала наблюдался полный
разрыв между политическими и историческими взгля-
дами, между его отношением к прошлому и современ-
ности, к науке и политике. Напротив, между ними было
своеобразное, хотя и не лишенное противоречий единство.
Тот факт, что Соловьев позволял себе в «Записках» неко-
торые либеральные «вольности» в осуждении крайних
проявлений реакционной политики русских самодерж-
цев, нашему выводу не противоречит. Он знал па своем
опыте нравы царской цензуры и не желал подвергать
4*
51
опасности запрета свои ученые труды, созданию которых
посвятил жизнь.
Что же касается взаимоотношений между историей и
современностью, между наукой и жизнью, то у Соловьева
имеются совершенно определенные высказывания по
этому поводу. В 1858 г., в одном из своих программных
произведений — «Исторические письма» * Соловьев писал:
«Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке;
наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но
польза от этого решения для жизни будет только тогда,
когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решать
дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и
беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь
не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже
составленное вследствие господства того или другого
взгляда; жизнь своими движениями и требованиями дол-
жна возбуждать науку, но не должна учить науку, а дол-
жна учиться у нее» 6.
В приведенных словах можно было бы усмотреть при-
знание Соловьевым приоритета науки над жизнью, если
бы мы не знали, что в них скрыт в определенной мере
протест ученого против вмешательства царских чиновни-
ков в науку, протест против инспирированных ими вос-
хвалений или намеренных умолчаний, антиисторических
параллелей. В действительности Соловьев, признавая
связь науки с жизнью, с современностью, тем самым
осознавал социальную функцию исторической науки и
разрешал этот сложный вопрос достаточно верно для
своего времени.
Соловьев полагал, что наука — имеется в виду истори-
ческая наука — только тогда может дать верный ответ
на вопросы жизни, современности, когда она является
действительно наукой о прошлом. В этом убеждает прежде
всего развитие представлений Соловьева о теоретических
основах исторической науки, его «философия истории»,
к анализу которой мы и приступаем. После того как мы
познакомились с основными этапами развития науч-
ной деятельности Соловьева, а также с социально-полити-
ческими основами его исторических воззрений, выполне-
ние такой задачи значительно упрощается.
♦ Соловьев С. М. Собр. соч. СПб., б. г. (далее в тексте — Соч.,
с указанием страниц).
52
Не следует забывать, что философия истории Соло-
вьева оформлялась под многообразными идейными влия-
ниями, отечественными и западноевропейскими, отноше-
ние к которым и мера их воздействия на Соловьева, само-
стоятельная их переработка ученым обусловливались
в решающей мере социальной позицией, х«тя, с другой
стороны, и сами эти влияния, конечно, способствовали
его социальному и идейному самоопределению.
Так, глубокий и все более возраставший интерес Соло-
вьева к русской истории как первооснова его становле-
ния в качестве ученого, конечно, имел национальные
истоки. Изучение «Истории государства Российского»
Карамзина, других исторических — научных и художест-
венных — произведений, посвященных отечественной ис-
тории, тот повышенный интерес к ней в России в юные
годы Соловьева, который был отзвуком патриотического
подъема, вызванного Отечественной войной. 1812 г., оп-
ределили духовную атмосферу, в которой возникли и
развивались патриотические чувства и Соловьева-гимна-
зиста, и Соловьева-студента. Влияние Карамзина, а затем
Погодина было влиянием официально-монархическим по
своему идейному существу. Но молодой Соловьев скоро
проникся критическим отношением к научному уровню
как труда Карамзина, так и лекций Погодина, еще, ко-
нечно, не осознавая до конца соотношения их идейного
существа с теоретическими принципами в воззрениях
того и другого. Напомним высказывание Соловьева в его
«Записках» о том, что Карамзин ударил лишь на его чув-
ства, а думать над историей заставил его Эверс. А работы
И. Г. Эверса уже знаменовали процесс оформления бур-
жуазных принципов в русской историографии — призна-
ния единых закономерностей в развитии России и Запад-
ной Европы, точно так же как и «скептическая школа»
М. Т. Каченовского, хотя ни тот ни другой субъективно
этого социального смысла своих воззрений отнюдь не
осознавали 7.
В том же направлении воздействовали на Соловьева-
студента идеи, западноевропейской философской и истори-
ческой мысли — Гегеля, французских историков периода
Реставрации, с которыми он знакомился в лекциях про-
фессоров нового поколения — Крюкова и Грановского,
в статьях передовых журналов своего времени — прежде
всего, конечно, «Отечественных записок», в которых печа-
53
тались отрывки из лучших произведений О. Тьерри
с предисловием А. И. Герцена и рецензии па эти произ-
ведения В. Г. Белинского 8.
В студенческие годы Соловьев знакомился, как мы
знаем, с трудами европейских мыслителей п в оригина-
лах, они закрепляли его убеждение в отсталости теорети-
ческих принципов предшествующей русской историогра-
фии и превосходстве в этом отношении ранее развившейся
западноевропейской буржуазной исторической мысли.
Не следует забывать о воздействии европейских впечатле-
ний на Соловьева в период пребывания его за границей
в 1842—1844 гг., лекций виднейших историков и других
ученых, той литературы, которой овладевал в эти годы
Соловьев. Эти влияния в социальном смысле были также
буржуазными, хотя субъективно это не осознавалось
Соловьевым. Но они, несомненно, способствовали его
идейному и социальному самоопределению, в частности,
его освобождению от свойственных ему ранее славяно-
фильских настроений.
Более того, со времени работы Соловьева над своими
диссертациями — магистерской и докторской — и связан-
ного с этим необходимого ознакомления с работами рус-
ских историков, начиная с В. Н. Татищева и кончая со-
временными, он убеждался в том, что русская историческая
мысль развивалась и достигла значительных успехов
благодаря знакомству ее виднейших представителей
с передовыми философско-историческими идеями европей-
ских мыслителей — в XVIII в. с идеями Вико, Вольтера,
Руссо, в XIX в. — с идеями Гегеля и французских исто-
риков периода Реставрации. Это убеждение еще более
укрепилось с начала работы Соловьева над его основным
трудом— «Историей России с древнейших времен», когда
выявилась неотложная потребность во всестороннем изу-
чении работ предшествующих русских историков, осо-
бенно тех из них, кто выступал авторами обобщающих
работ.
Мы уделим этому сюжету специальное внимание и
рассмотрим его более подробно. Сейчас отметим лишь не-
которые положения, необходимые для более полного ос-
вещения затронутого вопроса.
Соловьев, конечно, в своих увлечениях допускал неко-
торые крайности. Так, он недооценил оригинальность рус-
ских историков Татищева и Болтина, зрелость их исто-
54
рико-социологических обобщений, преувеличил роль йё-
мецких историков в формировании научных представле-
ний о русской истории. Явно недооценил Соловьев работы
Н. А. Полевого, их рациональное теоретическое содер-
жание.
Влияние западноевропейской философской и истори-
ческой мысли на самого Соловьева было значительным.
Это касается прежде всего философско-исторических прин-
ципов Гегеля с его признанием исторического процесса
закономерным, а самцх закономерностей — объектив-
ными, с его ведущей идеей исторического прогресса, ре-
шающей роли государства, признанием развития истории
как борьбы противоречивых начал.
Внимательное ознакомление с трудами французских
историков периода Реставрации способствовало закрепле-
нию и конкретизации представлений Соловьева об исто-
рическом процессе как закономерном, внутренне обуслов-
ленном и органическом, расширило его понимание пред-
мета исторического изучения и его задач. Соловьев
хорошо усвоил основные требования этих историков преодо-
леть узкие рамки политической истории и разрабатывать
«гражданскую историю» как многосторонний процесс об-
щественного развития. Он сам впоследствии (по существу
впервые в русской историографии) реализовал это требо-
вание применительно к истории России.
Философия истории Гегеля и теоретические принципы
французских историков периода Реставрации знамено-
вали собой высший взлет буржуазного историзма в Запад-
ной Европе9. Усвоение и творческая реализация этих
принципов в трудах Соловьева соответственно знамено-
вали собой вершину буржуазной исторической мысли
в России.
Увлечения Соловьева идеями западноевропейских мы-
слителей претерпели определенную эволюцию. Так, инте-
рес Соловьева к О. Тьерри, вызванный в основном бле-
стящей литературной формой его произведений, сменился
преобладающим интересом к трудам Ф. Гизо, авторитет
которого сохранялся у Соловьева до конца его жизни10.
Можно отметить и другой признак эволюции взглядов
Соловьева — с течением времени его стали интересовать
не ранние, более радикальные работы французских ис-
ториков периода Реставрации, а позднейшие, с более уме-
ренными выводами, что вполне соответствовало идейно-
55
Политической эволюции самого Соловьева. Кстати говоря,
о том же свидетельствует и тот факт, что идеи Гегеля
Соловьев всегда воспринимал в духе правого гегельянства,
отнюдь не придавая им радикального истолкования.
При всем этом было бы крайне ошибочно представлять
Соловьева как какого-то эклектика. Он был достаточно
крупным и самостоятельным мыслителем, чтобы твор-
чески перерабатывать воспринимаемые идеи как отече-
ственных, так и западноевропейских предшественников и
современников. Но несомненно, что эта переработка со-
вершалась в соответствии с социально-политическими
устремлениями Соловьева, с его идейной эволюцией.
Так, идею классовой борьбы как одну из важнейших
идей французских историков периода Реставрации Соло-
вьев не воспринял применительно к истории России. Не
применил он к России и их концепцию феодализма. Рав-
нодушным оказался Соловьев и к демократическим на-
строениям французского историка Мишле, как и немец-
кого историка Шлоссера. (Работы последнего высоко це-
нил К. Маркс, а в России такие современники Соловьева,
как Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов.) Эта осо-
бенность воззрений Соловьева более всего доказывала
идейно-политическую либерально-буржуазную ограничен-
ность Соловьева.
На протяжении всей жизни Соловьев внимательно
следил за развитием современной ему западноевропейской
философско-исторической мысли и историографии. Мы
уже отмечали, что Соловьев относился к числу самых эру-
дированных русских историков и отличался универсаль-
ностью познаний11. Так, есть основания полагать, что
Соловьев был знаком с теорией органического развития
Герберта Спенсера и эта теория, возможно, оказала на
него влияние 12. Но его совсем не увлекли идеи позити-
вистской социологии О. Конта, получившие распростране-
ние на Западе еще при жизни Соловьева.
Об устойчивости интересов Соловьева к теоретическим
проблемам исторической науки и их связях с жизнью,
современностью свидетельствует и тот факт, что в его
литературном наследстве сохранился цикл работ, под-
тверждающих этот вывод. К их числу относятся прежде
всего уже называвшиеся «Исторические письма» (1858),
которым он придавал даже программное значение. Важное
теоретическое значение имеет предисловие Соловьева
56
к I тому «Истории России...» (1851) и тем более первая
глава «Россия перед эпохою преобразований» XIII тома
«Истории России...» (1863). К циклу теоретических ра-
бот следует отнести и статью Соловьева «Начала русской
земли» (1877—1879), хотя здесь теоретические принципы
раскрываются на конкретном материале лишь древней
русской истории. Таков же цикл статей «Наблюдения над
исторической жизнью народов» (1868—1876); здесь Со-
ловьев пытался раскрыть закономерности всемирной исто-
рии. Этот цикл статей характеризует теоретические прин-
ципы Соловьева в познании истории в их итоговом выра-
жении. К сожалению, он не завершен и ограничивается
древней историей народов Азии и Европы. Следует на-
звать и статью Соловьева «Прогресс и религия», раскры-
вающую его представления о роли религии в историческом
прогрессе человечества.
Следует отметить, что деление произведений Соловьева
па теоретические и конкретно-исторические весьма ус-
ловно. Так, в его исключительно важной, интересной и
зрелой работе монографического типа «Публичные чтения
о Петре Великом» (1872), которая, казалось бы, посвя-
щена лишь конкретной проблеме истории России, в дей-
ствительности содержатся важнейшие теоретические
обобщения, касающиеся не только русской, но и европей-
ской истории. В этой же работе мы находим и отражение
идейно-политической эволюции Соловьева и соответ-
ственно эволюции его теоретических принципов в изуче-
нии истории. Точно такую же оценку мы должны дать и
главному труду Соловьева «Истории России с древнейших
времен».
Группа названных произведений дает возможность
достаточно полно раскрыть философско-исторические воз-
зрения Соловьева, определить его важнейшие теоретиче-
ские принципы в истолковании истории.
Принадлежность Соловьева к буржуазной историогра-
фии выявлялась прежде всего в новом, более глубоком и
разностороннем сравнительно с дворянской историогра-
фией, понимании истории в признании закономерности
исторического процесса.
Исторический процесс представлялся Соловьеву, как
буржуазному историку, прежде всего объективно обуслов-
ленным, в котором проявляются определенные закономер-
ности, ц действии которых реализуется важнейшая из
57
них — идея исторического прогресса, постепенного совер-
шенствования общественных отношений.
Соловьев решительно отвергал взгляд па историю как
на сборник анекдотов или ряд отрывочных биографий
выдающихся деятелей, якобы творящих своей волей исто-
рию и потому занимательных только для людей, пребы-
вающих в детском возрасте. Таковыми были, по его убеж-
дению, рационалистические представления дворянских
историков до Карамзина включительно *. Соловьев же
рассматривал историю как «науку народного самопозна-
ния», науку, призванную раскрывать последовательно
сменяющиеся этапы исторического развития каждого на-
рода и всего человечества, закономерности этого объек-
тивного процесса, независимые от воли отдельных лично-
стей.
Чтобы народное самопознание было более точным и
всесторонним, следует, по мнению Соловьева, изучать
историю каждого народа в связи с историей других на-
родов. Он писал о потребности «изучить историю всех
народов, сошедших с исторической сцены и продолжаю-
щих на ней действовать, изучать историю всего челове-
чества». Лишь при таком условии «история становится
наукой народного самопознания для целого человечества»
(Соч., с. 1117).
Такое понимание истории, конечно, сохраняло свою
идеалистическую основу, поскольку сводило историю
к развитию идей «цивилизации», «государственных форм»,
«правовых норм», «народного духа» — категорий идеали-
стических. Но это были категории объективного идеализма
в отличие от субъективного идеализма дворянских исто-
риков, придававших непомерно преувеличенное значение
фактору субъективному — деяниям выдающихся истори-
ческих личностей, власть имущим, преимущественно вен-
ценосцам.
Более того, в пределах идеалистического понимания
общественного развития Соловьев достаточно последова-
тельно раскрывал и обосновывал принцип историзма,
♦ Определения «дворянская историография», «буржуазная исто-
риография» принадлежат марксистской исторической науке,
субъективно они не были свойственны Соловьеву, не применя-
вшему классового критерия в определении воззрений того
или иного историка. Но объективно Соловьев различал истори-
ческие взгляды этих ученых цменно по такому принципу.
58
принцип последовательной смены этапов в историческом
развитии человечества и каждого народа в отдельности,
преемственность этих этапов; он стремился раскрыть
связь между различными историческими явлениями, со-
бытиями, фактами. Историзм являлся сильнейшей сторо-
ной научной концепции Соловьева. Этот принцип призна-
вался им одинаково приложимым и к всемирной, и к рус-
ской истории, но реализовался, конечно, в большей мере
па конкретном материале последней. В предисловии
к I тому «Истории России...»* Соловьев писал: «Не де-
лить, не дробить русскую историю на отдельные части,
периоды, но соединять их, следить преимущественно за
связью явлений, за непосредственным преемством форм,
не разделять начал, но рассматривать их во взаимодей-
ствии, стараться объяснить каждое явление из внутрен-
них причин, прежде чем выделить его из общей связи
событий и подчинить внешнему влиянию — вот обязан-
ность историка в настоящее время» (ИР, I, 55).
Эта классическая формула, во многом объясняющая
существо новой концепции русской истории, выработан-
ной Соловьевым, является вместе с тем едва ли не луч-
шей формулировкой принципа историзма, положенного
в основу всех трудов замечательного русского историка.
Историю человечества и каждого народа Соловьев
уподобляет развитию живого организма, считая, что от-
дельные народы развиваются органически, как все живое,
что они знают возрасты в своем развитии: возраст юно-
сти — возраст преобладания чувства, возраст зрелости,
мужества — возраст разума и, наконец, возраст старости,
упадка. Соловьев заявлял: «История показывает нам, что
все органическое, к которому принадлежат народы и це-
лое человечество, проходит одинаково через известные ви-
доизменения бытия, родится, растет, дряхлеет, умирает»
(Соч., с. 955); «Народы живут, развиваются по известным
законам, проходят известные возрасты, как отдельные
лица, как все живое, все органическое» (Соч., с. 970).
Эта теория органического развития, разработанная Со-
ловьевым, как мы уже отмечали, возможно, при воздейст-
вии идей Спенсера, является теорией исторического про-
* Соловьев С, М. История России с древнейших времен. (Далее
в тексте сокращенно цитируется советское издание труда Со-
ловьева — ИР, книга — римской цифрой, страница — арабской.)
59
гресса, понимаемого, естественно, с идеалистических по-
зиций. Именно эта теория обосновывает не только необ-
ходимость для историка прослеживать поступательное
развитие каждого народа до наступления «возраста ста-
рости», но и раскрывает внутреннюю обусловленность ис-
торического прогресса, решающее значение внутренних
его закономерностей.
Источником исторического прогресса Соловьев вслед за
Гегелем считал борьбу противоречивых начал, как общих
для народов, так и своеобразных, объясняющих у каждого
из них национальные особенности исторического процесса.
Конкретные представления Соловьева по этим вопросам
будет более уместно охарактеризовать при оценке его
взглядов на ход русской истории.
Перед нами общая теория исторического развития че-
ловечества и составляющих его народов. В трудах Со-
ловьева воплотились высшие достижения буржуазного ис-
торизма — это несомненно. Но в этой теории выражалась
идеалистическая сущность философско-исторических воз-
зрений Соловьева и их классовая, буржуазная ограничен-
ность. Его теория исторического прогресса прежде всего
страдает эволюционизмом. Соловьев не мог отрицать на-
личия реальных, общественных противоречий, но он
решительно отвергал правомерность такого их столкнове-
ния, которое могло бы привести к общественным потря-
сениям, к революции. Он отвергает правомерность классо-
вой борьбы, скачкообразного, революционного обществен-
ного развития. По убеждению Соловьева, «народы в своей
истории не делают прыжков» (Соч., с. 1108), а если они
все же происходили в истории, то Соловьев, знаток новей-
шей истории Европы и современник революционных по-
трясений на Западе, находил выход в том, что признавал
революции нарушением нормального хода истории, ее «бо-
лезненными припадками». В конце жизни Соловьев писал:
«Перемены в правительственных формах должны исхо-
дить от самих правительств, а не должны вымогаться
народами у правительства путем возмущения!» (Соч.,
с. 678).
В этих представлениях буржуазного либерала обнару-
живалась его боязнь революционных преобразований,
осуществляемых «снизу», борьбой народных масс за свои
интересы. Характерно, например, в этом случае противо-
поставление Соловьевым петровских преобразований
в России как образца удачных реформ «сверху» и доказа-
тельства «нормального прогресса» — французской револю-
ции конца XVIII в. как примера нарушения нормального
исторического развития, примера «болезненного при-
падка», по выражению Соловьева.
Наряду с действием общих для всех народов истори-
ческих законов, таких, как прохождение единых этапов
развития — возрастов «юности», «зрелости», «старости»,
в истории каждого народа проявляются, по убеждению
Соловьева, частные закономерности, зависящие от опреде-
ленных объективных условий. Соловьев так формулиро-
вал свое понимание данного вопроса: «Три условия имеют
особенное влияние на жизнь народа: природа страны, где
он живет; природа племени, к которому он принадлежит;
ход внешних событий,-влияния, идущие от народов, кото-
рые его окружают» (Соч., с. 761).
Действие втих трех важнейших факторов историче-
ского развития народов Соловьев конкретно раскрыл в своих
трудах, посвященных истории России, но рассматривае-
мое положение имеет у него более общее значение как
одно из важнейших слагаемых его исторической теории,
необходимой для освещения истории каждого отдельного
народа.
Проблема значения природы страны, роли географи-
ческого фактора была в период деятельности Соловьева
не новой ни для западноевропейской историографии, ни для
русской. Более пристальное внимание Соловьева к дан-
ному условию исторического развития было определено,
очевидно, лекциями географа Риттера, которые он слу-
шал в молодости в Берлине, а затем изучением трудов
этого выдающегося ученого 13.
Заслуга Соловьева заключалась не в простом призна-
нии значения географической среды, а в том, что влияние
географического фактора осмысливалось в сочетании
с другими факторами; действие их рассматривалось исто-
риком во взаимосвязи.
Признание значения географической среды, «природы
страны» как объективного фактора было в свое время по-
ложительным моментом, оно обогащало буржуазную исто-
риографию, расширяя ее предмет. При всем этом важно
подчеркнуть, что Соловьев не упрощал решения рассмат-
риваемого сложного вопроса, не сводил его лишь к непо-
средственному воздействию природы на человека. Он вво-
61
Дил в понимание «природы страны» как исходйого исто-
рического фактора экономическую деятельность людей —
занятия народных масс. Соловьев рассматривал этот воп-
рос конкретно также на примере истории России, но его
выводы имеют общее теоретическое значение: «Однообра-
зие природных форм, — писал Соловьев, — ведет население
к однообразным занятиям: однообразие занятий произво-
дит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинако-
вость нравов, обычаев и верований исключает враждебные
столкновения; одинаковые потребности указывают на
одинаковые средства к их удовлетворению, и равнина,
как бы ни была обширна, как бы ни было разноплеменно
ее население, рано или поздно станет областью одного го-
сударства» (ИР, VII, 38).
Следовательно, по мнению Соловьева, природа страны
через занятия народных масс воздействует на их психоло-
гию и через нее даже на формы государственности. Более
того, Соловьев отмечал, что воздействие природы, геогра-
фической среды изменяется по мере роста производитель-
ных сил народа, получающего возможность преодолевать
ее влияние.
Перед нами довольно сложная схема, в определенной
мере отражающая действительные исторические связи. Ко-
нечно, было бы преувеличением усматривать в подобных
рассуждениях Соловьева элементы исторического матери-
ализма. Но мы не откажем Соловьеву в элементах истори-
ческого реализма, которые не учитывались не только его
современниками, но не всегда и советскими историками.
Однако эти элементы, конечно, не преодолевали коренных
идеалистических основ исторических воззрений Соловьева.
Не менее сложно содержание другого объективного ус-
ловия исторического процесса в представлении Соловь-
ева— «природы племени». В признании этого фактора
также выразилось превосходство буржуазной историогра-
фии над дворянской, ограничивавшейся политической ис-
торией. Самая постановка вопроса о «природе племени» —
порождение новой, буржуазной эпохи с характерной для
нее борьбой народов за самостоятельное национальное
развитие.
Но в раскрытии содержания понятия «природа пле-
мени» у Соловьева причудливо сочеталось признание ре-
альных особенностей развития отдельных народов, их на-
циональных черт, обусловленных в значительной мере
62
предшествующим фактором—«природой страны», с раз-
личными идеалистическими наслоениями.
Реальное содержание рассматриваемого фактора за-
ключалось в учете действительно происходившего дли-
тельного процесса исторического формирования современ-
ных народов в результате скрещивания различных этни-
ческих групп. Каждый сформировавшийся народ — это
несомненно результат длительного исторического разви-
тия, как несомненны и определенные его национальные
особенности. Но когда вслед за этим народы начинают
разделяться на «исторические» и «неисторические», когда
«исторические» народы выступают как носители опреде-
ленной идеи, в которой якобы выражается их «народный
дух» как отражение той или иной стадии развития «абсо-
лютной идеи», то перед нами выступают именно те идеа-
листические наслоения, которые свидетельствуют о бур-
жуазной ограниченности философско-исторических пред-
ставлений Соловьева, о сложности тех влияний, ко-
торые он испытывал в процессе выработки своей истори-
ческой концепции. Здесь и влияние Гегеля, признава-
вшего деление народов, на «исторические» и «неистори-
ческие» с тем различием, однако, что к первым Соловьев
отнес и славян, чего не делал Гегель. Здесь и влияние
Шеллинга и шеллингианских представлений славянофи-
лов о «народном духе» и национальных особенностях,
которые будто бы предопределяют историческое развитие
каждого народа, здесь и националистическое возвеличе-
ние русского народа. В конечном же счете для Соловьева
«народ», «национальность» остались этнографическими
понятиями, лишенными социального содержания. В таком
смысле он и оперирует этими понятиями в своих истори-
ческих построениях.
Следует, однако, подчеркнуть, что националистические
черты в воззрениях Соловьева не перерастали у него в шо-
винистическую ненависть к другим народам. Давая оценку
взглядам одного из немецких историков — В. Риля, Со-
ловьев с осуждением писал о свойственной последнему
«мелкой, недостойной великого парода вражде, зависти
к другим пародам» (Соч., с. 864).
Важное значение придавал Соловьев третьему объек-
гивному фактору исторического развития — «ходу внеш-
тих событий». Но в истолковании того содержания, кото-
рое вносил Соловьев в данное понятие, нет единства среди
63
ученых, изучавших наследство этого историка. Большин-
ство из них усматривают в этом факторе лишь влияние на
тот или иной народ других народов, с которыми изучае-
мый народ когда-либо и в той или иной форме соприка-
сался. Н. Л. Рубинштейн предложил другое, более слож-
ное истолкование данного фактора: «Это вся живая ткань
исторической жизни в ее нераздельной целостности»,
опорная база «против одностороннего подчинения истори-
ческого развития воздействию внешних абстрактных при-
чин» 14 или выражение этого развития в конкретных исто-
рических событиях. Эта несколько усложненная трак-
товка может быть принята, но сам Соловьев, как правило,
прослеживал именно взаимодействие народов и видел
в этом выражение «хода внешних событий».
Названные факторы тем не менее при всем их значе-
нии как факторов объективных не могли раскрыть меха-
низма общественного развития, обусловливающего исто-
рический прогресс. Для того чтобы решить эту задачу,
современные для Соловьева западноевропейские историки,
особенно такие авторитетные для него, как Ф. Гизо и
О. Тьерри, придавали важное значение борьбе сословий,
борьбе классов и усматривали в ней движущую силу ис-
торического прогресса. Такой вывод был серьезным дости-
жением буржуазной историографии, хотя ее представители
и не могли дать научного определения класса. Тем не ме-
нее К. Маркс с полным основанием называл С. Тьерри
«отцом теории классовой борьбы» 15.
Во многом солидаризировавшийся с названными исто-
риками Соловьев полагал, что они совершенно правы
в объяснении истории французского и других народов За-
падной Европы, испытавших на заре своей истории заво-
евания, которые, по мнению Гизо и Тьерри, и положили
начало классовому расслоению у этих пародов. Но по-
скольку в России, тоже знавшей завоевание, по убежде-
нию Соловьева, не сложилось условий для возникновения
классов, то она не могла знать и классовой борьбы. Такой
вывод, неверный, конечно, в самой своей основе, не только
не свидетельствовал о глубине представлений Соловьева
об историческом процессе, но и еще раз подчеркивал ли-
берально-буржуазную ограниченность его политических
воззрений.
Более того, в интерпретации Соловьевым рассматрива-
емого вопроса также содержались противоречия. Во-пер-
64
вых, отрицая классы и классовую борьбу в России, Со-
ловьев противопоставлял ее историю истории западноев-
ропейских народов, нарушая тем самым им же признава-
емый принцип единства основных закономерностей исто-
рического процесса, и, во-вторых, придавал решающее
значение в истории России государственной организации,
которая якобы сама, «сверху» создавала сословия в Рос-
сии и затем регулировала взаимоотношения между ними.
В таком всесилии государства, по убеждению Соловьева,
также проявлялась одна из коренных особенностей исто-
рического развития России. Кстати говоря, в решении
столь принципиальных вопросов и выражалась солидар-
ность Соловьева с убеждениями представителей государ-
ственной школы в русской историографии.
Но если Россия не знала классовой борьбы как движу-
щей силы ее истории, то она знала, полагал Соловьев,
верный диалектическому принципу Гегеля, борьбу иных,
специфических для нее противоречий. Это — борьба ста-
рых и новых общественных отношений — родовых и
государственных, «старых» и «новых» городов, борьба
«леса со степью», т. е. оседлых народов с кочевыми,
борьба европейских начал цивилизации с отсталостью,
невежеством, отжившими нравственными принципами
и т. п. На этих вопросах мы подробнее остановимся при
специальном рассмотрении проблем истории России.
Особенно важное значение для Соловьева имело при-
знание борьбы новых, государственных отношений со ста-
рыми — родовыми. Соловьев признавал утверждение проч-
ной государственной организации в качестве длительного
процесса, занимающего не одно столетие в истории Рос-
сии. Это отличало Соловьева как буржуазного историка
от его дворянских предшественников, по мысли которых
государственная организация возникала на заре русской
истории, в результате прихода варягов.
Но с тех пор как прочная государственная организа-
ция оформилась в России (по убеждению Соловьева в се-
редине XVI в., в царствование Ивана Грозного), она ста-
новится всеопределяющей в истории страны. Проблема
роли государства выдвигается Соловьевым на первый план.
Эта проблема имела для Соловьева отнюдь не только
российское, а всеобщее значение для понимания хода все-
мирной истории, так как он считал, что у всех народов
рано или поздно, в своеобразных национальных условиях,
5 В. Е. Иллерицкий
65
но неизменно утверждается сильная государственная
власть и становится решающей силой их исторического
развития. Государство является, полагал Соловьев вслед
за Гегелем, высшим достижением общественного развития,
высшим этапом в истории каждого народа: «Государство
есть необходимая форма для народа, который немыслим
без государства», — утверждал Соловьев (Соч., с. 1126).
Поэтому история государственной деятельности должна
находиться в центре внимания историков.
Конечно, представления о государстве у буржуазных
историков были более сложными и многосторонними, чем
у дворянских историков. Они не сводились к деяниям вен-
ценосцев и выдающихся деятелей, т. е. только к политиче-
ской истории, а включали организацию и деятельность
государственных учреждений, развитие юридических норм.
Буржуазные историки, выходя за пределы политической
истории, занимались гражданскими отношениями, изучали
быт и нравы народа, развитие культуры, даже стремились
в доступных им пределах определить зависимость госу-
дарственной организации от общественных отношений на
определенной стадии их развития. Они пытались выяс-
нить отношения между государством и народом, государ-
ством и деятельностью личностей. Все сказанное отно-
сится и к Соловьеву. Он рассматривал государство не
только как главную движущую силу общественного раз-
вития, но и как внеклассовую организацию, заботящуюся
о благе всех сословий и классов, о «благе народа», регу-
лирующую мирный ход общественного развития рефор-
мами, проводимыми «сверху».
Подобные представления в свете марксистско-ленин-
ской теории, конечно, совершенно несостоятельны. Но сле-
дует отметить, что либеральные историки, представляя
самодержавие в России властью надклассовой, внепартий-
ной, лишали его дворянской основы и тем отличались от
официальпо-мопархических историков.
Но поскольку у буржуазных историков деятельность
государства выступала в качестве решающей силы исто-
рии, политическая история, деятельность правительства и
правящих лиц и у них, по существу, оставалась на первом
плане. Так, Соловьев в последние годы своей жизни,
как бы подводя итоги своим теоретическим изысканиям
в объяснении истории, писал: «Подробности, анекдоты
о государях, о дворах, известия о том, что было ска-
66
зано одним министром, что думал другой, сохраняют свою
важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зави-
сит судьба целого народа и очень часто судьба многих на-
родов» (Соч.,с. 1123). «История, — утверждал Соловьев,—
имеет дело только с тем, что движется... действует, заяв-
ляет о себе, и потому истории нет возможности иметь дело
с народными массами, она имеет дело только с представи-
телями народа» (Соч., с. 1123). «Представители народа»,
в понимании Соловьева, — это вожди, направляющие дви-
жение. Следовательно, народные массы — сила консерва-
тивная и инертная, они пе могут быть субъектом истории,
а являются ее объектом. Более того, деятельность народ-
ных масс в истории, оказывается, по мнению Соловьева,
может быть изучена преимущественно через деятельность
правительственных лиц: историк «должен изучать дея-
тельность правительственных лиц, ибо в ней находится
самый лучший, самый богатый материал для изучения на-
родной жизни» (Соч., с. 1124).
Тем самым столь важная проблема о роли народных
масс идеалистически искажалась и крайне ограничивалась
в своем истинном значении. Напротив, роль выдающихся
деятелей буржуазными историками неправомерно преуве-
личивалась. И хотя Соловьев заявлял, что «почва для ис-
тории великого человека есть история народа» (Соч.,
с. 975), что «великий человек дает свой труд, но вели-
чина, успех труда зависит от народного капитала, от того,
что скопил народ от своей предшествовавшей жизни,
предшествовавшей работы» (Соч., с. 971), эти утвержде-
ния носили в значительной мере декларативный характер,
поскольку активная, творческая роль в истории, значение
ее субъекта отводилось Соловьевым именно историческим
деятелям, и среди них прежде всего венценосцам, монар-
хам и их окружению.
В исторической концепции Соловьева, в его теоретиче-
ских принципах истолкования исторического процесса,
как и у французских историков периода Реставрации, со-
держались и некоторые материалистические догадки, хотя
выражены были они у него слабее. Это касается, напри-
мер, признания определенного значения в истории эконо-
мических факторов. В «Истории России...» и ряде других
работ Соловьев высказывает интересные суждения, дока-
зывающие признание им роли экономики в истории (Соч.,
с. 995, 1034, 1065, 1109), приводит данные о развитии
5*
67
промышленности в нашей стране, даже обращает внима-
ние на специализацию ее видов, но преобладающее зна-
чение придает торговле — внутренней, а в XVIII в. и
внешней. При всем этом, однако, успехи развития эконо-
мики, промышленности и торговли Соловьев ставит в за-
висимость от государства, от правительственной политики,
от интересов государственной казны. Тем не менее при-
знание роли экономики в общественной жизни даже в та-
кой форме было прогрессивным моментом для русской
буржуазной историографии середины прошлого века.
Передовые черты исторических воззрений Соловьева —
признание объективных исторических закономерностей,
защита и обоснование идеи исторического прогресса, ука-
зание на объективные факторы, определяющие историче-
ский процесс, стремление преодолеть узкие рамки полити-
ческой истории, интерес к истории гражданской, истори-
ческий реализм и даже отдельные материалистические до-
гадки в объяснении истории — все это возвышало теорети-
ческие принципы Соловьева в объяснении исторического
процесса не только над взглядами дворянских историков,
но в значительной мере и его предшественников —
И. Г. Эверса, М. Т. Каченовского, Н. А. Полевого,
к. д. Кавелина, в воззрениях которых уже отразились
принципы буржуазной историографии.
В отличие от предшественников Соловьева его концеп-
ция уже представляла собой цельную и стройную систему
взглядов, была высшим достижением буржуазной истори-
ографии в России. И в той мере, в какой буржуазные со-
циально-экономические отношения в нашей стране, осо-
бенно в пореформенный период, были прогрессивными,
в той же мере была прогрессивна буржуазная историогра-
фия, крупнейшим представителем которой являлся Со-
ловьев.
При всем этом буржуазная историография сохраняла
свою идеалистическую основу и классовую ограниченность,
свои противоречивые черты, выразившиеся и в теоретиче-
ских принципах Соловьева. Эволюционизм в понимании
общественного развития как выражение буржуазного ли-
берализма с его установкой на реформы «сверху», об-
условленное этим решительное отрицание правомерности
революционных преобразований, крайнее преувеличение
роли государства в истории и деятельности «правитель-
ственных лиц», непонимание истинной роли народных
68
масс в истории, осуждение народных движении, полити-
ческой активности народа дополнялись у Соловьева реци-
дивами славянофильства, явно выраженными идеалисти-
ческими представлениями, роднившими его с дворянскими
историками. К их числу относилось признание им важ-
нейшего прогрессивного значения христианской религии,
преувеличенной роли церкви в исторических судьбах Рос-
сии, роли нравственных принципов христианства в про-
грессе человечества. Религия для Соловьева — одна из
важнейших основ общества и государства. Эти суждения
мы находим во многих произведениях Соловьева, но кон-
центрированно они выражены в статье «Прогресс и ре-
лигия» (1868). Здесь Соловьев писал: «Прогресс освяща-
ется христианством и противоречить ему не может...
К чему... нужны были бы законные гарантии, ограни-
чения власти, если бы все, владеющие и подчиненные,
любили друг друга, как самих себя? Христианство, по-
ставив такое высокое нравственное требование, которому
человечество по слабости своих средств удовлетворить не
может, — а если бы удовлетворило, то упразднились бы
изменения форм и прогресс — христианство, по тому са-
мому, есть религия вечная» (Соч., с. 957). Не случайно
в этой же статье Соловьев противопоставил христианство
материализму и социализму, писал о нелепости социали-
стических идей, в чем выражались уже реакционные
черты его воззрений.
Таким образом, у Соловьева при всех сильных сторо-
нах и положительных особенностях его теоретических
принципов в истолковании исторического процесса пони-
мание истории все же оставалось еще довольно узким и,
главное, идеалистическим. Он, как и все буржуазные исто-
рики того времени, не смог раскрыть действительных за-
конов истории.
В. И. Ленин, отдавая должное достижениям буржу-
азных ученых и их специальным трудам, вместе с тем
с полным основанием отмечал две основные теоретико-
методологические черты ограниченности в их понимании
исторического процесса: «Во-1-х, они в лучшем случае
рассматривали лишь идейные мотивы исторической дея-
тельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти
мотивы, не улавливая объективной закономерности в раз-
витии системы общественных отношений, не усматривая
корней этих отношений в степени развития материального
69
производства; во-2-х, прежние теории не охватывали как
раз действий масс населения».. .16.
Это глубокое ленинское обобщение вполне применимо
к анализу научного творчества Соловьева.
Подлинно научная оценка понимания Соловьевым
исторического процесса необходима не только с наших
марксистских позиций, на основе принципов партийности
и историзма. Она важна и в специально-историографиче-
ском плане для определения места Соловьева в развитии
исторической мысли в России, его заслуг, сильных сторон
его исторической концепции, а также черт классовой и
научной ограниченности. Напомним, что, переоценив
сильные стороны воззрений Соловьева сравнительно
с дворянскими историками, Н. Л. Рубинштейн в свое
время не избежал их идеализации, представив историче-
скую концепцию этого буржуазного историка в качестве
высшего достижения всей русской исторической мысли
середины XIX в. В такой переоценке сыграло роль не
только недостаточно последовательное применение мар-
ксистских принципов исследования к оценке историогра-
фических явлений, но также и недостаточно полное изу-
чение тогда исторической мысли в России середины
прошлого века — изучение ее «левого фланга» — револю-
ционной и демократической мысли.
В действительности же именно революционная и демо-
кратическая мысль знаменовала высшие достижения
в разработке теоретических проблем исторической науки
в России своего времени.
Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен,
Н. П. Огарев, Н. В. Шелгунов последовательнее бур-
жуазных историков разрешали эти проблемы и делали
это с революционных позиций, в их воззрениях значи-
тельно определеннее выражались материалистические
тенденции в понимании истории, хотя и им не удалось
полностью порвать с идеализмом в этой области.
Признание исторического прогресса и его объективных
закономерностей, противоречивого характера историче-
ского процесса у идеологов революционной демократии
сочеталось с убеждением в необходимости революцион-
ных преобразований. Важнейшую творческую силу исто-
рии они усматривали в народных массах, уделяли основ-
ное внимание революционным и переломным периодам
в истории человечества.
70
Новые идеи революционеров-демократов, более содер-
жательные и глубже раскрывающие закономерности исто-
рического процесса, не только объективно противостояли
идеям буржуазных историков, в том числе идеям Со-
ловьева, но и закреплялись произведениями идеологов
русской демократии в сознании передовых современников.
Однако Чернышевский, виднейший идеолог русской
революционной демократии, при всех отмеченных особен-
ностях исторических взглядов, свойственных его едино-
мышленникам, признавал научные заслуги Соловьева,
отмечал положительные стороны тех его исторических
трудов, на которые он писал рецензии, например IV тома
«Истории России с древнейших времен», хотя и понимал
социально ограниченный характер политических и исто-
рических воззрений этого историка и потому указывал и
на слабые стороны его работ.
Более развернутой критике в условиях подъема демо-
кратического движения в России последователи Черны-
шевского Г. 3. Елисеев и Н. В. Шелгунов подвергли
конкретные работы Соловьева, в частности VII—VIII и
XIII тома «Истории России с древнейших времен». По-
следний даже дал характерное название своей рецензии
на труд Соловьева—«Ученая односторонность». В этих
рецензиях справедливо указывалось на то, что Соловьев
изучал преимущественно историю политическую, деятель-
ность государства, игнорируя народные массы и осуждая
народные движения, хотя и названные демократические
деятели не сомневались в бесспорных научных заслугах
этого крупного историка 17.
Следовательно, только при учете высших для своего
времени в условиях России достижений революционно-
демократической мысли в истолковании истории может
быть правильно оценена мера заслуг и достижений Со-
ловьева, а также слабые стороны его исторических воз-
зрений, многие из которых были ясны уже его демокра-
тически настроенным современникам.
Теоретические проблемы, разработкой которых зани-
мался Соловьев, не ограничивались охарактеризованными
нами закономерностями исторического процесса. К их
числу, несомненно, относились и вопросы историографии.
Без оценки понимания этих вопросов Соловьевым пред-
71
ставление о теоретических основах его исторической кон-
цепции было бы неполным.
Соловьев прекрасно понимал, что плодотворное изу-
чение истории в его время возможно только на основе
учета достижений предшествовавшего развития истори-
ческой науки и ее современного состояния. Это касалось
и западноевропейской историографии, влияние которой
на Соловьева нами уже отмечалось, и в особенности рус-
ской историографии, поскольку для Соловьева специаль-
ной областью исследования являлась именно история
России.
Такое понимание значения изучения русской историо-
графии Соловьевым подтверждается тем, что ее вопросам
Соловьев посвятил самостоятельный цикл статей и, по
нашему убеждению, ему принадлежит заслуга основопо-
ложника русской историографии как самостоятельной
исторической дисциплины. Эти статьи таковы: «Г. Ф. Мил-
лер» (1854), «Писатели русской истории XVIII века»
(1855), «Н. М. Карамзин и его «История государства
Российского» (1853—1856), «М. Т. Каченовский» (1855),
«А. Л. Шлецер» (1856), «Шлецер и антиисторическое
направление» (1857). Все эти статьи были напечатаны
в журналах и изданиях Московского университета 18.
Таким образом, внимание Соловьева привлек широкий
круг вопросов русской историографии XVIII—первой
половины XIX в. Более того, в освещении деятельности
большинства из них он оказался пионером. Если же
учесть, что до Соловьева историография по существу еще
не отпочковалась от источниковедения и сам он некото-
рые исторические работы, относящиеся к периоду до
XVIII в., охарактеризовал в тех разделах соответствую-
щих томов «Истории России с древнейших времен», ко-
торые посвящались внутреннему состоянию русского об-
щества при оценке культуры и просвещения различных
периодов, то перед нами в освещении Соловьева предста-
нет достаточно систематическая картина развития исто-
рических знаний в России с древнейших времен и до
середины XIX в.
Самый рубеж в истории исторических знаний в Рос-
сии, открытый XVIII в. и ставший предметом специаль-
ной разработки Соловьевым, избран им достаточно обосно-
ванно — это период превращения исторических знаний
в пауку.
72
Прежде чем давать оценку историографическим рабо-
там Соловьева по существу, укажем на те побудительные
мотивы, которые объясняют специальную разработку им
вопросов русской историографии.
Некоторые критики первых томов «Истории Рос-
сии. ..» упрекали Соловьева в том, что он не определил
в своем труде собственного отношения к предшествен-
никам. Иные из этих критиков даже усматривали в этом
проявление неуважения автора к своим учителям.
Упреки эти, конечно, совершенно несостоятельны. На-
против, Соловьев прекрасно понимал, что, приступая
к изданию нового обобщающего труда по русской исто-
рии, необходимо внимательно изучить предшествующее
развитие русской исторической науки, труды историков
XVIII—XIX вв., определить к ним свое отношение, с тем
чтобы знать, на что и в какой мере можно в них опереться
и что отвергнуть как устаревшее или несостоятельное.
Но, возможно, к 1851 г. — началу издания «Истории Рос-
сии. ..» — Соловьев еще не завершил своей работы. Воз-
можно, он опасался, что историографический материал
перегрузит и без того сложную структуру труда и тем
самым затруднит его изучение. Можно также предпо-
лагать, что после публикации своих историографических
работ Соловьев уже считал, что он выполнил свою задачу,
особенно для специалистов, поскольку разработка исто-
риографических сюжетов имела самостоятельное значе-
ние. Мы выдвигаем эти предположения потому, что сам
Соловьев, к сожалению, пе высказал своих суждений по
этому вопросу.
Ни в дореволюционной, ни в советской литературе
историографические работы Соловьева не являлись
предметом специального изучения. О них говорилось
мимоходом, преимущественно в порядке библиографиче-
ских справок для более полного освещения научного твор-
чества выдающегося историка, для подтверждения много-
гранности и широты его исторических интересов и эру-
диции. Впервые попытка краткой оценки столь важной
стороны научной деятельности Соловьева была предпри-
нята нами19. В настоящее время этот по необходимости
краткий очерк, включенный в обобщающий труд, необхо-
димо дополнить.
Цикл историографических работ Соловьева отличался
значительной полнотой и существенными научными до-
73
стоинствами. Его историографические представления на-
ходились в органической связи с общей концепцией
истории России. И там и здесь Соловьев стремился уста-
новить преемственность явлений, влияние предшествую-
щих на последующие, определить закономерности их
развития. В историографических работах Соловьева
умело отобраны важнейшие явления, раскрывающие по-
следовательный рост и обогащение исторической науки
в России, ее теоретических принципов и источниковедче-
ской основы. Многие из них впервые стали предметом
историографического изучения, другие же получили бо-
лее верную и глубокую оценку сравнительно с предше-
ствующими упоминаниями о них в исторической лите-
ратуре.
Так, уже в обширной статье «Писатели русской исто-
рии XVIII века» была разносторонне оценена деятель-
ность А. Манкиева, В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова,
В. К. Тредиаковского, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина,
Ф. А. Эмина, И. П. Елагина, митрополита Платона.
В этой работе Соловьев впервые выяснил вопрос об ав-
торстве «Ядра российской истории», доказав, что напи-
сано оно было Манкиевым, а не князем Хилковым, как
ошибочно полагали историки со времен Миллера. Соловьев
произвел сравнение «Ядра...» с Синопсисом, указал на
новые черты и особенности «Ядра.. .», его превосходство
над Синопсисом, доказав тем самым движение историче-
ской мысли в России XVIII в. сравнительно с веком пред-
шествующим. Кстати, такое сравнение и экскурс в исто-
рию исторических знаний в России XVII в. свидетель-
ствуют о том, что их характеристика была начата Соловье-
вым по существу уже с XVII в., хотя и в очень эпизоди-
ческой форме.
Соловьев более правильно, чем его предшественники,
оценил научные заслуги В. Н. Татищева, впервые под-
робно осветил содержание его «Истории России с самых
древнейших времен», отметил ее важное значение для
своего времени. Но Соловьев допустил и недооценку зна-
чения научной деятельности Татищева, его глубоких
-суждений рационалистического характера о значении
изучения истории, ее периодизации и других теоретиче-
ских вопросов, возвышавших труд Татищева над летопи-
сями. Его «Историю..'.» Соловьев рассматривал не
в качестве исторического труда, а как летописный свод
74
XVIII в., а потому даже полагал, что труд неверно на-
зван (Соч., с. 1346). Самого Татищева он соответственно
оценивал только как собирателя исторических материалов,
сведенных воедино в труде, снижая тем самым действи-
тельный уровень развития исторической науки в России
в первой половине XVIII в.
Такая крайность в значительной мере объясняется
тем, что статья Соловьева «Писатели русской истории»,
как, впрочем, и все его историографические работы, была
написана в период острой борьбы между западниками и
славянофилами. В противоположность последним, подчас
непомерно возвеличивавшим заслуги русских историков
только по признаку их национальной принадлежности и
принижавшим значение немецких историков, западники
в пылу полемики зачастую принижали значение русских
историков и непомерно преувеличивали заслуги немец-
ких, полагая, что именно последние разработали теорети-
ческие основы русской исторической науки.
Это сказалось прежде всего в оценке исторических
взглядов М. В. Ломоносова. При общем уважительном
отношении Соловьева к великому русскому ученому он
явно недооценил значение его трудов по русской истории,
отнеся Ломоносова к основоположникам риторического
направления в русской историографии. Правда, Соловьев
не отказывал Ломоносову в разработке отдельных вопро-
сов русской истории в первой части его «Древней рос-
сийской истории» и даже полагал, что некоторые его вы-
воды русская историческая наука «повторяет почти слово
в слово в наше время» (Соч., с. 1351). Заключение же
Соловьева о том, что «могучий талант Ломоносова ока-
зался недостаточным при занятии русской историей» со-
вершенно несостоятелен.
Соловьев отметил научные заслуги М. М. Щербатова
и значение его обобщающего труда для русской историо-
графии, в особенности для Н. М. Карамзина, в значитель-
ной мере опиравшегося на материалы, введенные в науку
Щербатовым, и на его общую концепцию русской исто-
рии. По мнению Соловьева, «Щербатов не ученый, он за-
нимается историей как любитель; но он занимается
историей для истории, сознает или, чтобы не сказать
много, предчувствует в истории науку» (Соч., с. 1361).
Соловьев, однако, не дал определения социального суще-
ства воззрений ни Щербатова, ни других историков в Рос-
73
сии, о которых он писал. Вместе с тем Соловьев указал,
что во многом справедливая критика труда Щербатова
И. Н. Болтиным все же содержала и полемические пре-
увеличения, и некоторую односторонность.
Самого И. Н. Болтина Соловьев считал наиболее та-
лантливым русским историком XVIII в. и выдающимся
критиком. Тем не менее и его успехи в разработке теории
русской истории оказались в статье приниженными срав-
нительно с заслугами А. Л. Шлецера.
В рассматриваемой статье Соловьев подверг острой и
обоснованной критике взгляды В. К. Тредиаковского,
Ф. А. Эмина, И. П. Елагина как типичных представите-
лей «риторического направления», которые не только
стремились приукрасить русскую историю звонкими фра-
зами и словесной шелухой, но своими вымыслами иска-
жали истинное содержание и значение ее событий.
Особое место занимают историографические работы
Соловьева, посвященные Г. Ф. Миллеру и А. Л. Шлецеру.
В оценке Миллера Соловьев справедливо указывал на то,
что этот обрусевший немец самоотверженно служил рус-
ской исторической науке и значительно обогатил ее цен-
ными материалами своей сибирской экспедиции, а также
разысканием других важных источников русской истории
и своими публикациями. Но Соловьев не подверг критике
норманнистские заблуждения Миллера, так как и сам он,
как мы убедимся, полностью от них не освободился.
Значительно больше внимания уделил Соловьев
А. Л. Шлецеру в двух статьях, ему посвященных. Он
считал, что Шлецер внес наиболее значительный вклад
в разработку теоретических основ русской исторической
науки не только XVIII, но и начала XIX в. В первой
из статей «А. Л. Шлецер» (1856) Соловьев подробно из-
ложил биографию Шлецера и его научную деятельность,
а во второй — «Шлецер и антиисторическое направление»
(1857) связал эту деятельность и ее значение с борьбой
западников со славянофильскими догмами в понимании
русской истории. Славянофилов здесь Соловьев рассмат-
ривал в качестве представителей «антиисторического на-
правления» в русской историографии. Эта статья имеет
ярко выраженный полемический характер, при котором
неизбежно было явное преувеличение заслуг Шлецера
перед русской исторической наукой за счет умаления за-
слуг других историков, начиная с Татищева и кончая
76
Болтиным, в разработке теоретических, в том числе источ-
никоведческих вопросов, обогащавших изучение истории
России. Не отмечено, в частности, что сам Шлецер ука-
зывал па влияние, испытанное им со стороны русских
историков, в особенности Болтина. Само собой разуме-
ется, что и в этой статье Соловьев не подвергал критике
несостоятельные норманнистские взгляды Шлецера. Не
осознал он и научной неправомерности задачи поиска
«очищенного Нестора», выдвинутой этим историком.
При всем этом нельзя не отметить, что Соловьев, воз-
ражая славянофилам, справедливо отмечал некоторые ра-
циональные суждения Шлецера, которые имели положи-
тельное значение для последующего развития русской ис-
торической пауки, в частности, разработку им системы
методов критики исторических источников, использован-
ных впоследствии Н. М. Карамзиным. По мнению Соловь-
ева, труд Шлецера «Нестор» «лег в основу исторического
направления в пашей науке»; он писал «о важном значе-
нии главных положений Шлецера в истории нашей науки»
(Соч., с. 1582) *.
Впрочем, большая часть статьи «Шлецер и антиисто-
рическое направление» посвящена непосредственной по-
лемике Соловьеве! с его современными противниками —
славянофилами но тем конкретным вопросам русской
истории, в истолковании которых они решительно рас-
ходились.
Самая обширная историографическая работа Соловь-
ева была посвящена Н. М. Карамзину. Это цикл статей,
печатавшихся в «Отечественных записках» в 1853—
1856 гг. под общим наименованием «Н. М. Карамзин и
его «История государства Российского».
При подготовке этой статьи к публикации Соловьев
должен был проявить максимум осторожности и научной
корректности, чтобы не подтвердить давних нареканий
в свой адрес со стороны многих своих врагов о том, что
он самонадеянно пожелал превзойти своим трудом «Исто-
* Следует отметить, что некоторые полемические крайности своих
историографических статей середины 50-х годов, сводящиеся
к преувеличению заслуг немецких историков и недооценке рус-
ских, Соловьев исправил в томах «История России с древней-
ших времен», посвященных XVIII веку, в тех их разделах, в ко-
торых освещалось развитие русской науки и просвещения в ре-
зультате преобразований Петра L
77
рия России с древнейших времен» предшествующий обоб-
щающий труд Карамзина, получивший громкую извест-
ность и широкое распространение в России. Вот почему
статья Соловьева о Карамзине отличается сдержанностью,
подчеркнутой объективностью в оценке его научных за-
слуг, в частности в обогащении изучения русской исто-
рии новыми ценными источниками, а также выдающихся
и несомненных литературных достоинств труда этого
историка. Соловьев стремился оценивать вклад Карамзина
в изучение истории России с учетом современного ему
состояния русской исторической науки. Создается опреде-
ленное впечатление, что Соловьев даже намеренно преуве-
личил эти заслуги, чтобы избежать упреков в недооценке
своего предшественника.
Той же цели избежать подобных упреков подчинялась
структура и содержание работы Соловьева о Карамзине.
Она строится на основе последовательной в хронологиче-
ском отношении характеристики содержания не только
каждого тома, по и каждой главы «Истории государства
Российского». Именно потому цикл статей о Карамзине
достиг такого внушительного объема и так долго печа-
тался в журнале.
И лишь иногда и в осторожной форме, опираясь на
новые достижения исторической науки, Соловьев позво-
ляет себе критические суждения, поправки или дополне-
ния к содержанию труда Карамзина.
Соловьев в начале статьи охарактеризовал развитие
русской исторической науки до Карамзина, на протяже-
нии XVIII в., резюмируя по существу содержание статьи
«Писатели русской истории XVIII в.», а вслед за этим
начал изложение труда Карамзина в той последователь-
ности, па которую мы указали. Но и по ходу изложения
Соловьев многократно обращается к историографическим
справкам, сравнивая выводы Карамзина по всем важней-
шим вопросам истории России с наблюдениями его пред-
шественников. Особенно часто Соловьев обращается
к сравнению Карамзина со Щербатовым, труд которого
оказал наибольшее влияние на официального историо-
графа. Соловьев отмечает ряд вопросов, в трактовке кото-
рых Карамзин превосходил Щербатова, в частности
в объяснении причин перемены порядка наследования
у князей ростово-суздальских сравнительно с киевскими
князьями.
78
При всей осторожности в оценках Карамзина Соловьев
все же вкрапливает в свое изложение замечания, подчас
существенные, в том числе касающиеся концепционных
расхождений.
Если говорить о сравнительно мелких замечаниях, то
они касаются, например, переоценки личных качеств
Андрея Боголюбского в утверждении новых междукняже-
ских отношений в Северо-Восточной Руси (Соч., с. 1431),
поправок в переводах и толковании некоторых источни-
ков (Соч., с. 1444) и т. п. Отмечал Соловьев поверхност-
ный характер исторических параллелей, встречающихся
в «Истории...» Карамзина как следствие механического
применения им сравнительного исторического метода.
Упрекает Соловьев Карамзина и в увлечении нравствен-
ными сентенциями, зачастую заменяющими истолкование
смысла событий и действительных связей между ними.
Но эти замечания и упреки после критических разборов
труда Карамзина М. П. Погодиным, Н. А. Полевым,
В. Г. Белинским уже не представляли новизны, и их
повторение не было опасным для Соловьева. Характерно,
однако, что он не счел нужным напомнить читателю
о предшествующих критиках Карамзина.
Более существенны другие замечания, от которых Со-
ловьев не счел возможным уклониться при всей своей
осторожности. Так, он отметил преувеличенное значение,
которое Карамзин придал норманнскому владычеству над
славянами (Соч., с. 1420), коснулся неправомерного рас-
пространения Карамзиным суждений Монтескье о древ-
них германских законах применительно к древним сла-
вянам (Соч., с. 1422). Умеренный норманнист, Соловьев
выступил против крайнего преувеличения роли норман-
нов, характерного для Карамзина и его последователя
Погодина, который даже выделил в истории Древней Руси
норманнский период. Не согласился Соловьев с описанием
тяжести монголо-татарского ига для русского народа
(Соч., с. 1466). Сам Соловьев, как мы отметим в дальней-
шем, склонен был эту тяжесть недооценивать. Но Со-
ловьев справедливо указал на то, что оценка монголо-татар-
ского ига не согласовалась у Карамзина с его формулой:
«Москва обязана своим величием ханам» (Соч., с. 1468).
Не согласился Соловьев и с крайним преувеличением
Карамзиным исторической роли Ивана III, которого он
поставил выше даже Петра Великого (Соч., с. 1490).
79
Это явно противоречило концепции Соловьева. Сущест-
венно расходились Карамзин и Соловьев в оценке
Ивана IV. Если Карамзин, следуя Щербатову, а также
письмам Курбского, разделил царствование Ивана Гроз-
ного на два периода — до опричнины и с начала ее, па
период «процветания» России в первый период и всех
несчастий ее в годы опричнины — во второй, то для Со-
ловьева царствование Грозного было временем оконча-
тельного торжества государственных отношений над родо-
выми, временем сокрушения могущества боярской знати
и потому, конечно, получало у историка иную, в целом
положительную оценку.
Таково содержание крупнейшей историографической
работы Соловьева.
Важно подчеркнуть, что Соловьев не пожелал рас-
крыть политического существа концепции Карамзина,
обоснование им прочности и незыблемости самодержавно-
крепостнического строя России, не сделал это даже со своих
либерально-буржуазных позиций. Между тем Соловьеву
были известны, конечно, критические оценки концепции
Карамзина Белинским в его статьях, опубликованных
в «Отечественных записках» 20, в которых, кстати говоря,
впоследствии и печатался цикл статей Соловьева о труде
Карамзина. Не могла пе быть известной ему критика
труда Карамзина польским прогрессивным историком
И. Лелевелем, сумевшим вскрыть его политическую ос-
нову. Думается, что осторожность Соловьева, пе только
критика-историка, но и либерала, помешала ему осудить
политические основы концепции официального исто-
риографа.
Правда, в заметках Соловьева, сохранившихся в его
архиве, содержится характеристика Карамзина как дво-
рянского историка, на что впервые обратил внимание
Н. Л. Рубинштейн: характеризуя французского историка
XVIII в. Буленвилье, Соловьев сравнивал его с Карам-
зиным: «Это был дворянин (вроде нашего Карамзина),
который отыскивал в истории документы о свободе дво-
рянства против власти королевской и презирал парод»21.
Однако подобную же оценку Соловьев пе счел нужным
повторить в работе о Карамзине.
Для полноты историографических представлений Со-
ловьева следует напомнить о его высокой оценке
И. Г. Эверса, который «заставил его думать над историей».
80
К сожалению, кроме этого эпизодического высказывания,
других суждений Соловьева об Эверсе в опубликованных
работах мы не паходим.
В студенческие годы Соловьев застал в Московском
университете М. Т. Качеповского — главу «скептической
школы» в русской историографии, но лекций его о русской
истории уже не слушал. Будучи профессором, он написал
статью о Качеповском, в которой в целом давал положи-
тельную оценку его научной деятельности. Одну из важ-
ных заслуг Качеповского Соловьев усматривал в его
«старании сблизить явления русской истории с однохарак-
терными явлениями у других народов» 22. Соловьев при-
знавал значение созданной Качеповским «скептической
школы», которая приучала к внимательной критике источ-
ников древней русской истории, хотя ее представители, и
прежде всего сам Каченовский, и не удерживались от
неумеренных крайностей в этой критике. Вот почему
Соловьев писал о том, что у этой школы «была золотая
голова, но глиняные ноги», подчеркивая благие цели ее
представителей и несостоятельные оценки ими древней
русской истории, приводившие к таким, например, край-
ностям, как провозглашение ее периода до XIII в.
«баснословным ».
Явно недооценивал Соловьев в своих редких высказы-
ваниях Н. А. Полевого. Справедливо отмечая его профес-
сиональную неподготовленность к созданию того обоб-
щающего шеститомного труда («Истории русского на-
рода»), который оп подарил читающей публике в 1829—
1833 гг., журналистские приемы изложения, крайности
в выводах, Соловьев не сумел оценить тех рациональных
идей, которые содержались в труде Полевого, — призна-
ние им прежде всего единых закономерностей в истори-
ческом развитии России и Западной Европы, что и делало
его представителем буржуазной историографии23.
Еще более не прав Соловьев в односторонне отрица-
тельной оценке воззрений своего университетского учителя
М. П. Погодина, называя его в «Записках» лишь «удач-
ливым наездником» в русской истории, а по характеру
«мелочным торгашом». «Погодин менее всего был при-
зван быть профессором, ученым; его призвание... пло-
щадная деятельность» (Записки, с. 53—54). В такой
оценке, несомненно, сказалась личная антипатия Соловь-
ева к Погодину, препятствовавшему ему в утверждении
6 В. Е. Иллерицкий
81
на кафедре русской истории Московского университета.
Научная деятельность молодого Погодина, испытавшего
влияние передовых для своего времени идей западноев-
ропейской философии и историографии, включая Гизо,
разработка им ряда существенных проблем русской исто-
рии обусловили его определенное значение в русской исто-
риографии при всей реакционности его политических
взглядов.
Таков широкий круг историографических интересов
Соловьева. Разработка им указанных вопросов русской
историографии имела несомненно положительное значе-
ние. Это значение не ограничивается временем деятель-
ности Соловьева, его историографические оценки оказы-
вали влияние и на современников, прежде всего на его
учеников, а также и на последующее поколение буржу-
азных историков. Так, в значительной мере закрепились
его оценки значения научной деятельности В. Н. Тати-
щева, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина. К сожалению,
надолго закрепилась и ошибочная оценка Соловьевым
исторических воззрений М. В. Ломоносова. При всех осо-
бенностях и издержках историографических оценок Со-
ловьева, обусловленных его либерально-буржуазными
политическими и историческими взглядами, они все же
для своего времени были более прогрессивны и верны,
чем оценки, например, его современника М. О. Кояловича,
который издал свой труд «История русского самосозна-
ния» вскоре после смерти Соловьева — в 1884 г. Испы-
тали влияние Соловьева в историографическом плане
В. О. Ключевский и П. Н. Милюков, хотя, конечно, их
воззрения содержат и важные отличительные особен-
ности.
Историографические работы Соловьева не только рас-
ширяют наши представления о теоретических основах его
исторической концепции, но и облегчают нам в значитель-
ной мере анализ его важнейшего труда — «Истории Рос-
сии с древнейших времен», в котором наиболее полно и
систематично изложена концепция русской истории Со-
ловьева.
Для завершения освещения теоретических основ исто-
рических воззрений Соловьева нам остается еще попы-
таться раскрыть его творческую лабораторию. Разрешение
82
этой задачи связано с тем, что мы получим тем самым
возможность выявить связь между теорией и практикой
в научной деятельности Соловьева, соотношение его мето-
дологии и методики научного исследования. Но эта труд-
ная сама по себе задача осложняется еще и тем, что ни-
кто из ранее изучавших научную деятельность Соловьева
не только не разрешал, но даже и не выдвигал подобной
задачи во всем ее подлинном значении24. Естественно
поэтому, что в своем кратком очерке мы попытаемся на-
метить лишь общие контуры, определить первоначальные
вехи в разработке данного вопроса и ограничиться от-
дельными наблюдениями.
Нет сомнения в том, что творческая лаборатория Со-
ловьева может быть раскрыта главным образом на основе
его работы над главным трудом — «Историей России
с древнейших времен» и примыкающими к нему исследо-
ваниями монографического типа.
К выполнению замысла о создании нового обобщаю-
щего труда по истории России Соловьева готовили две его
диссертации — магистерская и докторская и в смысле
разработки общей концепции русской истории, и в смы-
сле выработки им определенных исследовательских навы-
ков. Первая из них рассматривала частный при всей его
относительной важности вопрос об отношении Новгорода
к московским великим князьям. Она была построена на
изучении уже известного летописного и актового мате-
риала.
Значительно важнее для выработки общей концепции
русской истории Соловьевым была его обширная доктор-
ская диссертация, охватывающая период от IX до XVI в.
включительно. В основу объяснения этого длительного
периода была положена родовая теория, прослежена
борьба родовых отношений с государственными до полной
победы последних при Иване IV в условиях драматиче-
ских конфликтов его с боярством. Самостоятельный вклад
Соловьева в изучение этого периода и заключался более
всего в разработке новой концепции. В источниковедче-
ском плане он сделал гораздо меньше, так как основные
источники — летописи, актовый материал, известия ино-
странцев были известны уже М. М. Щербатову и Н. М. Ка-
рамзину. Соловьев дополнил их новыми изданиями Архе-
ографической комиссии и некоторыми архивными наход-
ками.
6*
83
Значительно сложнее было изучать последующий пе-
риод русской истории, в разработке которого Соловьев во
многом был «первопроходцем», опираясь лишь на сравни-
тельно немногие опубликованные источники и крайне
бедную литературу. Для воспроизведения истории России
XVII и тем более XVIII в. было необходимо планомерное
и систематическое, все более расширяющееся изучение
архивов и более всего выбор в них источников обобщаю-
щего характера. Само собою разумеется, что обращение
Соловьева к новым типам источников, особенно архивных,
требовало от него и совершенствования методов их изу-
чения — установления датировки, сопоставления редак-
ций, отбора из их числа наиболее достоверных, вниматель-
ного изучения особенностей источников определенной
эпохи, учреждений и лиц, выработки новых приемов
исследования источников.
Однако раскрытие творческой лаборатории любого ис-
торика, а тем более такого крупного, как Соловьев, не мо-
жет быть сведено к разработке им концепции при всей ее
первостепенной важности и к раскрытию источниковед-
ческой основы его трудов, а также приемов их изучения.
Применительно к Соловьеву необходимо, кроме того, оп-
ределить соотношение его преподавательской деятель-
ности с научно-исследовательской, первоначальных публи-
каций журнальных статей с его монографическими ис-
следованиями и главным трудом—«Историей России...»,
попытаться раскрыть логику расширения проблематики
его трудов, оценить некоторые исследовательские приемы
историка и т. п.
Со времени возникновения у Соловьева в 1848 г. за-
мысла создать новый обобщающий труд по истории
России он подчинил преподавание в университете этой
задаче. По свидетельству В. О. Ключевского, слушавшего
лекции Соловьева в 1863—1865 гг., профессор читал об-
щий курс русской истории историкам и юристам по четыре
часа в неделю. Сверх того, студентам пятого курса — ис-
торикам— Соловьев читал специальные курсы по два часа
в неделю. Именно эти спецкурсы, посвящавшиеся отдель-
ным периодам истории России в их хронологической по-
следовательности, тщательно готовившиеся Соловьевым,
и были для него первоначальным вариантом соответствую-
щих томов «Истории России...». Промежуточной стадией
зачастую была публикация частей этих специальных кур-
84
сов в виде журнальных статей, что служило и средством
первоначальной научной апробации их текстов, и стиму-
лом литературной обработки.
Соловьев работал над спецкурсами весьма продуманно
и целеустремленно. Ключевский, ссылаясь на учебные от-
четы Соловьева за первые годы его работы в университете,
отмечает, что уже в отчете за первый свой учебный год
Соловьев указывал, что он читал курс по «истории между-
царствия», а в отчетах за последующие годы значи-
лась «история царствования трех первых государей из
дома Романовых», «история Петра Великого» 25 и т. д. Та-
ким образом, Соловьев в своих специальных курсах на-
чал с того, чем кончили М. М. Щербатов и Н. М. Карам-
зин в своих обобщающих трудах и что было с новых по-
зиций освещено самим Соловьевым в его двух диссерта-
циях. Дальнейшее же изучение истории России требовало
самостоятельной разработки ее молодым ученым, чем он
а занялся с первых лет преподавания. В последующие
годы Соловьев возвращался к уже ранее читанным темам
специальных курсов, обогащая их новыми материалами,
конкретным содержанием и обобщениями. Последним при-
давалось особое значение, и в них выражался теоретиче-
ский рост Соловьева.
Весьма интенсивно была литературная деятельность
молодого профессора до 1851 г. — начала издания «Исто-
рии России...». Так, в 1850 г. он публикует в «Отечест-
венных записках» статью «О влиянии природы русской
государственной области на ее историю», представляющую
собой вариант первой главы I тома «Истории России...».
В 1851 г. Соловьев печатает в том же журнале статью
«Обзор событий при внуках Ярослава 1093—1125», текст
которой будет им использован во II томе «Истории Рос-
сии...». В том же году в собрании статей, изданном Мос-
ковским университетом и состоявшем из публичных чте-
ний его профессоров, Соловьев публикует обширную
статью «Взгляд на установление государственного порядка
в России до Петра Великого» — статью по существу про-
граммного значения, так как в пей излагалась в обобщен-
ной форме сущность его концепции русской истории, по-
ложенной в основу первых 12 томов «Истории России...».
Тем самым была совершена большая подготовительная
работа перед началом издания «Истории России...». Она
имела для автора двоякое значение — облегчала ему ра-
85
боту над текстом и вместе с тем готовила читающую пуб-
лику к будущему труду историка, популяризировала его.
С началом издания «Истории России...» в 1851 г.
практика предварительной публикации в журналах ста-
тей на темы готовящихся томов Соловьевым продолжа-
лась. Так, в 1852 г. он опубликовал в «Современнике»
статью «Обзор царствования Михаила Федоровича Рома-
нова», несомненно связанную с тематикой его
университетских специальных курсов и предваряющую
соответствующий тематически том «Истории России...».
В 1858 г. Соловьев публикует программную статью «Ис-
торические письма», кратко излагающую его историче-
скую концепцию и особое значение в ней петровских пре-
образований за несколько лет до того, как они получили
разработку в XIII—XVIII томах его «Истории России...».
Поскольку Соловьев в «Истории России...» придавал
важное значение связям нашей страны с соседними на-
родами и выдающимися событиями в истории последних,
он в 1852 г. публикует статьи «Псков и Ливония», «Из-
брание на польский престол последнего принца шведского
Сигизмунда Вазы».
Следует отметить, что предварительная публикация
статей Соловьевым перед изданием крупных трудов мо-
жет быть проиллюстрирована и па примере его докторской
диссертации, и на примере последней крупной моногра-
фии «Александр I» (1877), которой предшествовала целая
серия журнальных статей «Эпоха конгрессов». Опа впо-
следствии составила вторую часть этой монографии, ко-
нечно, с необходимой доработкой, которую обычно в по-
добных случаях предпринимал ученый.
Не желая утомлять читателя подробными библиогра-
фическими изысканиями, отметим, что предварительная
публикация журнальных статей, тематически предшеству-
ющих крупным исследованиям Соловьева, — правило, по-
чти не знающее исключений. Важно подчеркнуть, что
данное обстоятельство объясняет отчасти, кроме фанта-
стической трудоспособности Соловьева и умелой регла-
ментации занятий, исключительную оперативность и точ-
ность ежегодного издания им очередных томов «Истории
России...» и его монографий.
Значительно реже в своих журнальных публикациях
Соловьев возвращался к темам, уже получившим освеще-
ние в его изданных работах. Примером могут служить
86
статьи «Древняя Россия» (1856) и «Начала русской
земли» (1877—1879). Делалось это обычно для подведе-
ния итогов изучения той или иной проблемы или для того,
чтобы сформулировать новые обобщения, и, наконец, для
возражений оппонентам. Но последнее Соловьев делал
крайне редко.
Заслуживает внимания и такой факт в оценке творче-
ской лаборатории Соловьева, как начало утверждения в его
творчестве проблемного принципа. Это подтверждается
как его крупными монографическими произведениями,
одни из которых посвящены в большинстве своем вопро-
сам внутренней политики, пачиная с магистерской и док-
торской диссертаций, кончая «Публичными чтениями
о Петре Великом», и специально вопросам внешней по-
литики: «История падения Польши», «Император Алек-
сандр I».
Значительно более дифференцированной была пробле-
матика журнальных статей Соловьева. Их можно разде-
лить на группы: статьи, посвященные теоретическим
вопросам исторической науки, вопросам русской историо-
графии, проблемам всемирной истории и международных
отношений. Типичны в этом отношении статьи Соловьева,
касающиеся восточного вопроса и опубликованные в по-
следние годы его жизни.
Можно проследить процесс обогащения проблематики
печатных выступлений. Так, Соловьев, как буржуазный
историк, не был чужд признания определенного значения
экономического фактора в истории, правда, подчиняя его
в конечном итоге, как мы отмечали, регулирующей дея-
тельности государства. Этот вывод можно подтвердить не
только содержанием «Истории России...», но и тем, что
перу Соловьева принадлежат специальные статьи, посвя-
щенные развитию промышленности и торговли в России:
«Русский город в XVII веке» (1853); «Русская промыш-
ленность и торговля в XVI веке» (1857); «Московские
купцы в XVII веке» (1858). Интересно отметить, что, во-
первых, все эти статьи по времени издания относятся
к предреформенному десятилетию, когда сама объектив-
ная действительность, особенно после неудачной Крым-
ской войны, возбуждала интерес к вопросам экономики,
и, во-вторых, следует указать, что все названные статьи
были опубликованы в самом передовом журнале того вре-
мени — «Современнике».
87
Можно определить и логику развития научного твор-
чества Соловьева. Первоначальное внимание к вопросам
истории России в их конкретном содержании с течением
времени дополнялось их теоретической разработкой. За-
тем Соловьев переходил к вопросам всемирной истории
в ее конкретном содержании и теоретическом осмыслении,
первоначально преимущественно в соотношении с исто-
рией России, а затем и к самостоятельной разработке. По-
следнее иллюстрируется его «Наблюдениями над истори-
ческой жизнью народов».
В 70-х годах, когда научный авторитет Соловьева был
непререкаем, он выступал с произведениями, которым
придавал общественное значение в том смысле, что пы-
тался не только пропагандировать исторические проблемы
в собственном истолковании, но и оказывать своими рабо-
тами влияние на общественное мнение. Наиболее показа-
тельны в этом отношении «Публичные чтения о Петре Ве-
ликом» (1872).
Синтезом всей разносторонней научно-литературной
деятельности Соловьева явился его главный труд «Исто-
рия России...», в котором творчески перерабатывались
все предшествующие работы Соловьева и вливались, об-
разно говоря, в эту могучую реку, подобно ручейкам и ма-
лым рекам, ее притокам.
Что касается ряда работ, хронологически не включаю-
щихся в «Историю России...», то и они имели к ней, как
правило, то или иное отношение. Это были прежде всего
работы, непосредственно хронологически и тематически
ее продолжающие; таковы «История падения Польши» и
«Александр I», статьи по восточному вопросу. В них оце-
нивалась внешняя политика России в последней трети
XVIII в. и в первой половине XIX в.
Для творческой лаборатории Соловьева характерны и
новые черты, обусловленные его принадлежностью к бур-
жуазной историографии как новому и более высокому
этапу в развитии русской исторической науки середины
XIX в. Это требование прежде всего конкретно-историче-
ского изучения, фактической обоснованности предлагае-
мых обобщений и выводов. Буржуазные историки и круп-
нейший среди них в то время Соловьев придавали этому
требованию первостепенное значение. «Его величество
факт» должен был заменить домыслы и нравственные
сентенции, которыми зачастую удовлетворялись дворян-
88
ские историки. При этом важной отличительной особен-
ностью работ Соловьева, и прежде всего его «Истории Рос-
сии.было органическое включение источников в текст
повествования в отличие, например, от Карамзина, кото-
рый вынес их в «Примечания» к каждому из томов своей
«Истории государства Российского».
Другим требованием буржуазных историков было пре-
одоление модернизации истории, перенесения современ-
ных представлений в прошлое и тем самым искажение
истории в угоду настоящему.
Доказательством стремления Соловьева к реализации
этих требований были все его работы, в особенности «Ис-
тория России...». Эти требования реализовались в преде-
лах возможностей буржуазной идеалистической историо-
графии, т. е., конечно, не полностью, но само выдвиже-
ние подобных требований было новым шагом в развитии
исторической науки. «Соловьев, — писал Д. А. Корса-
ков, — высказывался против гаданий, исторических гипо-
тез». Историк, по мнению Соловьева, «всегда должен
иметь твердую фактическую почву под ногами» 26.
Коснемся и вопроса о работе Соловьева в архивах и
некоторых характерных особенностей оформления его на-
учных исследований.
Уже не раз говорилось о той поистине гигантской ра-
боте, которая была совершена Соловьевым в изучении не-
исчерпаемых архивных богатств. Ключевский справед-
ливо писал, что начиная с XVII в. Соловьеву «предстояли
века, истинная история которых лежала похороненной
в нетронутых массах архивного материала» 27.
Никто не подсчитал, да и вряд ли это можно сделать,
какую колоссальную работу проделал Соловьев по изуче-
нию архивных материалов. Но не будет преувеличением
сказать, что речь идет о десятках тысяч единиц хранения,
не говоря уже о количестве привлеченных документов. От-
мечались и напряженность работы Соловьева в архивах,
и то, что Соловьев благодаря содействию царя и высших
сановников (не забудем, что он преподавал наследникам
престола) пользовался большими привилегиями в работе
над засекреченными архивами28. Со многими ценней-
шими материалами, особенно содержащимися в наиболее
секретных архивах, храпящих документы по внешней
политике России, Соловьев знакомился и изучал их пер-
вым из историков.
89
Это обстоятельство зачастую исключало возможность
для Соловьева даже ссылаться на архивохранилища. От-
сюда проистекала такая особенность всех работ Соловь-
ева, посвященных внешней политике России, как отсутст-
вие в них систематически оформленного научного аппа-
рата в виде необходимых ссылок.
Но этого аппарата нет, как правило, и в тех работах,
которые посвящены вопросам внутренней политики. За-
частую Соловьев ограничивается наименованием цитируе-
мого документа, но не указывает ни архива, ни тем более
фонда.
Это обстоятельство в значительной мере объясня-
ется состоянием архивов в его время. Описания их мате-
риалов, фондирования, каталогизации еще почти не было,
или эта работа только начиналась. Исключение составляла
лишь внешнеполитическая документация. Поэтому вины
Соловьева в таком оформлении его исследований нет.
Весь научный аппарат главного его труда— «Истории Рос-
сии с древнейших времен» в советском издании полностью
воссоздан усилиями наших источниковедов и библиогра-
фов *. Что касается других произведений Соловьева, то,
поскольку они в советское время не издавались, научный
их аппарат не восстановлен.
В заключение нашего очерка, посвященного творче-
ской лаборатории Соловьева, отметим, что этот крупный
ученый был весьма озабочен совершенствованием иссле-
довательской работы историков, размышлял по этому во-
просу.
Мы уже не раз указывали на весьма удачное приме-
нение сравнительно-исторического метода Соловьева в пре-
подавательской практике и в научных исследованиях.
Этому методу Соловьев придавал важное значение, дости-
гал при его помощи существенных результатов и пропа-
гандировал его. Однако не следует забывать, что сравни-
тельно-исторический метод не был новым даже для рус-
ских историков XVIII в.
Но студенты Соловьева, слушавшие лекции профессора
в последние годы его преподавания, отметили, что Со-
* Некоторые новые приемы работы Соловьева над историческими
источниками в этом труде мы охарактеризуем в следующей
главе, специально посвященной «Истории России с древнейших
времен».
90
ловьев прозорливо предсказал возможность применения
в исторической науке математических методов. Так,
Л. Танков писал в своих воспоминаниях: «Заслуживает
внимания... особенность трактования Соловьевым ис-
торических вопросов: это, как он говорил, употребление
метода точных наук. Он даже доказывал возможность
пользования в исторических и общественных науках ма-
тематической проверкой» 29.
Очевидно, многолетняя работа в архивах над некото-
рыми массовыми источниками натолкнула Соловьева на
столь значительный вывод. Эти мысли выдающегося ис-
торика перекликаются с потребностями современной ис-
торической науки.
Далеко вперед смотрел замечательный предшественник
современных историков!
Глава 3
«ИСТОРИЯ РОССИИ
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН»
«История России с древнейших времен» не только глав-
нейший труд С. М. Соловьева, занявший своим изданием
29 лет его жизни и явившийся итогом научного творчества
крупнейшего русского дореволюционного историка. Этот
труд вместе с тем занял центральное место в русской ис-
торической науке XIX в. да и вообще ни по своему науч-
ному значению, ни по своему объему не был превзойден
каким-либо историческим трудом в дореволюционной Рос-
сии.
В связи с намерением Соловьева приступить к изданию
столь сложного и ответственного труда, которое оконча-
тельно определилось у него в 1848 г., возникает ряд во-
просов: чем была вызвана необходимость издания много-
томной «Истории России...», каковы были замыслы ав-
тора, насколько он был готов к их выполнению и как про-
текала подготовка к изданию этого труда? Ответ на эти
вопросы должен предварять анализ содержания главного
труда Соловьева и определение его научного значения
в русской дореволюционной историографии.
91
На вопрос о том, чем была вызвана необходимость из-
дания нового обобщающего труда по истории России,
вполне определенно ответил сам Соловьев в своих «Запи-
сках». «Давно, еще до получения кафедры, — писал он, —
у меня возникла мысль написать историю России; после
получения кафедры дело представлялось возможным и
необходимым. Пособий не было; Карамзин устарел в гла-
зах всех; надобно было, для составления хорошего курса,
заниматься по источникам; но почему же этот самый курс,
обработанный по источникам, не может быть передан пуб-
лике, жаждущей иметь русскую историю и написанную,
как писалась история государств в Западной Европе? Сна-
чала мне казалось, что история России будет обработанный
университетский курс; но когда я приступил к делу, то
нашел, что хороший курс может быть только следствием
подробной обработки, которой надо посвятить всю жизнь.
Я решился на такой труд и начал с начала, ибо, как уже
сказано, предшествующие труды не удовлетворяли»
(Записки, с. 141).
Таким образом, Соловьев от первоначального замысла
издать только курс своих университетских лекций пришел
к выводу о необходимости подготовки крупного обобщаю-
щего труда по истории России, истинного объема которого
он тогда еще не мог предвидеть.
В какой же мере молодой ученый — весной 1851 г., ко-
гда он сдал в цензуру I том «Истории России...», ему
было всего 31 год — был готов к выполнению выдвинутой
перед собой задачи, которая, как он вскоре убедился, ока-
залась столь грандиозной?
Есть все основания утверждать, что Соловьев был го-
тов к выполнению своей задачи, как никакой другой ис-
торик его времени. Можно сказать и по-другому: только
он и мог выполнить такую сложную задачу.
Напомним, что Соловьевым уже были опубликованы и
получили научное признание две диссертации, особенно
важна была вторая — докторская. Соловьев читал общие
и специальные курсы по истории России в Московском
университете — крупнейшем центре русской исторической
науки того времени. Характеризуя творческую лаборато-
рию, мы уже отмечали, что он подчинил свою педагогиче-
скую деятельность работе над обобщающим трудом. В рас-
поряжении Соловьева находился корпус новых ценных
источников, введенных в научный оборот после Карам-
92
зина изданиями Археографической комиссии. Он имел
возможность обращаться в богатейшие архивные храни-
лища Москвы, а затем и Петербурга для использования
в своем труде ранее неизвестных материалов. Наконец,
Соловьев укреплял свой научный авторитет систематиче-
ской публикацией статей по истории России в самых по-
пулярных журналах того времени — «Отечественных запи-
сках» и «Современнике». Эти статьи впоследствии исполь-
зовались Соловьевым при создании «Истории России...»
Но, конечно, при всех этих условиях решающее значе-
ние имела одаренность молодого ученого, талант
исследователя, с каждым годом обогащавшийся опыт, ис-
ключительная работоспособность Соловьева, его умение
подчинить свою деятельность главной задаче — созданию
обобщающего труда по истории России.
Возникает и другой вопрос: сложилась ли у Соловьева
ко времени начала издания «Истории России...» концеп-
ция русской истории?
На этот вопрос трудно дать исчерпывающий ответ.
В определенной, по далеко еще не завершенной форме та-
кая концепция у Соловьева несомненно сложилась к на-
чалу 50-х годов. Иначе он пе взялся бы за работу над
своим трудом, пе имел бы па это морального права. В его
докторской диссертации уже была отражена новая схема
русской истории до XVI в. включительно на основе при-
знания борьбы утверждавшихся государственных отно-
шений с отживающими родовыми, раскрыты основные
этапы этой борьбы до ее завершения при Иване Грозном.
Он имел и общее представление о последующем важней-
шем рубеже русской истории — петровских преобразова-
ниях первой четверти XVIII в.
В определенной мере Соловьев мог опираться и на
труды своих предшественников. Так, еще И. Г. Эверс
сформулировал «родовую теорию», исходя из которой он
объяснял развитие древнерусской истории. Соловьеву, ко-
нечно, был хорошо известен труд Н. А. Полевого «Исто-
рия русского народа», в котором содержались некоторые
новые идеи, противостоявшие концепции Карамзина. Но
во-первых, Полевой попытался дать свою новую трак-
товку русской истории только до времени Ивана IV, а во-
вторых, Соловьев не во всем соглашался с Полевым и не
считал его научным авторитетом. Можно было опереться
на некоторые приемы критики древнерусских источников
93
М. Т. Каченовским и представителями «скептической
школы», но и они ограничивались историей Киев-
ской Руси. Более существенными были суждения о рус-
ской истории К. Д. Кавелина, который в общей форме на-
метил основные контуры новой концепции русской исто-
рии и оказал определенное влияние на Соловьева. Однако
Кавелин не разработал ни одной крупной проблемы исто-
рии России в исследовательском плане.
Детальная разработка концепции русской истории
применительно к периодам до Ивана IV и особенно
к XVII—XVIII вв. была для Соловьева делом самостоя-
тельного исследования, ее конкретное содержание раскры-
валось им на основе глубокого изучения исторических со-
бытий и фактов. Не случайно Н. Г. Чернышевский оформ-
ление «новой исторической школы» в русской историогра-
фии, у которой «вместо .. .слабых поверхностных попыток
мы встречаем строго ученый взгляд» на историю России,
связывал с именами Кавелина и особенно Соловьева L
Соловьев в начальный период работы над «Историей
России...» отчетливо сознавал, что дать хотя бы схемати-
ческий план своего обобщающего труда и тем более ука-
зать распределение его материалов по томам «Истории
России...» он не в состоянии.
В этой связи приобретает существенный интерес воп-
рос о периодизации истории России, положенной Соловь-
евым в основу своего труда, соответствующей его новым
представлениям как буржуазного историка, и ее соотноше-
нии с фактическим распределением материала по томам
«Истории России...», ее структурой.
В соответствии с концепцией Соловьева, в основных
чертах сложившейся у него к началу издания «Истории
России...», раскрывающей новые представления о рус-
ском историческом процессе, он уже в своих диссертациях,
в особенности в докторской, а также в I томе «Истории
России...» выделял следующие основные периоды в рус-
ской истории2. Исходя из принципа внутренней обуслов-
ленности исторического процесса, он отверг выделение
в истории «норманнского» и «монгольского» периодов
дворянскими историками — Н. М. Карамзиным, М. П. По-
годиным и в своей периодизации основывался на иных
принципах: господстве родовых отношений у славян до
прихода варягов, развитии этих отношений при Рюрико-
вичах до Ярослава I включительно, когда сами князья, но-
)4
сители «правительственного начала», строили свои отно-
шения на основании родовых счетов и когда сложилось
единство славянских племен в пределах Киевского вели-
кого княжества. После Ярослава Мудрого началось рас-
падение этого единства в результате обострявшейся
борьбы между князьями Рюрикова дома. Со времени кня-
жения Андрея Боголюбского в своеобразных условиях Се-
веро-Восточной Руси началось утверждение нового прин-
ципа — единовластия на основе вотчинного владения. Этот
принцип окончательно утвердился и стал основой борьбы
за господство новых, государственных отношений в Мос-
ковском великом княжестве, превратившемся при Иване III
в Московское государство, в котором «государственное
начало» окончательно побеждает старые, родовые отно-
шения в лице их носителей — удельных князей и бояр-
ства в годы опричнины при первом русском царе Иване
Грозном. Утвердившийся новый государственный поря-
док — самодержавный строй — нарушается в начале
XVII в., в годы «смуты», вновь он восстанавливается при
воцарении новой династии — династии Романовых.
XVII в. рассматривался Соловьевым как период подго-
товки реформ Петра I. Но конкретное содержание этого
процесса тогда историку представлялось лишь в общих
чертах, как и сами преобразования Петра Великого — их
содержание, историческое значение и результаты, хотя
переломный характер этих преобразований в истории
страны осознавался и тогда достаточно отчетливо3.
Периодизация русской истории Соловьевым, изложен-
ная нами, в основных чертах сохранилась у него и впо-
следствии. Но она все более основательно раскрывалась на
богатейшем конкретном материале, особенно для периода
XVII—XVIII вв., в научной разработке которого, как мы
уже отмечали, Соловьев выступил в сущности пионером.
Интересно отметить, что распределение материала по
томам «Истории России...» так, как оно сложилось в дей-
ствительности у Соловьева, мало подтверждало ту схему
русской истории, которую мы только что охарактеризо-
вали. Структура труда, та фактическая периодизация,
которую мы видим в «Истории России...», во-первых, за-
частую подчинялась сложившимся обстоятельствам при
подготовке каждого тома к изданию и, во-вторых, что осо-
бенно важно и интересно, выявила если не зависимость
Соловьева от дворянской историографии, то по крайней
95
мере тот несомненный факт, что он не сумел полностью
порвать с ее традициями.
Так, содержание I тома «Истории России...», доведен-
ное в своем изложении до княжения Ярослава Мудрого
включительно, находится в соответствии с концепцией и
периодизацией Соловьева. Однако уже второй том, дове-
денный до смерти Мстислава Торопецкого, т. е. до 1228 г.,
нарушает периодизацию Соловьева, так как поглощает и
затушевывает тем самым важный внутренний рубеж рус-
ской истории, которому и сам Соловьев придавал важное
значение — княжение Андрея Боголюбского, с которого
датируется начало борьбы за утверждение нового прин-
ципа — единовластия как основы утверждения впоследст-
вии единодержавной власти великих князей и царей
московских.
Дальнейшее членение событий русской истории приоб-
ретает еще более независимый от выработанной Соловь-
евым периодизации характер. Однако сохраняется корен-
ной принцип членения материала по томам «Истории Рос-
сии. ..», сначала по княжениям, а затем, начиная
с Ивана IV, по царствованиям — принцип дворянской ис-
ториографии.
Однако и в пределах этой традиционной периодизации
сказывались особенности новой, буржуазно-либеральной
исторической концепции Соловьева, выявлялись новые
тенденции историка в освещении отдельных периодов ис-
тории России.
Уже в V томе «Истории России...» лишь первая поло-
вина его посвящается характеристике княжения Ивана III,
вторая же уделена Василию III. Тем самым Соловьев от-
казался от той крайне преувеличенной оценки роли
Ивана III в историческом развитии России, которая была
свойственна Карамзину.
Напротив, выделяя важное значение царствования
Ивана IV, при котором, согласно концепции Соловьева,
окончательно восторжествовали и утвердились новые, го-
сударственные отношения, историк уделяет этому царст-
вованию значительное внимание, посвятив ему почти весь
VI том и закончив свою характеристику в VII томе.
Пространность изложения тех или иных периодов или
царствований зависела у Соловьева и от других обстоя-
тельств — от степени их изученности предшественниками,
от обилия новых источников, пе говоря уже о признании
96
историком значения того или иного периода или деятеля
в истории страны.
Так, история России до начала XVII в., т. е. до цар-
ствования Василия Шуйского включительно, у Соловьева
была освещена в первых восьми томах его «Истории Рос-
сии...», в то время как в «Истории государства Россий-
ского» Н. М. Карамзина данному периоду были по-
священы все ее 12 томов. Между тем Соловьев располагал
в пределах и этого периода комплексом новых источников *.
Это в значительной мере объясняется тем, что Соло-
вьев учитывал именно большую изученность рассматрива-
емого периода и не считал необходимым вдаваться в де-
тали, известные до него по трудам Щербатова и Карам-
зина, сосредоточив внимание на проблемах концепцион-
ного характера.
Что же касается истории России начиная с XVII в.,
то до Соловьева данный период, как мы неоднократно
отмечали, был или крайне слабо изучен применительно
к XVII—началу XVIII в., или совсем не изучен в отно-
шении послепетровского времени. Поэтому он освещался
в «Истории России...» Соловьева с нарастающей полно-
той.
В итоге для освещения древней истории России — до
преобразований Петра I — Соловьеву в его обобщающем
труде понадобилось 12 томов, а для истории Рос-
сии XVIII в. — 17 томов.
Следует отметить и другие особенности главного
труда Соловьева. В отличие от своих предшественников
по созданию обобщающих трудов Щербатова и Карам-
зина Соловьев шире воспринимал само содержание
понятия «история России». Так, если названные его
предшественники, завершив повествование о Киевской
Руси, переходили к оценке событий в Северо-Восточной
Руси, не охватывая славянские земли, ранее включав-
шиеся в состав Древнерусского государства (Южная Русь,
* Следует указать, что у Соловьева как буржуазного историка
по мере приближения в «Истории России...» к позднейшим пе-
риодам изложение событий становилось все более обширным,
в то время как у дворянских историков — Щербатова, Карам-
зина — проявлялась иная закономерность: в центре их внимания
находилась древнейшая история России, которая излагалась
наиболее подробно.
7 В. Е. Иллсрицкий
97
западные земли, вошедшие в состав Литовско-Русского
государства), то Соловьев впервые в достаточно система-
тической форме излагал их историю, прежде всего, ко-
нечно, политическую.
Кроме того, Соловьев не забывал и о соседних с Рос-
сией странах, в особенности о Польше, Литве, Швеции.
Он уделял внимание их истории, особенно внешней поли-
тике, что, конечно, обогащало содержание и повышало
научную значимость его труда.
Наконец, необходимо подчеркнуть особую ценность
труда Соловьева в том отношении, что в нем содержались
подчас весьма обширные главы, посвященные «внутрен-
нему состоянию русского общества» в тот или иной пе-
риод. Подобные разделы с крайне отрывочными сведе-
ниями были уже в «Истории Российской» Щербатова.
Были они и в труде Карамзина, несколько расширенные,
но также довольно эпизодичные. У Соловьева эти главы
были насыщены значительно обогащенными и разнооб-
разными сведениями. В них сообщалось об изменениях
в государственном строе, социальном составе населения,
обязанностях отдельных его групп, занятиях, служебной
иерархии и ее постепенном расширении, о способах веде-
ния войны, нормах законодательства, ремеслах, торговле,
а в более поздние времена — о промышленности, деятель-
ности церкви, религии, обычаях и нравах населения, об
уровне просвещения, памятниках литературы и общест-
венной мысли, а применительно к XVIII в. — ио дости-
жениях науки в России, в частности исторической. Тем
самым предметом изучения становились государственный
строй, социальные отношения, экономические основы об-
щественной жизни, в определенной мере и положение
народных масс. Конечно, выделение всех этих сведений
в отдельные главы, их отрыв от конкретной ткани основ-
ного повествования составляли определенный недостаток
труда Соловьева. Особенно это касалось характеристики
положения народных масс. Но самый факт привлечения
подобных сведений свидетельствовал не только о значи-
тельном расширении Соловьевым предмета исторической
науки, но и о реализации им, подобно французским исто-
рикам периода Реставрации, принципов разностороннего
изучения общественного развития, «гражданской истории»
на материалах истории России. Это Соловьев сделал
впервые в русской историографии.
98
По мере ежегодного регулярного выхода из печати
каждого нового тома «Истории России...» автору стано-
вилось все более ясна не только степень его ответствен-
ности за завершение начатого труда как национальной
истории, но и неимоверная сложность разрешения такой
задачи. С течением времени Соловьев стал все более
проникаться убеждением, что ее выполнение является
его гражданским и патриотическим долгом.
Прежде чем подробно анализировать содержание
«Истории России...», необходимо остановиться на воп-
росе о ее источниковедческой основе. Но поскольку дан-
ный вопрос достаточно подробно был рассмотрен во
вводной статье Л. В. Черепнина к советскому изданию
«Истории России с древнейших времен» (ИР, I, 28—34),
а также в комментариях к каждой из книг этого издания,
мы коснемся его лишь в самой общей форме.
Чтобы не повторять обстоятельных и содержательных
наблюдений Л. В. Черепнина, укажем лишь на те источ-
ники, которые впервые привлек Соловьев, а также те из
известных его предшественникам, которые он в значи-
тельно большей мере использовал сравнительно с ними.
Однако следует предварительно уточнить само поня-
тие источника для наших историографических целей.
Не следует забывать, что труды Щербатова и Карамзина
были для Соловьева при создании им нового обобщающего
труда своеобразными, именно историографическими источ-
никами. Соловьев опирался на то, что представлялось ему
достоверным в этих трудах, находил в них и определен-
ный источниковедческий материал — летописный, актовый
(это в особенности касалось богатейших примечаний к то-
мам «Истории государства Российского» Карамзина) или,
напротив, в чем-то не соглашался с предшественниками,
исправлял и дополнял их.
Еще важнее подход Соловьевым к тем историческим
источникам, которые были известны Щербатову и Карам-
зину и привлекались ими, но использовались односто-
ронне, в соответствии с более узким пониманием задач
изучения истории, свойственным дворянским историкам.
Это прежде всего касается летописей, законодатель-
ных памятников, актовых материалов. Так, основной кор-
пус источников — летописи (начиная с Лаврентьевской
и впервые привлеченной Карамзиным Троицкой), «Рус-
ская Правда», судебники, актовые материалы (к ним
7*
99
впервые обратился Щербатов) или записки иностранцев
(впервые широко привлеченные Карамзиным) изучался,
конечно, и Соловьевым. Но последний искал в них не
только объяснения событий политической истории, как
это преимущественно делали Щербатов и Карамзин, но и
ответа на другие вопросы, выдвигавшиеся буржуазной
историографией и потому требовавшие переосмысления
ранее известных источников: о социальных отношениях
(более всего в плане изучения сословного строя), разви-
тии государственных учреждений, усложнении их функ-
ций, обогащении юридических норм, о городском строе,
сведениях о занятиях населения, положении народных
масс, их быте, нравах, культуре и т. п.
Привлекались Соловьевым и литературные памят-
ники — древнерусские поучения, сказания, жития, бы-
лины. Они были особенно важны для изучения русской
истории древнейшего периода — до XIV в.
При исследовании древнерусской истории Соловьев
в соответствии с его значительно более широким понима-
нием задач исторического изучения уделил специальное
внимание природным условиям и этнографическим осо-
бенностям Древнерусского государства. Для освещения
этих вопросов Соловьев прибегал к географическим дан-
ным. Он стал одним из основоположников исторической
географии в России.
При освещении событий русской истории XIV—XV вв.
Соловьев привлек новые материалы, вошедшие в «Собра-
ние государственных грамот и договоров», «Акты архео-
графической экспедиции», неизвестные Карамзину, «Акты
исторические», более широко, чем Карамзин, изучил
записки иностранцев и иностранные хроники. Примерно
те же источники изучал Соловьев и для освещения собы-
тий XVI в. Но в его распоряжении уже были и ранее пе
опубликованные тексты летописей, шире использовался
актовый материал, записки иностранцев, а также разряд-
ные книги, как печатные, так и рукописные. Начал ши-
роко привлекаться архивный материал по истории внеш-
них сношений Русского государства.
В значительно большей мере новые источники привле-
кались Соловьевым для освещения событий русской исто-
рии XVII в. Напомним еще раз, что обобщающие труды
Щербатова и Карамзина были доведены только до начала
второго десятилетия XVII в. Тем самым последующие
100
десятилетия Соловьев должен был освещать заново. Для
этого он изучал летописи и хронографы XVII в., печатные
и рукописные повести и сказания русских людей, а также
иностранцев, законодательные памятники, дворцовые
разряды, актовые материалы. Но для рассматриваемого
периода уже начинали приобретать первостепенное зна-
чение архивные материалы, особенно для освещения воп-
росов внешней политики. К материалам Московского
главного архива иностранных дел Соловьев прибегал и
при изучении внешней политики России в XVI в., ис-
пользуя «дела» турецкие, крымские, шведские, польские,
английские, папского двора. Для XVII в. к ним прибави-
лись в соответствии с расширением внешних связей Рос-
сии «дела» голландские, французские, австрийские.
Фонды Московского архива министерства юстиции, При-
каза тайных дел Соловьев использовал для оценки
внутренней политики России.
Наиболее широк был круг источников, изученных Со-
ловьевым по истории России XVIII в. Им во многом
впервые изучались архивные фонды кабинета, сената,
Верховного тайного совета, Преображенского приказа,
Тайной канцелярии, отдельных коллегий. Только некото-
рые из них, например фонды сената, изучались отдель-
ными историками до Соловьева, в частности Н. Г. Устря-
ловым.
Приведенный перечень источников, привлеченных
Соловьевым, дает все основания для совершенно справед-
ливого вывода Л. В. Черепнина: «История России с древ-
нейших времен» Соловьева построена на громадном фун-
даменте исторических источников. Можно только удив-
ляться тому обилию материала, относящегося к разным
эпохам русского исторического прошлого, который обра-
ботан силами одного человека. Среди предшественников
Соловьева нельзя назвать никого из ученых, кто ввел бы
в научный оборот такую массу новых источников и фак-
тов. Особенно следует отметить заслуги Соловьева в об-
ласти систематической разработки архивных материалов
XVII—XVIII вв., многие из которых никто до него глу-
боко не изучал» (ИР, I, 28).
К этому выводу можно добавить только то, что такой
работы по объему, сложности, научному значению не
проделал никто из ученых и после Соловьева. Усиливше-
еся разделение труда, специализации наук, а затем появ-
101
леййё системы йст'орийескик упреждений, сойершейС'Гйо-
вание архивного дела избавили последующих ученых от
той поистине титанической работы, которую совершил
Соловьев.
Л. В. Черепнин в той же вводной статье, которую мы
цитировали, рассмотрел и специальные вопросы о приемах
критики источников, применявшихся Соловьевым, —
о пропусках в летописях, вставках, заимствованиях, влия-
ниях, установлении достоверности сообщаемых сведений,
сопоставлении русских и иностранных источников, их
терминологии и т. п. Даже этот перечень приемов источ-
никоведческой критики Соловьева свидетельствует о том,
что он был опытным и вполне квалифицированным для
своего времени критиком источников и в области источ-
никоведения занимал в целом передовые позиции.
Конечно, можно и нужно говорить и о теоретической
слабости, чертах методологической ограниченности источ-
никоведческих приемов Соловьева как буржуазного исто-
рика. Соловьев не понимал классовых основ изучаемых
источников, не видел отражения в них общественно-поли-
тической борьбы. Но в этих претензиях необходимо
соблюдать чувство меры, не нарушать принципов исто-
ризма, учитывать уровень развития источниковедения
в период научной деятельности Соловьева.
Следует отметить, что характеристика содержания
труда Соловьева «История России...» — исключительно
сложная задача. Она определяется, во-первых, богатством
содержания самого труда Соловьева, во-вторых, исто-
риографический очерк, данный во введении к нашей ра-
боте, убеждает в том, что именно данному труду дорево-
люционные и советские историки уделяли наибольшее
внимание. Поэтому необходимо определить важнейшие
принципы освещения содержания «Истории России...»
в нашей работе.
К числу важнейших из них относится прежде всего
сообщение о том новом в теоретическом, концепционном
отношении, что вносилось Соловьевым в изучение русской
истории.
Мы попытаемся проследить взаимообусловленный
процесс реализации теоретических принципов, лежав-
ших в основе исторической концепции Соловьева, в кон-
кретном изучении русской истории, с одной стороны, и
с другой — процесс обогащения самой концепции Соло-
102
вьева на основе изучения им конкретного материала ис-
тории России.
В этом плане привлекает в первую очередь внимание
исследователя предисловие к I тому «Истории России...».
Оно содержит изложение той концепции, которая поло-
жена в основу обобщающего труда Соловьева.
Не все в этом предисловии было новым для внима-
тельного читателя. Некоторые важные положения уже
были изложены Соловьевым в его диссертациях: указание
на решающее значение внутренних факторов, важные
звенья периодизации русской истории, например отри-
цание монгольского периода вопреки М. П. Погодину.
В предисловии к I тому «Истории России...» Соловьев
отбрасывает и исходный—«норманнский период», выде-
лявшийся Щербатовым, Карамзиным, Погодиным как
основанный на признании решающего значения внешних
признаков, на преувеличении роли варяжского завоева-
ния. Здесь Соловьев с полной определенностью заявляет:
«При начале русского общества не может быть речи о гос-
подстве норманнов, о норманнском периоде» (ИР, I, 56).
Предисловие было намеренно кратким в силу его
программного значения — обоснование приведенных прин-
ципов раскрывалось в последующем многотомном изложе-
нии. Но поскольку две диссертации Соловьева посвяща-
лись событиям допетровской истории России (вторая,
докторская, ограничивались XVI в.), то естественно, что
оценка событий русской истории с начала XVII в. дава-
лась Соловьевым во многом впервые в его обобщающем
труде.
Так, уже в предисловии была дана оценка Смутного
времени: страшные смуты грозили «юному государству
разрушением. Крамолами людей, питавших старинные
притязания, нарушена была духовная и материальная
связь областей с правительственным средоточием: части
разрознились, Земля замутилась» (ИР, I, 58—59).
В предисловии определено значение XVII в. в русской
истории как периода подготовки петровских преобразо-
ваний: «С новою династиею начинается приготовление
к тому порядку вещей, который знаменует государствен-
ную жизнь России среди европейских держав. При первых
трех государях новой династии мы видим начало важней-
ших преобразований...» (ИР, I, 59).
103
Интересна формула Соловьева, оценивающая истоки
преобразовательной деятельности Петра I: «Преобразова-
тель воспитывался уже в понятиях преобразования» (ИР,
I, 59). Нельзя не отметить, что эта формула полностью
совпадает с определением В. Г. Белинского4. Очевидно,
она так запала в память Соловьева, что он повторил ее
дословно.
Принципиальное значение, как мы отмечали, имела
первая глава I тома, посвященная обширному историко-
географическому очерку всей территории России, на ко-
торой протекала ее древняя и средневековая история.
Важно отметить, что подобный очерк впервые открывал
собой обобщающий труд по истории России. Он находился
в прямой связи с новым принципом, определяющим зако-
номерности развития каждого народа, «природой страны»
как принципом новой, буржуазной историографии. Значе-
ние этого объективного фактора Соловьев усматривал
в том, чтобы объяснить, почему Киевская Русь «не стала
государственным зерном для России». Ее «погранич-
ность», «близость к полю или степи, жилищу диких наро-
дов» исключали такую возможность (ИР, I, 70).
Не менее интересно указать и на то, что завершающим
вопросом в рассматриваемом очерке является следующий:
«Влияние природы па характер народный». Раскрывая
его содержание, Соловьев связывает «природу страны»
с другим объективным фактором—«природой племени».
Он стремится установить различие «в характере южного
и северного народонаселения Руси». При этом Соловьев
полагает, что южная «природа роскошная... усыпляет
деятельность» человека, «как телесную, так и умствен-
ную», а суровая северная природа требует «постоянного
и нелегкого труда человека... постоянно работает он умом,
неуклонно стремится к своей цели» (ИР, I, 78). Указание
на эти особенности характера северного населения Древ-
ней Руси понадобилось Соловьеву для далеко идущих
целей, обусловленных его концепцией: «Понятно, что наро-
донаселение с таким характером в высшей степени спо-
собно положить среди себя крепкие основы государствен-
ного быта, подчинить своему влиянию племена с харак-
тером противоположным» (ИР, I, 78). Приведенный вывод
идеалистичен в своей основе и подчинен обоснованию
государственной концепции Соловьева.
104
Последующие главы I тома посвящепы вопросам рас-
пространения сведений о Северо-Восточной Европе в древ-
ности, славянскому племени и его движению. Главное
значение придается характеристике родового быта сла-
вян до прихода варягов. Данного вопроса Соловьев ка-
сался уже в своих диссертациях, особенно докторской.
Детально он рассматривается и в «Истории России...»,
поскольку имел основополагающее значение для обосно-
вания концепции Соловьева (ИР, I, 55, 269).
Родовая теория впервые была выдвинута, как изве-
стно, не Соловьевым. Она получила обоснование
у И. Г. Эверса, который, как мы помним, оказал на Соло-
вьева, по его собственному признанию, весьма значитель-
ное влияние. В главной работе Эверса «Древнейшее рус-
ское право» (вышла на немецком языке в 1826 г., пере-
ведена на русский язык в 1835 г.) дана схема: семья,
род, племя, государство5. Эта схема сходна со схемой
Гегеля, получившей обоснование в его «Философии исто-
рии», и, возможно, заимствована у него Эверсом. Она
не соответствует действительному общественному разви-
тию: семья явилась следствием распада рода. Эта схема
идеалистична по своей сути, так как не раскрывает мате-
риальных основ общественного развития. Но она кон-
кретно раскрывала единую закономерность в развитии
народов, поскольку у всех народов исходным был родовой
строй, и в этом заключалось несомненное научное значе-
ние данной теории. Это принципиальное утверждение
разделялось также Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным и
было положено Соловьевым в основу его обобщающего
труда. Идеологи русской революционной демократии
соглашались с научным значением признания родового
строя как исходного в историческом развитии всех
народов6.
Для буржуазной историографии в России важны были
не только исходные элементы схемы Эверса — семья, род,
но и завершающий — государство как высшая форма
общественного развития. Доказательству этого тезиса
были посвящены работы всех представителей государ-
ственной школы в русской историографии, в особенности
работы ее главы Б. Н. Чичерина.
Что касается Соловьева, то трактовка им родового
быта не отличалась определенностью. Опираясь на пока-
зания летописи, Соловьев полагал, что древние славяне
105
жили родовым строем, каждый род имел своего главу —
старейшину рода, а племена Соловьев склонен был рас-
сматривать как боковые родовые линии. Не менее смутно
определял Соловьев и соотношение рода и общины7. Эту
неясность, расплывчатость представлений Соловьева пра-
вильно уловили некоторые его критики, выступившие
поело издания I тома «Истории России...», в частности
К. С. Аксаков, который, как и все славянофилы, считал
исходной формой общественного развития славян не род,
а общину, но трактовал последнюю идеалистически как
«нравственный союз», основанный на «внутренней
правде», т. е. любви и единении между всеми членами
общины.
Соотношение между родом, семьей и племенем впер-
вые научно объяснено основоположниками марксизма-ле-
нинизма, в особенности в классическом труде Ф. Энгельса
«Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства». Представления Соловьева по этим вопросам отра-
жали уровень развития буржуазной исторической науки
его времени. Но при всем их несовершенстве они содер-
жали рациональные суждения, чем и определялось зна-
чение разработки им этого важного вопроса на основе
анализа конкретного содержания русской истории.
Другим важным вопросом, впервые основательно раз-
работанным в I томе «Истории России...», был «варяж-
ский вопрос», или «норманнская проблема». Эта проблема
занимала умы историков, и не только русских, с середины
XVIII в. — со времен Байера, Миллера и Шлецера, дав-
ших развернутое обоснование якобы исключительного зна-
чения «призвания варягов» для всего последующего хода
русской истории. Убежденными норманнистами были
Щербатов, Карамзин и Погодин. Защита «норманнской
теории» имела существенное политическое значение как
для определения исходной даты утверждения в России
государственности (притом для дворянских историков
в ее самодержавной форме), так и для обоснования при-
звания Рюрика с дружиной в качестве акта добровольного
волеизъявления народа.
Соловьев в решении этого вопроса занял уклончивую
позицию умеренного норманниста. Он не отрицает самого
факта прихода варягов на Русь, противоречиво разрешая
вопрос о том, были они призваны новгородскими славя-
нами или же имел место факт завоевания славян. Со-
106
гласно летописному известию, варяжские князья были
призваны — ив «Истории России...» Соловьев это изве-
стие принимает как достоверное, но в других произведе-
ниях, например в «Исторических письмах» (1858), он
писал уже о завоевании 8.
В «Истории России...» Соловьев склонен признать
исключительно важное значение призвания варягов:
«Призвание первых князей имеет великое значение в на-
шей истории, есть событие всероссийское, и с него спра-
ведливо начинают русскую историю. Главное, начальное
явление в основании государства — это соединение раз-
розненных племен через появление среди них сосредото-
чивающего начала, власти» (ИР, I, 130). Соловьев считал
при этом, что среди славян благодаря приходу варягов
появилось «правительственное начало».
Однако во всем последующем повествовании Соловьев
этот тезис по сути дела не реализует. Прослеживая раз-
витие родового строя у славян после призвания варягов,
он настойчиво подчеркивал подчинение утвердившейся
княжеской династии славянским родовым отношениям.
Именно эти внутренние факторы, растворение варягов
в славянской среде и усвоение ими родовых отношений от
местного славянского населения и давали Соловьеву ос-
нование отрицать наличие «норманнского периода»
в Древней Руси, что и делает его представителем умерен-
ного норманнизма: у него нет полного отрицания роли
варягов, но нет и признания их преобладающего значения
в древнерусской истории.
Последующее повествование Соловьева сводится к ис-
тории деяний первых представителей династии Рюрикови-
чей — самого Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава.
О деятельности народа историк вспоминает лишь в заклю-
чительной главе I тома.
В связи с характеристикой первых князей Соловьев
отметил особую роль в Древней Руси княжеского вой-
ска — дружины. Дружинное начало, по Соловьеву, внеш-
нее начало, привнесенное варягами. В дружине первона-
чально и преобладали варяги, но впоследствии она стала
разноплеменной, и в конечном итоге в ней возобладало
местное население. Дружинники — вольные слуги князей,
и поскольку они могли переходить от одного князя к дру-
гому, то дружина была началом, разлагающим родовой
быт. В отличие от стран Запада дружинники, по мнению
107
Соловьева, не оседали на землю, служба князю была глав-
ным источником их дохода, и потому Россия не знала
феодальных отношений, вассалитета, основанного на зем-
левладении.
Из среды первых Рюриковичей Соловьев выделял ки-
евского великого князя Владимира, при котором на Руси
утвердилось христианство. Но в оценке деятельности этого
князя, как и его предшественников, Соловьев малоориги-
нален. Принятие христианства выделено из событий древ-
нерусской истории в качестве важного, открывшего воз-
можность влияния на славян более высокой византий-
ской культуры. Начиная с этого события Соловьев
всемерно стремится подчеркнуть положительную роль хри-
стианства и церкви, способствовавших, по его убеждению,
смягчению грубых языческих нравов славян и успехам
просвещения. Это убеждение — характерная особенность
исторических воззрений Соловьева, оно пронизывает собой
его понимание всей последующей истории России. Хри-
стианская религия способствовала вместе с тем, полагал
он, разложению родового быта.
Примечательна завершающая глава I тома «Истории
России...», посвященная внутреннему состоянию русского
общества до смерти Ярослава Мудрого — первая из глав
подобного рода в труде Соловьева. Интересен перечень
вопросов, в ней освещенных: значение князя, дружины,
разряды слуг княжеских, организация войска, характери-
стика городского и сельского населения, его нравов и
обычаев, анализ «Русской Правды», церковь, просвеще-
ние. Завершается глава определением степени норманн-
ского влияния. Именно здесь Соловьев сформулировал
свой итоговый вывод о незначительности «норманнского
влияния», о том, что «влияние варягов было более на-
ружное» и потому «вопрос о национальности варягов —
руси теряет свою важность в пашей истории» (ИР, I,
275).
Мы не случайно довольно подробно осветили содержа-
ние I тома «Истории России...» Соловьева. Русский исто-
рический процесс на его древнейшем этапе был пред-
ставлен в качестве внутренне обусловленного, органиче-
ского. Родовой строй древних славян подтверждал единую
закономерность их развития с историей других народов.
Прослеживалось воздействие родовых отношений па
княжескую династию. На конкретном материале древне-
108
русской истории раскрывалось взаимодействие таких фак-
торов, как «природа страны», «природа племени» и «ход
внешних событий». Было отвергнуто значение призвания
варягов как основания для признания особого «норманн-
ского периода» русской истории. Киевские князья, по
Соловьеву, не самодержцы, а члены одного рода, совме-
стно управлявшие страной.
Тем самым была выдвинута и обоснована новая, ори-
гинальная концепция древней русской истории, а в преди-
словии к I тому «Истории России...» намечены ее основ-
ные элементы применительно ко всей русской истории.
Именно это программное значение I тома «Истории
России.. .»ч в обосновании повой концепции русской исто-
рии и породило, по нашему мнению, ту оживленную ди-
скуссию, которая развернулась после его выхода из печати
летом 1851 г., хотя, конечно, имел значение и сам факт
начала издания нового обобщающего труда по русской
истории.
Надо отметить, что полемика привлекла внимание
к труду Соловьева пе только специалистов, но и всех ин-
тересующихся русской историей читателей, популяризи-
ровала его труд и этим обеспечила автору успех в осу-
ществлении его замысла. Как известно, враждебно на-
строенные критики после выхода I тома «Истории Рос-
сии. ..» примерно в течение ближайших пяти лет почти
не откликались на издание последующих томов этого
труда, организовав своего рода «заговор молчания»9.
Только с выходом VI тома «Истории России...», когда
ясно стало, что «заговор молчания» не удался, враждебно
настроенные критики снова выступили с рецензиями на
этот том. Но было уже поздно — авторитет труда Соло-
вьева прочно укрепился в читательских кругах.
Кроме повой концепции, читателей труда Соловьева,
принадлежавших уже к «послекарамзинскому» поколе-
нию, привлекало полное и систематическое изложение
русской истории, лишенное официозных трафаретов, опи-
сание ее важнейших событий. Так, уже в рассмотренном
нами I томе содержалась рациональная критика ряда
летописных легенд па основе более достоверных источни-
ков, давалась самостоятельная оценка деятелей древнерус-
ской истории. Соловьев, например, прославленную муд-
рость княгини Ольги отождествлял с хитростью, писал
о вероломстве Олега, жестокости Игоря, ошибках храброго
109
Святослава и т. п. Читателя не могло не привлечь и опи-
сание быта, нравов, обычаев древних славян, особенно
глава о внутреннем состоянии русского общества.
Написан был I том «Истории России...», как и все
последующие, с присущим Соловьеву литературным ма-
стерством, хотя он ни тогда, ни впоследствии не отличался
талантом художественного воспроизведения прошлого,
которым после него славился Ключевский.
Второй том «Истории России...», изданный в 1852 г.,
охватывает период от смерти Ярослава Мудрого (1054)
до смерти князя Торопецкого Мстислава Удалого. Если
первая дата правомерна, так как разделение великого
княжества Киевского после Ярослава I действительно
важный рубеж не только с позиций Соловьева, но и с на-
ших современных, марксистских позиций, поскольку это
разделение раннефеодального государства знаменовало
новый этап феодального дробления, то конечная грань
тома у Соловьева произвольна.
В центре внимания Соловьева находились взаимоотно-
шения между князьями единого рода — рода Рюрикови-
чей, эволюция этих отношений на протяжении изучаемого
периода. В томе прослеживаются события древнерусской
истории при жизни сыновей и внуков Ярослава I (1054—
1125). Это время бесконечных передвижений князей и
борьбы между ними, «время, которое с первого взгляда
кажется временем разделения, розни, усобиц княжеских,
является временем, когда именно было положено прочное
основание народному и государственному единству», более
того, в это время «является (па смену племенам. — В. И.)
русский парод» (ИР, VII, 15, 16).
Из князей этого времени Соловьев выделяет особенно
Владимира Мономаха, которого относит к числу наиболее
прославленных князей; характеристика его отличается не
только пространностью, но и красочностью. В последую-
щем изложении большое внимание уделяется также
Юрию Долгорукому — основателю Москвы. Но подлинным
героем повествования выступает Андрей Боголюбский,
княживший в 1157—1169 гг., с которым связывается не
только перемена внутрикняжеских отношений, утвержде-
ние вотчинного начала и единовластия, но и упадок Киева
и возвышение Северо-Восточной Руси с центром во Вла-
димире, а в связи с этим и начало нового периода в исто-
рии Древнерусского государства.
по
По Соловьеву, Древнерусское — Киевское государство
было государством лишь условно: князья были носите-
лями «правительственного начала», по страна была еще
лишена государственного строя. Конечно, в таком пред-
ставлении содержалось определенное противоречие, свой-
ственное концепции Соловьева. Андрей Боголюбский, по-
лучив Владимирское княжение от Юрия Долгорукого,
в новых условиях Северо-Восточной Руси, отдаленной от
Киева, поддерживаемый «новыми» городами, основанными
здесь самими князьями, начал утверждать новый принцип
власти — единовластие, переход власти не от брата к брату,
а от отца к сыну. Этот новый принцип представлял собой
исток новых, «государственных отношений», которые на-
чали многовековую борьбу со старыми, «родовыми отно-
шениями», продолжавшуюся до царствования Ивана Гроз-
ного.
Новые условия в Северо-Восточной Руси создались, по
Соловьеву, в новом географическом районе Верхней Волги,
впервые освоенном, по его мнению, князьями, что и спо-
собствовало здесь утверждению вотчинного владения и
единовластия. Освоением этого района начинается колони-
зационный процесс, который с тех пор будет продол-
жаться много веков. Тем самым Соловьев вводит в свою
концепцию новый важный элемент. Он с уверенностью
заявляет: «.. .древняя русская история есть история
страны, которая колонизуется» (ИР, II, 648).
Решающим событием, знаменовавшим переход первен-
ства от Киева к Владимирскому великому княжеству, Со-
ловьев, не нарушая в данном случае традиций дворянской
историографии, считал взятие Киева в 1169 г., после чего
Андрей Боголюбский не остался в стольном городе, пору-
чил управление им своему наместнику, а сам вернулся
во Владимир. Этому факту Соловьев придавал явно пре-
увеличенное значение: «Этот поступок Андрея, — писал
он, — был событием величайшей важности, событием по-
воротным, от которого история принимала новый ход, с ко-
торого начинается на Руси новый порядок вещей» (ИР,
I, 529).
В трактовке Соловьевым рассматриваемого периода
имелись свои сильные и слабые стороны. Сильная сто-
рона, возвышавшая Соловьева над дворянскими истори-
ками, заключалась в том, что он, даже уделяя преувели-
ченное внимание политической истории, все же и в этой
111
области реализовал принцип историзма и стремился про-
следить развитие государственных отношений, показать,
что они утвердились в результате борьбы противоречивых
начал — старых, родовых отношений между князьями Рю-
рикова дома и новых, государственных, начиная с утвер-
ждения единовластия. С этим была связана и борьба «ста-
рых», вечевых городов с «новыми», княжескими, служив-
шими опорой единовластия.
Таким образом, старой схеме дворянских историков,
прежде всего Карамзина, сводившей историю России к ис-
тории самодержавия, возникшего при Рюрике, нарушен-
ного в удельный период, период ослабления Руси 10, и вос-
становленного при Иване III, Соловьев противопоставлял
новую схему.
Рациональное в суждениях Соловьева как буржуаз-
ного историка, который, конечно, оставаясь идеалистом,
крайне преувеличивал значение надстроечных явлений,
заключалось в том, что для Соловьева самодержавие от-
нюдь не являлось исконным институтом власти, утвер-
дившимся в Древней Руси со времен Рюрика, как пола-
гали дворянские историки, а институтом, ставшим господ-
ствующим значительно позднее и в результате многовеко-
вой борьбы. И здесь Соловьев оставался верным принципу
историзма и идеалистической диалектике, верным духу
философии истории Гегеля.
Слабой стороной представлений Соловьева о рассмат-
риваемом периоде, как и последующих, оставалось не
только отрицание решающего значения социально-эконо-
мических факторов, что признаем мы, историки-маркси-
сты, но и явное непонимание роли народных масс в исто-
рических событиях Древней Руси, что отмечали еще сов-
ременники Соловьева — революционеры-демократы.
Изложение событий, которым посвящен II том
«Истории России...», завершается главой о внутреннем
состоянии русского общества в хронологических пределах
этого тома, но вынесенной автором в начало III тома.
В этой главе мы находим новые существенные элементы,
обогащающие ее содержание сравнительно с предшеству-
ющей аналогичной главой. Здесь уже речь идет о доходах
княжеских, взаимоотношениях между князьями и князей
с дружиной, о городах «старших» и «младших», о тор-
говле, монетной системе, искусстве, домашнем быте, про-
свещении, распространении христианства, разповидпо-
112
стях литературы того времени. И в дальнейшем по мере
обогащения внутренней жизни русского общества Со-
ловьев расширяет и содержание соответствующих глав.
Это становится существенной особенностью его труда.
После того как нами определены основные принципы
новой концепции русской истории Соловьева, получившие
отражение уже в первых томах его обобщающего труда,
есть возможность излагать его содержание в более обоб-
щенной форме.
Предметом последующего изложения истории России
в труде Соловьева были события, связанные с монголо-та-
тарским завоеванием Руси. Соловьев довольно бегло опи-
сывает завоевания, бедны его сведения о самих завоевате-
лях (этот вопрос был в середине XIX в. еще слабо изу-
чен), нет у Соловьева характеристики всей сложности ме-
ждународной обстановки в этот период. Правда, Соловьев
отметил, что «Германия ждала врагов в бездейственном
страхе, и одни славянские государства должны были взять
на себя борьбу с татарами» (ИР, II, 145).
Характеризуя монголо-татарские завоевания, Соловьев
связывает их с борьбой «леса со степью», оседлого насе-
ления Древней Руси с кочевыми народами, начавшейся
еще во времена Киевской Руси столкновениями с печене-
гами и половцами. Борьба с монголо-татарами — продол-
жение многовековой борьбы с кочевыми народами, борьбы
Европы с Азией. В этой борьбе Россия, по убеждению Со-
ловьева, выступала на протяжении веков передовым фор-
постом Европы, давая ей тем самым возможность беспре-
пятственно и потому ускоренно развиваться.
Тем самым Соловьев вводил в свою концепцию еще
один существенный элемент, который должен был объяс-
нить наряду с географической средой особенности истори-
ческого развития России, сложность и замедленность его
сравнительно с западноевропейскими народами.
Что касается борьбы с монголо-татарами, начавшими
завоевание Руси в первой половине XIII в., то Соловьев
явно недооценивал ни опустошения Руси завоевателями,
ни тяжести иноземного ига. В этом выразилась слабая
сторона его воззрений, явившаяся, очевидно, своеобразной
крайностью в преодолении погодинского тезиса об особом
«монгольском периоде» в русской истории. Соловьев пола-
гал, что монголо-татары быстро удалились с завоеванной
территории и ограничивались получением дани с населе-
8 В. Е. Иллерицкий
ИЗ
ния, которую первоначально собирали сами, а затем полу-
чали ее от русских князей, передав им сбор дапи непо-
средственно. Ханы якобы слабо вмешивались во внутрен-
ние дела Руси, вручая лишь ярлыки на Владимирское ве-
ликое княжение тем или иным князьям — тверским или
московским. К тому же опи покровительствовали русской
церкви, отличались веротерпимостью, что не могло не им-
понировать Соловьеву.
В таком подходе к характеристике времени монголо-
татарского завоевания, а затем длительного и тяжкого ига,
от которого страдали главным образом народные массы,
у Соловьева выразилась такая отрицательная особенность
его буржуазной исторической концепции, как невнимание
к положению народных масс.
В центре изложения Соловьева остаются внутренние
события русской истории и главным образом взаимоотно-
шения между князьями. Он подробно повествует о борьбе
между сыновьями Александра Невского (1276—1304),
борьбе между Москвой и Тверью (1304—1341).
Особое значение Соловьев придает характеристике
процесса возвышения Москвы и в этой связи политике мо-
сковских князей, начиная с Ивана Калиты.
Рассматривая возвышение Москвы как важную пред-
посылку усиления единовластия и возникновения того
центра, вокруг которого стали собираться русские земли,
образовавшие уже при Иване III единое государство, ко-
торое стало превращаться в государство самодержавное,
Соловьев высказал ряд новых и важных в научном отно-
шении положений.
Верный существу своей концепции, Соловьев обратил
внимание на внутренние, объективные условия, способст-
вовавшие сначала возвышению Москвы, а затем и образо-
ванию единого Русского государства. Среди них он выде-
лял прежде всего новые и выгодные условия природного,
географического характера. Географический фактор ска-
зывался прежде всего в том, что процесс образования Мо-
сковского государства первоначально протекал в бассейне
такой мощной реки, как Волга: «Чем область Волги
больше области всех остальных частей России, а естест-
венно меньшим частям примыкать к большей, отсюда по-
нятно, почему и Новгородская озерная область и Белая и
Малая Русь примкнули к Московскому государству... Ог-
ромная равнина предопределила образование одного госу-
114
царства» (ИР, I, 73). Тем самым природный фактор
предопределял расширение Русского государства, по Со-
ловьеву, не только до XVI в., но и в XVII и даже XVIII вв.
Говоря о влиянии географического фактора примени-
тельно к XIV—XV вв., Соловьев указывал на удобные
речные пути, превращавшие Москву в важный торговый
центр, на благоприятные условия для занятия земледе-
лием, удаленность от Золотой Орды, обусловленную этим
плотность, а следовательно, и многочисленность налогооб-
лагаемого населения, что способствовало быстрому обога-
щению московских князей.
Не все из этих условий были впервые указаны Соловь-
евым. О некоторых из них, в частности о выгодном гео-
графическом положении Москвы, писал еще Н. В. Стан-
кевич, молодой талантливый философ из круга прогрессив-
ной молодежи 30-х—начала 40-х годов, друг Белинского,
в бытность его студентом Московского университета. Под
руководством М. Т. Качеповского он написал статью
«О причинах постепенного возвышения Москвы» и опу-
бликовал ее в 1835 г. в «Ученых трудах» Московского
университета. Но то, что у Станкевича было намечено
в общей форме, у Соловьева получило обстоятельную на-
учную разработку. Указывал Соловьев на хитрую и осто-
рожную политику московских князей в их взаимоотноше-
ниях с ханами Золотой Орды, коварство в борьбе за вели-
кокняжеский престол, возвышавший их среди русских
князей. Со времени Ивана Калиты ханский ярлык на Вла-
димирское великое княжение прочно удерживается мос-
ковскими князьями. Это способствовало усилению не
только их политического могущества, но и обогащению,
что в свою очередь облегчало осуществление целеустрем-
ленной политики присоединения к Москве новых уделов,
способствовало территориальному расширению Москов-
ского княжества.
Однако при всем этом Соловьев подчеркивал решаю-
щее значение объективных факторов, а не личных качеств
московских князей. Напротив, он даже отвлекается от ин-
дивидуальных особенностей московских князей. В одном
из других своих произведений Соловьев заявлял: «Все они
похожи друг на друга, в их бесстрастных ликах трудно
уловить историку характеристические черты каждого; все
они заняты одною думою, все идут по одному пути, идут
медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно; каждый
8*
115
ступает шаг вперед перед своим предшественником, каж-
дый приготовляет для своего преемника возможность сту-
пить еще один шаг вперед» (Соч., с. 837).
У московских князей еще со времени Даниила Алек-
сандровича, отца Ивана Калиты, прочно утвердился новый
принцип престолонаследия, передачи власти от отца
к сыну, что знаменовало полное торжество нового на-
чала — единовластия, разрушавшего старые родовые отно-
шения и готовившего его превращение в самодержавие.
Характеризуя процесс возвышения Москвы и превра-
щение Московского княжества в сильнейшее среди рус-
ских княжеств, что предопределяло собирание русских зе-
мель именно вокруг Москвы и создание тем самым могу-
щественного Московского государства, Соловьев из
событий внутренней истории выделял переход митрополии
из Киева сначала во Владимир, а затем при Дмитрии Дон-
ском в Москву. Тем самым Москва усиливала свой авто-
ритет, становясь религиозным центром всех восточнорус-
ских земель.
Из событий внешней истории Московского княжества
Соловьев прослеживал его усиливавшуюся борьбу с мон-
голо-татарским игом, которая превращала Москву в центр
всех русских княжеств в борьбе за национальное освобож-
дение.
Самое выдающееся событие в ходе этой борьбы —
Куликовская битва в сентябре 1380 г. — получила у Со-
ловьева высокую оценку как событие всемирно-историче-
ского значения. Соловьев опять-таки связывал ее успех
с прочностью новых государственных основ, утвердив-
шихся в Московском великом княжестве.
«Летописцы говорят, — писал он, — что такой битвы,
как Куликовская, еще не бывало прежде па Руси; от по-
добных битв давно уже отвыкла Европа. . . основы евро-
пейского государства спаслись на отдаленном Северо-Во-
стоке; благодаря сохранению этих оспов государство
в полтораста лет успело объединиться, окрепнуть — и
Куликовская победа послужила доказательством этой
крепости; она была знаком торжества Европы над Азпею».
Далее Соловьев сравнивает Куликовскую битву с побе-
дами Каталонской и Турской пад арабами и утверждает,
что опа «носит одинаковый с ними характер, характер
страшного, кровавого побоища, отчаянного столкновения
Европы с Азиею, долженствовавшего решить великий в ис-
116
тории человечества вопрос — которой из этих частей света
восторжествовать над другою?» (ИР, II, 287).
Соловьев, конечно, как патриот гордился победой на
Куликовом поле и понимал, что эта победа одержана
русским народом, самоотверженно боровшимся за свою на-
циональную независимость. Но все-таки в соответствии со
своей концепцией он подчеркивает, что Куликовская
битва явилась доказательством прочности и торжества но-
вых государственных пачал.
Завершая свою оценку Куликовской битвы, Соловьев
писал: «Таково всемирно-историческое значение Куликов-
ской битвы; собственно в русской истории она служила ос-
вящением новому порядку вещей, начавшемуся и утвер-
дившемуся на Северо-Востоке» (ИР, II, 287).
Последующее укрепление «нового порядка вещей» про-
исходило при московских великих князьях Василии I и
особенно Василии II (Темном) —отце Ивана III.
Подробно охарактеризовал Соловьев внутреннюю и
внешнюю политику Ивана III. Главное для историка при
этом заключалось не в том, чтобы обогатить фактическую
основу своего повествования. В этом отношении особенно
потрудился Карамзин, крайне идеализировавший своего
героя, который, по его мнению, занял особое место в рус-
ской истории благодаря восстановлению прочной самодер-
жавной власти, подорванной на протяжении веков междо-
усобной борьбой удельных князей. По мнению Карамзина,
«Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих госу-
дарей, избираемых провидением решать надолго судьбу
народов» н. Поэтому главное для Соловьева заключалось
в преодолении идеализации Карамзиным Ивана III, в на-
учно объективной оценке его деятельности в связи с пред-
шествующей историей России.
Отнюдь не впадая в противоположную крайность, не
стремясь к развенчанию Ивана III, Соловьев тем не ме-
нее подчеркивал, что Иван III лишь завершал ту поли-
тику, которую задолго до пего настойчиво осуществляли
московские князья, начиная с Ивана Калиты, — политику
собирания русских земель в единое государство. «Старое
здание было совершенно расшатано в своих основаниях,
и пужеп был последний, уже легкий удар, чтобы дору-
шить его», — писал Соловьев, имея в виду распад удель-
ной системы. Поэтому объединение русских земель «не
есть следствие его одной деятельности, но Иоанну III при-
117
надлежит почетное место среди собирателей Русской
земли, среди образователей Московского государства»
(ИР, III, 8, 9).
Соловьев вновь выдвинул на первый план объективные
причины успешного собирания русских земель, отметив
вместе с тем и благоприятные внешние условия для этого
длительного и сложного процесса. Он подробно описал
присоединение Новгорода к Московскому великому кня-
жеству, охарактеризовал своеобразный внутренний строй
этого города. Причину внутренней борьбы в Новгороде
Соловьев в соответствии со своей государственной теорией
усматривал в длительном отсутствии в Новгороде прочной
княжеской власти, в вечевых неурядицах. Острой классо-
вой борьбы в Новгороде в этот период историк не заме-
чал. Такая же характеристика была дана и внутреннему
строю другой феодальной республики — Пскову.
Важное значение придал Соловьев оценке восточной
политики Ивана III, полному освобождению русского на-
рода от монголо-татарского ига, охарактеризовал отноше-
ния Русского государства с Литвой.
Иван III укрепил великокняжескую власть, начав при-
давать ей атрибуты власти самодержавной. Но Соловьев
явно преувеличил степень прочности единства Московс-
кого государства при Иване III, что и подтвердили после-
дующие события русской истории при его преемниках,
особенно при внуке — Иване IV.
Придавая важное значение правлению Ивана III, Со-
ловьев заканчивает посвященное ему повествование про-
странной главой, характеризующей внутреннее состояние
русского общества в годы его княжения, процесс услож-
нения политической и общественной жизни Московского
государства. Здесь пе только всесторонне характеризуется
княжеская власть со всеми ее новыми атрибутами, но и
права удельных князей, боярства, города не только Се-
веро-Восточной, по и Юго-Западной Руси, население, его
занятия и обязанности, торговля, искусства, градострои-
тельство, церковь, ереси того времени и борьба с ними,
Судебник Ивана III в сравнении его с Судебником Кази-
мира Литовского. Словом, новое понимание истории как
истории гражданской реализуется Соловьевым именно
в этой главе применительно к изучаемому времени, но, ко-
нечно, в меру понимания ее с позиций буржуазного исто-
рика.
118
Главой под названием «Дела внутренние» заверша-
ется описание Соловьевым княжения Василия III
в IV томе его «Истории России...» 12. Удельный вес граж-
данской истории и, следовательно, преодоление ограничен-
ности дворянской историографии у Соловьева все более воз-
растает. Правда, характеристика власти, государственного
строя, новых учреждений централизованного государства,
его юридических норм у Соловьева остается на первом
месте. И это не случайно.
Напомним, что для Соловьева объединение русских
земель в единое государство, а затем его централизация —
глубоко прогрессивный процесс преодоления удельного
дробления, когда «раздробленные... части приводятся
в связь, стягиваются правительственной централиза-
цией)...» Она «выполняет недостаток внутренней связи,
условливается этим недостатком и, разумеется, благоде-
тельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и раз-
брелось: это хирургическая повязка на больном члене,
страдающем потерею внутренней связи, внутренней
сплоченности» (ИР, VII, 27).
Одно из центральных мест в «Истории России...» за-
нимает повествование о царствовании Ивана IV и новая
оценка его деятельности, ее исторического значения. Если
Соловьев не соглашался с идеализированной оценкой Ка-
рамзиным деятельности Ивана III, выступавшего у дво-
рянского историка главным героем всей русской истории,
то в еще большей мере разошелся Соловьев с Карамзиным
в оценке деятельности Ивана Грозного.
Карамзин, следуя за политическим противником
Ивана IV, идеологом боярской знати князем Курбским,
разделил царствование Ивана Грозного на два периода:
светлый — период процветания и успехов во внутренней
и внешней политике (имеется в виду деятельность Из-
бранной рады и завоевание Казани) и темный — период
опричнины, время острой и, по мнению Карамзина, не-
оправданной и вредной для страны борьбы с удельными
князьями и боярами, сопровождавшейся неудачной Ли-
вонской войной, приведшей Россию к ослаблению и
упадку.
Для Соловьева же время правления Ивана IV — время
окончательной победы государственных отношений, время
превращения единодержавия в самодержавие — период
прогрессивный. Жестокости правления Ивана Грозного
119
Соловьев осуждал, тем пе менее пе отказывался от общей
положительной оценки его царствования. Иван IV сокру-
шил сопротивление удельных князей и боярской знати и
этим утвердил торжество государственного начала; поли-
тика опричнины была оправданна и неизбежна: «...харак-
тер, способ действий Иоанновых исторически объясня-
ются борьбою старого с новым... Век задавал важные воп-
росы, а во главе государства стоял человек, по характеру
своему способный приступить немедленно к их решению»
(ИР, III, 712).
Следует заметить, что подобная оценка Соловьевым
деятельности Ивана Грозного в середине прошлого века
разделялась К. Д. Кавелиным. Он ранее Соловьева выска-
зал ее в общей форме в статье «Взгляд на юридический
быт России», опубликованной в «Современнике» в 1847 г.
Еще ранее Кавелина во многом сходные воззрения на дея-
тельность Грозного высказывал В. Г. Белинский 13, реши-
тельно, впрочем, осуждавший его жестокость.
Соловьев безусловно испытал влияние взглядов Каве-
лина, известны были ему и суждения Белинского. Но он
дал не схематическую характеристику деятельности
Ивана Грозного, а раскрыл свои взгляды на основе бога-
того конкретного материала, осмысленного с новых пози-
ций. Более того, оценка деятельности Ивана IV была свя-
зана у Соловьева со стержневыми проблемами, раскрыва-
ющими существо его концепции русской истории. Эта дея-
тельность завершала многовековой процесс борьбы госу-
дарственных отношений с родовыми, утверждала самодер-
жавную власть, возвышала международное положение
России, определяла новое направление ее внешней поли-
тики — стремление к завоеванию побережья Балтийского
моря. Тем самым начинался «поворот к Западу»,
а Иван IV выступал предшественником Петра I.
Главной государственной потребностью России при
Иване IV стала, по мысли Соловьева, «потребность про-
свещения, сближения с народами Западной Европы» (ИР,
IV, 358), потребность восприятия от западноевропейских
государств «плодов гражданственности», принятие «на-
уки, этого могущества, которого именно недоставало Мо-
сковскому государству» (ИР, IV, 384).
Постарался Соловьев предупредить и тех критиков, ко-
торые готовы были обвинить его в оправдании жестокости
Ивана Грозного и политики опричнины. В их адрес Со-
120
ловьев писал: «Странно смешение исторического объясне-
ния вещей с их оправданием» (ИР, III, 712).
Своеобразно рассматривал Соловьев завоевание при
Иване IV Казани, Астрахани и Сибири. Для него эти за-
воевания — показатель перехода России в наступление на
Восток, начало постепенного подчинения Азии Европе.
В этом движении выразилась возросшая мощь Москов-
ского государства.
Подчеркивая важное значение царствования Ивана IV,
Соловьев также завершает свое повествование главой
о внутреннем состоянии русского общества при первом
русском царе. В пей сообщается о значении нового, цар-
ского титула, об изменениях в царском окружении после
опричнины, новой организации войска, финансах, област-
ном управлении, промышленности, торговле, церкви в Вос-
точной и Западной России, новом судебнике, литературе,
начале книгопечатания.
В главах, посвященных царствованию Федора Иоанно-
вича, Соловьев характеризует завершающий этап правле-
ния династии Рюриковичей. Здесь отмечается прочность
новых порядков самодержавной России, утвержденных
Иваном Грозным. Новым важным явлением считается
начало юридического оформления закрепощения крестьян
при Федоре Иоанновиче. Социальной опорой самодержав-
ной власти становятся дворяне и дети боярские, которые
за службу должны были получать землю с прикреплен-
ными к ней рабочими руками. «Государство, — писал Со-
ловьев, — давши служилому человеку землю, обязано было
дать ему и постоянных работников, иначе он служить не
мог» (ИР, IV, 296).
Для Соловьева закрепощение крестьян — мера вынуж-
денная, вызванная будто бы стремлением трудового насе-
ления страны растекаться по ее необъятным и необжи-
тым пространствам. Государство якобы таким образом
встает перед необходимостью прекратить этот процесс, за-
ставить крестьян работать на помещиков.
Соловьев ставил закрепостительную политику государ-
ства в зависимость и от слабости городов, которые в конце
XVI в. еще не могли стать существенной экономической
опорой государства.
Однако важно другое. Соловьев, говоря о начале за-
крепостительной политики и ставя ее в зависимость от
выдвижения пового социального слоя — дворянства как
121
опоры государства в изменившихся исторических усло-
виях, в сущности солидаризировался с теорией, четко
сформулированной примерно в те же годы Б. Н. Чичери-
ным. Согласно этой теории самодержавное государство
осуществляло закрепощение как дворянства в форме его
обязательной службы, так и крестьянства, прикреплявше-
гося к земле для обязательной работы в дворянских по-
местьях. Основы своей теории Б. Н. Чичерин изложил
в ряде статей, печатавшихся в журналах с 1856 г., а за-
тем объединенных в сборнике «Опыты по истории рус-
ского права» (1858). А в 1857 г. издается VII том «Истории
России...» Соловьева. Совпадение это не случайно. Не бу-
дем гадать по поводу того, имело ли место влияние Чиче-
рина на Соловьева, или же было простое совпадение
взглядов. Нам важно установить их идентичность, так как
перед нами основополагающая проблема новой, государст-
венной школы в русской историографии, которая не
только превращала государство в ведущую силу истории
России, приписывала ему решающее значение, но и выда-
вала «государственные нужды» за общенародные и тем
самым исторически оправдывала закрепощение крестьян.
Не случайно и то, что объяснение происхождения кре-
постного права буржуазными историками было быстро
подхвачено представителями дворянской историографии.
Приступая к оценке деятельности Бориса Годунова,
Соловьев в сущности раскрывает истоки Смутного вре-
мени — самого тревожного и драматического, по его мне-
нию, периода в истории России.
Соловьев высоко оценивал государственные дарования
Бориса Годунова. Его оценка противостоит карамзин-
ской, согласно которой Годунов — лицемер и малодушный
человек. Но вместе с тем Соловьев отмечает и отрица-
тельные качества Годунова — мелочность, подозритель-
ность, приобретенные в годы разгула опричнины, его де-
магогические мероприятия для приобретения популяр-
ности в народе. Более того, тщательно изучив следствен-
ное дело о смерти царевича Дмитрия, Соловьев пришел
к выводу о причастности Годунова к его убийству, согла-
сившись тем самым с мнением Карамзина по этому воп-
росу.
Соловьев указывал и на возрастающее недовольство
народных масс правлением Годунова, которое и породило
веру в самозванца.
122
Лет необходимости подробного описании представлений
Соловьева о развитии Смуты, ее существе, исторических
итогах. В этих представлениях мало оригинального срав-
нительно со Щербатовым и Карамзиным. Различие заклю-
чается в большей полноте повествования, так как Соловь-
ев не прервал его на 1611 г., как это произвольно сделал
Карамзин, а завершил восстановлением государственного
единства в результате возведения на престол новой дина-
стии — Романовых.
Есть различие и в другом — Соловьев дал свою трак-
товку причин Смуты и оценку тех сил, которые ее вы-
звали. Этот вопрос разрешается им в свете теории о борьбе
двух начал — государственного и сил антигосударствен-
ных, анархических, главной из которых являлось казаче-
ство. Оно образовалось, по Соловьеву, в период укрепле-
ния государства, когда все недовольные этим обществен-
ные элементы, не желавшие служить государству, уходили
на окраины, что было легко сделать в огромной колонизу-
емой стране.
«Смутное время мы имеем право рассматривать, — пи-
сал Соловьев, — как борьбу между общественным и про-
тивообщественным элементом, борьбу земских людей, соб-
ственников, которым было выгодно поддержать спокойст-
вие, наряд государственный для своих мирных занятий,
с так называемыми казаками, людьми безземельными,
бродячими, людьми, которые разрознили свои интересы
с интересами общества, которые хотели жить за счет об-
щества, жить чужими трудами» (ИР, IV, 391).
Смута возникла внутри страны вследствие также на-
рушения нравственности еще во времена опричнины,
в особенности благодаря ослаблению религиозных чувств.
Социальных истоков Смутного времени Соловьев не заме-
чает, вернее, он их игнорирует. Смута, начатая анархиче-
скими силами внутри страны, была поддержана степными
казаками, и это придало ей такой размах, что государство
было едва не разрушено, оно оказалось на краю гибели.
Интересно отметить, что Соловьев предупредил после-
дующих историков — В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова
в своих представлениях о развитии Смуты «сверху вниз»:
она началась боярской интригой, затем в нее включились
дворянство и купечество и, наконец, широкие народные
массы. Но у Соловьева выступления народных масс, кре-
стьянства, даже крестьянская война под предводительст-
123
вом Болотникова лишены социального содержания. Кре-
стьяне якобы были вовлечены в борьбу казаками, обма-
нувшими их, и потому восставшие крестьяне начинали
«бить и грабить прежде всего свою же братию — кре-
стьян» (ИР, IV, 391). Даже сам Болотников был втянут
в борьбу будто бы обманом...
В целом же восстания крестьян и особенно участие
в борьбе казачества решительно осуждаются Соловьевым
как в событиях начала XVII в., так и в последующее
время. Особенно раздраженно всегда писал Соловьев о ка-
зачестве 14.
События начала XVII в. осложнились вмешательством
соседних государств — Польши и Швеции. Страна была
спасена вторым ополчением, созданным и возглавленным
Мининым и Пожарским, которое боролось не столько за
национальную независимость, а, по мнению Соловьева,
прежде всего за православную веру, за восстановление мо-
нархии и потому добилось успеха. Земский собор 1613 г.
избрал царем Михаила Романова. Новая династия восста-
новила могущество России.
Нельзя не напомнить в этой связи о рецензии Г. 3. Ели-
сеева на VII и VIII тома «Истории России...», опублико-
ванной в 1860 г. в «Современнике» под псевдонимом
Грыцько. Елисеев подчеркнул политическую тенденциоз-
ность Соловьева, выразившуюся в том, что историк, опи-
сывая события в России начала XVII в., в которых так
ярко проявилась роль народных масс в борьбе за нацио-
нальную независимость, а крестьянства против крепостни-
чества, игнорировал или, как мы убедились, искажал ха-
рактер и значение этой борьбы, сводя ее к стремлению
восстановить монархию и защитить православную веру.
Соловьев не показывал бедственного положения народа и
не раскрывал причин его возмущения. Вот почему Ели-
сеев писал: «Как Карамзин идеализировал всю нашу древ-
нюю жизнь, так Соловьев идеализирует московскую
власть... Внутренняя жизнь народа для него исчезает со-
вершенно при блестящей картине действий централиза-
ции». Крайне разрозненные сведения о положении народа
приведены лишь в главах, посвященных внутреннему со-
стоянию русского общества. При таком освещении столь
важного вопроса «становятся непонятными не только при-
чины тогдашнего положения народа, но даже картина
этого положения исчезает» 15.
124
Последующее повествование в «Истории России...»
посвящалось Соловьевым царствованию первых трех ца-
рей из новой династии — Михаила, Алексея и Федора
(IX—XII и часть XIII тома). Перед нами не только про-
странное, но даже детальное описание всех важнейших
событий русской истории XVII в.
Это объясняется рядом обстоятельств: во-первых, Со-
ловьев пачал описывать период, выходящий за пределы
предшествующих обобщающих трудов Щербатова и Ка-
рамзина: здесь все было ново пе только для читателя, но
во многом и для профессиональных историков, включая
самого Соловьева. Во-вторых, XVII в. в истории России
был пасыщеп очень важными внутри- и внешнеполитиче-
скими событиями; значительно расширились территория
России и ее связи со многими государствами, следова-
тельно, само содержание истории обязывало к простран-
ному повествованию. В-третьих, необычайно расширилась
источпиковая база. От XVII в. осталось значительно
больше документов, чем от предшествующих веков, мно-
жество из них хранилось в архивах и было впервые изу-
чено Соловьевым. И, наконец, в-четвертых, XVII в., как
мы знаем из предисловия Соловьева к I тому его «Исто-
рии России...», занимал важное место в его исторической
концепции — это был век подготовки, назревания предпо-
сылок и осознания необходимости преобразований Петра I,
оценка которых занимала центральное место в историче-
ской концепции Соловьева как буржуазного историка.
Весь IX том «Истории России...» Соловьев посвящает
царствованию Михаила Федоровича. При этом первом
царе из новой династии Романовых государство длитель-
ное время преодолевало последствия событий начала
века. Укреплялся государственный аппарат, создавались
условия для развития внутренней, а затем и внешней тор-
говли, промышленности, преодолевались недавние кон-
фликты с Польшей и Швецией, налаживались связи с со-
седними и более отдаленными государствами. Том завер-
шается ставшей уже традиционной для обобщающего
труда Соловьева главой о внутреннем состоянии Москов-
ского государства в описываемое царствование.
Все повествование Соловьева о царствовании Миха-
ила Романова проникнуто чувствами «народолюбия» со
стороны царя и «царелюбия» со стороны парода.
125
Последующие три тома «Истории России...» (X—XII)
посвящены царствованию Алексея Михайловича. Столь
обширный объем повествования свидетельствует о подроб-
ности описания событий этого царствования и о том зна-
чении, которое придавалось ему в истории России Соловь-
евым.
Характерно, что значительное внимание Соловьев уде-
лил внешней политике правительства Алексея Михайло-
вича. Так, том X открывается главой, характеризующей
состояние Западной Руси в конце XVI и в первой поло-
вине XVII в. Мы уже отмечали широту исторических ин-
тересов Соловьева, его внимание к тем землям, которые
некогда входили в состав Древнерусского государства.
Но в данном случае, кроме отмеченного обстоятельства,
важно другое — это повествование готовило читателя к вос-
приятию одного из важнейших событий в истории России —
вхождению в ее состав в середине XVII в. Украины.
Война с Польшей за Украину освещалась Соловьевым
очень подробно, хотя у него уже был предшественник —
Н. И. Костомаров, издавший в 1858 г. монографию о Бог-
дане Хмельницком.
Соловьев значительно шире Костомарова привлек ар-
хивные материалы. Высоко оценивая значение воссоеди-
нения Украины с Россией, историк по-своему трактует
характер борьбы украинского народа. Он не раскрывает
должным образом ее социального содержания как борьбы
народных масс против угнетения польских панов, подчер-
кивая прежде всего, что это была борьба за чистоту пра-
вославной веры против католицизма и унии, борьба за
присоединение к единоверному русскому народу.
Вопросы внешней политики России от середины XVII в.
и до конца его в «Истории России...» освещаются очень
широко и в значительной мере впервые, на основе архив-
ных материалов.
Для выявления классовой сущности воззрений Со-
ловьева, выразившейся в характеристике им царствования
Алексея Михайловича, важно выяснить его отношение
к народным движениям, в такой мере наполняющих
XVII в., и в особенности годы правления Алексея Ми-
хайловича, что этот век не случайно называют «бунташ-
ным», хотя, с другой стороны, сам царь именовался «тишай-
шим». Достаточно вспомнить события 1648 г. в Москве,
1650 г. в Пскове и Новгороде, «медный бунт» 1662 г. и
126
грозную крестьянскую войну под предводительством Сте-
пана Разина. По мнению историка, на «страшном опыте»
событий начала XVII в. «люди Московского государства
научились, что значат рознь и шатость, развязывающие
руки ворам» (ИР, V, 10—11).
В присущей ему манере Соловьев обходит социальные
причины народных возмущений, сводит их к мелочным
поводам, решительно осуждает эти движения и полностью
одобряет правительственную политику, направлявшуюся
па их подавление. Для Соловьева восставшие — «мятеж-
ники», «бунтовщики», поднявшиеся против законных
властей. В этом отношении буржуазный историк Соловьев
по существу не отличался от историков дворянских.
Си решительно отвергает закономерность классовой борьбы
в условиях России — в этом проявилась реакционная
черта политических и исторических воззрений буржуаз-
ного историка.
Нельзя не согласиться с А. М. Сахаровым, в коммен-
тариях к IX—X томам «Истории России...» напомнив-
шим о том, что эти тома вышли в 1859 и 1860 гг., т. е.
в период революционной ситуации в России; они отразили
испуг либералов перед нараставшим народным протестом
против готовящейся «крестьянской» реформы и перед
подъемом освободительного движения, что заставило их
«отказываться от своей оппозиционности по отношению
к царизму и переходить на позиции прямого одобрения
действий самодержавия в борьбе с народным движением»
(ИР, V, 700). Такая позиция либералов и солидарного
с ними Соловьева привела его к апологии самодержавия
в XVII в. и к одобрению его борьбы с народными дви-
жениями того времени. Вследствие этого становится по-
пятным также полное одобрение Соловьевым Соборного
уложения 1649 г., юридически завершившего закрепоще-
ние крестьян.
Но главное направление изложения Соловьевым цар-
ствования Алексея Михайловича заключалось в раскры-
тии буржуазным историком предпосылок реформ первой
четверти XVIII в., необходимость которых была осознана
значительно ранее, по убеждению Соловьева, еще со вре-
мен Ивана Грозного. Уже Ливонская война за побережье
Валтийского моря, которое должно было связать Россию
с передовыми странами Западной Европы, как бы пред-
восхищала борьбу, успешно завершенную Петром I.
127
Но Ливонская война закончилась неудачно. Соловьев
в связи с этим сопоставляет успехи России в завоевании
Казани, Астрахани и Сибири на Востоке с неудачей на
Западе: «Стало очевидно, что, во сколько восточные со-
седи слабее России, во столько западные сильнее. Это
убеждение естественно и необходимо порождало в живом
народе стремление сблизиться с теми народами, которые
оказали свое превосходство, позаимствовать от них то, чем
они явились сильнее;сильнее западные народы оказались
своим знанием, искусством, и потому надобно было у них
выучиться» (ИР, VII, 112).
Однако ни в конце XVI, ни в начале XVII в. не созда-
лось условий ни для такого обучения, ни для первых пре-
образований, которые бы заложили практические основы
для поворота к Западу. Эти условия создались лишь в цар-
ствование Алексея Михайловича, и Соловьев в «Истории
России...» тщательно прослеживает развитие таких пре-
образований, которые, осуществляясь медленно, в тече-
ние десятилетий, подготовили условия для тех коренных
перемен, которые произошли в первой четверти XVIII в.
Соловьев утверждал, что «во второй половине XVII века
русский народ явственно тронулся на новый путь; после
многовекового движения на восток он начал поворачивать
на запад» (ИР, VII, 439). XVIII век оказался в этом смы-
сле неразрывно связан с XVII веком.
Как историк-идеалист Соловьев на первый план вы-
двигает осознание необходимости преобразований передо-
выми современниками, прежде всего, конечно, из окруже-
ния Алексея Михайловича. К их числу он относил боя-
рина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, иници-
атора разработки нового торгового устава и расширения
торговых связей России, видного дипломата своего вре-
мени, возглавлявшего Посольский приказ; Артамона Сер-
геевича Матвеева, воспитателя Натальи Кирилловны На-
рышкиной— матери Петра I, а также Федора Михайло-
вича Ртищева. Именно эти деятели внушали, по Соловь-
еву, мысль о преобразованиях царю.
При Алексее Михайловиче была усовершенствована
система государственных учреждений, выросло число при-
казов, каждому из которых была поручена определенная
область деятельности. Соловьев, как известно, рассматри-
вал государство как основную силу в истории, как глав-
ное орудие преобразований. По его мнению, упрочение
128
царской власти и постепенное превращение ее в абсолют-
ную облегчало осуществление преобразований. Было
введено постоянное войско, обучавшееся иноземному
строю. К середине XVII в. относится начало корабле-
строения, значительно расширилась торговля, не только
внутренняя, но и внешняя, что способствовало сближению
с западноевропейскими государствами, иностранцам дава-
лись особые привилегии для учреждения заводов. Все
это требовало совершенствования просвещения, чему,
в частности, способствовало включение в состав России
Украины, где просвещение достигло более значительных
успехов. Расширяются училища, а при царе Федоре Але-
ксеевиче создается Славяно-греко-латинская академия —
первое высшее учебное заведение в России. Изменяются
обычаи, поднимается культура, охватывая в XVII в. еще
сравнительно незначительные слои населения. Важное
значение имело определение взаимоотношений государ-
ства с церковью.
Соловьев полагал, что церковь в России никогда не
претендовала на светскую власть — в этом, по его мнению,
заключалось отличие православной церкви от католиче-
ской. Исключением явилась деятельность патриарха Ни-
кона, но притязания его оказались безуспешными. В итоге
царская власть еще более укрепилась, и тем самым рас-
ширились ее возможности в реформировании государства,
в дальнейшем сближении с Западом.
Так, по Соловьеву, готовился переход России из «воз-
раста чувств» в «возраст мысли», совершался переход от
древней истории России к новой16. Этот переход завер-
шился в первой четверти XVIII в. в результате преобра-
зований Петра I, но готовился он еще в XVII в., особенно
интенсивно во второй его половине. Новое вызревало
в борьбе со старым, совершался внутренне обусловлен-
ный, органический процесс перехода страны на новую,
более высокую ступень ее исторического развития. Общие
философско-исторические представления Соловьева полу-
чали конкретное обоснование в разрешении им проблемы
тесной связи XVII и XVIII вв. в истории России, проб-
лемы исторической подготовленности и органичности ре-
форм Петра I.
Подробно охарактеризовав все важнейшие события,
связанные с внутренней и внешней политикой правитель-
ства Алексея Михайловича, Соловьев закончил обзор этого
9 В. Е. Иллерицкий
129
царствования большой и, по нашему убеждению, лучшей
главой своего обширного труда, открывшей XIII том «Ис-
тории России...» под знаменательным названием «Россия
перед эпохою преобразования». Глава эта имела програм-
мное значение, в ней подводились важнейшие итоги разви-
тия России в древний ее период и обосновывалась необхо-
димость ее перехода к широким и глубоким преобразова-
ниям первой четверти XVIII в.
Все исследователи исторических воззрений Соловьева
сходятся в признании того, что проблема преобразований
в России, осуществленных Петром I, являлась во всех
смыслах центральной, важнейшей для понимания истори-
ческой концепции крупнейшего буржуазного историка
России.
Мы также убедились в том, что рассматриваемая проб-
лема была центральной для понимания Соловьевым рус-
ского исторического процесса — исторический опыт XVI—
XVII вв. подводил к осознанию необходимости глубоких
преобразований в России. Сами реформы Петра I в пред-
ставлении Соловьева — крупнейший перелом в истории
России до середины XIX в.
Понимание Соловьевым реформ Петра I явилось сред-
ством обоснования его отношения не только к прошлому
России, но и к современности. Он размышлял над этой
важнейшей проблемой тогда, когда в России готовились
реформы, начавшиеся крестьянской реформой 1861 г. Из-
давались XIII—XVIII тома «Истории России...» тогда,
когда эти реформы уже осуществлялись. Соловьев, как и
все либералы, усматривал между реформами Петра I и
современными ему буржуазными реформами прямую связь
прежде всего в методах осуществления, как реформ
«сверху». В этом смысле реформы Петра I Соловьев рас-
сматривал в качестве исторического образца для совре-
менных преобразований. Связь между ними Соловьев вме-
сте с другими либералами усматривал и в другом:
реформы Петра I ввели Россию в семью европейских наро-
дов, современные должны были завершить «европеиза-
цию» России посредством создания «правового» государ-
ства, исключающего социальные конфликты. Разочарова-
ние в ожидаемом результате обусловило эволюцию
политических воззрений Соловьева, о чем мы уже писали.
Напомним и о другом очень важном моменте: на при-
мере анализа реформ Петра I конкретизировались теоре-
130
Фйческие представления Соловьева о соотношении реформ
н революции, решающей роли государства и истории, роли
личности и народных масс в историческом процессе.
Учитывая все отмеченные обстоятельства, необходимо
подчеркнуть важность правильного понимания трактовки
всей совокупности вопросов, связанных с изучением Со-
ловьевым реформ Петра I.
Соловьев был далеко не первым историком, заняв-
шимся изучением петровских преобразований. Историо-
графия этой проблемы и ее источниковедческая основа
ко времени Соловьева были достаточно богатыми. Начиная
с работ В. В. Крестинина и публикаций И. И. Голикова,
относящихся к XVIII в., и кончая совсем новым для Со-
ловьева трудом Н. Г. Устрялова, изучение реформ Петра I
прошло длительный путь. И тем не менее полноценный
научный труд об этих реформах был впервые создан
именно Соловьевым. Этот труд представлен шестью то-
мами «Истории России...» (XIII—XVIII), посвященными
предпосылкам и осуществлению всех реформ Петра I.
Последнее особенно важно потому, что самый обшир-
ный и новый для времени Соловьева труд Н. Г. Устря-
лова «История царствования Петра Великого», состояв-
ший из шести томов (один из них был задержан цензу-
рой), не охватывал всего периода правления Петра I.
Довольно подробно изложены были в нем первые годы
царствования Петра!, первая половина Северной войны до
Полтавской битвы включительно; в последних томах вни-
мание автора поглотила история царевича Алексея; ав-
торское повествование было совмещено с публикацией
документов. Труд в целом был лишен продуманной науч-
ной концепции.
История России на протяжении последних десятиле-
тий XVII и первого десятилетия XVIII в. была сведена
к деяниям венценосца — Петра I, что было вполне в тра-
дициях дворянской историографии, к представителям ко-
торой относился Устрялов. Реформы Петра I в освещении
Устрялова лишены объективных предпосылок. Их замы-
сел и творчество принадлежат лишь одному Петру I.
С полным основанием подверг резкой критике эту прими-
тивную «философию истории» Н. А. Добролюбов, высту-
пивший в 1858 г. с тремя обширными статьями-рецен-
зиями на изданные к тому времени три первых тома труда
Устрялова.
9*
131
Н. А. Добролюбов утверждал, что реформы Петра I
должны рассматриваться в связи с развитием народных
стремлений. Крупнейший недостаток труда Устрялова
он видел в том, что автор не понял этой задачи, игнори-
ровал деятельность народа и свел историю преобразований
к личным деяниям венценосца, к его биографии. Добро-
любов не отвергал заслуг автора, заключавшихся в при-
влечении новых материалов, извлеченных не только из
отечественных, но частью и из иностранных архивов, но
он полагал, что только тогда «может составляться истин-
ная история царствования Петра, во всей силе и обшир-
ности ученого ее значений» 17, когда будут учтены деятель-
ность и интересы народа.
Статьи Добролюбова были хорошо известны Соловьеву,
он не мог не разделять основных выводов автора и, надо
полагать, в определенной мере стремился учесть их, когда
сам начал освещать преобразования первой четверти
XVIII в.
Программа характеристики этих преобразований
в «Истории России...» оказалась очень обширной. После
вводной главы к XIII тому, о которой мы уже сообщали,
Соловьев осветил царствование Федора Алексеевича. Сле-
дующий том — XIV — начат с оценки правления царевны
Софьи и ее падения, после чего Соловьев приступил к ха-
рактеристике деятельности Петра I до Азовского похода,
окончания двоевластия и единоличного царствования
Петра I. В последующих томах — XV—XVIII — в хроно-
логической последовательности описываются все собы-
тия, связанные с внутренней и внешней политикой Рос-
сии в годы царствования Петра I. Подробно освещается
ход Северной войны от ее неудачного начала до победо-
носного завершения. Пространная характеристика дана
всем преобразованиям Петра I, начиная с военных и кон-
чая реформами в области государственного управления,
экономики, культуры, просвещения и быта. Никто из ис-
ториков до Соловьева не давал такого подробного анализа
всех преобразований, осуществленных в царствование
Петра I. Это была не только достаточно полная, но и
цельная история страны конца XVII—первой четверти
XVIII в.
Повествование Соловьева раскрывает важнейшие осо-
бенности новой концепции проблемы, изложенной Соловь-
евым в его труде. Мы уже достаточно раскрыли понима-
132
пие Соловьевым исторических предпосылок преобразова-
ний Петра I, их подготовленности частными реформами
XVII в., их органичности, естественности, связи XVIII в.
с XVII. Эти новые идеи были несомненным вкладом Со-
ловьева в русскую историческую науку его времени.
Доказывая внутреннюю обусловленность и историче-
скую подготовленность реформ Петра I, Соловьев тем са-
мым обосновывал их национальный характер, протесто-
вал против упрощенного представления славянофилов
о том, что петровские преобразования сводились к про-
стому и даже случайному заимствованию западноевропей-
ских. Соловьев также решительно расходился со славя-
нофилами и в том, что реформы первой четверти XVIII в.
были чуть ли не вредны для России. Вообще глубокое и
всестороннее изучение петровских преобразований пол-
ностью освободило Соловьева от славянофильских иллю-
зий его молодости. Его продолжало связывать со славя-
нофилами только явно преувеличенное и идеализирован-
ное представление о роли православной религии и церкви
в истории России.
Соловьев доказывал, что завоевание Балтийского по-
бережья, реорганизация армии на европейских началах,
создание морского флота, развитие внешней торговли,
строительство заводов вполне соответствовали назревшим
национальным потребностям и обеспечивали прогрессив-
ное развитие страны.
Более того, Соловьев стремился раскрывать взаимо-
связь осуществляемых Петром I преобразований, показать
логику процесса реформирования. Такую задачу он выд-
винул впервые.
Так, на начальном этапе Северной войны, когда рус-
ская армия терпела поражения от шведов, на первом
плане находились военные реформы, превращение армии
в хорошо обученное и опытное регулярное войско.
В тот же период придавалось важное значение строи-
тельству мануфактур, особенно обслуживающих войну.
После замечательной Полтавской победы, когда военная
мощь Швеции была подорвана, было обращено внимание
на государственное управление. Учреждаются сенат, си-
нод, а затем коллегии. Принимаются меры для строитель-
ства флота, развития внутренней торговли, реформ в об-
ласти культуры, просвещения, быта.
133
При этом Соловьев не допускал тех крайностей, кото-
рые были характерны для буржуазных историков конца
XIX в. — В. О. Ключевского и особенно П. Н. Милюкова.
Придавая важное значение Северной войне как побуди-
тельному мотиву многих преобразований, Соловьев самую
войну рассматривал как средство преобразований, их
важный составной элемент, вынужденную борьбу за воз-
можность осуществления реформ. В этом сказалась глу-
бина и целостность представлений Соловьева о реформах
Петра I как о закономерном, исторически обусловленном
процессе, глубоко прогрессивном по своей сущности.
Залогом успеха преобразований Соловьев считал их
осуществление «сверху» сильным правительством, осо-
знавшим их историческую необходимость, во главе кото-
рого стоял мудрый и смелый монарх, который целеустрем-
ленно и энергично осуществлял реформы на протяжении
всего своего царствования. Главной силой реформирова-
ния выступало государство, результаты всех реформ
в конечном итоге укрепляли могущество того же госу-
дарства.
Такое представление о реформах Петра I вполне со-
гласовалось с либерально-буржуазной, монархической
в своей основе политической программой Соловьева.
Для Соловьева реформы Петра I — исторический об-
разец разумных и плодотворных государственных и об-
щественных преобразований. В этом смысле он в «Исто-
рии России...» не случайно противопоставлял реформы
Петра I как образец удачно осуществленных преобразо-
ваний буржуазной революции во Франции конца XVIII в.
как примеру насильственных, осуществленных «снизу»
и потому неудачных реформ, примеру «болезненных на-
пряжений» в общественном развитии. Соловьев отмечал,
что во Франции необходимость преобразований «чувство-
валась всеми, но перерабатывались они теоретически
в головах передовых людей, и вдруг приступлено было
к преобразованиям; разумеется, следствием было страш-
ное потрясение: во Франции слабое правительство не ус-
тояло, и произошли известные печальные явления, кото-
рые до сих пор отзываются в стране; в России один чело-
век, одаренный небывалою силою, взял в руки направле-
ние революционного движения, и этот человек был
прирожденный глава государства» 18. Революция во Фран-
ции была неизбежным следствием ее истории: «Что не
134
было сделано исподволь, постепенно, и потому легко и
спокойно, то приходится делать потом, вдруг, с болезнен-
ными напряжениями, которые мы называем революциями»
(ИР, VII, 440).
Мы знаем, что Соловьев противопоставлял реформы
Петра I не только французской революции конца XVIII в.,
по и реформам в России середины XIX в., однако уже
для доказательства слабости правительства Александра II
и самого императора как реформатора. В работах 70-х
годов Соловьев уже не будет сравнивать петровские пре-
образования с французской революцией, что отразит
«поправение» политических взглядов историка в тот
период.
На богатом материале русской истории первой чет-
верти XVIII в., важнейшем, по собственному признанию
Соловьева, периоде истории России, Соловьеву удалось
обосновать свои коренные принципы в освещении исто-
рии, прежде всего решающую роль государства в истории,
роль личности, особенно личности мудрого и сильного
правителя, выступавшего в роли реформатора, а также
проблемы связи деятельности личности с народными
массами.
Соловьев утверждал, что Петр I «не был царем в смы-
сле своих предков, это был герой-преобразователь или,
лучше сказать, основатель нового царства, новой империи,
и чем более вдавался в свою преобразовательную дея-
тельность, тем более терял возможность быть похожим на
своих предков» (ИР, VIII, 68). Соловьев писал о Петре I
как о «великом плотнике», «гениальном чернорабочем»,
который понял народные потребности и выступал выра-
зителем народных стремлений к преобразованию страны:
«Он являлся вождем в деле, а не создателем дела, кото-
рое потому есть народное, а не личное, принадлежащее
одному Петру» (ИР, VIII, 135).
Конечно, перед нами безусловная идеализация и го-
сударства, возглавленного сильным и мудрым реформа-
тором, и самого реформатора как выразителя народных
стремлений и интересов.
Соловьев оправдывал все суровые меры правительства
Петра I в ходе преобразований, считая их неизбежными.
Он тем не менее не мог скрыть от читателей народных
возмущений в период преобразований: Астраханского
восстания, выступления народных масс под предводи-
135
тельством Кондратия Булавина. Для объяснения явного
противоречия между выражением Петром I «народных
стремлений» и протестом народных масс против беспо-
щадной крепостнической эксплуатации Соловьеву приш-
лось снова обращаться к излюбленному объяснению:
народные возмущения — порождение анархии, резуль-
тат действия противогосударственных элементов, прежде
всего казачества. Народ по-прежнему для Соловьева лишь
этнографическое понятие, а не социальная категория,
понятие «народные массы» растворяется им в понятии
«нация», «русский народ» как единой массе, пе знающей
социальных противоречий.
Но при всех чертах слабости и закономерно обуслов-
ленной ограниченности воззрений Соловьева, при том, что
некоторые из этих черт ограниченности были осознаны
уже его демократически настроенными современниками,
например Н. В. Шелгуновым 19, все же следует признать,
что разносторонняя разработка Соловьевым проблемы
петровских преобразований и их общая оценка были выс-
шим достижением всей дореволюционной буржуазной
историографии в России. После Соловьева буржуазные
историки В. О. Ключевский, П. Н. Милюков, М. М. Бо-
гословский обращались к освещению лишь отдельных
реформ Петра I, а в общей их оценке сделали шаг назад
от Соловьева, переоценивая, как правило, роль Северной
войны в преобразованиях как их важнейшей причины и
этим крайне ограничивая историческое значение реформ
Петра I. Сам Соловьев оценивал это значение необычайно
высоко. По его убеждению, реформы Петра I имели все-
мирно-историческое значение, усилив могущество России,
укрепив ее внутренние силы и небывало подняв внешнее
значение, что привело «к решительному влиянию России
на судьбы Европы, следовательно, всего мира» (ИР, IX,
541). Россия стала первоклассным европейским государ-
ством.
И все же для Соловьева вопрос об историческом зна-
чении реформ Петра I далеко не сводился к успехам
внешней политики, которая будто бы и вызвала все ре-
формы. Этот вопрос не ограничивался и отношением ре-
форм Петра I к прошлому, к предшествующей истории
России. Главное историческое значение преобразований
первой четверти XVIII в. Соловьев усматривал в их от-
ношении к будущему. Реформы Петра I, по убеждению
136
Соловьева, явились крутым Переломом в Истории Россий,
революцией, осуществленной «сверху», началом новой ис-
тории России, они наложили неизгладимый отпечаток на
будущее страны. Последующие этапы исторического раз-
вития России стали рассматриваться историком под углом
зрения того, кем из императоров и императриц, наслед-
ников и продолжателей Петра I, и в какой мере осущест-
влялись его заветы, его предначертания. Для Соловьева
это главный критерий в оценке всей «послепетровской»
истории России. Собственно в этом выражалась основная
концепционная установка Соловьева в оценке всех мно-
госложных проблем внутренней и внешней политики
России в период 1725—1774 гг. — в рамках того периода
русской истории, который он успел осветить на страницах
«Истории России...».
Это, конечно, довольно ограниченный критерий. Нельзя
пе признать, что богатство и оригинальность концепции
русской истории Соловьева простираются в основном на
период до реформ Петра I включительно. В освещении же
послепетровской истории России концепция Соловьева
обедняется.
Характеризуемому периоду «новой», или «послепетров-
ской», русской истории посвящены Соловьевым И завер-
шающих томов «Истории России...» (XIX—XXIX). Они
охватывают время от царствования Екатерины I, жены
Петра I, до середины царствования Екатерины II (до
1775 г.).
Освещение этого сравнительно непродолжительного пе-
риода оказалось для Соловьева наиболее трудным во всех
отношениях. Перед ним открывалась, если можно так
выразиться, «историческая целина». Никто до Соловьева
пе изучал этого периода внимательно, работ монографи-
ческого типа не было, были лишь поверхностные журналь-
ные статьи на разрозненные темы. Архивные материалы
пе были изучены, и никто не представлял себе их дейст-
вительного богатства. Все приходилось изучать самому,
впервые, заново. Углубление в архивные сокровища
с каждым годом все более убеждало Соловьева в их не-
исчерпаемости и в невозможности их разностороннего
изучения усилиями одного человека. Поэтому следовало
себя ограничить в их использовании, и Соловьев это сде-
лал. Он изучал материалы лишь высших государственных
учреждений: кабинета, сената, Верховного тайного совета,
137
синода, архивы которых содержали преимущественно до-
кументы общероссийского характера. Из центральных
государственных учреждений Соловьев внимательно изу-
чал по существу лишь материалы Коллегии иностранных
дел.
С другой стороны, интенсивная законодательная дея-
тельность правительства в послепетровский период обус-
ловила наличие огромного количества юридических памят-
ников и других опубликованных источников.
Но трудности изучения послепетровской истории были
связаны и со сложностями политического характера. Исто-
рия все более непосредственно смыкалась с современно-
стью, многие современные явления, учреждения, законы
своими историческими корнями уходили в XVIII в. Неко-
торых сторон деятельности сменявшихся правительств,
преимущественно их карательной политики, многих двор-
цовых тайн, особенно относящихся к периоду «дворцо-
вых переворотов», касаться было опасно.
Эти политические трудности ярко охарактеризовал
Герцен, которого особенно интересовало разоблачение
«тайн» и преступлений царизма: «Мы очень мало знаем
наше XVIII столетие... Мы из-за варягов, новгородцев,
киевлян не видим вчерашнего дня: зубчатые кремлев-
ские стены заслоняют нам плоские линии Петропавлов-
ской крепости»20. Герцен раскрывал причины «увлече-
ния» большинства историков изучением старины: «Вся-
кое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое со-
временное свидетельство, относящееся к нашей истории
за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва
теперь начинает быть известным... История императо-
ров — канцелярская тайна, она была сведена на дифи-
рамб побед и на риторику подобострастия-.. правитель-
ство открыто лжет в официальных рассказах и потом за-
ставляет повторять свою ложь в учебниках» 21.
Крупный ученый, взявшийся за изучение истории
XVIII в., Соловьев не мог свести свое повествование
к «риторике подобострастия», но он, конечно, не мог
высказать даже и той правды, которая могла быть ему
известна. Вот почему Соловьев был крайне осторожен
в оценках деятельности правительства. Нередко он даже
отказывался от собственных оценок, заставляя говорить
документы. В этом заключалась одна из причин большой
насыщенности последних томов «Истории России...» тек-
стами, посвященными послепетровскому периоду, обшир-
ными извлечениями из документов, особенно архивных.
Были и другие обстоятельства, заметно снизившие тео-
ретический уровень последних 11 томов «Истории Рос-
сии. .Приучив читателей к ежегодному изданию оче-
редного тома этого труда, Соловьев не желал отказываться
от этого правила. В этом также заключалась одна из при-
чин «рыхлости» рассматриваемых томов. Они лишались
иногда тематической цельности, посвящаясь даже от-
дельным годам очередного царствования.
К тому же Соловьеву не с кем было спорить. В осве-
щении всех вопросов он выступал пионером.
Но основное наряду со всеми указанными причинами,
пожалуй, заключалось в том, что в концепционном отно-
шении Соловьев все главное высказал в предшествующих
18 томах. Стремление показать деятельность всех монар-
хов, следовавших за Петром I, в качестве или продолжа-
телей его дела, или же тех, кто в той или иной мере от-
ступил от петровских заветов и предначертаний, не спо-
собствовало богатству и разнообразию теоретических
обобщений. Первостепенное значение приобретал впервые
сообщаемый фактический материал. Но и он подбирался
и приводился, конечно, с определенной направленностью.
Сообщая много нового и интересного не только любо-
знательному читателю, но и историку-специалисту, Соло-
вьев воссоздавал довольно цельную картину внутренней
и внешней политики России в динамике.
В последние годы жизни Соловьева здоровье его по-
шатнулось, и он напрягал все силы для того, чтобы сде-
лать максимум возможного в издании новых томов труда
всей его жизни.
Высоко оценивая исторические результаты и значение
реформ Петра I, Соловьев тем не менее полагал, что и
после них остается широкий простор для последующих
преобразований. По его мнению, «большая часть сделан-
ного была только в начале, иное — в грубых очерках, для
многого были только материалы, сделаны только указа-
ния; поэтому мы и назвали деятельность преобразова-
тельной эпохой программою, которую Россия выполняет
до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой
сопровождалось всегда печальными последствиями»
(ИР, IX, 548).
139
Программа эта заключалась в достижении новых ус-
пехов «европеизации» России. Главным условием ее осу-
ществления Соловьев считал дальнейшее преобразование
страны в этом направлении усилиями правительства —
реформы «сверху».
В конце XVIII тома, в его последней главе, Соловьев
осветил царствование Екатерины I. К числу важнейших
событий на протяжении этого короткого царствования
(1725—1727) Соловьев относил создание в 1726 г. Вер-
ховного тайного совета, где огромным влиянием пользо-
вался фаворит императрицы Меншиков. Верховный тай-
ный совет не предотвратил борьбы в правящих верхах
между отдельными сановниками. Были допущены отступ-
ления от программы Петра не только в ограничении зна-
чения сената, что явилось следствием создания Верхов-
ного тайного совета, но и в уничтожении некоторых
звеньев созданных ранее государственных учреждений,
в неумеренном привлечении иностранцев в армию и госу-
дарственный аппарат. «Люди, оставленные Петром, не
имели его веры в способности русского народа, в возмож-
ность для него пройти трудную школу, испугались этих
трудностей... Программа преобразователя оказалась
слишком обширной, па первый раз отступили от нее»
(ИР, IX, 594). Соловьев, характеризуя внутреннюю и
внешнюю политику правительства Екатерины I, кон-
кретно показал, как ограничивалась эта программа, какие
мелкие мероприятия подменяли былую широту петров-
ских преобразований.
В томах XIX—XX «Истории России...» Соловьев за-
вершает изложение событий царствования Екатерины I,
Петра II, Анны Иоанновны. Большая часть повествова-
ния посвящена царствованию Анны Иоанновны. Соловьев
в строгой хронологической последовательности освещает
и оценивает важнейшие, по его мнению, события внутрен-
ней и внешнеполитической истории России, снабжая
свое повествование обширными извлечениями из докумен-
тов, по преимуществу архивных, впервые им вводимых
в научный оборот. Постепенно привлечение такой доку-
ментации становится все более значительным и в некото-
рых томах составляет большую часть текста.
Характеризуя царствование Анны Иоанновны, Соло-
вьев наиболее отрицательной особенностью ее времени
вполне обоснованно считает засилие иностранцев и спра-
140
ведливо усматривает в этом наиболее вредное отступление
от заветов Петра I. Соловьев напоминает, что Петр I, ши-
роко привлекая иностранцев на русскую службу, не давал
им первых мест. Ученый не считал, что и в дальнейшем
не следовало приглашать иностранцев, но необходимо
было настойчиво учить русских людей и обеспечивать им
руководство во всех значительных государственных начи-
наниях. Надо было «не складывать рук, не засыпать, по-
стоянно упражнять свои силы, сохранять старых людей,
способных продолжать неустанную гоньбу за новыми
способностями» (ИР, X, 268). Не отрицая, что среди ино-
странцев были и способные люди, полезные государству,
Соловьев вместе с тем полагал, что многие из них были
«паразитами», злоупотреблявшими своим положением
в личных интересах. Особенно отрицательно и с полным
основанием Соловьев характеризует Бирона — фаворита
Анны Иоанновны, который «без пользы для России кор-
мился за ее счет» (ИР, X, 679). Иностранцы интриговали,
расхищали казну и заводы, мешали развитию науки и
культуры, препятствовали деятельности «птенцов гнезда
Петрова» — В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Феофана
Прокоповича. Соловьев первым из историков выдвинул
вопрос о засилии иностранцев, постепенно разраставшемся
после смерти Петра I и достигшем своей кульминации
при Анне Иоанновне.
Крупной научной заслугой Соловьева было не только
впервые осуществленное в русской исторической науке
систематическое освещение истории России послепетров-
ского периода, но и особенно то, что он решился довольно
подробно описать серию дворцовых переворотов того
времени, начиная с переворота 1725 г. в пользу Екате-
рины I и кончая переворотом 1762 г. в пользу Екате-
рины II. Конечно, Соловьев писал далеко не обо всем,
что стало ему известным из архивных материалов, избе-
гал, как правило, резких критических оценок, но и само
сообщение фактических сведений о дворцовых переворо-
тах было очень важно и ценно.
В описании дворцового переворота 1741 г., осущест-
вленного Елизаветой Петровной, Соловьев выразил пол-
ное одобрение насильственного захвата власти дочерью
Петра I при опоре на гвардейцев, высоко оценил ее му-
жество, отметил популярность среди гвардии и даже «гу-
манность»: «Взявши свергнутого императора (Иоанна
141
Антоновича, грудного младенца. — В, И.) на руки, цело-
вала и говорила: «Бедное дитя! Ты вовсе невинно; твои
родители виноваты» (ИР, X, 125). Речь идет о младенце,
который провел всю свою жизнь в заточении...
Полное одобрение переворота 1741 г. Соловьевым объ-
ясняется тем, что царствование Елизаветы Петровны
знаменовало собой прекращение засилия иностранцев,
начало осуществления национальной политики.
Правление Елизаветы Петровны характеризуется Со-
ловьевым исключительно подробно, освещаются все важ-
нейшие события внутренней и внешней политики с точки
зрения восстановления национальной программы Петра I
и уничтожения засилия иностранцев. Эта политика не
только полностью одобряется Соловьевым, но правление
и особенно личные качества Елизаветы Петровны истори-
ком явно идеализируются, какие-либо критические оценки
ее мероприятий отсутствуют. Подробное освещение собы-
тий царствования Елизаветы Петровны заняло почти че-
тыре тома (XXI—XXIV). Структура их такова, что пове-
ствование все более приобретает по существу летописный
характер: большинство глав этих четырех томов посвя-
щено одному году царствования императрицы.
Конечно, в этих томах содержалось множество ценней-
ших сведений, касающихся внутренней и наиболее неиз-
вестной ранее внешней политики, что позволяло просле-
дить преемственность в их осуществлении, поскольку
истоки политики правительства Екатерины II во многом
заключались в политике Елизаветы Петровны. Тем не
менее стремление к полноте описания как самоцели при-
водило к тому, что главное не отделялось от второсте-
пенного, следовательно, не было достаточно продуманного
отбора материала. Комментатор соответствующих томов
С. М. Троицкий справедливо указывает на недостаток
использования привлеченных Соловьевым документов —
опубликованных и особенно архивных — «описательность,
иллюстративность изложения, отсутствие необходимой
критики источников». Отмечает он и отсутствие система-
тизации материалов при погодном изложении, что при-
вело «к ненужным повторениям, создает мозаичность
в распределении материала в томах, нарушает стройность
изложения фактов и событий» (ИР, XI, 605).
Соловьев изнемогал от обилия материалов. Лавина но-
вой документации, бесчисленное множество фактов пода-
142
пили обобщающую мысль Соловьева, сделали неизбежной
бедность копцепционных построений. Именно характер
изложения русской истории в этих томах, а также в по-
следующих (XXV—XXIX) доказывает, что для Соло-
вьева ежегодное издание очередного тома его труда и
стремление к наибольшему хронологическому охвату со-
бытий русской истории XVIII в. по существу преврати-
лось в самоцель *.
Охват событий внутренней и внешнеполитической ис-
тории России, освещенных в рассматриваемых томах, да и
в последующих, исключительно широк. Но во всех этих
томах неизменным является то, что в центре внимания
автора находились события общероссийского значения,
получившие отражение в деятельности высших и цент-
ральных государственных учреждений, архивы которых
изучались Соловьевым. Он по преимуществу занимается
политической историей, внимание к другим сторонам изу-
чаемой исторической действительности — экономике, об-
щественной жизни, культуре, быту — выражено со значи-
тельно меньшей полнотой. Сведения о них сосредоточены
преимущественно, как не раз указывалось, в специальных
главах, содержание которых искусственно изолируется от
исторической жизни во всей ее полноте и органическом
единстве. В этом смысле Соловьев даже нарушает им са-
мим декларируемые теоретические принципы.
Деятельность высших и центральных учреждений по-
казывается Соловьевым через деятельность монархов, их
окружения, министров, сановников высших органов. Эти
особенности характерны более всего для томов «Истории
России...», посвященных послепетровскому периоду.
Завершающие (XXV—XXIX) тома «Истории Рос-
сии. ..» Соловьева посвящены первым 12 годам царство-
вания Екатерины II (1762—1774). Правда, в XXV томе
Соловьев первую и единственную главу отводит царство-
ванию Петра III (1761—1762). В сравнительно кратком
повествовании это царствование в целом получает отри-
цательную оценку. Особое внимание уделяется антина-
циональной внешней политике императора, выходу Рос-
сии из Семилетцей войны, в ходе которой русские войска
* Соловьев первоначально намеревался довести изложение рус-
ской истории до царствования Александра I, затем до воцарения
Павла I, но и это ему не удалось осуществить.
143
одержали ряд замечательных побед, заключению крайне
невыгодного для России мира, который вернул Пруссии
все, что завоевала русская армия. Описывается резкое и
вполне обоснованное недовольство этим миром широких
кругов русского общества. Из мероприятий внутренней
политики выделяется указ о вольности дворянства, но этот
важный документ расценивается Соловьевым не как ре-
зультат продуманной политики, а лишь как следствие
случайности: секретарь императора Волков был заперт на
ночь в комнате, чтобы скрыть фривольные похождения
Петра III, и, не зная чем занять себя, «написал манифест,
который на другой день был утвержден императором»
(ИР, XIII, 14).
Соловьев подробно описал дворцовый переворот 1762 г.,
в результате которого началось царствование Екате-
рины II. Все симпатии историка на ее стороне, перево-
рот полностью оправдывается. Соловьев не решился опи-
сать действительные обстоятельства смерти Петра III.
Отмечено лишь двумя словами — «смерти насильствен-
ной» (ИР, XIII, 114), а затем приводится официальная
версия Екатерины II из ее манифеста. Эта предосторож-
ность оказалась нелишней. Дело в том, что именно этим
трагическим эпизодом заинтересовался Александр II. При
всей благожелательности отношения царской семьи к Со-
ловьеву как преподавателю наследников престола он не
был избавлен от императорской цензуры. В августе
1875 г. министр просвещения Д. А. Толстой по указанию
императора запросил у Соловьева наборный лист XXV
тома «Истории России...», где было «щекотливое место»,
посвященное смерти Петра III. Требование было выпол-
нено 22.
Исключительно подробно характеризуя царствование
Екатерины II, Соловьев идеализирует правление этой им-
ператрицы в еще большей мере, чем царствование Ели-
заветы Петровны. Еще более верной, умной и просвещен-
ной наследницей дела Петра предстает в освещении Со-
ловьева Екатерина II, продолжавшая европеизацию
России, по его убеждению, на протяжении всего своего
длительного царствования.
Но Соловьев успел описать лишь первые 12 лет цар-
ствования Екатерины II. Из вопросов внутренней поли-
тики он выделил созыв и деятельность Уложенной комис-
сии 1767—1768 гг., предпослав пространной ее характе-
144
ристике оценку «Наказа» Екатерины 11. Эта оценка
выдержана в самом официозном духе, содержание «На-
каза» полностью одобряется. Соловьев вполне солидари-
зируется с мнением Екатерины II, полагая, что «первое
условие страны — ее чрезвычайная обширность — требо-
вало самодержавия» (ИР, XIV, 61), не сомневается в ис-
кренности императрицы в ее либеральной демагогии,
прославляет ее «гуманность», заботы о просвещении и т. п.
Впервые в исторической литературе Соловьев подробно
осветил деятельность Уложенной комиссии, в чем заклю-
чалась его несомненная заслуга. Но он не пытался рас-
крыть подлинных истоков тех противоречий, которые
вскрылись в ходе работы этой комиссии, и принял на
веру официальную версию о прекращении ее работы
в связи с началом первой русско-турецкой войны в 1768 г.
Прекрасно зная о значительном усилении крепостни-
ческой эксплуатации при Екатерине II, Соловьев зату-
шевывал тем не менее крепостническую политику ее пра-
вительства. Он выразил отрицательное отношение к кре-
стьянскому движению до 1774 г. — завершающей даты
последнего тома «Истории России...» (ИР, XIV, 16, 20).
Крестьянские выступления Соловьев называл «разбойни-
чьими». В учебной книге по русской истории — самой
официозной работе Соловьева, доведенной до 1848 г. и
являющейся в хронологическом отношении своеобразным
завершением «Истории России...», он резко отрицательно
оценил крестьянскую войну под предводительством
Емельяна Пугачева. Собственно, Соловьев писал не о кре-
стьянской войне, а о последнем в русской истории казац-
ком возмущении: «Казачество собрало последние силы, и
запылал страшный мятеж, совершенно сходный с разин-
ским, ибо действователи, приемы их и цели были одина-
кие»23. Буржуазный историк еще раз подчеркнул отри-
цательную роль казачества как силы анархической, анти-
государственной. Соловьев описывает движение в сугубо
верноподданническом духе, полностью одобряет каратель-
ные действия правительства и войск, усмирявших восстав-
ших.
Разрешение крестьянского вопроса Соловьев видел
в нравственном воспитании крестьянства и развитии гу-
манных чувств у помещиков, чему будто бы содейство-
вала Екатерина II.
Ю В. Е. Иллерицкий
145
Соловьев подробно, с привлечением обширных Доку-
ментальных, преимущественно архивных, материалов
характеризует все стороны и направления внутренней поли-
тики Екатерины II, ее финансовую и налоговую поли-
тику, содействие внутренней и внешней торговле, про-
мышленности, сословную политику, поощрение развития
культуры, просвещения, изменения в быте дворянства.
Мероприятия правительства не только впервые и под-
робно освещаются, но и неизменно полностью одобряются.
Лишь изредка вспоминает Соловьев о бюрократизме, во-
локите, взяточничестве и в этих пределах позволяет себе
критические замечания.
Полностью одобряется Соловьевым русификаторская
политика царизма на Украине, в Белоруссии и Прибал-
тике, как она одобрялась им на протяжении всего изло-
жения русской истории. Все нерусские народы не пред-
ставлялись Соловьеву субъектами истории, он вспоминал
их преимущественно в связи с актами присоединения
к России или добровольного вхождения их в состав Рус-
ского государства. В этом выражались буржуазно-нацио-
налистические черты мировоззрения Соловьева.
Внешняя политика правительства Екатерины II также
безоговорочно и полностью одобрялась историком, рас-
сматривалась им как национальная, содействующая уси-
лению могущества России среди европейских государств,
как блестящее продолжение внешней политики Петра I.
Соловьев выступает в полном смысле апологетом само-
державия. Внешняя политика России становится излюб-
ленной областью изучения для буржуазного историка, что
подтверждается не только содержанием «Истории Рос-
сии...», в которой ей уделено весьма солидное место, но
и его монографиями, о которых мы будем говорить в за-
вершающей главе нашей работы.
Смерть застигла автора «Истории России...» на харак-
теристике Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г.
«История России с древнейших времен» С. М. Соло-
вьева была не только крупнейшим и главным трудом на-
иболее выдающегося русского буржуазного историка, но
и творческим итогом всей его научной деятельности, на-
учным подвигом Соловьева. Говоря об этом произведении,
Ключевский с полным основанием заявлял: «Для Соло-
вьева книга его была задачей жизни» 24.
146
Обобщающий труд Соловьева раскрывает концепцию
крупнейшего русского историка, отражает процесс ее раз-
вития и обогащения. Так, если в двух диссертациях Со-
ловьева, которые подготовили его к созданию такого гран-
диозного труда, как «История России...», были выражены
такие идеи концепционного значения, как родовая теория
и борьба государственных отношений с родовыми как
основа древней истории России до царствования Ивана
Грозного включительно, а также идея борьбы «старых»,
вечевых городов с «новыми» — княжескими, то эти идеи
были, во-первых, конкретизированы в «Истории Рос-
сии. ..» на большом новом материале и, во-вторых, допол-
нены новыми: борьба «леса» со «степью», оседлых народов
с кочевыми, Европы с Азией, колонизация необъятных
восточных пространств России— до Сибири и Дальнего
Востока включительно, а в XVIII в. также и южных ок-
раин страны. Соловьев обосновал новое представление об
исторической подготовленности в XVII в. крупнейших
преобразований первой четверти XVIII в., показал их
внутреннюю обусловленность, необходимость и выдающе-
еся историческое значение. Проблема этих преобразований
оказалась центральной в рассматриваемом труде Соло-
вьева. Под углом зрения развития преобразований Петра I
Соловьев рассмотрел весь так называемый «послепетров-
ский» период и связал с ними преобразования, осущест-
вленные в середине XIX в.
Таким образом, концепция русской истории Соловьева
была достаточно разносторонней и динамичной. С каж-
дым новым томом «Истории России...» она конкретизи-
ровалась, обеспечив господствующее положение буржу-
азной историографии в русской исторической науке,
начиная с середины XIX в.
Мы стремились показать классовый, буржуазный
характер исторической концепции Соловьева, обусловлен-
ную этим ее научную ограниченность как концепции идеа-
листической. Отметили и тот факт, что ее обоснование
было связано с общественно-политической борьбой в Рос-
сии в тот период, когда Соловьев создавал свой крупней-
ший труд. Указывалось и па то, что существенные слабьте
стороны его концепции и отдельных томов «Истории
России...» — преувеличение роли государства, историче-
ских деятелей, невнимания к народным массам и непони-
мания их подлинного значения — подвергли критике идео-
10*
147
логи русской революционной демократии и демократиче-
ские деятели 60—70-х годов прошлого века.
Но при всем этом нельзя не отметить, что для своего
времени концепция русской истории, раскрытая в «Исто-
рии России...» Соловьева, была значительным шагом
вперед в развитии русской исторической науки, она воз-
вышалась над дворянской историографией своей цель-
ностью, полнотою, освещала новые стороны исторического
процесса, свидетельствовала о более полном изучении по-
литической истории России, ее общественной жизни, куль-
туры, быта и даже в определенной мере экономики
страны, т. е. «гражданской истории», как понимали ее
буржуазные историки. Мы уже не говорим о том, что
концепция русской истории Соловьева значительно воз-
вышалась над дворянской историографией, отличаясь
свойственной ей идеалистической диалектикой, призна-
нием борьбы противоречивых начал как источника исто-
рического прогресса.
«История России...» имела важное научное значение
для своего времени. Но и спустя многие десятилетия
после завершения ее издания справедливо писал о таком
значении труда В. О. Ключевский: «По многим причинам
29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за
своим автором. Даже при успешном ходе русской исто-
рической критики в пашем учебном обороте надолго
удержится значительный запас исторических фактов и
положений в том самом виде, как их впервые обработал
и высказал Соловьев: исследователи долго будут черпать
их прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их
сами по первым источникам» 25.
Соловьев не только издал самый крупный обобщающий
труд по истории России, но и разработал наиболее цель-
ную концепцию русской истории в буржуазной историо-
графии. Поэтому зависимость последующих историков от
Соловьева не ограничилась лишь тем, что они черпали
в его главном труде богатейший запас фактических све-
дений, но и в концепционном отношении испытывали
влияние Соловьева.
При этом в русской буржуазной историографии по-
следней трети XIX—начала XX в. создалось своеобразное
положение: если продолжатели Соловьева, избирая для ис-
следования отдельные стороны или проблемы истории
России, были способны обогащать и углублять их разра-
148
ботку, то в концепционном отношении они отходили от
цельной и по-своему стройной концепции Соловьева, от
признания им объективных закономерностей в русском
историческом процессе, т. е. отказываясь, как правило, —
за редким исключением типа Н. П. Павлова-Сильван-
ского — от сильных сторон Соловьева в понимании рус-
ской истории.
Такова судьба главного труда Соловьева в последую-
щем развитии буржуазной историографии в России.
Труд Соловьева не утратил полностью своего значения
и для советских историков, для широкого круга читателей
нашего времени, интересующихся историей России. «Со-
ветскому читателю, — писал редактор советского издания
«Истории России с древнейших времен» Л. В. Череп-
нин, — конечно, чужда методология Соловьева. Советские
люди подходят к историческим явлениям с совершенно
иных методологических позиций. Тем не менее ... этот
труд в некоторых отношениях сохраняет и доныне свое
научное значение благодаря имеющемуся в нем богатому
историческому материалу, интересным и ценным, живо
преподнесенным наблюдениям по ряду вопросов прошлого
нашей Родины» (ИР, I, 50).
О сохранившейся ценности для современного читателя
и исследователя труда Соловьева «История России...» пи-
шет и один из лучших комментаторов советского издания
этого труда С. М. Каштанов: «Огромный фактический ма-
териал, в ней отраженный, хотя и неодинаково обработан-
ный, масса конкретпо-исторических наблюдений и отдель-
ные построения автора явились крупнейшим вкладом
в отечественную историографию, продвинули далеко впе-
ред изучение исторического прошлого России. До сих пор
многие фактические данные и наблюдения С. М. Со-
ловьева сохраняют свое научное значение, а подробность
изложения, персонификация исторической картины де-
лают «Историю России...» одним из важных пособий для
изучений русской истории широкими читательскими кру-
гами» (ИР, XV, 298).
Лучшими своими сторонами и особенностями — принци-
пом историзма, настойчиво реализовавшимся Соловьевым
в «Истории России...», историческим реализмом в оценке
многих событий и явлений отечественной истории, вер-
ными наблюдениями, не утратившими научного значения
и в наше время, этот труд сохраняет свою ценность и для
149
советских исследователей, особенно занимающихся исто-
рией исторической науки в дореволюционной России, в ко-
торой Соловьев как автор такого исключительного обобща-
ющего труда занял самое почетное место.
Глава 4
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С. М. СОЛОВЬЕВА
«История России с древнейших времен» была крупнейшим
и самым значительным произведением С. М. Соловьева.
В ней, несомненно, с наибольшей полнотой была раскрыта
его концепция русской истории. Но, как мы отмечали,
к этому важнейшему труду примыкают, не утрачивая са-
мостоятельного значения, другие произведения Соловьева,
прежде всего исследования монографического типа. Они
заслуживают специального изучения, и эта задача тем бо-
лее важна, что они почти не были предметом внимания
историографов ни в дореволюционный, ни в советский пе-
риод.
О диссертациях Соловьева — первых его работах моно-
графического типа, подготовивших историка к созданию
фундаментального обобщающего труда, мы уже писали.
Предметом нашего внимания будут более поздние моно-
графии Соловьева, которые он издавал одновременно
с «Историей России...». К ним относятся «Публичные
чтения о Петре Великом» (1872), «История падения
Польши» (1863), «Император Александр I. Политика. Ди-
пломатия» (1877).
Монография «Публичные чтения о Петре Великом»
была подготовлена к изданию на основе цикла публичных
лекций Соловьева, читавшихся им в Москве в 1872 г.
в связи с 200-летием со дня рождения Петра I *. Эта мо-
нография не содержит новых материалов сравнительно
с теми, которые послужили основой для XIII—XVIII то-
мов «Истории России...». И тем не менее здесь имеются
* Этим юбилейным торжествам придавалось важное обществен-
ное значение. Вот почему Соловьев выступал со своими публич-
ными лекциями в Колонном зале Дворянского собрания (ныне
Дом союзов).
150
свои особенности, свои акценты в раскрытии темы, свои
нюансы в оценках рассматриваемых явлений, представля-
ющие несомненный интерес для исследователя. Моногра-
фия имела значительный общественный резонанс и полу-
чила широкий отклик в периодической печати.
Первая особенность «Публичных чтений о Петре Ве-
ликом» — их обобщающий характер, теоретическая
направленность, при которых конкретный материал выпол-
няет в сущности иллюстративную функцию. Оценки ис-
торических явлений и событий, данные в «Истории Рос-
сии. ..», в значительной мере сохранялись, но некоторые
из них, в том числе имеющие принципиальное значение,
усиливались или изменялись, что объяснялось или специ-
фикой работы, или отражало идейно-политическую эво-
люцию ученого.
Не следует забывать, что юбилейный характер моно-
графии не мог не налагать официозного отпечатка на ее
содержание. Хвалебный тон, стремление сосредоточить
внимание лишь на положительных сторонах деятельности
Петра I, подчеркнуть выдающееся историческое значение
его реформ и их связь с современностью — существенные
особенности рассматриваемого труда. С этим была связана
и публицистическая направленность монографии о Пе-
тре I, выявлявшая стремление автора с либерально-бур-
жуазных позиций влиять на общественное мнение.
Учитывая эти особенности монографии Соловьева, сле-
дует выделить те идеи, которые сам автор выдвигал на
первый план. Этими идеями были, во-первых, стремление
всемерно подчеркнуть и доказать национальный, общена-
родный характер реформ, осуществленных Петром I, и,
во-вторых, сложившееся убеждение ученого в эволюцион-
ном характере общественного развития, как особенность
мировоззрения буржуазного историка ко времени чтения
им публичных лекций о Петре I.
Вместе с тем в «Публичных чтениях...» получают обо-
снование и такие существенные теоретические принципы
в понимании Соловьевым исторического процесса, как роль
личности в истории, значение государства.
Формулируя задачу своих чтений и отмечая их юби-
лейный характер, Соловьев писал: «Что праздновать и
как? — первый вопрос, который... задает человек, способ-
ный разумно относиться к каждому явлению... первая
обязанность общества образованного: разъяснить для себя
151
Значение деятельности великого человека; осознать своё
отношение к этой деятельности, к се результатам; узнать,
насколько эти результаты вошли в нашу жизнь; что они
произвели в ней, какое их значение для настоящего, для
будущего...» (Соч., с. 969).
Соловьев более всего был озабочен необходимостью
изобразить реформы Петра I как народные, выражающие
общенациональные стремления. Он формулирует эту мысль
в качестве общей теоретической установки в понимании
проблемы роли выдающихся деятелей в истории: «Вели-
кий человек является сыном своего времени, своего на-
рода, он теряет свое сверхъестественное значение, его де-
ятельность теряет характер случайности произвола; он
высоко поднимается как представитель своего народа
в известное время, носитель и выразитель народной мы-
сли; деятельность его получает великое значение, как
удовлетворяющая сильной потребности народной, выво-
дящая народ на новую дорогу, необходимую для продол-
жения его исторической жизни» (Соч., с. 971).
Чтобы доказать этот вывод примером деятельности
Петра I, Соловьев теперь еще более настоятельно, чем
в «Истории России...», обосновывает тезис о том, что ре-
формы Петра I были подготовлены задолго до первой чет-
верти XVIII в., что они выражали потребности народа,
определявшиеся на протяжении всей предшествующей ис-
тории. Великий человек «не может чувствовать и созна-
вать того, чего не чувствует и не сознает сам народ,
к чему не приготовлен предшествующим развитием, пред-
шествующей историею; нельзя воздвигать здания, когда
не было почвы» (Соч., с. 974—975). Реформы Петра I,
повторяет Соловьев, знаменовали собой переход русского
народа из возраста чувства в возраст мысли, зрелости
(Соч., с. 975—976). Всюду, где речь идет о «народе», Со-
ловьев в рассматриваемой работе, как и во всех других,
подразумевает нацию как социально перасчлененное
единство — в этом выражалась особенность его мировоз-
зрения как буржуазного историка.
Соловьев заявлял: «Только великий народ способен
иметь великого человека, сознавая значение деятельности
великого человека, мы сознаем значение народа» (Соч.,
с. 980). Так понимал он взаимообусловленность деятель-
ности русского народа как великой нации и Петра I как
великого исторического деятеля.
152
С целью обоснования глубокой заинтересованности
русского народа в реформах Соловьев дает в «Публичных
чтениях...» пространный исторический экскурс в далекое
прошлое России, раскрывая исторические корни отстало-
сти ее от передовых стран Западной Европы, характери-
зует различие природных условий на западе и востоке
Европы, многовековую борьбу с кочевниками, трудности
колонизации новых земель, необходимость создания проч-
ного и всесильного централизованного государства в этих
неблагоприятных условиях, т. е. воспроизводит важней-
шие элементы той концепции истории России, с которой
читатель мог быть знаком по изданным к тому времени
томам «История России...». Соловьев еще раз обосновал
неизбежность закрепощения крестьян в столь сложных и
своеобразных условиях России — «прикрепление кре-
стьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, на-
ходящимся в безвыходном экономическом положении»
(Соч., с. 985), еще раз подчеркнул, что иначе государство
не могло экономически обеспечить служилых людей всех
рангов. Очень кратко, но выразительно характеризует
Соловьев вызревавшую на протяжении XVII в. необхо-
димость существенных преобразований сравнительно
с теми частными переменами, которые уже не могли удов-
летворить назревших национальных потребностей. Среди
последних Соловьев в рассматриваемой работе более опре-
деленно выделяет экономические потребности страны. За-
вершается этот очерк выводом, ставшим своего рода афо-
ризмом: «Необходимость движения на новый путь была
осознана, обязанности при этом определялись; народ под-
нялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали
вождя — вождь явился» (Соч., с. 1001). Здесь все знамена-
тельно: и идеалистическое определение предпосылок ре-
форм Петра I, и выжидательная роль народа, и решаю-
щее значение великой исторической личности.
Последующее изложение посвящено непосредственно
Петру I, его воспитанию, подготовке к деятельности пре-
образователя, ходу преобразований, определению их исто-
рического значения.
Соловьев настойчиво характеризует реформы Петра I
как «народное дело», а сам Петр I — «народный царь», не
только выразитель народных стремлений, но и образец
труженика в деле преобразований, «великий учитель на-
родный», «царь-работник» (Соч., с. 1016). Однако
153
в центре внимания буржуазного историка находилась де-
ятельность мощного государства, направляемого могучей
волей и мудростью царя-реформатора. Этим еще раз дока-
зывается, что при всех особенностях исторических воз-
зрений Соловьева, его внимании к конкретному матери-
алу истории России, его мастерстве исследователя, неже-
лании ограничиваться юридическими формулами и
абстрактными социологическими обобщениями он все же
оставался историком-государственником Ч
Более того, в конкретных условиях борьбы передовых
и консервативных, идей в начале 70-х годов прошлого века
явная идеализация либералом Соловьевым деятельности
Петра I способствовала ложным представлениям о само-
державной власти как власти, способной выражать народ-
ные стремления.
В характеристике преобразовательной деятельности
Петра I Соловьевым наряду с подчеркнутым стремлением
представить реформатора «народным царем», а его
преобразования «народным делом» выявляется и другая
особенность — явный эволюционизм буржуазного историка
в понимании исторического процесса, решительное отри-
цание им правомерности революционных скачков в обще-
ственном развитии. Соловьев именно в рассматриваемом
произведении заявил: «Народы в своей истории не делают
прыжков» (Соч., с. 1008). Здесь мы уже не найдем
в отличие от «Истории России...» суждений Соловьева
0 реформах Петра I как коренном переломе в историческом
развитии России, тем более сравнений преобразовательной
деятельности царя-реформатора с Великой французской
революцией конца XVIII в. Напротив, стремление Соловь-
ева всемерно обосновать историческую подготовленность
реформ Петра I следует рассматривать как попытку исто-
рика преодолеть свойственные ему ранее представления
об этих реформах как крутом переломе в истории России.
Теперь Соловьев подчеркивал их эволюционный характер,
сравнивал реформы Петра I с эпохой Возрождения. Но-
вая трактовка преобразований Петра I в «Публичных чте-
ниях. ..» отражала эволюцию политических воззрений
буржуазного либерала, его утверждение на консерватив-
ных позициях.
Как и в «Истории России...», Соловьев в «Публичных
чтениях...» стремился обосновать взаимообусловленность
внутренних преобразований первой четверти XVIII в. и
154
реформ, рассчитанных на укрепление внешнеполитических
позиций России, при решающем значении первых. Не слу-
чайно здесь Соловьев сформулировал знаменательный вы-
вод: «Война входила в общий план преобразования, как
средство для достижения ясно осознанных целей этого
преобразования, входила в общий план, как школа, да-
вавшая приготовление народу, приготовление, необходи-
мое в его новой жизни, новых отношениях к другим на-
родам» (Соч., с. 1060). Отступление именно от этого прин-
ципиального положения Соловьева в оценке им реформ
Петра I последующими историками снизило теоретический
уровень буржуазной историографии в России конца
XIX—начала XX в. в трактовке столь важной проблемы.
Содержатся в «Публичных чтениях...» и другие глу-
бокие наблюдения Соловьева, например, о значении со-
здания реформами Петра I условий для экономического
подъема городов. Справедливо указывал он на крепостни-
ческий характер политики Петра I: «Всякий, кто внима-
тельно вглядится в состояние России при Петре, посме-
ется более чем детской мысли, что Петр мог освободить
крестьян» (Соч., с. 1110). Однако вслед за этим Соловьев
заявлял: «.. .но Петр не мог равнодушно смотреть на зло-
употребления, которые отягчали земледельческий труд»,
указывая на меры «народного царя» к ограничению этих
злоупотреблений и к облегчению участи крестьян «ориги-
нальным» способом — через улучшение «экономического
быта землевладельцев», т. е. помещиков, и отнятие «у них
побуждений к угнетению крестьян» (Соч., с. 1110). Перед
нами явная идеализация Петра I. Еще более эта идеали-
зация выявляется в том, что Петр I представлен Соловь-
евым даже зачинателем политики, создавшей в дальней-
шем предпосылки для освобождения крестьян и других
буржуазных реформ середины XIX в. Следствием петров-
ских преобразований было «освобождение села через под-
нятие города. Экономическое развитие, просвещение и
жизнь в среде цивилизованных народов — вот средства,
которые были даны преобразователем для постепенного
уврачевания старых зол» (Соч., с. 1109—1110).
Таким образом, в монографии Соловьева «Публичные
чтения о Петре Великом» содержатся важные дополнения
и уточнения представлений буржуазного историка о пет-
ровских преобразованиях сравнительно с соответствую-
щими томами «Истории России...» в оценке той проблемы,
155
которую сам Соловьев считал важнейшей для понимания
русского исторического процесса. Эти дополнения и уточ-
нения являются вместе с тем показателем эволюции об-
щественно-политических воззрений Соловьева, получившей
отчетливое выражение и в его исторических взглядах.
Несколько в ином плане представляет интерес другая
монография Соловьева «История падения Польши» (1863).
Ранее написанная и посвященная трем разделам Польши
в завершающей трети XVIII в., эта монография оказалась
непосредственным продолжением «Истории России...»
в характеристике русско-польских отношений в 80—
90-х годах XVIII в.
Тема монографии в год восстания Польши приобрела
исключительную актуальность, и пет сомнения в том, что
Соловьев подготовил ее к печати, вполне сознавая значе-
ние темы, и ее издание приурочил к польским событиям.
Самый этот факт характеризует прежде всего политичес-
кую позицию буржуазного историка.
Напомним, что польское восстание 1863 г. вспыхнуло
в период начавшегося спада первой революционной ситу-
ации в России. Поражение восстания укрепило реакцию.
В этих условиях выявилась вся неустойчивость и ограни-
ченность политической оппозиционности буржуазного ли-
берализма. Для борьбы с восставшей Польшей либералы
сомкнулись с реакцией, с шовинистами во главе
с Катковым. В. И. Ленин гневно писал, что в этот
период «...вся орава русских либералов отхлынула от
Герцена, за защиту Польши..., все «образованное обще-
ство» отвернулось от «Колокола» 2. И в этой «ораве рус-
ских либералов», к сожалению, оказался и Соловьев. Нет
более точной характеристики его политических воззрений
уже в первые годы пореформенного периода, чем отно-
шение к польскому восстанию.
С начала восстания в январе 1863 г. польский вопрос
приобрел необычайную политическую остроту как в сов-
ременном, так и в историческом аспектах. Поскольку вос-
ставшие важнейшим требованием выдвинули восстанов-
ление государственной самостоятельности Польши в ее
границах 1772 г., они решительно осудили все три раздела
Польши, а также реакционную политику Пруссии, Авст-
рии и России. В этих условиях силам, враждебным рево-
люционной Польше, было важно доказать историческую
неизбежность падения Польши и правомерность ее разде-
156
лов. Особенно важно это было в России, поскольку восста-
ние направлялось против царизма.
Откликом на эту политическую потребность реакцион-
ных сил и явилась монография Соловьева «История паде-
ния Польши». Автор подготовил ее к печати весьма опе-
ративно, так как у него был заготовлен к тому времени
обширный архивный материал по истории внешней поли-
тики России во второй половине XVIII в. В январе 1863 г.
Соловьев только что возвратился из Петербурга, где он
с августа 1862 г. преподавал историю наследнику престола
Николаю и весьма интенсивно работал в столичных архи-
вах. Впервые он выезжал в Петербург с той же целью на
еще более длительный срок — на полтора года, начиная
с ноября 1859 г., и уже тогда начал работу в архивах.
Источниковедческая основа нового труда Соловьева
была достаточно широка: наряду с богатейшей диплома-
тической документацией, почерпнутой из секретных архи-
вов, автор привлек мемуары французского полководца
Дюмурье, находившегося в 60—70 годах XVIII в.
в Польше, участника польских событий второй половины
XVIII в. Огинского, записки личного секретаря Екате-
рины II Храповицкого. Была использована книга немец-
кого историка Зибеля «История революционного времени».
Ссылается в ряде случаев Соловьев и на ранее изданные
им тома «Истории России...».
Соловьев в обычной своей манере весьма щедро при-
водит обширные извлечения из дипломатических доку-
ментов. В монографии, содержащей более 200 страниц,
такие извлечения занимают около одной трети текста.
Объясняется это тем, что в распоряжении Соловьева была
новая документация, представлявшая в то время значи-
тельную ценность, он стремился с ее помощью усилить
доказательность оценок и выводов своей монографии.
Содержание «Истории падения Польши» весьма ши-
роко. История разделов Польши рассматривается Соловье-
вым на фоне важнейших европейских событий 70—90-х
годов XVIII в. — отношений между участниками разде-
лов — Россией, Пруссией, Австрией, с преимущественным
вниманием, конечно, к внешней политике России. Уста-
навливается связь решения трех вопросов внешней поли-
тики России — шведского, восточного, или турецкого, и
польского. Приводятся сведения о внешней политике
Англии, Франции, Швеции, особенно в связи с русско-
157
шведской войной 1788—1790 гг. Значительное вниманий
уделяется русско-турецким войнам — первой 1768—
1774 гг., совпавшей с первым разделом Польши, второй
1787—1791 гг., предшествовавшей второму разделу. Уде-
лено внимание Великой французской революции 1789—
1794 гг., оказавшей влияние на Польшу в период ее вто-
рого и третьего разделов и борьба с которой в значитель-
ной мере скрепляла контрреволюционный союз России,
Пруссии и Австрии. Монография Соловьева тем самым
вводила в научный оборот много новых материалов, в ней
содержались новые факты.
В концепции Соловьева, положенной в основу «Исто-
рии падения Польши», было немало верных наблюдений,
внешне она имела наукообразную форму, но в целом без-
условно была тенденциозной. Именитый автор пытался
доказать историческую неизбежность «падения Польши»,
т. е. утраты ею государственного существования, и оправ-
дать участие России в разделах Польши3.
Соловьев стремится снять вину с русского царизма за
участие в разделах Польши: «Редкий государь t восходит
на престол с такими миролюбивыми намерениями, с ка-
кими взошла на русский престол Екатерина II» (Соч.,
с. 8), — утверждал Соловьев, слащаво превознося импе-
ратрицу, в царствование которой произошли все три раз-
дела Польши. Буржуазный историк стремится убедить чи-
тателя, что только сложившиеся обстоятельства заставили
Екатерину II принять участие в этих разделах.
Так, инициаторами первого раздела Польши высту-
пили Австрия и Пруссия. Последняя проводила особенно
агрессивную политику, пользуясь тем, что Россия была
занята войной с Турцией. Правительство Екатерины II
в трудных условиях этой войны принимало участие в пер-
вом разделе Польши лишь для того, чтобы не дать непо-
мерно усилиться своим западным соседям и возвратить
украинские и белорусские земли, прежде входившие в со-
став Русского государства.
Участие России во втором разделе Польши, если ве-
рить Соловьеву, также было чуть ли не вынужденным.
Ведя изнурительную вторую войну с Турцией в 1787—
1791 гг. в целях сохранения за собой Крыма, русское
правительство не могло осуществлять активной политики
в Польше, тем более что в 1788—1790 гг. Россия вела еще
войну и со Швецией. Этим снова воспользовалась Прус-
158
сия, упрочившая свое влияние в Польше и стремившаяся
к захватам новых ее территорий. Чтобы не допустить
нового и еще более значительного усиления Пруссии, Рос-
сия снова приняла участие в разделе Польши. Тем самым
Соловьев всецело оправдывает политику русского царизма
в Польше, продиктованную якобы, помимо всего прочего,
и неизменным стремлением русского правительства за-
щитить интересы православного населения Польши.
Конечно, перед нами не преднамеренная фальсифика-
ция описываемых событий. До нее крупный ученый не
мог опуститься. Но политическая позиция либерала и
официозный характер монографии Соловьева не могли не
наложить отпечатка на его произведение.
Интересно, однако, отметить, что факты, приводимые
Соловьевым в рассматриваемой монографии, зачастую
противоречат или даже опровергают его официозную кон-
цепцию. Так, он не может отрицать заинтересованности
правительства Екатерины II не только в покровительстве
православному населению Польши и вмешательстве на
этом основании в ее внутренние дела, но и в стремлении
к приобретению новых территорий, не только в свое время
захваченных Польшей, но и исконно польских земель.
Историческая обстановка тогда была такова, что собст-
венно польскими землями завладели германские государ-
ства. К России по разделам Польши отошли земли Бело-
руссии и Правобережной Украины — т. е. территории,
некогда входившие в состав Киевского государства.
Соловьев не мог скрыть своекорыстных интересов
правительства Екатерины II при третьем разделе Польши.
Даже в пристрастном изложении Соловьевым событий,
связанных с этим разделом, видно, что все реакционные
правительства Европы, и среди них царское правитель-
ство, были крайне напуганы усиливавшимся влиянием на
Польшу революции во Франции. В интерпретации Соло-
вьева принятие в Польше под этим влиянием Конституции
3 мая 1791 г. явилось едва ли не важнейшей причиной
второго раздела Польши. А третий раздел, приведший
к полному уничтожению государственного существования
Польши, явился прямым ответом на восстание 1795 г. под
руководством Тадеуша Костюшко. Этого не мог отрицать
Соловьев.
Соловьев впервые нарисовал достаточно полную при
всей ее официозности картину событий, связанных с тремя
159
разделами Польши, осветил полные драматизма конф-
ликты в самой Польше, напряженную дипломатическую
борьбу между сильнейшими европейскими державами, по-
казал изощренные интриги польской аристократии, метав-
шейся между этими державами. Все это составило опре-
деленную заслугу историка, но при этом никак не следует
забывать политической позиции Соловьева как либерала,
сомкнувшегося в период польского восстания 1863 г. с си-
лами реакции, чем обусловлены воспроизведенные нами
особенности его концепции в оценке разделов Польши, ее
классовое существо и классовая ограниченность.
Следует указать и на то, что эта концепция по суще-
ству содержала в себе осуждение и революционного дви-
жения в самой России на рубеже 50—60-х годов прошлого
века, как выражения, по мнению Соловьева, все тех же
анархических сил, разрушающих мощь государства и по-
тому опасных и требующих борьбы с ними.
В последней изданной при жизни монографии Соловь-
ева «Император Александр I. Политика. Дипломатия»
(1877) много сходного с предшествующими. С «Публич-
ными чтениями о Петре Великом» ее сближает персональ-
ный и юбилейный характер (издана к 100-летию со дня
рождения Александра I) и определенный этим налет офи-
циозности. С «Историей падения Польши» рассматривае-
мую монографию роднят два обстоятельства: обе они по-
священы внешней политике, но тема второй раскрывается
на более широком, общеевропейском фоне; причем вторая
продолжает первую хронологически и, кроме того, обе они
во внешнеполитическом плане продолжают «Историю
России...» Соловьева.
Можно указать и еще на одну общую черту двух по-
следних монографий — источники их сходны в том смы-
сле, что архивные материалы, занимающие в них столь
значительное место и придающие им особую ценность,
были извлечены Соловьевым в петербургских секретных
архивах. Для монографии «Александр I...» особенно важ-
ное значение имел третий и последний приезд Соловьева
в Петербург — в первую половину 1866 г. — для препода-
вания новому наследнику престола — Александру.
Кроме широко использованных архивных материалов,
Соловьев привлек для монографии об Александре I пу-
бликации иностранных архивов, связанные с событиями
первой четверти XIX в., некоторые мемуары — Колен-
160
кура, Гизо, а также отдельные французские периодичес-
кие издания, более всего газету «Moniteur».
Рассматриваемая монография состоит из двух частей:
«Эпоха коалиций» и «Эпоха конгрессов». По обычной для
Соловьева манере их содержание было первоначально ос-
вещено в серии его журнальных статей. Первой части
предшествовали статьи: «Европа в конце XVIII века»
(«Русский вестник», 1862—1863), «Россия и Европа
в первой половине царствования Александра I» («Вестник
Европы», 1877). Второй части предшествовали статьи:
«Венский конгресс» («Русский вестник», 1865), «Эпоха
конгрессов» («Вестник Европы», 1866—1867). Статьи эти,
конечно, были доработаны и дополнены в процессе под-
готовки монографии к изданию.
Важно отметить, что в русской исторической литера-
туре до появления монографии Соловьева внешняя поли-
тика России в первой четверти XIX в. освещалась крайне
слабо. Эта тема косвенно затрагивалась в трудах А. И. Ми-
хайловского-Данилевского и М. И. Богдановича — истори-
ков Отечественной войны, освещавших ее преимущест-
венно в плане описания военных действий. Соловьев мог
использовать работы иностранных, особенно французских,
авторов — Тьера, П. Ланфре4 и других, но в монографии
он на них не ссылается.
В советское время монография Соловьева «Император
Александр I...» явилась предметом изучения лишь в статье
А. В. Ефимова «С. М. Соловьев как историк междуна-
родных отношений»5. Специфика темы статьи, однако,
исключала разносторонний анализ монографии Соловьева,
в ней воспроизведены лишь некоторые теоретические по-
ложения историка в понимании им международных отно-
шений.
В основу работы Соловьев положил продуманную и
стройную структуру. Обширная монография, содержащая
свыше 500 страниц, делится на две части: «Эпоха коали-
ций» и «Эпоха конгрессов». Первая из них посвящалась
периоду борьбы европейских держав с Наполеоном, вто-
рая — времени деятельности Священного союза.
Книга Соловьева отличается исключительно широким
охватом событий, ареной которых была вся Европа, с уча-
стием в них России, Франции, Австрии, Пруссии, Англии,
а после начала греческого восстания 1821 г. и Турции.
Главными действующими лицами в этих событиях высту-
И В. Е. Иллерицкий
161
пают Александр I, Наполеон, монархи Австрии, Пруссии,
главы правительств европейских государств, министры
иностранных дел — Меттерних, Талейран, Нессельроде,
Каподистрия, послы европейских держав, которым Со-
ловьев давал яркие и запоминающиеся характеристики.
Все отмеченные особенности последней монографии Со-
ловьева обусловили не только ее научную ценность, но и
тот интерес, который она возбудила в широких кругах
читателей.
В историографическом плане интерес к рассматривае-
мой работе повышается и тем, что в ней отразились ис-
торические и политические воззрения Соловьева в их
итоговом выражении.
Монография Соловьева во многом была актуальной
для времени своего издания. Так, тщательно рассмотрен-
ные в пей польский и восточный вопросы сохраняли свою
остроту и во второй половине XIX в. Актуальность поль-
ского вопроса после недавнего восстания в Польше
в 1863 г. была несомненной. Еще более актуален был во-
сточный вопрос накануне русско-турецкой войны 1877 —
1878 г. Сам факт издания книги Соловьева в год начала
этой войны не случаен и определен не только 100-летием
со дня рождения Александра I. Скорее, дата эта была
использована в качестве предлога. И то и другое обстоя-
тельство способствовали официозности содержания книги:
успехи во внешней политике России при Александре I
должны были воодушевить в начавшейся войне с Тур-
цией.
Суть концепции, положенной в основу книги Соловь-
ева о внешней политике Александра I, можно кратко из-
ложить па основе важнейших положений монографии вы-
дающегося историка. Западная Европа после начала фран-
цузской революции конца XVIII в., полагал Соловьев,
была ареной борьбы двух политических сил: революции,
влияние которой на все европейские страны исходило из
Франции, и монархических государств — России, Австрии,
Пруссии и конституционно-монархической Англии, кото-
рые противопоставили идеям революции принцип легити-
мизма. Борьба была неизбежна. Соединение сил монар-
хических государств определило создание трех коалиций,
сначала против революционной Франции, а затем против
Наполеона.
Соловьев очень подробно и тщательно проследил
162
в своей монографии эту напряженную и драматическую
борьбу вплоть до «ста дней» Наполеона и трагической
для него битвы при Ватерлоо. Затем он так же детально
исследовал борьбу между победителями Наполеона на
конгрессах Священного союза.
Соловьев превосходно изучил имевшиеся в его распо-
ряжении обширные материалы. Они позволили ему раз-
носторонне раскрыть политические интересы правительств
каждой из стран — участниц сначала коалиций, а затем
конгрессов Священного союза и достаточно объективно
оценить их.
Так, Соловьев справедливо отмечал стремление Напо-
леона Бонапарта к утверждению своей диктатуры во всей
Европе, раскрывал хищническую внешнюю политику Ав-
стрии, олицетворенную недальновидным, но хитрым Мет-
тернихом, стремившимся использовать борьбу с револю-
ционной, а затем с наполеоновской Францией для приоб-
ретения Австрией гегемонии в союзе германских госу-
дарств, прочного утверждения в Европе монархических
режимов на основе принципа легитимизма, для захвата
Австрией польских и турецких земель, оттеснения Прус-
сии и усиления тем самым Австрии в противоборстве
с Россией. Говоря о Пруссии, Соловьев верно отмечал
стремление ее правительства к первенству в германском
союзе и его захватническую политику в отношении поль-
ских земель. Указывал Соловьев и на корыстную заинте-
ресованность Англии в европейских делах, главным обра-
зом для расширения торговли с европейскими государст-
вами. Однако Соловьев не усмотрел всей глубины проти-
воречий между Англией и Францией. Буржуазный исто-
рик не сумел оценить эту борьбу как борьбу между ста-
рым и новым капиталистическими хищниками, не отметил
должным образом заинтересованность Англии в захвате
французских колоний. Это было связано с недооценкой
Соловьевым экономических интересов борющихся стран,
что коренилось в идеалистических основах его историчес-
ких взглядов.
Важно отметить и другое — отсутствие у Соловьева
социальной характеристики описываемых им явлений.
Так, он многократно называет пореволюционную Фран-
цию «новой», противопоставляя ее «старой», но нигде не
пишет о господстве в «новой» Франции буржуазии, как
не видит он этого господства и в Англии. Нигде пе пазы-
11*
163
вает Соловьев Россию, Австрию и Пруссию странами фе-
одальными и потому не усматривает подлинной остроты
их противоречий с Францией, как борьбы двух социаль-
ных систем — буржуазной и феодальной.
В центре внимания историка, естественно, находилась
Россия, ее внешняя политика, деятельность ее правитель-
ства, и в особенности Александра I. Их оценка у Соловь-
ева не только сложна, по и противоречива. Здесь сочета-
лись верные, реалистические наблюдения историка с его
общей достаточно односторонней, в основе своей офици-
озной и даже пристрастной позицией.
Соловьев прав в том отношении, что Россия не выдви-
гала территориальных претензий в качестве первоосновы
своей внешней политики. Соловьев с определенным осно-
ванием неоднократно это подчеркивает. Главным стрем-
лением России, по Соловьеву, являлось утверждение рав-
новесия в системе европейских государств, преодоление
диктаторских притязаний Наполеона. Но и в данном слу-
чае Соловьев не дает социальной характеристики внеш-
ней политики России, не объясняет, какие общественные
слои и почему были заинтересованы в борьбе с революци-
онной, а затем наполеоновской Францией.
Более того, внешняя политика России в первой поло-
вине царствования Александра I приобретала у Соловь-
ева посреднический характер в том смысле, что в основе
ее будто бы лежало стремление примирить враждующие
лагери, и эта политика не достигла своей цели лишь бла-
годаря непреодолимому упорству Наполеона. В такой
оценке внешней политики России проявилась явная идеа-
лизация ее Соловьевым. Так, борьба Александра I за со-
здание Польского царства диктовалась якобы либераль-
ными стремлениями, которые впоследствии выразились
в предоставлении Польше конституции. В результате якобы
произошло оздоровление политической атмосферы в Ев-
ропе, так как Польша перестала быть предметом полити-
ческой борьбы, которая велась из-за нее между европей-
скими державами на протяжении десятилетий.
Те же соображения установления политического рав-
новесия в Европе диктовали будто бы и политику России
в восточном вопросе. Не добиваясь территориальных при-
ращений за счет Турции, Россия стремилась лишь, пола-
гал Соловьев, к оздоровлению политической атмосферы
в Европе посредством разрешения многовекового «восточ-
164
кого» вопроса. И только бескорыстная защита Алек-
сандром I, а затем Николаем 1 интересов единоверных
греков, утверждал историк, привела Россию к выступле-
нию с оружием в руках против Турции в 1827—1829 гг.
Идеализация заключалась в том, что если Россия не
желала территориальных приращений, не выдвигала их
в качестве самоцели в своей внешней политике, то реша-
ющее значение в ней приобретали отнюдь не бескорыстные
факторы — политические. Значение последних отмечалось,
но отнюдь не подчеркивалось Соловьевым. Между тем
именно ими была продиктована борьба Екатерины II
с революцией во Франции, а затем борьба России с напо-
леоновской Францией при Александре I. Соловьев совер-
шенно не раскрывает и социальной сущности этой поли-
тики.
Соловьеву чуждо также понимание этапов развития
внешней политики России при Александре I. Он не ус-
матривает ее специфики до Отечественной войны 1812 г.,
когда характер русской внешней политики определялся
стремлением к противоборству с Наполеоном, недопуще-
нием утверждения его полной гегемонии в Европе. Это
была борьба не только за сохранение политического рав-
новесия в Европе, как полагал Соловьев, но и против
распространения буржуазных веяний.
Не видел Соловьев различий во внешней политике Рос-
сии в период Отечественной войны 1812 г. сравнительно
с предшествующим этапом, хотя и рассматривал эту
войну как национальную и даже отмечал в ней участие
народных мае, так же как и в борьбе с Наполеоном в Ис-
пании.
Для Соловьева внешняя политика России в отличие от
внешней политики других европейских государств оста-
валась неизменно справедливой, учитывающей интересы
европейских народов, в особенности французского, к кото-
рому Александр I будто бы всегда проявлял чувство сим-
патии.
Некоторые изменения во внешней политике России
произошли, по Соловьеву, лишь в период деятельности
Священного союза, в годы его борьбы с революциями
в Испании и Италии, в которой вынужден был принять
участие и Александр I. Делал он это будто бы под влия-
нием идеолога и вдохновителя реакционных сил в Европе
Меттерниха, которому Соловьев зачастую дает нелестные
165
характеристики, иронически называя его «дипломатичес-
ким гением», разработавшим систему мер борьбы с рево-
люционной опасностью в Европе. Крах этой системы
в годы революции 1848—1849 гг. доказал ее полную не-
состоятельность6. Александр I «вынужден» был, по Со-
ловьеву, присоединиться к борьбе с революционной опас-
ностью в Европе, поскольку она грозила власти законных
монархов.
Либерал Соловьев, казалось бы, пе мог одобрить от-
крыто реакционной политики Священного союза, но он ее
и не осуждал, так как она была направлена на борьбу
с последствиями французской революции, которую он рас-
ценивал как «политический мятеж и головокружение»
(Соч., с. 192). И поэтому контрреволюционная политика,
«нравилась многим, измученным революционною качкою»
(Соч., с. 1132), а следовательно, поддерживалась русским
императором.
Подобная трактовка внешней политики Александра I
была, конечно, официозной, поскольку Соловьев всемерно
стремился оправдать русского самодержца. Он не заметил
при этом нарушения главных методологических принци-
пов своей же собственной концепции, требовавших при-
знания внутренних факторов истории любого народа в ка-
честве решающих, основных факторов. Характеризуя
внешнюю политику России при Александре I, Соловьев
полностью оторвал ее от внутреннего положения России,
где после окончательного поражения Наполеона в 1815 г.
явственно возобладали силы политической реакции. Со-
ловьев даже не упоминает об аракчеевщине, хотя именно
в изменениях внутренней политики в России, в укрепле-
нии реакционных сил в правящих сферах следует усмат-
ривать главную причину активного участия Александра I
в осуществлении реакционной политики Священного
союза.
Но если принцип соотношения внутренних и внешних
факторов в объяснении внешней политики России при
Александре I и не получил раскрытия в рассматриваемой
нами монографии, то полную реализацию получило преу-
величение Соловьевым субъективного фактора, роли исто-
рических деятелей. Это прежде всего выразилось в оценке
Соловьевым характера деятельности Наполеона I и Алек-
сандра I.
166
Соловьев в оценке характера деятельности Наполеона
и его личных качеств внешне стремился соблюсти объ-
ективность. Он признавал Наполеона «первым полковод-
цем века» (Соч., с. 371), называл Наполеона «героем ста
битв» (Соч., с. 563), отмечал зависимость успехов Напо-
леона от результатов французской революции, называя
(•го «сыном революции» (Соч., с. 484), «гением войны, ге-
нием революции» (Соч., с. 756). Однако при всем этом
именовал Наполеона «врагом рода человеческого» (Соч.,
с. 390) 1. Политика Франции, как внутренняя (ее мало
касается Соловьев), так и внешняя, со времени консуль-
ства, по мнению историка, полностью определялась Напо-
леоном, руководившимся честолюбивыми притязаниями
на роль диктатора пе только Франции, но и всей Европы.
Характеризуя таким образом политику Наполеона, лишая
ее объективной обусловленности и социального содержа-
ния, Соловьев тем самым непомерно преувеличивал роль
Наполеона как исторического деятеля.
Возвеличение Наполеона как исторического деятеля
послужило Соловьеву средством безудержного восхвале-
ния его победителя Александра I, который, не обладая
военным гением французского императора, превзошел его
как дипломат, как политик и сумел привести союзников
но коалициям к решительной победе над Наполеоном.
Для Соловьева Александр I — «главный деятель
эпохи» (Соч., с. 753), он с удовольствием повторяет вос-
торженную характеристику госпожи Стааль, назвавшей
русского императора «царем царей» (Соч., с. 576). В ев-
ропейской политике Александр I — либерал (Соч., с. 530),
преданный друг французского народа, стремящийся к ос-
вобождению его от власти узурпатора Наполеона (Соч.,
г. 585). Политика Александра I в Европе якобы прими-
ряла крайности — революцию и реакцию, была либераль-
ной и в этом качестве будто бы последовательно реализо-
вывалась, пока Испанская и Неаполитанская революции
не вынудили Александра I к поддержке Священного со-
юза. Только в последние годы своей жизни Александр I,
согласно явно пристрастному мнению Соловьева, стал
склоняться к охранительству, к консерватизму, не разде-
ляя, однако, крайностей реакции.
Мы уже не будем повторять, что политика Алексан-
дра I полностью лишена у Соловьева социальной обуслов-
ленности, она — результат воспитания императора в духе
167
идей Лагарпа*, плод его либеральных стремлений и вы-
дающихся дарований государственного деятеля. Соловьев
решился лишь на то, чтобы признать отсутствие у своего
героя дарований полководца, в чем убедился и сам Але-
ксандр I после поражения союзных армий у Аустерлица.
В конечном итоге вся напряженная борьба с Наполе-
оном по существу свелась Соловьевым к борьбе между
двумя выдающимися историческими деятелями, из кото-
рой Александр I, якобы вернее усвоивший дух эпохи, пра-
вомерно вышел полным победителем.
Конечно, если бы в характеризуемой монографии со-
держался только такой подтекст, то она не представ-
ляла бы значительного научного интереса. Но в ней со-
держится немало глубоких обобщений, наблюдений,
сообщается много достоверных факторов, которые подчас
приходят в противоречие с тенденциозными оценками са-
мого автора. В целом Соловьев рисует борьбу с Наполео-
ном как напряженную и драматическую эпопею, в кото-
рой участвуют и многие другие деятели, он даже признает
в определенной мере участие в этой борьбе народов. Мо-
нография была важным событием в исторической науке
своего времени. Она не утратила историографического ин-
тереса и в наше время, поскольку содержит рациональ-
ные оценки, принадлежит перу маститого ученого и зре-
лого мастера исторического исследования. Эта моногра-
фия, созданная в конце жизни Соловьева, выступает как
своеобразный итог исследовательского пути выдающегося
ученого.
Но следует отметить, что и слабые стороны труда Со-
ловьева явились свидетельством итогов идейно-теоретиче-
ского развития историка. Его консервативные позиции на
закате жизни несомненны и в политическом, и в теорети-
ческом отношениях. Они первоначально выразились в по-
литическом плане в «Истории падения Польши», с доста-
точной определенностью проявились не только в полити-
ческом, но и в теоретическом отношении в «Публичных
чтениях о Петре Великом» и с еще большей определен-
ностью обнаружились в завершающем труде об Алексан-
дре I. Именно в этом произведении наиболее полно про-
явилось либеральное отрицание революции как метода
* Либерально настроенный швейцарец Лагарп был воспитателем
Александра I в юности.
168
переустройства общественных отношений. Соловьев еще
раз (но теперь уже на основе анализа событий европей-
ской истории на протяжении четверти века) определил ре-
волюцию как «болезненные припадки» (Соч., с. 428) 8
в общественном развитии, как результат нарушения нор-
мального хода истории.
Не случайна в том же отношении и неумеренная пе-
реоценка исторических деятелей, прежде всего Наполе-
она — в негативном плане и Александра I как положитель-
ного исторического деятеля.
В процессе утверждения Соловьева на консервативных
позициях была своя логика. Политический консерватизм
породил у историка нарушение последовательной реализа-
ции им некоторых методологических принципов, защи-
щавшихся Соловьевым в период высшего подъема его
творческой деятельности.
Преобладающий интерес Соловьева в последние деся-
тилетия жизни к вопросам внешней политики, кроме за-
вершающих томов «Истории России...» и монографии,
посвященной Александру I, проявился и в его работах
о восточном вопросе во внешней политике России в XIX в.
Он получил отражение в журнальных статьях: «Восточ-
ный вопрос пятьдесят лет назад» и «Восточный вопрос
в 1827—1829 гг.» («Древняя и новая Россия», 1876,
т. I, III). В названных статьях немало повторений срав-
нительно с монографией об Александе I, особенно по по-
воду дипломатической борьбы между европейскими дер-
жавами по греческому вопросу после восстания в 1821 г.
в Греции. События до смерти Александра I в 1825 г. ос-
вещены даже более основательно, чем в названных ста-
тьях, и только события 1826—1829 гг. дополняют моно-
графию.
Но между монографией и статьями обнаруживается
полное тождество в политических и теоретических уста-
новках автора. Явно идеализируется «бескорыстие»
Александра I в разрешении греческого вопроса: он якобы
боролся с Турцией, а также с антирусскими дипломати-
ческими маневрами Австрии и Англии только в интересах
освобождения единоверных греков, вместе с тем опасаясь
нарушить принцип легитимизма как основу Священного
союза, поскольку греки восстали против законного мо-
нарха — турецкого султана. Этими колебаниями Алексан-
дра I превосходно пользовался Меттерних, и в результате
169
разрешение греческого вопроса как источника противоре-
чий России с Турцией затянулось. Он был разрешен лишь
при Николае I, который начал проводить в восточном во-
просе более твердую политику, не остановившись перед
войной 1827—1829 гг., закончившейся победой России.
Соловьев полностью оправдывает внешнюю политику
обоих императоров, в его работах нет и намека на ее кри-
тику.
Соловьев немало занимался и вопросами всеобщей ис-
тории, в частности новой историей Западной Европы.
Крупнейшей по замыслу и объему работой по всеобщей
истории является серия статей Соловьева «Наблюдения
пад исторической жизнью пародов», печатавшихся в жур-
нале «Вестник Европы» с 1868 по 1876 г. В статьях вы-
делялось два раздела: I. Восток (Китай, Египет, Ассирия
и Вавилон, Финикия, арийцы в Азии); II. Запад (арийцы
древнего мира: греки, Рим, разложение древнего мири и
начало нового). В работе прослеживаются закономерности
исторического развития народов древности. Важнейшей
задачей Соловьева была характеристика древнейших су-
деб «любимца истории» — арийского племени, к которому
он относил и славян. Работа интересна тем, что в ней от-
разились теоретические представления Соловьева об исто-
рическом развитии народов в их итоговом выражении. Не-
которые из них рассматриваются нами при характери-
стике теоретических принципов, лежавших в основе исто-
рической концепции Соловьева. Хронологически работа
ограничивалась древней историей и была не завершена.
Подробный анализ этой важной и крупной работы — за-
дача специалистов по истории древних народов Азии и
Европы.
Задачей специалистов является и характеристика ра-
бот Соловьева по новой истории. Он был одним из первых
профессоров Московского университета, преподававших
и разрабатывавших этот курс. Чтение такого курса — сви-
детельство универсализма исторических интересов Со-
ловьева, оно помогало ему осмыслить европейский фон для
русской истории, особенно для внешней политики России.
Но работ монографического типа по вопросам новой исто-
рии Европы у Соловьева не имеется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
I (одводя итоги изучения жизни и деятельности Сер-
гея Михайловича Соловьева, необходимо определить его
место в русской и мировой исторической науке своего
времени, степень его влияния па последующее развитие
русской историографии и оценить отношение к его на-
следству современной советской, марксистско-ленинской
исторической науки.
Мировоззрение и историческая концепция Соловьева
складывались в условиях глубокого кризиса феодально-
крепостнической системы в России, обострения социаль-
ных противоречий и оформления новых общественно-по-
литических направлений, в то время, когда со все более
ощутимой остротой вставал вопрос о будущем России.
Именно в такие переломные периоды повышается интерес
к истории, выявляется потребность осмыслить прошлое и
на основе накопленного исторического опыта определить
его отношение к настоящему, чтобы предвидеть будущее.
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, — писал
В. Г. Белинский, — чтобы оно объяснило нам настоящее
и намекнуло нам о нашем будущем» !.
Ответы па эти вопросы оказывались различными в за-
висимости от социальной позиции спрашивающих. Не слу-
чайно уже в 40-х годах произошло размежевание общест-
венных сил на славянофилов и западников, оформились
революционно-демократические взгляды Белинского.
В новых условиях вполне выявилась крайняя устаре-
лость официально-охранительной историографии, пред-
ставленной Н. М. Карамзиным, ее неспособность ответить
па возникшие вопросы общественной жизни, выявилась
необходимость разработки новой исторической концепции
с более глубокими теоретическими принципами, с более
широким и фактически обоснованным пониманием исто-
рии России. Такую концепцию и разработал Сергей Ми-
хайлович Соловьев па основе либерально-буржуазных
идейно-политических и теоретических принципов.
Историческая концепция Соловьева имела националь-
ные корни, была обусловлена новыми общественными по-
требностями и вместе с тем опиралась на исходные прин-
ципы буржуазной историографии в России, получившие
свое первоначальное выражение в трудах И. Г. Эверса,
М. Т. Каченовского, Н. А. Полевого, К. Д. Кавелина.
171
Деятельность названных историков отражала процесс
оформления буржуазной историографии в России. Со-
ловьев не только завершил этот процесс, но и поднял бур-
жуазную историографию на такую высоту, что она на
многие десятилетия заняла ведущее место в русской ис-
торической науке. Историческая концепция Соловьева
знаменовала ее вершину, воплотив лучшие достижения
буржуазного историзма в нашей стране.
Этому способствовало то, что историческая концепция
Соловьева своими теоретическими истоками была связана
с крупнейшими достижениями философской и историче-
ской мысли Западной Европы — философией истории Ге-
геля с его диалектическим пониманием общественного
развития, со взглядами французских историков периода
Реставрации — Ф. Гизо, О. Тьерри, с их пониманием ис-
тории как истории гражданской. Эти передовые идеи были
восприняты Соловьевым и творчески реализованы им для
объяснения истории России, изучение которой впервые
было поднято на уровень передовой европейской истори-
ческой науки. Истолкование русского исторического про-
цесса Соловьевым исходило из признания его закономер-
ным, внутренне обусловленным, органическим, было про-
низано идеями диалектического развития на основе борьбы
противоречивых начал.
Соловьев противопоставил эти передовые для своего
времени принципы официально-охранительной историо-
графии и славянофилам. Он целеустремленно и настой-
чиво реализовывал их в своих копкретпо-исторических ис-
следованиях и в своем главном фундаментальном труде —
29-томной «Истории России с древнейших времен».
Создавая свои труды, Соловьев впервые ввел в русскую
историческую науку такое множество ценнейших источ-
ников самых различных видов, извлеченных преимущест-
венно из архивов, что в этом отношении он превзошел
всех русских историков. Он основывался на передовых
для своего времени методах изучения источников. Соловьев
ввел в науку необозримую массу новых исторических
фактов. Его труды поэтому приобретали богатое фактиче-
ское обоснование, доказательность содержащихся в них
выводов и обобщений. В творчестве Соловьева воплотилось
редкое сочетание его выдающихся дарований с фантасти-
ческой работоспособностью.
172
Достоинством исторической концепции Соловьева был
и ее динамизм, на протяжении всей его научной деятель-
ности она непрерывно обогащалась новыми идеями, раз-
работкой новых проблем, новыми обобщениями и источ-
никоведческими изысканиями.
Чтобы представить богатство исторических исследова-
ний Соловьева, достаточно напомнить его новую периоди-
зацию истории России на основе борьбы государственных
отношений с родовыми, которая, несмотря на свою идеа-
листическую основу, содержала идею исторического про-
гресса, отвергала решающее значение внешних влияний,
отличалась историзмом в трактовке проблемы утвержде-
ния самодержавной власти в России. Историческая кон-
цепция Соловьева включала признание объективных фак-
торов— «природы страны», «природы племени», «хода
внешних событий», давала новую трактовку центральной
ее проблемы — преобразований Петра I, их исторической
обусловленности, прогрессивного значения и важнейших
исторических последствий. Впервые в сферу научного изу-
чения был включен «послепетровский период».
По существу впервые в России Соловьев реализовал
в своем творчестве принципы «гражданской истории» как
процесса общественного развития. Значение научного твор-
чества Соловьева еще более подчеркивается универсализ-
мом его научных интересов, стремлением связать историю
России с историй западноевропейской и мировой.
Напряженная и необычайно плодотворная деятель-
ность Соловьева представляла собой выдающееся явление
русской пауки вообще, которая начиная с середины про-
шлого века стала важным слагаемым мировой науки во
многих ее сферах.
Мы не забываем при этом, что при всех своих дости-
жениях Соловьев оставался сыном своего времени и вы-
разителем буржуазно-либеральных воззрений. Его концеп-
ция содержала черты классовой и научной ограниченно-
сти. Буржуазный историк, значительно расширивший
предмет русской исторической науки, создавший ориги-
нальную, достаточно цельную и стройную концепцию ис-
тории России, тем не менее давал идеалистическую трак-
товку историческому процессу, считал главной движущей
силой истории государство, идеализировал историческую
роль самодержавия и деятельность многих исторических
личностей. В наибольшей мере слабые, классово ограии-
173
чеппые стороны исторической концепции Соловьева вы-
явились в его эволюционизме, в отрицании правомерности
революционных потрясений, в осуждении самодеятель-
ности народных масс, проявлявшейся в их возмущениях
и носившей характер социального протеста.
В советской историографии длительное время при
верной констатации всех этих слабых сторон историче-
ской концепции Соловьева не отмечалось, что некоторые
из них, такие, как непомерное преувеличение роли госу-
дарства и отрицательное отношение к народным движе-
ниям, как и общее непонимание действительной роли на-
родных масс в истории, подвергались критике уже его
современниками — идеологами русской революционной
демократии и их единомышленниками.
Но определение подлинного значения научной деятель-
ности Соловьева, действительной его роли в русской исто-
рической науке, а также его места в мировой историо-
графии возможно лишь на основе марксистско-ленинских
принципов партийности и историзма, на основе опыта их
применения на современном уровне советской историче-
ской науки. Вот почему подлинно научное определение
особенностей исторической концепции Соловьева и дей-
ствительного места этого выдающегося ученого в русской
дореволюционной историографии могло стать заслугой
только советских историков.
Соловьев, несомненно, высоко поднялся над уровнем
дворянской историографии. Он во многом превзошел и
своих непосредственных предшественников, в трудах ко-
торых впервые воплотились некоторые принципы бур-
жуазной историографии. Он обогатил, как мы убедились,
буржуазную историографию в России в такой мере, что
зтал ее центральной фигурой и крупнейшим представите-
лем. Историки-марксисты в своем большинстве никогда
пе отвергали этих его заслуг, хотя процесс изучения исто-
рической концепции Соловьева претерпел эволюцию.
В ранних работах советских историков проявлялись и
недооценка значения Соловьева, и вульгаризаторские оп-
ределения социальной сущности его концепции, допуска-
лись и налет идеализации воззрений Соловьева, и непо-
мерные требования, нарушающие принцип историзма.
Сохранились разногласия в решении вопроса о принад-
лежности Соловьева к государственной школе в русской
историографии, хотя большинство советских историков
174
относит его к государственникам, отмечая и черты свое-
образия воззрений Соловьева, и его особое место в этой
школе.
Слабее разработан вопрос об эволюции воззрений Со-
ловьева, в недостаточной мере изучалась его творческая
лаборатория.
Мы стремились показать, что политическим и истори-
ческим взглядам Соловьева была свойственна определен-
ная эволюция. Эта эволюция выражалась в том, что он
от умеренно либеральных политических воззрений пере-
ходил в пореформенный период к взглядам консерватив-
ным, многое не одобряя ни в методах осуществления ре-
форм 60—70-х годов, ни в пореформенной действитель-
ности. В исторических воззрениях эта эволюция нашла
преимущественное выражение в монографиях Соловьева,
изданных после крестьянской реформы. Оправдание раз-
делов Польши в монографии «История падения Польши»
и тем самым осуждение польского восстания 1863 года,
установление несоответствия методов осуществления ре-
форм 60—70-х годов сравнительно с реформами Петра I
в «Публичных чтениях о Петре Великом», осуждение
революционных преобразований во всех формах как выра-
жение консерватизма в политике и эволюционизма в по-
нимании истории в монографии «Александр I. Политика.
Дипломатия», официозный характер названных моногра-
фий, полное оправдание внешней политики России и вен-
ценосцев, ее осуществлявших, — Екатерины II, Алексан-
дра I — все это, несомненно, свидетельствовало, о «по-
правении» Соловьева.
И тем не менее при всех отмеченных чертах ограни-
ченности воззрений Соловьева и указанных признаков их
эволюции не подлежит сомнению ни то, что он создал
наиболее полную, цельную и (в пределах возможностей
буржуазного историка) наиболее обоснованную концеп-
цию истории России, ставшую вершиной буржуазной
историографии в нашей стране.
Историческая концепция Соловьева в главнейших
своих особенностях определила все последующее развитие
буржуазной историографии в России. Перефразируя изве-
стное изречение Ф. М. Достоевского: «Вся русская лите-
ратура второй половины XIX века вышла из «Шипели»
Гоголя», — можно с неменьшим правом утверждать, что
русская буржуазная историография последних десятиле-
175
тий XIX — начала XX в. вышла из «Истории России...»
С. М. Соловьева. Этот труд представлял собой итог всего
предшествующего развития русской историографии и,
будучи ее высшим достижением, в свою очередь явился
истоком последующего развития буржуазной историче-
ской науки в России.
Доказательством этого вывода является не только то,
что Соловьев издал крупнейший труд по истории России,
что само по себе имеет исключительно важное значение.
Соловьев выступал во многом новатором, первооткрывате-
лем, неустанным тружеником в разыскании, накоплении
и изучении необъятной массы новых источников, почерп-
нутых в архивах, впервые им осмысленных и обобщенных.
Говоря образно, Соловьев поднимал историческую целину
и первый ее обрабатывал. Труд его продолжателей был
значительно легче. Они взрыхляли подготовленную почву,
засеивали ее новыми культурами, имея в виду разработку
частных проблем, и даже «выращивали розы», как это
делал талантливейший из продолжателей Соловьева
В. О. Ключевский — несравненный среди русских исто-
риков художник слова и замечательный стилист.
Но и критики Соловьева, да и сами его продолжатели
зачастую забывали, кто подготовил почву для их успехов...
Буржуазная историография вскоре после смерти Соло-
вьева и в Западной Европе и в России вступила в полосу
кризиса. В новых исторических условиях в эпоху импери-
ализма, в условиях резкого обострения классовых проти-
воречий буржуазные историки стали отказываться от
признания принципа закономерности даже в его идеали-
стической трактовке, пренебрегать широкими обобще-
ниями, заниматься частными проблемами и подчас мелоч-
ными изысканиями, загораживать, по словам В. И. Ле-
нина, «лес деревьями», давать «накопление сырых фактов,
отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон
исторического процесса» 2. Не остались в стороне от этого
процесса, выражающего страх буржуазии перед законами
истории, перед пролетарской революцией, перед будущим,
и русские историки, среди них и Ключевский.
Сравнительно с этими историками Соловьев, отразив-
ший период восходящего развития буржуазной историо-
графии, когда выявились ее лучшие, сильные стороны,
возвышается над своими последователями и продолжате-
лями, превосходит их и выступает как крупнейший исто-
176
рпк дореволюционной России, несмотря на все слабые
стороны его концепции, отмеченные нами.
Как крупнейший историк своего времени Соловьев
занял почетное место и в западноевропейской, а следова-
тельно, и в мировой буржуазной историографии. Еще со-
временники Соловьева могли убедиться в превосходстве
его трудов (и более всего «Истории России с древнейших
времен») во многих отношениях над трудами известных
западноевропейских историков. Так, труды прославлен-
ного французского историка Ф. Гизо «История цивилиза-
ции во Франции» и «История цивилизации в Европе»
были образцом синтетических работ, но основывались они
в основном на достаточно известных материалах. Труд
английского историка Т. Маколея «История Англии»
ограничивался XVII в., восхвалял «славную революцию»
и не мог претендовать на значение национальной истории.
По широте привлеченных источников и методике их об-
работки этот труд уступал труду Соловьева. Капитальное
сочинение Ф. X. Шлоссера «История восемнадцатого сто-
летия и девятнадцатого до падения Французской импе-
рии» освещало историю главнейших европейских госу-
дарств в сравнительно общей форме и не отличалось таким
богатством источников, как труды Соловьева. Тем более
это следует сказать о «Всеобщей истории» Г. Вебера,
компилятивном и в научном отношении малоценном
труде.
Современники Соловьева легко могли сравнить его
труды с работами названных иностранных историков,
поскольку в русском переводе эти работы (исключая труд
Г. Вебера) появились в 50—60-х годах прошлого века.
Превосходство многотомного труда Соловьева, дополнен-
ного его монографиями, над трудами современных ему
западноевропейских историков состоит не только в том,
что его труд охватил почти всю национальную историю
России и тщательно документирован. Он возвышается
над некоторыми их трудами и в теоретическом отноше-
нии, ибо Соловьев более широко, чем многие его совре-
менники, нанимал задачи исторической науки и более
разносторонне освещал исторический процесс. Соловьеву
было чуждо, например, стремление немецкого историка
Л. Ранке, которого его почитатели готовы были считать
даже патриархом европейской исторической науки, при
изложении событий ограничиваться только внешней фак-
12 В. Е. Иллерицкий
177
тической стороной истории, установлением лишь того,
«как это действительно происходило». Соловьев, как мы
знаем, всегда стремился уяснить смысл событий прош-
лого, установить связь между ними, определить законо-
мерности истории. Соловьеву была чужда и односторон-
ность некоторых современных ему историков — позити-
вистов типа английского историка Г. Бокля, который
крайне преувеличивал роль географического фактора
в истории и потому приходил к необоснованным и одно-
сторонним выводам. Наконец, как мы отмечали, Соло-
вьеву были чужды узкий национализм, неприязнь к дру-
гим народам, что в его время было распространенным по-
роком. Полемике по этому вопросу с немецким историком
В. Рилем Соловьев посвятил многие страницы «Истори-
ческих писем».
Выдающееся значение Соловьева в русской и евро-
пейской историографии признается в работах некоторых
зарубежных авторов. Так, в известном труде американ-
ского историка А. Мазура «Очерк современной русской
историографии» (1939) Соловьев рассматривается как
крупнейший ученый, который в своем обобщающем труде
«История России с древнейших времен» подвел итог пред-
шествующему развитию русской историографии и тем
самым продвинул русскую историческую науку «на почти
невероятную дистанцию».
Американский историк Н. Е. Барнс в своей «Истории
написания истории» (1938) также считает, что «История
России...» Соловьева «была гораздо более научной, чем
какая-либо из предшествующих работ в этом же роде»,
подчеркивая, однако, прежде всего ее «предрасположение
к вестернизации», но все же относя Соловьева к истори-
кам «высшего ранга».
Но далеко не все западные историки согласны с подоб-
ной оценкой. В ряде работ современных буржуазных исто-
риографов подлинное значение творчества Соловьева
принижается и еще чаще искажается. Так, участники кол-
лективной работы «Развитие историографии» (Вашинг-
тон, 1967) придерживаются иного мнения, в котором
пристрастность смешана с невежеством. В названной ра-
боте Соловьев легкомысленно рассматривается в качестве
подражателя «великого Леопольда Ранке» , примерного
ученика Ф. Гизо и Ж. Мишле только на том основании,
что он слушал их лекции в Берлине и Париже в годы
178
пребывания за границей. Главный же труд Соловьева
«История России...» характеризуется таким образом: он
будто бы основан только на архивных материалах, соб-
ранных Российской Академией наук, а не самим Соловье-
вым, что, конечно, совершенно не соответствует действи-
тельности. Далее указывается, что размах главного труда
Соловьева «был так широк, а сроки написания столь бы-
стрыми, что многие материалы оказались непереварен-
ными». Низводится Соловьев и до эпигона философии
истории Гегеля, которая будто бы только и позволила
ему представить «русскую историю впервые как нечто
большее, чем серию эпизодов», и показать «созидающую
роль государственной власти» в истории России.
Учитывая подобные ложные интерпретации воззрений
крупнейшего историка дореволюционной России, научное
освещение деятельности Соловьева как выдающегося
историка, раскрытие глубины его теоретических прин-
ципов и оригинальной концепции и его исключительных
результатов в изучении истории России необходимо не
только для того, чтобы показать действительные достиже-
ния и выдающуюся роль Соловьева в дореволюционной
русской исторической науке, что само по себе очень важно
в историографическом отношении, но и для того, чтобы
разоблачить искажение взглядов Соловьева и намеренное
принижение его заслуг современными буржуазными
историками.
В нашей работе мы стремились показать, что научное
разрешение этих важных задач возможно только на
основе марксистско-ленинской методологии, на основе
достижений современной советской исторической пауки.
12*
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974, с. 5.
2 Некоторые сведения о полемике вокруг творческого наследия
Соловьева были сообщены нами в «Очерках истории историче-
ской науки» (М., 1960, т. II, с. 548—574). Исходные этапы поле-
мики вокруг «Истории России...» Соловьева получили оценку
в работе А. Н. Цамутали «Борьба течений в русской историо-
графии во второй половине XIX века» (Л., 1977, с. 76—136).
См. также: Колесник И. И. Полемика вокруг «Истории России
с древнейших времен» С. М. Соловьева в русской дореволюцион-
ной историографии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1979.
3 Очерки истории исторической науки. М., 1960, т. II, с. 570—571.
4 Безобразов П. В. С. М. Соловьев. Его жизнь и научно-литера-
турная деятельность. СПб., 1894.
5 Киреева Р. А. В. О. Ключевский как историк русской истори-
ческой науки. М., 1966, с. 202—210.
6 Рождественский С. В. Памяти Соловьева. — Дела и дни, 1920,
кн. 1, с. 303—320; Пресняков А. Е. С. М. Соловьев и его влия-
ние на развитие русской историографии. — В кн.: Вопросы
историографии и источниковедения истории СССР: Сб. статей.
М.; Л., 1963, с. 76-86.
7 Пресняков А. Е. Выдающиеся новейшие историки. С. М. Со-
ловьев.— Вестник и библиотека самообразования, 1904, № 41,
с. 1515—1520.
8 Пресняков А. Е. С. М. Соловьев и его влияние..., с. 79.
9 Покровский М. Н. Избранные произведения. М., 1967, кн. 4,
с. 305—306.
10 Там же, с. 320.
11 Там же, с. 322.
12 Русская историческая литература в классовом освещении. М.,
1927, т. I, с. 205-276.
13 Там же, с. 271.
14 Историк-марксист, 1929, № 13, с. 137—165.
15 Там же, с. 137.
16 Там же, с. 164, 165.
17 Рубинштейн Н. J1. Сергей Михайлович Соловьев. — Историк-
марксист, 1940, № 3, с. 92—113.
18 И. Л. Рубинштейн не учел изданной в 1939 г. статьи А. Л. Ша-
пиро. См.: Шапиро А. Л. Вопросы русской истории в произве-
дениях Чернышевского. — В кн.: И. Г. Чернышевский (1889—
1939). Саратов, 1939, с. 130—189.
180
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Рубинштейн Н. Л. Русская историография. М., 1941, с. 312—
342.
Рубинштейн Н. Л. С. М. Соловьев и русская историческая
наука. — Вопросы истории, 1945, № 3/4, с. 57—71.
Там же, с. 71.
Рубинштейн Н. Л. Развитие буржуазной историографии и труды
С. М. Соловьева. — В кн.: Очерки истории исторической пауки
в СССР. М., 1955, т. I, с. 347-366.
Черепнин Л. В. С. М. Соловьев как историк. — В кн.: Со-
ловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1959,
кн. 1, с. 5—51.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 462.
Рецензию на эту книгу см.: Вопросы истории, 1957, № 12.
Оценки исторических воззрений Соловьева как крупнейшего
буржуазного историка в России содержатся также в работах
Л. В. Черепнина «Образование русского централизованного
государства» (1960) и «Земские соборы Русского государства»
(1978).
Отдельные из этих вопросов затрагиваются в обширных ком-
ментариях, сопровождающих каждую из 15 книг советского
издания «Истории России...» Соловьева. Замысел коммента-
риев заслуживает одобрения, в целом они полезны для чита-
теля. К сожалению, иногда комментаторы, опасаясь возмож-
ной идеализации Соловьева, нарушали принцип историзма, не
сумев дать вполпе паучно объективную оценку исторической
концепции столь крупного историка. Так, в большинстве ком-
ментариев не учтено состояние исторической науки в России
до Соловьева, а также в период его деятельности, не раскрыта
должным образом эволюция воззрений историка, его теорети-
ческие и источниковедческие возможности. Тем самым ком-
ментаторы проявили неумеренный максимализм в своих тре-
бованиях к Соловьеву, не учитывая пе только состояние науки
его времени, по даже и человеческие возможности историка.
По существу к Соловьеву предъявлены во многих случаях
требования, которым мог отвечать лишь историк-марксист.
А поскольку Соловьев пе имел представлений о марксизме, то
комментаторы зачастую неосновательно упрекают его в том,
что по такому-то вопросу он «пе поднялся» до верного в нашем,
марксистском смысле, понимания, решения, «не понял» проб-
лемы, «упустил из вида» и т. д. Так, Соловьев упрекается
в том, что он будто бы «игнорировал» закономерности классо-
вой борьбы (ИР, IV, 732), «умалчивал» об основании монасты-
рей в обстановке классовой борьбы (ИР, IV, 716), у пего «от-
сутствовал классовый анализ источников» (ИР, IV, 734). Но
если бы Соловьев преодолел в своих воззрениях все эти черты
классовой ограниченности или хотя бы ставил такую цель, то
он приблизился бы к марксизму... С тех же позиций Соловьев
упорно упрекается в непонимании подлинного значения эконо-
мики в историческом процессе.
Сахаров А. М. История России в трудах С. М. Соловьева.—
Вести. Моск, ун-та. История, 1971, № 3, с. 73—87.
Сахаров А. М. Историография истории СССР: Досоветский пе-
риод. М., 1978, с. 117—135.
181
Глава 1
1 Ключевский В. О. Соч. М., 1959, т. 7, с. 143.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 520.
3 Наиболее подробные сведения об этих периодах жизни мы на-
ходим в биографическом очерке П. В. Безобразова, который,
очевидно, использовал кроме воспоминаний о Соловьеве под-
готовительные материалы для биографии историка, собранные
его зятем — Нилом Поповым. Последний, впрочем, биографии
Соловьева не написал, его материалы хранятся в Рукописном
отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
(ОР ГБЛ СССР, ф. 285, карт. 6, № 10).
4 О паучной деятельности Т. Н. Грановского см.: Очерки истории
исторической науки в СССР, т. I, с. 423—450; Асиновская С. А.
Из истории передовых идей в русской медиевистике (Т. Н. Гра-
новский). М., 1955.
5 Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947, с. 216.
6 Архивные материалы позволяют конкретизировать представле-
ния о круге чтения Соловьева-студента. На III и IV курсах
им были прочитаны «История упадка и падения римской импе-
рии» Гиббона, «История французов» Сисмонди, «История Шот-
ландии» Робертсона, «Славянские древности» Шафарика, «Жизпь
Иисуса» Штрауса, а также работы Вико, Нибура, Савиньи, Гар-
тунга и ряда других иностранных авторов, преимущественно
историков (ОР ГБЛ, ф. 285, карт. 6, № 10). Нельзя не согла-
ситься с тем, что подобная эрудиция была редкостью для сту-
дентов.
7 Рукопись перевода хранится в архивном фонде С. М. Соловьева.
(ОР ГБЛ, ф. 285, карт. 9, № 1, 142 л.).
8 Статья была напечатана в журнале «Москвитянин» (1843, № 8).
В этой статье Соловьев более пространно и содержательно ха-
рактеризует лекции профессоров Парижского университета
сравнительно с общими их характеристиками в «Записках».
9 ОР ГБЛ, ф. 231, карт. 30, № 92, л. 4.
10 Ключевский В. О. Соч., т. 7, с. 129.
11 Соловьев преимущественно работал в московском архиве ми-
нистерства юстиции (ЦГАДА). До сих пор в архиве сохраня-
ется стол, за которым на протяжении десятилетий работал
ученый.
12 Корсаков Д. А. Из воспоминаний о Н. И. Костомарове и
С. М. Соловьеве. — Вестник Европы, 1906, № 9, с. 264.
13 Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об
истории. М., 1966, с. 55.
14 Ключевский В. О. Соч., 1959, т. 8, с. 255.
15 Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы..., с. 103.
16 Там же, с. 84.
17 Худяков И. А. Из записок каракозовца. — В кп.: Московский
университет в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 262.
18 Корсаков Д. А. Указ, соч., с. 270.
19 Танков А. Сергей Михайлович Соловьев. — Вестник Европы.
1910, № 10, с. 349.
20 Там же, с. 350.
21 Ковалевский М. Московский университет в конце 70-х—пачале
80-х годов прошлого века. — Вестник Европы, 1910, № 5, с. 181.
182
22 Тимирязев К. А. Академическая свобода. М., 1939, с. 24.
23 Толстой Л. II. Поли. собр. соч. М., 1959, т. 62, с. 479.
24 См.: Безобразов П. В. Указ, соч., с. 77.
25 Ключевский В. О. Соч., т. 8, с. 258.
26 Там же, с. 355—356.
27 Галахов А. Сороковые годы. — Исторический вестник, 1892, № 2,
с. 402.
28 Там же, с. 400.
Глава 2
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 175.
2 Там же.
3 В «Записках» Соловьев писал о «русских благочестивейших и
самодержавнейших папашах и мамашах», имея в виду русских
императоров и императриц. В частности, Александр I так за-
ботился о своих «неблагодарных детях», т. е. подданных, что
«даже хотел их выпустить на свободу — под надзор Аракчеева»
(Записки, с. 119). Особенно выразительны и остры критические
замечания Соловьева в адрес Николая I, полное осуждение
полицейского режима в его царствование, когда выявилась не-
обходимость преобразований, проведенных впоследствии Алек-
сандром II.
4 Бартенев П. И. Воспоминания о С. М. Соловьеве. — Русский
архив, 1907, № 8, с. 556.
5 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 175.
6 Соловьев С. М. Собр. соч. СПб., б. г., с. 887.
7 См.: Рубинштейн Н. Л. Русская историография, с. 233—241.
8 Герцен А. И. Поли. собр. соч. М., 1950, т. II, с. 7; Белин-
ский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1952, т. 12, с. 402.
9 Об уровне развития французской и немецкой историографии
в первой половине XIX в. см. статьи В. Д. Далина и Б. Г. Ве-
бера в сборнике статей «Маркс—историк» (М., 1968).
10 См.: Далин В. М. Люди и идеи. М., 1970. Здесь, в главе, которая
называется «Ф. Гизо и развитие исторической мысли в Рос-
сии», специальный раздел посвящен вопросу о влиянии идей
Гизо на Соловьева (с. 368—378). Можно согласиться с утверж-
дением В. М. Далина о том, что Соловьев усвоил идеи Гизо
о роли городов в Западной Европе, о значении экономических
факторов в истории. Эти положения получили отражение в ра-
ботах Соловьева. Гизо и Тьерри помогли Соловьеву в опреде-
лении черт сходства в развитии России и западноевропейских
государств.
11 Нечкина М. В. Указ, соч., с. 346—347.
12 Мысль о влиянии Г. Спенсера на взгляды Соловьева высказана
в известной уже нам статье 3. Лозинского (с. 212). Есть основа-
ния полагать, что мысль эта правомерна.
13 Мнение некоторых историков, в частности Н. Л. Рубинштейна,
о влиянии в этом направлении на Соловьева идей Бокля, выра-
женных в его труде «История цивилизации в Англии», не пред-
ставляется убедительным, так как труд Бокля был издан впер-
вые лишь в 1858 г., т. е. тогда, когда в ранее изданных трудах
Соловьева признание значения географической среды уже было
вполне реализовано.
14 Рубинштейн Н. Л. Русская историография, с. 327.
183
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 28, с. 427.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 57.
См.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. II, с. 557—
560.
Более подробные сведения по этому вопросу см. в библиогра-
фической справке о творчестве Соловьева, составленной А. М. Же-
лоховцевой (Историк-марксист, 1940, № 3, с. 114—126). Все на-
званные работы, за исключением статей, посвященных Г. Ф. Мил-
леру и М. Т. Каченовскому, перепечатаны в Собрании сочине-
ний С. М. Соловьева (Изд-во «Общественная польза», с. 1317—
1616).
См.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. I. М., 1955,
с. 550—554. Здесь был предложен вывод о том, что «Соловьев
заложил основы русской историографии как самостоятельной
исторической дисциплины» (с. 552), который никем с тех пор
не опровергался.
См.: Иллерицкий В. Е. Исторические взгляды В. Г. Белинского.
М., 1953, с. 144—145.
Рубинштейн Н. Л. Русская историография, с. 317.
Соловьев С. М. М. Т. Каченовский: Биографический словарь
профессоров и преподавателей Московского университета. М.,
1855, ч. I, с. 402-403.
Ученик Соловьева В. О. Ключевский также отмечал существен-
ные недостатки исторических воззрений Полевого, вместе с тем
отмечал его широкое знакомство с западноевропейской истори-
ческой мыслью и попытку приложить ее выводы к истолкова-
нию русской истории: «Усвоив восприимчивой мыслью приемы
и направления западной историографии того времени, он ре-
шился пересмотреть прошлое русского парода «прагматическим,
философским» взглядом (Ключевский В. О. Соч., т. 7, с. 466).
О научной оценке воззрений Полевого и значении его труда
«История русского народа» см.: Рубинштейн Н. Л. Русская
историография, с. 242—254. Новейшая, более углубленная и
расширенная оценка Полевого дана в статье: Шикло А. Исто-
рические взгляды Н. А. Полевого. — История СССР, 1971, № 5.
В источниковедческом плане данный вопрос затронут в краткой
статье А. И. Андреева «Работа С. М. Соловьева над «Историей
России» (Тр. Ист.-арх. ин-та, 1947, т. III, с. 4—16). Существен-
ные источниковедческие наблюдения содержатся в коммента-
риях к томам «Истории России с древнейших времен» Со-
ловьева, изданные в советское время.
См.: Ключевский В. О. Соч., т. 7, с. 133.
Корсаков Д. А. Указ, соч., с. 266.
Ключевский В. О. Соч., т. 7, с. 468.
Несколько лет Соловьев пользовался правом получения архив-
ных материалов для работы на дому. Однако, как сообщает
А. И. Андреев на основании воспоминаний П. И. Бартенева,
после того как однажды из саней выпала связка архивных
материалов и не была найдена, сам Соловьев отказался от этой
привилегии и лично работал в архивах (См.: Андреев А. И.
Указ, соч., с. 10).
Танков А. Указ, соч., с. 350.
(84
Глава 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. М.» 1956, т. III, с. 181.
Здесь мы рассматриваем этот вопрос в самой общей форме.
Более конкретно он будет раскрыт при изложении содержания
«Истории России...» Соловьева.
Обоснование приведенной исходной периодизации русской исто-
рии в самой общей форме было дано Соловьевым в предисло-
вии к I тому «Истории России...» (ИР, I, с. 55—59).
Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. 12, с. 406. Эту формулу
Соловьев впоследствии привел и в «Публичных чтениях
о Петре Великом» (1872). Вообще следует указать, что Соловьев
в понимании ряда важных вопросов, в частности в трактовке
исторических предпосылок и значения реформ Петра I, испытал
влияние воззрений Белинского и Герцена, что сказалось в не-
которых его обобщениях и формулировках. В нашей историо-
графической литературе обычно обращается внимание на то,
как труды историков-профессионалов влияли на публицистов,
при этом забывается об обратном влиянии последних на пер-
вых, особенно когда речь идет о таких выдающихся публици-
стах-демократах, властителях дум своего времени, как Белин-
ский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Разумеется,
при этом следует учитывать различие общественно-политиче-
ских позиций.
См.: Рубинштейн Н. А. Русская историография, с. 229. Новейшие
исследования об Эверсе принадлежат В. И. Шевцову. См.: Шев-
цов В. И. Густав Эверс и русская историография. — Вопросы
истории, 1975, № 3, с. 55—70.
См.: Иллерицкий В. Е. История России в освещении революцио-
неров-демократов. М., 1963, с. 97—102.
Развернутая критическая оценка представлений Соловьева о ро-
довом строе древних славян дана в комментарии В. Т. Пашуто
к I тому «Истории России...» (ИР, I, 747—748).
Здесь Соловьев утверждал: «Пора бросить старые толки о раз-
личии наших и западных отношений па основании завоевания
и пезавоевания... И у нас было завоевание: этого факта нельзя
вычеркнуть из летописей» (Соч., с. 870). Но далее он указы-
вал: «Дело в том, как происходило завоевание, в какой стране,
при каких природных и общественных условиях» (Соч., с. 870).
Интересно в этой связи отметить, что именно в этот период
замалчивания труда Соловьева с рецензией на его IV том
в «Современнике» в 1854 г. выступил Н. Г. Чернышевский, дав-
ший в целом положительную оценку этого труда, но сделав-
ший и ряд критических замечаний. Мы еще коснемся содержа-
ния этой рецензии.
Не случайно Карамзин полагал, что изучение удельного периода
представляет мало интереса: «Битвы нашего удельного междо-
усобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, мало-
важны для разума ... сей предмет не богат ни мыслями для
прагматика, ни красотами для живописца» (Карамзин Н. М.
История Государства Российского. СПб., 1842, т. I, с. X).
Карамзин Н. М. Указ, соч., т. VI, с. 222.
Именно на этот том написал рецензию Н. Г. Чернышевский и
опубликовал ее в «Современнике». Желая поддержать моло-
185
дого историка, труд которого был недоброжелательно встречен
официально-монархическими кругами и славянофилами, Чер-
нышевский назвал «Историю России...» Соловьева «важнейшим
приобретением нашей исторической науки в течение последних
пятнадцати лет» и считал Соловьева главой современной исто-
рической науки в России (Чернышевский Н. Г. Поли. собр.
соч., т. II, с. 405). Но здесь же Чернышевский подверг критике
одно из основных положений концепции Соловьева. Он считал,
что Соловьев придает неумеренное значение колонизации рус-
ским населением новых пространств. По мнению Чернышев-
ского «колонизация происходила слабо и медленно, не оказывая
большого влияния ни на характер жителей, ни на обществен-
ные отношения».
13 Иллерицкий В. Е. История России в освещении революционе-
ров-демократов, с. 176—182.
14 За казачеством у Соловьева остается едва ли пе единственная
заслуга — завоевание Сибири под предводительством Ермака.
Да и это ограничено указанием на то, что Иван Грозный рас-
порядился о суровых мерах против казацких разбоев па Волге,
и потому донские казаки вынуждены были перейти на Каму
для службы купцам Строгановым и отсюда предприняли по-
ход в Сибирь. Постоянным оппонентом Соловьева в оценке роли
казачества был Н. И. Костомаров, доказывавший его положи-
тельную роль в защите границ государства, в борьбе за нацио-
нальную независимость украинского народа. Полной антитезой
негативной оценки казачества Соловьевым были взгляды
А. И. Герцена, для которого казаки — это «славянские витязи,
витязи-мужики, странствующие рыцари черного народа» (Гер-
цен А. И. Поли. собр. соч., т. XII, с. НО). Герцен высоко ценил
казачество как силу, возглавлявшую народные антикрепостни-
ческие восстания.
15 В этой же рецензии Г. 3. Елисеев, однако, отметил науч-
ные достоинства труда Соловьева, полагая, что каждый том
«Истории России...» «вносит что-нибудь новое в науку» (с. 71).
16 В отличие от Карамзина в периодизации русской истории у Со-
ловьева нет среднего этапа. Очевидно, этим он хотел подчерк-
нуть контрастность «древней» и «новой» России, значитель-
ность преобразований первой четверти XVIII в.
17 Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч. М., 1936, т. III, с. 136.
18 Бросается в глаза внешнее сходство определений деятельности
Петра I у Соловьева и у Герцена. Последний в брошюре «О раз-
витии революционных идей в России», написанной в 1851 г. и
изданной па французском языке, рассматривал деятельность
Петра I как деятельность «революционера на троне». Харак-
теристика Герцена могла быть известна Соловьеву и оказать
на него влияние, хотя сущность оценок реформ Петра I Гер-
ценом и Соловьевым значительно различалась, тем более что
Герцену была свойственна определенная эволюция в его пред-
ставлениях о реформах Петра I и о самом реформаторе. См.:
Иллерицкий В. Е. Революционная историческая мысль в Рос-
сии, с. 164—167.
19 Имеется в виду статья Н. В. Шелгунова «Ученая односторон
ность», являющаяся рецензией на XIII том «Исторпп России...»
Соловьева (Русское слово, 1864, № 4). Шелгупов главным обра-
186
зом упрекает Соловьева в переоценке им роли географического
фактора в русской истории, в непонимании им народных инте-
ресов, интересов трудящихся масс, в сведении истории России
преимущественно к истории государства.
20 Герцен А. И. Поли. собр. соч. М., 1952, т. XII, с. 362.
21 Там же, М., 1952, т. XIV, с. 296.
22 См. об этом в комментариях С. М. Каштанова к XIII книге
«Истории России...» (ИР, XIII, с. 597—598).
23 Соловьев С. М. Учебная книга русской истории. М., 1880, с. 328.
Поскольку эта книга не имела исследовательского характера и
Соловьев, учитывая ее учебное назначение, намеренно придал
ей официозную направленность, содержание этого студенче-
ского пособия мы не рассматриваем.
24 Ключевский В. О. Соч., т. 8, с. 356.
25 Там же, с. 353.
Глава 4
1 Очерки истории исторической науки в СССР, т. II, с. 121. Здесь
приведены авторитетные суждения демократических деятелей —
Н. Г. Чернышевского, Н. В. Шелгунова, Г. 3. Елисеева, которые
с достаточным основанием считали Соловьева историком-госу-
дарственником.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 21, с. 260.
3 См.: Очерки истории исторической пауки в СССР, т. II, с. 501—
502.
4 В журнале «Древпяя и новая Россия» в 1876 г. была опублико-
вана рецензия Соловьева «Замечания на «Историю Напо-
леона I... П. Ланфре».
5 История и историки. Историография всеобщей истории. М., 1965,
с. 326-343.
5 Соловьеву принадлежит обширная статья «Россия, Австрия и
Англия во время движений 1848—1849 гг.» (Русская старина,
1877, т. III, № И), в которой он подробно охарактеризовал крах
«политической системы» Меттерниха.
7 Отрицательное отношение Соловьева к Наполеону выразилось
в характеристике его отношения к Пруссии после ее пораже-
ния в 1806 г., когда французский император «разнуздался и
стал, как дикарь, ругаться над побежденными, с забвением
всякого приличия» (Соч., с. 362).
8 Интересен контекст этого вывода Соловьева в рассматривае-
мом произведении. В целях оправдания либеральной программы
Александра I, противопоставляемой Соловьевым политической
системе Меттерниха и основанной на боязни самодеятельности
народных масс, историк предлагает правительствам «не бояться
ничего, правительство должно быть либерально и сильно» (Соч.,
с. 427). Но сила правительства и призвана предотвратить ре-
волюцию, не допустить «болезненного припадка». Соловьев, ко-
нечно, прекрасно знал, что он повторяет формулу идеолога
российских либералов Б. Н. Чичерина, высказанную им еще
в начале 60-х годов, как формулу предотвращения народной ре-
волюции в России.
Заключение
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1952, т. 10, с. 18.
2 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 26, с. 57.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аксаков К. С. 5, 22, 35, 106
Александр I 50, 143, 160, 162,
164—169, 175, 183, 187
Александр II 49, 50, 135, 144,
183
Александр III 37, 160
Александр Невский 114
Алексей, царевич 131
Алексей Михайлович, царь
125—129
Андреев А. И. 89, 184
Андрей Боголюбский 79, 95, 96,
110, 111
Анна Иоанновна, имп. 140, 141
Аракчеев 183
Асиновская С. А. 182
Байер 106
Бакунин М. А. 28
Бантке С. 9, 10
Барнс Н. Е. 178
Бартенев П. И. 5, 51, 183, 184
Безобразов П. В. 5, 180, 182, 183
Белинский В. Г. 21, 22, 54, 79,
80, 104, 115, 120, 171, 183, 185,
187
Беляев И. Д. 35
Бестужев-Рюмин К. Н. 5
Бирон 141
Блудов К. Д. 35
Богдан Хмельницкий 126
Богданович М. И. 161
Богословский М. М. 136
Бокль Г. 178, 183
Болотников И. 124
Болтин И. Н. 3, 54, 74, 76, 77,
82
Борис Годунов 122
Булавин К. 136
Буленвилье 80
188
Вальтер-Скотт 19
Василий I 117
Василий II (Темный) 117
Василий III 96, 119
Василий Шуйский 97
Вебер Б. Г. 183
Вебер Г. 177
Вико 25, 54, 182
Владимир, вел. кн. 108
Владимир Мономах 110
Волков 144
Вольтер 54
Галахов А. 5, 43, 44, 183
Ганка 28
Гартунг 182
Гаук 19
Гвоздев П. П. 38
Гегель 11, 22, 24, 39, 45, 53-
56, 60, 63, 65, 66, 105, 112, 172,
179
Герцен А. И. 12, 21, 22, 24, 47,
54, 70, 138, 156, 182, 183, 185—
187
Герье В. И. 5
Гиббон 25, 182
Гизо Ф. 25, 28, 29, 46, 55, 64,
82, 161, 172, 177, 178, 183
Гоголь Н. В. 175
Голиков И. И. 131
Голицын М. Н. 20
Голицыны 26
Грановский Т. Н. 5, 9, 22, 23,
30—33, 35, 43, 45—47, 53, 105,
182
Давыдов И. И. 21, 31, 32
Далин В. М. 183
Даниил Александрович, кн. 116
Деннинг 29
Дмитрий, царевич 122
Дмитрий Донской 116
Добролюбов Н. А. 12, 43, 56, 70,
131, 132, 185, 186
Достоевский Ф. М. 175
Дюмурье 157
Европейцев П. И. 38
Екатерина I 137, 140, 141
Екатерина II 50, 137, 141—146,
157-159, 165, 175
Елагин И. П. 74, 76
Елизавета Петровна, имп. 141,
142, 144
Елисеев Г. 3. 71, 124, 186, 187
Ермак 186
Ефимов А. В. 161
Ешевский С. В. 22
Желоховцева А. М. 184
Жирарден 29
Загоскин 19
Зибель 157
Иван Калита 114—117
Иван III 79, 95, 96, 112, 114,
117—119
Иван IV (Грозный) 32, 65, 80,
83, 93—96, 111, 118—121, 127,
147, 186
Игорь, кн. 107, 109
Иллерицкий В. Е. 184—186
Иоанн Антонович, имп. 141
Кавелин К. Д. 5, 9, И, 22, 31—
33, 35, 46, 47, 68, 94, 105, 120,
171
Казимир Литовский 118
Каподистрия 162
Капфиг 29
Карамзин Н. М. 3, 5, 15, 19, 23,
24, 33, 35, 36, 53, 58, 75, 77—
80, 83, 85, 89, 92—94, 96—100,
103, 106, 112, 117, 119, 122—
125, 171, 185, 186
Карл Смелый 29
Катков М. Н. 41, 43, 156
Каченовский М. Т. 53, 68, 81,
94, 115, 171, 184
Каштанов С. М. 149, 187
Кине Э. 27, 28
Киреева Р. А. 180
Ключевский В. О. 4, 5, 7, 17,
32, 38, 39, 42, 82, 84, 85, 89,
НО, 123, 134, 136, 146, 148,
176, 182—184, 187
Ковалевский М. М. 41, 182
Коленкур 160
Колесник И. И. 180
Конт О. 56
Корсаков Д. А. 5, 38, 39, 89,
182, 184
Костомаров Н. И. 126, 186
Костюшко Т. 159
Коялович М. О. 82
Крейцер 30
Крестинин В. В. 131
Крюков Д. Л. 22, 23, 45, 53
Кудрявцев П. К. 22
Курбский А. М., кн. 80, 119
Лагарп 168
Ланфре П. 161
Лелевель И. 80
Ленин В. И. 14, 49, 69, 156, 176,
181—184, 187
Ленорман 27
Леонтьев П. М. 41
Лешков В. Н. 41
Лозинский 3. 8, 9, 183
Ломоносов М. В. 74, 75, 82, 141
Луи-Филипп Орлеанский 46
Любимов Н. А. 41
Людовик XI 29
Мазур А. 178
Маколей Т. 177
Манкиев А. 74
Маркс К. 56, 64, 184
Матвеев А. С. 128
Меншиков А. Д. 140
Меттерних 162, 163, 166, 169, 187
Миллер Г. Ф. 74, 76, 106, 184
Милюков П. Н. 82, 134, 136
Минин К. 124
Минье 28
Михаил Романов 124, 125
Михайловский-Данилевский
А. И. 161
Мишле Ж. 27, 28, 56, 178
Монтескье 79
189
Мстислав Удалой (Мстислав
Торопецкий) 96, 110
Наполеон Бонапарт 39, 161—
169, 187
Нарежный 19
Нарышкина Н. К. 128
Неандер 27
Нессельроде 162
Нестор-летописец 23, 77
Нечкина М. В. 3, 4, 180, 183
Нибур 182
Николай I 21, 26, 49, 50, 165,
170, 183
Никон, патриарх 129
Огарев Н. П. 21, 70
Огинский 157
Олег, кн. 107, 109
Ольга, кн. 107, 109
Ордин-Нащокин А. Л. 128
Павел I 143
Павлов-Сильванский Н. П. 149
Палацкий 28
Пашуто В. Т. 185
Петр I (Петр Великий) 10, 41,
50, 77, 79, 85, 95, 97, 104, 120,
125, 127—137, 139-142, 144,
146, 147, 150-155, 173, 175,
185, 186
Петр II 140
Петр III 143, 144
Писарев Д. И. 185
Платон, митрополит 74
Платонов С. Ф. 123
Погодин М. П. 4, 21—26, 28—
32, 35, 45, 46, 53, 79, 81, 82,
94, 103, 106
Пожарский Д. 124
Покровский М. Н. 7—11, 13, 180
Полевой Н. А. 55, 68, 79, 81,
93, 171, 184
Попов Н. 182
Попов П. М. 20
Потен 29
Пресняков А. Е. 6, 7, 180
Прокопович Ф. 141
Пугачев Е. 145
Радклиф 19
190
Разии С. 127
Ранке Л. 27, 177, 178
Рау 30
Раумер 27
Риль В. 63, 178
Риттер 27, 61
Робертсон 182
Рождественский С. В. 6, 180
Ртищев Ф. М. 128
Рубинштейн Н. Л. 11—13, 64,
70, 80, 180, 181, 183—185
Руссо 54
Рюрик, кн. 32, 106, 112
Савиньи 182
Санд Ж. 29
Сахаров А. М. 16, 127, 181
Святослав, кн. 107, НО
Сисмонди 25, 182
Соловьев М. В. 19
Соловьев С. М. 3—187
Софья, царевна 132
Спенсер Г. 56, 59, 183
Стааль 167
Станкевич Н. В. 115
Стрингольм 29
Строганов А. Г. 26
Строганов С. Г. 25, 26, 29, 31,
32
Талейран 162
Танков А. 39, 91, 182, 184
Татищев В. Н. 3, 23, 54, 74—
76, 82, 141
Тимирязев К. А. 41, 183
Толстой Д. А. 144
Толстой Л. Н. 41, 42, 183
Тредиаковский В. К. 74, 76
Троицкий С. М. 142
Тьер 28, 161
Тьерри О. 25, 54, 55, 64, 172,
183
Уваров С. С. 21, 29
Устрялов Н. Г. 4, 101, 131, 132
Федор Алексеевич, царь 125,
129, 132
Федор Иоаннович, царь 121
Фейербах 47
Хилков 74
Хомяков А. С. 22
Храповицкий 157
Худяков И. А. 39, 182
Шеллинг 27, 63
Шикло А. 184
Шлецер А. Л. 76, 77, 106
Шлоссер Ф. X. 30, 56, 177
Штраус 182
Цамутали А. Н. 180
Черепнин Л. В. 14, 15, 99, 101,
102, 149, 181
Чернышевский Н. Г. 12, 47, 49,
56, 70, 71, 94, 185-187
Чивилев А. И. 31, 33
Чичерин Б. Н. 7, 9, И, 47, 105,
122, 187
Щербатов М. М. 3, 15, 36, 74—
76, 78, 80, 82, 83, 85, 97—100,
103, 106, 123, 125
Эверс И. Г. 24, 53, 68, 80, 81,
93, 105, 171, 185
Эмин Ф. А. 74, 76
Энгельс Ф. 106, 184
Шапиро А. Л. 180
Шафарик Я. 28, 182
Шевцов В. И. 185
Шевырев С. П. 21, 22
Шелгунов Н. В. 12, 70, 71, 136,
186, 187
Юрий Долгорукий 110, 111
Ярослав Мудрый (Ярослав I)
94—96, 108, 110
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.......................................... 3
Глава 1. Жизненный путь.......................... 17
Глава 2. Социально-политические и теоретические
основы исторической концепции С. М. Соловьева . . 44
Глава 3. «История России с древнейших времен» 91
Глава 4. Специальные исследования С. М. Соловьева 150
Заключение..................................... 171
Примечания...................................180
Указатель имен.............................. 188
Владимир Евгеньевич Иллерицкий
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ
Утверждено к печати
редколлегией серии научно-популярных изданий АН СССР
Редактор издательства О. Б. Константинова
Художник С. М. Болховитинова. Художественный редактор И. В. Разина
Технические редакторы С. Г. Тихомирова, Н. Н. Кокина
Корректоры Р. С. Алимова, Л. А. Сулханова
ИБ № 15421
Сдано в набор 22.08.79. Подписано к печати 15.02.80. Т-03940.
Формат 84хЮ81/я?« Бумага типографская к» 2. Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Уч.-изд. л. 10,9. Тираж 38 000 экз.
Тип. зак. 650. Цена 40 коп.
Издательство «Наука». 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография
издательства «Наука». 1-99034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12
Кан А. С.
ИСТОРИК Г. В. ФОРСТЕН
И НАУКА ЕГО ВРЕМЕНИ.
9 л. 60 к.
Книга посвящена жизни, науч-
ной и преподавательской дея-
тельности профессора Петер-
бургского университета Геор-
гия Васильевича Форстена.
Он был видным специалистом
в области истории междуна-
родных отношений нового
времени, истории Скандинав-
ских стран и западноевропей-
ской культуры. Автор расска-
зывает о роли Форстена в раз-
витии исторической науки —
отечественной и мировой.
Рассчитана на широкий круг
читателей.
Заказы просим направлять по ад-
ресу: Москва, В-164, Мичуринский
проспект, 12, магазин «Книга—поч-
той» Центральной конторы «Ака-
демкнига»; Ленинград, П-110,
Петрозаводская ул., 7, магазин
«Книга—почтой» Северо-Западной
конторы «Академкнига» или в бли-
жайший магазин «Академкнига»’
Адреса магазинов «Академкнига»:
480391 Алма-Ата, ул. Фурманова,
91/97; 370005 Баку, ул. Джапарид-
зе, 13; 320005 Днепропетровск,
проспект Гагарина, 24; 734001 Ду-
шанбе, проспект Ленина, 95;
375009 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, 33, ул. Лермон-
това, 303; 252030 Киев, ул. Ленина,
42; 277012 Кишинев, ул. Пушкина,
31; 443002 Куйбышев, проспект
Ленина, 2; 192104 Ленинград, Д-120,
Литейный проспект, 57; 199164
Ленинград, Менделеевская линия,
1; 199004 Ленинград, 9 линия, 16,
103009 Москва, ул. Горького, 8;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный
проспект, 51; 630090 Новоси-
бирск, Академгородок, Морской
проспект» 22; 700029 Ташкент»
Л-29, ул. Ленина, 73; 700100 Таш-
кент, ул. Шота. Руставели, 43;
634050 Томск, наб. реки Ушайки,
18; 450075 Уфа, Коммунистиче-
ская ул., 49; 450075 Уфа, проспект
Октября, 129; 720001 Фрунзе,
бульвар Дзержинского, 42; 310003
Харьков, Уфимский пер*, 4/6.