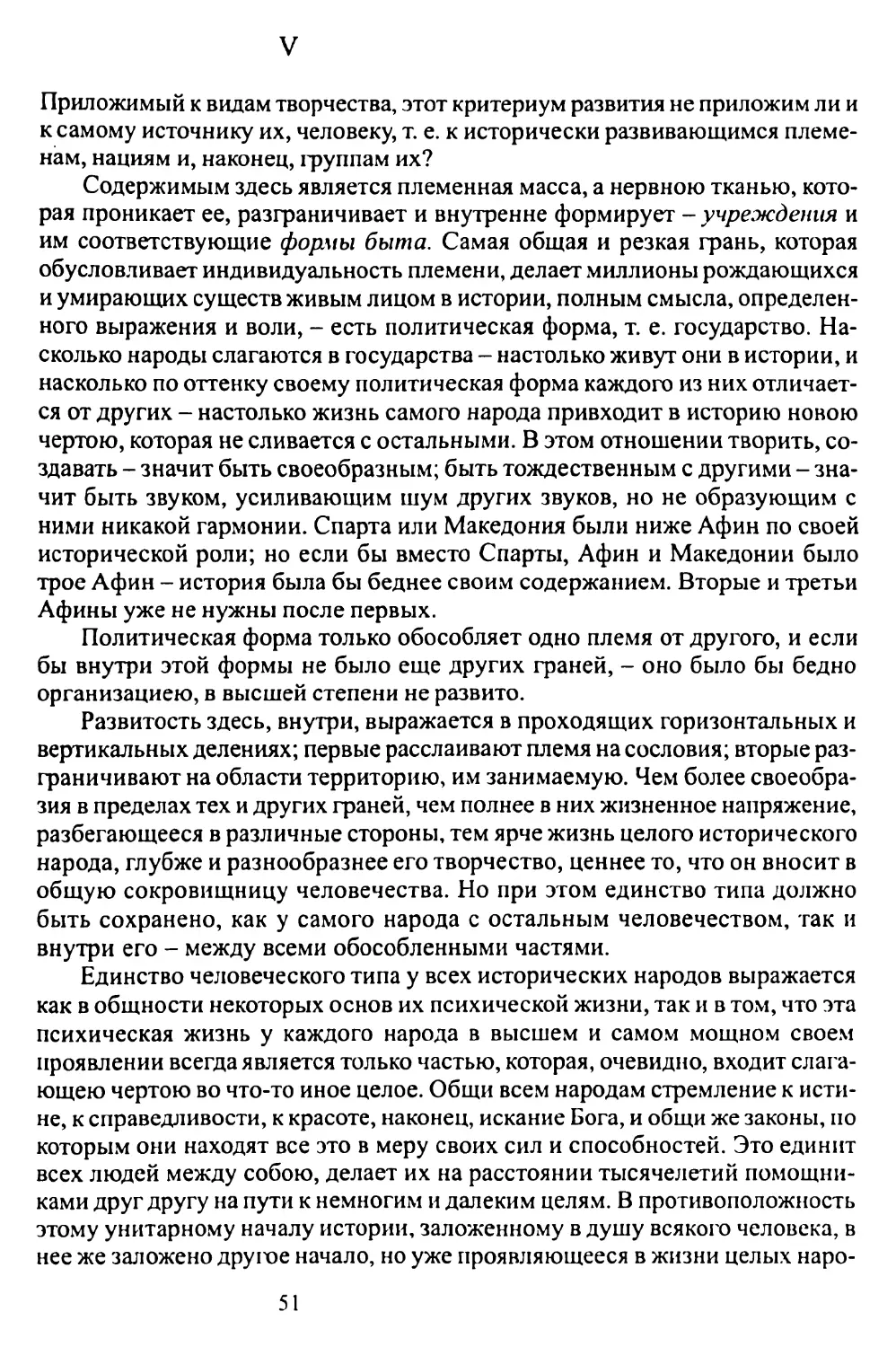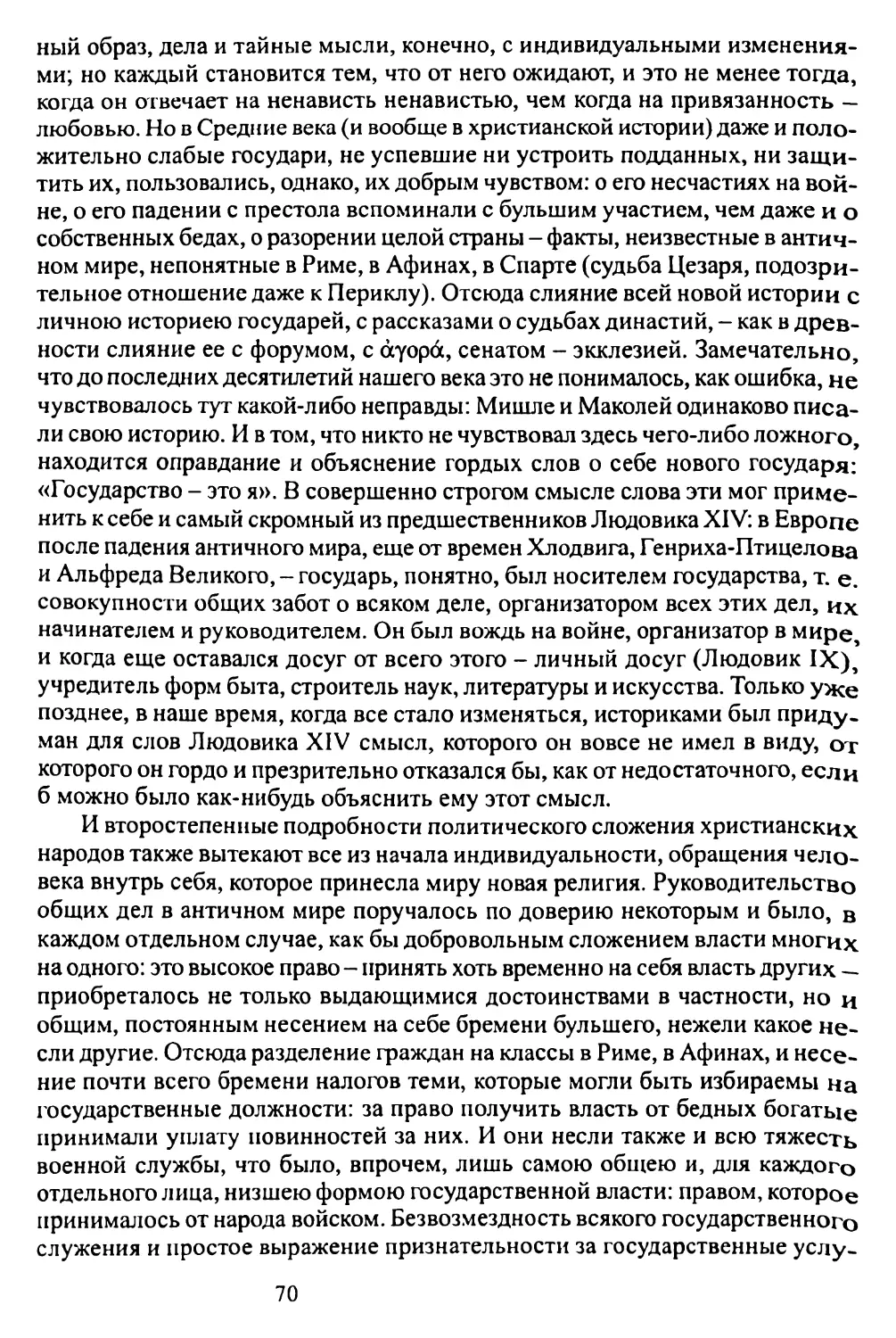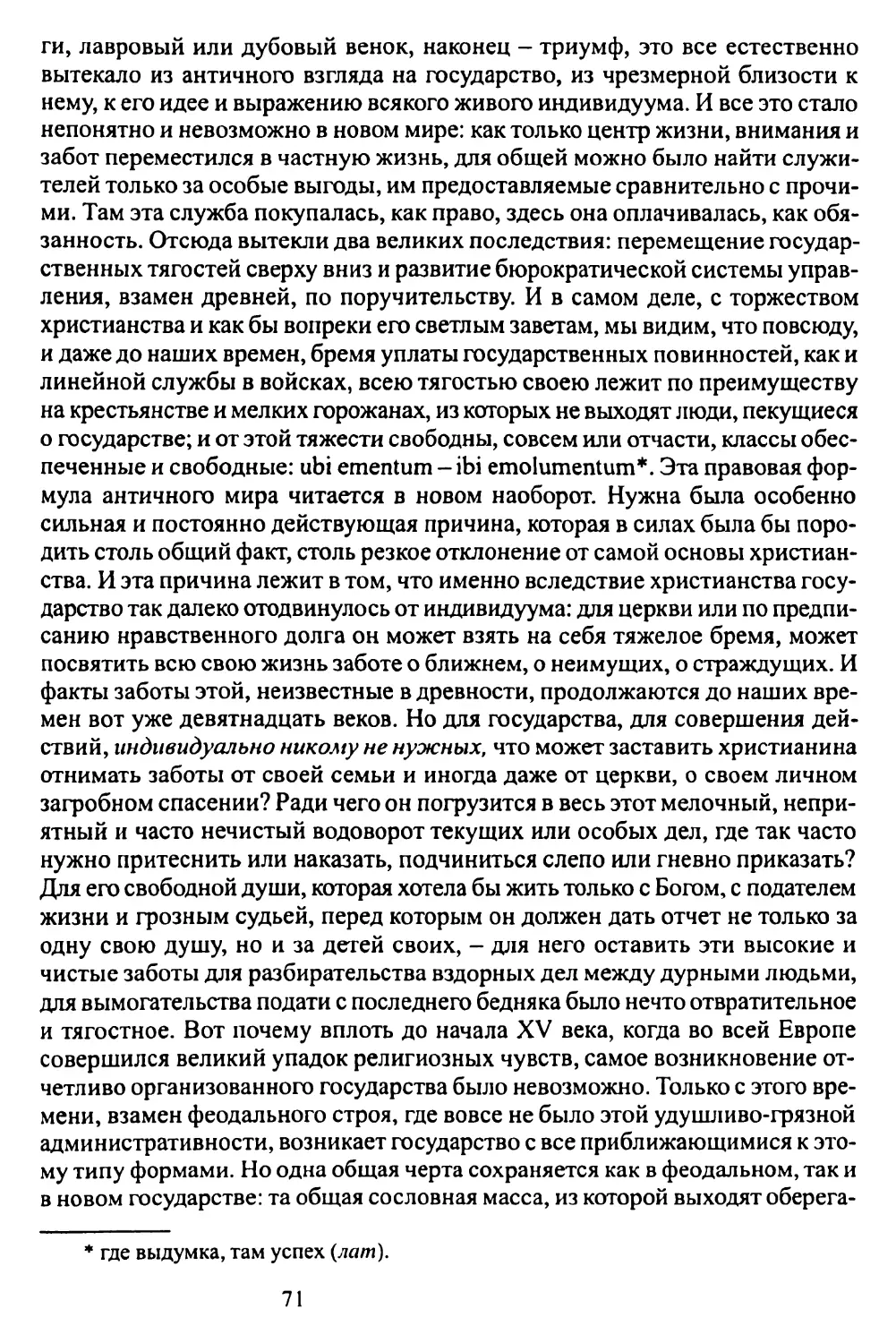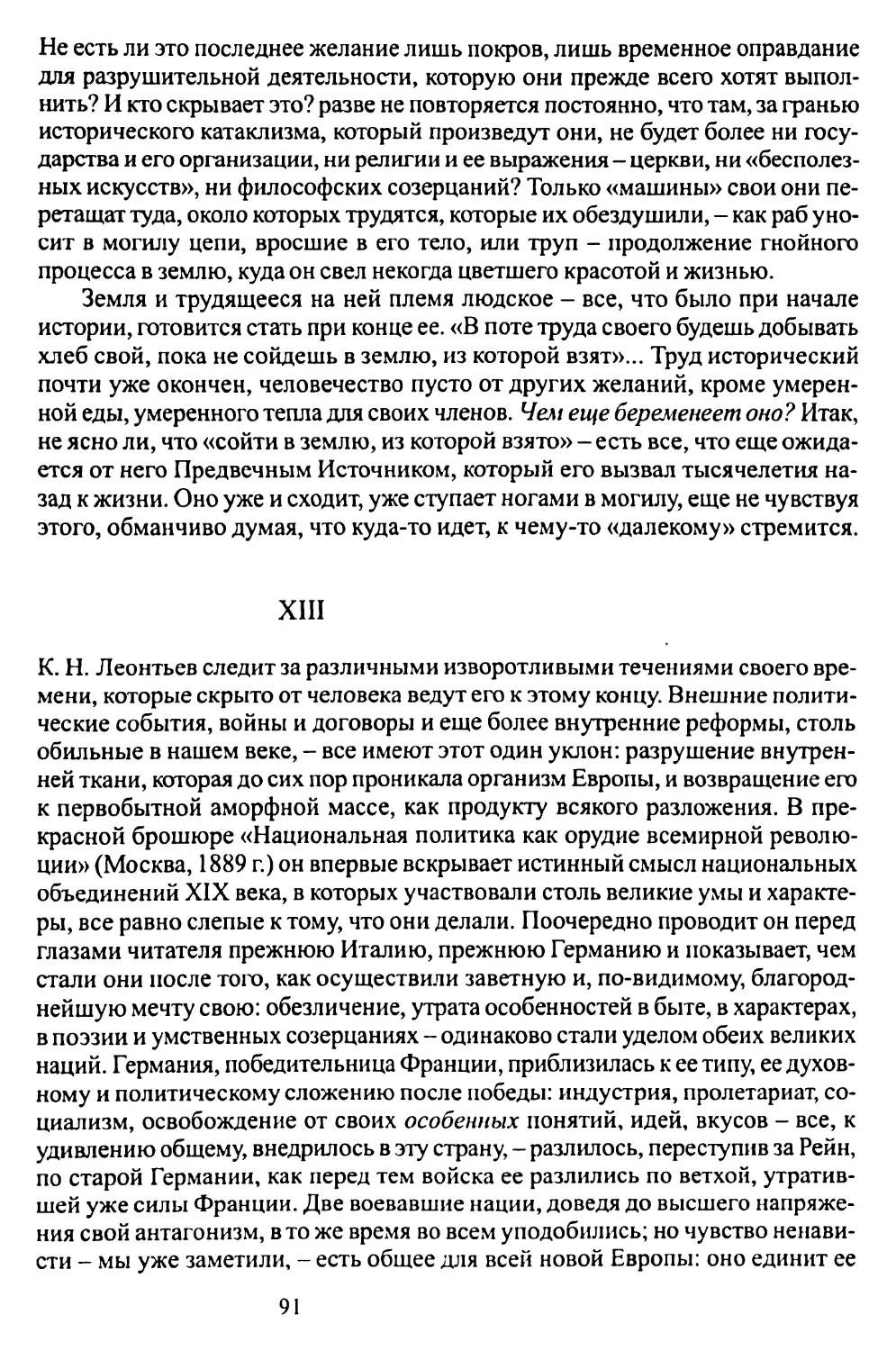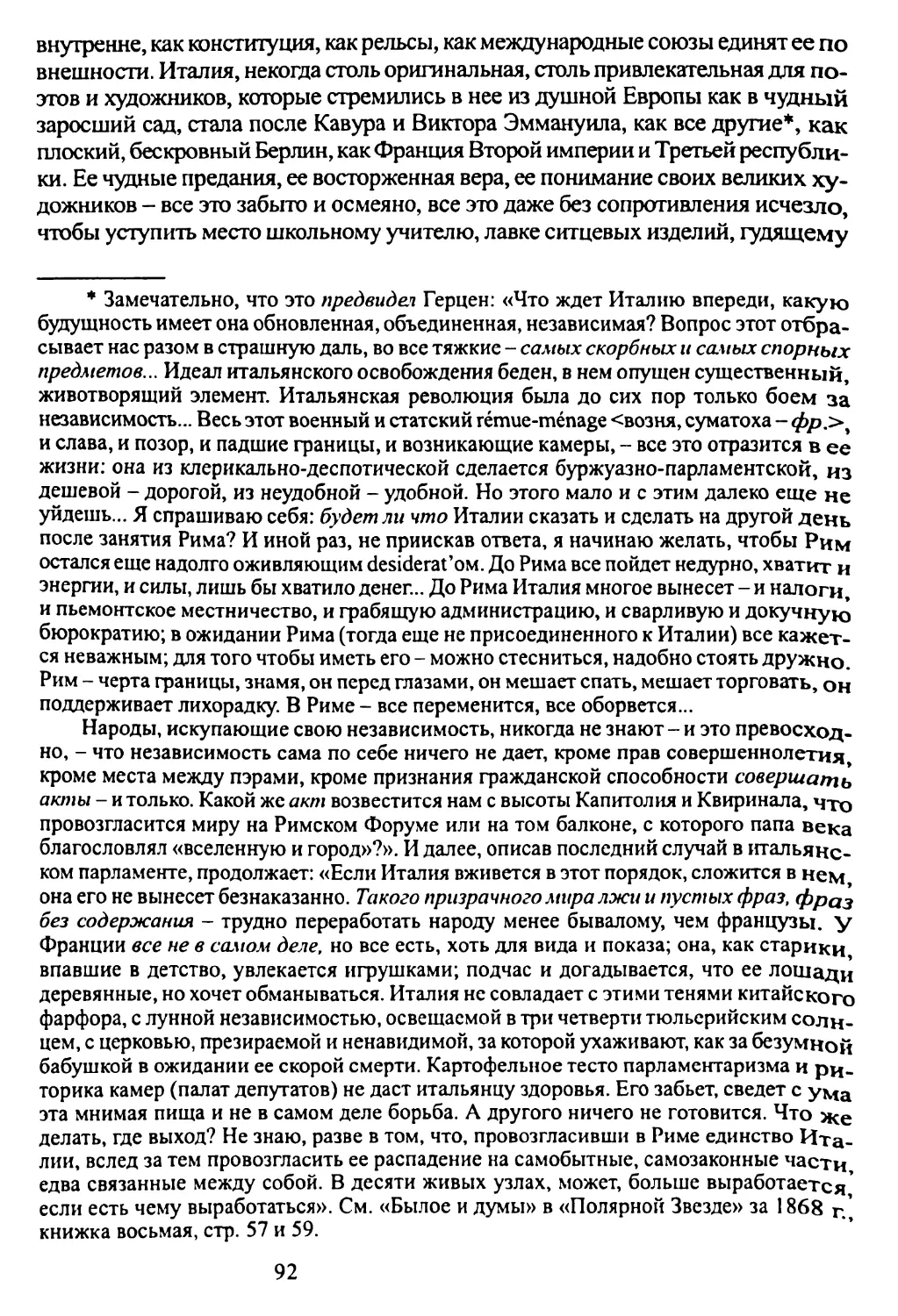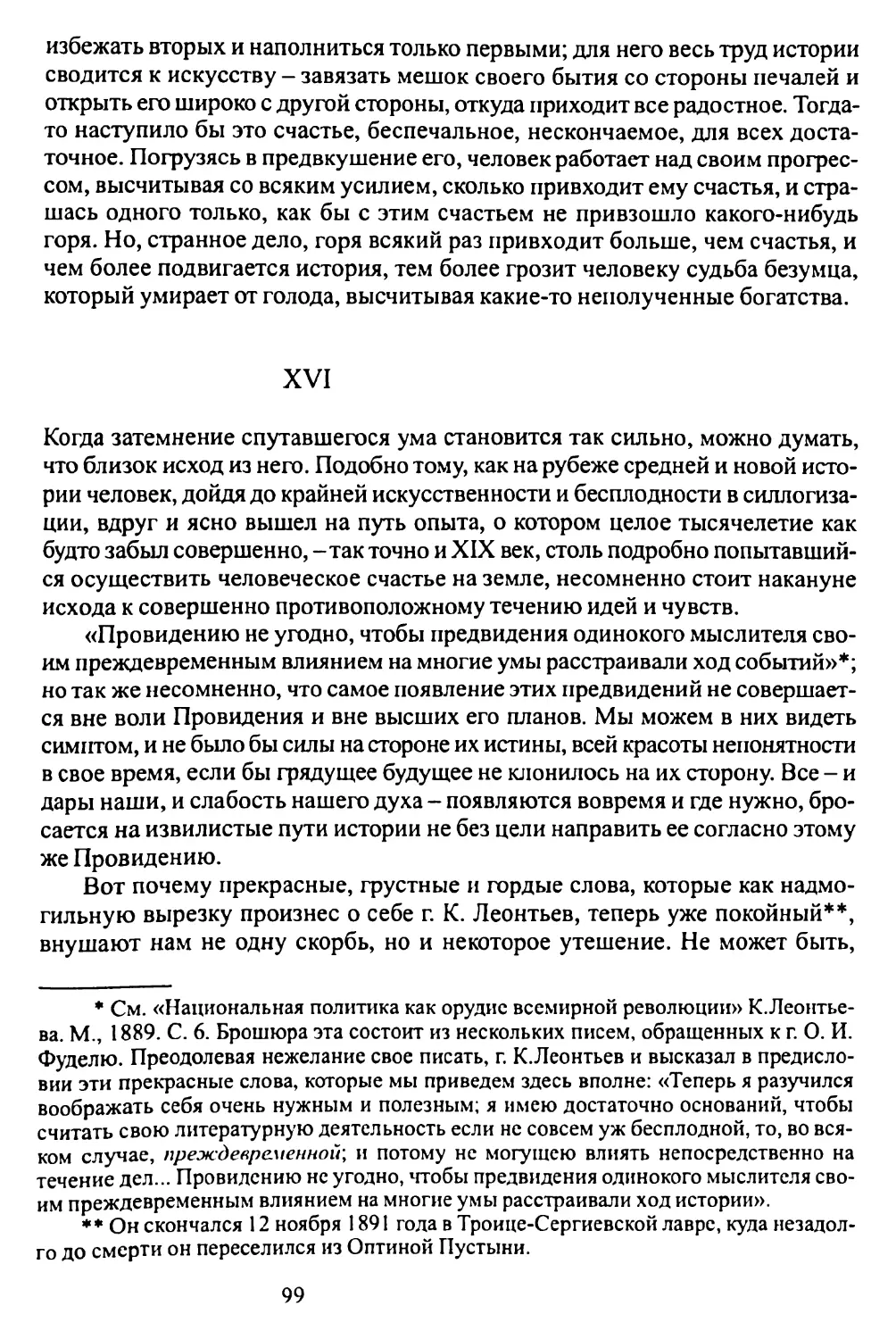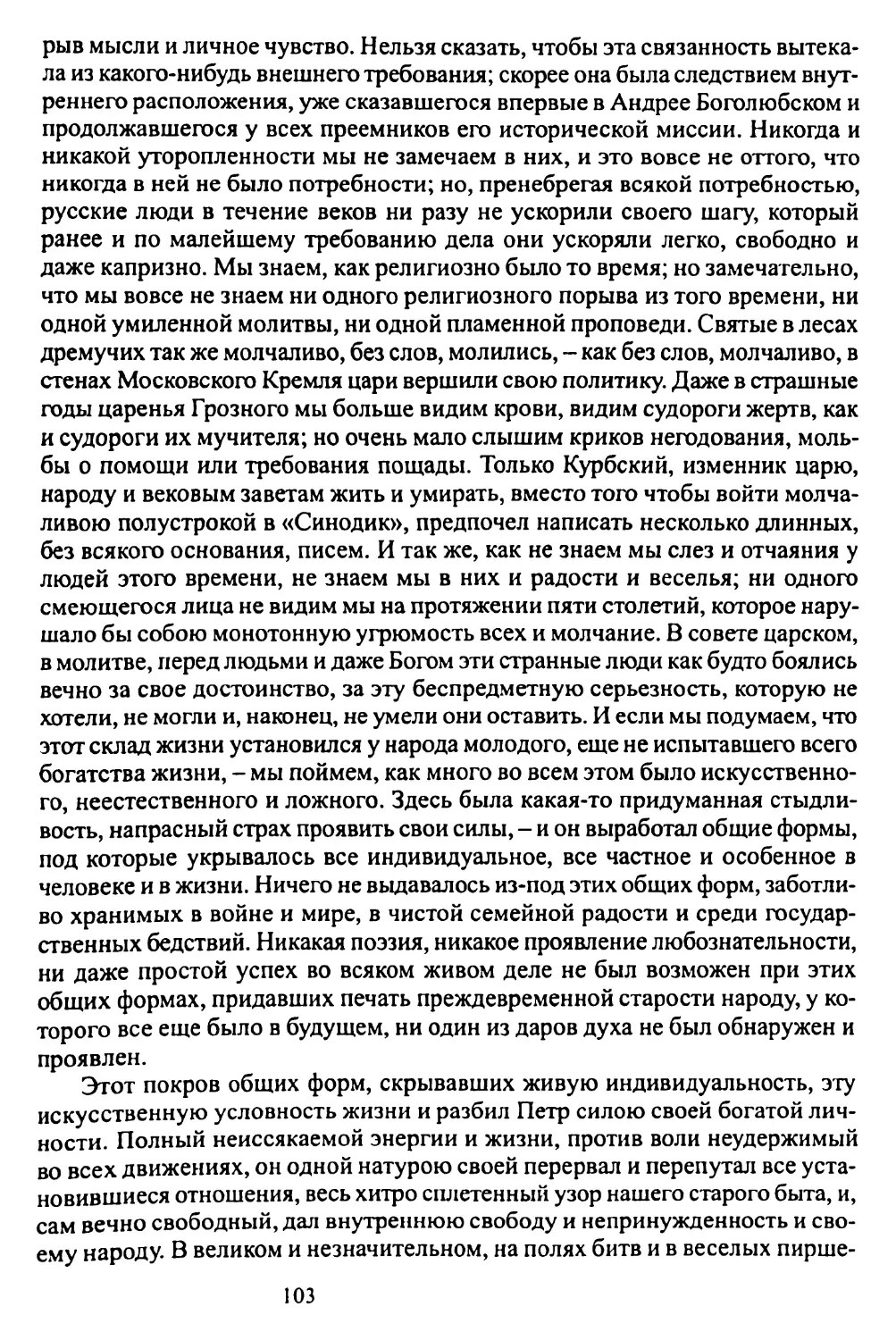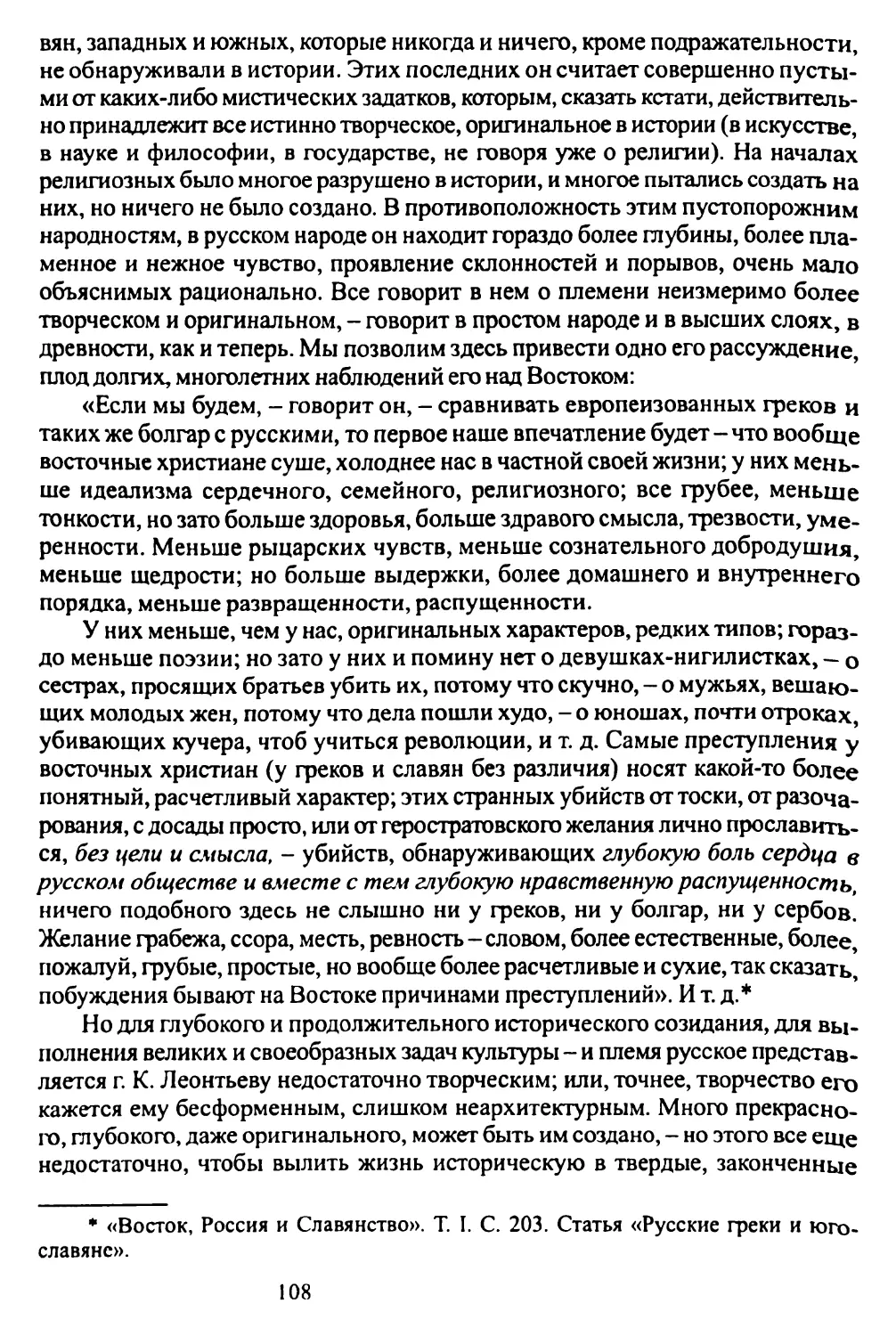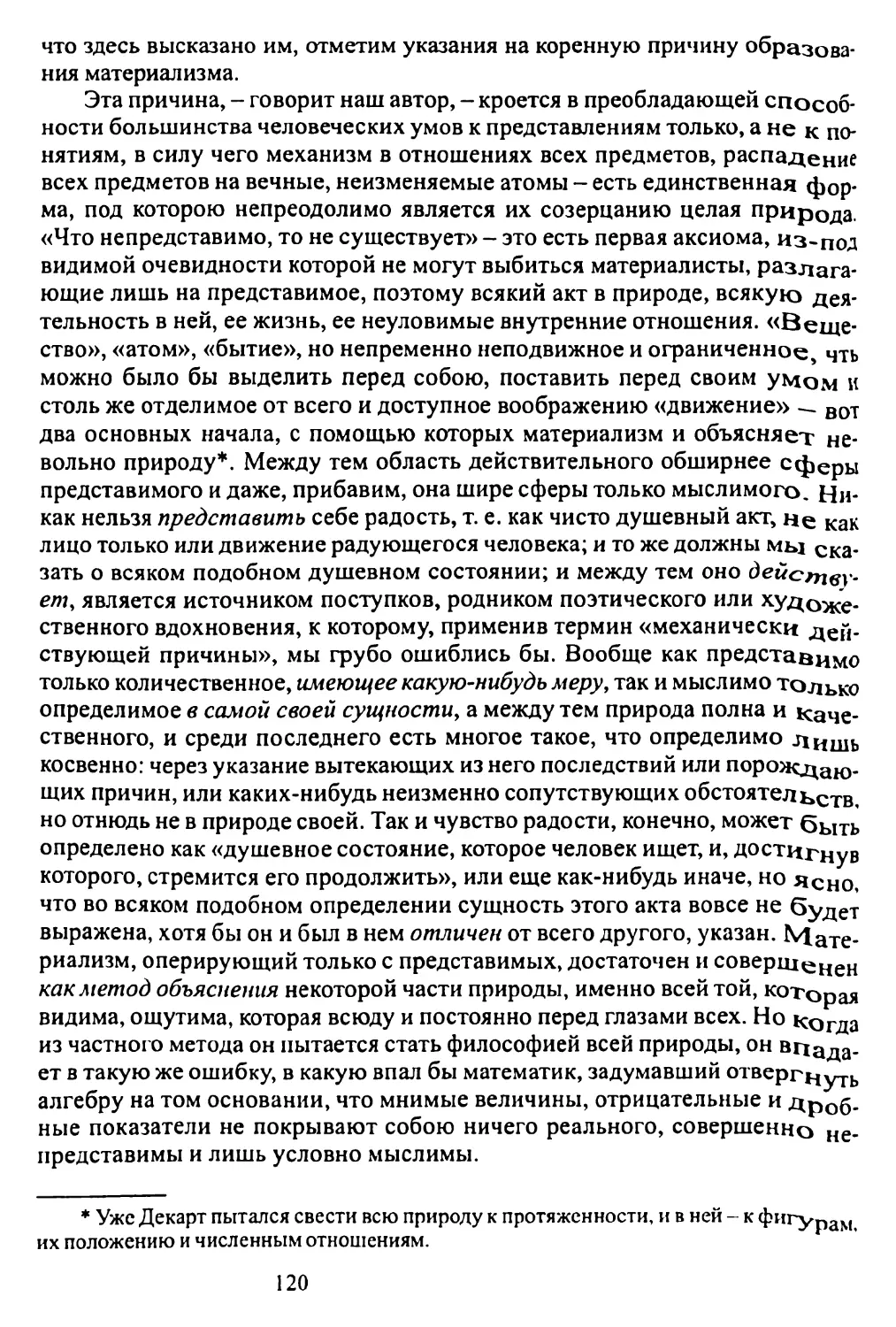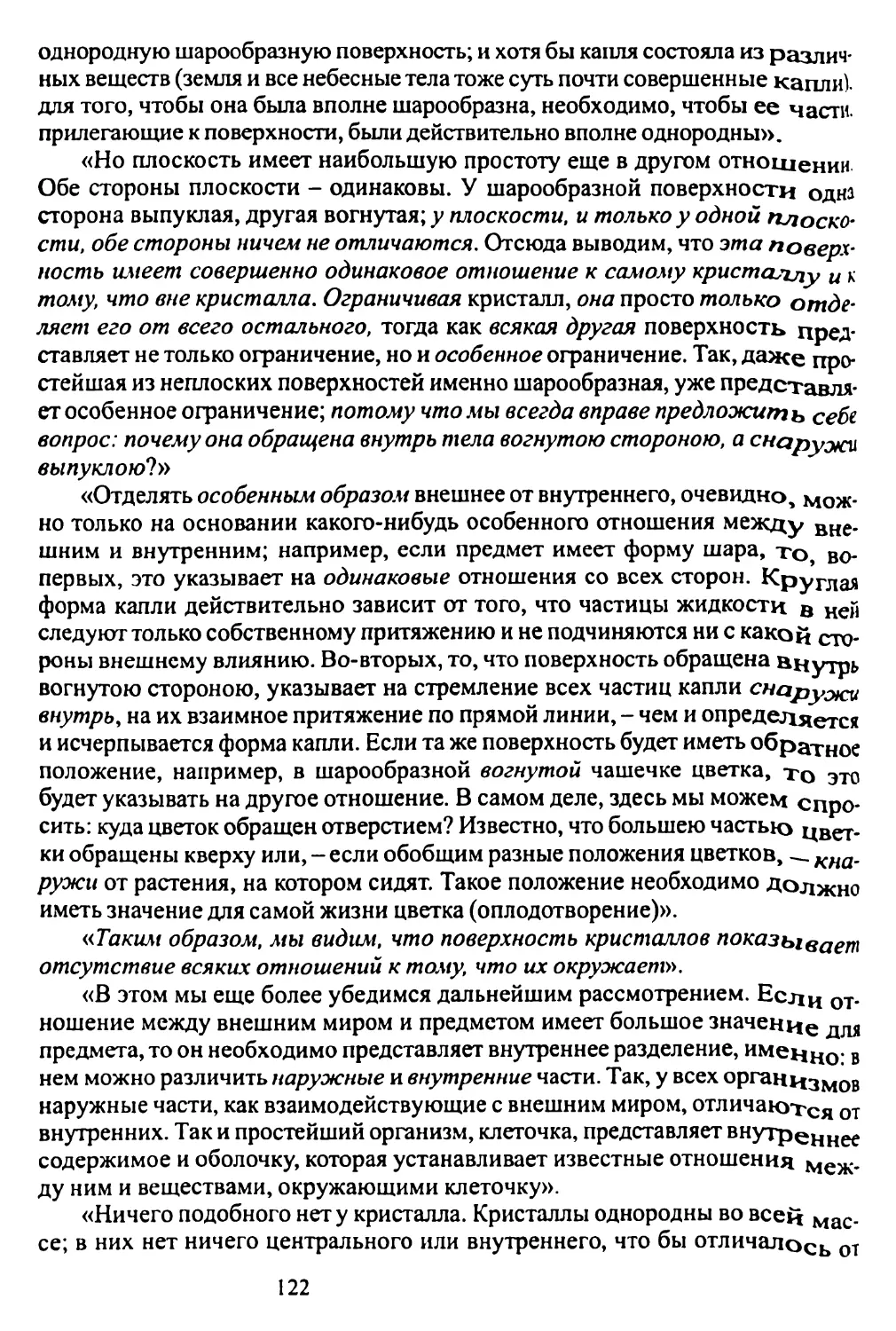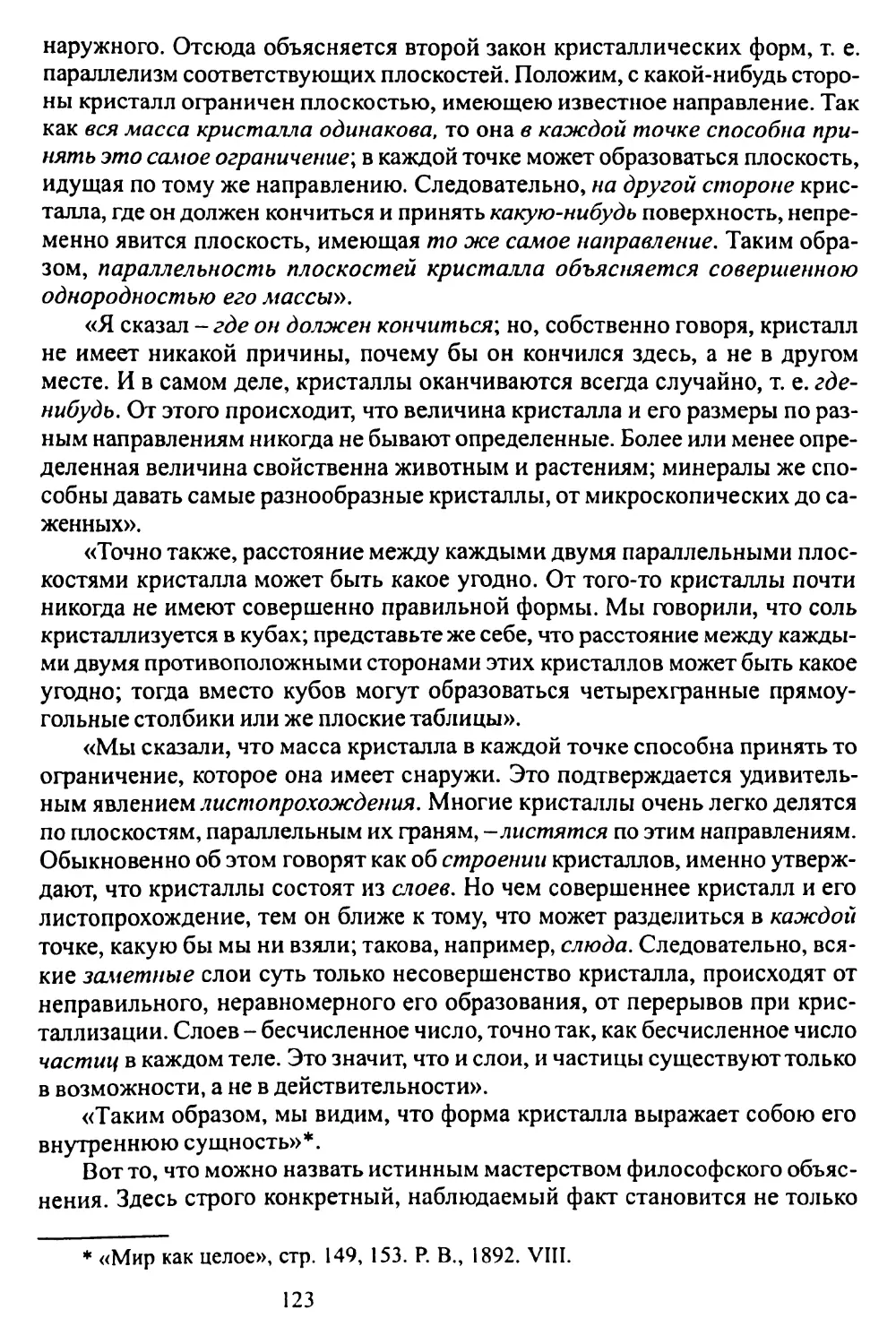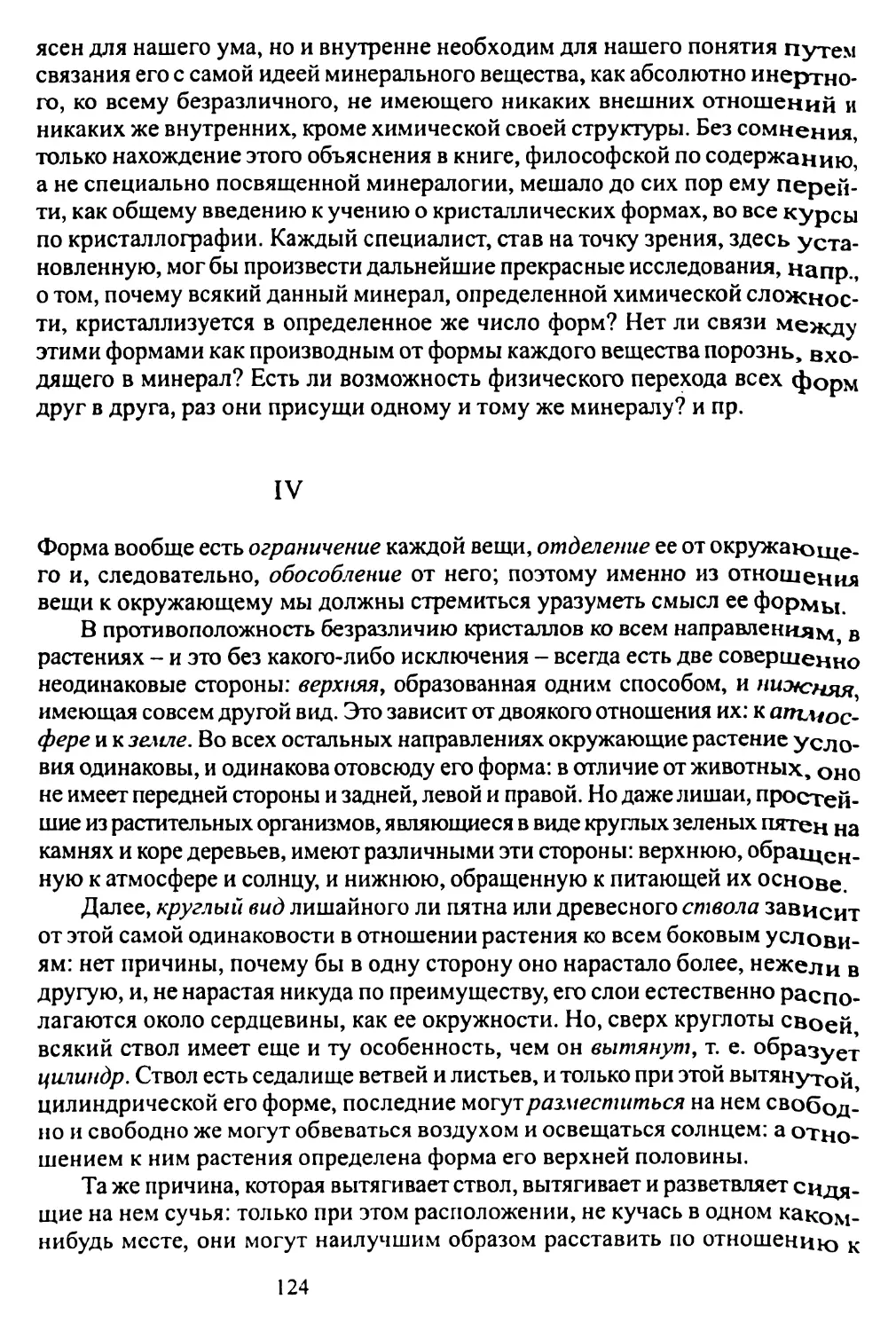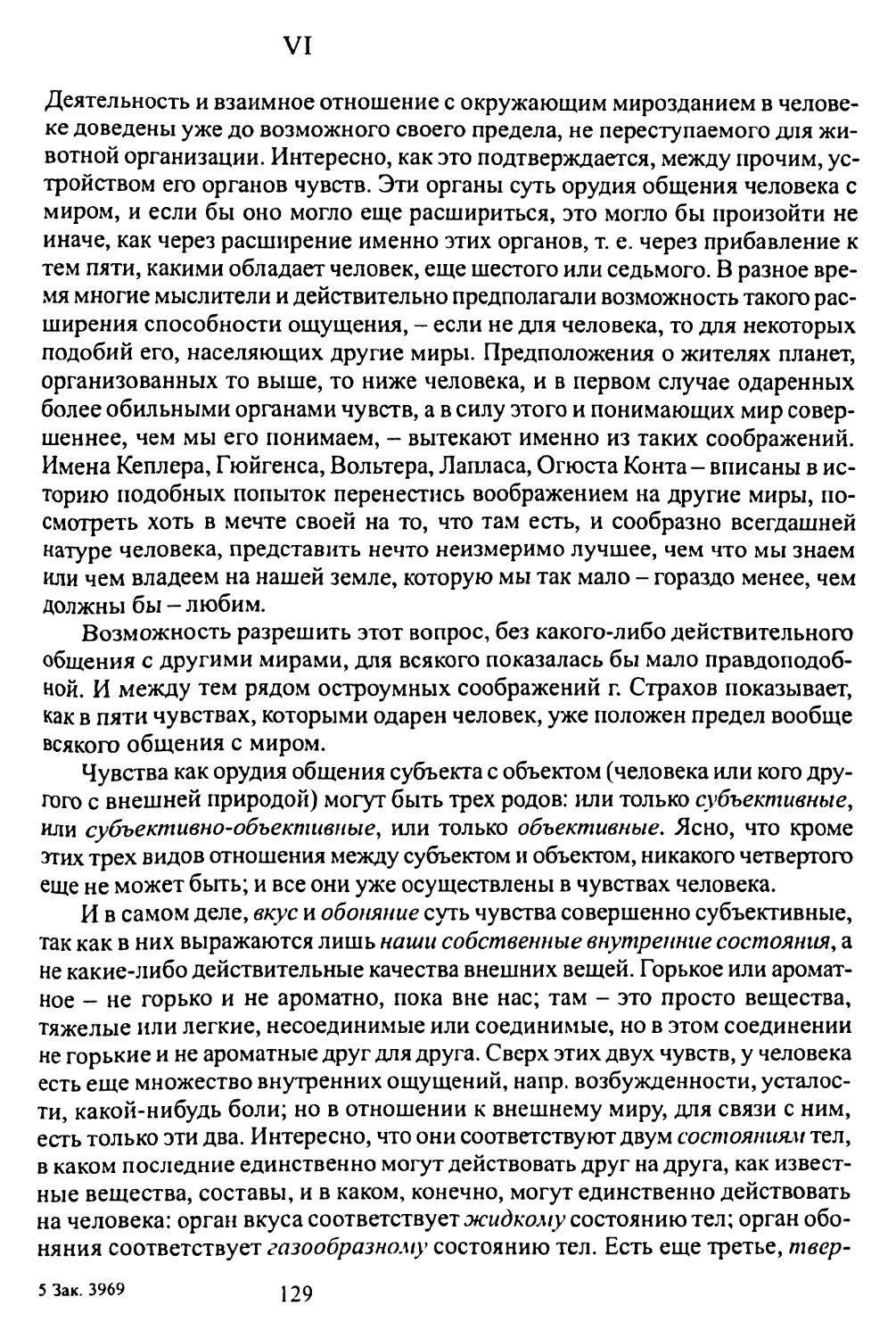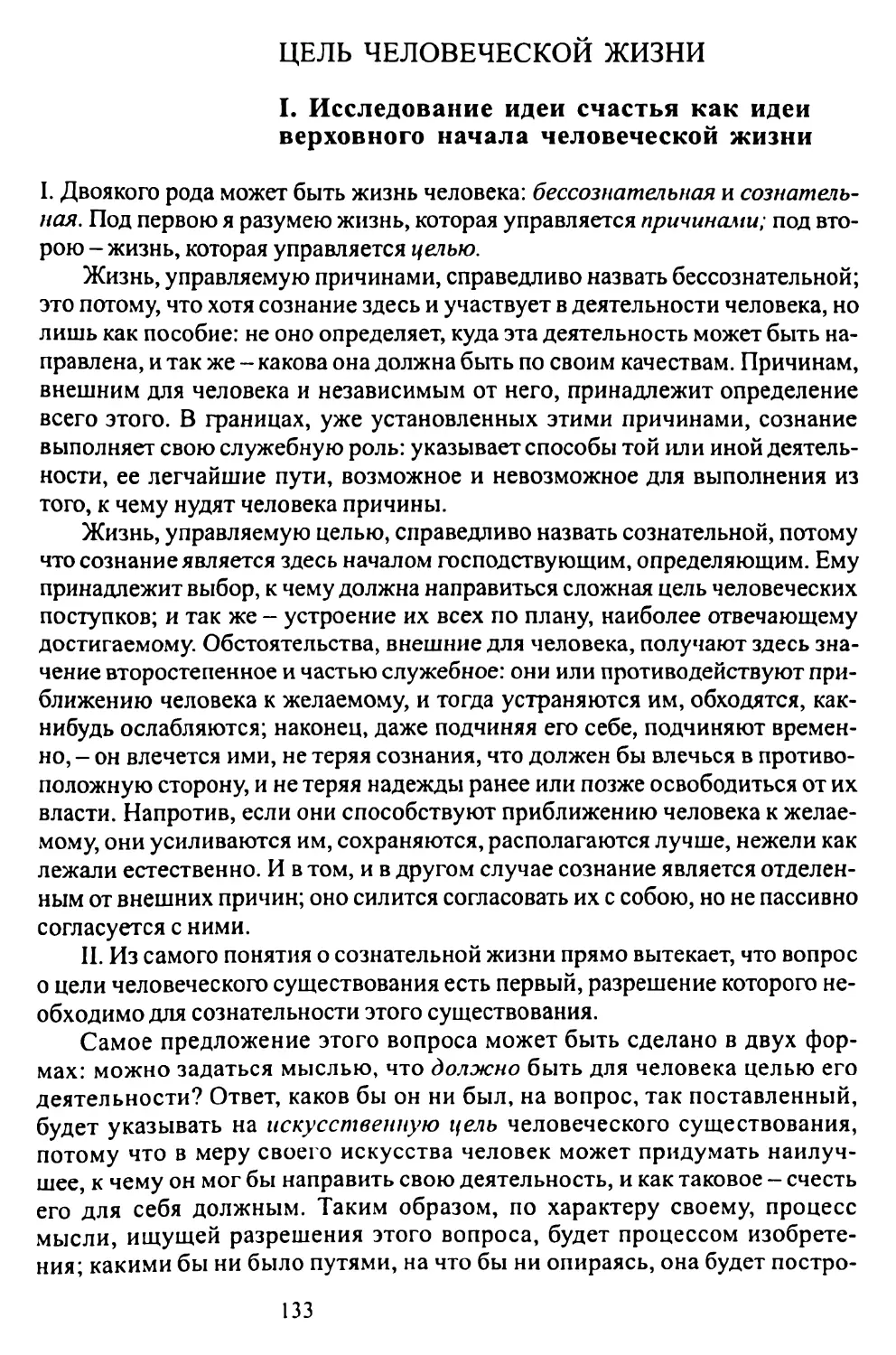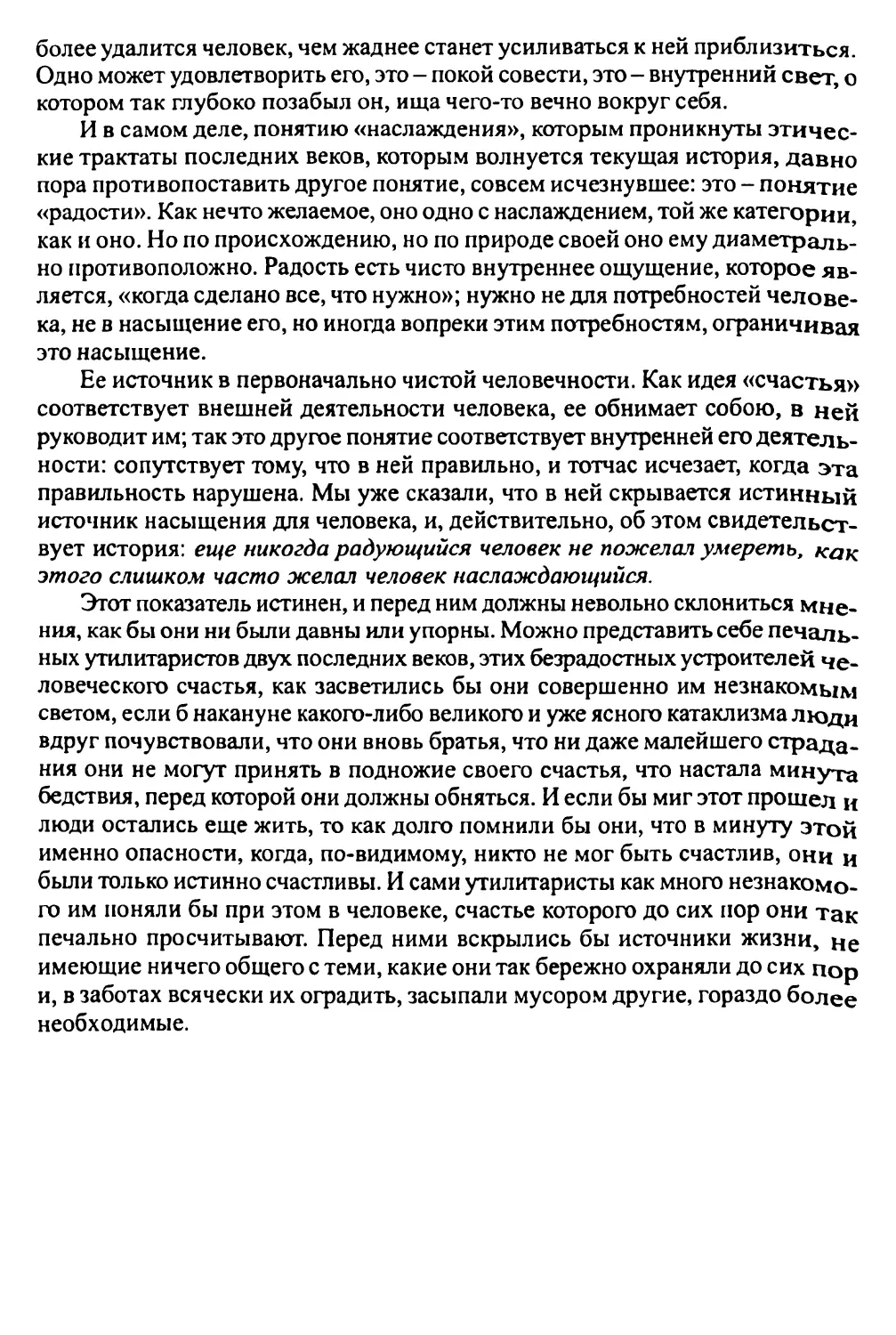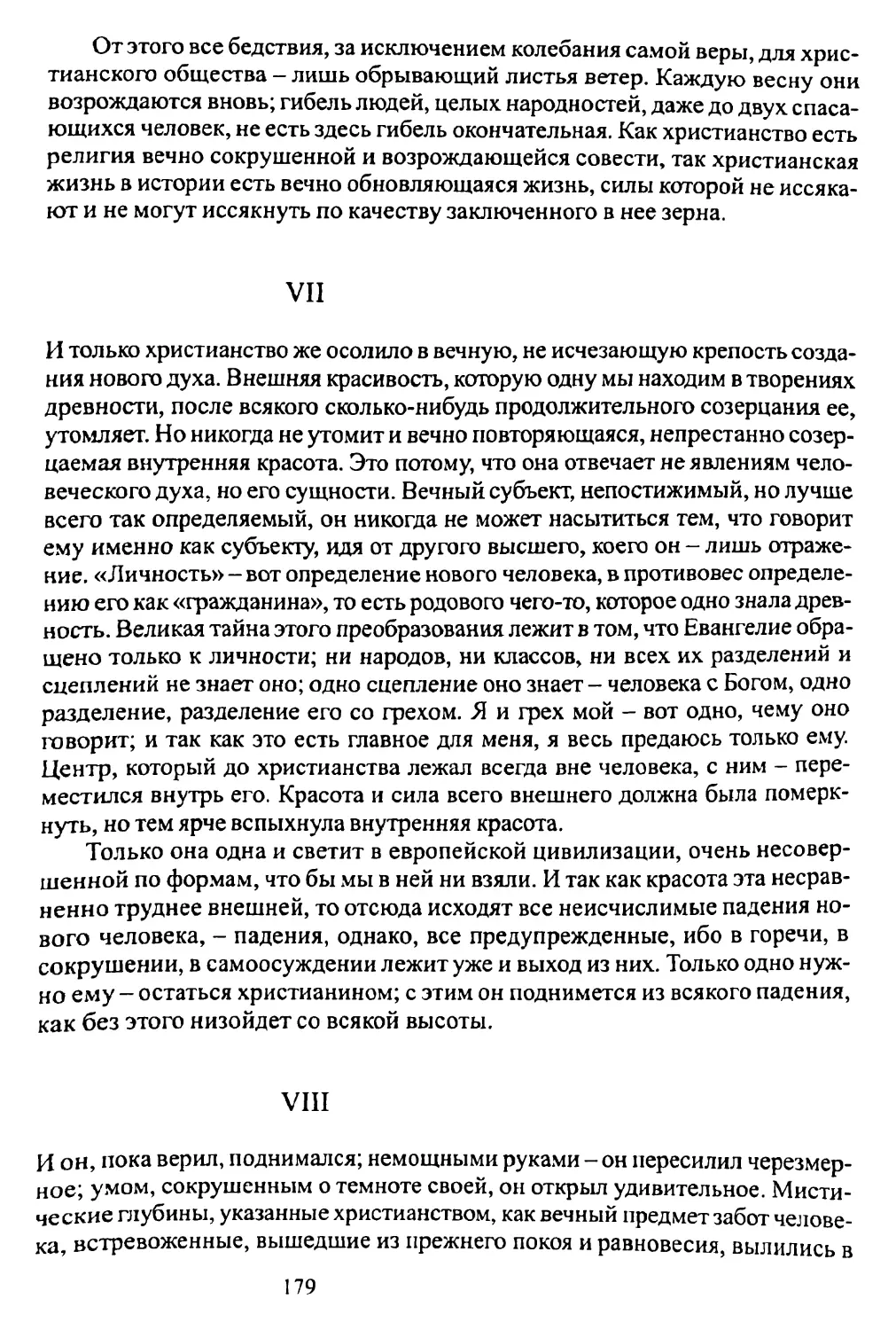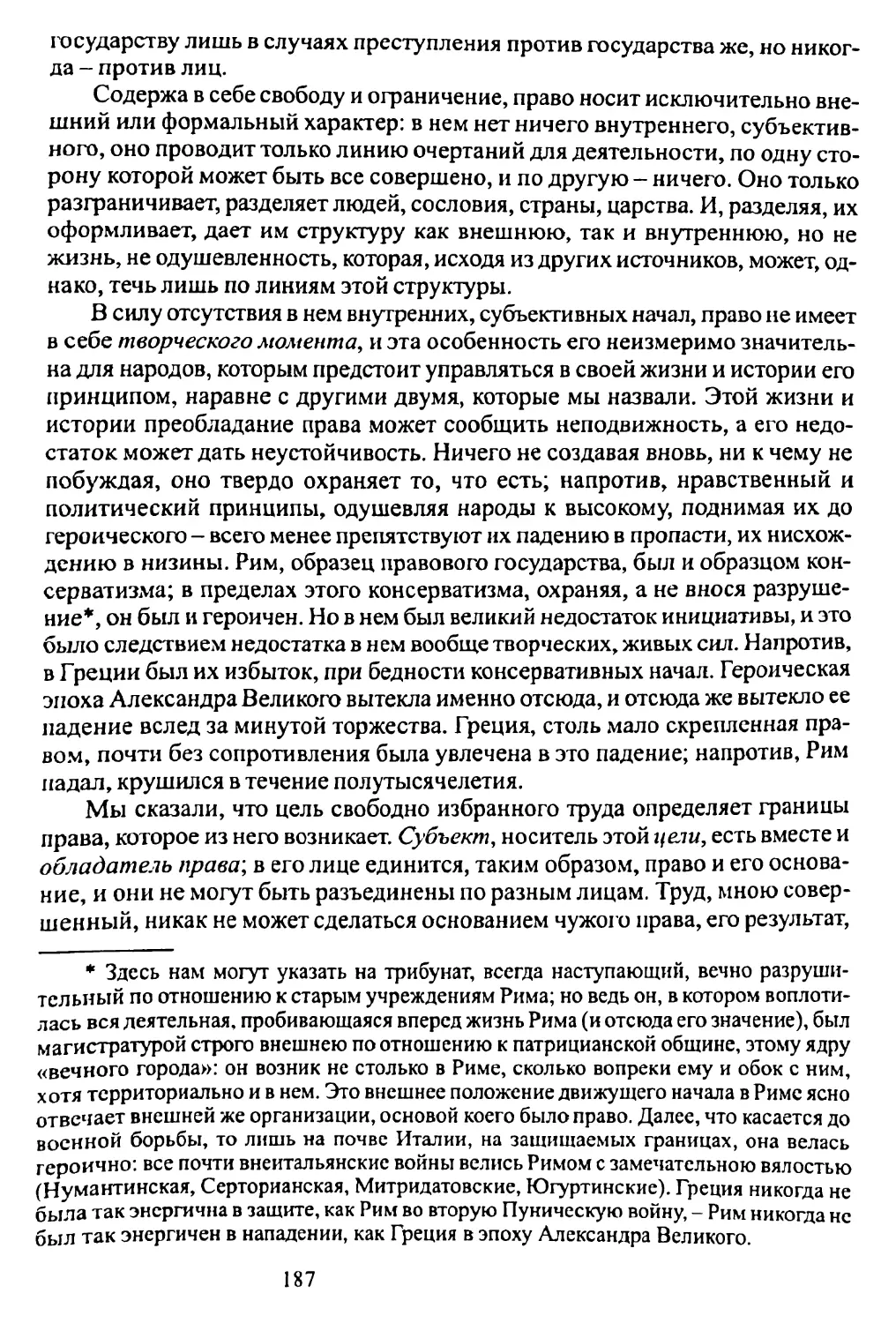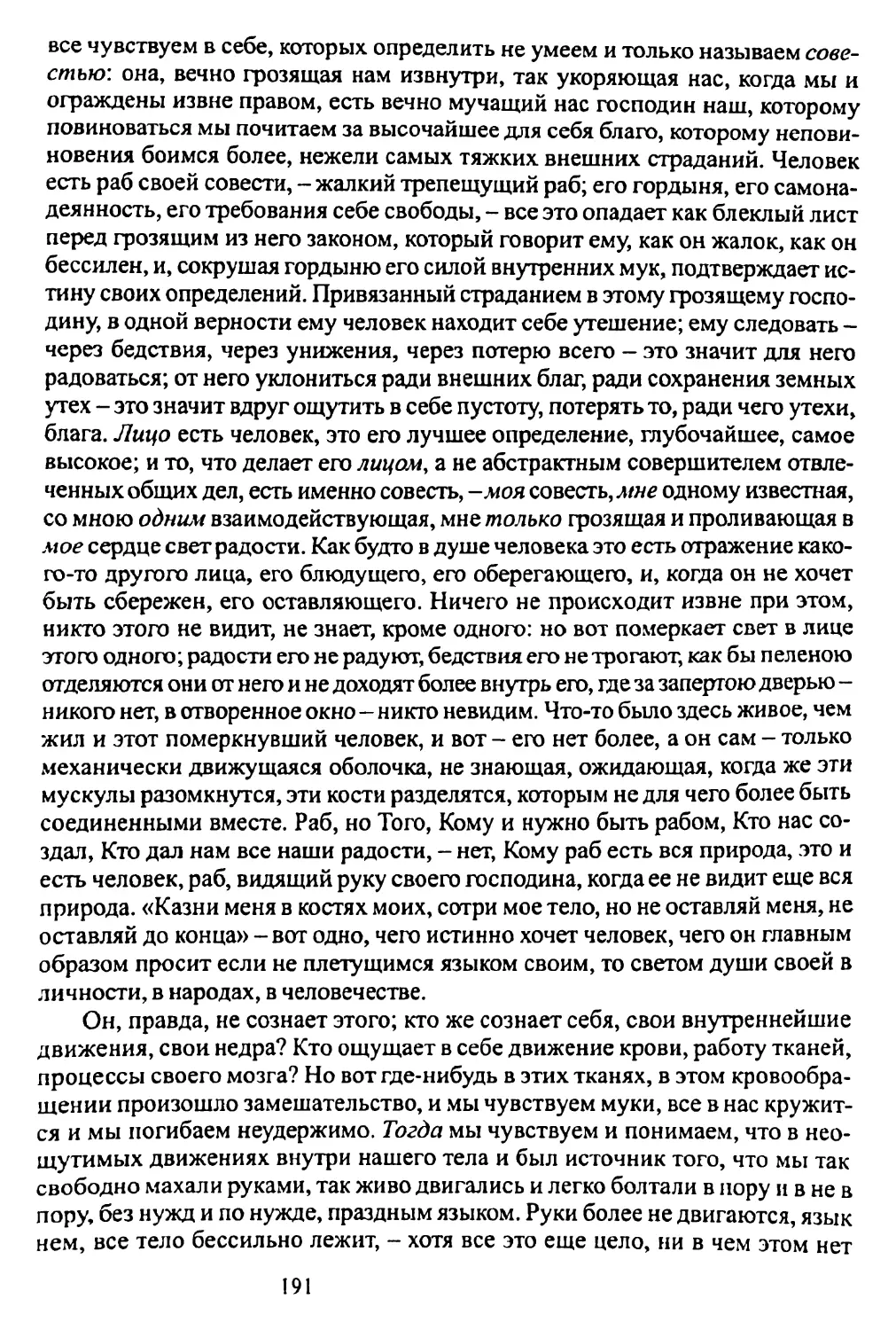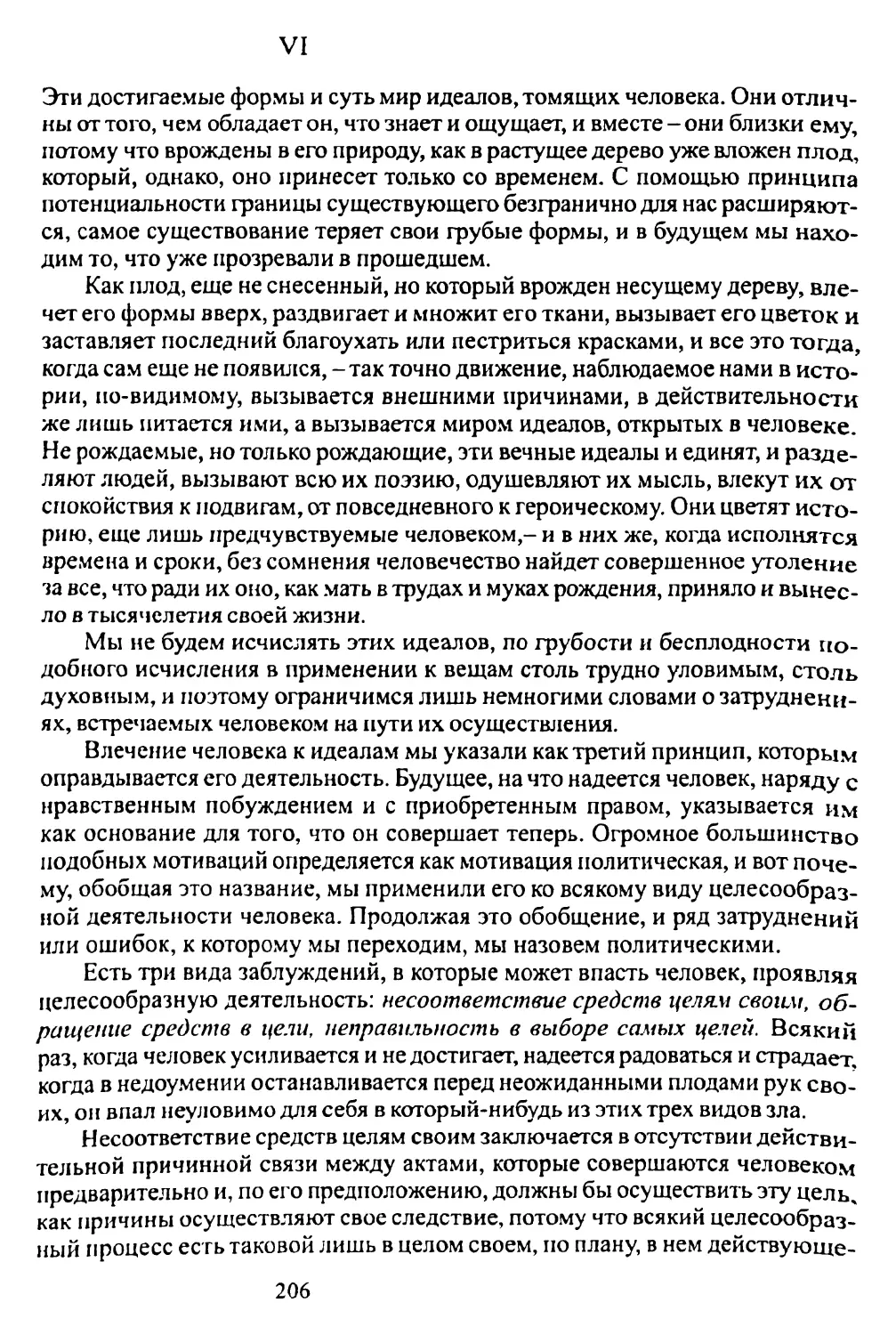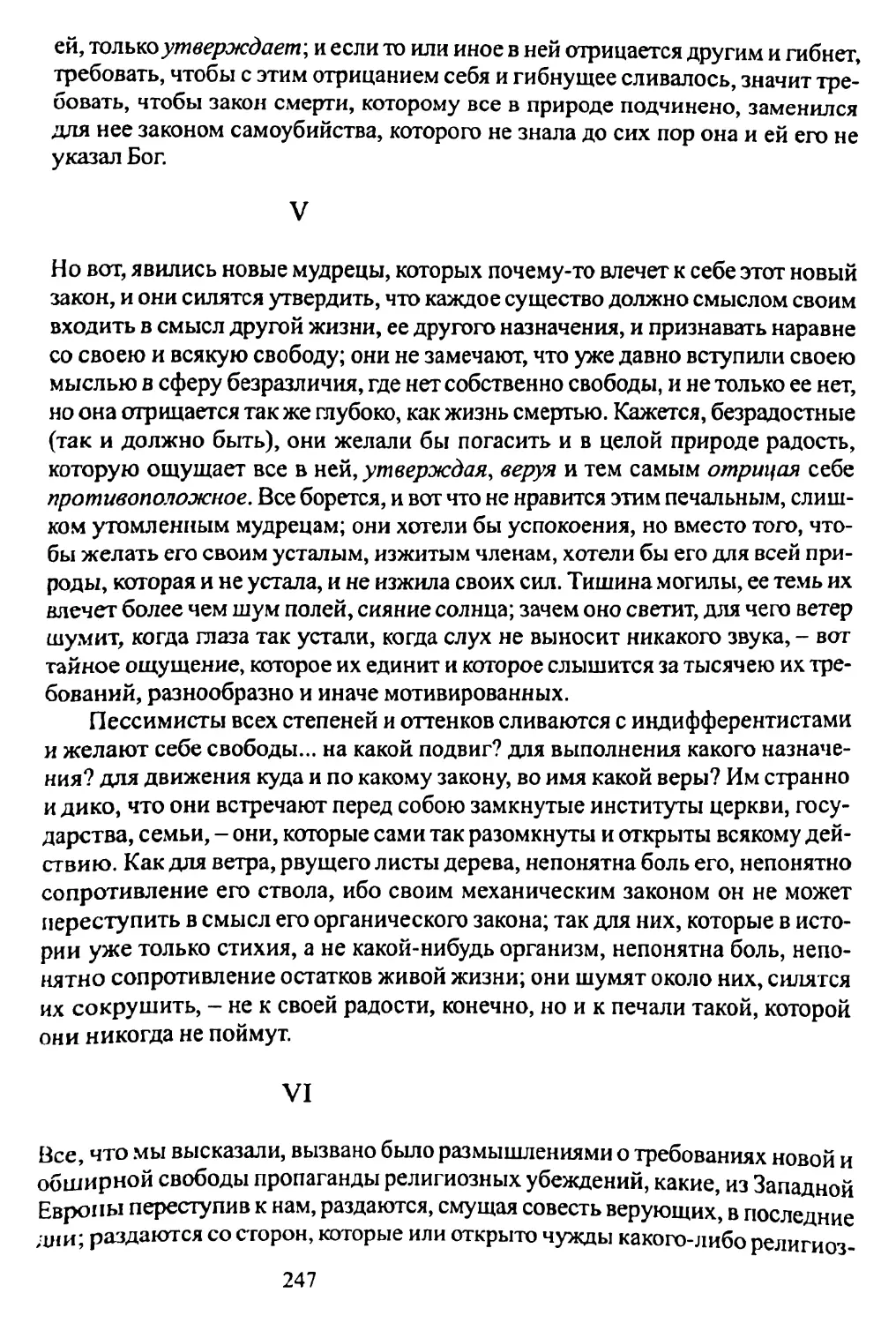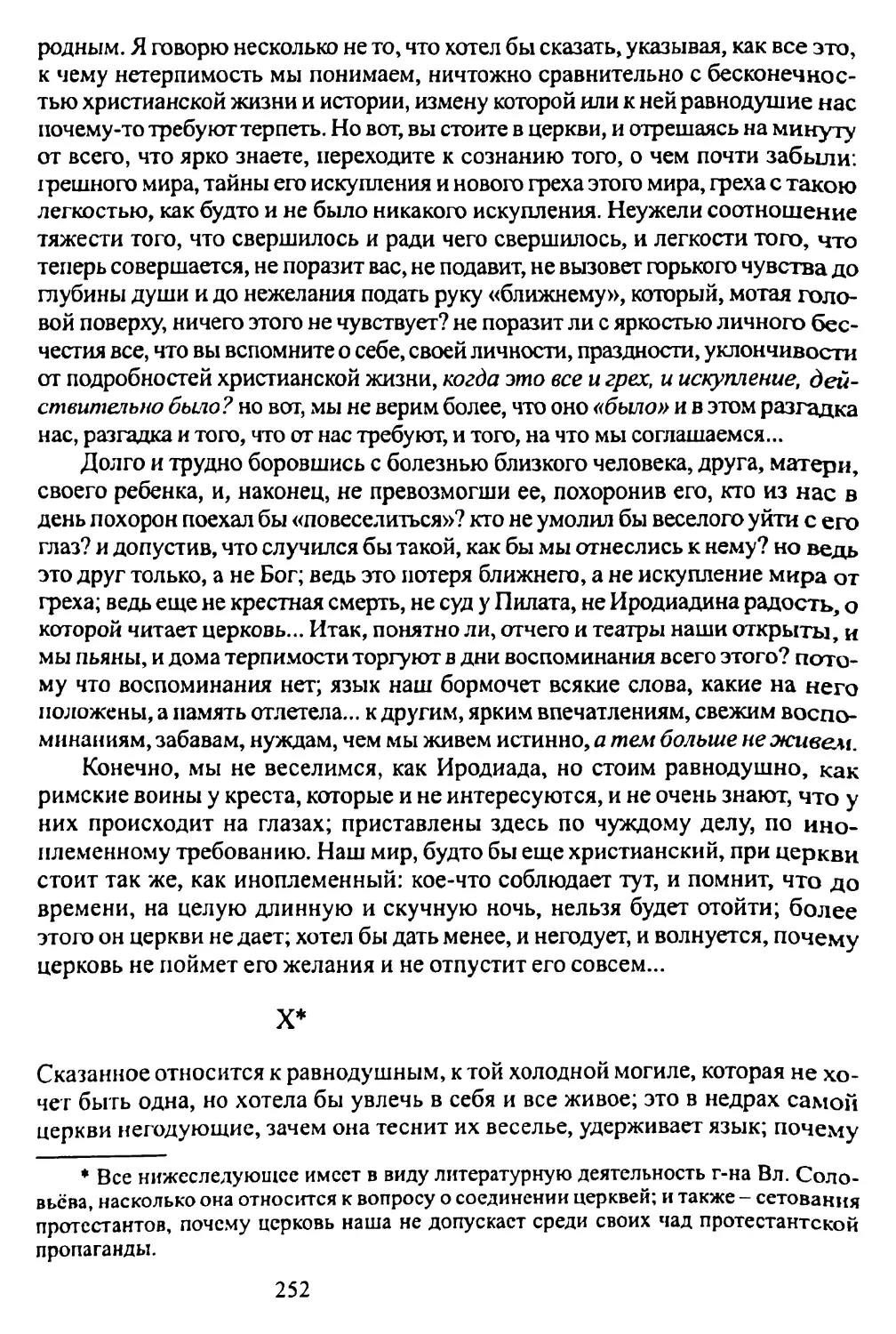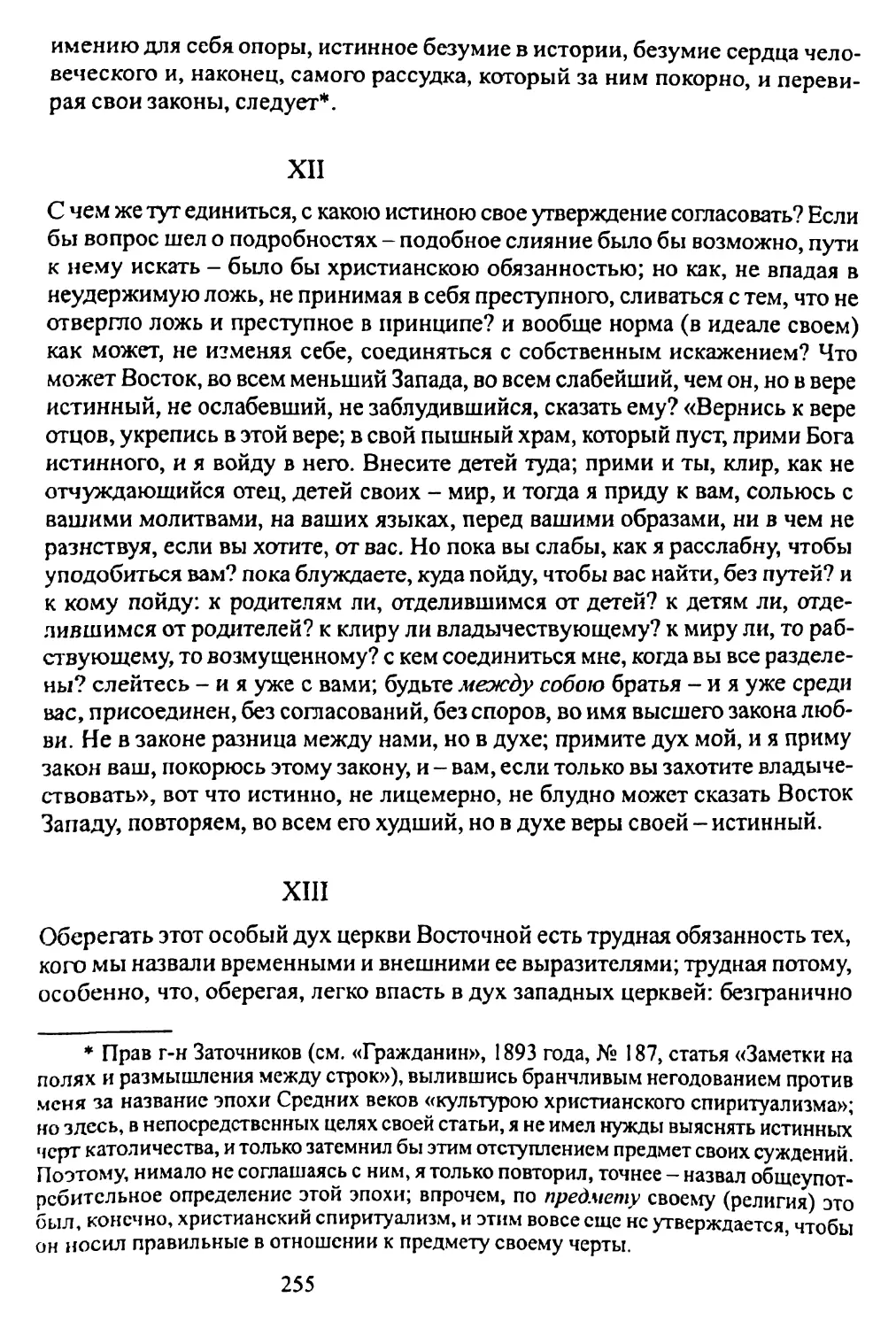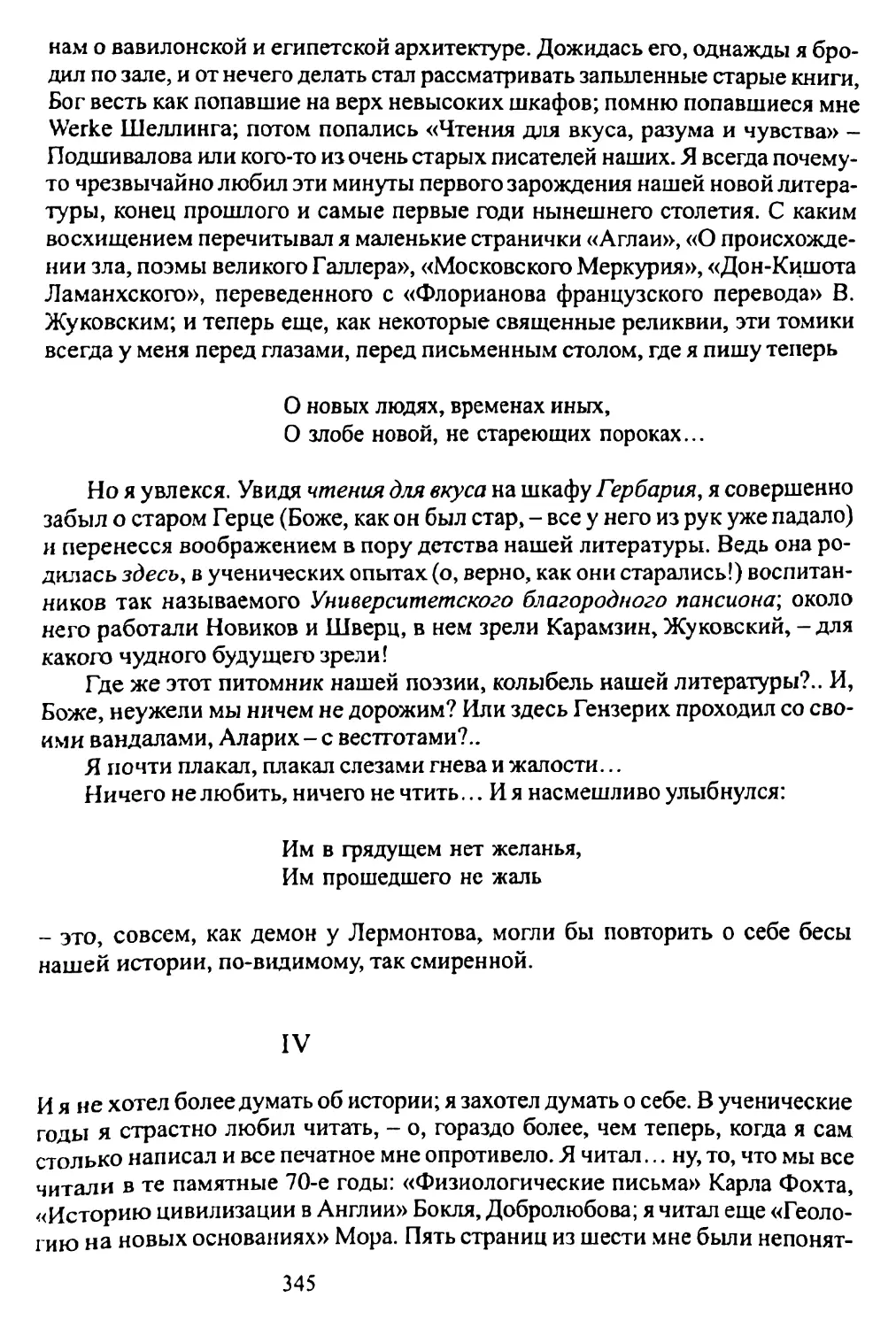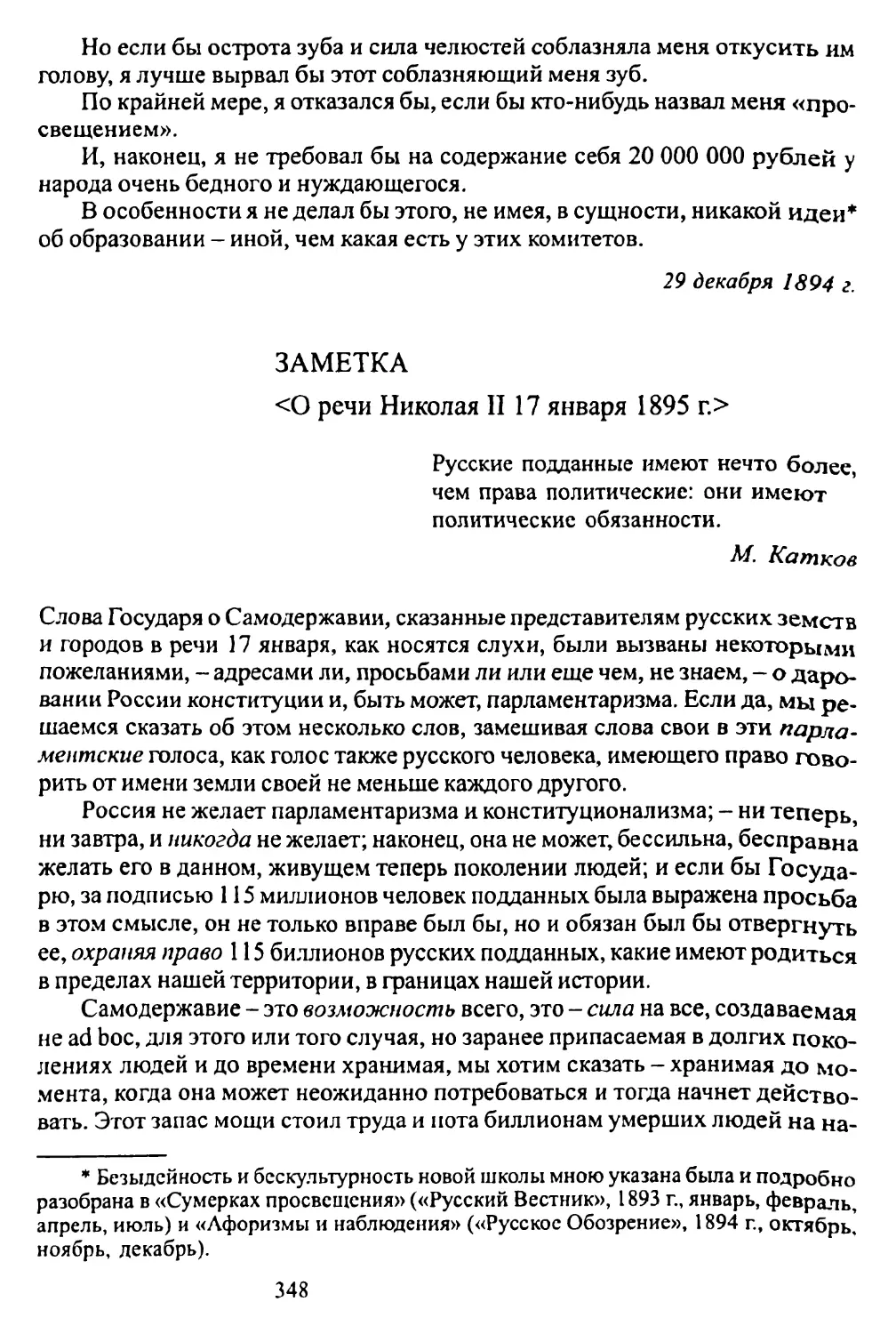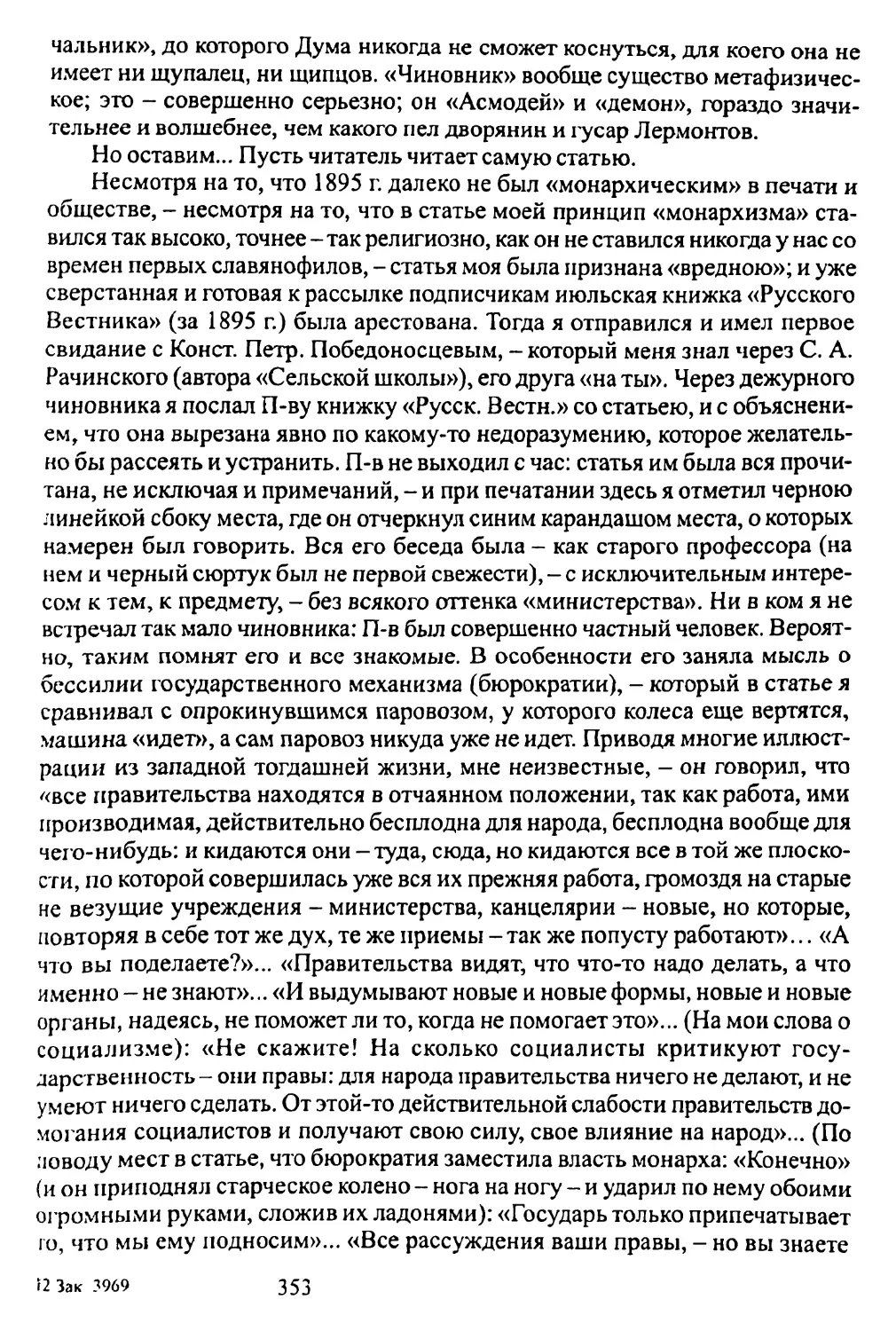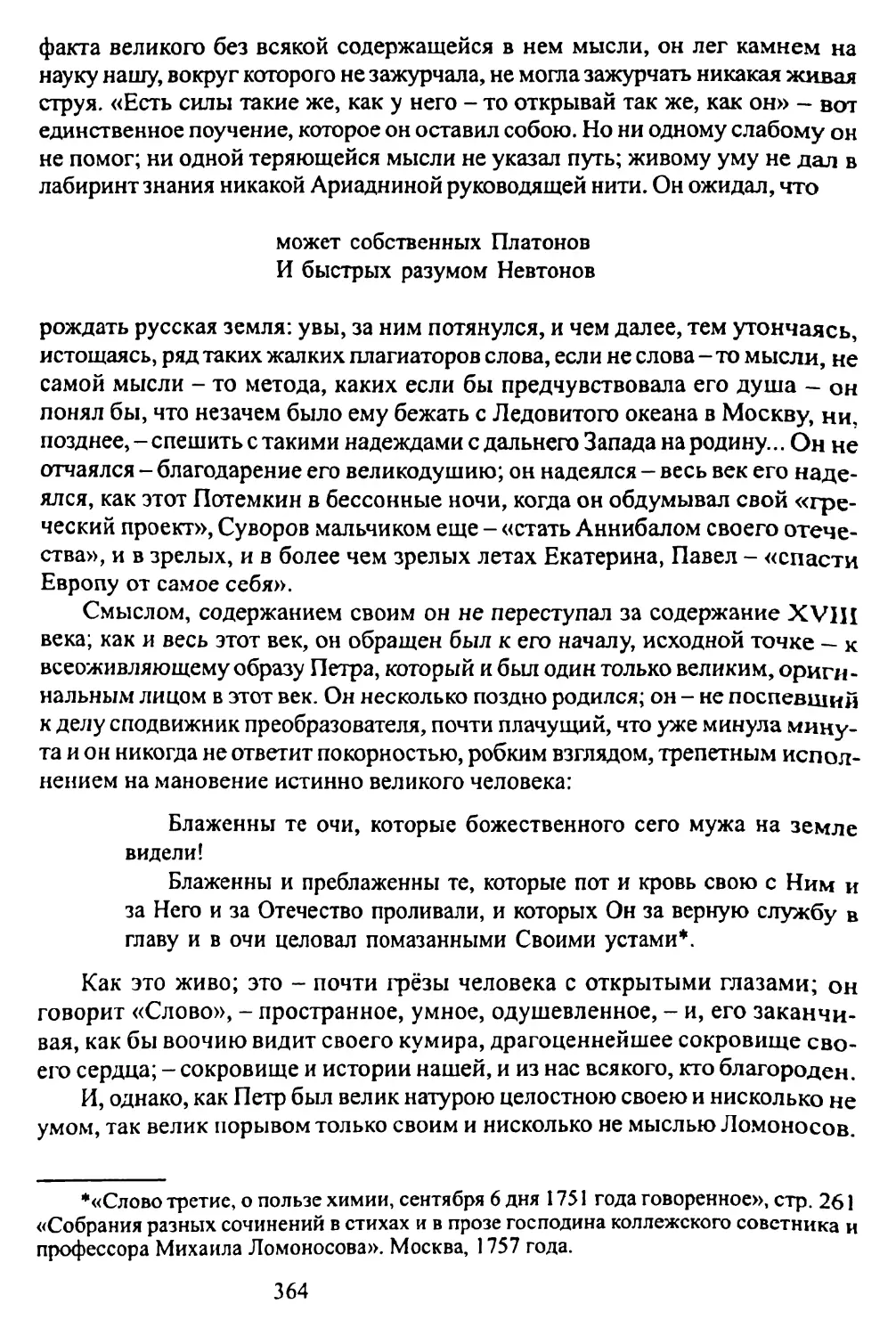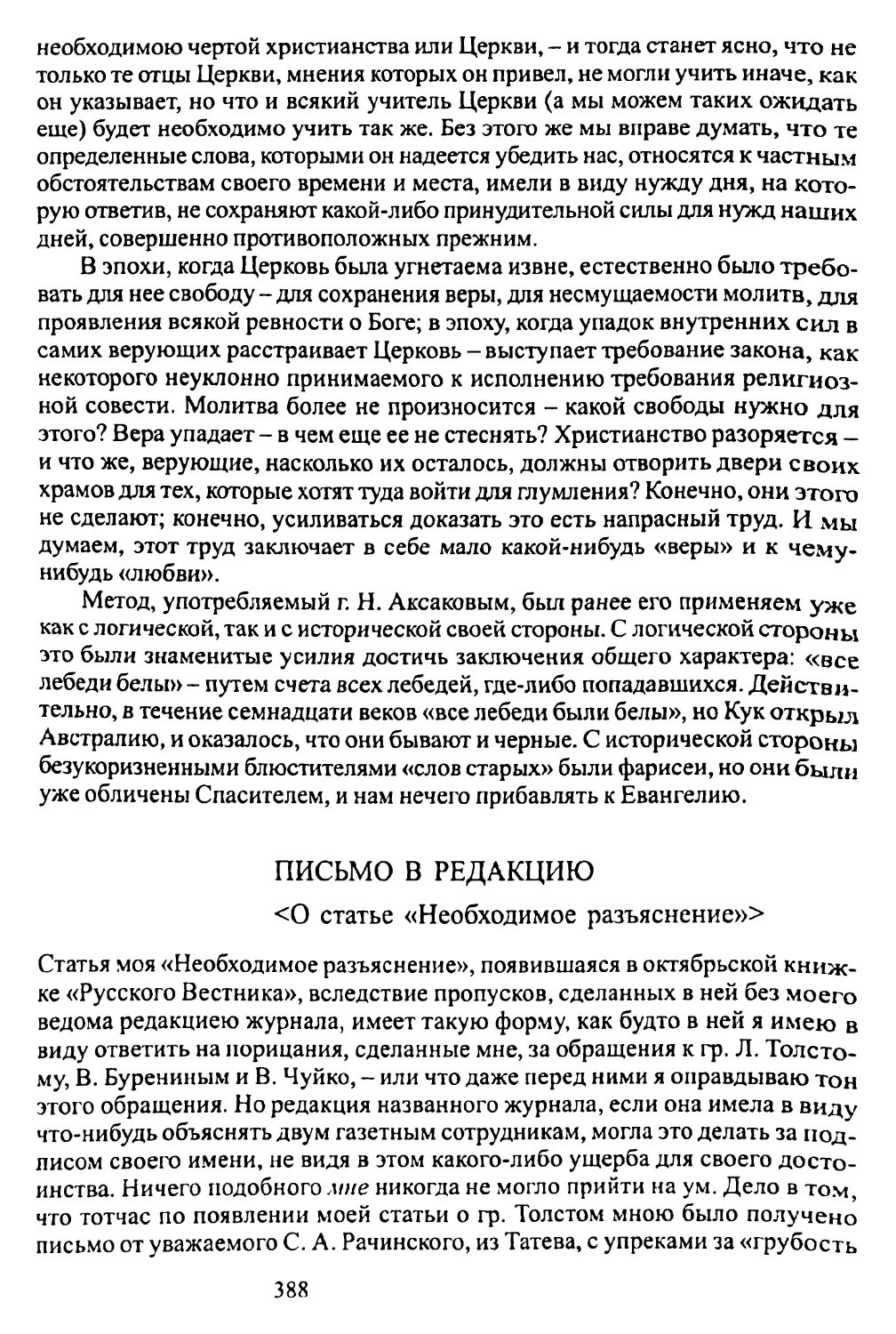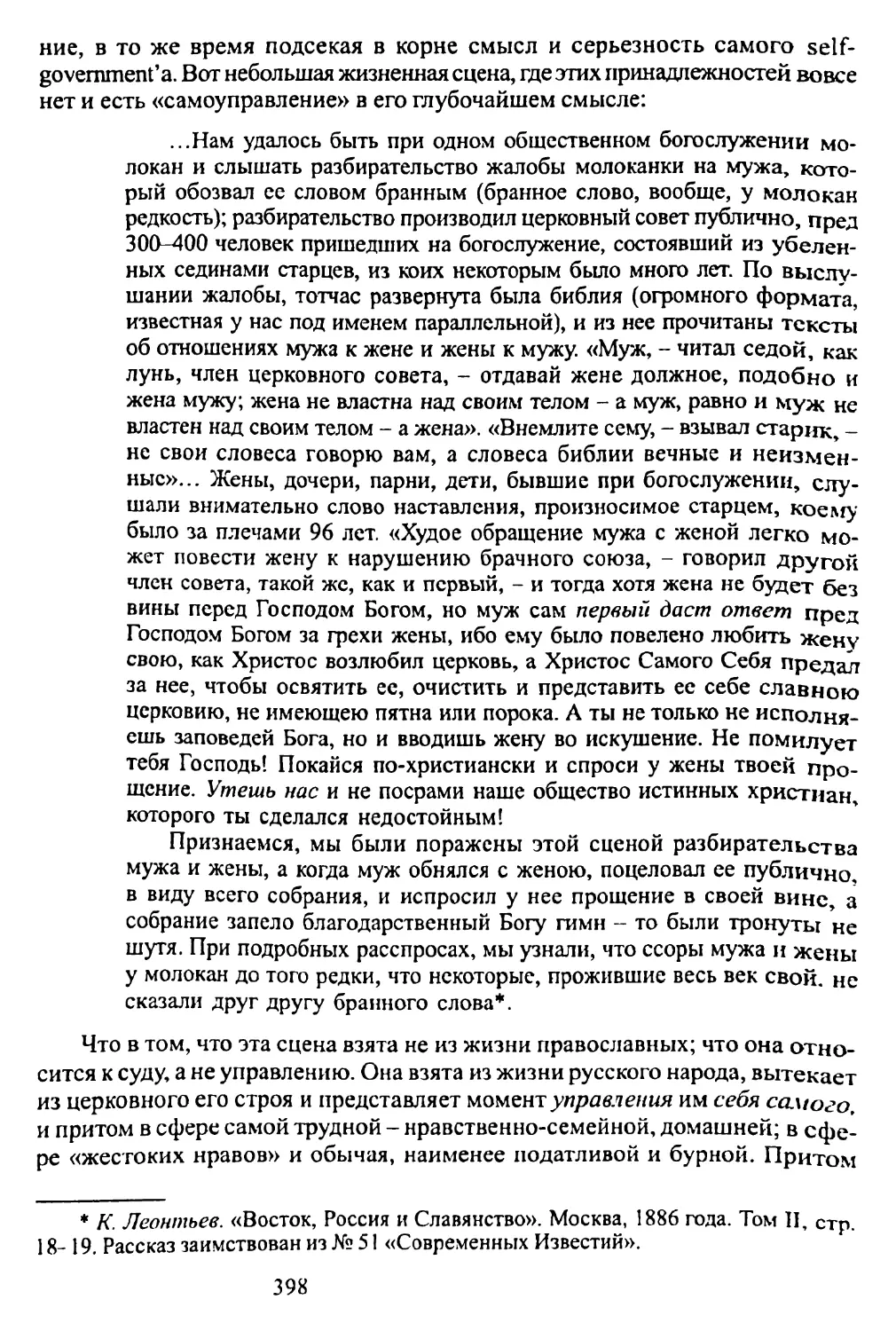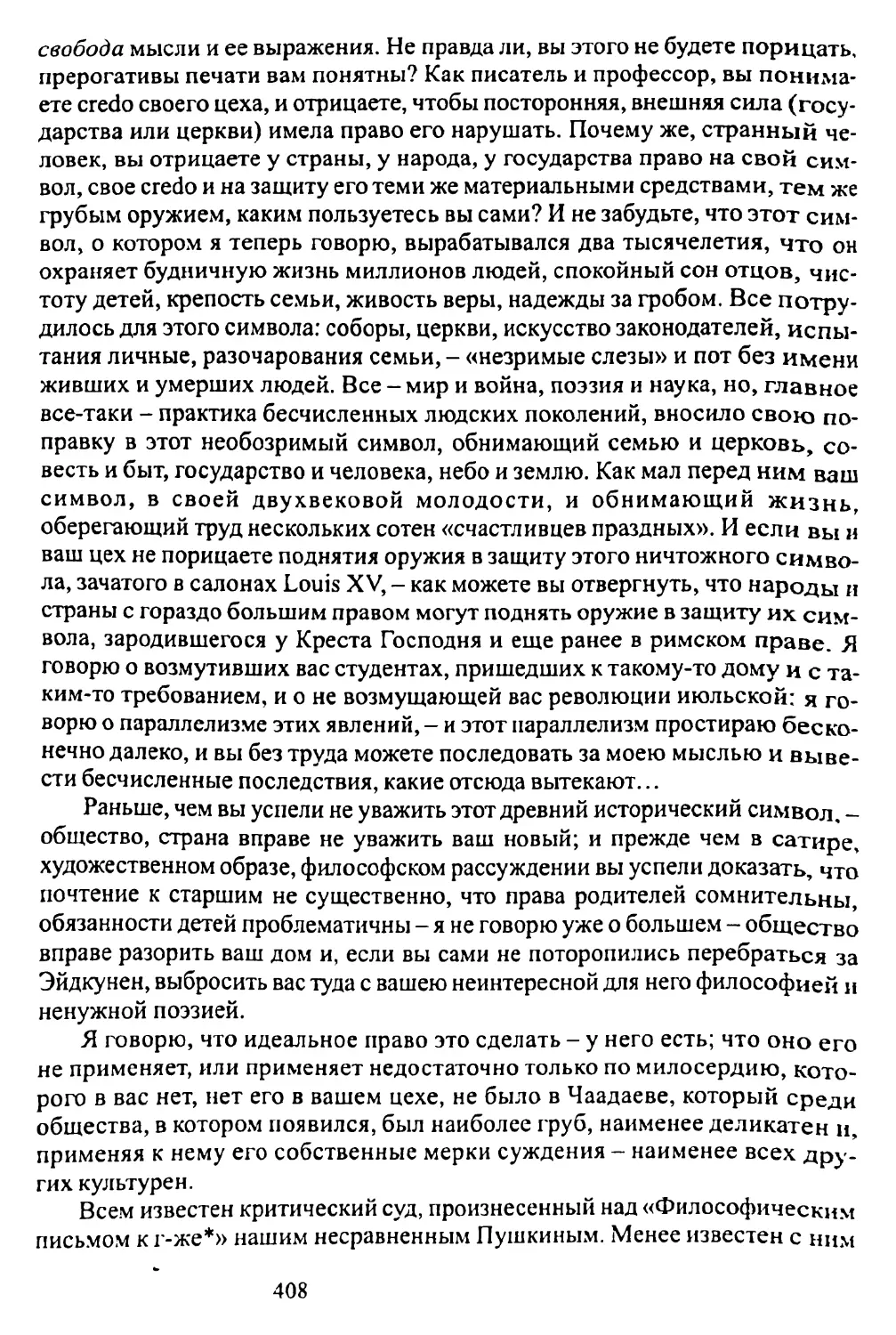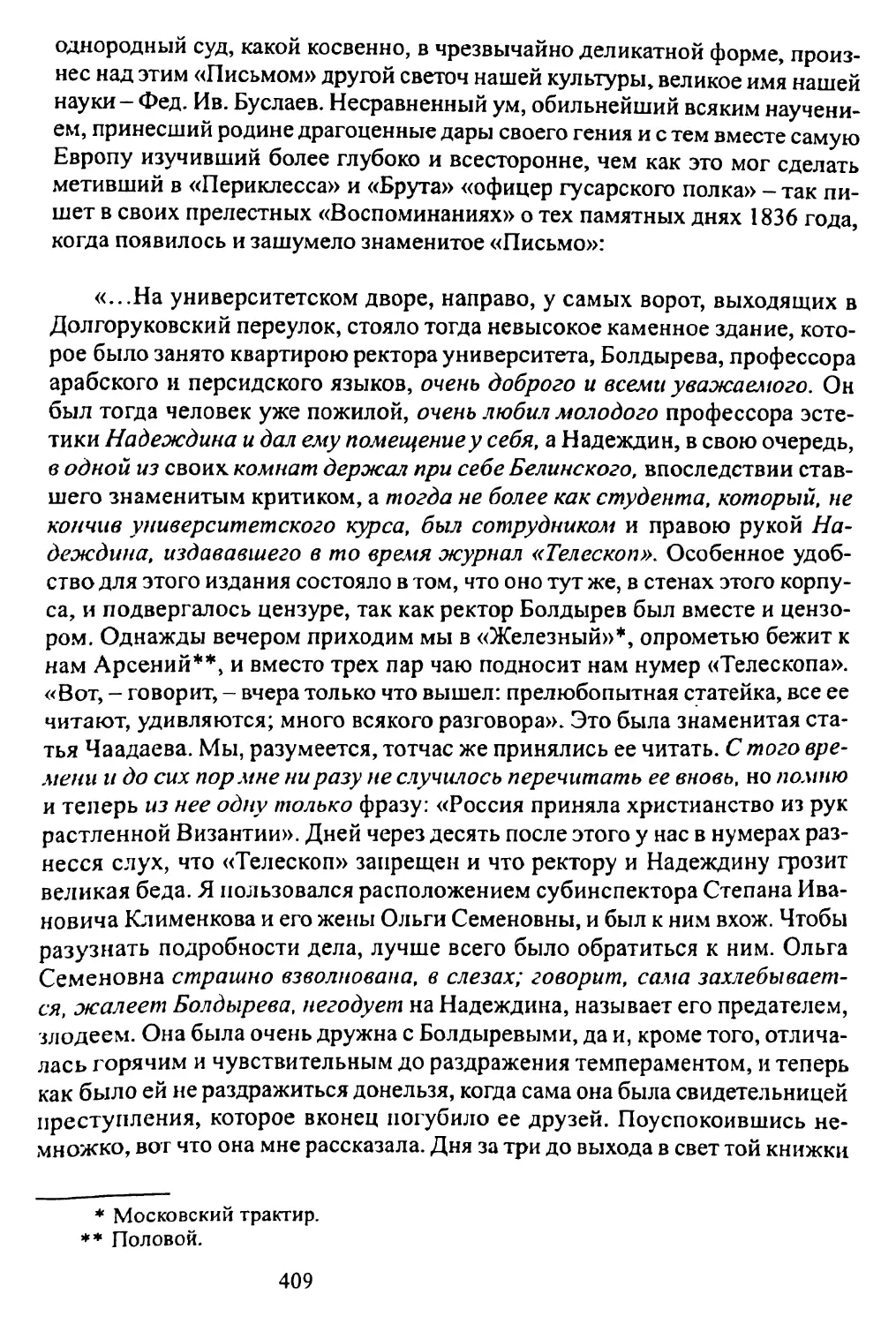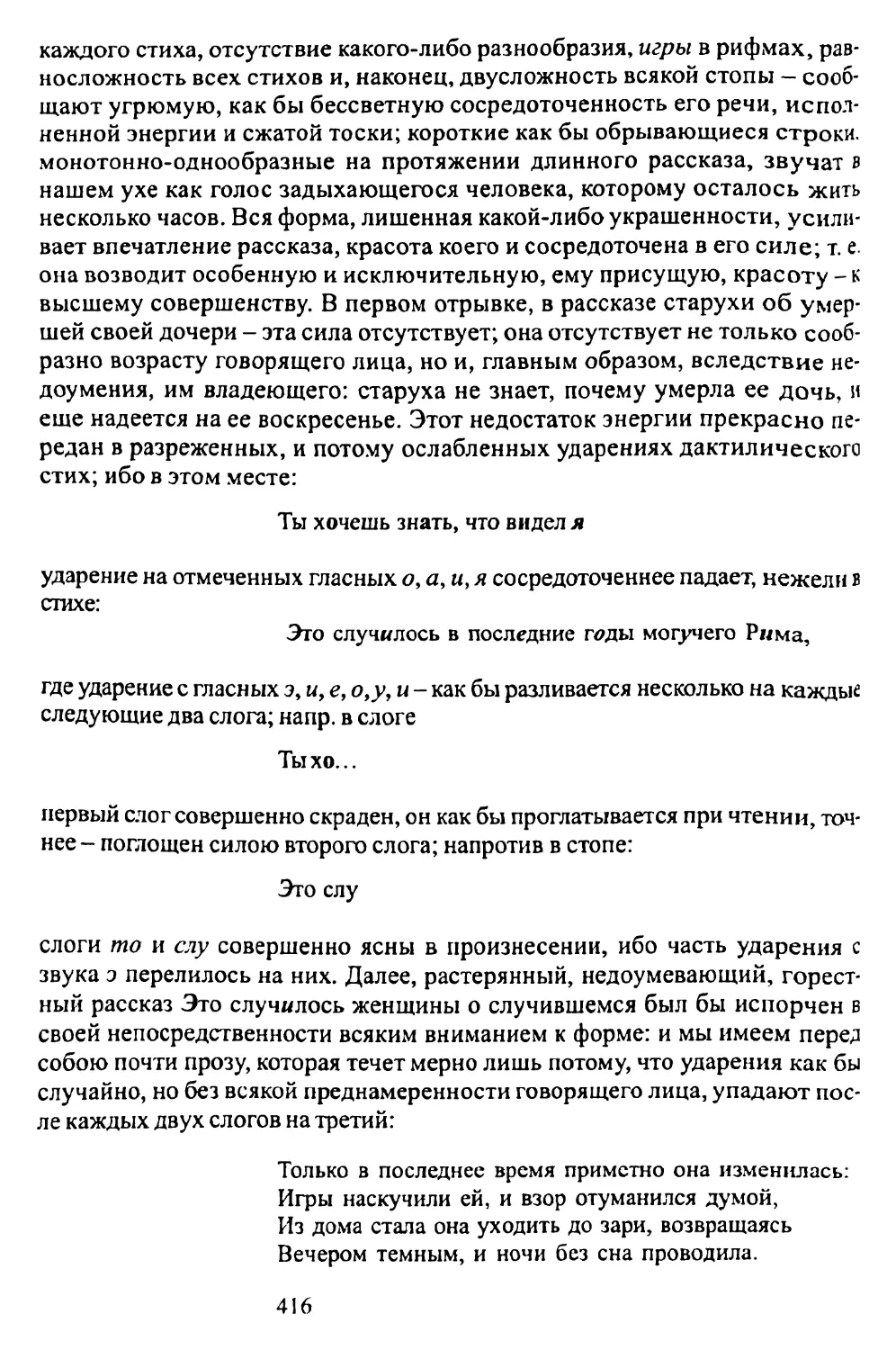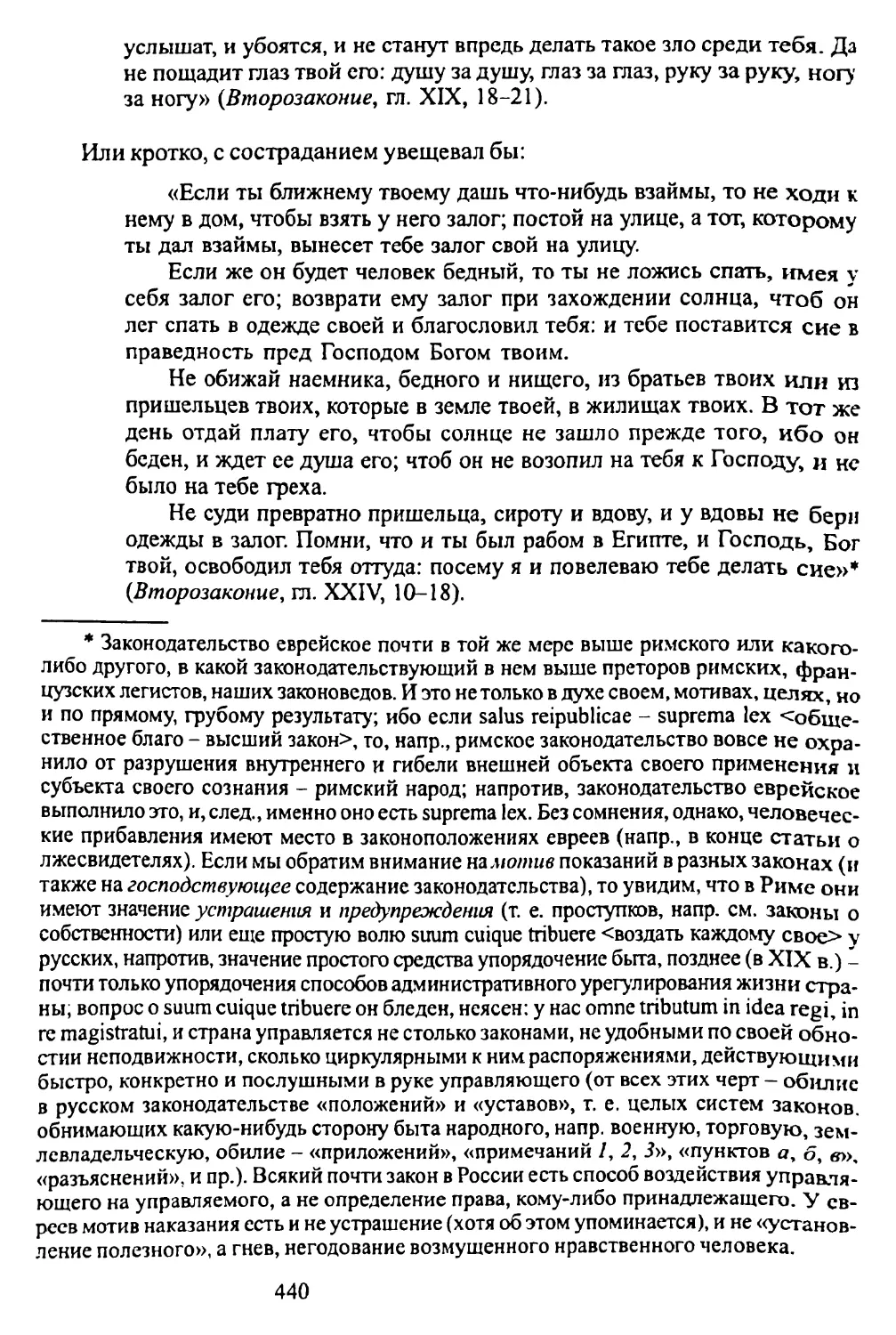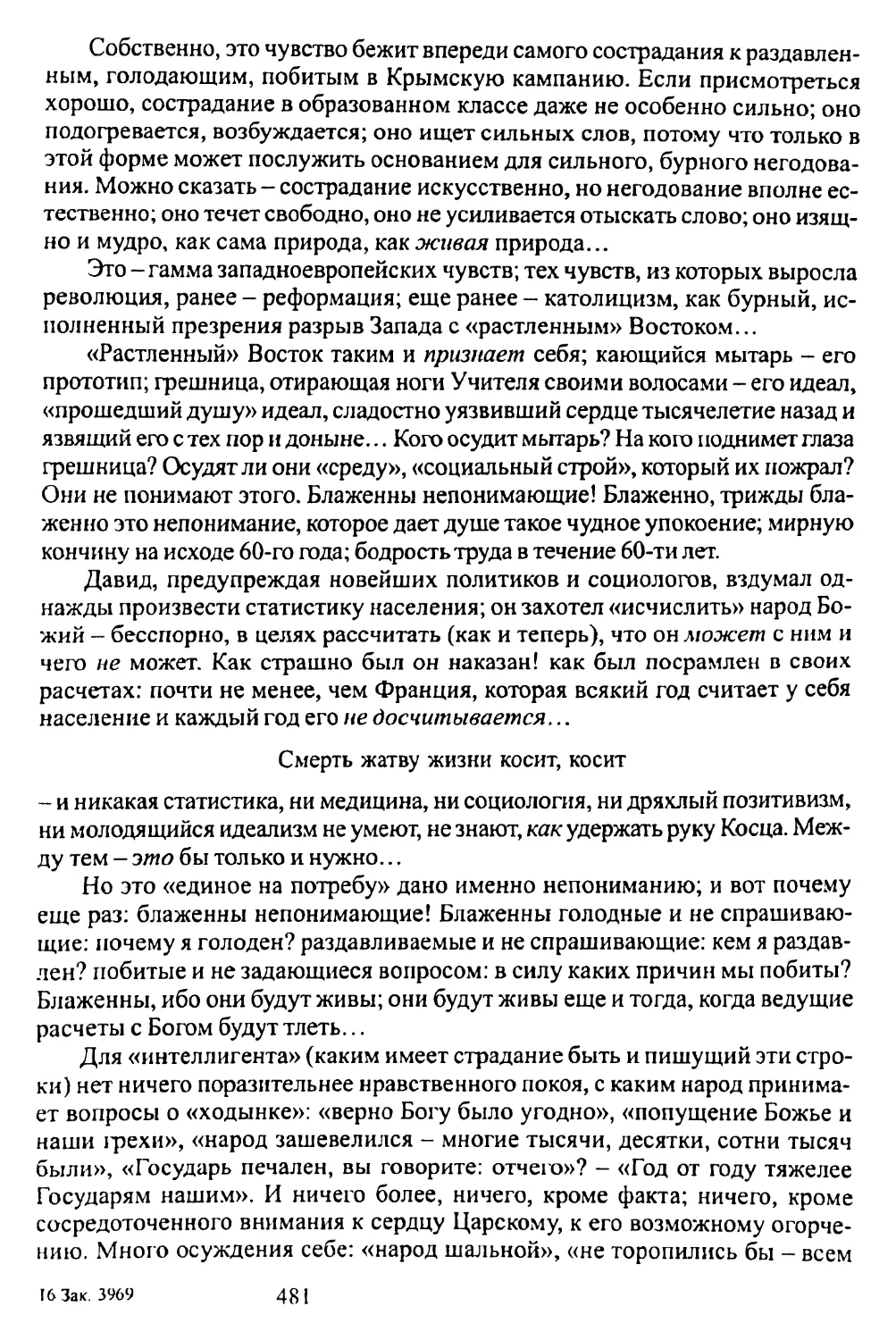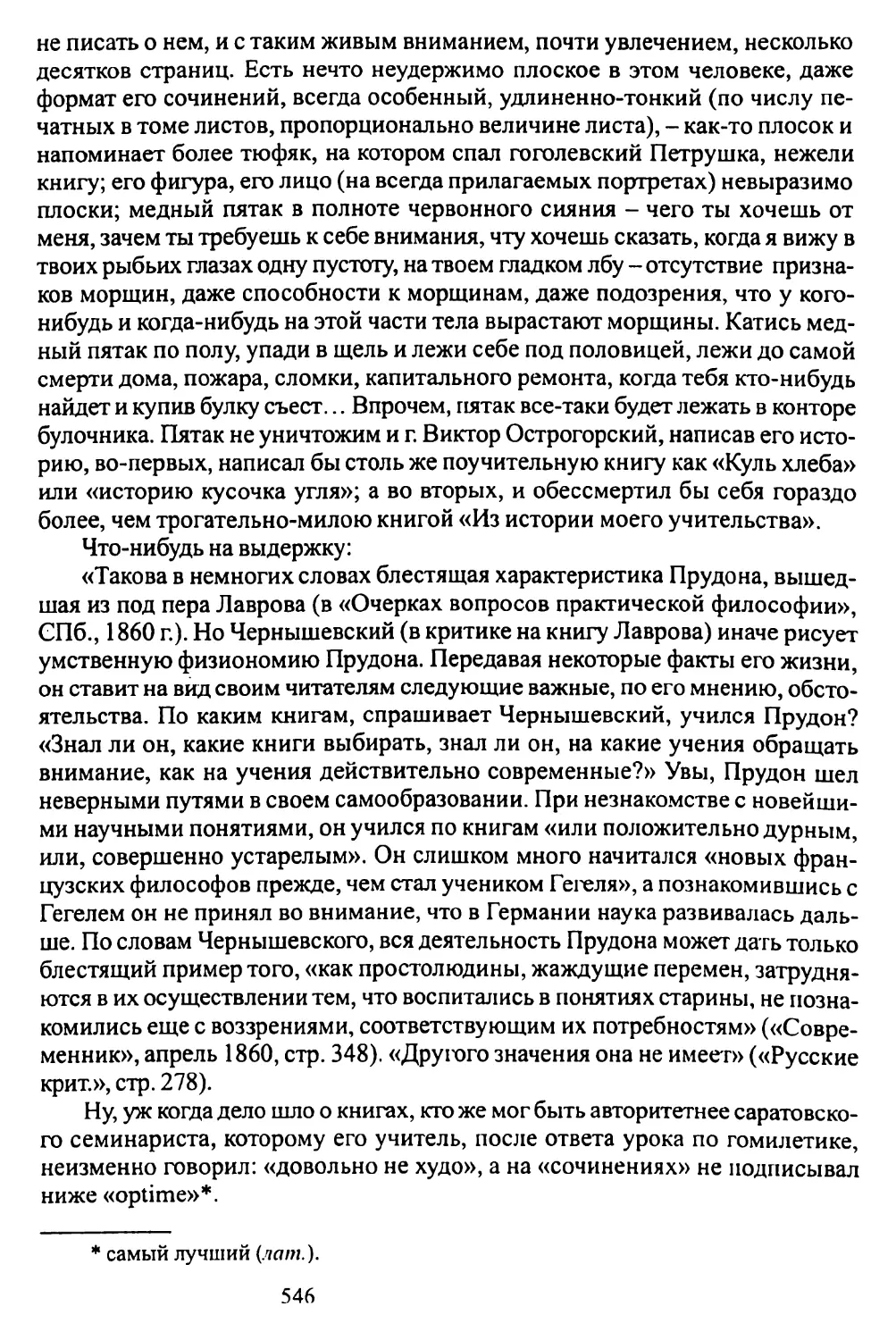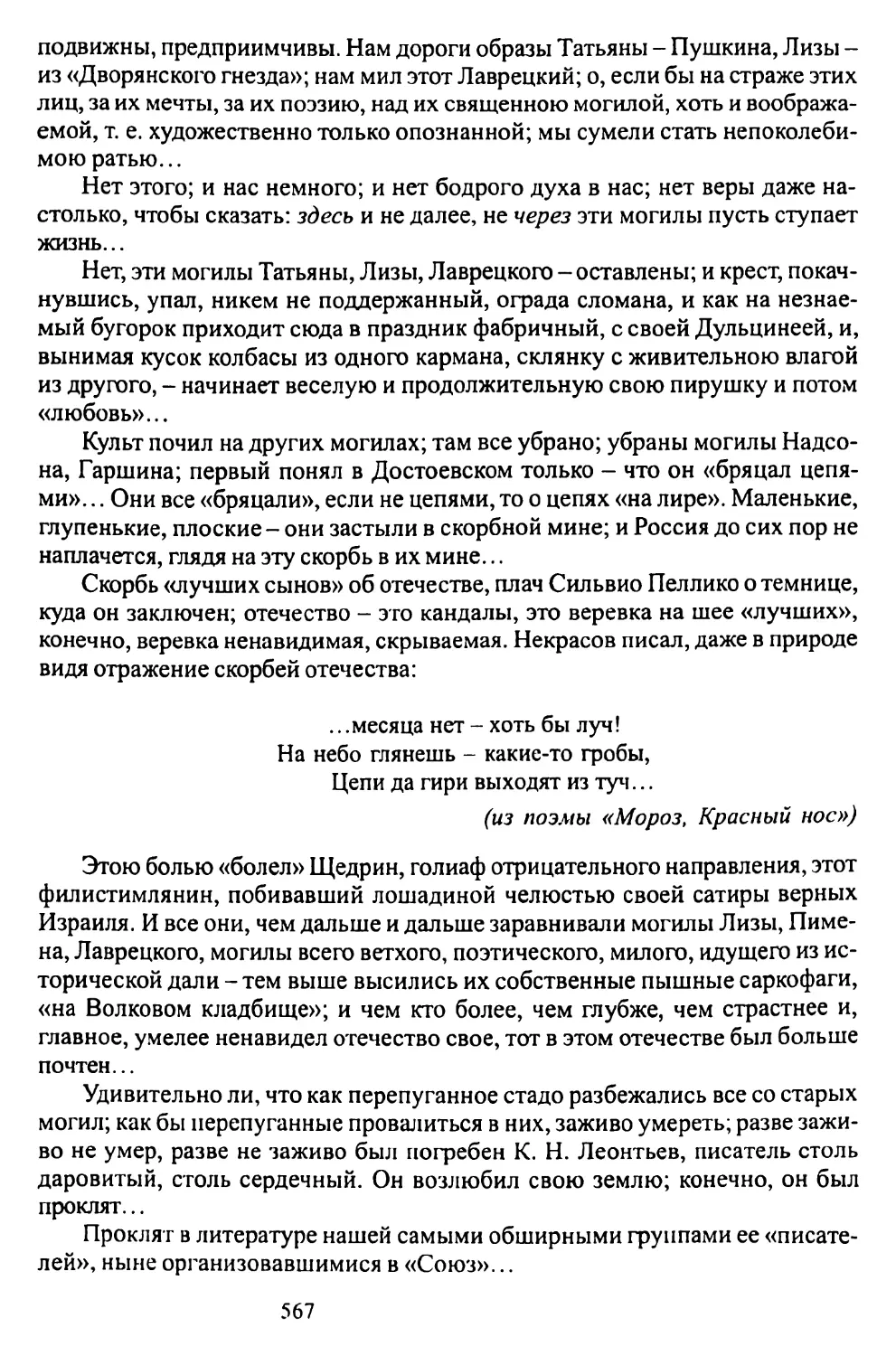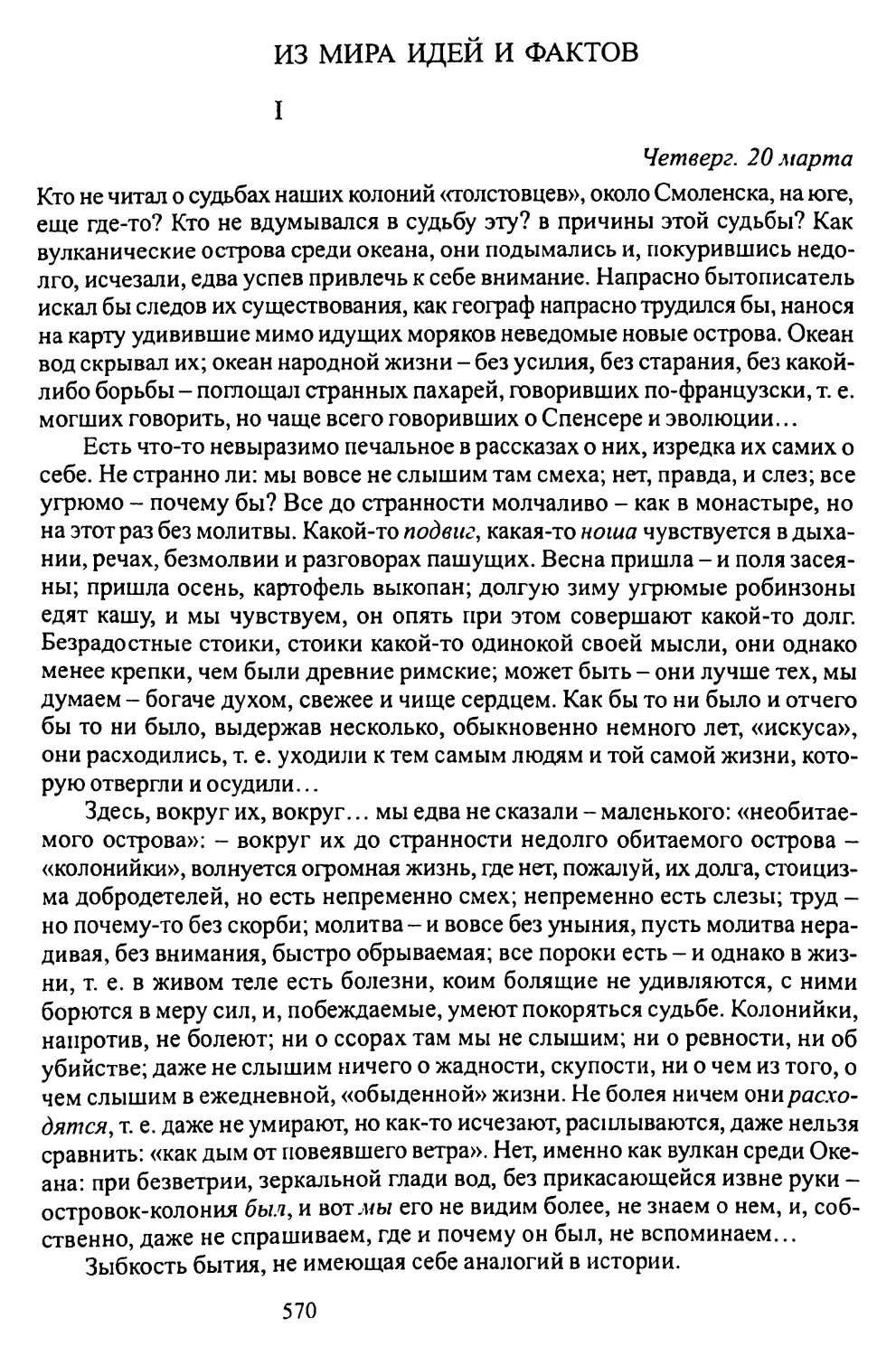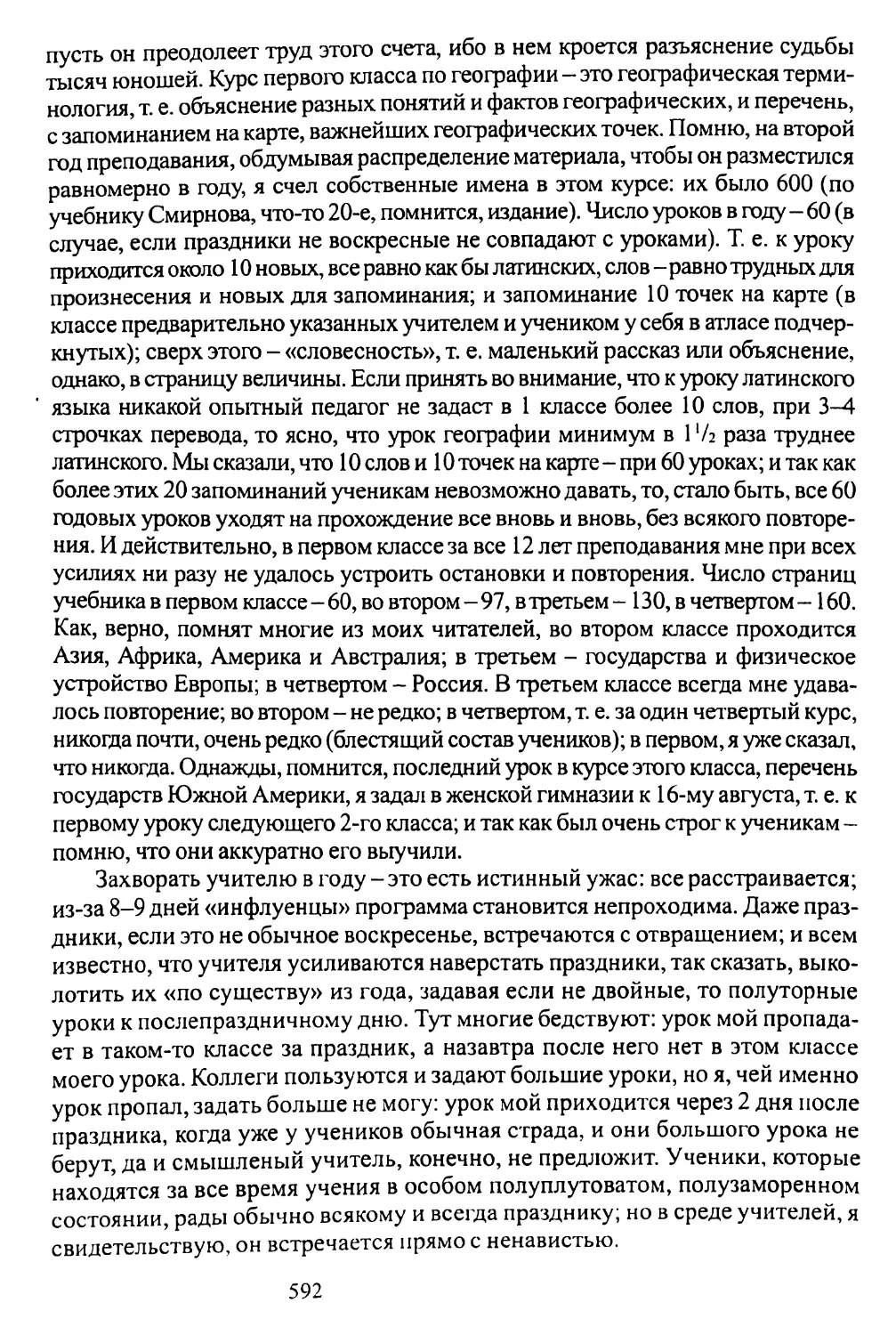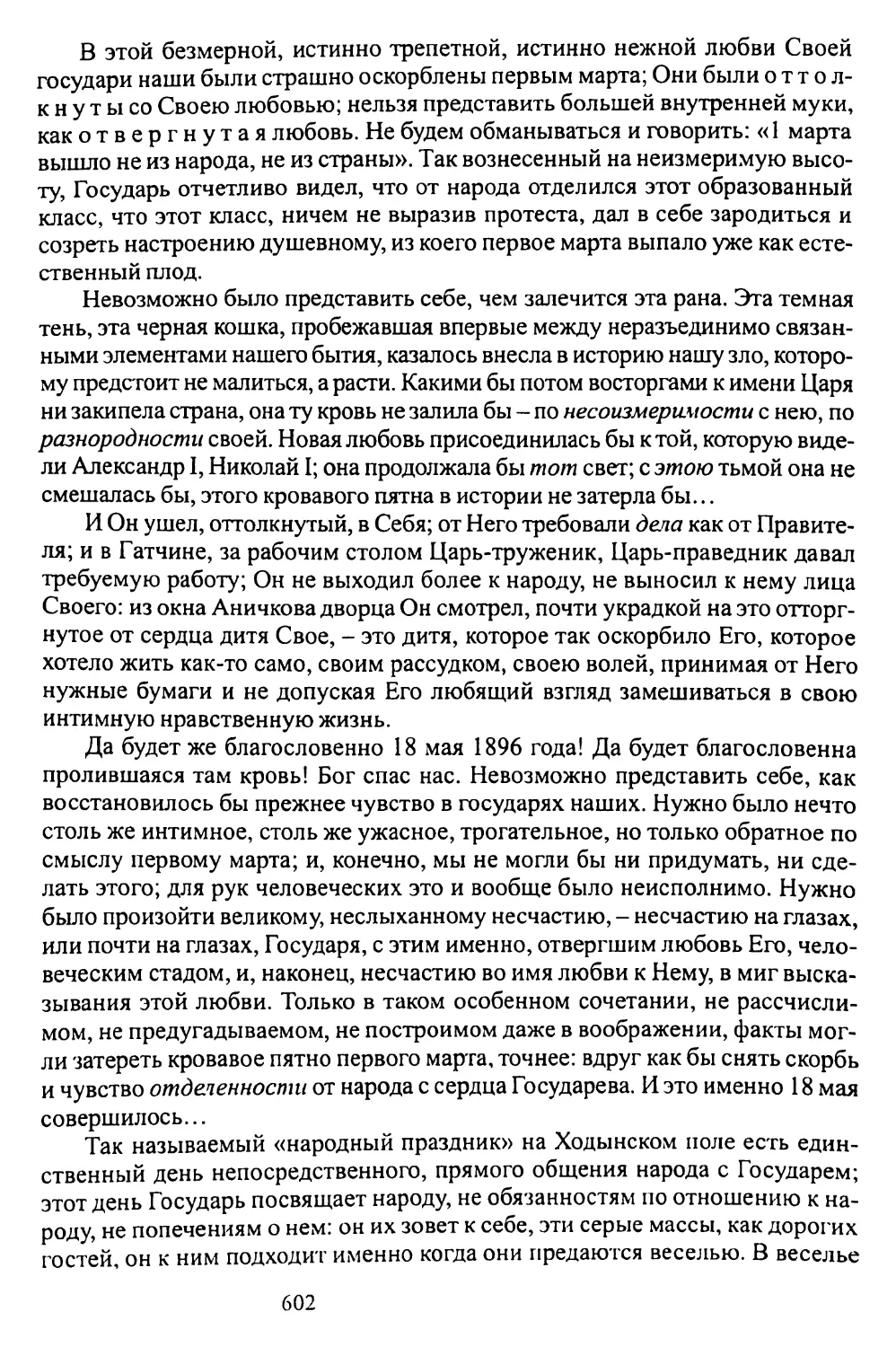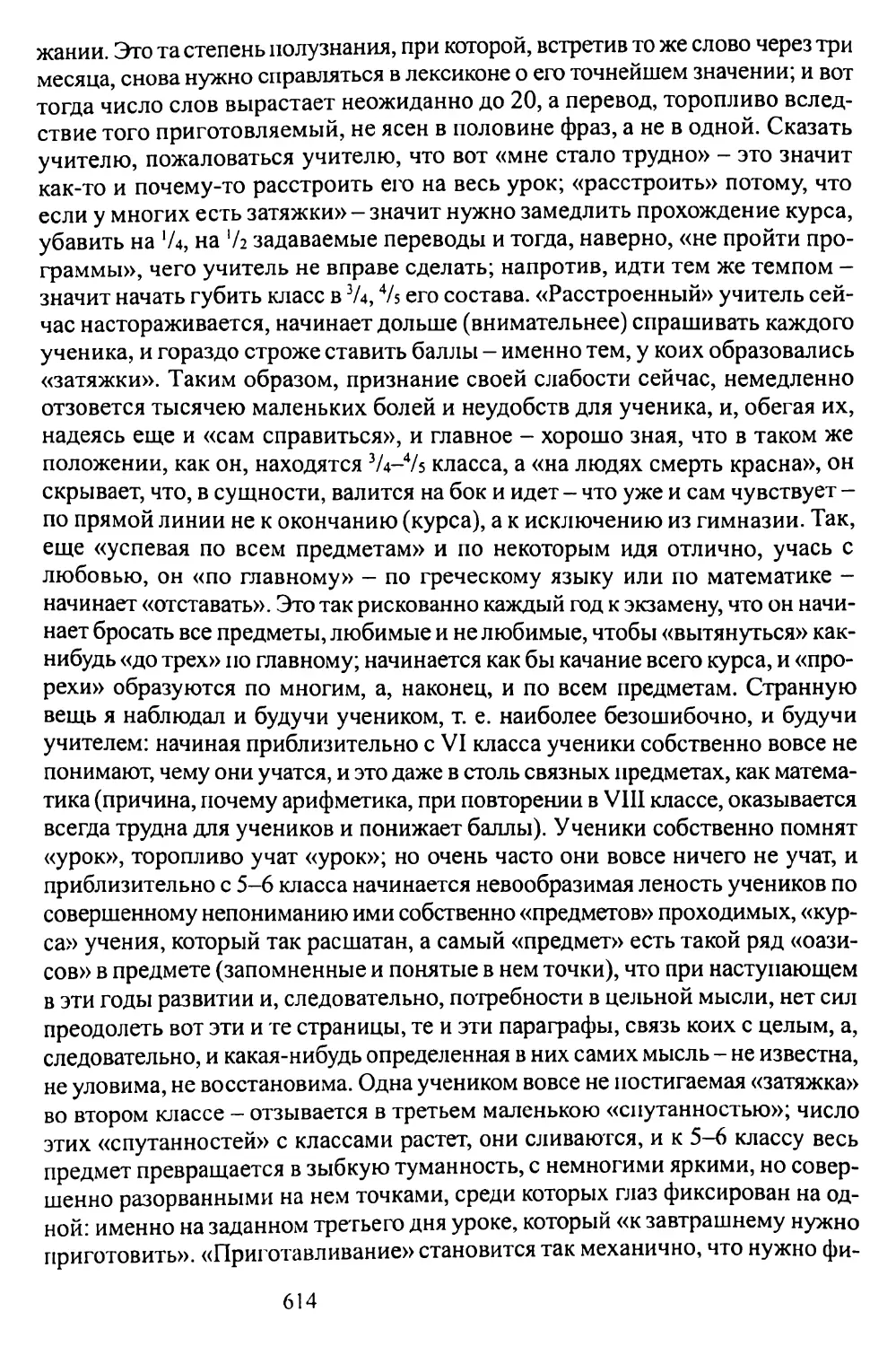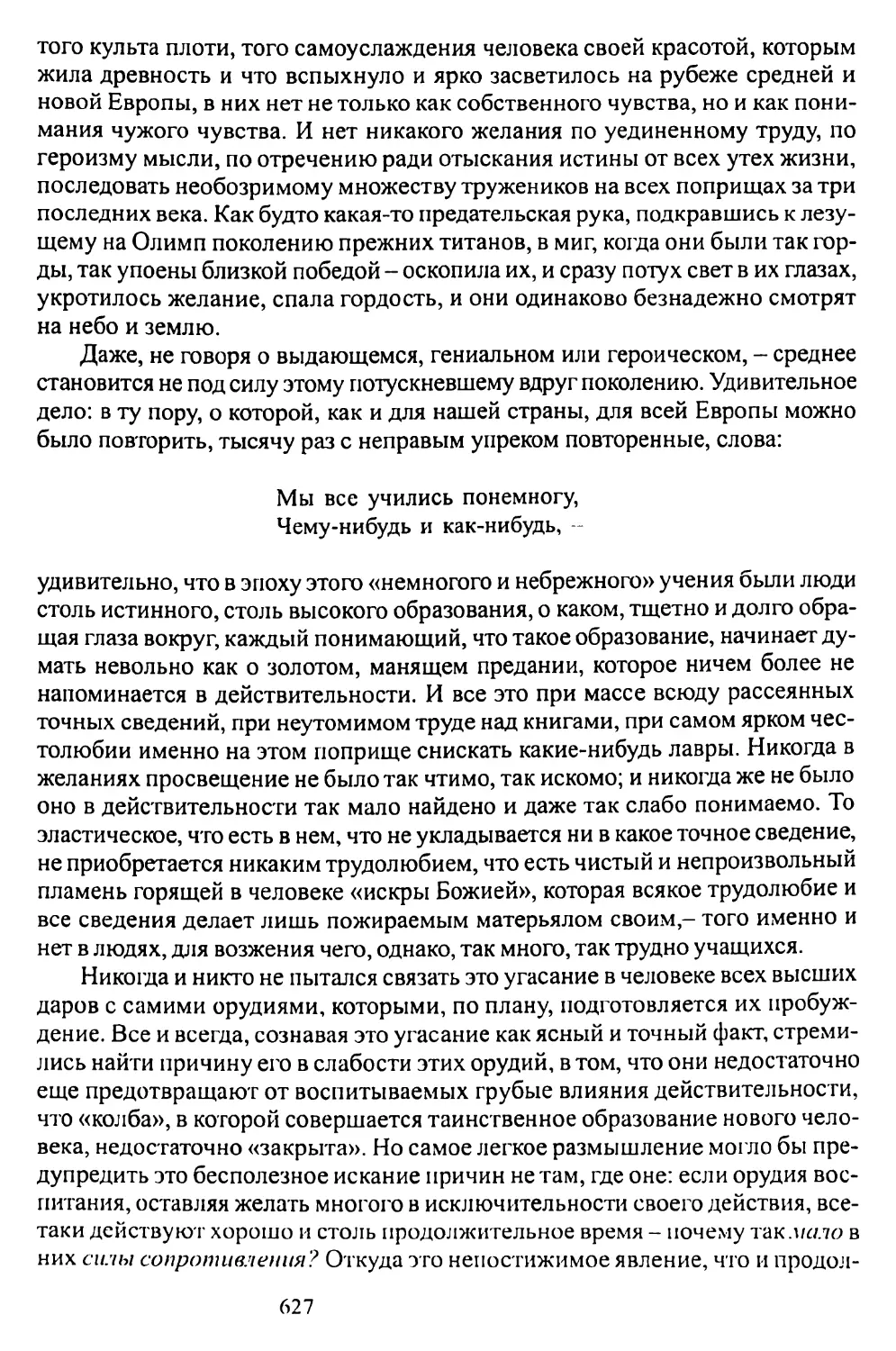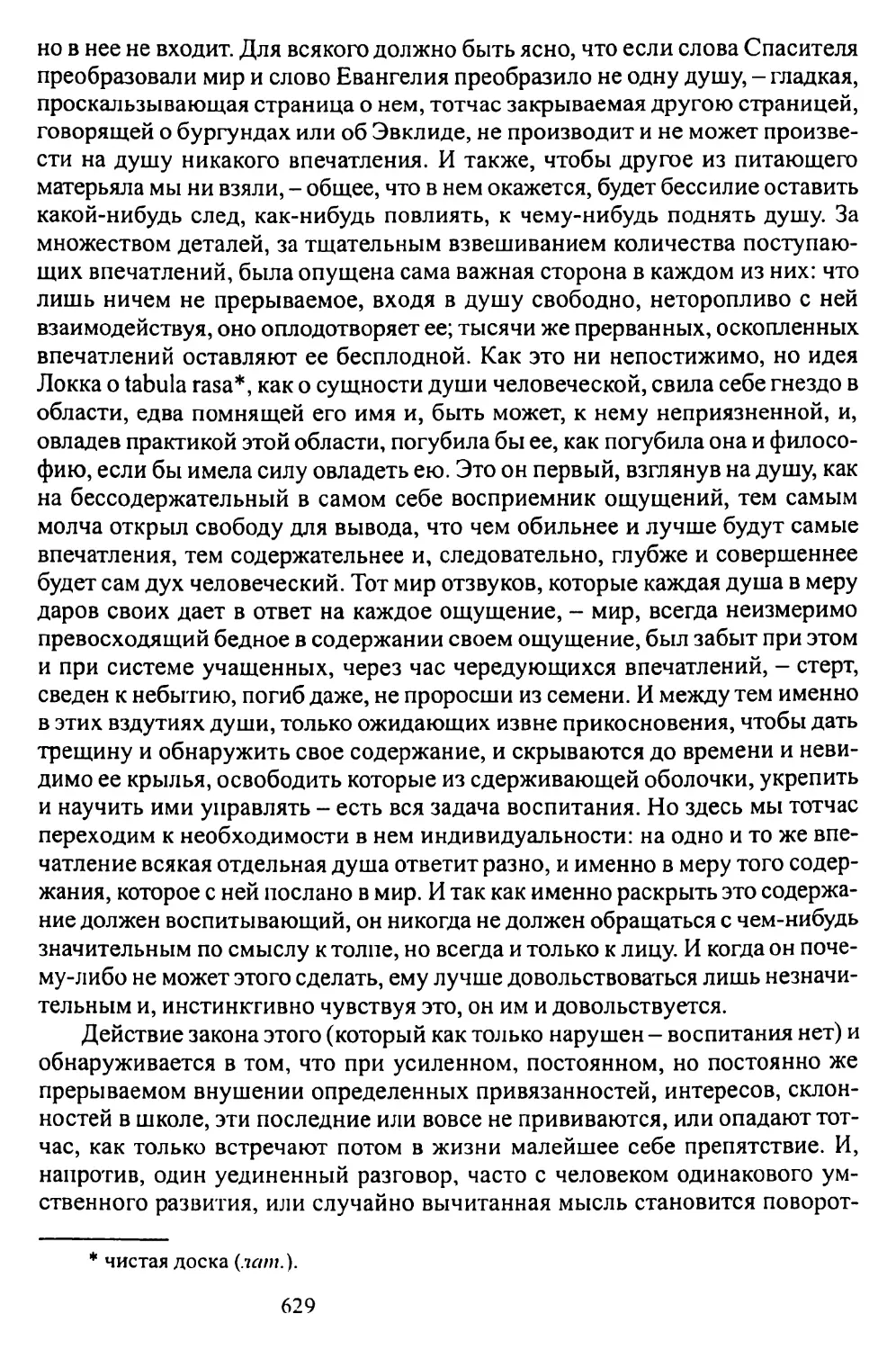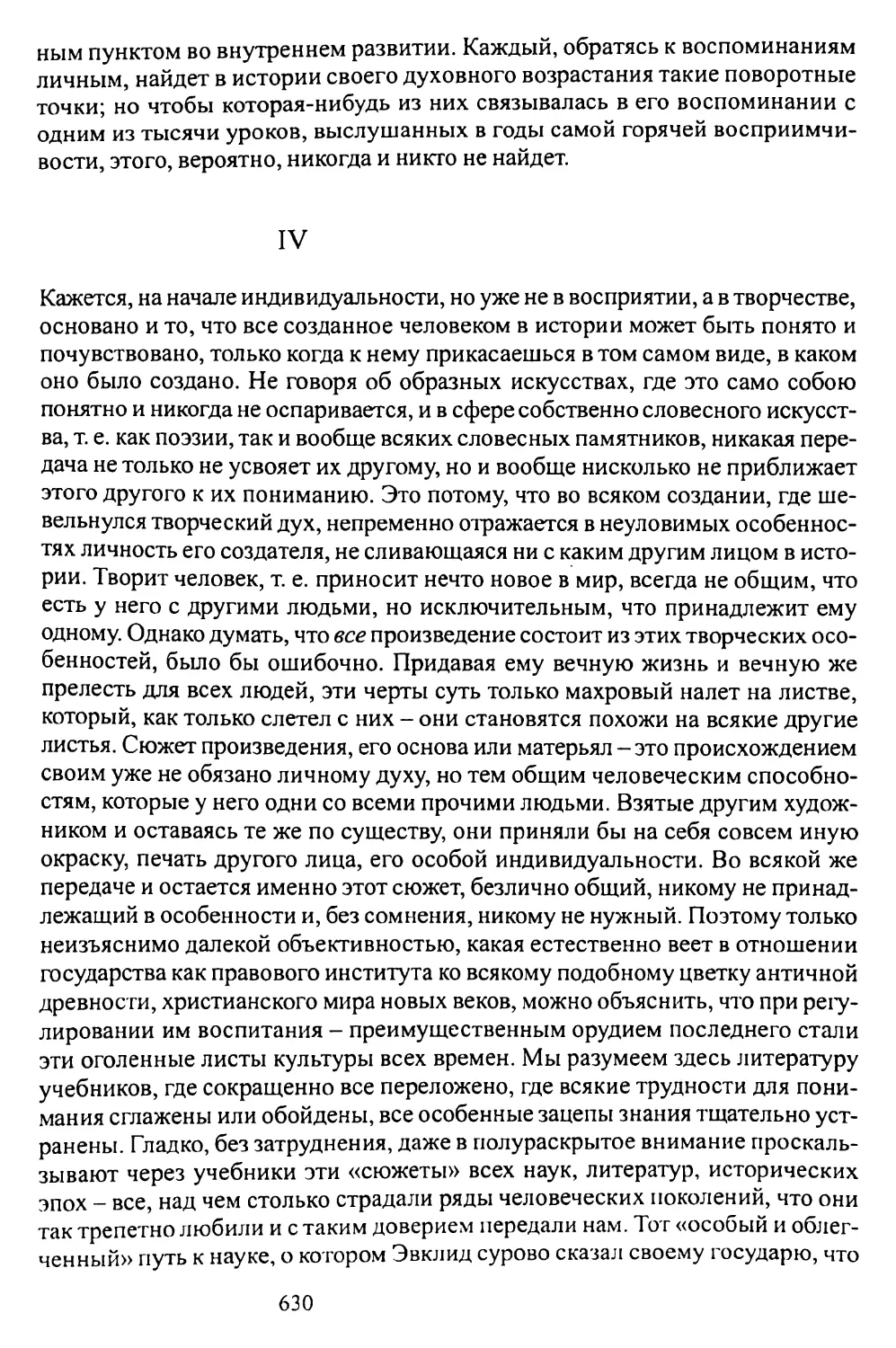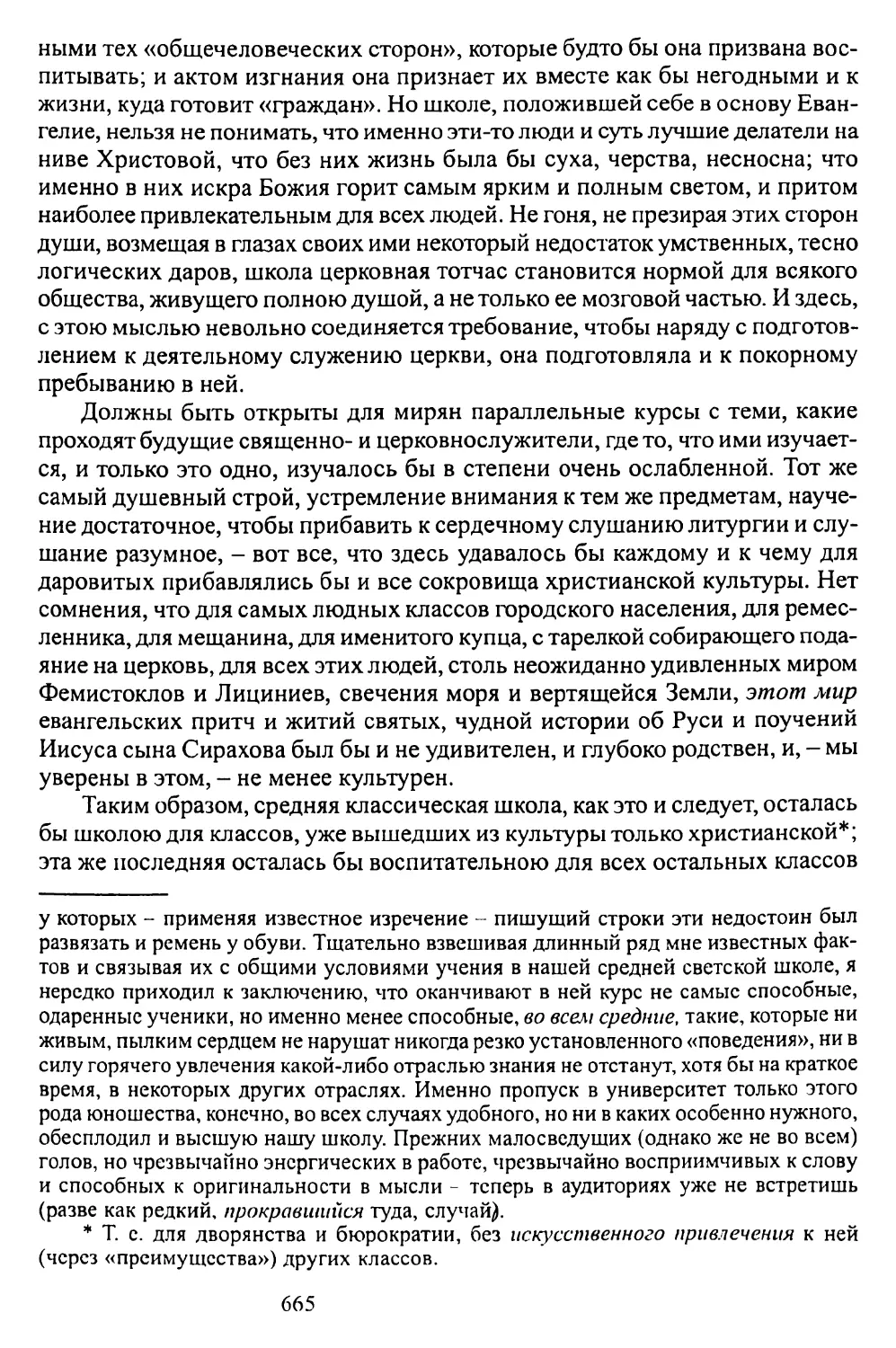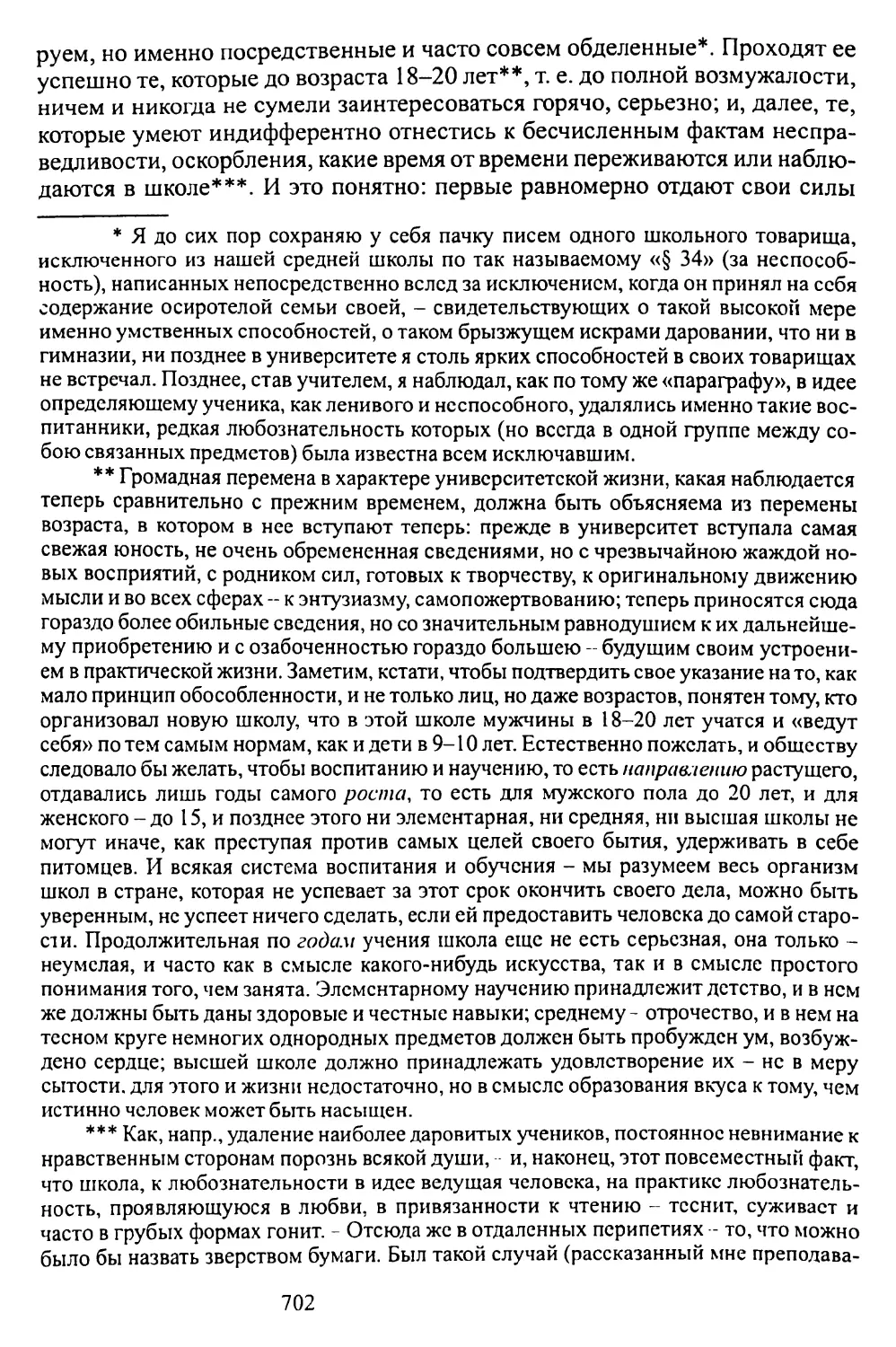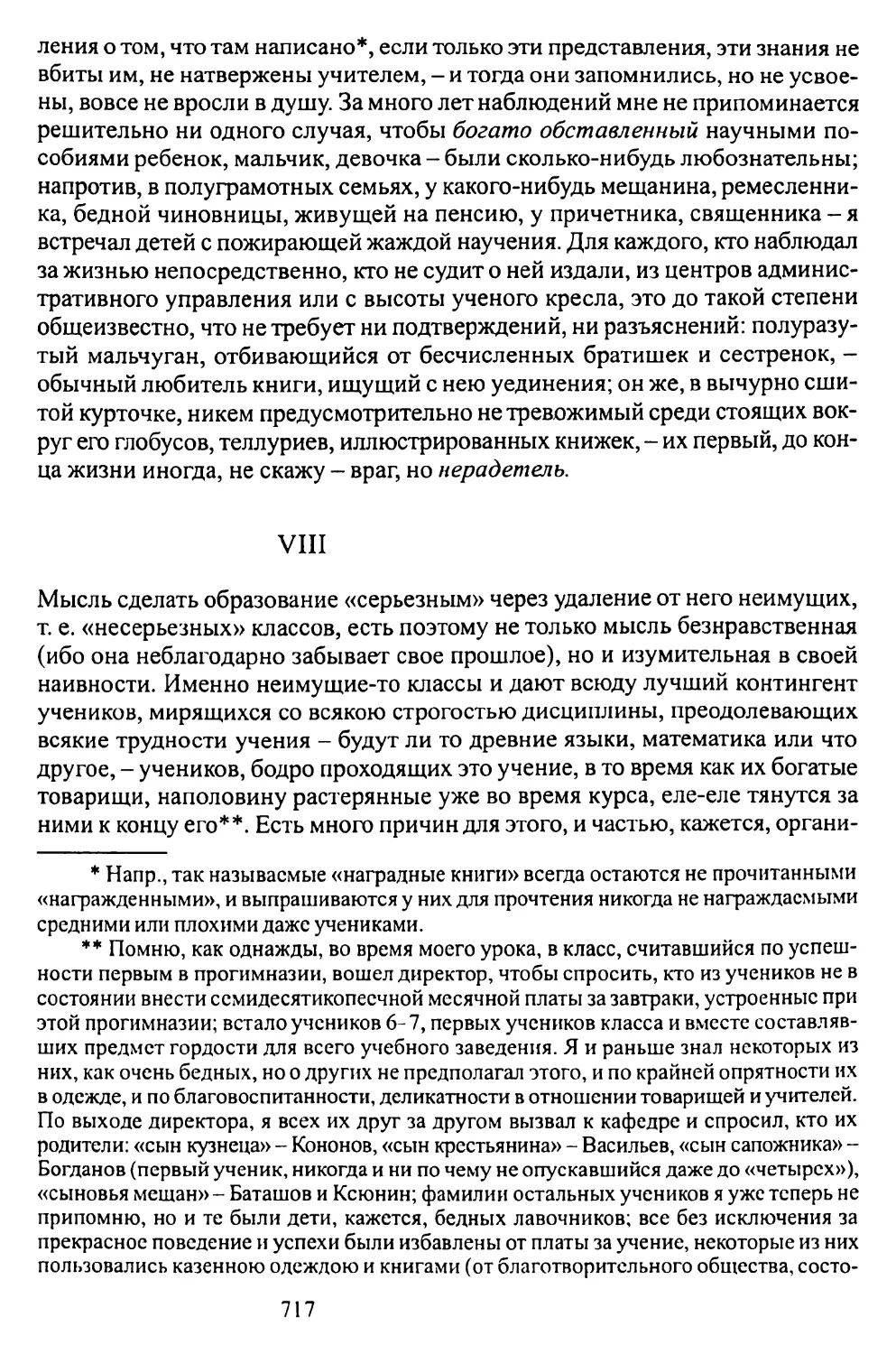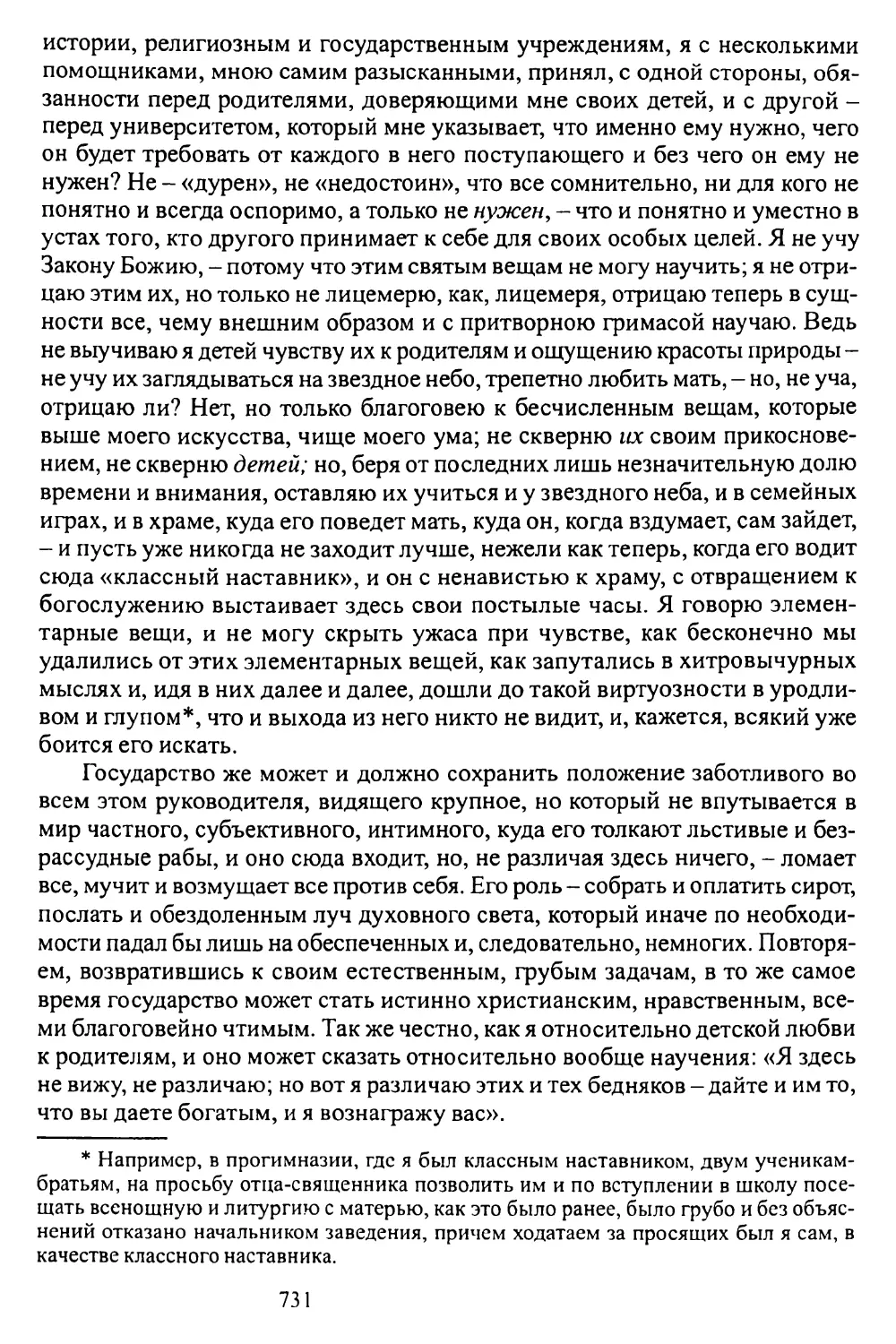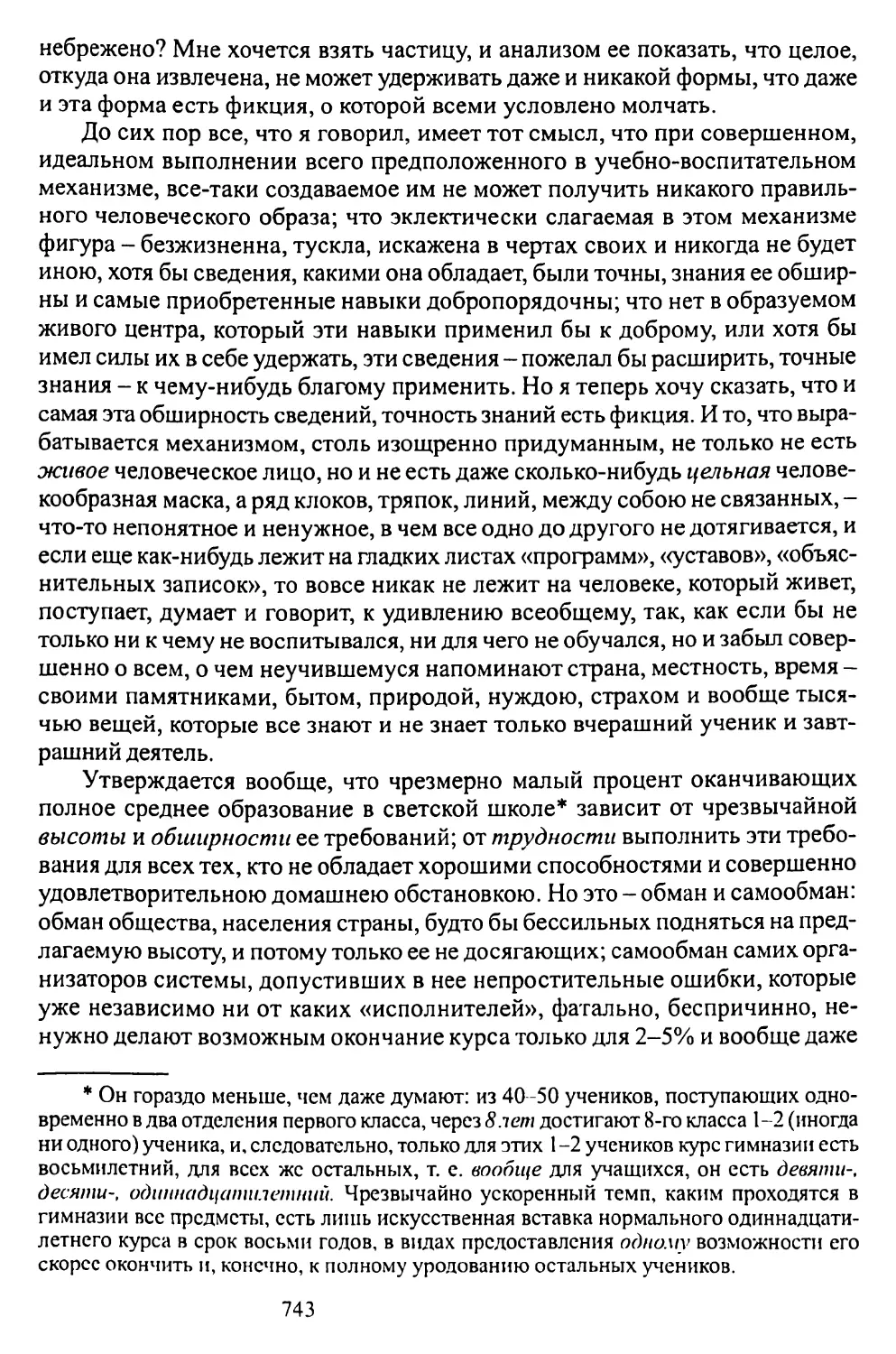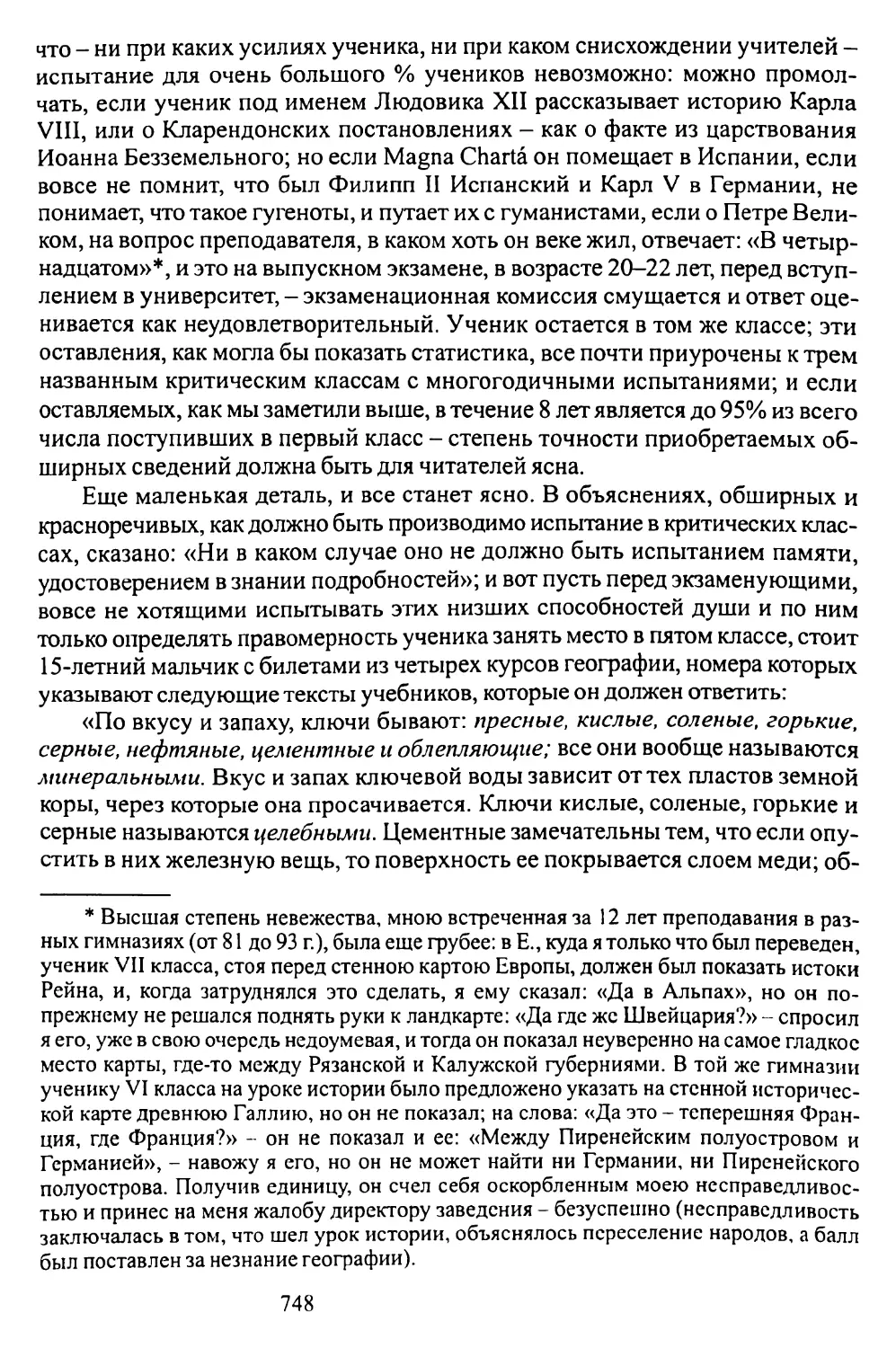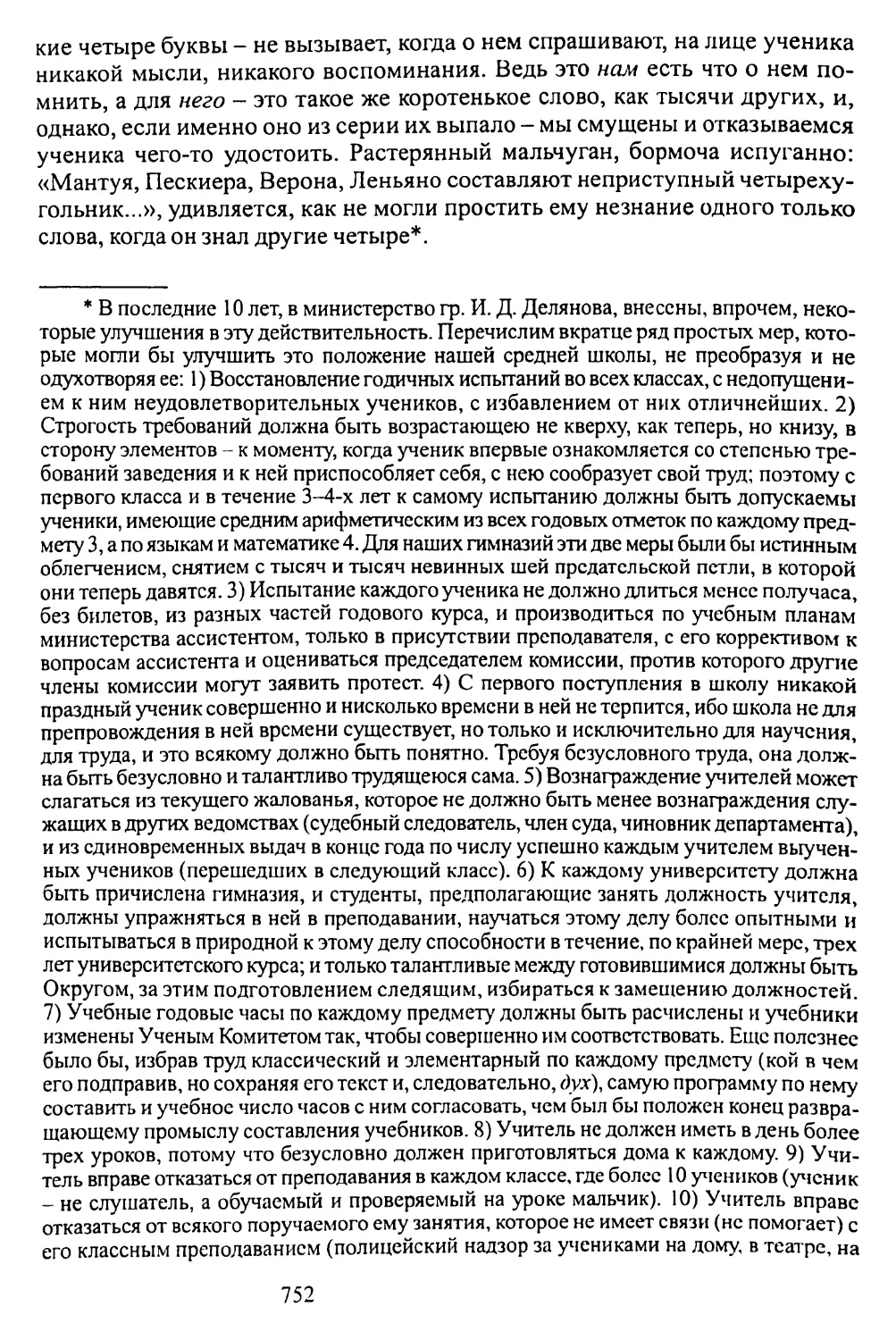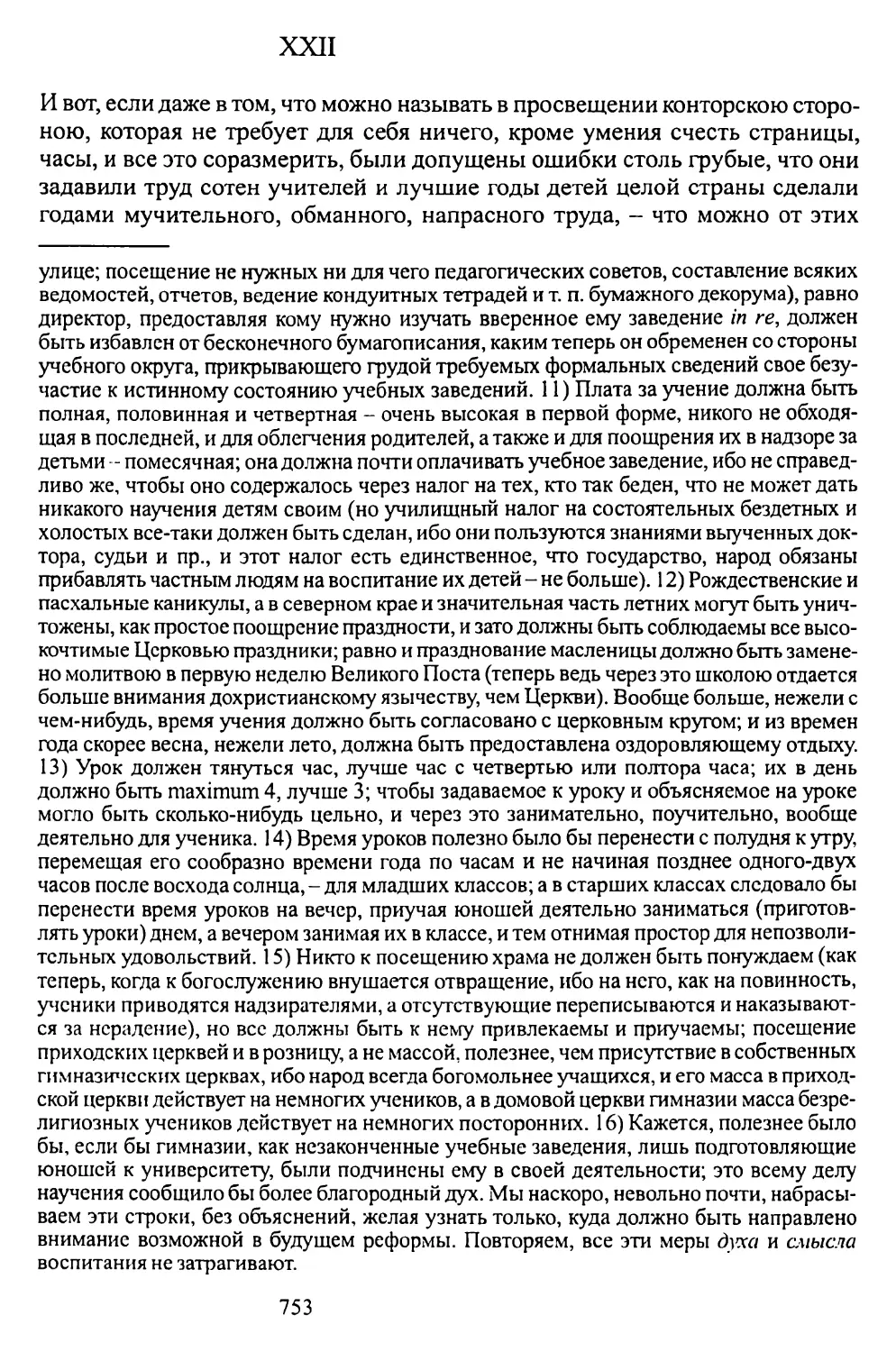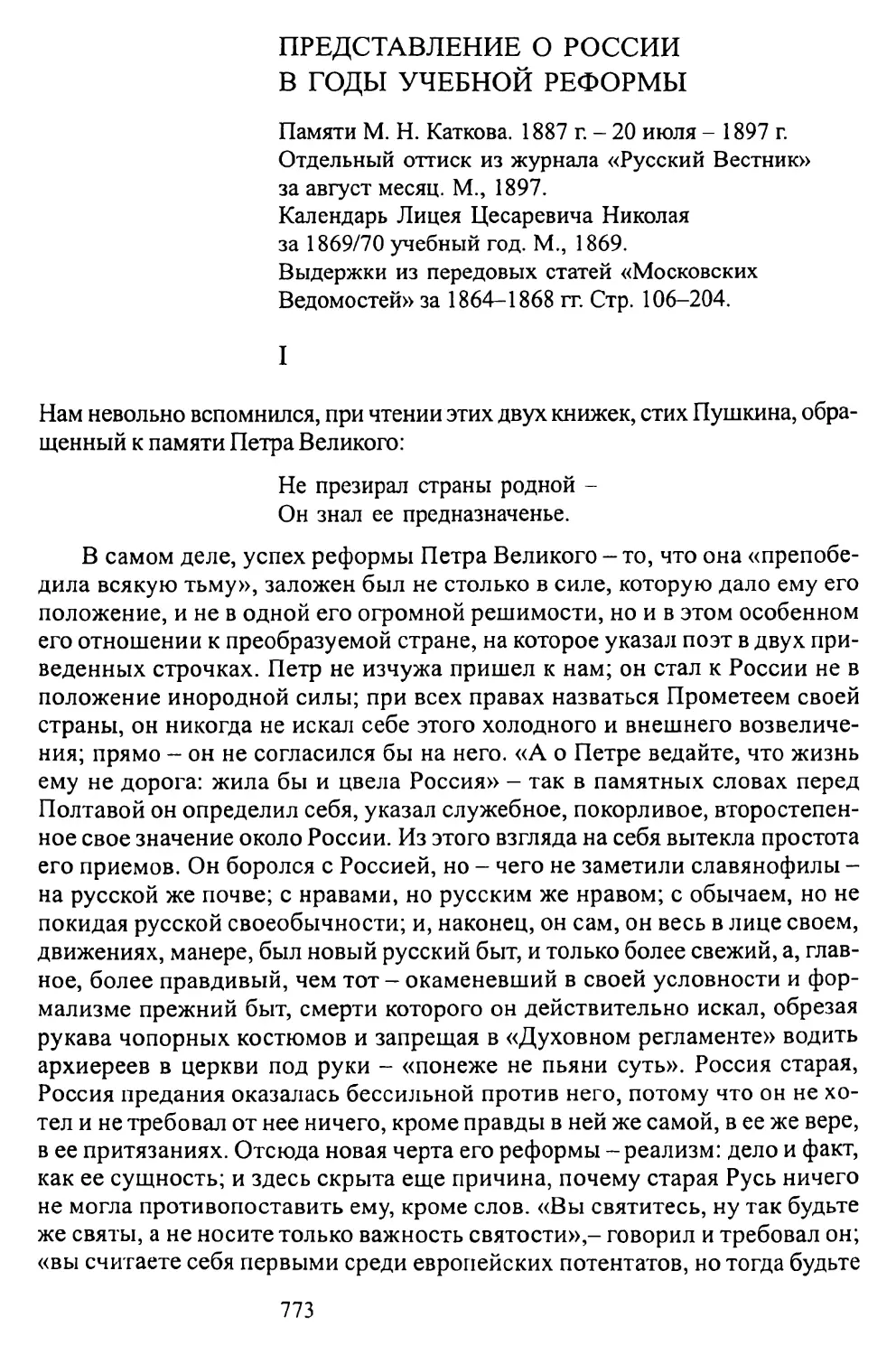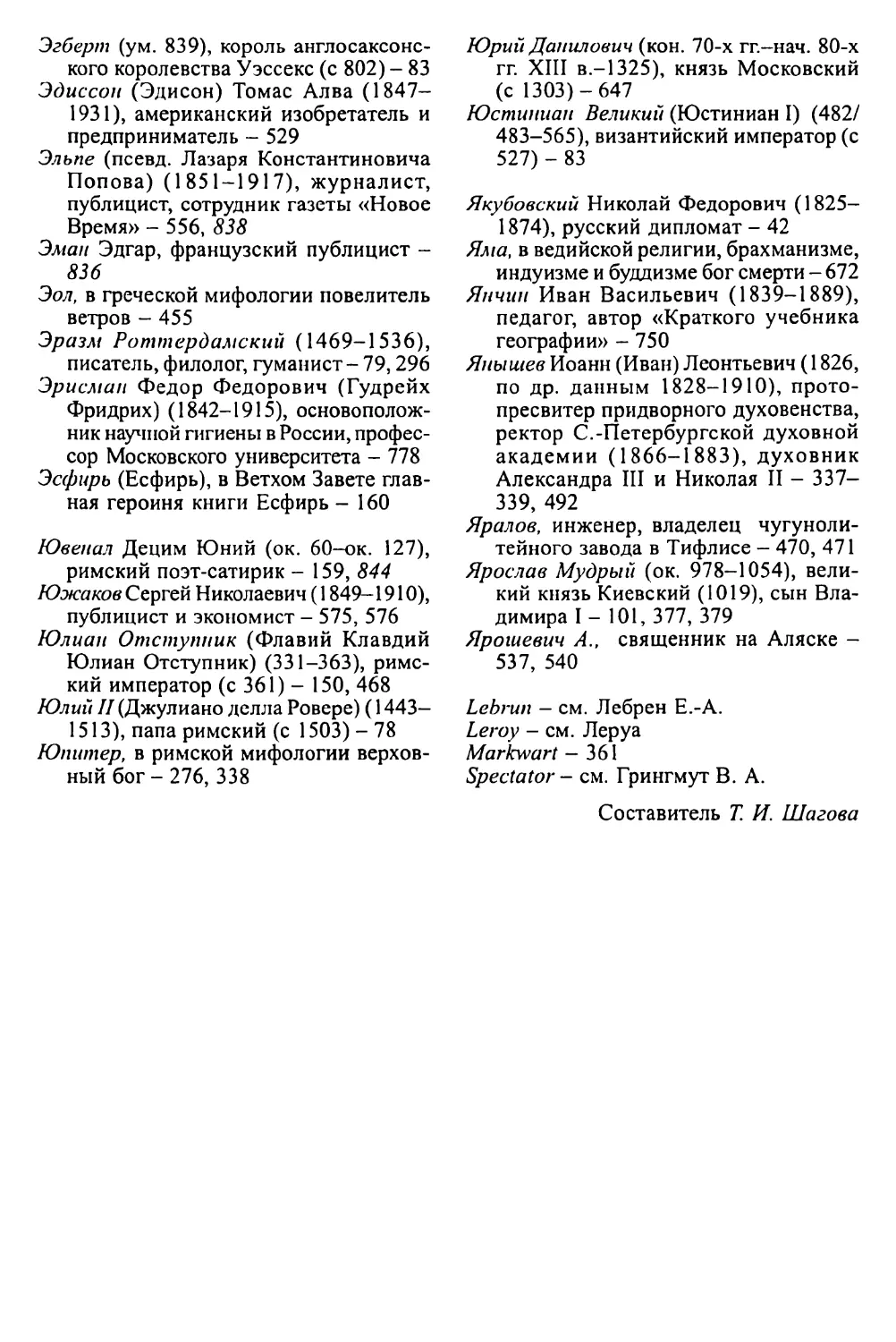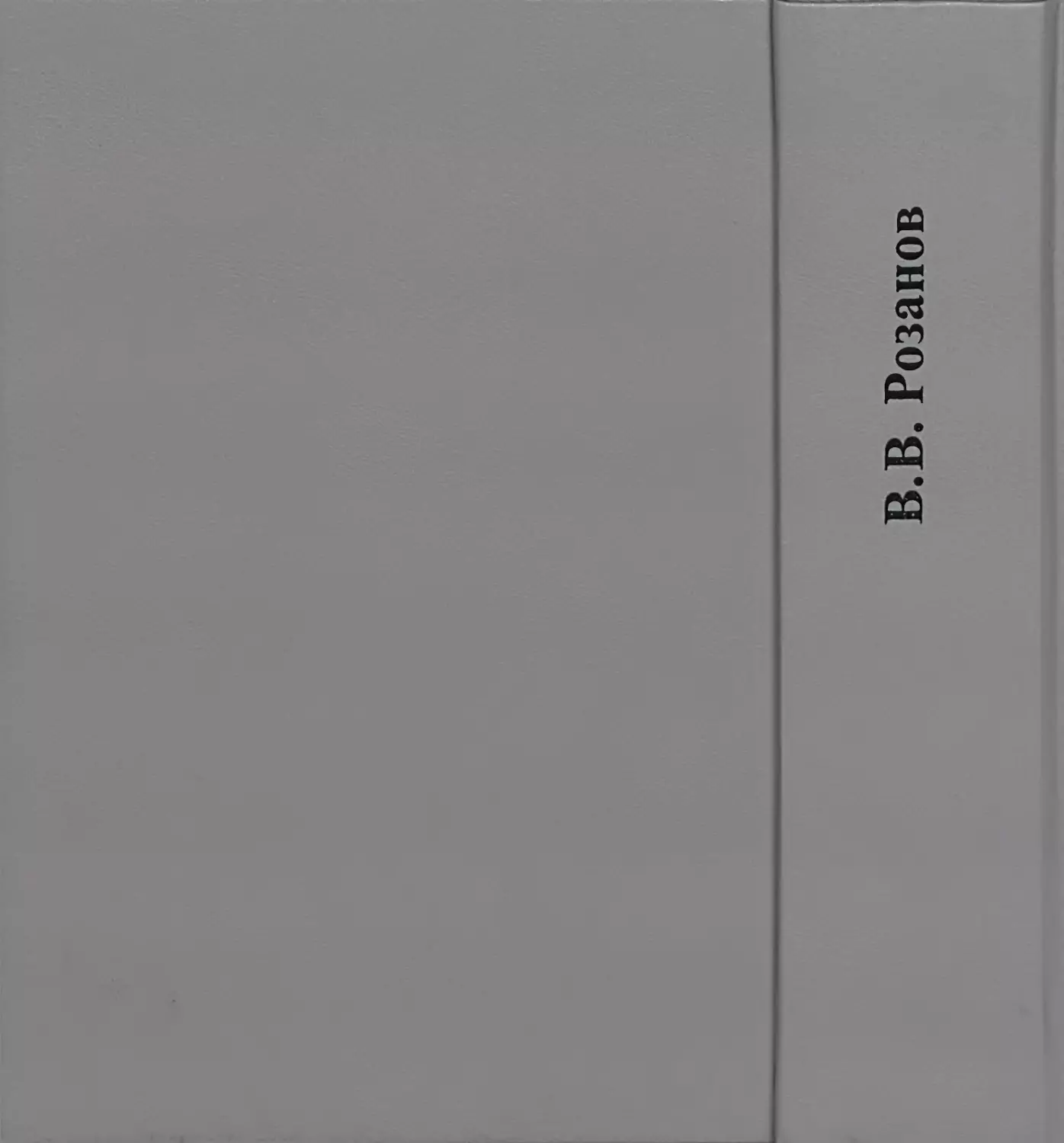Автор: Розанов В.В.
Теги: философия психология история философии поэзия русская литература художественная литература собрание сочинений
ISBN: 978-5-94668-068-4
Год: 2009
Текст
~ ~ ~ Эстетическое
В. В. Розанов
понимание истории
В. В. Розанов В. В. Розанов
В.В. Розанов
В. В. Розанов
Эстетическое понимание
истории
В. В. Розанов
Эстетическое
понимание истории
Эстетическое понимание истории
(Статьи и очерки 1889-1897 гг.)
Сумерки просвещения
...... •—7
В. В. Розанов
В. В. Розанов
Эстетическое
понимание
истории
Эстетическое
понимание истории
(Статьи и очерки 1889-1897 гг.)
Сумерки просвещения
Собрание сочинений
под общей редакцией
A. H. Николюкина
Москва
Издательство «Республика»
Санкт-Петербург
Издательство «Росток»
2009
УДК 1
ББК 87.3
Р 64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, П. П. Апрышко, О. В. Быстровой
Комментарии О. В. Быстровой
Проверка библиографии В. Г. Сукача
Указатель имен Т И. Шаговой
Розанов В. В.
Р64 Собрание сочинений. Эстетическое понимание истории
(Статьи и очерки 1889-1897 гг.). - Сумерки просвещения /
Под общ. ред. А. Н. Николюкина. Сост. А. Н. Николюкина,
П. П. Апрышко, О. В. Быстровой; коммент. О. В. Быстровой.—
М.: Республика, СПб., Росток, 2009. - 878 с.
ISBN 978-5-94668-068-4
Настоящий 28-й том Собрания сочинений В. В. Розанова состав-
ляют ею статьи и очерки 1889 1897 гг. и одна из известных книг писа-
теля «Сумерки просвещения» (1899), посвященная проблемам обра-
зования в России, ставшими столь острыми в наше время - введения
формально-бездуховного ЕГЭ, фактически отменившего преподава-
ние литературы в школе. Впервые публикуются некоторые работы
Розанова из его рукописного наследия.
Для всех, кто интересуется русской литературой, философией
и культурой.
ББК 87.3
© Издательство «Республика», 2009
© Издательство «Росток», 2009
ISBN 978-94668-068-4 © д. Н. Николюкин. Составление, 2009
1889 год
ОТРЕЧЕНИЕ ДАРВИНИСТА
В майской, июньской и июльской книжках «Русской Мысли» профессор
К. Тимирязев продолжает защищать теорию Дарвина, не замечая, что право
на эту защиту он утратил уже в самом начале предпринятой им полемики. В
словах, которые могут считаться наиболее ясным и определенным изо всего,
что было им высказано в жару спора, он признал дарвинизм теорией невоз-
можною. Мы приведем эти замечательные слова, вдумавшись в которые с
бульшим вниманием нежели с каким он написал их, профессор Тимирязев,
вероятно, сам сознает, что дело им принятое на себя безвозвратно потеряно.
Вопрос идет о нивелирующем влиянии скрещивания, о невозможности
при нем сохранения индивидуальных изменений, которые, по Дарвину, служат
исходною точкой и основанием образующихся форм в органическом мире.
Эти индивидуальные изменения, утверждал он, появляясь во всевозмож-
ных направлениях и случайно, либо способствуют сохранению особей, когда
бывают в каком-нибудь отношении для них полезны, либо ведут к их гибели в
борьбе за существование, когда они или вредны, или безразличны, или вовсе
отсутствуют. Полезное изменение, раз возникшее и укрепившееся, в после-
дующие времена может сложиться с другим подобным же, которое в ряду
всевозможных изменений может повториться снова и, таким образом, все
возрастая, повести к образованию сперва разновидности, потом вида и т. д.
Возражая против дарвинизма, покойный Н. Я. Данилевский указал, что
при неустраненности скрещивания в природе первоначальное индивидуаль-
ное изменение не только не может возрасти чрез сложение с подобными же
изменениями, потом возникающими, но даже и сохраниться в своей перво-
начальной, чистой форме. Уже при первом скрещивании благоприятно из-
мененной особи с неизменною, в нарождающемся потомстве сохранится
только 41 первоначального изменения, при втором 'Л, при третьем % и т. д.,
пока, все умаляясь и умаляясь, оно не станет, наконец, уже неисследимым и
недоступным для наблюдения. Принимая же во внимание, что в дальнейших
поколениях изменения продолжают появляться во всевозможных направле-
ниях, и в том числе - в обратном исчезающему, можно с безусловною стро-
7
гостью сказать, что, сложившись с ними как излишек с недостатком, оно в
конце концов исчезнет и совершенно.
Возражая на этот-то аргумент, профессор Тимирязев и произнес слова,
вдумавшись в которые каждый поймет, что в них содержится отказ его от
дарвинизма. Вот они (мы выпускаем только слова или не относящиеся к пред-
мету, или представляющие собою повторение):
«Доводы и вычисления Данилевского доказывают только невозможность
образования в естественном состоянии чистокровной породы (курсив ав-
тора). Но для всякого привыкшего логически рассуждать человека очевидно,
что... сохранение случайного уклонения в его чистой форме (курсив принад-
лежит нам) - это один предел явления; его бесследное исчезновение, полное
растворение в нормальных формах - это другой и, заметим, идеальный, тео-
ретический предел. Логически немыслимо, чтобы какое-нибудь воздействие
на организм исчезло без следа. Именно этою невозможностью бесследного
исчезновения каких бы то ни было воздействий на организм и его потомство,
суммированием этих воздействий, мы и должны объяснить себе прогрессив-
ное усложнение организмов. Если в природе немыслимо возникновение
чистокровной породы, то это еще не значит, чтобы раз возникшая уклонная
форма не могла сохраниться в целом ряде степеней или оттенков» (курсив
принадлежит нам). (См. его статью «Опровергнут ли дарвинизм?» в «Рус-
ской Мысли» за май 1887, стр. 154-155.)
Переведем смысл этой речи на ясный и точный язык арифметики; тогда
вопрос о дарвинизме выразится для нас в простой возможности или невоз-
можности отвергнуть одну из математических аксиом.
1) Первое индивидуальное изменение образует то, что мы называем чи-
стокровною породой, первою вариацией органической формы. Величину
этого изменения обозначим = 1.
2) Чтобы вариирование доросло до образования нового вида необходи-
мо, чтоб это изменение сложилось с несколькими подобными же изменени-
ями, стало суммой нескольких единиц, то есть= 1+1+ 1+...
3) Происходит размножение и скрещивание; пусть оно даже ограниче-
но; пусть ни одна из особей, с которыми происходит у дальнейшего потом-
ства скрещивание, не изменена в обратном направлении с рассматривае-
мым изменением. Мы получим ряд органических новообразований, вели-
чины которых выразятся в членах арифметического ряда:
(вид)... 5,4,3,2,1, 72, 74, 78, 716,
где величины влево от единицы будут обозначать требуемое возрастание
новообразований чрез их сложение до вида, а вправо от нее - действитель-
ное в будущем (степени первого индивидуального изменения), а сама едини-
ца - наблюдаемый теперь факт, первое индивидуальное изменение.
Естественный подбор может образовать вид, дарвинизм может оказать-
ся истиной, если ряд этот, сохраняя закон образования своих членов, может
когда-нибудь совпасть своим крайним левым членом с крайним правым, ю
есть если часть единицы может когда-нибудь стать больше целой единицы.
8
Вот точное и отчетливое выражение того соотношения, которое существует
между живою природой, содержащею лишь «степени или оттенки» индивиду-
альных изменений (утверждение проф. Тимирязева), и между теорией Дарвина,
которая требует сложения от суммы этих индивидуальных изменений, тогда
как и простое «сохранение их в чистой форме» есть нечто «немыслимое»
(утверждение проф. Тимирязева). Каким образом, высказав эти два положе-
ния, он продолжает считать себя дарвинистом, об этом мы не можем судить.
Чтобы не осталось более никакого сомнения насчет смысла высказан-
ных проф. Тимирязевым слов, остановимся внимательнее на двух вопросах:
1) что разумеет он под «чистокровными породами», образование которых
признает «невозможным» в природе и 2) как именно происходит суммиро-
вание уклонных форм, то есть что и с чем суммируется, и каков бывает
получаемый результат?
Под «чистокровною породой» проф. Тимирязев не мог разуметь ничего
иного, кроме «первоначального индивидуального изменения». В приведен-
ной нами выписке он смешанно употребляет термины и «чистокровная по-
рода», и «случайное уклонение в его чистой форме», принимая их однозна-
чущими и утверждая относительно обозначаемого ими тождественное; «слу-
чайное же уклонение в его чистой форме» есть, очевидно, «первоначальное
индивидуальное изменение», пока оно не стерлось через скрещивание. Что
это действительно так, это можно видеть из примера, который он приводит
для придания большей яркости своей мысли: после слов, что «доводы Дани-
левского доказывают только невозможность образования в естественном
состоянии чистокровной породы», он прибавляет:
«Но я спрашиваю, есть ли на свете не только дарвинист, но просто непов-
режденный в своих умственных способностях человек, который бы стал утвер-
ждать, что это возможно? Покажите мне умственно здорового человека, кото-
рый бы стал утверждать, что стоит только раз в год пускать по одной английс-
кой скаковой лошади в степь, где пасутся табуны, для того чтобы со временем
образовалась чистокровная английская порода» (там же, стр. 154-155).
Перенесем этот пример на живую природу, и мы увидим, что понятие
«чистокровной породы» уравнивается в ней понятию «первого индивиду-
ального изменения». Наша земля есть изолированная планета; мир органи-
ческих форм на ней живущих в каждый данный момент есть нечто неподвиж-
ное и постоянное, и если мы говорим о чем-либо, что нарушает его непод-
вижность и постоянство в один из последующих моментов, что привходит к
нему, то - это конечно индивидуальные изменения, в самой среде его «слу-
чайно и во всех направлениях» возникающие. В естественном состоянии они
выполняют именно ту самую роль, которую в искусственном примере, при-
веденном проф. Тимирязевым, выполняют чистокровные английские скаку-
ны, пускаемые в табуны степных лошадей; потому что ведь не с другой же
планеты появляются на землю уклонные формы, а в пределах ее самой; пока
не возникли виды и роды, образование которых требуется объяснить, нет
ничего кроме случайных индивидуальных изменений.
9
И наконец, что все это действительно так, что мы не ошиблись в смысле
слов проф. Тимирязева, это видно из того, что «сохранение случайного укло-
нения в его чистой форме» и его «бесследное исчезновение, полное растворе-
ние в нормальных формах» он считает двумя пределами, которые никогда не
достигаются в природе, но между которыми колеблются ее явления. Есть толь-
ко «степени, оттенки» уклонных форм. Но он утверждает, что, суммируясь,
они слагаются в виды, роды и т. д. Рассмотрим теперь этот последний вопрос.
Уже с первого взгляда представляется странною мысль, что оттенки ин-
дивидуальных изменений, никогда не сохраняясь даже в целости, путем ка-
кой-то невероятной комбинации могут возрасти до величины гораздо боль-
шей нежели они сами (величина видового различия); что, не имея силы кос-
нуться предела и действительно не касаясь его, они, однако, далеко пересту-
пают чрез него, и все это в одном и том же потоке скрещиваний, в котором
рассматривает их проф. Тимирязев. В этом потоке, он утверждает, и стира-
ются индивидуальные изменения, но только не до абсолютного исчезнове-
ния, и возникают виды, роды, классы и пр. органического мира, путем сло-
жения этих стирающихся изменений. Как он представляет себе эти сложе-
ния? как их вообще можно себе представить?
Сложения могут происходить или 1) только между степенями индивиду-
альных изменений, 2) или между степенями одного изменения и вновь возни-
кающими новыми индивидуальными изменениями всевозможных направле-
ний, в их целом, еще нерастворенном виде, 3) или между теми же степенями и
новыми целыми изменениями одинакового с ними направления. Рассмотрим
каждый из этих трех случаев, которыми исчерпывается сфера возможного в
природе, порознь, переводя и здесь ее явления на точный язык арифметики.
1) При спаривании особей, имеющих «степени или оттенки» индивиду-
альных изменений, эти последние: а) взаимно уничтожаются, когда противо-
положны, и тогда уклонная форма совсем исчезает и б) сложившись, разде-
ляются на два, по числу спаривающихся особей, когда одинаковы; у нарож-
дающегося потомства в этом случае степень индивидуального изменения
будет выражена сильнее, чем у одного из его родителей и слабее, чем у
другого, пойдет по линии их соединения, станет среднею между двумя не-
равными величинами. Так от скрещивания особи, имеющей 7s индивиду-
ального изменения с особью, имеющею 7i6 его, родится потомок, облада-
ющий (’/s+Vie): 2=3/з2 первоначального изменения. Здесь уклонная форма, не
исчезая окончательно, как в первом случае, будет идти, однако, к медленно-
му умалению; она будет и удаляться от образования вида, потому что пони-
жает выдававшуюся величину (l/g изменения), из которой с большим вероя-
тием, нежели из пониженных форм (7i6 и 3/зг), мог бы возникнуть вид.
Таким образом, рассматриваемый способ сложения восстановляет перво-
начальную форму организма, умаляя первое индивидуальное изменение в его
потомстве до пределов не наблюдаемых по истечении достаточного времени.
2) При спаривании особей, имеющих оттенки индивидуального измене-
ния с особями, получившими новые изменения всевозможных направле-
10
ний, произойдет сохранение этих оттенков без какого-либо возрастания их. И
в самом деле, эти всевозможные, вновь возникающие изменения могут быть
и одинакового направления со слагаемыми оттенками, и противоположно-
го; но без какой-либо привходящей причины, которая бы производила пре-
обладание первых над вторыми (этот случай будет рассмотрен ниже), они
вообще будут взаимно уничтожаться, оставляя таким образом слагающиеся
с ними оттенки неизмененными.
Перейдем, наконец, к рассмотрению последнего возможного способа
сложения, к которому относится, как его слабейшая форма, и случай преоб-
ладания сходных возникающих изменений над несходными. Здесь они будут
не преобладать только, но появляться исключительно одни.
3) Пусть в потомстве особи, получившей определенное индивидуальное
изменение, появляются, как бы по некоторому предустановленному закону,
изменения все в одном том же направлении с первым и никогда в обратном.
Обозначая единицей величину первого индивидуального изменения, мы дол-
жны будем выразить единицей с некоторою дробью величину каждого пос-
ледующего индивидуального же изменения. Дробь будет здесь выражать ту
«степень или оттенок» первого изменения, на котором наросло изменение
второе; ее величина будет зависеть от того, в котором поколении потомства
изменившейся особи появляется новое изменение: так в третьем колене оно
выразится величиной 1 'Л. Слагаясь в скрещивании с оттенком первого инди-
видуального изменения, эта величина должна по общему правилу быть раз-
деленною на два, по числу скрещивающихся особей, например, для третьего
колена это будет:
7й+17 = 7 + 9/=,0Л; ,0/я.-2 = ’°/ •
о О О О о о Ю
Итак, пусть в ряде развивающихся органических форм только два смеж-
ных поколения остаются без привходящего нового изменения, каждое же
третье пусть повышается через появление признака равного по величине и
направлению с первым возникшим. Их отношение к этому последнему, ис-
ходной точке естественного подбора, выразится в следующем ряде чисел:
1, 72, 74, (7s + 1 78) : 2 = 10/|6, ,О/32, 10/б4, (,0/|28 + 1 *7128) : 2 = 148/256, 148/5)2, 147|032,
и т. д.,
то есть в восьмом колене после трех сложившихся цельных индивидуальных
изменений остается только |48/юз2 величины первоначального индивидуаль-
ного изменения. И наконец, если мы допустим появление признака через
каждое одно поколение, то и тогда в пятом колене получим уже только 7з
(собственно и/з2) первоначального изменения!
Но столь частное возникновение одинаково направленных признаков
указывало бы уже на действие скрытого морфологического закона.
Все это приводит нас к заключению, что никакая форма естественного
подбора не может перевести величину случайного признака за его перво-
начальные размеры; и дарвинизм есть, строго говоря, не теория происхожде-
11
ния видов, но теория комбинаций частей признака, то есть того, что мы обыч-
но зовем индивидуальными различиями организмов.
Профессор Тимирязев, который утверждает, что «можно заметить» не
только ’/в, но и '/iооо крови измененного родителя в его потомстве, не утверж-
дает ничего другого кроме того, что особи одного и того же вида вообще
различимы между собою, в чем, по справедливости, никто не сомневался.
И если, таким образом, выступив на защиту теории, которая руководила
его во всей научной деятельности, наш уважаемый ученый, стараясь все
точнее и точнее ее формулировать, все яснее желая выразить ее сущность,
высказав наконец ее отрицание, то это значит, что самая теория незащитима
более: не только опровержение разрушает ее, но и самая защита, насколько
она заставляет глубже входить в ее смысл. Это отрицание профессор Тими-
рязев высказал с силой и страстью, которая ему помешала видеть то, куда он
падает. Но факт остается фактом, и он состоит в том, что и теория, и наш
ученый, выступивший в ее защиту, находятся в положении беззащитном.
ПАСКАЛЬ
Блез Паскаль. Мысли. С предисловием
Прево-Парадоля. Перевод П. Д. Первова. Издание
журнала «Пантеон литературы». С.-Петербург, 1889.
Нет счастья для тех, которые не имеют в себе никакого света
религии.
Великие и малые люди имеют те же несчастные случайности, тс
же неудовольствия, те же страсти; но один человек находится на
окружности колеса судьбы, другой ближе к центру, поэтому
менее испытывает те же самые движения.
Время, когда Платон и Аристотель создавали свои «Законы» и
«Политику», было наименее философскою и наименее серьез-
ною частью их души. Самою философскою частью была та, ког-
да они жили просто и спокойно.
Все наше достоинство состоит в мысли.
Паскаль
I
Историки нередко бывают несправедливы не только к отдельным лицам, но и
к целым эпохам. Свет и тени, которые они кладут на прошлое, почти всегда не
соответствует действительному значению отдельных моментов этого прошло-
го. Продолжительное изучение человеческих увлечений, созерцание eye i не-
го в человеческих делах и суждениях не делает их самих свободными от этих
недостатков. Мы ожидали бы, что они будут высоко стоять над минутными
12
волнениями своего времени, что их суд будет носить на себе черты вечной
строгости, бесстрастной справедливости; но ничего этого обыкновенно мы не
находим у них. Они не руководители толпы; так же, как и другие деятели теку-
щей действительности, они только ее выразители. С легкомыслием ребенка или
женщины они приковываются вниманием ко всему шумливому, резко заявля-
ющему о себе, тогда как истинно глубокое и серьезное нередко оставляется ими
в тени. Вспомним, как часто, с какою ненужною подробностью нам рассказы-
вались различные пошлости из жизни Вольтера или Байрона и как редко и мало
мы слышали от них о Кеплере или Локке; не было достаточно малой сплетни в
истории салонов XVIII века, на распутывания которой они не положили бы
своих усилий, а тихая жизнь ученых отшельников Порт-Рояля едва вызывала
несколько ленивых похвал. Как и в жизни, в истории великое и малое часто не
обозначает ничего другого, кроме занимательного и незанимательного.
Эти мысли всегда и невольно приходили нам на ум, когда мы думали о
XVII веке. В обычном освещении истории этот век всегда как-то теряется
между предшествующим столетием и последующим, представляется гораз-
до менее значущим, чем они, не говоря уже о нашем XIX веке, венце исто-
рии, когда пар и электричество решительно затмили собою все, прежде быв-
шее, когда человек, изобретши громадные и изумительные машины, сам сде-
лался, наконец, только незначущим придатком к ним и, кажется, в этом од-
ном уже видит все свое значение и достоинство. Среди громадного
религиозного переворота, который совершился в XVI веке, в блеске салонов,
энциклопедии и революции, в шуме военной славы Наполеона и всего, что
за нею последовало, как-то затеривается скромный век, когда Мильтон слагал
свои песни и целый ряд тружеников мысли предавался то изобретению стран-
но-причудливых теорий, то открытию глубоких истин в сфере самых точных
наук. И если бы не перипетии 30-летней войны и не личность Людовика XIV,
историки, верно, пришли бы в большое затруднение, чем же наполнить, на-
конец, несколько неизбежных страниц своих трудов, где события, могущие
дать пищу глубокомыслию и картину для прелести рассказа. Революция, и
всего только одна, и еще с каким-то странным, уродливым характером, вовсе
непохожая на все другие революции, заставляла только нарушать правиль-
ный и ровный колорит исторического повествования, скорее мешая красоте
целого, нежели возвышая достоинство одной его части.
Между тем если глубже вдуматься во взаимное соотношение отдельных
веков, составляющих новую историю, то нетрудно заметить, что XVII столетие
занимает центральное положение между всеми ими. Подобно тому как в
исторической жизни какой-нибудь эпохи иногда встречается синтетическая
личность, удивительным образом совмещающая в себе все разнообразные
стороны своего времени, которые в прочих людях выражены только порознь, -
так и XVII столетье является синтетическим для всей новой истории, потому
что в нем соединились - или заканчиваясь и начинаясь - почти все главные
ее течения. Полное еще религиозного одушевления, которым исключитель-
но жил предшествующий век, оно представляет вместе и начало политичес-
13
кого устроения европейских государств, что наполняет собою последующее
столетие, и заложение всех точных наук, полный расцвет которых принадле-
жит нашему времени. Век Тилли и Валленштейна, он был в то же время
веком Ришелье и Мазарини, и временем, когда жили и трудились Декарт и
Лейбниц, Ньютон и Локк. Все, чем жила и еще продолжает жить новая исто-
рия, все идеи, одушевляющие ее: философские умозрения и теории полити-
ческой свободы и абсолютизма, религиозный экстаз и строгие положения
механики, скептицизм и вера, невозможные мечты об общественном пере-
устройстве и сухая юриспруденция - все соединилось в этом удивительном
веке, придавая ему красоту и разнообразие, которых мы напрасно искали бы
в каком-нибудь другом времени. В ту самую пору, как произносились бе-
зумные речи в парламенте, который собрал Кромвель, Паскаль изучал зако-
ны равновесия жидкостей и Гюйгенс писал о применении высшей математи-
ки к азартным играм; одновременно с тем, как трагедии Расина разыгрыва-
лись при блестящем дворе Людовика XIV, Томазий издавал «Установление
божественной юриспруденции» и Ньютон оканчивал свои «Начала». И это
богатство психических настроений, их причудливое сочетание проникает
собою не только весь век, но и жизнь отдельных личностей, которые в нем
трудились и мыслили: математик, изобретший дифференциальное исчисле-
ние, тревожно ищет философских доводов, которые нравственно оправдали
бы Бога в истории и в мироздании; творец аналитической геометрии осто-
рожно высказывает мысль, что чувствительность и вообще одушевленность
животных есть, по всему вероятию, только кажущийся признак: в действи-
тельности они не более, как машины, правда, чудно устроенные, но однако
же совершенно бездушные.
Но не это одно разнообразие, соединение никогда потом не совмещав-
шихся противоположностей придает интерес изучению XVII века. Есть в нем
еще другая черта, способная не менее привлечь к нему внимание: это глубо-
кая серьезность, с которою отдавались в нем люди всему тому, что их занима-
ло или волновало, чрезвычайная высота самых интересов и могущество
мысли, которое обнаружили они в своем стремлении удовлетворить этим
интересам. И в слабой оценке этой черты особенно сказывается та неспра-
ведливость историков, о которой мы упомянули. Век Перикла в Афинах, эпо-
ха Возрождения в Италии и время энциклопедистов во Франции - вот мо-
менты, на которые указывается обыкновенно, как на высшее проявление в
истории человеческих способностей, как на время несравненного процвета-
ния человеческой мысли. Они представляются как бы рассеивающими окру-
жающий их сумрак, одни светят сквозь прошлое нам, которым выпала счас-
тливая роль - понять, наконец, важное и неважное в истории и, взяв в свои
руки факел просвещения, - конечно донести его до конца. Этим векам, кото-
рые по духу так похожи на наш и, следовательно, выше всех других, одним
суждено было получить от историков счастливые названия «эпохи высшего
расцвета образованности», «века разума», «века просвещения». Уверенные,
что все двухтысячелетнее развитие истории совершилось только для того.
14
чтобы подготовить, наконец, появление такого удивительного продукта, как
наш XIX век, когда разум окончательно восторжествовал над предрассудка-
ми и просвещение широко разлилось по всем странам и среди всех народов,
мы смотрим на все века, когда «суеверие» не было так унижено, почти как на
задержки в историческом движении, и в том случае, если в них совершилось
что-либо неоспоримо великое в умственной жизни, мы все-таки затрудняем-
ся в истинной оценке их достоинства.
А между тем если отрешиться от этой мысли, что мы - цель истории и
что в наших понятиях заключается непреходящее значение, то не трудно бу-
дет заметить, что указанные моменты в прошедшей жизни человечества не
только не были моментами высшего проявления вообще творческих сил че-
ловека, но даже и моментами высшего умственного расцвета. Некоторая
односторонность в направлении творческих сил и грубое непонимание мно-
гих важнейших сторон духовной жизни человека были в высшей степени
присущи каждой из трех названных эпох. Создание не столько глубокого, как
красивого, чаще усовершенствование уже начатого, нежели замысел дей-
ствительного чего-либо нового, наконец, некоторое пренебрежение к рели-
гии и всем глубоким и тонким движениям человеческой души, - вот общие
черты указанных моментов исторического развития, скорее, счастливых для
человечества, чем истинно великих. Что касается, в частности, до умствен-
ной деятельности, то и здесь названные моменты, скорее, готовились стать
производительными, нежели действительно были производительны; в них
более говорилось о науках и философии, нежели совершалось что-либо важ-
ное в их сфере; мысль и знание окружены были высочайшим почетом, счи-
талось в высшей степени достойным человека посвятить им свою жизнь, но
сказать, что тогда жизнь и действительно посвящалась им, и особенно - по-
свящалась с успехом, значило бы сказать несправедливое. Достаточно вспом-
нить, что век Перикла не был ни временем возникновения Элейской школы,
ни временем Сократа, Платона и Аристотеля, чтобы согласиться, что в ум-
ственной жизни Греции он занимал второстепенное место. В эпоху Возрож-
дения беспокойно искались, но не были найдены новые начала для теорети-
ческой деятельности человека, которые могли бы заменить уже павшую схо-
ластику: «Новый органон» появился только в 1620 г, «Рассуждение о мето-
де» Декарта в 1637 г. Наконец, и XVIII век ничего другого не сделал, как только
распространил идеи предшествующего столетия в общественных массах и
сделал попытку применить их к жизни; но он не был оригинален ни в своих
отрицаниях, ни в своих утверждениях. В «Contrat social» Руссо нет ничего
существенного, что нельзя было бы отыскать в «Левиафане» Гоббеса; деизм
Вольтера мы уже находим в трудах Герберта и Толанда, и даже едва ли он не
был распространен в их время глубже, чем в XVIII веке: в 1698 г. благочести-
вые граждане Дублина с удивлением слышали, что им гораздо более говорят
с церковных кафедр о каком-то еретике Толанде, нежели об И. Христе. Будем
ли мы читать философских скептиков XVIII века или его публицистов, как
мало серьезным покажется нам их настроение в сравнении с Бэйлем, каким
15
холодом повеет после Мильтона или Локка. Ни одна из названных эпох не
была кульминационным пунктом в истории человеческой мысли; это было
время только широкой общественной жизни, когда или предчувствовалось
значение науки и философии, как это было в век Перикла, или вспоминалось
о нем, как это было в эпоху Возрождения и в XVIII веке. Они были утреннею
или вечернею зарею умственной жизни, но не ее знойным полуднем.
Гораздо более скромный, вовсе не сознававший своего всемирно-исто-
рического значения, XVII век поднялся в умственном отношении на высоту,
которая никогда не достигалась прежде и осталась недоступною для последу-
ющих веков. Все, чего тревожно искали ранее, было найдено в этом столе-
тии; все, чем умственно жили потом, было заложено в нем же. Нет ничего
привлекательнее, как следить за возникновением различных идей в это вре-
мя: Ньютон открывает исчисление бесконечно малых и оставляет необнаро-
дованным этот могущественный метод, пока другой не изобретает его вновь
и самостоятельно; многие труды его, из которых каждого было бы достаточ-
но, чтобы увековечить имя творца своего в истории науки, долгие годы со-
храняются у него в рукописи и только благодаря нескромности или даже
своеволию друзей, которым он давал снимать с них копии, они не пропали
для потомства. Декарт приложением алгебры к геометрии, о котором один
знаменитый математик нынешнего столетия говорит, что оно не имело в
предшествующем никакого подготовления, никаких задатков, поднимает эту
науку на неожиданную высоту, но скрывает свой метод и только по крайне-
му настоянию друзей обнародует его, наконец, много лет спустя после от-
крытия и в таком виде, который по необработанности своей делает едва воз-
можным чтение драгоценного трактата. Лейбниц высказывает глубочайшие
философские идеи, и до сих пор приложимые к истолкованию природы и
человеческого духа, в частных письмах и отрывочных заметках, написанных
по тому или другому случаю. Спиноза издает свой «Tractatus theologico-
politicus» без подписи, а его «Этику», в течение двух столетий покорявшую
самые возвышенные умы Европы, находит в черновых бумагах врач Мейер,
единственный свидетель его одинокой смерти. Какая удивительная простота
во взгляде на себя, какое величие и красота человеческой природы! И как бы
для полноты гармонии, чтобы ничто не звучало в ней ненужным диссонан-
сом, в жизнь всех великих людей этого века привходит одна черта, которой
мы напрасно искали бы в людях вышеназванных эпох: это - глубокая и серь-
езная религиозность. Когда еще с таким правом, как в это время, человек мог
бы опереться на свои силы в борьбе со всем супранатуральным против вся-
кой религии, и однако, мы видим, что именно теперь он чаще, нежели когда-
либо, обращался своею душою к Богу, с таким же жаром молился, как и
искал истины. Вспомним трогательную кончину Локка, как об ней рассказы-
вает Кост, его французский переводчик, и жизнь Малебранша, в одно и то же
время глубочайшего философа своего века и простого священника в конгре-
гации Оратории. Целый ряд математиков и физиков: Валлис, Паскаль, Уай-
стон, преемник Ньютона по кафедре в Кембридже, Борроу - его предше-
16
ственник по ней, наконец, он сам и его соперники по открытиям, Лейбниц и
Гун, - все наряду с любимыми науками занимаются изучением Св. Писания
и пишут богословские трактаты. В религии, как и в науке, они были так же
просты; проникая так далеко в природу, как это только доступно для челове-
ка, они в то же время твердо помнили, что она не исчерпывается этими изве-
данными областями и с благоговением преклонялись перед тем, что в ней
оставалось скрытого. В ответ на удивление перед его открытиями, которое
выражали Ньютону окружающие, он раз задумчиво отвечал: «Я не знаю, что
люди будут думать о моих сочинениях; что же касается меня, то мне кажется,
что я был похож на ребенка, играющего на берегу моря и сбирающего то
блестящие камешки, то более красивые, чем другие, раковины, тогда как об-
ширный океан глубоко скрывает истину от моих глаз». Только этим почти
религиозным отношением к истине и ее исканию и объясняется то, что эти
скромные и великие люди сделали свой век классическим в истории умствен-
ного развития Европы. Никто не покровительствовал им, их жизнь была час-
то не обеспечена, некому было заботиться о предоставлении им досуга или
удобств жизни, и какие, однако, чудные памятники своего гения они завеща-
ли последующим временам. «Discours de la methode» Декарта есть не менее
удивительное явление в истории, чем Парфенон; изобретение дифференци-
ального исчисления Лейбница важнее, чем издание «Энциклопедии»; все
95 томов нескончаемо остроумных стихов и прозы Вольтера менее заключа-
ют в себе ума и человеческого достоинства, чем один некрасивый томик
«Начал», изданный в 1687 г. Ньютоном. Мы уже не сравниваем их с итальян-
скими гуманистами XV века, думавшими превзойти Гомера и Вергилия, из
которых каждый писал или только греческие, или только латинские стихи,
тогда как они одинаково легко писали их на обоих языках, и притом в таком
обилии, что ими и до сих пор завалены старинные библиотеки Флоренции и
Неаполя. Но деятельность этих людей была более шумна; государи то искали
их дружбы и переписывались с ними, то их преследовали, когда они дразнили
и мелко раздражали их; обо всем этом, и поучительной дружбе и об интерес-
ной борьбе, можно занимательно рассказать. Но что сказать о серьезных и
угрюмых тружениках XVII века, так глубоко и трудно думавших и так небреж-
но порою писавших, кроме того, что они до конца исполнили этот древний
закон, данный человеку: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят», - что они любили Бога и за эту
любовь Он наградил их труд обильною жатвою.
II
Вот почему всякий раз, когда какой-нибудь памятник умственной жизни
XVII века усвояется нашею литературою, мы должны бы смотреть на это как
на приобретение самого драгоценного сокровища. Между тем, когда не так
давно появились в русском переводе два лучших произведения XVII века, «Рас-
суждение о методе» Декарта и «Этика» Спинозы, эТо не обратило на себя
17
ничьего внимания, и всего менее - внимания литературы. Мы не припомним
в точности, чем именно была занята она в то время: неурядицею ли с билета-
ми на Финляндской дороге или каким крупным банковым воровством, - только
ни о том, ни о другом переводе не было сказано в ней ничего, кроме несколь-
ких ленивых и обычно бездарных рецензий в двух-трех журналах, впрочем,
более интересовавшихся рассуждениями о любви или о чем-то таком одного
маркиза, который потом оказался, кажется, просто евреем. Вследствие ли со-
перничества с газетами, или от каких других причин, но только журналистика
наша пугливо обходит каждый интерес, который мог бы дожить до завтра, она
вся и безраздельно погрузилась в тревоги дня, с ними возникает и с ними же,
конечно, и умрет. Собственно литературные и научные интересы давно и
совершенно отошли в ней на задний план. Она живет не мыслями, борется не
за идеи, но только - фактами, которые стремится как-нибудь изменить.
«Этика» Спинозы, прекрасно переведенная г. Модестовым и еще лучше
изданная (в 1896 г.), к сожалению, не сопровождается никакими объяснения-
ми*, которые можно бы свидетельствовать об интересе переводчика к трудной
системе этого философа, и никакими сведениями об его жизни. Последнему
обстоятельству можно особенно удивляться, потому что в «Жизнеописании
Бенедикта Спинозы», оставленном Коперусом, г. Модестов имел современ-
ный и незаменимый памятник, ожидавший только перевода, из которого каж-
дый читающий мог бы познакомиться со всеми подробностями прекрасной и
глубоко трогательной жизни еврейского мыслителя. Совершенно иным харак-
тером отличается перевод «Рассуждения о методе» (СПб., 1886 г.), сделанный
г. Любимовым, бывшим профессором физики в Московском университете. В
течение долгих лет (судя по предварительной журнальной статье «О физичес-
ких учениях в эпоху Декарта») этот труд, всего 48 стр. in 4° в латинском издании
1692 г., служил предметом изучения и размышлений для нашего ученого, и
работа, им изданная наконец, есть собственно обширный комментарий к «Рас-
суждению», в котором почти теряется самый перевод. Каждая мысль фран-
цузского философа здесь замечена и внимательно обработана, и в тех случаях,
когда в переводимом памятнике она выражена сжато или неполно, она обстав-
лена обширными извлечениями из его других сочинений, где ему случилось
высказать то же самое, но полнее и обстоятельнее; так что перевод одного
сочинения явился как обработка цельной физико-философской системы. В
особенности интересны здесь все замечания о физических гипотезах Декарта,
напр., сопоставление его известной теории вихрей с кинетическою теориею
газов, недавно возникшею. Первая в течение двух столетий считалась одним из
самых фантастических произведений человеческого ума и в наше время во-
зобновляется, в исследованиях Гельмгольца, И. Томсона и др., обставленная
уже точными опытами и строгим математическим анализом: удивительный
* Теперь приготовляется к выпуску новый перевод «Этики» г. Н. Иванцова,
имеющий составить 5-й вып. «Трудов Психологического общества» и, без сомнения,
лучше обставленный со стороны введения и комментариев.
18
пример того, как далеко и правильно может проникнуть мысль, опираясь на
исключительно теоретические начала, ею выбранные, без какого-либо чув-
ственного их оправдания. Таким опорным началом для Декарта служила мысль
о совершенной раздельности духа, как существа мыслящего, от внешней приро-
ды, как существа протяженного, и вытекавшее из этой мысли положение, что
внутреннее созерцание есть единственный способ познания первого, а меха-
низм -единственный принцип понимания второй; откуда - предположение, что
вселенная наполнена различным образом движущимися вихрями, гораздо бо-
лее тонкой природы, чем она сама, которые своим механическим давлением
производят все наблюдаемые перемены и явления в ней. Замечательно, что уже
в нынешнем столетии, но гораздо ранее возникновения кинетической теории
газов, появилось объяснение всемирного тяготения, совершенно отличное от
тою, как его понимал Ньютон, и согласное с тем, как представлял себе устроен-
ную природу Декарт. Г. Любимов прекрасно формулирует это замечательное
отношение Декарта к современной нам науке: будучи ньютонианскою по своим
основаниям, говорит он, «физика нашего времени является картезианскою в
своих стремлениях», - слова, над которыми никогда не устанет задумываться
всякий, кто интересуется судьбою человеческой мысли в истории.
Заметим, что вышеприведенное начало Декарта послужило исходным
моментом, откуда возникли и развились две великие ветви нового европейс-
кого просвещения: спиритуалистическая философия, стремившаяся все по-
нять через умозрение, самосозерцание духа, и мир частных наук о природе,
опытно-математических по приемам, механических по содержанию, кото-
рые и до сих пор преследуют цель, поставленную для них этим великим чело-
веком: достигнуть полного истолкования природы, не прибегая к другим
объяснениям, кроме чисел, мер, фигур и движений. Этот принцип гораздо
более наложил свою печать на естествознание XVII, XVIII и XIX веков, с его
успехами и односторонностью, нежели указания Бэкона Веруламского в «Но-
вом Органоне». Историческое значение этого последнего труда вообще чрез-
мерно и несправедливо преувеличено: как факт, опытное исследование при-
роды существовало ранее его появления (опыты Галилея и падуанских про-
фессоров в Италии, Снелля во Франции, Гарвея в Англии, Стевина в Голлан-
дии и др.), а как теория, указания «Нового Органона» были слишком общи и
неопределенны, так что ими невозможно было руководиться при частных
изучениях природы и этого действительно не было после его появления. Тор-
жество опытного метода было исключительно результатом его практическо-
го успеха: применимый еще в XVI веке, он обнаруживал свою плодотвор-
ность в каждом частном случае, оправдывался при каждом применении, - и
поэтому быстро распространился и твердо окреп во всей Европе; теорети-
ческие же указания Бэкона здесь не играли никакой роли.
Позднее (в 1889 г.) появилось в русском переводе еще одно замечатель-
ное произведение XVII века - «Мысли» Паскаля. Г. Чудинову пришла пре-
красная мысль - создать журнал, который был бы посвящен исключительно
интересам литературы, как русской - в ее текущий момент, так и иностран-
19
ной - главным образом в ее прежних представителях. В течение четырех лет,
как издается «Пантеон литературы», в нем появилось много оригинальных
статей, главным образом по истории западноевропейских литератур и про-
свещения, и несколько замечательных переводных произведений. Следя за
характером последних, можно с удовольствием заметить, что г. Чудинов не
суживает рамок своего журнала, наблюдая только одно, чтобы переводимые
произведения были лучшие. Под именем литературы он понимает не сово-
купность произведений, в которых существенным элементом является вы-
мысел, творческое изобретение, но вообще совокупность памятников, в ко-
торых при помощи слова выразилась духовная жизнь человека. Мы можем
пожелать только, чтобы он твердо держался этого понятия и, насколько воз-
можно, еще более расширил программу своего журнала, введя в него, наир.,
труды по нравственной философии, политике и пр. Журнал не впадает в спе-
циализацию отдельных наук, он остается все-таки литературным, если пере-
водимые сочинения будут действительно классические: особенность после-
дних заключается именно в чрезвычайной общности их интереса и значения,
всегда переступающего тесные рамки той или иной науки, к которой они
относятся. «Теодицея» Лейбница или «Опыт о человеческом разуме» Локка
не суть труды по богословию и психологии; это великие памятники духовной
жизни человечества и как таковые они принадлежат литературе.
Требовать, чтобы классические произведения и переводились класси-
чески -это, конечно, невозможно. Будет уже заслугою со стороны журнала,
если среди десятков переводов и в течение многих лет появится на его стра-
ницах один классический. Последний всегда есть явление редкое, и притом
настолько, что иногда богатая литература даровитого народа так и закончит
свое существование, не успев усвоить себе в классическом переводе какого-
нибудь великого писателя иной страны, несмотря на все усилия сделать это.
Подобное усвоение, впрочем, и не может быть результатом усилий, труда
только: оно зависит от редкого и случайного появления среди данной нацио-
нальности писателя, который по душевному складу гармонировал бы с тем
или иным великим писателем другой страны. Только через его труд и может
совершиться действительное и полное усвоение памятника одной литерату-
ры другой литературой, в которой с этого времени он начинает пониматься
и действовать так же, как действует и понимается в своем родном народе.
Кроме правильности в передаче мысли и чувства, насколько они выражены
писателем в точном значении его слов, классический перевод, в отличие от
обыкновенного хорошего, передает еще стиль его. Последний есть выраже-
ние общей психической настроенности автора, как основы, из которой раз-
виваются все частности его деятельности, образа мыслей, избираемых пред-
метов для научного исследования или поэтического воспроизведения. Син-
тез духовной организации писателя и его судьбы, данного ему природой и
привнесенного к этому жизнью, психическая настроенность звучит в каж-
дом его слове, проникает всякую его мысль, кладя на них своеобразный опе-
нок. Поэтому-то и стиль, в котором она выражается, является оригинальным
20
у всякого писателя, если только он не безличен, и притом невольно для него
самого. Он может совпасть с массою других пишущих и в содержании сво-
ем, и в образе мыслей; только в одном он никогда не совпадает с ними - в
стиле, в особенностях языка своего. Так, напр., то, что рассказано Тацитом в
его «Летописях», конечно, может быть рассказано и всяким другим, и самое
отношение рассказывающего к изображаемым событиям и лицам может
быть то же; но одно не может быть воспроизведено: психическая настроен-
ность Тацита, и с нею - стиль его. Для этого нужно и родиться Тацитом, и
пережить, и видеть то же, что пережил и видел он.
Найти в душе своей родственное с настроением переводимого писателя,
тонко понять особенности в складе его мысли и чувства и знать настолько
глубоко родной язык, чтобы найти в нем все нужное для передачи понятого и
почувствованного на языке другого народа, к этому, конечно, не всякий спо-
собен, этого нельзя требовать от каждого. Достаточно, если переведенный
писатель явится в нашей литературе без искажения своей мысли и своего
чувства, насколько они выражены в точном значении им написанных слов.
Это и есть обыкновенный хороший перевод, точно и правильно передающий
нам памятник чужой литературы. Некоторый недостаток в живости речи,
отсутствие изящества в том или другом месте - это уже обычные следствия
исключительного желания быть точным и правильным, и они встретятся нам
в каждом подобном переводе.
Все эти свойства мы находим и в переводе г. Первова. В нем видно серь-
езное отношение к переводимому писателю и более всего опасение в чем-
нибудь не сохранить верность подлиннику. Отсюда - местами тяжелая речь,
слишком длинные и не всегда хорошо построенные периоды, впрочем, вооб-
ще не затрудняющие чтение перевода.
Гораздо более существенным недостатком нам представляется выбор
предисловия к «Мыслям». Прево-Парадоль, статья которого «Паскаль как
моралист» служит этим предисловием, принадлежит к числу тех представи-
телей вырождающейся французской философии, которые, уже не надеясь
что-либо сказать нашему уму, рассчитывают еще как-нибудь потревожить
наше сердце; но обыкновенно также совершенно бесплодно. В течение двух
тысячелетий своей истории человеку случилось столько пережить, так мно-
го почувствовать и все это выразить с такою силою и красотою, что при
некоторой начитанности во всемирной литературе теперь каждый может и
ничего уже не чувствуя написать несколько страниц, исполненных меланхо-
лии и изящества. Придуманные сравнения и искусные антитезы, тонущие во
множестве ненужных и вялых слов, - вот обычные признаки подобных про-
изведений. Характерным образчиком их могут служить «Размышления»
Прево-Парадоля «De la tristesse», «De la maladie et la mort» и пр. и пр., которы-
ми он заканчивает ряд характеристик французских моралистов*, конечно, не
* «Etudes sur les moralistes fran^ais suivies de quelques reflexions sur divers sujets».
Paris, 1880. Отсюда взята г. Псрвовым и статья «Паскаль как моралист».
21
без тайной надежды, что и сам за эти грустные страницы, быть может, будет
причтен со временем к числу последних, хотя бы из minorum gentium. Не-
дурным примером может служить также Каро, писавший о пессимизме
XIX века, совершенно неистощимой теме для множества писателей, кото-
рым без этого счастливого пессимизма решительно пришлось бы поло-
жить перо. На том великом поле - мы разумеем философию, и в частности
нравственную философию, - где в течение двух тысячелетий трудилось
столько благородных гениев и боролись такие гиганты - на этом поле те-
перь можно подвизаться без мысли, без убеждений. То, что служит необхо-
димым условием для занятий всякою наукой - жажда истин известного оп-
ределенного содержания и способность находить их - вовсе не требуется
общею матерью всех их, философиею; или, по крайней мере, этого требо-
вания не слышат те, которые благородно решаются посвятить ей свою жизнь.
Вследствие этого странного положения дел философия сделалась общим
прибежищем всякого индифферентизма и неспособности: каждый, кто ви-
дит, что он не может уже ничем заняться, думает, что может заняться еще
философией. Она одна ничего не требует от своих адептов, никуда не спе-
шит, ничего не ищет, полная великого прошлого, совершенно не имея на-
стоящего и не надеясь ни на какое будущее, - холодный труп, с которым
можно все делать.
Предпосылать Паскалю, одному из таких гениев нравственной фило-
софии в ее прошлом, размышления Прево-Парадоля, человека без рели-
гии, без любви к чему-нибудь, холодного и риторичного, - это, конечно,
бесконечная ошибка, и мы думаем, в нее мог впасть только человек, для
которого литература - просто книжное дело. Не знаем, кому принадле-
жит этот выбор, самому ли переводчику или редакции журнала, в кото-
ром он печатался прошедший год. Вообще можно заметить, что старин-
ных писателей, если они почему-либо нуждаются в поясняющих прило-
жениях, следует по возможности обставлять литературными памятника-
ми их же эпохи: тогда только не нарушается единство психического
настроения, которое каждый читатель ищет вынести из прочитанной кни-
ги. И для Паскаля есть такой памятник, и притом несравненных досто-
инств: это жизнеописание его, написанное М-me Периэ, его сестрою.
«Мысли» Паскаля невозможно понимать, не зная его жизни: они - после-
дний плод, который принесла эта жизнь, странные и глубокие слова, кото-
рые он не успел еще окончить, когда могильный холод уже навек закрыл
его уста. Только 30 лёт спустя после его смерти они были впервые изданы,
до крайности разрозненные, местами представляя почти непонятные об-
рывки. Но их достоинство так велико, что даже и в этом виде они сдела-
лись одним из величайших сокровищ французской литературы и теперь
переведены едва ли не на все европейские языки. Мы уже сказали, что
они непонятны без знакомства с личностью Паскаля и его жизнью, в выс-
шей степени замечательною. На них мы и остановимся несколько, руко-
водясь, главным образом, рассказом его сестры.
22
Ill
Блез Паскаль родился 19 июня 1623 г. от Этьена Паскаля и Антуанетты Бетон,
в Клермоне, в провинции Овернь, где их старинный род всегда занимал высо-
кое положение*. Он был единственный сын у своих родителей, имевших кро-
ме него только еще двух дочерей, из которых одна впоследствии удалилась в
монастырь Порт-Рояль, а другая, оставившая жизнеописание брата, вышла
замуж за М-г Периэ. В 1626 г. Э. Паскаль потерял свою жену и с этих пор весь
отдался заботам о воспитании своего сына, который невольно привлекал к
себе внимание раннею живостью своего ума и пытливыми вопросами, кото-
рые он предлагал обо всем окружающем**. Обладая высоким общим обра-
зованием и будучи одним из лучших математиков своего времени, он решил-
ся совсем не отдавать сына в школу. Чтобы ничем не отвлекаться от этих забот,
он вскоре передал судебную должность, которую занимал в Клермоне, одно-
му из своих братьев, и переселился в Париж, где у нею не отнимал досуга
обширный круг знакомых, которым он был связан в своем родном городе***.
Мальчику было в это время 8 лет. Здесь он сблизился со многими лучшими
учеными, в тесном круге которых проводил немногие часы своего досуга. В
определенные дни они собирались в его дому, чтобы обсуждать текущие воп-
росы науки. Это было одно из тех частных обществ, из которых возникла впос-
ледствии Парижская академия наук****. Эт. Паскаль живо интересовался все-
ми новыми идеями и открытиями, которые в это именно время появлялись в
таком обилии: так, в 1638 г. он даже выступил, вместе с Робервалем, против
Декарта, который подверг резкой критике трактат знаменитого Фермата о
maximis et minimis*****, что не помешало ему, однако, сблизиться впослед-
ствии с этим великим философом и математиком.
* Сведения об Эт. Паскале и его предках сохранены в обширном жизнеопи-
сании Декарта, составленном в конце XVII века ученым Беллье: Vie de Descartes. Paris,
1691, v. l,p. 332.
*♦ Vie de B. Pascal par M-me Perier, в приложении к «Pensees de Blaise Pascal».
*♦* M-me Pdrier. Vie de B. Pascal, p. 2.
*♦**0 способе возникновения как этого, так и других ученых учреждений
Франции см. монографию проф. Герье: «Лейбниц и его век». СПб., 1868, стр. 161 —
187. Читая эти прекрасные и одушевленные страницы, какою бесконечною грустью
должен проникнуться каждый русский, думая о своей стране и своей истории, где
возникновение какого-либо высшего учреждения для науки никогда и ничего другого
не обозначало, кроме как построение очень большого кирпичного здания и установ-
ление новых служебных штатов. Едва ли не самая существенная черта различия меж-
ду историею Западной Европы и нашей (с начала XVIII века) состоит в том, что там
все явления развивались от центра к периферии, зародившееся в духе, и обыкновен-
но индивидуальном, создавало для себя матерьяльные формы в государстве или
церкви; у нас же все явления развивались от периферии к центру: сперва создавались
формы, долгое время бессодержательные, в которых потом и после многих усилий
иногда удавалось возбудить какую-нибудь жизнь.
***** Baillet. Vie de Descartes, v. 1, p. 331.
23
Держась правила, что ребенок приступал к изучению какого-нибудь пред-
мета не прежде, чем когда по возрасту он будет стоять выше тех трудностей,
которые ему могут встретиться в нем, Эт. Паскаль начал учить своего сына
латинскому языку только тогда, когда ему исполнилось уже 12 лет. До этого
времени в беседах он разъяснял ему, что такое различные языки, на которых
говорят разные народы, как грамматика сводит их строй к немногим прави-
лам, овладев которыми и запомнив несколько исключений из них, каждый
может сделать для себя понятным язык чужого народа. Это предварительное
освещение пути, по которому должны были идти занятия мальчика, сделало
то, что он шел по нему уже охотно, с ясным сознанием необходимости и
разумности каждого шага. Сверх того эти беседы дали ему несколько общих
идей, приложимость которых далеко переступала границы того, что послу-
жило частным поводом к их усвоению.
То, что всего более способно пробудить в молодой душе любознатель-
ность, - это встреча с явлениями, которые поражают воображение своею
странностью или загадочностью: только темное влечет наш ум к объясне-
нию себя, тогда как мимо ясного или обыкновенного он проходит равнодуш-
но. В беседах с сыном Эт. Паскаль говорил иногда о таких загадочных явлени-
ях, и внимательно слушавший мальчик всегда хотел знать их причину. Но его
напряженное ожидание не всегда бывало удовлетворено: иногда причины не
были известны вовсе, иногда отец ничего не говорил ему о них или ссылался
на общепринятые объяснения, в сущности не представлявшие собою ничего
другого, как изворот ума, бессильного объяснить явление. В последнем слу-
чае мальчик всегда оставался неудовлетворенным, потому что его ясный ум
тотчас замечал все ложное и начинал искать другого объяснения, которое
было бы лучше. Так рос он в постоянном напряжении мысли, с умом, всегда
пытливо обращенным к природе. Случилось однажды, рассказывает его сес-
тра, что в его присутствии кто-то ударил о стол фаянсовою тарелкой, на кото-
рой лежал нож; это вызвало продолжительный звук, который тотчас прекра-
тился, как только до нее дотронулись рукой. Мальчик тотчас же захотел уз-
нать причину этого и начал делать различные опыты над звуком. Произведя
их, он сделал столько интересных наблюдений, что они дали ему содержание
для целого трактата, написанного умно и доказательно; в это время ему было
двенадцать лет*. На двенадцатом же году он впервые выказал свои необык-
новенные способности к геометрии. Вот как это произошло: Эт. Паскаль
желал, чтобы сын его занялся изучением языков, и думая, что знакомство с
геометриею в особенности может помешать этому, до известного времени
не хотел ничего сообщать ему о ней: по собственному опыту он знал, до
какой степени эта наука может заинтересовать ум, раз он соприкоснулся с
нею, и всецело наполнить его собою. С этою целью он спрятал все книги
математического содержания, которые у него были, и никогда в ирису ювии
мальчика не говорил о ней со своими друзьями. Но эта предосторожность не
* М-me Рёпег. Vic de В. Pascal, р. 3.
24
помешала пробудиться любопытству ребенка, и он часто обращался к отцу с
просьбою - научить его геометрии. Тот всегда отказывал, и наконец обещал
ему сделать это в виде награды, после того, как он усвоил уже латинский,
греческий и др. языки. Видя упорство отца, мальчик спросил его однажды,
что это по крайней мере за наука и о чем говорится в ней. Тот отвечал, что это
такая наука, в которой содержатся средства делать верные фигуры и находить
отношения, которые они имеют между собою (faire des figures justes et de
trouver les proportiones qu’elles avaient entve elles). В то же время он запретил
ему вперед говорить об этом и не велел думать о сказанном. Но мальчик с
этого времени начал постоянно думать об интересной науке, которая учила
делать фигуры безошибочно правильными и находить в них разные соотно-
шения. В часы рекреации, оставаясь один, он брал уголь и чертил на полу
разные фигуры, стараясь, чтобы они были верны, напр., чтобы окружность
была везде равномерно выпукла, чтобы в треугольнике стороны и углы все
равны, и т. п. Достигнув этого, он начинал искать в них соотношений. Забота
отца скрыть от него все эти вещи была настолько велика, что он даже не знал
их истинных названий; так, линию он называл просто «чертою», окружность -
«кружком» и пр. Желая достигнуть черчения правильных фигур, он должен
был составить для себя их определения, а отыскивая в них соотношения -
пришел к установлению аксиом и с помощью тех и других стал находить
полные доказательства. Так открывал он мало-помалу для себя науку, кото-
рая была столь тщательно от него скрыта, и подвигаясь все далее, дошел уже
до вопроса, который разбирается Эвклидом в 32-м предложении его «На-
чал». В это время случилось, что отец неожиданно вошел в комнату, где он
был занят среди своих фигур. Он так углубился в их рассматривание и об-
думывание, что несколько времени не замечал его прихода. С изумлением
смотрел тот на маленького сына, погруженного в предметы, о которых он
запретил ему говорить и думать. Но это изумление еще более выросло, когда
на вопрос, что он тут делает, сын отвечал ему, что ищет одно отношение,
которое, он знал, содержится в 32-м предложении Эвклида. Отец спросил
вновь, что заставило его думать об этом, и он сослался на другое предложе-
ние, которое он уже нашел и которого доказательство он ему тотчас же пред-
ставил. Так идя от одного к другому, и все возвращаясь назад, он дошел до
своих определений и аксиом, все не употребляя других названий, кроме как
«кружок», «черта» и пр.* Почти испуганный величием и мощью этого ге-
ния, Эт. Паскаль не сказав ни слова сыну, отправился к своему близкому
другу, г. Ле-Палье, и рассказал ему все виденное.
Тот был не менее его изумлен этим и сказал, что не следует долее сдер-
живать ум мальчика и скрывать от него область знания, которую он почув-
ствовал своим инстинктом. Эт. Паскаль нашел это справедливым и дал сыну
«Начала» Эвклида, позволив, однако, читать их не иначе, как во время рекре-
♦ M-me Perier. Vie de В. Pascal, р. 3-4; см. также в Preface de I’fequilibre des
liquerers и Bail lets: Enfan celebres, art. h XXVII.
25
аций; главная часть дня по-прежнему должна была быть посвящаема изуче-
нию языков. Бл. Паскаль с жаром принялся за Эвклида, и понял у него все, ни
разу не обратившись к отцу за каким-нибудь пояснением. Вскоре он подви-
нулся так далеко в изучении геометрии, что мог уже правильно посещать
еженедельные собрания, которые устраивались у его отца или у кого-нибудь
из друзей последнего с целью обсуждения текущих вопросов науки. К этому
кружку принадлежали лучшие ученые того времени: Роберваль, Мидоров,
Ле-Палье, отец Мерсенн, близкий друг Декарта. Паскаль принимал в этих
собраниях самое живое участие и чаще, нежели другие члены, приносил
сюда для сообщения что-либо новое в области математики. Общество это,
хотя оно носило исключительно частный характер, находилось в сношениях
со многими иностранными учеными и часто получало известия, содержав-
шие новые теоремы, из Италии, Германии и других стран; об них всегда торо-
пились узнать мнение молодого Паскаля, потому что нередко случалось, что
его проницательный взгляд открывал ошибки там, где их никто другой не
замечал. Все более и более отдавался он всеми силами своей души этой
науке, которая по своей строгости и точности давала совершенное удовлет-
ворение его уму. И хотя он мог уделять ей только часы досуга, однако, так
успел в ней, что, имея только 16 лет от роду, написал «Трактат о конических
сечениях», вызвавший удивление в самом Декарте.
Уже учитель других, он все еще оставался в это время учеником своего
отца, который к занятиям древними языками прибавил теперь ежедневные
беседы во время обеда и после него о логике, физике и других науках, состав-
лявших отдельные части тогдашней философии. С радостью видел он, как
легко и быстро все это усваивал его сын, и не замечал, как непрерывное
умственное напряжение стало мало-помалу подтачивать его еще не сложив-
шийся организм, и без того не отличавшийся никогда крепостью. С 18 лет он
впервые стал чувствовать недомогание; но оно не было еще сильно, и он не
прерывал своих обычных занятий.
К этому именно времени относится одно из изумительных изобретений,
которое он сделал. В 1638 г. Эт. Паскаль подвергся гневу кардинала Ришелье
за то, что неосторожно порицал одно из его финансовых распоряжений; уже
был отдан приказ об заключении его в Бастилию, но, вовремя предупрежден-
ный, он скрылся из Парижа и удалился на родину. В следующем году герцо-
гиня д’Эгильон устроила для кардинала представление одной пьесы Скюде-
ри: «L’amour tyrannique», в исполнении которой участвовала и Жакелена
Паскаль, младшая дочь изгнанника. Игра молодой девушки чрезвычайно
понравилась Ришелье, и когда она обратилась к нему с просьбою о проще-
нии своего отца, он согласился на это. По возвращении виновного, он захотел
его видеть и при свидании заметил его необыкновенный ум и обширные
сведения. Он решил воспользоваться его способностями и знаниями, и вско-
ре поручил ему исполнение важной должности интенданта в Руане, которую
тот и занимал в течение 7 лет. Место это было связано, главным образом, с
раскладкою и сбором податей и разными хозяйственными распоряжениями,
26
т. е. требовало постоянного денежного счета. Эт. Паскаль часто пользовался
помощью своего сына и тот, желая как-нибудь сократить труд счисления,
придумал арифметическую машину, которая производила нужные выкладки
совершенно механически, без участия со стороны считающего каких-либо
соображений, не требуя от него даже знания арифметики. Это было первое
изобретение, послужившее исходною точкою для разнообразных попыток
заменять умственные операции — механическими. Сам великий Лейбниц,
узнав об устроенной Паскалем машине, деятельно занялся обдумыванием,
как бы можно было ее еще улучшить. Изготовление этой машины стоило
очень большого труда ее молодому изобретателю, особенно вследствие труд-
ности объяснить рабочим, приготовлявшим ее части, что именно они долж-
ны были делать. Это было не единственное практическое изобретение Паска-
ля: он придумал еще очень удобную ручную тачку, искусно соединив в ней
действие рычага и наклонной плоскости.
Но этот напряженный труд в связи с общею слабостью организма подо-
рвал его здоровье, так что, по его собственным словам, начиная с 19-го года
жизни для него не проходило дня, когда он не чувствовал бы боли. Но он все
еще крепился, и всякий раз, когда страдания несколько ослабевали, его ум
деятельно стремился к новым изысканиям. К этому приблизительно време-
ни относятся его знаменитые опыты над тяжестью воздуха.
Уже ранее высказывались догадки, что воздух не лишен веса, но они
оставались на степени смутного и бессильного брожения мысли, так как не
находилось никакого средства удостовериться в его действительной весомо-
сти. Те явления, которые мы теперь привыкли объяснять давлением его, как
тяжелой жидкости: поднятие воды в насосе при поднятии поршня, наполне-
ние раздувательных мехов и пр., все объяснялись в то время средневековым
представлением, что природа боится и избегает пустоты. И как ни чуждо
было научности это объяснение, против него нечего было возразить, пока не
было произведено какого-нибудь опыта, который несомненно открывал бы
другую, строго механическую причину всех названных явлений. Торричелли
первый сделал попытку к разрешению этого вопроса: заменив воду в насосе
более тяжелою жидкостью, ртутью, он показал, что она поднимается не на
высоту 34-х футов, как поднимается вода, но гораздо менее; из чего можно
было заключить, что столб воды, ртути или какой другой жидкости поддер-
живается на известной высоте некоторою силою, которая для всех различных
жидкостей остается одинаковою, именно равною тяжести столба ее, подня-
того в насосе на ту или иную высоту смотря по удельному весу самой жид-
кости. Но что это была за сила, откуда исходила она, это еще не определялось
опытом Торричелли.
Узнав об этом опыте, молодой Паскаль (ему было в это время 23 года)
тотчас стал обдумывать его и, мысленно разнообразя, старался как-нибудь
связать с представлением об весящем воздухе. Упорное изыскание его было
наконец награждено простою и прекрасною мыслью, которая увековечила
его имя в истории науки: если поднятие жидкости в насосе и тяжесть воздуха
27
находились в какой-нибудь причинной связи, то эта связь должна была обна-
руживаться в обоюдном изменении каждого явления при изменении дру! о-
го. Поэтому опыт Торричелли был неполон: он сделал только половину ис-
следования, изменив одно явление и оставив без изменения другое. Изме-
ненное им явление - поднятие тяжелой жидкости в насосе - было только след-
ствием в некотором ряду физических фактов, и что его причина не была
определена, это было понятно, потому что не было изменено никакое другое
из ему сопутствующих явлений, о которых с какою-нибудь вероятностью
можно было бы думать, что в нем заключена его причина. Паскаль пришел к
мысли, что если воздух имеет тяжесть, то эта тяжесть, будучи величиною
постоянною в каждой данной точке земли и в данный момент времени, мо-
жет своим давлением производить поднятие жидкости в насосе, которое по-
тому именно и не бывает безграничным, что не безгранична тяжесть самого
воздуха. Но если это было действительно так, то наблюдаемое следствие дол-
жно было измениться, если бы можно было как-нибудь изменить эту пред-
полагаемую причину его. И в том, как это сделать, состоит сущность его
простого и великого открытия: воздух составляет оболочку вокруг земного
шара, и каков бы ни был ее предел вверху, если бы даже он был безграничен,
ее предел снизу строго определен: этим пределом служит сама земная по-
верхность, и он изменяется в зависимости от ее изменения. А с тем вместе и
толща воздушного слоя, где бы он ни кончался наверху, будет возрастать с
каждым понижением земли и уменьшаться с ее возвышением. Как нечто
подвижное, воздух представлял сходство с жидкостью, давление которой на
каждый предмет, под нею находящийся, измеряется давлением столба этой
жидкости, вершина которого лежит на ее поверхности, и основание опирает-
ся на самый предмет, - и, вероятно, не иначе действовало и давление воздуха^
если оно вообще было. Но тогда это давление должно быть неравномерно в
различных точках земной поверхности, именно более в ее углублениях и ме-
нее на высотах, так как над первыми давящий столб воздуха был несколько
длиннее, а на вторых короче (на величину разности в высоте самых мест
земной поверхности). Барометрическая трубка, которою Торричелли заме-
нил водяной насос, представляла для проверки этих соображений прекрас-
ное средство: в очень низких местах столб ртути в ней, если только он дей-
ствительно уравновешивал давление воздуха, должен был несколько подни-
маться, и, напротив, он должен был падать на высоких местах. Паскаль произ-
вел опыт сперва на башне одной церкви в Париже, но он, вероятно, не был
удачен: понижение ртутного столба в трубке при поднятии на ее вершину
было таково, что его нельзя было заметить, или, по крайней мере, сказа!ь
достоверно, что оно есть. Но это могло произойти от незначительности веса
воздушного столба, равного высоте башни, особенно в сравнении с весом
его до неизвестных границ земной атмосферы. Тогда опыт должен был уда-
сться лучше на более высоких местах. Паскаль не мог, по болезни, сам ocia-
вить Париж; но в его родине, гористой Оверни, жил муж его сестры, г. Перье:
он написал ему письмо, в котором изложил свои идеи и просил его повю-
28
рить свой опыт. Поблизости к месту жительства его зятя находилась высокая
гора, Пюи-де-Дом. Опыт с барометрическою трубкою был сделан при ее
подошве и на вершине, и высота ртути на последней оказалась на три дюйма
ниже, чем при первой. Г-н Перье рассказывает, как всех удивило это явление;
но оно удивило и весь ученый мир того времени, потому что разрешало,
наконец, вопрос о тяжести воздуха, так долго беспокоивший умы.
Но опыту этому суждено было стать последним в его научной деятель-
ности.
IV
С того времени, еще не имея 24-х лет от роду, он оставляет научные занятия и
обращается своею душою всецело к религии.
Он еще в отрочестве усвоил мысль своего отца, что предметы религиоз-
ной веры разнородны с предметами знания и потому не подчинены разуму,
не нуждаются в оправданиях посредством его и не могут быть поколеблены
его доводами. Просто и строго исполнял он все предписания церкви, никогда
не делая их предметом своего анализа. К разговорам сверстников о религии,
иногда вольным, он относился равнодушно, думая, что они вытекают имен-
но из незнания этого несоответствия между религиею и наукою. И позднее,
когда его внимание всецело сосредоточилось на первой, он был занят исклю-
чительно ее практическою стороною, религиозною нравственностью, но не
богословием, не содержанием религии, обработанным посредством фило-
софского мышления.
Один случай, который произошел с ним в Руане, особенно усилил его
нерасположение к тонкой умственной работе, приложенной к тому, что для
каждого, по его мнению, должно было служить предметом твердой и ясной
веры. Двое молодых друзей пригласили его однажды пойти к одному госпо-
дину, который высказывал некоторые новые положения в философии, очень
заинтересовавшие всех. Каковы были эти положения - осталось неизвест-
ным, но он выводил из них, между прочим, что тело И. Христа не было обра-
зовано из крови Св. Девы, а из некоторой другой материи, нарочно для этого
созданной. Друзья пытались его оспаривать, но он оставался тверд в своем
мнении. Тогда они решили, что предоставить свободно высказываться по-
добным мыслям было бы опасно, особенно для юношества, так восприим-
чивого и еще не окрепшего ни в каком убеждении. Они условились между
собою сделать ему предостережение, и если он не послушает их и будет
продолжать высказывать свои мысли открыто, - заявить на него людям, име-
ющим власть остановить лжеучение. Так и пришлось сделать: он пренебрег
их предостережением, а они, не считая себя вправе молчать, доложили о нем
дю-Белли, который в это время исполнял обязанности епископа в Руанском
диоцезе. Дю-Белли позвал этого господина к себе, лично расспросил его и в
заключение предложил ему изложить письменно свое исповедание веры.
Тот исполнил это, но так искусно скрыл свои особые мнения в двусмыслен-
29
ных выражениях, что епископ был обманут и отпустил его домой, с уверен-
ностью, что беспокойство Паскаля и его друзей было напрасно.
Однако эти последние, как только увидели исповедание своего знакомо-
го, тотчас заметили в нем и его заблуждение, искусно замаскированное. Они
тотчас отправились к самому архиепископу и изложили ему подробно все
дело. Тот понял важность его и отправил распоряжение дю-Белли снова ис-
следовать отпущенного им господина во всех пунктах вероучения, в которых
он казался сомнительным, причем рекомендовал ему руководиться во всем
этом деле указаниями Паскаля и его двух друзей. Все так и было исполнено:
позванный в епископский совет, он ясно и отчетливо отказался перед ним от
всех своих прежних мнений, - и, кажется, сделал это с полным сознанием их
вреда и ошибочности, потому что, продолжая и потом сохранять близкие
отношения к своим обвинителям, ни разу не высказал им какой-нибудь горе-
чи по поводу самого обвинения. Искренняя вера их, как и искреннее убежде-
ние его в верности своих умозаключений, в соединении с преданностью обе-
их сторон духовной иерархии придало всему этому делу тот чистый и благо-
родный характер, который так легко мог бы быть омрачен малейшим отсут-
ствием чистосердечия с какой-либо стороны. Для отрекшегося было ясно,
что он сам обманулся, приняв за истину умозаключения, в действительности
правильно выведенные, но из ложных предположений; и вместе с тем для
него было ясно, что обвинители не имели никакого намерения в чем-либо
повредить ему, но хотели только вывести его из самообмана и сберечь от
него других, еще менее способных оглядеться во всех этих тонких вопросах.
Паскаль, который уже в этих, почти еще юношеских, годах явился таким
ревнителем веры и ее чистоты, все более и более обращался своею мыслью
к Богу и усиливался в своей внутренней, духовной жизни сделаться угодным
Ему. Сила, с которою в нем разрасталось религиозное настроение, была так
велика, что ей невольно подчинились все его близкие. Даже отец не стыдился
подпасть духовному руководству своего сына, он сделался строг к себе в
жизни и, постоянно укрепляясь в христианских чувствах, окончил свою жизнь,
как достойный сын св. церкви.
Еще большее впечатление произвели беседы молодого Паскаля на сест-
ру его: любимая обществом, даровитая и прекрасная, она добровольно отка-
залась оттого заманчивого и неверного пути, который ей открывался в жиз-
ни, и поступила в монастырь Порт-Рояль. Строгость ее жизни, пламенная
вера и высокий ум скоро возвысили ее между всеми сверстницами и она
была избрана аббатисой. Исполняя сложные и трудные обязанности, связан-
ные с этою должностью, она умерла 36-ти лет от роду, 4 октября 1661 года.
Между тем болезни все более и более овладевали телом и самого моло-
дого исповедника. Научные занятия становились совершенно невозможны,
но тем страстнее обращался он душою к невидимым ни для кого подвигам
внутреннего усовершенствования. Главными страданиями его были затруд-
ненность в глотании и нестерпимые головные боли, к чему присоединялся
еще постоянный внутренний жар. Он мог принимать только жидкую пищу,
30
капля за каплей, и лишь согретую; так что даже лекарства принужден был,
взяв в рот, медленно втягивать в себя, несмотря на их отвратительный вкус.
Сверх того доктора объявили ему, что для восстановления сил ему необходи-
мо оставить всякие занятия и развлекаться; исполнить это требование ему
было особенно трудно, но он сделал над собою усилие. К тому же, он думал,
чистые развлечения не могут повредить его душе. Так он оставил свое посто-
янное уединение и начал появляться в обществе. Но на этом пути он встретил
противодействие в своей сестре, о которой мы уже говорили. Во время бесед
с братом, навещавшим ее часто в Порт-Рояле, она убедила его оставить все
завязавшиеся житейские связи и избегать развлечений, хотя бы это угрожало
даже его здоровью. Теперь, в свою очередь, он подпал влиянию суровой
монахини и с 30-летнего возраста, покинув свет, окончательно заключился в
том уединении, которое не оставлял до смерти.
Желание медиков, советовавших полное умственное бездействие, не
могло быть исполнено человеком, в котором вся жизнь заключалась в ум-
ственной деятельности. Он мог не брать пера в руки и не читать, но не мог не
думать; а, при совершающемся процессе мысли, ее изложение уже не есть
какой-либо труд. В 1656 году появились его «Lettres provinciates», написан-
ные в защиту гонимого янсенизма и направленные против иезуитов. Это
было в пору высшего торжества последних*, когда, завладев исповедью, шко-
лами, публичною литературою и тайнами королевских кабинетов, они на-
правляли сообразно целям своим дела истории и дух обществ. Их пламенное
рвение и постоянные успехи как будто ослепили общество, совершенно не
видевшее за ними губительности самих принципов, с помощью которых до-
ставались эти успехи. Никто так ясно, как Паскаль, не мог рассмотреть той
зияющей пропасти, к которой скользили западные народы, следуя за этими
людьми и увлекаемые быстротой своего движения. Весь погруженный в тре-
воги своей совести, всего более чуждаясь общих и далеких, извне поставляе-
мых целей, и, однако, гениальный в понимании всего отвлеченного, Паскаль
с силою восстал против иезуитов, отвергая их политику, обличая их в искаже-
♦ Лет за 16 перед этим иезуитский орден праздновал первое столетие своего
существования. Памятником этого празднования осталась одна из самых интересных
книг, «Imago primi saeculi Sociestatis Jesu, a provincia Flandro-Belgica ejus dem Societatis
repraesentat es». Antverpiae, an. M.DCXL, посвященная Regi saeculorum immortali Deo.
Здесь, кроме множества стихотворений и рассуждений, приготовленных к юбилею,
представлена и вся история и деятельность Ордена за первый век его существования.
Мы приведем перечень книг, входящих в состав этого классического по интересу
сочинения: lib. I - «Sociatas nascens» (р. 53-155), 1. II- «Societas crescens» (p. 204-
279), на стр. 282 основатель Ордена именуется «optimusmaximus que post Deum»;
1. Ill - «Societias agens sine de fumatianilus societatis», p. 331-440; 1. IV - «Societas patiens,
sine de adversis, quae Sociatati contigerunt» (p. 481-561), 1. V - «Societas honorata sine de
gloria, quam sociatati tat malis exercitae divi homines que contalerunt» (p. 581-705). Ha
одном из множества рисунков, украшающих эту любопытную книгу, представлены
оба полушария, восточное и западное, с символическим знаком Ордена всюду, куда он
ни проник - в Китай, Японию, Индию, внутреннюю Африку и Ю. Америку.
31
нии нравственности, подвергнув их мелочную казуистику высшему и точно-
му анализу. По ясности, простоте и вместе силе языка сочинение это навсег-
да осталось классическим во французской литературе. Оно было переведе-
но, вскоре после появления, на языки латинский (Николем, скрывшим свое
имя под псевдонимом Вильгельма Вендрока; перевод сопровождался обшир-
ными пояснениями и защитой оригинала), английский, итальянский (пере-
вод Козимо Брунетти, флорентийского дворянина) и испанский (Грациана
Кордеро). Было сделано даже издание, представляющее в четырех столбцах
каждых двух страниц параллельные тексты этого сочинения на всех четырех
романских языках. Смущение всемогущего ордена, тайна успехов которого
здесь разоблачалась, было велико. Многие из членов его пытались уничто-
жить значение «Провинциальных писем», но, как и всегда в литературе, оп-
ровержения лишь способствовали их распространению. Они были первым и
непоправимым ударом, за которым потом последовали и другие, если и не
сокрушившие иезуитский орден, то, по крайней мере, предостерегшие ог
него европейские общества.
Еще несколько ранее, в 1654 году, Паскаль написал небольшой, но в выс-
шей степени ценный труд, в ответ на вопросы, предложенные ему Ферма:
это был «Traite du triangle arithmetique», где он изложил ряд теорем и формул,
дающих возможность суммировать так называемые треугольно-пирамидаль-
ные числа, названные этим именем по виду фигуры, в которой они распола-
гаются. Особенная важность формул, найденных Паскалем, обусловливает-
ся тем, что они ведут к биному Ньютона, - если величины суммируемого
многочлена выражены в положительных и целых числах.
V
Решившись совершенно оставить свет, Паскаль уехал на некоторое время в
деревню, и, снова вернувшись, повел себя так, что свет уже не делал попытки
вновь привлечь его к себе. В основу нового образа жизни он положил два
правила: отказываться от всякого удовольствия и от всего излишнего. Он на-
чал с внешности и прежде всего отпустил всю прислугу, без которой сколько-
нибудь мог обойтись: сам стелил себе постель и сам ходил за обедом в кухню
и относил назад посуду. Только готовить себе обед и ходить за провизией он не
мог, так как этому мешала его болезнь. Все время, какое у него оставалось от
этих небольших забот, он употреблял на молитву и чтение Св. Писания. Он
находил в этом неистощимое удовольствие; про священные книги он гово-
рил, что они понимаются сердцем, а не умом, для которого остаются темны,
когда он пытается к ним приблизиться своею сухою рассудочностью.
Постоянное чтение этих книг, которому он предавался, забывая все, [при-
вело к тому], что, в конце концов, все замечательные места Писания он помнил
наизусть, и нельзя было цитировать ему из него, ошибаясь: он всегда поправ-
лял. Вместе с тем он начал читать и все многочисленные объяснения к Писа-
32
нию, а также и сочинения богословского содержания, потому что с любовью к
источнику в нем пробудилась и любовь к истинам, которые из него вытекали.
Около этого времени случилось одно происшествие, которое произвело
на него потрясающее впечатление. У замужней сестры его, которая оставила
его жизнеописание, была маленькая дочь, крестница Блеза. На четвертом
году у нее сделалась слезная фистула, через которую постоянно сочился гной
и шел не только из-под глаза, но и через нос. После нескольких попыток изле-
чить болезнь, лучшие медики Парижа признали ее неизлечимой. В Порт-
Рояле хранился шип от тернового венца Спасителя, который и прежде произ-
водил чудесные исцеления. Не получая помощи от людей, измученная мать
обратилась к небесной помощи. И Бог ее не оставил: от прикосновения к
святому шипу глаз ребенка исцелился мгновенно. Доктора, лечившие девоч-
ку, и потом сама церковь засвидетельствовали факт этого чуда. «Этот слу-
чай, - рассказывает г-жа Периэ, - возбудил в моем брате сильное желание
посвятить свои усилия на опровержения как самых принципов, так и ложных
рассуждений атеистов. Он стал изучать их сочинения с величайшим старани-
ем и напряг весь свой ум, чтобы отыскать пути к их убеждению». Уже работа
его близилась к концу и он стал собирать отдельные мысли, внушенные ему
долгим изучением и размышлением, «но Богу, Который внушил ему это
намерение, не было угодно, чтобы оно исполнилось».
Таково было происхождение прекрасной книги, которой ее издатели дали
название «Pensees». Нравственно-религиозные истины, в ней содержащие-
ся, шли из самой глубины сердца ее творца, были плодом всего его душевно-
го развития. Почти не нужно сожалеть, что она не была доведена до конца,
приведена в порядок и обработана. Эта обработка, наложенная разумом, это
приведение в связь и сопоставление слов, так невольно и мимолетно вырвав-
шихся, не могло, придавая стройность целому, не отнять свежести у частей.
Первое издание их было сделано восемь лет спустя по смерти автора, в
1670 году: это было очень неполное собрание заметок, написанных на клоч-
ках бумаги, которые были найдены в комнате Паскаля его друзьями из Порт-
Рояля; несколько позднее член конгрегации Оратория, Демоне, опубликовал
еще дополнительный том, содержащий мысли Паскаля, не вошедшие в пер-
вое издание. Наконец, полное издание «Мыслей», в двух томах, появилось в
1687 году, с приложением биографии Паскаля, написанной его сестрою, и
двух статей Дюбуа, которые служили частью пояснением, частью дополне-
нием к отрывочному содержанию книги.
Паскаль не был совершенно одиночным явлением своего времени. По-
добно ему, многие люди, иногда высокого образования и положения, трево-
жились, как и всегда это бывает, теми же религиозными мыслями и питали
подобное же мнение о вреде суетной жизни и светских удовольствий. Они
посещали молодого затворника в его уединении, и беседы с ним всегда про-
изводили на них сильное впечатление. Долгое время спустя после его смерти
встречались люди высокой христианской жизни, которые говорили, что они
всем обязаны ему и от его доброго слова идут все их добрые дела.
2 Зак. 3969
33
Как ни были эти разговоры чисты по своему предмету, Паскаль все-таки
опасался, не являются ли они нарушением правила, поставленного им для
себя - избегать всякого удовольствия. Наконец, он нашел средство в одно и
то же время и не отказывать никому в духовной помощи, и не уклоняться от
исполнения принятого обета: когда он выходил к посетителю, он надевал же-
лезный пояс, усеянный гвоздями, прямо на тело, и если во время беседы ему
приходилось замечать, что он уклоняется от своего долга, он надавливал не-
заметно локтем на скрытый под платьем пояс и боль от уколов заставляла его
мгновенно забывать вредную мысль, готовившуюся его увлечь. Способ этот
казался ему настолько действительным и так полезным, что он не оставил его
и в последнее время своей жизни, когда, вследствие увеличившихся страда-
ний, не мог ни писать, ни читать, ни даже ходить. Он особенно боялся, став-
шего теперь неизбежным, досуга и прибегал к своему верному средству,
чтобы отогнать от своей души все дурное. Обо всем этом близкие узнали
только после его смерти, от одного лица, которому он все доверял.
Так поступал он в исполнении правила: избегать всякого удовольствия.
По другому правилу - не иметь ничего лишнего - он постепенно уничтожил
у себя все бесполезные вещи и, наконец, даже обивку в своей комнате, - что
могло бы показаться его посетителям невежеством по отношению к ним,
если б к нему не приходили только люди, одинаково настроенные с ним в
своей душе.
Так проводил он годы своей жизни, думая о Боге, о ближних и о внутрен-
ней чистоте своей. В этот промежуток времени с ним произошел один слу-
чай, имевший очень большое влияние на течение его религиозных идей. Од-
нажды он ехал на прогулку в коляске, запряженной, по обычаю того време-
ни, четверней. На пути прогулки лежал мост, и только что лошади въехали на
него, как передняя пара их, чего-то испугавшись, бросилась в сторону. <.. .>
34
1892 год
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ
Я праздновал бы великий праздник радости, если бы
сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы до-
казали мне, что я заблуждаюсь.
К. Леонтьев
I
Все, привыкшие следить за литературной критикой, вероятно, с большим лю-
бопытством встретили ряд статей, помещенных в «Русском Вестнике» за ис-
текший 1890 юд и посвященных разбору двух главных романов гр. Толстого:
«Войны и мира» и «Анны Карениной»*. Имя, подписанное под этими стать-
ями, не принадлежит к числу тех, которые утомили своим звуком слух, и даже
для многих читателей, вовсе не равнодушных к литературе, оно, вероятно,
показалось ново. Правда, кто привык толкаться, в качестве зрителя или дей-
ствующего лица, по базару литературной суеты, мог припомнить это имя из
«Биографии и писем» покойного Ф. М. Достоевского**. Но и это мелькнув-
шее, хоть и не забытое впечатление было как-то двусмысленно: в желчных
строках Достоевского сказалась какая-то ненависть... Во всяком случае, это
впечатление было слишком кратко, чтобы пробудить в читателях ищущий
интерес, а тот, к кому относились эти мимолетные заметки, по-видимому, сам
нисколько не заботился о том, чтобы привлечь к себе внимание. Его имя не
повторялось в газетах и журналах, и было естественно для каждого подумать,
что он стоит в стороне от большой дороги, по которой движется развитие
идей, владеющих сознанием нашего времени. Вне этого движения, из какого-
то глухого угла, раздался и замолк голос, который тотчас же покрылся тыся-
* Анализ, стиль и веяние. По поводу романов гр. Толстого. См. «Русский
Вестник», 1890 г., июль-август.
** Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. Т. 1. Отд. 2.
С. 369 («Из записной книжки»).
35
чею других голосов, правда, не очень внятных и вовсе не вызывающих в нас
желания прислушиваться к ним, но шум которых, вопреки этому желанию,
совершенно не дает возможности сосредоточиться на чем-нибудь, что им не
вторит, с ними не совпадает.
Таким образом, повторяем, для очень широких слоев читающего обще-
ства имя г. К. Леонтьева год тому назад могло показаться новым. И тем силь-
нее и ярче становилось впечатление, которое производил ряд его критичес-
ких статей, посвященных писателю, на котором так ясно лежит печать высше-
го избранничества. Как ни много об этом писателе передумано, каждый, кто
хочет к сказанному прибавить еще слово, невольно возбуждает к себе теперь
внимание всех. Все с таким напряжением следят за развитием его душевной
истории. Усилия, которые делаются многими для того, чтобы набросить по-
кров на эту историю, хотя исходят из высоких и чистых побуждений, произ-
водят невольное впечатление во всех, кто ясно понимает, где мы и куда идем.
В них видно опасение за какую-то святыню, за что-то вековечное и незыбле-
мое, что будто бы может пошатнуть этот человек, и не видно сознания, как в
действительности далека от нас эта святыня, как давно и беспредельно ото-
шли мы от всяких незыблемых основ. Мы не с ними, не на безопасном мате-
рике, - мы, как и многие уже поколения, уносимся в мутном потоке все
далее и далее, бессильные ухватиться за что-нибудь прочное своим колеблю-
щимся сердцем и слабым умом. И если среди нас, одинаково чувствующих
свою беду и одинаково бессильных бороться с нею, находится человек, кото-
рый пытается это сделать, - мы должны бы этому только радоваться. Вовсе
не стремление к чему-нибудь дурному, но именно полное сознание невоз-
можности для человека жить без какой-нибудь святыни, без вековечных ос-
нов в своей душе - заставляет нас с величайшим ожиданием смотреть на
писателя, который из всех один, как мощный конь, бьет и обрывает берег,
усиливаясь на него выйти.
В отношении к человеку такой силы и такого значения мы всегда ожида-
ем встретить критику подчиненную, - и, однако, достаточно было прочесть
немного страниц в статье г. Леонтьева, чтобы понять, что здесь оцениваемая
сила столкнулась с неменьшею оценивающею. Писатель, так мало извест-
ный, что мы могли бы его счесть молодым, в словах, несколько разбросан-
ных и, однако, убедительных в каждом своем изгибе, входит в безграничный
лабиринт художественного творчества нашего романиста и именно в том, в
чем он казался нам всесилен, в искусстве созидания, прямо указывает недо-
статки, которые ему больно видеть. Страстная любовь к избранному писате-
лю сквозит через эти упреки, и мы почти не удивляемся, видя, как далее он
приводит на память целые места из него, без особенной боязни ошибиться
хоть в одном слове. Мы начинаем сомневаться только в молодости критика,
мы угадываем в нем человека, который хоть впервые заговорил о романисте,
о котором уже давно говорят все, кто может хоть что-нибудь сказать, - одна-
ко, очевидно, сжился с миром его художественного творчества и наконец
через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от
36
красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает,
почему это он делает. Почти невозможно не согласиться с его взглядом на
Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла на-
шей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в
пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на
новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созер-
цаниям, чем какие господствовали последние сорок лет, и находить иные
приемы, чтобы их выразить. И в самом деле, всех поражающее отсутствие
новых дарований, уже давно замечаемое в этой сфере, есть верный симптом
того, что мы живем в промежуточную эпоху среди двух литературных на-
строений, из которых одно уже замирает, а другое еще не имеет силы родить-
ся. Редкое знакомство г. Леонтьева с литературами разных народов и притом
в очень различные периоды их развития, без сомнения, помогло ему, выйдя
из интересов и пристрастий своего дня, подняться над целым ее циклом и,
поняв его отличительные черты, понять вместе и то, что в их пределах все
возможное уже достигнуто, и нечего ожидать еще чего-нибудь лучшего. А
по самой природе своей человеческий дух, раз в каком-нибудь направлении
достигнув предела, за который ему не дано переступить, избирает новые
направления, в которых он может двигаться, т. е. жить.
С большим мастерством, сравнивая два главных романа гр. Л.Толстого,
г. Леонтьев находит художественные недостатки в «Войне и мире», которые
в «Анне Карениной» окончательно исчезают. Таким образом, именно этот
роман является окончательным и высшим выражением того направления
нашей литературы, которое получило, не совсем правильно, название «на-
турального». Отражение человеческой жизни в нем становится действи-
тельно безупречным, и эта безупречность настолько велика, что изучение
людей и их отношений в самой жизни или рассматривание всего этого в
отражении зеркально-чистого художественного произведения становится
уже одинаково и равноценно. Это-действительно апогей натуралистичес-
кого развития, достигнув которого, в тех же пределах, художество уже не
имеет более целей, теряет их. В частности, эта безупречность достигнута
тем, что и психический анализ, и скульптурность внешнего изображения в
этом романе уже лишены и тех недостатков, которые еще есть в «Войне и
мире» и которых было гораздо более в других, ранее написанных очерках и
рассказах нашего романиста.
Понимание человеческой души есть необходимое условие для понима-
ния человеческой жизни, и вот почему в цикле нашей литературы, имевшем
задачею воспроизвести последнюю, первый занял центральное положение.
Этот анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем при-
менении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у
гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях,
повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для
художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирова-
ние. Ему, как справедливо замечает г. Леонтьев, одинаково доступен внут-
37
ренний мир мужчины и женщины*, человека, не вышедшего из первобыт-
ной наивности** и высокоразвитого***, старика и ребенка****. В возрасте,
в поле, в степени образования и в уклоне характеров разные писатели встре-
чали грани, за которыми они видели лишь положения и движения, - и только
для одного гр. Толстого как будто не существует этих граней, и каков бы ни
был человек, где бы он ни находился и чту бы ни делал, - он был ему понятен
с внутренней стороны своей жизни. В одном только, в национальности, он
встречает некоторое препятствие для своего анализа, чрез которое не знаем,
может ли, но, очевидно, не хочет***** переступить. Зато его анализ и хочет,
и может переступать даже границы, положенные для человеческого понима-
ния формами человеческой же психической жизни: он без труда, на некото-
рые моменты, спускается и в животный мир, с его чуть брезжащими зачатка-
ми душевных состояний (например, в сценах охоты).
В этом анализе, столь всесильном по сферам изображаемым, г. Леонть-
ев находит исчезающие недостатки в «Войне и мире», которые в «Анне Каре-
ниной» пропадают окончательно. Он справедливо указывает на излишество
наблюдения, на придирчивость, на подозрительное подглядывание, которое
великий романист допускает в себе по отношению к выводимым у него ли-
цам. Не только для читателя его произведений, но и для самого художника
скульптурность и жизненность созданных им образов так велика, что они
движутся, говорят и действуют, хотя, конечно, по воле творца своего, но и
вместе как будто независимо от этой воли, и он следит за ними пытливым
взглядом человека, который прежде всего хочет не доверять. Он ищет дурных
и мелочных мотивов даже и там, где они вовсе не необходимы. Критик прав-
доподобно указывает и вероятную причину этого: он посмотрел в душу ху-
дожника, так скептически смотрящего на своих героев, и увидел, что он ищет
в них того, чего боится в себе. Он ищет в них ложного величия, он опасается,
* В противоположность Достоевскому, который вовсе не знал и никогда не
пытался изображать внутренние движения женщины; отсюда все женские характеры
у него - бледные тени, которые действуют, но не живут около изображаемых им
мужских характеров. См., например, ряд женских фигур в «Идиоте».
** Сюда принадлежит, например, удивительный тип старика Алпатыча, с его
поездкою в Смоленск (в «Войне и мире»).
**♦ Психический мир этого последнего служит предметом постоянного анали-
за у Тургенева; напротив, механизм внутренних движений у людей непосредственных
этому художнику недоступен.
**♦* Сережа Каренин.
♦♦♦♦* Судя по типам двух гувернеров, немца и француза, в «Детстве и отроче-
стве», скорее можно думать, что не хочет. По поводу психического анализа иноплемен-
ных людей у гр. Л. Толстого, вообще, можно заметить, что он собирателен, тогда как,[
касаясь русских, он индивидуален. В изображении французов или немцев мы не видим>
у него лица, но только племя, народ, представленный в собирательных чертах своих
чрез одно лицо; напротив, в изображении русских это собирательное есть, но оно'
рассеяно, как и должно, по бесчисленным фигурам его произведений, совершенно"
теряясь, в каждой из них, за чертами личными. Л
38
как бы под каким-нибудь извне высоким поступком у них не оказалось пус-
того места внутри. От этого он любит их унижать, он хочет видеть их смешны-
ми даже и тогда, когда они хотят быть только серьезными. Странное следствие
получается из этого: оборванные, общипанные своим творцом, перед нами
выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда
черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый.
Природа человеческая высока и прекрасна, хотя и не на тот манер, как обык-
новенно про это думают, - вот окончательное и неизгладимое впечатление,
которое ложится на душу размышляющего читателя после долгого и внима-
тельного изучения произведений гр. Толстого.
Психический анализ в «Анне Карениной» чужд этой нервной подозри-
тельности. Как будто взгляд автора на человека окончательно установился,
когда он писал этот роман, и все приемы в изображении людей приобрели
здесь окончательную твердость и отчетливость, так что в движении художе-
ственной кисти нет уже ни одного пробного мазка. Он уже не высматривает
здесь душу человека, он видит ее и говорит о том, что видит, но не описывает
того, что подозревает в ней.
Не менее убедительно, подробными сравнениями, г. Леонтьев указыва-
ет и превосходство «Анны Карениной» над «Войною и миром» в изображе-
нии общего колорита представленной там и здесь эпохи. Всегда и всеми «Война
и мир» считалась безупречным романом с точки зрения исторической вер-
ности. Анализ необыкновенной тонкости, которому подверг критик этот ро-
ман, открывает в нем, при всюду безупречной верности природе человека
вообще, некоторые уклонения в верности тому, как могла выразиться эта
природа в начале нашего века. Неточность, в которую впал здесь гр. Толстой,
двоякая: общая, которая чувствуется во всем романе, и частная, которая
выступает особенно резко при чтении некоторых сцен его. Все в России, за
исключением государственного патриотизма, было «поплоше, послабее,
побледнее» выражено в эпоху отечественной войны, нежели как это предста-
вил гр. Толстой. Люди того времени не имели такой сложности в своем ду-
шевном развитии, и в особенности они совершенно не умели так отчетливо
и точно выражать свои душевные движения. Они отлично действовали и хо-
рошо чувствовали, но впадали в непременную запутанность языка и в неяс-
ность выражений, как только им приходилось говорить о чем-нибудь слож-
ном, углубленном, не так очевидном. Рефлексия, вечное обращение внутрь
себя еще не углубило в то время и не разрыхлило душу русского человека, и
все мысли в нем были не так тягучи, а чувства имели у себя более простую и
ясную основу в фактах внешней действительности. С несравненным понима-
нием и обильным знанием фактов г. Леонтьев отмечает последовательные
психические наслоения, которые позднее сгустили краски нашей личной и
общественной жизни. Так, он тонко указывает на первое пробуждение у нас
сильного воображения, которое замечается в Гоголе. И гораздо раньше, чем
он оканчивает свою осторожную аргументацию, читатель убеждается, как
много мыслей и чувств, ставших возможными и обычными лишь впослед-
39
ствии, гр. Толстой внес в изображение эпохи, совершенно чуждой им. Как,
например, особенно поразительный, г. Леонтьев указывает на отношения
Пьера Безухова к пленному солдату Платону Каратаеву, и на все размышле-
ния первого о народном. Эти мысли и подобные отношения стали возможны
лишь после славянофилов, после Достоевского, но никакого следа их мы не
открываем в воспоминаниях или в литературных произведениях за два пер-
вых десятилетия нашего века.
Третий недостаток, так же пропадающий в «Анне Карениной», есть из-
лишество в «Войне и мире» ненужных натуралистических мазков. Г. Леонть-
ев не находит лишним введение каких бы то ни было грубых описаний или
сцен, если они чему-нибудь служат, если их требует правда жизни. Так, гру-
бое описание физиологических отправлений в «Смерти Ивана Ильича» не
оскорбляет его вкус, как оно оскорбляло вкус многих критиков, во всех дру-
гих отношениях менее взыскательных. Напротив, множество мимолетных
замечаний, вовсе не грубых, в «Войне и мире» он справедливо признает ни
для чего не служащими и видит в них только результат напряженного усилия
художника всюду стоять как можно ближе к действительности. Эти излише-
ства натурализма ничего не объясняют и не дополняют в ходе рассказа, а в
искусстве, как и в органической природе, что не строго целесообразно — то
уже портит, что не нужно более - делается вредным.
Таков, всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждаю-
щийся суд, который произносит г. Леонтьев над высшими произведениями
нашей натуральной школы. Мельком рассеяны, в его пространном разборе,
меткие характеристики и других наших писателей, напр. Достоевского, Турге-
нева, Щедрина, Кохановской, Евг. Тур, Марко-Вовчка и др. Немногие строки,
посвященные им, так изумительно захватывают самую сердцевину этих писа-
телей, что они все будут сохранены историей нашей литературы, если она
захочет быть мало-мальски внимательной к своему предмету. Несколько более
пространная вводная характеристика посвящена только С. Т Аксакову. Как
бледною и неумелою кажется рядом с нею краткая же характеристика этого
писателя, оставленная нам Хомяковым. Этот последний был только мыслитель
и публицист, а это всегда недостаточно, когда нам предстоит говорить о людях
или об их истории.
II
После цикла литературы, так полно изобразившего перед нами, как живут
люди, всего более мы хотели бы видеть литературу, изображающую, чем жи-
вут они; после натурализма, отражения действительности, естественно ожи-
дать идеализма, проникновения в смысл ее.
В психических течениях, которые мы наблюдаем в окружающем обще-
стве, эта потребность задуматься над смыслом своей жизни и в самом деле
перерастает все прочие. Как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и
заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала ис-
40
сякать в нас, - и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более
не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви
ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно при-
лепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми,
бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равно-
душно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней
развязки. Мы точно предчувствуем, и притом все, наступающий и темный
трагизм в развитии нашей собственной души и, убегая его с ужасом, мучи-
тельно обращаем взоры вокруг и ищем, за чту могли бы ухватиться в момент,
когда почувствуем, что не в силах долее жить.
Вековые течения истории и философия - вот что станет, вероятно, в
ближайшем будущем, любимым предметом нашего изучения; и жадное
стремление, овладев событиями, направить их - вот что сделается предме-
том нашей главной заботы. Политика в высоком смысле этого слова, в смыс-
ле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия, как по-
требность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души - такова цель,
неудержимо влекущая нас к себе, и которую мы должны, наконец, прояс-
нить сознанием, чтобы сколько-нибудь успешно к ней приблизиться. Как
изображение частного в искусстве, так познание только частного в науке и
стремление к частным же целям в действительности - все это недостаточно
уже, видимо, бесполезно, и время всего этого ясно оканчивается. Мы вхо-
дим в круг интересов и забот, неизмеримо более трудных и неизмеримо
более важных. Нас толкает в них страдание, которого мы не можем выно-
сить и от которого нас не может избавить никакое знание подробностей и
никакая власть над ними.
Писатель, так верно и так точно определивший характер и окончание
пережитого нами цикла в искусстве, быть может, имеет и некоторые своеоб-
разные понятия о самой жизни, воспроизводимой в искусстве. И в самом
деле, в его критических статьях там и здесь разбросаны мысли политические,
философские и исторические, и, как они ни кратки, наше внимание необык-
новенно возбуждается ими. Удивительна не только верность этих замечаний,
удивителен зоркий взгляд, высматривающий то, чего нужно главнее всего
коснуться, и какая-то непостижимая беззастенчивость языка, гибкого и твер-
дого, как сталь, которая то оскорбляет в нас все привычные чувства, то не-
удержимо привлекает к себе наш ум. Долгий опыт жизни, огромная начитан-
ность и, главное, упорная вдумчивость в важнейшие вопросы нашего лично-
го и общественного существования невольно чувствуются за этими мимо-
летными заметками. Мы невольно начинаем неудержимо заинтересовываться
самим критиком, мы забываем разбираемого романиста и из-за его фигуры,
так всем знакомой, хотим рассмотреть стоящую в тени фигуру политика,
философа и публициста, который, очевидно, временно, взялся за переоцен-
ку двух знаменитых литературных произведений. Очень немного узнаем мы
о нем из пространных критических статей. Разве только, читая ироническое
замечание о том, как гр. Толстой свои внутренние ощущения силится отыс-
41
кать в людях 50-х годов, мы узнаем, что в то время, как наш романист боролся
на севастопольских бастионах, его будущий критик работал на перевязочных
пунктах. Справляясь, мы в самом деле находим его имя в списках студентов,
получивших в 1854 году степень лекаря* и тотчас же отправившихся в дей-
ствующую армию. Но это отрывочное сведение еще более заинтересовыва-
ет нас: в первый раз мы встречаем в летописях литературы имя, столь оче-
видно запечатленное высоким даром и, однако, вовсе не принадлежащее к
питомцам исторических, философских и литературных кафедр. В ту немно-
гочисленную, но в высшей степени влиятельную толпу, которая от этих ка-
федр всегда несла идейное развитие в наше общество, входит человек, никог-
да не стоявший около них, и в сухих и резких суждениях которого мы тотчас
узнаем, однако, такое обилие именно идейности, которая удивила бы нас и в
человеке, всю жизнь посвятившем литературе и философии. Это указывает
на ум сильный и богатый самобытными стремлениями. Конечно, не требо-
вания профессии и не впечатления ученических годов, принужденно вос-
принятые, пробудили в нем интерес к искусству и истории, к политике и
народной психологии. И если мы встречаем даже в кратких заметках его
столько проницательности, такое различение главного во всем от второсте-
пенного, то нас не удивляет это более потому, что мы видим здесь любовь
артиста к своему делу, а не простое прилежание книжного невольника к дав-
но наскучившему для него занятию.
Любопытство наше возбуждено, и после долгих поисков мы находим
наконец два тома дурно изданных статей его, которые посвящены исключи-
тельно истории и политике**. Г. Леонтьев действительно писатель очень ста-
рый; но он сотрудничал в одной малораспространенной провинциальной
газете*** или в разных изданиях. Точно какая-то судьба, насмешливая или
предусмотрительная, не допускала его к центрам событий, куда он, очевид-
но, рвался, и всегда отталкивала его к их периферии, к бессильной роли ис-
полнителя чужих предначертаний. Полный самых широких теорий, самого
общего и возвышенного взгляда на текущие события, он барахтался в волне
одного из них и двигался вместе с нею, один зная, куда движутся все они и
куда их следовало бы направить. Можно думать, что это положение бессилия
в высшей степени раздражало его, и с умом, так непреодолимо влекущимся
к общим воззрениям, он, вероятно, не так ясно видел и не так умело выпол-
нял разные мелкие обязанности, которые ему были поручены. Его служба в
должности консула в турецких и славянских (до освобождения Болгарии) зем-
лях едва ли была успешна, и, вероятно, веселый и добродушный г. Якубовс-
кий, о котором он вспоминает во втором томе своих статей, был гораздо
более исполнителен, деловит и удобен, чем он.
* См. «Историческую записку, речи, стихи и отчет Императорского Московс-
кого университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 г., по случаю
его столетнего юбилея». М., 1855. С. 22.
** «Восток, Россия и Славянство». Сборник статей К. Леонтьева. М., 1885.
*♦♦ В «Варшавском Дневнике».
42
Все это сделало его наблюдателем и мыслителем. Мы редко умеем пред-
видеть, что было бы лучше для нас и для других, и если бы г. Леонтьеву
выпала более деятельная роль в практической политике, он, верно, отдав-
шись ей со страстью, до конца не высказал бы тех взглядов, которыми сам
молча руководился бы. Мы имели бы несколько крупных дел, несколько лиш-
них фактов в нашей политической истории, которые могли бы быть измене-
ны и изглажены всяким его преемником, но мы не имели бы перед собою
глубоких наблюдений и теорий, которые теперь уже стали неизгладимы и
могут породить неопределенное число фактов, выполнимых для всякого, кто
хочет размышлять, видеть и не быть слепым игралищем темных историчес-
ких сил.
III
Строго говоря, г. Леонтьева занимает одна мысль, и кто ее усвоил, тот читает
длинный ряд его статей, забегая воображением вперед и не ошибаясь в своих
угадываниях. Но эта мысль до такой степени важна, что, почти без всякого
опасения ошибиться, мы готовы сказать, что из всех идей, волнующих совре-
менный политический и умственный мир, ни одна не способна так встрево-
жить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить
симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической
жизни. Именно он первый понял смысл исторического движения в XIX в.,
преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее дви-
жемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило
добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истин-
ное соотношение между различными культурными мирами и преобразует
совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее тре-
бований и воззрений, как наивность, коренным образом противоречащую ее
основной идее.
Он задается вопросом*: что такое процесс развития, которого выраже-
нием служит историческая жизнь всех народов, как она уже совершилась, и
которому служим мы все своим умом, своею волею и страстями, всегда наде-
ясь ему способствовать, всегда желая устранять то, что его задерживает, - и
отвечает следующее:
«Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюде-
ний над которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс
развития в этой органической жизни значит вот что:
Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепен-
ная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего
мира, а с другой - от сходных и родственных организмов, от всех сходных
и родственных явлений.
♦«Восток, Россия и Славянство». М., 1885. Т. I. Ряд статей под общим заглавием
«Византизм и Славянство», гл. VI. «Что такое процесс развития», с. 136 и след.
43
Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и
сложности.
Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства
внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.
Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и
вообще в органических явлениях, есть высшая степень сложности, объе-
диненная некоторым внутренним деспотическим единством»*.
Естественно-историческая основа, на которую становится г. Леонтьев, что-
бы перейти потом к истории, чрезвычайно важна в этом отношении, что она
дает объективные, доступные наблюдению признаки развития и таким обра-
зом устраняет из научного исследования вмешательство страстей и вообще
всякого субъективного чувства, которое затмевает для человека истину, когда
предметом ее, еще искомой, служит он сам. И в самом деле, сложность не
сливающихся в одно признаков, как критериум развития, - это дело почти
арифметического счета, это открыто для всякого внешнего наблюдения.
Как старый медик, он находил нужным пояснить свою мысль примером
из круга явлений, ему особенно известных: «Возьмем, - говорит он, - карти-
ну какой-нибудь болезни, положим preumonia (воспаление легких). Начина-
ется оно большею частью просто, так просто, что его нельзя строго отли-
чить вначале от обыкновенной простуды, от bronchitis**, от pleuritis*** и от
множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, боль в
груди или в боку, кашель, жар. Если бы в это время человек умер от чего-
нибудь случайного, то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, очень
мало отличий от других легких. Болезнь не развита, не сложна еще, и
потому и не индивидуализирована и не сильна (еще не опасна, не смерто-
носна, еще мало влиятельна). Чем сложнее становится картина, тем в ней
больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуа-
лизируется, классифицируется, отделяется, и, с другой стороны, тем она все
сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются (жар, боль, го-
рячка, кашель), но есть еще новые - удушье, мокрота, окрашенная, смотря
по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец,
специфический ronchus crepitans. Потом приходит минута, когда картина
наиболее сложна: в одной части легких простой ronchus subcrepitans, свой-
ственный и другим процессам, в другой ronchus crepitans (подобный нежно-
му треску волос, которые мы будем медленно растирать около уха), в тре-
тьем месте выслушивание дает бронхиальное дыхание souffle tubaire****,
наподобие дуновения в какую-нибудь трубку: это - опеченение легких, воз-
дух не проходит вовсе. То же самое разнообразие явлений дает нам и вскры-
тие: 1) силу их, 2) сложность, 3) индивидуализацию.
♦«Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 137.
** бронхит (лат.).
*** плеврит (лат.).
♦♦♦♦ туберкулезное дыхание (фр.).
44
«Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни
упрощается.
Если же дело - к победе болезни, то, напротив, упрощается, или вдруг,
или постепенно, картина самого организма.
Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие призна-
ков, составлявших картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота
становится обыкновеннее (менее индивидуализирована); хрипы переходят в
более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей; жар спадает, опече-
нение разрешается, т. е. легкие становятся опять однороднее, однообразнее
(на всем своем протяжении и также со всякими другими легкими).
Если дело идет к смерти, начинается упрощение организма. Предсмерт-
ные, последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина бо-
лезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина
трупа малосложнее картины живого организма, в трупе все мало-помалу
сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все
цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень
трудно отличить от всякого другого трупа. Потом упрощение и смешение
составных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс раз-
ложения, распадения, расторжения, разлития в окружающем. Мягкие части
трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят
до крайней неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода,
разливаются в окружающем мире, распространяются»*.
Мы выписали подробное описание этого явления, потому что одно очень
яркое представление необыкновенно закрепляет в воображении общее по-
нятие, в смысл которого нам предстоит вникнуть. В этом явлении мы наблю-
даем два типических процесса: органической жизни и органического умира-
ния. Противоположные друг другу, они вступают в борьбу, и момент победы
одного, совпадающий с наибольшею его сложностью, есть момент начинаю-
щегося упрощения другого. Смерть, исчезновение есть здесь действительно
возвращение сложного к однородному, разнообразного - к сходному, обо-
собленного - к смешанному. То, что силою жизни сдерживалось некогда в
одних определенных границах, не сдерживаемое ничем более - сливается с
окружающим: окружающее вступает на его место, и оно входит во все окру-
жающее. Части организованного, прежде различавшиеся по виду и по назна-
чению своему, теперь различаются только по местоположению и величине;
они перестают быть качественными и становятся лишь количественными.
Обращаясь, далее, к эмбриологическому процессу, этому прототипу
всякого развития, мы находим, что формирующееся в нем живое существо
только в последний момент, когда рождается, имеет в себе все те сложные и
строго обособленные черты, которые принадлежат ему, как органическому
виду. Напротив, чем в более ранней стадии развития мы рассмотрим это
существо, тем менее заметим мы в нем характеристических черт, и все эти
* «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 138-139.
45
черты общи ему в позднюю стадию развития - с родом, в более раннюю - с
классом, еще раньше - с отделом животного царства, и, наконец, в самый
первый момент (яйцо материнского организма) - с целым животным цар-
ством. Каждая ступень развития есть как бы навивающаяся нить различия от
всего другого, которую воспринимает на себя развивающееся существо, и
они становятся тем многочисленнее, чем оно - совершеннее.
Г. Леонтьев не удовлетворяется только фактами, взятыми из органической
жизни, и спрашивает себя, не остается ли верным этот критериум развития и для
неорганических тел? Он берет самое крупное - планету, которая является носи-
телем всякой жизни, и в ее существовании отмечает те же три момента, какие
наблюдаются и в каждом организме: 1) первоначальной простоты, когда она
есть только газообразная или огненно-жидкая масса вещества; 2) срединной слож-
ности, когда она состоит из огненно-жидкого ядра и твердой коры, а последняя
из воды и суши, которая, в свою очередь, распределена в материки, различные
по строению и покрытые растениями и животными; 3) вторичной простоты:
холодная, пустынная глыба вещества, лишенная влаги и уравненная в своей фор-
ме, которая продолжает кружиться около центрального светила.
Таким образом, существование всего, подлежащего закону рождения и
умирания, слагается из двух, диаметрально противоположных процессов:
1) из процесса восходящего развития, в котором возникшее обособля-
ется, уединяясь, от всего окружающего, и внутри его каждая часть обособля-
ется, уединяясь, от всех прочих; но это обособление касается лишь формы и
функционирования: все части проникнуты единством плана, и он-то, коре-
нясь в обособляющем существе, разнообразит своею сложностью его части
и вместе удерживает их от распадения;
2) из процесса нисходящего развития, в котором все вторично смеши-
вается, смешиваясь, сливается и становится однородным как с окружающим
через утрату внешних границ своих, так и внутри самого себя через потерю
границ, которые в нем отделяли одну часть от другой.
В обоих процессах, как это ясно, господствующее начало есть начало гра-
ни, предела: становится оно тверже, не переступаемее для содержимого - и
жизнь возрастает; тускнеет оно, не сдерживает более содержимого - и жизнь
блекнет и исчезает. Грань - это не только символ жизни, но и зиждитель ее;
неопределенность, неограниченность - это эмблема смерти и ее источник.
IV
Собственно, приведенным понятием исчерпывается теория г. Леонтьева; все
остальное-только приложения. Но, как великие метафизики XVII в., кладя в
основание своих умозрений два-три определения, возводили на них с грогие и
возвышенные системы, так из простого, но хорошо обоснованного, понятия
о развитии г. Леонтьев выводит необозримые следствия, простирающиеся на
историческую жизнь и на практическую политику.
46
Прежде всего он спрашивает себя, не подлежит ли этому двоякому про-
цессу, восходящему и нисходящему, и историческая жизнь народов со всем
их творчеством? Обилие признаков, разнообразие сдерживающих граней не
есть ли и для них признак восхождения, а слияние этих граней и смешение
внутреннего содержимого - признак нисхождения, как это мы наблюдаем в
органической природе и даже в неорганических телах?
В принципе ограничения, в наружном оформливании выражается внут-
ренняя идея того, в чем оно присутствует. Если мы возьмем, напр., часовой
механизм, то будет ли он сделан из дерева, из бронзы или из золота, то, из чего
он сделан, - будет незначущим, а то, как он сделан, т. е. вид каждой части и
соотношение или связь всех их между собою (форма целого), - будет значу-
щим. Только эта форма и есть признак, по которому часовой механизм мы
отличаем от плотного куска дерева, бронзы или золота, или от деревянного,
бронзового или золотого сосуда. Итак, содержимое (материал, вещество) само
по себе всегда бесформенно, лишено признаков и незначуще; оно будет тем,
чем сделает его привходящая форма, и лишь как способное воспринять фор-
му, т. е. сделаться тем или иным определенным существом или предметом-
оно имеет значение. Напротив, форма или вид, как начало ограничивающее
и сдерживающее, исполнено значения, и когда она привходит в какое-нибудь
содержание, - это последнее получает соответствующий смысл. С тем вмес-
те оно получает (принимая в себя определенную форму) и обособляющий
признак. Таким образом, многоформенность или сложность признаков во
всем развивающемся тождественна с проникновением в существо его внут-
реннего смысла: оно одухотворяется, и именно в силу этого - нарастает в
нем жизненность. Напротив, растворение сдерживающих граней и смеше-
ние их содержимого потому именно и тождественно с умиранием, что - с
удаляющимися гранями - исчезает смысл в том, чему они были присущи;
сливаясь, смешиваясь, теряя обособленность, - все обессмысливается. Так,
если бы к тонкому механизму, только что изготовленному из золота, мы под-
несли пламя свечи, - мысль, вложенная в него художником, стала бы блек-
нуть и исчезать по мере того, как под действием жара все его отдельные
части растаивали бы, теряли твердость граней и взаимно сливались. Винты
перестали бы отделяться от того, во что они входят, зубчатые колеса замени-
лись бы гладкими, все части сделались бы неразличимы, и, подойдя к нему
слишком поздно, никто не понял бы в массе распустившегося золота той
мысли, которая еще за несколько минут была так ясно в нем выражена.
Если в сложном, уже развитом организме мы рассмотрим соотношение
его обособленных частей, то заметим, что каждая из них как бы обращена
внутрь себя, и внешняя грань, которою она отделяется от всех других, смеж-
ных частей, имеет к этим последним отношение отталкивательное, как бы
враждебное; они же стремятся преодолеть ее и смешаться с содержанием,
которое за этой гранью находится. Таким образом, состояние внутреннего
антагонизма есть нормальное для всего организованного: борьба есть имен-
но то, через что каждая часть продолжает быть собою и не смешивается с
47
прочими, через нее именно прочнее и прочнее она отделяется от окружаю-
щего и по мере этого становится совершеннее. Все стремится утвердить бытие
свое и достигает этого путем все совершеннейшего и совершеннейшего обо-
собления, которое есть не что иное, как отрицание всего прочего. Насколько
отрицает - все утверждается, насколько силится привнести в остальное смерть
- само живет, но, привнося смерть, оно тотчас сливается с умершим, т. е.
раздвигает свои грани и в меру этого умирает. Таким образом, жизнь есть
вечная гармония борющегося, и она продолжается и возрастает, пока не на-
ступает победа; как только эта цель достигнута - в живое привходит смерть,
как естественное завершение жизни. Частичное преодоление сопротивляю-
щегося есть частичное умирание; разрушение всех граней, которыми окру-
жающее охраняет себя оттого, что с ним борется, было бы для разрушивше-
го окончательною и полною смертью. Неограниченное, не обособленное ни
от чего - оно перестало бы быть чем-нибудь.
Применимое к целой природе, это правило применимо и к части ее —
человеческой жизни. Если мы возьмем какую-нибудь сферу его духовного
творчества, напр. умственную, то содержимым явится здесь мысль, как нео-
пределенная способность представлений и понятий сочетаться между со-
бою; формою же или гранью будет определенное сочетание этих представ-
лений и понятий, которое мы называем обычно наукою или философской
системой. Три момента, указанные г. К. Леонтьевым для всего развивающе-
гося, без труда могут быть найдены и в этой сфере: умственное содержание
человека в начале его исторического развития скудно формами и не разгра-
ничено почти никакими пределами. Истинное смешивается с ложным, и все
образует однородную массу кратких, не углубленных знаний, разных поня-
тий и мнений, которые кажутся справедливыми. По мере развития, первою
гранью является разделение ложного от истинного: находятся признаки пос-
леднего (способы доказательства или вообще убеждения) и с помощью их
одно отграничивается от другого. Далее, истинное по предметам своим на-
чинает группироваться в отделы, и возникают науки, как строго обособлен-
ные части одного ветвящегося древа познания. С другой стороны, древние
простые правила народной мудрости заменяются более развитыми воззре-
ниями, и по мере того как жизнь возрастает в них - они распадаются на
многочисленные системы философии: является этика и метафизика, в пос-
ледний идеализм и реализм, и т. д. Цветущий момент науки и философии есть
момент и величайшей их сложности, и в то же время - повсюдной борьбы
отдельных учений, доктрин: постоянно выделяются, среди уже существую-
щего множества, новые и новые воззрения, с мягкими оттенками различий,
и каждое из воззрений этих ожесточенно утверждает свою истину и одновре-
менно - особенность свою от всего прочего. Затем наступает период вто-
ричного упрощения: внутренняя сила в каждом отдельном воззрении осла-
бевает, и оно сливается с ближайшими к нему. Теряют остроту свою и твер-
дость и более крупные деления: целые философские системы сливаются в
однородные массы мнений, с колеблющимися внутренними формами. По-
48
являются эклектики, которые соединяют прежде непримиримое, заботясь о
том лишь, чтобы в полученном был, по крайней мере, тот или иной общий
характер, напр. спиритуализма. Распространяется индифферентизм ума, он
утомляется продолжительным и строгим исследованием истины и охотно ог-
раничивается только утверждениями и отрицаниями. Остаются лишь очень
общие, совершенно лишенные внутренней архитектоники, воззрения, напр.
вообще материалистическое и вообще идеалистическое. Но и эти воззрения,
уже очень неопределенные, все более и более тускнут в сознании людей: в
сущности, безразлично для всех становится, которое же из двух этих воззрений
правильно, и ни для одного из них человек не пожертвует уже ничем, даже
незначущим. Если прежде за оттенок в мышлении люди принимали изгнание,
тюрьму и костер, то теперь и за всю совокупность воззрений своих никто не
поступится простыми удобствами жизни. Эта окончательная простота мысли,
сводящаяся к равнодушному придерживанию немногих утверждений или от-
рицаний, совершенно тождественна с тою первичною простотою, из которой
она развилась. Таким образом, в умственной области, по-видимому, должен-
ствовавшей бы только возрастать, в действительности происходят процессы и
возрастания и умаления; выражение: «Ты персь был и персью станешь» -
применимо и к духу человеческому, как и к его внешней оболочке.
Если далее мы рассмотрим искусство, то и здесь найдем, что в первона-
чальной стадии своей оно состоит в простом прибавлении к необходимому
(жилище, одежда, утварь домашняя) очень немногих знаков, которые укра-
шают, т. е. необъяснимо нравятся человеку независимо от своей полезности;
таков грубый рисунок на оружии или на сосуде, или иное, чем было ранее,
расположение в складках одежды, наконец, какое-нибудь незначущее изме-
нение в постройке дома, напр. приблизительное соблюдение симметрии в
частях его, хотя она вовсе не требуется нуждами помещения. Дальнейший
рост искусства выражается в том, что это прибавочное сверх пользы начина-
ет все возрастать и с тем вместе начинает становиться все сложнее и самосто-
ятельнее: к симметрии частей в здании присоединяются резьба или прида-
точные украшения, к расположению складок в одежде прибавляется узор и
разнообразное окрашивание, рисунок на утвари вместо фигуры зверя пред-
ставляет изображение целой охоты. Наконец, прекрасное отделяется совер-
шенно от полезного, и создание последнего является уже только как сред-
ство, иногда как предлог для того, чтобы как-нибудь и в чем-нибудь выразить
красоту. Одновременно с этим искусство разнообразится: появляются, сверх
архитектуры, еще скульптура и живопись, и изобретается музыка. В самых
видах искусства появляются школы - строгие, обособленные оттенки в выра-
жении красоты (как, напр., в эпоху Возрождения-ломбардская, флорентий-
ская, венецианская и римская школы живописи, существовавшие одновре-
менно). Затем начинается и здесь вторичное упрощение: внутренний прин-
цип, отграничивавший каждую школу от остальных, теряет свою силу, и все
они сливаются, заимствуя одна у другой лучшие черты. Особенности в спо-
собах воплощения красоты исчезают, и остается одно лишь воспроизведение
49
типичного в природе-это натурализм, грубый или прикрашивающий. Нако-
нец, сохраняются лишь внешние приемы искусства, т. е. его техника; все сти-
ли смешиваются и, так как ни в одном из них человек уже не чувствует непре-
одолимой потребности, то чаще и чаще при создании необходимого они
забываются все. Прекрасное снова скрывается в полезном, из которого оно
вышло. Быть согретым в жилище или удобно разместиться в нем - это опять
становится единственною заботой человека при постройке себе дома или
при возведении какого-нибудь другого здания. Сообразно нуждам этим, не-
многим и одинаковым, все становится по-прежнему просто и однообразно.
В религии, в поэзии и во всем другом мы также заметим сложность форм
в цветущий средний период развития и простоту в первичный момент и в
эпоху упадка. Религия как начинается неопределенною верою в высшее ду-
ховное существо, в загробное существование, в награду за добрые дела и
наказание за злые, так и оканчивается этими же простыми и смутными веро-
ваниями: деизм философа и фетишизм дикаря совпадают между собою в
простоте содержания. Напротив, строгий внешний культ, сложная духовная
иерархия, обильные религиозные представления и понятия - все это нараста-
ет только к средине развития и разрешается к концу его; в момент высшего
расцвета, религия соединяется со всеми формами творчества и проникает
все черты быта, становясь одновременно высшею философиею, на испове-
дании которой сходятся все люди, и высшею поэзиею, на созерцании которой
они все воспитываются. Она дает формы для выражения самых противопо-
ложных чувств, ее языком выражают радость и в ее же священных словах
изливают печаль. В полном смысле слова она становится неотделимою от
человека и от жизни, и вот почему ни за чту другое не было пролито в исто-
рии столько крови, как за нее. Что касается до поэзии, то о большем разнооб-
разии ее в средний, цветущий период едва ли предстоит надобность гово-
рить: она начинается с простой песни и сказки и, с другой стороны, оканчи-
вается безжизненным пересказом, однообразною сатирою и одою. Между
этими фазами вырастают оживленная драма, напряженная лирика, неулови-
мо разнообразные виды эпоса. Но гораздо важнее здесь разнообразие внут-
реннее, а не внешнее: в моменты высшего развития поэзии творчество каж-
дого отдельного поэта приобретает глубокую индивидуальность; будучи
выражением своего времени, оно, сверх того, раскрывает неисчерпаемое
содержание и личного духа (как это мы видим, напр., у Шиллера, Гёте или у
Вальтер-Скотта и Байрона). Напротив, в периоды упадка поэзии, как и при ее
зарождении, все в ней бывает не только малоформенно, но и безлично: все
создают приблизительно одинаково, приблизительно об одном и все в том
же духе. Внутренних, неуловимо разграничивающих особенностей, налагае-
мых личностью поэта на его творчество и делающих из созданий его своеоб-
разный мир, никогда более не повторяющийся в истории - уже не наблюда-
ется. Есть тусклое, немногосложное выражение эпохи, над которым трудится
бесчисленное количество людей; но нет выражения углубленной личности,
которую за своеобразие ее и мощь мы называем гением.
50
V
Приложимый к видам творчества, этот критериум развития не приложим ли и
к самому источнику их, человеку, т. е. к исторически развивающимся племе-
нам, нациям и, наконец, группам их?
Содержимым здесь является племенная масса, а нервною тканью, кото-
рая проникает ее, разграничивает и внутренне формирует - учреждения и
им соответствующие формы быта. Самая общая и резкая грань, которая
обусловливает индивидуальность племени, делает миллионы рождающихся
и умирающих существ живым лицом в истории, полным смысла, определен-
ного выражения и воли, - есть политическая форма, т. е. государство. На-
сколько народы слагаются в государства - настолько живут они в истории, и
насколько по оттенку своему политическая форма каждого из них отличает-
ся от других - настолько жизнь самого народа привходит в историю новою
чертою, которая не сливается с остальными. В этом отношении творить, со-
здавать - значит быть своеобразным; быть тождественным с другими - зна-
чит быть звуком, усиливающим шум других звуков, но не образующим с
ними никакой гармонии. Спарта или Македония были ниже Афин по своей
исторической роли; но если бы вместо Спарты, Афин и Македонии было
трое Афин - история была бы беднее своим содержанием. Вторые и третьи
Афины уже не нужны после первых.
Политическая форма только обособляет одно племя от другого, и если
бы внутри этой формы не было еще других граней, - оно было бы бедно
организациею, в высшей степени не развито.
Развитость здесь, внутри, выражается в проходящих горизонтальных и
вертикальных делениях; первые расслаивают племя на сословия; вторые раз-
граничивают на области территорию, им занимаемую. Чем более своеобра-
зия в пределах тех и других граней, чем полнее в них жизненное напряжение,
разбегающееся в различные стороны, тем ярче жизнь целого исторического
народа, глубже и разнообразнее его творчество, ценнее то, что он вносит в
общую сокровищницу человечества. Но при этом единство типа должно
быть сохранено, как у самого народа с остальным человечеством, так и
внутри его - между всеми обособленными частями.
Единство человеческого типа у всех исторических народов выражается
как в общности некоторых основ их психической жизни, так и в том, что эта
психическая жизнь у каждого народа в высшем и самом мощном своем
проявлении всегда является только частью, которая, очевидно, входит слага-
ющею чертою во что-то иное целое. Общи всем народам стремление к исти-
не, к справедливости, к красоте, наконец, искание Бога, и общи же законы, по
которым они находят все это в меру своих сил и способностей. Это единит
всех людей между собою, делает их на расстоянии тысячелетий помощни-
ками друг другу на пути к немногим и далеким целям. В противоположность
этому унитарному началу истории, заложенному в душу всякого человека, в
нее же заложено другое начало, но уже проявляющееся в жизни целых наро-
51
дов, которое их разъединяет, по-видимому, в действительности же гармони-
рует. В силу этого второго начала, ни один истинно исторический народ не
является повторением другого ни в характере своем, ни в судьбе, - но, не
повторяя, он дополняет. Есть внутренняя согласованность в чертах этого ха-
рактера и этой судьбы с характером и судьбою других народов, в силу чего
лик человеческий и уже полный - не есть бессмысленный, но мы читаем в
нем живую мысль и выражение. В самых неудержимых порывах и в вековом
труде, в прихотливой игре гения и в упорном постоянстве воли мы видим, как
великие народы выводят каждый свою черту в истории, о которой они, обык-
новенно, ничего не знают при жизни сами, но которую мы находим готовою
или выполняемою, когда они сами становятся уже трупом или когда сквозь
подробности их жизни мы начинаем разглядывать ее существенный смысл.
Которое бы из двух великих племен, сложивших своею деятельностью исто-
рию, мы ни взяли, мы и в них самих, и в широких группах народов, их состав-
ляющих, одинаково найдем присутствие этих, взаимно согласованных, черт,
которые в одно и то же время и противоположны одна другой, и дополняют
друг друга до целого. В монгольской расе одна часть, южная, является, как
никакой другой народ в истории - зиждущею, повсюду и неустанно, почти
без способности отдыха и праздной лени, и без способности же задумать
среди этой праздности что-нибудь гениальное, великое, особенное. Как буд-
то самую психическою природой своей она согнута над землею, по которой
ползти, ее разрывать, ею питаться и удобрять ее своим прахом - составляет
вечный удел, над которым она не в силах подняться ни своим воображением,
ни мыслью. Мирное, обширное государство китайцев, их причудливо-слож-
ный и бесполезный быт, безбрежные нивы, обделанные с тщательностью
маленькой игрушки, их живопись без теней, мастерство без искусства, дол-
гая и утомительная история без всякой примеси героизма - все это лишь
многообразное развитие одного символа, в котором перед лицом других на-
родов это племя как будто молчаливо выразило свою мысль в истории, —
символа царя и сына неба, мирно идущего за своим плугом однажды в году
в назидание миллионам людей, которые это же делают во все остальные дни
жизни своей. И в то время, как южная часть этого племени неустанно и тыся-
челетия трудится между Гималаями и Великою Стеною, его северная часть,
от Великого до Атлантического океана, не однажды проходила бурною, все
разрушающею волною. С подобным инстинктом разрушения, с такою
ненасытною жаждою видеть растоптанным чужой труд, с каким появлялись
в истории Тимур, Атилла, Чингис-хан и другие меньшие, все из одного пле-
мени и только из северной его части, мы совершенно не наблюдаем народов
из других рас на всем протяжении земной поверхности. Эти «бичи Божии»
для мирного человечества, эти «порождения дьяволов» для перепуганных
народов, со странною ролью своею в истории, которую нельзя ни исключить
из нее, ни к чему-нибудь приспособить, в действительности являются как
строгая, ни в чем себе не изменяющая черта, восполняющая до целого мон-
гольский тип. Сущность этого типа, последней цветной расы в человечестве,
52
составляет деятельность как низшая степень выражения духа в истории,
высшие формы которого, чувство и разумение, составляют удел кавказской
расы. Но в пределах этой слабой одухотворенности высшее сознание, управ-
ляющее жизнью народов, выразило одинаково ясно обе возможные сторо-
ны: и положительную, которою является созидание, и отрицательную, кото-
рою является разрушение. Земледелец, никогда не отрывавшийся от своего
поля, и кочующий разрушитель царств, один в труде своем и другой в завое-
ваниях, одинаково слепо, но отчетливо для наблюдателя, выражали неиз-
вестную для них волю и оставшуюся навсегда непонятною мысль. Если далее
мы перейдем к кавказскому племени, то и здесь найдем подобное же выделе-
ние взаимно дополняющих друг друга особенностей. Прежде всего, в своем
целом, это племя представляет противоположность монгольскому по край-
нему перевесу в нем внутреннего содержания, одухотворенности, над вне-
шним выражением ее, т. е. деятельностью: мир наук и философии, религиоз-
ных созерцаний и поэзии - все это есть субъективное развитие духа, неис-
черпаемые сокровища его, почти не выраженные. Но если, помня только эту
противоположность, мы обратимся к составу народов самого кавказского
племени, мы увидим продолжение в них того же процесса выделения проти-
воположностей. Прежде всего, семитическому духу, столь ясному и просто-
му, так неизменно направленному внутрь себя, противоположен арийский
дух, который открыт для восприятия всех впечатлений, и не только усваивает
их все, но и жадно их ищет. Это удивительное явление, что, не поверив истин-
ности тех пределов, которые открывались ему в пространстве и времени,
ариец переступил их все с помощью своих наук, этих чудных изобретений
своего гения, - факт этот обнаруживает непонятную и, однако, несомнен-
ную связь, которую имеет его душа с мирозданием во всем, а не видимом
только, ее объеме. Душа семита как бы свернута к какому-то внутреннему
средоточию, без сомнения, к самому прекрасному и глубокому, к чему мо-
жет только обратиться человек: напротив, от этого средоточия, вовсе не пе-
рерывая связи с ним, душа арийца развернута и, обращаясь во все стороны,
жадно пьет отовсюду дыхание природы. Далее, в пределах собственно арий-
ского племени мы прежде всего встречаем ясно расчлененный греко-роман-
ский мир. Как ни разнообразен был гений Эллады, мы можем все-таки отме-
тить в нем одну черту, которая, не заглушая остальных сторон его, однако,
господствовала над всеми ними: это - чувство красоты. Не то важно, что
греки создали в поэзии и в пластических искусствах никогда не превзойден-
ные памятники (тогда как и в философии даже они все-таки превзойдены
были новыми народами), не это одно значительно, что простым идеям Гоме-
ра и статуе Венеры Милосской на протяжении более, чем двух тысячелетий,
еще не утомились удивляться люди: гораздо значительнее удивительная пла-
стика их жизни и истории. Вся эта жизнь ясна и проста, как обнаженная ста-
туя, она и чрезвычайно, к тому же, кратка. Но странно, что в течение всех
событий греческой истории есть какая-то удивительная мера, странно, как
каждое из них оканчивалось именно тогда, когда нужно, и так, как нужно.
53
Бесполезная деятельность Демосфена, бегущий с Марафонского поля маль-
чик, Фукидид в числе слушателей Геродота - все это вещи вовсе не необходи-
мые, все это - прихоть игривой фантазии, которая, творя историю, не имела
других целей, кроме как украшать. Мальчик мог бы не умереть, Фукидид —
родиться несколько позднее, Софокл мог бы и не иметь дурных детей, но вся
греческая история от этого была бы менее прекрасна, и все это было, чтобы
ничего не недоставало красоте ее. Без сомнения, позднейшие законодатель-
ства и учреждения более сложны, глубоки и мудры, нежели те, какие оставил
Солон и какие приписаны Ликургу; итак, во всем они превосходят их, без-
мерно уступая, однако, в одном - в ясной гармонии, в какой-то безотчетной
красоте, которую мы и здесь чувствуем. Можно в высшей степени сомне-
ваться в плодотворности всех замыслов Перикла, всех достижений его; в них
сомневался и Фукидид; но и он не мог оторвать очарованного взгляда от
личности врага своего, и мы знаем также, что Перикл - один в истории. Есть
еще другая личность в греческой истории, быть может, более удивительная в
этом отношении: это Алкивиад. Мы все не сомневаемся ни в его пороках, ни
в полном вреде его для государства, которое любим, как свое родное: но,
замечательно, мы так же бессильны ненавидеть его, как и афиняне, которых
он губил. Измените кой-что в его образе, придайте его тщеславию напыщен-
ность (что так естественно), его увлекающим речам - торжественность, чуть-
чуть смягчите его бессовестность - и очарование пропадет, как в чудной
картине, в которой всякий штрих на месте и с его передвижением - пропада-
ет вся красота ее. И если бы не было этого удивительного юноши, мы живо
чувствуем - чего-то глубоко недоставало бы в греческой истории; ей, кото-
рая, конечно, должна была окончиться, нужно было, чтобы конец соответ-
ствовал содержанию: чтобы он не был слишком гяшстен и, в особенности,
чтобы чувство интереса, с ним связанного, не падало. Греции нельзя было
пасть, как Риму или еще кому-нибудь, в грязи, в бездарности, в отвратитель-
ном худосочии: после гениальной жизни ей нужно было гениально и уме-
реть. И как торжественно-ясная греческая трилогия заканчивалась искупля-
ющим смехом заключительной комедии, - так и Греция после неясного дет-
ства, которое она пережила в мифах, после героической юности, когда она
боролась с «великим царем», после зрелого плодоношения в век Перикла,
окончилась и страшно, и вместе как-то светло в этом чудном походе в Сици-
лию, в странной ночной оргии с разбитыми статуями, и во всех, то жалост-
ных, то гениально-забавных перипетиях афино-спартанской распри, с чуд-
ным Алкивиадом в центре. Все в ней поразительно, но вовсе не заставляет
отвращать от себя глаз, как заставляет это делать отвратительный трупный
запах, который мы ощущаем, напр., в Риме еще задолго до его смерти. Ниче-
го, на всем протяжении греческой истории, мы не находим ни отталкиваю-
щего, ни бездарного, ни утомительно-скучного; все исполнено жизни и дви-
жения, и как вувремя приходит, так и уходит своевременно. И если, поняв эту
главную черту греческой жизни, мы обратимся к Риму, то без труда заметим,
что его жизнь представляет как бы отрицательный полюс только что рас-
54
смотренной: в противоположность идее красоты господствующею идеею в
нем является начало пользы. В учреждениях, как и в религии, мышлением,
как и волею, римляне всегда ощущали только удобную сторону во всем и,
скользя по этому одному уклону, создали всемирное государство и вековеч-
ное право - нормы человеческих отношений, не обращенных ни к чему выс-
шему, идеальному.
Переходя, наконец, к народам, история которых еще продолжается, мы
встречаем индивидуализм германцев, противоположный универсализму
южноевропейских народов. Все обобщить - все слить единством формы -
это составляло на протяжении веков мучительную заботу романского гения,
- как все разорвалось на отдельные миры и в каждом из них поставить цент-
ром личное «я» - составляло недостаток и вместе достоинство гения герман-
ского. Одна молитва для всех народов, одинаковые права для всех людей и,
наконец, им всем равное имущество - это стремились утвердить на земле
папство, революция и социализм, все одинаково возникшие в недрах романс-
кого племени. Костры инквизиции и гильотина Конвента, залитые кровью
Вандея, Нидерланды - все это страницы романской истории, говорящие о
различном, но всегда в одном духе, с одним настроением. Менялись начала,
во имя которых стремилась эта раса утвердить цель свою, но никогда не изме-
нялась в истории самая цель, ради которой избирались эти начала: слить и
обобщить человечество, так далеко разошедшееся в путях своих. Совершен-
ным отрицанием этого начала является в истории дух германский, всюду
разрывающий единство, - в государстве, в религии, в праве и даже в науке и
в философии. Раздробленная империя, рассыпавшийся феодальный строй,
наконец, безбрежно расплывшийся в сектантстве протестантизм - все это
факты одного порядка, следствие неудержимого стремления человеческого
духа уходить, оторвавшись от единящего центра, все дальше и дальше к пери-
ферии. Специализация знаний, почти индивидуализм в науке и в философии
есть продолжение в новое время того же явления. Уже Тацит заметил, что
германец всегда ставит себе жилище среди своих полей, а не кряду с соседя-
ми, не в деревню, не в село; и эта черта духа, замеченная полторы тысячи лет
назад, является господствующею во всем и теперь. Всюду, что бы ни делал
германец, он «ставит свою хижину особо», - мало заботясь о других и избе-
гая всякой заботы о себе. Так в политике и в церкви, и даже так в поэзии. Ни
к кому не обращенный монолог - это сущность не только германской лири-
ки, но также и эпоса в значительной степени*, и лучшей драмы. В «Гамлете»,
в «Манфреде», в «Фаусте» наиболее глубоко выразил германский гений свою
личность, и что все эти трагедии, как не уединенные монологи, лишь для
разнообразия и изредка прерываемые незначущими диалогами. По справед-
ливости, те неощутимые нити, которыми природа каждого из нас связала с
природою всех остальных людей, как будто особенно слабы в этой части
* Сюда относятся многочисленные повествовательные произведения, имеющие
форму дневника, записок и пр., лучший образец их «Страдания Вертера» Гёте.
55
человечества и, ничем не сдерживаемая, она даже тогда, когда должна бы
единиться (как в знании, как в вере) - неудержимо рассыпается, как рассыпа-
ются монады ее Лейбница или мир «целей в себе» ее Канта.
Мы взяли лишь самые крупные деления и наиболее резкие черты, прохо-
дящие по движущейся в истории массе человечества, но их всюду отталки-
вающийся взаимно характер не оставляет никакого сомнения в том, что они
произошли не случайно, но в силу действия высших гармонирующих зако-
нов. Та самая причина, которая удерживает в нашем теле всякую часть на
своем месте и препятствует всем им смешаться и слиться, - эта самая причи-
на, или ей подобная, расчленив человечество на расы, дала каждой из них
свой особый духовный строй и определила для каждой особый тип развития.
Ясно, что обезличение народов, их взаимное уподобление (если бы оно ког-
да-нибудь наступило в истории) могло бы быть следствием только того, что
эти гармонирующие законы уже перестают действовать в человечестве.
Мы остановились так долго на сдерживающем единстве, потому что,
сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, г. К. Леонтьев только
указал его, но не определил и не объяснил. Теперь мы можем обратиться к
этому началу разнообразия, которое наряду с единящею силою является вто-
рым зиждущим элементом истории.
VI
Из расчленения человечества на племена, взаимно противоположные по духу,
вытекает своеобразие каждого отдельного племени, его национальный тип.
Принудительный для каждого индивидуума, для всякого сословия или какой
другой группы в пределах племени, этот тип сам обязан происхождением
своим исключительно соотношению, в котором находится данное племя ко
всем остальным племенам рода человеческого. В силу этого соотношения,
оно является в среду других народов, чтобы восполнить некоторый недоста-
ток в них, заместить пустоту, ими оставленную, но которой они обыкновенно
не чувствуют и не замечают. Ясно, что несливаемость с другими типами,
борьба против них, их отрицание - есть только наружная и необходимая черта
в своеобразном народе, по которой мы именно открываем, что он гармони-
рует с этими отрицаемыми типами, дополняет их, как недостающий звук, ко-
торый, только не сливаясь с другими звуками, образует с ними необходимый
аккорд. Борьба есть здесь симптом глубочайшей связи, стремление каждой
части подавить остальные - только признак высокого напряжения жизни в
целом.
Этот расовый антагонизм, следствие расовой соотносительности, при-
нудительно действуя на то, что лежит внутри каждой отдельной из них, явля-
ется источником ее целости и единства. Но мы сказали выше, раса есть слиш-
ком крупное деление, и внутренняя ткань исторически движущегося челове-
чества была бы слишком груба, если бы внутри его не проходили еще другие
56
деления. И эти последние, действительно, есть: они расчленяют каждый на-
род и территорию на своеобразные части, из которых самые обыкновенные
- сословия и провинции. Последним делением является род и семья, внутри
которого уже находится только личность, индивидуум. Закон антагонизма,
как выражение жизненности, сохраняет свою силу и здесь: сословия, про-
винции, отдельные роды и, наконец, личности, в пределах общего для всех их
национального типа - борются все между собою, каждый отрицает все ос-
тальные и этим отрицанием утверждает свое бытие, свою особенность меж-
ду другими. И здесь, как в соотношении рас, победа одного элемента над
всеми или их общее обезличение и слитие было бы выражением угасания
целого, заменою разнообразной живой ткани однообразием разлагающего-
ся трупа.
Убедительность и верность этого общего правила становится особенно
яркою, если мы обратимся к живой действительности, т. е. к истории. В какую
точку ее мы ни направили бы наблюдение, раз эта точка есть высшая, если в
ней совершается цветение, - она исполнена страстной борьбы взаимно враж-
дебных элементов. Все то, что народ оставляет после себя вековечного и
удивительного в сфере мысли, художественного созидания, нравственности
или права - он производит в немногие и краткие минуты существования,
когда каждая часть в нем надеется еще победить, когда ни одна из них не знает
еще о своем завтрашнем поражении и конечной гибели. Иллюзия победы,
самообман от незнания будущего есть истинный источник всех великих на-
пряжений в истории, которые создали все прекрасное и законченное в ней.
Афины времен Перикла, Рим в эпоху Гракхов, Франция Ришелье и Фронды,
Германия при начале Реформации были одинаково полны внутренней борь-
бы и духовного сияния. Кровь обильно струилась во все времена, вражда
разделяла людей, когда эти люди были особенно прекрасны, исполнены веры,
когда был смысл в их жизни и они знали этот смысл.
Отсюда понятно значение некоторых особенностей, которые мы замеча-
ем в человеческой природе. Эта природа всюду ограничена, абсолютное манит
ее к себе, но никогда не достигается; ей не дано сил ни к совершенному
ведению, ни к ощущению совершенного добра и красоты. Человек слаб и
обусловлен, и мы понимаем, что именно поэтому он и живет: глубочайшим
образом, скрытно от самого человека, этою слабостью его и обусловленно-
стью связано самое продление его жизни. Жить - значит стремиться, значит
колебаться и искать, т. е. еще не знать; развиваться, переходить от несовер-
шенного к лучшему - значит все еще быть далеким от него, значит чувство-
вать страдание, видеть несправедливость и, отвращаясь от нее, жаждать про-
тивоположного, чего, однако, не видишь и только предчувствуешь, что неяс-
но и непостижимо, хотя и влечет к себе. Слияние в абсолютном идеале, равно
для всех понятном, - это было бы уничтожение различий и движения, т. е.
самой жизни в том смысле, в каком одном она дана нам здесь, на земле.
И, однако, все ограниченное, приближающееся предполагает предел, к
которому оно приближается. Поэтому если жизнь, нам данная и известная,
57
держится лишь настолько, насколько мы сами ограничены, то это только об-
наруживает перед нами точный ее смысл. Без всякого сомнения, истина и
добро существуют не в том только относительном значении, в каком они
открываются нам, но, хотя скрытые от нас, они существуют и в абсолютных
формах; и соответственно этому абсолютно существующему добру и абсо-
лютной истине есть и другая, более полная жизнь - за гробом. Потому что
если уже иллюзия истины и иллюзия обладания добром дает нам силы жить;
то истина и добро не иллюзорные содержат в себе неугасающий источник
лучшей и вечной жизни; и, однако, здесь, на земле, всякое прикосновение к
абсолютному было бы равнозначуще с прекращением жизни (деятельнос-
ти). Следовательно, эта должная и невозможная жизнь есть, но только там, где
оканчиваются условия земной жизни человека, т. е. для него - за гробом. В
силу причин, о которых нам ничего не дано знать, человек должен почему-то
вечно трудиться на земле, и для этого внушена ему надежда - чтобы он
хотел трудиться, и наложено ограничение - чтобы он не переставал трудить-
ся. Но подобно тому, как смутные, неясные и сбивчивые попытки решить
математическую задачу вытекают именно из того, что для нее есть решение
и даже в уме решающего есть что-то, что соответствует этому решению, но
только искажено и неправильно, - так и вечно неудачный труд человека на
земле указывает на что-то окончательное и уже удачное, что его ожидает,
когда он окончит свой труд.
Но, во всяком случае, это абсолютное не дано нам ни как знание, ни как
ощущение, и жизнь наша проходит в формах, определяемых лишь частич-
ным его ведением и частичным же ощущением. Мы снова возвращаемся к
этой относительной жизни, самую широкую картину которой представляет
собою всемирная история. В этой истории г. К. Леонтьев верно определил
признак высшего напряжения жизни: это - разнообразие всех элементов
живущего, стремление каждого из них утвердить себя через удаление от ос-
тального, через его отрицание; однако через отрицание, не подавляющее
прочего, но лишь удерживающее его от захвата в себя и ассимиляции с собою
отрицающего элемента. Разнообразие положений, обособленность террито-
рий и, прежде всего, богатство личного развития - вот простые и ясные при-
знаки, по которым мы можем судить о большем или меньшем обилии жизни в
целом, будет ли то народ, какая-нибудь историческая культура или, наконец,
все человечество.
VII
С таким мерилом жизненного напряжения г. К. Леонтьев подходит к своему
веку, к тому великому веку, которого мы все - дети, и который своим величи-
ем и силою чудовищных оборотов так сковал нашу мысль, поработил жела-
ния, так обольстительно вовлек все наши страсти в движение своих форм, что
мы обыкновенно ничего другого не хотим, как только любить их, им содей-
ствовать во всем, и в этом одном полагаем цель и достоинство своего суще-
58
ствования. Нужна была особенная и удивительная сила отвлечения, чтобы
стать в стороне от этого движения и обаяния и, прикинув к своему времени
строгое мерило, произнести над ним суждение, отвечающее объективной
истине.
Чтобы иметь силу к этому, г. Леонтьев прежде всего освобождается от
всех тех личных взглядов и субъективных чувств, которыми естественно свя-
зан каждый из нас в отношении к тому историческому целому, в чем он
составляет часть. Первое и самое главное из этих чувств есть чувство страда-
ния или счастья, которое мы пытаемся уловить в человеке и произнести,
основываясь на нем, свое суждение о той или иной исторической эпохе, о
том или другом общественном строе. Он указывает на неуловимость этого
чувства, на его неопределенность, и вместе сомневается, чтобы оно отсут-
ствовало или смягчалось в каком-нибудь процессе живого развития. Вот пре-
красные слова, в которых вылилась у него эта глубокая и справедливая мысль:
«Все болит у древа жизни людской; болит начальное прозябание зерна; болят
первые всходы, болит рост стебля и ствола, и развитие листьев, и распуска-
ние пышных цветов сопровождаются стонами и слезами. Болят одинаково
процесс гниения и процесс медленного высыхания, нередко ему предше-
ствующий. Боль для социальной науки - это самый последний из призна-
ков, самый неуловимый; ибо он субъективен, и верная статистика страданий,
точная статистика чувств, недостаточна будет до тех пор, пока для чувств
радости, равнодушия и горя не изобретут какое-нибудь графическое изобра-
жение или вообще объективное мерило»*. Он приводит случай, которого
сам был очевидцем, где внешнее движение, по-видимому, вызываемое стра-
данием, в действительности вовсе не имело под собою этого чувства: это
восстание жителей острова Крита, почти не ощущавших на периферии ту-
рецкой империи того давления, которое было очень сильно в ее центре, где
иноверное население оставалось, однако, спокойно. «Всякий наблюдатель,-
говорит г. Леонтьев, - был поражен цветущим видом критян, их красотой,
здоровьем, скромной чистотою их теплиц, их прелестной, честной семейной
жизнью, приятной самоуверенностью и достоинством их походки и приемов.
И вот они, прежде других турецких подданных, восстали, воображая себя
самыми несчастными, тогда как фракийские болгары и греки жили гораздо
хуже — терпели тогда несравненно больше личных обид и притеснений и от
дурной полиции, и от собственных лукавых старшин; однако они не восста-
вали, а болгарские старшины - те даже подавали султану адресы и предлага-
ли оружием поддерживать его противу критян»**. Этот случай, действи-
тельно, поразителен. Мы припоминаем, как Токвиль в своей превосходной
книге «L’anciene regime et la Revolution» так же объясняет, что положение
французского народа, как городского и сельского, было уже значительно
облегчено в царствование Людовика XVI и не могло идти ни в какое сравне-
* «Восток, Россия и Славянство». Т. 1. С. 147.
♦♦Тамже. С. 147-148.
59
ние со страшным гнетом, которому он подвергался при деспотическом Лю-
довике XIV, и в распущенные времена регентства и Людовика XV. И вот, одна-
ко, в минуты наибольшего гнета он оставался спокоен и, напротив, восстал,
как только этот гнет был снят с него.
Как это нередко бывает, свободному отношению г. Леонтьева к своему
предмету помогло именно то, что он не постоянно был связан с ним, что
круг его наблюдений и интересов долгое время не имел ничего общего с
политикой и историей. Он припоминает впечатления из совершенно иного
мира человеческих страданий и верно переносит значение, которое они там
имеют, сюда. «Раскройте, - говорит он, - медицинские книги, и вы в них
найдете, до чего субъективное мерило боли считается маловажнее суммы
всех других, пластических, объективных признаков; картина организма, явля-
ющаяся перед очами врача-физиолога, вот что важно, а не чувство непони-
мающего и подкупленного больного! Ужасные невралгии, приводящие боль-
ных в отчаяние, не мешают им жить долго и совершать дела, а тихая, почти
безбоязненная гангрена сводит их в гроб в несколько дней»*.
На этих-то пластических картинах, на объективном наблюдении, из кото-
рого выделена всякая примесь субъективного ощущения, г. К. Леонтьев и
основывает свои заключения. Можно отвергать эти заключения, если они
почему-либо не нравятся, можно бороться против них волею', но нельзя их
оспаривать, нельзя бороться с ними мыслью, потому что они являются стро-
гим и ясным результатом именно ее деятельности.
Прежде всего он останавливает свое внимание на политической стороне
европейской истории за XIX в.; как ярче всего выраженная, более осязатель-
ная и уловимая, она лучше всего способна осветить истинный смысл этой
истории.
Знаменитые и немногие формы политического устройства: монархия и
республика, аристократия и демократия, с их типичными извращениями,
охлократией и тиранией, - все это, завещанное для политической науки еще
из древности, есть результат абстракции, в которой не сохранено главного:
индивидуальности исторических народов. Когда люди боролись только за
форму правления в городе или в небольшой стране, когда дело шло о преоб-
ладании того или иного класса населения, - можно было думать, что в этом
преобладании или в этой форме правительства сосредоточивался весь инте-
рес исторической жизни и они же должны служить постоянным предметом
мысли для всякого теоретического политика. Но с тех пор, как поле истори-
ческого наблюдения так расширилось, когда вопрос идет о существовании
или разрушении целых культурных миров, - рамки древнего политического
созерцания должны быть оставлены. Нельзя обобщать в одном имени мо-
нархию Кира, Тиверия или Карла Великого и еще нелепее было бы подводить
сюда же «единовластие» какого-нибудь деспотического царька из внутрен-
ней Африки. Равным образом, Венеция или Новгород, Флоренция или Рим,
* «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 147.
60
несмотря на отсутствие во всех их единоличной власти, не имеют ничего
общего в стране и в духе своей политической жизни. Каждый народ, страна
или даже город, если они вносят что-нибудь свое, особенное во всемирную
историю, имеют и в политическом своем устройстве нечто особенное, несут
лицо свое перед другими народами, вовсе не вторящее им, никого не повто-
ряющее в чертах своих. Именно в этих особенных, нигде и никогда не повто-
ряющихся чертах и содержится главная суть политической жизни; тогда как в
общих явлениях единовластия или многовластия остается абстрактный ее
отброс, не имеющий живого значения.
Исходят исторические народы все равно из безличной массы человече-
ства, в которой первоначально они бывают уравнены единством немногих и
простых потребностей и отсутствием всего, что, возвышаясь над этими по-
требностями, вместе обособляло бы народы друг от друга. Но по мере того,
как, покинув эту безличную массу, единичные страны и племена начинают
восходить в истории, - их лицо в ней проясняется, индивидуализируется.
Можно думать, что именно выработка индивидуальных черт составляет глав-
ный смысл истории: до такой степени восхождения или нисхождения в ней
народов всегда и всюду сопровождают только выяснение или затемнение
этих черт. Все другое в истории имеет то одно направление, то другое, все не
вечно в ней, уклончиво и изменчиво; и вечно только это одно - прояснение
лица своего собирательным человечеством, что выражается в формирова-
нии народов, государств, наконец, целых культурных миров.
В немногих, слишком бледных, слишком скудных словах г. К. Леонтьев
отмечает, однако, своеобразные типы политического сложения у всех глав-
ных исторических народов. В Египте это была монархия, строго подчиненная
религиозному миросозерцанию, ограниченная законами и понятиями свя-
щенного характера, с народонаселением, резко распадавшимся на состоя-
ния по главным формам человеческой деятельности, из которых каждая была
предоставлена выполнению особой группы людей (касты жрецов, воинов,
земледельцев и другие меньшего значения). Подавленность всех, от фараона
до последнего нищего, одним и общим для всех религиозным ритуалом, и в
пределах оставленной свободы - угрюмое несение каждым своего долга, вот
неповторяющаяся особенность египетской жизни, серьезной и печальной,
трудолюбивой и подавленной, в одно и то же время исполненной глубокой
практичности и мистических созерцаний, причудливой фантазии и недого-
воренных мыслей.
Светлое представление Ормузда и его вечной борьбы со злом придало
более открытый характер и сообщило более деятельную, подвижную роль
древнему Ирану. Царь персов*, земное олицетворение Ормузда, то борется
с окружающими дикими народами, то отдыхает после победы, наслаждаясь
* Замечательно, что не царь Персии, т. с. не страны, не территории, а именно
людей, ее населяющих. В этом титуловании себя цари персидские бессознательно
выразили взгляд на свою, и с собою - всего Ирана, миссию в истории.
61
всем, что дает природа. Около него группируются его помощники, всегда и
прежде всего воины, ведущие его полчища на другие народы, еще не при-
знавшие его власти. Это странное желание, покорив Азию и Африку, поко-
рить еще и неизвестную, темную Европу, от которой совершенно не видно
было, что именно можно получить, есть лишь необходимое и естественное
продолжение той мысли, что свет должен окончательно воспреобладать над
тьмой и привести всех к единству и к поклонению единому владыке, олицет-
ворению единого всепобеждающего добра и света. Вероятно, никогда еще и
ни в какое время царская власть не была окружена таким благоговейным
чувством, как здесь, и к этому чувству не примешивалось ничего вынужден-
ного, подневольного. Г-н К. Леонтьев рассказывает, как он удивлен был, про-
читав об одном действительно поразительном факте из истории греко-пер-
сидских войн, который рисует смысл древнеиранской жизни в несколько ином
виде, чем как мы привыкли представлять его себе: «Во время случившейся
бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить ко-
рабль и спасти Ксеркса; при этом они поочередно подходили к царю и склоня-
лись перед ним, прежде чем кинуться за борт... Я помню, - продолжает он, —
как, прочтя это, я задумался и сказал себе в первый раз: это страшнее и
гораздо величавее Фермопил! Это доказывает силу идеи, силу убеждения,
большую, чем у самих сподвижных Леонида; ибо гораздо легче положить
свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, без всякого принужде-
ния, решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи»*.
Во всяком случае, этот факт обнаруживает, что в сердце людей, которых мы
привыкли считать только варварами и рабами, жили чувства, настолько внут-
ренне сдерживающие каждого, насколько это возможно только при самой
высокой и многовековой культуре, при особенных дарованиях народа, при
вере его в высшие мистические идеи, управляющие историей и осуществля-
емые в жизни народов: потому что ведь как легко было этим вельможам
выбросить самого Ксеркса за борт, если их самопожертвование не было со-
знательно и свободно.
Переходя на европейскую почву, мы встречаем, на утренней заре ее
истории, цветущую Грецию с ее миром маленьких автономных государств,
слабо соединенных единством общего происхождения, некоторых учрежде-
ний, но, главное, языком и религиею. Городской характер этих государств,
полное безучастие сельского люда в историческом движении - вот общая и в
высшей степени характерная черта всех их без исключения. Город, ц
среди его площадь, вечно шумящая народом, - вот чту постоянно рисуется
перед глазами историка, который занят событиями этих крошечных общин.
Речи ораторов, негодующая или ликующая толпа, и воины, поспешно выхо-
дящие из нее и идущие к недалеким границам или садящиеся на корабли в
близлежащей гавани - таковы обычные сцены, повторяющиеся на всем про-
тяжении Греции и во все время ее недолгого существования. Все как-то дроб-
* «Восток, Россия и Славянство». Т. 1. С. 88.
62
но в ней, и все - человечно. Нет величия огромных массовых передвижений,
нет темных влечений и неясных мистических созерцаний; все в высшей сте-
пени отчетливо и ясно как в мышлении, как в чувстве, так и в течение истори-
ческих событий.
Мы уже заметили о мерной красоте, разлитой во всей этой жизни, так
краткой и, однако, так привлекательной для всех последующих народов, го-
раздо более углубленных. Следует прибавить, что красота эта была исключи-
тельно объективного характера. Вся жизнь Греции, как и все душевное со-
держание греков, как-то удивительно выпукло выразилась наружу, не оста-
вив в себе ничего затаенного, что они не смогли бы, или не захотели, или не
успели высказать. Скульптура была любимым искусством их, и это есть то
именно искусство, где за выраженною, ясною чертою ничего не скрывается,
нет никакой тени, оставляющей в живописи место для воображения, и нет
неуловимых переливов, какие есть в музыке. Оно действует исключительно
на зрение, на способность внешнего созерцания, тогда как столь родственная
ей живость, вследствие присутствия в ней полутеней, незаметно начинаю-
щихся и оканчивающихся линий действует главным образом на внутренний
мир нашей души: зрение является здесь, как и в музыке слух, не восприемни-
ком впечатления, но лишь проводником его. Но даже в статуе или в изваянии
греки избегали изображать то, что сколько-нибудь отражало бы в себе состо-
яние человеческой души: бесстрастное, не страдающее и не радующееся, но
только прекрасное лицо было вечным предметом воплощения их великих
художников. В этих воплощениях, к всегдашнему удивлению людей, никогда
не было изображения глаз, т. е. по нашему представлению - главной красоты
человека, которая сообщает его лицу осмысленность, внутреннее выраже-
ние. Глаза по справедливости называются зеркалом души, и греки не хотели
смотреть в это зеркало, они набрасывали на него покров. В преобладании
эпоса и трагедии над лирикой также высказывается объективный характер их
творчества, более направленного к воспроизведению внешнего, нежели к
выражению внутреннего. В эпосе пересказываются, в трагедии передаются
точно движения и слова другого, но не движения своей души. И что бы дру-
гое мы ни взяли, всюду мы отметим этот же внешний характер их созерцания
или их чувства. В религии, самом сокровенном содержании человеческой
души, они не оставили после себя никаких молитв, т. е. никакого уединенного
обращения к Богу, как бы они его ни понимали. Торжественные церемонии,
общественные процессии, наконец, жертвоприношения, совершаемые от
лица народа государственным сановником, - вот в чем выразилась у них
потребность религии, красиво, но и холодно. От этого так легко перешли их
религиозные торжества в трагическое и комическое искусство, которому они
придали серьезность, а от него получили взамен красоту и пластичность.
Искусство было у них религиозно, потому что и религия их была только наи-
более глубоким искусством.
Слабость, бессодержательность и безынтересность семейной жизни уже
сама собою вытекала из этого объективного склада их души. Дом, как место
63
сна и даже не всегда место обеда (Спарта) и, наоборот, общественные здания,
как место постоянного времяпрепровождения, - вот бросающиеся черты
городского устройства греков. Всегда окруженный толпою, с детства и до
глубокой старости, грек среди нее воспитывался, развивался, для нее творил
подвиги и от нее только желал и добивался удивления, этой особенной и
поверхностной формы любви, к какой одной только, по-видимому, он был
способен. И в самом деле, как дружба*, так даже и брак имел всегда у них,
собственно, чувственную основу, с очень сильною примесью эстетическо-
го, но нисколько не нравственного влечения. Так что не очень удивляет нас
мысль Платона**, что семьи должны бы быть устраиваемы, пары сводимы -
государством. И в самом деле, именно государство есть истинная семья афи-
нянина или спартанца, и отсюда - такая возвышенная любовь к нему, такая
привязанность к его интересам, братская любовь между собою всех граж-
дан, открытость всех их отношений и так же - их простота, безыскусствен-
ность, внутренняя непринужденность. Мудрейшие, поучающие среди рын-
ка юношей, беседы в тенистых садах Академии и в Лицее, и это всегдашнее
«ты» при обращении, эта неизменная примесь комизма и веселой шутливо-
сти при самом серьезном содержании речей - есть уже невольное и есте-
ственное проявление широко развившейся семьи - государства.
Слишком понятен и тип политического сложения, который развился от-
сюда. Так тесно, так близко примыкая к государству, каждый грек являлся как
бы кусочком одной кожи, которая, состоя из них, - их же и стягивала, и едини-
ла. Каждый из них уже от природы был носителем и воплощением государ-
ства, и только малолетство или безумие могло помешать всякому вмеши-
ваться в судьбу родины, в свою судьбу. Отсюда взгляд их на единовластие, на
всякое возвышение, на тиранию. Это было нечто противоестественное в
греческой общине, и именно как противоестественное - возбуждало к себе
смешанное чувство отвращения, ненависти, почти ужаса. Ни соображения
пользы, ни экономические выгоды, ни слава внешняя не искупали того позо-
ра, который налагал «тиран» на город, над которым он господствовал. На
время тирании община как бы замирала, и хотя события, иногда даже вели-
кие, происходили, история ее, как биение внутренней жизни, останавлива-
лась. Отсюда всегдашнее сочувствие греков к героям, которые восставали
против тирана и каким бы путем ни было - свергали его. Среди несчастий
или внешнего унижения, при невообразимых внутренних раздорах - все рав-
но была жизнь после тирании, тогда как при ней ее не было. Отсюда остра-
кизм, изгнание всякого слишком выдающегося по дарованиям, как предуп-
реждение тирании; отсюда - предпочтение ей даже внешнего порабощения,
как последнего средства от нее освободиться. Властитель во всяком другом
* Как на особенно знаменитые подтверждения этого можно бы указать на
рассказ о падении Пизистратидов - у Геродота и на многие указания в диалоге
«Федр» - Платона.
** Высказанная им в «Республике».
64
государстве есть распорядитель абстрактных функций, лишь задевающих
отдельное лицо; в Греции он был присвоителем того, что составляло неотъем-
лемое внутреннее содержание каждого, - он был врагом и оскорбителем
всякого отдельного человека. Отсюда раннее исчезновение неясных теней
монархизма на всем протяжении Греции; и самоуправляющаяся община,
которою поглощена, сдавлена, но и определена в достоинствах своих, воспи-
тана и увенчана личность. Все государственные функции здесь поручались,
как равными равному, и, конечно, не оплачивались, как не оплачивается ук-
рашающее и возвышающее доверие, которое оказывается другу. Вспомним,
чтобы лучше понять это явление, отвращение и негодование, которое вызва-
ли к себе софисты тем, что стали брать плату за обучение. Они были предста-
вителями начинающейся розни, распадения слитой некогда общины на мир
индивидуальностей, из которых у каждой есть свои заботы, нужды и интере-
сы. Ничего подобного, уходящего внутрь себя, не было в первоначальном,
не пошатнувшемся греческом мире. Ясное обращение к внешнему, откры-
тость каждого ко всем сказывалась во всякой черте их жизни, во всяком дви-
жении. Их душа, как и их боги, всегда была обнажена, и среди шумящего
народа, в Экклезии или в Буле их ораторы так же состязались, как борцы на
Олимпийских играх. Один взгляд на ясную Афродиту уже мог бы для всякого
чужестранца объяснить их государственное устройство; как, понимая пос-
леднее, без труда было бы можно определить манеру их воплощения красо-
ты в зодчестве, в скульптуре, в трагедии и в лирике.
В высшей степени замечательно чувство отчуждения греков от всех сосед-
них народов, напр. гораздо сильнейшее, чем какое было у древних персов. Оно
находится в тесной связи с глубокою общностью между собой всех граждан
города, всех городов Греции. Война международная - это все-таки симптом
связности народов, хотя и отрицательный, и греки никогда не вели войны с
«варварами», пока они не напали на них. Все войны греков - внутренние,
между собою, и замечательно, что никогда поводом к войне не было желание
для себя территориального расширения за счет соседей. Завоевательных войн,
где одно политическое тело поглощает или теснит другие, мы в собственно
греческом периоде истории почти не знаем: и это есть признак отсутствия в
Греции политического индивидуализма, резкой разграниченности между со-
бою отдельных государств. Обычным поводом к войне была здесь борьба «за
гегемонию», или, точнее, против гегемона, т. е. против выдающегося какого-
нибудь города, который, обособляясь от прочих, силился стать над ними тира-
ном. Таковы Пелопоннесская война против Афин, Коринфская и Фиванские
войны против Спарты. Другим поводом, столь же обнаруживающим тесную
связь между собою греческих городов, служило оскорбление какого-нибудь
святилища, равно для всех драгоценного (так называемые «священные вой-
ны»), или помощь городу против овладевшего им тирана (наир., Спарты -
Афинам против Гиппия). Таким образом, и внешние отношения, и внутрен-
ний строй обнаруживают в мире греческих государств особый тип политичес-
кого сложения, который не наблюдался раньше и не повторялся потом.
3 Зак. 3969
Черта психической объективности и вытекающей отсюда гражданской
связности наблюдается также и в Риме, где открытость отношений, общность
интересов (res publica), поручаемость и безвозмездность государственных
функций господствуют над всем остальным, как и в Греции. Но взамен кон-
кретности в способности представлений, какую мы находим у греков, мы
встречаем у римлян абстрактность ума, более способного к образованию
понятий, нежели к созданию образов. Неразвитая мифология, божества как
символы понятий или отношений (напр., божество границ - «термин», или
храм Согласия), слабость всех образных искусств и великое развитие права
есть последствие этого абстрактного склада ума, направленного, как сказано
уже было, на полезную сторону во всем. Образцы чередуются, тогда как
понятия развиваются, т. е. растут и усложняются, захватывая все более в себя
содержания, но не разрываясь, не утрачивая при этом своей истинности или
приложимости, - и эта разница в отношении двух продуктов человеческого
духа к внешнему материалу есть не последняя причина великой разницы,
которую мы находим в судьбах Греции и Рима, столь родственных, столь
близких по происхождению и всему внешнему облику жизни. И в самом
деле, все растет в Риме, все растягивается, последовательно захватывая в свои
политические формы древний Лациум, потом Италию, наконец все побере-
жье Средиземного моря, весь дотоле известный мир. Любопытно, что меж-
дугосударственные отношения, какие мы наблюдаем в Греции, одною чер-
тою своею отсутствуют в Риме, другою же повторяются. В противополож-
ность греческим государствам, Рим есть община, постоянно силящаяся раз-
рушить или поглотить соседние, но не территориально, а, собственно,
политически. Рим не столько расширяет свою государственную территорию,
сколько отнимает самостоятельную политическую жизнь у соседних общин,
подавляет у них волю, независимое проявление своего «я», подчиняя и сли-
вая все это со своим могучим желанием: это выражается в ряде союзных
договоров, которыми была связана Италия, но вовсе не присоединена к Риму
перед Пуническими войнами. И даже после этих последних, когда Рим высту-
пил за пределы Италии и стал, собственно, завоевательным государством, он
постоянно завоевывал, собственно, право, а не территорию, искал более под-
чинения, нежели земельного увеличения для себя: все отношения, напр. к
Нумидии, к Македонии, к Египту, и наконец, к азиатскому Востоку, ясно по-
казывают это преобладание чисто юридической стороны над грубо физичес-
кою. Границ государственных в том смысле, как были всегда и есть теперь
границы у Франции, у России, - мы не знаем у Рима; и, очерчивая на карте,
пространство Римского государства, мы, собственно, очерчиваем сферу его
мощи, круг народов и стран, жизнь которых текла уже не по собственному
желанию, но по указаниям из Рима. От этого самое определение времени,
когда какая-нибудь страна стала частью Римского государства, всегда так зат-
руднительно. Рим лишь последовательно и очень медленно придвигал к себе,
присасывал и, наконец, вбирал в себя ту или иную страну, тот или иной на-
род. Конечно, во времена Нерона вся Италия уже была Рим; но когда это
66
сделалось, после какого события или в каком году? или когда была поглоще-
на Иудея: при Помпее, при Клавдии, при Веспасиане? Эта медленность асси-
милирования со своим организмом внешних национальных тел была одною
из существенных причин неудержимого роста Рима: ни в какой момент по-
глощаемый народ не знал, что, собственно, он уже поглощается; было незна-
чительное умаление прав, снятие нескольких лишних штрихов, которыми
обозначалось его существование в мире, выражалась его личность в исто-
рии, - и не казалось необходимым напрягать все силы, чтобы во что бы то ни
стало удержать эти штрихи, без которых существование ведь продолжалось и
только несколько тускнело. Все войны, имевшие целью отстоять свое суще-
ствование, какие велись против Рима, были для него уже борьбою внутрен-
нею, бессильным биением живого тела, вошедшего, но упорствовавшего
раствориться в римском теле (напр., борьба с умбро-сабельскими племена-
ми при Сулле, окончившаяся в 88 г. до Р. X., начало же поглощения их относит-
ся приблизительно к 305 г. до Р. X.).
В соответствии с этим процессом урегулирования отношений к себе все-
го внешнего шло в Риме и урегулирование от взаимных отношений всего
внутреннего, что выразилось в развитии права. Направление созерцания в
сторону полезного, абстрактный характер этого созерцания, бессознательно
извлекающий из частных случаев их общую и постоянную основу, наконец,
объективность всею душевного склада - вот психические задатки, из кото-
рых выросло римское право. История, ее нужды и задачи, ею поставляемые,
были только возбуждающим стимулом к этому развитию, но не его основою.
Все указанные особенности античного мира, отразившиеся и на его по-
литическом сложении, сообщают ему две черты: красоты и холодности. В
его несложном устройстве, в его внешнем религиозном культе, в его истори-
ческом возрастании и самой смерти все правильно и ясно, все просто, - как
красиво и просто все в сочетании линий, которому мы удивляемся в Парфе-
ноне. Почти все, к чему бы ни обратились мы здесь, привлекает и удерживает
долго наше созерцание, давая ему наслаждение умственное или художествен-
ное. Но нет ничего почти, что нас и трогало бы. В своем геройстве, в своей
борьбе, в самом даже страдании и смерти греки и римляне остаются как-то
чужды для нас, не вызывают сожаления к себе, как почти не жалели они и
друг друга. Нет нравственного момента в их жизни и истории, и это оттого,
что есть великий недостаток в ней субъективного. Они близки были друг к
другу, но лишь извне, как граждане, но не как люди, и как гражданам мы
удивляемся им, но вовсе не любим их, как людей.
Средние века представляют собой антитезу этому миру: все в них непра-
вильно, все хаотично; невыразимо груб их быт, как и первобытно искусство,
понятия о природе и отношения государственные. Но если после великолеп-
ных страниц Фукидида или Тацита мы обратимся к какому-нибудь безвест-
ному хроникеру, мы испытаем невольное облегчение - удовольствие, похо-
жее на радость: наконец мы опять видим людей, а не скованные холодною
красотой их подобия - статуи. Все опять просто и естественно вокруг нас, в
67
этом первобытном хаосе разрушения и созидания, который мы называем
Средними веками. Люди говорят, а не произносят речи, воюют, а не соверша-
ют только подвиги; они несправедливы и жестоки, всегда грубы и никогда не
гениальны - и, однако, мы непреодолимо привязываемся к ним, заинтересо-
вываемся в высшей степени их судьбой и, ничему не удивляясь, очень мно-
гое в них любим.
Если мы станем искать источник этой разницы, которую наблюдаем, не в
степени только развития, но в самом сложении всей жизни, в самых чертах
лика человеческого на протяжении полутысячелетия после падения античной
цивилизации, то должны будем обратиться прежде всего к христианству. Из
всех религий, какие знает история, христианство есть самая внутренняя, гово-
рящая совести человека в уединении, т. е. она наиболее запечатлена индиви-
дуализмом. В то время как даже Моисей давал заповеди целому народу, и к
народу же обращены были увещания израильских пророков, Христос - и это
впервые было в истории - обратился к одному человеку, к лицу: его беседы
с Самарянкой и с Никодимом, его притчи, высказанные ученикам, все это
уходит куда-то далеко, далеко от тревог окружающего мира и как будто даже
от самой истории. Где-то в стороне от всего, что знали раньше люди и что
занимало их, что они считали главным интересом своей души и главной це-
лью существования своего, вскрылась иная цель, иной интерес; и история,
которая долго еще шла мимо всего этого с шумом и треском, все иссякая и
иссякая, все теряя силы, впала, как бы подсеченная в корне, в круг этих стояв-
ших в стороне интересов и с тех пор идет вот уже второе тысячелетие силами,
которые были заложены там и в тот миг. Эта особенная неистощимость, эта
странная неувядаемость христианской цивилизации вся вытекает из того, к
чему обратился Христос: как бы снимая с человека его оболочку, он рас-
крыл в истории его душу, которая постоянно до тех пор скрывалась за племе-
нем, за государством, за общественною жизнью и общепринятыми обычая-
ми, - и судьбу души этой в ее падениях и просветлениях сделал всемирной
историей, которая, конечно, стала так же вечна и неувядаема, как неувядаема
в вечных возрождениях своих человеческая совесть.
Личность стала поэтому центром новой истории, как прежде центром
таким была городская или родовая община. Там, за пределами государства,
все тусклее становилось то, что непосредственно примыкало к человеку и,
наконец, он сам - совершенно неясный образ, только менее или более удач-
ный носитель общих черт и общих же интересов, которые налагались на него
государством. Напротив, самым ясным и самым твердым теперь становится
именно то, что непосредственно следует за внутренним миром человечес-
кой души, что им согревается и его освещает, -семья. После религии, после
отношения к Богу, первой святыне Средних веков, - второю святынею стано-
вится семейный круг. Классическое «с ним или на нем», которое обратила
спартанка к рожденному от нее воину, подавая щит, - не имеет никакого
смысла в Средние века; и, напротив, получили смысл уединенные молитвы,
которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как
68
бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Все переменило
характер от этого перемещения интересов человека: нет торжественных хо-
ров, нет великолепия холодных процессий и всей скульптурности бытовых
форм, как и изваянных характеров. Все ушло куда-то внутрь, за стены родно-
го дома, к скрытому очагу, где человек живет, живет, не наблюдаемый более
никем, и откуда он выходит с лицом, осененным светом, который никогда не
согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех уединенной жиз-
ни, выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала
человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум.
Понятно видоизменение общественных и политических форм, которое
все текло отсюда: государство уже не прилегает более непосредственно к
человеку, оно удалено от него и даже не так строго необходимо. Только не-
приятное соседство грубых народов, всегда готовых напасть и разорить стра-
ну, да неизбежность присутствия злых людей и безродных бродяг в недрах
самого общества заставляет отрывать каждого свое внимание от семьи и
часть его посвящать той внешней оболочке над всеми, которую мы называ-
ем государством. Таким образом, отношение к нему в новой истории стано-
вится внешним и холодным, вынужденным; тогда как в древнем мире оно
было внутренним и интимным, ему одному отдавалась несдержанная страсть.
С этим изменением отношения к политической форме изменилось и отно-
шение к ее элементам: монархия есть естественная форма христианского
государства, как республика - античного, языческого. Общий интерес, дела,
касающиеся до всех, каждое res publica - есть только бремя, которое никто
теперь не хочет взять на себя и в которое, чтобы вникнуть только, - нужно
забыть на время самые дорогие и близкие интересы, пренебречь то, с чем
слита жизнь. Тот, кто берет на себя это бремя, кто за каждым сохраняет самое
драгоценное для него, уединение и заботы о близких, каждому - оказывает
благодеяние, которого он не получает даже от друга. Отсюда - взгляд на цар-
скую власть, как на источник благодеяния, поэзия и любовь, которою она
окружена. В античном мире, ставший один над всеми, даже когда он для всех
благодетель, есть wpavv£, похититель власти, всех и каждого враг; в новом
мире - это заботливый устроитель общих дел, охранитель над всеми, кото-
рый отказался от лучших даров счастья, чтобы за каждым сохранить его дары.
Его личность неприкосновенна, почти свята, его характеру удивляются, хотят
знать его частную жизнь, которую любят, почти как собственную. Рассказы о
Теодолинде, легенды о Карле Великом или об Альфреде Английском, все эти
трогательные чувства и воспоминания, обращенные к государю и его памя-
ти, - как далеко отошли они от образов Тиверия, Дионисия Сиракузского или
хитрого и жадного к власти Пизистрата и двух сыновей его. Мы говорим не о
разнице, которая была между этими людьми, но о разнице чувств, которыми
они окружены были, с которыми их встретили на троне и проводили в моги-
лу. А чувства эти, вся психическая атмосфера, которою дышит человек, на
которого обращены миллионы глаз, по неистребимой связности каждого в
роде людском со всеми, ранее или позже налагают свою печать на его духов-
69
ный образ, дела и тайные мысли, конечно, с индивидуальными изменения-
ми; но каждый становится тем, что от него ожидают, и это не менее тогда,
когда он отвечает на ненависть ненавистью, чем когда на привязанность —
любовью. Но в Средние века (и вообще в христианской истории) даже и поло-
жительно слабые государи, не успевшие ни устроить подданных, ни защи-
тить их, пользовались, однако, их добрым чувством: о его несчастиях на вой-
не, о его падении с престола вспоминали с бульшим участием, чем даже и о
собственных бедах, о разорении целой страны - факты, неизвестные в антич-
ном мире, непонятные в Риме, в Афинах, в Спарте (судьба Цезаря, подозри-
тельное отношение даже к Периклу). Отсюда слияние всей новой истории с
личною историею государей, с рассказами о судьбах династий, - как в древ-
ности слияние ее с форумом, с dyopd, сенатом - экклезией. Замечательно,
что до последних десятилетий нашего века это не понималось, как ошибка, не
чувствовалось тут какой-либо неправды: Мишле и Маколей одинаково писа-
ли свою историю. И в том, что никто не чувствовал здесь чего-либо ложного,
находится оправдание и объяснение гордых слов о себе нового государя:
«Государство - это я». В совершенно строгом смысле слова эти мог приме-
нить к себе и самый скромный из предшественников Людовика XIV: в Европе
после падения античного мира, еще от времен Хлодвига, Генриха-Птицелова
и Альфреда Великого, - государь, понятно, был носителем государства, т. е.
совокупности общих забот о всяком деле, организатором всех этих дел, их
начинателем и руководителем. Он был вождь на войне, организатор в мире,
и когда еще оставался досуг от всего этого - личный досуг (Людовик IX),
учредитель форм быта, строитель наук, литературы и искусства. Только уже
позднее, в наше время, когда все стало изменяться, историками был приду-
ман для слов Людовика XIV смысл, которого он вовсе не имел в виду, от
которого он гордо и презрительно отказался бы, как от недостаточного, если
б можно было как-нибудь объяснить ему этот смысл.
И второстепенные подробности политического сложения христианских
народов также вытекают все из начала индивидуальности, обращения чело-
века внутрь себя, которое принесла миру новая религия. Руководительство
общих дел в античном мире поручалось по доверию некоторым и было, в
каждом отдельном случае, как бы добровольным сложением власти многих
на одного: это высокое право - принять хоть временно на себя власть других —
приобреталось не только выдающимися достоинствами в частности, но и
общим, постоянным несением на себе бремени бульшего, нежели какое не-
сли другие. Отсюда разделение граждан на классы в Риме, в Афинах, и несе-
ние почти всего бремени налогов теми, которые могли быть избираемы на
государственные должности: за право получить власть от бедных богатые
принимали уплату повинностей за них. И они несли также и всю тяжесть
военной службы, что было, впрочем, лишь самою общею и, для каждого
отдельного лица, низшею формою государственной власти: правом, которое
принималось от народа войском. Безвозмездность всякого государственного
служения и простое выражение признательности за государственные услу-
70
ги, лавровый или дубовый венок, наконец - триумф, это все естественно
вытекало из античного взгляда на государство, из чрезмерной близости к
нему, к его идее и выражению всякого живого индивидуума. И все это стало
непонятно и невозможно в новом мире: как только центр жизни, внимания и
забот переместился в частную жизнь, для общей можно было найти служи-
телей только за особые выгоды, им предоставляемые сравнительно с прочи-
ми. Там эта служба покупалась, как право, здесь она оплачивалась, как обя-
занность. Отсюда вытекли два великих последствия: перемещение государ-
ственных тягостей сверху вниз и развитие бюрократической системы управ-
ления, взамен древней, по поручительству. И в самом деле, с торжеством
христианства и как бы вопреки его светлым заветам, мы видим, что повсюду,
и даже до наших времен, бремя уплаты государственных повинностей, как и
линейной службы в войсках, всею тягостью своею лежит по преимуществу
на крестьянстве и мелких горожанах, из которых не выходят люди, пекущиеся
о государстве; и от этой тяжести свободны, совсем или отчасти, классы обес-
печенные и свободные: ubi ementum - ibi emolumentum*. Эта правовая фор-
мула античного мира читается в новом наоборот. Нужна была особенно
сильная и постоянно действующая причина, которая в силах была бы поро-
дить столь общий факт, столь резкое отклонение от самой основы христиан-
ства. И эта причина лежит в том, что именно вследствие христианства госу-
дарство так далеко отодвинулось от индивидуума: для церкви или по предпи-
санию нравственного долга он может взять на себя тяжелое бремя, может
посвятить всю свою жизнь заботе о ближнем, о неимущих, о страждущих. И
факты заботы этой, неизвестные в древности, продолжаются до наших вре-
мен вот уже девятнадцать веков. Но для государства, для совершения дей-
ствий, индивидуально никому не нужных, что может заставить христианина
отнимать заботы от своей семьи и иногда даже от церкви, о своем личном
загробном спасении? Ради чего он погрузится в весь этот мелочный, непри-
ятный и часто нечистый водоворот текущих или особых дел, где так часто
нужно притеснить или наказать, подчиниться слепо или гневно приказать?
Для его свободной души, которая хотела бы жить только с Богом, с подателем
жизни и грозным судьей, перед которым он должен дать отчет не только за
одну свою душу, но и за детей своих, - для него оставить эти высокие и
чистые заботы для разбирательства вздорных дел между дурными людьми,
для вымогательства подати с последнего бедняка было нечто отвратительное
и тягостное. Вот почему вплоть до начала XV века, когда во всей Европе
совершился великий упадок религиозных чувств, самое возникновение от-
четливо организованного государства было невозможно. Только с этого вре-
мени, взамен феодального строя, где вовсе не было этой удушливо-грязной
административное™, возникает государство с все приближающимися к это-
му типу формами. Но одна общая черта сохраняется как в феодальном, так и
в новом государстве: та общая сословная масса, из которой выходят оберега-
* где выдумка, там успех (лат).
71
тели общих интересов, будет ли то воин или чиновник, в шлеме или в мунди-
ре, эта масса, одинаково во все эпохи, религиозные и атеистические, просве-
щенные и грубые, свободна от денежных и всяких физических повинностей;
кроме одной: обязанности давать из себя людей, пекущихся об общем благе
как внешнем, так и внутреннем. С тою разницей, повторяем, что в феодаль-
ном строе это обязательное попечение было более свободно по форме, стро-
го индивидуально по выражению, - что вполне согласовалось с религиоз-
ным духом эпохи: рыцарь - повсюду, член феодальной иерархии в своем
районе был оберегателем справедливости и свободы, действующим по сво-
ему побуждению, лишь в слабой зависимости от сюзерена, и притом по
преимуществу в отношении к частным людям; что все и производило тогда
какую-то чудную смесь личной инициативы всюду - с громадной массивно-
стью народных масс, уже вступивших в историю, и начал религиозно-нрав-
ственных - с политическими.
По мере того, как из хаоса феодальных отношений возникало новое госу-
дарство, эта независимость в проявлении забот о всех стала уступать место
принудительности и безличности: возникла бюрократия, как посредствую-
щее звено между государем и страною, как орудие деятельности первого,
которая могла бы достать всюду и коснуться всего. В силу той безынтересно-
сти государства для каждого индивидуума, о которой мы говорили как о ха-
рактерной черте новых времен, орудия деятельности этой, т. е. звенья бюрок-
ратической системы, могли быть привлечены к деятельности на общую пользу
не иначе как платою. Отсюда - оплаченный чиновник, как непременная при-
надлежность нового государства, будет ли то монархическая Австрия или
республика Соединенных Штатов. Всюду за те заботы, которые отнимает он
от семьи своей, чтобы передать их безличным и далеким для него массам
людей, он требует и получает особенные выгоды, которые передает своей
семье. С возникновением бюрократии, набираемой из всех классов, куда идут,
по выше объясненным причинам, лишь наиболее грубые элементы обще-
ства, наименее ценящие себя и в себе - все высокочеловечное, самое суще-
ствование особых облегченных классов, утратило всякое основание: они опу-
стились туда, где всегда лежало бремя государственных тягостей, сохраняя
одно лишь преимущество - избыток материальных средств. Безличная, не-
расчлененная масса народа и управляющий класс над нею, как единственное
и новое сословие, есть общая черта государств современного типа. Но куп-
ленная забота всегда обращена к тому, кто ее купил, а не к тому, для кого она
куплена. Отсюда - развитие в новом государстве наружной стороны деятель-
ности, отсутствие на периферии его, в последних звеньях системы, какой-
либо жизни, устремленности, достигания, и так как лишь этою периферией
система касается реальных явлений текущей истории, то отсюда же вытекло
вечное убегание этой истории от руководительства системы, которая напря-
женно силится из центра овладеть ею, но не может. Изощрение и изощрение
контроля, прибавка к сделанной уплате (жалованье), обещания прибавить
еще (награды, повышения, знаки отличия) - все это есть ряд усилий, делае-
72
мых из центра для того, чтобы передать свою жизнь и устремленность дале-
ким перифериям, не знающим и не хотящим, не чувствующим в самих себе
каких-либо целей. Таким образом, за безучастием в новом государстве хоро-
ших сторон человеческой природы, является печальная и сознанная необхо-
димость действовать, возбуждая их, на дурные: на чувство робости в челове-
ке, на его алчность, на какое-то иллюзорное тщеславие. Но, как само собою
ясно, не задевая сущности дела, все эти средства были и останутся бесплод-
ны: какая бы цель для деятельности ни была поставлена и какая бы награда
возле нее ни стояла, внимание достигающего ее в новом государстве неиз-
менно будет направлено на того, кто поставил ее и держит награду, а не туда,
где стоит она и чего должна коснуться ее деятельность. Безжизненность, глу-
бокое бессилие есть неизменная черта новых политических тел, возникших
повсюду в Европе с конца XV века, и вытекающая из самой психической
структуры их. При этом мы говорим, конечно, о норме, а не об исключениях:
но рвение, но героизм, но подвиг для родного города в античном мире, был
нормою, а равнодушие - исключением. В христианском мире, где государ-
ство есть второстепенное для человека, а не первое, это стало наоборот, -
при всех формах правления, при всех степенях образования, в века минув-
шей истории и ожидаемой.
В целях удобства, возможности какого-нибудь действия, это управление
не могло не приобрести всюду одного вида: всеоживляющий центр и пробе-
гающая от него деятельность, которая, распределяясь по бесчисленным ни-
тям все утончающейся администрации, завязывается на оконечности их с
фактами реальной жизни, силясь овладеть этими фактами. Восхождение дви-
жения обратно к центру от фактов хотя, возможно, и есть, но всюду затрудне-
но, как бы мешая главному движению. Некоторая абстрактность жизни в
центре, абстрактность идей его и даже страстей, и затруднительность движе-
ния для фактов на периферии системы, где они проскользают сквозь резкую
уже и слабую сеть административной паутины и текут по своему особому
руслу, никем не направляемому, - вот общая картина этой системы, почти
без видоизменений установившейся во всей Европе. Ей отвечает повсюду
картина самой территории европейских государств, которые, как остов не-
рвную систему, облекают эту администрацию и вполне повинуются ей, ее
внутреннему закону в своих внешних чертах: уторопленная жизнь в центре
каждого подобного государства, и притом жизнь крайне абстрактная, без
ярко выпуклых особенностей, которые были бы наложены историей, нацио-
нальностью, ее особыми бытовыми условиями и даже климатом. Все столи-
цы Европы становятся чем далее, тем более схожи между собою, как фото-
графии, снятые с одного лица. И до самой периферии, начиная от этих цент-
ров, всюду поблеклая жизнь, медленно движущаяся, без какого-либо значи-
тельного интереса к себе для наблюдателя, без какого-либо счастья, кроме
покоя, без других забот, кроме насущного пропитания. Все высшие интере-
сы, тревоги, замыслы сосредоточиваются в центре, лихорадочно деятельном,
ни на минуту не успокаивающемся; и это беспокойство есть самая главная
73
печать, налагаемая этими центрами на высшие интересы человеческого су-
ществования, сюда стянувшиеся.
Таковы резкие, бьющие в глаза особенности новой истории, вытекшие
все из незаметного уклона, который получило девятнадцать веков назад раз-
витие человеческого духа в новой религии. С этого времени, повинуясь это-
му уклону, все дела человеческие текут в сторону, диаметрально противопо-
ложную той, куда они двигались ранее, в античном мире. Нам остается доба-
вить еще немного слов, чтобы докончить картину этой истории, и именно —
выяснив особый характер, какой имеет здесь участие собственно народных
масс в государственной жизни.
Древнему миру вовсе неизвестна была противоположность между госу-
дарством и обществом: в Спарте, в Афинах или в Риме общество, т. е. сово-
купность граждан, было вечно деятельным носителем задач, форм и тради-
ций государства. И кто враг был этому государству, или что клонилось к его
ущербу, был враг и обществу этому, его интересам. От этого борьба там
всегда была борьбою в пределах самого государства, одного элемента его
против других, т. е. она носила строго внутренний характер, была вполне
законна, и ее влияние на развитие государства всегда было плодотворно. На-
против, в новой истории, с возникновением христианской семьи, со строгим
и возвышенным развитием церкви, общество отделилось от государства и
вообще история его не укладывается в историю политическую и не всегда
даже совпадает с ней в своем течении: бывали моменты, и их всегда можно
ожидать в будущем, когда принципы, задачи и вся установившаяся практика
государства вызывала строгую критику и даже осуждение со стороны обще-
ства, - факт, неизвестный в летописях истории до появления христианства. В
античном обществе, слитом с государством, только к концу его, с возникно-
вением философии, могли появиться в ее особых понятиях опорные пункты
для критического отношения к политической практике. И это еще раз, но с
новой стороны, показывает, как мало гармонировали Академия, Лицей и
Стоя с Акрополем и Форумом, со всей этой светлой, связной, в высшей
степени цельной жизнью; и насколько сказался в их возникновении скрытый
перелом истории к чему-то новому, совершенно отличному от прежнего.
Но философские понятия никогда не могут быть достоянием многих, и изгна-
ние Анаксагора, смерть Сократа, добровольное удаление из Афин Аристо-
теля были несложными фактами, в которых выразилось это разъединение
личности и государства. Напротив, с появлением христианства этот факт стал
всеобщим и постоянным: в заветах Евангелия, в пробужденных тревогах сво-
ей совести всякий имел постоянный критериум, который он не колеблясь
применял и ко всякому поступку своему, и к каждому государственному
акту, которого был зрителем. Слитность между индивидуумом и политичес-
ким строем стала более невозможною: стала возможна особая история об-
щества и всего того, что из него свободно вырастало: религиозных движений,
искусства, науки и философии. Все это, развиваясь вне воздействия государ-
ства и будучи дорого человеку не менее, чем оно, открывало новые и новые
74
точки опоры для индивидуального суждения, для общественной критики го-
сударственной деятельности. И мы видели нередко в истории Европы момен-
ты, когда государство с сетью развившихся в нем учреждений, и общество с
великим духовным миром, им созданным, становились друг против друга,
чтобы победить или умереть. Таков был, между прочим, смысл Французс-
кой революции, столь враждебной христианству и, однако, возможной толь-
ко в христианской стране, - по своему основанию, по точке опоры, какой она
никогда не получила бы для себя в языческой стране*.
Но здесь общество и государство стояли друг против друга; разъединены
же и обособлены они были постоянно в новой истории. Этим объясняется
особый характер как важнейших чисто европейских законодательств (т. е.
возникших без участия римского права и не на романизованной почве), так и
характер в новой истории представительных собраний. «Magna charta
libertatum», «Habeas corpus», «Билль о правах», - эти знаменитые юридичес-
кие акты все имеют одну цель: охранить личность от посягательств государ-
ства, провести вокруг каждого черту, за которой с семьей своей, со своими
высшими духовными интересами, он как бы не чувствовал государства и его
ежеминутной деятельности. Таким образом, печать глубокого индивидуа-
лизма лежит на этих государственных актах - в противоположность антично-
му миру, где всякий государственный акт расширял сферу общей деятельно-
сти (respublica) на счет индивидуальной свободы. И далее (в глубокой анало-
гии со всем сказанным), тогда как в древнем мире всякое представительное
собрание (сенат, комиции, буле и экклезия, герусия) имело характер, веду-
щий историю, в новой истории всякое подобное собрание имело характер,
только ограничивающий это ведение, или в нем участвующий. Вначале, ког-
да государь стоял один над народом и еще не имел вокруг себя сложной
администрации, через которую мог бы действовать, он созывал лучших лю-
дей из подвластного народа в помощь себе, для совета или содействия. И
понятно, что собрания эти всюду прекратились, заменяясь более деятельною
и удобною администрацией. В одной Англии, где не возникло бюрократии,
эти собрания сохранились благодаря ряду дурных королей, которых, пред-
ставляя собою общество, они стали ограничивать. Но в высшей степени за-
мечательно, что где бы ни возникали подобные собрания и в позднейшее
время, они всюду имеют тот же ограничивающий характер, выражают крити-
ку стоящего в стороне общества, но не его деятельность. Так сделался удален,
со времен христианства, мир индивидуальных желаний и даже мыслей от
общего интереса всех, что, собираясь даже во имя этого интереса, отдельные
личности не могут найти способа осуществлять его, но лишь смотрят и
критикуют то, что перед ними осуществляется, - и это одинаково в республи-
ках, как и в ограниченных монархиях. Поэтому, в строгом смысле, rei publicae
* Сравни судьбу Тиверия и Кая Гракхов, боровшихся за ясные для всех матери-
альные интересы, с судьбой Мирабо и последующих вождей революции, боровшихся
за гораздо более отвлеченные принципы.
75
не существует в Европе и не может существовать; есть только монархии, но
местами такие, где власть монарха, его скипетр, держится многими руками,
скрытыми за спиною остальных необозримых народных масс, которые покор-
ны и безучастны к власти столько же, как и в монархиях незатемненных. Венец
царский не сорван нигде, но он разорван на лепестки, которые, однако, сияют
на головах нескольких людей, - для большего удобства, говорят они, народа,
которому, однако, предоставляется лишь смотреть на это, бессильно желать
этого, вечно завидовать и умирать с чувствами, каких он не имел прежде.
Таковы различия в политическом сложении древнего государства и всех
новых. В бессмертной формуле своей Аристотель выразил сущность перво-
го: avGpconog ^coov tioXucikov eanv* - сказал он, думая о современном ему
мире, высказывая то, как этот мир чувствовал себя. Величие, поразительная
красота, обилие жизненности в государстве и гражданине было простым след-
ствием только этого факта. Был удивительный период в истории, когда чело-
век не только ощущал, но и дышал, но и мыслил, но и желал только внешними
покровами своего существа, - подобно тем странным, еще не развитым жи-
вотным, которые живут только кожею. И этот период окончился навсегда, как
только принесено было на землю Евангелие. С ним и через него вырос внут-
ренний человек, вскрылось глубокое содержание его природы, вовсе не ук-
ладывающееся в рамки какой-либо политической формы или деятельности.
Человек не хочет и не может быть только гражданином; он уже давно сперва
христианин, потом отец семьи, на котором лежит высшая ответственность,
наконец - он художник или мыслитель и уже после всего этого гражданин.
Но с тем прекрасным и до сих пор не померкающим светом, каким озари-
лась в силу этой перемены история, неотделимо некоторое и искажение го-
сударства: нет прежней красоты в его формах, более безжизненно оно, узко
и как-то несимпатично. Всего этого переменить нельзя и не следует. И не
подавляя остальное все, как это было в древности, но, напротив, примыкая ко
всему, что выросло в новых обществах из христианства, проникаясь начала-
ми религиозными, семейными, всюду будя в себе внутренний смысл, а не
установляя внешние формы, новое государство может достигнуть высших
проявлений своего типа - менее красивых, чем античные, но гораздо более
дорогих человеку и, быть может, более его достойных**.
* Человек - животное политическое (греч.).
** Нам могут заметить, что 1) зародыши централизации и бюрократии появи-
лись еще в языческой Римской империи и 2) что в некоторые эпохи новой истории у
тех или иных народов отсутствовали черты этой бюрократии и централизации. На это
ответим, что 1) насколько уже в языческом мире (однако не ранее появления христи-
анства) стало подготовляться выясненное нами политическое сложение, в нем, в этом
факте, с новой стороны обнаружилось подготовление к принятию христианства: фор-
мы перерождались в направлении, строго отвечающем характеру содержания, кото-
рое только подготовлялось в это время на Дальнем Востоке. Замечательно, однако,
что окончательное установление централизации и бюрократии произошло в Риме
лишь при Константине Великом, при котором и новая религия от потаенных путей
перешла к ясному выражению себя в истории. 2) Из новых народов у всех и во все
76
VIII
В пределах этого общеевропейского типа жизнь единичных, сколько-нибудь
значительных народов новой истории приняла своеобразное выражение. Мы
приведем здесь слова г. К. Леонтьева, хотя и кратко, но ясно и справедливо
указывающие важнейшие из этих оттенков:
«Италия, возросшая на развалинах Рима, - говорит он, - около эпохи Воз-
рождения и раньше всех других европейских государств выработала свою госу-
дарственную форму, в виде двух самых крайних антитез - с одной стороны,
высшую централизацию, в виде государственного папства, объединявшего
весь католический мир далеко вне пределов Италии, с другой же - для самой
себя, для Италии собственно, форму крайне децентрализованную, муниципаль-
но-аристократических малых государств, которые постоянно колебались меж-
ду олигархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Тоскана и т. д.).
Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна несколько
позднее. Это была монархия самодержавная и аристократическая, но про-
винциально малососредоточенная, снабженная местными и отчасти сослов-
ными вольностями и привилегиями, - нечто среднее между Италией и Фран-
цией. Эпоха Карла V и Филиппа II есть эпоха цвета этой политической формы.
Государственная форма, свойственная Франции, была в высшей степе-
ни централизованная, крайне сословная, но самодержавная монархия. Эта
форма выяснилась постепенно при Людовике XI, Франциске I, Ришелье и
Людовике XIV; исказилась она в 89-м году.
Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих пор) ограни-
ченная, менее Франции вначале сословная, децентрализованная монархия,
или, как другие говорят, аристократическая республика с наследственным
президентом. Эта форма выразилась почти одновременно с французской
при Генрихе VIII, Елисавете и Вильгельме Оранском.
Государственная форма Германии была (до Наполеона I и до годов 48-го
и 71-го) следующая: союз государств небольших, отдельных, сословных,
более или менее самодержавных, с избранным императором-сюзереном
(не муниципального, а феодального происхождения)»*.
эпохи есть более или менее выраженный уклон в указанную сторону; но, скользя по
этому уклону, многие из них задерживались в движении своем разными исторически-
ми обстоятельствами. Во всяком случае, в каждом единичном народе последующая
фаза развития всегда была обильнее, чем ей предшествующая, общими чертами бю-
рократизма и централизации (сравни, напр., Испанию при Карле V и Филиппе II); и по
истечении достаточного времени все страны Европы приняли вид, нами очерченный.
Но (и это главное), имея задачею высказать лишь схему нового государства, мы ука-
зали, что отдельные черты этой схемы должны корениться в особенностях духовного
сложения новых народов; а это последнее возникло, главным образом, из христиан-
ства, в котором именно индивидуализм и субъективность могли дать основу для осо-
бого строя общественной и государственной организации.
* «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 150.
77
Нельзя отрицать, что эти формы государственного сложения типичны
для перечисленных народов и что ни одна из них не была присуща какому-
либо другому народу, кроме одного указанного. В своем роде они столь же
характерны, как, напр., дорическая и ионийская формы для отдельных госу-
дарств Древней Греции.
Приблизительно с половины XVIII века все эти формы постепенно выяс-
нялись; во многих выяснение это продолжалось и в XIX веке. Одновременно
с этим процессом установления внешнего разнообразия происходило и воз-
растание внутреннего духовного творчества европейских народов. Век
Возрождения в Италии совпал с наиболее полным развитием католицизма и
с наибольшим расслаблением собственно Италии накануне отпадения Лю-
тера и внешнего порабощения французами и германцами. Леонардо-да-Вин-
чи, Микель-Анджело, Рафаэль и, с другой стороны, Козимо и Лоренцо Ме-
дичи, папы: Николай V, Юлий II и Лев X сошли или сходили еще только в
могилу, когда по ту сторону Альп раздались негодующие крики реформы, а
Франциск I и Карл V набирали союзников для борьбы за прекрасную страну,
которую они залили скоро кровью. Ни культурно в духовном отношении, ни
политически в смысле дальнейшего выяснения своей особой формы Италия
ничего не произвела в последующие века. Процесс, наступивший для нее,
чуждый каких-либо бурных переломов, г. Леонтьев характерно и справедли-
во сравнивает с медленным высыханием, какое мы наблюдаем во всяком де-
реве, принесшем свой плод.
В Испании за высшим расцветом политической формы, отчасти совпа-
дая, отчасти немедленно за ним следуя, наступил также высший расцвет ду-
ховного творчества: Лопе-де-Вега, Кальдерон и Сервантес в сфере поэзии,
Веласкец и Мурильо в сфере живописи как бы окружают собою замечатель-
ную личность Филиппа II, в котором гений испанского народа отпечатлелся
с такою несравненною яркостью. И здесь, за этим резким обособлением в
форме, за ярким сиянием внутреннего содержания нации наступил тот же
процесс медленного истощения сил и внешнего упадка, какой мы отметили
уже для Италии.
Во Франции век Людовика XIV есть центр, около которого группируют-
ся, подготовляя его или расшатывая, великие министры Ришелье и Мазари-
ни, короли Людовик XV и Людовик XVI. Именно это время, обнимающее с
небольшим столетие, было временем высшего расцвета духовных сил фран-
цузского народа: между Декартом и Кондорсе, между Паскалем и Фернейс-
ким мудрецом здесь проходит ряд поэтов, ораторов, великих трагиков и мыс-
лителей, которые заставили в течение почти двух веков преклониться всех
перед умственным превосходством Франции. Сильное умственное движе-
ние здесь в первую половину XIX века должно быть отделяемо от предыду-
щего по корням своим: оно связано исключительно с революциею, о значе-
нии которой будет сказано ниже.
В Англии век Елизаветы был одновременно и веком Шекспира, эпоха
Стюартов - временем Бэкона и Мильтона, а царствование Оранской и Ган-
78
новерской династий - когда, собственно, и получило свое полное развитие
парламентское правление - было временем Локка, Ньютона и Адама Смита,
а с другой стороны, таких поэтов, как Аддисон, де-Фоэ, Свифт, Поп и др. По
некоторым причинам особенная форма политического сложения Англии
удержалась долее в своей цельности и самобытности, нежели в других стра-
нах Европы; и, в соответствие этому, долее, нежели в других странах, в ней
продолжался высокий расцвет духовных сил. Байрона можно и следует рас-
сматривать как завершителя высокой самобытности английского гения, уже
полного предчувствием последующего падения, уже с отвращением и ужа-
сом ощущавшего приближение эпохи, когда погаснет всякий гений и все
ярко выразительное, индивидуальное в лике европейского человечества. В
другом роде и теснее примыкая к родине, писал его современник Вальтер-
Скотт: как тот почувствовал с ненавистью будущее, так этот обратился с лю-
бовью к прошлому и стал Плутархом Англии и всей старой Европы, любя-
щим собирателем ее легенд, преданий, историй. Теккерей и Диккенс стоят
уже на рубеже новой Англии, оба равно исполненные чувства действитель-
ности, но без какой-либо способности отнестись к ней положительно или с
увлечением.
Наконец, если мы обратимся к Германии, то найдем в ней два момента
высокого подъема умственных сил: век гуманизма, с Эразмом и Ульрихом
фон-Гутеном в центре, и век оригинальной, гуманной образованности, кото-
рый обнимает собою вторую половину XV11I века и первую - XIX века, с
Шиллером и Гёте, с Кантом, братьями Гумбольдтами и Нибуром в центре.
Человек, как предмет внимания и изучения в его духовном содержании и
историческом развитии - вот особенная сфера созерцания и воплощения,
которую открыл германский гений для остального человечества. И наиболь-
шая яркость как этого изучения, так и этого воплощения относится к эпохам
великих коллизий между империей и княжествами, когда ни первая не погло-
щала собою вторые, ни эти последние не утрачивали, разрушая империю,
всякую связь между собою и сознание единства.
IX
Прежде нежели перейти к указанию на то, что за всем этим наступило для
Европы, мы остановимся на глубоких соображениях г. К. Леонтьева о прибли-
зительной долговечности национально-политических организмов в истории.
Нет сомнения, в процессе возрастания и падения государств есть столько
темного, необъяснимого пока для науки, что всякая попытка подойти к это-
му вопросу с догматическими утверждениями, со слишком точными мерка-
ми, должна быть признана преждевременною. Но также нет сомнения, что,
насколько все государства суть действительно возрастающие организмы, к
ним приложима общая истина об умирании всего органического, - и при-
том умирании через известный срок, далее которого жизнь не может тянуть-
79
ся. Все развивающееся - развивается во что-нибудь, и раз это «что-нибудь»
осуществлено, есть - наступает предел для существования того, что его осу-
ществляло собою. Таким образом, ни в смерти государств, ни в продолжи-
тельности их жизни нет никакой игры случая и, с тем вместе, нет безгранич-
ного разнообразия: есть норма, есть грань для всего этого, до которой не
дорасти можно по каким-либо историческим обстоятельствам, но за кото-
рую перерасти невозможно ни для какого народа. Есть мера жизни, отпу-
щенная для всего живого: для растения, для животного, для человека и также
для вида, породы и, наконец, для нации.
Но самая жизнь здесь является под тремя формами: культуры, собствен-
но народности и, наконец, государства. Первая как существование в истории
самых продуктов народного творчества - бытового, умственного и художе-
ственного содержания - бывает неизмеримо продолжительнее, чем суще-
ствование народа. И причина этого понятна: все эти продукты ясно содержат
в себе неразрушимое идеалистическое зерно, около которого удерживается
и многое такое, что само по себе незначуще и непрочно, но в связи с зерном
этим, никогда не сгнивающим, продолжает существовать неопределенно дол-
гое время. Тот или иной навык, тот или иной склад жизни может обладать
пластической красотой - и он перенимается другими народами, распростра-
няется и продолжает жить, когда сам народ, его выработавший, уже давно
исчез. Еще более обеспечено существование культуры, когда она богата на-
чалами философскими, научными, поэтическими, религиозными. Элемен-
ты Эвклида, какое-нибудь правовое понятие Рима, наконец, рисунок Рафаэля
или монолог из «Гамлета» - это в своем роде вечно неразрушимые вещи,
которые не перестанут существовать в человечестве, пока существует, пони-
мает, любит и наслаждается кто-нибудь в нем. А с этими неразрушимыми
вещами останется и множество подробностей, которые лежали в характере и
в быте народа, из души которого все это выросло.
В этом смысле можно сказать, что ни одна из исторических культур не
погибла окончательно; но элементы всех их рассеянно живут в нашем образо-
вании, в нашем быте и, без сомнения, через все это - в складе нашей души. Нет
более Финикии, но есть финикийский способ закрепления на бумаге своих
мыслей; песок пустыни покрыл древнюю Ниневию и Вавилон, а сравнения, а
обороты речи, произнесенные там тысячелетия назад, мелькают еще иногда и
в нашей речи - явление удивительное, если в него вдуматься глубже. Умерли
города, народы, великие царства, а сильное и прекрасное движение души че-
ловеческой, закрепленное в слове, по-видимому исчезнувшее, как только за-
молк его звук, вечно возрожденное, добежало до нас, и мы его любим, им
трогаемся, как и безвестные лица, его впервые произнесшие.
Менее продолжительно, но все-таки очень долговечно бывает существо-
вание народностей, как простой этнографической массы, как неопределен-
ного субстрата, из которого выделяется и вековечная культура, как высший
цвет его, как его ароматическое дыхание в истории, и государство, как вне-
шняя его форма, как наружное самоопределение. Этот физический субстрат
80
истории существует неопределенное число веков до ее начала, и по ее окон-
чании, после разрушения государственной формы, остается если не навсег-
да среди других народностей, то на очень долгое время. Такова судьба греков
под Римом и Турцией, или западных славян в Германии. Эти и подобные
народности, которые скорее рассеиваются, нежели внутренне тают, напоми-
нают пепел сгоревшего здания, над которым воздвигнуто новое, незамет-
ный, но существующий, однако не всегда же. Когда именно и как они исчеза-
ют окончательно, этого нельзя сказать, хотя по истечении достаточного вре-
мени никаких следов их не остается, - как не осталось никаких следов от
древних этрусков, от греческого населения в южной Италии, от ассириян и
финикиян.
Наконец, наименьшею продолжительностью отличается существование
государств, этой внешней оболочки и внутренней ткани, которая проникает
собою этнографический субстрат, делая его особым, ни с кем не сливаю-
щимся существом среди других народов истории. В государстве выражается
индивидуальность наций, которые пока живут политическою жизнью - су-
ществуют для себя и через себя и во всех других отношениях, и как только
лишаются ее - становятся простым материалом для посторонней жизни,
своею плотью и кровью выражают уже чужое лицо в истории.
К. Н. Леонтьев делает обзор всех известных исчезнувших в истории госу-
дарств и находит, что они вообще не переживали более 12 веков*. Громадное
большинство государств прожило менее, но до этого срока дотянули самые
долговечные национально-политические организмы: Ассирийское (около
1200 лет), Древне- и Ново-Персидское (1262 года, до падения самостоя-
тельности и религии при покорении арабами), Эллино-Македонское (около
1170 лет, считая с царствами сирийских Селевкидов и египетских Птоломеев),
наконец - Византийское (1128 лет) и Римское (1229 лет). Последнее может
служить типическим образцом нормально развившейся и умершей государ-
ственности в истории, и время его жизни является как бы гранью вообще
долгомерности политических тел.
Нет сомнения, во всем этом есть много гипотетического, но гипотети-
ческого лишь по недостатку внутренних объясняющих причин, а не по недо-
стоверности самого факта. Что заставляет политические организмы, пере-
ступившие известную грань возраста, дряхлеть - этого мы не знаем; но при-
знаки этой дряхлости для наблюдателя очевидны: она сказывается в падении
всех государств, в этом чудном почти несопротивлении внешним разрушаю-
щим условиям, какое мы наблюдаем в них перед смертью. Члены не только
* Он при этом справедливо выделяет из своего обзора Древний Египет и совре-
менный Китай, видя в них скорее своеобразные и замкнутые культурные миры, неже-
ли собственно государства. Неосновательность считать их только государствами вид-
на из того, что, например, Египет имел несколько преемственно сменявшихся средото-
чий своей жизни (Мемфис, Фивы, Сакс) и его история, по крайней мере, раз была
прервана на целых четыре столетия (нашествие и владычество азиатского племени
гикс<ос>ов).
81
недеятельны, бессильны, но - и это самое важное - нет воли, нет энергии
сильно пожелать не умереть. «Граждане Трира, уже четыре раза разрушен-
ного, спокойно наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под
ударами таранов», - говорит один современник падения Западной империи;
Гонорий, когда самый Рим был осажден вестготами, удалившись в Равенну,
спокойно забавлялся любимым петухом, которому тоже дал название «Рим»,
и при известии о гибели первого только испугался за второго. Ясно, что не в
учреждениях, не в законах, не в территории, вообще не во внешних выраже-
ниях государства, но в самых людях, стоящих при законе, охраняющих тер-
риторию в этой психической атмосфере, которою дышит каждый в государ-
стве и ею укрепляется или расслабляется, лежит уже тление смерти, и она
не оживляет народных масс, которые становятся точно сонными. Выродив-
шаяся литература, холодная безрелигиозность, вычурный стиль в архитек-
туре, напряженная придуманность во всем, что прежде било ключом жиз-
ни, трепетало творчеством, - все эти уже внутренние симптомы ясно ука-
зывают, как много скрытой необходимости лежит в падении государств, как
мало здесь случайного, предотвратимого. И если не одно какое-нибудь, но
все государства пали, и пали гораздо ранее указанного выше срока жизни,
то не имеем ли в самом деле основания думать, что где-то около этого
срока лежит, действительно, идеальная мера, отпущенная по неизвестным
нам законам для исторического существования народов. Это - знание эм-
пирическое, но так же, как и то, что далее двух столетий жизнь ни одного
теплокровного животного почему-то не продолжается.
X
С этою биологическою мерой исторической жизни г. К. Леонтьев обращается к
европейским государствам, чтобы определить приблизительно фазу их возраста.
Теперь мы остановимся на минуту и соберем снова все мысли, так затя-
нувшиеся при объяснении, чтобы вступить, наконец, в «святая святых» убеж-
дений нашего автора.
Все органические процессы представляют собою фазу сложения их и
фазу разложения.
Первая определяется возрастанием сложности, вторая - ее разруше-
нием, возвращением к простоте, слитности, однообразию (признаков, форм,
проявлений).
У народов эта сложность, при возрастании, выражается в формиро-
вании сословий, как горизонтального расчленения нации, в обособлении
провинций, как их вертикальном расчленении, при сдерживающем един-
стве национально-исторического сознания; это усложнение ткани сопро-
вождается и усложнением продуктов психического творчества: высшим рас-
цветом наук и искусств, поэзии и философии, где всякая идея, каждое
произведение запечатлены глубоко индивидуальностью творца своего. Все
82
лично, своеобразно, напряжено от полноты сил - в быте, в манере повсед-
невной жизни, как и в гениальном замысле. Все борется, но еще без уверен-
ности победить; все сопротивляется, и с надеждой перейти к победе. Исход
будущности от всего скрыт, и, порываясь к нему, все трепещет жизнью и
блещет красотою. Такова картина апогея исторического развития, всегда и
всюду одинаковая.
За ним начинается процесс обратный, открывается исход. Но прежде,
чем перейти к его картине, обратимся к прерванной нити рассуждения, к
фазе возраста европейских государств.
Год Верденского договора, 843 г. по Р. X., когда монархия Карла Великого
распалась на Францию, Германию и Италию, - можно считать приблизи-
тельно моментом, когда отдельные политические тела Европы выделились из
первоначальной общегерманской слитности*. До этого времени мы наблю-
даем формирование и падение государств и племен, ничего от себя не оста-
вивших, как бы усилие органической массы сложиться в органические тела.
Было брожение, но государственная жизнь еще не начиналась; было подго-
товление, но подготовленное еще не появлялось. Только с половины IX в.
нации и государства уже более не сливаются и не разделяются, но остаются
изолированными и непрерывно существующими до нашего времени; толь-
ко с этого столетия притяжение внутрь, к своим средоточиям, берет оконча-
тельно перевес над стихийным движением туда и сюда, из которого ранее не
могли выйти германские племена.
Заметим, что в 827 г., т. е. около того же времени, впервые возникла и
Англия через слияние, при короле Эгберте, семи англосаксонских княжеств.
Но зато образование в ней верхнего культурного слоя и королевской власти в
ее позднейшем значении произошло спустя почти два века, при завоевании
ее норманнами (1066 г.).
Из всех этих стран Европы Франция ранее и правильнее всех сформи-
ровалась в государство: в ней уже через сто с небольшим лет после Верден-
ского договора появилась династия, которая пала только в конце прошлого
века, связывая непрерывностью своею ее историю в прочную, нераздроб-
ленную, хорошо сконцентрированную ветвь европейской цивилизации.
Напротив, Германия и Италия еще по временам сливались между собою
(«Священная Римская империя»), и вообще история их гораздо менее пра-
вильна, начало государственной жизни - позднее, как позднее было в Гер-
мании и утверждение христианства (еще Карл Великий вел упорные войны
против саксов-язычников).
Наконец, к этому же приблизительно столетию (собственно к трем ве-
кам, VIII, IX и X) нужно отнести и начало собственно западноевропейской
культуры, в отличие от общей первоначально и Западу и Востоку культуры
* Гизо в «Истории цивилизации Европы» принимает за начало государственнос-
ти во Франции воцарение Гуго-Капета (987-996), т. е. относит это начало еще позднее,
чем г. К. Леонтьев.
83
византийского христианства, когда слагались догматы, установлялась церковь,
когда государственность в строгом смысле была лишь в пределах Эллино-
Римской восточной империи, в царстве Юстиниана Великого и его преемни-
ков. В эту эпоху Византия уже клонилась к закату, а Запад, руководимый
первосвященником из Рима, впервые и ясно выделился в своей особенности:
разделение церквей уже ясно обозначалось, хотя они и удерживались от окон-
чательного разрыва; католицизм в своих всемирных земных вожделениях уже
зародился; закладывались феодализм и рыцарство; и самое коронование
Карла Великого императорскою короною было сделано на Западе и понято
на Востоке как узурпация и перенесение императорского достоинства на
новую почву, на далекий Запад, когда Восток обрекался гибели от арабов, от
иконоборства и всяких ересей, от Бога и нового зарождавшегося человече-
ства. С этих именно пор нити, связующие Запад и Восток, насильственно
прерываются, и каждый из них пошел своим путем.
Все сказанное вводит нас, наконец, в ясное уразумение своего XIX в.,
вскрывает источник его особенностей, движений, бродящих в нем мыслей и
ползучих желаний.
Роковая грань тысячелетия (843-1843), за которое уже немного прости-
ралась историческая жизнь самых долговечных народов, переступлена за-
падною культурою. Не более двух веков остается за ней, куда еще дотягива-
лась судьба Рима, Византии, древней ассиро-вавилонской монархии и стра-
ны Зороастра, -т. е. почти культурных миров, правда, уступавших по слож-
ности содержания системе европейских государств, но превосходящих по
массивности, по оригинальности культуры каждое из этих государств в от-
дельности.
Франция древнее всех между этими государствами, и в ней первой от-
крылся процесс, который затем разлился по лику всего европейского челове-
чества: обратный прежнему усложнению - процесс вторичного упрощения.
«
XI
Кто не знает энтузиазма, охватившего Францию 1789 г. при вести, что король
наконец уступает нации и собирает ее представителей; кто не перечитывал с
чувством ужаса страницы истории Конвента, о бурном клокотании Террора,
об этой борьбе к чему-то новому возродившейся нации с утратившими во все
веру старыми монархиями?
И потом все, что отсюда вышло: появление удивительного гения, кото-
рый точно перемесил ногами своими ветхий лик Европы, и она помолодела
и окрепла, как никогда прежде, выйдя из тяжкого испытания, которому он
подверг ее; ряд вспышек революций на Западе, как ряд подземных толчков,
уже меньших, чем первый, но разрушительных в том же направлении, как и
он; возвышение слепых народных масс, в бурных движениях своих ломаю-
щих феодальные перегородки, которые в них еще оставались.
84
И внутри гибкого, ничем не сдерживаемого тела этих масс - рост индус-
трии и техники, превращение в простую же технику государственного управ-
ления и войны, замена техникой же искусства и установление всюду чудо-
вищных машин, к которым, как к каторжной тачке, прикованы нуждою мил-
лионы, которые прежде молились, радовались, удивлялись мирозданию и
покрывали его мечтой поэзии и вымысла, - теперь же трудятся, едят и, про-
клиная прошлое свое, ненавидя настоящее, ждут, как зари новой жизни, вре-
мени, когда к рядам их, уже многомиллионным, присоединятся еще бесчис-
ленные миллионы остального человечества, и оно все, в полном составе,
будет дергать нужную нитку и вертеть нужное колесо и за это будет получать
к обеду лишний фунт мяса, а к ночи матрац и одеяло, под которым, наконец,
не холодно.
И среди их бесчисленных рядов - бродящие как тени люди, с книжками и
листками, которые им говорят о счастье этого труда, учат их восторгу перед
этими машинами и шепчут о времени, когда к ним придут разделить это
счастье и этот восторг и остальные народы, живущие пока бессмысленной
жизнью. Они говорят, как переставят со временем ряды, какие им устроят
удобные нары, как их будут кормить, - и что тот день, когда все это наступит,
когда ни один человек не останется незанятым и ни один же - голодным,
будет днем радости, в который утолятся человеческие желания.
Вот приблизительно тот связный процесс, который за столетие жизни
совершился в Европе: тут и разрыв с прошлым, и текущая действительность,
и главное из всех желаний, проникающих современное человечество. Ясно,
что в бурном порыве революции Европа сдернула с себя обнаженную и
сморщенную шкуру какой-то стадии развития и явилась юною и свежею - в
более поздней его фазе.
Каков же смысл этой фазы, ее постоянный и повсюдный уклон, несмотря
на разнообразие криков, надежд, желаний, которыми одушевляются люди?
Что есть безлично-общего в том историческом процессе, в который вступила
Европа с конца прошлого века?
Только упрощение, только слияние форм, только исчезновение обособ-
ляющих признаков: в учреждениях, законах, в общественном быте, - в искус-
стве, философии, в человеческих характерах.
Все люди стали подобны друг другу; все государства имеют приблизи-
тельно одну конституцию; они все одинаково воюют и управляются. Во всех
городах все та же индустрия - и однообразный быт, ею налагаемый. Повсю-
ду, во всех странах, для всех классов населения одинаковое обучение, по од-
ним и тем же книжкам - о Пунических войнах, алгебраических количествах,
о греческих флексиях и догматах христианства, равно безличное и бесцвет-
ное. Нет более одиноких вершин в философии и науке, есть их бесчисленные
«труженики», однообразно способные или неспособные. Взамен поэзии
появилась литература, но и она скоро сменилась журналистикой, которая
уже убивается газетой. Стили смешались, - и архитектор, возводя храм или
дворец, думает о том только, откуда взять рисунок, но он уже не творит сам,
85
не может творить и не понимает, что это нужно. Удушливая атмосфера ко-
ротких желаний и коротких мыслей носится над всем этим, придавливая каж-
дый порыв кверху, поощряя всякое принижение, - туда, что стоит еще ниже
всех, что никого не оскорбляет своим превосходством. Слабое, даже дурное,
даже преступное вызывает снисхождение, жалость, почти любовь и заботу о
себе*; и только к тому, что возвышается свежим ли дарованием или еще
прошлым величием, эта бледная, жмущаяся друг к другу, безличная и сво-
бодная толпа пышет неутолимою ненавистью, беспощадным осуждением.
И сколько же внутренней боли в этих миллионах свободных людей, если
простое созерцание чужого счастья пробуждает в них столько страдания; и
сколько темного несут они в себе, какие зародыши яда, если и заботы науки,
и поэзию, какая еще осталась, они клонят только к больному, уродливому и
преступному в человечестве, от всего же здорового и светлого непреодоли-
мо отвращаются. Тут не придуманность, не господство искусственной тео-
рии сказывается; это растет из самой истории, это неотделимо от нового
человека, как тусклый свет его глаз, как его бессвязный лепет.
...«Когда же дело идет к преодолению болезни - упрощается картина
самого организма... Предсмертные, последние часы у всех умирающих сход-
нее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть - она всех уравнива-
ет. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе все мало-
помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхле-
ют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет
очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение со-
ставных частей, продолжаясь, переходит все более и более в процесс разложе-
ния, распадения, расторжения,разлития в окружающем. Мягкие части трупа,
распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до край-
ностей неорганической простоты углерода, азота, водорода и кислорода,раз-
ливаются в окружающем мире, распространяются. Кости, благодаря боль-
шей силе внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, пережива-
ют все остальное, но и они, при благоприятных условиях, скоро распадаются
сперва на части, а потом и на вовсе неорганический и безличный прах»**.
От этих кратких, сухих отметок медика у постели умирающего перебро-
сить мост к всемирно-историческим цивилизациям и понять одно в них как в
процессах природы - для этого требовалось в своем роде такое же движение
мысли, как то, которое заставило, по преданию, Ньютона поднять взор от
падающего яблока к небесным светилам, и сказать: «Они тоже падают».
Образованность разливается в массах, и мы сами служим этому, неся
свои труды, свои знания и таланты, поднимая каждого до уровня с собою —
через школу, через книгу, и вовсе не популярную только. В свободе уравнен ы
уже все, и мы только думаем об одном, как бы избавить массы от ига экономи-
* См. новейшую беллетристику и в глубоком соответствии с нею - новейшую
юриспруденцию с ее заботами больше о преступниках, чем о непреступниках.
♦* «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 138-139.
86
ческой зависимости, последней зависимости их от чего-нибудь. Одинаковость
перед законом распространена на всех, и на всех же распространено право
участия в подаче голосов и через это - в управлении и в законодательстве.
Умелости, навыки, образ жизни повсюду сближены, стала одинаковою вне-
шность всех людей, их манеры, их платье и, в сущности, их воззрения и чувства.
Границы местные никого более не сдерживают, и всякий движется свободно
по произволу нужды своей или фантазии; все менее и менее сдерживает кого-
либо религия, семья, любовь к отечеству, - и именно потому, что они все-таки
еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия совре-
менного человечества. Они падут - и человек станет абсолютно и впервые
«свободен». Свободен, как атом трупа, который стал прахом.
XII
Но ведь это есть именно то, что мы всего более любим, чего жаждем, на что
надеемся? И неужели заблуждением были вековые усилия стольких проница-
тельных умов и высоких характеров в истории?
Но почему мы будем думать, что писателю, который завел нас в эти
дебри новых соображений, никогда не было дорого то, с чем нам так больно
расстаться? Вот замечательные слова, которыми в одном месте он прерыва-
ет нить своих мыслей: «Какое дело честной, исторической реальной науке до
неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?.. Что мне за дело в
подобном вопросе до самых стонов человечества? Какое научное право я
имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, например, преж-
де серьезного, долгого и бесстрастного исследования?.. Какое мне дело, в
более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до
моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий?»*.
Вот научный дух в вопросах истории и политики, какого мы так долго и
напрасно ожидали от самих историков и политиков, давно переставших раз-
личать границы между наукой и филантропией. Прислушиваясь поэтому к
словам нашего автора, мы можем ощутить много болезненного и неприят-
ного; но мы не услышим ничего ложного, нас никогда не поразит в его речи
обманывающая интонация. Очевидно, работа исследователя есть главное,
что руководит его мыслями и словами, и уже на почве того, что найдено, что
он считает безусловною истиной, разыгрываются его страсти, предостере-
жения современникам и увещания.
Этот убеждающий, взволнованный тон в самом деле разлит в его много-
численных сочинениях, но только в очень позднем из них мы находим указа-
ние на исходную точку, откуда начался поворотный пункт в развитии его
убеждений. Мы приведем эту любопытную страницу («Записки отшельни-
ка», VI), почти не прерывая рассказ автора:
♦ «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 145. Курсив принадлежит г. Леонтьеву.
87
«Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (осо-
бенно на Ж. Занд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в
одно и то же время и романтик, и почти нигилист...
Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей
самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю
иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых
людей.
И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов?
До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в
то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... Про-
гресс, напр., какой именно прогресс? Прогресс, образованность, наука,
равенство, свобода! Мне казалось все это тогда очень ясным; я даже, кажет-
ся, думал тогда, что все это одно и то же. Даже и революция мне нравилась;
но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время
нравилась только эстетическая сторона этих революций: опасности, воору-
женная борьба, сражения и «баррикады» и пр. О вреде или пользе револю-
ций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше...
Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их боевую сторо-
ну. Воинственные средства демократических движений нравились моему
сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о пло-
дах этих опасных движений!.. Я сказал «довольно долго» от досады на тогдаш-
нюю путаницу моих мыслей. Но по сравнению со многими другими людь-
ми, пребывшими, быть может, на всю жизнь в стремлении к всеобщему мир-
ному и деревянному преуспеянию, -я исправился скоро... Время счастли-
вого для меня перелома этого - была смутная эпоха польского восстания;
время господства Добролюбова; пора европейских нот и ответов на них
князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, поми-
мо гражданских и умственных. - Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в
уме моем была до того сильна в 62-м году, что я исхудал и почти целые
петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положив голову и
руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья. Я идеями не шу-
тил, и нелегко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и
наши, и западные писатели»...
Признаемся, не без чувства живейшего волнения мы прочли эти строки:
значит, и он был наш, этот писатель, теперь так не похожий ни на кого, так
разошедшийся со всеми в своих убеждениях. И, значит, тот путь, по которому
прошел он, не закрыт ни для кого из нас, и мы при одинаковых условиях
можем прийти к кругу его идей, так тревожных, так неизмеримо значитель-
ных. И в самом деле, достаточно догадаться о том, о чем он догадался, - что
все разрушительное движение последнего века имеет своею конечною, не
сознаваемою целью превратить человечество в аморфную, безвидную л/ас-
су, - и сердце наше забьется такою же тревогою и теми же самыми мыслями
как и его. Весь круг симпатий его, негодований и сочувствия станет и кругом
наших собственных сочувствий и симпатий; потому что мы, живые еще люди,
88
мы, остатки прекрасного тысячелетнего здания истории, - можем ли более
всего не любить этой самой жизни, можем ли пожалеть чего-нибудь, чтобы
продлить существование и сохранить красоту этой истории? Она есть мать
наша и всего нашего, есть общее условие всякого блага теперь и в будущих
поколениях; и очевидно, что то, что стремится ее разрушить, как бы обман-
чивым и прекрасным ни казалось, есть только обобщение всякого зла, есть
его совокупность.
Мы, впервые обратив внимание на эту сторону действительности, со-
средоточиваем внимание свое на том, что ранее закрывалось от нас нашими
собственными идеалами: на этом древе исторической жизни, которое взра-
щивает нас поколение за поколением на его собственном благосостоянии и
росте, независимо от наших минутных ощущений, радостей и скорбей. Не
слишком ли злоупотребляли мы его питанием и силою, и вместо того, чтобы
наливаться сладким соком, не набрались ли из окружающей атмосферы яда,
которым отравляем его соки, сушим и разлагаем его жизнь? Несомненные
болезненные симптомы проявляются в нем, несомненно зиждительные про-
цессы в нем начинают умаляться, а разрушительные возрастают. И если не
будет дано снова преобладание первым, жизнь самого дерева, а с ним и нас,
и наших будущих поколений не может быть плодотворна.
Именно наш народ является в истории не только наиболее поздним между
народами, но и самым поздним из всех их. Недаром и границею своего рас-
пространения, своим политическим владычеством он коснулся самых ветхих
стран — Памира, Индии, Арарата, откуда началась история. Как и следовало
ожидать, всемирная история вытянулась в цикл, которого конец коснулся нача-
ла: уже немного осталось, и они сольются. Индейское, негритянское, малайс-
кое племена по самым физическим условиям своей организации несомненно
не могут продолжать истории, поднять ее еще на какую-нибудь высоту; они
могут лишь, замешавшись в круг европейской цивилизации, принять какое-
нибудь в ней участие, по самым лучшим ожиданиям - второстепенное, меха-
ническое. Но что же они могут прибавить к Платону, к Ньютону, к Данту или
Рафаэлю? И неужели будет у них свой Цезарь, или Карл Великий, или какой-то
ихний Петр? Из какой истории он вырастет, когда у них нет ее? И что ему делать
там, где нет сопротивления и не нужно усилия, и где кто бы и что бы ни собрал
силою своей воли, - вновь все рассыплется, как куча песку без всякого внут-
реннего скрепляющего цемента, без инстинкта к самоорганизации, без сколь-
ко-нибудь удовлетворительных способностей. До начала истории у всех наро-
дов бродили мифы, играло воображение, были уже страсти, и из всего этого
возникла история, которую мы могли бы предугадать по ним, как по рапсоди-
ям Гомера, уже можно было предвидеть и борьбу с «великим царем», и меж-
доусобную распрю Афин и Спарты, и даже такие частные образы, как Феми-
стокла и Аристида. Итак, если и стихийных задатков нет у только что названных
племен, то есть ли какое-нибудь основание видеть в них будущих продолжате-
лей уже совершившейся истории, преемников европейской цивилизации, ко-
торую они возведут еще на высшую ступень?
89
Что же касается до остальных трех рас, монгольской, семитической и
арийской, то в среде их все народы уже перегорели в тысячелетней жизни, и
если неясно еще будущее которого-нибудь из них, то это - нашего только
славянского племени; оно одно не определилось еще окончательно, не выра-
зило лика своего в истории, не высказало затаенных дум своих и желаний.
Тогда как относительно всех других народов этого мы не можем сказать: для
Испании, для Италии, для Франции, Германии и Англии, и порознь, и для всех
вместе, знойный полдень склонился к вечеру, и возвыситься на высшую сте-
пень творчества и красоты, нежели на какой стояли они уже в век Сервантеса,
Рафаэля, Вольтера, Гёте и Байрона, едва ли они думают, едва ли надеются
сами. Все они прошли уже через зенит истории, каждый из них по-своему
согрел и осветил цельное человечество, и никогда оно не забудет этого света,
никогда в нем не истребится память об этих избранниках истории. Но жизнь,
но таинственные источники ее биения - разве они те же, что прежде? и кто из
народов самого Запада скрывает от себя, что прежняя волна творчества бьет
с меньшею силою, что она ослабевает и падает? Франция, прежде других
выступившая на путь истории, первая начала уже сходить как тень с лица
земли; в ней уже открылся процесс обратного физического вырождения:
цифра населения, несколько последних лет неподвижная, к ужасу всех, нача-
ла неудержимо падать.
Итак, несомненно, что бремя цивилизации, которое до сих пор народы
преемственно передавали друг другу, нашему народу будет некому пере-
дать. Он примет, он уже понес - криво и несовершенно - бремя европейской
цивилизации, самой могущественной, самой разнообразной и глубокой, ка-
кая когда-либо возникала. Но он еще не отделился от народов, ее создавших,
а между тем судьба их, все состояние так очевидно тревожно, и более всего
тревожно для этой самой цивилизации, как продукта их тысячелетней духов-
ной жизни. Они полны саморазрушения, и пламеннее всего хотели бы кос-
нуться гноящимися руками - своей высшей уже достигнутой красоты: своей
науки, своих искусств и поэзии, своих государственных организмов и больше
всего - религии. Все, что с таким трудом и так долго создавали они, ради чего
принесено столько жертв, что способно пропитать собою тысячелетия жизнь
людей и само в себе совершенно вечно, - все это ненавидят они, не понима-
ют более, все это усиливаются истребить с непостижимой враждой. Глухие и
дикие завывания несметных рабочих масс, уже давно не национальных, не
религиозных, совлекших с себя все, что шло из истории, - что это, как не
стихийное движение, готовое взломать слабую оформленность, какая еще
существует над ними, еще сохраняется пока от истории? Пусть, кто может,
видит в этом движении начало новой эры, неиспытанный поворот истории;
мы же видим в нем прежде всего симптом и не можем скрыть от себя его
смысла, его неудержимого тяготения. Разве оливы мира несут эти массы
будущему? Разве они полны ожиданий светлого чего-нибудь, мирного, ра.
достного для всех людей, для них самих и для врагов их? Не горят ли они
гораздо более ненавистью, чем даже желанием себе отдохновения и покоя?
90
Не есть ли это последнее желание лишь покров, лишь временное оправдание
для разрушительной деятельности, которую они прежде всего хотят выпол-
нить? И кто скрывает это? разве не повторяется постоянно, что там, за гранью
исторического катаклизма, который произведут они, не будет более ни госу-
дарства и его организации, ни религии и ее выражения - церкви, ни «бесполез-
ных искусств», ни философских созерцаний? Только «машины» свои они пе-
ретащат туда, около которых трудятся, которые их обездушили, - как раб уно-
сит в могилу цепи, вросшие в его тело, или труп - продолжение гнойного
процесса в землю, куда он свел некогда цветшего красотой и жизнью.
Земля и трудящееся на ней племя людское - все, что было при начале
истории, готовится стать при конце ее. «В поте труда своего будешь добывать
хлеб свой, пока не сойдешь в землю, из которой взят»... Труд исторический
почти уже окончен, человечество пусто от других желаний, кроме умерен-
ной еды, умеренного тепла для своих членов. Чем еще беременеет оно? Итак,
не ясно ли, что «сойти в землю, из которой взято» - есть все, что еще ожида-
ется от него Предвечным Источником, который его вызвал тысячелетия на-
зад к жизни. Оно уже и сходит, уже ступает ногами в могилу, еще не чувствуя
этого, обманчиво думая, что куда-то идет, к чему-то «далекому» стремится.
XIII
К. Н. Леонтьев следит за различными изворотливыми течениями своего вре-
мени, которые скрыто от человека ведут его к этому концу. Внешние полити-
ческие события, войны и договоры и еще более внутренние реформы, столь
обильные в нашем веке, - все имеют этот один уклон: разрушение внутрен-
ней ткани, которая до сих пор проникала организм Европы, и возвращение его
к первобытной аморфной массе, как продукту всякого разложения. В пре-
красной брошюре «Национальная политика как орудие всемирной револю-
ции» (Москва, 1889 г.) он впервые вскрывает истинный смысл национальных
объединений XIX века, в которых участвовали столь великие умы и характе-
ры, все равно слепые к тому, что они делали. Поочередно проводит он перед
глазами читателя прежнюю Италию, прежнюю Германию и показывает, чем
стали они после того, как осуществили заветную и, по-видимому, благород-
нейшую мечту свою: обезличение, утрата особенностей в быте, в характерах,
в поэзии и умственных созерцаниях - одинаково стали уделом обеих великих
наций. Германия, победительница Франции, приблизилась к ее типу, ее духов-
ному и политическому сложению после победы: индустрия, пролетариат, со-
циализм, освобождение от своих особенных понятий, идей, вкусов - все, к
удивлению общему, внедрилось в эту страну, - разлилось, переступив за Рейн,
по старой Германии, как перед тем войска ее разлились по ветхой, утратив-
шей уже силы Франции. Две воевавшие нации, доведя до высшего напряже-
ния свой антагонизм, в то же время во всем уподобились; но чувство ненави-
сти - мы уже заметили, - есть общее для всей новой Европы: оно единит ее
91
внутренне, как конституция, как рельсы, как международные союзы единят ее по
внешности. Италия, некогда столь оригинальная, столь привлекательная для по-
этов и художников, которые стремились в нее из душной Европы как в чудный
заросший сад, стала после Кавура и Виктора Эммануила, как все другие*, как
плоский, бескровный Берлин, как Франция Второй империи и Третьей республи-
ки. Ее чудные предания, ее восторженная вера, ее понимание своих великих ху-
дожников - все это забыто и осмеяно, все это даже без сопротивления исчезло,
чтобы уступить место школьному учителю, лавке ситцевых изделий, гудящему
* Замечательно, что это предвидел Герцен: «Что ждет Италию впереди, какую
будущность имеет она обновленная, объединенная, независимая? Вопрос этот отбра-
сывает нас разом в страшную даль, во все тяжкие - самых скорбных и самых спорных
предметов... Идеал итальянского освобождения беден, в нем опущен существенный,
животворящий элемент. Итальянская революция была до сих пор только боем за
независимость... Весь этот военный и статский remue-menage <возня, суматоха - фр.>,
и слава, и позор, и падшие границы, и возникающие камеры, - все это отразится в ее
жизни: она из клерикально-деспотической сделается буржуазно-парламентской, из
дешевой - дорогой, из неудобной - удобной. Но этого мало и с этим далеко еще не
уйдешь... Я спрашиваю себя: будет ли что Италии сказать и сделать на другой день
после занятия Рима? И иной раз, не приискав ответа, я начинаю желать, чтобы Рим
остался еще надолго оживляющим desiderat’oM. До Рима все пойдет недурно, хватит и
энергии, и силы, лишь бы хватило денег... До Рима Италия многое вынесет - и налоги,
и пьемонтское местничество, и грабящую администрацию, и сварливую и докучную
бюрократию; в ожидании Рима (тогда еще не присоединенного к Италии) все кажет-
ся неважным; для того чтобы иметь его - можно стесниться, надобно стоять дружно.
Рим - черта границы, знамя, он перед глазами, он мешает спать, мешает торговать, он
поддерживает лихорадку. В Риме - все переменится, все оборвется...
Народы, искупающие свою независимость, никогда не знают - и это превосход-
но, - что независимость сама по себе ничего не дает, кроме прав совершеннолетия
кроме места между пэрами, кроме признания гражданской способности совершать
акты - и только. Какой же акт возвестится нам с высоты Капитолия и Квиринала, что
провозгласится миру на Римском Форуме или на том балконе, с которого папа века
благословлял «вселенную и город»?». И далее, описав последний случай в итальянс-
ком парламенте, продолжает: «Если Италия вживется в этот порядок, сложится в нем,
она его не вынесет безнаказанно. Такого призрачного мира лжи и пустых фраз, фраз
без содержания - трудно переработать народу менее бывалому, чем французы, у
Франции все не в самом деле, но все есть, хоть для вида и показа; она, как старики,
впавшие в детство, увлекается игрушками; подчас и догадывается, что ее лошади
деревянные, но хочет обманываться. Италия не совладает с этими тенями китайского
фарфора, с лунной независимостью, освещаемой в три четверти тюльерийским солн-
цем, с церковью, презираемой и ненавидимой, за которой ухаживают, как за безумной
бабушкой в ожидании ее скорой смерти. Картофельное тесто парламентаризма и ри-
торика камер (палат депутатов) не даст итальянцу здоровья. Его забьет, сведет с ух1а
эта мнимая пища и не в самом деле борьба. А другого ничего не готовится. Что же
делать, где выход? Не знаю, разве в том, что, провозгласивши в Риме единство Ита-
лии, вслед за тем провозгласить ее распадение на самобытные, самозаконные части
едва связанные между собой. В десяти живых узлах, может, больше выработается’
если есть чему выработаться». См. «Былое и думы» в «Полярной Звезде» за 1868 г/
книжка восьмая, стр. 57 и 59.
92
станку фабрики. И кто знает, как недалеко время, когда прекрасная Венеция, Не-
аполитанский залив, кружевные беломраморные соборы затянутся каменноу-
гольным дымом, а ленивых, но, наконец, грамотных latzzaroni* сгонят на работу
их «просветившиеся», измозоленные, давно завистливые к их праздности, сосед-
ние народы. К. Н. Леонтьев в одном месте сам останавливается в недоумении над
этим общим результатом всех объединительных движений нашего времени: что,
будучи столь национальны по цели, они являются столь антинациональными по
последствиям. Но что же в них есть, как не отрицание старой государственной
идеи, которая единила и оформливала людей, стоя выше их индивидуальных ин-
стинктов, их племенных, зоологических отличий? И соединение в одно племя, что
заключает в себе особенного, чего нетуже в неисторических народных массах,
населяющих центральную Африку и прежде населявших Европу? Распадение
по расам, расчленение по «языкам и родам» - это так естественно для того, чту
возвращается к стихийной простоте сложения, что, высвобождаясь из-под исто-
рии, становится незаметно вне ее. Вот почему этому громадному и новому
распадению европейского человечества всюду, обнаруживая его тайный смысл,
сопутствует высвобождение народов от своих культурных особенностей, кото-
рые ведь все растут именно из прошлого, связывают и организуют народ, выра-
жают его «лик» в истории, который и стирается по мере того, как он из нее
уходит. Как определенность выражения на лице умирающего, так определен-
ность выражаемой души у объединяющихся наций пропадает в этот великий
миг, когда, после тысячелетий труда и жертв во имя разных идей, они опять
становятся прежде всего расой, т. е. только скопищем людей, населяющих изве-
стную территорию и говорящих на языке, непонятном для других народов.
Гораздо важнее и поистине поразительно, что все политические движе-
ния в XIX веке, исходившие из иных, не уравнительных и не высвобождающих
идей, не имели никакого успеха: Австрия, еще монархическая, еще религиоз-
ная и охранительная, разбивается Пруссией и, чувствуя слабость прежних
основ жизни, принимает новые, сближающие ее с типом государственного
сложения, столь прежде ненавистным. Россия, начав при Императоре Нико-
лае восточную войну из-за прав покровительства своей церкви, - столь вет-
хих прав - впервые на протяжении двухвековой истории испытывает неудачу
и, растерянная, открывает у себя уравнительный и освобождающий про-
цесс, который с конца прошлого века охватил Европу. И, напротив, начав ту
же войну, но уже под знаменем новых идей - племенного освобождения и
объединения, - она достигает полного успеха. Одновременно с тем, как она
делает это усилие извне, внутри ее самой шире и пламеннее, шире и пламен-
нее разливается лихорадочное возбуждение, закончившееся, впервые на про-
тяжении тысячелетней истории, убийством монарха. Южные народы, только
что освобожденные, немедленно вступают на путь обезличивающего про-
гресса, обдирая с ненавистью на себе все бытовое, культурно-особенное,
что сбереглось у них под турецким игом, что они любили ранее в страдании
* нищие (wm.).
93
и унижении. И, наконец, сама Турция вступает на этот же путь, преобразует
армию, финансы, администрацию под руководством западных «инструкто-
ров» или обучившихся на Западе своих пашей. И она, замешавшись механи-
чески в европейскую жизнь, воспринимает и свое особенное, столь непохо-
жее на других тело, этот же один процесс, который проникает в жизнь Евро-
пы. Наконец, в силу подобных же войн, он заносится и на далекий Восток:
Китай размыкается из своей замкнутости, Япония поспешно, забыв даже о
смешном, преобразуется, выучивается, переодевается и обстраивается по-
европейски. Все столь далекие народы выходят на один путь, когда... в среде
одного из них, по неисповедимым судьбам истории - нашего, является впер-
вые сознание о том, куда ведет он.
Таким образом, механизм разлагающего процесса, который совершается в
Европе, ясен: он состоит в том, что все, сохраняющее следы прежней оформлен-
ности, ослабевает в способности к сопротивлению; напротив, что становится
бесформенным, получает силу преодоления. Именно эта особенность, отмеча-
емая во всем умирающем, неудержимо разливает всюду уравнивающий и выс-
вобождающий процесс, роняя сословия, подкашивая церковь, снимая с народов
исторически выработавшиеся формы государственности, - всюду прорывая
ткани тысячелетие слагавшегося организма и открывая простор для движений
исторического атома, человека, ни с чем более не связанного, ни к чему не
прикрепленного, ни для кого не нужного и всему чужого.
Насколько, в течение века, народы становились безрелигиозными, на-
сколько они ненавидели своих властителей, насколько проникались внутрен-
нею завистью - сословия к сословию, бедности к богатству, в конце простой
неспособности к духовно богатому, - настолько, возбужденные этими новы-
ми и страстными ощущениями, они делались физически более сильными.
Эта сила всех обманула, закрыла глаза на истину, увлекла всех на один путь.
Человек, так долго живший своими особенными идеалами, стал увлекаться
идеалом простого преобладания, победы в борьбе, какой желает для себя
всякое животное. Эту силу, эту способность поглотить другого он принял за
синоним лучшего; «побеждает лишь совершеннейшее», - заключил он ддя
зоологии и тотчас подумал это о себе. С необозримыми движениями исто-
рии согласуется тихая мысль ученого, все являясь во время, когда нужно
чтобы произвести, что нужно. Высокие идеи, сложные понятия, выработан-
ные долгой историей чувства - все отстраняется грубой действительностью
на новом праве, все уступает место простым идеям и несложным чувствам.
XIV
И в самом деле - мы остановимся на этом с минуту, - как, в сущности, про-
сты, не трудны все преобладающие идеи нашего времени, религиозные, нрав-
ственные, художественные, политические. Что может быть проще этого взгля-
да на природу, по которому она есть только механизм, ничего не заключаю-
94
щий в себе, кроме движений и столкновений атомов, как эта игра упругих
шаров, на которую я смотрю и ничему в ней не удивляюсь. Какое отсутствие
любознательности нужно было, чтобы, кое-что заметив в природе, что проис-
ходит как игра этих шаров, заключить в уме своем, что, без сомнения, и ос-
тальное происходит так же, но мы этого не разобрали пока и пусть разберут
наши потомки. Или, в другой сфере, как легко предписать и выполнить, чтобы
в художественном произведении имелась в виду лишь полезная сторона его,
им производимое впечатление и мера его выгодности для людей. Что может
быть яснее арифметического взгляда на общество и государство, по которому
воля большинства есть закон для всех; и что для определения этой воли выбор-
ные от всех должны собраться и, довольно выслушав друг друга, подать толь-
ко мнения, которые, без сомнения, будут истинны. Насколько все эти идеи (и
подобные) просты, как мало они требуют умственного напряжения для пони-
мания, это можно видеть из легкости, с которою они усваиваются среди наро-
дов самых первобытных и даже совсем диких. Разве Южная Америка не полна
республик? Разве негры, освободясь от рабства, не сложились тотчас так же в
республики? Без особенностей в сложении своем, без некоторого мистичес-
кого завитка в учреждениях, столь странных, столь непонятных потом для ис-
ториков, - без этих патрициев и плебеев, без консулов, без царей-товарищей,
ареопага и эфоров - республика как пустая форма есть естественный для
натурального человечества строй. До нее не нужно довоспитываться, дораз-
виваться, - как развивались французы до верности Людовикам, англичане -
до любви к своей «королеве Бетси» или русские - до преданности Иоаннам и
Петру. Заставить другого пожертвовать себе, даже погибнуть для себя - это
легко, так понятно и естественно; но самому погибнуть ради другого, отдать
жизнь за что-то, что останется и должно остаться, - это так трудно, так глубоко,
так неизмеримо отошло от «натурального» состояния людей. То же мы долж-
ны сказать обо всех идеях религиозных и нравственных: в них содержится так
много трепета за свою бессмертную душу, такое преклонение перед темным
и скрытым средоточием Вселенной, так много любви, сомнений, тревог и
ожиданий, - что думать, будто испытать это всякий может, было бы глубо-
чайшим заблуждением. Оригинально возникли эти чувства у людей, которых
было слишком немного в истории, имена которых с невыразимою благодар-
ностью повторялись в ней бесчисленными поколениями; но уже высоки, уже
богаты духом были и те, которые только повторяли эти имена, имели силу
разделить эти чувства.
Здесь и открывается наиболее опасная сторона текущей действительно-
сти, скрытый центр, от которого текут ее бесчисленные явления: жизнь упро-
щается, потому что упрощается самый дух человеческий; история, вся куль-
тура становится элементарна, потому что к элементарности возвращается ее
вечный двигатель. Все слишком глубокое, слишком сложное, слишком не-
жное и деликатное в идеях, в желаниях, в ощущениях непонятно и трудно
стало для человека; и от этого с такими усилиями выработанное из истории
неудержимо опадает с него. «Нагим вышел из чрева матери моей и нагим
95
возвращусь в землю», - говорит о себе всякий человек, и то же должно будет
сказать человечество. Прекрасный, пышный, разнообразный убор, в какой
одела его история, развертывается год за годом, и каким вышел он из лона
природы тысячелетия назад, таким готовится сойти опять в это лоно.
XV
Не менее ясно, чем механизм разложения, г. К. Леонтьев понимает и его ору-
дие, таг таран, которым преемственно разбиваются понятия, верования, уч-
реждения исторической Европы. Это - идея счастья, как идея верховного на-
чала человеческой жизни. Проходя через ее абстракцию, все, что живо было в
человеке, что было для него абсолютно, становится относительным, условно-
ценным и увядает, не возбуждая в нем прежних желаний. Он утратил непос-
редственное отношение к жизни; гораздо ранее, чем отверг прежние убежде-
ния, навыки, чувства, весь окружающий склад действительности, - он отвлекся
от него, уединился в себе и в этой заботе о своем счастье. Все отстало от него,
отделилось; и тотчас он получил возможность смотреть на все со стороны, как
на объект своих ощущений и мыслей, к которому относится через абстракцию
этой идеи. Кровная связь его с исторически возникшею действительностью была
утрачена; из нее лишь к кое-чему протягивал человек руку, чтобы удержать его
на время, чтобы временно насладиться им, как художник наслаждается видом,
на который он никогда, однако, не захочет вечно смотреть.
К. Н. Леонтьев не анализирует идею счастья как в ее логическом составе,
так и в процессе ее исторического возникновения и усиления. Не будем и мы
останавливаться здесь на этом анализе - он требует особенного труда, кото-
рый не может быть побочным. Ограничимся только утверждением, что он
прав в своем заключении о роли идеи счастья; которое разделят с ним как все
противники этой идеи, так и, особенно, ее защитники. Никто не старается
скрыть от себя и от других, что она является как бы религией жизни в новой
истории, что ею все оценивается и на ней все утверждается. По-видимому,
при помощи этого отнесения всего к идее счастья, как к основанию, реально
испытываемое человечеством счастье должно было бы возрасти; в надежде
этого возрастания, без сомнения, и дано ей это положение относительно
нравственности, права, политики, искусства - что все она проверяет собою.
Но тайна идеи этой состоит в ее внутренней преломляемости, в силу которой
она чем правильнее и полнее осуществляется, тем большее вызывает страда-
ние, - в личности ли, в обществе, в целом ли цикле истории.
От этого мы видим, что почти в меру той полноты, с какою человек отдал
все силы своего ума, изобретательности, настойчивости устроению своего
счастья здесь, на земле, - «царствия Божия» долу и вне себя, - и внутри, и
даже извне он видит себя все более несчастным, оставленным, до такой сте-
пени лишенным какого-либо утешения, что и на деле, и особенно в мыслях,
чаще и чаще останавливается на желании совершенного истребления себя.
96
Жизнь, которая всегда была «даром» для человека, в одном XIX столетии
стала бременем; она не благословляется более, но проклинается - явление
чудовищное, извращение природы неслыханное! В какие времена, среди ка-
ких гонений, в какой низкой доле человек не отшатнулся бы с ужасом от
мыслей, которые высказываются теперь среди избытка, видимого покоя и
довольства. Если бы лицом к лицу свести поколения, давно сошедшие в зем-
лю, с теми, которые ее обитают теперь, если бы они увидели друг друга,
высказались, - о, какими несчастными представились бы мы умершим лю-
дям, какими унылыми, жалкими, растерянными. Мы показывали бы им свои
пищащие фонографы, пуки телеграфной проволоки, желатиновые пластин-
ки, горы рельсов и говорили бы: «Вот наше счастье», а они, ничего этого не
видя и только смотря в наше лицо, сказали бы: «Что вы над собой сделали, что
сделали»...
Таким образом, не говоря о логическом содержании идеи счастья, чело-
век ошибся в самом избрании ее как верховного руководящего начала для
своей жизни, в этом печальном предположении, что она сколько-нибудь осу-
ществима. Он понял страдание, как что-то случайное в своей жизни, как ка-
кой-то побочный придаток к своему существованию, который можно отде-
лить и отбросить. В этом убедила его устранимость каждого отдельного стра-
дания, и, видя устраняемыми их все, он подумал, что можно вовсе освобо-
диться от всякого страдания. Он не заметил соотносительности между
видами страдания, в силу которой всякое ослабление страдания в одном на-
правлении вызывает его усиление в других; так что в минуту, когда он, по-
видимому, уже достигает целей своих, когда думает, что все предусмотрено и
введено в свои границы, - он именно ощущает себя нестерпимо несчаст-
ным, видит себя подавленным, хотя не понимает, откуда и каким путем. Та-
ким образом, в общем складе физического и духовного существования чело-
века страдание занимает определенное положение, и нельзя удалить его из
жизни, не пошатнув всей жизни.
Между бесчисленными нитями, которыми скреплено страдание со все-
ми изгибами человеческого существования, отметим только две: это - увели-
чение внутреннего страдания по мере ослабления внешнего и зависимость
от последнего всякого нравственного улучшения. Во все времена и у всех
развитых народов наблюдалось, как по мере успехов внешней культуры, т. е.
с ослаблением всяких для человека тягостей, опасностей, физических бед-
ствий, - под тою или иною формою пробуждалось неутолимое страдание
внутреннее. Как будто через физическое бедствие, в гораздо более легкой
форме, выходило из природы человеческой какое-то неуничтожимое зло,
которое при отсутствии этих бедствий оставалось всецело в ней и в такой
мере отравляло ум и сердце людей, что жизнь становилась невыносимой все
более и более среди полного внешнего довольства. Учение, характеры и судь-
ба стоиков в древнем мире могут служить для этого ярким пояснением. При
таких высоких мыслях, при всеобщем внешнем уважении, среди избытка
материального, как были они угрюмы, как очевидно тяготились своим суще-
4 Зак 3969
97
ствованием, как слабосильны были во всякой внешней борьбе, очевидно зат-
ратив уже весь запас сил на какую-то скрытую, внутреннюю борьбу. Кажет-
ся, тогда только и развеселялись они, когда открывали себе жилы в теплой
ванне. Думать, что источником их печали служило созерцание окружающе-
го нравственного падения, было бы глубоко ошибочно: не так относились к
подобному падению Марий, Демосфен, оба Гракха и все люди, которые тер-
пели, усиливались и не достигали, падали и, наконец, гибли - с лицом радос-
тным, будто выполнив что-то необходимое для всякого человека на земле.
Другое и не менее замечательное явление состоит в том, что всякий раз,
когда люди бывают долго избавлены от всякого внешнего страдания, они ста-
новятся сухи сердцем, безжалостны друг к другу и порою даже жадны к
чужому страданию; и, наоборот, всякий раз, когда их посетит бедствие, в них
пробуждаются лучшие чувства, глубокая человечность, взаимная заботли-
вость и сострадание. Даже разум, по-видимому, так мало соотносящийся с
началами страдания и счастья, становится под влиянием первого гораздо
глубже, возвышеннее, серьезнее; и, напротив, среди довольства ум становит-
ся поверхностен и мелочен. На этом основано одно любопытное наблюде-
ние, уже давно сделанное людьми, изучавшими образование человеческих
характеров: при лучших условиях воспитания, самого изощренного, предуп-
реждающего всякое дурное влияние, редко выходило из воспитывающихся
что-нибудь выдающееся в умственном или в нравственном отношении и
очень часто, напротив, выходило очень дурное; наоборот - из детей, без
призора росших иногда в самых бедственных условиях, в унижении, в страда-
нии, вырабатывались нередко замечательные характеры и не менее замеча-
тельные умы. Так что если бы можно было людей, в чем-либо оказавших
услугу историческому развитию человечества, разместить по роду их жизни
в детстве и в отрочестве, - то нельзя сомневаться, что ни к чему не готовив-
шиеся из них, ни для чего преднамеренно не воспитывавшиеся превзошли
бы числом и достоинством тех, которым уже с ранних лет давалось все, что
делает наилучшим человека в умственном и нравственном отношении. От
первых ничей предусмотрительный глаз не удалял лишение, горе, унижение;
вторые же, окруженные всякими воспитательными началами, были лишены
этого именно, самого могущественного из всех.
Таким образом, страдание неразрывно сплетено с возрастанием в чело-
веке достоинства, и в меру того как мы стремимся стать лучше, мы не долж-
ны во что бы то ни стало стремиться быть довольными счастливцами. Воля,
неизмеримо мудрейшая, нежели наше предвидение, положила, и навсегда,
предел для достижения такого довольства. Но мы пренебрегли этою Волею и,
не замечая невидимой сети законов, связывающих нашу природу и жизнь,
слепо порываемся к счастью, от которого всякий раз, однако, неодолимо
отталкиваемся. Поколение за поколением новое человечество усиливается
достигнуть «этой простой и ясной цели», не будучи в состоянии освободить-
ся от представления своей природы, как главным образом восприемника
светлых или горестных впечатлений. Ему непонятно, почему оно не может
98
избежать вторых и наполниться только первыми; для него весь труд истории
сводится к искусству - завязать мешок своего бытия со стороны печалей и
открыть его широко с другой стороны, откуда приходит все радостное. Тогда-
то наступило бы это счастье, беспечальное, нескончаемое, для всех доста-
точное. Погрузясь в предвкушение его, человек работает над своим прогрес-
сом, высчитывая со всяким усилием, сколько привходит ему счастья, и стра-
шась одного только, как бы с этим счастьем не привзошло какого-нибудь
горя. Но, странное дело, горя всякий раз привходит больше, чем счастья, и
чем более подвигается история, тем более грозит человеку судьба безумца,
который умирает от голода, высчитывая какие-то неполученные богатства.
XVI
Когда затемнение спутавшегося ума становится так сильно, можно думать,
что близок исход из него. Подобно тому, как на рубеже средней и новой исто-
рии человек, дойдя до крайней искусственности и бесплодности в силлогиза-
ции, вдруг и ясно вышел на путь опыта, о котором целое тысячелетие как
будто забыл совершенно, - так точно и XIX век, столь подробно попытавший-
ся осуществить человеческое счастье на земле, несомненно стоит накануне
исхода к совершенно противоположному течению идей и чувств.
«Провидению не угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя сво-
им преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход событий»*;
но так же несомненно, что самое появление этих предвидений не совершает-
ся вне воли Провидения и вне высших его планов. Мы можем в них видеть
симптом, и не было бы силы на стороне их истины, всей красоты непонятности
в свое время, если бы грядущее будущее не клонилось на их сторону. Все - и
дары наши, и слабость нашего духа - появляются вовремя и где нужно, бро-
сается на извилистые пути истории не без цели направить ее согласно этому
же Провидению.
Вот почему прекрасные, грустные и гордые слова, которые как надмо-
гильную вырезку произнес о себе г. К. Леонтьев, теперь уже покойный**,
внушают нам не одну скорбь, но и некоторое утешение. Не может быть,
* См. «Национальная политика как орудие всемирной революции» К.Леонтье-
ва. М., 1889. С. 6. Брошюра эта состоит из нескольких писем, обращенных к г. О. И.
Фуделю. Преодолевая нежелание свое писать, г. К.Леонтьев и высказал в предисло-
вии эти прекрасные слова, которые мы приведем здесь вполне: «Теперь я разучился
воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы
считать свою литературную деятельность если не совсем уж бесплодной, то, во вся-
ком случае, преждевременной} и потому не могущею влиять непосредственно на
течение дел... Провидению нс угодно, чтобы предвидения одинокого мыслителя сво-
им преждевременным влиянием на многие умы расстраивали ход истории».
♦♦ Он скончался 12 ноября 1891 года в Троице-Сергиевской лавре, куда незадол-
го до смерти он переселился из Оптиной Пустыни.
99
невероятно, чтобы и он, и вся группа своеобразных мыслителей, которых ряд
он так прекрасно завершил собою, была выкинута на арену истории без
всякого смысла; чтобы не было смысла в их горячих и убежденных словах, в
неугасимой вере в свою правоту, в их одиноком и благородном положении
среди общества, столь тусклого, столь зыбкого, среди которого они одни сто-
яли, замкнувшись неподвижно в свои идеи. Не случайны их появление, их
дар и судьба; но, если так, - близкое будущее заключает в себе среди сумрака
смерти и радость новой жизни.
Здесь от анализа истории, от критики двухтысячелетней культуры евро-
пейского человечества мы должны бы перейти к синтезу будущего. Но эти
синтетические построения редко бывают удачны, и обыкновенно будущее
вовсе не оправдывает наших скудных гаданий о нем. Заметим только, что у
К. Н. Леонтьева, как у человека глубоко религиозного, и притом в строгой
форме установившейся догматики православия, надежды на будущее связы-
вались с мыслью о перемещении центра нашей исторической жизни на юго-
восток, вдаль от разлагающегося западного мира, в сторону еще немногих
свежих народов Азии, которые, войдя в нашу плоть и кровь, обогатят и дух
наш новыми началами, вовсе не похожими на европейские изжитые идеи, —
наконец, в сторону древней Византии, которая была, как он доказывает, об-
щею колыбелью (до VIII века) всей западной культуры и определительницею
культурных особенностей нашего народа. Возрождение духа древней Визан-
тии, обновленного и усложненного элементами других цивилизаций и све-
жих народов, - вот более или менее конкретное представление, которое но-
силось перед его духовными глазами с давних пор и до смерти.
Но его аналитический, строго научный ум и этим гаданиям давал почву
в наблюдениях - или истории, или действительности. Он замечает, что между
всемирно-историческими народами или культурами у России только во вто-
рой раз наблюдается наклонность переменять центры жизни: еще подобную
же переменчивость мы наблюдаем только в мусульманском мире, где Да-
маск, Багдад и Стамбул преемственно являлись столицами халифата, и с тем
вместе центрами силы и влияния политического, религиозного и вообще куль-
турного. Все остальные народы древнего и нового мира, раз они были сколь-
ко-нибудь значущи во всемирной цивилизации, неразделимо сливались с
жизнью и судьбою какого-нибудь одного города; таков был Рим в древности
и Париж в новой истории, или Иерусалим в еще более отдаленную эпоху. Не
только не было никогда перемещения центра национальной жизни из этих
городов в другие; но - мы это живо чувствуем - подобное перемещение и
как-то невозможно, почти немыслимо: Франция без Парижа и еще более
Италия без Рима являлись бы в истории каким-то тусклым пятном, ничего не
говорящим и не выражающим; евреи во всемирном рассеянии своем, даже
не имея сколько-нибудь вероятной надежды на возвращение себе Иерусали-
ма, именно с этим возвращением соединяют все свои ожидания, надежду на
возрождение своей исторической миссии: они не хотят и даже не могут тво-
рить иначе, как в стенах своего древнего Сиона. Как будто в великих городах
100
этих, из их особенной почвы растет какая-то живительная сила истории, кото-
рая единит народы, раскрывает их уста, окружает главу их сиянием, которое
меркнет, и самые народы гибнут, как только теряют связь с этими источника-
ми своей силы.
Но в халифате, с перемещением его центра, - замечает К. Н. Леонтьев, -
не изменялось содержание истории: этим содержанием всюду оставался
Коран, его заветы и дух, примыкающая к нему культура, и переменялась
только оболочка этого содержания - племя, ему наиболее верное. Таким
образом, в судьбах мусульманского мира мы наблюдаем историю преем-
ственных носителей одной и той же идеи, которая остается неподвижной.
Напротив, в перемещении центров нашей исторической жизни, мы наблюда-
ем изменение именно носимой идеи при сохранении одной и той же народ-
ности и того же политического организма; здесь, таким образом, является
намек как бы на вечное развитие содержания в жизни одного развивающего-
ся. И в самом деле, в Киеве, в Москве, на берегах Невы Россия являлась
отрицающею себя самое, и притом окончательно и во всех подробностях
прошлого бытия своего. Это была не перемена только центра влияния и силы,
но переход руководителей этой жизни на новое место с целью, с жаждою и
потребностью начать жить совсем иначе, нежели как уже было прожито не-
сколько веков. Андрей Боголюбский, с образом Богоматери бегущий вопре-
ки воле отца на север и закладывающий там новый город, - вот лучший
символ нашей истории, выражение коренной черты нашего характера и все-
мирно-исторической судьбы. Подобным же образом, но уже с рубанком и
пушками, бежал Петр еще далее к северу, за самую грань своего царства, на
только что отнятый у соседа клок земли. В страстях, в характере, в привязан-
ностях и ненависти этих двух государей совершились два сгиба нашей духов-
ной истории, после которых все становилось в ней иначе, для других целей и
по новым основаниям. Было бы напрасно в их деятельности видеть их глав-
ное значение; не как законодатели, политики, воины велики они, - они велики
как творцы нового исторического настроения. Их войны, предприятия, не-
удачи или успехи, даже в результатах своих, прошли уже скоро после их смер-
ти, - но не прошло в течение веков их особое отношение ко всякому делу, тот
способ думать, желать, оценивать, какой они внесли с собою и распростра-
нили, передав их порождениям своим и целому народу. Угрюмый Андрей
явился живым и личным отрицанием всего киевского цикла нашей истории,
светлого среди всех печалей, не озабоченного никакими помыслами, отда-
вавшего каждому дню столько сил, сколько их оставалось от прошлого. Ни
Мономахом, ни мудрым Ярославом, ни самим Владимиром, никем из свет-
лого среди всех бед гнезда Рюриковичей, о котором сказывает «Слово о пол-
ку Игореве», не мог и не хотел стать Боголюбский, отшельник, готовый сжечь
все это гнездо, из которого, однако, сам вышел, но не любил и не уважал его.
Уединясь в церковь, в долгие часы ночного бдения, он молился неизвестно о
чем, как молились государи наши и весь народ впредь до шумного карнавала
при молодом царе новой эпохи. Итак молившийся князь, строитель церквей
101
и городов, «опал в лице» при одной вести, что там, на юге, его повелению
осмелились насмеяться какие-то его родственники-князья. В этом гордом
властительстве, в этом уединении в себя, но без какого-либо просветления и
углубления душевного, в этой медлительности движений и недостатке слов
сказалась уже вся Москва с ее великой миссией, с ее исторической озабочен-
ностью, с ее дальнозоркими святителями и монашествующими, угрюмыми
царями. На пять веков замолкла в нашей земле поэзия, принизилась мысль,
все сжалось и вытянулось по одному направлению - государственного стро-
ительства. В фактах, и лишь по неречистости не в книгах, в эти пять веков
было создано все, чем, в сущности, и до сих пор бессознательно живем мы в
сфере политической мудрости, успевая лишь настолько, насколько верны
традициям этого цикла, бессильные что-либо придумать здесь новое и ори-
гинальное. Идеи царя и подданного, служения и прав, на нем основанных,
сознание общих нужд, за которыми не видны личные интересы, - наконец,
связь быта, церкви и всего царства между собою до неразъединимости и
бесчисленные другие понятия - все это создано было в то время, и от всего
этого мы едва ли уже когда-нибудь высвободимся. Ни бурное в беззаветнос-
ти своей XVIII столетие, ни наш мелкоученый век ни в чем не имели силы
расстроить эти понятия, лишь порой обессмысливая их в приложении или
переделках.
В цветущем отроке тихого и богобоязненного царя, на свободе и без
призора выросшего, Россия сбросила прежнее свое одеяние, слишком мо-
нотонное, хотя и важное, чтобы расцветиться всею яркостью самых разнооб-
разных и свежих красок. В свободе движения этого, в его прихотливости и
непреднамеренности, и вместе в глубокой естественности и простоте, и ска-
зался перелом нашей истории, - гораздо более, чем в Великой Северной
войне, чем в воинских и морских артикулах, в законе о майорате и табели о
рангах. И в самом деле, можно представить себе, что при Алексее Михайло-
виче русские победили бы шведов, как они побеждали поляков, что его наме-
рения исполнились и мы имели флот, что Немецкая слобода разрослась и
русские научились, наконец, сами стрелять из пушек, - совершился ли бы от
этого тот перелом в нашей истории, который мы все живо чувствуем, так
неясно понимаем и не умеем сколько-нибудь определить? Ясно, что все тек-
ло бы тогда дальше, чем при Алексее Михайловиче, - как при нем текло уже
дальше, нежели при Иоанне III, - но в том же направлении, так же тихо и не
менее однообразно. Итак, если несомненно не в успехах Петра заключалась
тайна его исторического значения, то в чем же она лежала?
В способе, каким совершились все эти дела, в той новой складке духа,
откуда вырос каждый его нетерпеливый замысел, и в той несвязанности его
мысли чем-либо, что прямо не относилось к делу, несвязанности, которую у
него впервые мы наблюдаем в нашей истории и с тех пор сами стремимся
всегда сохранять ее. И в самом деле, на протяжении пяти веков вся жизнь
наша как будто носила какие-то внутренние путы, связывавшие каждый наш
замысел, всякое действие, стеснявшие непреодолимой оградой всякий по-
102
рыв мысли и личное чувство. Нельзя сказать, чтобы эта связанность вытека-
ла из какого-нибудь внешнего требования; скорее она была следствием внут-
реннего расположения, уже сказавшегося впервые в Андрее Боголюбском и
продолжавшегося у всех преемников его исторической миссии. Никогда и
никакой уторопленности мы не замечаем в них, и это вовсе не оттого, что
никогда в ней не было потребности; но, пренебрегая всякой потребностью,
русские люди в течение веков ни разу не ускорили своего шагу, который
ранее и по малейшему требованию дела они ускоряли легко, свободно и
даже капризно. Мы знаем, как религиозно было то время; но замечательно,
что мы вовсе не знаем ни одного религиозного порыва из того времени, ни
одной умиленной молитвы, ни одной пламенной проповеди. Святые в лесах
дремучих так же молчаливо, без слов, молились, - как без слов, молчаливо, в
стенах Московского Кремля цари вершили свою политику. Даже в страшные
годы даренья Грозного мы больше видим крови, видим судороги жертв, как
и судороги их мучителя; но очень мало слышим криков негодования, моль-
бы о помощи или требования пощады. Только Курбский, изменник царю,
народу и вековым заветам жить и умирать, вместо того чтобы войти молча-
ливою полустрокой в «Синодик», предпочел написать несколько длинных,
без всякого основания, писем. И так же, как не знаем мы слез и отчаяния у
людей этого времени, не знаем мы в них и радости и веселья; ни одного
смеющегося лица не видим мы на протяжении пяти столетий, которое нару-
шало бы собою монотонную угрюмость всех и молчание. В совете царском,
в молитве, перед людьми и даже Богом эти странные люди как будто боялись
вечно за свое достоинство, за эту беспредметную серьезность, которую не
хотели, не могли и, наконец, не умели они оставить. И если мы подумаем, что
этот склад жизни установился у народа молодого, еще не испытавшего всего
богатства жизни, - мы поймем, как много во всем этом было искусственно-
го, неестественного и ложного. Здесь была какая-то придуманная стыдли-
вость, напрасный страх проявить свои силы, - и он выработал общие формы,
под которые укрывалось все индивидуальное, все частное и особенное в
человеке и в жизни. Ничего не выдавалось из-под этих общих форм, заботли-
во хранимых в войне и мире, в чистой семейной радости и среди государ-
ственных бедствий. Никакая поэзия, никакое проявление любознательности,
ни даже простой успех во всяком живом деле не был возможен при этих
общих формах, придавших печать преждевременной старости народу, у ко-
торого все еще было в будущем, ни один из даров духа не был обнаружен и
проявлен.
Этот покров общих форм, скрывавших живую индивидуальность, эту
искусственную условность жизни и разбил Петр силою своей богатой лич-
ности. Полный неиссякаемой энергии и жизни, против воли неудержимый
во всех движениях, он одной натурою своей перервал и перепутал все уста-
новившиеся отношения, весь хитро сплетенный узор нашего старого быта, и,
сам вечно свободный, дал внутреннюю свободу и непринужденность и сво-
ему народу. В великом и незначительном, на полях битв и в веселых пирше-
103
ствах он научил своих современников простому и естественному и этим открыл
новую эру в нашей истории, сделав возможным в ней проявление всех даров
духа, всяких способностей человека, гениального, как и уродливого. С ним и
после него, впервые после векового молчания, мы наконец слышим в нашей
истории живые голоса, крики радости и гнева, гордости и унижения - звуки
человеческой души, более всего прекрасные. Необузданность, борьба страстей,
бесстыдство и героизм на плахе и в походах наполняют волнением нашу исто-
рию, дотоле столь тихую, и то, что более всего в ней поражает нас, - это именно
богатство индивидуальности. С нею возможна стала поэзия, сперва дикая, как и
весь хаос перемешавшейся жизни, но потом отстоявшаяся и нашедшая звуки,
столь чудные, чарующие не для одного нашего уха. С ней возможна стала любоз-
нательность, и бегство бедного мальчика с берегов Ледовитого моря в Москву,
на берега Невы, к германским натуралистам, уже не представляло чего-либо
необыкновенного. Каждый и прежде всего хотел удовлетворить свою нагую че-
ловечность, и лишь в применении к ней рассматривал церковь, государство,
поэзию, университет, - или находя в них все, что ей было нужно, или в против-
ном случае усиливаясь создать новое. И с тех пор и до нашего времени эта
непокорная индивидуальность и приводит в отчаяние, и умиляет нас, то внушая
за будущее самые страшные опасения, то наполняя сердце великими надежда-
ми. Где еще конец этому своевольству творчества, этому отрицанию векового и
священного, неудержимому порыву духа из всяких твердых форм?
XVII
Но вот это богатство творчества, видимо, иссякает и эта безбрежность ничем
не ограниченной мысли наконец для всех становится утомительна. Это сказы-
вается оскудением поэзии и художества, упадком воображения и чувства и, с
другой стороны, - в хаосе, обезображении всей жизни личной, обществен-
ной, политической, которого мы все свидетели. Веселость и красота двухвеко-
вого карнавала прошла, а то, что остается от него, дымящиеся факелы и бе-
зобразно-уродливые маски, разбросанные там и здесь, не могут быть ни для
кого привлекательны и дороги. В подобном положении, полном отвращения
к только что совершившемуся, стоит наше общество теперь, - очевидно, на
рубеже двух циклов своей истории, из которых один уже заканчивается, а
другой еще не наступил. Появление славянофилов, нам думается, есть имен-
но симптом, глубоко выражающий это историческое положение. Но кто боль-
ше придал бы значения их чаяниям, нежели критике и отрицаниям, - мы ду-
маем, глубоко бы ошибся.
Недостаточность, необоснованность в синтетическом построении буду-
щего мы находим и у К. Н. Леонтьева. Он слишком много вносит в это буду-
щее из второй фазы нашего исторического развития, почти думая, как и все
славянофилы, что мы лишь воскресим ее снова, опять переживем, что было
уже пережито. Этого никогда не происходит в истории, и в древе жизни
104
человеческой, что раз вскрылось и выразилось, никогда не выразится снова,
перейдя за черту бытия в иную сферу, которая лежит по ту сторону смерти.
Одно можно предугадать в этом будущем - второстепенное, незначу-
щее; и предугадать, основываясь на том, что уже совершилось в нашей исто-
рии. И в самом деле, в трех уже пройденных фазах нашего развития было не
одно отрицание, но и сохранение. Главное, что создавалось в каждой фазе,
уносилось и в следующую; но оно становилось там несознаваемой опорой
жизни, но не предметом желания, не целью достигаемой, не главным интере-
сом забот и деятельности. В первый период нашей истории мы просветились
христианством, и в этом заключался его смысл, вся значительность его, не
умершая и не имеющая когда-либо умереть. Удивительно, как характер на-
родности нашей за это время отвечал уже ранее принятия христианства той
миссии, которая ему выпала в истории через это принятие: дух открытости,
ясности и неозабоченность какими-нибудь особенными земными нуждами
и интересами - все это делало вступление юного народа в лоно новой рели-
гии легким, безболезненным, исполненным радости. И как свободно и легко
он ее принял в одной незаметной частице своей, так же легко и почти без
принуждения передал и другим бесчисленным частям своим, и даже иноп-
леменным соседям. Странно: мы почти не знаем как и знаем лишь насколько
далеко распространилось христианство в первые два-три века после просве-
щения им киевлян; без помощи сколько-нибудь организованной силы, без
всяких средств умственного убеждения, одною силою своей простоты и чи-
стосердечия монахи и священники того времени сделали гораздо более, чем
сколько могло сделать при всей политической мощи Московское государ-
ство, или при всех средствах науки новейшие миссионеры. Собственно, где
остановилось тогда религиозное просвещение, оно остается и до сих пор, не
будучи в силах преодолеть даже языческой косности многих финско-мон-
гольских племен, живущих среди русского народа или обок с ним, и тем
менее преодолевая магометанский или еврейский фанатизм.
В богобоязненном, церковном втором периоде нашей истории это приня-
тое ранее христианство вовсе не было главным, хотя и выставлялось таким.
Оно было опорою деятельности, в своих целях не имевшей ничего общего с
заветами Евангелия, торжественно и неподвижно лежавшего на аналоях, а не
жившего в совести и сердцах людей. Целью, главною заботой в этом втором
фазисе было объединение и высвобождение земли своей и потом ее сложение
в могущественный и правильный организм. И здесь, по отношению к этой
миссии, мы также наблюдаем предварительное установление психического
строя, при котором она наилучше могла бы выполниться: эту способность к
преемственному достиганию одной цели, глубокое сознание себя и всех учас-
тников своей деятельности лишь как части, которая должна покоряться целому,
только как орудия идеальных требований и стремлений, которым суждено осу-
ществиться в будущем, - что все и слило бесчисленное множество людей, от
государя и до раба его, в одну компактную массу, где мы едва различаем обра-
зы, но видим могучие силы и совершение великих фактов.
105
Государственная организация, созданная в этом периоде, перенесена была
и в следующий, и, по-видимому, ради укрепления этой организации совер-
шился самый переход нашего исторического развития в новый фазис. Но это
было лишь по-видимому; по отсутствию оригинального творчества в поли-
тической сфере, мы живо угадываем ее второстепенное теперь значение, ее
пособляющую, способствующую роль около чего-то другого, что и было в
действительности главным. Как мы уже заметили, это главное состояло в рас-
крытии индивидуальных сил, вовсе не связанных непременно с государством
и его нуждами, и еще менее - с религиею. Эти силы обратились к сферам
творчества, которые никогда ранее не влекли к себе нашего народа и, однако,
для души человеческой, для ее просветления и развития, необходимы более,
чем что-либо другое. Поэзия, искусство и также наука и философия состави-
ли предмет забот, любви, влечения, около которых государство было только
сберегателем, и религия - лишь общим, очень далеким органом, который
все же бросал свою тень на прихотливые создания фантазии. Всем известно,
до какой степени наше общество чем далее, тем более удалялось, теряя связи,
как от государства своего, так и от церкви*. И, будто бессознательно чувствуя
свою лишь охраняющую миссию, и государство, и церковь бережно щадили
эту странную свободу, столь несовместную, по сущности, с их принципами.
Для будущего историка это отношение государства и церкви к независимо
развивающемуся обществу представится как очень любопытное явление — и
привлекательное. Мы, правда, вечно жаловались все-таки на недостаток сво-
боды; но это было лишь по недоразумению, лишь следствием чрезмерной
нашей жажды свободы, опасавшейся даже возможного стеснения. Мы указы-
вали обыкновенно при этом на западные страны, но это указание было совер-
шенно ошибочное: ни церковь, ни государство там уже не имеют такого живо-
го значения, такой ничем не нарушенной веры в свою абсолютность, какая
продолжала сохраняться и сохраняется у нас. Там стеснение было невозмож-
но, - за умиранием, за истощением сил в том, что хотели бы стеснить; у нас
оно было бережно удалено, - со стороны того, что было полно сил и могло бы
и даже должно по своим принципам - стеснить, но этого не хотело.
Таким образом, христианство, политическая организация и индивидуаль-
ное творчество, являясь каждое главным в одном из трех периодов нашего
исторического возрастания, в каждом последующем периоде являлись как вто-
* Это удаление до такой степени очевидно, что в монархической и православной
России едва ли был даже один сколько-нибудь значительный писатель, поэт, художник
или композитор и монархистом, и православным - без оговорок. И это до такой степе-
ни обычно, общество так уже привыкло к этому, что всякие слова в строго монархи-
ческом и православном духе, какому бы авторитету они ни принадлежали, встреча-
лись обществом читающим с несказанным изумлением, иногда принимались даже как
признак помешательства. Ср. историю с «Избранными местами из переписки» Гого-
ля, также с некоторыми стихотворениями Пушкина. Можно ли представить себе по-
добное отношение к протестантизму в Германии или к католицизму - в романских
странах!
106
ричное, как его опора, но не цель. Что станет новою целью в четвертой фазе
нашего развития, ее главной заботой и интересом - это было бы напрасно
усиливаться отгадать. Как можно было среди битв с половцами и печенегами,
веселых княжеских съездов и шумного веча - угадать характер Андрея Бого-
любского, деяния Грозного, особый оттенок благочестия его больного сына и
Алексея Михайловича? Разве в печерских угодниках были те черты, которые
мы находим в митрополитах Петре и Алексее, в Александре Невском, в св.
Сергии или, наконец, в Василии Блаженном? Самый характер христианства как
будто изменился в круто повернувшемся складе исторической жизни. И, с
другой стороны, уже при Алексее Михайловиче, в его царской думе, в Моро-
зове и Матвееве - как можно было отгадать всеоживляющий образ Петра, его
Меншикова и Остермана, его баталии и похождения, его мощь, забавы, труды
и смех, которые два века отдаются в наших ушах. И так же точно в кругу, в
влечениях и в интересах нашей жизни... что можем мы угадать о будущем?
Куда и что понесет с собою новый избранник нашей истории, ни на кого в ней
не похожий, обремененный новою мыслью, все прошлое ее ненавидящий,
бегущий в новые места, - как Боголюбский бежал из Киева, Петр - из Москвы,
как, повторяя историю в лице своем, каждый из нас бежал от преданий своего
детства, и всякое поколение-от поколения предыдущего?..
Но одна черта в представлении К. Н. Леонтьева нам кажется вероятной:
это - уклонение нашей истории к юго-востоку, как естественное следствие ее
отрицательного отношения к прошлому. Во всяком периоде нашей истории мы
разрывали с предыдущим - и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без
сомнения, разрыв с Западом. Сомнение в прочности и в абсолютном достоин-
стве европейской культуры, которое является теперь общераспространенным,
послужит для нового поворота нашей истории и такой же исходной точкой, как
вечные неудачи и поражения русских послужили, два века тому назад, исход-
ной точкой идей и стремлений Петра. Исторический поворот, нам предстоя-
щий, можно думать, будет еще более резок и шубок, нежели какой произошел в
то время: там было только ощущение каких-то технических недостатков, подроб-
ностей; теперь является чувство общей неудовлетворенности, при полном до-
вольстве подробностями, - живое сознание недостаточности целого.
Судя по этому сознанию, можно думать, что характер четвертой фазы
нашего исторического развития будет именно синтетический; создание об-
щей концепции жизни, какое-то цельное воззрение, из которого могли бы
развиться бесчисленные ее подробности и частности - все по иному типу,
нежели по какому развивались они в новой истории, - вот, думается, задача,
которая предстоит нашему будущему. Не с рубанком и пушками и не с за-
мыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, вы-
росшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах
прошлого со своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания.
К. Н. Леонтьев, по-видимому, думал, что этим воссоздаваемым будут
византийские начала. Он вообще невысоко смотрит на творческие силы рус-
ского народа и с совершенным уже пренебрежением глядит на других сла-
107
вян, западных и южных, которые никогда и ничего, кроме подражательности,
не обнаруживали в истории. Этих последних он считает совершенно пусты-
ми от каких-либо мистических задатков, которым, сказать кстати, действитель-
но принадлежит все истинно творческое, оригинальное в истории (в искусстве,
в науке и философии, в государстве, не говоря уже о религии). На началах
религиозных было многое разрушено в истории, и многое пытались создать на
них, но ничего не было создано. В противоположность этим пустопорожним
народностям, в русском народе он находит гораздо более глубины, более пла-
менное и нежное чувство, проявление склонностей и порывов, очень мало
объяснимых рационально. Все говорит в нем о племени неизмеримо более
творческом и оригинальном, - говорит в простом народе и в высших слоях, в
древности, как и теперь. Мы позволим здесь привести одно его рассуждение,
плод долгих, многолетних наблюдений его над Востоком:
«Если мы будем, - говорит он, - сравнивать европеизованных греков и
таких же болгар с русскими, то первое наше впечатление будет - что вообще
восточные христиане суше, холоднее нас в частной своей жизни; у них мень-
ше идеализма сердечного, семейного, религиозного; все грубее, меньше
тонкости, но зато больше здоровья, больше здравого смысла, трезвости, уме-
ренности. Меньше рыцарских чувств, меньше сознательного добродушия,
меньше щедрости; но больше выдержки, более домашнего и внутреннего
порядка, меньше развращенности, распущенности.
У них меньше, чем у нас, оригинальных характеров, редких типов; гораз-
до меньше поэзии; но зато у них и помину нет о девушках-нигилистках, — о
сестрах, просящих братьев убить их, потому что скучно, - о мужьях, вешаю-
щих молодых жен, потому что дела пошли худо, - о юношах, почти отроках,
убивающих кучера, чтоб учиться революции, и т. д. Самые преступления у
восточных христиан (у греков и славян без различия) носят какой-то более
понятный, расчетливый характер; этих странных убийств от тоски, от разоча-
рования, с досады просто, или от геростратовского желания лично прославить-
ся, без цели и смысла, - убийств, обнаруживающих глубокую боль сердца в
русском обществе и вместе с тем глубокую нравственную распущенность,
ничего подобного здесь не слышно ни у греков, ни у болгар, ни у сербов.
Желание грабежа, ссора, месть, ревность-словом, более естественные, более,
пожалуй, грубые, простые, но вообще более расчетливые и сухие, так сказать,
побуждения бывают на Востоке причинами преступлений». И т. д.*
Но для глубокого и продолжительного исторического созидания, для вы-
полнения великих и своеобразных задач культуры - и племя русское представ-
ляется г. К. Леонтьеву недостаточно творческим; или, точнее, творчество его
кажется ему бесформенным, слишком неархитектурным. Много прекрасно-
го, глубокого, даже оригинального, может быть им создано, - но этого все еще
недостаточно, чтобы вылить жизнь историческую в твердые, законченные
* «Восток, Россия и Славянство». Т. I. С. 203. Статья «Русские греки и юго-
славяне».
108
формы, сильные против разрушающего действия времени. А ввиду разложе-
ния западной культуры, ввиду того что русский народ выступает уже после-
дним в истории, - именно прочность созидания едва ли не важнее еще, нежели
присутствие в нем каких-либо гениальных, но недолговечных проявлений.
Указание на черту эту, ее необходимость в будущем и ее недостаток у
русских есть одно из важных указаний у К. Н. Леонтьева, вытекающее глубо-
чайшим образом из всего его исторического созерцания: в этом указании
есть некоторое самоотречение, есть национальное бесстрастие, какому мы
не знаем примера. Но едва ли не ошибся он здесь: мы уже сказали, что пос-
ледние два века главное в историческом нашем созидании носит индивиду-
альный характер; эту индивидуальность, порой гениальную и всегда непроч-
ную, он принял, кажется, за постоянную черту нашей истории. Таким обра-
зом, то, что составляет особенность и задачу двухвекового развития, он обоб-
щил на все времена и перенес на особенности духа своего народа. Между
тем один взгляд на второй период нашей истории, на процесс государствен-
ного созидания, мог бы убедить его в способности нашего национального
характера к постоянству, упорству, выдержанности в творчестве. Есть, хоть
разбросанные очень, черты эти и в новой нашей истории.
Итак, неправильно (нам думается) приняв наш характер как бесформен-
ный, он полагал, что эта недостающая оформленность может быть придана
нам византизмом. Он с удивительной чуткостью подмечает, что византийс-
кие начала залегли у нас и там, где мы их нисколько не подозреваем, - в
поэзии, в семейном быте, не говоря уже о государственном и религиозном
складе жизни. Его указания верны и многозначительны; но есть и односто-
ронность в них, которую нельзя пройти мимо.
Когда, в какую эпоху мы более всего были проникнуты византийскими
началами? Не все ли скажут, что в период государственного созидания Мос-
квою? Но если так, почему не в пору своей детской восприимчивости, не при
живой Византии и близости от нее мы прониклись этими началами, но в пору
недоверчивой замкнутости и уже павшей Византии, разделенные к тому же
от нее громадными пространствами и враждебными племенами? Не есть ли
византийское происхождение московского склада жизни явление гораздо
более кажущееся, чем действительное?
Нам не кажется, чтобы Владимир Св. и его дети - Мстиславы Храбрый и
Удалой, Роман и Даниил Галицкие, Олег «Гориславич» - носили особенно
византийский облик. В эту пору горячей связи, только что восприняв христи-
анство, впечатлительные до переимчивости многого у половцев, - мы сохра-
нили, однако, общеславянские черты характера, доброго, уступчивого, не-
сколько беспорядочного и слабого. И вот когда Византия из могущественной
и привлекательной империи стала рабыней мусульманства, выпрашивавшей
у нас денег, - при гордых Иоаннах, при Годунове, при первых царях из дома
Романовых, мы хотим видеть Россию проникнутой византийскими начала-
ми. Не обман ли это, не приписываем ли мы черт глубоко оригинальных и
самобытных-заимствованию. По крайней мере, даже теперь, после двухве-
109
кового постоянного и тесного общения с европейцами, облик европейский
лежит на нас не так прочно, - его легче отодрать, - нежели как лежал особен-
ный, будто бы византийский, облик на людях Московского государства.
Утонченная и порочная Византия, мешавшая отвлеченные споры бого-
словско-философского содержания с оргиями, шумом и развратом цирка,
Византия, столь жестокая и лукавая, так надругавшаяся над многими своими
императорами, едва ли серьезно может быть поставлена как оригинал и про-
тотип Москвы - угрюмо-молчаливой, упорно-настойчивой, гораздо более
насильственной, чем коварной, так во всем не утонченной по мысли, по
вкусам, по сердечным влечениям и вместе так преданной крови своих царей,
только в этом одном, кажется, нежной и утонченной.
По крайней мере, нам кажется, что все черты этого особенного типа воз-
никли в нашем народе совершенно оригинально и самобытно, как предугото-
вительные для особой миссии государственного созидания, какую ему пред-
стояло тогда выполнить. И, во всяком случае, раз несомненно, что в истории
народ наш не является все с одним и тем же душевным и жизненным складом,
- а этот склад не изменялся у Византии, - не может быть и речи о каком-либо
его заимствовании. Мы уже высказывали ранее и снова настаиваем, что одна
и та же основа, например, одинаковая догматика и весь ритуал христианства,
будучи переносимы в разные народности и в разные эпохи, - дают неодинако-
вую им окраску. Так, нельзя приписать и влиянию византийской церкви и госу-
дарства весь склад нашего государства, быта, нравственных и других понятий.
В некоторые эпохи здесь было сходство, но не было заимствования, подчине-
ния, - или не было его в очень значительной степени.
И, однако, в объеме христианской догматики и всего церковного склада,
без передачи более утонченных черт быта - Византия залегла в нашу истори-
ческую жизнь. Выработка догматики этой и всего церковного устройства
составляет особенную, великую, всемирно-историческую миссию Визан-
тии. Мы никак не должны забывать, что именно Восточной империи принад-
лежит этот труд, и на Западе он был только принят и усвоен*. Здесь еще раз
сказалось вечное стремление исторических процессов к разнообразию, к
* Вообще, нам думается, судьба Византии от Константина Великого, ее основате-
ля, до падения ее в 1453 г, представляет интерес и значительность истории особого и
совершенно оригинального культурно-исторического организма, и с нею ни в какое
сравнение не может идти по значительности и интересу история собственно Итальян-
ской империи, от Августа до Ромула Августула. Только нужно при этом помнить, что
центр истории византийской лежит во Вселенских соборах, в деятельности Отцов
церкви и еретических волнениях, - наконец, в жизни и трудах отшельников-анахоре-
тов, и гораздо менее - в императорском дворце или вообще в самом Константинополе.
С этой точки зрения, т. е. нс с отрицательной, а с положительной, которая выясняла бы
исторический труд Византии, - история ее не написана; но для ума глубокого и сво-
бодного нет эпохи во всемирной истории, столь же мало исчерпанной и так интерес-
ной. Добавим, что разработать в подробностях и, наконец, воссоздать в целом эту
историю - составляет прямую образовательную задачу науки всеобщей истории у
нас, в России.
110
расхождению задач своих, продуктов своего творчества. В особенном труде,
который приняла на себя Византия и, выполнив который - она умерла, по-
гибла, заключено столько же абсолютной красоты, но совершенно и неизъ-
яснимо оригинальной, сколько заключено ее в продуктах творчества других
исторических народов: в искусстве и философии Древней Греции, в праве
Рима и проч., и это с точки зрения общечеловеческой, вовсе не православ-
ной только. Оригинальная черта Византии состоит в том, что, взяв важней-
шие моменты бытия человеческого - рождение, смерть, обращение души к
Богу - она окружила их такой высокой поэзией, возвела к такому великому
смыслу, к какому они никогда дотоле не возводились в истории. Литургия
Иоанна Златоустого или песнопения Иоанна Дамаскина - это в своем роде
исторический Капитолий или Парфенон, это так же глубоко, прекрасно и
правильно отвечает некоторому предмету своему, как только что названные
памятники отвечают своему особому смыслу.
А если мы подумаем, что все-таки навсегда человек останется прежде
всего человеком, что его отношение к Богу, судьба души его за гробом важ-
нее для него всяких отношений государственных, правовых и пр., - то особый
труд Византии представится даже для историка-язычника едва ли не важней-
шим во всемирной деятельности народов. Такому историку предстоит об-
нять своим умом те неисчислимые миллионы человеческих сердец, которые
все были согреты, вразумлены, наполнены этими песнопениями, этими об-
щими молитвами «о страждущих, недугующих... о мире всего мира»... По-
всюду, где светит солнце, где люди болеют и скорбят, - чтобы понять все
современное ничтожество в сравнении с этим эпикурейского наслаждения
искусством немногих избранных, или кропотливых изысканий над римским
правом толпы мумиеобразных юристов. Обычно принято считать Византию
чем-то сухим, от юности старообразным; быть может, это и так. Но несом-
ненно, что в старости своей, быть может глубже всех народов почувствовав
близость к себе великого момента смерти, она высказала слова неизъясни-
мой глубины, создала вечно живой цвет, который вот уже тысячелетие на-
полняет историю своим благоуханием и дает народам силу к жизни, без кото-
рой они не могли бы, не захотели и не сумели иногда вынести тяжесть судьбы
своей на земле.
К. Н. Леонтьев живо чувствовал эту красоту восточного христианства, во
всей строгости его древней архитектоники. Он справедливо не доверял твор-
ческим силам своего времени, своего общества, - и вот откуда у него вытек-
ло глубокое отвращение и негодование при виде попыток нового религиоз-
ного творчества, какие он видел поднимающимися вокруг себя, стоя почти
на краю могилы. Уже гораздо ранее, думая о нашем простом народе, он
отметил странную его склонность к этому творчеству, «к разным еретичес-
ким выдумкам», вовсе неизвестную на Востоке. Позднее ему пришлось на-
блюдать взрыв этой склонности и в высшем обществе. Мудро и осторожно
он указал при этом на протестантизм, по-видимому столь высокий и пре-
красный в первые свои минуты, так неизмеримо более привлекательный и
111
жизненный, нежели ветхий католицизм. Но прошло полтора века и этот про-
тестантизм выродился в казуистику гораздо более сухую, чем католическая,
и в ряд бледных, ничтожных учреждений полуполицейского характера. Все
сохнет в нем, все разлагается на наших глазах. И, думая об этом, он печально
предостерегал и наше общество. Разрушать, отшатываться от тысячелетних
созданий - легко в истории; но созидать в ней — это очень трудно. Только при
начале своей исторической жизни народы обладают этой удивительной,
необъятной силой созидания; не думая о красоте - они созидают так невыра-
зимо прекрасное; не думая о прочности - созидают вековечное. Быть может,
потому это, что они думают только об истине, о безусловной правде для
сердца своего, для Бога. Можем ли мы также думать только об этой истине,
об этой правде? И гораздо более полные всяческой ненавистью, нежели ис-
тинной любовью к чему-нибудь - что можем мы создать, кроме уродливого
и безобразного, если не для нас еще, то для детей уже наших?
Отсюда вытекла его строго охранительная деятельность; тут сказался его
глубокий и осторожный ум, который жизнь будущую ценит гораздо более
настоящей, охранение ее от болезней считает нравственным для себя дол-
гом. У нас все немножко «пантеисты», все несколько «республиканцы», - и
по воспитанию своему, и по какой-то русской, действительно, склонности к
бесформенности. У нас не любят никаких форм, которые теснят воображе-
ние, тяготят ум. И тем более неизъяснимый интерес находим мы в писателе,
который неожиданно открывает нам всю необъятную значительность этих
форм, всю невозможность без них жизни или, по крайней мере, ее прочнос-
ти. Мы находим в этом коренное противоречие с тем, как много лет уже
привыкли сами думать; но вслушиваемся невольно в печальную речь чело-
века, так очевидно благородного, который любит нас и прочность нашего
будущего, быть может, более, чем мы сами его любим. Его слова производят
на нас неотразимое впечатление, тем более, что сказаны они в какой-то за-
думчивости, очевидно, не имеющей ничего общего с заботою об этом впе-
чатлении. И течение мыслей наших невольно получает обратное с прежним
направление...
Если мы спросим себя, куда же направляется это течение и в чем лежит
главная забота писателя, за которым мы невольно следуем, то должны будем
ответить: в сохранении жизни, в чувстве влечения к ней, как к величайшей
красоте природы.
И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писаний:
красота есть мерило жизни, ее напряжения; но красота не в каком-либо
узком, субъективном ее понимании, а только в значении - разнообразия,
выразительности, сложности. Все, что существует в мироздании, что по-
является в истории, подчинено этому общему и глубокому закону, что, воз-
растая в жизненности своей, возрастает в обилии, разнообразии и твердости
своих форм; а падая, возвращаясь к небытию, - ослабевает в формах своих,
которые смешиваются, сливаются, блекнут и, наконец, исчезают, оставляя
после себя могильный прах. Пожалуй, здесь мы видим приложение аристо-
112
телевской формулы, о котором великий Стагирит, конечно, не думал: causa
formalis*, есть вместе и causa efficiens**, т. е. что вид, обособление от осталь-
ного есть сила творящая в мироздании. Во всяком случае, это правдоподоб-
но по отношению к безжизненной природе, и безусловно истинно в сфере
истории. Но если так, наш взгляд на текущую историю должен быть очень
печален: руководимые призрачными абсолютными идеалами и главным об-
разом обманчивой иллюзией устроить счастье на земле всех народов, мы
более и более снимаем с этих народов именно оформливающие их начала -
религиозный культ, историческую государственность, бытовую обособлен-
ность, — не замечая, что сливаем их через это в безвидную массу первобыт-
ного человечества. «Нет высшего счастья для человечества, как еда, и нет
высшего закона для него, как труд», - повторяем мы и развертываем дальше
и дальше с него исторические одеяния, - пока оно не останется наго от всего,
не станет, как и при исходе истории, только с желудком и мускулами, накор-
мить который, утрудить которые снова сделается одной его заботой.
Это все понял писатель, о котором мы говорим, и твердое слово свое
противоположил течению всех дел в жизни, которая его окружала. Им руко-
водило доверие, что идеальное начало еще не утеряно в человечестве, что,
раз оно поймет смысл своей истории в текущую эпоху как регресс, оно оста-
новится, удержится от дальнейшего разрушения всяких форм. Он думал, что
инстинкт красоты в человечестве еще сильнее пылающей уже всюду взаим-
ной ненависти, в силу которой народы, сословия, индивидуумы обрывают
друг с друга последние клоки истории, чтобы равно убогими, равно нищими
сойти в землю, из которой все вышли. Но его голос звучал, по крайней мере
до сих пор, напрасно. Ничего не недоставало этому голосу: ни красоты, ни
силы, ни, наконец, понятности. Одного недоставало ему: исторической сво-
евременности... Как идут, и к смыслу речей его, и к его судьбе, эти известные
стихи, как будто сказанные о нем:
На буйном пиршестве задумчив он сидел,
Один, покинутый безумными друзьями,
И в даль грядущего, закрытую пред нами,
Духовный взор его смотрел.
...Исполнены печали,
Средь звона чаш, и криков, и речей,
И песен праздничных, и хохота гостей
Его слова пророчески звучали...
Все было так, как сказано здесь; и то, что ежедневно совершается перед
нашими глазами, есть старая, вечно поучительная, но никою не научающая
история.
* формальная причина (лат.).
** действующая причина (лат.).
113
«В своем отечестве никто не бывает пророком»... Неужели это всегда
правда? Неужели и ни одно отечество, вечно повторяя эти слова, никогда не
оглянется на себя и не поймет тех, кто его так любит, ради него столько не-
сет?.. И тогда зачем же этот горький дар предвидения, эти силы души, про-
ницательность разума, красота слова? Неужели лучшие дары нашей приро-
ды ниспосланы нам в издевательство, чтобы только сделать более горьким
наше существование?
ИДЕЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Н. Страхов. Мир как целое. Черты из науки о природе.
Издание второе. СПб., 1892.
Лучшая философия, без сомнения, та, которая возникает из изучения приро-
ды и после этого изучения; название, данное когда-то собранию трактатов
Аристотеля их неизвестным хранителем - цеха та <pv5ix<x, «то, что следует
после физики», потому и обратилось из случайного в постоянное, что в нем
непреднамеренно был указан истинный смысл философии, ее отношение к
реальным наукам и самый предмет, с ними одинаковый - природа. И с тех пор
и до нашего времени всякая философия, заслуживающая этого названия, есть
непременно метафизика; как и всякая метафизика, носящая это имя не по
одному недоразумению, есть только углубленное познание природы, есть
ряд идей о действительном, невольно пробуждающихся в уме человека после
того, как его чувства, его способности, ощущения уже вполне насыщены
впечатлениями этой действительности.
В сущности, каждое ощущение само по себе - беспросветно темно для
человека, непроницаемо в своем смысле, пока оно не возведено к смыслу
чего-то, что уже ранее присутствовало в его душе, образует как бы элемент
этой души и в самом себе совершенно ясно и понятно. Уподоблять природу
себе, переводить ее темные знаки, ее неясные стимулы на ясный, отчетливый
язык своего разумного существа - в этом состоит сущность всякого изуче-
ния, неуничтожимый источник наших размышлений после того, как мы ви-
дели, осязали, слушали, ничего еще не понимая в момент этого видения,
осязания, слушания. Понятность ощущаемого — вот вечная цель и филосо-
фии, и науки, за которой для них нет движения, но достигнуть границ которой
слишком достаточно, чтобы наполнить содержанием жизнь неопределенной
вереницы человеческих поколений.
И в самом деле, что все ощущаемое может быть понято, т. е. все, идущее
извне в человека, найти в нем уже отзвук себе, но осмысленный, но прояс-
ненный, - уверенность в этом есть prius всякой философии, без которой
человек никогда не начал бы размышлять, т. е. изыскивать, трудиться, напря-
гать свой разум, - конечно, не без надежды, что это к чему-нибудь приведет.
114
Таким образом, ранее всякого философского размышления в человеке есть
уже главная для него основа - уверенность, что он сам, со своею разумной
душой, есть как бы самая зрелая действительность по отношению ко всякой
другой, которая, может встретиться для его ощущения и которая после вни-
мательного в нее всматривания, всегда окажется только менее зрелою, но
однородною с тем, что уже в нем самом есть.
Отсюда вытекает потребность человека понимать явления и предметы
внешней природы как только повторения, и притом вещественные, процес-
сов и состояний своего первичного сознания: ряд фактов, следующих друг за
другом, он понимает, как ряд фактов, причинно вытекающих один из друго-
го; сомкнутые тела, лежащие перед ним, он понимает как части, образую-
щие одно целое; в бесконечном разнообразии вещей ищет и находит связую-
щее их единство. Ни о чем этом не говорит ему сама природа, но все это он
находит в ней, и даже только это находит, потому что лишь под этим общим
он может понимать природу, эти мириады частностей, которые действуют
на его ощущения. Сведение темного воздействия на себя к одному из этих
общих понятий и, наконец, сведение всех воздействий в гармоническую связ-
ку их - вот неуничтожимая потребность человека, вызывающая его на раз-
мышления, на изыскания и породившая философию.
Каждая реальная наука может быть рассматриваема как подведение при-
роды под которое-нибудь одно из этих общих понятий; или, иначе, как рас-
смотрение, где и как в природе осуществлено это понятие. Так, физика есть
изучение всех явлений, связанных между собою механическим сцеплением;
иначе — рассмотрение природы, насколько и как в ней осуществлена идея
причинности; классификация (например, органического мира) есть рассмат-
ривание той же природы под понятием сходного и различного, единого и
многого, и т. д. Философия же, не несправедливо называемая «матерью всех
наук», есть, во-первых, рассмотрение этих самых понятий, каковы они и от-
куда в человеке, и, во-вторых, сведение их в одно, т. е. синтез целой природы
в сознании человека, как едином связующем своем центре.
I
В легкой форме прихотливых очерков г. Страхов разбрасывает перед глазами
читателя факты органической и мертвой природы, всюду обращая мысль его
к этим общим понятиям, в которых содержится разъяснение смысла неопре-
деленного множества как приведенных, так и других подобных же фактов.
Мысль читателя, нигде не утомляясь, остается постоянно возбужденною раз-
нообразием предметов, перед ним проходящих, и, главное, особою точкой
зрения, с которой они ему показываются. Автор всегда почти говорит о са-
мом обыкновенном, каждому знакомом из собственного опыта или из книг;
но в этом обыкновенном он неизменно указывает что-нибудь особенное, что
ранее вовсе не приходило в голову читающего, и о чем не натвердили ему во
множестве прочитанные журнальные статьи о тех же предметах. Таков общий
115
характер книги, заглавие которой мы привели выше, одновременно и самой
популярной по философии в нашей литературе, и одной из самых глубоких и
содержательных в ней*.
Говорить о всем содержании этой книги - значило бы останавливаться
на всех бесчисленных вопросах, возникающих при рассматривании природы
органической и мертвой. Мы укажем только на общее направление ее, на те
главные линии, по которым движется мысль автора, прихотливо перебегая от
одной частности к другой, и, по-видимому, более всего занятая интересом
этих частностей.
С точки зрения на науку как на некоторое построение наших сведений о
природе, обычно принято начинать исследование с наиболее простых, эле-
ментарных существ, чтобы потом, мало-помалу, прилагая одну черту к дру-
гой, перейти от них к самым сложным. Но наиболее простые существа, столь
легкие для описания, могут быть вместе и наименее понятными для челове-
ка. С точки зрения понятности, т. е. с философской, гораздо правильнее
поэтому начинать обсуждение природы не с самого элементарного, но с
самого понятного, непосредственно известного уже для нас, хотя бы оно и
было одновременно самым сложным. Так именно поступает наш автор, и,
прежде всего, рассматривает, в ряде рассуждений самого человека. Этим
рассмотрением он вводит читателя в круг идей об органическом и безжиз-
ненном, о вещественном и духовном.
Организмы суть существа развивающиеся, в противоположность без-
жизненным телам, которые все делаются, образуются силами и влияниями,
для них внешними; таким образом, средоточие, образующая причина, глав-
ное - для организмов заключено внутри их, для мертвых тел - вне. Далее,
совокупность перемен, испытываемых каким-нибудь телом, неопределенно
продолжительна, как и самое его существование; как бы много их ни было,
они никогда не сложатся в процесс, как необходимое и последовательное
видоизменение тела, через которое оно становится лучше; напротив, разви-
тие, через которое проходит всякий организм, представляет собою тесный
круг видоизменений развивающегося, из каждой стадии которого оно выхо-
дит более и более совершенным. Организм есть самоулучшающееся суще-
ство - вот его самое важное отличие от всякого мертвого предмета природы.
Возможность применить к нему понятия «хорошее» и «дурное», и притом
хорошее или дурное для самого организма - это обнаруживает в нем при-
сутствие совершенно нового чего-то, вовсе неизвестного в безжизненной
природе. Отсюда - явления в них болезни, уродства, отсюда - понятие выздо-
ровления, как возвращения к лучшей норме, как восстановления своей цело-
сти и полноты. Только в организмах мы наблюдаем это удивительное явле-
* В западной литературе есть одна только нам известная книга, которую по
замыслу своему, по разнообразию, легкости и содержательности напоминает книга
г. Страхова, во всем остальном ей, однако, противоположная. Это - «Разговоры о
множестве миров» Фон/елелля.
116
ние, что, потеряв какую-нибудь часть, они из крови своей, из бесформенно-
го матерьяла своего тела восстановляют в прежнем виде эту утраченную
часть: как будто внутри их, за покровом видимых вещественных очертаний,
есть у них невидимые и строгие очертания, по которым течет материя их
тела, только облегая их собою, видимо, овеществляя их в процессах восста-
новления, подобно тому, как кусок тела, которым геометр чертит сложную
фигуру, только обнаруживает идею этой фигуры, бывшую ранее в уме его.
Если каждый организм в определенный момент своего существования
есть синтез таких необходимых, овеществленных очертаний, то, в свою оче-
редь, этот синтез подлежит столь же определенным и строгим передвижени-
ям во времени, т. е. видоизменениям; возрастание, зрелость и смерть суть
только самые важные моменты этого передвижения. Таким образом, двоя-
кое и одинаково строгое ограничение лежит на всяком организме: он ограни-
чен, определен в пространстве - без какой-либо способности переступить
через это ограничение, лишь с слабою возможностью от него отступить -
заболеть или стать уродливым; и он ограничен, определен во времени, между
моментами зачатия и естественной смерти - также без всякой возможности
через них переступить, и лишь с возможностью отступить несколько от вто-
рой - умереть случайно ранее времени от какой-нибудь побочной причины.
Таким образом, из всех существ природы организмы суть наиболее ограни-
ченные, тесно определенные; и в связи с этим - наиболее совершенные в ней.
Рядом остроумных рассуждений г. Страхов показывает, что по строению
своего тела человек есть механический предел для органической природы,
всякое видоизменение которого в одной какой-либо части неизбежно повлек-
ло бы за собою ухудшение в нескольких других: легкость, красота, подвиж-
ность, сила - все это соединено в нем таким образом, что малейшее усиление
которого-нибудь из этих качеств тотчас вызвало бы ослабление всех остальных.
Таким образом, человек есть наиболее совершенный из организмов, и всякие
предположения о том, что возможны в природе еще другие, более совершен-
ные, нежели он, одушевленные существа - не имеют для себя никакого прав-
доподобия, как не имеет правдоподобия разрешение задачи о квадратуре кру-
га здесь, на земле, в будущем и равно теперь во всей вселенной.
Обращаясь от этой внешней предельности человека к внутреннему смыс-
лу, который скрыт за ней, г. Страхов останавливается на совершенно особен-
ном и удивительном его отношении к мирозданию. Внешние влияния, дей-
ствуя на безжизненные тела, в сущности, разрушают их или вообще наруша-
ют их целость, единство с собою; удар, раздробляющий камень, правда, об-
разует множество новых камней, но прежнего камня уже нет; кислота,
которою мы обдаем тот же камень, превращает его в ряд газов и земель, не
имеющих с прежним его существом ничего общего по виду и внутренней
структуре. И какие бы другие действия природы мы ни избрали, мы увидим,
что все они или совершенно не влияют на безжизненные тела природы, или
влияют так же, как только что указанные, т. е.разрушают их. Если от них мы
перейдем к растениям и животным, то увидим, что многие из влияний при-
117
роды на них уже действуют, не разрушая, но поддерживая, продолжая их
существование, однако же нисколько его не трансформируя. Пища или воз-
дух, вбираемые растением или животным, ничего, в сущности, к ним не при-
бавляют нового; они заменяют, становясь свежею живою тканью, прежнюю
уже обветшалую ткань, и через это поддерживают строй и силы организма в
прежнем виде. Как в первом случае по отношению к минералам, так и во
втором по отношению к органическому миру до человека, мы во всяком
единичном существе находим только некоторую реальность, которая может
или остаться такою же, какой была ранее, или разрушиться.
В противоположность всему этому, всей природе до себя, в человеке
реальное (организм) есть только необходимая, тесная основа для обнаруже-
ния бесчисленных явлений и свойств, которые могут совсем быть не прояв.
лены (и не прояатяются в бесчисленных индивидуумах), но по которым един-
ственно мы и узнаем, и оцениваем истинную природу человека, его внут-
реннее и глубочайшее существо. Человечность - это понятие так далеко
отходит от «натурального» состояния людей, что в нем мы не замечаем для
нее еще никаких почти задатков, видим именно только физическую основу,
на которой может возрасти это идеальное явление. И оно возрастает по мере
того, как шире и шире, дальше и дальше человек начинает соприкасаться с
природой. Прошедшее интересует его, будущее манит его к себе, далекие
звезды, глубокие пласты земли - все кажется ему бедным и скучным, через
все это, в глубоком самонедовольстве, он снова и снова пытается пересту-
пить, если не мыслью, то воображением. Никогда, ни на какой степени знания
он не хочет поверить, что уже «все узнал»; напротив, чем более он узнает — так
пробуждается от этого познания что-то особенное в нем и глубокое - внедря-
ется в нем убеждение, что он еще «ничего не знает». Так, по мере того как
прежде возможное становится в нем действительным, темные предчувствия
заменяются ярким сознанием, - на месте проявленного, и еще в больщем
обилии, пробуждаются новые темные влечения, необъятные возможности
чего-то еще иного. И чем далее идет проявление этой скрытой действительно-
сти, видя все новые и новые явления, недавние явления на древней основе, Мы
говорим, думая именно об этой основе: «Вот что содержалось в ней, каков
человек, вот к чему он способен». В противоположность всегдашним при-
емам своим в обобщении, мы не постоянное, не повсюдное в человеке счита-
ем главным в нем, выражающим его природу, не эту жалкую его «двуногоСТь
и бескрылость»; но таким считаем именно особенное, иногда на миг проявля-
ющееся в нем, и всегда непременно личное (одному лицу принадлежащее). то
что совершил Ньютон, что почувствовал Рафаэль, что выразил Бетховен — Это
для определения человека, для понятия о его сущности важнее, чем черный
цвет кожи десятков миллионов людей; это для самих негров существеннее, их
самих выражает более, нежели то, что они все рождаются черными.
Таким образом, на самых далеких концах своих, светом мерцающих звезд,
движением невидимых существ на узком поле микроскопа, глухими преда-
ниями о давно исчезнувших народах - природа действует на человека, воз.
118
буждая, обнаруживая его скрытую сущность, но не подавляя, не затирая
ее; не низводя ее до уровня своей мертвенности, своего механизма, своей
слепой и грубой вещественности, но возводя к высшей идеализации. И меж-
ду тем только «подобным воспринимается подобное», и что не имеет ника-
кого соотношения с первозданной природой человека, конечно, никогда не
могло бы и быть воспринято им, - как ухо до конца не воспринимает света,
или глаз - звука. И таким образом, если вся природа действует на человека,
если она вся только проявляет, выводит на свет его сущность, - не ясно ли,
что уже от начала со всею ею соотносится, темно взаимодействует она сама;
что в этом темном взаимодействии, от начала предустановленном и в исто-
рии только обнаруживаемом, и кроется сущность души человеческой, ее
особенность, ее единство в мире, наконец, ее великий и святой смысл. Для
сферы нет многих центров, для мира в красоте его, в его смысле нужно было
только одно средоточие, где бы он мог отразиться, быть воспринят весь, - как
гармония звуков, воспроизводимая одиноким композитором, как бы далеко
они ни разлетались, воспринимается только его ухом.
Несомненно, что с этою многосторонностью человека, его всемирной
связностью, неотделимо соединена и его физическая хрупкость: из всех орга-
низованных существ он наиболее болит, наименее способен выносить резкие
перемены в окружающей действительности. Это от того, что из всех живых
существ он совмещает в себе наибольшее число пределов, что с разных сторон
и полно, как ни одно из них, он определен, и притом ненарушимо. Множество
физических влияний, которые даже не затрагивают собою другие существа,
потому что вовсе с ними не соотносятся, колеблются и разрушают жизнь нелов-
ка, потому что не только соотносятся с ним, но с приближением к нему входят
в круг множества других соотношений, из которых ни одно не должно быть
нарушено. Из всего в природе он выражен в наибольшем числе определений,
поэтому существование его наиболее в ней стеснено, сужено и наибольшим
же числом причин нарушимо; хотя от того же он и наиболее совершенен, а
следовательно, предусмотрением своим властен над самыми причинами.
II
Среди аналитических рассуждений, проводящих границу между мертвым и
органическим, между органическим только и одухотворенным, г. Страхов бро-
сает освещающие мысли в обе стороны - в мир нравственных движений че-
ловека и в наиболее темный для разумения мир безжизненного вещества.
Этому последнему посвящена вся вторая половина его книги, где рассматри-
ваются древний атомизм и новейшее учение об элементах в химии, теория
физических сил и закон сохранения энергии*. Среди многого интересного,
♦ Глава о законе сохранения энергии, весьма любопытная по истолкованию его
смысла и исторического происхождения, появилась первоначально в шестой книге
«Вопросов Философии и Психологии» за 1891 г. и составляет ценное прибавление ко
второму изданию книги «Мир как целое».
119
что здесь высказано им, отметим указания на коренную причину образова-
ния материализма.
Эта причина, - говорит наш автор, - кроется в преобладающей способ-
ности большинства человеческих умов к представлениям только, а не к по-
нятиям, в силу чего механизм в отношениях всех предметов, распадение
всех предметов на вечные, неизменяемые атомы - есть единственная фор-
ма, под которою непреодолимо является их созерцанию целая природа.
«Что непредставимо, то не существует» - это есть первая аксиома, из-под
видимой очевидности которой не могут выбиться материалисты, разлага-
ющие лишь на представимое, поэтому всякий акт в природе, всякую дея.
тельность в ней, ее жизнь, ее неуловимые внутренние отношения. «Веще-
ство», «атом», «бытие», но непременно неподвижное и ограниченное, чть
можно было бы выделить перед собою, поставить перед своим умом и
столь же отделимое от всего и доступное воображению «движение» — вот
два основных начала, с помощью которых материализм и объясняет не-
вольно природу*. Между тем область действительного обширнее сферЫ
представимого и даже, прибавим, она шире сферы только мыслимого. Ни-
как нельзя представить себе радость, т. е. как чисто душевный акт, не как
лицо только или движение радующегося человека; и то же должны мы ска.
зать о всяком подобном душевном состоянии; и между тем оно действу-
ет, является источником поступков, родником поэтического или художе-
ственного вдохновения, к которому, применив термин «механически дей-
ствующей причины», мы грубо ошиблись бы. Вообще как представимо
только количественное, имеющее какую-нибудь меру, так и мыслимо только
определимое в самой своей сущности, а между тем природа полна и каче-
ственного, и среди последнего есть многое такое, что определимо лишь
косвенно: через указание вытекающих из него последствий или порожщаю.
щих причин, или каких-нибудь неизменно сопутствующих обстоятельств,
но отнюдь не в природе своей. Так и чувство радости, конечно, может быть
определено как «душевное состояние, которое человек ищет, и, достигнув
которого, стремится его продолжить», или еще как-нибудь иначе, но ясно,
что во всяком подобном определении сущность этого акта вовсе не будет
выражена, хотя бы он и был в нем отличен от всего другого, указан. Мате-
риализм, оперирующий только с представимых, достаточен и соверщенен
как метод объяснения некоторой части природы, именно всей той, которая
видима, ощутима, которая всюду и постоянно перед глазами всех. Но Когда
из частного метода он пытается стать философией всей природы, он впада-
ет в такую же ошибку, в какую впал бы математик, задумавший отвергНуТЬ
алгебру на том основании, что мнимые величины, отрицательные и дроб-
ные показатели не покрывают собою ничего реального, совершенно не-
представимы и лишь условно мыслимы.
* Уже Декарт пытался свести всю природу к протяженности, и в ней - к фигурам
их положению и численным отношениям.
120
Ill
Сверх множества подобных методических разъяснений, невольно воспитыва-
ющих мысль читателя к осторожности в заключениях, в книге г. Страхова есть
и положительные теории, которые приближают познание природы к тому
идеалу совершенной понятности, о каком мы упомянули выше как о конеч-
ной задаче философии. На двух подобных теориях мы хотели бы остановить
внимание читателя, тем более, что предмет их до такой степени темен, что с
первого взгляда кажется, что для него не может быть никакого объяснения, и
он должен быть принят как только факт.
Кто не удивлялся формам кристаллов, которые принимают минеральные
вещества всякий раз, когда им дается полная свобода сложиться без влияния
каких-либо побочных, препятствующих обстоятельств. В массе воды мутный
раствор, отлагаясь частица за частицею, не водимый ничьей рукой, не управ-
ляемый линейкой и циркулем, слагается в правильные геометрические фор-
мы, какие мог бы вывести только самый искусный чертежник. Чрезвычайно
разнообразны бывают эти формы, и особый отдел минералогии, кристалло-
графия, тщательно описывает их, классифицирует и располагает в системы. Но
есть одно общее во всех этих формах, это то, что они все образованы из систе-
мы плоскостей и углов, и притом симметрически расположенных*. Правиль-
ность, т. е. прямолинейность всех этих плоскостей и углов, превосходит всякое
искусство человека и также все приближения к ней в остальной природе: она,
безусловно, строга, это плоскости и углы чисто геометрические.
Явление столь постоянное в наружном виде минералов не могло быть
вне связи с чем-либо постоянным же и всеобщим в самом их существе, в их
содержании. И вот каким образом наш автор из необходимости этой связи
исходит к объяснению интересующего явления:
«Легко заметить, прежде всего, что плоскость есть простейшая** из
всех поверхностей, какие возможны. Но в чем состоит ее простота, и какое
значение она имеет для самого минерала?»
«Во-первых, части плоскости ничем не отличаются между собою; это
показывает, что части кристалла, которые ими ограничиваются, точно также
ничем не различаются, - что они совершенно однородны на всем протяже-
нии плоскости. Совершенно подобным образом капля воды представляет
* В «Лекциях по минералогии» академика Кокшарова упоминается, впрочем, не
только об одной кристаллической форме какого-то интересного минерала, ограничен-
ной кривыми поверхностями. «Их кривизна» - замечает он, - столь правильна, что
рождается невольно мысль о ее вычислении».
*♦ Для каждого форма правильного кристалла может показаться искуснейшею
сравнительно с формою, напр., комка глины, а эта последняя, поэтому, более простой.
Но в действительности, для размышляющего ума, всякая неправильная, случайная
форма, как, напр., комка чего-нибудь, есть неизмеримо более сложная и трудная для
понимания, нежели какая бы то ни было правильная форма; так что только этими
последними, по известному закону образованными и от него не отступающими
формами, геометрия и в силах заниматься.
121
однородную шарообразную поверхность; и хотя бы капля состояла из различ-
ных веществ (земля и все небесные тела тоже суть почти совершенные капли),
для того, чтобы она была вполне шарообразна, необходимо, чтобы ее части,
прилегающие к поверхности, были действительно вполне однородны».
«Но плоскость имеет наибольшую простоту еще в другом отношении
Обе стороны плоскости - одинаковы. У шарообразной поверхности одна
сторона выпуклая, другая вогнутая; у плоскости, и только у одной плоско-
сти, обе стороны ничем не отличаются. Отсюда выводим, что эта поверх-
ность имеет совершенно одинаковое отношение к самому кристаллу и к
тому, что вне кристалла. Ограничивая кристалл, она просто только отде-
ляет его от всего остального, тогда как всякая другая поверхность пред-
ставляет не только ограничение, но и особенное ограничение. Так, даже про-
стейшая из неплоских поверхностей именно шарообразная, уже представля-
ет особенное ограничение; потому что мы всегда вправе предложить себе
вопрос: почему она обращена внутрь тела вогнутою стороною, а снаружи
выпуклою?»
«Отделять особенным образом внешнее от внутреннего, очевидно, мож-
но только на основании какого-нибудь особенного отношения между вне.
шним и внутренним; например, если предмет имеет форму шара, то во-
первых, это указывает на одинаковые отношения со всех сторон. Круглая
форма капли действительно зависит от того, что частицы жидкости в ней
следуют только собственному притяжению и не подчиняются ни с какой сто-
роны внешнему влиянию. Во-вторых, то, что поверхность обращена внутрь
вогнутою стороною, указывает на стремление всех частиц капли снаружи
внутрь, на их взаимное притяжение по прямой линии, - чем и определяется
и исчерпывается форма капли. Если та же поверхность будет иметь обратное
положение, например, в шарообразной вогнутой чашечке цветка, то это
будет указывать на другое отношение. В самом деле, здесь мы можем спро-
сить: куда цветок обращен отверстием? Известно, что большею частью цвет-
ки обращены кверху или, - если обобщим разные положения цветков, кна.
ружи от растения, на котором сидят. Такое положение необходимо должн0
иметь значение для самой жизни цветка (оплодотворение)».
«Таким образом, мы видим, что поверхность кристаллов показывает
отсутствие всяких отношений к тому, что их окружает».
«В этом мы еще более убедимся дальнейшим рассмотрением. Если от-
ношение между внешним миром и предметом имеет большое значение для
предмета, то он необходимо представляет внутреннее разделение, именно* в
нем можно различить наружные и внутренние части. Так, у всех организмов
наружные части, как взаимодействующие с внешним миром, отличаются от
внутренних. Так и простейший организм, клеточка, представляет внутреннее
содержимое и оболочку, которая устанавливает известные отношения меж-
ду ним и веществами, окружающими клеточку».
«Ничего подобного нету кристалла. Кристаллы однородны во всей мас-
се; в них нет ничего центрального или внутреннего, что бы отличалоСь От
122
наружного. Отсюда объясняется второй закон кристаллических форм, т. е.
параллелизм соответствующих плоскостей. Положим, с какой-нибудь сторо-
ны кристалл ограничен плоскостью, имеющею известное направление. Так
как вся масса кристалла одинакова, то она в каждой точке способна при-
нять это самое ограничение; в каждой точке может образоваться плоскость,
идущая по тому же направлению. Следовательно, на другой стороне крис-
талла, где он должен кончиться и принять какую-нибудь поверхность, непре-
менно явится плоскость, имеющая то же самое направление. Таким обра-
зом, параллельность плоскостей кристалла объясняется совершенною
однородностью его массы».
«Я сказал -где он должен кончиться; но, собственно говоря, кристалл
не имеет никакой причины, почему бы он кончился здесь, а не в другом
месте. И в самом деле, кристаллы оканчиваются всегда случайно, т. е. где-
нибудь. От этого происходит, что величина кристалла и его размеры по раз-
ным направлениям никогда не бывают определенные. Более или менее опре-
деленная величина свойственна животным и растениям; минералы же спо-
собны давать самые разнообразные кристаллы, от микроскопических до са-
женных».
«Точно также, расстояние между каждыми двумя параллельными плос-
костями кристалла может быть какое угодно. От того-то кристаллы почти
никогда не имеют совершенно правильной формы. Мы говорили, что соль
кристаллизуется в кубах; представьте же себе, что расстояние между кажды-
ми двумя противоположными сторонами этих кристаллов может быть какое
угодно; тогда вместо кубов могут образоваться четырехгранные прямоу-
гольные столбики или же плоские таблицы».
«Мы сказали, что масса кристалла в каждой точке способна принять то
ограничение, которое она имеет снаружи. Это подтверждается удивитель-
ным явлением листо прохождения. Многие кристаллы очень легко делятся
по плоскостям, параллельным их граням, -листятся по этим направлениям.
Обыкновенно об этом говорят как об строении кристаллов, именно утверж-
дают, что кристаллы состоят из слоев. Но чем совершеннее кристалл и его
листопрохождение, тем он ближе к тому, что может разделиться в каждой
точке, какую бы мы ни взяли; такова, например, слюда. Следовательно, вся-
кие заметные слои суть только несовершенство кристалла, происходят от
неправильного, неравномерного его образования, от перерывов при крис-
таллизации. Слоев - бесчисленное число, точно так, как бесчисленное число
частиц в каждом теле. Это значит, что и слои, и частицы существуют только
в возможности, а не в действительности».
«Таким образом, мы видим, что форма кристалла выражает собою его
внутреннюю сущность»*.
Вотто, что можно назвать истинным мастерством философского объяс-
нения. Здесь строго конкретный, наблюдаемый факт становится не только
* «Мир как целое», стр. 149, 153. Р. В., 1892. VIII.
123
ясен для нашего ума, но и внутренне необходим для нашего понятия путем
связания его с самой идеей минерального вещества, как абсолютно инертно-
го, ко всему безразличного, не имеющего никаких внешних отношений и
никаких же внутренних, кроме химической своей структуры. Без сомнения,
только нахождение этого объяснения в книге, философской по содержанию,
а не специально посвященной минералогии, мешало до сих пор ему перей-
ти, как общему введению к учению о кристаллических формах, во все курсы
по кристаллографии. Каждый специалист, став на точку зрения, здесь уста-
новленную, мог бы произвести дальнейшие прекрасные исследования, напр.,
о том, почему всякий данный минерал, определенной химической сложнос-
ти, кристаллизуется в определенное же число форм? Нет ли связи между
этими формами как производным от формы каждого вещества порознь, вхо-
дящего в минерал? Есть ли возможность физического перехода всех форм
друг в друга, раз они присущи одному и тому же минералу? и пр.
IV
Форма вообще есть ограничение каждой вещи, отделение ее от окружающе-
го и, следовательно, обособление от него; поэтому именно из отношения
вещи к окружающему мы должны стремиться уразуметь смысл ее формы.
В противоположность безразличию кристаллов ко всем направлениям в
растениях - и это без какого-либо исключения - всегда есть две совершенно
неодинаковые стороны: верхняя, образованная одним способом, и ниэюняя
имеющая совсем другой вид. Это зависит от двоякого отношения их: к атлюс-
фере и к земле. Во всех остальных направлениях окружающие растение усло-
вия одинаковы, и одинакова отовсюду его форма: в отличие от животных, оно
не имеет передней стороны и задней, левой и правой. Но даже лишаи, простей-
шие из растительных организмов, являющиеся в виде круглых зеленых пятен на
камнях и коре деревьев, имеют различными эти стороны: верхнюю, обращен-
ную к атмосфере и солнцу, и нижнюю, обращенную к питающей их основе.
Далее, круглый вид лишайного ли пятна или древесного ствола зависит
от этой самой одинаковости в отношении растения ко всем боковым услови-
ям: нет причины, почему бы в одну сторону оно нарастало более, нежели в
другую, и, не нарастая никуда по преимуществу, его слои естественно распо-
лагаются около сердцевины, как ее окружности. Но, сверх круглоты своей
всякий ствол имеет еще и ту особенность, чем он вытянут, т. е. образует
цилиндр. Ствол есть седалище ветвей и листьев, и только при этой вытянутой,
цилиндрической его форме, последние могут разместиться на нем свобод-
но и свободно же могут обвеваться воздухом и освещаться солнцем: а отно-
шением к ним растения определена форма его верхней половины.
Та же причина, которая вытягивает ствол, вытягивает и разветвляет сидя-
щие на нем сучья: только при этом расположении, не кучась в одном каком-
нибудь месте, они могут наилучшим образом расставить по отношению к
124
свету и атмосфере прикрепленные к ним листья, в потребности которых, как
органов взаимодействия с воздухом и солнечными лучами, и лежит основа-
ние всего устройства дерева. Но и этого еще недостаточно: каждый лист си-
дит на длинном и тонком стебельке, и через это удален как от сука древесно-
го, так и от других листьев: он купается в необходимом ему воздухе и свете,
качаясь и дрожа при малейшем движении ветра.
Все тем же отношением определяется и форма самого листа: он плосок и
тонок, он часто прихотливо разрезан по краям, наконец, он не может свернуть-
ся и закрыть одними своими частями другую от проходящих по нему упругих
жилок, -т. е. имеет в себе все, и притом всюду и всяким образом выраженные,
условия для наибольшего соприкосновения с воздухом и светом. К солнцу, к
теплу, к эфирной обвевающей его стихии растение как бы вывернуто всем
существом своим, в противоположность свернутому внутрь животному; оно
все наружу, обнажено - в стебле, в листьях, в цветке своем, сосредоточивая на
поверхности своей всю жизнь и смысл свой, облекшись, как покровом, своей
особенной, дремлющей, взаимодействующей с солнцем, нервной тканью.
Собственно, с землею взаимодействия растения те же; но имея плоскую
и широкую поверхность, как листья, корни не могли бы внедряться в нее и
расходиться; поэтому ветвясь, как и наверху, растение внизу имеет тонкие и
длинные нити цилиндрической формы, которыми легко пробирается в земле
к питающим его веществам.
Таким образом, в растениях общая и постоянная форма также строго
связана с их отношением к наружным условиям, как у минералов она связана
с их безотносительностью к этим условиям. На этом общем,разнообразя его,
но не нарушая, развивается все обилие родовых и видовых растительных форм.
Общее, чем отличаются животные от растений, есть ощущение, т. е. спо-
собность различать внешние впечатления, воспринимая одни из них как
приятные, и другие - как неприятные. Уже из различия этого с необходимо-
стью вытекает, что все животные, без какого-либо исключения, одарены про-
изволом как внутренним стремлением избегать неприятных впечатлений и
искать приятных: удаление и приближение есть только деятельное выраже-
ние двух качественных различений, о которых мы сказали, что они прежде
всего входят в понятие животного организма.
Внешним образом это внутреннее стремление выражается в передвиже-
нии - или всего своего тела, как у большинства животных, или какой-нибудь
его части, как, напр., у коралловых полипов и некоторых других. Самопроиз-
вольное движение обычно и входит в первичное определение животных,
хотя, в действительности, оно составляет уже третичное качество их (ощуще-
ние воля-движение). К этой потребности, через которую внутренние, субъек-
тивные отличия животного уже выражаются извне, приспособлен их вне-
шний вид: все тело свернуто в более или менее овальную форму и сужено в
направлении, по которому происходит движение, вовсе не представляя этой
суженности в той части, которая обращена назад. Отсюда получается разли-
чие между переднею стороною и заднею в устройстве, и к этому различию у
125
высших животных прибавляется еще и другое: передвигаясь, животное ищет
потребное ему, и все, при помощи чего оно ищет, расположено на передней
именно части - зрение, слух, обоняние, все способности различения и ощу-
щения. Далее, верхняя и нижняя часть их тела так же различны: первая, обра-
щенная к источнику света, всегда бывает ярче окрашена, но затем она бывает
только закрыта, защищена; напротив, нижняя, обращенная к земле, по кото-
рой происходит передвижение, имеет на себе органы передвижения. Разно-
образие этих органов приспособлено к особенностям среды, в которой про-
исходит движение: у наземных животных это ноги, у рыб - плавательные
перья, им соответствующие, у птиц - крылья, соответствующие двум пере-
дним конечностям наземных животных, при сохранении у двух задних конеч-
ностей формы, необходимой для передвижения их и по земле.
Что касается до боковых сторон, т. е. правой и левой, то здесь все окру-
жающие условия одинаковы для животного, и поэтому одинаковы эти сторо-
ны у них. Но, сверх этого, для удобства движения, для самой возможности
его, эти стороны должны быть симметричны'. иначе животное перевешива-
лось бы на один бок и при быстром движении падало бы. Мы и видим, дей-
ствительно, что левая и правая стороны животного расположены в строгом
соответствии друг другу около оси его движения. Исключение, и лишь незна-
чительное, составляет очень медленно движущиеся животные, как, напр..
улитка с раковиной, завернутой в одну сторону.
Число конечностей соответствует потребности наибольшей быстроты н
легкости передвижения: три точки опоры необходимы для устойчивости вся-
кого предмета, но если он удлинен (как корпус животного) - их должно быть
четыре, расположенных по две с боковой передней и задней стороны. Так
именно и расположены ноги у всех наземных животных. Увеличение числа
их до 6 (насекомые), 8 (пауки) и 10 (раки), встречающееся у животных неболь-
ших, не представляет какой-либо выгоды для движения, и животным массив-
ным положительно мешало бы при ходьбе и беганье. Напротив, уменьшение
органов движения, как мы встречаем у одного только человека, имеет в се5е
замечательные особенности и преимущества. В силу этого уменьшения его
тело получило подвижность и свободу, незанятость всей своей главной час-
ти при каждом положении, - что открыло возможность самой разнообраз-
ной для него деятельности. В устройстве тела его удивительным образом
соединено устойчивое и неустойчивое равновесие: собственно, как пред-
мет, имеющий центр тяжести выше точки опоры, и этих опор только две — он
не устойчив в равновесии; и лишь оттого, что в каждой из точек опор, через
особое устройство ступни, заключены собственно три, расположенные близко
друг к другу, опоры, он не падает даже и на одной ноге: этими тремя точками
служат пятка и правый и левый передние углы ступни. От этого, стоя на обеих
ногах, но опираясь лишь пятками их, человек неудержимо падает вперед илн
назад; стоя на полной ступне одной ноги, он удерживается в равновесии; на
обеих ногах он уже совершенно тверд, хотя и способен упасть, к чему, Напр..
совершенно неспособна кошка, собака; но зато, при этой слабой устойчиво-
126
сти, он может придать своим движениям легкость, красоту и разнообразие,
каких не может придать ни одно животное (пляска, танцы).
Далее, переходя от внешнего строения тела животных к устройству их
внутренних органов, мы видим, как и оно вытекло необходимо из главной их
особенности: ощущения и связанного с ним передвижения. В силу неболь-
шого объема их тела, как бы свернутого в видах передвижения, взаимодей-
ствие с воздухом через его поверхность (как у растений) было бы недоста-
точно. И вот, для удовлетворения ее образованы у них легкие, эти обращен-
ные внутрь, книзу листвой деревца, висящие на общем стволе дыхательного
горла. В них, как и в жабрах рыб, разрешена задача: на небольшом, возмож-
но, пространстве разместить наибольшую, по возможности, поверхность
соприкосновения с воздухом. Ритмические движения грудной клетки, кото-
рыми вбирается и выгоняется из легких воздух, для животного возможны
уже, как для одаренного способностью самодвижения. Таким образом, из-
быток в определении сущности животного воспособляет некоторый недо-
статок в определении у него одной функции; так как при устройстве легких,
но без движения, возможно лишь соприкосновение с воздухом, всегда одним
и тем же, но не обвевание им, как у растений, которое именно и необходимо
для жизни организма.
Наконец, при передвижении не может быть у животного того же отноше-
ния к питающим веществам, какое есть у растения: оно не может быть непре-
рывным в силу необходимости иногда удаления от места, где эти вещества
находятся; и между тем для поддержания жизни в организме, питание не
может останавливаться. Соединение этих двух, взаимно исключающих, усло-
вий мы и находим в устройстве желудка: в нем животное носит с собою
пищу, однажды набранную в большем количестве, чем нужно было в мо-
мент набирания, - и там, внутри его, и уже независимо от окружающих усло-
вий, происходит непрерывное ее усвоение организмом, как у растения оно
непрерывно при помощи корней, внедренных в землю. Внешние органы пи-
тания, устройство рта и зубов - все это приспособлено к необходимости
быстрого и обильного ее вбирания в короткий срок.
Для того чтобы обновление организма через принятую пищу соверша-
лось на всем его протяжении и непрерывно, необходимо, чтобы во все его
части непрерывно разносились ее частицы: отсюда вытекает устройство кро-
веносной системы, этой сети всюду проникающих каналов, по которым го-
нится кровь биениями сердца и разносит с собою кислород и питающие
вещества, сосредоточенные - один в легких, другие - в пищевой системе.
V
Повсюду мы видим, таким образом, что организация живых существ строго
отвечает условиям их внешнего существования; и, зная эти условия, мы
почти построем своим умом их организацию, предвидим, какою она не
может быть и какою должна стать. Наблюдаемое в природе так точно отве-
127
чает умственно требуемому, что не может быть сомнения в том, что соот-
ветствовало же некоторым умственным требованиям и тогда, когда возника-
ло. Возрастание взаимодействий с внешним миром есть, по-видимому, ос-
новная задача, развиваемая в органическом мире, взаимодействия, т. е. не-
которой деятельности, как противоположного неподвижному бытию. Ве-
щество, косное и темное, ко всему безотносительное - вот один полюс мира,
вот начало всякой космогонии, какую мы способны себе представить. На
этом полюсе еще не может быть взаимного притяжения частей, потому что
притягиваться - это уже значит чувствовать друг друга, быть не безразлич-
ным к окружающему; еще менее может быть здесь соединение веществ в
определенных пропорциях для образования тел, потому что оно предпола-
гает уже известные градации и различия во взаимном ощущении*. Как все-
мирное тяготение, так и частичное сродство - уже моменты в процессе
образования мира, но не момент, этому процессу предшествующий, не его
исходная точка. В противоположность этому всебезразличному бытию, на
другом полюсе мира нам предстоит представить себе чистую деятельность,
как отрицание косности и безразличия; и как там бытие не сопровождалось
никакой деятельностью, так здесь, мы можем ожидать, деятельность не со-
провождается никаким бытием, как своей основой. Некоторое подобие та-
кой деятельности мы наблюдаем в уме человека, материальная основа у
которого, конечно, есть, но она уже слабо уловима в своей связи с ним;
напротив, его деятельность, при этой незначительной основе, почти безгра-
нична по своей разнообразности, объему, напряжению, - в особенности,
если мы сравним ее с «деятельностью» массивных тел природы, которые
только взаимно притягиваются.
Между этими полюсами движется мировой процесс, в котором деятель-
ность мало-помалу превозмогает косность. Каждый вид существ представля-
ет собою какую-нибудь степень этого превозмогания - меньшую, если он
стоит ближе к его началу, большую - если он ближе к его завершению. Как
синтез противоположных, взаимноборющихся начал, каждый вид существ
непостоянен в своем бытии; но, разрушаясь, он переходит неизменно в выс-
ший вид, потому что именно превозмогание деятельности над бытием со-
ставляет сущность мирового процесса. Только в разрушении индивидуаль-
ных существ, в смерти, наблюдаем обратное падение к косности, возвраще-
ние вещества, связанного деятельностью, к свободному и более элементар-
ному прежнему состоянию.
* Как само собою разумеется, здесь и речи не может быть об ощущении, о чув-
стве, в том смысле, как это явление существует для животного. Но несомненно, что в
момент соприкосновения двух взаимно соединяющихся тел, каждое из них испытыва-
ет в себе нечто, чего оно вовсе не испытывает при близости к телу, к которому
индифферентно. Только эту неиндифферентность, чисто внутреннюю, до самого со-
единения, и соединение производящую, мы и имеем здесь в виду.
128
VI
Деятельность и взаимное отношение с окружающим мирозданием в челове-
ке доведены уже до возможного своего предела, не переступаемого для жи-
вотной организации. Интересно, как это подтверждается, между прочим, ус-
тройством его органов чувств. Эти органы суть орудия общения человека с
миром, и если бы оно могло еще расшириться, это могло бы произойти не
иначе, как через расширение именно этих органов, т. е. через прибавление к
тем пяти, какими обладает человек, еще шестого или седьмого. В разное вре-
мя многие мыслители и действительно предполагали возможность такого рас-
ширения способности ощущения, - если не для человека, то для некоторых
подобий его, населяющих другие миры. Предположения о жителях планет,
организованных то выше, то ниже человека, и в первом случае одаренных
более обильными органами чувств, а в силу этого и понимающих мир совер-
шеннее, чем мы его понимаем, - вытекают именно из таких соображений.
Имена Кеплера, Гюйгенса, Вольтера, Лапласа, Огюста Конта - вписаны в ис-
торию подобных попыток перенестись воображением на другие миры, по-
смотреть хоть в мечте своей на то, что там есть, и сообразно всегдашней
натуре человека, представить нечто неизмеримо лучшее, чем что мы знаем
или чем владеем на нашей земле, которую мы так мало - гораздо менее, чем
должны бы - любим.
Возможность разрешить этот вопрос, без какого-либо действительного
общения с другими мирами, для всякого показалась бы мало правдоподоб-
ной. И между тем рядом остроумных соображений г. Страхов показывает,
как в пяти чувствах, которыми одарен человек, уже положен предел вообще
всякого общения с миром.
Чувства как орудия общения субъекта с объектом (человека или кого дру-
гого с внешней природой) могут быть трех родов: или только субъективные,
или субъективно-объективные, или только объективные. Ясно, что кроме
этих трех видов отношения между субъектом и объектом, никакого четвертого
еще не может быть; и все они уже осуществлены в чувствах человека.
И в самом деле, вкус и обоняние суть чувства совершенно субъективные,
так как в них выражаются лишь наши собственные внутренние состояния, а
не какие-либо действительные качества внешних вещей. Горькое или аромат-
ное - не горько и не ароматно, пока вне нас; там - это просто вещества,
тяжелые или легкие, несоединимые или соединимые, но в этом соединении
не горькие и не ароматные друг для друга. Сверх этих двух чувств, у человека
есть еще множество внутренних ощущений, напр. возбужденности, усталос-
ти, какой-нибудь боли; но в отношении к внешнему миру, для связи с ним,
есть только эти два. Интересно, что они соответствуют двум состояниям тел,
в каком последние единственно могут действовать друг на друга, как извест-
ные вещества, составы, и в каком, конечно, могут единственно действовать
на человека: орган вкуса соответствует жидкому состоянию тел; орган обо-
няния соответствует газообразному состоянию тел. Есть еще третье, твер-
5 Зак. 3969 129
дое, которое или переходит в жидкое под влиянием слюны для одних тел, и
тогда они действуют на вкус, или не переходит в это состояние для других тел,
и тогда они вовсе не действуют на человека и не могут действовать. И в са-
мом деле, только в растворе или как газы тела действуют друг на друга соста-
вом, corpora non agunt nisi soluta - это аксиома в химии. Два субъективных
чувства человека и имеют отношение к субъективному же, исключительно
внутреннему содержанию тел - или положительное, указывая их пользу для
него, или отрицательное, предупреждая о их вреде. Нет третьего состояния, в
котором тела также действовали бы своим составом и, следовательно, не
может быть третьего органа чувств, аналогичного обонянию и вкусу.
Посмотрим, однако, не может ли быть дальнейшего развития человечес-
ких ощущений по которой-нибудь из двух остальных категорий. Субъектив-
но-объективное чувство у человека одно: это - осязание. Оно в равной мере
есть чисто субъективное ощущение, есть состояние нашего тела; но и вме-
сте - объективное ощущение внешнего предмета, который к нашему телу
прикасается. Через него для нас определяется граница своего тела, т. е. то,
что равно обращено к субъекту и к объекту. И как не может быть двух подоб-
ных границ, так не может быть никакого второго субъективно-объективного
органа чувств.
Наконец, объективных чувств у человека два: зрение и слух. Видимое и
слышимое является нам так, как оно существует вне нас, без всякого ощуще.
ния их вхождения и без всякого же отнесения нами их внутрь себя. Треугольник,
который я вижу, остается для меня там, где я его вижу, и его форма или размеры
вовсе не состояния только моего глаза, вызываемые неизвестными в своей сущ-
ности внешними возбуждениями. То же можно сказать о звуке или всякой пос-
ледовательности их: происходя вне нас, они без всякой перемены в себе на пути
к воспринимающему их органу и без всякого же изменения нас самих в момент
восприятия, являются просто как бы происходящими внутри нас.
Всматриваясь во взаимное отношение этих двух чувств, крайне несход-
ных, мы без труда заметим, что в одном из них воспринимаются нами про-
странственные отношения, в другом - временные; пространство же и время
суть как бы две координаты, по которым устроен и существует мир протя-
женный и вместе -текущий. И как нет еще никакой, им соответствующей и
равнозначащей координаты, так и для восприятия этого мира, для его усвое-
ния нет и не может быть еще никакого третьего чувства, аналогичного зре-
нию и слуху.
VII
Мы отметили, что для непосредственного усвоения внутреннего содержания
вещей служит нам внутреннее же, чисто субъективное чувство; для усвоения
его внешности, как мы видим, служат, напротив, чувства чисто объективные.
По аналогии мы должны допустить, что внутреннейшее, что происходит в
нас, отвечает внутреннейшему же, что лежит в мире. Но здесь мы переходим
130
к соображениям, которые по самой своей сущности не могут иметь никакого
подтверждения в опыте; они переступают также за грань и, вообще, рацио-
нального понимания вещей - в область совершенно иного их постижения.
Мы не будем их продолжать, но ограничимся приведением глубоких и пре-
красных слов, которые высказаны нашим автором о вечных и инстинктивных
усилиях человека переступить эти грани.
«Если мы чувствуем недовольство рациональным созерцанием, если оно
в нас что-то затрагивает и чему-то противоречит, то нет никакого сомнения,
что источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь дру-
гих требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то вражду-
ет против рационализма, и эта вражда упорно ведется всеми, спиритуалис-
тами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натура-
листами»*.
«Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли».
«Так как мы назвали мир целым, то, применяясь к этому выражению,
можем сказать, что человек постоянно ищет выходя из этого целого, стре-
мится разорвать связи, соединяющие его с этим миром, порвать свою пу-
повину».
«Едва ли когда это было так ясно, как в наше печальное время, - время,
очень интересное, но страшно тяжелое. Люди мечутся, ища выхода, ищут стра-
дания и почитают за стыд быть довольными этою жизнью, как она есть. Самые
ограниченные - спиритисты уже переделали мир по-своему и наслаждаются
беседою с жителями планет. Другие, политические фанатики, мечтают о том,
чтобы переделать человека, изменить ход всеобщей истории. Чтобы найти
себе какой-нибудь выход, они разжигают в себе чувство недовольства совре-
менным порядком мира, жизнью, нравами и свойствами людей, и тогда начи-
нают верить в какое-то новое человечество, которое будет свободно от самых
коренных свойств человеческой природы и которое, в сущности, такая же меч-
та в будущем, как жители планет, беседующие со спиритистами, - в настоя-
щем. Так стремятся люди насытить желания своего сердца; одни вздыхают о
прошедшем и погружаются в него, облекая его фантастическими красками;
другие мечтают о будущем; третьи населяют планеты и звезды. Никто только
не думает, что задача должна быть решена теперь и здесь, и что всякое перене-
сение решения в другое время и в другое место есть только обман, которым
мы сами себя тешим. Если же кто это и чувствует, то не умеет ни формулиро-
вать вопроса, ни приняться за его решение; современное просвещение не дает
для этого средств. Так что в настоящее время едва ли не самый мудрый тот, кто,
питая некоторое доверие к Неисследимому, отказывается от попыток схватить
умом роковую задачу и находить удовлетворение в ее практическом решении,
т. е. в возможном исполнении долги»**.
* В другом месте он замечает, что материалист, которому сказали бы, что его
атомы совершенно понятны, тотчас и горячо и восстал бы против этого.
*♦ Предисловие, стр. VIII -X.
131
У г. Страхова есть манера, одновременно и привлекающая к нем)
читателя и раздражающая его, - не договаривать своих мыслей до конца.
Так и здесь, указав на факт, глубину и верность которого мы все живо
чувствуем, он оставляет судить о нем читателю, полагаясь лишь на свои
силы. Здесь сказывается не одно опасение впасть в ошибку, сказать что-
либо определенное о предмете, столь трудно определимом. Сверх этого,
тут есть нежелание обнаружить самые заветные, быть может, из своих
убеждений перед толпой, каковою, в конце концов, не могут не представ-
ляться каждому автору его читатели. Для каждого пишущего есть основа-
ние предполагать, что если среди этих читателей не один станет для него
близким другом, то гораздо больше найдется таких, которые не поймут и
профанируют именно самые дорогие его убеждения. Здесь сказывается
темная сторона вообще печати: через нее общение людей между собою
чрезвычайно расширилось, но оно не стало лучше, и в особенности бли-
же. И это потому особенно дурно, что именно в этой близости высказы-
ваются если не самые «великолепные», то самые дорогие наши черты.
Есть великий недостаток во всяком виде общественности, где люди явля-
ются более «прибранными», нежели как бывают обыкновенно, но и вме-
сте - неизмеримо более чуждыми друг другу, чем как могли бы стать, чем
есть на самом деле. Мы здесь входим опять в сферу «иррационального»:
быть непременно только разумным, быть всегда правильным, размерен-
но добродетельным - вовсе не есть для человека наилучшее. Правду из-
вестно изречение, что «гений для лакея своего, который все знает — ухе
не есть гений»; но это потому, без сомнения, что лакей есть только лакей.
Для близкого друга своего, для круга родной семьи гений, конечно, есть
иногда смешной чудак; иногда он даже - порочный чудак; но, пробуждая
любовь или жалость в близких людях, он все-таки для них лучше, чем толь-
ко гений - в его спокойствии, в его величии, в его удалении от людей.
Здесь мы невольно припоминаем гениальный вымысел Достоевского
«Золотой век в кармане», к которому и отсылаем читателя для пояснения
своей мысли.
У г. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читате-
лям и, желая влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше образовать их
ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что они могли бы узнать
от него. То, что вызывалось в давние годы необходимостью, потом стало уже
привычкой. Но для читателя сочинений его, для понимающего их смысл и
значительность, всегда останется печальным, что между ним и множеством
людей никогда не будем совершенно отброшена разделяющая завеса, что
некоторая пленка благоразумия всегда будет удерживать и его, и других на
почтительном расстоянии от того, к кому они и могли бы, и хотели быть
гораздо ближе.
132
ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни
I. Исследование идеи счастья как идеи
верховного начала человеческой жизни
I. Двоякого рода может быть жизнь человека: бессознательная и сознатель-
ная. Под первою я разумею жизнь, которая управляется причинами; под вто-
рою - жизнь, которая управляется целью.
Жизнь, управляемую причинами, справедливо назвать бессознательной;
это потому, что хотя сознание здесь и участвует в деятельности человека, но
лишь как пособие: не оно определяет, куда эта деятельность может быть на-
правлена, и так же - какова она должна быть по своим качествам. Причинам,
внешним для человека и независимым от него, принадлежит определение
всего этого. В границах, уже установленных этими причинами, сознание
выполняет свою служебную роль: указывает способы той или иной деятель-
ности, ее легчайшие пути, возможное и невозможное для выполнения из
того, к чему нудят человека причины.
Жизнь, управляемую целью, справедливо назвать сознательной, потому
что сознание является здесь началом господствующим, определяющим. Ему
принадлежит выбор, к чему должна направиться сложная цель человеческих
поступков; и так же - устроение их всех по плану, наиболее отвечающему
достигаемому. Обстоятельства, внешние для человека, получают здесь зна-
чение второстепенное и частью служебное: они или противодействуют при-
ближению человека к желаемому, и тогда устраняются им, обходятся, как-
нибудь ослабляются; наконец, даже подчиняя его себе, подчиняют времен-
но, - он влечется ими, не теряя сознания, что должен бы влечься в противо-
положную сторону, и не теряя надежды ранее или позже освободиться от их
власти. Напротив, если они способствуют приближению человека к желае-
мому, они усиливаются им, сохраняются, располагаются лучше, нежели как
лежали естественно. И в том, и в другом случае сознание является отделен-
ным от внешних причин; оно силится согласовать их с собою, но не пассивно
согласуется с ними.
II. Из самого понятия о сознательной жизни прямо вытекает, что вопрос
о цели человеческого существования есть первый, разрешение которого не-
обходимо для сознательности этого существования.
Самое предложение этого вопроса может быть сделано в двух фор-
мах: можно задаться мыслью, что должно быть для человека целью его
деятельности? Ответ, каков бы он ни был, на вопрос, так поставленный,
будет указывать на искусственную цель человеческого существования,
потому что в меру своего искусства человек может придумать наилуч-
шее, к чему он мог бы направить свою деятельность, и как таковое - счесть
его для себя должным. Таким образом, по характеру своему, процесс
мысли, ищущей разрешения этого вопроса, будет процессом изобрете-
ния; какими бы ни было путями, на что бы ни опираясь, она будет постро-
133
ять идею цели, как нечто новое для человека, как прежде не бывшее и им
создаваемое.
Или, напротив, можно задаться вопросом: что составляет цель челове-
ческого существования? Не входя в рассмотрение, возможен ли ответ на так
поставленный вопрос, следует заметить, что, если бы он был дан, он указы-
вал бы цель естественную, т. е. такую, которая не построялась бы мыслью,
но, будучи дана в самой природе человека, только бы находилась ею. Про-
цесс этого нахождения был бы существенно противоположен первому: он
открывал бы для сознания ранее скрытое от него, но существовавшее в са-
мом себе постоянно.
III. В течение долгих веков исторической жизни человек не мог не заду-
мываться над этим вопросом, так или иначе выраженным. И действительно,
бесчисленное множество существует ответов на него, более или менее об-
щих, более или менее различных, смотря по эпохам, когда они давались, по
племени, в среде которого находились. Но из этих ответов два разряда мы
тотчас же должны оставить в стороне: ответы частичные и ответы, принуди-
тельно наложенные на человеческое сознание.
Первые (наприм., о цели государства или о цели искусства) не обнимают
деятельности человека в ее целом и потому, вводя сознательность в одну
часть исторического творчества, не вводят ее в соотношение разных частей.
Отсюда руководящее значение подобных целей ограничивается внутренними
пределами той сферы, где они действуют, - и сознательность, ими пор0жда_
емая, во всем подобна той, которую проявляет человек, когда он вовсе не
знает целей своего существования. Потому что - в этом последнем случае,
управляемый причинами, он, однако, понимает их, вводит свет своего созна-
ния в соотношение с собою, пытается избегать одних и подпасть под дей-
ствие других, т. е. остается свободен и избирает -в частях, но не в целоЛ1
Вторые цели, принудительно наложенные на человека (наприм., религи-
озным учением), потому не придают жизни сознательности, что не было
участия сознания в их выборе: они были данное, открывшееся человеку, чему
он должен покорно следовать. Но он никогда не имел возможности заглянуть
по ту сторону их, откуда они давались: к нему всегда обращена была только
одна их сторона, человеческая, но скрыта была сторона божественная. Там
эти цели были, без сомнения, свободно избраны и, следовательно, сознатель-
ны. Но для человеческой природы они и принудительны, и темны.
Однако между всеми идеями, в различные эпохи руководившими чело-
века, есть одна, которая не подлежит подобному выделению как по общно.
сти своей, так и по свободе ее выбора: мы разумеем идею, что человеческое
существование не заключает в себе какого-либо иного смысла, кроме как
устроение его собственных судеб на земле. Это не есть догма, наложенная на
сознание извне; скорее это есть следствие свободного отвлечения, котор0е
произвела мысль человека, наблюдая мириады единичных целей его и под-
мечая в них общее, ради чего все они избирались как цели: «счастье дея-
тельного существа как цель его деятельности» - это есть одновременно выс-
134
шая абстракция практической жизни, и вместе - отделение этой жизни от
каких-либо супранатуральных связей, какие ранее человек имел (или думал,
что имел) с миром, в котором он жил.
IV. В идее этой есть характер как бы некоторой остаточности: она остает-
ся истинною одна, когда много других каких-то идей, прежде равных ей по
значению, оказались ложными. Глубокое сомнение, закравшееся в жизнь
человека, и также утомление его духовных сил, было историческою почвою,
из которой выросла эта идея, всегда ранее слитая с разными другими идеями,
никогда не господствовавшая в жизни. И едва ли мы грубо ошибемся, если
скажем, что в том истощении всех сил, которое пережила Европа в реформа-
ционной эпохе, скрывается начало могущественного роста этой идеи. По
крайней мере, именно с этого времени в деятельности великих политиков
Франции, которая ранее всех задушила в себе новое движение, начинается
бессознательное осуществление ее в жизни народов. По-видимому, человек
усомнился в существовании для него каких-либо высших целей, после того
как он несколько раз и так неудачно пытался жить для этих других целей:
теократия римской церкви, художественное наслаждение времен «Воз-
рождения», свобода личного общения с Божеством в протестанстве — все
одинаково было и прошло, оставив человека наедине с его земными нужда-
ми и страданиями. Они одни оставались вечно, когда все другое проходило; и
им овладела естественная мысль, что именно они должны составлять пред-
мет его вечного внимания и усилий.
В сфере права, нравственности, искусства и науки мы наблюдаем с этого
времени ослабление их внутренних и самостоятельных идей*, которыми они
всегда жили ранее, силою которых развивались свободно. Как будто не иначе,
как через отношение к человеку и его счастью, все продолжало существо-
вать и подвигаться вперед в истории. Справедливость, долг, красота и истина,
которые так долго и так преданно любил человек ради их самих, утратили
притягательную силу для его сердца, и во всем этом он стал искать умом
своим выгодной для себя стороны и, лишь находя ее, на ней пытался укре-
пить их существование. В этих усилиях удержать исчезающее сказалось несо-
вершенное иссякновение в человеке прежних идей; но он уже так бессилен
* Поворотными точками в этом отношении следует признать появление двух
(между множеством других) трудов, классических в истории умственного развития
новой Европы: Бэкона - «Instauratio magna» <«Великое восстановление наук»>, и
Бентама - «Введение в основание нравственности и законодательства». Первый, ука-
зав на могущество и благосостояние человека, как на цель, к подножию которой
приведется со временем познание природы, открыл этим указанием начало распрос-
транения утилитарного принципа вообще на всю сферу теоретической деятельности
человека - всегда индивидуальной и субъективной; второй, утвердив резко этот же
принцип в важнейшей части публичной деятельности народов, начал подчинение ему
всей сферы практических и коллективных дел. Множество других трудов, о которых
мы упомянули, кажется, все менее важны, нежели эти два; в них утилитарный принцип
не является столь оголенным от всяких других начал, он не столь глубоко и искренно
исповедуется, нс по отношению к таким обширным сферам деятельности выражен.
135
бороться с овладевающею им идеей своего счастья, что, даже продолжая
любить безотчетно что-либо, хочет любить не вопреки ей. Он как бы боится
ее, чувствует ничтожество своего сознания перед ней, - и под ее покров, в
складки ее необозримой одежды пытается спрятать многое дорогое, чем он
жил ранее и без чего, он чувствует, его жизнь будет так пуста со временем.
Но из слабеющих рук его более и более вываливаются эти дорогие остатки
прежней жизни, и чем далее идет время, тем яснее становится, что одна эта
идея останется с ним в истории, и ей служить, ее осуществлять - это все, что
ему предстоит в дали веков.
Одновременно с этим ослаблением особенных и самостоятельных идей,
которые руководили человеком в отдельных сферах его творчества, — мы
наблюдаем в истории возрастание всего, непосредственно связанного с иде-
ей его благоустроенна на земле. Собственно, в безраздельности внимания,
устремленного на это благоустроение, уже заключались скрыто все успехи
механической и внешней деятельности человека: чудовищный рост всякого
рода техники, всепроникающая зоркость администрации, связь всех люден
путами взаимно переплетенных выгод. И таким образом, во всем, что разру-
шила, и во всем, что создала новая история, она есть только развитие одного
семени: идеи, что иных целей, кроме собственного устроения на земле, че-
ловек не имеет.
V. Эта идея одинаково выражается в обеих формах, которые мы ранее
указали, как возможные и различные ответы на один вопрос о цели челове-
ческого существования: утверждается, что человек и психически не Может
иначе действовать, как повинуясь влечению к своему счастью; и требуется
вместе, чтобы он следовал только ему одному, т. е. как бы молча признается,
что он иногда борется с этим влечением или вообще следует чему-то дру-
гому. Как это ясно само собою, между этим утверждением и требованием
есть противоречие: незачем требовать того, что есть; и если все-таки требу-
ется, значит не всегда есть требуемое.
Истинный смысл этого противоречия раскрывается лишь в историчес-
ком возникновении идеи счастья, о котором мы говорили: собственно, чело-
век всегда следует влечению к своему счастью, но это остается незаметным
для него, когда он руководится какой-либо иною идеею, закрывающею от
него его субъективные ощущения,-религиозною, политическою, правовою
или какой другой. В требовании же, чтобы человек руководился только сво-
им счастьем, заключено именно отрицание постоянного и необходимого
значения для него этих идей, которые лишь в меру своего соотношения с его
счастьем должны быть предметом его стремлений или антипатий. Таким
образом, здесь, в этой незамечаемой двойственности утилитарной идеи, ска-
зывается ее усилие выделиться из связи с прежними историческими идеями,
которые все должны стать относительными и только она одна абсолютной.
Ради истины или веры человек может и всегда идти на костер, - если к этой
истине и вере он в самом деле так привязан, что для него легче не Жить,
нежели жить без них. Но чтобы он должен был идти за них на костер, потому
136
что его отречение от веры оскорбило бы Бога, или отречение от истины было
бы ложью перед самим собой, - вот что нелепо, что есть фантом, которому
нет места в действительности.
VI. Итак, в идее счастья как верховного руководительного начала челове-
ческой жизни содержится достаточно полный ответ на вопрос, разрешение
которого необходимо для сознательности нашей деятельности; и по отноше-
нию к нему дальнейшее исследование может быть не испытанием его фор-
мальной удовлетворительности, но лишь внутренней истинности.
Исследовать какую-нибудь идею можно не иначе, как предварительно
раскрыв ее внутреннее содержание. Только тогда, при вполне ясном ее со-
ставе, можно убедиться и в правильном расположении составляющих ее ча-
стей, и в отношении их всех, как некоторой системы мысли, к другим идеям и
к фактам самой действительности.
Раскрыть же идею значит дать ряд определений входящим в нее терми-
нам и соединить эти определения связью, в какой находятся самые термины.
Потому что ясно, что, кроме смысла этих терминов и смысла их взаимного
соотношения, в идее нет никакого другого содержания; ничего в ней не ут-
верждается, кроме того, что звучит в словах, которые мы произносим, когда
ее высказываем.
Три термина входят в состав рассматриваемой идеи: 1) «жизнь» - как
указывающий на объект, подлежащий мышлению; 2) «цель» - как термин,
указывающий порядок, в каком нами мыслится этот объект; 3) «счастье» -
как термин, указывающий высшее руководительное начало, или идеал, смот-
ря на который мы прилагаем к данному объекту данный порядок мышления.
VII. Под «жизнью» здесь разумеется совокупность внешних и внутрен-
них актов, совершаемых человеком или совершающихся в нем, на которые
простирается или может простереться изменяющее действие его воли,
т. е. как дел его, через которые он вступает в соотношение с подобными себе
или с окружающею природою, так равно и мыслей его, или скрытых чувств
и желаний, которые могут быть никогда не узнаны и ни в чем не выражены, -
с непременным условием только, чтобы они не были безусловно непроиз-
вольны. Условие это необходимо потому, что в самой сущности вопроса и
искомого на него ответа заключено предположение о возможности для чело-
века сделать жизнь свою сознательною, т. е. целесообразною; иными слова-
ми: за предложенным вопросом лежит желание направить, т. е. некоторым
образом изменить что-то, что в естественном порядке идет к худшему, неже-
ли к чему могло бы идти при сознании лучшего. И так как это «направляе-
мое» есть сама жизнь, то, конечно, не все, но лишь изменяемая ее часть
служит объектом мышления в рассматриваемой идее.
Это по отношению к индивидууму и его воле; и так как из совокупности
индивидуальных же усилий слагается жизнь человечества во времени и в
пространстве, т. е. и история, и состояние общества в каждый момент ее, то
ясно, что все это наравне с миром единичных дел подлежит созерцанию в
данной идее. Сюда относится: наука, искусство, литература в обширном смыс-
137
ле и также религиозный культ, насколько он зависит от человека, структура
общества и ее важнейший вид - государство. Только такие абсолютно неиз-
меняемые по произволу элементы цивилизации, как язык народа и его строй,
лежат вне границ идеи счастья как верховного руководительного начала
жизни.
VIII. Под целью разумеется всегда осуществляемое, т. е. то, что ста-
нет действительным через другое, которое действительно уже теперь,
силой идеи цели, ему предшествующей и его согласующей.
Причем согласуемое есть то, что уже реально (средства); а с чем согла-
суется оно - лишь станет со временем (цель). Таким образом, в порядке
всякой целесообразности, которая существует, или какую мы можем пред-
ставить себе, текущая действительность есть нечто постоянно зыблющееся,
и незыблемо лишь то, что ее движет, и к чему она движется. Но при этой
неподвижности начальной и конечной точек целесообразного процесса, меж-
ду ними есть та разница, что все качества второй вытекают из ее верности
первой. Только идея цели существует силою своего внутреннего достоинства,
все же прочее соотносится с нею и от этого соотношения становится тем или
другим.
В рассматриваемой идее согласуемое есть сама жизнь, как совокупность
возникших в истории фактов, за каждым из которых скрывается вызвавшая
его причина, но не было для всех их какой-либо устрояющей цели. Замена
этого хаоса взаимно перекрещивающихся причин одним руководительны.м
началом и составляет сущность перехода исторической жизни от состояния
бессознательного к сознательному. Собственно, причины и здесь сохраняют
свою созидательную силу; как и всюду, им одним принадлежит способность
вызывать к существованию предметы и явления, но к самому действию при-
чин здесь примешивается избирающее их сознание, которое одним из них
дает свободу проявляться, другие же ограничивает или подавляет через вы-
бор им противодействия. И таким образом, в каждой части своей оставаясь
причинным, в целом длинный ряд явлений и предметов становится целе-
сообразным.
Последнее, окончательное звено этого процесса и есть цель: она столь
же реальна и осязательна, как и каждое промежуточное звено, но отличается
от него полнотою и планомерностью своей. Эта планомерность (цели), вы.
ражаенная в явлениях и фактах, строго отвечает логической планомерности
идеи цели.
Идея цели есть внутренний, субъективный акт, который через целесооб-
разный процесс воплощается в действительности; последняя таким образом
является по отношению к нему тем же, чем служит форма по отношению к
содержанию или внешнее выражение к выражаемому смыслу. Заметим, что
качество цели, т. е. чего-то окончательного, совершенного и неподлежащего
изменениям, является в какой-либо идее в силу ее внутреннего достоинства,
которому ничего не недостает; потому что, раз в ней было бы это недостаю-
щее, с восполнением недостатка она стала бы лучшим и, следовательно, це_
138
лью, по отношению к которой она же без сделанного восполнения была бы
лишь средством, промежуточной ступенью. Таким образом, некоторая иде-
альная полнота есть логическая необходимость для всякой идеи цели.
IX. Внутреннее, субъективное ощущение счастья как только желаемое,
но еще не испытываемое, есть тот скрытый, духовный акт, для которого все
остальное в рассматриваемой идее есть или выражение, или средство. Его
понятие, его логическое определение и есть идея цели в процессе, материалом
или сферою совершения которого (по указанию утилитарного руководитель-
ного начала) должна служить вся историческая жизнь человечества.
Под счастьем можно разуметь только удовлетворенность, т. е. такое
состояние, при котором отсутствует дальнейшее движение в человеке жела-
ния, как чего-то ищущего, стремящегося возобладать.
Этот покой душевной жизни, это равновесие всех сил человека, вернув-
шихся после долгой борьбы с внешними препятствиями и победы над ними
внутрь себя, вполне покрывает понятие счастья, тожественно с ощущением
его полноты. Потому что ясно, что пока стремление не умерло в человеке,
нет у него предмета стремления и нет удовлетворения им; т. е. есть неудовлет-
воренность от ощущения недостатка и, следовательно, страдание.
X. Теперь, раскрыв смысл терминов, входящих в состав идеи счастья как
верховного начала человеческой жизни, мы можем вывести положения, вы-
текающие из этой идеи:
1. Хорошее и дурное не есть для человека что-либо отличное от же-
лаемого им и нежелаемого. Это следствие прямо вытекает из самого по-
нятия о счастье как состоянии удовлетворенности, т. е. прекращении жела-
ний, и из определения, что счастье есть высшая цель человеческой деятельно-
сти, т. е. наилучшее для него, в чем отсутствует какой-либо недостаток. Та-
ким образом, с признанием рассматриваемой идеи, исчезает что-либо, вне
его лежащее, что могло бы служить критериумом желаемого, средством
оценки для него.
2. Ничто до момента, пока станет желаемым, или после того, как
перестало желаться, не имеет какого-либо отношения к понятиям хоро-
шего и дурного, не содержит в себе этих понятий, как своего постоянного
качества. И в самом деле, идея счастья, как верховного начала человеческой
жизни, есть только схема нашего ума, через которую проходят реальные пред-
меты и явления. В миг, когда они проходят через нее, когда они желаемы и
доставляют счастье, они приобретают в себе качественное различие от всего
остального, становясь наилучшим для человека, ни через что не оцени-
ваемым; и как только прошли, как только потеряли на себе тень желаемости,
снова входят в сферу качественно-безразличного. Воля не видит их более, не
ищет; и с нею не различает их ум и не оценивает совесть.
3. В самих себе все вещи природы и она вся не суть добро или зло, но
лишь могут становиться злом или добром; причем под природою здесь
разумеется и сам человек, и все в нем совершающееся и им создаваемое. И
в самом деле, можно представить себе какую-либо единичную вещь, вовсе
139
никогда не проходящую через схему рассматриваемой идеи, т. е. что предме-
том человеческого желания служит все, кроме этой данной вещи. Тогда она
совершенно и никогда не может быть добром. И так как таковою поперемен-
но можно представить себе каждую вещь порознь, то ясно, что и все они т. е
целая природа, вовсе не суть добро или зло, но лишь нечто становящееся тем
и другим в зависимости от положения своего (временного) относительно
человека.
4. Продолжительность и напряженность суть единственные разли-
чия, усматриваемые в ощущении счастья. И в самом деле, в понятие удов-
летворенности не входит никаких иных представлений, кроме как о продол-
жительности испытываемого удовлетворения и о полноте его; потому что
самая удовлетворенность есть лишь ответ на желание, которое может быть
успокоено или надолго и вполне, или отчасти и на короткое время. Таким
образом, единичность или множественность предметов, которые были це-
лью стремления и стали предметом обладания, и долгота этого обладания
составляют все, что по условиям рассматриваемой идеи необходимо дЛя ее
осуществления.
5. Всякое счастье, имея лишь количественные измерения, не заключает
в себе каких-либо качеств. Вывод этот прямо следует из предыдущего рассуж-
дения и выражает только другими словами то, что в нем сказано.
6. По отсутствию качественных различий в желаемом не может быть
преимущества в одном желании перед другим и предпочтения или выбо-
ра, с которым оно обращалось бы к чему-нибудь более, нежели к иному и в
самом деле, всякое проявление выбора было бы обозначением, что в пред-
метах, окружающих человека, есть что-то независимое от его воли, что пре-
имущественно влечет его желание; есть качественность, не определяемая
взглядом на них человека, и притом родственная с его природою, в силу чего
эта природа ищет их, избирает из среды всего другого и усвояет себе. Ряд
подобных явлений вскрывал бы собою какие-то темные соотношения Между
человеком и миром, вовсе не вытекающие из его воли, но, напротив, опреде-
ляющие эту волю, и в самом корне разрушал бы доктрину, по которой ощу-
щение удовольствия есть средство оценки всего, и природа есть лишь арена,
где ищутся эти удовольствия, а жизнь человека - самое их искание: это иска-
ние было бы secundum, влекомое, но не primum, влекущее; нечто хорошо
было бы не потому, что желается, но желается потому, что хорошо. В силу
чего оно хорошо? Этот вопрос открывал бы мир изучения, совершенно вы-
ходящего из сферы идеи счастья, как верховного начала человеческой дея-
тельности.
7. Роды и виды хорошего и дурного, сливаясь в его количестве, исче-
зают. И в самом деле, сферы нравственного, эстетического, религиозного
и пр. все различались между собою по особой природе влечения, какое
испытывал к ним человек; и так как сила влечения и его продолжительность
суть единственное, что служит средством различать влекущее с точки зре-
ния идеи счастья, как верховного начала человеческой жизни, - то с этой же
140
точки зрения нет более основы для различения красоты от долга, их обоих
от справедливости и пр. Они одинаково влекут, но не suo modo каждое, а
pari modo* все, и суть одно для воли, более не способной что-либо избрать
из них. С исчезновением этой способности как разнородность жизни, так и
разнородность, многоветвистость исторического созидания, где отдельные
сферы возводились через усилия, к одному чему-нибудь направленные,
одним определенным чувством движимые, в самом источнике своем раз-
рушаются.
8. Счастье количественно большее избирается преимущественно пе-
ред количественно меньшим. Это прямо следует из отсутствия каких-либо
различий в самом счастье, иных, нежели количественные; и из отсутствия
чего-либо, кроме счастья, что могло бы избираться человеком.
9. Страдание, будучи меньшим, нежели наслаждение, всегда может
быть поставлено к нему в отношение причины к своему следствию. И в
самом деле, при испытании их обоих всегда останется некоторый избыток
наслаждения над страданием, который будет чистым счастьем. И так как вле-
чение к нему по внутренней природе своей хорошо, то хорошо и страдание,
перенесенное ради его получения.
10. Страдание, как и наслаждение, не заключая в себе родов и видов,
поставляемые в отношение причины и следствия друг к другу, берутся
одинаково из всех сфер хорошего и дурного, прежде различимого по ро-
дам и видам. И в самом деле, так как состояния удовлетворенности все слиты
между собою и отличаются одно от другого лишь продолжительностью и
напряженностью, то ясно, что одна эта продолжительность и напряженность
может служить руководящим началом при избрании чего-либо как цели и
при употреблении другого как средства. И так как эти количественные изме-
рения применимы ко всем сферам прежде расчлененного добра, то безраз-
лично из всякой сферы может быть избираемо страдание, как средство дос-
тигнуть большего наслаждения другой сферы.
Два последние положения и составляют доктрину, известную под фор-
мулой «цель оправдывает средства», с тем различием, однако, что в этой
старой формуле подразумевается некоторый вечный и высший достигае-
мый идеал, которому приносится в жертву нечто временное и случайное,
хотя бы и связанное побочно с вечным, - тогда как в двух только что выра-
женных следствиях из утилитарной доктрины не подразумевается никакого
постоянства во влекущем идеале, но лишь постоянство в удовлетворенности
человека: какими идеалами - безразлично. Таким образом, там, в формуле
«средства оправдываются целью», есть настойчивая, ни перед чем не оста-
навливающаяся деятельность, как бы закрывающая глаза на текущую и вре-
менную действительность, не столько мирящаяся с существующим злом,
сколько не чувствующая его, слепая к нему; напротив, в утилитарной доктри-
не все внимание сосредоточено на настоящем, и это настоящее делается
* каждое по своему... одинаково (лат.).
141
предметом почти механической игры в ощущения, с вечным взвешиванием
их силы, с вечной изменчивостью в решениях, постоянно следующих за тем,
куда склоняются весы, на одной чаше которых лежит наслаждение, а на дру-
гой страдание.
11. Наслаждение многих, если оно тожественно с наслаждением
одного (по предмету и содержанию), должно быть избираемо
предпочтительно перед ним как большее в своей сумме. Это - то поло-
жение утилитарной доктрины, по которому не общее и несколько неопре-
деленное влечение к счастью должно руководить человеческой деятель-
ностью, но именно твердое сознание «счастья наибольшего количества
людей». Эта точность выражения, строго необходимая, придает всему
учению отчетливый вид и делает его всеобъемлющей формулой: и в са-
мом деле, жизнь обществ, жизнь историческая во всем ее объеме тотчас
входит вовнутрь этой доктрины, как только мы переводим ее через ука-
занный вывод из тесных границ личного существования на широкую аре-
ну междучеловеческих отношений.
12. Страдание одного или некоторых, если оно способно послужить к
наслаждению многих, может быть избираемо как средство, давая в раз-
нице чистое наслаждение. Это положение, как и предыдущее, есть лишь
иными словами выраженное требование, что большее наслаждение должно
быть избираемо преимущественно перед меньшим (вывод восьмой). И в
самом деле, при связности людей, при отсутствии изолированности в их жиз-
ни, есть связность и в наслаждении одних со страданием других, богатства с
бедностью, досуга с утомлением, всех видов нравственного и физического
комфорта со всеми степенями физического и нравственного падения. В силу
связности этой, человек никогда не может стремиться собственно к чистому,
изолированному счастью, но лишь - к счастью, как разнице между меньшим
страданием и большим наслаждением. И самый частый вид этой разницы
бывает именно тот, который получается от предпочтения счастья многих стра-
данию некоторых.
13. Все люди, как равно ощущающие, равны в праве на счастье и на
избежание страдания. И в самом деле, так как ощущение счастья есть выс-
ший принцип для жизни всех, то нет причины, почему бы кто-нибудь из спо-
собных испытывать его был вправе поставить свое ощущение выше, нежели
ощущение кого-либо другого. Подобное предпочтение, высказанное им и
принятое другими, было бы признанием качественных различий в ощуще-
нии счастья и, следовательно, признанием чего-либо хорошим и дурным в
самом себе, независимо от отношения к нему человеческого желания, т. е.
нарушением всего смысла исследуемой идеи.
14. Определение «что есть счастье?», как и избрание средств его
достигнуть, принадлежит воле большинства, с которою сливается
воля остальных. И в самом деле, в случае подчинения численного боль-
шинства людей стремлению к счастью некоторых, в результате получи-
лось бы страдание, перевешивающее сумму наслаждения. Следовательно,
142
даже добровольно большинство не может подчиниться воле меньшин-
ства, - иначе оно впадет в противоречие с идеею, которая живет (по
предположению). С другой стороны, меньшинство, раз ему выяснилось,
что оно - таковое (т. е. численно уступает своим противникам), сливается
по необходимости в идеях и желаниях с большинством, дабы коллизией с
ним не вызвать ненужного страдания: ибо побежденное - оно сольется с
ним, а победившее - приведет его к страданию, большему, чем его, мень-
шинства, наслаждение*.
Таким образом, все виды борьбы в истории разрешаются и предупреж-
даются выяснением численных отношений между противоречивыми жела-
ниями; и все, что по выяснении этих отношений продолжало бы бороться,
выходило бы из пределов идеи счастья, как верховного начала человеческой
жизни, было бы неповиновением ей, которое во имя ее может и должно быть
заглушено.
К этим выводам, которые вытекают из идеи счастья, как теоремы вытека-
ют из геометрической аксиомы, мы присоединим положение, не находящееся
ни в какой связи с этою идеею как вывод, но, как наблюдение, простирающе-
еся на все факты, обнимаемые этою идеей.
15. Ощущение счастья, которому предшествует сознание его, угасает
в своей жизненности. Это - общий закон психической природы человека,
что все, пройдя через рефлексию как представление или идея, теряет свою
энергию, становясь предметом чувства как реальный факт: привязанность
не так горяча, когда сопровождается обдумыванием, исполнение долга ме-
нее возвышает дух, когда ему предшествовало колебание, всякое чувствен-
ное наслаждение переживается почти холодно, когда оно было уже представ-
лено, переживалось в воображении. Собственно, сила души уходит вся в эту
♦ Трактат «Contrat social» <«Общественный договор»>Руссо, поистине за-
легший в основу всего политического строя Европы, весь исходит молчаливо из
идеи, что счастье человека есть единственный принцип его устроения на земле. Он
весь, при некотором искусстве обработки, мог бы быть выражен в ряде положе-
ний, развивающих далее положения 11-14 выше изложенные. До какой степени
это так, и до какой степени Руссо был логичен в своих построениях, можно видеть
из того, что хотя об идее счастья, как философской основы его трактата, он и не
упоминает (ему, вероятно, не приходила на мысль их связь), однако в одном месте
и он утверждает, что при souverainetft du people <власть народа> и suffrage universel
<всеобщее избирательное правою> ( = 14 положению нашего развития идеи сча-
стья) раз выяснилась воля большинства, меньшинство сливается с этою волею,
начинает мыслить и желать так, как если бы оно ничего раньше не думало и не
желало и знало только эту законодательствующую волю большинства, - чем,
утверждал Руссо, и сохраняется свобода индивидуума при основании государ-
ства на принципе «общественного договора». Общественный договор - это есть
согласие большинства понимать счастье так, а не иначе, и избирать средства осу-
ществления его те, а не иные, - что становится законом для всех в человеческом
обществе за неимением для него каких-либо других законов - религиозных, право-
вых, нравственных и проч.
143
рефлексию, и от этого так вяла и малопривлекательна бывает жизнь людей,
слишком преданных размышлению*.
И так как при установлении всеобщего сознания, что человек живет толь-
ко для счастья, это счастье по необходимости станет предметом почти един-
ственных размышлений человека, и к нему будет относиться все, что ожида-
ется, что может наступить, - это ожидаемое всегда и всеми будет переживаться
в воображении прежде, чем наступит в действительности. И наступая, эта
действительность не будет иметь какой-либо новизны для человека, а ее ощу-
щение - живости.
Таким образом, при раскрытых терминах своих, исследуемая идея при-
нимает следующий вид: «Цель человеческой жизни есть удовлетворенность,
бескачественная и наибольшая, для наибольшего количества людей, волею
этого количества определяемая как в содержании своем, так и в сред-
ствах осуществления».
XI. Вот состав утилитарной доктрины, более полный, нежели как он был
представлен когда-нибудь.
Не трудно понять из этого состава, как при ее совершенном воплощении
в жизни человека эта жизнь подверглась бы искажению. И в самом деле,
высшие потребности духовной природы человека: религия, философия, пра-
во, искусство - никогда не были потребностями чрезвычайно многих людей
по самой трудности их усвоения; и, однако, как способного к геометричес-
ким представлениям мы предпочитаем неспособным к ним и думаем, что в
нем человеческая природа выражена полнее и лучше, чем в них, - так точно
и в религиозных, философских, эстетических и нравственных требованиях
мы видим редкое и, однако, истинное проявление глубочайшей сущности
человеческой души. Так думаем мы, но - уже ощутив эти требования, уже
узнав их смысл, которого никогда не сможем выразить в терминах утилитар-
ной идеи и передать его необозримым массам людей, которые все понимают
в этих терминах. Между аскетом, мудрецом, художником и законодателем, с
♦ В давние годы, когда пишущий эти строки был убежден в истинности исследу-
емой идеи и ее безусловном верховенстве для человека, была естественна и попытка
привести все свои действия в соответствие с нею: и именно необходимость при этом
все относить к ожидаемому ощущению «счастья» (своего, как и других, с постоянною
мыслью о его сумме) и порождаемое этою необходимостью беспрестанное рефлекти-
рованис действительности делает самою ощущение ее как бы смутным, увядшим и во
всех случаях - безрадостным. Можно предполагать, что эта же необходимость заста-
вила Милля усомниться: «Буду ли я лично счастлив, если будут осуществлены в
человечестве все перемены, которые я нахожу полезными». Но чрезвычайно тяжелое
чувство, которое он испытал при этом и которое можно назвать утратою вкуса к
действительности, в обществе, принявшем идею счастья за верховный принцип для
себя, будет испытываться и каждым: тогда кто же будет счастлив? И если ясно, таким
образом, что поставление счастья для себя как цели не дает этого счастья ни для кого
как результата, то не следует ли отсюда прямо, что не это счастье, а что-то другое
есть истинная цель человека, от которой уклоняясь, чтобы следовать ложной цели, он
и испытывает страдание, как последствие усилий, противных строю его природы.
144
одной стороны, и между остальным кормящимся и забавляющимся че-
ловечеством - с другой, выросла бы пропасть непонимания, разъединения,
которая залилась бы только кровью - чьей, едва ли нужно пояснять. И те
костры, давно потухшие и до сих пор ненавидимые, на которых сгорели когда-
то мученики за веру, за совесть, за науку, зажглись бы вновь, как только люди
перестали бы понимать друг друга иначе, как в терминах идеи, по которой в
их счастье лежит смысл их жизни. Во имя этого счастья, в усилиях соединить-
ся на нем вместе, человечество, как безумец, потерявший голову, обрубало
бы благороднейшие свои части ради остальных, пока не истекло бы кровью,
растерзав их все. Ибо в каждом «большинстве», по-видимому, освободив-
шемся от меньшинства, отделится снова меньшинство при наступлении но-
вых нужд и потребностей, и нет средств, нет способа сохранить его иначе, как
перестав «считать» человеческие желания, прекратив измерять человечес-
кую ненасытность, подчинить ее требованиям, не из нее вытекающим. Как в
душном кольце, умерло бы человечество в ледяных объятиях жадно искомо-
го счастья, и нет средств для него жить иначе, как отвернувшись от этого
счастья, поняв жизнь свою как страдание, которое нужно уметь нести. Оно,
как и радость, есть лишь спутник в стремлении человека к иным целям*; оно
сопровождает его действия, направленные к различным предметам, но само
не есть предмет, влекущий его к себе. И как управляющий кораблем руль
было бы ошибочно смешать с пристанью, куда он стремится, как было бы
ошибочно думать, что в повертывании этого руля и заключается весь смысл
плавания, - так ошибочно, и уже с логической точки зрения, видеть в счастье
человека и цель и смысл его жизни.
XII. Но как ни ясен сразу и во всем составе этот смысл утилитарной
доктрины, мы сделаем, для убедительности, более точным и раздельным его
выражение. Для этого необходимо сопоставить с принципом пользы, как
верховным, другие принципы человеческой деятельности, как неверховные:
1. Истина составляет предмет человеческой деятельности только под
условием, что она способствует его счастью, и лишь в той мере, в какой
* Бентам говорит: «Природа поставила человечество под управление двух вер-
ховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять,
что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать. К их престолу привязаны,
с одной стороны, образчик хорошего и дурного и с другой - цепь причин и действий.
Они управляют нами во всем, что мы делаем, что мы говорим, что мы думаем: всякое
усилие, которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит только
к тому, чтобы доказать и подтвердить его. На словах человек может претендовать на
отрицание их могущества, но в действительности он всегда останется подчинен им.
Принцип пользы признает это подчинение и берет его в основание той системы, цель
которой возвести здание счастья руками разума и закона» (см. «Введение в основания
нравственности и законодательства», гл. «О принципе пользы»). Все это довольно
верно, но во всем этом ясно смешение объекта достигаемого с ощущением при дости-
гании. О счастье, как объекте усилий, говорится лишь в заключении, которое выве-
дено из того, что оно сопровождает и направляет всякое усилие. К чему направляет?
Этот вопрос даже не поставлен, и Бентам о нем не догадывается.
145
ему способствует. Эта обусловленность подрывает философское и научное
исследование в самом его корне, указывая на его несамостоятельность, про-
изводность: лишь в меру достигаемого счастья человек может знать истину;
и если бы случилось кому-нибудь доказать, или «большинству» людей поду-
мать без доказательства, что излишнее знание вредно для человека, наприм.,
смущает его покой, лишает его твердой уверенности во всем, мешает осуще-
ствлению каких-либо всеобщих желаний, наконец, что оно просто бесполез-
но для большей части людей, - его рост в глубину и в ширину необходимо
был бы остановлен и, если нужно, насильственно. Пункт, на котором здесь
необходимо остановить все внимание, состоит в том, что при подобном ог-
раничении философии и науки не может быть и вопроса о том, действи-
тельно ли хорошо и полезно это ограничение, но лишь о том: признается ли
оно полезным и хорошим со стороны данного большинства в данный мо-
мент времени. Ибо «хорошее» и «полезное» вне этого отношения к воле
большинства уже выходит за пределы утилитарной доктрины, как был обна-
ружен ее состав выше.
2. Справедливость составляет необходимость для всякого действия
человека лишь под условием, что она необходима для его счастья, и в меру
этой необходимости. Принцип «suum cuique»*, который можно признать
разъясняющей формулой начала справедливости, заменяется здесь форму-
лой «omnia pluribus»* **; и лишь то из этого всеобъемлющего «omnia», что не
нужно «pluribus», может быть предоставлено «cuique». Труд индивидуальный
или коллективный, труд целых поколений людей какой-нибудь группы всегда
обеспечивал за лицом или общественной группой пользование результатами
этого труда: человек, сословие, государство, церковь - все это в сфере своих
особых интересов и влечений трудилось замкнуто от остального человече-
ства, жертвуя настоящим для будущего, временным и личным для вечного и
необходимого. С признанием утилитарной доктрины и всех из нее выводов
эти замкнутые меры человеческой деятельности как бы оголяются: «вечное»
и «необходимое» для многих может стать ненужным для «всех», и эти «все»
могут потребовать, чтобы труд отъединившихся людей приносился на их
пользу.
Таким образом, слитность человечества, уничтожение в нем всякой
внутренней ткани (сословной и провинциальной, государственной, наконец
церковной) глубочайшим образом вытекает из принципа счастья, как вер-
ховного начала человеческой деятельности; и общность собранных в одно и
на всех людей разделенных плодов труда - есть ее прямое следствие. эта
слитность труда и общность его плодов - что, как мечта, высказывалось и
ранее многими отвлеченными теоретиками общества - становится действи-
тельностью в новой истории, чем далее она подвигается, потому что стала
действительностью доктрина, лежащая в ее основе. Уже Руссо, бессознатель-
♦ «каждому - свое» (лат.).
** «все - большинству» (лат.).
146
ный и великий апостол утилитаризма, в своем «Discours sur 1’origine de
I’inegalite parmi les hommes» писал: «Кто первый огородил клочок земли, кто
первый заявил: земля эта моя, и нашел людей достаточно глупых, которые
этому поверили, - тот был основателем гражданского общества, отнявшим у
людей свободу». Если обобщить мысль Руссо, дать ей истинное и полное
выражение, какое она получила в истории, то под «клочком огораживаемой
земли» здесь нужно разуметь все, уносимое человеком, как особое и доро-
гое, в сторону от общих тревог и помыслов человечества; под «основывае-
мым гражданским обществом» - все, обособляющееся в своих интересах,
всякую корпорацию, семью, государство, церковь; а под людьми, на глазах у
которых сделан этот «захват», - то безразличное, нерасчлененное человече-
ство, право которого - на всю землю, на все времена, и с этим вместе - на
всякий труд, лицо, собственность, что оно или сгонит все с земли, или под-
чинит себе.
Государи Европы, эти практические выполнители новых идей, именно
повинуясь принципу пользы и даже называя его, отнимали не однажды иму-
щества у церкви, ей именно отданные по завещанию частными лицами. Фран-
цузская революция обобщила это движение, распространив его на все кор-
порации и на все обособления в праве (исторические привилегии). Новое
государство, выросшее из принципов революции, только продолжает это дви-
жение, но, видимо, опасается его докончить. Но этого окончания уже жела-
ют, уже требуют западные народы - в словах, в усилиях, которые излишне
называть.
3. Сострадание принудительно для человека лишь в меру того, насколь-
ко его проявление способствует возрастанию счастья совокупности лю-
дей, им прямо и косвенно затрагиваемых. Этот вывод есть только приложе-
ние общей формулы к слишком частому проявлению человеческого чув-
ства, которое до сих пор во всех случаях считалось священным. Право сожа-
леть и облегчать хотя бы преступника, хотя бы против воли всех, никогда не
отнималось у человека, если только оно было простым движением сердца,
т. е. сожалением не к преступлению, облегчением не для вреда других.
В движении чувства этого всегда признавалась непосредственность, порыви-
стость, безотчетность, и даже в меру этих свойств своих оно влекло к себе
всегда симпатии людей. Но именно эти свойства должны быть изъяты из него,
как слепые и несообразующиеся с последствиями, и заменены рассудитель-
ностью. Та живость помощи, то теплое общение между людьми, которое
всегда так согревало жизнь их, должно быть заменено, сообразно с принци-
пом пользы, действием более регулярным, более отчетливым.
Стремление всюду заменять личную помощь общественною и, наконец,
последнюю переложить в форму государственной функции - это стремле-
ние новых времен, отделяющее сострадающего от нуждающихся, есть выра-
жение постепенного уяснения в сознании всех утилитарного начала.
4. Прекрасное в деятельности человека и в его созданиях есть второ-
степенное перед нужным. И в самом деле, первое дает некоторый избыток в
147
счастии, отсутствие которого не вызывает никакого страдания; напротив,
недостаток нужного порождает непосредственное страдание.
Стремление подчинить искусство и литературу целям полезным, сделать
из них служебное орудие для достижения практических результатов* вытекает
именно из этого вывода идеи счастья, как верховного принципа для человека.
5. Человек свободен в деятельности и в созерцаниях своих, насколько
они совпадают с созерцанием и деятельностью большинства людей, или,
если противоречат ему, - насколько оно допускает это противоречие. И в
самом деле, всякое подобное противоречие, как коллизия усилий, как раздор
мировоззрений, ведет к некоторому страданию; и лишь когда оно незначи-
тельно и мало ощущается обществом, может быть терпимо.
6. Личность всегда есть часть и никогда - самостоятельное целое.
Целое - это «большинство людей» в своем коллективном труде, в своем одно-
образном мировоззрении; личность входит в это целое, как атом входит в
организм или отдельная функция - в поток органической жизни. И раз есть
несоответствие части со своим целым, есть разлад между ними, производя-
щий расстройство, - меньшее, т. е. часть, для уменьшения страдания атрофи-
руется.
XIII. Мы называли идею счастья как верховного начала жизни иногда
«утилитарным принципом», согласно с общим употреблением этого тер-
мина; но это можно сделать, лишь ограничивая исследуемую идею: «польза»
есть частное проявление «счастья», которое может проявиться и в чистом,
не грубом удовольствии (эвдемонизм) и, наконец, в утонченных, по преиму-
ществу чувственных наслаждениях (эпикурейство). Но все эти частности во-
все не выражают полноты смысла занимающей нас идеи, которую, если уже
нужен барбаризм, чтобы ее выразить, - следовало бы назвать панэвтихиз-
мом (от rcav - все и ешв/есо - удовлетворяюсь, получаю желаемое, достигаю
цели, т. е. какой-либо, безразлично).
Следовало бы термину «польза» дать несколько более ограниченное зна-
чение, чтобы он имел точность: именно, понимать под пользой всякого рода
добро, но только производимое не лично, а через учреждения. И в самом
деле, есть огромная разница в побуждениях и в характере деятельности, когда
она, вытекая из непосредственного отношения к ближнему, избавляет его от
страдания, или когда она делает то же, не видя лица страдающего и даже не
зная собственно о нем, но лишь сберегая его, как, наприм., орудие своей
силы. Людовик XI или Ришелье, быть может, более облегчили человеческие
страдания, нежели какой-нибудь человек, не выходивший из среды личной
деятельности; но смешать их труд, принять меньший из них за часть больше-
го при их однородности - было бы очевидное и грубое заблуждение. Итак,
♦ Если не ошибаемся, Пьером Леру уже была дана замечательная формула этой
тенденции: «Задача художника состоит в том, чтобы открыть болезнь; задача критика -
найти способ к ее излечению». Взгляд несколько патологический на искусство, но и
вместе - совершенно утилитарный.
148
государство есть собственная сфера принципа пользы; но то, что им оказы-
вается человеку, будучи совершаемо по личной инициативе, удобнее назы-
вать, наприм., нравственным.
Слишком быстро могло в Новое время уясниться для всех, что никогда
добро, творимое по личному произволу, не может быть так массивно, все-
объемлюще и неистощимо, как тогда, когда оно от лица всех творится госу-
дарством. И вот почему, с постепенным упадком в человеческом сознании
всех других идей, кроме исследуемой, рост государства, разветвление его
функций их отчетливость приобрела такой колоссальный, всеобъемлющий
характер. Более и более, от XVII в. и до нашего, государство становилось
новым богом, и мысли Гоббеса, высказанные в «Левиафане», осуществи-
лись; лишь с 1848 года, после подавления государством рабочего движения,
оно упало в своем авторитете, - но лишь потому, что оно не приняло в недра
свои «большинства», его нужд и требований. Тотчас, как совершилось это, в
сфере идей, в сфере чувств и чаемых сношений стало обок со старым
государством вырастать в среде этого «большинства» - новое. Оно зиждется
уже не на юридическом начале; не на нем уже, впрочем, держались и все
государства последнего цикла истории. Но это новое вырастающее государ-
ство принимает в себя все принципы без исключения, как все же их нарушая
в чистоте, все их смешивая и уравнивая. Принцип экономический представ-
ляется для многих главным; но это потому лишь, что экономическая потреб-
ность есть самая постоянная, самая всеобщая и наиболее всем понятная. В
сущности, это есть переорганизация человечества, оставляющего все пре-
жние руководившие начала, по одному новому: бескачественному и наи-
большему, для большинства людей, земному счастью.
XIV. Действительно ли это начало способно стать реорганизующим? Что
оно имеет силу быть разрушительным по отношению ко всем прежним прин-
ципам, это слишком ясно из сопоставления его с ними, которое было сдела-
но выше, и об этом же свидетельствует весь ход новой истории. Но может ли
с таким успехом оно стать зиждительным?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует посмотреть, насколько
оно действительно содержит разрешение вопроса о смысле и цели че-
ловеческой жизни?
1. Идея счастья как верховного начала человеческой жизни не указывая
на постоянно должное, не может служить и руководительным принципом
для человека.
И в самом деле, не трудно видеть, что в идее этой, если мы не выйдем из
строгого смысла ее терминов, вопрос о конечной цели человеческой дея-
тельности вовсе не разрешается, но лишь возвращается к своему первона-
чальному положению: она содержит лишь указание условия («удовлетво-
ренность»), на котором может быть принято человеком какое-либо решение,
но самого решения не дает, потому что не определяет, что же нужно сделать
объектом своей деятельности, чтобы стать удовлетворенным. Полезное,
прекрасное, нравственное - все это, в частности, способно удовлетворять
149
человека - найдено лишь эмпирически им и притом без всякого руководства
исследуемою идеей, и не имеет какой-либо необходимой, постоянной с нею
связи. Все это может удовлетворять человека, и в меру этого хорошо, жела-
тельно; но может случиться, что оно и перестанет удовлетворять его, и тогда
станет дурно, нежелательно.
Не содержа ответа на вопрос «что постоянно удовлетворяет человека?»,
это начало таким образом скрепляет все ответы. С этим вместе оно теряет
всякое руководительное значение: человек, не будучи в состоянии что-либо
выбрать, предпочесть: как непременно и постоянно лучшее, возвращается
всецело под управление причин, которые, как возбуждающие страдание или
удовольствие, направляют его сообразно своей силе, но не его сознанию.
Самая возможность жизни целесообразной, т. е. не управляемой более при-
чинами, внешними для человека, исчезает для него.
Это вскрывает ее истинный смысл: она вовсе не есть разрешение вопро-
са о цели жизни, но только отрицание всяких подобных целей. Она вся обра-
щена к настоящему, к действительности, где совершается вариация ощуще-
ний и сообразная с ней вариация человеческих поступков. Но она не указы-
вает чего-либо определенного, конкретного и постоянного в будущем, что
могло бы влечь к себе человека, к чему он мог бы в идее своей прикрепить
ряд причин и следствий. Жизнь человека становится не только слепа, но она
и бессмысленна: для нее нет завершения, как и нет в ней руководящего света
по отношению к единичным встречным предметам.
2. Не будучи руководитель} 1ым принципом для человека, идея счастья
не есть и верховное объяснение его жизни.
И в самом деле, хотя страдание и удовольствие и сопровождают всякий
человеческий поступок и поэтому, по-видимому, объясняют их все как мо-
тив, как побуждение, - однако есть в этих поступках сторона, не поддающая-
ся объяснению из этого мотива. Справедливо заметил Паскаль, что человек
всегда стремится к счастью, даже когда идет повеситься; и не менее справед-
ливо дополнил Бентам, что всякая попытка опровергать этот принцип
возвращается к нему же, на него опирается.
Но может ли человек, и притом всякий, зная что-либо как ложное и в то
же время признавая его благом, принять внутри этой же совести его за ис-
тинное? Мир языческий, когда сменялся христианством, ожидал видеть в этом
христианстве гибель для себя и, конечно, как определенный склад жизни, он
в нем погиб; желая жить еще, он видел, что, лишь сохраняя веру в старых
похолоделых богов, и он не умрет. Не один раз, и всего сильнее при Юлиане
он и пытался верить, но не мог. Почему? Этот вопрос вскрывает сторону
человеческой природы, не укладывающуюся в грани идеи счастья, идеи же-
лаемого, как единственно руководящего человеком начала.
XV. Наконец, после всего сказанного, мы можем с достаточным основа-
нием сказать, что мысль человека об устроении своем на земле по принципу
счастья ложна во всех своих частях, по всему своему строю. Не что-либо
одно страдает в ней недостатком, не выдерживает исследования, - она вся в
150
целом есть лишь искажение, есть судорожное усилие человека, но не пра-
вильное его движение. От этого всякая попытка осуществить ее в личной
жизни сопровождается страданием; от этого так исказилось лицо истории,
так мало стало счастья в сердце народов по мере того, как их жизнь более и
более втягивается в формы этой идеи. Как будто какой-то неискупаемый грех
человечества наказывается через эту обманчивую надежду, чтобы, следуя
ей, оно испытало добровольно все страдания, какие не смогла бы наложить
на него никакая посторонняя сила и никакие внешние условия.
Откуда же эта искаженность исследуемой идеи, это отрицание конечны-
ми ее следствиями их же исходного начала?
Она скрывается в ложности самого метода, которым найдена эта идея,
как ответ на занимающий нас вопрос. Ответ этот придуман, а не найден; он
не взят из самой природы человека, а лишь подчиняет ее насильственно обоб-
щению его ума. «Счастье» - это общий термин, в котором слито неопреде-
ленное множество единичных целей, которые ежеминутно поставляет перед
собою человек и, достигая их, чувствует себя удовлетворенным, т. е. счастли-
вым. Удивительно ли, что при анализе этот термин и разлагается на множе-
ство этих же самых единичных целей, без указания какого-либо выбора среди
их, без всякого предпочтения одного желаемого перед другим. Откуда взят
он умом человека, к тому же и возвращает его волю: к хаосу подробностей,
без какого-либо руководящего света.
Самое отвлечение это сделано неправильно по отношению к постав-
ленному вопросу (о цели жизни), - но, однако, так, как только и можно
было сделать по отношению к наблюдаемым предметам, которые послу-
жили основой для его вывода. И в самом деле, неограниченное разнообра-
зие преследуемых целей не допускало никакого объединения себя собствен-
но, как объектов, - и возможно было лишь объединение тех чувств, кото-
рые испытывал человек при их достижении. Эти чувства все и слиты в поня-
тии «счастья», но это не есть название какого-либо объекта, ни даже общее
имя их всех, но название побочного, что переживается человеком*, когда
♦ Д. С. Милль говорит в «Автобиографии»: «Я понял, что для того, чтобы быть
счастливым, человек должен поставить перед собой что-нибудь другое целью, и тог-
да, стремясь к ней, он будет испытывать уже само собою и вовсе о нем не думая
удовольствие». Еще один шаг, еще доля рефлексии, - и он понял бы коренное заблуж-
дение утилитаризма и отверг его умом, как отверг уже натурою своею, ощутив его
психическую невозможность. Заметим еще, что если при каком-либо стремлении глав-
ное есть не предмет, к которому мы стремимся, но испытание удовольствия при его
обладании, - то самое обладание не доставляет всего возможного удовольствия, так
как предмет не имеет для нас своей истинной, самостоятельной ценности. Все объекты,
так сказать, ослабляются в своей значительности через утилитарный взгляд на них, и
поэтому ослабляется чувство, сопровождающее их достижение. Оттого человек, не
имеющий на предметы утилитарного взгляда, всегда бывает счастливее; достигая сво-
их целей, он выше себя чувствует от их обладания, нежели ничего не признающий
существенным, кроме себя и своих ощущений, утилитарист. Это - также одна из
психических тайн утилитарной идеи, которая так полна ими.
151
он стремится к ним и, наконец, ими обладает. Противоестественно, невоз-
можно сделать это побочное, сопутствующее впереди лежащею целью;
как невозможно, уродливо было бы для корабля тронуться носом позади
приделанного руля. Это - именно извращенность; и это она более всего так
мучительно искажает природу человека и его жизнь, раз они впадают как
содержание в цикл этой идеи.
II. Об истинных целях человеческой жизни
I. В понятии человека о предметах столь общих, как цель его жизни, дос-
таточно несколько передвинуть точку зрения, чтобы весь мир явлений, обни-
маемый этим общим понятием, предстал для него в совершенно ином и
новом свете. Здесь происходит то же, что бывает в природе при переме-
щении источника света и предмета, его затеняющего: уклон первого или вто-
рого, самый незаметный, достаточен, чтобы необозримое множество вещей
или вновь озарилось светом, или, напротив, впало во мрак.
При выборе счастья как верховного принципа совершенно опущена была
из виду природа самого человека: только ощущение им страдания и удоволь-
ствия было взято в расчет, и затем для этого ощущения искались вне человека
условия увеличения его и уменьшения, личные или общественные. Рассмат-
риваемая под углом лишь этого ощущения, одного и всегда одинакового, и
самая природа человека понималась как нечто данное, определенное, как
неподвижный восприемник не вариирующих же чувств. Неподвижное отно-
шение и установилось между ней и ее искомым удовлетворением: вечное
насыщение, которое происходит теперь и здесь, которое невозможно пере-
двинуть в будущее и понять как руководящую цель.
Принятие человеческой природы за неподвижную именно в отношении
к достигаемым объектам, именно в сфере данного вопроса, и затемнило
истинное его решение, которое так ясно. Глубочайшая сущность этой при-
роды, более важная, чем то, что она разумна, что она нравственна или сво-
бодна, заключается в том, что она потенциальна - во всем сложении ее, по
всем направлениям, в разуме, как и в чувстве, как и в воле. Нет ничего в ней
что было бы уже дано от начала, что от самого ее появления было бы в ней
ясно выражено, твердо содержалось: она - вся в возможности, вся в колеб-
лющемся и нетвердом усилии, и лишь как бы предчувствие того, к чему она
усиливается, неясно тянется, - уже от начала в нее заложено; но предчув-
ствие столь же мало действительное, так же мало выраженное в каких-либо
реальных фактах, как смутнее ожидание по отношению к ожидаемому, кото-
рого еще вовсе нет, которое еще наступит.
Понять человека как систему таких ожиданий, темных по слабости выра-
жения, определенных по предметам ожидаемым, и значит подойти к узлу
занимающего нас вопроса. Здесь уже нет произвола, нет искусственности в
придумывании; есть лишь место для открытия, которому наш ум должен
152
подчиниться, как мысль своему объекту, как взор усматривающий - усмот-
ренной им вещи. То, что вскроется в этой системе ожиданий, есть ожидае-
мое всем человечеством, для всех одинаковое, для каждого должное, и под
незыблемым покровом чего лежит свобода личности. Воля, найдя здесь для
себя закон, находит и ограничение, но с ним и твердость действия, которой не
знала прежде.
11. Но, насколько мы ищем не целей для единичных действий, а целей
окончательных, за которыми дальше ничего не лежит для человека, - мы
должны отделять в его потенциальной природе первозданное от привнесенно-
го. К чему бы ни стремился он в истории, чего бы ни искал в личной жизни -
это стремление, это искание имеет в нем для себя зародыш. Но зародыш
может быть вкинутым в него семенем, которое вовсе не связано необходимо
с его первоначальным устройством. Только те стремления, в которых выра-
жается это первоначальное устройство, из которых состоит самое существо
человека и без них его вовсе не было бы - суть семя самой природы челове-
ческой, которой плода мы ищем.
Организм человека как некоторая система функций и органов не имеет
какого-либо отношения к цели его жизни, не носит этой цели в себе и не
указывает на нее собою косвенно. И в самом деле, две черты являются не-
пременными во всяком органе и в каждой функции: окончательность строе-
ния и отправления уже при самом появлении человека, и обращение всем
смыслом своим, всей значительностью к самому индивидууму, который
есть их носитель. Дыхание, кровообращение, питание, деятельность вне-
шних чувств - все это образуется, слагается в период жизни, пока рождаю-
щийся организм слит еще с материнским; и, напротив, как только он отделил-
ся от него, стал индивидуумом - это все уже действует, готово; и хотя возра-
стает потом в объеме, но не трансформируется, не развивается в какие-либо
лучшие и высшие формы. И, далее, всякий единичный орган и всякая отдель-
ная функция суть орган и функция только для того, в ком они находятся, и не
имеют никакого значения, смысла и важности для остальных людей: этою
значительностью своею они все сомкнуты внутрь, друг к другу, и своим вза-
имодействием образуют жизнь индивидуума.
Таким образом, этот индивидуум, если он имеет какую-либо цель вне
себя, к которой нужно еще стремиться, осуществлять ее, приближать к себе, -
имеет физическую свою организацию лишь как опору своих стремлений; точ-
нее - опору бытия своего, необходимые условия своего существования -
существования для чего? бытия к чему? на это в самом организме не заклю-
чено никакого ответа.
Можно было бы подумать, что функции и органы воспроизведения, от-
носясь к тому, что воспоследует потом, могут иметь некоторое отношение к
цели человеческою существования. Но эти функции и органы так же обра-
щены своей значительностью внутрь, но уже не индивидуума, а рода: ими
поддерживается существование человечества, как всякою другою функцией
поддерживается жизнь человека. Таким образом, характер постоянства, опре-
153
деленности, законченности свойственен и этой функции, как всем прочим;
она также есть лишь необходимое условие бытия человечества: бытия для
чего? на это в ней не дано никакого ответа.
Полнота реальности, в которой все выражено и ничего уже не ожидает-
ся, есть, таким образом, сущность физической природы человека; и так как
цель, по нашему понятию (см. выше, гл. I, VIII), есть то, что еще «станет дей-
ствительным через действительное теперь», что наступит, осуществится, — то
ясно, что никакого отношения к этой цели не имеет эта природа. Ее поддер-
живать, ее не расстраивать есть долг и право всякого человека; нарушение
первого сказывается физическим страданием, и когда оно вызывается усло-
виями не индивидуальной жизни, но коллективной - есть право у каждого
потребовать перемены этих коллективных условий, чтобы они не стесняли и
не калечили его индивидуальное существование. Оно есть primum по отно-
шению к этим условиям, и при этом primum неизменяемое, постоянное, не-
подвижное, которое по самой своей сущности не может ни с чем согла-
соваться и ни к чему применяться, но с чем и может, и должно согласоваться
все изменяемое в человеческой жизни.
Наряду с правом этим, мы сказали, есть и долг не расстраивать через
личную деятельность эту организацию: она есть данное, что каждый обязан
охранять, но чего изменять или разрушать ему не дано, как не свое создание.
Поэтому (в противность мнению некоторых) права на самоубийство нет у
человека: в этом последнем прихотью своей преступной фантазии он разру-
шает то, чего еще вовсе не понимает, что ему дано было и с чем он не сумел
справиться. Таким образом, бессилие, неисполненный долг, посягательство
на то, на что нет права - соединено в этом деянии, справедливо считающемся
у всех людей чем-то неестественным и ужасным, каким-то искажением ос-
новных законов природы со стороны их высшего носителя, их самого светло-
го и мудрого выразителя.
III. То, что гнездится в этом организме и, кажется, связано с ним, как
корень с питающей почвой, есть дух человеческий. Что бы он ни был, каких
бы взглядов на него мы ни держались, пусть будем даже отрицать его бытие
как чего-то особого от физической природы человека, все равно: мы не в
силах будем никогда смотреть на эту природу только как на систему ясно
выраженных расчленений и функций, всегда и невольно мы будем устремлять
свой взор на это сияние, которое над ней поднимается, которого осмыслить
мы не в силах и, не желая смешивать его с тем, от чего оно отделяется, назы-
ваем его духом.
В одном резко выражена противоположность между ним и его физичес-
кой основой: тогда как последняя представляет собою полную реальность
дух есть чистая потенция, как синтез способностей и стремлений, которые
лишь путем взаимодействия с внешними предметами обнаруживают себя, и
в этом взаимодействии преобразуются, раскрываются. Ясно, что соотноше-
ние с целью, если только она есть для человека, имеет именно эта сторона его
сложной природы.
154
Все в ней деятельно, но не для того, что теперь, - для будущего; все
изменяемо, но в направлениях не бесчисленных, не чередующихся, но лишь
в одном определенном, в котором она вечно возрастает; она вся есть устрем-
ленность, но в противоположность функциям органическим, которые сомк-
нуты внутрь, устремлены к сохранению индивидуума, она разомкнута, рас-
ходится во всех направлениях и, кажется, в деятельности своей растрачивает
силы организма до его естественного завершения, смерти.
Организм человеческий на всем протяжении его существования как ин-
дивидуального, так одинаково и родового - лишь продолжается, поддер-
живается, служа опорой для чего-то; дух человеческий, опираясь на физи-
ческую организацию, быть может, исходя из нее, вечно рождается, возникает
в новых и новых проявлениях, неиспытанных никогда стремлениях, - и это как
в жизни индивидуума, так и в жизни целого человечества. Он, таким обра-
зом, может быть понят как истинная идея цели, как ее замысел, ее предчув-
ствие; но замысел темный, идея, не проясненная для своего носителя, кото-
рая лишь медленно, через тысячелетия исторической жизни, становится оче-
видной, для всех ощутимой, к некоторому определенному завершению
направленной.
Завершение это, как некоторая объективная и многосложная действи-
тельность, и есть истинная цель человека, которой начальный завиток содер-
жится в устройстве его души, в его субъективной действительности. Жизнь
личная и историческая есть сеть причин и действий, которые, как бы при-
чудливо ни переплетались друг с другом, имеют (иногда скрытно от челове-
ка) только одно назначение: провести ту или иную линию соединения между
этим первоначальным завитком человеческого духа и тем далеким оконча-
тельным произведением рук его.
IV. Цель может быть открыта в двух смыслах: в конкретном составе сво-
ем, как она осуществится (что будет, когда деятельность, направленная к ней,
прекратится); это было бы ее представлением. И может быть дано ее поня-
тие, т. е. указан лишь закон и направление, в котором действуя, человек со
временем осуществит ее в формах, какие будут обусловлены особыми об-
стоятельствами того времени.
Едва ли нужно говорить, что в первом смысле конечная цель человечес-
кой жизни не может быть открыта; и это мудро, что ее конкретный образ до
последнего усилия человека в истории останется от него скрыт. Потому что
знание этого образа стеснило бы чрезмерно его свободу, не оставило бы ему
ничего выбирать, ни над чем задумываться, но лишь - делать, исполнять
пассивно то, что усматривает его взор в готовом, стоящем перед ним образе.
Напротив, имея лишь понятие о цели своего бытия, человек, ограниченный
достаточно в своем произволе, достаточно сохраняет и свободы для выбора,
для взаимодействия с окружающей средой; его смысл не отнимается от него,
как он был бы отнят при знании цели как представления.
V. Есть три первоначальные и одно к другому несводимые стремления в
человеке: различить, что есть, от того, чего нет - это усилие его знать исти-
155
ну; удалить то, что задерживает это и всякое подобное первоначальное дви-
жение - это усилие его сохранить для себя свободу; и после всякого дей-
ствия ощутить в себе высшую гармонию, нежели какая была до его начала
- это усилие к добру. Когда при виде звездного неба - в какие бы ни было
времена, в каком бы ни было месте - человек, почувствовав себя счастли-
вым, не скрыл это от себя, не затаил своего счастья в ему несоответст-
вующей гримасе - это было простое движение к правде, которое мы не
можем отнести, как к своему источнику, ни к какому внешнему воздей-
ствию на человека природы ли, других ли людей; это истекало из его пер-
воначального устройства. И когда впоследствии, уже стесненный и при-
родой, и еще более людьми, он уже скрывал счастье свое под гримасой,
или питал злобу под личиной расположения, и ненавидел эту личину, эту
гримасу, все свое исковерканное существование, - он ненавидел свое стес-
нение в силу неудержимого стремления быть свободным, преодолеть кото-
рое окончательно не могло самое продолжительное давление извне. И, на-
конец, когда всякий человек, на время пересилив свой страх перед этим
давлением, осудит его как зло и разобьет хоть частицу этого зла, изранив
себя, - он испытает чувство внутренней гармонии, незнакомое ему преж-
де, которого источник лежит также в его первоначальной природе. Мы не
только не наблюдаем, но и не можем вообразить себе какого-либо внешне-
го побуждения, которому обязаны были бы своим происхождением только
что приведенные акты психической жизни.
И вместе с тем по всему своему складу, по своему направлению и,
следовательно, источнику, эти акты разнородны. Из них первый имеет отно-
шение к внешнему, но лишь как созерцание его, соответственно которому
устанавливается то или иное содержание в душе человека и, установив-
шись, выражается извне без всякой перемены на пути выражения своего.
Здесь, таким образом, обусловливающее есть объективная действитель-
ность, с которой сообразуется действительность субъективная: это область
разума, созерцающего, познающего, вечно обнажающего перед собою мир.
Во втором случае, наоборот, внешняя действительность есть изменяемое
человеком сообразно его внутреннему содержанию: она удаляется или ос-
тавляется в покое, но не во внимание к ее собственному значению, но лишь
во внимание к своему значению для человека: это есть сфера его воли
стороны деятельной, силы самоутверждающейся и отрицающей силу вне-
шних препятствий. Наконец, в третьем случае главное есть также внутрен-
нее состояние человеческой души, но не пассивно устанавливающеся со-
образно объективной действительности, а силящееся стать к ней в гармо-
нические отношения, покорные высшим нравственным законам. Здесь нет
отрицания внешних предметов, нет и желания от них уклониться, не изме-
няя их, - есть усилия встать с ними во взаимодействие, покорить и их за-
кону, который царит внутри человека, и в меру покорения этого теснее и
теснее сливаться с ними, до осуществления совершенной гармонии между
собой и всем миром.
156
Это все относится к форме чувства, вечно волнующегося то счастьем, то
горестью, то ожиданием, то отчаянием - смотря по перипетиям борьбы че-
ловека с окружающей его действительностью.
VI. Три указанные элемента человеческой духовной природы заключают
в себе каждое: некоторую деятельность, как усилие перейти отданного, уже
достигнутого состояния, к другому, еще не испытанному; направление, в
котором этот переход совершается; закон, по которому он совершается.
Последний есть некоторая идеальная норма, по которой совершается наше
мышление, усиливается или ослабляется воля, волнуется чувство: все это
происходит не хаотично, несет на себе черты порядка, который, наблюдая,
мы называем законом души человеческой. Его нарушение, его расстрой-
ство, -точнее, выход из-под его владычества психической жизни человека -
делает для нас непонятной эту жизнь, непроницаемо темной; и ничего в ней
не различая, не осмысливая ее своим закономерным умом, мы называем ее
бессмысленной, безумной. Она продолжается, но не по законам, которые
одни нам известны, по которым устроена наша душа, - и мы перестаем с ней
взаимодействовать, как светило, движущееся по закону тяготения, не взаи-
модействует с полетом светового луча, подчиненного другим законам. Во
всяком случае, из факта непонятности для нас, непостижимости, и не только
мыслей человека безумного, но и желаний, но и чувств его некоторых, мы
можем умозаключить, что есть норма, закон для души человеческой, и при-
том во всей целости ее сложного строя.
Направление деятельности душевной вытекает из соотносительности
души человеческой с некоторыми идеалами, как гранями этой деятельности,
как ее последними целями. Нет сомнения, что в первоначально устроенной
душе нет никакого ведения об этих идеалах, никакого ощущения их дейст-
вительности и, следовательно, не может быть отчетливого к ним стремления;
есть именно только соотносительность; но, как в силу подобной же со-
относительности дыхательные органы рождающегося существа, едва досту-
пен им станет воздух, тотчас потянут его в себя и с первым,уже предуготов-
ленным дыханием весь организм рожденного забьется новой жизнью, - так
точно и по той же причине первозданно устроенная душа, от первого и до
последнего своего движения, все, что делает, - это лишь соотносится, только
взаимодействует с далекими, предустановленными для нее идеалами, и в меру
этого взаимодействия живет. Ее к ним стремление, их вечное искание, и по
источникам, и по качествам своим, и даже по результатам, есть то же, что
безотчетное, не мотивированное и не намеренное, но, однако, невольное и
необходимое искание младенцем питающей его груди.
VII. Эти идеалы, мы уже сказали, есть истина, добро и свобода. Вне
соотношения к ним - нет жизни для души; нет для нее деятельности, как
только прекратится в ней различение истинного от ложного, доброго от зло-
го, и рабства от свободы. Они не сводимы друг к другу, не слиянны; нельзя,
пожертвовав которым-нибудь из них, думать, что потерю можно вознагра-
дить удвоенным стремлением к другому.
157
Таким образом, природа человеческая полиформна, а не унитарна; и
она не статична, а динамична - вот две истины, поняв которые, мы на весь
сложный мир истории и жизни получаем совершенно иное воззрение, чем
какое открывается на них же с точки зрения идеи счастья, как единственного
руководительного для человека начала.
Что именно содержится в этой идее, нами было показано выше. С такой
же полнотой мы должны обнаружить и ряд выводов, внутренне содержащихся
в только что найденном положении. Но не излишне будет его формулировать
предварительно более раздельно и точно:
1. Все-ведение есть первое назначение человека, и мысленное ко всему
отношение - есть первое содержание его жизни; в этом его верховный
долг, и на это же - неограниченное у него право. Заметим, что под «всем»,
чего ведение есть цель человека, мы разумеем не предметное что-либо, т. е.
не безусловно все мироздание; возможно, что есть в нем некоторые части,
абсолютно не соотносящиеся с разумом человека и, следовательно, навсегда
и безусловно закрытые для его ощущения, для его представления или мыш-
ления, вообще для его ведения. Но под «всем» мы разумеем полноту задат-
ков к ведению, которые уже от начала содержатся в разуме его и навсегда
определяют собою грани того, что может быть узнано, вмещено им в себя.
Этот термин «все» необходимо должен быть введен в определение цели
человеческой деятельности, чтобы указать на принудительность возрастания
в ней для всякого, на существование для нее постоянно достигаемой, далекой
1рани, которая ни у кого и никогда не должна теряться из виду. Только с этою
обязанностью, трудной и, однако, уже наложенной на человека, может быть
соединено и радостное для него право на всякое единичное знание.
И, в соответствии со сказанным, нет никакого права на усилие скрыть
истину от себя ли, или от других; и всякое подобное усилие, как не опи-
рающееся ни на какое право и противоречащее основному долгу, есть пер-
вое преступное в человеке, к чему по испорченной своей природе он спосо-
бен и от чего он должен быть удерживаем.
2. Добро есть второе назначение человека и его осуществление есть
второе содержание его жизни; т. е. приведение внешней действительности
в гармонию с миром идеалов, скрытых в той части человеческой природы,
которую мы называем чувством.
Есть три постоянные и несводимые друг к другу идеала, влечение к кото-
рым первозданно в человеке: нравственное, справедливое и прекрасное.
Первое относится к мотиву всякого действия, как чисто душевному состоя-
нию, с которым оно совершается; второе - к объективной основе его, т. е. к
ряду предшествующих фактов, в которых скрыто право на совершение этого
действия; третье - к образу его совершения, вообще к внешности всякого
факта, которая должна известным образом гармонировать с внешним же
созерцанием человека.
Что все эти идеалы разнородны, это можно видеть из единичных фактов,
в которых они не совмещаются: так, в знаменитой притче о блудном сыне,
158
возвращающемся с раскаянием к отцу, право последнего - не принять сына,
обязанность же нравственная - принять. В первом случае отец опирался бы
на прошлую действительность сына, конечно, ни в каком соотношении не на-
ходящуюся с пользованием в последующее время теплым кровом и сытною
пищею; но жалость к несчастью его в данный момент, но сострадание к изму-
ченной его совести, но нравственный долг и отцу, и всякому даже посторонне-
му, повелевает открыть ему свой дом и допустить его к своему столу.
Прекрасное вовсе не имеет отношения к нравственному и справедливо-
му: всякий поступок, дурной или хороший, может быть внешне красив, при-
влекателен для созерцания; как, наоборот, всякий же поступок может быть
безразличен с точки зрения внешней красивости, хотя бы он был и спра-
ведлив, и нравственен. Вся деятельность Алкивиада безусловно была без-
нравственна; но вся же до последней своей черты она была и изящна; как,
напротив, тускла была в этом отношении и личность, и жизнь его высоко-
нравственного соперника, Никия*. Аристид был идеал справедливости в древ-
нем мире, и однако, эстетики даже в политике, афиняне скучали им, как иног-
да муж скучает верной, но некрасивой женой; и отдались в руки Фемистокла,
бессовестность которого была всем известна. Раздельность этих идеалов еще
отчетливее видна в поэзии и вообще в искусстве: древняя скульптура вся
чувственна, особенно в поздних, самых великих своих проявлениях; и чув-
ственна вовсе не по сюжетам только, не по содержанию: нет, она чувственна
по мотивам, по замыслу, по знойному и тяжелому дыханию, которое слы-
шится за резцом, который выводил ее чудные линии; и все-таки самых стро-
гих людей, и у всех народов, вот уже два тысячелетия она влечет к себе. Гора-
ция мы более любим, чем строгого Ювенала; и даже в наше время как при-
влекает всех Гейне и как всегда и все оставались равнодушны к нравоучи-
тельному Клопштоку.
Многим представляется, что эстетическое чувство воспитывается в нас,
образуется; и что в прошлом народы также лишь медленно доразвились до
него; равно как, думают многие, нет одного идеала красоты для людей, но все
понимают под красотой различное.
На это следует заметить, что воспитываться можно лишь в том, к чему
задаток уже есть: к мудрому от рассудительности, к героическому от нрав-
ственно порядочного; а душу человеческую мы только и понимаем, как ряд
задатков (однако определенных и к определенному), но не готового чего-
либо, не сформированного уже. Да и самое прояснение в истории будто бы
идеалов красоты едва ли не в значительной степени было лишь изобретением
способов ее выразить: архитектура в век Гомера была груба, несовершенна;
но отчего же так прекрасны песни Гомера? Ведь это чувство меры, гар-
♦ У Фукидида приведены речи Алкивиада (и так же Никия) перед знаменитым
походом в Сицилию, которыми неудержимо восхищаешься именно за смысл их, за
мотивацию; и, в то же время, ясно чувствуешь их полную лживость, наглую бессове-
стность.
159
монии, какое мы видим в них, оно живет и во всех искусствах; и каким обра-
зом, если высоко по осуществлению одно из них, может быть низко по за-
мыслу, по порывающемуся к выражению чувству, другое искусство? Не ско-
рее ли низко оно только по средствам выражения?
Далее, что касается до различия в руководительных идеалах, то едва ли
так велико оно и едва ли имеет тот смысл, какой ему приписывают. Ведь
думать, что у негров и малайцев есть иной идеал красоты, чем у белой расы,
- значит все равно, что думать, будто есть для них иное, чем для нас, про-
странство, на основании того, что все их пространственные понятия так не
похожи на определения нашей геометрии. Мы здесь должны различать сте-
пень способности к одному, но не видеть различия в том, к чему способ-
ность. Книга Эсфирь или греческая статуя, будучи произведены гением, по-
нятны всякому же гению, к какому бы народу и времени ни принадлежал он;
несмотря на то, что уже современникам из среды своего же народа, вероят-
но, многим сильнее нравилось что-нибудь более грубое, не так совершен-
ное, как эти чудные памятники воображения и мерной красоты.
3. Свобода есть третье назначение человека и ее осуществление есть
третье содержание его жизни.
Свободу нужно здесь понимать как внутреннюю, так и внешнюю; пер-
вая состоит в отсутствии боязни выразить свое внутреннее содержание и она
зависит от нас; вторая есть отсутствие наружных стеснений для этого выра-
жения и она зависит от других. В этом наружном стеснении иногда выра-
жается вера, убеждение, предполагаемый долг со стороны других и оно мо-
жет быть, таким образом, простой ошибкою; напротив, во внутренней бояз-
ни всегда сказывается равнодушие к истине и излишняя любовь к себе, к
своему положению между людьми.
Сила, с которою развивается чувство внутренней свободы, почти всегда
бывает обратна той, с которою давит стеснение внешнее: от этого времена
наибольшей внешней свободы бывают нередко временами безграничного
внутреннего рабства, и наоборот.
VIII. Теперь, разъяснив смысл трех конечных целей человеческого суще-
ствования, мы можем перейти к выводу регулирующих норм для челове-
ческой деятельности, которые, извне ограничивая ее, внутри себя открывают
для нее неограниченный простор.
1. В трех идеалах заключено внешнее мерило хорошего и дурного для
человека, независимое от внутренней его удовлетворенности и санкциони-
рующее эту удовлетворенность, но не ею санкционируемое.
И в самом деле, хотя источник стремления к указанным целям лежит в
первозданной природе человека, однако то, чем оканчивается стремление
(какая-либо единичная истина, единичный справедливый поступок), имеют
внешнее относительно его положение; оно более отделено от природы его,
не так тесно и внутренне слито с нею, как слито ощущение счастья, через
которое оценивается все согласно с рассмотренной ранее идеей. И самое
ощущение это, равно как и всякое внутреннее движение, получают в этих
160
объективных, достигаемых вещах, которые несомненно хороши, свое измере-
ние и оценку как хорошего или как дурного.
2. В гармонии совести своей с тремя указанными идеалами человек
имеет неразрушимое ядро для своей деятельности, восходящей по праву
своему и необходимости к Воле, Создавшей его первоначальную природу.
И в самом деле, покой души, которая, однако, деятельна и притом в направле-
нии трех указанных идеалов, есть нормальное и первичное состояние чело-
веческой природы, которого сохранение есть благо, а нарушение есть сово-
купность всякого зла, привходящего в истории и, следовательно, временно-
го, не необходимого. Зло можно именно определить, как отклонение челове-
ка от его первозданной нормы, происходящее от воздействия на него
физической природы, или от столкновения с людьми, или от других условий,
во всяком случае только не первозданных: это есть самое общее, точное и
вполне выражающее сущность зла, его определение. И так как уклонение от
зла есть всегда благо, то возвращение человека к указанному покою, т. е. к
восстановлению гармонии между своей деятельностью и первозданными
влечениями своей души, - есть для него право, первичное, ни на что не опи-
рающееся и не нуждающееся ни в какой опоре. Оно так же свободно от
нужды для себя в каких-нибудь внешних оправданиях, как человеческая при-
рода в своем устройстве свободна от нужды для себя в какой-нибудь посто-
ронней санкции. Правда, и для природы этой, и для этого права есть санкция,
но она уже выходит из пределов человеческого ведения и его возражений:
она лежит в воле Творца, из рук которого вышел человек и с ним указанное
его первичное право. Они равновечны, одинаково безосновны; и как в чело-
веке и его силах лежит физический источник его деятельности, так и в этом
праве заключен ее идеальный родник.
3. Личность всегда есть целое, по отношению к которому общество
есть агрегат, но не организм, приспособляющий ее к себе как свою функцию
или изменяемую часть. Это прямо вытекает из взгляда на первозданную при-
роду человека как вечное зерно его необходимой деятельности. Нет ничего в
обществе, ни даже самое его существование, что было бы столь же первично
и необходимо, что так же связано было бы с санкцией Высшей Воли, как связан
с нею ум человека, его сердце, его свободная воля. Поэтому общество образу-
ется вокруг человека как по отношению к нему вторичное и изменяемое; но
не оно распадается, как первичное, на мир индивидуумов как своих вторичных
органов. Индивидуум первее общества; и он содержательнее его, как носитель
главных и ненарушимых норм всякой человеческой деятельности, всей исто-
рии. Без связи с этими нормами, без питания от них и, следовательно, связанно-
сти ими - общество есть механический агрегат, пустой от какого-либо смысла
и значительности. И если в нем может быть и действительно есть также священ-
ный характер, глубокий и вечный смысл, то это лишь в силу его связанности
указанными нормами, коренящимися в индивидууме.
4. Сообразуемость общества, как агрегата, с индивидуумом, как нена-
рушимым целым, есть подчинение принципов коллективной жизни закону
6 Зак. 3969
161
нравственности личной. И в самом деле, насколько стремление к трем ука-
занным идеалам проявляется в жизни индивидуальной - оно образует сферу
нравственного. Не всем доступно приближение к этим идеалам, наприм., в
сфере умственной - нахождение новых истин, расширение сферы челове-
ческого ведения; громадному большинству людей едва лишь по силам со-
блюдение принципов этих идеалов в своей личной жизни. Но в чем же состо-
ит это соблюдение? По отношению к истине - это будет простая правди-
вость жизни; по отношению к добру - сострадание к непосредственно
открывающемуся горю людскому; по отношению к свободе - степень л<у-
жества, достаточного, чтобы не отступить перед неприятностями, какие
связаны с правдивою и доброю жизнью среди людей, часто и не правдивых, и
не добрых. Будучи очень кратки по выражению, не простирая действия сво-
его за границы личного существования, все эти черты по своему происхож-
дению коренятся в первозданной природе человека и, следовательно, восхо-
дят к санкции высшей, какая может быть. Своею совокупностью они образу-
ют нравственную жизнь, и невозможно придумать какого-либо поступка,
который, нося обычно имя «нравственного», не был бы в то же время прояв-
лением которой-нибудь из этих черт, или всех их вместе.
Коллективная жизнь, насколько она должна быть подчинена принципам
индивидуального существования, может сделать это лишь через проведение
по всему своему строю этих же нравственных черт. Именно они составляют
неразрушимое ядро индивидуальной деятельности, ненарушимый покров
над личностью; и, следовательно, именно к ним относится положение, что
общество есть агрегат, сообразующийся с индивидуумом, а не организм, его
сообразующий с собой. И самое сообразование, таким образом, может со-
стоять лишь в продлении закона нравственности личной в необозримый мир
отношений коллективных.
5. Принципы коллективной жизни, насколько они уже согласованы с
законом нравственным, подчиняют себе волю единичного лица с силою,
правом и необходимостью, с какою она подчинена священному закону сво-
его человеческого назначения. Общество и индивидуум, насколько они вы-
ражают в своей деятельности один закон человеческого назначения, находят-
ся между собою в совершенной гармонии. Дисгармония между ними начи-
нается лишь с момента, когда или индивидуум, или общество проникаются
иными принципами, нежели какие заключены в трех указанных идеалах. Ког-
да иным проникается общество, индивидуум имеет священное право вос-
стать против него; он может быть при этом подавлен, побежден, — но подав-
лен лишь силою, а не правом, и его гибель будет столь же стихийна, как
стихийна смерть от упавшего на голову камня или от удара молнии. Может
быть, наоборот, случай, когда индивидуум, под воздействием приобретен-
ных страстей или случайных обстоятельств жизни, будет влечься идеалами,
противоположными трем указанным. Этим влечением общество может по-
ложить преграду, и здесь оно будет уже действовать с правом против стихий-
ной силы личности. И если в коллизии этой личность погибнет, она погибнет
162
как атом природы, как физическая вещь, которая уже ранее лишена была
какого-либо нравственного содержания, человечности.
6. Будучи разнородны и равнозначущи, истина, добро и свобода не мо-
гут быть поставлены одно к другому в отношение средств и цели. Здесь,
таким образом, кладется предел для произвола человека в выборе себе средств,
который, наоборот, снимается с него идеею счастья как единственного верхов-
ного начала его жизни. Пожертвование истиной, совершение несправедливос-
ти, причинение страдания - всегда дурно, для чего бы оно ни происходило;
тогда как с точки зрения отвергнутой нами ранее идеи - оно всегда хорошо,
когда происходит д ля осуществления большего наслаждения, нежели то стра-
дание, какое связано с нарушенной правдой, употребленной ложью, и пр.
IX. От этих общих положений, которые определяют собою единичные
акты жизни индивидуальной и коллективной, мы можем перейти к опре-
делению истории и ее главных факторов, которые в свете истинного назначе-
ния человека получают иной и лучший смысл, нежели какой они имеют в
свете утилитарной доктрины.
1. Процесс истории есть последовательное раскрытие человеческого
духа, как некоторой системы предустановленных задатков, движимое си-
лою их влечения к тому, к чему они суть задатки.
Задаток есть некоторая реальность, которая предполагает собою другую, с
нею соотносится и ее определяет собою, равно как и, обратно, ею опреде-
ляется. Разум как способность только, как исходящий свет - не содержит в себе
еще никаких освещаемых предметов, никаких объектов, могущих стать пред-
метом его познания; и, одновременно, он есть способность уже к чему-то,
есть освещение для чего-то, что вне его лежит и, однако, с ним соотносится.
В этом смысле человеческая природа есть как бы медленно прозреваю-
щий глаз, есть вечно пробуждающийся дух. Не все одинаково быстро он мо-
жет понять, усвоить, хотя ко всему, что усваивает медленно и с таким трудом,
у него уже есть предрасположение, задаток. Все предустановлено в нем, но
не в полноте реальности своей, а лишь задатком своим, как бы отражением
только; по этому миру отражений, полутеней, которые и образуют собою
его первозданный дух, он восходит к предметам отражающимся, которые
образуют собою Вселенную. Это восхождение и есть история. Нет хаотично-
сти в ней, какой-либо беспорядочности: все последующее в ней зрелее, чем
предыдущие, все - полнее реальным содержанием, которое медленно на-
полняет человека как систему идеальных для него схем. В этом поступатель-
ном движении нет возвратов, как и нет значительных колебаний: листья и
ветви опадают, сучья обламываются ветром, но «древо жизни» растет к вер-
шине - туда, где оно должно снести плод.
В этом общем процессе человеческого возрастания появляются, как мед-
ленно созидаемые его продукты, философия, искусство, и ранее их - семья,
государство.
2. Государство в процессе своего созидания есть система восстанов-
ленных и охраняемых прав, как ограничений для воли человека в ее отноше-
163
нии к другому человеку Мы не сказали «созидаемых прав», потому что это
существенная, хоть и всегда позабываемая особенность чистого государства,
что оно ничего не творит и не может творить, но лишь оберегает то, что в его
пределах творится иными созидающими силами человечества. И в самом
деле, право по самой своей сущности относится к прошедшему факту, из
совершения которого оно вытекает и тогда уже становится само фактом:
итак, сохранить его - есть все, что может государство как правовой орга-
низм; потому что факт, из которого зародилось право, сам был совершен вне
всякого права (хотя и без его отрицания), и если он был выполнен государ-
ством, то вовсе не в правовом его значении: но как народом и его вождем,
этими живыми деятелями истории, которые столь же мало суть государство,
как философ - сама философия, или священник - религия.
Но, не созидая права, государство восстановляет отнятое право и охраня-
ет всякое приобретенное. Установление точного соотношения между фак-
том совершенным и правом, из него вытекшим, есть постоянная и ни с кем
не разделяемая функция государства, которая проявляется в его законах.
Объект закона, то, о чем он говорит, - есть именно подобное соотношение
которое является нормою для деятельности всех граждан. Каждый из этих
последних имеет круг свободы, в пределах которого он движется со своим
желанием, и круг этот определен предварительно деятельностью его, или
ради него совершенною: так, рожденный имеет свободу лишь создавать, —
силу способностей, ему переданных в рождении: это его первичное право*
создав, он имеет свободу владеть созданным: это его другое право, приобре-
тенное; владея, он имеет свободу передать - в меру того, насколько создал
не получил обладаемое. И это все как в личных отношениях, между единич-
ными людьми, так и в коллективных, исторически возникающих. Группа лю-
дей, особенно потрудившихся в созидании силы и величия государства (не
как правового организма, но как территории, как совокупности реальных
вещей), имеет долю участия в распоряжении этою силою и в пользовании
плодами этого величия: отсюда право представительства, ограничение воли
государей там, где вовсе не все было создано их умом и доблестью.
И какое бы другое право мы ни взяли, мы всегда увидим, что оно коре-
нится в совершенном ранее факте. «Suum cuique» утверждает каждое право*
что же такое это «suum», которое оно охраняет за «каждым»? Это есть вытек-
шее из акта, «каждым» совершенного, как последствие вытекает из своей
физической причины, - но вытекшее идеально, в силу особенной зависимо-
сти, которую мы называем справедливостью.
Соответственно этой главной сущности государства, отправление право-
судия есть центральная его функция: без нее государство превращается в
простой хаос территорий и людских масс, как бы могущественны, деятельны,
предприимчивы ни были эти массы; с ней, во всем другом покоющееся
государство есть все-таки государство в совершенно строгом значении.
В противоположность этой только охранительной, строго неподвижной
своей стороне, государство имеет в себе и часть деятельную: это политическая
164
его сторона, всегда устремленная, всегда достигающая. Начало пользы* есть
господствующий принцип здесь, как начало права есть принцип в только что
рассмотренной его стороне; в противоположность факту, из которого выте-
кает право, принцип пользы стоит впереди факта: он, как цель деятельности,
влечет за собой факты, вызывает их.
В исторически возникавших государствах «польза» всегда понималась
только эмпирически: что-нибудь поняв как полезное, «признав за благо»,
государство осуществляло признанное таковым в пределах данных ему сил;
причем нередко происходило, что «благое» в одно время признавалось за
«зло» в другое. А главное, самое «благо» являлось таковым в сознании госу-
дарств лишь в силу какой-нибудь ощущаемой потребности, нужды, нередко
бедствия. И никогда, ни в каком государстве идея «блага», начало «пользы»,
не разлагалась на всю совокупность входящих в нее подчиненных понятий, и
никогда никакое государство не согласовало свою деятельность с принципом
блага в его целом, но лишь в некоторых его частях.
По этим частям распадалось государство на свои функции: безопасность,
как один вид блага, вызывала организацию его военных сил; просвещение,
как другой вид блага, вызывало в нем организацию учебного дела, и т. д. Без
дальнейших пояснений очевидно, что принцип пользы, никогда во всей пол-
ноте своей не осуществленный еще, есть как бы жизненное начало, органи-
зующее государство соответственно своему логическому строю, одушевля-
ющее его, движущее, устремляющее.
Соответственно этой второй задаче, государство можно определить так:
оно есть организм учреждений, в своем строении и в своей деятельности
осуществляющих единичные сознанные виды блага (пользы), которое в идее
своей есть одушевляющий принцип всего этого организма.
Это второе определение выражает динамическую сторону государства,
как предыдущее выражает его статическую, главную сторону.
3. Семья есть организация, ближайшим образом возникающая около
индивидуума, физиологически слитая с ним, но остающаяся и после его
смерти как ряд индивидуумов, вновь образующих около себя каждый по-
добную же организацию.
Семья первее государства, ближе к индивидууму, нежели оно; она священ-
нее государства и, рассматривая ее отношение к последнему, мы должны повто-
рить все то, что сказали ранее о ненарушимых законах индивидуального суще-
ствования в их отношении к правилам жизни коллективной. Из семьи может
возникнуть государство, и история знает примеры подобного возникновения;
напротив, государство, в недрах которого разрушена семья (или ослаблена, по-
шатнута), так же мало может продолжать жить, как животное, в крови которого
исчезли или заражены красные и белые, ее оживотворяющие, клетки.
♦ Здесь нужно иметь в виду то ограничение понятия «польза», какое было сдела-
но выше, гл. I, XIII: именно разуметь под нею все виды блага, посредственно твори-
мого и в силу не прямых мотивов.
165
Как индивидуум есть носитель первозданных нравственных законов, так
семья есть сфера их особенного обнаружения и действия. Чувства прав-
дивости, добра, свободы здесь проявляются невольно; и проявляясь посто-
янно здесь, они крепнут в человеке, чтобы не пошатнуться и в более суровой
среде строго объективной жизни, далекой от индивидуума, его личной жиз-
ни, его семьи. Нарушение нравственных начал встречается в семье как исклю-
чение; как исключение, является злоба против отца со стороны сына, или
против сына со стороны отца; даже простое равнодушие есть здесь уже не-
нормальность, болезнь, уклон; напротив, взаимный индифферентизм нор-
мален в обществе, злоба - не редка в политических отношениях. То же можно
сказать об обмане, зависти, о страшном внешнем гнете. Все это если и явля-
ется в семье, то большею частью вносится в нее объективными, наружными
влияниями и чаще всего зависит от государства; до его сложения, в патриар-
хальной семье, мы встречаем высочайшие образцы нравственности, недося-
гаемые идеалы чистой, неиспорченной человечности (Библия; Магабарата*
гомерический эпос).
4. Наука и искусство по своему происхождению восходят также к пер-
возданным частям человеческой природы - к ее разуму и к чувству красоты
в ней. В силу этого они в своем развитии не согласуются ни с требованиями
государства, ни с требованиями семьи, - не по противоположности с их прин-
ципами, но по различию, неоднородности. Между ними нет антагонизма*
есть простое несоответствие, в силу которого они как бы слепы друг к другу.
Помогать взаимно они могут одно другому, согласуясь для помощи этой в
цельной природе человека, этом центре, из которого исходят всякая наука и
всякое государство; только останавливать друг друга, стеснять - они не мо-
гут: для этого у них нет основания, опираясь на которое они по праву стесня-
ли бы.
Вообще следует заметить, что никакой человек не есть только член госу-
дарства: он член государства лишь некоторою частью своей природы, и от
связи с ним свободны его другие стороны. Этими сторонами своими он
может быть философ, поэт, нравственный проповедник, - и все это так же
мало связано с государством, как плывущие по небу облака мало связаны с
морем, над которым они проходят; оно может быть покойно и в поверхности
вод своих отразить эти облака, но может быть и бурно, ничего в себе не
отражая. Здесь, в отсутствии крепости человека одному чему-либо, лежит
источник его свободы: он лишь участвует во всем, что вне его, но живет он
только с собою самим, наедине с первозданной своей природой.
X. Религия восходит к самому источнику, из которого вытекла эта перво-
зданная природа, и который ее определил в зачаточных ее влечениях. Таким
образом, от всего, что мы только что рассмотрели, она так же отличается, как
целое от разрозненных своих частей, и притом целое - этим частям предшест-
вующее и их порождающее из себя. Во всем другом, мы сказали, человек
лишь участвует; под религиею же он живет: она обнимает его всего, ко всему
его просвещает, от одного удерживает, к другому нудит. Но и это исполняет
166
она только одною и второстепенною своею стороною; другою и главною -
она обращена к Тому, что несравненно существеннее самого человека и
всей его жизни: более драгоценно, более значуще для всего мироздания.
Нет религии, которая научала бы лжи, внушала бы злобу, делала бы чело-
века трепетным рабом перед другими людьми. Уклон к добру, таким образом,
есть во всех религиях; но во многих из них этот уклон закрыт чрезвычайным
множеством наростов, из которых некоторые могут показаться даже злыми.
Очевидно, в религиях человек как бы искал для себя какой-то окончательной
истины, но, часто не находя ее, только блуждал на пути к истине. Однако они
все возбуждают в нас интерес и даже сочувствие именно потому, что они на
пути, - что в них сказалось лучшее искание, к какому способен человек.
Есть только одна религия, в которой, по прекрасному выражению Паска-
ля, человек «объяснен вполне»; поправим и скажем: «в которой он нашел
себя». Это - христианство. Истины о первоначальном добром состоянии
человека, о его испорченности, которая явилась потом, о возвращении его к
первозданной своей чистоте, но уже в новом, изменившемся виде, уже про-
шедши по всем путям порока и зла, - высказаны в этой религии с полнотою
и ясностью, которая не оставляет человеку сомнений. Она - найденное уже,
после чего человеку остается внимать и прислушиваться, но не искать вновь,
не заблуждаться, не падать.
Здесь мы можем свое исследование окончить. Мы хотели сказать им, что
безграничного выбора добра и зла нет для человека; нет в нем темноты по
отношению к добру и злу, вследствие которой, будто бы, он может, не разли-
чая, избирать для себя что-либо по произволу. И, далее, в своей деятельности
он не одинок; он не изолирован от всего мироздания, в силу чего ему, будто
бы, предстоит лишь удовлетворять себя, насыщать, укрощать изобилием, а не
ограничением свои похоти.
Все это не так; и было бы величайшим несчастьем для человека, если бы
он был в самом деле столь слеп, как иногда ему хочется этого. Он, его приро-
да - не безразлична ко всему; но к одному относится положительно, к друго-
му - отрицательно. И хотя со временем положения и отрицания его действи-
тельно перемешиваются, человек уже влечется к тому, что ранее ненавидел,
- но существенно, что в начале именно они совершенно раздельны. Никогда
человек не влекся сперва к несправедливости и затем к справедливому; ни-
когда не старался он образовать в уме своем сперва заблуждение, а потом
уже истину; и так же во всем прочем. Всякое зло для него было всегда только
нарушением добра; но добро не было нарушением зла, а лишь пересилением
его и возвращением к добру более раннему. Оно есть primum; зло же всегда
есть secundum, привнесенное. Только на этом основана и возможность борь-
бы с ним, усилие от него освободиться; ибо усилие от первозданного осво-
бодиться - психически невозможно: от него можно только уклониться, впасть
в это уклонение как в несчастие, как в бедствие.
167
Раз первозданно существуют в человеке постоянные влечения, они для
него священны, потому что не выбраны им, не придуманы, - не изобретены
и поставлены перед собою как цель. Итак, они принудительны для всех людей
и во все времена. Под их охраною каждый свободен от всех; все, уклоняясь от
них, будут не правы против одного, который остался верен им. Если все заб-
луждаются и я один говорю истину, - прав я, а все только заблуждаются. Но
прав я не своею личною правотою, а верностью тому, что над всем человече-
ством стоит как закон.
Очень элементарны эти первичные побуждения человека, но важно, что
все они совершенно разнородны; от этого элементарность их вечно раз-
растающаяся и усложняющаяся в истории. И человек элементарен, когда он
закладывается как организм: простая продольная в клетке линия, и два утол-
щения на концах ее. Но как сложен организм, который из этой именно про-
стоты все яснее и яснее развивается, становясь больше, делаясь полнее со-
держанием, но вовсе без какого-либо нарушения и уклонения от первона-
чального плана.
Так и жизнь человека, вся исходя из немногих элементарных влече-
ний, возрастает мало-помалу в необъятную сложность истории. Это
возрастание происходит столь же планомерно, так же невольно, как и раз-
витие организма; и в нем мы можем различить истинное от ложного,
норму от уклонения. Не только для будущего совершения, но и для ми-
нувшей жизни в этих элементарных движениях души человеческой содер-
жится указание высшего закона, и с тем вместе - критериума для произ-
несения суда над всем.
Дух человеческий, мы уже сказали выше, есть как бы замысел, а история
есть осуществление этого замысла. Ничего нет в нем реального, что было бы
уже фактом, вещью совершенною, оконченною хотя бы идеально; нет в нем
желаний сформировавшихся, мыслей отчетливых, чувств определенных; нет
«врожденных идей», по терминологии прежних веков. Но это отсутствие чего-
либо реального, сформировавшегося, так же мало свидетельствует о нем как
о tabula rasa, как полное отсутствие не только выведенных стен, но и фунда-
мента в предполагаемом здании, мало доказывает пустоту листа бумаги, с
которым художник осматривает местность, где оно будет строиться. Пройдет
время, и стены начнут возводиться в строгой симметрии; поднимется купол,
все ходы замкнутся; мусор снесется в сторону, - и перед взглядом зрителя,
который готов был принять художника за такого же праздного и случайного
посетителя местности, как он сам, явится оконченное здание, перед которым
он невольно произнесет: «Был план для него и только не виден он был до
времени».
Рассмотрение первозданной природы человека есть именно познание
первичного плана истории: он прост, незначущ по-видимому, весь состоит
из кратких отметок, показывающих лишь направления. Но направленное
необъятно будет после выполнения; и, выполняясь, оно способно занять
жизнь человеческую трудом на всем ее протяжении.
168
Самое существенное в этих отметках - различие в их направлении и от-
сутствие в них единичности. Нет поэтому унитарности в жизни человека;
есть в ней разнообразие и, в этом разнообразии, свобода частей. Ее сковыва-
ет, ее держит в повиновении, конечно, воля, но только не самого человека, и
это одно для него важно. Важно, что нет надо мною подобной мне воли,
которой и должен бы повиноваться более, чем требованиям своей совести. И
чем яснее, чем тверже в сознании человека становится это понимание себя,
тем менее будет от него требоваться, чтобы он служил подножием к чему-то,
средством для достижения каких-то высших и далеких целей. Нет целей выше
и дальше тех, какие он знает про себя, которые он носит в своей природе. К
ним стремясь, их осуществляя, он может перед многим преклониться; раз-
мышление о них, об их предвечном источнике может наполнить его душу
трепетом и благоговением. Но чем эти чувства будут в нем глубже, тем ме-
нее может он сделаться рабом чего-либо, неосмысленным, принуждаемым,
бессильным противостать. Между тем подобным именно рабом он является
теперь всюду; и это рабство глубоко связано с его кощунством, цинизмом,
взглядом на себя как на простую вещь. И в самом деле: «раб - только вещь»
(конечно, физическая), как определили уже римляне. От этого-то и есть он
только орудие, в руках ли единичного господина, или господствующего «боль-
шинства»: не важно, сколькие владеют им; важно, что именно «владеют», от
этого он раб.
Многим представляется, что от этого «владения» получаются результа-
ты большие, чем какие могли бы быть получены при индивидуальной сво-
боде. Именно эта жажда «большего» так и сплотила человечество в компак-
тную массу, где неразличимы уже лица, где не слышны крики индивидуаль-
ной совести, индивидуального страдания. И это сплочение чем дальше, тем
все усиливается. Неясные легенды прошлого становятся отчетливой действи-
тельностью: громадная ликующая толпа у подножия чудовищного идола, в
раскаленную пасть которого, чтобы было это ликование, входят немногие;
они постоянно входят, периодически, потому что периодически возникает у
множества эта потребность оживления, ликующего восторга при виде, как
некоторым больно и трудно.
Давно прекратились человеческие жертвоприношения, но лишь в этой
конкретной и миниатюрной форме, какую одну знала древность: на место ее
выросла форма более абстрактная, более всеобъемлющая и не менее прину-
дительная; огромные массы людей повсюду, в каждый момент, самими раз*
нообразными способами гибнут, чтобы «всем было так хорошо, как теперь».
Но действительно ли хорошо даже? не напрасна ли эта гибель? не голодно ли
вечно, как медный идол древности, это вечно алчущее человечество, пожи-
рающее свои члены?
Быть может, хоть этот неутоляющийся голод заставит человека когда-ни-
будь понять, что действительно насыщает: насыщает не это обилие внешних
ощущений, не полнота наслаждений, не сытость от удовлетворившего. Пе-
чальная тайна состоит в том, что этой сытости никогда не будет, что от нее тем
169
более удалится человек, чем жаднее станет усиливаться к ней приблизиться.
Одно может удовлетворить его, это - покой совести, это - внутренний свет, о
котором так глубоко позабыл он, ища чего-то вечно вокруг себя.
И в самом деле, понятию «наслаждения», которым проникнуты этичес-
кие трактаты последних веков, которым волнуется текущая история, давно
пора противопоставить другое понятие, совсем исчезнувшее: это - понятие
«радости». Как нечто желаемое, оно одно с наслаждением, той же категории,
как и оно. Но по происхождению, но по природе своей оно ему диаметраль-
но противоположно. Радость есть чисто внутреннее ощущение, которое яв-
ляется, «когда сделано все, что нужно»; нужно не для потребностей челове-
ка, не в насыщение его, но иногда вопреки этим потребностям, ограничивая
это насыщение.
Ее источник в первоначально чистой человечности. Как идея «счастья»
соответствует внешней деятельности человека, ее обнимает собою, в ней
руководит им; так это другое понятие соответствует внутренней его деятель-
ности: сопутствует тому, что в ней правильно, и тотчас исчезает, когда эта
правильность нарушена. Мы уже сказали, что в ней скрывается истинный
источник насыщения для человека, и, действительно, об этом свидетельст-
вует история: еще никогда радующийся человек не пожелал умереть, как
этого слишком часто желал человек наслаждающийся.
Этот показатель истинен, и перед ним должны невольно склониться мне-
ния, как бы они ни были давны или упорны. Можно представить себе печаль-
ных утилитаристов двух последних веков, этих безрадостных устроителей че-
ловеческого счастья, как засветились бы они совершенно им незнакомым
светом, если б накануне какого-либо великого и уже ясного катаклизма люди
вдруг почувствовали, что они вновь братья, что ни даже малейшего страда-
ния они не могут принять в подножие своего счастья, что настала минута
бедствия, перед которой они должны обняться. И если бы миг этот прошел и
люди остались еще жить, то как долго помнили бы они, что в минуту этой
именно опасности, когда, по-видимому, никто не мог быть счастлив, они и
были только истинно счастливы. И сами утилитаристы как много незнакомо-
го им поняли бы при этом в человеке, счастье которого до сих пор они так
печально просчитывают. Перед ними вскрылись бы источники жизни, не
имеющие ничего общего с теми, какие они так бережно охраняли до сих пор
и, в заботах всячески их оградить, засыпали мусором другие, гораздо более
необходимые.
1893 год
О МОНАРХИИ
(Размышления по поводу Панамских дел)
...В Европе все не хотят понять, что естественный вид политического быта для
новых народов есть монархия; с тою же основательностью, с какою пантера,
наскучив своим пестрым одеянием, захотела бы переменить его на красивое
оперение или на крепкую чешую, они пытаются сбросить с себя тысячелет-
нюю форму государственного бытия и заменить ее новою, по выбору, наи-
лучшею... Они не находят, чтобы та, которую они носили до сих пор, была
связана каким-нибудь причинным соотношением с внутреннею их структу-
рой, - они думают, что она имеет совершенно самостоятельное, от всего
независимое существование, и ее можно, поэтому, изменить, уничтожить
или заменить другою, оставаясь внутри себя, в субъективном своем строе,
тем же, чем прежде. Споры о «наилучшей форме правления», какие с середи-
ны прошлого века и до сих пор ведутся всюду, питаются именно этим предпо-
ложением: что отделимое в рассуждении отделимо и в действительности, что
подлежащее критике может стать и предметом выбора.
Между тем достаточно самого краткого размышления, чтобы понять,
что этой свободы выбора для новых народов нет... Его нет с тех самых пор, как
они получили свое историческое бытие, тот первоначальный импульс почти
две тысячи лет назад, который определил собою и продолжительность их
исторического странствия, и его направление, и плоды, страдания, падения и
просветления, которые они должны были испытать на тогда уже заложенных
для них путях.
I
Христианство, появление новых рас на смену прежних, умирающих, и уста-
новление монархии на месте древней республики - эти три факта, отделив-
шие древний мир от нового, совершились в существенных своих чертах на
протяжении не более как одной человеческой жизни. Частное событие в Свя-
171
том Семействе, где-то в затерянной Сирии, - торжествующее появление Авгу-
ста в стенах Вечного города после битвы при Акциуме, и гибель легионов, им
посланных, всегда победоносных легионов, в холодных лесах Германии, — что,
по-видимому, могло иметь все это между собою общего? И между тем для
позднего созерцания, эти три факта в ряду колоссальных событий своего време-
ни одни выделяются, как-то странно отвечают друг другу, взаимно гармониру-
ют в дальнейшем развитии и, среди падения, оседания всего другого, одни вы-
сятся, соединяются и образуют своды нового исторического здания, под сенью
которых живем мы. Только имя истории соединяет тот древний, отошедший в
вечность, мир с нашим: ни формы, ни содержания, ни самой носительницы их,
человеческой крови, не перешло из него в новый мир: умерли расы, умер осо-
бенный дух, их оживлявший, исчезли формы, в которых творил этот дух, в кото-
рых он развивался и которые завещал нам, но только как бесплотное вос-
поминание. Все вновь родилось, и даже одновременно; но родилось разделен-
ное дальним местом и множеством замешавшихся событий, правда маливщих-
ся, уже сходящих, как тень, из поля истории; и нужно было пройти векам, чтобы
то, что от начала соответствовало друг другу, чему предстояло соединиться и
замкнуть линии осуществляемого в истории плана, сомкнулось действительно.
Христианство, религия человеческой совести, ее тревога, ее судьбы, есть
внутреннее содержание новой цивилизации; монархия, как форма, объем-
лющая это содержание, в которой оно наиболее свободно развивается по
своим внутренним законам, есть постоянная, неотделимая форма этой циви-
лизации всюду, где она растет, движется, и не пребывает только, не малится;
наконец кельтические, германские, славянские племена, как последние ос-
татки великого арийского племени, выброшенные в круговорот всемирно-
исторического движения, суть носители синтеза этого содержания и этой
формы, - очевидно, последние в истории и, следовательно, синтеза, очевид-
но, наивысшего, какой доступен человеческим способностям. Эти три эле-
мента, слившиеся более, чем полтора тысячелетия назад, подготовленные
взаимно еще ранее, в первые годы нашей эры, не могут уже быть разъедине-
ны вновь иначе, как к гибели целого, что они образуют собою - христианс-
кой цивилизации новых народов и, наконец, их самих как этнографического
материала, как племен, замещающих известные территории. Свободы нет
для них другой, чем какая принадлежит всякому до конца дней его: уйти,
нарушив законы жизни, в холодную темь вечного молчания.
II
Уже самое наблюдение античного мира, где на протяжении всех береговых
стран Средиземного моря наш взгляд не открывает ни одной монархии и всю-
ду видит республики, может внушить мысль, что было какое-то соотношение
между этою формой политического быта и духом народов тогда там обитав-
ших. После слабой борьбы и чаще даже без нее, исчезают всюду следы родо-
172
вой - преимущественной власти, которая принадлежала РаслХЕв^’у, гех’у *, - и
где она сохраняет за собой имя, как в Спарте, она не сохраняет в себе значения.
Очевидно, в психическом строе этих народов были причины, неодолимо от-
вращавшие их от исчезающей всюду формы общественного быта, и всюду же
влекшие их к новой форме, которая в очень позднее время у народа, давшего
ей наивысшее выражение, получила и свое нарицательное имя. Глубокая ана-
логия, которую мы находим между нею и всеми остальными формами творче-
ской деятельности тех же народов, еще более убеждает нас, что они все текут
из какого-то одного источника, очевидно, субъективно заключенного внутри
их создававшей расы.
Ясность природы, отсутствие чего-либо мистического в ее задатках, и
отсюда глубокая, потому что одинокая, человечность во всех ее проявлени-
ях, составляет коренную особенность античных народов, наложившую пе-
чать свою на все формы их творчества. Грек как и римлянин, первый, позна-
вая мир, и второй, покоряя его и устраивая, одинаково опирались на свои
только силы, равно не искали помощи в чем-либо темном и их влекущем, не
догадывались, не предчувствовали, не ожидали чуда, когда не было сил, и не
обращались к таинственным символам там, где переставали видеть зрение
или понимать ум. От этого в науках, в философии, как и в искусстве государ-
ственного созидания, во всем, чему можно было научиться и научить, они
стали руководителями последующих народов; для всего оформливаемого,
для всякой ясной деятельности, они нашли соответствующие формы: для
мышления насколько оно бывает точно, для поэзии насколько она может
быть правильна, для политического устройства насколько оно вытекает из
отчетливых потребностей общежития, - для всего, что не носит в себе отра-
жения ничего другого, кроме естественных сил человека, как они выражены
в могущественной и мерной, но предоставленной себе самой красоте.
Если мы спросим себя, откуда вытекала эта ясность природы, это богат-
ство спокойных и мерных форм, то должны будем ответить, что источник
всего этого лежал в чрезмерной слабости внутреннего, индивидуального
существования, в тусклой, не пробужденной личности, которая поражает
нас в каждом греке и римлянине лучшей поры их существования еще более,
чем красота и мощь их внешних сил, внешних проявлений, всегда всем об-
щих, всегда у всех одинаковых, различных лишь в мере своей, но не в выраже-
нии, не в характере, не в смысле. Гениальность, какую мы знаем в древности,
всегда была гениальностью общего; она всегда носит родовой характер, а не
исключительный, есть гениальность сил, а не личности. Особого, тайного
мира мы не только не видим, но даже и не предполагаем в Перикле, в Софок-
ле в Фидие, в Александре Великом, как не предполагаем его ни в каком рим-
лянине до очень поздней поры. От этого интерес соперничающих спо-
собностей есть почти единственный, какой провожает нас во все время, пока
мы следим за античной историей, этим широким и многообразным повторе-
♦ царь (греч., лат.).
173
нием всюду одних и тех же Олимпийских игр. Красота, но только пластическая,
без чего-либо просвечивающего извнутри, скульптурность быта, учреждений,
самой истории есть последствие этого крайнего напряжения сил к внешнему
Из этой особенности, которую мы понимаем, как недостаток, вытек пыш-
ный расцвет жизни общественной: этот неумолкаемый шум форума, эккле-
зии, публичное красноречие, публичность всех состязаний, игр, и, наконец,
публичность самой религии и поэзии, этих торжественных процессий и гим-
нов богам и людям полубогам. Не было ничего, что кто-нибудь уносил бы в
сторону от внимания всех, к себе, в уединенный мир своего личного суще-
ствования; мир общий всем, был вместе и единственным миром каждого;
вниманием, склоненным к этому миру, они все сливались в одно, и это сли-
яние, как противоположность разрозненности, проходит разграничивающею
линиею, за которую не переходят и не смешиваются античный и новый мир.
Изгнаннику, насколько он не надеялся вернуться в родной город, остава-
лось только умереть: вне шума его площади, вне тревог его граждан, у него
не было жизни; ни другая природа, ни другие люди ничего не говорили ему.
От этого изгнание в Греции и Риме было равнозначуще духовной смерти;
оно было то же, что у нас одиночное заключение в тюрьме. Был свет, была
радость только в одном тесном уголке мира - на знакомой площади, среди
известных лиц, перед дорогими колоннами родного храма. За чертой, где они
переставали видеться - где для нас раскрывалась бы еще вселенная, для гре-
ка, для римлянина была лишь темь и холод, без возможности в ней думать, к
ней что-нибудь чувствовать, с нею как-нибудь соотноситься. И был момент,
когда эта темь обнимала всех, когда этот холод сжимал члены каждого.
Это было, когда один возвышался над всеми и в свое ведение брал дела
всех. Особой жизни ни у кого не было; а жизнь их общая, одна известная им
жизнь, переставала быть заботой каждого. Не уходя из родного города, все
становились как будто изгнанниками; умолкали речи в экклезии - и не разда-
валось более никаких; не было жизни на форуме - и не было более никакой
жизни. Насколько народ не умер, усиленным напряжением сил он возвра-
щал свободу своим членам: topavvo^* погибал, а его память навеки станови-
лась ненавистной и отвратительной. Одно воспоминание о Пизистрате вну-
шало страх и к Периклу; один неосторожный жест Гракха, понятый как напо-
минание о царском венце, стоил ему жизни.
III
noXiTEta** как замена семьи, respublica как отрицание privatae rei*** есть
таким образом, не только имя, но и сущность античной жизни; было бы ошиб-
кою сказать, что древний мир не знал личной свободы, не умел осуществить
* тиран (греч.).
** полис (греч.).
*** частная жизнь (лат.).
174
ее; он ее не знал в гораздо более глубоком смысле: он не знал лица, которое
хотело бы для себя свободы. Свободен был город - и были все свободны; не
было тирана - и каждый был равен всем; в то же время он был только отраже-
нием всех, иногда более ярким, иногда менее, но всегда без прибавления к
нему чего-нибудь своего, особенного.
И вот над этим строем, так чувствующим, так созерцающим, более
чем на четыре века установилась форма, которую мы не можем пони-
мать иначе, как тиранию, всегда невыносимую прежде, всегда кратковре-
менную. Империя, несмотря на вековое привыкание к ней римлян, не
могла перевоспитать их чувств, очевидно, росших из более постоянного и
глубокого источника, нежели простой факт, хотя бы - охватывающий ряды
поколений. Но, - что не менее характерно, - и мы сами испытываем к ней
чувства, немного отличающиеся от тех, какие испытывали римляне. Но-
вые завоевания, обеспеченный внутри мир, обширные законодательные
работы и расцвет провинций, наконец не диких, наконец узнавших и на
своих наречиях поэзию, литературу, зачатки наук, все это не изменяет в
наших глазах смысл эпохи, которую мы считаем только медленным уми-
ранием, долгою и мучительною агониею, конца которой нетерпеливо
ждем. Удивительное дело: несмотря на равную почти долговременность
республики и монархии в Риме, несмотря на то, что до нас дошли плоды
только второй, мы, смотря на эти два диаметрально противоположные
фазиса одной жизни, считаем почему-то неизменно ошибкою второй, а
не первой; норма и недостаток нормы нами распределяются именно так;
странное извращение какого-то закона мы ощущаем здесь именно в кон-
це. Несравненную мощь мы в нем более не любим; от его побед отвраща-
емся; его мир презираем; культуру его ненавидим; в то же время любя и
мир, и культуру, и мощь в самом себе. Мы в нем именно ненавидим это;
мы его, какие бы дары он ни нес, желаем как можно скорее видеть сошед-
шим только в могилу; и между тем римлян в самих себе мы также любим.
Итак, именно это частное соединение их тела как нации с формой монар-
хии, вот что вызывает в нас все эти отталкивающие чувства к четырехвеко-
вому периоду истории. Для Рима он был мучительной агонией, для нас -
мучительным воспоминанием...
И между тем есть же смысл какой-нибудь в этом почти полутысячелет-
нем мучительстве; и если, как несомненно, он не заключен ни в нем самом,
ни в том, что ему предшествовало, то ясно, что он лежит в том, что за ним
последовало.
Римская империя есть насильственное, ненатуральное соединение со-
держания, уже утратившего свои естественные формы, и формы, не полу-
чившей еще соответствующего содержания. Прошли века, и дисгармония
исчезла; содержание - «языческий мир» - окончательно умерло; а новый
мир, мир христианский, вступил в подготовленную для него форму, которая
на нем, этом мире, стала и прекрасна, и возвышенна.
175
IV
«Много есть прекрасного в Греции, но ничего нет лучшего в ней, как Элев-
зинские таинства: те, которые посвящены бывают в них, умирают с лучшими
надеждами, чем остальные люди», - так записал один поздний зритель антич-
ной жизни. Можно думать, что люди, как бы ни были счастливы данною им
жизнью, если эта жизнь заключена в пределы, никогда не могут быть удовлет-
ворены ею; земля, чем бы она ни была расцвечена, всегда останется для них
недостаточной, и за ее грани всегда человек будет усиливаться заглянуть в бес-
конечное. Греки, как и позднее римляне, совершив все, что может быть совер-
шено в пределах естественных сил человека, всего менее были удовлетворены
этим совершенным; одна возможность хоть в аллегорических символах (кото-
рые, по рассказам, одни показывались посвященным в Элевзиниях) понять судь-
бу свою за гробом, заставляла привязываться к ним более, чем ко всему реаль-
ному, что дано было человеку в насыщение античным миром, - миром, как мы
знаем, наиболее прекрасным в пределах естественных его способностей.
Навстречу этой истощенной и обессиленной человечности, в момент
величайшего упадка ее сил, пришли новые, иного происхождения силы — те,
которыми до сих пор живем мы. Нужны были «времена и сроки» для этого,
нужно было, чтобы недостаточность естественных сил была хорошо почув-
ствована человеком и твердо запомнилась в человечестве, прежде нежели
нужное спасение было дано ему. И когда это исполнилось, оно было дано.
V
«Царство Мое не от мира сего»... когда это было выслушано и понято челове-
ком, весь строй души его получил обратное течение с тем, какое он имел до сих
пор; «Царство Божие внутри вас есть»... и сюда, внутрь своей совести, обрати-
лись взоры всех. Мир, освещаемый солнцем, мир яркого дневного сияния и
всего, что совершается при нем, не исчезая, померк для человека; другой мир,
мир уединенных движений его сердца, открылся ему и приковал один его вни-
мание; все, что заслоняло его, что мешало его видеть - оставлялось; пустыня,
уединенный лес возлюбились человеком на место шумного города, который
тысячелетия любил он, куда влеклось до сих пор его внимание.
В этих пустынях, в этих лесах началась вековая борьба человека со своим
сердцем; шумные внешние события текуч' еще по-прежнему, к разным резуль-
татам, но уже к одному концу. Только там, где отшельники, невидимые никем,
борются и перевоспитывают свою душу, взамен этого печального конца всхо-
дят новые порождения. Прошли века, и они остались одни. Новый человек
начал новую историю, в смысле которой не осталось ни тени прошлого.
Человек, гордый своими силами, умер; человек, как предмет зависти
богов, правый пред ними и пред людьми, исчез; умер богатый и остался один
Лазарь. Нужно ли было ему идти на Олимпийские игры? или слушать орато-
176
ров? подавать голос в народных собраниях? Все болело в нем, все точилось в
язвах, было замазано гноем. Колесницы бы он испачкал, ораторов недослу-
шал, с собрания ушел бы, не подав голоса.
Псы, облизывавшие у него раны, были благодетелями ему; благодете-
лем был бы всякий, давший ему тень от солнца, согревший, защитивший...
Что он мог делать, чувствуя только боль? какую заботу мог иметь, кроме как
соскребсти черепком накопившийся гной со своих членов. Милостивого Са-
марянина он ждал, который, взяв на себя заботы, оставил бы его наедине со
своими страданиями.
Четырехвековое мучительство умирающей части человечества нужно
было, чтобы для его возрождающейся части был возведен этот покров; пред
тем, как сойти в могилу, богатый призван был к тому, чтобы построить сень для
остающегося Лазаря; и он ее строил, не понимая для чего, с проклятиями, с
ненавистью, со злобою к каждому подымаемому бревну, и все-таки строил...
И эта сень, менее красивая, чем его собственные чертоги, когда о после-
дних осталось одно воспоминание, нам кажется прекраснее, чем они. Такою
кажется она потому, что там, в этих исчезнувших чертогах была лишь вне-
шняя красота, и все, что происходило в них, хотя для зрения было привлека-
тельно, в сущности, ничему более не отвечало, кроме этого зрения... Мы
более любим эту новую храмину с лежащим под ней Лазарем; мы находим
тут более смысла; мы думаем, что она точнее соответствует не временным и
случайным чертам человека, а его истинной и вечной природе. Спросив
себя, в глубине совести, беден или богат человек, мы, конечно, всегда отве-
тим: «беден»...
Мощь человеческих сил, одиноких его сил, уже испытана была в исто-
рии и оказалась недостаточной. Он оказался беден даже и в пору, когда был
наиболее богат; размышления ничего не могут прибавить к этому факту,
кроме как подтвердить его.
VI
Нельзя не заметить, что в собственных своих силах два античные народа были
действительно богаче, чем их позднейшие преемники в истории; богаче не
только в мере этих сил, но и в действительной способности их вынести на себе,
по крайней мере, надолго тяжесть всех человеческих дел и затруднений. Такой
изваянной крепости характеров, какую мы наблюдаем во множестве греков и
римлян, такой продолжительной сдержанности при возможности внутренно
пасть, и твердости среди бедствий, мы вовсе не наблюдаем у новых народов.
То был век бронзовых людей, и напрасно бы среди людей нашей эры мы
искали повторений Цезаря, Суллы, Гракхов, Антония - в силе, Перикла или
Аристида - во внушающей доверие доблести. Несомненно, мы внутренно
более слабы; более похотливы, менее тверды; чисто человеческий тип в нас
несомненно понижен сравнительно с классическою древностью.
177
И, однако, наша цивилизация так несомненно над ней возвышена; и если,
как это ясно, она возвышена не нашими средними силами, то это сделано
тем, что к ним прибавлено. Лазарь если имел какое преимущество перед
богатым, то это, конечно, не было преимущество его мускулов или большая
крепость жил. В нем было чище сознание, был углублен страданием его дух,
и в этом одном состояло его богатство. Не в нем самом, не в лежащей на
соломе связке костей и мускулов, был здесь источник лучшего; лучшее было
в посланном ему страдании, и в том, что, не будучи в силах ему противо-
стать, он его покорно сносил.
Христианская цивилизация есть, по существу своему, вечно самоосужда-
ющая цивилизация, и вот почему она стала непрерывным развитием. Дух ус-
покоенного довольства всегда в ней отсутствует, возьмем ли мы XII век, эпоху
позднее или ранее; только на минуту проходит в ней облако светлой радости,
как будто самоудовлетворения: это в момент, когда она наиболее удалилась от
христианства и приблизилась к классической древности, которую думала воз-
родить. Напротив, эта древность вовсе не знала нашего беспокойного движе-
ния вперед; удержать текущий момент было ее не перестающею заботой.
Мы взяли лишь одну черту, и она еще не из главных. Без какого-либо
опасения ошибиться, мы утверждаем, что по внутренним, в ней заключен-
ным данным, христианская цивилизация есть вечная, то есть в смысле разно-
временности физическому существованию человека; так думаем мы пото-
му, что она хранит в себе исход для всякого противоречия, ограничение каж-
дому бедствию. Бедствие, страдание - это то, что заслужено, что ожидалось;
«приму его и облеченный сойду в землю». Здесь зло не порождает нового
зла, не переходит в живые его бесчисленные разветвления; оно только уходит
в землю, оставляя живым не зараженную жизнь. Все непостижимо в этой
жизни; нашему ведению даны только частности, смысл же целого от нас
скрыт. Не зная этого смысла, как можем мы роптать против частностей, кото-
рые, очевидно, направляются им, - куда, почему, мы не знаем. Преходяща,
мимолетна становится жизнь человека, но тем тверже то, что над нею, ее
нерушимый покров. Человек - только бегущая тень, но бросаемая вечным
предметом. Будет ли тень сопротивляться своему предмету? или не двигать-
ся, когда он движется? Мимолетна она там и здесь, но где-нибудь - она вечна.
Нет условий для ее исчезновений, есть они только для ее перемещения, к
которому всегда человек должен быть готов, которому он должен быть поко-
рен, как слепец, ведущей его руке. Для слепца нет конца пути; для него нет
остановки; он весь сосредоточен в этом переступаемом им шаге, и пересту-
пает его твердо, - тверже, чем всякий зрячий, если он не совершен. Ограни-
ченным способностям человека, в признании совершенной его слепоты, дана
безграничная незыблемость - через веру. Что может сделать с человеком
история, когда он уже ко всему готов? его убить - но он ожидает этого, годы
носит с собой «смертное», во что обернут его перед тем, как положат в гроб.
Это камень, с которым напрасно играет дьявол; ему ни разбить его, ни со-
крушить: брошенный, утопленный, зарытый, он - камень.
178
От этого все бедствия, за исключением колебания самой веры, для хрис-
тианского общества - лишь обрывающий листья ветер. Каждую весну они
возрождаются вновь; гибель людей, целых народностей, даже до двух спаса-
ющихся человек, не есть здесь гибель окончательная. Как христианство есть
религия вечно сокрушенной и возрождающейся совести, так христианская
жизнь в истории есть вечно обновляющаяся жизнь, силы которой не иссяка-
ют и не могут иссякнуть по качеству заключенного в нее зерна.
VII
И только христианство же осолило в вечную, не исчезающую крепость созда-
ния нового духа. Внешняя красивость, которую одну мы находим в творениях
древности, после всякого сколько-нибудь продолжительного созерцания ее,
утомляет. Но никогда не утомит и вечно повторяющаяся, непрестанно созер-
цаемая внутренняя красота. Это потому, что она отвечает не явлениям чело-
веческого духа, но его сущности. Вечный субъект, непостижимый, но лучше
всего так определяемый, он никогда не может насытиться тем, что говорит
ему именно как субъекту, идя от другого высшего, коего он - лишь отраже-
ние. «Личность» - вот определение нового человека, в противовес определе-
нию его как «гражданина», то есть родового чего-то, которое одно знала древ-
ность. Великая тайна этого преобразования лежит в том, что Евангелие обра-
щено только к личности; ни народов, ни классов, ни всех их разделений и
сцеплений не знает оно; одно сцепление оно знает - человека с Богом, одно
разделение, разделение его со грехом. Я и грех мой - вот одно, чему оно
говорит; и так как это есть главное для меня, я весь предаюсь только ему.
Центр, который до христианства лежал всегда вне человека, с ним - пере-
местился внутрь его. Красота и сила всего внешнего должна была померк-
нуть, но тем ярче вспыхнула внутренняя красота.
Только она одна и светит в европейской цивилизации, очень несовер-
шенной по формам, что бы мы в ней ни взяли. И так как красота эта несрав-
ненно труднее внешней, то отсюда исходят все неисчислимые падения но-
вого человека, - падения, однако, все предупрежденные, ибо в горечи, в
сокрушении, в самоосуждении лежит уже и выход из них. Только одно нуж-
но ему - остаться христианином; с этим он поднимется из всякого падения,
как без этого низойдет со всякой высоты.
VIII
И он, пока верил, поднимался; немощными руками - он пересилил черезмер-
ное; умом, сокрушенным о темноте своей, он открыл удивительное. Мисти-
ческие глубины, указанные христианством, как вечный предмет забот челове-
ка, встревоженные, вышедшие из прежнего покоя и равновесия, вылились в
179
неисчерпаемых созданиях нового духа. Не будем заблуждаться: даже в борьбе
с христианством, насколько новый человек боролся глубоко и страстно, он
этим обязан самому же христианству, - той волне света, которая брошена им
в человеческую душу, той глубине, которую оно ей сообщило. Без него, без
его модифицированных влияний, которые действуют даже, когда источник их
забыт, мы не умели бы ни стремиться к истине, ни действительно жаждать
добра. Вся душа наша, почти два тысячелетия назад, была пробуждена им;
каким образом, встав и бодрствуя, мы могли бы бодрствовать по иным зако-
нам, нежели по каким пробудились? Чем стали бы бодрствовать, как не этою
самою душою, именно так, именно к этому пробужденною? «Что я могу
знать? что я обязан делать? на что я смею надеяться?» - мы не удивились бы,
встретив эти вопросы в писании какого-нибудь отшельника I1-III века, и меж-
ду тем они вписаны как «канон чистого разума» Кантом в его критике этого
разума. «Я был похож на ребенка, играющего на берегу моря и собирающего
то блестящие камешки, то более красивые, чем другие, раковины, тогда как
обширный океан глубоко скрывал истину от моих глаз», - эти слова, так про-
никнутые смирением перед бесконечным, как будто бы они исходили из уст
какого-нибудь темного мистика, сказаны были Ньютоном его друзьям в ответ
на удивление последних его открытиям. Трепет перед этим бесконечным, ему
покорность, ему преданность в каждом своем движении и в целой жизни — это
уже неотделимо от новой истории, от нового духа. Вот уже два почти тысяче-
летия, как сила наша растет только из признания своей немощи, наше просве-
щение - из чувства глубокого своего неведения, и всякая красота, какую мы
носим, из боли гноящихся наших язв.
IX
Зачатые, рожденные, взрощенные в этих чувствах, мы приняли закон их, как
закон своей жизни, и поклонились ему, как высшей доступной нам красоте.
Смирение Ньютона, которое в древности было бы понято как робость, в но-
вом мире мы понимаем как полное самоотречения мужество. Трепет Канта
перед ответственностью своей совести, который Полибием был бы сочтен как
признак душевной ограниченности, нам кажется проявлением величайшей
душевной глубины. Меры великого и малого изменились, древняя красота
понизилась, и на ее место поднялась новая красота; это - красота самоотре-
чения, красота покорности перед неисповедимым, готовность к страданию,
откуда бы и как бы оно ни исходило. Гладиаторские игры не привлекают нас
более, и скучны нам бег колесниц и состязание бойцов, будут ли то физичес-
кие бойцы или умственные гладиаторы. И с этим вместе, насколько мы растем
из древнего семени, насколько в нас чистосердечно отречение от всего этого,
мы отрекаемся и от древних форм жизни.
Не без причины, не случайно новый мир так же всюду носит монархи-
ческую форму, как древний - республиканскую; монархия так же рано в нем
180
устанавливается, так же поздно начинает исчезать; и - что, быть может, важ-
нее этого,- она неотделима от самых культурных народов во всю пору их
великого исторического труда, и, напротив, отсутствует там, где не высказы-
вается никаких новых идей, не приносится никакой новой веры, не расцвета-
ет никакой свежей поэзии или глубокой философии. Это взаимное сопут-
ствие так точно, так неизменно повторяется всюду, что очень поздний исто-
рик двух смежных культур, нашей и античной, мог бы по политической фор-
ме каждого народа, зная только, до Р. X. или после него он жил, уже
предугадывать его духовное творчество, равно как по последнему опреде-
лять безошибочно его политическую форму. В древности афинская демо-
кратия была классическою страной образования; в новом мире Америка, пол-
ная столь же демократических республик, есть, напротив, страна бескультур-
ная. Монархическая Европа есть классическая страна культуры; и, напротив,
в древнем мире Македония и олигархическая Спарта есть страны дикости и
грубости. И не только относительно целого народа верно было бы подобное
угадывание по государственному строю его культуры, но и в длинной исто-
рии его никто не ошибся бы, приурочив высший момент культуры к момен-
ту высшей выдержанности у него политического строя, т. е. в древности -
республики, и в христианской Европе - монархии. Классическая эпоха куль-
туры в Испании есть время Филиппа II, в Англии - Елизаветы и первых Стю-
артов, во Франции - Ришелье и Людовика XIV, у нас - императора Николая I;
для Афин, напротив, это есть время Перикла и после него, т. е. полной 1раж-
даиской свободы и, наконец, разнузданности. Закон этот неизменен: всюду в
античном мире заря гражданской свободы есть утренняя, в новом мире она
всюду - вечерняя; там обещает она долгую и счастливую жизнь, здесь только
служит предвестницей наступающей ночи.
X
Ясно, что там она была благотворна, что там она гармонировала с внутрен-
ним содержанием души и, в силу этой гармонии, служила лучшею атмосфе-
рой, где раскрывались ее силы и созревали ее плоды; в новом мире, напротив,
между внешней свободой и содержанием души есть какая-то непримиримая
дисгармония, в силу чего ее деятельность извращается в этой атмосфере, а
плоды, если они и появляются, горьки, безвкусны, незрелы и бросаются сле-
дующим же поколением после того, как они принесены предыдущим.
То, что не дает им вызреть, что морщит их кожу над бедным, бессонным
содержанием, есть противоположность чувств наших и созерцаний, как они
уже направлены в христианстве и ежедневно же возбуждаются им, с тем
новым, куда влечет их и направляет форма общественности, основанная на
внешней свободе. Нет примирения между этими противоположностями; нет
в них посредствующего; каждое из них есть не только утверждение, но и
утверждение, отвергающее в корне то, что утверждается в другом.
181
В хаос отношений, где все основывается на соперничестве, на борьбе,
как мы внесем слова: «Блаженны кроткие, блаженны милостивые»?». В
этой борьбе, где силы затаиваются до времени, чтобы противник не мог
изготовиться встретить их, как скажем мы: «Блаженны чистые сердцем?».
Куда поместим мы тысячи выражений, которые мы приняли как святые,
которым поверили, просветили ими свою душу и уже положили их в осно-
ву тысячи дел, которые втайне согревают наше сердце, успокаивают встре-
воженную совесть? Или, если словам этим мы верим и не хотим расстаться
с ними, как, повторяя их без лукавства, не совершая другого лукавства -
взойдем на трибуну, потребуем отчета, начнем преследовать, соберем все
силы, чтобы обогатиться чужой бедностью или возвеличиться чужим уни-
жением. Здесь нет примирения; и кто думает, что примирил эти противо-
положности в себе, примирил их вялостью своей души, а не ее силою, не
страстными и глубокими ее пожеланиями. Насколько, хотя бы бессозна-
тельно для себя, мы еще остаемся христианами, мы не отдаем своих сил
свободе с тою полнотою, с какою отдавал их ей древний человек; насколько
мы уже вступили в круг этих новых свободных отношений, мы не можем
более ни творить, ни чувствовать, ни созерцать так, как этого требует пол-
ный христианский закон. Ни там, ни здесь мы не сохраняем целости своих
сил, не являемся в меру естественного своего роста; и вот почему новые
республики - только недомерки до древних, и новые колеблющиеся монар-
хии - уже не монархии христианские.
XI
Бессознательно для себя самого, античный мир выразил в двух своих люби-
мых играх главный принцип своей жизни, одинаковый у обоих великих наро-
дов, его представлявших, у греков и римлян. Олимпийские и гладиаторские
состязания представляют, с одной стороны, изящный апофеоз, и с другой -
низменное выражение одной и той же сущности, борьбы даров природы,
как они вышли из лона ее, но не просвещены были никаким высшим светом.
Без какого-либо изменения этой сущности, выражением ее же служила и
вся их политическая жизнь и историческая деятельность; республика была
естественною формою, которую приняла эта жизнь: то же соперничество,
но только уже высших даров, та же борьба без иного в ней смысла, кроме как
победить. В чувствах, в созерцаниях, какие двигали этою жизнью, одушевля-
ли эту форму, мы не найдем ничего, зародыша чего не могли бы уже найти
в Олимпии; и не было ничего в них, что так или иначе не оканчивалось тем,
что мы могли бы наблюдать на кровавой арене Колизея. Пелопоннесская
война в ее красивых и печальных эпизодах, гражданская борьба в Риме вплоть
до проскрипций, до избиения тысяч побежденных в храме Беллоны Суллою —
разве это не Олимпии, не Колизей в громадных размерах? Цезарь или Анто-
ний, и против них Октавиан и Помпей - разве это не гладиаторы истории?
182
не только гладиаторы? с тою страшною мускулатурой, так же при тысячах
созерцающих глаз и так же мало готовые пощадить, как и не просящие себе
пощады....
Но вот, века прошли, и когда лишь гноящиеся трупы павших заражали
атмосферу истории, ей явлен был новый образ жизни. Естественные дары,
оказавшиеся недостаточными, сознанные такими от самого человека, полу-
чили высшее просвещение мистического происхождения. Победные клики
сменились скорбью; там, где дымилась кровь, затеплились фимиам и молит-
вы. О, конечно, все прежнее еще вспыхивало в истории, и новое не получало
всюду своего приложения. Но существенно, что в прежнем уже не признава-
лось его красоты; что высшею правдой, хотя бы до времени попранной, счи-
талось именно милосердие. Образ, носимый в сердце каждым и в котором
каждый чувствовал, что здесь выражена его природа, его возможная судьба
- был образ страдающего человека, томящегося в ранах, вся сила которого
лежит в его терпении, все возможное - только покорность, и единственная
красота - в безропотном перенесении своей участи. Этому чувству, этому
новому сознанию себя каждым, ответила форма жизни, обнимающая их всех
-монархия. Это более не узурпация власти, которою хотели бы насладиться
все и овладел один; это - один, который склонился над всеми с безграничною
скорбью о их болях, с неистощимым милосердием. Монархия - это форма
отношений, завещанных из Евангелия; там ее прообразы, ее символы; она
выражение нравственного миропорядка на земле, как республика есть выра-
жение физического миропорядка.
XII
От этого в новом мире она не ненавидима, но любима; народы, насколько они
сохраняют в себе христианские чувства, чтут ее с тою горячностью и предан-
ностью, с какою убогий, бессильный подняться с земли, израненный чтет
доброго Самарянина, над ним склоняющегося. Все недостатки государя они
стремятся извинить, как в древнем мире стремились очернить даже его доб-
родетели. Иоанн Грозный, только бы тиран в древности, любим народом и, к
досаде историков, с несравненным превосходством перед их вялыми трудами
воспет в песнях неувядающей свежести. Людовик XI, в древности бы только
презренный, отвратительный старик, стал предметом легенд, которых никогда
не рассказывалось об Августе, об Адриане. Никто не видел ни благодеяний
себе, ни даже сколько-нибудь разума в больном, немощном, только умевшем
молиться сыне Грозного, этой тени царя и почти только тени человека; но
разве у одра Перикла было столько слез, столько умиления, такой взрыв без-
граничной нежности, каким вспыхнули тысячи народа, ожидавшие перед двор-
цом известий о ходе болезни и, наконец, узнавшие о его кончине. Не дела, о,
нет, чтут новые народы в своих государях; они чтут в них повторение своих же
чувств; чтут, что их скорбям там есть отклик в милосердом сердце; что жа-
183
лость там не оскудевает; что Самарянин, бередит ли он раны больного, нако-
нец беспомощен ли что-нибудь сделать - всегда хочет сделать, всегда есть
Самарянин. И больной это чувствует; умелого и неумелого, помогающего и
бередящего, но никогда равнодушного, он провожает в каждом движении
умилением своего сердца, в каждой напасти - величайшей своей скорбью.
Принести свою жизнь за него - это величайший героизм в новом мире; мы
чувствуем, что это истинный героизм и нравственного характера его не мо-
жем отвергнуть; как не можем признать этого характера и видим только вне-
шнюю красоту в героизме древности, в гибели за республику против тирана.
Это так, это выросло из истории; и язык наш всегда останется беден против ее
фактов, немощен в борьбе с ее тысячелетними течениями.
XIII
Но вот, пренебрегая этими течениями, новые народы хотят набросить новый
смысл на тысячи уже совершившихся фактов; поздний разум, блеклый лепет
своего языка они пытаются противопоставить явлениям, которые так памят-
но, так неувядаемо сияют в их истории. Лазарь почувствовал себя наконец
зажившим; ему жестка прежняя солома, скучен бедный кров, его так долго
защищавший от сырости и от палящих лучей солнца. Он приподнимается и
чувствует, что ноги его держат; он пробует голос и слышит, что он если и
сипит, то, однако, громко; тщательно затирает он рубцы заживших ран и насы-
пает пудры на остатки своих волос; он еще надеется явить миру прекрасное
зрелище; он выходит и требует себе колесниц, заготовления венков. Кони го-
товы, - старые, древние кони, на которых когда-то ристали Алкивиад, Кимон;
они те же, в природе своей нисколько не изменились...
Но как изменилось все, кроме этих могучих коней; как именно они в не-
увядаемой красоте своей обнаруживают страшную перемену, происшедшую
в мире с тех пор, как они последний раз были отведены на покой... Вот Лазарь,
тщательно запрятывая мотающиеся лохмотья своих повязок, заносит ногу и
берет вожжи... он унесется в безграничную даль; он никогда не увидит этого
отвратительного сарая, где он проводил свои дни... сияние огней, веселые пир-
шества, новые мудрые беседы в рощах Лицея и Академии его ожидают...
Минута - и нет коней; или это призрак был, или кони никогда не выходи-
ли из места своего вечного упокоения; лежит Лазарь, не раздаются его пес-
ни, лежит так близко от места, где поднял изношенную свою туфлю на колес-
ницу. Раны его вскрылись, пудра слетела... о, как отвратителен теперь его вид;
как отвратительны его жалобы, мешающиеся с ругательствами. Бедный че-
ловек; кто так ненавидел тебя, кто дал тебе этот совет? и как мог ты величай-
шее сострадание, каким был окружен, неизреченное милосердие, о тебе за-
ботившееся, променять на указания, какие подсказаны были тебе уж конеч-
но умным, но и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой ду-
хом твоей истории?..
184
О ТРЕХ ПРИНЦИПАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Всякий раз, когда человеку предстоит перевести текущую действительность к
чему-нибудь новому, когда он готовится действовать, изменять, он может сде-
лать это или по нравственным основаниям, или опираясь на право, или по
соображениям политическим. Вне связи с чем-либо из указанного, всякое
действие человека есть простой физический акт, есть только явление приро-
ды, которое обладает прочностью, насколько в нем есть физической силы
сохранить себя, но не более; напротив, в связи с указанными началами каж-
дый акт приобретает некоторую идеальную прочность и хотя физически он,
конечно, может быть разрушен, однако тотчас требует восстановления себя,
так как физическими причинами неразрушимы его идеальные основания.
Эти три основания - право, нравственность, политика образуют как бы
идеальную оболочку физической деятельности человека, исследимую толь-
ко умом, по которой законы суть и законы деятельности физической, на-
сколько за этою последней есть разумность.
I
Право есть основание, лежащее позади физического акта и его предпола-
гавшее в себе, как идеально возможное ранее, чем он стал физически дей-
ствительней. Около практической деятельности человека оно образует как
бы сферу идеальной причинности, где следствие есть эта деятельность, а ее
основание или причина есть само право. Совершенно противоположно это-
му отношению отношение к физической деятельности политических основа-
ний: они лежат всегда впереди ее, оправдывают ее, как последующее оправ-
дывает связанное с ним предыдущее; таким образом, политика есть сфера
целесообразного над практическою деятельностью человека. Наконец, в
нравственности основание действия и самое действие сливаются по вре-
мени в одно\ последнее есть материальное выражение духовного акта, кото-
рый в нем содержится и от него неотделим, как сердцевина содержится в
своей оболочке и неотделима от нее. Так как одновременность, предшество-
вание и последование исчерпывают собою возможные способы отношения
между явлениями, то ясно, что сверх нравственных, политических и правовых
нет иных идеальных начал около физической деятельности человека, с которы-
ми она была бы связана и которые ее поддерживали бы.
По содержанию своему, всякое право есть соединение свободы и ограни-
чения, свободы на что-нибудь, ограничения в этой именно свободе, за пределы
которой не может переступить физическое действие носителя права, и в преде-
лы которой, стесняя его свободу, не может вступить ничье иное действие.
Эта определенная свобода в действии, простирающаяся на последую-
щее, может вытекать только из свободы же в каком-нибудь акте, который был
185
совершен ранее, потому что разнородные вещи и явления не могут быть в
причинной связи между собою. И действительно, труд есть общий источ-
ник права, настолько оно приобретается человеком, а не дано ему изначала
или не передано ему от другого человека. В труде, ранее совершенном и
притом со свободно избранною целию, эта цель своим содержанием и опре-
деляет границы вытекающего из него права. Построив дом с тем, чтобы
владеть им, я и обладаю правом этого владения, то есть свободою, в этом
праве содержащеюся, но им и исчерпываемою.
Ясна из сказанного ненарушимостъ всякого права: коренясь в факте,
который уже был и его нет более (труд совершенный), оно неразрушимо в
своем источнике и, следовательно, в себе самом. Есть contradictio in adjecto*
в самых выражениях: «отменить право», «отнять право» и даже «изменить»
его; как время уже протекшее нельзя вернуть обратно и дерево, давшее плод,
хотя бы он был горек, нельзя возвратить к поре расцвета, так однажды воз-
никшее право, будет ли оно нести в себе добро и зло, нельзя ни уничтожить,
ни ограничить иначе, как через новый труд и с ним вырастающее новое пра-
во, которое своею коллизией с прежним тем или иным способом обезврежи-
вало бы его. И, равным образом, нет времени, по истечении которого право,
хотя бы им не пользовались, могло перестать существовать: его существова-
ние есть обязательное для всех людей и вечно; им пользование принадлежит
свободной воле того, кто им владеет. Не только «десятилетней давности» нет
для забвения права: кто понимает его природу - для этого забвения нет и
вечности, - оно не может наступить на всем ее протяжении.
Второе качество нрава, вытекающее из его природы, есть невозможность
для него возникнуть помимо труда: его вечность, раз оно возникло, уравно-
вешивается его несоздаваемостью, раз для него не было реальных основа-
ний. Поэтому такое же contradictio in adjecto, какое есть в выражении «отнять
право», есть и в другом, столь же часто слышимом: «даровать право»: его
можно только передать и для этого нужно предварительно обладать самому
им, то есть совершить соответствующий труд для его получения. Право, воз-
никшее из этого труда, свое право, можно передать другому, конечно, в то же
время уже лишаясь его.
Это приводит к заключению, что, например, в государстве, которое в
статической своей части само возникает из права, есть лишь сложность и
сцепление порознь возникших прав, нет как бы хранилища этих прав, куда
они могут уходить и откуда могут появляться. В отношении к праву, роль
государства есть чисто консервативная: оно только блюдет его, но не пере-
иначивает, не поглощает и не создает вновь, - и не может этого сделать по
самой природе права. Поэтому свобода на такой акт, как, например, амни-
стию осужденного, носит название «права» лишь по недоразумению: это
есть вмешательство нравственного чувства (сострадания) в правовую сфе-
ру, эту сферу нарушающее. Заметим, что эта свобода может принадлежать
* противоречие в определении (лат.).
186
государству лишь в случаях преступления против государства же, но никог-
да - против лиц.
Содержа в себе свободу и ограничение, право носит исключительно вне-
шний или формальный характер: в нем нет ничего внутреннего, субъектив-
ного, оно проводит только линию очертаний для деятельности, по одну сто-
рону которой может быть все совершено, и по другую — ничего. Оно только
разграничивает, разделяет людей, сословия, страны, царства. И, разделяя, их
оформливает, дает им структуру как внешнюю, так и внутреннюю, но не
жизнь, не одушевленность, которая, исходя из других источников, может, од-
нако, течь лишь по линиям этой структуры.
В силу отсутствия в нем внутренних, субъективных начал, право не имеет
в себе творческого момента, и эта особенность его неизмеримо значитель-
на для народов, которым предстоит управляться в своей жизни и истории его
принципом, наравне с другими двумя, которые мы назвали. Этой жизни и
истории преобладание права может сообщить неподвижность, а его недо-
статок может дать неустойчивость. Ничего не создавая вновь, ни к чему не
побуждая, оно твердо охраняет то, что есть; напротив, нравственный и
политический принципы, одушевляя народы к высокому, поднимая их до
героического - всего менее препятствуют их падению в пропасти, их нисхож-
дению в низины. Рим, образец правового государства, был и образцом кон-
серватизма; в пределах этого консерватизма, охраняя, а не внося разруше-
ние*, он был и героичен. Но в нем был великий недостаток инициативы, и это
было следствием недостатка в нем вообще творческих, живых сил. Напротив,
в Греции был их избыток, при бедности консервативных начал. Героическая
эпоха Александра Великого вытекла именно отсюда, и отсюда же вытекло ее
падение вслед за минутой торжества. Греция, столь мало скрепленная пра-
вом, почти без сопротивления была увлечена в это падение; напротив, Рим
падал, крушился в течение полутысячелетия.
Мы сказали, что цель свободно избранного труда определяет границы
права, которое из него возникает. Субъект, носитель этой цели, есть вместе и
обладатель права; в его лице единится, таким образом, право и его основа-
ние, и они не могут быть разъединены по разным лицам. Труд, мною совер-
шенный, никак не может сделаться основанием чужого права, его результат,
* Здесь нам могут указать на трибунат, всегда наступающий, вечно разруши-
тельный по отношению к старым учреждениям Рима; но ведь он, в котором воплоти-
лась вся деятельная, пробивающаяся вперед жизнь Рима (и отсюда его значение), был
магистратурой строго внешнею по отношению к патрицианской общине, этому ядру
«вечного города»: он возник не столько в Риме, сколько вопреки ему и обок с ним,
хотя территориально и в нем. Это внешнее положение движущего начала в Римс ясно
отвечает внешней же организации, основой коего было право. Далее, что касается до
военной борьбы, то лишь на почве Италии, на защищаемых границах, она велась
героично: все почти внеитальянские войны велись Римом с замечательною вялостью
(Нумантинская, Серторианская, Митридатовские, Югуртинские). Греция никогда не
была так энергична в защите, как Рим во вторую Пуническую войну, - Рим никогда нс
был так энергичен в нападении, как Греция в эпоху Александра Великого.
187
произведенная вещь, есть объект права, всегда только моего. Правда, в моей
власти разрушить этот объект или передать, но существенно, что лишь пере-
данный моим свободным актом, он может стать чужим.
Справедливое относительно лиц, это справедливо и относительно групп
их, - состояний, стран, народов. Не только личный и временный, но и коллек-
тивный, исторический труд, источник великих правовых организаций, не мо-
жет быть передан в своем плоде, этих организациях - никому кроме того, кому
принадлежал этот труд; и не может быть у них отнят, а отнятый нуждается в
восстановлении. Но кому принадлежит этот труд, когда есть лишь продолжате-
ли его и нет уже инициаторов и долгих поколений, которые за ними следовали?
Этот вопрос приводит нас к идее исторического права', если самые мно-
гочисленные виды созидаемого обязаны личности, то самые важные его виды
- поколениям; в каждый данный момент кому принадлежит право на это
последнее, и в какой мере?
В силу неумирающего смысла всякого права, оно принадлежит тем, кого
нет более как личности, но в ком они живы как род, как генерация, или как
организованная община, - но лишь в меру того, насколько они не отказыва-
ются от своего рода, насколько они суть носители той цели, с которою орга-
низовалась община. Люди умирают, но не их кровь, и также не их идея, — а
она именно создала вещь, и право на нее остается вечно за этою кровью или
идеей. Люди погибают, но поколения остаются верны их праву, ему связаны,
если только хотят участвовать в плоде ик труда; и тотчас, как только не хотят
они этого, самое право уходит от них: точнее, они сами уходят от него, оно же
остается там и таковым, где и каковым они его оставили - тем, кто остался
верен цели труда, который его создал. Поэтому нет, например, у государства
права на разрушение всяких особых организаций, которые где-либо оно зас-
тало уже готовыми и включило их в свои недра, или которые допустило в
себе возникнуть; нет у него оснований других, кроме физических, для вме-
шательства в правовую сферу, например, церкви, или какой-нибудь светской
организации. Й, далее, в самом государстве как целом нет права у каждого
единичного поколения на безграничное распоряжение его судьбой, его си-
лами, его средствами: приумножить все это оно может, или изменить, при-
менив его частности к частностям своих нужд; но разрушить или очень силь-
но видоизменить, коснуться главного - оно не может. Это главное отделяется
от случайного тем, что оно было равно дорого всем предыдущим поколени-
ям, было священно для них и они, в идеях своих, создавая его, считали, что
оно останется неразрушимым на все времена. Ожидания умерших суть долг
живущих; это - переданное право, но не живущему поколению, а только
через него - дальнейшим. Ясно, что рука передающего в момент, когда в ней
исчезает полученное, есть рука похитившего.
На истребление картины Рафаэля, на то, чтобы разбить «Моисея» Ми-
кель Анджело, или сжечь Вестминстер, на это нет права у всех бесчисленных
миллионов людей, населяющих теперь землю, и никогда не будет. Они могут
созерцать эти вечные в своем праве на существование памятники, они могут
188
отвернуться от них; но коснуться их - вот чего они никогда не могут, иначе
как физически только, без какой-либо скрепляющей их акт идеальной опоры.
Относительно только что названных вещественных памятников, созда-
ний индивидуального гения, это так ясно и неоспоримо. Но не простирается
ли сказанное и на другие некоторые памятники еще более важные, которым
обязаны люди не личности, но тому, что можно назвать гением истории.
Имел ли за собою какие-нибудь идеальные опоры Вольтер, когда писал свою
«Pucelie»*? или Ренан, когда он писал «Жизнь Иисуса»?
Терять что-нибудь, что было получено и затем сочтено ненужным, каж-
дый может, - в этом состоит его индивидуальное право; но простирается ли
это индивидуальное право и на то, чтобы других заставлять также разжимать
пальцы и выпускать из рук им данное? скажем точнее: простирается ли это
право на то, чтоб обесценивать внутреннее значение того, что все еще име-
ют, чем все дорожат? Что сказали бы мы о человеке, который, войдя в обще-
ство людей одетых нагим, незаметно откупорил бы стклянку с жидкостью,
едкие пары которой испортили бы одежду и всех остальных? Будет ли он в
своем праве, - и между тем не есть ли это строгая аналогия того, что уже
допущено в принципе всюду и только относительно некоторых, немногих
святынь истории не распространено в очень отсталых странах, удерживае-
мых каким-то инстинктом?
Мы думаем, каждое единичное поколение может допустить абсолют-
ную свободу критики только своих дел; только они еще, над которыми не
произнесен суд истории, неизвестно, несут ли в себе добро или зло. Их не
назвали еще «добром» длинные поколения людей; они не сказали, что это
«добро» согрело их душу, осушило их слезы, дало им силы надеяться в уни-
жении, верить в свет правды среди безысходного мрака зла. Но то, о чем это
уже сказано, что признано таковым и девятым, и седьмым, и т. д., поколением
до нас, мы, не знающие его значения для седьмого и девятого поколения
после нас, можем ли, на время получив в свои руки, выбросить прочь с
путей истории, потому что оно оказалось ненужным для нас?
Скажут: «Тогда станет невозможен прогресс истории»; нет, но он станет
осторожен, и в ней зиждущим силам будет дан перевес над разрушающими.
Мы повторяем, должна быть открыта свобода критике настоящего, и, сосре-
доточив свои силы на нем, она станет гораздо могущественнее, чем теперь,
- а этот вид критики один значущ для улучшения действительности. Мы хоте-
ли бы только удалить из истории бесплодное раздражение, ненужную борь-
бу с тем, что вовсе не вызывает против себя борьбы. Чему помешал во Фран-
ции исторический образ Жанны д’Арк? Кого оскорбил Иисус? Итак, если
дурное чувство одного или другого оскорблено было их памятью, могут ли
они кричать, что в этих образах нет святости? Ведь и слабый, бессильный
художник, созерцая Мадонну Рафаэля, может ощутить против нее мучитель-
ное чувство; но если бы, взяв ножницы, он захотел исстричь святой лик, не
♦ «Орлеанская девственница» (фр.).
189
удержали ли бы мы его руку? не вправе ли были бы сделать это? не был ли
бы, наконец, это наш долг?
Итак, нет безграничной свободы для индивидуального суждения; оно
ограничено историческим суждением, которому должно быть подчинено
первое, пока индивидуум двинется в истории, подчинено в выражении сво-
ем, если уже разошлись с ним внутри себя, в своем существе.
При этих границах, правых границах, человек может требовать возвраще-
ния себе неправо отнятой у него свободы, говорим о свободе индивидуумов
организовываться во всякую ассоциацию, цель которой не выходила бы за
приделы их личных интересов. Право на это вытекает из особого источника,
иного, нежели труд, но столь же ненарушимого.
Мы разумеем здесь потенциальную природу самого человека: будучи
весь в задатках, он имеет первичное и священное право на развитие в себе
этих задатков', не только на употребление своих способностей, на что он имел
бы право, если бы его природа являла собою полную реальность, если бы она
была механизм, а не росток, - но и на сложное их возрастание, на их углубле-
ние, что часто неосуществимо без внешней организации людей. Так, соеди-
ниться в общество с целью наилучшим образом воспитывать своих детей, - не
так воспитывать, как это установлено кем-либо; или сложиться в другое обще-
ство с целью научных изысканий, в третье - с целью совершенствования еще в
чем-нибудь, на все это люди не нуждаются ни в чьей санкции.
Индивидуум свободен и ограничен в отношении к обществу; общество
свободно и ограничено в отношении к индивидууму. Никто из них, ни все в
отношении к одному, ни один в отношении ко всем, не имеют безбрежной
неопределенности действий. Но по мере того, как которая-нибудь сторона впа-
дает в эту неопределенность, тотчас вступает в нее и другая сторона - как бы
по некоторому закону, который бессознательно для людей стремится возвра-
тить их в границы своего права. Преступление есть факт, который помимо
своих физических оснований, лежащих в организации человека, имеет под со-
бою эту другую, историческую основу. Личность, не ценимая более, пренеб-
регаемая целым, пренебрегает это целое; ее группы, целое общество, пренеб-
регаемое другими, более обширными организациями, над ним стоящими,
утрачивает смысл этих организаций и, произвольно или непроизвольно, стал-
киваясь с ними, разрушает их в частях или в целом. Великий организм права,
эта возросшая в истории сеть пределов для личности, для государства, церкви,
колеблется к вреду, к страданию и личности, и государства, и церкви.
II
В противоположность праву, только формальному, только внешнему, нрав-
ственность есть второй принцип человеческой деятельности, исключительно
внутренний по своему положению, чисто субъективный. Ее источник коре-
нится в самых сокровенных недрах человеческой природы, в тех, которые мы
190
все чувствуем в себе, которых определить не умеем и только называем сове-
стью: она, вечно грозящая нам извнутри, так укоряющая нас, когда мы и
ограждены извне правом, есть вечно мучащий нас господин наш, которому
повиноваться мы почитаем за высочайшее для себя благо, которому непови-
новения боимся более, нежели самых тяжких внешних страданий. Человек
есть раб своей совести, - жалкий трепещущий раб; его гордыня, его самона-
деянность, его требования себе свободы, - все это опадает как блеклый лист
перед грозящим из него законом, который говорит ему, как он жалок, как он
бессилен, и, сокрушая гордыню его силой внутренних мук, подтверждает ис-
тину своих определений. Привязанный страданием в этому грозящему госпо-
дину, в одной верности ему человек находит себе утешение; ему следовать -
через бедствия, через унижения, через потерю всего - это значит для него
радоваться; от него уклониться ради внешних благ, ради сохранения земных
утех - это значит вдруг ощутить в себе пустоту, потерять то, ради чего утехи,
блага. Лицо есть человек, это его лучшее определение, глубочайшее, самое
высокое; и то, что делает его лицом, а не абстрактным совершителем отвле-
ченных общих дел, есть именно совесть, -моя совесть, мне одному известная,
со мною одним взаимодействующая, мне только грозящая и проливающая в
мое сердце свет радости. Как будто в душе человека это есть отражение како-
го-то другого лица, его блюдущего, его оберегающего, и, когда он не хочет
быть сбережен, его оставляющего. Ничего не происходит извне при этом,
никто этого не видит, не знает, кроме одного: но вот померкает свет в лице
этого одного; радости его не радуют, бедствия его не трогают, как бы пеленою
отделяются они от него и не доходят более внутрь его, где за запертою дверью -
никого нет, в отворенное окно - никто невидим. Что-то было здесь живое, чем
жил и этот померкнувший человек, и вот - его нет более, а он сам - только
механически движущаяся оболочка, не знающая, ожидающая, когда же эти
мускулы разомкнутся, эти кости разделятся, которым не для чего более быть
соединенными вместе. Раб, но Того, Кому и нужно быть рабом, Кто нас со-
здал, Кто дал нам все наши радости, - нет, Кому раб есть вся природа, это и
есть человек, раб, видящий руку своего господина, когда ее не видит еще вся
природа. «Казни меня в костях моих, сотри мое тело, но не оставляй меня, не
оставляй до конца» - вот одно, чего истинно хочет человек, чего он главным
образом просит если не плетущимся языком своим, то светом души своей в
личности, в народах, в человечестве.
Он, правда, не сознает этого; кто же сознает себя, свои внутреннейшие
движения, свои недра? Кто ощущает в себе движение крови, работу тканей,
процессы своего мозга? Но вот где-нибудь в этих тканях, в этом кровообра-
щении произошло замешательство, и мы чувствуем муки, все в нас кружит-
ся и мы погибаем неудержимо. Тогда мы чувствуем и понимаем, что в нео-
щутимых движениях внутри нашего тела и был источник того, что мы так
свободно махали руками, так живо двигались и легко болтали в пору и в не в
пору, без нужд и по нужде, праздным языком. Руки более не двигаются, язык
нем, все тело бессильно лежит, - хотя все это еще цело, ни в чем этом нет
191
никакой видимой перемены. Так и народы, и человек, пока они не разошлись
со своею совестью, они свободно идут вперед, радостно им существование
и, как будто ничем не занятые, они придумывают для себя тысячи целей и
иногда умирают даже, серьезно думая, что для этих целей они жили, что они
поддерживали их существование. Но вот, еще цели все стоят перед нами,
только чуть-чуть что-то переменилось в нас, и эти цели поблекли, они поче-
му-то не нужны стали; нет более яркости в нашем отношении к внешнему,
все обратилось у нас внутрь, к какой-то пустоте, которой нечего и созерцать,
где ничего не видно; и вот то, что там ничего не видно, наполняет нас стра-
хом; мы все смотрим на опустелое место и, ничего там не различая, не мо-
жем отвести от него глаз, как не можем отвести их от лица дорогого человека,
который еще недавно оживлял нас и теперь лежит неподвижен и мертв.
Нить, связующая нас с «мирами иными» неощутимо, невидимо - пока
она не перервана (тогда мы гибнем) - и есть эта совесть; она же единит нас и
с миром, открывает нам сердце людей и открывает для них наше сердце. Мы
все рабы - но одного закона, мы все трепещем - но одно нарушить, мы все
радостны - но при одном только условии, и на этом одном мы единимся,
понимаем друг друга, любим, жалеем, сочувствуем. Во всем прочем мы
разнимся, прихотливо разбегаемся в разные стороны, не отрываясь друг от
друга, пока не прервана связующая нас всех нить; и, раз она прервана, как бы
тесно мы ни были слиты с людьми, как бы ни обращали к ним руки, эти руки
будут холодны, в мольбе нашей будет ненависть, - и погибнуть, уйти в «иной
мир», где обрывок нити, за которую мы держались, есть все, что нам остает-
ся, чего мы должны ожидать, и хоть не должны, нам запрещено это, однако
неодолимо уходим, как раб виновный уходит к наказанию, которого трепе-
щет, но и знает, что его и нельзя, и не следует избегать.
Свобода, которую дает нам право, ограничивается этою совестью; внут-
ри его оболочки, где нам предоставлено все, она указывает немногое, что мы
должны избирать: ее указания - это узкий путь, которым мы должны следо-
вать среди широких путей права. «Ты можешь, имея жилище, оставить хо-
лодного гибнуть за дверью», - говорит право; «ты этого не должен, ты этого
не смеешь», - ограничивает совесть; «позже, но хуже, чем этот холодный, ты
погибнешь, если его не согреешь», - говорит она. И тогда как,соблюдая пра-
во, мы не ощущаем никакой награды, каковое бы ни было право, хотя бы оно
вовсе не походило на только что указанное, - повинуясь совести, отказыва-
ясь от права, мы тотчас получаем награду в живом чувстве радости. Что это
за чувство, какова его природа?
В отличие от удовольствия, наслаждения и проч, радость есть чисто внут-
ренний акт: это чувство не только внутреннее*, но и о внутреннем, ощуще-
ние себя таковым, каков я должен быть по каким-то внутренним требовани-
ям, хотя бы вопреки всем внешним. Далее, радость есть термин противопо-
♦ То есть, оно не зарождается, не протекает во внешних органах, не есть вообще
ощущение внешнее или внешнего.
192
ложный смерти, есть ее отрицание, есть удаление души на совершенно об-
ратную сторону, чем где лежит смерть: никогда радующийся человек не по-
желал умереть, как этого слишком часто желал человек наслаждающийся,
пресыщенный удовольствиями. Таким образом, это чувство есть в высшей
степени жизненное; мы не ошиблись бы, если бы сказали, что оно и сама
жизнь - тождественны: радость есть в высшей степени полное и яркое ощу-
щение жизни, есть пламя ее, высоко взвившееся кверху, тогда как обыкновен-
но оно скорее клонится долу. Удовольствия, наслаждения суть именно то, что
ее клонит долу; они понижают жизненное ощущение, и от этого человеку,
обремененному ими, так часто хочется ее оставить. До некоторой степени
мы можем это понять: среди наслаждений, привязанный бесчисленными
страстями к внешним предметам, человек как бы сливается с ними, границы
его личности, его особого существования в мире становятся тускнее; отде-
литься от внешних предметов, которые он так любит, для него значит почти то
же, что перестать жить. При полной кажущейся свободе, он внутренне свя-
зан ими; он господин над ними и, в сущности, раб их. При отречении от всех
их, на «узком пути», где человек один, ничто не затемняет его личности, ни с
чем не слито, не смешано его бытие. Не неся на себя никаких теней от мира,
он ярок в лице своем, особен в существовании своем; и ярок же лежит пред
ним мир, так удаленный от его желания, так отграниченный от него. Этот
избыток бытия, эта яркость сознания и перевешивает весь избыток наслажде-
ний, но тускло переживаемых, какие получает человек, дурно понявший
смысл своей природы. От этого не только вообще ограничение нравится
человеку, но и высшие степени его, которые мы называем аскетизмом, отре-
чением от мира, приносят ему с собой неизъяснимые радости. Не было при-
мера во всемирной истории, кажется, ни одного примера, чтобы человек,
отведавший этого ограничения, перешел от него к безграничности наслаж-
дений; чтобы, раз имев силу подняться на «узкий путь», он сошел с него
вновь на низины широких путей. Нет отшельников, вернувшихся в мир, если
только удаление их от него не было насильственным или не совершилось по
подражанию, то есть без внутреннего самоограничения. А мы говорим только
о внутренних актах души, о действительном, а не о кажущемся.
Таким образом, от ограничения, которое вносит совесть в пользование
правом, мы перешли к ограничению, которое она налагает на самого чело-
века. Во всем человек противоположен природе, хотя, по-видимому, и завер-
шает ее собою; и в самоограничении, к которому он тайно влечется, выра-
жается его бессознательное усилие утвердить эту противоположность. И в
самом деле, пет ничего в природе, что, обладая данными силами, задержало
бы в себе эти силы, не применило бы их к чему-нибудь, к чему они могут
быть применены, будет ли то земля, которую сосет корень, свет, который
поглощается листом, кровь и внутренности, которые питают собою другую
внутренность. И вот, в противоположность этому физическому миропоряд-
ку, в человеке открывается другой, нравственный миропорядок: покорность -
взамен борьбы, кротость - взамен самонадеянной веры в себя, самопо-
7 Зак 3969
193
жертвование - взамен пользованию! другим для себя. Все эти явления, ко-
торые мы называем и, называя, понимаем их, то есть чувствуем, что в нас
есть нечто, что им отвечает - и не имеют имени для себя, и не имеют чего-
либо, отвечающего своему понятию, во всей природе. Но если это так, если
действительно даже малейшего зародыша мы не находим для всего этого в
природе, ясно, что не одна природа (OtiotQ живет в человеке, что в него
заронена и искра другого чего-то, что к этой природе имеет отношение толь-
ко отрицательное. Для смысла, не говоря уже о воле или о проявлении стра-
стей, брежжущие начатки мы находим до человека, и потом в нем - лишь
чрезмерное развитие этих зачатков. Но для его совести, для его трепета пред
внутренним нравственным законом, для его страха почувствовать нарушен-
ным что-то, о чем не говорят ему, что в нем не видят, чего от него не требуют,
что он один знает втайне про себя, для всего этого в целой природе до чело-
века мы не находим ничего, кроме молчания. Это вскрывает нам смысл,
который соединяет человек со словом, так же непонятным в природе, непо-
стижимым д ля нее, со словом грех. Совесть есть внутренний закон, а то что
лежит за его пределами, куда впадает человек, переходя его грани, есть грех;
это есть безграничная область не указанного человеку, запрещенного для
него, куда физически своими похотями он вечно хотел бы переступить, но
душою своею боится переступить более, чем нарушить какой-нибудь ясный,
грубый, себя защищающий наказаниями, закон. В родственности душе чело-
веческой понятия греха открывается ее потусторонний смысл ее не физичес-
кое происхождение, а вместе истинная и глубочайшая ее природа.
Понятие это не есть только обобщение человеческих пожеланий: оно
противится им, вводит их в границы; и оно не есть также результат истори-
ческой памяти, потому что, что более часто и с более древних времен указы-
валось человеку как не право его на плод своего труда, - и вот, вопреки этому
праву, человек все еще отделяет от этого плода часть, чтобы передать ее
другому, который «не сеял, не жал». Чего боится он, совершая все это, поче-
му чувствует себя печальным, когда не совершил, против кого виновным,
когда обиженный уже забыл вину или его нет более, на это напрасно мы
искали бы ответа вне человека, все это тянется своим смыслом лишь внутрь
его: с собою, но откуда - неизвестно, он уже приносит на землю это знание,
он боится и радуется потому, что человек, но не потому, что наученный, что
обставленный законами человек. Грех - это то, для чего он не послан в мир;
это не то, по законам чего образована его душа, о чем он должен бы помнить
пока, до какого-то времени, что ему припоминается, его тяготит всего бо-
лее когда он готов закрыть глаза на всякую действительность, с которого,
по-видимому, оставляет и грех свой, но он, этот грех, его не оставляет, а
готовится идти с ним в какую-то новую действительность. Все это - потус-
торонние ощущения и понятия, принесенные человеком в мир, но не уно-
симые из него.
Эти понятия, человек чувствует, коренные в нем, без которых он всего
менее хочет существовать, без которых неумел бы существовать. Коренясь в
194
индивидууме, насколько индивидуум несет на себе отражения целого - они
присущи и целому: история, сверх другого всего, есть также история паде-
ний или просветлений человеческой совести, есть большее или меньшее об-
ременение человека грехом. Не только человек, но и целые народы, длинные
эпохи их существования, могут нести в себе, в своих недрах, извращение
первичных основ нравственности; и как индивидуум несет на себе наказание
этого извращения, так не избавлены бывают от него и целые эпохи и народы.
То время только может быть радостно, тот народ светел внутренно, который
твердо чувствует, ясно сознает, что его сила не истекает ни из чьей слабости,
его величие - из чужого унижения, что его насыщенность не есть только
сытость очень сильного животного. Как бы ни успокаивался он в этой силе,
как бы ни утешался своим величием, пройдут краткие минуты этого утеше-
ния, за которыми он найдет только долгий сумрак. Чуткие души в его среде,
не неся никакой личной ответственности, в тревогах своей совести первые
понесут наказание за грех целого; но скоро, очень скоро и обширные массы
людей, ничего не понимая в своем внутреннем состоянии, ощутят в нем
тоже расстройство, которое уже начало сводить с лица земли их более ран-
них, более даровитых, и потому глубже ответственных, предшественников, -
пока, как тень гонимая солнечным лучом, не сбежит с лица земли, из поля
истории, и вся ненужная более ни для чего эпоха, не понявший смысла сво-
его и назначения народ. Рим, гениальный выразитель правовых отношений,
но не хотевший ни в чем, никогда и нигде потесниться в них, есть глубокий, и
поразительный, и страшный пример для всех более поздних народов; чудо-
вище, попиравшее столько народов, ощутит ли он какую-нибудь, сколько-
нибудь длящуюся сытость? Вот никого более не осталось, кто мог бы укорить
его; но, никем не укоренный, сперва в единичных людях и затем в массах,
давно не противящихся более гибели*, он стал уходить из истории, как более
ненужная тень. И только в новой религии, на новых тесных путях, снова завя-
зав связь души своей с «иными мирами», откуда она пришла, человечество
получило, конечно, из этих же миров, и новые силы для жизни, как мы теперь
знаем, более продолжительной и лучшей. Но всякий раз, как, забывая о пере-
несенном наказании, оно снова вступает на прежний слишком широкий путь,
прежние чувства тяготят его, и в них грозит ему прежнее наказание. Европей-
ское человечество (и за ним мы сами, насколько умеем только подражать
♦...«Рим разграблен, а беглые римляне идут в Карфаген (еще римский на несколь-
ко дней) развернуть пред его глазами свою безнравственность. Трир четыре раза
берется приступом, а остаток его жителей усаживается посреди крови и разрушения
на опустелых скамьях его амфитеатра. «Беглецы Трира, - восклицает Сальвиан, - вы
обращаетесь к императорам с просьбой позволить вам открыть театр и цирк: но
где же город, где народ, об увеселениях которого вы хлопочете!..» В это же время
один поэт, Рутилий, излагал в стихах свое путешествие из Рима в Этрурию, как Гора-
ций, в счастливые дни Августа, свое путешествие из Рима в Брундузий, как Сидоний
Аполлинарий воспевал свои сады в Оверне, в который вторглись вест-готы». Шатоб-
риан. «Etudes Historiques» <«Исторические опыты»>.
195
ему) стоит пред этим наказанием, уже его испытывая и все-таки еще не видя,
слепое внутренно среди поражающего света кругом, потерявшее знание
простых и основных истин среди мириад вычурных и утонченных знаний.
Гоня голодную, просящую толпу, без «права» надоедающую имущим, ос-
тавляя за тысячами женщин «право» стать лишь употребляемою вещью для
каждого, кто захочет*, «свободное», «христианское», с прошлого века «ра-
зумное» человечество Запада и также Востока, конечно, не более древнего
римского хранит в себе главное право всего живущего, которое нужно еще
оправдать, - право на жизнь, на существование, на продление того, что
было дано и всегда может быть отнято.
III
Третий принцип, на который может опереться деятельность человека, мы на-
звали политическим, - но это лишь следуя общепринятому и явно узкому
смыслу. И в самом деле, государство, П6Х^, есть, правда, самая ясная, повсед-
невно мечущаяся в глаза область, где проявляется этот принцип; пожалуй,
оно есть главная его сфера; но и всякая другая деятельность, как индивидуаль-
ная, так и коллективная, может, согласуясь или противореча двум только что
разобранным принципам, опереться на этот третий принцип ее оправдываю-
щей цели. Таким образом, скорее, государство может считаться его частным
проявлением, нежели он - его выражением или продуктом; оно есть частное,
особое проявление целесообразной деятельности человека, вовсе не исчер-
пываемой им только.
Цель, чего бы она ни касалась, есть нечто совершенно идеальное, - есть
продукт мысли человека и его воображения, которые, в жажде насытить себя,
к воображаемому или мыслимому влекут действительное. Над сферой этой
♦ В самом деле, не поразительное ли это явление: права на закрепощение кого-
нибудь нельзя давно купить во всей христианской Европе, хотя бы оно было свободно
предлагаемо кем-нибудь; раба я не могу иметь, даже с условием сохранения его жиз-
ни, здоровья, но только с правом по смерть на его свободу и всякий труд. И, в то же
время, и у меня, и у всякого в каждый текущий момент в распоряжении не одна, но
толпы, но тысячи рабынь, - рабынь, из которых каждая закрепощена не одному, но
всякому, кто захочет, на каждый его час и на всю свою жизнь, и закрепощена не только
относительно свободы, не только труда, но труда до такой степени для всех презрен-
ного, принуждение силой к которому есть уголовное преступление, - не это ли нару-
шение всех христианских законов, не это ли неслыханное в истории проявление тартю-
физма? «Европа, где твой разум, где твоя совесть, - мог бы спросить каждый, - когда
охраняя за этим вот драгоценную его свободу, ты допускаешь его до величайшего
несчастия, для избежания которого он охотно бы отдал свою свободу, - до несчастия
видеть, как дочь его, им когда-то лелеянный ребенок, будет взята вот этим другим,
«его братом» (fratemite). для удовлетворения начал пробудившихся его скотских по-
хотей». Конечно, и тени права на имя христианской не имеет Европа, пока в ней допу-
щена, есть (быть может, поощряется?) проституция.
196
действительности, с ней взаимодействуя, но от нее отделяясь, бродит иная
сфера то смутных, то ясных признаков, которую человек особенно любит,
вечно живет в ней своим сердцем и умом, и настолько любит самую действи-
тельность, насколько она обещает ему свести на землю что-нибудь из тех
призраков. Ради этого сведения, то жаждая его, то не хотя, восставали друг на
друга народы, взаимно боролись эпохи, соединялись и разъединялись люди в
сильные массы. Никогда не жалел человек умереть ради которого-нибудь из
этих призраков, хотя ни для какой действительности он не хотел умирать;
никогда он не мог жить только для действительности, без всякой мысли, или
надежды, или любви к этим призракам; «царство идеалов», - так называл он
всегда их, - «мир будущего», для которого минует, проходит все то, что те-
перь, что есть, чем обладает человек, а что он без сожаления оставляет, мани-
мый этими идеалами, этим будущим.
Возможно ли, чтоб этот мир человеческих идеалов не был управляем
какими-нибудь законами, которые, однако, мы знаем, управляют лишь дей-
ствительностью? Есть ли в них совершенный произвол для человека, или,
наряду с некоторою долей для него свободы, есть и какая-нибудь необходи-
мость, которой он невольно подчиняется, хотя, быть может, ее и не сознает,
не чувствует?
Если еще может быть вопрос о том, принудителен ли для человека выбор
тех или иных идеалов,-то, несомненно, раз он остановился на котором-ни-
будь из них, для него нет более свободы в формах осуществления выбранно-
го. В каждом идеале заключены некоторые нормы, вовсе не зависящие от
субъективного взгляда на него человека, но присущие самой природе его, от
нее неотделимые, как вторичные определения предмета неотделимы от его
первичного понятия. Так, человек может быть религиозен или не религио-
зен; но, раз он стал первым, он не может не искать религии истинной, найдя
ее - не стремится привести к ней всякого, и во всех же - не стремится пробу-
дить живейшей горячности ее исповедания и применения. Стремление стать
универсальною, быть живою, быть только истинною, без всякой примеси
лжи, заключено как норма в самом существе религии, и эти нормы принуди-
тельно ложатся на деятельность человека, не оставляя ему свободы уклоне-
ния, раз он почувствовал в себе ее потребность. От этого в истории мы ви-
дим, что отдельные эпохи бывают, правда, или безрелигиозны или религиоз-
ны. Но в последнем случае деятельность людей всегда выливается в одни и те
же формы, - очевидно, вне всякой зависимости, от воли человека и также от
условий места и времени: в Иудее, в Византии, в новой Европе и древней
Индии, среди арийского или семитического племени, это была все та же борь-
ба сект, ищущих очиститься от всякого заблуждения,- все те же наступатель-
ные войны, все те же призывы: пробудиться, и ярче, ярче, глубже и глубже
почувствовать абсолютность того, что почувствовано как абсолютное неко-
торыми. Если мы подумаем, что такова сущность и всякого идеала, мы глу-
боко ошибемся: взяв идеал красоты или справедливости, мы тотчас увидим,
что у людей вовсе нет потребности их насильственного распространения,
197
приведения всех - к признанию одного только их выражения; и, наконец,
ошибка в этом выражении, или слабость в признании, никогда не ощуща-
лась как боль, как страдание другими, никогда не считалась ими за преступ-
ление, чем всегда считалась ошибка в выражении, или слабость в призна-
нии религии.
Итак, есть особые нормы в каждом идеале порознь, и мы можем устано-
вить их для всех важнейших: в противоположность только что указанному
деятельному идеалу, идеалы истины и красоты существенным образом пас-
сивны. Уразумевая смысл чего-нибудь или создавая прекрасное произведе-
ние, я испытываю чувство живой радости; но у меня вовсе нет желания, чтоб
это чувство испытали и другие, чтобы кто-нибудь другой, подобно мне, от-
крыл новую истину или создал такое же произведение. Таким образом, эти
идеалы не только субъективны, но они и личны, в них нет способности пере-
ступить за границы индивидуальной жизни. Всякий другой, открывая истину
или создав художественное произведение, испытывает чувство удовлетворе-
ния независимо от испытанного мною, вполне самостоятельно, не по заим-
ствованию, но ощущая зарождение его в себе. От этого, нет общего изыска-
ния истины, совместного создавания картины или статуи, как есть общие
молитвы, для которых люди соединяются вместе. И от пассивной же природы
этих идеалов не было никогда борьбы для них: это - идеалы бескровные, не по
добродетели людей, к ним стремившихся, но по природе самых идеалов, ни к
чему не нудящей людей, ни на что их не возбуждающей. И однако, эти идеалы
вовсе не лишены движения, но только внутри себя. Если сущность религии
состоит в том, чтобы, оставаясь неподвижною в своем содержании, ширить-
ся в сознании людей, приводить их к единству веры и ее живости, то красота и
истина, оставляя человека спокойным, сами стремятся вечно расшириться в
приложении и содержании, - и в этом их норма. Уразуметь только самому, но
все неразгаданное еще, непостигнутое, - воплотить или созерцать красоту, но
всякую и во всем, к этому всегда усиливался человек и будет усиливаться,
также не по капризу своему, не по произволу, но повинуясь природе этих
своих особых идеалов. Религия, конечно, также усложняется в истории, но как
бы невольно и по ошибочности человека, сама же она всегда и только стремит-
ся быть верною прошлому, ни в чем не изменить первоначального содержа-
ния; напротив, отойти от прошлого, прибавить к прежнему составу новую и
новую черту - это всегда было сущностью науки, как равно и искусства.
В противоположность религии, вечно движущей человека, и науке и ис-
кусству, вызывающим его к созерцанию, справедливость следует только за
его трудом и, сообразно ему, проводит грани между людьми, их группами и
народами. Создать иерархию отношений, деятельностей, положений, всегда
на основании уже совершенного труда, всегда в основу нового труда, кото-
рый должен быть совершен в истории - усилие к этому есть столь же вечный
закон для справедливости, как только что указанные нормы для религии, ис-
тины, красоты. Быть только точною в возведении этой иерархии, всегда и
верно отвечать всякому оттенку в количестве, в достоинстве и смысле совер-
198
шейного труда — это есть единственное свойство, которым обладает справед-
ливость. Ни к чему не возбуждая человека, ничего не давая для его созерца-
ния, она лишь открывает ему сферу возможного,- грани свободной деятель-
ности, в которых под другими побуждениями он мог бы двигаться.
Таким образом, какой бы идеал из возможных для человека мы ни избра-
ли, мы видим, что с выбором его человеку не остается свободы в способах
его осуществления: по собственным своим законам этот идеал будет осуще-
ствляться в строго определенных формах, подчиняя себе деятельность чело-
века, но вовсе не подчиняясь ей. Религиозный народ всегда был религиозен в
одних формах; он так же будет подниматься на другие мирные народы, что-
бы привести их к единству веры, как другой народ, преданный более раз-
мышлению, очень мало думая об остальных людях, будет лишь углублять и
углублять свое созерцание; как третий, точнее и ярче ощущая справедли-
вость, будет строже и строже выводить отношения гражданского быта, и т. д.
IV
Но и, далее, в самых идеалах, предстоящих к выбору человека, мы можем
признать неопределенность лишь в том случае, если признаем его неопреде-
ленно-потенциальным в своей природе существом; и тотчас отвергнем это,
раз станет для нас убедительно, что потенциальность его природы определе-
на, ограничена. Но здесь мы должны сказать о том, что следует разуметь под
этими терминами.
Потенцией мы называем всякое реальное существо по отношению к
некоторому третьему, которым оно может стать, соединившись со вто-
рым; причем это второе дополняющее существо по отношению к тому же
третьему будет также его потенцией. Всюду поэтому, где мы имеем появле-
ние чего-либо нового или исчезновение прежнего, где что-нибудь происхо-
дит, совершается, мы имеем перед собою потенциальный процесс; и на-
сколько природа живет, движется, или в ней что-либо трансформируется, она
есть проявление только этого одного процесса.
Если мы спросим, на чем именно основана возможность для одного
чего-нибудь стать другим, то должны будем заметить, что она вытекает из
совмещения в каждом данном реальном существе, которое, по-видимому,
одно и строго ограничено многих иных существ, имеющих в нем для себя
физический центр, около которого неосязаемо расположены их логические
дополнения. «Ev ка1 ПоХХб» - это не определение Космоса, это выражение
сущности каждого отдельного существа, всегда «единого» и в то же время
«многого». Данный треугольник, который я вижу и осязаю, есть в то же
время половина квадрата, еще не исчезнувшего или, наоборот, не возросше-
го до своей целости: и, в то же время, он есть отрезок круга, около которого,
не осязая, я, однако, вижу недостающие части, с которыми он составляет
полный круг: вижу центр этого последнего, лежащий в вершине одного угла
199
(о), вижу два его радиуса, идущие из этого центра (ob, оа) и соединяющую
концы их хорду (ah), что вместе и образует лежащий предо мною треуголь-
ник. И ясно, что сколько есть фигур, в комбинацию с которыми может войти
этот последний (треугольник), все эти фигуры уже физически начаты в нем
(в предлагаемом чертеже - квадрат, круг т, эллипсис и, но не докончены, а
этим окончанием служат логические дополнения его до них, которых в одно
и то же время и нет - они физически никак не выражены, и они есть, присут-
ствуют, потому что лишь строго им отвечая происходит соединение данной
фигуры с другими, чрез что она трансформируется. Эти дополнения, суще-
ствования которых мы не можем отвергнуть, и в то же время никак не можем
ощутить их, в действительности образуют около каждого реального суще-
ства как бы ряд полутеней; они делают его существование неизмеримо бо-
лее содержательным и полным, чем как оно нам представляется и составля-
ют действительную причину всяких его преобразований: треугольник по-
тому преобразуем в квадрат, что в нем уже наполовину образован квадрат;
и если бы этого преобразования не было, не было бы возможно самое
преобразование. Мы взяли для ясности пример самый элементарный; но
то, что столь очевидно в этом элементарном примере геометрических фи-
гур, лишь несколько затенено сложностью в других существах природы, но
в действительности есть и в них, и служит в них также источником всякого
видоизменения.
Потенция и есть каждое реальное существо под углом этого воззрения на
него как на физический центр множества иных существ, логически начатых
в нем, но еще физически не дополненных. Всегда ли и во всяком ли существе,
однако, начато неопределенное множество этих неоконченных существ?
200
В природе все могло бы перейти во все, ее изменчивость была бы нео-
пределенно безгранична, она была бы только зыбка, без всякой прочности,
если бы каждое единичное существо в ней имело около себя неопределен-
ное множество этих возможных дополнений; напротив, не обладая ни одним
дополнением, существо обречено была бы на вечную неподвижность, неиз-
меняемость. Итак, между совершенным отсутствием и присутствием без-
гранично многого, к началу логической возможности чрез ряд чисел меж-
ду нулем и бесконечностью привходит начало ограничения* ничто в приро-
де не может стать безразлично всем, но только некоторым, и в этом некото-
ром лежит ее определение, начало закономерности в ней.
Одно, несколько, множество - таковы три модуса, под которыми мы мо-
жем представить себе весь безграничный ряд чисел. Сообразно этим трем
модусам и логически возможное, физически начатое в отдельных реальных
существах бывает или одно что-либо, отличное оть данного существа, в кото-
ром оно начато; или этих зачатков есть несколько, но всегда немного; или,
наконец, их неопределенно много (но никогда-безгранично много). Сообраз-
но каждому из этих трех случаев, видоизменяется самый потенциальный про-
цесс, как способ перехода данного реального существа в какое-нибудь другое.
Когда зачатков в нем неопределенно много, этот процесс становится ме-
ханически-причинным: все зачатки, в равенстве для себя условий осуществ-
ления, находятся в равновесии, и необходим внешний толчок, наружное по-
буждение, чтобы который-нибудь из них, в направлении которого дан тол-
чок, получив перевес над остальными, осуществился один, когда все другие
остаются только возможными. Косность механической природы, ее безраз-
личие к тому, чем стать, ее внешность как отсутствие каких-либо внутренних
стремлений - все это вытекает из указанной уравновешенности в ней задат-
ков, в свою очередь основанной на их множестве. Сфера неопределенной
потенциальности - таково истинное определение механизма; область логи-
чески возможного и физически начатого, но без каких-либо предопределе-
ний для окончания начатого, без всякой планомерности в будущем, потому
что без какого-либо к нему стремления - таковы ее свойства.
Совершенно иное мы наблюдаем во всяком существе, которое есть толь-
ко к одному чему-нибудь зачаток. Этим одним определен для него процесс
возможного изменения: последнее не может стать всяким, потому что тогда,
в зависимости от различий в изменении, становилось бы тем или другим и
существо, в которое оно переходило бы, что противоречит возможности для
него перейти только в одно что-нибудь; и, будучи совершенно определен,
этот процесс до некоторой степени самопроизволен: в реальном существе,
несущем в себе лишь один зачаток, нет уравновешенности существования;
оно стремится измениться в направлении к осуществлению лежащего в нем
зачатка, в этом именно направлении бытие его чрезвычайно полно, оно здесь
бременеет будущим, которым не бременеет вовсе с других сторон. Зачаток
есть в нем как бы внутренняя цель, которая становится, наконец, выражен-
ною, осуществленною, когда оно, видоизменившись определенным обра-
201
зом, становится единственным другим, чем ранее могло стать: таково дерево
по отношению к семени, в котором оно было заключено как его внутренняя
цель. Семя было живо ранее, чем начало прорастать; оно вечно усиливалось
прорасти, и только недостаток влаги, теплоты, пищи, внешних дополняющих
условий, другой потенции, мешало этому до времени. Итак, начало грани,
совершенной предопределенности будущего уже в прошедшем, есть отли-
чительная черта этой второй области природы, глубоко отличной от преды-
дущей. Эта именно предопределенность будущего, сказываясь как влечение
к нему, как внутреннее самопроизвольное стремление, есть жизнь. Итак,
область жизни - есть только область определенной потенциальности. Взамен
причинного процесса, который господствует в мертвой природе, живой при-
роде присущ процесс целесообразный: мы называем его этим именем как
переход от определенного (ммшм реальное существо, семя) к определен-
ному (другое единственно возможное существо, которым оно становится —
дерево) при участии внутреннего стремления и в направлении, которое
уже заранее определено было природой в нем лежавшего зачатка.
Процесс целесообразный всегда есть процесс раскрывающийся, и в этом
его внешнее отличие от всякого ряда механического перемен: в нем в каждой
последующей фазе все яснее и яснее выступает то, что чрез него формирует-
ся; внутренняя цель все более высвобождается, становится наружу. Реальность,
полнота бытия, осуществленное все возрастает; недостаток, недоконченность,
смутность возникающего образа - все малится, пока не исчезнет. С этим ис-
чезновением, когда, остановившись пред вещью, мы говорим: «вот она», без
мысли о чем-либо недостающем, без ожиданий, - движение ее прекращается
или оно становится обратным. В отличие от механизма, где ряд перемен может
быть бесконечен, во всем живом он имеет конец, дальше которого не может
продолжаться - по отсутствию для него потенции, как предустановленной воз-
можности: дерево не растет, животное перестает развиваться, когда они стали
полною реальностью, когда сеть предустановленных возможностей, от начала
лежавших в семени, наполнилась бытием, и больше им наполниться нечему.
Дряхлость и смерть, следующие за этою полнотой бития, есть, таким образом,
естественное заключение жизни. Здесь, при сохранении внешних черт, наруж-
ного образа, внутренние, поддерживающие его силы, начинают малиться, -
как ранее они возрастали; бытие, в котором был прежде избыток, и оно гнало
формы вверх и раздвигало их, теперь становится все более и более недостаточ-
ным, - пока сам образ не рухнет, черты его не разобьются, ничем более не
поддерживаемые или не поддерживаемые достаточно.
V
Мы остановились несколько подробно на явлении потенциальности, потому
что без понимания его невозможно понимание природы, а человек есть одно
из существ ее, хотя и с глубокими особенностями, но не выходящее из их ряда.
Его история, и в ней его смутные или ясные влечения, усилия - это такие же
202
явления природы, как прорастание, развитие, плодоношение дерева, с броже-
нием в нем сил, этих растительных, слепых, но тем не менее живых начал.
Неопределенная потенциальность сказывается как уравновешенность
зачатков, из которых каждый представляет собою чистую возможность без
присоединения к ней какого-либо внутреннего стремления; напротив, в оп-
ределенной потенциальности есть это стремление, всегда и только к одному.
Мир человеческий, область истории представляет собой эти же стремления;
однако, в нем нет совершенной необходимости, которая обусловливается
для всякого существа возможностию перейти только в одно что-нибудь; к
необходимости здесь присоединяется и некоторая доля свободы, избрания
того, чем стать. Растение, это данное, ни в чем не отступает и не может отсту-
пить от пути развития, который уже предустановлен был в семени, из которо-
го оно вышло, ни также в формах своих, в своем внутреннем строении или
внешнем виде; напротив, человек в своем развитии до некоторой степени,
хотя бы в очень тесных границах, формирует себя: той совершенной подне-
вольности законам своего роста, какую мы видим в развитии растения, в его
развитии нет. Откуда вытекает эта доля свободы?
Из пояуопределенной потенциальности его природы: ни неопределен-
но-многого, ни одного чего-нибудь, как зачатка, в нем нет; третий модус, под
которым мы можем еще мыслить число, некоторое, несколько - соединен с
тою возможностию, которая лежит в нем как зачаток его жизни, его истории.
Отсюда грань, которая положена на эту историю, конечно, есть, но она не так
тесна, как та грань, которую мы всюду наблюдаем в органической природе:
их несколько, подобных граней, и потому они не так теснят человека, но от-
крывают для него свободу выбора и, следовательно, сознания. Он влечется,
но не к одному, и в этом именно он человек,- не ком глины, который ни к
чему не влечется, ни растение, которое умеет влечься лишь к одному, ни,
наконец, животное, которое избирает лишь в деятельности, тогда как он изби-
рает в самом развитии.
Мы определили выше потенцию как отсутствие полной реальности, рав-
но как и отрицание совершенного ничто, небытия. Это именно полутень, но
такая, которой ранее или позже, случайно или по необходимости, предстоит
выйти на свет яркого бытия, куда не выйдет ничто, что не имело бы для себя
ранее этой полутени. То, что выводит сюда ее, что сообщает яркость и полно-
ту бытия каждой из подобных полутеней, мы назвали второю потенцией по
отношению к возникающему реальному существу. Каково взаимное отно-
шение их между собой?
В каждой потенции, как в зачатке, выражено, есть именно то, чего недо-
стает в другой; напротив, что есть в той, в ней отсутствует. В земле, в
стихиях, которыми живет растение, нет ни законов его роста, ни его сил;
напротив, семя, которое содержит эти силы и законы, лишено инертных кос-
мических веществ, влаги, света, и почти всего питающего, что лежит в окру-
жающей его природе. Это есть то же явление, хотя с иными модификациями
какое мы наблюдаем при встрече одной геометрической фигуры с другою
203
при образовании новой третьей: каждая из них представляет недокончен-
ные части другой, и именно потому они соединимы и способны образо-
вать чрез это непохожее на них целое. Часть, на что разлагается, как на
свой элемент, всякое целое, есть именно реальное существо с определен-
ным недостатком, с сопровождающею его полутенью, но которой где-ни-
будь, когда-нибудь есть или явится точно соответствующее другое реаль-
ное существо. Поэтому во всякой части содержится уже целое, хотя бы
далекое в будущем; но содержится как намек, как указание, как ясный недо-
статок до чего-то иного.
В потенциальности неопределенной эти части взаимно не чувствуют друг
друга, инертны; они лишь указывают, как в треугольнике направление ли-
ний указывает на второй треугольник, которого ему недостает до полного
квадрата. Напротив, в определенной потенциальности, сверх этого указания
на недостающее, есть и стремление к нему, как это мы находим в семени по
отношению к влаге, к свету, к теплу, к питающей земле. Жизнь есть стремле-
ние частей к воссозданию целого, есть ощущение ими друг друга ранее, чем
они соединились, есть темное знание их друг о друге, из которого, без сомне-
ния, родится и всякое ясное знание.
Таким образом, стремление, усилие есть, конечно, в природе первое;
оно предшествует сознанию, но лишь в субъекте, которому присущи и это
данное стремление, и это частичное сознание; ранее и первого, и второго
существует общая их возможность, - в идее целого, к которому части стре-
мятся, и, в этом стремлении, уже его предчувствуют, то есть повторяют
натурой своею то, чту первозданно ей предшествовало и теперь ее образует.
В грубом, элементарном примере геометрических фигур мы можем уже это
наблюдать: и в самом деле, если в каждой из двух соединяющихся фигур,
наряду с выраженным, есть и недостающее, и по этому недостающему мы
умозаключаем о другой фигуре, то ясно, что убрав одну из них, мы как бы
продолжаем ее еще видеть в другой, а убрав эту другую, продолжаем ее
видеть в первой - видеть в том, что не представляет собою никакой реально-
сти; это значит, что и по исчезновении обеих фигур, хотя уже совершенно
неощутимо для нас, остаются их следы, - следы потому, что мы о них думаем
после того, как в них видели, но уже не следы, а предобразующие схемы для
нашего же наблюдающего ума, раз он посмотрит на них с той другой сторо-
ны, когда в них возникало, а не из них исчезало, реальное целое. Эти следы, но
не оставленные живою действительностью, а протоптанные для нее, будучи
только логическою возможностью для всякого бытия, и суть истинные его
потенции, к которым еще не прибавлено ничего реального, с чем они обра-
зовали бы уже действительный зачаток. Как это совершенно ясно, они никог-
да не возникли, но всегда были и останутся, и суть именно то, что под именем
apxai, <rcoi%Eia, eiSeq*, numena* ** человек пытался уловить и мыслью, и сло-
♦ древность, начала, идея (греч.).
** воля (лат.).
204
вом, к чему тянулся всегда его разум, и также творческое воображение: это
они, «вечные, матери» всего живущего, о которых говорит Гёте во второй
части своего «Фауста»:
Коснусь я тайн высоких и святых:
Живут богини в сферах неземных,
Без времени и места в них витая.
О них с трудом я говорю. Пойми:
То Матери...
Фауст
Что? Матери?
Мефистофель
Дрожишь?
Фауст
Как странно! Матери, ты говоришь...
Мефистофель
Да, Матери! Они вам незнакомы;
Их называем сами нелегко мы...
Фауст
Где путь к ним?
Мефистофель
Нет пути к ним. Эти тайны
Непостижимы и необычайны...
Решился ль ты, скажи? Готов ли ты?
Не встретишь там запоров пред собою,
Но весь объят ты будешь пустотою;
Ты знаешь ли значенье пустоты?
...Оставя мир земной,
Ты в мир видений воспари душой
И зрелищем невидимым упейся...
Там Матери! Одни из них стоят,
Другие же блуждают иль сидят;
Царит сознанье, созерцанье тут,
Бессмертной мысли бесконечный труд
И сонм творений в образах немых;
Они лишь схемы видят, ты ж для них
Незрим...
Две черты: совершенная призрачность и вместе коренная, производя-
щая роль по отношению ко всему действительному отчетливо выражены в
этом диалоге и хорошо уловлены в самом имени «богинь». Оне - «матери»,
оне рождают из себя все, и с рождением дают законы рожденному, и опреде-
ляют формы, которых оно достигнет.
205
VI
Эти достигаемые формы и суть мир идеалов, томящих человека. Они отлич-
ны от того, чем обладает он, что знает и ощущает, и вместе - они близки ему,
потому что врождены в его природу, как в растущее дерево уже вложен плод,
который, однако, оно принесет только со временем. С помощью принципа
потенциальности границы существующего безгранично для нас расширяют-
ся, самое существование теряет свои грубые формы, и в будущем мы нахо-
дим то, что уже прозревали в прошедшем.
Как плод, еще не снесенный, но который врожден несущему дереву, вле-
чет его формы вверх, раздвигает и множит его ткани, вызывает его цветок и
заставляет последний благоухать или пестриться красками, и все это тогда,
когда сам еще не появился, - так точно движение, наблюдаемое нами в исто-
рии, ио-видимому, вызывается внешними причинами, в действительности
же лишь питается ими, а вызывается миром идеалов, открытых в человеке.
Не рождаемые, но только рождающие, эти вечные идеалы и единят, и разде-
ляют людей, вызывают всю их поэзию, одушевляют их мысль, влекут их от
спокойствия к подвигам, от повседневного к героическому. Они цветят исто-
рию, еще лишь предчувствуемые человеком,- и в них же, когда исполнятся
времена и сроки, без сомнения человечество найдет совершенное утоление
за все, что ради их оно, как мать в трудах и муках рождения, приняло и вынес-
ло в тысячелетия своей жизни.
Мы не будем исчислять этих идеалов, по грубости и бесплодности по-
добного исчисления в применении к вещам столь трудно уловимым, столь
духовным, и поэтому ограничимся лишь немногими словами о затруднени-
ях, встречаемых человеком на пути их осуществления.
Влечение человека к идеалам мы указали как третий принцип, которым
оправдывается его деятельность. Будущее, на что надеется человек, наряду с
нравственным побуждением и с приобретенным правом, указывается им
как основание для того, что он совершает теперь. Огромное большинство
подобных мотиваций определяется как мотивация политическая, и вот поче-
му, обобщая это название, мы применили его ко всякому виду целесообраз-
ной деятельности человека. Продолжая это обобщение, и ряд затруднений
или ошибок, к которому мы переходим, мы назовем политическими.
Есть три вида заблуждений, в которые может впасть человек, проявляя
целесообразную деятельность: несоответствие средств целям своим, об-
ращение средств в цели, неправильность в выборе самых целей. Всякий
раз, когда человек усиливается и не достигает, надеется радоваться и страдает,
когда в недоумении останавливается перед неожиданными плодами рук сво-
их, он впал неуловимо для себя в который-нибудь из этих трех видов зла.
Несоответствие средств целям своим заключается в отсутствии действи-
тельной причинной связи между актами, которые совершаются человеком
предварительно и, по его предположению, должны бы осуществить эту цель,
как причины осуществляют свое следствие, потому что всякий целесообраз-
ный процесс есть таковой лишь в целом своем, по плану, в нем действующе-
206
му, по соотношению же своих звеньев он есть всегда причинный, и цель есть
только самое позднее и самое важное (для кого-нибудь или чего-нибудь) зве-
но из длинного ряда предыдущих. Множественность следствий, которые мо-
жет производить каждая причина в зависимости от того, с чем в комбинацию
она вступит (множественность, зависящая от неопределенности ее, как по-
тенции), дает возможность исправить всякий вид подобного заблуждения,
возвратить на надлежащий путь цепь причин и действий, уклонившихся от
пути этого через употребление там или здесь несоответствующего средства.
И вообще этот род заблуждений, вследствие указанной гибкости причин, было
бы нетрудно победить, если бы он не осложнялся другим, гораздо более
трудным для преодоления: сосуществованием каждого почти предвидимого
следствия с рядом других, непредвиденных, которые и появляются, когда цель
достигнута, хотя они вовсе не ожидались. Мощь королевской власти, к кото-
рой стремится длинный ряд французских государей и их министров, вовсе не
включала в себе какого-либо зла для этой власти, и однако, когда весь этот
цикл истории произошел и завершился, для нас, поздних зрителей его, ясно,
что в чрезмерности этой мощи заключалась implicite и ее гибель, что одни и
те же удары ковали трон Людовика XIV и эшафот Людовика XVI.
Второй вид ошибок, обращение средств в цель, особенно присущ чело-
веку тогда, когда он стремится к чему-нибудь избранному не индивидуально,
а коллективно, не непосредственно, а через учреждения. Нет ничего обыден-
нее, например, как стремясь к просвещению, к высоте ума и сердца в каж-
дом вот этом человеке, начать мало-помалу удовлетворяться тем, что про-
свещающихся много, что просвещение длится долго, что на него много жер-
твуется, и вообще качественные начала перевести на количественные изме-
рения; средства все совершенствуются, на них устремлено все внимание, и,
наконец, в них видится уже достигнутое, уже цель именно в тот момент, когда
последняя совершенно забыта. Мы не будем еще увеличивать примеры, их
легко подыщет всякий, со вниманием оглянувшись кругом. Объясним лишь,
что каждый идеал ярок бывает только в индивидуальном сознании, которое и
открывает его, к нему приходит, и тотчас меркнет, извращается, не понимает-
ся более, как только переходит из него в общее сознание, которым он владеет
наряду с множеством других предметов, забот и пр.
Ошибка в избрании целей бывает одна: смешение тех из них, которые веч-
ны, которыми человек всегда, во всякую эпоху и во всяком месте должен бы
быть равно озабочен, с теми другими целями, которые вытекают из его нужд,
из его временного положения, и хотя, конечно, могут и должны быть удовлет-
ворены, но никогда - удовлетворены в противоречие с нуждами вечными,
даже если в данную минуту и являются, по-видимому, настоятельнее, чем пос-
ледние. Идеал религиозного объединения, достигаемый через пытки, через
преследования, через гонения, как это было в Средние века, через подобные
же преследования, гонения упрочаемый идеал республиканского равенства,
как это было в конце прошлого века во Франции, - суть более яркие примеры
этого вида ошибок, которые можно назвать историческими преступлениями.
207
VII
Говоря о принципе целей, как третьем оправдывающем деятельность че-
ловека, мы не можем не сделать несколько замечаний о государстве как
форме воплощения общественной жизни, до крайности недостаточной в
новое время. Древний человек, так глубоко отличный от нового, пре-
красный, но и не глубокий, мог находить в нем полное и совершенное
для себя удовлетворение; но и тени этого удовлетворения не может дать
государство, в котором все - внешность, все - резко очерчено, твердо
определено, человеку новому, с его гораздо более сложным миром идей
и чувств, с гораздо более утонченною духовною организацией, в кото-
рой самое существенное - именно то, что менее всего определимо, что
неясно выражено. Государство - это эмблема отрицания всего мисти-
ческого; напротив, новый человек сознательно или бессознательно, вольно
или невольно, вследствие почти двухтысячелетней христианской культу-
ры, всегда мистичен. Что бы ни говорил его язык, как бы он ни был даже
кощунствен, он в самом характере своего кощунства, как будто сетующе-
го на какие-то неоправданные ожидания, как будто негодующего на ка-
кую-то супранатуральную Волю, уже не есть древний спокойно-ясный
человек. И спокойно-ясная форма государства, мы говорим, его более
не удовлетворяет; он все хочет от него требовать более, чем оно может и
должно дать; он, и обращаясь к нему, говоря, что лишь в него верует, его
признает, в действительности думает о другом, во что не верует, но что,
он смутно чувствует, дало бы ему больше, чем сколько может дать госу-
дарство. Все почти коллизии между государством и личностью, или их
собранием - обществом, какие разыгрались в новые века, вытекают имен-
но из этого невыясненного недоразумения; революций не было в Сред-
ние века, когда народы не жили еще юридическим строем, когда строй их,
правда хаотический, правда безбрежный, однако в силу этой самой без-
брежности нисколько не теснил личность с ее новым глубоким мисти-
ческим содержанием; напротив, они стали постоянны и, прибавим, не-
избежны тотчас, как только юридический строй взял на себя задачу все
оформить, все выразить, все подчинить словесным определениям. Ду-
мают, что с экономическими преобразованиями исчезнет их причина;
но это иллюзия, потому что самый источник их никогда не был только в
грубой нужде, в неудовлетворенной физической потребности. Новому
человеку тесно жить в государстве, точнее - недостаточно: оно есть слиш-
ком грубая оболочка, оскорбляющая гораздо болеедорогое в нем, неже-
ли чему отвечает, что умеет удовлетворить.
Церковь, но как всеобъемлющее, всевыражающее создание над лич-
ностью и обществом, - вот единственная форма, которая может соответ-
ствовать этому новому содержанию; государство - лишь как пристройка
к Церкви, как несколько дополнительных подробностей, отчетливее и твер-
208
же выражающих, но все ее же мысль, ее дух; жизнь умственная и художе-
ственная, как продолжение этого же духа, как применение его к новым
предметам, но без какого-либо противоречия с исходными точками... че-
ловек покорившийся, но тому, чему он и должен быть покорен, стеснен-
ный, но в том, в чем он и должен быть стеснен, не похотливый, не крово-
жадный, не обезумевший от горя и несчастия, как теперь повсюду - вот
задача домостроительства его на земле. Труд мирный, ум не проклинаю-
щий, сердце покорное во всех скорбях, - молитва прежде всего другого, и
все другое после нее и из нее, - таков должен бы быть человек, так должен
бы жить он, существо таинственное и высшее во всей природе, существо
священное.
Жизнь не есть только мастерская; иначе, зачем в ней трудиться? что
выходит для человека из всего труда его, кроме сытости его усталых чле-
нов, - но разве он только сумма их, только две ноги, подпирающие тулови-
ще, на котором зачем-то сидит голова? Тогда, откинув эту малонужную
голову, можно было бы на вечность успокоить и члены. Но более чем
мастерская, жизнь есть и прекрасно украшенный храм; украшенный для
чего? украшенный почему? - на это нет ответа. Она есть мастерская, но в
храме, который нужно украсить для великого в нем таинства. В этом
таинстве - центр всего; без него все непонятно, все ненужно для человека
и вкруг его...
Я рожден - разве это не таинство? я умру - разве это не другое таинство?
и, проходя между этими двумя великими моментами, из непостижимого ис-
точника к непостижимому же концу, неужели я сам так ясен, как это иногда
кажется уму, и жизнь моя - столь простая сумма дел, забав, ошибок и к ним
поправок, как это представляется, пока она течет и не дотекла еще до роково-
го исхода?..
Что значит, в сущности, на человеческом языке «понятное», «естествен-
ное»? Не есть ли это только синоним привычного, о чем мы все и давно
знаем, и потому перестали удивляться, как не удивлялись люди падению пред-
метов вниз, этому обыденному проявлению всемирного тяготения, которое,
в момент его открытия, показалось столь таинственным, непостижимым и
Ньютону и всем его современникам. Но вот, с юных лет, повторяя знамени-
тую формулу этого закона, мы больше не удивляемся ей, хотя ничего не
прибавилось к нашему пониманию тяготения. Прав ли был Ньютон в своем
удивлении, или правее мы в своем равнодушии? В источнике и в природе
своей все вещи не остаются ли, в сущности, так же таинственны теперь, как и
тогда, когда их впервые открывал человек? Мир во всех своих проявлениях не
есть ли непрестанное и повсюдное чудо, на которое мы не дивимся более
только потому, что, неблагодарные, тупые, сделаны вечными свидетелями
этого чуда?
209
ГРЕТХЕН И ФАУСТ
(Посвящается В... и памяти Н...)
Вольфганг Гёте. Фауст. Драматическая поэма. Пер.
Н. Холодковского. СПб., 1890.
А. Шахов. Гёте и его время. Лекции по истории немец-
кой литературы XVIII века, читанные на Высших жен-
ских курсах в Москве. СПб., 1891.
Блажен, кто, богами еще до рожденья любимый,
На сладостном ложе Киприды взлелеян младенцем!
Кто очи от Феба, от Гермеса дар убеждения
принял,
А силы печать на чело - от руки Громовержца!
Шиллер
I
Прекрасный труд покойного Шахова, так безвременно унесенного, еще почти
юношею*, в могилу, напомнил нам невольно о том учреждении**, которому
с любовью*** посвящал он свои силы - и его также нет более. При виде его
* Он умер, 5 декабря 1877 года, «едва достигши 27 лет» - возраст, в котором
теперь многие только оканчивают курс университетского учения. См. некролог его,
присоединенный к названному в заголовке изданию и составленный другим дарови-
тым преподавателем бывших Высших женских курсов в Москве, и любимым профес-
сором Московского университета, Ник. Ил. Стороженко. Шахову, сверх труда о
Гёте, принадлежит другой более обширный: «Французская литература в первые
годы XIX века», теперь также изданный. После лекций Н. И. Стороженко, которые,
по вине излишней скромности уважаемого ученого, остаются до сих пор не опублико-
ванными, и, без сомнения, будут тотчас опубликованы по его смерти, труды Шахова,
по ценности своей и важности избранных в них тем, являются самым ценным, чем
обладает наша скудная литература по науке истории всеобщей литературы.
♦♦ Высшие женские курсы в Москве, послужившие прототипом всех последу-
ющих однородных учреждений (в Петербурге, Казани, Киеве) были основаны Влад.
Ив. Герье, одним из самых достойных представителей исторической кафедры Мос-
ковского университета. Им были приглашены к преподаванию сюда лучшие уче-
ные силы Москвы, из которых по памяти мы можем назвать Н. И. Стороженко,
В. О. Ключевского, Лопатина, Алексея Веселовского.
♦♦♦ Вот как одна из бывших слушательниц его чтений вспоминает о них: «Мы все
боялись проронить хотя бы одно слово из его лекции. Ни дождь, ни грязь не останав-
ливали слушательниц бежать на его лекцию, даже из таких далеких концов, как Пет-
ровский парк, Мещанские, Покровка, в то время как курсы помещались на Пречис-
тенке. Трудно было не увлечься тем живым, полным энергии, словом, которым ды-
шала каждая его лекция. Читать лекции Шахова и слушать его живое слово - пред-
ставляло громадную разницу. Каждая лекция в его устах как бы экспромтом получала
210
мы невольно вспомнили длинную и узкую читальню* Московского Публич-
ного Музея, куда бывало часов около 11 утра начинают входить, не без смуще-
ния и робости, молодые девушки, и, спрашивая какие-то огромные книги,
уходили туда носом и что-то строчили карандашом у себя на бумаге; мы,
также строчившие свои рефераты, по переплету и формату книг старались
узнать, что это: лексикон ли средневековой латыни Дю-Канжа, том ли из
«Monumenta Germaniae» Пертца или крошечный трактат Руссо и пламенное
нападение на революцию Эдм. Борка; и, по собираемому матерьялу, пыта-
лись определить заданную «им» тему. К часу обеда зала пустела и наполня-
лась опять вечером; дни шли за днями, недели за неделями; реферат был
верно прочитан, был задан другой реферат; год обещал сменяться годом, и
этот же рой сменяющихся девушек все прилетал бы сюда же, на это книжное
поле, собирать цветочную пыль, - не для значения какого-нибудь в мире, не
чтобы солнце затмилось и земля разверзлась, но чтобы сладкий сок на цветах
не обсох, в улье на зиму был запасен мед и, наконец, чтобы на ярком солнце,
в это свежее утро резвые крылья жужжали, и все, как должно в Божьем мире,
исполнено было не только тепла и света, но также движения и чьему-то уху
нужного шума.
Но солнце не захотело светить, ему было скучно греть, и вот испуганные
пчелки разлетелись, попадали на землю, и самый улей разорен, так что толь-
ко значится его место. Говорят, наказанные виновницы искали не одних цве-
тов, им нужна была еще и любовь; на ярком солнце, оне иногда как будто
вдруг забывали, зачем и куда летели, и, увлекаясь, подымались вверх, исчеза-
ли в эфире воздуха, и когда спускались вниз, вместо того, чтобы продолжать
начатый труд, занимались выводом тех, кто после них мог бы продолжать
этот же труд. Но разве поле и луг и лес были под монастырским запретом?
Разве на нем же не цвели цветы и их за это не вырывали, деревья - не множи-
лись и никто за это их не проклинал? И не для рождения ли светит солнце,
занимается весна, - не для того одного, чтобы цветы благоухали, но чтобы во
благовремении и приносили плод... Придет осень, солнце перестанет греть,
снежный покров покроет землю и никто о новом рождении не будет думать.
особую, ему свойственную отделку: в ней было много характерных оборотов и выра-
жений, которые по своей живости и силе могут сравняться разве только с пылкою
речью Берне. Личность его слишком тесно сливалась с преподаваемым предметом, с
его лекциями, в которых он выступал светлым, полным энергии и надежды». См. «Два
слова о покойном А. А. Шахове», «Русская Газета», 11 декабря 1877 года. Как не
подумать, что разорение этого самозародившегося центра благородных занятий и
духовных интересов ляжет гибельным воспоминанием на память тех, кому это было
нужно, кто, живя среди живых, - хотел бы только хоронить все.
♦ В 1878-81 гг. она помещалась еще в нижнем этаже так называемого «Пашковс-
кого дома». В то время, да и теперь верно, все называли мы музей «Румянцевским»,
по главной сокровищнице бумаг и книг, оставленной бывшим канцлером Румянцевым
и послужившей основою Музея. Там же хранятся библиотеки Норова, гр. Панина
(позднее обращенная в читальную залу) и многих других оберегатслей родного про-
свещения.
211
Итак, мы думаем, дурно было не то, что совершалось, но дурно, что
совершавшегося никто не захотел освятить. И пчелы жужжали, иногда жали-
лись. Оне знали - солнце для них, воздух для них; и между тем угрюмая при-
рода окрест не хотела их, северные ветры гнали тепло и тучи заволакивали
солнце. Как бы то ни было, роком ли, людьми ли, градусом ли несоответ-
ственной широты и капризом случая - роя нет более, улей повержен и пчелы
перегнаны куда-то в другое место, где, будем верить, оне не знают любви и
забыли употребление жала.
Говоря это, мы не вмешиваемся в толпу тех, кто так усиленно создавал и
недавно вновь воссоздал один из подобных, менее только укромный, менее
медоносный* улей. Как и еще некоторые, мы думаем, что в организации
женщины, с которою так связана и организация ее духа, начертан достаточно
ясно закон, которому она должна и хочет следовать. Мы не разделяем ни
предвидений, ни надежд одного из уважаемых залогов нашего времени**,
что в будущих веках для женщины не невозможно подвергнуться метамор-
фозе, которой подверглась одна из разновидностей ганьской осы; или, по
крайней мере, в ожидании этой метаморфозы и нарождения в женщине но-
вых инстинктов, мы желали бы, чтобы она следовала тем, какие в нее вложе-
ны и не истреблены еще. Между 14 и 16 годами она преобразуется в суще-
ство полурождающее; полурождение, какого ей недостает - ей должно быть
дано, она его ищет. Кто так сотворил, для чего, на вечное ли время - нет
вопроса, или, если и есть для праздных умов, они могут его обсуждать; те-
перь и для этой женщины закон должен быть исполнен.
И он исполнялся во всякое время и у каждого народа, который покорно в
судьбе своей следовал немногим и вечным указаниям, начертанным в при-
роде, для человека выговоренным Богом. Зато особенное, незаменимое, не
* Мне случилось, года два назад, просмотреть некоторые лекции, читанные на
Петербургских курсах, заменивших собою прежние частные, и я был поражен ужаса-
ющим вздором, какой там читается под именем науки (что-то по истории и филосо-
фии). Имена чтецов, правда, были вовсе неизвестные в литературе соответствующих
наук, но меня удивило, что чтения, принадлежавшие (по крайней мере одно) известно-
му ученому, было почти таким же вздором. Очевидно, пришедшим сюда с Волги, с
Кавказа, с севера девушкам и женщинам бросалось то, что среди недосуга, за множе-
ством других более важных обязанностей, изготовлялось профессорами для учреж-
дения, старавшегося как-нибудь отвязаться от назойливого желания учиться.
** Проф. И. Мечников, автор знаменитой теории фагоцитов, в 1892 или 93 г.
поместил в «Вестнике Европы» статью, где, озабочиваемый будущею ролью женщи-
ны в разработке науки, и предвидя препятствие этому в ее способности и желании
образовать около себя семью, указывает, что у одной разновидности ганьской осы
произошло видоизменение, на которое можно было бы надеяться и у женщины: имен-
но, у особей женского пола этого насекомого органы воспроизведения атрофирова-
лись, стали рудиментарными, в видах сохранения этих особей для труда более произ-
водительного и нужного. Статья эта вызвала оживленные прения в нашей литерату-
ре. Между возражениями хорошо было принадлежавшее г. Н. Михайловскому (осо-
бенно вторая из двух его статей), в смысле своем сомневающаяся в том, что мы здесь
высказываем.
212
уравновешиваемое никаким другим, счастье, какое вечно сообщала и вечно
же готова была сообщать женщина другу своему и покровителю, она ожида-
ет только, чтобы для каждой из них был сохранен этот покров. Не вмешиваясь
ни умом, ни волею в неустанный шум истории, в листве шумящего леса
незаметно скрытые, невидные цветки обеспечивают непрерываемость этого
шума и бодрый рост каждого дерева, если только немногие, чего они требу-
ют своею природою, будет сохранено за всяким из них. Часть внимания они
ищут себе; лес не только должен взаимодействовать с лучами солнца, ткущи-
ми в нем хлорофилл с ветром, которым дышат его листья, с почвою, где
питаются его корни, этими стихиями мира, но, обращаясь внутрь себя - и с
этими незаметными цветками, носителями законов и сил иных, нежели какие
содержатся в тех стихиях. И мир был бы полон, жизнь обещала бы быть цель-
на, если б это все, приготовленное для человека, нуждавшееся лишь в сохра-
нении им, им было в действительности сохранено.
Но тайна минуты, той недавней и нашей, состояла в том, что все это уже не
было сохранено в ней, и законы, по каким тысячелетие рос лес, при шуме листвы
его, еще большем, чем когда-либо, при бурной игре стихий, палящем солнце,
рвущем ветре, были нарушены в той незаметной и скрытой их стороне, на кото-
рую мы указали и об ней высказались, как о преимущественно перед всеми
определенной Богом. Великая ли строительная работа предстояла и лес должен
был стать только деревом, другое ли что произошло, но только таинственный
внутренний процесс взаимодействия дерева с самим собою - или начал, или
готовился или был уже разрушен. Цветы или вяли, или, срываясь, летели и крути-
лись в воздухе; падали ли, нет ли они при этом, и в какой узор слагались на земле,
какой об этом вопрос, кому интересный, для кого нужный? То, для чего они
были, более не было; не все ли равно, чем они станут без этого?
И вот почему, не сливаясь в мысли своей с теми, кто для этих оставлен-
ных, забытых цветов что-то готовил, на что-то надеялся, мы не иначе, как с
глубоким и благодарным чувством смотрим, однако, на их труд, их заботы,
напрасные и великодушные их усилия. Они увенчивали, украшали могилу
тех, кому не предстояло более жить; они играли скрадывающую истину ме-
лодию, слушая которую бедной жертве легче было идти туда, куда и без мело-
дии, в яму, загрязненную нечистотами, она обречена была быть столкнутой.
[Их] труд [был] неосмыслен, но прекрасен-, и было странное в нем только то,
что в то время как и они, и их тайные недоброжелатели, придавали труду
этому высшую осмысленность, они не замечали вовсе здесь высокой нрав-
ственной красоты, которая одна в нем действительно была*.
♦ Это примечание не имеет у Розанова отсылки к тексту. Его связь с текстом
установлена по смыслу. В статье, которой ни названия, ни имени автора мы не помним,
и которую знаем лишь по насмешливому фельетону, вызванному ею «Моск. Вед.»,
одна из женщин выразила жалобу - сетование на то, как многие из них в то время, хотя
совершили все от них требуемое, остались «непризренными» от тех, ради кого все
неестественное для себя оне совершили. Тогда же нам показалась она исполненною
глубокого смысла.
213
И женщина покорно шла к тому, на что была обречена; с тем неведением
конца своих путей, с тем высоким доверием к господину своему и другу,
какое отличало ее всегда в истории, она повиновалась ему и теперь, когда он
не был более ее другом. В формах простых, бесшумных, в тысяче актов,
столь некрасивых, загрязненных порою, совершился акт всемирной истории,
которому мало подобных по красоте, трогательности и трагизму мы наблю-
дали в ней. То жестокое условие, на которое без оружия, без кораблей, с
выданными заложниками, никак, однако, не мог согласиться Карфаген: от-
ступя от берега на несколько миль оставаться, пожалуй, и «Карфагеном», и
вести торг и войны, на эти условия - сохраняя прежний облик и прежнее имя,
потерять то, чему имя служит именем и облик обликом - женщина ответила,
что исполнит. Лишь на миг этой покорности заслуживая внимание к себе,
она ради этой минуты счастья оставляла, как и указано ей вечным законом,
«отца своего и матерь свою и прилеплялась»... к тому, кто мог бы, в ком
надеялась она найти хоть некоторое подобие «мужа». В странном, в непонят-
ном движении этом, в котором женщина была женственна, как никогда в исто-
рии, ни среди германских полчищ, ни за прялкой в Лациуме, ни на рыцарских
турнирах, ни на придворных балах XVII века, она не совершила ни одного
деяния, которого мысль ей бы принадлежала, не отказалась совершить никако-
го, которое отвечало бы ожиданию ее возможного покровителя; и не было
ничего в этом ожидаемом столь трудного, над чем она задумалась бы.
Ей сказали, что ее красота не нужна - и она покорно сбросила с себя
красоту, она, так суетно любившая ее, из-за нее совершавшая преступления,
об ней не забывавшая в унижении, в величии, счастливая с нею во всякой
доле, во всякой без нее несчастная; ей указали, что целомудрие в ней смешно
- и она, подавляя в себе мучительный стыд, обнажилась; что брак — это
побочное для нее обстоятельство, и она стала хоть любовницей; что мужу не
как женщина она нужна, но как женообразный друг, который сверх товари-
щеских разговоров иногда сумел бы насытить и его похоть - и она для разго-
воров пошла учиться, ломая свой ум, задерживая в себе инстинкты, и насы-
щала его похоть. Раба как никогда еще в истории, как никогда в ней - героиня,
все ему отдавшая и в этой беззаветной отдаче себя только сохранившая, вот
чем не под углом минутного зрения она была в вереницах минутных фактов,
над которыми плакавшие не знали, что они оплакивают, надеявшиеся надея-
лись напрасно и смеявшиеся остались смешными.
Итак, разрывая недоразумения, откидывая фальшивые отрицания и пре-
зирая слепо произносимые утверждения, мы ясно и прямо говорим, что
женщина не только любила и продолжает любить в то время, как думают о
ней, что она все «составляет рефераты», но что именно это и было един-
ственно истинным, существенным и ценным, что она тогда совершала; что
это указано ей Богом, не может быть поставлено в вину человеком; и если
великое таинство своей любви она, сжимаясь в сердце своем*, проходила как
♦ Никем и никогда нс было доказано обратное.
214
бы обычную, простую, кому-то нужную на время вещь - здесь есть великая
вина и великий грех, не на ней лежащий.
Не на ней лежала обязанность и освятить таинство; храм был заперт, свя-
щенник отсутствовал, стояла темь и холод, - и, конечно, не ее озябшие члены,
усталые ноги, бесприютную голову мы будем осуждать, и если эти осуждения
есть, мы в них не соучастники. Верно, все так должно было совершиться; вер-
но, нужна была и эта слепота одних, и это страдание других, и даже то, что
слепыми были наказаны страдающие. Как и всегда в истории, руки, которым
дано было строить, мы видим, мысль же строителя от нас скрыта.
Не было ли здесь, однако, предшествующей и свободной вины? Быть мо-
жет, в тьме-сырости дожидавшиеся света и его не увидевшие, сами забыли о
ком-то другом, кого оне оставили в такой же сырости и мгле? Горе, ими поне-
сенное, быть может, только перенесено в сердца их из других угнетенных душ,
и оне виновны в этом угнетении? Богу не угодно было освятить их любовь,
потому что оне сами не сберегли, не укрыли от непогод, не согрели дыханием
чью-то уже меркнущую, холодеющую, и все-таки более, чем их собственная,
чистую и нежную любовь, на них обращенную? И тогда в высшем историчес-
ком домостроительстве все понятно... Есть страдающие, и цепь страдания так,
однако, сплетена, что самая попытка ее разорвать - кощунственна, напрасна.
II
Чуть-чуть пленка неблагоразумия, недостаточности* сказывается в серьез-
ном и прекрасно выполненном труде Шахова, и туг сверх его 27 лет говорит о
себе и чрезвычайная юность тех 60-70 годов; о, годы, о которых сказано так
♦ Как и всегда почти в исторических суждениях, она сказывается в том, что мы
назвали бы эгоизмом мысли и провинциализмом сердца. В бурные, исполненные
веры в себя, годы, «самоубийство Вертера представляется ему, перед судом здраво-
го смысла - безрассудством» (стр. 58); отчуждение его от практической деятельнос-
ти имеет достаточное объяснение в том, что трудно было ужиться в административ-
ных кружках Германии прошлого века, где он (Вертер) не мог удовлетвориться
скучно&непроизводительной работой в канцеляриях и скоро должен был усмотреть
всю несостоятельность бюрократического механизма, непригодность сложного, за-
мысловатого, проникнутого педантизмом делопроизводства XVIII века» (стр. 61); и,
сверх этих недостаточных форм делопроизводства, его меланхолия, разрешившаяся
самоубийством, имеет источник свой в том, что «ему недоступно было спокойное,
трезвое отношение к неизменным законам природы и к их необходимому течению, и
он еще не мог покинуть старые идеальные представления о телеологии, о предусмот-
ренной целесообразности мира» (стр. 57), без которых он легко узнал бы «другую»,
открывшуюся в 70 годы нашего века, «гармонию, другое спокойствие духа, не
детское, не неразвитость людей» (стр. 60). Да и вообще так называемую «мировую
скорбь», которою охвачены Вертер и Фауст, мы застаем во всей силе и во всем ее
величии в конце XVIII и начале XIX века, когда борьба между старыми упованиями
и зародившимися новыми воззрениями достигла высшей степени ожесточения, когда
215
много дурного, и этому перу, которому хочется сказать о них теперь хорошее,
в свое время также пришлось прибавить к этому дурному каплю желчи. Но и
в зрелости и в старости есть своя юность, как иногда в юности бывает своя
старость. Годы без рассудка, годы еще не предугадывавшие результатов, годы
все перевравшие были годами чудесной юности; в безумии твоем, в грехе, с
бичом свистящим над спиной твоей - все-таки люблю тебя, моя юность, когда
я ничего не знал, на все дивился, и, дичась, смотрел на все с любопытством, и,
следовательно, серьезно. Век все перепутавший, но в это перепутанное сохра-
нивший веру, и, следовательно - правый, истинный, глубокий в главном. Как в
самом деле ничтожны наши «истины» и «заблуждения»; как оне переменчи-
вы; что же в неизменном существе моем вечное и, следовательно, главное?
Бог указал человеку не столько обладать истиною или заблуждаться, сколько и
обладая первою, и впадая во второе, блюсти верным свое сердце. Это одно
ему не забудется, и раньше или позже и им самим поймется как то, ради чего
он послан и для чего испытывается на земле. И годы, которые мы так безжало-
стно хоронили под ругательствами, более, чем мы сами, были правы в этом
главном; что до лепета их языка, до сплетения мыслей, что в том, что подни-
мая камень они бросали его к небу, если в игре их мускулов, в прекрасном
напряжении сил бездна законов, небом предустановленных, сияла ярко, для
всех выразительно, и только от них самих, скорей всего бедных, скрытно. И
игра прошла; небо все то же над нами, непобежденное, непобедимое, едва ли
знающее. Кого мы только что думали побеждать; цепь холмов - и над ними
навек умолкнувшие сердца, не вздымающиеся груди, не напрягающиеся мус-
кулы. Как благодатно над ними небо, как оно ласкает своими лучами этот
оба начала старого и нового - метафизика и наука - вступили в последнюю решитель-
ную схватку, которая должна была закончиться победою одного из них» (стр. 55), и
закончилась ею в трудах Конта, Милля, Спенсера. Аналогичны, и из того же источни-
ка идут, ретроспективные взгляды, которые он бросает на Средние века, полемизи-
руя против отношения Гете к Гёцу фон-Берлихингену: «В 1873 году мы уже не
можем восхищаться Гёцом» (стр. 49), юноши периода Sturm und Drang, и среди их
Гёте, «находили в Гёце сильную личность, которая шла вразрез с веком, но совер-
шенно упустили из виду, что, в сущности, это было лицо, служившее ультра-консер-
вативным интересам своего времени» (стр. 45). «Гёц - настоящий средневековый
рыцарь, который на весь мир смотрит с точки зрения удалых выходок, драк, схваток,
вылазок, для которого фейда - частная вражда с соседями - его природная стихия,
который свято хранит свое слово и ненавидит горожан - представителей нового обще-
ственного строя и новых понятий. Он хвастается в своем жизнеописании, что со своим
единственным кулаком (другой у него был отрублен), он целых шестьдесят лет вел
войны, драки и споры. Вся его деятельность - лучше сказать, вся его беспокойная
возня, - не принесла пользы ни ему, ни другим, и, несмотря на известную нравствен-
ную высоту его характера, на его феодальное благородство, он представляется для
нас в XVI веке на стороне элементов, тормозящих развитие цивилизации. Это - лич-
ность, отжившая для своего времени, непонимающая его требований, - личность
ненужная (курс. Ш-ва) и вместе с тем достойная сожаления, как и все последние
могикане» (стр. 42-ЛЗ). Так что увлечение Гёте нам представляется совершенно нео-
сновательным.
216
песок, точно усиливается проникнуть дальше и согреть, возбудить к жизни
холодные трупы. Что мы со своим судом тут? Кого осудим, за Кого вступим-
ся; лучше будем думать о том, чтобы самим, на краткий миг бытия, нам
отведенного, быть правыми и не повторять заблуждений, не впасть в новые.
III
Следуя Тэну, Г. Брандесу и другим меньшим, которые каждое литературное
явление стремились «рассматривать как факт, порожденный известными ис-
торическими условиями и как фактор, воздействующий на последующие ис-
торические явления»*, наш покойный критик применяет этот метод и к Гёте**.
Мы можем признать, что, следуя этому пути, он достаточно ясно указывает
нам, как слагался сюжет данного произведения, откуда возникла его тенден-
ция, и вообще ту всю сторону, которая не необходимо связана с именем Гёте
и могла, наравне с ним, принадлежать и десятку других, ему одновременных
поэтов, и отчасти действительно им принадлежала. Химия нервов и механика
мускулов нам ясна. Но где же он, сам Гёте? откуда дивная мощь этих слов,
которым и раньше мы внимали из тысяч уст и только от него, выслушав -
встревожены, смущены, и даже не их смыслом точным, который и ранее,
почти в тех же терминах, был нам известен, но чем-то неощутимым, непере-
даваемым, что с этим смыслом он соединил и перелил в каши души? Сомне-
ния ума - это так древне, оскорбленное или не насыщенное сердце - так старо
и постоянно; и сюжеты - мы знаем их тысячи и гораздо более занимательных;
краски - зеленая, желтая, всякие, и кисти, которыми их распределил на полот-
не художник - все это взято из маленькой лавки, куда мы все ходили, где их
видели и никогда не обращали на них внимания, зная, что все из этого может
выйти, и ничего по необходимости, в них самих сколько-нибудь вложенной.
Он, его сердце, особый ритм биения этого сердца, вот что есть источник все-
го, где тайна особенного сочетания этих красок, - и того, что пук сюжетов,
лексикон слов, мера стиха сложились в то, над чем века размышляют, ради
чего и его век, прошедший, скучный, мы в этих скучных его подробностях
разбираем, чтобы как-нибудь разгадать то, чего разгадка там, очевидно, не
содержится. Из каких глубин бытия этот ритм идет, когда о том, кто был перед
глазами нашими его минутным носителем, мы знаем, что он зачат, как и все
мы, в грехе, рожден - в страдании, и от людей столь же обыкновенных или, по
* См. «Гёте и его время», стр. 40, и также всю первую лекцию «О задачах и
методе истории литературы».
♦♦ Чуть-чуть, в отношении Гёте, это напоминает одного «предприимчивого изда-
теля», который после чрезвычайного успеха на сцене «Гёца фон-Берлихингена» обра-
тился к молодому поэту с просьбою написать еще штук 10 подобных же пьес, из
рыцарских времен, и предлагал хороший за это гонорар. Процесс художественного
созидания этому книгопродавцу не представлялся иным, по иным законам и побужде-
ниям совершающимся, чем как и школе новых критиков.
217
крайней мере, не ощущавших, не знавших в себе этого ритма? Но вот рожден-
ный так, и не иначе живший - умер, связка костей его и мускулов одна лежит
на наших руках, где же он, куда ушел, как и ранее - откуда между нами
явился? Какой модус разрушения, какой модус созидания мы для него приду-
маем? Мы слышали его, этот ритм, звуки слышанного рассеялись в воздухе,
умерли в стихиях, но где же смысл нами слышанного? Был ли он образован,
как и эти струны, его выражавшие, начали звучать? и теперь, когда оне не
вибрируют более - что же, в них умер он, перестал быть? И что для смысла
значит «перестать быть», - разве только превратиться в бессмыслицу, но и той
все-таки нужно стереться, и, однако, стереться могут буквы и не то, что выра-
жали оне собою, что их поставило в порядок и когда этого порядка и самых
букв нет - остается, их не касаясь, не касаемое ими? Рожден - и в этом рожде-
нии все-таки не создан, умер - и в смерти еще не исчез, это человек, струна
дрожжащая для внимания нашего, слово выговариваемое, но и до выговари-
вания вечное в своем содержании, и после выговаривания в нем остающееся.
И вот отчего в жизни, в истории нет повторений; эти вереницы букв, каждая -
только «комок красной глины», собираются всякая в свой смысл; он сказал
что-то на земле, Бог выслушал миг этого выговаривания, - и губы выговорив-
шие поблекли, струна отзвучавшая порвана, нет глины, алфавит рассыпан,
люди в слезах, в горести его провожают - он в Боге, в памяти природы, там
откуда был принесен и куда унесся, и даже в миг краткий своего дрожания не
переставал быть там главною своею частью.
IV
И нам понятно, что значение этих звуков не равно; что в их сплетении, кото-
рое слагает собою историю, есть слова промежуточные, поясняющие, про-
должающие, подготавливающие - то, что есть главное, что в длинных веках
произносится однажды и эти века собою осмысливает, неясную их речь
заключает. Гений в трепете своих дарований, в сиянии лица своего перед
историей есть слово с силою выговоренное, где страсть и мудрость незем-
ного происхождения для этой земли раскрылась в неизреченной своей глу-
бине. Тучи разогнаны, звезды свернулись к стороне, зияющая черная глуби-
на небес, на миг разверзнувшись, скрылась снова до другого подобного
мига, чтобы трепетные обитатели земли не совершенно о ней забыли. И вот
отчего память небесного так свежа у гения; так чужд он кощунства нашего;
и наглость, шутка, смех, нам так обычные, заставляют его дико сторониться
от себя. Задумчивый, серьезный, покорный чему-то, но никогда - своему
капризу, ни воле людской, он проходит между людьми, несколько чуждый
им и неизъяснимо для них дорогой. Как лелеют они его память; как дорог
каждый оставленный им звук; сокровища поучения, мудрости, красоты те-
кут от него, - и между тем, нет слова, которое он с усилием, придумывал бы,
но всякое уже находил готовым, лишь брал в себе положенное. Руки даю-
218
щей мы не видим; он сам благословляет ее, указывает нам ее благословлять.
Будем покорны ему, и не станем искать в чаще, болоте, зеленых лужайках,
где ноги наши царапались, тонули, иногда взгляд отдыхал, источников той
высоты, какую открывают его творения и мы как долго ни брели, как далеко
ни разбредались - ее не видели, об ней не предугадывали.
V
Мы хотим говорить о «Фаусте», в котором как только он появился, люди по-
чувствовали, что выражена некоторая тайна* * им общего, их преходящего
бытия. Сам Гёте, как много и прекрасно он их создавал, как бы лишь подготов-
лялся в тех остальных трудах к этому одному; его оставлял, к нему возвращал-
ся; начал его в юности**, кончил старцем; и, следя за медленным его созида-
нием, мы видим как сцена за сценой, строка за строкой как бы вскрывались в
нем, и все, что он, могучий и слабый, делал - это медленно вызревавшие
строки скомпоновывал, связывал:
Опять вы, образы туманные, со мною -
Встававшие давно пред взором молодым!
Увлечься ли опять отважною мечтою,
Отдаться ль вновь душой тем грезам золотым?
говорит он в Посвящении, и почти пассивно - мы хотим сказать, почти как
зритель перед толпою легких призраков - готовится рисовать те, какие высту-
пят, и так, как, повинуясь закону собственного движения, они будут перед ним
чередоваться:
Знакомой вы толпою
Восстали, облаком объятые густым.
Как в юности, опять мне что-то грудь волнует,
Душа волшебное дыханье ваше чует.
* Между другими, интересен отзыв Мерка, одного из лучших друзей Гёте
(особенностями характера своего и ума он дал ему некоторые черты для Мефистофе-
ля), который отзывался о первых отрывках поэмы, что они «выкрадены у самой
природы, вполне верны природе», - конечно, не ясным ее образам, какие мечутся нам
в глаза и так разнообразны, но некоторой скрытой сущности вещей видимых, так
мечушихся и для нас так часто непонятных.
* * Первые сцены им были набросаны еще до 1774 г., когда он их читал Клопштоку
(vm Гете в 1832 г.), т. е. приблизительно около того времени, когда он создавал «Гёца
фон-Берлихингена»; посвящение, оба пролога и золотая свадьба Оберона и Титании -
в 1794; эпизод о смерти Валентина оставлен в 1800 г.; в Италии, в 1788, куда он взял
с собою ветхую и пожелтевшую тетрадь «Фауста», - он присоединил к просмотрен-
ным им сценам одну новую - «Кухня ведьм». Первая печатная редакция «Фауста»
(т с. его первой части) появилась в 1808 году.
219
Поэту остается только радость; радость видения того, чего видеть еще
никому не дано, и чего вовсе он не есть - он это знает - творец, создатель. Его
деятельная роль почти ограничивается тем, что параллельно с этими образа-
ми в нем встают воспоминания о себе, всегда так дорогие воспоминания о
невозвращающемся прошлом:
Вы снова принесли с собой воспоминанья
Веселых дней моих и милых теней рой;
Как стародавнее, забытое сказанье,
Вновь первая любовь вся стала предо мной...
И эта любовь, которой не удалось стать последнею, перестает быть «за-
бытым сказаньем» и снова жжет стареющее сердце, но уже не огнем страс-
ти, не пьянящими своими чарами, но горечью, и, без сомнения, не воспоми-
нания о перенесенном - что легко, да и не помнится долго - но о том, что
было другому причинено и чего забвения окончательного Бог не дает, да и
человек его не хочет:
Вновь оживает скорбь и прошлое страданье -
Я вижу жизни бег неровный и живой.
Тут не стояло бы «скорбь», если бы там его страдание было первым, —
если бы оно не было только горечью позднего напоминания. Более легкие,
шумные воспоминания, раскидываясь в странах, вытесняют то первое:
Я вижу
И образы друзей, беспечною толпою
Отдавшихся судьбе, расставшихся со мною.
О, вы, которым пел я прежде, вдохновенный,
Друзья - теперь моя вам песня не слышна! -
Наш дружеский кружок рассеян во вселенной, -
А песня первая... забыта уж она.
И чувство одиночества заключает этот рой воспоминаний, чувство от-
чуждения от тех новых людей, которые незнакомою толпою стоят вокруг, и так
не хочется к ним обратить стих, так больно, что звуки, которые вот-вот польют-
ся, ими будут слушаться, цениться, и, пожалуй, кто-нибудь оскорбит поэта
замечанием, что вот там или здесь его голос дрогнул не так, как ожидалось:
Неведомой толпе пою я гимн священный,
Чья самая хвала чужда мне и страшна.
И тотчас, как защита от этой новой и угрюмой действительности, волна
звуков и образов встает в душе поэта и он ищет схорониться в них, как в
недосягаемом для мира убежище, истинном своем жилище:
220
И прежнее во мне стремленье оживает
Умчаться в мир иной - и строгий, и немой;
И песня тихая не смело возникает
И стонет, и дрожит эоловой струной;
Священный ужас грудь суровую смягчает
И увлажняет взор смиряющей слезой -
И вновь действительность темнеет предо мною,
И снова я живу любимою мечтой.
Трогательно здесь это слово «не смело»: кого страшится он, - суда ли тех,
«чья самая хвала чужда»? суда ли своего? Нет, и не его: притаившаяся в
робком ожидании, душа поэта со страхом прислушивается к звукам, кото-
рые вот-вот начнут с нее срываться; это страх слушателя и вместе владельца
инструмента, еще не знающего, что из него готовится извлечь чудный и ис-
тинный его обладатель. И вот откуда «священный ужас» в нем, сильном, -
откуда «смиряющая слеза» в его гордых для мира, холодных и для друзей,
глазах; элевзинские таинства творчества начались.
VI
Из двух прологов, которыми открывается «Фауст», первый происходит на зем-
ле: это маленькая, полусерьезная, полусмешливая сцена в театре между его
содержателем, который просит поэта изготовить пьесу для представления,
самим поэтом и комическим актером. Тема диалога этого позднее неоднок-
ратно повторялась, - у нас, между прочим, обоими великими поэтами*. Цель
всего пролога - представить картину ожидания; нам хотелось бы сказать -
картину ожидания землею небесного, образ той внешней оболочки, в кото-
рую поэтическое произведение, как только оно вышло из творческой души,
оболакивается и живет в ней, - иногда к ней приспособляется. Вторую и мень-
шую цель** этого пролога составляет выражение соотношения между по-
этом и теми требованиями, под давлением которых он трудится. Открывается
пролог речью директора театра, который высказывает беспокойство за удачу
своего предприятия:
...хорошо ли
Пойдут дела теперь у нас?
Хотел бы публике я сделать угожденье.
Нам средства к жизни публика дает.
Вот не столько точка зрения, с которой он видит предметы искусства,
сколько нужда, под углом давления которой вынужден на них смотреть.
И, однако, эта вынужденная точка зрения так давно в нем, так стала обычна,
♦ <Примечанис Розанова осталось не заполненным^
♦* У Пушкина и Лермонтова эта цель поставлена впереди остального.
221
что роль народного забавника ему нравится, он к ней привык, и, кто знает,
быть может, скучал бы уже всякою другой, более серьезною:
Готово все для представленья
И ждет уж праздника народ
- туг любовь к грубому, непонимающему народу; любовь к ремеслу своему,
невысокому, но на привязанности к которому он и тысячная толпа сродни-
лись, слились в бесчисленные минуты, когда его удачная выдумка и восторг
тех, которые
Глядят во все глаза и жаждут удивляться,
сливались в громе криков и рукоплесканий, который, кто знает, не стоит ли
иногда умиления и слез тихого, уединенного творчества. Во всяком случае, в
природе, в истории, которая так не выносит однообразия, одно оттеняется
другим, и как каждое порознь были бы утомительны, вместе - прекрасны.
Нам представляется, поэтому, антихудожественными эти слова, вложенные в
уста того же директора и обращенные им мысленно к толпе:
Прекрасного они, конечно, не поймут,
Зато начитаны они до пресыщенья
- это не вытекает ни из характера его, как он уже обрисован, ни из его положе-
ния, ни вообще из какой-либо нужды; но в себе самом - очень умно. Это
маленькая гримаса самого Гёте при мысли о тех угрюмых и незнакомых лю-
дях, чья «самая хвала ему страшна» и для кого, однако, он вынужден петь. В
них нет сердца, нет ума - вот что пугает его всего более; и без этого, конечно,
нет какой-либо чуткости, какого-либо понимания и только книжный вздор,
которым они чванятся и который делает их еще глупее, чем как они были бы
совершенно без него. Это - гримаса Фауста в сторону Вагнера.
Прерывая ее, прекрасно дорисовывают отношение директора к толпе эти
живые образы, в которых она ему рисуется, и где выгода, нажива припомина-
ются последними:
...Приятен вид толпы необозримой,
Когда она вокруг театра наводнит
Всю площадь и бежит волной неудержимой,
И в двери тесные и рвется, и спешит.
Светило дня еще не встало от востока,
А уж толпа кишит, пустого места нет, -
Точь-в-точь голодные пред лавкой хлебопёка,
И шею все сломить готовы за билет
- это сама жизнь, быть может (и даже несомненно), глубокая и содержатель-
ная там, у себя, в каждом индивидуальном своем выражении, но не здесь, на
222
площади, где покров серьезности сброшен, пот отерт, нужда забыта до завтра
и сегодня, в этот вечер веселое гоготанье перекатывается от края ее до края,
поднимая всякое существо, еще за минуту хмурое и озабоченное, до уровня
общего, всем нужного хоть на минуту веселья.
В него не входит поэт, он отделен от этой толпы, и, быть может, это хуже
не столько для нее, как для него:
.. .верь, не осенит поэта вдохновенье
Пред пестрою толпой: она его гнетет.
Не увлекай меня в пустое треволненье,
Куда весь мир толпа могучая влечет;
говорит он, и указывает одно, что ему нужно:
Дай мысли воспарить в надзвездные селенья,
Где радость чистая поэзии цветет,
Где дружба и любовь божественной рукою
Все создают, к чему стремимся мы душою,
и тотчас объясняет, почему его пугает толпа, он боится спуститься к ней из тех
уединенных и высоких сфер чистой радости:
Родится ль там, в душе, неясное творенье,
И выскажут его несмелые уста -
Мирская суета разрушит все в мгновенье,
Прекрасная ли то, пустая ли мечта.
Таким образом - это страх неведения; отчуждение человека, который
никогда не был толкнут судьбою в эту слишком шумную для его уха, слиш-
ком пёструю для его глаза, толпу. Тут немножко есть и односторонности Вей-
мара, и исключительности «бурных гениев» периода Sturm und Drang, - что
все отразилось темнотою к тому, что дюжая отдыхающая толпа вовсе не то
же, что толпа высохших над книгами мужей и что этой навсегда и в каких бы
то ни было формах непонятно, может быть понятною лишь в формах не-
сколько приспособленных. К кому же, как не к толпе этой, но только несозна-
тельно, обращены последние слова поэта:
Но пролетят года - другое поколенье
Увидит, есть ли в нем святая красота.
Так гаснет всякое мишурное блистанье:
Прекрасное одно - потомства достоянье!
Кто же это потомство? Та же толпа, в грехе зачатая, в страдании рожден-
ная, усталая и только перенесенная из минутного «теперь» на горизонт буду-
223
щего. Ей будет нравиться то же, что теперь, быть может, лучшее, но, может
быть, и худшее. Струей свежести и реализма в эти исключительные мысли
поэта врываются слова комического актера:
Что, если б для него, и потомства, в самом деле
И я бы перестал смешить честной народ?
Кто ж публику тогда, скажите, развлечет
Веселой шуткою - ей нужной, без сомненья?
И, не сводя поэта с высот, он указывает ему, что не следует и там забы-
вать земного, особенных нужд его и потребностей:
.. .Вы можете заставить
Фантазию, любовь, рассудок, чувство, страсть
На сцену выступить; но не забудьте часть
И шаловливого ребячества прибавить.
Директор театра прибавляет к этому, чтобы поэт дал в пьесе побольше раз-
нообразия, ввел в нее «приключенья», не гонясь особенно за ее «цельностью»:
ведь всякий уносит из зрелища частицу только виденного, что или успел заме-
лить, или что ответило на ту или иную тревогу его ума, сердца, житейского поло-
жения:
Кто много предложил - тот многим угождает,
И вот толпа идет довольная домой.
«Целое» хорошо в чтении, или когда на сцене оно проходит перед из-
бранным немногочисленным обществом, уже в себе носящим некоторое
единство и цельность; но что значит оно для того, в ком этой цельности нет -
для публики, пожалуй-для мира, прибавим-также для потомства: оно
его расщиплет по кускам.
И, понижая более и более требования, резче и резче указывая поэту
границы действительности, к которой его звуки невольно обращены, он ри-
сует толпу уже не как отдыхающую от труда, даже не как только непонимаю-
щую, но как такую, которая в высоких созданиях поэта не видит ничего, кро-
ме средства, для нее изготовленного, насытить чем-нибудь животную свою
науку, потребность не думать, не страдать, не чувствовать, и средство гораз-
до менее значущее, чем тысяча других:
Но я вас чем-нибудь обидел может быть
Что с вами?
спрашивает он, замечая в поэте перемену, и тот ему отвечает:
224
Иди, других ищи себе рабов:
Мне высшие права природа уделила...
Вот парки бледные движеньем равнодушным
Свивают нить свою веретеном послушным,
И все живущее несется и шумит -
И бесконечный мир в хаос нестройный слит;
Кто ж жизни выяснит неясное стремленье,
Кто стройно выразит нестройной жизни ход,
Хаос разрозненный к единству призовет
И согласит в аккорд торжественного пенья?
Вот в чем его высокий дар: свести природу к высшему единству, прояс-
нить то, что в жизни ползет, кроется, что в ней мощно и, однако, не замечае-
мо; дар, им разделяемый только с высоким мыслителем, и их обоих родня-
щий. Прочее - утехи и меньшее, но он и это не забывает:
Кто возбуждает в вас кипучий пыл страстей,
Кто светлый путь любви цветами усыпает
И песнью сладостно звучащею своей
Кто тихий блеск зари вечерней восхваляет?
Кто цену придает незначущим листам,
В прославленный венок вплетая листья эти.
Комический актер, вмешиваясь, указывает поэту, что этою мощью он и
должен пользоваться, как почти ловелас «предлогом для похожденья»; ме-
шая истину с неистиной, серьезное с шуткою, он предлагает поэту черпать
содержание для художественной обработки из самой жизни:
Что вы опишите - то каждый зритель знал
И сам испытывал, но редкий разбирал
и преимущество поэта над ним - только во внимании к этому испытываемо-
му, в рефлексии, которою он сопровождает то, что обыкновенный человек
переживает непосредственно. Это пережитое каждый собственно и замечает
только в пьесе, ее остальные части лишь скользят по его душе, или он переина-
чивает их в своем уме, и в них находя отзвук или намек на то, что одно ему
понятно и его истинно занимает:
.. .в пьесе всяк всегда свое найдет:
Увидит каждый то, что в сердце он несет.
Чуть-чуть, незначущим словом прошедшее в речи комического актера
напоминание о действительности (в словах, нами не приведенных), о жизни
людской, как она проходит не замечаемая самими действующими в ней ли-
8 Зак. 3969
225
цами и могла бы послужить предметом изображения для поэта, - вызывает в
ней почему-то горькое воспоминание о времени, когда этою непосредствен-
ною жизнью он сам жил, и теперь может только ее «петь»:
Отдай же годы мне златые,
Когда я сам вперед летел;
Когда я песни молодые
Еще свободной грудью пел!
В тумане мир передо мною
Скрывался, почки на цветах
Шептали мне о чудесах;
Я наслажденье пил душою
Повсюду истины искал
И ум мечтами усыплял.
Отдай же мне мои стремленья,
Блаженство скорби, мощь любви
И мощной ненависти рвенье
И годы юные мои.
В этом, так неожиданном, нас удивляющем восклицании, нам брезжит
фаустовская тема: порыв к возврату того, что не возвращается, сожаление о
потерянном, и даже там и здесь предмет сожаления один и различно только то,
что заместило зияющую пустоту, оставленную на своем месте потерянным.
Комический актер насмешливо возражает, что юность нужна для юности,
жизнь - для жизни, и нет в ней необходимости ему, которому остается эту
жизнь, эту юность петь:
Стремиться к цели подставной -
Для этого и старость не помеха.
В этом выражен его взгляд на песню в ее отношении к самому поющему,
пожалуй, на творчество в его разнообразных видах - к творцу. Как ни пре-
красно и велико все это для созерцающего, с объективной точки зрения, и
даже в истории вообще, - субъективно, внутренне это есть только «подстав-
ная цель», заменяющая действительную, настоящую цель всего живущего -
выполнять закон самой жизни, осуществлять его в деятельности, а не в слове,
не в воображении, в образах реальных, а не мысленных только. Поэт, стре-
мясь внутри себя к этим «подставным целям», найдет всегда достаточно со-
чувствия в окружающих, и вот в чем для него утешение - в слиянии с окружа-
ющими на интересе не к действительному, истинному:
В ребячестве мы вас не можем упрекать:
Нам детская самим нужна еще потеха.
Как бы от лица слушателей, зрителей, толпы говорит поэту в заключе-
ние комический актер. Директор, вмешиваясь, прерывает рассуждения, и
226
приглашает их приступить к делу; обращаясь к поэту, он говорит, что в его
распоряжении - все средства:
Берите, сколько вам угодно,
И декораций, и машин,
Огней бенгальских, освещенья,
Зверей и прочего творенья,
Утесов, скал, огня, воды:
Ни в чем не будет вам нужды.
Весь мир на сцену поместите,
Людей и тварей пышный ряд -
И через землю с неба в ад
Вы мерной поступью пройдите!
Так оканчивается «Пролог в театре», не очень значительный в своем
содержании, ни совершенно незначительный. Это шутящая перед опущен-
ным еще занавесом группа людей, ожидающих его поднятия; предмет шуток,
однако, имеет некоторое отношение к тому, что откроется сейчас за подня-
тым занавесом, и только форма их-легка, не серьезна; для полноты целого,
однако, и эти шутки нужны, в нем оне уместны; торжественным и серьез-
ным мы обыкновенно кончаем, но редко начинаем с него. Не только в смыс-
ле отдельных моментов ведущегося разговора есть намеки на будущее со-
держание пьесы, но также и в соотношении самих говорящих: поэт, к которо-
му обращается директор и комический актер, - это выразитель теоретичес-
кого начала; директор, со своими нуждами, своей озабоченностью -
представляет толпу, фон той собирательной, мозаичной действительности,
на которой теоретическое начало развивается; комический актер* - выска-
зывает насмешливое заключение над усилиями первого, над заботами вто-
рого. Когда занавес будет поднят, мы увидим представителей всех этих трех
начал в более определенных образах и с именами, которые так памятны для
нас. Там оне символизированы, выражены резко, индивидуализировались,
здесь проходят пока неясною тенью, не обращающего на себя внимания,
скоро забываемого.
VII
Если первый пролог как бы символизирует перед нами толпу, ожидающим
перед занавесом минуты, когда он поднимется, землю, которая созерцает то,
что на ней происходит, то второй - «Пролог на небесах» показывает, где
зарождается это происходящее, вскрывает семя, из которого вырастает колос,
* Кстати, в «Фаусте» говорящее лицо названо просто «комик»; по отношению к
тем, с кем он говорит, точному смыслу своих речей и месту, где происходит разговор,
это, конечно, «актер» комический; подуху его речей и соответственно общему смыс-
лу «Пролога» название просто «комик» - значительнее.
227
в котором мы все - кто стебель, кто лист, кто корень, кто имеющее сгнить или
принести новый плод зерно. Существенное, что совершается перед нашими
глазами, что носит закон в себе, что служит сердцевиною действительности -
не в мимоидущих явлениях самой действительности имеет свою причину и
объяснение, но в силах темных, скрытых, которые времена более верующие,
нежели наше, относили к небу. Нет сомнения, что мысль этого пролога была
внушена Гёте книгою Иова: «Был день, когда пришли сыны Божии предстать
пред Господа; между ними пришел и Сатана. И сказал Господь Сатане: откуда
ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее.
И сказал Господь Сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего, Иова?
ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобо-
язненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты
возбуждал меня против него безвинно. И отвечал Сатана Господу и сказал:
кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри
руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя? И сказал
Господь Сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел
Сатана от лица Господня...».
Это прекрасно как истина, совершено как действительность, с верою
написанная рукою того*, кто действительность эту пережил в мучении кос-
тей своих, или созерцал ее, или так глубоко понял, как не дано уже понять, или
созерцая почувствовать человеку нового времени. Пролог на небесах Гёте
слаб: это слова неверующего о предметах веры, астрономически точные
описания вселенной в устах трех, ее созерцающих и о ней говорящих ангелов,
догадка благородная и бледная поэтического ума о том, чего он не знает, и
этой догадке едва имеет силы дать форму холодной аллегории.
Звуча в гармонии вселенной
И в хоре сфер гремя, как гром,
Златое солнце неизменно
Течет предписанным путем...
- это взгляд на небо с земли, и даже еще до Коперника, когда солнце было так
велико и звезды были так малы; только в словах Гавриила (приведенные слова
произносит Рафаил) мы переступаем за XVI век:
И с непонятной быстротою,
Кружась, несется шар земной;
Проходят быстрой чередою
Сиянье дня и мрак ночной...
И в беге сфер земля и море
Проходят вечно предо мной.
♦ Книга Иова не принадлежит к числу канонических у еврейского народа; местом
се происхождения ученые считают северную Аравию.
228
С тех пор, как теллурии стали так распространены и земля, «с непонят-
ною быстротой кружащаяся» нам представляется только очень большим тел-
лурием, сделанным самою природой - эти представления утомительны и мы
теперь не сумели бы их вложить в стихи; в ту пору, когда они писались, все это
было несколько более ново и неожиданно, и вот отчего в поэтическом изоб-
ражении ангелы так заняты этими, для них, без сомнения, и не новыми, и не
любопытными открытиями. Как бы суммируя эти представления и отчасти
вводя в них мысль, арх. Михаил произносит:
...грозной цепью сил природы
Весь мир таинственно объят,
и только в последних его словах о природе, что сквозь борьбу, антагонизм ее
сил Творец сияет
Вечным светом примиренья
выводит нас из представлений, излишне привычных и для земли. Как это все
искусственно и не нужно перед простыми словами книги Иова: «Был день,
когда пришли сыны Божии предстать пред Господа...». Где предстать, куда
пришли - какой праздный вопрос, нужный тому только, кто не видит, для чего
они предстали, что им было сказано и что услышано. Это бедный арийский
ум вечно любопытствует, где и в какое время происходило действие; не слы-
ша, что говорят уста, по крайней мере, хочет разглядеть ковер, который был
под ногами говорящего. Ну, вот мы знаем, что это был
Звуча в гармонии вселенной
И в хоре сфер гремя, как гром...
и что из этого, зачем? Узнав это, мы все равно ничего еще не знаем, и как
скоро приобрели это знание, хотели бы также скоро и забыть его.
Впрочем, переданные гимны служат только маленьким прологом; они
умолкли, и мы слышим голос Мефистофеля*:
Мне нечего сказать о солнцах и мирах:
Я вижу лишь одни мученья человека.
Смешной божок земли - всегда, во всех веках
Чудак такой же он как был с начала века.
Это более привлекает наше внимание, чем смена дня ночью, обращение
земли около солнца и тысяча механизмов, которые сколько бы мы их ни виде-
ли и как хитро бы они ни были устроены, не скажут нам ничего нового после
* Вероятно, искажение греческого слова Мткротоф^т^ = враг света, его отрицание,
естественное имя для сатаны как борца с Богом, источником всего светлого в мироздании’
229
того, что мы знаем в простом давлении руки на предмет, который лежит под
нею. Обращаясь к Богу, он продолжает о человеке:
Когда бы Ты его не вздумал одарить
Хваленой «искрою святого разуменья»,
Он лучше б жил стократ, без всякого сомненья.
Он сравнивает его с насекомым, которое различными, ему данными,
способами движется в траве:
И пусть еще в траве сидел бы он уютно,
Так нет же: прямо в грязь он лезет поминутно.
Выше, в неприведенных словах, он говорит, что именно «святое-то разу-
мение» и служит источником этого, так как чаще всего им человек пользует-
ся для того только, чтобы пасть ниже всякого животного. Итак, в словах гру-
боватых и вульгарных - вот точка зрения на человека, которым Бог завершил
свое творение; и Сотворивший его защищает;
И вечно жалоба одна, -
Ужели так земля дурна?
Сатана вновь ограничивает вопрос, как раньше не отвергая гимны анге-
лов, он отстранил их тему и взял другую; он вновь говорит:
Бедняга-человек! Он жалок так в страданьи,
Что мучить бедняка и я не в состояньи.
От общего полуспор, полувопрос, чтобы как-нибудь разрешиться, со-
средотачивается на конкретном:
Ты знаешь Фауста?*
спрашивает сатану Господь.
- Он доктор?
переспрашивает тот.
- Он мой раб
- вот исходное Божие определение; не тварь, механически послушная зако-
нам, при творении в нее вложенным, не вещь созданная, но лицо послушное
закону Благого. Ибо в некотором смысле - и здесь, очевидно, этот смысл
♦ Вероятно, от латинского прилагательного faustus = блаженный, и это не без
связи со словами Бога, которые сейчас будут высказаны нам: «он мой раб».
230
имеется в виду - быть рабом значит достичь апофеоза своей личности, пре-
одолеть не только внешние обстоятельства, но, что гораздо труднее, и освобо-
диться от себя самого, от нагара и мути страстей своих, и, как бы отсеча
зараженные члены, с которыми мы уже рождаемся - сердцевину существа
своего покорить тому, что с любовью, сознательно всякий человек должен
понять как высший для себя закон нравственного смысла. Раб Божий - сво-
бодный гражданин мира или, в его частях над ним владыка; как борец Бога
почти всегда, значит, раб мира и в то же время его боязливый расхититель.
Итак, не только не отрекаясь, - о том, кого имя пока только мы узнаемм, Бог
говорит, что вот создание, на коем почила его печать и избрание.
Да, только служит он совсем не как другие,
возражает Мефистофель, и здесь кладется грань различия на том, что обычно
зовется именем «раб Божий», и тем, к кому сейчас это имя приложено:
Невеселы ему все радости земные
Всегда куда-то вдаль стремится,
Всегда в желанья погружен, -
То с неба звезд желает он,
То хочет высшим счастьем насладиться...
- вот это эта грань различия: там—покорность, на которой легла печать мира,
здесь - также покорность веленью Божию, которая, однако, выражается в веч-
ном стремлении. Нам, однако, понятно, что в отношении к Воле выполняемой
между этим и тем нет противоречия: ибо та же рука, которая удерживает
камень, может и бросить его, и как покоящийся, так и летящий он одинаково
ей покорен.
Всегда куда-то вдаль стремится,
Всегда в желанья погружен
- вот что закон этой природы, которая Богом указывается как Ему покор-
ная, и сатана будет ее у Него оспаривать: это закон всего возрастающего, в
отличие от возросшего, пришедшего в полноту своих форм и содержания;
перед нами не колос с вызревшими, налившимися зернами, но юный зеле-
неющий побег, быть может, только выглянувший из земли росток, может
быть, даже уже приготовивший метелку, но, во всяком случае, еще не опы-
ленный благодатною рождающего пылью; не окончательное, но то, что
имеет в себе жажду окончательного, и, следовательно, некоторое смутное
знание о нем. Без сомнения, к сущности этого знания относится ответ,
который слышит Мефистофель:
Пока еще умом во мраке он блуждает,
Но истины лучом он будет озарен.
231
Мефистофель выражает уверенность, что, напротив, несмотря на игра-
ющий впереди луч, готовый осветить этот ум, несмотря на предчувствие
этого луча в уме самого ищущего, если последнему будет сохранена свобо-
да и право соблазна будет дано ему, Мефистофелю, -
он будет мой
- заключает злой дух.
Кто ищет истины - не чужд и заблужденья.
Тебе позволено: иди
И завладей его душою,
И, если сможешь, поведи
Путем превратным за собою
- говорит Господь, и как основание этого дозволения, указывает Мефистофелю:
Знай: чистая душа в своем исканье смутном
Сознаньем истины полна!
То, что сквозь листву и звенья стебля пробивается в растущем - есть
зерно, и оно сообщает значительность этим ненужным листьям, этой пустой
соломе:
Сознаньем слабым и минутным
- ограничивает Мефистофель: листва есть только листва, стебель - былинка,
которую стоит вырвать и сжечь, не дожидаясь сомнительного зерна.
Таковы два противоположных взгляда на человека, на его усилия в исто-
рии, которыми заканчивается смысл второго пролога - «на небесах».
Его сравнительная слабость, как мы уже указали, вытекает из недействи-
тельности того чувства, которое его подсказало; это даже менее, чем только
поэтическая догадка, - это просто смутное движение руки, рисующей куда-
нибудь, так как решительно она не хочет, не чувствует возможным ограни-
читься землею. Кто знает, в иных мирах не определено ли то, что совершается
в нашем: ведь так таинственно, неясно, неразрешимо, что здесь, у наших ног,
перед нашим взором проходит. И почему мы будем отвергать, что нечто не
аналогичное нашему уму, нашей совести живет и действует там, в тех темных
«горних» мирах? По крайней мере, эти антропоморфические представления
не невозможны на минуту; и «великий язычник»"*’ к ним нисходит; он
несколько пошатывается на этой, для него чужой, земле; христианин в нем
<#> <Это примечание не имеет у Розанова отсылки к тексту. Его связь с текстом
установлена по смыслу> Так называли Гёте, и не за одно его великое преклонение
пред классическим миром; вспомним, что оба пролога написаны были им уже после
выполнения главнейших частей пьесы (в 1799 г.), как бы окончательный собственный
на нее взгляд.
232
не ясен, немощен; аллегорический его лепет нас почти оскорбляет. Что там, в
этих «горних» мирах - не ясно также и для нас, но мы страшимся сюда смот-
реть и, однако, уверены, что когда вечный покой смежит наши глаза - увидим,
«узрим» совсем иное, нежели что предполагали, о чем едва смели догады-
ваться здесь.
Есть, однако, во втором прологе и серьезная сторона: это - самая мысль
Гёте написать его, и то, что, задумав это, он вспомнил книгу Иова. Что-то
аналогичное тому, что содержится там, он чувствовал - содержится и в его
поэме-драме. Там, в книге Иова, поставлен вопрос о страдании человека на
земле; здесь какой-то другой, но столь же близкий человеку и, вместе, касаю-
щийся того, что так же, как страдание, неотделимо от его существа. Мы име-
ем перед собою великое создание; и тот, кто оставил нам его, чувствовал, что
оно таково именно и во втором прологе высказал, как мало стесняется этого
чувства. Что решит человек, что будут думать вереницы сменяющихся поко-
лений обо всех этих сценах и монологах, которые мы сейчас увидим - это для
творца их не было так существенно; но что эти поколения будут их изучать, о
них размышлять, из них поучаться, как поучаются из священных книг, - это
он знал. И более, чем земная временная слава, ему было дорого то, что выс-
шие небесные вдохновения посетили его и ему дано было сказать людям то,
что они истинно должны выслушать, понять, запомнить.
VIII
Еще в юношеские годы свои, вращаясь в Страсбурге среди «диких гениев»,
Гёте вызвал следующее замечание в наблюдательном своем друге Мерке:
«В то время как другие стремятся в действительности осуществлять поэти-
ческие мечтания и из этого выходит вздор, - твое призвание самой действи-
тельности дать поэтические образы». Склонность к реальному, вечная за-
нятость мысли тем, что происходит перед глазами, эта черта истинного мыс-
лителя удивительно сочеталась в Гёте с даром - возводить мириады прихо-
дящих перед глазами случаев к их общему смыслу, к единству общего их
связывающего закона, наконец - к символу, через который закон, не форму-
лируясь ясно, указывается каким-то боковым движением, неясным наме-
ком. И это лучше приближает нас к истине: формула бедна и груба, она
обрывает с действительности ее цвет, отнимает аромат; и, по крайней мере,
когда дело идет о жизни, подносит к нашим глазам труп и говорит: «Осязай в
нем жизнь». Символ дает нам только догадываться о том, о чем ясно ска-
зать не только не может, но и не хочет, дорожа целостностью и неразруши-
мостью истины; он говорит - «подумай», и перед глазами нашими прово-
дит ряд знаков, фигур, аллегорий, взглянув на которые мы каким-то неясным
путем начинаем познавать то, что раньше проходило перед нами, не воз-
буждая о себе никакой мысли или возбуждая несущественные и побочные.
До известной степени, мы можем сказать, что он относится к другим спосо-
233
бам научения: описанию, объяснению, науке-так же, как выражение лица у
говорящего относится к смыслу пространной речи, которую он говорит: оно
полнее и непосредственнее передает нам то, что силится сказать язык в пра-
вильно составленных предложениях.
И вот, нам брезжится, соединение подобных символических знаков пред-
ставляет собою то, что мы зовем «Фаустом». В ряде слабо связанных меж-
ду собою сцен, которые так медленно вызревали в душе поэта, в монологах,
которые выливались у него почти непроизвольно, мы имеем несколько как
бы собранных в пук линий, несвязанных, разрозненных, часто очень блед-
ных, иногда непонятных в отдельности, но которые в том именно сочета-
нии, в каком их дал поэт - раскрывают перед нами вечное чело природы.
«Это выкрадено у самой природы», - воскликнул Мерке, выслушав пер-
вые сцены «Фауста»; «то, что вами уже выполнено в вашей пьесе, - писал
Шиллер в 1797 г. к Гёте, - в высокой степени исполнено символического
смысла».
Особенная задушевность и глубина чувства, которая нам слышится в
«Фаусте», происходит оттого, что все, в нем изображенное, есть только
отраженная действительность; история, в которой народы почувствовали,
что здесь выражена некоторая тайна их общего бытия, была вместе личною
историей ее творца. Гёте сам, в разные возрасты своей души, в том не
повторяющемся никогда еще сочетании даров, какими его наделила приро-
да, и, наконец, в сочетании личных своих особенностей с обстоятельствами
историческими - есть удивительнейший живой символ, через который тем-
ные силы земли и горние силы света показали человеку как бы в отраже-
нии, кто он есть, к чему стремится и на что обречен. Родившись в момент
великого перелома в понимании человеком задач его ума, он одинаково
усвоил точки зрения как ранее господствовавшие - что этому уму, может
быть, все доступно (догматическая философия), так и позднее открывшую-
ся - что лишь немногое, краевое, поверхностное в природе познает чело-
век (критическая философия); будучи так умственно одарен, что сам сде-
лал замечательные открытия в естествознании, он вместе всякий даже ми-
молетный шаг свой в действительности, каждую мелькнувшую перед его
взором черту жизни или картину природы - поэтизировал, и притом не
закрепляя ее краски, но отвлекая ее смысл («Горние вершины» - как по-
этизация и отвлечение минутного зрелища природы); и, наконец, стоит
неустанно преданный теоретической работе, умственной или поэтичес-
кой, он и в неменьшей степени был предан утехам земли, находя в любви
радостей столько же, как и всякий юноша. Ничему, таким образом, без-
раздельно он не был отдан; вкусил все сладкое земли; весь труд ее познал;
и также отведал всю ее горечь. Уже на склоне дней своих, так продолжи-
тельных, так, по-видимому, безмятежных, Гёте сказал однажды: я едва могу
насчитать несколько часов в моей жизни, в течение которых был действи-
тельно счастлив.
234
IX
Ночь, по-видимому, развязывает темные стихии земли, и все, что в самом
человеке есть стихийно неудержимого, неправильного, болезненного - сми-
ряясь, гармонизуясь под действием лучей нам непонятного дневного свети-
ла, с его заходом получает снова свою силу и овладевает нами. Смерть насту-
пает д ля человека и преступление влечет его к себе - в ночи; напротив, рожда-
ется он, как и проясняется в желаниях, когда темнота ночи побеждается есте-
ственным светом дня. Свет солнца есть не только свет для наших глаз, но и
некоторая отрада для души, ее облегчение, умиротворение; и его не видя
более, не видя на краткие часы, она поддается скорбям, в ней таящимся, как
бы ослабевая в собственных силах.
В эти недобрые для человека часы, в старинной готической комнате, со
стрельчатыми окнами и узкими цветными стеклами в переплете рам, ее доб-
ровольный узник, Фауст, оценивает тщету своего ученичества, много лет
назад избранного ради возможных великих плодов его для духа. Эта комната,
столько лет бывшая для него семьею, отечеством, религией - она не возбуж-
дает в нем к себе ничего, кроме вражды. Обращаясь к месяцу, светящему в
окно, он говорит:
Не мало трудовых ночей
В печальной комнате моей
Над грудой книг, жрецу наук -
Ты мне сиял.
И, озираясь на собранные в ней сокровища ума, продолжает:
Здесь солнца луч в цветном окне
Едва-едва мелькает мне;
На полках книги по стенам -
До сводов комнаты моей
Оне лежат и здесь и там -
Добыча пыли, снедь червей;
Реторт и банок целый ряд
В пыли с приборами стоят
На ветхих полках много лет...
И, обратясь к себе с полуукором, полусожалением, заключает:
И вот - твой мир...
Почему же эта внешность, эти подробности, эта скорлупа наружная
своего бытия в нем возбуждает отвращение? Потому что самое бытие
было обманом, и прежде всего - в избранной цели, в долго лелеянных
надеждах:
235
Я философию постиг,
Я стал юристом, стал врачом...
Увы, с усердьем и трудом
И в богословье я проник, -
И не умней я под конец,
Чем прежде.
Лишь наружная, блестящая сторона знания, ради которой, впрочем, так
часто и избирается она людьми, далась ему, - свобода от связывающих челове-
ка предрассудков, авторитет в глазах людской толпы; и не далось глубокое, по-
ложительное в нем:
И вижу все ж, что не дано нам знанья.
Изныла грудь от жгучего страданья.
Вот центр бытия его в течение долгих лет, вот цель самозаключения
среди этих умственных сокровищ веков и ради собственных изысканий.
Почему, однако, то знание, каким уже владеет он, им не ощущается как
достаточное? Есть множество людей, удовлетворенных и гораздо меньшим
знанием; удовлетворяющихся вообще теми сведениями о мире, какие дос-
тигаются человеком при условиях данного ему слада ума и некоторого тру-
долюбия. Ниже сам Гёте покажет нам фигуру Вагнера, который этим зна-
нием довольствуется; и проф. Шахов, в своем толковании на приведенные
монологи Фауста, также находит, что доступное человеку знание есть зна-
ние вполне для него достаточное. Он говорит: «Фауст задает науке ложные
требования. Область научного исследования - мир условного, относитель-
ного: явления, как предметы опыта и наблюдения. Но до точных научных
воззрений, которые ограничивают круг наших воззрений, Фауст еще не до-
работался» (стр. 154-155). Таким образом, вагнеровский взгляд*, который в
эпоху Гёте еще смотрел на Фауста снизу вверх, век спустя уже смотрит на
него сверху вниз; он его успокаивает, он его силится умиротворить, он его
мирит с действительностью его знаний; и между тем прав именно Фауст в
своей непримиренности.
* По-видимому, проф. Шахов держится позитивистического взгляда на науку,
как это можно видеть из следующих его слов: «Я напомню вам различие между этими
тремя ступенями мировоззрения: первобытное, эпическое, религиозно-наивное опи-
рается исключительно на веру и отрицает науку; срединное, метафизическое старает-
ся мирить веру со знанием, путает вопросы научные с религиозными, к науке отно-
сится с точки зрения религии, а самой религии предлагает научные вопросы; наконец,
третье, научное мировоззрение опирается на исследование и редко отделяет область,
подлежащую научному ведению, от сферы религиозной; оно не путает вопросы друг
другу чуждые и потому строго разграничивает предметы науки от предметов рели-
гии; за собою оно вполне удерживает исследование мира явлений, решение задач
относительных, и в эту область не допускает постороннего вмешательства; религии
оно предоставляет ведать абсолютное и сверхъестественное, и, в свою очередь, не
заходит в эту сферу. Фауст стоит на почве срединной, метафизической». Стр. 155.
236
В сущности, то знание, каким довольствуется Вагнер и которое насы-
щает Шахова, вовсе не ищется человеком ради себя самого, но находится
им побочно, на пути к истинному и глубокому знанию, по котором то-
мится Фауст. Для этих умственных безделушек, ради «явлений, как пред-
метов опыта и наблюдений», без мысли о том, что за ними важное и новое
можно найти, человек не сделал бы никакого усилия, никакого трудного
для себя шага; мы можем порицать это; это и вообще горько для челове-
ка; но мы не можем от этого освободиться, и, наконец, признаем, что от
этого тягостного нам не следует освобождаться. И, в самом деле, с точки
зрения этой удовлетворенности обладаемыми знаниями, вынем мыслен-
но фигуру Фауста из создания Гёте и пусть в его поэме господствующее
положение займет Вагнер - чтом получится? Была ли бы, при условии
подобной перемены, эта поэма столь же священна - дорога человеку, как
теперь? И если, мы неудержимо чувствуем, что она выражала бы только
смешное и поверхностное в человеке и человечеству была бы не нужна,
почти постыдна и унизительна для него, как можем мы из самой истории
человечества, этой живой, развивающейся и незаконченной еще поэмы
вынуть мощное фаустовское трепетание и оставить его при одном вагне-
ровском самодовольстве?
Но что значит, вообще, искать и не находить? Откуда искание, если
нахождение невозможно? И как возможно не нахождение, раз дано иска-
ние? Что это за странное соотношение между разумом и истиною, завязав-
шееся в узел около человека, которого развязать или даже очень значитель-
но ослабить он не может. Разум этот сам, и вся бессмертная душа человека,
образует одну из линий творческого плана мироздания и фаустовское тре-
петание присуще ей именно настолько, насколько в ней живо и глубоко
ощущение принадлежности своей к этому плану; а не ощущая его, она
лишена и этого трепетания и познавая поверхностное - чувствует себя до-
вольною. Но и трепеща, усиливаясь глубокое постигнуть - его не постигает
никакая душа, ибо это значило бы для нее перестать быть частью и сделать-
ся целым. Мир можно сравнить со сложною геометрическою фигурою, где
люди, как Вагнер, суть элементы элемента, точки в линии, которые есте-
ственно ощущая в себе эту только линию, или плоскость, в которой лежит
она, остаются темны в целой фигуре и даже отвергают самое ее существо-
вание, для них не видное; напротив, умы, как Фауст, суть элементы уже
самой фигуры, углы, пересечения линий, градусы их наклона, и, будучи
очень бедны в себе, однако включают в себя каким-то отраженным, боко-
вым, неясным образом, по крайней мере, очень многие, если не все, части
цельной фигуры; их вся жизнь становится отгадыванием этой фигуры; и
поэтому-то отгадывают они ее глубже и глубже в себе, всматриваясь, тогда
как Вагнеры, ничего в себе не находя, естественно и охотно разбрасывают-
ся взглядом по сторонам, находя все любопытным и ничего - любопытным
очень. Но и Фаусты многое только могут разгадать; смотря по ценности,
значительности их положения в фигуре, из них одни отгадывают больше^
237
другие меньше. И именно те, которые отгадывают больше, они же и дальше
всего проникают в бесконечность фигуры, глубже знают о ее чрезвычай-
ной сложности, и смирение, самоограничение, некоторая грусть, которой
они преодолеть не могут, сильнее, чем другими людьми, овладевает ими.
X
Этот необъяснимый трепет познания, который толкает человека неудержимо
и в стороны, куда он за минуты не думал вовсе двигаться, ярко выражен не в
приведенных выше монологах, а в словах, которые вырываются у Фауста, ког-
да, раскрыв книгу Ностродама, он увидел в ней изображение Макрокосма:
О, чудный вид, невыразимый вид!
Что сделалось с усталою душою?
Младая вновь по жилам кровь бежит
И льется огненной струею!
Начертан этот знак не Бога ли рукой?
Он душу пылкую смиряет,
Он сердце радостью небесной озаряет,
Он силы тайные природы раскрывает
С чудесной силой предо мной.
Как далеко, мы видим, бежит его мысль от тех знаков, которые непосред-
ственно перед ней открыты; какие странные, неощутимые нити, точно нити
невидимой паутины, соединяют отражения здесь и теперь, которые она вос-
принимает, с там и гранями самых времен, где она носится, почти забыв про
это теперь и здесь. И тотчас счастье, это особенное счастье познания, не
лучшее всего в мире, но от всего в мире отличное, которое знает тот только,
кто важное и новое впервые постигал, наполняет его душу:
Я бог: мне так светло, в лучах я утопаю,
О, дивный вид! о, чудный вид!
В тебе передо мной природа вся лежит.
И порыв вперед, стыд за малодушие перед знанием, за уныние об его
недостаточности уже играет на его щеках и срывается с губ:
Теперь твое, мудрец, я слово понимаю:
В мире духов нам доступен путь,
Но ум твой спит, изнемогая;
Вперед! Восстань от сна, купая
В лучах зари земную грудь!
238
И размышление в том самом смысле, как объяснили мы его выше, гово-
ря о глубоком познании, уже овладевает им:
Как в целом части все, послушною толпою
Сливаясь здесь, творят, живут одна другою!
Как силы горние в сосудах золотых
Разносят всюду жизнь божественной рукою
И чудным взмахом крыл лазоревых своих
Витают над землей и в высоте небесной -
И стройно все звучит в гармонии чудесной!
О, чудный, дивный вид!
И тотчас, вслед за радостью первого движения, скорбь о недостаточнос-
ти его уже набегает на душу:
Но только вид - увы!
Увы, мне не обнять природы необъятной!
Сам полный трепетания жизненных сил, сам ощущающий творческие
порывы, он и во вселенной их чувствует под внешним механизмом явлений
и, однако, сколько-нибудь заглянуть в их глубину ему не дано; ни даже ощу-
тить их сколько-нибудь отчетливо:
И 1де же вы, сосцы природы дивной - вы,
Дарующие жизнь струею благодатной,
Которыми живет и небо, и земля,
К которым рвется так больная грудь моя?
О, Боже мой, зачем напрасно жаждал я!
Доступно - только доступное и оно как бы ценно ни было в подробнос-
тях, сколько бы удовольствия ни доставляло в своем процессе (познание),
какими бы молнийками радостей ни пробегало по душе, оставляет на дне ее
сперва неопределенное чувство какого-то томления, позднее - смущение,
тревогу, и, наконец - сознательный вопрос: «Что именно отдало бы за это,
ценою чего куплено познание?»
XI
Но почему «отдано»? что за вопрос о «цене», «промене»? И не естественнее
ли думать, что познание приобретено в дополнение к чему-то, прежде быв-
шему, что как некоторое богатство, присоединяемое к первоначальному дос-
татку, оно его увеличивает и нисколько не разрушает? Шахов предполагает
что тут «промен» есть и он заключается в разрушении религиозной веры
знанием; он говорит (стр. 164) о «столкновении критики с традицией», о том
что «анализ подрывает в Фаусте цельность предания» и это подорванное есть
239
то, о чем он сожалеет. Так и тысячи людей думают, видя тревоги знающей
души - но это недостаточно.
Ведь унесен анализом призрак? то, чего не было? Ведь знание, что «сум-
ма углов в треугольнике равна двум прямым», вовсе не вызывает в нас сожа-
ления о прежнем предположении, что «эта сумма равна чему-то, быть мо-
жет, большему, быть может, меньшему, чем два прямые угла и ни в каком
случае не столь точной величине»? Какая может быть жалость о ложном
знании, когда сущность ложности и состоит в пустоте от какой-нибудь дей-
ствительности, к которой сожаление могло бы относится? Мы хотим сказать:
насколько человек знает твердо - он не имеет вовсе объекта для сожаления,
и насколько он колеблется - им этот объект не утерян. Нет вовсе, при всех
степенях и формах знания, чем-то упавшего к ногам человека и разбившего-
ся; и иллюзия об этом «разбитом через знание» есть иллюзия умов, которые
не только никогда не «знали» ничего, но и не теряли во что-нибудь веры, но
были обычно свободны и от одного, и от другого. И, наконец, возвращаясь к
Фаусту, мы не должны терять из виду документального факта, что им вера
религиозная вовсе не утрачена - иначе как в подробностях, в конкретности
некоторых своих представлений.
Итак, от категорий веры и знания, никогда не сталкивающихся «при анали-
зе» в объектах своих, мы должны отойти дальше, спуститься в глубь человека,
где видим неясные его силы, еще не оформленные, еще не приложенные к
чему-нибудь и равно готовые приложиться к Богу ли в молитве, к миру ли
через познание. Человек есть некоторая потенция; он есть исполненная внут-
реннего напряжения энергия, и его жизнь от дня рождения и до того дня, как он
будет опущен в землю, есть только нахождение форм, в которых эта энергия
могла бы вылиться. В запасе этой энергии не все люди равны; но всякий чело-
век, получив его с рождением, во всей последующей своей деятельности ее
только распределяет, пожалуй - изощряет, уродует, но никогда не увеличивает,
не уменьшает. Внешние объекты, останавливающие на себе внимание челове-
ка или вызывающие его на борьбу с собою, именно создают форму для прояв-
ления энергии, и будет ли книга или меч первым, к чему потянется или будет
толкнута его рука, от этого зависит, воин ли великий или замечательный мыс-
литель выйдет из этого золотокудрого мальчика, который пока невинно играет
перед нами. Но закон в том, что воин не углубится более, забывая про целый
мир, в книгу; ни мыслитель не станет так свободно и охотно играть мечом, и,
позднее, при его помощи, играть и людьми, иногда - целым миром. Выбор
формьг деятельности принадлежит человеку, часто принадлежит обстоятель-
ствам его жизни, иногда - мимолетному случаю; но что не принадлежит ни
ему, ни обстоятельствам - это вторичное приложение уже раз потраченной
энергии, ее восстановление в себе, какая бы то ни была поправка в ее распре-
делении. Выбор - только однажды делается; и кто однажды остановил этот
выбор на фаустовском искании, у того не вырвется песенка Гретхен.
Таким образом, не в результате своем, не в конечном плоде, но именно в
корне, в основании своем может произойти если и не «столкновение» чего-
то с чем-то, о чем говорят историки и критики, но разделение. Мысль, так
240
энергично выразившаяся в Фаусте, так широко разбросавшаяся по предме-
там мира этого и того, наконец - им так взлелеянная, им так ценимая до сих
пор, могла как бы опустошить его существо для всего другого, и среди этого
другого - также для веры. Не в ее объекте он сомневается; ибо, сомневаясь,
уже знал бы, что этого объекта нет, и также мало мог бы сожалеть об этом
сохмнении, как о разжатии руки, которая ничего не держала. Он слабо видит
этот объект; он глух, нем стал - для Бога ли, в которого вера сохранена, для
мира ли, единственное отношение к которому у него есть отношение знания,
но не деятельности и даже не очень яркого чувства. Он тускл стал всеми
сторонами бытия своего; тускл - ради этого сцепления с миром своею мыс-
лью; и то, к чему относится его жалость, есть не утерянное им в мире, но
утерянное в себе:
За то я радостей не знаю,
говорит он, мысленно обняв все, что дало ему познание; т. е. не знаю яркого,
живого ощущения мира; не знаю не только живой радости, но даже и жгучей
боли о том или ином в мире, - что все заменилось однообразным, тусклым
недовольством:
Живой природы пышный цвет,
Творцом на радость данный нам,
Ты променял на тлен и хлам,
На символ смерти, на скелет.
Вот в чем лежит великий промен, безотчетно совершенный Фаустом в
то время, когда он еще не знал цены одного и значительности другого. Он
начинает догадываться, что мир дан человеку не для познания, но для общения
с ним; что мир ближе Богу, нежели как он прежде думал, и он сам - дальше от
Бога и принадлежит к этому именно миру, есть только одно из его явлений,
напрасно вышедшее из орбиты своего движения.
XII
Его движение будет теперь - обратно к миру, к общению с ним:
О, прочь! беги...
говорит он, обращаясь к себе в своем прошлом, к этому обманно манивше-
му его «хламу и тлену» - что он нашел в познании, к этой «добыче пыли» и
«снеди червей», которою он окружил себя здесь, в удалении от мира, так
долго казавшегося ему прекрасным и теперь кажущемся «тюрьмою» колод-
ника, «норою» не рассчитавшего своих инстинктов зверя.
Дух земли <...>
1894 год
СВОБОДА И ВЕРА
(По поводу религиозных толков нашего времени)
Немного можно найти идей, которые за последние 100-150 лет с таким же
постоянством, тою же повсюдностью, наконец, так же мало встречая противо-
действия распространялись бы по всем странам цивилизованного мира, как
идея свободы; в числе немногих других она имеет силу как лозунг соединять
около себя необозримые массы людей и образует как бы руководящий уклон,
по которому, повинуясь неудержимому закону, текут влечения и мысль лю-
дей и влекут за собою факты, историю. При существовании подобного укло-
на всякая попытка просто рассмотреть эту идею (или какую-нибудь, ей род-
ственную) встречается уже неприязненно: кажется, бесполезным рассматри-
вать то, что так очевидно жизненно; оно есть - о чем еще спрашивать? оно
все преодолевает - к чему тут мысль?
Так, и для данного фазиса истории было бы почти бесплодно прилагать
мысль к идее, столь очевидно торжествующей; однако, самое начало этого
фазиса едва переходит за столетие, и если мы сравним его стремительность в
момент своего исхода с тем, как он движется теперь, - не прибегая к особым
соображениям, мы можем понять, что как ни велика была его роль в исто-
рии, его продолжительность будет гораздо меньше. Справедливо, что всякая
критика идеи свободы (и некоторых других) вызывает еще неприязнь; но,
когда критика молчит, самая идея не возбуждает уже энтузиазма; она живет,
существует, бесспорно даже господствует; но уже не творит, - и это главное,
что в ней характерно; век движется уже по инерции, подчиненный этим иде-
ям, без новых возбуждений, без какой-нибудь внутренней в нем работы этих
идей; он им покорен, но более этого ничего не хочет им дать. Можно быть
уверенным, на всем протяжении цивилизованного мира, так единодушного
в признании свободы, как краеугольного камня своей жизни, если бы камень
этот зашатался, никто не пролил бы уже за него крови, никто не пожертвовал
бы его укреплению ничем особенно для себя дорогим. Она испытана, и не
то чтобы в испытании этом оказалась горькою - этого чувства не было; но
242
она оказалась как-то пресна, без особенного вкуса, без сколько-нибудь яркой
ощутимости для человека, который после того, как был вчера, и третьего дня,
наконец, давно свободен, вдобавок к этому и сегодня свободен. После тыся-
челетней стесненности, чувство свободы было бесконечно радостно; не оно
собственно, но момент прекращения стеснения, т. е. ощущение почти физи-
ческое; после вековой свободы, когда и вчера ничего не давило меня, какую
радость может дать мне то, что и сегодня меня никто не давит? Здесь нет
положительного, что насыщало бы; только ничто не томит, не мучит, - но
разве это то, что нужно человеку?
Таким образом, чувство свободы было радостно, пока она была тоже-
ственна с высвобождением, сливалась с понятием независимости; был неко-
торый гнет, определенный, тесный, сбросить который было великим облегче-
нием; эпическая борьба, наполняющая собою конец прошлого и первую по-
ловину нынешнего века, вся двигалась идеей свободы в этом узком и ограни-
ченном значении: был феодальный гнет - и было радостно высвобождение
из-под него; был гнет церкви над совестью - и всякая ирония над нею давала
наслаждение. Тысячи движений, из которых сложилась история за это время,
движений то массовых и широких, то невидимых и индивидуальных, все были
движениями, разрывавшими какую-нибудь определенную путу, какою был
стеснен человек, вернее, скреплен с человечеством. И когда эти тысячи движе-
ний окончены или близки к концу, побуждение, лежавшее в основе их, правда,
носит то же название, но каков его смысл и какова точная цена для человека?
Оно обобщилось, стало «идеей» в строгом смысле и с этим вместе потеряло
для себя какой-либо предмет; с падением всяких пут, что собственно значит
свобода для человека? что значит она для обладателя пачки процентных бумаг,
«гражданина мира», который в этой пачке имеет для себя условие всею
положительного, и в свободе - только отрицательное условие безграничной
широты употребления этих бумаг. На чем тут слиться людям? как, несомнен-
но, сливались они, сбрасывая с себя чужеземное иго, угнетавшее, злоупотреб-
ляющее властью правительство и всегда, одним словом, когда боролись против
чего-нибудь, искали свободы этой определенной, а не свободы вообще.
Правда, этот же отрицательный смысл имеют и все идеи, которые мы
назвали родственными (по одновременности возникновения и подуху) этой
идее: «равенство» есть только требование, чтобы никто не стоял выше меня,
но не есть определение сколько-нибудь сносной высоты, на которой стоял бы
я сам. Свет солнца никем, правда, и ни от кого не заслоняется, но все равно
могут его не видеть, если они слепы, если солнце померкло, и вообще требо-
вание это есть совершенно незначащее перед тысячею других, истинно зна-
чащих для человека. «Братство» есть также требование некоторого акта, без
указания какого-либо основания, опираясь на которое он мог бы совершить-
ся: братство в чем? братство во имя чего? во имя свободы - растратить эту
тысячу серий? вправе стоять в этой мгле, в этой сырости? Что же положи-
тельного здесь для человека? Эти все идеи суть отрицательные и формаль-
ные, и вот почему изменить вид Европы, разрушить ее прежний строй они
243
могли, и, несмотря на все попытки, нового жизненного строя, сколько-ни-
будь насыщающего человека, они не могут из себя создать.
Странный в неустойчивости всего нового, в разрушении всего старого,
век наш в значительной степени имеет объяснение в этом особом характере
названных идей. То, что в нем твердо держится, это организации, которые по
самому существу своему не могут их принять, - это армия и церковь; первая
по своему смыслу, по узкой цели, которой она отвечает, вторая по древнему,
не подлежащему переменам происхождению. Все остальное вокруг этих не
тронутых, не пошатнувшихся организмов, разрушено и не имеет силы сло-
житься во что-нибудь вновь; и, в этой неспособности сложиться в орга-
низацию, не может приобрести какой-либо силы, значительности. Свобода,
как синоним изолированности, есть вечное осуждение себя на слабость; ра-
венство, не возбуждая более ревнивой горечи о себе, не может удалить мысль
об общем ничтожестве всех. В этот хаос разрушенного, изолированного, сла-
бого что может привнести силу? что может воодушевить к слиянию? все
прочие господствующие идеи века, - идея механизма, управляющего ми-
розданием, идея грубого довольства, как окончательной цели человека на зем-
ле - всего менее суть идеи соединяющие, организующие. Вот почему все,
что прочно еще, только прочно сохраняется; и все, что возникает вновь,
осыпается, исчезает завтра. За полтора тысячелетия новой истории XIX век
есть первый, который не имеет своего архитектурного стиля, своих бытовых
форм, признанной, исполненной веры в себя, политической организации, -
наконец, сколько-нибудь устойчивых форм труда, производительности. Слу-
чайность, временность всего есть его характерная черта, есть исторический
стиль события, надежд, усилий, всякой веры.
Вот почему повторения которой-нибудь из названных идей, как прежде
вели историю вперед, отвечая моменту разрушения, который она протекала;
так теперь ее задерживают, противореча моменту созидания, который не
может для нее не настать. Этот момент они удаляют, делают невозможным
его начатие; и, насколько мы желали бы его приблизить, мы не можем не
делать усилий ввести эти идеи в их относительное русло, вывести их из того
главного русла истории, в котором не могут же, навсегда задерживая в нем
движение, они оставаться, как господствующие, вечно.
II
Никем не замечено было, что смысл свободы есть, собственно, субъективный
и она не может быть понимаема в смысле требования универсального. Есть
некоторый внутренний процесс, или мы должны представить его себе, цель-
ный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся, принадлежно-
стью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы мо-
жем единственно понять ее. Для такого процесса свобода есть только отсут-
ствие препягствий совершиться, есть незадерживание извне законов, по кото-
244
рым он движется? ее смысл здесь определенен, ясен, - и он плодотворен, как
ясно, что плодотворно для растения не иметь препятствий своему росту, не
иметь перед ветвями своими ничего, что мешало бы им увеличиваться, распро-
страняться. И как для растения лишь эта свобода имеет какой-нибудь смысл, и
оно не может, не нарушив закона своей жизни, переступить в границы другой
свободы; так и для всего живущего, для человека, для его истории свобода
имеет значение только это: только не переступая в смысл чужой свободы все в
ней может жить. Свобода в универсальном смысле, как требование ее для все-
го*, став сознанием каждого индивидуального существа, не означала бы здесь
ничего, кроме отрицания им в себе самом значения; только не веруя более ни
во что, можно требовать для всего свободы. Как могу я, излагая свои мысли,
усиливаясь распространить их, исходя из своего субъективного содержания,
желать свободы и для такого субъективного содержания, которого сущность
состоит в том, чтобы вообще не было никаких мыслей? Как могу я верить, не
отметая того, что посмеивается моей вере? Какая есть истина, которая не отвер-
гает никакой лжи? И как я, всякий субъект, можем сохранять веру в истинность
своего содержания, не требуя для него свободы жизни, движения, распростра-
нения, —и ограничении для всего, что этому мешает, хотя бы оно так же жило по
своим особым законам; но я, живущий, в эти законы заглянуть не могу, - и не
должен, насколько я верю и хочу жить.
Таким образом, принудительность внутреннего, исполненного веры в
себя, развития есть первое, в отношении чего, как второе дополнительное
условие, может требоваться ему отвечающая свобода. Только поверив, я могу
требовать некоторой свободы; и для века, в существе своем не имеющего
никакой веры, не должно бы, по справедливости, быть и никакой свободы.
Здесь требование свободы есть чисто хаотическое, бессмысленное; вытека-
ет только из жажды залить остатки последней веры, какие еще сохраняются,
своим безобразным, стихийным, никакому закону не повинующимся движе-
нием. Ясно, что все, в чем есть жизнь, и есть вера в истину этой жизни, будет
ли то возникающее что-нибудь или сохраняющееся, имеет не только право,
но и долг без всякой веры в истину этого хаоса удалить его от границ своих.
III
(/Свобода - это радость», - говорим мы, - но почему, однако? Не потому ли,
что она неотделима от закономерности, что это закономерное движение
невольно и, выполняя его, мы приближаемся к своему назначению? Непро-
стая несвязность движения нас радует, - это было бы бессмысленно, стихий-
* Я не отвергаю, что в этом универсальном значении свобода можетъ быть,
однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирующем индивидуальные
свободы, с знаниием верховным и абсолютным их относительного значения и оконча-
тельного смысла.
245
но; но радует прояснение своей природы, которое находит всякое суще-
ство в этом назначении. Мудрый, открывая истину, выражает себя, и нам
понятна боль, какую он испытывал бы, если бы что-нибудь стесняло его в
этом выражении себя; но то же стеснение что значило бы для индиффе-
рентного, для глупого? скорее его стесняло бы, если бы и в своей ра-
внодушной или глупой природе он принужден был всегда говорить и ду-
мать истину. Ясно, что свобод! есть непременно в отношении к чему-
нибудь, что должно настать; и нет свободы безотносительной, для всего
равной, во все стороны подающейся. Там, где нет назначения, где движу-
щееся не подчинено закону, есть только безразличие. В сфере этого без-
различия все может совершиться, но ничто не может причинить радости,
того особого ощущения, которое для нас неотделимо от свободы: для рав-
нодушного к истине и к заблуждению какую могут принести радость вся-
кие слова? не ту же ли, как и для немого, который вовсе не произносит
никаких слов. И страдания здесь нет, как нет его в темноте для слепоро-
жденного, в тишине для глухого.
Без этих направляющих нитей, по которым совершается движение созна-
тельных существ, и даже всего живого, нет их соотношения с свободою; и
все, что ни по какой нити не движется, что не может указать для себя никакого
закона, в себе - никакого назначения, не может и требовать для себя никакой
свободы.
IV
Вера и есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого
живою существа, к своему закону и назначению. Мудрый потому верит в
истину, что в нем предустановлена она, и только ожидает его усилий, напря-
жения в нем мысли, чтобы стать ясною, - из предмета веры стать предметом
созерцания; и не имеет этой веры в нее глупый, в котором ее нет, и нет ее
темного действия, сказывающегося как возбуждение, как влечение к себе,
напрягающее его мысль. Мы сказали ранее, что никакое существо, насколько
оно верит и хочет жить, не может переступить смыслом в границы чужого
закона; но это потому, что для всякого существа - один закон, и нельзя, не
утратив тожества с собою, ему слиться в мысли, в желании с законом,
противоположным своему или разнородным с ним; а не сливаясь с ним в
законе, оно не может и слиться в желании для него свободы, которая только
следует закону. Противоестественно было бы мудрому войти в законы глупо-
го, в правила нелепого; как противоестественно было бы растению отоже-
ствиться своим темным смыслом с свободою ветра, который срывает его
цвет, ломает ветви. Что живет - желает, чтобы умерла смерть, или чтобы как
можно долее она была скована в узах; желать иначе оно не может; нудить его
к этому - эго значит налагать руку насилия на самое сокровенное, самое
внутреннее, чем бьется жизнь всей природы. Она вся, в каждой частице сво-
246
ей, только утверждает, и если то или иное в ней отрицается другим и гибнет,
требовать, чтобы с этим отрицанием себя и гибнущее сливалось, значит тре-
бовать, чтобы закон смерти, которому все в природе подчинено, заменился
для нее законом самоубийства, которого не знала до сих пор она и ей его не
указал Бог.
V
Но вот, явились новые мудрецы, которых почему-то влечет к себе этот новый
закон, и они силятся утвердить, что каждое существо должно смыслом своим
входить в смысл другой жизни, ее другого назначения, и признавать наравне
со своею и всякую свободу; они не замечают, что уже давно вступили своею
мыслью в сферу безразличия, где нет собственно свободы, и не только ее нет,
но она отрицается так же глубоко, как жизнь смертью. Кажется, безрадостные
(так и должно быть), они желали бы погасить и в целой природе радость,
которую ощущает все в кем, утверждая, веруя и тем самым отрицая себе
противоположное. Все борется, и вот что не нравится этим печальным, слиш-
ком утомленным мудрецам; они хотели бы успокоения, но вместо того, что-
бы желать его своим усталым, изжитым членам, хотели бы его для всей при-
роды, которая и не устала, и не изжила своих сил. Тишина могилы, ее темь их
влечет более чем шум полей, сияние солнца; зачем оно светит, для чего ветер
шумит, когда глаза так устали, когда слух не выносит никакого звука, - вот
тайное ощущение, которое их единит и которое слышится за тысячею их тре-
бований, разнообразно и иначе мотивированных.
Пессимисты всех степеней и оттенков сливаются с индифферентистами
и желают себе свободы... на какой подвиг? для выполнения какого назначе-
ния? для движения куда и по какому закону, во имя какой веры? Им странно
и дико, что они встречают перед собою замкнутые институты церкви, госу-
дарства, семьи, - они, которые сами так разомкнуты и открыты всякому дей-
ствию. Как для ветра, рвущего листы дерева, непонятна боль его, непонятно
сопротивление его ствола, ибо своим механическим законом он не может
переступить в смысл его органического закона; так для них, которые в исто-
рии уже только стихия, а не какой-нибудь организм, непонятна боль, непо-
нятно сопротивление остатков живой жизни; они шумят около них, силятся
их сокрушить, - не к своей радости, конечно, но и к печали такой, которой
они никогда не поймут.
VI
Все, что мы высказали, вызвано было размышлениями о требованиях новой и
обширной свободы пропаганды религиозных убеждений, какие, из Западной
Европы переступив к нам, раздаются, смущая совесть верующих, в последние
дни; раздаются со сторон, которые или открыто чужды какого-либо религиоз-
247
ного духа*, или втайне (не думаем, однако, чтобы и от себя) полны этого же
отчуждения, по крайней мере, от своей древней, церковной веры**. Дух цер-
кви есть, несомненно, дух свободы, высочайшей, неосуществимой на земле,
святой; но прежде, нежели ее, - дух веры; и потому только - дух свободы
столь высокой. Однако, в чем же свободы? в неверии ли? во вражде ли к
церкви? в том, чтобы смести с земли эту святыню и водворить на ее месте
хаос? Конечно, в меру того, насколько в ней есть веры, на это свободы она не
может допустить и не допускает; как и все, живущее каким-нибудь утвержде-
нием, она допускает свободу лишь при условии слияния с собою в этом ут-
верждении, - не во временном и местном его выражении, которое не совер-
шенно и в совершенство которого у нее нет веры, но в вечном, окончатель-
ном его смысле, который для нее абсолютен, непоколебим, и с верою в кото-
рый она не допускает никакого разделения с собою, не знает такого разделения,
отвращается от него. Как и все, что живет и движется верою, т. е. отношением
своим к будущему, и она не видит в действительности своей что-либо само-
довлеющее, но лишь ряд варьирующих состояний, поднимающихся к безус-
ловному их всех завершению: «земля новая», «небо новое», «Иерусалим не-
бесный» - это девятнадцать веков она не устает повторять, девятнадцать веков
она не устает надеяться на это, отвращаясь от ветхой земли, от старого неба, от
греха, проклятия и смерти, которым они обречены в человеке; отвращаясь, и,
однако же, в силу греха, лежащего на человеке, ведомая хоть и Богом, но через
человеческие руки - лежащая в греке в видимых и временных своих выраже-
ниях. Таинство, совершаемое священником, свято, и он сам - в совершении
его, но вне этого где его чистота?.. Литургия свята, но мы, ее слушающие?..
Все в храме благолепно, все сияет святостью и великолепием, должным вели-
колепием, но за его стенами?.. Таинства, каноны, молитвы - это так, это
незыблемо, это сама истина, сошедшая к нам с неба, лежащая на земле... но
мы вокруг ее? но бесконечное тело блудодействующее - не при дремлющей
ли, не при усыпленной ли душе? «встань, душа, и посмотри, что делает твое
тело», вот границы свободы, допустимой в церкви, - на этот только призыв, на
оживление и укрепление ее собственного, особого утверждения...
Но все перепуталось в наш путаный век, и вот, гнойный сифилитик, толь-
ко и знавший, что бродить из блудилища в блудилище, спрашивает: каковы
законы разума, для чего они? тело поднимает ропот против души, мир -
против церкви, грех - против святыни, перед ним лежащей. В этом и ни в чем
другом, весь смысл религиозных движений за последний век, то явно на-
правленных против церкви, то как будто благоприятных ей, хотящих только
кое-что в ней поправить... поправить какими руками? по законам чьей сове-
сти? нашей, прокаженной, пригнувшейся в зависти, кусающейся? Это мы-то
будем что-нибудь поправлять? да и к чему тут поправлять - все свято, окон-
♦ Разумеем «Вестник Европы» и друг.
*♦ Разумеем здесь г. Вл. Соловьёва, человека о котором хотелось бы сказать все
хорошее и приходится думать дурное.
248
чательно: пусть кто-нибудь, для испытания, для примера, ну хоть для издева-
тельства в результате, но с серьезностью на минуту, прочтет все каноны, всю
литургию, молитвы, самый обряд церковный: да что же тут исправлять, к
чему? все свято, все до того непорочно и чудно в этой непорочности, что в
самом деле неестественно, чтобы из смрадной человеческой души, как наша,
это вышло; или «земля новая» позади нас, в прошлом, - или, если она ожида-
ется еще, это в самом деле на землю прислано с неба.
Таким образом, церковь не только не допускает какой-либо борьбы с
собою, но и не знает этого, что могло бы с нею бороться, под иным углом,
как только подлежащее исчезновению, рассеянию; подобно как рассудок не
знает глупости с иной точки зрения, как что ей нужно перестать быть, равно
совесть - что нужно перестать быть ее искажению. И это в строгом соответ-
ствии с твердостью ее веры, как и веры рассудка или совести - в истину своего
утверждения; все требования, чтобы она допустила борьбу против себя, есть
требования религиозных скептиков, чтоб она так же усомнилась в себе, как
они усомнились в ней... в этом все дело, в этом тайна положения вещей, без
прикрытия.
VII
Итак, мы утверждаем, доля свободы, уже теперь допущенной церковью, без-
мерно превышает ту, которая допустима по существу ее веры в себя, и эта
податливость должна быть отнесена исключительно к несовершенству того,
что мы назвали внешним и временным ее выражением. Не поднимается греш-
ная рука закрыть уста хулящие. Есть воля к этому, есть сознание об этом, есть
перед нами святой закон; но вот, он лежит и кто же поднимет его? кто, кого
совесть не омрачена, поднимет каноны, напомнит молитвы, обещания? мо-
жем ли мы вспомнить тайну искупления мира? вспомнить... но разве бы мы
то делали тогда, что делаем?..
У нас есть память языка, но нет памяти сердца: все, что есть, что было,
для нас не имеет полной значительности факта, а лишь как будто воспомина-
ния, и то внешнего, какого-то бреда, пережитого в истории, - вот тайна на-
шей души в текущий момент. Мы, наш ум, наше сознание - не ярки; ничто не
необходимо для нас, не невольно; можем делать хорошее, можем и дурное, -
та необходимость внутреннего, субъективного процесса, о котором мы ска-
зали, что он знает только свободу своего закона, прекратилась, и с нею все
стало возможно, но ничто не необходимо.
Оставим, однако, эти печальные мысли; конечно, мы не смеем воспроти-
виться требованиям свободы, но это мы ведь, а не сама вера, не религия, не
церковь; неужели у требователей не будет ради нас пощады и тому, что мы
бережем; пусть бы затоптали оберегающих, которых и в самом деле, может
быть, не стоило бы беречь... но ведь и кого же стоило бы беречь в наше
время? на их стороне так же только сила, и никакой правды. Не гораздо ли
лучше пощадить друг друга?
249
VIII
И вот, мы возвращаемся к терпимости, против которой хотели говорить... по-
вторяем, в вере ее нет, в церкви - нет, в религии нет: там есть свобода; но мы
не для свободы, а только для терпимости; век индифферентизма, равнодушия,
смутного сознания может знать свободу под этою только извращенною ее
формою, под этим тонким и окончательным ее отрицанием; без сомнения,
это есть горькое и строго соответствующее наказание за самый проступок
равнодушия.
Ибо терпимость - это только символ окончательного разъединения лю-
дей, как свобода - символ их глубочайшего слияния; «Ты брат мне, отчего же
не ударил меня, когда я делал мерзкое» - вот свобода; «Я делаю мерзкое, но
что же тебе до меня» - вот терпимость. Итак, мы утверждаем, свобода не
исключает величайшей борьбы, напряжения всех сил в этой борьбе; она тес-
нит людей в стремлении их к одной мысли, и, теснясь все к одному заверше-
нию, они сталкиваются; блудный сын и о нем скорбящий отец, если бы он
был даже отец наказывающий - в свободе; потаскуха-мать, равнодушно смот-
рящая, как и ее дочь становится потаскухой - обе в законе терпимости. Тер-
пимость - это отсутствие какого-либо соотношения между людьми, кроме
случайного или временного, и, во всяком случае, условного, какое, согла-
шаясь взаимно, они завязывают друг с другом: два дерева, склонившиеся
друг к другу вершинами, пока дует ветер, но корни которых врозь, стволы -
врознь; свобода - одно дерево, один род людской, на древнем корне, Адаме,
сидящее, грешное, плачущее, скорбящее друг о друге, в этой скорби и ищу-
щее, и не боящееся наказания; ветви его трепещут, бьются друг о друга, —
шумит древо в истории, потому что оно - древо жизни. Терпимость — это
могила; она все терпит, со всем примирена; смрад ее не раздражает, зловон-
ные жидкости она впитывает в себя; ни с чем не враждует, никого не гонит,
все принимает и принятое хранит; этой ли терпимости хотят люди? они ее
получают с избытком; хотят еще более, хотят до пресыщения... будет время,
насытятся.
IX
В чем, однако же, яснее, состоит свобода, если она не исключает страдания,
тесноты для людей? Как терпимость есть индифферентизм людей друг к другу,
при отсутствии единящей их мысли, так свобода есть слияние людей в любви,
но при любви еще большей к мысли, на которой они слились; страдание (и
наказание) ни отвергается здесь, ни требуется, но пренебрегается, как незна-
чащее, случайное, что не составляет предмета мысли. Предметом мысли здесь
служит истина, в которую у всех равна вера, и предметом заботы - человек,
как носитель этой истины, или, точнее, ее преемник, хранитель, хрупкий со-
суд. Таким образом, при безусловной стесненности людей в отношении к
предмету веры, они свободны, собственно, в отношении друг к другу, за-
250
висимы один от другого не иначе, как только под углом их общей зависимости
от окончательной, всех связывающей, истины. В христианском мире нет сво-
боды обсуждать тайну пресуществления; Спаситель сказал: «Тело мое» - он
твой Спаситель? итак, о чем тут спорить? спор здесь означал бы сомнение,
т. е. грех, и притом такой, который означает выход из христианства; а у воды в
горшке с водою, из него выплеснувшеюся, что общего? Но пока вода не вып-
леснулась, как бы она ни бурлила, ее радостно принимает в свое лоно остаю-
щаяся покойною, всякий раз, когда, вздымаясь, она падает к ней назад. Разве
мир христианский не знает беса искушающего? он ли не знает греха, всей его
силы, глубины, всепроницаемости, бессилия против него человека? итак -
даже сомневайся, но со скорбью, но со смирением, а не как глупый, пустой от
зерна колос, который гордо помахивает вершиной своей над нивой отягощен-
ных зерном, склоненных к земле, других колосьев. Гордость, самонадеянность,
эта беспросветная и окончательная пустота души - вот, кажется, с чем не
мирится христианство, что как-то противоречит ему в самой природе; а грех
- его весь прошел христианский мир, и превозмог - смирением.
Итак, по существу христианской свободы, высший иерей церкви не мо-
жет изменить догмата или иначе его понять, чем все; не может его обсуждать
(по крайней мере, гордо) в своем уме, ибо обсуждая — уже сомневается,
сомневаясь - не имеет веры. И последний нищий, стоящий в притворе храма,
может, возревновав о Боге, разогнать клюкой своей парадную толпу, собрав-
шуюся поскучать в нем час, два; тот же нищий высочайшего иерея может,
взяв его лошадей под устцы, привести к гноищу разврата и нищеты и сказать:
«Иди и смотри и вспомни, кто ты и зачем»... Бесконечен по высоте своей
идеал церкви, и бесконечна свобода каждой человеческой души, в ней рож-
денной, ею спасаемой; ибо только к этому одному идеалу она привязана, но
им же и связана прочно и тесно.
Допустить обсуждения истин своей веры церковь не может, - не по бояз-
ни их колебания, но по отвращению к подобному обсуждению; и не только
обсуждения этих истин, но - и малейшего отступления от целости своей хрис-
тианской жизни каждого единичного своего члена. Повторяем, лишь при тус-
клом нашем сознании, подобные отступления мы переносим; перенесем и
большее, ибо степень нашего равнодушия чрезмерна. Мы уже не чувствуем
более, сколько личного бесчестия заключается в подобном отступлении, из
какого ничтожества, мелочности души оно вытекает; отступающий от церкви
- для нее презрен до невыностимости его видеть, вот источник церковной
нетерпимости, которая и не может быть сужена иначе, как через упадок в
верующих яркости сознания факта, на котором основана их вера. Всюду, где
это сознание живо, ведь мы и отчуждаемся от «ближнего»: отчуждаемся от
него, как от предателя своей партии, хотя эта «партия» возникла только вчера;
отчуждаемся отравнодушного к общим интересам, хотя бы они касались только
фубой и внешней стороны жизни. Это все нам понятно; и даже того, кто всех
горячее отвертывается от подобного предателя или равнодушного, мы чтим -
за его крепость, за его слиянность с смыслом своей партии, с интересом на-
251
родным. Я говорю несколько не то, что хотел бы сказать, указывая, как все это,
к чему нетерпимость мы понимаем, ничтожно сравнительно с бесконечнос-
тью христианской жизни и истории, измену которой или к ней равнодушие нас
почему-то требуют терпеть. Но вот, вы стоите в церкви, и отрешаясь на минуту
от всего, что ярко знаете, переходите к сознанию того, о чем почти забыли:
ipeuiHoro мира, тайны его искупления и нового греха этого мира, греха с такою
легкостью, как будто и не было никакого искупления. Неужели соотношение
тяжести того, что свершилось и ради чего свершилось, и легкости того, что
теперь совершается, не поразит вас, не подавит, не вызовет горького чувства до
глубины души и до нежелания подать руку «ближнему», который, мотая голо-
вой поверху, ничего этого не чувствует? не поразит ли с яркостью личного бес-
честия все, что вы вспомните о себе, своей личности, праздности, уклончивости
от подробностей христианской жизни, когда это все и грех, и искупление, дей-
ствительно было? но вот, мы не верим более, что оно «было» и в этом разгадка
нас, разгадка и того, что от нас требуют, и того, на что мы соглашаемся...
Долго и трудно боровшись с болезнью близкого человека, друга, матери,
своего ребенка, и, наконец, не превозмогши ее, похоронив его, кто из нас в
день похорон поехал бы «повеселиться»? кто не умолил бы веселого уйти с его
глаз? и допустив, что случился бы такой, как бы мы отнеслись к нему? но ведь
это друг только, а не Бог; ведь это потеря ближнего, а не искупление мира от
греха; ведь еще не крестная смерть, не суд у Пилата, не Иродиадина радость, о
которой читает церковь... Итак, понятно ли, отчего и театры наши открыты, и
мы пьяны, и дома терпимости торгуют в дни воспоминания всего этого? пото-
му что воспоминания нет; язык наш бормочет всякие слова, какие на него
положены, а память отлетела... к другим, ярким впечатлениям, свежим воспо-
минаниям, забавам, нуждам, чем мы живем истинно, а тем больше не живем.
Конечно, мы не веселимся, как Иродиада, но стоим равнодушно, как
римские воины у креста, которые и не интересуются, и не очень знают, что у
них происходит на глазах; приставлены здесь по чуждому делу, по ино-
племенному требованию. Наш мир, будто бы еще христианский, при церкви
стоит так же, как иноплеменный: кое-что соблюдает тут, и помнит, что до
времени, на целую длинную и скучную ночь, нельзя будет отойти; более
этого он церкви не дает; хотел бы дать менее, и негодует, и волнуется, почему
церковь не поймет его желания и не отпустит его совсем...
X*
Сказанное относится к равнодушным, к той холодной могиле, которая не хо-
чет быть одна, но хотела бы увлечь в себя и все живое; это в недрах самой
церкви негодующие, зачем она теснит их веселье, удерживает язык; почему
♦ Все нижеследующее имеет в виду литературную деятельность г-на Вл. Соло-
вьёва, насколько она относится к вопросу о соединении церквей; и также - сетования
протестантов, почему церковь наша не допускает среди своих чад протестантской
пропаганды.
252
жизнь не карнавал, но также и молитва, скорбь. Есть другие, которые восстают
против ограждающейся церкви не извнутри ее, но извне; и в ней самой нахо-
дятся, которые ищут, чтобы ограды ее пали...
Но та же вера заставляет эти ограды держать; если бы вне их были
разномыслящие только, но сливающиеся с церковью в утверждении окон-
чательного ее смысла, - без сомнения, никаких пределов к соединению с
ними не должно бы быть; но этого нет; вне стен оберегаемых - то же
неверие, которое внутри хочет веселья, а там более серьезных вещей, но
так же с верою не имеющих ничего общего. Тайна невозможности слия-
ния заключается в том, что сливаться не с кем - в вере. Исповедания,
которые ищут, чтобы мы пришли к ним и исповедовали с ними, из испове-
дания выронили слово главное, пышно убрав алтарь - забыли внести в
него антиминс. Не страх перед властью одного* нас удерживает от сбли-
жения: разве мы ее не знаем? разве нас тяготит ее чрезмерность? Не наша
независимость, самостоятельность нам дорога: разве мы не теряли ее, и
не однажды, прибегнув к власти чужеземца, припав к вере Византии, по-
ехав за море всему учиться и все свое позабыть? Итак, почему требующие
не подумают, что тут есть источники более глубокие: мы боимся пере-
стать верить в Бога. Нам непонятно, каким образом, веруя в Него, родите-
ли** не дают Его драгоценной крови и тела до известных лет своим детям;
не крестят их даже во имя Его, пока они совсем не вырастут и тогда сами
свободно изберут, нужна ли им эта кровь и это тело, иногда - нужно ли им
и самое крещение. Мы не можем этого понять, видя, как этих же детей, не
спрашивая их свободы, не дожидаясь их выбора, родители и обучают,
избрав за них сами методы, и оберегают, определив методы ухода, лече-
ния и проч. Мы не можем удержаться от мысли, что во всем этом, что им
дают и что с ними делают так твердо от рождения, есть истинная вера, есть
убежденность; «Я верую, что это благо - как не сделаю этого тому, кого
люблю больше себя?» Итак, если делая себе вот это другое благо, я, од-
нако, удерживаюсь делать его ребенку своему, которого люблю более себя,
верую ли я в это благо и тогда, когда себе его делаю? Пусть мой язык
говорит лучшие слова, пусть пастор, которого я слушаю, красноречив, и
много учености заключено в этих книгах, которые я читаю, которые для
нас написаны о тех же предметах, но мои дети - со мною ли? но в той
области, где я уверяю, что живу и считаю ее своим спасением - там ли
они? Нет, они по другую сторону, - итак, к чему красноречие, о чем
ученость? веры нет ни у вас, ни у детей ваших; вы не смеете поверить за
них, потому что боитесь уже за себя.
Мы сводим здесь только явление, завитое в тысячи слов, к действитель-
ности; наблюдая, как в критические моменты поступает человек, вскрывает
* т. е. римскаго папы.
♦♦ Мы указываем на факт чрезвычайно ярко, наглядно убеждающий, что в
сущности, протестантизм есть атеизм, но боящиийся самого себя, пугающийся.
253
тревоги его сердца, когда так уверен, по-видимому, его язык. Протестантизм
не есть только индивидуализм в исповедании, не есть строгость и простота
исповедания древнего; это есть неуверенность в исповедуемом, полная пе-
чали, полная порывов гневного подозрения к тому, кто говорит, что он верит;
полная осуждения, критики, и вместе экзальтации около веры. Слабовер,
опасающийся окрестить детей своих и уходящий в далекие пустыни, чтобы
крестить там неосмысленных дикарей, вот символ этого печального состоя-
ния совести, не знающей, на чем остановиться, колеблющейся, тянущейся к
лучшему, но неспособный на него прозреть, исполненной любви, вели-
кодушия и смешных противоречий.
XI
Не более, чем в протестантизме, есть веры и в католичестве: иезуит, во имя
Христа хватающий протестантского ребенка и, читая молитву крещения,
обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернулся к родите-
лям и не стал в ряды «колеблющих камень Петра» - эта смесь бреда, лукав-
ства, исступления и смешных фокусов (reservatio mentalis* при клятве) -
разве это вера? где тут спокойствие крепкой совести, ясномыслие разума,
знающего, что он обладает истиною и эта истина непоколебима? Отделение
мирян от клира, низведение их куда-то вниз, где уже нет крови Христовой,
нет языка церкви, закрыто Евангелие, и обращение вершин, где пребывает
клир, в место какого-то священного волшебства, с странною казуистикой,
непонятными символами, производством новых догматов, - как удержаться,
чтобы не взглянуть на все это, как на запутанный апокриф около исполнен-
ного простоты Евангелия, который в темные и пространные свои строки
заплел много истины, оттуда взятой, но окружил ее фантасмагорией слов и
дел, которых и не было, и они не нужны, и смысл их совершенно расходится
с тем, что нам известно из Евангелия. Руки непосредственного свидетеля
истины мы не узнаем здесь, но только близкого с ней, о ней слышавшего, ее
любившего, много думавшего и ее испытывавшего разумом. Веры, близос-
ти к предмету своему, слиянности с ним мы не находим тут, и отсюда эта
бездна придуманного и вычурного, на исходе веков - преступного. В иезу-
итском ордене, в котором, как в кульминационном моменте своего разви-
тия, католицизм выразил, наконец, смысл свой, признал его, сделал истиною
утверждаемою, не только нет уже христианских черт, но, как единогласно
свидетельствует весь христианский мир, есть черты истинно сатанинские:
это он, дух лжи, вселился в него, и уже потом - дух злобы, дух презрения к
человеку и его угнетения: полное отрицание Евангелия, пытающееся опе-
реться на него же, преступное в замысле, становящееся смешным по не-
♦ мысленная оговорка (лат.).
254
имению для себя опоры, истинное безумие в истории, безумие сердца чело-
веческого и, наконец, самого рассудка, который за ним покорно, и переви-
рая свои законы, следует*.
XII
С чем же тут единиться, с какою истиною свое утверждение согласовать? Если
бы вопрос шел о подробностях - подобное слияние было бы возможно, пути
к нему искать - было бы христианскою обязанностью; но как, не впадая в
неудержимую ложь, не принимая в себя преступного, сливаться с тем, что не
отвергло ложь и преступное в принципе? и вообще норма (в идеале своем)
как может, не изменяя себе, соединяться с собственным искажением? Что
может Восток, во всем меньший Запада, во всем слабейший, чем он, но в вере
истинный, не ослабевший, не заблудившийся, сказать ему? «Вернись к вере
отцов, укрепись в этой вере; в свой пышный храм, который пуст, прими Бога
истинного, и я войду в него. Внесите детей туда; прими и ты, клир, как не
отчуждающийся отец, детей своих - мир, и тогда я приду к вам, сольюсь с
вашими молитвами, на ваших языках, перед вашими образами, ни в чем не
разнствуя, если вы хотите, от вас. Но пока вы слабы, как я расслабну, чтобы
уподобиться вам? пока блуждаете, куда пойду, чтобы вас найти, без путей? и
к кому пойду: к родителям ли, отделившимся от детей? к детям ли, отде-
лившимся от родителей? к клиру ли владычествующему? к миру ли, то раб-
ствующему, то возмущенному? с кем соединиться мне, когда вы все разделе-
ны? слейтесь - и я уже с вами; будьте между собою братья - и я уже среди
вас, присоединен, без согласований, без споров, во имя высшего закона люб-
ви. Не в законе разница между нами, но в духе; примите дух мой, и я приму
закон ваш, покорюсь этому закону, и - вам, если только вы захотите владыче-
ствовать», вот что истинно, не лицемерно, не блудно может сказать Восток
Западу, повторяем, во всем его худший, но в духе веры своей - истинный.
XIII
Оберегать этот особый дух церкви Восточной есть трудная обязанность тех,
кого мы назвали временными и внешними ее выразителями; трудная потому,
особенно, что, оберегая, легко впасть в дух западных церквей: безгранично
♦ Прав г-н Заточников (см. «Гражданин», 1893 года, № 187, статья «Заметки на
полях и размышления между строк»), вылившись бранчливым негодованием против
меня за название эпохи Средних веков «культурою христианского спиритуализма»;
но здесь, в непосредственных целях своей статьи, я не имел нужды выяснять истинных
черт католичества, и только затемнил бы этим отступлением предмет своих суждений.
Поэтому, нимало не соглашаясь с ним, я только повторил, точнее - назвал общеупот-
ребительное определение этой эпохи; впрочем, по предмету своему (религия) это
был, конечно, христианский спиритуализм, и этим вовсе еще нс утверждается, чтобы
он носил правильные в отношении к предмету своему черты.
255
свободного протестантизма, свободного потому, что он не знает истины, ко-
леблется в ней, ничего с силою не утверждает; безгранично стесняющего
человека католичества, стесняющего из страха, чтобы малейшим движением
он не вынес наружу тайны, которая невыносима, непоправима и уже стала
его законом. Но, вдумавшись глубже, мы находим, что ни там нет свободы, ни
здесь - борьбы против нее собственно; и здесь, и там ее смысл потерян. В
католицизме есть дисциплина, подавление человека другим человеком, стес-
нение в действиях, в словах, при безразличии к его совести: «Повинуйся, хотя
бы и не веруя; не веруй, но поступай так, как будто бы веровал» - вот его
принцип, его примирение с человеком на основании внешнего согласования
последнего с собою. В протестантизме эта дисциплина снята с человека, и ее
снятие было моментом его возникновения: но человек остался не дисципли-
нирован и, однако же, не стал свободен. Свобода есть слияние в любви, при
любви еще большей к утверждаемой истине. Нет единой утверждаемой исти-
ны в протестантизме, нет ее - общей для людей; и нет даже надежды ее найти -
здесь, где люди чтут Бога не иначе, как отвернувшись друг от друга.
Итак, убегая дисциплины, не впасть в безразличие и презирая безразли-
чие, не впасть в дисциплину - вот трудная задача охранения церкви. Нам
думается, задача эта может быть выполнена при сосредоточении внимания
своего на том, что, собственно, в церкви нет понятия преступления, но толь-
ко - греха. Грех - это то, что угрожает всем верующим и избирает из них
слабейшего; через что, так же, верующие связаны между собою: мы все ему
подлежим и не знаем, кто стоит на чреде. Напротив, преступление есть нару-
шение закона, и нельзя сказать, чтобы мы все носили в себе предустановлен-
ность этого нарушения, равно и то, чтобы каким-нибудь образом им свя-
зывались: скорее мы им разъединены, преступающий закон есть враг не пре-
ступивших. Дисциплина есть именно понятие, отвечающее понятию закона и
преступления; но что же отвечает понятию греха? Понятие искушающего
страдания. Церковь как союз людей в верующей любви, указанный от греха
Богом, за великий дар своего учерждения на земле должна дать Богу ответ-
ную любовь - в страдании за тех, кто впал в трех; церковь праведная, церковь
истинная есть всегда церковь страдающая; этим самым она есть и церковь
исцеляющая. По отношению к грешащему эта любовь может высказаться,
как долготерпение и как мудрость, мудрость - в умении исцелить, долготер-
пение - когда исцеление не приходит. И в том, и в другом случае нет пассив-
ного отношения к человеку, которое одно знает индифферентизм, и нет ин-
дифферентного отрубания его от себя, как зараженного члена, что одно зна-
ет дисциплина.
Путь закона ясен, легок; он нуждается только в исполнителе; этот испол-
нитель ему покорен, и в самом исполнении - слеп. На этот путь - путь меха-
нических отношений - человек вечно клонится переступить с более трудно-
го пути, который ему указан Богом. На этом пути, где нет нормирующего
правила, человек должен вечно сохранять внимание и избирать лучшее,
руководясь любовью и мудростью. С каждой точки здесь не видно других,
256
далеких; нет сознания исходов; и этого сознания не нужно - оно принадле-
жит Богу: здесь и теперь сделай лучшее, о прочем не пекись.
Во всяком случае, здесь человек остается свободен, но не в механичес-
ком смысле, как атом, потерявший связь с целым: мы сказали, все принадле-
жит здесь любви и мудрости, все принадлежит текущему моменту. Свобода в
смысле атомной независимости, которая одна как-то ясно понимается в те-
кущий цикл истории, есть собственно то же господство над человеком зако-
на, хотя только отрицающего, чуждого какого-либо положительного содер-
жания. Если и видя мерзкое, я, удерживая свои порывы, даю ему до конца
развиться перед своими глазами, - конечно, я подчинил себя непонятному
закону, и нет здесь свободы человеческой, но только механическая. Но здесь,
переходя к вмешательству человека в судьбу другого человека, мы перехо-
дим к мысли о том, как к понятию греха относится личная совесть.
Церковь праведная, мы сказали, есть церковь страдающая; и человек,
насколько он ищет правды более, нежели всего остального, должен принять
страдание за грех, который он в себе носит, - или которому причастен через
других людей. Надежда и усилие избежать всякого страдания, как и усилие
стагь в атомную независимость от других людей, есть равно симптомы утра-
ты в новом человеке всяких связей с целым, с человечеством. «Я ничему не
могу быть покорен», «Я не хочу никакого страдания» - это значит только: «Я
более не причастен жизни всех». Как ты не причастен, когда ты рожден? как
не причастен, когда не отказываешься рождать? твои ноги, твои руки, грудь,
внутренности разумнее, нежели праздная голова. Прими страдание, как рож-
денный; будь покорен, пока рождаешь еще: ты в недрах человечества и ста-
нешь свободен в смысле, в котором хочешь, только в могиле. Итак, механи-
ческие перегородки, которые установлены между собою людьми и все выте-
кают из идей права, наказания, закона, в царстве благодатном свободы, где
люди вновь должны стать плечом к плечу, плоть к плоти, без разделения,
слиянно - эти перегородки не только должны пасть, но их уже и нет, они
исчезли, как мираж, как наносная иллюзия.
Люди связаны в грехе, связаны через это и в страдании, которым искупа-
ется грех. Без него грех был бы невыносим, - не для масс, но именно для
индивидуума; как и грозою природа, он им очищается, облегчается, и его
благословляет, когда оно пришло во благовремении, - конечно, не в услыша-
ние тех, кому этого не нужно знать. И вот почему из связи с ним всего менее
должны быть удаляемы живые страсти, которые не без высшей воли как ве-
дут человека сюда, так и выводят его отсюда. Не в рассудке только, и не в
одном милосердии, но в полноте своей природы, в праведном негодовании
так же, как и в любви, человек стоит перед грехом, отвечая на него всеми
силами; только, убегая закона, гнев свой, как и любовь, как и самую правду,
он не должен возводить в безжизненное правило; будучи возведены в него,
они обращаются: правда - в лицемерие, любовь - в попустительство, гнев -
в жестокость; но все эти исключаются свободою. Свобода есть слияние в
любви, но во имя любви к высшему, чем согрет, просвещен, оживотворен
9 Зак. 3969
257
человек; и когда эту животворящую, греющую, светящую истину он оскорб-
ляет, конечно, предательством ей было бы, если бы мир стоял и смотрел на
это спокойно, - тот мир, который ею жив. Итак, негодование и наказание есть
то, что следует после долготерпения, любви, усилий исцелить - для неисце-
лимого: долготерпения без конца не указал человеку Бог, и Он не терпел
Гоморру и Содом; значило бы обратить землю в них, если бы высшим, ни-
когда не нарушаемым законом для нее поставить мертвое терпение.
XIV
Итак, что же грешным рукам, оберегающим церковь, делать, слыша хулу на
оберегаемое из тысяч уст? делать в текущий момент, когда человек потерял
сознание греха, утратил идею свободы, и даже уже не различает, к чему отно-
сится хула? Сперва умолить; навсегда открыть свободу хулы против себя, про-
тив своего гноя, немощи, греха; и претерпевши, очиститься, чтобы с силою
встать на защиту церкви.
Скажут лукавые: «Святое в защите не нуждается»; конечно, догмат не
перестанет быть истиною, если его и отвергнут все люди; тело и кровь Хрис-
товы не обратятся в вино и хлеб, если никто их не причастится и священник
унесет, не раскрыв чашу, в алтарь; брак не перестанет быть таинством, если
и все будут блудодействовать. Но разве и целомудрие исчезнет, если на на-
ших глазах совершат насилие над целомудренною? и, однако, мы бросаемся,
чтобы защитить ее - это движение у нас в крови, в нашей душе, оно указано
Богом. Человек должен защищать все доброе, благое, истинное не по недове-
рию к его способности устоять, но по природе своей; ведь и грудной ребе-
нок, видя, как подняли руку над его мамкой, кричит и протягивает ручонки,
чтобы ее защитить; как же требовать, чтобы народы не делали подобного
движения, когда поднимается рука на церковь их, когда хула открывается на
самого Бога?..
Нет ничего естественнее, как то, что мертвые слова высказываются мер-
твыми устами; но естественно и то, чтобы живые нисколько им не внимали.
Идея неопределенной терпимости, как и идея механической разрозненности
людей, и идея их избавления от всякого страдания, - кто не заметит в них
общего смысла одной тенденции: не чувствовать более ничего, не желать, не
размышлять? кто не поймет, что это только угасание человека в истории? кто
не поймет, наконец, что это угасание так естественно, раз человек порвал
связь с источником в себе жизни, с Богом; и что эта гаснущая жизнь ничему
так не противна, ни с чем так не враждует, как именно с идею Его, который
есть жизнь.
Но естественно, мы сказали, чтобы этим мертвым словам нисколько не
внимали живые; я еще верю, живу, надеюсь, и веря - утверждаю, живя -
люблю; нисколько не безразлично для меня, что делают другие; и если ни-
258
кому нет дела до меня, мне есть дело до всех; атомных порывов в себе не
чувствую и не хочу, чтобы, отрываясь от меня, летели ввысь другие: держу
их, пока жив. Итак, всякая жизнь, пока бьется, противится смерти; в этом
сопротивлении исполняет свой закон; и нимало ей нет нужды, что своим
законом она связывает закон смерти и стремления умершего.
ОТВЕТ г. ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЁВУ*
В статье «Свобода и вера», помещенной в январской книжке «Русского
Вестника», я попытался установить границу так называемой внешней сво-
боды, - в отличие от внутренней, субъективной, которая управляется сво-
ими особыми законами и с первою имеет общее только в имени. Мне
казалось, и я там высказал, что лишь в меру своей веры каждое живое
существо истинно нуждается в свободе и может ее для себя требовать;
требовать в степени столь безусловной, как безусловна его вера, и в тех
именно определенных границах, в которых совершить некоторую деятель-
ность у него есть назначение.
Так изложенный, этот взгляд и есть,и может быть понят только как на-
правленный против индифферентистов. Индифферентизм я считаю отри-
цанием жизни; и в законы бытия его всё живущее какою-либо верою, ут-
верждением так же не может проникнуть, и не должно, как он сам, разру-
шая все живое, не проникает в смысл особых, в нем лежащих, утверждений.
И если, противопоставив его хаотической свободе принцип свободы живой
и созидающей, я дал утверждающему в истории началу некоторый против
нее перевес, - я начинаю думать, что сделал нечто не незначительное. Ста-
тья, которая в побочных сторонах своих исполнена недостатков, в главном
содержании своем мне представляется теперь и ценною, и важною. Не-
преднамеренно, я произнес слово, которое всего нужнее было произнести,
- и которое я хотел и готовился произнести когда-нибудь, но не теперь, и не
с силами утомленными, какими одними располагаю. В век равнодушия,
разложения, я произнес слово: нетерпимость', конечно, лишь слабость моих
слов, неслышность моего голоса была больна, а не самый смысл слова. Но
если оно услышано, я его повторяю: «да, нетерпимость; да, непонимание
законов умирающего; да, отвращение к нему до неспособности перено-
сить его вид»**.
♦ См. его «Порфирий Головлёв о свободе и вере».«Вестн. Европы», февраль,
1894 г.
♦ ♦ Именно эти выражения, тщательно выбирая из моей статьи и подчеркивая их
г. Вл. Соловьёв считает особенно... неприличными? страшными? Потому или друго-
му, но только доносит о них своей «публике». См. «Вести. Евр.», стр. 912.
259
I
Мой противник называет это «законом жизни животной»*; он не находит
слов, достаточно сильных, чтобы заклеймить его**; и наконец, просто
отвергает, чтобы я высказал его серьезно, не впадая в ложь перед собою***.
И, между тем, этою слепотой своего негодования он именно подтверждает
его как вечный исторический закон, через который мы не только не пересту-
паем никогда в действительности, но и не можем переступить. Все объясняет-
ся только тем, что он и я, мы живем различными утверждениями: он - утвер-
ждением хаоса, разрушения, смерти; я - утверждением планомерного движе-
ния в истории, созидания, жизни; но в смысле моего утверждения он, очевид-
но, так же не может переступить, как и я, конечно, смысл его жизни презираю,
- и даже не признаю его смыслом жизни, но только косного бытия, как давле-
ние камня, который ненужно лежит на пути, как движение лавины, которая
без внимания к засыпаемой им деревне рушит ее хижины, засыпает в ней
людей, не ощущая их боли, не слыша их страдания. И не только он и я, мы не
понимаем друг друга, но этим непониманием противоположного и вечно
жила история. Закону «жизни животной», как он называет указанный мною
принцип, без сомнения, он противополагает «закон жизни под-благодатной»:
но разве христианский мир не отрицал так же полно языческого, как я в эту
минуту отрицаю принципы индифферентизма? разве он видел в его подвигах
что-нибудь, кроме смелых преступлений, в добродетелях - кроме красивых
пороков? И сам Спаситель разве мирился с фарисейством, входил с ним в
согласие, выбирал, что бы из своего соединить с чем-нибудь, что есть там, в
«закваске фарисейской и саддукейской»? И неужели мой оппонент, автор
нескольких богословских трактатов и вот уже много лет инициатор подобного
эклектизма в жизни церковной, так мало вдумывался в Евангелие, что не по-
нял главный смысл утверждения Спасителя: что ни терпение мертвое, ни не-
терпение**** Он не проповедовал, но правду внутреннюю в отличие от прав-
* См. «Вести. Евр.», стр. 911.
** «Всякий зверь и всякая птица, если бы они имели дар слова, высказались бы
наверно в том же смысле»... «Иудушка не был бы самим собою, если бы зверообраз-
но-дикую сущность своей веры или своего закона жизни излагал прямодушно от
своего собственного имени, или от имени единомышленных ему зверей и диких людей.
По натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готтентотовский (почему
не готтентотский?) субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объек-
тивной истине» и т. д., стр. 911.
**♦ В эпиграфе своей статьи против меня (и, следовательно, как бы определяя
цельный смысл моей статьи) он говорит: «Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то
вертит!.. Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он этого не чувствует». Там
же, стр. 906.
«Если бы Иудушка с правдивым благочестием относился к указаниям
священных текстов, а не злоупотреблял ими для своей скверной тенденции, то он, по
вопросу о веротерпимости (ведь я же веро-терпим) припомнил бы не Содом и Гомор-
260
ды внешней, и с последнею не мирился, ей не простирал прощающей руки;
мытарь - в раю, в раю разбойник, там грешница; но где богатый юноша, не
хотевший сделать последнего? на лоне ли Авраама законники? Нет, мы о них
слышали: «Истинно, истинно говорю вам, земле Содомской и Гоморрской
будет отраднее в день суда, нежели им».
II
Явившись среди нашего общества с истолкованием «учения о Логосе»*, он
не замечает, как вот уже много лет, при молчаливом терпении всех, он являет
неслыханный пример кощунства над Евангелием, и среди народа, темного в
книжном научении, но по истине мудрого, являет еще невиданный никогда
образец религиозной тупости. Этот народ и живет тем, что, изо дня в день
слыша на литургии чтение Евангелия, усвоил его дух и смысл в целом, и, не
ошибаясь, этот его цельный смысл применяет к жизни, им судит другого, и,
прежде чем другого и строже, чем другого согласно этому смыслу, им судит
себя. Г-н Вл. Соловьёв взглянул на Евангелие, как боец на арсенал, из которо-
го он мог бы извлечь себе оружие. Его писания мелькают всюду текстами, и
он не чувствует, как весь смысл этих писаний, самый дух, с каким они нача-
ты, не только не имеют уже в себе ничего евангельского, но являются совер-
шенным его отрицанием; ненавистник своей родины**, презирающий его
ру, а то Самарянское селение, где из-за религиозной розни не приняли Христа, как
идущего в Иерусалим». «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи,
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?».
Но он, обратившись к ним, сказал: не знаете, какого вы духа. Мы преднамеренно не
будем разбирать этого текста, ни того, к чему он относится, ни того, на что в апостолах
указывает; но заметим, что ведь слова эти сказаны Богом, Которого разумея, и я в
статье «Свобода и вера» оговорился: «Не отвергаю, что, в универсальном смысле,
свобода может быть, однако, сознаваема, но только в самом универсе, координирую-
щем индивидуальные свободы, с знанием верховным и абсолютным их относитель-
ного значения и окончательного смысла» («Русский Вестник», янв., стр. 269). Мой
критик не различает Бога от человека.
♦ «Жизненный смысл христианства; философский комментарий на учение о Ло-
госе ап. Иоанна Богослова». 1883.
** «...Ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две
заповеди или два закона. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана через
Моисея народу израильскому: чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет
и долголетен будеши на земли. Вторую заповедь дал Христос ученикам своим: «Идя-
ху же с Ним народи мнози: и обращея рече к ним: аще кто грядет ко Мне и не
возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братию, и сестер, аще же и
душу свою, не может Мой быти ученик» (Ев. Луки, XIV, 25-26).
«Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исклю-
чать из этой истинной любви наших ближних, семью. Однако же прямо сказано: «аще
кто не возненавидит». Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истин-
261
церковь*, что, наконец, он любит? И без любви, со словами только осуждения
всему**, зачем берет он слова из святых книг; как тать, прокравшийся в цер-
ковь и там пойманный, машет священными предметами, захваченными с жер-
твенника и престола. Не для того эти предметы, святотатец; не для того Еванге-
лие, чтобы им сокрушать, колоть, уязвлять, но чтобы исцелять, и еще ранее -
исцелиться; только.
Прежде, чем выискивать в нем потребные тексты, нужно спросить себя:
совершенно ли усвоен дух всех их, чтобы, в полной покорности этому духу, в
целях, не противоположных ему, употреблять и самые тексты. Иначе ведь и
разбойник, уходя из зажженной им деревни, мог бы ответить горящим, смеясь:
«Неизвестно, спасетесь ли еще вы, а я верно спасусь: вот текст»; и блудница, с
мыслью возможности покаяния в последний час, блудила бы, бесстыдно ози-
раясь на борющихся с собою, о которых не оставлено никакого текста. Но, по
истине, покаяния им не будет дано, и, преднамеренно рассчитанное, оно не
будет принято; то исцеляющее раскаяние уже было, совершилось, и, с тех пор
как миру о нем поведано, для мира оно прошло и не повторится иначе, как в
случаях такого же полною о нем неведения, как и тогда.
Г-н Влад. Соловьёв со своими текстами и всем «богословием» именно
имеет вид такой блудницы, которая, потрясая ими бесстыдно перед глазами
всех, говорит: «Еще погрешу и - спасусь, а вы погибнете». Он совершенно
не задается вопросом, для любви или для злобы он трудится, ложью или исти-
ною живет, целомудренна ли душа его, когда его язык произносит святые,
всем ведомые, и лучше, чем им, всеми чтимые слова. Он говорит: «Во имя
закона любви*** сольемся с Западною церковью», и не слышит, точнее дела-
ной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь,
которая противоречит истинной любви; от этой ложной любви и нужно отрешить-
ся, в этом смысле и нужно возненавидеть, - возненавидеть не только себя или «душу
свою», но и свою семью, и всех близких своих, и народ свой, - ибо в других местах
Нового Завета требуется отрешение и от своего народа. Вот эта-то истинная
ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к
своему родному - она-то и есть то самоотречение - не личное только, но и
семейное, и родовое, и национальное, которое выдумано не мною и какими-нибудь
западниками, и возвещено и западу, и востоку в Новом Завете - в выражениях
более резких, нежели самоотречение». Владимир Соловьёв: «Национальный вопрос
в России». Вып. I -й, изд. 3-е. Спб., 1891, стр. 62-63. Вот уж вспомнишь: «Во гресех
зачала меня мати моя».
* «...Мы самодовольно взирали на трудный и скользкий путь западного собра-
та, сами сидя на месте, и сидя на месте не падали» (Влад. Соловьёв. Три речи в
память Достоевского. Моск., 1884, стр. 47). Так определен им смысл исторического
существования восточной церкви, в отличие от западной.
♦♦ См. «Национальный вопрос в России». Эта книга собственно идейного raison
d’etre нс имеет.
♦♦♦ «Это слово соединения есть слово святое и божественное, оно одно может
дать нам и истинную славу сынов Божиих: «Блаженны миротворцы, яко тии сынове
Божии нарекутся»... «В соединении церквей я вижу не умерщвление русской церкви,
262
ет вид, что не слышит, как говорят: «Во имя истины, во имя единства церкви,
во имя самой любви не могу соединиться с тем, что истину нарушило*,
единство разорвало**, любовь презрело***, и в себе, в своих недрах, заме-
нило ее ненавистью и ложью»****. С тем непониманием, глухим и косным,
с каким смерть, разрушение относится к живущему, он различает только
одно: что два слившись будут одно, что слияние-это близость, и, вероятно,
любовь; но что будет одно, не ценою ли потемнения истины*♦♦*♦ только
может произойти слияние, и не принятием ли в себя злобы и лжи механичес-
кое соединение, к этому он слеп, этого он не видит. Мертвый человек, и
задавшийся самым великим, самым святым, самым жизненным, что в неис-
а ее оживление, небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей
церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной (ка-
кие все идеалы, и ни слова об истине!). Для того, чтобы это совершилось, необходимо
самоотречение не в грубом физическом смысле, не самоубийство, а самоотречение в
смысле чисто нравственном, т. е. приложение к делу лучших свойств русской народ-
ности - истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости,
свободы от всякой исключительности, и прежде всего - духовного смирения (кур-
сив в последнем слове г. С-ва)... О духовном смирении русского народа я не только
слыхал, но и поверил ему, и не только поверил, но и опираюсь на него в своих взглядах
на церковный вопрос... Я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять совета, с
которым ко мне обращаются: не отделять себя от народа, воссоединиться с русским
народным духом. Я не знаю, что под этим разумеется, про какой дух говорится. Тот
ли это дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государ-
ственным началом к варягам, за просвещением к немцам, дух, который всегда вну-
шал им искать не своего, а хорошего» (там же, стр. 72-73).
♦ Внешнее оправдание, центрально отвергнутое Христом, центрально же
принято католичеством в так называемом учении о спасении через «добрые дела»
(т. е. факты, поступки, творимые без живого участия в них совести).
♦♦ Католицизм исторически обозначает собою отделение, сектантство: ибо от
церкви, оставшейся после разделения в этом же содержании, как идо него, очевидно,
именно он отделился, секто-тизировался, чтобы это содержание видоизменить, и уже
начиная его видоизменять в самый момент отделения.
Не отвергая возможности и нужды самоулучшения и даже саморазвития,
самоизменения, церковь однако к этому трудному и великому шагу приступает не
иначе, как в бережной любви, зная, что Спасителем она указана, как охрана человека
против внедрения злого духа («где два или три соберутся во имя Мое - Я посреди
их»). Видоизменившись вне единения с восточными церквами, католичество вышло
из их согласия, и тем разорвало любовь, вне которой церковь и невозможна. Его
историческая сущность в том вся и выражается, что оно есть мятеж против церкви,
собой обусловивший возможность и всех последующих от нее отпадений (протестан-
тизм XVI в., деизм XVII, атеизм XVIII, и т. д.).
♦♦♦* Инквизиция и иезуитский орден; принципы последнего мы можем принять
за принципы вообще католичества, по аксиоме: что в части есть - есть и в целом.
♦♦♦♦♦ Выше мы уже отметили, что вопрос об истине как бы исчезает, туманится
перед глазами г. Вл. Соловьёва, и он манится исключительно внешними ожиданиями:
«возвеличения власти духовенства», «украшения церковной жизни», «оживления и
одухотворения - гражданской», и т.п.
263
поведимых путях Промысла, мы ждем, совершится: но тогда, когда Запад
утомится в своей лжи, устанет в злобе и приползет к ногам им отвергнутого,
им презренного, им столько мученного* Востока.
III
«Примирение»... он говорит, и кому же? церкви! и о чем? о том, что верно не по
маловажным причинам вот уже тысячелетие не примирено. Малодушный, и
слепой, и лживый человек: пусть он в своем маленьком раздражении, в ссоре,
вчера начавшейся, помирится со мною. Пусть напишет в ответ на статью эту -
проникнутую миром, спокойствием, любовью и прощением к тому, что в ней
ему непонятно. Но я уверен, и умирая он не простит мне ее, и я не простил бы
ему, если б в самом деле был к нему исполнен злобы, - но не к нему, в моих
глазах только жалкому слепцу, я исполнен презрения, однако есть вещи, которых
и я умирая не прощу и не хочу простить - это равнодушия к истине, которого
выражением служит хотя бы орган, в котором он участвует. Итак, если оба мы
с некоторыми вещами не примирены, и примирение считали бы отступниче-
ством от чего-то лучшего, нежели только мир; не ясно ли, что есть это лучшее и
для великих исторических организмов, как церковь, которые, тысячелетие дви-
гаясь бок о бок, не сливаются, не единятся - не потому вовсе, что не знают, что
«единение хорошо», а потому, что знают, что есть его лучшее, и это лучшее им
вверено, и они его должны донести до конца, не растеряв.
IV
В книге «Национальный вопрос в России» им это примирение пропаганди-
руется; с неутолимым раздражением, которое было бы отвратительно, если
бы даже и не было так мелочно, он набрасывается на все партии, на память
всех замечательных людей, в которых этому примирению предполагает ви-
* Самое любопытное в истории отношений Восточной и Западной церквей есть то, что
первая никогда собственно не боролась, не умела этого (и, мы глубоко убеждены, не должна
уметь - не для этого она на земле). Так что требование открыть свободу западной пропа-
ганды, напр. у нас, есть собственно требование повалиться перед наступающим врагом.
Православная церковь не хочет враждовать и спорить, наконец, - считает себя неспособ-
ною к этому (мы думаем - не имеет для этого исторических и мистических в себе задатков);
по крайней мере, способ защиты ведь не могут же оспаривать у нее наступающие: она и
избирает себе соответственный - не слушание. Она просто хочет молиться, и, конечно,
вправе пожелать, чтобы ей в этом не мешали, а внешние ее стражи вправе не допускать
«богословов», которые хотели бы войти в храм, и, уставив его кафедрами, начать словоп-
рения. Не время и не место - у нас и теперь - для этого: дьякон читает ектению, народ
«миром» молится, скоро запоют Херувимскую песнь: к чему споры, и для чего, о чем?..
Одно желание, к одному’ усилие есть у верующей в себя церкви: чтобы горяча была ее
молитва, и чтобы там, за стенами храма, она как бы продолжалась, не остывала, теплилась,
трансформируясь в каждом месте и времени, сообразно вещам, к которым применяется, но
не в смысле и духе своем, а лишь в образе применения. Полнота и живость церковной
жизни, вот что остается для нее одно при вере уже в истинность.
264
деть отпор. Сам он, ему кажется, является в нашей истории четвертым после-
Гостомысла, Владимира св. и Петра*: первый призвал Русь отречься от свое-
го хаоса и призвать правителей из-за моря, второй - отрекся от язычества,
* «Наша история представляет два великие, истинно патриотические подвига:
призвание варягов и реформу Петра Великого. Я не говорю о принятии христианства
при Владимире Св., потому что вижу в этом событии не столько подвиг национально-
го духа, сколько прямое действие благодати и Промысла Божия. Однако и здесь зас-
луживает замечания, что Владимир и его дружина не боялись принять новую веру от
своих национальных врагов, с которыми они были в открытой войне»...
«Склонность к розни и междоусобиям, неспособность к единству, порядку и орга-
низации были всегда отличительным свойством славянского племени. Родоначальники
нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли,
что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у себя дома никаких
элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчи-
ниться чужой власти. По-видимаму, эти люди, призывая чужую власть, отрекались от
своей родной земли, - на самом деле они создавали Россию, начинали русскую историю.
Великое слово народного самосознания и самоотречения: земля наша etc... было твор-
ческим словам, впервые проявившим историческую силу русского народа и создав-
шим русское государство... Нас постигло бы без этого» и т. д. и т. д., но «мы были
спасены от гибели национальным самоотречением» (стр. 33-34).
«Россия XVI века... нуждалась во внешней цивилизации и в душевном просвеще-
нии. И вот, как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением свое-
го, как теперь» и т. д. «И тут опять должен был проявиться у нас истинный патрио-
тизм - бесстрашная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в
Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народ-
ного самолюбия» и т. д., «но Петр верил в Россию и не боялся за нее. Он верил, что
европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности и только даст
ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не
видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творче-
ства, могло явиться только благодаря Петровской реформе; без этой реформы» и т. д.,
и т. д.; в заключение: «реформа Петра Великого была в высшей степени оригинальна
(его курс.) именно этим смелым отречением... этим благородным решением... по-
рвать с прошедшим народа ради народной будущности» (стр. 36-37).
«Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в призвании варя-
гов создало русское государство; не национальное самолюбие, а национальное само-
отречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные сред-
ства, необходимые для совершения его всемирно-исторической задачи. И неужели,
приступая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути само-
отречения... Ведь плоды нашего национализма только в церковном расколе с русским
Иисусом и осьмиконечным крестом (какой взгляд на раскол, после всего, что о нем
написано!). Л плоды нашего национального самоотречения (в способности к которо-
му и заключается наша истинная самобытность) - эти плоды налицо: во-первых,
наша государственная сила и, во-вторых, наше просвещение»... Но «окончательно и
безусловно ценного ни там, ни здесь еще нет: и государственность, и мирское просве-
щение суть только средства. Мы верим, что Россия имеет в мире религиозную задачу.
В этом ее настоящее дело, к которому она подготовлялась и развитием своей государ-
ственности, и развитием своего сознания, и если для этих подготовительных мирских
дел нужен был нравственный подвиг национального самоотречения, тем более он
нужен для нашего окончательного духовного дела» (стр. 39-40). Влад. Соловьёв.
Национальный вопрос в России. СПб., 1891 г.).
265
чтобы покорить народ свой чужеземной вере, третий — чтобы покорить его
чужеземным формам быта, сложения. И, наконец, на наших глазах, и опять
Владимир, но только еще не канонизированный, зовет ее совершить новый
несравненно высший акт отречения
- от веры своей истинной, от древней церкви*. Его роль ему кажется
более высокой, чем трех его предшественников**: он вспоминает великого
еврейского законодателя, - и слова, которыми тот заключил свой закон, страш-
ная клятва, которою он заклял народ до конца сохранять этому закону вер-
ность, он повторяет, не в конце только, но перед изложением своей доктрины:
«...По своему историческому положению и по национальному характе-
ру и миросозерцанию Россия должна сделать почин в этой новой положи-
тельной реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность -
мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной,
ни в народной жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй
воле. Одно только мы знаем наверное***', если Россия не исполнит своего
нравственного долга, если она не отречется, если она не откажется... если она
не возжелает и т. д.
«Призываю ныне во свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил
я ныне пред лицом вашим - благословение и проклятие; избери же жизнь,
да живешь ты и семя твое». Второз. XXX, 19***♦ (Предисловие к «Наци-
ей. вопросу в России», стр. IX).
* Восстановление единства и согласия христианской церкви, положительная
духовная реформа - вот наша главная нужда, столь же настоятельная, но гораздо
более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега, или
нужда в образовании и гражданской реформе во времена Петра Великого... Призва-
ние варягов дало нам государственную дружину. Реформа Петра Великого, выде-
лившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину
учителей и руководителей в области мирского просвещения. Та великая духовная
реформа, которую мы желаем и предвидим (воссоединение церквей), должна дать
нам церковную дружину... духовных учителей и руководителей церковной жизни,
истинных показателей пути, которых желает, которых ищет наш народ... И как те
два первые дела - введение государственного порядка и введение образованности -
могли совершиться только через отречение... так и теперь для духовного обновле-
ния России необходимо отречение»... (там же, стр. 41-42).
*♦ «Мы воспользовались чужими силами в области государственной (т. е. при
Рюрике) и гражданской (при Петре Великом) культуры. Но для христианского наро-
да внешняя мирская культура может дать только цвет, а не плод его жизни; этот
последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей - духовной или
религиозной культурой, в которой мы остаемся доселе совершенно бесплодны» (там
же, стр. 42; курсивы принадлежат г. Вл. Соловьёву) и должны быть оплодотворены
через воздействие на нас католической церкви.
♦♦♦ Курсивы принадлежат Вл. Соловьёву.
♦♦♦♦ Этими словами оканчивается пятая и последняя между книгами Моисеевы-
ми, получившая название свое от изложенных в ней постановлений, обнявших жизнь
еврейского народа во всех подробностях религиозного, гражданского, экономическо-
го быта и действительно способных стать законом жизни.
266
Совсем Моисей... недостает только Синая; недостает сияния около голо-
вы, или, быть может, оно чудится? И чудится, кажется, дивящийся на пророка
своего народ, благоговейно слушающий его слова, и не теперь-завтра имею-
щий принять их как высший руководительный принцип в выборе для себя
исторических путей.
Все остальное - хлопоты «пророка» около «своего народа». Мы делаем-
ся свидетелями, как во всеуслышание утверждается*, что инквизиция заро-
дилась на Востоке, и подразумевается, что это он, мрачный, гнусный, пере-
дал это адское свое изобретение католическому Западу, который без него,
быть может, пребыл бы кроток и милосерд к заблуждающимся в вере. Уни-
верситеты и академии изумлены открытием, печатаются древние тексты;
филологи толкуют название учреждения; требуются справки в Thesaurus
linguae graecae**; и, наконец, все удостоверяются, что что-то в этом роде
если и не было, то почти было, или хотело, или могло быть если и не в этом, то
в том веке, но действительно на Востоке, среди православной церкви, кото-
рая в споре все-таки пошатнулась немного в предполагавшейся всегда чисто-
те ее от этого гнусного учреждения католической церкви. Наша местная цер-
ковь, к печали всех истинных ее сынов, вот уже два века лишена внешней
свободы жизни, - конечно, временно, конечно, к испытанию только нашего
терпения, но тот же «пророк» отыскивает в «Камне веры» Стефана Яворско-
го несколько строк, и умолчав, что они навеяны были с Запада и чуть ли не
прямо взяты из какого-нибудь католического богослова, говорит, что они
оправдывают лишение церкви прежней свободы и ограничение ее во внеш-
нем устроении и жизни светскою властью***. Умалчивается о всем колос-
* В одном из заседаний «Московского психологического общества» за про-
шлый год, вызвавших столь бурную и памятную полемику в нашей литературе.
*♦ Сокровищница греческого языка (лат.).
*♦* «...И что же, едва успел Стефан Яворский в своем богословском трактате с
такою решительностью присвоить церкви два меча (т. е. силы нравственной и власти
гражданской), как уже должен был отдать их оба в руки мирского начальника. Из
блюстителей праздного престола патриаршего он волей-неволей делается бесправ-
ным председателем учрежденной Петром Великим духовной коллегии, в которой
наше церковное правительство явилось как отрасль государственного управления
под верховною властью государя - крайнего судии сей коллегии, и под непосред-
ственным начальством особенного государственного сановника - из офицеров добро-
го человека, кто б имел смелость и мог управление синодского дела знать. Беспри-
страстный и внимательный взгляд на исторические обстоятельства, предшествовав-
шие учреждению синода и сопровождавшие его, не только удержит нас от несправед-
ливых укоров великой тени преобразователя, но и заставит нас признать в сказанном
учреждении одно из доказательств той провиденциальной мудрости, которая никогда
не изменяла Петру Великому в важных случаях. Упразднение патриаршества и уста-
новление синода было делом не только необходимым в данную минуту, но и положи-
тельно полезным для будущего России. Оно было необходимо, потому что наш иерар-
хический абсолютизм, искусственно возбужденный юго-западными влияниями (отче-
го нс сказать прямо: «католическими»), обнаружил вполне ясно свою несостоятель-
ность», и т. д. См. «Национальный вопрос в России», ч. II, стр. 20.
267
сальном, что режет глаза, как иезуитский орден, как кровожадный парад при
сожжении еретиков; умалчивается история и поднимается вихрь слов*, слов,
слов, которые ведь могут же, наконец, заслонить от современников, столь за-
бывчивых, столь легкомысленных, действительность, и, как бы гипнотизировав
их, в самом деле заставить думать, что и пророк, и Синай, и скрижали - вот они:
ему остается встать и пойти.
V
И никогда, никогда правдивое зеркало не показало ему истину; не показало
обтянутых лайкою ног, которым, конечно, не идти в пустыню; не показало
немощных рук; ни червя зависти, гнева, мелочной злобы, который точит
сердце; ни, наконец, ума, который так мало, так слепо, так жалко понял
даже то, что нужно было бы ему говорить, если бы в самом деле он был
тот, кем кажется себе. Бедный танцор из кордебалета, пытающийся взойти
на пылающий огнем Синай; жалкий тапёр на разбитых клавишах, думаю-
щий удивить мир мелодией игры своей; человек тысячи крошечных спо-
собностей без всякой черты в себе гения; слепец, ушедший в букву стра-
ницы, не разумеющий смысла читаемых книг**, книг собственных, нако-
* Вот пример, как г. Вл. Соловьёв обходит ему неприятную истину: приведя
слова мои (из ст. «Свобода и вера»): «Не более, чем в протестантстве, есть веры и в
католичестве: иезуит, во имя Христа хватающий протестантского младенца и, читая
молитву крещения, обваривающий его кипятком, дабы он не остался жив, не вернул-
ся к родителям и не стал в ряды колеблющих камень Петра - это исступление неужели
вера», - он, не отрицая поразительного факта, практиковавшегося в знаменитом ор-
дене, оговаривает: «Обваривать младенцев кипятком не есть правило (как будто это
я утверждал, и между тем отрицательная частица не уже внедряется в ум читателя и
затемняет, не отвергая, факт) католической церкви (как будто о ней всей я говорил).
Это несколько напоминает правило, содержащееся в курсах нравственного богосло-
вия иезуитов: «Если ты убил человека и на суде тебя спрашивают об этом под прися-
гою, ты можешь сказать - нет, не убивал, добавляя мысленно: до его рождения
(reservatio mentalis - умственная оговорка). «И Бог, видящий тайное», по мнению
иезуитов, не предаст убийцу «явному» суду.
♦* Вся критика его (см. «Национальный вопрос в России») есть собственно не
критика взгляда, теории в их центре или основании, но - какой-нибудь мелочной,
побочной черты, вырванной страницы, неудачного выражения, неверно приведенно-
го факта, и в этих узких границах критика остроумная, живая или, по крайней мере,
язвительная. Так разбирает он Киреевского, Хомякова, Данилевского, и незнакомый с
их трудами, читая эту критику, не мог бы составить даже приблизительного понятия
о том, что собственно критикуется, в чем состоит опровергаемый взгляд. Так по
вопросу о культурно-исторических типах собственно является один вопрос: как же,
если типы эти непроницаемы, отнестись к некоторым абсолютным идеям (как христи-
анство, или в другой сфере - геометрия) - опровергнуть ли их, сохраняя эту непро-
ницаемость, или сохранить эти идеи и тогда опровергнуть их непроницаемость? И,
далее, в каком объеме принимать эти идеи, и, след., суживать содержимость самых
типов? Между тем он заговорил о этнографической группировке народов у Данилев-
ского, и т. под. вещах, не относящихся к делу. В возражении на статью мою «Свобода
268
нец*, и он - в роли вождя народа, с бесстыдными словами, какими-то закли-
наниями, - было ли в истории, не нашей, но чьей-нибудь, явление столь жал-
кое, смешное, и, наконец, унизительное, унизительное не для него уже, но для
человеческого достоинства.
Никем не было, кажется, замечено, что коренная особенность публициста-
богослова-философа-поэта и т. д. и т. д. есть именно неспособность: неспособ-
ность стать чем-нибудь и даже, просто, стоять на собственных ногах; вот почему
он то падает на плечи славянофилов, пока они есть; умирают их видные столпы
- он падает на плечи западников; есть «Русь» - он в «Руси»; нет «Руси» - он в
«Вестнике Европы», не по недоразумению, но с истинным влечением, как дере-
во без корня, которое вечно к кому-нибудь клонится. С Достоевским он едет в
Оптину пустынь**; некому везти его в Оптину - он слушает, не зовет ли кто в
Загреб (кажется), в Париж, куда-нибудь. Ему нужно, чтобы его держали, он ре-
шительно не стоит. Он думал заняться философией, но для этого нужно, по край-
ней мере, уметь сидеть за письменным столом, а между тем ноги его куда-то
неудержимо бегут; он думал - бегут на Синай, но вот подвернулся публицист,
которого нужно «казнить»***, и он, обмакнув перо в чернильницу, пишет ост-
роумный памфлет, которому завидует «Стрекоза». Синай, однако, не забыт, Си-
най тревожит его сердце: и вот, не выпуская пера памфлетиста, он им пишет...
что? памфлет? мессианские прозрения? Но что-то, во всяком случае, любопыт-
ное**** для прочтения, и пресса шумит, книгопродавцы хватают его книги, а он,
бедный, думает, что это все... Бедный слепорожденный, который болезненный
блеск в своем глазе принял за свет солнца, о котором ему говорят, он слышит, и
хотел бы видеть его; но этого ему не суждено...
и вера» он, между строками, и без нужды для себя, соглашается с двумя ее исходными
точками («положим так: поскольку дело идет о свободе исповедания и проповедания,
само собою понятно, что кому нечего исповедывать и проповедывать, тот и в свобо-
де для этого не нуждается», «Вести. Евр.», февр., стр. 910; «что всякий человек
должен защищает и естественно защищать истину, в которую верит - это само
собою разумеется, об этом нет вопроса и спора», там же, стр. 916), не замечая, что
остальное все уже implicite здесь содержится, и против него бесполезно спорить.
* Замечательно, что книги его не только не отвечают цели своей, но иногда ей
противодействуют: так, ища соединения церквей, конечно, нужно было примирять
разделенных, объяснять их взаимные недостатки, указывать общие им черты, и ни в
каком случае пристрастием и односторонностью критики нс раздражать которой-
нибудь одной стороны. Между тем в «Национальном вопросе», с утонченною изощ-
ренностью выискав все, в чем можно было оскорбить Восток, Россию, православие,
он не обмолвился ни одним упреком по отношению к Западу, католичеству, и вот
почему, насколько его деятельность влиятельна, насколько его книги читаются, мира
в сердцах стало менее, чем до его писаний, и самое соединение церквей - далее от
возможности теперь, чем когда-нибудь.
♦♦ В 1879 г.; см.: «Биография и письма Ф. М. Достоевского» в «Сочинениях»
изд. 1882 г.
♦♦♦ См. исполненные игривого остроумия статьи о Щеглове (в «Вести. Евр.»),
Лссевиче (в «Вопросах Философии и Психологии»), были, кажется, еще другие.
**** «Национальный вопрос в России» - книга, о которой читатель может соста-
вить представление по обширным, сделанным из нее, выдержкам.
269
VI
Пытаясь выразить в каком-нибудь термине сущность вещей, Аристотель
создал сложное выражение для этого, в точных терминах своих неперево-
димое: тд xi rjv dvai*. Это - идея вещи, ее вечное, неразрушающееся поня-
тие, как мы догадываемся; но, по более точному переводу, просто - «то,
что вещь делает именно тем, что она есть»: и действительно, это есть са-
мое общее понятие о сущности. Есть, однако, вещи как бы недоделанные,
не сформировавшиеся еще, неясные в себе, и к ним неприменимо это
выражение; есть и люди, тенью проходящие в истории, к которым прило-
жить этот термин мы не могли бы. Г-н Соловьёв есть человек без то т( гр»
eivat - вот глубочайшее его определение и вместе объяснение всего его
характера и, наконец, самой судьбы, насколько она совершилась уже. Нет
центра в нем, неудержимо формирующего внешние черты его образа,
деятельности**, нет координирующего центра, который управлял бы дви-
жениями его тела; и вот почему ловкость рук его удивительна, быстрота
ног внушает страх, все движется, и, однако, так, что, сторонясь, мы спра-
шиваем: не паралитик ли? Все действия его не отвечают целям, ради кото-
рых он ясно совершает их; устройство способностей его - задачам, за ко-
торые он берется***; все - расстроено, хотя и шумно, деятельно, для ску-
чающих - ярко, значительно, во всяком случае любопытно. В нем есть
onoid****, естьархл KxvqoEtog*****; он пытался найтитд т£Ход******т
но нет то ri eivat, и - вот он весь, со всеми своими талантами и всею
немощью.
* бытие тем, что было (греч.).
** Читатель может сказать, что религиозность есть все-таки господствую-
щая черта всех его трудов; но мы ограничим это, заметив, что к религиозному он
постоянно тяготеет не в ином смысле, чем как и дерево без корня падает всегда к земле. Но
это - вопрос сложный, который можно было бы разъяснить, лишь сделав из него
новые обширные выдержки.
♦♦♦ Недостаток созерцательности, чрезмерное преобладание волевого нача-
ла над рефлексией делает его всего менее философом; а раздраженное, мелочное сер-
дце и способность к сарказму мешает быть богословом. По характеру ума он есть
собственно казуист, по влечению -- литератор; слово занимает его всегда более, чем
дело, и даже в собственных средствах оно чрезмерно преобладает над мыслью. И
между тем некоторая благородная тоска влечет его к великим задачам, его воображе-
ние рисует образы, из этой тоски вытекающие, но в высшей степени не отвечающие
его средствам. Едва ли, когда весь его путь будет пройден, о нем не придется сказать:
вот человек, который испортил так много прекрасных начинаний, и время бы уже
приступать к ним, но кто же теперь, после него, за них возьмется?
Сущность (греч.).
Начало движения (греч.).
Результат (греч.).
270
VII
Конечно, немощный в главном, при тысяче способностей к подробностям, он
прежде всего ошибся в определении смысла времени, в которое по воле судь-
бы брошен рождением и должен бы потонуть в его забвении, но множеством
второстепенных своих даров поднялся над этим забвением. Куда плыть, что
делать, когда руки машут?.. И вот, среди множества точек зрения на родную
историю, он понял только одну, что в ней не однажды совершались отрече-
ния, и повторил механично: «отречемся еще»; в Евангелии прочел: «возлюби
ближнего» и, протягивая перед собой руку, безжизненно указал: «возлюби
того, кто рядом с тобой»; и, наконец, слыша, как отовсюду ломятся стены
родного здания, стал призывать: «разломим, сокрушим». Он думал, в этом он
понял историю. И в самом деле, ведь те факты указал он, которые были; за
святыми словами последовал; и наконец, ответил какому-то неясному движе-
нию истории.
Ответил, повторил, указал, ничего не связав живою мыслью. Ему непо-
нятно, почему бы с Евангелием нельзя было обращаться, как с геометрией,
откуда какое бы положение мы ни взяли, можно быть уверенным, что не
найдется никакого, с которым бы оно стало в противоречие. Великий экзегет,
не без «черт оригеновского мышления»*, не заметил, что ведь геометрия
есть ряд утверждений, к одному относящихся, в одной тесной сфере движу-
щихся, в одну сторону направленных; и противоречие здесь было бы отрица-
нием, саморазрушением. Но этого саморазрушения нет в противоречиях
живого, и особенно когда это живое есть семя, из которого подымется произ-
растание веков и веков. Их все, в необъятной их судьбе, в падениях и возвыше-
ниях, в грехе и просветлении, нужно было укрепить - прощением в одном
случае, угрозою в другом, милосердием как и гневом. Какое же слово, засунув
слепо руку»мы вытащим, чтобы на нем основать судьбу человека, искусствен-
но построив ее на этом одном слове бескровною мыслью? «Блаженны ни-
щие», но разве Иов уже не блажен? не блажен Давид? «Блаженны кроткие»,
но что же, разве уже прокляты Илия и Елисей? «Блаженны творящие мир», -
но с кем, и с фарисеями? Для живых Евангелие было принесено, а не для
мертвых: для живого руководства его цельным смыслом, в скорби и в радости,
в возвышении и падении, всегда, когда сердце открыто, для всякого, кто умеет
это сердце открыть. У кого же оно глухо, замкнуто, что может костлявая его
рука вытащить оттуда, и, на вытащенном построив, успокоиться, что постро-
енное вечно по данному обетованию и праведно по основанию. Нет, оно мо-
жет быть и преступно, может стать временно, как это мы видели в XIV и
XV веках, и видим плоды этого в XVIII и XIX. Видим в Новозаветной истории
* «Тщетно было бы искать приемов его мышления в современной логике; чтобы
найти их, недостаточно даже обратиться от логики Милля к логике Гегеля: надо вер-
нуться для этого к логике Оригена Александрийского». П. Милюков: «Разложение
славянофильства», в «Вопросах Философи и и Психологии», 1893 г., май, стр. 87.
271
повторение Ветхозаветной, где ведь так же слова святого закона были соблюде-
ны, и только потерян его дух, смысл, который не в части обитает, не в строке, не
в тексте, но в том, что из всех строк, со всех страниц, из образов, поучений,
угроз, обетований веет жизнью вечною, «хлебом животным...».
VIII
«Родная страна полна отрицания»... о, мертвые слова, о, недостаток живого
смысла: но не полна ли она также и утверждения, и из живого, что видела
история, было ли что-нибудь, что говорило только бедное «да, да», и если оно
мешало «да» с «нет», разве можно заключать, что оно вечно должно повто-
рять «нет». Не вся ли Русь в церкви? Вне ее стен, чтт же останется:
Гром победы раздавайся...
и с этим, с этим ей предлагается остаться, отказавшись* от древней веры?
Мертвый человек, захотевший вынуть душу из своего народа и надписыва-
ющий:
«Жизнь и смерть положил ныне перед лицом твоим, благословение и
проклятие. Избери же жизнь, да живешь ты и семя твое».
О, конечно, «смерть положил», и проклинай, и проклинай народ свой,
но и отходи же в сторону с путей его.
Ни в один из великих отрицательных моментов истории Россия не отри-
цалась своего я, души своей; но только сбрасывала одеяние, становившееся
ветхим, неудобным более, не отвечающим своей цели, - иногда, как это было
при Петре I, не отвечавшим тысяче мелких дел, которые, однако, нужно было
совершить, чтобы не погибнуть от сил, чисто стихийных и грубых**. Но вот,
не различая, что тело и болит, и что платье и рвется, ей предлагается теперь
отречься от этой души. Человек, которого вся сущность состоит в отсутствии
сердцевины, корня, и в своей родине не отличил этой сердцевины от наруж-
ной кожуры, и как, в самом деле, им задуманный «подвиг» отвечает этим
указанным особенностям его индивидуального бытия. Без координирующе-
го центра движений, слов в себе, он не увидел его и в истории; лишь палка,
* Из приведенных выше выдержек, а также и из отсутствия каких-либо упреков
католицизму, при обилии упреков православию, можно видеть, что г. Соловьёв вовсе
не соединения церквей ищет, на основании очищения той и другой стороны отложно-
го в себе, или недостаточного; но - подчинения России Риму, с простым отречением ее
от православия (см. аналогии с делом Рюрика, Владимира св., Петра Великого, при-
чем в этих аналогиях, православие уподобляется хаосу, язычеству, невежеству, кото-
рое прямо уничтожалось, а нс примирялось с противоположным).
** Т. е. по отношению к России; мы разумеем внешнее завоевание, которому, не
усвоив некоторых технических подробностей (армия, флот), Россия могла бы подвер-
гнуться с запада.
272
бросаемая из рук* в руки, он подумал, что и тысячелетний многомиллион-
ный народ может стать бросаемою вещью: его забота найти, кто взял бы это
на себя, и, ему кажется, он нашел лучшего, самого сильного. И представить
только нашу деревню с латинским ксендзом; наших баб, беременных, с груд-
ными младенцами, которые уже не внесут в церковь этих младенцев, потому
что там их незачем вносить; да и не пойдут они в церковь, где им не прочтут
Евангелия, где они не поймут и не повторят в душе своей умилительных пес-
нопений, не помолятся с диаконом своим «миром» - «о благосостоянии
святых Божиих церквей», «о граде сем и всяком граде», «о мире всего мира».
И, уж если нужно произносить проклятия, проклята будет земля наша в тот
день и час, когда она откажется от этой святыни, которою жила тысячелетие,
просвящена была ею, согрета, утешена, и надругавшись над гробами отцов,
побежит за обманывающею и нищенскою рукою, которая, не имея у себя
ничего, манит ее обещанием, что что-то будто может дать ей. Бесстыдная и
лукавая красавица, все имеющая, «кроме чести», конечно, она не соблазнит
нашего пахаря, у которого, быть может, и ничего нет, да и не нужно ему, он
спокоен, потому что с ним его совесть, она не растеряна в истории, не прода-
на за золото**, не отдана ради чести блуда с сильными мира сего***, никого
не соблазняла, но и ни о ком не соблазнилась.
IX
Есть представление о народе нашем, как исключительно мягком, «терпимом»,
неспособном и, в видах ему навязанной репутации, уже как будто и бесправ-
ном в самозащите... Так понимает его, этого требует от него и г-н Вл. Соловь-
ёв, и иные, с ним единомышленные. Им бы эта «терпимость» нужна, по край-
ней мере, на время. Они не заметили в нем иных, суровых и строгих, черт; и
между тем именно они в нем главное. Их обманул двухвековой карнавал на-
шей истории; настал его последний день и они требуют веселья нестерпимо-
го, огней, вина, наконец, блуда, и, если возможно, в неслыханных формах. Им
* В сущности, даже с мыслью своею о соединении церквей через отречение от
православия, г. Вл. Соловьев является лишь неумелым, ограниченным толкователем
идеи о «всемирной гармонии человечества через посредство русского народа», кото-
рую высказал покойный Достоевский на Пушкинском празднике. Но ведь Достоевс-
кий разумел именно православие в русском народе, через которое и о котором спа-
сутся все народы (и мы так ожидаем), а не отречение от этого самого православия, и
массовое, физическое соединение с чуждой идеей, верой, или кругом идей. Г-н Соло-
вьёв понял... даже не мысль, а скорее только предчувствие Достоевского, как казуист
римского права понял бы поэзию Пушкина: он ее извратил, высказал ей обратное по
смыслу, повторяя ее букву.
♦ ♦ «Ватикан - это рынок, на котором все можно купить», - определяли в Герма-
нии XV-XVI вв.
♦♦♦ Союз с растленными европейскими дворами в XVII-XVIII вв. против наро-
дов, их свободы, просвещения, благосостояния.
273
кажется, «возможно»... Еще день не кончился, их день... последний день, и вот
что в безмерном упоении они не хотят сознать, не чувствуют. Между тем в
запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются чер-
ными, на место одних книг приготовляются другие, главные. Еще все молчит;
неситесь в веселии своем буйном по улицам, доедайте последний блин, и, если
нужно, засыпайте. Но народ, - ударит протяжный колокол, и он необозримыми
толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой... Новая эпоха,
новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила, если бы, наконец,
сгинула с глаз эта улица, эти маски, вино, красавицы, и все, все, за что цепляются
только немногие мертвые руки, несколько не сытых еще желудков, неутоленных
позывов.
X
И неужели, хоть робко сказать несколько слов о могущем наступить завтраш-
нем дне-значит преступить что-то, сделать нестерпимое?.. Почему думает г-н
Вл. Соловьёв, что все жаждут с ним еще вакханалии и вакханалии. Для многих -
ее довольно; довольно для меня и, как всякий, я хочу сказать то, что хочу...
Голос мой слаб, и время для него еще не наступило; и не делаю я то, что будет
сделано, что может быть сделано завтра. Но ведь и статья моя «Свобода и вера»
не призыв, не удар в колокол, а только жест презрения невольного к тому, что и
многим гадко... И вот, я повторяю его, указываю еще на «пошатывающегося»;
что же, вступить ли мне с ним в брань? к чему? Это так в его вкусах, и вовсе—не
в моих. Достаточно понять, определить, самое большее - выговорить в слух
определенное. Что может он мне сделать, его брань? Там, куда я иду, он никогда
не будет выслушан; там, куда он идет, я не хочу быть выслушанным.
Спор наш кончен, да, в сущности, он и не завязывался.
ЧТО ПРОТИВ ПРИНЦИПА
ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ НАШЛИСЬ
ВОЗРАЗИТЬ ЗАЩИТНИКИ СВОБОДЫ
ХАОТИЧЕСКОЙ?
Я не удивился, прочтя в апрельской книжке «Русского Обозрения», в унисон
запевшего с «Вестником Европы» строки о свободе*; в век, когда есть лишь
степени безверия - свобода верующая так мало может быть понятна; в эпоху,
доканчивающую ей предназначенную миссию разрушения - так непонятен
труд, созидание, утверждение. И вот, неживой консерватизм протягивает руку
♦ Л. Тихомиров. «Существует ли свобода?». Автор, в течение долгого времени
ведущий на страницах «Русского Обозрения» полемику против «Вестника Европы»
и, в частности, против г. Вл. Соловьева, в статье, против меня направленной, протяги-
вает ему руку; как и г. Вл.Соловьев, опровергая меня, ссылается в одном месте на его
авторитет г. Тихомиров.
274
мертвому либерализму; им кажется - творчество могло бы помешать их деба-
тированию; их призывают к вере, когда они хотели бы рассуждать; они вспоми-
нают перья на шляпе маркиза Позы, зовут тень Гамлета, - они, худосочные
питомцы тех праздных, но поэтических вымыслов. Что церковь, что история,
что вдали веков пролитая кровь мучеников, и еще за ними - совершившаяся
тайна Искупления; перед ними подмостки, красивый актер, - и неужели пре-
рвав его речь, не дослушать волны чарующих звуков, которые идут от него,
десятилетия их слушают, и неужели теперь, сегодня, встать и куда-то пойти, -
быть может, на сырость, холод, мрак; ведь так удобно в этих покойных хоромах,
среди этого света, теплоты, плечом к плечу в рядах благоговейных слушателей...
I
Мне хочется, ввиду совершившегося унисона, расчленить звуки каждого и взве-
сить их тяжесть. Я этого не сделал, отвечая г-ну Вл. Соловьёву, ввиду почти отсут-
ствия у него каких-либо возражений по существу вопроса; теперь попытаюсь
собрать крохи его умствований, и пусть оценка их принадлежит читателю.
Против утверждения моего, что свобода без отношения к достигаемому
объекту, без веры в выполняемое назначение, хаотична, бессмысленна и для
всякого человека не нужна, «безвкусна», он, как бы не чувствуя указываемо-
го в ней момента веры, говорит, что и вне этой веры, лишь в разрушительных
целях, она нужна и сладостна для человека. Он сравнивает ее с «воздухом,
который всегда и всюду нужен»*; но ведь для живого нужен он, для легких,
которые его тянут в себя, и не нужен разлагающемуся трупу, неподвижной
труди, не нужен ничего с силою не утверждающему индифферентизму; а для
веры - я же для нее требую свободы, во имя этой ее веры, в границах ее
утверждения. Воздух для недышащего есть только момент скорейшего разло-
жения; его удаляют от трупа, когда последний хотят сохранить; и неужели,
неужели в странах преимущественной свободы, как западные, как Америка,
не видно и преимущественно быстрого разложения всяких остатков прежней
веры - религиозной, философской, политической? Везде и все великие исто-
рические организмы там умирают; и если момент умирания в них порожден
иссякновением в себя веры, быстрота этого умирания обусловлена избыт-
ком не вдыхаемого, не нужного и только заражаемого «воздуха».
Этот принцип так ясен и тверд, что, сбиваясь в словах, путаясь в мыслях,
мой противник, как только его формулирует, невольно впадает в согласие:
«Иудушка утверждает, что только вера имеет право на свободу; только пове-
рив, он говорит, я могу требовать некоторой свободы. Положим так: насколь-
ко дело идет о свободе исповедания и проповедания, само собою понятно,
что кому нечего исповедовать и проповедовать, тот и в свободе для этого
не нуждается»**. Он думает, факт проповеди, выражения словесного, фи-
* «Вестник Европы», февраль 1894 г., стр. 910.
♦♦Там же, гл. III возражения.
275
зического действия уже implicite* заключает в себе факт веры; но во что же была
вера, к какому делу были приставлены, что им нужно было, когда, видя идущего
мимо лысого пророка, мальчишки бежали за ним, ругаясь и издеваясь, и он
проклял их? В чем помешала Вольтеру Жанна д’Арк, что он написал на нее
памфлет? И не видим ли мы всюду праздных людей, которые в то время как
строители строят, кладут камень за камнем, - ходя около постройки, сбрасывают
за камнем камень, ибо день ясен, солнце печет, и зачем бы это здание, д ля кого и
с такими прочными стенами, массивными сводами? И так каждый безверный,
выполняя закон всякого существа-трудиться, не имея перед собою предмета
собственного труда, цели своего созидания, этою целью, этим предметом изби-
рает чужой труд и его разрушает: делом, и когда нельзя, пока нельзя - хоть сло-
вом, издевательством, доказательством ненужности данною труда.
И, забывая далее историю, не имея логики, мой критик продолжает: «Если,
однако, факт веры дает право на свободу, то, при множестве разных существу-
ющих вер, каждая из них будет иметь одинаковое право со всеми, что и называ-
ется веротерпимостью»**. Но кто же в верующей толпе скажет: «Есть много
разных существующих вер»; и апостолы, юная церковь Христова, идя в язы-
ческий мир, разве, останавливаясь перед капищем Юпитера, спрашивали: «Не
заглянуть ли туда, может быть Юпитер жив?» или крестоносцы, придя на Вос-
ток, спрашивали: «Не в самом ли деле был пророк Магомет?» и разве Бруно,
входя в смысл его осудивших, задавался вопросом: «Не правы ли они и я не
ошибся ли?». Нет, это были все, как они ни различны, люди веры, и у каждого
верующего есть одна вера, нет пантеона, куда он сносит со всего мира умер-
ших богов, чтобы всем им равно воздать курение и никому не отдать сердца.
Факт одной веры у всякого, кто живо ее ощущает, моему критику пред-
ставляется возможным лишь для дикаря; забывая, не понимая (безверный
сам), что не за «одну из многих возможных вер» страдали мученики, всходи-
ли на костер праведники науки, он говорит: «Это - закон, которому следовал
в своей жизни африканский дикарь, говоривший миссионеру: когда у меня
уведут жен и коров - это зло, а когда я уведу у другого - это добро»***. И ему
кажется, что «не иначе рассуждает всякий зверь и всякая птица»****. Факт,
совершаемый вне сознания добра и зла, он здесь не различает от веры испо-
ведуемой; ему кажется, истина в глазах каждого должна двоиться и троиться,
и, читая свой символ, всякий должен вплетать в него слова и всех других
символов: тогда речь будет обильна и правда где-нибудь уловлена. Конечно, и
вероятно даже, но тот, кто произносит такой символ, конечно, не верит ни в
который и равно разрушает все.
Ему кажется непонятным, чтобы как он свой, церковь не путала свой
символ с чужими; ее вера-для него непостижима, и мое утверждение, что в
♦ неявно, в скрытом виде (лат.).
Там же, гл. III.
♦♦♦ «Вести. Евр.», стр. 911.
♦♦♦♦ Там же.
276
церкви эта вера есть, ему представляется «клеветою»*. Как он, заглядывая во
все капища, колеблется между Спасителем, Гартманом, экономистами, так,
ему думается, и церковь к ним всем равно прислушивается, и самое большее,
что делает, что вправе делать - это склонять к одному внимание преимуще-
ственно перед другими. Чтобы их к «капищам» была у нее нетерпимость -
«этого мы еще ни от кого не слыхали, кроме Иудушки»**, «против этого сви-
детельствует даже Л. Тихомиров, заявляющий: конечно, терпимость есть пра-
вило самого православия». Он кротость, милосердие к греху смешивает с не-
ведением, что есть грех; и требует, чтобы церковь, болящая и страдающая о
грехе, пришла и разделила с ним любование на этот грех. «Простить» для него
есть непременно не поднять руки, удержать всякое к этому движение в себе;
но ведь и мать прощает дочь свою погибшую, - однако, предвидя ее гибель,
если б она отстранилась и стояла в стороне, лишь созерцала эту гибель, конеч-
но, она была бы для нее не мать, и даже менее, чем только посторонняя; после
греха и при раскаянии простить, слиться в слезах даже с преступником, вернув-
шимся к истине - это должна мать, к этому обязана и даже влечется своим
законом церковь; «сердца сокрушенного» не уничижит Бог, но уничижит не-
сокрушенное, смирит гордое даже и в грехе; так было; дурно, что не есть; так
будет; и этому должна следовать Богом руководимая церковь. Грех - то, в чем
все ее чада тонут, и церковь есть рука, из этого греха всех поднимающая. Удер-
живать ее руку, указать ей лишь созерцание - значит закон своего холодного,
индифферентного сердца странным образом принимать за закон Бога. И ни с
чем другим кроме как с грехом церковь не имеет соотношения; напрасны
усилия подсунуть ей таблицы мер и наказаний, сказать «не менее», указать-
«не далее»; и малое, и большое, и далекое, и близкое содержится в ней самой,
определяется ее нуждою спасать, чем, как - не мы, спасаемые***, ей укажем.
II
Понимая все формы религиозного сознания как искажения или недоразвития
до собственного, церковь не может допустить****, чтобы ее чада из полноты
возвращались к недостатку, из прямого становились кривым. Вера яркая, что-
бы становилась тусклой (протестантизм), истинная - ложною (католичество),
♦ «Иудушка клевещет на православную церковь» - так озаглавливает, в роли
ее защитника, четвертую главу возражения против «Свободы и веры» г. Вл. Соловьёв.
♦♦ «Вести. Евр.», стр. 912.
*♦* И не все, во что, помимо церкви, мы слагаемся как в союз. Древнейшая, чем
всякий союз, и по корням своим не связанная ни с каким, - не связанная ими в душе
каждого верующего, в ските уединенном, в монастыре - если она и стесняется иным
каким союзом, как бы ущемляется исторически, - конечно, это временно, не носит в
себе никакой необходимости, кроме, быть может, нравственной в отношении верую-
щих: как наказание за их слабоверие для укрепления их в вере.
♦♦♦♦ Мы возражаем на требования г. Вл. Соловьёва и говорим о нашей стране,
нашем православном народе.
277
что за странное усилие, к чему оно, к чему самый о нем вопрос - у верующе-
го? А кто не верует - уже не в церкви, и, в силу исторического отношения
вещей - не в том, что составляет ее часть, ею было согрето, выношено, взро-
щено: не в народе своем и не в стране. Не может Церковь верующая включать
в себя и то, что не есть верующее в нее; и как Восточная кафолическая цер-
ковь, наравне со многими другими странами и народами, объемлет и наш, -
всякий, кто из нее как целого вышел, вышел и из всякой ее части, народа,
страны, царства. Цельность, которую мы так понимаем в индивидууме, не
отвергаем совершенно в обществе неорганизованном и признаем вообще во
всяком союзе, - более, чем в каком-либо из них, есть в церкви. Она есть веч-
ный союз человека с Богом, только момент, в котором есть наша земная жизнь,
часть - и страна наша, и народ, его история, и по нитям которого тянется
жизнь каждого из нас, звуча совместно с другими в одном аккорде. Струна
порванная сбрасывается с инструмента и заменяется новою; пусть она еще
струна, и даже - две коротких с четырьмя концами: здесь и теперь она не
нужна, и кто в ней нуждается - пусть подберет ее, но отсюда она должна быть
сброшена. Есть совесть, есть грех, есть возмещающее страдание не для лица
только; разве эпоха не может быть преступна? народ, поколение разве не
терпит иногда за то, что совершено было иным поколением? Итак, молиться,
страдать, размышлять человек может не индивидуально только, но и в собира-
тельном множестве своих моментов, как струна звучать - не только одна, но и
в гармонии со множеством других. Смысл индивидуального существования
темен для каждого; яснее этот смысл для народа, и в нем каждый может отчет-
ливее понимать себя; окончательно ясен он в церкви, и в свете его могут
читать себя народы, в них - индивидуумы. Вне этого - темнота, ночь; книга с
перемешанными страницами, нестриженными, разбросанными. Кто хочет-
может собирать их, разгадывать; не к чему требовать внимания к себе других.
III
Но вот из этих струн некоторые хотели бы и не звучать, или звучать вне согла-
сия с другими, и вместе занимать между ними положение, отвечающее не
достоинству струны, но только издаваемого ею звука. К чему это, возможно
ли? какой нужде остальных струн, какой нужде благородной в самой замолк-
нувшей или дребезжащей струне может это отвечать? Не как физический
организм нужен я истории, и было бы унизительно для меня, бессмысленно
для нее, если бы было так; но как деятельность некоторая и внутренний ее
родник, моя душа - вот что нужно ей, и это как возвышает меня, так и осмыс-
ливает ее. Снять эту печать мысли с истории, достоинство с меня, - какая
нужда для меня, для кого-нибудь: мы все влечемся именно к этой гармонии,
этому слиянию в созвучии, а не к существованию бок о бок, один возле дру-
гого. И лишь физический протест нескольких обрывков, которым здесь и те-
перь, между звучащими, хотелось бы без звука или со звуком бессмыслен-
278
ным быть, - конечно, этот протест презрен и не может быть принят в какое-
либо внимание. Нам говорят о страдании, нам говорят о «свободе»: есть худ-
шее, чем оно - молчание, есть лучшее, чем она - мелодия. Кто, видя историю,
захотел бы «свободно» - смешать ее процессы и, смешав, этим смешением
остаться сыт? Конечно, мы все, весь род людской, этого не допустим: страдать
нам указал Бог, молчать может принудить только смерть. Мы все природою
своею благородною принуждены; мы подзаконны; и как подзаконный тес-
ный брак лучше блуда, мы этот блуд ему не предпочтем.
IV
Какое низкое понятие о счастьи - что оно в сытости, не очень большой уста-
лости и хаотической свободе заключено. Разве нельзя быть счастливым, и
гораздо выше, гораздо полнее, при абсолютной стесненности, когда знаешь,
что эта стесненность отвечает чему-то великому, нужна тому, что останется и
после меня вечно жить? Толпа разбежавшихся дезертиров, инструмент с по-
рванными струнами, огород с поломанным забором, куда идет каждый за
нужным себе овощем, неужели, неужели этим только живет человек, это одно,
будто бы, ему нужно, одно и выражает, и может удовлетворить его, - что же,
изнеможенную уже - природу? И неужели для этого только он на земле?
всегда для этого, как был прежде, так и останется? Но ведь ввиду каких-то
определенных звуков устраивался инструмент, для какой-то цели были собра-
ны разбежавшиеся теперь, и огород насаждался же кем-нибудь и для чего-
нибудь? Есть нудящая мысль в истории; ей можем ответить мы и в этом ответе
найти высшую для себя радость; если, однако, и не ответим - понудимся, но
уже как стадо, гонимое - куда, оно не знает само. Разве в самом хаосе, кото-
рый один мы почему-то любим, к нему одному влечемся, нет давно уже чего-
то принудительного для нас? Кто имеет силы в нем остановиться, как-нибудь
ему воспротивиться? Какое ожесточение на лицах всех при мысли, что этот
хаос может быть и не вечен, - он, который и на минуту так мало может истин-
но насытить кого-нибудь. Мы все давно не свободны - в безобразном; быть
несвободным в прекрасном - вот что кажется нам ужасно, и самая мысль об
этом - антиисторической, преступной.
Кроме указанных обрывков мысли, никаких еще аргументов против принци-
па творческой свободы г. Вл. Соловьёв не мог выставить. И, без сомнения, не
оттого, что он не хотел искать их, но потому, что тою долей философского
понимания, которой не лишен, он понял, до какой степени хаотическая свобо-
да действительно несовместима с верою, и между тем для этой последней
трудясь, он для нее трудился под покровом первой. Он чувствует, ему необхо-
димо отказаться от веры, удерживая свободу, или от свободы, называя себя
верующим. И вот, не имея в себе мужества философа, ни прямоты христиани-
279
на, он заминает, запутывает вопрос, и самое имя человека, который его под-
нял, усиливается похоронить под грязью ругательств*. Но, конечно, гораздо
ранее будет похоронен сам, нежели хоть йота истины, которая, из мрака неве-
дения выйдя к свету, хочет жить - перестанет жить.
V
Г-н Л. Тихомиров - его статья «Существует ли свобода» также направлена
против выясненного мною принципа - принадлежит к немногим ясным пи-
сателям, на которых, соглашаясь с ними или не соглашаясь, невольно отдыха-
ешь после того болезненного, конвульсивного, затуманенного бреда, какой
* Имя Иуды (им заменено всюду в его ответе мое имя), вероятно, кажется особенно
ужасающим моему противнику и, мы думаем, это не без связи с столь изменившимся
его отношением к славянофилам, Каткову, наконец, к самому православию. Мне это имя
только напомнило фазы его деятельности, и ничего не напомнило в собственной. Так
как, однако, его статья всем тоном своим старается внушить мысль, что я в чем-то иной
теперь, чем прежде, то вот слова мои о свободе и о церкви, высказанные в первом, мною
изданном, труде, восемь лет назад: «Конечная форма, к которой стремится религия,
определяется из следующих трех ее направлений: направления к истине, направления к
оживлению религиозного чувства и направления к полноте господства. И в самом деле,
кроме этих трех начал ни к чему другому не стремится религия, к ним же стремится
всюду и постоянно. Так, религия (но не служители ее, которые бывают несовершенны)
никогда не терпит в себе лжи; вся основанная на вере, она никогда не может ни действо-
вать, ни существовать с тайным сознанием ложности того, во имя чего действует и
существует; и все, что вносится в нее заблуждениями людей, раз будучи сознано, как
ошибочное, всегда уничтожается ею в себе. Далее, религия терпеливее переносит борь-
бу против себя, нежели равнодушие к себе, и это также не потому только, что равноду-
шие здесь опаснее ненависти, но и еще потому, что, чувствуя свое мировое и спасающее
значение, она еще может понять, как люди не сразу уразумевают смысл ее и потому’
ненавидят ее, но не может понять, как, и уразумев этот смысл, они еще могут оставаться
спокойными и свои маленькие дела предпочитать ее великому делу; не может прими-
риться с этим, потому что здесь лежит невозможность самого спасения, сознание, что
некого спасать и не для кого было приходить в мир. На этом же, на сознании своего
мирового и спасающего значения, основано и стремление религии к господству над
всеми людьми и над всеми сторонами их духа и жизни. По самой природе своей, религия
не может и не должна быть терпима, и та из них, которая уже не борется более,
которая успокоилась, полна тайного атеизма, сознанного или бессознательного. Как
тот, кто видит погибающего человека и не спасет его, есть бессердечный человек,
что бы ни говорил его язык; так религия, знающая, что есть хотя один еще не
спасенный ею человек и остающаяся равнодушною к этому, втайне уже думает, что
иное, а не она, спасает человека, или что нет никакого в действительности спасения,
о котором говорит она. И как бы могущественна, по-видимаму, ни была такая рели-
гия, «секира уже лежит при корне ее»; потому что атеизм не есть религия, но
только атеизм. Итак, религия истинная, всемирная и живая есть та конечная форма, к
которой естественно и необходимо стремится религиозное сознание всего человечества,
и на которой оно успокоится. См.: «О понимании; опыт исследования природы, границ
и внутреннего строения науки как цельного знания». Москва, 1886 г., стр. 618-619. Как
для всякого ясно, это те самые мысли, которые полнее и мотивированнее развиты в
статье «Свобода и вера». «Русс. В.», 1894, янв.
280
нанесли в нашу литературу «девятидесятники», еще ранее их «восьмидесят-
ники»*, и, кажется, едва ли не первый потянул к нам с запада г. Вл. Соловьёв со
своею смесью теургии, экономики, парламентаризма, папства**, и, кажется,
всего, что от золотых времен Сатурна и до наших грелось и играло под солн-
цем истории. После этой занимательной литературы, которой еще вчера не
было никаких симптомов и сегодня она наполняет все журналы, всю прессу,
также невольно и радостно отдыхаешь даже на каком-нибудь диковрущем
«шестидесятнике»***, как, выйдя из больницы на улицу, невольно с удоволь-
ствием останавливаешься на зрелище пьяного растерзанного человека после
того, как несколько часов видел изможденные фигуры, пытающиеся прогнив-
шим языком произносить молитвы и трясущеюся рукой положить на себя
крест... Странное понятие, что к религии имеют какое-нибудь отношение и
всякие больные о ней помыслы; что все есть философия, что очень нелепо; и
мистицизхм истинный - что не имеет для себя никакого объяснения и вообще
всякого raison d’etre**** для своего бытия. Это жалкое стадо, которое немно-
го лет назад было встречено так шумно и радостно, пока из-за пыли еще не
показалось голов, - теперь, когда блеющие головы так ясно вырисовались,
внушает смех и досаду за минутную, не основанную ни на чем надежду.
Чрезвычайная отчетливость выражения составляет главное достоинство
г. Л. Тихомирова, и отсутствие длящихся мыслей, какого-нибудь сложного
созерцания - его недостаток, как писателя. Как искусный дебатер в парла-
менте, он стоит перед полуотворенною дверью «свободы», и ввиду толпы,
напирающей на нее то извне, то извнутри, вызывает каждого словесно побе-
дить его прежде, чем он допустит сколько-нибудь расширить проход или его
сузить. То, что его занимает так пристально только вопрос о свободе*****,
сообщает некоторую бессодержательность его писаниям: не понимаешь, за-
чем эта дверь не отворена; не понимаешь, почему ей не затвориться совсем;
можно подумать, что узкая лента света перед его глазами ему нравится сама
по себе, независимо от всего другого, как некоторая философская ding ап
und fur sich******. Вообще он сильнее своих противников*******, и, по-
* Так, оттеняя себя от предыдущих писателей, называли себя писатели,
выступившие в 80-х годах: «Шире дорогу, восьмидесятник идет», - передано было в
свое время восклицание одного из таких.
*♦ См. его «Критику отвлеченных начал», в связи с последующею дея-
тельностью.
♦** Для примера можно бы провести параллель, напр. между Лесевичем и
Волынским (в «Северном Вестнике») или г. Шелгуновым и г. Мережковским (авто-
ром «О причинах упадка современной критики»), и т. д.
♦♦♦♦ разумного смысла (фр.).
***** См. ряд превосходных его статей, вращающихся все только около этого
вопроса, в «Русском Обозрении» за последние два года, и также отчасти в «Московских
Вед.».
****** вещь в себе и для себя (нем.).
******* Он ведет, вот уже давно, непрерывающуюся полемику с хроникером
«Вестника Европы» и с г. Вл. Соловьёвым, причем его перевес в мысли, доказатель-
ности так чрезмерен, что его противникам не остается ничего кроме казуистики слов,
убедительной разве для очень давних подписчиков журнала.
281
видимому, это сообщает ему некоторое удовлетворение; когда его спраши-
вают, что за дверью и стуит ли что-нибудь там охранять от «воздуха», хотя бы
и разлагающего, он отвечает, что об этом нет вопроса и предлагает, взглянув
на ленту, доказать, что она недостаточно красива. Ему представляется, что
нет других вопросов; нет иных нужд, иных точек зрения, как с его стула. И вот
почему у каждого, в речи кого он слышит слово «свобода», он думает - идет
речь именно о полуотворенной двери, которая его так занимает.
Конечно, в том очень хаотическом, очень неопределенном и всего менее
необходимом процессе, какой совершается по сю сторону «двери», нет вов-
се той принудительной закономерности, о которой* я сказал в статье «Свобо-
да и вера», что ей принадлежит совершенная свобода и также незнание зако-
нов чего-либо, от себя отличного. Разве среди нас, разрушенного отброса
разрушенных веков, есть истинно верующий? Итак, речь была не о нас, не о
теперь**. Но если бы среди нас явился, если он когда-нибудь явится - чело-
век веры, все, мною сказанное, будет принадлежать ему. И принадлежит так-
же теперь единственному, в чем вера составляет самое существо - церк-
ви***: без внимания ко всему, вне ее лежащему, истину утверждения своего,
умаленного, замолчанного, заглушенного тысячью звуков, прерывая эти зву-
ки, разрушая это молчание - она может утвердить. Церковь пусть войдет во
всю полноту канонов, не отмененных, но и неисполненных - вот что мне
хотелось сказать, что одно я мог иметь в виду, и не желая отворять «дверь», и
не желая ее суживать, и считая самую дверь и все за ней происходящее очень
временным и для меня, по крайней мере, нисколько не дорогим.
* «Есть некоторый внутренний процесс, или мы должны представить его себе,
цельный, неразрывный, по необходимым законам совершающийся, принадлежнос-
тью которого только и может быть свобода, в отношении к которому мы можем
единственно понять ее» («Русский Вести.», янв., стр. 268). Уже из тех периодических
и частых саморазрушений, какие испытываются в нашей истории за последние два
века, можно видеть, как мало указанные определения принадлежат ей.
** «Не один г. Розанов отрешается от уважения к свободе (как будто не я
утверждаю ее способом гораздо более сильным, чем ее воображаемые защитники, в
действительности лишь проституирующие ее) и понимания ее. Это также тенденция
программа противуположных ему передовых направлений, тех, которым, может быть,
даже принадлежит будущее в Европе. Г. Розанов только откровенно уничтожает
слова, которые в передовых программах сохраняются по недоразумению или для
обмана. А затем, как он собирается вогнать личность в одну тюрьму, так передо-
вые стараются вогнать в другую. Разница между реакцией и прогрессом нередко
состоит только в различном устройстве казематов, для нас приготовляемых.
Полезно иметь перед собою откровенных реакционеров (как и прогрессистов), ко-
торые прямо открывают свою душу. Они помогают нам не попасть ни в ту, ни в
другую западню» (Л. Тихомиров. «Существует ли свобода?» «Русск. Обозр.», 1894,
апрель, стр. 910). Очевидно, idee fixe полуотворенной двери мешает видеть г. Л. Тихо-
мирову еше что-нибудь, а между тем в природе есть море, небо, звезды, и вообще
множество вещей, перед которыми его дверь - лишь исчезающий момент.
*** Т. е. нашей, как единственно (по полноте не разрушенной в ней истины)
сохраняющей веру в себя.
282
VI
Так мало поняв предмет, к которому относится моя статья, г. Л. Тихомиров не
понял и ее внутреннего смысла, и оснований. Как и другой мой критик, его
антагонист, но против меня союзник, он не остановился вовсе на моменте
веры, который я указываю, и, думая формулировать мою мысль, говорит:
«Существует г. Розанов, существую я, существует Соловьёв; каждый из нас
представляет некоторый процесс, совершающийся (физиологически?) по не-
обходимым законам; он для себя требует свободы, г. Соловьёв будет тре-
бовать того же для себя»*, и пр.; но какая же свобода для г. Вл. Соловьёва,
в котором духовно нет ничего принудительного, и сегодня он западник, вчера
славянофил, можем ли мы быть внимательны к тому, чем он захочет быть
завтра? Какая свобода для общества нашего, которое может всем быть, но с
условием - не долго и не скучая? И вообще человеку без творческого родни-
ка бьющих в нем сил какая свобода, зачем? Такая же, как для несущегося по
ветру песка - свобода вырасти в дерево. Ведь я же говорю, что свобода следу-
ет за верою, как тень следует за предметом, которого она есть тень; с нею
связана, от нее не отделима; и что за странная фантазия у моих критиков -
пустить гулять по свету эти им милые тени, без всяких предметов, к которым
они относились бы. Поэтому не «кто кого съест - тот и прав»**, проповедую
я, не борьбу; но только над слабоверием и неверием победу веры, и ею устро-
ение людей так, чтобы желание самой борьбы, как меньшего и низшего перед
гармонией, исчезло. Если я требую чего, имею права требовать, то - гармо-
низации в истории звуков, этого хочу моею природой не бессмысленной и
требую как человек. «Свобода для себя, и ограничение для всего прочего», -
резюмирует меня г. Вл. Соловьёв и с ним соглашается*** г. Л. Тихомиров:
моей вере - свобода, и если я маловерен и слабоверен - во всем, в чем
сомневаюсь, так же мало свобода и для меня, как для кого-нибудь, как для
бездомного, бедного животного, которое, в какую бы его избу ни загнали,
уже обязано ее хозяину. Мой критик видит в словах моих непонимание лично-
сти****, жажду «реакционно» задавить ее свободу; но неужели, неужели
когда я говорю личности: сотвори и в творчестве этом своем будь свободна,
поверуй и в вере своей ты свята и неприкосновенна - неужели я менее пони-
* «Русское Обозрение», апрель 1894 г., стр. 903.
♦* «Что же получается, как общий modus vivendi, как закон жизни? Борьба. Кто
кого съест, тот и прав. Такова мысль г. Розанова, если ее изложить в кратких и точных
словах» (Л. Тихомиров, там же).
♦♦♦ Та же страница.
♦♦♦♦ Это есть центральное возражение, которое делает мне г. Л. Тихомиров: «Ясно
только одно, что г. Розанов совершенно упраздняет понятие о человеческой личности,
как существе, отличном от механической и органической природы», и т. д. (там же, стр.
906). Ниже мы будем разбирать это место, но во всяком случае это очень умно, очень
содержательно, и в трех строчках здесь более выражено мысли, чем сколько на 13
страницах сумел высказать ее г. Вл.Соловьёв. Мне только приходится безмерно сожа-
леть, зачем г. Тихомиров так мало понял точный смысл моих утверждений.
283
маю личность, чту ее и к ней привязываю святую свободу, для меня святую,
чем г. Тихомиров или г. Соловьёв, и весь сонм их, которые толкуют слова, не
понимая их смысла, пытаются поднять что-то и не умеют, или, как «реакцио-
неры», которые, быть может, и в самом деле думают задавить что-то, но, ко-
нечно, никогда ничего не задавят, и только раздавятся сами. В бессмысленное
я только ввожу мысль; человека чту не как совокупность ног, рук, праздной
головы; этой голове говоря: «подумай», и этим ногам: «перестань ходить в
блудилище» - я понимаю личность, они же видят в ней, в людях, в истории
только кучи песку, бессмысленно туда и сюда передвигаемого ветром.
VII
Высокая отчетливость мысли г. Л. Тихомирова, быть может, и зависит от того,
что в нем нет и ему непонятно все сколько-нибудь мистическое и священное
в человеке; что простота механических воззрений одна ему известна; что зна-
чит живой росток в человеке и каковы его законы - это для него темная моги-
ла; он говорит*: «Итак, каждый из нас представляет собою некоторый про-
цесс, совершающийся по необходимым законам - воззрение не новое, и, выс-
казывая его, г. Розанов до самой макушки остается погружен в наследство
прошлого**... Собственно, он никакой свободы не имеет, он совершается по
необходимым законам; он растет, как трава, сам не зная, зачем и почему,
потому что его заставляют расти и цвести необходимые законы. В былое вре-
мя*** это воззрение считалось последним словом науки. Из него-то г. Роза-
нов и делает свои отрицательные**** выводы. Это логично, но приводит его
к совершенно звериным понятиям... Закон его***** есть собственно не закон
жизни животной, как это утверждает г. Вл. Соловьёв, но закон жизни органи-
ческой. В частности, выводы его, конечно, звериные; но происходит это отто-
го, что он не видит в человеке ничего, кроме действия сил органической при-
роды... В понимании жизни он чересчур простодушно, с буквальнейшею точ-
♦ Возражая на мои слова: «Есть некоторый внутренний процесс, цельный,
неразвитый, по необходимым законам совершающийся (г. Тихомиров отмечает его
курсивом), принадлежностью которого только и может быть свобода».
** Т. е. материалистические воззрения 60-х годов, от которых я хотел будто
бы и нс умел отказаться, как объясняет он несколькими строками выше («Русск.
Обозр.», апрель, стр. 900: «Старое наследство, старые напластования русской обра-
зованной мысли наполняют все рассуждения г. Розанова. Он только делает реакцион-
ные выводы из того же строя понятий, который для других служит основой либе-
ральных выводов»). Это центральное объяснение, какое он делает в статье своей для
объяснения происхождения моих утверждений. Есть что-то неприятно элементарное
в грубой ошибке, в какую он здесь впадает.
♦** Делается ссылка опять на 60-е года.
Т. е. относительно свободы.
***** Т. е., что всякое исполненное в себя веры существо не может заглянуть в
закон чужой жизни.
284
ностью, основывается на материалистических последних словах науки... Его
статья - искреннее раскрытие странного внутреннего содержания... Для это-
го своеобразного дарвиниста люди столь же чужды друг другу, как растение и
ветер, и также не могут понять друг друга* «Он совершенно упраздняет поня-
тие о человеческой личности, как существе, отличном от механической и
органической природы. Он, во всяком случае, не выделяет человека из явле-
ний остальной природы, считает его только процессом, совершающимся по
необходимым законам, т. е. без воли, без свободы, без способности, так ска-
зать, творческой, починной»**.
О, беднота непонимания... Но в сочетании звуков, гением задуманных, и
которым мы внимаем, не хотя в них никакой перемены, чувствуя невозмож-
ность этой перемены - нет разве этой высшей необходимости? и из того, что
ни один смычок не смеет отступить от указанного ему, дрогнуть не там, где
нужно, не дрогнуть там, где нужно - разве мы заключим, что перед нами
сидит оркестр обезьян? Необходимость и непроизвольность - это закон рос-
та растения, но и также закон всего высшего одухотворенного***, и как о
том мы несомненно знаем, что он определен Богом, так об этом должны
заключить, что не человеку, по-видимому, свободно его совершающему, он
принадлежит, но этому же Богу. И вот почему человек так мало может выйти
из этой необходимости; почему Бруно всходил на костер: апостолы пропове-
дывали на не изученных ими языках; и в наши дни почти, развратный маль-
чишка**** становился первым человеком своего времени и к голосу его
прислушивалась Европа; и много, много столь удивительных явлений в исто-
рии, где мы ничего не поймем, приняв человеческую душу за крутимый
ветром песок, и все в ней станет нам понятно, если мы различим в ней перст
Божий. Укажут на отрицательность многих явлений, их, очевидно, дурной
смысл при явной внутренней необходимости: но что же, мы разве исключим
наказание? А если мы признаем его, понятен нам станет бросаемый в нас
камень, как и подаваемый хлеб; и град, выбивающий ниву, мы поймем -
оттуда же, откуда и благодатный дождь. Злое в истории, преступное, как на-
глый смех Вольтера, болезненный пафос Руссо - этот камень разве падал не
на зараженную ниву? Ей не нужно более быть, время терпения истощилось
- и злые жнецы покосили злое. И нет нивы, убраны и жнецы - земля опять
свободна для благодатного семени.
♦ «Русск. Обозр.», апрель, стр. 902-905.
♦♦Там же, стр. 906.
*♦* Чуткие греки до того это понимали, что нс только поэзию, но и все виды им
известого знания относили не к произвольной деятельности поэта и вообще какого-
либо человека, но думали, были уверены, что и поэзия, и творческая мысль внушае-
мы человеку (музы); и в гораздо более позднее время, чем когда они сложили этот
миф, Сократ утверждал, что все его лучшие мысли и важнейшие решения внушены
были «добрым демоном» (Saipoviov - божество собственно, но в христианском мире,
как языческое, получило значение отрицательное).
♦♦♦* Руссо.
285
VIII
Если мы обратим внимание на соотношение этой необходимости с свобо-
дою, мы и увидим, что то одно свободно снаружи, что столь необходимо
извнутри*. Что может быть необходимее того, что испытывает высокий поэт
♦ Мысль эта впервые была высказана мною в заключительной главе уже цитирован-
ного выше сочинения, как общий взгляд на характер теоретической деятельности челове-
ка: «Наука как понимание есть процесс свободно-необходимый по своей природе и проис-
хождению. Но если мы рассмотрим эти два свойства его в их взаимном отношении, то
увидим, что они связаны между собою причинною связью: понимание есть процесс сво-
бодный, потому что оно есть процесс необходимый, и чем полнее эта необходимость,
тем полнее эта свобода. Но необходимость науки, как развивающегося процесса пони-
мания, безусловна и всесовсршенна; потому что этот процесс восходит, как к своей причи-
не, только к одному строению разума, и раз это строение существует, существует и он:
наука дана в разуме, как следствие дано в причине. Л поэтому и свобода ее от всего
лежащего вне разума, безусловна и всесовершенна: она ни к чему не имеет отношения в
жизни (т. е. принудительного для нее), ни с чем не связана причинною связью (т. е.
иначе, как побочною), а поэтому ни от чего не зависима... Будучи процессом внутренне
необходимым, понимание по отношению к создающему его (т. е. человеку) есть дея-
тельность непроизвольная. Непроизвольно же совершаемое человеком не может подле-
жать осуждению. И поэтому наука, будучи свободна от явлений жизни, свободна и от суда
человеческого. В этой непроизвольной деятельности человек выполняет не свое желание,
но требование того, что есть первоначального в его природе. Строение же этой первона-
чальной природы определено нс им самим, но создавшим эту природу. И поэтому, стре-
мясь к пониманию, человек выполняет не свою волю, но повинуется воле создавшего его.
И следовательно все, стесняющее процесс понимания, есть возмущение против Творца
человеческой природы... И так как это стремление предустановлено для человека в его
природе, и повинуясь ему он выполняет свое назначение на земле, то все, препятствую-
щее этому пониманию, отклоняет его от его назначения. И поэтому как тот, кто сам в себе
почему-либо подавляет этот дух исследования и изыскания, так равно и тот, кто в другом
подавляет его, мешая проявлению этого духа разумения, одинаково стремятся отклонить
человека от его назначения и восстают против того, кто указал ему это назначение. Но
всякая воля и сила имеют только две опоры: волю человека и волю создавшего его. А так
как в стремлении к пониманию человек проявляет и свою волю, и волю Творца своей
природы,- у последнего же нс может быть двух противуположных желаний, но только
одно, несомненно проявившееся в создании одинаковой природы всем людям, то очевид-
но, что человеческое понимание опирается на обе опоры, стесняющее же его не имеет ни
которой из них. Это значит, что в природе вообще не существует силы и права, могущего
стеснить разум и науку; и самая попытка к этому есть возмущение против человека,
природы и Того, Кто создал все» и т. д. (См.: «О понимании; опыт исследования природы,
границ и внутреннего строения науки как цельного знания». М., 1886 г., стр. 716-717). И
позднее, в «Месте христианства в истории» (М., 1890 г.) повторено: «Как можем мы
отрицать, что в бессмертной мысли человека, стремящейся обнять собою мироздание,
проникнуть во все глубины его, проявляется то же самое дыхание Божества, которое
сказывается в нас, когда в минуты горя или безнадежности мы обращаемся к молитве.
Стремиться подавить в себе эту мысль, думать, что ее пытливость может быть угодна
Богу - это значит отвращаться от Божества, в своей бессмертной душе убивать его
дыхание. Воля Творца нашей души несомненно выражена для нас в самом строе этой
души, и если в нес вложено этою Волею стремление к познанию, мы можем только осуще-
ствлять ее, познавая мы повинуемся Богу», и т. д., стр. 38-39. Я не вправе ожидать, и еще
мснсс требовать внимания к своим трудам, и, однако, ранее, чем называть «Иуда», «жи-
вотное», «готтентот» (Вл. Соловьёв), «зверь» (Л. Тихомиров) - нужно, по крайней мере,
всмотреться в лицо, к которому относишь эти слова.
286
в моменты творчества: написанное он марает, всяким исходящим звуком не-
доволен и ищет какого-то одного, и когда его отгадывает - какая светлая ра-
дость ложится на его душу! Или Кант, создавая «Критику чистого разума» -
разве был так свободен, как профессор, приступающий к теме диссертации и
совершенно не знающий, что там написать? О, конечно, этот с такою свобо-
дою пишет всякий вздор, с какой летит ворона или санкюлоты раскупоривали
бутылки в королевских погребах; и нет этой свободы для творческой души,
есть - необходимость и с нею иная святая свобода, с которою за веру, за
мысль, за тоску своего сердца люди веков минувших, все и равно Богом по-
сланные люди, не останавливались перед костром и там были радостны, не
страшились тюрьмы и там были светлы, и куда бы и когда их ни гнали - всюду
были со своим сокровищем и его не утеряли.
Но вот, люди праздные, которым нечего уронить из рук, требуют: «Дайте
нам эту же свободу». На что? за какую веру? для какого подвига? Нет внима-
ния к вашему желанию еще и еще «раскупоривать», еще и еще «лететь»; ос-
таньтесь здесь - вы и там не нужны; возьмите плуг в руки - вино не для вас
заготовлено. Та свобода приходит к кому нужно, и он ее знает, во имя ее посту-
пает; то, что вы называете этим именем, было только плод недоразумения,
смешение разнородных вещей, которые, наконец, должны быть разделены.
Мне больно, однако, если бы кто-нибудь так понял мою мысль, что сво-
бода - лишь тем, великим, на которых сияло солнце истории: самое бедное и
узкое в своей мысли существо может быть также исполнено совершенной
веры, и в меру его веры ему принадлежит совершенная свобода. Тем при-
надлежит творчество художества, мысли, - этим творчество самой жизни, не
меньшее. Все живет, все движется - верою, и тем выше она знания, тем выше
и гения, что доступная равно всем, - всех животворит и освещает. В бедном
храме молящиеся не ниже всходивших на костер за науку; те и другие равно
братья; обоим указаны были одинаково предметы для веры, и как те умерли,
эти не отказались бы умереть за свое особенное утверждение; и в нем они не
прикосновенны.
IX
Как, однако, неверующего отделить от верующего? Через страдание, которое
сгонит улыбку с лукавых уст, обратит в бегство крадущихся к непринадлежа-
щему им сокровищу и одних верных при нем оставит. Предвидением выс-
шим, чем наш бедный ум, от этого бедного ума скрыто окончательное; и,
кажется, самое познание его не так важно, или, по крайней мере, оно приго-
товлено не для человека. Нам дано только сердце, чтобы возлюбить - то, что
поставлено в данный преходящий момент как предмет веры; и то, что мы «ис-
тиною» своею называем, не столько в самом деле истина, как в образе ее нам
явленное, чтобы испытать наше сердце для какой-то другой истины, которая
ему в награду - не теперь, но когда-нибудь - будет дана. Итак, потерять для
иного сердце свое, и за то, что его держит, быть готовым пострадать даже до
287
остатка жизни - закон человека в истории, один непоколебимый. Вера одна в
человеке оценится, когда знание окажется ложно, воля - заблудившейся; и из
потемок, из неведения - в награду за веру пребывший в ней введен будет в свет.
Богу принадлежит завершить концы; мы же, не предугадывая их, должны бо-
роться каждый за истину своего утверждения. И то утверждение, которое до
конца сохранит себе верных, всего сильнее и глубже привяжет к себе человека-
это утверждение есть вместе и Божие; ибо ведь по образу Божию сотворен
человек и влечется наиболее, темными для него путями, он именно к Боже-
ственному. То же, что побеждено будет, своею не божественною природою
влекло к себе низшее в человеке, и, получив за веру в него некоторую награду,
они все-таки не удостоятся той, какую получат последние верные. И в отрица-
тельных процессах истории есть внутренняя необходимость, как в падающем
граде - сила тяготения; и выражающие их в себе проходят перед нами как гении,
однако - меркнущие в веках, без вечного в себе света. Есть среди всех борющих-
ся ни гь этого света, и она никогда не прерывалась; каждый в утверждении своем
думает ее ул овлять; уловил ли - знает Бог, человеку дано только уловленное не
упускать. Без него - он ничто; только пыль, топчимая ногами верных, вздымаю-
щаяся, ложащаяся, отлетающая или здесь остающаяся - нет вопроса.
X
Итак, для безверных закон покорности, для верующих - борьбы. И почему,
почему если уж драгоценная кровь человеческая проливается, - не за то, что
истинно дорого человеку, чем он живет, проливаться ей, но и вечно как теперь
- за кипы непроданного хлопка, оскорбленное самолюбие монархов, «пре-
стиж власти», «сферу влияния», и за тысячу иных не нужных никому вещей,
кроме одной только, которая каждому истинно нужна? За целость фабрики,
где задыхаюсь я и мои дети, позволительно, чтобы умер я, и - не умер за
ветхую церковь, где я и они крещены, где мы отдыхали редкие минуты и никог-
да ничем не были оскорблены? «Век борьбы за веру окончился», - решили
мудрые, и вот, в пустой от веры груди выросло волчье сердце, а Бог отрастил
к нему и волчьи зубы, чтобы люди терзали друг друга, как никогда не умели,
не могли, не решились бы* при вере. Как глубоко отвечает атеизму нашему,
жестокосердию, безверию эта война, ставшая наукою, эта методичность и
холод истребления, и то, что я, он, всякий - умираем, но уже не за то, что
♦ Не поразительно ли в истории это совпадение всякий раз успехов атеизма с
успехами в изобретении орудий истребления, заметное и всегда, но в наше время
столь мечущееся в глаза. Связывающим моментом здесь является то, что, с исчезно-
вением предметов для внутренней деятельности, человек ищет предметов для внеш-
ней; не имеющий необходимости побеждать себя - ищет победить других и изобретает
как. В частности, к случайному наблюдению Бартольда Шварца (которому почему
бы и не забыться? не примениться к благому?) нужно было, чтобы присоединилось
злое движение мысли: «Нельзя ли, чтобы как этот взорванный камень взлетел - но нс
он уже, а человек». И кто так подумал - порох и изобрел.
288
любим, но что презираем, чем мучимы, что ненавидим - умираем как ско-
ванные рабы в цирках Рима, так же невольно и бессмысленно, и для того же,
в последнем анализе, как и они тогда. Разве христиане осмелились бы делать
изобретения, на какие решаются бывшие христиане? так готовиться к истреб-
лению? так всею мыслью своею, всем ведением, желанием приникнуть к это-
му? Конечно, этот камень, давящий нас, тяжел, как могильный - и, однако, на
мертвое уже сердце давит он, которому и не нужно ничего иного, ничего
лучшего он не заслужил...
Итак, борьба, высшим неведением обусловленная, двух встретившихся
вер, одна и выносима для человека, и определена волею, скрывшею от нас
концы, - без сомнения, за высшую неискоренимую греховность нашу; оп-
ределена, как и болезнь, и смерть - все, от чего отвращается человек и что для
него неотвратимо. Но как в болезни человек просветляется душою, как при
виде смерти смиряется смертный, и в этой борьбе, но уже не кощунствен-
ной, не наглой, для наглых интересов начинаемой, - животная сторона в нас
покоряется идеальною и мужество требуется, по крайней мере, не рубаш-
кою, которая вчера сделана, завтра износится, но уже сегодня износился я, ее
сделавший. Жертвовать может человек только за великое; это великое для
него - вера; итак, в формах тех ли, какие есть, или, за их бесчеловечием, в
иных, он может и будет бороться только за предметы веры, - те, какие ему
указаны будут Богом, пройдут перед лицом его в истории, быть может, и
обманчиво маня его, но обманчиво лишь в меру его испорченности, и все-
гда истинно его притягивая в меру правоты его сердца.
XI
Но вот, поправляя складки на плащах своих и красивее надвигая шляпы, мар-
кизы Позы и Гамлеты нашего времени спрашивают: «Неужели и нас тронет
эта грубая борьба?». Нет и нет, если вы безверны - вас тронет только плуг, в
который вас впрягут; но если в вас есть вера - что же, чернилами из ваших
чернильниц вы только хотели бы пожертвовать ради ее? Всемирные судьи,
не умеющие камня сдвинуть с камнем, которым так жалка работа мозолис-
тых рук, месящих известь, тешущих бревна - что же, за гладкий слог свой вы
хотите быть пощажены, когда не щадятся другие и вы этого не требуете?
Снимите абажуры с ваших ламп, перестаньте видеть только белое пятно под
ними, которое вы унизываете словами и словами. Взгляните, как трудно жить
Д1Я всех, и почувствуйте ответственность. Почувствуйте ответственность уже
за то, что вы бессильны. Бог вам не дал замешаться в эту загрязненную
толпу и разделить ее труд. Ему помочь смыслом, его согреть словом утеше-
ния - все, что вы можете; на большее - не дерзайте, противуположного
страшитесь.
Или, если весь труд этот вам кажется бессмысленным, если в самом деле
неодолимо природою вы от него отвращаетесь - конечно, впадая в ложь
10 Зак 3969 2gg
перед собою и не исполняя указанного вам Богом, вы не запоете же ему
дифирамбы. В вас вера иная, чем в тех, кто созидает; в этой вере вы свободны
- ее выразить, ее утвердить; и если пути вашей веры и строящих сталкивают-
ся, в борьбе, которая неминуема, всегда в истории наступала в такие момен-
ты, всегда будет наступать - обнаружьте крепость своей веры в готовности к
страданию. Нет иного способа различить вас от безверных; не внимать слову
вашему, значить, не внимать и никакому; внимать - значит внимать всякому.
Ни этого, ни того не могут строящие,- они сами помнят за собою слова,
которым не могут, не должны изменить. Итак - Бог решит, нива ли к потреб-
лению обреченная перед вами, и вы - имеющее на ее место лечь новое семя;
или же нива здорова и должен быть истреблен червь, на нее напавший.
ХИ
Конечно, было бы приятнее для человека, если бы и червь точил колос, и
колос оставался цел; если бы жизнь была аудиторией, и история - чередую-
щимися часами разнообразных в ней чтений. Какая борьба, когда звуки не
встречаются, и не только в воздухе, но и в душе, которая что слышала вчера —
сегодня забыла, и к завтрему забудет то, что слышала сегодня. Наивные, одна-
ко, чтецы, или, быть может, они оплачены, - и тогда вынуждены, конечно,
читать; но какой же наивный хозяин аудитории оплатил их, когда единствен-
ное, чего хотят истинно его гости - это заснуть; и есть род вечного сна — он
называется смертью, и как сон, как бодрствование, этот род также во власти
хозяина. Быть может, этого просят гости, об этом томление минуты?..
По крайней мере - не у всех: есть незабываемые звуки для некоторых,
есть некоторые, незабывающие их; и, раз воспринятое ухом, в них растет
только по закону воспринятого, не мешая его с законами иного. Нет осужде-
ния этим иным законам, есть их неведение; и неведение даже тогда, когда
звуки извне встретились и хотели бы разделить внимание одной души. По
одному закону строится всякая душа, истинная и глубокая; как по одному
ключу настраивается инструмент. И закон разломанной балалайки, с повис-
шими струнами - ей не указание, для нее не принцип. Таких может быть
очень много, и может быть печальная минута, когда инструменты гораздо
более сложные, предназначенные устройством своим к лучшему, как будто
вторят этим же балалайкам, или, по крайней мере, не издают сколько-нибудь
сносных звуков; не в числе их дело, но только в законе, что самый принпип
инструмента - всякого, и даже балалайки - состоит именно в гармонии: в
том, что звуки подчинены одному ключу, по нему текут, из-под него не уме-
ют выйти. И если в мире грубом, в царстве звуков мы смешения, хаоса не
выносим,- не должны ли мы быть гораздо более чутки к миру дел, в царстве
руководящих человеком мыслей? и хаоса, смешения, несносного там - еще
менее выносить здесь? Все простится человеку, кроме лжи; лжи же отрица-
ние есть вера: ибо кто по вере поступает - не лжет, кто против своей веры или
290
без всякой - впадает в ложь. Итак,то, что для звуков есть гармония - для дел и
мыслей человеческих, сплетающих собою историю, есть вера. К ее принципу
должны быть возведены дела и мысли; только к принципу веры, без определе-
ния - которой.
XIII
Сколько бы ни пытались противники этого творческого, устрояющего хаос
принципа, его отвергнуть - они не в силах этого сделать; и чем их попытка
страстнее, тем в ней самой обнаруживается ярче его присутствие. Мы воз-
вращаемся к последним возражениям, которые против него делает г. Л. Тихо-
миров; он говорит: «Мысль, будто никакой субъект* не может войти смыс-
лом в закон жизни другого существа, есть очевидная и самая ничтожная не-
правда. Разумеется, я не могу войти в закон жизни какого-нибудь ветра или
химического процесса: это для меня только явления, а не личности, и я их могу
понимать лишь со стороны внешних условий их совершения. Но войти в душу,
в смысл всякого человеческого существа - каждый из нас, людей, может со-
вершенно свободно и легко. Единомышленность** тут совершенно не при
чем. Когда*** человек способен понимать и якобы любить только единомыш-
ленника, человека своего дела, своего кружка или партии, то это только озна-
чает, что он человечески очень не развит и, в сущности, никакого человека не
понимает и не любит. Он не человека понимает, не личность, не их любит, а
известную службу, известную деятельность их. Это та же любовь, какою мель-
ник любит хороший ветер****. Человеческое же понимание и любовь отно-
♦ То есть высказал я в «Свободе и вере» - насколько он есть носитель испол-
ненного веры утверждения («Р. В.», стр. 269), «насколько оно верит и хочет жить»
(ib., стр. 271).
♦ ♦Из слов моих «для всякого существа - один закон, и нельзя, не утратив
тожества с собою, ему слиться в мысли, в желании с законом противуположным
своему или разнородным с ним: противуестественно было бы мудрому войти в
законы глупого, в правила нелепого» («Свобода и вера», стр. 271) - из этих слов мой
оппонент мог бы видеть, что вовсе нс сходство в мыслях я разумел в статье своей, но
общность, однородность в целом психическом строе, в законе бытия душевного, в
нсразорванной на элементы природе. Как увидим тотчас, в ниже отмеченных словах
приводимой цитаты, г. Л. Тихомиров с горячностью утверждает, что при подобной
разнородности, конечно, невозможно понимать друг друга.
♦ ♦* Отсюда и до рассуждения о личности г. Л. Тихомиров возражает своему
предположению, которого я не высказывал и оно, очевидно ложно.
♦ ♦*♦ Все это рассуждение есть типичное для г. Л. Тихомирова: необыкновенная
отчетливость формулирования, прозрачная ясность языка, и даже ценность мысли
абстрактно взятой - при полном непонимании сути разбираемой мысли. Можно ска-
зать, что продукты духовного творчества другого человека и вообще, кажется, явле-
ния жизни и истории - он рассматривает (выражаясь иносказательно) как минералог
и никогда как ботаник. Начало жизни в высшей степени чуждо и непонятно ему, и этот
недостаток душевного проникновения даже отражается на достоинствах и недостат-
ках его языка, столь прозрачного и как-то точно стучащего словами, - точно между
ними недостает чего-то эфирного, живого, что, как сон, по трубкам растения бежало
бы, струилось в них всех и их одушевляло бы и связывало.
291
сятся вовсе не к мысли, а к личности*. Я гораздо более восхищаюсь умным,
тонко развитым противником, нежели единомыслящей мне тупицей. Ког-
да я вижу человека «чужого», но доброго, благородного, то он мне, конеч-
но, более нравится, нежели единомыслящий мне, но дрянной человек» («р.
Обозр.», апрель, стр. 907).
Вот слова, которых я ждал, и уверен в разных вариациях услышать их от
каждого как невольное признание указанного мною принципа. Ведь я же
готов согласиться и даже признаю как простой факт (основываясь на литера-
турной деятельности), что критик мой и умен, и не лишен доброты, идеализ-
ма, стремлений к лучшему. В этом именно, как в законе своей личности, он
и сливается со всяким человеком, когда даже расходится с ним, напр., в миро-
созерцании, которое, быть может, ему случалось изменять, и, следовательно,
оно образует как бы краевые очертания его духовного существа и вовсе не
его центр. И когда центр у иного человека разнороден с его, когда он встреча-
ет «тупицу», «дрянного человека», - и не тупой, и не дрянной сам, он с ним
не взаимодействует, его не понимает, не любит, но сожалеет с тою поверхно-
стью и сухостью как почти «мельник об ему ненужном ветре». Объясняя и
развивая свою мысль, и все пытаясь опровергнуть мою, г. Тихомиров пере-
ходит на примеры «художественного творчества», указывает на «полноту
проникания» в смысл чужой жизни, какое мы наблюдаем у «великих поэтов»
и их критиков, без сомнения? Пусть, в качестве последнего, мой противник
попытался бы слиться смыслом своего бытия, с смыслом бытия, напр., Пан-
шина в романе «Дворянское гнездо», или Пандалевского и матери Натальи —
в «Рудине», наконец, и это еще ярче, с Лужиным в «Преступлении и наказа-
нии», с Репетиловым, Скалозубом, Молчалиным в «Горе от ума», - сделал
бы усилие полюбить их, понять, оценить смысл и своеобразную правду каж-
дого. И между тем эта правда в каждом из них есть; каждый из них нечто
утверждает, и что это так, видно из того, как мало они понимают Раскольни-
кова, Чацкого, Рудина, Лизу. Нол/ы в их правду не проникаем, ее не хотим, ее
отвергаем, и так глубоко, что нас возмущает самая мысль о «какой-то их
правде», о самом ее бытии, и мы этих людей признаем, как и создавшие их в
вымысле своем художники, не более, действительно, как и «траву или морс-
кой прилив»**. С тем непониманием оттенков и переливов чужой мысли,
какое отличает резко очерченную и небольшую голову г. Л. Тихомирова, он
продолжает, как бы стараясь научить меня: «Это именно закон жизни чело-
века, что чем он более становится развит, зрел как человек, чем выше и тонь-
ше его самосознание, тем он лучше понимает и другого человека (курс. г. Л.
Тихомирова). Одно идет рядом с другим. Это стариннейший факт, который
подтвердят все мудрецы как древние, так и христианские. Единство челове-
ческой природы и присутствие в ней духовного начала производят то, что
* Против его взгляда на мое отношение к личности я возразил выше, в тексте
этой статьи - и нет нужды возвращаться к этому здесь.
*♦ Сравнение принадлежит г. Л. Тихомирову.
292
чем глубже мы себя осознаем, тем лучше понимаем и других. А из этого
понимания рождается отношение к другому человеку, подобное отноше-
нию к себе, любовь в различных формах и степенях, жалость к падшему,
восхищение идеальным, если оно замечается мною в другом»*.
Но ведь если бы в идеалисте он указал мне восхищение низким, в цело-
мудренном - развратным, только тогда он доказал бы свою мысль, теперь же,
всеми этими примерами, усилиями только подтверждает, развивает и укреп-
ляет мою об абсолютной темноте всякого живого существа к иному живому
же, которое в принципе бытия своего, в законе деятельности своей ему про-
тивоположно или с ним разнородно. И вот, будучи так слеп к тому, куда его
собственная мысль течет, он заключает:
«Мы говорим о терпимости, т. е. о допущении чужой свободы, хотя бы
ее употребление нас глубоко огорчало и даже возмущало. Чувство этой
терпимости может быть соблюдаемо каждый день у всех людей**, в разных
степенях и формах. И как же иначе? Ведь начиная сколько-нибудь понимать
себя, я очень хорошо вижу, что я существо свободное, - не отрицательно
свободное, не в том смысле, чтобы я не имел перед собою внешних препят-
ствий, а в том смысле, что я имею способность свободы, т. е. самостоятель-
ность; способность быть не последствием, а причиной, способность твор-
ческую»***.
как будто не я именно утвердил неограниченность этой творческой сво-
боды за верою, в меру этой веры и в ее пределах****.
«Никакие благоприятные условия не спасут меня, если нет на то моего
произволения. Это произволение мое, конечно, со всех сторон иным под-
держивается, иным заглушается, но всегда остается неуничтоженным. То
же самое я вижу у других людей. Из каких побуждений, на каких основаниях
я могу не принимать во внимание эту их свободу»*****.
Из того побуждения, безверный, чтобы жила моя вера, на том основа-
нии, что ей противоположное мешает ее свободному и яркому выражению,
как ветер, ломающий ветви дерева - его спокойному росту, светильнику све-
тящему - его затеняющий предмет. И если свет этот живой, он удаляет свое
препятствие; если бы дерево было осмыслено, мощно, оно от границ своего
утверждения, своей жизни удалило бы всякое утверждение, его собственному
* «Русское Обозрение», апрель, стр. 907.
♦♦ Конечно, у безверных и слабоверных, у невозбуждаемых верою, и нет этого
чувства у последних, как мною показано в многочисленных примерах в ст. «Свобода и
вера» и здесь.
Там же, стр.908.
♦♦*♦ «Вера есть не всегда ясное, чаще смутное отношение человека, да и всякого
живого существа, к своему закону и назначению: мудрый потому верит в истину, что
в нем предустановлена она и только ожидает его усилия, напряжения в нем мысли,
чтобы стать ясною - из предмета веры стать предметом созерцания». Так же и потому
же верит и всякий творческий дух; а с верою я соединяю и свободу совершенную. См.
«Свобода и вера», главы III и IV.
***** Там же, стр. 908.
293
противуположное. И всякое творческое существо с путей своего творчества,
своей веры, своей свободы удаляет как хаос то, что в смысле творчества с
ним не совпадает, в путях этого творчества - встречается.
«Ведь уничтожить эту свободу я не могу, если бы и захотел»...
Т. е. окончательно ее уничтожить Бог не дает сил тому, кого вера относи-
тельна, и в силу этого - нетверда, временна. Как, напр., во всех тех случаях,
когда эта вера относится только как разрушительный момент к тому, чему
предстоит перестать быть, и с исчезновением чего она сама ослабевает, гиб-
нет, и вместе с тем перестает связывать собою что-либо.
«Во-вторых, зачем я буду стараться эту свободу подавить, когда в ней
самый центр личности человека?»...
Т. е. при вере, которая и есть центр личности человеческой, ее сияние
перед Богом, перед людьми, в истории - своим утверждением. Без веры же
какая личность? без утверждения какой человек есть вместе и лицо? или по
крайней мере, что это лицо выражает? Не то ли же, что куча передвигаемого
ветром песку, которая принимает все фигуры и никакой по необходимости.
«На что мне может быть нужен человек без этой способности?»...
Ни мне, ни Богу, ни истории, и именно, как ничему не нужный, без веры
и лица он не нуждается и в свободе; всеми утверждениями он отрицается, и
как в век безверный находит всюду свободу своему движению, в век веры не
нашел бы ее нигде.
«Он тогда перестает быть человеком, становится процессом г-на Роза-
нова»...
Именно перестает быть процессом. Все недоразумение г-на Л. Тихо-
мирова, его попытка оспорить мою мысль вытекает из непонимания им жи-
вых, творческих процессов, которые он принимает как хаотические, неопре-
деленно-свободные, по капризу начинаемые и останавливаемые, я же в них
вижу высшую закономерность и необходимость, с тем вместе вижу в них
выражение лица человеческого, и им одним считаю естественно принадле-
жащею свободу.
«Мне может не нравиться направление его свободы; я могу употреблять
все усилия направить его свободу в другую сторону; от иных проявлений его
свободы я могу, наконец, защищаться. Но при всех этих условиях я не могу
отрицать его свободы, как факта, не могу не любить его свободы, не могу,
наконец, не понимать, что только свободно он может сойтись со мной, что,
стало быть, его свобода нужна мне даже в целях единства с ним»*...
И так далее, развивает он образы истории как обширной аудитории, где не
без пафоса люди различных природных задатков и разного жизненного назна-
чения говорят с некоторою болью друг о друге и всегда, однако, с совершен-
ным уважением; но где же и когда начнется в ней деятельность, а ведь жизнь
- не теория, не ряд страниц, покойно лежащих в книге, а именно жизнь, т. е.
деятельность, которой все остальное, и теория, и книги, служат лишь пособи-
♦ Там же, стр. 909.
294
ем. Я не только хочу быть и мыслить, но и чтобы отражением моего лица
служили все лица, моею любовью горели все сердца, - не как моею любовью, но
как истинною, не как мне принадлежащего лица, но как такого, которое вечно
должно жить, которому Бог указал жить, и я сам свое лицо погасил давно для
этого и хочу, чтобы погасли и тысячи иных для него же: для моего утвержде-
ния, не для моих двух рук, двух ног, мало и мне нужного моего туловища. Тог
только и начнет, и может, и посмеет начать деятельность, кто исполнен в свое
утверждение совершенной веры и с нею не понимает нужды в аудитории иной,
чем как ему только внимающей, сердец-для него одного открытых. Кто ищет-
еще не имеет; и ему естественно ко всем указаниям прислушиваться; кто нашел,
что могут ему сказать чужие звуки? Сколько бы ни звучали они - они не для его
уха, не для его внимания; в его душе, полной гармонии, им нет места.
XIV
И так во всем в истории; так для всего, и так же для нас было бы в отношении
к церкви нашей, если бы мы не были около нее посторонними людьми, «иноп-
леменными воинами, призванными по чужому делу на долгую, скучную
ночь»*. Мы возвращаемся вновь к частному вопросу, который вызвал все эти
рассуждения: следует ли церкви допустить верующим в нее отступание от
цельности христианской жизни? следует ли стране, входящей** в состав цер-
кви Восточной кафолической, допустить пропаганду в своих пределах католи-
чества и протестантства? Конечно - нет; и не только пропаганды, но и очень
беззастенчивого выражения своего особого утверждения, какой-либо ярко-
сти, сияния на солнце, которое над нивою, Богом взращенною, Богом сохра-
ненною должно сиять только для этой нивы.
Что за непонимание истории требовать противного? Что за усилие, что-
бы церковь наша, выражая некоторое утверждение, вошла и в смысл того,
чего жизнь и сущность есть только отрицание этого утверждения. Если бы
православие отпало от католичества, выделилось из него как ветвь, - возмож-
но было бы ей, умирая в истории, возвратиться в единичных своих членах,
верующих, к древнему стволу, к ветхому корню их всех и ранее питавшему.
Но что значит для православных стать католиками? Какой смысл присоеди-
ниться церковно к Западу? Не иной, как чтобы повторять за другими «нет,
нет», в то же время угасив в себе всякое «да», к которому это «нет» могло бы
относиться. Истина, на семи Вселенских соборах установленная, показалась
недостаточною для слабоверного Запада: они ее дополнили***; слова Спа-
♦ «Свобода и вера», стр. 279.
♦♦ Т. е. внешним образом, как кожа на каком-либо члене тела все-таки входит в
состав и организм этого тела и по его законам растет, существует, для его нужд фун-
кционирует.
**♦ Сначала прибавив к Символу filioque, и позднее вымыслив ряд догматов, до
непогрешимости ex cathedra римского епископа включительно.
295
сителя - не точными: они их переделали*, запретили их произносить вслух
верующих**. Что делать нам: они усумнились, мы не сомневаемся; если с
ними усумнимся и мы, в чем же усумнимся, наконец, в каком предмете
веры? Не остается никакого, не остается его для самого католичества, кото-
рое в точном историческом смысле есть только мятеж против православия, и
с его исчезновением должно пропасть, как шум удара ветра в дверь, когда нет
более двери. И вот почему перед шумящим ветром она не должна раство-
риться; не для того она, для чего он; есть сокровище у ней свое особенное, и
к нему приникнув, его охраняя она до остального не имеет дела, к его усили-
ям - глуха, к его страданию, нужде - слепа, на его вопросы - нема.
XV
Отрицанием отрицания, однако не впавшим в какой-нибудь положительный смысл,
является и вторая форма религиозного сознания на Западе - протестантизм. Ког-
да начиналась Реформация, никто ее не хотел : ни император, один из самых могу-
щественнейших и мудрых; ни папа, один из самых уступчивых, «терпимых», ни
сколько-нибудь влиятельные слои общества* * *, ни, наконец, сам Лютер - и она,
однако, совершилась. Против расчетов мудрых, против усилий сильных, Бог бро-
сил отколовшуюся церковь под топор грубого монаха; и натри века обрубок, им
оставленный от криво выросшего дерева, всеми принимается за юный, зеленею-
щий, чистый первоначальный его росток. И народы, кажется, ждут, когда же пень
зацветет и они сорвут с него плод... Идея лютеранства есть самая бедная в исто-
рии; не было мысли, более ее скудной; движения в истории, столь, очевидно,
нелепого. Это религия «Unser Fater» боится какой-нибудь еще молитвы; когда
нужно помолиться о дожде во время засухи, не находя в Евангелии слова «дождь»,
она произносит только «Unser Fater»; когда мать томится над умирающим ребен-
ком, от себя о нем помолиться не умеет, не смеет, она может только повторить
«Unser Fater»; и мы опасаемся, нет ли неточности в Евангелии и не «Unser» ли
«Fater» произносили каявшийся мытарь, бивший себя в грудь, разбойник, висев-
ший на кресте, каявшаяся грешница. Это - религия рабов. И какой же, в самом
деле, свободы, сознания безгрешности движения, правоты роста мы можем ожи-
дать в обрубке дерева? Он мертв; мертвы религиозно страны, на которые он
налег своим бессмыслием; как искажены в своем развитии те другие, о которых
мы сказали, что от церкви они отпали, и с тех пор тысячи отпадений, постоянный
прилив антагонизма, борьбы испытывают в себе.
* «Пиите от нея ecu», - сказал Спаситель, подавая чашу ученикам своим; «но
ведь плоть, тело уже заключает в себе кровь, и она собственно излишня для всех,
пусть остается только для клира», - поправили католические богословы.
** Неоднократно с высоты престола папского подтверждалось верующим зап-
рещение читать Св. Писание.
♦♦♦ «Эти монахи своими поднявшимися спорами только мешают мирному разви-
тию наук»,- говорили в Германии о поднявшемся реформационном движении гума-
нисты, и всего желчнее глава их, Эразм.
296
XVI
«Пиите от нея вей», - каждый день мы слышим на литургии слова Спасителя,
Его завет людям, - и в этих словах слышим осуждение католицизму; «Тимо-
фее, сохрани предание», - читает нам дьячок Апостола - и здесь осужден
протестантизм. Анти-Христово, анти-Апостольское - чем мы виноваты, в чем
мы грешны, что это только есть на Западе и рвется к нам, чтобы разрушить
Апостольское, Христово, что есть у нас, чем мы, во всем прочем нищие,
обладаем? Но вот оскопившие себя, нажив тысячи внешних сокровищ, прихо-
дят и соблазняют нас этими сокровищами, чтобы мы их уныние, тоску, пре-
ступление разделили. Боится грех остаться в мире один; ему нужно соучас-
тие; как и первому отпавшему ангелу, едва Бог сотворил человека, уже потре-
бен был этот человек в общение. Дух неутолимой пропаганды, столь общий
враждующим между собою сектам Запада, есть именно последствие их не-
прямого отношения к оставленной людям истине, или потери к ней всякого
отношения. Ибо, обладая истиною, человек уже обращен к ней одной, ее
видит, ей радуется, и хотя сорадуется приобщению к себе всякого другого, но
не скорбит и один, находя в предмете обладаемом совершенное удовлетворе-
ние. И печать истинности несокрушимую мы видим в том, что Восточная
кафолическая церковь ни в какие времена и ни в каких странах не являлась
пропагандирующею, - исключая немногих-спорадических явлений, без внут-
реннего их в себе значения, без силы и успеха. Она насыщена сохраненным
союзом своим с Богом - заветом новым, который исполнила; как и древний
еврейский народ, совершенно удовлетворенный подобным же союзом, заве-
том ветхим, не искал никого принудить или вовлечь к себе в общение. Нам
укажут на церковь юную, апостольскую, ей приписав «пропаганду»; но там
было «евангелие», «благовестие» - подобное тому, как если бы, получив ве-
ликую радость и не в силах будучи скрыть ее, я вышел на площадь и вскричал
о ней. И это вовсе не то, что с известием темным, мыслью таимой бежать
сквозь чащи, леса, пустыни и, отводя в сторону человека от человека, ему
внушать эту мысль, передавать эту весть, и нудить его ответить на эту весть
«да», и ненавидеть его, когда ответ замедлен, и убивать отвергшего эту весть,
и бежать снова и снова, далее и далее, чтобы приобщить к себе хоть одного,
кого-нибудь, где-нибудь, на смертном одре, в болезни, в тягости, обещая вся-
ких на1рад, пленяя воображение, маня сердце, запугивая совесть, или, нако-
нец, «сокрушая ребра». Конечно, этот темный, мрачный дух известительства
не имеет ничего общего с апостольским «благовестием» и кто не узнает, где
он был и кем несется теперь в Китай, Японию, Индию, и ярче, чем туда, на-
стойчивее, чем туда - к нам на Восток, в страны нетронутого православия,
всюду отрекаясь от чистоты какого-либо утверждения*, принося жертвы в
* Миссионеры иезуитского ордена, осмотревшись в Индии, решили, что они
всего успешнее могут повести им нужную пропаганду, приняв на себя вид браминов.
Также строго, как последние, они отделили себя от презираемой касты париев и, во
избежание священного осквернения, не входили в их дома, и к ним, даже больным, не
прикасались, а таинство елеосвящения совершая при помощи длинных палочек. Па-
297
языческих храмах конфуцианцев*, склоняясь перед статуями Будды**, при-
знавая греческий обряд***, только бы их, преступных и несчастных, народ
принял в общение с собою, и по их указанию, их подобию исказили бы себя в
одном, им нужном, отношении.
риям были построены особые храмы, а в те, которые были построены для браминов и
других «чистых» сословий, их не впускали. Таково было христианство, насажденное
там миссионерами знаменитого ордена. Сами католики, не принадлежавшие к ордену,
были возмущены, в остатках у себя христианских чувств, этим странным эклектизмом
Христова с языческим, и умоляли «пощадить христианство». Но иезуиты неизменно
отвечали, что лишь при их системе смешения («унии») пропаганда католицизма может
быть успешна, и без нее - все уже достигнутые успехи будут погублены. Эта ссылка
вызвала однажды раздраженное замечание знаменитого кардинала Беллярмина: «Хри-
стово Евангелие не чуждается ни в подкраске, ни в подделке; пусть лучше брамины
не обращаются к истинной вере, лишь бы сами христиане не проповедывали Евавге-
лия неискренно и несвободно. Христос на кресте (т. е. видом рабской смерти) соблаз-
нял иудеев, а эллинам казался безумием, - но ради этого не перестал же боговдохно-
венный ап. Павел, не перестали и другие апостолы проповедывать свободно и прав-
диво Христа распятого. Не хочу заводить спора о каждой частности порознь; но не
могу не заявить, что подражание гордости браминов, по моему убеждению, прямо
противоречит смирению Господа нашего Иисуса Христа, а снисходительное допуще-
ние известных языческих обрядов крайне опасно для веры». Но этот отзвук истины в
той ветви истории, которая шла к ее забвению, не был услышан. Кардинал Беллярмин
не видел, что уже не Христово - есть истина утверждаемая в церкви, которой он был
служителем; что эта Христова истина есть только побочная при какой-то другой,
которая не мирится, не согласуется, не отступает от своей целости, идя к иным наро-
дам, в другие страны, а она, эта Христова истина около той, мирится, соглашается,
отступает от полноты, ясности и твердости своего выражения. Что же это не миряще-
еся, ненарушимое, истинно утверждаемое там? Идея папства - как условно ненару-
шимого у народов, которые утратили веру в безусловно в себе самом, в небесных
основаниях своих, ненарушимое. Камень тем прочнее лежит на земле, метеор тем
неотделимее с нею слит, чем окончательнее порваны узы его с небесным, к которому
природою своею и происхождением он принадлежал когда-то; католицизм действи-
тельно есть вечное, окончательное, последнее на земле, насколько Бог за его грехи
забыл человека и не захочет поднять его к вере.
* В Китае.
*♦ В Китае и в Индии иезуиты дошли до того, это от обращаемых туземцев
скрывали «зрак раба», принятый на себя Тем, чье имя они носили, и также его страда-
ния и смерть, между разбойниками, на кресте. Людовик Сотело, францисканский
монах, впоследствии замученный там, писал папе: «Наслушавшись иезуитских мисси-
онеров и проповедников других орденов, туземцы начинают поднимать нас на смех;
они упрекают нас в том, что мы проповедуем двух богов', одного богатого и могуще-
ственного (каким являлся Христос в изображении иезуитов) и другого бедного и
смиренного; второй, говорят туземцы, у первого в глубоком презрении». Во время
одного возмущения против европейцев в Японии, береговые жители всех приставав-
ших к берегу чужеземцев заставляли топтать и оплевывать распятие; конечно, все
европейцы превратили сношения с страною - но не иезуиты; имея обширные торго-
вые связи здесь, они подчинялись требованию топтать и оплевывать распятие, и
позднее оправдывались тем, что они относили при этом мысленно оскорбления не к
Богу, изображенному на металле, но к самому веществу металла (reservatio mentalis.).
*** Церковная уния для юго-западной Руси, во время ее бытности под владыче-
ством Польши; теперь епископствующий папа Лев XIII благословил славянскую ли-
тургию для юго-славян.
298
XVII
И вот она, церковь великая делами и малая верою; и нас манит она не истиною
утверждения своего, не крепостью веры, но благами земного устроения, кото-
рые она сообщила всем народам и имела бы силу сообщить нашему*, всякому.
Как обширна история этой церкви, как цветущи ею охваченные страны; не
вникайте в слагающие звуки этой истории, прислушайтесь к общему их аккор-
ду: как о многом, как долго здесь рассказано, и «неужели немое молчание»**,
она спрашивает, «вы предпочтете ожидающим вас рассказам, их величию и
поэзии»? Но какая поэзия и даже какой рассказ о толпе поселян, собравшихся в
храм молиться, и, однако, разве молитва их от этого дурна? Что сказать о городе,
в котором ничего особенного не случилось, и как много можно поведать о том,
который разграблен, опустошен, стены его разрушены, воины побиты, жители
уведены в рабство и в нем долго, мучительно томились? Быть рассказанным
- это не цель для человека; для него цель - быть правым; и быть рассказанным
- значит всегда почти эту правоту потерять, о ней мучиться, ее восстановить.
Как обильна в истории фактами Реформация, и между тем она только сруби-
ла то, что нужно было срубить; как стучал топор, сколько ветвей падало, и
шум, и крики кругом, - и, однако, это хуже, чем когда, не зная топора, дерево
растет в тиши, видимое Богом, нужное человеку. О нашей, в частности, исто-
рии было сказано***, что она беднее событиями, чем всякая плита на Римс-
ком форуме - и это ее гордость; православие скудно фактами - это милость к
нему Божия; оно не искажалось - как это рассказать? не каялось, не пыталось
восстановить истину утверждения своего - какая тут повесть? оно молилось;
молитва его у Бога; что нужно от него людям?
XVIII
Свое особое утверждение понять глубоко, ярко выразить, все к нему привести
-это одна забота его в истории. Мы возвращаемся к главной форме терпимо-
сти, которую хотелось бы удержать противникам творческой свободы, к тер-
пимости внутри самой церкви к безверным, которые как ослабшие струны в
расстроенном инструменте хотели бы и не звучать, или звучать как-нибудь, и
занимать положение, звуку, а не меди струны, принадлежащее.
Конечно, есть свойства и в меди, которые она может, и, в силу природы
своей, влечется выразить: тяжесть, и блеск, и твердость; но не здесь она мо-
жет их выразить, и, ради их - здесь она не может быть пощажена. Пусть это
♦ Г-н Вл. Соловьёв прямо указывает, что соединение с католичеством, т. е.
принятие католического отношения к христианству, дало бы нам «украшение церков-
ной жизни, возвышение власти духовенства, одухотворение гражданской жизни».
*♦ Таков смысл жалоб и призывов Чаадаева в известном его «Философическом
письме».
Кажется, Георгом Брандесом.
299
стоит страдания живым струнам; их радость немая или хаотическая, пусть
она стала бы возможна, могла ли бы заглушить страдание хаоса или мол-
чания всех остальных струн? И не важно, что их только, но - и страдание
мастера, изготовившего чудный инструмент? Что за мысль для куска мела
чертить фигуру, не геометром предположенную, но которую, дурно обте-
санный, он хотел бы чертить кривым углом своим? Ведь и планете, нами
обитаемой, быть может, хотелось бы, сократившись в орбите - пасть на сол-
нце, или, растянувшись в ней - удалиться в темь пространств; и, однако, она
удерживается в путях своих, и мы живем, дышим, радуемся и вот обсуждаем
вопросы. Почему, когда меня мать носила в утробе, ей было не выкинуть на
третий месяц что-то среднее между червяком и человеком; но вот я родился
через девять месяцев, развился, вырос и ни разу законы моей жизни не спу-
тались, не замешались? Мне было бы больно, если бы эти законы спутались;
нам было бы больно, если бы законы планеты нашей нарушились; почему,
все это сознав, мы одни хотели бы путать законы, и, одаренные разумом,
чуткой совестью не хотим докончить секунды закона для другого, когда этот
другой века хранил для нас все законы? Что за гнусное чувство нами овладе-
ло, как будто после девяти месяцев наши матери выкинули каких-то червяков,
и им хочется ползать, а не жить, жевать землю, а не благословлять солнце.
XIX
Так мало ожидается от нас, так к малому мы нудимся, так хорошо то, к чему мы
нудимся, и мы не хотим этого исполнить. Почему так больно нам это понужде-
ние, и образы тюрьмы, запора* одни мелькают перед нами, когда нам говорят
о законе; почему не образ храма, где ведь также не смеем мы повернуться
иначе, чем все, и делаем то, что другие - одно лучшее, что нам приличествует,
что приличествует месту. Почему не хотим мы свято взглянуть на природу, на
себя: тогда все понятно, понятна невозможность хаоса, безволие к дурному. Как
широки пути бесстыдного - неужели они привлекают нас? как узок путь сове-
сти - неужели он пугает нас? Неужели свобода бесстыдного - это радость,
связанность совестливого - тюрьма, «особо устроенный каземат»**. Но со-
весть не моя только, не твоя, не мимо идущего человека есть в истории, но
также и совесть нашего времени, моей страны, народа, к которому я принадлежу.
Разве каждый из нас не несет на лице своем обезображения, какое есть в этом
времени, стране, народе; мне оно больно, и, как каждый, я его не хочу, я его
вправе не переносить. Ни - в целом народе, стране, времени; ни время, страна,
народ - во мне. Мы все братья, истинно, религиозно братья, а не потому, что
живем в одном доме, ездим по одной дороге, из одной лавки берем хлеб. То есть
все блюдем друг друга, и еще более - друг в друге блюдем один закон. Что
говорить о страдании, о возможной тесноте - она радостна, как радостно всякое
♦ См. конец статьи г. Л. Тихомирова: «Существует ли свобода?».
♦ ♦ Определение г. Л. Тихомировым верующей свободы, в отличие от хаотической.
300
лишение, которое я переношу для другого: сперва оно больно, и я хотел бы от
него уклониться, но когда исполнил - забываю о боли и радуюсь, что не укло-
нился. Как мало то, что нас пугает, перед великим, что нас ожидает. Свобода*
испытана нами и оказалась безвкусной: ею пресыщенный, как часто человек
сваливается в могилу, предпочитая ее темь и сырость дыханию этой безрадостной
пустотой**. Свободен - и один в мире, это человек XIX века; счастлив ли он,
велик ли, чего ожидает, на что надеется - не нужно спрашивать. Итак, без этой
ненужной свободы, переплетясь ногами и руками друг с другом, биением одно-
го сердца живущий, снова шумящая листва, на костях древнего Адама подняв-
шаяся и от Адама до наших дней данный человеку закон почувствовавшая - это
ожидается он человека, к этому, судя по совершившимся и неудавшимся пу-
тям, он клонится.
XX
Не для меня одного проговорил Синай, прозвучала Нагорная проповедь, но и
для моих - со мною связанного кровно рода людского. Его грех несу я в себе,
его наказание чувствую в костях моих; и как свой член болящий ненавижу,
здоровый - люблю, ненавижу или люблю всякого человека, через которого
радуюсь или скорблю. Его свободы болеть - нет для меня; как моего права
гноиться - нет для него; на иной планете, или на этой же, но по иному закону,
чем я, созданный - там только свободен он от меня. Странного права заблу-
диться, дикого счастья лететь и веять как ветер - не нужно, для бедствия, для
радости - этого нет у человека. И растение знает закон свой; животное боится
его нарушить; даже камень брошенный, и тот не смеет забыть свою бедную
параболу. Один ли человек брошен в природе без закона? Но вот, поняв себя
так, одного себя в природе считая свободным, не себя только, но и самую
природу он осквернил беззаконием. Закон - это далекое что-то, что я могу и
не признать; что кокетливо клонить к себе мою волю, и эта воля может каприз-
но от него уклониться; и этот каприз именно есть главный закон, которого
коснуться не смеют другие, хотя бы и божеские. И не касаемые, в своей тем-
ной свободе, мы сходим в землю; и живые между нами, кажется, не живее
мертвых; бессильно отвислая челюсть не смеет укусить, боится улыбнуться;
и руки опущены, едва дышит грудь; только пищеварение совершается, но
горло не глотает, и, кажется, нужно будет сделать фистулу, чтобы как-нибудь,
на сколько-нибудь времени поддержать - не жизнь, но бытие - единственно
свободного в природе существа. Что ты не идешь, бедный: так много дорог
перед тобой; почему не играешь, когда руки не связаны, и задевает, играя,
тебя крылом птица, лапой лесной зверь, и все смотрит тебе в глаза, царю
своему, ожидая ответной улыбки на игру, жизнь, радость свою - и не находит.
♦ Т. е. в общепринятом смысле, как хаотическая.
♦ * Никто не может отрицать связи самоубийств, ставших почти эпидемическими
в XIX веке, с развитием в нем индивидуализма, - в смысле изолированности человека
от человека.
301
КАЗЕРИО САНТО И ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ
В ЕВРОПЕ
Мне главное нужно не чувствовать себя
виноватым...
Из «Анны Карениной»
Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст
человек все, что есть у него.
Из «Книги Иова»
По отношению к событиям, совершающимся в Западной Европе, русский
писатель находится в положении особенно благоприятном: не там его роди-
на, и в его сердце эти события не найдут родных отголосков. Интерес ума,
пожалуй, сострадание, опасение, но исключительно за них самих, есть един-
ственное, что они могут возбудить в нем, оставляя для этого ума всю свободу
суждения, не давая переходить этому состраданию и опасению за границу
того, что свойственно человеку, обязательно для христианина. Европа Запад-
ная и наш восточный мир, в своих исторических путях - это как бы эллипсис
планеты и парабола пересекающей солнечный мир кометы: они могут встре-
титься, но затем всем своим прошлым течением будут унесены в разные
пространства, по разным путям, к разной судьбе...
К сожалению, немногими у нас эта высокая свобода ума, эта драгоцен-
ная возможность независимого суждения ценится, бережется: нам так хочет-
ся стать в ряды борющихся там, принять участие в напряжении их сил, в
смятении, крови, грязи, которые заливают собою двухтысячелетнюю циви-
лизацию; но там ведь реальные факты лежат под этою борьбою, к реальным
же фактам направляется самая борьба, - и где эти факты* у нас, с какого
неба, если не Магометова, упадут они к нам? Но безрассудные этого не ви-
дят; им все хочется облечься в блузу ouvrier’a**, натянуть клетчатый пиджак
буржуа; хочется пойти на биржу, выслушать зажигательную речь, когда ин-
стинкт живой, нужда дня, историческая необходимость - зовет пойти в поле
посмотреть желтеющую рожь, съесть хлеб, который есть на сегодня, и как за
один поблагодарить, о другом помолиться у Бога.
Настоящая статья не могла найти себе места в периодических изданиях
наших, которые все усиливаются тянуть кто за «Revus des deux mondes», кто
* Мы не хотим этим сказать, чтобы нигде на нашей территории не было отноше-
ний труда к капиталу, подобных тем, какие установились на Западе; но что на очень
долгое время они устранимы обилием у нас слабо населенных земель, - а главное, что
исторически у нас отношения между собственником и рабочим не только различны,
но и совершенно противоположны тем, какие существуют там: у нас работодатель
для работника и семьи его — обычно «кормилец».
** рабочего (фр.).
302
за «Intransigeant»: зачем буржуа не осмеян, почему рабочий не в тоге? За-
чем я вижу действительность и не разделяю ничьих снов? - Потому что исто-
рия есть именно действительность, и кто не умеет на нее смотреть так сегод-
ня, ничего не предугадает назавтра.
СПб., 89 г., 25 авг.
Казерио Санто, убийца президента Карно, приговорен к смертной казни, -
после Вальяна, Анри, Равашоля, перед... но будущее, и недалекое, внесет име-
на, на месте которых пока мы можем поставить только точки, нисколько не
сомневаясь, однако, что эти точки действительно заменятся именами. Мы
имеем перед собою факт, резко поразивший всех формами своими, подроб-
ностями, но в смысле внутреннем этого факта ни для кого не было ничего
нового. Как и всегда в истории Европы - не случай, не одиночное явление
перед нами, но цепь явлений, процесс развития, которого стадии мы можем
наблюдать и до некоторой степени, хотя бы в самых общих чертах - можем их
предугадывать. Вот уже полтора тысячелетия Европа Западная есть вечно
рождающее существо, следя за муками которого, прислушиваясь к биению
плода в ее чреве, мы можем составлять некоторое представление о формах
рождаемого и времени рождения.
I
Поразительнее и характернее, чем убийство Карно, нам представляется пре-
ступление Вальяна: оно было безлично; оно было направлено против дея-
тельной силы в государстве; оно было коллективно, не избирало кого-нибудь
одного для себя жертвою. Снаряд, брошенный этим человеком в Палату депу-
татов, не был направлен против лица, против должности, против мероприя-
тия, но против порядка, системы, строя, которого выражением служили люди...
Мы хотели было прибавить: против системы убеждении, против некото-
рой политической и нравственной веры - и не могли. Как ни странно поду-
мать, это так: Европа, как она держится, давно уже есть только некоторый
status quo, куча фактов без всякой связующей ее мысли; фасад, стены, кров-
ля - все лежит друг возле друга, без цемента, каких-либо скреп.
Скорее вера, убежденность, сильное утверждение есть в том, что под
этим фасадом, этими стенами струится и день за днем их разрушает, подка-
пывает. Конечно, чтобы, взяв бомбу, бросить ее в ряды кресел, где сидят
законодатели страны, распорядители судьбы ее на этот день - в чем бы ни
была вера человека, это сделавшего, в нем она есть. Пусть эта вера, это убеж-
дение - отрицательно, разрушительно, безрассудно; не останавливаясь на
предмете ее, сосредоточивая внимание только на существе самой веры, мы
вынуждены сказать: «Да, этот человек верит во что-то; верят те, которые его
послали...».
303
Верят ли также в себя и те, которые заседали в креслах, обсуждали законы
страны, и вот в них летят осколки бомбы? Руку бросившую они схватили и отсек-
ли; и сделали вид, будто не замечают, что не эта рука с этою бомбою против них
направлена, но тысячи подобных рук сегодня, завтра, долго еще будут протяги-
ваться, и за ними - направляющая мысль, одушевляющее сердце.
Мы читаем всюду, в кратких отметках о жизни нападающих, что они чита-
ют какие-то свои листки, видятся и сносятся только со своими; живут в своей
атмосфере, не хотят дышать чужой. Это моно-идеистические маньяки, люди
об одной идее, с которою не расстаются, к которой не примешивают никаких
других, чуждых идей не только враждебных, но и просто посторонних. Это -
не артисты, не поэты, не политические деятели; это - ремесленники, даже
когда они и литераторы или адвокаты; ремесло дает им заработать хлеб днев-
ной, а всякую минуту, которая затем у них остается, они отдают этой одной
идее, в нее углубляются, ею разжигаются, по ней действуют.
Есть ли что-нибудь соответственное, какой-нибудь подобный символ у
господ положения, у status quo Европы, который, обирая осколки бомб, на
него сыплющихся, не смеет поднять глаз на того, кто их сыплет? Мы говорим
о Франции, как о полнейшем и высшем олицетворении того нового порядка,
modeme regime, который создан революцией) 89-93-го года.
Нет и нет; «великая революция» выбросила их наверх положения; цепко
схватились они за место, куда упали; и почувствовав, что место это как нельзя
более отвечает их аппетитам, склонностям, почти призванию, - они на нем
пытаются удержаться.
Вспомним вопросы в знаменитом памфлете аббата Сиэйса: «Что такое тре-
тье сословие? - все, это сама нация». «Какое положение в стране оно занимает?
- никакого». «Чего оно хочет? - быть чем-нибудь». Тут, правда, произошел в
истории маленький каламбур: вопрос Сиэйса относился к положению минуты,
к способу, каким будут подаваться голоса в собранных Людовиком XVI гене-
ральных штатах: будет ли голос дворянства составлять единицу, духовенства -
единицу, «третьего сословия», т. е. горожан - тоже единицу’, и тогда третья едини-
ца после солидарных двух, очевидно, как и прежде, не будет принята в какое-
либо внимание. Но история не расслушала, к чему относился вопрос почтенно-
го аббата; она подхватила только ответ; и вот, когда бурей событий первое и
второе сословие были сметены с лица земли, осталось не только «третье сосло-
вие, желающее чего-нибудь», но «сословие единственное, всем владеющее».
II
Корни его - в далеком сумраке веков, еще в Людовике XI, Филиппе IV Краси-
вом, в их политике, их финансовых проделках; но воспитание, обучение, чти-
мые им заветы - не идут далее XVIII века.
Оно только исполнено отвращения и ненависти, теперь уже почти фан-
тастической и смешной, к тем двум сословиям, которые тогда столкнуло, - и
304
всему, чего они были носителями. Его интерес к искусству не искренен, по-
требность в науке - утилитарна; к религии оно не скрывает презрения; оно
всему посвящает досуг, но нужное время - только приобретению. Немножко
помолиться, немножко порисовать, немножко почитать — это так; но со вни-
манием - только поиграть на бирже, вот буржуа.
Ни новый Декарт не осенит это бытие своею мыслью, ни новый Мольер
или Расин не очарует его слух; ни Боссюэт, Массильон не увлекут его вооб-
ражение; новый Конде, Тюренн не поведут их к победе, Ришелье не будет
управлять их политикой. Еще Эйфелева башня вознесется выше прежней;
крепче, чем ее строители, нового запрут в каземат; еще Панама, еще драка в
Палате депутатов, еврей, скупившей голоса и в этом уличенный - это ожида-
ется, и ничего нового, ничего более - нет и не ожидается ничего... Среди
мириад событий, дел, речей мы можем различить, в которых именно бьется
сердце нации, слышен пульс времени, где его сокровенное, желанное...
В эпохах исторических есть некоторая цельность; и как любить мы их
можем, забывая о их частностях, так, обходя эти частности, к их общему
смыслу можем относить негодование, презрение. Мы не внимаем этой крас-
норечивой речи, не радуемся этому справедливому судебному решению, не
хотим этого нового благотворного закона; нам отвратителен город, страна,
где этот суд вынесен, закон издан, речь произнесена - отвратителен их вид,
быт, строй. Так, в минувшей уже истории, грек, не отдавая себе отчета, отвра-
щался от могущественной Персии, афинянин - от Македонии, римлянин - от
Армении с ее воинственным Тиграном, и всякий христианин отвращается от
Китая, со всем его трудолюбием и многими прекрасными понятиями. Есть
некоторая эстетика в истории, есть нравственная в ней идея, которая, вопреки
удобному, выгодному, отталкивает необозримые массы людей от одних форм
жизни, политического сложения, быта, - влечет к другим; обусловливает
народные симпатии и антипатии; определяет отношения человека, народа к
отдельным циклам в собственной истории.
Я не знаю, что печалит мое сердце; я ничем не оскорблен, не голоден, не
обижен; ни на кого не могу жаловаться, ни на что - сетовать; но я не могу
скрыть тоски моей, мне недостает какого-то солнечного луча, какой-то зелени
вокруг, чего-то неуловимого, что я не умею назвать и без чего не могу жить.
Этого неуловимого аромата, животворящего духа, играющего луча не-
достает - не частностям европейской жизни, но ей всей в целом, ее устано-
вившемуся status quo. Я вовсе не хочу быть один сыт, ни с этой компанией-
пьян. Мне нужно для моего счастья, чтобы была светла моя страна, было
чему порадоваться и моим внукам; чтобы вся эпоха моя была благородна, а
не то, чтобы вынесли справедливое решение на мою тяжбу с соседом.
Этим общим чувствам, этой элементарной и неуничтожимой стороне
человеческой природы не отвечает буржуазный строй, со всеми чудесами
своей техники, грубой роскошью и тысячею мелких вещей, которые он пред-
лагает человеку в насыщение и не может ими заглушить в нем главного. И вот
отчего люди общих идей так отвращаются от этого строя, почему он не имеет
305
для себя защищающей теории. Поэт не сложит ему дифирамба, философ не
задумается с улыбкой о времени, в которое он призван жить и научать, и ника-
кая женщина, рождая, не благословит эпоху, которой она дает сына. Все сторо-
нится; печальна поэзия, или косноязычна и злобна; печальна даже философия;
только слышится стук машин и видятся мириады людей около них, оглушен-
ных, отупелых, эти машины ненавидящих и от них бессильных оторваться.
III
С 48-го года у буржуа спрашивают: «Ты только рождаешься и ешь; мы также
рождаемся - почему мы не должны есть?». Спрашивают не мириады отупе-
лых в безысходном труде людей, - спрашивают, указывая на этих людей, те,
которым хотелось бы улыбнуться и они не могут, хотелось бы размышлять - и
не о чем, хотелось бы петь, слагать стихи, изображать - и нет изображаемого,
нет предмета для песни, нет солнечного луча и зелени, которые животворят
жизнь. Вспомним Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана, нашего Герцена; первый
был коммерсант, второй - граф, ни один из них не знал нужды.
«Ты прожорлив, как гусеница, и разрушителен, как ураган; ты поглотил
народный труд, полузатворил, полуосквернил храмы, и самое искусство, на-
уку, наконец- формы быта* ты или растлил, сделав условным все, относитель-
ным, или загрязнил, поставив для всего этого низкие цели, грубые образцы».
«И между тем как ты был «всем», по отношению к тем двум сословиям,
которые сто лет назад столкнул, -я, труженик, есть все по отношению к тебе, и
на том же арифметическом основании, на которое одно тогда ты опирался».
Примечание об отсутствующем, которое аб. Сиэйс забыл написать в зна-
менитом своем памфлете, этот отсутствующий теперь пишет о себе. Остатки
дворянства, ослабленное духовенство говорят, что строки отвечают действи-
тельности, выражают истину.
IV
Мы начали, пытаясь вскрыть смысл настоящего status quo Европы, указани-
ем на преступление Вальяна; но в нем открывается только одна сторона этого
положения, - характеризуется присутствие какой-то темной и разрушитель-
ной веры у нападающих. Теперь мы укажем на другой факт, в котором с
♦ Герцен однажды долго смотрел в каком-то итальянском городке на полуразру-
шенные стены старинного, еще из эпохи Renaissance, дворца - остатки сводов, мозаик,
пола: «И какие уть люди тогда жили!» - воскликнул он, очевидно, пораженный красо-
той и мощью этих остатков, и по ним представляя их былого жильца. В «Полярной
Звезде» всюду у него проскальзывает тоска по том умершем человеке, отвращение в
этому маленькому его потомку, ради которого, почти без надежд, он трудился. Сам он
себе не формулировал, не давал отчета в своем чувстве; мы называем его эстетичес-
кою идеей в истории.
306
неменьшею яркостью вырисовалась другая сторона этого положения: это -
тот эпизод при обсуждении закона об анархистах, когда правительство потре-
бовало для себя права закрывать в том или ином случае, по требованию нуж-
ды, публикацию в газетах политических процессов.
Собственно, это значило: читающую публику лишить одной из интерес-
ных рубрик, перед толпою - закрыть зрелище; ни правосудие, совершаясь
публично, с соблюдением всех формальностей, со всеми гарантиями свобо-
ды приговора, не могло от этого пострадать; ни теория анархизма, излагае-
мая и защищаемая в книгах и брошюрах, не лишалась свободы выражаться и
приобретать себе адептов. Анархизм только лишался самой громкой, самой
яркой из своих реклам; анархисты не влеклись более, ценою жизни, стать на
минуту предметом внимания и интереса цивилизованного мира.
И вот, даже после того, как уже совершились преступления Вальяна, Анри,
Равашоля, республика все еще не осмеливалась испросить для себя этого
права «неопубликования», и нужно было дожидаться, пока «на 18 сантимет-
ров Казерио вонзит нож в бок самого президента», чтобы, наконец, страх
будущего преодолел в «правителях» непостижимую робость и они осмели-
лись заявить перед Палатою депутатов, что в этом праве они нуждаются, не
для себя, но для своих «братьев-сограждан», кровь которых иначе будет еще
и еще литься, с обилием, вероятно, возрастающим. Если так продолжителен
был их страх - не перед кровью, но перед вопросом об этом праве, - то это
значит, что в глазах всей страны, целой Франции, жизнь буржуа, жизнь чело-
века, разрываемого на куски, не дороже удовольствия прочесть два столбца
газетной печати. Это чувствовалось, это носилось в духовной атмосфере стра-
ны, и под ее давлением этот вопрос*, столь дикий, столь странный всюду,
столь непонятный для всякого здорового человека, подавлялся; и только ког-
да Европа содрогнулась от нового ужасного преступления, буржуа выразил
робкий протест против такой оценки его жизни.
Эта-то игра страстей в двух приведенных фактах: там - в преступлении
Вальяна, здесь - при обсуждении законопроекта, и выражает целостный status
quo Европы: робкая мольба мешается с дикой верой, несмелость показаться
в чем-либо забывшим «выучку» XVIII века стоит как жертва против нападе-
ния, которое не помнит Евангелия, отвергло десять заповедей, - и не их толь-
ко, но и всякое jus civile, право всякого человека быть не убитым, долг каждо-
го - не убить.
Отсюда - все формы нападения, все формы защиты; отсюда - группи-
ровка партий. Мы иногда читаем: «Крайняя правая подала голоса вместе с
крайнею левой», или, наоборот: «Радикалы примкнули к монархистам по
* В Палате депутатов это предложение вызвало памятную бурю; и только ввиду
крови, почти свежей, убитого президента, прошло большинством 287 человек против
167, т. е. только представители самой буржуазии высказали, что кровь их чего-нибудь
стоит, и 167 представителей /^буржуазии открыто, перед лицом всего мира, это от-
вергли.
307
этому вопросу»; все и одинаково усиливаются столкнуть буржуазию, кото-
рая, столкнув два первых сословия, не пустила, однако, на их место четверто-
го. Она сама может удержаться лишь через фикцию, что если и не численно
«представляет» страну, то представляет ее мнение, выражает интересы, и.
словом, не будучи телом народным, составляет его душу. Голос, которым
выкрикивается и боль тела, и ощущение душевное - он прежде всего пере-
хвачен, дисциплинирован. Отсюда - подкупленные депутаты в палате, опла-
чиваемые в ней ораторы, продажная пресса.
Страна «свободна», но редко кто имеет бескорыстие быть внутренно
свободным; свобода котируется на бирже политической; всякий хочет есть,
и для этого нужно только не хотеть; продай хотенье - и ты сыт, и даже свобо-
ден во всем, кроме одного маленького предмета хотенья: сказать «нет», когда
спросят о том-то, ответить «да», когда спросят о другом.
Вот откуда это ожесточение, этот взрыв нервности у нападающих: им
даны все внешние способы подняться и столкнуть «третье сословие»; это
сословие в этих способах им отказать не могло: в парламентаризме, в свобо-
де прессы, всеобщей подаче голосов.
Но только оно подсекло все эти способы: лестницы подпилены, веревки
перетерты - свободно может всякий взлезть наверх и никто не может действи-
тельно. Право не родит из себя факта; и вот откуда эти факты бесправные,
преступные, кровавые потекли...
V
Нам часто думается, когда мы размышляем о status quo Европы, что она
находится накануне страшно циничных слов. Собственно, циничные чувства,
циничные отношения уже выросли; даже факты циничные совершаются; но
все еще прикрывается великодушными словами, подуманными когда-то, и в
то время подуманными с верою.
Одно из подобных циничных слов, мы предугадываем, будет не столько
найдено, сколько выкрикнуто буржуазным строем, при боли от этих оскол-
ков бомб, при ужасе текущей крови, разрываемых кусков живого мяса:
«И вы так же бесправны в своем усилии подняться, как мы - в жажде
стоять там, куда нас бросила история».
«Как и мы, вы не имеете внутренно религии; как мы равнодушны к ис-
кусству - вы его презираете; науку также утилитарно понимаете; историю
также мало цените и знаете».
«Вы также буржуа*, но только маленькие; очень бедные, часто голод-
ные; еще не торгующие, не владеющие конторою, но ужасно как к этому
♦ См. заграничные заметки таких зорких наблюдателей, как Герцен, Достоевский,
Тургенев, разбросанные там и здесь в их сочинениях, в письмах; также изображения
простолюдина у французских писателей-реалистов.
308
жадные и совершенно готовые; собственно, вы даже более, нежели мы, бур-
жуа, ибо совсем уже не помните того давнего и великого, что и мы почти
забыли. Мы еще любим власть, тешимся политическими формами, несколь-
ко привязаны к стране, и даже в ее истории - по крайней мере, привязаны к
принципам 89-го года; вы же как странствующие commis voyagents’ы не
имеете и этих слабых привязанностей: вы без-отечественны, без-государствен-
ны, без-национальны*.
«Что именно вы хотите, на что надеетесь: быть несколько более сытыми,
чем теперь, менее усталыми? Вы ищете 8-часового рабочего дня, и на 8
часов каких-нибудь удовольствий: небольшого зрелища, маленькой музыки,
газеты, и затем - 8 часов спать до завтрашнего дня, когда все это повторится -
для вас, детей ваших, внуков, всегда».
«Хорошо, этот вечный покой мы вам доставим, но только с условием:
остаться полными распорядителями всех остальных, для вас несуществен-
ных, обстоятельств жизни».
Вот что, ранее или позже, скажет буржуа работающему у него блузнику,
обходя Фурье, Сен-Симона, Луи-Блана, Герцена, всех этих великих эстетиков
истории, которые как на необходимый для них рычаг надавили на горе и
нужду народную, чтобы с помощью ее столкнуть строй, им неприязненный
общим видом своим, цельным смыслом. Этот рычаг у них будет вынут из
рук; без посредства теоретиков, буржуа станет лицом к лицу с рабочим, и
maximum, чего желает он, на что он надеется, что ему обещают и сами теоре-
тики-даст.
Быть может, это не будет даже произнесено, формулировано; достаточ-
но, если буржуа это подумает о рабочем, и, поняв последнего, как простое
повторение себя, связав нужду его с опасностью для себя всего лишиться,
изберет исход, сносный для него и наименее себе убыточный. Он откинет
идеализм, эстетику, нравственность, которые таятся в социальном кризисе,
но носителями которых не являются ни он, ни сами рабочие, и оставив одну
грубую, материальную** сторону дела, решит ее практически и грубо, в
пределах не невозможных. Великий исторический катаклизм, которого так
опасаются в Европе правительства, о котором мечтают теоретики, совер-
шился бы лишь в том случае, если бы переменились руки у власти; и нет
никакой нужды, вовсе не вытекает из сущности социального кризиса, чтобы
они переменились.
♦ Француза Карно убивает итальянец Казерио, даже не говорящий по-фран-
цузски.
** Замечательно, как, перейдя уже по сю сторону Вогсз, в Германию, социа-
лизм утратил идеалистические черты свои, сосредоточившись исключительно на
материальной стороне дела. У Маркса - это уже только препирательства рабочего
с полуобсчитавшим его хозяином, без всяких общих соображений о социальной
«гармонии», о фаланстерах, без попыток дать человечеству «новый катехизис» веры
и практики.
309
VI
Собственно, буржуа уже и теперь делает поползновения связать рабочего не
только получить от него меру нужного труда, но и подавить в нем то или иное
желание; но он делает это робко и тайно, не чувствуя в себе на это права; в
момент, как он почувствует это право - то, к чему он крадется теперь, он возьмет.
Мы читаехм иногда в биографических отметках о том или ином преступ-
нике: «Он отлучался от работы только однажды в году - первого мая, тайно,
чтобы участвовать в известном торжестве». При формальной свободе, какая
осуществлена в Западной Европе, при свободе только формальной, дальней-
шего шага в этом направлении можно ожидать в форме «свободного» дого-
вора о долгосрочном найме.
«На срок двух-трех лет, мне нужных для окончания вот этой-то работы,
отрекись от свободы, которою ты не пользуешься и теперь (и за недосугом
никогда не будешь пользоваться) - и ты и семья твоя сыты на это время»;
«отрекись от сословия своего, от его безрассудных замыслов - и ты обеспе-
чен не только в хлебе; но и облегчен в труде»; «отрекись на течение всей
жизни, - и эта жизнь протечет обеспеченно, и жизнь детей твоих...».
«Есть некоторая сумма продуктов национального труда, которая называ-
ется богатством, и, поделенная на всех, она даст каждому тем больше, чем
меньше будет затрачиваться на посторонние благосостоянию всех вещи; это
сохранение спокойствия страны пока так дорого; так дорога возня с преступ-
лением и всем, на что помимо работы толкается человек излишне данною
ему свободой. Зачем подкупать оратора, если можно его не выслушивать; для
чего платить газете - дешевле ее не читать; когда все свелось к «дешево» —
«дорого», зачем эти побрякушки цивилизации, блестки культуры? и когда
похоронены Евангелие, Библия, чего стоит похоронить Декларацию прав?
Ведь уже понято, что главное право человека - есть; будем беречь его и не
развлекаться другими».
Тысяча фактов, элементарных, грубых, повседневных будет толкать че-
ловека в цикл этих идей; уже теперь рабочие массы индифферентны к ког-
да-то столь дорогой мечте «республики»; еще шаг, еще один предрассудок
опадет с человека, и он станет индифферентен к распоряжающемуся голо-
су работодателя; ведь кто-нибудь должен же повелеть, чья-нибудь мысль -
организовать, воля - понудить; не все ли равно ждать будущего возможно-
го повелителя из толпы книжных теоретиков [и кто предугадает его черты*
в подробностях?] - проще, вернее, остаться под тем, кто есть, если он со-
блюдет меру.
«Жизнь так коротка и я никогда не увижу другой; неужели этот краткий
миг бытия, мне отведенного, я никогда не отдохну от труда, не увижу детей
♦ Разве Сен-Жюст предугадывал, что Гамбетта будет любить тонкие сигары?
Разве сотоварищи по бурсе Стамбулова предвидели, что он, среди всех своих пре-
красных даров, между прочим, будет обладать даром ненасытности к женщинам?
310
своих иначе как изможденными в этом же труде, - и что мне в свободе, в
богатстве, в восторгах будущих поколений, с которыми я ничего не разделю
и они не разделяют ничего со мною. Они так счастливы будут, эти поколе-
ния, о, даже счастливее, чем эти буржуа, и верно также сытые нравственно,
как он, самодовольные, лоснящиеся... Почему их богатство, роскошь бли-
же мне, чем эти худенькие, усталые руки моего ребенка, чем готовящаяся
судьба для моей девочки? И верный им, сытым (ведь они будут сыты?), не
являюсь ли я предателем этих голодных (ведь они голодны?), вором, краду-
щим последнюю рубаху в своей каморке, чтобы, продав ее, снести рубль в
богатый дом, где готовится пиршество и никто там не знает меня даже по
имени... Нет и нет, этот рубль туда не пойдет, эта рубаха здесь останется;
этот буржуа - конечно, я не люблю его - пусть будет и «господином» для
меня, «обладателем» лица моего и свободы, лишь бы шла мимо этих малю-
ток их чаша...».
И навстречу этому тоскливому желанию, отделяя и сберегая лучших
тружеников, предоставляя остальных их судьбе, буржуа замкнется в но-
вых задачах, пойдет к целям более определенным и широким, чем теперь,
но по побуждениям таким же. Оргии его ограничатся, насыщение страс-
тью господства заменит их; наконец, эти оргии станут тайными, не раз-
дражая взгляд труженика, не возбуждая в нем лишних желаний. Почему
цивилизации не стать опять скромною? Зачем с улицы, где она разлилась
таким шумным и грязным потоком, ей не возвратиться вновь за глухо
запертую от народных глаз дверь, оставив улице тишину, регулярность
труда, регулярность маленького удовольствия, краткого отдыха? Некото-
рое преимущество перед собою рабочий уже и теперь дает тем из своих,
которые присматривают за его трудом, этот труд направляют, оберегают.
Представитель рабочих союзов перед правительством получает в Англии
от этих самых рабочих содержание, равняющее его с лордами; вот это
самое, - даже не это, а гораздо меньшее, совсем немного, возьмет бур-
жуа и сделает то же самое.
Ему останется оргия владычества, наслаждение господства; о, этих оргий
не знает рабочий, потому что никогда к ним даже не приближался, и потому-
то так слеп, так равнодушен он к «политической стороне вопроса». И зачем
ему их вкушать: наслаждение отнятое - больно, неизведанное - не болит. У
него болят руки - «мы их успокоим»; голоден желудок - «мы его насытим»;
насытим, отдав многое из своего, и, главное, поставив в ряды работающих те
средние классы, промежуточные состояния, которые и теперь ни для кого не
нужны, и тогда не будут нужны, по крайней мере - нам». Потомок Фурье,
Сен-Симона будет вертеть колесо на фабрике, как и скромный труженик, о
которохм так радели их предки; он будет вытягивать пряди льна и скручивать
из них нитку, что несомненнее и реальнее, нежели все те праздные учения, те
золотые сны, которые снились когда-то человеку, - и вот, пробужденный, он
их не видит более.
311
VII
Повторяем, в тот день, как буржуа ощутит в себе правоту, которой он не ощу-
щает теперь, участь рабочих классов Европы будет решена бесповоротно; «гря-
дущее рабство», о котором лет десять назад Герб. Спенсер предупреждал Евро-
пу и при этом поворачивал подслеповатые глаза свои налево, придет со сторо-
ны, откуда его никто не ждет. Собственно, механизм этого рабства уже готов, и
нет руки только, которая имела бы мужество и догадливость возложить его на
выю, которая, однако, уже подводится к нему, толкается бесчисленными факта-
ми, ежеминутно, все теми же, все одного смысла. «Европа смущена, встрево-
жена», «блага цивилизации (в которые, впрочем, никто не верит) в опасности»,
«прогресс истории грозит остановиться», «преступления так страшны, и, глав-
ное, так бессмысленны, что напрасно было бы вступать с преступниками в
какое-нибудь соглашение, предлагать им вопросы, дожидаться их ответов; бросьте
им, этим голодным псам, их восьмичасовой рабочий день и уберите от них
остальное, чтобы они не расхитили, не разломали его, - как Тюльерийский
дворец некогда*, как теперь этого доброго семьянина, потомка «организатора
побед», и кто знает, что они разрушат завтра, на которого человека набросятся,
на какой памятник великого прошлого...».
Эти и подобные слова, которые уже слышались, которые постоянно бу-
дут слышаться при всяком новом преступлении, будут толкать буржуа к тому,
что в них подразумевательно указывается: человека, так низко, так грубо, так
предательски воспользовавшегося свободою, ему данною на этот век опы-
тов, сделать вновь крепким чему-нибудь, - и если не земле (так как она расхи-
щена, и, главное, так расплодились эти «свободные»), то хоть фабрике, ее
владетелю, который среди визжащих станков своих есть такой же господин,
как и феодальный сеньор в своей сеньории. То, что так хорошо выполнял тот,
выполнит этот не хуже; не в абсолютном смысле хорошо, но в относитель-
ном, какой один возможен для нашей земли, один может ожидаться здесь,
один исполнится.
Мы упомянули, что все средства для этого нового закрепощения есть:
есть безграничная мощь государства, мощь самой организации его, всевидя-
щей, за всем следящей, предвидящей движение каждого индивидуума и вся-
кое из этих движений могущего предупредить. Мы называем это государство
«парламентарно-конституционным», но гораздо справедливее было бы на-
звать его, по всему типу сложения, административно-полицейским; не везде
есть конституция, не везде она одна, речи ораторов не везде одинаково крас-
норечивы и одинаково зорки везде глаза полицейского сыщика. Его не косну-
лись революции, в нем ничего не преобразовал конституционный строй: в
свободной Англии он еще лучше, чем в Австрии, в республике по ту сторону
* Во время Франко-прусской войны коммунары, овладев на некоторое время
Парижем, сожгли этот дворец с бесчисленными памятниками искусства, в нем хранив-
шимися.
312
Вогез* хорош, как и в империи по эту сторону. Он всем нужен; в век, когда
человек умеет только презирать человека, и презирая - боится его, ему не
доверяет, под шум речей, говор прессы, блеск «мирных» и немирных тор-
жеств так хорошо, так настоятельно нужно подсмотреть друг за другом, про-
следить, чтт думает, чтт намерен делать этот «ближний», и не нужно ли пере-
хватить ему горло раньше, чем он успеет мне его перехватить.
Эти тысячи зорких, изощренных глаз все слиты единством соединяюще-
го их механизма, который почти международен, безнационален, как между-
народен, всеобъемлющ страх человека перед человеком в этом веке. И инди-
видуум, который так легко хоронился в маленьких Афинах, в тесных кварта-
лах Рима, на узких улицах старого Парижа, Лондона, не скроется теперь на
обоих берегах Атлантического океана. Еще немного власти этому механиз-
му, - безвредной для мирных людей власти вскрыть письмо, нужной для них
власти предупредить злоумышляющую руку, а не только наказать ее, - неко-
торое одухотворение его, осмысленность, некоторая чуткость к печатному
листку, к значению произнесенного слова, к чему пока он туп, незряч - и
народы «свободные» еще, гордые своею «свободою», будут охвачены тыся-
чею щупалец, свернувшихся в петлю, затянуть которую - вопрос минуты,
вопрос исторической необходимости, а не механической возможности.
Мы должны перенестись к этим минутам социального страха, чтобы
выйти из представлений, ставших так привычными за последние десятилетия
и которые вовсе не вечны. Мы привыкли, что вся почти страна несет бремя
военной службы; что это бремя несется каждым год-два-четыре, и ему да-
ется навык, искусство, но не верность и послушание в мире, в какой это
может понадобиться в минуты внутренней борьбы. Без сомнения, обшир-
ные массы населения с удовольствием уклонятся от этой тягости; и, получив
некоторые преимущества, каждый охотно останется здесь пожизненно. Ар-
мия не так тесно будет слита с народом; она будет иметь свою, отдельную от
его, историю, свой быт, предания, судьбу; будет иметь свой символ. И при
средствах победы**, какими обладает она теперь, каких не знало еще недав-
* Мы припоминаем, как во время панамского процесса один из агентов сыскной
полиции показывал, что во все время известного буланжистского движения он нахо-
дился около легкомысленного генерала в качестве его интимного приятеля и доверен-
ного сотрудника. С другой стороны, английские государственные люди неоднократ-
но успокаивали палаты уверением, что именно полиция Британии есть лучшая в све-
те, которой все потайные трущобы возможных преступников так же хорошо извест-
ны, как аппартаменты и коридоры собственных канцелярий.
♦♦ Мы разумеем новейшие усовершенствования в скорости, точности и дально-
сти стрельбы. Разговаривая однажды об этих усовершенствованиях и все думая о
возможном их приложении в революциях, я спросил одного военного, только что
кончившего школу и вступившего в строй: «Что же, неужели почти неопределенно
малое количество войск, при этих средствах борьбы, может справиться почти с нео-
пределенно большими, но не вооруженными правильно, народными массами?». И,
получив утвердительный ответ, спросил еще: «Значит, в строгом смысле, повторение
революции теперь невозможно? И, будь это в наши дни, такие восстания, как Фран-
313
нее время - революция станет (как и теперь, впрочем, уже есть) невозможна,
останутся возможными, как и теперь, только единичные преступления, и эти
без труда могут быть предупреждены перевоспитанием населения, отучени-
ем его от опасных навыков, от ненужных мыслей, легкомысленного чтения,
слушания праздных слов. Шумящие народные массы, которые так страшны
для доброго, гибельны для нерешительного, пугают виновного и вину свою
сознающего, - что значат они для циника, и несомненно таковым будет бур-
жуа в минуту, когда он захочет остаться у своего ящика с деньгами, у двери
своей фабрики, без всякого желания «передать орудия производства в руки
непосредственных производителей»*.
VIII
Собственно, в решительный момент социального кризиса буржуазная рес-
публика окажется несравненно более устойчивою, прочною, нежели даже
неограниченная монархия; и то, что весь ход западноевропейских дел направ-
ляется к повсеместному ее осуществлению, является прочным основанием
для суждения, что этот кризис никогда не будет разрешен, или, точнее, что он
разрешится в смысле, нами указываемом, и противоположном тому, какой
ожидается. Правда, есть всюду механизм рабства, на который мы указали выше,
но в неограниченных монархиях он не имеет под собою питающего слоя на-
селения, который был бы с ним слит единством принципов, духа, интересов,
целей. В государствах, как наше, есть общество, которое, не вмешиваясь в
управление, не обязано и одобрять его; и между тем управляющий механизм
пополняется из этого общества; он в каждой точке своего приложения, в каж-
дый момент своей деятельности ослабляется или искривляется тысячею не-
выражаемых, молча принимаемых мнений, которые именно и являются гос-
подствующими, хотя, по-видимому, он один могуществен. Даже помимо это-
го: одно молчаливое присутствие судьи и зрителя, которого взгляд на вещи
неизвестен и потому свободен, смущает делателя и останавливает его руку,
замедляет решительность; самый мужественный человек, в виду миллионов
глаз, на него устремленных, старается, кроме исключительных пунктов, со-
гласоваться с предполагаемым их мнением, и как оно не выражено - с сове-
стью своею, общечеловеческою. По форме ничто его не ограничивает, но и
ничто не поддерживает; он не слышит за собою одобрительных криков, оду-
шевляющих подшептываний; он на них не слагает ответственности, и эта
цузская революция, или как движения 48-го года в Париже и Вене - невозможны?» -
«При достаточной отделенности солдат от народа, напр. при такой, как она возможна
в наемном войске, при новых средствах борьбы - безусловно и окончательно невоз-
можно». Он указал на город, где мы оба жили, и сказал: «Восстав со своим миллион-
ным населением, он был бы только расстреливаемой ветошью перед одним батальо-
ном пехоты...».
* Формула ожидаемого, как его рисует себе К. Маркс.
314
ответственность так велика, что ее не переживали иногда самые могуще-
ственные монархи.
В республике буржуазной этот поддерживающий, питающий слой есть: это
- сама буржуазия, которая не только обладает государством, но и есть в точном
смысле общество, со всеми чертами его несвязанности, индивидуализма, ум-
ственного труда, художественного выражения. Здесь не может поэтому быть
подавленного антагонизма между механиком и машиною; нет их взаимного
непонимания; нет преднамеренного бессилия, рассчитанной парализованнос-
ти; есть одушевляющие крики, ободряющий шепот. Механизм государства, кото-
рый всюду всесилен в средствах, здесь еще и одушевлен, осмыслен.
Вот как разместились в Европе исторические силы в текущую минуту, и
только слепой может не видеть, на которой стороне возможна победа. Повто-
ряем, для нее недостает только момента права', правым чувствует себя тот,
кто* не может взять победу; и кто может** ее взять, у кого она в руках - не
смеет победить, не чувствует правым себя зажать в руке то, что в нее вложе-
но уже историей...
Еще несколько минут исторического бытия, одно-два поколения еще сме-
нятся, и право озарит жадного, рука его сожмется...
Уже более смелые речи и теперь слышатся в рядах буржуа; преемник
Карно не хочет более колебаться, как его предшественник; и, главное, он
говорит, он сознает, он не скрывает, что колебаний не нужно, и их не будет. В
чем же не будет, куда потянется нить, более не колеблющаяся: к Богу ли, к
прошлому ли Франции? Нет и нет... К некоторой теократии без храма, к рели-
гии без Бога, к владычеству без святого, во имя чего оно было бы владыче-
ством и для чего народы хотели бы, должны бы его переносить.
Желание сдавится железным кольцом, просто потому, что оно не нужно,
с ним неудобно; будет душно на земле, как в монастырской келье, но без
образа, на который можно бы помолиться, без веры, без чаяния, что хоть за
фобом будет легче. Не чающие там воскресения не оживут и для земли,
тихо умрут они, дети их, и тех дети опустятся усталым телом в тину, в которой
стояли при жизни, очищая около колеса фабрики место для другого, чтобы
выткалась еще нитка, сделалась еще рубашка, износилась - она, человек ее
сделавший, природа бездушная и обездушенная...
IX
Великий обутаЗД*** мира принадлежит Богу, человеку принадлежит только
его этимология; в истории он только «склоняет» и «спрягает», но ставит в
порядок слова, сочетает их в предложения, периоды, в великую оперу - не он.
* Рабочие массы и ее теоретизирующие предводители.
♦♦ Буржуа.
**♦ устройство (греч ).
315
Он даже не видит, где нужно поставить союз, не понимает, что следует за
этим и тем предлогом, и от этого-то он вечно ожидает и не получает, наде-
ется и обманывается, хотя и вечно трудится. Мы все говорим, и целый мир
повторяет: «Буржуа виновен», «он заслужил наказания»; который вино-
вен, в чем? Этот ли бедный Жак, который, запирая контору, благословляет
день, когда у него «прибыло», проклинает тот, когда «убыло». Ну, он во-
нюч сегодня, будет страшен завтра, он ли, однако, это избрал для себя,
придумал, нашел и, найдя, кого-то обидел, у кого-то что-то отнял? Разве
Лассаль, когда ему нужен был портной, искал такого, который брал бы за
платье наиболее дорого и шил бы его наиболее плохо? Разве мужик, тор-
гуя себе знаменитую «курицу» в суп (пусть блогодушные пожелания Ген-
риха IV исполнились), не выбирает наиболее жирную? рабочий разве не
пересчитывает заработанную плату на ладони, или указывает надсмотр-
щику изъяны в работе, за которые тот сделал бы вычет? И каждый из нас,
своим зубом, своим когтем вырывая корм у природы, разве думает еще о
чем-нибудь, кроме как об одном, чтобы кусок был велик и зуб о него не
сломался?.. Что искал Уатт, кроме «научной истины», Фультон - кроме
облегчения бедных бурлаков своей родины, и тот безвестный мальчик, ко-
торый соединил бичевкой два взаимодействующие* рычага машины, что-
бы освободившись выбежать и присоединиться к играющим сверстникам,
о чем еще думал кроме этой игры, на этот час, на том зеленеющем лугу?
Но вот, день кончился и назавтра он не был позван к работе; не устающие
более бурлаки не имеют и хлеба; и когда самые кости Уатта истлели, земля,
та «легкая земля», которую с благоговением кидали на них благодарные
современники - переполнена проклятиями, обагрена кровью, и ее, эту
кровь, уже жадно тянуло в себя его «искание истины». Славные имена,
великие предположения, благородные надежды, - как они сплелись с бес-
честным и, наконец, с глупым; и кого под этим небом, на этой земле мы
назовем гением, безумцем, виновным, правым, мы - только связывающие
нитками не нами изобретенные рычаги, только, как этот мальчик, уклоня-
ющиеся от дела и все-таки, как он, надеющиеся сохранить себе плату. Что
же, почему из этих мириад людей, всегда и по одному уклону скользивших.
* Так, случайно и безымянно, вскоре после Уатта, было сделано одно из самых
важных усовершенствований в паровой машине: приставленный к ней работник-маль-
чик, которого вся обязанность была в том, чтобы одновременно закрывать один
клапан и открывать другой, скучая этою работой и желая поиграть, связал их бичев-
кой, так что они стали действовать автоматически. Машина стала дешевле фабрикан-
ту; в теории ее был сделан некоторый прогресс; мальчик, наигравшись вдосталь,
остался у родителей и на ужин, где для него ничего не было припасено... Кто здесь
виновный? и даже кто собственно изобретатель? И кто, какой филантроп не восполь-
зовался бы изобретением и, оборвав бичевки у машины, позвал бы опять к ней голод-
ного мальчишку?
316
только этот Жак обречен смерти, заслужил проклятия? И кто проклянет
его, подымет над ним руку, кто не был бы сопричастен этой смерти его,
над кем невидимо иная рука не была бы уже приподнята, и остановилась,
и он ничем этого не заслужил?
В совершенной слепоте человека к окончательному смыслу им создава-
емого лежит оправдание тех, кого наше сердце раздражается обвинить, бес-
правность каждого обвиняющего. Есть жертва и нет закалывающего иначе,
как на небесах; мы все и только обречены; за какую вину, до которого срока -
у кого спросим? Мы можем только прижаться друг к другу в великой взаим-
ной жалости; принять и большее, чем что несем, с покорностью тою же, с
какою обязаны нести и бремя, теперь на нас лежащее. Садче будет свистя-
щий над нами бич - благословим его, еще гнетущее горе - возрадуемся ему;
кто знает, не здесь ли начало искупления...
Низкое с высоким и страдание со всякою радостью соединены неразрыв-
но причинною связью. Как можно было бы дать человеку почувствовать
истинность всех, им оставленных, пренебреженных идей - иначе как сделав,
чтобы на время эти идеи его оставили? ужас безбожия мог ли бы открыться
ему, если бы Бог не скрыл на время от него лица своего? Иллюзионна* кра-
сота - «останься без нее»; нет истины абсолютной** - «затемнись в рассуд-
ке»; мифологична религия*** - «пойми ее как мифологию», сильный есть
вместе и наилучший**** - «испытай его силу на ребрах своих». Что мог
ответить человеку Бог на его желания, как не тем только, что мы видим, о чем
сетуем, что оплакиваем, как на берегах Евфрата плененные иудеи оплакива-
ли ими покинутый, их покинувший Сион...
И он был им возвращен, когда был оплакан достаточно.
Авг.
* Разумеем здесь учение о красоте как о полезном, что в силу полезности
своей стало и «нравиться» человеку, получив от него особое имя, однако, не относя-
щееся к чему-либо в себе самом особому, к какой-либо действительно присущей ве-
щам красоте. Начало учения этого, как и других, ниже указываемых, относится еще к
XVII столетию.
** Философский скептицизм, отчасти германской школы, но главным образом -
английской, где знание понимается как ряд наблюденных фактов, без всякой иной
принудительности в них сцеплении, кроме той, какая лежит в них самих во внешней
природе (отрицание логической принудительности в истине, жизнедеятельности в
разуме).
♦♦♦ Понимание христианства Бауром и всею Тюбингенскою школою.
*♦** Учение экономистов, от А. Смита до Мальтуса, о человеческом обществе,
Дарвина - о целой природе.
317
РАССЕЯННОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Н. Н. Страхов. Взгляды Г. Рюккерта
и Н. Я. Данилевского // Русский Вестник. 1894. Октябрь.
В возражениях, которые были, в свое время, сделаны г. Влад. Соловьёвым* на
книгу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», одно было чрезвычайно много-
значительно. Он поставил вопрос: каким образом теорию культурно-истори-
ческих типов, созданную нашим покойным ученым, совместить с универ-
сальным характером некоторых истин, вышедших из недр того или иного на-
рода, но, по-видимому, не для него, а именно для других народов: еврейство
культурно умерло после Христа, но христианством ожили народы, совершен-
но чуждые по крови евреям; Греция истощилась, создав искусства и филосо-
фию, которыми жила Европа в разные циклы своей сложной истории: римля-
не умерли, создав всемирное право, которое даже на наших факультетах изу-
чается с большею тщательностью, чем собственно русское, - изучается как
прототип, как образец всякого права, и даже в истории самой Европы мы
наблюдаем, как Италия блекнет и вянет после эпохи Renaissance, которая была
зарею и пробуждением для всех северных, заальпийских стран? Правда, это
старый вопрос, который волновал уже Карамзина: но г. Влад. Соловьёв, по
предметам своего постоянного внимания, сумел придать этому недоумению
особенную неотразимость: что делать, в самом деле, с совестью своею, с
идеей греха, искупления, с христианством, что все не у нас родилось, но, оче-
видно, родилось и для нас? И, повторяем, это недоумение становилось так
сильно, что, при наилучшем уважении к памяти Данилевского, при согласии
со всеми коренными устоями его теории, каждый невольно от этих устоев
отходил в сторону, предпочитал молчать, нежели говорить «да» или «нет»
там, где так мучительно было бы «нет», так против совести - «да».
Недавно появившаяся статья нашего уважаемого писателя, Н. Н. Страхо-
ва: «Взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» рассеивает, наконец, это
недоумение. Статья посвящена собственно определению литературных от-
ношений Г. Рюккерта, автора книги «Lehrbuch der Weltgeschichte»**, 1857 г.,
и Н. Я. Данилевского***, как творца теории культурно-исторических типов;
♦ В «Вестнике Европы»; позднее эти статьи были повторены изданием в
сборнике «Национальный вопрос в России» (выпуск 2).
*♦ «Учебник мировой истории» (нем.).
♦♦♦ Общий вывод, к которому приходит г. Страхов на основании строгого срав-
нения той и другой книги: «Данилевский даже вовсе не читал и не знал книги Рюккер-
та» («Русский Вестник», октябрь, стр. 158), можно было предвидеть и заранее, при-
том на основаниях чисто психологических: плагиатор робок в отношении к заимство-
ванной им мысли, и в изложении ее неуклюж, неумел (большинство русских диссер-
таций); особенности, которые совершенно отсутствуют в смело, мастерски, хотя и
несколько грубо написанной «России и Европы». Только очень недальновидный чита-
тель не отличит творца, инициатора от последователя, заимствователя и, к сожалс-
318
но, сверх этого, в конце ее автор развивает некоторые мысли, в высшей степе-
ни многозначительные и ценные.
Г. Страхов справедливо указывает, что понятие «культурно-историчес-
ких типов» не только не возвышает идею «культуры» вообще, но, напротив,
вводит ее в границы, суживает ее значение для всякого человека. Привыкнув
понимать все народы, как преемственно поднимающиеся по ступеням еди-
ной для их всех культуры, в этой культуре люди, наконец, стали видеть что-то
абсолютное, в сравнении с чем все другое, во что они веровали, что чтили -
относительно, изменчиво, есть только служебное средство, а не конечная
цель; «в ней мы увидели, - говорит он, - великое божество, поклонение кото-
рому незаметно вошло в наши мысли и составляет скрытую пружину само-
отверженных трудов, пламенных восторгов, гордости и унижения, любви и
ненависти» (стр. 76). И, в самом деле, эти слова: «монах», «воин» - символы
отживших циклов единой культуры, их веры, их заветов, как это поблекло
теперь перед именем «образованный человек», «человек высокой культу-
ры», где высказывается какая-то новая вера, новый завет и отвергнем ли мы,
что это есть, действительно, вера в некоторую единую, высшую культуру,
которая в более или менее далеком будущем сольет все народы, им всем
придаст одно лицо, общее выражение.
«Понятно, что для таких поклонников очень противна мысль о разнород-
ных культурах, и они невольно и упорно избегают проведения этой мысли
до конца. Прежде всего потому, что из нее, очевидно, следует понижение
значения культуры (курсив автора). Так, защитники какой-нибудь религии
часто смущаются фактом существования других исповеданий и не хотятпри-
знать их за религии».
«Как только мы признаем, что существуют и всегда существовали разно-
родные культуры, то мы поймем, что никакая любая культура не может
быть высшею целью человеческой деятельности. Это мы, впрочем, долж-
ны бы хорошо знать и без того, потому что у нас всегда бывают цели и
стремления, которые мы ставим выше всякой культуры и всякой истории.
Мы любим и уважаем людей не по их национальности, не по истории, к
которой они принадлежат, не по культуре, которой достигли, а по дру-
гим, более глубоким основаниям. Мы действуем - ставим себе правила
действий, справляясь не с историею, а со своею совестью».
нию, таких именно читателей Данилевский нашел в своих поздних критиках. И притом,
к чему ему было скрывать родственность своих взглядов с идеями Рюккерта, когда
все русские подобною родственностью гордятся, на нее ссылаются, как на непрере-
каемый авторитет? Как было ему этот авторитет опустить, когда он был в течение
пятнадцати лет не признан, пренебрежен? И, наконец, ведь не открытие, не изобре-
тение он сделал, приоритет которого мог бы бояться потерять, а высказал некоторый
взгляд на историю человечества, где всякая и для всякого поддержка может быть
только ценна, желательна, как для Гегеля были ценны идеи Гераклита и Аристотеля, и
он их разъяснял, освещал, совпадениями со своими гордясь, а этого совпадения не
затушевывая.
319
«Что Данилевский имел в виду этот общий результат и желал отнять}
культуры ее верховное значение, это ясно уже из его характеристики евро-
пейской культуры и из борьбы с «европейничанием». Если культура есть
цель истории, то не правы ли будут те русские юноши, которые стремятся в
Берлин, Париж, Лондон, как в те места, где могут достигнуть высших понятий
и вкусов? Когда-то Герцен, очутившись в Париже, искренно и верно называл
себя «благочестивым пилигримом Севера», пришедшим поклониться вели-
чайшей святыне мира. Точно так же он очень хорошо выразился, говоря, чтс
потом перестал верить в «единую спасающую цивилизацию». Культура, дей-
ствительно, имела и имеет свою религию».
«Данилевский, однако, ясно видел сферу, в которой мы становимся выше
культуры и истории, и выразился об этом совершенно ясно. Книга его есть
проповедь славянства, как особого культурного типа, и содержит всякого
рода соображения, ведущие к возможности культурного развития и объеди-
нения славян, но этой цели он не дает верховного значения: «Для всякого
славянина, - говорит он, - после Бога и Его святой церкви, - идея славян-
ства должна быть высшею идеей» («Россия и Европа», стр. 133).
«Бог и его святая церковь, - так заключает г. Страхов, - вот что выть
всего для человека, твердо держащегося православия. Если мы обобщим
то должны будем сказать, что религиозная и нравственная область стоит
для всякого человека выше истории, культуры и всякой политики. Исто-
рия есть дело земное, временное; а мы всегда носим в себе позывы к небес-
ному, вечному... Для человека, ищущего спасения своей души, для того, ктс
глубоко погружен в вопросы нравственности, история исчезает или явля
ется не в том виде, как обыкновенно... В той или иной степени, мы всегда
отрекаемся от мира, когда начинаем искать Бога» (стр. 136-138).
Вот объяснение, столь же прекрасное, как и удивительное; объяснение
совершенно неожиданное для всякого, кто размышлял о теории культурно
исторических типов и пытался примирить ее с универсальностью христи-
анства, с одним для всех людей голосом совести. Этот голос, это учение
Христа, конечно, покрывают собою всякую культуру, - не вопреки, однако,
учению о культурно-исторических типах, но в строгом соответствии с ним
так как именно оно низводит всю «цивилизацию», «гражданственность»,
«культуру» к ее земным основаниям, тесным границам. Можно, наконец,
легче вздохнуть; я - русский, им останусь, им умру, ни в чем не изменив
своей родине: в обычае, языке, во всяком земном деле; но за гранью эти*
земных дел, в своем уединении, ночью, перед горящею лампадою, в коле-
бании перед дурным поступком - я только человек; спрашиваю римляни-
на, грека, всякого, как мне поступить, как поступали они в лучшие, просвет-
ленные свои минуты.
320
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ Н. В. РОЗАНОВА
В сведениях, которые сообщены были о недавно умершем педагоге,
Н. В. Розанове, как в «Педагогическом Еженедельнике» (№ 36), так и в «Руси»
(№ 234) и «Московских Ведомостях» (№ 238), вкралась небольшая неточность:
он никогда не был преподавателем в Саратове, но в Симбирске, в 1871 г. По-
правляя эту неточность, считаю долгом добавить несколько слов к характери-
стике покойного, так прекрасно и задушевно написанной г. Овсянниковым.
В течение очень долгих лет наблюдая покойного, я всегда удивлялся и
старался определить для себя источник его замечательных успехов как педа-
гога; и теперь, мысленно пробегая его жизнь в целом, думаю, что этим ис-
точником были: внутренняя правота, светлая вера в будущее, доверие, ува-
жение к настоящему.
Собственно, он не держался никогда и никаких педагогических «теорий»;
не очень был ими занят; не любил читать педагогические сочинения; далее,
специально педагогической виртуозности в нем никогда не было. Вот факт,
мне близко известный и как ученику, и как некоторое время сослуживцу
покойного. При всем том, влияние его на учеников было удивительно: его
помнили ученики, десятки лет его не видевшие, которых он учил не более
2-х лет (из Симбирска); когда он уезжал (года за 2 до смерти) из г. Белого (Смо-
ленской губ.), где был в течение 13 лет директором прогимназии, я случайно
сделался свидетелем сцены, которой никогда не забуду: на гимназическом
дворе стояли сани, нагруженные имуществом покойного, вся его людная
семья (жена, пятеро сыновей и дочь) уже уселась; сделав последние распо-
ряжения, он проходил коридором к задним дверям; наверху, в классах, в это
время шли уроки, но в нижнем коридоре, примыкавшем к сборной комна-
те, прохаживались ученики одного из младших классов, у которых сейчас
должна была начаться гимнастика; и вот, уже простившись с ними, он ра-
створил дверь на двор - в это время откуда-то юркнул маленький ученик, и
Николай Васильевич, в ответ на его поклон, нагнулся и поцеловал его; как
наэлектризованная, вся толпа детей-гимназистов бросилась к нему: он сме-
ялся, красный, потный от тяжелой шубы, отгонял их от себя, но они повис-
ли около него, каждый хотел его поцеловать на прощание. Этот взрыв чув-
ства в детях 12-13 лет, взрыв к человеку взрослому, строгому, им более не
нужному, из них многих, быть может, наказывавшему, - был удивителен и
многозначителен.
Когда я переводился на службу в г. Белый, в первые же дни мне при-
шлось быть в казначействе: седой как лунь казначей спросил меня как ново-
го и ему незнакомого человека о месте службы; когда я назвал прогимна-
зию, он сказал: «Дай Бог здоровья вашему директору, Николаю Васильеви-
чу: он не заставил плакать ни одного родителя, не погубил судьбы ни одно-
го ученика, за 13 лет его службы здесь - не было в прогимназии ни одного
случая исключения».
11 Зак 3969 .
А вот и другой факт, который поясняет это благодарное чувство: однаж-
ды преподаватель русского языка, г. Э., заметил, что книги из ученической
библиотеки (которою он заведывал) незаметно пропадают; он удвоил свою
бдительность и наконец открыл причину: ученик 3-го класса подобрал ключ
к книжному шкафу и в течение всей зимы похищал книги, сбывал их за нич-
тожную плату, а деньги пропивал. Был собран Совет, постановивший, конеч-
но, исключить ученика, который между тем учился лучше, чем удовлетвори-
тельно, и по способностям был первый в своем классе. И директор признал
вполне, что только исключения заслуживает такой проступок: но вот, он был
один сын у матери, отца не имел, - был единственной ее опорой и надеждой.
Николай Васильевич, объяснив, что будь за ним строгий присмотр отца, -
конечно, ничего подобного не было бы, указал Совету, что эту строгость
отца должна возместить прогимназия, но не удалением из заведения и закры-
тием дальнейшего хода способному мальчику, а так именно, как сделал бы и
взыскательный родитель. Исключение было отменено; на другой день мать
ученика была вызвана в прогимназию; ей было рассказано все и передано
предложение: удаление из заведения, которому подлежит ее сын, заменить
наказанием розгами, но с ее разрешения и у нее на дому. Предложение было
принято, на дом ученика были отправлены служители прогимназии, и экзе-
куция была произведена. Все было сделано в совершенной тайне и в стенах
самой прогимназии я об этом никогда не слыхал: о рассказанном факте я
узнал от родственницы наказанного ученика. Она мне рассказала это, когда
я, со своей стороны, рассказал ей об этом ученике, как юноше выдающихся
способностей и чрезвычайно любознательном, начитанном (я преподавал
историю и знал его с этой стороны). Что любопытно - это то, что, окончив
шесть классов в Бельской прогимназии, наказанный ученик, К., не избрал
никакую из окрестных полных гимназий для окончания курса, а отправился в
Вязьму, где был наказавший его директор.
И еще факт, так же, как и этот оставшийся конфиденциальной тайной от
округа и о котором я узнал из речи одного из учителей прогимназии, сказан-
ной покойному на прощальном обеде: когда был издан известный циркуляр
об очищении гимназий от детей «подонков общества», этот циркуляр* в
Бельской прогимназии решено было оставить без применения. В округ было
отписано, что нужно, но в прогимназию принимались, как и прежде, все, кто
по способностям и знаниям имел на это право. И диво было бы, если бы
директор, сам из беднейшей до нищенства семьи, если б учителя, такие же
бедняки по происхождению, теперь, став чиновниками, закрыли бы вход в
заведение детям, таким точно, какими они сами некогда постучались в дверь
гимназии. Конечно, лишь забыв все свое прошлое, забыв Бога, - можно было
это выполнить.
* Любопытно, что одновременно с этим циркуляром ведь не упразднялись так
называемые «общества для вспомоществования беднейшим ученикам гимназий и про-
гимназий», и между тем как их было согласить с этим распоряжением?
322
Вот, это-то, - что покойный никогда не забывал Бога (он и лично был
очень религиозный человек) и, можно сказать, не отводил внимательного,
зоркого взгляда от доверенных ему детей, которых всех уберег и довел до
возможного лучшего, к чему они были способны в меру даров своих - и
дало ему внутренний покой и свет. А с обильным запасом этого покоя и
света, он уже не растеривался в жизни, никуда не торопился, ни в чем не
опаздывал. Все это вокруг его чувствовали; ясно смотрел он перед собою;
был горд, как и всякий человек, знающий, что закон внутренний своей сове-
сти им исполнен; и все эту гордость его ценили, ей давали место.
Сберечь учеников - это есть первая задача начальника учебного заведе-
ния; сберечь учителей - его вторая задача; и вот отрывок из письма препода-
вателя Е-цкой гимназии, К. В. В-аго, полученный мною в ответ на сообщение
о смерти Николая Васильевича и обрисовывающий эту вторую половину
деятельности покойного:
«Твое письмо от 24 августа я получил и очень благодарен за сообщение
подробностей о кончине Николая Васильевича, - мне хотелось знать их.
Смерть его была для меня неожиданностью; я считал его человеком совер-
шенно здоровым, потому что видел (т. е. до своего перевода из Белого, года
за 3 до смерти Н. В.) большею частью веселым, деятельным, всегда чем-
нибудь интересующимся, общительным и остроумным. Глубоко сожалею о
его преждевременной кончине. Я привык ценить в нем выдающегося по при-
родным способностям человека, с ясным умом, замечательным здравым
смыслом, честным, открытым характером, добрым сердцем. Как начальник,
покойный отличался распорядительностью и доброжелательством как к уча-
щимся, так и учащим. Мне особенно памятно его высокогуманное отноше-
ние ко мне во время моей болезни на втором году службы, - когда моя не-
рвная система, пошатнувшись еще в университете, совсем было расклеи-
лась, и я должен был употребить около ’Л года на излечение. Покойный сам
взял на себя преподавание части моих уроков, а остальные распределились
между преподавателями; во время болезни я не раз получал от него утеши-
тельные письма, которые меня значительно ободряли. Между тем, отнесись
он к делу с чисто с формальной стороны или сделай мне в то время какую-
нибудь неприятность, Бог знает, чем бы окончилась моя болезнь. Вот это его
искреннее доброжелательство всегда останется в моих благодарных воспо-
минаниях, и ты не ошибся, высказав уверенность, что я помолюсь об упоко-
ении его души...».
Так-то: сливаться в тесную семью заповедовал этот верный сын своей
родины немногочисленной дружине русских учителей, в руках которой про-
свещение подрастающих поколений.
Мы опустили бы очень существенную черту в характеристике покойно-
го, если бы не отметили до конца жизни сохраненный им интерес к литерату-
323
ре и к любимой своей науке - истории; из профессоров, им слушанных в
Казанском университете, он особенно чтил гг. Осокина и Булича; любимыми
его историками были Маколей, Авг. Тьери и Гизо; из поэтов он от самых
юных лет и до смерти благоговейно чтил Пушкина; до сих пор припоминаю,
как в эпоху всеобщего увлечения «натуральною школою» и Некрасовым, он,
приводя стихи:
Служив отлично, благородно,
Долгами жил его отец;
Давал три бала ежегодно
И промоталося наконец
спрашивал: почему это не реально? не живо, не естественно, не просто? и кто
теперь или хоть когда-нибудь сумел бы в так малом заключить так много?
Много лет спустя, говоря в кружке учителей и студентов о Пушкине, он за-
думчиво привел стих:
Иные дни - иные сны
и спросил, можно ли кратче и прекраснее выразить сменяющиеся в человеке
с возрастом настроения души. В молодые, по крайней мере, годы он был
глубоким почитателем книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», но по-
зднее он менее и менее был внимателен к каким-либо теоретическим постро-
ениям истории и жизни, и в этом, нам думается, сказались в нем лучшие
черты русского характера.
Не можем еще не заметить, что, будучи часто раздражен, недоволен, он
всегда относил это недовольство к частному конкретному факту, и, кажется,
был бы удивлен, если бы кто-нибудь сказал ему, что это недовольство может
существовать в человеке без отношения к чему-нибудь определенному. По
воспитанию, он принадлежал к 60-м годам нашего отечества и нес в себе их
обильный жизнью, светом дух.
СМЫСЛ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО
Наблюдать, как человек не понимает чего-нибудь, и где, и почему он не пони-
мает - бывает столь же поучительно иногда, как и видеть в другое время его
прозрения, его нарастающий опыт, созревающий, наконец, ум...
I
Все время как бюллетени сообщали о ходе болезни покойного Государя, я
думал, я всматривался: как же в целом своем, в выражении лица своего, в
движениях, речах этот Петербург переносит тягостный, и, очевидно было уже
для всякого, роковой недуг далекого и близкого существа; там, на берегу Чер-
324
кого моря, у Труженика за всю землю «пульс падает, отеки не уменьшаются»,
«дыхание затруднено, ночь проведена без сна», «отеки очень увеличились,
дыхание очень трудно»... здесь, - эта же повседневная вереница никуда не
спеша катящихся экипажей, с полулежащими фигурами роскошно убранных
мужчин, дам. «Пульс быстро падает, дыхание очень затруднено»: всем знако-
мый, всеми виденный Человек задыхается, все видевшие добрые черты Его
лица это знают, - и в другой час другою вереницею экипажи тянутся к залито-
му электричеством театру, его, этого задыхающегося человека театру -
видеть... уж не знаю - «Паяцов», «Пахиту», слышать осипший голос Ме-
деи-Фигнер.
Я не забуду этой темноты сознания целого города; ведь тут, в моменты
этого страдания, при виде этой вот-вот готовой прерваться жизни - сливаясь
в страхе с его Семьей, мы ожидали бы, сольется с Нею в забвеньи всех утех и
этот город; и что в его трауром затянутых теперь стенах, в повязках крепа, в
тряпках, «фланели», «сукне», «кашемире» в «кварталах» - теперь, когда мо-
литва не спасет, страданье не облегчится, когда Тот, кому были нужны слезы
и мы тогда не плакали, видит не траурные только лица, но и сердца наши -
уже с небес...
И вот, когда Его нет более и мы так быстро сменяем белый и черный
галстухи, что, потупляя глаза, «продавщица» магазина говорит неловкому
чиновнику, подавая белый: «Можете переодеться здесь», а снятый до завтра
черный завертывает в бумажку*, - в эти минуты, обращаясь к недавнему
прошлому, я весь смысл его сливаю с этою тупостью, от которой мы должны
и не умеем освободиться, с этою вялостью поблеклой, тусклой жизни, с этою
слепотой, от которой когда же мы очнемся?
II
«Государю худо», - проговорила какая-то девочка-подросток, в полинялой
ватной кофте, обращаясь к другой, перед бюллетенем на углу Большой Мор-
ской; за месяц до этого, когда Государь был в Спале, мельком, краем уха, я как-
то кем-то дослышал произнесенные слова**: «Он угнетен душевно», «как бы
в забытьи, он проговаривается о монашестве»... И вот, это налету запомнен-
ное слово и это тревожное восклицание девочки почему-то сплетаются в уме
моем в один узел, растут, увеличиваются, заволакивают скучную действи-
♦ Тут был один такой момент - наибольшей жгучей горести - когда, впрочем,
именно только на момент, непременно нужно было каждому быть в белом галстухе, о
чем множество «неопытных» не догадалось, и часов в 11 утра можно было видеть
около Мариинской площади множество магазинов и даже простых лавочек, где спеш-
но происходило срезание крепов и перемена галстухов.
♦* Вначале никто не знал, чем и насколько Государь болен, и в обществе носи-
лись самые разноречивые слухи. Я привожу один, действительно мною слышанный
(но только раз) и оказавшийся безосновательным.
325
тельность, от которой так хочется отвратиться, и, точно бледная полоска на
горизонте утром - обещают, зовут новую действительность.
Как хочется новых идеалов; как хочется души другой в человеке, жизни
новой какой-то при этом только что провезенном катафалке, еще не закры-
той могиле, при мысли об этой так рано, так неожиданно прерванной жиз-
ни... жизни исполненной еще неразгаданного смысла.
...«Воистину, суета есть все, и жизнь есть тень и сон. Напрасно мятут-
ся земнородные: приобретши мир - в гроб вселяемся, кряду - и цари, и
нищие...»
...«Не пребывает по смерти богатство, не сходит в землю слава - пришла
смерть и все потребила».
...«Молчалив и безгласен лежу среди вас: уста сомкнуты, руки перевяза-
ны, ноги сплетены; угасли очи и не видят плачущих, замкнулись уши и не
слышат стенаний, нос не обоняет курений ладана».
... «Все оставив - иду, чтобы предстать нагим и скорбным»*.
Как это далеко от шума наших улиц; как не похоже на действительность.
Где же подлинная действительность, в шуме ли этом, «Паяцах», «Пахите»,
«фланели» и «сукне» в кварталах, - в тех ли словах? Для Него, умершего,
привезенного, через несколько дней закрытого в склепе - нет сомненья, для
нас - мы останавливаемся, недоумеваем, смущаемся.
На путь не очень далекий, на срок не очень продолжительный мы все не
умеем взглянуть с того конца, с которого Он уже видел этот путь, когда зады-
хался в Крыму, «отеки поднимались», «пульс останавливался». Нам путь этот
кажется нескончаемым; так далек час, наш час... Его же час - еще не наш; то
его забота, которой мы не знаем. Где же истина, кто ошибался, он ли тогда,
мы ли теперь?
III
Нет ли масштаба более широкого, чем индивидуальная жизнь? линий более
протяженных и однако указывающих на то же, что здесь, в жизни личной, в
чертах миньятюрных мы не умеем рассмотреть?
«Жизнь только тень и сон» - неужели всякая? неужели не наша только?
неужели «тень и сон» в жизни самой истории? И вот, как лепесток оторвав-
шийся от дерева, от этой иной великой жизни до нас долетают странные стро-
ки, которые так не схожи по складу, так схожи по смыслу с только что приве-
денными:
«...Уже ни для кого теперь не тайна, что перемены, произведенные в на-
родной жизни внешними факторами прошлого царствования** - исключая,
конечно, личного освобождения крестьян от власти помещиков - в большин-
стве случаев суть перемены не вполне и даже прямо неблагоприятные. Уре-
* Из погребальных канонов.
** Говорится о только что закончившемся царствовании Императора Александра II.
326
гулирование поземельных отношений обратилось на практике в прикрепле-
ние к определенным обществам, а следовательно, и к определенному место-
жительству всех помещичьих крестьян и в наделение большинства их недо-
статочными наделами. Безземелье и недостаточные наделы поставили крес-
тьян в зависимость от соседних землевладельцев, - зависимость, которая иной
раз ничем не уступает крепостной зависимости. Иногда реставрируются даже
самые внешние формы, в которых некогда выражалась крепостная зависи-
мость; так, напр. крестьяне, поселенные на землях многих землевладельцев
приазовского края, являются к «барину», роль которого часто играет просто
разжиревший кулак, по праздникам и в дни семейных торжеств «барина», с
поздравлениями и приносят ему на поклон что-либо из сельских произведений -
гусей, кур, поросят, молока и проч., целуются с «барином» и «барыней» или
даже подходят «к ручке», получают из «барских» рук чарку водки и т. д. С
другой стороны, все прочие реформы: земская, судебная, школьная и другие
дошли до народа только в виде нового денежного налога, «по стольку-то с
души». Увеличение податей, необходимое для поддержки и проведения этих
реформ, привело к накоплению недоимок, употреблению крайних средств для
собирания платежей, и, наконец, к закабалению крестьянина деревенским ро-
стовщиком-кулаком; все это привело к страшному обеднению народа.
Эти внешние факторы вызвали к жизни целый ряд крайне печальных
явлений в народном быте. Выделилась из народной массы группа людей,
сумевших воспользоваться общими бедствиями для собственных выгод. Ку-
лак - явление давно известное в народной жизни; но та необыкновенная
сила, которою он владеет теперь, те удобства, которыми в настоящее время
обставлена его деятельность - все это явления небывалые в прежнее время.
Держа массу народа в полной экономической зависимости, кулаки подчини-
ли своей воле и заставили служить себе веете учреждения, которые издавна
существовали в народе и служили выражением народной идеи справедливо-
сти. Таковы сельские сходы, крестьянские суды, обычай «помочей» и т. д.
Как на пример того, до какой степени подчинили себе кулаки эти народные
учреждения, можно указать на приговоры сельских сходов о высылке в Си-
бирь членов сельских обществ, почему-либо неприятных кулакам.
Попирая, таким образом, выражающуюся в народных учреждениях идею
справедливости, кулаки явились крайне развращающим примером в дерев-
не. И этот пример действует тем сильнее, что почва для восприятия этого
действия очень и очень подготовлена. Экономическая зависимость, бедность,
доходящая во многих местностях до того, что население значительную часть
года питается, вместо хлеба, всевозможными «подспорьями» - соломой,
корой, травами и т. д., необходимость так или иначе уплатить подати, - вес это
принудило мужика направить все свои мысли на добывание денег. Как ни
добыть, да добыть. А тут, как раз перед глазами, в лице кулака живой, убеди-
тельный пример того, как привольно и спокойно живется человеку, когда он
не особенно церемонится со своею совестью и с «святыми преданиями». И
вот, иод влиянием, с одной стороны, необходимости добыть деньги во что бы
327
то ни стало и развращающего примера кулака - с другой, происходит пол-
ный переворот в правовых понятиях крестьянина и в его отношениях к «миру»,
соседям, семье и вообще к людям. Общественные дела, как не могущие дать
тотчас же непосредственной выгоды - а именно это и нужно - становятся
для большей части вещью второстепенною, а то и просто неважною, пустяш-
ною, которою если и занимаются, то просто потому, что при этом можно
водки выпить. Правда в отношениях к ближним, правда семейных обязанно-
стей и прав, честность, целомудрие - все это становится в подчинение к глав-
ной цели: к добыванию денег. Начинается разложение общины и семьи; обыч-
ное право падает»*.
Какие великие надежды здесь погребены? Какие ожидания были, и шум
встречи... и эти слезы проводов.
«Приидите, узрим на гробах ясно: цвет опадающий, дым рассееваемый,
роса утренняя обсыхающая - наша жизнь...»**.
Разве не то же это? не тот же разве срок, и даже меньший? Я живу шесть-
десят лет, - дела, идеи, надежды мои, моего поколения надежды и чаяния
«усыхают» во цвете лет, в возрасте 25-30 годов.
IV
«И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем; потому что
должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый
ли будет он или глупый? а он будет распоряжаться всем трудом моим, кото-
рым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем»***, - эти
слова, три тысячи лет назад подуманные, не повторялись ли, в терминах иных,
но с смыслом тем же, десять-двенадцать лет назад поколением, так жарко
трудившимся на ниве истории, так напрасно трудившимся... Не «льстимся»
ли мы «красотой померкающей»? и что в том, что на моем лице сегодня
должна померкнуть эта красота, на лице недругов вчера она померкла: факт
тот, один остающийся, для всех грозный - что именно всякая надежда помер-
кнет, лицо «обесцвечивается как высохшая зелень» и всякий труд - напрасен.
Ограничение горизонта человеческих надежд и составляет истинную зна-
чительность истекших 13 лет; наши цели к нам приблизились; крылья сложе-
ны, ноги прочнее стоят на почве; самая почва под нами не движется: это
место, на котором я стою - могила моя, моих детей; возлюбленное, един-
ственное место, мне на земле принадлежащее.
♦ «Отечественные Записки», 1882, № 9, сентябрь, отдел «Современное обо-
зрение», стр. 41 и след. По времени появления, эти строки есть как бы заключитель-
ное слово о всей эпохе реформ царствования Александра II, и, проредактированные
Щедриным, они не могут быть заподозрены в желании набросить тень на это царство-
вание, выразить не простой факт.
** Из другого погребального канона.
*♦* Екклезиаст, II, 18-19.
328
В царствовании столь тихом, столь чуждом новых и важных перемен, совер-
шилась неощутимо для всех перемена значительнейшая, нежели во все пре-
дыдущие: кто им облагодетельствован*, но отчего на лицах всех восторг? Ка-
кой блеск, какая слава его сопровождала, но отчего этот странный, невидан-
ный еще, взрыв любви при гробе? Эти необъятные толпы народа, полсуток
ожидающие в сырости, мгле минуты - взгляд один бросить на лицо усопшего,
поцеловать образ, у него положенный на груди?
Во всем, что доносилось до народа о Царе, он узнал в этом лике давно
желанные, давно ожидаемые, родные и его, народному лику, черты. И в са-
мом деле, мы говорим «царственный ум» и не подразумеваем ума самого
точного, самого обильного сведениями, ни даже ума самого проницатель-
ного, тонкого; мы говорим «царственный характер» - и вовсе не относим
его к деятельности, подвижности; «царственный поступок» - это не самое
выгодное дело, не подвиг особенно блестящий. Итак, то имя, откуда взяты все
эти эпитеты, не есть символ политического положения, каких-нибудь прав,
власти, силы. «Царственный ум» это ум озирающий все подробности, мно-
гие из них упускающий из виду, но не упускающий их всех средоточия, ум
центральный, целостный, видящий меньшее как степени и отношения к глав-
ному; «поступок царственный» - это великое самопожертвование, это отказ
от владычества, где оно оскорбляет, от власти, когда она теснит, это - высокое
смирение перед законом неисповедимым, образ «раба Божия» даже и в вен-
це; то же значение имеет выражение «царственный характер». Итак, значе-
ние нравственное гораздо более присуще имени царя, нежели смысл поли-
тический, но и это значение не исчерпывает его содержания: царь - это выс-
ший человек, которому слабости человеческие особенно чужды, которому
идеальные, светозарные черты - особенно свойственны; то же, что гармо-
ния в инструменте: все в нем важно, и дека верхняя и нижняя, и струны, и
винты, к которым они прикреплены, но важно только в отношении к звукам,
которые все эти части издадут в своей целости. Царь есть тот, в ком гармони-
зуется историческая жизнь; все для этой гармонии служит, и в то же время
эта гармония святит все собою, санкционирует другое, что ее окружает. Ко-
нечно, гармония эта должна быть прекрасна; конечно, царь должен быть
прекрасен; он должен быть более человек, чем мы, без наших смешных не-
достатков, слепоты, пороков; царь должен быть праведен.
Церковь наша святая не молит о нем как о реформаторе, победителе, но
только как «о благочестивом» человеке; ранее всякого успеха внешнего**
♦ Т. е. мы разумеем столь резко выраженные и массовые благодеяния, как осво-
бождение крестьян в позапрошлое царствование.
♦♦ «Среди множества разных дел, возникающих в нашей общественной жизни и
литературе, есть в настоящее время только три существенные: дело народного обра-
зования, дело матерьяльного самосохранения народа (вопрос продовольственный и
санитарный), и, наконец, дело религиозной свободы», - так еще в нынешнем году
329
народ наш хочет быть чист душевно; тому и другому отвечая, царь есть
чистый от порока человек, насколько это возможно на земле, - чистый от
порока в себе лелеемого, послабляемого, от преднамеренной слепоты, от
всякого лукавства. Слова об усопшем Государе его в юности скончавше-
гося, старшего брата: «Берегите его - это душа кристальной чистоты»
тронули всех, как не тронуло бы, конечно, никогда какое угодно увеличе-
ние территории нашего государства, купленное ценою вероломства, об-
мана злейших наших недругов. Обстоятельствами жизни, нуждою, зави-
симостью мы все пригнетены; мы сужены в природе своей; имея залоги
к лучшему, мы следуем худшему, однако никогда - без боли душевной
некоторой; перед собою, перед глазами народными дорого поэтому ви-
деть человека, над которым не господствует никакая нужда, зависимость*,
и он осуществляет свободный идеал человека. Несвязанность его действий
чем-либо есть поэтому требование, входящее в самое его понятие: ибо
благо, вынужденно творимое, менее благо, нежели даже зло, творимое
свободно; такое благо есть явление физическое, почти как дождь в засуху,
и оно ниже, чем гнев, чем разрушающая буря страстей, потому что в них
мы имеем акты божественной души человеческой. В ком-нибудь, хотя бы
в одном, человеку нужно видеть эти акты совершенной свободы, в одном
только он и может их видеть, ибо два - они ограничивали бы уже друг
друга, были бы несвободны, теряли бы существенное свое определение н
следовательно исчезали бы вовсе. Идея царя поэтому есть идея таинствен-
ная и священная в истории; к ней привязаны глубочайшие, мистические
нужды человека. Жалок народ, который слеп к ней; вообще, у народов**
она и отсутствует; наш народ был так счастлив, так даровит, он так прови-
денциально предъизбрал, что возвысился до этой святой, праведной, не-
обходимой идеи.
определял нужды народные публицист, имени которого мы здесь не хотим назвать
(«Вестник Евр.», март, стр. 906). Не возражая ничего против каждой порознь из
этих нужд и указывая лишь на порядок их размещения, а равно упущенное среди
их, мы вынуждены сказать: вотто, что можно назвать не центральным, не царствен-
ным умом. Это не Зевс смотрит на нужды людей, а какая-то курица, подбирающая
себе зерна и негодующая па небо, на мир - что этих зерен мало, что они недостаточ-
но вкусны.
* Т. е. во внутренних отношениях, которые одни и видны народу.
♦♦ Т. е. у западных и даже в прежнее время, где roi, rex, PcxSiXev; Konig - есть
олицетворение этнографического единства племени, вождь дружины, созидатель-стро-
итель государственного здания, и, как наследник таковою, в настоящее время - глав-
ный мастер при работающей административной машине, труженик за рабочим столом
с своими министрами (в особенности - короли Германии и Австрии). У нас идея царя
есть нравственно-историческая; с народом он теснее слит, нежели с чиновничеством;
он ее и, явление скорее бытовое, чем административное; необходимое - но более для
покоя сердца, нежели для безопасности страны. Так понимается народом, чувствует-
ся в истории.
330
Царь есть тот, о ком радуется, кем светится или, напротив, темнится и
скорбит народ. Не нужно успехов ему* - это не дело рук человеческих; не
нужно нового, капризного** - это унижение для человека; не нужно дождя
указов, законов - он засевает, закрывает как пелена от глаз главное. Нужно
народу, чтобы он был совершенен - в этом его функция; чтобы был праве-
ден, чист; чтобы не закрывалось солнце, от которого и я в моем унижении,
грязи, темноте мог бы зажечь свою свечу; чтобы умирая недостойным, я
мог взглянуть на одного, который достоин.
VI
Многими, кажется, было замечено, что в отличие от деятельного характера
народов западных наш народ отличается существенным образом характером
пассивным; идея «прогресса», как неопределенного движения вперед - ему
непонятна и, кажется, враждебна в высшей степени; мы поясним, что эта идея
вытекает из высшего неведения человека: иду вперед, иду не останавливаясь,
я тогда лишь, когда во всяком месте, куда бы я ни пришел, мне не хорошо.
Пустота душевная, не в смысле легкомыслия, но в смысле отсутствия внут-
реннего насыщения, вечного и неутолимого алкания, есть постоянное ощу-
щение западного человека; можно сказать, он не знает идеала как формы, но
только как цель возможную***; нечто манящее, но не действительное; нет
степени богатства, которого ему было бы довольно****; нет господства, ко-
♦ Мы говорим о царе. Замечательно, что самые «успешные» царствования не
суть самые чтимые, любимые у нас, и нс только в народе, но и в историографической
науке, если не принимать во внимание официальных ее оттенков (цар. Екатерины П)
Алексей Михайлович был очень мало «успешен» в делах и очень тепло любим. Но и в
новой истории царствования, например, императора Павла I, с его «ящиком», при
посредстве которого он надеялся, наконец, узнать все скорби народные, истребить
все каверзы и обиды в его среде - трогательно, дорого, хотя, конечно, не было вовсе
успешно, для современников было очень тяжело. Кажется, русский народ оценивает
государей своих только в мотивах и нисколько не в фактах.
*♦ Мы разумеем тот тип правителя удивляющего, который очень характерно
выражен в молодом германском государе.
♦♦♦ «Если бы в одной руке мне предложили всю истину, и в другой - вечное
стремление к ней - конечно, ни на минуту не колеблясь, я выбран бы второе» (слова
Лессинга).
Общинный быт наш скорее всего объясняется отсутствием слишком большой
жажды обогащения в каждом порознь «Отчего ты не живешь так, как твой сосед-коло-
нист?» - спрашивал у мужика один администратор; - «мы не можем»; «подлец, да почему
же он может?» - «потому что он колонист»; «а ты почему не можешь?» - «потому мы не
колонисты». Администратор, передавая мне этот разговор, в то же время заметил, что
дававший столь идиотские ответы на счет своего хозяйства мужик, во всем, кроме этого
странного диалога, был умнее, смышленее своего соседа-колониста. Но не этот ли смысл
имеет ответ мужика: «колонист весь живет в своем огороде, он дтя него и родину бросил,
и «от Христа отрекся», наконец, глуп даже сделался, а мне нужно и к куме сходить, и в
трактире побывать, и в храме Божием свечу поставить - я не могу и не хочу работать, как
331
торого он не хотел бы расширить*; нет искусства (в грубом смысле), усовер-
шенствования, которого он не хотел бы еще усовершить, улучшить, как-ни-
будь приспособить к новому, изменить в самом себе**. Каждый год человек
западный встречает ожиданием: «Что еще нового принесешь ты нам?» и каж-
дого человека: «Что есть у тебя, чего я не знаю, не имею?».
Статический, неподвижный характер нашего народа вытекает из того,
что он знает идеал как некоторый status quo***, как норму, как действитель-
ность скорее полуразрушенную, нежели вновь построяемую. Боль об этой
разрушенной действительности наполняет всю нашу историю, проникает весь
народ; не в «Исусе», не в «двуеперстном» сложении, не в поправлении книг
церковных**** источник нашего раскола, этого отпадения бодрых, полных
силы, поистине лучших***** частей нашего народа от идущего вперед главно-
го русла нашей истории, - как не в «пролетариате», не в дурных законах, не в
злоупотребляющей администрации лежит причина этого другого отпадения,
какое мы наблюдали и отчасти еще наблюдаем в свежей, юной, зеленеющей
верхушке нашей народной кроны. «Мир лежит в грехе», «нет спасения в
мире******* - вот более чувство, нежели определенная мысль этих «бегу-
он, я создание Божие, а не корова». Также напряженность эксплуатации рабочего у наших
фабрикантов не имеет и тени той интенсивности, как на Западе: известный Мальцев, отлич-
но обставив быт рабочих, дав нажиться около себя сотням людей, сам разорился; приказ-
чик обычно разживается около своего хозяина, не излишне зорко за ним смотрящего, и
начинает годам к 40 свое «дело». Кажется, подобной действительности, как бытового
факта, не как исключения, нет на Западе.
* Большая часть войн на Западе - завоевательны; у нас - почти все оборо-
нительны. В некоторых случаях они велись в целях «возвратить дедовское наследие».
♦♦ Отсюда доходящий до вычурности комфорт в быте, совершенство в фор-
мах труда - на Запале: русский «и сеялки не изобрел» (Тургенев) - к великому
благу, - не в себе самом, но в соотношении с бесчисленными другими благами, кото-
рые ему остаются с неизобретенною веялкой (как, напр., земельная община).
*** «Земля, которая обычаи свои перестанавливает - и та земля недолго сто-
ит», - высказались отцы-грамотеи Стоглавою собора; раньше, в домосковском пери-
оде, новгородцы со всякого вновь призываемого князя брали запись: «править по
старине», «старины не рушить»; позднее, Венедикт, основатель секты чувственников,
учил: «Хотя б кто в староверчество пришед окрестился снова, хотя б без того был в
нетовщине, или при беглых Великороссийской церкви попах в поповщине: но если
старину содержит, нет в самой вещи ко спасению никакого препятствия». Вот где
тайный стимул раскола, и, прибавим, также тайна от него исцеленья.
♦♦♦♦ Они и прежде поправлялись; сверх того, раскол назревал уже гораздо
ранее Никона в форме общего и смутного недовольства «переставлением» святооте-
ческого обычая.
♦♦♦♦♦ Раскол, возрастая, «вербуется из талантов», замечают исследователи-
наблюдатели, и мы все знаем, до какой степени по благообразию быта и рассудитель-
ности в собеседованиях раскольники превосходят остальную массу крестьянства.
♦♦♦♦♦♦ «Нет ныне, в мире ни православного священства, ни таинств, ни благода-
ти, - и желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, кото-
рый сам ведает, как спасти нас бедных» (учение раскольников Спасова согласия или
нетовцев).
332
нов», «нетовцев», «морельщиков», «тельников», бесчисленных других сек-
тантов, которые в этом как бы обваливающемся*, рушащемся мире (но не в
мире недостроенном) считают невозможным оставаться в каком-либо по-
кое, перебегают из веси в весь, укрываются в лесах, в холодных пустынях
Севера, не останавливаясь, спасаясь от какого-то позади лежащего ужаса,
без всякой надежды впереди** - подобно тому как перескакивая со льдины
на льдину бежит, не оглядываясь, человек, под которым внезапно взломало
лед. И так же точно не в ряды чиновников идут, не пытаются, приняв высокий
сан, повлиять на администрацию неопределенно тоскующие юноши наши;
♦ «Нет ныне уже церкви и прямая вера погибе на земли: ее бо Антихрист настал» -
слова одного из вождей раскола. Антихрист понимается многими раскольниками в
духовном, отвлеченном смысле, как совокупность представляющих отступление от
христианства условий жизни, как некоторая разрушенность целостной христианской
жизни.
♦♦ Вот трогательные и поразительные слова, характеризующие это особенное
состояние духа в признаниях раскольника-сыноубийцы: «Однажды ночью печаль
моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так
велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затеп-
ливал свечи перед иконами и молился со слезами на коленях о своем спасении и
спасении семейства своего. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от
погибели вечной, и гак как сын мой Григорий, единственное детище, был очень резв,
весел и смышлен не по летам, то я, боясь, чтоб он после смерти моей не развратился
в вере и не погиб навек в геене вечной, решился его зарезать. С этою мыслью я
вышел на заре в задние ворота и стал молиться на восход, прося у Спаса знамения,
что если после молитвы придет мне снова мысль эта в голову с правой стороны, то
я принесу сына в жертву Богу, а если слева, то нет; потому что, по мнению нашему,
помысл с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой - от дьявола. По окончании
длинной молитвы помысел этот пришел с правой стороны, и я с веселием в душе
возвратился в избу, где сын мой спал вместе с женою моею на коннике (широкая
лавка). Опасаясь препятствий со стороны жены, я нарочно разбудил ее и послал за
овчинами в дер. Перво, а сам, оставшись с сыном, сказал ему: «Встань, Гришенька!
Надень белую рубаху, я на тебя полюбуюсь». Так рассказывал сыноубийца. Маль-
чик надел белую рубаху и лег на лавку в передний угол. Отец подложил ему его
шубку в головы и, заворотив вдруг подол рубашки, нанес ему несколько ударов
ножом в живот. Мальчик затрепетал и начал биться, так что постоянно натыкался на
нож отца, отчего на животе его оказалось множество ран. Тогда отец, желая прекра-
тить страдания сына разом, распорол ему живот снизу доверху... Мальчик потерял
силу сопротивляться, но не умер в тот же момент. Заря, занявшаяся на востоке,
светила детоубийце в окно при совершении преступления; но когда сын был заре-
зан, то в окнах вдруг появились первые лучи восходящего солнца и багровым све-
том упали на лицо невинной жертвы. При этой случайности, убийца встрепенулся,
руки его дрогнули, нож выпал из рук, и он упал перед образом на колени с молит-
вою, прося Бога принять милостиво новую жертву. Дело это должно было разби-
раться во Владимирском окружном суде; преступник, Михаил Куртин, Вязниковс-
кого уезда, деревни Слободищ. 57 лег, принадлежал к так называемому Спасову
согласию, одному из толков беспоповщины. Прежде решения дела, преступник,
заключенный в острог, уморил себя голодом.
333
соединяясь в «согласия»*, оставляя родительский кров, «бежав» из обще-
ства, они как и те темные люди с веригами на ногах, но только без вериг, без
Бога, с пустынею в душе пытались и нередко еще пытаются в быте, в труде
ежедневном, во взаимных отношениях воссоздать какую-то целостную жизнь
на место прежней, оставленной. Там и здесь, на этих двух полюсах русской
действительности, мы равно видим какую-то «нетовщину», отвращение к
целостной жизни, жажду не перемены, не строительства и труда, не идеала
влекущего, но - нормы, закона над собою, насыщающего сердце теперь и
здесь. Можно сказать, идея прогресса, как неопределенного совершенство-
вания, как улучшения вообще, идея так обнимающая всю европейскую ци-
вилизацию и наполняющая ее трудом, надеждою, равно отсутствует, равно
враждебна «бегуну», старообрядцу, всякому русскому.
VII
И объединяя эти полюсы, рассматривая все прочие явления русской действи-
тельности как ступени, как недоразвития до этих двух отрицаний, двух жажд, —
отбрасывая в самой этой жажде уродливое и временное, мы скажем, что
некоторая праведная жизнь как быт, как строй, как целостность ** челове-
* По путям неопределенно движущегося вперед развития — люди расходят-
ся, отделяясь в партии, «сеты»; замечательно, что народ наш не знает слова «секта»
(отделение), но факт, по форме один с западноевропейским сектантством, у нас назы-
вается «согласие». Глубоко творческий, зиждущий, положительный характер наро-
да нашего сказывается здесь, как полярная противоположность отрицательному,
скептическому, разрушительному характеру народов западных. Там человек раду-
ется отделению, как выделению своего я, его обособлению; русский скорбит об
этом, и даже отделяясь (секты) - думает, что он соглашается, вливается как капля в
морс новой истины и людей, по этой истине живущих.
** Крошечный факт, миниатюрная черта действительности иногда также харак-
теризует ее, как и крупный факт: в поездке московско-нижегородской железной
дороги, в вагоне 3-го класса, сидело несколько молчаливых пассажиров; поезд тро-
нулся, и, как всегда на этой дороге, все перекрестились; никто не прерывал молча-
ния. «Кроме мощей святых угодников, провалиться ей всей, Москве», - вдруг пре-
рвал общую тишину господин лет 35, в европейском костюме, и сплюнул гневно на
пол. Все были удивлены этим восклицанием, ни к кому не обращенным. «Почему
так?» - спросил я его. Не помню точных слов его ответа, но смысл их был тот, что
Москва не имеет в жизненном строе своем никакой упорядоченности, каждый живет
как хочет и вообще живет скорее безобразно, чем сколько-нибудь сносно, красиво с
моральной стороны: «...у нас (он не объяснил где «у нас») в праздник богатые люди
оденут хорошую одежу и всякий со своей женой выйдет на главную улицу, а тут я
посмотрел...», etc.; возьму другой полюс: в известном романе Чернышевского не
развиваются предположения о лучших условиях действительности, нет соображе-
ний, намеков, нет динамического элемента: в известных трех снах героини романа
представлена новая действительность уже как бы изваянная, т. е. как форма и вовсе
не как процесс; у Достоевского, который так же не любил действительной жизни,
действительность лучшая представлена в виде полета на новую планету, где заснув-
334
ческих отношений есть вечная, главная мука русской души, как она вырази-
лась в истории, продолжает выражаться теперь. Вот почему навсегда останутся
напрасны у нас надежды на закон, указ, реформу, которые завтра произведут
лучшее, чем что мы имеем сегодня; они только дальше и дальше взломают
взломанный уже лед; страха внутреннего, смятения душевного будет еще боль-
ше; и те, которые в слепоте своей, не давая отчета, потеряв в себе себя, думали,
надеялись, что и в самом деле этого улучшения им нужно* - завтра обагрят
кровью это новое лучшее, своею ли, чужою ли, но только как невыносимое. И
вот почему царь-реформатор в крови, не производивший никаких реформ -
оплакивается; в заточении - самонадеянный патриарх, «блажен» - юродивый
нищий**. И всякий, кто жизнью, словом, жестом выразил, что понял это глав-
ное*** возлюблен; кто этого не увидел, какие бы дары с собою ни нес - пренеб-
режен, забыт.
VIII
Эта главная тайна нашей истории была не столько постигнута, как осуществ-
лена покойным Государем: все спрашивают***♦ - «что он сделал?» и все
плачут, не понимая, не давая себе отчета, неудержимо. Он ответил вековечной
жажде народа своего - к покою; но этого покоя, но этой вековечной жажды
ший самоубийца видит новый род людей, еще не развращенный, без греха («Сон
смешного человека» в «Дневн. писателя»). Я указываю только немногие и незначи-
тельные штрихи; я хочу сказать, что страстно отвращаясь, страстно жаждая, запад-
ный человек изобретает: он переходит к процессу, русский - воображает, он перехо-
дит к форме; первый есть мыслитель, второй созерцатель.
* Замечательно, что, по-видимому, желая лишь «правового порядка», из-за
него совершая все преступления, - подземные темные силы совершили последнее и
главное преступление (1-го марта) почти накануне осуществления этого порядка, в
дни «диктатуры сердца», когда всякая надежда завтра могла оправдаться, никакое
усилие не осталось бы бесплодно.
♦♦ Мы разумеем Василия Блаженного, над которым в день кончины собрались
с таким умилением царь, патриарх, народ московский. Сравни, правда в раскольничь-
их сочинениях, отзывы о «мордвине» Никоне, дышащие непонятною в русском раз-
дражительностью именно к самоуверенности его гордого ума, к решительности его
«взломать лед». В то же время кроткий и тихолюбивый Алексей Михайлович изобра-
жен с нежностью, ему все прощено, хотя именно с его соизволения было все сделано.
♦♦* Напр., в новейшей нашей литературе все пассивное выше ценится, нежели
деятельное: Гончаров - любимейший писатель, гениально выполненное «Горе от ума»
вызвало насмешливые замечания в таких двух людях, как Пушкин и Достоевский,
умолчание - со стороны Гоголя; Пушкин несравненно шире, благоговейнее чтится,
нежели Лермонтов, хотя в однородном всюду уступает ему, и, следовательно, был
слабее в силах, хотя, конечно, прекраснее и богаче. Герои нашей литературы все от
Онегина и до новейших (у Тургенева) немножко смешны - именно потому, что слиш-
ком суетливо, самонадеянно деятельны.
Тотчас по смерти покойного, собираясь в группы, чиновники и писатели,
иногда по нужде почти служебной, искали формул для содержания завершившегося
царствования, но не сразу их находили.
335
он не понял презренно как квиетизм, самодовольство, «консерватизм»*, но
как некоторую красоту неподвижную, как благообразие целостной жизни,
выразимся языком наших древних памятников, требованием лучших частей
нашего народа - как некоторый «благочестивый быт». Мы в самом начале
привели слова погребальных канонов, где человек оценивается в целом, с
некоторой окончательной точки зрения, - где суета опала с него и он стоит
«наг», «безобразен», исполнен «страха», оплакиваемый. Конечно, такова есть
подлинная действительность; конечно, жалок человек и особенно он жалок в
своих усилиях; но важно понять это не в момент, когда уже глаза закрываются,
когда всякое знание не может принести плода, но именно при исходе в жизнь:
и именно тогда**, именно так была понята жизнь нашим возлюбленным оп-
лаканным Монархом. Он не предпринимал нового; но в храмине бытия наше-
го, в укладе народной жизни, где так многое переменив ничего не улучши-
ли*** реформаторы, он твердо, без славы, без шума поднимал балку за бал-
кою и устанавливал все на месте; весь труд строительства государственного
свелся не к надеждам новым, не к манящему, но к упорядочению, утвержде-
нию, расчистке прежнего: и всем стало удобнее, лед под ногами окреп, ноги
не дрожат, руки никуда не протягиваются**** в страхе, каждый понял, что
здесь и теперь он призван стоять наилучше. Вот это лишь внешность, лишь
несущественное: он, свет страны своей - из себя бросил тот свет благообра-
зия, тот идеал красоты неподвижной и покорной высшим законам, которого
одного жаждет истинно русская душа; он был для всех исполнившимся сно-
видением. Никто у могилы его не вспомнил об институте земских начальни-
ков, ни о приделках к новому суду, ни даже об укрощении эры «хищений»;
лишь газеты говорили о ненарушенном в Европе мире; нет, не это все в нем
было дорого, и кто же слезы прольет о том, что не было войны с Германией?
плакали о человеке, о груди в порфире, которая билась теми же страхами*****,
* Куда, по-видимому, действительно он манился некоторыми. См. в начале
его царствования оживленные воспоминания - напоминания о Николае I, которым
всем суждено было обмануться. Ибо нет более диаметрально-противоположного, как
характер, значение, вероятный результат этих двух царствований.
♦♦ Страшная кончина его Отца, без сомнения, потрясла Его, и, в момент восше-
ствия на престол, как бы дала заглянуть в бездны гроба и понять, что есть жизнь челове-
ческая. Эта высокая и истинная точка зрения уже не оставлялась им во всю жизнь.
*** См. выше приведенную, заключительную характеристику царствования
Александра II, сделанную самими «реформаторами».
♦♦♦♦ Поразительно, и нельзя достаточно надуматься над этим явлением, что
подземная антигосударственная деятельность хотя и не прекратилась при усопшем
Государе, но потеряла свой бешеный, страстный, не ждущий ни минуты, характер.
Просто стало тверже в жизни, из неустойчивою положения государственно-народ-
ный организм пришел в устойчивый; и это именно глубочайшим образом ответило
народному характеру, если не насытило, то «заморило» на минуту главное в нем
желание.
***** не разумеем здесь ничего политического, чего и не знает народ, в чем
слиться с ним не может Государь: мы разумеем страх загробной жизни, страх перед
грехом здесь, на земле.
336
ожиданиями, заботами, как и каждая грудь под сермяжной дерюгой, - о голо-
ве, которая и в венце не забыла о том, о чем думают миллионы голов в бара-
ньих шапках. Плакали о нем, как о друге-хранителе царицы*, которому и она
была советницею, оберегательницей**; плакали об отце людной семьи; чут-
ким сердцем всякий русский на минуту как бы встал в центр царской семьи, и
все, что там чувствовалось - почувствовал: вот откуда слезы. Реформа всякая
может быть отменена: не отменится эта скорбь оставляемой жены; реформа
всякая, закон - это заново покрашенная канцелярия: кто будет плакать, радо-
ваться о ее покраске, только маляры пересчитают на ладони полученные пята-
ки. Бог с ними - народ имеет заботы выше. Он имеет первую заботу за гробом;
ближайшую к ней - о жизни, как подготовлении к гробу. Государь три раза
причастился перед кончиною - это существеннее его реформ; к нему, умираю-
щему, был призван, как и мы призываем в болезни, от. Иоанн: это для всей
страны дорого, драгоценно. В ожидании нового Царя, мы не задумываемся, не
спрашиваем: «Что у него зажато в руке?» «что он даст нам?» В истории - мы не
разбойники: мы смотрим налицо приходящего и на привет в его взорах отвеча-
ем приветом, его скорби отвечаем скорбью - только.
IX
О, «я знаю, как и рука», получающая тысячи, протягивает тайно другую руку,
чтобы обобрать куски у нищих; как обремененная ношею, та же «рука» на
вопрос о той или иной подробности ей врученного дела отвечает: «Нет, я
ничего в этом не понимаю, и меня утешает лишь то, что мой товарищ, полу-
чающий 15 000 и которого специально это дело касается - еще понимает мень-
ше моего это дело»; знаю, что презрен деятельный, и «отлынивающий» по-
чтен; мудрый сметает пыль со стола, за который сядет глупый. Все я вижу, ни
на что не закрываю глаз... Но отчего нам не понять, что дурную администра-
цию, несовершенные законы мы должны также переносить, как зной солнца
над спаленным хлебом, град после дождя, и все, чем мучимы и от чего изба-
виться у нас нет сил? Почему, болея, мы знаем, что это естественно, и перено-
сим страдания; стареясь становимся безобразными и не хотим прибегать к
косметикам? Зачем не принять, что в некоторой сумме страдания, мне уде-
ленного на земле, необходимого, чтобы искупить мой грех - есть и доля,
которая выражена в несправедливости ко мне судьи, в недостающем законе, в
том всем, что мы переносим от людей, а не от природы? Примем это и успо-
коимся; обратимся лучше с заботою к вечному.
♦ Замечательно печальна была ее жизнь: потеря жениха еще невестою; страх
непрестанный за жизнь мужа; потеря его в полном цвете лет.
♦♦В начале царствования Александра III, в обществе, по крайней мере, говори-
лось, что Императрица потому безотлучно всюду сопровождает Государя, что зло-
умышленники пожалеют их обоих погубить.
337
X
Мы сказали, что несправедливые законы, неискусные учреждения составля-
ют желания народа нашего, но некоторый быт как строй, как целостность
отношений человеческих, и ранее, чем их - отношений человека к Богу. На-
прасно радование о совершенстве суда, когда на нем судится вчерашний пако-
стный порок; тщетна наилучшая должность, если на нее некого посадить, как
только этого или того проходимца. Быт же - он держит меня, другого, всякого,
как почва держит растение и не дает упасть ни которому.
Восстановление этого разрушенного быта—вот великая задача будущего:
вот глубокое, не территориальное только решение задачи о возврате «домой».
Мы возвращаемся к памяти усопшего Государя; бледною полоскою на горизон-
те, обещающею светлое утро, явились нам 13 лет его царствования, потому что
он также мало влекся к пустым внешним преобразованиям, к этим перемеще-
ниям и перемещениям пыльных канцелярских перегородок, и более влекся, жад-
нее приник к коренной бытовой стороне жизни. Как умилительны эти минуты
его кончины: «...близ больного были поставлены св. Дары, и началось, среда
глубокого молчания присутствующих, чтение обычных молитв. Молитву пред
причастием, которую как бы перед Спаситем, перед телом и кровью Его говорит
грешный: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты ecu воистину Христос, Сын
Бога живого, пришедый в мир грешных спасти, от них же первый есмъ аз, -
эту молитву совершенного человеческого смирения Государь повторил от сло-
ва до слова с ясным сознанием каждого слова и с сердечным умилением. Когда
я, по окончании священнодействия (рассказывает приобщавший его духовник),
хотел удалиться, чтобы Государь мог остаться исключительно среди своей се-
мьи, ему угодно было остановить меня, чтобы неоднократно повторить свое
царское спасибо и непременно поцеловать священническую руку, которую он с
усилием поднял до своих уст»* **. По удалении духовника Государь, чувствуя при-
ближение последних минут, позвал отца Иоанна. О. Иоанн помазал Государю
ноги и другие части тела елеем из лампады от чтимой чудотворной иконы, кото-
рый прислали через местного священника окрестные жители. «Приняв с ис-
креннею верою это благочестивое усердие, Государь выразил желание, чтобы я
возложил мои руки на главу его, и, когда я держал, Его Величество сказал: «Вас
любит* * народ». - «Да, - сказал я, - Ваше Величество, Ваш народ любит меня».
Тогда он изволил сказать: «Да, потому что он знает, кто вы и что вы». После
этого Августейший больной стал чувствовать сильные припадки удушья, и в
* Протопресвитер И. Л. Янышев, в «Церковных Ведомостях».
** Поразителен этот вопрос, это полуумиление, полутревога умирающего Госу-
даря: не о семье своей, не о величии трона, не о всем, чем тревожится и мятется жалкая
плоть человеческая, кончаясь, думает он, но о радости нести на себе любовь народ-
ную. Конечно, это вопрос не главы политического организма, но Помазанника Божия;
конечно, Государь наш по всему смыслу своей власти, - если уже нужно его относить
к иерархии некоторых властей - стоит в иерархии духовной и отнюдь не светской, не
гражданской, не политической.
338
уста его постоянно вводили посредством насоса кислород. Ему было очень
тяжело...». Так рассказывает* отец Иоанн, который до последнего издыхания не
отходил от умирающего и прочел молитву на исход души его. Да, возлюблен-
ный наш, и тебя «любит народ» потому что «знает, кто ты и что ты» - любит
тою особенною, не мирскою, не суетною любовью, какою возлюбил и свое-
го священника-пастыря.
Этот образ праведной кончины - лишь зачаточная черточка того велико-
го, устойчивого в жизни, что мы назвали выше благочестивым бытом и о
чем сказали, что этого именно жаждет народ наш. И он сам, усопший Госу-
дарь наш, был полон жажды к нему же, поверх всего внешнего, «государ-
ственного». Но он как бы останавливался в сомнениях. Между ним и темным
людом вся толща остальной действительности: толща учреждений, этот фа-
сад «великой империи», толща общества, эти декорирующие фасад тропи-
ческие растения - ничего не знают об этом бытовом, и, по-видимому, ниче-
го знать не хотят...
И обладатель великой державы задумывался о границах своего облада-
ния; солнце боялось светить всею полнотою лучей на землю, где, затеняя от
него хлебные нивы, было что-то безобразное, без имени, чему, по-видимо-
му, эти лучи были не нужны, враждебны...
Читая по складам бюллетень о болящем, девочка в страхе** восклицает:
«Государю худо»; в тот же день и час, уже ранее, у себя пробежав тот же
бюллетень, роскошные экипажи несутся также боясь... пропустить арию, за-
нимательное па танцовщицы. Ей и им, очевидно, нужно разнородное...
XI
«Благочестивый быт» - это, наконец, лик праведника на том, чьего лица мы
теперь не видим, в чьем имени сомневаемся; не географический термин без
смысла; не странный механизм, где проданное вино окупает основываемую
школу, нищенство питает роскошь и каждое завтра уже поедено сегодня; не
«северная Фиваида»***, где, прикрыв благоговейно парчою кости древних
мучеников, сегодня скинув излишество туалетов, юные девы и старики спле-
лись любовно.
♦ В тех же «Церковных Ведомостях».
♦♦ Поразительна любовь народная к Государю, в которой, вместе с высоким
нравственным смыслом, есть что-то почти физическое: в дни прощания необозримые
народные массы, стекшиеся частью из окрестностей столицы, вечер и ночь, по двенад-
цати часов неподвижно ожидали пропуска и прощания с усопшим. И когда экипажи
провозили мимо этих ждущих «блестящие» част общества в собор, как мне передава-
ли: никто и ни одного взгляда не бросил на них, каждый глаз угрюмо смотрел только
на одну точку впереди, которой нужно было достигнуть: взглянуть, поклониться и
уйти. Поэтому, мы думаем, быть виденным - одна из главных функций Государя.
*** Так звали Среднюю и Северную Россию в XIV-XVI вв.
339
Царь, которого в раннее утро и поздний вечер народ видит идущим
молиться в тот же не пышный храм, где молится и бедняк, о нем так хорошо,
так благоговейно молится; теми же заботами и его обремененная голова
тревожится, как и голова последнего бедняка в его царстве; в этих заботах
раскрываются Божьи книги, чтобы найти ответ на мучительный вопрос;
над этими книгами, над мучительным вопросом думает неторопливо Царь,
ему указывают строки епископы, советуют благочестивые мужи. Церковь
земная, временная - только как отражение небесной, точнее - усилие к
ней, подготовление: когда Христос для всего грешного мира «сошел в пре-
исподнюю», «раскрыл врата ада» - в три дня воспоминания об этом рас-
крыты двери тюрем, чтобы не на словах, а делом каждый вспомнил об ис-
купленном грехе мира. Мало слов; горяча молитва; тверд обычай - вот что
значит благочестивый быт.
А где же «свод»? тысячи канцеляристов с заткнутым за ухо пером? ты-
сячные ротонды, экипажи на резиновых шинах?
Все ушло в хлеб - после того, как все ушло в молитву.
Это - завтра; а сегодня... утро уже смотрит в окно, свеча погасла почти.
Еще две ассигновки не обревизованы; нужно спешить в департамент...
5 ноября J 894 г.
1895 год
ЕЩЕ О КОМИТЕТАХ ГРАМОТНОСТИ
Сия великая часть Европы и Азии, именуемая
ныне Россиею, в умеренных ее климатах была
искони обитаема, но дикими, во глубину неве-
жества погруженными народами...
Карамзин. История Государства Российского, гл. 1
I
«Если они делали хорошее дело и ты им завидуешь - повтори их в своей
деятельности; если они делали худо - научи их, исправь, улучши.
И ни в каком случае - не уничтожай».
Вот требование сердца, указание ума, завет истории культурной, которая
возрастала из чувств любви, уважения, благородной, озабоченности, и ни-
когда - ненависти, насилия, презрения.
Этот завет, нам кажется, всюду применим; и мы невольно его вспомни-
ли, его решились припомнить другим, когда № 6764 «Нового Времени» при-
нес неожиданное для всех известие о готовящемся закрытии петербургского
и московского комитетов грамотности.
Будем правдивы: мы не сторонники этих комитетов, скорее, мы их
противники. Мы не находим в их деятельности некоторых черт, при которых
единственно желали бы видеть движущимся вперед народное просвещение.
Никого не нудя соглашаться с собою, скажем прямо: школа церковная (не
церковно-приходская) есть единственная, которая нужна народу; и при ней,
или параллельно с нею - передача народу простых навыков, умений практи-
ческих, касающихся земледелия, ремесел и т. д. В христианстве, в правосла-
вии есть достаточно образующих элементов, чтобы, внимательно на них только
сосредоточившись, возрасти духовно до очень значительной высоты.
Но это сторона спорная, и она не затрагивает центра вопроса: кому учить
народ? Конечно, тому, кто хочет и может научить, у кого народ пожелал бы
быть наученным.
341
Закрытие комитетов грамотности свидетельствует, что министерство на-
родного просвещения уверено в неспособности чьей-либо научать, кроме
его самого. Пусть так, и его компетентности мы не будем оспаривать иначе,
как его же... не словами даже, но фактами, деяниями историческими.
Обойдите гимназии и вы увидите обширные коллекции минералогичес-
кие, зоологические, богатые гербарии - более без употребления, занесен-
ные пылью, затянутые паутиной; это - не вынесенные гробы. Министерство
народного просвещения уверено только на сегодня в себе; вчера еще ему не
казалось образование возможным без минералогии, зоологии, ботаники*;
сегодня оно не считает его возможным с минералогией и без греческого
языка. Каким, при каких условиях, в каком составе предметов оно будет счи-
тать его возможным и наилучшим завтра?..
Итак, если не считать положенных штатов, в срок выданного жалованья,
устойчивости канцелярского строя, министерство народного просвещения
само находится еще в das Werden, в процессе образования своего - во всем,
что касается идей. Оно проясняется и вовсе еще не ясно; пытается верить и
вовсе не уверено; хочет знать, но не знает. Это показывают факты; сменен-
ные системы образования; презренное вчера, что уважается сегодня; пре-
зренное сегодня, что было уважено вчера.
Можно ли при этом быть уверенным, что никто не научит лучше? Разве
чины министерства не суть индивидуумы, какя и он? И могут ли они, перед
лицом целой России сказать, что они суть индивидуумы в ней самые мудрые,
наиболее изобретательные в методах, глубочайшие в обдумывании многочис-
ленных вопросов, связанных с трудным, ответственным делом научения?
И опять история, история...
II
Оставим это; это мучительно. Мы заговорили языком логики, истории, куль-
туры, когда, быть может, нужно говорить другим языком. Кто не помнит этих
стихов:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал...
Это он, наш лучезарный Пушкин, о себе написал, потянувшись мечтою
к годам отрочества из лет суровой возмужалости, труда, нарастающей вок-
руг зависти, злобы. Мне захотелось увидеть эти сады; мне хотелось перечи-
тать бессмертные строфы «Евгения Онегина» в том самом месте, о котором
в них говорится, где бегал смуглый гениальный мальчик.
* В первом и втором классах гимназии я был обучаем естественной истории, как
следует, на уроках, с учебниками в руках, обмундированными учителями; в старших
классах будучи, мы уже преследовались (при переменившейся системе образования)
за чтение книг по естественной истории, как отвлекающее нас от сосредоточенности
на главных предметах.
342
«Нет, этого здесь нет; и ничего не помним», - говорили мне в Царском
Селе. Случайно, в пасмурную погоду, в тяжелую для себя минуту, я прогули-
вался по Каменноостровскому проспекту (в Петербурге, на его окраине), выс-
матривая извозчика, на котором можно было бы скорее добраться до дома и
укрыться от усиливающегося дождя. «Может быть, здесь, в этом грязном про-
улке, найдется какой-нибудь Ванька?» - подумал я, подходя к перекрестку. Но
Ваньки не было. Высокое белесоватое здание неопределенной громадой выси-
лось здесь, и я прочел: «Императорский Александровский лицей».
- «А... Пушкин», подумал я, крепче запахнул пальто и пошел ускорен-
ным шагом дальше.
Что же, кроме Пушкина, можно вспомнить, взглянув на Александровс-
кий лицей; и если нельзя вспомнить Пушкина, зачем я буду помнить этот
лицей, зачем он мозолит мне глаза и суется там и тогда, когда и где мне нужен
Ванька...
Грубые люди; никакой поэзии, только нужное; не нужен Пушкин, нужны
двести столоначальников в канцелярии; вытопчем об нем память и сделаем их.
Как хорошо любить, благоговеть, чтить; как хочется этого; как счастлива
страна, в которой есть что сберечь, можно бы сберечь.
У нас есть что:
И впрямь с ума сойдешь от этих от одних
От пансионов, школ, лицеев... как бишь их?
Да... от ланкастерских взаимных обучений.
Так говорит старуха Хлестова, и ее прерывает другая, столь же ветхая:
Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-ги-ческий... так, кажется, зовут?
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессора...
Кто не помнит этих бессмертных диалогов из вечно юного «Горя от
ума»? Счастливая, милая пора нашего общественного детства: как велико-
лепно мы тогда ничего еще не знали, Гоголь еще не смеялся, Лермонтов не
хмурился и «школа народников» не расползалась по лицу земли русской
отыскивать новой правды, отыскивать св. Граль русской земли, вечно то-
мящий наше сердце и никем никогда не виденный. Счастливая пора, я вспом-
нил ее и почти закричал, когда услышал в интимной беседе от ветхого дня-
ми и бодрого мыслью Ник. Ник. Страхова, что он - из этого самого Педаго-
гического института. «Главный Педагогический институт», - поправил
меня маститый критик, чрезвычайно не любящий всякого нарушения точ-
ности. «Главный Педагогический институт», - проговорил, вспоминая гра-
вюрку, изображающую Грибоедова.
- Да, и мы были там почти товарищи с Добролюбовым - как разошлись
потом. Я был на естественном отделении, готовился занять место препода-
343
вателя естественной истории, он - на историко-филологическом и готовился
стать учителем русского языка. И так как я все не закрывал рта, он сказал:
-Да смешной же вы, нас готовили быть учителями. Главный педагоги-
ческий институт имел задачею своею подготовлять учителей для средних
учебных заведений всей России. Потом его закрыли.
- Разве вы
Там упражнялись в расколах и безверьи?
- Нет, вовсе нет, и как же вы все так быстро. Мы учились, чтобы потом
учить. Я, по крайней мере, эту манеру несколько учить, хотя бы исподтишка,
сохранил и на остальную всю жизнь. Вы замечаете: о чем бы я ни писал, о
физиологии, о психологии, сочиняю ли критику или что - я всегда несколько
поучаю и, быть может, от этого меня многие находят несколько скучным.
Старая привычка и, очевидно, отвечала моим природным наклонностям.
Но я не дал ему договорить:
Вас было двое - вы и он?
спросил я, разумея Добролюбова и спрашивая о тех, чье имя сольется и уже
слилось с историей умственного развития России.
-Да нет же, я ведь не сказал: только с Добролюбовым и вы никогда не
слушаете, или не слушаете точно. Наш знаменитый византинист Василий
Григорьевич Васильевский...
И я вспомнил «Византийский Временник», первый журнал, основанный
у нас для разработки вопросов византийской истории и культуры, вспомнил
любезного редактора «Журнала Министерства Народного Просвещения»,
со мной недавно беседовавшего.
«...и Алексей Ив. Вышнеградский - мы товарищи по этому институту.
Из нас выходили не все такие неугомонные литературные спорщики, как я и
Добролюбов: были потише - те занимались делом и, кажется, одни и другие
занимались не без успеха».
И он назвал еще Д. И. Менделеева. «Вскоре после того, как мы вышли из
института, его и закрыли».
- За бесполезностью? за обилием у нас учителей хороших без подготов-
ления?
Он засмеялся длинным, тонким смешком своим: «Ведь нужно же преоб-
разовывать', выражать в чем-либо свою деятельность, старание... И когда
ваш предместник посадил редьку хвостом книзу, мы обвинили бы в косности
вас, если, вынув ее из гряды, вы не попытаетесь воткнуть ее как-нибудь иначе,
головкою книзу»...
III
Мы не продолжали. Мысли мои неслись далее, в историю... В так называе-
мом Гербарии Московского университета (где, впрочем, нет никакого герба-
рия) профессор истории древнего искусства, теперь покойный Герц, читал
344
нам о вавилонской и египетской архитектуре. Дожидась его, однажды я бро-
дил по зале, и от нечего делать стал рассматривать запыленные старые книги,
Бог весть как попавшие на верх невысоких шкафов; помню попавшиеся мне
Werke Шеллинга; потом попались «Чтения для вкуса, разума и чувства» -
Подшивалова или кого-то из очень старых писателей наших. Я всегда почему-
то чрезвычайно любил эти минуты первого зарождения нашей новой литера-
туры, конец прошлого и самые первые годи нынешнего столетия. С каким
восхищением перечитывал я маленькие странички «Аглаи», «О происхожде-
нии зла, поэмы великого Галлера», «Московского Меркурия», «Дон-Кишота
Ламанхского», переведенного с «Флорианова французского перевода» В.
Жуковским; и теперь еще, как некоторые священные реликвии, эти томики
всегда у меня перед глазами, перед письменным столом, где я пишу теперь
О новых людях, временах иных,
О злобе новой, не стареющих пороках...
Но я увлекся. Увидя чтения для вкуса на шкафу Гербария, я совершенно
забыл о старом Герце (Боже, как он был стар, - все у него из рук уже падало)
и перенесся воображением в пору детства нашей литературы. Ведь она ро-
дилась здесь, в ученических опытах (о, верно, как они старались!) воспитан-
ников так называемого Университетского благородного пансиона; около
него работали Новиков и Шверц, в нем зрели Карамзин, Жуковский, - для
какого чудного будущего зрели!
Где же этот питомник нашей поэзии, колыбель нашей литературы?.. И,
Боже, неужели мы ничем не дорожим? Или здесь Гензерих проходил со сво-
ими вандалами, Аларих- с вестготами?..
Я почти плакал, плакал слезами гнева и жалости...
Ничего не любить, ничего не чтить... И я насмешливо улыбнулся:
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль
- это, совсем, как демон у Лермонтова, могли бы повторить о себе бесы
нашей истории, по-видимому, так смиренной.
IV
И я не хотел более думать об истории; я захотел думать о себе. В ученические
годы я страстно любил читать, - о, гораздо более, чем теперь, когда я сам
столько написал и все печатное мне опротивело. Я читал... ну, то, что мы все
читали в те памятные 70-е годы: «Физиологические письма» Карла Фохта,
«Историю цивилизации в Англии» Бокля, Добролюбова; я читал еще «Геоло-
гию на новых основаниях» Мора. Пять страниц из шести мне были непонят-
345
ны, и я проползал их глазами, чтобы на шестой что-нибудь понять. О, тогда не
было еще этих противных овцеобразных «Руководств к систематическому
чтению», имея которые под мышкою два современных юноши, встретившись
на улице, спрашивают:
- «Вы до чего дочитали?»
-Я до истории Иловайского.
- Нет, я еще сижу на предварительном обзоре...»
У нас у всех был «Worvart» под матрацами, и, поверх презираемых учеб-
ников, разные страшные имена, ихние и наши. Наших мы больше любили,
они нам как-то милее; но уважали больше ихних. Не забуду тома «Les Ruines»
Вольнея, первого тома, с гравюркою, изображающею самого Вольнея, си-
девшего в одежде какого-то пилигрима среди «mines»: мы целовали пере-
плет, старый кожаный переплет, а читать... мы так плохо знали по-французс-
ки, и только мечтали. Мы мечтали, прочитывая манящие темы - заголовки
глав: «Source des maux des societes», «Base universelie de tout droit et de toute
loi», «Le grand obstacle au perfectionnement», etc. Мы все мечтали, помните,
как у Лермонтова на «Севере диком» сосна:
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
И снилось ей все, что в пустыне далекой
В том крае, где солнца восход...
И нас этот жар снова сжигал среди родных снегов; я хочу сказать - среди
грязных улиц нашего губернского города, между Иловайским и Галаховым,
этими «пьяными рабами», на которых мы были призваны смотреть как древ-
ние спартанцы в школах своего времени.
- Послушай, Василий, прибери лишние книги, если они у тебя есть: Садо-
ков хотел прийти и осмотреть, какие ты книги читаешь.
Так, в VI или VII классе, мне сказал однажды старший брат, у которого я
воспитывался, и который сам был преподавателем гимназии. Очевидно, ему
также не было оказано достаточно доверия, и строгий директор гимназии
захотел сам «посетить» меня.
За что «посетить»? Какое мы преступление совершили, читая и не пони-
мая, восторгаясь и не видя еще предмета восторга, только предчувствуя в
растущих силах души всю необъятность и красоту мира, и веря ей...
Правда, мы доходили почти до потери границ действительности. Не забу-
ду, как, читая Митчеля или Гершеля (и с каким трудом мы сколачивали деньги
на покупку этих книг), я до того, наконец, реально стал чувствовать громаду
и общность небесных движений, всех этих двойных звезд, вращающихся друг
около друга, этих необъяснимых звезд с переменным цветом, непонятного,
безостановочного движения Солнечной системы куда-то к Веге или еще к
какой звезде, что ослабел в чувстве, перестал очень доверять маленьким мас-
штабам земли, среди которых жил. Не забуду одной лунной и звездной ночи,
346
когда, идя по улице, я как пораженный остановился перед мелочной лавоч-
кой, где брал табак:
- Это же невозможно; такая подробность в мире: млечной путь, в нем -
система солнечная, земля и... мелочная лавочка, я - гимназист, курящий
табак и это утаивающий от своего начальства.
«Которое-то тут иллюзионно; или моя нужда в табаке — начало другого
мира, который есть реален, и тогда нет никаких этих особенных движений и
всего, что там у Гершеля; или - и это гораздо вернее, я вижу, что это верно, из
тысяч звезд, на меня льющих свет - нет возле этой лавочки и никаких гимна-
зистов, оскорбляющих, опровергающих тот мир.
И минута этого колебания между двумя мирами хоть проходила, но не во
всех своих последствиях. Нельзя достаточно выразить ту меру свободы внут-
ренней и мужества для земли, какое давала минута такого чрезвычайного
ощущения мира в его больших масштабах. Пусть я унижен, оскорблен... не я,
а какая-то пустая кожа все это терпит, которой, пожалуй, больно физически и
нисколько - душевно. Не умею этого объяснить; во всяком случае, история
моя о земле была историею какого-то лишь знакомого мне человека и вовсе
не моей собственною, главною.
И когда я очнулся от этой иллюзии, пытливый глаз «классного наставни-
ка» уже заглядывал в мою сумку с книгами... Я забыл мир и вспомнил:
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя.
- «Что?» - спрашивал я, не понимая его движений и вопросов, и вопрос
мой был, верно, груб.
- Покажите, какие вы книги несете в класс?
Я пассивно выпустил сумку из рук и, продолжая глядеть на него, по-
вторял стих Тредьяковского:
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя.
И тотчас очень большая часть истории сформулировалась в голове моей
в краткий диалог.
«Как чуден мир, как он необъятен; как хотелось бы что-нибудь понять в
нем, или, по крайней мере, о нем подумать...
- А вот я откушу тебе эту голову, - говорит «чудище обло, озорно...»
«Нет, я так мал, мне никогда его не понять, но, по крайней мере, мне
хотелось бы сложить руки и помолиться на создание Божие...
- А вот я переломаю тебе руки и ноги, - повторяет «чудище».
«О, чудище, чудище - пощади меня, что тебе в моей боли, моем небы-
тии». .. Но «чудище» уже раскрыло челюсти и я не вижу более моих милых
звезд, а вижу ряд его белеющих зубов.
Es ist eine alte Geschichte.
Я вспомнил все это по поводу комитетов грамотности; повторяю, я не
люблю их, я бы боролся с ними, разубеждал бы их; я бы плакал слезами
горести и очень сильного гнева.
347
Но если бы острота зуба и сила челюстей соблазняла меня откусить им
голову, я лучше вырвал бы этот соблазняющий меня зуб.
По крайней мере, я отказался бы, если бы кто-нибудь назвал меня «про-
свещением».
И, наконец, я не требовал бы на содержание себя 20 000 000 рублей у
народа очень бедного и нуждающегося.
В особенности я не делал бы этого, не имея, в сущности, никакой идеи*
об образовании - иной, чем какая есть у этих комитетов.
29 декабря 1894 г.
ЗАМЕТКА
<О речи Николая II 17 января 1895 г.>
Русские подданные имеют нечто более,
чем права политические: они имеют
политические обязанности.
Af. Катков
Слова Государя о Самодержавии, сказанные представителям русских земств
и городов в речи 17 января, как носятся слухи, были вызваны некоторыми
пожеланиями, - адресами ли, просьбами ли или еще чем, не знаем, - о даро-
вании России конституции и, быть может, парламентаризма. Если да, мы ре-
шаемся сказать об этом несколько слов, замешивая слова свои в эти парла-
ментские голоса, как голос также русского человека, имеющего право гово-
рить от имени земли своей не меньше каждого другого.
Россия не желает парламентаризма и конституционализма; - ни теперь,
ни завтра, и никогда не желает; наконец, она не может, бессильна, бесправна
желать его в данном, живущем теперь поколении людей; и если бы Госуда-
рю, за подписью 115 миллионов человек подданных была выражена просьба
в этом смысле, он не только вправе был бы, но и обязан был бы отвергнуть
ее, охраняя право 115 биллионов русских подданных, какие имеют родиться
в пределах нашей территории, в границах нашей истории.
Самодержавие - это возможность всего, это - сила на все, создаваемая
не ad boc, для этого или того случая, но заранее припасаемая в долгих поко-
лениях людей и до времени хранимая, мы хотим сказать - хранимая до мо-
мента, когда она может неожиданно потребоваться и тогда начнет действо-
вать. Этот запас мощи стоил труда и пота биллионам умерших людей на на-
* Безыдейность и бескультурность новой школы мною указана была и подробно
разобрана в «Сумерках просвещения» («Русский Вестник», 1893 г., январь, февраль,
апрель, июль) и «Афоризмы и наблюдения» («Русское Обозрение», 1894 г, октябрь,
ноябрь, декабрь).
348
шей земле; они трудились вовсе не для поколения людей 1895 года, или 1870-
1920 годов; честно трудясь над этим великим вековым созиданием, они вовсе
не думали об этом поколении, пренебрегли им, презрели его как слишком
краткий и преходящий момент; они созидали эту чрезмерную власть как
всегда нужную, всегда могущую потребоваться - по их оценке жизни, взгля-
ду надела, заблуждения, доблести и пороки людей. В нашей истории это то
же, что на нашей территории могучие хребты Кавказа и Сибири; что именно
они несут в себе - мы знаем лишь отчасти; пользуемся по мере нужд своих
этими частью известными средствами; но истребить их до конца, срыть эти
хребты, опустошить их, ничего от них не оставить потомству мы, если бы
даже и могли - были бы не вправе. Так и от безграничной мощи государей
наших мы можем пользоваться; но как возможность всего - удалить ее в
нашей истории, отнять у следующих поколений русских людей мы не можем;
и даже Государь, ныне царствующий, не мог бы этого сделать. Он мог бы
лишь от себя и за себя уменьшить эту власть, т. е. сю не пользоваться; Он мог
бы не притрагиваться к великому рычагу нашей истории, к которому подве-
ден Проведением - не шевелить его, не трогать его; но сделать, чтобы его не
было - так бы Он мог? И если б мог, то был ли бы в праве? Самодержавие
историческое Он держит в руках Своих, пока Бог продлит Его дни; но Он не
обладает им и унести его с Собою в могилу не может.
3-4 земства, или 30-40 земств хотели бы, чтоб его не было; птицы, сидящие
на вершине дуба, нажити, раскинувшиеся на склоне горного хребта, протесту-
ют, для чего этот дуб, для чего этот горный кряж? Что ответить на это, кроме
того, что это «бессмысленно»? Так и ответил в великом милосердии Своем
Государь. Но я, гражданин, я - сын земли своей, одна многобиллионная части-
ца своей истории - оскорблен и негодую; если неудачная попытка сделать
фальшивый денежный знак, наказывается как попытка уменьшить благососто-
яние народное, то не наказуемая ли со всею бурей страстей, вихрем негодова-
ния, глубиною мщения попытка уменьшить некоторое высшее благо в бытии
историческом для всех поколений человеческих, имеющих придти?
Где же закон о неоскорблении святынь? В чем его действие? Я живу
этими святынями духовно, как физически живу светом солнца, и кто вправе
его или их закрыть от моих глаз? Прощение есть почти всегда наказание неко-
торого невинного, и мне непонятно, за что я наказан.
О ПОДРАЗУМЕВАЕМОМ СМЫСЛЕ
НАШЕЙ МОНАРХИИ
Мотивом, ближайше толкнувшим меня написать это рассуждение, были два
«отношения», попавшиеся мне под руку во время службы в Государствен-
ном Контроле, в его Департаменте железнодорожной отчетности: одно - о
двух погашенных (перечеркнутых) герб, марках, обе, стоимостью в 1 р. 60 коп.,
за подписью начальника отдела Генерального Штаба, и - другое, Вы-
349
сочайше скрепленное, о покупке нескольких сажен земли для расширения
склада каменного угля Николаевскою жел. дорогою, тогда находившеюся во
владении Главного Общества Российских жел. дорог. Я, в составе других чи-
новников, ревизовал расходы Главн. Общ. Росс. ж. дор.,-относимые на обли-
гационный капитал, по коему приплаты, в случае недовыручки, производи-
лись из средств казны. Было злоупотреблением самое существование этого
Гл. Общ. Росс. ж. д.; была более, нежели только странною, передача ему же,
частному обществу предпринимателей, доходной и на средства казны пост-
роенной Николаевской линии; наконец, когда произошел выкуп, то казна ока-
залась вынужденною переплатить около четырех миллионов сверх стоимос-
ти, проставленной в договоре, в силу одной перестановки слов в его тексте,
каковая перестановка была испрошена Гл. Обществом, и когда производилась,
то никто не мог предвидеть ее значения. В силу этой перестановки такой-то
«процент отчисления» стал относиться не к данной сумме, как первоначаль-
но было, а совсем к другой, гораздо бульшей. Я передаю смысл: тогда это
место договора, синтаксически очень сложное, читалось с изумлением все-
ми чиновниками Контроля; все с изумлением видели, что как будто нет разни-
цы, сказать ли так, или - этак. От этого «и согласились» в свое время. Но
авторы проекта перемены «знали, в чем штука», и теперь при выкупе потре-
бовали приплаты в четыре миллиона, которые, с изумлением и негодовани-
ем, но все-таки уплатили Главному Обществу. Между тем годовой бюджет
всего Госуд. Контроля в России равнялся (в 1894 г.) именно 4 500 000 руб., т. е.
Обществу хищников сразу было выплачено, по чиновническому недосмотру,
столько, сколько в год получали жалованья все контрольные чиновники во
всей России!!
Мелочи - видим, ушли в них с головою! Большого - не видим, не замеча-
ем, не обдумываем даже. Ибо мелочей - такое количество, что еще раньше,
нежели их «все пересмотреть», человек, служащие, чиновники, большие
чины, наконец отромные чины и даже все «правительство» положительно
мертвы от усталости!! Мертвы - и не видят, не осязают, если даже вся Россия
«заваливается с того боку»...
Это-крушение страны; «совершенно честное» крушение, наконец «в
высшей степени трудолюбивое крушенье» - от недостатка собственно ме-
тода.
Метод этот ввел Сперанский. Он именуется «чиновничеством» или «бю-
рократией)». Метод этот- не русский; просто - это метод всей новой Европы,
новой европейской государственности. В ту пору, в 1894 г., он сделался для
меня как бы кошмаром, о котором я денно и нощно думал. Все в обществе и
печати заняты были чиновниками, тогда как надо было поднять вопрос о чинов-
ничестве. Что такое? откуда? вечно ли необходимо? Были ли чиновники в Риме?
в монархии Карла Великого, теперь - в Англии? Если нет, то чем они заменя-
лись и как шло все дело, как совершалось управление страною? Туча вопро-
сов... Гнались, с дубиной и насмешкой, за злоупотреблявшими чиновниками,
тогда как в выкупе дорог переплатили 4 миллиона не от злоупотребления, а
350
оттого, что все чиновники полегли как мертвые от усталости, «погашая две
марки в 1 р. 60 коп.»!! Дело — в методе, а не в воровстве. Дело — именно в
мелочах, в подробностях; и в том, что - ни времени, ни отдыха, ни глаза, ни ума
не остается для громадного! для самого большого! от чего все зависит!!
Представьте себе 1 000 000 муравьев, и дайте им задачу - построить Эй-
фелеву башню.
Они будут все так же бегать; носить соломинки; перетаскивать белень-
кие яички. Но, очевидно, никогда не выстроить им Эйфелевой башни!
«Эйфелева башня» - государственность в истории. Эта, положим, «гро-
мада меж тремя океанами», наша Россия. Кто же ее строит?
Убийственный ответ: никто!!
«Живется», «можется», «терпится», - и еще сотня бытовых поговорок,
которыми можно отмахиваться, когда дело идет о телеге или курной избе, но
не когда дело идет о России! Да и не об ней одной: это - положение всех
государств в Европе! «Крадут» - и, конечно, плохо; но когда не «крадут», - то
лишь немногим лучше: ибо разваливается все, крушится естественной ста-
ростью, естественной слабостью. Все крушится, ибо идеи целостного - нет
ни у кого.
До известной степени, - она есть у людей, стоящих в стороне и не прини-
мающих в строительстве никакого участия; у людей приватных. Мысли, меня
занимавшие (и здесь изложенные), никому решительно не приходили на ум,
и всего менее - Тертию Ивановичу Филиппову (государственный контро-
лер), задыхавшемуся каждую среду от «приема» человек 100 «по делам служ-
бы», а ежедневно тоже от «докладов своих чиновников» по делам также «служ-
бы». «Службы» так много, что решительно у всех ускользает из глаз, что «она
вообще не нужна». Т. е. эта служба, состоящая в «докладах» и «приемах» и
«погашениях двух гербовых марок». Могло это придти на ум «человеку в
стороне», который немножко, как Аббадонна, «служил и проклинал»!.. Тогда
вдруг становилось ясно, что «мир не так устроен», - вот этот «служебный
мир». Ну, - а как?
У меня нет ответа. Ни у кого нет ответа.
* * *
Мне было совершенно ясно, что вопрос - не в порицаниях бюрократии, а в
ответе, чем ее заменить. Пока не найдено, чем - терпи то, что есть: это уж
было простой честностью в положении. Помню, я очень работал тогда мыс-
лью над иезуитским орденом: умеет же он достигать своих целей? В сущнос-
ти, и 4 потерянных миллиона, и две парки на полисах в Узун-Ада, были пустя-
ки: важно было, что государственность вообще не достигает своих целей, не
осуществляет свои задачи, как вот, напр., умеет же осуществлять свои задачи
иезуитский орден. И тогда, - как он устроен? Почему достигает он, а не мы?
Иногда мне казалось, что вопрос - не столько в бюрократии, в этом сон-
ме чиновников, а в том, как она поставлена? Мне казалось, что она имеет
неправильное положение в государстве, стране, отечестве. Мне она казалась
351
недостаточно свободною в выборе средств; и, с другой стороны, - слишком
свободною в постановке целей. Мне казалось необходимым совершенно
отделить цели от средств: бросив все средства - бюрократии, а цели - сосре-
доточив в свободном, неизмеримо вознесенном, лице Монарха. Этот после-
дний, как я комбинировал в себе, - есть страж горизонтов, так сказать — миро-
вой компас корабля-истории. А бюрократия около него - кочегары, плотни-
ки, механики, матросы. Они - даже и не заглядывают «на мостик»; а он -
никогда не спускается «с мостика». Теперь - все смешано: его зовут вниз, «в
машину»; и совлеченный туда - он вовсе опускает из виду, опять от уста-
лости и недостатка времени, - ход и направление корабля. В силу этого сме-
шения функций, корабль (история) - никак не идет, или идет «Бог знает куда».
Сравнивал я также частную деятельность, частную предприимчивость с
государственностью: первая, как известно, всегда удачнее, по крайней мере,
деятельнее, энергичнее, страстнее, чем вторая. В чем тут дело? Личный ба-
рыш, личная заинтересованность, притом в достижении результата, а не за-
интересованность только «в отличном ходе» и «блестящем виде». Это — одно.
Второе: всякий служащий в «частном деле» сейчас выбрасывается вон, как
только перестает служить «делу», а служит «себе», обращая в свое орудие
«дело». В государстве совершенно наоборот: 99 из 100 чиновников служат
«себе», а «делу» отдают лишь формально-неизбежное, отдают ленивую и
бездарную работу, а не старание и талант. Вся чиновная работа вообще без-
дарна, бездарна по существу и принципу; она вся ленива, формальна, без-
душна. И от того, что всякий «определенный на место чиновник» в сущности
вовсе несмещаем, если только он грубо и опять же формально не совершил
вины или преступления. Но он «преступления» не совершает, но ничего и не
делает. Такой-то солдат, положим, не «дезертир», но зато он «не стреляет».
Тогда - армии нет. Вот так и чиновничество: в 99 процентах оно, с одной
стороны, есть, а с другой стороны - его нет: и государство, при огромной
видимости, существует почти фиктивно, существует миньятюрно. Собствен-
но, вся страна расслоилась на обывательство и чиновничество, - причем,
«чиновничество» приобрело все качества «обывательщины» же, но только в
мундире, с светлыми пуговицами, и на содержании у тех подлинных обыва-
телей. Обыватели привилегированные - вот чиновники; не чиновники - это
обыватели без привилегий.
Средство против этого есть: обратить 99% чиновничества в «служащих
по найму» и смещаемых без всякого проступка, просто за недостаточную
энергию и талант работы, как всякий рабочий. Тогда «чиновничество» сузи-
лось бы до немногих сотен «управляющих», - вместо теперешних десятков
тысяч «служащих», т. е. «по утру сидящих на казенном стуле».
* * *
Я передаю свои мысли тогда... Замечу, что «чиновника» не устранила и
Г. Дума. «Все осталось по-старому»: после 17-го октября совершает государ-
ственную работу все тот же серый, тусклый «письмоводитель» и «столона-
352
чальник», до которого Дума никогда не сможет коснуться, для коего она не
имеет ни щупалец, ни щипцов. «Чиновник» вообще существо метафизичес-
кое; это - совершенно серьезно; он «Асмодей» и «демон», гораздо значи-
тельнее и волшебнее, чем какого пел дворянин и гусар Лермонтов.
Но оставим... Пусть читатель читает самую статью.
Несмотря на то, что 1895 г. далеко не был «монархическим» в печати и
обществе, - несмотря на то, что в статье моей принцип «монархизма» ста-
вился так высоко, точнее - так религиозно, как он не ставился никогда у нас со
времен первых славянофилов, - статья моя была признана «вредною»; и уже
сверстанная и готовая к рассылке подписчикам июльская книжка «Русского
Вестника» (за 1895 г.) была арестована. Тогда я отправился и имел первое
свидание с Конст. Петр. Победоносцевым, - который меня знал через С. А.
Рачинского (автора «Сельской школы»), его друга «на ты». Через дежурного
чиновника я послал П-ву книжку «Русск. Вестн.» со статьею, и с объяснени-
ем, что она вырезана явно по какому-то недоразумению, которое желатель-
но бы рассеять и устранить. П-в не выходил с час: статья им была вся прочи-
тана, не исключая и примечаний, - и при печатании здесь я отметил черною
линейкой сбоку места, где он отчеркнул синим карандашом места, о которых
намерен был говорить. Вся его беседа была - как старого профессора (на
нем и черный сюртук был не первой свежести), - с исключительным интере-
сом к тем, к предмету, - без всякого оттенка «министерства». Ни в ком я не
встречал так мало чиновника: П-в был совершенно частный человек. Вероят-
но, таким помнят его и все знакомые. В особенности его заняла мысль о
бессилии государственного механизма (бюрократии), - который в статье я
сравнивал с опрокинувшимся паровозом, у которого колеса еще вертятся,
машина «идет», а сам паровоз никуда уже не идет. Приводя многие иллюст-
рации из западной тогдашней жизни, мне неизвестные, - он говорил, что
«все правительства находятся в отчаянном положении, так как работа, ими
производимая, действительно бесплодна для народа, бесплодна вообще для
чего-нибудь: и кидаются они - туда, сюда, но кидаются все в той же плоско-
сти, по которой совершилась уже вся их прежняя работа, громоздя на старые
не везущие учреждения - министерства, канцелярии - новые, но которые,
повторяя в себе тот же дух, те же приемы - так же попусту работают»... «А
что вы поделаете?»... «Правительства видят, что что-то надо делать, а что
именно - не знают»... «И выдумывают новые и новые формы, новые и новые
органы, надеясь, не поможет ли то, когда не помогает это»... (На мои слова о
социализме): «Не скажите! На сколько социалисты критикуют госу-
дарственность- они правы: для народа правительства ничего не делают, и не
умеют ничего сделать. От этой-то действительной слабости правительств до-
могания социалистов и получают свою силу, свое влияние на народ»... (По
поводу мест в статье, что бюрократия заместила власть монарха: «Конечно»
(и он приподнял старческое колено - нога на ногу - и ударил по нему обоими
огромными руками, сложив их ладонями): «Государь только припечатывает
го, что мы ему подносим»... «Все рассуждения ваши правы, - но вы знаете
г2 Зак 3969 353
наше общество, готовое все поднять на зубок. Что вы говорите серьезно и с
желанием принести серьезную пользу - того не заметят; а что вы приводите
как примеры смешного и глупого - подхватят, разнесут и предадут смеху то
самое, что вы чтите»... «Механизм падения монархий вы правильно указыва-
ете: но не берите наши дела в пример, а объясняйте этот механизм этого
падения на западных государствах».
Кончил он советом, - переделать статью, т. е. «на западных все приме-
рах»... Но я уже утомлен был, раз написав на эту тему, - и мне не «смоглось»
перерабатывать вторично.
* * *
Теперь я не сказал бы многого, в статье сказанного; не сказал бы особенно от-
дельных выражений, но по местам - и целых страниц. Вообще с 1895 года так
много переменилось, - переменилась особенно наша психология, что как-то
самый тон статьи странен, чужд уху, уху и авторскому. Но я думаю - есть в ней
мысли верные. В ту же пору, - пору самодовольной и единовластительной бю-
рократии, - статья и совсем была права и уместна. Теперь, когда бюрократия
«села», - я вставлю две о ней заметки, отвечающие, по моему, нашему времени:
1) бюрократия все-таки очень много сделала и делает. Правда, вперед она
государства и не ведет и не может повести. Но когда в статье, я ссылаюсь на
Альфреда Вел., на Карла Вел., - то смиренный почтовый чиновничек может
сказать: «Позвольте, ваш Альфред Великий не будет доставлять писем на
дом, а я - доставляю». «История - не только движение вперед, но и - status
quo, без коего невозможна гражданственность, удобства, комфорт обывате-
ля, жизни, городов, губерний, целой России. Этого не сделает ни Альфред
Великий, ни - писатели. Не сделают баре, не сделает ленивый обыватель. Это
сделаем мы, серые рабы серой действительности. Мы вовсе не выдуманы и
не явились в истории, как Deus ex machina*: мы - нужны, и жизнь без нас
никак не могла бы обойтись. Иное дело - поставить нас иначе, другим спосо-
бом организовать: это - уже не наше дело. Ведь мы только служим. И мир без
нашей службы не может обойтись, по крайней мере теперешний мир. Ну, а в
работе, службе - и кой-какая добродетель».
- Дайте, все-таки, орденок, - сыронизирую я над Мефистофелем. Но
отвергнуть все-таки некоторую правоту и большую силу Мефистофеля -
никак не могу.
«Архей» новых времен...
* * ♦.
Ну, пусть читатель думает о нем, что знает.
Статья перепечатана с вырезанной в 1895 г. статьи без всяких поправок и
сокращений, - копировально. И издается для «сохранения памяти» в очень
ограниченном числе экземпляров. Линейки сбоку - пометки доброй памяти
♦ Бог из машины (лат.), неожиданная случайность.
354
К. П. Победоносцева. Должен заметить, что статья вызвала большое сочув-
ствие в покойном моем друге и покровителе Н. Н. Страхове. Вызвала сочув-
ствие и других, но дорого было сочувствие только Н. Н. С-ва. Он ее и коррек-
тировал, ничего нс изменив.
СПб., 25 августа 1912 г.
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы...
Пушкин
Вообще говоря, есть представление, что Главный Штаб наш занят непрестан-
ным изучением условий защиты своего отечества и приемов нападения; что
это - многоголовый, многоглазый, дорого оплачиваемый механизм, имея ко-
торый Россия может дремать спокойно, без опасения быть разбуженной не
вовремя лязгом оружия и, главное, не быть захваченной врасплох. Имея это
горделивое и успокаивающее представление, я был очень удивлен, когда - в
один из тревожных дней после кончины покойного Государя - в моих руках
очутилась бумага следующего содержания:
«ГЛАВНЫЙ ШТАБ
Отдел по передвижению войск. 24 октября 1894 г.
В Департамент Железнодорожной отчетности
Вследствие отношения Департамента от 8-го сего октября за № 10 621,
Главный Штаб имеет честь уведомить, что требуемые для приложения к по-
лисам о застраховании скреплений Новороссийского завода, отправленных в
Узун-Ада, две гербовые марки по 80 коп., представлены Правлением Россий-
ского общества страхования кладей и погашены 20-го сего октября. Началь-
ник отдела Генерального Штаба генерал-лейтенант Головин».
Я мысленно сосчитал: если 10 621 номера исходящих бумаг разделить
на десять истекших месяцев года, то получится 1061,- число бумаг, отправ-
ляемых в месяц. И, если сделать совершенно точный расчет по дням, полу-
чится наоЭп«день(10 621 : 250 = 42,1) -42 бумаги*), обдуманные, состав-
ленные, переписанные, отправленные каждая вместо особого своего на-
значения. Я очень смутился за генерал-лейтенанта Головина; я подумал: он
должен страдать неврастенией. Но это смущение было лишь на минуту: я
почувствовал страх за себя, за свою маленькую уютную квартиру, за кре-
пость ее стен; я стал бояться австрийских и прусских пушек. Мысль, что две
гербовые марки приклеены к страховому полису в Узун-Ада, не могла меня
успокоить...
♦ Из 294 дней года здесь исключены 44 воскресенья, но не исключены остальные,
еще многочисленные «табельные дни» и большие церковные праздники.
355
I
Потоком не прерывающимся, в летнее жаркое и зимнее холодное время, в
года ненастий исторических и «благорастворенного воздуха», эти бумаги те-
кут, текут... Красивый почерк, предупредительно-вежливая форма, периоды
всегда несколько запутанные, но при усилии понимаемые - циркулируют в
необъятной Империи. Нет бурь в этом течении: оно невозмутимо, как тече-
ние самого времени; нет порогов, рытвин, опасных изгибов в нем; ни одна
страсть в нем не отразится, ни гнев, ни страх, ни сострадание, ни радость.
Россия оплакивает Государя; одна струна в циркулирующем токе звучит, что
1 р. 60 к. с кого нужно и где нужно взысканы. И, кажется, не только царствова-
ние сменись, сменись сам век, пади монархия и настань республика, возму-
тись отчаянием или залейся радостью вся земля, - почерк не дрогнет здесь,
тусклая речь не станет ярче, ни одна бумага не ускорит, ни одна не замедлит
своего течения.
Мыслью своею я невольно перенесся к началу нашего века. Там, за ру-
бежом его, в эпическую эпоху от Петра и до Екатерины, - какое море празд-
ности и груды великих дел; как хорош этот «великолепный князь Тавриды»;
как хороша «мудрая» и «мать отечества»*, литераторша, воительница, при-
держивавшая за рясу Платона, переписывавшаяся с Дидеро; как чуден Петр
со своими «викториями»; и этот Крым, так смело** взятый, этот Севасто-
поль, так зорко*** высмотренный: и - битвы, походы, разоренная Польша,
обрубленная Скандинавия, и Русь над всеми ими, гордая, властительная, не-
лепая, прекрасная. Как весело смеялись в тот век; какия чудные писал оды
Ломоносов; какие мускулы были у Орловых. Потемкин и Суворов встреча-
ются на лестнице Зимнего дворца:
- Чем наградить мне вас? - говорит фаворит.
- Меня может наградить только Императрица, - отвечал гордо**** по-
коритель Измаила.
Великие, милые тени, гордые воспоминания нашей родины.
На рубеже двух веков вырастает фигура Сперанского. Тень это или че-
ловек? Верно он был лимфатичен; и, конечно, на плече Орлова росло боль-
ше мяса, чем на всей его тощей фигуре. Что бы он стал делать около Петра?
- тот рассмеялся бы над ним гомерическим хохотом. Зачем бы он был
Екатерине?..
♦ Титулы, поднесенные Екатерине II Сенатом.
♦♦ Сравни мысленно ведение дел при занятии Крыма с аналогичною робкою
попыткой в недавнее время овладеть Кульджей.
**♦ Сравни мысленно с нерешительными и неумелыми попытками в наше время
выбрать место для военного порта в Балтийском море.
♦♦♦♦ За этот ответ, которого до конца жизни не мог забыть герою Потемкин (и
герой знал, что ему это не будет прощено), он несколько лет должен был размерять
версты в Финляндии, или что-то в этом роде. Мы указываем на живость и силу
страстей, дурных и благородных, того времени.
356
Уже в 1802/03 году он «считался первым пером» в петербургских кан-
целяриях*; молва о нем неслась из улицы в улицу, из-под одних темных,
сырых сводов - под другие. Как удивителен, нов для всех был этот влади-
мирский семинарист, изучавший логику и гомилетику, оставивший в нази-
дание потомства книгу о «Правилах высшего красноречия»**. Грубые
мужланы в золоченых кафтанах и пудреных париках не понимали, как мож-
но было взамен вещи сделать объектом своим слово, и работу над вещью
заместить обдумыванием этого слова, с надеждою, и очень вероятною,
получить тот же результат и даже иногда больший. По крайней мере, этот
результат был больше упорядочен и, главное, с помощью новой цепи слов -
он был способен к дальнейшему развитию, к развитию бесконечному по-
чти, насколько человек неистощим в комбинировании слов. Предметы,
факты, - эта неудобная, косная действительность - заменилась всюду гиб-
ким, подвижным именем вещи, понятием ее; их неподатливая связь, эта
связь ссшо-живущая, заменилась логическою связью, пассивно послуш-
ною в уме обдумывающего. Немного усилий над этою связью, труда над
этой запутанной бумагой, - и все изменится, потечет по новому руслу, к
целям другим, которые нужны, которые ласкают ожидания и так живо бод-
рят труд, наконец не тягостный, не грязный и вместе так ярко, так очевидно
успешный...
Сперанский был волшебником, открывшим этот секрет, он был Гуттен-
бергом новой администрации. Поля сырые, хмурое небо, труд до мозолей
и подчас - зуботычины, все эти «элементы варварства прошлого века»
отошли в предания, как перед книгопечатанием отступили в предание stilus
древних римлян или палочка, обмокнутая в краску, старых летописцев-мо-
нахов. Как и последний канцелярист, царственный обладатель невозделан-
ного полумира был увлечен и очарован новым изобретением, - и не только
в силу его великих обещаний, но и особенностей своей натуры: Гамлет по
характеру и в положении Агамемнона, он чувствовал потребность укло-
ниться, уйти куда-нибудь, подумать, отдаться мыслям, - и мыслям не всегда
относящимся к этому неотложному делу. И вот теперь - эта положенная на
стол бумага не видела его смущения; не укоряла даже про себя за странное
и прихотливое течение мысли; она не торопила даже; она не протестовала,
когда решение было уклончиво, не ясно, и предоставляло поступить кому-
то там, далеко, на месте - так и этак и иногда совсем никак. Важно было,
что нежная и робкая духовная организация не имела около себя ничего
резкого. Действительность... она не кричала более, что ей нужен ответ; не
ругалась, не дралась, не лезла на нос; опасный и неприятный санкюлот
* Замечает его биограф, барон Корф; см. его «Жизнь графа Сперанского».
♦♦«Правила высшего красноречия. Сочинение Михаила Сперанского. СПб.,
1844». Это сочинение было написано Сперанским на 21-м году жизни и опубликовано
потом одним ревнителем его памяти.
357
истории, она была отведена несколько в сторону, на почтительное расстоя-
ние, дабы не мешать озабоченной мысли, не смущать ее, не рассеивать; и,
наконец, для того, чтобы за днем забот не следовала встревоженная ночь*.
II
«Он пал, но дело его осталось», - говорит история о многих своих героях и
повторяет у нас о Никоне, могла бы еще с бульшим правом повторить о муже
пера и бумаги. Сперанский пал, но новые дворцы воздвигались и населялись
новыми жителями. Яркие люстры в них не горят, музыка не оживляет их сво-
им громом, красавицы не входят и не выходят из них: в 11 часов утра и в 5
вечера ползут темные тени к этим дворцам и обратно от них, - угрюмые,
сосредоточенные, с каким-то выцветшим, неопределенным цветом лица, без
улыбки, без слов, без боли, гнева, любви. Как необозримы их толпы: в два
указанные часа население Петербурга точно удваивается, улицы запружены,
конки изнемогают, сани, извощики - все облеплено. И как необъятны эти
дворцы!
- Чей это дом? - спрашиваете вы робко швейцара, едва охватывая гла-
зом необъятную махину в три этажа**.
- Министра государственных имуществ.
- То есть Министерство государственных имуществ? - думаете вы по-
править.
- Нет, только квартира министра.
- То есть, конечно, с канцелярией? - все еще недоумеваете вы.
- Нет, канцелярия министерства - вот, напротив.
И, оглядываясь через Мариинскую площадь, вы с изумлением видите
серое трехэтажное здание, более массивное, чем Московский университет, я
хочу сказать - чем новое его здание, для трех факультетов выстроенное, и
столь знакомое и дорогое России...
- «Как длинно вот это здание...» Канава, кажется, Фонтанка или Мойка,
изгибается - и по ее берегам, загибаясь туда и сюда, тянется каменною верев-
кою здание. Товарищ мой быстро соскочил с извощика и юркнул в крыльцо.
- Куда вы ходили? - спрашиваете вы его через минуту, видя возвращаю-
щимся с книгой.
-Да это же Канцелярия министерства финансов, где я занимаюсь.
* При Екатерине или Петре, вообще при государях этого типа, деятельность
Сперанского была бы или невозможна, или не привилась бы, не пустила корней в
будущее, и даже едва ли была бы очень заметна; приравнялась бы к деятельности,
напр., кн. Вяземского во 2-ю половину XVIII века. Мы хотим сказать, что таланты
Сперанского в высшей степени отвечали, гармонировали недостаткам Александра I,
как бы заменяли их собою, и делали неощутимыми. Вот отчего, в этот момент появив-
шись около трона, они так привились к нашей истории.
♦♦На Мариинской площади, между Большой Морской ул. и Мойкой.
358
«Канцелярия...» Как это ново для провинциала, который привык видеть
канцелярию при чем-нибудь, -при гимназии, около округа, возле универси-
тета. Здесь канцелярия ни при чем не стоит, ни к чему не приделана. Все к ней
приделано, она автономировалась, стала аутокефальна - и вот в чем дело
Сперанского, тайна его исторического властительства, властительства даже
из-под земли, из гроба; важнейший факт веков истекшего и наступающего.
Автономировалась и овладела, — и отечество стало обладаемым...
III
- Николай Федорович, да пойдемте играть в шашки, - говорил, отворив дверь
класса, молодой, 32-летний инспектор прогимназии в Брянске, обращаясь к
старому преподавателю.
-Да как же, Сергей Николаевич, ученики-то? Мы вот непрерывные дроби...
-Да, Александр Максимович (надзиратель) посидит с ними, - отвечал,
не смущаясь разинутыми ртами учеников, начальник школы, присланный из
административного центра. - И уводил к себе, в квартиру, за шашечный стол,
преподавателя.
Это было, - точнее, так бывало, - лет И-12 назад, в маленьком уездном
городке, однако не глухом, на железной дороге, с громадными заводами в окре-
стностях. «Городок» уплачивал 3000 рублей субсидии в год; городок ходатай-
ствовал, нельзя ли субсидию взять обратно, ибо - «нужда», «налоги», «упавшая
торговля», а из учеников прогимназии кто ни поедет продолжать курс в сосед-
нюю полную гимназию - вернется обратно, исключится за неуспешность, и,
вообще, окажется к учению дальнейшему вовсе не приготовленным. Был, ка-
жется, даже случай перевода обратно ученика из пятого класса в четвертый, в
Орле или в Смоленске. Дети мещан, лавочников, мастеровых, 3-4 мальчика из
мелких, чиновничьих семей, выучивались тройным правилам и дробям, глаго-
лам греческим, латинским, французским, немецким, африканским и австралий-
ским рекам, консулам и эфорам, папе Григорию VII и Анне Болейн... Родители
приходили, недоумевали, молили; родители негодовали; все им смеялись в от-
вет: «Что же можно сделать, когда уже все скреплено подписом»*, и ваши тыся-
чи припечатаны к ненужному делу, и к вашим детям припечатаны им ненужные
недоуменные папы и консулы, и мы сами к этим консулам припечатаны, и вот,
видите, скучая вами и ими, - развлекаемся в шашки...
Между прочим, в прогимназии этой была богатая библиотека, которую
мне пришлось ревизовать**: тут были необозримые томы «Dictionnaire de
chimie», кажется, Вюртца; какие-то книги по французской технологии, с об-
разцами шерстяных материй, приклеенными на самых страницах текста;
«Mecanique celeste»*** Лапласа; исторический словарь французского язы-
♦ Канцелярский термин.
♦♦ После смерти библиотекаря, Ал. М. Иванова.
«Небесная механика» (фр.).
359
ка - Литтре; чудные, с гравюрами прошлого века, фолиантные издания Вир-
гилия, Овидия; «Thesaurus linguae graecae», одно занимавшее нижнее отде-
ление целого шкафа и стоившее что-то между 600 и 900 рублей. Конечно, все
эти книги никогда не трогались с места; меня удивило, что в библиотеке не
только нет Пушкина (тогда не находившегося в продаже), но и везде прода-
вавшихся - Островского, Достоевского, Л. Толстого. Я предложил выписать
последних. «Но ведь это - беллетристы только*, а не писатели», - разъяснил
Совету любитель шашек и французского языка, и решительно воспротивился
их приобретению в библиотеку.
Когда прогимназия была закрыта**, мне было любопытно знать судьбу
этой богатейшей, редкостной, если не по пользе, то по роскоши, библиотеки:
ее последний инспектор, И. И. Пенкин мне сообщил, что она была свалена
без счета и проверки в чуланы местного городского училища***. И между
тем достаточно было, выйдя за черту города, пройти верст 10-12, чтобы встре-
тить деревню без букварей, без Евангелия, без учителя хотя бы в образе ста-
рого дьячка, отставного солдата...
Ежегодно ассигновывалось на прогимназию около 14 000 р., если из этой
суммы исключить 3 тысячи, даваемые городом, то останется еще 11 тысяч
государственных средств, которые извлекались из этого самого населения,
без букварей, путем не менее, чем двадцати двух разрешений на продажу
* Словесность изящная, французская и немецкая, были в полном объеме
представлены в библиотеке, до Массильона французской литературы и философа
Мендельсона - немецкой. Отсутствие в библиотеке русских классиков товарищи
объясняли мне чрезмерным пренебрежением начальника школы к русской литера-
туре, как им казалось - «от блестящего домашнего воспитания, им полученного»
(он был из очень богатой семьи и гимназический курс проходил дома). Но, за нечи-
таемостью никем французского и немецкого отделов библиотеки, ясно было, что их
raison d’Ktre заключался в мелком тщеславии, в тщеславии на час, утонченно обра-
зованного администратора, желавшего показать педагогическому совету в день об-
суждения вопроса о том, какими книгами следует пополнить библиотеку, степень
своей ознакомленности с иностранной литературой. Богатство средств, расходовав-
шихся на библиотеку, объясняется тем, что классы прогимназии открывались посте-
пенно, а ассигнуемая на содержание ее сумма шла с первого же года в полном
составе, и громадный остаток перечислялся в так называемые «специальные сред-
ства» заведения, которые им и расходовались по усмотрению, лишь с одобрения
учебного округа.
♦♦ За иссякновением учеников: родители, не зная, как справиться с прогимнази-
ей, перестали отдавать в нее детей, - отвозя их прямо в ближайший город, в полную
гимназию. Случай такого закрытия - не единственный: так с первого июля 1895 года
уже испрошено в законодательном порядке разрешение на закрытие прогимназий в
Ефремове, Белеве и Касимове.
*** Прогимназия не имела собственного здания и помещалась в квартире; при
закрытии поэтому имущество ее должно было быть куда-нибудь перенесено; и пере-
несено было, по распоряжению высшего начальства, в городское училище, подведом-
ственное тому же министерству.
360
«нитей»*. О, благородный Вюртц, ты, может быть, не писал бы своего «Сло-
варя», если бы предвидел столь чрезмерное к нему почтение; и вы, Mommsen
und Markwart**, менее восхищались бы своим монументальным трудом,
если бы знали, куда и для чего судьба иногда занесет его.
IV
.. .3-го октября, в час дня, в актовом зале Петербургского университета про-
исходил блестящий диспут: молодой и популярный профессор государствен-
ного права, г. Коркунов, защищал диссертацию «Указ и закон»; оппонирова-
ли ему профессора Сергеевич и Бершадский, из них первый - уже не первое
десятилетие признанное светило русской юридической науки. Иного стран-
ного, однако же, услышала здесь публика: из возражений г. Сергеевича ока-
залось, что, написав толстый том о двух маленьких словах, докторант нигде
не дал определения главного понятия, им проводимого в книге и отстаива-
емого - о соединении властей; и на прямой вопрос оппонента, что он под
этим разумеет, краснея и путаясь, он не дал ответа. Приводил он в пример
власть римских консулов, но здесь скорее одна власть разделялась*** меж-
ду двумя человеками, нежели два человека соединялись для выполнения
одной власти. Проф. Сергеевич торжествовал; он путал и путал докторанта,
и оба, наконец, они запутались на определении понятия «власть»: был, меж-
ду прочим, поставлен вопрос о «власти» гипнотизера над гипнотизируе-
мым, названы были индусские факиры, и оговорено было, что «власть» их -
власть, но так как буддизм, будучи супранатурален - недействителен, то и
власть факиров - как бы не власть, а лишь призрак власти. Проф. Сергеевич
♦ Это всегда следует помнить, и особенно следует припомнить теперь, ввиду
начавшихся толков об издании закона «об обязательном обучении» (см. наивные ста-
тьи г. Сент-Илера в «Новом Времени» от 14 и 15 декабря 1894 г., благодушно и
бессознательно повторяемые и в остальной прессе).
♦♦ Авторы волюминозной «Истории римского права», на немецком языке, тоже
бывшей в библиотеке. Сверх этого я припоминаю, что в классической четырехкласс-
ной прогимназии были специальные словари к отдельным классикам, напр. к Цицеро-
ну, - чтение которого даже не начиналось в учебном заведении. Этот «Словарь к
Цицерону», как у нас бы «Словарь к Пушкину», был в нескольких томах.
♦♦♦И, конечно, проф. Сергеевич был прав: между двумя консулами был разде-
лен imperium, сосредоточенный ранее в руках гех’а и слишком опасный в его одного
руках; но г. Коркунов мог бы ему возразить (чего он, однако, не сделал), что власть
гех’а и была моментом соединения по отношению к позднее выделившейся из нее
власти консульской+лре/иорскои. История Рима, в правовом отношении, есть исто-
рия последовательного дробления imperium’а (развитие магистратуры); и, если на
нее взирать назад, представит ступени последовательного соединения властей. На
диспуте проф. Коркунов не только не дал определения занимающего его понятия, но
и не умел привести никакого для него примера, так что получалось такое впечатление
для слушателей, что он написал книгу, сам не отдавая себе отчета, о чем пишет.
361
со страстным оживлением заговорил о власти хорошенькой женщины над
мужчиною, и хотел, чтобы диспутант квалифицировал эту власть... Началось
что-то непонятное, бессмысленное... Диспутант был в черном фраке; длин-
ный ряд ученых, сидевших полукругом против него, был в синих фраках, и
многие, между ними г. Сергеевич, со звездой...
«Может быть - уже тайные советники», - подумал я.
- «Господа», вмешался старый профессор (я спросил имя - это был г.
Дювернуа, и да будет ему всяческая честь и похвала)... «господа, речи, кото-
рые я слышу, понятия, которые развиваются здесь - меня удивляют... Мы
говорим об юриспруденции, диспут идет на тему о праве: и вот я не могу
себе дать отчета, я утверждаю, что самому смыслу «права» не отвечает все,
о чем вы говорите; юриспруденция, самая ее идея, не реагирует* и не мо-
жет реагировать на смысл ваших слов...».
Он говорил мужественно, просто, прямо; наивный (ведь и фамилия его
звучит иноземным), он серьезно был заинтересован идеей своей науки, и не
хотел, чтобы идею теряли, говоря о науке...
Но я был гражданин и так же не хотел, чтобы теряли идею моего отече-
ства в моем отечестве.
V
О, я и всегда думал, уже давно, что в университетах наших, о чем никто не
догадывается, вовсе нет самой идеи науки; что, до некоторой степени, это есть
учреждение безотчетное, практически нужное конечно, но в главном, теоре-
тическом отношении, - не представляющее никакой цены. Это великий эмпи-
рик Ломоносов - виновен тут; светлою мыслью, крепким умом вознесся он
над всею Русью; и как достоинства, так и недостатки ума своего сообщил и
поздним поколениям надолго, сообщил любимому детищу своему, - универ-
ситету. «Как мир громаден и чуден, ступай и изучай его!» - это чувство, так
прекрасное, так благородное, которое и его, бедного мальчугана, пригнало с
берегов Северного моря в Москву, было завещано им, как единственное, по-
колениям последующих наших ученых. «Ступай и изучай»... как? что? - этих
тревожных и замедляющих вопросов недоставало ни его непосредственной
натуре, ни, тем менее, натуре их. «Для чего я буду изучать? какой именно
смысл в таи и этом из бездны удивительных знаний, мне открываемых при-
родой?» - этого вопроса, этой оглядки на себя, на свой труд, расчленяющего
взгляда на самый мир, в нем не было. Как Аладин при блеске волшебной
лампы изумленно оглядывал внезапно открывшиеся ему сокровища и еще
* Он несколько раз повторил этот термин, и он чрезвычайно удачно выражает
положение и характер прений на диспуте. Г. Сергеевич, который утопал в своем
красноречии, видимо, был чрезвычайно недоволен «бестактным» вмешательством
старого коллеги.
362
ничего не думал об их употреблении, так оглядывал при свете ума своего,
религиозно настроенного* и не аналитического, основоположник науки на-
шей природу, благоговея, чудясь**, догадываясь и не размышляя:
Коль многи смертным неизвестны
Творит природа чудеса***
- эта мысль, скорей ощущение - есть в нем центральное, и оно исключало,
делало до времени ненужным самый вопрос о видимом, о его гранях и связях.
«Что именно я вижу, до каких пределов!» - какие бессмысленные вопросы,
когда богатства неисчислимы, границ нет, и, главное, нет границ восторгу, тес-
[ыщему грудь при их зрелище:
Восторг внезапный ум пленил
- как говорит он о себе в одной оде...****.
И нас всех пленил он этим своим «пленением»: заслуга нравственная
скорее, нежели умственная, принадлежит ему единственно в истории. Он
был основателем высокого культа к науке, которому в течение полутора
века никто не смел изменить у нас; но, не изменяя, никто не умел и слу-
жить ему, потому что мысли о самом предмете культа он нам не оставил.
Не было огранённости в его бесформенном чувстве науки, не было в
этом чувстве понятий, которые, цепляясь с нашею мыслью, вызывали бы
в ней вопрос за вопросом, задачу за задачею, решая которую мы изощря-
лись бы в силах, возрастали бы в воззрениях на мир, и, возрастая, не утом-
лялись бы...
От этого в истории нашей его светлый ум, его живое искание, остались
каким-то обрубленным фактом, без развития, без школы, только с длящимся
позади его впечатлением удивления и уважения*****. Он заразил нас чув-
ством, но не дал мысли; показал великий пример, которому следовать не
научил, не дал способа, не указал возможности. Скажем более: примером
♦ Из писателей XVIII века Ломоносов есть не только самый серьезный, но
самый религиозный: удивительны его труды, положенные на переложение частей
Псалтири (псалмов I, XIV, XXVI, XXXIV, LXX, CXLIII, CXLV) и книги Иова (главы
39-4 j у и также нет ни одного из его ученых рассуждений-речей, где мы не могли бы
или не чувствовали постоянного религиозного настроения, которое, очевидно, не
покидало творца их во всех его изысканиях, при всякой работе.
♦♦ См. его оды «Утреннее размышление о Божием величестве» и «Вечернее
размышление о Божием величестве, при случае великого северного сияния».
♦*♦ Из оды на день восшествия на престол Государыни Елизаветы Петровны.
♦♦♦* «На победу над турками при Хотине», первая строка.
***** Замечательно, что при праздновании юбилея его многочисленные ученые
и научные учреждения, принявшие в этом праздновании участие, не сумели, не на-
шлись высказать об нем или по поводу его никакой определенной, понятной, сколько-
нибудь расчлененной мысли. То же неопределенное удивление через 100 лет к нему,
каково было и его общее и неопределенное удивление к природе.
363
факта великого без всякой содержащейся в нем мысли, он лег камнем на
науку нашу, вокруг которого не зажурчала, не могла зажурчать никакая живая
струя. «Есть силы такие же, как у него - то открывай так же, как он» — вот
единственное поучение, которое он оставил собою. Но ни одному слабому он
не помог; ни одной теряющейся мысли не указал путь; живому уму не дал в
лабиринт знания никакой Ариадниной руководящей нити. Он ожидал, что
может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
рождать русская земля: увы, за ним потянулся, и чем далее, тем утончаясь,
истощаясь, ряд таких жалких плагиаторов слова, если не слова - то мысли, не
самой мысли - то метода, каких если бы предчувствовала его душа - он
понял бы, что незачем было ему бежать с Ледовитого океана в Москву, ни,
позднее, - спешить с такими надеждами с дальнего Запада на родину... Он не
отчаялся - благодарение его великодушию; он надеялся - весь век его наде-
ялся, как этот Потемкин в бессонные ночи, когда он обдумывал свой «гре-
ческий проект», Суворов мальчиком еще - «стать Аннибалом своего отече-
ства», и в зрелых, и в более чем зрелых летах Екатерина, Павел - «спасти
Европу от самое себя».
Смыслом, содержанием своим он не переступал за содержание XVIH
века; как и весь этот век, он обращен был к его началу, исходной точке — к
всеоживляющему образу Петра, который и был один только великим, ориги-
нальным лицом в этот век. Он несколько поздно родился; он - не поспевший
к делу сподвижник преобразователя, почти плачущий, что уже минула мину-
та и он никогда не ответит покорностью, робким взглядом, трепетным испол-
нением на мановение истинно великого человека:
Блаженны те очи, которые божественного сего мужа на земле
видели!
Блаженны и преблаженны те, которые пот и кровь свою с Ним и
за Него и за Отечество проливали, и которых Он за верную службу в
главу и в очи целовал помазанными Своими устами*.
Как это живо; это - почти грёзы человека с открытыми глазами; он
говорит «Слово», - пространное, умное, одушевленное, - и, его заканчи-
вая, как бы воочию видит своего кумира, драгоценнейшее сокровище сво-
его сердца; - сокровище и истории нашей, и из нас всякого, кто благороден.
И, однако, как Петр был велик натурою целостною своею и нисколько не
умом, так велик порывом только своим и нисколько не мыслью Ломоносов.
♦«Слово третие, о пользе химии, сентября 6 дня 1751 года говоренное», стр. 261
«Собрания разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежского советника и
профессора Михаила Ломоносова». Москва, 1757 года.
364
Как Преобразователь, сбросив ветхий, старческий образ Москвы* с себя, с
России, этот жест сбрасывания один завещал нам и мы с тех пор и до нашего
времени не можем, не умеем надеть на себя никакого другого сколько-ни-
будь определенного образа; так творец грамматик, од, «летописцев»**, «над-
писей» не сказал слова, не подумал мысли, которая в нас стала бы живым
содержанием и охранила бы нас от последующего падения. Оба суть в точ-
ном смысле «герои», творители дел, которые не имеют*** никаких послед-
ствий. Гора свалена; - ну и что же? Рухнула Москва, оды прошумели, грам-
матики переплетены и поставлены на полки библиотек... и что же, мы будем
творить еще грамматики? рушить с таким же восторгом?.. Но что, наконец,
рушить? свое собственное дело?..
Отсюда, от завещанного подвига в науке без завещанной идеи науки,
последующее безмыслие... Университеты основываются, кафедры в них мно-
жатся, - когда мы не знаем, для чего существует даже один. Практически мы
знаем это, и это не имеет значения; теоретически - это одно могло бы иметь
значение, и этого мы не знаем. Мы все еще как и при Ломоносове удивляем-
ся «природе»; питаем как он же культ «науки»; удивляемся так долго, так
долго храним этот культ бесплодный, что сердце наконец устало и губы скла-
дываются в благоговейную улыбку несколько фальшиво...
И еще позднее, на наших глазах, - эти заброшенные аудитории****,
эти незнающие, что делать со скучающими слушателями профессо-
♦ Но не России, в целостном ее составе, в целостном течении ее истории. Под
влиянием нужды, под ношею временной миссии, Россия как бы состарилась, сгорби-
лась, окостенела в Москве. И как совершенный восторг к ее историческому подвигу,
так и совершенное отвращение к ее внешнему виду (теперь, когда плоды ее труда уже
у нас в руках) не исключают нисколько друг друга, но оба требуются любовью к
земле своей и пониманием ее истории.
♦* Сокращенные экстракты из летописей образовали первоначальную форму
науки русской истории; таков у Ломоносова: «Краткий российский летописец с ро-
дословием». СПб., 1760.
♦♦♦ Implicite, в себе, не содержат: отрицательно, и вне преднамерения творца
своего, они, конечно, влекут за собой обильные последствия.
♦♦♦♦Не редким явлением было уже в мою пору учения (78-82 гг.), что, записав-
шись на факультет, студент брал продолжительный отпуск под каким-нибудь предло-
гом и возвращался на родину, где давал уроки, чем-нибудь занимался; и в универси-
тет приезжал лишь к экзамену, к которому быстро приготовлялся по литографиро-
ванному курсу, и, сдав этот экзамен, снова возвращался на родину, чтобы на следую-
щий год повторить то же. Но и остававшиеся в университетском городе, студенты
почти так же мало принимали участия в общеуниверситетской жизни. Лишь с начала
великого поста аудитории начинали несколько наполняться слушателями, желавшими
заблаговременно приучить глаз профессора к своему лицу, и выделиться, по крайней
мере, прилежанием перед теми студентами, которые появлялись на лекции к сроку
самых экзаменов, недели за 2-3 до них. Принимая во внимание связность и последова-
тельность каждого годового курса лекций, можно предположить, что и это время
перед экзаменами студенты собственно присутствовали на лекциях, но их не слушали
(так как не понимали же). Тут, в эти недели, начинали выходить ускоренно и лекции
(литографированные), которые живо разбирались и заучивались на дому.
365
ра*; эта неспособность заинтересовать, невозможность заинтересоваться**,
неоконченные диссертации***, диссертации обещанные и не выходя-
щие****; риторика, обман, бесплодие и, наконец, кощунство - невольное,
открытое, как этот смешной диспут, который мы здесь невольно вспомнили...
* Собственно вопрос этот, т. е. что, наконец, делать, когда приходящие, по-
видимому, учиться - учиться в действительности не хотят, был, кажется, мучительным
вопросом для всех серьезных профессоров, строго относившихся к своему курсу (т. е.
к себе, как автору курса); и нечто вроде недоумения по этому поводу мне приходилось
слышать от глубоко чтимого мною наставника, профессора всеобщей истории в Мос-
ковском университете Влад. Ив. Герье: «Конечно, если они не хотят слушать, раз их не
интересует наука, - не тащить же их насильно в аудитории; и чем же, если не таким
насильственным натаскиванием на науку, была бы всякая внешняя мера против непосе-
щения лекций» (предполагалось где-то кем-то переписывание не посещающих лекции
студентов, запрещение литографирования лекций и т. д.). Собственно, положение этих
строгих (к себе) профессоров было трагично, и желчь невольно поднималась против
индивидуумов, против лица человеческого. Но, очень долго, очень внимательно поду-
мав над этим вопросом, приходила иногда и такая мысль: но почему они (студенты)
должны хотеть слушать? Что «читаемое вообще будет умно»? Но ведь «мало ли
умного на свете, всего не переслушаешь, да и послушаю завтра, через 5-10 лет; прочту
где-нибудь в книгах». Или что «это нужно для образования»? - «Ну, я не так уж
необразован, чтобы торопиться сейчас до чего-то, до какой-то никому неизвестной
мерки дообразовывэться». Словом, все это очень и очень неопределенно, и не принуди-
тельно действует на этот час, в эту минуту, когда хотелось бы поиграть на бильярде,
пойти к приятелю, полежать на постели. С этой постели, от приятеля, из бильярдной не
гонит меня никакое определенное любопытство ума, которое беспокоило бы, дразнило,
раздражало, и, раздражая, не оставляло бы возможности сидеть дома, гнало бы бежать
в аудитории. С этической точки зрения вся правда, конечно, была на стороне тех строгих
старых профессоров, которые (по выражению швейцара аудиторий) «жевали» студен-
тов на экзамене; с логической, пожалуй, с историко-метафизической точки зрения - это
был не возмущенный еще духом истории покой вод; и кто хотел, чтобы они бурлили,
должен был иметь силы поднять их, стать посланцем этого нами названного духа. Таких
посланцев наш университет не видел; им не был, мы утверждаем, и Ломоносов. Им
были, скорее, такие люди, как Лобачевский, как Станкевич.
** В беседах с одним уважаемым ученым и критиком мне неоднократно прихо-
дилось касаться этой больной и странной стороны университетской кафедры. «Но
ведь профессуры не ищут, - говорил он мне, - наиболее даровитые из слушателей
университета, но только - люди упорные в труде! Что может она дать взамен того, что
всякий даровитый студент теперь находит, по окончании курса, на иных более свобод-
ных и многозначительных поприщах жизни - адвокатуры, медицинской практики,
государственной службы? Профессор - вечный и подневольный труженик, ничем
почти за это труженичество не вознаграждаемый». Несомненно, однако, что между
50-70 годами на кафедру всходили, под временным и сильным дуновением разных
благоприятных ветров, истинные таланты. Приведенное обьяснение можно отнести
лишь к историческим будням, какие затем настали.
* ** Например, «История английской этики» профессора Казанского универси-
тета, г. Смирнова, первый том, который был написан для получения степени доктора
философии, и за ним - ничего не последовало.
* *** В журнале «Критическое Обозрение», издававшемся в начале 80-х годов
кружком профессоров в Москве, публиковалось, и неоднократно, г. Виктором Ми-
хайловским о том, что он «приготовляет к печати» или «оканчивает» или «окончил
уже и просматривает» обширный исторический труд о Филиппе Коммине. Очень
интересуясь Филиппом Коммином, я с нетерпением ожидал выхода книги, но книга не
366
VI
Я читал «О разложении поземельной общины в кантоне Вадт»* - и думал о
нашем бедном сельском мире, о «Государственном устройстве Женевы во
времена Руссо»** - и об устройстве нашего департамента, о «Кальвинистах
во Франции»*** - и о своем участковом приставе. Читал о знойном эквато-
риальном солнце над пальмовыми лесами - и не мог не думать о холодном,
мелком дожде, который барабанил мне в шляпу и струился по моим щекам. Я
не хотел думать о том солнце; я его, наконец, ненавидел... Мне хотелось как-
нибудь, чем-нибудь остановить этот дождь.
Я думал о труде Сперанского; и не о нем, собственно: ведь он тоже был
плагиатор**** чужой мысли; я думал об этом странном, антипатичном, по-
всеместном строе, который, как пелена мелкого, частого, холодного дождя -
повис над всем цивилизованным миром. Об этих мириадах чиновников, под
которыми нет гражданина, об отодвинутой в сторону приходской церкви;
думал над опутанными, как тонкою паутиной, сетью частых, мелких, деталь-
ных вопросов- монархами, которые ничего не могут и за все ответственны...
«Ваше Величество, здесь грязно - посторонитесь...» - «Ваше Величе-
ство, Николаевская дорога покупает 10 сажен земли под склад каменного
угля у Московско-Курской жел. дороги: на облигационный или эксплоатаци-
онный капитал отнести этот расход?..»*****.
И еще серии вопросов за этот день; и когда, по достаточном расспросе,
они разрешены - тысяча бумаг назавтра потекут «к исполнению». Живут
департаменты, крушатся страны. После того как 24 часа потрачены на рас-
смотрение «дел», не остается 25-го, в который можно бы подумать: «Зачем,
откуда, куда эти дела?»
выходила, хотя извещения о подвигающихся вперед работах прилежного московского
историка время от времени появлялись. Выждав еще несколько лет, я справился, не
умер ли автор; но он не умер. Очевидно, тема ему опротивела гораздо ранее, чем он
успел ее выполнить, и само избрание ее не имело для себя других причин, кроме
внешней подражательности другим.
♦ Профессора Московского университета, Макс. Макс. Ковалевского.
♦♦ Профессора Московского университета, г. Алексеева.
♦** Профессора Киевского университета, г. Лучицкого. Этот труд замечате-
лен тем, что в то время как в литературе нашей нет истории реформации, нет истории
кальвинизма, в книге этой подробнейшим образом разобрана история кальвинизма
во Франции, насколько помнится, за 11 месяцев.
Известно, что, просмотрев проект нового «Уложения», им составленный в
двух небольших томах, Карамзин воскликнул: «Да это Code Napoleon!». Столь же изве-
стно, что Государственный совет, им созданный, соответствует законодательной власти,
министерства - исполнительной, и Сенат (коего преобразование он не успел выполнить)
должен был соответствовать судебной власти, все - по учению Монтескьё.
***** Случай вопроса, мне детально известный. Мина совершенной покорности
воле Монарха, «без соизволения которого ничего не делается», видится за этим воп-
росом; и совершенная же свобода от воли Монарха в принципиальном, в главном - в
том «лесу» жизни, которого Монарх не видит более за этою перед ним натащенною
поленницею деревьев.
367
Я думал о странной, незамеченной никем перемене, совершившейся за
один-полтора века в Европе; о перемене, не замеченной никем потому, что
она совершалась ежедневно, текла с медленностью стрелки на циферблате
столетних часов.
Где этот «король-солнце», как Людовик XIV? «королева-мать» свое-
го народа, как возлюбленная «Бетси» английская? король как вождь кре-
стоносных дружин? наконец, он - хотя бы только как средоточие сверка-
ющего красотою, умом, изяществом двора? Какая перемена во всем:
теперь король - самый слабый между своими подданными, который не
может даже закричать, когда ему больно, закрыться рукою, когда ему
стыдно...
В Венгрии маргариновая пакость общественного мнения (я говорю о
парламенте) отменяет христианский брак*; вчерашний вор, до завтра пока
не уличенный**, кричит: «Я так хочу»; задумчив, безгласен император -
старый, говорят - в душе истинный христианин, поседелый в делах совета и
мира; последний он выговаривает нерешительно, против совести: «Хорошо,
но не более, чем вы требуете, с отдохновением хоть до завтра».
Слабый, жалкий... зачем ты не бежишь из Вены, из постыдных дворцов
своих, куда-нибудь на мельницу, где ты мог бы молоть хлеб - свой собствен-
ный, свободно для себя изготовленный, как это делает каждый более тебя
счастливый мельник в 3-4 королевствах, в твоей руке бессмысленно соеди-
ненных.
О, как давно следовало бы монархам Европы разбить свой скипетр, изло-
мать корону***, вместо того, чтобы до времени так жадно и жалко их удержи-
вать.
* Законопроекты Векерле, требовавшие установления гражданского брака и
брака смешанного, христиан с евреями. Теперь они приняты, и из-за порицания им,
высказанного папским нунцием, которого не остановил общеимперский министр ино-
странных дел, этот последний принужден был выйти в отставку, несмотря на пользу
его для страны и почтение к нему Государя. Т. е. Государь, министр, нунций, одни в
целой стране не пользуются свободою голоса, свободой исповедания своего убежде-
ния, которою владеет всякий проходимец.
** Дела Панамские и о шантажистах прессы обнаружили, какие общественные
слои группируются около парламента и политической печати.
♦♦♦ Слова эти были написаны мною всего за несколько дней до 5 декабря 1894 г.,
когда Казимир Перье бросил свое президентство, с презрением к нему и негодованием
на тех, кто дал ему эту странную власть, это положение без силы, ношу без благодар-
ности - игрушку, забавную для многих зрителей и очень мало для ее обладателя. В
новые века это кажется первый случай игнорирования человеком властолюбивым
власти, и я нс могу нс высказать удивления и удовольствия, что в статье, посвященной
анализу центральной политической власти в Европе, я взял ноты, угадал настроение,
которому факт столь новый в истории и коего никак нельзя было предвидеть еще
накануне - ответил через несколько дней. Читатель без труда поймет, что незачем мне
было бы говорить в тексте статьи о возможном в Вене, если бы у меня было перед
глазами совершившееся действительно в Париже.
368
VII
Как солнце есть источник лучей не только световых, хотя они одни в нем
видны, но и термических, химических, быть может еще других, менее улови-
мых, и лишь в синтезе их живительно для целой природы, - так монарх в
смысле власти своей несет чрезвычайную сложность и лишь в полноте этой
сложности живителен, значущ, тверд в судьбах своего народа, в истории стра-
ны. Всякий акт в жизни народной, насколько он нов сравнительно с предыду-
щими, усложняет, обогащает смысл его значения; и тысячи этих актов, теряю-
щихся в памяти народной в своих определенных чертах, остаются в душе его
как представление о власти неуловимой и живительной, неопределенной и
безмерной, необходимой практически и вместе священной. В смысле этой
власти отражается смысл всей совершившейся истории; ее каждое деяние
имеет там отложенную от себя черту; и как в истории народа, бытие которого
не ограничивается этнографическим существованием, есть несомненно про-
виденциальный характер, - этот провиденциальный характер имеет власть
монарха, концентрирующая в себе смысл истории. Отсюда взгляд на него как
на «помазанника Божия», представление о власти его как о «милости от Бога
полученной». И весь народ «помазан» к истории Богом; он - есть, продол-
жается, совершает деяния, а не остается в грязи неведения, молчания, забве-
ния вовсе не бедными дарами своими, не сцеплением внешних обстоятельств,
но Тем, Кто распределяет дары, сцепляет их с обстоятельствами.
Уяснить эту власть, определить ее, формулировать, - значит ее уменьшить,
обеднить, ограничить. «L’etat c’est moi» -это выражение не было кульминаци-
онным пунктом в развитии монархии, как поняли историки, с ужасом сознали
политики: это было ее первым ограничением. «Только государство - я» - это
так мало; где же здесь отраженные черты Людовика Св.? победы, поражения,
рыцарство, двор Франциска 1? Разве это включает в себя светлую эпоху фран-
цузского Renaissance? героизм Абеляра, аскетизм францисканцев? Где, каким
элементом, кротким и прекрасным, живут тут ссора и примирение с Ингебур-
гою Филиппа Августа? «Ты - государство? Итак с Кольбером, Лувуа, Воба-
ном, этими скучными чиновниками, ты можешь обсуждать вопросы интен-
дантства, установлять тарифы, подготовлять войны и пить горечь своих неудач,
-мы имеем свою жизнь, в которой замыкаемся от тебя», - говорили немного
время спустя салоны, шумели энциклопедисты, развивал Руссо, доказывал в
одах, сатирах, трагедиях Вольтер; «в стороне от твоего алтаря мы имеем свои;
своим богам молимся; имеем свою историю». И когда две независимые исто-
рии столкнулись, истории разного происхождения, разного содержания, с раз-
ною толпою участников, победа не оказалась на стороне более древней, менее
жизненной, окостенелой, презираемой. Но кто хочет понять этот великий мо-
мент, должен понять процесс, задолго до него совершившийся и определив-
ший возможность самого столкновения, а не исход его.
Фактическим революциям, какие совершались в Европе с 1649 года по
1870 год, предшествовала незамеченная революция в представлениях народ-
369
ных о монархе в смысле указанного определения и сужения его власти. Карл I
и Иаков II - в Англии, Людовик XVI, Карл X, Луи-Филипп - во Франции, Ферди-
нанд I и Фридрих-Вильгельм IV - в Австрии и Пруссии, были низвергнуты или
испытали попытку быть низвергнутыми, как правители стран, как неудачные
администраторы, а вовсе не как монархи в том обильном, не растерянном
смысле, как ими были Константин или Феодосий на Востоке, Карл Великий,
Альфред, Отгон на Западе. Мы живо чувствуем - революция против этих пос-
ледних была бы невозможна; невозможна не в обстановке их времени, но по
особым качествам их власти; равно как в качествах власти всех перечисленных
павших государей уже implicite заключалась возможность революции против
них; и факт преступности их или неудач был возбудителем, но не причиною их
падения. Если вновь изданный закон (ордонансы Карла X), дурное админист-
ративное распоряжение (запрещение банкета реформистов при Луи-Филип-
пе), новая подать (при Карле I), несчастная война (при Наполеоне III) делают
возможным это падение - значит, павшая власть в этот момент ее падения и не
содержала в себе ничего иного, чем что выражается или может быть выраже-
но без остатка в законе изданном, подати установленной, в том или ином, но
только - в административном распоряжении. Власть эта слишком объясни-
лась; она истончилась, стала бедна содержанием; она разложилась, пройдя
некоторым особым образом через ряд исторических фактов, как разлагается
белый сложный луч света, проходя через ряд цветных призм, - и лишь одна
несущественная нить, одна бледная цветная черточка в ней осталась. Револю-
ция фактическая есть незаметный ее момент; нарастающее неудовольствие
масс - момент не решающий; главный момент революций, непонятый исто-
риками, неуловленный теоретиками государства- есть момент определения в
народных представлениях власти монарха, как связанной с чем-нибудь онре-
деленным в его бытии, связанной только с этим одним и обрывающейся, как
только это одно потрясено. Генрих VIII в Англии не низвергается, разрушив
церковь древнюю, установив новую по своему произволу, развратный и жес-
токий тиран; Карл I (после заботливой Елизаветы) уже вызывает против себя
революцию стеснением эмиграции, собиранием податей помимо одобрения
парламента. Карл IX, совершив варфоломеевскую ночь, Христиан II, устроив
в Стокгольме «кровавую баню», наш Иоанн Грозный и ряд государей слабо-
умных (Феодор Иоаннович), помешанных (Карл VI во Франции), плененных
(Франциск I, Иоанн Добрый), без вести пропавших (Ричард Плантагенет) ос-
тавляли народ в покое, в горести, в сожалении, страхе, ужасе, но никогда - в
возмущении. О чем же было сожаление, за что в государе страх, чем было
удерживаемо возмущение, если на лицо не было не только благодетельной
власти государственной, но и не было государя иначе как помешавшегося или
потерянного? Всмотримся в факт, ближе, понятнее, ярче светящий перед нами:
разве кровь, проливаемая Иоанном IV, текла без боли? разоряемый Новгород,
готовый стать разоренным Псков - не трепетали? в Ливонской войне не было
унижено царство? Итак, что берегли в этом теле - старом, ненужном, блудном,
упившемся в крови? Государя ли, когда всякий на месте его был бы лучший?
370
Правителя беззаконного, военачальника побитого, политика осмеянного, су-
дью бессудного? Нет, все это было ему... не прощено, не забыто, но все это -
малилось пред необъятным иным, что он нес в себе, в этом изношенном сво-
ем теле, помешанном уме, развращенном сердце; точнее — что нес, что свети-
лось для всего народа около этой не погаснувшей, мучительной, презренной и
однако бережно хранимой жизни. Мы не определяем, не хотим определить
смысл этого света; мы на него указываем; и никто не отвергнет, что и пскови-
тяне, и новгородцы, и Филипп Святой, и Курбский именно ради этого невыра-
женного и чувствуемого света не осмелились для защиты своей поднять руки,
даже слишком возвысить голос, но - умерли, пострадали, и облили бы презре-
нием, вознегодовали бы против потомков своих, если бы так же покорно и
безропотно не пострадали, не умерли они.
И если от этого яркого, значительного факта мы перенесемся мыслью к
другим фактам, где уже при обильном презрении и ненависти мы видим гораздо
меньше переносимой боли - мы, наконец, поймем их. Отмененный банкет «ре-
формистов»* наполняет смятением улицы Парижа, волнением - войска, мяте-
жом - народные массы: и король, мирный в течение 18-ти лет, с соправителем
самого возвышенного ума и редкого благородства (Гизо) - позорно изгнан;
изданные ордонансы о цензуре, изменении избирательного закона и прочих
деталях управления бросают Францию в революцию против Карла X; рождение
сына-наследника у неприятного Иакова II истощает терпение Англии в 1688 году;
и не было даже этих ничтожных, сколько-нибудь определенных поводов для низ-
вержения, суда, казни Карла английского, Людовика французского, кроме как
разве то, что они хотели бежать и не сумели этого... Это был суд, расправа,
борьба... нес монархами, а с злоупотреблявшими своей властью чиновниками;
пусть их власть территориально была очень обширна; она не была более слож-
на; не была - культурна - одухотворена. Изгнанные или казненные, они уже и
ранее этого не врастали во Францию, в Англию; они были связаны с админист-
рацией только, действовавшей в 1649 году в Англии, в 1789 году во Франции.
Разве теперь, в эти новые годы, Франция двинулась бы за ними в крестовый
поход, или они сами захотели бы ее повести? изменила бы строй церкви? или
даже перестала бы читать Вольтера, доверять Руссо? отказалась бы от красноре-
чия нелепого, звероподобного, могучего Кромвеля?..
Иоанн Грозный - преступен, сын его - слабоумен, но внук может созвать
еще церковный собор для рассмотрения вкравшихся в церковь нестроений, зем-
ский - для издания нового и лучшего Судебника; нет вести о короле Ричарде, но
еще отец его избавил Англию от гнета бессудного католического духовенства,
издав церковные постановления в Кларендоне; Феодосий был великим сберега-
телем христианства; был святым Людовик IX; героем побед и плена, жизнера-
* Мы говорим не об общих причинах, а об частном, непосредственном поводе к
народным движениям, породившем в этот именно день взрыв чувств достаточный,
чтобы снести трон. Мы указываем, как относительно (напр. избиваемых новгород-
цев) слабы были эти чувства и, следовательно, слаб трон, тонка и не прочна его связь
с душою каждого.
371
достного Возрождения, несравненных романов был Франциск I. Чем мог быть
Людовик XVII, XVIII, XIX, как не финансистом несколько лучшим, нежели их
предок, мужем несколько менее верным, - и как одно было не интересно, дру-
гое - не очень нужно, и, во всяком случае, нисколько не священно для Франции.
Монарх саио-ограничивается, и потом уже - ограничивается извне или те-
ряет вовсе власть. При целости и полноте в нем черт, отложенных мириадами
деяний минувших и полузабытых, самая мысль об его ограничении так же чуж-
да бывает времени, враждебна каждому человеку, как показалась бы ему враж-
дебна мысль ограничить его собственную связь с историей, оборвать дорогое,
нужное, святое - что он от нее несет в своих нравах, воспитании, навыках, целом
физическом и духовном своем бытии. Как омофором священным, - от бурь
истории, от ненависти человеческой монарх этим именно охраняется, - в грехе
и доблести, силе и слабости, рассудительности и даже безумии; что ему все
проходит, пока не снят, не свился над ним, не оттолкнут самим им безрассудно
этот оберегающий его, Промыслом оберегаемый над ним, Покров.
VIII
Чуть-чуть, указанием на нсколько изолированных точек, мы дали почувствовать
в начале* этого рассуждения, как мало для блага страны, как недостаточно для
здравого смысла несет в себе элементов чрезмерная, всепоглощающая, всем
пытающаяся овладеть и ничем не владеющая действительно администрация}
мы не выражаем этим именем вполне свою мысль: мы хотим говорить о колори-
те новых государств, и произносим имя, когда должны бы назвать призрак. Мы
считаем бесплодною для народов, бессмысленною для рассудка админисщра-
тивность этих государств; наконец - и здесь только мы начинаем говорить что-
нибудь новое для читателя - мы ее считаем гибельною, опасною для монархий.
В узкую, бедную мысль Сперанского, - как ранее, в Европе, в мысль* ♦
здравую и грубую, полезную и всегда материальную, в мысль никогда небес-
ную, святую - дали вовлечь себя монархи, в смысле власти своей несшие сверх
грубых земных элементов и элементы мистические, черты не житейской правед-
ности. Мы все отклоняемся от родной почвы к истории чуждой. Мы хотим
сказать, что Сперанский самыми особенностями своих талантов, выдающихся -
но в бедной сфере, замечательных - но только силами логическими, человек
всего менее «земли», «натуры», «почвы», темперамента, всего менее знавший
и веривший тайне Антея, который через припадание к матери-земле обновлял
свои силы, - этот человек особенностями своего узкого гения чрезмерно сузил
смысл нашего исторического бытия. И между тем трудясь около монархов, тру-
* См. выше, главы I—III.
♦* Мы разумеем деятелей европейской политики типа Кольбера. Между госуда-
рями, выдающимися в этом роде, были Генрих IV - во Франции и Фридрих II - в
Пруссии, отчасти - Елизавета Английская; все - деятельные администраторы своих
стран.
372
дясь над созиданием нашего государственного механизма, он именно их вовлек
в недостаточную мысль свою, уединил в свою непрочную паутину, уединил их
от истинного их достоинства, власти, значения, исторического смысла. Ни еще
такой гигант как Петр, такая самодержица как Екатерина - не стали более воз-
можны после него. Все упорядочилось и вместе обеднялось; упорядочилось
скорее в форме и совершенно иссякло в духе: нет - безумного произвола, нет -
изумляющего, неслыханного благодеяния. Обратим внимание: на созыв депута-
тов*, -так смело, великодушно, в таких богатых размерах** решенный без сму-
щения Екатериною, - при нуждах гораздо более настоятельных не повторялся и,
мы чувствуем, это не повторится иначе, как в формах смешных, боязливых,
неудачливых (комиссия «сведущих людей» 1881 г.). Что-то робкое, какая-то тень
Акакия Акакиевича, - не того, который послужил прототипом для Гоголя и
был прекрасен, но того, какого дал нам Гоголь, и он отвратителен, жалок, - эта
тень сморщенного чего-то, бессильного, облезлого, она пала от длинной и
худой фигуры Сперанского на тысячи дел, замыслов, предприятий, после него
совершившихся и текущих до наших дней. Мы не умеем более возделывать
свои нивы, умеем написать об нивах тысячи страниц; и даже, когда возделан-
ным нивам Бог пошлет урожай*** - мы в отчаянии от него, мы растеряны, и
как испуганные овцы жмемся в своих канцеляриях, ища защиты от новой напа-
сти, ища помощи и не зная, кого просить о ней, и, наконец, прося Бога закрыть
щедрую руку, прося давать хлеба именно столько, сколько нужно, и ни больше,
ни меньше, - как и мы «сколько нужно» отправляем «бумаг» в день и не
отправляем же их больше! Земля, реальное дело - это так ново; это - так страш-
но для нас; так страшно ступить на почву, выйти в жизнь, взглянуть на солнце и
зеленеющие поля, после того как мы сто лет смотрели только на керосиновую
лампу и видели перед собою черные, унизываемые буквами, строки...
И, конечно, с этою суженною действительностью не могла слиться исто-
рическая Россия; живые инстинкты, порыв, все неугомонное и страстное,
что не может уложиться в ранку размеренного дня, приуроченной работы,
наконец - работы ясно бесполезной, потекло за краями этой действительнос-
ти, вне рамок канцелярии и департамента, волнуясь, негодуя и радуясь, созда-
вая в этом течении поэзию, зачатки искусств, попытки науки - действитель-
ность новую и неожиданную, о которой ничего не знала канцелярия и которая
♦ В знаменитую «Комиссию для составления проекта Нового Уложения».
♦♦В «Положении, откуда депутатов прислать к сочинению проекта Нового
Уложения» сказано, в § § 3-7: «От жителей города - по одному депутату, от однодвор-
цев каждой провинции - по одному депутату; от пехотных солдат и разных служб
служилых людей, и прочих ландмилицию содержащих, от каждой провинции - по
одному депутату; от государственных черносошных и ясачных крестьян, с каждой
провинции - по одному депутату; от некочующих разных в области нашей живущих
народов, каково б они закона ни были, крещеные или некрещеные, от каждого народа
с провинции - по одному депутату». - Декабря 14 дня 1766 года.
F *** См. урожай 1894 г., и тоску администрации нашей в зиму 1894/95 года, по
поводу его поднявшуюся.
373
не знала, не хотела знать то, что было в канцелярии, несколько игнорировало,
презирало ее. «Земля» и строй государственный стали разобщены; точнее, -
«строй государственный» сложился в тип, в форму (и это именно есть дело
Сперанского), которая не охватывала более «землю», сузилась сравнительно с
ее инстинктами, силами, задатками, и безотчетно для себя, безвинно для земли
- ее оттолкнула от себя, или, по крайней мере, отделила.
То, что нас единственно занимает здесь - это судьбы нашей монархии, и
то, как на ней отразились эти недавние сравнительно перемены. Бросим взгляд
на факты. Не поразительно ли, мы не знаем ропота Радищева, гнева Новико-
ва, не знаем ропота и гнева им близких людей, их общества - иначе как ропата
скорбного, проникнутого любовью к сущности того, против проявлений чего
был ропот, почти физический, почти крик боли испытываемой, но не ума
размышляющего и еще менее раздраженного сердца. Но замечательнее го-
раздо, что этого ропота, с этим оттенком общих чувств, не было и в царство-
вание Александра I, не было и тени его в декабристах: вспомним письмо
Рылеева к Государю перед казнью*, исполненное трогательности, нежного
* Вот это замечательное письмо, сохранившееся в черновом наброске и написан-
ное около 21 июня 1826 г.:
«Святым даром Спасителя мира я примирился с Творцом моим. Чем же возбла-
годарю я Его за это благодеяние, как не отречением от моих заблуждений и политичес-
ких правил? Так, Государь! отрекаюсь от них чистосердечно и торжественно, но
чтобы запечатлеть искренность сего отречения и совершенно успокоить совесть мою.
дерзаю просить тебя, Государь, будь милосерд к товарищам моего преступления. Я
виновнее их всех; я, с самого вступления моего в Думу Северного Общества, упрекал
их в недеятельности; я преступною ревностию своею был для них самым гибельным
примером; словом, я погубил их; через меня пролилась невинная кровь. Они, по
дружбе своей ко мне и по своему благородству, не скажут сего, но собственная со-
весть меня в том уверяет. Прошу тебя, Государь, прости их: ты приобретешь в них
достойных себе верноподданных и истинных сынов отечества. Твое великодушие и
милосердие обяжет их вечною благодарностью. Казни меня одного; я благословлю
десницу, меня карающую, и твое милосердие, и пред самою казнью не престану мо-
лить Всевышнеяго, да отречение мое и казнь навсегда отвратят юных сограждан
моих от преступных предприятий противу власти верховной» (курсивы наши).
Не менее замечательны слова, находящиеся в письме от 13 марта 1826 г., писан-
ном из крепости жене:
«...Поверь, мой друг, что самое несчастие мое (т. е. заключение в крепость) принес-
ло мне уже важные пользы. Пробыв три месяца один с самим собою, я узнал себя
лучше; я рассмотрел всю жизнь свою - и ясно увидел, что я во многом заблуждался.
Раскаиваюсь и благодарю Всевышняго, что Он открыл мне глаза. Что бы со мной ни
было (говорится о приговоре Верховного суда, который еще не состоялся), я столько
не утрачу, сколько приобрел от моего злополучия; жалею только, что я уже более не
могу быть полезным моему Отечеству и Государю, столь милосердному»... (курсив
наш). См. «Сочинения К. Ф. Рылеева, изданные под редакцией М. Н. Мазаева. СПб.,
1893», стр. 183 и 170. Замечательны последние отмеченные нами строки по совпадению
со взглядом Ф. М. Достоевского на испытание, им вынесенное в каторге. Письма Рыле-
ева, по их высокому историческому' и воспитательному значению, должны бы стать у
нас предметом школьного изучения, и, вероятно, станут таковым со временем.
374
уважения к казнящей завтра руке - памятник единственный политической
жизни у нас, более значительный и дорогой, чем все пространные и бездар-
ные компиляции Сперанского, не исключая его «Свода»; вспомним, как уди-
вились и не узнали нашего общества вернувшиеся из ссылки декабристы.
Смотрением Божиим, Александр I выражал еще целостную историческую
Россию - на полях проигранных и выигранных битв, в гордом ответе Наполе-
ону, в конгрессах, в простом, общем соизволении на деятельность Сперанс-
кого, позднее - Аракчеева. Не было дел в размерах его власти дома; он был
утомлен, он не хотел предпринимать их; Россия страдала, как последние 15
лет; кажется, страдала вместе с Государем своим; и его любила, как любила
бы даже и тогда, если бы страдала от него именно.
От «Дум» Рылеева и его письма, от «Путешествия из Петербурга в Мос-
кву» Радищева, от не опубликованных при жизни записок кн. Михаила Щер-
батова мы видим, как идет назад нить непрерывающаяся, лишь чуть-чуть
видоизменяясь, к озабоченности «государевым делом» Посошкова, любви и
иронии Котошихина, гневу, слезам, скорби Курбского... Через 30 лет позже
мы видим нить тоже протестов, желчи, гнева, с которыми, однако, не можем
соединить эту древнюю у нас нить, не умеем связать концы той и другой в
один узел. В сердцах, в умах выросло что-то новое; следя за мемуарами,
записками, мы видим, что в эти именно 30 лет выросло это новое. Новое это
-то самое, чего не узнали, чему удивились декабристы, на что они вознего-
довали, - как, не думая о них, сказали мы выше, вознегодовали бы Курбский,
Филипп, если бы перед Государем своим и за Государя их потомки не сумели
умереть безропотно... *
IX
Мы оставляем в стороне структуру общества, не умаляя ее значения; мы
сосредоточиваем внимание на самом объекте новых и неожиданных чувств,
и спрашиваем: имеет ли этот объект теперь тот смысл, какой он имел в тече-
ние всей нашей истории, до Александра I включительно?
Несколько очень незаметных подробностей все же не малозначительны,
и мы их отметим. Очень войнолюбивый, государь Николай 1 уже не сопро-
вождал войск в многочисленные походы, - туда, где так целостно выражается
страна, где назревает, готовится новая складка в бытии историческом; и с тем
вместе его царствование было чуждо каких-либо преобразований, колеблю-
щих, поправляющих в целом бытие народное дома. Отсутствуя там, не совер-
шая великого здесь, сдерживая, охраняя лишь status quo... в чем же именно
он охранял его? что выражал собою? выражал которое из двух течений, на
♦ Кажется нам, сравнив «Думы» Рылеева. М., 1825, и «Стихотворения» Н. Не-
красова 1860-70-х гг., и определив отношение тех и других к истории, а, главное -
колорит их, зноящееся там и здесь чувство, - читатель яснее всего понял бы, о чем, о
какой перемене в психическом строе общества мы говорим.
375
которые распалась ранее целостная жизнь? Ответ-ясен, и вместе-его вели-
кие последствия...
Без слов, без каких-либо раздельных и выразимых фактов, без требова-
ний извне, смысл «государствования» сузился до представительства, охране-
ния, и в этом охранении-до молчаливого оправдания,управляющего толь-
ко механизма. Мы должны ярко и целостно представить себе тысячелетнее
историческое бытие народное, чтобы измерить малость этой функции; что-
бы понять, наконец, ее утлый, земной, исключительно материальный и гру-
бый смысл. Мы сказали «государствование» и взяли термин слишком об-
ширный, не выражающий более бедного содержания, к которому мы его
относим. Этот термин включает еще войну и мир, право и насилие, все фак-
ты материальной стороны человеческого бытия; и вовсе не все факты, и
особенно не всесторонне, выражаются в представительстве и охране ад-
министрации. Тут - есть даже партийность; есть без конца - мелочности; о,
даже почти только мелочность и есть, не видящая, мешающая видеть, куда же
идут большие течения жизни, направляется история. В очень большом мас-
штабе, раздвинутая на необъятную территорию, трансформированная в бес-
численные виды - всюду и постоянно это есть бедная забота о двух непога-
шенных марках в Узун-Ада ввиду направленных на грудь пушек. И сюда, в эту
утлую заботу, в это смасливание вертящихся колес непонятной машины, ко-
торая давно перетирает только воздух, и, кажется, потянула или готова потя-
нуть в себя, как пищу и жертву, край платья неосторожного смазчика, еще
думающего, что он на ней несется к какому-то далекому и великому будуще-
му, - сюда, в это неведение и этот ужас, к ужасу и смятению тысяч сторонних
глаз, вовлечено то, чему тысячелетие наши предки привыкли поклоняться
как праведному, великому, святому...
X
Мы должны сосредоточить все свое внимание, быть чуткими к переливам
явления, одного в своем имени и разного в существе. В том сиянии, которое
окружает главу монарха и оберегает ее, мы сказали - лежит отложенный след
всех незабытых и полузабытых фактов, из которых сложена была жизнь исто-
рического народа; и каждый из этих следов до тех пор светит, пока так или
иначе, тем или иным усилием монарха, словом, поступком, усилием, капри-
зом, подвигом - он шевелится, движется, и через это всеми ощущается как
живой. Хоть в мимолетной черте царствования, в каком-нибудь едва замет-
ном факте, если не в факте - то в выраженном помысле, в высказанном сожа-
лении, в скорби о неосуществленном, каждая струя истории совершившейся
должна отразиться: и тогда только это сложное сияние остается цельно, мо-
нарх есть монарх полный, его скипетр - не раздроблен, корона - не обломана,
держава - не умалена. И в том странном, неопределенном и великом чувстве,
которое он вызывает к своему лику в народе, тогда только не оборвется, не
376
замолкнет ни одна струна, пока там, в том сиянии, не угас ни один луч; ибо
сложность этого чувства есть только отраженная, и там, в самом монархе, в
невыраженном и для всех ощутимом смысле его монархии, лежит его (чувства)
источник, ему равное основание. Монарх для всех есть то, что он есть для себя;
в его значении есть абсолютность, есть автономность; ни один глаз на него не
смежится, пока он сам этот глаз не закроет на себя; и, не смежаясь, не переста-
нет видеть в нем то именно, что в себе видит, ощущает, знает монарх.
Где же наше прошлое в этом оберегателе недавних учреждений? в этой
утлой заботе о сегодня и только о земле? Где нравственный высокий смысл
«пота, утертого за землю русскую» Ярославом? молитв угрюмого Андрея
Суздальского? «богословия» Грозного? где, мы не видим здесь странного и
чудного путешествия в Орду святителя Алексея, благословения на Мамая -
св. Сергия, и всего, что, не от государя выйдя, им было выслушано, в уми-
лении принято, что развило и просветило его сердце; и к этому именно
сердцу, так просвещенному уму, к этому сложному лику относилось наше
чувство?
Мы ограблены-татью, имени которого не знаем; с нами что-то сделано;
нет прежних чувств во мне; я хотел бы молиться - и не могу припомнить ни
одного слова молитвы; хотел бы совершить подвиг - и выходит только смеш-
ное; хотел бы защитить святое - и бормочу не относящиеся к делу слова;
хочу поднять руку, чтобы ударить и закрыть чужие кощунственные уста и...
рассмеиваюсь. Я опустошен: мускулы, ноги, уши, голова - все прежнее еще
у меня, но в этом прежнем - какой-то у меня новый ум, неизвестного и очень
недавнего происхождения сердце. Я это сердце свое ненавижу, этот ум свой
презираю, - и, однако, не могу высвободиться от них; презираю каким-то
новым презрением, ненавижу какою-то странною, неприятною себе самому
ненавистью.
Смысл жизни необъятной вокруг меня изменился - и изменился я сам;
желто-багровые небеса отражаются на мне желто-багровым цветом кожи.
Это - некрасиво; я содрал бы с себя эту кожу... и могу думать только о том,
чтобы свернулось это странное небо и засияло прежнее, голубое...
XI
Едва заметными штрихами мы показали*, как управляющий механизм, бол-
тая колесами по воздуху, очень мало выполняет и ту грубую функцию, к кото-
рой он предназначен; что совершенна, собственно, модель, точнее - чертеж,
идея механизма, и вовсе не он сам. Мы указали, как мальчики не обучаются,
когда написано всюду, где нужно, что «обучаются»; и мы прибавили бы к
этому, точнее - уже разъяснили в другом месте**, как они изъемлются из
* В первых главах этой статьи.
♦* См. «Сумерки просвещения» в «Русском Вестнике» 1893 г. и «Афоризмы и
наблюдения» в «Русском Обозрении» за 1894 г.
377
семьи, выводятся из церкви, становятся против истории, когда всюду, где сле-
дует, говорится, разъясняется, обосновывается, что они именно усиленно
молятся в «своих церквах», в «шитых гарусом стихарчиках», что чувства к
родителям им объяснены на примере Корнелии Римской, и что для отечества
они завтра же начнут совершать подвиги почти такие же, как Фемистокл для
Афин и Сципионы для Италии...
Но вот более новый, яснее уловимый по грубости факт, так ярко именно
сейчас бьющий в воображение всех: мы говорим еще о функции, обогатив-
шей наш управляющий механизм, о которой ненакормленные обитатели бо-
лот молили Юпитера во время недавнего голода, и, наконец, ее получили.
Мы говорим о новом «министерстве земледелия». Кто не следил мыслью за
меланхолическими поездками г-на Ермолова на Кавказ, кажется - в Крым,
еще куда-то, очень-очень далеко от нашего «земледелия»; кто не размышлял
над его посещениями тутовых плантаций, где-то около Кизляра или Моздока,
над осмотром усовершенствованных систем пчеловодства, изделий кустар-
ных, - чему всему он отдавал должную дань удивления и всему соответ-
ственно сочувствовал... Мы говорим очень серьезно, в словах наших нет и
тени иронии, и из «земледельцев», что «пашут» на Мариинской площади в
Петербурге, мы убеждены - нет никого, кто с равною скорбью заглядывал бы
в сердце этого даровитого и честного русского человека. Голод - это, нако-
нец, факт, и на него нельзя ответить пересыпанием ассигнаций из одного
ящика в другой*, переписыванием сметных назначений из одной графы в
другую, циркулярным распоряжением; на него нужно ответить... фактом! -
и между тем орудие, для произведения этого факта данное, выграфливает
только слова...
Вырастить рожь при помощи таблицы умножения, вспахать посредством
гектографа поле - задача не более разрешимая, нежели «поднять уровень
земледелия в стране» через механизм, этому посвященный.
И вот, человек тонкого ума, огромных сведений* ♦, рвения к делу - стыд-
ливо от него отходит; он - почти не остается в Петербурге; в Петербурге
мокрые лягушки - не те, которые были голодны во время голода, но те, кото-
рые всегда бывают сыты - установили для себя штаты, определили жалова-
нье и, вытерев салфеткою рот, который сейчас раскроется и будет есть, не без
благодарного чувства к отечеству подняли в воздух тысячи перьев, придви-
нули бумагу и проговорили, что они «готовы»...
♦ Т. е. большею частью, из Государственного банка в казначейство и из казна-
чейства в Государственный банк. Деятельность министерства финансов, столь шум-
ная и обильная в последнее время, потому и ходка, что есть лишь деятельность над
знаками ценностей и вовсе не над самими ценностями, не над трудом, не над челове-
ком, не над землею; деятельность формальная и не задевающая существо вещей, или,
по крайней мере, не задевая их существенным образом.
♦♦ Г-ну Ермолову принадлежат классические труды по земледелию: «О севообо-
ротах в России» и другие.
378
XII
Из сети учреждений, из детального хода их, который так мало способен оп-
лодотворить «землю», - монарх, для которого эта сеть учреждений так опас-
на, может выйти без сожалений, без тревоги, к радости его ожидающей Зем-
ли. Из двух течений, на которые распалось целостное бытие страны, по су-
ществу своей власти, праведной и великой, он более все-таки стоит во вто-
ром: он в границах «земли», «народа», «быта» и нисколько не
«департамента», не «канцелярии»*. Так помним мы еще от времен Яросла-
ва, Мстиславов, даже от очень новых времен Екатерины, Петра, и нас не
может разубедить в этом юная, безродная, не украшенная никакой почтен-
ной сединой мысль Сперанского и жалких его последователей**. «Кланя-
юсь гробам отцов моих, Святой Софье, - и вас не забуду», эти слова, обра-
щенные прощающимся князем*** к земле своей, эта градация дорогого его
сердцу, родного и близкого уму, содержит более живую теорию государ-
ства, нежели какую пытаются внушить развратители**** отечества нашего,
с кафедры и из книг. Они объясняют***** об этом отечестве, своем и на-
шем, что оно - «только один из видов общественного союза»; что в союзе
этом, лишь по объему и разнообразию функций различающемся от акцио-
нерной компании, государь есть только обладатель очень большого числа
акций; что он, по крайней мере в идее, не может ничего решить без «общего
собрания акционеров»; и если решает иногда, решает пока... то всегда к
♦ «Я - только первый между дворянами», - сказал о себе рыцарственный
Франциск I; соответственно изменившемуся типу государства, государь, как Франц-
Иосиф, мог бы о себе выразиться: «Я только самый главный между чиновниками».
Собственно - молча, существом дел своих, это и выражает всякий государь нового
типа; и настоящая статья не имеет другой цели, как разъяснить и отвергнуть этот
опасный парадокс.
♦♦ Мы разумеем здесь всю школу юристов-теоретиков и юристов-практиков.
♦*♦ Мстиславом Храбрым, при отъезде из Новгорода.
*♦♦♦ Юрист - обычно развратитель, делает ли он (сословие юристов), учит ли
и проповедует (профессора). Поразительно, что за все время истории древней (рим-
ской) и новой, юрист по профессии или даже по складу ума, по предмету изучения и
размышления, не стал ни разу великим государственным человеком, как становились
ими ораторы, поэты, романисты, философы, но особенно часто воины (Лннибал и
Цезарь, Фридрих Великий и Наполеон I, также Демосфен и Кай Гракх, Марк Авре-
лий, Дизраэли, Эдмуд Борк и др.). Юрист - это всегда пустой человек, ничтожный по
мелочности ума своего, мотивам действия, способам ведения дел; часто - обманщик;
никогда за все существование человечества - герой. Государство, особенно желающее
благоденствовать, не должно бы собственно вовсе допускать этих людей до исполне-
ния в нем сколько-нибудь значительных функций, заменяя их смиренными филолога-
ми или твердыми воинами.
♦ Все ниже следующее имеет в виду конституционные пожелания у нас,
правда, теперь не имеющие за себя приверженцев, но могущие получить их не
сегодня-завтра.
379
гневу и стыду* этих теоретиков, решает лишь до завтра... Бедные, о, если бы
не завтра, но именно сегодня он «отрешил» вас, наконец, от земли, к которой
вы присосались ненужно, - и она сама, эта земля, вас усиливается и не может
оторвать от себя.
Нет, наш возлюбленный Государь ранее, чем полезен нам-праведен перед
нами; и, хотя бы не очень был нужен нам, если бы даже по попущению Божию
был труден для нас, губителен - останется все-таки священен; и не до завтра, но
вечно; не в объеме некоторой власти, но всяческой. Мы избираем, даже с точки
зрения вашей «правовой», его еженедельно, и притом два раза: ведь вам безраз-
лично, вы не можете придраться, в какой форме мы подаем голоса, на бумажках
ли, поднимая руку, опуская ли голову. Ну, вот, когда священник на Великом выхо-
де, за литургией, произносит слова молитвы «о благочестивейшем самодер-
жавнейшем Государе...», ни я, ни еще 80-90 миллионов кровных со мною, - мы
не выбегаем из церкви, тряся головой, ругаясь и плюясь, а склоняем головы, т. е.
как за такого, самодержавного, молимся за него; и накануне, за всенощной,
когда священник с диаконом обходят церковь и кадят Богу, а клир призывает
народ в чудно волнующих звуках: «благословите имя Господне, благословите
рабы Его...» - мы все (решительно вся церковь) становимся на колена, и также не
кричим, не протестуем, но признаем - это и все, что из этого следует. Итак,
suffrage universelle сделан; он не прекращается**, не прекратится никогда; со-
чтите голоса - тут нет подделывателей их, как у вас в Тулузе; и, запомнив цифру,
- отойдите в сторону, отойдите с путей нашей истории, не до завтра, но навечно...
XIII
И, выйдя из заблуждения этих новых и странных учений, стряхнув пыль канце-
лярий со своей мантии, Царь ярится среди «земли» своей в том самом вели-
чии и красоте, какое ему Бог указал, земля дала своим потом и страданием, и
мы, дети этой утружденной земли, его ожидаем видеть. О, как славен он, как
* Покойный проф. Градовский, лишь на время и не на долгие сроки умевший
(«Национальный вопрос в России»), в начале 80-х годов, когда окончательно стало
известно, что конституции не будет, у нас, дано - негодовал и настаивал, что события
заставят ее дать, и очень чтимый мною профессор всеобщей истории, на экзаменах,
когда случалось студенту в историческом рассказе упомянуть, что Россия не консти-
туционная страна, обыкновенно насмешливо останавливал отвечавшего: «А еще, кро-
ме России, какое из европейских государств лишено конституции?» - на что студент
робко отвечал, - «Турция», и уже ирония сама собою получалась от сопоставления
магометанской и необразованной страны с отечеством.
** Да простит нам читатель, и ранее его - св. церковь, что некоторый факт, в ее
недрах совершающийся, мы вводим в нить наших политических рассуждений. Но мы
должны, для полной убедительности, стать на почву рассуждений людей, которых
оспариваем, разбить их на их поле и их оружием. «Большинство поданных голосов,
поданных всем населением, поданных свободно, определяет - чему быть в земле», -
так говорит теория и практика новой политической жизни. «Так, - отвечаю я, - и вот
на литургии и за всенощной они поданы, народ высказался и о том, - кто он (раб
Божий) и чего хочет, а следовательно, и исторический спор решен».
380
светел нашей совершенною любовью; как безропотно покорны мы малейше-
му мановению его руки, как счастливы, сравнительно с нашими заблудивши-
мися западными братьями, этою совершенною покорностью. Как велики еще
наши силы, как обильны мы жизнью; ведь покориться - это так трудно, и вот
нам совершенно легко даже это трудное! Чего не сделаем мы, обратясь ко вне,
к задачам несравненно этой легчайшим! Но пока, забыв эти задачи, упьемся
трепетом наших сил, поэзией нашей истории, красотой лица нашего перед
всеми народами - покорностью. Я ради единого брата во Христе отрекся от
себя: что угрожает мне еще? Мы все в одном отречении слились - кто больше
нас? Мы, наконец - цари земли, но это завтра, после того как сегодняшние
восторги утихнут...
XIV
И среди народа, так трепетно его любящего, не озабочиваем никакой нуждою
для себя, никакой деталью и управления, Царь взглянет на желто-багровый
небосклон, который так искажает все лица вокруг него и исказил было соб-
ственный его лик, и едва не вырвал скипетр, не разбил корону, и уже довольно
запачкал его мантию. Мы все скорбим - скорбью, от которой не умеем осво-
бодиться разрозненными силами; наша печаль - не в сердце, но в воздухе,
которым мы дышем. Что делать, если атмосфера заражена вокруг меня; и
я не имею сил, и Бог не указал мне - перестать дышать. Я отравляюсь с созна-
нием, с отвращением, и могу молить только о помощи, о руке достаточно
сильной, чтобы свернуть это отвратительное надо мною небо. Я говорю об
«общих условиях» действительности, о которых так печально, так напрасно
думают, будто лицо - чистое и яснейшее в истории, но не всемогущее - будто
это лицо может стать вне, и выше их. Нет этих сил в человеке, нет иначе как у
немногих избранных... Я не из их числа, я слаб, и, однако, жажда свежести,
голубого неба во мне сильна не менее, чем и у тех сильных. Мне нужна извне
помощь, и я требую ее, хочу - в Царе все содержащем, всем обладающем, все
изменяющем.
XV
Царь* - именно страж горизонтов; хранитель целей, к которым идет чело-
век на земле; оберегатель закона в его принципе; - чистоты атмосферы, кото-
рою мы дышим, голубого неба, на которое смотрим и оно смотрит на нас и
цветит каждое лицо собою. Он есть распорядитель соотношения всех вещей,
но не созидатель, не рабочий, который трудится над которою-нибудь, к ущер-
* Т. е. в идее, в смысле, который мы здесь вскрываем; в ожиданиях народных, в
требованиях истории.
381
бу для других или без ущерба, но всегда - без ведения их общего соотноше-
ния. Мы сказали, что он - вне бюрократии; вне деталей управления, не сливает-
ся разумением и желанием ни с которою из них. По отношению к ним всем -
он лишь оценивателъ, отметающий одно, ускоряющий другое, указующий
как цель - третье. Он - впереди управления, разыскивающий пути для него, но
оставляющий в этом разысканном пути осматриваться избирать, где и как
поставить ногу - самим идущим*. По этому положению своему, он — мы
сказали - и стоит в народе своем, «земле», стране, для которых светит небо,
охраняется чистота атмосферы, блюдется закон. И, стоя среди их, имея угол
зрения на все вещи тот же, какой существует для земли, он с нею не может
встретиться, столкнуться. Мы хотим сказать, что революция при этой объяс-
няемой нами полноте монархии - невозможна, и это по другим причинам,
чем на какие мы указывали выше: там, мы говорили, мысль о ней ненавистна
каждому, потому что в монархе он видит отражение собственного историчес-
кого значения и его лик для него священен; здесь - потому, что угол зрения у
них один, чту нет более ничего, чту бы их сталкивало, - противопоставляло
друг другу; заставляло бороться. Мне тем лучше, чем необъятнее его власть;
это - не власть более опекуна надо мною, который может быть своекорыстен,
и особенно может быть неприязнен ко всякому движению подсмотреть за его
действием, предположением, намерением. Он-этоясам, но только могуще-
ственный; то же высматривает он, за тем же следит; та же у него боль как у
меня; о том же тревога.
XVI
Свобода для чистого, возвышенного, благородного - implicite уже заключена
здесь. Она оскорбляет часто бюрократию**, и, насколько нам приводилось
наблюдать, оскорбляет иногда ее и теперь. Это был гнев Акакия Акакиевича,
* В настоящее время, когда даже вопрос об отнесении на облигационный или
эксплоатационный капитал расхода в несколько тысяч частным акционерным обще-
ствам восходит к санкции Монарха, он есть, точнее выставлен, как виновник всех
неправильных действий администрации (ибо есть самый могущественный соучаст-
ник каждого действия), виновность же собственно администрации, которая в действи-
тельности все решает, точнее - все подсказывает, обосновывает все решения (ибо
держит в руках своих знание всех деталей и хода дел) - скрадена, затенена.
** Как ни удивительно, как это ни мало вероятно, но это так: орган администра-
тивный, занятый выполнением в жизни страны какой-нибудь функции, не только во-
обще не ищет людей, ее способных наилучше выполнить, но часто тяготится ими как
живым и резким укором для человеческих слабостей остального «служебного соста-
ва». Здесь можно бы привести разные примеры, но, оставляя в стороне сомнительное
и не яркое, я приведу факт, который способен удивить и смутить мир. Кто бы мог
поверить, что уважаемый целою Россией, человек исполненный религиозности, пре-
данности церкви, любви к земле своей, наконец, высокого образования, известный
Ссрг. Ал. Рачинский, был лишь с большим трудом и ясно выражаемым неудоволь-
ствием допущен к школьной деятельности в своем родовом имении Татеве (Смоленс-
382
полузавистливый, полунеобъяснимый, всегда немой и однако могуществен-
ный, на проходящий мимо образ Гамлета, маркиза Позы. О, тут очень много
было боли, и мы не все в ней можем, не все в силах осудить: тут была боль за
свой скорбный вид, скрюченную за столом фигуру, боль за это перо, торча-
щее за ухом, когда оно могло бы, и в лучшем виде, быть на шляпе - боль за
униженное свое положение на земле... «Ты даровит, а мои мысли так медлен-
ны, - как я ненавижу тебя!» - «Ты видишь, едва взглянув, когда я потерял
зрение в рассматривании и все-таки ничего не различаю, - как мне противен
твой вид!» - вот постоянное, повсюдное чувство в этих темных, серых, с выц-
ветшим цветом лица, фигурах: боль о себе, о природе своей униженной, об
оскорблении, которое они получили уже в рождении. И эта боль, эта скорбь,
это нервное клокотание неутолимого раздражения, - извне оно давит собою,
а внутри себя глушит все живое, светлое, доброе... Без причины разве, что
всюду, от прошлого века, от времен энциклопедистов еще, - в Париже времен
m-me Сталь как и в Москве времен Фамусова, - мы видим в стороне от нее все
гениальное, талантливое, все наконец порывисто благородное, одновремен-
но пышущее негодованием и вместе теснимое... Это - сонм Акакиев Акаки-
евичей с глухим бормотанием наступает на жизнь; фалангой от Сены и до
«недвижного Китая» они смыкаются над живым духом; они не могут ничего
ему противопоставить, они не хотят оспорить; они хотят подавить, чтобы... не
столько жить, но хотя бы существовать без оскорбления, без боли, без этой
угнетающей мысли, что на земле они - не лучшие.
И когда ничто, кроме дела, не будет оберегать этот могущественно-бес-
сильный сонм; когда тень Монарха, так часто из-за него страдальческая, не
будет прикрывать немощь и индифферентизм его - тогда, бессильный подав-
лять вне себя, он и внутри себя, ввиду от него ожидаемого, с него требуемо-
кой губернии); что у него (читавшего лекции ботаники в Московском университете)
было потребовано, чтобы он предварительно сдал экзамен по установленной про-
грамме при местной прогимназии (в г. Белом), и это требование было повторено
относительно его помощника, г. Н. Горбова, филолога Московского университета. И,
наконец, когда все эти несколько унизительные требования были выполнены, - при-
дравшись к неправильному устройству при его школе отхожих мест, местная админи-
страция, едва ли без требования из центров управления, требовала или перестройки
этих мест по своим планам, или вовсе закрытия самой школы; и, без сомнения, нужно
было именно это последнее. Так мне передавал сотрудник г. Рачинского, законоучи-
тель от. П. Младов. Так драгоценная для всей России Татевская школа была не ценна,
не нужна, презираема и гонима только одним в ней органом... тем самым, которому
она и служила так совершенно. Много лет спустя, я с удивлением встретил также
целой России известного моряка-писателя в мундире полициймейстера совершенно
сухопутного города. Я указываю эти факты, которые каждый легко пополнит, огля-
дываясь на жизнь; и, на них основываясь, настаиваю, что умный и радетельный дела-
тель обычно не нужен и даже не терпим в специфическом органе этого именно делания
при административно-бюрократическом строе государства. Это, конечно, возможно
при условии, что орган за общий результат своей работы не ответствен ни перед кем,
кроме немощного общества, даже не могущего закричать; и во всякой детали делания
прикрыт санкцией высшей власти.
383
го, наконец примкнет мыслью и вниманием к делу. Он - свободен в сред-
ствах; никто более не вмешивается в детали тысяч совершаемых им дел;
но строгие стражи - Царь и «мир» - блюдут и оценивают, достигнута ли цель.
Жажда ее достигнуть будет, наконец, искрения в них; потребность ее достичь
- настоятельна; и не одни только покорные, хотя бы и неспособные (как те-
перь), но, напротив, хотя бы и неудобные, но только бы даровитые, будут
привлекаться в себя этим правящим механизмом, более не оправдываемым,
не прикрываемым, но повсюду, в каждой точке своего действия, контролиру-
емым.
XVII
Свобода печати в ее облагороженных, не развращающих формах, и свобода
мысли - не менее содержится в самом понятии этой бесконечно-усиленной
монархии: ведь указывать зло, при этом новом положении монарха, значит
открывать ему и «миру», что они желают видеть; требовать — значит выска-
зывать нужду, которую они хотят знать. Теперь указывать зло - значит выска-
зывать ропот на управление и, косвенно, - упрекать монарха, который при-
крывает собою управляющий механизм; а требовать - значит быть недоволь-
ным тем, что дано, когда давшая рука ожидала, что уже дано достаточно.
Критика всякой детали управления оскорбляет теперь невольно Монарха, и
это как больно ему, так доставляет злорадное удовольствие всякому критику-
ющему, и часто единственный способ для него чем-нибудь выразить ему при-
чиненный вред, ущерб, неудобство. Эта же критика, - чем она может оскор-
бить единственного всесильного гражданина, которым есть монарх? он — бо-
лее не чиновник; он не чиновник ни которою стороною своего бытия; он -
синтетический смысл истории, любовь, сокровище наше, и вовсе не вьючное
животное, которое мы бьем, когда оно дурно несет положенную на него ношу.
XVIII
«Le roi gouveme», «1е roi regne, mais ne gouveme pas»*... какие жалкие фор-
мулы, какое узкое колебание смысла монархической власти между сытым и
необъяснимо-почтенным неделанием и между нервною работой, кочегара
около паровика, который вот-вот взорвется. Наш царь - живет: он живет
жизнью абсолютно несвязанною ни перед кем на земле, но только в совести
своей - перед Богом; и вид, образ, красота его жизни есть закон для жизни
людей. Он соизволяет и не соизволяет - на принципы жизни; он блюдет, чтобы
эти принципы соблюдались; страна в несвязанном голосе своем открывает
ему истину об этом применении. Для всякого человека - это было бы высшее
на земле; это - прекраснейшее, чем мощь на какое-нибудь дело, победу, заво-
♦ «Король правит», «король царствует, но не правит» (фр.).
384
евание, детальное законодательство; истинно священное. И вместе - это со-
вершенно соответствует тому происхождению царской власти и темному ра-
зумению ее смысла народом, на который мы указали: ибо для чего же было
бы следы всякого великого события в истории отлагать на главу одного, как не
с ожиданием, что здесь, на этой главе, они когда-нибудь отразятся некоторым
драгоценным, для всех нужным, никем в индивидуальности не обладаемым,
смыслом.
XIX
В кратких строках, посвященных теме, которая требовала бы томов, мы не
можем выразить свою мысль иначе как только полунамеками. Озабоченность
Генерального Штаба двумя непогашенными марками в Узун-Ада послужила
исходною точкою наших размышлений; чередуя мысли и факты, мы дошли
до утверждения, что истинное содержание монархической деятельности есть
охранение принципов жизни. Чтобы пояснить, что именно мы разумеем под
этим, мы приведем, заключая свои размышления, факт столь же мелкий и
характерный, и даже из круга деятельности того же учреждения... Все раз-
мышляя о степени безопасности, распространяемой на стогна «Северной
Пальмиры» и на раскинувшееся у ног ее отечество монументальным Шта-
бом, я переносился не раз к славным именам, так и этак с ним связанным.
Столь жаркий спор, возникший недавно на страницах газет и журналов о зас-
лугах одного из них, Тотлебена, перенес меня к «Белому генералу», который
зги заслуги так горячо и, кажется, компетентно оспаривал... «Белый генерал»...
к мое сердце так же почти нежилось, как и всякого патриота, произносящего
зто имя. Я вспомнил даже длинные стихи, когда-то мне продекламированные
одним патриотом во время перехода по узким мосткам, весною, через Неву;
собственно, я припомнил из них лишь одну строку:
Архистратиг российских ратей...
раз или два раза или пять раз повторяющуюся в стихотворении, и более яс-
ную, чем его остальной смысл. Я был еще под музыкой этих стихов, когда,
придя в свою канцелярию (в Петербурге всякий приходит в свою канцелярию)
и начав дочитывать очень горячо написанное и тоже не совсем ясное «отно-
шение», я вдруг встретил имя мною чтимого генерала. Я очнулся, протер
паза и перечитал еще:
«...Во время Ахал-Текинской эспсдиции генерал-адъютант Ско-
белев принял на себя инициативу по выписке из России проституток,
ввиду вредного влияния отсутствия их на здоровье нижних чинов, - и
хотя этот расход не имеет, по-видимому, никакой связи с зкспеди-
циею, но тем не менее истраченная для сей цели сумма едва ли была
обращена в начет на командующего войсками. Совершенно в таких
Зак. 3969
385
же условиях находилось строительство дороги, организовав при бата-
льоне хор музыки...».
Я посмотрел на подпись: «Заведывакмций постройкою Закаспийской
военной дороги, Генерального Штаба генерал-лейтенант Анненков. 29 янва-
ря 1887 года».
Я задумался. Так странно:
Архистратиг...
и эта озабоченность здоровьем солдат в одном известном отношении; может
быть, также, - и здоровьем несколько высших особ, нежели только «нижние
чины». Ведь известно, желудок в генерале и солдате, в мужике и принце, одно-
го хочет. И я остановился на этой желудочной стороне действительности. Я
вспомнил о всеобщей воинской повинности, о которой давно и упорно раз-
мышлял, не находя исхода: ведь брак она отодвинула от 21 года, когда он посто-
янно и повсеместно, обычно заключался в крестьянстве нашем, в обширных и
глубоких недрах народа, по всем вероятиям*, уже последнего в истории. Что
эта реформа дала стране-понятно; но что унесла она?.. И нелюбопытно ли:
вот эти строки, по которым небрежно бегут глаза моего читателя, строки пи-
сателя светского, чиновника незначительного, являются первым... не протес-
том даже, но только указанием на разрушение обычая такой значительности -
в стране христианской, где заповедь о целомудрии поставлена между запове-
дью о непролитой крови ближнего и неотнятием у него собственности, не-
сколько ниже первой и выше, значительнее, неприкосновеннее второй...
Мы хотим этим сказать, что в странах цивилизованных и христианских
главное, чем живет человек, что сберегает его, наконец - его святит, как неко-
торое особенное на земле существо и что мы назвали «принципами жизни» —
не только не блюдется, но и не возбуждает с чьей-либо стороны определенного
вопроса. Их не нащупывает «государство» грубою рукой; даже не напоминает
о них церковь; и если они разрушаются, то сословие юристов, облепившее
«отечество» свое по линиям всех его органов, всех функций, может лишь улыб-
нуться, и, самое большее, попользоваться около этого нарушения...
XX
И вот эта ничья не озабоченность тем, что уносит одна и другая практически-
нужная мера из самых принципов бытия человеческого, не может не озабо-
тить, наконец, вдумчивого человека. Жизнь течет... в сущности кем руководи-
мая? чем оберегаемая? даже кем предусматриваемая в своих поворотах? Мы
назовем, наконец, факт колоссальной значительности, - назовем то грязное
небо, которое нас всех грязнит, то печальное «общее» обстоятельство, из-под
* По истощенности в исторической жизни всех арийских и семитических племен.
См. рассуждение «Место христианства в истории». М., ! 890 г.
386
действия которого никто не умеет вырваться: вот перед нами фазис буржуаз-
ной цивилизации, затянувшийся уже век, вызывающий революции, потряса-
ющий троны и уже один из них уронивший... ну, и кем же он был обдуман,
остановлен, ограничен, когда начинался? чьи вызывает силы к борьбе против
себя, когда господствует? Где монархия, где епископы? где министры с их
озабоченностью? Где вопль сожаления или гнева, если уже недоставало силы
мышц, чтобы его остановить? И зачем народам эти слепые или индифферен-
тные силы, оплачивающие марки в Узун-Ада, за Узун-Ада посылающие транс-
порты женского мяса, когда и Узун-Ада и все вокруг его колеблется, теряется
в своих основах, еще держится сегодня и, вероятно, завтра будет поглощено
бедами, которые, однако, уже сегодня предвидимы?..
Но мы входим в темы, к которым не хотели возвращаться - о неуловимых
умалениях и возрастаниях того и иного в истории. Если, в самом деле, прика-
щик и процентщик делают завтрашний день истории, - ну, значит, они, без
имени, без легионов за собою, без крестов и хоругвей впереди себя, и суть
герои истории, Колумбы, - выходящие на новый материк и им овладеваю-
щие; а эпш, с опалыми хоругвями, обессилевшими крестами, окоченелыми
недвижными легионами, какие бы еще мины ни делали и каким бы фимиа-
мом льстивого и усыпляющего курения ни окружались - только изгнанники
истории, истребляемые племена Гаити и Мексики, которых тайно уже и те-
перь, сейчас, оставляет все рассудительное и живучее...
Монарх более не полный - есть и никакой; если он не центр, координи-
рующий в себе явления жизни народной, то он и не орган который-нибудь в
ней, хотя бы и пытался стать таковым. Он снял некоторые блестки из венца
своего, - время разнесет остальные; он коснулся святого, таинственного
омофора над собою - и не убежит, не спасется, не уклонит головы своей...
20 мая 1895 г. С.-Петербург.
КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
<0 Н. П. Аксакове>
В январской, февральской и мартовской книжках «Русской Беседы» (1895 г.)
г. Н. Аксаков возражает* на идеи о свободе, развитые в прошлом году
г. Л. Тихомировым и отчасти мною, не замечая, что, сколько бы в том же
направлении он ни продолжал труд свой, он вовсе не достигнет цели, которую
поставил себе - доказать антицерковность нашего учения. Ему нужно, чтоб
ее достичь, показать не разногласие наших слов со словами знаменитых учи-
телей Церкви, но несовместимость наших теорий** с какою-нибудь вечною и
* В статье «Свобода, любовь и вера».
♦♦ Как в содержании, так и особенно в мотивах.
387
необходимою чертой христианства или Церкви, - и тогда станет ясно, что не
только те отцы Церкви, мнения которых он привел, не могли учить иначе, как
он указывает, но что и всякий учитель Церкви (а мы можем таких ожидать
еще) будет необходимо учить так же. Без этого же мы вправе думать, что те
определенные слова, которыми он надеется убедить нас, относятся к частным
обстоятельствам своего времени и места, имели в виду нужду дня, на кото-
рую ответив, не сохраняют какой-либо принудительной силы для нужд наших
дней, совершенно противоположных прежним.
В эпохи, когда Церковь была угнетаема извне, естественно было требо-
вать для нее свободу - для сохранения веры, для несмущаемости молитв, для
проявления всякой ревности о Боге; в эпоху, когда упадок внутренних сил в
самих верующих расстраивает Церковь - выступает требование закона, как
некоторого неуклонно принимаемого к исполнению требования религиоз-
ной совести. Молитва более не произносится - какой свободы нужно для
этого? Вера упадает - в чем еще ее не стеснять? Христианство разоряется -
и что же, верующие, насколько их осталось, должны отворить двери своих
храмов для тех, которые хотят туда войти для глумления? Конечно, они этого
не сделают; конечно, усиливаться доказать это есть напрасный труд. И мы
думаем, этот труд заключает в себе мало какой-нибудь «веры» и к чему-
нибудь «любви».
Метод, употребляемый г. Н. Аксаковым, был ранее его применяем уже
как с логической, так и с исторической своей стороны. С логической стороны
это были знаменитые усилия достичь заключения общего характера: «все
лебеди белы» - путем счета всех лебедей, где-либо попадавшихся. Действи-
тельно, в течение семнадцати веков «все лебеди были белы», но Кук открыл
Австралию, и оказалось, что они бывают и черные. С исторической стороны
безукоризненными блюстителями «слов старых» были фарисеи, но они были
уже обличены Спасителем, и нам нечего прибавлять к Евангелию.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
<0 статье «Необходимое разъяснение»>
Статья моя «Необходимое разъяснение», появившаяся в октябрьской книж-
ке «Русского Вестника», вследствие пропусков, сделанных в ней без моего
ведома редакциею журнала, имеет такую форму, как будто в ней я имею в
виду ответить на порицания, сделанные мне, за обращения к гр. Л. Толсто-
му, В. Бурениным и В. Чуйко, - или что даже перед ними я оправдываю тон
этого обращения. Но редакция названного журнала, если она имела в виду
что-нибудь объяснять двум газетным сотрудникам, могла это делать за под-
писом своего имени, не видя в этом какого-либо ущерба для своего досто-
инства. Ничего подобного мне никогда не могло прийти на ум. Дело в том,
что тотчас по появлении моей статьи о гр. Толстом мною было получено
письмо от уважаемого С. А. Рачинского, из Татева, с упреками за «грубость
388
и страстность тона», - то есть с упреками от ценителя, по литературному
вкусу и образованности совершенно компетентного, и которому я мог да-
вать объяснения; а по письму его предполагая, что статья моя могла пока-
заться непонятною в своем тоне и еще другим читателям его меры сужде-
ния, я написал взамен частного ответа - публичный. В. Буренин и В. Чуйко
были упомянуты в моей статье только потому, что, как печатно меня пори-
цавшие, они давали видимый и для всякого понятный предлог для печатно-
го же с моей стороны объяснения, которое, однако, было поставлено в такие
оговорки (выпущенные из моей статьи), что для каждого читающего было
совершенно ясно, что вовсе не к ним обращено это разъяснение. Их имя
было для меня тем беззначным существительным, к которому мы невольно
относим прилагательное, когда его склоняем. Только последние 5-6 строк, в
полусерьезном, полушутливом тоне (также выпущенные редакцией «Рус-
ского Вестника»), были отнесены мною к двум названным рецензентам, и
уже самая перемена тона статьи в этом месте показывала, что речь к тем
читателям, серьезным - окончена, и начинается речь к читателям и крити-
кам иных манер, калибра и понимания.
Так как разъясненный случай, для меня в высшей степени неприятный,
ставит в некоторую тень мое доброе имя как писателя, то я прошу в вашем
уважаемом журнале воспроизвести вторично, без каких-либо пропусков,
настоящее Разъяснение - с оригинала того самого, какой был мною препро-
вожден в редакцию «Русского Вестника» и там воспроизведен с изменения-
ми, под которыми я не мог бы оставить своей подписи.
СПб. 2 окт. 95 г.
Необходимое разъяснение
Статья моя «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» («Русск. Вести.»,
авг.) вызвала в печати резкие нападения на ее тон, ее манеру. В «Новом
Времени» г. В. Буренин и в «Одесском Листке» г. В. Чуйко равно выразили
удивление и негодование за способ допущенного в ней обращения к велико-
му писателю, «имя которого им», этим сотрудникам двух газет, «чрезвычай-
но дорого». И так как обвинения в грубости и страстности тона были повто-
рены мне и устно людьми гораздо более компетентными в литературной
критике, чем два названных газетных обозревателя, то я вижу себя вынуж-
денным объяснить этот тон, в котором я не мог бы взять ни одного слова
назад и не изменил бы ни одной черты в манере изложения, если бы теперь,
после сделанных замечаний, мне привелось говорить о том же и то же. До
такой степени все это обусловлено самым предметом, которого я коснулся;
и в частности, тон, мною принятый - отвечает ясно выраженному жела-
нию, почти требованию гр. Л. Толстого, насколько в последние годы, во всех
последних своих произведениях, он обращается к нам, своим читателям и
молчаливым (или не молчащим) критикам.
389
Гр. Л. Н. Толстой - первее христианин, и потом уже - художник; в «Испове-
ди» он признал свои художественные создания - суетою; не по бессилию, но по
сознанию в себе других, новых задач - задач моралиста, проповедника, мудреца
- он оставил писание крупных поэтических произведений, перейдя к простому
изложению своих мыслей и к рассказу как только иллюстрации к ним, без какого-
либо самостоятельного в себе значения. Вызвавшая наибольшее волнение по-
весть его «Крейцерова соната» - уже почти не заключает в себе романтической
фабулы, сколько-нибудь развитой и обработанной; «повесть» здесь переходит в
монолог, где за речью и объяснениями главного лица как Россия, так и целая
Европа отгадала фигуру автора. В «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» гр.
Л. Н. Толстой и не отверг этого. Он признал, что «повесть» - тут ни при чем, и
смысл произведения заключается в изложении им, устами Позднышева, соб-
ственных взглядов на жизнь, на отношение между полами, на возможность или
невозможность христианского брака, и, наконец, на весь habitus* нашего лич-
ного и общественного бытия, в котором «человеческое» так тонет среди «живот-
ного». .. Наконец, он пишет «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» и «Плоды
просвещения», комментирует тексты евангелистов, прислушивается к воззре-
ниям на жизнь простых людей, «неучей темных», мужиков, раскольников (Сипа-
ев),-везде, в самых разнообразных слоях действительности, в самых несродных
книгах (Библия, буддисты, новейшая германская философия), ища отгадать смысл
жизни, в определении которого колеблется, но в каждый момент этого колебания
высказывается с чрезвычайною настойчивостью и силой. Всем смыслом этих
трудов, наконец в точных, определенных словах своей «Исповеди»—он говорит
нам, что совлек с себя ветхий облик «писателя», «романиста», «художника» в
остается только христианином. К себе, как к христианину, он зовет нас; он обра-
щается к нам, как к христианам. Он как бы говорит нам всем: «Оставим эти
условности языка, условности обращения, сойдем все на почву простых хрис-
тианских отношений, христианского взаимообращения; здесь - все яснее, все
- чище, все - прочнее». Конечно, и прежде, - например, в чудном и очень
давнем рассказе «Люцерн», - у него можно было прочесть это как некоторую
думу, которая остается на душе автора после всего, что он видел, наблюдал,
изображал. Но там это закрывалось еще множеством других подробностей,
его взгляд разбрасывался на множестве других предметов; и, главное, он слиш-
ком любил жизнь во всем ее богатстве и полноте форм, - и, только в романах
«Война и мир» и «Анна Каренина», заплатив до конца дань этой любви, как бы
отрывается от кубка жизни, им художественно, в образах пережитой, и произ-
носит вслух, настойчиво то, что давно о ней таил в глубине своего сознания: о
горечи, ненужности, суетности всех отношений человеческих, всех человечес-
ких забот, насколько они не суть христианские... И повторяем - он не только
стал говорить это; он это сделал, исполнил и звал нас исполнить... Именно
переход от слова к делу, именно зов нас самих к делу и сообщил такое волную-
щее значение всем его последним писаниям...
* внешняя сторона (лат.).
390
Я только в высшей степени серьезно понял его призыв; ни на минуту не
усомнился, что новый фазис его деятельности - вовсе не fa?on de parler*, не
новый и занимательный прием опытного в литературных «мотивах» пера, но
- дело, жизнь, исходящая из глубочайших тревог души, высокой и совершен-
но чистой от какого-либо притворства. И на его зов - я ответил; не знаю, быть
может, поступив несколько наивно, но ни в каком случае не поступив грубо,
я точно перестал видеть в нем «писателя», «романиста», «художника» и при-
нял его за то, чем единственно он хотел быть для всех нас - за христианина.
Вот точка зрения моя на него, вот мотив «тона», мною принятого в обраще-
нии к нему, - который так возмутил моих рецензентов и, быть может, многих
читателей... Как только я перешел ко второй части своего рассуждения (кото-
рой первоначально вовсе и не думал писать - задумано было только рассуж-
дение о бессмертии души), как только были написаны в ней слова: «...наш
возлюбленный о Христе брат» - я невольно соскользнул на «ты», я почув-
ствовал отчетливо и ясно, что всякая иная форма обращения к нему, даже
просто отвлеченно объективная форма холодного анализа (ее мне рекомен-
довали оба рецензента) была бы оскорбительна для самого гр. Толстого, или,
точнее - не нужна ему, была бы ответом на его писания, какого он вовсе не
спрашивает. До того эта объективно-научная или еще эстетическая критика
не отвечала бы тому, чего он ищет в нас, тому - куда зовет нас, тем струнам
ума и сердца нашего, по которым ударил...
Прав ли был я? Усомниться в этом, отвергнуть это - значило бы усом-
ниться в чистоте и искренности Толстого, думать, что он лишь «нарочно», не
«в самом деле» писал все свои последние произведения; или еще - это значи-
ло бы не понимать вовсе (что поняла уже вся Россия), в чем заключается
смысл этих произведений.
Мы говорим невольно, неудержимо «ты» друг другу, как только бываем
выведены тревогой, волнением, сожалением, чем-нибудь необыкновенным
из обыденного, будничного течения мыслей и чувств; в сожалении, в утрате,
в плаче над трупом своего ребенка, в минуты страшного раскаяния и вообще
всякого душевного переворота - мы были бы, напротив, оскорблены безуча-
стно-далеким «вы», через которое говорящий предусмотрительно и недо-
верчиво проводит разграничивающую чергу между собою и нами, между
своим вынужденным участием и нашею навязчивою печалью. Но что же,
какая потеря, какая тревога может по объему своему, едкости, длительности
сравниться с душевным переворотом, какой нам слышится в Толстом под
всеми последними его словами? Он «пишет», правда, он «издает» - это
обычные, уже неизбежные теперь для всякого формы обращения к людям...
Я также «писал», ему отвечая - невольно; но я говорил собственно, и кто
очень внимательно прочел бы статью мою и повторил в душе своей те инто-
нации, которые в нее вложены, которые я слышу сам в своей речи и их услы-
шит всякий чуткий читатель - понял бы, что в ней не только нет негодования,
♦ манера говорить (фр.)-
391
еще менее - неуважения, но, при всех укорах, звучит (да будет прощено мне
это выражение) самая нежная привязанность к укоряемому, высшее доверие
к нему как к человеку и христианину, совершенная любовь. Решился ли бы я
о том говорить, о чем в статье моей сказано, так называть Толстого («пара-
зит- ползешь по чужому телу»), не знай я, что в нем это - ошибка и что под
ошибкою, под заблуждением, под грехом - перед нами стоит совершенный
человек, который все это поймет, все это выслушает, за все это не подумает в
ответ укоряющему ни одного слова раздражения. Я думал или, по крайней
мере, манился сказать ему те несколько простых слов, какие говорит (в рома-
не «Анна Каренина») Федор-подавальщик Левину, то есть говорит человеку,
во всем его несравненно превосходящему, но только забывшему, за чрезвы-
чайною «озабоченностью» многими важными вопросами, некоторые буд-
ничные, всякому известные истины.
Теперь о самом предмете укоров и о причине взволнованности всего
тона статьи. У многих гениальных писателей мы наблюдаем как бы диалекти-
ческую раздвоенность не только мыслей, созерцаний, но и как бы всего су-
щества их; в силу чего так часто они оставляют после себя школы учеников,
диаметрально расходящихся в понимании учителя. Как на пример самый
значительный такого раздвоения, можно указать на философию Гегеля, с
выделением из нее «левой гегельянской» и «правой гегельянской» школ; как
на пример, особенно нам близкий, можно сослаться на Достоевского, кото-
рый колебался в понимании народа русского и определял его то как народ-
«примирителъ» («Пушкинская речь», «Подросток», некоторые места «Днев-
ника писателя»), то как народ-«Б'огоносв1/» («Бесы»), «исключающий всяких
других богов», все идеалы чуждых народностей («.. .придите и поклонитесь
богам нашим, иначе смерть вам и богам вашим»). У Толстого во всем коло-
рите его произведений и на всем протяжении его литературной деятельности
мы также наблюдаем эту диалектическую раздвоенность, эту не примирен-
ную и непримиримую борьбу двух исключающих друг друга созерцаний. С
одной стороны, мир представляется ему как высшее проявление Промысла
-ив нем нам остается только быть покорными, почти только пассивными
(фигуры Кутузова и Плат. Каратаева в «Войне и мире», да и множество дру-
гих деталей); с другой стороны, под углом натуралистического, естественно-
го созерцания - мир ему представляется только как хаос, заблуждение, по-
рок, бедствие, и в него со всею страстью любви, со всею силой негодования
он вторгается, чтобы все тут поправить, изменить, привести к лучшему, воз-
вести к гармонии. Первая точка зрения у него преобладает в первых, мужес-
кого возраста, созданиях и там она развивалась очень мало в доктринах и
очень ясно, настойчиво - в образах; под конец жизни она выразилась у него
и как доктрина - в учении о «непротивлении злу» (ошибочном, как я думаю,
потому что покорность не есть безвольность, бездействие, но высочайшее
самообладание в действии). Но одновременно с тем, как теоретически он
формулировал, в старости, «непротивление злу» - как художник он в эти
именно годы развил ряд образов, идей («Крейцерова соната», «Власть тьмы»
392
и еще несколько мелких рассуждений), под которыми мы невольно чувству-
ем бездну охватывающего его энтузиазма «поправить», «изменить», «не пе-
ретерпеть зла». Год назад, в статьях «Свобода и вера» и особенно в последу-
ющих за ней - я дал, не называя имени Толстого (потому что вовсе не исходил
из его образов, но в высшей степени разделяя смысл их), - логическое оправ-
дание этому духу нетерпимости, как бы подсказывая в этих статьях, маня
перейти от формул, слов нетерпимости - к делу. Действительно, есть точка
зрения на жизнь, исключающая всякое терпение. Но, в конце концов - это
ошибка, хотя она и очень трудно понимается умом и особенно сердцем...
Совпадая со смыслом прежних художественных образов гр. Толстого, побо-
ря на время, на немногие светлые минуты, и в себе этот дух нетерпимости -
в статье «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» я со всею силой утвер-
дил начало покорности жизни и отверг, осудил «противление» как самый
великий грех против Бога. Отсюда - тон взволнованности, «грубости», «стра-
стности» в статье моей. Я отвергал в ней то, что и меня манило - во имя
лучшего, к чему лишь на минуты способен человек...
Ничего этого не поняли В. Буренин и В. Чуйко. Газеты выходят семь раз
в неделю и всякую неделю нужно приготовить фельетоны. Так некогда ду-
мать. Имя гр. Толстого гремит - он написал «Войну и мир», «Анну Карени-
ну»; еще что-то он написал потом... да, что-то нравственное и хорошее, ка-
жется, христианское; немножко старо, но у автора «Войны и мира» и это
должно выйти хорошо; он укоряет - как не укорять в наше время, когда стро-
чишь, строчишь и все нет толку: никто не исправляется. Еще новая критичес-
кая статья о нем... Черт возьми, уж не сплю ли я: «тонкие пальцы матери
твоей», «перед недалеким гробом», - да что, мы на кладбище? Нет - это
зеленая обложка «Русского Вестника», август 1895 года. Что за притча?.. И
два добрые, но слишком уторопленные критика быстро соображают, что
перед ними еще зеленый дракон лицемерия и проклятой лжи, которую во что
бы то ни стало нужно пригвоздить копьем правды. Забрала опущены, кони
пришпорены, копья взяты на перевес, - и паладины мчатся в атаку...
Я им уступаю поле.
ГОРДИЕВ УЗЕЛ
I
«Самоуправление очень часто может сделаться тою щепкой, которая, попа-
дая в колеса машины, портит ее, нарушая ее правильный ход. Ведь самоуправ-
ление невозможно без выборов, без решения вопросов большинством голо-
сов, а сам же г. К-ский сознается, что большинство голосов - это фикция и
чаще всего дела решаются перевесом (заметим - совершенно случайным)
нескольких, даже двух и трех голосов, и что подчиняться такому решению
большинства особенно тяжело».
393
Так в № 224 «Русского Слова» г. А. Скопинский отвечает, в статье «Зна-
мение времени», г-ну К-скому на его замечательные и местами оригиналь-
ные суждения* о нашем государственном строе («Журнальное Обозрение»,
в августовской книжке «Наблюд.» 1895 г.), побочно указывая на самоуправ-
ление как на некоторую мешающую «щепу», затрудняющую ход политичес-
кого механизма. Несколькими строками вышеприведенного отрывка он го-
ворит еще:
.. .«Мы вовсе не за бюрократизм и не за самовластие чиновников сто-
им, но еще менее стоим мы за самоуправление, видя в нем прежде всего
попытку противопоставить единой царской власти другую власть, не от
царя исходящую»...
Итак, признается обеими сторонами - и, кажется, об этом нет двух мне-
ний в нашей печати как либеральной, так и консервативной - что бюрокра-
тизм не только в злоупотреблениях своих, но и в слепоте неведения местной
жизни - есть некоторое трудно переносимое зло; есть зло, которое следуеть
сузить и ослабить. И, по крайней мере, одною стороною (консервативною),
но с полным основанием, признается, что еще большее зло есть самоуправ-
ление, заразившееся почти всеми пороками бюрократии и не имеющее мно-
гих ее достоинств**. Вопрос, таким образом, сведен к некоторой мертвой
точке, к некоторому circulo vitioso, в котором кроме зла ничего не предлежит
к выбору живым людям, - к несчастию, иногда ярко ощущающим на себе и
тягостно испытывающим это зло...
Указание, что «самоуправление нарушает ход правительственной маши-
ны» - есть только очень слабое, очень бледное и вовсе не существенное. Его
зло - глубже и серьезнее: тот механизм «выборов», «большинства голосов»
(мы опускаем пока другие его принципы) находится в некотором антагониз-
ме с самым смыслом нашего целостного государственного строя и не «ме-
шает» только его ходу, но в самом существе его неуловимо разлагает. Анта-
гонизм этот выражен не в словах, но в деле самом; он не формулирован и,
* Оригинальную сторону в статье г-на К-ского составляет указание на значе-
ние монархического строя в текущий капиталистический момент истории.
** Чтобы не быть голословными, мы здесь сошлемся на злоупотребления
самоуправлений, как, например, в истории с знаменитою «пухертовскою» мукою
С.-Петербургской думы, где дума, поступала, в голодную зиму, по отношению к
городскому населению, почти как интендантские чиновники с голодавшими солдата-
ми в войну 77-78-го года (см. «Письма С. Боткина из Болгарии»). Сошлемся, далее,
на препятствия в той же самой думе открытию городского ломбарда, что подорвало
бы доходы владельцев частных ломбардов. Что касается «заслуг» самоуправления
перед страною и населением (например, в деле школьном и медицинском), то они все
более кажущиеся, чем действительные. Ибо все то, что сделало земство и городские
думы, сделали бы более и отчетливо и бережливо и чиновники, будь им также предо-
ставлено право облагать население податями на местные нужды. Вообще, наше само-
управление есть только второй штат чиновничества, с большими правами, с мень-
шею ответственностью, без какой-либо оригинальности в духе, в строе, в принципах,
и, в сущности, без какой-либо связи с специфически местным.
394
однако, всяким ощущается; он всякого невольно подчиняет себе, и когда я
беру «шар», чтобы положить его в «избирательную урну», если я это делаю
с убеждением - я отрицаю, осуждаю, негодую на чиновника, которому в
другой сфере обязан подчиняться и между тем он избран способом, ничего
общего не имеющим с этим голосованием. Я повинуюсь «большинству го-
лосов» здесь, в этом вопросе о проводимом мосте, о субсидируемой школе,
и мне не понятно, мне представляется некоторым contradictio in adjecto, ка-
ким образом в вопросах неизмеримо большего значения и также меня каса-
ющихся, я повинуюсь решению, высказанному не «большинством», об-
суждавшим его, но одним человеком, который исторически носит священное
для меня имя. Это имя невольно ограничивается для меня в своем смысле; я
начинаю думать, что в нем есть ошибка; я особенно укрепляюсь в этом пото-
му, что то имя - уже древне, уже архаично, что в возникновении своем оно
относится к временам, политически еще не опытным, наукой не просвещен-
ным, между тем как на стороне этого способа знать лучшее или иметь луч-
шего - авторитет новизны, т. е. большей политической зрелости, наросшего
ума, углубленного размышления, сравнения между собою стран, времен, на-
родов, между которыми всеми был сделан выбор, без сомнения, наилучшего.
Вот где заложен смысл «самоуправления». И если, не доверяя авторите-
ту новизны, я чту как некоторое для меня священное, праведное, вечное то
имя, которое не хочу повторять всуе - я отрицаю всею силою души самоуп-
равление. Это - логика моего сердца, это - вывод моего ума. Факты я по-
дыскиваю, подчиняясь этой логике; я равнодушен, невнимателен ко всему,
что выказывают хорошие, добрые стороны самоуправления; ранее всяких
фактов, вопреки всяким фактам, я его не хочу как некоторое оскорбление для
своего сердца, как нестерпимое противоречие для моего ума. С равною си-
лою, по равным основаниям не хотят того имени все, кто с убеждением, с
верою, с надеждою стоит в градациях самоуправления. Г-н Скопинский хо-
рошо это формулирует:
«Большинство людей, стоявших за прогрессивное движение нашей госу-
дарственной и общественной жизни, - говорит он, - еще не очень давно
смотрело на принцип монархизма, как на пережиток варварских времен.
Меньшинство этих людей видело в нем лишь временную форму правления,
которая впоследствии должна уступить место другой, более современной»
(«Знамение времени», «Русское Слово»).
Вот выражение действительности, не только как она «была несколько лет
назад», по мнению г. А. Скопинского, но как она есть и теперь. Как бы два
камня нашей политической мозаики, большой и «ветхий деньми» и около
него новый, незначительный пока, но крепкий в силу своей свежести и оби-
лия недавних чувств, около него возникших - теснятся, давят один на другой
своими не совпадающими краями и, без всякой личной в этом вины, силятся
выбросить друг друга из образуемой ими поверхности нашего государствен-
ного уклада. Если мы подумаем, что эта мозаика вставлена в живой, расту-
щий народный организм, мы без труда поймем, как энергичны должны быть,
395
хотя бы и замаскированные до времени, усилия борьбы здесь. В текущий мо-
мент достаточно наблюдать, с какою стремительностью все земские силы, без
какого-либо в себе разделения, устремились против вмешательства церкви в
дело сельского образования, неосторожно переданное им лет 25 назад, — что-
бы видеть, что «земство» (в обширном его смысле) прежде всего другого
есть сила, значение, компетенция, которая вовсе не намерена отказываться
от приобретенного положения и отступит из него только перед насилием.
И между тем даже в виду этой надвигающейся тучи, откуда лишь до вре-
мени не гремит гром, не сверкают молнии, мы повторим за г. А. Скопинским
как некоторую вечную истину для нашего ума, как правду нашего сердца:
«Мы не за бюрократию, не за самовластие чиновников»...
II
Что же делать? Где же исход?
Но кто же, как не бюрократия организовала так земство? И, последовательно,
не она ли открыто заявила о своей неспособности к деланию живого дела, раз
допустила введение в наше политическое бытие этой мозаики, в смысле и
последствиях которой ни на минуту нельзя было сомневаться?* Потому что
разнородность этих принципов: «большинство голосов» - «единовластие»,
«избрание» - «наследственность» нельзя было не видеть уже и в то время, в
60-70-е годы, когда вводилось «самоуправление», - ибо она обнаруживается
как только мы их высказываем, в самом произнесении их, и было наивностью
ожидать, что «опыт жизни», «практика действительности» опровергнет сло-
весную тавтологию или опровергнет логический закон противоречия.
Мы назвали только два принципа «самоуправления», случайно упомяну-
тые г. Скопинским, и о которых он оговаривается, что «без них оно было бы
невозможно». Но и остальные его принципы «имущественный ценз», как ос-
нова самых выборов, и ограничение сферы забот самоуправления сферою
только вещественных, денежных материальных нужд, с совершенным исклю-
чением всякого придумывания выбора организации в области собственно
духовной (например, в области школы) - не менее находятся в противоречии
со смыслом нашей истории, только уже не в государственной ее сфере, но в
еще более глубокой сфере, этической. Без какого-либо преувеличения, без вся-
кого желания быть жестоким в словах, мы скажем, что самоуправление, self-
government - осквернило нашу землю; распространив это self-government на
пажити всей нашей страны, т. е. куда вовсе не заглядывал прежний канцелярс-
кий строй - мы эти пажити сделали ареною самой скверной борьбы, самых
бесчестных и отчасти глупых понятий. Никогда даже в голову русскому челове-
* Открытое, по-видимому, признание такой своей неспособности к мало-мальски
живому делу обнаруживается и в постоянном вызове «сведущих людей», т. е. в при-
знании себя несведущими. - Ред.
396
ку не приходило, чтобы он оценивался на деньги; он знал, что не за деньги
оцениваются и поставляются на службу «царевы слуги» - чиновники; не за
«мзду» определяется священник в приход; не ради этой мзды судит судья, за-
щищает границы воин. Мзда, деньги, богатство - как ему говорило Евангелие,
как он слышал в церкви, в притче о «богатом юноше» и, наконец, не ложно
чувствовал в своей совести - есть искушение на зло и очень редко побуждение
к благу; это есть бремя, которое не многие выносят в чистоте; во всяком слу-
чае - перед Богом это не есть какое-нибудь преимущество; кажется (он думал
в темной своей душе), это не есть преимущество и перед царем, перед отече-
ством, что все так близко к Богу, живет Его благословением. И вдруг ему гово-
рят, что это-то одно (богатство) - и ценится; что в некоторой новой сфере - это
есть все; и притом в такой сфере, где он ближе всего стоит к родной земле, где
он ютится около ее груди, там свое дело делает, заботится, хлопочет. И о чем,
наконец, хлопочет? как новый «Калита» - он только хлопочет около ящика с
деньгами, собирает в него, отпускает из него, вчера на гать в болоте, завтра на
избу для школы и никогда на новый колокол в церковь, на серебряный покров
для плащаницы, никогда «на построение храма» и очень часто - для возведе-
ния кабака. Не поразительно ли: во многих городах, как Одессе и других, город-
ские думы субсидируют десятки тысяч на содержание театра, бывали у нас
приветствования всем составом либеральных немецких писателей, и нет, поло-
жительно нет ни одного города, ни большого, ни малого, и не было за все
время существования «дум» и «земств» ни одного момента, когда где-нибудь
обсуждался бы вопрос о поправке кафедрального собора, ремонта чтимой
церкви; где дума, в полном составе гласных, вышла бы навстречу чтимой ико-
не, проводила бы ее с крестным ходом. Не знаем даже и сомневаемся: начина-
ются ли и оканчиваются ли думские и земские «сессии» вообще какою-нибудь
молитвою, т. е. тем актом души, тем движением «мира» - церкви, без которого
естественный русский человек, в нормальном состоянии находящийся, не
предпринимает вообще никакого дела как большого, так даже и незначитель-
ного. Клеймо чего-то... около кафе-шантанного, неудержимо легло на все наше
самоуправление; и если вдуматься в Россию, «от веков» идущую - нельзя
отвергнуть, что на ее чело это self-government легло как некоторое историчес-
кое неприличие, до того оно грязно, до того оно мелко, до того представляет
собою лик смеющийся и не умный... Если мы примем во внимание и то, что о
нем было сказано выше, мы прибавим: «И лик - злой»...
Что же с ним делать? Где отсюда исход?
III
Но кто же сказал нам, или, точнее, кто доказал, что самоуправление, в самом
деле, «невозможно без выборов, без решения вопросов большинством голо-
сов» и т. п. бутафорских принадлежностей парламентаризма, которые имен-
но и вносят в местную жизнь городов и весей наших деморализующее влия-
397
ние, в то же время подсекая в корне смысл и серьезность самого self-
government’а. Вот небольшая жизненная сцена, где этих принадлежностей вовсе
нет и есть «самоуправление» в его глубочайшем смысле:
...Нам удалось быть при одном общественном богослужении мо-
локан и слышать разбирательство жалобы молоканки на мужа, кото-
рый обозвал ее словом бранным (бранное слово, вообще, у молокан
редкость); разбирательство производил церковный совет публично, пред
300-400 человек пришедших на богослужение, состоявший из убелен-
ных сединами старцев, из коих некоторым было много лет. По выслу-
шании жалобы, тотчас развернута была библия (огромного формата,
известная у нас под именем параллельной), и из нее прочитаны тексты
об отношениях мужа к жене и жены к мужу. «Муж, - читал седой, как
лунь, член церковного совета, - отдавай жене должное, подобно и
жена мужу; жена не властна над своим телом - а муж, равно и муж не
властен над своим телом - а жена». «Внемлите сему, - взывал старик, -
не свои словеса говорю вам, а словеса библии вечные и неизмен-
ные»... Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слу-
шали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему
было за плечами 96 лет. «Худое обращение мужа с женой легко мо-
жет повести жену к нарушению брачного союза, - говорил другой
член совета, такой же, как и первый, - и тогда хотя жена не будет без
вины перед Господом Богом, но муж сам первый даст ответ пред
Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену
свою, как Христос возлюбил церковь, а Христос Самого Себя предал
за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее себе славною
церковию, не имеющею пятна или порока. А ты не только не исполня-
ешь заповедей Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует
тебя Господь! Покайся по-христиански и спроси у жены твоей про-
щение. Утешь нас и не посрами наше общество истинных христиан,
которого ты сделался недостойным!
Признаемся, мы были поражены этой сценой разбирательства
мужа и жены, а когда муж обнялся с женою, поцеловал ее публично,
в виду всего собрания, и испросил у нее прощение в своей вине, а
собрание запело благодарственный Богу гимн - то были тронуты не
шутя. При подробных расспросах, мы узнали, что ссоры мужа и жены
у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь век свой, не
сказали друг другу бранного слова*.
Что в том, что эта сцена взята не из жизни православных; что она отно-
сится к суду, а не управлению. Она взята из жизни русского народа, вытекает
из церковного его строя и представляет момент управления им себя самого,
и притом в сфере самой трудной - нравственно-семейной, домашней; в сфе-
ре «жестоких нравов» и обычая, наименее податливой и бурной. Притом
* К. Леонтьев. «Восток, Россия и Славянство». Москва, 1886 года. Том II, стр.
18-19. Рассказ заимствован из № 51 «Современных Известий».
398
этой сцене мы не придаем положительного значения, а только отрицатель-
ное’, мы указываем только, чту в ней удалено, отсутствует, говорим, что
жизнь общины течет здесь правильно и ярко, хотя нет ни избирательных урн,
ни черных и белых шаров, ни голосования, ни имущественного ценза, ни
всего того шума и грязи, которые от Потомака и Делавара до нашей холод-
ной Камы заволакивают тиной всякий момент self-government’а.
Самоуправление - это только управление собою; жизнь активная, а не
пассивное повиновение; жизнь по обычаю своей местности, а не под давле-
нием из центра. Это - регулирование общественных отношений, охрана об-
щих интересов, попечение о местных нуждах не через «соглядатаев» при-
сланных, а самими туземными жителями. И ничего еще в этом поняли не
содержится, ничего более в нем не предрешено.
У нас нет вовсе self-government’а; или - оно есть, но так как оно именно
не туземно, и даже не только в Перми, Курске, Твери, но не туземно и по
отношению к целой России, то оно может быть рассматриваемо как символ
крайней централизации в цивилизации, как дуновение, принесенное на Каму
и Дон даже не с берегов Невы (как это мы видим в бюрократии, когда Дон и
Кама управляются присланными из Петербурга чиновниками), но с берегов
Темзы, Шпрее, Сены. Оно есть один из актов в длинном процессе духовного
покорения нашей страны западноевропейскою цивилизациею; есть момент,
подобный множеству других за эти два века, духовного отречения России от
себя. Частности его жизни: эта борьба против церкви в деле народного обу-
чения, эти недавние адресы, и «tete de Woronej»* - на визитной карточке, и
«toute 1’intelligeance russe»** - в телеграмме по поводу кончины Пастера,
все это, смешное и трагическое, течет из основного его смысла, в котором
невозможно было сомневаться уже и тогда, когда оно у нас «учреждалось».
Что же с ним делать? И как его переиначить?
IV
Не иначе, как переиначившись, как возродив в себе «самость» - можно не
переиначить только его (к чему? ведь оно и не родилось даже, наше «само»-
управление, и исторически его можно и следует только забыть, бросить, как
бросают послед уродливого и мертвого младенца), но и возродить. «Само»-
управления нельзя «учредить»; его можно только допустить - из центра, и в
него нужно уметь родиться - на «местах». В чем же тайна, и где этот возрож-
дающий дух?
У нас - там, где оформилась и наша монархия, где сложилась наша на-
родность: в духе церкви, ее твердых указаниях, ее уповании, ее чаяниях.
«Да поживем - житие тихое и безмолвное, во всяком благочестии и чис-
тоте», - так молится наша церковь, ежедневно, и почему это не завет, не
* «глава Воронежа» (искаж. фр ).
** «вся русская интеллигенция» (фр.).
399
указание, слова которого кратки, но смысл глубок, непререкаем и живуч? Да
«поживем» - т. е. не только уплатим подати, не побежим поспешно испол-
нить это и то распоряжение; «житие безмолвное и тихое» - т. е. без ораторов
непременно, без трибуны, без скверны аплодисментов и свистков; «во вся-
ком благочестии и чистоте» -т. е. уж, конечно, без выборов, без какой-либо
возможности подкупа, без искусственных средств склонения на свою сторо-
ну путем красноречия, казуистики доводов, и, вернее всего, - через обещан-
ную подачку. В «чистоте», в «благочестии» - т. е. прежде всего в заботах о
небесном, и уже потом, позднее, во-вторых - о земных своих нуждах.
Так, в этих чувствах, с этими целями - «поживем», т. е. не пассивно посу-
ществуем в каждом уголке земли, в каждом городе и всякой веси, но активно
потрудимся, поживем всею полнотою сил духовных, а не средствами только
физическими, не хлопоча только около денежного ящика. Вот завет, вот фор-
мула; вот жизнь изреченная, к которой мы не прислушались и влачим, поэто-
му, мертвое и постыдное существование.
Кто более бы радовался, нежели наш Царь, этому «безмолвному и тихо-
му» житию его весей, его городов и сел, и целых стран, наконец, которые в
десницу его вложил Господь? Нет более верного друга, нет более горячего
заступника за всякий вид «самости» в нас, нежели Он. Какое это мучение -
досматривать за всем; ничему - не доверять; о всем - заботиться, и, по не-
возможности выполнить это лично, передоверять все это рабам - лукавым
или верным, как это трудно бывает угадать! И между тем этот досмотр есть
неизбежно вынужденное теперь, пока мы в собственной стране своей явля-
емся только татями* и расхищаем имущество менее наше и более его. Ибо -
признаем это - Россия, просвещенная христианством, избавленная от уде-
лов, освобожденная от монголов, собранная, расширенная заботою и труда-
ми именно царей, в сотрудничестве лишь святителей церкви, боярства, наро-
да, есть в точности res in manu regis, есть сокровище дома царского, в кото-
ром нам принадлежит радость, счастье, иногда - труд, страдание, всегда —
повиновение и никогда управление (иначе как с соизволения)... Итак, горя-
чее, нежели может пожелать каждый из нас, в тайных думах своих, Богу от-
крытых, Царь уже мучится мыслью о том, каким образом соединить и сохра-
нение в целости имущества своего: этих стад народных, этих городов и весей,
соблюденных «в тишине» его предками; и, вместе, дать этому всему радость
местной, свободной, неподавленной жизни...
Мы только стоим на пути к этой радости, мы - с нашими избирательны-
ми способами, счетом голосов, речами, цензом, чту все нам более нравится
* Известно, что многие города (как, напр., Орел) до«самоуправились» до банк-
ротства. При Государе Александре III был случай (в 80-х годах), когда городские
гласные, на требование некоторых своих членов произвести ревизию городских сумм
(очевидно - не целых, судя по предшествовавшим дебатам), ответили стадным и на-
глым криком: «Не нужно, нс нужно ревизии, а управу и «главу» - благодарить и в
думской зале повесить портрет последнего; постановляем!». Столь наглое отношение
к общественным средствам «выборных представителей» вызвало вмешательство свыше.
400
и по своей грубости более понятно, чем самый принцип «само»-управле-
ния. Ибо толочься, говорить, избирать, шуметь, - это и есть истинная сласть,
которую мы ищем в самоуправлении и ее в нем находим, очень равнодуш-
ные к действительному процветанию своих обиталищ. Убрать эти подробно-
сти и сохранить принцип, и не только сохранить его in statu quo, но и расши-
рить до необъятных почти размеров - вот гордиев узел нашей текущей жиз-
ни, развязать который мы не умеем за недостатком находчивости, изобрета-
тельности.
V
Почему, раз мы дорожим только принципом, раз жаждем только «пожить
житие мирное», по законам мысли своей, здесь на месте выросшей, по тре-
бованиям нужды, здесь у нас сложившейся, - почему, в самом деле, нам
дорожить механизмом «выборов» и «большинства голосов», который пред-
ставляет собою дуновение, не только из центров всемирной культуры вею-
щее, но и так именно веющее по всем «местам», что оно поднимает кверху, к
власти, к самоуправлению элементы наименее местные, элементы обезли-
чившиеся, элементы, в которых специфически «нашего» уже почти ничего не
сохранилось: ораторов, «дельцов», финансистов, врачей, адвокатов, людей
общекультурного склада, влечений и настроения. Выборы... Но разве парла-
ментаризм всего света не обнаружил, что это есть именно такой способ от-
мечания людей, через который отмеченными оказываются наихудшие? Тэн
или Пастер во Франции, Милль или Карлейль в Англии, Моммзен в Германии
разве были избранием «большинства голосов» отмечены? Разве какой-ни-
будь совестливый человек мог бы, взойдя на возвышение, выговорить не по-
перхнувшись: «Выбирайте меня - я наилучший», и подмигнув задним рядам
слушателей - обещать им те и другие теплые местишки, которые они заполу-
чат, если его выберут? Выборы - это странное, придуманное, искусственно
сооруженное вокруг власти болото, в котором тонет все ценное, к которому
ценное даже не приближается и через которое благополучно доплывает до
«того берега» только ничтожное, грязное, бесстыдное...
Итак, если это есть наихудший способ различить достойнейших - и, по-
вторяем, это подтвердила практика всего света - всякий иной способ будет
лучше его. Пусть же изберет Господь; пусть действует, как действовал в ста-
рину, равно христианскую, как и языческую - суд Божий или решение тем-
ной судьбы. Припомним роль жребия. В Новгороде имена кандидатов, запи-
санные на дощечках, клались на престол в Софийском соборе, и посланный
гуда слепец или ребенок брал все жребии назад, кроме одного, который и
указывал избранного. Пусть он не был наилучший до избрания; по крайней
мере, после избрания у него пробуждалась мысль, что он избран Богом и
будет Им судим не только в делах своих, но и в побуждениях, в помыслах.
Великая печать избрания ложилась как след, как напоминание на мысль из-
бранного, связывала его в дурном, одушевляла на доброе. И ни в каком слу-
40!
чае мы не скажем, что эта печать была так же низкопробна и, главное, так
отчетливо известна избранному, как бывает известна ему теперь, при сис-
теме голосования, когда он видит весь узел интриг, все темные побуждения,
поднявшие его к власти, и об них напоминают ему тысячи жадных рук,
протянутых за «благодарностью», сегодня и завтра могущих его опять низ-
вергнуть. По крайней мере, у даровитых греков и римлян жребий имел
также место действия, - и судьба их не сложилась от этого столь же печаль-
но и постыдно, как новейшая история западных народов или как наша мес-
тная жизнь. Но мы вовсе не настаиваем именно на жребии; мы пишем не
программу, а скорее методологию. Почему не избирать Царю? Разве над
уровнем действительности в каждую текущую минуту нет нескольких де-
сятков, выдающихся в том и ином отношении, на которых естественно и
почило бы его внимание? И от этого внимания, мы можем быть уверены,
не укрылись бы такие умы, ярко сияющие над целою страною, как только
что названные - Карлейль, Тэн, другие, и все призваны были бы к совету об
их родине. Во всяком случае, не были бы призваны пронырливый адвокат,
не практикующий доктор, «делец» биржи, которые теперь повсюду в пар-
ламентских странах, а у нас всюду в местном управлении, «представляют»
народ, от его имени говорят, его именем распоряжаются. Пусть, наконец,
если уже непременно нужны избирающие и избранные, если нужен «ценз»
для первых, этим цензом будет достоинство, а не средства, пусть указывают
священники, которые знают лучших из прихожан, через продолжительную
жизнь на «месте» - местные потребности, и, обычно, в духе своем совер-
шенно совпадают с народным духом, превосходя его лишь в степени, а не в
типе просвещения. Пусть, наконец, действуют отрицательные законы: ка-
батчик, процентщик, уличенный в дурной жизни, лжи или жестокосердии,
да не коснутся нечистыми руками кормила местной жизни; однажды ули-
ченный - и навсегда.
Без тревог, без подкупов избираются же старосты церковные по горо-
дам. Их собрание разве не было бы уже лучше всякой «думы», где иногда
(как указывают в Петербурге) действует «черная сотня» людей богатых и
мешающих всякому мероприятию, которое, направляясь в пользу общую -
могло бы пойти вразрез частным интересам. Мы взяли наудачу первое, что
пришло на мысль - только чтобы показать, как богат, как неистощим запас
способов жить местною жизнью лучше, нежели теперь...
Почему ни в одной думе не видно епископа? Разве он худший, чем кто-
либо в городе? Или дума - это уже такое неприличное место, в котором
стыдно почтенному пастырю появиться? Теперь - конечно; но если бы дума
была оберегательницею города во всем добром; от путей всякого зла? Разве
епископу стыдно заботиться, чтобы налоги не обременяли беднейших? А кто
же, как не он, через священников, может узнать совершенно неимущих даже
в обширном округе и представить их списки городу? Кто же, как не он, мог
бы внушить гражданам о безобразии улиц: этот разврат чуть не детей, этот
даже на детей простираемый соблазн зрелищ и возбуждений? Научить их,
402
что значит праздничный отдых, что значит будничный труд? И вообще - на-
ставить к доброму, повести к полезному, без всякой мысли о себе, с заботою
только о них, пасомых своих?
Чьи руки, враждебные стране, неведущие истории, не согласующиеся с
канонами церкви, отогнали от масс народных пастырей добрых и подпусти-
ли к ним злых волков? И, сделав это, бегут к хозяину с криками притворного
негодования: «Имущество твое - расхищено!».
Ведь сущность местного управления состоит в том, чтобы были призва-
ны к управлению местные силы, и вовсе не в том, чтобы это были силы
преходящие, чередующиеся, минутные, «избираемые» или «проваливаемые»
«большинством голосов».
Мы не упомянули о «храмолюбивом» купечестве, которое, построив
нам для молитвы церкви Божии, не отказалось бы, в лице именитых фами-
лий, будь они не призываемы по выбору, но поставляемы по званию царско-
му - трудиться на том самоуправлении, которое теперь или пренебрежи-
тельно обходят, или - в менее видных своих представителях - делают незамет-
но предметом своей эксплуатации. Повеление Царя есть радость для всякого
подданного; его укор - только напоминание долга, без всякой в себе обиды.
Наше купечество, насколько оно не развращено пока еще школою, так не
отвечающей его духу, так нелепой в применении к нему; пока оно не подав-
лено и не затерто обильно призываемым чужестранным капиталом - под
царским взором, по мановению царской руки способно еще оказать несрав-
ненные, незаменимые ничем услуги. Ибо нет у Царя, у Церкви, у земли
нашей более верных и вместе мощных по средствам слуг, как эти коренные
русские простые люди, неукротимые в дурном, но и не знающие границ в
великодушном. Как и дворянство, столь ошибочно, столь безумно, столь не-
поправимо допущенное до разгрома в третью четверть, нашего века, и этот
второй устой нашего быта, опора нашею будущего, не стоит ли, как кажется,
близко к подобному же разгрому. Перевороты законодательные, пересозда-
ния учреждений, как бы они значительны ни казались - ничто перед этими
великими, истинно неисцелимыми революциями в укладе народной жизни,
уже потому, что те, первые, могут быть поправлены почерком пера и ника-
кими «почерками» нельзя восстановить разрушенные ячейки издревле сло-
жившегося уклада жизни.
Мы ищем метод и нисколько не предлагаем руководительных правил;
мы говорим только: «есть где поискать и еще» сверх тех жалких, неискусных,
неудачливых форм, какие у нас действуют в самоуправлении. Мы прибавим,
что в жизни стран, как Россия, разнообразие способов управления не только
не есть какое-либо зло, но есть положительное благо: ведь и всякая испыты-
ваемая в живой действительности мера есть experimentum in anima vili, вся
история есть опыт над живой человеческой душою; зачем растягивать этот
опыт во времени, сегодня учреждая одно и завтра его ломая и заменяя дру-
гим; не лучше ли, не менее ли болезненно будет растянуть этот опыт в про-
странстве, допустив одно - в одном месте, и в другом - другое.
403
VI
Совет из элементов, устойчивых постоянных, - совет из людей, руководимых
определенным принципом; наконец - из людей, при всей туземности их вкусов,
интересов - вместе и просвещенных, - по крайней мере, в некоторых своих
представителях - мог бы уже во всей полноте руководить местною жизнью, а не
заниматься только скучным разрешением повторить у себя тип общеимперс-
кой школы, больницы, богадельни, обдуманных где-либо в центральной канце-
лярии людьми вовсе не более компетентными, не лучше одаренными, не более,
наконец, просвещенными, нежели те, на каких мы указали выше.
Власть высшая, в средоточии всех этих самоуправлений, блюдет их гар-
монию, отметает излишнее, сорадуется благому. Царь не только направляет
ход большого корабля, положение этой группы стран, врученных ему Богом -
среди еще других стран; их безопасность, их достоинство, но и внутри самой
земли - он блюдет принципы, под сенью которых возросла она в истории. У
нас - это принципы церкви, это твердость семьи; взаимный мир племен,
доверие к просвещению... Нет ни нужды, ни радости для него вмешиваться в
детали текущей жизни; все это - видные на «месте», с высоты престола вид-
ные за то соотношение всех вещей, общее направление народной реки; и
оберегать ее русло, поправлять обваливающиеся берега, ставить плотины
там, где она грозит разлиться и затопить то, чту ее водам не принадлежит -
естественно лежит на попечении Царя. Он как бы собирает в себе все отдель-
ные дыхания «мест» и так сочетает их в мысли своей, укрепляет одно, умеря-
ет другое, что все они связываются в правильное и мощное дыхание истории.
Во всяком случае, внимать этой работе земли над собою, ее санкционировать,
ее просвещать советом и исправлять повелением - более, чем всякий иной
труд, более, чем труд над «работами» бесчисленных канцелярий - отвечает
грозному и благому Имени, с которым земля соединяет понятие Отца своего.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
К г. АЛЕКСЕЮ* ВЕСЕЛОВСКОМУ
М. г.
Последнюю статью свою «Гоголь и Чаадаев» (в сентябрьской книжке «Вест-
ника Европы») вы оканчиваете словами:
«...Приближается годовщина великой комедии и многострадаль-
ного письма. Она наводит на грустные мысли...»
Потоком хлынули и у меня «фустные мысли», когда я прочитал эти зак-
лючительные строки.
Почему «многострадального» - письма и, вероятно, автора его? Чаадаева
в течение нескольких недель посещал доктор и свидетельствовал его умствен-
* На обложке «Вестника Европы» не обозначено полнее, даже инициалом имя
автора статьи «Гоголь и Чаадаев».
404
ные способности, - шутка более остроумная, чем отяготительная для «авто-
ра». Слава мелась по его следам, домелась до нашего времени и выразилась в
робко-почтительных, жалостливо-прискорбных строках вашей статьи, как пос-
леднем и не последнем эхо. Я припоминаю и еще жалобы о «страдальчестве»
писателей, проживавших долгие годы не среди удовольствий «Северной Паль-
миры», но более скромных радостей Саратова, Перми или еще каких мест.
Какая несправедливость, какой аристократизм духа! Почему их страда-
ния, описанные, рассказанные, вылившиеся слезами типографской краски -
оценены, взвешены, и негодование шумит вокруг их как некоторая мститель-
ная память, и почему тихие слезы, невидные, не взвешенные, но истинно
горячие - заметены в сор истории потому только, что они не литературно
выражены, что не были переданы в письме ни к какому знаменитому писате-
лю, и никогда не увидели «света»?
Как возмутительно!
Автор «Что делать?», томившийся - в Саратове, кажется, - и там безы-
менно переводивший многотомную историю Вебера, почтен, оплакан. Но
сколько матерей, сколько отцов, в старости брошенных, были бы готовы не в
Саратове, но где-нибудь в Обдорске или Соликамске, и не за книгой, а без
всяких книг провести годы гораздо более долгие, лишь бы не видеть растре-
панною, разбитою, брошенною под ноги и растоптанною жизнь своих детей,
которую до 15-17 лет они берегли, лелеяли, уже обдумывали для них будущ-
ность, и - пришел «литератор», написал своднический роман и поволок их
соблазнительными софизмами и вещими снами куда-то в сторону. Я помню,
в «Русской Мысли» Шелгунов хвастался, что в статье «Жестокосердие жен-
щин» или «Бессердечие женщины» он бросил укор в тех из них, которые,
сидя в провинции, около семей своих, оставляют «их», в Петербурге, бороть-
ся, изнемогая - вероятно, с какими-нибудь «мраками». Не в этих именно
словах, но это именно писал он. И приводил письма, им полученные в ответ
на обвинение, писанные со слезами...
Он не понимал, как не понимал Писарев, не понимали все «они», - что
его роль в истории, положение в литературе, заслуга перед землей есть зас-
луга городской «барыньки», пришедшей на деревню посмотреть «девушек»
и втихомолку, отведя их в сторону от родного дома, объяснить им, что есть
места более приятные, занятия более легкие, чем каторжный труд над жнит-
вом, и притом - где они будут ходить не в посконных сарафанах, но в шерстя-
ных и даже в шелковых «принцессах»...
Они, эти писатели - «не понимали». Жестокое дело, ими предприня-
тое, они совершали «по непониманию». Какое, однако, дело до их «непони-
мания» истории, жизни, действительности! Она ведь также хочет жить и
вправе не страдать, по крайней мере, от «неразумия». И когда они рвутся
причинить ей это страдание, она вправе защитить себя от них - их предва-
ряющим страданием.
Я не о «Письме» Чаадаева говорю, которое было еще далеко от произве-
дения подобного действия, и сам он «принял страдание» за него только в
шуточной форме; я имею в виду аналогичные факты, я говорю о принципе.
405
Я ставлю открыто вопрос: насилие есть ли факт правый перед мыслью,
которая завтра поведет к насилию, сегодня приводит к страданиям?
Если «литература» не есть «жизнь», если она только эстетическое щеко-
тание головных нервов - не может быть спора об отрицательном ответе: ее
«свобода», «нестесняемость» - безгранична в идее. Но в идее же отрицается
всякая ее практическая значительность, и она остается только садом «со-
ловьев» и «роз». Ее мысль есть шутливая мысль; ее влияние - не больше, чем
опера, глядя на которую зрители плачут и потом спокойно расходятся ужи-
нать и спать, потому что ведь «ничего не случилось».
Если же «литература» есть «жизнь» и она предваряет действие, как элект-
ричество земное и атмосферное предваряет грозу в ее световых и звуковых
явлениях - не может быть сомнения об утвердительном ответе на этот вопрос.
Только страданием, допущенным не как грубый факт, но как справедливая
идея, как вечный принцип, и практическою готовностью принять и безмолвно
перенести это страдание - может быть куплено литературой право вмешиваться
в жизнь, влиять в ней, манить ее к одному, удерживать ее от другого. Ибо жизнь
есть труд и страдание; и странно, цинично, безнравственно было бы «пахать» в
ней - не запрягаясь, пожинать лавры - не видя поднятого против себя меча.
Безнравственно и - постыдно.
Вы к этому постыдному маните; вы это постыдное зовете; вы требуете
себе «Георгиев на шею», не нюхав порохового дыма.
Вы пишете, в статье своей, о «цензурных муках» (стр. 84), испытанных
«Ревизором» (какое же имя вы придумаете для «ощущений» отцов и мате-
рей, побросанных «детьми» в 60-е годы?); вы смеетесь над «мнимым оскор-
блением национальной «чести, возмутившим», в письме Чаадаева, «все об-
щество»; говорите о «нетерпимости, злорадстве и жестокости» людей, «гото-
вых счесть безумцем независимо мыслящего человека» (стр. 85) - по поводу
того же письма, наконец, вы изображаете:
«...Все негодовали, профаны и мудрецы, светские люди и служи-
тели церкви, дамы и литераторы; и необыкновенно долго держалось
это негодование. Говорят, будто несколько студентов явилось тотчас
по напечатании письма к попечителю округа с заявлением готовнос-
ти с оружием в руках отмстить за оскорбление, нанесенное всей Рос-
сии, а в редакцию «Телескопа» (где напечатано было письмо) - с
грозным протестом против статьи. Натиск общественного мнения
был так велик, что правительство, сначала как будто не особенно рас-
положенное вмешиваться - решилось на расправу; по крайней мере,
Чаадаев, оглядываясь со временем на недавно миновавший разгром ♦,
считал возможным объяснить образ действий центральной власти
сильным давлением со стороны общества» (стр. 85).
* Какие все термины! «Арест, наложенный на Чаадаева, продолжался не более
двух месяцев. Князь Д. В. Голицын выпросил ему у Государя свободу. Впрочем, ему
и тогда не воспрещалось принимать у себя знакомых. Первым посетителем Чаадаева в
самый первый день опалы был И. И. Дмитриев», пользовавшийся почетною известно-
стью писатель и вместе сановный государственный человек (Барсуков. Жизнь и тру-
ды Погодина, том IV, стр. 388).
406
Но ведь это значит только, что общество, так принявшее письмо Чаада-
ева, отнеслось к нему как живое и нравственное лицо; что оно было на-
столько вообще сериозно, так чутко в нравственном отношении, что не
видело возможным и признавать одновременно правоту утверждений Чаа-
даева, и оставаться тем, чем было раньше, напр., сохранять православие
(Чаадаев считает его растленною формой христианства). Ведь это вы, вя-
лый собиратель упавших колосьев на ниве истории, можете одновременно
и восхищаться «Письмом» Чаадаева - без сомнения, видя в нем только
красоту формы и некоторую литературную «знаменитость», и оставаться
чиновником своей империи и сыном своей церкви - без сомнения и в них
видя только необходимый ритуал своего личного habitus’a*. Но те люди,
над которыми вы издеваетесь, не понимая ни их, ни вообще человеческого
сердца - жили действительною, полною жизнью; для них церковь была не-
которое живое утверждение, государство - некоторое любимое отечество,
и все прошлое этого отечества и этой церкви - нечто священное. Они не
могли, в течение одной недели, прочитав статейку в № 15 «Телескопа»,
вдруг перелицеваться - перестать любить все, что любили, и верить во все,
во что верили (как этого косвенно требовал Чаадаев); а не будучи в состоя-
нии это сделать, точнее - не находя нужным это делать, они восстали про-
тив «Письма» как против некоторой возмутительной клеветы на предмет
своего культа, как на презренную ложь, вовсе не оправдываемую красотой
стиля, в котором она была написана. На что же вы негодуете, чему вы тут
удивляетесь? Горячностью своего протеста они опровергли лучше, чем
каким-либо доводом, ложь чаадаевских фантасмагорий, по которым Рос-
сия представлялась какою-то холодною, бездушною глыбой Севера, где еще
не зажглась живая жизнь истории, не теплилась вера, не было своего сим-
вола, утверждения. Под формулу Чаадаева о вере растленной, о жизни без-
душной на Севере - подходите вы и ваши вялые слушатели в аудиториях
теперешнего университета или не более разгоряченные читатели статей
ваших, о которых сатирик наших дней сказал, что «они почитывают», в то
время как авторы «пописывают», — и все тем кончается, не мешая нисколь-
ко пищеварению. Мы дожили, чего еще не мог предвидеть Чаадаев, до
дней растленной веры; мы в них вступаем. Письмо Чаадаева нужно читать,
как древние восточные манускрипты, от конца к началу, понимать его об-
ратно тому, что он хотел в нем сказать, - о чем вы, в ограниченном самодо-
вольстве своем, вовсе не догадываетесь.
Я упомянул о символе, о credo. Вы, кажется, читаете в университете
историю, - итак, можете знать, что когда во Франции Карл X издал свои
«ордонансы», между прочим, ограничивавшие свободу печати, - печать
призвала к оружию население Парижа, она не задумалась бросить всю
Францию в мятеж, потому что был затронут один из членов ее символа:
* внешность (лат.).
свобода мысли и ее выражения. Не правда ли, вы этого не будете порицать,
прерогативы печати вам понятны? Как писатель и профессор, вы понима-
ете credo своего цеха, и отрицаете, чтобы посторонняя, внешняя сила (госу-
дарства или церкви) имела право его нарушать. Почему же, странный че-
ловек, вы отрицаете у страны, у народа, у государства право на свой сим-
вол, свое credo и на защиту его теми же материальными средствами, тем же
грубым оружием, каким пользуетесь вы сами? И не забудьте, что этот сим-
вол, о котором я теперь говорю, вырабатывался два тысячелетия, что он
охраняет будничную жизнь миллионов людей, спокойный сон отцов, чис-
тоту детей, крепость семьи, живость веры, надежды за гробом. Все потру-
дилось для этого символа: соборы, церкви, искусство законодателей, испы-
тания личные, разочарования семьи, - «незримые слезы» и пот без имени
живших и умерших людей. Все - мир и война, поэзия и наука, но, главное
все-таки - практика бесчисленных людских поколений, вносило свою по-
правку в этот необозримый символ, обнимающий семью и церковь, со-
весть и быт, государство и человека, небо и землю. Как мал перед ним ваш
символ, в своей двухвековой молодости, и обнимающий жизнь,
оберегающий труд нескольких сотен «счастливцев праздных». И если вы и
ваш цех не порицаете поднятия оружия в защиту этого ничтожного симво-
ла, зачатого в салонах Louis XV, - как можете вы отвергнуть, что народы и
страны с гораздо большим правом могут поднять оружие в защиту их сим-
вола, зародившегося у Креста Господня и еще ранее в римском праве. Я
говорю о возмутивших вас студентах, пришедших к такому-то дому и с та-
ким-то требованием, и о не возмущающей вас революции июльской: я го-
ворю о параллелизме этих явлений, - и этот параллелизм простираю беско-
нечно далеко, и вы без труда можете последовать за моею мыслью и выве-
сти бесчисленные последствия, какие отсюда вытекают...
Раньше, чем вы успели не уважить этот древний исторический символ, -
общество, страна вправе не уважить ваш новый; и прежде чем в сатире,
художественном образе, философском рассуждении вы успели доказать, что
почтение к старшим не существенно, что права родителей сомнительны,
обязанности детей проблематичны - я не говорю уже о большем - общество
вправе разорить ваш дом и, если вы сами не поторопились перебраться за
Эйдкунен, выбросить вас туда с вашею неинтересной для него философией и
ненужной поэзией.
Я говорю, что идеальное право это сделать - у него есть; что оно его
не применяет, или применяет недостаточно только по милосердию, кото-
рого в вас нет, нет его в вашем цехе, не было в Чаадаеве, который среди
общества, в котором появился, был наиболее груб, наименее деликатен и,
применяя к нему его собственные мерки суждения - наименее всех дру-
гих культурен.
Всем известен критический суд, произнесенный над «Философическим
письмом к г-же*» нашим несравненным Пушкиным. Менее известен с ним
408
однородный суд, какой косвенно, в чрезвычайно деликатной форме, произ-
нес над этим «Письмом» другой светоч нашей культуры, великое имя нашей
науки - Фед. Ив. Буслаев. Несравненный ум, обильнейший всяким научени-
ем, принесший родине драгоценные дары своего гения и с тем вместе самую
Европу изучивший более глубоко и всесторонне, чем как это мог сделать
метивший в «Периклесса» и «Брута» «офицер гусарского полка» - так пи-
шет в своих прелестных «Воспоминаниях» о тех памятных днях 1836 года,
когда появилось и зашумело знаменитое «Письмо»:
«...На университетском дворе, направо, у самых ворот, выходящих в
Долгоруковский переулок, стояло тогда невысокое каменное здание, кото-
рое было занято квартирою ректора университета, Болдырева, профессора
арабского и персидского языков, очень доброго и всеми уважаемого. Он
был тогда человек уже пожилой, очень любил молодого профессора эсте-
тики Надеждина и дал ему помещение у себя, а Надеждин, в свою очередь,
в одной из своих комнат держал при себе Белинского, впоследствии став-
шего знаменитым критиком, а тогда не более как студента, который, не
кончив университетского курса, был сотрудником и правою рукой На-
деждина, издававшего в то время журнал «Телескоп». Особенное удоб-
ство для этого издания состояло в том, что оно тут же, в стенах этого корпу-
са, и подвергалось цензуре, так как ректор Болдырев был вместе и цензо-
ром. Однажды вечером приходим мы в «Железный»*, опрометью бежит к
нам Арсений**, и вместо трех пар чаю подносит нам нумер «Телескопа».
«Вот, - говорит, - вчера только что вышел: прелюбопытная статейка, все ее
читают, удивляются; много всякого разговора». Это была знаменитая ста-
тья Чаадаева. Мы, разумеется, тотчас же принялись ее читать. С того вре-
мени и до сих пор мне ни разу не случилось перечитать ее вновь, но помню
и теперь из нее одну только фразу: «Россия приняла христианство из рук
растленной Византии». Дней через десять после этого у нас в нумерах раз-
несся слух, что «Телескоп» запрещен и что ректору и Надеждину грозит
великая беда. Я пользовался расположением субинспектора Степана Ива-
новича Клименкова и его жены Ольги Семеновны, и был к ним вхож. Чтобы
разузнать подробности дела, лучше всего было обратиться к ним. Ольга
Семеновна страшно взволнована, в слезах; говорит, сама захлебывает-
ся, жалеет Болдырева, негодует на Надеждина, называет его предателем,
злодеем. Она была очень дружна с Болдыревыми, да и, кроме того, отлича-
лась горячим и чувствительным до раздражения темпераментом, и теперь
как было ей не раздражиться донельзя, когда сама она была свидетельницей
преступления, которое вконец погубило ее друзей. Поуспокоившись не-
множко, вот что она мне рассказала. Дня за три до выхода в свет той книжки
* Московский трактир.
♦* Половой.
409
«Телескопа», она и Рагузина вечером играли в карты с Болдыревым. Бол-
дырев очень любил по вечерам отдыхать от своих занятий, с большим увле-
чением играя по маленькой с дамами. В этот вечер Надеждин не давал им
покоя и все приставал к Болдыреву, чтобы он оставил карты и процензуро-
вал в корректурных листах одну статейку, которую надо завтра печатать,
чтобы нумер вышел в свое время, но Болдырев, увлекшись игрой, ему от-
казывал и прогонял его от себя. Наконец, согласились на том, что Болдырев
будет продолжать игру с дамами и вместе прослушает статью, - пусть чита-
ет ее сам Надеждин, - и тут же, во время карточной игры, на ломберном
столе подписал одобрение к печати. Когда статья вышла в свет, оказалось,
что все резкое в ней, задирательное, пикантное и вообще недозволяемое
цензурой, при чтении Надеждин намеренно пропускал. Зная, с каким ув-
лечением по вечерам играет в карты Болдырев с своими соседками, Надеж-
дмн умышленно устроил эту проделку. Не замедлила из Петербурга и гроз-
ная резолюция по этому делу: Болдырева, как дурака, отрешить от службы,
Надеждина, как мошенника, сослать из Москвы, а Чаадаева, как сумасшед-
шего, держать под строгим надзором, приставив к нему двух полицейских
врачей для наблюдения за его здоровьем. Это сведение мне сообщила та же
Клименкова*.
В этом живом воспоминании, где весь «случай» выступает на фоне дей-
ствительности, в обстановке своих подробностей - «Письмо» не играет ни-
какой роли. Буслаев не считает нужным что-нибудь разобрать в нем, даже -
сопроводить его хотя бы легким критическим замечанием; он, 60-летний ста-
рец, светило своей науки, знаток своего предмета и его литературы, замечает
только, что никогда не перечитывал этот любопытный для других памятник
нашей словесности. И между тем он так восхищался гротовским изданием
Державина, писал о судьбах романа, как новейшей и всеобъемлющей фор-
мы нового литературного творчества, а в путевых заметках с живейшим ин-
тересом сообщает о сатирических картинках на Наполеона 111, которые появ-
лялись в Италии около 1870 года, и других мелких и не мелких фактах жизни
текущей и давно прошедшей, но всегда-жизни живой. (См. «Мои досуги» и
в них «Римские письма».)
Очевидно, он этому эффектному памятнику нашей словесности не при-
давал никакого значения. Он, возведший историю русского эпоса и народно-
го искусства на степень науки в западноевропейском смысле, хорошо знал,
чем и как, и каким содержанием исписана русская душа, - та душа, которая
Чаадаеву представлялась как tabula rasa; и его «ни разу не случилось вновь
перечитывать» - звучит нам как единственный, смиренный в своей тихости и
вместе уничтожающий ответ на знаменитое «Письмо».
* Барсуков. Жизнь и труды Погодина, том IV, стр. 386 и след.
410
И, одновременно, он живо и ярко изображает всю ту маленькую, неза-
тейливую действительность, на фоне которой кичливо и самонадеянно выс-
кочило это «Письмо»; он не забыл ни одного отчества милых людей, потер-
певших в этой передряге, не забыл «захлебывающегося» рассказа взволно-
ванной женщины, ни ломберного стола, ни вечерних утех старого ректора.
Вся эта живая жизнь, без выдающегося, без героического - очевидно, в со-
знании великого ученого (и вместе несравненного художника) носит в себе
несравненно более цены и достоинства, она более заслуживает нашего по-
чтения и любви, чем несколько печатных страниц рассуждений ума сухого и
непроницательного, сердца бедного и недалекого, но ничего об этой своей
недалекости не знающею*.
* Вот еще несколько дополняющих образ Чаадаева воспоминаний: «Видя беду
неминуемую (от напечатания «Письма»), Чаадаев признавался, что писал это «Письмо»
по возвращении из чужих краев во время сумасшествия, в припадках которого он
посягал на собственную жизнь и старался свалить всю беду на журналиста и цензу-
ру на первого - потому, что он очаровал его и увлек его к дозволению отдать в
печать статью, а на последнюю за то, что пропустила оную. Это просто гадко; но что
смешно - это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным знамени-
тые его друзья и ученые Баллами, Ломене, Гизо и другие» (Д. Давыдов в письме к
Пушкину; Барсуков. Там же, стр. 389). Кажется, к этому прибавлять нечего (сравни
выше с чистосердечным и мужественным негодованием Клименковой).
411
1896 год
ХРИСТИАНСТВО и язык
В своих заботах о воссоединении «рассыпанного стада Христова», епископ
Римский, обращаясь в недавних энцикликах к народам Востока, уступает им, за
подчинение в принципе своему Престолу, язык народности как литургический
и священный. Отныне не всюду, где торжествует католицизм, будет звучать язык
древнего Лациума, как единственный, на котором достойным образом душа
человеческая может обращаться к Богу. Связь, казавшаяся неразрывною столько
веков между умершим языком и вечно живою церковью, не признается более
столь важною со стороны главы этой последней. Что это была за связь? каковы
были ее последствия? каковы предвидимые последствия разрыва этой связи?
Мы будем вести наше рассуждение очень издалека; и читатель да не посе-
тует на нас и не припишет отсутствию в нас сознания священности предмета,
если мы начнем это рассуждение с примеров совершенно простых и грубых.
I
Между духом человеческим и словом как формой его выражения есть неко-
торое соотношение, которое то связывает их, заставляет взаимно тяготеть друг
к другу, то их взаимно отталкивает. Мысль, эта определенная, с этим опреде-
ленным колоритом вызревшая в душе человека, требует слова этого опреде-
ленного, точнее - определенной колоритности в связи слов; и хоть может
быть передана и другим словом или другою связью слов без того, чтобы стать
непонятною от этого, - но именно будет в них только передана, а не выразится
во всей полноте и живости своей. Лучше всего это можно видеть на связи
стихотворных размеров с содержанием или сюжетом, который в них пере-
дается: так, сюжет, рассказанный Лермонтовым в стихах этого размера:
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? - Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом...
412
и т. д. (из «Мцыри»), - ясно, что не мог бы быть передан в размере «Евгения
Онегина» или, напр., в этом:
Но я не так всегда воображал
Врага святых и чистых побуждений.
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно... и душа тоскою
Сжималася - и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет...
Но я, расставшись с прочими мечтами,
От него отделался - стихами.
(из «Сказки для детей»)
Равно следующий изящный и грустный рассказ:
Это случилось в последние годы могучего Рима.
Царствовал грозный Тивсрий и гнал христиан беспощадно,
Но ежедневно на месте отрубленных ветвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.
В тайной пещере, над Тибром ревущим, скрывался в то время
Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая;
Бог его в людях своей благодатью прославил.
Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
И от страданий душевных. Рано утром однажды,
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
Звания, с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.
Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи. -
Так она говорила, - мы наших богов неотступно
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном,
Золото сыплем жрецам их и плачем... но всё бесполезно!
Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира! Как часто
Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее, молодели; юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над главой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою... иль в пляске
Перед домашним порогом подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...
Только в последнее время приметно она изменилась:
413
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете
Поздней лампады я видела раз, как она, на коленах,
Тихо, усердно и долго молилась... кому?., неизвестно!..
Созвали мы стариков и родных для совета; решили...
совершенно не мог бы быть передан в этом размере:
Играй, Адель,
Не знай печали!
Хариты, Лель,
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна
Для наслажденья
Ты рождена, и т. д.,
ни в этом:
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые;
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркально,
В небо чистое смотрит, улыбается, и т. д.
(из «Песни про купца Калашникова»)
ни, наконец, в этом:
Дар огромный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана,
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
ни, еще менее, в монотонно-страстном размере, в котором выполнен сюжет
«Мцыри». Напротив, в размере стихотворения «Это случилось в последние
годы могучего Рима» совершенно не мог бы быть выполнен этот рассказ о
себе маленького «Мцыри»:
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
414
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся на грудь,
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я - и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно - и потом
Закрылись тихо вечным сном...
Если этот отрывок, уже достаточно обширный, чтобы судить о его
содержании и колорите, мы сравним с столь же обширным отрывком,
приведенным выше, из жизни первых христиан при Тиверии, мы увидим,
что, сохраняя каждый свое содержание, они не могли бы обменяться фор-
мою. В рассказе умирающего Мцыри эти сильные кадансы голоса в конце
415
каждого стиха, отсутствие какого-либо разнообразия, игры в рифмах, рав-
носложность всех стихов и, наконец, двусложность всякой стопы - сооб-
щают угрюмую, как бы бессветную сосредоточенность его речи, испол-
ненной энергии и сжатой тоски; короткие как бы обрывающиеся строки,
монотонно-однообразные на протяжении длинного рассказа, звучат в
нашем ухе как голос задыхающегося человека, которому осталось жить
несколько часов. Вся форма, лишенная какой-либо украшенности, усили-
вает впечатление рассказа, красота коего и сосредоточена в его силе; т. е.
она возводит особенную и исключительную, ему присущую, красоту - к
высшему совершенству. В первом отрывке, в рассказе старухи об умер-
шей своей дочери - эта сила отсутствует; она отсутствует не только сооб-
разно возрасту говорящего лица, но и, главным образом, вследствие не-
доумения, им владеющего: старуха не знает, почему умерла ее дочь, и
еще надеется на ее воскресенье. Этот недостаток энергии прекрасно пе-
редан в разреженных, и потому ослабленных ударениях дактилического
стих; ибо в этом месте:
Ты хочешь знать, что видел я
ударение на отмеченных гласных о, а, и, я сосредоточеннее падает, нежели в
стихе:
Это случилось в последние годы могучего Рима,
где ударение с гласных э, и, е, о,у, и - как бы разливается несколько на каждые
следующие два слога; напр. в слоге
Тыхо...
первый слог совершенно скраден, он как бы проглатывается при чтении, точ-
нее- поглощен силою второго слога; напротив в стопе:
Это слу
слоги то и слу совершенно ясны в произнесении, ибо часть ударения с
звука э перелилось на них. Далее, растерянный, недоумевающий, горест-
ный рассказ Это случилось женщины о случившемся был бы испорчен в
своей непосредственности всяким вниманием к форме: и мы имеем перед
собою почти прозу, которая течет мерно лишь потому, что ударения как бы
случайно, но без всякой преднамеренности говорящего лица, упадают пос-
ле каждых двух слогов на третий:
Только в последнее время приметно она изменилась:
Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
Вечером темным, и ночи без сна проводила.
416
Это нельзя переиначить, и переложение в совершенную прозу вводит
здесь уже неправильность самого прозаического языка, ложное размещение
слов, но и при всем том некоторая ритмичность языка сохраняется, как, напр.,
в этих строках допустим вариантах первой строки:
Приме / тно толь // ко в после / днее вре / мя оно / изменилась
или:
Они изменилась примерно // только в последнее время,
так что та форма стиха, которая взята поэтом, представляется не предпочтени-
ем стиха прозе, но выбором из нескольких, только и возможных стихотворных
размеров - лучшего.
Но если мы ясно чувствуем, что некоторая определенная форма стиха
лучше отвечает данному содержанию (сюжету), чем другая определенная
же или чем безразлично всякая, что мы не можем не вывести отсюда, что эти
бессловные, ничего, по-видимому, не выражающие размеры:
06I06I06I06
06I06I06I06
и далее:
06I00I06I06I06
odlooloolodlooo
потом этот:
dooloooloooloooloooloo
600I600I600I000I600I60
этот:
06I06
oolodo
06I06
06I060
этот: I
60I600II60I600 '
и, наконец, следующий:
06I60I60I60
00I60I60I6
только при поверхностном взгляде кажутся чистою, пустою от всякого содер-
жания, формою. В действительности каждая из этих форм есть ритм опреде-
ленного настроения, и вовсе не каждое движение человеческого сердца мо-
жет быть выражено безразлично которым размером, но всякий размер соот-
ветствует одному или немногим, между собою однородным, движениям на-
шей души. В силу этого, раз у поэта есть известное настроение души и
и Зак. 3969
417
творческая фантазия его уже рисует образы, сцены, истории, этому настрое-
нию соответствующие, его разрабатывающие- метр для стихотворной фор-
мы не может им быть избран по произволу всякий, но есть 2-3 размера, для
этого удобные; и, собственно, есть даже только один размер, в котором эти
сюжеты могут быть рассказаны и это настроение выражено без искажения.
В иных размерах, при ином ритме стиха, чувство, которое он хотел бы пере-
дать в рассказе, которое он испытывает сам и под влиянием его создал этот
размер - осложнится еще другим чувством, о котором он вовсе ничего не
думал, окрасится настроением, совершенно чуждым его душе и идущим от
размера, которым он неудачно воспользовался. Так сюжету, изложенному в
«Демоне», не очень соответствует этот ритм, в котором он изложен еще юно-
шею-Лермонтовым:
06I06I06I000
06I06I00I00
и гораздо более отвечал бы этот:
06I06I06I06I06
06I06I06I06I06
в котором выполнена «Сказка для детей» (см. отрывок выше), между прочим
потому, что легкая и размышляющая ирония, столь необходимо входящая в
понятие демона, совершенно не передаваема в первом ритме, удобном толь-
ко для выражения порывов. От этого демон первого стихотворения все поры-
вается, и, в сущности, постоянно верит; или если и негодует или ненавидит, то
с тою определенностью и положительностью, почти - счастьем, как это мог
делать только 24-летний поручик. Он если еще и не внушает собою, то допус-
кает на себя пародию; и вовсе не допускает ее демон второго стихотворения.
II
Перейдем к прозе. Языком этого повествования из Котошихина:
«Царь с патриархом советовал, и со властьми и с бояры и с дум-
ными людьми говорил, чтоб ему сочетатися законным браком; и пат-
риарх и власти на такое доброе дело к сочетанию законные любви
благословили, а бояре и думные люди приговорили. И сведав царь у
некоторого свбего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и
красотою и разумам исполнену, велел взяти к себе на двор, и отдати в
бережение к сестрам своим царевнам, и честь над нею велел держати
яко и над сестрами своими царевнами, доколе сбудется веселие н
радость. И искони в Российской земле лукавый дьявол всеял плевелы
свои, аще человек хотя мало приидет в славу и честь и в богатство,
возненавидети не могут. У некоторых бояр и ближних людей дочери
были, а царю об них к женитьбе ни об одной мысль не пришла: и тех
418
девиц матери и сестры, которые жили у царевен, завидуя о том, умыс-
лили учинить над тою обранною царевною, чтоб извести, для того -
надеялися, что по нейвозмет царь дочь за себя которого иного вели-
кого боярина или ближнего человека: и скоро то и сотворили, упоиша
ее отравами. Царь же о том вельми печален был, и много дней лишен
был яди; и потом не мыслил ни о каких высокородных девицах, поне-
же познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти. И после
того времени случися ему быти в церкви, где короновал, и узре неко-
торого московского дворянина Ильи Милославского две дочери в
церкви стоят на молитве, послал по некоторых девиц к себе на двор,
велел им того дворянина един умнейшую дочь взятии к себе в Верх*;
а как пение совершилось и в то время царь пришед в свои хоромы,
тое девицы смотрел и возлюбил, и нарек царевною, и в соблюдение
предаде ее сестрам своим, и возложиша на нее царское одеяние, и
поставил к ней для оберегания жен верных и богобоязливых, дондеже
приспеет час женитьбы» (I, 6).
Языком этой исторической эпохи вовсе не может быть передан следую-
щая сцена:
«Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее че-
пец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и
плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее.
Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Гер-
манн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец,
графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде,
более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безоб-
разна.
Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею.
Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горнич-
ных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Гра-
финя сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо
и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие
мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страш-
ной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого
гальванизма.
Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы переста-
ли шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый
мужчина.
- Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь, - сказал он внятным и
тихим голосом. - Я не имею намерения вредить вам; я пришел умо-
лять вас об одной милости.
Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Гер-
манн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым се ухом, по-
вторил ей то же. Старуха молчала по-прежнему.
* Собственные покои царя.
419
- Вы можете, - продолжал Германн, - составить счастие моей
жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете уга-
дать три карты сряду...
Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее тре-
бовали; казалось, она искала слов для своего ответа.
- Это была шутка, - сказала она наконец, - клянусь вам! это была
шутка!
- Этим нечего шутить, - возразил сердито Германн. - Вспомните
Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.
Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движе-
ние души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.
- Можете ли вы, - продолжал Германн, - назначить мне эти три
верные карты?
Графиня молчала; Германн продолжал:
- Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без
того, они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три
карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет
в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю
цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..
Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала;
Германн стал на колени.
[- Если когда-нибудь, - сказал он, - сердце ваше знало чувство
любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись
при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое би-
лось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги,
любовницы, матери, - всем, чту ни есть святого в жизни, не откажите
мне в моей просьбе! откройте мне вашу тайну!] Что вам в ней?..
Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного
блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить
вам уж недолго, - я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне
только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ва-
ших руках; [что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благосло-
вят вашу память и будут ее чтить, как святыню...]
Старуха не отвечала ни слова.
Германн встал.
- Старая ведьма! - сказал он, стиснув зубы, - так я ж заставлю
тебя отвечать...
С этим словом он вынул из кармана пистолет.
При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чув-
ство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от
выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.
- Перестаньте ребячиться, - сказал Германн, взяв ее руку. - Спра-
шиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? - да
или нет?
Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла («Пиковая
дама», III).
420
Мы преднамеренно привели эту длинную выдержку, чтобы ум читате-
ля вошел и почувствовал с достаточною полнотой тот особенный аромат
эпохи, возрастов говорящих лиц, даже самой обстановки, их окружающей,
который влит в эту сцену Пушкиным. Если мы обратимся к языку Котоши-
хина, мы почувствуем, что эта сцена могла бы быть передана на нем лишь
в фактической своей стороне: что некоторый муж, именем Германн, пылая
желанием разбогатеть через счастливый выигрыш в карты и узнав случай-
но, что одна знатная и весьма престарелая женщина владеет тайною отга-
дывать в банке три карты подряд, прокрался ночью в ее спальню и сперва
просил учтиво, потом же стал требовать дерзко открыть ему эту тайну. На
что она, долго помолчав, а наконец увидя его, пришедшего в ярость и вы-
нувшего оружие, грозя ее убить, - от страха и престарелых лет испустила
дух, не удовлетворив его любопытства. И даже если б мы попытались не
рассказать эту сцену языком Котошихина, но перевести ее на этот язык -
что уже, по-видимому, совершенно возможно - мы увидели бы, что она
непереводима на него с сохранением личного, частного, особенного, что
есть в ней; и, особенно, легко переводится только в двух, на первый взгляд
патетических местах (мы отметили их скобкам): но, на самом деле, это -
единственно холодные места в сцене, где Германн прибегает к общей рето-
рике и ссылается на общие мотивы, припоминая их в нужде и ничего инди-
видуально при их произнесении не чувствуя. Лицо еще не пробудилось в
эпоху Котошихина: там были царь, подданный, боярин, простец, муж, жена,
с едва заметными, вовсе не существенными и не характерными личными
изменениями; были отношения гражданские, семейные, вовсе не было
никаких «случаев», и случай, воодушевивший Пушкина на рассказ, в кото-
ром все было исключительно, в котором не было общего, а только частное,
где все в высшей степени мимолетно и вместе характерно - не воссоздава-
ем в структуре языка, за два века назад существовавшего у того же народа,
даже непереводимо на этот язык. И не только сцена, т. е. некоторое событие,
рисующее отношения между людьми, не воссоздаваема в формах этого
языка, а даже и бездушная обстановка, как, напр., следующее описание
спальни графини:
«Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась
золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми
подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии
около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портре-
та, писанные в Париже m-me Lebrun. Один из них изображал мужчину
лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звез-
дою; другой - молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными
висками и с розою в пудреных волосах. По всей углам торчали фар-
форовые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коро-
бочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в
конце минувшего столетия вместе с Монгольфъеровым шаром и
Месмеровым магнетизмом» (ibid.).
421
Здесь курсивом мы отметили места, совершенно непередаваемые на ста-
рый язык с тем оттенком иронии, осуждения или сожаления, который брошен
автором на предметы его заботливого описания. Котошихин, на языке своего
времени, мог бы лишь назвать все эти предметы, исчислить их; или, если и -
осудить, то все «полностью», а не в «раздробь»: он не заметил бы, а заметив-
не сумел бы выразить, чем каждая вещь индивидуально смешна, неуместна,
бесполезна.
III
Тот spiritus crescens, который животворит каждую форму, делает ее нам близ-
кою, родною, который далекое и чуждое переливает в нас и нашу грубую
плоть и кость претворяет по закону этого чуждого, чту мы восприняли — во
всех приведенных примерах перевода не удерживается и пропадает. Лица те-
ряют свою индивидуальность; отношения их становятся механичными; самая
обстановка делается простым реестром вещей, и в ней мы не узнаем более
хозяина. Жизни нет более - есть восковая глыба, которая пытается подражать
ей и тем более раздражает нас, чем менее это умеет. Если бы в приведенных
примерах прозы мы захотели приписать это недостатку слов в языке старом,
на котором поэтому только и не воссоздаем отрывок из литературы новей-
шей, то вот оригинал и переложение, не только из одной эпохи взятые, но и
выполненные одним и тем же лицом. Речь в этом отрывке идет о противопо-
ложности древнего и нового мира, о напрасности усилий новых народов вос-
создать у себя красоту античного республиканского строя, что их приводит к
явлениям таким бессмысленным и отвратительным, как недавний Панамский
процесс во Франции. Автор прибегает к сравнениям, уподобляя человека
новых времен евангельскому Лазарю, который, забыв истинную природу
свою, пытается возвратиться к языческим формам быта и деятельности:
«Но вот, пренебрегая всем, новые народы хотят набросить новый
смысл на тысячи уже совершившихся фактов; поздний разум, блек-
лый лепет своего языка они пытаются противопоставить явлениям,
которые так памятно, так неувядаемо сияют в их истории. Лазарь по-
чувствовал себя наконец, зажившим; ему жестка прежняя солома,
скучен бедный кров, его так долго защищавший от сырости и от паля-
щих лучей солнца. Он приподнимается и чувствует, что ноги его дер-
жат; он пробует голос и слышит, что он если и сипит. То, однако,
громко; тщательно затирает он рубцы заживших ран и насыпает на
остатки своих волос; и слышит, он еще надеется явить миру прекрас-
ное зрелище; он выходит себе колесниц, заготовление венков. Кони
готовы, - старые древние кони, на которых когда-то ристали Алкиви-
ад, Кимон; они те же, в природе своей нисколько не изменились...
Но как изменилось все, кроме этих могучих коней; кроме этих
могучих коней; как именно они в неувядаемой красоте своей обна-
руживают странную перемену, происшедшую в мире с тех пор, как
422
они последний раз были отведены на покой... Вот Лазарь, тщательно
запрятывая мотающие лохмотья своих повязок, заносит ногу и берет
возжи... он унесется в безграничную даль, он никогда не увидит этого
отвратительного сарая, где он проводил свои дни. Сияние огней, весе-
лые пиршества, новые мудрые беседы в рощах Лицея и Академии его
ожидают...
Минута - и нет коней; или это призрак был, или кони никогда нс
выходили из места своего вечного упокоения; лежит Лазарь, не раз-
даются его песни, лежит так близко от места, где поднял изношенную
свою туфлю на колесницу. Раны его вскрылись, пудра слетела... о, как
отвратителен теперь его вид; как отвратительны его жалобы, мешаю-
щиеся с ругательствами. Бедный человек: кто так ненавидел тебя, кто
дал тебе этот совет? и как мог ты величайшее сострадание, каким был
окружен, неизреченное милосердие, о тебе поработившееся, проме-
нять на указания, какие подсказаны были тебе уж конечно умным, но
и так злобно, так высокомерно издевающимся над тобой духом твоей
истории...» (из «Русского Обозрения», февраль, 1893 г.).
Попробуем переложить последний абзац:
«Через минуту уже не было коней; верно - это был призрак, а,
может быть, древние кони и нс выходили вовсе из места своего исто-
рического упокоения; Лазарь валяется на земле, - очень близко к
тому месту, где поднял ногу в старых сапогах на колесницу, и ничего
теперь не поет. Опять его раны заболели, а косметики слетели с лица.
Он плачет и ругается, являя весьма отвратительное зрелище. Так-то,
бедняга-человек: посмеялся над тобой бес, а ты послушал его совета.
Было тебе хорошо - нет, подавай лучше; была над тобой милость
Божия - дай, послушаюсь демонского искушения; ну, вот и валяйся
теперь, и ругайся...».
Нервная, порывистая речь оригинала слов, при сохранении в переложе-
нии всех сравнений, всех мыслей, почти всех тех же слов неуловимо перешла
в вялую при ином размещении этих слов; с тем вместе исчезло из нее то, что
сообщало ей этот порыв: в переложении вовсе нет скорби, смешанной с
сарказмом, есть только тупая осклабленность на несчастие павшего и боль-
но ушибшегося человека; нет и того, наконец, что вызвало порыв: любви к
павшему, т. е. нет достойного человека, которого мы любим невольно во
всяком его положении. Весь этот комплекс живых предметов и жизненных
между ними отношений исчез; остался скелет понятий, куча слов, ничего
нам не объясняющих, ни от чего не удерживающих, никуда нас не влекущих.
Если мы несколько раз и очень внимательно перечитаем этот отрывок
(т. е. оригинал переложения), мы заметим, что в нем есть несколько мест, где
как бы происходит нажим речи на нашу мысль и, невольно ему подчиняясь,
мы произносим некоторые слова усиленнее и протяжнее, чем остальные;
эти слова следующие:
423
Минута, призрак, никогда, вечного, лежит, песни, близко, изношенную,
раны, вскрылись, пудра, слетела, отвратителен, отвратительны, бедный,
ненавидел, как, величайшее, окружен, неизреченное, заботившееся, проме-
нять, указания, подсказаны, конечно, злобно и высокомерно.
Т. е. это суть слова, выражающие коренные понятия данной речи — не
логические только, но исторические, этические, философские и религиоз-
ные. Все ее остальные слова, не отмеченные здесь, только помогают сцепить
между собою эти понятия, их роль - служебная; и, соответственно этому,
они размещены около главных так, что текут совершенно не останавливая на
себе мысли читателя, не задерживая его внимания и давая ему только воз-
можность понять смысл тех главных слов - повторяем, не один логический,
но философский и исторический:
«Минута» - это указывает на быстротечность попытки людей, попытав-
шихся на наших глазах возобновить республиканский строй.
«Призрак» - на то, что и эта кратковременная попытка была неудачна, не
ярка, не значуща в себе.
«Никогда» - утверждает ей усилием невоскресимость той древней жиз-
ни; «вечного» - в утвердительной форме повторяет эту главную мысль от-
рывка и целой статьи.
«Лежит» - указывает на падение нового человека.
«Песни» - указывает на минуты ложного увлечения, им овладевшего, на
его «республиканские» радости, оказавшиеся так недолговечными.
«Близко» - еще раз подтверждает скорость его падения.
«Изношенную» - выражает презрение к ее виду.
И т. д. Наконец, четыре слова: минута, нежный, раны, бедный — произно-
сятся: последние три после значительной паузы голоса (после точки или то-
чек с запятой) и первое поставлено в начале речи; с тем вместе эти слова
образуют как бы четыре темы, которые только развиваются в отрывке, и они
не только поставлены впереди развивающих их понятий, но и усиленно при-
влекают к себе внимание читателя. Отмечая их курсивом, ударениями — ос-
тальные перечисленные выше слова, и остановки голоса - малою одною
вертикальною чертою и большую двумя вертикальными чертами, мы полу-
чим ритмическую речь:
«Минута - и нет коней; / или это призрак был, или кони никогда не
выходили из места своего вечного упокоения; // лежит Лазарь, нс
раздаются его песни, лежит так близко от места , где поднял изношен-
ную свою туфлю на колесницу. // Раны его вскрылись, пудра слете-
ла... / о, как отвратителен теперь его вид; как отвратительны жалобы,
мешающиеся с ругательствами. // Бедный человек: кто так ненавидел
тебя, кто дал тебе этот совет; / и как мог ты величайшее сострадание,
каким был окружён / неизреченное милосердие, о тебе заботившее-
ся, / променять на указания, / какие подсказаны были тебе уж, конеч-
но, умным, / но и так злобно, так высокомерно издевающимся над
тобой духом твоей истории».
424
Этот ритм речи и сообщает словам, по-видимому, лишь грамматически
между собою связанным и дающим в своих понятиях предмет для размышле-
ния - как бы биение живого пульса, в силу чего они становятся не только
пищею для ума, но и возбуждают сердце, настраивают воображение и вооб-
ще действуют на волевую и нравственную сторону души. Мы видели выше,
что от простой перемены ритма, без перемены мыслей и почти слов - выра-
жение скорби заменилось усмешкою, порывистый сарказм перешел втупую
и равнодушную осклабленность на предмет речи. Разбирая разных писате-
лей, мы можем заметить у них, по крайней мере, темп речи: при совершен-
ной понятности, при отсутствии какой-либо затрудненности в чтении, строки
одного быстрее поглощаются нами, и другого - медленнее. Так, вот три от-
рывка, написанные одинаково с одушевлением, о предметах равно интерес-
ных, писателями равно сильными в обдуманности языка и, наконец, прибли-
зительно одинакового строя мыслей и суждений, лишь с некоторыми вари-
антами в этом строе. Мы увидим, однако, что темп их речи совершенно
различен в зависимости от очень малых индивидуальных различий писавших
(первый отрывок кроме темпа, т. е. скорости, устремленности речи, имеет
еще и ритм, т. е. периодичность кадансов голоса):
«В цветущие времена пластических искусств, всякий именитый
художник творил, / окруженный толпою им избранных, его избрав-
ших учеников. // Эти юноши составляли его семью, / были свидетеля-
ми и участниками его трудов, постоянными его собеседниками. //
Под глазами мастера, при драгоценной его помощи и словом и де-
лом, / возникали их первые творения. / Кроме наставлений учителя,
они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, / всегда
группирующихся вокруг выдающихся художественных деятелей. / Этим
путем укреплялось, расширялось умственное развитие, / столь не-
обходимое художнику, столь трудно достижимое для него путем
шкального учения, / ибо времени для него мало за обязательным
упражнением в художественном делании. И Ученики великого масте-
ра знакомились в его мастерской с выдающимися представителями
общества духовного и светского, / с корифеями иных областей творче-
ства, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись отблеском
той полной художественной жизни, / коею жил их учитель. И Зарож-
дающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровите-
лей» (С. Рачинский. Сельская школа. М., 1892 г., стр. 172).
Ритм, безотчетно выдерживаемый здесь автором, особенно важен тем,
что мы без труда узнаем его присутствие по некоторой принужденности в
расстановке слов, которые были бы размещены иначе, если бы не были кем
гармонизованы. Так первые строки у Острогорского, Беккетова, всякого пе-
дагога, чуждого тайн речи, читались бы так: «Всякий именитый художник, в
цветущие времена пластических искусств, творил, окруженный толпою им
избранных и его избравших учеников», или еще: «учеников, избранных им и
так же его самого избравших» и т. д.
425
Темп речи здесь равномерно ускорен; но он не возбужден, и нет в ней ни
тематических слов, ни усилений в некоторых местах сравнительно с другими.
Картина проводится перед глазами читателя, он ее может запомнить, может
ей свободно последовать в практической деятельности, если понимает ее
смысл. Но автор не бросится за ним, не станет его укорять, если он ее не
понял, ни - его любить, если он ее понял. Он - художник, он - созерцатель;
его господствующая способность есть вкус.
«С именем Пушкина неразрывно связано какое-то очарование.
Есть такие чарующие имена в истории человечества, имена, о кото-
рых можно повторить выражение Песни Песней'.
Скажут имя твое — пролитой аромат*
Таково было у древних греков имя Платона, у римлян - Виргилия;
таковы у итальянцев имена Рафаэля, Петрарки, у немцев Моцарта,
Шиллера... Эти имена составляют синонимы света и красоты, выс-
шей прелести, до какой могут достигать человеческие чувства и мыс-
ли и их проявление.
Судить о таких явлениях в истории человечества, об этих перлах на
поприще духовной жизни людей, есть дело представляющее свои осо-
бые трудности. Во-первых, нужно быть способным к очарованию;
непременно нужно испытать на самом себе обаяние того чародея, о
котором хотим рассуждать. Восторг понимается только восторгом, и
кто его никогда не чувствовал в ясной степени, тот пусть лучше о нем
не говорит.
Во-вторых, нужно совладать с своим очарованием, нужно на-
столько выбиться из-под его власти, чтобы иметь возможность обра-
тить его в наслаждение сознательное и отчетливое... Нужно обратить
его в определенное и отчетливое внимание к тому, что у нас перед
глазами» (г. Н. Страхов. Заметки о Пушкине. СПб., 1888, стр. I).
Здесь темп речи гораздо более замедлен, нежели в предыдущем отрыв-
ке, хотя она более ярка, выражена с бульшим одушевлением, чем речь того
отрывка. Ритма, правильно чередующихся кадансов голоса - вовсе нет. На-
чиная со слов «непрерывно нужно испытать» - наступает какая-то утороп-
ленность, слова как бы наскакивают друг на друга, гонимые мыслью, кото-
рая неожиданно прервала в авторе созерцание любимых образов и имен. Он -
мыслитель, он - аналитик; может быть, но не непременно - он публицист. Но
он любит оригинальное во взглядах и найдя таковое - его усиленно защищает,
противное - энергично оспаривает. Он стоит ближе к своему читателю, чем
предыдущий писатель, который первое предложение написал бы:
«С именем Пушкина неразрывно связано некоторое очарование», т. е.
не употребил бы это домашнее: «какое-то», как и далее: «есть такие», формы -
как бы вводящие читателя в интимный мир писателя, зовущие его разделить
его восторг, усвоить его понимание. Он - учитель, если не по профессии, то
по духу.
426
«Я сравниваю не Аксакова с Толстым; это совсем нейдет. Я сравни-
ваю только «Семейную хронику» и «Анну Каренину» с «Войной и
миром». Произведение с произведением, и то с одной только сторо-
ны. Я сравниваю веяние с невеянием*. Есть такие произведения —
удивительные в своем одиночестве. Гениальные, классические, об-
разцовые сочинения негениальных людей; эти одинокие сочинения
своим совершенством и художественною прелестью не только равня-
ются с творениями перворазрядных художников, но иногда и превос-
ходят их. Таково у нас «Горе от ума». Грибоедов сам не только не
гениален, но и не особенно даже талантлив во всем другом, и прежде,
и после этой комедии написанном. Но «Горе от ума» гениально. Са-
мая несценичность его, по моему мнению, есть красота, не порок.
(Сценичность, как хотите, все-таки есть пошлость; сценичность все-
таки не что иное, как подчинение ума и высших чувств условиям
акустическим, оптическим, нервности зрителей и т. д.). «Горе от ума»
истинно неподражаемо, и, в этом смысле, оно гораздо выше более
всякому доступного и более сценического «Ревизора». В «Горе от
ума» есть даже теплота, есть поэзия; сквозь укоризмы и досаду Чац-
кого (или самого автора) просвечивает все-таки какой-то луч любви к
этой укоряемой, но родной Москве... Какая же любовь, какая поэзия
в сером «Ревизоре»? Никакой. В «Разъезде» после «Ревизора» ее го-
раздо больше. И в других литературах встречаются такие одинокие и
классические произведения, гениальные творения негениальных ав-
торов. Во французской литературе есть две такие вещи, как бы со-
рвавшиеся с пера авторов в счастливую и единственную минуту пол-
ного внутреннего озарения. Это - «Paul et Virginie» Бернардена-де-
Сен-Пьера и «Manon Lescaut» аббата Прево. В английской словесно-
сти к этому же разряду надо отнести «Векфильдского священника» и,
пожалуй, «Дженни Эйр». Если бы Вертера написал не Гёте, а кто-
нибудь другой, то и его можно бы сюда причислить.
У нас, кроме «Горе от ума» и «Семейной хроники», я ничего
сюда подходящего не могу припомнить. Разве великолепное «Сказа-
ние инока Парфения» о святых местах, столь справедливо впервые
оцененное Аполлоном Григорьевым. «Семейная хроника» - вот див-
ный образец того соответственно духу времени веяния, о котором
идет дело. «Мысль обрела язык простой и голос страсти благород-
ной»! Степень углубления «в душу» действующих лиц, выбор выра-
жений, склад и течение речи русской, общий характер мировоззре-
ния - все дышит изображаемой эпохой. Если при этом вспомнить
еше о другом, тоже правдивом, хотя и несравненно слабейшем сочи-
нении того же Аксакова, о «Детских годах Багрова-внука», то есте-
ственность и даже до некоторой степени физиологическая неизбеж-
ность этого соответственного эпохе «общего дыхания» станет еще
понятнее. С. Т. Аксаков видел сам всех действующих в «Хронике»
* Курсив везде принадлежит автору
427
лиц; он жил с ними, рос под их влиянием, у них учился говорить и
судить, его внутренний мир был полон образами, речами, тоном,
даже физическими движениями этих, давно ушедших в вечность, лю-
дей. Неизгладимый запас этих впечатлений хранился в «Элизиуме»
его доброй и любящей души до той минуты, когда ему вздумалось
поделиться с нами своим богатством и воплотить навеки так укориз-
ненно и так прекрасно эти дорогие для его сердца тени прошлого.
Конечно, во всем есть известная мера (или, точнее сказать, есть
мера вовсе не известная, но легко ощутимая)', есть мера удаления
психического и мера близости, благоприятные для полноты результа-
та. Будь Сергей Тимофеевич человек только того времени и той
среды, будь он не сын Тимофея Степановича, а младший брат его,
положим, не доживший ни до Жуковского, ни до Пушкина и Гоголя,
ни до Хомякова и Белинского, не переживи он даже многих (почти
всех) из этих перечисленных писателей, - он бы не смог написать
«Семейную хронику» так, как он написал ее; он написал бы ее хуже,
бесцветнее. Или, вернее - он совсем бы не стал тогда писать об
этом, не нашел бы все это достаточно интересным.
Разумеется, влияние не только знаменитых ровесников, но и млад-
ших талантов и даже собственных сыновей, столь счастливо одарен-
ных и обширно образованных, сделало свое дело. Все эти влияния
помогли прекрасному старцу лишь ярче осветить то, что жило в нем
так глубоко, так неизменно, полусознательно и долго; но изломать
его по-своему не мог никто, - даже и Гоголь, которого он, слышно,
так чтил. Он был и слишком стар слишком светел для грубого и пе-
чального отрицания.
Во «благовремении» он принес свои благоухающие, здоровые
плоды и скончался. К нему идет стих Тютчева:
Он просиял и угас»*.
(Я. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние;
по поводу романов гр. Л. Толстого).
Это язык писателя более страстного, чем оба предыдущие; страстного в
мысли и, может быть, жесткого, даже жестокого в сердце; во всяком случае,
«упругого как сталь[»] во всей своей природе; ни в каком случае в этой
природе не размягченного, не «рыхлого[»], не поддающегося перед силой,
не подкупаемого лаской. Темп приведенной речи его еще более растянут,
нежели темп второго отрывка; мы как бы слышим перед собою говорящего
человека, который развивает перед нами занимающую его мысль, совер-
шенно не заботясь об ее форме и думая только о том, чтобы быть ясным и
убедительным. Приведенная страница - совершенно живая речь, без всякой
* Мы привели в целом эту длинную характеристику С. Т Аксакова и его «Се-
мейной хроники», желая обратить на нее внимание курсов истории русской литерату-
ры и исторических хрестоматий: так полна эта характеристика мыслью; так правиль-
ны в ней объяснения своего предмета.
428
перемены, какую могла бы на нее наложить литературная запись. Никто, ни
один писатель в целой всемирной литературе не принял бы этих звуковых
обрывков за цельные предложения:
«Произведение с произведением, и только с одной стороны». «Ге-
ниальные, классические, образцовые сочинения не гениальных лю-
дей...» «Никакой»
и не поставил бы их между точками, как они стоят у нашего писателя. От этого
речь его имеет какую-то угловатость и вместе остроту, порывистость. При
всем беспорядке - в ней есть своеобразная прелесть: прелесть совешенно
живого. Кажется - автор не аналитик, не методист вообще; его воззрения
более похожи на отгадывания, нежели на правильно открытые и доказанные
мысли, и эти отгадывания являются плодом скорее художественно-цельного,
но исключительно наружного оглядывания вещей, причем взор уловляет в
этих вещах существенные моменты, их одни комбинирует, без остановки над
подробностями, без ухождение в глубь предмета, и счастливейшую из этих
комбинаций принимает за несомненный довод ума.
IV
И у всякого писателя, сколько-нибудь определенного в своем настроении, мы
отметим постоянство и определенность в темпе речи и также в ее построении,
в ее складе, в фактуре слов, ее слагающих. Нет двух писателей, очень различ-
ных, которые имели бы совершенно одинаковый синтаксис: связь предложе-
ний и в предложениях-размещение слов видоизменяются, следуя индивиду-
альности каждого пишущего. Мы не можем эти различия прозаической речи
выразить так отчетливо, как выражаем различие стихотворных размеров с
помощью разделения на стопы и цезур; для нее не изобретено еще своеобраз-
ных нотных знаков; но эти различия, и именно различия ритмические - в ней
есть, и они имеют то же значение, тот же смысл относительно души челове-
ческой, как и различия рифмованной речи, анализ которой мы выше сделали.
Есть ритм, присущий душе человеческой, в котором она бьется ранее, нежели
начинает что-нибудь определенное думать, что-нибудь определенное чувство-
вать, того или другого человека; самые предметы желания, способы чувство-
вания, объекты размышления или пробуждаются в ней под действием этого
ритма, или, встречаемые ею во внешнем мире - одни прививаются к ней, как
бы прилипают к ней, другие отпадают от нее, ей не нужные, для нее не понят-
ные. Байрон, в условиях Гольдсмита- все-таки не написал бы «Векфильдско-
го священника», ни Гольдсмит, в условиях Байрона, не написал бы «Корсара»,
«Каина», «Дон Жуана»; хотя всякая душа ищет условий, благоприятных для
питания ее особенного, в ней - личного, ищет звуков, созвучных ее ритму и,
большею частью, их находит. Самое так называемое «сродство душ», это тяго-
тение людей друг к другу, основывается не на характерах их, внешним обра-
зом выраженных, не на одинаковости знаний, образования, привычек, но на
429
соответствии или несоответствии их душевных ритмов, на гармонизуем ости
этих ритмов - при которой люди сближаются, или, напротив, на их дисгармо-
нии, какофонии - при которой люди разбегаются, враждуют, или, по крайней
мере, ничего друг другу не чувствуют.
В поэзии и вообще всяком словесном творчестве этот ритм, мы сказали,
предшествует изобретению определенных сюжетов, избранию тем и т. д. стиль
речи, как звуковое выражение того внутреннего ритма, является поэтому в
писателе раньше, чем он что-нибудь написал; даже более: он становится пи-
сателем только потому, что в нем уже есть тот ритм, что у него уже есть
стиль, который ждет только объектов (сюжетов) и, едва найдя их - начинает
звучать о них совершенно определенно, не возникая, не развиваясь, не совер-
шенствуясь (или очень мало) и падая с падением в писателе всякого «таланта»,
с умиранием в нем того ритма, который и побудил его когда-то писать и искать
соответствующих сюжетов. Поэтому язык писателя и есть именно дар; интим-
нейшая, глубочайшая сторона этого дара. Почувствовать этот язык во всей его
индивидуальности и особливости - значит, далеко не дочитывая писателя до
конца, уже совершенно понять его, понять его, понять и в том, что он написал,
и даже в том, что только мог бы написать. Зная этот язык, мы без колебания
знаем, каких сюжетов никогда бы не коснулся автор, какого способа чувствова-
ний он не навязал бы лицам своих драм или романов, как прочитав эти стихи:
Но жарка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери, -
(Кольцов)
Украшают тебя добродетели,
До которым другим далеко
И беру небеса в свидетели
Уважаю тебя глубоко.
Не обидишь ты даром и гадины,
Ты помочь и злодею готов,
И червонцы твои не украдены
У сирот беззащитных и вдов.
(Некрасов)
или эти:
Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.
Весело на пашне;
Ну, тащися, сивка!
Я сам-друг с тобою
Слуга и господин.
430
Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.
Весело гляжу я
На гумно, на скирды, молочу и вею...
(Он же)
конечно, знаем, и без всякого труда, без всякого колебания, что их автор никог-
да не изобрел бы этой «поэзии»:
Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужины,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы Господу нужны,
Чем ему дороги вы
(Некрасов, изд. 1884, стр. 125).
Из поэмы «Мороз, Красный нос»
ни этой:
Ветер шумит, наметает сугробы
Месяца нет - хоть бы луг:
На небо глянешь - какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.
(Он же, ib., стр. 126)
ни, наконец, этого публицифического пафоса, обращенного к себе не повто-
рил бы этих патетических строк, беспричинно к себе обращенных:
Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг.
Счастье умов благородных -
Видеть довольство вокруг.
(Он же, ib., стр. 185).
И мы предугадываем без труда, что если бы простую мысль, выражен-
ную в первом из приведенных стихотворений, пришлось выразить прозаи-
чески и совершенно безыскусственно обоим поэтам, то первый из них толь-
ко иначе разместил бы слова в своем стихотворении:
Но перед иконою Божьей Матери жарка свеча поселянина
431
Напротив, второй написал бы:
Но, купленная на трудовую копейку, жарка свеча поселянина пе-
ред образом Божьей Матери, и т. д.
V
Мы взяли двух поэтов с чрезвычайно определенным и притом не разнообра-
зим настроением. Можно представить себе случай, что Кольцов при сохране-
нии в нем всех типических особенностей душевного строя, имел бы в распо-
ряжении своем только размеры; или, напротив, для Некрасова, с его настрое-
нием и мировоззрением, предлежали бы к выбору и употреблению только
ритмы кольцовской поэзии. После некоторой борьбы между настроением
поэта и несоответствующей ему формою ему формою стихосложения, мож-
но быть уверенным, подалось бы, наконец, то, чту может податься: именно -
чту более ново, менее окрепло во времени и вообще видоизменимо: его лич-
ный дух поэта, его настроение. Его злоба (мы говорим о Некрасове) - смягчи-
лась бы; его осуждение - потеряло бы остроту; чувство смеха исчезло бы и на
его месте появилась печаль:
Ах, зачем меня
Силой выдали
За немилого
Мужа старого?
Небось весело
Теперь матушке
Утирать мои
Слезки горькие!
Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемычное!
Небось сердце в них
Разрывается,
Как приду одна
На великий день;
От дружка дары
Принесу с собой:
На лице - печаль,
На душе - тоску!
432
Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!
Не рости траве
После осени;
Не цвести цветам
Зимой по снегу!
Так, или приблизительно так он выразил бы раздражение на факт, здесь
переданный, не имея никакой возможности написать эти строки:
Имел я дочь. В учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
Их дом блестящ и полон был как чаша,
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла, -
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не делал в жизни зла.
{Некрасов. Нравственный человек).
Не имея для этого тона никакой соответствующей формы, никакого от-
вечающего ритма, он, в напрасных попытках выразить издевательство и пре-
зрение (см. второе стихотворение) подчинился бы духу ритмов, в его распо-
ряжении находящихся, и издевательство перешло бы у него в скорбь, презре-
ние заменилось бы родственным, но и более благородным негодованием
(см. первое стихотворение). Подобная же метаморфоза души одинокой на-
шего народного поэта произошла бы, если бы он, напрасно ища для нее
отвечающих форм, вынужден был в конце концов изливать ее в жестких и
цинических размерах некрасовской поэзии.
Теперь мы совершенно близко подошли к теме, которая нас занимает.
VI
Мы взяли случай, когда язык - неизменим; когда ритм в нем - не изобретаем;
когда писатель, будет ли то прозаик или поэт, с новым содержанием пришед-
ших в мир - не имеет никакой возможности создавать для себя новых форм.
Таков именно бывает в истории случай, когда ему предстоит почему-либо
писать не на родном языке, но на чужом; наконец, это - случай, когда на
433
другой язык переводится проза или поэзия какого-нибудь народа; и именно -
когда она переводится на язык совершенно сформировавшийся, закончен-
ный в развитии своем, ставший неподвижным. Таков именно и был факт ус-
воения христианства латинскому языку.
Прежде, однако, чем говорить об Евангелии, скажем несколько слов о
том, чту было к нему предуготовлением - о Библии; о степени ее переводи-
мости на латинский язык:
Вот факт из Библии; при внимательном чтении, мы тотчас заметим, что
одни части рассказа могут быть переданы по-римски как в точном содержа-
нии своем, так и в оттенках, в колорите, в одушевляющем рассказчика поры-
ве; в других же частях при передаче колорит утрачивается и остается только
голый факт:
«В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы
Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница
его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейс-
кий и была там четыре месяца.
Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвра-
тить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца
своего.
Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил; и удер-
жал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него три дня;
они ели и пили и ночевали там. В четвертый день встали они рано, и он встал,
чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему: подкрепи сердце
твое куском хлеба, и потом пойдете.
Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщины
человеку тому: останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое.
Человек тот встал, было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять
ночевал там.
На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщи-
ны той: подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится
день. И ели оба они и пили. И встал тот человек, чтоб идти, сам он, наложница
его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины: вот, день
преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте; вот, дню скоро конец, ночуй
здесь, пусть повеселится сердце твое; завтра поранее встанете в путь
ваш, и пойдешь в дом твой. Но муж не согласился ночевать, встал и пошел».
Чисто семитическая нежность, которою запечатлен этот безымянный (лицо
не названо, забыто: «один левит») рассказ, уже с великим трудом и, без сомне-
ния, с большим ущербом для подлинника, поддается формам русского языка.
Эти повторения одной мысли, это: «повеселите сердце мое» - совершенно
непередаваемо в сжатой римской речи, с ее резко очерченным синтаксисом, с
ее отсутствием слов и оборотов нежных, ласкающих, зовущих.
«И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим; с ним пара навьючен-
ных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день
уже очень преклонился. И сказал слуга господину своему: зайдем в
434
этот город Иевус и ночуем в нем. Господин его сказал ему: нет, не
пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых,
но дойдем до Гивы или Рамы. И сказал слуге своему: дойдем до одно-
го из сих мест и ночуем в Гиве, или в Раме.
И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениамино-
вой».
Это - строки, от которых как бы веет еще теперешним Дамаском, его
начинающеюся пустыней; веет простотой первоначального //е-арийско-
го быта.
«И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел
он и сел на улице в городе; но никто не приглашал их в дом для ночле-
га. И вот, идет один старик с работы своей, с поля; он родом был с
горы Ефремовой и жил в Гиве! Поднял глаза свои, он увидел прохо-
жего на улице, и спросил: «куда идешь? и откуда ты пришел? Он ска-
зал ему: «мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, отку-
да я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа: и
никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома и корм для ослов
наших; также хлеб и вино для меня и для рабы твоей и для сего слуги
есть у рабов твоих', ни в чем нет недостатка.
Старик сказал ему: будь спокоен: весь недостаток твой на мне,
только не ночуй на улице. И ввел его в дом свой, и дал корму ослам
его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили».
Отмеченные курсивом выражения содержат понятия, указывают на от-
ношения чуждые совершенно и русской психике, русскому быту и истории
(не говоря о римской); по нежности и чувству покорности, с которою они,
однако, переданы, мы наблюдаем, что здесь язык наш поддался инородной
психике, он сломился в своей естественной простоте и крепости - для вос-
приятия идей, совершенно нашей крови чуждых. И, следуя языку своему, мы
это место читая - научаемся новому, образуемся, воспитываемся; восходим
к лучшему, чем на чту естественно способны.
«Тогда как они развеселили сердца свои, вот, жители города, люди
развратные, окружили дом, стучались двери и говорили старику, хо-
зяину дома: выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его.
Хозяин дома вышел к ним и сказал: нет, братья мои, не делайте зла,
когда человек сей вошел в дом мой; не делайте этого безумия; вот у
меня дочь-девица, и у него - наложница, выведу я их, смирите их и
делайте с ними, что вам угодно; а с человеком сим не делайте этого
безумия.
Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и
вывел к ним на улицу. Они познали ее, и ругались над нею всю ночь
до утра. И отпустили ее при появлении зари.
И пришла женщина пред появлением зари, и увидела у дверей
дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света.
435
Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в
путь свой: и вот, наложница его лежит у дверей дома и руки ее на
пороге.
Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было, потому что она
умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел на свое место.
Пришедши в дом свой, взял нож и взяв наложницу свою, разрезал
ее на двенадцать частей и послал во все колена Израилевы. Всякий,
видевший это, говорил: не бывало и видано было подобного сему от
дня исшествия сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня»
(Книга Судей Израилевых, главы XIX-XX).
Приведенное место - до его заключительных строк и также выключая в
начале удивительные слова хозяина дома - содержит в себе, без всякого
сомнения, мертвую волну хамитических чувств, как бы заливаемую, оттал-
киваемую волнами чистого семитизма, и тем ярче среди их чувствуемую.
Это есть вечная печаль Израиля - эта мрачная чувственность, которая была
всеобусловливающим центром в психике хамитических племен, наложив-
шим печать свою на их быт и проникавшим всю их религию. Мы почти не
знаем разграничивающей черты между семитическими народами и всегда
географически их окружавшими хамитическими племенами, кроме той
главной, что чувственность, понимаемая хамитами как требуемая религи-
озным законом, у семитов понималась как религиозное преступление. Акт
обрезания, символ завета Израиля с Богом, кажется, символизирует имен-
но обрезание, от этой стороны нашей природы. Вся Библия, все судьбы
Израильского народа, весь смысл священных книг, то прямой, то иносказа-
тельный, то выражающийся в точных повелениях (Второзаконие), то иллю-
стрирующий в фактах (исторические книги) имеет внутри себя этот глав-
ный мотив: возвести понимание избранным народом этого одного акта к
совершенной чистоте и святости и не дать ему в действительной жизни
осквернить его, исказить или хотя бы только отнестись к нему без внима-
ния. По Второзаконию, ktg от ушиба, болезни, раны потерял способность
стать отцом - «не может войти в общество Господне» (XXIII, 1); итак, «об-
щество Господне», по семитическому пониманию, есть то именно, кото-
рое сконцентрировано около этой способности как некоторого святого за-
кона, поставлено около него как некоторая священная стража. Таким обра-
зом, то, что у хамитов понималось ужасно и извращенно, что позднее, у
арийцев, вызовет к себе улыбку, шутку, издевательство, станет не называе-
мым центром веселой комедии, сального рассказа, — у семитов окружено
страхом, почтительностью, высотою религиозного внимания. Если мы
вспомним, что с этим актом соединено самое бытие человеческое на зем-
ле, что его ненарушаемость и в самом деле гораздо важнее всяких полити-
ческих, умственных, художественных забот человека, мы не будем, смотря
на все даже с арийской точки зрения, несколько удивлены степенью внима-
ния к этому факту.
436
Как бы то ни было, приняв закон обрезания в сердце свое, еврейский
народ в действительных актах своей истории часто отклонялся отего испол-
нения. В чудной истории Давида с Вирсавией и его покаянном псалме как бы
синтетически отразился весь смысл Израильской истории. И она вся, с ее
пророками, есть только покаянный псалом, слагаемый после ужаса разврата
и крови, при Иезавели и Ахазе, почти всегда, почти всех колен Израилевых,
включая по временам даже и «верного Иуду». Мы сказали, что нет почти
физической, географически лингвистической черты, которая отграничила бы
семитические племена от хамитических; только одна тонкая, чисто духовная
черта нравственного закона разделяла их; и при общности всех других сторон
природы, племя семитическое всегда почти переливалось за эту тонкую грань
и сливалось с хамитами в формах их грубого чувственного культа. Всех тайн
этого культа мы не знаем; нам известна лишь внешняя, отталкивающая его
сторона, проявляемая в чертах непостижимой жестокости и разврата; но если,
в этом культе, родите сквозь страдания, труд, муки; чту есть венец усилия и
вовсе не дар, с рождением приносимый человеком на землю. Тайна судеб
Израиля на земле есть именно принесение в историю святого. И вся история
их, и внешним образом приуроченная к акту обрезания, есть в сущности
тайна обрезания духовного от греха, от той мути земного, страстного, «жес-
токовыйного», чем так запечатлена была религия, быт, история племен, их
территориально окружавших (хамиты). Отсюда - «все колена пали, сохранил-
ся верным только Иуда», «и Иуда отпал вслед за Израилем - сохраняли вер-
ность только пророки», которых избивали; их избивали, и они все-таки вос-
ставали; в горниле испытаний, в горниле вечного гнева Божия мутные следы
хамитизма более и более отделялись от чистой крови Сима; чувственность
опадает; становится менее, становится обычна; черты кроткого, покорного,
чистого все ярче и полнее проступают - доколе, по исполнении времен,
сама Святость и Чистота, уготованная Богу, не ответила Возвестителю тайны
воплощения:
Се раба Господня - буди мне по глаголу Твоему.
Мы продолжим начатый выше и прерванный рассказ, и приведем конец
его, в котором открывается третья и новая черта, переплетающаяся в Библии
с двумя, только что отмеченными нами:
«И вышли вес сыны Израилевы, и собралось все общество, как
один человек, от Дана до Вирсавии, и земля Галаадская пред Госпо-
дом в Массифу*. И спросили, как происходило это зло? Левит, муж
убитой женщины, рассказал... И восстал весь народ, как один чело-
век, и сказал: не пойдет никто в шатер свой и не возвратится никто в
дом свой; пойдем на Гиву: и на все колено Вениаминово.
...И поразил Господь Вениамина пред израильтянами, и положи-
ли в тот день из сынов Вениамина двадцать пять тысяч сто человек,
♦ Где в это время находился Кивот Завета.
437
обнажающих меч... В то же время засада поспешила и устремилась к
Гиве; и вступила в него и поразила весь город мечем... Вениамин
оглянулся назад, и вот, дым от всего города восходит к небу; и оробел
он, ибо увидел, что его постигла беда. И побежали сыны Вениамино-
вы от израильтян по дороге к пустыне; но сеча преследовала их. И
выходившие из городов побивали их там.
Окружили Вениамина, и преследовали его до Менухи и поража-
ли до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина
еще восемнадцать тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обо-
ротились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще на
дорогах пять тысяч человек; и гнались за ними до Гидома и еще уби-
ли из них две тысячи человек.
Убежавших же к Риммону, в пустыню, было шестьсот человек, и
оставались они там в каменной горе Риммоне четыре месяца. Изра-
ильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их ме-
чом, и людей в городе, и скот, и все, что ни встречалось [во всех горо-
дах], и все находившиеся на пути города сожгли огнем.
И поклялись израильтяне в Массифе, (перед кивотом завета), гово-
ря: никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замуже-
ство. И пришел народ в дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом,
и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: «Господи, Боже
Израилев! для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у
Израиля одного колена!» (Книга Судей Израилевых, гл. XX-XXI).
VII
«Caesar dando, sublevando, ignoscendo, - Cato nihil largiundo gloriam adeptus
est; ita, <.. .> quo minus earn petebat, eo magis adsequebatur»*, - в этом извест-
ном противоположении, сделанном Саллюстием между двумя государствен-
ными мужами, дан комплекс идей, слов, которому мы не только не найдем
никаких аналогий в Библии, но, прочитав которые, без труда догадаемся, что и
обратно: в фактуре этого языка невыразима вовсе большая часть понятий и
отношений, изложенных в Библии, не выразима иначе, как только внешним
образом.
Язык во внутреннем, неуловимом своем складе вырастает с историею
народа; всякий великий поворот фактов в ней, и с ним обычно связанный
поворот мыслей и чувств - оставляет не в словах только, не в названиях,
именах, но в самой манере сочетать их, некоторый очень малый склад; и
совокупность всех этих поворотов, по мере того как история народа близится
к своему завершению, все учащая и учащая эти следы свои в языке, все
более и более оставляя на нем знаков, наконец формируют его в абсолютно
* «Цезарь податливостью, снисхождением, закрытием глаз на слабое, Катон же ни
в чем не давая послабления - приобрел славу; поэтому-то, чем менее искал ее, тем
более ее приобрел» <Саллюстий. «Заговор Катилины». 54, 3-6>.
438
неподвижное и вместе абсолютно неразрушимое хранилище народного духа.
Уничтожение в истории или, напротив, в ней торжество; замкнутая в семейном
кругу жизнь, или, напротив, жизнь исполненная публичности; преобладание
права над религией или религии над правом; могущество, достигнутое силою
или, наоборот, хитростью и вероломством; публичность, в ведении ли государ-
ственных дел сказывающаяся или же только в ведении обширных торговых
оборотов; преобладание тревог извне или смут внутри - все это выразится в
запутанности или ясности синтаксиса, в строении фразы ровном или порыви-
стом, в сжатости или раскидистости речи, в повторениях или умолчаниях:
«Omnes homines, patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant,
ab odio, inimicitia, ira atque misericordia vacuos esse decet. Haud facile
animus verum providet, ubi ilia ofTicuiunt, neque quisquam omnium libidine
simul et usui paruit. Ubi intendeds ingenium, valet. Si libido possidet, ea
dominator; aminus nhil valet»*.
Как не похоже это на вопль, поднятый в Массифе: «Господи, Боже Изра-
илев! Для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одно-
го колена». И мы живо чувствуем, что ни при каких усилиях народ, так вос-
клицавший, не смог бы согнуть фразу следующего смысла:
«lustitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi»
<Дигесты 11,10 pr.>,
ни, даже, произнести этих простых суждений и разделений:
«Publicum jus est quod ad statum rei Romani spectat; privatum -
quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam
privatum» <Дигесты 11,1,1 pr.>,
или еще сформулировать так:
«Omne jus, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad
actiones» <Дигесты I 5, 1 pr.>**.
Напротив, он или нетерпеливо сказал бы:
«Если свидетель на суде - свидетель ложный, если он ложно сви-
детельствует на брата своего: то сделай ему то, что он зло умышлял
против брата своего; и [так] истреби зло из среды себя. И прочие
♦ «Все люди, которые о делах сомнительных произносят суждение, должны
быть пусты от ненависти, дружелюбия, раздражения, сострадания. Не легко прови-
дит истину душа, в коей недрятся эти страсти, и не было никого, кто одновременно и
следовал бы своему влечению, и согласовался с настоящей пользой. Там только, где
напрягает весь свой ум - он действует; где же допускаешь страсть свою овладеть им,
они и господствуют, а он остается беспомощен». Речь Цезаря. <Саллюстий. 51, 1-2.>
♦♦Из первых глав Пандект - основные определения права.
439
услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да
не пощадит глаз твой его: душу за душу, глаз за таз, руку за руку, ногу'
за ногу» {Второзаконие, гл. XIX, 18-21).
Или кротко, с состраданием увещевал бы:
«Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к
нему в дом, чтобы взять у него залог; постой на улице, а тот, которому
ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу.
Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, ггмея у
себя залог его; возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он
лег спать в одежде своей и благословил тебя: и тебе поставится сие в
праведность пред Господом Богом твоим.
Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из
пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же
день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он
беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу, и нс
было на тебе греха.
Не суди превратно пришельца, сироту и вдову, и у вдовы не бери
одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь, Бог
твой, освободил тебя оттуда: посему я и повелеваю тебе делать сие»*
{Второзаконие, гл. XXIV, 10-18).
* Законодательство еврейское почти в той же мере выше римского или какого-
либо другого, в какой законодательствующий в нем выше преторов римских, фран-
цузских легистов, наших законоведов. И это не только в духе своем, мотивах, целях, но
и по прямому, грубому результату; ибо если salus reipublicae - suprema lex «^обще-
ственное благо - высший закон>, то, напр., римское законодательство вовсе не охра-
нило от разрушения внутреннего и гибели внешней объекта своего применения и
субъекта своего сознания - римский народ; напротив, законодательство еврейское
выполнило это, и, след., именно оно есть suprema lex. Без сомнения, однако, человечес-
кие прибавления имеют место в законоположениях евреев (напр., в конце статьи о
лжесвидетелях). Если мы обратим внимание на мотив показаний в разных законах (и
также на господствующее содержание законодательства), то увидим, что в Риме они
имеют значение устрашения и предупреждения (т. е. проступков, напр. см. законы о
собственности) или еще простую волю suum cuique tribuere <воздать каждому свое> у
русских, напротив, значение простого средства упорядочение быта, позднее (в XIX в.) -
почти только упорядочения способов административного урегулирования жизни стра-
ны; вопрос о suum cuique tribuere он бледен, неясен: у нас omne tributum in idea regi, in
re magistratui, и страна управляется не столько законами, не удобными по своей обно-
стии неподвижности, сколько циркулярными к ним распоряжениями, действующими
быстро, конкретно и послушными в руке управляющего (от всех этих черт - обилие
в русском законодательстве «положений» и «уставов», т. е. целых систем законов,
обнимающих какую-нибудь сторону быта народного, напр. военную, торговую, зем-
левладельческую, обилие - «приложений», «примечаний /, 2, 2», «пунктов а, б, в»,
«разъяснений», и пр.). Всякий почти закон в России есть способ воздействия управля-
ющего на управляемого, а не определение права, кому-либо принадлежащего. У ев-
реев мотив наказания есть и не устрашение (хотя об этом упоминается), и не «установ-
ление полезного», а гнев, негодование возмущенного нравственного человека.
440
Нравственный момент, в первом случае гнева и во втором сострадания -
присутствует в этих законодательных требованиях; равно нет тут формул,
безлично-абстрактных, как и нет вовсе определений и правильной классифи-
кации. Обобщение не закрывает собою нисколько конкретного: это конкрет-
ное во всей яркости стоит перед взглядом законодателя (мы говорим о по-
зднейших дополнениях к первоначальному закону), оно бьет с силою не-
посредственного факта в его воображение и поэтому, быть может, так мучи-
тельно волнует его, то пробуждая в нем почти нежность, то вызывая пароксизм
негодования. «Ногу за ногу, руку за руку, глаз за глаз» - это почти крик
справедливой души, уже представляющей себе (или вспоминающей что-ни-
будь аналогичное), как непорочную Сусанну, оклеветанную именно вслед-
ствие готовности «скорее впасть в руки человеческие, нежели согрешить
перед Богом», ведут на побиение камнями те люди, пасть с которыми она не
захотела. Во всяком случае, это не есть постановление строгого ума, обоб-
щившего мириады фактов, все их умерившего в значении, обесценившего ль
красок времени и места, из всех их выпустившего кровь и оставившего толь-
ко нужную ему форму.
Печать абстракции, обобщения, отсутствия индивидуального и живого
сказывается и в тех кратких отрывках, которые мы привели ранее и из которых
один пытается охарактеризовать два определенные лица, а второй представ-
ляет обращение одного лица к другим в момент величайшей тревоги своей и
их (заговор Катилины). И также, где бы мы ни раскрыли римскую прозу, - мы
не почувствуем в ней лица говорящего и тех лиц, к которым она обращена
иначе как в качествах их самых общих, в качествах часто очень великих, но
всегда «героических», никогда-домашнего, внутреннего, интимного харак-
тера. Если, далее, мы обратим внимание на то, которые именно из качеств
душевных здесь господствует, то мы увидим, что это -воля и лшсль, еще уже,
еще точнее - обобщение и порыв. Покорить и связать - это есть центральное
биение римской истории, и пульс, ее дыхание, которое от Палатинского хол-
ма имело силу досягнуть, ни в чем существенно не изменившись, до непере-
ступаемых пустынь Месопотамии, Сахары и дебрей незаселенной Европы.
Столь исключительный и узкий, столь вместе мощный гений не мог не нало-
жить печать свою и на язык народа.
Римский язык есть существенно ораторский: отнять возможность возра-
зить или способность не понять есть скрытый мотив, руководивший в долгих
поколениях миллионами уст, слагавших латинские предложения, и этот мо-
тив наложил на эти предложения своеобразную форму; самая конструкция
предложения - с глаголом в конце, т. е. на конце с главным словом, которое
требует к себе всего внимания слушателя, должно особенно его поразить,
сковать его желания хоть на минуту; сокращение целых предложений, обсто-
ятельственных и дополнительных, в простые дополнения (обороты accusativus
cum infinitivus и absolutus), - все, приспособленное к сжатости, силе, все
вместе абсолютно не способное к выражению раскрывающегося в душе че-
ловека, моментов всякого в ней зарождения, колебания, перехода -одинако-
441
во вытекли из самых целей речи, которою человек господствовал или хотел
господствовать над равными в собраниях, в поле - над рабами, в семье - над
женою и детьми, как господствовал вне отечества над врагами оружием.
Обилие форм повелительного наклонения, без видов смягчения, ласки, не-
жного призыва; странные супинные формы (на um), где уже скрыта цель,
движение в самой форме глагола и не нужно для обозначения ее никаких
вспомогательных предлогов или посредствующих предложений; еще более
странные герундивные формы, где в окончании глагола выражения идея дол-
ге, обязанности, исполнение которых безусловно ожидается - все это равно
вытекло из господствующих мотивов, которые внутренно бились в римской
речи от времен очень раннего ее формообразования и до конца.
Отсюда как общий вид этой речи - сила и некоторое внешнее великолепие:
«Unde enim pietas aut a quibus religio? unde jus aut gentium aut
hoc ipsum civile quod dicitur? Unde justitia, fides, aequitas? Unde pudor.
continentia, fuga turpitudinis, adpetentia laudis et honestatis? Unde in
laboribus et periculis fortitudo? nempe ab iis, qui haec discipHnis
informata alia moribus confirmarunt, sanderunt autem alia legibus»
(Cic[cero], De г. p., I, 2).
Также - совершенная прозрачность течения мысли и ее состава:
«Hine enim ilia et apud Graecos excmpla, Miltiadem victorem
domitoremque Persarum nondum sanatis vulneribus iis, quae corpore
adverso in clarissima victoria accepisset, vitam ex hostium telis servatam
in civium vinclis profudisse, et Themistoclem patria, quam liberavisset,
pulsum atque proterritum non in Graeciae portus per se servatos, sed in
barbariae sinus confugisse, quam adflixerat» (ibid., I, 3).
Все указанные особенности, не повторяющиеся ни в каком еще другом
языке, сделали язык маленькой и грубой итальянской общины лучшим мето-
дическим орудием для образования ума у всех просвещенных народов, сред-
ством для обмена мыслей в области, где ясность есть первое требование, и,
наконец, языком науки и философии. Школа до сих пор, дипломатия и наука
очень долгое время, равно не находили национальные языки удобными для
некоторых специфических целей; и, наоборот, по крайней мере дипломатия
и наука оставили этот язык, как только перешли к целям более сложным, к
содержанию - более утонченному или более глубокому. Systema naturae
Линнея без труда могла быть написана на латинском языке; она могла быть
написана на нем удобнее, чем на всяком другом; но уже Лейбниц чрезвы-
чайно тонкие, и, главное, жизненные понятия своей философии предпочи-
тал излагать на французском языке*; и, также, мы не можем представить
♦ Замечательно, что ни Декарт, ни Спиноза, с их более определенной, резче очер-
ченной системой мысли, не чувствовали этой необходимости. Но уже после Лейбница,
его ученик, Вольф, чрезвычайно поверхностно понявший своего учителя, вернулся
снова к латинскому языку.
442
себе, каким образом Шеллинг или Гегель изложили бы содержание своих
неуловимо-подвижных идей на этом языке или как на нем же Шопенгауэр
выразил бы свое учение об утверждении воли и об отрицании воли, как двух
моментов мирового генезиса. Всякое прозябание (выражаясь метафизичес-
ки), все, к чему нужно прислушаться, приглядываться, во что нужно вду-
мываться - неуловимо для этого языка; всякий факт, каждая вещь, что поло-
женное на руку - тянет, поставленное перед глазами - задерживает свет, все
темное и грубое выразимо на этом языке лучше, чем на всяком ином. «О, mi
fili» - это вовсе не то, что «чадо мое», и «чадо мое» не переводимо на латин-
ский язык; как и обратно, гордое «civis romanus sum» - собственно, не пере-
водимо, не выразимо ни на каком языке: это есть идиотизм латинского.
VIII
Чего же, собственно, это есть идиотизм? Этимологии ли? синтаксиса ли ла-
тинского языка? Нет, но - его ритма. Тот spiritus crescens, который неуловимо
живет и никогда не умирает в стиле каждого своеобразного и сильного писа-
теля, составляя личную его особенность, - он живет и в ритме языка каждого
значительного в истории народа, составляя также особенность его лица. Без
сомнения, Муций Сцевола никогда не произносил этого ответа; быть может,
не было никогда ни его, ни Этрусского царя, которому он это сказал, - но когда
после Гракхов, после Суллы, после Цезаря, после грозного «Annibal ante
portam» <«Ганнибал у ворот» /Цицерон. «Филиппики». 111> - и лаконическо-
го «caveant consuls - ne quid detriment! respublica caperet» <«Да позаботятся
консулы, чтобы государство не потерпело ущерба» - стандартная формула
постановления сена, в литературе встречается неоднократно. См.: Цицерон.
«Против Катилины». 14> - случилось римскому историку написать страницу,
где горожанин зачинающейся общины определил бы себя, его stylus не мог
не написать, а написав - выразил всю римскую историю в кратком, не разви-
вающемся, не продолжающемся предложении: «civis romanus sum». Это -
так ясно; тут - ничего не подразумевается; не нужно разграничивать и опре-
делять эпохи, к которым термин относится; sum на конце - это твердость бы-
тия, которому не предстоит исчезнуть, это вовсе не «я есмь», не «je suis» и
еще менее робкое «ich bin», где «ich», «je», «я» так господствует над «citoyen»,
«горожанин», «бюргер», и, кажется, что это «citoyen» есть только определе-
ние к нему, вовсе не покрывающее всего определяемого, не исчерпывающее
бытие его не поглощающее его лица. «Civis romanus sum» - это значит: «граж-
данин римский перед тобою», каковым случилось на этот миг, на этом месте
«мне быть»; «я - гражданин», это значит: «перед тобой лицо мое, которое
если ты не хочешь уважить - может быть, уважишь права, мною случайно
носимые». Первое выражение угрожает, оно, во всяком, случае наступает',
второе — просит или, по крайней мере, защищается; то ничего по сторонам не
смотрит, не ищет, на что опереться, это - хотело бы прибавить к себе титулов,
443
сослаться на чин или еще лучше показать деньги, последний и самый непре-
рекаемый аргумент всякого достоинства. Таким образом, два абсолютно оди-
наковые по своему точному смыслу предложения в силу того, что в одном
местоимение выделено из глагола, а в другом оно скрыто и, далее, самый
глагол в одном предложении ослабился до значения простой связки между
подлежащим и сказуемым, а в другом он совершенно тверд и произносится с
ударением на конце - являются не только не одинаковыми, но даже несравни-
мыми, разнородными в той самой степени, в какой несравнима история на-
родов, сформировавших эти языки.
В обширных выдержках, какие выше мы привели из Книги Судей Израи-
левых - собственно только два мотива из трех отмеченных выразимы на ла-
тинском языке: это - хамитский мотив чувственности, и, далее, мотив гнева и
мести. В истории оскорбленной Лукреции и еще более - Виргинии, заколо-
той отцом, который не хотел отдать ее в наложницы жестокому децемвиру -
мы находим факты, аналогичные взятым из еврейской жизни; по этой подат-
ливости и покорности духа, этого «вот возьмите дочь у меня, но не трогайте
пришельца в моем доме», «повеселите еще сердце свое - до захода солнца,
до его восхода, до нового захода», этих ласкающих, любовных, святых, семи-
тических споь мы не найдем в римском языке, как не найдем обычаев анало-
гичных в римском быте. Все это может поэтому быть передано на латинском
языке, - но без звучащего в тех словах тембра; без нежности, без ласки, без
любви; без этой святости как специфически семитического. «Чада» древ-
них евреев, говоря метафорически, переведутся всюду не как «дети» даже,
но как «сыновья» и «дочери» - в связи животной, в порядке связи юридичес-
кой, без атмосферы их окружающей любви, их проникающего сострадания,
без «ногу за ногу, глаз за глаз, руку за руку» трепещущей над детьми своими
святой орлицы.
IX
Если мы перейдем от Библии к евангелистам и к Апостольским посланиям -
мы почувствуем, что, при разросшейся и все наполняющей собою святости,
в них исчезли вовсе первые два мотива; не говоря о хамитическом мотиве
чувственности, и мотив гнева, длящейся памяти о злом - исчез. Мы в нем не
найдем строк, подобных этим словам умирающего Давида к сыну, которыми
он оканчивает свое завещание ему:
«Еще - ты знаешь, что сделал мне Иоав*, сын Саруин, как поступил он
с двумя вождями войска Израильского, с Авениром, сыном Кировым, и
Амессаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бран-
ную во время мира, обагрив кровию бранною пояс на чреслах своих и
обувь на ногах своих.
♦ Любимый и доверенный военачальник Давида, спасавший не однажды его от
смертельной опасности, но, между прочим, умертвивший Авессалома.
444
Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в
преисподнюю*.
.. .Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениамитянина из Бахурима; он зло-
словил меня тяжким злословием, когда я шел* ** в Маханаим; но он вышел
навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщв-
лю тебя мечом.
Ты же не оставь его безнаказанным; ибо ты человек мудрый и знаешь,
что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови в преиспод-
нюю»*** {Третья книга царств, II, 5-9).
Так говорил умирающий.
«И почил Давид с отцами своими и погребен был в городе Давидовом», -
заканчивает слова эти Летопись царей израильских.
ПАМЯТИ ДОРОГОГО ДРУГА
<0 К. Н. Леонтьеве>
Сладко! Еще перечту. О, слава тебе, песнопевец!
Дивно глубокую мысль в звучную ткань ты облек!
В чьих ты, счастливец, роскошных садах надышался весной?
Где нажурчали ручьи говор любовный тебе?
Гений поэта
Где? Я нашел песнопевца на ложе недуга, беднее
Старца Гомера, грустней Тасса, страдальца любви!
Но, я таким заставал и Камоэнса в дикой пещере,
Так и Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал.
Барон Дельвиг
С невыразимою грустью читаются письма покойного К. Н. Леонтьева к
г. Губастову, обнародованные в январской книжке «Русского Обозрения» за
этот год (стр. 422-425).
«.. .Ваше молчание и ваша неисполнительность - все объяснилось пись-
мом, мною полученным, - тою тоскою и раздражением, о которых вы пише-
те. Благодарю вас, что вы обо мне вспомнили. Нынешнее лето судьба наша
была почти одинакова, т. е. оба мы провели его в тоске и раздражении. Я
приехал в мае домой к своим именинам из Москвы больной и простужен-
ный до того, что до половины июля из своего флигеля почти не выходил. Не
успел я прийти в себя от этого, как Л. (соседка по имению) очень опасно
♦ Он был умерщвлен, по приказанию Соломона, у самого жертвенника, куда,
спасаясь, бежал в страхе преследования.
♦* Убегая от Авессалома. После гибели Авессалома, Семей первый явился к
Давиду и он его простил.
** ♦ И это завещание было исполнено Соломоном.
445
занемогла. Она была у нас, в Кудинове (родовое именье К. Н. Л-ва, позднее
проданное), приехала дня на два, и вдруг заразилась дизентерией, на которую
было в это время поветрие, и осталась у нас почти на месяц в постели. Это
поставило весь дом вверх дном; родные ее и мы делили издержки пополам.
из Калуги нарочно приезжал доктор для консультации со мною (К. Н. Л-в по
образованию, но не по профессии был медик). Совещаясь с другим, потому
что болезнь была не проста и с разными тонкими и опасными осложнения-
ми, я вынужден был следить за лечением сам, и в то же почти время писал те
возражения Достоевскому, которые вы читали в «Варшавского Дневнике».
Верьте, мне стоил этот труд больших усилий; вы это поймете: вообразите
только себе совпадение сериозного труда мысли, и труда срочного — с забо-
тами о дорогом человеке, с ответственностью за жизнь его, лежащею прямо
и почти исключительно на вас!
Едва-едва мы ее подняли и отправили домой; я в первый раз в жизни был
рад, что она уехала, до того я был измучен!
Только что я отдохнул от этого, вдруг ответ от князя Голицына: «К сожа-
лению, не могу даже и срока назначить, когда вышлю вам деньги?». Весь
июль и половину августа мы все в ожидании его денег жили в долг, зажи-
вали аренду вперед и т. п. Можете опять себе вообразить наше положение!
К счастью еще, что, уплативши вовремя долг свой в один из Калужских
банков, я сохранил себе тем кредит, и мне дали еще 300рублей на девять
месяцев; я заплатил все, что нужно было, слугам и в Щелкановские лавки,
и с самым небольшим остатком уехал сюда и поселился, по прежним при-
мерам, в скиту, и даже в келье самого покойного отца Климента, и пишу на
том столе, на котором и он писал. Успокоение сердца моего началось только
со вчерашнего дня, здесь, в скиту... Что будет дальше - не знаю; предпочи-
таю даже и не думать, ибо денег у меня только до 1 октября, и ничего в
виду, кроме милости Божией... Около месяца, по получении княжеской
телеграммы, я, каюсь, был в таком унынии, что объявил всем окружающим'.
Марье Владимировне, Николаю, Варе и т. д., что я ничего не знаю, и знать не
хочу, и пусть они сами обо всем -ив том числе обо мне - заботятся... Не
писал с тех пор - ни в Кудинове, ни здесь на гостинице, а только молился и
шлялся... Не писал не только повестей для Каткова или статей, но даже са-
мых пустых писем, и постоянно завидовал одной здоровой черной свинье,
которую я видел проездом в ту минуту, когда она с таким восторгом чеса-
лась об угол сруба. Я не шучу!.. Уверяю вас, что я не шучу... Дело, наконец,
не в одних деньгах, но во многом, во многом; и прежде всего в том, что
самый «Варшавский Дневник» гибнет без поддержки и утехи... И это после
всех тех слов, которые я слышал в Москве и Петербурге. Я не князя осуждаю,
ни минуты я его бедного не осуждал, а русскую подлость... И это не мое
только, пристрастное, быть может, суждение. Эта история «Варшавского
Дневника», о которой один из здешних очень умных иеромонахов восклик-
нул: «Нет! это отвратительно! у англичан этого бы не случилось... Сколько
слов, и никакой поддержки!..» Я надеюсь, что вы меня за этот месяц нрав-
446
ственной и умственной «нирваны» не осудите. Вы согласитесь, что есть пре-
дел всякому - даже и моему в литературных делах - терпению! Дело это
поднял не я!.. Даже и не вы (вам я благодарен), а судьба. Вы были правы,
вызвав меня... Но Россия! Эта г....ная интеллигенция? Эти единомышленни-
ки, имеющие имя, деньги, власть? Отдельно взятые, они все окажутся словно
и правыми. Но в совокупности, что же это за слабость и за предательство!
Не довольно ли об этом?
Вот уже около 20 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Мелико-
вым. Хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни
той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба; но тем-то она и
хороша... Покойнее, чем положение литературного Икара (вы знаете миф
о Дедале и Икаре, летевших с острова Крит через море?). Не знаю, почему
нет до сих пор решительных вестей... За ваше «неоставление» на счет вар-
шавского места тоже искренно благодарю: приму все, что придется, с удо-
вольствием.. . Но заметить надо, что варшавское место лучше даже москов-
ского, но в том лишь случае, если... «Дневник» решатся, наконец, поддер-
жать так или иначе.
Но я все пишу вам, а о главной новости не сказал еще. Лизавета Павловна
(супруга К. Н., гостившая перед этимм долгое время в Крыму, у родственни-
ков) вернулась около месяца тому назад... Теперь я нанимаю ей хорошень-
кую скромную квартирку в Козельске и даю ей на пропитание мою пен-
сию. .. При ней Варя и мать Николая».
Письмо от 3 сентября 1880 года.
И еще другое:
«Прошу вас, Константин Аркадьевич, во-первых, извинить меня, что я не
ответил в свое время на вашу поздравительную телеграмму. Ответить те-
леграммой же - пожалел денег, которых тогда было очень мало, а письмо
писать было некогда. Передайте это и Хитрово с благодарностью...
Сегодня я хочу посягнуть бессовестно на вашу обязательность и убеди-
тельно просить вас съездить в Сиротский Суд, чтобы взять там кое-какие бу-
маги, принадлежавшие моей покойной матери. Ее посмертные желания и т.
д. В 1881 году будет 10-летняя давность со дня ее кончины (в феврале) и их
уничтожат... Я полагаю, что необходима для этого доверенность, засвиде-
тельствованная нотариусом. Я ее в понедельник (сегодня суббота) вышлю
особо. Сегодня у нас - Комитет, и к тому же вы знаете, до чего я тягощусь
всяким лишним движением (да и здоровье очень плохо-между нами прошу
вас\). Я очень грешен и виноват пред бедною матушкой, что не исполнил
этого давно, но что делать! Если бы даже предположить, что срок 10-летней
давности определяется не днем кончины (в феврале 1871 года), а прямо с 1
января 1881 года, то и тогда вам останется до Рождества дня два и до Нового
года дня два-три, я думаю, чтобы сделать это при свойственной вам дея-
тельности. Вы понимаете мое раскаяние и мою нравственную потребность,
хотя и поздно, но исполнить это.
447
После Нового года я, вероятно, на недолго буду в Петербурге. Под вели-
чайшим секретом сообщу вам вот что. К. (редактор «Пет. Вед.») зовет меня
приехать на его счет для пользы консервативной партии и т. п. Я хочу вос-
пользоваться его деньгами больше для пользы службы, чем для пользы
публицистики... Тайну эту я доверяю только Вам', д&яае Т. И. Ф. она не долж-
на быть известна', его это может очень огорчить и даже восстановить проти-
ву меня; он на меня еще рассчитывает как на литератора! А я только о
том и думаю, как бы подальше от литературы и особенно от публицисти-
ки. Я убежден, что мои гражданские взгляды могут только повредить
мне в глазах либерального начальства, а мне теперь кусок хлеба важнее
всего. С женой мы так сжились опять, как никогда...
Я никогда ее так еще не любил и не жалел. Я без нее здесь скучаю, и когда
вижу светских и образованных женщин, то просто не понимаю ни их, ни
мужей их!.. Равнодушие мое к литературе и т. п. - полное и все растет и
растет... Я не знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого
деньги мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к тонко-
стям новой службы, но, вы понимаете, мне все равно, кроме жены и Вари*,
с которою они очень сошлись (Бог-то как милостив!), а Варя вдобавок стано-
вится такая прекрасная, верная, серьезная дочь, что поискать таких! Оптинс-
кие старцы ее уважают. Вся моя жизнь теперь в них и для них!.. Я сейчас не
в силах их выписать из Козельска, но терплю и смиряюсь.
Все мои мечты - это оставить им что-нибудь... А вы знаете, как я
запутался!.. Поэтому и литература теперь может иметь лишь коммер-
ческое для меня значение!., и т. д. и т. д. А я лично для себя прошу от Бога
только одного: христианской кончины живота, безболезненной, непостыд-
ной, мирной, и доброго ответа на страшном судилище Христовом. Я в
Угрешском подряснике был гораздо более «мирянин», чем теперь. И «Варш.
Дневн.» сделал свое неизгладимое дело... Стоит ли такие, как мои, вещи
писать? Для кого? Для 20 человек, для высокопоставленных людей, которые,
восхищаясь, не умели и не хотели ничего серьезного сделать ни для Голицы-
на, ни для меня... как писателя? Серьезным я называю тысяч 100-200. На-
шлись бы, если бы была воля Божия на проповедь подобных вещей в России.
Но отчизна наша предана уже проклятию, и ничего с ней не сделаешь!..
Я счастлив теперь в своей семье и не боюсь более смерти - чего же
большего человеку желать?..
Благодарю Бога - и за место, за «хлеб насущный», и за примирение с
женой, и за Варю, и за равнодушие мое и к России, и к своей собственной
славе, и за друзей, которые меня не оставляют.
Простите, что все это сорвалось у меня с пера... Исполните мою просьбу и,
еще раз повторяю, не говорите никому пока об этом настроении моем, потому
что на мою литературу в Петербурге иные влиятельные люди рассчитывают, -
будьте всегда гробам тайн, как были» (Письмо от 20 декабря 1880 пода).
* Служанка-воспитанница из крестьянских девочек. - Ред.
448
Бедный, бедный! Вот слова, которые писались кровью. Сколько изяще-
ства души в этих заботах о «Варе», больной жене, «Л.»; сколько покорности
воли Божией! Кто же писал это? Кто были те люди, одного мановения руки
которых было достаточно, чтобы отереть пот, слезы этому человеку? Он -
светоч земли своей, красота истории родной за этот истекающий век, «вся
красная земля», променявший на служение великим идеям, в нем ориги-
нально возникшим, в нем долго вызревавшим. Пройдет еще полвека, и Ака-
демия Наук будет оплачивать червонцем каждый обрывок его частного пись-
ма, будет отыскивать набросков карандашом его мыслей, раскрывать ини-
циалы и псевдонимы, под которыми он писал в захудалых провинциальных
газетках, как это делает Италия для своего Макиавелли, Франция - для Мон-
тескьё и Руссо, Германия, но этот до последнего времени конгломерат «оте-
честв» и не имел ума политического равной силы проницания, подобной
широты созерцаний, такой страстности патриотизма. Все будет сделано для
его имени, как не было ничего сделано для его желудка.
...И годы протекли, и ветряное племя
Кричит: подайте нам священный этот прах!
Он наги...
Безумно вкруг него теснятся и бегут
И в пышный гроб...
.. .Останки тленные кладут.
Сколько скорби в этом посмертном признании; как не нужно оно, как
постыдно, и, наконец, как оскорбительно. «Оставьте лежать мои кости среди
тех, кого я любил, видел, знал, кто npti жизни стер мои раны, с этою «Л.»,
«Варей», «больною женой». Вам отдана была моя прижизненная тревога, с
ними, ио крайней мере, пусть останется замогильное упокоение. И пожалуй-
ста, не отнимайте у них этого: самого ценного, святого - права покоиться
рядом, наряду, вместе со мною. И убирайтесь с вашим тщеславием, с вашим
«признанием», издавайте - насыщая его - opera omnia мои и переплетайте их
в сафьянные переплеты; мой оглоданный череп, мои усталые руки, не взды-
мающуюся грудь не уносите отсюда; и даже забудьте, если возможно, где
они лежат, и не протаптывайте никогда «народной тропы» к ним своими
скверными калошами, для произнесения скверных речей и скверного «завт-
ракания» после речей»...
Я уверен: посмертное признание, посмертное усвоение себе героя, пи-
сателя, вообще исторического человека, так сказать, присвоение его мятуще-
юся толпой из того частного круга, в котором он был при жизни - это нечто
до такой степени мучительное, столь нестерпимое для присвоенного, такое
последнее и непереносимое для него оскорбление, какого обнять умом по-
чти невозможно. «Уж лучше кастаньеты из моего черепа, нежели этот череп
в мавзолей... Уж лучше куда-нибудь в анатомический театр и потом на псар-
ню, нежели в торжественную уличную процессию, - с «речами», «венка-
ми». и назавтра - с репортерскими отчетами»...
И Зак. 3969
449
Жизнь и смерть, в таинстве своем глубоком, с такою силой оскорбления -
несовместимы; достаточно мефистофельских шуток; такой силы посмертно-
го глумления человек не заслужил, кто бы он ни был и как бы дурно, грешно
свою жизнь ни прожил. И, во всяком случае, к умершему мы обязаны уваже-
нием безмолвия, ибо, прияв смерть, он принял Божие на себя, он под его
грозой, но и под его покровом... От нас он ушел, от нашего суда и пересуд.
Его книги или деяния - пред нами, они замешаны в нашу жизнь, они
живы еще, и мы их можем судить; его прах неприкосновенен.
Но кто же были те, что лакомились «черною свиньей», к которой прирав-
нивал себя благородный и возвышенный ум? Годы истории протекли, не-
многие годы, и все стало ясно.
«Вот уже около 90 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Мели-
ковым».
Пред нами превосходное, своевременное воспоминание г. Л. Тихомиро-
ва: «Конституционалисты 1881 года». Да, это он, скорбный (в сущности) ду-
хом Акакий Акакиевич, Акакий Акакиевич по широте политических созер-
цаний, по дальней зоркости ума*; но, странным образом, в уста этого Ака-
кия Акакиевича попал язык Хлестакова, и, внимая дивным речам его... О.
речам совершенного Акакия Акакиевича, но произносимым с зычностью
Хлестакова, история одела его сперва аксельбантами, и далее, далее... Мы не
смеем даже говорить, что далее... Но это «далее» совершилось.
Акакий Акакиевич сказал, что он не хочет быть «копиистом» в департа-
менте, но это было 40 лет назад, и тогда качества ума его и сердца не были
оценены. Теперь он хочет «изменить судьбы своего отечества», не шедшие
до сих пор правильно.
Некоторой «золотой рыбке», долго ему служившей, эта старушка из Ар-
мении сказала, что она хочет, чтобы сама рыбка начала ей служить, на ночь
чесать пятки и поутру развлекать чтением тогда издававшегося «Голоса»...
Л. Тихомиров рассказывает, что это чуть-чуть не совершилось. Неко-
торая «papier en question»** относительно «пяток» и «Голоса» была под-
писана, и он, даже после 1 марта, с ног снимал чулки и протягивал свои
пятки...
В сущности - он был изменник; он был ренегат, дезертир - в самом
обыкновенном, пошлом смысле этого слова, который предусмотрен соот-
ветственною статьей «Воинского Артикула» Петра I.
Но он изменил не перед пушками неприятеля, а перед «линией» газет и
журналов русских и частью иностранных, перед болтовней гостинных...
Он изменил не полку, но народу целому...
♦ Смотри у Л. Тихомирова отметки о Лорис-Меликове, занесенные в «Дневник»
свой благодушным А. И. Кошелевым.
♦♦ «соответствующая бумага» (фр.).
450
Он изменил не стогодовалой традиции этого полка, а тысячелетней тра-
диции государства.
Он изменил - и был почтен.
Леонтьев был ей предан; он понимал эту традицию страстно и глубоко;
он ей до издыхания был верен... И он был презрен.
«Вот уже двадцать дней жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым,
хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни той сви-
ньи, которая чешется об угол сруба, но тем-то она и хороша»...
Мне думается, в этом миниатюрном факте сконцентрирован весь смысл
нашей истории за 200 лет; эти 200 лет - за немногими исключениями «поры-
вов» - если их глубже понять, если их анализировать бесстрашно и до конца,
суть годы сллюизмены России, годы исторического ее сш/оренегатства. И
вот отчего, кто громче всех кричит: «Обойдены», «пропало все», и первый
обертывается и бежит... естественно, что он бежит впереди других и осталь-
ные «следуют в его свите».
Вот разгадка судьбы Леонтьева; он, бедный идеалист, держал древко по-
кинутого знамени; он хватал его мотающиеся, простреленные в боях, шелко-
вые лоскутки...
Бедный! конечно, он был раздавлен, и все его сочинения - только крик
раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знаме-
ни его родины...
КОМУ «ГОРЕ ОТ УМА»
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ?
Судьба, проказница-шалунья,
Определила так сама:
Всем глупым - счастье от безумья,
Всем умным - горе от ума.
Эпиграф к комедии Грибоедова
Это было месяцев шесть-восемь назад. Я стоял пред небольшим книжным
шкафом, составлявшим все богатство только что основанной «Библиотеки
для служащих» при одной из бесчисленных петербургских канцелярий; меня
приглашали в нее записаться, но я не решался, видя слишком уж небольшой
выбор книг.
- Помилуйте, у вас нет даже Тургенева и Гончарова, что я найду за тот
же полтинник в месяц во всякой библиотеке... Какая цель у вас записы-
ваться?
Молоденький человек, с рукописным каталогом в руке, зашевелился.
- А вы запишите этих авторов и мы их выпишем.
451
Я протянул руку к корешку с неясною надписью, и с изумлением вытя-
нул долговязый том Писарева: о выходе нового издания я еще не знал и с
любопытством рассматривал «Первый том, с биографией и портретом» глад-
колобого критика. Видя мое внимание, чиновничек заметил:
- Мы уж следим за выходящими книгами и не упускаем случая. Издание
только что появилось, а долго ни за какую цену нельзя было достать этих
сочинений...
Я еще раз оглянулся на лицо библиотекаря; решительно ему нельзя было
дать больше 21 года. «Если бы не сюда, в канцелярию, - подумал я, — посту-
пил бы в вольноопределяющиеся. Таких теперь многие тысячи, даже - десят-
ки тысяч, не дозревающих в гимназиях»...
- Послушайте, - спросил я, - вы не смешиваете Писемского с Писаре-
вым?..
- Нет, ведь Писемский, кажется, при «Нови» и, если не ошибаюсь, рома-
нист? Зачем бы Вольфу критик для приложения? У нас библиотека сериозная.
* * *
Я внес полтинник и решил сделаться членом «сериозной» библиотеки.
Так из лепты трудовой
Вырастают храмы Божии
По лицу земли родной...
Ну, это прежде, в глупые времена, вырастали «храмы Божии», а теперь,
когда народ, благодаря «первоначальному обучению», поумнел, есть чему
вырасти и получше.
И дают, дают прохожие...
Ник. Кареевы, Павленковы, Евг. Соловьёвы собирают «лепты» и кладут в
карман; иногда, правда, тоже и мошенничают, то есть в благородном, литера-
турном смысле мошенничают, «не выдерживая направления»; так, в № 337
«Новостей», от первого декабря 1895 года, я только что прочел объявление,
которое и привожу здесь целиком:
«Поступило в продажу пятое издание
философско-психологического этюда
О. К. Нотовича «Любовь»,
с приложением его же критико-философского этюда:
«Красота»
с предисловиями знаменитых представителей современной италиянской фи-
лософской школы Ц. Ломброзо и Г. Ферреро, отзывом Монтегацца (автора
«Физиологии любви») и «Письмами к автору с Олимпа» Д. Л. Мордовцева.
452
Цена книги (изящный том более 20 листов) 1 р. 50 к. Подписывающиеся на
«Новости» платят за книгу только один руб. Требования адресуются в книж-
ный магазин газеты «Новости», Б. Морская, 33».
А ведь всего два месяца назад в тех же «Новостях» печаталось тоже объяв-
ление:
«О. К. Нотович. Г. Т. Бокль. История цивилизации в Англии в популяр-
ном изложении. Десятое издание. СПб., 1895 года. Ц. 50 к.».
И в «Северном Вестнике» за декабрь 1895 года я прочел даже рецензию:
«Интересный труд Бокля все еще пользуется самой широкой
известностью в России. Популярное изложение этого труда г. Ното-
вичем в самый короткий срок выходит уже десятым изданием.
Можно думать, что, благодаря книжке г. Нотовича, Бокль стал про-
никать в средние слои русской читающей публики, и как бы кто ни
смотрел на научные достоинства этого исторического исследова-
ния, нельзя не признать полезным тот труд, который совершил г.
Нотович. Изложение автора отличается точностью научных выра-
жений. В литературном отношении книга должна быть признана
безукоризненною и в смысле стиля, и в смысле ясности передачи
главных мыслей Бокля языком доступным для тех, кому полное изда-
ние его труда недоступно. Намерение автора увенчалось бы еще
большим успехом, если бы он для следующего 11 издания понизил
цену на свою книжечку до 20 к. за экземпляр» (отд. II декабрьской
книжки журнала, стр. 87).
А в «Новом Времени», № 7081, от 14 ноября 1895 года, печатается на
первой странице:
«Поступило в продажу 11-20 тысячи экземпляров вновь изданной
Ф. Павленковым'.
«История цивилизации в Англии Т. Бокля».
Перевод А. Буйницкого. С примечаниями. Ц. 2 р. Тот же перевод
без примечаний - 1 р. 50 к.».
* * *
Не знаю, зачем я заговорил об объявлениях. Я собственно хотел поговорить о
третьей книжке «Борьбы с Западом в нашей литературе» моего доброго и
старого друга, Н. Н. Страхова, только что выпущенной автором; я думал по-
мочь «книжке» доброю рецензией. Но уж слишком много попалось на глаза
«объявлений» и я невольно «уклонил сердце свое»... к иным печалям.
453
Тут-«красота» идет, тут - «любовь» помогает. Я хочу сказать, что у нас
с тобою, старый друг, у которых нет ни красоты, ни, в этом особом смысле,
«любви», книжки будут лежать на полках магазинов, никем не спрашивае-
мые, никому решительно не нужные. Они будут лежать так же неподвижно,
как и до сих пор «лежат» книжки умерших друзей наших, твоего - Ап. Григо-
рьева, изданные в 1876 году, и моего - К. Леонтьева, изданные в 1885—1886
годах, до сих пор не раскупленные; как «лежат» opera omnia двух незабвен-
ных профессоров Московского университета, Т. Н. Грановского, так «шум-
но» чествуемого в прессе и бесшумно не читаемого, и его ученика - Кудряв-
цева; как «лежит» преспокойно «Сельская школа» г. Рачинского, вышедшая в
1892 году и не потребовавшая нового издания. «Лежит» все умное и благо-
родное на Руси и шумно «идет вперед» все бесстыдное и тупое...
Мне почему-то думается, что я говорю о самом, о самом важном факте
современной литературы - более значительном и способном вызвать на раз-
мышления, чем как если бы появилась еще «Война и мир», еще «Отцы и
дети»... Ибо, в сущности, он предрешает все остальные... Он показывает, что
той литературы, над которой думают, что трудятся несколько старых идеа-
листов, несколько седых париков, залежавшихся от прошлого, - что этой ли-
тературы... нет вовсе: нет ее в том духовном, идеальном, милом, дорогом
смысле, который мы исторически соединяем с ее именем и, по наивности,
недоразумению, продолжаем сохранять и до сих пор.
Это есть проигранное поле-поле литературы; поле цивилизации, куль-
туры, духа - оно проиграно. Именно теперь, именно в наши дни, когда, по-
видимому, пред ними все сторонится, когда для них открыты все двери, их
имя везде приветствуется - в самых приветствиях, в самой разомкнутости
пред ней всех входов и выходов, в самых победных криках - слышится похо-
ронный звон...
Она победила и умерла.
Она похожа на заряд в дуле разорванного, изломанного ружья. Пусть
порох вспыхнет, пыж затлеется - окрест стоящие только рассмеются...
Пусть нового пророка раздастся слово; еще зазвучат терцины Данта -
«общество» сонно потянется к пятому изданию «любви и красоты», девято-
му изданию сокращенного Бокля, девятнадцатой тысяче полной «Истории
цивилизации в Англии»...
* * ♦
На этом проигранном поле, мой добрый и старый друг, книжка твоя ляжет
лишнею костью... Что в том, что она будет лежать рядом с «благородными
костьми»; это - поле не только проигранное, но, в сущности, и забываемое.
Новое Время - т. е. не только «Новое Время» А. С. Суворина, но и вообще
новое время, которому суворинское лишь подтанцовывает, идет мимо его,
зажимая «от мертвечины» нос - к утехам иным, к иным радостям - тем са-
мым, которые значатся в приведенных мною «объявлениях».
454
Милый друг, я думаю - нам остается только умереть.
России, которую мы защищали, которую любим, ради которой «боро-
лись с Западом», - ей остается только умереть.
Та Россия, которой предстоит жить - мы эту Россию не будем любить.
Эти бедные селенья,
Эту тусклую природу...
Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В красоте твоей смиренной...
- эти «бедные селенья» принимают новый, очень оживленный, но и очень нео-
жиданный вид:
Одной ногой касаясь пола,
Другою - медленно кружит,
И вдруг - прыжок, и вдруг - летит,
Летит как пух от уст Эола...
Мы ей не можем пожелать, в этом новом «полете», - никакого добра;
мы ей пожелаем всякого зла.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...
Плакать хочется; однако, отчего же и не посмеяться:
Летит как пух от уст Эола,
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
* * *
О, как мы ненавидим вас, виновники грустной перемены; вас и даже - тех,
великих, на которых надавив, как малая тяжесть на конец длинного рычага, вы
совершили переворот: всех их, от Кантемира, еще наивного, и до злобного
Щедрина, не выключая, однако, и промежуточных.
«Горе - от ума», - говорили великие; «нечего на зеркало пенять, коли
рожа крива», - успокаивали они же. И тысячи обезьяньих морд, тыкая на сло-
весное «зеркало» - заливались гомерическим хохотом; тысячи глупцов, при-
няв трагическую позу, говорили, что они задыхаются «на родине», что им
«душно», что «незримые слезы» жгут их сердце «сквозь видимый миру смех»...
Покачнулись старые кресты, посторонились старые могилы.
455
Новое время наступило, новая эра пришла, над которою мы не умеем
смеяться, над которою еще не придумано форм смеха. Идет
«Любовь» и «Красота».
Не очень важная «красота» - не Афродиты Медицейской, и не очень
редкая любовь - на Большой Морской, дом 33, стоит всего один рубль. Но
все-таки...
Может быть, однако, придется доктору потом заплатить три рубля?..
«Без риска - нет удовольствия», - как заметил бы фрагментарно мой
друг г. Арсеньев.
Но нет решительно никакого риска; об этом г. Н. Михайловский, когда
писал «литературу и жизнь», и еще «литературу и жизнь» и опять потом «ли-
тературу и жизнь» - предупреждал юных читателей своих, цветущих силами и
здоровьем, говоря, что «выйдет скоро, в очень хорошем, хоть и старом перево-
де Буйницкого, английский мыслитель, перед которым куда как беден тузем-
ный наш Яснополянский мудрец». И г. Скабичевский это подтверждает, — он,
под старость лет приютившийся под тою же смоковницей, на Большой Морс-
кой, д. 33, откуда исходит Бокль и где занимаются «любовью» и «красотой».
Как ведь перепутались, червяки; и не разберешь, где кто начинается и в
котором месте оканчивается. Михайловский рекомендует Бокля; Нотович
его популяризирует и издает в девяти изданиях; в то же время он оригиналь-
но сочиняет «красоту» и «любовь»;у него сотрудничает «критик 60-х годов»,
г. Скабичевский, милый сердцу Н. Михайловского; того же Бокля Павленков
издает, а Евг. Соловьёв пишет к нему «предисловие». Все, очевидно, «сочув-
ственно относятся друг к другу».
* * *
«Дорого эта красота стоит», - говорил старик Мармеладов про свою дочь:
нужна и помадка, и то и сё; без чистоты - в этом положении нельзя».
В 1891 году г. Н. Михайловский спрашивал меня, в ответ на статью «Почему
мы отказываемся от наследства 60-х, 70-х годов?» - «почему вы так голословно
отказываетесь, не приводя решительно ни одного факта». Он писал тогда:
«В своей статье г. Розанов развивает ту мысль, что мы, старшее
поколение, поняли такое сложное существо, как человек, - бедно,
плоско, грубо. Он не подкрепляет свою мысль ни единым фактичес-
ким доказательством, ни единой цитатой, ни единым даже анекдотом.
Так писать очень легко, но убедить кого-нибудь и в чем-нибудь по-
добным писанием трудновато. Я могу и сейчас, пожалуй, написать о
какой-нибудь, например, лондонской картинной галерее, которой я
никогда не видел, что там искусство представлено бедно, плоско, гру-
бо. То же самое я могу проделать с датской литературой, с испанской
промышленностью, словом - с любою группой явлений, мне мало-
известною или совсем не известною. И я склонен думать, что г. Роза-
нову весьма мало известно то наследство, от которого он столь тор-
жественно отказывается. Гзлословному же мнению г. Розанова я могу
противопоставить столь же голословное. Никогда в нашей истории
456
человек не понимался так возвышенно и тонко, как в те приснопа-
мятные 60-е годы. Были, разумеется, увлечения и ошибки...», и т. д.
(«Русские Ведомости», 1891 года, № 202).
Теперь, бросив ему в лицо этот ком червей, где и он сам «с Боклем»
около «любви» и «красоты» копошится - я могу ответить хоть и поздно, но
окончательно о мотивах «отказа» в 80-е годы «от наследства 60-70-х годов»:
Помадку, господа, забыли, - чистоты не соблюли: пахнет очень.
* * *
И я могу прибавить, оглядываясь на всю русскую литературу, от архаического
Кантемира и... до «третьей книжки» «Борьбы с Западом»* доброго и старого
моего друга, - книжки, которой, верно, придется лежать на полках книжных
магазинов.
Кому же «горе от ума» - в действительной жизни! И «кому», напро-
тив, «на Руси жить хорошо»? И чье, наконец, мало-человеческое лицо отра-
жается в «не-кривом зеркале» великого и грустного сатирика?..
Кто тот конкретный, по имени и отчеству называемый, о ком безлично
все это писалось в нашей литературе? Кому именно
...вольготно, весело
Живется на Руси?
И кто есть тот «незримо льющий» в ней слезы, о ком великий художник
написал в «поэме» своей и забыл подписать имя?..
Какая трагедия, какая невыразимая трагедия есть наша жизнь, наша исто-
рия, если именно пред этим страдальчески-измученным, плачущим лицом,
поставив зеркало сатиры, наша словесность хрипит нахально и пьяно:
Неча на зеркало пенять
- коли рожа крива
- и заливается, заливается неудержимым смехом, более диким и звероподоб-
ным, чем каким, в лучшие дни торжества своего, смеялись на памятном гу-
бернаторском балу господа «один потолще» и «другие потоньше».
Усопшие тени и вы, живые праведники, рассеянные по медвежьим углам
России - вас зову в свидетели: так ли это?
15 января 1896 года.
* Кстати, в одном месте ее упоминается, что «один из стаи славной», г. Н. Михай-
ловский, объявил ее автора, т. е. г. Н. Страхова, «совершенным ничтожеством»; он,
верно, искал в ней «любви» и нашел докторский рецепт. Мне припоминается и само-
му, как я где-то читал у него в «Литературе и жизни» издевательства над тем, что
«Заря», журнал, в котором в свое время печатались Ап. Григорьев, Н. Я. Данилевс-
кий и Н. Страхов - «не знала вовсе подписчиков», а редакция «усиливалась это скрыть
от публики», чтобы заманить хоть кого-нибудь к подписке на новый год... Он даже
объявлений о подписке враждебного журнала не позабыл; даже их он поставил в
попрек уже умирающему от равнодушия общества органу литературы, где, однако,
печатались лучшие, сериознейшие труды по критике и истории, теперь всеми при-
знанные. «Вы издыхали, - говорит великодушный критик 70-х годов, - вы издыхали -
и осмеливались делать вид, что у вас легкие полны воздуха»...
457
ЕЩЕ ДОБРОЕ ДЕЛО НА РУСИ
Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Книга
десятая. СПб., 1896.
Только что вышедший X том «Жизни и трудов М. П. Погодина» принес, в
своем предисловии, странное известие; с тем вместе - оно так радостно, что
вызывает невольное желание разделить его с кругом читателей более обшир-
ным, нежели сколько может иметь их монументальный труд нашего ученого.
Уже несколько времени среди людей, следивших за выходом все новых и
новых томов этого труда, ходил тревожный слух, что самоотверженный автор
его - лицо столь же замечательное, как необычаен и труд его в нашей литера-
туре, истощив все силы на его писание и все материальные средства на изда-
ние, хочет прервать так прекрасно начатую и уже доведенную до половины
историю нашего образованного общества за этот век на кончине императора
Николая I. Слух этот, перейдя в одну из рецензий, написанную по поводу выхо-
да IX тома «Жизни и трудов М. П. Погодина», имел неожиданные последствия.
Нужда ученого нашла себе отклик из вечно юного, вечно благородного, не
стареющегося в веках сердца России - Москвы. Но пусть говорит автор:
«В ноябре месяце 1895 года, по возвращении моем из Пензы, посетил
меня господин московский присяжный поверенный Михаил Георгиевич Ба-
жанов, дотоле мне вовсе незнакомый. Он сообщил, что доверитель его, ц.ил
коего отказался назвать, сочувствуя направлению моего сочинения «Жизнь
и труды М. П. Погодина» и узнав из одной статьи, что я не имею средств на
продолжение издания моего сочинения, выразил желание прийти мне на
помощь своими денежными средствами.
Понятно, что я был изумлен этою неожиданностью. М. Г. Бажанов, заме-
тив это, поспешил сказать: Не удивляйтесь, в Москве еще далеко не переве-
лись добрые люди и патриоты.
И вот на друшй день памяти Святителя и Чудотворца Николая, который, как
поет Церковь, миру всему источает многоценные милости миро и неисчерпае-
мое чудес море, я получил из Москвы от М. Г. Бажанова следующее письмо:
«Милостивый государь, Николай Платонович! Прежде всего по-
звольте вам засвидетельствовать мое глубочайшее почтение и уваже-
ние. Затем позвольте мне снять инкогнито с того лица, по поручению
которого я имел удовольствие, 25 ноября, беседовать с вами в Петер-
бурге. Разумеется, делаю я это с его разрешения, согласно вашему
желанию знать лицо, идущее на помощь изданию трудов ваших о
жизни М. П. Погодина. Я был у вас, глубокоуважаемый Николай Пла-
тонович, по поручению потомственного почетного гражданина Алек-
сандра Николаевича... весьма почтенного и уважаемого, бывшего
железнодорожного деятеля и коммерсанта в Москве, а ныне слепо-
го старика, которому теперь шестьдесят четыре года от роду, и
вот уже шестнадцать лет лишившегося зрения и страдающего тя~
458
желыми недугами, который теперь, вдали от мирских дел, в уедине-
нии и тиши проводит время в религиозно-философских мышлениях,
и насколько его средства позволяют, всюду спешит с посильной по-
мощью к истинно нуждающимся и обремененным. Его заботами и
средствами, для религиозно-нравственного просвещения, вновь уст-
роен и открыт, например, женский Рдейский Успенский монастырь,
в Новгородской губернии. Но Александр Николаевич не чужд и
просвещения светского. Вышедший из коренной русской купеческой
семьи и вращаясь постоянно в кругу того времени выдающихся интел-
лигентных деятелей, он понимает всю благодетельную силу просве-
щения. И, несмотря на то, что, вследствие слепоты его, вот уже шес-
тнадцать лет ему читает его секретарь, он интересуется в литера-
туре всем, что дорого для блага и просвещения России.
И вот, своим сильным и чутким от природы умом, он понял, что
ваш труд о жизни и деятельности М. П. Погодина не есть только труд
ординарный, с слабыми штрихами летопись, но труд весьма капи-
тальный, который должен иметь огромное влияние на настоящее и
будущее молодого поколения, так как личность М. П. Погодина, вы-
шедшего из простого народа, с лицами его окружавшими - это Рус-
ский народ, на котором держится вся сила и величие России, по веро-
ванию москвича - сила, зиждущаяся на православной религии и пре-
данности Царю и Отечеству. К этой плеяде людей жизни М. П. Пого-
дина принадлежал и Александр Николаевич, лично знавший покойного
Погодина, который часто бывал в его семье так же, как и в семье
Кокорева и других, где М. П. Погодин, со свойственною ему задушев-
ностью, обсуждал все вопросы, составлявшие тогда злобу дня.
Узнавши из рецензии на вашу книгу, что издание книги «Жизнь и
труды М. П. Погодина» должно приостановиться по неимению у вас
средств, Александр Николаевич просил меня, многоуважаемый Ни-
колай Платонович, сообщить вам, что он обеспечивает вам стоимость
печатания X тома о жизни М. П. Погодина, то есть типографский
расход за то количество экземпляров, которое вы обыкновенно печа-
таете. Причем просил меня присовокупить, что если Господь про-
длит дни его, то он на тех же основаниях обеспечивает вам издание и
XI тома, если таковой выйдет от вас.
Почему я имею честь просить вас, по отпечатании X тома, благо-
волите сообщить мне и Александру Николаевичу подробный счет
типографии, вместе с книгой, для уплаты по счету. Пользуясь, и проч.,
М. Бажанов.
Р. S. Александру Николаевичу желательно было бы, насколько
возможно, поскорее начать печатать и XI том».
Долг признательности, - заключает г. Барсуков, - обязывает меня напе-
чатать почтенное письмо М. Г. Бажанова вместо предисловия в настоящей
книге. Благодарные же чувства мои к доброхотному жертвователю усугуб-
ляются утешением, что рука помощи доброго человека (курсивы здесь и
далее автора) простерлась мне именно из Москвы»...
459
Вечная благодарность г. Барсукову за опубликование этого частного и
даже несколько интимного письма. Исторически знаменательно, ввиду косо-
го света, брошенного литературою нашею в последние десятилетия на со-
словие старого купечества, свидетельство, в этом письме содержащееся. Об
этом, уже шестнадцать лет слепом, старике, в тиши безмолвия ищущем, кому
бы помочь, основывающем монастырскую обитель и неустанно следящем
за успехами «благодетельного просвещения» в родной земле - нельзя читать
без самого сильного волнения. Понятно чувство, побудившее благодарного
автора раскрыть имя жертвователя; не менее понятно, однако, и первое дви-
жение самого жертвователя - остаться не названным, которое мы здесь ис-
полняем. Не нужно вовсе, чтобы это имя разносилось по стогнам литерату-
ры, чтоб оно «сохранялось» в памяти людской: оно - в памяти Божией, и кто
знает таинства человеческого сердца, тот знает ту длительную, светлую, со-
вершенно особенную радость, которая наполняет это сердце всякий раз, ког-
да оно уходит от человеческих похвал, затаивается в благом своем деле.
О М. П. Погодине в только что опубликованных мемуарах знаменитого
историка С. М. Соловьёва -ученика Погодина - содержится очень жесткий
отзыв (см. «Русский Вестник» за 1896, февраль и март); без сомнения, этот
отзыв стал уже известен жертвователю, следящему за всем в литературе, что
появляется в ней имеющего отношения к былым или же текущим умственным
интересам России. Да не смущается, однако, сердце его этим отзывом о быв-
шем и его друге. М. П. Погодин был человек истинно замечательный; нет (по
всему вероятию) ложного в показаниях Соловьёва, есть ужасная ошибка одно-
сторонности, непонимания; все принимая в этих показаниях (хотя они голос-
ловны, то есть не опираются на факты), сохраняешь, однако, полную свободу
сказать, что Погодин был натура гораздо более замечательная, несравненно
более богатая, обильнее наделенная дарами ума и сердца, чем сам покойный
Соловьёв. И вот доказательство: Соловьёв не оставил после себя, несмотря на
30-летнее преподавание, ни одного истинно замечательного ученика; то есть в
своих лекциях он не умел передать понимания, не успел зародить любви к
родной истории ни в одном ученике; Погодин - именно он - дал всю плеяду
светил нашей исторической науки: самого С. М. Соловьёва, незабвенных Кала-
чева и Кавелина, Беляева, Бычкова, косвенным образом - Бестужева-Рюмина.
Это уже не обвиняющее мнение, это - непоколебимый факт*.
♦ В труде г. Барсукова, как в некотором tesaurus’e нашей минувшей духовной жизни,
есть данные, в частности, и для установления правильной точки зрения на мемуары С. Л/.
Соловьёва. См. в книге X, стр. 127, письмо Ф. И. Буслаева о проф. Давыдове, и сравни
точку зрения Буслаева, его способ отношения к этому ученому - с отношением и точкою
зрения Соловьёва. Далее, в книге IX, стр. 148, см. свидетельство о Погодине, как препо-
давателе, проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, и сравни это свидетельство с отзывом о Пого-
дине, тоже как о преподавателе, в мемуарах Соловьёва. Наконец, на 138 стр. того же IX
тома можно найти иллюстрацию отношений к русской истории: Соловьёва - отношения
теоретического и книжного, и Погодина - отношения живого, г е. более глубокого и
истинного. Для Соловьёва, напр., «не было монгольского периода в русской истории»,
потому что краткие летописные отметки не давали ему материала для особой главы.
460
Благородный историк его жизни, сверх пяти эпиграфов, которыми он с
таким вкусом украсил заглавную страницу своего труда, приписал на после-
днем X томе еще шестой: «Пою - дондеже есмь...» - Живо выразилось в
этом эпиграфе движение благодарного сердца: готовность трудиться - вои-
которую он мог бы озаглавить: «Следствия монгольского ига». Погодин, с более живым
воображением, понимал, что во время монгольского ига русским людям было не до
летописания, что потому именно летописи и были кратки, что действительность была
слишком обильна страданием. И он с изумлением ответил своему - уже знаменитому
тогда, но как-то недогадливому - ученику: «Легко нам сказать: не было такого периода, но
каково было нашим предкам пережить это иго». В этом теоретически-книжном утверж-
дении Соловьёва, и в исполненном живого протеста ответе Погодина сказалась вся разни-
ца между двумя учеными. Для Соловьёва русская история была предмет 29-ти томного
изображения, достаточный повод для написания этого монументального труда, и в самом
заглавии его нам слышится отзвук «Histoire de France depuis de temps les plus recules»
<«История Франции времен давно минувших» (фр.)>, напр., Анри Мартена и других;
для Погодина - все русские, жившие и умершие, были «соотчичи», и сколько бы крити-
ка, с ужимками мещанства, ни издевалась над «необразованностью» его «Русской исто-
рии до монгольского ига» и других трудов, эти труды суть звучащие в наших ушах
удары заступа о дорогие могилы; хороши или плохи эти удары - но они суть плод
живого исторического чувства, суть плод неподдельной любви к своему народу, к
земле своей. Нужно читать, у Барсукова, как Погодин сравнивал, по значительности, с
открытием Ловеррье новой планеты Нептуна свое открытие, - имел ли спутников Дмит-
рий Донской, сопровождавших этого князя в каком-то походе, чтобы видеть, до чего
драгоценна ему была всякая решительно деталь русской истории, - совершенно так, как
нам драгоценна каждая вещь, каждая ненужная для всякого другого тряпка нашей мате-
ри, которая только что была, мы слышали ее голос, видели ее ласки, и теперь она безмол-
вно лежит в гробу. Это присутствие в огромной памяти Погодина в совершенно живом,
не увядшем виде всей громады русской истории, присутствие ее как толпы определенных
людей во всей их конкретности, страдавших, заблуждавшихся, воинствующих, молящих-
ся, мирно возделывающих поля и их обороняющих, и делало его единственным в своем
роде живым историком, с которым всякий приходящий в соприкосновение заражался
невольно духом историчности, духом исторических изысканий, этим священным гробо-
копательством, исполненным любви и понимания. Позднее ученики могли восстать на
учителя, как они действительно и восстали, - это уже не изменило дела: они восстали на
него теми самыми силами, тем самым духом, какой получили от него. И для позднего
мыслителя не может быть сомнения, что они все были меньше его, не так значительны в
богатстве непосредственных даров, не так плодоносны, гораздо более искусственны, и,
так сказать, сделаны школою, а не рождены землею. Одно только выражение, сказанное
устно Погодиным и благодарно переданное потомству проф. Бестужевым-Рюминым
(Барсуков, т. IX, стр. 148), содержит в себе целую историческую школу (антиюриди-
ческую, как назвали бы мы ее). Это - целый поток мысли и света, брошенный в одном,
чисто русском по меткости слове на родную историю. Но Погодин не умел ничего
развить, в нем именно не было метода, школы, мастерства, логической обработки и
словесного выражения. Он был подобен почве, рождающей по местам драгоценные алма-
зы, которые, однако, представляются в грязном, грубом, нисколько не привлекательном
виде: позднейшие ювелиры придают им блеск и красоту огней, но, воздавая им должное,
мы не должны отнимать принадлежащего и у почвы. Самое обнародование мемуаров
С. М. Соловьёва есть прежде всего ошибка против памяти знаменитого историка,
который бы никогда их не напечатал (ведь не напечатав же!) при жизни, нс выбросив
одного, нс оговорив другого, не смягчив всего изложения.
461
сгину «церкви и отечеству на пользу», пока не оставят его силы. Все читате-
ли его книги, вся образованная, понимающая Россия уже с спокойствием
будет теперь ожидать продолжения его труда. О, как хотелось бы видеть этот
труд на полке у каждого студента, особенно Московского университета: тут
рассказана жизнь их умственного отечества, рассказана с такою не только
верностью факту, но и благоговейною любовью к дням прошлым этого оте-
чества, то есть с тем чувством, не пробудив которого в себе напрасно выхо-
дить на жизненный труд, напрасно становиться сеятелем в родной земле: эта
земля не примет ей не нужных, не от ее духа выращенных семян...
Несколько дополнительных слов невольно хочется сказать о предметах, срод-
ных с тем, какой побудил нас взяться за перо. Вся Россия не только с живою
радостью, но и с удивлением следит за обильным током пожертвований, стекаю-
щихся в последние годы отовсюду к Московскому университету. Целый городок
- новые клиники на Девичьем Поле - возник без копейки, пожертвованной от
казны, исключительно на частные средства; только что принесено газетами («Рус-
ское Слово» от 8 или 9 марта) известие об основании Музея древнего искусства
при Университете*, для которого богатые, много стоившие коллекции слепков и
оригиналов уже принесены в дар Университету радетелями «благодетельного
просвещения», а город бесплатно отводит для здания обширную пустошь из-
под бывшего Колымажного двора, поблизости к Университету (средства на по-
строение здания также уже есть, и тоже пожертвованные). Не оскудевает «рука
дающего» в Москве, а ум просвещенный умеет и избрать предмет, достойный
жертвы. Вот, однако же, чуть-чуть заметный недостаток, который так хотелось
бы удалить от одной из благороднейших и обильнейших жертв. Три года назад,
не без восхищения оглядывая на Девичьем Поле новые Университетские клини-
ки - буквально целый городок - и читая вделанные в стены зданий имена жерт-
вовательниц и жертвователей, пишущий строки эти был смущен и даже расстро-
ен некоторым внешним обстоятельством: беловатые, огромные здания боль-
ниц, частью с высокими трубами (очевидно, для вытяжки воздуха), имеют вид
неопределенных фабрик, и нет символов, знаков, из которых прохожий, особен-
но если он безграмотен, узнал бы смысл и назначение городка... Некоторая
прерванность, неполнота идеи, здесь так реально и прекрасно воплотившейся,
отзывалась невольною болью в уме, и тем сильнее, чем этот ум радостнее сли-
вался с благим и прямо великим делом. Ведь если бы не было христианства — не
было бы и всех этих жертв: древний языческий мир не знал госпиталей, больниц,
богаделен, не по недостатку в нем способов благотворить, но по отсутствию
самой идеи благотворения, призрения человека человеком, поддержки немощ-
ною сильным. «Носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов» - это
не правило Цицерона и Сенеки, это завет Евангелия. Итак, в основе дела не Алек-
сеевы, не Морозовы, не Боткины, не Мамонтовы - жертвователи; жертвователь
для страдающего и нуждающеюся человечества общий есть Христос, люди же
♦ Об этом музее и истории возникновения мысли о нем, а также о первых на него
пожертвованиях, была прекрасная статья почтенного профессора Московского уни-
верситета, И. В. Цветаева, в одной из книжек «Русского Обозрения» (Март. 1894).
462
суть орудия посредства. Если человек благодарен, если он понимает это, - он это
должен выразить. Стыдно, неприлично для Университета, что, получив столь
щедрые дары без всякого со своей стороны усилия, он не догадался высказать
благодарения первому их Виновнику тем простым способом, каким выражает
это движение сердца всюду и уже девять веков русский народ - воздвижением
образа и перед ним неугасимой лампады, например, над главными воротами,
ведущими в больничный двор; и, далее - образов святителей, в память коих
жертвователи получили имена свои, также с неугасимыми перед ними лампада-
ми; эти образа могли бы быть вделаны в стены отдельных больничных корпусов.
У чреждения, где все изошло из христианского духа, должны быть обвеяны хрис-
тианским духом, в частности - его эмблемами, его знаками. Не знаем, есть ли
при клиниках церковь*; дурно, что нет правила всякого больного, в клиники
принимаемого, на случай внезапной кончины** -приобщать св. Тайн. Надеем-
ся, что муж чести и закона, ныне стоящий на страже попечительства над Москов-
ским учебным округом и его университетом, оценит, конечно, лучше и яснее,
чем мы это сумели бы выразить, необходимость всего указанного, и найдет
способы восполнить недостающее, повторяем - около жертвы, составляющей
гордость и честь России...
Еще несколько слов о давнишней печали наших университетов, - и да
простит великодушный читатель множество лишних слов, здесь мною допу-
щенных и к предмету статьи прямо не относящихся. Эта печаль - неразви-
тость историко-филологических факультетов наших. Устало сердце ожидать
недостающих кафедр в них, и, очевидно, ведомство народного просвещения,
правда, обремененное чрезмерностью административных забот, вовсе не
имеет способов следить за новыми обширными науками, возникшими и воз-
никающими на Западе, которые остаются как бы скрытыми от нашего уча-
щегося юношества. Поразительны открытия, делаемые в области ассиро-
вавилонской культуры; толпы ученых изучают тексты на глиняных дощечках
и цилиндрах, сохранившихся почти чудесным образом в похороненных, -
навсегда, казалось, - под песком пустыни - Ниневии и Вавилоне. Рассказы
библейские (например, о потоплении земли), только с другими именами, с
другими числовыми данными, но с тем же точно содержанием, как это запи-
сано у Моисея, читаются в надписях этих городов, вовсе не знавших Пятикни-
♦ И, кстати, не можем не заметить, конечно, вне всякого отношения к московским
клиникам, что если найдено возможным допустить на пространстве России соедине-
ние дома молитвы с домом учения в так называемой «церкви-школе», то не только
допустимо, но даже требуется всеми заветами Спасителя допущение «церкви-боль-
ницы», «церкви-богадельни».
♦ ♦ Пишущему известен случай внезапной смерти (от паралича или от разрыва
сердца) пациента в новых университетских клиниках, имевший место 2 года тому
назад. Родные внезапно умершего, жившие в далекой провинции и вовсе не знавшие
о существовании у него болезни сердца - не роптали на смерть, в которой Бог волен;
но был сильный ропот на недостаток правила причащать всех при приеме в больницу
и на то, что он человеческой небрежности человек умер без покаяния.
463
жия. Самая идея воплощения Сына Божия, идея искупления мира Его кро-
вью - факт, совершившийся только две тысячи лет назад - в иносказаниях
совершенно ясных читается на глиняных цилиндрах, исписанных рукою чело-
века четыре тысячи лет назад, ранее пророков, царей, судей израилевых: пора-
зительный след Откровения, павшего не на надлежащую почву, заглохшего,
забытого, и которое вновь дано было Богом другим народам, умеющим вни-
мать. Как поразительно, какие открывает это горизонты для мысли, какое здесь
убеждение для душ сомневающихся, для сердец слабых, которых у нас так
много! Но все это - не для нас... Зачем, однако, говорю я о древнем Востоке,
колыбели человечества и нашей колыбели - этнографической, религиозной?
Уже с начала нашего века, и даже раньше, после трудов Нибура и Винкельма-
на, история греко-римская есть строгая, замкнутая в себе наука; ее источники,
ее литература, объяснения ее - неисчерпаемы. Думать, что она представлена
в наших университетах кафедрой «всеобщей истории», имеющею главным
предметом своим христианский мир: средние века, реформацию, гуманизм,
революцию, всю эту сложную сеть духовных и политических отношений но-
вой Европы - значит питать наивную мечту, недостойную ума сериозного и
образованного. Ибо, конечно, ни Нибур не был Леопольдом Ранке, ни Ранке -
Нибуром, и если бы их насильственно соединили в одном лице, с силами есте-
ственно ограниченными, человечество не имело бы как Ранке, так и Нибура,
как не имеет их и наша бедная историческая наука, скомканная в одну кафедру.
Итак, от нашего потомства скрыт Восток; греко-римская история - вырвана из
науки нашей, из университетов наших, как предмет самостоятельного изуче-
ния, а не компилятивного только изложения. Чего же недостает для этого? Ма-
лоспособен ли русский ум?* Недостает средств для основания новых кафедр.
Тайна успехов науки, как и всякого, впрочем, дела лежит в его развитии, в его
ветвлении, в силе безраздельного внимания, которое долгие годы, целую чело-
веческую жизнь устремляется на важный предмет, от которого его не отвлека-
ет никакая забота. Мы уже упомянули и объяснили, что ни времени, ни досуга
посвятить себя этой части просветительных забот - нет у министерства; нет, и
бесполезно об этом скорбеть, думать, размышлять, томиться; нужно - тво-
рить. И вот здесь-иссушенная, жаждущая, растрескавшаяся от голода почва,
ожидающая благого творения души свободной...
Мы говорим это в той мысли, что в доброй России, по аналогии прежних
лет, по подобию прежних людей, есть и теперь умы, готовые начать подвиг и
в размышлении ищущие, где точка самая нужная, куда бы павшее зерно -
принесло наилучший плод...
* До чего, напротив, даже без всяких средств, он рвется к этим новым знаниям,
можно судить по тому, что именно в Москве, если не ошибаюсь, г. Никольский изучен
язык клинообразных надписей Ассиро-Вавилонии, и этот ученый, без кафедры и
лишь с учениками-любителями, переводит и объясняет древние тексты, издающиеся
в подлиннике обществом ученых при Британском музее; так было, по крайней мере,
несколько лет тому назад.
464
AUDIATUR ET ALTERA PARS*
Suum cuique**
Многие, может быть, обратили внимание на эпизод, недавно имевший место
в нашей общественной жизни, и весьма многозначительный.
Г. Коленко, которому вверено управление Воронежскою губернией, в
недавнем циркуляре сделал запрос о сообщении ему имен лиц, находящихся
на государственно-общественной службе (как-то земские начальники, и пр.)
и вместе уклоняющихся от исповеди и причащения. Опрашиваемые, раньше
чем ответить на запрос (как передавалось в одном из мартовских нумеров
«Нового Времени»), собравшись обсуждали, вправе ли правитель губернии
вмешиваться в исполнение ими религиозных обязанностей, и до повторения
запроса решили не давать никакого ответа, а при повторении его вновь со-
браться и обсудить дело. Очень характерно, что даже «Новое Время», сооб-
щив этот факт, насмешливо заметило: «О чем же тут идет речь, и неужели
Воронежская губерния населена атеистами, которые отвергают необходи-
мость исполнять религиозные таинства?». Раньше, чем какие-нибудь слухи
обнаружили дальнейший ход дела, в него вмешался академический «Церков-
ный Вестник» и высказал компетентное суждение о вопросе, быть может,
заставившем тревожно задуматься многих:
«Как бы далеко ни зашло, - говорил он, - небрежение христианским
долгом, несомненно, что формальная отчетность тут ни при чем, и даже
совершенно нежелательно, чтобы без крайней надобности делались опыты -
такое глубокое, чисто внутреннее дело совести, как покаяние, свести на по-
чву формализма и внешней принудительности. И мысль об этом красною
нитью проходит чрез все относящиеся сюда синодальные указы и иные уза-
конения. Самая процедура вразумления нерадивых служит ясным тому до-
казательством. Сущность ее более или менее верно выражена в рассужде-
нии воронежских дворян; но ими упущена из внимания существенная част-
ность, свидетельствующая о том, что самая публичность несовместима с
таинством покаяния. Так, по указу Св. Синода от 1858 г., в конце года должен
быть составляем в каждом приходе реестр всех не бывших у исповеди и Св.
Причастия, и священник должен спрашивать каждого из поименованных в
реестре о причине уклонения, но при этом поставлялось условием, чтобы
священник спрашивал об этом наедине».
И, далее, орган Петербургской духовной академии находит, «что если в
Воронежской или в какой-либо иной епархии должностные лица или обще-
ственные деятели уклоняются от исповеди, то необходимо пастырям Церкви,
и только им одним, подумать о том, как прекратить явление».
Со стороны «Церковного Вестника» здесь выражено все, что можно было
ожидать услышать со стороны Церкви, и никто не усомнится не только в
* Следует выслушать и другую сторону (лат.).
** Каждому свое (лат.).
465
совершенной компетентности этого органа судить о подобных явлениях, но и
в правильности содержащегося здесь решения. Таинство исповеди было бы
разрушено, если бы оно было принудительно; и можно жалеть не только о
некоторой нетактичности г. Коленко, прикоснувшегося, так сказать, внешнь-
ми руками к нему, давшего, по крайней мере, повод думать, что он хочет
поставить исполнение этого таинства под наблюдение; но можно и следует
жалеть даже о том, что как в уставах гражданской службы, так и в правилах
высших и средних учебных заведений необходимость совершения этого та-
инства оговорена и, следовательно, как бы предписана. Покаяние пробужда-
ется во всяком человеке в тайне, и таясь приходит всякий с исповедью к свя-
щеннику. Мария Египетская без покаяния жила многие годы и спаслась по-
тому, что один раз хорошо покаялась! Мало есть надежды, чтобы так же
хорошо умерли бесчисленные чиновники наших ведомств, кающиеся «обя-
зательно» однажды в году.
Так. Но когда кончила говорить Церковь и оберегла неприкосновенность
хранимого ею таинства, может начать говорить общество и потребовать себе
охранения. Имя г. Коленко, несмотря на некоторую (мы уверены - кажущую-
ся) бестактность его поступка, запишется светлыми буквами в истории разви-
тия нашего самосознания. Он начал первый чрезвычайно значительное дело.
Грубо выразив, он не только утонченно, но и благородно понял, что
около русского народа могут трудиться, этому народу служить, этому наро-
ду помогать в жизненной «страде» только люди, совпадающие с ним в эле-
ментарных и основных воззрениях религиозных, политических и даже в бы-
товых, насколько последние связуемы с первыми или вытекают из них. Рус-
ский народ есть прежде всего народ совести, по крайней мере - в идеале; ни
лицемерия, ни фальши в себе или около себя он не выносит; равно не выно-
сит относительно серьезнейших предметов и распущенности. Бесцерковный
или противоцерковный земский начальник, судья, исправник-или будут ута-
ивать перед ним свое отношение к Церкви, или распущенно будут высказы-
ваться, если не в присутствии народа, то так, что это до народного слуха
может достигнуть. Во втором случае это будет распущенность, в первом -
лицемерие; и как люди эти самою своею деятельностью уже замешаны в
народную жизнь, они в эту жизнь будут вносить указанные элементы, и при-
том так, что народ сам не может охранить себя от этого нравственного гнета,
насилия над своей совестью, хоть и утонченного*.
* Здесь нужно бы привести факты, и они, к сожалению, есть. В Б-ске городской
голова и вместе попечитель женской прогимназии, когда священник, о. Николай
И-цкий, пришел к нему' в первый день св. Пасхи с обычною молитвою, - оскорбительно
выслал ему 10-рублевую бумажку в лакейскую, сказав пренебрежительно о молит-
ве, что ее «не надо», что из уст причта и служителей лакейской быстро разнеслось в
населении уездного городка, повредив священнику, но не пошатнув положения голо-
вы и попечителя. Нс так давно я видел почтенного С. А. Рачинского, который очень
взволнованно говорил о могущем произойти вреде от благой идеи устраивать «цер-
кви-школы»; он боялся могущего иметь место неуважения к храму, или, точнее, ува-
466
Поэтому естественно, что всякие подобные элементы должны быть уда-
лены от народа, и не «право» только, но и обязанность лежит на «начальству-
ющих» озаботиться тем, чтобы к народу не подходили эти люди. От губерна-
тора зависит утверждать некоторые разряды лиц, и у г. Коленко явилась пра-
вильная забота, не утвердил ли он таких лиц. Однако зачем он их утвердил? и
кто ему препятствует не утверждать завтра их? Не для чего касаться такого
важного таинства, как покаяние: нужно взять какую-либо подробность ре-
лигиозного правила, даже церковного обычая, и по ней проверить, ревност-
ны ли поставленные около народа люди в Церкви; конечно - не непосред-
ственно это сделать, по невозможности, не опроси священников и без их
одобрения не утверждать вторично на службе тех же лиц. Но гораздо пра-
вильнее даже и на трехлетия не делать нравственного насилия народу, и пере-
нести рассмотрение этой стороны дела с практикующегося post hoc - и на
ал/ehoc, a priori: неверующий, внецерковно верующий или противоцерков-
ный к народу да не приближается. По солидарности, связывающей всех на-
стоящих русских людей, по обычной слабости, индивидуально, каждого Рус-
ского, было бы неудобно вверять это единолично священнику. Сам народ,
управляемый, судимый, оберегаемый в светском отношении тем или иным
лицом, по необходимости всегда интеллигентным или полуинтеллигентным,
в одном отношении, именно в церковном, должен или может быть сделан, и
совершенно открыто, официально, блюстителем жизни и быта этого «лица»
с правом требовать удаления его от себя!
У нас почему-то, в историческом и политическом водительстве, слепые
поставлены выше кривых; и в то время как для старообрядца закрыты все
поприща публичной и государственной деятельности, для атеиста все попри-
ща открыты. Между тем даже такие свободные мыслители, как Бэйль во Фран-
ции и Джон Локк в Англии, не сомневаясь в возможности оставить в составе
гражданского общества отступника от церковной догмы, задумывались и
поднимали вопрос, могут ли в нем оставаться также и атеисты. И по крайней
мере благородный Локк решительно высказывался против, а Бэйль находил
необходимым пространно, в длинных трактатах, доказывать допустимость
атеистов. Мы все это решили молча, без предварительных размышлений, и
не только общество и литература у нас в составе 3/4 атеистичны, но в таком же
приблизительно составе и государственная, и общественная администрация
жения недостаточного, под предлогом, что это - «школа». Он назвал при этом одного
молодого земского начальника, очень деятельного и влиятельного в своей местности,
который, смеясь, говорил: «Что же, церковь-школа - это прекрасно, в ней можно и
папиросу закурить». Я лично знаю случай, когда священник - законоучитель сельс-
кой школы много лет и безуспешно боролся с богатым землевладельцем, членом учи-
лищного совета, который в награду крестьянским детям после окончания курса раз-
давал сомнительные брошюры Толстого. Вообще неуважение к Церкви и религии в
первой элементарной своей форме - неуважении к духовенству и храму, практикует-
ся множеством служилых русских людей, не предполагающих, что этим они выходят
из «своего права», и я не имею здесь другой цели, как оспорить это право.
467
религиозно-индифферентны, то есть не исповедуют чистосердечно никакой
религии (см. «Записки» С. М. Соловьёва, «Русск. Вести.», апрель 1896 года
да и множество общественных и литературных явлений).
Мы слишком a priori распорядились за русский народ; вовсе неизвестно,
он не был опрошен, а опрошенный - наверное, ответил бы отрицательно на
вопрос, принимает ли в общение с собою такое множество атеистов и допус-
кает ли их просвещать себя, судить себя и управлять собою; нуждается ли
вообще в какой-либо от них услуге. Итак, все это множество людей, широко и
паразитически раскинувшихся на народном теле, заведшее даже свою лите-
ратуру, где народное и церковное никогда не упоминается и не допускается к
упоминовению, должно быть сброшено с народных плеч; эти люди должны
получить свое гетто; гетто для жизни своей, бытовых форм, словесности,
«идей», которые не имеют никакого права замешиваться в общенародную
жизнь и мешать ее свободе. Они могут при этом называть себя «отвержен-
ными», «каинитами» и между Юлианом Отступником и Каином искать для
себя красивых аналогий в истории; могут очень презирать «толпу», но все
это-не переступая черты своей «географической оседлости», своего духов-
ного «бродяжничества».
Свобода создать вне христианства, без Церкви, свою цивилизацию им
должна быть предоставлена; нельзя, чтобы эта, уже теперь создающаяся ци-
вилизация росла среди прежней христианской, ее разлагая собою, ее отри-
цая, даже просто - ее оскорбляя своим видом.
В целой европейской либеральной литературе нельзя найти упрека рас-
поряжению австрийской администрации, запретившему мальчикам-христи-
анам креститься в школе, ибо вид этого затрагивает и искореняет религиоз-
ные чувства еврейских мальчиков, совместно учащихся в тех же школах..
Дайте же христианству хоть права еврейства; по крайней мере, в России
дайте христианству права австрийского еврейства; ведь еще пока оно не от-
менено; ведь нет еще аи/ии-Константина, который для нового строя, для сла-
гающейся в недрах наших атеистической цивилизации манифестировал бы
старое «христианское суеверие» упраздненным и на его месте объявил бы
религию чистого «нет»...
КТО ИСТИННЫЙ ВИНОВНИК ЭТОГО?
I
Мы давно ожидали случая высказаться по этому мучительному вопросу; но
прежде пусть говорить о себе факт:
«С половины декабря прошлого 1895 года и до последнего време-
ни Тифлис жил под тяжелым впечатлением чуть не ежедневно возоб-
новлявшихся слухов. То приходилось слышать о расклеенных по го-
роду прокламациях, призывавших армян действовать против русских,
468
как и против турок; то уверяли, что армяне готовят русским в Тифли-
се Варфоломеевскую ночь, что они с 5-го на 6-е января должны были
поднять бунт и заложили мины под мостом, через который должен
был 6-го января пройти крестный ход. То распространялись известия,
что армяне подбрасывают русским угрожающие анонимные пись-
ма, что, будто бы, городскому тифлисскому театру угрожает поджог,
и т. д. Нельзя не отметить, что эти слухи распространялись с изуми-
тельною быстротой как среди интеллигенции, так и среди простого
народа. Цель их была очевидна: взволновать умы, напугать русское
общество в Тифлисе и провести под сурдинку в армянскую массу
идею о возможности при случае действовать против русских силою,
конечно, из-за угла, врасплох, ночью. Цель отчасти и была достигну-
та. В тифлисском воздухе несомненно чувствовалась напряженность,
да и вряд ли она совсем рассеяна. Было уже несколько драк между
русскими рабочими и армянами, задиравшими их. Иные русские
семьи в Тифлисе временно выезжали из города, иные предусмотри-
тельно делали запасы жизненных продуктов на случай каких-либо
беспорядков: ведь все на Кавказе, начиная с хлеба и мяса и кончая
керосином и дровами, в руках армян. В случае уличных беспорядков,
когда лавки закрылись бы, русским в Тифлисе, как мало ожидающим
этих беспорядков и плохо в них верящим, а следовательно, ни к чему и
не подготовленным, пришлось бы нелегко. И хлеб, и вода, и телеграф, и
железная дорога - на время могли бы очутиться в руках армян. Если
мы теперь, когда стремления армянской интеллигенции все больше
выясняются, не изменим чувства благородного, но бездеятельного
негодования на твердую политику по отношению к армянам, несом-
ненно, нам придется пожалеть об упущенном времени.
Безопасная и бесцельная пока, сама по себе, агитация армянс-
кой интеллигенции уже теперь отличается чрезвычайною претенци-
озностью и отчасти разрастается в некое «международное дело», или,
вернее, в некоторую международную игру. В редком армянском доме
не имеется аллегорической картины «Возрождения армянского цар-
ства»: плачущая армянка и восходящая утренняя заря. Ходят слухи,
что в Тифлисе пробуют агитировать и англичане, и поляки. В Турцию
нередко, например, проезжают английские сестры милосердия, кото-
рые, может быть, с излишнею внимательностью относятся к совер-
шенно здоровым русским армянам... На заграничные связи и сно-
шения указывает, пожалуй, и то обстоятельство, что в Тифлисе
появились среди армян монеты из Зейтуна (в Турции), на которых
вычеканены герб и имя «временного князя армян, управляющего зей-
тунеким вольным народом». Князь этот, конечно, природный армя-
нин. За подобные монеты иные армянские патриоты платят по 50
руб. и дороже за одну серебряную. Может быть, впрочем, это только
плутоватая афера на политической подкладке, и монеты - тифлис-
ской же чеканки, ради надувательства более смышлеными армянами
армян менее смышленых. Но, помимо этого, сомневаться, что в
469
Тифлисе пробуют завести международную игру, никак не прихо-
дится. Известные тифлисские убийства после поимки Аминова (или
Амирова) навели, как слышно, на следы агитации, направляемой из
Лондона. Нет никаких оснований нс верить, что в Тифлис были отко-
мандированы уполномоченные революционных армянских комите-
тов. Болес того, отчасти разоблачена уже и тайная организация ар-
мянской агитации. Армяне, по-видимому, копируют пресловутую
«систему тройки», которую ввел польский ржонд накануне .мяте-
жа 1863 года. Каждый член лондонского армянского комитета рас-
полагает, как уверяют, тремя преданными и на все готовыми людьми.
Каждый из этих трех имеет своих трех, или, по крайней мере, должен
их иметь, и т. д. Отсюда и союз трех, или заговор трех. Таким образом,
каждый участник знает лишь трех соучастников заговора. Печать,
прикладываемая к посланиям и воззваниям к народу и отдельным
лицам, изображает ятаган накрест с пистолетом, а вокруг - армян-
ская надпись. С такою или иною организациею, армянские агитато-
ры продолжают вымогать деньги с богатых армян. В Тифлисе переда-
ют о двух новых случаях такого рода.
Являются к городскому голове, князю Аргутинскому, два моло-
дых человека, армяне, и заявляют сиу, что они собирают деньги для
турецких армян и на армянское дело. «Кто же должен помогать, как
не вы, богачи-армяне?» - говорят ему посланцы комитета, грозящего
смертью всякому, кто не исполняет их требований. Князь Аргутинс-
кий, сразу узнав, с кем имеет дело, искусно повел с своими непроше-
ными посетителями игру. «Моею мечтою, - отвечал он посланцам, -
было оказать нашим братьям в Турции материальную помощь; я не
находил только случая подходящего и лиц, которым бы можно было
вверить деньги. И теперь, господа, я готов; скажите, когда можно бу-
дет вручить вам деньги, так как при мне не имеется больших сумм, а
весь капитал мой в процентных бумагах и именных билетах. Хотите,
возьмите бумаги, а не хотите, я завтра же разменяю в банке и в час,
который вы назначите, приходите ко мне за деньгами». На это князь
Аргутинский получил ответ, что с него назначено (кем?) получить
10 000 руб., не менее. Князь и на это согласился и условился на другой
день в своей квартире передать назначенную сумму. Предупредив
полицию, князь Аргутинский на другой день с деньгами ждал своих
вчерашних посетителей, которые в назначенный час и нс замедлили
явиться. И в то время, когда хозяин дома отсчитывал им деньги, из всех
дверей явилась полиция, и собиратели капиталов на армянское дело
были арестованы.
С владельцем чугуноплавильного завода, инженером Яраловым.
поступили несколько иначе. Он, как рассказывают, получил письмо
с требованием к известному сроку денег, за которыми явится к нему
посланец; при этом его предупреждали, что в случае неисполнения
требования, он, Яралов, будет убит. Дав знать полиции, г. Яралов в
назначенный день к явившемуся посланцу не вышел, а, оставаясь за
470
драпировкой, наблюдал за ним. С явившимся за деньгами вел разго-
вор родственник г. Яралова, г. Карангозов, который объявил гостю,
что г. Яралова нет, но он знает, что нужно передать гостю. Посланец
отказался от объяснений с г. Карангозовым, а передал ему письмо
для г. Яралова. В письме этом повторялось требование, но уже удво-
енной суммы денег, под угрозою смертью. На другой день этот джен-
тельмен, арестованный полициею, выслеживавшею его, увидя, что
ему делают очную ставку с Карангозовым и Яраловым, заявил, что
напрасно беспокоили этих лиц вызовом в полицию, так как «я, мол,
не отрицаю, что именно я, а не кто иной, являлся к Яралову за день-
гами. Я уже простился с родными своими и знакомыми и на все
готов».
При этом задержанный заявил, будто арест его не избавит г. Яра-
лова от смерти: «Не я, так другой, не другой, так третий, но Яралов
будет убит». От дальнейших показаний арестованный отказался, зая-
вив, что ничего от него не услышат.
Вот еще случай. Одна богатая вдова, армянка, к которой не-
сколько раз обращались с требованием денег, выведенная из терпе-
ния, объявила, что если ее не оставят в покое, она уедет в Россию и
примет православие; пока еще неизвестно, подействовало ли это на
исполнителей воли тайного комитета.
У всякого русского человека, который слышит о таких происше-
ствиях и им подобных, невольно возникает чувство глубокого недо-
умения: да каким же образом создалась почва для подобной под-
польной агитации, для попыток терроризировать богатых армян,
не желающих субсидировать членов и агентов революционных ко-
митетов?» («Письмо из Тифлиса», в «Нов. Времени», № 7198, от 13
марта 96-го г.).
И всюду она, и всегда она - наша «интеллигенция», это любимое, бало-
ванное дитя государства и общества, которому все позволено и которое ни к
чему не обязано.
Армяне как народность, как население - спокойно; вдова-богачка соби-
рается выехать в Россию и принять православие, чтобы сохранить себе ту
долю покоя, на которую имеет право каждый житель в благоустроенном го-
сударстве; в этнографическом смысле армяне, как и прежде, торгуют, зани-
маются промыслами, обрабатывают землю. Английские эмиссары, проез-
жающие в Турцию, если бы вздумали обратиться к этим хлебопашцам, ре-
месленникам, торговцам - не нашли бы для себя никакой почвы; они были
бы выслушаны и не поняты; мы не поднимаем вопроса о сочувствии: этого
вопроса нет за отсутствием самого языка понятий, общего у возбуждающих
и возбуждаемых.
Нам этого было не довольно; мирное население, цветущее благосостоя-
нием, отличающееся покорностью, героическое на службе принявшего их
нового, но вечного отечества - это так мало все. Багратион, Лазарев - не
достаточная краса нашей истории; нам необходимо украсить ее... Джанши-
471
евым, который написал бы для нас «Из эпохи великих реформ» и теми, без
лица и имени авторами, которые агитируют в пользу «возрождающейся»
Армении в самой Москве, через газету «Русские Ведомости»*. Нам нужно
было создать армянскую «интеллигенцию».
II
Не с природою, не с климатом, не с отдаленностью от центра страны морей,
не с постепеннЫхМ высыханием рек, истощением почвы, исчезанием лесов -
всеми географическими и физическими препятствиями к развитию - мы глав-
ным образом боремся в своей истории; мы устали, мы измучены, мы не
видим конца громадной затрате энергии на борьбу с вчерашними своими
ошибками. Законодательные работы, обширная статистика, совершенно нео-
бозримая, неисчислимая администрация, администрация несчетно оплачи-
ваемая, работает, трудится, потеет, думает, - не как углубить Волгу, остановить
зыбучие пески на юге, избавить поля от засухи; но как... развязаться с топ
совершенной нелепостью, которую она вчера делала с таким старанием, об-
ложась статистикой, обстановившись комиссиями и производя вороха бумаг,
которыми можно натопить фабрику. Мы создавали Польшу, мы ее разруша-
ли; нас не благодарили за одно, ненавидели за другое. Мы разрушили Польшу
и создали на ее месте окраину Германии; первую еще мы могли разрушить,
для разрушения второй не имеем ни прав, ни смелости, ни силы. Мы обруси-
ли Ост-Зейский край, мы немечили юг России - не с разделением во времени,
но тогда же. Мы боролись с полонизмом, мы вызывали к жизни армянизм. У
нас нет идеи, нет плана; у нас нет веры: вот это - истина, у нас нет знания:
где же истина? Эмпирики ли мы, не умеющие сосчитать по пальцам? Гам-
леты ли мы, ушедшие в безбрежность сомнений - кто нас разберет? Но ночь
темнее тучи, но черная ночь висит над нами; корабль бытия нашего не про-
* На рождественских праздниках этого года я имел случай прочесть несколько
№ № этой газеты, о которой ходят слухи, что она руководится кружком московских
профессоров: каково было мое удивление, когда в каждом № я читал «о турецких
зверствах»... не в Болгарии - о Болгарии и зверствах в ней турок эта газета молчала
или выражалась иронически в 75-76-х гг.; кровь южных славян, бежавшая по турец-
ким ятаганам, очевидно, нисколько не тревожила сердца мирных профессоров; я чи-
тал - «О турецких зверствах в Армении», «К вопросу о реформах» и «Еще о рефор-
мах в Армении»; читал о носящихся слухах, видел забегающие вперед предположе-
ния, и, словом, ясно было, что в то время как мирные русские профессора дремали,
какие-то бойкие южные человеки дергали из-за спины их пружины маленькой и лов-
кой газетки (тут все печатались: «объявления», «письма» и «воззвания» в пользу
недостаточных московских студентов, очень дешево стоившие редакции и приносив-
шие ей обильную дань читателей и подписчиков). Спи Россия, спи мертвым сном! За
тебя сделают все покоренные тобой народы; ведь ты их владычица, - спи же безмя-
тежным Зевсовым сном, пока эти карлики тут хлопочут около тебя, за тебя и, будем
верить - для тебя!
472
чен; нет мысли в нем; и страхом, и ужасом, и негодованием, и смехом самым
обыкновенным, и темным мистическим предвидением полна душа при взгля-
де на настоящее, при мысли о будущем...
Бедную армянскую народность, смиренно платившую подати, возделы-
вавшую землю, дававшую нам Лазаревых, нам бесконечно благодарную за
то, что мы обеспечили им мир, покой, элементарную справедливость, — эту
народность, певшую на языке своем: «Я буду ноги мыть русскому солдату и
пить эту воду» (есть такая народная песенка у армян) мы захотели хитро и
дальновидно «претворить» в русскую народность... О, русские Меттернихи,
о, совершенные Талейраны истории. Итак, мы решили на «государственном
языке» выучить их алгебре, Астиагу и Киру, римским консулам и папам,
австралийским рекам; мы так трусливы внутренне, что не имеем мужества
выговорить: «на русском языке», мы говорим безлично-робко: «на государ-
ственном», как бы извиняясь за то, что этот государственный язык, к несчас-
тью, есть вместе и русский. Сказать, подумать: sum et его*-для нас, между-
народных Акакиев Акакиевичей, для нас, исторических Поприщиных, дерза-
ющих и не дерзающих в тайных помыслах души поставить свое имя на том
знаменитом месте, на котором изволят подписываться их превосходитель-
ства, настоящие Талейраны и Меттернихи, для нас это подумать или сказать,
хотя бы перед не выученными еще ничему армянами, есть такое героичес-
кое усилие, к которому мы решительно неспособны... Итак, на «государ-
ственном языке» мы их выучиваем алгебре и консулам; но тут начинается
счет по пальцам, и, конечно, с самыми ужасными ошибками не только в
алгебре, но и в простом арифметическом сложении...
От Императора до пономаря все знают не только в России, но, кажется,
узнали и в целой Европе, узнали из слишком грустных историй, что почему-
то всякий выученный консулам и алгебре русский мальчик становится не-
пременно «гражданином мира»; отчасти он напоминает маркиза Позу, от-
части французского прикащика, странствующего по торговым делам где-
нибудь в Африке или в Германии. Его сведения обширны, допустим, точны;
отечества у него нет, религии тоже нет - он выше ее; у него есть память имен
некоторых и ни к чему - привязанностей; нет вовсе семьи - от старших он
отвязался, младших он не будет иметь - об них нужно заботиться, а это тяже-
ло. Его отличительная, пожалуй, самая важная, характерная черта-та, что об
нем нужно заботиться, он же ни о чем не может заботиться. Он есть есте-
ственный альфонс - отечества своего, города, в котором живет, практики,
которою занимается; в тайне души он сознает вину свою перед всем этим; но
он не может уже исправиться и от этого он ненавидит все это. Он ненавидит
отечество - как живой упрек, семью - как не исполненную обязанность; его
тяготит вид всего окружающего, на котором он висит, как камень, и тянет с
собою, за собою это окружающее куда-то ко дну. Он nihil’ист, будучи совер-
шенно смиренным, как и очень буйным. Он несчастен - это главная его
* «я есмь и буду» (лат.).
473
черта; потом он зол - это уже следствие. Он нуждается в материнской неге;
он достоин самого нежного ухаживанья, как неисцелимо больной, как боль-
ной душою. Редко кто об этом догадывается; редко даже он умеет высказать
свою нужду; все от него отталкивает; его вид, его речи, его поступки, этот
холод сердца, эта недалекость ума, эта претенциозность, эта хвастливость
убогого нищего, размахиванье руками человека, который существует только
на средства «благотворительных комитетов» - возмущает наиболее нрав-
ственных и кто мог бы выказать ему участие. Все льстят ему и поскорее от
него бегут. Он страшно одинок; в сущности - он матерьяльно даже брошен;
но еще более - он брошен душевно. Алкание духовное, воспаленность пус-
тоты, необъяснимость горя, неутолимость страдания, и в результате, у край-
них, но наиболее последовательных, петля для себя и динамит для окружаю-
щих, или медленное высыхание в себе, медленное подтачиванье окружающе-
го-оканчивают существованье столь тягостное, смешное, нелепое челове-
ка, который в 8-10 лет резво играл на дворе, бегал с сестренкой в жмурки и
которому в голову не приходило, чтоб он мог когда-нибудь возненавидеть
свою маму, о котором «маме» не приходило в голову, что будет время, когда
ей останется только проклясть его.
Как, почему это выходит - об этом можно спорить; нет вопроса ни у
кого, что именно так выходит.
Этим бедствием своей истории, этою отравой, от которой мы сами не
имеем средств - в заботах полувеликодушного маркиза Позы, полудально-
видного Талейрана, мы решили облагодетельствовать кавказские народно-
сти, которые не знали другого бедствия, кроме недостатка воды в арыках,
кроме болезни тутового червя.
Лет 9-12 назад в «Московских Ведомостях», в отделе мелких сообщений,
был напечатан факт: грузин или армянин, но во всяком случае кавказский
туземец, послал своего сына образовываться в Москву. Долгие годы разлуки
прошли; сын прошел гимназию, окончил в университете курс. Он снова под
родным кровом; отец, с патриархальным добродушием, устроил по случаю
приезда сына родственный обед, на который были приглашены не только
близкие, но и дальние сородичи и также почетнейшие из соседей. Было вы-
пито уже несколько бокалов местного вина; невольный гость своей родины,
любимое детище отца, гордость семьи - особенно теперь гордость - разго-
ворился; его разговор был волен, непривычен и произвел уже с первых слов
смущение в окружающих. Но говоривший не замечал этого. Он говорил в
патриархальной семье о всем, что могло поразить их бедное воображение, их
робкую мысль, - и что же более могло поразить их, как не «святые чудеса
отрицания», до которых в Петербурге и Москве дорос каждый камердинер.
Стыд и волнение за него все увеличивалось в семье, которая позвала и сосе-
дей не без самонадеянной и суетной мысли, слишком, впрочем, понятной...
Наконец, он дошел до религии и стал кощунственно издеваться над именем
Бога... Он вовсе не замечал впечатления окружающих, слишком занят был
474
собой и своими «мыслями». Вдруг отец неожиданно поднялся из-за стола, и
раньше, чем кто-нибудь что-нибудь успел сделать, он сорвал висевшее тут
же на стене ружье и убил его наповал...
Я не изменяю ничего в факте; я не помню года, числа, нумера газеты; но
это сообщение было - в этом я ручаюсь моею совестью и честью. Легко
очень напечатать его мелким шрифтом; но его пережить отцу, матери, се-
страм, пережить его селу, переживать это стране - нет, это в их истории уже
не мелкий шрифт. Мы знаем все, про себя, что в более бледных красках, с
менее печальным исходом - вариации картины этой повторяются в десятках
тысяч и наших собственных семей. Это - наш домашний секрет; но, конечно,
о нем ничего не знал посылавший доверчиво к нам своего мальчика какой-
нибудь добродушный кавказский «князь»...
III
Если мы уже взяли Кавказ с его бесчисленными народностями, мы должны
понимать этот факт во всех его определенных последствиях; раз Грузия, Ар-
мения, Имеретия, как в других местах Польша, Финляндия, стали во внешних
чертах бытия своего фактами внутреннего нашего бытия - законы и формы
этого их бытия не могут быть тожественны с теми, по каким существуем мы.
Факт ужасный угасания в истории народностей - имеет свое место; его
основания - таинственны; кто ему подвергается - мы о нем не можем не
скорбеть; говорить о нем, размышлять, что-либо утверждать здесь - мучи-
тельно, как и бесплодно что-либо отвергать. Это есть факт, что в мире расти-
тельном одно вырастает в высокий дуб, другое в мелкую траву, одно суще-
ствует века и другое засыхает к осени. Горько ли это? Для чего это нужно?
Для чего не все пользуется равномерным количеством бытия в природе и в
истории - напрасный вопрос, на который человек никогда не получит ответа.
Во всяком случае, угасающее должно жить именно по законам угасания;
и, по человеческому милосердию, мы должны сделать, чтобы угасание не-
слось как можно легче, чтобы бремя тусклого бытия выносилось с возмож-
но меньшею болью. Все поэтому, что могло бы пробудить у этих племен
тоску более сложного и яркого существования, должно быть бережно от них
удалено. Народ, исторически угасающий, есть вновь этнографическая мас-
са, какою он был первоначально, до момента собственного в истории движе-
ния, - движения, теперь законченного, не продолжающегося. Та степень ста-
рости, в которую он впал, есть повторение детства, из которого некогда он
вышел. Оно требует о себе тех же забот, того же полного обеспечения всех
внешних условий безболезненного бытия и того же удаления всего, что те-
перь слишком поздно, как тогда слишком рано, могло бы возбудить инстинк-
ты, которые не могут более найти никакого себе удовлетворения. Некоторая
запущенность всей жизни, ее беспризорная несвязанность, ее внутренняя
непринужденность, ее всегда и исключительно частный и местный колорит
475
должны в высшей степени ответить тому историческому провинциализму,
который теперь настает для данной народности и страны. Тысячелетние дво-
ряне, в этот век ставшие однодворцами, они естественно должны пахать, а не
рассматривать гербы свои, им более теперь не нужные. В государственной
жизни, среди обширного, их принявшего в свои недра народа, они составляют
естественное как бы крестьянство: та элементарность бытия, недалекость за-
бот, невстревоженность отношений, несложность помыслов, которая отличает
это состояние среди других, более деятельных и живых классов, естественно
принадлежит этим народам, утратившим внешнюю независимость, вытекает с
необходимостью из акта потери ими исторической автокефальности.
IV
Что же мы видим? Что наделали наши Акакии Акакиевичи, к поздним
десятилетиям этого века позванные управлять «департаментом», и даже более,
чем только департаментом. Они посягнули на то, что именно оберегая эти наро-
ды отказались от внешней независимости - на частный, личный покой каждого,
на обеспеченные им элементы бытия, каковы язык, обычай, вера (закон о сме-
шанных браках); и, вместе, взволновали их идеями общими, представлениями
далекими и влекущими, воспоминаниями и сравнениями раздражающими. Их
захотели «обрусить» при помощи «государственного языка»; армяне, которые
на народном языке благословляли русского солдата, пришедшего защитить их
жизнь, имущество, детей и жен от насилия и разорения, теперь на «государствен-
ном языке» проклинают русское имя; поляки клянут нашу Россию языком Гого-
ля и, может быть, ссылаясь на его художественные образы, говоря: вот, посмотри-
те, «эти уроды ненавидят себя и требуют, чтобы мы их любили». Тайн нашей
внутренней жизни, тайн нашего Гоголя, красоты Пушкина, интимность нашей
поэзии, тоски всего нашего духовного развития они не знают; они «усвоили»
Россию чисто внешним образом, школьно и газетно; они посмотрели на нее со
стороны, как иностранцы, которых силою вынудили смотреть на слишком отвра-
тительное для них зрелище, и притом, по крайней мере, наружно, не морщиться.
Нервность скрытого негодования от только что перенесенного личного насилия к
усвоению языка, им антипатичного, ими неуважаемого, сплелась с общими иде-
ями, искусственно привитыми и возбужденными школою же. И вот мы имеем
двустороннее зло, не умеряемое никаким добром. Мы ввели еще разлагающий,
отрицательный элемента собственную «интеллигенцию», и мы создали тоскли-
вые воспоминания, малящие надежды, раздраженные отношения на всех почти
своих окраинах. Ибо если, по объясненному выше закону, выученный консулам
и алгебре, русский юноша и ненавидит отечество свое, то это лишь в качестве
окружающей его действительности, которая ему вообще непереносима; но то
же отечество как некоторая возможность, как известная надежда манит «интел-
лигентного» армянина, латыша, поляка с тою же степенью страстности, как и
русского юношу манит «отечество» будущего «некапиталистического» строя.
476
V
Ничего нет более поразительного, как впечатление, переживаемое невольно
всяким, кто из центральной России приезжает на окраину: кажется, из старого,
запущенного, дичающего сада он въезжает в тщательно возделанную, заботли-
во взращиваемую всеми средствами науки и техники, оранжерею. Калужская,
Тульская, Рязанская, Костромская губернии и вся эта центральная Русь напоми-
нает какое-то заброшенное старье, какой-то старый чулан со всяким историчес-
ким хламом, отупевшие обитатели которого живут’ и могут жить без всякого
света, почти без воздуха; где насилие никого не заставит закричать, а если кто и
закричит - никто этого не услышит. В Московском учебном округе только в эти
два года был закрыт целый ряд прогимназий: в Ефремове, Касимове, кажется -
Белеве, немного ранее - в Брянске; здесь сокращается ученье, то есть оно так
дурно было поставлено, так мало сообразовано было с местною нуждою и так,
вообще, беспризорно заброшено, что явилась даже внешняя необходимость
его сократить; войдите же в Привислянский, Ост-Зейский край, в бывшую Но-
вороссию, на Кавказ, даже в города Туркестана, и вы увидите тщательность
сюда приложенных забот. На 2-3 миллиона финнов есть университет; он есть
для 3-4 миллионов прибалтийских немцев; с Петербургским - мы имеем три
университета в прибалтийских губерниях; и, если прибавим сюда Варшавский
университет - имеем четыре, то есть половину всего числа их в Империи, рас-
положенные на одной западной окраине. Как пустынна от них сравнительно
Россия, с двумя единственными своими университетами, Московским и Казан-
ским, на линии от Новгорода до Томска, от Архангельска до Харькова. Можно
подумать, что «империя» перестает быть русской; что не центр подчинил себе
окраины, разросся до теперешних границ, но, напротив, - окраины срастаются
между собою, захлестывая, заливая собою центр*, подчиняя его нужды господ-
ству своих нужд, его вкусы, позывы, взгляды - своим взглядам, позывам, вку-
сам. Употребляя таможенную терминологию, Россия пользуется в самой Рос-
сии «правами наименее благоприятствуемой державы». Если для Франции,
Германии, Англии, Америки презренность племени русского проблематична,
то в России это не составляет никакого вопроса. «Помилуйте, разве мы - Аме-
рика», - отвечает вам прикащик книжного магазина (Вольфа, в Москве) на
вопрос, почему экземпляры нового издания Тургенева еще не продаются в
переплетах; «да разве в России можно что-нибудь сделать», - с презрением
говорит вам прикащик маленького магазина швейных машин, где вы прицени-
ваетесь к цинковому цилиндру для стирки белья и удивляетесь, почему он стоит
так дорого; «даже и в более образованных, чем Россия, странах, не нашли воз-
можным это запретить», - разъясняет вам парикмахер на вопрос, бывает ли
* До чего это сказывается даже в мелочах, видно из того, что с окраин начинается
монументальная «Живописная Россия», с окраин начинается печатание материалов
для истории образования в России и, наконец, с окраин начинается изучение русской
географии в гимназиях. Центральною Россией скучает всякий пишущий, и это даже
тогда, когда «писатель» есть только составитель учебника.
477
их «заведение» открыто в 1-й день Пасхи. «Мы еще сидим в приготовительном
классе Европы», - подтверждают «Новости» (март, 1896 г.), «только в Турции и
России одинаково государственное устройство», - открывает юным слушате-
лям университета профессор с кафедры. Решительно, презренность имени рус-
ского есть единственное объединяющее Россию понятие, с которого парикма-
хер и профессор, капельдинер и его барин начинают понимать друг друга; а не
согласившись в котором люди теряют общий язык, на коем они могли бы разу-
меть друг друга. Пасторы церкви евангелической руководили и руководят це-
лыми гимназиями; относительно пастырей церкви православной до сих пор
сохраняется в силе правило, по которому они не могут быть назначаемы — одни
из всего состава учителей - классными наставниками в классических наших
гимназиях. Русские в России - это какие-то израильтяне в Египте, от которых
хотят и не умеют избавиться, «исхода» которых ожидают, - а пока он не совер-
шился, на них возлагают все тяжести и уплачивают за труд ударами бича. «Рос-
сия -для русских», - какое издевательство! «Россия возрождающаяся» — какое
недоразумение! В Москве существование «Русского Дела», органа с славяно-
фильскою традицией, внушало постоянную тревогу; и не вызывает никакого
смущения существование в Петербурге ренегатских «Новостей» и «Биржевых
Ведомостей». «День», «Парус» И. Аксакова - гонимы; нигилистическое и не-
вежественное «Дело» Благосветлова - все время, долгие годы распространяв-
шее ненависть и презрение к России, по преимуществу среди молодежи, мир-
но кончается со смертью основателя, решительно ни разу не потревоженное
ничем; Адам Чарторыйский 20 лег направляет образование в нескольких губер-
ниях - за Хомяковым ходит вахмистр и «дозирает», как бы от его бороды не
загорелась Москва. Быть предателем в России - это значит всею достигнуть, во
всем успеть, быть православным не по метрике только, монархистом - и при-
том вслух, это значит быть выброшенным за борт текущей жизни, остаться без
приюта, в нужде и чуть не на голодную смерть (Достоевский, К. Леонтьев,
Н. Страхов). «Монархия», «православие»... это-тайна, которую их прозелиты
в России могут передавать друг другу только шепотом; Белинский осмелился в
статье по поводу «Бородинской годовщины» выказать любовь к земле своей:
ему сорок лет это не было забыто и до сих пор повторяется еще: «До чего же
мог увлекаться этот человек». Россия «nascens», «divisa», «oppressa»* - опре-
делял в любящем уме своем Шлоцер; Россия victrix et florens* **, заканчивал он
классификацию ее исторических циклов. Какое заблуждение!.. Россия - само-
изменяющая, Россия - бегущая от себя самой, закрывающая лицо свое, отри-
цающаяся имени своего, Россия - это Петр во дворе Каиафы, трижды говоря-
щий «нет», «нет» на вопрос: кто он? - вот истинное, соответствующее дей-
ствительности определение ее в текущий фазис истории. И никогда, никогда
этот отрицающийся Петр не восплачегся об отречении своем; никогда не про-
кричит для него петух укоряющим напоминанием...
♦ «рождается», «распространяется», «захватывает» (лат.}.
** победоносная и процветающая (лат.}.
478
VI
И если Россия духовно есть как бы обмершая страна, если из всех ее населяю-
щих народностей русская с наибольшею робостью, где-то в углу и под фалдой
читает свое credo, - слишком понятно, что все остальные народности смотрят
на нее как на очень обширный и удобный мешок, в котором они сохраняются
на время, чтобы потом, вывалившись на свободу, зацвести своею самобытною
жизнью. У них нет господствующей идеи, которой должно быть подчинено их
бытие: идеи угасания своего в истории, первая посылка которой положена была
много лет назад в факте утраты ими внешней независимости. Ни мы не смеем
взглянуть на них с этой единственно истинной точки зрения; ни они не имеют
оснований принять эту точку зрения, видя, как зыбко, как неуверенно бытие
народности, в недрах которой им предстоит угаснуть. Отсюда взаимный само-
обман, отсюда - бездна страдания уже теперь и особенно впереди. Мы не име-
ем прямого мужества их освободить: это значило бы умереть самим, и уже не
в идее, но фактически; но мы подводим их к идеям о свободе, всюду давая им
забот более, чем сколько уделяем себе; давая им более внимания, предупреди-
тельности, чем себе; просвещая их тщательнее, чем себя. Нельзя представить
себе, чтобы выучившийся армянин смиренно оставался не по одной внешнос-
ти, но и в глубине души, только полковым лекарем, только учителем русской
прогимназии, только безыменным фельетонистом в русской газете. Он хочет
идей более общих, предметов любви - более отдаленных; он не может любить
России, если ее не любит уже и выученный русский. Армения, «единая великая
Армения», как там, на Западе, Польша «от моря до моря» - это есть естествен-
ная и совершенно благородная тоска без нужды встревоженного, нами встре-
воженного сердца; эта тоска - поэзия его жизни; в ней он находит утешение от
личных неудач. Он беден - оно будет богато; ему все не удается - оно будет
счастливо; он теряет детей, он болеет, он может умереть - оно вечно останется
жить для детей его, ere друга, соседа, племени. Нет более благородной, более
связывающей и притом совершенно живой идеи, чем идея отечества, общей
родины, и притом свободной, независимой. Лелея ее в себе, мы не можем ее
осудить ни в ком, то есть мы не можем с нею ни бороться, ни ее отвергнуть, ни
ее критиковать в другом. Итак, если исторически мы уже столкнулись с нею,
если факты уже совершились и нам остается только продолжать и оканчивать
их - пусть умрет самая идея в том ограниченном и местном смысле, как гео-
метрия умерла для галлов V-VI века, для греков И-Ш в. по Р. X. EGvog, население
не знает этих раздражающих идей; все к нам вошедшие в состав народы и долж-
ны стать снова этим EQvog; они должны перестать быть определенно выража-
ющим себя и, след., определенно требующим себе лицом; они должны вер-
нуться к той элементарности бытия, к которой, пройдут века, как бы они долги
ни были, вернемся и мы, когда Бог позовет на чреду другие народы. Но пока, в
этот век и ближайшие, на чреду позваны именно мы, нам указано быть, перед
Богом и перед другими народами, лицом, исповедующим истину своего бытия,
раскрывающим эту истину в сложных идеях, в далеких чаяниях, в углублениях
479
своего сердца. И не будем же, вопреки этому призыву, изгоями в собственной
стране; не будем отрицаться себя; на призыв Бога к труду, к историческому
деланию, не будем отвечать, как робеющий Адам: «Господи, я устыдился, ибо
я наг, и спрятался». Ибо источник этого стыда есть некоторое ложное знание о
своей наготе; именно - предположение, что без прикрывающих одежд, в себе
самой взятая, она представляет безобразие. Наш стыд исторический имеет по-
добный же для себя источник: мы совершенно забыли первозданный в себе
образ Божий; мы все тщимся прикрыть его одеяниями внешней, заимствован-
ной цивилизации. Мы не доверяем в себе этому прекрасному первозданному
лику, мы его презираем, мы, наконец, возненавидели его. И вот от какого перво-
родного греха нашей ложной цивилизации нас гонит дальше и дальше мучи-
тельный стыд; и закрываем мы лицо свое перед другими народами; и убегаем
их тем мучительнее, чем ближе, по-видимому, к ним подходим по внешности,
чем больше набрасываем на себя одежд и глубже и глубже прячем под ними
свою «презренную» наготу, - ту прекрасную наготу, которую нам дал Бог...
ДВЕ ГАММЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
Давно и всеми признано, что народ наш не имеет ничего общего с миросо-
зерцанием верхнего «образованного» класса; гораздо менее замечено, что
еще глубже он отделяется от этого класса в складе своего чувства, в своем
моральном воззрении. Это как бы две разнородные психические гаммы, из
коих законы одной не имеют никакого значения для другой; которые не вос-
принимаемы, не усвоимы для одного сердца. И та душа, которая упивается
порядком чувств, текущих в одной гамме, отвращается как от нестерпимой
нравственной какофонии от чувств, подчиненных закону другой гаммы. Ни-
когда не было это так ясно, как в эти последние дни...
- «Кто был виновник Ходынской катастрофы»? - этот вопрос есть
неизменно второй, который предлагается в разговорах образованно-
го класса вслед за вопросом, были ли вы свидетелем катастрофы,
читали ли о ней, думали ли. Вы его услышите ранее, чем вопрос о
числе жертв; чем просьбу передать подробности события, если по
чему-нибудь они могут быть вам известны. Но любопытно, этот воп-
рос никогда не предлагается в народных разговорах о «ходынке»; и
даже когда вы, в своем интеллигентном раздражении, точнее - отра-
жая на языке своем тысячу раз слышанное ухом, заговорите среди
простонародья о «виновных», самое живое недоумение выражается
на лицах мужиков и баб, мастеровых и торговцев...
Кто был виновен - теперь в Ходынке, немного лет назад в народном
голоде, и уже очень давно в бедствиях Крымской войны? Кто был вино-
вен, кого я мог бы осудить?.. О, осудить только по бессилию: кто тот, кого
я хотел бы растерзать, и растерзал бы, если б имел силу, но вот несчаст-
ным своим положением, несчастным положением моего отечества об-
речен на ярость слов без всякого соответствующего действия»...
480
Собственно, это чувство бежит впереди самого сострадания к раздавлен-
ным, голодающим, побитым в Крымскую кампанию. Если присмотреться
хорошо, сострадание в образованном классе даже не особенно сильно; оно
подогревается, возбуждается; оно ищет сильных слов, потому что только в
этой форме может послужить основанием для сильного, бурного негодова-
ния. Можно сказать - сострадание искусственно, но негодование вполне ес-
тественно; оно течет свободно, оно не усиливается отыскать слово; оно изящ-
но и мудро, как сама природа, как живая природа...
Это - гамма западноевропейских чувств; тех чувств, из которых выросла
революция, ранее - реформация; еще ранее - католицизм, как бурный, ис-
полненный презрения разрыв Запада с «растленным» Востоком...
«Растленный» Восток таким и признает себя; кающийся мытарь - его
прототип; грешница, отирающая ноги Учителя своими волосами - его идеал,
«прошедший душу» идеал, сладостно уязвивший сердце тысячелетие назад и
язвящий его с тех пор и доныне... Кого осудит мытарь? На кого поднимет глаза
грешница? Осудят ли они «среду», «социальный строй», который их пожрал?
Они не понимают этого. Блаженны непонимающие! Блаженно, трижды бла-
женно это непонимание, которое дает душе такое чудное упокоение; мирную
кончину на исходе 60-го года; бодрость труда в течение 60-ти лет.
Давид, предупреждая новейших политиков и социологов, вздумал од-
нажды произвести статистику населения; он захотел «исчислить» народ Бо-
жий - бесспорно, в целях рассчитать (как и теперь), что он может с ним и
чего не может. Как страшно был он наказан! как был посрамлен в своих
расчетах: почти не менее, чем Франция, которая всякий год считает у себя
население и каждый год его не досчитывается...
Смерть жатву жизни косит, косит
- и никакая статистика, ни медицина, ни социология, ни дряхлый позитивизм,
ни молодящийся идеализм не умеют, не знают, как удержать руку Косца. Меж-
ду тем - это бы только и нужно...
Но это «единое на потребу» дано именно непониманию; и вот почему
еще раз: блаженны непонимающие! Блаженны голодные и не спрашиваю-
щие: почему я голоден? раздавливаемые и не спрашивающие: кем я раздав-
лен? побитые и не задающиеся вопросом: в силу каких причин мы побиты?
Блаженны, ибо они будут живы; они будут живы еще и тогда, когда ведущие
расчеты с Богом будут тлеть...
Для «интеллигента» (каким имеет страдание быть и пишущий эти стро-
ки) нет ничего поразительнее нравственного покоя, с каким народ принима-
ет вопросы о «ходынке»: «верно Богу было угодно», «попущение Божье и
наши 1рехи», «народ зашевелился - многие тысячи, десятки, сотни тысяч
были», «Государь печален, вы говорите: отчего»? - «Год от году тяжелее
Государям нашим». И ничего более, ничего, кроме факта; ничего, кроме
сосредоточенного внимания к сердцу Царскому, к его возможному огорче-
нию. Много осуждения себе: «народ шальной», «не торопились бы - всем
16 Зак. 3969
481
бы достало»; «в поезд садятся 2-3 сотни человек, и то в дверях давка». И
никакого злобного взгляда вокруг или наверх; полная чистота сердца, полная
не испорченность воображения. Что с таким народом можно сделать! каких
великих подвигов не совершить? Каких светозарных целей в истории не дос-
тигнуть? И этот-то народ-патриарх, этот народ-римлянин хотят в чем-то по-
править, улучшить через школу: сделать его патриотом «по Иловайскому»,
научить вере по «Кратким начаткам катихизиса». Жалкие слепцы, жалкие
изуродованные создания...
Тайна великих исторических событий лежит в этих априорных предрас-
положениях сердца. Оно гневно - и ищет еще раздражающих фактов; или
исполнено прощения - и решительно отказывается обвинить. Приложите эти
две схемы к положению Франции в конце XVIII века, к положению Германии
в начале XVI века, и вы получите или факты, в одно и то же время исполнен-
ные величия и красоты, но слабые внутри себя, слабые конечным значением
для человека; или, наоборот, вы получите глубокие покаянные эпохи, без
внешних блёсток столкновения и борьбы, но гораздо более светозарные, более
со1ревающие сердце человека, более исцеляющие его язвы...
Все нашей истории обещает этот новый, этот еще не испытанный, еще не
изведанный, этот новый Рентгеновский свет...
9 СЕНТЯБРЯ 1896 ГОДА В ПЕТЕРБУРГЕ
Увы, увы, увы! Печалью, черною печалью покроется, или имеет основание
локрыться Русская земля.
9 сентября, четвертый раз в этом столетии, Церковь и народ совершали
великое торжество - открытие мощей Феодосия Углицкого. Еще ходатай пе-
ред Богом на небесах встал за нас, к которому мы можем относить молитвы
о грехах своих и о помощи в немощах... Только четыре таких дня в столетии:
Бородино, Наварин, Синоп, Виллагош, Прейсиш-Эйлау - вот уже пять: и так
- эти менее, эти обыкновеннее, чаще. Мы уже не говорим, что это - дело рук
человеческих, торжество силы, пролитие крови; там же - торжество небес, и
залог не порванной связи этих небес с землею, так необходимый в наш колеб-
лющийся век, - для наших увядающих сердец...
Увы, увы... Мы ожидали, что в этот четвертый в столетии день высшие
государственные учреждения, впереди ими любимого, ими уважаемого на-
рода, потянутся к Исаакию, куда спешили митрополит и архиереи в первый
раз отслужить молебен только что канонизированному святому: нам, в безу-
мии нашем, уже мечталось - вот идут андреевские и александровские кава-
леры, вот в полном составе, следует Сенат, Государственный совет - в пол-
ном составе, за исключением, конечно, депутаций, высланных в Чернигов —
вот министры с их товарищами и вслед, рабы и сотрудники, мириады чинов-
ников; и вот позади, но также со своим достоинством, идет дума города, в
составе своих гласных, и досточтимое земство...
482
Увы, увы... Ровно в 10 утра всему Петербургу разносится «Новое Вре-
мя»: свеженький № подается вместе с утреннею чашкой кофе... Чиновники
всех орденов, от Станислава «третьей» и до Андрея, читали это утро фелье-
тон Фингала - что-то «Наброски в Москве» или «Переброски через Моск-
ву». Читали и смеялись; потом кавалеры 1-й и 2-й степеней остались дома и
занялись другими отделами газеты, а кавалеры 3-й степени...
Я видел их во множестве, в 11 утра, на Исаакиевской площади, и хоть
храм призывно и чудно гудел - все они бежали мимо; поток их увлекал, и я
тоже бежал мимо... Мы все бежали мимо храма в другое место, чем куда тек
народ...
Мы были не с народом, не с Церковью. Мы были одни...
Мне было печально в это утро, но я так же бежал вприпрыжку, как и
остальные, отворачиваясь от церкви и плюя на народ.
БЫЛ ЛИ ЖЕСТОК
М. Н. МУРАВЬЕВ-ВИЛЕНСКИЙ?
Прочитав в № 237 «Русского Слова» прекрасную статью г. Полеского «Мура-
вьевские годовщины» (1796-1866 гг.), не могу не передать одного свидетель-
ства, устно мною слышанного от компетентного человека, относительно того,
насколько исторически верна молва о жестокости названного государствен-
ного человека. Несколько замечаний прибавлю и от себя.
Удивляло всегда меня, что где бы я ни встречал (в глухой русской провин-
ции) мелкого чиновничка, бывшего на службе в Северо-Западном крае при
Муравьеве, - несмотря на многие годы, протекшие со времени этой служ-
бы, самая живая память хранилась о нем. Неизменно на стене - его фотогра-
фия в рамке, среди самых близких и дорогих лиц; заговоришь ли: не почтение
только, но какая-то нежность, тихий восторг светится в воспоминаниях. Ни о
ком еще я не слыхал от подчиненных маленьких людей отзывов, столь мало
разделенных, так единодушных не в смысле только суждений, но, так сказать,
в их тембре, в их оттенках, интонациях.
Однако я был уверен, что «грозный» диктатор был действительно «гро-
зен»; что в пору суровую, в момент критический - он был жесток. Ни на
минуту мне не приходила мысль внутренно осудить его за это: высланный
государем и народом отразить нападение на государство мятежных провин-
ций, он и должен был поступить с ними как укротитель, смиритель, как боль-
но бьющий бич. Мне были, сверх сего, видны там и сям, по встречам же,
черты износившейся нации: пороки всех падающих народов, кичливость и
угодливость, трусость и жестокосердие; и тщеславие, тщеславие - тщеславие
впереди всего и после всего. Эти черты, даже когда по ним больно бьют, как-
то не возбуждают к себе сочувствия и сострадания. В «правах» России сми-
рять я также не сомневался, зная несколько историю: ведь Польша собствен-
но не была разделена, насилия никакого ей не было сделано. Она расселась
483
по швам, раздевалилась ранее; стропила полезли в одну сторону, стены пода-
лись в другую, печи рухнули; для людей она сделалась опасным, негреющим,
небезопасным, невозможным жилищем; и когда камни рушащейся храми-
ны покатились к ногам соседей, - каждый из них, имевший свой крепкий
дом, пришел и взял только строительный материал для своих поделок, и,
кстати, из милосердия дал приют у себя и оставшемуся бездомным населе-
нию. Только.
Но я вдумывался в характер Муравьева, более занимательный для психо-
лога, для русского, чем все польские ламентации, чем их «политические со-
ображения». Меня удивляла молва о жестокости его, столь твердая в самом
русском обществе. Он был суров, груб; был беспощаден в требовательнос-
ти; был крут в мерах, как капитан корабля среди взбунтовавшихся матросов.
Но «жесток», то есть жаден к чужим страданиям? находивший в них удо-
вольствие!.. Он не мог быть жестоким уже потому, что был мужествен.
Жестокость есть черта женственных натур, натур слабых и боязливых, санти-
ментальных и фантастических. По закону связности психологической, в Му-
равьеве-Виленском эта черта не совмещалась со всеми другими, и притом
хорошо засвидетельствованными. Скорее - это черта поляков, черта Рима в
пору его изношенности, греков в эпоху упадка («30-ти тиранов» в Афинах);
всегда людей утонченных и извращенных. Франция прошлого века, утопаю-
щая в «amour pour Thomme», в порывах к «fratemite», в мечтах о paix
perpetuelle* и назавтра пляшущая перед дымящеюся кровью гильотиной —
вот это история; Нерон, отворачивающийся от смертного приговора со сло-
вами: «О, как не хотел бы я в эту минуту уметь писать» - вот это психика. Но
Муравьев? гроза мятежников? этот суровый русский Кориолан?.. Все мне
казалось загадочно и сомнительно...
Около 89-го года, служа в г. Ельце, Орловской губ., я случайно встретился
с членом окружного суда г. Шиповаловым - почтенным пожилым челове-
ком, известным в городе умом своим, спокойствием и мягкостью характера;
он, без сомнения, жив и может опровергнуть слова мои, если в них заключа-
ется ложь; говорил я с ним один только раз, и не помню, да едва ли знал и
тогда, даже имя и отчество. Случайно упомянута была, в разговоре Польша
и, по «ассоциации идей»-Муравьев; он служил при нем; с жадным интере-
сом я спросил его - о «жестокости».
К удивлению, он сказал мне, что это был человек редкой, но скрытой
гуманности. «Его жестокость есть чистый миф, им же созданный. Правда,
были меры крутые, как сожжение «такого-то» имения, где, при соучастии
его владельца, были предательски вырезаны безоружные русские батраки»;
он назвал еще факты; «но что касается казненных собственно - их было до
того мало, что нужно удивляться искусству и мастерству, с каким он избег
большого их числа». Он назвал точную их цифру (к великому сожалению — я
ее не помню; если ему попадется эта моя заметка, он сделает услугу русско-
* «любовь к человеку»... «братство»... вечный мир (фр.).
484
му обществу, напечатав ее); «и только - это я знаю по документам»: он назвал
место своей службы. «Но Муравьев знал характер поляков и захотел навести на
них ужас: он окружал каждую казнь величайшею помпой; делал это грандиоз-
но и шумно - так что отдавалось в самых глухих местечках края; поляки прята-
лись и ежились, слабели и без того в небольшой своей энергии. Он достиг цели:
край затих, замер в страхе; след этого страха хранится и до сих пор, сказывается
в ненависти к имени Муравьева. Никто не знает, однако, что этот страх есть
страх испуганного воображения, под которым нет почвы фактов».
Конечно, слова рассказчика не были эти именно; но эта именно мысль,
в ее подробностях, без малейшего изменения, была в словах его, которые я
слушал с изумлением, и теперь, к 30-летней годовщине смерти Муравьева,
считаю своевременным передать их обществу.
Едва ли, в далеком потомстве, не придется признать его не только луч-
шим практическим выразителем, за этот век, русского исторического credo,
но и для самих поляков суровым, очень суровым дядькой, который многое
для них спас, научив их самому важному в их положении, уменью - повино-
ваться, сдерживать себя, не распускаться. Злыми гениями Польши были и
останутся те, которые действовали обратно.
<ФРАНКО-РУССКИЙ союз>
В светлом торжестве франко-русского братства, кроме политической сторо-
ны, не следует забывать и духовную. Первый раз за этот век Россия братается
с просвещеннейшею нацией Европы не как меньший, юнейший брат, с подо-
бострастием взирающий на более опытного и зрелого годами, а как цветущий
здоровьем и силами муж, который поддерживает мощною рукою друга. Так
это чувствуется в самой Франции, так сознается в России. Франко-русское
сближение совпало с небывалым еще подъемом национального сознания в
русских правительственных сферах и в самом русском обществе, и, до извес-
тной степени, оно есть плод этого национального сознания. Только став не-
зыблемо на исторических основах своего бытия, Россия без страха, без сму-
щения протянула руку республиканской Франции, союза с которою боялась
и обегала все время, пока сама колебалась, в бедственные 70-е годы, в своих
основах. Царь-Миротворец, вернувший Россию к доверию себе, к вере в свою
историю, в силу своей особой правды, повел ее без боязни и смущения к
братству с французскою нациею, восхищенною и удивленною царственным
решением. И культурные плоды этого братства для Франции превзойдут, мо-
жет быть, даже политическую значительность дипломатического союза.
франция, глубоко разочарованная во всех формах политического уст-
ройства, столь обманутая абсолютизмом своих Людовиков и Наполеонов,
конституционно-либеральным режимом Луи-Филиппа, и наконец, так мало
увлеченная республиканским строем после позора Панамы, с удивлением
наблюдает русского Самодержца, как власть и положение, для нее новые и
485
незнакомые. Простота проявлений этой власти, при ее недосягаемости, ее глу-
бокая человечность, ее правдивость - все изумляет французов, которые виде-
ли королей и императоров, вечно погруженных в расчеты, козни, видели госу-
дарей, которые, как Наполеон Ill, прежде чем дать аудиенцию, изучали перед
зеркалом особое выражение лица своего, которое должно было на собеседни-
ка произвести непременно нужное впечатление; государей, которые, как Лю-
довик XIV, установляли этикет, чтобы при пробуждении его присутствовали
принцы и принцессы королевского дома и подавали ему, при одевании, раз-
ные части туалета. Только слепой не почувствует, сколько в энтузиазме фран-
цузов как теперь, так и ранее в Тулоне и Кронштадте, заключено любви и по-
чтительности именно к лицу Нашего Царя, к его священной особе; сколько в
народных проявлениях восторга есть чисто человеческих сторон, так сказать,
обегающих политический союз и идущих далее только практических, утилитар-
ных соображений. Можно сказать, впервые Франция любит и любуется чело-
веком, который есть в то же время Самодержавный Государь; впервые с очень
давнего времени, когда она столько пыталась верить, столько потерпела разо-
чарований на почве собственного неудавшегося абсолютизма.
Французы не могут не понимать, что условия развития и созревания
этой власти должны были быть совершенно иные, чем при каких созревал их
абсолютизм. В России им открылась новая стихия, новый мир понятий и
чувств. Литература русская, после критических работ Мельхиора де-Вогюэ —
стала предметом пристального изучения; Леруа-Белье в «L’Empire de Tzar»
дает монументальное исследование государственного, общественного и на-
родного строя России; Виолля ле-Дюк и Байэ изучают старинное русское
искусство по преимуществу в памятниках древнего иконописания и храмос-
троительства. Везде они открывают мир веры, которая не знает притворства,
чужда ханжества и насилия, которым исполнена их собственная религиозная
история. «В нашей литературе, - говорит один знаменитый французский
критик, - о грехе говорит только Тартюф; в русской литературе - у Остро-
вского, Тургенева, Достоевского, Толстого - идея греха постоянно чувству-
ется, она есть господствующая идея у выведенных лиц и у самих авторов».
Вообще в братстве двух народов, старого и юного, новою и оригинальною
чертою является то, что именно юнейший становится предметом изучения и
нередко восхищения для старого; что этот последний надеется - и не скрыва-
ет этого - помолодеть через общение со свежими соками народа, еще не
изломанного, не изношенного.
Сколько же бесконечной энергии и жизненности должно заключаться в
нации, которая после стольких опытов и разочарований еще не потеряла спо-
собности энтузиазма, не потеряла мудрости научаться. Тут был когда-то вре-
менный упадок сил, но никогда не было истощения, как пророчили немцы в
эпоху своего грубого торжества в 71-м году.
Бог даст, Франция еще явит миру новые и дивные плоды своего духа,
своего гения. Этот гений в ней жив. Но никто этому не будет столько радо-
ваться, как далекий восточный народ.
486
<ПРАЗДНИЧНЫЙ отдых>
Вопрос о праздничном отдыхе для служащих и приказчиков поставлен на оче-
редь и скоро будет обсуждаться в Московской городской думе. Некоторые
города - и, замечательно, на окраинах - установили у себя полное закрытие
торговли в праздничные дни: таковы Тифлис, Владикавказ, Псков и другие.
Петербург, в этом отношении, стоит позади всех городов: в нем торговля от-
крывается во множестве лавок, особенно мелочных, даже в первый день Пас-
хи, чего не делается нигде в России, разве как редкое, всеми осуждаемое,
исключение. Нам кажется, однако, что вопрос этот вообще поставлен не на
надлежащую почву.
В «праздничном отдыхе» для служащих и торговцев принимается во внима-
ние исключительно экономическое и физиологическое значение его; «хозяева»
всеми мерами противодействуют ему, указывая, что они терпят от него «убыт-
ки»; приказчики и вообще служащие требуют его как необходимого физическо-
го отдыха. Но праздник есть церковное установление, имеющее в основе первые
слова Библии: «И благословил Бог седьмый день и освятил его», подтверждае-
мые и Моисею с Синая; «шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день
седьмый - Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, - чтобы отдохнул раб твой и раба,
как и ты» (Второзаконие, гл. 5). И более чем уместно поэтому ожидать, чтобы в
разрешении вопроса о «приказчичьем отдыхе» вмешала свой голос наша цер-
ковь, а за нею и государство. С тем вместе и самое понятие «праздничного отды-
ха» следовало бы расширить, подведя иод него удаление наиболее грязных удо-
вольствий. Это есть день не только отдыха, но и некоторой чистоты.
Петр Великий, когда задумал свою реформу, начал ее с внешности. Вне-
шность не так малозначительна, как принято думать: она есть знамя, для всякого
видимое, всем ясное, всеми без труда читаемое. Отсутствие «праздничного от-
дыха» - это есть самый ясный знак забвения нами и более существенных церков-
ных и религиозных требований; это есть выразительный жест, которым без слов,
без пояснений мы показываем пренебрежение к церкви, к религии. Теперь, в эти
годы, когда хоругвь церкви высоко подымается, когда и государство, и общество,
и литература указывают на нее как на целебный источник, к которому в какой бы
нужде, в каком бы горе, в каком бы государственном и общественном бедствии
мы ни прибегли, мы никогда не найдем его иссякшим, - теперь более, чем своев-
ременно не упустить и внешние знаки, которые бы отвечали этому внутренне-
му движению ума и сердца русских людей. Празднование воскресного дня, не
физиологическое только, не только экономическое, должно быть строго прове-
дено, и едва ли совместно с достоинством церкви и государства предоставлять
этот вопрос частной заботе, личной инициативе. Ничто так не возвышает авто-
ритет властей духовных ли, светских ли, как уверенность народа и, наконец, как
простая фактическая очевидность, что их дума и забота почиет на всем важном,
что относится до жизни населения, что они блюдут это население как осторож-
ные пастыри им вверенное Богом и историею стадо.
487
Облик русского человека за этот век сильно изменился. Князь Адам Чар-
торыйский, приехав в 1794 году в Петербург, так записал (в мемуарах, издан-
ных потом в Париже) свое впечатление религиозной внешности русского
народа: «Молодые люди или старики, светские бары или бородачи - все без
изъятия говеют. У нас (т. е. у поляков и вообще католиков) часто случается,
что мы или не желаем, или не осмеливаемся приступать к святому причас-
тию, хотя в нас гораздо более, чем в русских, веры и набожности (он, даже не
зная русского языка, не мог, конечно, судить о чувствах). К нежеланию наше-
му, может быть предосудительному, присоединяется религиозный страх, ко-
торый иногда и служит причиною нашего уклонения. У русских, напротив
того, все таинства и все обряды исполняются».
С того времени прошло 102 года и мы едва узнаем лицо русского челове-
ка: так оно переменилось. Мы стали похожи не на своих предков, а на одно-
племенников князя, потерявшего родину и приехавшего в Петербург выпра-
шивать возврата конфискованных у его отца имений. Только мы хуже оправ-
дываем свое равнодушие к церкви и обряду; он говорил: «мы боимся при-
ступать к таинству», мы говорим, - «это несущественно, все дело во
внутреннем расположении сердца». Как будто из внутреннего расположе-
ния не вытекает естественно внешнее действие, как из любви - ласка, из ми-
лосердия - милостыня. Но в нас нет никакого и внутреннего расположения и
вот отчего мы лениво усиливаемся разделаться и с внешностью.
Да укрепит нас Бог во внешнем и да разогреет наше сердце внутри.
<МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ>
Министерство внутренних дел занято вопросом о распространении земских
учреждений на губернии Привислинского края. С Кавказа также приходят
известия о работе местного дворянства по подготовке статистического мате-
риала, который мог бы быть положен в основу соображений о введении в том
крае этих учреждений.
В добрый час!
Сохраняя все уважение и доверие к непосредственным органам цент-
ральной власти, действующим в отдаленнейших уголках нашего отечества,
мы далеки от мысли, что все и везде и во всякое время может быть усмотрено
ими и выполнено наилучшим способом. Еще более мы убеждены в том, что
местное население нуждается в самоуправлении просто как в средстве ожив-
ления, как физической необходимости и нравственном долге заботиться о
себе, думать о своих нуждах, изыскивать способы их удовлетворять. В таком
огромном политическом и общественном теле, как Россия, нужда в этой
саможивучести частей особенно очевидна. Прибавим, что она имеет анало-
гию себе и в природе, в способах жизни и управления организмов: мозг
головной и спинной выполняет важнейшие функции для всего тела, но в его
отдаленнейших частях, в обособленных органах есть свои нервные узлы и
488
клетки, пособляющие действию тех центров движения и ощущения, однако,
черпающие силу свою уже не от них, а из себя.
В самоуправлении мы пока делаем опыты. В том виде, в каком оно было
введено в 1864 и в 1870 гг., оно решительно оказалось неудачно. Оно было
сколком с западноевропейских порядков самоуправления; между тем, как
Россия, слава Богу, жила 1000 лет и жила не всегда и не везде под княжескими
«тиунами» и «волостелями». И до сих пор, там и здесь знатоки русского
народа открывают великолепнейшие способы населения управляться со сво-
ими делами, - способы, не имеющие ничего общего с западноевропейскими
и введенными у нас в 1864-70 гг. Достаточно припомнить открытие, удивив-
шее в свое время И. С. Аксакова, когда, приехав - помнится, в Ярославль - по
официальному поручению изучить на месте действия и результаты самоуп-
равления, он открыл, что там есть второе и настоящее самоуправление, по-
мимо официально установленного, и в нем дела идут отлично, тогда как в
официальном делается лишь видимость дела, лишь отправляется обязанность
самоуправления. Подобных явлений, без сомнения, открылось бы множе-
ство, если бы к наблюдению русской жизни везде был приложен глаз подоб-
ного же любителя народа и почитателя «дедовской старины», как знамени-
тый московский славянофил.
Одну-две черточки фальши и, с тем вместе, антинародности в нашем
самоуправлении мы не можем удержаться, чтобы не отметить. Известно,
что для того, чтобы быть избранным, нужно иметь определенных размеров
имущественный ценз; между тем по народному воззрению скорее уже ценз
возраста есть ручательство за ум и добропорядочность в ведении обществен-
ных дел. Седой волос уважается в народе нашем, но не уважается золотой
телец - иначе как среди служащих ему, и таковых народ не признает за своих
выразителей, а между тем, они навязаны ему в «представители» правилом о
цензе. Затем - решение вопросов «большинством голосов», хотя бы это боль-
шинство и состояло в перевесе одного голоса. Ясный ум народа нашего
понимает, что именно один в этом случае и склоняет весы в определенную
сторону, - и совершенно ему не понятно, почему этот один имеет такое
преимущество перед 49 из 99, подававших голос, которые отныне повинуют-
ся «большинству одного голоса» как бы их мнения, их нужд, их совести и
житейского опыта вовсе не существовало. Совершенно очевидно, что если
49 человек из 99 отвергают данное решение, значит есть веские для этого
основания, есть кровные за этим нужды, и нужно повременить с решением,
нужно отложить вопрос, а не спрашивать фатального 99, который наудачу, по
капризу или соображению своей выгоды, кладя шар направо или налево,
подавая голос за или против, вершит судьбу местности, вершит ее фатально
и именно наудачу. Нет сомнения, ни один чиновник центрального ведомства
не дерзнет на подобную слепоту и безрассудство, на это дерзнет только «са-
моуправление», и вот один из источников воплей против него.
Но обе эти черты, т. е. и имущественный ценз, и «большинство голосов»,
с существом самоуправления, саможивучести, нисколько не связаны. Это
489
есть частности западного самоуправления, навязанные нашему населению,
ему малопонятные по своим основаниям, ему, наконец, антипатичные. Про-
стое положение, что «состоявшимся» почитается решение, за которое выс-
казалось не менее 2/3 голосов, было бы принято всюду с радостью.
Далее - горячка «выборов» столь же мало отвечает спокойному характе-
ру нашего народа, эпическому складу его быта, идеалу внешнего благообра-
зия и тишины, какой в нем, слава Богу, не разрушен, или не разрушен еще
окончательно. Всякие «выборы» деморализуют население уже самым вол-
нением своим, страстностью и также множеством материальных интересов,
сюда обычно замешивающихся. Тут возможен подкуп, если не прямо деньга-
ми, то «угощением» - как в сельском сходе, услугою, наконец, лестью, как в
высших сферах самоуправления. Все это не вытекает из понятий нашего на-
рода и без нужды разрушает, разрушает практически, т. е. самым действи-
тельным способом, предносящийся воображению его идеал того, как долж-
на протекать жизнь человеческая, как строится дело Божие на земле.
Не думая чего-нибудь указывать, мы не можем удержаться, чтобы не
вспомнить одну черту «дедовской старины» именно при избраниях. Это -
жребий.В Новгороде имена кандидатов, записанные на бумажках, клались
на трапезе в Софийском соборе, и посылался слепой или ребенок - взять все,
кроме одного. Оставшийся жребий, как бы оставленный Богом, указывал
избранного. Здесь была санкция высокого избрания; мысль об этой санкции
внутренно связывала избранного перед дурным, одушевляла его на доброе.
Скажут: это была иллюзия; мы ответим, что во все времена и все люди жили
этими и подобными «иллюзиями», искали их, не хотели без них оставаться.
Это постоянство и жизненная значительность предположений, надежд, чая-
ний человеческого сердца уже, по крайней мере, не есть иллюзия, а точный
факт истории, который мы напоминаем.
Самоуправление наше имеет тот недостаток в себе, что, без корней в исто-
рии и духе населения, оно обдумано исключительно по западным образцам и
теориям. В то же время оно до излишества материалистично, плоско, рассу-
дочно; оно есть всецело труд и забота «о хлебе едином», без какой-либо выс-
шей и святой закваски, забота в самых вульгарных формах, самыми сухими и
узкими способами, какие только выработаны новейшею цивилизациею.
Но, пока что - и в тех бедных и неверных формах, в каких оно у нас
существует, при всякой вести о его распространении, мы повторим - «в доб-
рый час!».
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 1ЛКОЛА>
В тех приветствиях и взаимном сочувствии, которое проносится время от вре-
мени между группами русских людей и французов, преимущественно военны-
ми, нельзя не различить детских голосов и не сосредоточить на них внимание. В
№ 272 нашей газеты все, вероятно, прочли привет учеников Феодосийской (в
Крыму) гимназии воспитанникам лицея Людовика Великого, в Париже, и ответ,
490
ими полученный. Имя нашего дорогого Государя обволакивается - там и здесь -
детскою любовью; там и здесь детский ум взволнован братством великих наро-
дов и, может быть, чаянием, гаданием великих возможных событий.
Великая воспитательная школа. Вовсе не 5-6 усвоенных «учебников»
созидают в человеке, в мальчике, в отроке сердце, возвышают в нем ум, ис-
тинно его образуют и просвещают. Какие были у нас гимназии перед эпохою
12-го года: с жалким четырехгодичным курсом, с неискусными учителями,
плохими, неверными учебниками. И все покрыла, все возместила, все подня-
ла выше нормального уровня великая эпоха. В чудных стихах Батюшкова и
Пушкина, тогда детей еще, или почти детей, мы читаем воспоминание чувств,
волновавших отроческие сердца в лицеях, гимназиях, когда они смотрели с
мучительным и завистливым восторгом из окон пансионов своих, как «текла
за ратью рать» на защиту родины, позднее - на освобождение Европы. И
школьные учебники были поправлены, ошибки учителей - изглажены. Бла-
городнейшее поколение воинов, государственных и общественных деятелей,
наконец - поэтов и композиторов поднялось из впечатлений этих, никем не
виденных и не усчитываемых, невмещающихся ни в какую программу. Они
составили славу царствований императоров Александра I и Николая I. Рос-
сия их помнит.
Недавно умерший, молодым еще, писатель Тхоржевский - сошел со ска-
мьи классической гимназии, чтобы броситься в битвы за освобождение славян
в 77-78-х гг. На приступ - кажется Карса-он первый вошел на неприятельскую
стену и получил, почти мальчиком еще, георгиевский крест. Он остался воен-
ным и стал вместе писателем. Какой светлый, здоровый русский дух слышится
из его военных и мирных рассказов; сколько даже далекой общественной про-
ницательности, например, в его посмертном рассказе «Два старика», недавно
появившемся на страницах журнала «Русское Обозрение». И живо чувствует-
ся, что он весь в своем характере, в своих воззрениях, даже в этой своей прони-
цательности выкован был тою великою минутою, может быть - теми волнени-
ями, которые пережил сидя еще, но уже срываясь со школьной скамьи, чтобы
броситься в святое дело любви и братства международного.
Книга - только пособие; неизгладимы до гроба и истинно образующи -
жизненные впечатления. Та девочка, которую, еще бессознательную, водила
мать в церковь - здорово воспитана, хотя бы у нее не выходили полные баллы
из алгебры; тот мальчик, который втихомолку рассказывает товарищу-«дру-
гу», где и как ранен был его отец, который по складам читает, поднявшись на
стул, его патент на орден, и, еще не понимая, радуется смутно высокоторже-
ственным выражениям официальной бумаги - он воспитывается, он учится.
Мы этого не должны забывать; мы должны благословлять минуты, те-
перь переживаемые: они помогают хоть немного, хоть несколько неопреде-
ленному множеству семей в их труднейшем деле, в их самой важной и вмес-
те неуловимо тонкой обязанности.
И да благословит Бог наших детей в этих чистых движениях их сердца.
491
<РОССИЯ И ФРАНЦИЯ>
В одном из недавних нумеров нашей газеты мы отметили оригинальную и
новую черту франко-русского сближения сравнительно с другими союза-
ми, какие заключало наше отечество в этот век: именно, что Россия высту-
пает в нем стороною не только самобытною, глубоко самостоятельною, но
и влияющею.
Гораздо скорее, чем можно было ожидать, наша мысль подтвердилась
фактом ярким и многозначительным. Мы разумеем, уже известное нашим
читателям письмо декана церкви св. Николая, в Булони, аббата Жонке к про-
топресвитеру И. Л. Янышеву, которое нельзя не назвать истинно прекрас-
ным по тону и трогательным по содержанию. Духовное лицо Франции пере-
дает, как факт, что посещение его отечества нашим Государем и живые знаки
религиозного чувства, Им выраженные там, отразились подъемом этих чувств
в некоторых группах французского населения и уже дали ценный плод, при-
обретя для христианства несколько человеческих душ.
Для русского народа этот вид влияния отраднее всякого другого. До сих
пор государи наши были защитниками веры в странах всего православного
Востока. Император Николай I предпринял восточную войну с Турцией, ког-
да ключи от Гроба Господня были отняты у православных и переданы като-
ликам: проявление ревности церковной, которой другого примера не дала
Европа в наш век. Но никогда до сих пор это влияние не переступало черты
распространения православия; и, вследствие враждебного к нему отноше-
ния церквей католической и протестантских, нельзя было даже представить
формы, в какой это влияние могло бы выразиться.
Оно нашло форму не догматическую, не каноническую; оно вырази-
лось в виде личного примера и на почве общехристианских чувств. Верный
выразитель своего народа, явившись и во Францию, наш Царь предстал пе-
ред устремленными на него взорами всех французов прежде всего как хрис-
тианин, как покорный и любящий сын церкви. Для Франции, для всей Евро-
пы, давно забывших, что есть «единое на потребу», это было так ново и
неожиданно, что не могло не поразить воображения многих, не пройти слад-
кою и мучительною тоскою по множеству забывшихся сердец. И вот отец
шестерых детей приводит их к священнику и говорит: «Я хочу быть христиа-
нином, хочу, чтобы и моя семья была христианскою вместе со мною: крести-
те их». Он говорит угрюмо, а уже на сердце играет радость. Сколько нужно
было ожесточения душевного, чтобы не крестить детей своих, но вот оно
расплавилось от личного высокого примера: «Я решил не крестить моих
детей, но примеры веры, только что данные Франции Русским Императо-
ром, заставили меня отменить мое решение». И вот, глыба льда растаяла;
увлажненное радостью сердце пустило христианский росток.
Может быть, это не единственный случай; может быть, этот единствен-
ный случай достиг только до всемирного слуха, но есть и другие, сокрытые в
молчании.
492
Но, скажем словами евангелиста: «Блаженны очи, видящие это, и уши,
слышащие это» (Матф., XIII, 16).
Аббат Жонке сказал нам о лучшем, драгоценнейшем подарке, какой под-
несла Франция не только Царю нашему, но и России.
О, как хотели бы мы, чтобы в самой Франции было узнано, что этот ее
подарок есть драгоценнейший для нас. Ибо это есть дар Богу, равно поклоня-
емому Западом и Востоком.
<ФЕОДОСИЙ УГЛИЦКИЙ>
Удивителен и радостен подъем религиозных чувств, знаки которого приносят-
ся почти ежедневно с разных концов земли русской. В последние годы дея-
тельность отца Иоанна Сергиева (Кронштадтского), несколько ранее - не ме-
нее замечательная и продолжительная деятельность Амвросия Оптинского
взволновала и умилила не только простое наше население, но и общество, и
литературу, показав - «откуда свет». Третьим и сильнейшим из всех двигате-
лем религиозного возбуждения, можно ожидать, послужит открытие мощей
св. Феодосия Углицкого.
В последней книжке «Миссионерского Обозрения» рассказывается о
действии, какое произвело на раскольников-старообрядцев открытие мощей
этого св. Угодника.
Феодосий Углицкий жил после патриарха Никона и был ставленником
последнего в русской церкви патриарха - Адриана, когда, по толкованию
раскольничьих учителей, церковь православная утратила дары богоблаго-
датности. Как же епископ этой отвергаемой ими церкви мог получить нетле-
ние и дар чудотворений? Или церковь, к коей принадлежал он, истинна и
спасительна, и тогда раскол есть заблуждение, или же святитель Феодосий не
был святой, и тогда мощи его тленны.
Взволнованный этим сомнением, раскольничий мир отрядил несколько
депутаций с официально удостоверенными полномочиями, ко дню торже-
ства открытия мощей в Чернигов. Здесь были учителя и начетчики от старо-
обрядцев Владимирской губернии, от поморской и беглопоповской сект, из
Кубанской области (станицы Прочноокопской), из земли войска донского и
от раскольников австрийского согласия. Долго, прибыв в Чернигов, бродили
они и прочие представители раскола, явившиеся сюда неверующими согля-
датаями, среди десятков тысяч стекшегося православного народа. Горячая
вера и молитвы этих тысяч, их не поддающееся описанию религиозное воз-
буждение, величие богослужений, наконец, народные рассказы и явные уве-
рения в чудотворениях - все это поколебало, но еще не разрушило их сомне-
ния. В нетерпении они обратились с прошением к преосвященному Анто-
нию, епископу черниговскому, и высокопреосвященному митрополиту ки-
евскому Иоанникию открыть им мощи и дать лично удостовериться в их
нетлении. Разрешение было дано.
493
«Настал, - рассказывает «Миссионерское Обозрение», - этот вожделен-
ный для мучившихся своим неверием и сомнением раскольничьих согляда-
таев, но страшный час. 10 сентября, после совершения литургии и молебно-
го пения, на площадку у подножия раки св. мощей стали депутаты расколь-
ничьи вместе с миссионерами. Толпа православных была временно отстра-
нена и едва сдерживалась. В полном облачении вошел епископ Питирим на
возвышение, где установлена св. рака, и начал снимать покровы и разобла-
чать руки великого угодника Божия. Воцарилась мертвенная тишина; страх и
трепет прииде на присутствующих и на раскольников. По очереди, по одно-
му и по два подходили эти страждующие тяжким недугом неверия и сомне-
ния, внимательно, долго каждый всматривался в нетленное тело святителя,
почивающего в гробе новом, как живой - на обнаженные святые руки. О,
чудо, не только кисти, но и пальцы, и ногти - все цело и невредимо, как будто
святитель почил не 200 лет назад, а 2-3 дня. Осязали неверующие и ноги
угодника Божия; поразительным было объяснение архипастыря, что при
нетлении всего тела и одежды - лишь пята на одной ноге святителя обрати-
лась в прах и пепел во исполнение божественной заповеди: «Земля еси и в
землю отыдеши».
И простые смыслом раскольники уразумели, какое величайшее удосто-
верение истины в сем явлении чуда нетления останков почивающего свято-
го: в одном гробе, в одном воздухе и в одно время, при тех же условиях, все
тело благодатию Божией сохраняется нетленным, а некая часть служит ис-
полнением общего предуставленного для всего человечества закона тления.
Коснулась сердца раскольников призывающая благодать. Ни один из них не
удержался от волнения и слез раскаяния и радости: все благоговейно прило-
жились к св. мощам, чего ранее не делали. Особенно трогательно было обра-
щение от неверия и сомнения к полной горячей вере в святость и нетление
новопреставленного угодника со стороны раскольников Кубанской области:
со слезами и молитвенными стонами: «Теперь верую, Угодниче Божий, про-
сти моему неверию» - они лобзали святые мощи и долго не могли оторвать-
ся от св. гробницы, вперив в нее свои взоры. После чего тотчас дали теле-
грамму своим и вызвали попа своего в Чернигов.
О виденном был составлен акт за подписью всех свидетельствовавших
раскольников и многих присутствовавших духовных особ и высоких лиц. Нуж-
но надеяться, что факт этот произведет глубокое и сильное действие на всем
протяжении России, и за ее пределами даже, в раскольничьем мире. В этом
мире таится много горячей и прекрасной веры, но упорство их в отношении
православной церкви превосходит всякое вероятие и не поддается, или под-
дается очень редко, разумному убеждению. Но вот факт, он очевиден, он
понятен самому темному человеку. Чего ищут они? - истинной церкви. Но
истинная та церковь, которая спасает, в коей можно угодить Богу. Можно ли
в отвергаемой ими, нередко нарекаемой антихристовою, нашей святой церк-
ви спастись - это созерцали их очи, осязали руки.
Неверующий Фома мог бы теперь уверовать.
494
<ОКРАИНЫ>
Недавно «Киевское Слово», а вслед за ним «Московские Ведомости» и «Но-
вое Время» посвятили статьи отношению нашему к «окраинам». Все выска-
зываются одинаково, находя ненормальным это отношение. Но, нам думает-
ся, всеми ими опущена принципиальная точка зрения на этот вопрос.
«Окраины» наши не суть только провинции по географическому своему
положению; характер некоторого провинциализма в высшей степени при-
сущ им в истории, где, утратив самостоятельность внешнего и самобытного
существования, они естественно должны малиться, угасать, терять яркость и
цвет существования. Народности, их населяющие, иноверные или инопле-
менные по отношению к коренному великорусскому племени, должны об-
разовать род исторического крестьянства, т. е. возвратиться к простоте и эле-
ментарности жизни, какая присуща этому состоянию сравнительно с други-
ми, более деятельными и живыми. Таким образом, некоторая запущенность,
беспризорность существования в высшей степени отвечает историческому
положению окраин, этих вчерашних дворян, ныне ставших однодворцами,
которым нужен плуг в руки, а не бесплодное рассматриванье исторических
гербов своих.
Этой основной точки зрения мы не имеем на них, и отсюда истекают все
наши ошибки. Мы истощаем казначейство на траты для них; мы высылаем
туда лучшие административные силы; наше внимание гораздо сильнее со-
средоточено на них, нежели на центральных губерниях; мы усыпаем их гим-
назиями, прогимназиями, университетами, тогда как все это следовало бы
оставить в коренной России и для коренной России. Следует дать пышный
цвет и рост основному великорусскому племени, которое вынесло на плечах
своих всю нашу историю, и, говоря словами летописца - «много утерло поту
за землю русскую». Вот кого надо просвещать, вот кем нужно деятельно и
рачительно управлять. Посмотрите на обширность наших губерний, наших
епархий; на недостаток всюду школ, больниц, на неустроенность грунтовых
и почти отсутствие шоссейных дорог, на нерасчищенность русла рек. Все
элементарно, грубо, беспризорно в центре России, и все устроено, нами
устроено, на наши средства, нашими заботами и трудами, в западных, юж-
ных и восточных окраинах. Мы думаем через это их «обрусить». Но истин-
ный метод «обрусения» другой: нужно дать полную и яркую жизнь корен-
ной России, центральным 36 губерниям, населенным великорусским племе-
нем, предоставив окраинам тянуться туда за образованием, за трудом, за
сферами приложения ума и дарования. Можно быть уверенным, что все
поляки, все немцы, все финны и кавказские племена быстро и притом сами и
добровольно усвоят наш язык, как только им придется для слушания меди-
цинских и юридических лекций ехать в Пензу, Орел, Калугу, а не в Гельсинг-
форс, Варшаву, Юрьев.
Ежегодно публикуются сведения, как много юношей и девушек русских
не только в столицах, но и в больших губернских городах не находят свобод-
495
ных вакансий в правительственных гимназиях и прогимназиях. Этих сведе-
ний не появляется в больших окраинных городах: там всякому желающему
учиться открыто место, приготовлено русским трудом и потом. Это же стран-
но, это аномалия. И вот откуда объясняется, что, напр., в Петербурге нет
вовсе русских аптек, т. е. с русскими арендаторами, провизорами и составом
служащих; все аптеки или немецкие, или еврейские. И то же по всей России.
В Петербурге есть больницы, даже именующиеся «Мариинскими», где весь
состав докторов немецкий, - и тогда обыкновенно евреи исключены; есть
больницы, где состав докторов еврейский, - и тогда исключены немцы. Рус-
ских даже не принимают во внимание, так они слабы и малозначительны
всюду. Иногда, смотря на них, смотря на труд их, черный, низкий, дешево
оплачиваемый - вспоминаешь египетских феллахов, среди которых посели-
лись деятельные англичане и французы.
Но тайна дела в том, что добрый, покорный, несколько пассивный рус-
ский уже тысячелетием истории своей приучен к тому, чтобы его организо-
вали, выучивали, давали ему дело, которое он тогда отлично выполнит. И вот
он не находит ныне около себя этой организующей и просвещающей силы;
он беспризорно брошен; лучшие силы все брошены на окраины.
Вспомним Адама Чарторыйского, 18 лет управлявшего обучением и вос-
питанием в виленском учебном округе. Что, если бы Хомякову или Аксакову
вверено было, на такое же число лет, попечительство в московском округе, как
оно процвело бы, как бы организовалось. Но мы не боялись польского патри-
отизма, а русского патриотизма мы боялись. В то время как Чарторыйские
вредили нам в Западном крае, немцы вредили нашему юношеству в средней
России и препятствовали ему стать на народную почву. И плоды этого мы
пожинаем.
<ПРИБАЛТИКА>
Есть прекрасный рассказ - легенда о том, как Кир персидский, уже сделав-
шись владыкой всей передней Азии, просил «союза» у малоазийских греков.
Они отвергли гордо его предложение; тогда, будто бы, он предложил им на
обсуждение следующую басню: «Однажды рыбак долго сидел у берега и все
насвистывал на дудочке, приманивая таким образом рыбу на пляску. Но рыба
не пошла к нему. Тогда рыбак взял невод и поймал всю рыбу. А как вытащил
невод на сушу и рыбы стали метаться, он сказал им: ну, зачем вы теперь-то
пляшете, когда прежде не хотели поплясать под мою дудку?». Грекам показа-
лась невразумительною и эта басня, и они поняли ее смысл тогда только, когда
Кир, победив более опасных врагов своих, пришел и без сопротивления почти
занял маленькие греческие колонии.
По-видимому, легенде этой придется повториться в нашей истории, имен-
но -в истории отношений наших к «окраинам».
Откройте карту России: самая частая сеть железнодорожных линий - в
Привислинском крае, самое мелкое подразделение на губернии, т. е. админи-
496
страция самая обильная, всего деятельнее работающая для населения, всего
дороже оплачиваемая - там же, наиболее частое, густое расположение гим-
назий и прогимназий - по западной границе России, в губерниях Прибалтий-
ских, бывших литовских и польских, и, наконец, на Кавказе. Университеты
Гельсингфорсский, Петербургский, Юрьевский (бывший Дерптский), Вар-
шавский, Киевский - все расположены на одной западной линии государ-
ства, в местах распространения инородческого и иноверного населения; тог-
да как для всей коренной России их существует только три: в Москве, Казани
и Харькове. Мы уже не говорим о таким вещах, как режущее странностью
глаза автономное управление Финляндии, как долгое время действовавший в
Северо-Западном крае «Литовский статут», заменявший русские законы и
феодально-дворянский строй, долго царивший в трех прибалтийских губер-
ниях. Дело дошло, наконец, до того, что немного лет назад в Бахчисарае го-
родская дума, больше чем наполовину состоявшая из мусульман, постано-
вила отменить в этом русском городе празднование православных праздни-
ков и заменить их празднованием мусульманских праздников.
Но - «рыбак напрасно играл на дудочке».
В Юрьеве (бывшем Дерпте) - нам сообщает только что появившаяся
корреспонденция в «Московских Ведомостях» - дело дошло до того, что ме-
стные жители не дают русским профессорам квартир под постой, а которые,
жалостливо снисходя к бездомному их существованию, пускают их к себе -
то берут с них двойную цену против коренных местных жителей. Известна
притязательность финляндцев в отношении к России и наглость в отношении
к русским, заезжающим в их край. Под самым Петербургом почти они отка-
зываются с русским говорить по-русски, хотя знают наш язык. То же повто-
ряется в привислинских губерниях.
Не пора ли, не давно ли пора рыбаку - «закинуть невод»?
<ЕКАТЕРИНА П>
Завтра исполнится сто лет со дня кончины императрицы Екатерины II, которую
Россия нарекла «матерью отечества», а Европа утвердила за нею титул «вели-
кой», который сама она отвергла из скромности, когда он был ей предложен.
Ореол чего-то великого, героического, ореол несравненного блеска, ве-
ликолепия, лег вокруг ее имени. Если бы русские отличались тою же живос-
тью воображения и впечатлительностью, как жители юга, итальянцы, они,
наверное, утвердили бы за нею прозвище «magnifica» или «superba», так оно
идет к ней, так напрашивается на язык при общем мысленном созерцании ее
деяний и всего ее продолжительного 34-летнего царствования. В новой исто-
рии, среди женщин-правительниц только Елизавета английская, сходная с нею
в личном характере и даже отчасти, в судьбе, напоминает ее историческим
значением своим, духом своих дел, удачею своих предприятий, общим коло-
ритом царствования.
497
Как и Елизавета английская, она была предназначена Провидением для
престола; свою молодость она также употребила на обширное и глубокое
образование и была просвещеннейшею женщиной своего времени; ей при-
ходилось выносить некоторое время такое же унижение и пренебрежение к
себе, и оно научило ее распознавать людей, закалило ее волю, сделало ее
великодушной к уничиженным, сострадательной к людскому несчастию.
Отсутствие какой-либо подражательности, совершенная самобытность и ори-
гинальность сильной натуры, вместе с просветительностью общих стремле-
ний и несравненным укреплением и возвеличением государства доканчива-
ют сходство «королевы Бетси», как звал и зовет еще английский народ свою
любимейшую государыню, с «матушкою Екатериной», как благоговейно
выражался и выражается русский народ о прекраснейшей из своих цариц.
По силе ума и характера, Екатерина II, если б была совершенно частным
человеком, возвышалась бы над своим временем и над всею толпой окру-
жавших ее людей, между коими было много весьма замечательных и просве-
щенных. Фон-Визин, автор комедий «Недоросль» и «Бригадир», а также тон-
ких и проницательных «Писем» о состоянии Франции того времени, взду-
мал, пользуясь доверием и уважением государыни, предложить ей письмен-
но несколько щекотливых вопросов касательно управления подданными,
вопросов, мучивших его сомнениями и легко могущих смутить всякого го-
сударя по трудной их разрешимости. Но императрица не уклонилась от отве-
тов; она дала ему почувствовать его нескромность, но в ясных и точных
строках, до нас сохранившихся, она не только разрешила, насколько хотела,
его сомнения, но и дала ему почувствовать, как превосходит она его обширно-
стью и устойчивостью своих созерцаний, своим жизненным опытом и зрело-
стью суждений. А фон-Визин, по силе изобретательного таланта и проница-
тельности ума, может быть назван одним из первых среди плеяды писателей,
украсивших век великой императрицы. Этою высотою ее, как человека, над
всею толпою окружающих лиц, мы должны объяснять великую самобытность
ее царствования; устойчивость ее стремлений, которые все в ней именно заро-
дились, а в ее великих сподвижниках нашли только исполнителей. Можно ска-
зать о ней, как и о Петре, что свое царствование она родила из себя.
Это же объясняет чувство удивительной восхищенности, с какою смот-
рели на нее русские люди. Сохранилось в мемуарах современников известие,
что когда она открыла первое собрание «Комиссии для сочинения проекта
нового Уложения» и произнесла перед депутатами ее, собранными со всей
России, речь в Грановитой палате в Москве, то они, пораженные светлостью
ее ума, пораженные тем, что собственные их идеи и желания она выразила
яснее, чем как они сами могли бы это сделать, ничего не нашлись ответить и
только стояли и плакали.
Этот порыв окружавшего ее энтузиазма сделал то, что все, что было в
человеческих силах, русские люди приложили к выполнению ее великих на-
мерений. Суворов, Румянцев и Потемкин, Никита и Петр Панины, Безбород-
ко, кн. Вяземский, граф Сиверс, братья Григорий и Алексей Орловы, адмира-
498
лы Свиридов и Грейг, Бибиков, Еропкин, Репнин - в разных сферах стяжали
себе славу и память «екатерининских орлов», которая долго жила в населе-
нии, припоминалась жутко соседям, перешла в поэзию и историю.
Мы закончим очерк ее замечательной личности мимолетным портре-
том, нарисованным злейшим врагом императрицы и в минуту величайшего
против нее раздражения. Это - несколько строк в мемуарах князя Адама
Чарторыйского, известного польского патриота, напечатанных им в Париже.
В 1796 году он приехал, вместе с братом своим, в Петербург, чтобы испро-
сить у государыни возвращения имений, конфискованных у его отца за уча-
стие в возмущении во время 3-го раздела Польши. Он описывает свое первое
впечатление при виде покорительницы его отечества:
«Императрица была еще в церкви, собравшихся для представления ей
пригласили в залу. Нас представили сначала обер-гофмаршалу, графу Шува-
лову, любимцу императрицы Елизаветы, всемогущему при ней и известно-
му по своей переписке с Даламбером, Дидро и Вольтером... Нас поставили
рядом с другими возле двери, из которой должна была выйти императрица.
По окончании обедни стали выходить из церкви попарно камер-юнкеры, ка-
мергеры и важнейшие сановники. За ними шла императрица, окруженная
князьями, княжнами и придворными дамами. Мы не успели ее разглядеть,
потому что нужно было опуститься на одно колено и поцеловать ее руку в то
время, как произносили наши имена и фамилии. Вслед затем, вместе с тол-
пою придворных и дам, все представлявшиеся окружили императрицу, и она
стала обходить нас, обращаясь к каждому со словом привета. В ее движениях
не было ничего резкого, все в ней отличалось достоинством и величием, но
это был поток, все за собой увлекавший. Ее морщинистое, но чрезвычайно
выразительное лицо дышало надменностью и повелительностью. С ее губ не
сходила улыбка, но ее приближенные знали, что под видимым спокойствием
в ней таились неукротимые страсти и непреклонная воля».
<ЕКАТЕРИНА II И ПЕТР ВЕЛИКИЙ>
В одном письме к известному Гримму, Екатерина II оставила приписку: «Чи-
таю русские летописи и забываю за ними весь мир: какой дух, какой язык!
Никогда ни в какую книгу я не погружалась с таким самозабвением». Эти
слова вводят нас в сердце великой императрицы и открывают нам центр, из
коего можно озирать, судить и истолковывать ее дела. В то время еще не было
славянофильской школы ученых и писателей, но мы знаем, что в 30-х годах
нашего столетия школа эта возникла, в лице Ив. Киреевского, Ал. Хомякова, К.
Аксакова, именно из «самозабвенного погружения в русские летописи», т. е.
из непосредственного, прямого напитания себя стихиею и духом нашей древ-
ней истории.
Екатерина II открыла сокровища этого духа. Она поняла его правду и
заключенную в нем силу; напитанная им, она уже гордо, без смущения отра-
499
жала притязательность западных дворов, подобрала остатки внутренне ру-
шившейся Польши; опираясь на него, открыла неоконченную до сих пор
борьбу с могущественными тогда Османлисами и утвердила владычество
России по всему северному побережью Черного моря.
Глубоко исторический характер лежит на всем ее царствовании; она
глубоко изучила еще начавшиеся в древности течения нашей истории, еще
события, завязавшиеся при Алексее Михайловиче, и смелою мыслью, и ру-
кою, не знавшею колебаний - завершила их. Характер законченности лежит
на всех ее главнейших делах.
Во внутреннем управлении она дала детальную разработку преобразо-
ваниям Петра Великого. Совершенно ошибочна мысль, принадлежащая на-
шему времени, будто Петр Великий задумал уподобить Россию Европе, слить
ее с западными странами до неузнаваемости на ней собственного ее лица,
собственного духа. Он был слишком гениален для подобного бесплодного
замысла, и слишком практичен, чтобы стремиться к невыполнимому и не-
нужному. Только привести в движение дремавшие русские силы, только дать
крепость сопротивления западным соседям, только упорядочить внутри те-
чение всех дел и начать разработку непочатых материальных сокровищ на-
шей земли - было его целью; и в достижении этой цели, как главного, он за
невозможностью придумать и создать все самому, иногда обращался к за-
падноевропейским образцам, как к простому пособию, как к второстепен-
ному в значении своем орудию. Дальнейшею и частною разработкою его
идей было наполнено все царствование Екатерины II.
Он создал высшие государственные учреждения - сенат, синод и колле-
гии; Екатерина II организовала все губернское и уездное, административное
и судебное устройство, действовавшее до половины нашего века. Деление
России на 12 губерний, введенное им, она изменила остающимся в главных
чертах до наших дней делением на 50 губерний, с подразделением на уезды;
и впервые ввела должности губернаторов и генерал-губернаторов; учредила
губернские и уездные казначейства, уголовную и гражданскую палаты — для
суда, губернское правление - с исполнительною и полицейскою властью.
Петр Великий, табелью о рангах, организовал служилое сословие для Рос-
сии; «Городовым положением» и «жалованною грамотою дворянству» Ека-
терина организовала наши сословия, строже разграничив их, и дала им пер-
вые начатки самоуправления. Так, она первая дала ремесленникам цеховое
устройство и разделила купцов на три гильдии. Экономические заботы Пет-
ра Великого она продолжала учреждением ассигнационного банка, ставше-
го впервые выпускать кредитные билеты, и государственного заемного бан-
ка -для выдачи за 5-проц. ссуд городским сословиям и дворянству. Учредила
откупную систему, отмененную лишь при императоре Александре II. И при
ней началось так называемое генеральное размежевание русской террито-
рии. Воспитательные дома, городские и уездные училища - зародыш тепе-
решних гимназий, первые женские институты - выразили заботы ее о про-
свещении и воспитании народа.
500
Все эти работы, не очень яркие и заметные на расстоянии столетия, со-
здали правильность и стройность внутренней жизни государства, придали
точность действиям внутренних органов управления. Блестящая литература
в высшей степени помогала просветительным задачам императрицы. В од-
ном сохранившемся письме Екатерины к Ник. Ив. Панину она так передава-
ла о состоянии, в коем нашла Россию, вступив на престол: «Армия, бывшая
в Пруссии, за две трети года не получала жалованья; крестьяне монастырс-
кие и заводские, а частью и помещичьи, были в явном непослушании влас-
тям. Сенат в собраниях своих слушал не краткое изложение дел, а самые дела
со всеми обстоятельствами и потому чтение о выгоне города Мосальска
занимало при вступлении моем на престол первые шесть недель заседания
сената. В губерниях так худо исполнялись сенатские предписания, что пер-
вый и второй указы обыкновенно оставлялись без внимания, и вошло в по-
словицу говорить: «ждут третьего указа». Чиновники воеводских канцеля-
рий не получали жалованья, и им дозволено было кормиться от просителей,
хотя взятки строго запрещены».
Весь этот, если можно так выразиться, неубранный щебень и щепу, засо-
рявшую великую храмину новой России, срубленную вчерне гигантскою ру-
кою Петра, Екатерина вымела, вычистила как рачительная, домовитая хозяйка.
Недаром она воздвигла ему чудный памятник на берегах Невы, один из
лучших памятников в мире: она чувствовала глубокую связь свою с ним.
В XIX век Россия вступила уже не только мощною, но и совсем прибран-
ною, чистенькою. Только после 34-летнего труда Екатерины стало возможно
такое царствование, как Александра I, во всех мягких, почти нежных чертах
его первой половины, с такими классическими чертами в уме и характере
людей, каким мы удивляемся в Карамзине и Жуковском.
<ПОЛЫИА>
Совершенно ошибочно представление, что три соседние державы - Пруссия,
Австрия и Россия - «разделили» Польшу; что они расчленили живой орга-
низм и поглотили его части. Это представление есть представление нашего
времени, когда мы видим Польшу с ее цветущими городами, с блестящею
литературою, с здоровым трудящимся населением, после ста лет возрождаю-
щих усилий России, ее укрепляющей дисциплины, ее порядка, гражданствен-
ности. К концу XVIII века, ранее разделов, Польша перестала юридически
существовать, хотя и продолжала, по недоразумению, существовать полити-
чески. Она потеряла, внутри себя, не какой-нибудь, но всякий закон жизни;
король в ней мог не более, чем последний шляхтич; не мог ничего сенат и
сейм. «У вас есть сабли-защищайтесь сами»,-ответил за 100 лет до раздела
король Владислав IV казакам-посланцам, искавшим в Варшаве закона и спра-
ведливости. «У вас есть сила, простая, физическая сила, а у нас никакой», -
говорили населению мнимые, ставшие фикциею власти, пышные титулы без
501
значения, имена без правды в себе, тени чего-то существующего, а не дей-
ствительные существа.
Эти тени, эти фикции, эти обманы были убраны, и в этом, а не в чем-
нибудь другом, заключались «разделы» Польши. Она потеряла внешнее по-
литическое существование, чтобы начать как-нибудь существовать внутрен-
не, юридически. Измученное население вырождалось, гибло; гибнул пре-
красный польский гений, подавленный невозможными условиями. Нужно
было пасть фикции государства, чтобы сохранилась народность; чтобы люди
получили возможность честного труда, прямой мысли, искреннего чувства
хоть к чему-нибудь.
Соседние государства, придя, взяли только строительный материал внут-
ренне разрушившейся храмины. Когда ее стропила полезли в одну сторону,
стены подались в другую, и она грозила жизни не только несчастных ее внут-
ренних обитателей, давно нисколько не согреваемых, но и соседей, эти сосе-
ди, из жалости к обитателям и из чувства своей безопасности перевели к себе
ее население, а стены и трубы, могущие пасть в непреднамеренный час и в
неурочное место, повалили так, чтобы они никого не задавили, и мусор их
разобрали на свои домашние поделки. Так как с тех пор согретое и накорм-
ленное население никогда не жаловалось на худобу стен, на течь в крыше, то
можно думать, это прочное, ему данное помещение с избытком оплачивает
утрату им ни на что не годного мусора, который век назад вызывал у него
слезы отчаяния, а теперь вызывает слезы сожаления.
Началось историческое воспитание Польши, восстановление павшей на-
родности, которой не мешали более расти и обнаруживать свой гений, давив-
шие ее и наконец убранные политические руины. Все говорят, и часто говорят, о
промышленном и торговом процветании Привислинских губерний в XIX веке;
никто не хочет заметить, что самый поляк стал лучше, что выправился его дух,
окрепла кровь, и пробудились в нем чувства, которых он давно не знал. Нужно
читать историю польских местных сеймиков конца XVIII века, чтобы ужаснуть-
ся, до чего поляк того времени представлял собою нравственную руину: ника-
ких скрепляющих, единящих чувств; нет общей идеи отечества, нет идеи истории
своей; он ничего не понимает, кроме сегодняшнего дня; никого, кроме себя,
не любит; никого не боится, кроме более сильного соседа, который его завтра
безнаказанно может разорить, опозорить и даже, при случае, убить. Но вот, в
самый момент падения, точнее - тотчас после него перед нами проходит фи-
гура кн. Адама Чарторыйского: сколько в ней сосредоточенности, внутренней
дисциплины; как он прекрасно управляет собою. Он знал о заключенных в
крепость его единоплеменниках и в нем пробуждается великая скорбь, он рас-
спрашивает о них, он заботится - факт совершенно новый в польской истории,
новый в поляке, вызванный новыми условиями его существования. Он постоян-
но боится, всегда оглядывается, вдумывается в слова свои; не устает трудиться—и
это еще более изумляет нас: ничего подобного мы не видим в Польше на протя-
жении двух веков ее истории до падения. Оздоровление расы тотчас сказалось
в литературе: великий гений польский, Мицкевич - есть гений не свободной
502
Речи Посполитой, но благоустроенных северо-западных губерний России.
Вспомним также и Лелевеля. На всех путях жизни, во всех сферах творчества
польская раса пустила свежие, сочные, неожиданные ростки.
Воспитывает человека не школьный урок, не учебник, не классный учи-
тель, но всегда и только жизнь. Жизнь заставила поляков трудиться; она заста-
вила их обдумывать свои поступки; непрестанно бояться и, следовательно,
уважать некоторый авторитет. Кн. Адам Чарторыйский оставил нам портрет
Екатерины II в тот миг, как, склоненный на колено, он целовал ей руку; он
смотрел на нее с смертельною ненавистью, как на погубительницу своего
отечества; он не понял, что перед ним - великая учительница. Но, взглянув на
его фигуру, исполненную страха и вместе готовую к состраданию, взглянув
на фигуру его, стойкую потом в одной мысли на протяжении пятидесяти лет,
мы догадываемся об истине, мы восклицаем невольно; «Поляки, узнаете ли
вы себя, и кто вас сделал этим?».
В заключение посмотрим, в изображении того же кн. Чарторыйского, на
фшуру поляка перед эпохою падения, на этого испорченного и гибнущего ре-
бенка, который поступил в суровую русскую школу. Он изображает графа Бра-
ницкого, устроителя Тарговицкой конфедерации, и говорит о нем: «Этот чело-
век уронил себя тем, что содействовал гибели своего отечества. Придворный,
запятнанный предосудительными поступками, тщеславный, без всяких принци-
пов, жадный к богатству, он был поляк в душе и предпочел бы удовлетворять
своим страстям и честолюбию в Польше, а не в другом месте. Он гордился
Польшею, которую сам погубил, и сокрушался о ее унижении. Он ненавидел
русских, которых близко узнал, и, покоряясь их силе, мстил им презрением и
беспощадным осмеянием их недостатков. В то же время он был чрезвычайно
сердечен к близким ему людям, с которыми безнаказанно мог откровенничать.
Его живое, своеобразное, чисто польское остроумие, его тонкая наблюдатель-
ность делали его разговор занимательным и веселым. Рассказывая анекдоты и
оживляя их народными прибаутками, он имел дар по-своему их передавать,
причем всячески избегал малейшего намека на злополучную Тарговицкую кон-
федерацию. Он очень любил вспоминать доброе старое время, и при этих воспо-
минаниях прежнего величия разом принимал вид магната. Впрочем, это вели-
чие мгновенно у него исчезало в кругу придворных, в присутствии которых он
обращался в ничтожество... Он мог быть полезен нам (т. е. при русском дворе,
куда Чарторыйский с братом приехал выпрашивать возвращения конфискован-
ных имений) только своими советами, смысл которых заключался в словах: «тер-
пение и покорность». Мы с братом посетили его, по прибытии в Царское Село,
и ожидали у него времени, назначенного нам для представления императрице.
Он дал нам должное наставление. На наш вопрос, следует ли нам целовать руку
императрице, он отвечал: «Целуйте все, что она прикажет, лишь бы только она
возвратила ваши имения». Он показал нам, как надо становиться на колено».
Вот замечательная амальгама некоторых внешних блесток и полного внут-
реннего разрушения. Кто усомнится в качествах школы, которая нужна была
для таких испорченных и таких дурных детей?
503
<ЗАПАДНЫЕ ГУБЕРНИИ>
Предполагая распространить положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1890 на губернии Минскую, Могилевскую и Витебскую, мини-
стерство внутренних дел видит, однако, необходимость некоторых изменений
его, ввиду особенных местных условий, и чтобы сделать ясными для себя их,
запросило об этом губернаторов названных губерний.
Мы уже имели случай заметить, что в самоуправлении у нас делаются
только опыты. К тому же, по самому своему существу, самоуправление, т. е.
саможивучесть местностей, есть столь нежное-легко хиреющее и легко из-
вращающееся учреждение, что в высшей степени нежелательно видеть при-
менения его как какой-то общей, сухой, деревянной нормы всюду. Самоуп-
равление, по самой мысли своей, должно быть в высшей степени местным,
и, до известной степени, индивидуальным, видоизмененным в каждом крае.
Признание, или отчасти признание этой истины министерством внутренних
дел, мы видим в сделанном запросе местным губернаторам.
С общегосударственной точки зрения важно, чтобы эти учреждения не
стали возбудителем или не сделались почвою для развития племенной и ре-
лигиозной розни. Сильна Русь была единством духа и всегда сильною при
нем останется. Нет вопроса о желании инородческому и иноверному насе-
лению этих губерний всякого собственного блага, если оно не понимается
им, как ущерб или оскорбление коренному великорусскому племени. При
введении самоуправления в них, в высшей степени важно наблюсти, чтобы
ни к чему подобному не могло быть дано ни повода, ни самых условий по-
чвы. Великорусы и белорусы являются, там, в меньшинстве и причем это
меньшинство, если и велико численностью, то еще не вполне окрепло мо-
рально, особенно для постоянной борьбы; всякому известно, как не только в
законодательстве нашем, но и в правах населения нашего лежит соблюсти,
оберечь всякое меньшинство, всякого слабого - заброшенного к нам судь-
бою. Этот дух особенного милосердия воспитан был в нас православною
церковью, и, к сожалению, не таков был исторический дух католицизма и
еврейского кагала.
Вот что, нам представляется, особенно важно принять там во внимание.
Очень простая мера, чтобы единогласный протест русских по племени и
вероисповеданию членов думы ли, земского ли собрания, мог бы один пре-
дупредить всякие конфликты. Не было примера и напрасно такового ожи-
дать, чтобы русские по племени и вере стали когда-нибудь и где-нибудь напа-
дающими. Не этому учила нас церковь, не в этом духе воспитывала нас исто-
рия. Но дать защиту против этого необходимо русским, как бы они ни были
малы в числе среди населения, так часто возбуждавшегося нападать. Нако-
нец, в тех же видах, мы думаем, что православному духовенству должна быть
дана более деятельная и высокая роль в самоуправлении северо-западных
местностей, нежели то мизерное участие, едва ли даже не совершенное ис-
ключение, каковое оно несет, необъяснимо почему, во всей остальной Рос-
504
сии. Это так немного желать, чтобы на протяжении всей России русский, т. е.
великорус, белорус и малоросс чувствовали себя не на чужбине, а дома.
Высказанное нами желание могло бы предупредить именно всякую ро-
ющуюся интригу, которая захотела бы опереться на принцип «большинства
голосов». Для польско-еврейских местностей, испытавших в золотую пору
шляхетства даже единоличное «не позволяй», нами предлагаемая мера не
могла бы показаться ни новою, ни оскорбляющею.
Не должны же мы забывать, как лет 6 назад городская дума в Бахчисарае
- городе, где есть русская администрация, - постановила большинством
мусульман-гласных отменить празднование христианских праздников, введя
на место их празднование мусульманских праздников.
Уроки не должны же проходить для нас бесплодно.
<КАТОЛИЦИЗМ И ПОЛЫПА>
Если отношение наше к польскому «государству» есть отношение забвения
минувшего, естественною смертью умершего, факта; если отношение наше к
польской народности есть отношение любви и близости, интимного понима-
ния, то отношение наше к форме исповедания им религиозной истины может
быть только отрицательным, борющимся.
Мы должны совершенно разделить в уме своем эти факты: братский
польский народ, славяне Буга, Вислы и прикарпатских равнин - с одной сто-
роны, с другой - наступающий на весь мир католицизм, средоточие коего в
Риме, главный орган коего знаменитая конгрегация de propaganda fide, ору-
дия коего были инквизиция, auto da fe, при случае тайный кинжал и яд, - все
это во имя Христа, все это будто бы для торжества Евангелия, а в сущности,
для торжества политической власти римского епископа.
Вот факты, которые нужно разорвать в своем сознании, смешивая кото-
рые, мы ничего не поймем.
Мы всеми силами души своей, всею мощью своей политической власти,
всею мощью народного сознания должны отторгнуть католицизм, не по свя-
зи его печальной с Польшею, но в самом себе, как величайшее, кощунствен-
нейшее искажение Евангелического духа, как недостойное порабощение не-
бесной истины земным интересам и расчетам. Мы должны надеяться, что
ранее или позже и Польша догадается о том, о чем догадалась ранее Герма-
ния и Англия, позднее, на наших уже глазах, Франция и Италия: что дух рим-
ской пропаганды не имеет ничего общего с апостольскою проповедью и
преследует свои исключительные цели. Qui cum jesuitis, non cum Jesu itis, -
кто с иезуитами, тот не co Христом - это замечательное выражение, созрев-
шее в умах самих поляков, выраженное на самом римском языке, на языке
римской литургии, достаточно показывает пропасть, по краю которой ходят
все народы, увлеченные в сети папства. «Pia fraus», «обман с благочестивою
целью», это выражение фигурирует у первых по времени и знаменитейших
505
по авторитету католических богословов еще XII и XIII века. Вот как давно, вот
с каких пор лукавство стало принципом - чего же? - церкви, которая есть по
идее своей сама святость, сама истина, сама правда. Есть перед чем ужас-
нуться. Католичество в христианстве есть то же, что в Ветхом Завете, в святом
и правильном Моисеевом законе есть фарисейство: так же медленно оно
выросло, так же незаметно слагалось, так же соблюло одну внешнюю, су-
хую, формальную верность букве и совершенно исказило весь дух и смысл
целого учения. Ибо что общего между обманом и Евангелием, между pia
fraus и - «блаженны чистые сердцем - они Бога узрят», «блаженны изгнан-
ные правды ради - они утешатся»; наконец, что есть общего между инквизи-
циею и кровавым костром и заповедью Спасителя: «Блаженны кроткие, бла-
женны миротворцы». Здесь правда первоначального основания и его же пос-
ледующего искажения так ярко разошлись, что лишь упорство злой воли, и
не рассуждающего ума, может сопротивляться очевидности.
Поляки никак не хотят заметить, что именно католицизм погубил их и
политически, уничтожил ту внутреннюю юридическую ткань в государстве,
по недостатку коей оно должно было пасть и внешним образом. Духовен-
ство, стараясь об авторитете Рима, усиливалось подорвать королевскую
власть, как оно усиливалось к этому и во Франции, - и интриговало против
государей в союзе со шляхтою, возбуждало к этому шляхту. В то же время
католический исповедник становился между мужем и женою, между умира-
ющим отцом и наследником-сыном, как этому известно в истории польских
родов множество примеров. Всюду духовенство католическое было внут-
реннею, всепроникающею, всеразъедающею, всеразрушающею силою, и
полная социальная дезорганизация была его целью, сознательно преследуе-
мою, которая должна была послужить фундаментом его торжества, его ис-
ключительной власти. Divide et impera, «раздели и господствуй», этот прин-
цип древнего Рима, коим он утвердил свое владычество сперва в Италии и
потом над целым миром, вошел сполна и без изменений в политику римских
епископов и в практику всего католического духовенства. И они «разделили»
и не ошиблись в «господстве», которое так прочно у духовенства католичес-
кого над несчастным польским населением, что пережило не только коро-
лей, не только пересилило господство шляхты, но и пережило самое суще-
ствование государства. Поляки понесли в плен на спинах своих тех же владык
«бискупов» и «ксендзов», которые ничего им не оставили от отечества. «Риа
fraus», «благочестивый обман» заставляет это духовенство делать вид, что
оно-то и предано польской идее, оно-то и одушевляет более всего поляков к
восстановлению отчизны. Они и действительно «воодушевляют», зная, что
через это остаются во главе нации и всего сильнее отторгают этим путем
поляков от православия, единственного, чего они, в сущности, боятся. А если
поляков постигают за излишнюю «одушевленность» удары бича, они пости-
гают их как народность, как остатки королевства и политической независимо-
сти, как язык, обычай, нравы, до чего всего духовенству дела нет. Епископ
вышлется во внутреннюю Россию, на хорошее жалованье: все равно ему
506
лично, бессемейному, безнациональному, имеющему отечеством своим Рим.
Он свое дело сделал: паства, взирая на «отнятого» у нее и «гонимого» пасты-
ря, еще сильнее привязывается к его памяти, его имени, его учению - к Риму.
Это и есть все, что нужно для каждого служителя Рима.
Католическое духовенство в такой мере искусно действует, что обмануло
и нас. Оно восстановило нас против польской народности, против языка
польского, и в то же время для себя собственно, для своего служения Риму
заручилось нашим благоволением. В то же время поляков оно растравляет
против православия. Таким образом, национальное дело погубленной ими
Польши, решительно всем запорошив глаза обманом, клеветою и лестью (pia
fraus), оно успело слиться с универсальными интересами Рима, того Рима,
который обратил в теней их королей, разъединил «быдло» и шляхту, повел их
гетманов на Малороссию и обратно привел Богдана Хмельницкого на Польшу,
и, далее, довел их всех до «немого заседания» Гродненского сейма и до Ста-
нислава Понятовского, плачущего на берегах Невы.
<ЦЕРКОВЬ>
Церковь есть не только некоторая святость, но и вытекающая из этой святости
сила, авторитет. И, как таковой, ей принадлежит сперва нравственное, а потом
и властительное руководительство в жизни. В № 288 нашей газеты помещено
было, в обширных выдержках, «Окружное увещательное послание об освя-
щении воскресного дня и праздников ко всем православным греческого коро-
левства», изданное в августе месяце афинским синодом. Время наше так ос-
лабло, так порознь шатки стали люди, наконец, так мало связанности духовной
между ними и так велик эгоизм каждого, что едва ли можно надеяться обшир-
ных и длительных плодов этого «Послания». Доброе чувство шевельнется в
другом-третьем; шевельнется и, продержавшись некоторое время, замрет, не
находя поддержки в условиях времени, отклика в сердцах человеческих. «За-
бота века сего и обольщение богатства заглушает слово и оно бывает бесплод-
но» (Матф. XIII), как сказал Спаситель в притче о сеятеле и зернах. Вот для
таких-то добрых, но слабых в малочисленности своей, но подавляемых усло-
виями «века сего», и необходима поддержка не только в авторитетном слове,
каково «Послание» афинского синода, но и во властительном действии.
Подъем религиозного чувства, жажда прильнуть к церкви как к «столпу
и утверждению истины» пробуждается и растет не только в простом народе
нашем, но и в образованном обществе. Всякое движение церкви, всякое дей-
ствие ее власти, идущее навстречу этому оживлению, будет встречено радо-
стно, встретит протесты лишь разрозненные и быстро заглушаемые. Вполне
презренна отговорка «хозяев» от праздничного отдыха служащих в их лавках:
ибо в субботу и понедельник купит всякий то, чего не мог купить в воскресе-
нье, и никто не останется без вещи потому только, что ее именно в воскресе-
нье нельзя было купить. Ясно, что воскресного отдыха не дают служащим те
507
именно хозяева, которые рассчитывают не на обыкновенного воскресного
покупателя, но на того излишнего покупателя, который придет к ним в вос-
кресенье, потому что многие другие лавки в этот день заперты. Итак, дело
сводится к излишку дохода, к незаконной корысти воспользоваться чужим
праздничным отдыхом и взять у них того покупателя, который завтра, в поне-
дельник, пришел бы к ним и приобрел нужное.
Ни в каком случае это торговое хищничество не заслуживает уважения, и
праздничный отдых утвердится тогда только, когда он станет общим. А об-
щим он может стать только тогда, когда станет для всех обязателен и принуди-
телен, перестав быть случайным и личным.
Есть понуждение доброе, благое. Мы указали на послание афинского
синода; указали на всеобщую жажду и у нас восстановления православного
облика в будущей, изменчивой, колеблющейся жизни. Везде, в каждом горо-
де, во всякой местности может действовать в этом направлении священник,
архиерей; действовать, не дожидаясь общих мер. Но венцом этих единичных
усилий было бы властительное движение нашего св. синода, и вотто, в чем
нуждается русский народ и чего жаждет русское общество.
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Мой фельетон о «Педагогических трафаретках» вызвал возражение г. Ора.
На центральную мысль моего фельетона он делает центральное же возраже-
ние: он говорит, что школа не имеет и не должна иметь в виду талант; что пусть
таланты даже гибнут - государство не ответствует за это; предмет заботы его
- средний ученик, и школа совершенно правильно приспособлена к спосо-
бам его воспитания и развития, притом же и таланты истинные, не нуждаясь
вовсе ни в какой школе, не гибнут в действительности. Таким образом, status
quo ante сохраняется, незачем вовсе было мне писать своего фельетона; я
впал в некоторое недоразумение потому именно, что стоял близко к делу,
страстно взглянул на него и, в ослеплении страсти, не заметил простой исти-
ны, ясно видной издали всем и г. Ору. Возражение более чем прекрасное по
силе, простоте, центральности, и, готов признать, вся видимость истины есть в
нем; но только видимость...
Что именно делает со «средним учеником», со «всяким» учеником уни-
версальная трафаретка? Она его не сбрасывает с себя, как сбрасывает та-
лант; покорно ей подчиняясь, «средний ученик» переходит в университет,
вступает в жизнь, но каким? Г. Ор не возразил и не захотел возразить, что она
его рассеивает, что именно в рассеянии внимания, в недозволении силам
ученика на чем-нибудь сосредоточиться, к чему-нибудь привязаться, что-
нибудь полюбить, состоит ее существо, т. е. существо действия всякой новой
школы на всякого ученика. Есть ли это истинное образование, истинное про-
свещение? Средний ученик, в качествах полученного им образования и вос-
питания, как-то промелькнул у моего оппонента, прошел между пальцами.
508
Отметив, что он оканчивает курс, не выгоняется из гимназии, г. Ор говорит:
это все, что нужно; но он не всмотрелся в этого оканчивающего, не анализи-
ровал, чту именно с ним, предметом исключительной государственной за-
ботливости, делает школа.
Мы все видим и знаем, на всех ступенях и во всех сферах государствен-
ной и общественной деятельности, т. е. на ступенях совершенно обыкновен-
ных, не требующих таланта - отсутствие простого внимания к своему делу и
простой в нем стойкости. Из десяти докторов лишь два умеют лечить; но
самое главное - лишь два умеют и хотят быть внимательны к пациенту. То же
и всюду - в адвокатуре, администрации, в высшей технике, сопряженной с
образованием. И всмотритесь, пожалуйста, в этих внимательных: вы тотчас
увидите, что это - натура, а не метод, что это - было в крови, а не привито
методом учения. Всмотритесь же теперь в семинаристов: я уже отметил в
фельетоне своем большую осмысленность и утонченность старой бурсы. Ее
ученики, эти неуклюжие семинары, куда, бывало, их ни поставишь, к какому
делу ни приложишь их силы - они им быстро овладевают и с ним всегДа
умеют справиться. Это всеми замечено, всюду. И нельзя же думать, что у
священников и вообще духовенства дети рождаются преимущественно уп-
ругими, стойкими, внимательными; ясно, что это - метод, ясно, что ключ его
- в школе, в том нерассеивании сил ученика, в той готовности терпеть всяко-
го ученика, если он к чему-нибудь одному привязывается, какую я отметил в
семинарии. Ученики гимназии и позднее студенты университета, выходя на
все поприща жизни, отучены внимать чему-нибудь долго, настойчиво над
чем-нибудь трудиться; к чему-нибудь относиться живо, активно; и связь этих
дефектов, - дефектов не таланта, но среднего человека, не в поэзии или худо-
жестве, но в повседневной черной работе, ясна с повседневным действием
универсальной педагогической трафаретки, как мы его объяснили...
Но этим одним не ограничивается действие ее на «среднего ученика».
Есть в природе явление, изучаемое физикою под именем интерференции
света; два световые луча, пропущенные известным образом, иногда произ-
водят не усиленный против одного луча свет, но совершенную темноту; по-
луволны эфира, встречаясь и отрицая друг друга, друг друга погашая, гаснут
обе, оставляя только темноту. Этот элемент интерференции не только богато
включен в школу, но существо удивительной трафаретки, вырабатывавшейся
в Европе в течение целого столетия, и состоит именно в ней. Она дает учени-
ку, - «среднему», как и «таланту», - не только тусклые и коротенькие впечат-
ления, впечатления, тянущиеся 55 минут и из плохого учебника, но и так
направленные относительно друг друга, что они друг друга погашают. Семи-
нарист, как и кадет военного корпуса, знают, для чего каждый из них суще-
ствует; война, величие и независимость отечества - пусть это коротко, не-
много с чьей-нибудь точки зрения, но это ясно и твердо. Бог, Им созданный
мир, молитва - это опять совершенно ясно. Существование их обоих во всем
целом своем осмысленно, и выучившийся в семинарии или кадетском кор-
пусе есть оконченный человек, сформировавшийся, знающий не только, как
509
делать какое-нибудь дело, но и совершенно уверенный, что это делать нуж-
но, что это - хорошо. Но возьмите нашего гимназиста, возьмите нашего сту-
дента, он - пусть даже умеет что-нибудь делать, и хочет делать - совершенно
не понимает, зачем это нужно делать, для чего он вообще сам существует?
Людей нужно лечить, а может быть, и не нужно: болеют и готовятся умереть
слабейшие, - это природа улучшает себя, как внес поправку в дарвинизм
Спенсер. Итак, хорошо, успешно лечить - может быть, плохо, потому что это
значит вмешиваться в действие мирового закона и задерживать мировую
эволюцию. Существует учение Евангелия, заповедь «не убий» - но, увы! это
только «Закон Божий», Чп программы. Высокая и чистая человечность,
Humanitat - ну, это, правда, больше: целых 2/5 программы, занятые древними
языками и историей классических народов. Но вот 3/7 той же самой програм-
мы твердо останавливали его внимание на положительных точных науках,
продукте новых веков: математике, физике, химии, космографии, и на всех
прочих знаниях, к этим примыкающих, на их методе мышления, на бесспор-
ности их умозаключений. Итак, если Софокл и Платон как бы указуют ему
помочь болящему; если «милостивый Спас» грозит ему и как бы запрещает
больного бросить, то с гораздо большею твердостью, с тысячею силлогиз-
мов в руках Дарвин говорит ему об этом болящем, особенно о болящем
ребенке: «Брось, пожалуйста, его - это природа сделала неудачное усилие и
хочет сама его исправить: в интересах рода ему лучше умереть; вспомни
лорда Риверса и его избиваемых собак, да и из своих классиков вспомни,
пожалуй, спартанцев, оставлявших жить только здорово рожденных». Я по-
вторяю - это твердо; и, главное, очень знаком и уже вошел в привычку, через
3/7 программы, этот метод мышления и повиновения ему. И вот, если доктор,
не ясно распознав болезнь или не распознав ее вовсе, прописывает «прибли-
зительный» рецепт, он если и смущен внутри себя, порою бывает смущен, то
все это «интерферирующими» лучами его просвещения до чрезвычайности
ослаблено и никак не переходит в боль, в скорбь обыкновенного, не учивше-
гося человека, в требование позвать другого врача. Этого кто же не знает, кто
этого не видал и, порою, не испытал. У него, - мы говорим о всяком носителе
подобных нейтрализованных лучей, - нет центральной, хотя бы недостаточ-
ной, но одной точки зрения, из коей был бы брошен свет на все вещи мира
сего; т. е. этой точки, этого угла зрения не дано не только мысли его, но и
самой воле, воспитанием и научением полученным. Он видит перед собою
линии, точнее - обрывки откуда-то идущих и куда-то уходящих пересекаю-
щихся линий, и, стоя среди их, не понимает, - опять не мыслью только, но
волею и сердцем, - кто он и зачем, и что и от кого этот мир, если не в после-
днем смысле своем, то в смысле для него сколько-нибудь ясном и бесспор-
ном. Удивляются, что иногда студенты - не от болезни, нужды, но от каких-то
темных внутренних причин, и притом студенты не худшие-стреляются. За-
мечательно, что не стреляются никогда, или неизмеримо реже - семинарис-
ты, кадеты, куда бы потом из своего корпуса или семинарии они ни перехо-
дили в своей жизни. Ясно, что в них сохранено какое-то неразрушимое, не-
510
разрушающееся ядро жизни, неуступчивое, стойкое; и ясно же, что это ядро
только у «обще»-образованных питомцев школы разрушено, что в них пога-
шен или готов погаснуть главный нерв жизни, все бытие их чем-то расшата-
но, подрублено, что лишь некоторою долею легкомыслия, а частью темным
инстинктом, догадкой: «к смерти - все разъяснится», они удерживаются по
сю сторону жизни, остаются жить, лечат, трудятся, стараются поступать чес-
тно. Т. е. стараются те, которые «с темным инстинктом», но остальные лечат
и трудятся без всякого старания, втихомолку обманывая окружающих; а если
они сильны, независимы от общества, то и цинично отталкивая этих окружа-
ющих с их болями и скорбями. Это же факт действительности; нужно в него
вдуматься.
Педагоги всех стран - и, повторяем, мы здесь испытываем «в чужом
пиру похмелье» - образовали серьезную идею, что если взять и соединить
элементы трех различных цивилизаций, выросших в истории человечества,
то полученное не только будет равняться порознь достоинству каждого эле-
мента, но и соединит в себе достоинства их всех и будет изображать «пре-
краснейшего человека», полный Humanist... Отсюда самое образование
получило имя «гуманного», без более точного определения, в чем гуманно-
го, т. е. основанного на которых именно элементах гуманитета, «обще»-гу-
манного. Неуловимого антагонизма этих цивилизаций они не поняли. Они не
поняли того, что всегда именно в манящем, зовущем своем идеале эти циви-
лизации боролись так мучительно, так сладостно, и что, следовательно, в
единичной душе они не соединимы иначе, как раздирая ее, или иначе как
фальшиво. Этого или не пришло им вовсе на ум, или, быть может, и приходи-
ло, но как-то тускло, каким-то косым и поверхностным знанием, без углубле-
ния и рефлексии... Почти невозможно отрицать, что это решение «гармони-
чески соединить» вовсе несовместимое есть плод некоторого индифферен-
тизма ко всем идеалам, и если мы наблюдем, что «системы» всюду были
водворены и регламентированы государственными органами, понимавши-
ми задачу свою с той простотой и элементарностью, с какою министерство
путей сообщения понимает задачу построения новых железнодорожных стан-
ций, мы не будем этому очень удивлены.
Нет также сомнения, что в пору самого введения многие истинно и глу-
боко жившие этими идеалами умы, т. е. уже не педагоги, но ученые, знали
тайну, пугались результата, но, по естественной робости затворников ученой
кельи перед мощными, «работавшими» над просвещением силами, промол-
чали. Во всяком случае, при оставлении «системы», по которой будет обра-
зовываться «прекрасный человек», были взяты элементы из классической
древности - с миром ее идеалов, из христианства - с миром его заветов, из
точных знаний - с миром их выводов, умозаключений, а главное, их метода.
Теперь вся тайна была в их соединении: если бы, в самом деле, можно было
их соединить, т. е. если бы гуманитарное образование серьезно и в самом
деле достигало бы своей цели - получилась бы folie, безумие в каждой еди-
ничной душе, но непоследовательность, которая нигде не была остановлена,
511
спасла дело, придав ему и некоторый вид целости, и в то же время не дав
обнаружиться его истинному плоду. Именно вместо «системы образова-
ния» было составлено то, что я назвал механическою трафареткою. Элемен-
ты, взятые из трех миров, и с тем, чтобы дать душе вкусить от этих миров, на
них и их духе и идеях образоваться - были расколочены на мельчайшие ку-
сочки, на 55-минутные впечатления, в которых уже не было никакой красоты
и мысли целого; но и эти впечатленьица притом так складывались, чтобы с
каждым определенным лежало рядом ему обратное и оба они уничтожа-
лись. Получалась смесь, лишенная внутреннего единства, и лишь у дарови-
тых учеников - первая расшатанность, начало заболевания, легкий психоз.
Возьмите день ученика - всякий день и всякого ученика: он сложен из
десяти впечатлений - пять уроков утром, приготовление к пяти урокам на-
завтра; из этих впечатлений 5-6 идут из классического мира -
Dum meam canto Lalagou et ultra
Terminum vagor curis expeditis*,
или еще ярче, еще выразительнее:
Nunc est bibendum, nunc tellus pulsanda...**
Все дышит особенною негой и сладострастием; все ново, все неожиданно
для души мальчика, для души христианина; он хотел бы задуматься, он уже готов
удивиться, но испуганный взгляд на циферблат часов возвращает его к действи-
тельности и он пугливо хватается за толстый том физики: опыты Гримальди и
маятник Фуко выколачивают из него зашевелившуюся негу поэзии, мелькают
цифры, алгебраические знаки и он пробует заинтересоваться, он действительно
заинтересовывается; эта горькая логика алгебры его увлекает, но бой стенных
часов кричит ему, что еще по трем предметам не приготовлено, и так же испу-
ганно, как Горация, бросает он физику и не столько берет, сколько хватает катехи-
зис. Тут все тексты, все черный шрифт курсивом, который нужно выучить «сло-
во в слово», а стрелка часов подвигается и сон начинает клонить голову. Но из
Закона Божия, наверно, не спросят, а вот из словесности наверно спросят, и,
главное, тут невозможно подсказать, нужно рассуждать, объяснять, высказы-
вать мысль, а не произносить слова; задано же о Собакевиче и Плюшкине, пос-
ледний «характер» нужно сравнить с характером Скупого Рыцаря. Но этого
решительно некогда, и ученик растерялся бы, если бы не благодетельный учеб-
ник Белорусова, или Попова, или кого-то: там уж все сравнено, выводы сделаны,
урок, так сказать, приготовлен без участия самого ученика, так что если бы
последний стал читать в самом деле «Мертвые души» или Пушкина, то только
сбился бы и, пожалуй, испортил бы назавтра отметку.
* Когда брожу я безоружный с песней к Лалаге моей ( лат.).
** Теперь пируем, пора землю <ногами> потрясать (лат.).
512
Вот и все, и вся «система» под углом не зрения на нее сверху, но воспри-
ятия ее снизу. Так день идет, так неделя, так годы. Из мальчика вырастает
юноша, из девочки девушка; учебник, урок, все эти же и эти тусклые, коро-
тенькие впечатления, не замечают метаморфозы учащегося, не понимают
мира потенций, залогов, чаяний, гаданий, в нем готовых бы пробудиться, в
нем пробуждающихся, и все так же и так же секут его мелкими, 55-минутны-
ми ударцами неустанно работающей трафаретки, иссекая из него образ «пре-
красного человека», извне высекая его и загоняя внутрь образ, растущий
извне... Я уже заметил, что все подаровитее срывается с трафаретки, или ее
обходит, или ее ломает: теперь все это должно быть яснее: именно пассивно,
именно без пробивающихся изнутри сил ученик действительно воспринима-
ет, в точном требуемом порядке, впечатления, где
Nunc est bibendum, nunc tellus pulsanda...
стоит вплотную, лепится непосредственно к заповеди: «Блаженны нищие ду-
хом - их царство небесное», и все это аккуратно пришлепывается электричес-
кою машиною Гольца, впрочем, тоже разломанною, т. е. не очень понятою,
когда ее объясняли, а главное, сейчас же забытою.
Именно сладость идеала каждой из трех культур вынута из трафаретки;
боль человеческая, там и здесь прошедшая, там и здесь разделившая челове-
ка, поднявшая «отца на сына» и «брата на брата» - всего этого здесь нет.
Остались имена, годы, номенклатура истории и цивилизаций. Конечно, это
не раздирает душу воспринимающего своею несовместимостью, но потому
именно и не раздирает, что тут нет более идеала, т. е. ни которого нет, ни
эллино-римского, ни христианского, ни идеала точного научного знания. И
тот, о коем думают, что он на исходе XIX века, силою искусно придуманной
системы образования, как бы поднят на вершину истории, совмещает в себе
полноту черт лица человеческого, в действительности вовсе не имеет ника-
ких определенных черт, стоит вне всех цивилизаций, ниспал к подножию на-
чальнейшей из них... И вот почему по отношению к своей родной, быть может,
узкой и бедной, но все-таки цивилизации - он является разрушительным: не по
злой воле вовсе, но просто потому, что он ничего не понимает, т. е. не знает
ничего иначе, как в звуке полузаглушенном, в имени полузабытом.
Два слова еще необходимо сказать об учебниках, этом характернейшем
явлении новой школы, этом явлении, вызвавшем почти промышленность.
Лет 5-6 назад раздались крики в нашей печати, требующей мер против «под-
строчников», «решительно мешающих ходу обучения»; но что такое под-
строчник по отношению к учебнику, как не то же, что учебник по отноше-
нию к серьезной, творчески созданной книге, и что такое эта школа, одолева-
емая подстрочниками, как не первый и главный между ними всеми под-
строчник по отношению к истинному образованию и научению. Уже так все
понято в самом начале, чтобы все сократить, ускорить, уторопить; торопит-
ся программа, подгоняясь к ней - торопится учебник и еще более торопливо
17 Зак. 3969
513
обгоняет его подстрочник. Если в учебнике, законном учебнике, берется 2-
3 сцены из «Мертвых душ», а остальное содержание излагается для краткости
«собственными словами»; если программа на половине обрывает чтение
песни Виргилия, потому что в курсе того же класса, кроме Виргилия, есть
еще Овидий и Гораций, - отчего подстрочнику еще не оборвать, не сокра-
тить, не облегчить и вообще разными способами не сберечь столь дорогое,
столь расхватанное, рвущееся за недостатком время ученика. Ведь суть дела
в его оболочке, а не в зерне; не в том, что есть в каждой из культур зовущий,
сладкий идеал и не в способе подойти к нему, понять его, прозреть в него и в
его таинства. Этот идеал раздроблен, этот идеал убит; кажется, он даже не
был никогда здесь почувствован. Итак, остаются грубые факты этих культур,
вот эти строки - как можно больше строк, эти законы, походы, имена — как
можно больше имен, походов, законов и, самое главное, в возможно краткое
время. Подстрочник только обнаруживает общую универсальную тенден-
цию; подстрочник только неудержимо выскакивает поверх гуманитета, по-
верх так и не сформировавшихся черт «прекрасного образа» и кричит, о
целой системе кричит: «Это - я».
Никто не оспорит, что элементы школы - именно эти, что они так рас-
положены, так действуют на формирующуюся в них душу. В свете их стано-
вится понятна действительность. Будет ли кто отрицать, что мальчики из
«Бежина луга», что Касьян с «Красивой Мечи» не только не суть что-то
скудное сравнительно с «созревшим» учеником в той же Туле и в том же
Орле, который назавтра осчастливит собою университет и театр Омона, но
и не скажет ли, напротив, что они более правильны, до известной степени
изящны, я дерзну сказать - мудры. В чем этих детей, этих мужиков - пре-
имущество и правильность? Да в том же, в чем преимущество кадета и
семинариста: они окончены, осмыслены; знают, для чего живут, почему
обманывать дурно, а говорить правду хорошо. Они слабы и дурны лишь в
меру личных у каждого пороков; но они сильны и хороши всеми силами
той культуры, той одной и определенной культуры, к которой принадлежат;
сильны этим даже против личных своих пороков. Все крепко в них и опреде-
лено в их судьбе; из мальчика с «Бежина луга» выйдет пахарь, из кадета -
добрый честный полковник, из семинариста - поп, который, правя требы,
знает, что их нужно править «истово». Скажут - «коротко», но мы ответим:
зато совершенно ясно и твердо; а главное - все это нужно бесчисленным
другим людям и есть лишь отзвук, ответ на их зов, нужду, вопрос. Только
«интеллигент», только этот клок разорванных миров - и, право же, невоз-
можно, нет сил его осудить - он должен годы продумать, прострадать, что-
бы, идя мимо церкви, захотеть живым желанием перекреститься, чтобы
вспомнить, что у него есть непосредственное отечество, которое нужно
любить, есть вот тут перед глазами Царь и закон, коим нужно повиноваться.
Право же, право - все эти элементарные вещи, с коими человек, казалось
бы, рождается, он постигает потом, кровью, неслыханными мучениями, и
очень часто не постигает вовсе, не постигнет никогда... Да это же все зна-
514
ют; откуда это алкание «интеллигенции» по народе, это прекрасное алка-
ние? Это - жажда прикоснуться к «целине» народа своего и истории, ему,
оторванному от них листочку:
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял...
Так в поэтическом предвидении написал Лермонтов; но это - азбука
нашего общественного развития, нашей истории, нашей литературы, - азбу-
ка, не зная которой, мы в ней ничего не умеем прочитать.
Это - потерянный стиль; потеря лица, - какого-нибудь, что-нибудь опре-
деленное выражающего. Мы заметили, что жизнь мужика, семинариста, ка-
дета как-то завязывается с жизнью народа и страны; поэтому страна и народ
как-то любят их, соучаствуют их жизни, и плодом этого соучастия является
песня, рассказ, анекдот, шутка. Мы читаем «Бежин луг», «Бородино», «Вой-
ну и мир». Но вот учитель греческого языка в Туле или Орле, объясняющий
ученикам аорист; захочется ли о нем написать повесть? Можно ли? Между
тем ведь он продукт трех культур, правильный продукт. Нет, кажется, только
можно прописать kali bromati для успокоения.
Великий симптом, ибо где жизнь есть - играет поэзия; и где даже нельзя
представить поэзии - нет более там и жизни.
Мы возразили на ту часть статьи г. Ора, где он говорит о «среднем»,
«обыкновенном» ученике, к условиям развития которого будто бы приспо-
соблена школа. Мы дорисовали условия воспитания и образования всякого
ученика, и спрашиваем, как действуют они на «среднего»? Но, затем, более
значительная часть статьи нашего оппонента посвящена рассуждению о том,
как воспитываются «истинные таланты», и указанию, что обычно они «шко-
лу отвергают», «в школе не нуждаются», как «Аристотель отверг Платона и
Декарт схоластиков». Эту часть его размышлений, не отвергая их, мы остав-
ляем без ответа, как и он написал ее без внимания к моей статье, без внима-
ния к самому предмету ее. Само собою разумеется, что, говоря о 80 процен-
тах не оканчивающих курса в наших гимназиях, я никак не мог говорить об
«истинных талантах», которые обещали обогатить нашу литературу, художе-
ство и проч.; пример Пушкина, приведенный мною, был приведен только в
целях отвергнуть предположение, что школа наша есть школа высококуль-
турных требований, которым не может удовлетворить малообразованная, не
развитая, трубая страна, и от этого именно будто бы не оканчивает курса 80
проц. Этот предрассудок, заботливо охраняемый и культивируемый, забот-
ливо рассеиваемый, стоит на пути ко всякому обсуждению школьных дел;
ибо если требования современной школы правильны, как бы они ни были
высоки, что можно возразить против них? Нужно возрастать, применяться,
515
подниматься, как это ни трудно. Но если ясно, если документально может
быть доказано биографическою ссылкой на Пушкина и точною ссылкой на §,
именно на § 34, что эти условия погубили бы и его, - не может быть более
вопроса о правильности этого указания, не может быть вопроса о бескуль-
турности страны и только вопрос о бескультурности школы. Как я заметил в
своем фельетоне: «население страны не может же не быть хоть несколько
даровито», т. е. в обыкновенном, не исключительном смысле даровито, да-
ровито в смысле способности хорошо исполнять обыкновенную черную
житейскую работу. И, без сомнения, эти-то обыкновенные таланты, несколь-
ко даровитые люди и попадают в эти восемьдесят процентов уходящих из
школы. Не перепуская их в университет, т. е. не допуская их к практической
жизни, школа именно и не допускает вот тех недостающих восьми из десяти
внимательных к пациенту врачей, которые, по крайней мере, не забывали бы
инструмента во внутренней полости у оперированной женщины, ставя на
место их восемь индифферентных к науке, ко всякому делу невнимательных
от природы, малоспособных, - как, почему, в силу каких методических тре-
бований при самом обучении, это я объяснил подробно. Не замечательно
ли, не поражает ли всякого, что новых Боткиных, Захарьиных, даже Крюко-
вых, Маклаковых, - в других сферах еще Буслаева, еще Тихонравова, Герье,
Стороженка, - не подымается? А пора бы: школа действует 25 лет, и все
знают, как талант (в обыкновенном смысле, т. е. вовсе не гений) становится
быстро известен, ибо он всем нужен. Все провалилось куда-то, в какой-то
провал; так провалилось в целой Европе, и она так же напрасно, как мы
Боткина, ждет еще Гладстона, человека дела, сына родной земли, человека,
нужного народу и стране. Декадентство на всех путях, во всех сферах, во всех
странах, декадентство мысли и еще более, еще грознее - воли, характера и,
наконец, самого быта. В незаметном маленьком зверьке, в этих 55-минутных
впечатлениях, бесстрастных, не волнующих, бесстрастно чередующихся, ко-
торые, ложась друг около друга, или отрицают одно, другое, или вообще ни
во что определенное не связываются, - в этом скромном и тусклом явлении,
но изо дня в день, но из недели в неделю, но из года в год, в России, как и в
Германии, как всюду - мне видится причина огромных фактов, которым мы
удивляемся, для которых напрасно ищем причины в каких-нибудь также ог-
ромных фактах, в огромных обстоятельствах времени и культуры. Ибо если и
есть эти другие обстоятельства - а, конечно, они есть - замечательно, что
душа уже к ним подготовлена, их ищет, их избирает. Она ищет дурную кни-
гу предпочтительно перед хорошей, мелкое предпочтительно перед круп-
ным, легкомысленное предпочтительно перед серьезным. Сродство с этим
всем в ней уже подготовлено, заложено, - когда же? Я ответил; и пока анали-
зом именно учебного дня, вот этой среды у этого Пети, этого вечера, им
проведенного перед керосиновой лампой, с пугливым взглядыванием на ци-
ферблат стенных часов, с пугливым отбрасыванием одного учебника, чтобы
скорее схватиться за другой, и засыпанием без грез, без улыбки, без молитвы,
с стучащими в голове бочками арифметической задачи, откуда через 2 крана
516
вливается и выливается вода, с греческими парасангами, пройденными Кле-
архом, и текстами об отношении Церкви видимой к невидимой, - пока точ-
ным рассмотрением этого собственно единственного факта воспитания и
обучения не будет опровергнута моя мысль, все рассуждения я считаю бес-
плодными.
НЕЧТО О ДЕКАДЕНТАХ,
«ЛАМПАДНОМ МАСЛЕ»
И О ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ
НАШИХ КРИТИКОВ
Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Пушкин
Rira bien, qui rira le dernier*
Поговорка
I
Талант шутки, остроумия, веселости исчезает у нас. Мы входим в какую-то
«меланхолическую» эпоху, где, по-видимому, вовсе будет отсутствовать смех.
Тем приятнее, когда ухо наше неожиданно поражается полузабытыми, стары-
ми звуками смеха, этого друга человечества, друга всего в нем доброго, про-
стого, живого. Такое или приблизительно такое ощущение прошло, вероят-
но, по душам тысяч читателей, когда в № 7380 «Нового Времени» они пробе-
жали нижеследующую пародию г. Буренина. Но сперва прочтем пародируе-
мый оригинал. Г. Мережковский, поэт, романист и критик, грустно-задумчиво
изобразил состояние своей души:
Не пылит еще дорога,
Но везде уже тревога,
Непонятная тоска;
Утомительно для слуха
Где-то ноет, ноет муха
В тонкой сетке паука.
* Хорошо смеется тот, кто смеется последним (фр.).
517
И похож далекий гром
На раскат глухого смеха,
В черной тьме, в лесу ночном
Грозовой тяжелый запах
Удушающего меха (sic).
В небе гул глухого смеха.
О, тяжелый душный запах!
Этот мрак не успокоит, -
Сердце бьется, сердце ноет, -
В сердце - вещая тоска,
Где-то муха ноет в лапах,
В страшных лапах паука...
Г. Буренин, как эхо, отозвался:
Не скрипит еще телега,
Но везде уж дышит нега,
Непонятная печаль.
Утомительно и слабо
В тростнике воркует жаба,
Небо сине, как эмаль.
По дороге бродит баба
От ухаба до ухаба,
Мне чего-то очень жаль.
Не скрипит еще телега.
Хороши Лоп е-д е-В era
И Шекспир, и Кальдерон!
Над листами их склонен,
В них умом вникаю слабо.
По дороге бродит баба,
От ухаба до ухаба,
Муха, п а с м у р н о-д и к а,
Ноет в лапах паука.
Ноет муха в страшных лапах
А в носу я скверный запах,
Ощущаю - почему
Сам, ей-Богу, не пойму...
От того ли ощущаю,
Что, отдавшись забытью,
Я Волынского статью
Философскую читаю,
А Волынский? - это «труп?»
Или Федор Сологуб
Декадентский душный запах
518
Из рассказа «К звездам» льет?
Ноет муха в страшных лапах,
Все паук ее сосет;
По дороге бродит баба,
И в стихах, как будто жаба
Символизма, стонет слабо
Мережковская мадам,
Восхищая весь Бедлам
Раби Флексера Акима... (г. Волынский)
А телега - мимо, мимо,
Едет вдаль неудержимо
Ни вперед и не назад,
И «андроны» в ней сидят
С мудрой Венгеровой в ряд,
Сбоку чорт шагает в стуле,
Мчатся всмятку сапоги.
Не видать кругом ни зги,
Мысль и разум потонули
В декадентской болтовне,
Лишь читательского смеха
Слышно где-то в стороне
Несмолкающее эхо.
Удушающего меха
Иль енота, иль хорька
Роковой, тяжелый запах!..
Где-то муха ноет в лапах,
В страшных лапах паука...
Это - прелестно. Миньятюра, шалость, - но в своих целях, в границах,
для нее поставленных - она прелестна.
II
Многие считают, но напрасно, г. Буренина «пустым» шутником. Он видит,
что эпоха меняется, и сильным пером своим отталкивает надвигающиеся су-
мерки, пытается удержать минувшие ясные дни. Он сам, вероятно, не будет
возражать, если мы скажем, что смена психических настроений в истории,
что угадывание грядущих зол и благ — не есть сфера его таланта. В общем,
видя уродливое перед собой явление, он со всею злобой, с честною злобой
писателя и гражданина, терзает его. Но он мог бы вспомнить, что когда весна
настанет - кучи мерзлого дотоле навоза вдруг начинают издавать нестерпи-
мое зловоние; и все-таки, весна, лето - это нечто желанное после зимы. Дека-
дентство есть отвратительное и ужасное, до известной степени, явление; но
вот, мы видим, оно неудержимо растет вопреки логике, эстетике, морали,
519
среди всеобщего к нему отвращения. Очевидно, тут пробивается какая-то
жизнь, струйка нового чего-то в истории. Но не есть же жизнь - бессмысли-
ца; не есть жизнь - порок. Очевидно, декадентство есть только сопутствую-
щее явпете, есть только тающий весенний навоз. Пройдет немного лет; мель-
кнут колеблющиеся, неверные дни весны: навоз обсохнет, будет сожжен горя-
чим солнцем «истории», а то, что за ним и отчасти одновременно с ним высту-
пит - бесспорно не будет ни бессмысленно, ни порочно. Вспомним 60-е годы,
к которым по возрасту принадлежит бичующий декадентов критик; ни фигу-
ра Кукшиной из «Отцов и детей», ни Губарева из «Дыма» не суть выдумка,
фикция; и между тем в бодрости своей, любви к работе, в серой простоте —
60-е годы несли в себе нечто новое для истории и лучшее, чего вовсе не было
в изящных, ленивых, изнеженных в духовном эпикуреизме 40-х годах. Так и
теперь: этот талый навоз декадентства нет основания считать чем-то исчерпы-
вающим наступающую эпоху.
Кто знает, отвратительностью своею не удержит ли он нас от некоторых,
уже теперь видимых, зол? Возьмем религию: нельзя сказать, чтобы декадент-
ство было в антагонизме с нею в той мере, например, как типичные писатели
60-х годов. Напротив, бессмысленные струны декадентов наигрывают что-то, в
чем слышно нам религиозное. Но это - непременно уродливо-религиозное,
непременно новое в религиозных порывах, отнюдь не связанное с историчес-
кою почвой христианства, с сложившеюся церковью. Этому всему декаденты
враждебнее, чем даже писатели 60-х годов*. Они все какие-то сатанаилы: Бог
их не привлекает, а имя демона заставляет весело играть их сердца. С тем вме-
сте все они - отвратительные эротоманы* **. И вот, кто знает, в видимо нарас-
тающем религиозном возбуждении, быть может, декадентам суждено сыграть
высшую оберегающую роль: чем ярче, чем бессмысленнее, чем порочнее
вспыхнет эта «поэзия» — все чистые сердцем и рассудительные умом прочнее
ухватятся за основы подлинного исторического христианства, т. е. за церковь.
Но здесь мы вступаем в область современных движений, которую г. Бу-
ренин порицает не менее, чем декадентов. Он писал, между прочим, с талан-
том меньшим, чем о декадентах, но, кажется, еще с бульшим раздражением:
«Кликуши и юродивые выскакивают теперь во всевозможных
видах: иногда - в виде критиков и публицистов, поучающих и пропо-
ведующих семинарским языком семинарские истины, пропитанные
семинарскою тупостью и еще чаще семинарским лицемерием». С
Божией помощью, мы дожили до такого времени, когда читателей
этим блюдом угощают с самою очаровательною развязностью гг.
Розановы, Тихомировы, Говорухи-Отроки, Болтухи-Младенцы и тому
подобные патентованные книжники, твердые в доктринах новейшего
♦ См. «Отверженный», роман г. Мережковского, - главы всего символического
и декадентского движения в нашей литературе. Здесь открыто отдается предпочтение
язычеству перед христианством.
** См. статью мою «О символистах». «Русск. Обозр.», 1896 г, сентябрь.
520
фарисейства. Зачем назойливо лезут они на страницы литературных
журналов со своими литературными упражнениями? Зачем, нако-
нец, литературные журналы печатают подобные упражнения? Ах,
читатель! на все эти зачем можно ответить только одно: мы живем в
такое время, когда юродство и кликушество в большом ходу, когда
они выгодны, когда они в моде» («Нов. Вр.», 1895 г., сентябрь).
Они так «выгодны» и в такой «моде», что автору, против которого была
направлена эта филиппика, было почти отказано в дальнейшем сотрудниче-
стве арендатором журнала, где были помещены его злосчастные «семинар-
ские упражнения», т. е. от ломтя питающего хлеба был полуотломлен боль-
шой кусок, и нужен был труд, хлопоты, унизительные уверения на будущее,
чтобы этот кусок не обломился вовсе. Но есть тут сторона и более важная.
Приходило ли на мысль когда-нибудь г. Буренину, что декадентство глу-
бочайшим образом связуемо с упадком всякой традиции в нашем обще-
стве? Традиции бытовой, культурной, но главным образом церковной, как
наиболее всепроницающей и в то же время наименее эмблемой? Задавался
ли он вопросом: эти декаденты, которых он ужасается, возможны ли, мысли-
мы ли в духовенстве, в старокупеческом быту, в стародворянском укладе
жизни, можно ли вообще представить их появившимися в частях общества,
где сохранено живое отношение к храму, есть связь с священником, где креп-
ки узы церковного обычая*, держащие, сдерживающие вечною и общею
своею нормой уродливые, страстные, наконец безумные и порочные поры-
вы исключительных или склонных к «исключительному» личностей? Нам
хочется сказать что-нибудь, что было бы лично убедительно для автора паро-
дии на декадентов; итак, пусть вспомнит он из собственного «Романа в Кис-
ловодске» прекрасную фигуру «всероссийского генерала», о коем написал
эти теплые и проницательные слова:
«Но удивительное дело! несмотря на внешнюю энергию, которую
проявлял генерал в своих порицаниях, в его гневе слышалась самая
добродушная нота; он был шумлив и бранлив на словах, а на деле,
как я не раз имел случай убедиться потом, оказывался снисходи-
тельнейшим и добрейшим человеком. Тем не менее, покуда мы с
генералом проходили бесконечную галерею, она оглашалась выра-
зительными «мерзавцами» и «подлецами», прилагаемыми к разным
виновникам всяких беспорядков в нашем обширном отечестве».
Сам г. Буренин называет его «всероссийским генералом», очевидно, как
бы говоря: «Это сама матушка-Русь», т. е. «такова-чо матушка-Русь». Но
откуда в ней эти черты, как не из истории? Эта благость, весезье, задор -
* Вообще очень замечательно, что в то время как все предыдущие фазы нашей
литературы выросли из жизни, из быта семьи или общественных классов, - декадент-
ство, одно только оно, ютится исключительно около школы, главным образом около
университета. Все мы знаем, что именно здесь, хотя, конечно, не официально, потеряна
всякая связь с традицией, и потеряна именно фактически, как привычка, как обычай.
521
откуда они, скажем честнее, скажем без колебания - как не из светлого,
радостного, крепящего строя нашей церкви, которая в ряде веков, в долгих
поколениях выковала типичное русское лицо, типичный русский характер,
типичный русский ум? Но вот - мало кто это замечает и понимает - этой
матушке-«Руси» приходит конец... Есть одна особенность в декадентах, все-
ми пропущенная: в них нет ничего «русского»; запаха наших лесов, наших
лугов, румянца великорусса - не ищите у этих бледных мертвецов, ни в их
«созданиях». Это «общечеловеки», совершенные «общечеловеки», неволь-
но даже, бессознательно, вне всяких теорий, логики, предположения. Стой-
кая упорная мысль западников, от Кантемира, Чаадаева и до гг. Стасюлевича,
самого Буренина, нашла в лице их тот смутно тревоживший ее идеал, о кото-
ром так долго плакала, но никак не могла представить себе и предугадать
его конкретных, индивидуальных черт. Но вот теперь мы видим их в полноте
живого образа, несколько бледного, бескровного, как и следовало ожидать:
В небе гул глухого смеха.
О, тяжелый, душный запах!
Этот мрак не успокоит;
Сердце бьется, сердце ноет,
В сердце - вещая тоска;
Где-то муха ноет в лапах...
Кто это писал - француз, русский? но почему не немец, не араб, не
финн? Когда писал, в каком веке? до Р. X. или после Р. X.? Это только чело-
век, на лице коего мы не читаем ни национальности, ни эпохи, ни религии,
хотя и видим некоторую «образованность», «общечеловеческую» образо-
ванность.
Г. Буренин, разобрав рассказ «К звездам» г. Ф. Сологуба, пишет в заклю-
чение, очевидно, с мучительною болью, даже не скрываемою:
«По мнению его автора, всего страшнее в рассказе «безмолвие
липкой паутины». А по моему мнению, еще страшнее этого «без-
молвия липкой паутины» возможность в наши дни не только сочине-
ния подобных бессмысленных рассказов с подобными бессмыслен-
ными эпизодами и подробностями, но и печатание их в литератур-
ных журналах. Нужна особая, вполне безумная наглость со стороны
автора и редактора журнала, чтобы предлагать читателям такие вещи
и выдавать их за литературные произведения «новой умственной эпо-
хи». Конечно, если бы «Северный Вестник» издавался на одиннадца-
той версте* - такие рассказы, наряду с приведенным выше стихотво-
рением г. Мережковского, должны бы составлять его неизбежное ук-
рашение; но так как он издается пока в Троицкой улице - их появле-
ние в органе г-жи Гуревич пугает меня, повторяю еще раз, гораздо
* На 11 -й версте Финляндской железной дороги находится больница для душев-
нобольных Св. Николая; отсюда термин «1 t-я верста» вошел в Петербурге в упот-
ребление как синоним дома умалишенных.
522
более безмолвия липкой паутины. Я знаю, что и автор рассказа, г.
Ф. Сологуб и г. Волынский не поймут, почему это я так пугаюсь; я
знаю, что они даже не снизойдут до какого-либо возражения мне
членораздельными звуками, а просто «стиснут зубы», «раздвинут
губы улыбкой» и «заболтают в воздухе ногами, согнутыми в коленях»
{выражения, взятые из рассказа г. Ф. Сологуба «К звездам») и нач-
нут взвизгивать страшным смехом. Но вот именно оттого, что я
знаю это, в моей душе и пробегает «безнадежно-острая струя» ис-
пуга за новую умственную эпоху и ее быстрое и несомненное стрем-
ление к одиннадцатой версте».
III
Г. Бурении не связывает, не хочет связывать явлений, которые видит теперь и
наблюдал ранее, в течение своей уже не короткой литературной деятельности.
О чем он плачет, на что сетует? Он говорит: «От меня отвертываются и не
слушают»; но не так ли же он, в приведенной ранее выдержке, отвертывается
и не слушает других? И мы все, все наши литературные партии, шли вперед,
отвернувшись друг от друга, без любви, без уважения взаимного; шли «сво-
бодными путями», руководились идеалом «свободной человечности» - до
тех пор, пока из одной группы «идущих» вдруг не послышались «голоса» как
бы с 11-й версты.
Идеал «не связанной» человечности дал свой плод; ведь свобода не пред-
решает ни мудрости, ни благородства; почему вы отказываете в правах «сво-
бодно выразиться» безумию, явному пороку? Это только границы свободы,
т. е. ее досягаемые, хотя и не переступаемые далее, вершины. И вот, г. Емель-
янов-Коханский «свободно» пишет:
О, чудно нежная и страстная болезнь!
В тебе вся жизнь моя и милый идеал!
Ты звездно обняла меня как землю плеснь,
Как ржавчина в бою измученный кинжал!
Ты волю мне дала; я грозен и велик
Не желчной грубостью, не силою, не знаньем:
Усеян язвами смятенный мой язык,
И заражать могу одним своим дыханьем
Весталок, стариков, беспомощных детей;
Всех наградить могу болезнию нагою.
Я презираю жизнь, природу и людей,
Смеюся над тоской, над горем и слезою.
В декадентах 60-е годы только не узнают себя; точные и неподвижные
представители той эпохи отрицаются, но бессильно, от собственных порож-
дений, продвинувшихся далее, к «новой мозговой линии» - по пути, откры-
523
тому их именно усилиями. Когда же, как не в эти годы*, сброшена была «тради-
ция» русским человеком с себя? «Предстояло строить все заново, как бы в пус-
тыне», - самодовольно определял задачу тех лет недальновидный, слепой даже
почти накануне (в 1891 году) декадентства г. Н. Михайловский. Мы повторяем:
силы той эпохи были чисты, порывы - во многом хороши; было что-то бодрое,
что-то утреннее во всем том поколении; но принципы были безумно-ребячес-
ки, надежды - наивно мечтательны. Они хотели «заново построить всю жизнь»;
но уже их дети, худородные дети излишне свободных, во всем свободных отцов,
сказали своим папашам: «Но, позвольте, во имя свободы вы перестраивали, как
хотели, объективную, коллективную жизнь, плюя на тысячелетнюю традицию;
позвольте во имя той же свободы нам плюнуть на вас, на ваш труд, на ваши
начала и заняться не переустройством общих условий жизни, а культивировани-
ем «чудно-нежной и страстной болезни». И вот, А. Добролюбов пишет:
Не входите, присенники,
У меня ль не ноги белые,
У меня ль не руки сплетаются?..
и субъективно счастлив, как были объективно-счастливы его и братии всей
декадентской «отцы», когда упивались этими стихами Некрасова:
Зрелище бедствий народных
Невыносимо, мой друг,
Счастье умов благородных -
Видеть довольство вокруг.
Или:
Ветер шумит, наметает сугробы
Месяца нет - хоть бы луч;
На небо глянешь - какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч.
(«Мороз, Красный нос»).
И, наконец:
Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать
В снопики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужны,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы Господу нужны,
Чем Ему дороги вы? (ibid.).
* В Западной Европе соответствующим моментом была эпоха Французской «вели-
кой» революции, и теоретически - «просвещение» XVIII века, с Руссо и маркизом де-
Садом. Очень замечательно, что синтаксис французской книжной речи теряет ясность,
простоту и спокойствие с переходом в XIX век. Один знаменитый критик сказал по этому
поводу: «Всякая комнатная девушка эпохи Людовиков XIV-XV писала свои любовные
записочки лучшею прозой, чем классические писатели нашего века». Фенелон и Ла-Фон-
тен - с одной стороны, Руссо, Жозеф де-Местр - с другой, могут пояснить это замечание.
524
Таким образом, в порыве критического и поэтического полета г. Буренин
совершенно не догадывается, что он и сам стоит на одной из тропинок, неулови-
мо, для него совершенно незаметно, ведущей к «11-й версте». Мы знаем, он
принадлежит к яснейшим нашим писателям; он свеж и бодр, как чадо языческо-
го Renaissance, пожалуй - как «Сон в летнюю ночь» или «Что вам будет угодно»
Шекспира. Но он излишне свободен; он играет своим творчеством, играет стре-
лами своими, как слепой амур. Всякая традиция, если это не есть традиция шут-
ки, литературной манеры - скучна ему; что-нибудь вечное и священное про-
буждает в нем только мысль о семинарии и «лампадном масле».
Играй, амур! мы полюбуемся твоею игрой; посмотрим, так же ли весело
будут играть твои дети? внуки? правнуки? Мы боимся прочесть в их лицах
уныние, тоску; мы боимся - они станут пугаться «молчания липкой паути-
ны»; сердце их сожмется совсем иначе, чем у веселого деда, и они запоют:
...Везде уже тревога
Непонятная тоска
Этот мрак не успокоит,
Сердце бьется, сердце ноет
В сердце - вещая тоска...
Они захотят поклониться Богу - и не сумеют назвать Его по имени; захотят
пойти в храм - и не найдут к нему дорог; они затеплили бы лампаду, но, вот,
старое искусство этого потеряно! Они проклянут свою жизнь: не найдя Бога -
они поклонятся демону; они воспоют ему гимны; они воспоют гимны смерти.
Ибо любовь смерти есть любовь к демону; тяготение к небытию, так прослав-
ляемое прозаиками и поэтами наших дней, есть только последняя ступень заб-
вения Бога, Который есть любовь и жизнь. Все будет безутешно вокруг их и в
них, и единственною усладой - неотъемлемою усладой, потому что она всегда
с собой, при себе, вот тут, в темном углу, в противной как могила постели, куда
забился робкий, дрожащий, бессмысленный декадент, - этою последнею на
земле усладой для него будет «чудно-нежная и страстная болезнь».
IV
Так гордый, самонадеянный век кончает. Мы имеем о нем прообраз, - точ-
нее, имеем факт бывший, но который мы всегда понимали как грозный, пре-
достерегающий прообраз:
«И еще речь была в устах гордого Царя, как был с неба голос: «Тебе
говорят, царь Новуходоносор - царство отошло от тебя. И отучат тебя от
людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травой будут кормить
тебя как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Все-
вышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет».
«Так и исполнилось это слово» - тогда, рассказывает пророк Даниил; те-
перь - указывает г. Буренин, с тоской плача об «11 -й версте» в литературе. Но он
525
не плакал бы о ней, если бы своевременно вспоминал сам и напоминал другим
о том древнем пророчестве. Однако, мы впадаем в «противные и лицемерные
семинарские упражнения» и досаждаем литературному амуру, который, заж-
муривая глаза и натягивая лук, кричит: «Пронжу всякого, кто будет понуждать
меня мыслить, рассуждать». Будь же слеп, амур, но и спрячь свои стрелы, пото-
му что ты решительно не видишь и не понимаешь, куда и зачем их бросаешь!
БУМАГА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
I
В № 333 «С.-Петербургских Ведомостей» (фельетон) г. Ладожский возражает
на мысли, высказанные мною в № 7456 «Нов. Вр.», о противоположности и
несовместимости в одной и той же душе и одновременно трех идеалов: элли-
но-римского, христианского и нового научного знания, на эклектическом сме-
шении, а, в сущности, на непонимании которых построена новая школа. Он
пишет и доказывая, и иллюстрируя свою мысль:
«В доме старовера, против которого я живу, ютится бесконечное число
жильцов небогатых, но непременно набожных. Должно быть, этого требует
сам хозяин. Утром я вижу, как из ворот этого дома выходят люди всяких про-
фессий: тут есть машинисты, кондуктора железных дорог, есть даже один
доктор, и все они, выходя утром за ворота, истово крестятся на все стороны и
только после такой молитвы идут к своим обычным занятиям. Вот я и спра-
шиваю себя: разве эта древняя форма утренней молитвы, прямо на небо и на
кресты виднеющихся или чаще только подозреваемых храмов Божиих, меша-
ет машинисту самым исправным образом управлять своей машиной по всем
наистрожайшим правилам и законам материалистической механики? Разве
этот старый доктор, отдав Богу Божие, не с тем же правом и успехом пропи-
сывает продукты самоновейшей химии, в виде антипиринов, хины и всех
бесчисленных алкалоидов современной фармакологии?».
Мы скажем более, чем сколько он хотел сказать: слияние трех идеалов,
их гармоничное примирение, действительно, происходило иногда в челове-
ке; так, Ньютон в XVII веке и Фарадэй в XIX были глубоко религиозны, даже
набожны; эллин Аристотель, не зная Библии, задолго до Христа, возвысил-
ся до монотеизма, до монотеизма страстного и порывистого в 12-й книге
своей «Метафизики». Августин, сладостно отдававшийся поэтам и художе-
ству языческим, с несравненною глубиною отдался и христианским созер-
цаниям; этот последний, впрочем, с разделением во времени. Но мы не
отвергаем и, напротив, хорошо знаем, что есть некоторые высоты, где три
эти идеала совмещаются, сплетаются и, быть может (этого мы не знаем),
начинают требовать друг друга. Однако, что тут делать школе, при чем здесь
школа? - слияние это происходит в таких недоступных высотах психическо-
го развития, такими таинственными, неисследованными путями, даже по-
526
смотреть на которые школе, да и учителям ее, не дано. Это именно «невид-
ные, подозреваемые только» кресты, на кои безмолвно и не понимая мо-
лится человечество и не устанет молиться. Мысль основать слияние в шко-
ле этих идеалов на факте слияния их в редких и исключительных душах,
обыкновенно к возрасту глубокой зрелости, почти старости - равнялась бы
мысли начинать обучение математике с дифференциалов, предпосылая их
нумерации и правилам сложения.
Что же в приведенном примере остается, кроме его бедного фактическо-
го содержания и узких, фактических границ. Доктор и машинист, один только
доктор, но многие машинисты крестятся на церковь, выходя утром на рабо-
ту. Замечательно, что это - в доме старовера, «где ютятся небогатые люди», т.
е. не во всяком доме - это первое и самое для нас важное; а, во-вторых,
старовер есть именно лицо, в котором нет смешения трех разнородных иде-
алов, но один только, или исключительно известный, или совершенно погло-
тивший, подавивший другие идеалы. Итак, человек определенного и исклю-
чительного идеала не только сам тверд и ясен в деятельности своей, в образе
жизни, в быте, но и подчиняет своему воззрению и формам своего быта
людей, даже толпы людей, гораздо более его, может быть, «просвещенных».
Это именно то, на что я в статьях своих указывал. Человек этот не только
правилен и полон достоинства в чертах образа своего, хотя он далек от обще-
го и неопределенного Humanist; он счастлив; он, наконец, нужен, полезен
людям; его жизнь есть лишь отзвук на зов, нужду их: вспомним, что около
него «ютятся», что эти ютящиеся - «люди небогатые». Лучшей иллюстрации
своих мыслей я не мог бы придумать; ее дала жизнь.
Если пример Августина и Ньютона слишком высок, чтобы за ним могла
следовать школа, то пример, приведенный г. Ладожским, ниже ее существую-
щих уже задач. В математике и элементарной физике и космографии она дает
и усиливается дать именно метод мышления и веру в бесспорность научных
умозаключений, на что бы они ни простирались: это именно начало дарвиниз-
ма, начало канто-лапласовской гипотезы образования мира из туманностей
(очень элементарной), Ляйэлевских соображений о древности земли и челове-
ческого рода, а вовсе не подготовка к некоторым эмпирическим навыкам и их
умелому употреблению. Школа одухотворяет или пытается одухотворить; она
пытается развить человека, пробудить в нем первый позыв к творчеству, и вот
именно на этой высоте, умеренной, но вовсе не незначительной, названные
три идеала и не совмещаются. И что это так, слишком ярко об этом свидетель-
ствует вся интеллигенция, необозримым рядам которой напрасно было бы
пытаться противопоставить «дом одного старовера».
Этим опровергается и то, что г. Ладожский говорит - очень, впрочем,
серьезно и хорошо - о разнородности способностей человеческих, усваива-
ющих разные идеалы. Нельзя в самом деле так механически делить душу,
отвергать участие сердца в выводах, а особенно в исканиях ума, участия ума
в упованиях сердца. Есть некоторое единство в импульсе к вере ли, к знанию
ли, и вот для этого импульса необходимо одно тяготение.
527
II
Всегда мне казалось, что народ, страна, историческая эпоха имеет, в сущности, ту
школу, какую она заслуживает. Самое время наше, т. е. вот уже весь XIX век, есть
время духовного эклектизма; и вот где глубочайшее основание того, что мы име-
ем эклектическую школу. Замечательно, XIX век не имеет присущего ему архи-
тектурного стиля; а стиль, именно архитектурный стиль - есть выражение народ-
ного духа или духа эпохи, раз он хорошо и прочно сформировался и еще твердо
держится. Богатые между нами строят залы в египетском стиле, в греческом—ну,
там колонну или карниз, но все это внутреннее убранство и отделка вмещается в
огромном каменном ящике, напоминающем ящик из-под стеариновых свечей
или из-под бутылок водки «розлива братьев Елисеевых». Это, только это одно мы
видим и в школе; любопытно одно здесь, почему именно педагоги, почему они
впереди всех и «убежденнее» всех пошли навстречу самой мучительной и опас-
ной тенденции века: все смешать, ничего одного не полюбить, ни на чем опреде-
ленном не утвердиться. Иногда приходит на ум, что причина здесь в том, что
«педагоо> по существу или, по крайней мере, всегда в действительности есть
«межеумок»: он уже не в народе, не с народом, но он еще и не ученый, хотя
мучительно хотел бы им стать. Хотел бы, но не есть. Поэтому общая его тенден-
ция направлена в сторону учености, «книги» и «книги», непременно - «книги».
Они недаром, не без причины расплодили умопомрачающее множество учеб-
ников: писать для них не только есть кусок хлеба, но и сладостная профессия,
намекающая на «писательство» и «ученость». Но о чем они пишут и составляют
учебники (ведь есть учебники совершенно безграмотные и, замечательно, - это
наиболее распространенные) - этого они не любят иначе, как подражательною
любовью, и не понимают иначе, как несколько ограниченным пониманием. Вот
отчего ими, а еще более вдохновляемыми от них административными органами,
которые организовали всюду государственную школу, «книжное», «книга»-этот
глубокий и великий, этот праведный продукт новых веков, да и вообще человечес-
кой культуры - сделан был бессознательно разрушающим ломом около этой
самой культуры. Ведь уже замечено, что книга читается теперь менее, нежели в
какое-либо время, что, так сказать, она угасает в истории, -т. е. истинная, творчес-
кая книга. Несравненно менее замечено, - или, точнее, замечено, но не вызвало
ничьих размышлений, - что перлы Пушкинской поэзии, т. е. живой поэзии и
мысли, не читаются и с 7|0, даже с 7^ того изощренного внимания, с каким
прочитываются такие перлы словесного художества, как «Сокращенное руковод-
ство по географии» Смирнова (именно - безграмотно), «Русская история» Бел-
лярминова (перевраны нашествия татар - первое и второе - на Россию), «Пуш-
кин», «Гоголь» и еще кто-то, это все - в изложении Бураковского. Вот этот лом
цивилизации - этот Бураковский, этот Беллярминов, этот Смирнов. Уже после них
не захочешь Пушкина, не поймешь Пушкина; разве пойдешь и «разомнешь руки
на билиарде»; а по словесности - что-нибудь из Понсона дю-Террайля: переход
естествен, законен, и наконец - этого же никто не оспорит - он действителен...
Но не здесь еще главное зло дурно понятой и односторонней книжности.
528
Ill
Г. Ладожский упомянул и даже описал выходящих на труд людей «из дома
одного старовера». Да, эти люди хранят, - и это только он описал, - религиоз-
ные навыки: креста, утренней молитвы «прямо на небо или на церковь». Увы,
XIX веку, этому веку разрушающихся и смешивающихся понятий, навыки
есть последняя драгоценность, которая еще остается от живых и творческих
культурных эпох; ибо даже в научном методе эпоха Эдиссона, Дарвина, Нан-
сена, после Лапласа, Линнея или Кювье, Ньютона - едва ли в точном значении
может быть названа живою и продолжающею изобретать, находить: мы вос-
ходим только по ступеням давно подставленных лестниц и не находим своих и
новых, т. е. новых именно в озаряющей мысли. Эти-то навыки, чего никто не
замечает, отнимаются у нас школою. Она их вытесняет самым объемом сво-
им, почти физически, или не оставляя для них времени, или оставляя его в
таком количестве, что они не могут в нем правильно развиться, возрасти,
укрепиться.
Я уже заметил в предыдущем фельетоне, что ложится спать гимназист
без молитвы; из семьи, если она не окончательно безобразна, мальчик или
девочка вступают в школу молящимися на ночь; без экстаза или умиления,
пожалуй - без внимания, но привычка есть. Я раз застал одну мать, совер-
шенно почти безграмотную, которая, посадив на лавку 6-летнюю дочь и
5-летнего сына, учила: «Нужно любить больше всех?..». Они отвечали, моргая
глазами: - «Бога»; «потом?» - «Царя»; «После царя?» - «отца и мать, всех
людей». Целое миросозерцание, до известной степени... Итак, привычка на
ночь молиться - есть у поступающего в приготовительный класс гимназии;
и нет более этой привычки ни у одного пишущего latinum pensum о походе
Агезилая на испытании зрелости, хотя в то же время он знает не только «две
молитвы на сон грядущий», но и помнит, правда, ужасно все перевирая, т. е.
если сейчас спросить - целое богословие. Все знает, но уже не молится; уже
нет живой эмоции молиться: есть представление молитвы, материал ее, если
бы он захотел молиться, точное знание предполагаемых последствий, если
бы он помолился и если не помолится, но самой молитвы нет, даже хотя бы в
«невнимательной» привычке зерно выпало, выпала causa efficiens* всего
научения, - и это так общо и постоянно, так всем известно, что снова и бес-
спорно мы здесь наталкиваемся на последствие какого-то общего метода в
школе. Какого?..
Кто не размышлял над этим фактом: вот задан 3-4 мальчуганам, поме-
щенным на «братской квартире» (есть такие), «Бежин луг», - и усиленно,
при свете лампы, они учат диалоги тех мальчуганов, на «Бежином лугу», как
и чту сказал один и чту ответил ему другой, чего они оба испугались. Имена
мальчиков, которые случайно избрал Тургенев, «Мигя» там или «Петя», нужно
твердо знать: если их переврешь назавтра, уже не получишь «пяти» за ответ,
* действующая причина (лат.).
529
пожалуй, даже получишь «три», а между тем при легкости урока, следует
именно завтра запастись «пятеркой», т. е. уже заранее поправить возмож-
ную и даже вероятную «единицу» «в том месяце». Все это отчетливо и твер-
до соображается тремя-четырьмя мальчуганами, уже чуть-чуть хитрыми,
дальновидными, лукавыми, «искусившимися» за три протекшие года уче-
ния: они теперь в 4-м классе. И с усилием, до боли в голове - потому что это
они приготовляют к завтраму пятый урок - они учат, что мальчики на «Бежи-
ном лугу» испугались водяного или разговаривали об «утопленнике». Хоро-
шо не помнится, но они назавтра не должны в этом сбиться...
Но вот все трое-четверо, - заметив, что старушка, за ними «наблюдаю-
щая» на «братской квартире», заснула, - осторожно, на цыпочках, выходят в
сени, на улицу, дальше, за околицу, и пробежав несколько улиц города, дей-
ствительно переживают «Бежин луг», - да что «Бежин луг»: переживают
поэтичнейшие 3-4 часа теплой осенней ночи, вбегая в опушку черного сто-
ящего леса и с визгом неистового страха выскакивая оттуда назад, купаясь в
теплой, до странности теплой, как парное молоко, воде настоящего озера, т. е.
озера не из «Бежина луга», но где-нибудь около Борисоглебска... На другой
день все узнано: наказание, строжайшее наказание, почти исключение из
гимназии и, конечно, «единица» из «русского языка и словесности»...
Между тем ведь для чего-то избран, из всего словесного «материала»,
как составителем «учебного руководства», так и учителем, задавшим урок,
именно «Бежин луг»; ведь не за один же «слог» он избран. Поманила по-
этичность самой, переданной в слове, жизненной сцены; почувствовалось
что-то воспитательное в этой сцене. Но вот именно почувствовалось все это
лишь как предмет классного представления и книжного «изложения», ис-
ключительно «до сих пор» и не далее, и здесь - мертвая петля, где давится вся
новая педагогика и где она все живое давит собою. Кроме тенденций к книж-
ности, здесь действует, кажется, страх перед всем не отмеренным и чего нельзя
отмерить. Мы рассмотрели пример игры, но вот и другой пример - молит-
вы. Молитва, хотя бы со слезами (есть, даже у детей есть, т. е. бывают иногда
такие) - не считается, если она не была под наблюдением «помощника класс-
ных наставников»; «перекреститься» на ночь (от усталости), вместо того что-
бы аккуратно прочитать «две молитвы» «на сон грядущий» - это проступок;
вообще не доконченная молитва, оборванное движение, какое бы сердце под
ними ни билось - проступок. Втихомолку вы можете всего этого не испол-
нять, - хотя вам объяснены теоретические последствия исполнения и неис-
полнения, - но на виду выполнить должны все полностью, «до точки». Меж-
ду тем жизнь, насколько она искрится, играет, сколько в ней есть правды и
действительности, вся состоит из оборванных движений, из линий неправиль-
ных, то с страстностью и глубоко уходящих в теряющуюся даль, то замерших
при самом рождении; это-то и называем мы органическим, неисследимым,
таинственным: полное отрицание геометрии. Но это таинственное - не усчи-
тываемо, не измеримо, не оцениваемо, не вписуемо ни в какую графу. Как
вы запишете, в какую графу занесете и, наконец, какою мерою награды на-
530
градите этих шалунов, выбежавших за околицу и переживших «Бежин луг»;
или молитву ученика, который, оставшись на «повторительный курс», едет
домой и не знает, как показаться больному, вот уже год больному отцу?.. Все
это не измеримо, не отсчитываемо, не засчитываемо. И вот почему все это,
т. е. всему этому аналогичное, было выброшено новою школою, т. е. выб-
рошено все живое и, одновременно, все воспитывающее, единственно дей-
ствительным способом воспитывающее. «Бежин луг» в хрестоматии заучить
можно, это требует ровно 3/4 часа времени; если он выучен хорошо - это опять
измеряется твердостью рассказа ученика, «без запинки», и если в самом деле
и совершенно без запинки - можно поставить «пять». «Две молитвы на сон
грядущий» - это опять факт, меру которого знает учитель. Все становится, под
этою формою, вписуемо. И вот отчего эта форма была избрана.
Отсюда, в отдаленных перипетиях - то, что можно было бы назвать звер-
ством бумаги. Был такой случай (рассказанный мне преподавателем елецкой
гимназии, г. С.): ученик на испытании зрелости писал работу и написал уже
за половину, когда из дому прибежала служанка и сказала, что «их батюшка
кончается». Доложили директору и всей испытательной комиссии, сейчас
же передали и ученику. Быстро пробежали «черняк» работы, он был удов-
летворителен, т. е. почти удовлетворителен, а ученик был плох, «еле-еле»...
Однако написано было столько, что засчитаться за работу, т. е. пойдя в округ,
там засчитаться, она не могла бы. Конечно, ученик мог сейчас прервать экза-
мен и директор ему это предложил, но тогда он должен был бы писать так
называемую «запасную тему», а кто знает, какова она, в запечатанном кон-
верте, а эта была легка, бесспорно и ясно - легка, а главное - почти написана.
Трудно и мучительно было всем, я думаю - больше всего директору и ко-
миссии, однако думать было некогда. «Что же, отца вы уже не спасете, а вам
жить надо», - сказал кто-то из учителей, и я верю - это был лучший из учите-
лей, т. е. 8 лет наблюдавший усилия ученика, и живо их в эту минуту совмес-
тивший в воображении, отца же ведь он не видел, а такие вопросы и в такие
минуты решаются темпераментом, живым образом, перед глазами стоящим
фактом, а не отвлеченным понятием долга. Ученик остался писать. Нет пре-
ступника, есть преступление; нет виновного, есть только и все страдающие...
Но главное, что я хочу спросить - где здесь воспитание? В этих измерен-
ных и вписуемых фактах, - которые же воспитывают? Рассказ в хрестоматии
Басистова о том, как «Николиньку и Володю» благословляла умирающая
мать, из «Детства и отрочества» Л. Толстого - важно, существенно, не про-
пустим©. Прощанье же вот этого «Семенова Николая» с отцом - тоже важно
и ужасно бы как хотелось его дать отцу и сыну, тогда бы все «видимости»
были соблюдены - но как-то не вышло, не «вытанцовалось» и потому, конеч-
но, что в конце концов - «пропустим©». Здесь нужно наблюдать оттенки
важного и неважного, сбегающие и набегающие тени, накидывающие на
предметы и отношения «существенности», «бесконечно малые величины»,
через посредство которых одно малится и, наконец, выпадает из нашей души,
выпадает из цивилизации, а другое крепнет в ней, обильно разрастается...
531
Мы отметили робких и испуганных учителей, собравшихся над учеником, и,
в конце концов, удержавших его от того, чтобы проститься с умиравшим
отцом. Великий грех взял бы на душу всякий, кто в этот миг за этот поступок
осудил бы их. Но в целом озирая школу, наблюдая в целом весь вековой труд
над ее организациею, из коего пробиваются такие факты, - а приближения-
ми к нему полна вся жизнь ученика, - мы повторим, что уже сказали: что
через особенный способ своих воззрений и через особые свои методы она
подсекает самые навыки культурные, подсекает культуру в ее живых связях,
движениях...
IV
Она серьезно перевела все живые эмоции в словесные знаки эмоций, дей-
ствительные движения - в представления движений; заменила молитву зна-
нием молитвы, подвиг - памятью совершенных подвигов и героизм, даже
простое честное поведение, строжайшим знанием честного поведения у
«римлян», в 1 и II веке - у «мучеников» и «пустынножителей», в XVI веке
- у «Джордано Бруно»; этот был сожжен на костре за науку, «вытерпел»,
и, предполагается, должен вытерпеть учащий соответствующую страницу
учебника ученик, т. е., ну, хоть что-нибудь вытерпеть, за что-нибудь... Ре-
шительно, примеры терпения, страдания, героизма собраны со всех веков.
Их так много, что они толкаются друг о друга на страницах учебника, тес-
нят друг друга, сокращаются и, наконец, доходят до простого извещения,
что «Джордано Бруно был обвинен в некоторых неправильных пантеисти-
ческих понятиях и сожжен в Риме», причем ученик не понимает «пантеи-
стических» при объяснения учителя - глупо кивал головой и делал вид, что
что-то в этом понимает, а Бруно ненавидит почти как домовую хозяйку,
которая сегодня вечером его не пустит играть на бильярде, ибо вчера он
получил по алгебре «единицу»... Я хочу сказать, что это все - символы,
символы и символы, словесные знаки и словесные знаки, строки и строки,
то шрифтом покрупнее, то помельче, иногда курсивом, но почти всегда
«корпусом» и иногда «боргесом», страницы и страницы, сегодня, завтра,
третьего дня, всегда, и притом мучительно подробно, так что Бруно нельзя
назвать «Джироламо», непременно «Джордано», и нельзя его смешать с
Савонаролой, что так бы хотелось ученику, ибо вот за это смешение Пет-
рову поставили «три с минусом» и пригрозили другихм ставить «два», хотя
оба эти человека жили приблизительно тогда же, там же и были, тот и
другой, сожженные «еретики»... Много еретиков, бездна праведников;
мучительно, до ненависти, до отвращения - много. Учителя хорошо это
понимают, хорошо это понимают организаторы системы; они дают про-
стор ученикам, по возможности «облегчают» их; вот первая неделя Вели-
кого поста, будут «ефимоны», можно бы послушать, но уж лучше по-
учиться... Молитва, та молитва, которая внушила Пушкину, еще беззабот-
ному дитяте беззаботной эпохи, эти строфы:
532
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлегать...
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста -
И падшего свежит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия...
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Кто знает подлинную молитву: «Господи и Владыко живота моего...», знает,
до какой степени у Пушкина она передана слабо, бледно, даже безобразно (именно
- потому, что в стихе, т. е. с прибавлением по необходимости лишних слов); и
любопытно в приведенном стихотворении лишь то, что Пушкин на этой одной
молитве остановился светлым и светским гением своим, вдруг почуяв в ней
некоторое абсолютное, некоторое приближение как бы к платоновой идее; я
хочу сказать - приближение к той непоправимой и вечной красоте выражения и
жизни, которую ощущая и пытаясь обозначить так и этак, чуткий философ древ-
ности назвал в недоумении «идеей». В церкви же, именно в произнесении свя-
щенника, который, как бы прерывая течение литургии, выходит перед алтарь и
читает ее от имени народа - абсолютное распространяется и на подробности, на
темп слов, поднятия и падения голоса, наконец - на целую окружающую дей-
ствительность. .. Непоправимо в красоте; но, как ни много был поправлен Баси-
стов, и сам себя поправлял все в новых и новых изданиях - он предпочтен; пред-
почтен Кремер - ужасно долговязые страницы, ужасно трудно усвоимые. Но
вот это - страницы, и, следовательно, педагогический материал; это недействи-
тельность - и вот оно воспитывает. Но почему, почему? Что такое воспитание?
Боже, что оно, как не возрастание сил, не окрыление души, не восхождение к
лучшему, совершеннейшему, - и почему только «по Кремеру» и «Басисто-
ву», почему не по всякому жизненному факту, например, не по этой литур-
гии, где молитва есть не передача молитвы, но самая ее действительность, не
для примера произносится, но ею действительно молятся, и не для исполне-
ния программы, а для очищения греха, — от чего и день самый действитель-
ным народом и в действительной истории назван «чистым». Почему, если
под одним и тем же фактом есть сок и кровь - он не воспитывает, а когда
типографский набор - он начинает «образовывать»? На этот вопрос, во всей
Европе, педагогический мир ответил бы только молчанием.
533
V
Я уже объяснил, в первом фельетоне, об определенном и насильственном
рассеянии, которое производится в ученике системой быстро чередующихся
уроков и составных, т. е. сложносоставных программ, в той особенной, мель-
кающей и нетерпеливой форме, которая для них устроена. Известно, однако,
что устойчивость и цепкость внимания есть одна из целей воспитания, из
первых целей, при недостижении которой все прочие его цели также не дости-
гаются. Как это внимание важно в жизни - всякому известно. Итак, вот лето,
несносные для педагогов «каникулы», в которые ученик, наверно, забудет
аористы, и ему по всем предметам курса даны работы, чтобы он из формиру-
ющегося «прекрасного человека» не впал опять в дикаря; но он решительно
хочет быть дикарем, и сидит над удочкой; рыба клюет, но чуть-чуть, и попла-
вок чуть-чуть шевелится. Всмотритесь же, вдумайтесь: как зорок он, как вни-
мателен; тут мало рыбы, и, соображая окрестности, он выбирает лучшее,
около свесившихся к воде ив, где, верно, есть окуни; он непременно хочет
наловить до ночи, он сказал сестренке, да и намекнул матери, что - наловит.
Какая настойчивость; он задумывается над удочкой, т. е. глазом следит за по-
плавком, а мысли текут - о чем? О чем-то неясном, но непрерывно текут, и на
губах его то улыбка, то они морщатся неудовольствием. Ничем он не прерван,
и каковы бы ни были его мысли, по своему закону, заложенному в человеке
Богом закону - они протекут правильно и стройно, т. е. умственно образовы-
вающим способом. Но оставим мысли, вот воля и, в частности, внимание, так
называемое (в педагогике) «активное» внимание: почему же во фразе: «Це-
зарь ведет сто воинов» - «Caesar ducit centum milites», заметить, не упустить,
что по-русски «воинов» - родительный падеж, а по-латыни нужно поставить
не «militum», a «milites», т. е. падеж винительный-это внимание воспитывает;
а что поплавок пошел ко дну и, значит, окунь клюнул, нужно моментально
дернуть - это не воспитывает внимания? - Известно, что в небогатых семьях,
- часто, убегая к делу, мать «кидает» ребенка подростку-дочери, лет 9-12,
«поводиться». И вот пусть девочке, которой назавтра заданы «две молитвы» —
«на сон грядущий», несмотря на крики, что ее завтра «спросят», мать все-
таки кинула полуторагодовалого ребенка, да и пригрозила внушительно. Мало-
помалу девочка забыла про урок, успокоилась, и вот вовлекается в детский
мир. Всмотритесь же, изучайте, ради Бога, размышляйте, ибо это в самом
деле мир, перед коим «детские сады» бедных фребелистов есть только убогая
клетка самоуглубившегося кретина. Во-первых, дитя уже вполне и ярко инди-
видуально, и это непременно, к 11 /2 году, и Бог знает, как остановить его кап-
риз, это нужно поискать и поискать... Труднее, чем находить города на карте.
Но главное - все живо: «нянька» нашла, что нужно, и дитя награждает ее
улыбкой, какой не умеют искушенные царедворцы. Но подросток и сама еще
ребенок, и, упуская дитя, засмотрелась на собственную куклу, вчера подарен-
ную крестным отцом, а матерью положенную, для сохранности, на полку-
дитя «клюнулось» о пол носом, раздался крик, и торопливо вбежавшая из
534
кухни мать кратким подзатыльником напоминает, что нужно. Но подзатыль-
ник решительно не заслужен, она только на миг взглянула на полку, и гнев
бурлит в детском сердце, - гнев, которого, однако, не на кого излить: перед ней
только ребенок. Но она с ним стала суше, и он ластится к ней, недоумевает,
почему «няня» переменилась; она даже толкнула его, конечно, не больно; он
посмотрел на нее испуганными глазами, посмотрел так удивленно, губы сжа-
лись в такую мучительно (именно, именно у ничего не понимающих детей)
жалостливую морщину, что, прерывая его плач, она хватает его, покрывает
поцелуями, а в сердце и больно и сладко садняет идея греха... Какое наученье,
какая поэзия, какая мудрость! «Две молитвы» не выучены; о, как простит это
Господь; но не простит, но не может, но «по правилу» не должен простить
учитель, - и только темным и злобным, злобным, потому что темным, гневом
гневаясь на мать она остается, «на 1 час после уроков», как ленивая и неис-
полнительная ученица, завистливо и недоброжелательно смотря на весело
выбегающих из класса подруг...
Вот воспитание истинное, действенное, в его правильной мысли; и вот
фольга воспитания, французские мертвые цветы, его увивающие, среди ко-
торых засыхает живой Божий цветок - человек. В приведенных примерах не
только содержатся элементы школьного воспитания, но эти элементы обога-
щены такими движениями души, которые вообще не подводимы ни под ка-
кую программу, не уловимы вообще для школы, урока, учебника и между
тем необходимы в человеке, необходимы в цивилизации: грех, например,
совесть. Этим объясняется, почему, по мере развития школы, непонятно для
всех, но и для всех же очевидно, шатается цивилизация; но это не от школы, а
от ее губительной односторонности и всепоглощающего характера, погло-
щающего именно относительно досуга ученика, тогда как совершенно оче-
видно, какая бедная и узкая часть существенно важного для человека выра-
жено и даже вообще выразимо, так сказать, в школьных терминах! Поэтому-
то школьное, собственно книжное, научение должно входить лишь ингреди-
ентом, долею, ‘Л, даже Vs в некоторое обширное и сложное воспитание, где 2/з,
даже 4 Л состояли бы из реальных фактов, т. е. как из впечатлений от семьи,
природы, церкви, так и от обязанностей, труда около церкви, в семье, в при-
роде. Мы неоднократно, и не без причины, возвращались к воспоминанию-
формуле Пушкина:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Великий поэт не догадался, не догадывался, что именно тут тайна, в этом
«чему-нибудь» и «как-нибудь», т. е. среди чего могут быть вставлены жиз-
ненные, реальные факты - первый элемент воспитания истинного, и, далее -
что само утратило угловатость и жесткость геометрических правильных фи-
гур, т. е. также стало воспитательно. Но пусть за нас доказывает история: не
удивительно ли, по принципу «чему-нибудь» и «как-нибудь» ведь воспиты-
вался С. Т. Аксаков, это благоухание нашей литературы, это ее свежее утро,
535
и, что гораздо важнее - столп и образец правильного быта. И не только он, но
все его веселое, шумное, пестрое поколение. Но вот, они умерли; и тогда
именно, когда стала действовать методическая книжная школа, тщательно
отделившая мальчика от жизни горой программ, учебников, уроков - высту-
пил правильный ее продукт, потаенный г. Мережковским, и шепчет, на что-то
намекая:
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
И, опять, он ли один? Нет - но и все его поколение:
Дети мрака, дети ночи,
- как скандировал он же.
<РУССКАЯ АЛЯСКА>
Нет ничего прекраснее и глубже того единства и родственности, которую чув-
ствуют постоянно русские, куда бы судьба их ни забросила, как бы ни разъе-
динила их пространством и временем. Без преувеличения можно сказать, что
только у древних эллинов, окруженных темным варварским миром, храни-
лась так память Эллады, как у русских хранится память родных начал своей
жизни и великой своей метрополии: только у нас мотив сохранения этой па-
мяти - нравственный: русские не сливаются и не могут слиться с нравствен-
ною стихиею окружающих их народов. Прекрасный и свежий пример этого
представляют остатки русских в уступленной американцам, в 1867 году, Аляс-
ке. Вот что сообщается о ней в обширном письме, недавно напечатанном в
одной из московских газет г-ном Зертисом, живущим в Ситхе, главном городе
этой обширной территории:
«До 1867 года, - пишет он, - пока над обширными водными равнинами
Аляски, усаженными большими и малыми островами, развевался русский
флаг, русские чувствовали себя здесь дома. Но со снятием русского флага
для них наступило иное время. На место русской гражданственности явилась
американская со своим языком, со своими золотыми идеалами и новыми
чисто американскими стремлениями. Вашингтонское правительство, так нео-
жиданно и дешево приобретшее этот край, сначала отнеслось к нему с боль-
шим вниманием. Чего только не наобещано было всем жителям Аляски, а
главным образом - русским! И свобода, и права граждан республики; осо-
бое покровительство православию в крае; и телеграф, соединяющий Аляску
со всем светом». - Но очень скоро оказалось, что все это были слова, слова
и слова. Американцы сообразили, что самое выгодное будет для них - пере-
дать эксплоатацию огромных естественных богатств этой земли торговой
536
компании, да уже заодно передать ей и администрацию края, а самим полу-
чать только с этой компании деньги. Лет 15 назад, когда взволновались индей-
цы и грозили перерезать всех белых в крае, тщетно горсть русских, оставав-
шихся в Ситхе, молила вашингтонское правительство выслать для охраны во-
оруженную силу: они не получили никакого ответа и вынуждены были обра-
титься с просьбою в английский порт Викторию, откуда и прислан был военный
корабль. Вся территория, с маленькими городками, селами и деревнями, на-
ходится в руках жадных и беспощадных торговцев. «Как только, - пишет г.
Зертис, - оставляешь Ситху и подвигаешься севернее, начинается царство
«Nord Amer. Сот.» и «Alaskau Соттег. Company». Кадьяк, Нучен, Кенай,
Уналашка со множеством инородческих селений - все это в их руках. Жела-
ете ли вы что-нибудь купить, или продать, идите в компанейскую лавку. По-
мимо лавки - оглоданного мышами сухаря не достанете, хотя бы вам пред-
стояла голодная смерть. По всем селениям господствуют компанейские при-
кащики. Они полные хозяева каждого селения; все в их власти, над ними же
никого. Если же инородец, даже белый, вздумал бы выйти из повиновения,
прикащик не задумается его заморить голодом, отказав ему в лавке, и выг-
нать в лес из селения. Нередко в зимнее время, когда в Аляске прекращается
навигация, в далеких уголках Аляски, где-нибудь в Нушагане или Кенае, про-
делываются возмутительные вещи. И все это сходит им с рук безнаказанно.
Некому жаловаться. Разве старшему агенту компании?..». Подтверждение
этим словам мы находим в одном из январских нумеров «Церковных Ведо-
мостей» за этот год.
В форте Кенае православный священник, о. Я-вич, года два назад усили-
вался водворить в несчастных инородцах, спаиваемых и развращаемых ком-
панейцами, - трезвость и целомудрие. Но это шло вразрез с денежными вы-
годами компании, «и вот, - пишет нам церковный орган, - прикащики компа-
нии дважды избили отца Я. до крови, причем один раз ворвались в церковь во
время богослужения с огнестрельным оружием, чтобы выгнать людей на
работу». Все жалобы правительственной администрации на это возмутитель-
ное самоуправство не привели ни к чему. Дело в том, что компания уплачи-
вает вашингтонскому правительству значительную сумму и избавляет его от
хлопот управления, - а это все, что требуется кодексом политической мудро-
сти и одних ли только американцев. Понятно, до чего трудно и даже дико как-
то чувствуют себя русские среди этих понятий и при подобной практике. Зло
увеличивается еще неслыханною подкупностью и открытым взяточничеством
чиновников, которое объясняется тем, что при всякой смене президента рес-
публики, т. е. через каждые четыре года, меняется по обычаю и весь персо-
нал служащих чиновников, - так эти «четырехлетки» ни за какое злоупотреб-
ление властью не будут смещены в течение положенного срока, а по его
окончании никакая добродетель их не спасет от смещения.
И вот, среди этих условий, которые представляются нормальными в «ве-
ликой заатлантической республике», а для русского духа и русского сердца
представляются каким-то диким абсурдом и в гражданском, и в нравствен-
537
ном отношении, - горсть оставшихся русских сплотилась тем крепче между
собою, и не только не поддается перед «золотыми» и «свободными» идеала-
ми своего нового отечества, но, напротив, свой язык - свою веру разносит
туземцам, - даже подчиняет языку своему. - «В какое бы захолустье Аляски,
- пишет г. Зертис, - вы ни приезжали, вы найдете признаки русской граждан-
ственности, русской культуры, услышите русскую речь, - правда, иногда
ломаную, едва понятную, но русскую. Во всех значительных пунктах, на бо-
лее или менее населенных островах, - везде красуются благоустроенные
русские храмы. Русский язык в Аляске можно назвать обиходным. Кто из
американцев попадает в Аляску на несколько лет, особенно по коммерчес-
ким делам, - непременно выучится говорить по-русски. Все главные и вто-
ростепенные агенты «Аляскинской торговой компании», - природные аме-
риканцы, - говорят по-русски, и когда новый человек проезжает по этой
стране, он выносит такое впечатление, что это - русская страна».
Это тем удивительнее и тем более заслуживает глубокой благодарности
от русских и всего нашего великого отечества, что, как известно, Соединен-
ные Штаты обладают огромною ассимилирующею силою по отношению ко
всем народностям, кроме русской. Попавший сюда француз, немец, даже
англичанин, делает все усилия, чтобы как можно скорее стать хоть с виду
настоящим «янки». Подвижная жизнь, хоть не высокого культурного типа,
возможность быстро разбогатеть, безусловная свобода менять свою веру
или даже не иметь никакой, - удивляет и соблазняет переселенцев, которые
как только высаживаются на новый материк, сбрасывают с себя культуру,
привезенную из старого света. Но, верно, есть в русской культуре что-то
особенно дорогое человеческому сердцу, что только русские не сбрасывают
ее с себя, и, как пишет тот же г. Зертис, преспокойно в своих храмах, в «сво-
бодной Америке», слушают поминовения о «благочестивых царях своих», и,
верно, так же сердца их волнуются, как и у далекой родины, когда диакон
торжественно возглашает: «О еже пособите и положити под нози Его всякаго
врага и супостата».
Да, церковь русская и государство русское - сплелись в одно неразъеди-
ненное тело, и где стоит православный храм - жив русский идеал, а за ним
невидимо стоит и русская мощь.
ПРАВОСЛАВИЕ В АЛЯСКЕ>
Вчера мы говорили о горсти русских, остающихся на территории когда-то
нашей Аляски и упорно отстаивающих свою народность и веру. Заметим, что
положение там русских становится труднее и труднее, и стало особенно тяго-
стно с тех пор, как немного лег назад, вследствие открытия золотоносных рос-
сыпей, туда бросились, между прочим, толпы мадьяр, всегда и везде относя-
щихся враждебно к русским. Так, недавно передавался случай, что когда один
учитель школы, именно школы Нученской, обучивший местных алеутов рус-
538
ской и славянской грамоте, - отказался сделать языком своего преподавания
английский язык, то несмотря на то, что Соединенные Штаты не имеют соб-
ственно ни национальной религии, ни национального языка сколько-нибудь
для всех обязательного, местные американцы, однако, прямо пригрозили ему
сжечь его школу. Подобных угроз не приходилось бы выслушивать храните-
лям русского языка и народности в когда-то русском крае, если бы здесь был
какой-нибудь агент, - политический или хоть торговый, - от нашего прави-
тельства. Русских и православных в Аляске до 10 ООО, - а это не так мало, чтобы
мы могли о них забыть.
До последней степени трогательны черты «русского духа» и «староде-
довских» заветов, которые любовно охраняют, да еще не только охраняют, а и
распространяют - оставшиеся там наши дорогие соотчичи. Как и всегда,
зерном охранения становится наша церковь, храм, в нем собственно все, чем
даже и политически, не говоря о нравственности, жива всякая русская душа.
К счастью, на страже православия в Америке поставлен такой светильник и
столп, как преосвященный Николай, епископ алеутский и аляскинский. Под
его руководством и одушевляемая его примером, в Америке трудится целая
толпа ревностных миссионеров, которые доносят православную проповедь
на самые дальние точки края. В последнем нумере издающегося в Нью-Йор-
ке журнала «Православный Американский Вестник» помещены, между про-
чим, следующие сведения о православии в Кенае, самом далеком северо-
западном уголке края, образующем небольшой полуостров с десятками тре-
мя тысяч туземцев.
«В форте Кенае, - говорит почтенный журнал, - существует православ-
ная церковь, а в кенайском приходе насчитывается семь часовен, которые
год от году, благодаря усердию прихожан и заботам старост, становятся бла-
голепнее. В этом случае много добра оказали начала трезвости, укоренивши-
еся в сознании кенайцев. Уже три года, как забыто пьянство, по воспомина-
ниям самих кенайцев, вносившее в их жизнь много зла. Материальное поло-
жение их стало теперь много лучше. Кенайцы - народ очень религиозный и
твердый в православии. Церковные богослужения, совершаемые неопусти-
тельно во все воскресные и праздничные дни, а также по средам и субботам,
равно как и внебогослужебные собеседования - исправно посещаются при-
хожанами.
Исполнить священный долг исповеди и причащения все инородцы счи-
тают долгом первейшей важности, для чего летом отовсюду и все собирают-
ся в своем селении, и отмеченных «по небрежности» в исповедной росписи
никогда не бывает. Только некоторые женщины, находящиеся в замужестве
за американцами, иногда по нескольку лет лишены возможности быть у ис-
поведи и св. причастия и даже бывать в церкви, так как их мужья не живут в
саамом Кенае, приезжать же, как они выражаются, для прихоти своих жен,
считают для себя совершенно излишним; некоторые из них, впрочем, даже в
Кенае, несмотря на данную при браке подписку, запрещают своим женам
молиться Богу, ходить в церковь и даже держать дома икону. Бедные женщи-
539
ны принуждены бывают тайком убегать в церковь, и то только по вечерам, к
всенощному Богослужению».
Замечательна эта черта ограниченной нетерпимости, встречающаяся
часто у протестантов. Нельзя представить себе русского, который мешал бы
своей жене, лютеранке или католичке, ходить в церковь.
«При церкви учреждены братство и церковно-приходская школа. Откры-
тое три года тому назад, братство Покрова Пресвятой Богородицы насчиты-
вает теперь в своем составе до 130 членов, и в числе их несколько женщин.
Годовые взносы братчиков, живущих по селениям, обыкновенно собирает
священник во время летнего объезда прихода. Братство выдает к большим
праздникам, по мере надобности, денежные пособия вдовам, сиротам и бед-
нейшим в приходе. Но этим деятельность его не ограничивается. В минув-
шем году оно содержало на свои средства одного мальчика из с. Сумитны,
который был взят для обучения в церковно-приходской одноклассной школе. В
этом же году братство, желая ознаменовать столетие православия в Америке,
ассигновало из своих сумм 100 фунт, стерл. для пополнения суммы, предназ-
наченной на выписку местных икон для нового кенайского храма. При брат-
стве устроена аптека с самыми необходимыми медикаментами, которая, по
сознанию местных жителей, в особенности кенайцев, составляет истинное благо
для такого захолустья, как Кенай, где народ в продолжение шести зимних меся-
цев бывает отрезан льдом от всего остального мира. Ею пользуются бесплатно
как члены братства, так и все не принадлежащие к нему.
Школа открыта местным священником А. Ярошевичем в 1893 году, от-
дельного здания для нее пока нет, - занятия ведутся в доме священника. В
1895 г. посещали школу 14 мальчиков и 8 девочек, и посещали очень исправ-
но, несмотря на жестокие морозы зимою. Особенно усердствовали дети ино-
родцев-кенайцев; некоторым из них ежедневно приходилось проходить в
школу и обратно около трех верст. Бывали случаи, что ученики-кенайцы из-
за страшного холода падали по дороге, и их приходилось уносить обратно
домой. Предметами преподавания служат: Закон Божий с кратким катехизи-
сом и учением о Богослужении, русский язык с церковно-славянским, анг-
лийский язык, арифметика и церковное пение. Занятия продолжаются с 81/,
час. утра до 1 часа дня, с отдыхами. Предметы преподавания распределены
между священником и псаломщиком. Для сведения родителей ежемесячно
выдаются ученикам особые бланки с обозначением месячных отметок, за
подписью священника и приложением церковной печати. В прошлом году,
после полугодичных испытаний, на второй день праздника Рождества Хрис-
това учащимся была устроена в доме священника елка и розданы подарки.
Кроме того, была сделана большая звезда, с которою дети ходили славить
Христа. На годичных испытаниях, происходивших 8-го и 10-го апреля теку-
щего года, в присутствии родителей, ответы учеников по всем предметам
оказались вполне удовлетворительными.
Кенайцы - народ мирный, спокойный и терпеливый. Замечательно трога-
тельна любовь кенайцев к России и всему русскому. Осенью минувшего года,
540
после прекращения навигации с Кенаем, кто-то из местных американцев пус-
тил молву, будто Англия с Японией объявили войну России. Кенайцы встрево-
жились и гурьбой пришли к местному священнику узнать, правда ли это. Свя-
щенник стал успокаивать прихожан; но те, находясь все еще в полусомнении и
желая видеть победителем возлюбленного по вере Русского Монарха, просили
на всякий случай отслужить молебен о ниспослании победы Благоверному
Государю Императору Николаю Александровичу. Насколько искренно было
это заявление чувств любви к России, можно было убедиться из того, что во
время молебна церковь была переполнена молящимися».
Мы уверены, - все наши читатели порадуются с нами этой светлой стра-
ничке нашей жизни и истории. И еще раз - да вознаградит Бог и поддержит
нелегкий труд наших далеких братьев в Америке, - далеких по пространству,
нас от них отделяющему, но близких, крайне близких сердцу всякого русского.
ТОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Завтра - Рождество Христово, и вся необозримая Россия стечется в храмы
одним сердцем и одною мыслью вознести молитву к Богу. Не говорим, не
смеем говорить о молитве: но какой миг единства от камчатских дымящихся
«сопок» до равнин Западной Двины и Немана, от скованного льдом Ледови-
того океана до волнующегося у предгорий Кавказа Черного моря...
На 7 земной суши в один и тот же вечер, накануне, в одно утро назавтра
вспыхнут, волнуясь пламенем, миллионы свечей.
Не касаясь религии в ее сокровенной сущности, мы останавливаемся у
порога, на внешности: разве это не цивилизация, не культура? Мы хотим
сказать, разве уже не сплочена бездна цивилизующих элементов в самой
обрядности христианства, во всем его ритуале? Вся жизнь человеческая от
рождения и до могилы здесь обдумана, включена, объята несравненным ху-
дожеством и глубиною мысли. Болеете ли вы, рождаются ли у вас дети, люби-
те ли вы плотскою любовью; радуетесь ли, скорбите ли, всему вы находите
отзвук в храме, всему находите соответственную молитву и освящение. Свя-
тая святых культуры человеческой, святая святых цивилизации - она найдена,
перед нами; нам остается только приходить и почерпать.
Войны, политика, мирные договоры, торговые конвенции - как это мел-
ко все, как расстилается все у подножия креста. Франкфуртский договор и
торжество Пруссии не есть ли только смешной эпизод в истории человече-
ства, смешной по малости своего значения, вот перед этим завтрашним днем,
когда между тремя Океанами народы встанут и потекут в храм? Какая же
сила, какая же мощь, какая красота и глубь лежит в основе этих ежегодных
движений, все не устающих, все не останавливающихся, не замирающих, ког-
да вот уже возвысилось и пало столько царств, родилось и умерло столько
народов, мелькнули быстро века и сменилась цивилизация человеческая в
своих не вечных частях. Погибли одни науки, как схоластика, и зародились
541
другие; сменились системы философские, отцветшие, не успев расцвесть;
сменились искусства... Все сменилось, все неузнаваемо; но вот 25 декабря
ударяет колокол и неизменившимся сердцем воспрянув - люди спешат выс-
лушать славословие Предвечному Младенцу.
Все одна песнь, без утомления выслушиваемая; все те же лики на обра-
зах, которые мы не устаем созерцать; то же курение фимиама, которое мы не
утомились обонять. Нет пресыщения; вечная юность, не увядающий рас-
цвет; мы как будто вечно рождаемся в жизнь с Господом, доколе не оскудева-
ет наша в Него вера...
Вечный элемент цивилизации. О, если бы поняли это люди вечной враж-
ды: ни распрей более у нас не было бы, ни недоразумений, но мир, любовь,
но та «вечная гармония», о которой мечтают идеалисты, не находя подлин-
ного имени и определения этой гармонии...
<МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ РОССИИ>
Вопрос о правильном расселении русского племени по огромной территории
нашего государства не только важен с экономической стороны, но еще гораздо
более - с политической. Достаточно припомнить, что Суздальское княжество, а
за ним и Москва выросли собственно из русских поселков среди инородческо-
го населения, чтобы понять, до какой степени велика роль колонизационного
элемента в нашей истории; если припомнить, что наши владения в Азии в не-
сколько раз превосходят Европейскую Россию, особенно превосходят Велико-
россию - станет ясно, как многозначителен и жив еще теперь этот вопрос. Если
припомнить, наконец, огромную колонизацию немцев, занявших наш благо-
датный юг, откуда теперь приходится выселяться русским - мы поймем, как
велики и непростительны были ошибки, нами допущенные в недавнее время в
этом вопросе. Вполне удивительно, что этот вопрос, один из важнейших в на-
шем государственном, этнографическом и даже историческом бытии, находил-
ся до сих пор в заведывании одного из отделений, так называемого земского
отдела при министерстве внутренних дел. Наконец - и дай Бог, чтобы еще не
поздно - этому положению дела наступает конец: министерство внутренних
дел образовало в себе новый департамент для заведывания этим делом.
Теперь дело за энергией, знанием и патриотизмом лица, которому вве-
рено это важное, истинно русское и истинно православное (ибо иным и не
представляет себе его наше государство) дело.
Нам кажется, перед глазами этого департамента должна бы постоянно
находиться карта процентного отношения отдельных народностей, а также и
вероисповеданий, для каждой самомалейшей местности России порознь и
для всех местностей, составляющих Империю. Правильное и энергичное рас-
следование, иритом с предоставлением значительных выгод великорусскому
и православному населению есть важнейшая задача, не выполнив которую
вовремя, мы можем навязать себе в будущем множество хлопот и бед.
542
За последние двести лет Россия чрезвычайно увеличилась в своем объе-
ме и приняла в недра свои целые обширные народности, отчасти первобыт-
но-дикие, отчасти культурные, как Польша. И первые, и особенно вторые
просят себе великорусских поселков, т. е. их требует государственная нужда.
Всякая попытка отделиться или восстать каждым таким поселком будет удер-
живаться, как крепким гвоздем. Мы пытались их колонизовать русскими от-
ставными чиновниками, но, в силу самой интеллигентности своей, это эле-
мент слишком подвижный, непрочный, и, как известно, эта попытка ни к
чему не привела. Нужно именно снимать с великорусской территории куски
народности, целые волости, и переносить их целиком на новую почву, новую
территорию, не дробя их, не разъединяя, т. е. не ослабляя, сохраняя для них
все условия и обстоятельства прежнего бытия. Есть народная поговорка: «лес
по лесу растет», т. е. деревце не глохнет, когда его окружают другие родствен-
ные дерева; о народе можно это же сказать и по крайней мере русские, этот
народ-мир, не выносит ни жизни, ни движения в одиночку, в одиночку он
глохнет и гибнет, а деревней, селом привьется крепко ко всякой земле, во
всякую почву пустит корень, и с этого корня не сорвут его политические
невзгоды. Некоторое, но не большое увеличение надела при переселении,
вознаградило бы переселяющихся - с той и другой стороны - за труд самого
передвижения. В будущем мы пожали бы богатые плоды этих сегодняшних
государственных забот.
Мы уверены, что организующийся при министерстве внутренних дел
департамент, в котором будет сосредоточено переселенческое дело, поймет
задачу свою именно в этих широких границах; рано или поздно ему придется
так ее понять.
<ЗАКОН ОБ АРТЕЛЯХ>
При министерстве финансов образована комиссия по пересмотру законода-
тельства об артелях. На обсуждение этой комиссии будет предложен вырабо-
танный департаментом торговли и мануфактур проект образцового устава
ремесленных и торговых артелей. Два первых параграфа этого проекта опре-
деляют самое название «артели» и формулируют ее цель; третий параграф
признает артель юридическим лицом, которое может пользоваться всеми доз-
воленными законом для таких лиц правами по заключению договоров, приоб-
ретению имуществ и т. п.; дальнейшие параграфы подробно останавливаются
на средствах артели: оборотном, основном и вспомогательном капитале. От-
ветственность принадлежащих к артели лиц сохраняется круговая, но она не
простирается на самое лицо и его свободу, а только на вложенные в артель
денежные суммы или вещевой капитал. Делами артели управляют правления,
староста с помощником и общее собрание; на правах и обязанностях правле-
ния и старост проект останавливается с особенною подробностью. Число чле-
нов артели не ограничивается, но для признания общего собрания состояв-
шимся требуется не менее половины членов артели; для постановления же об
543
исключении из артели, о заключении займов, об изменении и дополнении
устава, о приобретении или продаже имуществ, а также о закрытии артели - в
собрании должно участвовать более половины членов артели.
Закон об артелях несомненно один из жизненных русских законов, так-
как работа «миром», «артелью», лежит искони в духе русского народа, со-
здавшего даже пословицу: «на людях и смерть красна».
Русский народ, в неизмеримых богатствах своего духа и благодаря ясному
суждению, выработал многие прекрасные и драгоценные формы, между про-
чим, и для труда своего. Такова община - в сфере владения землею, артель - в
сфере коллективной созидательной работы; есть и то, что можно было бы на-
звать моментальными артелями, артелями не в целях длительной работы, но
минутного усилия, натиска, подвига рук и иногда ума - это так называемая
«помочь». Ни у одного народа начало общности и помочи не развито так, как у
нашего; ни у одного не сохранилось оно так долго. Германец-земледелец, ставя-
щий свою ферму среди своих владений, отдаленно и отчужденно от окружаю-
щих, уже этим самым безмолвно выражает, до какой степени мало он нуждается
в «помочи» и как мало готов с «помочью» побежать к соседу. Не то в наших
деревнях, в этой линии домиков, тесно жмущихся друг к другу, почти лезущих
друг на друга, и только-только не говорящих: «если и гореть - то вместе». Самым
расположением своим, самым видом деревня говорит о народе-«мире».
Из живого зерна, из качеств православной души выросли и формы наше-
го быта и труда. «Соборне» молясь - православные «соборне» трудятся;
«соборне» строят деревню, подряд; «соборне» подымают колокол, держась
«миром» за канат; «соборне» косят, владеют землею; и, наконец, «соборне»
же высыпают на работу, помолясь на кресты родного села, роясь как пчелы
в шумливую и веселую артель, а не угрюмо, не скупо, не тупо, как идет
немец. «Соборне» - это свет нашей жизни, веселость нашего сердца, залог
великих наших успехов в миру и в веках грядущих...
КРИТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА
А. Л. Волынский. Русские критики.
Литературные очерки. С.-Петербург, 1896 г.
Литературная деятельность Белинского в самом последнем ее фазисе, дея-
тельность Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Зайцева - напоминает
собою порох под некоторой предназначенною к взрыву скалой, загораживав-
шей тропу вечно пробивающейся в даль истории, который сгорел, и нет его,
когда нет более и этой скалы как препятствия. Историческое значение (дей-
ствие) этих писателей огромно; живого значения, они не имеют никакого. Это
- археология среди нужд забот наших дней, почти как Херасков или Сумаро-
ков, т.е. так же мало затрагивающие нам ум и сердце, также мало отвечающие
на наши сомнения и тревоги.
544
Это - могилы; и книга г. Волынского, как и судьба ее в нашей печати,
носит некоторое недоразумение.
Г-н Волынский понял этих писателей как живую, продолжающуюся ис-
торию; он не заметил на них седого могильного праха, почтенной плесени.
Он отнесся к ним как к живому организму, требующему поправки, лечения,
операции; и с острым скальпелем и утонченными инструментами стал про-
изводить манипуляции по всем правилам медицинского искусства. Вокруг
раздался крик боли. Замечательно: никто не пытался его опровергнуть; не
оспаривал, в частностях или целом - решительно никто. Все возмутились
против самой его личности, против его попытки, против чего-то кощунствен-
ного, чту он пытается сделать:
И то, что пепел нам священный
Для вас одна немая пыль
- это двустишие кн. Вяземского хорошо выражает мотивы поднявшейся про-
тив него бури, самый характер этой бури.
Как историческая книга она читается с интересом, местами с захватываю-
щим интересом. В силу ее подробности, детальности - это составляет ее луч-
шую, интереснейшую сторону - мы как будто переживаем вновь все перипе-
тии литературно-политической борьбы 60-х годов. Лучшие ее места - о Белин-
ском, о Гоголе, о Чернышевском*; несколько мы не согласны с его взглядом на
Добролюбова, именно с характеристикою его как исключительно и только рас-
судочной натурой. Нам чувствовалось всегда (мы этого не можем доказать и
соглашаемся, что во взгляде нашем может лежать ошибка), что в этом писателе
и только в этом одном из всей бесплодной «плеяды» 60-х годов есть какой-то не
разгаданный, не выраженный и до известной степени невыразимый мисти-
цизм; мистицизм пустоты, вечно алкающей, не напоенной пустыни, которая
самым дыханием своим, иссушающим, умерщвляющим, говорит о дожде, о
влаге, об облаках, чего конечно прямо ни в ней, ни под нею нет. Но мы соглаша-
емся, что говорим непонятное; мы ничего тут не умеем и не хотим доказать...
Просто мы так чувствуем, и из всей «плеяды» более не интересных для чтения,
более не нужных для чтения писателей этот один для нас выделяется безотчетно
и неудержимо привлекательный, хотя нет строчки в его сочинениях, с которою
мы соглашались бы и даже просто считали бы ее любопытною или нужною. Эти
горсти песка - ничтожны и не нужны; эта пустыня верна** и хороша.
Писарева давно бы пора сдать в отдел детской литературы и истинным
историком его мог бы быть г. Виктор Острогорский, а г. Волынский мог бы
* С наибольшим, однако, интересом читаются четыре статьи, соединенные под
общим заглавием: «Журналистика шестидесятых годов».
** Какою-то таинственною верностью себе. Его талант, как и талант Некрасова
(конечно - он был же у него), был обезображен, но не убит шумным и поверхностным
влиянием Чернышевского, этой Анютки из Тамбова, набежавшей на растерявшийся
Петербург, и которая делала в литературе совершенно непостижимые вещи (см. его
«Антропологический принцип в философии»).
18 Зак 3969
545
не писать о нем, и с таким живым вниманием, почти увлечением, несколько
десятков страниц. Есть нечто неудержимо плоское в этом человеке, даже
формат его сочинений, всегда особенный, удлиненно-тонкий (по числу пе-
чатных в томе листов, пропорционально величине листа), - как-то плосок и
напоминает более тюфяк, на котором спал гоголевский Петрушка, нежели
книгу; его фигура, его лицо (на всегда прилагаемых портретах) невыразимо
плоски; медный пятак в полноте червонного сияния - чего ты хочешь от
меня, зачем ты требуешь к себе внимания, чту хочешь сказать, когда я вижу в
твоих рыбьих глазах одну пустоту, на твоем гладком лбу - отсутствие призна-
ков морщин, даже способности к морщинам, даже подозрения, что у кого-
нибудь и когда-нибудь на этой части тела вырастают морщины. Катись мед-
ный пятак по полу, упади в щель и лежи себе под половицей, лежи до самой
смерти дома, пожара, сломки, капитального ремонта, когда тебя кто-нибудь
найдет и купив булку съест... Впрочем, пятак все-таки будет лежать в конторе
булочника. Пятак не уничтожим и г. Виктор Острогорский, написав его исто-
рию, во-первых, написал бы столь же поучительную книгу как «Куль хлеба»
или «историю кусочка угля»; а во вторых, и обессмертил бы себя гораздо
более, чем трогательно-милою книгой «Из истории моего учительства».
Что-нибудь на выдержку:
«Такова в немногих словах блестящая характеристика Прудона, вышед-
шая из под пера Лаврова (в «Очерках вопросов практической философии»,
СПб., 1860 г.). Но Чернышевский (в критике на книгу Лаврова) иначе рисует
умственную физиономию Прудона. Передавая некоторые факты его жизни,
он ставит на вид своим читателям следующие важные, по его мнению, обсто-
ятельства. По каким книгам, спрашивает Чернышевский, учился Прудон?
«Знал ли он, какие книги выбирать, знал ли он, на какие учения обращать
внимание, как на учения действительно современные?» Увы, Прудон шел
неверными путями в своем самообразовании. При незнакомстве с новейши-
ми научными понятиями, он учился по книгам «или положительно дурным,
или, совершенно устарелым». Он слишком много начитался «новых фран-
цузских философов прежде, чем стал учеником Гегеля», а познакомившись с
Гегелем он не принял во внимание, что в Германии наука развивалась даль-
ше. По словам Чернышевского, вся деятельность Прудона может дать только
блестящий пример того, «как простолюдины, жаждущие перемен, затрудня-
ются в их осуществлении тем, что воспитались в понятиях старины, не позна-
комились еще с воззрениями, соответствующим их потребностям» («Совре-
менник», апрель 1860, стр. 348). «Другего значения она не имеег» («Русские
крит.», стр. 278).
Ну, уж когда дело шло о книгах, кто же мог быть авторитетнее саратовско-
го семинариста, которому его учитель, после ответа урока по гомилетике,
неизменно говорил: «довольно не худо», а на «сочинениях» не подписывал
ниже «optime»*.
* самый лучший (лат.).
546
Все это умерло. Нам попалось в книге любопытнейшее стихотворение
Щедрина. В 1863 г. (в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году), этот отстав-
ной вице-губернатор там изображал («Современник», апрель, «Свисток»,
стр. 71-72) состояние русского общественного застоя:
Песня Московского дервиша
(начинается робко, тихим голосом)
Уж я русскому народу
Показал бы воеводу.
Только дали бы мне ходу,
Ходу! ходу! ходу! ходу!
(Постепенно разгорячается)
Покатался бы! Наигрался бы!
Наломался бы! Наплясался бы!
Наругался бы! Насосался бы!
Насосался бы! Насосался бы!
(Разгорячается окончательно, видя, что никто ему не воз-
ражает, из условной формы переходит в утвердительную)
Я российскую реформу
Как негодную проформу,
Вылью в пряничную форму!
Форму! форму! форму! форму!
Нигилистов строй разрушу,
Уязвлю им всладце душу:
Поощрили б, лишь - не струшу!
Нет, не струшу! Нет, не струшу!
(В исступлении думает, что все сие совершилось)
Я цензуру приумножил,
Нигилистов уничтожил!
Землю русскую стреножил.
(Закатывается и не понимает сам, что говорит)
Ножил! ножил! ножил! ножил!
До чего свирепеют иногда вице-губернаторы, по крайней мере те, кото-
рых выгоняют из службы:
Насосался бы! Наругался бы!
Наломался бы! Наплясался бы!
Ножил! ножил! ножил! ножил!
547
Это дыхание Малюты Скуратова, которое не имеет под собою другой
фактической основы, как не представление к ордену, когда по расчету заслуг
он должен был быть дан, или не прибавление жалованья, когда этого ожида-
лось, вводит нас глубочайшим и проникнове<нне>йшим образом в психоло-
гию веков, в течение огромных событий, в великие исторические катаклиз-
мы. Талант злобы, как и с другой стороны талант умиления, восторга не
остается на уровне факта, но вздымается над ним огромным столбом, кипя-
щим Гейзером, Монт-Эверестом ощущений, идей, образов и производит
эпохи великой резигнации народов, эпохи великих революций. В сущности, в
истории мы имеем гораздо менее историю фактов, нежели историю этих
чисто субъективных колебаний души человеческой, которые взламывают факт,
ослепляя блеском и силою своего глаза людей и заставляя, в самом деле,
думать, что
Ножил! ножил! ножил! ножил!
-это правительство говорит против писателей, а не писатель чувствует к прави-
тельству, и, в сущности, чувствует к Ивану Никифоровичу Перерепенко, кото-
рый отказался продать бекешь гениальному, на этот раз, Ивану Ивановичу.
Sic transit gloria mundi*
Нам брезжится - может быть ошибочно, но брезжится - что в литератур-
ном своем положении г. Волынский чувствует некоторую одинокость. Вни-
мательно в конце своей книги он собрал яростные на нее нападения (она
частями печаталась в «Северном Вестнике» и тогда же вызывала отзывы) и
горячо их опроверг, когда собственно идейным содержанием своим не вы-
зывали и даже как-то не поддаются анализу, разбору. В печати так много о
нем говорилось и говорилось в таких формах, что не будет новым для кого-
нибудь или не скромным с нашей стороны, если мы скажем, что он по пле-
мени - не русский. Много людей его племени и веры выступало в нашей
литературе, и, примыкая к господствующему литературному течению, ни-
чем и нисколько своего имени не связали с собственно литературою. Это -
тени, которые отражали собою предметы, которых они были тенью. В книге г.
Волынского нам показалась одна трогательная черта. Он вошел в литературу
с огромным к ней доверием, с огромным уважением, - и сохранил свое я
будучи уверен, что именно я, т.е. личность человека в не скрытых, не затаен-
ных ее симпатиях и антипатиях - нужна литературе. Мы думаем, он во мно-
гом тут ошибся... Во всяком случае, от этой прекрасной и молодой иллюзии
он вошел в литературу как работающая, борющаяся сила, и в книге его мы
видим чрезвычайное движение. В любом участии его, нанр., к полемике**
Зарина с Чернышевским, Чернышевского с Лавровым (кто это все помнит?)
* Так проходит мирская слава (лат.).
** Кстати, очень интересно; вообще фактичность, подробность книги - ее луч-
шая сторона.
548
в ее сложной и мучительной по разлитому чувству полемике за «Переписку
с друзьями» Гоголя - мы, следя с величайшим вниманием за мыслью, не
оставляли любоваться отношением его к литературе именно как иноплемен-
ника. Мы помним высокомерие и брезгливое отношение Гейне ко всей не-
мецкой литературе; и если Гейне был человек огромных сил, то и немецкая
литература между Лейбницем и Гёте так неизмеримо мощнее русской. Но
значит [помимо теоретической содержательности] в русской литературе есть
какая-то особенная и ей исключительно свойственная притягательная сила,
которая не допускает, ни в ком не допускает и, вероятно, никогда не допустит,
подобного отношения; что-то душевное есть в ней, при всех ошибках, теплое
и прекрасное, чту гонит гримасу с вашего лица, когда даже вы входите в нее
для борьбы. Это - литература без обмана, вот в чем, как кажется, ее достоин-
ство. Ее товар может быть не высок, но в нем нет фальши. А, может быть, мы
и тут ошибаемся...
Читатель не посетует на нас, если мы дадим ему несколько длинных вы-
писок о Гоголе; покойный Страхов, Ник. Ник., в личных беседах, говоря об
этой книге, указывал особенно на обширные места в ней.
[Далее в рукописи помета, что следует печатать приложенные стр. 696-
702 из книги А. Волынского «Русские критики» (СПб., 1896), это первая часть
раздела IV с высокой оценкой «Прощальной повести» Гоголя - его книги
«Выбранные места из переписки с друзьями»].
Конечно, писатель, который это написал, есть коренной русский писа-
тель; он почувствовал себе родину в русской литературе; и мы ничем лучше
не можем определить своего отношения к нему, как этим тепло-участливым
словом «Второзакония»:
«Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся египтяни-
ном, ибо ты был пришельцем в земле его» (XXIII, 7).
Еще одно маленькое замечание. Литература не есть только сплетение
идей; она есть еще темперамент, характер. В колорите книги «Русские крити-
ки» есть черта, которая, при всем нашем согласии с ее положениями, соб-
ственно с «критикою» в ней, мешает этому логическому согласию перейти в
живое темпераментное волнение [сочувствие]. И это потому, что в ней са-
мой нетемпераментного волнения [сочувствия], идущего ко всей полноте
русского бытия; но только исключительно к логической или вообще к теоре-
тической стороне в этом бытии. Россия - это oipoMHoe тысячелетнее живот-
ное, это - седой зубр в Беловежской пуще, и, как говорил Гоголь, - «нужно
проехаться по России». Нужно-да простит читатель грубое выражение, без
которого мы не умеем выразить полноту своей мысли - [пропитаться терп-
ким запахом пота этого животного] провонять псиной этого животного и
впитать терпкий запах его пота; т. е. как опять же говорил Гоголь - нужно
проехаться по России. Чтобы быть живым лицом в литературе, недостаточно
быть правым, даже недостаточно быть любящим литературу; нужно быть
любящим и понимающим смолистый запах наших лесов, васильки ржаных
полей и, как уже выразил Лермонтов:
549
Дрожащие огни печальных деревень
... дымок спаленной нивы
В степи кочующий обоз
И ... средь желтой нивы
Чету белеющих берез.
.....полное гумно,
Избу, покрытую соломой
С резными ставнями окно
И пляску с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужиков.
Т. е. как опять же чудно заметил Гоголь - «проехаться по России» с неко-
торою верой, что там теплее и светлее, а, в сущности и гораздо [мудрее, по
крайней мере, гораздо] содержательнее, чем в петербургских редакциях.
Пока писал статью, я все думал о Добролюбове. Как из Диониса-Загрея,
тело которого было растерзано «вакханками» 60-х годов, я хотел бы вынуть
из его груди сердце и перенести далеко, далеко в совершенно иные сферы
[области] бытия, где оно было бы насыщено, как не было насыщено своим
временем и своими людьми.
550
1897 год
<новый год>
С новым годом! С новым счастьем! -таковы возгласы, слышавшиеся недавно
в Западной Европе, а в эти дни слышащиеся повсюду в России. Люди, не
задумываясь, произносят их, забывая, что на земле, как уже давно сказано, нет
ничего нового, а следовательно, нет и «нового счастия».
Как отдельные лица, так и народы, со стоящими во главе их правитель-
ствами, носят это счастье в самих себе и с каждым протекающим годом или
созидают, или разрушают ступень, а порой и несколько, в храм своего счас-
тья, разрушают собственными руками.
Истекший год дал этому поразительные доказательства.
Россия и Франция, соединившиеся в союзе, охраняющий мир в мире,
имея во главе, с одной стороны, незабвенного Царя-Миротворца, а с другой
- погибшего такой преждевременной и трагической смертью президента
французской республики Сади Карно, положили твердое основание своему
политическому могуществу, а следовательно и «счастию» народов, которых
они служили представителями, и из года в год растет и крепнет это здание и
«счастье будущего» покоится на «счастье прошедшего».
Заветы в Бозе почившего императора Александра III, которые неизмен-
но и свято хранит Его Венценосный Сын - ныне благополучно царствующий
Император Николай II, с одной стороны, и воля французского народа, пред-
ставителем которого служит президент Феликс Фор, продолжающий полити-
ку своего предшественника с другой, дают нам уверенность в «политичес-
ком счастии будущего» обоих государств.
За истекший год, по крайней мере, Россия и Франция созидали, но не
разрушали.
Во всех концах мира их участие, единоличное, или совместное, являлось
решающим моментом политических замешательств. Так, признание Росси-
ей принца Фердинанда болгарским князем поставило разом Болгарию в наи-
лучшее положение среди европейских держав и дало ей возможность к внут-
реннему развитию, которое уже и сказалось в конце прошедшего года в тор-
говом и финансовом отношении.
551
В Корее Россия уничтожила тлетворное влияние японцев и не позволила
им утвердиться в Сеуле, после того как вмешательством России они были
принуждены очистить Лиатонгский полуостров.
Корейский король, спасая от японцев свою жизнь, нашел безопасное
убежище в доме русской миссии, которая охраняется командой нашей тихо-
океанской эскадры, крейсирующей у берегов Японии.
Италия после разгрома при Адуе, перешла к иной политике и там также
внимательно прислушиваются к известиям из нашего отечества, стараясь
завязать с Россией более дружественные отношения, причем раздаются го-
лоса государственных людей, готовых для этого пожертвовать пресловутым
участием Италии в тройственном союзе, ничего, кстати сказать, кроме горя и
неудачи, не принесшего Италии.
Путешествие Его Величества Императора Николая И в главные центры
политической жизни Европы, не говоря уже о днях «парижской фантасмаго-
рии», красноречиво доказало, как чутко и с каким уважением прислушива-
ется эта Европа к словам Русского Монарха, служащего выразителем чувств
своего вернопреданного народа.
Франция тоже получила осязательные результаты своего союза с Росси-
ей: она окончательно присоединила к своим владениям остров Мадагаскар,
Англия поспешила войти с нею в полюбовное соглашение относительно до-
лины Меконга, т. е. раздела Сиама и, наконец, Италия сочла за лучшее, после
15-летних протестов, признать права Франции на Тунис и заключила с нею
торговый договор.
Из совместных действий двух союзных держав нельзя не упомянуть вып-
лывшего в истекшем году на поверхность политического моря «египетского
вопроса».
Хотя вопрос этот остался открытым, но инцидент с позаимствованием
англичанами 500 000 ф. ст. из кассы, обеспечивающей исправную уплату про-
центов и погашения по государственным долгам Египта, возвращенными ими,
по решению суда, вызванного протестом России и Франции, был первым пре-
достережением английской дипломатии в том смысле, что есть, по крайней
мере, две державы в Европе, которые далеко еще не примирились с бесконт-
рольным хозяйничаньем Англии в Египте и что придет время, когда египетский
вопрос должен будет поступить на общее суждение европейских держав.
Полное согласие России и Франции относительно еще неоконченных в
истекшем году «константинопольских дел» дают надежду, что и «восточный
вопрос» будет разрешен в желательном для этих союзных государств смысле.
Ясно, таким образом, что с надеждой и верой бодро и весело мы можем
смотреть в будущее и не только искренно желать, но и быть уверенными, что
«новое счастие» России в новом году будет полно «старыми удачами».
Франко-российский союз слишком «крепкий цемент», чтобы строящей-
ся на нем «храм счастия» России и Франции мог быть не только разрушен,
но даже поколеблен какими-либо политическими усилиями - из года в год,
камень за камнем, он будет достроен и отделан, так как в фундаменте его
лежит доска с надписью: «Кронштадт, Тулон, Париж, Шалон».
552
<ПАМЯТНИК М. Н. МУРАВЬЕВУ
В ВИЛЬНЕ>
В Вильне только что получено официальное уведомление о том, что 5 декабря
воспоследовало Высочайшее соизволение на постановку памятника в этом
городе графу Михаилу Николаевичу Муравьеву. Сумма на его сооружение
исчисленная в размере 50 000 рублей, уже давно была собрана из доброхот-
ных пожертвований, в которых особенно горячее участие приняли учебные
заведения края и преимущественно народные училища, насаждение которых
составляло первую заботу смирителя польской крамолы.
Проект памятника изготовлен профессором Чижевым и под его наблю-
дением будут производиться все работы. Пьедестал его будет из серого гра-
нита. На лицевой стороне будет выбита надпись: «Главному начальнику Се-
веро-Западного края, графу Михаилу Николаевичу Муравьеву 1863-1864 гг.»,
а над надписью этой будет герб фамилии Муравьевых с вычеканенным пре-
красным девизом этого рода: «Не посрамим земли родной». Удивительно,
как в самом деле слова девиза осуществились в неисчислимых заслугах, ка-
кие этот даровитый и благородный род оказал отечеству. Статуя Муравьева
изображает его в генеральском мундире 19-го пехотного пермского полка,
шефом которого он состоял.
Лучшим местом для постановки памятника была бы площадь перед
православным собором; она и была избрана бывшим виленским гене-
рал-губернатором, ныне членом Государственного совета, ген.-ад. А. С.
Кохановым. Поставленный здесь, памятник был бы народным. Получило,
однако, перевес представление нынешнего виленского генерал-губерна-
тора, ген. от кавал. П. С. Оржевского и местом для памятника решено
окончательно избрать Дворцовую площадь, где разбить небольшой сквер,
в котором он и будет находиться. Здесь он будет так же мало заметен, как
памятники Пржевальского, Жуковского и Пушкина в Петербурге. Самая
площадь эта, вместе с дворцом (в котором жил и трудился Муравьев и где
ныне имеют свое место пребывание виленские генерал-губернаторы)
несколько уединена в городе, находясь в стороне от его живых и людных
частей, с которыми соединяется узкими улицами и переулками. Но что
решено - решено.
Гр. М. Н. Муравьев принадлежит к самым великим нашим государ-
ственным мужам. По закалу и характеру - он «птенец гнезда Петрова»; по
месту деятельности своей и по духу этой деятельности он принадлежит к
«Екатерининским орлам». От того он был так необыкновенен в наш сла-
бый, распущенный век; от того, суровый делец, - он возбудил столько него-
дования в поколении болтающем. Он был, как и Петр, полон веры в силу и
правду русской народности; исполненный этой веры, он не отступал, -
опять как Петр, - перед суровыми и даже кровавыми мерами, когда стоял
на страже интересов и чести своего отечества. Наконец, он продолжал по-
литику великой императрицы, когда гордо отверг польско-католические
553
притязания на эти издревле русские земли, охваченные дерзким мятежом.
Молва о его казнях и жестокости - преувеличена и лжива. Он знал поля-
ков, их робкий, пугающийся дух. Цифра казненных им мятежников офи-
циально известна и изумительно мала; но он всякую казнь производил
шумно и демонстративно, чтобы подействовать на воображение поляков,
и сберечь от опасных искушений всех между ними колеблющихся. Когда
документы его управления будут вполне обнародованы, - поляки, если к
тому времени они станут благоразумны, догадаются, что в лице этого
русского Кориолана они имели не столько победителя, сколько сурового
и более всего им нужного дядьку.
<0 В. А. ГРИНГМУТЕ>
Один ультраконсерватор, впрочем, наш личный друг, чрезвычайно удивил
нас, прислав следующую заметку:
«Г-н Грингмут, - очень почтенный г. Грингмут, - став у кормила главно-
го органа нашего старомосковского «охранения», вызывал недавно одну лег-
комысленную газету и один легкомысленный (sic!) журнал повторить в его
присутствии «присягу на верность», которую в свое время, не находясь еще
у «дел», он не расслышал...
Все отвечали ему смехом...
Мы бы ответили: не дважды, но и трижды клянемся в верности Престолу
нашему древнему и священному.
Но и прибавили бы: а что сделать с тем, кто из этого Престола, который
мы любим и чтим, пытается сделать нечто, перед чем мы трепетали бы? Что
сделать с тем, кто из драгоценного образа вырубает старинную «дыбу» и,
поднимая на ней человека, думает, что поступает так для веры?..
Это все мрачные идеи К. Н. Леонтьева, его тенденция заместить «невер-
ные» и «недостаточные» мотивы любви мотивом страха...
Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она - еще христианка».
Приветствуем от души ту перемену, которая совершилась в нашем кор-
респонденте. Еще недавно неистовствовал он и высказывал в печати вещи, за
которые приходилось краснеть. Как удивились бы на Страстном бульваре,
если бы нам было позволено раскрыть инкогнито нашего друга! Не таков ли
и весь этот наш ультраконсерватизм, о котором выше говорит Рцы? Настоя-
щий ли это пафос? Сколько процентов искренности в горящих иеремиадах?
Согласитесь, что вопросы эти очень любопытны.
Превосходно также вещее слово автора о К. Н. Леонтьеве, которого, как
художника и мыслителя, и мы лично чтим не меньше, чем наш корреспон-
дент, но чрезвычайное увлечение идеями которого так губительно отозва-
лось на многих русских умах. Очевидно, что и здесь автора приведенных
строк можно поздравить с освобожденным от «умственного плена».
554
Я. КОЛУБОВСКИЙ. ФИЛОСОФСКИЙ
ЕЖЕГОДНИК
Обзор книг, статей и заметок, преимущественно
на русском языке, имеющих отношение
к философским знаниям. Год второй-1894.
Издание Л. Ф. Пантелеева. Москва, 1896 г.
Чрезвычайное оживление философских интересов и изучений, какое замеча-
ется в нашем обществе за последние годы, вызвало естественное желание
обозревать, время от времени, и закреплять в памяти литературные выраже-
ния этого оживления. Таков был труд, уже несколько лет назад принятый на
себя г. Колубовским, переводчиком Ибервег-Гейнце, Гёфдинга и Вундта. Биб-
лиографические работы его стали появляться в виде приложений к книжкам
журнала «Вопросы Философии и Психологии». Первоначально они носили
характер простых указателей книг и статей, появлявшихся в периодических
изданиях, с кратким определением их темы или содержания. Но вот уже вто-
рой год эти указатели стали переходить в настоящие обзоры, и период време-
ни, за которое обозревается материал, приурочен к году. Мы, таким образом,
имеем перед собою начало правильно задуманной и организованной рабо-
ты, и нет причин думать, чтобы она не продолжалась очень долго и не стано-
вилась год от году лучше.
Понятие «лучше» для всякой работы определяется приближением к той
цели, ради которой она предпринимается. В данном случае этою целью слу-
жит полнота обозрения и его верность. Автор труда, г. Голубовский, если не
позитивист, то ближе к позитивизму, чем к каким-либо другим философским
школам; но он имеет то значительное преимущество между слепой, точнее -
самоослепившей себя братией позитивистов, что, нисколько не пренебрегая
другими течениями философии - знает их все, ими всеми заинтересован, и
вообще философски отлично образован. Этого нельзя сказать даже о корифе-
ях позитивизма: не говоря об О. Конте, который задумчиво-рассеянно сказал
как-то: «Я никогда не читал Канта», о Д. С. Милле, который в него никогда не
вникал, даже Льюис-историк прямо и очевидно не понимает предмета, о кото-
ром пишет, и, что поистине удивительно, не делает никакого особенного уси-
лия, чтобы его понять, т. е. вчитаться и вдуматься в произведения философов,
которые излагает и даже хотел бы критиковать. Также ничего неизвестно о
философском образовании Спенсера. Все эти люди, т. е. члены всей этой заме-
чательной школы, начинали философию от себя и следили за нею только после
себя, справедливо находя ее успехи огромными и надежды всегда осуществля-
ющимися. Принадлежа по симпатиям к позитивизму, г. Колубовский не имеет
ничего общего с этою его ignorantia*, и уже по одному этому можно заклю-
чить, что он скорее сходит, хоть и незаметно для себя, со ступеней позитивной
* незнание
555
лестницы, нежели восходит по ним, или стоит на них неподвижно. Вот отчего,
не говоря о совершенной осведомленности его во всех областях философской
литературы, и со стороны беспристрастия он исполняет почти хорошо свое
дело, и, можно надеяться, будет исполнять его наконец, совершенно хорошо.
Теперь - относительно полноты. Обзоры его имеют целью сохранить
годовую философскую работу общества; в книге и в журнале работа и сама
по себе сохраняется: и роль его обзора здесь есть роль руководителя для того,
кто захотел бы осветить тот или иной вопрос текущею литературою предме-
та. Таким образом, по отношению к книге и журналу роль его могла бы
ограничиться в тесном смысле указателем, т. е. каталогом заглавий с кратки-
ми отметками о теме. Если здесь он излагает содержание, он делает дело,
конечно, прекрасное, но это - уже начало истории философии в ее элемен-
тарной задаче и выходит, собственно, из границ его труда. Напротив, совер-
шенно необходимо не только излагать, но и излагать очень точно и очень
подробно содержание газетных статей: это - пыль литературы, совершенно
улетучивающаяся из оборота в обществе через год, и между тем эта пыль
бывает иногда, по крайней мере, изредка, чрезвычайно ценна. Мы могли бы
указать на газетные статьи, которые гораздо более содержат в себе мысли,
именно философской мысли, нежели не только журнальные статьи, но, увы! -
иногда магистерские или докторские диссертации, даже - увы, увы! - по
философии. Так, в газете появилось известное рассуждение покойного Стра-
хова: «Справедливость, Милосердие и Святость»: и многие мысли о дарви-
низме г. Эльпе, высказываемые на страницах «Нового Времени», вероятно,
даже такой упорный дарвинист, как проф. К. А. Тимирязев, предпочел бы
собственным рассуждениям о том же предмете, даже академическим*. В
силу вынужденной сжатости, газетная статья, - если она серьезна и принад-
лежит серьезному человеку, бывает иногда увита и перевита мыслью, и со-
хранение подобных мыслей надолго, введение их в кругооборот постоянно-
го общественного сознания могло бы, настаиваем, составить ценную и важ-
ную сторону работ г. Колубовского.
Обзор за 1894 год сделан им неизмеримо обстоятельнее, чем таковой же
за 1893 год: он именно начинает переходить в первые элементы истории, и
вообще может читаться, местами читается даже с интересом, тогда как обзор
за предыдущий год есть в узком значении только справочная книга, не допус-
кающая чтения. Теперь, в большинстве излагаемых статей, уловляется мысль,
и как еще ни скомкано ее развитие, все-таки оно видно, видно движение, за
коим читатель может сколько-нибудь следить. Ирония, почти всегда острая,
оживляет время от времени текст, по необходимости утомительно серый; и
как бы некоторым авторам ни была больна эта ирония, они не должны забы-
* Прибавим сюда прекрасные статьи самого Василия Васильевича в «Новом
Времени», которые, восстановив совершенно его публицистическую репутацию, по-
губленную несчастным «письмом в редакцию» одной газеты (мы даже напоминать нс
хотим, каким), наверно, всеми подписчиками вырезаны и хранятся. - Ред.
556
вать, что она составляет единственную поэзию в тяжелой работе, которую, в
общем их интересе, предпринял неутомимый и бескорыстный обозреватель.
Нужно желать только, чтобы она не закрывала от него главную цель - изло-
жить и изложить, не ошибаясь и не впадая в пристрастие, против излагаемой
мысли, в самой ее передаче: но что потом она отвергается или осмеивается -
это есть право излагающего, которое тем менее может кто-нибудь оспорить
у него, что, в сущности, оно есть единственная форма философствования,
которую автор себе оставил.
<РЕАЛЬНОЕ И КЛАССИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ>
Почти одновременно пришли сообщения: одно - о многочисленных проше-
ниях, поступивших в министерство земледелия и государственных имуществ
об открытии сельскохозяйственных учебных заведений, низших, средних и даже
двух высших; и другое сообщение - о предполагаемых переменах в препода-
вании некоторых предметов в наших классических гимназиях.
К реальным, практическим знаниям, а главное - к практическим умень-
ям и навыкам Россия рвется. Достаточно оглянуться и понаблюдать до какой
степени все промыслы, ремесла, все вообще практические профессии захва-
чены у нас не коренными русскими людьми, а инородцами и иноверцами,
частью пришлыми из-за границы, чтобы понять и согласиться, как много с
этой стороны сделано у нас упущений. Достаточно видеть огромное число
иноземцев, управляющих имениями и служащих в нашем лесном ведомстве,
чтобы опять сознать и пожалеть о том, до чего мы мало учили свое юноше-
ство и как плохо учили его важнейшему промыслу страны, важнейшему и
господствующему занятию русского населения. В то же время, сколько рус-
ских «классиков» перебивается уроками, мелкой газетною работою и обива-
ет пороги канцелярий, вместо того, чтобы сидеть на земле и около земли, и,
не тяготя собою людей, помогать им в житейской работе.
Министерство финансов деятельно взялось за насаждение у нас коммер-
ческого образования, и, можно надеяться, его усилия дадут практический,
нужный плод. Желательно было бы, чтобы в своей сфере и министерство
земледелия сделало тоже, и еще более желательно, чтобы оно не ограничива-
лось словами, планами, чтобы оно не развело школы словесные и бумаж-
ные, но школы именно дающие уменья и навык. Именно в уменье и навыке,
в способности прямо взяться за предлежащее дело - Россия страшно нужда-
ется. Если вовремя мы не сумеем этого сделать, если мы не создадим хорошо
и умело работающий русский люд, а будем сдавать свои промыслы, торгов-
лю и, наконец, заведывание своими именьями и лесами чужеродцам и чуже-
верцам, мы лет через 50-70 очутимся в положении Польши XVI1-XV1I1 века,
где было шляхетство польское, польское «быдло» - крестьянство, а все горо-
довое работающее население состояло из немцев и евреев.
557
Так называемые «реальные училища» гр. Д. А. Толстого оказались еще
менее жизненны, чем классические гимназии. В них было слишком много
дано жеста теории, и слишком мало давалось практике, именно навыку, уме-
нью. Там теоретизировали по математическому способу, как в классических
гимназиях, теоретизировали по грамматическому способу. И как «класси-
ки» 70-80-х годов, выходя из гимназий, никогда во всю остальную жизнь не
раскрывали ни одного классического писателя, да и не смогли бы его прочи-
тать, если б раскрыли; так точно и «реалисты» тех лег совершенно не знали,
к чему и как применить свою тригонометрию и физику, и также фланирова-
ли по отечеству и просились на канцелярскую работу, как и надоевшие себе
самим классики.
Все это очень печально, все это приходится поправлять, и с разных сто-
рон ищут усилия поправить.
В высшей степени желательно (и так это делается теперь), чтобы специ-
альные учебные заведения открывались и заведывались специальными ве-
домствами, как министерством финансов или министерством земледелия.
Именно приходится желать этого в видах практической постановки дела.
Министерство народного просвещения в силу самого своего устройства,
духа и традиций всегда будет давать перевес теоретическим программам пе-
ред практическими навыками, будет держать завтрашних мастеров-механи-
ков на анализе «Бориса Годунова», на крестовых походах и борьбе патрициев
и плебеев.
Его роль должна ограничиться общим образованием, и здесь оно может
быть или, по крайней мере, должно стараться быть мастером своего дела.
Классическое образование в министерстве гр. Д. А. Толстого было также
дурно задумано и выполнено, как и реальное; т. е. также бумажно, кабинет-
но, теоретически. Ученики подавляются громадой материала, вовсе не свя-
занного с главною задачею образования и его коренною мыслью; учителя не
в силах выполнять программы. Все это отражается не только торопливостью
и сухостью, - всего преподавания, но и черствым эгоизмом - порой жесто-
костью взаимных отношений учеников и учителей. Никому ни до кого нет
дела, и ни до чего нет дела: «только бы кончить программу», - думает учи-
тель; «только бы приготовить уроки», а иногда «только бы завтра обмануть
учителя», - думает ученик, «а там посмотрим» - заключают оба. Никакого
ученья в серьезном воспитательном и развивающем значении нет. Мини-
стерству народного просвещения нужно зорко всмотреться в это дело, нуж-
но честно дать в нем себе отчет; нужно поездить и поездить по России, при-
смотреться к быту наших гимназий, всмотреться в жизнь не только - учени-
ков, но и учителей. Все это чрезвычайно важно, все это чрезвычайно много-
значительно. Жизнь учителей также задавлена extemporale, «домашними
упражнениями», уроками коротенькими и частыми, в которые и объяснить
толково урока нельзя (ибо непременно нужно много спрашивать); задавлена
программами, которые пройти можно, но которых повторить в течение года
нельзя, - о чем, по-видимому, не подозревает министерство народного про-
558
свещения и учебные округа, посещающие гимназию на день, на два и видя-
щие их только в парадный момент и на одном уроке, а не в годовой работе, не
в экзаменационной «страде» и «давке». Нужно иметь искусство и мужество
подойти к гимназиям с заднего крыльца, посмотреть на них с черного хода, и
посмотреть с любовью и всепрощением, чтобы прежде всего научиться, по-
нять. Злоупотреблений в гимназиях немного («не до жиру, быть бы живу»),
но несчастия и несчастия - без конца...
Мы объясним много, если объясним одну черту: письменные работы на
так называемых «испытаниях зрелости», которые должны просматриваться
пятью членами комиссии, последними двумя, имеющими 2-3 часа на их про-
смотр, не просматриваются уже вовсе, и балл под ними, а вместе и подпись,
ставятся иногда в самом совете педагогическом, после вопроса: «Ну, как»? И
это за абсолютным недосугом, это инспектором и директором, это под рабо-
тами, которые не только фактически решают судьбу ученика, но и свидетель-
ствуют ведь не о малом: об окончательном результате восьмигодовой рабо-
ты над ним всего учительского состава, целого учебного заведения.
«Некогда, некогда»... - это есть как бы лозунг, под которым была постро-
ена вся наша классическая система 70-х годов; и, вместе это есть крик боли,
слышащийся из всех наших учебных заведений - сумейте только прислу-
шаться.
И между тем по самой мысли именно классического образования - все
здесь должно совершаться тихим темпом, все должно идти эластично, мягко,
не торопливо; ибо везде должна быть вдумчивость - у ученика, одухотво-
ренность - у учителя.
<ГОДОВЩИНА СМЕРТИ Н. Н. СТРАХОВА
И Ю. Н. ГОВОРУХИ-ОТРОКА>
Завтра, 24 января, исполнится год со дня кончины Ник. Ник. Страхова, через
три дня, 27 января, исполнится полгода со дня кончины Юр. Ник. Говорухи-
Отрока. Помянем обоих писателей, так родственных по духу между собою,
родственных и тому направлению мысли, которому служит наша газета.
Страхов умер глубоким старцем, отслужив 40 лет на поприще литерату-
ры. Покойный отличался прекрасным, кротким характером. Окончив курс в
главном педагогическом институте (позднее преобразованном в филологи-
ческий институт) по отделению естественных наук, он вскоре выдержал ма-
гистерский экзамен по зоологии, но влечение к философии и литературной
критике заставило его сойти с обычного пути университетского преподава-
ния на более тернистый, но и более живой, деятельный журнальный путь.
Однако черты осторожного и осмотрительного наставника и здесь сохранил
он в себе. Он сблизился с просвещенным кружком писателей, душою кото-
рого были братья Федор и Михаил Достоевские (о первом он оставил об-
ширные и любопытные воспоминания, занимающие почти половину перво-
559
го тома в посмертном издании «Сочинений» знаменитого романиста изд.
1882 года) и к которому принадлежали такие столь светлые умы, как Николай
Яковлевич Данилевский и Аполлон Александрович Григорьев. Для этих двух,
для сохранения их памяти и уяснения их трудов, Страхов сделал много. Он
первый дал критическую оценку «России и Европы» первого, а когда с вой-
ны 77-78 гг. эта книга стала выходить издание за изданием, он принял на себя
все труды по ее печатанию и составлению к ней указателей, а также и выбору
в приложении объясняющих и руководящих статей. По смерти друга своего,
Ап. Григорьева, он также собрал его главные критические статьи, и, несмот-
ря на крайнюю бедность свою, кажется, на занятые и не вернутые от прода-
жи деньги - издал их. Эта его черта, т. е. способность к верной памяти умер-
ших друзей и заботливое отношение к их трудам составляет одну из трога-
тельных черт усопшего писателя.
Рядом с этим широко развернулась его собственная литературная дея-
тельность. Последовательно в журналах Ф. М. Достоевского: «Время» и «Эпо-
ха» и потом в журнале Кашперова - «Заря», он дал ряд превосходных статей
философского, критического, публицистического и естественно-научного
содержания. Кружок писателей, нами названных, положил основание так
называемому «петербургскому славянофильству», славянофильству «по-
чвенников» - в отличие от московского, с его вождями Аксаковыми, Хомяко-
выми, Самариными, Киреевскими. Это славянофильство и было исходною
точкою для Страхова в его работах, особенно в публицистических и крити-
ческих. С умом и несомненным превосходством образования он оспаривал
торжествовавшие в ту пору идеи «Современника» и «Русского Слова», с их
вождями, ренегатами семинарии - Чернышевским, Добролюбовым и юно-
шей Писаревым. Но общество, носившее все черты детства, конечно, шло за
вождями-детьми, увенчивая их славой и само за ними спеша к крушению.
Этим крушением было 1 марта, где идеи 60-х годов нашли осуществление для
себя - свою могилу. Россия не пошатнулась от удара; она оплакала горе, но
еще незыблемее установилась на исконных основах своих, на «почве» ты-
сячелетнего бытия своего. С этого времени только начинается и внешний
успех литературных трудов Страхова; он начал собирать разбросанные по
журналам статьи свои, в систематические сборники, обогащая их новыми
прибавлениями.
Так произошли важнейшие его труды: «Борьба с Западом в нашей лите-
ратуре», 3 тома (вышло третьим изданием незадолго до его смерти) - с ря-
дом превосходных критических очерков, как о выдающихся русских писате-
лях, так и о выдающихся западноевропейских мыслителях; «критическая ста-
тья об И. С. Тургеневе и гр. Л. Н. Толстом» (два издания); «Заметки о Пушки-
не и других поэтах»; по философии главный его труд: «Мир как целое», «О
вечных истинах», «Об основных понятиях психологии и физиологии», «Фи-
лософские очерки». Все труды эти написаны изящным, легким языком; все
полны глубокою вдумчивостью в свой предмет; полны, наконец, так позабы-
того в наш век литературы-промышленности - душевного изящества.
560
Жизнь Говорухи-Отрока прервалась раньше, прошла бурнее. Он умер с
небольшим 40 лет; в 70-е годы, еще юношей, он принял участие в каких-то
беспорядках студентов, был арестован, просидел год в Петропавловской кре-
пости и затем выпущен - но под надзор полиции и без права въезда в столи-
цы. Замечательно, что будучи в университете, когда он обращался к настав-
никам профессорам с вопросом о лучших руководящих книгах по критике, к
которой тогда уже чувствовал влечение - ему указывали на Белинского и
Добролюбова, и никто даже не назвал имя Ап. Григорьева; случайно, едва ли
не в тюрьме, он напал на сборник статей последнего, и - рассказывает он -
«это было для меня вторым рождением». Глубина мысли Ап. Григорьева
захватила его; его беззаветная любовь к искусству и литературе очистила
душу его от грубых политических страстей. Высланный в Харьков, он стал
пописывать в местной газете «Южный Край»; его талант был замечен, и он
был приглашен сотрудником в «Московские Ведомости». Здесь, приблизи-
тельно с 1889 года, он вел еженедельные критические беседы. Огромное мно-
жество литературных явлений как текущих, так и давно отошедших в про-
шлое, в его статьях нашло себе оценку и переоценку. Особенно покойный
любил Шекспира; из наших писателей он останавливался подолгу над Турге-
невым, Достоевским, Полонским, Л. Толстым, из прежних - над Гоголем,
Пушкиным, Чаадаевым и другими. Реже и меньше писал он в журналах «Рус-
ский Вестник» и «Русское Обозрение». В отдельных книжках у него вышли
только критические этюды о Тургеневе йог. Владимире Короленко.
Везде в статьях этих он явился горячим проповедником тех народных и
исторических начал, которые - их не зная еще - он отверг в юности, и страс-
тным борцом против той шумихи слов, той мишуры умственной и фальши
совести, которых не мог рассмотреть в нашем радикализме и западничестве
отроческими глазами и рассмотрел воочию, когда стал мужем.
АЛЕКСАНДР Ш>
Навсегда останется удивительным, каким образом в краткое тринадцатилет-
нее царствование императора Александра III Россия поднялась на высоту
такой внутренней крепости и такого мощного внешнего положения. Всякая
попытка объяснить это для нас интересна. Такой интерес представляют следу-
ющие строки князя Вл. П. Мещерского, относящиеся ко времени, последовав-
шему за катастрофою 1 марта, когда все несколько успокоилось и огляделось
после ужасного преступления.
«К новому Царю, подошли новые люди... Они возлюбили Его всего ду-
шой своею, думая только о Нем... Могучими звуками заговорила вокруг
Него правда в устах этих людей, и Царь ей внимал всеми струнами своего
чудной души. Голоса эти говорили Ему о нужде России в его силе, для спо-
койного труда всех, о призрачности и тщете европейских доктрин пред про-
стыми и насущными потребностями народа, о вреде популярности, как цели
561
государственного управления, о запасах честных русских людей, готовых на
клич Государя всю душу вложить в служение Ему, - и Царь не только внял и
поверил этим голосам, Он им открыл навсегда прямую и широкую дорогу к
Себе и, вдохновясь правдой, Он уверовал в Себя, как в источник правды и
любви, и Россия, почуяв эту веру, как море после бури стихла, всею грудью
вздохнула легко и свободно, и принялась за труд»...
«Исчез мрак, явился свет, при котором ложь отделилась от правды, мира-
жи от действительных нужд, честные люди от бесчестных, доктринеры от
тружеников жизни, и вместо сомнений, вернулась бодрость от уверенности,
что Царская душа есть дом правды.
Эта правда не всегда была легка и светла, она часто бывала грустна и
тяжела; но, тем не менее, ей внимало Царское ухо с тою же любовью к Рос-
сии, и никогда уныние от правды не входило в Царскую душу, и никогда дур-
ное в людях, открывавшееся в этой правде, не ослабляло веры в хорошего
русского человека».
Смысл русского самодержавия весь сводится к этому: совесть, трепещу-
щая перед Богом, совесть - державствующая над людьми. Вот и только, больше
ничего не содержится в идее Царя-Помазанника Божия, помазанного на труд
для людей, но ответственного не перед ними, а перед Богом, по избранию и
провидением Которого он помазан. В русском самодержавии, таким образом,
связаны в один узел три порядка разнородных явлений, материальные нужды
народа, личная совесть и, наконец, Тот, перед Коим ответственность: вечный
Судия мира и людей, от Него же не укроется ни малейшее помышление чело-
веческое. Всякий из нас знает, до какой степени выше дело по совести, чем дело
по закону; насколько больше мы старания влагаем, когда к нам подходит чело-
век и доверчиво отдается под наше покровительство, нежели чем если человек
хочет вести с нами все отношения, не доверяя, «по документам». Вот основа-
ние того, что русское самодержавие не ограничено многими хартиями: оно
непоколебимо стоит на глубочайшем законе души человеческой, который не-
изменен был, не изменялся никогда и не изменится, который древнее всех хар-
тий, древнее самой цивилизации европейской.
Всякий великий народ в основании бытия своего несет какую-нибудь
историческую тайну. Такова у древних греков была красота, идея и чувство
красоты, никогда потом в таких высоких формах не повторявшееся. У римлян
этою идеею было право: еще во времена грубые, во времена необразован-
ные они уже отличались высочайшею способностью определять и разграни-
чивать все правовые отношения людей. Этим правом они скрепили народы и
создали могущественнейшую в истории Империю. Западным народам хрис-
тианской эры дано познание внешнего мира: науки досягнули у них таких
глубин природы, вскрыли такие ее тайны, самого подозрения которых никог-
да не было у человека, и не было надежды проникнуть в них. От того образ
Фауста есть самый понятный и вместе любимый на Западе; самый для него
дорогой. Но Фауст подножием своих утех сделал кости бедной погибшей
Гретхен, кости ее погибшего ребенка, умершей от горя матери, убитого бра-
562
та. По западному воззрению - все это только аксессуары, все только незнача-
щие подробности около прекрасного и глубокого бытия Фауста: и вот тут со
своим протестом восстает Восток, тут проносится крик России, новый, не-
знаемый в истории, крик. Новая идея с этим криком входит в мир: идея сове-
сти, как еще не испытанной самодержицы мира, как самодержицы, которая
низвергает к подножию своему и гордый разум с его науками, и право как
оно выражено в юридических тонкостях, и, наконец - красоту, как нечто внеш-
нее, как оболочку предметов и как наружное созерцание с человеком.
ПАДАЮЩИЕ КОЛОСЬЯ
Несколько господ, из коих большинство - выражаясь языком Герцена - «пре-
имущественно ничего не писали» и меньшинство, при всех потугах, не напи-
сало ничего значительного, образовали из себя в С.-Петербурге «Союз писа-
телей». Малое союзится, ожидая, что выйдет из него большое, по аналогии,
что и горы образованы из песчинок. И вот г. Гамма, - слишком известный г.
Гамма, чтобы о нем распространяться - ликует в «искренних речах» своих, в
№ 11 не крещеной или слабо крещеной газетки «Луч».
Песчинок собралось 24 января «около девяносто», - пишет он, - в том
числе и все наши писательницы» (как страшно! Но неужели была и г-жа
Микулич, автор прекрасных «Зарниц»? Неужели и она обманулась?). «По-
чти все известнейшие публицисты, романисты, поэты» собрались: «седые
головы» 60-х годов «преобладали в собрании». «Предмет занятий сводился в
очень скучной выборной процедуре; но оживленные разговоры, встречи со
старыми друзьями, новые знакомства и общее одушевление, общее проник-
новение одной и той же мыслью, сознание близости и возможности дости-
жения для всех важной, заветной цели - покрывали баллотировочную меха-
нику и превратили это собрание в интимнейший раут, в нечто подобное тем
салонам, которыми славились прежде главнейшие умственные центры».
Как уже сообщалось в «Нов. Вр.», из «Союза» почему-то исключены
именно и по преимущественно «писатели»: нет г. Майкова там - поэта; нет г.
Стасюлевича - ученого, нет г. Шубинского - журналиста, нет собственно
«писателей», а только «пишущие», которым очень хочется помечтать, что и
они «писатели»...
Собрание 90 «пишущих», все «об одной мысли», о мысли без всяких
вариаций «одной и той же» у всех, показалось Гамме «редким многолюд-
ством», и оно уже «само по себе» доказало ему, а он «доказывает» читателю,
как «насущна потребность, которой призвано служить это новое литератур-
ное общество, этот Союз русских писателей (т. е. почти писателей). Этою
«насущною потребностью» Гамма гипнотизирован; он уверен, что ею будет
гипнотизирован и каждый; он, трудно различить, грозит или манит: «Нет со-
мнения, что каждый русский писатель (т. е. уже настоящий) сочтет своим
нравственным долгом примкнуть к этому общему делу, потому что основ-
563
ная задача Союза заключается в соединении (курс, его) всех литературных
тружеников, всех представителей печати во имя общих (его курс.) всем им
интересов, независимо от партий (ну, будто бы) и направлений, личной враж-
ды, мелочных счетов, раздражений и предубеждений».
Хорошо пишет г. Гамма.
Ну вот тут... «эка закавыка»:
«В Союзе не будут участвовать только те, кто чужд общим литератур-
ным интересам (все как неопределенно), кто не понимает основных задач
печатного слова (ну уж Майков-то не понимает: чего же не пригласи-
ли?), обязательных для каждого честного, убежденного (да в чем? что за
темнота!), верного своему призванию писателя, или, что еще хуже (что
еще хуже?) нарушает эти основные задачи, противодействует им. Будут
чужды Союзу (о как страшно) и отринуты им (Боже, отринуты!) и те,
кто злоупотребляет печатным словом, пользуясь им для противонрав-
ственных (чуть не прочел: для противоестественных) целей, каковы, на-
пример (а, добрались)', лживые доносы, шантаж, продажность, биржевые
спекуляции и т. п.».
От страха перевертываю страницу и читаю «Далин»...
Дальше уже следует в «искренних речах» (и выбрал же название) чистая
«литература»: «Союз предназначен для выяснения и укрепления»... «Будем
надеяться, что Союз оправдает»... «к вящему процветанию и развитию сло-
весности, стяжавшей уже во всех своих видах весьма почетное, в некоторых
случаях даже выдающееся, место в умственной жизни всех просвещенных
народов»...
И, словом, как всегда у Гаммы: «Шампанского!»... и «все писательни-
цы» с замиранием слушают...
Но вот немножко дела. Тут же рядом с «искреннею речью», без сомне-
ния - правдивая речь: это «Дневник петербуржца».
Он продолжает, с тем же пафосом, о «празднике русских литераторов».
24 января и у него мы находим сперва «немножко в духе» вновь образован-
ного Союза:
«Шестидесятые годы, поистине, были расцветом русской литературы и
жизни. С тех пор прошло 30 лет, и вот литературные, а вместе с тем и обще-
ственные нравы изменились. Кто на кого повлиял, общество ли на литерато-
ров, литераторы ли на общество - неизвестно. Здесь нужно предполагать
взаимодействие дурного тона, которое, в свою очередь, вызвано, вероятно,
отчасти историческими условиями».
И, наконец, «немножко программы» Союза:
«Новое общество литераторов обратит главное свое внимание на моло-
дых писателей, в большинстве талантливых, но... как бы это сказать?., неус-
тойчивых, тем более, что они не виноваты или почти не виноваты (лести-то,
заискиванья-mo перед «молодыми»...) в своей неустойчивости: виновато
время - виноваты тяжелые матерьяльные условия, при которых приходится
работать большинству их, виноваты скверные примеры, которые они видят
564
вокруг, примеры не только не осужденные, а, наоборот, чаще всего вызыва-
ющие в их среде зависть, восторг, выражающийся восклицанием: «Ах, если
бы мне то же!» (нууж, что же это за писатели? а все-таки и таким даже
льстят). Пусть новое общество поднимет... пусть оно послужит... для моло-
дых писателей живым олицетворением... чтобы молодые писатели чувство-
вали себя под его нравственным контролем и могли найти в нем нравствен-
ную опору и суд».
Суд, главное суд... на «молодых писателей, ускользающих от старичков
60-х годов. Вот в чем все дело и где «гвоздь» образованного «Союза», исклю-
чившего истинных писателей, ограничившегося «почти» писателями, но зато,
по выражению Тургенева, «с начинкой». То-то и Н. Михайловский трубит о
«Союзе» в только что вышедшем январском № «Русского Богатства»... Ста-
рички поднялись; старички в последних степенях негодования; вокруг их
пусто; могила близится; все от них бегут - уж извините - зажимая нос: мер-
твым пахнет. И вот в ожесточении ярости, они собираются кричать: «донос»,
«шантаж», «продажность», «биржевой спекулянт» - о всяком, кто не пребу-
дет еще с ними, кто сделает шаг в сторону...
Зачем так нужны им живые люди? Что за тяготение к молодости? «Сво-
бода, господа, свобода - прежде всего», повторим мы их же слова. Свобода
мысли и слова - без этого нет литературы; и, ради Бога, не инквизиторствуй-
те: что вам дело до мотивов, по коим вас бросают; ради Бога, оставьте поли-
цейско-инквизиционное «чтение в сердцах», о, коем говорил еще старик
Щедрин. Вы намекайте на «матерьяльные условия», из-за которых вас будто
бы бросают: но отчего же, ведь ваши издания все еще идут отлично, ведь
«выручку» не всю же вы кладете в карман и уплачиваете гонорары? Может
быть, вы хотите их повысить для «молодежи», чтобы удержать ее? Но какая
же, подумайте, какая же молодость останется с вами, если она останется из-
за рубля?..
Старые селадоны - оставьте молодость.
Оставьте идти, куда она хочет, повинуясь движениям сердца, а не страху
перед клеветою, которую вы собираетесь в нее бросить.
Оставьте молодость. Старая нива, побитая невзгодами, не имевшая силы
удержаться, с осыпавшимся зерном, не посягай на озими, из-под тебя проби-
вающиеся. Еще день пройдет, еще немногие мелькнут дни, и успокойтесь,
успокойтесь тщеславные старички - вас снесут в Пантеон нашей литерату-
ры, на знаменитое «Волково кладбище», туда, где покоятся «останки»... Ус-
покойтесь, успокойтесь: над вами выбьют металлические дощечки с пропи-
сью дня и года рождения, года и дня смерти, отечества и имени, и что-нибудь
в стихах или прозе о заслугах...
Успокойтесь и не волнуйтесь...
Мы, кого вы называли или готовились назвать «шантажистами», «бир-
жевиками», «доносчиками», - едва тление бытия вашего рассеется, и воздух
станет лучше, с полной любовью и забвением обид понесем кости ваши на
«знаменитое» кладбище и пропоем печальное и вечное:
565
«Со святыми упокой»... Идеже несть печаль, ни болезнь, ни воздыхание»...
Ради Бога успокойтесь... Все будет сделано, и даже «бюро похоронных
процессий» мы не дадим ничего заработать. Все сами сделаем, на своих
плечах понесем; и потом - некрологи, и еще раньше - бюллетени о здоровье,
и... «воспоминания», «воспоминания»...
INDE IRA...*
Все с ума нейдет
Ненаглядная...
Кольцов
И оружие пройдет душу твою...
Луки, 2
«Союз русских писателей»... «русские писатели», организовавшиеся в Союз...
это как-то все не выходит из головы; тревожит, мучит, дразнит; не дает свобо-
ды заняться чем-нибудь посторонним. Едва ли отчетливо понимают мысль
его сами учредители, понимают ее до глубины, до кристальной прозрачности.
В его возникновении есть нечто стихийное; он бурно родился; будет бурно и
прочно его существование; или, если ему суждено кончиться, он кончится с
мучительною агонией...
Они, эти «писатели», не собираются писать и слушать «рефераты» о
«приемах художественного творчества», о «художественной критике», об
отношении «идеала и действительности», и всех этих старых темах... Он
нов по мысли своей, по тенденциям, т. е. нов, насколько новы 60-е годы в
нашей жизни, насколько в тысячелетнем росте нашей страны они недав-
ни, свежи. «Союз» - это последнее и мучительное усилие 60-х годов от-
стоять себя, - усилие, порывающееся даже к победе, обладанию; негоду-
ющее, ненавидящее, и, - как уже не скрывается, - готовящееся судить,
присуждать...
Эстетика, это состарившаяся в девах богиня, увядшая, обносившаяся,
никого более не привлекает; этика, живая, страстная, мощная и, кажется, не
стареющаяся - стала на ее место. Порыв - мы говорим о «Союзе» - прекра-
сен по самому общему своему основанию, колориту; прекрасна эта страст-
ность, эта ревнивая нетерпимость новых движений; но частности его, но дроб-
ное его содержание, но цели нетерпеливых движений - мучительны, мучи-
тельны донельзя...
О, если бы мы, если бы горсть разбросанных русских писателей, т. е.
писателей, беззаветно преданных русской жизни, руссизму в жизни, руссиз-
му в мечтах, идеалах, привязанностях- у мели быть также живы, деятельны,
* Отсюда гнев... (лат.).
566
подвижны, предприимчивы. Нам дороги образы Татьяны - Пушкина, Лизы -
из «Дворянского гнезда»; нам мил этот Лаврецкий; о, если бы на страже этих
лиц, за их мечты, за их поэзию, над их священною могилой, хоть и вообража-
емой, т. е. художественно только опознанной; мы сумели стать непоколеби-
мою ратью...
Нет этого; и нас немного; и нет бодрого духа в нас; нет веры даже на-
столько, чтобы сказать: здесь и не далее, не через эти могилы пусть ступает
жизнь...
Нет, эти могилы Татьяны, Лизы, Лаврецкого - оставлены; и крест, покач-
нувшись, упал, никем не поддержанный, ограда сломана, и как на незнае-
мый бугорок приходит сюда в праздник фабричный, с своей Дульцинеей, и,
вынимая кусок колбасы из одного кармана, склянку с живительною влагой
из другого, - начинает веселую и продолжительную свою пирушку и потом
«любовь»...
Культ почил на других могилах; там все убрано; убраны могилы Надсо-
на, Гаршина; первый понял в Достоевском только - что он «бряцал цепя-
ми». .. Они все «бряцали», если не цепями, то о цепях «на лире». Маленькие,
глупенькие, плоские - они застыли в скорбной мине; и Россия до сих пор не
наплачется, глядя на эту скорбь в их мине...
Скорбь «лучших сынов» об отечестве, плач Сильвио Пеллико о темнице,
куда он заключен; отечество - это кандалы, это веревка на шее «лучших»,
конечно, веревка ненавидимая, скрываемая. Некрасов писал, даже в природе
видя отражение скорбей отечества:
.. .месяца нет - хоть бы луч!
На небо глянешь - какие-то гробы,
Цепи да гири выходят из туч...
(из поэмы «Мороз, Красный нос»)
Этою болью «болел» Щедрин, голиаф отрицательного направления, этот
филистимлянин, побивавший лошадиной челюстью своей сатиры верных
Израиля. И все они, чем дальше и дальше заравнивали могилы Лизы, Пиме-
на, Лаврецкого, могилы всего ветхого, поэтического, милого, идущего из ис-
торической дали - тем выше высились их собственные пышные саркофаги,
«на Волковом кладбище»; и чем кто более, чем глубже, чем страстнее и,
главное, умелее ненавидел отечество свое, тот в этом отечестве был больше
почтен...
Удивительно ли, что как перепуганное стадо разбежались все со старых
могил; как бы перепуганные провалиться в них, заживо умереть; разве зажи-
во не умер, разве не заживо был погребен К. Н. Леонтьев, писатель столь
даровитый, столь сердечный. Он возлюбил свою землю; конечно, он был
проклят...
Проклят в литературе нашей самыми обширными группами ее «писате-
лей», ныне организовавшимися в «Союз»...
567
Я уже сказал, что клики этого «Союза» победны; что они - негодуют,
отрицают, разрабатывают «скорбную мину»; они готовятся судить и при-
суждать; чуют победу, и в самый миг рождения своего издают не крик радо-
сти о бытии своем, но вой протяжный о некоторой ожидаемой добыче*. Они
не скрывают, что собственно не литература, не поэзия их занимает, не худо-
жество, но этика и, теснее, насколько она переходит в «политику», страстное
изготовление к действию, в победу фактов над фактами и вовсе не идей над
идеями...
Все это было бы прекрасно, если бы иной был объект борьбы, иной
объект желаемый и чуемой победы. С кем борются они? Что бесспорно не
играет никакой роли в настроении «Союза», в его созерцаниях? да это -
старые заплеванные могилы, которые облег огромным телом своими рус-
ский народ. Раки святых угодников, к коим тянется русский народ за утеше-
нием - можно ли вспомнить о них, заговорить на заседаниях «Союза»? тот
монастырь, куда Лиза Калитина унесла скорбь разрушенного счастья, едва
мелькнувшей и обманувшей надежды - позволительно ли там о нем на-
помнить? Нил Сорский, Сергий Радонежский... воспоминания нашей исто-
рии - составляют ли они какую-нибудь память у этих писателей, писателей
«земли русской»? Напрасный вопрос; все интимно мы знаем, что если что
забыто, если что основательно забыто там, до искоренения, то именно это,
о чем ежедневно русский народ помнит и чем день от дня, изо дня в день
жив он...
Inde ira... «Союз» - это наконец формула, до кристальности прозрач-
ная; в родной земле - писатели союзятся, они становятся плечом к плечу,
обращая щит и меч наружу; к кому же обратим их, как не к стране, в кото-
рой они построяются римскою «черепахой», неуязвимою, непроницае-
мою?.. Как не к стране, коей они суть «писатели», на языке которой говорят,
«пишут»...
«И оружие пройдет душу твою» - эти слова навертываются неудер-
жимо на язык. Русская литература наконец ясно, без недомолвок подни-
мается против русского народа; по невозможности соприкасания, она не
против него собственно подымается, но против той группы почти разбе-
жавшихся уже писателей, которые еще помнят, еще оглядываются на ста-
рые могилы, старые идеалы народа русского, на его исторические заветы.
Но кто против защитника, тот и против защищаемого. Центр борьбы -
именно русский народ; сердце, «пронзаемое оружием» - это народное
сердце. Именно сердце: народ не в физическом теле своем, но в надеждах,
молитвах, вере, в безмолвии громадной своей культуры, пока не нашед-
* См. в «Нов. Вр.» от 5 февраля речь проф. Сергеевича, в качестве председателя
литературного фонда, и сопровождающие замечания его о шельмовании, каковому
его предали «представители» Союза за эту речь, где, сверх прочих преступностей, он
упомянут с благодарностью о даре Государем Императором 10 000 руб. ежегодно
нуждающимся писателям.
568
шей языка и выражения - вот то, во что литература, поднявшаяся на пле-
чах этого народа, взлелеенная на копейку его, с мучительною ненавистью
направляет меч...
Больно это, мучительно это...
И еще Михайловский, стоящий во главе или почти во главе «Союза»,
писал об «уплате народу своего долга» «интеллигенцией)»; так сантимен-
тально об этом «напоминал». Старая лисица нашей литературы; старая блуд-
ливая коза...
Они пишут на русском языке, они говорят на нем; они почти все «на-
родники», представители «народничествующих» журналов, где имя Цер-
кви и Бога суть слова, исключенные из лексического оборота. Они за «на-
род», за «русский темный и обиженный народ» - как и Иуда, приходив-
ший в Гефсиманский сад и, обнимая, лобызая Учителя, именовавший его:
«Равви, равви»...
<А. Н. МАЙКОВ. НЕКРОЛОГ>
Аполлон Николаевич Майков, которого сегодня мы опускаем в могилу, -
замечателен не только как поэт, но и как патриарх нашего общества; в то же
время он был одним из лучших светочей умственной нашей жизни. Ряд
поколений поднялся перед ним; совершил свой труд; сошел с исторической
сцены. Как не сродны были думы этих поколений, от идеализма времен Бе-
линского и до матерьялизма 60-х годов, от политической воспаленности кон-
ца царствования Александра II и до спокойного оздоровления времен Алек-
сандра III.
И как не сродны были эти думы, так различны, иногда до противополож-
ности, были дела, из них вытекавшие. Рождались и умирали минуты неудер-
жимо бегущей истории, а маститый поэт, до последних дней не выпускавший
из рук лиры, встречал и провожал их, оценивал и иногда судил с тех неизмен-
ных высот, с которых никогда не спускалась душа его. Высокую цену для
общества имеет видеть среди себя таких хранителей предания, таких зрителей
и судей, которые имеют возможность сравнивать поколения и указывать каж-
дому его излишества.
Мы назвали его еще светочем нашей умственной жизни. Действитель-
но, в поэзии его мы видим, как широко русская душа может откликнуться
на самые различные звуки. Древние и сумрачные гностики, светлая Элла-
да, крепкий Рим, и наши летописные предания - все это прошло через
воображение замечательного поэта и оставило след в трех томиках его сти-
хотворений.
Мир праху твоему, прекрасный поэт, мир твоему праху, прекрасный цве-
ток, упавший с исторического нашего дерева, и так долго благоухавший на
нем! Имя твое перейдет в роды и роды, и научит детей наших, внуков, правну-
ков, лучше чувствовать и лучше думать!
569
ИЗ МИРА ИДЕИ И ФАКТОВ
I
Четверг. 20 марта
Кто не читал о судьбах наших колоний «толстовцев», около Смоленска, на юге,
еще где-то? Кто не вдумывался в судьбу эту? в причины этой судьбы? Как
вулканические острова среди океана, они подымались и, гюкурившись недо-
лго, исчезали, едва успев привлечь к себе внимание. Напрасно бытописатель
искал бы следов их существования, как географ напрасно трудился бы, нанося
на карту удивившие мимо идущих моряков неведомые новые острова. Океан
вод скрывал их; океан народной жизни - без усилия, без старания, без какой-
либо борьбы - поглощал странных пахарей, говоривших по-французски, т. е.
могших говорить, но чаще всего говоривших о Спенсере и эволюции...
Есть что-то невыразимо печальное в рассказах о них, изредка их самих о
себе. Не странно ли: мы вовсе не слышим там смеха; нет, правда, и слез; все
угрюмо - почему бы? Все до странности молчаливо - как в монастыре, но
на этот раз без молитвы. Какой-то подвиг, какая-то ноша чувствуется в дыха-
нии, речах, безмолвии и разговорах пашущих. Весна пришла - и поля засея-
ны; пришла осень, картофель выкопан; долгую зиму угрюмые робинзоны
едят кашу, и мы чувствуем, он опять при этом совершают какой-то долг.
Безрадостные стоики, стоики какой-то одинокой своей мысли, они однако
менее крепки, чем были древние римские; может быть - они лучше тех, мы
думаем - богаче духом, свежее и чище сердцем. Как бы то ни было и отчего
бы то ни было, выдержав несколько, обыкновенно немного лет, «искуса»,
они расходились, т. е. уходили к тем самым людям и той самой жизни, кото-
рую отвергли и осудили...
Здесь, вокруг их, вокруг... мы едва не сказали - маленького: «необитае-
мого острова»: - вокруг их до странности недолго обитаемого острова -
«колонийки», волнуется огромная жизнь, где нет, пожалуй, их долга, стоициз-
ма добродетелей, но есть непременно смех; непременно есть слезы; труд -
но почему-то без скорби; молитва - и вовсе без уныния, пусть молитва нера-
дивая, без внимания, быстро обрываемая; все пороки есть - и однако в жиз-
ни, т. е. в живом теле есть болезни, коим болящие не удивляются, с ними
борются в меру сил, и, побеждаемые, умеют покоряться судьбе. Колонийки,
напротив, не болеют; ни о ссорах там мы не слышим; ни о ревности, ни об
убийстве; даже не слышим ничего о жадности, скупости, ни о чем из того, о
чем слышим в ежедневной, «обыденной» жизни. Не болея ничем они расхо-
дятся, т. е. даже не умирают, но как-то исчезают, расплываются, даже нельзя
сравнить: «как дым от повеявшего ветра». Нет, именно как вулкан среди Оке-
ана: при безветрии, зеркальной глади вод, без прикасающейся извне руки -
островок-колония был, и вот мы его не видим более, не знаем о нем, и, соб-
ственно, даже не спрашиваем, где и почему он был, не вспоминаем...
Зыбкость бытия, не имеющая себе аналогий в истории.
570
Мы назвали обитателей этих островков робинзонами. В восхитительном
романе Де-Фоэ рассказал нам судьбу знаменитого юноши, и мы все с зами-
ранием сердца следили, еще в детстве, за самым любопытным, что он сумел
и догадался показать: как этот юноша, грубый и недалекий по образованию,
в сущности создает около себя и из себя целую и совершенно новую, т. е. для
него новую, культуру. Страницы книги бежали перед нами легко; но если бы
то были страницы действительности, они окончились бы, как и кончаются
иногда в самом деле, быстро чем-нибудь кровавым, диким, во всяком случае
печальным и быстротечным, как и эти маленькие колонии «толстовцев», о
которых мы говорим...
Де-Фоэ... замечательно, что он был очень несчастлив, и именно в семье,
именно от собственного сына. Сын, для которого, быть может, он и писал
отчасти роман, вырос очень грубым и жестоким малым, тупым малым. Нис-
колько не заботясь о будущности своего имени, он затеял против отца судеб-
ный процесс, из-за каких-то денег: Де-Фоэ был осужден и приговорен к тюрь-
ме. Но это - кстати, и для нас побочно. Я хотел бы указать только, что Де-Фоэ
забыл, как и «толстовцы» наши забыли, когда задумывали морально-эконо-
мический роман свой, об одном великом нерве, питающем жизнь: тради-
ции. И на этом забвении построили роман, в книге - удачливый, в жизни -
печальный, угрюмый, оборванный на первых же страницах...
Традиция, переданная культура... Что это такое, как не бездна индивиду-
ального труда, слившегося в громаду идей, понятий, чувств, влечений, кото-
рые как бы застыли и более не вызывают никакой индивидуальной мысли,
никакого личного размышления над собою собственно, ни личных чувств, т.
е. опять в отношении себя, своего содержания и его истины. Окаменевший
дух - вот историческая цивилизация: окаменевший, т. е. ставший недвижи-
мым, неколеблющимся более, но остающийся вместе живым и дышащим, -
уже потому живым, что собственно им творится 9/ю всякой индивидуальной
жизни со смехом и печалью, преступлением и поправками к нему, т. е. не
механической жизни, стоически трудной и стоически же бесплодной... Этот
труд, который я привычно выполняю, учились и выучились выполнять бил-
лионы людей; уклад семьи, который я принимаю как обычай, как бытовой и
часто суровый нрав - он прошел между остриями бездны иначе начавшихся
и разрушившихся, несчастных семей. В этих ч/ю жизни всякий индивидуаль-
ный почин, который я хотел бы предпринять, уже был испытан, всячески
модифицирован, и бездны глаз следили за ним, оценивали, изучали и нако-
нец вынесли решение, как «обычай».
Но для чего он мне в этой окаменевшей форме? не возбуждающей мыс-
ли и почти не допускающей суждения. - Для свободы. Еще 7ю жизни остает-
ся каждому, и она уже не определяется историею: это наше личное отноше-
ние к предметам, содержание коих бесспорно в себе самом, «обычно»; но
вполне спорно и может колебаться наше отношение к ним. Бесспорен труд,
т. е. закон труда для всякого живущего; но форма труда для меня не определе-
на, как и степень моей умелости в труде, моей привязанности к труду. Бес-
571
спорна любовь, но ее правда или в ней лицемерие - это принадлежит моим
свободным силам. И так - во всем. Вот - личная жизнь, и она требует затраты
энергии. Этой энергии тем больше остается человеку, чем бесспорнее для
него те окаменелые части жизни, чем пассивнее, безвольнее, без размышле-
ний и, следовательно, без напряжения, он их принимает в 9/ю личного суще-
ствования. Весь остаток дарований тогда, острота ума, чистота сердца, све-
жесть желаний идет на то, чтобы наилучше протрудиться, наилучше возлю-
бить и вообще наилучше от себя и за себя пронести то бремя жизни, которую
несут все в «обыденной жизни», никто от него не отказывается и вообще
несут его все весело, иногда, правда, со слезами, но и не вовсе без смеха.
«Толстовцы» приняли на себя |0/ю жизни. Нужно ли удивляться, что они
были раздавлены? Дивно ли, что они не исполнили даже и той !/ю дольки ее в
форме обычного регулярного труда и всяческого «честного жития», кото-
рую, казалось им обманчиво, одну понесут они на своем острове-колонии.
Они вовсе не поняли, что поднимают на плечи свои, плечи этих 40-60 чело-
век, пусть наилучших сил, наилучшей чистоты сердца, бремя всей всемир-
ной цивилизации: с задачей еще выработать обычай, выработать веру, выра-
ботать семью, отечество, порок и правду. Конечно, они пали убитые тяжес-
тью. Не забудем, что в колонию они вошли с наукой, философией, воспоми-
нанием веры, нравственности; и с жаждою естественной, неутолимой этого
уже «познанного» плода жизни. И в меру этого «познания», и одновремен-
но отвержения, взяли на плечи себе столб 2-х тысячелетней культуры, а не
культуры мужика Семена, который с женой и «сам-третей» с лошадью ухо-
дит в Сибирь. Впрочем, мужик имеет культуру, несет ее с собою, т. е. уже
готовую и нисколько не разрушенную, в форме веры и обычая, которые
исполняет в Сибири. Они же внутренно, психически разрушили эту культу-
ру, ничем не загасив ее жажды; разрушили идею семьи, но не инстинкт се-
мьи; доверие к отечеству, но не желание отечества; веру в Бога, вот этим
способом покланяемого, - и не знали теперь, не знали вовсе, как же, каким
видом и способом, в каких словах и чувствах покланяемого? Им нужно было...
в эти 30-40 лет предлежащего колониального жития, в числе 70-100 человек,
пережить вновь что-нибудь аналогичное Евангелию: ведь не пошли же бы
они к шаманам; выделить из себя Моисея, ведь не могли же они начать прак-
тиковать «свальный грех», а между тем VII заповедь была для них археологи-
ческим дефектом, с зиянием пустоты на ее месте, с жаждущею, неутолен-
ною пустотой. Наконец - с пустотою, требующей молоховых жертв...
«Три года просуществовала колонийка», - говорим мы и прибавляем:
«только». Но это атлеты силы, римляне духа, ибо три года продержать на
плечах этот новый Атлас, в сущности - небеса и землю, значит более трудное
совершить, чем географически покорить страну, территориально занять ее,
заселить, вспахать. И в самом деле, всмотримся в психику их, вдумаемся в
положение, занятое ими между старым миром и новым, какой предлежало
им породить из себя. «Труд» и его закон, «любовь чистого братства» и ее
закон - вот две заповеди, вынесенные ими из «того мира», вне которого
572
свернулась в раковину «колонийка». Перейдем к конкретности; вот ноле вспа-
хано и картофель съеден; колонийка уютно еще продолжает сидеть около
«братских» столов. Запеть бы песню теперь, - однако, какую? Пытается и
никто не может придумать слов: выходит прозаическая нескладица, и еще
менее может кто-нибудь придумать мотив, напев. Остается или молчать, или
петь не веселящую сердце бессмыслицу, или запеть... старую песню, из того
отвергнутого мира; т. е. хоть через песенку, и насколько она будет длиться,
слиться с тем миром, который отвергнут. Правда, песня - это смех, это по-
эзия, это веселье, т. е. пустяки; однако, именно она-то и примиряет, она -
самая опасная соединительница, самый лукавый недруг вражды. Оставим ее
и лучше будем вести серьезные споры: о чем бы, однако, где для них темы?
Никто из колонистов не Декарт, не Лейбниц; и новое, о чем хотят они загово-
рить, насколько оно действительно ново и им исключительно принадлежит-
плоско, грубо, поверхностно, не насыщает их ума, уже испытавшего лучшие
споры; а чуть кто пытается продвинуться к лучшему, к действительно зани-
мательному, впадает в темы старого мира, обсуждает их методами мышле-
ния, открытыми в старом мире. Таким образом, за эти три года они почув-
ствовали то, чего мы вообще никогда и вовсе не чувствуем: что покоящаяся
на традиции необозримая жизнь есть сокровищница форм всяческого твор-
чества, вне которых и без которых индивидуальный дух, предоставленный
только своим способностям, ниспадает до идиотизма бытия, до бытия, не-
много возвышающегося над идиотизмом.
И они бросились в старый мир...
В песне, в споре - они уже и там, в колонии, сливались с старым миром;
они догадались, что отделяются от него лишь территориально, а не в самом
духе; частоколом или забором, но не действительным идейным отчуждени-
ем. И частокол был брошен, забор остался пуст; живые души вылетели из
него и слились с живым миром, - этим отвергнутым, который истинен уже
потому только, что он единственно действителен...
Еще облачко пронеслось над океаном и скрылось за горизонтом его вод;
неощутимо, где-то вдали, оно растворилось дождем - и пало в него же.
II
Понедельник. 24 марта
Маленькая, но необходимая оговорка. Предыдущее рассуждение о важности
традиции в жизни было уже кончено, когда, желая придать ему большую яс-
ность, я вписал примеры: «Этот труд, который я привычно выполняю, учи-
лись и выучились выполнять биллионы людей; уклад семьи, который я прини-
маю как обычай, он прошел между остриями бездны иначе начавшихся и
разрушившихся, несчастных семей...».
Это вводит уже излишество в принцип; это делает человека рабом обы-
чая. До этих пор власть традиции не простирается. Традиция - это счастье,
это - избавление нас от труда, сложение с нас 9/ю тяготы жизни, которые мы
573
берем без размышления, как привычку, чтобы свободно сотворить остаю-
щуюся ‘/ю. Но есть случаи, когда именно личное счастье, высший долг, со-
страдание к ближнему требует индивидуального почина и где-нибудь в *7ю
традиционной жизни. И тогда, конечно, человек должен сотворить здесь, вне-
сти личное разумение и личный порыв и в те 9/ю, иначе, чем все, начать
семью, переиначить тысячелетнюю форму труда. Но это всегда есть именно
труд, именно страдание, а вовсе не удовольствие, начинаемое по капризу -
вот что следует помнить. Традиция есть благо, бесплатно полученное; есть
дар опыта, ума, лучших чувств, которые мы получили от предков «без заве-
щания, по праву рождения». Но это дар, нас не порабощающий нисколько;
дар, который мы можем бросить даже - и тогда стане?л несчастны, как те
интеллигентные колонисты; дар, который поэтому мы не столько юриди-
чески должны принять, сколько радостно, сердечно, свободно лелеять: иног-
да его увеличиваем, всегда, впрочем, немного, и передаем детям своим в
целости - это уже наш долг перед ними, тоже нравственный, но строгий
почти как закон.
Вот границы традиции: и, кажется, теперь они точны.
Есть классический пример разрыва с традицией, гораздо более истори-
чески знаменитый, чем наши интеллигентные земледельцы, и который едва
ли когда-нибудь будет забыт. Это - Спиноза. Между синагогою и церковью
он повис одиноко. И его образ так прекрасен, силы его были так велики, что
все человечество, до некоторой степени, было обмануто относительно смысла
этого примера. Сердца всех благородных людей увлечены были к великому
несчастливцу, и несколько отчужденно, чуть-чуть даже враждебно посмот-
рели на синагогу, даже на церковь; в силу этого, обратным движением, по-
смотрели сочувственно на разрыв с ними. Никто не понял этого явления во
всей его полноте; никто не догадался, что самое благородство сердец, заста-
вившее людей смотреть с состраданием на отчужденного от всех философа,
есть плод церкви, с одной стороны, и даже синагоги - с другой. Первая и
вторая - это мир культуры; мир, где люди тысячею примеров, заветами, по-
велением Бога, через поэзию и через рассуждения, были из рода в род при-
учены сострадать вообще всему несчастному, откуда бы несчастие ни про-
истекало, сочувствовать всякому оставленному, по каким бы мотивам он ни
был оставлен, защищать непременно слабого против сильного. Чувства эти
не найдены в лесу; не выросли порознь в душе каждого; они так общи и
одинаковы в христианском мире, да и в еврействе еще от времен пророков,
что ясна их связь с традицией. Т. е. отвергнутая Спинозою синагога была
выше его; церковь, в которую он пренебрег вступить, была значительнее его.
Вот тайна, никем не понятая, скрытая от глаз мира величием индивидуальных
сил философа. Кого он воспитал? Он имел влияние на Гёте, особенно в пору
создания Вертера; и это влияние лица на лицо было так слабо, что в Гёте,
советника Саксен-Веймарского герцога, уже не сохраняется никаких его сле-
дов. Еще кажется он влиял на Фихте, Шеллинга, Гегеля - допустим, влиял - и
вот век их еще не кончился, а их значение кончилось. Далее этих, вокруг этих
574
- пустыня. Мы говорим о влиянии спинозизма. Он укрепил, возвысил, очис-
тил учением своим, как и примером удивительной жизни, несколько десят-
ков, сотен, допустим - тысяч людей. Но народ включает в себя миллионы, и
для них есть синагога, церковь.
Почему-то их научение могущественнее: почему-то оно длительнее в
веках: более проницающе, потому что касается не только мудрых, но и совер-
шенно простых, на всех одинаково действуя. Это вполне удивительные созда-
ния истории, вполне удивительные органы цивилизации, которых полного
значения сам Спиноза не оценил. Как бедна, тускла, не развита была его
личная жизнь: героична, но в одну линию. Представим ее несколько полнее,
несколько развитее. Вот у него дети, и по закону противоположности, так
часто действующему в рождениях, ни один из них не философ; даже специ-
фически именно к одной философии они все не расположены. Коммод и
Марк Аврелий уже дали в истории пример такого соотношения. Какое же
наследие он им оставил бы, какую культуру? Он им дал бы один камешек
этой культуры, и именно такой, какой им не годен в построении собственной
жизни. Маленькие Коммоды, они были бы теперь не молотом, как тот огром-
ный дикарь, но наковальнею, маленькими и бессильными дикарями, которых
жизнь раздавила бы тяжестью своих требований; раздавила бы, может быть,
за преступления, и даже по простой их неумелости.
Вот нищета - мы говорим о наследии Спинозы - которая восполняется
богатством синагоги, церкви, которые всякого научают в меру его способ-
ностей; и, главное, научают таким таинственным способом, что жалкий пас-
тушонок, как и первый вельможа, видит свое место в мире; знает, что мир в
нем нуждается; хочет и умеет отвечать этой нужде. Ведь сам Спиноза пото-
му только мог не оставлять занятий философиею, что ему дано было тради-
ционное у евреев ремесло, которое его кормило. И своему мальчику, если
бы он у него был, это же питающее ремесло он мог бы передать не иначе, как
повинуясь, подражая обычаю, выработавшемуся в веках. А выйдя из него,
обрек бы его на голод, проступки и, может быть, преступление.
Вот что защищала синагога, подняв бурю проклятий против его поры-
вов. Она защищала все сиротливое и малое против случайно мощного, недо-
лговечно мощного: против эгоистически нужного. Но в ту минуту и для той
минуты, конечно, это случайное было прекраснее и даже много ценнее ее. И
вот где начиналась, да и часто начинается трагическая сторона истории.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЛНЕНИЯ
Русский народ не подозревает, что о нем пекутся две могущественные партии:
во-первых, «марксисты» с г. Струве и г-жею Калмыковой во главе, и во-вто-
рых, «антимарксисты», во главе которых стоят Южаков, В. В. и еще кто-то.
Издали им покровительствует, т. е. иногда помавает головой, г. Н. Михайловс-
кий. С февральской книжки этого года журнал «Новое Слово» перешел в руки
575
«марксистов» и весь ряд сотрудников, т. е. Южаков, В. В. и еще кто-то, вышел
из журнала, афишировав выход свой через газету «Новое Время». Русский
народ может быть спокоен; «антимарксисты» блюдут его от опасностей.
Но мы забыли сказать, в чем дело. «Марксисты» думают, что из русского
народа до тех пор не будет никакого прока, пока он «не переварится в немец-
ком котле»; поэтому они благоприятствуют господствующей русской финан-
совой системе С. В. Витте. «Переварка в котле» разумеется не буквально, но в
том смысле, что русский народ должен пройти через капиталистический фа-
зис истории. «Антимарксисты» уверяют, что фазис этот, вообще неминуемый
для человечества, в частности, русским народом может быть избегнут и он мо-
жет прямо и непосредственно перейти в фазу «справедливого распределения
продуктов труда», с ее подробностями. Косвенно и прямо, впрочем, всегда мель-
ком, об этом высказывался г. Михайловский. Он очень бранил, в нескольких
книжках «Русского Богатства», г. Перцова, доброго Петра Петровича Перцова,
когда тот, еще сотрудничая в этом журнале, стал заниматься Фетом, - уверяя,
что это задерживает вступление нашего народа в фазу «справедливости»...
Надо надеяться, что «марксисты» провалятся и г-жа Калмыкова останет-
ся ни при чем; тоже ни при чем будет и г. Струве, хоть у него и бойкое перо.
У него перо, а у них - перья. Они действуют скопом, понимают скопом,
сотрудничают скопом и скопом выходят... чуть не сказал: «В отставку». Вы-
ходят скопом «из состава редакции». Они сильны: русский народ может дре-
мать спокойно.
Благодетельная партия. Слова бессильны, чтобы выразить ей признатель-
ность, и, если б русский народ толково знал, за кого ему следует молиться, он
записал бы Южакова, В. В., еще многих и г-на Михайловского в свои помина-
ния - «о здравии». Пусть они упирались бы - он записал бы. И потом, когда
скончаются - «за упокой». Но это со временем...
Р. S. Нам думается иногда, что принцип «марксизма» есть принцип вообще
интенсивной культуры, и вопрос в том, способен ли к ней и хочет ли ее русский
народ? «Интенсивной» -т. е. «напряженной» до забвения всего остального, что
не относится к труду и его продуктам, т. е. к съедобному и «удовольствиям». -
Нам, кроме того, думается: да, как только все «прочее», ну там храм и разные
мелочи, забудется народом, он уже невольно и сам собой, так сказать, от скуки
и жажды чем-нибудь заполнить пустоту, станет «интенсивен» в работе, непре-
менно «интенсивен». Так что - это вывод совсем далекий, это при конце -
собственно «антимарксисты» наши есть тоже «марксисты», и напр., знамени-
тый В. В. есть то же, что антипатичный г. Струве: да, пожалуй, то же, что Струве,
и сам г. Михайловский: все они, насколько выхолащивают душу народную (т. е.
усиливаются к этому) от разных «странных» идеалов, не относящихся до «рас-
пределения богатств». Так что хотя, с одной стороны, русский народ и обеспе-
чен могущественною партиею и рад бы «за здравие», но, с другой стороны, как
будто и не обеспечен, так что, пожалуй, уместнее бы «за упокой»...
576
Не знаем, как он будет петь. Но нам сдается все, что о нем самом усерд-
но, хотя в мечтательном идеализме и бессознательно, обе партии равно ста-
раются - «за упокой»...
Нас утешает только, нас ободряет несколько мысль, что это «за упокой»
несется где-то в углу, что-то около Лахты или еще далее, в избушке на курьих
ножках, почти даже не действительной. И во всяком случае, нив Тульской, ни
в Пензенской губерниях «за упокой» не слышно. От этого и в Тульской и в
Пензенской губерниях народ поет «Во-лузях...». Как ни досадно, но поет;
справляет крестины; иногда хоронит; «играет» свадьбы. И, замечательно -
всегда поет. Поминает «за упокой», правда, своих «о здравии», и тоже не
«тех». И вообще о «тех» ничего не знает.
Но «те» блюдут его внимательно. По крайней мере мы, которые видим их
усилия и понимаем тяжесть этих усилий, должны отдать им следуемое по
принципу suum cuique.
ПИСЬМО* В РЕДАКЦИЮ**
<«СЕВЕРНОГО ВЕСТНИКА»>
Не откажитесь напечатать нижеследующее мое письмо. Хотя «Северный
Вестник» по духу своего направления расходится со мною по тем вопро-
сам, которые для меня особенно существенны, но, я думаю, это не поме-
шает ему дать место нескольким простым объяснениям, рассеивающим
клевету, коей случайно я сделался жертвою. К Вам я прибегаю с этим пись-
мом, не встретив в других органах печати интереса к идейной стороне
моих объяснений.
* От редакции. Исполняем желание г. В. В. Розанова и даем место его интерес-
ному письму. Наши читатели легко отмстят те мысли, в которых, по словам г. Розано-
ва, наше разногласие с ним простирается очень далеко. Письмо г. Розанова свидетель-
ствует о молчаливом, до сих пор нс проявлявшемся разномыслии между деятелями
журнального лагеря, который принято называть консервативным. Автор письма хо-
тел бы, по-видимому, углубить это разногласие своими умственными силами, - и,
конечно, нс нам оказывать ему противодействие в этом деле.
** По мотивам, изложение которых показалось бы скучным читателю, письмо это
печатается несколько позднее, чем было написано и чем когда произошел вызвавший
его инцидент. Но все причины его написания и теперь сохраняются, а мотивы ненапе-
чатания (оно уже было набрано и готовилось пойти в февральской книжке «Сев.
Вестн.».), не во мне родившиеся, но мне внушенные, кажутся мне теперь напускными
и даже, может быть, придуманными ad hos <к случаю>. В оттисках, любезно мне
предоставленных редакцисю журнала, это, однако, сделано было, во избежание нрав-
ственной двусмысленности, известным большинству соратников по перу и убеждени-
ям, также и лицу, коего непосредственно касается, и лишь было скрыто, по означае-
мым здесь мотивам, от людей враждебных направлений. Но правду творить - принад-
лежит человеку; а выводы из нес и результаты уже устроит Бог и напрасно было бы
ему вмешивать сюда свое предусмотрение. - В. Р.
19 Зак. 3969
577
В № 1 только что появившегося журнала «Русский Труд» помещены,
между странным набором писем гг. Аф. Васильева, Н. Аксакова, А. Киреева
и Рцы, в последней рубрике, следующие строки:
«Один ультраконсерватор, впрочем, наш личный друг, чрезвы-
чайно удивил нас, прислав следующую заметку:
«Г. Грингмут - очень почтенный г. Грингмут, - став у кормила
главного органа нашего старомосковского «охранения», вызывал не-
давно одну легкомысленную газетку и один легкомысленный журнал
повторить в его присутствии «присягу на верность», которую в свое
время, не находясь еще «у дел», он не расслышал...
Все отвечали ему смехом.
Мы бы ответили: не дважды, но и трижды клянемся в верности
Престолу нашему древнему и священному. Но и прибавили бы: а что
сделать с тем, кто из этого Престола, который мы любим и чтим,
пытается сделать нечто, перед чем мы трепетали бы? Что сделать с
тем, кто из драгоценного образа вырубает старинную «дыбу» и, под-
нимая на ней человека, думает, что поступает так для веры?
Это - все мрачные идеи К. Н. Леонтьева, его тенденция заменить
«неверные» и «недостаточные» мотивы любви мотивами страха...
Но Россия жила и хочет еще жить любовью; она - еще христианка».
Теперь пусть будет читатель внимателен: после означенного отрывка,
редакция (т. е. будто бы редакция) прибавляет:
«Приветствуем от души ту перемену, которая совершилась в нашем кор-
респонденте. Еще недавно неистовствовал он и высказывал в печати вещи, за
которые приходилось краснеть. Как удивились бы на Страстном бульваре,
если бы нам было позволено раскрыть инкогнито нашего друга! Не таков
ли и весь этот наш ультраконсерватизм, о котором выше говорит Рцы? На-
стоящий ли это пафос? Сколько процентов искренности в горячих иерами-
едах? Согласитесь, что вопросы эти очень любопытны».
Слова эти заключают подпольное обвинение в фальши всей литератур-
ной деятельности какого-то «ультраконсервативного» писателя, - обвинение,
которое делает редактор (будто бы редактор) «Русского Труда», назвавший
выше этого писателя «личным своим другом» и, следовательно могущий
знать скрытые от читателей подробности его характера и истинных убежде-
ний. Нижеследующие заключительные строки, обращенные к редакции «Мос-
ковских Ведомостей», могут быть поняты только их руководителем по осо-
бенностям его отношений и отношений «ультраконсерватора» к называемо-
му лицу - и совершенно раскрывают для нее аноним:
«Превосходно даже вещее слово автора о К. Н. Леонтьеве, которого, как
художника и мыслителя, и мы лично чтим не меньше, чем наш корреспон-
дент, но чрезвычайное увлечение идеями которого так губительно отозва-
лось на многих русских умах. Очевидно, что и здесь автора приведенных
строк можно поздравить с освобождением от «умственного плена».
578
Так кончается странная заметка. Перевернув страницу, мы находим статью
«Гатчинского отшельника», обязательно сообщающего читателям свой адрес и
делающего с лестными оговорками выдержку из одной давно напечатанной
статьи «В. В. Розанова», - писателя «более, чем он (Гатчинский отшельник),
искусного». И еще через страницу находим статью «Я. Колубовский. Философ-
ский ежегодник, etc., за 1894 год. СПб., 1896», подписанную именем «В. Розано-
ва», несколько пылкого консерватора, «ультраконсерватора», как, может быть,
уже шепчут губы читателя, и действительно, они не ошибутся.
Все ясно становится, на что мы ясно смогрим. Есть направления, но в
них - слои и слои; есть направление консервативное, и в нем могут быть
течения, с которыми не сливаются и не сливаемы другие течения. Уже мыш-
ление М. Н. Каткова, в общем правильное и здоровое, глубоко чистосердеч-
ное, было несколько грубо; это побудило и покойного Н. Н. Страхова, в пре-
дисловии к «Философским очеркам», сказать о нем (и вместе о Кавелине),
что он «лишен был философских способностей». «Ультраконсерватор», выс-
казав в «Сумерках просвещения», «Афоризмах и наблюдениях» и - недавно
- в трех фельетонах «Нового Времени» резкое осуждение действующей у
нас гимназической системе, главному созданию Каткова, тем самым выска-
зал и резкое расхождение с покойным главою московского охранительного
направления, нисколько не предполагая, чтобы этим ослаблялся собствен-
ный его консерватизм. Дивный мастер слова, великий Антей, знавший тайну
прикосновений к матери-земле, Катков из нее почерпал силу и у нее же под-
слушал лучшие свои слова; но земля всегда есть земля, и она совершенно не
могла научить его тем утонченностям умственных концепций, где открыва-
ются истинные основания консерватизма (как равно и противоположных те-
чений) и самые далекие его заключения. Оттого невозможно даже полити-
ческую часть идей Каткова свести ни в какую систему; от этого его требова-
ния классической системы в образовании имеют под собою элементарные и
наивные аргументы; он весь, во всем своем мышлении, есть ряд афоризмов,
то прекрасных, то ребяческих, всегда чистосердечных, но иногда аляповатых.
Опускаем г-на Петровского, совершенно бесцветную величину, и переходим
к г-ну Грингмуту, Spectator’y. Ум изумительно ясный, может быть, самое
ясное перо в нашей литературе, он, к великому прискорбию, не знает тайн
прикосновения к матери-земле, какие были у Каткова; но, в общем, будучи
преемником идей Каткова, невольно для себя продвинул дальше в литерату-
ре, - и, опять скажу всю правду: он вовсе бы их не высказал, потому что, по
чрезвычайной элементарности своей, г. Грингмут не способен к той доле
литературной хитрости, к которой был способен Аксаков. Отсюда, из всех
этих мыслей - статья моя о «присяге» (в «Русск. Труде»): в ней нет не только
отрицания ультраконсервативных идей; она вся вытекла, в негодовании сво-
ем, в насмешке своей, из «ультраконсерватизма». Г-н Грингмут чего-то тре-
бует от г. Стасюлевича, от редакторов «Русских Ведомостей», требует на этот
день, на этот час. Ну, они дадут «присягу» и что же выйдет? Да ничего; как
ничего не выйдег из всех этих кратко консервативных идей, кроме реакции на
579
эти 5-6,10-15 лет. И я не однажды высказывал в статьях моих, как мало инте-
ресует меня направление именно этих 15-10 лет.
Теперь - указание анонима «Русского Труда» не вдруг его удививший
либерализм мой. Кто принял бы на себя труд не бегло только прочитать, но и
вдуматься в статьи мои, именно «ультраконсервативные», мог бы рассмот-
реть в них бездну элементов, не либеральных только, но и радикальных - иду-
щих притом далее, чем радикализм наших кажущихся «красных» журналов;
радикализм, во многих статьях доходящий до полного отрицания действитель-
ности, так что остаются только абстрактные идеи, тут же убок развиваемые. Я
не хочу высказывать вполне мотивов, по которым пишу, - мотивов преднаме-
ренных, не говоря о неясных, какие бывают у всякого писателя и они часто
бывают самые главные. Но вот часть того, что мне известно: конечно, в радика-
лизме есть бездна правды; конечно, в либерализме есть своя правда, хотя узкая
и бедная - признаюсь, мне наиболее антипатичная; но самое главное: люби-
мые мною консервативные идеи тогда лишь могут быть не презренною реак-
цией на 10 лет, - реакцией, которую ненавистно в уме своем я оформулировал:
«Beati possidentes*; beati выглядывающие между людьми «образованными,
сведущими и добропорядочными» и открывающие им денежный ящик; отде-
ляющие «овец от козлищ», козлищ «поглощающие», да уж кстати поглощаю-
щие и «верблюда», благочестиво «отцеживая комара»... Все это лично, все это
узко; все это грубо и, наконец, возмутительно, потому что насильственно без
всякой мысли, без всякой правды, во имя коей насилие. Насилие же я слишком
признавал, и это высказывал, это не устану высказывать; но, да уж будет про-
щено - насилие именно для меня и для тех определенных, точных идей, которых
я добивался сперва в душе своей и затем начинал высказывать для всей дей-
ствительности. Ведь насилием, деспотизмом дышат многие писатели: ну, назо-
ву Стефана Яворского, Руссо; Байрона, Кальвина; да насильствен был и Лю-
тер, даже наш Петр; вообще много было таких людей, и не может уже это очень
замарать репутацию писателя, если он не слащавит. Но что же могло оправдать
это насилие? - да аналогичное тому, что и всегда его оправдывало, ради чего
люди всегда насилие над собою прощали: высшая правда. Но высшая правда
есть именно логика ума и чистые алкания сердца, без непременного уклоне-
ния вправо и влево, без мыслей об этих 10 годах, когда я «пил, ел и говорил:
наслаждайся душа моя». Я уже заметил, и к счастью, ссылка на г. Суворина
может это подтвердить, что не очень различаю, которые из моих идей клонятся
в консервативную сторону, которые в радикальную; наконец, есть идеи во мне,
именно выразившиеся в силу логики своей и психологической правды, кото-
рые мне положительно не симпатичны, коих осуществление строгое я не хотел
бы видеть; и я оговорил свою нравственную отчужденность от них, раз в «Русск.
Обозрении», в «Письме в редакцию», предпосланном статье «О символис-
тах», и другой раз там же, в статье «Вечная память» - в отделе ее, посвященном
Страхову. Думаю, это есть возможная степень осторожности для писателя - не
* «Счастливы владеющие» (лат.).
580
сливаться лицом своим с своими же мучительно выливающимися мыслями,
бросать их в ум читателя, но отчасти и ему под ноги. В полноте всех этих
оговорок; в полноте этой пропитанности, в общем, консервативного миросо-
зерцания идеями радикализма и частью либерализма; наконец, в преднаме-
ренных противоречиях, которые я оставил: в бесконечной, напр., любви к за-
падной культуре, в совершенных ее формах (ее пример и взят в цитате «Русск.
Труда»), в бесконечной же преданности родным началам, что так и оставлено
у меня непримиренным, - я дал комплекс идей и чувств, в общем так перепле-
тенных из начал зиждущих и разрушительных, свободы и деспотизма, что нача-
ло движения в нем дано, что болото стоячего консерватизма никак не может
под него укрыться; как и безверие «либералов» и грубость «красных» - ис-
ключена. В статьях моих можно найти выражения любви и уважения к самому
грубому, темному, бескнижному русизму в том или ином обычае, вере, мане-
ре разговора, и к тончайшим, эфирным движениям западной культуры. Я на-
деялся и, кажется, успел дать как бы схему, в которой все лучшее в человеке
могло бы двигаться: а что это лучшее бывает противоположно направлено -
это есть факт истории, который мы напрасно стали бы оплакивать.
Все это непонятным осталось автору анонимных прибавлений к моей
статье о г. Грингмуте. Ни на минуту не сомневаюсь, что добрый Серг. Фед.
Шарапов не принимал в них никакого участия и только прочтя, не заметил,
что в них ядовито включено глубочайшее оскорбление, какое когда-либо сде-
лано мне было в литературе. Оно нанесено - имя оскорбителя и я, и г. Шара-
пов знаем - моим интимным в течение четырех лет другом, которого за
некоторые его мысли, за некоторую долю мыслей я очень любил, и лишь в
последнее время, не перенося других 7/s сторон его души, за которые больно
всегда несколько его аляповатую сторону. Suum cuique; не будем жестоко
обвинять его в этом; одному - безвестность при жизни и глубокое, далекое
влияние после смерти, как К. Н. Леонтьеву, другому - влияние сейчас, но
краткое, связанное с понятностью толпам. Уже статьи Spectator’a в «Русск.
Обозр.» всегда с наслаждением прочитывал г. Стахеев, - человек почти без
образования; их никогда почти не читал покойный Н. Н. Страхов: «Боже, что
же я там для себя найду?» - говаривал он, отмечая их чрезвычайную элемен-
тарность; через две третью прочитывал я, и, за исключением одной, очень
мне понравившейся статьи (разговор с другом) о Конте, - я не помню нового
и одновременно точного, верного, что находил бы в них для себя. Все было
или само собою понятно, очевидно до прочтения статьи - по крайней мере
всякому, кто стоял в круге консервативных идей; или было недостаточно обо-
сновано, как и не доведено до последних выводов; иногда было грубо, аляпо-
вато, как известное коротенькое по мысли предложение передать печать в
руки «людей бесспорно образованных, сведущих и добропорядочных» (как
будто редакторы «Порядка», «Вестника Европы», «Русских Ведомостей» -
не «образованы, сведущи и добропорядочны», и ясно, что 10-15 таких орга-
нов печати в 20 лет совершенно сокрушили бы историческую, «охраняе-
мую» Россию). Консерватора, именно «ультраконсерватора», все это не могло
581
не раздражать именно предосудительной краткостью своей, которая не мог-
ла дать консерватизму никакой длительности, устойчивости в жизни; и при-
бавим также, все это было глубоко антипатично, потому что не включало в
себе никаких идеалистических элементов, ни любви, ни истинного негодова-
ния, ни проницательной мысли. Да простит мне г. Spectator; но я вынужден
говорить, что есть, и в круге моих идей находилось слишком много оправда-
ний, объяснений этому...
Выходка с «присягою» была именно этою коротенькою и аляповатою
вещью, которая прежде всего на первом же шагу деятельности повредила
самому г. Грингмуту. Было досадно за него, за то именно, что он испортил
свой первый шаг. И было глубоко-оскорбительно именно для «ультраконсер-
ватора» по совершенной оборванности, оголенности, мысли. В 93-м году я
написал статью «О монархии; по поводу Панамских дел», где - ранее по
этому предмету я высказывался - стал ясно, в идейном отношении, на сторо-
ну монархической формы общества и государства, как естественной и веч-
ной в христианском мире; и объяснил там, почему «естественной» и «веч-
ной», с какими неумирающими сторонами христианства связанной. Стра-
хов, и еще многие друзья, резко упрекали меня за нее. В 94-е году статьею
«Свобода и вера» я - совершенно не преднамеренно - пошел еще далее в
консерватизме; не без удивления прочел я в беспристрастном «Ежегоднике»
г. Колубовского: «В этой статье выражены ультраконсервативные стремле-
ния нашей эпохи с резкостью, до которой доходил только покойный К. Н.
Леонтьев». Между тем я так далек был от мысли о таком характере этой
статьи, что - как может засвидетельствовать Алекс. Серг. Суворин - она была,
предварительно напечатания в «Русск. Вести.», предложена мною в его газе-
ту, о коей я не мог не знать, что она не консервативная. В этой, как и в других
статьях, я следил за верностью мысли и психологическою правдой, и просто
не видел, не замечал (и не любопытствовал заметить), направляется ли она
при этом влево или вправо. Я был убежден всегда, что жизнь есть движение
логики и правды, и кто есть только консерватор, только либерал, - поговорив
на эти темы и утешив себя достаточно, влияния на жизнь не получать; а я
хотел влияния. Но вот появилась статья «Моск. Ведом.» о «присяге». Я ранее
г. Грингмута и определеннее, чем кто-нибудь в нашей литературе, высказал-
ся за принцип этот как вечный, неиссякаемый и как универсальный для Евро-
пы; в статье «Смысл недавнего прошлого», написанной по поводу кончины
Императора Александра III, я распространил эти мысли, в частности, на рус-
скую монархию, отметив, что народ наш, оценивая государей в мотивах, а не
в результатах царствования, видит в форме «царства» более этическую, чем
юридическую сторону; и настаивал, что это - так. Здесь невозможно объяс-
нять всего цикла развитых мною понятий о монархии, но, бережно отстранив
из него все грубое, я омахровил, ублаговонил цветок, мне казалось засыхаю-
щий в Европе, и высказал это с той силой любви, которая никак не могла
относиться к грубому эмпирическому факту, слишком колючему иногда и
некрасивому, как я знал, как свидетельствует история. Каково было мне, имен-
582
но мне, именно как «ультраконсерватору» и автору названных статей, возбу-
дивших бездну негодования потому, что они могли служить покровом «гру-
бому и колючему», прочесть такую ужасную «колючку», как предложение
г-на Грингмута вторично присягнуть. Ребенок, не благовоспитанный ребе-
нок ляпнул ужасную вещь в круге идей, которых он не понимает. И пусть
опять простит он меня; нет ни гнева, ни собственно осуждения во мне: про-
сто сожаление, что так случилось. Нет даже осуждения уму его: он бесспор-
но и неизмеримо образованнее меня, но «святая святых» идей - он их не
касался, как и тысячи других, это простой факт, общий у него с Катковым, не
говоря об испорченном ребенке И. С. Аксакове (да позволит редактор «Сев.
Вестника» мне сполна высказаться), испорченном и часто, в сантиментализ-
ме своем, в напыщенном народничестве - лживом. Словом, я не принижаю
его нисколько в круге этих людей; хотя правда требует сказать, что он ниже их
по грубости мысли и слова, но он нисколько не менее правдив. Если бы
мысли г. Грингмута думал И. С. Аксаков, он высказал бы их совершенно
иначе, не вызвав шума лично упрекал, стал от него отчуждаться. Он, вместе
с тем личный (по школе) ученик г. Грингмута. Да простит ему Бог, и пусть он
не очень упрекает себя за сделанное...
Я забыл объяснить сторону, быть может, наиболее интригующую чита-
теля: почему заметка не было мною подписана. Да просто по неприличию
говорить вещи лично знакомому человеку (беглое знакомство) в такой силе
насмешки и негодования; и по политической необходимости сказать все имен-
но с этою силой. Г-на Грингмута упрекали (с либеральной стороны), что он
сказал «ужасную по консерватизму вещь»; но он сказал наивную вещь и
скомпрометировал предмет, который, очевидно, любит; нельзя же было ему
объяснять, что он «несколько прост» и говорить нелепости о вещах, которые
нащупывает руками, но в которые не проникает мыслью. Просто - это не-
стерпимо, не принято, такие тему думаются, но о них никогда не говорят в
слух и лично, если говорят не в стране гипербореев. Никогда при жизни я не
сказал покойному Страхову, что он «лишен был творческих эмоций» (что
сказал в некрологе), - но нужды это печатно говорить не было; а г. Грингмут
идеею «вторичной присяги» создал эту нужду, создал ее именно в среде
консерваторов, т. е. в общем - его единомышленников. - И еще нужное сло-
во: в редакционных оговорках к «Заметке» моей в «Русском Труде» наме-
кается, что лично и «дружелюбно» я известен, как либерал: это - совершен-
ный извет, и в круге писателей: А. Ф. Васильева, Н. Аксакова, Рцы и самого
С. Ф. Шарапова немало проведено было вечеров в ожесточенных спорах, где
всегда и безусловно они высказывались либерально, и всегда и безусловно я
высказывался консервативно: против церковно-политической, моральной,
административной распущенности, которую - по непониманию - они счи-
тали все видом христианской свободы. Этого не отвергнет никто из назван-
ных лиц, иначе как прибегая к прямой лжи, чего - кроме «единого из них» -
я ни от кого не предполагаю.
С. -Петербург, 19 января.
583
ОТРЫВОК
(Из петербургских видений)
Скучно, скучно! Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Некрасов
Но - каюсь - ножка Терпсихоры
Еще прелестней для меня...
Пушкин
I
Господин Витте не только искусный, но и бесспорно удивительный министр;
он - удивительный министр в сфере самой трудной, запутанной, специальной -
в сфере финансов, и в то же время, это - сфера, где всякая боль чувствуется
особенно больно, и, главное, сейчас, немедленно. Мучительная сфера, где мы
все столько лет напоминали доктора Герценштубе, из «Братьев Карамазо-
вых», который, будучи позван к пациенту, неизменно разводил руками и про-
износил всегда одну и ту же фразу: «Ничего не понимаю». Мы «ничего не
понимали» в наших финансах, кроме одного, впрочем, что явно идем к разо-
рению. Нами управляли мужи безупречной добродетели - Бунге, Грейг и еще
многие, «имена же их Ты, Господи, веси»; г-н Витте управлял железнодорож-
ною станцией где-то на Юго-западных дорогах.
Случай, - тот «случай», который называют «глупым», - свел с гениаль-
ным станционным смотрителем Ив. Ал. Вышнеградского, тоже до известной
степени человека «случая», таланта, удачи. И началась золотая эра наших
финансов: мы вдруг стали «понимать» их; Герценштубе вдруг превратился в
Захарьина, и, конечно, пациенту, которого когда-то отпевал «Вестник Евро-
пы», в защиту которого так беспомощно распинался в «Дневнике писателя»
тот же Достоевский, решительно ничего теперь не угрожает.
Так «случай»? так «глупому» случаю предоставлена власть. И где же?
даже в финансах, где каждая «глупость» оплачивается миллионами народно-
го достояния?..
Нельзя ли обдумать научно, теоретизировать этот «случай»? Я хочу
сказать, разве нельзя устроить, чтобы «случай», подобный тому, который
возвел г-на Витте на министерский пост, стал правилом повседневной госу-
дарственной работы; а то «правило», по которому на постах министров си-
дят беспомощные добродетели - вроде Герценштубе, Бунге и Грейга - стало
редким и недолговременным случаем?
Ибо, конечно, то, что г-н Витге смог подняться на верх служебной иерар-
хии - это составляет великую, честную сторону нашего государственного ме-
ханизма; но что он поднялся сюда благодаря случаю, что государственный
584
механизм нисколько не нащупывал в себе эту колоссальную мощь, эти удиви-
тельные способности, что он вовсе не тянул в себя их, не тянул - кверху, это
есть не только мучительная, но и самая опасная черта нашего государственно-
го механизма, которую мы должны честно сознать, мужественно обдумать.
Кто может уверить нас, что в Обществе, «Юго-восточных дорог» не
сидят теперь другие Витте, которые тщетно ожидают и никогда не дождутся
встречи с другими Вышнеградскими? Кто смеет сказать, что если не сотни,
то десятки «маршалов» так и не вынимают никогда в России «маршальского
жезла из ранца» и смиренно «провожают глазами» начальство, которое, в
свою очередь, рассыпается в сетованиях, что «нет людей», «ничего нельзя
предпринять без людей»...
И люди есть, но они - «с ранцами»; и есть «маршалы», которым никогда
бы не следовало скидавать с плеч ранца...
В чем же дело? Где тайна?
II
Г-н Витте и Вышнеградский оба служили в частном обществе Юго-западных
железных дорог; там они работали, без сомнения, хорошо работали, и живо
рассмотрели друг друга. Они, впрочем, так и могли бы умереть частными
коммерческими людьми; но случайно (это уже второе сцепление случая око-
ло того первого, о котором мы упомянули) г-на Вышнеградского, бывшего
профессора и потом директора Технологического института, знал Катков,
бывший профессор Московского университета. В ряде пылких, удивительных
по смелости статей, он на него указал, дал его почувствовать, заметить; час-
тный человек указал на частного человека; его голос был услышан, его го-
лос мог быть услышан, и если не Россия, то финансы России были спасены.
Итак, тайна раскрывается: принципы частной деятельности в противо-
положность принципам государственной службы. Первая тянет в себя лю-
дей, нащупывает дарования и ими жадно пользуется; вторая перекатывает
людей, всю их сплошную массу, из XIV класса в XIII, из XIII в XII, и т. д., от
«советников» просто до советников «действительных», и от «действитель-
ных» только - до «тайных». Но советники тайные и явные, действительные и
недействительные как-то плохо «советуют».
Частная деятельность, частный почин... Величайшая личная заинтересо-
ванность в деле, величайшая свобода в выборе средств, при господстве над
всеми одной, как бы разлитой в общем сознании, цели - вот и все, и все
секреты частной предприимчивости в сравнении с государственным «дви-
жением». Нет более этого дела, частным образом предпринятого, и мы все,
около его кормившиеся, остаемся без хлеба; падает оно - мы голодаем, цве-
тет- и мы получаем возможность откладывать на черный день. Но канцеля-
рия? но департамент? Они всегда «цветут»; они «цветут» совершенно не-
зависимо от нашей работы; ибо «штаты назначены», все оформлено, подпи-
сано, и пока есть Империя и я смирен - я сыт.
585
И мы все смиренно разводим руками над бедным пациентом, именуе-
мым Россиею, и говорим беспомощно о его болезни: «Ничего не понима-
ем». Нет решительно никакого мотива взглянуть в книжку, вспомнить случаи
из прежней практики. «Мы ничего не понимаем»; чту делать - «не понима-
ем». Господин Витте понимает - ему и книги в руки; мы «не понимаем» и
сидим также прочно, а может быть и прочнее, чем... Витте.
Нам не для чего понимать; Империя, переживет, наверное нас, при всем
нашем «непонимании», и наши дети будут служить совершенно так же ис-
правно, как и мы. И все будут сыты около великого больного, с его застарелы-
ми хроническими недугами.
Ведь заболевание финансов, после войны 76-77-го года, было именно
острым заболеванием; оно требовало немедленной, сейчас помощи. И мы
нервным энергичным движением схватив... сперва профессора, затем стан-
ционного смотрителя - вдруг исцелели.
Немножко похоже на то, как это было при Петре. Незадолго до него, с
шеститысячным отрядом Делегарди исходил Московскую Русь, разбивая
десятки тысяч войска, где бы и какого ни встретил; решительно, он был в
нашей земле как неуязвимый монитор среди старой деревянной рухляди.
Предстояло или быть России и перемениться, или не перемениться и пере-
стать быть. Петр, этот удивительный Петр, над которым так долго и безус-
пешно гадают историки, вся тайна успехов которого и состоит именно в том,
что он всходил на престол с чертами частного человека и угол частного же
воззрения на людей, дела, отношения никогда не терял потом, - этот чудный
император и сказочный «капитан бомбардирской роты», который неожи-
данно разбудил Россию барабанным боем, и в шутках, весельи, мешая заба-
вы с победами, повел к великому и героическому, - в минуту смертной опас-
ности ухватился за мальчика, продававшего пирожки на улице, и повелел ему
быть устроителем нового войска, крепостей, столицы. Мальчик был вороват
и гениален; Петр не однажды крепко бил его палкой; бил и не оставлял дове-
рием. И уже в 1709 году мы имели Полтаву...
III
В Петре мы имеем исключительный и личный пример успешности, основан-
ной на гармоническом сочинении государственного с частным. Есть одно
учреждение, века действовавшее, действовавшее еще с большими успехами,
чем Преобразователь России, и которое также представляет удивительное
сочетание частного замысла с общею целью. Это - иезуитский орден и его
роль около папства.
Мысль Лойолы была совершенно частная мысль; папы только допусти-
ли ее осуществиться, но они ее не создали, они в нее не вмешивались, когда
она осуществлялась. Санкция, благословение - все, что им принадлежало; и
обильные плоды, которые свободно им принесли люди, свободно организо-
вавшиеся. Между подробностями - вот одна, в которой по крайней ее ориги-
586
нальности мы опять узнаем частное изобретение, личную догадку. Человек
там испытывается не на деле, a priori вверенном, и не в одной способности
этому делу иногда не отвечающей и часто в нем самой слабой, - как это
практикуется всюду в «службе»; но он изучается до дела и в полноте даров
своих. Изучается характер человека, темперамент, гибкость или неподатли-
вость, усидчивость или гениальный огонь. И когда высшая страсть найдена,
наилучшая умелость определена, «искра Божия» вскрыта - его бросают на
отвечающее дело и уже никто не следит за подробностями его полета. Вели-
чайшая свобода, которая только скрепит величайшую дисциплину; частный
почин, который доведет до виртуозности, до гениальности разработку об-
щей цели. Чувство какого-то облегчения и радости разлито во всей работе,
где никто не мучится, никто не мучит, но все дружною стаей, на могучих
крыльях, мудро и даже с упоением поэзии летят к темным целям своим;
между тем как добродетельные «отечества», бездарные и обозленные, стоят
беспомощно перед Седаном, Садовой, Севастополем...
Все дело не в методе. Не в законах, не в учреждениях, даже не в людях -
но в методе. Люди дрались под Севастополем, как львы; но пули не долетали,
обозы опаздывали, хлеб был затхлый и производил не сытость, а дизентерию.
Какие-то человечки не сделали маленького, им порученного, дела; каким-то
человечкам не былол/олшвя сделать это дело; какие-то человечки, несмотря
на все средства двойного, тройного контроля сверху, двадцать пять лет смея-
лись в кулак и «проводили трех губернаторов»... - «Да что губернаторов»...
«Контроль сверху», контроль «непосредственного начальства»; «внезап-
ная ревизия». И только; и никакой еще политической или административной
мысли; но внезапно ревизующий есть минутный гость; а непосредственный
начальник есть партнёр в карты. И вот уже все случайно или фиктивно...
Гоголь, Грибоедов, ранее Капнист - они выплакали глаза по отечеству; бич
сатиры свистал - и напрасно... Нужно изобретение. Пока нет изобретения -
бич может свистать, сатирик - негодовать; никто их не услышит, никто им не
отзовется.
Чем был по существу, как не пустою и бездушною, но необыкновенно,
вместе с тем, умною методическою машинкой - новый суд! Взятку стало
некуда бросить, и в этом гениальная сторона гаерского изобретения, а вовсе
не в яко бы.........................................................
...Бес благородный скуки тайной.
Некрасов
Иллюзии и иллюзии; иллюзии не только воображения, но самой воли.
Мир христианский есть по существу своему мир неудач, разочарования и
слез, и вытекающей отсюда молитвы. Если бы мы имели хороших чиновни-
ков - мы разучились бы молиться. Мы все поехали бы в Аркадию, тогда как
теперь идем в храм, пока еще идем в храм...
587
Разве это не вечно:
Блаженны нищие духом...
Или это временно:
Блаженны гонимые...
И, наконец, это изменимо:
Блаженны алчущие и жаждающие правды...
Мир христианский - есть мир сумерек, мир радости, которая пронизы-
вает, но только как луч, волны темноты и скорби. Радость - это поцелуй неба
земле, краткий как именно поцелуй, обрывающийся через секунду; ежед-
невно -труд, рождение, сутолока, толчки; «одежды кожаные», которые по-
лучил Адам, как только он выпал из пеленок.
Не верны, в самом существе своем не верны петербургские видения; и
сам Петербург, как уже заметил проникновенно Достоевский, есть «самый
умышленный город на земле»; тем паче - умышленны и лживы его мечты,
порывы, «соображения», и не только соображения его «департаментов», но
и его журналов...
Не нужно вовсе Петербурга; pereant* конверсии; я ожидаю в истории,
придет «хор странников»... и великая блудница, - впрочем, такая холодная
блудница, такая растленно-холодная, которая в самый момент эксцесса спо-
койно давит клопов на стене, эта жаба, выползшая из «хладных финских вод»
на «топкий брег» в дельте Невы - будет не столько растерзана, как просто
раздавлена с гадливым чувством.
Блаженны нищие...
Блаженны плачущие...
Блаженны алчущие...
Ибо, как уже обещано -
...они утешатся.
...они наследят землю.
...им Царство Небесное.
ОБ ЭКЗАМЕНАХ
В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
На этот раз - несколько практических наблюдений; и маленький практичес-
кий совет.
В эти дни всюду идут экзамены. Для возраста от 9 до 22-24 лет, всех доста-
точных классов, эти дни, лучшие весенние дни, есть время усиленной работы,
* пусть погибнут (лат.).
588
время отчета за работу, производившуюся в течение года. Кто знает, что такое
«отчет», знает и соединенные с ним чувства. Это - радость, удовольствие для
того, кто отчет может дать; время невыразимого страха, метанья из стороны в
сторону, «необъяснимого физиологическими причинами и объяснимого толь-
ко из психических причин повышения температуры тела, иногда до двух граду-
сов», - как писали лет шесть назад о состоянии здоровья учеников в экзамена-
ционную пору. И в самом деле, в частности, для учеников учебных заведений
пора экзаменационного отчета, конечно, могла бы быть порою честного и
сладкого удовлетворения, открытого на глазах у всех оправдания в том, что они
делали и делали ли что-нибудь в течение года; но в печальной действительнос-
ти мы видим, что для «избранных» это есть время чисто внешнего и, следова-
тельно, нисколько не насыщающего удовольствия от какой-то «удачи»; и для
всех, решительно для всех, не исключая и «удачников», минуты перед каждым
порознь экзаменом есть время невыразимого смятения, «повышенной темпе-
ратуры», истерических слез отчаяния у девочек и мрачной злобы у мальчиков.
Что за секреты, какая тут тайна? Почему «отчет» не может быть дан?
Почему ученики, эта все же наименее испорченная часть населения, напо-
минают каких-то банковских «дельцов» накануне имеющей завтра начаться
ревизии?
Факт тревоги и метания так внутренно известен в каждой семье, - хотя и
непонятен в кончинах метания, - что это наконец сказалось всеобщею жало-
бою на экзамены, каким-то глухим подземным воем целой страны, который
в конце концов не мог не послышаться и на верху, сперва в печати, в форме
бродячих и, однако, настойчивых слухов, что экзамены, кажется, «отменяют-
ся», а затем и в официальном мире, в виде отрицания печатных слухов и
строгого подтверждения, что все «сохраняется по-прежнему и экзамены бу-
дут произведены по образцу предыдущих лет». Так это повторилось, т. е.
слухи и официальный на них ответ, и в нынешнем году.
«Экзамены»... Но ведь это, действительно, только отчет, и кто же будет
спорить против существа отчета? На этой точке зрения стоит министерство,
и, конечно, оно право. Уничтожьте проверку занятий, и ученья просто не
будет, потому что если взрослые для честного ведения всякого дела все же
нуждаются в страхе проверки, тем паче нуждаются в нем дети, юноши, де-
вушки. До сих пор министерство совершенно право, и не может оно, не
отказавшись от себя, просто не отказавшись быть чем-нибудь действитель-
ным, отказаться от системы проверять время от времени работу ввереннего
ему юношества. «Но проверка эта - фикция; это - нервная болезнь в течение
месяца, обман, подделка, что все мы знаем из рассказов наших детей, даже
знаем по собственному опыту, из своих недавних юношеских воспомина-
ний», - отвечает общество. И оно еще более право, чем министерство. Пра-
во в утверждении факта, который видит, осязает его руками, предлагает каж-
дому его взять и осязать; право в отвращении к этому факту, в негодовании
на него: ибо он есть факт «подделанного отчета», «подчищенных бухгалтер-
ских книг» для юношества 9-18 лет, для девушек тех же лет. Т. е. растление.
589
Но сперва утвердим факт. Конечно, нельзя идти и опрашивать родителей,
собирать воспоминания. Есть, однако, факт, хорошо засвидетельствованный
министерскими отчетами: это - хроника выкрадывания тем на испытание
зрелости, выкрадывания с подделанными ключами, со снятием казенных пе-
чатей через искусное подрезание их и опять наклеиванье, о чем очень еще
недавно публиковалось в разных учебных округах. Выкрадывания стали так
настойчивы, что министерство вынуждено было прибегнуть к следующей
мере: темы посылаются в гимназии с таким расчетом почтового времени,
чтобы в город, где будет произведен данный экзамен, они приходили накану-
не его. Время выкрадывания отнято, и выкрадывание стало невозможно. Но,
значит, была уверенность, т. е. уже официально засвидетельствованная, что
как только будет время - ученики украдут. Боже, ведь не каторжники же они!
И есть положения, есть условия, где самый честный человек не удержится от
кражи. Я припоминаю много лет назад слышанное восклицание одной пре-
красной женщины, которому был удивлен: «Я бы украла...». Не зная, о чем
речь, я обернулся и переспросил: «Я говорю и утверждаю, что если бы моим
детям нечего было есть и мне нечем было накормить их - я бы украла». У ней
было трое хорошеньких малюток, и я понял мать, конечно, далекий, чтобы
осудить такое странное восклицание.
Самый суровый, самый честный человек иногда может обмануть, если
вы его поставите в некоторые жизненные «тиски», если он вдруг почувству-
ет и увидит себя загнанным как лисица, как волк на ловле. Животный страх
все преодолевает. «Аристид» вдруг поступает, как Савин; «Катон» обраща-
ется в простого мальчишку. Между детьми именно мечтательного возраста
14-18 лет есть эти «Катоны», «Аристиды»; и видишь, с мученьем сердца
видишь, как этот «Катон», скашивая незаметно глаза, заглядывает в заштем-
пелеванный лист товарища, чтобы подсмотреть, как он поставил падеж тут-
то, как сочетал в уравнение данные величины алгебраической задачи.
Производится экзамен «зрелости». Под полотняными манжетами руба-
шек есть у многих «испытуемых» вторые манжеты, из бумаги или какого-то
твердого, не полотняного состава (продаются всюду в галантерейных лавках).
Они совершенно повторяют первые манжеты и скрыты за ними; выдвигаются
же из-под них осторожным движением пальца, и насколько нужно. Момен-
тально могут быть спрятаны, и довольно глубоко, так что ученика нужно слиш-
ком обнажить, чтобы изловить в обмане. Да и кому охота - всякий понимает, в
чем дело. На этих вторых манжетах (пусть экзамен из греческого языка, пись-
менный) выписаны все optativus’w, все imperativus’bi прошлых и будущих вре-
мен, особенно глаголов на «щ»; все четыре фигуры условных предложений,-
камень преткновения учеников. И, словом, мельчайшим шрифтом, но в пол-
ном объеме выписано все смутно-тяжелое в курсе, без чего он, наверное, не
написал бы работы и с чем он, наверно, ее напишет. «Наверно»... Вот это
сладкое слово, или напротив слово невыразимой горечи - и решает все...
Экзамен по мысли своей есть и мог бы быть в действительности не толь-
ко временем мужественно-сладкого отчета, но и самой производительной в
590
году работы. «Repetitio est mater studiorum», т. e. «повторение есть мать вся-
кого научения» - это аксиома педагогики, не мудреная, но наиболее прило-
жимая и точная, а потому и плодотворнейшая многих утонченных «про-
блем» этой слабой пока и ногами, и головой науки. В экзаменационное вре-
мя всякий ученик, решительно всякий, усиленно работает: доселе - прекрас-
но; он работает над целым курсом - это даже драгоценно. В самом деле,
экзаменационная пора - единственный момент за все гимназическое время,
когда ученик безраздельно сосредоточивается на одном предмете, «как бы
забывая мир», и, так сказать, озирает, схватывает его в целом, во всей после-
довательности фактов (история) или преемственности выводов (геометрия).
Это-драгоценнейший фактор в системе образования, который выбросить и
даже ослабить было бы педагогическим абсурдом. И родители, если бы они
понимали, в чем лежит «секрет» теперешних экзаменов, никогда и ни одного
слова против мысли их не сказали бы, люби детей своих. Да мы уверены, они
и не скажут, если разберут все «секреты» дела, которые мы сейчас изложим.
В пору памятного управления министерством гр. Д. Толстого и время
самых патетических о нем статей Каткова произошло маленькое педагоги-
ческое qui pro quo. Нужно заметить, что в то время изготовлен был, во всех
деталях, и введенный позднее университетский устав 84-го года. Для универ-
ситетов предположены были полугодовые «семестры», т. е. студент, чтобы
поддерживать в нем энергию и живость занятий, поставлен был под страх и
беспокойство испытания через каждые полгода. Экзамен так близко, что не-
вольно возьмешься за книжку, пойдешь в университет и прослушаешь лек-
цию. Трудно поверить, но это есть факт: тем самым министерством, которое
это сообразило и проектировало для возраста людей 20-24 лет, было «сооб-
ражено» и приведено в исполнение следующее устройство экзаменов для
гимназий, т. е. для возраста детей и юношей от 9 до 20 лет. За все восемь лет
среднеучебного курса экзамен сдавался в три приема: в четвертом классе
(возраст 14-16 лет) - за первые четыре года, в шестом классе (возраст 16-18
лет) - за два года, в восьмом классе (возраст 18-20 лет) - тоже за два года и
«вообще за весь курс».
И самое время экзаменов было сокращено таким образом, чтобы все
устные экзамены, обычно следующие после письменных испытаний по древ-
ним языкам и математике, не занимали более двух недель. Т. е. на подготовку
к каждому экзамену приходилось или два дня - это maximum; или, как это
выпадало в половине случаев, один день.
Inde ira*, inde - «повышенная температура»; inde взломанные замки и
срезанные печати на казенных пакетах, где запечатаны «основные» и «запас-
ные» темы.
Возьмем, как это 12 лет я испытывал, четвертый класс, и пусть предме-
том испытания будет география. Читатель да простит меня за подробности:
без них, без арифметического счета страниц и часов, ничего нельзя понять, и
* Отсюда гнев (лат.).
591
пусть он преодолеет труд этого счета, ибо в нем кроется разъяснение судьбы
тысяч юношей. Курс первого класса по географии - это географическая терми-
нология, т. е. объяснение разных, понятий и фактов географических, и перечень,
с запоминанием на карте, важнейших географических точек. Помню, на второй
год преподавания, обдумывая распределение материала, чтобы он разместился
равномерно в году, я счел собственные имена в этом курсе: их было 600 (по
учебнику Смирнова, что-то 20-е, помнится, издание). Число уроков в году-60 (в
случае, если праздники не воскресные не совпадают с уроками). Т. е. к уроку
приходится около 10 новых, все равно как бы латинских, слов - равно трудных для
произнесения и новых для запоминания; и запоминание 10 точек на карте (в
классе предварительно указанных учителем и учеником у себя в атласе подчер-
кнутых); сверх этого - «словесность», т. е. маленький рассказ или объяснение,
однако, в страницу величины. Если принять во внимание, что к уроку латинского
языка никакой опытный педагог не задаст в 1 классе более 10 слов, при 3-4
строчках перевода, то ясно, что урок географии минимум в 1Ч2 раза труднее
латинского. Мы сказали, что 10 слов и 10 точек на карте - при 60 уроках; и так как
более этих 20 запоминаний ученикам невозможно давать, то, стало быть, все 60
годовых уроков уходят на прохождение все вновь и вновь, без всякого повторе-
ния. И действительно, в первом классе за все 12 лет преподавания мне при всех
усилиях ни разу не удалось устроить остановки и повторения. Число страниц
учебника в первом классе - 60, во втором - 97, в третьем - 130, в четвертом -160.
Как, верно, помнят многие из моих читателей, во втором классе проходится
Азия, Африка, Америка и Австралия; в третьем - государства и физическое
устройство Европы; в четвертом - Россия. В третьем классе всегда мне удава-
лось повторение; во втором - не редко; в четвертом, т. е. за один четвертый курс,
никогда почти, очень редко (блестящий состав учеников); в первом, я уже сказал,
что никогда. Однажды, помнится, последний урок в курсе этого класса, перечень
государств Южной Америки, я задал в женской гимназии к 16-му августа, т. е. к
первому уроку следующего 2-го класса; и так как был очень строг к ученикам -
помню, что они аккуратно его выучили.
Захворать учителю в году - это есть истинный ужас: все расстраивается;
из-за 8-9 дней «инфлуенцы» программа становится непроходима. Даже праз-
дники, если это не обычное воскресенье, встречаются с отвращением; и всем
известно, что учителя усиливаются наверстать праздники, так сказать, выко-
лотить их «по существу» из года, задавая если не двойные, то полуторные
уроки к послепраздничному дню. Тут многие бедствуют: урок мой пропада-
ет в таком-то классе за праздник, а назавтра после него нет в этом классе
моего урока. Коллеги пользуются и задают большие уроки, но я, чей именно
урок пропал, задать больше не могу: урок мой приходится через 2 дня после
праздника, когда уже у учеников обычная страда, и они большого урока не
берут, да и смышленый учитель, конечно, не предложит. Ученики, которые
находятся за все время учения в особом полу плутоватом, полузаморенном
состоянии, рады обычно всякому и всегда празднику; но в среде учителей, я
свидетельствую, он встречается прямо с ненавистью.
592
Но это подробности; мы говорим об экзаменах. Все 4 учебника геогра-
фии образуют том в 60+97+130+160=447 страниц, т. е. приблизительно равны
объему одного тома (книги) выходящего теперь «Энциклопедического лек-
сикона» Брокгауза и Эфрона. И приблизительно такого же содержания, т. е.
также компактно составленного, до последней степени сжато, фактично, с
обилием номенклатуры и имен. Даже, собственно говоря, это все и только
имена, с короткими возле них сообщениями, в неперепутывании которых, т.
е. в неотнесении одних сообщений к другим именам, и заключается знание
курса. «Мантуа, Пескиера, Верона и Леньяно образуют стратегический че-
тырехугольник крепостей, защищающий Ломбардию с севера; Лоди, Кремо-
на - последняя замечательна выделкой струн и скрипок... Неаполь, прозван-
ный La superba: близ него знаменитая Собачья пещера, куда брошенная со-
бака задыхается, тогда как человек входит в нее безопасно, что происходит от
углекислоты, которая тяжелее воздуха». Но, конечно, дико о пещере и соба-
ках сказать при слове «Рим», о стратегическом четырехугольнике при строч-
ке: «Специя, Ливорно, Гаета, Чивитта-Веккия»: это - порты. Но ведь на 447
страниц дается два дня подготовки; повторялось изредка и кусочками! При
номенклатурное™ всего изложения, каждый урок, в случае даже отличного
его приготовления, через месяц-два забывался на ’/в; через 6 месяцев - на Vs;
через год, особенно после вакации - на 7з; и к концу 4-го класса, т. е. через
четыре, три и два года после выучки - твердо остается от него в памяти V16
часть, и все остальное свертывается в неопределенно-зыбкий туман, что, напр.,
Италия - это, конечно, глубоко отличная от Англии страна, что состав госу-
дарств в Германии - очень сложен, а Швейцария состоит из кантонов, и проч.
В подробностях же: «Рим» - замечателен «сыром, известным под именем
пармезан», что на экзамене вызывает у ассистента смех, у учителя - краску
стыда, у ученика - возможную двойку; при раздражении ассистента - не-
пременно двойку.
Самое частое явление на экзамене, что, отвечая отлично «Мантую, Пес-
киеру, Леньяно», ученик на вопрос: «Какая религия исповедуется в Италии?»
(коварный вопрос ассистента, если он опытен), отвечает - «лютеранская», а
на его смех поправляется: «Нет, протестантская». В учебниках об этом два
слова, и как на грех в двух терминах (опытный учитель непременно должен
один вычеркнуть, для избежания катаклизмов): «лютеранскую и протестант-
скую религию исповедуют» - и дальше был перечень государств и народов,
ее исповедующих; притом все это было мелким шрифтом, и год назад. Если
скажут, что «в Риме - папа», то ученик не понимает, почему папа не может
быть лютеранином, ибо курс истории для него еще не начинался в том клас-
се. Но это подробность, и она отвлекает нас от одной точки, на которой мы
хотели бы сосредоточить внимание читателей.
Совершенно ясно, что за каждый год курс географии так целостен в себе
самом, так мало связан, или точнее, вовсе не связан с предыдущим и после-
дующим, что экзамен мог бы быть произведен в конце каждого года и за
один этот год. И пусть будет дано к экзамену 4 дня. Во-первых, ввиду не очень
593
далекого экзамена уроки в году приготовлялись бы тщательнее, т. е. они при-
готовлялись бы и тогда, когда завтра, наверное, не будет спроса, «не может
быть спроса» по довольно верному расчету ученика (ученик спрашивается
через 4-5 уроков - в 5-й или 6-й). Итак, вся годовая работа была бы честнее,
«под острасткой» и с очевидною бесплодностью обмана, опасностью лени;
«все равно к экзамену нужно будет готовить» - это так просто, когда экзамен
близок, когда он, наверное, будет очень строг и внимателен. Но вот наступает
время экзаменов, и дано, как я сказал, 4 дня. На восемь учебных предметов
это всего займет один месяц и 2 дня, т. е. немного. А главное, посмотрите
какая чудная, плодотворная работа: уже тут, наверное, его вызовут к столику -
одного; перед незнакомым и, следовательно, немного страшным ассистен-
том; и будут спрашивать неизвестно о чем из всего курса, 97 страниц. На 4
дня - это почти по 25 страниц на день, которые он полупомнит, и даже чуть-
чуть больше, чем полупомнит. Он берет книгу и ландкарту и вплотную, от
утреннего чая и до ужина, учит. Трудно, ужасно трудно - т. е. потому, что
погулять некогда; но так как приготовление вполне возможно, то оно и нео-
быкновенно радостно (насыщающе). Помощи учителя не нужно вовсе, он и
без нее во всем найдется, ибо это все уже пройденное, объясненное, и мно-
го-много несколько месяцев назад. Испытание за один год можно и следует
произвести в четыре раза внимательнее, чем за четыре года: т. е. из данного
курса спросить и много, и разнообразно, и долго. Ученика можно в самом
деле «пытать» на курсе (всего лучше без билетов, «по всей программе»).
Итак, как теперь он силен, ему дана возможность быть сильным, то он и
борется, а наконец - если не ленив и не окончательно неспособен - и побеж-
дает учителя в его усилиях, ассистента в его хитрых вопросах. Это - настоя-
щее торжество. Это - сознание силы. Это - действительно оправдание за год
и «отчет» без «подделок» в «бухгалтерских книгах». Но это просто - вот в
чем беда; это всякий мог бы придумать - вот в чем несчастие. Не могла же
знающая себе цену педагогика делать то, что всем понятно, и думать так, как
всякий мог бы думать. И она повторила, но только уже на деле, мольеровско-
го доктора, который на замечание, что, кажется, внутренности человеческо-
го тела не так лежат, как он предполагает, дал знаменитый ответ: «Nous avons
tout cela change»*...
С великой напыщенностью была проведена реформа экзаменов в начале
70-х годов; с напыщенностью, мы говорим - судя по объяснениям новым
правилам о них. Теперь, как объяснялось там, ученикам дается возможность
обнять сознанием, т. е. в три приема экзаменов вместо восьми, гораздо боль-
шие и, следовательно, более цельные отделы проходимых наук; что же каса-
ется до экзаменов, то сговорено было, что они не могут быть трудны для
учеников, ибо ученик и в середине года всегда все старое должен знать, а
испытание «отнюдь не должно быть испытанием памяти». При этом не вник-
нуто было в характере отдельных предметов, где, как например, в географии
* «Мы все это изменили» (фр.).
594
и истории, каждый год положительно также самостоятелен, как и четыре или
два, а в других предметах, как алгебра или латинский язык, связаны решитель-
но все классы гимназического уровня. И ни в каком случае не связаны эти
классы с такою тщательною правильностью, что вот «четыре года» - и зак-
руглено, «два года» - понять закруглено. Все это - фантазия, происхождение
которой просто непостижимо. Но гораздо хуже потому что мучительнее,
мучительно до крови, до «повышения температуры» - фатальные слова:
«испытание не должно быть отнюдь испытанием памяти». И ведь какая спо-
койная фраза, какой спокойный стиль, почти цицероновскою прозой: а под
этой фразой столько улеглось голов, сколько разбитых жизней, столько рас-
строенного здоровья у самих учителей, что и выразить, и передать, и понять -
не испытав - нельзя. Да скажите, пожалуйста, если вам нужно переводить из
Ливия, как это «не помня» слов и значения окончаний вы переведете? или из
физики: «расскажите закон Ома» - и тоже можно рассказать «не помня»? О
чем же «говорить» на экзамене; как это разводить «не помня», т. е. не требуя,
чтоб ученик «помнил» - какую-то философию; да и гимназический курс, в
полном составе своем, есть номенклатура, и что значит «рассуждать» о но-
менклатуре? Вот в билете, вынутом учеником стоит «Война за испанс-
кое наследство»: как же это спросить его о ней, «не делая испытания памя-
ти». Разве, умолчав об именах полководцев, битвах и точных годах, когда
битвы произошли, ограничиться: «ну, что, трудна была война?» - «трудна»;
«из-за чего?» - «из-за испанского наследства»; «у кого?» - «у Франции про-
тив союзников»; «при каком короле (с робостью)?» - «при Людовике XIV»;
«и очень разорительна?» - «Франция пришла в ужасное нищенство и стала
на край гибели»; «хорошо, достаточно». Приблизительно в таком виде пред-
ставлялся экзамен организаторам его; или, точнее, вовсе ничего не представ-
лялось, но цицероновская фраза, как бы из «Natura deorum»* - уже висела
на кончике пера, и как было не написать ее, а написать - и не построить на
ней выводов, в построив - произвести «уныние, мор и глад» в юношестве
целой страны, взломанные замки и срезанные печати. И в самом деле, по-
смотрите, что вышло:
Мальчик 9-11 лет знает, что экзамен будет через четыре года. В детском
возрасте, кто помнит его у себя, четыре года - это бездна. В детстве вообще
время представляется растянутее, чем в зрелом и особенно преклонном воз-
расте, когда годы получают какую-то бегучесть, начинают почти мелькать
для воспоминания и ожидания. 11-летний мальчик с ужасным трудом, хотя и
очень сладостно, представляет себе 16-летний возраст свой. Это - другая
эпоха, другой мир, и уча, например, Соединенные Штаты Северной Амери-
ки, с ужасным множеством их городов, он никак не может представить себе,
что в те золотые 16 лет его потребуют за это и в этом именно уроке к ответу;
да и потребуют если, он тогда будет удивительно сильный, «совсем боль-
шой» и «тогда это ничего не стоит». Назавтра же его, наверное, не спросят, а
* «О природе богов» (лат.).
595
города трудны, и главное - се «пенька» или «сталь», иногда «свиньи» как в
Чикаго: до того неинтересно. И вот софизмом возраста, далеким как беско-
нечность, т. е. для детского представления, экзаменом, и никакою нуждою
сегодняшнего дня - он манится выучить урок в 2/3 его, «на всякий случай»,
«если учитель спросит с парты поправить отвечающего». Мелькают недели,
месяцы; проходят годы: Соединенные Штаты совершенно рассеялись в ту-
мане, почти сливающийся с Китаем, где-то колышущимся меж океанами, и
только один город «Нью-Йорк», да еще «Миссисипи, с притоком Миссури»
- торчат, как мачты затонувшего корабля, из этого тумана. Идет конец 4-го
класса. И мальчик, который начинает чувствовать первые и самые бледные,
«как бы трепетания пальцев», утренние лучи любви, мальчик полугерой,
помнящий Муция Сцеволу с его «civis romanus sum», в один из чудно-весен-
них дней получает в руки том в 447 страниц как бы из Брокгауза, - с требова-
нием, где бы его ни спросили из этого тома, напр., о Соединенных Штатах,
три года назад так плохо выученных и ни разу не повторенных, он должен,
отнюдь не перемешивая ни «свиней», ни «стали» ответить пунктуально те 4
страницы, какие есть о них!
Он ничего не помнит. Ему нужно выучивать это вновь, т. е. почти вновь,
кроме Нью-Йорка, Миссисипи и Миссури. - А таких страниц 447, и он возьмет,
перед директором, учителем и ассистентом, четыре билета с точным обо-
значением каких-то фатальных четырех мест из «Брокгауза». Конечно, он
идет к столу «ни жив, ни мертв»; и как время близится к экзаменам, т. е. еще
с великого поста, он уже знает, что будет «ни жив, ни мертв»... Знает и, конеч-
но, ничего не может сделать; не мог сделать ничего уже за весь четвертый
класс, когда учителя рвали друг у друга время. Весь состав учеников, уже за
год, за полтора начинает чувствовать, что там, в четвертом классе, должно
совершиться что-то странное: или «всех провалят», или «все обманем». Про-
валить никак нельзя, это и учителя понимают: это значило бы пятый класс
оставить пустым, без учеников, закрыть его вовсе. Факт, о котором самый
вопрос никому не приходит на ум; и фатально у всех, т. е. у учеников и учи-
телей эта дилемма, этот «педагогический тупичок» (есть в Москве такие ули-
цы, без выхода «в другую сторону») разрешается в неестественный, унизи-
тельный до боли, до сравнения с загнанною лисой, прыжком через забор или
в подворотню, который почему-то называется «экзаменом».
Лет шесть назад я присутствовал на испытании зрелости по Закону Бо-
жию; это было в городе Е. Экзаменовал законоучитель С. Н. Г; директором
был один из строжайших и лучших педагогов, каких я знал, г. 3. Он нравился
мне строгостью своею, исполнительностью, законностью; характера был
скромного. Приблизительно среди экзамена он перегнулся ко мне и прошеп-
тал как бы удрученно: «До чего неприятная у С. Н. манера экзаменовать: он
все сам говорит, мешает ученику дать сколько-нибудь целый рассказ или
связное объяснение; и совершенно нельзя судить, знает что-нибудь ученик
или не знает». Я согласился. Законоучитель был так уважаем и так действи-
тельно почтенен, что нельзя было и думать сделать ему замечание или по-
596
просить изменить систему спрашивания. Да и не к чему было придраться: он
просто был очень оживлен, горячо относился к предмету, умно и с одушев-
лением говорил, и конечно спрашивал, т. е. иногда, и почти сейчас же всегда
перебивая ученика. Говорили собственно двое, учитель и ученик, и совер-
шенно невозможно было распознать, каково именно знание ученика. Ну,
что ж, манера, как манера; может быть, не очень удобная, но уж нужно
примириться. В этот год была произведена одна из лучших, благотворней-
ших в министерство гр. Делянова мер: в некоторых классах, сверх четвертого,
шестого и восьмого, и по некоторым предметам, но и не во всех классах и не
по всем предметам были установлены уже годичные экзамены. Т. е. сделана
была попытка, но не решительная, заменить многогодичные испытания.
Между прочим, в этом году впервые был назначен экзамен во втором классе
по Закону Божию, при том же законоучителе, и я был назначен «председате-
лем испытательной комиссии» (какие все термины, точно «magister sacri
cubiculi»*). «Комиссия» и состояла только из меня и законоучителя. Я дол-
жен был, держа перед собою список учеников, вызывать их и, так сказать,
проектировать отметку; законоучитель, конечно, спрашивал. Каково же было
мое изумление, когда, положив руки, законоучитель не промолвил ни одного
слова, а ученики что называется «резали», т. е. отвечали без запинки, полно и
ясно. Экзамен был возможен, для него даны были возможные формы, воз-
можные условия. Был дан день или два на подготовку; подготовлялась 1 книж-
ка; с полуднем после предыдущего экзамена это выходило 1V: или 2Чг дня, и
все же, особенно не спав хоть одну ночь, можно было выучить. И ученики
выучили.
Но в восьмом классе при обязанности ответить: 1) из катехизиса, 2) бого-
служения, 3) истории церкви, т. е. с текстами слово в слово из первого и
ектеньями, «ирмосами» и «кондаками» из второго; при одном дне подготов-
ки (нельзя более) и когда проходились: катехизис в третьем классе, т. е. 5 лет
назад, и богослужение в четвертом, т е. четыре года назад, - конечно, при
полном молчании учителя ученик дал бы полное же молчание, а еще 2 асси-
стента и директор «констатировали бы» факт, с донесением в «учебный ок-
руг»... Но этого сделать невозможно было; уж лучше пожар гимназии, мор
в городе, но не этот особенный и исключительный в империи случай полно-
го молчания. И вот в империи все, т. е. в каждой порознь гимназии, в крити-
ческий момент «испытательная комиссия» прыгает кто через забор, кто в
подворотню; учитель - почтенный, седой, высокообразованный, в рясе -
бежит рядком с учеником и так вплетает свои две ноги промеж его двух ног,
что нельзя разобрать, которые ноги бегут и которые стоят; «решительно нельзя
судить, хорошо ли знает и даже знает ли что-нибудь ученик», как сказал мне
в тот памятный день суровый наш директор.
Я тогда припомнил другого законоучителя, в другой гимназии, г. П., и
догадался, что он также обманывал, но подругой, следующей системе. Напр.,
* «хранитель святых покоев» (лат.).
597
ученице (дело было в женской гимназии) попадается билет: «особенности
богослужения на Страстной седмице». Ученица начинает отвечать неровно
и, может быть, только нервно, как законоучитель ужасно громко спрашива-
ет: «В память каких событий из жизни Спасителя учреждены церковью эти
дни?». Несколько недоумевая, ученица отвечает: «В память крестной смерти
и страданий Спасителя». - «Расскажите же нам об этой крестной смерти и
страданиях». И вот ответ, т. е. билет и, собственно, весь курс, - подменен.
История распятия Иисуса Христа так известна, а отличия богослужения до-
вольно затруднительны. На «истории» ученица, да и никто нигде не собьется,
и, при шумном почти удовольствии учителя, она громко, отчетливо отчека-
нивает ответ. Т. е. она говорит громко, отчетливо, осмысленно минут 5-6, и
«битва выиграна», «честь спасена». Теперь если она и запнется несколько на
заключительном бегучем вопросе законоучителя или ассистента: «Ну, а что
же читается в великий четверток»... учитель мягко ее поправит, все поймут,
что она уже устала и что нельзя же ее держать у столика 41 часа...
Что при доказывании теорем на доске, по математике, ученик лишь на-
половину «доказывает», а остальную и руководящую, подсказывающую по-
ловину доказывает учитель, «знаток предмета и мастер преподавания», - это
всем по внешности известно и после сделанных объяснений должно стать
для всех понятно в своем смысле. Я передам о том, что мне точно, потому
что субъективно, известно еще об одном экзаменном секрете, к которому я
прибегал после многолетнего обдумывания всего положения дела.
Пусть экзаменуется 20 учеников, из тома Брокгауза, - как было у меня 12
лет в 4-м классе. Если весь том спросить на экзамене, то нужно экзаменовать
неделю и, очевидно, неделю нельзя экзаменовать: никто не согласится си-
деть, да и никто не позволит этого. Следовательно, весь курс не будет «прого-
ворен» на экзамене, но за время четырех, положим, часов будет «проговоре-
на» его 1/18, приблизительно, часть. Теперь, я так и поступал: учеников 20,
дается 23-24 билета, из которых каждый такого объема, что его нужно гово-
рить 3-4 часа. Я ученикам давал программу и объяснил, что, конечно, никто
у них не будет слушать всего билета, но его 1/18часть, минут на 12-15расска-
за, страницы 3-4 учебника. Эти 3 страницы, т. е. в каждом билете, они и
должны выучить, но хорошо; остальных же вовсе не учить. 3x23 образует 69
страниц текста, вместо 447, и они за день и ночь в силах приготовить его не
дурно, за два дня - хорошо. В обмане этом, т. е. собственно в развитии его,
дальнейшем утончении, мне помог товарищ-учитель, у которого програм-
мы писались как-то ужасно хитро и спутанно, и я, присутствуя у него на
экзаменах, приписывал это его педагогической изобретательности. Он был
старательный педагог, педагог-щеголь. Бывало, по географии: у него не
сплошь в билете: «губернии центрального пространства»; а, наприм., 1/4
губерний этих и еще хлебопашество в Сибири или скотоводство в среднеази-
атских владениях (последние две рубрики очень легкие, «литература»; страш-
ны же всегда имена и показывание на немой карте). В добрую минуту он
меня раз спрашивает: «Вы как, В. В., составляете программы?». Я объясняю
598
ему; объясняю мучительные места программы, как, наприм., системы ис-
кусственных водяных сообщений, на которых ученик всегда неизменно про-
валивается. «Я не так составляю». Он был очень добр в эти минуты. «Отчего
вы берете в каждый билет не сплошь из одного места учебника, но из не-
скольких; и так, чтобы билет начинался неизменно легкою частью курса, что-
нибудь из «общих понятий», а губернии и города - в конец?». А что же
ассистенты? - спросит читатель. А у ассистентов, во-первых, я буду ассис-
тентом, и это почти вексельным способом обеспечивает их скромность. Но
самое главное: ассистенты, кроме одного молчаливого по объясненной при-
чине специалиста, вовсе не компетентны в курсе предмета и слушают лишь
звон ответа, а вовсе не мысль его и не факты: так что, если, отвечая такое-то
царствования, ученик черпает немножко из соседнего царствования, вперед
или назад, но не из окончательно далекого, например, не мешает «Карла V» с
«Карлом XII» (что случалось), - никогда его не поправляя, я был совершенно
уверен, что и никто не поправит. А ученику возможность ошибки, т. е. право
сделать одну грубую и ясную ошибку, нужно сохранять до последней секун-
ды ответа, когда уже выставляется ему балл и директор говорит сухо «доволь-
но». Так все мы и грешили. Но вот в этой последней черте греха - и проблеск
избавления.
Я сказал - никто не компетентен. Ни на минуту не сомневаюсь, что если
бы взять всех окружных инспекторов, т. е. сейчас, с постели, без подготовле-
ния, и сказать им: «Потрудитесь рассказать Войну за испанское наследство»,
то из них, кроме того, что она была в точности «за испанское наследство» и
при «Людовике XIV», вероятно, немногие бы еще немногое сказали; и со-
вершенно никто не дал бы ответа в той полноте и целости фактов, как обязан
дать ученик VI-го класса и как обязаны проверить, но не могут проверить,
ассистенты и директор. Т. е. билет, вот, напр., об испанском наследстве, есть
собственно говоря некоторое высшее и тайное знание, коим обладают учи-
тель и ученик, при неведении его ассистентами и довольно, вероятно, окруж-
ными инспекторами. Одного попечителя я знал, что входя на урок, он всегда
и только становился у окна и смотрел на двор гимназии. Т. е. ему неловко
было быть в классе, когда он не мог бы, конечно, вставить ни одного слова,
которого не поправил бы ученик. Это свидетельствует, что приблизительно
3/5 программы - сверхобразовательны, т. е. не составляют никакой принад-
лежности «образованного и развитого человека», какими, конечно, следует
предполагать попечителей, окружных инспекторов и даже учителей гимна-
зии. И следовательно, если эти 3/5 введены в программу гимназий, то вовсе
не за содержание свое, «для округления сведений», а исключительно и толь-
ко за метод, как орудие упражнения способностей ученика и чтобы он «не
избегался». Значит, программы гимназий можно сокращать сколько угодно,
по крайней мере до уровня сведений окружных инспекторов и учителей гим-
назии (не специалистов как одних, так и других: из окружных инспекторов
«не по своему предмету» ни один не решится спрашивать в старших классах,
боясь, что «срежется»). Но если так, все и должно быть приспособлено к
599
методу, к благотворности восприятия; к одухотворенности моментов усвое-
ния. До сих пор и всегда этому препятствовал страх: «А что же факты, сведе-
ния, как же пройти программу, которую и сократить нельзя, ибо как в Прус-
сии, так и в Саксонии..Вероятно, в Пруссии и Саксонии не рассмотрено
тоже, на что я здесь указываю и что вообще бывает утаена, а, во всяком
случае, не для чего ученикам быть фактически обогащеннее окружных инс-
пекторов, и, следовательно, 3/5 программы может быть сброшено. Остаю-
щиеся 2/5 могут уже быть разучиваемы до ниточки, до безупречной точнос-
ти знания и даже до понимания.
При этом и экзамены, эта благотворнейшая и лучшая часть учебного
года, может и должна быть широко развита. Экзамен должен быть «пытани-
ем», и не только знаний, но и развитости ученика. Лучше всего, конечно, -
и это может быть сделано сейчас, ранее всякого преобразования программ
- восстановить простоту и ежегодность их. Еще лучше было бы, т. е. легче
для учеников, если бы со всею строгостью и формализмом, не в качестве
«келейных и потому не серьезных репетиций» были введены полугодич-
ные экзамены: 16 семестров в гимназии - вот когда ученики стояли бы
начеку, «ушки на макушке»; и не образовывались бы в сознании их те пе-
чальные и зыбкие туманности фактического знания, которые в критичес-
кий момент вопроса, экзамена, ревизии так обильно губят их. Вообще уди-
вительно, что преобразования в положении гимназий, до странности лег-
кие, если их правильно понять, и так мучительно необходимые, откладыва-
ются год за годом, как некоторая сложная концепция, как в своем роде
«зыбкая туманность», где не усматривается краев и определенного содер-
жания. Очевидно, все еще малоизвестны детали положения дел и от этого
не видно, что именно следует сделать.
1 МАРТА 1881 г. - 18 МАЯ 1896 г.
Бывают в жизни народной факты, мистической связи между которыми невоз-
можно отвергнуть при всех усилиях...
1-е марта 1881 г. и 18-е мая 1896 г. - события одиночные в нашей истории, -
ужасные, кровавые, и притом заключающие в себе какую-то невероятную
скорбь и жалость...
Первое явно есть дело рук человеческих; но вот мысль, от которой мы не
умеем освободиться: второе событие есть корректив к первому, и в нем есть
Промысл. В нем виден нечеловеческими руками сотканный покров, про-
стертый над престолом наших царей, оберегающий его, поддерживающий,
поправляющий...
1-го марта темная тень легла между престолом этим и страной, народом.
Не будем закрывать глаза на действительность после того, как чудный Божий
свет брызнул на нее потоком лучей. Государь Александр III любил Москву;
он называл ее «храмом России, а Кремль — престолом ее»; мы знаем из слов
600
одного его ближайшего слуги*, что он любил все храмовое, церковное; на-
пример, любил сам рассматривать и указывать поправки в чертежах проек-
тируемых храмов. Так; сердце его было обильно любовью. Но не без скорби
мы читали всегда, что, следуя на север из Крыма, он проезжал Москву, соб-
ственно - мимо Москвы, по соединительной ветви Николаевской железной
дороги; он уединился в Гатчине. Он уединился в любви своей, он ушел с
этою любовью в скучный дворец, - от площади, толпы, народных волн. Кон-
кретное в стране более не манило его, не влекло: кровавый призрак убитого
- страшно произнести - отца гнал его отсюда.
Наш истинный Отец, как любил он проводить время в Дании - пишут -
среди детей-подростков; в Петербурге показывают окно Аничкова дворца, у
которого, будто бы, любил садиться после обеда Государь и просиживал дол-
го у него, смотря на движение Невского проспекта.
Многое мог открыть ему Невский, эти толпы без стеснения движущего-
ся народа; тут и раззолоченные, непонятной конструкции, экипажи кокоток;
но тут и конка с «верхом», - на нем отдыхающие - гимназист, мастеровой,
приказчик; извозчик с «салопницами», какие, славу Богу, не перевелись на
Руси и есть в Петербурге; роскошь и нужда; бесстыдство и горе; нахальство
и скромность; все тут. И лучшего все-таки тут больше, как и во всяком народ-
ном движении.
Нам эта мимолетная черта в Государе представляется трогательною: не
чудеса искусства любил он смотреть, не картины старых мастеров, не сокро-
вища свои неисчислимые нет - простую уличную толпу, не подозревающую
даже, что Государь ее видит, во всей несвязанности, неприготовленности,
необдуманности ее движений, одежд, выражения лиц...
Писали еще, что вместе с Императрицей супругой он любил посещать
военные учебные заведения; и вот мы скажем истину: никто из этих детей,
обычно преданных государям, не смотрел на Отца и Царя своего с такою
любовью, как он на каждого из них...
Мы клянемся в этой истине: народ наш не имеет и тени той любви к
Государю, какую имеет Государь к народу; это - тайна истории, тайна само-
державия. Мы знаем, как народ любит Государя; видели трогательнейшие
свидетельства этого, и вообще это общеизвестный факт; но вот чего никто,
кроме сердца Царева, не знает: что народ, толпа, улица, площадь in concrete
еще несравненно более любимы Царем, - как отцом более любимы дети,
нежели детьми отец, опекуном опекаемые, чем опекаемыми опекун, учите-
лем ученики, нежели учениками учитель; и вообще властное, заботящееся,
мощное более проникновенно - даже до страдания - любить сирое, малень-
кое, сжавшееся, что, может быть, за тысячью забот и нужд своих, даже за
неопытностью, за духовною неразвитостью своею, не имеет ни сил, ни уме-
нья, ни самого желания, догадки - ответить равною любовью.
* Г. Победоносцева. См. сборник его «Вечная память». М., 1895 г. Там же и
приведенные слова о Москве.
601
В этой безмерной, истинно трепетной, истинно нежной любви Своей
государи наши были страшно оскорблены первым марта; Они были о т тол-
ки у т ы со Своею любовью; нельзя представить большей внутренней муки,
как отвергнутая любовь. Не будем обманываться и говорить: «1 марта
вышло не из народа, не из страны». Так вознесенный на неизмеримую высо-
ту, Государь отчетливо видел, что от народа отделился этот образованный
класс, что этот класс, ничем не выразив протеста, дал в себе зародиться и
созреть настроению душевному, из коего первое марта выпало уже как есте-
ственный плод.
Невозможно было представить себе, чем залечится эта рана. Эта темная
тень, эта черная кошка, пробежавшая впервые между неразъединимо связан-
ными элементами нашего бытия, казалось внесла в историю нашу зло, которо-
му предстоит не малиться, а расти. Какими бы потом восторгами к имени Царя
ни закипела страна, она ту кровь не залила бы - по несоизмеримости с нею, по
разнородности своей. Новая любовь присоединилась бы к той, которую виде-
ли Александр I, Николай I; она продолжала бы тот свет; с этою тьмой она не
смешалась бы, этого кровавого пятна в истории не затерла бы...
И Он ушел, оттолкнутый, в Себя; от Него требовали дела как от Правите-
ля; и в Гатчине, за рабочим столом Царь-труженик, Царь-праведник давал
требуемую работу; Он не выходил более к народу, не выносил к нему лица
Своего: из окна Аничкова дворца Он смотрел, почти украдкой на это отторг-
нутое от сердца дитя Свое, - это дитя, которое так оскорбило Его, которое
хотело жить как-то само, своим рассудком, своею волей, принимая от Него
нужные бумаги и не допуская Его любящий взгляд замешиваться в свою
интимную нравственную жизнь.
Да будет же благословенно 18 мая 1896 года! Да будет благословенна
пролившаяся там кровь! Бог спас нас. Невозможно представить себе, как
восстановилось бы прежнее чувство в государях наших. Нужно было нечто
столь же интимное, столь же ужасное, трогательное, но только обратное по
смыслу первому марта; и, конечно, мы не могли бы ни придумать, ни сде-
лать этого; для рук человеческих это и вообще было неисполнимо. Нужно
было произойти великому, неслыханному несчастию, - несчастию на глазах,
или почти на глазах, Государя, с этим именно, отвергшим любовь Его, чело-
веческим стадом, и, наконец, несчастию во имя любви к Нему, в миг выска-
зывания этой любви. Только в таком особенном сочетании, не рассчисли-
мом, не предугадываемом, не построимом даже в воображении, факты мог-
ли затереть кровавое пятно первого марта, точнее: вдруг как бы снять скорбь
и чувство отделенности от народа с сердца Государева. И это именно 18 мая
совершилось...
Так называемый «народный праздник» на Ходынском поле есть един-
ственный день непосредственного, прямого общения народа с Государем;
этот день Государь посвящает народу, не обязанностям по отношению к на-
роду, не попечениям о нем: он их зовет к себе, эти серые массы, как дорогих
гостей, он к ним подходит именно когда они предаются веселью. В веселье
602
человеческого сердца Бог живет. Подойти в труде, в заботе, на помощь -
благо, долг; но слиться, но срастись с человеком можно только в миг благо-
датного веселья. Поэтому народный праздник после коронации есть суще-
ственнейшая часть, естественное следствие святого таинства; это - земная,
ощутимая сторона таинственного обручения Царя с землей Своею. Народ
это живо чувствует; только раз он бывает в гостях у Царя; не абстрактно, не
посредственно, но прямо приходит к Нему, необозримый, темный, и на этот
день сливается с Ним даже и физически. Государь приезжает к народу;
нет у Него, во время этой поездки, других целей, как только быть около наро-
да, окинуть глазом серых гостей Своих. Единственный в царствовании миг,
когда отец прижимает к сердцу величайшее сокровище свое, дитя свое воз-
любленное, чтобы более еще никогда его не видеть, и только издали, то есть,
абстрактно, отвлеченно, печься о нем.
В эту интимнейшую и глубочайшую минуту царствования совершается
неслыханное несчастие; в ту самую минуту, когда трепетный народ спешит,
волнуясь и радуясь, в раз только открывающиеся царские объятия - крова-
вый пар подымается над ним; не радость - но стон; смерть, и какая ужасная
смерть: она подходит, и нет сил, нет способа от нее уклониться; она пожрет
совершенно здорового, но не сейчас, а вот через '/2-1 ‘/2 часа; уже раздавлен
около меня стоящий, но пока - на сколько минут? - я дышу; раздавлена мать,
и дочь толкаемая перебегает по ее трупу. Полная аналогия первому марта:
также неожиданно, тахм и здесь смерть в радостную, по существу, минуту
(Государь ехал в манеж на парад), в минуту веселящегося сердца. Но там в
основе ее - ошибка ненависти, здесь - истина любви. Великое искупление
совершилось; оно совершилось не внешним образом, не как только факт,
или, точнее, вовсе не как факт; нет, факт составляет только его наружную
сторону: сердце Царево вдруг забилось как до первого марта, без скорби, без
разделения, без самоуединения; оно рванулось к обагренному кровью дети-
щу своему только с мыслью - спасти, облегчить, поднять от несчастия...
Символ - я говорю теперь о народе - в миниатюре, в малости и грехе,
крестной смерти Спасителя. Не есть ли в самом деле «пропятие» «Единого
Безгрешного» за целокупный грех мира - прототип всякого исцеления, разгад-
ка, пожалуй, и всякого на земле страдания? Негрешное по преимуществу стра-
дает: так оно наказывалось бы, и наказывается; но этим еще не искупляется.
Миру же нужно искупление, этим злым нужно быть искупленными. Спаси-
тель указал, и уже бесспорным фактом, бесспорными чертами в факте, метод
всякого вообще искупления: именно безгрешного, именно страдание.
«Раной» народною 18-го мая «исцелел» грех из народа вышедшего клас-
са, - и тотчас целость царского сердца восстановилась. 1 марта умерло. В
этот только день из уст царя, «интеллигенции», народа мог бы вырваться -
вырвался бы при твердом понимании факта - пасхальный радостный крик:
«Да друг друга обымем!». Ибо не было более в них греха друг перед другом,
не было его, как записанного на небесах, и разве здесь, в каком-нибудь обма-
нывающемся и мятущемся сердце...
603
ОБ ЕВРЕЙСТВЕ
Печальная для русских сторона еврейского вопроса заключается в том, что
в каждой точке, где сталкивается русский и еврей, русский опирается только
на свои индивидуальные силы, еврей же опирается на силы целого еврей-
ства не только где-нибудь в Баку или Нижнем живущего, но и в Вильне, а,
пожалуй, даже и в Париже. От этого в каждой порознь точке еврей одолевает
русского; а потому еврейство одолевает русских и во всех точках, где эти две
народности сливаются. Простец обыватель не понимает этого; но что это
так - он видит. Отсюда в нем родится глубокое негодование, которое он
целиком изливает на еврея, но добрая половина которого должна бы быть
перенесена на те силы внутри самого русского государственного организ-
ма, которые не укрепляют его, но расслабляют, втихомолку изменяя его
жизненнейшим принципам. Мы читали, как в Бельском уезде, Смоленской
губернии, огромный % земель захватывается еврейством; читали, как в Ор-
ловской губернии евреи становятся землевладельцами; видели и знаем, как
в Ельце мучная торговля, а в Брянске торговля лесом или захвачена целиком,
или захватывается евреями. И когда мы читали об этом, или сами это видели,
- мы спрашивали себя невольно: а что же русские? где русские власти? где
законы русские?
Здесь узел вопроса. Евреи идут на нас сомкнутою силой, мы же им
сопротивляемся единолично, и, конечно, раздавливаемся. Здесь причина
первого, мучительного чувства. Здесь причина, почему так настаивают
евреи на уничтожении черты оседлости (которая, кстати, едва ли и суще-
ствует не фиктивно только). Они знают, что как только они выиграют у нас
территорию, все остальное, экономическая и даже юридическая победа, у
них уже выиграно, уже обеспечено мощною и тайною организацией ев-
рейства. У нас администрация так слаба, так беспринципна и наконец так
еще не дисциплинирована, что закон может существовать, правительство
может распоряжаться, но местный чиновник, какой-нибудь исправник или
полицеймейстер, может иметь «свой взгляд на вещи», конечно, с имею-
щимся под ним «своим интересом», который и решает все. Мы помним,
что когда из-под московских губерний выселялось пришлое еврейство, вы-
селялось оно из Орловской губернии, а из Ефремовского уезда, той же
губернии, оно вовсе не выселялось. Мы припоминаем другой случай, той
же губернии, но в другом городе: раз евреи, которые преследовались как не
имеющие права жить в городе, доведенные до крайности стойкою, но безо-
бидною требовательностью местных жителей, скрылись и были укрыты во
дворе исправника. Вот факты; и они, в сущности, решают все. Мы не мо-
жем судить и осуждать еврейство за его захваты: это - природа вещей, при-
рода человека. Но что перед этими захватами подаемся и отступаем мы -
вот истинный и настоящий предмет нашего суда и осуждения.
604
О ПОСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА
М. Н. КАТКОВУ
В печати заговорили о постановке памятника Каткову. В добрый час! Но
не следовало ли бы от слова перейти к делу, от предположений - к самому
ходатайству о дозволении открыть подписку на памятник? В разрешении не
может быть сомнения; еще менее может быть сомнения в щедрости пожер-
твований, которые польются со всех сторон.
Катков давно стал знаменем, символом известных стремлений. Соеди-
ним их в одно: он есть символ всего центростремительного в нашей земле,
устремляющегося к центру, к сосредоточению', в противовес иным центро-
бежным силам, также обильно развитым в нашей земле, - силам, разбегаю-
щимся от центра к периферии, стремящимся разорвать целость нашего со-
знания, целость истории нашей, наконец, целость нашей территории. Можно
без преувеличения сказать, что в его личности вдруг ожила и заговорила
старая Москва, Москва Калиты, Иоаннов, первых Романовых, и заговорив -
покрыла своим голосом новую Россию в самый тяжкий и смутный период
ее существования, когда она «разделишася на ся». Этот профессор универ-
ситета, автор «Очерков древнейшего периода греческой философии», был
силен не тем, что дала ему школа, не тем, чему выучился заграницею, хотя
всему, чему учился, он учился хорошо; он силен был дедовской землей, ко-
торую носил за пазухой своей рубахи, под новым сюртуком; силен был са-
мосознанием Минина, которое в половине XIX века и вооруженное всеми
средствами новейшего образования явилось ни в чем неизмененным против
своего древнего выражения. Живучесть сил Москвы, правда, начал ее, не-
обходимость ее принципов связалась в этом тожестве ее голоса-в 1612 году,
в 1863-87 годах. Правда не умирает: и ей нет нужды изменяться.
Вторая половина нашего века была временем рождения у нас полити-
ческой печати, политической мысли. Замечательно, что в эти именно годы,
когда Русь усиленно пошла вразброд, - бросалась в социализм, рвалась к
позитивизму и, кажется, помнила о всем решительно, кроме себя самой и
своей истории, явился ряд мыслителей и публицистов, которые в слове сво-
ем положили истинный материк русского мышления и русских чувств. Кат-
ков был не один: в стороне от него, во многих частных вопросах расходясь с
ним, но сходясь во всем главном, говорили Н. Я. Данилевский, автор «России
и Европы», Н. П. Гиляров-Платонов, И. С. Аксаков и только теперь начинаю-
щий получать себе истинную оценку, К. Н. Леонтьев, автор сборника поли-
тических статей: «Восток, Россия и Славянство», и нескольких замечательных
брошюр. И вот, нам брезжится мысль, которую мы решаемся высказать,
никого не желая умалить, ни у кого и ничего не ища отнять. Нам брезжится
мысль, так сказать, «соборного» памятника этим людям; памятника не лицу
их, но их историческому подвигу; памятника правде их, мужеству их. Идея
памятника-«монумента» все более хладеет на Руси, уступая место идее «па-
мятника-часовни». Это есть истинный тип русского памятника, русской ма-
605
неры увенчивать на земле память великих или дорогих людей. И вот, нам
брезжится такой памятник, посвященный великому братству нескольких рус-
ских людей, воскресивших в русской земле русское сознание - он был бы не
только уместен, но и в высшей степени своевременен теперь. Ибо и теперь,
как прежде, много центробежных сил в нашей земле; как и прежде - много
людей, в частности, много их в литературе - которым претит идея единства и
целости, да и всякого вообще величия России. Эти бедные люди, эти слабые
умы и не подозревают, до какой степени мало свободы и самостоятельности
в их мышлении. Они все - официозы, но одной и дурной стороны нового
правительственного механизма у нас; под именем то «западников», то «ли-
бералов», они развивают одну слабую сторону в реформе Петра Великого:
этот жест презрения к старине, который невольно вырвался у Великого Пре-
образователя России рядом с гигантскою работою ее укрепления и возвели-
чения. Слова его перед полтавскою битвою: «А о Петре ведайте, что жизнь
ему не дорога - жила бы и цвела Россия» - они не помнят; и помнят только
«Piter», что он подписывал вместо «Петр», на некоторых бумагах и в частных
письмах. Это «Piter» они и разрабатывают теперь; это «Piter», полуголландс-
кое, полурусское, мы собственно и читаем на всех страницах «Вестника Ев-
ропы», «Русской Мысли», «Русского Богатства», «Нового Слова». Мы по-
вторяем и настаиваем, что все эти «свободомыслящие» наши органы суть
официозы, но слабой и дурной стороны нашей правительственной системы,
как она пошла с Петра и как она, слава Богу, все уменьшается; и в них нет
ничего им лично принадлежащего; никакой индивидуальной работы. Их
мысль взята с задворков петербургских канцелярий, выкрадена с черного
крыльца разных ex-министров и «пока еще не министров». Но оставим их.
Все названные писатели, которых так хочется соединить в братство, кото-
рые и действительно сливаются в братство, восполняя и укрепляя один дру-
гого - то мыслью (Данилевский, Гиляров-Платонов), то красотой и силой
слова (Катков, Аксаков), то дальностью политических предвидений (К. Н. Ле-
онтьев), развили в жизни и деятельности своей положительную сторону ве-
ликого порыва Петра: «Жила бы и цвела Россия». И они, таким образом,
официозы, и это показывает, до какой степени государство у нас объемлет в
работе своей всю мысль общества, и это общество не может и не умеет
выбиться из гранок государственной программы, не имеет найти для мысли
своей и слова иных мотивов, оригинальных мелодий, самобытных тем. Но
никто не усомнился, что насколько живет и раздвинулась новая Россия, она
раздвинулась и живет не принципом «Piter», не этим жестом самопрезрения,
самоотречения, внешней подражательности иностранному, который был
уместен только при Петре, в пылу борьбы, под впечатлением минуты, но тем
здоровым ядром его деятельности, которое в невыразимой красоте своей
сказалось в словах перед Полтавою: «Жила бы и цвела Россия»... Вот символ
еще долгих лет нашего исторического бытия; пожалуй - эгоизма в этом бы-
тии, но эгоизма здорового и на первых порах нужного. Ибо только «расцве-
тя» в полноту сил, до полноты раскрытия заложенных в нас задатков, - мы,
606
как «невеста», уготованная Вечному Жениху, можем подумать и о том, чему
отдать эти силы, эту полноту созревших форм. Думать об этом теперь не
время; все думы об этом, какие до сих пор высказывались, явно смешны; нас
призывают к подножию папского престола; другие зовут к революции; еще
третьи - к среднему, серенькому европейскому существованию, под эгидою
парламента и в буржуазных формах. Общее в этих гаданиях - их затаскан-
ность, неоригинальность; ясное отсутствие такого содержания в них, ради
которого точно захотелось бы рвануться, и порывом этим прожить новую
тысячу лет.
«Жила бы и цвела Россия»... Дальше этого, пока, не будем думать; нам
еще далеко до «расцвета», и самая «жизнь» порою бывает так трудна, суже-
на, искажена. Много мелкой работы, ее хватит на века в отечестве «обиль-
ном», но и до сих пор не очень «устроенном». Однако укрепление есть condicio
sine qua non всякого последующего и более сложного устроения; и вот отче-
го, еще раз, - да сохранит наша земля вечную память о названных писателях,
этих великих реалистах, которые сумели ответить своему времени, которые
словом и мыслью своею поработали главной задаче того цикла истории, в
каком мы существуем.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ <0 ХОДЫНКЕ>
М. г., Господин Редактор!
В печати («Вестник Европы», сент.) высказано сомнение, как можно через
год после события писать о нем в тех подробностях языка и выражения, как
написана статья моя «1 марта 1881 г. и 18 мая 1896 г.» («Русское Обозрение»,
май). - Но, как это известно вам и, по крайней мере, как я объяснял вам это
при передаче статьи, она была написана одновременно с другою: «Две гам-
мы человеческих чувств» («Русское Обозрение», авг. 1896 г.), т. е. обе в июне
или июле 1896 года; из них одна пошла в печать, а другая была оставлена, как
однопредметная с нею. Зимой 1897 года, слыша о глубоко угнетенном состо-
янии духа одного из распорядителей 18 мая 1896 г., коего слабые архитектур-
ные способности и действительно заставляли всех обвинять его по преимуще-
ству, - я решился напечатать и вторую статью, которую вы сочли более удоб-
ным отложить до дня годовщины. - Мысль, в ней изложенную, я считаю пото-
му основательною и, по крайней мере, правдоподобною, что в самом деле
все порознь условия могли существовать, и все-таки катастрофа могла не со-
вершиться. Нужна была точка, соединившая в себе все эти условия, слившая
всерадиусы их в один центр, несколько минут времени и саженей простран-
ства, который мы и называем собственно катастрофой. История никогда не
перестанет разгадывать причины подобных совмещений; и между этими раз-
гадками есть та, которую я высказал, и она разделяется многими людьми, не
составляет моего исключительного мнения. Оставляя в стороне «метафизи-
ку» этого взгляда (реальную достоверность), мы признаем некоторое благо и
607
в моральной его стороне. Тенденция так объяснять явления - блага в челове-
ке, потому что она есть тенденция снимать тяжесть с индивидуальной совес-
ти, часто неподсильную тяжесть, и перемещать ее на плечи всех, разливать на
всю человеческую плоть. В написании я руководился первым, метафизичес-
ким мотивом; но когда частный слух пробудил во мне второй мотив - я ее
напечатал. - Затем, по исключении этого одного обвинения, основанного на
неправильно предположенной дате* написания, я далек, чтобы отвергать про-
чие**. Примите уверение в совершенном моем почтении.
СПб. 7 сент. 1897 г.
Ф. Э. ШПЕРК
(Некролог)
8-го октября умер Федор Эдуардович Шперк, - молодой писатель, едва начав-
ший свою литературную деятельность. Автор нескольких брошюр философ-
ского содержания, он стал быстро приобретать известность в литературных
кругах библиографическими и критическими статьями, помещавшимися в
«Новом Времени» под псевдонимами «Ор», «Апокриф», Ф. Ш. Несмотря на
тесную форму коротких библиографических заметок, где личность автора
связана и сужена необходимостью говорить о данной вновь появившейся
книге и прежде всего дать понятие о ее содержании, - он сумел и в этой
форме раскрыть богатство ему лично принадлежащих взглядов. Библиогра-
фические по краткости, его заметки представляли критику, и серьезную кри-
тику, по внутренней ценности. В немногих словах, афористически, он умел
метко охарактеризовать литературную физиономию автора разбираемой кни-
ги, и указать достоинства или, напротив - недостатки сочинения. Дар опреде-
лять, формулировать, - чисто философский дар, - был ему в высшей степени
присущ. По взглядам своим покойный приближался к славянофилам, хотя и
не сливался вполне с строгою системою их учения. Протестант по вере, не
русский по крови, но глубоко русский по убеждениям, он придавал чрезвы-
чайно высокую цену русской народности, а его чуткое понимание высоких
особенностей православия побудило его, месяца за полтора до кончины, пе-
ременить вероисповедание. В складе его мышления, в темах, его занимавших,
была склонность к религиозному, и общее - склонность ко всему мистическо-
му. Он представлял в этом отношении типичный и очень яркий образец пе-
рехода нашего юношества от материализма в убеждениях и практицизма в по-
ступках - совершенно к иным основаниям мышления и жизни. Ранняя смерть, -
*Почти, наверное, под корректурой статьи я и написал дату ее происхождения,
«июнь 1896 г.», но она была выпущена в редакции.
**Автор рецензии делает общий упрек: «Г. P-в хочет поразить и растрогать»: да,
я хочу поразить и растрогать и часто это не удается мне; тем хуже для меня, но почему
это хуже и для моих читателей? Они остаются свободными, как бы до прочтения
статьи.
608
ему было всего двадцать пять лет, - не дала ему выразиться; но все обещало в
нем кипучую борьбу за светлые идеалы, которые овладели им с такою силой.
Мистицизм был в складе его мышления, в вопросах, тревоживших его, в чув-
стве, его проникавшем; это был мистицизм глубины, тайны, невыразимости,
разлитых на всей природе, и во всей природе не уловимых, не формулируе-
мых. Между прочим, он определял смерть как переход человека из природы в
Бога, т. е. выход души нашей из связанности природными условиями к свобо-
де и чистоте своего первичного состояния. Для него вся природа, в главных и
огромных ее чертах, была духовна, проникнута была духовным началом; и так
очевидно, что он не искал убедить себя в этом, а только хотел прочесть и
уразуметь таинственные слова и предложения, начертанные на ее лице. Все
его брошюры-трактаты, так трудные для понимания, и представляют такие
попытки дешифрирования природы, - пускай рядом с удачным мы там нахо-
дим, конечно, и не удачное.
Для знавшего его было в высшей степени любопытно и привлекательно
следить за этими порывами горячего, вечно неугомонного ума. На его
устах всегда стоял вопрос; или, чутко угадывая вашу мысль, он своим заме-
чанием вставлял в нее какое-нибудь недоумение; от этого беседа с ним
действовала всегда возбуждающе и никогда не утомляла. Мысль его никогда
не руководилась «общепризнанными истинами», да и вообще он не любил
ходить протоптанными и истоптанными тропами. Характер новизны и ори-
гинальности в высшей степени был присущ ему, его уму, как, наконец, и
его характеру. Привлекательность увеличивалась еще тем, что в нем не было
«слов» без внутренней убежденности, а потому естественно вся умствен-
ная его жизнь, деятельная и неустанная, имела отражение свое в его по-
ступках. Его можно было назвать истинно религиозным в жизни, потому
что он истинно религиозно, т. е. с религиозною серьезностью, смотрел на
весь жизненный «труд». Печать удивительной душевной ясности была раз-
лита на нем; везде склонялся он к простому и доброму, враждуя со всякою
мишурой, со всем претенциозным. Не иные, как эти же идеалы, готовился
он внести и в литературу, когда смерть - скоротечная чахотка - прервала
все его прекрасные начинания. Потеря его - глубоко болезненная потеря
для всех его знавших...
ЕВГ. ВЕТНЕК (сост.). КРАТКИЙ ОЧЕРК
МИФОЛОГИИ ГРЕКОВ И РИМЛЯН
Ревель, 1897 г.
Наша педагогическая литература имеет одну неприятную особенность: она
всегда запаздывает. Думая быть воспитательною, она наивничает, и действи-
тельным последствием этого бывает только то, что она оказывается не нужна.
Г. Ветнек, по-видимому, не подозревает, что «ученики старших классов», для
которых он составил свою книжку, читают - худо это или хорошо - вещи
20 Зак 3969
609
очень серьезные, и, в общем, они берут в руки только такую книгу, которая
содержит в себе живую и интересно развиваемую мысль. Между тем его
«Краткий очерк мифологии» не только заботливо избегает мысли в общем
течении своем, но, по возможности, устраняет ее и в каждой порознь глав-
ке. Получился не «краткий очерк мифологии», как думает автор, но сло-
варь - и тоже «краткий» - мифологических слов и речений, со всеми недо-
статками словаря: отсутствием связующей мысли, общего воззрения на
предмет и нужной характерности при изложении отдельных мифов. Он не
имеет и тени той живости изложения и осмысленности содержания, как
вышедший 112 лет назад «Храм всеобщего баснословия или баснословная
история о богах египетских, эллинских, латинских и других» (Москва, 1785 г.), -
которую без скуки можно читать и теперь и откуда узнаешь содержание
древней мифологии и часто догадываешься о ее замечательной красоте.
У г. Ветнека в древней мифологии умерло воображение, исчезла живость,
отлетела мысль: «Тотчас после рождения Аполлон победоносно борется с
враждебными силами зимы и мрака: он убивает дракона Пифона, или Дель-
фину (почему это - «силы зимы»?) около Дельф (ПиЗю), отчего он полу-
чил прозвание (П^бЗсод). Память об этой победе праздновалась пифийски-
ми играми, повторявшимися через каждые четыре года. Местом праздне-
ства была крисейская равнина около Дельф». Это - только объяснение
слов. Или вот еще: «Убив около Марафона быка, привезенного Гераклом
из Крита и выпущенного в Микенах на свободу, Фезей участвовал в походе
Геракла на амазонок и женился на царице их Гипполите. Сыном ее и Фезея
был Гипполит. По смерти Гипполиты, Фезей женился на сестре Ариадны,
Федре, которая оклеветала своего пасынка перед Фезеем и тем стала ви-
новницей его смерти». Несомненно, что похождения Ваньки Каина куда
занимательнее этого формулярного списка Тезея. Книжка г. Ветнека при-
надлежит к числу тех многих, которые, закрывая от читающего предмет
свой, подрывают авторитет его; и, в числе этих других, она служит не к
поддержанию у нас классического образования, а к его расшатыванию.
Автор пишет «Фезей» и «Промефей», не уважая вековой и стойко утвер-
дившейся традиции писать «Тезей» и «Прометей». В начале он помещает
целую почти страницу ученых «источников», коими пользовался при на-
писании, хотя, вероятно, для него совершенно достаточно было бы одно-
го, также помещенного в списке, «источника» - «Олимп». (Мифология
древних греков и римлян. Дютшке. Перевод М. Корш. СПб., 1892 г.), кото-
рая, вероятно, еще не вся распродалась, и мы ее советуем «ученикам стар-
ших классов» приобрести вместо книжки г. Евг. Ветнека. Наконец, только
что появилась полная интереса и глубины книга г. Властова: «Теогония
Гезиода и Прометей», о которой уже было упомянуто недавно. Она войдет
умным, ценным и никогда не теряющим интереса приобретением в ма-
ленькую библиотеку ученика; и, может быть, в даровитом ученике она
пробудит глубокий, серьезный, долго не замирающий интерес к древнос-
тям классическим и к их источнику - древностям Востока.
610
О ПРИЧИНАХ МАЛОУСПЕШНОСТИ
В ГИМНАЗИЯХ
В некоторых газетах появилось известие, что одним из наших учебных округов
сделано распоряжение о доставлении ему гимназиями разъяснений о причинах
малоуспешности учеников, разумеется, в том случае, если малоуспешность есть.
Несколько лет назад, и, может быть, до сих пор, в том учебном округе, где я
служил, эти разъяснения требовались всякий раз, когда число неуспевающих пре-
вышало известную норму, именно (помнится) 30 процентов: учитель, у которого
в данном классе было неуспевающих 31 и более процент, обязан был составить
бумагу, где указывались эти причины, и эту бумагу, или экстракт из многих таких
бумаг, директор отправлял в округ. «Что вы делаете», - воскликнул я однажды,
увидя, как учитель греческого языка, во время перемены перед так называемою
«четвертью» (четвертая часть учебного года, за которую выставляется общий
«четвертной» балл) выводил из баллов приблизительно: 2,2,3,2, среднее -«3». -
«У меня менее сорока процентов «успевающих», а нужно семьдесят; вот я и
натягиваю, кому и как возможно, до семидесяти». Он болезненно, но отчасти
насмешливо и чуть-чуть весело рассмеялся, подняв лицо. Это был очень талант-
ливый преподаватель, почти ученый, - по крайней мере, в вакационное время он
трудился над переводом важного философского трактата Аристотеля, - он был
убежденный классик, т. е. «за» классицизм; при этом он был и убежденный пре-
подаватель, т. е. с призванием к преподаванию, с верою в преподавание. Как
талантливому, т. е. успешному преподавателю, ему завидовали некоторые това-
рищи; но он был очень любим учениками, и насколько сам их любил - сужу по
тому, что для него не было, у себя на дому, более занимательного разговора, как
об учениках, их характерах и разных время от времени случающихся с ними
«курьезах». «Писать бумагу», «объяснять» - это всегда неприятность; но глав-
ное, когда невозможно правдиво объяснить, - это ложь, и бесплодная, из которой
ничего не выйдет. - «Как же вы будете к экзамену?» - воскликнул я, зная ответ-
ственность преподавателя по главному предмету (письменные испытания). - «Как-
нибудь погом», -и он опять улыбнулся, но уже без веселости.
Конечно, «четвертные баллы», приподнятые несправедливо, без действи-
тельного основания, вносят зияющую рану в преподавание. Опасность для
учителя на экзамене, что «успевавшие» в году (по баллам) вдруг окажутся по
письменным работам «не успевающими» - не есть еще главное зло. Директор
молча все поймет и, зная талант и прилежание преподавателя, не заподозрит
его в годичной лени; т. е. опять не заподозрит, если это добросовестный и не
злорадный директор, каков и был у нас в тот раз. Главная рана преподаванию
состоит в следующем: ученики ничего не знают о требовании из округа; стран-
ный вывод из «2, 2, 3, 2» - «трех» ими принимается за норму, за какое-то
странное смягчение преподавателя, которое, из чего бы оно ни исходило и как
бы непостижимо ни казалось - есть факт, которого можно ожидать на завтра.
По естественному свойству лени и по разным еще подробностям, которые
было бы долго здесь объяснять, они тотчас и всею компактною массою пада-
611
юг с «3,3,3,3», к которому прежде тянулись, до «2,3,2,2», что теперь считается
достаточным. Тут может выйти неожиданность, и даже ряд неожиданностей,
для них губительный: учитель, при отсутствии повторений требования из окру-
га, тотчас, конечно, подымет требования до нормы, до привычного для себя, и
мнившие себя «успевавшими» вдруг станут «не успевающими», но уже с
большою для себя трудностью теперь поправиться; во время экзамена они
будут в очень рискованном положении, и тем более, что опять это для них
неожиданно, как были скрыты и мотивы вариаций в требовательности. Но
истинная гибель, ураган «исключений» подымается при редкой, но все-таки
возможной случайности - перемещении данного преподавателя и поступле-
нии на его место другого. Этот «другой» поставит на счет всякий недочет в
прежнем преподавании; для возможного в будущем себя оправдания, он не-
пременно выкажет - т. е. аттестуя как негодных, доводя до «исключения» и
оставления «на повторительный курс» максимум учеников, - что он принял
класс «негодным», и что вот, «как ни старается теперь», уже «ничего не может
поделать». Таким образом, по-видимому, простое и столь целесообразное
«окружное послание» о разъяснении причин малоуспешности родит в препо-
давании новые трещины, когда и без того оно чуть-чуть лепится.
«Неуспешность» сама по себе имеет, очевидно, не одни местные причи-
ны исключительные для этой гимназии или этого преподавателя; есть причи-
ны общие, которых не может (не в праве) коснуться преподаватель в «объясне-
ниях». Преподавателя спрашивают: «Почему у тебя плохо учатся?». Ну, что на
это сказать? «Потому что я - плох»; «потому что я - строг». Первого нельзя
сказать: это просто «неизреченное», не выговаривающееся слово; состав пре-
подавателей у нас еще так хорош и совестлив, что второе объяснение, - часто
чрезвычайно основательное и, в глазах всякого, кто понимает дело, составляю-
щее лучшую рекомендацию учителя, - никогда им не выговорится уже по
чувству скромности. Я сказал, что искусственное повышение отметок непре-
менно гибельно отзовется на учениках; преподаватель «строгий», сейчас, вся-
кую минуту строгий - только оберегает учеников от всяких в будущем случай-
ностей. Обыкновенно строгий преподаватель есть самый заботливый, далеко
вперед озабочиваемый, т. е. наиболее добрый к ученикам преподаватель; и, в
общем, в самих учениках есть столько чуткости, что строгость - если она со-
вмещается с искусным преподаванием и справедливостью, т. е. равномерною
ко всем ученикам строгостью - любима ими, чтится, не порицается.
Я припоминаю письмо одного директора прогимназии ко мне, написанное
вслед за ревизиею окружного инспектора: «советы и указания, им сделанные во
время ревизии, должны поднять состояние прогимназии вдвое». Письмо мной
потеряно, но именно эту фразу я помню и она точна. Позднее, при свидании, я
спрашивал этого директора: «В чем состояли указания?» - «Их было много, но
вот самое простое «в двух первых классах, даже рискуя не докончить положен-
ного по программе курса, отнюдь не допускайте учителей задавать - сверх, ко-
нечно, крошечного перевода, - более 10 слов вновь». Действительно, правило
до того элементарно, что, кажется, каждый его сделает; но оно до того спаситель-
612
но, что простирает свое влияние на все последующие классы. Знают ли его учи-
теля? И да, и нет: у них нет формулы, нет приказания-разрешения: «не больше
десяти слов, и рискуя всем остальным». «Остальным» не рискуя, ибо формаль-
но он и не смеет рисковать программой, «не докончить курса», учитель делает
риск в ту сторону, которая формально ему дозволительна, и задает в 1 и 2-м
классах 12-14 слов, в третьем - 15-18; т. е. он не прямо задает «столько-то слов»:
он задает перевод, и уже несчастье ученика, если у него в переводе встречается
15-18 неизвестных слов; «пусть сам и вытягивается, зачем раньше не учил». А
раньше не учил, потому что «надеялся», да и «завтра не спросят». Я припоми-
наю мучительнейшую вещь в своем собственном учении: приблизительно с VI
класса мне попадалось в обычно задаваемом переводе уже до 50 и до 60 неизве-
стных слов, и все время приготовления уроков у меня уходило на подыскивание
их по Кронебергу и Синайскому, без всякого приготовления собственного пе-
ревода, и почти без приготовления уроков по другим предметам. Я был в
положительном отчаянии; а преподаватель, если он видит перед собою на
парте таких учеников - конечно, более в отчаянии, чем кто-либо из них. Дело в
том, что «приисканные слова» (и выписанные в тетрадь) — это фундаменталь-
ная часть в приготовлении урока: начало, альфа, без которой ничего не воз-
можно и с которой все остальное возможно; но вот «остального», т. е. зижди-
тельного, умного - у меня уже никогда не наставало; торопливо, нервно, злоб-
но между 11 и 1 часом ночи я пытался заучить эти - по обоим языкам - 100-120
слов; «ткнешься» в перевод, поймешь 2-3 придаточных предложения, все ос-
тальное - море неизвестности. Уже будучи преподавателем и заходя по долж-
ности классного наставника неожиданно в тот или другой класс, я всегда заста-
вал учеников за коллективною работой перевода, - той самой, которую коллек-
тивно и мы, будучи учениками, производили; т. е. вся зиждущая и благотвор-
ная, собственно «образовательная» часть учения создается тут же, гурьбой,
сейчас перед уроком; и это всегда я замечал, везде.
Итак, умная ревизия, и самое крошечное правило, но резко, отчетливо
формулированное: «рискуя всем» - вот что спасает годы учения учеников и в
учителях вызывает радостную улыбку: «Наконец-то мы знаем, что нужно де-
лать, во-первых, и что - во-вторых». Я упомянул о риске, на который решается
учитель: «12-15 слов»; к тому же ведь не у всех 15, у некоторых даже 7; но более
10 у очень многих. Пятнадцать слов все-таки выучены, но как-то не ясно, «не
отчеканены»; и в переводе одна, самая трудная фраза, осталась все-таки тем-
ной. Образовалась маленькая, для ученика вовсе непонятная в своей значи-
тельности затяжка: ибо на завтра при одном освещающем слове соседа по
парте, т. е. уже не при своей работе, неясная фраза совершенно объяснилась;
и, зная слова, он отвечает учителю урок на четыре. «Четыре» - это «хорошо»;
о чем сомневаться ученику? и у него нет никакого подозрения, на скамье
второго класса, что он уже ступил на первую ступень своего исключения из
седьмого класса. Затяжка состоит в так и не выяснившейся трудной фразе, и в
том, что при усилиях взять все 14 слов, они все по истечении некоторого време-
ни становятся знакомы еще уху, но неопределенны, смутны в значении, содер-
613
жании. Эго та степень полузнания, при которой, встретив то же слово через три
месяца, снова нужно справляться в лексиконе о его точнейшем значении; и вот
тогда число слов вырастает неожиданно до 20, а перевод, торопливо вслед-
ствие того приготовляемый, не ясен в половине фраз, а не в одной. Сказать
учителю, пожаловаться учителю, что вот «мне стало трудно» - это значит
как-то и почему-то расстроить его на весь урок; «расстроить» потому, что
если у многих есть затяжки» - значит нужно замедлить прохождение курса,
убавить на ’Л, на ‘Л задаваемые переводы и тогда, наверно, «не пройти про-
граммы», чего учитель не вправе сделать; напротив, идти тем же темпом -
значит начать губить класс в 3/д, 4А его состава. «Расстроенный» учитель сей-
час настораживается, начинает дольше (внимательнее) спрашивать каждого
ученика, и гораздо строже ставить баллы - именно тем, у коих образовались
«затяжки». Таким образом, признание своей слабости сейчас, немедленно
отзовется тысячею маленьких болей и неудобств для ученика, и, обегая их,
надеясь еще и «сам справиться», и главное - хорошо зная, что в таком же
положении, как он, находятся 3/д-4/5 класса, а «на людях смерть красна», он
скрывает, что, в сущности, валится на бок и идет - что уже и сам чувствует -
по прямой линии не к окончанию (курса), а к исключению из гимназии. Так,
еще «успевая по всем предметам» и по некоторым идя отлично, учась с
любовью, он «по главному» - по греческому языку или по математике -
начинает «отставать». Это так рискованно каждый год к экзамену, что он начи-
нает бросать все предметы, любимые и нелюбимые, чтобы «вытянуться» как-
нибудь «до трех» по главному; начинается как бы качание всего курса, и «про-
рехи» образуются по многим, а, наконец, и по всем предметам. Странную
вещь я наблюдал и будучи учеником, т. е. наиболее безошибочно, и будучи
учителем: начиная приблизительно с VI класса ученики собственно вовсе не
понимают, чему они учатся, и это даже в столь связных предметах, как матема-
тика (причина, почему арифметика, при повторении в VIII классе, оказывается
всегда трудна для учеников и понижает баллы). Ученики собственно помнят
«урок», торопливо учат «урок»; но очень часто они вовсе ничего не учат, и
приблизительно с 5-6 класса начинается невообразимая леность учеников по
совершенному непониманию ими собственно «предметов» проходимых, «кур-
са» учения, который так расшатан, а самый «предмет» есть такой ряд «оази-
сов» в предмете (запомненные и понятые в нем точки), что при наступающем
в эти годы развитии и, следовательно, потребности в цельной мысли, нет сил
преодолеть вот эти и те страницы, те и эти параграфы, связь коих с целым, а,
следовательно, и какая-нибудь определенная в них самих мысль - не известна,
не уловима, не восстановима. Одна учеником вовсе не постигаемая «затяжка»
во втором классе - отзывается в третьем маленькою «спутанностью»; число
этих «спутанностей» с классами растет, они сливаются, и к 5-6 классу весь
предмет превращается в зыбкую туманность, с немногими яркими, но совер-
шенно разорванными на нем точками, среди которых глаз фиксирован на од-
ной: именно на заданном третьего дня уроке, который «к завтрашнему нужно
приготовить». «Приготавливание» становится так механично, что нужно фи-
614
зиологически принудить себя* к нему; и часть учеников, уже бесплодно и без
иной награды, как «три» назавтра, приготовляет их; но большая часть, и имен-
но самая даровитая и энергичная, бросает и этот урок, как темноту - в темноту
же всего курса, и, конечно, платится за это...
Сколько я наблюдал - причина «неуспешности» только в этом. Неспособ-
ный, бесталанный учитель - это значит бесталанно пройденный учениками
предмет; без любви и интереса, но, однако, все-таки пройденный. Дурной учеб-
ник - это опять отсутствие любви и интереса к предмету. Все эти условия
создают отсутствие культурности в работе школы; то, что она не «цивилизует»,
не «образовывает», не «просвещает». Но дело идет о грубой вещи - почему не
оканчивают; или еще почему «не переходят в следующий класс»; почему учатся
«по учебным четвертям» в количестве 60 процентов «на два». Это так неприят-
но ученику, что вообще каждый ученик старается избежать этого. Равно это
неприятно и учителю, ибо останавливает на нем внимание товарищей-учите-
лей и, наконец, округа - как на неспособном. Совершенно очевидно, что все
усилия избежать этого есть со всех сторон, но в общей постановке дела есть
условия, которые избежать этого уже не дают сил. Тут кроме «затяжек» через
«риск» учителя задать больше, чем можно, есть худшие и общие: «затяжки»
общие, «затянутость» общая учеников через посредство удивительных педаго-
гических петелек, расставленных в курсе на всем протяжении.
Казалось бы, отлично приготовлять урок - это есть основоположение
всего учения; это альфа, на которой все строится и, конечно, строится так от
фундамента. Представьте же себе требование, чтобы вершина здания, венча-
ющий конус учения состоял из твердого и тяжелого гранита; а широчайшее
его основание и даже много вверх, вся пирамида до половины, пусть будет
сложена из кирпича и даже щебня. Конечно, все рухнет гораздо раньше окон-
чания. Это саморазрушение, наступающее в четвертом, шестом и седьмом
классах с шумом и неприятностью для ученика (исключение), и потрескива-
ние пирамиды во все время ее кладки (простая «малоуспешность» класса, о
чем запрашивает учебный округ) имеет простое и механическое для себя
объяснение в условиях перехода из класса в класс.
Совокупность программ, конечно, возрастает по трудности с каждым
следующим классом, и приблизительно пропорционально возрастающим (с
летами) силам ученика. Таким образом, курс каждого года (хорошо прохо-
димый) заполняет собою силы и досуг ученика; с тем вместе - он зиждется
на совокупности предыдущих курсов, как их вывод, как их развитие. В пятом
классе «успешность» определяется требованием полных «трех», полной
«удовлетворительности» учения, и притом по всем, главным и второстепен-
ным предметам; между тем как во всех низших классах, до четвертого, эта
полнота не требуется: казалось бы - и это так очевидно, на это указывает и
умное разъяснение ревизора, о котором я сказал ранее, - кладешь пирамиду
из гранита, клади ее основание из стали: т. е. именно в первом, именно в нем
* Помню, я сам привязывал себе ногу к стулу, чтобы не встать неосторожно, и,
забывшись, нс начать «ходить» (думать, воображать).
615
и во втором и т. д. до четвертого включительно класса должно быть требова-
ние не только полно, но и переполнено, не в обширности знаний, но в их
совершенной твердости и «отчеканенности». Между учителями, где я ни учил,
все равно есть везде аксиома: «кто в пятый класс отлично перешел, то есть
действительно, проверено отлично, тот даже и не делая ничего может кончить
курс». Учителя так прямо и формулируют, - между собой и, конечно, не говоря
ученикам: «ничего не делая». И напротив, тесня и изгоняя учеников из критичес-
ких седьмого и шестого классов, они уже видят все мучительные усилия ученика
в последний год, чистосердечно и часто глубоко его жалеют (начинают приватно
и, конечно, безвозмездно заниматься с ним на дому): но ничего нельзя сделать.
Ученик не знает «азов», в последующем ничего не понимает и гибнет. Вот где
причина «неуспешное™»: именно в этом полузнании, которое не только для
ученика допущено, но он к нему склоняется естественно в первом, втором и
третьем классах через отложенный экзамен (четырехгодичные и двухгодичные
испытания) и через ослабленную, но именно только для этих трех классов требо-
вательность учения. Я долго, десятилетия размышлял, почему и для чего это, и
никогда не мог понять; и теперь не понимаю. Почему ученик, который сегодня,
во втором классе готовит урок к завтра - может его приготовить «так себе»,
когда этот урок выйдет совершенно отчетливою, и отчетливо ощущаемою и,
наконец, конечно губящею песчинкою в его ответы и приготовляемые им уроки
и в четвертом классе, и в шестом, и в седьмом. Лично я рано об этом догадался;
как-то после экзамена в женской прогимназии инспектор благодарит меня за
успешность, т. е. за хорошие ответы учениц; это был очень добрый, прекрас-
ный человек, но формалист и какой-то испуганный формалист; «а все от того,
сказал я, что всякий раз, когда ученица знала на полных три, я ей неизменно
ставил два». - «Но что же вы делали, и что о вас сказали бы родители их, если
бы они это знали». - «Но они не узнали, это во-первых, а во-вторых: как же бы
они отвечали сейчас на три, когда на приготовление к экзамену им дано два
дня, и когда они отвечали на нем приготовленное два года назад, и тогда тоже
приготовляли бы все натри». Таким образом, «успешная» форма учения была
создана тем, что я, так сказать, «сев на закон», создал закон свой и по нему
учил. Это была маленькая заброшенная прогимназия, самый предмет - не
важный, и, в общем, я мог так именно поступать; читатель уже видит, что я
нисколько не был слащав и сантиментален с учениками; и все-таки, препода-
вая позднее в полной классической гимназии, при всех изощренностях спра-
шивания, при всяких долго обдумываемых и хитро придуманных методах по-
вторения, я никогда не мог добиться удовлетворительного, на мой взгляд, зна-
ния преподаваемых предметов, хотя, конечно, ученики кончали свой курс бла-
гополучно. Все так называемые «блестящие» экзамены - блестят лишь в меру,
насколько они «минутны», играет в них роль «случай» и вообще насколько
никто не докапывается до «глубины». Один маленький, но всеобщий факт
вскрывает природу вещей: темы «зрелости», в самый день испытания, всегда
передаются для примерного же испытания в VII класс, и обыкновенно отлично
там пишутся, что далеко не всегда повторяется через год.
616
Итак, пересмотр системы экзаменов и укрепление всего учения, особен-
но укрепление его в фундаменте - вот общеимперское средство повысить
«успешность учеников». В отдельных учебных округах сюда присоединим
еще перемену в способе их действий. Округа должны лично работать, т. е.
действительно работать своим личным персоналом, а не бесконечно и уто-
мительно о всем «переписываться» с «подведомственными» заведениями.
«Ревизия» из минутного и пугающего явления должна стать постоянным и
пособляющим. Она должна длиться не день-два, как всегда теперь, но неде-
лю-две, и быть не «осмотром», а «рассмотрением» и всегда поправкою учеб-
ного заведения. Ревизор в его желательных и идеальных чертах-это учитель
учителей, инструктор, который помогает преподавателю разобраться в его
задачах, интерпретирует закон, т. е. связывает закон с живою жизнью, которая
не может же быть только его бездушною формою. Даже в армии, где все
построено на дисциплине и где предметы обучения физически просты, есть
«инструкторы», и еще более мы вправе ожидать и желать их в таком утончен-
ном и чисто духовном деле, как организация воспитания и научения. Нако-
нец, ревизор на ревизиях должен сам научиться: он должен вникать в целос-
тный строй учебного заведения, в будничный ход его механизма; изучать его
отношения к городу, быт учителей его, быт, физиономию, склад ума и характе-
ров у учеников. Только при этом условии окружные инспектора могут дать
самому министерству в своем лице людей живого знания этого живого дела,
взамен тех таблиц, «отчетов», статистических цифр и всякого бумажного мате-
рьяла, которым теперь оно единственно обладает и по необходимости един-
ственно его полагает в фундамент всякого задумываемого преобразования.
Между возможными практическими указаниями, вот пример еще одного, ко-
торого многие годы ждало одно учебное заведение. Вновь переведенный в
Вязьму директор, найдя по всем предметам успехи учеников слабыми, заме-
тил, что при всех усилиях, его собственных усилиях на своих уроках, заставить
их активно внимать в классе, они неизменно дремали; «ученики спят на уро-
ке» (неподвижно и в совершенной тишине сидя - ничего не слышат) - это
технический, профессиональный термин среди учителей, недуг, от которого
часто они не находят никаких средств. И посмотрите, какое простое объясне-
ние его было в данном случае, и как обща была причина, т. е. она лежала вне
индивидуальных условий учителей. «Послушайте, - спросил он надзирателей,
осмотревшись в новом своем положении, - отчего ученики не выпускаются в
перемену на двор?» - «Перемена коротка, но в большую перемену (25 минут)
и при ясной погоде они выпускаются». - «Отоприте парадную дверь на двор и
во всякую погоду, каждую перемену пусть они проводят на дворе, и проводят
ее как хотят». Просто, кажется; и сна на уроках - как не бывало. Советы ревизо-
ров могуч' быть драгоценны, если они захотят и сумеют стать объединителями,
централизаторами учебного опыта, которые, имея перед глазами огромный
матерьял для сравнивания, - умную выдумку, сделанную в Вязьме или Кост-
роме, переносят в Пензу или в Москву. Вот путь, и ясно, как он прост, и как
много доброго можно найти на нем.
617
В. Е. РОМАНОВСКИЙ (сост.).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ
Тифлис, 1897.
Несмотря на непритязательность этой книжки, она составлена очень хорошо, а
еще лучше ее план, ее тема. Она предназначена для домашнего чтения учащейся
молодежи. И действительно, очень странно, что оканчивающие курс в наших
гимназиях, из которых только часть идет потом на юридический факультет, но все
идут позднее на государственную службу, не имеют никакого представления об
устройстве управления своего отечества. Русскому юноше, окончившему курс
гимназии, гораздо подробнее известно государственное устройство древних Афин
и древнего Рима, нежели России. В книжке г. Романовского дан очень обстоятель-
ный исторический очерк развития: 1) Верховной власти в России, 2) Боярской думы,
3) Земских соборов. Затем, при кратком очерке происхождения, подробно очерче-
ны в своей организации: 1) Государственный совет, 2) сенат, 3) св. синод, 4) приказы
и коллегии, 5) министерства и 6) комитет министров. Книга составлена по лучшим
источникам, каковы историко-юридические труды проф. Сергеевича, юридичес-
кие - покойных Градовского и Кавелина, исторические - проф. Ключевского. В
конце каждой главы приложены вопросы для мысленного обзора прочитанного.
Каждая глава начинается обширным эпиграфом, взятым из «Свода законов» и
выражающим самый принцип данного учреждения. В изложении много выдер-
жек из летописей, хартий, Котошихина, - но выписок, нисколько не загромождаю-
щих изложение и не затрудняющих чтение. Вся скомпановка книги внимательна и
умна. Как образчик языка (сторона очень важная в подобных книгах) приведем
следующую выдержку (дело идет о возвышении московских государей): «Издавна
одно предание, одни стремления и цели передавались друг другу всеми князьями
московскими и даже всеми князьями северной Руси. Они употребляли и одинако-
вые средства для осуществления своих целей. Отсюда все эти князья поразительно
похожи друг на друга. Кроме наследственной передачи характера, на их сходство
имело влияние и самая одинаковость положения, одинаковость среды, в которой
все они обращались, под впечатлениями которой они вырастали и укреплялись.
Для каждого из них с самого нежного возраста выдвигались на первый план одни и
те же немногие, но важные предметы, на которых сосредоточивалось всеобщее
внимание, о которых все говорило и при обращении с которыми издавна употреб-
лялись одинаковые приемы. В этих приемах заключалась единственная наука для
молодых, мудрость дедов и отцов, переходившая по завещанию от поколения к
поколению». Все это - очень общеизвестно, но внимательный читатель не преми-
нет заметить, как общеизвестное хорошо здесь расчленено, вдумчиво передано.
Неприятную особенность учебников, вроде книг г. Иловайского, составляет нео-
быкновенная скользкость языка, при которой решительно ничего не зацепляется за
ваше внимание и очень мало остается или, точнее, нечему остаться в памяти. Хо-
чется надеяться, что книжка г. Романовского найдет самое широкое распростране-
ние в среде питомцев наших средних учебных заведений, хотя она в очень, очень
многих случаях могла бы помочь и более требовательному читателю.
618
Сумерки просвещения
ИГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее издание вошел ряд статей, соединенных единством темы и напеча-
танных, между 1893-1898, в «Русском Вестнике», «Русском Обозрении», «Новом
Времени» и «Русском Слове». Мысль всех их удовлетворительно выразилась в
заголовке первой же, по времени напечатания, статьи, почему этот заголовок и
повторен, как общее надписание, для всех статей. Мы имеем дидактику и ряд
дидактик; мы имеем методику и ряд методик; мы имеем вообще педагогику как
теорию некоторого ремесла ли, искусства ли (внедрять данную тему в данную
душу). Но мы не имеем и не имели того, что можно бы назвать философией
воспоминания и образования, т. е. обсуждения самого образования, самого вос-
питания в ряду остальных культурных факторов и также в отношении к вечным
чертам человеческой природы и постоянным задачам истории. Кого не поразит,
что так много учась, так тщательно учась, при столь усовершенствованных ди-
дактике, методике и педагогике, мы имеем плод всего этого (новый человек)
скорее отрицательный, нежели положительный. Забыта именно философия вос-
питания; не приняты во внимание, так сказать, геологические пласты, коих повер-
хностную пленку «назема» мы поэтому так безуспешно пашем.
Тема статей есть собственно не русская школа, но та общая почва, на
которой стоит и русская школа, недавняя по происхождению, не окрепшая на
ногах, не имеющая за себя других аргументов кроме подражательности и
традиции. Много тут (около практики дела) полегло усердия, таланта; мук
детских, часто язвительных, и краткотечных радостей; более всего (и для меня
дороже всего) - слез материнских, отцовского недоумения, слез невидимых
и самых жгучих, недоумения - никак не разрешившегося. Сойти в кучу этого
труда и страдания хотя с малейшей надеждой на помощь - это руководило
меня, и, вероятно, никогда не перестанет руководить педагогов-филантро-
пов, педагогов-мыслителей. Итак-да бегут эти страницы во внимание людс-
кое прежде всего как помощь, как утешение, как разрешение недоумения.
При настойчивом проведении через печать своих мыслей, я не мог не
впадать кой-где в повторения; нет повторяемых статей в этом сборнике, нет
повторяемых с границ, но нельзя было совершенно избегнуть, чтобы не было
кой-какой повторяемости в мысли, наблюдениях, указаниях. Это-да простит
автору читатель.
С.-Петербург,
21 января 1899 г.
621
СУМЕРКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
I
«...После сорокадневного брожения в закрытой колбе, вещество оживляется и
двигается, что легко видеть. Оно принимает форму, отчасти подобную чело-
веческой, но совершенно прозрачную и еще без corpus. После того его нужно
кормить arcano sanguinis humani* в продолжение сорока недель и держать
постоянно при одинаковой теплоте ven tris equini**; тогда выйдет совершенно
живое человеческое дитя, со всеми членами, какие бывают у всякого другого
дитяти, рожденного женщиною, но только гораздо меньшей величины; такое
дитя мы называем Homunculum».
Эти слова Парацельса об искусственном, помимо природы, способе
образования человека невольно припоминаются при взгляде на ту картину,
какую представляет Европа в своих попытках образовать, уединясь от исто-
рии, человеческую душу через соединение в ней путем воспитания различ-
ных и одинаково ценных качеств. Задача знаменитого алхимика, по своему
смыслу и основаниям, была лишь слабым прообразом той задачи, которая с
неменьшим упорством и гораздо с большею уверенностью в успехе осуще-
ствляется повсюду, во всех странах, в наш век: выработать в искусственных
условиях, лишь подражающих природе, живой организм, вырабатываемый
только через ее таинственные процессы. Как это ни удивительно, но мечта
Руссо, на осуществление которой он едва ли надеялся сам, получила приме-
нение в эпоху, во всех других отношениях чуждую какой-либо мечтательнос-
ти. Уединившись в воображении своем, отвращаясь от живых людей, он со-
здал образ Эмиля, этого истинного Homuncul’a новой Европы, по образцу
которого с тех пор и до нашего времени множество людей пытаются осуще-
ствить ту же мечту. Вне традиций своего народа, вне смысла своей религии,
вне целого движения двухтысячелетней истории гражданин, отовсюду из-
гнанный, образовал идею нового гражданина, фикцию, которая могла бы
заключать его общественный договор, населять его республику} и филант-
ропы, законодатели, политики всей Европы, как будто уже слабо чувствуя на
плечах своих давление истории, сбросили остатки ее в сторону и обратились
к этой же фикции, чтобы ее одну любить, ее осуществлять, ее налагать, как
нормирующий образ, на образ живых поколений, перед ними возраставших.
И когда на других поприщах, не на воспитательном, неудачи постигали их,
они раздражались сетованиями на воспитание, все еще недостаточно при-
близившее людей к искусственному представлению человека, какое они со-
ставили. Практические люди и теоретики, во всем расходившиеся, соглаша-
лись единодушно в том, что здесь лежит ключ ко всякому прочному успеху,
и в меру того, насколько они чего-нибудь желали, к чему-нибудь стремились,
* тайной человеческой кровью {лат.).
** брюшко {лат.}.
622
они прежде всего напрягали усилия, чтобы овладеть этим ключом. Государ-
ство, так неизмеримо воспреобладавшее в XIX веке над всеми остальными
сторонами народной жизни, естественно и получило в свое обладание этот
ключ. Церковь со своим особым кругом понятий и преданий, семья с инди-
видуализмом своих навыков и стремлений, не говоря о других меньших, но
столь же живых и конкретных силах истории, были недоверчиво или пренеб-
режительно устранены от воспитания. Филантропы и теоретики, насколько
они хотели перейти от мечтаний к действительности, должны были войти в
сеть административных учреждений, всюду выделенных государствами для
осуществления этой цели. Излишнее, индивидуальное, что было в них, они
вынуждены были глубоко схоронить в себе и стать, если желали быть чем-
нибудь, только выполнителями безлично-общих начал, достаточно зрело уже
обдуманных и всюду решенных к применению.
Как институт исключительно правовой, государство не имеет непремен-
ной связи с какой-либо религией*, с определенными формами быта, ни во-
обще с чем-либо, завещанным из истории, что, развиваясь с ним бок о бок в
жизни народной, остается, однако, для него внешним. Не в этом всем, но в
особых правовых целях, лежит центр его интереса, непременные и ненару-
шимые нормы деятельности, и ко всему прочему, раз оно так же становится
предметом его деятельности, оно не может иметь отношения внутреннего,
субъективного. Цель в воспитании, тот мысленный образ «человека и граж-
данина», какой оно стремится осуществить, может стать субъективной це-
лью в государстве; но средства образовать его, но то, с помощью чего этот
образ из мысленного мог бы стать действительным, как бы настойчиво они
ни были применяемы им, всегда и неизменно будут применяемы лишь вне-
шним образом. Вне отношения к достигаемой цели, в самих себе, они не
имеют никакой особой цены для государства; то, что для них есть непремен-
ное и внутреннее, для него есть лишь случайное и побочное. Отсюда - начала
выбора, анализа и эклектизма, примененные всюду к этим средствам; отсю-
да же механизм в самом способе их употребления.
В отдельные светлые моменты истории, как ни противоположны были
они по смыслу и духу, человек являлся с чертами хотя и различными, но
одинаково прекрасными. В цветущее время античной древности, в первые
дни Христианства, в радостный век Возрождения и, наконец, в эпоху великих
научных успехов за три последние столетия, он носил облик, резко выделен-
ный, но равно привлекательный. Для всякого, кто стоял в круге особых инте-
ресов, какими жила каждая из этих эпох, не могло быть сомнения в их разно-
родности и несоединимости; но эта разнородность, так живо чувствуемая
при субъективном к ним отношении, не могла быть понятна и сколько-ни-
будь признана государством, равно удаленным от всех них, равно холодным
* Рим языческий до Константина Великого и потом христианский до Ромула Ав-
густула, Германия католическая до Карла V и протестантская после него, наконец,
Швейцария и Соединенные Штаты без государственной церкви могут служить исто-
рическим доказательством этого общего положения.
623
ко всему этому,- и которому, однако, из них именно предстояло выбрать
питающие элементы для образования желаемого образа. Соединить разбро-
санные черты истории, с одним условием, чтобы оне были наилучшие, и
путь их направить в восприимчивую душу подрастающих поколений - это
было единственное, что оно могло сделать, и ему естественно казалось, что в
этом лежит верное средство и воспринимающие души сделать как бы отра-
жением всего лучшего, что было в истории. От недостатков в восприятии, от
неполноты воспринимаемого могли произойти недостатки и в формируе-
мом духовном образе; но что самый принцип формирования верен - в этом,
по-видимому, не предстояло разубеждаться. Натуральная, голая человечность
в ее высших формах, какие завещала классическая древность в своей поэзии,
в своих мифах и даже в крупных чертах истории, - та же человечность, но уже
отвергнутая в наготе своей, как беспомощная, и получившая как бы новое
рождение в христианстве, - наконец, несколько простое и грубое, но точное
и удивительное знание человека о себе и о мире, какое достигнуто было им
от Коперника и до Фарадея, - все это вошло в круг питающей arcani sanguinis
нового человека*.
В составе целого, каждый элемент должен был занять какое-нибудь поло-
жение, и естественно, что при объективном, чисто внешнем отношении ко
всем им, они должны были расположиться соответственно той важности,
какую имели в истории. Для государства, как правового института, чуждого
каких-либо субъективных принципов, ни третий, ни в особенности второй из
указанных элементов не могли по ценности сравниться с первым - именно
по его ясности, по его несвязанности какими бы то ни было темными начала-
ми, для права неясными и даже подозрительными. Человек, как он вышел из
лона природы, - для государства, выходящего также только из ее лона, есте-
ственно должен был казаться наиболее достойным подражания и, следова-
тельно, изучения. Отсюда - перевес, данный всюду древним литературам,
большее склонение государственного внимания к филологам, с которыми
вне связи на этом пункте вообще у него нет и не может быть ничего общего.
Возле классических литератур, как центра в пуке воспринимаемых впечатле-
ний, расположились остальные элементы, несколько ослабленные, сравни-
тельно с этим, в количестве и напряжении действия. Это соотношение, как
наилучшее, должно было неизменно сохраняться: в образуемом, эклекти-
* В средней школе, как основном ядре воспитательной системы, установились
следующие предметы, соответствующие трем указанным элементам: 1) классические
языки, т. е. подготовление к чтению древних писателей, и самое чтение их: поэтов,
историков, ораторов, философов; 2) ветхозаветная и новозаветная история, история
церкви, церковная догматика и литургика; 3) космография, физика с кратким очер-
ком химии, алгебра и тригонометрия, география. История в отдельных частях своих
распределена между этими тремя группами. Новые языки есть средство со временем
глубже войти в дух и смысл каждой из этих трех групп предметов. Изучение литера-
туры повсюду имеет местный интерес. Без какого-либо видоизменения по странам,
эти предметы всюду в Европе признаны за «общеобразовательные», на усвоение
которых назначается возраст от 10—18 лет, и часто дальше.
624
чески собираемом, духовном существе каждый порознь элемент непремен-
но должен был стать частью, не выходящей из строгого подчинения величи-
не остальных частей,- дробью, никогда не переходящей за некоторый тесный
предел*.
Когда каждое впечатление в отдельности хорошо и хороша также всякая
сумма их, - ясно, что наибольшая из всех сумм должна быть и наилучшая. Из
этого принципа, столь ясного, вытекло всюду возможное расширение пре-
подаваемых курсов. Только в утомительности продолжительного и однооб-
разного усвоения все тех же впечатлений это стремление находило себе пре-
пятствие, и оно счастливо было обойдено чередованием разнородных впе-
чатлений. Явное несходство трех главных групп предметов открывало лег-
кую возможность не держать продолжительное время душу
воспитывающегося под каким-нибудь одним впечатлением, или под несколь-
кими родственными. Отсюда вытекла принятая всюду система уроков, при
которой ни одно впечатление не держится долее часа, и иногда менее - 55
минут. Эти впечатления чередуются так, что два смежных всегда не имеют
между собой ничего общего. В меру отчетливости и твердости состава этих
впечатлений должна была возрасти правильность и в чертах составляемого
духовного образа.
Наконец, так как и при этой интенсивной системе усвоения, усвояемый
матерьял все еще был слишком обширен, придумано было сжать каждую
часть в нем до minimum’a, так, чтобы каждое усвоение, будучи кратко по
времени, было в то же время чрезвычайно обильно по количеству. Матерь-
ял, т. е. духовные плоды, завещанные каждой исторической эпохой, естествен-
но мог подвергнуться этой переработке: Пунические войны, так пространно
рассказанные Ливием, могли быть переданы в немногих словах без того, что-
бы какой-нибудь факт стоял в них иначе, чем в действительности; судьбы
израильского народа, жизнь Спасителя, деяния Апостолов и мучеников пред-
ставляли столь тесное поле фактов, что, без мелочных подробностей, в своих
крупных и значащих чертах, они могли быть усваиваемы совершенно быст-
ро. Каждая речь могла быть передана в ее смысле, и каждое событие - в
точном наименовании факта. Еще с большим удобством это могло быть при-
менено к результатам новейшего умственного просвещения: открытие Ко-
перника укладывалось в несколько строк, и их не более требовалось для от-
крытий Колумба. Сжато, легко, гладко проскальзывали в устремленное к ним
внимание земля и небо, океан и суша, пророки и революция, Гомер и элект-
ротехника с помощью особых маленьких книжек, где были для этой особой
цели абстрагированы природа и люди. Ряд символов почти заменил ряд фак-
тов, живые лица стали только большими и малыми именами. Что усвоять
всякую действительность через эти символы и бесконечные вереницы слов
значило почти то же, что ботанизировать в дровяном складе - это могло быть
сколько-нибудь понято и признано лишь при субъективном отношении к чему-
* Это достигается при помощи балловой системы.
625
нибудь, при особой и исключающей всякую другую привязанность привя-
занности к какому-нибудь из живых созданий, к которым был применен этот
метод абстракции.
И, наконец, в заботах не только о наибольшем для каждого, но и о наи-
большем для всех или очень многих, всюду был установлен способ коллек-
тивного обучения. Ученик никогда более не оставался наедине со своим учи-
телем; учитель никогда не говорил лицу, но только толпе. Все индивидуаль-
ное, что было в одном и в другом, заботливо пряталось, люди соприкасались
здесь только общими сторонами своего существа. Всегда соединенные, они
были, в сущности, все уединены, - и то, в чем они были уединены столь
постоянно, было как бы непризнано. Эта непризнанная сторона их существа
была в то же время самая главная, потому что в отличие от животного чело-
век именно в индивидуальности своей несет свой существенный, особый
смысл; в ней же лежит и родник всякого духовного творчества. Долгое вре-
мя, в лучшие годы затененная, она мало-помалу атрофировалась, в то время
как общие, усвояющие только, стороны души разрастались исключительно
при усиленном и непрерывном освещении.
II
Можно думать, что Парацельс, с таким чистосердечием написавший приве-
денные выше слова, действительно видел, как смешанные им вещества при-
нимали человекообразную форму; логическая убежденность, что данное яв-
ление должно произойти, иногда делает то, что наши глаза как будто действи-
тельно видят ожидаемое явление. Но достаточно было постороннему войти в
его лабораторию, чтобы понять, что мертвый матерьял в его «закрытой кол-
бе» и остается безжизненным, как был прежде.
Все чувствуют, и уже давно, в Европе, странную безжизненность возра-
стающих поколений. Они безжизненны не в одном каком-нибудь отношении,
они лишены не которых-нибудь даров, будучи богато оделены другими. Имен-
но ядра в них нет, из которого растет всякий дар, всякий порыв, все энергич-
ное в действии или твердое в сопротивлении. Та «искра Божия», которая
светится в человеческом образе часто сквозь мрак, его одевающий, сквозь
его грубость, необузданный произвол, невежество, - в этих поколениях, на-
ружно лоснящихся, ничего выдающегося дурного не делающих, как будто
погасла, и ее ничто не способно пробудить. Странная антикультурность, на
исходе XIX века самой великой в истории культуры, поражает в них: они не
только не продолжают своего времени, не суть дети безумного в порывах
своих «просвещения» XVIII-XIX веков; они и не принадлежат ни к какой
другой эпохе, не сочувствуя и не понимая более ни одной из отживших куль-
тур. Христианство с его высоким спиритуализмом, аскетическими подвига-
ми, углубленной, святой лирикой, - ничего не говорит их сердцу, возбуждая
или кощунство, или равнодушие, или слабые попытки его переиначить; его и
626
того культа плоти, того самоуслаждения человека своей красотой, которым
жила древность и что вспыхнуло и ярко засветилось на рубеже средней и
новой Европы, в них нет не только как собственного чувства, но и как пони-
мания чужого чувства. И нет никакого желания по уединенному труду, по
героизму мысли, по отречению ради отыскания истины от всех утех жизни,
последовать необозримому множеству тружеников на всех поприщах за три
последних века. Как будто какая-то предательская рука, подкравшись к лезу-
щему на Олимп поколению прежних титанов, в миг, когда они были так гор-
ды, так упоены близкой победой - оскопила их, и сразу потух свет в их глазах,
укротилось желание, спала гордость, и они одинаково безнадежно смотрят
на небо и землю.
Даже, не говоря о выдающемся, гениальном или героическом, - среднее
становится не под силу этому потускневшему вдруг поколению. Удивительное
дело: в ту пору, о которой, как и для нашей страны, для всей Европы можно
было повторить, тысячу раз с неправым упреком повторенные, слова:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь, -
удивительно, что в эпоху этого «немногого и небрежного» учения были люди
столь истинного, столь высокого образования, о каком, тщетно и долго обра-
щая глаза вокруг, каждый понимающий, что такое образование, начинает ду-
мать невольно как о золотом, манящем предании, которое ничем более не
напоминается в действительности. И все это при массе всюду рассеянных
точных сведений, при неутомимом труде над книгами, при самом ярком чес-
толюбии именно на этом поприще снискать какие-нибудь лавры. Никогда в
желаниях просвещение не было так чтимо, так искомо; и никогда же не было
оно в действительности так мало найдено и даже так слабо понимаемо. То
эластическое, что есть в нем, что не укладывается ни в какое точное сведение,
не приобретается никаким трудолюбием, что есть чистый и непроизвольный
пламень горящей в человеке «искры Божией», которая всякое трудолюбие и
все сведения делает лишь пожираемым матерьялом своим,- того именно и
нет в людях, для возжения чего, однако, так много, так трудно учащихся.
Никогда и никто не пытался связать это угасание в человеке всех высших
даров с самими орудиями, которыми, по плану, подготовляется их пробуж-
дение. Все и всегда, сознавая это угасание как ясный и точный факт, стреми-
лись найти причину его в слабости этих орудий, в том, что они недостаточно
еще предотвращают от воспитываемых грубые влияния действительности,
что «колба», в которой совершается таинственное образование нового чело-
века, недостаточно «закрыта». Но самое легкое размышление могло бы пре-
дупредить это бесполезное искание причин не там, где оне: если орудия вос-
питания, оставляя желать многого в исключительности своего действия, все-
таки действуют хорошо и столь продолжительное время - почему такл/яло в
них силы сопротивления? Откуда это непостижимое явление, что и продол-
627
жая им подвергаться, и тотчас по окончании их действия, вновь изготовлен-
ные «Homunculi» так совершенно податливы на всякое низменное влияние, и
только ко всему достойному, что встретилось бы им на пути, так безучастны?
Почему не Виргилий, не Тацит и даже не какая-нибудь из новых хороших
книг влечет их и убеждает, но плохой газетный листок и самая обыкновенная
страница журнала? То, о чем, по плану, они должны бы и понятия не иметь,
с чем не должны бы иметь ничего родственного, странным образом оказы-
вается им близко и совершенно родственно. Напротив, к тому лучшему в
современном, к оригинальному, - умному, что, чем бы ни было окрашено,
именно по внутренним своим абстрактным достоинствам, должно бы при-
влекать их абстрактно же к лучшему воспитанный ум, не только не привлека-
ет его, но и остается совершенно для него непонятным. «Procul profanum
vulgus»*, - как бы говорит в своем замысле, в своей идее искусно придуман-
ный, образующий юные души, механизм; и вот, когда из его сети окрыленная
душа вылетает, чтобы, кажется, лететь к небесам, - она, бескрылая, падает в
самые бездонные низины, к этой ожидающей ее, как-то таинственно ей уже
знакомой, profanum vulgus.
Ill
Не в особенной притягательной силе этих низин следует видеть причину этого
падения, но в слабости крыльев, которые не могут поднять над ними душу.
Пора, в самом деле, предположить, что эти крылья, искусственно сделанные,
искусственно же и прикреплены, а вовсе не выросли из души; и поэтому
именно никуда, ни от какой опасности не могут уносить ее.
В постоянном, усиленном стремлении регулировать подробности, в не-
прекращающихся спорах только о них, о новых комбинациях предметов, о
расширении или сужении их объема, о минутах, часах и точных во всем этом
отчетах, была опущена общая основа дела, которая, раз обдуманная и ре-
шенная, никогда более не возбуждала сомнений. «Закрытая колба», в кото-
рой успешно совершалось кипение, могла быть удлинена или утолщена; ве-
щества в ней могли быть перемешиваемы и кое-что, но немногое, к ним
прибавляемо; но чтобы в принципе ее самой, в ее способности дать ожида-
емое, кто-нибудь Помнился - этого в рядах тысяч алхимиков, ее построив-
ших, над нею наблюдавших, нельзя было ожидать.
И между тем в том абстрактном, отвлеченном от всяких подробностей,
описании этого механизма, где названа одна его сущность, без затеняющей
оболочки, едва ли не поймет уже всякий, к чему он способен.
Едва ли кто-нибудь не поймет, чем должна стать развивающаяся душа, в
течение 8-10 лет покрываемая тусклыми и слабыми черточками, не тянущи-
мися, перерывающими друг друга, не внедряющимися ни одна так, чтобы
всколебать и пробудить собственные силы в почве, на которую она ложится,
* «Прочь непосвященная чернь» (лат.).
628
но в нее не входит. Для всякого должно быть ясно, что если слова Спасителя
преобразовали мир и слово Евангелия преобразило не одну душу, - гладкая,
проскальзывающая страница о нем, тотчас закрываемая другою страницей,
говорящей о бургундах или об Эвклиде, не производит и не может произве-
сти на душу никакого впечатления. И также, чтобы другое из питающего
матерьяла мы ни взяли, - общее, что в нем окажется, будет бессилие оставить
какой-нибудь след, как-нибудь повлиять, к чему-нибудь поднять душу. За
множеством деталей, за тщательным взвешиванием количества поступаю-
щих впечатлений, была опущена сама важная сторона в каждом из них: что
лишь ничем не прерываемое, входя в душу свободно, неторопливо с ней
взаимодействуя, оно оплодотворяет ее; тысячи же прерванных, оскопленных
впечатлений оставляют ее бесплодной. Как это ни непостижимо, но идея
Локка о tabula rasa*, как о сущности души человеческой, свила себе гнездо в
области, едва помнящей его имя и, быть может, к нему неприязненной, и,
овладев практикой этой области, погубила бы ее, как погубила она и филосо-
фию, если бы имела силу овладеть ею. Это он первый, взглянув на душу, как
на бессодержательный в самом себе восприемник ощущений, тем самым
молча открыл свободу для вывода, что чем обильнее и лучше будут самые
впечатления, тем содержательнее и, следовательно, глубже и совершеннее
будет сам дух человеческий. Тот мир отзвуков, которые каждая душа в меру
даров своих дает в ответ на каждое ощущение, - мир, всегда неизмеримо
превосходящий бедное в содержании своем ощущение, был забыт при этом
и при системе учащенных, через час чередующихся впечатлений, - стерт,
сведен к небытию, погиб даже, не проросши из семени. И между тем именно
в этих вздутиях души, только ожидающих извне прикосновения, чтобы дать
трещину и обнаружить свое содержание, и скрываются до времени и неви-
димо ее крылья, освободить которые из сдерживающей оболочки, укрепить
и научить ими управлять - есть вся задача воспитания. Но здесь мы тотчас
переходим к необходимости в нем индивидуальности: на одно и то же впе-
чатление всякая отдельная душа ответит разно, и именно в меру того содер-
жания, которое с ней послано в мир. И так как именно раскрыть это содержа-
ние должен воспитывающий, он никогда не должен обращаться с чем-нибудь
значительным по смыслу к толпе, но всегда и только к лицу. И когда он поче-
му-либо не может этого сделать, ему лучше довольствоваться лишь незначи-
тельным и, инстинктивно чувствуя это, он им и довольствуется.
Действие закона этого (который как только нарушен - воспитания нет) и
обнаруживается в том, что при усиленном, постоянном, но постоянно же
прерываемом внушении определенных привязанностей, интересов, склон-
ностей в школе, эти последние или вовсе не прививаются, или опадают тот-
час, как только встречают потом в жизни малейшее себе препятствие. И,
напротив, один уединенный разговор, часто с человеком одинакового ум-
ственного развития, или случайно вычитанная мысль становится поворот-
* чистая доска (лат.).
629
ным пунктом во внутреннем развитии. Каждый, обратясь к воспоминаниям
личным, найдет в истории своего духовного возрастания такие поворотные
точки; но чтобы которая-нибудь из них связывалась в его воспоминании с
одним из тысячи уроков, выслушанных в годы самой горячей восприимчи-
вости, этого, вероятно, никогда и никто не найдет.
IV
Кажется, на начале индивидуальности, но уже не в восприятии, а в творчестве,
основано и то, что все созданное человеком в истории может быть понято и
почувствовано, только когда к нему прикасаешься в том самом виде, в каком
оно было создано. Не говоря об образных искусствах, где это само собою
понятно и никогда не оспаривается, и в сфере собственно словесного искусст-
ва, т. е. как поэзии, так и вообще всяких словесных памятников, никакая пере-
дача не только не усвояет их другому, но и вообще нисколько не приближает
этого другого к их пониманию. Это потому, что во всяком создании, где ше-
вельнулся творческий дух, непременно отражается в неуловимых особеннос-
тях личность его создателя, не сливающаяся ни с каким другим лицом в исто-
рии. Творит человек, т. е. приносит нечто новое в мир, всегда не общим, что
есть у него с другими людьми, но исключительным, что принадлежит ему
одному. Однако думать, что все произведение состоит из этих творческих осо-
бенностей, было бы ошибочно. Придавая ему вечную жизнь и вечную же
прелесть для всех людей, эти черты суть только махровый налет на листве,
который, как только слетел с них - они становятся похожи на всякие другие
листья. Сюжет произведения, его основа или матерьял - это происхождением
своим уже не обязано личному духу, но тем общим человеческим способно-
стям, которые у него одни со всеми прочими людьми. Взятые другим худож-
ником и оставаясь те же по существу, они приняли бы на себя совсем иную
окраску, печать другого лица, его особой индивидуальности. Во всякой же
передаче и остается именно этот сюжет, безлично общий, никому не принад-
лежащий в особенности и, без сомнения, никому не нужный. Поэтому только
неизъяснимо далекой объективностью, какая естественно веет в отношении
государства как правового института ко всякому подобному цветку античной
древности, христианского мира новых веков, можно объяснить, что при регу-
лировании им воспитания - преимущественным орудием последнего стали
эти оголенные листы культуры всех времен. Мы разумеем здесь литературу
учебников, где сокращенно все переложено, где всякие трудности для пони-
мания сглажены или обойдены, все особенные зацепы знания тщательно уст-
ранены. Гладко, без затруднения, даже в полураскрытое внимание проскаль-
зывают через учебники эти «сюжеты» всех наук, литератур, исторических
эпох - все, над чем столько страдали ряды человеческих поколений, что они
так трепетно любили и с таким доверием передали нам. Тот «особый и облег-
ченный» путь к науке, о котором Эвклид сурово сказал своему государю, что
630
«его нет и для царей», — этот путь открыт теперь для всякого, не требуя не
только каких-либо особых напряжений мысли, но и простой любознательнос-
ти в силу расставленных по нему приманок. Есть нечто непреодолимо развра-
щающее в этом отношении к науке без соотношения с ней способностей, в
постоянном узнавании без соотношения с ним любознательности, в этом
многолетнем пожирании плодов с непосаженного дерева, и даже без вопро-
са, как трудно и долго оно росло и кто и зачем его садил.
Мы сказали «плодов» в смысле оголенных результатов, а не в том, чтобы
это неустанное и обильное усвоение в самом деле заключало в себе какую-
нибудь сладость или даже только питательность. Эвклид, отказав Птоломею в
особом пути к познанию геометрии, был прав не только как строгий охрани-
тель науки, но он был и справедлив к самому Птоломею, как человеку. Зачем
приходить и учиться, если нет совершенной любви к науке? - и бросать ради
поверхностного ее усвоения, ради тщеславного к ней прикосновения, дру-
гие, практические поприща, нисколько не низкие, которые также требуют
любви к себе и отдаваясь которым с любовью и без какой-либо кривизны
человек все равно остается достойным? Наука, быть может, в самом деле,
есть самое достойное человека поприще; но не тогда, когда она тщеславно
окружена, если она всем навязывается, - а когда остается сама собою, т. е.
одной из самых трудных и поэтому уединенных сфер человеческой деятельно-
сти. И в истории она всегда была такою; но чего не смогли сделать преследова-
ния, ненависть к ней - побороть ее, то сделала нерассудительная к ней любовь,
развратив ее. И в самом деле, как люди, без труда в нее углубляющиеся, не
приносящие ей никакого дара, имеют только подобие просвещения, так и она
сама, не принимающая более никаких жертв, стала лишь подобием когда-то
строгой, уединенной, труднодоступной науки, и свет ее тускл и ложен.
Ложность этого просвещения - мы возращаемся к тесной, рассматрива-
емой нами области воспитания - сказывается в том, что на общие, не инди-
видуальные стороны развивающейся души не индивидуальными же, общи-
ми сторонами своими действует и весь питающий ее матерьял. Отдельные
эпохи истории и великие произведения слова, передаваясь, первые - в крат-
ком изложении событий и вторые - в «образцах», сопровождаемых обзором
остального, есть именно то отряхание махровости с продуктов человеческой
культуры, то бесплодное собирание оголенных листьев, о котором мы гово-
рили выше. Только с любовью, долго, при собственных дарах или любящем
учителе, останавливаясь на самом кратком, в несколько минут прочитывае-
мом произведении, можно впитать из него тот аромат, который оно содер-
жит в себе, живою же душой отозваться на ту жизнь, которая таинственно
завита в нем его давно умершим творцом, и, отозвавшись, пластически видо-
изменить свою душу под прекрасным, благородным впечатлением, на нее
павшим. Но думать, что хоть тень этого воспитывающего действия может
произойти при изучении великих произведений с часовым циферблатом в
руке, - есть заблуждение, которого, поистине, нельзя не назвать безумным.
И также безумно думать, что имеет какое-нибудь значение, к чему-нибудь
631
относится «изложение остальных частей сюжета», что, как рысь за торопли-
вым шагом, всегда следует за чтением «образца». Кто это делает, кто вынуж-
ден это делать год за годом, и по смерти его снова же год за годом другой, не
может не чувствовать при этом болезненного ощущения, и оно отсутствует
лишь у тех руководителей, которые тускло знают вечный предмет своей кас-
трации, и потому ничего в нем особенного не любят и ни о чем не жалеют.
Едва ли не этим следует объяснить отсутствие каких-либо привязаннос-
тей, цинизм в отношении ко всякой культуре, с каким подрастающие поколе-
ния всех стран, целой Европы, стремятся на ветхую, тучную почву своей
родины, чтобы, мелко потоптавшись на ней, - умереть, ничего не прибавив
к ее богатствам. И в самом деле, если в быстрой перемежаемости всех впе-
чатлений лежит субъективное основание этого факта, то в оголенности их
всех лежит его объективное основание. Не только нечем воспитывающимся
привязаться к истории, к культуре за недостатком развития в них индивиду-
альности; но и не к чему в ней привязаться им за устранением в питающем
матерьяле этого же индивидуального, особенного, - за скрытием истинной
красоты в нем и истинного величия. Потому что, например, на четырех стра-
ничках ознакомиться с деятельностью Вселенских соборов, или в четырнад-
цати строках, - с деятельностью Базельского или Констанцского собора - это
не только все равно, что ничего не узнать о них, это значит узнать о них
постыдно-ложное, нестерпимо-клевещущее. Пусть бы лучше, взглянув на
ветхие фолианты, где записаны акты этих соборов, всякий подумал: «Есть
нечто великое, чего я не знаю», - нежели, пропустив скользнуть в себя деся-
ток страничек, думать: «Было то-то и то-то, что я знаю, но зачем узнал - не
знаю». Это особенность современного образования, что, воспринимая лишь
схемы всего действительного, что было прежде и существует теперь, воспи-
тываемые не только ни о чем действительном не имеют понятия, но и имеют
ложное и наглое понятие, будто бы все, но лишь без подробностей, они уже
знают. Подробности же, естественно, им кажутся менее значительными, и
если уже «главное» так мало привязало их, так мало заинтересовало, они
думают не без ребяческого основания, что еще менее могли бы заинтересо-
вать их достойные внимания эти опущенные подробности. Что именно толь-
ко в одних подробностях узнается и смысл главного, это так же далеко от их
мысли, как и от представления ко всему объективно, схематично, относяще-
гося государства.
Как пыль на окраине дремучего леса, где можно и заблудиться, но и
испытать великие ощущения, где есть рытвины, болота, непроходимые тру-
щобы, но есть и светлые, величественные картины, куда вступая всякий не-
вольно оставляет кощунственную улыбку и лицо его принимает строгое вы-
ражение, - как пыль на краю подобного леса поднялся на окраине двухтыся-
челетней европейской культуры легкий рой бумажных листков, который зак-
рыл его от глаз тех, кому на благоговейном созерцании этого леса следовало
бы воспитываться, приучаться к добру, и более всего - приучаться к серьез-
ности, к сознанию своего личного ничтожества и торжественной святости
632
окружающего. О, потом, много лет спустя, будут все те же кружащиеся пе-
ред глазами листки! Но существенно, что и в самом восприимчивом возрас-
те, когда окрыляется душа, она не видит перед собой уединенных, седых вер-
шин, не приучается бояться, благоговеть, трепетать перед недосягаемо вы-
соким, а только вынуждена подпрыгивать в уровень с этими листками, что-
бы наловить их, насобрать, - со странной иллюзией, что в них есть что-нибудь
ценное. Мы выше сказали, что все удивляются, почему в момент, когда бы
крылья уже должны быть выросшие и крепкие, души подрастающих поколе-
ний падают в самую непроходимую тину. Но как и куда бы полетели они,
никогда не поднимавшись высоко? Как не почувствовать им влечения к вуль-
гарному, когда обо всем великом они узнали лишь в вульгарных же формах, на
вульгарном, скользком языке своих бедных «руководств», с вульгарными, де-
ланными восхвалениями или порицаниями и чаще всего, для краткости, даже
без них. Поистине, фальшиво трескучая страница журнала покажется им со-
гретою истинной теплотой сердца, когда даже этой фальшивой теплоты они
никогда не знали в детстве и юности; все им покажется там серьезно, влекуще,
потому что все и действительно серьезнее, привлекательнее, нежели не пред-
меты их долгого воспитания - о, нет! - а орудия обращения к этим предметам,
действие которых одних они и испытали, самих же предметов не видели.
V
Думать, что в отдельные циклы истории красота человеческой природы была
лишь нарастающею и что в каждом индивидууме можно соединить ее отдель-
ные тени, - это также ошибочно и вытекает из отсутствия истинного знания о
которой-нибудь из этих теней. Только отряхая с человека прежнюю красоту,
отрицая ее как величайшую себе противоположность, появлялся на нем но-
вый убор сложных идей и глубоких чувств. «Все добродетели греков и римлян
были лишь красивые пороки»,- говорили христиане первых веков, говорили о
том, что мы, не имея уже и тени их чувств, любим, чем восхищаемся и что
избираем, как предмет подражания для детей своих. Мать Павзания, первая
принесшая камень, чтобы завалить выход из храма, куда спрятался ее испу-
ганный сын, для христианина есть лишь дурная мать, бесчеловечная, и даже,
насколько в нас сохранилось христианских чувств, мы желали бы скорее пре-
дохранить наших детей от подражания ей, нежели выставлять ее для них, как
пример героизма. И если как подобный пример она выставляется в учебни-
ках, то ведь потому именно, что это - книги междукультурные, что они ни из
языческого мира, ни из христианского, ничего в них не почувствовано и ниче-
го же не соображено. И, с другой стороны, когда в тысячелетней средневеко-
вой культуре упоминались христианские чувства и снова, пробивая толщу
веков, брызнул холодный и прекрасный родник античных чувств, чем стали
для него все христианские понятия? Что из них было одобрено, убрано новой
красотой? «Всякая проститутка лучше монаха», - передавались из уст в уста
633
злобные слова светилы гуманизма, Лоренцо Валлы; когда папа Николай V
умер, в комнате его, уставленной богатыми рукописями антиков, не нашли ни
Библии, ни Евангелия. То есть с ярким, страстным ощущением древней кра-
соты потухли христианские чувства, стали холодны, опали; как, напротив, ты-
сячелетие назад с живым ощущением христианства поблек античный мир
идей и чувств. В каждый момент своей жизни историческое человечество
любит что-нибудь одно, перед этим одним преклоняется, его считает величай-
шею святынею своего сердца и высшим авторитетом для своего ума; и нужно
многому пройти, нужны долгие разочарования, неудачи, наконец, сон отдохно-
вения, тянущийся иногда века, чтобы, проснувшись к новому пустым от пре-
жних чувств, стать способным набирать в себя иные чувства, отличные от тех,
какими оно жило ранее. И то, что справедливо относительно собирательного
человечества, справедливо и относительно отдельного человека; по самой при-
роде своей человек есть монотеист, т. е. может поклоняться только одному Богу,
и когда поклоняется двум - ни которому не поклоняется, но перед обоими
лукавит. Это-то лукавое перед всем преклонение, соединенное с холодной го-
товностью все предать, и есть истинный результат того синтетического воспита-
ния, через которое проводятся всюду подрастающие поколения Европы. Ни
любители они древности, ни истинные христиане, ни самоотверженные искате-
ли истины - они между всем этим, вне которой-либо из культур, т. е. не несут на
себе более ни одной из них. От этого, при существовании у них смутного рели-
гиозного чувства, они не знают, удовлетворить ли его христианством или буд-
дизмом; будучи довольно начитаны в новых книгах и помня еще много из ста-
рого, выдумывают новую мораль, удобно соединяющую то и другое. По само-
му воспитанию своему, по долгим годам привычки они склонны ко всему эк*-
лекгическому и ни к какому сильному отрицанию или сильному утверждению.
VI
То, что мы сказали до сих пор, относится к принципам, на которых построена
самая техника воспитания. Но мы едва упомянули о его положении между
другими элементами текущей истории, в ряду других, столь же существенных
нитей жизни, общая ткань которых образует цивилизацию.
По самой своей сущности, как сохранитель внешних и строгих прав, го-
сударство противоположно семье, где все отношения суть внутренние, элас-
тично изменчивы и мягки, не строго принудительны и потому неправильны.
Их отношение, их особенные качества можно понять, сравнив первое со стро-
гой и ясной, но бедной содержанием, геометрической фигурой, а вторую
приравняв к форме цветка, растения, какого-либо реального предмета, го-
раздо более содержательной, но менее правильной. Во всяком случае, имея
противоположные принципы, эти два мира, большой и малый, будучи равно
необходимы для человека, одинаково священны для него, не могут, не теряя
своей сущности, смотреть на что-либо с точки зрения принципа другого. И
634
воспитание, раз став задачею большего из этих миров, всем складом и смыс-
лом своим встало против меньшего; и в то же время наиболее страдательные
и слабые элементы этого меньшего мира стали объектом применения прин-
ципов, противоположных тем, на каких он зиждется. Строгая, внешняя абст-
рактная форма, которая чувствует и сдерживает в их границах лишь группы
людей, но не видит лиц, не знает их имени, их прошедшего, их надежд на
будущее, - это так же неотделимо от самого понятия о государстве, как имен-
но вникание в лицо, надежды, лелеемые о его будущем, горькое или сладкое
воспоминание о его прошлом, - составляют постоянную жизнь семьи, ее
поэзию, на которую она чувствует право. Отсюда - таящийся всюду антаго-
низм между семьей и школой, несмотря на видимый их союз между собою.
Семья не может, не в состоянии признать тех неизменных норм, которые
прилагаются к столь изменчивому, так безгранично разнообразящемуся
объекту, как ее растущие порождения; она видит в них некоторую слепоту к
этому объекту, сухость и узость воззрения на него; она постоянно критикует,
и ее критика, исходя из сердца, бывает страстна, неправильна в частностях, но
права в самом общем основании. Будучи невидима для школы, она развива-
ется тем свободнее, пристрастнее, и от школы всегда переходит на государ-
ство, органом которого служит школа. Подрастающие поколения являются
свидетелями и участниками этой критики, дающими матерьял для нее, могу-
щими ее искусно возбудить и направить, и они делают это во всех случаях,
когда им требуется избежать критики, направленной на них самих. Таким
образом, нравственное ее действие обнаруживается именно на них, на ос-
лаблении в них мужества и чувства долга, ответственности, на чрезвычайно
раннем приучении их к хитрости, к предательскому отношению к школе, ког-
да они бывают в семье, и к семье, когда они бывают в школе. Они чувствуют,
что в этой последней есть готовность отнести все в них хорошее к своему
действию, к своему начинанию, и все дурное отнести к семье, принять за ре-
зультат ее действия, и индивидуально воспитываемому не поставить в вину.
Что эти последние, таким образом, делаются молчаливыми участниками кри-
тики своей семьи, это не только не противоречит, но входит в виды школы,
перетягивающей к себе симпатии младших членов стареющего и ей - она
знает- тайно враждебного поколения. Что если не привязанность, то pietas* к
семье действительно колеблется - этого школа достигает; но тем слабее стано-
вится привязанность к ней самой в растерянных членах колеблющейся семьи.
Не менее противоположности находится в принципах государства и цер-
кви. Последняя еще универсальнее, чем государство; древнее, нежели оно,
но с этим вместе, обращаясь лишь к совести человека, она и вполне индиви-
дуальна-различает лица, имена, прошедшее и будущее индивидуума, к чему
всему государство слепо. Но древние основания, из которых она исходит,
обращаясь к совести, все - мистического происхождения; напротив, в госу-
дарстве все основания новы и рассудочны; они к тому же и изменчивы со-
* преданность (лат.).
635
образно изменяющемуся рассуждению, тогда как основания церкви вечны
именно в силу того, что они не рациональны. Эта вечность каких-то неяс-
ных основ, конечно, признанная государством, но им не понятая, остается
не только непонятою, но и тайно непризнанною менее связанными в своих
мыслях юными поколениями, насколько они воспитываются в рассудоч-
ных, ясных принципах, которыми проникнута школа в каждом биении сво-
ей жизни, кроме немногих специальных, отведенных для освоения с учени-
ем церкви. В силу органического характера, который непреодолимо прини-
мает всякое развитие, и в том числе духовное, преобладающий тип этого
развития всегда подчиняет себе другой, слабейший, но вовсе не совмеща-
ется с ним эклектически. Отсюда - многим непонятная и для всех усилий
непобедимая антирелигиозность, которая при государственном воспита-
нии замечается всюду в подрастающих поколениях Европы. Ее невидный
корень кроется в единстве типа, который непреодолимо стремится принять
в себя всякая развивающаяся душа, и поэтому выбрасывает из себя все, что
не отвечает главному типу, наиболее в ней влиятельному, чаще всего ей
внушаемому и для нее самой, еще неокрыленной для высот созерцания,
наиболее ясному и вразумительному. Трезвость ребяческого суждения легко
роднится со старческой рассудочностью государства, как дитя, минуя ро-
дителей, легко дружится с дедом.
Принцип государственности, несравненно менее выработанный, разви-
тый в новом мире, нежели как был он выработан в античном мире, не разру-
шаясь, но лишь суживаясь, мог бы применяться к принципу церкви; напро-
тив, последний, будучи не только очень выработан, но и в высшей степени
неизменим по своему священному смыслу, всякий раз, когда применяется к
чему-либо, вовсе не суживаясь, - разрушается. Пример высокой, хотя не-
сколько узкой верности отечеству, которая в Древней Руси совершенно гар-
монировала со строгой и выдержанной церковностью, может служить под-
тверждением одной части сказанного; пример развитой государственности,
с которой едва уживается церковность в новое время (Франция), может слу-
жить подтверждением другой части сказанного.
VII
'Не будучи само по себе воспитательно, но заимствуя для воспитания эле-
менты из других сфер - античной древности, христианства, наук и филосо-
фии, - государство оценивает степень воспитания мерою матерьяла, кото-
рый через него усваивается. И так как каждая часть этого матерьяла с его
стороны лишь передается, а не усваивается через непосредственное в нем
самом созерцание, то все воспитание естественно получило характер усво-
ения переданного, т. е. книжный. Для церкви «воспитанный» значит религи-
озный; для семьи - это значит любящий, преданный; и даже для всякого
свободного мыслителя «воспитанный» значит крепкий в суждении, силь-
636
ный в испытании природы. Напротив, для государства, ко всему этому ин-
дифферентного, во всем этом темного, «воспитанный» значит усвоивший
правила веры, знающий сыновние обязанности, наконец, уже достаточно
обогащенный сведениями. Все реальные ощущения, качества, идеи для него
заменяются идеями, качествами, ощущениями, сознаваемыми как долж-
ное, -запомненными, а не испытываемыми. Что переживает человек, уми-
ленно где-нибудь, когда-нибудь, ни для кого не видно молясь, - этого оно не
знает; и заслугу этого оно не признает по ясному, твердо очерченному, все
измеряющему своему характеру. Так же точно и по той же причине для него
неуловим и им остается непризнан всякий художественный восторг, каждое
умственное увлечение, все внутреннее, что мы невольно соединяем с обра-
зом воспитанного и развитого человека. Для признания и оценки всего это-
го ему нужно, чтобы оно было выражено в ясных, измеримых фактах: в
часах и минутах, у него на глазах проведенных в молитве, в запомненном
поэтическом произведении, в количестве усвоенных знаний. Как это ни уди-
вительно, но этого истина: что чрезмерно книжный, мозговой, исключи-
тельно номиналистический характер воспитание всюду получило через на-
правление его учреждением, вообще с книжностью не имеющим ничего
общего, но в сферах, откуда оно берет свой матерьял, эта книжность есть
все-таки единственно ощутимое для него, единственно измеримое, - хотя
бы ему и ненужное, малопонятное.
От этого, опасаясь как-нибудь не выполнить свою задачу, оно боится
всякого реального созерцания, которое могло бы отнять минуту у книжно-
го усвоения; боится лишнего часа, проведенного в церкви, который оста-
вил бы незаполненную лишнюю страницу из «Катехизиса»; отвергает, как
совершенно излишнее, непосредственное созерцание природы, которое
могло бы оставить не разученным важнейшие отражения этого созерцания
в поэзии или художестве. «Бежин луг» Тургенева, «Днепр» Гоголя - это
ему нравится; но час, проведенный действительно на Днепре, или ночь,
проведенная группой детей в лугу, за околицей, - это только праздность,
почти достойная наказания.
В поколении, проходящем через подобное воспитание, его влияние отра-
жается тем, что можно было бы назвать «отсутствием натуры». Обременен-
ное сознание, скорее даже просто память, чрезмерно перевешивает все силь-
ные, страстные или деятельные, стороны души. При лучших успехах этого
воспитания действительность, наконец, просто теряет интерес для воспиты-
ваемых, они сохраняют способность переживать ее лишь книжно - природу
как предмет для поэзии, как напоминание о ней, жизнь - как предмет для
размышлений, для теоретических выкладок. В них утрачивается вкус к самой
жизни; даже понимая ее умом как главное, существеннейшее, они уже ощу-
щают ее лишь как второстепенное, отражающееся в сознании. Таким обра-
зом, выходит, что самое деятельное и энергичное из созданий истории, взяв
на себя несоответствующую задачу воспитания, порождает самое вялое в
ней и бездеятельное.
637
VIII
Можно было думать, что ранее или позже кто-нибудь почувствует всю яркую
несостоятельность этих принципов, легшую в основу воспитания. Уже самая
идея его, создание человека вне духа своей культуры, синтетически собранно-
го из элементов всех цивилизаций, есть идея крайне искусственная, могшая
зародиться только в такой искусственной голове, как у Руссо. Но если в этой
искусственной идее было еще нечто мечтательное и потому влекущее, то она
стала только уродлива, когда за ее осуществление взялись жесткие руки, ниче-
го общего с мечтательностью не имеющие. Впервые в истории мы наблюда-
ем в нашем веке, что не ученье, не церковь, не семья, не любители души
человеческой и знатоки ее сокровищ, но темное во всем этом государство,
сложив оружие и заменив бранные клики колыбельною песнью, начало пес-
товать юные поколения от самого раннего отрочества до полной возмужало-
сти. Римляне устыдились бы этого; греки разразились бы неудержимым сме-
хом, и никогда вечно юные гуманисты или угрюмые отшельники Оксфорда и
Кембриджа не допустили бы этой замены себя княжескими или королевски-
ми чиновниками.
«Не знаю, в каком музее хранится рисунок художника недоброй памяти,
Бачио Бандинелли, изображающий его собственную мастерскую.
Рисунок этот знаменит. Он воспроизведен во многих художественных
изданиях. Нельзя взглянуть на эти снимки без умиления и зависти.
Вечер. В обширной бедной комнате собралась семья учеников много-
грешного мастера и расположилась двумя тесными группами, чтобы пользо-
ваться скудными источниками света. Налево, у высокого камина, в коем под-
вешен первобытный светец, уселись два рисовальщика. Один из них, цвету-
щий юноша, усердно чертит на доске, лежащей на его колене. Двое других
юношей, стоя за его стулом, смотрят на его работу и шопотом сообщают
друг другу свои замечания. С другой стороны камина ученик более зрелых
лет, также с рисунком на коленях, закрыл лицо руками и погрузился в глубо-
кую думу. За ним стоит юноша, обращающий к свету начатый рисунок и
стирающий на нем неудавшуюся черту.
Направо, около длинного стола, собрана другая группа. Вокруг дымной
лампы рисуют три ученика. На конце стола сидит сам учитель и обращает к
рисующим спокойную речь. За ним стоят два зрелых мужа - художники или
ученые, и как бы дополняют и поясняют его поучения. Двое юношей, стоя,
прислушиваются. В комнате тишина; перед очагом дремлет кот; спит и собака,
свернувшись на полу. На полу же и на длинной полке, бегущей вдоль стены,
разбросаны фолианты, обломки статуэток, кости человеческого скелета...
О чем ведет речь горделивый художник? Восхваляет ли он тонкую пре-
лесть создания своего великого друга, несравненного Леонардо? Или стара-
ется он умалить в глазах своих учеников исполинский образ Микель Андже-
ло, этот вечный предмет его зависти, его подражания, его тайных угрызений
совести? Или он просто развивает свои взгляды на художественное творче-
638
ство, на задачи живописи и ваяния? Вероятнее последнее. Ибо перед его
рисующими учениками нет образцов. Не снимками с натуры, с чужих про-
изведений заняты они, но попытками самостоятельного творчества под гла-
зами учителя, прислушиваясь к его веским речам, к мудрой беседе его опыт-
ных друзей.
Как бы то ни было, с изумительною живостью воскресает перед нами в
этом рисунке та простая, строгая, патриархальная школа, которую проходи-
ли великие художники XVI века. Могут ли соперничать с нею наши совре-
менные художественные школы со своим роскошным аппаратом образцов и
пособий, с массою разнообразных сил, художественных и учебных, привле-
каемых к преподаванию, с ежегодно возрастающею толпою своих учеников?
Кто руководит этою массою учащихся, что согревает их душу, кто направля-
ет и поддерживает их первые, колеблющиеся шаги на пути самостоятельного
творчества? Сравните грустный рассказ одного из наших скульпторов о го-
дах, проведенных им в Академии художеств, с красноречивым рисунком Ба-
чио Бандинелли и скажите, вправе ли мы гордиться нашими официальными
храмами художеств?
Искусство - цветок прихотливый и нежный, и возрастить его в тепличной
атмосфере не удается. Ему нужно Божие небо, трезвящая прохлада горных
вершин, свет и тепло неподдельного солнца. Можно придумать, можно
устроить, можно купить преподавание технических приемов, необходимых
каждому искусству. Но воздействие творческого духа великих художников на
зарождающиеся таланты не может быть ни организовано, ни предписано;
это - свободный процесс, вытекающий из неуловимого сродства духовных
складов и дарований, это - таинство, совершающееся только силою любви.
В цветущие времена пластических искусств всякий именитый художник
творил, окруженный толпою им избранных, его избравших учеников. Эти
юноши составляли его семью, были свидетелями и участниками его трудов,
постоянными его собеседниками. Под глазами мастера, при драгоценной
его помощи и словом и делом возникали их первые творения. Кроме настав-
лений учителя они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, все-
гда группирующихся вокруг выдающихся художественных деятелей. Этим
путем укреплялось, расширялось умственное развитие, столь необходимое
художнику, столь труднодостижимое для него путем школьного учения, ибо
времени на него мало за обязательным упражнением в художественном де-
лании. Ученики великого мастера знакомились в его мастерской с выдающи-
мися представителями общества духовного и светского, с корифеями иных
областей творчества, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись
отблеском той полной художественной жизни, коею жил их учитель. Зарож-
дающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровителей.
И, что всего важнее, у них на глазах совершалось художественное творче-
ство учителя. Сокровенная суть этого творчества, конечно, ускользает от вся-
кого наблюдения. Но в искусствах пластических всякая стадия этого процесса
воплощается в видимых творениях - эскизах, этюдах, постепенно совершаю-
639
щихся рисунках. При самом окончательном исполнении, замысел художника
очищается и преобразуется. Из всей этой видимой работы мастера чуткий
ученик почерпает бесконечный ряд незаменимых поучений. А индивиду-
альная забота учителя о каждом из учеников? А указание, всякому в отдель-
ности, тех работ, которые ему нужны для усовершенствования его техники,
для расширения его художественного понимания? А совет и помощь учите-
ля при первых шагах ученика в области самостоятельного творчества?
Но все это, - возразят мне, - принадлежит далекому, невозвратному про-
шлому. Иные времена, иные нравы. Изменилось общественное положение
художников, изменились условия художественной деятельности. Современ-
ные формы художественного образования - единственные возможные в наш
век широкой, поспешной деятельности по всем отраслям человеческого твор-
чества. Их постоянство, их правильность, их многосторонность - великий
прогресс сравнительно со случайными, часто односторонними формами,
которые принимало это преподавание во времена былые».
«Не могу в этом согласиться. Сущность искусства»*... и умственного
творчества, и всякой духовной жизни - одна и вечна для всех времен; и долж-
на ли она сохраниться при неправильных, случайных, индивидуализирую-
щихся условиях своего возрастания, или эти условия должны стать правиль-
ными, для всех общими, размеренными, и тогда исчезнет эта жизнь, они же
останутся существовать «ап und fur sich»**.
Вот антитеза, и яркое ее сознание, чем далее будет расширяться и укреп-
ляться, тем слабее будут становиться ветхие, не питающие корни, на которых
стоит бесплодное дерево современного просвещения. Не давая ни совер-
шенной тени, ни совершенного света, оно порождает томительные сумерки,
в которых задыхается Европа, никогда еще не знавшая такого бесплодия для
своих творческих сил, никнет христианская жизнь, точно спрыснутая какою-
то мертвою, отравляющею водой.
IX
В приведенном, манящем образе конкретно и положительно выражено все,
что было сказано мною отрицательно и абстрактно о принципах, залегших в
систему нового воспитания. Можно сказать, что - это вздох, столько же выз-
ванный воспоминанием о прошлом, как и сознанием гнетущей тяжести на-
стоящего. В нем уже завиты все мотивы, из которых, как антитеза прежней, не
питающей школы, могла бы вырасти и пышно расцвести школа новая.
Свобода, прихотливая изменчивость форм, теснота внутреннего общения,
всегда личного, никогда общего; впечатления, тянущиеся, непрерываемые,
ложащиеся друг возле друга, повинуясь родству своему, а не удобству совме-
* Сельская школа. Сборник статей С. А. Рачинского. М., 1892, стр. 171-174.
** «для себя самой» (нем.).
640
щения во времени, наконец, «избранный учитель и свободно избравший его
ученик» в непринужденной беседе, никуда не торопящейся, - не это ли рас-
свет просвещения, новая юность его, которая возможна, которая ожидает нас?
Кто не припомнит правил ложноклассической школы, так строгих, так,
по-видимому, рассудительных, которые два века держали в своих холодных
оковах поэзию? И кто же не вспомнит бурного взрыва истинной поэзии,
когда, с падением этих правил, для нее, казалось, утратилась всякая форма и с
нею возможность какого-нибудь выражения? Можно было подумать, что
чудовища полезут из пропасти, куда свалились Буало, Лагарп; но из нее под-
нялись произрастания такой свежести, силы, красоты, взглянув на которые
мир тотчас понял, как уродливы были красивые боги, которым он поклонял-
ся дотоле.
Но то были боги, хотя и бездушные, но красивые; есть ли даже эта краси-
вость в богах, которым мы поклоняемся, которым мы не хотели бы покло-
няться, но не можем, потому что они одни поднимаются перед нами? Да и
боги ли это? Разве в невыносимом стыде они не слезают сами поспешно с
высоты, не гасят курительницы, перед ними поставленные, и не прячутся в
толпу, ища и не находя, как и она, предмета для поклонения. В таких сумерках,
когда небо не освещается ни солнцем, ни луной и звездами, чтобы ни про-
изошло на земле, на ней не будет темнее.
Но мы думаем, что темнота эта временная; что это не последняя, уже
никогда не проходящая ночь, а лишь временное закрытие света «иным ино-
родным телом». Источники света еще не погасли в человечестве; но что они
не могут прорваться, или если и прорываются, то лишь в уродливом виде -
это должно быть очевидно из всего, что было сказано выше о самих условиях
этого прорывания. Нет, не боги нас оставили; но в безумных попытках облег-
чить им рождение, мы со своим низменным искусством так затруднили это
рождение, что вот уже не одно десятилетие, оглядываясь во все стороны,
ниоткуда не видим светящейся, подымающейся головы, перед которой с бла-
гоговением могли бы снова зажечь погасший фимиам.
X
В ряде очерков, внушенных скорее художественным чувством, нежели мето-
дическим размышлением, г. Рачинский указывает всю затруднительность это-
го духовного рождения в наше время; в миниатюрном виде, в сельской уеди-
ненной школе, он практически пытается осуществить новые и лучшие усло-
вия такого рождения. Было бы напрасно и ошибочно видеть в элементарном
обучении весь предмет его размышлений и забот, хотя, по-видимому, они
относятся только к нему. Но метод отношения этого всякий вправе распрос-
транить на весь строй воспитания как элементарного, так и самого высшего;
как, с другой стороны, по отношению собственно к сельской школе, каждый
же может, в своей идее, сузить или несколько видоизменить его требования.
21 Зак 3969
641
Прежде всего спросим: есть ли наш сельский необученный люд что-то
совершенно не культурное, первобытное; или, напротив, он культурен и
вовсе не первобытен? Его сведения элементарны и не научны; к тому же
они все носят эмпирический характер, и эмпирический же склад носит его
ум, трудно поддающийся всякой попытке вовлечь его в продолжительное
рассуждение, в последовательное обдумывание; далее, наши живые сокро-
вища недоступны ему, и с ними недоступны наука в вековом своем богат-
стве, и родная литература; наконец, политические страсти, которые владе-
ют нами, его не занимают. Но исчерпывается ли этим понятие культуры, и
что такое вообще она?
Ближайшее и родственное с этим понятием есть понятие «культа»: куль-
тура есть все, в чем завит, скрыт какой-нибудь культ. Поэтому первобыт-
ный, элементарный человек есть не только тот, кто, озирая мир новыми и
изумленными глазами, ничего не различает в нем и одинаково дивится сол-
нцу и пылающему вдали костру, но и тот, кто всему перестав изумляться, ко
всему охладев, так же, как и дикарь, только ощущает свои потребности и
удовлетворяет им. По духовному содержанию своему товарищ Ромула и
друг Каракаллы одинаково были бедны и, следовательно, бескультурны. Но
тотчас, как человек отступает от этой первобытной элементарности, и чем
далее он отступает, он становится культурен. В чем же выражается это от-
ступание?
В том, что противоположно элементарности, - в сложности. В понятии
культа содержится внутренний, духовный смысл культуры; в понятии «слож-
ности» содержится ее внешнее определение. Культурен тот, кто не только
носит в себе какой-нибудь культ, но кто и сложен, т. е. не прост, не однообра-
зен в идеях своих, в чувствах, в стремлениях, - наконец, в навыках и всем
складе жизни.
Дикарь, будет ли он взят из ранней или слишком поздней фазы развития,
не только не носит в себе какого-нибудь культа, но он и прост на всем протя-
жении своего существа и во всех его направлениях: потребность удовлетво-
рить голод или защититься от стужи есть по существу своему одна потреб-
ность, - в одинаковой степени настоятельная, к одному направленная. То же
можно сказать и о всем прочем, чего желает или за что берется дикарь.
Понятие сложности настолько ясно, что не требует каких-либо для себя
разъяснений; напротив, более внутреннее понятие культа нуждается в таком
объяснении.
Культ есть внутреннее и особенное внимание к чему-нибудь - предпоч-
тение некоторого всему остальному. Дикарь, о котором сказали мы, что он
на всю природу смотрит равно изумленным или, напротив, равно охладев-
шим взглядом, - не имеет ни к чему в ней особенного предпочтения; ни к
чему он не привязан, ничего горячее не любит. По отношению к внутренне-
му существу его все предметы, большие и малые, ценные и незначительные,
равно удалены, т. е. для него нет, собственно, ничего ценного, и в этом имен-
но заключается сущность его бескультурности.
642
Культура начинается там, где начинается любовь, где возникает привя-
занность; где взгляд человека, неопределенно блуждавший повсюду, на чем-
нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него. Тотчас, как произошло
это, является и внешнее выражение культуры, сложность: новые и особые
чувства отличаются от прежних, обыкновенных. Они выделяются, образуют
свежую и особенную ветвь в духовном существе человека, рост которой
обыкновенно сосредоточивает в себе все его дальнейшее развитие, требует
всех его сил.
Предметом культа может быть все, в меру духовных даров того, в ком
культ. Им может быть земля, с любовью и вниманием возделываемая, когда
человек смотрит на нее как на «кормилицу» свою, детей своих, своих предков;
когда бесплодие ее он считает себе «наказанием Божием»; и напротив, чело-
век дик, бескультурен относительно земли, когда поступает с ней как хищник,
ворующий ее дары и с ними убегающий на другое поле, чтобы также обо-
красть и его, обесплодить и бросить. Предметом такого же различного отно-
шения может быть домашний кров, - или гнездо, где человек вырос, где схоро-
нены ему близкие, которые он увьет, сбережет своим детям; или помещение,
где он находится до приискания другого, удобнейшего. Свой край, наконец,
родина, суть более обширные, но однородные с этими предметы культа, осо-
бой любви. Но здесь повсюду ими служат собственно не эти предметы, а сам
человек и его ближние; только через себя и этих ближних он любит их, чтит,
предпочитает всем подобным и даже лучшим, где нет этих ближних. Есть иные
предметы, чисто духовные, которые человек окружает также благоговением,
но уже не ради себя, но, напротив, себя оценивает в меру того, насколько он
крепок им, предан. Это уже чрезмерно высокая степень духовного развития,
поднявшись на которую человек разрывает со своей животностью. Ученый, в
нужде, в скитаниях снискивающий себе пропитание и все-таки не оставляю-
щий любимых занятий, держащийся любимых идей, - есть простой и ясный
пример подобного культа к науке. Джордано Бруно, всходящий на костер за
дорогую, открытую им истину, быть может, за заблуждение своего ума, - вот
высокий образец культа, к какому способен подняться человек. Он может оши-
баться или быть правым; но и в ошибках, и в правде своей, чем бы и где, и когда
он ни был, он - человек, дотоле и в меру того, доколе любит, насколько чтит,
преклоняется. В способности преклониться, понять иное неизмеримо выс-
шим, драгоценнейшим, чем он сам, - есть совершенно исключительная осо-
бенность человека, высшее достоинство, красота его.
В этом точном значении культура есть синтез всего желаемого в исто-
рии: из нее ничто не исключается, в нее одинаково входят религия, государ-
ство, искусство, семья, наконец, весь склад жизни личной и общественной.
Все это, насколько оно зиждется, возрастает, - навивает на человека одну
черту сложности за другой, обогащая его сердце, возвышая ум, укрепляя
волю. И, напротив, насколько это разрушается, с человека сходит одна черта
за другой, пока он не останется прост, обнажен от всего, как тогда, когда
вышел из лона природы.
643
Теперь, если мы примем это объяснение культуры, - а другого нет для
нее по самому смыслу слова*, - то вопрос, поставленный выше, получает
ясное разрешение: будучи чрезвычайно первобытен во всем второстепен-
ном, наш простой народ в то же время во всем существенном, важном, вы-
соко и строго культурен. Собственно, бескультурно то, что вокруг него, сре-
ди чего он живет, трудится, рождается, умирает; но внутри себя, но он сам,
но его душа и жизнь - культурны. В этом отношении он составляет как бы
антитезу высшим классам, над ним лежащим, которые культурны в подроб-
ностях быта, во всем, что окружает их, но не в строе своем внутреннем и
также не в существенных моментах жизни. Можно сказать, и к прискорбию
уже давно, что рождается, думает, чувствует себя и других, и наконец умира-
ет человек высших слоев, если не как животное, то несколько близко к этому;
и только трудится он не только как человек, но и как человек усовершенство-
ванный, искусно приподнятый на высоту. Напротив, грубый люд наш, прав-
да, трудится почти как животное, но он думает, но он чувствует, но он умира-
ет как христианин, т. е. как человек, стоящий на высшей, доступной степени
просвещения.
И только знаки, в которых выражается это у него и у высших классов,
различны; у последних та доля культурности, какая есть, имеет выражение
отчетливое, может быть всегда рассказана, объяснена: это потому, что она
лично каждым усвоена и, будучи усвоена из книг, книжно же и передается,
выражается. Напротив, у простого народа культура выражается в ряде опре-
деленных готовностей, навыков, потребностей. Она почти не выражается в
слове и не может быть выражена, потому что не лично усвоена, не через
увещание или чтение, но передана бесчисленным рядом поколений, предше-
ствующих каждому единичному поколению, теперь живущему. Но и Бруно,
всходя на костер и готовясь осветить мир светом своей личности, быть мо-
жет, не мог бы отчетливо доказать, почему он это делает, а не бежит и не
скрывается. Но теорема Эвклида, отчетливо пересказанная, в смысле про-
свещения, для развития человеческой культуры была ли важнее, чем это нео-
пределенное и смутное движение души, которое связало ему бегство и воз-
вело его на костер. И так же точно, когда молча принимал и всегда готов
принять мученичество за веру простолюдин наш, когда он угрюмо не дает
лекарю разрезать тело своего соседа для выяснения нужных подробностей, -
во всем этом, в бесчисленных подобных случаях, молча сопротивляясь или
твердо требуя, он высоко и строго культурен в характере, в натуре, в глубо-
ком напряжении своих страстей.
Отсюда ясна задача нашей элементарной школы: тот культ, который несет
уже в себе темный люд, прояснить и распространить - вот в чем лежит ее
смысл, ее особое, внутреннее оправдание. Мы не сказали - укрепить этот
культ, потому что кровью своею народ наш не однажды уже запечатлел эту
* Colo - чту, потом возделываю, обрабатываю, развиваю то, что чту; отсюда -
cultum.
644
крепость. Но столь преданный, но так любящий, он никогда не поднимался на
сколько-нибудь достаточную высоту в созерцании любимого им. Можно
сказать, что, как нищий, он стоял в притворе храма и плакал, слыша едва
доносящиеся до него отрывки песнопений и возгласов; и боролся, и защи-
щал храм, и проливал кровь за его стенами, чтобы не вошли и не осквернили
его враги или чтобы криками и смятением они не прервали совершающееся
в нем. Поистине эта верность достойна, чтобы наградиться, достоин он и
увидеть, и понять таинственное в нем служение. Этою наградою за верность
и должна быть ему школа: около храма, около богослужения, около религии,
она-лишь незначительная пристройка, внутренний притвор, вводящий тем-
ную и любящую душу в смысл того, что она безотчетно любила и за что
страдала.
Такова задача школы культурной и исторической, в противоположность
антикультурной и антиисторической, какая установлена была у нас людом,
темным в смысле просвещения и в путях истории. Темны были в просвеще-
нии эти люди, когда, набрав немножко грамматики, немножко арифметики,
прибавив к этому кой-что из географии и истории, думали, что с четырьмя
своими книжками они внесут что-нибудь в душу, над изучением богатств
которой трудятся первоклассные ученые; темны они были в путях истории,
когда думали, что во всем разучившийся и ничему не научившийся наемник,
придя в деревню с этими книжками, может начать в ней новое просвещение.
Мимо их, этих наемников, этих книжек проходили, как и прежде, слепцы,
распевая чудный стих «Об Алексее, Божием человеке», к которому прислу-
шивался народ; все так же всходило для него солнце, зеленел лес, колосилась
нива и непосредственно впитывалось поучение из этой лучезарной книги
Божией, как и из другой, посланной в мир «грешные спасти»; и не могло
этого поучения погасить слабое, гниющее зерно, праздно брошенное на зем-
лю мимо идущим человеком.
Собственно, что все это так - это давно уже и всеми понимается, кто хоть
когда-нибудь, хоть что-нибудь может понять. Но при верности основного взгля-
да на элементарную школу в подробностях и способах его применения мо-
жет быть сделано много ошибок. Эти ошибки тотчас явятся при усилиях, при
напряжении его провести, при страхе, что завтра не может быть сделано то,
что не сделалось сегодня. Тогда сейчас пойдут бедственные программы,
циркулирующие приказы, торопящиеся ревизоры и весь гам и сор админис-
тративной техники, услышав который, ощутя вокруг непотребное, священ-
ник закроет Евангелие и народ выйдет из храма. Великая тайна всякого истин-
ного учения состоит в том, что оно совершается лишь втайне; что, как и все
сокровенное, глубокое, оно хоронится от всего, что не вытекает вот из этого
слова, которое я говорю, и из этого внимания, которое для меня открыто.
Есть силы естественные, есть они во всякой истории, при всякой культуре,
которые нить истории, черту культуры доведут до конца, куда нужно, если
только действуют без вмешательства. Различать присутствие таких сил и уда-
лять с пути их препятствия - есть собственно все, что может государство, по
645
самой своей сущности чрезвычайно ограниченное в способностях созидания.
Есть эти силы и для школы, это - силы церкви и всех, кто, слушая из-за ограды
ее учение, более всего его любит. Нельзя доверять слепому вести зрячего,
нужно иметь доверие, что зрячий различит пути и не останется на месте; не
нужно к церкви приставлять стражей, чтобы она, почти два тысячелетия учи-
тельная, возрастившая в учении своем весь христианский мир, не упустила
каких-нибудь подробностей, в которых одних могут что-нибудь понимать эти
приставленники. Стоя вне школы и часто вне церкви по духу, будучи темны в
смысле всякого просвещения, эти приставленники около церковного учения
уподобились бы рачительным и недалеким слугам, которые в заботах, чтобы
дом был натоплен, все время через отворенную дверь следили бы за пылаю-
щим в нем огнем. Что огонь может временами меркнуть, что он может места-
ми совсем погаснуть, - это несомненно; и там, где это случится, тотчас войдут
в силу и в прежнее значение все те непосредственные созерцания, о которых
мы сказали, что они всюду и всегда есть и что они высоко воспитательны. С
этими одними созерцаниями народ наш вышел из-под крепостного права, и
вышел таким, каким, к прискорбию, мы его уже не вводим в школу. Итак,
излишне малодушие в заботах и эта дробная суетливость в величавом течении
истории. Бесспорно, во многих местах и часто учение книжное будет пренеб-
режено; и не всегда по лености, чаще по недосугу и отсутствию умелости. Их
устранить* - вот здесь и выступает задача государства, ему посильная, для
него должная. Но даже и при этом пособии много будет не доделано, и нужно
иметь силы перенести это; как переносилось же самим государством и обще-
ством калечение души народной через школу, откуда был изгнан язык церкви,
Псалтирь и все учительные книги Ветхого Завета**. Именно калечения уже
* Это может быть легко устроено через простое перемещение сумм, отпускаемых на
содержание учительских семинарий и институтов, с их сборными программами «de omnc
re scibili» <«обо всем, что можно знать» (лат.)> - в семинарии и академии духовные на
учреждение в них кафедр педагогики - это с одной стороны, и на увеличение штатов при
сельских и городских церквах - с другой. Нужно не разбрасывать, не дробить государ-
ству свои силы, бросаясь во все стороны и нигде не добегая до цели; но, соединяя эти силы
в немногих направлениях, доходить в них до конца определенного и осмысленного.
** «Относительно сельских школ стоит только заглянуть в Каталог книг для упот-
ребления в сельских школах, изданный министерством нар. пр. в 1875 г. (вышло ли теперь,
в 1881 г., новое издание - мне неизвестно, во всяком случае по школам оно не разослано).
Следует заметить, что всякая книга, не входящая в этот каталог (распадающийся на спис-
ки книг, рекомендованных, одобренных и допущенных), безусловно запрещена. Поверит
ли мне читатель, если я скажу ему, что в этом каталоге не значится ни Часослова, ни
Псалтири, ни Ветхого Завета! Новый Завет «одобрен», но не «рекомендован»...
«Всякому, конечно, известно, что без Часослова и Псалтири сельская школа у нас
немыслима, что Ветхий Завет во всякой школе необходим. Тем не менее употребление
этих книг в школах оказывается «безусловно запрещенным» со стороны министерства»
(См.: «Сельская школа». Сборник статей С. А. Рачинского, с предисловием Н. Горбова.
М.,1892). Эта памятная страничка, без сомнения имеющая войти в историю нашего
просвещения, была прочитана мною на страницах «Руси», еще на студенческой скамье,
и я тогда же (это было около 1-го марта) ужаснулся и изумился прочитанному.
646
никогда и нигде не произойдет при передаче школы в ведение церкви, и если
местами на ниве, ею засеваемой, останутся прогалины, местами же подни-
мутся и пышные произрастания. Но подымутся при условии полной свободы,
при индивидуализме соотношений между учащим и учащимся. Невозможно,
не следует установлять «от сих до сих» программы: не приподняв худое, она
закроет рост доброму. Пусть неумелый учит наименьшему, не нужно ради
того, чтобы искусственно вытянуть его плохую работу и сделать ее совсем
дырявой, предписывать и даровитому только «среднее». Но раз в истории, в ее
изгибе, уже сказалось усилие к просвещению, где можно и сколько может, -
оно будет. Потому что то оживление, которое хотели бы торопливо предписы-
вать, оно из глубин истории идет и уже, конечно, чувствуется всеми, кому хотят
предписывать. Нужно довериться этому темному оживлению, нельзя над стра-
жами поставить стражей и ожидать, что, пока они смотрят друг на друга и на
них всех - со страхом пастухи, драгоценные овцы разбегутся и расхитятся.
В неуловимом складе языка, в там и здесь брошенном замечании, книга,
по которой совершается учение, налагает неизгладимую печать на душу (не
ум только) учащегося. Эту особенность может понять только художник сло-
ва или историк, она останется навсегда темной для всякого другого, и здесь
лежит объяснение, почему просвещение, попав в несоответствующие руки,
стало повсюду совершаться через ежегодно выделываемые вновь руковод-
ства, при полном забвении древних учительных книг. Чтобы не быть голос-
ловным, предложу сравнить следующие отрывки:
«Смертью соперников вражда не прекратилась. Борьбу продолжали их
преемники: с одной стороны, брат Димитрия - Александр, с другой - брат
Юрия - Иоанн Данилович Калита (т. е. мешок с деньгами). Александр полу-
чил от хана ярлык на великое княжение; но вскоре навлек на себя гнев по
следующему случаю. В Тверь приехал из Орды посол Чолхан (или Щелкан,
как его называл русский народ). Татары, составляющие его многочислен-
ную свиту, по обыкновению, позволяли себе делать гражданам разные оби-
ды и насилия. Тверитяне, подстрекаемые самим князем, подняли мятеж, на-
пали на посольскую свиту, зажгли дом, в котором она оборонялась, и татары
погибли в пламени. Калита ловко воспользовался гневом Узбека, чтобы уни-
зить своего соперника; хан дал ему большое войско и поручил наказать мя-
тежников. Тверское княжество подверглось сильному опустошению. Алек-
сандр удалился в Псков; великокняжеский титул перешел к Иоанну Московс-
кому» (Учебник русской истории: Курс старшего возраста. Составил Д. Ило-
вайский. Издание двадцатое, стр. 83).
Событие, рассказанное здесь языком, которым составляются «мелкие
известия» в газетах, скользко и легко проходит в память учащегося - что одно
и требуется от учебника, не оставляя в душе его никакого впечатления, чего
и не требуется по программе. Но вот событие, не имеющее никакого значе-
ния политического, и потому не имеющее когда-либо войти в какую-либо
программу, но которое нашел нужным подобрать и поместить в свое «крат-
кое описание» русской истории его неизвестный составитель XVIII века:
647
«О сем, яко не благослови Самодержцу Российскому Роману Влади-
мирский епископ греческого закона воевати с христианы кроме благослав-
ныя вины.
Лета от Рождества Христова 1205, Великий князь Роман, пристяжав себе
самодержавие Российское, посла с дарами к епископу Владимирскому, про-
ся благословения на зачатие войны противу короля Польского Лешка. Но
епископ оный отрече, и не благослови его на сие дело, глаголя: «Яко не подо-
бает благословляти христианом на христиан войны начинати, кроме благо-
словныя вины». По сем Великий князь и Самодержец Роман живот смертию
премени военною и погребен бысть во Владимире Волынском честно» («Си-
нопсис, или краткое описание от различных летописцев, о начале славянско-
го народа». В пользу любителям истории пятым тиснением изданное.
СПб.,1762, сгр.П 1-112).
Это впечатление воспитательно, и, кроме того, оно чрезвычайно полно
в историческом отношении, т. е. о многом не упоминая, памятно говорит.
Здесь нет так называемой «Куликовской битвы» - ее и не было, она выдума-
на в учебниках: есть соответствующий событию рассказ «О горьком и пре-
страшном часе в нем же множество создания Божия смертную испи на
брани чашу» (стр. 159 и след.). И, прочитав его, становится понятно, поче-
му Карамзин, выучившись без программ по этим «Синопсисам», забился
на несколько лет в русскую историю; как, с другой стороны, понятно же
становится, почему, приготовившись к программе по Иловайскому, чита-
тели двадцати его изданий уже никогда более не раскроют ни одной книги
по русской истории. Непобедимо, без рассуждений, без доказательств здесь
действует художественный и нравственный инстинкт, который и составил
то маленькое «опущенное обстоятельство», которое не было и никогда не
будет принято во внимание при составлении «планов» и выделке по ним
«учебников».
Мы определили выше понятие «культуры» как нарастания в человеке
чувств уважения, любви к чему-нибудь. Сводя к этому коренному понятию
цели воспитания, мы можем определить учебник, как такую переработку
всякого матерьяла, при которой от последнего отделяется и удаляется все
культурное, развивающее любовь и уважение. Следующее краткое сравне-
ние снова убедит в этом каждого.
«Митрополит Алексей, по словам предания, приобрел благоговение в
Орде следующим образом. Тайдула, жена хана Чалибека, была больна глаза-
ми. «Мы слышали,- писал хан к великому князю,- что небо (?) ни в чем не
отказывает молитвам главного попа вашего; да испросит он здравие моей
супруге». Алексей отправился в Орду и излечил ханшу. Вскоре потом свире-
пый Бардибек, умертвив отца и братьев, воцарился в Орде и начал грозить
нашествием русским землям. По просьбе Иоанна II митрополит Алексей
опять отправился в Орду и при помощи своей покровительницы Тай дулы,
матери Бардибека, укротил злобу хана. Алексей, подобно своим предше-
ственникам, выхлопотал от хана ярлык, которым подтверждались льготы
648
русского духовенства, т. е. освобождение его имений от татарских даней и
поборов» (Иловайский, там же, стр. 85).
Как всякий живо чувствует, это изложение факта совершенно не куль-
турно. Здесь Алексей - только Алексей, не святитель и не чудотворец, а толь-
ко два раза митрополит. Вот образец изложения строго культурного:
«Великий благоверный Князь Димитрий Иванович Московский, услы-
шав, яко идет на него безбожный Царь татарский Мамай со многими сила-
ми, неуклонно яряся на веру Христову и народ христианский (ревную по-
гибшему Батыю, скверному прародителю своему) опечалился вельми. И
встав, иде пред икону Христа, Спасителя миру, и пад на колена нача со
слезами молитися: да простит милостивый Бог грехи его и избавит землю
Российскую от безбожного Мамая. По молитве же воздвигся, скоро посла
по брата своего, князя Владимира, к Боровску, и по вся князи, боляре и
воеводы. Князь же Владимир прииде в Москву вскоре; и видев Великий
Князь Димитрий брата своего, извести ему скорбь свою от нахождения
поганых. Князь же Владимир, соболезнуя толикой скорби, отвеща Велико-
му Князю, утешая его глаголя: «На Господа возверзи печаль свою и Той тя
препитает, нам же, Государю, лучше есть честную смерть подъяти, неже-
ли срамотен живот видети». Тогда Князь Великий Димитрий, поем брата
своего, пойде к преосвященному митрополиту Киприану, извести ему на-
стоящую беду, яко безбожный царь Мамай идет на Россию. Митрополит
же отвеща ему, глаголя: «Божиим то попущением грех ради наших возста
на ны нечестивый он царь; ты же, Государю, потщися прежде послати к
нему дары, и тем гнев его укроти, негли смирится и не пойдет земли на-
шея пустошити. Аще же того ради не смирится, то Господь сам, ими же
весть судьбами, смирит его, яко Господь гордым противится, смирен-
ным же дает благодать. Тако бо и св. Василий Великий сотвори иногда,
послав дары законопреступнику Юлиану, хотящу град его раззорити, да
утолится от ярости своя. Но егда отступник он не преста от погибельныя
ярости своея, абие сам Господь Бог на отмщение толикаго неблагодар-
ствия, посла воина своего, святаго мученика Меркурия, да убиет гоните-
ля невидимо, еже и собысться». Великий Князь Димитрий, повинуяся со-
вету митрополитову, избранного и благоразумного от предстоящих сво-
их, именем Захарию Тутчева, посла со многими дарами к Мамаю» («Си-
нопсис», стр. 121-123).
Эти слова писал человек высококультурный, т. е. любящий Бога, состра-
давший родной истории, чтущий князей своих и потому только различавший
все лица; и все это невольно впитывается, усвояется читателю, насколько он
не обделен природным умом и сердцем; как, наоборот, ничего не впитыва-
ется из ранее приведенной страницы учебника, по ней не образуется чело-
век. Это-то необразователъное, антикультурное значение всякой учебной
переработки и нужно держать в уме постоянно как при оценке текущих фак-
тов, так и при мысли об их исправлении.
649
XI
В древних книгах, в большом и малом объеме («Синопсис» заключает в себе 224
стр., учебник г. Иловайского - 397 стр.), по всем, строго необходимым для кресть-
янского воспитания предметам, даны сведения в форме, не дисгармонирующей
с содержанием. Этой дисгармонии нельзя вносить, не нарушая смысла в самом
предмете, целесообразности в преподавании его, значения во всей школе. Итак,
если от бедственной идеи учебных программ еще нельзя скоро освободиться по
силе предрассудка, нужно, по крайней мере, отнять в них зло эгоистического
самоволия: их нельзя абстрактно составлять и вызывать ими развратную литера-
туру «руководств»; но, поработав над старыми книгами, избрав из сокровищ
воспитания, в них содержащегося, наилучшее - следует применительно к этому
наилучшему, обнимая его, составить программы. Это, конечно, никогда не будет
сделано (за недостатком сведений и по отсутствию вкуса) теми бескулыурными
руками, в которых находится пока народное просвещение; но это только возвра-
щает нас к необходимости передать все дело народного воспитания в руки церк-
ви. Она одна знающа, сведуща, верующа в культуру народную, зачатки которой
положила и может же возрастить их до высоты.
Великая заслуга г. Рачинского заключается в том, что он имел силы дове-
риться более своему художественному чувству в деле воспитания, нежели всей
в нем текущей действительности, и на основании первого предпринять крити-
ку второй. Он непреодолимо ощутил то духовное обезображение, которому
подвергается посредством начальной светской школы ребенок из семьи с древ-
ним церковным строем, и как простого дополнения и развития этого строя, как
естественной элементарной школы для народа нашего, потребовал школы цер-
ковной. Высокое, европейское образование, каким обладал он уже ранее, и
притом не имевшее ничего общего с Церковью, налегло на это требование
всею своею тяжестью и придало ему вес, какого, конечно, не имели светские
требования бюрократических сфер, опирающихся только на уважение к этому
же образованию, но несколько издали питаемое, а не внутренно носимое. Но,
сделав это главное дело, г. Рачинский, думается, недостаточно еще строг в про-
ведении его подробностей; тип рисующейся ему школы не совершенно вы-
держан в своем единстве: в нем есть легкие дисгармонирующие черты.
В одном месте, касаясь отношения нашей новой литературы к сельской
школе, он замечает, что все произведения в ней после Гоголя почему-то не-
усвоимы, непонятны для крестьянских детей*; кажется, он хочет сказать, что
* «Сохраняю постоянные сношения с бывшими учениками моей школы. Они
гостят в ней подолгу на Святках, проводят со мной целые дни перед праздниками.
Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что
же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им, и мы должны
обращаться к литературе настоящей, неподдельной? Если при этом оказывается, что
Некрасов и Островский им в горло не лезут, а следят они с замиранием сердца за
терзаниями Брута, за гибелью Кориолана? Если мильтоновский сатана им понятнее
Павла Ивановича Чичикова? («Потерянного рая» я не думал заводить, они сами при-
650
они антипатичны им. И в то же время ими легко и радостно усваиваются
произведения догоголевского периода с Пушкиным в центре, с «Ундиной»
Жуковского, «Семейной хроникой» Аксакова (по духу она принадлежит, без
сомнения, к пушкинскому циклу). Причина этой антипатии, конечно, лежит
в душевном складе простого народа, чуждого озлобления, осуждения, кото-
рым дышит наша литература от Гоголя и до текущих дней. «Светлому, реаль-
ному» созерцанию этого народа, его «миру бодрой веры и трезвого смире-
ния» гораздо более отвечает поэзия Пушкина, именно таковая по своему
духу. Итак, гармонирующие и дисгармонирующие черты здесь ясны; но и
Пушкин (разве за исключением очень немногого в его произведениях) не
будет ли в дисгармонии с духовным складом народа, раз от элементарных
завитков он будет через церковную школу подниматься выше и выше в своем
развитии? Дисгармония, не ощущаемая теперь, пока, не окажется ли в вер-
шинах? И если да, если это возможно, - нужны ли залоги ее уже в элементах,
при основании? Но если это - только еще сомнительно, то несомненно дол-
жны быть удалены из элементарной школы те «начатки мироведения», какие
обычно сообщаются при начале курса географии (в средней школе на пер-
вом же уроке ее первого класса). Есть нечто развращающее в этом сообще-
нии, и, делая его в течение десяти лет, пишущий настоящие строки чувство-
вал это всякий раз. Есть тут недостаток благоговейной памяти к трудам Ко-
перника и Кеплера, есть страшное насилие над детским воображением, на-
сильственное вталкивание в него сведения, для нас любопытного, но в нем
ни на что не отвечающего, ни с чем не гармонирующего и, если вдуматься
строже, ничего неправильного в его созерцании не поправляющего. Ведь не
ошибается же едущий в поезде из Нижнего в Москву, думая и говоря, что он
движется на запад, хотя, в смысле абсолютного движения, он с чрезвычайной
быстротой мчится на восток. Именно это только правильное утверждение
делает и простолюдин, думая и говоря, что Земля неподвижна - не относи-
тельно созвездия Козерога или Сириуса, чего он не знает и о чем не говорит,
а относительно его самого, поля, леса, города, этих плывущих облаков и твер-
ди небесной, по которой они плывут. И так же точно говоря, как, что солнце
восходит, он ничего другого не говорит, что оно становится ближе к зениту,
выше по дуге, соединяющей этот зенит с горизонтом, - что правильно и не
тащили его в школу.) Если «Записки охотника», этот перл гоголевского периода, по
прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет их равнодуш-
ными, а «Ундина» Жуковского с первых стихов овладевает ими? Если им легче про-
никнуть с Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновни-
ков... Но ничто не может сравниться с тем обаянием, которое производят творения
Пушкина, начиная с его сказок и кончая «Борисом Годуновым». Когда я еще не при-
ступал к занятиям в школе, я думал, что знаю Пушкина и умею его ценить, - я
ошибался. Узнал я его только теперь. Этот светлый, реальный мир, который меня
окружает, мир бодрой веры и трезвого смирения, мир духовной жажды и здравого
смысла - этот мир столь новый и как будто давно знакомый - это его мир с раннего
детства, пленивший и манивший нас. Он его певец, он его пророк...» (С. А. Рачинский.
«Сельская школа», стр. 52-53). Слова и наблюдения эти очень значащи.
651
нуждается в опровержениях. Итак, в его твердом созерцании все покоится, и
никто не оценил еще важности этого покоя для устойчивости воображения,
мысли - всего душевного строя. Механики и психологи говорят, что и все мы
не могли бы сделать даже малейшего движения, если бы ежеминутно вместе
с относительным движением представляли себе и абсолютное; и только при
психически необходимой ошибке, при представлении в каждый момент все-
го, кроме себя, в покое, — можем двигаться. Но если для особых целей науч-
ного знания нам иногда необходимо вспоминать и об абсолютном движе-
нии, этого воспоминания незачем навязывать вне всяких целей и необходи-
мости простолюдину.
И вообще нужно строго различать, так сказать, категории, ряды знаний и
не мешать их, навязывая, как засохшие цветы на молодое дерево, все без разли-
чия на юную, растущую душу. Обходимся же мы в своем созерцании без
всякого нравственного центра, без единой абсолютной скрепы, и выносим
этот хаос сцепленных и кружащихся «относительностей», хотя он не отвечает
действительной и полной правде. Но мы предпочли правду для глаз своих, для
ушей, для ощущения - правде своей совести, своей души; будем же благода-
рить Бога, что не все таковы, как мы, что, во многом ошибаясь глазами и уша-
ми, есть люди, не ошибающиеся умом и сердцем. Будем хранить их особую и
высокую правду, не мешая к ней нашей, относительной и низшей.
В той культуре, о которой говорим мы, все истины, все ценное - суть
нравственного, идеального порядка; к этому же порядку должны принадле-
жать и все истины, сообщаемые юным душам этой культуры через школу.
Их, этих истин, необозримое множество: эта культура не только необъятно
богата, но она и возвышенна, утонченна, чрезвычайно благородна. Нам, в
нашем представлении, школа рисуется здесь почти не отделенной от семьи:
только слишком немногое из этой культуры может быть сообщено детям,
может быть усвоено ими; самые глубокие ее сокровища, самые ценные
дары не усвоимы без опыта сердца, без испытаний, без углубления во «вся
сладкая и горькая» жизни. И здесь выступает требование второй и не менее
значащей пристройки к храму сверх школы, церковного книгохранилища
- не для потребности клира, но для насыщения духовной жажды «мира».
Это - уже почти ученое собрание памятников церковной и исторической
жизни, углубление в которое - без участия школы, но при ее содружестве -
возведет свободно каждый любознательный ум на такие ступени просве-
щения, на которых стояли лучшие представители старых поколений. Те фо-
лианты, о которых мы упомянули ранее, что при сборных программах из
всех культур на них можно только взглянуть, - при строгом воспитании в
единой культуре могут быть прочитаны, как его завершение, как в нее уг-
лубление*.
* Мне известен один случай, когда крестьянин (его дед и, кажется, родители
были староверы) грамотный, но нс прошедший даже и элементарной школы, знал в
подробностях всю литературу русской истории и отдавал преимущества Соловьёву
перед Карамзиным, которого не любил.
652
И если все-таки в ком-нибудь пробудилось бы желание переступить за
грани этой культуры, свобода выхода из нее, конечно, должна быть предостав-
лена каждому. Но в этом переходе не было бы и тени того насилия и бессозна-
тельной, какой-то звериной, хитрости, с которой через школу, через театр, че-
рез все впечатления из мира иной культуры мы уворовываем у народа его
душу, как будто завистливые к ней с тех пор, как в нас самих ее осталось так
мало. В конце концов, возведение человека, всех групп его, на степень созна-
тельности и свободы - есть задача истории, и к ней же должна стремиться
школа. Сознательность эта должна состоять в свободном окидывании умствен-
ным взором разных миров, в полном отчете себе, что именно оставляешь и
чего ищешь, когда переходишь из одного в другой. Эта свобода возможна и для
народа нашего, и первая ступень к ней - углубление в свой собственный мир,
его живое ощущение и ясное понимание. И если, имея это последнее, он все-
таки ощутит себя неудовлетворенным, перемена, которая произойдет в нем,
будет плодом его собственного усилия, а не усилия над ним другого.
Нам остается сказать еще немного слов о той второй половине жизни
народной, о которой при самом начале мы заметили, что она первобытна: об
экстенсивных формах труда и также быта. Но здесь мы входим в круг таких
неуловимых и трудных соотношений, которые еще никогда и никем не были
разобраны. Нам думается, что все в истории и в каждой ее фазе бывает со-
единено неразрывною связью, все закономерно в ней, и экстенсивность внеш-
него строя неотделима от интенсивности строя внутреннего. Так бывает все-
гда, и никогда мы не наблюдали, чтобы с чрезвычайным вниманием, устрем-
ленным на весь внешний обиход жизни, соединялось у кого-нибудь и нераз-
дельное внимание к требованиям своей совести, прислушивание к внутренней
жизни. И то, что справедливо относительно единичных лиц, мы думаем, спра-
ведливо и относительно широких масс. Только ценой потери внутренней куль-
туры может быть приобретена культура внешняя, только перестав любить и
понимать что-нибудь за пределами своего огорода, наш крестьянин начнет
возделывать его, как немец или француз. Но от этого жадного выбирания из
земли плодов ее, мы думаем, он невольно перейдет к желанию как можно
меньше делиться ими; из-за форм интенсивного труда нам видится форма
интенсивной, неплодящей семьи. От нее уже один шаг до «интенсивного
человечества», до тайного, невысказанного желания Мальтуса - об удале-
нии лишних ртов человечества. Все в истории сцеплено одно с другим, и кто
рубит дерево, не будет сидеть под его тенью. Итак, мы думаем, что достаточ-
но, если одна половина христианского мира отдала дары своего первород-
ства за чечевичную похлебку; у нас же пусть лучше останется мякинный
хлеб и христианство. Ведь несомненно, что их именно сознательно и твердо
избирает и желал бы покончить навеки этот вопрос народ наш. Не будем же
опять лукаво подходить к нему, чтобы, оставив ему тленные вещи, которые и
нам не нужны, украсть у него нетленное сокровище. Оставим ему его общи-
ну, холщовую самодельную рубаху, и дадим, чего он вправе требовать и мы
не вправе отказать, три десятины на душу. А затем, сколько сами в силах, уже
653
войдя в формы интенсивной культуры, заденем плугом и его землю и осо-
бенно как-нибудь оградим ее от всяких случайных невзгод. Кажется, хоть и не
без исключений, но вообще мы склонны к этому; думается - потому имен-
но, что чечевичная похлебка нам и самим не особенно нравится.
XII
Человеку, так заблудившемуся в путях истории, так затрудненному, христиан-
ство, как мудрая и молчаливая дева, дает только светильник, ничего не говоря
об опасностях и трудностях пути, какие его ожидают. Тот иной мир, к которо-
му мы переходим, - мир точного знания, новой культуры - похож на болтли-
вого, но забывчивого человека, который на вопрос заблудившегося о пред-
стоящем пути точно и обстоятельно описывает окрестности, говорит, в каких
направлениях и далеко ли лежат камни и рытвины, но затем оставляет его в
темноте, полагаясь на его память.
Как бы то ни было, приняв, что путь одних освещен и тверд, мы должны
принять и тот другой факт, что путь других темен и только обогащен сведени-
ями. Из разнообразия этих сведений, как их коренной черты, и из необходи-
мости им довериться, потому что больше нечего делать, должны исходить
здесь и все попытки двинуться вперед.
Того ясного и твердого ответа, какой имеет для себя вопрос о типе элемен-
тарной школы, вовсе не имеет для себя вопрос о школе средней. Правда, он
разрешен практически, но так, как задача о квадратуре круга решена учеными,
населяющими Бедлам. Плоды, ею даваемые, несмотря на долгое питание горь-
ким корнем, оказываются, к удивлению, также горьки. Их никто не хочет; госу-
дарство, церковь, общество, наука, литература, наконец, сама школа с ее пред-
ставителями, одинаково в страхе от ужасающей «интеллигенции», которая ни-
чего не понимает, ни к чему не привязана, ничего не чтит и, поедая все кругом,
не думает о завтрашнем дне, когда ей самой придется умереть с голода.
Здесь решение может быть только фрагментарное; могут быть указаны
некоторые направления, куда следует стремиться, от чего убегать. Но точные
способы этого достигнуть, но ясная форма основного типа школ - вот что
темно, как и все вопросы в том обществе, для которого существенным обра-
зом предназначается самый тип этой школы.
Нет в нем, в этой вершине, растущей в ином направлении, чем рос тыся-
челетний ствол, такой твердой цели существования, какая есть в низинах на-
родных; нет окончательной убежденности, что «иное направление» будет
всегда сохранено; как нет и уверенности, что оно возвратится к прежнему,
потерянному направлению. Этот скептицизм, это «неведение путей» не мо-
жет не отражаться и на выборе им типа своей школы, т. е. уже первого движе-
ния по которому-нибудь пути.
При подобных условиях, при этой темноте сознания в недрах, откуда ис-
ходят усилия к просвещению, - скорее всего, из идеи самого просвещения
654
должно исходить определение типа школы. Когда немощна почва, должно
помочь небо. Есть условия, есть элементы, при нарушении которых просве-
щение не есть уже просвещение - и не может быть желательно ни для кого,
ни для каких людских масс, будут ли они верующи или скептичны, верны
заветам определенной истории или идут против них.
Неверны всякой истории люди не могут быть; и в конце концов понятие
о культуре, какое развито было выше, обнимает собою все формы скепти-
цизма. Как бы далеко последний ни простирался, он не может отвергать, что
все-таки задачей просвещения может быть только выработка в подрастаю-
щих поколениях какого-нибудь культа, т. е. преданности, любви, верности -
без определения, чему именно (здесь вступает в свою силу скептицизм); и
что, следовательно, школа должна быть зиждительна в отношении этих чувств,
а не разрушительна к ним, как это есть во всей Европе.
И тотчас, как признан за ней этот зиждительный характер, условия обра-
зования этих сторон души становятся неизбежно определителями само-
го типа школы. Впечатления должны быть удлиненными, по возможности
менее прерываемыми; они должны быть гармоничны друг другу, т. е. идти
от одной какой-нибудь исторической культуры, а не от разных, развивавших-
ся по закону антагонизма; единичные предметы, от которых идут эти впечат-
ления, должны быть воспитательны, т. е. носить на себе живые черты культу-
ры, а не лишены их; наконец, самый способ передачи их должен по возмож-
ности согласоваться с наиболее яркими, сильными задатками в воспитывае-
мом и с наиболее живыми, деятельными способностями воспитывающего, т.
е. он должен быть индивидуален.
Хоть несколько, хоть очень медленно вытягивать школу по направле-
нию к этим нормам ее - есть все, что может практическая деятельность. И
здесь государство, по отсутствию в нем самом живых ключей образова-
тельного характера, должно обратиться к их отысканию в других истори-
ческих силах. Семья, церковь, ученые, наконец, единичные личности с осо-
бым, ярким призванием к воспитанию - вот все, чем оно обладает, что
более его сведуще в темном мире законов образования человеческой души,
что его собственных целей может достигнуть лучше*, нежели оно само
* Никто не обращал на это внимания, но это факт любопытный, что политическая
струйка, которая всегда так билась и бьется среди учеников средней школы, не нахо-
дит в ней совершенно почвы для себя, раз она руководится частным лицом. Статис-
тические разыскания, где следует и кому следует, могли бы открыть глаза на эту
печальную для государства истину, я же приведу здесь ее объяснение. Насколько мне
пришлось испытать и наблюдать (а мои наблюдения были очень близки и довольно
обширны), биение струйки этой всегда восходит, как к своему первому источнику, к
чисто ученическому раздражению против преподавателей или кого-нибудь из них.
При отсутствии индивидуализма отношений между учениками и учителем, личность
ученика при соблюдении всех должных форм, если и не оскорбляется, то как-то отвер-
гается преподавателем, и притом в лучших чертах своих, что после горечи порождает
раздражение. Это раздражение, обобщаясь и обезличиваясь, переходите человека на
учреждение и, передвигаясь от последнего по сцепам бюрократического механиз-
655
при самом ярком отвлеченном их сознании, при самых напряженных усили-
ях достигнуть их.
Трудно представить себе, до какой степени все указанные силы, все эти
элементы исторически растущего общества обессилели, стали скудны имен-
но потому, что их главная функция давно уже отправляется не ими. Сосцы
обсохли, истощены, потому что дитя отнято от них и нет к ним притока живи-
тельного молока. Семья, дети которой вдали от нее, апатично отвечают вне-
шними лишь формами своей души на внешние же и общие требования им
чуждых людей, становится безжизненна, пуста*; она так же глохнет в своей
поэзии, как глохнет в индивидуализме своем свежий мир, ею порожденный.
Дети облагораживают семью; без них, давая им лишь помещение и стол, в
старших членах своих она невольно, неудержимо обращается к грубым, вне-
шним удовольствиям; она перестает быть семьей в истинном, христианском
ма, доходит до источника всех их - государства. В 13-14 лет ученик раздражен
двумя-тремя учителями, в 15-16 раздражен заведением, которого они являются чле-
нами, в 17-19 в нем есть уже озлобленность против государства, которого один орган
так дразнит, так мучит его ум и сердце. В частном учебном заведении, за отсутствием
всех этих соединяющих звеньев, за его изолированностью от государства, всякое
раздражение не может переступить за его стены, не обращается ни на что далее
лежащее. Даже более: в случае чрезвычайных причин для такого раздражения (т. е.
если учебное заведение очень дурно) невольно пробуждается мысль, что «все шло бы
лучше, если бы было в руках государства, если бы последнее обуздывало частный
произвол», т. е. возникает смутная, безотчетная к нему привязанность, надежда на
него. Но мы взяли прямо злоупотребление; при нормальном же положении частное
учебное заведение всегда неизмеримо оживленнее внутри (индивидуализм отноше-
ний), нежели казенное заведение, всегда почти мертвенное внутри; и вся энергия
индивидуальных сил, не сдавленная общностью форм, уходит на эту жизнь. Здесь
государство не упоминается, об нем не думается; просто все обращены к ближайшим
предметам своих занятий, игр, забав, т. е. именно тем и так, чем и как никогда невоз-
можно принудить заниматься учеников в казенных учебных заведениях. Таким обра-
зом, в отношении политическом те и другие можно сравнить с отношением к какому-
нибудь эпидемическому заболеванию двух местностей, из которых одна обставлена
бдительными докторами, но почва ее в высшей степени пропитана дурными миазма-
ми, вода отравлена, питание несвеже; и доктора, не помогая ни в чем, только научно
констатируют смертность. Другая же местность, правда, лишена докторов, не имеет
медикаментов, но, будучи совершенно здорова по условиям, и не нуждается в них.
Хочешь ли сберечь юношество для государства, береги его дальше от государства -
это правило, конечно, не административной техники, но политической мудрости.
* Будучи еще студентом, мне приходилось часто бывать в одном редко благовоспи-
танном семействе; вставая из-за вечернего чая, хозяйка дома заметила мне однажды:
«Вот и опять я останусь одна»; на мое недоумение она сказала: «Я только и имею
радость видеть мужа и детей (студент и два гимназиста) во время обеда и чая, все
остальное время дня я провожу одна». С тех пор я стал наблюдать за этой стороной
нашей жизни: действительно, только малолетние, до 8-летнего возраста, составляют
теперь деятельных и чувствуемых членов семьи, они подрастают - и родители остаются
совершенно одни. Думается, что отвратительное развитие клубной жизни, желание
старших куда-нибудь ехать, с кем-нибудь сесть за карты и пр., не без связи с этим
видоизменением в характере семьи, какое произведено государственным обучением.
656
значении и становится лишь дружеским сожительством. Все обращены в ней
лицом к предмету своих особых забот, ушли в свой отдельный мир и друг на
друга лишь временно оглядываются, когда имеют в этом нужду. Быть может,
заботы эти и поучительны; оне во всяком случае полезны и, что касается до
детей, ежечасно обогащают их сведениями; но кто же оценил, кто отвергнул,
найдя их меньшими, те непередаваемые, часто безмолвные и неизгладимые
впечатления, которые проходят здесь между матерью и сыном, сестрой и
братом, кто, вынеся как сор эти впечатления за дверь, сказал, что больше их
значит хронология Пелопоннесской войны?
Здесь мы опять возвращаемся к принципу непосредственных созерца-
ний, которых цена забыта, которые во всех видах изгнаны и, будучи заменены
впечатлениями книжными, породили ту тусклость характеров, тот недоста-
ток волевой и нравственной энергии в подрастающих поколениях, на кото-
рый все сетуют, источника же его не понимают.
Но мы говорим здесь не о питаемых, а об истощении и увядании великих
питающих институтов в исторически развившемся обществе. Наряду с семь-
ей, этому истощению подвергается и церковь, которая принимает и нарекает
имя христианину, провожает его в землю, зовется им время от времени в
нужде, но остается вдали от него в течение всей жизни потому в особеннос-
ти, что не согрела и не осветила его детства и отрочества. Именно в этом
возрасте, от 8 (время поступления в приготовительный класс) до 13 лет, он
уже знает церковь только официально, когда ему на нее указывают и насколь-
ко указывают. У него нет своего, местного священника, который был бы так-
же и священником его сестры и матери; которого он привык бы видеть у себя
на дому с образом, служащим молебен или всенощную в памятные семей-
ные дни. Мало-помалу семья, раздвоенная времяпровождением, имея раз-
ные приходы, не сливается тесно ни с одним и отвыкает от церкви. Эта отвык-
лость, со временем, переходит в простое ощущение неловкости при всяком
входе священника в дом, - в неловкость от незнания, что и как ему сказать,
нужно ли подойти под благословение и пр. Так образуется не неверующее
наше общество - сказать это, значило бы грубо ошибиться*; но общество,
страшно уединенное от своей церкви и, если не считать полузабытых кни-
жек, вполне ее неведущее. В свою очередь церковь, оставленная высшим
обществом, имея живую и постоянную связь лишь с мало обученным лю-
* И в самом деле, если бы даже очень большие выгоды были соединены с выхо-
дом из своей церкви и принятием, напр., магометанства, без сомнения, русский обра-
зованный человек, всегда лишь кощунствовавший над своей церковью, ни за что бы
этого не сделал; и ни за что, несмотря ни на какие предстоящие выгоды, не оставил бы
своего ребенка некрещеным, хотя бы всю жизнь и над всеми таинствами только глу-
мился. В речи, в словах русский человек гораздо хуже, чем он есть в сердце, в уме
своем; и даже нередко он циник в словах только потому, что боится обнаружить свой
внутренний идеализм. Пустым, бессодержательным - а только такой человек может
быть в самом ядре своем безрелигиозен - русский народ никогда не был и не будет
даже в ветвях своих, каковою является так называемое «образованное общество».
657
дом, становится робка, не уверена в своих действиях и хоть с болью, но там и
здесь поступается для нее должным и ей должным*.
Лишенные своих естественных и самых высоких обязанностей, которые
для лучшего их исполнения приняты на себя другим институтом, семья и
церковь непобедимо погружаются в те обязанности, какие им оставлены —
внешние и матерьяльные. Формализм и грубость овладевают ими. Но было
бы глубоким заблуждением думать, что эта грубость и этот формализм сколь-
ко-нибудь искупаются действительно лучшим исполнением взятых на себя
обязанностей со стороны государства: в деле формы это, конечно, так; но со
стороны содержания выполняются ли они сколько-нибудь - на это ответом
служит отсутствие какого-либо культа к семье и к церкви во всей массе обще-
ства, прошедшего через государственную школу.
Таким образом, недостатки семьи и церкви суть факты, вытекшие от
изъятия у них воспитания и обучения, а не предшествующие этому изъятию,
порожденные им, а не его породившие.
Это тотчас дает указание на первую практическую обязанность, которая
может и должна быть выполнена средней школой: на передачу той части
воспитания, которая, войдя в ее ведение, носит характер элементарный, в
руки семьи и церкви. Им, а не государственной школе, должен быть предос-
тавлен, по крайней мере, отроческий возраст, от 8 до 12-13 лет. Его воспита-
ние есть долг семьи, забота прихода; и нельзя, не развращая их, снимать с них
этот долг.
Отказ от воспитания в этом раннем возрасте, при сохранении всех
прочих условий и требований, тотчас привел бы к замене многолюдных,
дурно обучающих и совсем не воспитывающих** младших классов сред-
ней школы множеством маленьких подготовительных школок с частной
* Года три назад, если не ошибаюсь, харьковским городским головой составлен
был умный проект преобразования нашего городского самоуправления, где как на
избирающую единицу было указано на церковный приход. Ясно для всякого, что это
есть единственно нормальное городское устройство, при котором «местные власти»
будут властвовать не над населением и помимо его интересов, а из населения и по его
нуждам. Никто не отозвался в печати на это предложение, кроме «Вестника Европы»,
отозвавшегося очень тревожно: так устроить управление, высказался он, значило бы
отстранить от него евреев, которые такие же граждане, как и все, и также платят
налоги. Таким образом, православная церковь в своих естественных, исторических
правах руководить жизнью масс менее выражена и защищена в нашей прессе, нежели
пришлое вмешательство в эту жизнь нехристианских элементов.
** А отсутствие воспитания в таком раннем возрасте почти равняется развраще-
нию. Как это известно всякому, годы от 9 до 13, проводимые в гимназии, суть годы
первого ознакомления ребенка со всякими дурными навыками и часто - усвоения их.
Огромная и разнородная толпа сверстников с целого города, куда мальчик или девоч-
ка попадают без всякого посредствующего перехода из тесного круга семьи или ближ-
ней околицы, в высшей степени этому способствует. Как общий закон воспитания
можно бы установить правило, что после семьи ребенок должен переходить в то,
что наиболее походит на семью и близко к той, из которой он вышел. Удовлетворя-
ющим требованиям этим мы и считаем церковный приход.
658
инициативой, близко стоящих к семье и всего лучше поручаемых руко-
водству местного священника. Но здесь, соответственно совершенно осо-
бым требованиям средней школы, о которых будет сказано ниже, его роль
была бы уже не самостоятельная и культурно-созидательная, как в цер-
ковной сельской школе, но подчиненная и пассивная*. Его призвание к
деятельности здесь не имеет другой задачи, кроме как удержание отроче-
ства вблизи семьи и церкви.
Впрочем, не будучи культурно-созидательными по содержанию, по ус-
ваиваемым через них сведениям, эти маленькие школки будут культурны по
методам усвоения: индивидуализм отношений, не столь торопливо сменяю-
щиеся впечатления - это будет здесь само собою соблюдено. И если не будет
достигнута однородность сведений, то лишь в зависимости от существую-
щих требований собственно средней школы, к которой мы и переходим.
XIII
Говоря об образовании, мы здесь не говорим о нем с точки зрения личного
убеждения. Не идеал - каков бы должен быть человек, к чему бы он должен
стремиться, руководит нами; но только мысль, как бы сделать, чтобы, стре-
мясь ко всяким целям, будучи тем или другим в своем духовном образе, он
был в чертах этого образа наиболее совершенен, в стремлении - наиболее
благороден и силен.
Конечно, одну из всех культур мы предпочитаем остальным и думаем,
что совпадаем в этом предпочтении с течением истории. Но знаем также,
что такого предпочтения нет в образованном обществе Европы, что, выйдя
из строгих черт какой-либо культуры, оно несет в недрах своих только разби-
тые осколки всех. Собрать сколько-нибудь эти осколки в целое, восстановить
силу и красоту человека, в чем бы ни проявлялась она, - вот все, что побуж-
дает нас писать эти строки.
Итак, мы должны исходить из того бесспорного факта, что единой куль-
туры, единого, перед чем преклонился бы человек, - нет теперь. Есть три и
совершенно разнородные, проникнутые антагонизмом культа, куда человек
хотел бы нести в жертву свои духовные дары, куда он несет их, но спотыкаясь
и растеривая почти все по дороге, едва доносит что-нибудь до цели: это -
культ античной цивилизации, христианского спиритуализма; и точных, вне-
шних познаний человека о себе и о природе.
* Священник прихода есть естественный посредник между семьей и обширной
городской школой, куда он приготовляет и сдает детей своих прихожан, - вот наша
простая мысль. При этом установлении посредствующего звена большая и офици-
альная школа тотчас потеряла бы свой издали грозящий смысл для множества темно-
го люда, из которого часто и выходят даровитые натуры.
659
Удерживаясь от личных предпочтений, мы должны сказать, что в каждом
из этих культов скрыто столько неизъяснимой красоты, человек в вековых
усилиях выразить ясно и твердо свой образ достиг такого совершенства в его
чертах, что каждый, кто любит его, уже заражен сомнением: каков же должен
быть окончательный человеческий лик? Не может он благоговейно не пре-
клониться перед каждым из этих трех, хотя они взаимно и отрицают друг
друга: из этого отрицания в истории они возникли порознь. Дика, груба
мысль, что нужно их смешать, и тогда выйдет лучшая красота: смешать выхо-
дящую из морской пены Афродиту, смеющимся взглядом влекущую за со-
бою народы, с ликом «скорой Заступницы» сирых, гноящихся в нужде лю-
дей, - нет, с этой мыслью подходить к образованию и своими детскими, не-
умелыми ручонками его строить... procul profanum vulgus, не с такой душой
браться за такое дело!
Итак, исходя из скептицизма, каким проникнут преходящий фазис нашей
истории, для этого преходящего фазиса должна быть предоставлена свобода
выразиться каждому из трех названных культов в типе школы, ему соответ-
ствующем. Без отрицания, без какого-либо антагонизма - потому что это
недопустимо для школы - пусть каждый тип развивает, как бы уединясь в
истории, свое исключительное, одностороннее, но и прекрасное утвержде-
ние; пусть она растит в воспитываемом поколении, до времени как бы скры-
вая от него существование «иных богов», поклонение хоть и не высшему, не
истинному, но для него пока «единому ведомому» Богу; чтобы, укрепив-
шись в любви, отдав свои силы на служение одному, ученик и на другое, что
потом мог бы свободно избрать, перенес то же глубокое чувство, ту же нера-
стерянную способность цельной любви.
И это тотчас возвращает нас к требованию передать среднее воспита-
ние (мало-помалу и осторожно) в руки людей частью с особым, ярким
призванием к воспитанию, частью без такого призвания, но с великим ин-
тересом, любовью, культом к которой-нибудь из трех пережитых человече-
ством эпох. Мы понимаем и соглашаемся, что невозможно государству,
уже православному, уже монархическому, создать питомник чистого куль-
та древности; но, как и в православном и в монархическом государстве мог
свободно жить и петь свои песни поэт-носитель этого культа, без какой-
либо необходимости за каждой песнью перелагать псалом, - так точно, без
нарушения каких-либо «ненарушимостей», другой носитель подобного
культа, ученый, может, собрав вокруг себя учеников, избрав себе подго-
товляющих помощников, начать питать и растить в этих учениках этот культ,
без того, чтобы гомеровская рапсодия заключалась страницей из катехизи-
са. Все, что неразрешимо теперь, что извращено до неузнаваемости требо-
ваниями официального декорума, само собою разрешится и станет в нор-
му, как только устранится этот декорум: в центре школы станет действитель-
но знаток и любитель древности, а не искусник в тайнах канцелярских про-
исков, как теперь почти повсюду, почти всегда; он не изберет себе в
помощники людей холодных к предмету, несведущих в нем, как посылают-
660
ся таковые без выбора, без предварительной пробы теперь* на четвертьве-
ковое мученичество и мучительство. И это ли одно: что удержит в школе
неспособного, апатичного? Как не удержится в ней даровитый, ярко заго-
ревшийся к науке? Какая душа не возрастет в полноту своих сил? В какую
нераздвигающуюся душу будут с усилием надувать воздух, чтобы она тоже
зачем-то, куда-то летела, когда ей может быть так хорошо на земле? Поисти-
не, тот яркий и благородный свет, который так прекрасно, так надолго осве-
тил человечество в эпоху Возрождения, он стал бы снова возможен, он
загорелся бы и на нашем севере, если бы только к возжению его были
допущены зажигальщики по природе, а не призваны темные пауки, обре-
ченные на одно, - чтобы, снуя туда и сюда, ткать пыльную паутину в нео-
свещенных углах.
* Всего любопытнее, что официальный декорум грубо неискусен даже в том, что
можно назвать административной техникой: в создании таких общих условий, норм,
при которых индивидуальная деятельность была бы наилучшею. Все сетуют, от вер-
ху донизу, что нет искусных учителей в наших гимназиях, что именно в этом таится
весь корень зла в них. Но что же сделано, чтобы они были? Или из сделанного, что
этому способствует? Принимаются лучшие кандидаты университетов в увереннос-
ти, что они будут и наилучшими учителями в элементарном и среднем обучении.
Печальное, грубое заблуждение, выросшее на почве администрации, которая все ре-
шает по дипломам, обо всем умозаключает по занумерованным бумагам. Какой дип-
лом мог бы им представить Кант, который после многих лет педагогической деятель-
ности с грустью записывает у себя в записной книжке: «Никогда не прилагалось к
обучению лучших правил, чем какие прилагал я, но никогда не было худшей и менее
успешной в этом обучении практики, чем моя». Но, вне всяких мыслей об этом
частном, поразительном примере, можно указать две психические черты, которые, в
высшей степени способствуя научности, совершенно препятствуют педагогичности:
это - быстрота ума, стремительность соображения и слишком живая впечатли-
тельность. При этих дарах человек превосходен у себя, в ученом кабинете, и невоз-
можен в классе: он будет вечно утороплять учеников, давать им объяснения, к их
возрасту нспримененные, с медленностью «среднего соображения» несогласованные, -
и вечно же будет раздражен этим средним соображением. Не лучшие, но именно более
вялые питомцы университетов, тихие бегуны на всех поприщах и во всех задачах,
делаются лучшими преподавателями, терпеливыми, методическими в объяснениях,
истинно полезными и чтимыми от учеников. Напротив, сколько-нибудь научно-даро-
витый человек, с поджигающим огоньком внутри, с миром своих особых забот и
вопросов, быть может, будучи кое для кого полезен, для массы учеников является
несносным, бесполезным и, в конце концов, этою массою ненавидимым учителем.
Образование при университетах курсов практической педагогики, восстановление,
напр., при Московском столь славного некогда Университетского благородного пан-
сиона и учреждение при других университетах подобных же учреждений, конечно,
должно бы составить первую заботу нашего министерства народного просвещения.
К сожалению, это самонужнейшее дело не могло бы нарастить никакого номера в
сериях текущих дел, а это наращение, занумеровывание все новых неспособных учи-
телей, все новых мало к чему пригодных гимназий, и рост, все рост статистических
цифр обратились в какую-то кантовскую «вещь в себе», которая, лежа по ту сторону
этого мира, имеет гораздо большее значение, нежели все вещи здешнего мира, чем эти
преходящие «феномены», живые люди, и притом маленькие.
661
Но благодать родящей политической мысли давно покинула народы За-
пада, и с ними нас, оставив на месте своем лишь мокрый и влажный след, все
умерщвляющую плесень административной техники, невидящей, расслаб-
ленной, всему бессильной помешать и ничего не призванной передать. То,
что достижимо было при легком и дальнозорком руководстве, что призвало
бы на государство неисчислимые благословения и покрыло бы его немерк-
нущей в истории славой, и не достигнуто, и вызывало бесчисленные сетова-
ния, и явилось в судьбе народов примером смешных и ложных потуг на не-
возможное рождение вследствие того только, что руководство заменено было
недоверчивым деланием, и созерцание исторических далей - боязливым ог-
лядыванием вокруг.
Так ли совершенно невозможна передача в частные руки средней шко-
лы? Уже мы имеем теперь примеры, что, основываемая и руководимая час-
тными людьми, но в форме предустановленной для всех и, следовательно,
безличной, она приносит плоды, неизмеримо более доброкачественные, не-
жели та же школа, руководимая официальным людом: в ней первой интерес
к классическому миру возрос настолько, что стало возможно, например,
сценическое воссоздание греческой трагедии. Ясно для всякого, что высокое
развитие этого интереса возможно было только при условии, чтобы офици-
альный, блюдущий мир закрыл глаза на некоторые недочеты по другим, с
классическим миром ничего общего не имеющим, предметам. Нельзя ли
еще увеличить это смежение глаз? Нельзя ли к передаче в частные руки вот
этой определенной школы передать в них же и некоторую долю права пере-
иначить то или иное в общей для всех, безличной форме, созданной для севе-
ра и юга, для Азии и Европы? И таким образом, мало-помалу, с великой
бережливостью, смотря на все, как на пока еще временный опыт, выходить
более и более из роли неумелого делателя, чтобы принять на себя более
высокую и соответствующую задачу мудрого руководителя. Благодарение
Богу, ученики Креймана, Поливанова, Гуревича не пошли на штурм Петро-
павловской крепости: они пошли, чтобы представить на сцене Софокла, при-
никли к Карамзину и Пушкину, полюбили, наконец, историю. Итак, опыт
сделан, и его сладкий плод для всех сторон вкусен; что же мешает растить его
далее, еще тучнее удобрять для него почву, открывать ему простор и светлую
лазурь неба? Ведь это же ничего не стоит? Не вмешиваясь руками, оставьте
свой блюдущий взор сперва над тем, что лишь повторяет дело ваших рук,
потом над легкими видоизменениями этого дела, и далее, далее, до тех пор,
пока, видя, что растущее дерево есть дерево добра, а не зла, отведете сами
этот взор на стороны более нужные и приложите сильные руки к задачам
соответствующим.
Только при этом условии школа и станет источником культа; взросшие в
ней поколения будут выходить на широкую арену жизни с любовью, с уваже-
нием к некоторому и, следовательно, со способностью любви и уважения ко
всему. Исчезнет это несчастное «общее образование» - ни в чем образова-
ние, ибо в общей смеси, составленной из борющихся элементов, один поеда-
662
ет другого и им поедается сам. Правда, пустая душа носит клоки всех миров;
но как бы ужаснулся, какой скорбью покрылся бы каждый мир; если бы он
мог поверить, что когда-нибудь в дали веков в чьей-нибудь душе отразится
так уродливо, так постыдно, с такими смешными и обезображенными черта-
ми. Поистине поколения титанов завершились смешным поколением карли-
ков, которые почему-то подумали, что станут даже больше всех их, если при-
мут на свое маленькое тело тень от каждого из них. Но вот тени ложатся на
них, тени от всех веков, от всех красот в истории, а они остаются так же гадки
и малы, как были.
XIV
Воспитание в культе христианского спиритуализма есть и может быть предо-
ставлено только церкви. Она одна в нем ведуща, она одна и до пролития крови
своей в него верующа, тогда как все остальные в нашей смешанной, неопре-
деленной цивилизации, даже при лучших условиях, суть только жаждущие, а
не насыщенные этим культом. Это воспитание есть единственно историчес-
кое воспитание для народа нашего, самое древнее в нем, и на средних и выс-
ших своих ступенях идущее параллельно (и лишь дальше) с воспитанием эле-
ментарным, сельским (как оно станет не сегодня, завтра).
Удалить из него все, что, не вытекая из христианства и не подготовляя его
в истории, развивалось из других источников и частью против него, - это
одна сторона реформы, которая предстоит здесь; развить во всю полноту
собственно христианское учение - все, что вытекает из него теоретически и
что практически нужно для его укрепления в людях, - есть вторая сторона
реформы, которая нужна для наших духовных училищ и семинарий. Удале-
ние из их программы безобразных приделок, какие явились в пору сближе-
ния с классической школой и собственного обезличения, укрепление древ-
ней их основы и развитие ее в полноту сил, - вот что предстоит здесь сделать.
И, разумеется, сделано это может быть при ближайшем, теснейшем их слия-
нии с живым служением в недрах церкви. Семинария - это почти домашняя
школа при епископе, он же и блюдет свою паству, и наставляет ее, и посылает
для ее руководства своих помощников, которые подготовляются при нем.
Для этих целей не нужна физика, начатки космографии, тригонометрия и
алгебра. Нужно погружение в дух и заветы Библии, еврейской Библии, зна-
ние Евангелия и проникновение им, вчитанность в великих отцов церкви, в ее
древних, великих апостолов. Нужно, в возрасте пробуждения и роста душев-
ных сил, безраздельное погружение в этот удивительный, чудный, святой мир;
он же и основал и укрепил, и держит покров, который силятся разорвать
иные стихии, над высшим цветом истории, - европейскою культурой. Для
служения этой культуре нет иного, более удобного поля, нет другого, столь
же верного оружия, как амвон, как проповедь, как руководство совести и
частной жизни мирян и призыв их, после согбенного труда над землей, прий-
ти и разделить, и снова пережить восторг, которым жили апостолы, мучени-
663
ки и вся небесная и земная церковь, она же и целый мир, и вот эта малая
молящаяся весь, луч немеркнущего и неимеющего померкнуть солнца. Нет
более образующего, более воспитывающего средства, как это удивительное
соприкосновение на час, на два, вот этого человека, на этом месте и в этот год
с тем, что идет из-за двухтысячелетней дали, что есть центр в развитии всего
человечества и обнимает далекие земли и незнаемые народы. Поистине, кто
прослушал со вниманием и разумением литургию, сделал более для возде-
лывания своего ума и сердца, чем про сидя год на школьной скамье или про-
чтя самую содержательную книгу. Просвещением, идущим отсюда, из рас-
крытого алтаря, курящегося фимиама, древних обрядов и чудных евангельс-
ких поучений, из непосредственного, безмолвного созерцания этой мудрос-
ти и красоты, объясняется великий характер нашего народа и великий ум его,
который все видят, ему удивляются, источника же его не знают или его отри-
цают. Выше, говоря о сельской школе и думая об этом именно источнике
просвещения, мы и высказали, что нет нужды быть нетерпеливым в сельс-
ком обучении, что одна и пять деревень без школы еще не значит - деревень
без просвещения: если в ближнем селе есть храм и добрый пастырь, они
просвещены им так, как без этого, без литургии, без всенощной, не были бы
просвещены при десятке школ.
Итак, семинария имеет своей конечной целью образование хорошего
священника; к этой цели должно быть все применено в ней, ей одной, -
отвечать подробности обучения, быт учеников, видимое и слышимое ими.
Они должны быть всегда вокруг епископа, как его будущие сподвижники по
спасению людей; должны быть близки ему, родственны и уже, как таковые,
посылаться на заглазное ему сподвижничество.
В этом сподвижничестве ему нужны и пособники - младшие степени
церковного клира, и подготовление юношества к ним открывает возмож-
ность для семинарий быть снисходительными к умственной слабости, кото-
рая слишком часто совмещается с чрезвычайной высотой сердца. Говоря о
светской средней школе, мы не упомянули об одном ее великом зле: что,
предъявляя требования лишь к уму, она вовсе не предъявляет их к нравствен-
ной стороне души. Так называемое «поведение», т. е. ненарушение благо-
приличий в пос гупках и словах на глазах другого, - конечно, с той внутренней
жизнью воли и чувства, которую мы называем нравственностью, не имеет
ничего общего. Между тем человека, бедного собственно логическими да-
рами, не только нельзя назвать вообще душевно бедным: напротив, часто он
бывает нравственно утонченно развит, деликатен, истинно добр и великоду-
шен*. Светская школа гонит таких учеников, т. е. признает их как бы лишен-
* Это есть истинная боль видеть, в годы ли учения или потом учительства, как из
наших гимназий порой изгоняются юноши (вовсе не обделенные и умственно), столь
утонченно развитые в нравственном отношении, что по справедливости могли бы
быть красотой всякого общества и в христианской школе были бы драгоценным,
бережно хранимым сосудом Божиих даров. Учась, мне пришлось потерять и редко
даровитых по уму товарищей; но в нравственном отношении между ними были такие,
664
ними тех «общечеловеческих сторон», которые будто бы она призвана вос-
питывать; и актом изгнания она признает их вместе как бы негодными и к
жизни, куда готовит «граждан». Но школе, положившей себе в основу Еван-
гелие, нельзя не понимать, что именно эти-то люди и суть лучшие делатели на
ниве Христовой, что без них жизнь была бы суха, черства, несносна; что
именно в них искра Божия горит самым ярким и полным светом, и притом
наиболее привлекательным для всех людей. Не гоня, не презирая этих сторон
души, возмещая в глазах своих ими некоторый недостаток умственных, тесно
логических даров, школа церковная тотчас становится нормой для всякого
общества, живущего полною душой, а не только ее мозговой частью. И здесь,
с этою мыслью невольно соединяется требование, чтобы наряду с подготов-
лением к деятельному служению церкви, она подготовляла и к покорному
пребыванию в ней.
Должны быть открыты для мирян параллельные курсы с теми, какие
проходят будущие священно- и церковнослужители, где то, что ими изучает-
ся, и только это одно, изучалось бы в степени очень ослабленной. Тот же
самый душевный строй, устремление внимания к тем же предметам, науче-
ние достаточное, чтобы прибавить к сердечному слушанию литургии и слу-
шание разумное, - вот все, что здесь удавалось бы каждому и к чему для
даровитых прибавлялись бы и все сокровища христианской культуры. Нет
сомнения, что для самых людных классов городского населения, для ремес-
ленника, для мещанина, для именитого купца, с тарелкой собирающего пода-
яние на церковь, для всех этих людей, столь неожиданно удивленных миром
Фемистоклов и Лициниев, свечения моря и вертящейся Земли, этот мир
евангельских притч и житий святых, чудной истории об Руси и поучений
Иисуса сына Сирахова был бы и не удивителен, и глубоко родствен, и, - мы
уверены в этом, - не менее культурен.
Таким образом, средняя классическая школа, как это и следует, осталась
бы школою для классов, уже вышедших из культуры только христианской*;
эта же последняя осталась бы воспитательною для всех остальных классов
у которых - применяя известное изречение - пишущий строки эти недостоин был
развязать и ремень у обуви. Тщательно взвешивая длинный ряд мне известных фак-
тов и связывая их с общими условиями учения в нашей средней светской школе, я
нередко приходил к заключению, что оканчивают в ней курс не самые способные,
одаренные ученики, но именно менее способные, во всем средние, такие, которые ни
живым, пылким сердцем не нарушат никогда резко установленного «поведения», ни в
силу горячего увлечения какой-либо отраслью знания не отстанут, хотя бы на краткое
время, в некоторых других отраслях. Именно пропуск в университет только этого
рода юношества, конечно, во всех случаях удобного, но ни в каких особенно нужного,
обесплодил и высшую нашу школу. Прежних малосведущих (однако же не во всем)
голов, но чрезвычайно энергических в работе, чрезвычайно восприимчивых к слову
и способных к оригинальности в мысли - теперь в аудиториях уже не встретишь
(разве как редкий, прокравшийся туда, случай).
* Т. с. для дворянства и бюрократии, без искусственного привлечения к ней
(через «преимущества») других классов.
665
населения. Именно это вполне отвечает историческому положению вещей;
никого не выводя из установившегося строя, подобная школа лишь возвыша-
ла бы этот строй; ни на кого не действуя понуждением, оставляя всем свобо-
ду, она действовала бы на всех просветительно, давая каждому тот свет, како-
го он ищет, - свет истинный, не ложный ни в какой части, и только к разным
душам обращенный не одними и теми же лучами.
Воспитание женское, сообразно установившемуся уже историческому
течению, должно быть для городского населения также двояко: для массы
оно должно быть церковное*, для некоторых, т. е. также для дворянства и для
бюрократии,-то особенное, несколько исключительное, несколько искусст-
венное, но, во всяком случае, действительно образующее, какое дается на-
шими институтами. Эти последние, давая гораздо менее затверживать сведе-
ний, нежели сколько дают их так называемые женские гимназии, однако, глу-
боко культурны: они отвечают тому духу, тому психическому строю и прак-
тическим навыкам, какие сложились в золотую пору нашего дворянского
быта - быта очень твердого, очень высокого, о котором мы можем судить по
множеству художественных отражений в литературе, который мы все не-
вольно любим уже в этих отражениях. Напротив, совершенно бескультурны
вышеупомянутые гимназии - компилятивный подбор из элементов гимна-
зий мужских, но не классических, училищ реальных, но без реальных прило-
жений и, может быть, минувших военных гимназий, но без чего-либо воин-
ственного и разве лишь с воинскою грубостью. Трудно сказать, чему в исто-
рии или какой потребности в жизни они соответствуют. Безыдейно они выу-
чивают, конечно, - немного и плохо алгебре, без убеждения - катехизису,
поверхностно - всем естественным наукам; но для чего они выучивают это-
му, что в целом образуется от этого набора, - это так же мало мог бы
объяснить их изобретатель, как неумелый и не руководимый никакою целью
чтец мог бы мало объяснить смысл и цель своего читания.
XV
Выше, при указании трех культур, преемственно развившихся в истории на
ветхой почве Европы, мы невольно заметили, упоминая о третьей, об ее гру-
бости сравнительно с двумя предыдущими. Это сказали мы невольно, вдумы-
ваясь только в смысл ее особых интересов, влечений, и вовсе не думая о
приложении ее к воспитанию. Теперь, переходя к этому последнему, мы по-
* К счастью, начало практическому осуществлению этого уже положено так на-
зываемыми епархиальными училищами - типом школы, неизмеримо более культур-
ной, нежели наши городские женские гимназии; они несколько испорчены только сбли-
жением своим с этими последними, как и семинарии испорчены через сближение со
светской школой - не потому, что она классическая, но потому, что она совершенно не
выдержана в своем классическом строе. Из курса епархиальных училищ, как и из
курса семинарий, должны быть удалены физика, космография, и, - я глубоко убежден
в этом, - также геометрия и алгебра.
666
чти удивлены, как смыслу этих высказанных слов, оправдывая его, отвечает
именно это приложение.
И в самом деле, все наблюдатели, которые имели случай в разные поры
своей жизни одинаково сильно любить каждую из этих трех культур, и, следо-
вательно, относятся беспристрастно ко всем им, - согласно высказывают
взгляд, что впечатления, идущие из круга точных наук о внешней природе,
несравненно менее воспитательны, нежели те, которые идут из античной
древности или христианства. Образование реальное не воспитательно; буду-
чи даваемо с отроческих лет и до поры возмужалости, оно, конечно, неизме-
римо увеличивает количество содержащегося в душе, но замечательно, что
оно почти не изменяет при этом самой души, не утончает ее требований, не
возвышает ее стремлений, не делает ее более чуткой или отзывчивой при
восприятии. Та печать грубости и внешности, о которой заметили мы, что
она лежит на новой культуре, ложится непреодолимо и на всякую душу, ко-
торая в ней одной воспитывается.
Если мы спросим себя, где именно источник этого явления, то после
краткого размышления найдем, что он лежит в характере каждого единично-
го впечатления, из этой культуры идущего. Анализ частного восприятия здесь,
как и всюду в воспитании, тотчас обнаружит смысл целого, которое есть
только сумма этих частностей. И в самом деле, нет впечатления, которое, идя
из древнего мира или из христианства, не было бы сложно: всегда оно есть не
только сведение, но и некоторое сопровождающее его влияние, эстетическое
или нравственное; и в силу отсутствия тесных границ у всего нравственного
и у всякой красоты это влияние неопределенно разрастается в душе, в меру
даров ее или вызывая собой целый мир отзвуков, или, напротив, будя лишь
немногие, но всегда какие-нибудь. Если затем мы обратимся к впечатлениям
из сферы новой культуры, мы, напротив, заметим, что все они просты: каж-
дое из них есть только сведение, сообщает лишь факт и действует на одну
сторону души - всегда на рассудок. И так как, действуя на него, оно лишь
внедряется в него, как новое содержание, то даже рассудок - единственно
деятельная сторона при реальном воспитании ужасающе подавляется в сво-
их оригинальных, творческих зачатках. Напротив, эти зачатки нередко воз-
буждаются при восприятии впечатлений сложных: действуя в значительной
степени на вкус или на чувство, эти впечатления оставляют ум незанятым, и,
в силу природы своей, он становится невольно наблюдателем происходящих
в душе нравственных или художественных волнений; а, наблюдая, он о них и
судит - уже свободно, вне каких-нибудь целей, кроме чистой любознатель-
ности. Только быстрая прерываемость впечатлений, ставшая истинным не-
счастьем всякого теперь воспитания, убила эту незаметную и главную рабо-
ту души, и классическое воспитание уже не возделывает ум так, как оно спо-
собно возделать; без этой же нрерванности мы без колебания скажем, чте-
ние 12 строк древнего поэта или прозаика, не говоря о влиянии собственно
на сердце, и самый ум изощряет более, нежели усвоение самой трудной
теоремы геометрии.
667
Факты, передаваемые в кратком каком-нибудь отрывке из Тита Ливия,
незначительны, и они не значащи для всякого, читающего этот отрывок; но в
том ли дело, они ли составляют смысл строк? Нет. А то, что составляет этот
смысл - красота чувства, так глубоко и неопределенно волнует душу, таким
длинным впечатлением на нее ложится, каким не ляжет и не может лечь
никакой тесно определенный, отчетливо ограниченный факт, напр., этот:
«Квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника,
равняется сумме квадратов, построенных на его катетах»*.
Мы чувствуем, повторяя в своем уме движение мысли Пифагора, от-
крывшего эту теорему, как ум наш стеснен этою мыслью, как он не может
двинуться куда-нибудь в сторону, и не только не может, но и прежде всего -
не хочет. Здесь все определенно и все страшно ограничено; и далее, в этом
ограниченном поле лежит факт, правда ясный, быть может любопытный, но
ничем, никакою своею стороной, не взаимодействующий с нашей душой.
Если б его не было, если б мы его не узнали, ничего не изменилось бы для нас
в природе и не изменились бы мы сами; напротив, разве мы остаемся теми
же, разве природа та же для нас, когда, развернув Гомера, мы прочитываем у
него эти два стиха:
«Половину добродетели отнимает широковещающий Зевес у человека,
когда его постигает день рабства».
Не вызывает ли это в нас длинной вереницы воспоминаний, частью по-
стыдных и всегда горестных? Не пробуждает ли нашу мысль к исканию, к срав-
нению? Не склоняет ли наше сердце к жалости и ум к размышлению над судь-
бой народов, состояний, лиц? И между тем ведь это только предположение,
здесь нет даже никакого факта, который обогатил бы наш ум новым сведени-
ем; но как, не обогащая нас содержанием, этот намек развивает нас!
Или вот страница, опять не сообщающая никакого значащего факта, но
как она образует нас, как воспитывает к лучшему:
«Когда я возвратился в дом свой и отданы мне были Анна, жена моя, и
Товия, сын мой, в праздник пятидесятницы, в святую седьмицу седьмиц, при-
готовлен у меня был хороший стол и я возлег есть. Увидевши много приго-
товленного, я сказал сыну моему: пойди и приведи, кого найдешь, бедного из
братьев наших, который помнит Господа, а я подожду тебя». И пришел он и
сказал: «Отец мой, один из племени нашего удавленный брошен на площа-
ди». Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно вышедши, убрал его в одно
жилище до захода солнца. Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой
в скорби. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал: праздники ваши
обратятся в скорбь, и все увеселения ваши - в плач. И я плакал.
Когда же зашло солнце, я вышел и, ископав могилу, похоронил тело. Со-
седи насмехались надо мной и говорили: «Еще не боится он быть убитым за
* Эта теорема по своей структуре одинакова с каждою истиною из мира этих
наук; поэтому для выяснения этой структуры безразлично, взять ли какую-нибудь
истину физики или какую-нибудь теорему.
668
такое дело: спасался уже за него в бегстве, и вот опять погребает мертвых». В
эту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, я лег
спать за стеною двора, и лицо мое не было покрыто. И не заметил я, что на
стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теп-
лое на глаза мои, и сделались на глазах моих бельма. И ходил я к врачам; но
они не помогли мне. Ахиахар, родственник, доставлял мне пропитание, доко-
ле не отправился в Елимаиду; а потом жена моя, Анна, в женских отделениях,
пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату и однаж-
ды в придачу дали козленка.
Когда принесли его и он начал блеять, я спросил жену: «Откуда козленок
этот? Не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит; ибо непозволитель-
но есть краденое». Она же отвечала: «Это подарили мне сверх платы». Но я
не верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому принадлежит, и разгневался
на нее. А она в ответ сказала мне: «Где же милостины твои и праведные дела?
Вот как все они обнаружились на тебе».
Опечалившись, я заплакал и молился со скорбию, говоря: «Праведен Ты,
Господи, и все дела Твои и все пути Твои - милость и истина, и судом истин-
ным и правым судишь Ты вовек. Воспомяни меня и призри на меня; не
наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцев моих, которыми они
согрешили перед Тобою. Ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты пре-
дал нас на расхищение и пленение и смерть, и в притчу поношения перед
всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине многи и пра-
ведны суды Твои, делать со мной по грехам моим и грехам отцев моих, пото-
му что не исполняли заповедей Твоих и не поступали по правде перед Тобою.
Итак, твори со мною, что Тебе благоугодно: повели взять дух мой, чтобы я
разрешился и обратился в землю: ибо мне лучше умереть, нежели жить, так
как я слышу лживые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить
меня от этой тяготы в обитель вечную, и не отврати лица Твоего от меня!».
В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах
Мидийских, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была
отдаваема семи мужам, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели
они были с нею как с женою. Они говорили ей: «Разве тебе не совестно, что
ты задушила мужей своих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем
ни одного из них. Что нас бить за них? Они умерли, иди же и ты за ними,
чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек».
Услышав это, она впала в печаль, так что решилась было лишить себя
жизни, но подумала: «Я одна у отца моего; если сделаю это, бесчестие ему
будет, и я сведу старость его с печалию в преисподнюю». И стала она молить-
ся у окна, и говорила: «Благословен Ты, Господи, Боже мой, и благословенно
имя Твое святое и славное вовеки; да благословят Тебя все творения Твои
вовек! И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое; молю: возьми
меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны. Ты знаешь, Господи,
что я чиста от всякого греха с мужем, и не обесчестила имени моего, ни
имени отца моего в земле плена моего. Я единородная у отца моего, и нет у
669
него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына
братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену: уже семеро погибли у
меня. Для чего же мне жить? А если не угодно Тебе умертвить меня, то
благоволи призреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать бо-
лее укоризны».
И услышана была молитва обоих перед славою великого Бога, и послан
был Рафаил исцелить обоих»*.
Здесь нет никакого возбуждения в нас рефлексии, но, взамен этого, мы
чувствуем душу свою как бы попавшую в вихрь особого строя чувств, к
которому, конечно, мы способны, но он никогда самобытно не возникал в
нас, и, повинуясь этому строю, душа наша невольно влечется к идеалам со-
вершенно чистым, чрезвычайно возвышенным, дающим высшее удовлетво-
рение нашей совести.
Это влияние - моральное; и как при чтении отрывков из Ливия и Гомера
в нас возбуждается рефлексия, пробуждается знойное ощущение красоты,
так и здесь, при чтении отрывка из Библии, нам становится понятно и близко
ощущение святости. Во всех трех случаях всем существом своим (а не рас-
судком только) мы отзываемся на прекрасные звуки, идущие из далекой древ-
ности; мы на минуту чувствуем себя приподнятыми ими, и когда они замол-
кли, не можем уже опуститься так низко, как стояли ранее, или, опустившись,
чувствуем неизменно горесть об этом.
Теперь, если, отвлекшись от этих волнующих звуков, мы снова обратим-
ся к теореме о квадратах на гипотенузе и катетах прямоугольного треуголь-
ника, мы почувствуем, как голо знание, как оно обнажено от всяких сопро-
вождающих его идей, желаний, чувств. И душа, возросшая лишь на усвоении
подобных знаний, как бы ни была переполнена ими, остается в сущности не
пробуждена в самых лучших глубоких своих частях. Даже умственно она
остается неразвита; так тесны пути, по которым она здесь движется, так узок
здесь путь суждения. Уму нигде почти не приходится творить и нигде также
не приходится достигать до конца, предела, завершения. Он вечно на полудо-
роге, с одною возможностью передвинуться вперед, но не осмотреться по
сторонам и в особенности - не думать о чем-нибудь лучшем или оконча-
тельном. Отсюда сухость, частичность, какая-то неосмысленность созерца-
ния во всяком уме, который возрос только на подобных впечатлениях, как это
можно видеть из следующего рассуждения:
«Самым точным и наглядным показателем высоты цивилизации и энер-
гии поступательного движения любой страны, любого общества является та
степень быстроты и успешности, которую люди проявляют в сфере передви-
жения, т. е. в борьбе с расстояниями. Чем медленнее и чем с большим тру-
дом совершается в данной стране движение по путям сообщения, тем и стра-
на эта представляется более отсталою на пути прогресса. Пути сообщения -
это артерии социального тела. Чем многочисленнее и совершеннее по свое-
* Книга Товита, гл. II и III.
670
му устройству эти артерии, чем обильнее и быстрее проносящиеся по ним
людские волны, тем и процесс «обмена вещества», «питания» в названном
теле идет энергичнее, тем и «пульс» общественной жизни оказывается более
полным и сильным, тем и жизнедеятельность общественного организма выше,
тем и культура, и цивилизация, как высшие продукты этой жизнедеятельнос-
ти, представляются более богатыми по своему содержанию. Ввиду всего это-
го быстроту движения по путям сообщения мы с полным правом можем
брать за мерило прогресса.
Если мы, вооружившись этою меркою, сравним очень даже недалекое
прошлое цивилизованных стран с настоящим, то увидим, что современное
человечество или, по крайней мере, авангард его прогрессирует с очень
большою быстротою. Наши деды, а пожалуй, даже и многие из отцов назва-
ли бы (да и действительно называли) безумцем того, кто стал бы уверять их
в том, что вполне возможна и легко достижима наша нынешняя быстрота
передвижения. В настоящее время мы переносимся в наших обыкновен-
ных железнодорожных поездах, в несколько часов или дней, на такие рас-
стояния, для преодоления которых, лет пятьдесят тому назад, требовались
целые недели. Теперь поезд от Ливерпуля до Манчестера пролетает в 24
минуты, от Берлина до Гамбурга - в 3 72 часа, от Парижа до Кале - в 4 часа
и т. д. Быстрота, как видит читатель, огромная, но и она оказывается еще не
предельною: максимальная быстрота экстренных поездов равна в Бельгии
100 километрам в час, во Франции - 120 км., в Англии -125; что же касается
до Северной Америки, то там поезда на некоторых линиях летают иногда
даже еще быстрее.
Если мы примем в расчет то упорство, ту энергию, которые цивилизо-
ванный мир проявляет теперь в борьбе с расстояниями, а также и те порази-
тельные успехи, которых он достиг в этой сфере на наших глазах, - то трудно
даже и предугадать, на каком пределе скорости движения остановится чело-
вечество... Риск схода слишком стремительно несущегося поезда с рельс
может быть устранен разными способами; так, между прочим, можно про-
ложить рельсовый путь по трубчатому ходу, при котором соскакивание ва-
гона с рельсов станет физически невозможным. Считаем нелишним напом-
нить здесь читателю, что проекты транспортирования пассажиров и клади по
трубам, в цилиндрических вагонах, возникают уже и теперь. Задача предох-
ранения пассажиров от опасности задохнуться в поезде-молнии может быть
разрешена также очень легко: стоит только герметически закрытый вагон
снабдить, в достаточном количестве, сжатым или приведенным в жидкое со-
стояние кислородом или воздухом, да обеспечить отток или очищение (хи-
мическим путем) испорченного дыханием воздуха, - и запертые в вагоне
пассажиры не будут испытывать ни малейших неудобств от того, что поезд
несется, чуть не в буквальном смысле слова, с быстротою молнии; мало
того, они не будут замечать даже и самого движения»*.
* «Русские Ведомости» за 1892 г.
671
Можно подумать, что если бы найден был способ пересылать автора
этого рассуждения по телеграфной проволоке, он ощущал бы себя совер-
шенно счастливым, облетая шесть раз кругом Земли в течение не более как
минуты.
Интересно сравнить с этим ползучим желанием, еще вчера выросшим и,
кажется, наполняющим сегодня уже сердца всех, это глубоко человечное
желание, идущее из более чем двухтысячелетней дали:
Неизвестна судьба мертвых:
Они существуют, говорит один, - их нет, говорит другой.
Вот что хочу я знать, что открой мне,
Вот желание, которое я выбираю.
Так говорит брамин в одной из ведийских легенд; ему отвечает Яма, бог
смерти, к которому он обратился с этим вопросом:
Самые боги издревле не знают о том:
Темна эта тайна; ее трудно понять.
Другое желанье скажи, Начикетас,
Не настаивай на этом, освободи меня от слова.
Начикетас
Для самих богов это скрыто,
И трудно понять, говоришь ты, о, смерть!
Один ты мне можешь это открыть, -
И только это желание я выбираю.
Бог смерти
Выбирай долголетних детей и внуков,
Деньги, стада, слонов и коней;
Выбирай на земле огромное царство;
Пусть будет долга жизнь твоя, как ты желаешь!
Если заменишь желание свое, выбирай
Хоть богатство, хоть долгую жизнь;
Цари над землей, Начикетас.
Всех наслаждений участником будь!
Все, что смертным с трудом достается,
Всякую радость возьми, к которой сердце стремится, -
Только не спрашивай, Начикетас, о смерти!
Начикетас
Все это пригодно лишь ненадолго:
Сила чувств у людей исчезает,
В жизни все скоро проходит.
Песни и танцы, кони, стадо, все это - твое.
672
Людям богатство не дает довольства:
Что для нас деньги, когда мы увидим тебя?
Все мы живем, пока лишь ты велишь, -
Потому выбираю это одно желанье:
О чем, полные сомненья, думают люди,
Об этом скажи мне - о смерти, о будущем царстве.
Желанье, что в скрытую глубь проникает,
Я выбираю его одно.
(Упанишады)
Таким образом, руководимые ли высшим светом, или роясь только в
недрах собственного существа, люди всегда, от самых древних времен, оста-
навливались мыслью своею над высшими вопросами, видели удовлетворе-
ние для себя в успокоении совести. Нужно было трехвековое устремление
внимания наружу, кругом себя, на эти разбросанные на пути камни, расту-
щие окрест деревья, на плывущие по небу облака, чтобы так окончательно,
так полно забыть о себе самом, о своих задачах и целях в мире. Но конечно,
если уже несчастию суждено было совершиться, если бессознательно, шаг
за шагом, как бы снимая с себя исторические одеяния, человек пал до таких
низин желания и мысли - сознательно воспитывать его в этих низинах было
бы и безумно, и преступно.
Итак, мы оставим намерение, с каким начали это рассуждение: выяснить
особые задачи так называемого «реального образования». Нет такого обра-
зования, и если в обществе есть с ранних лет обучение реальным ли навыкам,
или реальным предметам, пусть это существует, если нужно, - но не называ-
ется образованием.
XVI
Мы переходим к высшим формам просвещения, к тем, в которых окончатель-
но формируется человек, где он созревает уже для деятельности в духе, в
смысле своей культуры, для истинной пользы своего народа и прежде, неже-
ли для этого, - для высшего удовлетворения своей души.
Духовные академии и университеты, одне соответствуя древней христи-
анской основе, и другие - позднейшему пышному наросту на ней, выполня-
ют или могут при лучших условиях выполнить эту особую роль. Эти учреж-
дения справедливо разделены в православных и католических землях, где ими
выражаемые формы просвещения были исторически в антагонизме; и спра-
ведливо же они соединены в протестантских странах (богословские факуль-
теты при университетах), где религиозное движение выросло об руку с гума-
низмом, вместе с ним восстав и разрушив древний церковный строй.
Об академиях мы не можем сказать ничего сверх того, что уже заметили
о среднем церковном образовании: что даваемое в них просвещение должно
быть строго выдержано в своем типе, т. е. из него должны быть удалены все
22 Зак. 3969 673
безобразящие, обессмысливающие его позднейшие приделки. Странно ви-
деть священника, который, хорошо объясняя сатиры Кантемира, не умеет
прочесть двух-трех строк древнего еврейского текста; и постыдно видеть,
что, встретясь с раскольничьим начетчиком, он, конечно, может объяснить
ему, отчего и как происходит гроза, когда и кем был изобретен паровоз, но в
сфере своей собственно, т. е. в знании Писания и отеческих книг, оказывается
перед ним совершенным невеждою. Еще более постыдно видеть, что чем
выше получаемое в наших церковных школах образование, тем ниже уро-
вень чистой и горячей веры в их питомцах; так что наихудшие в этом отноше-
нии (а следовательно, и во всех) священники суть те, которые прошли акаде-
мический курс. Думается, сверх вредного влияния упомянутых приделок,
вторая причина этого кроется в непреодолимом влиянии непосредственных
созерцаний. Наши академии, за исключением Московской, расположены в
самых шумных центрах теперешней цивилизации, которая всем своим ви-
дом, соблазнами и обаянием завтра разрушает то, что было сделано вчера за
глухими академическими стенами. Нет пользы в образовании - таком, но
при таких условиях. И академии (как думается, и семинарии даже, и женские
епархиальные училища) должны бы быть перенесены из шумных центров за
стены уединенных, славных не одними историческими воспоминаниями, но
и строгостью теперешней жизни, монастырей. Не библиотеку Соловецкого
монастыря следовало передавать в Казанскую академию, не говоря уже о
нарушении права, об отнятии лучшего сокровища у нашей древней истори-
ческой святыни. Следовало бы скорее перенести Казанскую академию в Со-
ловецкий монастырь, как Петербургскую - в Кирилло-Белозерский или Во-
локоламский, и Московскую - несколько далее, чем теперь, не в монастырь,
столь обильно посещаемый, столь тревожимый визгом ничего о молитвах не
знающего паровоза.
В сущности, при естественном развитии всех дел, в сфере ли церкви, в
жизни ли народной, так и произошло бы: из силы веры, из горячего желания
пробуждать ее и в других, возникло бы там, где эта вера наиболее пламенно
и чисто горит, углубление в познание ее истин, т. е. духовное учение. Но,
конечно, это не могло войти в соображение людей, которые, относясь к вере
извне и извне желая оживить ее, основали для этого школы там, где удобнее
было бы наблюдать за ними, не так монотонно проходила бы жизнь, и все
вообще, но кроме веры, деятельнее существует и успешнее достигается.
Что касается университетов, то это суть высшие продукты, в каких новая
культура (и античная, насколько она стала предметом усвоения и передачи)
выразила свои самые идеальные, чистые черты; познание мы считаем глав-
ною и характерною особенностью новых веков, высшею их задачею, кото-
рую предопределил своим мышлением Декарт и указал Бэкон, - как религи-
озное просветление считаем задачей Средних веков, и выпуклое, внешнее
выражение красоты и затем сцепление мира правом - задачей античного
мира. И в самом деле, только еще политическая жизнь или, наконец, поэзия
могли бы счесться центральным явлением новой истории; но что же можно
674
сказать о новых государствах в сравнении с Римом в смысле красоты, в смыс-
ле мощи, в смысле окончательного на земле, чем пытался и уже почти стал
Рим и чем никогда не задумывали, не смели думать сделаться его слабые и
тусклые повторения в истории. Воля не есть в человеке наивысшее, не ею
достигнет он неба - таков был смысл великого катаклизма, которым закон-
чился Рим и который предостерегает другие народы от вступления на пути
его. Далее, если мы перейдем к поэзии, то, понимая ее лишь как часть прояв-
лений прекрасного, будем поражены тем, как в позднейшей фазе европейс-
кой истории это прекрасное выражено узко, имея лишь одну для себя форму
- поэзию. Она оголена, ее не сопровождает ни сколько-нибудь ей равная
скульптура, ни ее достойное зодчество; только музыка достигла в эти поздние
века несравненного развития, но ведь это - самое философское из искусств,
ведь в смысле выражения красоты - это вовсе не то уже, что ясная в чертах
своих статуя, неопределенно волнующий и сам неподвижный храм, вечно
опять и опять припоминаемая картина. Собственно красивость, как что-то
непреодолимо притягательное для созерцания, уже заменена другим чем-то
в музыке; и замечательно, как эта же красивость также заменена и в новой
поэзии, более содержательной и глубокой, нежели поэзия античная. Но, бу-
дучи такова, она несомненно менее прекрасна, чем последняя, не так мерна,
не так влечет к себе именно созерцание наше, и это одно здесь значаще. Она
содержательнее, она глубже, потому что она осложнена мыслью; собствен-
ный, родной мир этой мысли есть, конечно, философия и наука. В новом
мире, выступив за пределы свои, эта мысль покорила себе искусство, удалив
от человека пластические выражения и приблизив музыку, сделав для него
невыразимо привлекательными такие произведения, как «Гамлет», как «Ман-
фред», как «Фауст», в античном мире только бы смешные; и далее, покорила
себе и религию, подчинив ее своей критике, что и составляет смысл протес-
тантизма, этого перехода веры от мистических основ на почву рационализ-
ма*. Итак, если одна мысль в новой истории не только развивается в меру
естественных задатков своих, но и ширится, и покоряет, и переиначивает по
своему подобию все остальные задатки в духовном существе человека, и он
остается бледен в желаниях своих, тускл в красоте, не тверд, изменчив в вере, -
то не ясно ли, что собственное ее царство, т. е. философия и наука, и есть
истинный центр переживаемого фазиса истории. Познанием своим, как преж-
* Разумеется, Лютер нс думал об этом, но очень скоро после него собственно
лютеранская церковь, как ветвь протестантизма, стала уже рационалистической и
пиетической; что же касается до других, ему современных реформаторов, то Мелан-
хтон был только ученый без каких-либо мистических порывов, Цвингли был рациона-
листом и в основаниях, и в выводах, а Кальвин в знаменитом труде своем «Institutio
Christiana» <«Наставление в христианской всре»> не рационалистичен только в пер-
вых посылках, и тем строже рационален во всей последующей конструкции своего
учения. Пиетизм можно рассматривать как протест сердца против насильственного
вторжения мысли в область веры, и поэтому исторически, как и логически, он неотде-
лим от рационализма.
675
де волею, как потом верой и самоотречением, человек в третий раз пытается
достигнуть неизъяснимых высот, к которым доступ ему закрыт ли навсегда,
или возможен - об этом не нам и не теперь судить.
Universitas omnium litterarum - «круг всех наук» и есть видимое, осяза-
тельное средоточие этих идеальных стремлений, этих новых порывов челове-
ческого духа ввысь. Из этой, и никакой другой идеи, должна вытекать их орга-
низация, отношение к ним окружающего и их к окружающему. Безусловная
несвязанность мысли и ее выражения должна быть допущена здесь - ведь
без этого тотчас нарушается самая идея познания; но конечно, к этому высо-
кому праву могут быть допущены только те, которые подходили бы к нему со
священным трепетом долга. Итак, доступ туда не может быть свободен для
всякого, и он не может стать предметом передачи от учителя ученику своему
- ведь будет выбран лишь восприимчивый и покорный, а не деятельный и не
строптивый в мысли, какой, между тем, и нужен; и не может этот доступ
открываться самим университетом: ибо никогда посредственными умами (а
в разные эпохи именно таков будет состав учащих) не будет допущен в среду
свою даровитый, который мог бы их затмить своею силою или оскорбить
смелостью. Древний пример Платона, не допустившего Аристотеля до пре-
емства себя в Академии и передавшего заведывание ею неспособному Спев-
зиппу, мог бы послужить предостерегающим уроком для всех, кто вздумал
бы на этих принципах основать процветание наук.
Но кому же, если не учителю, если не самому университету, должно быть
предоставлено право возводить на его кафедру? Мы думаем - совокупности
университетов, но так, чтобы избираемый в каждом отдельном случае был
избираем не из корпорации, его избирающей, но из других родственных: в
противном случае на видную открывающуюся кафедру был бы передаваем
университетами наименее им нужный или почему-либо неудобный, вообще в
каком-нибудь отношении худший. Это же право, без всякого ущерба для уни-
верситета и его достоинства, могло бы принадлежать пожизненным их покро-
вителям, но непременно - близким к ним. Как общее процветание науки не
может не быть священно для совокупности людей, над нею трудящихся: так
процветание каждого университета не может не стать предметом ревнивой
заботливости его особого покровителя, если он только будет пожизнен, если
всякие другие заботы и опасения будут тщательно удалены от него. Мы дума-
ем, назначение от государства подобных покровителей наилучшим образом
могло бы обеспечить университеты от уклонения в сторону с путей своих, -
будет ли то мелкая, закрытая от всех, борьба страстей и интересов, или явное
склонение внимания своего в сторону масс и духа времени, или, наконец,
косность и застой в идеях. Впрочем, истинно государственная мудрость состо-
ит в том, чтобы производить опыты ранее, чем полагаться на теории, и в данном
случае наиболее рассудительным была бы индивидуализация условий универ-
ситетской жизни, т. е. применение к отдельным из них порознь всех вышеуказан-
ных способов замещения кафедр, чтобы после долгого (векового) опыта остано-
виться на котором-нибудь одном (если только это непременно нужно).
676
Далее, так как культ науки и философии, как и культ искусства или рели-
гии, не может быть сосредоточен исключительно где-либо, но бывает разлит
в целом обществе, то следует развитие университетов поставить в зависи-
мость от усилий самого общества: мы разумеем здесь основание новых, ка-
федр. Ни в чем так не выражается недостаточность государственных забот об
образовании, как в недостатке представительства в университетах, напр. в
наших, множества отраслей знания, уже давно, уже деятельно и обширно
разрабатываемых на Западе. Достаточно сказать, что у нас нет специальных
кафедр греческой истории и истории римской, что (по крайней мере, недав-
но), пройдя так называемый историко-филологический факультет, можно
было, однако, не выслушать там ни одного слова о греческой философии, об
истории римской и греческой литератур, о греческом искусстве, о граммати-
ке языка, на котором говоришь, о родной литературе в той поре ее развития,
когда она только и стала интересна, - наконец, не услышать даже имен конфу-
цианства, брамаизма, буддизма, ничего не узнать о германской философии
после Лейбница, - чтобы понять, до какой степени знания, там сообщаемые,
как они ни прекрасны и ни занимательны в известных рамках, однако по
самым размерам этих рамок - узки и обрывочны. Недавно у нас совершена
была реформа университетов: вековое название четырех курсов заменено
названием восьми полукурсов - что, наконец, походит на Германию; но что-
бы дать в наших университетах и место германскому разветвлению знаний -
это, как уже нечто существенное и действительно полезное, было, как и все-
гда почти, при всех наших реформах, забыто инициаторами преобразования
имен и форм.
Только сами университеты могут вовремя указать, чего недостает им, т. е.
какие вновь возникающие дисциплины требуют учреждения новых кафедр;
но, мы думаем, изыскание средств на их содержание должно быть предос-
тавлено частной и общественной инициативе; достаточно, если государство
оснует лишь существеннейшие, тесно необходимые кафедры и укажет, что
дополнение их до богатства, до роскоши принадлежит свободной любви и
уважению к науке, насколько они выросли в обществе.
Две функции, сверх главной и понятной, т. е. преподавания, должны бы,
казалось, быть предоставлены высшим ученым учреждениям в государстве:
это - надзор за печатью и надзор за средним, подготовляющим образовани-
ем. Печать столь явно, столь очевидно несет в себе с добром и зло, бросает в
общество быстро растущие семена и того и другого, что не может подлежать
сомнению необходимость наряду с бережным отношением к первым - за-
таптывать до всхода вторые. Этому разделению едва ли могут подлежать кни-
ги; даже в том случае, если книга имеет мало отношения к истине и ее иска-
нию, если она стремится повлиять только на чувства, даже на дурные страс-
ти, она все-таки есть плод индивидуальных усилий, в ней все-таки видно, что
какое-то лицо трудилось над известными мыслями или подобием мыслей,
все-таки обдумывая их, быть может колеблясь, сомневаясь. Словом, книга,
какова бы она ни была, есть все-таки плод внутренней душевной работы, над
677
которым следует задуматься прежде, нежели что-либо решить относительно
его; почти то же следует сказать о крупной периодической печати, и, по
крайней мере, у нас эта печать, от архаических «Ежемесячных Сочинений»,
от изданий Новикова и Карамзина и до нашего времени, оказала столь не-
сомненные, столь великие услуги умственному и художественному воспита-
нию общества, что, каково бы ни было отношение к ней в других странах, у
нас она должна быть только оберегаема, только хранима. Но нельзя этого
сказать о прессе ежедневной - этом ежедневном брызганье слюной и заика-
ющемся бормотанье, которое по непреодолимому предрассудку все поче-
му-то называют тоже литературой. Но это требует и стоит более подробного
обсуждения...
Нужна защита для могил, нужно охранение для зиждительного труда ис-
тории; нельзя, появившись на земле лишь на мгновение, думать, что на это
мгновение земля принадлежит нам и мы можем на ней сделать, что хотим.
Мы может лишь продолжить на ней то, что делано ранее, прибавить что-
нибудь свое, но разрушить сделанное - на это у нас нет права, и в ком есть
совесть, - почувствует, что этого права у живущих никогда и не будет: оно
унесено в могилу прежними поколениями, которые оставили нам лишь пра-
во на созерцание. Великий художник наш и провидец в тоскливую минуту
своей жизни сказал, что, быть может, наступит момент, когда завистливый и
бездарный раб (а им может быть и художник), взобравшись к лику Сикстин-
ской Мадонны, сорвет и разрежет его на куски; но чтобы не наступила физи-
ческая возможность этого, нужно, чтобы понята была его правовая невоз-
можность: не только одинокий раб, при торжествующих криках вот этой
толпы подобных же рабов, но и вотум всех народов, населяющих теперь зем-
лю, не может ничего решить о Сикстинской Мадонне, как не для них нарисо-
ванной. Они могут только нарисовать новую Мадонну, но разрушить уже
нарисованную - не могут: она для их внуков, для их десятого поколения,
мнения которого еще никто не знает и его предрешать не может, нарисована
столько же, как и для них.
Итак, есть вещи, существование которых вечно, право на которые рас-
пределено на все поколения людей, насколько им суждено чередоваться на
земле. Нельзя требовать, чтобы понимание этого права было усвоено каж-
дым, и в особенности людьми, которые никогда ничего не созидали, не знают
трудностей этого созидания и также радостей созерцания чужого возвышен-
ного труда. Но и можно, и следует требовать, чтобы в целом своем каждое
поколение понимало свой долг перед прошлым, и чем обильнее в нем урод-
ливые вырождения, тем тверже оно встало бы перед ними за святыню про-
шлого. Никто не допускает гиену до могил - хотя бы гиена была действитель-
но голодна, хотя бы могилы уже действительно ничего не чувствовали; но
есть родственность между нами и этими могилами, и мы ляжем со временем
рядом с ними, и в минуту, когда будем ложиться, нам дорога была бы уверен-
ность, что ее не раскопают и не осквернят; но эту уверенность нужно купить
- верностью своею тому, что жило. По крайней мере, кощунства над про-
678
шлым, вандальского разрушения уже созданного вправе не допустить всякое
поколение, и из этого права вытекает то veto, о котором мы сказали, что оно
должно быть налагаемо время от времени на прессу, насколько, живя исклю-
чительно дневными интересами, она более, чем все другое, нежели каждый
отдельный человек, имеет тенденцию терять память о прошлом.
Заметим, что предоставление этого veto учреждениям с очень временны-
ми задачами, с минутными тревогами, опасениями, нуждами было повсюду в
Европе грубым политическим заблуждением; это к тому же было и фактом, за
которым вообще не лежало никакого права: нет вечных вещей, нет святынь, нет
неприкосновенного, с чем какими-либо нитями были бы связаны эти времен-
ные учреждения, слепые рабыни нужд своего дня. Нет ничего, что так мало
почувствовало бы свой долг защитить прошлое, что так слабо знало бы это
прошлое, так неспособно было бы понять его, как этот вечно преобразующий-
ся и всему угодливый протей, идущий вперед, без целей, без воспоминаний,
по воле того лишь, кто на нем сидит. И так как у сидящего нет тысячи глаз,
чтобы все видеть, а каждая святыня единична и единичным же актом разруша-
ется, то ясно, что слепой везущий конь способен не сохранить, но затоптать их
все. Итак, не ему, сильному, но не зоркому, должно быть отдано это veto. Оно
по всей справедливости должно бы принадлежать самому общему, самому
духовному и всеми сторонами равно признаваемому органу, какой, мы дума-
ем, раньше или позже, будет создан в этих целях новою цивилизациею.
Сила не всегда есть и уменье, и возница, собравший все вожжи в руки,
еще не значит успешно имеющий проехать через все трудности пути: искус-
ный знает, что в темноте, близ пропасти, нужно предоставить коням идти
свободно, что, руководимые каким-то безотчетным инстинктом, они прохо-
дят безопасно там, где погубит малейшее движение правящей руки. Разница
между администрацией и политикой и состоит в том, что первая, заботясь
только о силе, все лишь собирает вожжи и в заботах о них не смотрит, не
имеет времени смотреть на путь; она к тому же вовсе и не знает природы
коней. Именно на знании этой природы и на тщательном всматривании в
путь основывается истинная политика: почти не заботясь о силе и вовсе не
собирая вожжей, она достигает, однако, того, что кони бегут и долго, и силь-
но, и, никуда не порываясь, спокойно довозят до конца.
Знаменитый и древний вопрос: «Кто будет сторожить стражей?» - пока-
зывает слабость и тщету этих надежд на силу, когда она вся и во всех видах будет
в «подведомственных» руках: никто не усторожит дремлющего раба и не уло-
вит лукавого, хотя бы, теряясь в толпе других рабов, он еще вчера вместе с
ними клялся всеми клятвами, что не сомкнет глаз и положит живот свой перед
врагом. Итак, нужно не доверяться этим клятвам - нужно в тиши, в темноте
подсмотреть, кто истинно любит хранимое сокровище, кто и без клятв не зас-
нул бы над ним. И поняв это, различив верных, нужно, и уже не доглядывая за
ними, отдать им охрану ворот. Так поступает мудрый хозяин, какового и мож-
но ожидать над великими сокровищами истории, на чреде народной жизни, -
и, поступая так, он этих сокровищ не растеривает, эту жизнь сохраняет.
679
XVII
Без сомнения, подобная же забота - не упустить чего, не досмотреть за
чем - породила и странное подчинение средних форм образования не
университетам, к которым оне - только поднимающая ступень, а особым
«административным единицам» - округам, ни с университетами, ни вооб-
ще с просвещением в его идее и смысле не имеющим ничего общего. Мы
говорим о духе, а не о формах: ибо по форме можно связать и вещи проти-
воположные, по природе же они всегда останутся противоположны и бу-
дут отвращаться друг от друга. Этим отвращением, этим невысказанным и
ничему не покоряющимся антагонизмом проникнуты и разрозненные вет-
ви образования всюду, где оно еще не задохлось в сетях созданных для него
форм, стремясь, в силу природы своей, отдалить от себя эти формы, - как
оне, в силу природы же своей, стремятся его только давить. Но мы думаем,
нет исторической необходимости в этом антагонизме, и формы, оставаясь
крепкими, могут быть применены к другому, а просвещение может быть
свободно.
Без сомнения, университеты лишь сведущи, кто им нужен, кто внима-
тельнее склоняет слух к их учению; и они же сами настолько просвещены,
что могут различить, в ком, за всем недочетом форм, есть живое зерно,
которое следует полить, и оно «во благовремении» принесет плод. Но вот
это различение и право избрания отнято у них, и они обращены в немой
сосуд, куда, и уже давно, в силу «странного сочетания велящих звезд», бро-
сается одна шелуха, которую как-то, - но уже как хотят, - а должны они
превратить в полновесное зерно. Им говорят, что бросаемое в них блестя-
ще; и когда они отвечают, что это потому, что оно шелуха, они не получают
никакого ответа - по непониманию бросающих, что такое шелуха. Люди,
никогда не имевшие дела с зерном, и во всех явлениях обращавшиеся лишь
к внешней их стороне, естественно и понятно раздражаются, слыша непо-
нятный для них язык; они не доверяют этому языку, думают, что в нем
скрывается обман. Но печальная истина состоит в том, что две группы
людей, равно правых и равно сведущих, но в сферах, решительно не имею-
щих между собою ничего общего, призваны говорить друг с другом об
одном и потому не понимают взаимных речей.
И не только речей не понимают, но и бьющих фактов, и не только не
понимают, но не хотят задуматься. Какие формы были не соблюдены, ка-
кие «программы» не выполнены, чего недоставало по внешности, когда в
темную ночь, крадучись по коридорам, со связкой подделанных ключей,
шли «лишь на один день недозрелые» к замкам, чтобы, выкрав из-под них
хитро задуманные темы, завтра же явиться окончательно созревшими и,
наконец, торжествующе вступить в университет. Бедный университет, их
долженствовавший принять! Но и еще более бедная администрация, кото-
рая видела и не поняла, что для этих людей уже никогда не настанет «зре-
лости». Но факт был не понят и, кажется, не внушил даже потребности
680
обсуждения*: какую форму он нарушал? Разве это был недочитанный Го-
мер? Или пропущенная страница катехизиса? Или непонятая теорема алгеб-
ры? Это был только рабский страх, жалко изворачивающийся в поисках за
документом, и как, какими путями, формами можно огородиться от него,
когда он вытекает из чего-то, с этими формами не имеющего ничего общего?..
Этот страх, это душевное рабство есть антитеза тому, что, как высокий
идеал, повсюду постановлено воспитанием. И если он есть, нигде не уничто-
жен - есть ли где-нибудь воспитание? Не есть ли лишь внешние формы его, за
которыми не скрывается уже давно никакой сущности? Сухая, сморщенная,
всюду без боли разрываемая кожа, которую мы рассматриваем, - не показы-
вает ли, что живое существо, которое предполагалось за нею, уже давно куда-
то и бесследно исчезло; и тщетно бросают перед ней приманки, толкают ее,
обрызгивают водой: она не движется, она не видит и не слышит, она давно
перестала жить.
И как то, что перестала жить схоластика, обнаружилось ясно для всех в
знаменитом споре о числе ангелов, умещающихся на острие иглы, и не тре-
бовалось более ни споров, ни разъяснений для всех, кто видел это и понимал,
- так точно, если мы имеем ум предков, мы должны бы понять, до какой
степени ложен и извращен был труд, который мы клали так долго на возведе-
ние призрачного здания, с гордыми замыслами в чем-то «поправить исто-
рию», «изменить к лучшему человека», для бедных и темных народов со-
здать наконец «граждан», когда вместо всего этого из воздвигнутого здания,
как окончательный продукт заложенных в него рождающих сил, показались
эти крадущиеся и дрожащие тени, с бледным от страха лицом и с горящими
жадностью глазами, которые - стой на пути их не стальной замок, но отече-
ство, вера, все дорогие святыни истории - они не задумались бы и их взло-
мать, чтобы только себя и только на эту минуту насытить, чем нужно.
XVIII
Мне припоминается, как много лет назад, утомившись ходить по длинной
красивой зале, с паркетным полом и двойным светом, я сел на конце ее и,
сам еще подросток, стал в рассеянности смотреть на лица множества таких
же подростков, которые по двое, по трое то подходили ко мне, то удалялись,
разговаривая. Не знаю, под влиянием ли уже ранее бродивших во мне мыс-
лей, или по чему другому, но я стал в эти лица, давно уже знакомые и не-
* Одна кража оканчивающими учениками тем была года за три-четыре до моего
выпуска; темы переданы были по телеграфу в другие однородные заведения, что и
вызвало производство во всем округе вторичных экзаменов. С тех пор, по неудоб-
ству подобного перепроизводства экзаменов, темы рассылаются так, чтобы получа-
лись в каждом городе лишь накануне экзамена. Таким образом, у учеников нет време-
ни украсть темы, оно отнято, конечно, не без уверенности, что будь сохранено, -
темы будут украдены.
681
интересные, всматриваться с особенным интересом. До окончания курса,
до «зрелости», и мне, и этому множеству юношей оставались кому меся-
цы, кому немногие годы. Как и всегда, между ними шумно играли мальчи-
ки 11-14 лет, бегая, прячась и ловя друг друга. И в этот раз, как всегда
потом, в продолжительные годы уже собственного учительства, я видел
этот возраст с яркою печатью занятости вот этою текущей минутою, с
отдачею ей всех сил души и тела; ни ясного склонения к добру, ни ясного
уклона к злу в них еще не было: было одно естественное, натуральное
добро, которое, пожалуй, влечет к себе даже более, чем привитое, но из
которого, во всяком случае, то может быть выведено, взращено. Это добро
было принесено из семьи; оно было слишком ярко, но оно уже начинало
пугливо прятаться с нарастанием годов; и ясно было, что не здесь оно
выросло.
Совершенно иное впечатление производили лица юношей в 17-19 лет.
Они также в большинстве смеялись или очень оживленно разговаривали. Но
совершенно ни одного среди них не было, на котором, именно в момент
оживления, не отпечатлелось бы какого-нибудь искривленного чувства. Было
ясно, как заискивают одни у других, как робеют другие перед возможностью
осуждения, и как готовы к этому осуждению более сильные. Приязни, вза-
имного расположения ни у кого не было; и ни в ком не было открытости.
Правда, все это было мелко; но, сравнивая их с тут же бегающею толпой
мальчуганов, становилось ясно, что это мелкое - только первый заворот вин-
та, по которому, все расширяя обороты и все восходя выше, в раз уже данном
направлении, поднимется душа их всех.
Кем дан был этот заворот, и почему не вправо, а влево, и не в ком-нибудь,
а во всех, он уклонился? Эти заискивающие чувства, эта боязнь в одних и
готовность злоупотребить превосходством у других, наконец, - и это чаще
всего - тщеславие и тщеславие, ранняя жадность хоть чем-нибудь, хоть на
минуту насытить его, - откуда все это? Из семьи ли, где их же видел я гораздо
более простыми и естественными, как бы отдыхающими от этих чувств? От
церкви ли, где все, что они слышат (в тех редких случаях, когда слушают),
стремится подавить эти чувства и заменить их противоположными? Непре-
рекаемо, очевидно, было, что именно здесь взросли они, - на этих паркетных
полах, при ярком освещении в два света, при всюду развешанных «таблицах
правил», среди точных или путающихся ответов, но ответов все на вопросы
знания, все в длинных вереницах фактов.
Ярко дурного чего-либо ни в этих фактах, ни в этих вопросах, ни в этих
«правилах» не было; но было какое-то неуловимое и постоянное зло в том
целом, что они составляли собою; как было бы безобразие в искусственно
подобранном из костей и мускулов теле, которое - пусть каждая часть в
нем взята из прекрасного целого, - как новое, было бы непреодолимо от-
вратительно.
Эта отвратительность искусственного состава, который видом своим так
походил на целое, на организм, а в действительности был ему совершенно
682
противоположен, и отражалась как постоянное неуловимое зло в формиро-
вании характеров, развитии способностей, наконец, на каждом молодом и
уже притворном лице. В миньятюре они все были так же искусственны, так
же ложны, так же пусты от всякой веры во что-либо, от всякой любви к чему-
нибудь, кроме веры в себя, кроме любви к себе, какая была и в системе,
которая воспитала их.
Не было и не могло быть чего-либо дурного ни в одном из сведений,
которые так отчетливо и своевременно ложились в их душу. Но длинные
вереницы этих сведений, из которых всякое ложилось в свой ряд, ничего не
знали каждая о близлежащем ряде, и не только не знали: каждая всем смыс-
лом, всем строем, всем наклоном своим отрицала его; и из этих взаимно
скрещивающихся отрицаний в душе воспринимающего вырастало лишь со-
мнение во всех них. То, что было в этом сомнении умственного, сказывалось
как индифферентизм ко всякому дальнейшему приобретению сведений; но в
нем была еще и сторона нравственная, которая выражалась как отсутствие к
чему-либо любви, уважения, - того, что выше мы называли культом. За
потерей всего этого, за недостатком какого-либо далекого и влекущего пред-
мета, что другое оставалось для каждого, как всю силу внимания своего со-
средоточить на себе? Тот, кто не поклоняется ничему и не может поклонить-
ся, - всегда поклонится себе.
Все разнообразные виды маленьких страстей, маленьких боязней, ма-
леньких позывов, какие так живо были напечатлены на лицах, мелькавших
передо мной в тот далекий памятный час, имели в основании своем этот
маленький культ своего «я». Он один остался; потому что всякий другой
культ, и даже тот бедный, узкий культ, который каждым был принесен из
семьи - культ ее самой и близлежащей церкви, был невозвратимо потерян.
XIX
Позднее, вступив в университет, я был поражен его странною запустелос-
тью. Или вымысел и ложь было все, что там и сям, в исторических или
художественных воспоминаниях, записано об университетах за прежние
десятилетия их существования; или действительно, точно подъедаемые
какою болезнью, эти университеты неимоверно пали с тех пор. Они пали
не в смысле людности: они пали в том главном смысле, что к ним не прино-
силось более никакой жажды знания, и если они на что-нибудь отвечали,
то, во всяком случае, не на вопрос, не на любопытство ума. В самом уни-
верситете были, конечно, недостатки - и главнейший состоял в том, что не
были развиты его учения, разветвлены в разных направлениях, и в своей
совокупности они не представляли чего-либо целого и законченного. Но
каждое почти учение порознь было высокопросветительно; оно было куль-
турно в том смысле, как было объяснено это выше: за ним светилась лю-
бовь учащего и к предмету своего учения, и к самому учению. Были не-
683
до четы в формах*, в тех внешних проявлениях «ревности по службе», каких
совершенно не было в только что пройденной средней школе; но - о чем там и
понятия не имелось - не было недочета в духе, в действительной преданности
делу, в осмысленности отношения к нему. Между очень старыми профессора-
ми были образцы такой высокой человечности, такого удивительно живого и
многообъемлющего интереса к знанию и, также к самой жизни, к ее текущему
моменту, но в формах благородных, возвышенных, что, конечно, год-два обще-
ния с ними воспитывали неизмеримо более, чем долгие годы, проведенные над
нелепым «учебным матерьялом» средней школы. Было бы правильнее сказать,
что это общение, наконец, возвращало душу к тому нормальному состоянию,
от которого так надолго и так далеко, погружаясь во всяческое раздражение и
ненависть, она была отклонена в пору восприимчивого отрочества.
Если в ком-нибудь из нас, потом вышедших на широкую арену жизни, был
взращен культ своей родины, ее прошлого, наконец, религии и церкви** - это,
конечно, было сделано университетом; хотя любопытно, ни одним словом
там не навязывался этот культ; но он возникал сам собою из общего отноше-
ния к делу - как общим же отношением к делу, вопреки отдельным зазывани-
ям к этому культу, мы от него непреодолимо отвращались в средней школе.
Благодатный дух древнего и прекрасного учреждения, цельного в своей
идее, не растерянного во множестве противоположных и несоединимых це-
лей, веял здесь и отражался невольно, хоть сколько-нибудь, хоть иногда кос-
венно, иногда много времени спустя, по воспоминаниям, - на каждом, кто
имел дорогое право войти сюда, посидеть на этих почтенных старых скамьях,
увидеть, послушать этих стариков. Здесь все было хорошо именно потому,
что было старо: на этих скамьях, может быть, сидели эти старики; быть мо-
* Мне известные, на нашем факультете, состояли исключительно в неявлении на
лекцию - по слабости, слишком распространенной в отечестве, чтобы называть ее. На
вопрос, обращенный к служителю, будет ли такой-то профессор, угрюмый служи-
тель лаконически отвечал нашему курсу: «Со вдовой Поповой беседует». Но, уже
явившись на лекцию, этот профессор и известный ученый так читал нам, что ни в ком
из слушавших и тени осуждения ему не могло быть за то, что 3-4 раза приходилось
напрасно толкнуться в аудиторию. Если бы этого профессора, светило нашего фа-
культета и целого университета, перевести с его слабостью в гимназию, он, конечно,
оказался бы там нетерпим - «по неуважительному манкированью службой». В годы
моего учения, впрочем, началось уже тление университета и по духу. Любопытно, что
его ранними представителями были именно самые юные профессора, которые читали
лекции, одновременно готовясь к магистерству, т. е. те homunculi, которые, с соблю-
дением всех парацельсовых правил, только что выварены были среднею школой. Это
тление сверху, загнивание вершин, гораздо ярче было выражено на других факульте-
тах - и из них юридический, с «кружком молодых профессоров» во главе, шел впере-
ди всех. Под «тлением» я не разумею здесь ничего другого, кроме появления каких-
нибудь иных интересов на кафедре сверх чисто научных; как в студентах под этим
словом не разумею ничего, кроме упадка любознательности.
** Даже церкви, - как это ни странно, ни удивительно покажется очень многим;
но и я, и некоторые из многих товарищей (а мы и ранее все учили катехизис) во всем ее
необъятном величии поняли, что такое церковь в истории, лишь на университетских
исторических лекциях.
684
жет, их не вынесут еще и тогда, когда уже будет учиться новое поколение, с
другими мыслями, с другими надеждами и замыслами, чем мы.
В средней школе все было заново выполировано; скамьи были «последних
образцов», верно одобренные на каком-нибудь гигиеническом конгрессе и кра-
совавшиеся на педагогической выставке; не было неостриженных голов, учеб-
ники были в переплетах; учитель не запаздывал ни на минуту и аккуратно за-
писывал в журнал, что объяснял, кого спросил, кто не пришел в класс. Но... это,
наконец, было изобретение, выдумка, которой не перестанет удивляться будущее.
Коллизия этих двух школ - прежней, исторической, которая принимала в
себя питомцев, и новой, только что созданной, которая подготовляла их, была
удивительна и сказывалась на первых же порах: она сказывалась в том культе
чистой науки, с которым захудалые, обезлюдевшие отделения прежнего «фи-
лософского факультета» по древнему упорному правилу назывались на акте
первыми, выдвигались вперед других; и в том, как, отворачиваясь от этих
факультетов (т. е. историко-филологического и физико-математического),
густой толпой, уже не неопытные, юнцы валили к хлебным факультетам, т. е.
юридическому и медицинскому. «Что ты мне дашь?», а не «чему меня на-
учишь?» - этот вопрос был, ясно, у всех входивших. И столь же ясно должно
быть для всякого, до чего затруднительно сделалось положение университета с
его традициями, с его воспоминаниями, с его долгом перед своей идеей, раз
ему приходилось отвечать на этот вопрос. Лишь впадая в ложь перед действи-
тельностью, он мог сохранить прежний идеализм, и, раз открывал он глаза на
эту действительность, не оставалось места более для этого идеализма.
Чем далее шло время, тем это раздвоение более возрастало. Очень скоро
было понято многими слушателями, что, ради хлеба в будущем, незачем
отказываться от него и в настоящем: предоставив готовить первый старым
колпакам на кафедрах, они во множестве рассеялись по провинции, где жизнь
дешевле и конкуренция на труд слабее. Аудитории поредели: здесь работали
стенографы, и старая связь между кафедрой и слушателями сделалась забы-
тым мифом, никого не интересующей сказкой.
И между тем, без этой связи - где же университет? В чем его собствен-
ная цель? И неужели идея его так мало дала в прошлом, чтобы с нею можно
было без сожаления расстаться в настоящем?
XX
Еще позднее, и уже рассмагривая те же явления сверху как воспитывающий, я
понял, до какой степени в каждом порознь впечатлении, серии которых ложи-
лись на душу воспитываемых, был нарушен закон его действия, его благо-
творного внедрения. И как, в силу нарушения этого закона, они все, в огром-
ной своей массе, не только не достигали ожидаемых от них результатов, но и
производили совершенно обратное. Поистине это был ливень, выбивавший
ниву. Понятно стало мне, каким образом после восьми лет обучения библей-
ской и евангельской истории, догматам и богослужению - мы оканчивали
685
курс сознательными атеистами*; почему, усвоив учебники, в патриотичес-
ком духе составленные, мы не только презирали прошлое своего народа, но и
ненавидели настоящее его до такой степени, что были только на один шаг,
чтобы примкнуть к «партии действия»**; что в учебном заведении, которое
считалось образцом для других со стороны административного порядка и,
кажется, со стороны педагогической***, мы узнали все формы разврата****;
* Это было в 78-м году; у нас в прежние годы, в средних классах, бывали
нередко религиозные споры, но перед окончанием курса они уже более не возбужда-
лись. Между моими товарищами только двое, М-н и Ор-ский, не были атеистами:
первый жил с матерью-мещанкой и младшим братом, которого подучивал; второй
был из очень хорошей и многочисленной семьи, причем мать его, протестантка, и все
сестры (православные по отцу) были очень религиозны. Но М-н перешел в наш
лагерь, прочитав какое-то поразившее его место у одного известного критика 60-х
годов (не у Добролюбова); Ор-ский же, с которым я встретился позднее в универси-
тете (он учился в другом), и уже сам начав относиться иначе к религии, стал с таким
же жаром разубеждать меня в ней, как я делал это с ним в гимназии.
** Катаясь на коньках, мы обменивались номерами известного лондонского
издания «Вперед», которое почему-то так же правильно между нами циркулировало,
как если бы оно издавалось в Москве или Петербурге; только отвратительная и
глупая форма, в какой выражался наш заграничный политический протест, делала нас
холодными к нему; но выражайся он благороднее к поумнее - он нашел бы в нас почву
слишком подготовленную.
*** Судя по всегда отлично сходившим ревизиям, под впечатлением которых,
без сомнения, вскоре по окончании мною курса, наш директор, отличный дипломат по
педагогической части, был передвинут на очень высокий административно-учебный
пост. Позднее, уже будучи учителем и служа в разных гимназиях, то близких, то
далеких от центра, я был удивлен, как в самой захудалой из них и почти забытой
начальством (она была более чем в 100 верстах от железной дороги) учение шло до
того бодро, до того деятельно, как ни в одной из ранее мною виденных. «Опоздаешь
на пять минут, а весь день испорчен»,- сказал мне здесь один учитель в ответ на
удивление, зачем он так рано, до уроков, приходит в гимназию. Вообще, и это надо
иметь всегда в виду, нет средств, при административной постановке воспитания,
улучшить его путем усиления и напряжения контроля, который вызовет в ответ лишь
напряжение форм - к ухудшению дела, сущности, духа. Сметя все захудалое по фор-
ме, но деятельное, благотворное, истинно воспитательное по духу, этот контроль,
вместо оздоровления, окончательно отравил бы собою все. Есть только одно сред-
ство к улучшению - в перестановке всего дела с административных начал на воспита-
тельно-культурные, через возвращение его в круг, в сферу влияния и единственного
руководства древних культурных сил, т. е. у нас - церкви, семьи, университета.
**** Ц некоторые очень странные, поражавшие наше воображение, сделались
известны нам с той стороны, откуда внушался порядок и благочиние; что касается до
разврата собственно среди нас, то он практиковался, но постоянно в обычных, «тер-
пимых» формах. До какой степени, однако, эта практика была постоянна, я сам узнал
из одного краткого разговора, который очень поразил меня. «Где вы были вчера
утром?» - спросил я у одного, шедшего классом меня выше, воспитанника, С-ва,
очень неглупого и доброго. «А у Давыдки». - «Да что же вы там делали в такое
время?» - «А так сидели». - «Да что же за удовольствие?» - «А мы уже привыкли: как
кончим уроки, всегда туда отправляемся - есть деньги, покупаем пиво, нет у хозяина
кредитуемся, а не предвидится к уплате так сидим и болтаем». Наш класс был
686
и не было формы цинизма, кощунства, на которую не были бы готовы сами.
Это был, если говорить резкими сравнениями, обитый позументами гроб,
накрепко забитый гвоздями, куда не было доступа постороннему воздуху и
где, среди невыносимого смрада, смрада во всех видах и всего касавшегося,
тлели наши души, так доверчиво, с такими надеждами переданные сюда из
семьи.
Кому, какому интересу отвечало умножение этих гробов? Кому дорого
было бы сохранение в тайне их содержания? Не ясно ли, что и тайна эта
хранится, и умножение это возрастает вне всякого и чьего-либо предвиде-
ния. Это одно из тех роковых исторических зол, которые время от времени
развивались с неодолимою силою там, где, вмешиваясь в Промыслительное
направление судеб своих, стараясь заменить это направление своей рефлек-
сией, человек впадал при этом почти в неуловимые для него ошибки.
XXI
Мы снова возвращаемся к идее Парацельса и к образу, оставленному «доб-
рой памяти» художником Бандинелли.
Есть два пути воспитания: естественный и искусственный. Первый путь,
в течение более чем двух тысячелетий истории, был не столько соблюдаем
человеком, сколько храним для него Богом: он состоял почти исключительно
из непосредственных созерцаний, и под влиянием их, в духе и в смысле сво-
его века, возрастало каждое поколение. В Древней Греции предметом этого
воспитывающего созерцания служили памятники искусства, картина всей
широко развитой общественной жизни, религиозные процессии, мистерии и
более всего прекрасные учреждения полугородского, полугосударственно-
го характера. Как орудие, и очень могущественное, такого воспитания, уже
все это понималось людьми того времени: об этом читаем мы у Фукидида,
об этом же говорил Демосфен. В более узком, но в подобном же духе, было
воспитание в Риме.
В Средние века изменился до противоположности и дух, и смысл воспи-
тания, но его орудия остались те же. С прежними богами ушел в землю и
прежний человек. На оголенном месте истории засиял крест, и к нему потя-
нулись народы; им руководились в жизни; на созерцании, на мысли о нем, на
бесчисленных воспоминаниях, с ним связанных, воспитывались. Неузнавае-
мо переменился человек, но одно сохранилось в нем - красота его, - став
вместо внешней более внутреннею. Рыцарь, как и марафонский воин, как и
сенатор в годину Канн, были, каждый по-своему, прекрасны.
несколько теоретического настроения и этой практики не знал; но, подвергаясь все-
гда упрекам за отсталость по учению, должен был иметь в виду пример этого старше-
го класса, который по блестящим успехам считался лучшим в гимназии. Он и действи-
тельно был очень хороший, и если предавался такой практике, то лишь по отсутствию
какой-либо и чем-либо заинтересованности, помимо своего ученического дела.
687
Незаметно, как тени облаков под солнцем сбегают с поверхности земли,
сбегали и набегали в новые эпохи новые тени на человеческое лицо, на его
дух. Каждая эпоха приносила ему с собой новые задачи, новые труды, неожи-
данные страдания, но и свои утешения. Никогда он не отказывался от труда,
никогда не терял надежды выйти победителем из испытаний. Он думал только
о борьбе; никогда не задавался он мыслью, хорош ли сам в ней. Но мы,
поздние судители его дел, на расстоянии тысячелетий следя за его меняю-
щимся образом, не знаем, в который миг его более любить, когда должно его
глубже чтить.
Таков был человек, как продукт естественных рождающих сил всякого
народа и непосредственных созерцаний своей эпохи. Вид мастерской старо-
го художника, который мы избрали как мимолетный образец такого созерца-
ния и вместе как пример естественного воспитания, должен, при этих мыс-
лях, безгранично раздвинуться в наших глазах. Все входит в картину такого
воспитания: битвы и героизм, семья в ее светлые минуты, гул моря и синева
небес, смерть близких и звук церковного пения. Это - необъятная школа, в
которой воспитывающимся было человечество, и воспитывающим - Про-
мысел, которому оно оставалось покорно.
С конца прошедшего века, когда старые произрастания погибли и для
всего заложены были новые семена, одно семя заложено было и для нового
воспитания. Его бросил на землю, незадолго перед великим историческим
катаклизмом, человек, о котором из всего, что было высказано, вернее всего
было бы сказать, что это был самый искусственный, наименее естественный
по натуре из всех, какие знает история, порождений женщины; и вместе он
одарен был силою привлечения к себе, какою мало кто обладал в ней. И
мощь даров его, и искусственность его природы отпечатались в трудах его:
семя, им брошенное, жадно принялось землей; и когда взросло оно, осенило
землю зловещей тенью.
Идея искусственного человека, образованного вне естественных исто-
рических сил и вне какой-либо веры своего века и народа, удивительным
образом увлекла за собой все народы Европы. Никто не хотел видеть в
порождаемых поколениях повторения пороков своих, заблуждений, бед-
ствий; всякий народ, рождая, торопливо отвращал в сторону лицо свое,
боясь, как бы оно не отпечатлелось на образе его детей. Опасение, что
порожденное останется вовсе без образа, что, не имея пороков, оно не
получит и добродетелей, не страдая - не узнает и радостей, - никого, по-
видимому, не смущало. И между тем, немного еще времени прошло, как
появившиеся во множестве тени без лиц, которые невозможно любить, ко-
торым невозможно что-нибудь передать, которые бродят по лицу Европы
без родины, без религии, без семьи, - поражают ужасом всех, кто, не щадя
усилий и не останавливаясь перед заклинаниями, так недавно еще вызывал
их. Теперь мы готовы бы новыми заклинаниями прогнать их со своих глаз;
но едва ли не поздно уже это, и, главное - наш собственный язык коснеет,
руки бессилеют, и разум становится слаб.
688
Мы бессильны, безвольны, мы робки умом, чтобы понять, как вместо
того, чтобы возвысить человека путем искусственных манипуляций, в дей-
ствительности уронили его; вместо того, чтобы поддержать культуру, исто-
рию, - подсекли ее под главный корень. Мы забыли, что ни история не может
продолжаться, ни человек жить без чего-нибудь абсолютного, что или сердцем
своим, или сознанием он понял бы как единственно для себя ценное. И вот,
имея сами в себе лишь остатки этой крепкой веры, мы у детей своих отняли ее
совершенно и заменили ее созерцанием относительностей. Все есть в длин-
ном ряду этих относительностей, всякая красота заключена в нем, кроме одно-
го-ощущения абсолютности чего-нибудь; по отношению к чему остальное и
было бы относительно, условно. И такова вечная природа человека даже на
ступенях ее формирования, что образуемые поколения, непреодолимо отвра-
щаясь от этих гирлянд помертвелых цветов, какими мы их увиваем, ищут при-
лепиться хоть к трепетному, но живому листку среди них, привязаться хотя бы
к посредственному, хотя бы к дурному, но с той беззаветностью, какой требует
для себя все абсолютное. Но мы не понимаем этого; не видим той боли, кото-
рая испытывается душою, когда она стремится и не находит для себя никакого
средоточия и никакого источника для своей жизни; мы все держим, как древ-
ний Парацельс, идею искусственного состава человека, и всякий раз, когда
homunculus начинает принимать слишком человекообразный вид, мы снова
возвращаем его к прежней бесформенности, опасаясь, что в нем не соблюде-
ны все пропорции: или недостает «древности», или есть избыток «новых ве-
ков». Так, держа перед формирующимся существом несколько образующих
форм и отодвигая каждую, как только она начинает слишком налагать на него
свои черты, - мы создаем те бескровные тени, которые так пугают нас.
Первою задачею, если мы в самом деле хотим прогнать эти тени, должно
быть возвращение в воспитание этого абсолютного. Только оно имеет зиж-
дительную способность - растить около себя силы души; на беззаветной
преданности себе, на безграничной любви - воспитывать их. И это тотчас
приводит нас к мысли, что воспитание должно быть поставлено под покров
таких великих исторических институтов, в которых сохраняется это абсолют-
ное, есть вера в одно что-нибудь - около чего не стоит ничего другого сму-
щающею тенью. В государстве есть это абсолютное, несравненно ценное,
без чего невозможно продление исторической жизни,- это форма', оно сво-
ими учреждениями, своим законом, общим повсюду и для всего однородно-
го, обволакивает всякое содержание; но оно бессильно создать какой-нибудь
идеал, придать содержанию смысл, одухотворить форму, которую вечно одну
вечно ткет по самой своей природе. Это и делает его не воспитательным.
Взамен этого есть другие исторические институты, которые столь же бес-
сильны коснуться формы и имеют отношение исключительно к содержа-
нию: это - идеальные учреждения церкви, семьи, наконец, университета, как
законченного выразителя умственных стремлений истории. Будучи различ-
ны между собой по объему и смыслу, они сходны в одном - в своем воспита-
тельном смысле; по-своему каждый, но они все — верующи; в каждом из них
689
есть свой идеал, и, не сливая человеческого лица в одно, они различным его
выражениям придают одно общее - красоту. Только к этому мы и должны
идти, это одно и может составить задачу воспитания: чтобы человек, к чему бы
различному не стремился, во всяком стремлении оставался прекрасен.
Мы не говорим при этом о формах: они естественно и сами собой разо-
вьются около содержания, отвечая слепо его движениям, его жизни, - и госу-
дарству может принадлежать задача укрепления их, охранения; но это есть
вторичное, и значило бы погубить дело в начале же, если бы захотели, создав
формы, ожидать, когда в них зародится содержание. Эта погубляющая ошиб-
ка и была всюду сделана. Без знания истинных законов образования челове-
ческой души, руководясь только заботой о легкости созидания самых форм, -
они всюду были установлены в таком виде, в каком не могут выработать
никакого сколько-нибудь желательного содержания. Не были и не могли быть
приняты во внимание те пластические условия, при которых только и образу-
ется, и воспитывается душа: вместо того, чтобы класть на нее впечатления
длинные, взаимно скрепляющие друг друга, и ими индивидуально действо-
вать на индивидуальные же ее особенности, всюду установлены были впе-
чатления прерванные, взаимно дисгармонирующие и оголенные как в фор-
ме своей, так и в способе передачи до потери всего индивидуального. Урок,
смешанная из разнородного программа, оголенный учебник - это стало не-
отделимо от самой идеи образования; хотя, поистине, никогда не появлялось
в истории ничего, что было бы в таком же антагонизме с истинным образо-
ванием, как все это. При помощи именно их, которые удалили нового челове-
ка от созерцания, от медленного впитывания в себя всего, чем жила история
и что было свято в течение тысячелетий для людей, образовались те уплот-
ненные, тяжелые души, которые, куда бы и зачем ни появились, всегда тяготе-
ют только к низинам; и мыслью, и воображением, и чувством падая на дно,
туда же влекут за собою все, за что ни берутся, к чему ни прикасаются.
Никогда эти тесные, неподвижные формы, однако, так удобные для сози-
дания и поддержания, не могли бы развиться из самого содержания; никогда
бы священник, ученый, филантроп, всякий любитель и знаток души челове-
ческой не остановил речь свою потому, что отсчитанные минуты протекли,
ни стал бы говорить пустое, потому что они еще не кончились; и ни один же,
кто имеет какую-нибудь жалость к другому и наконец к себе, не стал бы,
снимая с истории убор ее, передавать ее высокое и святое содержание в
скользящих книжках с одною заботой, чтобы они легко и без воспоминания
ложились, куда нужно. Никогда все это, что на пространстве целой земли год
за годом и десятилетие за десятилетием ниже и ниже спускает историю, даль-
ше и дальше отодвигает человека к его первоначальной простоте, - никогда
не могло бы это получить силу, если бы, как всегда до нашего века, растущие
поколения, оставаясь в семье так долго, как можно, вводились затем под по-
кров церкви, и ею под водительство науки, чтобы затем, и уже сформировав-
шись духом, силами своими послужить и государству, которое все это сбе-
регло, но ничего из этого не нарушило.
690
XXII
В христианском обществе, в противоположность древнему языческому, каж-
дый единичный человек уже не есть только гражданин. Слитность, единство
лица его, которое в античном мире безраздельно выражалось в государстве и
удовлетворялось совершенно принадлежностью к нему, в новом мире не на-
ходит удовлетворения в одной этой принадлежности, и, оставаясь граждани-
ном, каждый хочет вне этого и независимо от этого, быть еще христианином,
отцом, наконец - мыслителем или художником. Человек сделался сложен; и
было бы глубочайшим поворотом его от христианства вновь к язычеству,
если бы он захотел снова простоты и слитности в себе, если бы чему-нибудь
одному в своем сложении он допустил распространиться до целого, до погло-
щения всего себя.
Это открывает нам исторический смысл явления, которое в значении его
для человека, для индивидуума, мы пытались объяснить выше. Переход вос-
питания из лона семьи и церкви к государству не без причины совпал с нача-
лом прошедшего века и началом нынешнего: это была эпоха, когда вообще
европейское человечество, как бы утомленное христианством, стало мед-
ленно сходить с основ его, чтобы переступить на новые, языческие. Но, по
истечении восемнадцати веков христианской культуры, непрерывного исто-
рического созидания, этот переход имеет свой особый оттенок и смысл.
Непрерывно возрастая до этого времени в своей сложности, в богатстве
и разнообразии своих выражений, лик европейского Запада с тех пор начал
обратно суживаться. Лишние, столь долго его красившие тени, одна задру-
гой сходят с него, и оно вновь принимает всюду, во всех направлениях, одно
выражение. Быть христианином, как и быть действительно независимым ху-
дожником или мыслителем, наконец, быть отцом прочной семьи - все это
слишком сложно и трудно стало для человека, все это требует обилия твор-
ческих и организующих сил и, не находя их более, слагается для облегчения
индивидуума. Рост государственности в Европе всюду идет об руку с разви-
тием индивидуализма - этого уединения человека в себя, вдали от общества.
Гражданский долг, который затем остается, - это уже давно не долг римляни-
на или даже афинянина; это-только отсутствие всякого долга, озабоченнос-
ти, предоставление другим-досужным или оплаченным людям, нести бре-
мя тревог, ответственности, какие возлагает на каждого полнота человечес-
кого существования.
Все связи, всякий лишний убор прав, обязанностей, забот слагается с
себя индивидуумом, чтобы, уйдя из-под них, он мог на досуге предаться
своим маленьким наслаждениям, или просто, чувствуя себя свободным, не
чувствовать позади себя никаких напоминаний. Мы сказали о язычестве, к
которому передвигается европейское человечество с христианских основ;
но это - не прежнее мощное язычество Рима; это новое маленькое языче-
ство перед своим «я», в стороне от больших путей истории, и даже с возмож-
ным забвением об этих путях.
691
Передача без сожаления, без особых тревог, детей своих на заботу дале-
ких учреждений - это имеет в основе своей на Западе указанное стремление:
семья тяготит человека; дети составляют не радость уже, но бремя, - и если
возможно без преступления сбросить это бремя, оно сбрасывается*, как в
других случаях сокращается**. С другой стороны, поднимая его на свое по-
печение, государство делает уже много, если делает что-нибудь. Брошенное,
тяготящее всех поколение - это алчное племя голодных ртов и еще каких-то
запросов сознания, должно быть довольно и за то малое, то грубое, что не по
любви, не по милосердию, но по необходимости дают ему. «Не тяготи меня
видом своим», - говорит ему каждое отходящее стареющее поколение; «не
смущай меня явностью своих пороков, - говорит ему государство. - Соблю-
ди меру, сохрани внешность, и скоро ты будешь господином всего».
В жизни, где все идеалы уже позади и вперед ничто не манит, эти невыска-
занные мысли и действительность, которая явно из них вытекает, не могут вну-
шать особенного удивления. Совершённый труд, историческое утомление
имеют свои права на прощение; но если бы общество, еще молодое, с неиссяк-
шими силами, даже и не сознавая возможности подобных мотивов, делало по
форме, однако, то же - что могло бы для него послужить оправданием? Что
оно сказало бы перед судом детей своих, судом правым и, без сомнения, осуж-
дающим?
ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПА ОБРАЗОВАНИЯ
(По поводу замечаний Д. И. Иловайского***)
Некоторые главы моей статьи «Сумерки просвещения» «Русский Вестник»,
1893 года), к сожалению, страдают такими недостатками изложения, которые,
в значительной степени отнимая у них силу убедительности, могут, кроме
того, дать повод к неверному пониманию их основных мыслей. Пишущему
не часто приходится сообщить лучшие внешние достоинства тем своим мыс-
лям, которые он считает по внутреннему содержанию наиболее правильны-
ми и для себя дорогими. Обстоятельства совершенно побочные и частные
могут ослабить его руку в самые нужные минуты, и труд, с наилучшими
надеждами начатый, может принести ему наиболее огорчений. Конечно, ни
для кого из его читателей они не могут быть так больны, как для него самого;
внимания, которого он хотел для себя именно в данную минуту, именно в
данном кругу умственных своих забот, - нет для него; и лучшее свое дело он
видит разрушенным в самом же начале собственными своими руками.
* Любопытно, что уже Руссо, родоначальник нового воспитания, рождая де-
тей, - бросал их в воспитательный дом.
** Известно, что во Франции, родине Руссо, уже давно, и именно в зажиточных
семьях, практикуется способ ограничивать число детей; и, как писалось уже лет 12
назад, это быстро распространяется (но из Франции) и в других странах.
*** См.: «Московские Ведомости». 1893. № 61. Статья «О некоторых явлениях
столичной печати».
692
Мысли, изложенные в моей статье, должны бы быть индифферентны для
всех партий, борющихся за ту или иную систему образования у нас ли, в
Западной ли Европе; и я имел некоторую надежду, что для всех же партий они
будут ценны, потому что вскрывают сторону вопроса, ими всеми равно опу-
щенную. Я не касаюсь ни реализма, ни классицизма в образовании; меня
занимает, скорее, вопрос: почему и при классицизме юные, образующиеся
души являются так мало проникнутыми им? Почему, проходя реальную школу,
они так мало проникнуты бывают интересом к реальным наукам - этому
плоду нового, трехвекового европейского движения? Ни одного типа школы
я не отвергаю; я исследую только, почему все типы школы так мало достига-
ют своих целей, с таким упорством осуществляемых, так ярко и, несомненно,
благородно желаемых.
I
Три принципа образования мне видятся равно нарушенными во всех типах
школы, во всех борющихся системах; и от этого нарушения результаты всех их
так сомнительны, так горьки для самих образующих, как, без сомнения, они
не горьки для сторонних зрителей их усилий, много критикующих, но ни в чем
не могущих, не умеющих помочь делу. Эти принципы следующие:
I. Принцип индивидуальности. Он требует, чтобы как в образуемом (уче-
ник), так и в образующем (учебный матерьял) была по возможности сохра-
нена индивидуальность, это драгоценнейшее в человеке и в его творчестве.
Это лучшее в них, чрез соприкосновение чего (их обоюдное влияние) и со-
вершается именно образование. Где она не сохранена, подавлена или в пре-
небрежении, там образования совершенно не происходит - вот моя мысль;
только как личность, как этот определенный человек, а не «человек вооб-
ще», я могу быть наиболее изобретателен в мыслях, свеж в своих чувствова-
ниях, упорен, тверд в стремлениях. Оставьте во мне «человека вообще», дей-
ствуйте только на него и только общими же своими сторонами, и вы, навер-
ное, сделаете меня во всем недалеким, ко всему вялым, ни в чем не ярким;
незаметно для себя, вы сделаетесь и сами такими же; вы многого еще не
забудете, но лучшее в себе потеряете; многому меня обучите, но не про-
будите никогда самого во мне лучшего, что уже есть, дремлет, заложено в
особенностях моего душевного склада. В противоположность животному,
которое всегда есть род, вид, разновидность, - человек есть всегда особен-
ное. «Личность» - вот его высшее, глубочайшее определение; и отвечая это-
му определению, каков бы ни был тип школы, система образования только та
одна будет образовательною, где не будет нарушен этот принцип индивиду-
альности. Как это может быть сделано? Что это значит?
Сохраните ребенка как можно долее в семье, поставьте его потом как
можно ближе к Церкви - вот требование этого принципа в том, что касает-
ся образуемого (ученик): по самой своей природе, семья и Церковь индиви-
дуальны в способах своего воздействия, в своем воззрении на человека - в
693
том, как относятся к нему. Они к этому способны - не по сознанию долга, не
по доблести, не потому, что они лучше всего остального: но потому, что
внутренни, субъективны, знают лицо в человеке, а не род только, не группы
людей. Они в воспитании суть наилучшие. И, в обратность этому, менее все-
го доверяйте большим, строго организованным, хорошо дисциплинирован-
ным школам: что бы они ни дали вам, они отнимут у вас драгоценнейшее,
чем то, что вы получите от них.
Не отряхайте с цветов махровости: сведите к minimum’y учебную перера-
ботку памятников, доведите до maximum’а их непосредственное изучение -
вот требование этого принципа в том, что касается образующего (учебный
матерьял). Вместо того, чтобы заучить две страницы о Котошихине и два
отрывка из Котошихина, изучите четыре отрывка из него - вот простое и
ясное применение этого принципа. Вместо того, чтобы, прочитав 400 стихов
из Гомера, и уже начав осваиваться с ним, привыкать к нему, понимать его
язык без затруднения, перебегать к Геродоту и так же медленно, крошечны-
ми отрывками, его усваивать, как до сих пор и Гомера, - лучше оставьте
совсем Геродота и просидите год, полтора года над одним Гомером - вот
другое подобное применение этого принципа. Не оставляйте никакого изу-
чения ранее, чем после труда не почувствуете, наконец, и наслаждения, а с
ним привязанности, интереса к изучаемому. Наконец, вместо того, чтобы
запомнить календарно краткие сведения о всех важных лицах и событиях в
истории - без образа и без смысла, узнайте треть, четверть этих лиц и собы-
тий в живых образах и с каким-нибудь смыслом - вот третье применение
этого принципа. Не удивительно ли, не безумно ли, не развращающе ли, на-
конец, что ни «Борис Годунов», ни «Скупой рыцарь», ни «Слово о полку
Игореве», ни даже само Евангелие и Библия не имеют в современной школе
и тени того внимания к себе, какое отдано тысячам страниц дурного текста,
неведомо кем и как составленного, о том же Годунове, о том же «Слове», о
Евангелии, Библии, о всех предметах мира - текста, изучаемого из строки в
строку, из страницы в страницу, и это без какого-либо сомнения для каждого,
что здесь нет ничего воспитывающего и образующего.
Указав на этот недостаток школы (всех типов и степеней), я должен был,
естественно, ожидать встретить тысячи возражений. Чтобы предупредить их,
я сделал ссылки на пример, мне казалось, самый убедительный: я взял учеб-
ник, составленный лицом, заведомо хорошо знающим свой предмет, даже
более-лицом, сделавшим этот предмет интересом всей своей жизни; нако-
нец, я взял родную историю и патриота, о ней написавшего учебник. И если
тем не менее выдержки с непреодолимою очевидностью убеждают, что не
осталось от этого интереса, этого уважения к родной истории, этого патрио-
тизма в учебной переработке и следа, то не ясно ли, что в самых условиях
подобного труда есть нечто исключающее всякую возможность сохране-
ния в нем образовательного значения. Г. Иловайский находит в моих словах
«укоры» ему; поистине, из сделанного мною выбора он мог бы извлечь,
скорее, некоторый повод к гордости; но, сделав это, тотчас и во всей строго-
694
сти признать справедливость моих указаний, без всяких ограничений согла-
ситься, что даже и он ничего не мог сделать тут. В сущности, он и соглашает-
ся; но, не понимая всего ужаса положения дела и думая, будто бы его имен-
но, его особенно, в чем-то обвиняют, пытается сбросить это обвинение, как
скорее идущее к кому-нибудь иному, нежели к нему. Он говорит:
«Г. Розанов советует в наших школах, между прочим, отбросить истори-
ческие учебники, с их простым русским языком, а воротиться к «Синопси-
су» XVII века, написанному неудобопонятною смесью церковнославянско-
го с русским. Эту смесь он находит «изложением строго культурным» и
даже художественным, более всего подходящим для «крестьянского воспита-
ния». Но если он говорит собственно о сельских школах, то причем тут уко-
рительные ссылки на мой учебник русской истории, имевший в виду стар-
шие классы среднеучебных заведений?».
И несколько далее:
«Г. Розанов читал, по-видимому, некоторые страницы моего учебника,
но совсем не знаком с моим главным трудом, то есть с несколькими томами
моей «Истории России», и т. д.
Он указывает на свои заслуги перед наукой русской истории, он хочет
показать, будто я так ограничен, что не вижу преимуществ «простого рус-
ского языка»... как будто в этом дело? Как будто спор только об «общепонят-
ном», и я имел завистливо в виду чьи-то слишком блистающие лавры? Бог с
ними, со всякими лаврами! Я имел в виду тысячи и тысячи юных душ, в
возрасте от 15 до 19 лет, которые обо всем, о чем ни учат, вынуждаются
запоминать какие-то схемы, плод нашей абстракции от созерцания реаль-
ного мира, который, вопреки всем органическим законам развития, им дает-
ся как предварение этого самого созерцания. Мы с этими именами (в исто-
рии), с этими движениями, делами, походами, усилиями, соединяем в уме
своем тысячи подробностей; но для того, кто ничего не соединяет с ними,
не одевает ни одно имя живою плотью, не представляется ли русская, фран-
цузская, греческая, всякая история какою-то странною толкотней тысячи ног,
ступни которых он видит, головы же и туловища над ними не может рассмот-
реть, - и, однако, почему-то должен непременно запомнить, какая нога кому
принадлежит. Я хочу именно образов; я не понимаю истории, которая не
различает народов иначе как по странам, в которых они обитали, по направ-
лениям, в каких они двигались, по хронологическим данным, по языческим
или христианским их именам. Я утверждаю, что это не есть история, не толь-
ко французская, русская, но и вообще какая-нибудь; так нельзя изучать чело-
века, так нельзя говорить о нем; и говорить так о человеке возрасту, который
через историю с ним ознакомляется, и иметь вид, будто при этом и уважаешь
человека, и имеешь попечение о возрасте, - значит или быть непростительно
недальновидным, или в каком-то непонятном индифферентизме совершать
преступное развращение. Поистине, какое-то odium humani generis* может
* ненависть к роду человеческому (лат.).
695
невольно возникнуть при взгляде на эти вереницы людей, которые так долго
жили и так мало переменились, жили повсюду и все с теми же лицами, не
научились ничему из опыта жизни, кроме как поворачивать с юга на север
или с запада на восток и потом обратно.
Вот где источник моей ссылки на «Синопсис», в котором - как и в тысяче
подобных, тогда написанных книг, - образы не стерты с людей, и их можно
различить по их благородным частям, а не по двигающемуся их тавру. Читая
его, я знаю, что этол/ом предки умирали на Куликовом поле, что это не были ни
греки, ни римляне, ни персы, ни французы, - чего я вовсе не знаю из учебника,
где, правда, написано также: «Это русские», но я боюсь, так ли я запомнил
подпись, к тому ли я отнес ее. Г. Иловайского смущает «славяно-русский»
язык; его не смущает, однако, греческий текст в «Илиаде», и, продолжая свою
мысль, он не скажет, что те краткие и красивые события, какие здесь рассказа-
ны, можно бы скорее и легче запомнить в легком современном пересказе, а не
в гекзаметрах Гомера. Г. Иловайский и не догадывается, что принцип индиви-
дуальности, мною развиваемый в отношении к образованию, есть общая те-
ория к факту классического образования, который вне этого принципа и не
имеет никаких оснований, на нем же непоколебимо покоится. Но, утверждаю
я, этот принцип должен быть выражен по всем линиям образующей системы,
он не должен быть только случайным явлением в одном-двух предметах. Не
иначе, как мы изучаем древний мир по непосредственным памятникам, - по
ним же, этим непосредственным памятникам, так глубоко воспитывающим,
так образующим, мы должны изучать и Евангельскую историю, и библейс-
кую, и свою родную, и историю всякой литературы. Вот в чем, и только в этом,
лежит источник моей враждебности к учебным переработкам; в этой враж-
дебности договорился ли я «в февральской книжке «Русского Вестника» если
не до совершенного обскурантизма, то до чего-то очень к нему близкого», как
утверждает мой оппонент, об этом я предоставляю ему подумать теперь. Есть
новый вид обскурантизма, который всесилен, пред которым напрасно лома-
ешь руки, который, в стихийной своей слепоте, безжалостен, и ему послужил
ли я в своей статье или г. Иловайский в своей учебной переработке - это могло
бы послужить другой темой его размышлений.
II
От принципа индивидуальности, на котором должна покоиться школа во всех
ее типах и степенях, переходим к другому принципу, который в иных направ-
лениях, в отношении к иному, должен не менее проникать ее.
II. Принцип целости. Он требует, чтобы всякое входящее в душу впечат-
ление не прерывалось до тех пор другим впечатлением, пока оно не внедри-
лось, не окончило своего взаимодействия с нею, потому что лишь успокоен-
ный в себе, незанятый ум может начать воспринимать плодотворно новые
серии впечатлений. Отсутствие разорванности в группах знаний, в художе-
696
ственном чувстве, в волевом стремлении - вот требование этого принципа;
он указывает, что нельзя дробить очень сильно знаний, ощущений; что так
раздробленные, будучи и вполне приняты, они уже вовсе не оказываются
тем, чем были в начале, что они суть в себе самих, в своей целости. Именно
культурного, образующего, воспитывающего значения они не удерживают в
себе при этом.
И как «учебная переработка», «изложение своими словами», является
разрушительным по отношению к художественной красоте памятников, так
это дробление является разрушительным по отношению к их силе. Школа, где
нарушен принцип индивидуальности, не воспитывает, не образует; где нару-
шен принцип целости - не влияет, не сообщает каких-либо убеждений, не
дает веры во что-нибудь. Но удивительное ли это явление, что в новых иезуит-
ских, в средневековых схоластических, наконец, в древних греческих школах
юноша выходил всюду с верой, с преданностью тому, чему его, хотя и немно-
го, несовершенно, грубо, учили, - с верой в культуру, в образование, в граж-
данственность своего времени; и только в школах современного типа, так
изощренно трудящихся над нашими детьми, и, несомненно, трудящихся в
полном согласии с духом и воззрениями отцов, дети почему-то становятся
индифферентными ко всему, чему эти отцы верят, что они исповедуют, в чем
их, наконец, воспитывают? Почему в школе не завязывается никаких сильных
влечений, интересов, привязанностей-умственных, эстетических, религиоз-
ных, гражданских? Часто мне представляется вопрос: отчего случайная встреча
с человеком, даже одинакового умственного развития, но противоположно-
го склада убеждений, иногда неизгладимо влияет на нас, преображает нас? И
отчего никогда этого действия не оказывает школа, школа именно нового
типа (потому что все прежние подобное действие оказывали)? Где лежит тут
разница, и в чем вообще заключается тайна влиятельности?
Мне кажется, заключается она в цельности того, что влияет. Ведь и оди-
нокий друг ни в чем не мог бы убедить нас, если бы на полуслове, на полуар-
гументе прерываемый - он должен был уходить куда-то, и на его место яв-
лялся бы «новый друг»; ведь и книга, листы которой были бы переложены
листами множества других книг, которые все мы были бы обязаны читать с
одинаковым, безраздельным на время, вниманием, не произвела бы на нас
никакого впечатления. Нужно долгое, вдумчивое к одному чему-нибудь от-
ношение, чтобы это одно стало нам дорого, чтоб оно овладело нами после
того, как мы им овладели. И вот почему принцип целости всею своею силой
становится против множественности предметов изучения, против чрезмер-
ной краткости уроков, до какой она теперь доведена (5/6 часа), против их оби-
лия в один день. Он указывает, что, как бы ни были ценны сведения, этим
путем приобретаемые, они все ложатся на индифферентную к ним почву;
что, какими бы навыками, знаниями ни был наделен здесь человек, он оста-
нется человеком невоспитанным, необразованным.
И здесь мы снова приходим к ряду самых простых, практических указа-
ний и к ряду оценок, совершенно расходящихся с теми, какие обычно делают
697
школе. Лучшая школа, элементарная или средняя, есть не та, которая рас-
ширяет горизонтально курсы, прибавляя к одним предметам новые; луч-
шая та, которая их суживает и в то же время углубляет. Идеал образования
на этих двух ступенях есть minimum изучаемых отраслей знания; но изучае-
мых очень внимательно, очень строго. При этом сужении можно, по край-
ней мере на протяжении одного дня, сделать предметом внимания только
один, два, три предмета; мы говорим страшно много, говорим против сво-
его убеждения - ввиду подавляющего впечатления практики, которая дош-
ла до 10-12 разнородно сменяющихся предметов в сутки, из которых ни
один не держит на себе внимания ученика долее чем 1 ’/4—1 */2 часа времени
(5-6 уроков, прослушанных в школе утром, приготовление вечером к 5-6
урокам на завтра); и это в возрасте не 7—13 лет, когда впечатления могут
быть кратки, когда их действительно может быть много, но и в возрасте 17-
19 лет, когда ум не только способен, но стремится к удлиненным впечатле-
ниям, когда он формируется и, однако, ежедневно отбрасывается назад в
этом своем усилии сформироваться. Можно ли представить себе внутрен-
нюю боль, от этого происходящую? Нужно ли говорить о бесплодности
этой боли, о ее ненужности для кого-нибудь и чего-нибудь? Потому что
ясно, что сделав три полуторачасовых урока (взамен 5-6 коротеньких) в
день, мы сделаем каждый из них обильным по количеству сообщаемых
сведений и, следовательно, ничего не потеряем в их объеме. И между тем
много выиграем. Ибо приготовить к этому полуторачасовому уроку одну
законченную сцену из «Илиады», законченный рассказ из Ливия, аргумент
из Платона - это уже не то, что приготовить ту же сцену, рассказ, аргумент,
разорвав их на части, из которых начало непонятно без конца, и конец непо-
нятен и неинтересен, когда забыто начало.
Г. Иловайский, пропуская у меня подобную же страницу, сетует на
чрезмерное, подавляющее развитие периодической печати и этим разви-
тием объясняет упадок в обществе серьезного чтения. «Периодическая
печать, - возражает он мне или думает, что возражает, - теперь убила
книгу... в Европе уже немного осталось людей, которые, подобно Гладсто-
ну, еще борются с наплывом газетного чтения и продолжают читать кни-
ги». Мой почтенный оппонент видит факт, но не ищет его причины. Ему
не кажется, что для этого перехода общества от серьезного чтения к чте-
нию поверхностному есть какая-нибудь общая почва и что она должна
скрываться в условиях, этому чтению предшествующих и его подготовля-
ющих для каждого: мы видим, что в возрасте двадцати и далее лет все ищут
кратких впечатлений пробегаемого газетного листа и тяготятся всяким
сколько-нибудь продолжительным и связным умственным трудом, если
он не вынужден, не есть обязанность службы или источник средств к жиз-
ни. И я утверждаю, что причина этого лежит в столь же кратких, так же не
тянущихся впечатлениях, из каких фатально, бессознательно, неудержимо
всюду сложилось и продолжает состоять школьное образование. В нем -
та же перемежаемость, то же отсутствие долгого, вдумчивого внимания к
698
одному чему-нибудь, какие мы наблюдаем и в чтении, к которому все
неодолимо влекутся по выходе из школы. Периодическая печать - созда-
ние ведь не нашего вовсе времени; но только в наше время она стала тем,
что есть - единственною почти умственною пищей всех. Почему ни в
первой половине XIX века, ни, особенно, в его первой четверти, ни в
XVIII столетии газета не только не выступала на первый план, но даже
совершенно терялась, исчезала за книгой, за сборником статей (альмана-
хи), наконец, за политическим памфлетом? По оживлению общества, по
множеству ежедневно интересующих тревог, ведь ни время перед рево-
люцией, ни время наполеоновских войн никак не уступало нашему. Но
есть убеждающее подтверждение моей мысли и в нашем времени - газета
и теперь вовсе не всюду распространена, она совершенно не имеет хода
во всех слоях, хотя и образованных, но не через школу интенсивную, но-
вейшего типа: ни духовенство, ни учащиеся в университетах (к великому
счастью) вовсе не льнут к газете и предпочитают или чтение книг, или
разговоры на книжные и житейские темы, или, наконец, вовсе ничего не
читают. Потребность газетного чтения, этой новизны мелких, не внедряю-
щихся и, в сущности, не услаждающих и ненужных впечатлений, пассив-
но переживаемых, есть продолжение привычки пассивно же, внимая толь-
ко (утром), или без углубления прочитывая (вечером), воспринимать се-
рии и серии впечатлений в школьном возрасте. Если бы в возрасте 16-19
лет занятия состояли не из 11-12 в сутки чередующихся приступов внима-
ния к разнородным предметам, если бы они состояли из подготовления
каждый раз в течение 2-3 дней, или недели, целой группы законченных
сведений о чем-нибудь, - нет сомнения, из этого подготовления никак
не вытекло бы позднейшее желание всякое утро воспринимать скользя-
щую смесь разнородных сведений о всем на свете и со всех концов света.
III
III. Принцип единства типа - есть третий и последний, на котором может
быть построено истинное образование. Он состоит в требовании, чтобы все
образующие впечатления, падающие на данную единичную душу, или, что
то же, исходящие из данной единичной школы, были непременно одного
типа, а не разнородных или не противоположных. Иными словами: они дол-
жны идти из источника одной какой-нибудь исторической культуры, где они
все развились (как факты, сведения, воззрения и т. д.) друг из друга, а не друг
против друга, или подле друга, как это было в смежных, сменявшихся во
времени, цивилизациях. Нужно оставить попытки соединить христианство с
классическою древностью, или жития святых с алгеброй, думая, что все это
также удобно совмещается в душе ребенка, как учебник алгебры и катехи-
зис совмещаются в его сумке. Никогда этою индифферентною сумкой не
станет человек - напрасны на это надежды: тайком, с непреодолимым от-
699
вращением, он выкинет из себя и катехизис, и алгебру, и останется пустым,
открытым для всех влияний, - как это и есть, как это мы наблюдаем с ужасом,
не понимая, что своими руками подготовляем этот ужас.
Есть в природе закон, по которому два луча света, известным образом
направленные, взаимно интерферируются и вместо того, чтобы произво-
дить усиленное освещение, производят темноту; есть нечто подобное и в
душевной жизни человека: и в ней также интерферируются образующие впе-
чатления, если они противоположны по своему типу, и вместо того, чтобы
просвещать ум и сердце, погружают их в совершенный мрак. Этот мрак
хаоса, когда сведения есть, когда знаний много и, однако, нет из них ни одного
дорогого, не осталось и тени веры во что-нибудь, убеждения, готовности,
потребности, - кто теперь не узнает его в себе, не скажет: «Это - я, это - моя
пустота?».
Найти источник, объяснить происхождение этой пустоты - составляло
мою задачу в предпринятом анализе нового типа школы. Делая его, я вместе
делал анализ нового человека, в разрушенном, больном строе которого мне
виделось отражение нарушенных законов пластического образования чело-
веческой души. Решая свою задачу, я убежден, однако, что решал ее в главной
ее тяжести, а не в краевых затруднениях. Мне казалось бесплодным рассмат-
ривать школу вне ее отношений к истории и главным институтам историчес-
ки развившегося общества: семье, церкви, государству; не менее поверхнос-
тным, казалось мне, бороться за одну из соперничествующих систем обра-
зования, когда так ясно, что ни одна из них, ни другая не имеют никакого
значения для образования духовной структуры нового человека, очевидно,
растущей из условий чрезвычайно общих и элементарных, заложенных оди-
наково в обеих борющихся системах.
Просвещение, мне казалось, принадлежит к тем утонченным, трудно
осуществимым в истории вещам, которые, будучи чрезвычайно высоки в
своих правильных проявлениях, при нарушении этой правильности являются
с чертами отвратительными, а не безразличными только. Всмотритесь в лицо
человека со сладострастным, низким выражением, или в лицо идиота: ведь
это все-таки человек, еще он издает членораздельные звуки, к каким не спо-
собно животное; но вот, в то время как фигура животного в ее грубой, несо-
вершенной организации всегда и для всякого или посредственно хороша, или
безразлична, лицо человека, не удержавшегося на высоте своей, отврати-
тельно. Все совершенное по своему задатку, по своему замыслу, как бы в
возмещение за это совершенство имеет силу пасть ниже, чем только посред-
ственное. Этот закон справедлив для всего очень высокого; он справедлив и
для просвещения, которое в правильных своих формах есть высший для чело-
века дар его истории, нодар, могущий и стать в своей неправильности истин-
ным его несчастьем.
700
АФОРИЗМЫ И НАБЛЮДЕНИЯ
I
Недостаток художественного воззрения на предмет есть коренной источник
ошибок, допущенных в организацию воспитания и образования всюду - в
Европе и у нас. От практического, от научного и всякого другого художе-
ственное воззрение отличается тем, что оно не дробит свой предмет и для
него всякая часть имеет значение лишь в отношении к целому, насколько
помогает его красоте и гармонии. Физиолог может интересоваться в орга-
низме лишь расположением и действием нервов, физик в природе - звуком
или светом, и всякий практический человек - своим особым ремеслом. Но
нет, и мы не можем представить себе - художника, который делал бы одни
руки, следил бы за выгибом только спины; цельная статуя - вот что влечет
его; цельный человек - вот что влечет воспитателя-художника, в отличие от
воспитателя-ремесленника или от воспитателя-ученого, которые вечно тру-
дятся над выработкой «ног» или «рук» без мысли о том, к чему они будут
прикреплены.
Человек должен быть безгранично благодарен природе ли, или еще чему,
за один великий дар, который без усилий, без просьб, без ожидания - для
охранения сообщен ему: именно, каждый в отношении себя самого, и в от-
ношении к нему всякий непосредственно близкий есть неизменно бессозна-
тельный художник-воспитатель. Мы хотим этим указать, что при непос-
редственной близости человек всегда оценивается нами в целом, а не в под-
робностях, не в частностях, не в особенных его навыках, уменьях, способно-
стях. И если мы начинаем ценить в ком-нибудь лишь последние, то это не
иначе, как если стоим вдали от того, кого так оцениваем. Мы не любим более
этого далекого оцениваемого, мы его не понимаем более, мы только преду-
гадываем тогда, что он может дать своим уменьем, своими способностями.
Нам не нужен он, но только то, что он несет с собою. Мы берем от него дары
его, закрывая глаза на его лицо. Так, подобно этому далекому оценщику,
поступает в отношении к человеку государство; иначе - субъективно - отно-
сятся к нему семья, Церковь. И вот почему эти последние воспитательны по
преимуществу.
Отсюда, из этого антихудожественного взгляда, какой применен всюду в
воспитании к предмету его и задаче, текут поразительные особенности, какие
мы в нем наблюдаем.
II
Только для людей, не стоящих к воспитанию близко, остается тайною эта исти-
на: что вовсе не наилучше одаренные полнотою душевных даров, и даже ум-
ственно не наиболее способные с успехом проходят тот тип всюду однообраз-
ной, прочно установленной школы, которую мы одну знаем и здесь анализи-
701
руем, но именно посредственные и часто совсем обделенные*. Проходят ее
успешно те, которые до возраста 18-20 лет**, т. е. до полной возмужалости,
ничем и никогда не сумели заинтересоваться горячо, серьезно; и, далее, те,
которые умеют индифферентно отнестись к бесчисленным фактам неспра-
ведливости, оскорбления, какие время от времени переживаются или наблю-
даются в школе***. И это понятно: первые равномерно отдают свои силы
* Я до сих пор сохраняю у себя пачку писем одного школьного товарища,
исключенного из нашей средней школы по так называемому «§ 34» (за неспособ-
ность), написанных непосредственно вслед за исключением, когда он принял на себя
содержание осиротелой семьи своей, - свидетельствующих о такой высокой мере
именно умственных способностей, о таком брызжущем искрами даровании, что ни в
гимназии, ни позднее в университете я столь ярких способностей в своих товарищах
не встречал. Позднее, став учителем, я наблюдал, как по тому же «параграфу», в идее
определяющему ученика, как ленивого и неспособного, удалялись именно такие вос-
питанники, редкая любознательность которых (но всегда в одной группе между со-
бою связанных предметов) была известна всем исключавшим.
* * Громадная перемена в характере университетской жизни, какая наблюдается
теперь сравнительно с прежним временем, должна быть объясняема из перемены
возраста, в котором в нее вступают теперь: прежде в университет вступала самая
свежая юность, не очень обремененная сведениями, но с чрезвычайною жаждой но-
вых восприятий, с родником сил, готовых к творчеству, к оригинальному движению
мысли и во всех сферах -- к энтузиазму, самопожертвованию; теперь приносятся сюда
гораздо более обильные сведения, но со значительным равнодушием к их дальнейше-
му приобретению и с озабоченностью гораздо большею -- будущим своим устроени-
ем в практической жизни. Заметим, кстати, чтобы подтвердить свое указание на то, как
мало принцип обособленности, и не только лиц, но даже возрастов, понятен тому, кто
организовал новую школу, что в этой школе мужчины в 18—20 лет учатся и «ведут
себя» по тем самым нормам, как и дети в 9-10 лет. Естественно пожелать, и обществу
следовало бы желать, чтобы воспитанию и научению, то есть направлению растущего,
отдавались лишь годы самого роста, то есть для мужского пола до 20 лет, и для
женского - до 15, и позднее этого ни элементарная, ни средняя, ни высшая школы не
могут иначе, как преступая против самых целей своего бытия, удерживать в себе
питомцев. И всякая система воспитания и обучения - мы разумеем весь организм
школ в стране, которая не успевает за этот срок окончить своего дела, можно быть
уверенным, не успеет ничего сделать, если ей предоставить человека до самой старо-
сти. Продолжительная по годам учения школа еще не есть серьезная, она только -
неумелая, и часто как в смысле какого-нибудь искусства, так и в смысле простого
понимания того, чем занята. Элементарному научению принадлежит детство, и в нем
же должны быть даны здоровые и честные навыки; среднему - отрочество, и в нем на
тесном круге немногих однородных предметов должен быть пробужден ум, возбуж-
дено сердце; высшей школе должно принадлежать удовлетворение их - нс в меру
сытости, для этого и жизни недостаточно, но в смысле образования вкуса к тому, чем
истинно человек может быть насыщен.
* ** Как, напр., удаление наиболее даровитых учеников, постоянное невнимание к
нравственным сторонам порознь всякой души, и, наконец, этот повсеместный факт,
что школа, к любознательности в идее ведущая человека, на практике любознатель-
ность, проявляющуюся в любви, в привязанности к чтению - теснит, суживает и
часто в грубых формах гонит. - Отсюда же в отдаленных перипетиях - то, что можно
было бы назвать зверством бумаги. Был такой случай (рассказанный мне преподава-
702
всем предметам, потому что не заинтересованы ни которым, вторые удобно
проходят через сеть всяких правил, иногда мимо них, но предусмотрительно
не задевая ни одного явно или резко* *.
Иногда приходит на мысль: сквозь школу этого нового типа, механичес-
кую и взыскательную, могло ли бы пройти все множество людей, о которых
мы читаем в истории? Они ее сложили своею поздней деятельностью, но об
их ранних годах мы из нее же знаем столько привлекательно-своеобразного,
что не хотело, не умело, не должно было подчиниться никакому «правилу», -
и в то же время не погубило их, не отбросило от жизни на ее задний двор, в
затвор деятельности узкой и затхлой... Пушкин рассказывает о себе, что он
был органически не способен к математике, даже в тех элементарных ее све-
дениях, которые одни в то время усваивались в школе; о школьных годах
телем Елецкой гимназии, г. С.): ученик на испытании зрелости писал работу и написал
уже за половину, когда из дому прибежала служанка и сказала, что «их батюшка
кончается». Доложили директору и всей испытательной комиссии, сейчас же передали
и ученику. Быстро пробежали «черняк» работы, он был удовлетворителен, т. е. почти
удовлетворителен, а ученик был плох, «еле-еле»... Однако написано было столько, что
засчитаться за работу, т. е. пойдя в округ, там засчитаться она не могла бы. Конечно,
ученик мог сейчас прервать экзамен, и директор ему это предложил, но тогда он
должен был бы писать так называемую «запасную тему», и кто знает, какова она, в
запечатанном конверте, а эта была легка, бесспорно и ясно - легка, а главное - почти
написана. Трудно и мучительно было всем, я думаю - больше всего директору и
комиссии, однако думать было некогда. «Что же, отца вы уже не спасете, а вам жить
надо», - сказал кто-то из учителей, и я верю - это был лучший из учителей, т. е. 8 лет
наблюдавший усилия ученика и живо их в эту минуту совместивший в воображении,
отца же ведь он не видел, а такие вопросы и в такие минуты решаются темпераментом,
живым образом, перед глазами стоящим фактом, а не отвлеченным понятием долга.
Ученик остался писать. Нет преступника - есть преступление; нет виновного - есть
только и все страдающие... Но главное, что я хочу спросить - где здесь воспитание? В
этих измеренных и вписуемых фактах - которые же воспитывают? Рассказ, в хрестома-
тии Басистого о том, как «Николиньку и Володю» благословляла умирающая мать, из
«Детства и отрочества» Л. Толстого - важно, существенно, непропустимо. Прощанье
же вот этого «Семенова Николая» с отцом - тоже важно, и ужасно бы как хотелось его
дать отцу и сыну, тогда бы все «видимости» были соблюдены, - но как-то не вышло, не
«вытанцевалось», и потому, конечно, что в конце концов - «пропустимо».
* Из множества фактов этого рода, мне известных, приведу один особенно яркий:
справляясь о судьбе одного ученика VII класса Б-ч (Е-цкой гимназии), всегда шедше-
го впереди своих товарищей по всем предметам, я с изумлением узнал, что учителем
русского языка он не был допущен до VIII класса; и, справившись, узнал, что он в
течение всех семи классов был последним по уменью излагать письменно свои сведе-
ния, - не говоря о мыслях, которых у него никаких своих не было. Так как в VIII классе
его работа должна была быть послана на просмотр в Округ, то учитель, до тех пор
скрадывавший совершенную неспособность ученика что-нибудь правильно выра-
зить, не говоря уже подумать, ввиду этой неспособности и чтобы не компрометиро-
вать целого заведения, разъяснил Совету положение дела, представил тетради, и все
убедились, что полнота очень точно, очень твердо усвоенных сведений совмещается
с совершенным отсутствием того, на чем эти сведения держались бы или чему они
служили бы.
703
Шиллера мы знаем, что однажды он без позволения и тайно уехал в соседний
город, чтобы насладиться каким-то театральным представлением. Перене-
сем их в нашу действительность: несомненно они изгнаны были бы теперь,
один как «неуспевающий» (по § 34) и другой как «неодобрительно ведущий
себя», - об этом есть много параграфов. И вот всегда с этою мыслью соеди-
няется другая: что же, исключительно ли тому времени были свойственны
натуры, или односторонние в дарах своих, или неугомонные в своих поры-
вах? И если - нет, то где они, какова их теперь судьба? Мы можем ответить
только, что в жизни зрелой, трудясь плечом к плечу и друг на друга оглядыва-
ясь, мы этих лиц, и гениальных и страстных, не наблюдаем более.
И вообще можно спросить: куда девать раннюю мечтательность, пылкое
воображение, живую отзывчивость, честную гордость теперь, когда путь для
развивающейся натуры так подробно регламентирован, так сужен тысячью
деталей, сообразованных лишь с понятием человеческой натуры в ее общих,
вульгарных свойствах, но отнюдь не с представлением в ней гениального, или
хотя бы резко обособленного, глубоко личного?*
Даже в наездничестве удовлетворительным считается не тот, кто умеет
объездить вялую, среднюю лошадь, но кто справляется с горячим, неукроти-
мым скакуном. Меньшие ли требования должны быть представлены школе?
Меньшего не оскорбительно ли было бы требовать от воспитателя, от настав-
ника? И, однако, именно меньшее и от первой, и от второго всюду требуется.
«Вы разрушаете, - мне скажут, - школу; вы разрушаете все ее принци-
пы...». Да, но чем же? Раскрытием преступного смысла этих принципов, их
несообразности? Конечно, этим я утверждаю начала истинные.
Мне не кажется излишнею в школе суровость; я не отвергаю (и думаю,
напротив, что даже должны быть восстановлены в ней) физические наказания.
Это терпение - неистощающее: кто ко многому порывается, кто думает, что
он порывается к лучшему, должен и кое-что уметь перенести за это лучшее. Я
отвергаю лишь истощающий методизм, при котором школа оставляется доб-
ровольно (знаю сам такие примеры), без всякого понуждения, и оставляется
нередко способнейшими, лучшими. Я говорю, что эти лучшие дары должны
быть сохранены всеми способами, что эти способы должны быть найдены**.
* Замечательно, что школа церковная, по крайней мере прежнего типа, умела
справляться с подобными натурами и сохранила их в себе (как приходилось читать и
слышать - даже лелеяла в себе эти явно даровитые и неугомонные натуры); то же
делала прежнего типа военная школа. Кажется, это объясняется из того, что, погрешая
в деталях, эти школы ясно имели перед собой цель своего бытия - развитие сил
нравственного воздействия, развитие мужества, смелости и прочего подобного. Только
собственно «ученая» школа, «общеобразовательная», как-то утратив цели бытия сво-
его, антилюбознательная по существу, антикультурная по строю, все культурное,
всякую любовь и живую способность угашает, мнет, спрыскивает мертвой водой.
** И в самом деле, монах видит великую цель своего терпения, воин - своих тру-
дов; но ученик, который в тысяче деталей видит, что эта цель фальшива, что его любоз-
нательность ни для кого нс нужна и ум во всяком деле излишен, наконец с негодованием
разбивает эти «искусы», эти уроки, классы, учебники, цену которых он знает, и мог бы
их переносить ради чего-нибудь великого, но этого великого, он видит - нет.
704
Семья сберегает свои лучшие члены, нежные ростки, - и она не боится
их наказывать. Честная семья почти всегда несколько сурова, и это уже пото-
му, что она есть трудящаяся семья. Честная, трудящаяся школа, школа суро-
вая - вот идеал, который перед нами носится, взамен школы слащавой*, дип-
ломатизирующей**.
Нужно беречь будущее питомцев, и, сберегая это будущее, честно его
сберегая, можно и иногда нужно не щадить их в текущий, изменчивый мо-
мент. Обламывающий загнившие ветки у дерева еще не губит дерева; бере-
гущий эти ветки, боящийся сломать их - вот кто губит его вершину, его кра-
сивую крону и еще не снесенный цвет.
Глава школы нам рисуется именно как такой суровый отец - хоть и не
своей, но ставшей для него своею, трудящейся, людной семьи. Нет в этой
семье места только ясно выраженному нежеланию что-либо делать и, сверх
этого - только совершенной, окончательной неспособности. Но для очень
маленьких способностей при добром сердце, для даров односторонних и яр-
ких, для натур резко порывистых и богатых силами здесь должны быть элас-
тически изменчивые формы, которые бы их сохранили, сформировали и на-
правили к возможно лучшему.
Непонятна, не нужна школа, которая не сохраняет нации лучших ее
даров, пренебрегая безупречным сердцем, которое так часто, волею како-
го-то каприза, соединяется с изъяном то в одних, то в других умственных
способностях.
Сколько раз, в долгую свою учительскую практику, мне случалось ви-
деть это странное, печальное соединение. Что всего удивительнее, при ве-
личайшей скромности, выдержанности характера у удаляемых, можно час-
то наблюдать у них и положительно светлый ум; недостает именно какой-
нибудь второстепенной, усваивающей способности: памяти, математичес-
кой догадливости (в решении задач), дара письменной или устной речи; но
при требованиях школы, исключительно механических, где оценивается не
ум, но измеряется усвоенное памятью, не ищется творчество, но воспиты-
вается логический навык, именно эти второстепенные способности явля-
ются главными и все собою решающими. Их нет - и при высших, истинно
глубоких дарах души, при нежной впечатлительности, пытливой любозна-
тельности, наконец, при способности к чуткому вниманию (мы говорим о
дарах только умственных) юноша признается неспособным к дальнейшему
развитию.
* Даже ученикам I—II классов, т. е. мальчикам 9-13 лет, учитель (иногда старик)
говорит «вы», опасаясь грубым «ты» оскорбить в них «личность человека!».
** «Служит» хорошо обыкновенно не тот учитель, который хорошо учит детей,
но который хорошо видит свои отношения к окружающим и высшим. Еще более это
относится к начальнику учебного заведения, который решительно стоит в центре
чрезвычайно тонких и сложных отношений к администрации города, к своей учебной
администрации, к обществу; ему, если он хочет хорошо «служить», даже и вспомнить
некогда, что есть еще какие-то дети, также ждущие от него чего-то.
23 Зак. 3969 705
Сколько честных тружеников для всех поприщ национальной жизни гу-
бится при этой системе казовых требований, и как мало эта казовитость отве-
чает нашему народному характеру, нашей истории! Ее лучшая черта в том,
что все казовое в ней прошло (и пройдет) незначащим, едва волнующим
поверхность ветром, и все значащее - скорее хоронилось от глаз людей, неже-
ли сколько-нибудь усиливалось перед ними выпятиться.
III
Школа должна оценивать человека в целом, и она должна оценивать его в
будущем. Серенькая, маленькая, бедная, если делает это, она будет воспита-
тельна, она будет художественно-образующей школой, наконец - школой на-
циональной.
Эластичность ее форм, гибких в применении к неисчерпаемому раз-
нообразию индивидуальных развитий, может достигнуться при условии,
если она, как и семья, как церковь, как все органическое, станет жить
бытом, а не правилами, не механически инертным или машинообразно
действующим строем. Если не создать (что невозможно), то способство-
вать самосозданию в ней этих бытовых форм, воспитывающих без слов,
без поучений, одним своим духом, смыслом - вот первая забота органи-
зации национального воспитания. Удаление из нее чиновника-наставни-
ка, который ничем с нею не связан, или связан не более, чем работник с
машиною, на которой он работает, есть первый шаг, начальное требова-
ние этой организации. Не зная города, в котором он только служит, имея
все связи свои вдали от него, в узле административного управления тыся-
чею подобных же школ (канцелярия учебного округа), оттуда только ожи-
дая себе всего — награды или наказания, в сущности, что может этот чи-
новник дать непосредственно той школе, в которой трудится? Конечно -
сделать ее незаметно предметом своей эксплоатации, отдавая ей лишь
требуемое под страхом, и не далее только форм. Этот тип школы - бюрок-
ратической и хищной - всюду, где она не сохранила захолустной распу-
щенности, стал давно господствующим. До существа дела - ею заведыва-
ющим нет дела; до боли, до страдания местности*, где она внедрилась, им
нет забот. Их заботы, их опасения вдали: там, откуда блюдут за ними, слепо
нащупывают - все ли формы соблюдены, и соответственно этому обеща-
ют награды, грозят наказаниями. Этот строй, машинообразный, слепой,
безжалостный, должен быть ранее всего изъят из действительности. Шко-
* Такова была (теперь закрытая) четырехклассная прогимназия (в г. Б-скс), где
мне пришлось начать службу. Ес вред до того был для всех очевиден, что город, в
котором она находилась, из года в год ходатайствовал перед министерством о ее зак-
рытии; но всегда получал отказ. Кончилось тем, что жители его перестали просто
отдавать детей в нее, отвозя их в соседний город, и прогимназия закрылась за отсут-
ствием учеников (жителей в городе было 15 000).
706
ла должна жить здесь и теперь; в каждый момент вся полнота ее сил
должна быть отдана вот этому текущему моменту, вся полнота забот - вот
этим частным нуждам, этим маленьким лицам, которые ожидают этих
забот. Ее страх (если он нужен) должен быть тут, на месте, и тут же, внутри
ее самой, должны быть все ее награды.
IV
Местный характер поэтому должен быть в высшей степени наблюден в шко-
ле, в ее быте*, в зависимости**, в составе не только учащихся, но, по мере
возможности, и учащих; не говорим уже о воспитывающих. Отнюдь не долж-
на она быть лишь территориальным повторением общегосударственного
учреждения, местной функцией органа, центр которого далеко. Школа за №
таким-то, с набранными отовсюду учениками, с присланным контингентом
учителей, с учебниками для всех стран и климатов сработанными одним спо-
собом, - эта безличная, бескровная школа в лучшем случае будет солидна с
виду, но она никогда не будет питательна внутри. Всего же менее она будет
органом, выражением местной жизни; в ней, через нее эта жизнь никогда не
будет возрастать, нисколько не будет просветляться.
Достаточно бросить взгляд на то, как формируется учитель, чтобы по-
нять весь ужас того, что такое школа, чем по отношению ко всякой местности
она необходимо становится. Человек и без того очень общего образования,
долгого учения и, следовательно, очень отвлеченных интересов, он обычно
рожден в одном городе, гимназию прошел - в другом, университет - в тре-
тьем, и службу проходит в четвертом, пятом, шестом. Он - человек без кор-
ней', в сущности - у него нет родины, и следовательно, - родного. Где его
близкие? Отношения временного товарищества суть единственные, какие у
него есть, т. е. отношения совместности и одинакового труда, но отнюдь не
* В гимназиях наших есть некоторые подробности, не удобные для местных
учеников и существующие исключительно ввиду общего характера каждой школы,
хотя бы даже самой захолустной; эти подробности безусловно должны быть отброше-
ны. В последние десятилетия развился у нас особый контингент «странствующих»
учеников, выискивающих учебное заведение, где преподавание слабее и вероятность
окончить курс больше; эти «странствования», когда они не связаны с переездом роди-
телей, должны быть также прекращены.
** Каждая семья вправе отказать учителю, вредное влияние которого на детей
своих она видит; может ли кто-нибудь лишить этого права совокупность семей, при-
ход, город, уезд? Конечно, лишь тот мог бы перенести на себя это право, кто поручил-
ся бы, что воздействие школы на ребенка он видит так же зорко и непрерывно, как
семья, и о судьбе его печется столько же, как она. Мы утверждаем и готовы всякий
час подтвердить фактами, что ни этой зоркости, ни этой бережливости (заботливости)
нет у администрации учебных округов, восьми или девяти на всю империю; а не имея
ее, как могут они удерживать при себе право, вытекающее из обязанности, которая
ими не исполнена?
707
связи. Ничего постоянного, неизменного в отношении к людям, их быту, осо-
бенностям, нуждам, недостаткам он не имеет. Они для него, как и он для них, —
проходящие тени, цепляющиеся друг за друга только временною нуждой. В
сущности, он только commis-voyageur просвещения: никому он не нужен,
всем нужно то, что он несет’, и если он умен, если он человек с сердцем, —
что бывает часто, - он становится почти врагом образования, которое так
много у него отняло и так мало ему дало. В худшем случае он становится сух,
эгоистичен; не решаясь обзаводиться семьей (вероятно, до 50% учителей
остаются холостыми, и это есть самый важный показатель неустроенности
их быта), он угрюмо кладет деньги в банк, болезненно привязываясь мечтою
к мысли, что когда обеспечит наконец себя, то станет и свободен, и незави-
сим. Но гораздо ранее, на пятнадцатом, на восемнадцатом году службы, обыч-
ная неврастения постигает его; отложенное - берется обратно, переносится
к докторам; и когда вожделенная минута двадцатипятилетия (и пенсии) наста-
ет, -тот, кто столько ее ждал, не нуждается ни в чем более, кроме сиделки,
компресса на голову, стклянки с микстурой, - которые недолго еще будут
облегчать последние его страдания.
Всякая школа должна самопополняться учителями; учитель - местный
житель, любимый питомец школы, ею высмотренный, с детства наблюден-
ный, испытанный, посланный доучиваться в университет. Его перемещение*
есть нетерпимое преступление; если и вся предусмотрительность при его
выборе была напрасна, если он дурен, стал дурным, зачем наказывать им
другой город? Где бы он ни был дурен, - его или нужно перетерпеть на
месте, как неизбежное зло, или удалить вовсе.
V
Мы очертили один из самых важных факторов школы, поэтому именно совер-
шенно пренебреженный. Ведь учебник и учит ель - это и есть все, с чем сопри-
касается ученик, не знающий вовсе тех центральных узлов учебной админист-
рации, которые так красиво выделяются на фоне общегосударственной жизни.
Он не знает прекрасных замыслов, с которыми составлялись для него «учебные
планы»; не знает предусмотрительных к ним «объяснительных записок». Все
это - у нас, наверху, для радости наших глаз; там же, у него, внизу - только
керосиновая лампа, светлое пятно под зеленым абажуром, и в фоне его - вере-
ницы, вереницы, вереницы слов, в которых назавтра он должен дать отчет жел-
чному, нелюбимому и его не любящему, не знающему учителю.
Повторяю, учитель и учебник - тот, кто учит, и то, по чему он учит, - это
и есть все; их выработать, создать или извлечь из-под закрывающего мусора
ненужных учреждений, слов, регламентов - это и есть то, после чего для
организующей силы нечего делать, все кончено.
* Обычная форма наказания учителей за дурно исполняемые обязанности.
708
Замечательно, что очень хорошие учебные книги вовсе не прививаются
к школе нового типа, по крайней мере, к средней; и от опытных, старых учи-
телей нам приходилось слышать, что чем далее идет время, тем учебники
становятся хуже и хуже. На вопрос, почему же именно худшее, а не лучшее
из однородного избирается для руководства в школе, неизменно можно ус-
лышать ответ: «Лучшее заинтересовывает, останавливает внимание и пото-
му мешает другому; оно к тому же и само усваивается не так быстро: требу-
ет неторопливости, внимания, и все это в высшей степени неудобно; дурное
-ловчее для прохождения, оно так уже и написано, в этих именно видах, - и
вот почему оно всюду и проходится».
В нашей литературе есть превосходное руководство по элементарной
геометрии - «Начала» Эвклида, в переводе и объяснениях проф. Киевского
университета Ващенко-Захарченко; труд этот - мы говорим о переводе и
геометрическом комментарии - до того замечателен, что при своем появле-
нии обратил внимание даже французской ученой литературы, как известно,
наиболее богатой по этой отрасли знаний в Европе. Излагается в нем то са-
мое, что излагается в курсах геометрии, принятых в нашей средней школе; и
вот, в то время, как эти курсы проходятся по компилятивным руководствам,
творение Эвклида остается не только не принятым, но оно и вообще мало
известно среди учащихся и, может быть, даже в среде учащих. По начальной
физике, также в объеме средней школы, и для нее именно написанное, есть
руководство профессора Любимова, как известно, самого глубокого у нас
знатока исторического развития этой науки и, конечно, также совершенно
компетентного в ее теперешнем состоянии; и вот, почему-то этот курс со-
вершенно не распространен и вытеснен компендиумами этой науки, не под-
писанными никаким авторитетным именем. Наконец, по истории и до сих
пор единственно серьезное руководство, составленное профессором Шуль-
гиным, не имеет никакого применения и составляет библиографическую
редкость, цену которой, однако, уже чувствует всякий толковый ученик. По-
чему-то учебник, чтобы иметь распространение, должен быть непременно
несколько глуп; он, во всяком случае, должен быть поверхностен относитель-
но своего предмета; нужно, чтобы предмет этот, данная наука, не особенно
занимал его составителя, и всего лучше, если он ему не очень хорошо зна-
ком. С любовью, с интересом, с тонким пониманием написанное руковод-
ство непременно будет выброшено школой, в условиях которой, следова-
тельно, есть что-то непреодолимо противящееся введению всего подобного.
До чего быстро совершается изготовление этих руководств, можно су-
дить из следующего: когда в 1890 году были произведены некоторые переме-
ны в учебных планах гимназий, и эти перемены стали известны к весне этого
года, к осени того же года к директорам гимназий и учителям соответствую-
щих предметов уже рассылались печатные бланки-письма от составителей
руководств, с уведомлением, что, соответственно новому распределению
учебного матерьяла, ими выпущены в переработанном виде прежние руко-
водства, или изготовлены новые. Так, до 90-го года в III классе проходился
709
эпизодический курс всеобщей истории и русской, от Астиага и Кира Пер-
сидского до Севастопольской обороны включительно; согласно новому из-
менению в том же классе предполагалось проходить только русскую исто-
рию. И вот, чтобы всемирную историю переработать в русскую, отбросив
первую и распространив вторую, достаточно было трех месяцев. Впопыхах
этого распространения составитель самого распространенного учебника (г.
Беллярминов) перепутал даже первое и второе нашествие монголов на Рус-
скую землю: на р. Калку, в приазовскую степь, он их привел не из-за Кавказа,
а через Урал, где тринадцать лет спустя проходил Батый.
Но это - пустое, и не об этом мы говорим. Мы говорим с нестерпимою
болью о том: что одушевляло этого составителя, и ему подобных, в горячие
месяцы спешной работы? Какая другая мысль водила их пером, кроме стра-
ха, чтобы пишущего не успел предупредить другой соперник-составитель?
И книга, так написанная, где в каждой странице учитель читает алчность, и
ученик - ничего не говорящие ни уму, ни сердцу вереницы строк, изучается
так, как никогда не будут им изучаться ни «Борис Годунов», ни «Скупой
рыцарь», ни все, что вышло из ума возвышенного, из благородного сердца,
и звучит где-то, кому-то, но только не здесь, не в школе, не возрасту самому
впечатлительному, и теперь именно набирающемуся силами, которыми он
будет жить во все остальные длинные годы жизни своей. Факт этот, что самое
дурное из произведений человеческого пера, наиболее среди всех их небреж-
ное, наименее обдуманное, и никогда, ни в каком случае не проникнутое
каким-либо живым интересом к своему предмету, теплым чувством к чита-
ющему, стало всюду, во всех просвещенных странах Европы, единственным
средством умственного образования и воспитания, - есть явление до того
поразительное, до того значущее, и вместе так мало замеченное кем-либо,
что во всяком размышляющем человеке оно может вызвать самое глубокое
изумление и самую сильную тревогу. Чтобы поднять человека к наилучше-
му (это цель) в наилучший его возраст (это время), он питается наихудшею
духовною пищей, в этих именно видах приготовляемую открыто, на глазах у
всех, и о которой спросить: «Нет ли тут чего-нибудь глубокомысленного,
чего-нибудь оживляющего, на что-нибудь одушевляющего?» - значило бы
одинаково вызвать у всех улыбку недоумения. В этом недоумении, при со-
вершенной естественности вопроса, есть столько поразительного, что, оче-
видно, лишь один день, одна историческая минута отделяет нас от часа, когда
«недоуменное» теперь мы поймем как какое-то, относительно данного пун-
кта, временное всеобщее помешательство*.
* Лет 5-6 назад раздались крики в нашей печати, требующие мер против «под-
строчников», «решительно мешающих ходу обучения»; но что такое подстрочник по
отношению к учебнику, как не то же, что учебник по отношению к серьезной, творчес-
ки созданной книге, и что такое эта школа, одолеваемая подстрочниками, как нс пер-
вый и главный между ними всеми подстрочник по отношению к истинному образова-
нию и научению. Уже так все понятно в самом начале, чтобы все сократить, ускорить,
уторопить; торопится программа, подгоняясь к ней - торопится учебник, и еще более
710
VI
Кто не размышлял над этим фактом: вот задан трем-четырем мальчуганам,
помещенным на «братской квартире» (есть такие), «Бежин луг», - и усилен-
но, при свете лампы, они учат диалоги тех мальчуганов на «Бежином лугу»,
как и что сказал один и что ответил ему другой, чего они оба испугались.
Имена мальчиков, которые случайно избрал Тургенев, «Митя» там или «Петя»,
нужно твердо знать: если их переврешь назавтра, уже не получишь «пяти» за
ответ, пожалуй, даже получишь «три», а между тем, при легкости урока, сле-
дует именно завтра запастись «пятеркой», т. е. уже заранее поправить воз-
можную и даже вероятную «единицу» «в том месяце». Все это отчетливо и
твердо соображается тремя-четырьмя мальчуганами, уже чуть-чуть хитры-
ми, дальновидными, лукавыми, «искусившимися» за три протекших года уче-
ния: они теперь в 4-м классе. И с усилием, до боли в голове - потому что это
они приготовляют к завтрему пятый урок - они учат, что мальчики на «Бежи-
ном лугу» испугались водяного или разговаривали об «утопленнике». Хоро-
шо не помнится, но они назавтра не должны в этом сбиться...
Но вот все трое-четверо, - заметив, что старушка, за ними «наблюдаю-
щая» на «братской квартире», заснула, - осторожно, на цыпочках, выходят в
сени, на улицу, дальше, за околицу, и, пробежав несколько улиц города, дей-
ствительно переживают «Бежин луг», - переживают поэтичнейшие 3—4 часа
теплой осенней ночи, вбегая в опушку черного стоящего леса и с визгом
неистового страха выскакивая оттуда назад, купаясь в теплой, до странности
теплой, как парное молоко, воде настоящего озера, т. е. озера не из «Бежина
луга», но где-нибудь около Борисоглебска... На другой день все узнано: нака-
зание, строжайшее наказание, почти исключение из гимназии, и, конечно,
«единица» из «русского языка и словесности»...
Между тем ведь для чего-то избран, из всего словесного «матерьяла»
как составителем «учебного руководства», так и учителем, задавшим урок,
именно «Бежин луг»; ведь не за один же «слог» он избран. Поманила по-
торопливо обгоняет его подстрочник. Если в учебнике, законном учебнике, берется
2-3 сцены из «Мертвых душ», а остальное содержание излагается для краткости
«собственными словами», если программа на половине обрывает чтение песни Вирги-
лия, потому что в курсе того же класса, кроме Виргилия, есть еще Овидий и Гораций,
- отчего подстрочнику еще не оборвать, не сократить, не облегчить и вообще разны-
ми способами не сберечь столь дорогое, столь расхватанное, рвущееся за недостатком
время ученика. Ведь суть дела в его оболочке, а не в зерне; не в том, что есть в каждой
из культур зовущий, сладкий идеал, и не в способе подойти к нему, понять его,
прозреть в него и его таинства. Этот идеал раздроблен, этот идеал убит; кажется, он
даже не был никогда здесь почувствован. Итак, остаются грубые факты этих культур,
вот эти строки - как можно больше строк, эти законы, походы, имена - как можно
больше имен, походов, законов и, самое главное, в возможно краткое время. Под-
строчник только обнаруживает общую, универсальную тенденцию; неудержимо
выскакивает поверх «гуманитста», поверх так и не сформировавшихся черт «пре-
красного образа» и кричит, о целой системе кричит: «Это - я!»
7! 1
этичность самой, переданной в слове, жизненной сцены; почувствовалось
что-то воспитательное в этой сцене. Но вот именно почувствовалось все это
лишь как предмет классного представления и книжного «изложения», ис-
ключительно «до сих пор» и не далее, и здесь - мертвая петля, где давится вся
новая педагогика и где она все живое давит собою. Кроме тенденций к книж-
ности, здесь действует, кажется, страх перед всем не отмеренным и чего нельзя
отмерить.
Но перенесемся к одному из тысяч зеленых абажуров - к учебному
столику мальчугана в возрасте 14-15 лет (IV класс), в пансионе, на ученичес-
кой квартире, у родителей - все равно; и пусть это будет какой-нибудь день
недели, положим, среда, - день легкий сегодня, когда только пять уроков, и
трудный завтра, когда уроков шесть. Внимание мальчика уже было сосредо-
точено сегодня на пяти разнородных впечатлениях: на физическом устрой-
стве Кавказского края, его климате и промысловом значении, на деепричас-
тных формах церковнославянского языка и одном отрывке из Остромирова
Евангелия, на так называемых немых глаголах греческой этимологии и двух
нетрудных переводах из латинского и немецкого языков. Обед кончен, и час
проведен надворе, в игре со сверстниками; короткий зимний день смеркает-
ся, и вот, торопливо кончив игру, ученик идет в свою комнату.
Назавтра: история, греческий язык, Закон Божий, латинский язык, алгеб-
ра и русский язык*; таких тяжелых дней только три в неделю. Классный на-
ставник, хоть и не классик сам, советовал всегда начинать приготовление с
главных предметов, дабы именно они всегда и безусловно выучивались. Не-
большой отрывок из «Анабазиса» Ксенофонта... великое героическое отступ-
ление 10 000 греков, но Бог с ним! - требуеттолько 9-10 справок в словаре, и
из этих справок только одна, о давно забытом глаголе со странным аористом,
заставила три-четыре раза справиться и ошибиться. Но вот, первооснова его
отыскана и с чувством большого облегчения вписана наряду с другими де-
вятью словами в продолговатую тетрадь греческих вокабул. Теперь можно
встать и, ходя из угла в угол по комнате, выучить приисканные слова; это не
требует более десяти минут, но вместе с приискиванием и записыванием
заняло их уже двадцать; основа греческого урока сделана, завтра ученик не
встанет перед учителем совершенно растерянный, но нужно же и перевести
отрывок. Некоторые фразы понялись без труда, - но вот за ними длинный
период, запутанная конструкция, - запутанная для него, конечно, для его 14
лет; смысл полуясен: все те же парасанги и тот же Клеарх, но совершенно
непонятно, в каком они стоят отношении; однако часовая стрелка еще пере-
двинулась и послышался мерный удар - половина пятого. Мальчик рванулся -
период так же неясен. Что, по крайней мере, далее за ним? Далее - лучше;
смысл, правда, после непереведенного места, совершенно темен, но конст-
* Мы разбираем конкретный, нам известный пример, но, конечно, при единстве
образовательной системы, этот пример представляет лишь повторение тысяч других;
число предметов и заданные уроки нами взяты из действительности.
712
рукция отдельных предложений прозрачна, и это одно, что нужно. Он их
понимает совершенно грамматически, и ни в каком случае на них не пропа-
дет. Итак, лишь одно место, четыре строки в середине, не переведены, но
слова в них известны; нужно еще повторить по образцам вот это существи-
тельное и два глагола; грамматика раскрыта, небольшое усилие сделано, и
еще не пробило пяти, а с греческим уроком можно кончить, и пора присту-
пить к русскому.
Достается тетрадь с составляемыми образцами периодов; внимательно
читается по грамматике о винословном периоде, еще и еще читается, и при-
думывается на него пример. Он вписывается в тетрадь, затем умственно про-
бегаются определения других видов периода, и их элементов. Грамматичес-
кая часть урока окончена, и остается только заучить двенадцать строк из «По-
ликратова перстня».
На кровле он стоял высоко
И на Самос богатый око
С весельем гордым преклонял.
Сколь щедро взыскан я богами,
Сколь счастлив я между царями,
Царю Египта он сказал...
и т. д. Это уже трудно, а учитель велел еще справиться с параллельным немец-
ким текстом, приложенным к русскому в заботливо составленной хрестома-
тии*. Ученик улыбается: ему на минуту весело при воспоминании об этом
требовании, а язык машинально вторит за бегущими по книге глазами:
К тебе благоприятны боги,
Они к твоим врагам лишь строги,
и пр. - нет, это очень трудно; только пять строк повторяются совершенно
твердо, а из остальных - все выпадает то одно, то другое слово; наконец, вот
еще выклевываются шестая и седьмая строки, однако - всех двенадцать, а уже
давно пробило четверть шестого. Шаг очень утороплен; мать кричит из-за
стены: «Чай готов». - «Подождите, мамаша», - и без четверти в шесть стихот-
ворение кончено, и полуусталая «натура» смачивается 2-3 стаканами чая.
Бьет шесть. «Доучивай же уроки, - говорит мать робко, - на прошлой неделе
получил две дурные отметки, на нынешней нужно их выправить». Но ученик
уже за стеной.
Корнелий Непот открыт, и лексикон придвинут; еще приискивается 12-13
слов, и они заучиваются, когда пробило половина седьмого; слишком пора
переводить, но что это: тут темно с самого начала. Все слова известны, и
однако, в тексте полная бестолковщина. Без сомнения, это отгого, что взяты
не те значения слов; и вот, закладывая пальцы в 3-4 места лексикона, каждое
слово ученик пересматривает вновь, и каждое из 6-7 значений, отмеченных
* Л. И. Поливанова.
713
в лексиконе, прикидывает к данному тексту и вновь комбинирует его со зна-
чением остальных слов; становится очень жарко, а текст так же темен, даже
темны отдельные в нем предложения, т. е. непонятно, которое к которому и
как относится. Ученик взглядывает на циферблат часов и, пугливо бросая
первый период, переходит к следующим. Нет, это гораздо труднее греческо-
го, и каждая фраза требует усилия; есть коротенькие и совершенно непонят-
ные; зато какая радость, когда предложение строки в три величиной пере-
водится после незначительного напряжения: редкое удовольствие. Пробило
семь: что же, однако, сделано? Только несколько разрозненных фраз переве-
дено - понятные предложения среди непонятного общего смысла. Медлить,
однако, совершенно нельзя; и, минуя алгебру, он берет историю, из которой
завтра, наверное, будет спрос. Заданы Лициниевы законы и первая самнитс-
кая и латинская война. Учитель что-то объяснял на уроке, но это и без объяс-
нений так понятно: Кай Лициний Столон и Луций Секстий Латеран в 376 году
до Р. X. внесли в народное собрание три ротации: 1) отменить военных трибу-
нов с консульскою властью и вместо их избирать по-прежнему двух консу-
лов, из которых один был бы непременно плебей; 2) никто не может пользо-
ваться более чем 500 югерами земли из общественных полей и высылать на
общественные пастбища более 100 голов крупного скота и 500 мелкого, - все
же остальные земли должны быть розданы плебеям участками по 7 югеров
на семейство; 3) уплаченные по долгам проценты зачесть в долговой капи-
тал, а оставшийся долг погасить в трехгодовые сроки. Конечно, это очень
длинно, как и длинные имена трибунов, но только для памяти, - и хуже их
путаная толкотня с самнитами и латинами: не кончилась одна война, и нача-
лась другая, и в каждой свои имена полководцев, точно для симметрии -
все по двое. Учитель советовал, приготовляя урок, не останавливать внима-
ние на запоминании и прочитывать весь урок до конца целиком; затем еще
и еще раз прочитывать все, не дробя; однако, не верится, чтобы так было
лучше. Что же читать, забывая тотчас прочитанное, и через это теряя с ним
связь последующего, а вместе - и какое-либо его понимание. Ведь все тут
так дробно, так путано и безобразно. И ученик начинает от красной строки
до красной вытверживать урок кусками, абзацами. Факты так сжаты, почти
только названы в своем смысле, что здесь можно, конечно, переставлять
слова в предложениях, но нельзя забыть ни одного предложения без того,
чтобы не вышла совершенная бессмыслица. Абзацы должны твердо лечь в
памяти, без какого-либо изменения в себе и в своем расположении, как
квадраты паркета в настилаемом полу, - иначе они будут рассыпающейся,
ничего не значащей, кучей слов. Но вот они в памяти, наконец, - и как
трудно их там держать! Теперь остается только просмотреть хронологию и
одновременные события в Греции, что всегда требует «припомнить» учи-
тель: справка удостоверяет, что одновременно было «возвышение Фив,
Пелопид и Эпаминонд» - и они торопливо пробегаются по учебнику, когда
пробила уже половина девятого. Урок тверд, и раскрывается катехизис - о
девятом члене Символа веры.
714
«Понятие о Церкви, сущей на Земле и купно небесной, утверждается
на словах ап. Павла: «Приступисте к Сионстей горе, и ко граду Бога
живого, Иерусалиму небесному, и тьмам ангелов, торжеству, и церкви
первородных, на небесах написанных, и судии всех Богу, и духом правед-
ных совершенных, и к Ходатаю Завета Нового Иисусу. Евр., 12, 22-24».
Этот курсив... и зачем тексты печатаются курсивом? Как мила страница, им
не чернеющая, и как страшна та, которая им чернеет. Нет, это гораздо труд-
нее «Поликратова перстня», хотя и проза... Бьет девять, в спине боль... Лам-
па пригромождается к кровати, и ученик лег на спину и, зажмурив глаза,
учит и повторяет, учит и повторяет... «Того даде главу выше всех Церкви,
яже есть тело Его. Ефес., 1»... Тот же Апостол говорит пастырям Церкви:
«Внимайте убо себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святый постави
епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кривию Своею...» -
«Почему Церковь едина?» - «Потому - что она есть одно духовное тело,
имеет одну главу, Христа, и одушевляется одним Духом Божиим: Едино
тело, един Дух, яко же и звани бысте во едином уповании звания вашего:
един Господь, едина вера, едино крещенье, един Бог и Отец всех. Ефес, 4».
Конечно, урок - только полторы страницы, но до чего же это трудно!.. А
стрелка на часах подвигается и подвигается; как бы хорошо сказать: «Стой,
солнце, и не движься, луна»; но то - Иисус Навин, и это - в первом классе,
где Ветхий Завет; попробовали бы они катехизиса, и неужели чем дальше -
будет все труднее? Бьет десять, и мать кличет ужинать. Конечно, урок еще
не тверд, тексты совершенно разваливаются, но можно подучить его завтра
на истории, а тексты подскажут товарищи из-за спины. Теперь остается
только алгебра.
Ужин кончен в половине одиннадцатого, и сильно клонит не столько ко
сну, сколько к лежанию, - или уж, наконец, к прогулке, к какому-нибудь силь-
ному движению руками и ногами, и тогда бы можно алгебру. Будут спраши-
вать последние пройденные теоремы; нового урока нет, кроме задач на ре-
шение двух уравнений, т. е. на предварительное их составление, и потом -
уже решение. Кажется, бочка и в ней три открытых крана, из которых через
один, потолще, вода выливается и через два, потоньше, вливается. «Почему
все вода, и зачем ее вливают и выливают таким странным образом? Верно,
только для задач». Усталая голова нервным движением приподнята с кровати,
раскрыта толстая черновая тетрадь, и х и у замелькали, как символические
означения минут и ведер воды. Задача решилась скоро, но вот другая, с дви-
жущимися навстречу друг другу поездами, никак не выходит. Сон, между
тем, решительно овладевает, и вот сквозь дремоту, уже переписав первую
задачу в беловую тетрадь и решив 2-ю списать назавтра у товарища, ученик
сбрасывает с себя платье и засыпает - без грез, без смешливого воспомина-
ния за день, без молитвы, со стучащими в голове консулами и бочками, с
«Того даде главу» и парасангами Клеарха.
То, что мы привели и что, без сомнения, несколько утомительно в чте-
нии, есть не только основной факт общепринятой учебно-воспитательной
715
системы, но и ее единственный факт, подлежащий размышлению, анализу и
критике. Все прочее, что прилегает к нему, - или значащее, и тогда вытекает
из этого же факта, - или является около него незначащей случайностью,
побочным и временным явлением. И педагогическая литература, насколь-
ко она не имеет в виду этот только факт, какими бы достоинствами в самой
себе ни отличалась, имеет тот один недостаток, что не относится ни к чему
действительному: хороша в себе, а не в отношении к своему предмету...
Что такое этот факт в данный единичный вечер? Что такое он в долгие
зимние, осенние, весенние вечера? Наконец, он же, перерывающий детские
игры в возрасте 9-10 лет и уже мешающийся с первой любовью, с пробужда-
ющейся любознательностью в возрасте 17-20 лет, - все это время ползущей
с безостановочностью часовой стрелки, которая им управляет и, по-видимо-
му, для него служила прототипом? Вот о чем нужно размышлять.
VII
Всегда занимал меня этот вопрос: как образуются великие люди - великие в
характере или, особенно, в уме? Любопытно, что, как ни различны бывали
условия их воспитания, две черты всегда в них отсутствовали: перемежае-
мость впечатлений и их разнородность. Всегда и все сколько-нибудь замеча-
тельные люди воспитывались на одном чем-нибудь; предмет их внимания
всегда был тесен, узок. От этого самое внимание их не рассеивалось, и внима-
ющая душа их углублялась. Являлся серьезный интерес, серьезная привязан-
ность; из него, из этого одного интереса, потом уже возникали другие, расши-
рялись, разнообразились, сплетались в новые и новые сочетания. В зрелых
летах, порою - в старости, мы находим, наконец, этот интерес разросшимся
до всеобъемлемости: новая поэзия, классический мир, точные науки и фило-
софия, библия и политические страсти - все находим мы умещенным в одной
удивительной душе; но это - только на склоне лет, это уже цвет и плод, и то, что
мы ищем, - это ствол и особенно корни того дерева, которое приносит этот
чудный плод. Семя этого дерева, первый незаметный росток -одинокий инте-
рес к чему-нибудь в детстве, сосредоточенное, неразделенное внимание иногда
заброшенного, забытого мальчика к предмету ли какому-нибудь, к случайно
попавшейся книге, к человеку ли, заброшенному судьбою в эту местность,
или, наконец, к Божьему миру, красота которого повсюду, всегда, для всякого
открыта. Я не могу привести теперь надлежащих примеров - для этого нужно
бы справляться; я предлагаю только читателю обратить внимание на указыва-
емую сторону воспитания, когда он сам случайно или из любопытства загля-
нет в историю, биографии.
С другой стороны, без какого-либо исключения мне приходилось наблю-
дать, что хорошо обставленные педагогически дети неизменно не дают из
себя ничего, кроме посредственного; среди собранных для них коллекций -
они скучают; обложенные лучшими книгами - не имеют никакого представ-
716
ления о том, что там написано*, если только эти представления, эти знания не
вбиты им, не натвержены учителем, - и тогда они запомнились, но не усвое-
ны, вовсе не вросли в душу. За много лет наблюдений мне не припоминается
решительно ни одного случая, чтобы богато обставленный научными по-
собиями ребенок, мальчик, девочка - были сколько-нибудь любознательны;
напротив, в полуграмотных семьях, у какого-нибудь мещанина, ремесленни-
ка, бедной чиновницы, живущей на пенсию, у причетника, священника - я
встречал детей с пожирающей жаждой научения. Для каждого, кто наблюдал
за жизнью непосредственно, кто не судит о ней издали, из центров админис-
тративного управления или с высоты ученого кресла, это до такой степени
общеизвестно, что не требует ни подтверждений, ни разъяснений: полуразу-
тый мальчуган, отбивающийся от бесчисленных братишек и сестренок, -
обычный любитель книги, ищущий с нею уединения; он же, в вычурно сши-
той курточке, никем предусмотрительно не тревожимый среди стоящих вок-
руг его глобусов, теллуриев, иллюстрированных книжек, - их первый, до кон-
ца жизни иногда, не скажу - враг, но нерадетель.
VIII
Мысль сделать образование «серьезным» через удаление от него неимущих,
т. е. «несерьезных» классов, есть поэтому не только мысль безнравственная
(ибо она неблагодарно забывает свое прошлое), но и изумительная в своей
наивности. Именно неимущие-то классы и дают всюду лучший контингент
учеников, мирящихся со всякою строгостью дисциплины, преодолевающих
всякие трудности учения - будут ли то древние языки, математика или что
другое, - учеников, бодро проходящих это учение, в то время как их богатые
товарищи, наполовину растерянные уже во время курса, еле-еле тянутся за
ними к концу его**. Есть много причин для этого, и частью, кажется, органи-
* Напр., так называемые «наградные книги» всегда остаются не прочитанными
«награжденными», и выпрашиваются у них для прочтения никогда не награждаемыми
средними или плохими даже учениками.
** Помню, как однажды, во время моего урока, в класс, считавшийся по успеш-
ности первым в прогимназии, вошел директор, чтобы спросить, кто из учеников не в
состоянии внести ссмидесятикопесчной месячной платы за завтраки, устроенные при
этой прогимназии; встало учеников 6-7, первых учеников класса и вместе составляв-
ших предмет гордости для всего учебного заведения. Я и раньше знал некоторых из
них, как очень бедных, но о других не предполагал этого, и по крайней опрятности их
в одежде, и по благовоспитанности, деликатности в отношении товарищей и учителей.
По выходе директора, я всех их друг за другом вызвал к кафедре и спросил, кто их
родители: «сын кузнеца» - Кононов, «сын крестьянина» - Васильев, «сын сапожника» -
Богданов (первый ученик, никогда и ни по чему не опускавшийся даже до «четырех»),
«сыновья мещан» - Баташов и Ксюнин; фамилии остальных учеников я уже теперь не
припомню, но и те были дети, кажется, бедных лавочников; все без исключения за
прекрасное поведение и успехи были избавлены от платы за учение, некоторые из них
пользовались казенною одеждою и книгами (от благотворительного общества, состо-
717
ческих: неистощенность сил, которые, тратясь лишь на физическое и никогда
на духовное, именно для этого последнего сохранены были в целости их отца-
ми, дедами, прадедами, и, полученные в нетронутом виде детьми, обращен-
ными на духовную ниву, и на ней дают результаты столь же добрые, обиль-
ные, полновесные, как ранее, в долгих предыдущих генерациях, иные силы
давали свой плод на поле хлебном, в мастерской, в мелкоумственном труде
незначительного чиновника, священника. Новь хороша не только в земледе-
лии, - и в сеянии духовном она есть, и такова же, как при посеве хлебном. Но
кроме этой неистощенности сил, этой готовности к обильному произрожде-
нию поднимаемой нови, есть тут благоприятный момент в самом законе сея-
ния: зерна бросаются неторопливо, редко; каждое зерно имеет вокруг себя
обилие тучной земли, и силы этой земли не разделяются на питание кучи
зерен, какие в ином месте бросаются рукою, может быть и любящею, и искус-
ною, но в этом таинственном деле не умудренною. Я хочу сказать, что в мало-
образованной семье, где мальчик до 8-9 лет был предоставлен себе и, часто о
многом спрашивая, никогда на вопрос не получал ответа, он к возможному
будущему ответу естественно прислушивается внимательнее, естественно
ловит его жаднее, чем его богатый сверстник, в котором вопросы не только
всегда и сейчас все разрешались, но и возбуждались тогда, когда он хотел бы
только играть и бегать. Первый - ожидал долго и будет слушать жадно, будет
спрашивать еще; второй - уже так утомлен выслушанным, что не только ни о
чем новом не спросит, но и перед тем, что ему попытаются сказать, или отвер-
нется, или прослушает это рассеянно, в лучшем случае запомнит, но никогда
не заинтересуется.
Нужда и бодрый труд, всегда вытекающий, - вот лучшая атмосфера для
воспитания. Нет книг для чтения - но их жаждут; иногда жаждут и все-таки не
находят, и тогда время идет на бодрые, умные забавы на дворе, улице, в лесу -
забавы, укрепляющие здоровье и своеобразно, своими путями, развиваю-
щие ум. Ранее или позже, книги сыщутся - и тогда они жадно прочтутся: это
одно и нужно. Нужно, чтобы во благовремении, на университетской скамье,
на том или ином поприще жизни, не клонила ко сну зевота при всяком живом
слове, при виде всякой серьезной книги.
Что же, ввиду сказанного, делать богатой, образованной семье со свои-
ми детьми? Ни в каком случае не давать им чувствовать этого богатства и
также не внушать, что они составляют предмет изощренного, главного вни-
мания семьи, которую радуют своими успехами, печалят неуспехами, и во-
явшего при прогимназии). Известный циркуляр о непринятии детей из этих «поддон-
ков общества» был здесь, за отдаленностью и слабостью центрального надзора, не
приведен в исполнение умным и понимающим положение вещей директором. И наря-
ду с этими учениками тащились, мучились, мучили собою учителей два сына почетно-
го попечителя этой же прогимназии, купца, имевшего около 30 000 десятин земли,
перед которым все двери были открыты, - его детей призывали к учению все «цирку-
ляры»... Зачем, что им из учения? И как не дать этого учения тем, кто его просит, к
нему ярко способен?..
718
обще в своей воле или даже капризе обладают ее счастьем или несчастьем.
Семья - богата ли она, или небогата - в себе самой, в сфере своего особого
труда (который дети лишь наблюдают) несет свои отдельные печали и радос-
ти; у детей - пока одни обязанности и строгая за них ответственность перед
этой трудящейся, озабоченною семьею. На них лежит долг, и только; они - не
счастье, не красота семьи: пусть эта тайна будет понята им гораздо позже;
пока в их сознании должно быть, что они трудны семье, и за это трудное
должны чем-нибудь вознаградить ее. В их представлении не должно быть
развращающей мысли, что они - цель, ради которой семья все несет и долж-
на вынести; это и не так в действительности: каждая семья живет для себя, для
счастья текущего момента столько же, как и для всякого ожидаемого. Ум-
ственная перспектива детей должна отвечать действительности: что они уже
принесли собою семье много забот, потребовали много для себя труда, что
на них излита, о чем они даже не помнят и чего еще не понимают, бесконеч-
ная любовь. Теперь они приходят в сознание; теперь они делают собствен-
ные усилия, чтобы подняться в уровень с этою любовью, чем-нибудь вознаг-
радить эти заботы, в свою очередь своим трудом дать утешение слабеющим
родителям.
Время начинающегося учения - время наступающих обязанностей, про-
буждение сознания, ответственности, долга; конечно, он может быть требу-
ем и взыскиваем твердо лишь семьей, которая сама в иных сферах, перед
иными и высшими вещами несет твердо свой долг.
Есть несчастные семьи, где все это уже нарушено; часто это недурные
семьи, но только уже распустившиеся и не имеющие силы подняться снова к
труду, к обязанностям; наконец, есть положительно дурные семьи, с разруша-
ющимися отношениями их старших членов. Что делать такой семье с детьми?
Возможно раньше и возможно строже выделить их из себя, из своей разлагаю-
щей атмосферы, передать их воспитание бедным родственникам, отдать в зак-
рытое учебное заведение, взять домашнего воспитателя или учителя, и хотя и
оставить ребенка в себе, в своей дурной атмосфере, но вместе с тем через
обращение его привязанности на постороннего, как бы изолировать его от
себя. Пусть у мальчика или у девочки из подобной, чувствующей себя ис-
порченною, семьи, создается свой особый мир, возможно менее сливаю-
щийся с ее миром.
IX
Детский мир и всегда вообще чище мира взрослых людей, даже если после-
дние недурны; и вот почему, за исключением того случая, когда семья состо-
ит из двух только членов с третьим при них ребенком, лучше, чтобы дети были
несколько отделены от жизни старших и образовали свой особый мир. Это
отвечает требованиям одинаково как нравственного воспитания, так и ум-
ственного развития. Находясь в среде взрослых, когда этих последних много,
когда они разного положения (мы здесь говорим уже не о родителях, но о
719
всем круге лиц, с которыми родители вступают в соприкосновение), дети ви-
дят отношения, им мало понятные в источнике, но кривизны которых они не
могут не чувствовать. Маленькая лесть, маленькое самохвальство, всякого
рода фальшь и мелочность, - где встретим мы взрослых людей, совершенно
свободных от этого? Пустословие едва ли не самый извинительный порок их, -
и зачем уже о нем знать детям, не говоря о большем? Как это ни удивительно,
но мы скажем без смущения, что детский мир вообще серьезнее мира взрос-
лых людей: игры здесь действительно забавляют, огорчения - действитель-
но вызывают слезы, и даже ссоры - суть действитепьные ссоры как по при-
чинам своим, так и по исходу. Все здесь реальнее, все незамаскированнее, - и
этим самым лучше. Своим присутствием взрослые только внесли бы сюда
искусственность, маскирование, деланность - и всегда ее вносят.
При входе взрослых дети обычно стесняются и прекращают свои игры;
вот верный знак, что они или не будут вести себя при них открыто, или, если
преодолеют наконец естественную застенчивость, то не ранее, как почув-
ствовав свою фамильярность со взрослыми, т. е., не слившись нисколько с
ними, перестанут принимать их в какое-нибудь внимание, т. е. уважать их.
Взрослые принимают это обыкновенно за «доверие» к ним, «расположе-
ние» детей, но это - наивное предположение, ибо детям не в чем с ними
сливаться: они могут только перестать уважать их, счесть, что у этих взрослых
нет никакого своего дела, нет особенного своего мира, что они прежде всего
и только - праздны и пусты.
Все сказанное относится к нравственной стороне, но едва ли не важнее
еще здесь сторона умственная: ребенок должен быть всегда серьезен*, и вме-
сте он должен быть свободен, т. е. окружающие его вещи и люди не должны
стоять слишком высоко над его умственными силами, не должны его подав-
лять. Мы уже выше заметили, как опасно для умственного развития тотчас
получать на все ответы, никогда не ожидать их и, следовательно, не жаждать;
теперь - мы берем другую сторону этой же самой опасности, собственно
волевую. Приставить очень умного, очень ученого, очень опытного педагога
к ребенку, который на всякое недоумение последнего давал бы длинные объяс-
нения, от всего поспешного или излишнего благоразумно останавливал бы, и
вообще вечно во всем поучал, - есть верное средство сделать этого ребенка
глупым, т. е. не только вовсе неразвитым, но и до крайности робким умствен-
но, неуверенным, неуклюжим. И в самом деле: в умственном отношении,
около человека с чрезвычайным перевесом знаний и умственной силы, ребе-
нок постоянно должен чувствовать себя как бы на дне глубокой пропасти,
высокие края которой для него недосягаемы и не дают прямо взглянуть на
солнце истины, т. е. на действительность. Возле себя, перед собою он видел бы
постоянно чрезмерное превосходство ума, и неуловимо для него, как и для
* Как уже заметил я, серьезность не исключает ни смеха, ни игр; ребенок тогда
только не серьезно смеется, когда предмет смеха в действительности его нс смешит, и
тогда не серьезно играет, если игра его не забавляет.
720
самого воспитателя, это превосходство давило бы его; он никогда не поправил-
ся бы, но только был бы поправляем; никогда не отважился бы на суждение или
поступок, не спросив предварительно об их возможном исходе; он был бы
всегда пассивен и никогда деятелен; а между тем в жизни, в последующем, в
самом приобретении знаний - везде ему предстоит быть именно деятельным.
Минерва приняла когда-то вид Ментора, чтобы не только провести Улис-
сова сына, куда нужно, но во время пути и возможному научить его, наста-
вить. Без сомнения, это был самый бесплодный ее поступок, и ни история, ни
миф, ни даже позднейшие нравоучительные сочинения ничем не опроверга-
ют этого: все они повествуют, что Телемак был научен, но умалчивают, что же
вышло из этого научения. Несомненно только (и никто не решился даже пред-
положить этого), что из него не вышло никакого подобия его мудрого отца,
около которого, однако, не стоял никакой Ментор. Но замечательно, что эта
история о Минерве и Телемаке была неоднократно повторена и в действитель-
ности, всегда с тем же результатом умолчания о последующем, и следователь-
но - вероятного бесплодия. Кант, Дидеро, также, кажется, Локк, имели около
себя питомцев и, без сомнения, выполняли свою роль не менее успешно, чем
древняя Минерва; но где же их ученики, что повествует о них история? Каким
подвигом, мудрою деятельностью или хотя бы просто чем-нибудь выдающим-
ся они отметили себя в ней? Наверное, исполненные благоговейной памяти к
великим своим наставникам, они до конца жизни повторяли их мысли, приме-
няли указания, и, как бы не живя вовсе, не живя, по крайней мере, для себя и
собою, прошли незаметною, тусклою тенью и для других.
Взрослый же, каждый и всегда, около ребенка стремится естественно
принять вид разъясняющего или поучающего Ментора; в меру того, как он
этого не умеет делать, он, конечно, безвреден - и, однако, всегда вреден тем,
что его поучениям, даже и безвредным, ребенок не умеет ничего противо-
поставить, противоположить из себя. Поучение, и строгое, и прекрасное,
какое может получить ребенок от старших, есть единственно поучение из
созерцания их жизни, идущей своим путем, к своим особым целям, не детс-
ким, - когда она идет к этим целям серьезно и в прекрасных формах.
Как и всегда, сила общего закона наблюдается резко в некоторых исключи-
тельных явлениях, и мы укажем на одно из таких. Кто не знавал (или не слыхал
от других) об удивительных семьях, с несомненно болезненным отклонением
от нормы, где вся нежность родителей сосредоточена на одном ребенке, а
другой внушает этим же родителям какое-то физиологическое отвращение;
повторяем, есть такие семьи с необъяснимым уклонением родительской (все-
го чаще - материнской и всего чаще - в отношении к дочерям) привязанности,
и мне лично два раза случалось наблюдать это странное явление*. Что же
* Не знаю, записаны ли где-нибудь подобные факты, и еще менее знаю, объясня-
лись ли они когда-нибудь. Патологический характер здесь несомненен из отсутствия
способности даже видеть своего ребенка и позднее, после долгих лет разлуки, видеть
хотя бы для того, чтобы благословить на брак, при полном сознании отсутствия на
нем какой-нибудь вины.
721
оказывается? Ребенок заброшенный, едва допускаемый на глаза, растущий
на кухне, с прислугою, - не только образец кротости, душевного благород-
ства, но и сосуд ярко светящихся умственных даров; другой, не спускаемый
с глаз любящими родителями, с приставленными мамками и учителями, веч-
но спрашиваемый и развиваемый, туп нравственно и умственно до степени,
которая граничит с уродливостью.
Но это - редко наблюдаемое, хотя и ярко доказывающее явление. Есть
факт более общий, доступный поверке каждого, известный, кажется, всем из
истории: из бедных, необразованных семей вышли едва ли не веете незави-
симые умы и смелые характеры, которые в разных сферах становились ре-
форматорами человеческих обществ; ведь к этой смелости и независимости
они приучались же - приучались тем именно, что уже с первых годов уче-
ния не только не чувствовали над плечом у себя каких-либо вершин, но, на-
против, сами уже в детскую пору в том и ином, а наконец и во всем, чувство-
вали себя выше, умственно сильнее непосредственно окружающих и, одна-
ко, дорогих, уважаемых людей. Это-то и воспитывало в них то здоровое му-
жество, которое одновременно полно и любви к действительности, и веры в
идеальное, и готовности провести это идеальное в эту высоко ценимую и,
однако, ломаемую действительность. Мы не знаем учителей Лютера - дру-
гих, кроме беспощадно сурового отца; без призора, с невежественными учи-
телями, вырос наш Петр; и едва ли не все истинно великие государи были в
ранней юности или гонимы, или отброшены в сторону, так или иначе пренеб-
регаемы. И если лишь несчастье, затерянность, беспризорность объединяют
столь несродные характеры, как Генриха IV у французов и Иоанна IV у нас,
Густава Вазу у шведов, королеву Елизавету у англичан, и все они, этим усло-
вием объединенные, стали велики, - значит, есть в этом воспитательный мо-
мент, которого ранее не замечали.
Мы его старались объяснить; роль его в истории неизмеримо велика; и
мы можем только прибавить, что не была бы эта история тем мудрым и
светлым, чем она является нам, если б не этот удивительный закон, посред-
ством которого Бог охраняет человека, когда он не может или не умеет охра-
нить себя сам.
X
Таким образом, трудом и нуждою воспитывается духовно здоровое, сильное;
гениальное же в уме или особенно в характере воспитывается бедствием,
незаслуженным несчастьем, продолжительным горем. Оно только одно ис-
тинно углубляет сердце и заостряет разум - сообщает второму великую, по-
ражающую всех прозорливость, первому дает свет, всех привлекающий к че-
ловеку, всех ему покоряющий. Много умного, любопытного мы можем ус-
лышать от всякого, но проникновенное - только от человека, который когда-
нибудь, в какой-нибудь форме, и иногда скрыто от всех людей, вынес что-нибудь
особенное. И так как это особенное никогда не может быть предметом пред-
722
намеренного искания, - последнее к тому же было бы и напрасно, - то и
великое, гениальное в истории должно нами пониматься, как нечто посылае-
мое человеку вне всяких его расчетов, по высшему предвидению, для его
нужд и в момент, смысл которого и значительность выше обычного.
Есть, однако, и в истории нечто аналогичное тем условиям, которые мы
только что указали, как действующие на индивидуальное развитие, - усло-
вия, действующие уже на целое поколение или ряд поколений людей. Есть в
ней целые эпохи, воспитывающие по своему смыслу, но есть и развращаю-
щие. Мы можем, обратившись к какому-нибудь веку и стране, найти порази-
тельное множество людей, ничем особенно не выдающихся, людей только
средних способностей, вся жизнь которых, однако, проходит в каком-то высо-
ком напряжении, совершенно скрывающем от нас средний или даже мелкий
уровень их умов. И можем, иногда в той же стране, века два спустя, встретить
не меньшее обилие людей, которые даже при высшей одаренности, обладая
чрезмерною умственною силой, являют собою что-то мелочное, незначи-
тельное, хотя и вместе - удивительное. Как на пример первой эпохи, мы мо-
жем указать на время реформационного брожения в Германии и Франции,
век гуманизма в целой Европе; как на пример второй - время последних
Людовиков во Франции. Меланхтон был только мирный ученый, Лютер -
искавший личного спасения человек, - но чем же сделала, как возвысила их
эпоха, проникнутая высшим исканием и высшими отрицаниями! С другой
стороны, Дидеро, Вольтер, Руссо во всякое время были бы люди чрезвычай-
ной умственной силы; они были таковы и в свое время; но смысл этого
времени был так низмен, его желания - так недалеко шли, отрицания - так
неглубокого касались, что прошел только век, и они - именем своим еще на
устах всех, и ни в чьем сердце - своим значением. Первые, едва возвышаясь
над обычным уровнем своими способностями, стали велики, истинно вели-
ки, и притом на все времена, - ибо время их собственное было уже высоко,
и они сияли в нем, как даже незначительный холм сияет вечными снегами,
если он стоит на вершине могучего горного хребта; вторые, как ни высоки
были сами по себе, подобно высокой башне на низменной, топкой впадине,
быстро теряются на горизонте времени и, хоть собственную высоту никогда
не теряют, вместе с временем этим впадают в общее забвение.
И что отражается величием или умалением на выдающихся людях эпохи,
то на их современниках, имена которых скрыты совершенно в истории, отра-
жается как воспитание. В эпохи, существенным образом доживающие, ког-
да все руководительные принципы жизни ослабли, и люди растеряны, нере-
шительны, - существование каждого является чем-то расшатанным и может
быть укреплено только личным, чрезмерным усилием. Тогда труд есть дей-
ствительно последнее, на что может надеяться человек; он не спасает его
собственно, но не допускает, по крайней мере, до индивидуума коснуться
тем общим развращающим условиям, которые, как только человек не занят,
свободен, открыт, - заливают его собою и уносят туда же, в ту же гибель, куда
влекут и всю умирающую эпоху. Нет ничего во времени, что поддерживало
723
бы человека; нет нитей, которые не давали бы ему упасть, даже когда его
собственные силы и малы; нет смысла, его оживляющего, вне права, под
которым он живет, плуга, над которым согбен, детей, которых нужно приве-
сти к лучшему, чем где находишься сам. Нет надо мною и моим великого
духовного организма, к которому бы я принадлежал, в котором был бы про-
чен, нужен, и, - давая ему себя, свои силы, способности, - себе, этим силам
своим, способностям получал бы от него высшее просвещение.
Мы высказали, наконец, слово, в котором заключена вся наша мысль об
образовании. Его искание есть только искание этого духовного организ-
ма; критика его, отрицание есть только тоска по утрате этого же организма,
того крова, который я ожидал бы найти над собою и всеми, и его не вижу. О,
конечно, и в индивидууме есть смысл, которым он обращен к Богу, и один он
- дорог, его ценность - вечна; но есть от Бога же исходящие вечные законы,
которыми он единится со всеми людьми и бьется с ними в биении одного
пульса. Незыблемость, ясность, для всех очевидность этих законов и есть то,
что воспитывает истинно, что образует действительно, в согласии с чем, на-
конец, могут быть выведены и те, не очень значащие, подправляющие лишь в
частностях, пристройки, которые мы называем «школами». Сознает ли дан-
ное время себя таким духовным организмом, или не сознает более, - вот что
решает судьбу поколений, или имеющих пройти тенью в истории, или, на-
против, призванных поработать в ней и создать. Верит ли чему-нибудь эпо-
ха? Чем признает себя, ощущает человек? Как смотрит он на свою жизнь?
Если как на случайное, мимо идущее явление, как на странный и непредви-
денный исход удовольствия своих родителей, - что ему нужно, зачем ему
воспитание? Он доживет до своих лет, потом умрет, потом черви сделают
свое дело с ним, с его детьми... и ничего далее нет, и не нужно ничего.
В подобные эпохи все, что делается для воспитания, есть в сущности
незначащая, лишь закрывающая глаза на будущность, игра, - есть построе-
ние стены на фундаменте, плиты которого тщательно укладываются в почву
отваливающегося зева вулкана. Пусть они уложены прочно, пусть благоро-
ден был труд клавших - через минуту и их самих, и их труда не будет.
XI
Эпоха с религиозною серьезностью, понимающая себя и свой смысл в исто-
рии, - вот что одно воспитывает; абсолютное, призванное к вечной жизни
после нас, - вот что сообщает вечность и нам, и труду нашему, что может
сделать наше существование светлым и в нем - светлым детство наших детей.
Без этого, печать идиотизма ляжет на них, как эта печать лежит уже на нас,
несмотря на наши придуманные речи и деланные движения. Абсолютное
передо мною - это значит: ясно для меня, что я должен делать - Ему служить;
ясно, для чего я должен воспитывать детей, зачем их рождаю, - по Его закону
рождаю, для продолжения моего труда (который прав) воспитываю. Все
ясно, ничего темного передо мною, и это не размышлением, не моим инди-
видуальным усилием приобретено. Как не индивидуальным усилием капля
724
крови несется к легким, в них оживляется, оживляет тело и возвращается к
телу, чтобы повторить этот кругооборот, так я, другой, мои дети, внуки, все
мы живем, светло ожидаем смерти, но и по смерти остаемся в жизни целого,
которое все дышит, оживлено, и за черту которого ничто не выходит.
Конечно, есть только одно абсолютное, но когда значение этого абсолют-
ного человек придает даже временному, когда он обманывается относитель-
но другого, но не относительно себя, которого считает сосудом вечного, -
эпоха может быть светлою, она может испытать счастье*, хотя и не может
сохранить свою вечность в истории. И поколения, в ней взращенные, могут
быть воспитанными - в себе, конечно, в силах своих, в красоте форм**, без
отношения к тому, чему они служат. И эти формы разобьются, эта красота
пройдет, силы угаснут - на время, как отраженным светом пройдя в жизни
поколений. Только обман и относительно другого, и относительно себя не дает
уже никакого света; только воззрение, что все вокруг человека и он сам -
случайно, временно, не нужно, - делает эпоху окончательно ненужною, вос-
питание - окончательно невозможным.
В эпоху подобной темноты что можно сказать человеку? Что мог бы ему
сказать друг истории, будущности? «Пойди из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего» (Бытие, XII), куда Бог укажет, до лучшего времени,
когда ты или другой, но кто-нибудь уединившийся - будет призван к новому
сеянию на почве запустелой.
Индивидуализм, замкнутость в себе человека-это есть следствие разлага-
ющейся эпохи, но в нем же таится и возможность возрождения эпохи новой.
Не в великих исторических движениях, где одно сменяется другим, не в широ-
ких массовых волнениях, не в переворотах, которые нас пугают, изумляют, -
источник жизни новой, отличный оттого, что мы узнали, поняли, возненавиде-
ли, презрели; ее источник в тревогах личной, уединенной совести: где-нибудь в
незаметном углу, иногда в попираемом человеке, зреет новое настроение, за-
жигается еще не горевший свет, лучи которого, распространяясь, не входят ни
в какое сочетание с лучами гаснущими прежнего света. И когда только смрад
исходит от источника прежнего света, и в этом смраде задыхаются люди, -
одинокий, чистый, хотя и слабый, новый свет привлекает их всех. Они идут
сюда все - coiperb около него душу, осветить разум, который совершенной
темноты никогда не может переносить, по крайней мере, не переносит ее
долго. И новая эпоха настает, с другою верой, не прежнею любовью.
* Нельзя отрицать порывов некоторого счастья в людях первой французской
революции, когда (как m-mc Роланд) люди даже на плаху шли с верою в смысл и
абсолютную значительность своего времени, считая свою личную гибель случайною
и временною ошибкою (см. также характеры С. Жюста, Дантона и особенно всей
Жиронды).
** Также было бы напрасно отрицать в людях только что указанной эпохи изве-
стную монументальность характеров, «красоту форм», «величие сил», «личности», -
что все было же в них чем-нибудь воспитано: мы утверждаем - моментом веры, хотя
бы и относительной, ложной. Замечательно, что самое появление этих характеров
сопровождает пробуждение веры, и становится особенно заметно со времен Руссо.
725
В том, что живет, а не существует только, все новое не собирается из
частей, но из целого рождается в целом же виде; не собирается тело из мус-
кулов, костей, нервов, и отдельно от них не вливается в него потом кровь.
Насколько же более история есть живое целое, не собираемое порознь из
учреждений, законов, наук, художеств, - во что все, когда оно ново, можно
было бы влить и новый поток людей. Лицо в ней есть самомалейшее, и вме-
сте оно есть уже живой синтез всего, что так напрасно, так бессильно мы
пытаемся между собою соединить: в своем смысле, красоте, строе душев-
ном оно несет и закон, и возможные учреждения, и всякую мудрость. Все в
этом зародыше неразличимо слито до времени, как в яйце зреющем нераз-
личимы до времени будущие органы; все, однако же, в нем и реально, и,
главное, одухотворено уже все, заложено для жизни будущей, которая, кроме
как этот, не имеет других путей для своего возрождения.
XII
Но и не только для будущего, и не для одного «человечества», а для всякого
порознь и во всякий текущий момент, высшее сознание о себе, о своем долге
может быть в темную эпоху воспитано лишь индивидуально, разрозненными
усилиями. Мы возвращаемся вновь к детям. Было бы напрасною и пагубною
иллюзиею ожидать, что в стороне от личных моих усилий, от нашей семьи, от
ближнею прихода, - в далеком учреждении, заботливо охраняемом, дорого
оплачиваемом, будет дано моим, нашим детям то, чего нет не только у охраня-
ющих, но и нет в самом времени, недостает целой эпохе. Конечно, точные
знания будут даны, будут созданы полезные навыки, еще что-нибудь. В мини-
атюре повторится то, что мы только что сказали о большом мире истории:
кости, мускулы, органы будут собраны, но ничем не одухотворятся и даже не
свяжутся между собой. Все, быть может, хорошо, что отсюда выйдет: но толь-
ко не выйдет никогда отсюда живой, полный человек.
И если целое этого не видит; если, собирая мертвые кости мертвыми рука-
ми, оно будет делать это так, как будто бы творило что-то живое, - индивидуум
может быть мудрее его и рассудительнее. Отдавая ему все требуемое, соблю-
дая должное, он может соблюдать это лишь внешним образом - ведь только
внешнее, в сущности, и детям его дается, - и, поступая так, - сохранять всю
теплоту сердца своего, всю горячность веры для внутреннего, для ближайше-
го, для детей своих, которые еще могут жить, когда целое наверно гибнет.
Как это ни удивительно, индивидуум прочнее общества, долговечнее; и
то, что ближе всего стоит к нему, - семья, она может быть еще тепла, религи-
озна, может гореть полною жизнью, когда этой жизни нет уже нигде кругом.
Причина этого кроется в мистических основаниях семьи, которых не имеет
общество: через нее именно, а не через общество индивидуум сливается со
всем родом человеческим и также соприкасается с тайнами жизни и смерти.
Отмечен и не объяснен историками великий факт первенствующего значе-
726
ния, какое женщина имела в принятии народами, еще языческими и темны-
ми, христианства. Полураба и вечная труженица, не знавшая поля битв, на-
родных столкновений, чужих стран, - она ранее всех почувствовала слово об
искуплении и грехе, о мире здешнем и загробном, и первая поднялась на-
встречу этому слову, радостно и трепетно. Что же, как королевы сделали это
- св. Клотильда, св. Берта, св. Людмила, у нас св. Ольга? Или, быть может, как
девушки? Нет, но как женщины, как рождавшие и, следовательно, стоявшие у
дверей гроба, откуда были позваны назад для забот о жизни новой, которую
произвели из себя. Тайны гроба и жизни полнее, целостнее, ярче открыты
женщине; она - их преимущественная хранительница; и то, что к ней примы-
кает, -семья может быть полна еще смыслом этих таинств, когда все вокруг
его утратило. Мы возвращаемся к школе - разве она теряла ребенка? Выма-
ливала его жизнь, не скажем у Бога, но хотя бы у «природы»? Итак, может ли,
умеет ли, если бы даже хотела, она молиться так горячо, страстно, так бояться
Бога, как семья, и даже такая, в которой нет «катехизиса»?
XIII
Индивидуум может и должен быть убежден, что есть вещи, которые он знает
один, что этих вещей некому передать его детям, наконец, что это именно
знание и есть главное, которое определяет жизнь, определяет самого челове-
ка, тогда как всяким другим знанием он лишь пользуется. Давая орудия ему в
руки, нужно же подумать, чтобы он сам был кто-нибудь; нужно, чтобы пользу-
ющийся и обладающий был вместе и какое-нибудь лицо. Нельзя навивать нить
без того, на что она навивалась бы; готовя серии знаний, совершенствуя их,
комбинируя - не раньше, однако, можно приступать с ними к человеку, как
убедившись, что главное знание, которое осмысливало бы его лицо, не только
есть в нем, но и совершенно твердо. Лишь когда семья сформировала ребен-
ка, укрепила, дала ему веру и серьезность - а это все она только может дать
ему, - в насыщение, в пособие, как средства, как посох страннику, пусть дает
ему школа все остальные, второстепенные сведения.
Но тут я слышу со всех сторон готовые подняться возражения: «Семья, -
мне скажут, - вовсе не то, что вы о ней предполагаете». И это скажут уже бесчис-
ленные теперь, всесильные ее антагонисты, пытающиеся более и более вытес-
нить ее из сферы ее обязанностей и перенести эти обязанности на себя. «Семья
развращена, дика, безбожна уже по невежеству; у нас, в наших книгах - вот в
этих сумках, которые мы даем детям, написано все, о чем она забыла. Мы знаем
-тогда как она невежественна; мы правильны - тогда как она хаотична».
Правильны, знающи - но верующи ли в то, о чем у вас знание? Правиль-
ны, но не из страха ли только дисциплины, которою, став против семьи и
Церкви, вы взаимно себя связали? Ведь и я стоял годы в этих дисциплиниро-
ванных рядах, священнодействующих в классе и совете, всегда серьезных,
поучающих, укоряющих... Зачем хранить тайну, которою вы все связаны: что
727
не вера движет ваши ряды, что индифферентизм религиозный, местный, на-
циональный, прикрытый для видимости только соответствующими парагра-
фами, есть то, что более всего вас одушевляет? И что всякий из «верующих»,
непредвиденно для себя замешавшийся в эти ряды, чувствует себя в них смеш-
ным, ненужным, всего менее способным двигать блоки, приподнимать и
опускать декорации, и вообще принимать какое-либо участие в дающейся
грандиозной опере, где все издали так красиво, зрители тронуты, тронуты
многие из самих «певцов», излишне вошедших в роль, но вообще и в массе
все так чрезмерно утомлены?
По самым принципам своего возникновения школа в Европе повсюду и
одинаково атеистична, хотя тем паче удлиняет программы по «Закону Бо-
жию»; она давно безотечественна, хотя и справляет юбилеи и всякие «памя-
ти». Это давно безродный, всюду и от всего отделившийся в своем роде «ин-
дивидуум», который, перекочевывая с места на место, льстиво приближает-
ся к каждому и уверяет, что ему именно он приходится ближайшим род-
ственником, наследство которого он вправе и должен получить. Она -
собиратель всех исторических наследий, с верой и, в сущности, с тайной,
инстинктивной жаждой, чтобы все эти наследуемые были не очень здоровы,
не очень долго тянули жизнь, а уж по кончине она возьмет на себя труд
устроить им пышные похороны, произнести надгробные речи и деяния каж-
дого занести в соответствующие у себя книги.
Вот тайная сторона ее отношений к действительности, из которой выте-
кает явная: что ни государство не крепнет* под ее воздействием, как она
* «За что ты бьешь нас, верных слуг своих», - спрашивает Курбский царя Иоанна
в письме своем, и в тоне вопроса этого, хотя и негодующего, у беглеца, у изменника
слышится все-таки какое-то подавленное чувство близости и родственности к госуда-
рю, от которого он бежал, к земле, которую навсегда покинул; нс говорю о «холопе»
Шибанове. И вот, не дерзая оспаривать у каждого право негодовать на то и иное в
своей родине (что часто бывает выше и чище самой любви), я хочу сказать, что ни в
негодовании, ни в любви нет и я не встречал никогда в толках взрослых учеников той
теплоты, той интимности, тех «незаметных слез», которые негодованию придавали бы
остроту, силу; любви - справедливость, нежность. Вялое отрицание, ирония скорее,
чем негодование, - вот обычное отношение «обычного» юноши к своему отечеству в
старших классах гимназии и в университете. И между тем не из семьи это чувство
приносится: дети-подростки маленьких классов, как мне приходилось наблюдать, все-
гда - безотчетные патриоты. Однажды, объясняя в V классе урок по римской истории,
я, невольно увлекшись, коснулся той темы, что Рим погиб естественно, пройдя все
возможные для него фазы истории, и разделил в этом случае судьбу всех развиваю-
щихся, даровитых народов. Во время объяснения я слышал уже какое-то, мне непри-
язненное бормотание на задней парте и, кончив объяснение, спросил, обращаясь к
ученику: «Что вам, Колесников?» -- «Как же вы это говорите, что всякий народ дол-
жен умереть», проговорил он грубо, нс скрывая неудовольствия. Нс догадываясь,
в чем дело, я начал кратко повторять довод, но он резко перебил: «После этого, по-
вашему выходит, что и Россия когда-нибудь погибнет?» - «Конечно...» - «Никогда
этого не будет!» Это был сын какого-то железнодорожного мастера, грубый и умный
ученик. Конечно, таким замечанием студент уже никогда не остановит профессора.
728
обещала это, ни церковь не наполняется молящимися*, ни семья не стано-
вится лучше, изящнее в своих формах, теплее в содержании**. Первые бегу-
ны с поля битвы***, последние и лишь по принуждению входящие в храм,
эксплоатирующие жен, бросающие детей - кто они? Кто повсюду, без разде-
ления стран, народов, вер?
* В Е-це и Б-ске, где мне приходилось служить учителем, я замечал, что луч-
шая церковь, куда «приводились» ученики ко всенощной и литургии, вовсе почти не
посещалась молящимися (народом): до такой степени, бессознательно все чувствова-
ли, что атмосфера, вносимая в храм «учащимися», дисгармонировала с тем, что в
храме привыкли искать и находить молящиеся! Из этих городов, по крайней мере,
первый имел высокий церковный дух, и мне приходилось видеть в морозные зимние
дни большую толпу, без шапок, молящуюся перед входом и не могущую уже протес-
ниться в храм (т. е. не тот, где молились «учащиеся»).
** Браки в образованных семьях реже, чем в необразованных; и весьма часто -
это браки очень скоро расторгаемые, иногда (как мне известны подобные случаи)
расторгаемые при первой же беременности жены, которая бросается мужем и с буду-
щим ребенком.
*** Однажды, встретив только что кончившего курс юриста в форме «вольнооп-
ределяющегося», я увидел его в крайней ажитации и, спросив о причине ее, узнал, что
завтра, во время смотра, он собирается жаловаться дивизионному генералу на ротно-
го за его грубость: «...толкает в спину, как какого-нибудь простого солдата». Я спро-
сил, что и как было, и узнал, что в момент выстрела, на ученье, студент-воин всякий
раз выранивал, бросал ружье, и офицер, идя сзади ряда и не рассмотрев, кого он бьет,
ткнул в спину робкого стрелка. Я объяснил, что ведь нужно же приучаться к ружью.
«Да зачем я буду приучаться к шагистике и всей этой ерунде?..» - «Да как же на поле-
те битвы?» - «Да, конечно, убегу...» Я оторопел, и спор быстро перешел к государ-
ству: не помню его нити, но помню, что мне долго и упорно приходилось доказывать,
что государство - это вовсе не окружной суд, в котором я веду процесс, и что тут есть
кое-что в прошлом, что обязывает меня теперь. Я помню ясно, что студент ничего
этого не понимал и смотрел так, как если бы он встретил пуму, черного лебедя, что-
нибудь из Австралии или Южной Америки, вычурное или необыкновенное. Просто,
он отвык от этого (т. е. за годы только что оконченного учения), - отвык от всех
представлений отечества, целого чего-нибудь, чему принадлежал по рождению, по
вере и т. п. Приведенные факты очень частны, и для убедительности я приведу более
общие: протоиерей Z на 1-м курсе одного из университетов читал соединенным четы-
рем факультетам курс богословия и избрал для него апологетику христианства, и
первый вопрос, которым мы, 500- 600 юношей, только что окончивших курс в гимна-
зии, были встречены на его лекциях, был следующий: так ли окончательно доказано
«наукою» небытие Божие, и в самых науках, по преимуществу естественных, нет ли
фактов, наблюдений, которые это учение подрывали бы? Я не могу объяснить, как и
почему, но этот вопрос на первой лекции, перед гурьбой совсем молоденьких слуша-
телей, меня удивил и поразил почти страхом, страхом именно историческим, как ис-
полненный чрезвычайной знаменательности. О том же профессоре мне передавали
товарищи-студенты, что еще филологов и других студентов он на исповеди (исповедь
у него была бесплатная, и потому едва не весь университет у него исповедывался) еще
спрашивает о чем-нибудь, но когда на вопрос, какого факультета, исповедующийся
отвечает: «Медик» (т. е. почти ’/: университета) - он прямо читал отпуститсльную
молитву и никогда о грехах нс спрашивал: т. е. он знал верно, не без опыта многих
исповедей, что здесь исповедь будет издевательством над таинством. Когда этот же
729
XIV
Итак, не закрывая глаз ни на которую сторону и нисколько не скрывая от себя
опасного положения и семьи, мы помним, однако, общий закон, что она, как
и личная совесть, гибнут в истории последними - последними в ней становят-
ся пусты, холодны. И, исходя из этого, думаем, что - по крайней мере, в столь
сомнительный, тревожный момент, как наш, когда все обманчиво и остается
полагаться лишь на природу, - дети возможно долго не должны быть выводи-
мы из своего родного гнезда, чтобы, согревшись здесь непритворною любо-
вью, узнав хоть что-нибудь не в ложных отношениях, были способны и в пос-
ледующую жизнь внести какую-нибудь прямоту, хотя грубую, и что-нибудь
теплое. Повторяем, школа дает только посох - человеку, которого формирует
семья. Это даваемое - не «законченный круг сведений», не «миросозерца-
ние», еще менее - познание «обязанностей человека и гражданина». Мы ду-
маем, что - в текущий, по крайней мере, момент - единственная роль, какую
школа может выполнить около семьи, церкви, университета (мы говорим о
школе предварительной), - это, не вмешиваясь в их деятельность и оставляя
для этой деятельности достаточный досуг, предложить в себе им в пособие
обширный и удобно устроенный склад второстепенных научений, куда при-
ходят и, получив нужное, за него платят, - и только.
Ее сфера - гораздо уже и скромнее, чем думают; ее обязанности в этой
сфере могут быть, наконец, поняты, и она в состоянии будет их выполнить,
не впадая в притворство и внутреннюю фальшь, в которую невольно теперь
впадает, берясь заменить для ребенка и, семью, и церковь, и отечество, -
все это призывая к себе в пособие и тем самым лишая его абсолютного
значения, какое оно в действительности имеет. Но ведь и теории искусства
- вспомним здесь кстати, - указывая на утилитарные для него цели, все-
таки ввиду этих целей требовали искусства и, однако, погубили его, имен-
но потому, что требовали себе в пособие и уже тем самым критиковали его
в отношении себя, а не в отношении его собственных, особых целей. Не
потому ли, неуловимо для всех и для всех же ясно, вокруг школы пустеет
семья, холодеет церковь, отрицается отечество, что все это в ней стало ка-
ким-то педагогическим примером, лавкой учебных пособий, которая по
достаточном пользовании и дав все, что нужно, естественно забывается, и
даже с некоторым отвращением.
Любить искренно и глубоко, любить без всякого разделения античный
мир - кому это может быть воспрещено? Кто воспретил бы мне, если бы,
взяв на себя труд выучивать древним языкам, их литературе, их искусству,
священник приводил после смерти государя Александра II студентов к присяге, я
помню его испуганное почти, до крайности смущенное лицо: он, очевидно, боялся,
что вот-вот случится неприличие, выйдет скандал, - и между тем, как все помнят, это
был очень гордый, вовсе не робкий священник. Он был очень стар (в 78 -82 гг.), был
давно профессором университета, и приведенные мною наблюдения я указываю как
простую суммацию его опыта, не прибавляя ничего от себя.
730
истории, религиозным и государственным учреждениям, я с несколькими
помощниками, мною самим разысканными, принял, с одной стороны, обя-
занности перед родителями, доверяющими мне своих детей, и с другой -
перед университетом, который мне указывает, что именно ему нужно, чего
он будет требовать от каждого в него поступающего и без чего он ему не
нужен? Не - «дурен», не «недостоин», что все сомнительно, ни для кого не
понятно и всегда оспоримо, а только не нужен, — что и понятно и уместно в
устах того, кто другого принимает к себе для своих особых целей. Я не учу
Закону Божию, - потому что этим святым вещам не могу научить; я не отри-
цаю этим их, но только не лицемерю, как, лицемеря, отрицаю теперь в сущ-
ности все, чему внешним образом и с притворною гримасой научаю. Ведь
не выучиваю я детей чувству их к родителям и ощущению красоты природы -
не учу их заглядываться на звездное небо, трепетно любить мать, - но, не уча,
отрицаю ли? Нет, но только благоговею к бесчисленным вещам, которые
выше моего искусства, чище моего ума; не скверню их своим прикоснове-
нием, не скверню детей; но, беря от последних лишь незначительную долю
времени и внимания, оставляю их учиться и у звездного неба, и в семейных
играх, и в храме, куда его поведет мать, куда он, когда вздумает, сам зайдет,
- и пусть уже никогда не заходит лучше, нежели как теперь, когда его водит
сюда «классный наставник», и он с ненавистью к храму, с отвращением к
богослужению выстаивает здесь свои постылые часы. Я говорю элемен-
тарные вещи, и не могу скрыть ужаса при чувстве, как бесконечно мы
удалились от этих элементарных вещей, как запутались в хитровычурных
мыслях и, идя в них далее и далее, дошли до такой виртуозности в уродли-
вом и глупом*, что и выхода из него никто не видит, и, кажется, всякий уже
боится его искать.
Государство же может и должно сохранить положение заботливого во
всем этом руководителя, видящего крупное, но который не впутывается в
мир частного, субъективного, интимного, куда его толкают льстивые и без-
рассудные рабы, и оно сюда входит, но, не различая здесь ничего, - ломает
все, мучит и возмущает все против себя. Его роль - собрать и оплатить сирот,
послать и обездоленным луч духовного света, который иначе по необходи-
мости падал бы лишь на обеспеченных и, следовательно, немногих. Повторя-
ем, возвратившись к своим естественным, грубым задачам, в то же самое
время государство может стать истинно христианским, нравственным, все-
ми благоговейно чтимым. Так же честно, как я относительно детской любви
к родителям, и оно может сказать относительно вообще научения: «Я здесь
не вижу, не различаю; но вот я различаю этих и тех бедняков - дайте и им то,
что вы даете богатым, и я вознагражу вас».
* Например, в прогимназии, где я был классным наставником, двум ученикам-
братьям, на просьбу отца-священника позволить им и по вступлении в школу посе-
щать всенощную и литургию с матерью, как это было ранее, было грубо и без объяс-
нений отказано начальником заведения, причем ходатаем за просящих был я сам, в
качестве классного наставника.
731
XV
И семья, когда «видимости» даже никто не сохраняет, что берет на себя ее
обязанности, очнется от беспечности, в которую так часто впадает теперь, так
манится в нее всеми окружающими условиями. Мать вынет, наконец, грудь,
когда никакая истощенная, безмолочная кормилица не будет стоять перед нею
и протягивать рук к ее ребенку. Семья не может не быть серьезна, когда на ней
лежат серьезные обязанности, когда она обязана к труду, заботе о детях, без
чего выросши - они никому и ни для чего не нужны. А став серьезна внутри
себя, она - и оставаясь даже малообразованною - будет воспитательна, как
мы объяснили выше. Ничего сложного от нее и не нужно требовать, никакого
нагромождения сведений или образования сложных навыков. Все ее заботы
должны быть сосредоточены только на выработке в ребенке лица, т. е. уже
некоторого характера: уменья подчиняться тому, чему следует подчиняться,
сопротивляться другому, чему следует сопротивляться. Страх Божий и неиз-
менное трудолюбие: одно - как выражение внутреннего лица и другое - как
выражение внешнего - нам представляются единственным, на чем должно
быть сосредоточено внимание родителей. На это осмысленное и твердое лицо
школа сумеет позднее навить нити своих сведений.
Мне приходилось наблюдать семьи, образование которых не восходило
далее грамотности, - следя за которыми годы, я удивлялся их воспитательно-
му такту. Как нимало правдоподобны покажутся мои слова многим, я скажу
твердо (сколько видал), что ребенок, никогда и никак не наказанный и при
всем том воспитанный в строжайшем религиозном и нравственном духе
путем непрерывного над ним наблюдения старших, есть идеал не только же-
лаемый, но иногда и осуществляемый (видел это и свидетельствую) в среде
первобытно-необразованной народа нашего, где старшие члены семьи не
умеют подписать без пропуска двух букв своего имени. Что же относится до
старины, могу сослаться на воспоминания детства в известных «Странство-
ваниях» инока Парфения - книге, представляющей неоцененное сокровище
для изучения духа нашего народа в его коренных, прежних, не разрушенных
формах. Итак, идеал воспитания в народе нашем, насколько он сам воспитан
церковью и ее указаниями крепок, есть совершенная гуманность при не-
усыпной заботливости - полное слияние веры в предметы научения, вели-
кие, торжественные, святые, с любовью к научаемым, трепетным, беззаступ-
ным, невинным. Но если мы возьмем самый худший случай - наказание
несправедливое, т. е. ошибку в принятой мере, и здесь в общей форме своей
способ воздействия так хорош, что даже эта частная ошибка приносит по-
следствия не вредные. И в самом деле, подойдите к незаслуженно наказанно-
му ребенку: именно потому, что он чувствует себя обиженным несправед-
ливо и больше, чем заслужил, вы найдете его мягким, впечатлительным, от-
зывчивым, - не к тому, конечно, кто наказал, но это и не нужно, а в себе
самом, что одно нужно. Тогда как бесконечно скучающий «24 часа в карцере
по § такому-то» не только не размягчен, не чуток, но, сверхбезграничного
732
против всех раздражения от скуки, - только еще сонлив и голоден; сверх этого,
может быть, и более плутоват - от изобретательности всяких потемок и изощ-
ренности всякого уединения. Помню, я был раз очень больно наказан в дет-
стве; я пишу не в интересах «педагогики», а то, что было в действительности, -
и вот помню, что уже очень рано я забыл и кто, и как, и за что меня наказывал,
и до сих пор помню только, как тетка в зеленом платье пришла и села около
меня часа два спустя и, ощупывая наказанные части, с ужасом говорила: «Что
же они с ним сделали!» - и утешала меня; наказанного явно и больно всегда
кто-нибудь пожалеет; следовательно, пожалеет когда-нибудь и он*.
XVI
Но, как уже заметил я, это только символ разрыва с настоящим, и не ребенок,
наказываемый в строгой семье, - мой идеал; идеал - в семье строгой до суро-
вости, но строгой в духе, в строе своем, в понимании каждым своих обязанно-
стей, что настолько предупреждает самое зарождение каких-нибудь неснос-
ных пороков в детях, что о применении физического наказания здесь не может
быть и речи. Наказание, собственно, применимо лишь в семье, несколько
распущенной в себе самой, не трудолюбивой, не выдержанной; здесь оно
* В бытность мою учителем гимназии и вместе классным наставником, ко мне, как
к последнему, нередко являлись матери учеников (всегда вдовы) с просьбою наказать
розгами (т. е. чтобы это было сделано в гимназии) своего разбаловавшегося мальчуга-
на: «Сестер колотит, меня не слушает, ничего не могу сделать» etc; я, конечно, объяс-
нял, что это запрещено всеми параграфами, но, зная конкретно (ведь в педагогичес-
кой литературе фигурируют, в качестве примеров, лишь бумажные манекены, кото-
рых «во всем можно убедить словами», и, конечно, зачем для них наказание?) маль-
чишку способного и, что называется, зарвавшегося, потерявшего голову от баловства,
всегда давал совет - обратиться к кому-нибудь по соседству или из родственников и
больно-больно высечь его. И теперь, когда мне приходится видеть в богатой и обра-
зованной семье лимфатических детей, киснущих среди своих «глобусов» и других
«пособий», я всегда, вспоминая и свое детство, думаю: как бы встряхнулись они,
оживились, начали тотчас и размышлять, и чувствовать, если бы, взамен всех этих для
их любознательности расшпиленных букашек и запыленных минералов, раз-другой
их самих вспрыснуть по-старому. Вес тотчас бы переменилось в «обстоятельствах»: и
впечатлительность бы пробудилась, и сила сопротивления требуемому, - именно
оживился бы дух, который теперь только затягивается какою-то плесенью под музы-
ку все поучений, поучений и поучений, все разъяснений, разъяснений и разъяснений.
Розга - это, наконец, факт; это - насилие надо мною, которое вызывает все мои силы к
борьбе с собою; это - предмет моей ненависти, негодования, отчасти, однако же, и
страха; в отношении к ней я, наконец, не пассивен; и, уединившись в себя от тех, в
руках кого она, - наконец свободен, т. с. свободен в душе своей, в мысли, не покорен
ничему, кроме боли своей и негодования. Я серьезно спрашиваю: чем, какими коллек-
циями, какими иллюстрациями и глобусами можно вызвать всю эту сложную и яркую
работу души, эту ее самодеятельность, силу, напряжение? Что касается «унижения
человеческой природы», будто бы наносимого розгой, то ведь не унизила она Люте-
ра, нашего Ломоносова: отчего же бы унизила современных мальчишек?
733
вызывается, когда мальчик потерял меру и перешел фаницу, и хорошо потому
еще, что тотчас изолирует его в своих собственных глазах, как бы отделяет на
некоторое время от семьи, т. е. от дурного, от главного, откуда идет его порча. В
коренном своем основании оно, конечно, несправедливо; но отлично, как про-
стая, немудрая мера, дающая наилучшие результаты в данном положении ве-
щей. Мальчуган обижен. «Так ли я дурен, что заслужил это?» - вот его первый
вопрос, источник бесконечных полусознательных, темных размышлений, кото-
рые не столько пробегут его мысли, сколько пройдут через его душу, преем-
ственно овладеют его сердцем. «Так ли они хороши, что вправе это делать со
мною? И неужели во мне нет совершенно ничего, кроме того, что вызывает к
себе их презрение, как шалости, проступки, озорство, что все, ради этого луч-
шего, они простили бы мне, если бы знали меня?» - вот начало гордости, еще
детской, но уже прекрасной, но уже глубочайшей по своей серьезности.
Мы приводим все эти соображения, чтобы показать, что в физическом
наказании нет ничего такого пугающего, что в нем прозрела новая педагогия
и чего не видели люди самого высокого образа мыслей и безупречного ха-
рактера долгие века. Заметим в дополнение своих мыслей и в оправдание тех
умерших поколений, которые мы считаем во всяком случае более способны-
ми к любви, чем поколение наше, что именно истинная их любовь к своим
детям, любовь серьезная и ко многому обязывающая, а потому трудная, и
сделала их немного суровыми в отношении этих детей. Но конечно, нет необ-
ходимости, чтобы эта суровая любовь доходила даже до физического наказа-
ния. Идеал лежит в семье, где самая мысль о нем уже оскорбительна, и пото-
му оно невозможно; где дети трудятся, потому что старшие трудятся, не зная
отдыха; не балуются, не бездельничают, потому что на всякую минуту и им
указано дело, которое с них спросится; они заботливы к этому указанному
предмету их детского внимания, потому что чувствуют ежеминутно забот-
ливость и внимание, на себя устремленные. Подобная семья, будь она даже
малообразованна, никогда не может не быть вместе и благородна, и этот дух
ее благородства отразится непременно и на детях.
Но во всем этом, на что мы здесь указали, и что вращается около труда,
как своего главного основания, заключена только еще форма, только упоря-
доченная внешность, которая без соответствующего себе субъективного со-
держания никогда не удержит своей прочности. Что же может быть этим
субъективным содержанием? Теплота религиозной жизни, слиянность с цер-
ковью и отсюда - светлое, радостное отношение ко всему окружающему, т. е.
как к природе, так и к людям. Семья - это малый мир, малое отражение
большого мира, и она должна соединять на себе все его лучи. Как тот мир
освещен - она должна быть освещена, и здесь узел ее отношений к церкви;
но как тот мир полон вечной деятельности, неустанного движения - неустан-
на в труде своем должна быть и она. Физическое и духовное в ней сплетено в
один узел; но, как во всем истинно живом, духовное не только должно в ней
обладать физическим, но и сообщать ему бесконечный смысл, проникать
его неугасающим светом. Источники того и другого - только в религии. К
734
чему бы еще мы ни обратились: к государству ли, к науке или искусству, - мы
без труда заметим, что смыслом своим они не переступают земного суще-
ствования человека, и границы их видны. Им поэтому может отдавать человек
на служение свои способности, но не отдает себя; и пока их одних знает, не
может не томиться и в глубине души не презирать несколько эти не настоящие
предметы своего внимания. Только в той полноте сознания о себе, какое полу-
чает человек в религии, он преходящею мыслью своею сливается с природою
своею во всей ее глубине и цельности, становится в уровень себе, а не в уро-
вень с окружающим. И тогда только становится истинно просвещен.
XVII
Мне всегда думалось, я всегда это чувствовал, что человек религиозный - не в
смысле религиозных исканий, но в живом, конкретном образе своем, в живой
связи с исторически сложившеюся церковью, - сверх всего другого, и более
просвещен, нежели человек нерелигиозный, который, как бы много ни знал,
не узнал главного: кто он, среди чего живет, для чего, наконец, рожден?
Первый цельнее в своем образе, он - законченный человек, и вот почему он
в то же время и просвещенный уже человек; напротив, напитанный, но только
умственно, даже умственно питающий других и даже обильно, тем не менее
не закончен, и уже тем самым - не просвещен. Он многое знает, ничего худо-
го о нем нельзя сказать, и тем не менее он остается какою-то Юлией Пастра-
ной, или же уродом, у которого нет ног, или спины, или чего-либо другого.
Урод этот удивителен, право смотреть на него покупают, и все-таки он несча-
стнее каждого из тех, кто покупает это право. Так и мы, со страшным переве-
сом в себе умственной стороны над другими, являемся в истории, в наш даже
текущий момент, какими-то Юлиями Пастранами, без горького сознания, к
сожалению, о себе, какое несомненно у нее было. Мы не закончены, в этом
наше несчастие, - и мы уже готовы бы гордиться им; но в этом и уродство
наше - и тень какой-либо гордости в нас должна исчезнуть. Уродливые, неза-
конченные в себе, мы не можем из недр своих развивать жизнь иную, как только
незаконченную же, уродливую: Юлия Пастрана - это не только мы, это -
и фазис нашей истории, судьба наших усилий, наших уродливых надежд и
ожиданий, всего, что мы создаем из себя; и кажется, в самом воспоминании
народов, после того как все подробности нашего образа в нем исчезнут, эта
одна особенность останется неизгладимою и вечною. Мы гениальны, велики
- в одном чем-нибудь и, следовательно, только уродливы - в себе; велики для
другого чего-то - для внешнего, но не велики и даже смешны и жалки - сами.
Цельный человек - вот идеал истории; пусть не гениальный, пусть даже не
очень сведущий, он носит в себе полноту законов своего человеческого су-
ществования - вот почему он лучший. Ибо, что же означают в роде челове-
ческом понятия «лучшее» и «худшее», как не сообразность лица с этими зако-
нами, которые даны ему были в неизвестном темном рождении, и даны до
735
другого, столь же темного, далеко в будущем, конца? Но эта полнота - где она
без сознания, кто я, зачем, откуда? - без всех тех знаний, о которых молчит
наука, в которых немо государство, которых не знает искусство и которые
озаряют нашу жизнь, осмысливают наше лицо в религии, в церкви, в едине-
нии нашем с темью веков и далью народов? Не сведущ - но просвещен, огра-
ничен в делах - но бесконечен в предметах помышления, момент преходящий
на земле - но не имеющий конца в будущем веке, - вот человек религиозный,
кто бы он ни был, в сравнении с нерелигиозным, все определения которого
обратны, как бы ни был он велик в своих частностях.
XVIII
Задача воспитания, исторического, истинного воспитания, которое действует,
обязывает человека, налагает на него до могилы не снимаемую норму, есть
именно задача восстановления в человеке, потерявшем цельность своего об-
раза, этой утраченной цельности. Мы сказали в самом начале, что истинная
точка зрения в воспитании есть художественная; теперь, раскрывая более полно
это определение, скажем, что она есть религиозная. Кто, и в какое время, при
каких изменившихся условиях выполнит эту великую, священную миссию -
не для своего народа только, но для всего, растерявшегося в данный истори-
ческий момент человечества, - кто для этого будет послан? Об этом мы не
можем и не должны судить, этого мы вправе только ожидать, молить, гото-
виться к тому, чтобы в нужный момент встать и без замешательства пойти
туда и за тем, за кем и куда нужно. Если в нас, в самом деле, еще осталось что-
нибудь ценное, нам будет послано это утешение: еще раз быть в истории
воспитанными, еще раз осмысленно взглянуть на природу, произнести не-
сколько о ней разумных слов. Если уже не осталось в нас ничего - для чего
было бы нам все это? О чем говорить? Мрак нашего просвещения - тогда для
нас лучший мрак; это - желанная темнота сознания, когда не нужно, когда
было бы трудно все понимать, видеть и, понимая, переносить.
Явится ли человек истинно религиозный среди времени, упавшего в
вере? С крепким законом в себе, когда в нас все законы уже расшатаны?
Будет ли он послан нам, заслужили ли мы это? - вот вопрос будущего.
Заслужили - и он явится, и мы пойдем за ним, и будем утешены, еще раз
утешены в истории; хоть и не до конца, до новой слабости своей - успоко-
ены в ней. Все неразрешимое теперь или разрешимое только условно, и
следовательно ненадолго, следовательно к новому только страданию, - раз-
решится само собой. В конце концов человек не беззаконник по природе;
только потеряв действительно все законы, не ощущая более ни одного, он
говорит, что и не хочет никаких, - не хочет того, о чем не знает. Покажите
ему закон истинный, невыдуманный, взятый из вечной его природы, - и он
этому закону подчинится, потому что не может не почувствовать, что здесь
для него - и успокоение и радость.
736
Радость - и следовательно бодрость деятельности; успокоение - и следо-
вательно твердость быта. Все это - для нас, взрослых, и следовательно для
детей наших, которых не можем же мы, в самом деле, отделять от себя,
изолировать, уединять от своего быта, от форм труда своего. Поэтому, кто
нас научил бы, нас призвал бы к труду и в этом труде указал бы смысл,
несколько больший, чем только пропитание тела, кто перед нами осветил бы
жизнь, - осветил бы и будущее перед нашими детьми.
XIX
Но это - все небеса, все - историческая даль, а между тем так плохо и трудно
на нашей бедной земле; мы возвращаемся вновь к подробностям. Меня все-
гда занимал вопрос: когда же именно, в какие моменты совершается образо-
вание? Теперь - разве только, когда человек спит...
Мы привели выше времяпрепровождение ученика за день, час за часом
указали, в чем состоит его бодрствование, - и едва ли кто усомнится, что в
тысячах часов, так же повторяющихся, тем же наполненных, отсутствует этот
образовательный момент. Почти нельзя удержаться, чтобы не сказать, что он
не только отсутствует, но что все слагающие моменты здесь, хотя и суть мо-
менты усвоения, т. е. как бы расширения душевного содержания, в действи-
тельности, однако, так соотносятся друг с другом, и порознь в отдельности
все таковы, что самое времяпрепровождение, ими наполненное, представля-
ется для постороннего и беспристрастного наблюдения чем-то идиотичес-
ким. Но вот и другая сторона этого же явления, остающаяся очень малоизве-
стною за крайнею замкнутостью от общества, изолированностью школы: и
времяпрепровождение обучающего слагается из подобных же моментов, из
этой же стукотни тесно вдавленных в недостающее время впечатлений, так
же перемежающихся, так же разнородных, так же антихудожественных и не-
воспитательных порознь.
Нужно изучать быт учителей, чтобы что-нибудь понять в образовании, -
не в его «идее», но в его действительности, которая ведь одна соприкасается
с нами, в то время как редкие из нас счастливцы имеют досуг и расположе-
ние занимать себя его «идеей». Даже администрация нашла нужным укоро-
тить срок учительского служения на десять лет сравнительно с общим, нор-
мальным, хотя бы тоже умственным (как судебные должности) чиновничес-
ким трудом*. Спрашивается, почему это так? И если несомненно, что тайна
здесь не в физической усталости, а в психическом изнеможении, то спраши-
вается еще: есть ли и может ли быть что-нибудь образовательное и воспита-
тельное в труде, так устроенном, так расположенном, что именно деятель-
ный в нем орган не только не изощряется, не усиливается, не расцветает, но,
* Сроки выслуги пенсии в министерстве народного просвещения - 25 лет, во всех
других ведомствах - 35 лет.
24 Зак. 3969
737
среди полной возмужалости всех остальных органов, впадает в странную
усталость, бессилие, порою извращается и всегда изнемогает? Ведь у кузне-
ца долее всего и здоровее всего сохраняются руки, у охотника - ноги и глаз, у
мыслителя - ум (Кант, Локк, Ньютон, длинный ряд великих математиков и
натуралистов); и только у учителя, как кожа и мускулы у рабочего на фос-
форной фабрике, ранее всего атрофируется то именно, чем он обращен к
предмету труда своего - душа, ум, целый психический строй.
Но и гораздо ранее вышеуказанного укороченного срока, уже на 12-м-
14-м, реже на 16-м-18-м году своей деятельности, учителя становятся инва-
лидами, нуждающимися скорее в заботах о себе, нежели сколько-нибудь спо-
собными еще в течение 8-12 лет оказывать беспрерывное, ежеминутное и
самое утонченное внимание к нуждам сотен и сотен образующихся юных
существ. Общества покровительства животных, благодетельные попечители
о тюрьмах - да вот перед вами братья ваши, лучшие из вас, несравненно
более многих образованные, гуманные, действительно благожелательные,
преждевременно искалеченные, кажется, всеми презираемые, несравненно
более несчастные, нежели покровительствуемые вами четвероногие и дву-
ногие. О, конечно, нет никаких внешних атрибутов страдания на них - кроме
одного, впрочем, но зато общего, лежащего уже на всех: выражения их лица,
их движений, манеры держать себя и говорить.
Даже мало знакомый с их бытом человек, встретив среди многолюдного
общества, на гулянье, в театре, где-нибудь, очевидно, случайно попавшую
сюда, понурую фигуру, с рассеянным, ни на что не смотрящим, взглядом -
фигуру, непременно уходящую от общества, а не стремящуюся радостно к
нему приблизиться, - угадает и скажет: «Верно, учитель». Его все узнают.
Никто не захочет с ним заговорить, скорее, всякий сделает усилие избежать
этого; но, и заговорив, скажет что-нибудь придуманное, нарочное, и, услы-
шав несколько придуманных же слов, очень правильно грамматически свя-
занных, поторопится отойти в сторону. Учитель для всех странен, всегда и для
всех чужд. Живой, беззаботный смех - вот чего никогда, ни в каком состоя-
нии вы не услышите от учителя; сильное движение, энергическое усилие -
вот чего нельзя ожидать от него. Он все может изложить, но никогда - рас-
сказать анекдот. Никогда и никого он не заразит весельем, и даже не оживит,
разве - займет несколько. Разговор, если только он не с человеком наедине, а
среди общества, уже пугает его самою своею возможностью. По-видимому,
он может только научать или выслушивать, и все остальные его способности,
умения, - атрофированы. И вовсе не атрофированы, однако, другие стрем-
ления, вкусы, позывы.
Мне привелось несколько лет прожить среди учителей (разных гимна-
зий), молодых и старых, с различным прошлым, с неодинаковым темпера-
ментом и складом ума и характера, и я могу (насколько имею право) свиде-
тельствовать, что, за обычными всегда и везде исключениями, это в огром-
ном большинстве люди с чрезвычайно тонким душевным развитием, с задат-
ками, с позывами к научному мышлению и изучению и, что несравненно
738
важнее этого, - душевно чистые. Вы здесь найдете истинное уважение к бед-
ности, истинное презрение ко всякому виду шалопайства, физического или
духовного; из представителей всех остальных профессий университет здесь
теплее и ярче всего вспоминается, здесь ценится, любится, выслеживается в
дальнейшей судьбе своей. Заброшенных в глухую провинцию, я здесь встре-
чал людей, которые уже в зрелых летах начинали серьезно заниматься музы-
кою, выучивались живописи (храню картину, нарисованную мне лет 7 назад
очень несчастным в своей судьбе математиком); начинали, с самой смутной
надеждой на окончание, переводить какой-нибудь многотомный трактат Сек-
ки (этот же математик-живописец), что-нибудь из Монтескьё, из какого-ни-
будь древнего философа. Все это были чистые порывы к благородному, без
какой-либо корысти, среди такой провинциальной глуши, где кругом царило
пьянство, картеж, животная грубость, - просто из потребности лучшего и,
может быть, еще из темного инстинкта самосохранения души своей. В слу-
чайном, уединенном разговоре, с глазу на глаз, вы встретите у учителя неред-
ко такую бездну еще не замершего интереса к жизни, далекой, чужой, ему
ненужной жизни; иногда от постороннего человека, спустя много времени
после самого факта, узнаете о таком нежном отношении к человеку (одева-
ние на свой счет какого-нибудь нищего ученика или чуть не кормление его
буквально голодной семьи), что невольно начнете чему-то верить, на что-то
надеяться... И вот эти люди, таковые порознь внутри себя, в своей деятельно-
сти совокупной являются в таких чертах, что ненавидимы учениками, нена-
видимы городом; вредны семье, церкви; антисозидательны в истории; и хо-
рошо еще, если бы только ненавидимы: но более, нежели ненавидимы, -
презираемы всюду и всегда, и это знают.
Если вы знакомы с бытом учителя, то и не входя на урок к нему, в класс,
вы знаете, что этот же мягкий, высокообразованный человек там угрюм,
рассеян, несправедлив, жесток; учителя все об этом друг про друга знают;
все мучительно об этом молчат; первые годы силятся это преодолеть, побе-
дить, наконец - хоть только скрыть, и к концу, становясь уже более или менее
циничными, уже растеряв все - перестают и скрывать, тем более что видят,
что тайна эта давно и для всех была ясна. Где же, в каких особенностях труда,
в чем специфическом и незамеченном лежит корень этого поразительного
явления? Чтобы понять это, нужно разом и в цельности представить себе, что
такое в сущности этот труд. Представьте себе деятельность несравненно бо-
лее деликатную, утонченную, чем деятельность профессора, академика, ка-
кого-нибудь ученого, обязанность не только изложить, но суметь заинтере-
совать изложенным, а в случае неспособности, рассеянности, тысячи недо-
статков со стороны слушающих, - ответить на каждый из этих недостатков
соответствующим способом воздействия, который так или иначе, но непре-
менно направил бы их внимание на нужное и (это уже совершенно необхо-
димо) нужное в их сознании укрепил бы; предмет изложения - не только
знакомый давно, но и элементарный настолько, что, лишь искусственно су-
живая развитое зрение, можно на нем сосредоточиться, припадая, как ма-
739
ленький, к земле, приподнимать невидимую вещицу и с оживленною миной,
видимой заинтересованностью, ее другим показывать; эти приподнимаемые
вещицы меняются каждые 55 минут, и с каждыми 55-ю минутами нужно
переменить несколько, но не очень много, мину, манеру, способ изложения,
степень одушевления, чтобы не показаться смешным или неуместным воз-
расту совершенно новому, каждый из этих возрастов, за исключением со-
вершенно маленьких, под давлением другого механизма, его формирующе-
го, который мы описали выше, при всех усилиях не может скрыть отвраще-
ния к показываемому и насмешки к самому показывающему... Этот меха-
низм, тянущийся 5-6 часов, вставлен в рамку дня, состоящего из обеда, двух
торопливых чаепитий и из чтения от 40 до 60 текстов*, невообразимо пере-
вранных, но совершенно тожественных по смыслу, словам, конструкции...
День этот Vzoo часть учебного года, сложенного из двухсот таких дробей...
Эти дроби - на фоне оставленной, никогда почти не видимой семьи, падаю-
щих сил, возрастающей с детьми денежной нужды, уже долголетнего и все,
кажется, напрасного заискивания перед начальником, наконец - отчуждения
от всех людей, сознания ненужности делаемого дела.
К этому нужно прибавить серию разнородных обязанностей, по-види-
мому, имеющих в виду дополнить, закрепить, улучшить классную работу, в
действительности же ее окончательно расшатывающих: учитель приходит на
урок не только усталый, как может быть усталою только лошадь, бегущая в
* Мы разумеем поправление письменных работ учеников на дому (extemporalia -
«домашние работы»). По крайней мере, в недавнее время это поправление наполняло
дома проводимое время настолько, что однажды, отдавая визит вновь определивше-
муся в гимназию учителю, я, просидев всего несколько минут, получил от него пред-
ложение - просмотреть в эту минуту любопытную книгу из его библиотеки, пока он
«поправляет тетрадочки». На педагогическом совете, в той же гимназии, всякий раз,
когда вопрос шел о таком классе, где не преподавал данный N.N., член совета, этот
последний незаметно вставал и отходил к небольшому столику в стороне, где лежали,
им принесенные из дому, тетради (extemporale), так как, объяснял он мне, «достаточно
один день не выправить нужное число тетрадей, чтобы уже потерять всякую возмож-
ность с ними справиться». Мой уважаемый наставник, А. И. Свиридов, передавал мне
несколько лет назад о своем молодом сослуживце, преподавателе латинского языка в
Н-ской гимназии, что, женившись на молодой образованной девушке, он через год
или два после брака был брошен женою и тещей, внезапно уехавшими, причем вер-
нувшийся со службы муж нашел все свои тетради с extemporalia’MH порванными и
разбросанными по полу, а на столс - письмо, где теща объясняла ему, что она, выдавая
за него свою дочь, никогда не думала обрекать ее на такую идиотскую семейную
жизнь, в которой она видит мужа только на постели. Изменено или нет это положение
дела теперь - не знаю, но оно продолжалось 20 лет, начиная с 71-го года. Между
прочим, здесь лежит объяснение специфической тупости и неразвитости учителей
древних языков (наибольшее количество тетрадей), уже много раз отмеченное именно
за это время предполагавшегося расцвета у нас классической школы. Судя по одному
очень строгому в отношении учителей циркуляру, упрекающему их в лености и
нерадивости, эта сторона дела осталась неизвестною как министерству, так и учебным
округам: она просто не приходила в голову.
740
«конке» целый день между парою железных рельс, но и раздраженный вче-
рашним советом, на котором он хотел бы, но побоялся твердо отстоять свое
мнение, сегодняшним замечанием о неаккуратности в составлении четверт-
ной ведомости, заботою об очередном помещении ученических квартир,
опасением предстоящей ревизии, необходимостью уладить отношения к то-
варищам на время близящихся экзаменов, когда всякий из них может ему
навредить. Урок, даваемый в классе, - это не единственная его забота и даже
не самая настоятельная: если этот урок прошел совершенно дурно, и даже
формально дурно, это не ведет за собою никакого немедленного, болящего
результата; но не составленная к совету «ведомость» - это уже неприят-
ность, которую нельзя оговорить: это просто нужно исполнить во что бы то
ни стало; во что бы то ни стало нужно обойти раз в месяц все ученические
квартиры, сделать столько-то классных работ, выписать в кондуитную книгу
все шалости, подвергнуть их классификации и подвести им статистику. Это
все работы неоговоримые; тогда как забывчивость им ученика, который вот
в этом-то хромал, и его бы надо подучить, но не хватило на это классного
времени, да и просто учитель забыл о нем за другими неотложными обязан-
ностями - это не только ©говоримо, но, как вещь неуловимая и никуда невпи-
суемая, это и не возбуждает чьего-либо вопроса и, следовательно, какой-
либо ответственности, кроме ответственности совести. Тысяча таких же не-
исполненных, неощутимых обязанностей; ученики, изгнанные по моему
нерадению, изгнанные по нерадению, иногда недоброжелательству, дурного
моего товарища; десятки учеников, выгнанные после ревизии, когда гимна-
зию указано было «поднять», - все это живет в встревоженной памяти учите-
ля, - и вот он удивляет класс непонятною снисходительностью, безумною
дикою вспышкой против рассеянного ученика, когда «сам» так рассеян, что
совершенно не разбирает, что ученик, сбившись, уже давно несет невырази-
мый сумбур, а он только говорит: «Да, да... да не торопитесь же очень...».
Жестокий, глупый, несправедливый, он же и умный, изболевший в сердце
человек - вот учитель.
В свои ученические годы, подобно всем товарищам, я думал, что учи-
тель - это наиболее из всех обделенный душевно человек, ввиду явной неле-
пости, режущей глаза несправедливости, какую он позволяет себе в отноше-
нии учеников. Позднее, став учителем и увидя сеть отношений, обязаннос-
тей, трудов, тревог, которые для ученика невидимы, и между тем сквозь них
уже учитель соприкасается к нему, нисходит в класс, я понял, до какой степе-
ни всякое обвинение здесь не то, что несправедливо, но не имеет просто
никакого отношения к предмету. «За одну ошибку он поставил единицу, а
еще вчера пропустил десять ошибок...» Да-но между вчера утром и сегодня
утром было вчера вечером, когда был «заслушан и подписан» протокол об
исключении его любимого ученика в таком-то классе, способного, развито-
го, любознательного, который после замены старой руины, преподававшей
до сих пор математику, «новою метлою», присланною из округа, несмотря
на все усилия в течение года, даже несмотря на помощь некоторых препода-
741
вателей, припомнивших по нужде им чуждый предмет, уже не в силах был
ничего сделать и, вслед за другими несколькими, «очищает» от себя гимна-
зию*. Я понял, до какой степени вся сфера действий здесь и мнений, по суще-
ству, есть сфера невменяемого - здесь, где все должно бы быть вменено, все
будет вменено по предостережению: «Истинно, истинно говорю вам: аще
кто соблазнит единого от малых сих, лучше было бы ему, если б жернов
мельничный повис у него на шее и пучина морская поглотила его».
XX
Но вот великие ветхие заветы мы заменили правилами новыми, яснее выра-
женными, лучше выполнимыми, и - главное - выполнение которых могло бы
быть всегда проверено.
Однако выполнены ли, по крайней мере, «правила»? Есть ли даже форма -
там, где содержания нет и оно не предполагается, где оно сознательно пре-
* Нельзя назвать иначе, как преступлением против детей, эти периодически по-
вторяющиеся в каждом учебном заведении поднятия его уровня - или в целом, или
в отношении к какому-нибудь одному предмету. Не следует допускать предмет или
заведение до падения, и, раз допустив его до этого, поднимать можно лишь на страх,
на ущерб себе, и никак не учеников, в этом невинных; и между тем только на их судьбе
возмещаются ошибки или злоупотребления, допущенные учебным округом. Факт,
приведенный мною в тексте, имел место в Б-ой прогимназии, которую открыть и
затем установить в ней весь строй, в качестве первого ее начальника, был предназ-
начен человек, не только не знавший этого строя сверху, в качестве учителя, но не
знакомый и с самыми формами его хотя бы даже в качестве ученика (как сын очень
богатых родителей, он поступил в университет с домашнею подготовкой). Распущен-
ность доходила в его управление до того, что учитель новых языков, например, толь-
ко около 20 числа посещал гимназию, и ученики, смеясь, говорили ему это на уроке в
глаза, а сам начальник брал с урока преподавателя математики играть к себе в шашки,
оставляя класс на надзирателя, - и также не скрывая от учеников, зачем берется от них
преподаватель. Неудивительно, что ученики, переходившие для окончания курса из
этой прогимназии в соседние полные гимназии, за редкими исключениями, уже не в
силах были в них кончить курс. Да и в этой же самой прогимназии, когда ее начальник,
еще молодой человек, был переведен директором в Т, - ученики при изменившихся
порядках должны были рассчитываться за все, чего не доучили за пять лет его распу-
щенного управления. Все это так невыносимо стало для города, что родители просто
перестали отдавать в эту прогимназию детей, предпочитая их отвозить в соседние
города, и она была закрыта, за иссякновением «обрабатываемого матерьяла», если не
ошибаюсь, в 1889 году. Чтобы дорисовать положение дела, замечу, что город давал
на содержание этой прогимназии значительную субсидию, и хотя, видя такое положе-
ние дел, позднее отказывался давать, но был вынужден к этому раз выраженным
согласием. Нельзя не заметить по этому поводу вообще, что город всегда знает истин-
ное состояние учебного заведения и никогда не имеет причин желать, чтобы оно было
дурно, или хотя бы оставаться к этому индифферентным; поэтому только он и есть
его естественный блюститель, непрестанный ревизор (конечно, в лице представителей
своих, достаточно компетентных, а нс богатых невежд, какие обычно избираются в так
называемые «почетные попечители»).
742
небрежено? Мне хочется взять частицу, и анализом ее показать, что целое,
откуда она извлечена, не может удерживать даже и никакой формы, что даже
и эта форма есть фикция, о которой всеми условлено молчать.
До сих пор все, что я говорил, имеет тот смысл, что при совершенном,
идеальном выполнении всего предположенного в учебно-воспитательном
механизме, все-таки создаваемое им не может получить никакого правиль-
ного человеческого образа; что эклектически слагаемая в этом механизме
фигура - безжизненна, тускла, искажена в чертах своих и никогда не будет
иною, хотя бы сведения, какими она обладает, были точны, знания ее обшир-
ны и самые приобретенные навыки добропорядочны; что нет в образуемом
живого центра, который эти навыки применил бы к доброму, или хотя бы
имел силы их в себе удержать, эти сведения - пожелал бы расширить, точные
знания - к чему-нибудь благому применить. Но я теперь хочу сказать, что и
самая эта обширность сведений, точность знаний есть фикция. И то, что выра-
батывается механизмом, столь изощренно придуманным, не только не есть
живое человеческое лицо, но и не есть даже сколько-нибудь цельная челове-
кообразная маска, а ряд клоков, тряпок, линий, между собою не связанных, -
что-то непонятное и ненужное, в чем все одно до другого не дотягивается, и
если еще как-нибудь лежит на гладких листах «программ», «уставов», «объяс-
нительных записок», то вовсе никак не лежит на человеке, который живет,
поступает, думает и говорит, к удивлению всеобщему, так, как если бы не
только ни к чему не воспитывался, ни для чего не обучался, но и забыл совер-
шенно о всем, о чем неучившемуся напоминают страна, местность, время -
своими памятниками, бытом, природой, нуждою, страхом и вообще тыся-
чью вещей, которые все знают и не знает только вчерашний ученик и завт-
рашний деятель.
Утверждается вообще, что чрезмерно малый процент оканчивающих
полное среднее образование в светской школе* зависит от чрезвычайной
высоты и обширности ее требований; от трудности выполнить эти требо-
вания для всех тех, кто не обладает хорошими способностями и совершенно
удовлетворительною домашнею обстановкою. Но это - обман и самообман:
обман общества, населения страны, будто бы бессильных подняться на пред-
лагаемую высоту, и потому только ее не досягающих; самообман самих орга-
низаторов системы, допустивших в нее непростительные ошибки, которые
уже независимо ни от каких «исполнителей», фатально, беспричинно, не-
нужно делают возможным окончание курса только для 2-5% и вообще даже
* Он гораздо меньше, чем даже думают: из 40 -50 учеников, поступающих одно-
временно в два отделения первого класса, через 8 лет достигают 8-го класса 1-2 (иногда
ни одного) ученика, и, следовательно, только для этих 1 -2 учеников курс гимназии есть
восьмилетний, для всех же остальных, т. е. вообще для учащихся, он есть девяти-,
десяти-, одиннадцатилетний. Чрезвычайно ускоренный темп, каким проходятся в
гимназии все предметы, есть лишь искусственная вставка нормального одиннадцати-
летнего курса в срок восьми годов, в видах предоставления одному возможности его
скорее окончить и, конечно, к полному уродованию остальных учеников.
743
менее. Истинная причина этого явления кроется в том, что в первой поре
своей ученик сделан искусственно слабым, идет предустановленно распу-
щенным образом; и когда в эту распущенность ученики уже вошли и к ней
привыкли, им неожиданно (на 4-й год учения) предъявляется чрезмерная
строгость требований, и притом не только за проходимое в данный год, но и
за все пройденное ранее. Сперва развратить слабостью, потом исправить
строгостью, не научить в начале и в конце все-таки потребовать - вот изуми-
тельная, ничьего внимания не останавливающая на себе и совершенно непо-
нятная в основаниях постановка дела, в которой и лежит объяснение, почему
нормальное прохождение курса в нашей средней школе почти невозможно,
- и когда возможно для некоторых, даже для них является возможным лишь в
силу обмана, к которому вынуждены прибегать учителя.
И в самом деле, как это объяснено будет сейчас ниже, ученики в каждый
последующий класс переводятся с недостаточным знанием ими курса клас-
са предыдущего; и в силу того, что каждый последующий курс есть лишь
развитие предыдущего, - это последующее становится им сперва не совсем
ясно в некоторых частях, затем лишь полупонятно даже в главном, и наконец
совсем непонятно в целом, так что в последних классах они движутся вперед
ощупью, в совершенной темноте, и падение или спасение здесь является для
них делом случая и также произвола учителей. Происходит это: 1) от затемня-
ющих, скрадывающих истину выводных, четвертных и годовых баллов, 2)
от системы полуэкзаменов, 3) от системы экзаменов многогодичных.
Каждый учебный год разделяется на четыре учебные четверти, и к концу
каждой из них совокупность всех баллов, какими были отмечены единичные
ответы ученика, заменяется одним, все их в себе сливающим баллом. Заме-
тим, что из шестнадцати, положим, уроков, бывших по данному предмету в
учебную четверть, - четыре, в которые ученик был спрошен, он знает всегда
лучше тех двенадцати, в какие не был спрошен, по естественной в детях как
осторожности, так и распущенности, в силу которой они к ожидаемому
спросу готовятся тщательнее, чем к уроку, по которому ожидать спроса
нет особенно живых оснований. Положим, однако, что и эти наилучше им
данные ответы оценены были по учебным четвертям следующими балла-
ми: 1,2,1,2, что в выводе дало 2; 2, 3,2, 3, что в выводе дало 3; 1,2, 1,2, что
опять в выводе дало 2, и за последнюю четверть: 2,3,2,3, что снова дает 3.
Из четырех четвертных баллов: 2, 3, 2, 3 - выводится за год два с дробью,
которая в силу того, что за последнюю четверть был балл удовлетворитель-
ный, принимается за полную единицу, и ученик признается учившимся в
течение года достаточно для перевода в следующий класс, хотя среднее
арифметическое всех 16 годовых баллов есть чистое два, без всякой дроби,
т. е. в течение всего года занятия ученика оценивались как неудовлетвори-
тельные (1+2+1+2+2+3-2+3+1+2+1+2+2+3+2+3=32; 32:16=2). А если мы при-
мем во внимание, что урок, приготовленный вчера вечером и отвеченный
сегодня утром на три, к концу учебной четверти не может помниться более,
чем на два, и то же следует сказать о всех других баллах, то мы поймем, что
744
годовой достаточный для перевода балл (3) прикрывает собою знания,
которые в истинной своей оценке выражаются даже не баллом 2, а бал-
лом 1, т. е. прямо, как худые. И между тем этот фальшивый балл, когда все
единичные оценки, из которых он произошел, выброшены, стерты, забы-
ты, - остается один, как орудие, как средство при разрешении вопроса,
переводить ли ученика в следующий класс. Он указывает, что ученик за-
нимался удовлетворительно, и самого вопроса о его переводе уже нет: он -
факт, ученик переведен; с какими сведениями - мы это только что поня-
ли. И вот почему уже во второй год учения (а впереди таких годов еще
шесть, с повторением все этой же игры, как бы облегчающей ученика и
в действительности его обманывающей, набрасывающей на него мерт-
вую петлю) курс учения неожиданно для него и к раздражению учителей
оказывается почему-то тяжел; он тяжел потому, что неясен в связи с пре-
дыдущим, которого лишь обрывки, пусть еще большие, но ни в каком
случае не слитая цельная поверхность знаний, сохраняются в утомлен-
ном, с каждым днем все затуманивающемся уме.
В следующем и следующем классах эти точные сведения, все ширясь в
содержании своем, в объеме предлагаемых к запоминанию фактов, принци-
пов, методов и т. д. и т. д., в то же время более и более расчленяются между
собою, дробятся и наконец становятся какими-то зыбкими, плавучими ост-
ровками, колеблющимися на фоне необозримого тумана. Всякое новое при-
обретаемое сведение с болью усиливается прицепиться к чему-нибудь в этом
тумане, и не может. Ученье становится невыносимо трудно; ученик почти
ничего не понимает в том, чему он учится. Приготовлять назавтра все пять
уроков он не имеет никаких сил; текст переводимого писателя для него те-
мен, когда слова даже и знакомы все; но и слов он не знает такую массу, что
только приискать их в лексиконе, не говоря о том, чтобы заучить, - это отни-
мает у него часа два времени*. В фактах истории, в явлениях физики, в на-
блюдениях космографии он не видит давно никакой связи и, за недосугом,
даже не спрашивает себя об этой связи, не справляется о ней по учебнику**.
Он сперва не приготовляет на завтра лишь одного урока, по которому, навер-
ное, не будет спроса; мало-помалу не приготовляет нескольких, и, наконец,
начинает лихорадочно готовить хоть один, по которому будет решительный,
обещанный, пригроженный учителем, - спрос. Ученик уже давно растерян,
измучен; совершенно темен в курсе всех предметов; и между тем фикция
* Мне известны случаи, когда ученики все время приготовления уроков упот-
ребляли на приискание слов, и уроки приготовлялись уже на другой день перед
классами, в перемены между уроками, на самих уроках (т. е. на каждом данном уроке
готовился урок следующий - как - это читатель может живо себе представить).
Отсюда вытекла необходимость подстрочников, подсказываний и пр.
** «Что был убит, что победил - это вам все равно?» - заметил однажды, рассме-
явшись, экзаменатор кончающему курс ученику, который на его замечание: «Вовсе
нс был убит» (про какого-то героя в какой-то битве) - равнодушно поправился: «То
есть победил».
745
«тройки» еще держится. Она, правда, обрывается то на одном предмете, то
на другом, но восстановляется при новых нечеловеческих усилиях, - впро-
чем, в этом единичном поправляемом предмете, с падением в другом, иног-
да в двух других предметах. И между тем совокупность этих проходимых
предметов, в широко начертанных программах их, в их между собою «связ-
ном организме», представляет такое красивое целое; жаль что-нибудь здесь
опустить; не хочется нарушить иллюзию; фата-моргана манит, если не уче-
ника, истомленного, искалеченного, давно глупого, то тех, кто, издали созер-
цая тысячи и тысячи юных душ, расцветающих на этой тщательно возделан-
ной почве, без интереса к какому-нибудь лицу в отдельности, наслаждаются
зрелищем их общего вида.
Фиктивный, обманывающий годовой балл* всюду принят в основание
для перевода, и замечательно, что тогда как в старших классах он должен
быть полным по всем предметам, в младших, то есть когда ученик прино-
равливается, приспособляется к требованиям заведения, он не требуется
полный по всем предметам: имея по некоторым второстепенным предме-
там и 2, ученик все-таки переводится, ему дается льгота поправиться в сле-
дующий год, - и какой же ребенок в 10-11 лет, если он ребенок не исключи-
тельный, не воспользуется этою льготою? Эти льготы, о которых ребенок
думает, что они ему прощаются, снисходятся, - учителя, заведение, орга-
низация системы знает, что они лишь отлагаются, и через 4 года спросят-
ся во всей полноте и совершенно строго. Зима и лето сменяются, сменяют-
ся один раз, два, три - и подступает весна четвертого года: грозный четвер-
тый класс, его собственная программа обширнее, чем которого-либо пре-
дыдущего класса, и когда, через силу перемогая только ее, ученик является
к экзаменационному столу, ему предлагают взять билет не за один год этот,
но и за предыдущий, и за третий, и за четвертый даже, — за то время, когда он
был еще совсем маленьким мальчиком и, ничего не подозревая, забавлялся
мячом, перочинным ножиком, бабками, и вообще тысячью вещей, для него
более занимательных тогда, чем латинские спряжения, подвиги Александра
Македонского и азиатские плоскогорья. Экзамен невозможен иначе, как с
обманом: это ясно для ученика, видно для учителя; и первый под покровом
второго, а при его бессилии - второй, при молчаливом согласии положен-
ных по правилу ассистентов и председательствующего начальника учебно-
го заведения, - этот обман совершают. Он совершается фатально, всюду,
необходимо, при самом безукоризненном составе учителей и учеников; он
вытек из целой организации учебного дела; его обойти - невозможно, к
нему не прибегнуть - значит самый переход учеников в следующий класс
* Он, как и четвертной балл, как и всякий обман, прикрывающий действитель-
ность, должен быть оставлен вовсе; и если уже нужно сохранение баллов в учебно-
воспитательной системе, должны быть сохранены простые баллы за ответы в году - их
ряд всегда должен быть перед глазами оценивающего, испытывающего, спрашиваю-
щего учителя, чтобы направлять его вопросы.
746
уничтожить, уничтожить этот следующий класс, т. е. разрушить целое учеб-
ное заведение, как в физическом отношении несомненно разрушило бы его,
если бы из системы его потолков, стен, сводов вдруг вынули которую-нибудь
стену - вещь невозможная, факт, о котором никто даже не смеет предложить
себе вопроса.
XXI
Система обмана, самими учителями практикуемая, бывает несложна: при
письменных испытаниях - это допущение списывания, совещания, справки с
книгою, поправка самим наблюдающим замеченной ошибки; при устном -
это пропуск молча делаемых ошибок, делаемых громадных пропусков в рас-
сказе; наконец, последний и самый неуязвимый - замена рассказа или объяс-
нения ученика рассказом и объяснением самого учителя, как бы увлекающе-
гося предметом и говорящего вперед ученика, который за ним лишь повторя-
ет. Последняя форма обмана особенно употребительна на испытаниях из За-
кона Божия и при доказательствах теорем в геометрии и законов в физике (на
доске). Таковы виды обмана в момент самого экзамена, и к ним приходится
прибегать лишь в случае, если оказывается недостаточным обман предвари-
тельный, условливаемый между учителем и учениками: учитель дает классу
программу, разделяющую, положим, курс предмета за 2-3 года на 30 равных
частей (билетов); из этих частей каждая так обширна, что ее нужно рассказы-
вать часов 12; и так как менее 12 часов продолжается и весь экзамен, то учи-
тель и предупреждает учеников, что по каждому билету ученикам следует
приготовить только самое начало его, дольку ‘/ю или l/i2, минут на 10-15 рас-
сказа, и предмет распределяется так, что самое начало всякого билета - что-
нибудь нетрудное, общеизвестное (к этой системе обмана я прибегал). Испы-
тание происходит между тем как бы из всего предмета, по полной программе,
и неосторожный вопрос ассистента из остальных частей билета если и вызы-
вает совершенно вздорный ответ ученика, то этот последний говорил уже так
долго, что ошибка может быть объяснена простым утомлением, и ни в каком
случае она не погубит ученика.
Этот обман в течение восьмилетнего учебного курса практикуется три
раза, в трех критических классах - четвертом, шестом и восьмом, в которых,
необъяснимо почему, ученик должен давать ответ за 4, 2 и 2 года учения*.
И, однако, степень поразительной темноты, в которой по объясненным выше
причинам, уже начиная со второго класса, движется все учение, так велика,
* Поразительно, что в гимназиях у нас были введены испытания за 4 года и за 2
тою же самою организационною системою, которая позднее, получив в свои руки
распоряжение и судьбою университетов, уничтожила в них годичные испытания и
заменила их полугодичными (семестровыми), т. е., не доверяя, чтобы мужчины в 22-
26 лет были настолько предусмотрительны, чтобы в начале года заботиться о том, что
с них спросится в конце, доверяла, что мальчики в 10-16 лет будут обладать этою
предусмотрительностью даже за четыре года.
747
что - ни при каких усилиях ученика, ни при каком снисхождении учителей -
испытание для очень большого % учеников невозможно: можно промол-
чать, если ученик под именем Людовика XII рассказывает историю Карла
VIII, или о Кларендонских постановлениях - как о факте из царствования
Иоанна Безземельного; но если Magna Charta он помещает в Испании, если
вовсе не помнит, что был Филипп II Испанский и Карл V в Германии, не
понимает, что такое гугеноты, и путает их с гуманистами, если о Петре Вели-
ком, на вопрос преподавателя, в каком хоть он веке жил, отвечает: «В четыр-
надцатом»*, и это на выпускном экзамене, в возрасте 20-22 лет, перед вступ-
лением в университет, - экзаменационная комиссия смущается и ответ оце-
нивается как неудовлетворительный. Ученик остается в том же классе; эти
оставления, как могла бы показать статистика, все почти приурочены к трем
названным критическим классам с многогодичными испытаниями; и если
оставляемых, как мы заметили выше, в течение 8 лет является до 95% из всего
числа поступивших в первый класс - степень точности приобретаемых об-
ширных сведений должна быть для читателей ясна.
Еще маленькая деталь, и все станет ясно. В объяснениях, обширных и
красноречивых, как должно быть производимо испытание в критических клас-
сах, сказано: «Ни в каком случае оно не должно быть испытанием памяти,
удостоверением в знании подробностей»; и вот пусть перед экзаменующими,
вовсе не хотящими испытывать этих низших способностей души и по ним
только определять правомерность ученика занять место в пятом классе, стоит
15-летний мальчик с билетами из четырех курсов географии, номера которых
указывают следующие тексты учебников, которые он должен ответить:
«По вкусу и запаху, ключи бывают: пресные, кислые, соленые, горькие,
серные, нефтяные, цементные и облепляющие; все они вообще называются
минеральными. Вкус и запах ключевой воды зависит от тех пластов земной
коры, через которые она просачивается. Ключи кислые, соленые, горькие и
серные называются целебными. Цементные замечательны тем, что если опу-
стить в них железную вещь, то поверхность ее покрывается слоем меди; об-
* Высшая степень невежества, мною встреченная за 12 лет преподавания в раз-
ных гимназиях (от 81 до 93 г.), была еще грубее: в Е., куда я только что был переведен,
ученик VII класса, стоя перед стенною картою Европы, должен был показать истоки
Рейна, и, когда затруднялся это сделать, я ему сказал: «Да в Альпах», но он по-
прежнему не решался поднять руки к ландкарте: «Да где же Швейцария?» - спросил
я его, уже в свою очередь недоумевая, и тогда он показал неуверенно на самое гладкое
место карты, где-то между Рязанской и Калужской губерниями. В той же гимназии
ученику VI класса на уроке истории было предложено указать на стенной историчес-
кой карте древнюю Галлию, но он не показал; на слова: «Да это - теперешняя Фран-
ция, где Франция?» - он не показал и ее: «Между Пиренейским полуостровом и
Германией», - навожу я его, но он не может найти ни Германии, ни Пиренейского
полуострова. Получив единицу, он счел себя оскорбленным моею несправедливос-
тью и принес на меня жалобу директору заведения - безуспешно (несправедливость
заключалась в том, что шел урок истории, объяснялось переселение народов, а балл
был поставлен за незнание географии).
748
лепляющие - тем, что если погрузить в них, например, дерево, то оно через
несколько времени покрывается слоем извести. Самое большое число мине-
ральных ключей, насколько доселе известно, находится в Европе. Между ми-
неральными ключами особенно замечательны кислые: Карлсбадские, Теп-
лицкие, Сельтерские и Кавказские: Кисловодские, Железноводские и Ес-
сентукские» (Из «Учебника географии» г. Смирнова, курс I, стр. 30; прохо-
дилось 4 года назад, в возрасте от 10-12 лет; остававшимися где-либо на
повторительный курс проходилось 5 или 6 лет назад).
«Голландцам принадлежат в Ост-Индии: 1) почти все острова Зондские
и 2) острова Молуккские, или Прянные. Между Зондскими островами осо-
бенно замечательны: Суматра (более 8000 кв. м; немногим менее Фран-
ции), Банка, Ява, Мадура, Борнео (немногим менее Скандинавского полуос-
трова) и Целебес (3500 кв. м); между Молуккскими -Амбоин и Банда. Владе-
ния голландцев составляют пространство около 26 000 кв. м, с народонаселе-
нием приблизительно в 23 млн., считаются их лучшими колониями и вообще
принадлежат к лучшим колониальным землям европейцев. Самые важные
из островов для голландцев в настоящее время —Ява и Мадура. Яву справед-
ливо называют перлом голландской короны. С них в огромных размерах по-
лучаются кофе, сахар, рис, свинец, индиго и табак, особенно же кофе. Цен-
ность вывозимого кофе составляет почти половину ценности всех вывози-
мых товаров. В прежнее время особенно важны были острова Молуккские,
преимущественно Амбоин и Банда; первый - производством гвоздики, вто-
рой - производством мускатного ореха. О. Банка важен тем, что представ-
ляет важнейшие в свете оловянные рудники. О. Борнео известен своим богат-
ством в золоте и алмазах. По берегам островов Зондских водится знамени-
тая салангана. Из городов замечательнейшие: Макассар на Целебесе, Бата-
вия и Сурабайа на Яве; последний занимает ныне первое место по торговле»
(Тот же учебник, курс II кл., стр. 24; усваивалось в возрасте 11-13 лет; прохо-
дилось три года назад лучшими учениками, 4 и 5 лет назад остальными - и
тогда же было один раз, в конце учебного года, повторено).
«Из рек Англии особенно замечательны: Темза, Уз, Трент, Тайна, Твид,
Форт, Тэ, Кпяйд, Мерсей и Северн на о. Великобритании; Шаннон, Барров,
Бойен, Бен и Лиффи на о. Ирландии. Из озер примечательны: Лох-Ломон и
Лох-Несс на о. Великобритании; Ниг - на о. Ирландии. Между каналами осо-
бенно примечательны: Бриджватерский, самый старый, соединяет Ливер-
пуль с Манчестером; от Ливерпуля к Ноттингаму идет канал Грэдт-Троик,
который, таким образом, соединяет Ирландское море с Немецким; от Грэдт-
Троика идет ветвь, разделяющаяся недалеко от Бирмингема на два канала: Боль-
шой Соединительный - к Лондону; Оксфордский - к Оксфорду. Глэзговский
и Каледонский - в Шотландии; Королевский и Большой - в Ирландии. Вся
длина судоходного пути по каналам Англии в сложности простирается до
600 миль. По относительной длине каналов с Англиею может сравниться одна
Голландия» (Тот же учебник, курс III класса, стр. 123; возраст усвоения
12-14 лет; пройдено 2-3 года назад и повторено раз или два тогда же).
749
«Излишек своих, произведений земледельческое пространство отправля-
ет на север, так как сбыт к Черному морю возможен только для южной поло-
сы губерний Саратовской, Воронежской, Харьковской, Полтавской, Ки-
евской и Подольской. Средним числом грузится товаров в этом простран-
стве для отправки к Черному морю ежегодно на 9 млн. руб. Главнейшие
пункты по этой отправке: Брянск, Киев, Кременчуг и Воронеж. В то же вре-
мя для отправки на север, в Ригу, Москву и Петербург, здесь грузится на 37
млн. руб. Целый ряд городов деятельно занимается этою отпускною торгов-
лей, а именно Камышин, Саратов, Волжск, Хвалынск, Самара и Симбирск
на Волге, Пенза, Промзино на Суре, Тамбов, Моршанск на Цне, Орел, Мценск
и Волхов по Оке и Елец. Замечательно, что из обшей суммы грузов (45 211
637 руб.), сплавляемых из этого пространства, две трети (29 720 596 рублей)
занимает хлеб и спирт».
«Внутренняя торговля земледельческого пространства получила харак-
тер ярмарочный как по отсутствию дорог, так и по домоседству и неподвиж-
ности малороссов. По официальным данным, первые два места, по числу
ярмарок, по всей России принадлежат Харьковской и Полтавской губерни-
ям. В первой в течение года бывает 425, с привозом товаров на 24‘Л млн. руб.,
а во второй - 372 ярмарки, с привозом товаров на 23 млн руб. Но оптовых
ярмарок в Малороссии одиннадцать: в Харькове 4: Крещенская - главный
склад товаров, назначенных для кочевания по украинским ярмаркам; Троиц-
кая - специально торгующая испанской шерстью и панскими товарами;
Успенская - для железа и других тяжелых, но малоценных товаров, и По-
кровская - овощно-бакалейная; в Полтаве -Илъинская, сильная торговля
шерстяными тканями, шерстью, мехами и донскими лошадьми; в Ромнах -
Маслянская, особенно важная для мягкой рухляди, и Вознесенская', в Курс-
ке - Коренная, на которую преимущественно стекаются великороссийские
купцы и фабриканты; в Кролевце - Крестовоздвиженская; в Елизаветгра-
де - Георгиевская, главные предметы которой рогатый скот и черные кре-
стьянские товары, и в Сумах - Введенская. Кроме их еще замечательны:
Крещенская, или Контрактовая в Киеве и Бердичевская, имеющие свой
особый характер» («География России» Лебедева*', возраст прохождения
* Из приведенных учебников - Смирнова очень плох (однако же выдержал около
20 изданий) и вытесняется учебником г. Янчина, очень хорошим по осмысленности,
но, как мне приводилось слышать от родителей учеников, почему-то более трудным
для прохождения (уверен, именно от осмысленности). Учебник Лебедева считается и
есть лучший (или один из лучших) из учебников географии России. В тексте я упомя-
нул, что повторяются все курсы, за исключением курса первого класса, - в предпо-
ложении, что это кем-либо действительно делается, но я сам, в течение 12 лет препода-
вания, несмотря на все усилия, только один раз мог повторить в году курс II класса
и три раза повторял курс IV класса всегда вследствие особенно счастливого состава
учеников соответствующего класса. Вычисление собственных имен я делал только с
учебниками первого класса и нашел, что их содержится в нем от 800 до 900 (не считая
терминов, как экватор, орбита, глетчер, морена, пассаты и пр.). Таким образом, с
санкции соответствующего министерства, одобряющего учебник и определяющего
750
13-16 лет; проходилась в год производимого экзамена и в некоторых частях
была повторена один раз).
Этого характера текст запоминался учениками мельчайшими частицами
на протяжении 4-5-6 лет и образует во всех четырех курсах том в 418 страниц
(58 стр. 1 курса + 88 И курса + 142 стр. Ill курса + 130 стр. IV курса). Каждый год
на его усвоение употреблялось от 57 до 60 уроков (это maximum, образую-
щийся от совпадения праздничных и царских дней с воскресными), или, уд-
вояя их часами домашнего приготовления и принимая время уроков за по-
вторение - 120 часов. Если бы эти часы, рассеянные на протяжении одного
года, слить в непрерывное время, они составили бы (120:22=5) пять полных
суток, из коих только 2‘/г были собственно временем деятельного домашнего
приготовления. И эта величина, т. е. 2l/i суток, точно выражает собою время,
отмеренное в течение года на усвоение текста в среднем около 100 страниц,
с многими сотнями имен, и в котором каждые 5-6 строк выражают собою
новый и точный факт, могущий быть предметом только или знания, или незна-
ния, но не переиначивания и не смутного воспоминания. Если бы кто-нибудь
сделал пробу запомнить этот мною приведенный текст и, следя за часами, в то
же время не употреблял бы на это запоминание больше времени, нежели сколь-
ко придется по приведенному годовому расчету, - тот без труда убедился бы,
что уже и тогда, 6-5—4 года назад, ученик едва имел силы удерживать его до
следующего дня, и еще менее до конца года - в памяти. И вот в этом году,
всего за два дня до рокового испытания, после 4-х сданных уже экзаменов,
ученику предложено было восстановить в памяти все 418 страниц этого тек-
ста, тогда и так выученного. Что значило бы для него выражение: «не ис-
пытываться в памяти»? Что значит для экзаменаторов: «отнюдь не сосредото-
чивать внимания на знании учеником подробностей»? И какие вообще мо-
гут быть для мальчика «общие точки зрения на предмет», которые он должен
обнаружить пред экзаменаторами, и что за «суждения» о фактах - без их
знания? И вообще не ясно ли совершенно, что не оставившая своей подписи
рука, упражнявшаяся в составлении всех этих «указаний», «разъяснений» и
т. д., как будто бы не самое дело имела перед глазами, а писала риторическое
упражнение на заданную тему; и между тем закругленные периоды этой
детской риторики суть законы; фигуры умолчания - тропы, синекдохи - пра-
вила; патетическая часть - повеление, и вообще все совершенно серьезно и
предопределяет грозно самую серую и тяжелую действительность. И вот,
серая действительность, бьющаяся, как в законе своем, в этой риторике, об-
наруживает себя как невежество, обман: Темза забыта и помнится «Трент,
Уз»; нет Эдинбурга, пропал Манчестер; и самый «Римъ» - только коротень-
количество годовых уроков, ученику I класса, в возрасте 10-11 лет, дается для усво-
ения к одному уроку одна страница текста, большею частью смутного для него, как бы
отвлеченного; 15 новых затверживаемых на память имен и запоминание около 15 но-
вых точек на немой лакдкарте, соответствующих этим именам. Ясно, что даже для
наилучших способностей и наилучшего прилежания это, при необходимости в тот же
вечер приготовить еще три других урока, почти не усвоимо.
751
кие четыре буквы - не вызывает, когда о нем спрашивают, на лице ученика
никакой мысли, никакого воспоминания. Ведь это нам есть что о нем по-
мнить, а для него - это такое же коротенькое слово, как тысячи других, и,
однако, если именно оно из серии их выпало - мы смущены и отказываемся
ученика чего-то удостоить. Растерянный мальчуган, бормоча испуганно:
«Мантуя, Пескиера, Верона, Леньяно составляют неприступный четыреху-
гольник...», удивляется, как не могли простить ему незнание одного только
слова, когда он знал другие четыре*.
* В последние 10 лет, в министерство гр. И. Д. Делянова, внесены, впрочем, неко-
торые улучшения в эту действительность. Перечислим вкратце ряд простых мер, кото-
рые могли бы улучшить это положение нашей средней школы, не преобразуя и не
одухотворяя ее: 1) Восстановление годичных испытаний во всех классах, с недопущени-
ем к ним неудовлетворительных учеников, с избавлением от них отличнейших. 2)
Строгость требований должна быть возрастающею не кверху, как теперь, но книзу, в
сторону элементов - к моменту, когда ученик впервые ознакомляется со степенью тре-
бований заведения и к ней приспособляет себя, с нею сообразует свой труд; поэтому с
первого класса и в течение 3-4-х лет к самому испытанию должны быть допускаемы
ученики, имеющие средним арифметическим из всех годовых отметок по каждому пред-
мету 3, а по языкам и математике 4. Для наших гимназий эти две меры были бы истинным
облегчением, снятием с тысяч и тысяч невинных шей предательской петли, в которой
они теперь давятся. 3) Испытание каждого ученика не должно длиться менее получаса,
без билетов, из разных частей годового курса, и производиться по учебным планам
министерства ассистентом, только в присутствии преподавателя, с его коррективом к
вопросам ассистента и оцениваться председателем комиссии, против которого другие
члены комиссии могут заявить протест. 4) С первого поступления в школу никакой
праздный ученик совершенно и нисколько времени в ней не терпится, ибо школа не для
препровождения в ней времени существует, но только и исключительно для научения,
для труда, и это всякому должно быть понятно. Требуя безусловного труда, она долж-
на быть безусловно и талантливо трудящеюся сама. 5) Вознаграждение учителей может
слагаться из текущего жалованья, которое не должно быть менее вознаграждения слу-
жащих в других ведомствах (судебный следователь, член суда, чиновник департамента),
и из единовременных выдач в конце года по числу успешно каждым учителем выучен-
ных учеников (перешедших в следующий класс). 6) К каждому университету должна
быть причислена гимназия, и студенты, предполагающие занять должность учителя,
должны упражняться в ней в преподавании, научаться этому делу более опытными и
испытываться в природной к этому делу способности в течение, по крайней мерс, трех
лет университетского курса; и только талантливые между готовившимися должны быть
Округом, за этим подготовлением следящим, избираться к замещению должностей.
7) Учебные годовые часы по каждому предмету должны быть расчислены и учебники
изменены Ученым Комитетом так, чтобы совершенно им соответствовать. Еще полезнее
было бы, избрав труд классический и элементарный по каждому предмету (кой в чем
его подправив, но сохраняя его текст и, следовательно, t)yx), самую программу по нему
составить и учебное число часов с ним согласовать, чем был бы положен конец развра-
щающему промыслу составления учебников. 8) Учитель не должен иметь в день более
трех уроков, потому что безусловно должен приготовляться дома к каждому. 9) Учи-
тель вправе отказаться от преподавания в каждом классе, где более 10 учеников (ученик
- не слушатель, а обучаемый и проверяемый на уроке мальчик). 10) Учитель вправе
отказаться от всякого поручаемого ему занятия, которое не имеет связи (нс помогает) с
его классным преподаванием (полицейский надзор за учениками на дому, в театре, на
752
XXII
И вот, если даже в том, что можно называть в просвещении конторскою сторо-
ною, которая не требует для себя ничего, кроме умения счесть страницы,
часы, и все это соразмерить, были допущены ошибки столь грубые, что они
задавили труд сотен учителей и лучшие годы детей целой страны сделали
годами мучительного, обманного, напрасного труда, - что можно от этих
улице; посещение не нужных ни для чего педагогических советов, составление всяких
ведомостей, отчетов, ведение кондуитных тетрадей и т. п. бумажного декорума), равно
директор, предоставляя кому нужно изучать вверенное ему заведение in re, должен
быть избавлен от бесконечного бумагописания, каким теперь он обременен со стороны
учебного округа, прикрывающего грудой требуемых формальных сведений свое безу-
частие к истинному состоянию учебных заведений. 11) Плата за учение должна быть
полная, половинная и четвертная - очень высокая в первой форме, никого не обходя-
щая в последней, и для облегчения родителей, а также и для поощрения их в надзоре за
детьми - помесячная; она должна почти оплачивать учебное заведение, ибо не справед-
ливо же, чтобы оно содержалось через налог на тех, кто так беден, что не может дать
никакого научения детям своим (но училищный налог на состоятельных бездетных и
холостых все-таки должен быть сделан, ибо они пользуются знаниями выученных док-
тора, судьи и пр., и этот налог есть единственное, что государство, народ обязаны
прибавлять частным людям на воспитание их детей - не больше). 12) Рождественские и
пасхальные каникулы, а в северном крае и значительная часть летних могут быть унич-
тожены, как простое поощрение праздности, и зато должны быть соблюдаемы все высо-
кочтимые Церковью праздники; равно и празднование масленицы должно быть замене-
но молитвою в первую неделю Великого Поста (теперь ведь через это школою отдается
больше внимания дохристианскому язычеству, чем Церкви). Вообще больше, нежели с
чем-нибудь, время учения должно быть согласовано с церковным кругом; и из времен
года скорее весна, нежели лето, должна быть предоставлена оздоровляющему отдыху.
13) Урок должен тянуться час, лучше час с четвертью или полтора часа; их в день
должно быть maximum 4, лучше 3; чтобы задаваемое к уроку и объясняемое на уроке
могло быть сколько-нибудь цельно, и через это занимательно, поучительно, вообще
деятельно для ученика. 14) Время уроков полезно было бы перенести с полудня к утру,
перемещая его сообразно времени года по часам и не начиная позднее одного-двух
часов после восхода солнца, - для младших классов; а в старших классах следовало бы
перенести время уроков на вечер, приучая юношей деятельно заниматься (приготов-
лять уроки) днем, а вечером занимая их в классе, и тем отнимая простор для непозволи-
тельных удовольствий. 15) Никто к посещению храма не должен быть понуждаем (как
теперь, когда к богослужению внушается отвращение, ибо на него, как на повинность,
ученики приводятся надзирателями, а отсутствующие переписываются и наказывают-
ся за нерадение), но все должны быть к нему привлекаемы и приучаемы; посещение
приходских церквей и в розницу, а не массой, полезнее, чем присутствие в собственных
гимназических церквах, ибо народ всегда богомольнее учащихся, и его масса в приход-
ской церкви действует на немногих учеников, а в домовой церкви гимназии масса безре-
лигиозных учеников действует на немногих посторонних. 16) Кажется, полезнее было
бы, если бы гимназии, как незаконченные учебные заведения, лишь подготовляющие
юношей к университету, были подчинены ему в своей деятельности; это всему делу
научения сообщило бы более благородный дух. Мы наскоро, невольно почти, набрасы-
ваем эти строки, без объяснений, желая узнать только, куда должно быть направлено
внимание возможной в будущем реформы. Повторяем, все эти меры духа и смысла
воспитания не затрагивают.
753
способностей, от этих даров ожидать в вопросах культурных, исторических?
Не так же ли напрасно было бы здесь ожидать чего-нибудь, как от мастера, не
умеющего пригнать подошву к сапогу, было бы странно ожидать, не воздвиг-
нет ли он храм, в котором всякому захотелось бы помолиться, цитадель, в
которой всякий мог бы спастись? Напрасный вопрос, и вместе - ясный...
Некому и незачем говорить о семье, о церкви, истории. Мастер воздвиг
дворцы для школы и вынес из нее распятие (во Франции); или, как у нас, взял
из рук детей Пс:штирь* и предложил им разучивать на распев «душевные
свойства лисицы» (см. книжку барона Корфа). Им воздвигнутые дворцы -
хороши, из прочного кирпича, честно закупленного; свойства лисицы - за-
помнены; оклады жалованья - выданы в срок. Привратник школы свое дело
выполнил; выполнил его каменотес, столяр, которому и действительно было
некоторое дело около нее. Но конечно, школа даже и не начиналась.
XXIII
От печальной критики, которую можно было бы сделать такою же длинною,
как длинна сама действительность, и в которой мы ограничились скрупулом,
снова возвращаемся к идеям воспитания истинного. Чего же недостает, чтобы
в нем все понять, все оживить, исполнить духа? Гениальный ли ум нужен для
этого, глубокое проницание? Нет, более трудное, чем это: простое, любящее
сердце - только.
Это выше, чем ум только; и вместе это доступно всякому времени. И вот,
на этом-то основываясь, мы еще не растериваем всех надежд в вопросе, ко-
торый нас занимает. Ведь случается иногда и в практике нашей домашней,
что, переменив десяток «бонн» и «домашних учительниц» и уже считая сво-
его ребенка погибшим, мы иногда неожиданно находим то, в чем нуждались,
в старухе-няньке, в пренебреженном служителе, который, пожалуй, дурно
исполняя свое прямое дело, неожиданно и даже не спрашиваясь выполняет
хорошо другое, к которому его никто не приставлял. Неисповедимы пути
истории, не вскрыты ее законы; отчаиваясь, мы бываем иногда накануне
самой светлой радости, радуясь - стоим на краю гибели.
* Известно, что в нашей сельской школе Псалтирь была исключена из книг, при-
годных для чтения в классе или на дому, равно Евангелие и Библия. Вообще буря
негодования, которую школьная реформа Жюля Ферри во Франции вызвала против
себя в наших консервативных кругах, очень странна, ибо менее шумно, при глухом
только сопротивлении народа, у нас была введена подобная же реформа в министер-
ство гр. Д. А. Толстого. Так называемая «церковноприходская школа» есть только
очень слабый протест против этой «лаицизации» народной школы, которая в нашей
стране была проведена со смелостью и последовательностью такою, как будто никог-
да не было у нас истории, нет Церкви и у нее покровителя, а у народа отца, который
мог бы прозреть и защитить его от бескультурных строителей, которые, ощущая
внутри себя tabulam rasam, как tabulain rasam понимали и окружающую их, истори-
чески сложившуюся действительность.
754
Каждое время имеет, в сущности, ту школу, которую оно заслуживает.
Идеи в устроении ее так точно отвечают главному в нас, что каковы мы -
так учим и воспитываем детей. Школа - это, скорее всего, симптом, пока-
затель нашего внутреннего «я». Это - пульс, который бьется тревожно, и
мы ясно его нащупываем, когда болезнь схоронена еще глубоко внутри
организма.
Время грубое, время жестокое, время поверхностное во всех отношени-
ях - и не было достойно школы лучшей, нежели та, которую мы анализирова-
ли. Это есть истинное счастье, что именно в деталях, что в самом внешнем
строе она так явно неискусно выполнена. Иначе ее внутренняя язва могла бы
быть гораздо долее скрыта, могла бы быть лучше задрапирована прибран-
ною внешностью. Но удавленник в классе*, перед удивленным педагогичес-
ким миром, который говорит: «Мы, однако, его не секли»; но ученики, вык-
радывающие из-под замка темы**; но учителя, в сообществе с учениками
обманывающие верхний бюрократический механизм, - это так ясно, так про-
сто, так для всякого убедительно.
Школа есть не только симптом наиболее ясный, но и проявляющийся в
органе, который наиболее ярко чувствует, сильнее всего болит; и вот почему
не только исцелить ее мы призваны, но, быть может, и сами исцелеть через
нее. Исцелеть и в яркости сознания - из каких бездн отрицания, нас перепол-
няющего, она вышла, - и путем великой жалости к своим детям. Мы, может
быть, безверны, дурны, лукавы; но не лукавы же в любви к детям, не злы же
в отношении к ним; безверны, но не до того предела, чтобы отнимать и у них
всякую веру.
Оставаясь такими, каковы есть, мы не можем воспитывать, не умеем, не
вправе; и так как воспитывать все-таки нужно, и это - факт, перед каждым
отцом стоящий, всякий час о себе напоминающий, - то вопрос о великой
реформе нас самих принудительно встает перед нами. «Или оставь детей
своих на произвол судьбы, отвернись от них, - или изменись сам» - это в
своем роде так же ясно и убедительно, как и висящий труп среди класса с
заново отполированными столами последнего педагогического образца, при-
ложенного к циркуляру за № 9187... Бедный циркуляр, не забывший о парте и
забывший о мальчике; бедный отец, который распутничал, кощунствовал,
глумился, - а перед ним его сын, говорящий: «Дай мне веры»; дочь, говоря-
щая: «Сохрани мне целомудрие».
Вера, целомудрие, любовь - вот что предстоит найти нам, чтобы дать и
детям своим; все это - в сердце своем, потом - в цельной деятельности,
позднее всего (иначе нельзя) - в школе - вот ясный путь, на который нас зовет
* Случаи самоубийства детей в самих стенах школы появились именно после
реформирования их в 1871 году; об одном случае такого самоубийства, со всеми
подробностями, рассказывается в частном письме, которое было опубликовано по-
койным Ф. М. Достоевским в его «Дневнике писателя».
** Проступок, почти из года в год где-нибудь повторяющийся; так, в 1893 году
он имел место в одном из южных учебных округов.
755
история. Быть гениальными в замысле, обладать неошибающимся инстинк-
том муравья в построении, - этого или не дано нам, или не могут с нас
спрашивать; этого не требует от нас Бог. Чистоты сердца, веры в Него, жало-
стливости друг к другу - этого Он хочет, это может человек, этого одного
достаточно, чтобы спасти все.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАФАРЕТКИ
В толках, время от времени поднимающихся у нас и на Западе о средней
школе, всегда бывает слышен один лозунг: переменить трафаретку! «Школа
с двумя древними языками», «школа с одним древним языком», «латинский
язык, начиная с четвертого класса», «тот же язык, один, но с первого клас-
са», «увеличить преподавание истории», «ввести в программу естествен-
ные науки» - и ничего еще, ничего другого мы не слышим. Для всех пред-
ставляется, что секрет улучшения школы состоит в отыскании наилучшей
трафаретки; никому не приходит на ум поднять вопрос о существе самой
трафаретки, выбивающей штемпель «общеинтеллигентности» на ребенке,
после чего он оказывается негодным или малогодным к какому-нибудь упот-
реблению.
Это есть старая боль, это - древняя боль, не наша только, но и целой
Европы - вопрос о школе; мы испытываем здесь только «в чужом пиру по-
хмелье»; мы ничего здесь не выдумывали, ничего не изобретали. Мы были в
школьном деле - как и в бесчисленных других - только копиистами чужой
работы, плохими учениками, списывающими у соседа «extemporale». И если
уже почувствовалась нужда что-то поправить здесь, переменить - то вопрос
может быть не о том, чтобы механически исправить ту или другую частную
ошибку, но о том, чтобы истинно понять и истинно научиться делать то дело,
которое мы делали до сих пор подражательно, едва ли не по принуждению. В
тему, которую задала Европа своей школе, мы в нее должны вдуматься само-
стоятельно, чтобы суметь сколько-нибудь успешно разрешить ее; и быть
может, при этой самостоятельной вдумчивости мы догадаемся, как глубока
школьная язва в самой Европе, как там она не излечима предлагаемыми у
нас паллиативами. И может быть, заботясь о себе, мы поможем ей...
I
Школа нового типа, у нас и на Западе, вообще бескультурна; она бескуль-
турна с малыми программами, как и с большими, с естественными наука-
ми, как и с древними языками. И очень ясна причина этой бескультурнос-
ти. Задача и способы образования и особенно воспитания в ней сообразо-
ваны исключительно с требованиями бюрократического удобства, бюрок-
ратических навыков, установившихся способов руководить, работать,
756
воздействовать, наконец наблюдать, размышлять. Ведомство народного
просвещения - у нас, разумеется, как и везде,- по существу своих дей-
ствий, по характеру и по методам своего труда ничем вовсе не отличается
от министерств путей сообщения, земледелия и государственных имуществ,
финансов и пр., а между тем его задача совершенно другая. Все остальные
министерства работают над матерьяльными задачами, над грубыми веще-
ственными предметами - измеримыми, исчисляемыми, механически ре-
гулируемыми; и приемы, там созданные,- приемы «общеимперской» ра-
боты - распространены на министерство народного просвещения, кото-
рое имеет своею сферою область духа, трудится над умственною и нрав-
ственною стороною человека. Войдите на урок в любой гимназии, по
любому предмету; взгляните на этого чиновника в вицмундире; взгляните
на этих учеников в мундирчиках, которые не смеют шевельнуться, не мо-
гут задать вопроса учителю; взгляните на этот страх, обоюдно сковываю-
щий первого и вторых,- и вы увидите, что никакого, в сущности, просве-
щения тут не происходит. Если вы зорки - присмотритесь к обману, тут
совершающемуся, на эти подстрочники, подсказывания, притворное заи-
кание, чтоб выиграть минуту и обмануть учителя, и вы увидите, что здесь
происходит, скорее, развращение и притупление. Вот где горе, вот где ис-
точник заразы; а не в том, что проходится греческий язык, что латинского
языка слишком много, что нет естественных наук.
Интерес к философским занятиям в последние 15-20 лет очень оживлен
в нашем обществе и в университетах, хотя они совершенно исключены из
программы средней школы; интерес к филологии и древней истории упал до
минимума, иссяк вовсе, как только они заняли центральное положение в
гимназических программах. Вот где бич; вот что бьет нас; вот не прямое
пока, а только косвенное указание на язву, объясняющую этот чудовищный
процент не оканчивающих курса в наших гимназиях, - процент, который вов-
се не имеет никакой связи с «трудностью» программ в них, ибо таланты-то
именно и не пробиваются через нашу школу.
Восемь лет делать видимость умственного труда без всякого действи-
тельно умственного труда, без развития, без возрастания, без озарения, без
просветления - к этому способны, это могут вынести лишь вялые, инертные
души. Взгляните на наши университеты, на эту апатию студентов, на это не-
знание даровитых профессоров, что делать с такими слушателями, на совер-
шенное удовольствие бездарных профессоров, аудитории которых ломятся
от наивно восхищенных слушателей, на это еще небывалое в истории уни-
верситетов явление, что студенты не различают более качества своих учите-
лей и принимают бездарность за талант, а талант, если он бесшумен, тих,
принимают за бездарность,- и вы убедитесь в истине сказанного; что все
даровитое выбрасывается гимназиею за борт, точнее: что все даровитое само
выбрасывается из гимназии за борт, с полным сознанием, что за этим после-
дуют годы нужды, нищенства, бесприютности, но с совершенным бессили-
ем, еще на год, на два остаться в этой нравственной и умственной тюрьме, в
757
этом мире видимостей, условностей, притворства, фикций. Я сам был уче-
ником: талантливейшие из моих товарищей были выгнаны; я был 12 лет учи-
телем: талантливейших мы выгоняли. У меня хранятся письма товарищей,
тетради окончивших курс учеников, если их обнародовать - общество, веро-
ятно, не раз удивилось бы, увидев, кто именно изгоняется, кто остается, «ус-
певает», «благонравствует».
Вопрос поэтому о средней школе, насколько он варьирует около гимна-
зической программы, пытаясь ее удлинить, укоротить, разбавить новыми
науками, - не имеет никакого смысла; точнее: он имеет вредный смысл,
вредную тенденцию. Это есть попытка приставить английский пластырь к
месту, где зияет роковая язва. Перемените, пожалуй, трафаретку - введите
другие, более ценимые вами науки: вы этим убьете их в обществе, как убили
филологию в университетах классицизмом в гимназиях, и ничего более не
достигнете; вы хотите облегчить учение - но знаете ли, что от этого даже не
уменьшится число не оканчивающих курса в гимназиях, ибо не оканчивают
его от апатии проходить всякую программу таким способом, а не от величи-
ны программы, которая трудна была бы даже и при искусном способе усво-
ения. Тайна дела лежит в его неодухотворенности, бескультурности; в том,
что просвещения нет вовсе, а не в том, что оно затруднено, недоступно;
пустите в публичную продажу конфиденциально хранимые и известные толь-
ко педагогическим советам гимназий напечатанные отчеты о результатах
испытаний зрелости в московском учебном округе за последние годы, опуб-
ликуйте сочинения по словесности, отмеченные «удовлетворительными» по
целой империи за прошлый год, т. е. сочинения завтрашних студентов уни-
верситета; произведите статистические исследования читаемых студентами
книг, дайте статистику «стипендиатов» государственной и частной благотво-
рительности в аудиториях и сочтите их в загородных «садах», взгляните муже-
ственно правде в глаза - и вы увидите, что то дело, которое вы предлагаете так
легко исправить, выбросив один предмет (греческий язык), вставив другой
(естественные науки), - непоправимо вовсе, непоправимо, пока сохраняют-
ся ваши точки зрения на этот предмет.
Тайна - в развенчании бюрократических форм, примененных к ду-
ховному деланию, в котором они вовсе не применимы; в создании усло-
вий культурного труда, культурного воздействия учителя на ученика, куль-
турного воспринятия учеником этих воздействий, - в выработке духов-
ных, идеальных способов воздействовать на духовные, на идеальные сто-
роны в мальчике, юноше, девушке. «Естественные науки,- нам говорят,—
прикладные знания»; но, Боже мой, разве питомцы Института путей со-
общения, разве наши «лекаря», отлично знающие одни - механику и ма-
тематику, другие - физиологию,- суть тип людей, имея которых нам не
остается ничего еще пожелать? Дайте нам просвещенного, образованно-
го человека, дайте нам человека не на словах гуманного - вот чего мы
днем с огнем не можем отыскать; а уж будет ли он инженер, чиновник,
учитель - это второстепенно.
758
II
«Школа должна облегчить свои программы»,- слышится лозунг, слышится
много лет. Но школа трудная всегда лучше легкой, если ее трудность плодо-
творно напрягает умственные силы. Тягостно в умственном отношении вов-
се не то, что трудно, что вызывает долгое раздумывание, что сразу не дается;
«трудная» задача в математике есть всегда интереснейшая, и мы не можем
оторваться от нее, пока не решим; ученик гимназии, у которого не решается
«трудная» задача, рискует приготовлением остальных уроков и не может бро-
сить, забыть его мучающей задачи; кто же этого не видал, кто не испытывал?
Итак, если школа бросается по «трудности», бросается 80-90% из поступаю-
щих в нее, то это потому, что «трудность» ее есть трудность без заключенной
в ней мысли, только внешним образом истомляющая; в том, что ее бескуль-
турная работа вовсе не будит способностей ученика себе навстречу, что ее
«трудности» не изощряют остроту этих способностей, не возбуждают их; в
том, что 8-летняя видимость умственных занятий решительно не сопровожда-
ется теми освежающими моментами угадывания, нахождения, надежды, со-
знанной ошибки и, наконец, решения, которые поддерживают силы ученика
при решении «трудной» задачи. «Трудная школа» - но даровитый ученик не
устает вовсе, не устает никогда трудиться над возбуждающим его дарование
предметом; это же есть высшее счастие - умственный труд; разве мы устаем
писать, читать, т. е. учиться? Философы разве уставали размышлять? И это в
возрасте зрелом или старческом, т. е. когда дарование не развивается, когда
ум, до известной степени, одеревенел, когда работа есть только работа, а не
рост прежде всего. Нормальное ученье должно так же мало утомлять, оно
должно так же проситься, искаться учеником, как еда, как воздух; и именно
ученье трудное, не дающееся сразу, вызывающее на борьбу с собою. Ученик
«устал»; но это прежде всего оттого, что он не учился; что он сидел 4-5 часов
навытяжку перед учителем, ничего не думая и ничего не слушая; он истощен
телом, он энервирован - заботою, опасением, что вот-вот его вызовут отве-
чать урок; он «утомлен», наконец, выучкой вот этой страницы, вот этих 14-16
стихов «Энеиды», когда решительно не помнит, что было раньше той страни-
цы, а предыдущих стихов он вовсе не готовил и потому совершенно не пони-
мает этих. Он «устал» от отупения; он пассивно не может выносить 4 часов
классной работы над ним учителя и пяти-шестичасовой работы над ним неле-
по составленного преподавателем-аферистом учебника. Вот где горе; горе в
том, что если он и заинтересовался на уроке истории рассказом учителя -
звонок, гам, опять: «По местам!» - и перед ним алгебра; едва он занялся
теоремой - снова гам, опять звонок и - Закон Божий. И так ни над чем не
остановиться восемь лет, ни над чем не задуматься: какая-то адская репортер-
ская работа над отвратительными учебниками - и это в возраст самый не-
жный, самый впечатлительный, естественно самый идеальный. Да кто же это
вынесет: маленькие, 10-летние чиновнички над алгеброй; чиновнички в 16 лет
над катехизисом; Боже, да мы во взрослом возрасте рвем на себе мундир;
759
обремененные нуждой, детьми, мы едва выносим вокруг себя канцелярию; и
эта канцелярия, которая тем только отличается от всякой другой, что в нее
решительно нельзя войти иначе, как в вицмундире, без улыбки, что она есть
ультраканцелярия между всеми существующими,- мы ей поработили... что?
- детский возраст всей страны, и мир наук, идей, литературы - с другой сторо-
ны, заставив их в этой душной форме колотиться друг об друга, с наивною
надеждой, что из этого что-нибудь выйдет.
В 70-х годах, вскоре после реформы гр. Д. Толстого, было издано цирку-
лярное распоряжение министерством народного просвещения, запретившее
ученикам гимназий, выходя до окончания курса, приготовляться и держать
«испытание зрелости» ранее, чем будут его держать их бывшие сверстники
по классу; циркуляр этот констатировал факт, что при домашнем приготов-
лении и без всякой помощи учителей множество учеников в империи были в
силах приготовлять программу двух лет в один год. Заметим еще, что для
«экстернов», т. е. со стороны державших испытание зрелости, это испытание
производится гораздо строже и за все 8 лет, по всем предметам, т. е. в объеме
неизмеримо большем, чем для рядовых учеников гимназии. Кажется, ясно,
«трудны» ли программы в гимназиях; ясно и то, что из гимназий уходят даро-
витые ученики, а вовсе не то, что ее требования так «высоки», что средний
уровень способностей страны оказывается для них недостаточным.
III
«Ученики рассеяны и поэтому учатся плохо, не успевают...». Но что же дела-
ется с ними в гимназиях, как не то только, что они рассеиваются ежечасно,
неустанно, по определенной трафаретке, после чего - и очень скоро - они
становятся неопределенно рассеянны, безвнимательны вообще ко всякому
делу. Едва ученик в возрасте 15-16 лет, ученик непременно даровитый, с огонь-
ком, с искрой, начнет привязываться к чему-нибудь, полюбит особенно ка-
кой-нибудь предмет в гимназическом преподавании, - как его сперва предуп-
реждают об опасном его положении, а потом немедленно и выгоняют. Ибо
кто же не понимает, что привязаться не формально, привязаться внутренно,
мыслью, сердцем - это непременно значит несколько отвязаться от других,
ничего общего не имеющих с любимым предметом. Ведь и сами педагоги
всех стран Европы, привязавшись за последние полвека к древним языкам,
стали несколько менее внимательны к Закону Божию и естественным наукам,
а уж допустим, что они хоть несколько, хоть некоторые из них, даровиты. Но
что они дозволяют своей старости и не находят это «безрассудством», того
никак не могут дозволить мальчику в 16-17 лет и считают в нем это величай-
шим легкомыслием. Всякий дар действительный исключителен; дар истин-
ный - очень рано сказывается. Пушкин говорил о себе, что он в отрочестве и
даже потом всегда был органически не способен к математике; разумеется,
он был бы выгнан теперь из 4-го класса гимназии. Да, наш Пушкин, наша
760
красота народная, этот несравненнейший ум в нашей истории был бы исклю-
чен просто, по «§ 34 - за неуспешность», и если бы был беден, должен был бы
определиться в почтальоны или на телеграф, за предполагаемою неспособно-
стью к другим, высшим родам деятельности и учения.
Таковы-то реальные, действительные последствия априорных рассужде-
ний, которым предавался некогда гр. Д. Толстой. Через классическую школу
им созданного типа прошло все теперь действующее поколение, возраста от
25 до 40 лет. Действующее «церкви и отечеству на пользу» между садами
«Фоли-Бержер» и литературою символистов, поколение, доводящее до пято-
го издания «Любовь и красоту» Нотовича, до девятого издания сокращенно-
го, до 30 коп. Бокля, и понемногу забывающее Гоголя, Тургенева, Гончарова.
Нам скажут: школа еще не успела повлиять на общество, ее плодов мы долж-
ны ожидать в будущем; но кто же не знает, что всякая школа нового типа
именно в первый момент своей жизни дает наилучшие, самые свежие, соч-
ные плоды, - по закону реакции с прежним, по напряжению в себе всех сил,
по вере в свой идеал. Потом пойдут уже «средненькие, обыкновенные», - и
я думаю порою, что общество наше, некоторое время поколебавшись между
декадентами и Нотовичем, скоро остановится на Понсоне дю-Террайле и
Габорио, как в некоторой постоянной и устойчивой точке, на линии безраз-
личного удовольствия. Это - вместо ожидавшихся Момзена, Курциуса, Лип-
сиуса, которых уже предвкушал для нашего общества гр. Д. Толстой...
Но меня интересуют таланты; я спрашиваю себя: куда летят «искры Бо-
жии»? В то время как ординарные питомцы школы с Понсоном дю-Террай-
лем в одном кармане и с размышлениями Нотовича в другом, перебираются
по общественной и государственной «лестнице» со ступеньки на ступеньку
- к «постам» и думают: «Если Нотович руководит общественным мнением -
почему мне не руководить министерскою политикой?»-думается невольно:
«Да где же таланты?». Не в почтальонах ли они, в самом деле? Не стоят ли они
«курьерами» у дверей своих преуспевших товарищей, ожидая двугривенно-
го на чай и «красненькой» к Рождеству и Пасхе? Увы, сколько я наблюдал,
будучи учителем, именно эта тайна совершается: в V-VI классах уже вы ви-
дите учеников, самых живых, оригинальных, которые, болтая ногами, на вся-
кую вашу попытку спросить урок, отвечают: «Не готовил», а при крайнем
вашем недоумении объясняют: «Мы выходим». Почти не помню я примера,
чтобы выходили неспособнейшие, и напротив, помню очень многих ярко
даровитых, о трудности для которых какого бы то ни было учения не могло
быть и речи. Могли бы кто-нибудь поверить, что из классической гимназии
может быть исключен «за неуспешность» мальчик до странности, до ненор-
мальности привязавшийся ко всему, идущему из классического мира? Неве-
роятно, но это - факт: каков был в Брянской прогимназии Любомудров Ар-
кадий. Бедный мальчуган - он был из разорившейся дворянской семьи,- Бог
весть, с чего полюбил все, идущее из древнего мира, каждую строчку, каж-
дую вещь; кажется, он привязался к нему какою-то художественною любо-
вью; почти до слепоты близорукий, он перечитал все о нем, что можно было,
761
что в силах был достать в маленьком уездном городке; я был там учителем
истории и раз, помню, убедился, что он отчетливее меня знает какую-то под-
робность в развитии греческой трагедии; до сих пор не могу забыть его живых,
искрящихся воображением и остроумием рассказов и рассуждений, конечно
ребяческих, о школьных своих делах. В то же время он был удивительно душев-
но изящен, кроток, деликатен. Разумеется, его выгнали. У меня выгнали това-
рища, Карпова Андрея: этот был флегматик, крестьянский сын; его вечно тя-
нуло в поле, и он полюбил ботанизировать; в содружестве с учителем пригото-
вительного класса, г. Раевским, он собрал и определил все растения окружаю-
щих мест. Никогда он не оставался ни в одном классе; по спокойному,
флегматическому (снаружи) характеру, никогда не был даже на замечании; мы
все его очень любили, зная его прекрасную, нежную душу, которая как-то
смешно переплеталась с внешним формализмом и всякими «добродетеля-
ми», как мы смеялись. Он уже перешел в VIII класс; мы все, больше его плуто-
ватые, крепились и выносили гимназическую «страду»: оставался только год.
Но этот, казалось, неистощимо терпеливый ученик, который, бывало, непод-
вижно сидит, когда мы прыгаем через его спину, этот воплощенный метод,
правило - я уже сказал, что он любил природу,- вышел за 9 месяцев до оконча-
ния курса, и он говорил товарищам, что не в силах, не может более ни сидеть в
классе, ни готовить уроков. Разумеется, он действительно готовил уроки и дей-
ствительно слушал в классе, когда мы только обманывали и вообще кончили
курс, ничего не делая. Ну, и что же, конечно, оба мальчика теперь в почтальо-
нах; в то же время я помню среди кончивших курс товарищей таких, которые
связать трех мыслей не умели, и еще других, которые не выходили из местных
Аркадий и пониже и, конечно, на уроках сидели тише воды, ниже травы, так
что учителя невольно им «снисходили», «по недостаточности способностей,
которые разовьются в университете». Ну, и «развивались»...
IV
Я сказал, что школа требует видимости умственного труда, и всякий, кто дей-
ствительно умственно трудится, т. е. живым, активным способом, немедлен-
но выбрасывается за несоответствием трафаретке. Эта трафаретка требует,
чтобы внимание ученика в течение всех восьми лет учения было точно рас-
пределено в пропорциях: 'Л-латинскому языку, ‘Л- греческому языку, 712-
Закону Божию,тоже 7i2-истории, ‘^-космографии, 7с-физике; и кто, хоть
чуть-чуть начав увлекаться каким-нибудь предметом, соскользнет с которого-
нибудь из растягивающих его мысль штифтиков, тот, после некоторой, но не-
продолжительной возни с ним, уже насильственно сбрасывается и со всех
остальных, «по § 34», «как неспособный к прохождению университетского
курса». Пусть именно он-то и способен; пусть именно в его душе лежат зало-
ги для восприятия тех искр, которыми единственно светится и университетс-
кое преподавание, которые и там все более тухнут, но в которых лежит все дело
просвещения; все равно, мимо дверей университета он отведется в прихо-
762
жую канцелярии какого-нибудь служебного учреждения и ему поручается
бумага об «определении на должность», - двери же университета широко
распахиваются перед толпой «преуспевших» и «созревших» потому именно,
что они имели способность в течение 8-ми лет ничем не заинтересоваться, ко
всему остаться равнодушными и, следовательно, остаться вяло-покорными,
когда при переходе из класса в класс их перетягивали, как перчатку, то сперва
так и потом несколько иначе - по универсальной трафаретке.
Та бурса, которой изображение оставил нам Помяловский, но которая дала
для России Платона, Филарета, Иннокентия, Гилярова-Платонова, Ключевско-
го,- она даже понимала задачу школы утонченнее, глубже. «По всем предметам
он числился в последнем разряде, но у профессора (так звали и еще зовут себя
учителя семинарии) философии», или догматического богословия, или словес-
ности «он был занесен первым в список»,- читаем мы часто, если не всегда, в
биографиях многих замечательнейших наших людей. И бурса берегла талант;
она уже не выбрасывала «занесенного первым» хотя бы по одному предмету;
она догадывалась, что тут есть, тут что-нибудь есть, о чем стоит порадеть, поду-
мать, позаботиться. Ведь и по единственному предмету чрезвычайно успеть-
для этого требуется непременно ум, и даже вовсе не меньший, даже, пожалуй,
больший, чем «так себе», успевать по десятку наук; чтобы полюбить хоть один
вид знания, полюбить его чрезвычайно, привязаться к нему всеми, пока детс-
кими, силенками, само собою разумеется, что для этого следует иметь в себе
ту «искру Божию», какой вовсе не нужно, чтобы покорно-вяло «приготов-
лять» уроки из пяти предметов к четвергу, из других четырех - к пятнице, и
снова из пяти - к субботе. И бурса, эта плачевная бурса, над которою мы не
можем достаточно насмеяться, понимала это - она ей вверенные таланты сбе-
регла, и Россия навсегда должна остаться ей признательною за это.
Пять уроков в день, пять разнородных предметов внимания в утреннюю
половину дня, в классное время, и столько же предметов внимания в вечер-
нюю половину дня, во время приготовления уроков к завтрему. Десять разно-
родных интересов за день; десять пережитых впечатлений, между собою не
связанных и не связуемых. Вот где не найденный, никому не приходивший на
ум корень опустошительного действия новой школы, не у нас только, но и в
целой Европе: ибо какими же мелкими, тусклыми черточками ложатся эти
впечатления на душу; какой нужен индифферентизм души, чтобы, равнодуш-
но покидая один предмет, бесстрастно переходить к другому, но и на нем, как
на предыдущем, не держаться вниманием более чем 55 минут (продолжитель-
ность урока). Чиновнички алгебры и катехизиса, ученики вместе с тем, уже с
возраста 10 лет, суть актеры всякого вида знания, всякого вообще духовного
интереса, так же мало привязанные к сменяющимся перед ними впечатлени-
ям, как мало привязан актер к надеваемым и сбрасываемым им мантиям,
коронам, парикам. Репортер торопящейся газеты, актер плохого провинциаль-
ного театра - вот аналогия, вот тип, по которому созданы условия умственного
и нравственного воспитания детей, юношей, девушек,- повторяем, не у нас
одних, но всюду, где внедрилась и действует новая государственная школа.
763
Не ясно ли, где источник упадка духовных сил всей Европы за последние
полвека, т. е. именно за то время, когда школа из захудалой, заброшенной,
руководимой частным человеком, или духовной корпорацией, иногда фи-
лантропическим обществом или непосредственно королевскою и царскою
рукой, и о коей сказал наш поэт, что в ней
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь -
стала интенсивно работающею фабрикой под наблюдением государственных
инспекторов и с государственными рабочими, некоторым интенсивным про-
изводством душ человеческих почти по тому способу, как некогда Парацельс
производил своего маленького гомункула. Этих гомункулов, человекообраз-
ных, но без живой души, мы и видим на протяжении всей Европы все после-
дние десятилетия. Ибо, Боже мой, кому же непонятно, что если бы Марии
Египетской, в минуту страстного покаяния и когда она взяла уже Евангелие,
было позволено читать его с тем непременным условием, чтобы после каж-
дого изречения Спасителя она проделала маленькую арифметическую задач-
ку и после всякой прочитанной главы выучивала города Германии или Бель-
гии,- кому не понятно, что не покаяние, но смех и раздражение это чтение
вызвало бы в ней, что в Египте было бы одной грешницей больше и одною
святою меньше на небесах.
Школа в течение 8 лет неустанно, настойчиво, насильственно рассеивает
ученика. И так как самые внушительные угрозы понуждают его подчиниться
и безропотно перенести это определенным способом и в определенных про-
порциях производимое рассеяние, то он становится в конце операции - во-
обще неопределенно рассеян; он делается тускл, туп, поверхностен; на всю
остальную жизнь он уже не может ни сосредоточиться на чем-нибудь, ни
привязаться к чему-нибудь, ни полюбить что-нибудь. Большинство из них,
именно активные, не выносят этого; не выносят в количестве 90% - ведь
нация вообще способна, ведь некоторая даровитость естественно присуща
человеку: тупость вообще есть отступление от нормы. Но именно только эти
10% естественно вялых, от рождения покорных, инертных по существу, окан-
чивают курс гимназий, переходят в университет и наполняют артерии и вены
государственного и общественного кровообращения. Редко, редко сквозь эту
истощающую, энервирующую сеть прорвется талант, и обыкновенно он про-
рвется или обходя, или ломая эту сеть.
Мы далеки от мысли на ком-нибудь сосредоточить упрек: в целой Европе, в
течение целого века, созидались эти условия, и они созидались такими малень-
кими дозами, что, вообще, никем не было замечено, куда они клонятся, какова их
окончательная тенденция. Радостные надежды, не в одной России, но в целой
Европе, сопровождали труд строющих. И до какой степени они были напрасны,
это становится видно только теперь, когда действует, пишет; думает поколение, на
этом удивительном станке вытканное; когда самый станок окончен, и все, в об-
щем, исторически закреплено и стало, кажется, непоправимо.
764
О ГИМНАЗИЧЕСКОМ РЕФОРМЕ
СЕМИДЕСЯТЫХ ГОДОВ
I
Десять лет, истекшие со времени смерти Каткова (|20 июля 1887 года), дают нам
повод остановиться на главном практическом деле, которое связывается с его
памятью, - системе классического у нас образования. Он не был ее организато-
ром; едва ли он знал все подробности, с какими она осуществилась у нас. Но,
ссылаясь на примеры Англии и Германии, он если и не убедил всех, то заставил
всех, от кого зависело практическое разрешение вопроса, поверить, что класси-
цизм есть единственное для России средство стать умственно независимою
страною, стать равною среди равных в семье просвещеннейших европейских
наций. Он дал этой системе победу как идее, как принципу - в противовес
системе утилитарного, практического обучения. В семидесятые годы в нашем
учебном мире происходило величайшее волнение: повсюду, даже в исключи-
тельно фабричных местностях, открываемы были прогимназии, четырехкласс-
ные и шестиклассные, которые имели возрасти до полных гимназий. Как бы
желая порвать всякую связь с традицией, с условиями своего места, своего
времени и своей истории, для преподавания древних языков, и особенно вновь
введенного греческого, были вызваны учителя из славянских земель Австрии,
причем обойдены были питомцы своих духовных академий. В то же время
были приняты все меры, чтобы стеснить, сузить, принизить реальные училища,
ученики которых всюду рвались и никуда не допускались. Это были годы пол-
ного административного торжества классической системы и вместе, как это
можно видеть теперь, по истечении 27 лет, годы глубокого культурного падения
этой системы - странного и небывалого у нас иссякновения интереса к класси-
ческому миру, запустения историко-филологических факультетов, совершен-
ного перерыва в появлении выдающихся работ по истории Греции и Рима,
которых выходило так много до реформы. «Пропилеи» Леонтьева, труды Бла-
говещенского, Помяловского, Модестова - все это было до административного
торжества системы, и все это исчезло, рассеялось, заменилось после реформы
жалкими компиляциями, без любви и интереса к предмету, изготовляемыми
для получения ученых степеней. В восьмидесятых годах уже началось админи-
стративное отступление системы. Стали закрываться классические прогимна-
зии: так, в одном московском учебном округе закрылись четыре прогимназии -
в Брянске, Ефремове, Касимове, Белеве; то же совершалось и в других учебных
округах. Появились сперва требования, а, наконец, и уступки в способах препо-
давания древних языков: к письменным переводам исключительно с русского
на древние языки присоединились письменные же переводы с древних языков
на русский. Раздались всеобщие жалобы на порчу русского языка, русской
письменной речи у учеников. На иностранцев-учителей, которые к тому вре-
мени передвинулись на должности инспекторов и директоров гимназий, реже
жаловались потому только, что, очевидно, выписанный их контингент уже не-
765
куда было девать и оставалось выжидать естественного их вымирания. Нико-
му, однако, не пришло бы на ум теперь повторить эксперимент подобной
выписки. Наконец, с конца восьмидесятых годов и до сих пор делаются вели-
чайшие усилия насадить у нас профессиональное обучение; и в самой на-
стойчивости этих усилий видится молчаливое разочарование собственно в
классической системе. Замечательно, что специальные министерства, как
финансов и земледелия, ревностно охраняют открываемые школы в своем
ведомстве и даже переводят в свое ведение часть школ, ранее находившихся
под руководством министерства народного просвещения.
Очевидно, изо всех этих фактов, что были допущены какие-то ошибки в
самую минуту торжества системы; что-то необдуманное, или обдуманное
неполно, закралось уже тогда, в самом начале, в нее. Кто отступает, и так
быстро, ш был прав, или не во всем был прав, когда наступал так бурно.
Мы соберем, как в формулу, все частные ошибки, тогда сделанные, ска-
зав, что классицизм не был привит к нам как живое к живому, но был механи-
чески вдвинут в нашу школу; в семидесятые годы совершилось именно ад-
министративное торжество идеи, и вот отчего идея не вросла в жизнь школы,
не пустила в ней корней, не дает юных побегов, и вообще остается до сих пор
властною, но мертвою, не живою действительностью.
Как маленькая иллюстрация этого - выписка учителей; она могла быть,
конечно, удачна, но характерно для всей реформы, что личность учителя не
играла в ней никакой роли, что в этой личности не предполагалось никакого
значения: лишь бы человек обладал знанием предмета, правительственным
(австрийским) удостоверением в этом знании — этого было совершенно доста-
точно, чтобы на 25 лет поручить ему преподавание где-нибудь в Калуге или
Орле. Это - чиновник, который не может не исполнить своего дела, потому что
за ним будет надзор; а что он исполнит его удовлетворительно, в этом руча-
тельством служила удовлетворительность (и даже превосходство) данных ему
инструкций (программа и объяснительная к ней записка). Такт его или бестак-
тность в обращении с учениками, талант или неспособность к преподаванию —
об этом (при реформе) не было никакого вопроса, самая мысль об этом не
приходила на ум, и, в общем, она до сих пор отсутствует в учебном мире. И до
сих пор учителя наших гимназий не выбираются, а назначаются; они назнача-
ются по диплому; они нигде и никогда к преподаванию не готовились и их
преподавательских способностей, ранее назначения, никто не испытывал. На-
блюдение, которому учитель потом подвергается, есть более административ-
ное, чем педагогическое; и при «исправности» в «службе», если он «не про-
пускает уроков», если на уроки не является «в нетрезвом виде», - при этих
условиях, если бы даже его педагогическая умелость была нулевой или отри-
цательной, он не будет ни в коем случае подвергнут такой административной
каре, как лишение должности. Он не умеет преподавать, не имеет такта с уче-
никами: но ведь этого и не искалось в нем. Об этом ни у кого не спрашивалось
это никеги не испытывалось, к этому ничем он не подготовлялся. Как же вы это
спросите у него после того, как он определен на службу, т. е. спросите о том, о
чем заранее не спрашивали и в чем нисколько не условливались.
766
II
Учитель-ремесленник на ремесле, но и учебник-только нужное ему долото
или верстак для ремесла, в приготовлении которого не заключается никакого
искусства. Вот второе господствующее представление в эпоху реформы и
реформаторов. С семидесятых годов открылась у нас эра педагогической про-
мышленности, промышленности через учебники, через составление их. Учеб-
ник составлен «по программе» и представлен «на одобрение»: какая причи-
на, какое есть законное, формальное основание не «одобрить» его, т. е. отвер-
гнуть, забраковать, нанести составителю формальный ущерб, когда написан-
ная им работа грамотна и до ядовитости точно отвечает всем самым мелким
требованиям печатного экземпляра программы и «объяснительной к ней за-
писки»? Это - педагогическая макулатура, вы скажете, убийственная по без-
душности и бесталанности. Но где же определено и даже определимо ли, что
такое макулатура и что такое не макулатура? Это - художественное требова-
ние, художественное воззрение на предмет - и его не содержится ни в каких
правилах, не содержится в требующей учебника «системе». Ведь совершен-
но возможно было, при составлении программы, составлять ее не абстрактно
в применении к предмету (с предоставлением потом свободы писать на него
учебники), но в применении к частному и уже превосходному руководству
по предмету, какой имелся в литературе нашей или даже иностранной (кото-
рое в последнем случае следовало перевести). Ведь все преподаваемые пред-
меты уже столетия преподаются; над ними работали мастера, художники на-
уки и педагогического искусства. Есть по геометрии Эвклид-зачем потребо-
вался еще Давидов? Но Давидов - еще мастер; пришли «Ивановы» и «Петро-
вы», не «одобрить» которых решительно не нашлось никакой причины-они
всякую причину заботливо устранили, - и они вытеснили Эвклида, как другие
и в другом вытеснили все то, что, будучи прекрасно, одушевлено, - естествен-
но не отвечает маленьким подробностям и частностям новой абстрактной
программы, а потому и не удобно, «не законно» стало при прохождении -
при полной и обдуманной «законности» «Иванова». Вот второй огромный
провал, не обдуманный «системою» при бурном «наступлении». Учебник и
учитель - это есть единственное в «системе», с чем соприкасается ученик,
что он чувствует из нее на себе, чем он собственно воспитывается и образу-
ется. Без учебника и без учителя, т. е. не выработав их до виртуозности, до
достижимого совершенства, невозможно в педагогике идти ни в какую ре-
форму, а с ними можно предпринять всякую. Они составляют не только един-
ственно живую, но единственно действительную, потому что единственно
чувствуемую учеником, сторону всего педагогического дела; ибо все в нем
остальное - номинально и даже просто недействительно. И вот, тогда как учи-
тель и его лицо были пренебрежены, «забыты», - в вопросе об учебнике все
было предоставлено личности, «предусмотрительно» передано в руки алч-
ной конкуренции. «Одобренный» учебник - это обеспеченность на старость
и даже улыбающееся богатство; при забитости и скудности учительского по-
767
ложения - это подняло на ноги и взбудоражило худшими чувствами весь лич-
ный персонал: можно худо учить, но нужно составить «хороший» учебник.
«Хороший», т. е. который раскупался бы, его предпочтительно выбирали бы
учителя, при котором учителю не нужно бы много объяснять и по которому
ученику легко было бы готовить уроки. Неуловимо, повинуясь этому требо-
ванию, учебник (т. е. все учебники) из руководства, составляемого с мыслью
о предмете, стал переходить в руководство, составляемое с мыслью об учени-
ке и учителе, применяясь к лени их и неспособности, отчасти к действительно-
му недосугу. «Учебник» стал не истинен, не полон, но «так, чтобы удобно
было проходить»; чтобы он «проскальзывал», не зацепляясь за внимание уче-
ника, не останавливая его, не задерживая. В одной половине предметов, так
называемых «литературных» (география, история, Закон Божий - где требует-
ся рассказ, в зерне - память факта), он стал переходить в тип компендиума,
конспекта, в «опись» предметов и их отношений; в другой половине, где тре-
буется усилие понимания, он сделался осторожно замаскированным под-
строчником: так, в «комментированном» издании классиков гг. Манштейна и
Георгиевского дана для трудных мест или конструкция, т. е. почти перевод, или
при толкованиях «мифологических» даже и перевод, но только неполный. Лишь
учебники математики, по существу неподатливого предмета, не допустили
порчи себя; вся остальная педагогическая литература подверглась глубокой,
беспредельной порче.
Таким образом, реформа осталась при прекрасных «программах» и
«объяснительных записках», но без реальных средств к их исполнению. Этих
средств не то чтобы не нашлось: их не искали - как в сфере учителей, или они
были испорчены - в сфере учебников. Все дело с первого же шага, твердо и
блистательно постановленное с административной стороны, поэтому имен-
но с педагогической стороны, в черной работе, пошло неспособно, а с уче-
нической стороны - леностно. Учителя не умели учить, ученики не хотели
учиться; те и другие были «при исполнении обязанностей», одни - на 25 лет,
другие - на 8, без любви и понимания дела, которое они делают. Казалось, все
было выиграно: выиграно все было в центре, в министерстве; все было про-
играно на уроке, в классе. Рассмотрим, что было «проиграно» или, на дру-
гой взгляд, - «выиграно».
III
Прежде всего, была не только неосторожность (в случае неудачи - остаться
вовсе без образования) в признании классической системы «единою истиною»,
но прямая ошибка против понимания своей цивилизации. Европейская циви-
лизация есть эклектическая цивилизация, построенная на элементах мистико-
христианских, греко-римских и, наконец, на элементе твердого научного зна-
ния; она держится почти равномерною верою в три эти начала или, пожалуй,
неполнотою уверенности в которое-нибудь из них. Этот эклектизм, выражен-
ный в цивилизации, должен выразиться и в школе, но не в эклекгичности про-
768
граммы «единой истинной школы», а в отвержении единства типа школы, в
признании одинаково истинными или, пожалуй, одинаково сомнительными
нескольких типов школ. Эклектизм программы есть эклектизм, вводимый в каж-
дую единичную душу, и он однозначен с тем, как если бы мы захотели выучить
ребенка ходить тремя неодинаковыми походками или писать тремя различны-
ми почерками; напротив, эклектизм школ ничего другого не выражает, кроме
той уже привычной для нас мысли, что около священника, который «благ и
истинен», - благ и истинен и механик; около Лессепса возможен и нужен Вин-
кельман. Это - неуверенность цивилизации, но не неуверенность души. Возле
семинарии, которая уже существовала, следовало именно развить во всю пол-
ноту типа классическую школу и создать вновь школу реального, опытного
знания (без непременного практического характера или и с ним - это безраз-
лично), и питомцев всех трех школ с равным правом допустить до высшего
образования (университет и высшие технические школы), отняв у них право
самоконтролироваться (испытания зрелости) и возложив право контролиро-
вать на то учебное заведение, которое принимает в себя питомцев. Университет
один компетентен судить, какие слушатели ему пригодны, потому что один он
наблюдает их у себя в аудиториях, испытывает на экзаменах, читает их рефераты
и курсовые сочинения, следит за интересом их к науке и способностью к заня-
тиям; и если ему не дано даже взглянуть на качества подготовки слушателей,
которые вводятся в его стены, то, естественно, он перестает быть ответствен и за
весь ход занятий их у себя, а также и за поведение, тесно связанное с занятиями
(точнее - с незанятостью, праздностью, безынтересностью к науке). Сверх это-
го, «самоконтролирование» гимназий породило то неисчислимое зло, что все
внимание их обращено было на качества отчета перед округом, а не на действи-
тельные учебные качества ученика, не на подготовленность его к слушанию
университетских лекций: именно «зрелость» и была подсечена через установ-
ление «испытания зрелости». «На работе зрелости, если пишущий ее отлучает-
ся по нужде, должно быть обозначено, в часах и минутах, время выхода из залы
и возвращения в залу»; и вот под темою «Пушкин как народный поэт» директор
пишет: «Вышел в час 45 минут - вернулся в час 49 минут». Все канцелярское -
записано; но что ученик не читал Пушкина иначе как в приведенных в хресто-
матии образцах и что его оценку он тайно делает по Бураковскому (есть такой
«критик» для гимназий), не читал 8-го тома Белинского, не подозревает крити-
ческих работ Ап. Григорьева, Страхова и даже речи Достоевского при открытии
Пушкинского памятника; да и ни одной из тех замечательных речей, в которых
Пушкин был как бы сообща обдуман русскими писателями, - это все не запи-
сано, не записуемо и даже вообще это не останавливает ничьего внимания. Не
останавливает в округе («Что ему Гекуба»?) и потому не останавливает в гим-
назии. Работа все-таки ничего себе. Правда, ужасно странен язык: так не гово-
рил и не писал никто в России до реформы 70-го года; чуть-чуть он неправилен,
но это в нем не главное: он как-то сделан, придуман; точно это - язык для
письменных испытаний, специфически выработавшийся педагогический «во-
ляпюк». Его образцы следовало бы опубликовать: это - обезьяна, выученная
25 Зак. 3969
769
по-русски, как в зоологическом саду есть слоны, танцующие французскую
кадриль. Русский язык в колоритности и живости своей, в своем народно-
бытовом аромате - потерян, забыт вовсе, и, может быть, он расцветает только
где-нибудь в меблированных комнатах около университета, в разговорах око-
ло университета, в разговорах с половым и «напрасных усилиях любви» око-
ло гризетки. Язык, как национальное достояние, - в гимназиях умер. За какую
цену? То есть наряду с бесчисленными и другими благами, здесь не называе-
мыми, он отдан. За что?
IV
Собственно идея классического образования не есть только прекрасная, но и
возвышенная идея. Как на реальных знаниях, строго выдерживая их метод, мож-
но развить до глубокой зрелости умственные способности ученика; как на хри-
стианской мистике, при последовательности и цельности школы, можно воспи-
тать благородную религиозность, так на цельном и живом изучении классичес-
кого мира можно всесторонне и глубоко пробудить все силы мальчика и юно-
ши. Не отдавая непременно первенства этой системе, нельзя не сознаться, что и
никакого недостатка перед прочими системами она не имеет. Остановимся вни-
мательно на ней. Классический мир умер - вот первое его преимущество; он
не был односторонен, он даже, единственный из всех циклов истории, всесторо-
нен, всеобъемлющ - это его второе преимущество. Он умер: только умершее—
истинно поучительно. Не вздрогнула ли вся Россия, когда Толстой рассказал
нам «Смерть Ивана Ильича», т. е. рассказал о жизни с ее заключением, с фина-
лом, который для нас и нашей истории еще не наступил? То, что пробежало все
фазы своего развития, - выявило закон всякого вообще развития; сохраняя свою
прелесть живого в каждом порознь создании, во всякой песне, всякой статуе,
оно совокупной цепью этих созданий являет образ смерти, и в этом синтезе
жизни и смерти раскрывает глубочайшую мудрость, какая доступна человеку и
какая ему нужна. Много народов, однако, умерло - почему мы останавливаем-
ся на греках и римлянах? Потому что они были всесторонни; евреи создали
великое - но только в религии; Индия жила фантазиею и очень мало трезвым
рассуждением; Персия воевала и не умела устроиться. Но назовите сферу че-
ловеческого труда, метод человеческого мышления, форму человеческого об-
щежития, наконец (за исключением чистой религиозности), назовите форму
человеческого умиления, восторга, которых не только не испытали бы греки и
римляне, но не открыли бы почти каждую впервые и уже подвинули ее на
очень высокую степень совершенства, на степень иногда - как в искусстве
пластическом и словесном, как в мышлении, - непревзойденную. Это - гени-
альные народы; но у них есть и еще преимущество: утренняя свежесть. В силу
того что они во всем были начинатели, формы всего ими созданного полны тем
доверием к ним, тою неутомленностью сил, тем именно утренним дыханием,
которое так отличительно и не похоже ни на вечер, ни на полдень. Отсюда зара-
жающая красота их антологии, эпоса, пластики, форм общежития, как эти изящ-
770
ные республики и борьба с тиранами. Все понятия, какими мы живем, там
имеют свое начало - и мы не можем не только творить, но даже сделать усилие в
мышлении ли, в искусстве ли, в политической ли жизни, не делая чего-то, что
очень напоминает их, их продолжает и иногда только повторяет. Ничто так не
может пробудить всех дремлющих сил отрока, девушки, юноши, пробудить бла-
городнейшую в них мечтательность и вместе совершенно зрелое суждение, как
воспитание, основанное на постоянном общении, на пристальном изучении этих,
в своем роде, гениально живших и уже умерших юношей-народов. От мифов и до
системы голосования на Марсовом поле, от изречений «семи мудрецов» до ме-
тафизических понятий Аристотеля, от простодушной песенки Сафо и до Вирги-
лия, до сатиры Горация, наконец, - между Аристидом и Каталиною - тут дан
полный очерк бытия человеческого, на котором, в полном же очерке сил своих,
может возрасти, воспитаться, научиться человек от лет очень ранних - от восьми
лет, когда его займут странствования Одиссея, и хотя бы даже до старости, когда он
станет выяснять себе точки сближения и расхождения Платона и Аристотеля. Но
само собою разумеется, что воспитаться на этом можно лишь при полноте, зак-
ругленности восприятия. Идея воспитания классического, по существу художе-
ственная, требует и художественного непременно воплощения.
V
Кто помнит педагогические споры семидесятых годов у нас, вероятно, по-
мнит идею «умственной гимнастики», которая связывалась с классическою
реформою. Это была господствующая идея времени; аргумент, так же ка-
завшийся убедительным, как примеры Германии и Англии. Два древних язы-
ка, наравне и в уровень с математикою и без всякого перед нею преимуще-
ства, хотя тип школы назывался почему-то «классическим», сконцентриро-
вали около себя все остальное преподавание, как второстепенное (однако
поглощающее около 2/з времени). Тип школы вовсе не был классическим -
вот тайна, оставшаяся вовсе не замеченною для самой «системы»; он был
абстрактно-гимнастическим, и древние языки по тому же методу и в тех же
целях лексически расчленялись, как и в каких целях на уроках математики
расчленялась алгебраическая задача или теорема геометрии, и еще на дру-
гих уроках упражнялись мускулы при помощи шведской гимнастики. Идея
пластического воспитания, идея художественной законченности, как истин-
ное и единственное основание классицизма, была не только умалена - она
была вовсе не замечена: просто она не пришла на ум, как в другой сфере
выпали из памяти учитель и учебник. У Пушкина и Баратынского, не говоря
уже о Батюшкове, больше следов классического образования, чем у писате-
лей, теперь выступающих или недавно выступивших:
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал
771
- и неприязнь и «охота» в этих словах живы, они текут из живого впечатле-
ния от древнего мира, из умения различить Апулея от Цицерона; но для
ученика наших дней Цицерон и Апулей - тожественны, как «фразы для пе-
ревода с латинского языка на русский» при повторениях Кюнера. Мы име-
ем «филологические классы», специальные, узкоспециальные, даже узко-
профессиональные, как «мореходные классы» Кронштадта и Одессы; и го-
ворить об «едино-спасительной школе», какую мы будто бы имеем в этих
гимнастических реперториумах, не только непозволительно, но и почти
смешно. Смешно говорить об их преимуществах перед реальными учили-
щами: ведь если в «умственной гимнастике», а не в художественной стороне
дело, то на обильном изучении там теоретической механики, с ее теорема-
ми, сообразительность гимнастируется также, как и на древних языках. Ибо,
очевидно, что если «в уровень» с математикою и «для того же» поставлена
древняя филология, то и обратно - математика стоит «в уровень» с древнею
филологиею, и в разных пропорциях одно может замещать другое. Но о
художественной стороне, как, вероятно, никто не отвергнет, нет и воспоми-
нания в гимназической системе, в самом, так сказать, завитке ее, ее духе;
вообще о ней не упоминалось и при реформе, в числе мотивов; не выстав-
ляемая как мотив, она затем не вошла и в действительность. «Классическое»
образование у нас и не поучительно для ума, как анализ прекрасного умер-
шего, и не воспитательно, потому что «прекрасное»-™ из него и вынуто.
Вынут тот «лавр и киннамон», о котором вспоминал Пушкин, и есть что-то
среднее между препаровочною комнатою анатомического театра и немец-
кою кухнею, где решительно никто и нисколько не может воспитаться и не
воспитывается.
Дети и юноши наши, в частности «испытываемые на зрелость», не
знают даже греческих мифов в той мере, как знали их в возрасте 14-16 лет
юноши 20-х годов века; они не читают Плутарха ни по-гречески, ни по-
русски; перевод пяти жизнеописаний, сделанный проф. Герье, остано-
вился на первом выпуске «за ненадобностью», тогда как десять томов
перевода г. Дестуниса нашли в начале этого столетия покупателей. Они не
имеют представления о «Лаокооне», «Гладиаторе», «Афродитах»; никог-
да не слышали, что был Винкельман, что есть Торвальдсен, удачно уло-
вивший дух древнего искусства, и как, в чем уловивший. Всякий эпизод
греческой и римской истории, выходящий за рубрику 280 страниц исто-
рического учебника, заставит их, при вопросе, так же дико «воззриться»,
как эпизод из китайской истории, о котором бы их спросили. В чем, хотя
бы приблизительно, заключалось мышление Платона и Аристотеля, в чем
заключалось мышление атомистов и возражения, им сделанные Геракли-
том и элейцами, - все это, совершенно доступное юноше в 17-18 лет, ибо
все это гораздо менее затруднительно, чем проходимый им бином Нью-
тона, возмещено этим биномом и выброшено из специфически класси-
ческой школы.
772
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РОССИИ
В ГОДЫ УЧЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Памяти М. Н. Каткова. 1887 г. - 20 июля - 1897 г.
Отдельный оттиск из журнала «Русский Вестник»
за август месяц. М., 1897.
Календарь Лицея Цесаревича Николая
за 1869/70 учебный год. М., 1869.
Выдержки из передовых статей «Московских
Ведомостей» за 1864-1868 гг. Стр. 106-204.
I
Нам невольно вспомнился, при чтении этих двух книжек, стих Пушкина, обра-
щенный к памяти Петра Великого:
Не презирал страны родной -
Он знал ее предназначенье.
В самом деле, успех реформы Петра Великого - то, что она «препобе-
дила всякую тьму», заложен был не столько в силе, которую дало ему его
положение, и не в одной его огромной решимости, но и в этом особенном
его отношении к преобразуемой стране, на которое указал поэт в двух при-
веденных строчках. Петр не изчужа пришел к нам; он стал к России не в
положение инородной силы; при всех правах назваться Прометеем своей
страны, он никогда не искал себе этого холодного и внешнего возвеличе-
ния; прямо - он не согласился бы на него. «А о Петре ведайте, что жизнь
ему не дорога: жила бы и цвела Россия» - так в памятных словах перед
Полтавой он определил себя, указал служебное, покорливое, второстепен-
ное свое значение около России. Из этого взгляда на себя вытекла простота
его приемов. Он боролся с Россией, но - чего не заметили славянофилы -
на русской же почве; с нравами, но русским же нравом; с обычаем, но не
покидая русской своеобычности; и, наконец, он сам, он весь в лице своем,
движениях, манере, был новый русский быт, и только более свежий, а, глав-
ное, более правдивый, чем тот - окаменевший в своей условности и фор-
мализме прежний быт, смерти которого он действительно искал, обрезая
рукава чопорных костюмов и запрещая в «Духовном регламенте» водить
архиереев в церкви под руки - «понеже не пьяни суть». Россия старая,
Россия предания оказалась бессильной против него, потому что он не хо-
тел и не требовал от нее ничего, кроме правды в ней же самой, в ее же вере,
в ее притязаниях. Отсюда новая черта его реформы - реализм: дело и факт,
как ее сущность; и здесь скрыта еще причина, почему старая Русь ничего
не могла противопоставить ему, кроме слов. «Вы святитесь, ну так будьте
же святы, а не носите только важность святости»,- говорил и требовал он;
«вы считаете себя первыми среди европейских потентатов, но тогда будьте
773
же и в самом деле первыми». Он всего хотел «в самом деле», тогда как до
него все было номинально, в претензии слов, без оправдания в работе.
«Трудись, Демидыч, помогу»,- писал он простому горнопромышленни-
ку; «Труды моего Миниха сделали меня здоровым»,- писал он, больной,
по осмотре работ по Ладожскому каналу. Что было сделать с этим? Проти-
вопоставить этому? Покинув слова, осталось рвануться за работником, и
Русь двинулась, рванулась на два века, не умея и не желая остановиться.
Таким образом, великий, но чисто нравственный порыв победил нравствен-
ную же привязанность к «святоотческой» старине; идеал был побежден,
однако не силой, а идеалом же. Позднее тысячи ухищрений были употреб-
лены на то, чтобы подорвать идеальную, нравственную сторону в этом
порыве,- употреблены умами глубокого и тонкого развития, «змеиной
мудрости». «Его образ,- говорили,- кровав», и вас спрашивали: разве вы
«за» кровь? Он «учредил обер-фискалов», «он положил основание чино-
началию», «пуще прежнего он закрепостил крестьян», «лишил свободы
церковь». Но удивительно: все способы обвинения спадают с него; они не
льнут к какой-то простой и серой, всем инстинктивно понятной правде,
которую выразил в нашей истории великий трудолюбец:
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
Два самых светлых ума нашей истории: Ломоносов и Пушкин, один -
гений науки и другой - гений поэзии, не могли оторваться от его образа
взором.
II
Мы взяли огромный масштаб, чтобы в свете его рассмотреть маленькое и
нам современное почти явление.
«В начале 70-х годов работа в московском учебном округе кипела. Не
только вводились новые порядки, но и постоянно, при живом участии обще-
ства, сословий, городов, земства, открывались все новые учебные заведе-
ния... Но едва они открывались, проявлялись осложнения совершенно иного
свойства. Это же самое общество в ином виде - семьи, отдельных лиц, печа-
ти, - всеми силами тормозило успех дела, которому служило и приносило
жертвы... Действительно, какое дело нашим Простаковым до европейской
культуры и до серьезных занятий по европейским программам! Расчет для
них был простой: прибавлен лишний, восьмой, класс к курсу гимназий, уси-
лены программы, а права, обещанья их Иванушкам и Митрофанушкам оста-
лись те же. Вместо прежнего патриархального безучастия семьи к школе
проявилось ярое озлобление и противодействие. Еще яростнее поощряли
учащихся к противодействию обновленной школе газеты и журналы» (Памя-
ти М. Н. Каткова, стр. 26-27).
774
Так пишет, впрочем, в интересных и тонких своих воспоминаниях о Кат-
кове кн. Н. П. Мещерский, бывший попечителем московского учебного ок-
руга в пору введения гимназической реформы. По его собственным словам,
в административно-педагогической деятельности он пользовался ближайши-
ми указаниями знаменитого московского публициста и его друга, П. М. Ле-
онтьева, ссылаясь, впрочем, что они руководили и всем министерством на-
родного просвещения, вдохновив его к реформе. Реформа, по объясняемой
причине, прививалась туго; и полный свой взгляд на эти причины, представ-
ляющий до некоторой степени общую концепцию нашей истории, автор вос-
поминаний выразил в следующих словах:
«Меня всегда поражал таинственный смысл трилогии, которая представ-
ляется при сопоставлении знаменитых драматических творений Фонвизина,
Грибоедова и Гоголя - лучших их творений, почти единственных: «Недо-
росль», «Горе от ума», «Ревизор». Написав их, они замолкли, словно испол-
нив свой урок, свое призвание... Рукою их запечатлено в нашей памяти, в
назидание современникам и потомству, как бы спасительное предостереже-
ние, эти новые: Манэ-Факел-Фарес. «Недоросль» - это правда всем нашим
бесчисленным и вековечным Митрофанам и Простаковым, юным и старым,
неученым и будто бы ученым, сфер низменных и высоких. «Горе от ума» -
вечное напоминание о тупой и закоренелой также всюду у нас умобоязни
или, вернее, недоверии к людям умственно и нравственно выдающимся; и
наконец, как неминуемый вывод, как прямое последствие этих наших грехов
- появление грозного «Ревизора!». «Ревизора» - не комедии, а того, который
еще и не был воплощен Гоголем, но символически назван им. Ревизор, перед
которым немеет и замирает заурядная жизнь, со всяческими неправдами и
беззакониями,- это строгое напоминание долга, присяги: громкой - Царю и
тайной - совести».
«И вот на личности Каткова сосредоточились все оттенки злобы, зависти,
страха и мести, которые содержатся и так верно изображаются в этих творе-
ниях. Прежде всего тупая ненависть Простаковых против того, кто так на-
стойчиво проповедывал необходимость поднять, наконец, нашу школу до
европейского уровня. «Не хочу учиться - хочу жениться»,- твердилось на
все лады. И как уверить маменек, что Митрофанушки, Коли и Васи должны
серьезнее учиться, чтобы поумнеть, когда, по их твердому убеждению, эти
Митрофанушки, Коли и Васи уже со дня рождения умнее всех этих Катко-
вых?! Он тиран, он изверг, он губитель детей! Однажды, в дворянском собра-
нии, во время перерыва заседания, Ю. Ф. Самарин (в вопросе о реформе
гимназий он ему сочувствовал) спросил меня: «Скажите, пожалуйста, отче-
го это все дамы так яро нападают на Каткова?» - «Да очень просто, иначе и
быть не может,- отвечал я - Представьте себе мнение г-жи Простаковой о
новой европейской программе гимназий в применении к Митрофанушке».
Самарин засмеялся, сказав: «А ведь, кажется, вы правы». С екатерининских
времен Простакова значительно развилась: она хорошо говорит по-француз-
ски, да и по-английски или по-немецки, признает географию и, кажется, боль-
775
шая сторонница конституции, но пропорционально возвысились и требова-
ния от ее детей... Самыми ярыми из Митрофанушек оказались, впрочем,
Митрофанушки якобы светила науки, которых Катков уличал в невежестве, -
Митрофанушки-журналисты, полуграмотные, ярые противники всех попы-
ток поднять уровень знаний, что лишило бы их подписчиков и читателей.
Имя им всем-легион» (Памяти М. Н. Каткова, стр. 46-47).
Итак, вот неожиданность: Россия - великий Митрофан, которого пред-
стояло переучить Каткову; после Карамзина, Пушкина и тут же всуе называ-
емого Гоголя - она все еще Митрофан; в пору Тургенева, Л. Толстого, Гон-
чарова, Островского - да зачем мы будем называть беллетристов: Россия, к
школьным задачам которой так осторожно незадолго перед этим подходил Н.
И. Пирогов, кстати уволенный из попечителей киевского учебного округа,
как только на министерский пост вступил гр. Д. Толстой,- эта Россия «якобы
светил науки» и «полуграмотных журналистов» потому только отрицатель-
но отнеслась к реформе в ее подробностях, в ее осуществлении, что она «не
хотела учиться», что ей «ученье было трудно». Вот точка зрения, совершен-
но поражающая и которая чрезвычайно много объясняет в глухоте учебного
ведомства ко всякого рода критике. И эта точка зрения впервые открывается
во всей ее полноте из юбилейной книжки, где ясно высказаны взгляды, воз-
никшие не лично у авторов воспоминаний и апологий, но заимствованные,
усвоенные ими из той умственной атмосферы, которою они дышали в редак-
ции и около редакции «Московских Ведомостей» времен Каткова. Так, автор
приведенного воспоминания пишет: «Смеялся я внутренно, когда до меня
доходили отзывы недоброжелателей (старавшихся побольнее меня уязвить),
что попечитель округа - не я, а Павел Михайлович или Михаил Никифоро-
вич! Какая наивность! Михаил Никифорович и Павел Михайлович руководи-
ли тогда не московским округом, а совместно и согласно с гр. Толстым, при-
знавшим истинность их взглядов, и с прямого одобрения государя, вообще
делом просвещения. Очень естественно, что, стремясь к одной цели, безус-
ловно убежденный в правильности их воззрений, зная, что запас сведений их
неисчерпаем и проверен опытом, я строго держался единства направления с
ними - людьми, с которыми, кроме того, связывала меня дружба и уважение,
возраставшие с каждым днем, по мере того как я с ними ближе знакомился.
Я должен сознаться, что я по временам и злоупотреблял их дружбой, уже
слишком часто и настойчиво прибегая к их отзывахМ и советам. И как благо-
душно они к тому относились, несмотря на то, что я отнимал у друзей, столь
обремененных работою в эти смутные дни, слишком много золотого време-
ни» (ibid., стр. 25).
Мы видим совершенно подчиненное, добровольно, и следовательно наи-
более глубоким способом подчиненное отношение попечителя к публицис-
там, - и, очевидно, взгляд на причины сопротивления реформе был, так ска-
зать, ходячий, повторяемый как «общее место» в самом центре, откуда исхо-
дила реформа. Но если бы относительно этого у нас еще оставалось какое-
нибудь сомнение, то оно рассеялось бы при чтении статьи «Заслуги М. Н.
776
Каткова по просвещению России» В. А. Грингмута, где почти дословно по-
вторяется объяснение кн. Н. П. Мещерского, хотя между авторами нет дру-
гой связи, кроме как через лицо Каткова. Он пишет: «Борьба М. Н. Каткова с
врагами истинного просвещения была всего упорнее на почве среднего гим-
назического образования: здесь они имели сильного союзника в существо-
вавшем в нашем обществе предубеждении против серьезной постановки
гимназического учения. Предубеждение это существует, к сожалению, и до-
ныне и имеет свои исторические причины. Причины эти, обнаружившиеся
тотчас же, как только правительство стало серьезно заботиться о нашем сред-
нем и высшем образовании, с полною яркостью изображены в бессмертной
комедии Фонвизина. Комедия эта не имела бы присущего ей глубокого об-
щественного значения, если предметом ее сатиры была бы только неразум-
ная материнская нежность. Такие маменьки, как г-жа Простакова, встреча-
ются всегда и всюду, но нигде оне так не характеризовали собою целого об-
щественного настроения, как именно у нас в России. Общество приносит
государству три вида жертв: матерьяльную - в виде податей и налогов, физи-
ческую - в виде военной службы и духовную - в виде обязательного образо-
вания детей. О последней жертве странно даже и говорить, как о таковой, ибо
образование, даваемое нашим детям, приносит непосредственную пользу
прежде всего им же самим, а затем уже государству. Тем не менее ни подат-
ная система, ни военная повинность не вызывают у нас на Руси такого почти
единодушного протеста, как государственное требование, чтобы мы давали
своим детям серьезное образование, приучающее их к умственному труду.
За сто лет после Фонвизина общественное настроение у нас в этом вопросе
изменилось лишь в том отношении, что теперешние гг. Простаковы не кри-
чат уже больше: «Не нужно учения!», а говорят, что «если уже нельзя избе-
жать учения, то нужно сделать так, чтоб его было как можно меньше и чтоб
само оно было как можно легче». Им нет никакого дела до того, что уровень
и свойства среднего образования не могут быть низкими, так как они зависят
от требований, предъявляемых им высшим образованием, которое, в свою
очередь, без тяжкого ущерба для науки, этих требований понизить не может;
им никакого дела нет до той простой истины, что без труда труду не научишь,-
они требуют только одного: чтоб их детей учили как можно меньше и чтоб
учение было как можно легче, если уж совсем без учения обойтись нельзя.
Если б явился какой-нибудь министр, который, махнув рукой на интересы
истинного просвещения, объявил бы, что среднее образование будет про-
должаться всего какие-нибудь пять лет и будет сведено к легкой забаве в тече-
ние двух-трех часов в день, то такой министр в Германии, Англии и Франции
был бы покрыт насмешками и позором, а у нас - засыпан благодарственны-
ми адресами не только родителей, но и земских, дворянских и даже высших
государственных собраний. Так сильна еще во всех слоях нашего общества
грубая сила невежества... Такое отрицательное отношение нашего общества
к серьезному образованию еще более усилилось в последнее время вслед-
ствие того, что оно нашло неожиданную поддержку со стороны якобы на-
777
уки. Этого в конце прошлого века не было, а то Фонвизин ввел бы в свою
комедию рядом с Вральманом какого-нибудь Эрисмана*, который поддер-
живал бы своим якобы научным авторитетом г-жу Простакову в ее борьбе
против образования и научил бы ее даже эффектной латинской цитате: «Mens
sana in corpore sano»** (Памяти M. H. Каткова, стр. 85, 87).
III
Вот две концепции - одна с оттенком историческим и другая с государ-
ственным, по которым одинаково Россия выходит Митрофаном. Оставим
критику заключенной здесь истории и «государственных конструкций» и
остановимся на вопросе узкопедагогическом: воспитательно ли, образо-
вательно ли - пусть даже вы входите в страну, действительно населенную
Простаковыми,- начинать ее «просвещение» с констатирования именно
факта, что это - все Простаковы. Слава Богу, вся Европа училась, просве-
щалась, и решительно мы не помним, чтобы какую-нибудь где-нибудь стра-
ну инструкторы называли «страной Простаковых»: впервые это у нас слу-
чилось. «Angeli - ангелы: пусть эта страна белокурых детей называется
Англией», - так по записи средневекового хроникера произошло имя Анг-
лии и англичан, данное первыми священниками-миссионерами Рима. Вот
первое зрительное впечатление, и уже сейчас - ласка и, конечно, сейчас
же - просвещение. Но вот, после тысячи лет существования, к нам выходят
новые инструкторы для переучивания, и первое, что мы слышим от них,
есть - «Митрофаны». Еще учения не началось, а мы уже оскорблены. Су-
зим поле зрения, войдем в классную комнату: вот перед нами, конечно,
перепуганный и смущенный «Митрофан», обдумывающий, действитель-
но ли его папа - «Скотинин» и мама - «Простакова»: как, думаете вы,
внимательно он слушает теперь наставления учителя? Следит за окончани-
ями в extemporale? Не возбужден ли он, не ожесточен ли? В ответ не смеет-
ся ли он злобно над всем, что вы ему говорите, и прежде всего - довольно
не без основания - над вашим лицом, над вашей душою, знаниями, усили-
ями. Я только психически построяю ответ на изложенную концепцию, и
читатель видит, что из него слагается история действительного отношения
русского общества к школе, именно только к средней и именно только
после реформы. В уклад нашей жизни эта реформа вошла каким-то сухим
и высокомерным жестом; еще ничему не научив, она уже оскорбила и
естественно не могла позднее ничему научить. Что в концепцию «Проста-
ковой» входила именно Россия, а не матери неудачных сыновей, это мож-
но видеть из следующих слов г. Грингмута:
«Такова была плотная стена невежества, которая в 60-х годах охраняла
Россию от истинного просвещения и которую необходимо было бы во что
* Бывший профессор гигиены в Московском университете.
** «Здоровый дух в здоровом теле» (лат.).
778
бы то ни стало пробить, чтобы предоставить России подобающее ей видное
место в храме европейской науки, чтобы освободить дорогую родину от
духовного непроглядного мрака, который ее обрекал на вечное ученичество
и рабскую зависимость от Европы» (ibid., стр. 88)... «Почти весь Государ-
ственный совет поголовно восстал против введения в России общеевропейс-
кой школы. Можно ли было требовать от этих людей, уже достигших высшего
положения в государстве, такого самоотверженного признания, что в обра-
зовании их находятся существенные пробелы и что они поэтому не стоят на
одном уровне с серьезно и основательно образованными западноевропейс-
кими государственными деятелями» (ibid., стр. 90).
Но ведь это же негодование их было основательно? Ведь практика, быт,
склад семьи и печать, ею налагаемая на юношу, в самом деле воспитывают
и образуют несколько? И по крайней мере, они воспитывают не хуже, чем
это может сделать австрийский пришелец, за 1500 руб. в год оставивший
родину и религию (большинство католиков-учителей приняло правосла-
вие). Ведь Карамзин, когда он выехал за границу «русским путешественни-
ком», был куда плохой «классик» перед теперешними юношами, пишущи-
ми на аттестат зрелости,- и, однако, никто из них не есть и не обещает быть
таким сыном родины своей, как этот малоученый, но истинно просвещен-
ный юноша. Какого был образования Гоголь? Всякая страна и решительно
всякая эпоха имеет тысячу образовательных средств, среди которых школа
стоит 1 /1 ооо долею, и Государственный совет, да и вся Россия, все «Простако-
вы» в самом деле были правы, крича, что они не так невежественны, как их
считают в редакции «Московских Ведомостей», что они любят свое отече-
ство - и вот уже образование, что они православны - и вот другое образо-
вание, что они только не школярно-образованны, и это решительно ничего
или очень мало значит, ибо от Сократа и до Мальборо, из которых один
ничего не знал в физике, а другой - ничего в истории Англии, кроме того,
что узнал из пьес Шекспира,- великие люди не были вовсе невеждами, но
каждый в свою эпоху и в своем народе был соответственно и типично обра-
зованным человеком. Ведь это - да позволительно будет так выразиться -
вакхическое упоение программами есть истинное культурное вандальство,
потому что оно не видит тысячи точек, тысячи исторических, бытовых и
даже физиологических обстоятельств, на которые вся «программа» должна
бы оглядываться, и между тем она входит в жизнь с требованием, чтобы на
нее все оглядывалось и, побросав выполнение огромной в нравах, религии,
долге написанной программы и смиренно сознав, что оно не стоит «в уро-
вень» с чем-то и в сущности «в уровень» с редакцией «Моск. Ведомос-
тей»,- село на парту и начало писать extemporale. Оставьте - есть extemporale,
более трудные и ответственные, чем задаете вы; семья, «государственный
совет», страна никогда не были праздны. Они выполняли свое дело, нуж-
ное, но вам непонятное, и на которое в вашем высокомерии вы даже не
захотели взглянуть.
779
IV
Но мне хочется сосредоточиться на узкопедагогической, а не культурной по-
чве, ибо совершенно легко показать, что именно с педагогической стороны
реформа была исполнена элементарных ошибок. Я указал - и трудно с этим
не согласиться,- что было безумно и непростительно допускать молву, стано-
виться центром слухов, будто русские дети - это «Митрофаны» и исходят из
семей «Простаковых»: это та форма педагогического неприличия, после ко-
торой учителю, не проверяя остальных его талантов, отказывают от дома и от
всякой, сознающей задачи свои школы. Но и вот еще: в «Воспоминаниях» кн.
Н. П. Мещерского есть две любопытные записи: «При открытии одной важ-
ной директорской вакансии мои друзья (т. е. Катков и Леонтьев) решились, по
моей просьбе, приискать опытного педагога. К несчастью, и они и я поверили
горячей рекомендации помощника попечителя одного из южных учебных
округов. Он был рекомендован как славянин, прекрасного направления, пре-
данный русскому делу, высокой нравственности, знающий и убежденный клас-
сик. Я с радостью предоставил место этому кандидату. Увы! Выбор был пла-
чевный. За исключением довольно заурядных, впрочем, знаний и педагоги-
ческих способностей, лицо это оказалось направления вредного, весьма не
русского, честности более чем сомнительной и даже - не славянин. Назначе-
ние это, вредное для дела, причинило мне лично немало неприятностей» (ibid.,
стр. 26). Директор видной гимназии мог быть замечен вовремя, но кн. Ме-
щерский не подозревает, что округ и вся Россия тогда кишели учителями это-
го типа, которых не гнать же было обратно в Австрию и приходилось выно-
сить, и на 25 лет судьба классицизма в России была связана с их служебным
положением, т. е. эта судьба непоправимо и в начале же была погублена. Но
есть запись еще более интересная: «Признавалось (при перемене министров),
что, злоупотребляя властью, я вводил драконовские порядки* и, подчиняясь
влиянию особенно зловредного лица, назначал на места людей недостойных.
И вот в 1880-1881 году устраняют меня с должности попечителя, вероятно,
имея в виду лучшего деятеля. Однако странно: все возможные кандидаты от-
казываются один за другим! Тогда приходится обратиться к судебному ведом-
ству для приглашения лица прокурорского надзора, вероятно, крайне этим
изумленного, но, однако, принявшего должность» (ibid., р. 29), которое затем
в течение 15 лет и руководило округом. Вот картина: Пирогов, светило ума и
опытности, с жаром предается педагогической деятельности - и устранен как
мешающий авторитет. И позван - без авторитета, но и не компетентный, а
главное, совершенно равнодушный к педагогическому делу, и при нем дослу-
живают остающиеся до пенсии 15 лет все еще не выучившиеся русскому
* Не могу, как бывший ученик этого округа и за это время, не отметить, однако,
чрезвычайной ласковости и внимания князя к ученикам, которую он обнаружил на
ревизиях и позднее, вращаясь среди учителей, ничего худого и «драконовского» о нем
и его отношении к ним не приходилось слышать. По всему вероятию, добрый попечи-
тель сам себе казался строг.
780
языку чехи. Ведь это же страдание - и всею тяжестью оно легло на те 80% не
оканчивающих курса в гимназии, которые с тех пор где-то и как-то топят свое
горе по России. Припомним и слова: «При живом участии общества, сосло-
вий, городов, земства открывались все новые учебные заведения» (стр. 26).
«Митрофан» все понес, «Митрофан» всему обрадовался; ну и как же не-
«Митрофан» ответил на эту радость? Что со своей стороны, какую предус-
мотрительность и заботу принес? Но мы говорим - вся реформа была испол-
нена ошибок, и, как ни трудно поверить, читая педагогические статьи Каткова,
перенесенные из «Московск. Ведом.» в «Календарь Лицея Цесаревича Нико-
лая за 1869-1870 год», мы с удивлением видим уже в них это удивительное
неглижирование России и, между прочим, как часть этого неглижирования, -
пренебрежение к личности учителя, отсутствие какого-либо сознания, что он-
то и есть центр и душа школы, единственный ее реальный и значащий творец.
Чтобы понять отрывки, которые мы сейчас приведем, нужно помнить, что
65-й год (год написания статьи К-ва) и около него были временем работ Бусла-
ева и Тихонравова по разработке русского эпоса, собирания Далем пословиц
русского народа, Погодиным - его «древлехранилища», и вообще были вре-
менем некоторого палеографического и народно-монастырского у нас воз-
рождения. Около этого своеобразного Renaissance’а изящная наша словес-
ность рождала в это же время замечательные и частью великие создания.
Школа, естественно ищущая просветительных элементов - тех, какие есть в
стране, тепло и живо, на наш взгляд - мудро, прижалась к этому движению.
Теперь послушайте, как действовавший в пользу реформы Катков понял все
это, т. е. как он взглянул на старое лицо России, едва выникшее из-под «пыли
хартий»: «Программа министерства по русской словесности еще интереснее.
Труднее ли русский язык для русского, чем немецкий для немца, или, быть
может, русская словесность вдвое богаче немецкой и потому требует вдвое
более времени для того, чтобы учащиеся могли обозреть ее? Нет, русский
язык не труднее для русского, чем немецкий для немца; что же касается до
русской литературы, то хотя она обладает поэтом Некрасовым, драматургом
Островским и ученым Пыпиным, однако все же она не богаче немецкой лите-
ратуры. Если бы, напр., в прусских гимназиях был назначен в том или другом
классе излишний урок на преподавание немецкого языка, то там можно было
бы извинить это увлечение ввиду действительно громадного богатства лите-
ратуры. Но мы видим совершенно напротив: мы видим, что на немецкую
словесность употребляется в немецких гимназиях минимум времени, а наша
словесность, у которой так мало позади или, лучше сказать, у которой все
впереди, делается одним из главных предметов и берет вдвое более времени,
чем немецкая в Германии. Разгадка в том, что школа везде предназначается
служить к действительному образованию и укреплению умственных сил, а у
нас она, к прискорбию, служит к тому, чтобы, по возможности, расслаблять и
портить их. Разгадка в том, что в прусских гимназиях не допускается, как язва,
празднословие, тогда как у нас в празднословии и фразерстве полагается глав-
ная образовательная сила школы. Разгадка в том, что там дети учатся правиль-
781
ному употреблению своего языка, а у нас они изучают личность своего учи-
теля. Программа предполагает в III классе читать с воспитанниками «Записки
охотника» г. Тургенева, «Повести и рассказы» Вовчка, «Картины из русского
быта» г. Даля и сочинения Пушкина; в IV классе - разбор и перевод отрывков
из Остромирова Евангелия и Несторовой летописи. Начиная же с V класса
предполагается чтение памятников в хронологическом порядке: былины, пес-
ни, сказки, пословицы, духовные стихи, «Повесть о Горе Злосчастии», Кирилл
Туровский, «Слово о полку Игореве». В VI классе - «Домострой», «Стоглав»,
«Переписка Грозного с Курбским» и его же «Послание к Белозерским мона-
хам», Котошихин и Крижанич, Феофан Прокопович, Ломоносов, Фонвизин,
Карамзин, Жуковский. VII класс-Крылов, Грибоедов, Пушкин, Иннокентий и
Филарет, Лермонтов, Кольцов, Гоголь, Островский. Чтение критических ста-
тей Белинского и Добролюбова.
«Не есть ли все это надругательство над здравым смыслом и над бедными
детьми! Итак, вот на что будет отниматься у их серьезных учебных занятий, так
же как и у их отдыха, 24 часа в неделю (т. е. в семи классах). Не жалуйтесь же на
недостаток людей серьезных и дельных в нашем обществе, на ничтожество
нашей науки, на наше скудоумие, на нашу несостоятельность - что иное мо-
жет выйти из подобной школы» (Календарь, стр. 185-186).
Не будем останавливаться на программной стороне этих замечаний. Они,
конечно, справедливы, насколько указывают разрушение единства типа шко-
лы: фабулы Овидия размешивать страницами из «Домостроя» — это есть тот
вид педагогической галиматьи, которая существует и осуществлена только в
нашей школе, но понятия единства типа в обучении и воспитании нигде в
статьях Каткова не указано, и можно предполагать, оно не было ему извест-
но. Он критикует словесность с точки зрения малозначительности этого пред-
мета, не сопоставляя с духом классических литератур, но в себе самом,- и
здесь им не принята во внимание одна из той тысячи точек, на которые мы
указали: та особенность нашего исторического положения после Петра, при
которой, чтобы хоть сколько-нибудь засыпать пропасть между старым и но-
вым, нельзя обежать изучения древней словесности всяким юношею, кото-
рый хочет стать просвещенным, хочет служить России, а не моменту в Рос-
сии. Притом, не подражая в этом немецкой школе с греко-римскою програм-
мою, по историческим условиям возможной там, мы подражаем в этом са-
мим грекам и римлянам, юношество которых также образовывалось на
родных литературах, и вообще образовывалось не хуже и грациознее, чем в
Германии. Замечательно: словесность, особенно перед реформою, стала у
нас центральным развивающим предметом - и на ее уроках, всегда так люби-
мых учениками, умели достигать того, чего никак почему-то не могут дос-
тигнуть на уроках древних языков: той возбужденности к образованию, заин-
тересованности ко всем формам просвещения, pietat’y к науке, которая и
составляет подготовительную к университету «зрелость». Но Катков требо-
вал сокращения не только словесности, но и истории: «Основывая учеб-
ную систему на преподавании древних исторических языков, к чему же
782
еще будем* обременять наших молодых людей, при семигодичном курсе гим-
назий, излишними уроками по части истории как отдельного предмета. Эти
излишние уроки суть такая же трата времени, как и излишние уроки русской
словесности. Эти излишние уроки будут раскрывать для созерцания учащихся
не какой-либо предмет, а собственную личность преподавателя, которая, без
сомнения, не входит в план гимназического учения» (Календарь, стр. 173).
V
Вот взгляд на дело: в этих мимолетных, необыкновенно значащих словах, встав-
ленных здесь и там. Личность учителя особенно усиленно пренебрежена. Ра-
ботает собственно «программа», работает «устав». Мы припоминаем и теперь
только как общий «план реформы», понимаем слова, поразившие нас некогда в
некрологе гр. Д. А. Толстого, написанном его сотрудником А. И. Георгиевским
(«Русск. Вести.», год смерти): «Попечители, приезжавшие в Петербург, жалова-
лись, что им по неделям приходится жить здесь, прежде чем они бывали допу-
щены к приему у министра», в общем, однако, доступного: он не искал, не
интересовался спросить, как же идет «реформа» - прививается ли? Благи ли ее
результаты? Было воззрение, очевидно общее, что всякий занумерованный
чиновник, «непьющий», есть достаточный учитель, ибо его точное дело есть
«стоять» около программы и «отмечать» в «классном журнале» «успехи», с
которыми ученики вбирают ее в себя; нечто вроде учебного педеля, как есть в
университете «педеля», записывающие пустые и непустые вешалки студентов.
«Не презирайте малых сих»: они были «презренны», естественно начали «пре-
зренно» делать дело - и вот пункт, где реформа погибла.
Мы начали характеристикой Петра. «Трудись, Демидыч, помогу» - вот
восклицание в его одушевляющей простоте, которое раздавалось с трона и с
которым никак не сумели бы слить своего голоса не столько гордые, как само-
надеянные распорядители «Моск. Ведом.». Кто тайны этого голоса не знает,
никогда и ничего на Руси не сделает. Катков и его сателлиты выросли в нашей
земле новою фигурою, с незнаемыми чертами. Страна, которую умел «не
презирать» Петр, бывший ее истинным просветителем, этим людям - очень, в
сущности, неутонченного ума - представлялась грубою доскою, где им предле-
жит начертать слова необыкновенной мудрости. Одна тенденция этой мудрос-
ти ясна: где бы ни загорелось светом человеческое лицо - набросить на него
смертный покров. Сузьте фигуру Филиппа II испанского до частного человека,
пожалуй - раздвиньте фигуру Плюшкина до размеров короля, - их обоих теоре-
тизм, их размышления «про себя», боязнь ступить на почву и столь плачевный
неуспех в истории и частной биографии: и вы получите много черт Каткова и
объяснение неуспеха его, по крайней мере, в педагогической сфере. Все это
зародилось не от Руси и не от нашей смиренной, простой, реальной истории.
* Какой софизм, и как мало он замаскирован.
783
ГОРОД И ШКОЛА
I
С половины восьмидесятых годов стала падать уверенность в достаточности
для нас классического образования. Классические гимназии и прогимназии,
которые в семидесятых годах открывались даже в исключительно фабричных
местностях, прекратили свой рост, и своеобразна причина этого: оне переста-
ли находить учеников, родители перестали отдавать в них своих детей. Нам
известны случаи, что в четырехклассных прогимназиях, в последнем выпуск-
ном классе, сидят на двух скамейках пять учеников при восьми преподавателях
из стольких же предметов. Что-то похожее на неловкость, забота всеми сила-
ми заманить еще учеников, усилие скрыть факт на месте, среди населения
города, и как-нибудь объяснить его перед центральным окружным началь-
ством, - все это составляло предмет постоянной тревоги в жизни таких про-
гимназий. В надежде заманить родителей к отдаче детей в прогимназию -
прием их, перевод в следующий класс и выпуск понижались в своих требова-
ниях. И ничто не помогало. Просто преподавание данных предметов, как бы
дешево ни стоило и как бы облегченно ни велось, оказывалось ненужным.
Мы не можем забыть одного восклицания, лет двенадцать назад выслушанно-
го и которое вызвало гомерический смех в среде преподавателей; оно было
обращено к инспектору прогимназии быстро вошедшим в учительскую ком-
нату «родителем»: «Д-ий А-ч, нельзя ли моего сына освободить от греческого
языка, - он у нас в торговле ни к чему?». Нам, преподавателям, было особен-
но смешно это восклицание, потому что известно было учебное положение
этого предмета не только как непременно нужного, но и как главного, он же
приравнивал его к новым языкам, от одного из которых ученик может быть
«освобожден». Смех произошел от несовместимости точек зрения. У нас было
университетское, «обще»-просветительное воззрение, было впечатление мно-
жества прочитанных об этом предмете статей, выслушанных дебатов, зрели-
ща общественной и литературной борьбы за него. Но в самом деле, кроме этой
точки зрения есть бытовая, местная; точка зрения ежедневных нужд, практи-
ческой потребности, нам вовсе в то время неизвестная и даже нас вовсе не
заинтересовавшая,- и вот с этой точки зрения полутревожное, полунадеющее-
ся восклицание «родителя», думавшего, что его сына освободят от недававше-
гося и ненужного ему греческого языка при полном успехе в остальных пред-
метах,- это восклицание имело свою логику. Мальчик был способен; он попра-
вился потом и в греческом языке и, кажется, дошел до университета; не всегда
кончалось так благополучно или, вернее, редко так кончалось.
В этом же городке - Орловской губернии, около известных Брянских
сталелитейных заводов и неподалеку от Мальцевского заводского района, где
влачила свое существование классическая четырехклассная прогимназия, -
мне пришлось услышать разговор в толпе горожан: «Когда бы не евреи, мы
бы и без сапог ходили». И в самом деле, все ремесла в этом городке были уже
784
захвачены или захватываемы евреями. Шапочники, портные, скорняки, не
говоря о часовщиках, которые во всей России, кажется, евреи,- все было в
руках или переходило в руки евреев. Как учитель школы, имеющей цент-
ральное отношение к Москве, я не знал местных нужд; и, как начинающий
учитель, не интересовался ими; но все-таки разговор не мог не поразить
меня и не заставить задуматься: да что делаем мы тут, для чего нас сюда
послали? Какова и не отрицательна ли по результатам наша деятельность
здесь, оплачиваемая что-то около 13 000 руб. в год, из коих 3000 давал город,
кстати, очень бедный? Очевидно, город был вовлечен в этот расход, потому
что в мою пятилетнюю бытность в нем он несколько раз начинал хода-
тайствовать о том, чтобы взять обратно свое согласие на уплату субсидии,
но уже дозволения на это не получалось. Но я продолжу о разговоре насчет
необходимости сапог и о евреях, единственно удовлетворявших этой необ-
ходимости. Конечно, относительно сапог было преувеличение: сапожники
могли найтись и русские, преувеличение сорвалось от раздражения; в гу-
торящей толпе речь быстро перешла на существующие учебные заведения
и гневно обрушилась на прогимназию: «Уж лучше же городское училище,
- оно, действительно, переполнено учениками, - да чего же лучше: и там
никакому мастерству не научают?..»
В той же губернии, но в более восточной ее части, мне пришлось слу-
жить в полной восьмиклассной классической же гимназии. Здесь уже в
самом городе, а не в окрестностях, было много кожевенных заводов; важ-
но, что не так они были велики, как то, что положительно их было много, и
исстари; с одного, впрочем, завода кожи шли в огромном количестве во
Францию; женское население было занято кружевным промыслом, и дев-
чонке лет восьми, даже семи, уже покупали в семье катушки, и она начина-
ла вязать себе (зарабатывать) «приданое». Я очень полюбил этот городок,
за четыре года жизни там, за его живой, промышленный, какой-то веселый
дух и вместе с тем строго церковный быт. При сорокатысячном населении
в нем не было ни реального училища, ни духовного, и только две гимназии:
классическая - казенная и женская, которая содержалась городом, т. е. она
округу и министерству не стоила ни копейки. Здание женской гимназии,
большое, двухэтажное, с красивым подъездом и какими-то архитектурны-
ми выступами, счастливо отличалось от обычных казенных построек; наез-
жавшие из Москвы ревизоры говорили, что это лучшее в округе, т. е. в 11
подмосковных губерниях, учебное заведение. И вот, в годы здесь учитель-
ства, я с величайшим любопытством наблюдал, как несоответствующая типу
города школа полуразъедает, полупарализует местную жизнь. Начну с жен-
ской гимназии. Тут все было отравлено, и с первого же шага, неожиданно-
стями чиноустройства. Построив на свои средства здание-дворец, давая
полное содержание персоналу учителей, классных дам, начальниц, - го-
род, естественно, хотел, ну, хоть порадоваться каждой минуте жизни своего
детища. Я глубочайшим образом убежден, да и все признаки были, что
просто он не хотел лежать мертвым камнем около, не хотел пассивности,
785
смотрел на основание гимназии как на начало длительного и непременно
активного процесса жизни - «вот с гимназией». Таким образом, вначале тут
не было и тени желания властительства, господства; да и не было ведь умения
господствовать, но — «не отгоняйте же, дайте хоть посмотреть». Своеобраз-
ная черта: учителя в летние вакационные месяцы не получали жалованья,
город просто не понимал, как платить деньги за вакацию, «неделание»; но
зато в учебное время плата учителям шла наравне с мужской гимназией, т. е.
чрезвычайно высоко для городских средств. Привожу эту подробность, что-
бы показать, что действительно гимназия была создана городом и в ней без
него «ничто же бысть, еже бысть». Пикантную, однако, сторону, и для города
неясную при основании, составляло то, что весь учащий и воспитывающий
персонал ни в одной йоте от города не зависел и зависел, можно сказать, в
каждом дыхании от округа, т. е. от окружной канцелярии, находившейся в
Москве. При мне, т. е. в четыре года, ни разу не было из Москвы ревизии.
На почве этого соотношения как-то и почему-то, но сейчас развилась враж-
да, и «детище» города стало предметом мук, тревог и раздражения, нако-
нец - оскорбления для него. Это вот, видите ли, город «Кит Китычей», и
самым пикантным удовольствием для педагогической администрации имен-
но и было не скрывать, что это - «Кит Китычи», и есть такая «про-
светительная» точка зрения, а к счастью, и такая путаница административ-
ных отношений, в силу которых можно «чихать в нос» этим Кит Китычам.
«Помилуйте, гимназистка канкан на льду танцует»,- помню я возмущен-
ное замечание одного «родителя» («на льду», т. е. на коньках зимой). Само
собой такой элементарный факт был понятен даже и Кит Китычу; понятно,
что Кит Китыч лез с «слезным заявлением», но по специализации науки
педагогики, а главное - опираясь на округ, на нити своей административной
зависимости, ему вместо слов отвечали улыбкой и затворяли перед носом
дверь. Конечно, все дело можно было вести с любовью рука об руку с
городом, но наслаждение пренебречь замечанием, «чхнуть соседу в мор-
ду» так неудержимо в человеке, что около женской гимназии шла вечная и
упорная борьба между так называемым «попечительским советом», кото-
рый многое платил, но у которого никакой власти не было, и между «сове-
том педагогическим», который получал, учил, как ему Бог на душу поло-
жит, и имел у себя все права. Я хорошо помню, что даровитые и умные
учителя, т. е. самый крошечный процент их, которые хотели лучше жить в
мире с городом, т. е. трудиться для города, считались, как бы ренегатами
своей учительско-административной корпорации, считались не на добром
счету у администрации («честолюбцы» и «интриганы», «заискивающие» у
города), элементом неприятным и беспокойным. «Монтекки» и «Капулет-
ти»?.. «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»? Вечный удел
человека?.. Но только город с красивым, старым, благочестивым обличьем
под воздействием этой школы и в этих подробностях ее устройства, стал
как-то перекашиваться на иной вид, с набегающими тенями чего-то не очень
привлекательного.
786
II
В женской гимназии я не учил и только наблюдал ее жизнь и все в ней отноше-
ния, ибо мои товарищи по службе были там учителями, и также я знал весь ее
женский административно-педагогический персонал. Я учил в мужской гим-
назии и наблюдал и ее бесплодное положение. Здесь также было полное пре-
зрение к городу, но уже более прочное, ярче открытое, ибо и плата учителям
шла от казны. Вообще вражда между гимназией и городом - факт до такой
степени странный и до такой степени всеобщий, что нельзя над ним достаточ-
но надуматься. Город притом вовсе состоит не из Кит Китычей: во-первых,
между «Кит Китычами» есть много таких, у которых «ума палата» и которые
всякого учителя по природному уму, по зрелости суждений не о профессио-
нально-педагогических, а об общих предметах «за пояс заткнут», но и, кроме
того, тут же возле «Кит Китычей» и отлично с ними сживаясь, были доктора,
землевладельцы, отставные военные, судейские, и замечательно, что и они
все также враждебно относились к гимназии. Почти без исключения (за од-
ним очень добрым, очень почтенным исключением - в захолустном городке
с 7000 жителей и в 110 верстах от железной дороги) везде я находил, что гимна-
зия - это какое-то вымороченное место в городе, которое все обегают и с
которым отношения завязываются только по нужде. В педагогической адми-
нистрации нет такта вести какую-то среднюю линию, и сохраняя полную сво-
боду и независимость в средствах и методах воспитания и научения, и будучи
в то же время приветливою и внимательною к окружающему населению.
Учителя - это нервный, раздраженный, замученный трудом и бедностью люд,
который пошевелиться не смеет в своей педагогической ячейке, трепещет
округа, боится и укрывается от директора; и в той минутке времени или той
щелке к свободе, которая ему остается, - а к сожалению, она остается только
в направлении к городу, населению, «родителям», он просто уже не хочет
сдерживать себя, он хочет игнорировать, пренебрегать - и этим только я объяс-
няю пренебрежение их к «Кит Китычам». Ибо в себе самих, в уединении,
дома - учителя часто есть глубокий и развитой, а главное - высоко чистый
люд. Сколько между ними я наблюдал тайно делающих, т. е. материально дела-
ющих, благодеяния самобеднейшим ученикам. Вообще в гимназии и около
нее я наблюдал замечательное явление-люди порознь и умны, и честны: эти
«Кит Китычи» - вполне достойны; учителя - с сердцем, и часто с умом и
сердцем - директор; округ, конечно, «печется», хоть издали и отвлеченно. Но
есть - в нитях ли зависимости, в постановке ли дела, или еще в чем - даже
трудно уловить, но есть, говорю я, что-то, в силу чего всё взаимные отноше-
ния этих порознь прекрасных людей отравлены, мучительны, извращены, и
обыкновенно труд их бесплоден.
И вот среди этих сыновей кожевников, кружевниц, попов, чиновников,
ремесленников, - добрых и хорошо дома упитанных малых, которые так ско-
ро бледнели и зеленели в гимназии,- я помню двух ужасных лимфатиков, в
третьем и первом классе, угрюмых, полных и невыразимо апатичных к уче-
787
нию. Они были братья, и почему-то именно за их угрюмо-апатичный видя их
обоих безотчетно полюбил. Главное, я ясно видел, что мальчики очень ум-
ные и почему-то они совершенно не хотели учиться. Все, что вы говорите
им, ваши укоры, «пристыживанье» они не только чувствуют, но и, очевидно,
все отлично понимают вокруг себя, в ваших словах и даже в мотиве слов; все
понимают, но, затаившись в себе, молча, сев на паргу, к завтрему так же не
знают урока, как не знали и сегодня. Это была мука. «И что же это за мука с
Б-ми,- сказал я надзирателю, местному старожилу- Да кто они?» А они
одевались очень бедно (затасканно), и я думал, что это какие-нибудь ремес-
ленники. «Что вы, что вы, это дети на всю Россию известного плодовода, т. е.
у их отца - знаменитый питомник плодовых дерев», - и он назвал лежащий
верст за 60 городок. Позже, живя уже в Петербурге, я в самом деле читал
публикации фирмы, но в ту минуту я почти растерялся от недоумения: «Так
что ж они у нас делают? Ведь это - богатство, это - честь местного края, что
нашелся человек, заведший такую диковинку, и умную, и нужную, а тут я их
тираню, почему они не знают Пелопонесской войны...» - «А воинская по-
винность? - возразил надзиратель. - Они учатся для воинской повинности и
потому, что гимназия открывает всюду дороги...» - «Всюду дороги! Но перед
ними лучшая дорога, какая может быть в России, и они свертывают с нее на
всеми опороченную и всех измучившую общеинтеллигентную». И тут я при-
помнил еще случай, уже из своей университетской жизни.
Между лекциями, собирая вокруг себя слушателей, неизменно расска-
зывал полунеприличные, полукаверзные анекдоты о профессорах один сту-
дент. Он был хорош, как Аполлон Бельведерский, и кроме остроумия, дей-
ствительно замечательного, в нем была чудная приветливая ласка ко всем
окружающим. Он примкнул к кружку студентов, к которому и я принадле-
жал: так, человек пять-шесть, ближе сошедшихся характерами,- шалопаев,
но которые любили философию и, кроме нее, не любили ничего, а главное -
не хотели ничего любить, так что, подбирая лекции, уходили от классиков,
которые терзались вопросом: которую из трех возможных форм употребил
Демосфен в первом периоде речи «De corona»: d%poao0ai, (настоящее),
d%podoao0at (аорист) или d%poaoT|a0ai (будущее)? То есть мы не одну фило-
софию любили, скажу для оправдания: но и в истории, и в литературе мы
любили тоже только одну философию. Так нас Бог уродил. И вот Аполлон
примкнул к нам. Все мы были на «ты» и также с Аполлоном, который дей-
ствительно был чудесный малый, т. е. без «искорки», но товарищ без измены
и предательства. В первый же раз, как я пришел к нему, я был поражен мно-
жеством книг, и большая часть в английских переплетах: эти приходили пря-
мо из Лондона, и он познакомил меня со своеобразием английского способа
обрезать книги. Огромное большинство книг было по философии, но на де-
ревянной горке, на которой он предпочитал заниматься и писать, были выре-
заны иероглифы, т. е. действительные египетские иероглифы: он интересо-
вался тоже и ими. Говорил и читал на трех языках. Не буду дальше и больше
рассказывать, но объясню только, что, обладая отличною памятью и очень
788
начитанный, - он был убийственно и, очевидно, непоправимо ограничен:
полная противоположность тем двум угрюмым плодоводам первого и тре-
тьего класса гимназии, которых я знал в качестве учеников. Мне как-то, буду-
чи на летних уроках, случилось заскучать, и я написал ему скучающе-санти-
ментальное письмо; через неделю получаю ответное письмо, которое, оче-
видно, он сочинял всю неделю и из которого яснее, чем из разговоров, я
усмотрел удивительную его бессодержательность, ничем не поправимую и
никак не заполнимую. Скудность хорошо отполированной доски, но такой
твердости или такого состава, что ли, где не вырезывается ни одна буква. Так
после этого наши отношения, без размолвки и все сохраняя вид дружелюбия,
и отклеились. Просто - не цеплялось ничего за его душу, и он не в силах был
ничего забросить в вашу душу.
Кто же он был? Он достиг университета ценою ссоры с отцом, т. е. не
говоря о другом, ценою возможного лишения очень большого наследства;
его отец вел обширную торговлю пушным товаром и имел непосредственно
дела с Сибирью. Сына он отдал в коммерческое училище, но вот сына потя-
нуло из него в университет и, путем невероятных усилий, он действительно
усвоил древние языки, весь их 8-летний курс, и вступил-таки в университет.
Очень характерно для определения его дарований, что несколько раз, держа
экзамен на испытание зрелости, он проваливался на экзамене по словеснос-
ти, т. е. не мог связно и последовательно написать трех страниц сочинения.
Судя по письму, это, вероятно, был чрезвычайно путаный и претенциозный
вздор, в котором решительно невозможно понять, что именно он говорит, не
подымая уже вопроса о мотивах, почему то или иное говорит. У него был
какой-то мертвый ум, и хаос вычитанных знаний вовсе никак не организовал-
ся в нем; замечательно еще (и от этого он имел терпение пройти в одиночку
8-летний курс древних языков), что он всякими предметами занимался без
оживления, но и без неудовольствия. «Любишь ты математику?» - спросил я
его как-то. «Да, как и иероглифы». Ему решительно все равно было, что бы
ни читать и чем бы ни заниматься, но он постоянно был занят и всегда что-
нибудь читал; потом скверный анекдот об ученом или профессоре, карточ-
ку которого - а он искал и покупал фотографии всяческих ученых - он тут же
показывал. И вот на этой удивительной плоскости загорелся свет образова-
ния, т. е. его потянул ему необъяснимый, но для него, очевидно, невыразимо
привлекательный свет образования. Он был очень благороден, очень поря-
дочен; он, очевидно, «горел» сердцем к науке в ее неопределенно-далеком
смысле, - и был только ко всему этому глуп - тою тонкою и самою ядовитою
глупостью, которая есть бессодержательность. Никакого фатовства в нем не
было; и круг самых красивых девушек (а оне льнули к нему) он оставлял для
чаепития с приятелем, с которым он разговаривал тоже совершенно не ло-
маясь, отнюдь не рисуясь; но... только было несколько скучно говорить с
ним, и еще - ничего, еще - никакого признака. Да простит мне все же хоро-
ший товарищ, что я делаю его предметом «социально-педагогического», как
сказал бы Щапов, анализа в интересах разрешения огромного бытового и
789
исторического вопроса: торговля пушным зверем - это ведь опять богат-
ство, это путь, а для «интеллигента», если бы случилось, - это и «исцеление».
«Земля...» - мы все о ней толкуем; но ведь земля есть только и именно рабо-
та, починка чего-нибудь в великой храмине бытия человеческого, при чем
является радостное сознание, что ты человеку нужен и не тяготишь человечест-
во лишним существованием. Главное здесь, в рассматриваемом случае, как
и там, у плодовода,- все дело уже поставлено; фирма «Домби» уже есть, и
только никак нельзя приставить «и сын»: «Домби и сын». Я не коммерсант,
не промышленник - но, разумеется, России нужно одеваться в меха, разуме-
ется, Сибири нужно продавать меха и, разумеется, важно, чтобы коренные
русские люди справлялись без чужой помощи с этой нехитрой, но серьезной
задачей обмена между двумя странами, входящими в состав их отечества. «И
батожьем бы тебя бить, философ ты мой милый»,- думал я после о моем
товарище; но в университете так мало еще знал я жизнь и так мало даже
интересовался ею, что конечно, ничего подобного мне никогда не приходило
на ум, как и этому юноше - «погибшему, но милому созданию»...
Вот как жизнь слагается, из каких черточек, крупинок, камешков. Воинс-
кая повинность всех толкнула в гимназию; но одновременно она оттолкнула
от множества промыслов, от множества уже заведенных «дел» естествен-
ную, выраставшую около них детвору. Детвора, выучив «азы», почувствовала,
что за плечами у нее «Кит Китычи», а впереди светлый Ломоносов путь, по
которому она и двинулась. Немного лет прошло, и государство положитель-
но растеривается: да, как восстановить, как возвратить к труду, к земле, к
промыслу эту интеллигенцию и как воссоздать, наконец, эти промыслы?
Попытки, положительно тревожные, а что печальнее всего - не обещающие
больших успехов, самых разнообразных ведомств: народного просвещения,
духовного, финансов, земледелия,- все текут отсюда и не имеют иной цели, как
исцелить опасную рану, которую в необдуманные 70-е годы - в годы торже-
ства едино спасительной системы образования, мы сами себе нанесли.
III
А между тем проповедывается иными принцип даже не двух школ, как это
теперь существует - «реальной» и «классической», но одной. Вот то, что
можно назвать культурно-бытовым безумием и, наконец, величайшею ошиб-
кою педагогики. Школа вовсе не имеет и не может иметь для себя задачею
вырабатывать новую культуру, из себя создавать культуру, - и ей подчинять
культуру, уже естественно существующую в каждой местности. Школа - в
помощь жизни, а не против жизни; она подходит как одухотворение, как осве-
щение, как возведение к идеалу; т. е. просто к лучшему,- однако того именно,
что есть, и не претендуя на новое, к чему просто у нее силы нет, да и не нужна
она вовсе. Теперь земледельца, пастуха, ремесленника, татарина и чиновника,
туранца и остзейца - она всех сбивает в одну кучу; и, в сущности, всем она
790
мешает, никого не просвещая или условно и неправильно, болезненно про-
свещая. Школа по ее истинной задаче - это свеча, при которой каждый мог бы
лучше рассмотреть свое имущество и разобраться в нем - «лучше», т. е. для
всех полезнее, но и прежде всего для себя не безвыгодно. О, небезвыгодность,
т. е. в превосходном духовном смысле, не только не есть уничижение для
школы, но ее истинный идеализм: в школе я ищу клада, какого еще нигде не
найду, и буду искать жадно, как только уверюсь, что там приобретаемое есть
в самом деле сокровище, которое мне во всем поможет и от многого защитит.
Конечно, доктора такая школа научит лечить, а не только прочтет ему лекции
о лечении; но она и кожевенника выучит именно кожевенному мастерству,
как завтрашнего лектора по философии приучит и воспитает в тонкостях от-
влеченного мышления. Отсюда - не только не один или не два типа школы, но
неопределенное множество их типов; и, собственно, каждый город должен
иметь отвечающую своему господствующему типу школу, т. е. школу он дол-
жен вырабатывать, или около него школа должна создаваться, вырастать, пла-
стически гармонируя как ответ вопросу, как удовлетворение, но непременно
определенное, - совершенно определенной же нужде. Центральная школа, т. е.
в небольшом городе, где, однако, при совершенно ясном господствующем
типе есть разница положений и, следовательно, разница требований,- эта школа
нам представляется как склад дисциплин практических, полупрактических и
чисто отвлеченных, куда каждый приходит и берет соответственно ему нуж-
ное, выбирает нужную ему именно, в его обиходе, «свечу». Такую школу,
конечно, невозможно воссоздать из Петербурга; но, слава Богу, болезненно
или здорово просвещенные, но просвещенные все-таки люди уже рассеяны у
нас всюду: везде есть священник, врач - вот люди совершенно уже достаточно
просвещенные, чтобы помочь в разрешении на месте вопроса о том, что
именно, как именно требовалось бы тут осветить школою. Мозольные, работя-
щие люди не умеют формулировать, не умеют часто просто ответить на воп-
рос, что им нужно. На вашу неудачу, т. е. насадить школу, они ответят тем, что
перестанут отдавать детей в школу, потребуют «избавления сына» от гречес-
кого языка, пожалуются, что «нет сапожников»; отец молча разойдется с сы-
ном. Все это болезнь, страдание, и вовсе не нужное. «Интеллигенция», кото-
рая если и растлела, то именно бездельем, везде и охотно возьмет на себя труд
формулы, труд членораздельного выражения «нутряной» местной боли. Но,
говоря «интеллигенция», я именно разумею местного попа и фельдшера, т. е.
людей работы, «земли» и «почвы», получивших вместе способность члено-
раздельного суждения; в городе - это чиновник, врач и непременно священник.
Никто так близко (через совершение треб) не стоит к населению, как священ-
ник, и вместе наши священники, к счастью, народ практический и находчи-
вый. Таким образом, просвещение - это должно быть живое обращение со-
ков в живом же организме; в нем соучаствовать, соработать должна вся стра-
на, в неуловимых формах совета, указания, выбора - все население. Букваль-
но оно должно ползти по земле, в противоположность теперешним небесным
полетам, всюду приноравливаясь, ко всему приспособляясь, а главное - каж-
791
дого лаская и каждому помогая. Роль священников, через знание индивиду-
ально каждой семьи и даже в семье всех членов, особенно богата в самом
трудном, мучительном и роковом решении: кому что нужно. Оснуете вы в
городе академию изящных искусств, и мать, которая умела только родить ре-
бенка и потом кормить его, - в соответственный «школьный возраст» попро-
сит вас принять его в эту академию; 9/10 населения у нас в такой немой слепо-
те лежат, что они, конечно, знают, что «ученье - свет», а главное - лучший
кусок хлеба, но которое ученье - об этом никакого представления не имеют,
и странно было бы его здесь спрашивать. Еще бы! Если даже государство не
знает, что плодоводу нужна ботаника, а не Пунические войны. Здесь именно,
для этих 9/10, из коих, однако, подымаются дети иногда удивительной дарови-
тости, и во всяком случае которым нужно же просвещение, и именно нужное
просвещение, и могут помочь священники; и нам они представляются как
естественные сдаватели детей в школу, с указанием школ, - т. е. такой цент-
ральной, какую мы себе представили - чего кому нужно. Огромный процент
неуспевающих в нашей гимназии, кроме всяческого неблагоустройства про-
грамм, зависит еще от того, что гимназия, во-первых, всем своим типом вовсе
не отвечает ярко выраженному типу города; и, во-вторых, что принимаемый
ею в себя состав учеников собственно должен бы разбежаться по десятку
разнообразнейших школ. В самом понятии школы у нас есть какая-то истори-
ческая неправильность, что-то деревянное, в высшей степени статическое и
нисколько не динамическое. Что такое школа? Что значит основать в городе
школу? Все ведомства и почти каждый встречный вам скажет, что это - двухэ-
тажное кирпичное здание; и, подумав, прибавит, что это, конечно, штаты,
оклады жалованья, и пенсии, и нетерпеливая, строго нахмуренная трафарет-
ка: «Закон Божий - 2 урока, русский язык - 3 урока, латинский - 6, греческий
- 5, математика - 3, история и география по 2, чистописание - 1 урок». Вот
школа, и она стучит, а не работает; раздражает и не научает, часто губит и
удивительно редко просвещает. Школа - это только и всецело учитель; учи-
тель- во-первых, учитель - во-вторых, учитель - в-третьих, и только в-четвер-
тых еще что-нибудь, ну, там программа, штат и, наконец, какое-нибудь здание,
лучше лачужка, но ни в каком случае не дворец. Знаменитый Ильминский,
просветитель инородцев в Казанской губернии, отдавший на это дело всю
жизнь свою, до того был раздражен этою деревянной стороной всякой теперь
школы, решительно не дающей учителю сосредоточиться на обучении, что
предпочел отказаться от выдававшегося ему пособия ради того только, чтобы
отказаться и от великой докуки «отчетов», «ведомостей» и всяческой «стати-
стики», которую от него, тотчас как дали пособие, и потребовали, конечно.
Без «деревянной» стороны совершенно - нельзя; но она должна быть сведена
до минимума, до самонужнейшего, без чего просто не может уже существо-
вать школа, и как-нибудь, всеми усилиями, всяческими средствами она долж-
на быть выражена так, чтобы не связать, не стеснить, не отвлечь внимания
учителя от дела; она должна быть около него, но ему должна остаться неза-
метной. Я наблюдал странную роль директора в наших гимназиях: казалось
792
бы - это руководитель учебного заведения, наблюдатель преподавания, вос-
питатель детей. Ничего подобного - никакого даже намека на это, просто это
более всего руководитель гимназической канцелярии, который проводит 9/10
своего времени в работе с письмоводителем и только 1/10 распределяет меж-
ду учителями и учениками. Существует целый график срочно отправляемых
в округ бумаг, в своем роде «распределение уроков», но письменно исполня-
емых, и специально для директора; и это «распределение» так же висит перед
ним в канцелярии, как перед каждым учеником висит его «распределение» в
классной комнате. Та самонужнейшая функция, которая в неуловимости сво-
ей выражается термином: «создать дух учебного заведения»,— не выполнена
вовсе или выполняется случайно, перекрещивающимися усилиями учеников
и даже, скорей, порывами учеников; а директор занят работой, которую без
труда мог бы выполнить тут же сверх штата приставленный чиновник за 600-
800 руб. в год.
Все это так не эластично, не гибко, что не может быть и речи о соответ-
ствии между школою и духом и потребностями «земли». Нет самых методов,
нет органов, нет способов, обладая коими школа могла бы, как мы вырази-
лись, поползти по земле, везде прислушиваясь и ко всему приспособляясь.
Это как бы родильница, кричащая в муках, и около нее проходящий госпо-
дин, который - кто бы он ни был, пусть даже он доктор,- не может же на виду
у всех снять ордена и ленты, и даже больше - снять сюртук, засучить рукава
и, надев фартук, начать делать что-то самонужнейшее, но в высшей степени
неопрятное около кричащей. Это приводит нас к мысли, что задача просве-
щения вообще не может быть выполнена громоздкими органами государ-
ства: просвещение - это эмбриология, это процессы в мельчайших микро-
скопических тканях организма; между тем как государство в расчленении
своем - это анатомия. Отсюда - новый вывод: что в просвещении государству
принадлежит лишь образование, помощь, лишь самое общее и высшее руко-
водительство делом, но инициатива и вообще все живое, самая работа долж-
на принадлежать более мелким единицам социального сплетения: городу,
сословию, церкви или семье и, наконец, более всего, лучше всего - частному
человеку, с его зоркостью terre a terre*, с его находчивостью. И люди высоко-
го теоретического образования - профессора и академики ничем не унизи-
ли бы своего общественного положения, если бы начали становиться во гла-
ве школ с чисто теоретическими дисциплинами. Вообще мы думаем, что вся
полнота просветительных задач этим путем может быть выполнена с мень-
шею болью для страны, с лучшими научными результатами и совершенно
соответственно духу народа и эпохи, а главное - требованиям этого геогра-
фического пункта и в данную минуту. Вспомним, чтобы не оставаться без
фактического подтверждения, пансион проф. Павлова, в сороковых годах,
школу Л. Поливанова - классическую, с ее четырьмя пансионами, умно за-
думанными; народную школу проф. Рачинского, с ее долголетним опытом и
* практичность (фр.).
793
районом школ - «детей», около нее и из нее выросших; раньше мы уже
упомянули о трудах Ильминского. Вот примеры - и им остается только после-
довать. У частного человека в школе - «свой глаз», и он «до всего дойдет»:
таким образом здесь меньше поле для слепоты, неведения - чем страдает по
отношению к внутренней жизни школы администрация официальная; но и,
кроме того, - с частным человеком уже «договорится» город и «сговорится»
о том, что ему нужно; да кстати и присмотрит за исполнением договора опять
«своим глазом». Таким образом, в противоположность государственной шко-
ле, где все номинально, здесь каково бы все ни было - станет все реально.
СЕМЬЯ КАК ИСТИННАЯ ШКОЛА
Только что (февраль 1897 г.) появилось в печати важное сообщение: мини-
стерство народного просвещения, отдавая, очевидно, преимущество домаш-
нему воспитанию перед школьным, распространило правила об испытании
лиц, проходящих дома гимназическую программу, с восьмого класса, где эти
испытания были допущены, на все восемь, где раньше они не практиковались,
и притом для школ обоих типов - классического и реального и всех степеней -
гимназии и прогимназии. Правила приспособлены так, что мальчик (и вероят-
но, девочка: для женских гимназий это еще существеннее), занимаясь зиму
дома, под надзором семьи и при ее помощи, является весною в гимназию толь-
ко для того, чтобы сдать переходный экзамен в следующий класс,- и так до
окончания курса. Гимназия является помощницею семьи в том отношении,
что разделяет ее работу на восемь годовых темпов и каждый год зарегистровы-
вает эту работу, свидетельствует ее и при доброкачественности делает ненуж-
ным ее повторение. Семья да и готовящийся таким способом юноша избавля-
ются теперь от вечно тяготевшего над ними страха, что вот через восемь лет
труда этот труд вдруг окажется негодным и юноша - без всяких путей перед
собою в жизнь непоправимо по!убленным. Этот страх гнал до сих пор к школе
всякого; гнал как можно ранее, с лет почти еще не окончившегося детства.
Вот то, что можно назвать культурною работою в сфере школьного вопро-
са: это уже не коротенькое по мысли передвигание программок, перестанав-
ливание предметов - это, наконец, цельное воззрение на школу, целое миросо-
зерцание, из коего как деталь, как одна и первая пока подробность, выпадает
важная практическая мера. Можно, в чаяниях лучшего будущего, наконец об-
легченно вздохнуть.
I
Мы уже упоминали ранее, быть может не ясно развив и утвердив свою
мысль, об антикультурном, противуцивилизующем действии новой школы;
и гам же оговорили, что это ее действие обнаруживается в косвенных, боко-
вых влияниях на великие факторы истории - религию, семью, некоторые
794
другие. Возьмем, в самом деле, семью. Читатель едва ли знает, но мне изве-
стно, что при некоторых гимназиях (женских) существуют так называемые
подприготовительные классы. Школа вобрала в себя весь возраст девочки от
8 до 17-18 лет (при оставлениях на «повторительные курсы»), равно относи-
тельно мужского населения - весь возраст мальчика. Семье оставлен только
труд родить и дать «первое молочко», пожалуй, «первое молочко» и кой-
какого научения, однако быстро обрываемого, от 9 лет она уже дает своему
ребенку только ночлег, на вечер - комнату и керосиновую лампу, поутру -
чай, и еду - в 3 часа. Семья превращена в квартиросодержание собственно-
го сына или дочери, где «права» квартиросодержащих оборваны и вообще
во всем отступают перед требованиями школы, каковы бы и в чем бы они ни
заключались. Семья опустела и запустела; она немножко развратилась, она
во всяком случае стала бессодержательна и как бы даже несколько глупа, т. е.
опять немного, чуть-чуть, но это такой огромный культурный фактор, где и
«чуть-чуть» отзывается последствиями, коих не загладить отличным зубре-
нием самых «одобренных» учебников по самым хитропридуманным про-
граммам.
Семья, во взрослых ее членах, и особенно в женском составе, стала не-
сколько праздна; во всяком случае, она перестала согреваться, ибо именно
дети-то и согревают семью. Посмотрите, как скучно и безуютно в бездетных
семьях. Неуловимо, но ребенок так же воспитывает взрослого, как и воспи-
тывается им. Он от взрослого получает факты, знания, поучения (самая пе-
чальная и, при неумении, бесполезная сторона воспитания), но своею
невинностью, веселостью, играми, забавами и, наконец, зарождающимися
пороками, он его воспитывает, а в последнем - и угрожает. Все полно мысли,
выразительности, тревог и страха, - все полно содержания, одухотвореннос-
ти. Теперь все это взяла школа, оставив семье механическую часть воспита-
ния: вовремя накормить, вовремя разбудить поутру, чтобы не опоздал к «мо-
литве перед учением», по осени - купить учебники, а по весне, для лучших
матерей,- помолиться тайно, чтобы вот Сережа не провалился на греческом
или по алгебре. Все покачнулось неуловимо, мало, но бесспорно - в сторону
ложного. И в то же время от той же причины гимназии переполнены до
невозможности: учителя выбиваются из сил, чтобы «выстроить уроки» в
людном классе (т. е. поддержать падающих, слабеющих учеников), и «разучи-
вание в классе задаваемого на завтра урока» (об этом много пишут) есть
пустая и обманчивая фикция, которою утешают себя учебные округа, о чем
сочиняются иногда статейки в педагогических журналах, всегда упоминается
в «Отчетах», но что нигде и никем не выполняется за всерешающим, всеоп-
ределяющим: «некогда» (в 55-минутный урок).
Последнее, т. е. отсутствие везде и повсюду этих «разучиваний», так важ-
но, что два слова следует сказать о нем, чтобы доказать его. Минуты две
уходит на отмечание «не бывших в классе учеников» и внесение задаваемого
урока в графу журнала; далее - спрашивание уроков; легко «читать лекции»
в гимназиях, но это недобросовестно - нужно много и обильно спрашивать,
795
возвращаться к ранее, еще в начале года пройденному, и спрашивать уроки
нужно у плохих (слабеющих, падающих) учеников, т. е. выжидать их запинки,
выжидать молчание и «припоминание», «наводить» на правильный ответ. И
спросить так, добросовестно и работая над учеником, 4-5 из них - значит
потратить minimum 30 минут; в старших классах - значит потратить 40 минут;
остается от 13 до 23 минут для «разучивания урока на завтра». Тут сейчас
можно сделать обман, или - дело, и последнее окажется невыполнимо. Имен-
но, разучивать урок на завтра следует, конечно, со слабыми учениками, ко-
торым на завтра будет особенно трудно учить его, но они не понимают объяс-
нения, не очень памятливы, все разучивание идет шершаво, пугает ученика
(обнаруживая незнание пройденного), раздражает учителя, и понятно, что
«разучить» его с 15-20 учениками людного класса, так чтобы им всем на
завтра пришлось лишь дома «повторить» собственно пройденное в классе -
в 20 минут или еще в 13, невозможно. Но можно эффектно сделать види-
мость того же дела: вызвав лучшего ученика, вызвав его к доске для лучшего
внимания всего класса, пройти с ним следующий урок, объяснить теорему
или сделать примерную задачу, показать места на карте, и особенно если
учитель при этом внушает, подсказывает почти ответы, а ученик только кива-
ет головой или повторяет, выразительно смотря глазами, полупонятые и вов-
се непонятые слова,- без раздражения, и к общему удовольствию, но и без
всякой пользы, «разучивание» совершилось.
Но это - деталь школьной техники. Мы говорим о великом культурном
значении выступления семьи, как школы.
Нам говорили, и много раз (по школьному же вопросу): «Семья развра-
щена», «ей ничего нельзя доверить». Да, но не развращайте же ее еще боль-
ше, отбирая от нее выполнение долга, отбирая это выполнение ранее самого
испытания: ибо вы уже a priori предполагаете семью развращенною, когда
вбираете ее детей в подприготовительный или приготовительный класс.
И потом, будьте правдивы: семья развращена, но она не более развращена,
чем школа,- умейте только быть беспристрастными. В ней есть все-таки не-
которая любовь: все же больше любви, чем между учителем и учеником, не
связанными ничем, кроме большой и маленькой службы, с обеих сторон - в
мундире; есть хоть доля правдивости отношений - все же большая доля, чем
в приготовлении уроков по подстрочникам. Рождение, обоюдность общения
с первых месяцев жизни и до 8-9 лет - это все же факт, положительное значе-
ние которого неизгладимо во всякой семье и коего нет ни в какой школе. Все
здесь теплее, интимнее, хоть чуть-чуть правдивее, и вот уже почему - все
здесь воспитательнее. Наконец, семья - всякая семья, перед детьми сожмет-
ся, выправится, пообчистится - неудержимым инстинктом, неудержимою
потребностью, чувством самого элементарного, почти животного стыда. Это
общий закон, что в данную культурную эпоху, по мере ее общей высоты или,
напротив, общего падения, - семья все же держится на несколько высшем
уровне, чем школа, по мистическим задаткам, в ней данным, и которые от-
сутствуют совершенно в школе.
796
II
Семья согреется и просветлеет детьми, раз перестанет давать им только квар-
тиру и стол, раз почувствует их живыми и постоянными в себе членами;
вынужденно зорче, трудолюбивее станет в ней жизнь взрослых. Но и относи-
тельно самих детей: лишь семья, лишь она одна может воспитать в детях суще-
ственнейшие стороны культуры, привить ее самые одухотворенные, эфир-
ные частицы. Мы говорим о всем неуловимом, правдивом, религиозном,
поэтическом, чего бы оно ни коснулось: знания, церкви, самой школы, отече-
ства, этой же семьи. Во всем есть две стороны: внешняя и механическая, внут-
ренняя и субъективная. По самым элементам школы - урок, учебник, учи-
тель, выслуживающий «25 лет»,-для этих элементов доступна работа только
над внешними и механическими сторонами образования. Выучить по Кате-
хизису столько-то страниц, не забыть пройти Пунические войны, неопреде-
ленные уравнения - она может; но то, для чего все это, самая цель «прохож-
дения», т. е., напр., вера и вытекающая из нее молитва, любовь к отечеству и
подвиг, неясный трепет перед таинственными высотами науки,- это недо-
ступно ей по самому существу черствых, несколько деревянистых элементов,
из коих она сложена и всегда останется сложена. «Знает» целое богословие и
не верит ему нисколько - вот обыденный факт школы, ее эмблема до извест-
ной степени. Так во всем. Фальстаф - в жизни, на уроках - римлянин:
Он в Риме был бы Брут, в Афинах - Периклес
- увы, мы знаем, насколько «был бы...»
Конечно, странно, как семья может привить патриотизм или религиоз-
ность более, чем школа? Она этого прямо и не сделает: она даст простор для
этого, она даст теплую среду для зарождения и воспитания всего подобного,
что по неуловимой природе своей и вообще зарождается в человеке как-то
невидимо, всегда почти случайно, всегда непредугадываемым способом.
Школа, грубо стуча уроками и учебниками, не дает среды для этого; прого-
няет шумом и суетливостью мысль о всем подобном; напротив, семья са-
мою бесшумностью своею, мягкостью всех отношений, непрерванностью
всех впечатлений, разрыхляет, приуготовляет почву, правда, не создавая се-
мени. Семя в безвестности приходит, как? откуда? - это Божия тайна, тайна
воспитания всех замечательных людей, в биографиях которых иногда путем
кропотливейших исследований мы все-таки не в силах открыть, откуда взя-
лась та или эта замечательная в них черта: откуда в Черняеве героизм, в Ло-
моносове порыв бежать в Москву за учением - этого никто не знает. Но
оставляйте мальчика (или девочку) иногда наедине, не вмешивайтесь слиш-
ком и постоянно в жизнь их: если в них есть что-нибудь особенное, при этих
условиях оно наилучше вырастет. Но, ради Бога, не берите у них все 15-16
часов бодрствования и не распределяйте их: час - сюда-то, другой - туда-то,
третий - на это и т. д.,- ничего по этому методу не выйдет, не выйдет даже из
Ломоносова. Школа именно это делает - семья именно этого не может, не
797
сумеет сделать и по естественной жалости, по зоркости к вот тут, на ее глазах,
происходящему, не захочет сделать.
Возьмем, чтобы не распространяться, только один факт: это - «вожде-
ние» гимназии под надзором классных наставников в церковь. Я наблюдал,
что горожане не любят посещать ту церковь, куда приводятся гимназисты,
несмотря на лучший иногда в городе «хор» их. Церковь почти пуста в других
частях своих, и только перед алтарем, вытянувшись в продолговатую колон-
ну, стоят гимназисты. Не буду говорить о подробностях, которые - стоя по
должности, сзади - приходилось наблюдать (щелканье подсолнечников - не
редкая вещь). Но в общем никто и решительно нисколько не молится, все
только «стоят». Но почему, однако? Да есть общая психическая атмосфера
здесь, не допускающая Ваню или Колю молиться; есть некоторый темп ду-
ховный вог у этих 300 мальчиков, в общем конечно, - темп, не порываю-
щийся к молитве, усталый, скучающий, иногда раздраженный или смеющий-
ся, и от плеча к плечу, без слов и без жестов, он передается. Когда товарищ
незаметно показывает товарищу щель кармана, тот без переговоров знает,
что там лежат подсолнечники и их можно взять; если он наводит глазом куда-
то в сторону, значит там есть что-нибудь любопытное. И в церкви, в РА - 2 часа
литургии, есть жизнь, своеобразная и безмолвная, но она ничего общего не
имеет с церковью, о ней забыли и вспоминают только, когда приходится раз-
двигаться перед священником, перед диаконом, предносящим свечу. Теперь
представим того же Ваню или Колю, ну, раза три в зиму и случайно, без
всякой мысли забредшим в церковь, к херувимской или даже «Верую». Хоть
полчаса, но есть молитвы; все-таки нет кощунства; нет для него почвы и
атмосферы. Он теперь стоит в толпе 300 человек, более его религиозных, и
темп их настроения господствует над его единичным настроением; он его
заражает, он его может подчинить. Чуточка религиозного, но она есть, и
опять есть в таком громадном деле, где все малое - многозначительно. При-
меняя известную притчу, мы можем сказать, что здесь нет сорных заглушаю-
щих трав, нет «птиц», расклевывающих «брошенное при дороге зерно». И
Бог весть какой возглас священника может запасть в душу; Бог весть, не запа-
дет ли в нее пример молитвы вот этого мещанина, недавно похоронившего
ребенка или жену.
III
Несколько практических замечаний. Гимназия должна стать регистрирующей,
пособляющей, указывающей школою в центре целого мира семей-школок.
Но семья, будучи даже совершенно образованна, в технике обучения тем не
менее неизмеримо слаба. Мне приходилось наблюдать (в провинции, и даже
довольно глухой), как многие матери, зная начертания только французских
букв, проходят с сыновьями 1-й и 2-й класс латыни, спрашивая по книге скло-
нения и спряжения, спрашивая слова. Жажды помочь - бездна, но средств
помочь - мало. Мне думается, что полезнее всяких наук, ввиду будущего
798
материнства, в женских гимназиях давать элементы латыни, греческого языка,
алгебры, - самое нужное, за что со временем оне безгранично возблагодарят
школу, когда будут на этих элементах спотыкаться их птенцы. Все так называе-
мые «гигиены» и физики, излишества богословия и древнеримские учрежде-
ния - одна «мораль»; девочка в 14 лет еще играет в куклы, и вот, уложив их
спать, поспешно учит об аграрных законах Лициния (IV класс); два Гракха
убиты, а на завтра мамины именины и будет пирог с вязигой. Кто это наблю-
дал, так сказать, с заднего крыльца жизни, для того сумбур и решительное
развращение детского ума широкими программами - бесспорно, несомнен-
но, ужасающе. У девочки уже образовалось малокровие, доктор требует, что-
бы на год она совсем оставила учение, но, по обстоятельствам семьи, это
невозможно; полчаса двенадцатого, и с сильнейшей головной болью, совер-
шенно не гуляв за день, она доучивает урок по педагогике, где написано, что
переутомлять способностей не нужно, или по гигиене, где написано о чистом
воздухе и необходимости достаточного сна. Ложь всего этого бьет в голову,
как только вы выходите из класса, забываете парты,
перст указательный, все признаки ученья...
Итак, будущие матери возблагодарят тысячекратно школу, если отбросив
законы Клисфена, она даст возможность ей со временем хорошо пройти со
своим мальчиком первое латинское склонение; мальчик не оборвется на уро-
ках; она за ним уже достаточно строго посмотрит и предупредит вынужден-
ную хитрость перед учителем: первый обман - всегда обман из страха; нако-
нец сама будет занята. Со всех сторон польза. Но, затем, для домашних сил
гимназическая программа все-таки чрезмерна. Здесь требуется, чтобы гим-
назия была подвижна, гибка, приспособляема к разнообразию волнующейся
около нее жизни, т. е., попросту, она должна иметь очень умного и добросове-
стного директора и этому директору должна быть дана большая свобода.
Все так называемые «русские предметы», т. е. весь курс гимназической
программы, за исключением математики и языков, проходятся - и могут
быть пройдены до завершения - дома не только без труда, но и неизмеримо
тщательнее, без зияний невежества, какие бывают у каждого ученика гимна-
зии, приступающего к испытанию зрелости. Но математика и языки - недо-
ступны для семьи. Подвижная гимназия в том может выразить свою под-
вижность, что, продолжая по остальным предметам лишь зарегистрировать
весною зимнюю работу семьи, по тем предметам, в коих семья ничего не
может сделать, может считать мальчика или девочку полным своим учени-
ком, т. е. иначе говоря, так как детей, дома занимающихся, непременно будет
много, так как недоступные для семьи предметы немногочисленны и будут
для всех семей одни и те же, - гимназия без затруднения может открыть,
напр., в IV-VIII классах вечерние занятия по древним языкам и математике.
Нужно заметить, в гимназии теперь все как-то неудобно расположено:
лучшее для усвоения время - утреннее, проходит в апатичном сидении на
уроках, где, по объясненному выше механизму урока, хорошо приготовив-
799
шему дома урок нечему научаться, а неприготовивший вовсе урока не на-
учается потому, что не понимает классной работы и обыкновенно только
боится, как бы его не вызвали к ответу. Напротив, в вечернее время, при
несколько утомленных силах, по крайней мере физических, и при необходи-
мости нервного успокоения перед сном (условие хорошего сна), мальчик
или девочка усиленно работают; они в это только время и усваивают и засы-
пают возбужденные, нередко раздраженные, взволнованные неудачею («не
вышла задача»). Уроки школьные неизмеримо полезнее было бы перенести
на вечер или на послеобеденное время, отдав утро самой активной работе -
приготовлению уроков. В младших классах, по понятной причине, этого
нельзя сделать, и вот еще почему истинным благодеянием было бы, если б
семья педагогическою работою своею вытеснила совершенно эти классы;
но в старших классах занятость вечера в гимназии была бы благодетельна и
по побочным соображениям, которые здесь излишне объяснять,- и именно
на поздний час вечера, непосредственно перед сном, могли бы быть перене-
сены те 2 или 3 урока по математике и языкам, которые пополняли бы само-
стоятельную и вообще домашнюю работу юноши.
IV
Да простит читатель мимолетное отступление. В «Военно-полевой хирургии»
покойного Пирогова, на первых же страницах и раньше объяснения всяких
частных болезней и способов их лечения, развивается понятие особой,
специфической предрасположенности к дурному течению и небла-
гоприятному исходу болезней в огромных госпиталях, и о том, что, при всех
неудобствах, бедности, недостаточности средств, в легких бараках, не имею-
щих специфического этого яда, лечение идет лучше. Это в высшей степени
применимо к школе: берегите маленькие школки, плодите их и недоверчиво
смотрите на всякую огромную, в 2-3 этажа, педагогическую махину, со мно-
гими сотнями учеников, десятками учителей. Можно быть уверенным, все
недостатки школы здесь есть в увеличенном виде, «течение всех болезней -
дурно». Я говорю это к тому, чтобы внушить читающему мысль, до какой
степени не только допустимо, но и желательно развитие между гимназией и
семьею частных школок, с оборванными программами, с неполнотою в про-
ходимых предметах, так сказать, 1/2-1/8 гимназии, руководимой частным учи-
телем, где семья находила бы помощь своей работе, могла бы получить то
пособие, напр., в математике и языках, которого не в силах сама оказать. В
такой школе всякий недостаток ученика рано виден, вовремя может быть по-
правлен; всякая мать в такую школу может прийти с указанием необходимо-
сти обратить внимание на этот или тот недостаток сына. Здесь возможно об-
щение, которое в сущности невозможно между семьею - слишком малым
миром и гимназией — миром слишком большим и сложным, «высокоум-
ным». Если такие школы будут руководиться не кандидатами университетов
800
(хотя почему же нет?), недостатка в них не будет: кто знаком с постановкою
учебного дела в гимназиях, наблюдал, вероятно, до какой степени часто учи-
теля, приближающиеся к типу «ученого», страдают недостатками как педаго-
ги, и как часто учителя, еле-еле окончившие курс университета и иногда в нем
вовсе не бывшие, бывают виртуозами-педагогами, перед коими «ученые» -
если они в то же время и умны - преклоняются с удивлением и истинным
уважением. Даже как-то, почему-то «ученость» и «педагогичность» чаще
всего обратно пропорциональны - вопрос тонкой и сложной психологии,
который здесь мы не будем разбирать.
Вот, в общем, картина постановки обучения в городе, менее правильная
(регламентированная), но более живая, одухотворенная, более разнообразная
и волнующаяся, чем теперь. Обучение должно как бы пронизывать жизнь, а не
стоять в стороне от нее чем-то отдельным, какою-то скалою привилегий, кото-
рых все добиваются. Трудится семья, трудится все общество, трудятся дети -
около взрослых; все серьезно; пусть даже будет все немножко сурово: от этого
оно не перестанет быть истинно воспитательно и, следовательно, культурно.
ГРАНИЦЫ ЗАКОНА
Где это счастливое время, когда учились и не спрашивали себя: «По какому
уставу мы учимся?». Любили учителей своих и не задумывались: «По кото-
рому § мы их любим?».
Мысль эта невольно шевелится где-то в темных уголках ума, пока мы с
интересом пробегаем с разных сторон поднявшиеся из профессорской корпо-
рации суждения об уставах 1863 и 1884 годов. Много ценного было высказано
в этих суждениях; и особенно важно, что это был голос людей, не только испы-
тавших на себе практически действие обоих уставов, но - да будет прощено
грубое выражение - и протащивших на себе все их параграфы, примечания и
подпримечания. Конечно, шероховатость этих правил и даже частичную их
нелогичность они почувствовали не только тонко, но и местами нервно, до
мучительности больно. Всего правильнее, кажется, оценка - и отрицательная
- устава 1884 года. Этот устав - плохое extemporale, списанное нами у Пруссии,
с его заменой вековых четырех курсов восемью полугодовыми семестрами и
с переименованием «кандидатов» в «студентов 1-го разряда», мы не продол-
жаем далее... Конечно, этот устав не мог бы мыслью своею, своим точным
содержанием ответить ни на один вопрос: почему именно то или это стоит в
нем так, а не совершенно иначе? Нужна была перемена, ибо курс политичес-
кой, а следовательно и умственной, жизни менялся или должен был быть изме-
нен,- и перемена, какая-нибудь, была произведена. Никакой органической ра-
боты не было в нее положено; даже никакой оригинальной мысли, кроме су-
жения одних рангов, расширения других, перемены в сроках.
Много значительного высказано было, повторяем, с разных сторон, и
особенно хочется отметить нам статьи г. Н. Г. с его мыслью о своеобразии
26 Зак. 3969
801
русской университетской жизни, и особенно г. Старого профессора с его
еще более многоценным указанием на гибельность служебных «преиму-
ществ», связанных с университетским образованием, ради которых теперь, а
вовсе не из рвения к науке, и отбывается «ученая повинность» «созревшим»
в гимназиях юношеством. Но все-таки - «устав» и «устав»; друзья мои, где
же человек, почему вы ничего не надеетесь от человека?
Государство и его регламентация; параграфы и параграфы; еще комиссия
и опять закон, и... мы надеемся, что мы расцветем. Не обман ли это? Не мертвы
ли мы? Будем мужественны, будем смотреть мужественно в глаза правде.
Все - «государство», и ничего - «мы». Пощадите; пощадите, наконец,
государство, на которое сыплются требования со всех сторон, со всех сторон
сыплются обвинения,- и оно, робко отступая перед обвинителями, глубже и
глубже зарывается в вороха бумаг...
I
Отвергнет ли кто, что золотая пора русской университетской жизни была пора,
когда всходили на кафедру Грановский, Кудрявцев, Кавелин, Соловьёв? Но
при каком это было уставе, в какие годы? В суровую пору Николаевского
царствования, в конце 40-х годов, когда правительственная реакция была осо-
бенно мрачна и на горизонте университетской жизни не только не показывал-
ся устав 1863 года, но его и не предугадывал никто. Но был человек; этот
человек был граф Строганов. Европейски образованный, любя - и не любо-
вью дилетанта, а работника - науку, он распространил вокруг себя атмосферу
этой любви. Ежедневно он бывал в университете и слушал лекции, не для того,
чтобы «выследить» дух, но чтобы научиться самому, чтобы сочувствовать
доброму, чтобы мысленно, в предвидении будущего, порадоваться за студен-
тов. Он сам всегда присутствовал и на экзаменах и зорко высматривал талант-
ливых студентов. Всякий дар знал, что на него устремлено внимание; всякая
бездарность тоже знала, что и на нее обращено внимание. Не было приказа-
ний; но все вздымалось кверху, в лучшие и лучшие сферы, вслед за истинно
просвещенным и истинно благородным человеком; и мы не знаем, но как-то
догадываемся, что в эти счастливые и краткие дни и кафедра, и парта забыли,
по какому они «уставу» существуют...
Границы закона - узки. Мы должны, наконец, сознать, что государство
имеет свою определенную природу и, сколько бы ни усиливалось, не может
переступить естественных ее пределов, как и человек никогда не может пере-
прыгнуть через свою тень. Государство есть только форма; оболочка, но не
живой дух. В нем нет вообще ничего субъективного; и как творческим может
быть только живой субъект - в государстве нет и не может вовсе быть ничего
творческого. Это - бедный часовой, который стоит на страже всех нас, - блю-
дет, чтобы мы не передрались, чтобы не разбежались, не начали похищать друг
у друга имущества, наконец - и это уже самая тонкая его работа - чтобы мы не
мешали друг другу. И только: роль чисто охранительная, строго консерватив-
802
ная. Сделать нас художниками... что тут может бедный часовой? Поэтами,
мыслителями... он не понимает вовсе этого. Мы собираемся в universitas
litterarum и не занимаемся наукой - он безмолвствует; мы начинаем занимать-
ся политикой, пытаемся вырвать у него ружье: тут он начинает понимать, это
входит в его компетенцию,- и он нас отталкивает в сторону.
Вот природа вещей, из которой мы никогда не выйдем. Бездна несчас-
тий вытекает из того, что, не понимая этой природы, мы пытаемся на себя
взять обязанности государства, а свои обязанности пытаемся возложить на
государство. И так как мы, отдельные люди, вообще более одухотворены,
чем оно, более гибки, более творцы и изобретатели в сфере мысли, - то,
вообще говоря, мы успеваем убедить его в том, что составляет бедствен-
нейшую из наших иллюзий; и отсюда - конвульсивные его усилия что-то
сделать из того, что мы ложно требуем; и совершенное бессилие это сде-
лать, так как требуемое противоречит его природе.
II
Но вот другое дело - государственный человек. Правда, он стоит при уставе и
как будто только блюдет его §§. Но благодаря необъятной сложности, истинно
мистической глубине новой цивилизации, построенной на началах римских,
греческих, иудейских и, наконец, на Откровенной истине, новый человек -
если он сколько-нибудь стоит в уровень с цивилизацией, к которой принадле-
жит,- входит в государство лишь незначительною своей частью и в остальных
частях существа своего есть свободный творец, есть или может быть худож-
ник. Цезарь или Фемистокл были истинно бедны и немощны перед сколько-
нибудь даровитым человеком нашего времени. Они знали свою республику;
холодная и внешняя религия их ни на что не одушевляла; древний человек был
весь до известной степени блестящая оболочка, чешуйка на шкуре красивого
животного, каким было его отечество, всякое отечество древности. И, постав-
ленный при «уставе», такой человек мог или строго соблюсти его, или, опять
в законодательном порядке, несколько передвинуть его параграфы. Не отсюда
ли в древнем мире эта неизмеримо большая исполнительность в законе? Эти
«кровавые законы» Дракона - пусть это легенда, но характерно, что она была;
этот должник, разрубаемый на части, которые отдавались кредиторам в про-
центном отношении его долга; это уже факт. Потеряв закон, древний человек
терял все; и он дорожил им, как единственною почвою под своими ногами,
как единственным методом, по которому умел и мог действовать. Но новый
человек - он христианин раньше, чем гражданин; он художник или мыслитель
- и опять это с большею любовью, чем чиновник (деятельный член государ-
ства). Умейте же пользоваться этим; эксплоатируйте эту сложность и глубину
нового человека; обратите внимание, что из него может забить фонтан идей,
порывов, дел,- и, не закрывая этого фонтана, предугадайте силу и направле-
ние его и, все рассчитав, дайте ему свободу.
803
Цезарь, этот мертвый Цезарь — как проникновенно понял его Тургенев в
«Призраках»,- не улыбнулся бы и не сморщился, как бы и что профессора
ни читали в университете, как бы и что там ни делали студенты, лишь бы они
не подавали ^олоса в комициях: он не умел сорадоваться; тайна сочувствия -
это тайна нового мира; притягательные силы - это силы, открывшиеся чело-
веку с христианством, и которыми обильно от него напоена новая цивилиза-
ция. Университет - universitas litterarum, как и вообще наука, как все духов-
ное, в том числе, например, и церковь, весь построен на этих силах. И может
быть, вот объяснение, что университет мы встречаем в первые же поры ев-
ропейской образованности, и самая идея его никогда даже не зарождалась в
античном мире. Там были академии, школы Аристотеля или Платона, биб-
лиотеки - как Александрийская, и не было ничего подобного этому духовно-
му рыцарству, со своими особыми турнирами-диспутами, со своим аскетиз-
мом, даже со своими мучениками,- ничего аналогичного этим новым и
странным «братствам о науке», которые в такой же безвестной почти дали,
как и «суд 12-ти присяжных», зародились во всех больших и живых центрах
Запада, обросли обычаем, сложились в своеобразный мир и продолжают
сохраняться до нашего времени, правда, все более теряя главную мысль свою.
III
Нужно поддержать эту мысль в древнем и нежном учреждении - и всего менее
это можно сделать путем новых и новых уставов. Мы обмолвились о суде при-
сяжных - учреждении, почти столь же древнем в Европе, как и университет. Вот
еще аналогия, которая может с новой стороны показать нам, что наш мир со-
вершенно отличен от древнего в самых методах жить, действовать, улучшать, -
что искание человека есть такая же вечная потребность в нем и единственный
путь прогресса, как искание закона было единственным путем прогресса в ста-
ром мире. В чем главная суть этого суда - особенно ясная, если мы его сравним
с римским подведением проступка под всем известную и данную ранее юри-
дическую норму? Да в том, что «присяжники» судят не по закону непременно
и даже иногда - без закона; что они являются живым субъектом правды и творят
факт - оправдания или присуждения - из себя, а не берут этот факт извне; что
закон, никогда и нигде не написанный («убийца - не виновен»), как бы выраста-
ет из них в самый момент суда и только для этого момента, - и скрывается, как
только они расходятся. Перевес дан лицу - перевес перед объективною действи-
тельностью, перед написанным законом, перед самым государством, как сле-
пою формой и его постоянною жаждой ничего не простить, «воздать кое-муж-
до по делом». Каким абсурдом этот суд показался бы в Риме! Каким абсурдом
было бы доверить так судить Цезарю, не пробужденному еще, глухому, без
тревог совести, которые узнал христианский мир! Норма, закон, в частности,
«устав» - это есть исчезающая по малости величина в европейской цивилиза-
ции. Еще пример: без причины разве, разве без нужды, без настоятельной необ-
804
ходимости у римлян еще в грубую пору выработалось совершеннейшее зако-
нодательство, и интерпретация, т. е. истолкование закона, составляла обязан-
ность каждого патриция? Не ясно ли, что закон там был и хлеб и молитва, коею
жили ежедневно и все, без которой никто и ни на один день не мог обойтись. И
разве без другой и противоположной причины в Англии, когда она уже прохо-
дит через зенит своего бытия, законы еще не скодифицированы и представляют
Авгиевы конюшни, которые невозможно, а главное и самое любопытное—ник-
то не хочет и не пытается очистить. И мы все - самое меньшее - несколько
скучаем законом, не очень справляемся с ним, не ищем справиться. Мы как-то
все понимаем и чувствуем, что закон - не для обихода; что это - крайняя мера
прибегания в несчастье, в обиде, в чем-то непременно злополучном. И всякий
раз, т. е. в 9/10 жизни, когда мы думаем о положительном добре, мы, не пытаясь
раскрыть кодексов, всего надеемся от человека, всегда выглядываем человека,
мы опираемся на человека и предпочитаем опору эту иным. Как и преступник
- будем иметь в виду эту важную аналогию - доверчивее рассказывает вину
свою «присяжным», хотя они и могут его «без вины засудить», чем как если бы
перед ним сидел римский претор в тоге.
Вот особый нерв в жизни, который опасно перерезать; особый и новый
мотив деятельности, который терять нельзя. Как судья христианского народа есть
живой субъект права, его творец на минуту и для минуты, так и правитель - во
всякой сфере, но преимущественно в духовной,- есть художник-зиждитель жиз-
ни, и лишь в таком случае он на месте - он «избран», а не только «зван». Он
может и должен быть изобретателем, Troufyurig: ведь, в самом деле, «поэт» ничего
не значит другого по древней этимологии, как именно «делатель», «творец».
Есть поэзия дел, как есть поэзия слов и мыслей; и собственно, это есть главная и
возвышеннейшая сфера поэзии - самая жизнь, ткань фактов, а не звуков или
красок. Есть люди особенные - с даром слов; другие - с даром мысли; но есть
главные и лучшие люди - с даром дел; и они не реже, чем первые; они так же
неутомимы, как те; факт для них есть тот же сладкий отдых и наслаждение, как для
тех создание все новых и новых мыслей или произнесение новых и новых слов.
IV
Мы упомянули о ip. Строганове, и что он скучал, если день не был в универси-
тете: быть на экзамене, всматриваться в подымающиеся с парты дарования - не
было для него долгом, «службою». Лицо его не изображало страдальчества от
труда. Он цвел, - именно цвел поэзией факта, и расцветил собою университет.
Вот - человек, на которого можно обменять всякие уставы. Был Грановский, и
снова - чтение лекций для него не составляло страдания; Соловьёв - и издание
29 томов «Истории России» не утомило и не истощило его. Вот поэты дела, в
разных его формах, поднявшиеся около одного, т. е., конечно, не вызванные им
к жизни, но которым он не помешал встать и даже помог, протянул вовремя
руку - собственно все, что нужно от всякого практического деятеля.
805
Высмотреть подобного человека и есть задача государства или, так как в
новом мире все свелось к лицу и его субъективным силам, задача лица, дер-
жащего большое или малое кормило в государственном корабле. Резюмиру-
ем мысль нашу. Мы отделили в новом мире государство от государственно-
го человека - указали, что первое в нем так же узко, бедно в силах, даже
слепо, наконец, глухо, как и в древнем мире, как всегда, в силу природы сво-
ей. Но государственный человек, который в древнем мире был до неразделя-
емое™ слит с государством, лежал в нем как мимолетная и неуловимая склад-
ка в вечной и общей одежде всех, без воли в себе оригинальной, без движе-
ния, без мысли независимой,- этот человек в новом мире лишь касается
государства, как окружности только касается секущая, бесконечно уходящая
за ее границы вдаль. Он в новом мире и есть живой субъект истории; в част-
ности - субъект, т. е. носитель и зиждитель, даже государственной жизни. Он,
а не закон, не норма, не учреждения, не «уставы». Все это - в наши дни, и уже
цавно - стало для человека лишь посохом, который лежит недвижимым, пока
его некому взять; и в руках виртуоза-художника этот же посох, обыкновенная
палка,- мы хотим сказать, всякий устав и закон - становится волшебною
тростью дивного капельмейстера истории. Этого соотношения изменить
нельзя, как нельзя вырвать смысл из всей новой истории. Благодарение Богу
- уже пробужден человек, умер или почти умер закон, по крайней мере -
поблек, обесцветился, обессилел. Будем же живы мы, будем достойны в меру
достоинства нашей цивилизации. Смежим глаза на уставы - это древняя за-
бота; раскроем их на человека - вот новый и, главное, единственный путь, с
которого нам некуда свернуть. Так во всем; в частности - так в просвещении;
и еще частнее — в вопросе об университетах наших.
БЕСПОЧВЕННОСТЬ РУССКОЙ ШКОЛЫ
Нужды нашего образования у всех наболели. Самая бедная в Европе просве-
щением страна, Россия всего беднее обставила свое просвещение. Правосу-
дие, армия, пути сообщения - все это, предъявляя свои нужды, ссылается на
их «безотлагательность»; но то, что лежит в основе всего этого, свет знания -
нам представляется таким делом, нужда в котором всегда может быть отложе-
на, «оговорена» и в конце концов забыта. Возьмем ли мы книгу и стоящего за
ней ученого; журнал и стоящего за ним писателя; но прежде всего, конечно,
школу и стоящего за нею учителя - мы увидим все это как-то оборванным в
своем существовании и достоинстве; все это жмется куда-то в угол в нашем
широком и, казалось бы, для всего привольном отечестве; ежится и как будто
чувствует нужду в оправдании самого бытия своего. Мы имеем чисто язы-
ческое, грубо римское представление об учителе: «учитель» - это немножко
«раб», конечно, «ученый» раб и все-таки не смеющий возвыситься до срав-
нения в положении с отцом детей, к которым он приставлен, и который есть
для него немножко «господин». Христианское понятие, по которому свет,
806
просвещение есть высшее земное дело, есть украшающее и возвеличиваю-
щее человека занятие,- нам совершенно чуждо. Оно нам чуждо во всех про-
явлениях, в науке, литературе, но впереди всего - в школе.
Загнанность внешняя и, может быть, только матерьяльная сказывается
внутреннею надломленностью; пренебрежение, которое свет знания чувству-
ет к себе, вокруг себя, сказывается неохотой и боязнью связывать свои и по-
своему слова. И это - после Пушкина, Карамзина; это когда мы имеем славя-
нофильство, т. е. целую школу национального сознания; но это националь-
ное сознание также выброшено куда-то на задний двор нашего государствен-
ного и общественного обихода.
Пора нашему просвещению снять «зрак раба», который оно носит на
себе, и стать в уровень, плечом к плечу с другими ведомствами. И это нужно
сделать не в центре, но распространить это поднятие духа на непосредствен-
но стоящую у дела волну, т. е. на просвещение вообще и, в частности, на
учащие силы. Мы разумеем учителей, мы разумеем профессоров - этих
немножко «париев» нашего общественного и государственного уклада. Было
бы безрассудно и жестоко требовать с людей, предварительно не дав им спо-
собов выполнить требуемое; нельзя иначе возвысить самый уровень учи-
тельского у нас класса, как создав лучшие условия для его существования, т. е.
перестав отгонять от учительства все активное, сильное, что до сих пор бежа-
ло от этих должностей к другим, свободнее поставленным и лучше обеспе-
чивающим. Скажем то, чему долгий срок мы были свидетелями, что очень
мало известно в нашем обществе и что, будучи грубо материально, служит
источником самых печальных наших поражений в области идеала: это - внут-
реннее, домашнее положение учителя. В настоящее время учителю семей-
ному невозможно захворать, не впав сейчас же в долг, почти непоправимый;
семейный учитель, оставляя своих детей почти без присмотра, нудит жену к
педагогическому же труду на стороне, или, хоть и потаенно, но к какому-
нибудь домашнему, «кустарному» ремеслу; сами учителя захлебываются в
уроках, доходят до самоудушения с «ученическими тетрадями» и, очевидно,
скверно поправляют как эти тетради, так и вообще скверно дают уроки, т. е.
утомленно и раздраженно. Учитель стал почти синонимом неврастеника, и
это около учеников-детей, на которых его нервность отражается почти зара-
жающим образом. И в основе этого лежит просто рубль, урванный у него и
переданный чиновнику таких ведомств, для которых свет знания «как бы не
бе». А между тем кто наблюдал учительский быт и труд, не может не знать,
сколько здесь таится загнанного, измученного идеализма. Фигурка нашей
«сельской учительницы» стала почти классическою в своем смирении и без-
ропотности; берегите этот начавшийся и еще не угасший порыв; он не вечен,
он может надорваться, он может впасть в цинизм, если встретит грубость
невнимания и безжалостное издевательство над собою. А раз погаснувший -
его невозможно возжечь, потому что загорелся он свободно, при стечении
случайных исторических обстоятельств. Есть страны так же «темные», как
Россия; но везде это понимается как несчастье; и нет стран, где - как у нас -
807
невежество стояло бы в вызывающей позе и чувствовало бы достаточный
фундамент под этою позой. Оборванный в своем существовании, «чинов-
ник» министерства просвещения есть уже слагающая единица обществен-
ных нравов: он «жмется» - и окружающая жизнь наглее на него наступает, т. е.
в отдаленных последствиях - это жмется книга, ежится журнал, газета, и внут-
ренно, духовно - ежится мысль, слово перед наступающею на них акцизною
бандеролью. Так из подробностей, из мелочей слагается духовный образ стра-
ны и образуется траектория ее исторического движения.
Мы упомянули о Карамзине, о Пушкине, о школе славянофильства. Рос-
сия в прошлом своем и в свободных своих усилиях дала гораздо лучшие
задатки, чем какие мы развиваем сейчас или какими пользуемся официаль-
но. Наши уставы как гимназический, так и университетский, суть компиля-
ции из иностранного, и даже проще - перевод с немецкого. Но дело лежит
гораздо глубже, потому что и самый матерьял образования, с которым не-
посредственно соприкасается отроческий и юношеский возраст всей стра-
ны, есть также не русский в 7/10 своего состава. То есть незаметно и неуклон-
но мы переделываем самую структуру русской души «на манер иностран-
ного». Чтобы не быть голословными, мы укажем, что последовательный курс
русской истории, проходимый при одном уроке в неделю в IV, VII и в первую
учебную четверть в VIII классе, занимает в них всех 56 часов, т. е., если их
слить в сплошное время, из 8 лет учения на русскую историю берется только
2-е суток и 8 часов = 5 дням нормального учения. При 1600 учебных днях в
течение восьмилетнего курса гимназии это составляет 1/ро долю всего вос-
принимаемого учеником материала и, следовательно, занимает */32О долю
его цельного внимания, именно в тот возраст, когда он формируется и когда
в нем устанавливаются навсегда неразрушимые перспективы «важного» и
«неважного», «близкого» и «далекого». Нужно ли говорить, что это только
есть исчезающая по малости величина, сводящаяся на «нет» в общем вось-
милетием воспоминании. И на «нет» сводится роль исторического воспоми-
нания в душе почти каждого образованного русского. Удивляться ли при
этой постановке дела в самом зерне его, что мы на всех поприщах духовной
и общественной жизни представляем слабость национального сознания, что
мы не имеем ни привычек русских, ни русских мыслей, и, наконец, мы про-
сто не имеем фактического русского материала как предмета обращения для
своей хотя бы и «общечеловеческой» мысли. Мы учимся патриотизму - на
образцах римского патриотизма; чувству чести - на образцах французской
«чести», семейной домовитости - на исторических рассказах о швейцарцах
и средневековых германцах. Мы сплетаем английские, французские, герман-
ские и византийские династии королей, - не лучше, но и нисколько не хуже,
чем генеалогию своих государей, как и географию этих стран знаем - если
сравнить пространственные измерения - в сущности так же подробно, как и
географию своего «захудалого» отечества. Эта духовная перспектива, навя-
занная школою в самый воприимчивый и чуткий возраст, на мягком воске
еще не окрепшей души скоро затвердевает и уже остается недвижимою во
808
всю последующую жизнь, в деятельности естественно так мало «зрелой».
Славянофильство Ивана и Петра Киреевских, братьев Аксаковых, Хомякова,
Юр. Самарина и до сих пор висит у нас «в воздухе» какою-то «теориею»,
когда оно есть только снимок, слепок, духовный отблеск фактического склада
нашей истории и земли. То есть эта история, эта земля так выскользнула из-
под наших ног, что, болтая ими в воздухе и цепляясь руками за перила и
«пропилеи» пусть «общечеловеческой», но все же не кровно нашей цивили-
зации, мы все кровное для себя уже представляем только как «идею», и при-
том весьма нам странную, нисколько не близкую. Мы далеки от мысли отри-
цать значение древности, как и значение европейской истории, литературы,
философии, науки. Но мы думаем, что прочно и правильно осесть все это
может только на типично сложившуюся душу, а не на эклектический набор
каких-то кусочков всевозможных «душ», по нашему предположению состав-
ляющий «настоящую общечеловеческую душу». По крайней мере, от древ-
него грека и до современного нам англичанина, француза, немца - каждый,
именно в пору отрочества и первой юности, воспитывался и воспитывается
в типично-национальном духе - и, может быть, этот же крепкий фундамент
дает основательность и яркость последующим блужданиям духа, если им и
случится переступить за национальные рамки. У нас Грановский, Белинс-
кий, Герцен, ранее - Жуковский и Карамзин и прототип их всех - Великий
Петр, были все-таки воспитаны типично, по-русски. И от этого они знали, что
отрицали; и они отрицали с болью. Совершенная противоположность зем-
ному и индифферентному эклектизму наших текущих дней.
Целый круг людей воскресили в себе русского человека, погрузившись в
«пыль хартий»,- и никак нельзя сказать, чтобы Самарин, Аксаков и Хомяков
были шаткими или поверхностными «гражданами». Нет, именно как гражда-
не, равно и как члены общества, наконец - как отцы семейств, они были
образцами, т. е. в пыли наших хартий есть что-то «образцовое», на чем вос-
питываются истинные граждане, как и истинно образованные люди. Неза-
долго до смерти Юр. Самарин писал, что опубликование официальных све-
дений о процентной ежегодной убыли у нас лесов не дало ему несколько
ночей спать. Если бы таких людей мы считали не исключительными единица-
ми, если бы таков был склад и дух общества, Россия не понесла бы самых
тяжких из своих поражений извне и внутри и к цепи успехов своих прибавила
бы еще несколько ценных звеньев. Дело в том, что классически разработан-
ная и классически передаваемая наша старина, в своем роде, могла бы стать
классическим образованием, но туземно-классическим, ибо сущность «клас-
сического» лежит менее в предмете и более в способе. Но это - далекая
мечта, из которой часть, однако, может получить осуществление и теперь. С
самых различных сторон и в органах печати нисколько не сливающегося на-
правления последние годы читалось желание видеть большее место, уделяе-
мое России и всему русскому в учебных программах. Мы несколько сужива-
ем это и определяем, настаивая на памятниках истории и на памятниках ста-
рой и новой словесности. За первые семьдесят лет этого века Россия пережи-
809
ла не только пору богатых творческих возбуждений, но после XVIII века —
века забвения она духовно открыла себя: она создала своеобразный и пре-
красный у себя Renaissance - Renaissance летописей, монастырей, былин,
бесчисленных поэтических или более деловых «Слов». Оригинальность и кра-
сота этого духа лишь на немногих подействовала, но на всех, на кого она
подействовала, она произвела оздоровляющее впечатление, но с тем вместе
ничего ни у кого не отняла из «общечеловеческого». Если мы присоединим
сюда классическую поэзию и прозу, создавшуюся у нас за этот век, мы будем
иметь богатый матерьял образования - богатый равно и красотою форм, и
обилием глубочайших мыслей. Мы не хотим сказать, чтобы это было все,
даже не настаиваем, чтобы это было главным. Но что этому всему следует
дать большее движение в нашей школе - этого никто не оспорит, и в этом
состоит наша скромная мысль. Важно, чтобы школа, преследуя какие угодно
«далекие» цели, не отставала на самом деле от достигнутого уже страною
умственного и нравственного уровня, и неоспоримо, что наша школа, где
все знают плохо и хуже всего русскую литературу и русскую историю, ре-
шительно не стоит на уровне той минуты, в которую она существует.
ДВА ТИПА ОБРАЗОВАНИЯ
I
Есть два типа собственно умственного образования: формальное и реальное.
Младенец, рождаясь, еще ничего не знает; между тем, едва первые впечатле-
ния мира коснутся его, он жадно вбирает их и безотчетно для себя, незаметно
для другого, их преобразует в знание. Какими путями, под какими воздействи-
ями, в каком виде это в нем происходит - вопрос об этом мы можем оставить
в стороне. Факт тот, что собственно ум является здесь, в эти первые моменты
бытия человеческого, - формою, которая пуста еще, не насыщена, бессодер-
жательна; мы этим не говорим ничего другого, кроме того, что до рождения
младенец ничего еще не знает. Итак, в познании: содержание - это мир, ум -
это только форма.
Усилия образующего могут быть направлены, во-первых, на тщательный
подбор содержания, которое усваивается: на его ценность, необходимость
для жизни, полновесность в нем собственных внутренних достоинств. Это
будет образование реальное. Собственно ум образуемый, человек воспиты-
ваемый здесь пренебрежен: как бы предполагается, что его нельзя, или не
следует, или не стоит воспитывать. Важно, что он понесет с собою; кто он -
это не существенно. Почти не нужно объяснять, что тип этого образования в
собственном смысле не есть вовсе образование, и самый труд человека, ко-
торый посвятил бы ему свои силы, не есть искусство, не есть какая-нибудь
мудрость. Это - почти физический труд обучения - наиболее полезному,
нужному; почти физический труд составления круга наиважнейших зна-
ний, работа составителя хрестоматии, сочинителя энциклопедического сло-
810
варя. Она требует, правда, обширных сведений в истории, обширной озна-
комленности со всем кругом наук, но он вовсе не требует знания человека.
Результат этого образования может быть очень хорош или совершенно
дурен - вне зависимости от самого образования и в зависимости единственно
от усвояющих способностей ребенка. Если уже от природы усвояющая фор-
ма хороша, если она жива, сильна, хорошо действует, если ребенок даровит
или даже гениален - он станет истинно образованным, глубоко и прекрасно
воспитанным. Гениальные самородки - в древности Сократ, в новое время
Ньютон, почти в наши дни Фарадэй, у нас Ломоносов, - вот умы, которые не
растерялись, не померкли, не запутались перед миром, но на его красоту смог-
ли ответить соответствующей красотой своего духа, и стали велики без чьего-
либо изощренного внимания к их силе, к работе их способностей.
Рядом с этими людьми мы можем наблюдать великое множество других,
почти не отличающихся от них по обширности своих сведений, но, послушав
которых час-два, понаблюдав их в жизни, вы с неприятным чувством говорите
себе: это какие-то пустомели. Вы их встретите везде: в литературе, обществе;
они теснятся везде, читают и слушают, пишут и читают, обыкновенно весьма
обильно и всегда к великому удовольствию своему и часто слушателей. Это-
почти приятные люди: без них жизнь была бы скучна, как дорога без цветов и
правы, которую мы топчем, воздух без насекомых, которые нас развлекают
жужжанием, или, пожалуй, как дом без надоедливой и бестолковой хозяйки,
которая вас раздражает, смешит и все-таки оживляет. Пока вы ничем особенно
не заняты, все это, попутное, хорошо и оно начинает несколько мешать только
тогда, когда вы озабочены, встревожены, когда вам нужно сказать слово, кото-
рое было бы непременно понято, или выслушать от другого что-нибудь очень
нужное; наконец, когда вам предстоит что-нибудь сделать.
Мы сказали, что круг их сведений очень обширен. Это действительно нео-
бозримая хрестоматия, не совсем упорядоченная только, и если вы всмотритесь
в причины этой неупорядоченности, вы тотчас поймете, что составитель ее вов-
се не различает ценное от неценного, нужное от бесполезного: он не имеет
обоняния, у него нет вкуса, и вот отчего он так обильно и постоянно «есть» - мы
хотим сказать: постоянно и обильно узнает. Он не изощрен, не организован’, он
слаб, собственно бессилен, и вот отчего не ищет, не выбирает, но пассивно пере-
двигает ноги, когда жизнь и книги накладывают и накладывают на него ношу за
ношею. Он - жалкий человек, он - презренный человек, конечно, в серьезном
смысле этого слова, конечно - в отношении только серьезных целей.
Младенец с опытностью старца; точнее - младенец, подсмотревший все,
что делает его дед, и этого не понявший, но этому подражающий, - вот опре-
деление такого человека; и это есть точное выражение того, что дает соб-
ственно реальное образование, имеющее предметом своего внимания усва-
иваемое содержание.
Усваивает ум - и по существу своему он есть только форма. Образова-
ние, на изощрении этой формы сосредоточенное, есть формальное. Почти
не нужно объяснять, что собственно оно только и есть образование.
811
Мы можем нередко встретить людей, круг сведений которых очень узок,
но беседа с которыми доставляет неисчерпаемую занимательность. В жизни
вы можете на них положиться; вы им можете поручить всякое дело и даже
дело для них новое, рассчитывая не без основания, что, два-три раза в несу-
щественном ошибившись, в конце концов они им овладеют, справятся с ним,
не растерявшись сами и не растеряв ничего нужного в порученном.
Это - умные люди, не пустые, не обогащенные в знании, но изощренные
в способностях своих: это большею частью - скромные люди, ибо они обла-
дают тем тактом, который мешает им вдаваться в дело, в котором они не
компетентны, вести речи, смысл которых для них оставался бы несколько не
ясен. На всех поприщах жизни, во всех положениях - они нужны, их ищут, и
теперь так редко образование истинное при обилии кажущихся средств об-
разования, что часто их ищут и не находят.
В образовании формальном собственно предметы образующие пренеб-
режены, точнее - забыты: не обращено внимания на их собственное содер-
жание, на ценность этого содержания, его пользу, необходимость, занима-
тельность. Важно одно, чтобы внешние формальные качества этих знаний
были таковы, что при усвоении изощряли бы ум и вместе делали его силь-
ным, устойчивым, жизнедеятельным. Здесь важно только одно: кто в буду-
щем понесет эти или иные сведения, какими его наградит жизнь или он при-
обретет сам из книг: каковы его сведения, в чем его ноша - не существенно.
II
Идея классического образования (мы говорим только об идее, но не о практи-
ке, которой коснемся ниже) есть именно идея формального образования. Го-
ворят о бесполезности древних языков, неприменимости их к чему-либо, о
скудости самих древних литератур (что по отношению к латинской литературе
очень справедливо); но это вовсе не затрагивает тему этого образования,
которое и не имеет в виду научить полезному, нужному, но только изощрить
ум настолько, чтобы он уже навсегда мог сам разбираться в полезном и бес-
полезном, побочном и существенном. Вопрос может быть лишь о том, пра-
вильно ли выбран бесполезный предмет для этого, имеет ли он в себе нужные
формальные качества, и притом в наибольшей, пред всеми другими предме-
тами степени.
Греческий язык, бесспорно, этих качеств не имеет*: его положение в
курсе средней школы имеет совсем другие основания: историко-культур-
ные. Греки были начинателями во всем: в открытии геометрии, как и в созда-
* Мы не объясняем этого здесь и не доказываем, но знающие греческий язык не
станут оспаривать нас, если мы укажем на менее строгий синтаксис греческого языка,
бедность флексий и развитие звукоизменений в середине слова, приставок и удвоении
в начале (глаголы). Формально образующее значение греческого языка разве немно-
гим превосходит таковое же новых языков, т. е. очень низко.
812
нии типичных форм государственного устройства (республика и монархия,
демократия и аристократия, олигархия и охлократия); в мастерстве слагать
стихи, как и в искусстве развивать философские учения; в зодчестве, скульп-
туре - в искусстве как идеальном (Афродита Книдская), так и реальном. С
начала лучше начинать всякое дело, чем с середины; и если в практике исто-
рией своею мы вынуждены только продолжать или кончать, было бы в выс-
шей степени ценно, если бы в идеях своих мы хранили это начало как воспо-
минания, традиции, часто как образцы. Во многом (как скульптура и частью
философия) греки ведь остались до сих пор не превзойденными.
Во всяком случае, греческий язык не имеет формально-образующего
значения, и это тотчас определяет метод его изучения и преподавания, како-
му, мы ожидали бы, будет следовать наша школа: грамматика - в размерах
лишь необходимых для чтения авторов, грамматика - абсолютно не имею-
щая самостоятельного значения, и чтение авторов обильное, с реальным ком-
ментарием. Мы должны помнить, что это - реальная наука, что ее введение
в курс не имеет вовсе тех мотивов, как введение другого древнего языка.
Формальное значение принадлежит лишь латинскому языку и математи-
ке, предметам методическим. Почему не которой-нибудь из реальных наук -
не физике, химии, биологии? По двум только причинам: в реальных фактах, как
изучаемых этими науками, так и во всяких других, внутренняя логика не так
прозрачна, как в языке, и самые факты эти не так податливы, менее удобны для
возбуждения той или иной стороны образуемого ума, как факты языка. Вы
можете осмотреть орган животного, проследить течение физического явле-
ния, но так бесконечно свободно скомбинировать и перекомбинировать их
элементы, как в предложении слова - вы не можете; и также не можете так
доказательно и о каждом порознь элементе высказать, что вот он таков-то, а не
иной по этой именно причине. Я хочу сказать - в реальных фактах природы
человек не полный еще хозяин, и учитель, введя сюда ученика, если он будет
совершенно правдив, а ученик очень любознателен, нередко растеряется, со-
бьется и чаще всего будет говорить вздор - предполагать, и между тем с видом,
как будто знает*. Наоборот, в человеческой речи, взяв очень простую фразу -
из подлежащего и сказуемого, вы по своему произволу можете бесконечно
усложнять ее, возвращать опять к простоте, переменять ее смысл (страдатель-
ный на активный) и т. д. Пред вами точно живой цветок, который вы заставляете
распускаться, закрываться опять в бутон, умаляться до почки или останавли-
ваться в какой угодно стадии развития, и все это с возможностью в каждый
* Напр., говорить о непонятных частностях явления: «Это, вероятно, объясняет-
ся молекулярным размещением частиц», или «это, быть может, происходит от час-
тичного притяжения» - объяснения, коими ученики по необходимости насытятся и,
приучившись подобным образом насыщаться в детстве, юности, не ощутят нужного
умственного голода и в зрелых годах. Между прочим, так знаменитый Дж. Тиндаль
вынужден был ответить спросившему у него на лекции: «Почему мокрый конец поло-
тенца, которое употреблял физик при опыте, имеет цвет более темный, чем сухой
конец?».
813
момент указать зависимость всех существующих в факте отношений, оправ-
дать эту зависимость логически, и без какого-либо остатка, безо всего темного,
безо всякой неясности. Конечно, это есть единственный факт природы: конеч-
но, не ошиблись те, которые угадали в нем лучшее методическое орудие для
изощрения ума. Почему именно латинский язык избран для этого?
В новых языках западных нет в собственном смысле склонений, т. е. нет
этих варьирующихся в зависимости от смысла предложений, как это есть в
латинском и притом в таковом обилии. Это - инструмент, клавиши которого
неясны, затенены, и, главное, самих клавиш очень мало, гораздо менее, чем
струн: мы хотим сказать - формы языка беднее, чем смысл, который чрез
них хотелось бы и возможно выразить. Четыре только падежа, и притом без
флексий, своеобразных для каждого; два только склонения, вместо латинских
пяти; нет того богатства времен и наклонений. Это - да простят нам грубость
выражения - трех-четырехструнная балалайка, на которой изучать законы
сочетания звуков было бы напрасным трудом.
По-видимому, для русских этот недостаток клавиатуры новых языков мог
бы быть возмещен ее богатством в собственном. Но мы должны помнить,
что изучаемый язык представляет собою строгий объект, как для физиолога
какой-нибудь орган тела, - всякая примесь субъективных элементов чрезвы-
чайно затрудняет и запутывает ясность изучения. Легко проследить ручей,
вьющийся пред глазами, - очень трудно проследить мысль, развивающуюся
у меня в голове и путающуюся с мыслями побочными, с мыслями ума мое-
го о самой этой изучаемой мысли и способах ее изучения. Так точно предло-
жение русское, разбираемое синтаксически и этимологически, как бы теря-
ет свои грани в речи русской и учителя, и ученика. Без сомнения, для самих
римлян изучение латинского языка не имело формально-методической зна-
чительности: эта значительность открылась, - скажем более - она возникла
только тогда, когда римляне умерли и язык их остался как мертвое наследие
для народов другого языка - наследие мертвое по неупотребительности,
живое по сохраненной в нем логике, духу.
Это - одна причина; другая заключается в том, что русский язык вовсе не
имеет в строе своем той логики, какая есть в латинском и принадлежит ему
исключительно. Dux ducit ducentos milites = полководец ведет двести воинов:
конечно, ясно уже для мальчика 12 лет, что полководец ведет именно воинов в
числе двухсот, и вовсе не отвлеченное число двести, к которому в русском
языке сбоку, в форме определения и родительного падежа, приделаны воины.
Deus mundum regit = Бог управляет... конечно, не как игрушкой (творительный
падеж) Он управляет миром, но в том более с грогом и правильном смысле,
какой употребителен у нас только в народной речи и только в прошедшем
времени: «Он управил свой дом», «Он управил страну, город», и этому отве-
чает безупречная логика латинского языка: Deus mundum regit = Бог управля-
ет... буквально: мир, в переводе на менее точный русский язык: миром. Двух
этих примеров достаточно, чтобы понять, почему среди языков латинский
именно стал орудием формального образования, а не другой какой-либо.
814
Ill
Математика - второй предмет, имеющий формально-образовательное зна-
чение в курсе средней школы, значительно меньшее, чем какое имеет ла-
тинский язык. Задача дана и ее ученик может решить или не решить, но,
применяясь к его способностям, иногда очень бедным, иногда очень жи-
вым, ее нельзя по произволу и до каких угодно пределов упростить или
развить, как это можно сделать со всяким предложением или развивая его
в целый период, или упрощая до связи подлежащего и сказуемого. Так же
вам объясняется новая теорема: это - факт неизменный, и хотя он испол-
нен логики и в нем все без остатка отчетливо, но он - факт неподвижный,
до которого мысль ребенка должна карабкаться, и он, этот факт, никогда к
нему не наклонится, не поможет ему понять себя, как поможет в руках
опытного учителя латинское предложение. Мы знаем все, как много в ус-
пешности занятий математикой играет роль «догадливость», «смекалка»:
это - антипедагогическая сторона предмета, ибо «смекалка» - быстрый и
не отчетливый* путь соображения, некоторый скачок мысли по внут-
реннему инстинкту, без твердо сознанных оснований - искра гениальнос-
ти, быть может, но в элементарном обучении, когда обучается толпа и
большею частью слабых силами детей, обучается именно для изощрения и
укрепления этих слабых сил - конечно, методическое орудие, ожидающее
этих безотчетных искр дарования, неудобно.
Мы кончили все, что хотели сказать о теории, что нашли нужным сказать,
чтобы оправдать эту теорию. Классическое образование есть не только ис-
тинное в своей идее, но и единственно истинное, и притом применимое оди-
наково во всех странах, во все времена. Как алгебра есть неумирающее сред-
ство выяснения всяких количественных отношений, так латинская граммати-
ческая школа есть неумирающее орудие заострения собственно умственных
даров человека, которое может быть откинуто невежеством, но ничем не
может быть заменено.
* Вот один удивительный факт, мною встреченный, и который подтверждает
сказанное в чрезвычайно яркой форме: классе в VI-м гимназии я и все мои соученики
не могли решить какую-то алгебраическую задачу на составление уравнений, ответ
на которую, однако, нам был известен (из ответов, приложенных к задачнику). Видя
меня задумавшимся, один мой знакомый, г. П., лет за 5-6 оставивший гимназию до
окончания курса, спросил о причине, и когда я ему сказал, а потом по его просьбе
передал и условия задачи, - он, минуты две подумав в уме, сказал ответ. Я был
удивлен и попросил его объяснить, что именно делал он с данными в задаче количе-
ствами и почему, но он сказал, что нс может, не умеет ответить на это, и потом передал,
что, учась в гимназии, он всегда и всякие задачи разрешал, но лишь относительно
самых простых мог объяснить учителю ход решения. В общем, он был очень способен,
очень умен. В латинском языке подобный случай невозможен.
815
БИБЛИОГРАФИЯ
Программы домашнего чтения на 3-й год
систематического курса. Издание Комиссии
по организации домашнего чтения, состоящей
при учебном отделе Общества распространения
технических знаний. СПб., 1897.
Конечно, это - книга, превосходно выполненная. При осмотре она обнаружи-
вает бездну трудолюбия, внимания, заботы у составителей, полную компетен-
тность их в предмете и, наконец, огромную веру в задачи книги. Но вот эти
задачи...
«Чтение» есть не только учение, но и поэзия; оно ищется (и даже нужно
действительно) не только в пассивно-ученых целях, но как игра ума, первое и
радостное испытание своих способностей. «Читая», я непременно крити-
кую, чего не делаю «учась»; я хочу смеяться и иногда подсмеяться над авто-
ром; или, напротив, в «чтении»; мне нужно «увлечься», «заняться», даже
«обманываясь, умилиться». «Чтение» поэтому неизмеримо богаче, разно-
образнее и, конечно, гораздо влиятельнее узкого и сухого, всегда пассивного
«учения». Вот почему очень даровитые натуры необыкновенно рано обра-
щаются к чтению, и непременно капризному, своевольному в полете. За
«чтение» ведется или, по крайней мере, прежде велась борьба, которая очень
редко ведется, и всегда с другим характером и целями, за «учение». Читая и
отстаивая темы чтения, авторов избираемых, девушка и юноша обнаружива-
ют весь свой темперамент, все зачатки страстей, всю начинающуюся ориги-
нальность ума; они спорят - и это есть тот случай, где хорошо, что они спо-
рят; они не только вас отвергают, но, победив, за «любимого автора» пресле-
дуют вас насмешками - и снова здесь это хорошо. Колыбель кончилась; кон-
чились гигиенические приспособления для хождения - и птичка хочет лететь,
начинает взлетывать. Ради Бога, не мешайте ей - она выполняет свой закон и
следует предустановленной своей природе.
Из так называемых «проверочных» вопросов, которые прерывают текст
книги, разбираемой нами, видно, что материал ее чтения обнимает собою
университетский, и хороший университетский, курс. В самом деле, вот приме-
ры этих «вопросов», которые мысленно должен предлагать себе «читающий
на дому»: «Церковная политика Лоуда? Какие средства применял Лоуд при
проведении ее? Каково было отношение Лоуда к католицизму и папе? Как
отразилась политика Лоуда на развитии пуританства?» (стр. 169). Или относи-
тельно североамериканской войны за независимость: «Каковы основные по-
ложения речей и брошюр Отиса? В чем виргинские резолюции 1769 года со-
ставляют пополнение к резолюциям 1765 года, составленным Патриком Ген-
ри?» и т. д. Таким образом, книга претендует охватить и «организовать» чтение
людей университетского возраста и развития. Но мы не можем представить
себе таких студентов, т. е. студентов так глубоко пассивных и... неразвитых, кото-
816
рые захотели бы руководиться извне предложенною программою при чтении.
Но и сверх этого, возраст 20-26 лет, для которого предложены все эти «прове-
ряющие» и все ужасно связывающие мысль «вопросы», есть тот критический,
преимущественно творческий возраст, когда Ньютон сделал (т. е. подумал, а не
написал) главные свои открытия, Декарт придумал «новый метод разыскива-
ния истины» и Бэкон решил реформирование философии; когда вообще изоб-
ретается и открывается, «придумывается» все оригинальное всяким, кто спо-
собен к оригинальному или просто к чему-нибудь самобытному. И вот, доро-
жа, паче всякого знания, самобытным и оригинальным, существенно новым в
каждом человеке, мы хотели бы, чтобы именно эти драгоценные 5-6 лет были
как можно менее связаны в полете умственных и нравственных движений, в
выборе направления, в останавливающих внимание темах,- хотели бы этого
для счастья самих индивидуумов, но также и для счастья их родины, которой
именно в эти годы приготовляются лучшие дары.
Но так или иначе, ошибаемся мы или нет в определении значения этого
возраста, - мы не ошибаемся в том, что придуманное комиссиею «органи-
зованное» «домашнее чтение» потеряет весь вкус свой, всю прелесть сво-
бодных движений; что этим способом читаемые книги, в «систематичес-
ком» порядке, не пробудят и доли тех вопросов, не затронут и части тех спо-
собностей, которые, бывало, будили повесть Тургенева, роман Достоевского
или, наконец, целостное чтение таких авторов, как Гизо, Фюстель-де-Куланж,
Маколэй, Момзен. Собственно, предполагаемые комиссиею занятия уже не
будут «чтением», т. е. живым личным общением и иногда борьбою читателя
и автора, а механическим и в высокой степени обезличенным «питанием».
Никак мы не можем представить за ним юношу Белинского, и как-то сам
собой вырисовывается за ним отрок Петруша, которого так не любил Чичи-
ков; пожалуй, и сам Чичиков, в пору, когда он готовился и охорашивался
перед женитьбой «на губернаторской дочке». Не можем не заметить еще,
что, собственно, всякая страна имеет и вырабатывает свои традиции чтения.
Но и Россия не первобытный дикарь в этом отношении: еще от 40-х и до этих
90-х годов весенняя пора жизни в каждом поколении у нас уходила на чтение,
умеющее худо ли, хорошо ли ответить, но ответить на «проклятые вопросы».
Вот рубрика чисто национальная, которую составители «Программ» забыли
включить в их цикл, а без нее они остаются «телом», но без «души», со значе-
нием не пробуждающим, но едва ли не погашающим.
Я. В. Абрамов. Два великих француза: благодетель
человечества Луи Пастер и апостол образования
Жан Масэ. СПб., 1897 - Популярная библиотека. № 3-й.
Книжка г. Абрамова, посредственная по выполнению, прекрасна по своей
теме. Лица Пастера и Масэ остаются темными для читателя, не освещаясь ни
одною характеризующею подробностью; биографические данные не изло-
жены связно; открытия Пастера и заслуги для образования Масэ только на-
27 Зак. 3969
817
званы, - и все-таки тема так благодарна, что искупает бедность и скудность
изложения, и в пределах своей скромной задачи книжка дает соответствую-
щее удовольствие и пользу.
Имя «благодетель человечества», пронесшееся в стольких устах при пе-
чальном известии о смерти Пастера, необыкновенно идет к этому благород-
ному человеку. Это было такое любящее сердце, что мотивом к его долголет-
ним изысканиям над ядом бешенства была смерть на его глазах мальчика,
укушенного бешеною собакою. Зрелище ужасных страданий ребенка заста-
вило его забыть, на много лет забыть, ученые работы, которыми уже занят
был его ум и которые стяжали ему европейскую известность. Изыскания
были необыкновенно трудны; микроб бешенства, несколько раз предпола-
гавшийся открытым, так до конца и не был открыт, но практическая задача -
победить это ужасное страдание и спасти от него человека - в конце концов
была вполне разрешена.
Имя Архимеда биологических наук, может быть, наиболее правильно
определило бы его научный гений и характер направления, созданного им в
науке. Он так же был практически всесилен, как и древний механик, его от-
крытия возбуждают то же впечатление чуда; но как тот был гениальный гео-
метр и механик, так этот потому и стал велик, что совершенно исключил
механику из объяснения жизненных явлений, рассмотрел жизнь в ее особом,
новом, исключительном проявлении.
Из биографических частностей почти единственная, упоминаемая г. Аб-
рамовым, что этот «благодетель человечества» был сын солдата и крестьянки,
— многозначительна. В последние годы было очень много говорено о необхо-
димости сузить доступ к высшему образованию. Но вот перед нами Пастер: не
правда ли, человечество менее потеряло бы, если бы аристократические клас-
сы целой Франции в тот год, когда он поступил в Нормальную Школу, не попа-
ли туда ни единым своим детищем? К миру человеческому нельзя прикиды-
вать механических, статистических и вообще всяких точных мерок: все тут не-
уловимо, непредвидимо, несимметрично. И одна светоносная голова может
оказаться ценнее десятков тысяч совершенно обыкновенных и не обещающих
человечеству никакого «благодеяния» голов. Если даже допустить существо-
вание некоторого зла, проистекающего от факта, что, не соразмеряя свои силы
и пренебрегая смиренным положением, слишком много людей через посред-
ство высшей школы ищут высшего общественного положения, то даже это зло
искупается с избытком для самого же общества одним, двумя, тремя такими
человеками, как Пастер. Еще любопытная подробность: этот неутомимый впос-
ледствии труженик, который, казалось, был еще более прилежен в работе, чем
изобретателен в мыслях, в школе был очень ленив: «Его тянуло все к природе,
на реку, в лес, в поле, а не в класс. Он любил ловить рыбу с местными рыболо-
вами, ходить с дровосеками в леса, покрывающие отроги Юры, бродить по
хлебным полям». Только предупреждения, что, не окончив отлично школы и
не поступив в высшую, любознательный мальчик никогда не узнает разгадки
уже тогда занимавших его явлений, заставило его одумагься и прилежнее взяться
818
за учение. Интересная подробность, которую мы замечаем в биографиях по-
чти всех оригинально-замечательных и великих людей. Она достойна самого
глубокого и внимательного обдумывания со стороны педагогов, и, может быть,
в ней лежит ключ к нахождению истинных методов дидактики и воспитания.
Ибо, оставляя в стороне смешную и недостойную гипотезу Ломброзо о «по-
добии» умопомешательства и гениальности, мы с обыкновенной и простой
точки зрения признаем в гении прототип ума, его яркое и правильное выраже-
ние, а с тем вместе и пути научения, которых он ищет, к которым порывается,
признаем типично правильными вообще для человеческого ума, в частности-
для способностей юного ума.
«Достоевский для детей школьного возраста».
Сборник, составленный А. В. Кругловым. СПб., 1898.
В эту книгу вошли некоторые повествовательные отрывки из «Дневника писа-
теля»: «Мужик Марей», «Мальчик у Христа на елке», «Столетняя», «Фома
Данилов, замученный русский герой» - и более обширные выдержки из ро-
манов: «Бедные люди» («Рассказ Вари»), «Подросток» («В барском пансионе»
и «Рассказ о купце»), «Неточка Незванова» («Музыкант Ефимов и его семья»
и «Две девочки») и «Братья Карамазовы» (13 рассказов с Алешею Карамазо-
вым, старцем Зосимою, Илюшей и Колею Красоткиным в центре). При боль-
шем внимании г. Круглов мог бы взять в сборник фигурку Нелли из «Унижен-
ных и оскорбленных», ее трогательную смерть и эпизоды возни с нею деда.
Нелли - это самый поэтичный из созданных Достоевским детских образов,
далеко оставляющий за собою группу мальчиков в «Братьях Карамазовых».
Может быть, нашлось бы кой-что для выбора из «Преступления и наказания»
(Полечка) и «Елка и свадьба» (детский вечер). Но, в общем, нельзя винить г.
Круглова, потому что он стоял перед очень трудною задачею. В предисловии
он усиливается доказать возможность Достоевского для детей, становясь при
этом на общепедагогическую точку зрения, т. е. что Достоевский, читаемый
вперемежку с другими писателями и читаемый в отрывках, тщательно избран-
ных, не будет вреден. Ясно, что центр доказательства здесь лежит в «других
писателях» и в «отрывочности» самого Достоевского. Остающаяся затем прав-
дивая реальность избираемого писателя, на что ссылается составитель сбор-
ника, не есть исключительная принадлежность: реален вполне и Толстой, да в
общем вся почти наша литература реальна.
Между тем в «Дневнике писателя» есть несколько строк о воспитании,
открывающих совершенно новую на него точку зрения, и г. Круглову следо-
вало бы стать на нее, против общепедагогической. Не буквально, но мысль
Достоевского следующая: иногда один эпизод в жизни ребенка - мальчика,
девочки, подростка,- яркий, потрясающий и, главное, практически пережи-
тый, перевешивает в значительности и влиятельности своей всю педагоги-
ческую над ним работу целых годов, все учебники, всех учителей, всякую
программу. Он формирует душу ребенка, показав ему в ослепительном раз-
819
делении добро и зло, - пусть на миг, но до потрясения. Замечание, психологи-
ческой проницательности которого нельзя отрицать, а что оно и практически
правильно, это испытали многие из нас на себе. Теперь обратимся к педагоги-
ческой литературе. Часто прекрасная сама по себе, она имеет один недостаток:
она не действует. Она ласкает душу ребенка, но не пронизывая ее - и остается в
ней истинным подобием зерна, расклевываемого при дороге птицами. Теперь
возьмем Достоевского. С обычной, педагогической точки зрения он, конечно,
не воспитателен: он мучит душу читателя, пронизывает ее какими-то вертикаль-
но падающими лучами, жгучими, а не греющими только. Но с его собственной
точки зрения на воспитание - а ее трудно оспаривать, - поэтому-то именно он и
воспитателен. В самом деле, вот факт, который может всякий проверить соб-
ственными наблюдениями: есть, конечно, у всякого писателя (большого) свои
читатели, излюбившие его. Будем следить теперь: «избранные» читатели Турге-
нева, Гончарова, даже Толстого не необходимо, не всегда бывают добрыми,
благими людьми. Самые страстные любители Гоголя всегда немножко, хотя и
втайне, прикрыто, походят на его героев («мертвые» души, только с маленькой
буквы). Мы не разбираем явления, но только констатируем его, и также не отри-
цаем множества из него исключений. Теперь возьмите Достоевского: из «упи-
вающихся» им читателей вы ни в каком случае ни одного не отыщете равнодуш-
ного к ближнему, безразличного эгоиста. Вот странное наблюдение, но оно бес-
спорно! Проверьте его, оглянитесь сами. Где же его объяснение? Достоевский
потрясает. Добро и зло везде сплетены у него, сопоставлены: отсюда-антипеда-
гогичность его, трудность сделать «педагогический» выбор из его произведе-
ний. Но эти же самые добро и зло, взятые во всей реальной грубости, так ослепи-
тельно разделены, что душа человека тянется к одному и отталкивается от друго-
го уже не номинально, не на «словах», а реально, в самом строе действительных
чувств и в самом течении действительных мыслей. И это составляет чрезвычай-
но высокую педагогическую сторону Достоевского. Что касается до мнения,
что он расшатывает нервы, то едва ли не правдоподобнее, что он, собственно,
разрыхляет, увлажняет душу, т е. действует именно как зерно внедряющееся, а
не как «расхищаемое птицами» или «заглушаемое терниями». Действительность
его, реализм его действия мы принимаем за «расшатывание» нервов.
Во всяком случае, сборник, изданный под редакциею г. Круглова, можно
рекомендовать детям в возрасте 13-15 лет. Он хорош уже тем, что в 17-22 года
побудит юношу и девушку серьезно читать «полное собрание» сочинений
писателя. И кто знает, не станут ли некоторые из них его «избранными» чита-
телями? Еще маленькое замечание, уже по адресу возможных маленьких
читателей: не было у нас писателя, который так особенно, даже до страдания,
любил бы детей, который так часто изображал бы их, правда, всегда почти
страдающими. Так, образ Нелли играет уже очень большую роль в романе
«Униженные и оскорбленные»; «Неточка Незванова» есть в сущности целое
обширное повествование о ребенке-девушке. Последняя повесть так хоро-
ша, что ее даже целиком, кроме разве нескольких эпизодов в конце, можно
было бы ввести в «Сборник».
820
Педагогические экскурсии в область литературы.
Алекс. Ник. Острогорский. Педагогическая библиотека,
издаваемая К. Тихомировым. Москва, 1897.
В нашей педагогической литературе есть два Острогорских: г. Виктор Острогор-
ский и г. Алекс. Острогорский. Оба пишут себя «с отчествами», но отчества г.
Виктора Острогорского мы уже не помним. Г. Виктор Острогорский написал
наивную книжку «Как я сделался учителем», г. Алекс. Острогорский издал те-
перь тоже наивную книжку, которая лежит сейчас перед нами. Наивность этих
педагогов, очень популярных и даже, может быть, авторитетных, заключается в
незнании жизни, и в частности педагогической жизни. Так, с первых страниц
довольно увесистой и дорогой книги автор начинает трактовать характер и по-
ступки Жерома, а также поведение, проступки и наказания Коли, Володи и Со-
нечки из «Детства и отрочества» гр. Л. Н. Толстого. Седая старина, «Мамаево
побоище» нашей истории воспитания и, в частности, методов его! До Сонечки
ли, до Жерома ли теперь: мы имеем фабрику, педагогическую фабрику, где дети
наши не более воспитываются и не всегда лучшему научаются, чем и на самой
заправской мануфактуре «Саввы Морозова и сыновей». Вот «чудище обло, ог-
ромно, стозевно и лаяй», победить которое, разрушить которое, по крайней мере
в идее, по крайней мере, отнять у него сознание, будто в нем правда, - составляет
мучительную задачу педагогики наших дней. Оба Острогорские со своими «Же-
ромами», «Володями» и чванливыми повествованиями о том, «как я сделался
учителем», только закрывают от нас истинные нужды дня. Как ни печально это-
му поверить, но в деле педагогики мы идем гигантскими шагами назад. Цветет
формализм - тускнеет молодежь в школе; развивается система - суживается,
сморщивается до уродства, до «нет» учитель... Единственная интересная в книж-
ке г. Алексея Острогорского статья «По поводу наших предшественников, доб-
ром поминаемых» представляет целую галерею учительских типов старой шко-
лы, и, читая, напр., об Алымове, об иеромонахе Иове (законоучитель) и некото-
рых других учителях, - волнуешься и спрашиваешь себя: да неужели это было в
самом деле, неужели подобная школа возможна? Теперь - ничего подобного, и,
насколько расспрашиваешь, нигде ничего подобного. Вставленные тут же замет-
ки г. Острогорского, на этот раз проницательного, показывают, что эти антики
педагогического искусства не удержались бы в современной школе, были бы из
нее вытеснены. Между тем питомцы сохранили к ним беззаветную любовь, уже
выйдя из школы, уже почти забыв про школу; и учителя эти, сами беззаветно
преданные своей науке, умели пробудить к ней энтузиазм и в учениках (один из
названных преподавал теоретическую механику, другой - Закон Божий). Но...
«не удержались бы!» Все идеальное редеет, все стирается. Педагогика (как прак-
тика) наших дней суха, черства, незорка; очень мало выиграв «в уме», она поте-
ряла все в характере, в темпераменте, которые в с гарое время кое-как еще согре-
вали школу, а вместе давали теплый, уютный камелек и детям-подросткам. Нуж-
но воскресить учителя в школе, вот альфа воскресения самой школы. Без этого
еще долго мы будем устраивать и перестраивать «порядки» и глубокомысленно,
но бесполезно обдумывать «системы».
КОММЕНТАРИИ
В настоящий двадцать восьмой том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его
статьи и очерки 1889-1897 гг., а также книга «Сумерки просвещения».
В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что
и в вышедших ранее томах Собрания сочинений. Принятые сокращения: НВ - «Новое
Время», НВип - «Новое Время. Иллюстрированное приложение», Б.п. - без подписи.
В том не включены статьи Розанова 1889-1897 гг., опубликованные в вышедших
томах Собрания сочинений:
Т. 1. Среди художников (1994) - О художественных народных выставках (Ми-
ровые Отголоски. 1897. 13 мая).
Т. 4.0 писательстве и писателях (1995) - Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении
о несопротивлении злу (Русское Обозрение. 1896. № 10); Два вида правительства
(НВ. 1897. 15 июля).
Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского (1996) - «Легенда о
Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского (Русское Обозрение. 1891. № 1-4); Не-
сколько слов о Гоголе (Московские Ведомости. 1891. 15 февр.; в книге: «Пушкин и
Гоголь»); Как произошел тип Акакия Акакиевича (Русский Вестник. 1894. № 3 с
подзаголовком: «К вопросу о характеристике гоголевского творчества»); Почему мы
отказываемся от «наследства 60-70-х годов»? (Московские Ведомости. 1891.7 июля);
Европейская культура и наше отношение к ней (Московские Ведомости. 1891. 16 авг.;
в книге: «Европейская культура и наше к ней отношение»); Два исхода (Московские
Ведомости. 1891. 29 июля); Может ли быть мозаична историческая культура? (Мос-
ковские Ведомости. 1892.20 июля); Еще о мозаичности и эклектизме в истории (Мос-
ковские Ведомости. 1892. 17 окт.); О борьбе с Западом в связи с литературной дея-
тельностью одного из славянофилов (Вопросы Философии и Психологии. 1890. № 4;
в книге: «Литературная личность Н. Н. Страхова»); О трех фазисах в развитии нашей
критики (Русское Обозрение. 1892. № 8; в книге: «Три момента в развитии русской
критики»); Н. Я. Данилевский (НВ. 1895. 14 февр.); Катков «как государственный
человек» (Биржевые Ведомости. 1897. 17 окт.); Литературно-экономический «кри-
зис» (НВ. 1897. 23 сент.; в книге: «Литературно-общественный «кризис»»); Ф. М.
Достоевский (Критико-биографический очерк) (Полное собрание сочинений Ф. М.
Достоевского. СПб., 1894. Предисловие в книге: «О Достоевском»); Любопытные
признания и нужды текущих дней (Мировые Отголоски. 1897. 29 июня; в книге
фрагмент: «О писателях и писательстве»); Палеограф (Биржевые Ведомости. 1898.24
янв.; в книге фрагмент: «О писателях и писательстве»); Памяти Осипа Ивановича
Каблица (Русское Обозрение. 1893. № 11; в книге: «О. И. Каблиц (Юзов)»); Вечная
память (Русское Обозрение. 1896. № 9; в книге: «Ю. Н. Говоруха-Отрок (f 27 июля
1896 г.)»); Вечная память (Русское Обозрение. 1896. № 10; в книге: «Н. Н. Страхов (f
24 января 1896 г.)»; в книге: «Ф. Э. Шперк»); По поводу одной тревоги гр. Л. Н.
Толстого (Русский Вестник. 1895. № 8); Декаденты (Русский Вестник. 1896. № 4;
полный текст: Русское Обозрение. 1896. № 9).
Т. 10. Во дворе язычников (1999) - О мифологии (НВип. 1897. 29 окт.).
822
Т. 25. Природа и история (2008) - Вопрос о происхождении организмов (Рус-
ский Вестник. 1889. № 5); Органический процесс и механическая причинность (Жур-
нал Министерства Народного Просвещения. 1889. № 5; в книге как продолжение
предыдущей статьи); Теория Чарлза Дарвина, объясняемая из личности её автора
(НВ. 1896. 29 окт.); Что выражает собою красота природы? (Русское Обозрение.
1895. № 10-12; в книге: «Красота в природе и её смысл»); О так называемом «дей-
ствии на расстоянии» (Русское Обозрение. 1895. № 3; в книге: «Часть и целое»); Нечто
об «излечениях» и о чудесном (Русский Вестник. 1896. № 1; в книге: «О чудесном в
мире»); Что иногда значит «научно объяснить» явление? (Русское Обозрение. 1895. № 8);
Заметка о важнейших течениях философской мысли в связи с нашей переводной лите-
ратурой (Вопросы Философии и Психологии. 1890. № 3; в книге: «Философские
влияния в русском обществе»); Смена мировоззрения (Русское Обозрение. 1895. № 7);
Две философии (Критическая заметка) (НВип. 1897. 20 авг.).
Т. 26. Религия и культура (2008) - Место христианства в истории (Русский
Вестник. 1890. № 1); Психология нашего отношения к расколу (НВ. 1896. 3 июня; в
книге: «Психология русского раскола». Часть I. Старообрядчество); Несколько заме-
чаний о духовных течениях русского раскола (Русское Обозрение. 1896. № 11; в
книге: «Психология Русского раскола», Часть 2. Духоборчество); В. О. Ключевский о
Древней Руси (Русский Вестник. 1892. № 7; в книге: «Черта характера Древней Руси»);
Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век (Русский Вестник.
1895. № 19); Над. В. Стасова и основание «Высших женских курсов» в Петербурге
(НВ. 1896.9 авг.; в книге: «Женское образовательное движение 60-х годов»); Недавние
впечатления (Народ. 1897.26 авг.; в книге: «Франко-русские впечатления»); О художе-
ственных и народных выставках (Мировые Отголоски. 1897.13 мая; в книге: «Демокра-
тизация живописи»); Где истинный источник «Борьбы века»? (Русский Вестник. 1895.
№ 8); О символистах (Русский Вестник. 1896. № 4; в книге: «О символистах и декаден-
тах»); Иллюстрация к историческому осуществлению принципов веры и свободы (Рус-
ское Слово. 1896. 26 и 29 февр.; в книге: «Теперь и прежде»); Христианство пассивно
или активно? (НВ. 1897.28 окт.); Кроткий демонизм (НВ. 1897.19 нояб.); Семя и жизнь
(Биржевые Ведомости. 1897.29 нояб.); Смысл аскетизма (НВ. 1897.31 дек.); Архиепис-
коп Никанор. Из истории ученого монашества (Русское Слово. 1896. 1 июля. Заметка).
СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1889-1897 гг.
1889 год
Отречение дарвиниста (с. 7)
Московские Ведомости. 1889. 21 окт. № 291.
Первая опубликованная статья Розанова. Говоря о полемике Н. Н. Страхова
с К. А. Тимирязевым, Розанов писал Страхову в августе 1889 г.: «Не хотите ли вот
что: пришлите, если у Вас цела, мою статью против Тимирязева, которую Вы не
нашли возможным поместить в «Рус. Вести»: там есть одно место, где я доказываю (И.
Петропавловский покойный сказал, что неопровержимо убедительно, хотя сам был
дарвинист), что Тимирязев, в сущности, вполне согласился с Данилевским и отказал-
ся от дарвинизма: там есть насмешка над ним, но я се, конечно, выпущу, а напишу не
823
больше 4-х страниц заметку: «Отказ проф. Тимирязева от дарвинизма», предпослав
2-3 слова о том, что теперь уже ему поздно горячиться, нечего более писать - и
поместить эту заметку в «Русс. Вести» - тогда Вам не нужно ему отвечать, и это будет
ему достойным наказанием».
.. .профессор К. Тимирязев продолжает защищать теорию Дарвина - в журнале
«Русская Мысль» (1889. № 5-7) напечатана работа К. А. Тимирязева «Бессильная злоба
антидарвиниста (По поводу статьи г. Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов»)».
Возражая против дарвинизма, покойный Н. Я. Данилевский... - имеется в виду
книга Н. Я. Данилевского (1822-1885) «Дарвинизм» (1885. Т. 1; 1889. Т. 2, не окон-
чен). Розанов написал рецензию на эту книгу: «Вопрос о происхождении организмов»
(Русский Вестник. 1889. № 5; то же в его книге «Природа и история»).
Паскаль (с. 12)
Неоконченная рукопись очерка, написанного в 1889 г., хранится в РГАЛИ (Ф.
419. On. 1. Ед. хр. 42. Л. 1-15). Опубликована впервые В.Г. Сукачем в журнале
«Человек» (2001. № 4. С. 76-98), по тексту которого печатается. Статья возникла в
связи с переводом «Мыслей» Б. Паскаля, выпущенном коллегой Розанова по Елецкой
гимназии П. Д. Первовым (СПб., 1888).
1892 год
Эстетическое понимание истории (с. 35)
Русский Вестник. 1892. № 1. С. 156- 188; № 2. С. 7-35;
№3. С. 281-327.
В № 2 и 3 заглавие, данное редактором журнала Ф. Н. Бергом: «Теория истори-
ческого прогресса и упадка». Эпиграф взят из начала книги К. Н. Леонтьева «Нацио-
нальная политика как орудие всемирной революции» (М., 1889).
...«ты персь был...» - правильно «персть», земной прах.
Экклесия - народное собрание в греческих полисах.
Агора - площадь, на которой в Древней Греции проводились народные собрания.
Академия, Лицей и Стоя - философские школы в Древней Греции, основанные
Платоном, Аристотелем и Зеноном Китийским.
Великая хартия вольностей - основа конституции в Великобритании, принятая в
1215 г. королем Иоанном Безземельным.
Habeas Corpus - начальные слова закона о неприкосновенности личности, приня-
того английским парламентом в 1679 г.
Билль о правах - закон, принятый в 1689 г. британским парламентом и утвердив-
ший конституционные основы английской монархии.
Комиций - народное собрание в Риме.
Герусия - высший государственный орган в Спарте.
Человек - животное политическое - Аристотель. Политика. 1.2.9 // Аристо-
тель. Сочинения: В 4 т. М„ 1984. Т. 4. С. 382.
824
Фернейский мудрец - имеется в виду французский философ Вольтер, в 1753 г.
поселившийся в замке Фернэ близ Женевы.
...это предвидел Герцен - в окончательной редакции эта запись вошла в его
«Былое и думы» {Герцен А. И. Былое и думы. М., 1969. Т. 2. Ч. VIII. Гл. 2. С. 382-383,
386-387).
Ареопаг - холм в Афинах, место заседания суда.
Эфоры - пять высших должностных лиц в Спарте.
«Нагим вышел из чрева матери моей и нагим возвращусь в землю» - ср.: Иов. 1,21.
«Избранные места из переписки с друзьями» - книга Гоголя называется «Выб-
ранные места из переписки с друзьями» (1847).
Стагирит - Аристотель, который родился в Стагире (Македония).
На буйном пиршестве задумчив он сидел... - одноименное стихотворение (1839)
М. Ю. Лермонтова, в основу которого лег рассказ члена Французской академии писа-
теля Ж. Ф. де Лагарпа (1739-1803) о том, что в 1788 г. французский писатель-мистик
Жак Казотт (1719- казнен в 1792) на банкете предсказал Французскую революцию и
трагическую судьбу присутствующих на вечере гостей.
Идея рационального естествознания (с. 114)
Русский Вестник. 1892. № 8. С. 196-221. Перепечатана
в книге Розанова «Литературные изгнанники» (СПб..
1913)
«гений для лакея своего» - И. В. Гёте. Избранное средств (1809) («Для лакея нг
бывает героя»).
«Золотой век в кармане» - Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876. Январь.
Гл. I, IV.
Цель человеческой жизни (с. 133)
Вопросы Философии и Психологии. 1892. № 14.
Сентябрь. С. 135-164; № 15. Октябрь. С. 1-31.
Начало работы над статьей относится к 1882 г. В письме к Н. Н. Страхову (до 23
февраля 1893 г.) Розанов сообщал: «Вот «Цель челов. жизни»: она имела несколько
редакций, из коих первую - на студенческой скамье; но я совершенно не умею изме-
нять своих вещей, и послал в «Вопросы» - зная, что выполнение до последней степени
дурно, но мне казалось очень важным содержание, и я его не хотел хоронить». На
публикацию статьи отозвалась «Русская Мысль» (1892. № 11. С. 522-523).
1893 год
О монархии (Размышления по поводу Панамских дел)
(с. 171)
Русское Обозрение. 1893. № 2. С. 682-700.
Битва при Акциуме - морское сражение у северо-западного побережья Греции 2
сентября 31 г. до н. э., в которой Октавиан Август победил Антония, что завершило
период гражданской войны; с 27 г. до н. э. Август стал римским императором.
825
Элевзинские таинства - ежегодные мистерии, зародившиеся в древней Греции,
связанные с культом богини плодородия Деметры и её дочери Персефоны, богини
подземного царства. Названы по городу Элевсину вблизи Афин. В дальнейшем Роза-
нов часто писал об этих таинствах.
«Царство Мое не от мира сего» - Ин. 18, 36.
«Царство Божие внутри вас есть» - Лк. 17, 21.
«блаженны кроткие, блаженны милостивые... блаженны чистые сердцем» -
Мф. 5, 5, 7-8.
О трех принципах человеческой деятельности (с. 185)
Русское Обозрение. 1893. №3. С. 106-121; №4. С. 593-610.
«Исторические опыты» - полемическое сочинение «Исторический, политичес-
кий и нравственный опыт о революциях» (1797) Франсуа Рене де Шатобриан.
Коснусь я тайн высоких и святых... - И. В. Гёте. Фауст. Часть 2. Акт 1. Сцена
«Темная галерея». Пер. Н. А. Холодковского.
Гретхен и Фауст (с. 210)
Автограф неопубликованной статьи - РГАЛИ. Ф.419.
On. 1. Ед. хр. 88. Л. 1-18. Б.д. Подготовлено к печати
А. А. Медведевым.
Посвящение жене Варваре Дмитриевне и дочери Наде (ум. 25 сент. 1893 г.).
1894 год
Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего
времени) (с. 242)
Русский Вестник. 1894. № 1. С. 265-287.
Статья вызвала полемику в печати. См.: Соловьёв В. С. Порфирий Головлев о
свободе и вере// Вестник Европы. 1894. № 2; Тихомиров Л. А. Больше терпимости//
Московские Ведомости. 1894. 19 марта; Тихомиров Л. А. Существует ли свобода? И
Русское Обозрение. 1894. № 4; Соловьёв В. С. Спор о справедливости // Вестник
Европы. 1894. № 4; Тихомиров Л. А. Два объяснения // Русское Обозрение. 1894. № 5.
Выступая против безграничной религиозной свободы, Розанов полагал, что личная
свобода ограничена жизнью других.
Антиминс - шелковый или льняной плат, на котором изображается положение
Христа во гроб. Он кладется на Престол под Евангелие и на нём совершается Освяще-
ние Святых Даров.
«тело мое» - Мр. 14, 22; Лк. 22, 19.
Мысленная оговорка - выражение из анонимного трактата «Тайные наставле-
ния» (1614), морального кодекса иезуитов.
Заточников - псевдоним публициста И. Ф. Романова (Рцы).
826
Ответ г. Владимиру Соловьёву (с. 259)
Русский Вестник. 1894. № 4. С. 191-211.
Полемика в печати: Соловьёв В. С. Конец спора // Вестник Европы. 1894. № 7;
Тихомиров Л. А. В чём конец сора // Русское Обозрение. 1894. № 8. «Ответ г. Влади-
миру Соловьёву» вызвал статью В. Буренина «Критические очерки. Ноги в перчат-
ках, желудки, цепляющиеся за маски и проч.» (НВ. 1894. 29 июля) с резкой критикой
Розанова: «Кто заявляет изумленному отечеству о том, что г. Соловьёв натягивает
перчатки на свои ноги, которые, несмотря на то, что он не может на них стоять, все-
таки мчат его на пылающий огнем Синай? Кто заявляет о том, что г. Соловьёв не
писатель, а блудница, тенор из кордебалета и т.д.? Все эти замечательные открытия
сделаны некиим г. В. Розановым... И что всего курьезнее; г. Розанов, дописавшийся
до лайковых перчаток на ногах, до желудков, цепляющихся за маски и вино, считает
себя, очевидно, умнейшим человеком, а своего противника, г. Соловьёва, невеже-
ственным, неразумным, жалким».
...орган, в котором он участвует - т. е. журнал «Вестник Европы», в котором
печатался В. С. Соловьёв.
«закваске фарисейской и саддукейской...» - Мф. 10, 15.
«Камень веры» (1718, опубл. 1728) - трактат Стефана Яворского, направленный
против подчинения церкви светским властям.
С Достоевским он едет в Оптину пустынь. - Вл. Соловьёв ездил в Оптину
Пустынь 23-28 июня 1878 г.
«Стрекоза» - юмористический журнал, выходил в Петербурге с 1875 по 1908 г.,
когда был преобразован в «Сатирикон».
...бытие тем, чем было - центральный аристотелевский термин. Переводя
«Метафизику» Аристотеля, Розанов сделал примечание к этому термину.
Гиом победы раздавайся - Г. Р. Державин. Хор (по случаю взятия Измаила)
(1791).
Что против принципа творческой свободы нашлись
возразить защитники свободы хаотической? (с. 274)
Русский Вестник. 1894. №7. С. 198-235.
Полемика в печати: Тихомиров Л. А. По поводу объяснений г. Розанова//Русское
Обозрение. 1894. № 8; Тихомиров Л. А. В чем ошибка г. В. Розанова? // Русское
Обозрение. 1894. №9.
.. .маркиз Поза - герой пьесы Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский»
(1787).
В чем помешала Вольтеру Жанна д ’Арк - имеется в виду ироикомическая поэма
Вольтера «Орлеанская девственница» (1730 1735; опубл. 1755).
«Шире дорогу, восьмидесятник идет» - выражение, восходящее к известным
словам «Ширс дорогу - Любим Торцов идет!» (А. Н. Островский. Бедность не порок
(1854). III, 12).
827
Казерио Санто и виды на будущее в Европе (с. 302)
Русский Вестник. 1894. № 10. С. 239-259.
В конце июля 1894 г. Розанов предлагал эту статью В. П. Буренину для «Нового
Времени»: «Не примите ли от меня фельетон задуманный: «Санто-Казерио и виды на
будущее в Европе» (удачно вышел)» («Литературные изгнанники». М., 2001. С. 302).
Через неделю Буренин уведомил Розанова, что «фельетон не может быть абсолютно
напечатан по цензурным причинам... Статью «Казерио» (православно-объективный
взгляд на буржуазию и пролетариат) я попытаюсь печатать брошюрою, а если не
пропустят - ну, тогда в корыто «Гражданина» нужно проситься» (письмо Розанова к
С.А. Рачинскому 20 августа 1894 г.).
Эпиграфы из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого (IV, 18, пересказ) и Иов. 2, 4.
«Что такое третье сословие?» (1789; рус. перевод 1906) - брошюра аббата
Эмманюэля Жозефа Сьейеса (Сиэйса), в которой он обосновал права буржуазии (тре-
тьего сословия) на политическое господство.
«Полярная Звезда» - литературно-политический альманах, издававшийся А. И.
Герценом и Н. П. Огаревым в Лондоне (затем в Женеве) на русском языке в 1855—
1868 гг. Всего вышло 8 книг.
Рассеянное недоразумение (с. 318)
НВ. 1894. 9 нояб. № 6717.
Статья вошла в книгу Розанова «Литературные изгнанники» (СПб., 1913). Неза-
долго до выхода статьи Розанов писал Н. Н. Страхову: «А я стал оканчивать о Вас
статью; простите, никак не могу разбирать Вас конкретно, но - что Вы за человек в
мире, куда идете, почему. Просто так устроена моя психика, что иной угол зрения на
вещи и человека есть то, «чего я не могу сказать» (помните Фейербаха), что для меня
невыговариваемо. Пусть другие разбирают Вас конкретно; думаю, что в этой статье
и в первой о Вас, по поводу борьбы с Западом, я цельный Ваш образ очерчу полно. -
Да хранит Вас Бог» («Литературные изгнанники». М., 2001. С. 304).
Несколько замечаний к характеристике Н. В. Розанова
(с. 321)
Педагогический Еженедельник. Ревель. 1894. Ноябрь.
№ 46. С. 355-358. Подпись: * * *
Когда я перевелся на службу в г. Белый - Розанов преподавал в прогимназии
в г. Белый с августа 1891 до марта 1893 г.
Служив отлично, благородно... - А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 3.
Иные дни - иные сны - А. С. Пушкин. Отрывки из путешествия Онегина (Другие
дни, другие сны).
Смысл недавнего прошлого (с. 324)
Русский Вестник. 1894. № 12. С. 259-279.
«Паяцы» (1892) - опера итальянского композитора Руджеро Леонкавалло.
«Пахита» (1846) - балет французского композитора Э. М. Дельдевеза, сценарий
Ж. Мазилье и П. Фуше. В Большом театре поставлен в 1848 г.
828
...русский «и сеялки не изобрел» (Тургенев) - источник не установлен; плуг-
сеялку изобрел в конце XVI века английский крестьянин.
«Горе от ума» вызвало насмешливые замечания... Пушкин и Достоевский -
Пушкин писал П. А. Вяземскому 28 января 1825 г.: «Читал я Чацкого - много ума и
смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий
совсем нс умный человек, но Грибоедов очень умен». Достоевский заметил: «Комедия
Грибоедова гениальна, но сбивчива: «Пойду искать по свету...», то есть где? Ведь у
него только и свет, что в его окошке, у московского хорошего друга - не к народу же
он пойдет...» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. Достоевского.
СПб., 1883. С. 375).
«Церковные Ведомости» - еженедельное издание при Синоде, выходило с 1888
по 1917 г.
1895 год
Еще о комитетах грамотности (с. 341)
НВ. 1895. Нянв. №6778.
Заметка <О речи Николая II17 января 1895 г.> (с. 348)
Русское Слово. 1895. 16 февр. № 45.
В речи на приёме делегации от земства Тверской губернии (подготовленной К. П.
Победоносцевым) Николай II заявил об охране «начал самодержавия» и осудил «бес-
смысленные мечтания» об участии представителей земств в управлении государством.
О подразумеваемом смысле нашей монархии (с. 349)
Написанная в 1895 г. статья была снята из печати в июльской книжке «Русского
Вестника». В сентябре 1912 г. Розанов выпустил эту статью отдельным изданием со
своим предисловием, в котором рассказал историю запрещения в 1895 г.
Критическая заметка <О Н. П. Аксакове> (с. 387)
Русское Обозрение. 1895. № 6. С.
Письмо в редакцию <О статье «Необходимое
разъяснение»> (с. 388)
Русское Обозрение. 1895. № 11. С. 502-508. Полный
текст статьи, напечатанной в сокращении в «Русском
Вестнике» (1895. № 10. С. 321 -325).
...на порицания, сделанные мне - Буренин В. П. Литературное юродство и кли-
кушество// НВ. 1895. 1 сснт.; Чуйков. Я. Журнальное обозрение// Одесский Листок.
1895. 5 сснт.
...письмо от... С. А. Рачинского... с упреками за «грубость и страстность
тона» - имеется в виду письмо Рачинского от 23 августа 1895 г. (см. следующий том
Собр. соч.).
«Люцерн» - рассказ Л. Н. Толстого (1857).
829
Гордиев узел (с. 393)
Русский Вестник. 1895. № 11. С. 196-210.
Редакторское примечание сделано Ф. Н. Бергом, который редактировал журнал
с 1887 по 1896 г.
«Русское Слово» - ежедневная газета в Москве выходила с 1894 по 1917 г. Роза-
нов печатался в ней в 1895-1897 и в 1905-1911 гг.
К-ский - псевдоним поэта и критика Константина Петровича Медведского (1866-
после 1919), «Журнальное обозрение» которого печаталось в петербургском журна-
ле «Наблюдатель» (выходил с 1882 по 1904 г.).
«Письма С. Боткина из Болгарии» - с 1 июня по 16 ноября 1877 г. во время
русско-турецкой войны С. П. Боткин находился в военных госпиталях на Балканах.
Его «Письма из Болгарии» появились в «Вестнике Европы» в 1892 г. и вышли отдель-
ным изданием в Петербурге в 1893 г.
«Современные Известия» - ежедневная газета в Москве в 1867-1887 гг. Изда-
тель-редактор Н. П. Гиляров-Платонов.
Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому (с. 404)
Русское Обозрение. 1895. № 12. С. 905 -913. Рец.:
Говоруха-Отрок Ю. Н. По поводу статьи Розанова //
Московские Ведомости. 1896. 4 янв.
«Северная Пальмира» - образное название Петербурга. Пальмира - город в
Сирии, славившийся в древности великолепием своих сооружений. Петербург стали
называть «Северной пальмирой» с середины XVIII в. К. Н. Батюшков использовал
это выражение в послании к М. И. Муравьеву-Апостолу (1816).
Автор «Что делать?», томившийся в Саратове - Н. Г. Чернышевский переводил
«Всеобщую мировую историю» (1857-1880. Т. 1-15; второе издание в 1882 1890)
немецкого историка Георга Вебера в Астрахани, где он находился с 1883 по 1889 г., и
только за три месяца до смерти получил разрешение вернуться в родной Саратов.
«Жестокосердие женщин» - имеется в виду статья Н. В. Шелгунова «Женское
бездушие» (Дело. 1870. № 6).
Эйдкунен- пограничная станция между Россией и Германией.
...критический суд, произнесенный над «Философским письмом...» - имеется в
виду неотправленное письмо А. С. Пушкина к П. Я. Чаадаеву 19 сентября 1836 г.
1896 ГОД
Христианство и язык (с. 412)
Автограф РГАЛИ. Ф. 419. On. 1. Ед. хр. 92. Л. 1 29.
Впервые напечатано в журнале «Энтелехия».
Кострома, 2006. № 13. С. 102-120. Публикация
В. Г. Сукача.
Это случилось в последние годы Могучего Рима... - одноименное стихотворение
М. Ю. Лермонтова.
Дар огромный, дар случайный А. С. Пушкин. «Дар напрасный, дар случай-
ный. ..»(1828).
830
Памяти дорогого друга <О К. Н. Леонтьеве> (с. 445)
Русское Слово. 1896. 14 февр. № 43.
Эпиграф из стихотворения А. А. Дельвига «Удел поэта» (1830).
Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал - испанский писатель Сервантес
Сааведра в 1575 г. был захвачен на море пиратами и продан в рабство алжирскому
паше. В 1580 г. его выкупили миссионеры. На гражданской службе в Испании он
трижды попадал в тюрьму (1592, 1597, 1602).
...письма покойного К. Н. Леонтьева к г. Губастову - речь идет о 45 письмах
Леонтьева к Губастову за 1874-1891 гг. в журнале «Русское Обозрение». 1894. № 9,
11; 1895. № 11, 12; 1896. № 1,2,3, 11, 12; 1897. № 1,3, 5,6, 7.
.. .возражения Достоевскому ... в «Варшавском Дневнике» - имеется в виду
статья Леонтьева «О всемирной любви. По поводу речи Ф. М. Достоевского на Пуш-
кинском празднике» (Варшавский Дневник. 1880. 29 июля, 7, 12 авг.), вошедшая
затем в брошюру Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882). В январе - апреле
1880 г. Леонтьев был помощником редактора «Варшавского Дневника», газеты, изда-
вавшейся в Варшаве с 1864 по 1915 г.
.. .жизнь цензора я считаю. - В 1880-1887 гг. Леонтьев служил цензором Мос-
ковского цензурного комитета.
К. (редактор «Пет. Вед.») зовет меня приехать - речь идет о В. Ф. Корше,
редакторе «С.-Петербургских Ведомостей» с 1863 по 1874 г., который позднее соби-
рал старых сотрудников, стараясь воспроизвести литературную направленность га-
зеты.
Я в угрешском подряснике... - Зиму 1874-1875 гг. Леонтьев провел послушни-
ком в подмосковном Николо-Угрешском монастыре.
И годы протекли, и ветреное племя - М. Ю. Лермонтов. Последнее новоселье
(1841).
«Конституционалисты 1881 года» - брошюра Л. А. Тихомирова «Конституци-
оналисты в эпоху 1881 г.» вышла 3-м изданием в 1895 г.
Дневник... А. И. Кошелева - книга публициста и мемуариста А. И. Кошелева
«Записки (1812-1883)» (Берлин, 1884).
«Голос» - ежедневная политическая и литературная газета, выходила в Петер-
бурге в 1863-1884 гг.
Кому «горе от ума» в действительной жизни? (с. 451)
Русское Слово. 1896. 19 февр. № 48.
Эпиграф приписывался А. С. Грибоедову и печатался в изданиях его комедии с
1860 по 1912г. Приписывается также А. И. Полежаеву.
«Новь» - иллюстрированный двухнедельный журнал, издававшийся А. М. Воль-
фом в Петербурге в 1884-1898 г.
Так из лепты трудовой ... - Н. А. Некрасов. Влас (1855).
«Новости» («Новости Дня») - ежедневная газета, выходившая в 1883-1906 гг. в
Москве и печатавшая объявления.
«Северный Вестник» - журнал издавался в Петербурге в 1885-1898 гг.
831
Эти бедные селенья... - Ф. И. Тютчев. Одноименное стихотворение (1855).
Одной ногой касаясь пола... - А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 20.
«незримые слезы»... «сквозь видимый миру смех» - Н. В. Гоголь. Мертвые
души. Гл. 7.
«Дорого красота эта стоит» - имеются в виду слова Мармеладова: «Денег
стоит эта чистота» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 20).
«один из стаи славной» («Сей остальной из стаи славной») - А. С. Пушкин.
«Перед гробницею святой...» (1831), о могиле М. И. Кутузова в Казанском соборе
Петербурга.
.. .вольно, весело живется на Руси - Н. А. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо?
Пролог (1865).
Еще доброе дело на Руси (с. 458)
Русское Обозрение. 1896. № 4. С. 867-871.
Статья вызвала отклик в печати: Матвеев П. А. Печальный подвиг // Русский
Вестник. 1896. № 5.
Розанов познакомился с Н. П. Барсуковым в 1894 г. по дружескому кружку Н. Н.
Страхова. Анализ вышедших к тому времени первых девяти книг Барсукова «Жизнь и
труды М. П. Погодина» Розанов дал в статье «Культурная хроника русского общества
и литературы за XIX век» (Русский Вестник. 1895. № 10; вошла в его книгу «Религия
и культура»). На выход 14 тома труда Барсукова Розанов откликнулся статьей «Инте-
ресные книги, интересное время и интересные вопросы» (НВ. 1900. 11 июля; вошла в
его книгу «Около церковных стен»). Изданный после смерти Барсукова (1838-1906)
22-й том оставшегося неоконченным труда вызвал статью Розанова «Посмертный том
«Жизни и трудов Погодина» Н. П. Барсукова» (НВ. 1910. 25 июня; см.: Собрание
сочинений. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. М., 2005).
...клиники на Девичьем Поле - Университетские клиники были построены в конце
1880-х гг. на западной части Девичьего Поля.
«носите тяготы друг друга...» - Гал. 6, 2.
Audiatur et altera pars (с. 465)
Русское Слово. 1896. 22 июня. № 166.
Следует выслушать и другую сторону - выражение приписывается одному
из отцов Церкви Августину (354-430), хотя эта мысль восходит к античным
мыслителям.
Каждому свое - выражение встречается в трактатах Цицерона (106-43 до н.э.)
«Об обязанностях» (1,5, 14) и «Тускуланские беседы» (V, 22).
Кто истинный виновник этого? (с. 468)
Русское Обозрение. 1896. № 8. С. 640-655.
На эту и следующую статью в печати появился отклик: Трубецкой С. Н. Чув-
ствительный и хладнокровный // Русская Мысль. 1896. № 9.
Варфоломеевская ночь - массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24
августа 1572 (день св. Варфоломея) в Париже, организованная Екатериной Медичи.
832
Ржонд (жонд) - правительство (польск.).
«Из истории великих реформ» (1892) - книга публициста армянского происхож-
дения Г. А. Джаншиева (1851-1900), выдержавшая ряд переизданий с дополнениями
и сыгравшая общественно-политическую роль как единственная история реформ
царствования императора Александра II. Розанов вспоминал о Джаншиеве, с которым
был знаком, в статье «В настроениях дня» (Русское Слово. 1906. 23 сент.; см. в книге:
Собраний сочинений. Когда начальство ушло... М., 1997). К письмам Джаншиева к
Розанову 1898 г. приложена характеристика: «Джаншиев («Из эпохи великих реформ»),
очень симпатичен и сурово умен».
«Русские Ведомости» - газета выходила в Москве в 1866-1918 гг. Закрыта за
статью Б. Савинкова «С дороги» 24 марта 1918 г. С 1883 г. Г. А. Джаншиев был одним
из редакторов-издателей «Русских Ведомостей».
«Живописная Россия» - Живописная Россия, отечество наше в его земельном,
историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под ред. П. П. Семё-
нова. СПб., 1882-1901. Т. 1-12.
«Русское Дело» - еженедельная газета в Москве в 1886-1890 и 1905-1910 гг.
Издатель-редактор С. Ф. Шарапов.
«Новости» - еженедельная газета в Петербурге в 1871-1880 гг. С 1 июля 1880 г.
к ней присоединилась «Биржевая Газета», издававшаяся с 1878 г. Новое издание
выходило под названием «Новости и Биржевая Газета» (1880-1906).
«Биржевые Ведомости» - газета в Петербурге в 1880-1917 гг. (с 1885 г. ежеднев-
ная). Издатель-редактор С. П. Проппер и др. Розанов печатался в ней в 1897-1899 гг.
«День» - еженедельная газета в Москве в 1861-1865 гг. Издатель-редактор
И. С. Аксаков.
«Парус» - газета в Москве в январе 1859 г. Вышло два номера, после чего газета
была закрыта. Издатель-редактор И. С. Аксаков.
«Дело» - журнал выходил в Петербурге в 1866-1888 гг. Издатель и редактор до
смерти в 1880 г. Г. Е. Благосветлов.
«Бородинская годовщина» - рецензия В. Г. Белинского «Бородинская годовщи-
на. В. Жуковского» появилась в «Отечественных Записках» (1839. № 9; без подписи) и
выражала «примирение с действительностью».
Две гаммы человеческих чувств (с. 480)
Русское Обозрение. 1896. № 8. С. 767-769.
Ходынская катастрофа - 18 мая 1896 г. на Ходынском поле в Москве во время
раздачи царских подарков по случаю коронации императора Николая П из-за халатности
властей произошла давка; по официальным данным погибло 1 389 человек, изувечено 1 300.
Смерть жатву жизни косит, косит... - П. А. Вяземский. Одноименное стихот-
ворение (1841).
9 сентября 1896 года в Петербурге (с. 482)
Русское Слово. 1896. 17 сент. № 250.
9 сентября 1896 г. было обретение мощей святого архиепископа Черниговского
Феодосия Углицкого (ум. 5 февраля 1696 г.). Розанов писал об этом также в статье в
газете «Свет» 25 октября 1896 г. (см. ниже).
Виллагош (Вилагош) - крепость, где во время революции 1848-1849 гг. в Венг-
рии 13 августа 1849 г. произошла капитуляция революционных войск перед войсками
И. Ф. Пасксвича.
833
Фингал - псевдоним писателя И. Н. Потапенко, под которым он печатался в
«Новом Времени» в 1890-е гг.
Был ли жесток М. Н. Муравьев-Виленский? (с. 483)
Русское Слово. 1896. 24 сент. № 257.
Кориолан - по древнеримской легенде, полководец, командовавший войсками
при взятии города вольсков Кориол в 493 г. до н. э. (отсюда его прозвище). Затем
вместе с вольсками осадил Рим, но снял осаду, уступив мольбам матери и жены.
Легенда о нем легла в основу драмы У. Шекспира «Кориолан».
<Франко-русский союз> (с. 485)
Свет. СПб., 1896. 9 окт. № 269. Б. п. и заглавия.
.. .позора Панамы - жульническая афера правления «Всеобщей компании межо-
кеанского канала», созданной во Франции в 1879 г. для прорытия Панамского канала.
Судебный процесс 1889-1893 гг. выявил коррупцию в аппарате Третьей республики.
Термин «Панама» стал обозначать крупные мошенничества.
<Праздничный отдых> (с. 487)
Свет. СПб., 1896. 11 окт. № 271. Б. п. и заглавия.
<Местное самоуправление > (с. 488)
Свет. СПб., 1896. 12 окт. № 272. Б. п. и заглавия.
воспитательная школа > (с. 490)
Свет. СПб., 1896. 15 окт. № 275. Б. п. и заглавия.
<Россия и Франция> (с. 492)
Свет. СПб., 1896. 22 окт. № 282. Б. п. и заглавия.
<Феодосий Углицкий> (с. 493)
Свет. СПб., 1896. 25 окт. № 285. Б. п. и заглавия.
«Миссионерское Обозрение» - журнал выходил в Петербурге в 1896-1917 гг.
Розанов печатался в нем в 1901 г.
<Окраины> (с. 495)
Свет. СПб., 1896. 26 окт. № 286. Б. п. и заглавия.
<Прибалтика> (с. 496)
Свет. СПб., 1896. 27 окт. № 287. Б. п. и заглавия.
<Екатерина П> (с. 497)
Свет. СПб., 1896. 6 нояб. № 297. Б. п. и заглавия.
Кн. Адам Чарторыйский оставил нам портрет Екатерины II - см. Мемуары
князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. М.,
1912-1913 . Т. 1-2.
834
<Екатерина II и Петр Великий> (с. 499)
Свет. СПб., 1896. 8 нояб. № 299. Б. п. и заглавия.
<Полыиа> (с. 501)
Свет. СПб., 1896. 9 нояб. № 300. Б. п. и заглавия.
<3ападные губернии> (с. 504)
Свет. СПб., 1896. 14 нояб. № 305. Б. п. и заглавия.
<Католицизм и Полыиа>(с. 505)
Свет. СПб., 1896. 16 нояб. № 307. Б. п. и заглавия.
<Церковь> (с. 507)
Свет. СПб., 1896. 17 нояб. № 308. Б. п. и заглавия.
Основы современной школы (с. 508)
НВ. 1896. 28 нояб. №7456.
Статья получила отклик в печати: Ладожский Н. Критические наброски (Цен-
ность образования) // С.-Петербургские Ведомости. 1896. 3 дек.
«Педагогические трафаретки» - статья Розанова (НВ. 1896. 20 нояб.; вошла в
книгу «Сумерки просвещения»), на которую откликнулся Ф. Э. Шперк статьей «Со-
временные записки» (НВ. 1896.21 нояб.).
Когда брожу я безоружный с песней к Лалаге моей - Гораций. Оды. I, 22.
Теперь пируем, пора землю <ногами> потрясать - Гораций. Оды. I, 37.
Нечто о декадентах, «лампадном масле»
и о проницательности наших критиков (с. 517)
Русское Обозрение. 1896. № 12. С. 1112-1120.
Эпиграфы из стихотворения А. С. Пушкина «Адели» (1822) и из басни «Два
крестьянина и туча» французского писателя Жана Флориана (1755-1794).
Не пылит еще дорога... - Д. С. Мережковский. Перед грозой (1896).
.. .Буренин порицает - цитируется статья В. Буренина «Литературное юродство
и кликушество» (НВ. 1895. 1 сент.).
«К звездам» - рассказ Ф. Сологуба в «Северном Вестнике» (1896. № 9).
«Отверженный» - роман Д. С. Мережковского печатался в «Северном Вестни-
ке» (1895. № 1 -6), позднее назывался «Смерть богов. Юлиан Отступник».
«Роман в Кисловодске» (1886) - роман В. П. Буренина.
О, чудно нежная и страстная болезнь! - стихотворение А. Н. Емельянова-Ко-
ханского «Монолог маньяка (Бред первый)»; цитируется неточно по его книге «Обна-
женные нервы. Сборник стихотворений» (М., 1895. С. 71).
«Предстояло строить все заново, как бы в пустыне» - Михайловский Н. К Н. В.
Шелгунов (1891) // Литературная критика и воспоминания. М., 1995. С. 303-304
(Соч. СПб., 1897. Т. 5. С. 349-392).
835
Не входите, присенники... - А. Н. Емельянов-Коханский. Там же.
Зрелище бедствий народных... - Н. А. Некрасов. Дедушка (1870).
Ветер шумит, наметает сугробы... - Н. А. Некрасов. Мороз, Красный нос
(1863-1864). XXV.
Стану без милого жать... - там же. XXII.
«И еще речь была в устах гордого царя...» - Дан. 4, 28-29.
Бумага и действительность (с. 526)
НВ. 1896. 18 дек. №7476.
...г. Ладожский возражает - см. выше статью Розанова «Основы современной
школы».
Отцы пустынники и жены непорочны... - одноименное стихотворение А. С.
Пушкина (1836).
Мы все учились понемногу... - А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 5.
Мы для новой красоты... - Д. С. Мережковский. Дети ночи (1894).
Дети мрака, дети ночи (Дети скорби, дети ночи) - там же.
<Русская Аляска> (с. 536)
Свет. СПб., 1896. 23 дек. № 343. Б. п. и заглавия.
<Православие в Аляске> (с. 538)
Свет. СПб., 1896. 24 дек. № 344. Б. п. и заглавия.
<Рождество Христово> (с. 541)
Свет. СПб., 1896. 25 дек. № 345. Б. п. и заглавия.
<Многонациональность России>(с. 542)
Свет. СПб., 1896. 29 дек. № 349. Б. п. и заглавия.
<3акон об артелях> (с. 543)
Свет. СПб., 1896. 30 дек. № 350. Б. п. и заглавия.
Критическая заметка <А. Л. Волынский. Русские
критики> (с. 544)
Беловой автограф - РГАЛИ. Ф. 419. On. 1. Ед. хр. 156. Л.
1-11. Подготовка к печати Г. В. Нефедьевым.
И то, что пепел нам священный... - П. А. Вяземский. «Смерть жатву жизни
косит, косит...»(1841).
.. .мы не согласны с его взглядом на Добролюбова - Розанов называл Добролю-
бова «наиболее чистою фигурою 60-х годов» (НВип. 1911. 26 нояб.), для него это
было «самое дорогое имя» 60-х годов (там же).
«Куль хлеба и его похождения» (1873) - сборник рассказов и очерков С. В.
Максимова (1831-1901).
«История кусочка угля» - экономическое исследование Э. Эмана (СПб., 1871).
«Из истории моего учительства» - книга педагога Виктора Петровича Остро-
горского (1840-1902) «Воспоминания, мысли и заметки старого учителя словеснос-
836
ти» печаталась в журнале «Образование» в 1892-1894 гг. и была издана под названи-
ем «Из истории моего учительства» (СПб., 1895).
...чувствует к Ивану Никифоровичу - Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (1834).
Так проходит мирская слава - выражение из книги средневекового философа
Фомы Кемпийского «О подражании Христу». 1,3, 6.
...к полемике Зарина с Чернышевским, Чернышевского с Лавровым... - Ефим
Федорович Зарин (1829-1892), будучи сторонником умеренной программы реформ,
систематически полемизировал с Чернышевским и другими публицистами радикально-
го лагеря (статьи 1861-1864 гг.), выступал против утилитарного подхода к искусству.
Книга Петра Лавровича Лаврова «Очерки вопросов практической философии» (СПб.,
1860) вызвала упреки Чернышевского в эклектизме (Современник. 1860. № 4, 5).
«нужно проехаться по России» - глава XX в книге Гоголя «Выбранные места из
переписки с друзьями» называется «Нужно проездиться по России».
Дрожащие огни печальных деревень... - М. Ю. Лермонтов. Родина (1841).
Загрей - в греческой мифологии одна из ипостасей Диониса, бога плодоносящих
сил земли. Титаны растерзали Загрея, за что Зевс сбросил их в Тартар, а затем наслал
на землю потоп.
1897 год
<Новый год> (с. 551)
Свет. СПб., 1897. 5 янв. № 5. Б. п. и заглавия.
«Парижская фантасмагория» - 23-27 сентября 1896 г. проходил визит Нико-
лая II во Францию.
<Памятник М. Н. Муравьеву в Вильне> (с. 553)
Свет. СПб., 1897. 12 янв. № 11. Б. п. и заглавия.
<О В. А. Грингмуте> (с. 554)
Русский Труд. 1897. 19 янв. № 1. С. 19. Б. п. и заглавия.
Как редактор «Московских Ведомостей» Грингмут поддерживал публикации
статей Розанова в газете, о чем последний вспоминал в книге «Литературные изгнан-
ники». Первое предложение заметки написано редактором «Русского Труда» и пред-
ставляет собой введение к тексту Розанова. См. далее «Письмо в редакцию <«Север-
ного Вестника»>».
Я. Колубовский. Философский ежегодник (с. 555)
Русский Труд. 1897. 19 янв. № 1. С. 21.
«Вопросы Философии и Психологии» - журнал выходил в Москве с 1889 по
апрель 1918 г. Розанов печатался в журнале в 1890 и 1892 г.
.. .переводчик Ибервег-Гейнце, Гефдинга и Вундта - имеются в виду книги:
Ибервег Ф., Гейнце М. История новой философии в сжатом очерке. Пер. Я. Колубов-
837
ского. СПБ., 1890. 2-е изд. СРБ., 1898-1899. Т. 1-12; ГефдингГ. Очерки психологии,
основанные на опыте. Пер. Я. Колубовского. СПБ., 1896.6-е изд. М., 1914; Вундт В.
Гипнотизм и внушение. Пер. Я. Колубовского. М., 1893. 2-е изд. СПБ., 1898.
Эльпе - псевдоним фельетониста Л. К. Попова (1851-1917), печатавшегося в
«Новом Времени», «Голосе» и др. газетах.
...репутацию, погубленную несчастным «письмом в редакцию» - В статье Ро-
занова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (Русский Вестник. 1895. № 8.
С. 154-187) грубо критикуется Л. Н. Толстой, и автор обращается к нему на «ты»,
что вызвало осуждение читателей и критики. На выступление критиков Розанов от-
кликнулся «Письмом в редакцию», напечатанном в сокращенном виде в «Русском
Вестнике» (1895. № 10. С. 321-325) и в полном виде в «Русском Обозрении» (1895.
№ 11. С. 502-508).
<Реальное и классическое образование> (с. 557)
Свет. СПб., 1897. 21 янв. № 20. Б. п. и заглавия.
<Годовщина смерти Н. Н. Страхова
и Ю. Н. Говорухи-Отрока> (с. 559)
Свет. СПб., 1897. 24 янв. № 28. Б. п. и заглавия.
Некролог Страхова Розанов опубликовал в «Русском Обозрении» (1896. № 10),
некролог Говорухи-Отрока в том же журнале (1896. № 9). Оба некролога, появивши-
еся под названием «Вечная память», вошли в книгу Розанова «Литературные очер-
ки» под рубрикой «Памяти усопших».
«Время» - журнал выходил в Петербурге в 1861-1863 гг. Издатель-редактор
М. М. Достоевский при участии Ф. М. Достоевского.
«Эпоха» - журнал выходил в Петербурге в 1864-1865 гг. Издатель-редактор
М. М. Достоевский, после его смерти издание продолжил Ф. М. Достоевский.
«Заря» - журнал выходил в Петербурге в 1869-1872 гг. Издатель-редактор
В. Кашпирев.
«Современник» (1836-1866) и «Русское Слово» (1859-1866) - журналы, олицет-
ворявшие для Розанова антирусскую, революционную позицию.
«Южный Край» - журнал в Харькове в 1880-1919 гг.
«Московские Ведомости» - одна из старейших русских газет (1756-1917). Роза-
нов печатался в ней в 1889, 1891-1892, 1914-1916 гг.
«Русский Вестник» - журнал выходил в Москве с1856по1887ив1896-1902 гг.;
1887-1896 и 1902-1906 гт. в Петербурге. Розанов печатался в нем в 1889-1896 и в
1902-1903 гг.
«Русское Обозрение» - журнал выходил в Москве в 1890-1898, 1901 и 1903 гг.
Розанов печатался в нем в 1892-1898 гг.
...критические этюды о Тургеневе и о г. Владимире Короленко - Говоруха-
Отрок под псевдонимом Ю. Николаев издал книги «Тургенев» (М., 1894) и «Очерки
современной беллетристики. В. Г. Короленко» (М., 1893).
<Александр Ш> (с. 561)
Свет. СПб., 1897. 30 янв. № 29. Б. п. и заглавия.
838
Падающие колосья (с. 563)
Русское Слово. 1897. 6 марта. № 62.
«Союз писателей» (Союз взаимопомощи русских писателей) - литературное
объединение, существовавшее в Петербурге в 1897-1901 гг. Учредительное собра-
ние состоялось 25 января 1897 г., членами комитета были избраны П. Н. Исаков
(председатель), Н. К. Михайловский (товарищ председателя).
Гамма - псевдоним публициста Г. К. Градовского (1842-1915).
«Луч» - газета выходила в Петербурге в 1890-1903 гг. Редактор-издатель А. М.
Вольф.
«Зарница» - повесть В. Микулич (наст, фамилия и имя Веселитская Лидия Ива-
новна, 1857-1936) печаталась в «Северном Вестнике» (1893. № 9, 10; отд. изд. М.,
1895). Микулич - близкий друг семьи Розанова, крестная мать его дочери Вари.
...«с начинкой» - И. С. Тургенев. Новь. Ч. I. Гл. IV.
Н. Михайловский трубит о «Союзе» - «Это первый в своем роде опыт, и «братья
писатели» должны отнестись к нему с величайшею серьёзностью, отложив в сторону
все личные и партийные счёты и памятуя одно: достоинство и значение литературы»
(Михайловский Н. К. Литература и жизнь //Русское Богатство. 1897. № 1. Отд. II. С. 94).
Inde ira...(c. 566)
Русское Слово. 1897. 10 марта. № 66.
В название статьи взято выражение из «Сатир» (1,168) римского поэта Ювенала.
Статья вызвала отклик в прессе: Тихомиров Л. А. В. Розанов о Союзе писателей //
Русское Обозрение. 1897. № 5.
...плач Сильвио Пеллико - имеется в виду сочинение итальянского писателя С.
Пеллико «Мои темницы» (1832) об ужасах тюремного заключения.
<А. Н. Майков. Некролог>(с. 569)
Свет. СПб., 1897. 11 марта. № 67. Б. п. и заглавия.
Из мира идей и фактов (с. 570)
Русь. 1897. 20 и 25 марта. № 61 и 66.
Литературные волнения (с. 575)
Русь. 1897. 31 марта. № 71.
После этой статьи Розанов был удален из газеты за то, что будто бы в его статье
содержался донос на революционеров. Розанов изложил историю в письме к С. А.
Рачинскому 7 сентября 1897 г. Он упомянул окраину Петербурга Лахту, не зная, что
(как писатели в заграничных газетах) на Лахте за полгода до того арестовали тайную
типографию.
«Во-лузях» (В лугах) - народная песня.
Письмо в редакцию <«Северного Вестника»> (с. 577)
Северный Вестник. 1897. № 4. С. 85-92.
...«присягу на верность» - см. примеч. к статье «Почти единственная газета в
России» от 2 авг. 1901 г. (том «Юдаизм»).
839
...на Страстном бульваре - имеется в виду редакция журнала «Русский Вест-
ник», находившаяся в Москве на Страстном бульваре, д. 10 с 1856 по 1887 г. и с 1896
по 1902 г.
«Гатчинский отшельник» - псевдоним писателя И. Ф. Романова (Рцы).
«Философские очерки» - книга Н. Н. Страхова вышла в Петербурге в 1895 г.
«Ежегодник» г. Голубовского - см. выше: Я. Колубовский. Философский еже-
годник (1897. 19 янв.)
«Афоризмы и наблюдения» - Русское обозрение. 1894. № 10 (вошло в «Сумерки
просвещения»).
«Счастливы владеющие» - Гораций. Оды. IV, 9, 45.
...«отцеживая комара» - Мф. 23, 24.
«О символистах»... «Вечная память» - статьи Розанова в «Русском Обозре-
нии». 1896. № 9.
«Порядок» - ежедневная газета М. Стасюлевича в Петербурге в 1881-1882 г.,
издававшаяся под общей редакцией с «Вестником Европы».
«Смысл недавнего прошлого» - см. выше (1894. Декабрь).
Отрывок (Из петербургских видений) (с. 584)
Русское Обозрение. 1897. № 4. С. 776-782.
Критический анонимный отклик на статью появился в «Вестнике Европы» (1897.
№ 9) под названием «Раздвояющийся писатель». Эпиграф из стихотворения Н. А.
Некрасова «В дороге» (1854) и (с изменением) из «Евгения Онегина» (I, 32) А. С.
Пушкина.
Седан - город на северо-востоке Франции, в районе которого 1-2 сентября 1870 г.
во время Франко-прусской войны была разгромлена французская армия маршала
М. Э. Мак-Магона.
Садова - город в Чехии, в районе которого 3 июля 1866 г. прусская армия
разгромила австро-саксонскую армию.
Севастополь - имеется в виду оборона Севастополя с сентября 1854 г. по август
1855 г. во время Крымской войны 1853-1856 гг.
Бес благородный скуки тайной - Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что нахо-
дит...» (1845).
Блаженны нищие духом... Блаженны алчущие и жаждакпцие правды... - Мф. 5,
Зи 10.
«самый умышленный город на земле» - Ф. М. Достоевский. Записки из подполья
(1864), II.
Об экзаменах в средних учебных заведениях (с. 588)
НВ. 1897. 29 апр. № 7603.
Мы всё это изменили - выражение из комедии Мольера «Лекарь поневоле»
(1666). II, 6.
...это было в городе Е. - т. е. в Ельце.
...директором был... 3. - Николай Александрович Закс (1842-1892) был дирек-
тором Елецкой мужской гимназии с 1882 г.
840
1 марта 1881 г. -18 мая 1896 г. (с. 600)
Русское Обозрение. 1897. № 5. С. 328-332.
Розанов сопоставляет дату убийства императора Александра II и катастрофу на
Ходынском поле.
Об еврействе (с. 604)
Русское Слово. 1897. 6 июня. № 149.
О постановке памятника М. Н. Каткову (с. 605)
Мировые Отголоски. 1897. 25 июля. № 203.
.. .как «невеста», уготованная Вечному Жениху - Откр. 21,2.
Письмо в редакцию <0 Ходынке> (с. 607)
Русское Обозрение. 1897. № 9. С. 406-407.
Ф. Э. Шперк (Некролог) (с. 608)
НВ. 1897. 12 окт. №7768.
Другой вариант некролога был напечатан Розановым в «Русском Обозрении»
(1897. № 11. С. 459-465; см. в наст. Собрании сочинений том «Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М. Достоевского». М., 1996). Журнальный вариант вошел в книгу
Розанова «Литературные очерки».
Евг. Ветнек (сост.). Краткий очерк мифологии
греков и римлян (с. 609)
НВип. 1897. 29 окт. № 7785. С. 8. Подпись: В.
Ветнек Евгений Иванович - учитель древних языков в 4-й мужской гимназии в
Одессе.
О причинах малоуспешности в гимназиях (с. 611)
НВ. 1897. 11 нояб.№7798.
В. Е. Романовский (сост.). Государственные
учреждения древней и новой России (с. 618)
НВип. 1897. 17 дек. №7834. С. 7-8.
В 1911 г. вышло 3-е издание этой книги.
СУМЕРКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Печатается по изданию: Розанов В. В. Сумерки просвещения. Сборник статей по
вопросам образования. Издание П. Перцова. СПб.: Тип. М. Меркушева. 1899. 240 с.
В Главное управление по делам печати книга поступила между 1 и 8 февраля
1899 г. Сборник написан на основе учительской работы Розанова в прогимназии в
Брянске (18821887), в гимназии в Ельце (1887-1891) и в прогимназии в г. Белый
(1891-1893).
841
Книга вызвала многочисленные отклики. Отрицательное отношение к ней выра-
жено уже в названии рецензий: М. А. Протопопов. Писатель - головотяп (Русская
Мысль. 1899. № 8); А. И. Богданович. Юродствующая литература (Мир Божий.
1899. № 4). Однако Н. К. Михайловский, постоянный противник Розанова, счел воз-
можным написать, что у него «есть страницы, блещущие и ясностью значительной
мысли, и яркой силою ее выражения. Такие страницы читатель найдет в сборнике
«Сумерки просвещения»» (Русское Богатство. 1899. № 9; цит. кн.: Михайловский Н. К.
Последние сочинения. СПб., 1905. Т. 1. С. 210); П. Б. Струве свою статью «Романтика
против казенщины», написанную как рецензия на «Сумерки просвещения», заверша-
ет оценкой: «Не имея ни возможности, ни охоты реферировать замечательную книгу
г. Розанова, мы рекомендуем читателю самому взять ее в руки. В ней он найдет,
конечно, странные и даже дикие взгляды (напр., на розгу), но он встретит здесь в
редком обилии мысль, сильную оригинальностью и глубиной, облеченную всегда в
оригинальную и нередко - в блестящую форму. А главное, он на ярком примере
узрит воочию захватывающую идеологическую драму романтики и выход из этой
драмы: конечный разрыв с казенщиной» (Начало. 1899. № 3. С. 191).
Сумерки просвещения (с. 622)
РВ. 1893. № 1. С. 29-54; № 2. С. 60-86; № 3. С. 15-36;
№6. С. 106-135.
Отклики в печати: Говоруха-Отрок Ю. Н. Нечто о русской культурности // МВ.
1893. 18 февр.; Иловайский Д. И. Некоторые явления в столичной печати // МВ. 1893.
3 марта; Чуйко В. В. Журнальное обозрение / Одесский листок. 1893. 23 июня; Райа-
нов И. Ф. Заметки на полях и размышления между строк // Г. 1893.23 июня, 9, 10 июля.
«Русская мысль» (1893. № 7. С. 341-342) сообщала: «Розанов продолжает тяже-
ло пробираться в своих «Сумерках просвещения». Теперь он добрался до духовных
академий и университетов... «Г. Розанов желает отдать повременную печать под над-
зор высших ученых учреждений в государстве. Ежедневная пресса, по мнению авто-
ра, - это ежедневное брызганье слюной и заикающееся бормотанье, которое по
непреодолимому предрассудку все почему-то называют тоже литературой. Части-
ца правды в этом утверждении г. Розанова должна быть, потому что он - сотрудник
ежедневных «Московских Ведомостей».
Мы все учились понемногу... - А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 5.
Обо всем, что можно знать - слова итальянского писателя Дж. Пико делла
Мирандола в его «Тезисах» (1486).
«Русь» - газета, издававшаяся И. С. Аксаковым в Москве в 1880-1886 гт.
«Ежемесячные сочинения» - журнал, выходивший в Петербурге в 1755-1764 гг.
«Вперед» - журнал революционного народничества под редакцией П. Л. Лавро-
ва, выходил в Цюрихе и Лондоне в 1873-1877 гг.
Три главные принципа образования
(По поводу замечаний Д. И. Иловайского) (с. 692)
Русское Обозрение. 1893. № 5. С. 35-49.
ненависть к роду человеческому - Плиний Старший. Естественная история. VII, 6.
842
Афоризмы и наблюдения (с. 701)
Русское Обозрение. 1894. № 10. С. 726-744, № 11.
С. 334-364, №12. С. 819-845.
...пачку писем одного школьного товарища - письма Кости Кудрявцева, при-
ятеля Розанова по гимназии, опубликованы во втором коробе (томе) розановских
«Опавших листьев».
«Начала» Эвклида - сочинение древнегреческого математика III в. до н. э., содер-
жащее основы античной математики.
«Анабазис» Ксенофонта - мемуарное произведение древнегреческого писателя
(IV в. до н. э.) о походе Кира.
«Поликратов перстень» (1831) - баллада В. А. Жуковского, перевод баллады
Ф. Шиллера «Поликратово кольцо» (1797).
«Странствования» инока Парфения - главное сочинения схимника Парфения
(в миру Петр Агеев, 1807-1878) «Сказание о странствии и путешествии по России,
Молдавии, Турции и Св. Земле постриженника святые горы Афонския инока Парфе-
ния» (М., 1855).
...в частном письме... в «Дневнике писателя» - Ф. М. Достоевский. Дневник
писателя за 1876 г. Октябрь. I. 4. Приговор.
Педагогические трафаретки (с. 756)
НВ. 1896. 20 нояб. № 7448.
Ф. Э. Шперк (под псевдонимом Оръ) откликнулся на статью в «Современных
заметках» (НВ. 1895. 21 нояб.): «Автор глубоко и тонко чувствует боль школьного
дела; но это-то и мешает ему объективно и всесторонне рассмотреть его. А между тем,
только отойдя от предмета на известное расстояние, вы увидите его всего и поймете
правильно общий смысл его. Г. Розанов говорит, что современная школа механична и
что она убивает талантливые натуры, что она - канцелярия, и она душит все живое.
Очевидно, перед автором носится идеал живой индивидуалистичной школы, в кото-
рой все будет идти навстречу особенностям единичных духовных личностей. Автор
имеет в виду школу для меньшинства, так как особенно самобытна, по своим умствен-
ным способностям, только меньшинство, но он не высказывает этого, а говорит о
школе вообще. И выходит так, что автор для большинства, для учеников с обыкно-
венными дарованиями, предлагает тип школы для меньшинства, т. е. выходит что-то
неправильное, противоречивое. Но не в этом настоящее заблуждение автора. Главное
заблуждение его, на мой взгляд, в том, что он не видит, что для избранных натур, что
для лиц с выдающимися дарованиями, о которых он и рассказывает и скорбит, - для
них, в сущности, школа в общепринятом смысле не существует. Школа их - их соб-
ственная природа. Они и берут и отвергают все по собственному усмотрению. Пути
развития исключительных людей так же иекючительны, как и они сами».
Розанов ответил Штерку в статье «Основы современной школы» (см. в настоя-
щем томе).
«Любовь и красота» - имеется в виду книга публициста О. К. Нотовича (1847-1914)
«Любовь» (СПб., 1888; 5-е изд. 1895 с предисл. Ч. Ломброзо и Г. Ферреро). Переводы ее
на французский и немецкий языки имели успех, значительно больший, чем в России.
...бурса, которой изображение оставил нам Помяловский - Н. Г. Помяловский.
Очерки бурсы. СПб., 1865.
843
О гимназической реформе семидесятых годов (с. 765)
НВ. 1897. 5 авг. № 7700.
«Пропилеи»Леонтьева - сборник статей (М., 1855-1857. Т. 1-5) по классической
древности филолога П. М. Леонтьева (1822-1874).
Читал охотно Апулея... - А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 1.
Не презирал страны родной... - А. С. Пушкин. Стансы («В надежде славы и
добра...») (1826).
Представление о России в годы учебной реформы
(с. 773)
Русское Обозрение. 1897. 16 сент. № 7742.
То мореплаватель, то плотник... - А. С. Пушкин. Стансы.
Манэ-Факел-Фарес (Мене, Текел, Перес) - ср.: Дан. 5,25-28; надпись на стене,
пророчествующая смерть вавилонского царя Валтасара в 539 г. до н. э.
«Не хочу учиться - хочу жениться» - Д. И. Фонвизин. Недоросль. III, 7.
«Заслуги М. Н. Каткова по просвещению России» - статья В. А. Грингмута в
журнале «Русский Вестник». 1897. № 8.
Здоровый дух в здоровом теле - Ювенал. Сатиры. X, 356.
«Древлехранилище» - В 1830-е годы историк и писатель М. П. Погодин начал в
Москве собирать свое «древлехранилище», письменные и вещественные памятники (мо-
неты, оружие, утварь) русской старины. Рукописная часть этого собрания была передана
в Публичную библиотеку в Петербурге (Национальная российская библиотека).
.. .год смерти - Д. А. Толстой умер 25 апреля 1889 г.
Город и школа (с. 784)
НВ. 1897.14 окт. №7770.
Кит Китыч - купец-самодур Тит Титыч Брусков в комедии А. Н. Островского
«В чужом пиру похмелье» (1856).
«погибшее, но милое создание» - А. С. Пушкин. Пир во время чумы (1830).
Семья как истинная школа (с. 794)
НВ. 1897. 14 февр. №7532.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах - Периклес - А. С. Пушкин. К портрету
Чаадаева (1820).
«брошенное при дороге зерно» - ср.: Мф. 13, 4.
перст указательный, все признаки ученья - А. С. Грибоедов. Горе от ума. I, 7.
«Военно-полевая хирургия» - книга врача Н. И. Пирогова «Начала общей воен-
но-полевой хирургии» (1865-1866).
Границы закона (с. 801)
НВ. 1897. 8апр. №7584.
«Призраки» (1864) - повесть И. С. Тургенева.
844
Беспочвенность русской школы (с. 806)
Впервые в книге «Сумерки просвещения».
«пыль хартий» (И пыль веков от хартий отряхнув) - А. С. Пушкин. Борис Году-
нов (1825).
Два типа образования (с. 810)
Русское Слово. 1895. 18 и 20 февр. № 47 и 49.
Библиография (с. 816)
Программы домашнего чтения на 3-й год
систематического курса.
НВип. 1897. 29 окт. № 7785. С. 8.
Я. В. Абрамов. Два великих француза: благодетель
человечества Луи Пастер и апостол образования Жан
Масэ. Популярная библиотека. № 3.
НВип. 1897. 17 дек. № 7834. С. 7-8.
Достоевский для детей школьного возраста. Сборник
сост. А. В. Кругловым.
НВип. 1897. 24 дек. № 7841. С. 7.
Педагогические экскурсии в область литературы.
Алекс. Ник. Острогорский.
НВип. 1897. 31 дек. № 7846. С. 8.
...«чудище обло, огромно, стозевно илаяй» - В. К. Тредиаковский. Тилемахида.
XVIII (1766).
О. В. Быстрова
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббадопна (Абадонна), в Новом Завете
«ангел бездны», царь саранчи, вы-
шедшей из бездны - 351
Абеляр Пьер (1079-1142), французский
философ, богослов и поэт - 369
Абрамов Яков Васильевич (1858-1906),
публицист и статистик, либеральный
народник - 817, 818, 845
Авгий, в греческой мифологии царь Эли-
ды - 805
Август (до 27 до н. э. Октавиан) (63 до
н. э-14 н. э.), римский император (с 27
дон. э.) — 110, 172, 182, 183, 195, 825
Августин Аврелий (354-430), христиан-
ский церковный деятель, теолог, фи-
лософ, писатель - 526, 527, 832
Авенир, в Ветхом Завете двоюродный
брат и полководец первого всеизра-
ильского царя Саула, сын Нира - 444
Авессалом (Абшалом), в Ветхом Завете
один из сыновей царя Давида - 444,
445
Авраам, в Ветхом Завете патриарх, пра-
родитель еврейского народа - 261
Аврелий Марк Анний Катилий Север
(121-180), римский император (с 161),
философ - 379
Агамемнон, в греческой мифологии
царь Микен, предводитель ахейско-
го войска в Троянской войне - 357
Агезилай II (442-358 до н. э.), спартанс-
кий царь (с 399), полководец - 529
Адам, в Ветхом Завете прародитель че-
ловечества - 250, 301,480
Аддисон Джозеф (1672-1719), английс-
кий писатель - 79
Адриан (76-138), римский император (с
117), из династии Антонинов - 183
Адриан (Андрей) (1627 или 1639-1700),
русский патриарх (с 1690) - 493
Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886),
философ, публицист, поэт, обществен-
ный деятель - 478, 489, 579, 583, 605,
606, 809. 833, 842
Аксаков Константин Сергеевич (1817—
1860), философ, публицист, историк,
лингвист, поэт - 809
Аксаков Николай Петрович (1848-1909),
публицист, критик, прозаик, поэт, ис-
торик, философ, богослов - 387, 388,
578, 583, 829
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-
1859), писатель - 40, 427, 428, 496,
499, 535, 651
Аксаковы - 560
Аларих I (ок. 370—410), король герман-
ского племени вестготов (с 395) - 345
Александр I (1777-1825), российский
император (с 1801) - 358, 374, 375,
491,500, 602, 834
Александр II (1818-1881), российский
император (с 1855) - 326, 328, 336,
500, 569, 730, 833, 841
Александр III (1845-1894), российский
император (с 1881) - 337, 400, 485,
551, 561, 569, 582, 600, 838
Александр Македонский (Александр Ве-
ликий) (356-323 до н. э.), царь Маке-
донии (с 336), полководец - 173, 187,
746
Александр Максимович, надзиратель в
Брянской прогимназии - 359
Александр Михайлович (1301-1339), ве-
ликий князь Владимирский (1325-
1327)- 647
Александр Невский (1220-1263), князь
Новгородский (1236-1251), великий
князь Владимирский (с 1252), полко-
водец - 107
Александр Николаевич, московский ком-
мерсант, друг М. П. Погодина - 457,
458
Алексеев Александр Семенович (1851-?),
профессор государственного права
Московского университета - 367, 462
Алексей (Алексий) Божий человек (V в.),
сын знатного римлянина, ставший на
путь христианского служения - 645
846
Алексей Михайлович (1629-1676), рус-
ский царь (с 1645) - 335, 500
Алексий (Алексей) (ок. 1293-1378), мит-
рополит Всея Руси (с 1354), канони-
зирован Русской православной цер-
ковью-107, 377, 648, 649
Алкивиад (ок. 450—404 до н. э.), афинс-
кий стратег (с 421) в период Пело-
поннесской войны - 54, 159, 184, 422
Алымов Илья Павлович (1831-1884), ге-
нерал-майор, педагог, писатель - 821
Альфред Великий (ок. 849-ок. 900), ко-
роль англосаксонского королевства
Уэссекс (с 871) -69, 70, 354, 370
Амвросий Отпинский (Александр Ми-
хайлович Гренков) (1812-1891),
иеросхимонах, старец Оптиной пус-
тыни, духовный проповедник, кано-
низирован - 493
Амессай (Амесса), в Ветхом Завете пол-
ководец, принявший участие в мяте-
же Давидова сына Авессалома - 444
Аминов (или Амиров), тифлийский убий-
ца - 470
Амос, древнееврейский пророк VIII в.
до н. э. - 668
Анаксагор из Клазомен в Малой Азии
(ок. 500-428 до н. э.), древнегрече-
ский философ - 74
Андрей Боголюбский (не ранее 1100-
1174), великий князь Владимирский
(с 1157), сын князя Юрия Долгору-
кого, канонизирован - 101, 103, 107
Андрей Суздальский (Андрей Констан-
тинович) (ум. 1365), старший из сы-
новей князя суздальского Константи-
на Васильевича - 377
Анна, жена Товита, мать Товии - 668,669
Анна Болейн - см. Болейн А.
Анненков, генерал-лейтенант, заведую-
щий постройкой Закаспийской воен-
ной дороги Генерального штаба
(1887)-386
Аннибал (Ганнибал) (247/246-183 до
н. э.), карфагенский полководец - 364,
379, 443
Анри - 303, 307
Антей, в греческой мифологии великан,
сын богини земли Геи, от которой чер-
пал свою силу - 372, 579
Антоний (Александр Васильевич Вад-
ковский) (1846-1912), митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский (с
1898) -493
Антоний Марк (ок. 83-30 до н. э.), рим-
ский полководец - 177, 182, 825
Аполлон (Феб), в греческой мифологии
сын Зевса, бог-целитель и прорица-
тель, покровитель искусств - 610,788
Апулей (ок. 125-ок. 180), римский писа-
тель-771, 772
Аракчеев Алексей Андреевич (1769-
1834), граф, политический и военный
деятель, пользовался большим влия-
нием при императоре Александре I -
375
Аргутинский, князь, городской голова
в Тифлисе - 470
Ариадна, в греческой мифологии дочь
критского царя Миноса - 364, 610
Аристид (ок. 540-ок. 467 до н. э.), афин-
ский полководец - 89, 159, 177, 590,
771
Аристотель (Стагирит) (384-322 до
н. э.), древнегреческий философ и
ученый-энциклопедист - 12, 15, 74,
76, 113, 114, 270, 319, 515, 526, 676,
771, 772, 804, 824, 825, 827
Арсений, половой в московском тракти-
ре «Железный» - 409
Арсеньев Константин Константинович
(1837-1919), публицист, юрист и кри-
тик, земский деятель —456
Архимед (ок. 287-212 до н. э.), древне-
греческий ученый - 818
Асмодей, в Библии злой дух - 353, 669
Астиаг, последний царь (585/584-550/
549 до н. э.) Мидийской державы -
473, 710
Атилла (Аттила) (7—453), предводитель
гуннов (с 434) - 52
Атлас (Атлант), в греческой мифологии
великан, несущий на плечах небесный
свод - 572
Афродита, в греческой мифологии бо-
гиня любви и красоты - 65, 456, 660,
772, 813
Ахаз, царь Иудейского государства (736/
731-725 до н. э.)-437
Ахиахар, министр ассирийских царей
Синахериба и Асархаддона; считался
одним из великих мудрецов Ближне-
го Востока - 669
Б-ч, ученик Елецкой гимназии - 703
Багратион Петр Иванович (1765-1812),
генерал от инфантерии, герой Отече-
ственной войны 1812 г. -471
847
Бажанов Михаил Георгиевич, московс-
кий присяжный поверенный - 458,
459
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788-
1824), английский поэт - 13, 50, 79,
90, 429, 580
Байэ (Байер) Готлиб Зигфрид (1694—
1738), немецкий историк, филолог,
автор трудов по ориенталистике и
истории Древней Руси - 486
Балланш Пьер Симон (1776-1847), фран-
цузский писатель и философ - 411
Бандинелли (Баччио Бандинелли) (1493-
1560), итальянский скульптор - 638,
639, 687
Баратынский (Боратынский) Евгений
Абрамович (1800-1844), поэт - 771
Бардибек, хан Золотой Орды - 648
Барсуков Николай Платонович (1838—
1906), историк литературы и обще-
ственной мысли, археограф, библио-
граф, издатель, мемуарист - 406, 410,
411, 458, 460, 461, 832
Басистов Павел Ефимович (1823-1882),
педагог, критик - 531, 533, 703
Баташов, сын мещанина - 717
Батый (Бату) (1208-1255), монгольский
хан, внук Чингисхана - 649, 710
Батюшков Константин Николаевич
(1787-1855), поэт- 771, 830
Баур Фердинанд Кристиан (1792-1860),
немецкий протестанский богослов,
основатель и глава тюбингенской шко-
лы-317
Бегон (Паскаль) Антуанетта (1596-
1626), мать Б. Паскаля - 23
Безбородко Александр Андреевич
(1747-1799), государственный дея-
тель и дипломат, секретарь Екатери-
ны II (с 1775) - 498
Беккетов (Бекетов) Николай Андреевич
(1790-1829), филолог, профессор
Московского университета - 425
Белинский Виссарион Григорьевич
(1811-1848), литературный критик,
публицист, общественный деятель -
88, 409, 428, 478, 544, 545, 561, 769,
782, 809, 833
Беллармино Роберто Франческо Ромоло
(1542-1621), католический богослов,
иезуит, кардинал (с 1599) - 298
Беллона, в римской мифологии богиня
войны - 182
Беллье, автор книги о Декарте - 23, 25
848
Беллярминов Иван Иванович (1837-?),
автор учебника по всеобщей и рус-
ской истории - 528, 710
Белорусов - 512
Беляев Иван Дмитриевич (1810-1873),
историк, славянофил, профессор
Московского университета - 460
Бентам Иеремия (1748-1832), английс-
кий философ, экономист, юрист -
135, 145, 150
Берг Федор Николаевич (1839-1909), поэт,
прозаик, переводчик, редактор жур-
нала «Русский Вестник» - 824, 830
Берлихинген Гёц (Готфрид) фон (1480—
1562), немецкий рыцарь, участник
Крестьянской войны - 216, 217, 219
Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри
(1737-1814), французский писатель
-427
Берне Людвиг (1786-1837), немецкий
публицист и литературный критик -
211
Берта, святая, жена кентского короля
Этсльберта, принявшая христиан-
ство - 727
Бершадский Сергей Александрович
(1850-1896), историк, юрист - 361
Бестужев-Рюмин Константин Николае-
вич (1829-1897), историк - 460, 461
Бетховен Людвиг ван (1770-1827), не-
мецкий композитор, пианист и дири-
жер - 118
Бибиков Александр Ильич (1729-1774),
государственный и военный деятель
-499
Благовещенский Николай Александро-
вич (1837-1889), прозаик - 765
Благосветлов Григорий Евлампиевич
(1824-1880), публицист, редактор-
издатель журналов «Русское Слово»
и «Дело» - 478, 833
Блан Луи (1811-1882), французский со-
циалист - 306, 309
Блеза (Перье), племянница Б. Паскаля -
33
Богданов, сын сапожника - 717
Богданович Ангел Иванович (1860-
1907), критик, публицист, редактор
журнала «Мир Божий» - 842
Бокль Генри Томас (1821-1862), англий-
ский историк и социолог -345, 453
454,456,457,761
Болдырев Алексей Васильевич (1780-
1842), профессор по кафедре восточ-
ных языков, ректор Московского
университета - 409, 410
Болейн Анна (ок. 1507-1536), вторая
жена английского короля Генриха VIII
-359
Борис Годунов (1552-1605), русский
царь (с 1598) - 109, 651, 694, 710
Борк (Бёрк) Эдмунд (1729-1797), анг-
лийский философ, публицист, поли-
тический деятель - 211, 379
Борроу, английский ученый - 16
Босюэт (Боссюэт, Боссюэ) Жак Бенинь
(1627-1704), французский католичес-
кий богослов, проповедник, писатель
-305
Боткин Сергей Петрович (1832—1889),
терапевт, один из основателей школы
русских клиницистов - 462, 516, 830
Боткин Сергей Сергеевич (1859-1910),
врач, профессор Военно-медицинс-
кой академии, коллекционер - 394
Брандес Георг (1842-1927), литератур-
ный критик - 217, 299
Браницкий Франциск Ксаверий (в Рос-
сии Ксаверий Петрович Браницкий)
(ум. 1819), граф, великий коронный
гетман (1774-1793) - 503
Брокгауз Эдуард (1829—1914), немецкий
издатель русского Энциклопедичес-
кого словаря, внук основателя фир-
мы Фридриха Арнольда Брокгауза -
593, 596, 598
Брунетты Козимо, переводчик произве-
дений Б. Паскаля на английский и ита-
льянский языки - 32
Бруно Джордано (1548-1600), итальян-
ский философ и поэт - 276, 285, 532,
643, 644
Брут Марк Юний (85-42 до н. э.), в
Древнем Риме глава (вместе с Касси-
ем) заговора против Цезаря - 409,
650, 797, 844
Буало Никола (1636-1711), французский
поэт, теоретик классицизма - 641
Будда, имя данное основателю буддизма
Сиддхартхе Гаутаме (623-544 до н. э.)
-298
Буйницкий А. Н., переводчик «Истории
цивилизации в Англии» Т. Бокля-453,
456
Булич Николай Никитич (1824-1895),
историк литературы - 324
Бунге Николай Христианович (1823-
1895), государственный деятель, эко-
номист, министр финансов (1881-
1886), председатель Комитета мини-
стров (1887-1895) - 584
Бураковский Сегей Захарович (1848—
1898), педагог, филолог - 528, 769
Буренин Виктор Петрович (1841-1926),
писатель, литературный критик, со-
трудник газеты «Новое Время» - 388,
389, 393, 517, 519, 521, 522, 525, 827-
829, 835
Буслаев Федор Иванович (1818-1897),
языковед, фольклорист, литературо-
вед, историк искусства - 409,410,460,
516, 781
Бычков Афанасий Федорович (1818-
1899), историк, археограф - 460
Бэйль (Бейль) Пьер (1647-1706), фран-
цузский философ и публицист - 15,
467
Бэкон Веруламский - см. Бэкон Ф.
Бэкон Фрэнсис (1561-1626), английский
философ, государственный деятель -
19, 78, 135, 674, 817
Валленштейн Альбрехт (1583-1634),
полководец, главнокомандующий им-
перскими войсками во время Трид-
цатилетней войны - 14
Валлис Джон (1616-1703), английский
математик - 16
Валтасар, в Ветхом Завете последний
царь Вавилона из Халдейской динас-
тии - 843
Валыпер-Скотт - см. Скотт В.
Вальян - 303, 306, 307
Варя, служанка-воспитанница в семье
Леонтьевых - 446-449
Варфоломей, в христианстве один из две-
надцати апостолов, согласно легенде,
претерпел мученическую смерть -
832
Василий Блаженный (ок. 1469-1557),
московский юродивый, аскет, обли-
чал власть имущих - 107, 335
Василий Великий, святой (ок. 330-379),
христианский церковный деятель, те-
олог, философ, епископ г. Кесарии -
649
Васильев, сын крестьянина - 717
Васильев Афанасий Васильевич (1851-
после 1917), публицист, поэт, изда-
тель, генерал-контролер, возглавлял
департамент железнодорожной отчет-
ности, где служил Розанов - 578, 583
28 Зак. 3969
849
Васильевский Василий Григорьевич
(1838-1899), историк - 344
Ващенко-Захарченко Михаил Егорович
(1825-1912), украинский математик,
профессор Киевского университета -
709
Вебер Георг (1808-1888), немецкий ис-
торик - 405, 830
Вега Карпъо (Лопе де Вега) Лопе Феликс
де (1562-1635), испанский драматург -
78, 518
Векерле Александр (1848-?), венгерский
политический деятель - 368
Веласкец (Веласкес) (Родригес де Силь-
ва Веласкес) Диего (1599-1660), ис-
панский живописец - 78
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867-
1941), литературный критик, исто-
рик литературы, переводчица - 519
Венедикт, основатель секты чувствен-
ников - 332
Венера, в римской мифологии богиня
любви и красоты, соответствует гре-
ческой Афродите -
Вениамин (Беньямин), в Ветхом Завете
младший сын Иакова - 437, 438
Веселовский Алексей Николаевич (1843-
1918), историк литературы - 210,
404, 830
Веспасиан Тит Флавий (9-79), римский
император (с 69) - 67
Ветнек Евгений Иванович, учитель
древних языков в 4-й мужской гим-
назии в Одессе - 609, 841
Виктор Эммануил II (1820-1878), ко-
роль Сардинского королевства
(1849-1861) и 1-й король объединен-
ной Италии (с 1861) - 92
Вильгельм I Оранский (Вильгельм Нас-
сауский) (1533-1584), принц, деятель
Нидерландской революции - 77
Вильгельм III Оранский (1650-1702),
штатгальтер (правитель) Нидер-
ландов (с 1674), английский король
(с 1689) - 7
Винкельман Иоганн Иоахим (1717-1768),
немецкий историк искусства - 769,
772
Виолле-ле-Дюк Эжен (1814-1879), фран-
цузский архитектор, историк и тео-
ретик архитектуры - 486
Виргилий (Вергилий, Публий Вергилий
Марон) (70-19 до н. э.), римский
поэт - 17, 360, 426, 628,711,771
Виргиния (ум. 449 до н. э.), девушка из
плебейской римской семьи, которую
пытался похитить Аппий Клавдий,
была убита своим отцом во избежа-
нии позора - 413, 444
Вирсавия, в Библии одна из жен царя
Давида, мать Соломона - 437
Витте Сергей Юльевич (1849-1915),
граф, государственный деятель, ми-
нистр путей сообщения (с февр. 1892),
министр финансов (с авг. 1892), пред-
седатель Комитета министров (с 1903),
Совета министров (1905-1906) - 584-
586
Владимир I, святой (ум. 1015), князь
Новгородский (с 969), великий князь
Киевский (с 980), ввел на Руси хрис-
тианство (988-989) - 101, 109, 265,
272
Владимир II Мономах (1053-1 125),
князь Смоленский (с 1067), Черни-
говский (с 1078), Переяславский (с
1093), великий князь Киевский (с
1113)- 101
Владимир Андреевич Храбрый (1353-
1410), князь Серпуховско-Боров-
ский, двоюродный брат Дмитрия
Донского, участник Куликовской бит-
вы - 649
Владислав IV (1595-1648), польский
король (с 1632) - 501
Властов Георгий Константинович (1827-
1899), археолог, духовный писатель,
общественный деятель - 610
Вобан, чиновник - 369
Вовчок Марко (наст, имя и фам. Мария
Александровна Вилинская-Марко-
вич) (1833-1907), украинская и рус-
ская писательница, переводчица-782
Вогюэ Эжен Мелькиор де (1848-1910),
французский писатель и историк ли-
тературы - 486
Волынский Аким Львович (наст, имя и
фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861 —
1926), теоретик искусства, литера-
турный критик - 281, 518, 519, 523,
544, 545, 548, 549, 836
Вольней (наст. фам. Шасбёф) Константин
Франсуа (1757-1820), французский
философ, писатель, историк - 346
Вольтер (наст, имя Мари Франсуа Аруэ)
(1694-1778), французский писатель и
философ- 13, 15, 17, 78,90, 129, 189.
276, 285, 369, 371,499, 723, 825, 827
850
Вольф А. И., редактор-издатель газеты
«Луч» и журнала «Новь» - 452, 831,
839
Вольф Маврикий Осипович (1825—
1883), книгоиздатель -451, 477
Вольф Христиан (Кристиан) (1679-
1754), немецкий философ - 442
Вундт Вильгельм (1832-1920), немецкий
психолог, физиолог, философ, языко-
вед - 555, 838
Вышнеградский Алексей Иванович -
344
Вышнеградский Иван Алексеевич (1831/
1832-1895), государственный дея-
тель, ученый, министр финансов
(1888-1892)- 584, 585
Вюртц (Вюрц) Шарль Адольф (1817-
1884), французский химик-359, 361
Вяземский Александр Алексеевич
(1727-1793), князь, государственный
деятель - 358, 498
Вяземский Петр Андреевич (1792-
1878), князь, поэт, критик, мемуарист
- 545, 829, 833, 836
Габорио Эмиль (1835-1873), французс-
кий писатель - 761
Гавриил, один из семи архангелов, почи-
тается в иудаизме, христианстве и ис-
ламе - 228
Галахов Алексей Дмитриевич (1807-
1892), историк литературы, состави-
тель хрестоматий русской литерату-
ры - 346
Галилей Галилео (1564-1642), итальян-
ский естествоиспытатель и мыслитель
- 19
Галлер (Халлер) Альбрехт фон (1708—
1777), швейцарский естествоиспыта-
тель, врач и поэт - 345
Гамбетта Леон (1838-1882), премьер-
министр и министр иностранных дел
Франции (1881-1882) - 310
Гамма - см. Градовский Г. К.
Ганноверская династия, английская ко-
ролевская династия (1714-1901) -
78-79
Гарвей (Харви) Уильям (1578-1657),
английский врач и естествоиспытатель
- 19
Гартман Эдуард фон (1842-1906), не-
мецкий философ - 277
Гаршин Всеволод Михайлович (1855-
1888), писатель - 567
Гатчинский отшельник - см. Романов
И. Ф.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-
1831), немецкий философ -271,319,
392, 443, 546, 574
Гезиод (Гесиод) (VIII-VII вв. до н. э.),
древнегреческий поэт - 610
Гейне Генрих (1797-1856), немецкий
поэт, публицист - 159, 549
Гейнце Макс, немецкий историк фило-
софии - 555, 837
Гекуба, в греческой мифологии жена
троянского царя Приама, мать Гек-
тора - 769
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд
(1821-1894), немецкий ученый - 18
Гензерих - 345
Генри Патрик (1736-1799), американс-
кий государственный деятель, оратор
-816
Генрих!, т. наз. Птицелов(876-936), пер-
вый немецкий король из саксонского
герцогского дома - 70
Генрих IV (1553-1610), французский
король с 1589 (фактически с 1594),
основатель династии Бурбонов - 316,
372, 722
Генрих VIII (1491-1547), английский ко-
роль (с 1509), из династии Тюдоров -
77, 370
Георгиевский А. И., сотрудник мини-
стерства внутренних дел - 783
Георгиевский Сергей Михайлович
(1851-1893), китаевед, профессор
Московского университета - 768
Геракл (Геркулес), в греческой мифоло-
гии герой, совершивший множество
подвигов - 610
Гераклит (кон. VI-нач. V вв. до н. э.),
древнегреческий философ - 319, 772
Герберт - см. Чербери Э.
Гермес, в греческой мифологии сын Зев-
са, бог торговли и прибыли - 210
Геродот (между 490 и 480-ок. 425 до н. э.),
древнегреческий историк - 54, 64, 694
Герострат, грек из Эфеса (Малая
Азия), сжегший в 356 до н. э. храм
Артемиды Эфесской - 108
Герц Карл Карлович (1820-1883), про-
фессор археологии и истории ис-
кусств в Московском университете -
344, 345
Герцен Александр Иванович (1812—
1870), писатель, публицист, философ,
851
общественный деятель - 92, 306, 308,
309, 320, 809, 825, 828
Гершель Уильям (Фридрих Вильгельм)
(1738-1822), английский астроном -
346, 347
Геръе Владимир Иванович (1837-1919),
историк, профессор Московского
университета -23, 210, 366, 516, 772
Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832),
немецкий писатель, мыслитель, есте-
ствоиспытатель - 50, 55, 79, 90, 205,
210, 216, 217, 219, 222, 228, 232-234,
236, 237, 549, 574, 825, 826
Гёффдинг (Хёфдинг) Харальд (1843—
1931), датский философ и психолог,
историк философии нового времени
- 555, 838
Гёц фон Берлихинген - см. Берлихинген
Гёц фон
Гизо Франсуа (1787-1874), французский
историк и политический деятель - 83,
324, 371, 411, 817
Гиляров-Платонов Никита Петрович
(1824-1887), публицист, философ,
историк, издатель - 605,606, 763, 830
Гиппий (ум. 490 до н. э.), афинский ти-
ран (правитель) (527-510 до н. э.) -
65
Гипполит (Ипполит), в греческой мифо-
логии охотник и поклонник богини
охоты Артемиды - 610
Гипполита (Ипполита), в греческой ми-
фологии царица амазонок - 610
Гладстон Уильям Юарт (1809-1898),
английский политический деятель,
неоднократно премьер-министр - 516
Гоббес (Гоббс) Томас (1588-1679), анг-
лийский философ - 15, 149
Говоруха-Отрок (псевд. Ю. Николаев)
(Говорухо-Отрок) Юрий Николаевич
(1850-1896), литературный и теат-
ральный критик, писатель, публицист
- 520, 559, 561, 579, 822, 830, 838,
842
Гоголь Николай Васильевич (1809-
1852), писатель - 39, 106, 335, 343,
373, 404, 428, 476, 528, 545, 549, 550,
561,587, 637, 650, 651, 761, 775, 776,
779, 782, 820, 822, 825, 832, 837
Голицын Дмитрий Владимирович (1771-
1844), князь, генерал от кавалерии,
московский генерал-губернатор
(1820-1843), член Государственного
совета (с 1821) - 406
Голицын Николай Николаевич (1838-
1893), князь, библиограф, историк,
публицист, журналист, редактор га-
зеты «Варшавский Дневник» - 446,
448
Головин, генерал-лейтенант, начальник
отдела по передвижению войск Гене-
рального штаба - 355
Гольдсмит (Голдсмит) Оливер (1728—
1774), английский писатель-сентимен-
талист - 429
Гольц Вильгельм (1836-?), немецкий
физик - 513
Гомер, полулегендарный древнегречес-
кий эпический поэт - 17, 53, 89, 159,
445, 625, 651, 668, 670, 681, 694, 696
Гонорий Флавий (384-423), император
Западной Римской империи (с 395) -
82
Гончаров Иван Александрович (1812-
1891), писатель - 37, 335, 451, 761,
776, 820
Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65-8
до н. э.), римский поэт- 159, 195,512,
514, 711, 771, 535, 840
Горбов Николай Михайлович, педагог,
журналист, деятель народного обра-
зования (1880-1900) - 383, 646
Горчаков Александр Михайлович
(1798—1883), князь, дипломат, канц-
лер (1867), министр иностранных дел
(1856-1882), член Государственного
совета (с 1862) - 88
Гостомысл (1-я пол. IX в.), легендар-
ный предводитель и первый князь
(посадник) новгородских словен-265
Грабовский Александр Дмитриевич
(1841-1889), историк государствен-
ного права, публицист - 380
Грабовский (псевд. Гамма) Григорий
Константинович (1842-1915), публи-
цист - 563, 564, 839
Гракх Кай (Гай) (153-121 до н. э.), рим-
ский народный трибун (123 и 122) -
57, 75, 98, 174, 177, 379, 799
Гракх Тиберий (162-133 до н. э.), римс-
кий народный трибун (133) - 57, 75
98, 177, 799
Грановский Тимофей Николаевич (1813—
1855), историк, публицист, обще-
ственный деятель - 443, 454, 802, 809
Грейг Самуил Алексеевич (1827-1887),
государственный деятель, министр
финансов(1878-1880) - 584
852
Грейг Самуил Карлович (1735-1788),
адмирал (1782); в составе эскадры Г.
А. Спиридова командовал отрядом в
Чесменском бою (1770) - 499
Грибоедов Александр Сергеевич (1790/
1795-1829), писатель и дипломат -
343, 427, 451, 587, 775, 782, 831, 845
Григорий, убитый отцом Михаилом
Куртиным - 333
Григорий VII Гильдебранд (между 1015
и 1020-1085), папа римский (с 1073);
фактически правил при папе Николае
II (1059-1061)- 359
Григорьев Аполлон Александрович
(1822-1864), поэт, критик, перевод-
чик, мемуарист - 427, 454, 457, 560,
561, 769
Гримальди Франческо Мария (1618-
1663), итальянский физик и астроном
-512
Гримм Фридрих Мельхиор (1723-
1807), барон, корреспондент Екате-
рины II, публицист, критик и дипло-
мат -499
Грингмут Владимир Андреевич (1851 —
1907), публицист, редактор-издатель
газеты «Московские Ведомости» -
554, 578, 579, 581-583, 777, 778, 837,
844
Грот Яков Карлович (1812-1893), язы-
ковед, историк литературы, перевод-
чик - 410
Губастое Константин Аркадьевич
(1845-1913), друг и корреспондент
К. Н. Леонтьева, генеральный консул
в Вене - 445, 447, 831
Гуго Капет (ок. 940-996), французский
король (с 987) - 83
Гумбольдт Александр (1769-1859), не-
мецкий естествоиспытатель, географ
и путешественник - 79
Гумбольдт Вильгельм (1767-1835), не-
мецкий филолог, философ, языковед,
государственный деятель, дипломат,
брат А. Гумбольдта - 79
Гун Отто фон (1764-1832), богослов,
доктор медицины - 17
Гуревич Любовь Яковлевна (1866-1940),
литературный и театральный критик,
прозаик, переводчица; владелица и
издатель журнала «Северный Вест-
ник» (1891-1898) - 522
Гуревич Яков Григорьевич (1843-?), пе-
дагог, директор основанных им гим-
назии и реального училища (с 1883)
-662
Густав II Адольф (1594-1632), король
Швеции (с 1611), из династии Ваза,
полководец - 722
Гутен (Гуттен) Ульрих фон (1488-1523),
немецкий писатель, вдохновитель ры-
царского восстания (1522-1523) - 79
Гуттенберг (Гутенберг) Иоганн (1394/
1399 или 1406-1468), немецкий изоб-
ретатель книгопечатания - 357
Гюйгенс (Хёйгенс) Христиан (1629-
1695), нидерландский механик, физик
и математик - 14, 129
Д-ий А-ч, инспектор прогимназии - 784
Давид, царь Израильско-Иудейского
государства (кон. XI в.- ок. 950 до н.
э.)-271, 437, 444, 445
Давидов (Давыдов) Август Юльевич
(1823-1885), математик, профессор
Московского университета - 767
Давыдов Денис Васильевич (1784-1839),
поэт, прозаик, военный - 411
Давыдов Иван Иванович (1792, по др.
сведениям 1794-1863), эстетик, педа-
гог, философ, лингвист - 460
Д’Аламбер Жан Лерон (1717-1783),
французский математик, механик и
философ-просветитель - 499
Далин (псевд. Дмитрия Александровича
Линева) (1853-1920), прозаик, пуб-
лицист - 564
Даль Владимир Иванович (1801-1872),
писатель, лексикограф, этнограф -
781, 782
Дан, в Ветхом Завете прародитель не-
большого израильского племени, пя-
тый сын Иакова и первенец Валлы,
служанки Рахили - 437
Даниил, ветхозаветный пророк - 525
Даниил Романович (1201-1264), князь
Галицкий (1211-1212 и с 1238) и Во-
лынский (с 1221), сын Романа Мстис-
лавича - 109
Данилевский Николай Яковлевич (1822-
1885), философ, публицист, естество-
испытатель - 7-9, 268, 318-320, 324,
457, 560, 605, 606, 822, 824
Данилов Фома (7—1875), унтер-офицер
2-го Туркестанского стрелкового ба-
тальона - 819
Данте Алигьери (1265-1321), итальян-
ский поэт - 89, 454
853
Дантон Жорж Жак (1759-1794), дея-
тель Французской революции — 725
Дарвин Чарлз Роберт (1809-1882), анг-
лийский естествоиспытатель - 7, 9,
317, 510, 529, 823, 824
Дедал, в греческой мифологии искусный
зодчий; на крыльях из перьев, скреп-
ленных воском, совершил вместе с
сыном Икаром перелет с о. Крит на
побережье Малой Азии, потом в Си-
цилию - 447
Декарт Рене (1596-1650), французский
философ, математик, физик, физио-
лог- 14-19, 23, 26, 78, 120, 305, 442,
515, 573, 674, 817
Делегарди (Делагарди) Якоб (1583-
1652), граф, шведский военный и го-
сударственный деятель, маршал - 586
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831),
поэт, критик, журналист, друг А. С.
Пушкина - 445, 831
Дельдевез Эдуар Мари Эрнест (1817-
1897), французский композитор,
скрипач и дирижер, автор балета
«Пахита» (1846) - 828
Делянов Иван Давыдович (1818-1897),
политический деятель, министр на-
родного просвещения (с 1882) - 597,
752
Деметра, в греческой мифологии боги-
ня плодородия, покровительница зем-
леделия - 826
Демидыч (Никита Демидович Антуфьев)
(1656-1725), родоначальник, органи-
затор строительства металлургичес-
ких заводов на Урале - 774, 783
Демоне, издатель произведений Б. Пас-
каля -33
Демосфен (ок. 384-322 до н. э.), афинс-
кий оратор - 54, 98, 379, 687, 788
Державин Гаврила Романович (1743-
1816), поэт-410, 827
Дестунис Спиридон Юрьевич (1782—
1848), писатель-эллинист, переводчик
-772
Де-Фоэ (Дефо) Даниель (ок. 1660-1731),
английский писатель - 79, 571
Джаншиев Григорий Аветович (1851—
1900), публицист, историк, обще-
ственный деятель, автор работ о ре-
формах 1860—1870-х гг. - 471, 833
Дидеро (Дидро) Дени (1713-1784), фран-
цузский философ-просветитель - 356,
499, 721, 723
Дизраэли Бенджамин, граф Биконсфилд
(1804-1881), английский политичес-
кий деятель и писатель, премьер-ми-
нистр (1868, 1874-1880)- 379
Диккенс Чарлз (1812-1870), английский
писатель - 79
Димитрий Михайлович (1299-1325), ве-
ликий князь Тверской (с 1319) - 647
Дионис (Вакх), в греческой мифологии
бог виноградарства и виноделия -
550, 837
Дионисий Сиракузский (Дионисий I Стар-
ший) (ок. 432-367 до н. э.), тиран (пра-
витель) Сиракуз (с 406) - 69
Дмитриев Иван Иванович (1760-1837),
поэт и государственный деятель - 406
Дмитрий Донской (1350-1389), великий
князь Московский (с 1359) и Влади-
мирский (с 1362), полководец, кано-
низирован - 461, 649
Добролюбов Николай Александрович
(1836-1861), литературный критик,
публицист, постоянный сотрудник
журнала «Современник» - 88,343-345,
524, 544, 550, 560, 561, 686, 782, 836
Достоевский Михаил Михайлович
(1820-1864), писатель, переводчик,
издатель, брат Ф. М. Достоевского -
559, 838
Достоевский Федор Михайлович (1821-
1881), писатель и мыслитель - 35, 37,
38, 40, 132, 262, 269, 273, 308, 334,
335, 360, 374, 392,478, 486, 559-561,
567, 584, 588, 755, 769, 817, 819, 820,
822, 825, 829, 831, 832, 838, 840, 841
Д'Эгильон, герцогиня - 26
Дю-Белли (Белле де), епископ в Руанс-
ком диоцезе - 29, 30
Дюбуа, автор статей о Б. Паскале, во-
шедших в полное издание «Мыслей»
(в 2-х т., 1687)-33
Дювернуа Николай Львович (1836-?),
юрист, профессор С.-Петербургско-
го университета - 362
Дю-Канж (Дюканж) Шарль (1610-
1688), французский византинист и
лингвист - 211
Дютшке Ганс, немецкий писатель - 610
Екатерина II Великая (урожд. Софья
Фредерика Августа Анхальт-Цербст-
ская) (1729-1796), российская импе-
ратрица (с 1762) - 331,356, 358, 364,
373, 379, 497-501, 503, 834, 835
854
Екатерина Медичи (1519-1589), фран-
цузская королева (с 1547), жена Ген-
риха II - 832
Елизавета / Тюдор (1533-1603), англий-
ская королева (с 1558) - 77, 78, 95,
181, 368, 372,498, 722
Елизавета Петровна (1709-1761/1762),
российская императрица (с 1741),
дочь Петра I - 363, 499
Елисей, ветхозаветный пророк, сподвиж-
ник и преемник Илии - 271
Елисеевы, владельцы петербургской
фирмы, державшей в С.-Петербур-
ге, Москве и Киеве магазины по тор-
говле винами - 528
Емельянов-Коханский (наст. фам. Емель-
янов) Александр Николаевич (1871-
1936), поэт, беллетрист, переводчик
- 523, 835, 836
Ермолов Алексей Сергеевич (1847—
1917), государственный и обществен-
ный деятель, ученый-агроном - 378
Еропкин Петр Дмитриевич (1724-1805),
генерал-аншеф, участник Семилетней
войны - 499
Ефрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847-
1919), издатель русского Энциклопе-
дического словаря - 593
Жанна д'Арк (ок. 1412-1431), нацио-
нальная героиня Франции, возглави-
ла борьбу против англичан во време-
на Столетней войны, канонизирована
в 1920- 189, 276
Жонке, аббат - 492, 493
Жорж Занд - см. Санд Ж.
Жуковский Василий Андреевич (1783—
1852), поэт, переводчик, критик - 345,
428, 501, 553, 651, 782, 833, 843
3- Закс Николай Александрович (1842-
1892), директор Елецкой мужской
гимназии (с 1882) - 596, 840
Зайцев Варфоломей Александрович
(1842-1882), публицист и литератур-
ный критик - 544
Зарин (Зорин) Ефим (Евфимий) Федоро-
вич (1829-1892), литературный кри-
тик, переводчик, поэт - 548, 837
Заточников - см. Романов И. Ф.
Захарьин Григорий Антонович (1829-
1897/1898), терапевт, основатель кли-
нической школы - 516, 584
Зевес (Зевс), в греческой мифологии вер-
ховный бог - 330, 472, 668, 837
855
Зенон из Китиона (на о. Кипр) (между
336 и 332-между 264 и 262 до н. э.),
древнегреческий философ - 824
Зертис, автор письма об Аляске - 536,
538
Зороастр (Заратуштра, Заратустра)
(между X и 1-й пол. VI вв. до н. э.),
пророк и реформатор древнеиранс-
кой религии, получившей название
зороастризм - 84
Иаков, в Ветхом Завете патриарх, родо-
начальник двенадцати колен (племен)
Израилевых - 261
Иаков (Яков) //(1633-1701), английский
король (1685-1688), из династии
Стюартов - 370, 371
Ибервег Фридрих (1826-1871), немец-
кий философ - 555, 837
Иван I Калита (до 1296-1340), великий
князь Московский (с 1325), великий
князь Владимирский (1328-1331 и с
1332)- 397, 647
Иван (Иоанн) ///(1440-1505), великий
князь Владимирский и Московский
(с 1462), «государь всея Руси» (с
1478)- 102
Иван (Иоанн) IV Грозный (1530-1584),
первый русский царь (с 1547), из ди-
настии Рюриковичей - 103, 107, 183,
370, 371, 377, 722, 728, 782
Иванов Ал. М., библиотекарь в Брянс-
кой прогимназии - 359
Иванцов Н. А., переводчик «Этики»
Спинозы - 18
Игорь Святославич (1150-1202), князь
Новгород-Северский (с 1178), Чер-
ниговский (с 1198), главный персо-
наж «Слова о полку Игореве» -101,
694
Иезавель (ум. ок. 845 до н. э.), жена из-
раильского царя Ахава, в Ветхом За-
вете изображена как отступившая от
истинного Бога и поклоняющаяся
Ваалу - 437
Израиль, в Ветхом Завете второе имя
патриарха Иакова - 437
Иисус Навин, в Ветхом Завете преемник
Моисея при завоевании земель в Ха-
наане - 715
Иисус Христос - 15, 29, 68, 189, 254,
258, 261, 263, 265, 268, 276, 297, 298,
318, 331, 391, 398, 412, 448, 462, 505,
526, 598, 648, 649, 665, 715
Иисус Сирах, в Ветхом Завете автор Кни-
ги Премудрости Иисуса, сына Сира-
хова — 665
Икар, в греческой мифологии сын Деда-
ла, поднявшийся в небо вместе с от-
цом - 447
Илия, ветхозаветный пророк — 261,271
Иловайский Дмитрий Иванович (1832—
1920), историк, публицист, автор
учебников по всеобщей и русской
истории для гимназий - 346,618,647-
650, 692, 694, 696, 698, 842
Ильминский Николай Иванович (1822-
1891), востоковед, педагог-миссионер
- 792, 794
Иннокентий (Иван Евсеевич Попов-
Вениаминов) (1797-1879), миссионер,
епископ Камчатский, Курильский и
Алеутский (с 1840), митрополит Мос-
ковский и Коломенский (с 1868) - 763,
782
Иоав, двоюродный брат царя Давида,
сын его сводной сестры Саруии, вое-
начальник Давида - 444
Иоанн, в Новом Завете апостол и еван-
гелист - 261
Иоанн //Добрый (1319-1364), француз-
ский король (с 1350), из династии
Валуа - 370
Иоанн (Иван) // Красный (1326-1359),
великий князь Владимирский и Мос-
ковский (с 1354), сын Ивана 1 Кали-
ты; продолжил объединение русских
земель вокруг Москвы - 605, 648
Иоанн Безземельный (1167-1216), анг-
лийский король (с 1199), из династии
Плантагенетов - 748, 824
Иоанн Богослов, в Новом Завете апос-
тол, евангелист - 261
Иоанн Дамаскин (ок. 675-до 753), визан-
тийский богослов, философ и поэт - 111
Иоанн Златоуст (344/354-407), визан-
тийский церковный деятель, пропо-
ведник, архиепископ Константинопо-
ля (с 397) - 111
Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич
Сергиев) (1829-1908/1909), протоие-
рей, настоятель Андреевского собо-
ра в Кронштадте, религиозный писа-
тель, оратор и проповедник, канони-
зирован в 1990 - 493
Иоанникий (Иван Максимович Руднев)
(1826-1900), митрополит Киевский (с
1891) - 493
Иов, ветхозаветный праведник - 228,229,
233, 271, 302,363
Иов, иеромонах - 821
Иродиада, жена Ирода Антипы - 252
Исаков П. Н. -839
Иуда, в Ветхом Завете сын Иакова, ро-
доначальник одного из израильских
колен (племен) - 437
Иуда, в Новом Завете апостол, предав-
ший Христа -280, 286
К - см. Корш В. Ф.
К, ученик Бельской прогимназии - 322
К. В. В-аго, преподаватель в Елецкой
гимназии - 323
К-ский, псевдоним поэта и критика Кон-
стантина Петровича Медведского
(1866-после 1919) - 393, 394, 830
Каблиц Иосиф (Осип) Иванович (псевд.
Юзов) (1848-1893), писатель, публи-
цист - 822
Кавелин Константин Дмитриевич (1818-
1885), историк, правовед, философ,
публицист, общественный деятель -
460, 579, 802
Кавур Камилло Бенсо (1810-1861), граф,
премьер-министр Сардинского коро-
левства (1852-1861, кроме 1859), гла-
ва правительства в едином Итальян-
ском королевстве (1861) - 92
Казимир-Перье Жан-Пьер-Поль (1847-
?), французский государственный
деятель, президент республики
(1894-янв. 1895) - 368
Казотт Жак (1719-1792), французский
писатель - 825
Каиафа Иосиф, иудейский первосвящен-
ник, назначенный римлянами в 18-37
-478
Каин, в Ветхом Завете сын Адама и Евы,
убивший своего брата Авеля - 468
Калачов Николай Васильевич (1819—
1885), историк, правовед, археограф,
архивист - 460
Калмыкова (урожд. Чернова) Алексан-
дра Михайловна (1849-?), деятельни-
ца народного образования, публи-
цист, библиограф, издательница -575,
576
Кальвин Жан (1509-1564), деятель Ре-
формации, основатель кальвинизма -
580, 675
Кальдерон де ла Барка Педро (1600—
1681), испанский драматург - 78, 518
856
Камоэнс (Камоинш) Луиш ди (1524 или
1525-1580), португальский поэт-445
Кант Иммануил (1724-1804), немецкий
философ - 56, 79, 180, 287, 555, 661,
721
Кантемир Антиох Дмитриевич (1708-
1744), поэт, дипломат, просветитель
-455, 457, 522, 674
Капнист Василий Васильевич (1758-
1823), драматург и поэт - 587
Каракалла (186-217), римский импера-
тор (с 211), из династии Северов -
642
Карамзин Николай Михайлович (1766-
1826), историк и писатель - 318, 341,
345, 367, 501, 648, 652, 662, 678, 776,
779, 782, 807-809
Кареев Николай Иванович (1850-1931),
историк и социолог - 452
Карамазов, родственник Яралова - 471
Карл I (1600-1649), английский король
(с 1625), из династии Стюартов - 370,
371
Карл V (1500-1558), император «Свя-
щенной Римской империи» (1519-
1556), испанский король (Карлос I )
(1516-1556), из династии Габсбургов
- 77, 78, 623, 748
Карл VI Безумный (1368-1422), фран-
цузский король (с 1380), из династии
Валуа - 370
Карл VIII (1470-1498), французский ко-
роль (1483-1498) - 748
Карл IX (1550-1574), французский ко-
роль (с 1560), из династии Валуа -
370
Карл X(1757-1836), французский король
(1824-1830), из династии Бурбонов
- 370, 371,407
Карл XII (1682-1718), король Швеции
(с 1697), из династии Пфальц-Цвайб-
рюккен, полководец - 599
Карл Великий (742-814), франкский ко-
роль (с 768), император (с 800), из
династии Каролингов - 60, 69, 83, 84,
89, 350, 354. 370
Карлейль Томас (1795-1881), английский
публицист, историк и философ - 402
Карно Мари Франсуа Сади (1837-1894),
французский государственный дея-
тель, президент республики (с 1887)
- 303, 309, 551
Каро Эльм, французский философ, кри-
тик и публицист - 22
Карпов Андрей, ученик Брянской про-
гимназии - 762
Катилина (ок. 108-62 до н. э.), римский
политический деятель, заговорщик,
разоблаченный Цицероном - 438,
441, 443, 771
Катков Михаил Никифорович (1818—
1887), публицист, критик, издатель
журнала «Русский Вестник» и газе-
ты «Московские Ведомости» - 280,
348, 446, 448, 579, 583, 585, 591, 605,
606, 765, 773-778, 780-783, 822, 841,
844
Катон Старший (234-149 до н. э.) и
Младший (95^46 до н. э.), римские
политические деятели - 438, 590
Кашперов (Кашпирев) Василий Влади-
мирович (1835-1875), издатель, пуб-
лицист, переводчик - 560, 838
Кеплер Иоганн (1571-1630), немецкий
астроном - 13, 129, 651
Кимон (ок. 504^449 до н. э.), афинский
полководец, одержавший крупные
победы во время греко-персидских
войн (при Эвримедонте, 469, и др.) -
185, 422
Киприан (ок. 1336—1406), митрополит
Московский и Всея Руси, канонизи-
рован - 649
Киприда, в греческой мифологии одно
из имен Афродиты, указывающее на
место ее рождения из морской пены
возле Кипра - 210
Кир II Великий (7-530 до н. э.), первый
царь (с 558 до н. э.) государства Ахе-
менидов - 60, 473, 496, 710, 842
Киреев Александр Алексеевич (1833-
1910), генерал от кавалерии, публи-
цист, участник Религиозно-философ-
ских собраний - 578
Киреевский Иван Васильевич (1806-
1856), философ, литературный кри-
тик, публицист - 268, 499, 560, 809
Киреевский Петр Васильевич (1 SOS-
1856), фольклорист, археограф, пуб-
лицист - 560, 809
Кирилл Туровский (ок. 1130-х гг- не по-
зднее 1182), древнерусский писатель,
проповедник, епископ г. Туров (ок.
1169), канонизирован - 782
Клавдий (полное имя Тиберий Клавдий
Нерон Германик) (10 до н. э.-54 н. э.),
римский император (с 41), из динас-
тии Юлиев-Клавдиев - 67
857
Клеарх из Кипра, ученик Аристотеля -
712, 715
Клименков Степан Иванович, субинс-
пектор Московского университета -
409
Клименкова Ольга Семеновна, жена
С. И. Клименкова - 409-411
Климент Зедергольм (Карл Густав
Адольф Зедергольм, после принятия
православия Константин Карлович)
(ок. 1830-1878), иеромонах Оптиной
пустыни, религиозный писатель, пе-
реводчик - 446
Клисфен (VI в. до н. э.), законодатель в
Афинах - 799
Клопшток Фридрих Готлиб (1724-
1803), немецкий поэт Просвещения -
159, 219
Клотильда, святая (ок. 475-545), жена
короля салических франков Хлодви-
га I, принявшая христианство - 727
Ключевский Василий Осипович (1841-
1911), историк, публицист, профес-
сор Московского университета,
профессор русской истории Мос-
ковской духовной академии - 210,
763, 823
Ковалевский Максим Максимович
(1851-1916), историк, юрист, социо-
лог, общественный деятель - 367
Кокорев Иван Тимофеевич (1826-1853),
писатель из народной жизни, сотруд-
ник журнала «Москвитянин» - 459
Кокшаров Николай Иванович (1818-
1892/1893), минералог и кристалло-
граф, академик, директор Минерало-
гического общества (с 1865) - 121
Коленко, управляющий Воронежской
губернией - 465-467
Колесников, ученик гимназии - 728
Колубовский Яков Николаевич (1863-?),
философ и историк русской филосо-
фии, редактор «Вопросов Философии
и Психологии», автор писем к Роза-
нову (1890-1909)-555, 556, 579, 582,
837, 838, 840
Колумб Христофор (1451-1506), испан-
ский мореплаватель, родом из Генуи
- 387, 625
Кольбер Жан Батист (1619-1683), гене-
ральный контролер (министр) финан-
сов Франции (с 1665) - 369, 372
Кольцов Алексей Васильевич (1809-
1842), поэт-430, 432, 566, 782
Коммин (Комин) Филипп де (1447-1511),
французский государственный дея-
тель, писатель - 366
Коммод (161-192), римский император
(с 180), из династии Антонинов - 575
Конде Луи II Бурбон (1621-1686),
принц, французский полководец -
305
Кондорсе Жан Антуан Никола (1743-
1794), маркиз, французский фило-
соф-просветитель, математик, социо-
лог, политический деятель - 78
Кононов, сын кузнеца - 717
Константин I Великий (ок. 285-337),
римский император (с 306) - 76, 110,
468, 623
Конт Огюст (1798-1857), французский
философ и социолог - 129, 216, 555,
581
Коперник Николай (1473-1543),
польский астроном - 228, 624, 651
Коперус - 18
Кордеро Грациан, переводчик «Провин-
циальных писем» Б. Паскаля на ис-
панский язык - 32
Кориолан Гней Марций (V в. до н. э.),
легендарный римский патриций и пол-
ководец - 484, 554, 650, 834
Коркунов Николай Михайлович (1853-
1904), юрист, профессор государ-
ственного права Петербургского
университета - 361
Корнелий Непот (между 99 и 24 до н.
э.), римский писатель - 713
Корнелий Римский (Корнелий), святой,
римский епископ (с марта 251 до июня
253) - 378
Короленко Владимир Галактионович
(1853-1921), писатель, публицист,
общественный деятель - 561, 838
Корф Модест Андреевич (1800-1872),
государственный деятель, член Госу-
дарственного совета (с 1843) - 357
754
Корш Валентин Федорович (1828-1883),
журналист, публицист, историк лите-
ратуры, переводчик -831
Корш Мария Валентиновна, переводчи-
ца, дочь В. Ф. Корша - 610
Кост, французский переводчик Локка
и его биограф - 16
Котошихин Григорий Карпович (ок.
1630-1667), подьячий Посольского
приказа, в 1664 г. бежал в Литву, за-
858
тем в Швецию - 375, 418, 421, 422,
618, 694, 782
Коханов А. С., генерал-адмирал, член
Государственного совета - 553
Кохановская Н. (наст, имя и фам. Надеж-
да Степановна Соханская) (1823/
1825-1884), писательница - 40
Кошелев Александр Иванович (1806-
1883), публицист, журналист, мемуа-
рист, общественный деятель - 450,
831
Крейман Франц Иванович (1828-1902),
педагог, директор частной гимназии
в Москве - 662
Кремер Яков Иванович (7—1903), педа-
гог, переводчик, автор «Латинской
грамматики» - 533
Крижанич (Крыжанич) Юрий (ок. 1618-
1683), ученый-энциклопедист, писа-
тель, языковед; по происхождению
хорват - 782
Кромвель Оливер (1599-1658), деятель
Английской революции, лорд-про-
тектор (военный диктатор) (с 1653) -
14, 371
Кронеберг Иван Яковлевич (1788-1839),
русский лексикограф - 613
Круглов Александр Васильевич (1852—
1915), прозаик, поэт, журналист, ме-
муарист - 819, 845
Крылов Иван Андреевич (1769-1844),
баснописец-782
Крюков Адриан Александрович (1849—
1908), офтальмолог, организатор мос-
ковского офтальмологического обще-
ства (1878) - 516
Ксенофонт (ок. 430-355 или 354 до н. э.),
древнегреческий писатель и историк
-712, 842
Ксеркс I (?-465 до н. э.), царь государ-
ства Ахеменидов (с 486) - 62
Ксюнин, сын мещанина - 717
Кудрявцев Константин Иванович, това-
рищ Розанова по Нижегородской
гимназии - 842
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—
1858), историк, писатель, литератур-
ный критик - 454,802
Кук Джеймс (1728-1779), английский
мореплаватель - 388
Курбский Андрей Михайлович (1528—
1583), князь, государственный дея-
тель, писатель, переводчик, бежал в
Литву (1564) - 103, 371, 375, 728, 782
Куртин Михаил, сектант-фанатик, убив-
ший своего сына - 333
Курциус Эрнст (1814-1896), немецкий
историк античности, археолог - 761
Кутузов Михаил Илларионович (1745-
1813), полководец, генерал-фельд-
маршал - 392, 832
Кювье Жорж (1769-1832), французский
зоолог - 529
Кюнер Рафаэль (1802-1878), немецкий
филолог-классик, педагог - 772
Л., соседка по имению Леонтьевых в Ку-
динове - 445, 449
Лавров Петр Лаврович (1823-1900),
философ, социолог, публицист, тео-
ретик революционного народниче-
ства - 546, 548, 837, 842
Лагарп Жан-Франсуа де (1740-1803),
французский писатель, критик - 641,
825
Ладожский Н. (псевд. публициста Вла-
димира Карловича Петерсена) - 526,
527, 529, 835, 836
Лазарев Михаил Петрович (1788-1851),
флотоводец и мореплаватель, главно-
командующий Черноморского флота
и портов Черного моря (с 1833) -471,
473
Лазарь, в Новом Завете житель Вифа-
нии (селение около Иерусалима), вос-
крешенный Иисусом Христом - 176—
178, 184, 422—424
Ламене (Ламенне) Фелисите Робер де
(1782-1854), французский публицист,
религиозный философ, аббат - 411
Ланкастер Джозеф (1778-1838) и Белль
Андрю (1753-1832), английские пе-
дагоги, разработавшие белл-ланкас-
терскую систему обучения (взаимное
обучение) - 343
Лаплас Пьер Симон (1749-1827), фран-
цузский астроном, математик, физик
- 129, 359, 529
Лассаль Фердинанд (1825-1864), немец-
кий социалист, философ, публицист-
316
Ла-Фонтен (Лафонтен) Жан де (1621—
1695), французский писатель - 524
Лебедев, автор учебника по географии
России - 750
Лебрен (урожд. Виже) Елизабета-Луиза
де (1755-1842), французская портре-
тистка - 421
859
Лев X (Джованни де Медичи) (1475-
1521), папа римский (с 1513) - 78
Лев XIII (1810-1903), папа римский (с
1878)- 298
Левит, муж убитой женщины (Суд. 20 :
4)-437
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—
1716), немецкий философ, математик,
физик, языковед - 14, 16, 17, 20, 23,
27, 56, 442, 573, 677
Лелевель Иоахим (1786-1861), идеолог
польского освободительного движе-
ния, историк - 503
Леонардо да Винчи (1452-1519), италь-
янский живописец, скульптор, архи-
тектор, ученый, инженер - 78, 638
Леонид (508/507-480 до н. э.), царь Спар-
ты (с 488 до н. э.) - 62
Леонкавалло Руджеро (1857-1919), ита-
льянский композитор - 828
Леонтьев Константин Николаевич (1831-
1891), философ, публицист, духов-
ный писатель, литературный критик
- 35-ЛО, 42—44, 46, 48, 56, 58-62, 77-
79, 81-83, 87, 91, 93, 96, 99-101, 104,
107-109, 111,398, 428, 445, 446, 449,
451,454, 478, 554, 567, 578, 581, 582,
605, 606, 824, 831, 844
Леонтьев Павел Михайлович (1822—
1874), публицист, профессор гречес-
кой словесности Московского уни-
верситета - 765, 775, 776
Леонтьева (урожд. Политова) Лизавета
(Елизавета) Павловна, жена К. Н. Ле-
онтьева - 447
Леонтьева Мария Владимировна (1848-
1927), племянница К. Н. Леонтьева-
446
Ле-Палье (Ле Пайер) (7-1654), француз-
ский математик, член кружка Мер-
сенна - 25, 26
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-
1841), поэт и прозаик - 221,335, 343,
345, 346, 353, 412, 515, 549, 782, 825,
830, 831, 837
Леру Пьер (1797-1871), французский
философ - 148
Леруа, французский живописец - 421
Леруа-Белье (Леруа-Болье) Анатоль
(1842—7), французский публицист -
486
Лесевич Владимир Викторович (1837-
1905), философ, публицист, обще-
ственный деятель - 269, 281
Лессепс Фердинанд (1805-1894), фран-
цузский дипломат - 769
Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781),
немецкий драматург, теоретик искус-
ства - 331
Лешко (Лешко Белый) (ок. 1188-1227),
князь сандомирский (с 1194), краков-
ский (с 1206) - 769
Ливий Тит (59 до н. э.-17 н. э.), римский
историк - 625, 668, 670, 698
Ликург (IX-VIII вв. до н. э.), легендар-
ный древнегреческий (спартанский)
законодатель - 54
Линней Карл (1707-1778), шведский ес-
тествоиспытатель - 442, 529
Липсиус (Лепсиус) Карл Рихард (1810-
1884), немецкий египтолог - 761
Литтре Эмиль (1801-1881), французс-
кий философ и филолог - 360
Лициний (ок. 250-325), римский импе-
ратор (308-324) - 665, 714, 799
Лициния и Секстия законы, в Древнем
Риме, проведены в интересах плебса
народными трибунами Лицинием
Столоном и Секстием Латераном (со-
гласно традиции, в 367 до н. э.) - 714
Лобачевский Николай Иванович (1792-
1856), математик, создатель неевкли-
довой геометрии, названной его име-
нем - 366
Ловеррье, астроном, открыл планету
Нептун - 461
Лойола Игнатий (ок. 1491-1556), осно-
ватель ордена иезуитов - 586
Локк Джон (1632-1704), английский фи-
лософ - 13, 14, 16, 20/79, 467, 629,
721
Ломброзо Чезаре (1835-1909), итальян-
ский судебный психиатр и кримина-
лист - 452, 819, 843
Ломоносов Михаил Васильевич (1711-
1765), естествоиспытатель, поэт, ху-
дожник, историк, общественный дея-
тель - 356, 362-366, 733, 774, 782
790, 797, 811
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920),
философ и писатель - 210
Лопе де Вега - см. Вега Карпьо Л. Ф. дс
Лоренцо Валла (1405 или 1407-1457),
итальянский гуманист - 634
Лорис-Меликов Михаил Тарислович
(1825-1888), граф, военный и поли-
тический деятель, министр внутрен-
них дел (1880-1881)- 447, 450, 451
Лоуд-Ь\Ь
860
Лувуа, чиновник - 369
Луи-Блан - см. Блан Л.
Луи Филипп (1773-1850), французский
король (1830-1848), из младшей
(Орлеанской) ветви династии Бурбо-
нов - 370, 485
Лука, в Новом Завете евангелист - 261,
566
Лукреция, жена Луция Тарквиния Кол-
латина, обесчещенная Секстом, заста-
вив отца и мужа поклясться отомстить
преступнику, заколола себя на их гла-
зах - 444
Лучицкий Иван Васильевич (1845-1918),
историк - 367
Льюис Джордж Генри (1817-1878), анг-
лийский писатель, философ, критик -
555
Любимов Николай Алексеевич (1830-
1897), ученый-физик, публицист, де-
ятель народного просвещения, исто-
рик - 18, 19, 709
Любомудров Аркадий, ученик Брянской
прогимназии - 761,762
Людмила, святая (?-927), блаженная,
супруга христианского князя Чехии
Боривого - 727
Людовик IX, святой (1214-1270), фран-
цузский король (с 1226), из династии
Капетингов - 70, 371
Людовик XI (1423-1483), французский
король (с 1461), из династии Валуа -
77, 148, 183, 304
Людовик XII (1462-1515), французский
король (с 1498), из династии Валуа -
748
Людовик XIV {1638-1715), французский
король (с 1643), из династии Бурбо-
нов - 13, 14, 60, 70, 77, 78, 181, 207,
368, 486, 490, 524, 595, 599
Людовик XV (1710-1774), французский
король (с 1715), из династии Бурбо-
нов - 60, 78, 408, 524
Людовик XVI (1754-1793), французский
король (1774-1792), из династии Бур-
бонов - 78, 207, 304, 370
Людовик XVII (Карл) (1785-1845), гер-
цог нормандский, второй сын Людо-
вика XVI и королевы Марии Антуа-
нетты - 3 72
Людовик XVIII (1755-1824), французс-
кий король (1814-1815 и 1815-1824),
из династии Бурбонов - 372
Людовик XIX- 372
Людовик Сотело, францисканский мо-
нах - 298
Лютер Мартин (1483—1546), немецкий
религиозный реформатор - 78, 296,
580, 675, 722, 723, 733
Ляйэль (Лайель) Чарлз (1797-1875), ан-
глийский естествоиспытатель - 527
М-н, товарищ по Нижегородской гимна-
зии - 686
Магомет (Мохаммед, Мухаммед) (ок.
570-632), основатель ислама, в ко-
тором почитается как пророк, глава
первого теократического мусуль-
манского государства (с 630) - 276,
302
Мазаев Михаил Николаевич (1869-?),
редактор «Сочинений К. Ф. Рылее-
ва» - 374
Мазарини Джулио (1602—1661), карди-
нал (с 1641), первый министр Фран-
ции (с 1643)- 14, 78
Мазилье Жозеф (наст, имя и фам. Джу-
лио Мазарини) (1801-1868), фран-
цузский артист, балетмейстер (с 1839)
-828
Майков Аполлон Николаевич (1821-
1897), поэт, писатель - 563, 564, 569,
839
Макиавелли Никколо (1469-1527), ита-
льянский политический мыслитель и
историк - 449
Маклаков Алексей Николаевич (1837-
1905), врач-окулист - 516
Мак-Магон Патрис (1808-1893), фран-
цузский военный и политический дея-
тель, маршал (1859), президент Фран-
ции (1873-1879) -840
Маколей Томас Бабингтон (1800-1859),
английский историк - 70, 324, 817
Максимов Сергей Васильевич (1831-
1901), писатель, этнограф - 836
Малебрати (Мальбранш) Никола (1638-
1715), французский философ - 16
Мальборо Джон Черчилл (1650-1722),
английский полководец и государ-
ственный деятель - 779
Мальтус Томас Роберт (1766-1834), ан-
глийский экономист - 317, 653
Мальцев (Мальцов) Сергей Иванович
(1810-1893), генерал-майор, про-
мышленник, основал чугунолитейные
и стеклоплавильные заводы - 332,
784
861
Малюта Скуратов (прозвище Григория
Лукьяновича Скуратова-Бельского)
(7-1573), думный дворянин, прибли-
женный Ивана IV Грозного, глава оп-
ричного террора - 548
Мамай (ум. 1380), военачальник, фак-
тический правитель Золотой Орды,
организатор походов в русские зем-
ли, после поражения в Куликовской
битве, потеряв власть, был убит -
377, 649, 821
Мамонтов Савва Иванович (1841-
1918), промышленник и меценат - 462
Манштейн Кристоф Герман (1711-
1757), мемуарист, выходец из Прус-
сии, автор «Записок о России, 1727-
1744»-768
Марий Гай (ок. 157-86 до н. э.), римский
полководец, консул (107, 104-101,
100, 86 до н. э.) - 98
Мария Египетская, святая (ум. ок. 522),
великая христианская подвижница,
проведшая в пустыне 47 лет, выма-
ливая у Бога прощение за грехи юно-
сти - 466, 764
. !арк Аврелий - см. Аврелий
. ,!арко-Вовчок — см. Вовчок М.
Маркс Карл (1818-1883), немецкий мыс-
литель, основатель коммунистической
теории, названной его именем - 309,
314
Мартен Бон-Луи-Анри Мартин (1810—
1883), французский историк - 461
Массильон (Массийон) Жан Батист
(1663-1743), французский проповед-
ник, епископ Клермонский (с 1717)-
305, 360
Масэ (Масе) Жан (1815-1894), фран-
цузский писатель - 817
Матвеев Павел Александрович (1844-
?), писатель - 832
Матфей, в Новом Завете апостол и еван-
гелист - 493, 507, 840, 844
Медведев А. А. - 826
Медичи Козимо Старший (1389-1464),
правитель Флоренции (с 1434) - 78
Медичи Лоренцо (Лоренцо Великолеп-
ный) (1449-1492), правитель Флорен-
ции (с 1469), поэт - 78
Мейер Людовик, доктор философии и
медицины, врач - 16
Меланхтон Филипп (1497-1560), немец-
кий протестанский богослов и педа-
гог, сподвижник М. Лютера - 675, 723
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—
1907), химик, педагог, общественный
деятель - 344
Мендельсон Мозес (1729-1786), немец-
кий философ-просветитель - 360
Ментор, воспитатель Телемаха, сына
Одиссея; в переносном смысле - на-
ставник, руководитель - 721
Меншиков Александр Данилович (1673-
1729), сподвижник Петра I, генера-
лиссимус (1727) - 107
Мережковский Дмитрий Сергеевич
(1865-1941), писатель, публицист,
философ, общественный деятель -
281, 517, 520, 522, 536, 835, 836
Мерке (Мерк) Иоганн Генрих (1741-
1791), немецкий литератор, особенно
известный дружбою с Гёте - 219,233,
234
Меркурий, святой мученик - 649
Меркушев М., владелец типографии в
Петербурге -841
Мерсенн Марен (1588-1648), француз-
ский математик и философ - 26
Месмер Франц Антон (1734-1815), ав-
стрийский врач -421
Местр Жозеф Мари де (1753-1821),
французский публицист, религиоз-
ный философ - 524
Меттерних (Меттерних-Виннебург)
Клеменс (1773-1859), австрийский
политический деятель, министр ино-
странных дел (с 1809), канцлер (1821—
1848)-473
Мечников Илья Ильич (1845-1916), био-
лог, патолог, эмбриолог - 212
Мещерский Владимир Петрович (1839—
1914), князь, публицист, издатель и
редактор газеты-журнала «Гражда-
нин»-561, 775, 777, 780
Мидорон (Мидорж) Клод (1585-1647),
французский математик - 26
Микель Анджело (Микеланджело) Буо-
нарроти (1475-1564), итальянский
скульптор, живописец, архитектор,
поэт - 78, 188, 638
Микулич Вера (наст, имя и фам. Лидия
Ивановна Веселитская-Божидарович)
(1857-1936), писательница, перевод-
чица - 839
Милль Джон Стюарт (1806-1873), анг-
лийский философ, экономист, обще-
ственный деятель - 144, 151,216,271
401. 555
862
Милославский Илья, московский дворя-
нин - 419
Мильтон Джон (1608-1674), английский
поэт, публицист, политический дея-
тель - 13, 16, 78
Милюков Павел Николаевич (1859—
1943), историк, публицист, обще-
ственный деятель, один из лидеров
кадетской партии, депутат 3-й и 4-й
Государственных дум - 271
Минерва, в римской мифологии богиня,
покровительница ремесел и искусст-
ва-721
Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич
(ум. 1616), нижегородский посадский
человек, один из руководителей борь-
бы русского народа против польских
интервентов в начале XVII в. - 605
Миних Бурхард Кристоф (Христофор
Антонович) (1683-1767), военный и
политический деятель, генерал-фель-
дмаршал - 774
Мирабо (Оноре Габриель Рикети) (1749-
1791), граф, деятель Французской
революции - 75
Митчель (Митчелл) Томас (1792-1855),
английский исследователь Австралии -
346
Михаил, архангел, глава небесного воин-
ства, в христианской традиции - ан-
гел-хранитель церкви - 229
Михайловский Виктор, публицист, редак-
тор журнала «Критическое Обозре-
ние» - 366
Михайловский Николай Константинович
(1842-1904), социолог, публицист,
литературный критик, идеолог на-
родничества - 212, 456,457, 524,565,
569, 575, 576, 835, 842
Мицкевич Адам (1798-1855), польский
поэт, деятель освободительного дви-
жения - 502
Мните Жюль (1798-1874), французский
историк - 70
Младое П., законоучитель, сотрудник С.
А. Рачинского - 383
Модестов Василий Иванович (1839-
1907), филолог-классик, публицист,
историк - 18, 765
Моисей, в Ветхом Завете предводитель
израильских племен, основатель иуда-
изма, пророк - 68, 188, 261,266, 267,
463, 487, 506, 572
Мольер (наст, имя и фам. Жан Батист
Поклен) (1622-1673), французский
комедиограф, актер, театральный де-
ятель - 305, 840
Моммзен Теодор (1817-1903), немецкий
историк - 361, 401, 761, 817
Монгольфьеры (Монгольфье), братья:
Жозеф Мишель (1740-1810) и Жак
Этьен (1745-1799), французские
изобретатели воздушного шара - 421
Монтегацца (Мантегацца) Паоло (1831-
1911), итальянский врач, гигиенист,
физиолог, антрополог - 452
Монтескьё Шарль Луи де Секонда, ба-
рон де Ла Бред (1689-1755), фран-
цузский правовед, философ, просве-
титель - 367, 449
Мор Фридрих (1806-1879), немецкий
ученый, автор книги «История зем-
ли. Геология на новых основаниях» -
345
Мордовцев Даниил Лукич (1830-1905),
прозаик, публицист, историк - 452
Морозов Савва Тимофеевич (1862-
1905), промышленник и меценат -
462, 821
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791),
австрийский композитор - 426
Мстислав Мстиславич Удалой (7-1228),
князь Торопецкий, Новгородский и
Талицкий - 109, 379
Мстислав Ростиславич Храбрый, князь
Смоленский - 109, 379
Муравьев Михаил Николаевич (1796-
1866), генерал от инфантерии, граф
(1865), министр государственных
имуществ (1857-1861), генерал-гу-
бернатор Северо-Западного края
(1863-1865)- 553, 837
Муравьев-Апостол Матвей Иванович
(1793-1886), декабрист, один из ос-
нователей тайных обществ «Союз спа-
сения» и «Союз благоденствия» - 830
Муравьев-Виленский Михаил Николае-
вич (1796-1866), граф, государствен-
ный деятель - 483—485, 834
Мурильо Бартоломе Эстебан (1618-
1682), испанский живописец - 78
Я. Г-801
Навуходоносор (Навуходоносор) II, ва-
вилонский царь (605-562 до н. э.) -
525
Надеждин Николай Иванович (1804—
1856), критик, эстетик, издатель жур-
нала «Телескоп» - 409, 410
863
Надсон Семен Яковлевич (1862-1887),
поэт - 567
Нансен Фритьоф (1861-1930), норвеж-
ский исследователь Арктики - 529
Наполеон / (Наполеон Бонапарт) (1769-
1821), французский император
(1804-1814, март-июнь 1815) - 13,
77, 367, 375, 379, 485
Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт)
(1808-1873), французский император
(1852-1870)-370, 410, 486
Начикетас,* ведийской мифологии ге-
рой, посетивший царство мертвых и
выведавший у бога Ямы священные
тайны и философские истины - 672
Некрасов Николай Алексеевич (1821-
1877/1878), поэт, прозаик, обществен-
ный деятель - 324, 375,430-433, 524,
545, 567, 584, 587, 650, 781, 831, 832,
836, 840
Нерон Клавдий Цезарь (37-68), римс-
кий император (с 54), из династии
Юлиев-Клавдиев - 66, 484
Нестор (XI-нач. XII в.), древнерусский
писатель, летописец, монах Киево-
Печерского монастыря - 782
Нефедьев Г. В. -836
Нибур Бартольд Георг (1776-1831), не-
мецкий историк античности - 79, 464
Никанор (Александр Иванович Бровко-
вич) (1827-1890), философ, публи-
цист, религиозный писатель, архи-
епископ Херсонский и Одесский (с
1886) -823
Никий (ок. 469-413 до н. э.), афинский
стратег - 159
Никодим, в Новом Завете фарисей, член
синедриона, интересовался учением
Христа - 68
Николай, епископ Алеутский и Аляскин-
ский - 539
Николай, слуга в семье Леонтьевых -
446, 447
Николай I (1796-1855), российский им-
ператор (с 1825) - 93, 181, 336, 375,
458, 491, 492, 602, 802
Николай II (1868-1918), российский им-
ператор (1894-1917) - 348, 541, 551,
552, 781, 829, 833, 837
Николай V, римский папа (1447-1455) -
78, 635
Николай Александрович (1843-1865), ве-
ликий князь, наследник-цесаревич, сын
императора Александра II - 773, 781
Николай И-цкий, священник в Брянске
-466
Николай Федорович, преподаватель
Брянской прогимназии - 359
Николай Чудотворец (Николай Мирли-
кийский) (ок. 260-ок. 343), епископ г.
Миры в Ликии (Малая Азия), облик
которого в значительной степени ми-
фологизирован - 492, 522
Николь Пьер (псевд. Вильгельм Венд-
рок) (1625-1695), французский мо-
ралист и богослов - 32
Никольский Михаил Васильевич (1848-
1917), востоковед, семитолог, шуме-
ролог и урартолог - 464
Никон (Никита Минов) (1605-1681),
патриарх Московский и Всея Руси (с
1652), митрополит Новгородский
(1649-1652), провел церковные ре-
формы, вызвавшие раскол Русской
православной церкви - 332, 335, 358,
493
Нил Сорский (Николай Майков) (ок.
1433-1508), богослов, глава нестяжа-
тельства в России, основатель монас-
тыря на реке Соре - 568
Новиков Николай Иванович (1744-1818),
писатель, журналист, издатель, про-
светитель - 345, 374, 678
Норов Авраам Сергеевич (1795-1869),
государственный деятель, коллекцио-
нер; собрание рукописей и библиотеку
продал Румянцевскому музею - 211
Ностродам (Нострадамус) (Мишель дс
Нотрдам) (1503-1566), французский
врач и астролог - 238
Нотович Осип (Иосиф) Константинович
(1847, по др. сведениям 1849-1914),
писатель, публицист, издатель газеты
«Новости и Биржевая Газета» - 452,
453,456, 761, 843
Ньютон Исаак (1643-1727), английский
математик, механик, астроном, физик,
создатель классической механики - 14,
16, 17, 19, 32, 79, 86, 89, 118, 180,
209, 526, 527, 529, 772, 811, 817
Овидий (Публий Овидий Назон) (43 до
н. э.-ок. 18 и. э.), римский поэт - 360,
514, 711, 782
Овсянников Николай Николаевич (1834-
1912), публицист, историк, педагог,
инспектор Нижегородской гимназии,
когда в ней учился Розанов - 321
864
Огарев Николай Платонович (1813-
1877), поэт, публицист, общественный
деятель - 828
Одиссей, в греческой мифологии царь
острова Итака, славившийся умом и
хитростью - 771
Октавиан - см. Август
Олег (ум. 912), князь Новгородский (с
879), Киевский (с 882) - 266
Олег Святославич (?-1115), древнерус-
ский князь, княжил в Ростово-Суз-
дальской земле, на Волыни; в «Слове
о полку Игореве» прозван Горисла-
вичем - 109
Ольга, святая (ок. 890-969), жена киев-
ского князя Игоря, принявшая хрис-
тианство - 727
Ом Георг Симон (1787-1854), немецкий
физик - 595
Ор - см. Шперк Ф. Э.
Ор-ский, товарищ по Нижегородской
гимназии - 686
Оранская династия, княжеская, а в ли-
нии Оранских-Нассау и королевская
фамилия, получившая название от
княжества Оранж в Южной Франции,
перешедшего в XVI в. к владетелям
немецкого графства Нассау - 78
Оржевский П. С., генерал от кавалерии,
виленский генерал-губернатор - 553
Ориген (ок. 185-253/254), раннехристи-
анский теолог, философ, филолог -
271
Орловы, братья: Алексей Григорьевич
(1737-1807/1808), граф, генерал-
аншеф, один из главных участников
дворцового переворота (1762), за
победы у Наварина и Чесмы (1770)
получил титул Чесменского; Григо-
рий Григорьевич (1734-1783),
граф, фаворит Екатерины II, один
из организаторов дворцового пере-
ворота, генерал-фельдцейхмейстср
русской армии (1765-1775) - 356,
498
Ормузд (Ормазд, Ахурамазда), в иранс-
кой мифологии верховное божество
-61
Осокин Михаил Ионович (между 1819 и
1822-1876), этнограф, прозаик, про-
тоиерей (с 1873) - 324
Остерман Андрей Иванович (1686-
1747), государственный деятель, дип-
ломат, граф (с 1730) - 107
Островский Александр Николаевич
(1823-1886), драматург - 360, 486,
650, 776, 781, 782, 821, 827, 844
Острогорский Алексей Николаевич
(1840-1917), педагог, писатель, редак-
тор педагогического журнала «Детс-
кое Чтение» и «Педагогического
Сборника» - 425, 821, 845
Острогорский Виктор Петрович (1840—
1902), педагог, литератор, редактор
педагогического журнала «Детское
Чтение» - 545, 546, 821, 836
Остромир, новгородский княжеский
посадник (с 1054), воевода, заказчик
Остромирова Евангелия - 712, 782
Отис - 816
П., законоучитель в гимназии - 597
П., знакомый Розанова - 815
Павел, в Новом Завете апостол - 298,
715
Павел I (1754-1801), российский импе-
ратор (с 1796) - 331, 364
Павзаний (Павсаний), царь Спарты (480-
467 до н. э.) - 633
Павленков Флорентий Федорович(1839-
1900), книгоиздатель - 452, 456
Павлов - 793
Панин Виктор Никитич (1801-1874),
граф, государственный деятель; свою
библиотеку пожертвовал в Москов-
ский Публичный и Румянцевский
музеи - 211
Панин Никита Иванович (1718-1783),
государственный деятель, дипломат,
автор конституционных проектов,
воспитатель Павла I - 498, 501
Панин Петр Иванович (1721-1789),
граф, генерал-аншеф, участник Семи-
летней и русско-турецкой войн, брат
Н. И. Панина - 498
Пантелеев Лонгин Федорович (1840-
1919), общественный деятель, изда-
тель научной литературы в С.-Петер-
бурге (1877-1907)- 555
Парацельс (наст, имя и фам. Филипп
Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гоген-
гейм) (1493-1541), врач и естество-
испытатель - 622, 687, 689, 764
Парсефона (Персефона), в греческой
мифологии богиня плодородия и
царства мертвых - 826
Парфений (Петр Агеев) (1807-1878, по
др. данным 1868), иеромонах, рели-
865
гиозный писатель, мемуарист - 427,
732, 843
Паскаль Блез (1623-1662), французский
математик, физик, философ, писатель -
12, 14, 16, 19, 21-34, 78, 150, 167,
824
Паскаль Жакелен (Жаклина) (1625—
1661), аббатиса, младшая сестра Б. Пас-
каля - 26, 30
Паскаль Этьенн (Этьен) (1588-1651),
французский математик, отец Б. Пас-
каля - 23-27
Паскевич Иван Федорович (1782-1856),
генерал-фельдмаршал, руководил
подавлением Венгерской революции
(1848-1849) - 833
Пастер Луи (1822-1895), французский
микробиолог - 399, 401, 817,818
Пастрана Юлия (1834-1860) - 735
Пеллико Сильвио (1789-1854), итальян-
ский поэт, публицист - 567, 839
Пенкин Иван Игнатьевич, инспектор
Брянской прогимназии во время ра-
боты там Розанова, а затем (с 1887)
инспектор Елецкой гимназии, колле-
га Розанова - 360
Нервов Павел Дмитриевич (1860-1929),
филолог, переводчик, коллега Роза-
нова по Елецкой гимназии - 12, 21,
824
Перикл (Периклес) (ок. 490-429 до н.
э.), афинский стратег (главнокоманду-
ющий) в 444/443-429 (кроме 430) -
14-16, 54, 57, 70, 173, 174, 177, 181,
183, 797, 844
Периэ (Перье, урожд. Паскаль) Фран-
суаза Жильберта (1620-1687), стар-
шая сестра Б. Паскаля, мемуаристка,
автор книги «Жизнь Блеза Паскаля»
- 22-25, 33
Периэ (Перье) Флорен (1605-1672), муж
Жильберты Перье - 23, 28, 29
Пертц - 211
Перцов Петр Петрович (1868-1947),
публицист, литературный критик,
издатель - 576, 841
Пети - 516
Петр, в Новом Завете апостол - 254,268,
478
Петр (7-1326), русский митрополит (с
1308), канонизирован - 107
Петр I Великий (1672-1725), царь (с
1682, правил самостоятельно с 1689),
первый российский император (с
1721)-89,95,101-103, 107,265-267,
272, 356, 358, 364, 373, 379, 450, 487,
498-501, 553, 580, 586, 606, 722, 748,
773, 782, 783, 809, 835
Петрарка Франческо (1304-1374), ита-
льянский поэт, гуманист - 426
Петров, ученик гимназии - 532
Петровский Сергей Александрович
(1846-1917), журналист, историк и
публицист, редактор «Московских
Ведомостей» - 579
Пизистрат (ок. 610-528/527 до н. э.),
афинский монарх (с 540/536) - 69,174
Пико делла Мирапдола Джованни (1463-
1494), итальянский мыслитель эпохи
Возрождения - 842
Пилат (Понтий Пилат), римский намес-
тник Иудеи (26-36), при котором,
согласно Новому Завету, был приго-
ворен к распятию Христос - 252
Пирогов Николай Иванович (1810-
1881), хирург, естествоиспытатель,
педагог, общественный деятель - 776,
780, 800, 845
Писарев Дмитрий Иванович (1840—
1868), публицист, литературный кри-
тик, ведущий сотрудник журнала
«Русское Слово» - 405, 452, 544, 560
Писемский Алексей Феофилактович
(1821-1881), прозаик и драматург -
452
Питирим (Павел Васильевич Окнов)
(1857-7), духовный писатель, епископ
тульский и белсвский - 494
Пифагор (VI в. до н. э.), древнегречес-
кий философ, математик - 688
Пифон (Питон, Дельфиний), в гречес-
кой мифологии чудовищный дракон
с чешуйчатым змеиным телом, сын
богини земли Геи - 610
Платон (428/427-348/347), древнегре-
ческий философ - 12, 15, 64, 89, 356,
364, 426, 510, 515, 676, 698, 771, 772,
804, 824
Платон (Петр Георгиевич Левшин)
(1737-1812), богослов, философ, мит-
рополит Московский (с 1787) - 763
Плиний Старший (23 или 24-79), римс-
кий писатель и ученый - 842
Плутарх (ок. 45-ок. 127), древнегречес-
кий писатель и историк - 79, 772
Победоносцев Константин Петрович
(1827-1907), государственный дея-
тель, обер-прокурор Синода (1880—
866
1905), публицист, переводчик - 353,
355, 601, 829
Погодин Михаил Петрович (1800-
1875), историк, писатель, издатель -
406, 410, 458-461, 781, 832, 844
Полежаев Александр Иванович (1804
или 1805-1838), поэт-831
Полеский, сотрудник газеты «Русское
Слово» - 483
Полибий (ок. 200-ок. 120 до н. э.), древ-
негреческий историк - 180
Поливанов Лев Иванович (1839-1899),
педагог, литературовед, основатель и
директор частной гимназии в Моск-
ве-662, 713, 793
Полонский Яков Петрович (1819-1898),
поэт - 561
Помпей (Гней Помпей Великий) (106-
48 до н. э.), римский полководец - 67,
182
Помяловский Николай Герасимович
(1835-1863), писатель - 763, 765, 843
Понсон дю Террайль Пьер Алексис
(1829-1871), французский писатель
-528, 761
Понятовский Станислав Август (1732-
1798), последний польский король
(1764-1795) - 507
Поп Александр (1688-1744), английский
поэт - 79
Попов Нил Александрович (1833-1891/
1892), историк-славист - 512
Попова, вдова - 684
Посошков Иван Тихонович (1652-1726),
экономист и публицист - 375
Потемкин Григорий Александрович
(1739-1791), генерал-фельдмаршал,
фаворит и ближайший помощник
Екатерины II -356, 364, 498
Прево д'Экзиль Антуан Франсуа (1697—
1763), французский писатель - 427
Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829-
1870), французский журналист, исто-
рик литературы, дипломат - 12, 21, 22
Пржевальский Николай Михайлович
(1839-1888), географ, натуралист, ис-
следователь Центральной Азии - 553
Промефей (Прометей), в греческой ми-
фологии титан-провидец, защитник и
покровитель человеческого рода -
610, 631, 773
Проппер Станислав Максимилианович
(1855-1931), публицист, издатель га-
зеты «Биржевые Ведомости» - 833
Протопопов Михаил Алексеевич (1848-
1915), литературный критик и пуб-
лицист - 842
Прудон Пьер Жозеф (1809-1865), фран-
цузский экономист, социалист, теоре-
тик анархизма - 546
Птоломеи (Птолемеи) (Лагиды), царс-
кая династия в эллинистическом Егип-
те (305-30 до н. э.) - 81
Птоломеи (Птолемей) Клавдий (ок. 90-
ок. 160), древнегреческий ученый -
631
Пушкин Александр Сергеевич (1799-
1837), поэт и прозаик - 106, 221, 273,
324, 335, 342, 343, 355, 360, 361, 392,
408, 411, 421,426, 428, 476, 491, 512,
515-517, 528, 532, 533, 535, 553, 560,
561,567, 584, 651,662, 760, 769, 771-
774, 776, 782, 807, 808, 822, 828-832,
835, 836, 840, 842, 844, 845
Пыпин Александр Николаевич (1833—
1904), литературовед и этнограф - 781
Равашоль - 303, 307
Рагузина, друг семьи Клименковых -
410
Рагуил, священник в земле Мадиамской
и тесть Моисея - 669
Радищев Александр Николаевич (1749—
1802), писатель, публицист, мысли-
тель, просветитель - 374, 375
Раевский, учитель приготовительного
класса Брянской прогимназии - 762
Ранке Леопольд фон (1795-1886), не-
мецкий историк - 464
Расин Жан (1639-1699), французский
драматург, поэт - 14, 305
Рафаил, католическая церковь считает
Рафаила архангелом и покровителем
путешествующих - 228, 670
Рафаэль Санти (1483-1520), итальянс-
кий живописец и архитектор - 78, 80,
89, 90, 118, 188, 189, 426
Рачинский Сергей Александрович
(1833-1902), ученый-ботаник, дея-
тель народного просвещения, орга-
низатор сельских школ - 353. 382,
383, 388, 425, 454, 466, 640, 641, 646,
650, 651, 828, 829, 839
Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892), фран-
цузский филолог, историк, востоко-
вед, писатель - 189
Репнин Николай Васильевич (1734—
1801). князь, генерал-фельдмаршал.
867
дипломат, участник русско-турецких
войн - 499
Риверс, лорд - 510
Ричард Плантагенет (Ричард II) (1367-
1400), английский король (1377-
1399), последний из династии План-
тагенетов - 370, 371
Ришельё Арман Жан дю Плесси (1585-
1642), кардинал (с 1622), фактичес-
кий правитель Франции - 14, 26, 57,
77, 78, 148, 181, 305
Роберваль (наст. фам. Персонье) Жиль
(1602-1675), французский математик
- 23, 26
Розанов Василий Васильевич (1856-
1919) - 213, 221, 232, 282-284, 294,
456, 520, 556, 577, 579, 608, 695, 822,
825, 827, 828, 830, 833-843
Розанов Николай Васильевич (1847-
1894), педагог, директор гимназии в
Белом и Вязьме, старший брат В. В.
Розанова - 321-323
Розанова Варвара Дмитриевна (1864-
1923), вторая жена писателя - 210
Розанова Надя (1892-1893), первая дочь
писателя - 210, 826
Роланд (Ролан) Жанна Мари (1754-
1793), жена министра внутренних
дел (1792) Ролана де Ла Платьера -
725
Роман Мстиславич (7-1205), князь Нов-
городский (1168—1169), Владимиро-
Волынский (с 1170), Галицкий (1188,
1199); считался могущественнейшим
князем Руси - 109, 648,
Романов Иван Федорович (псевд. Гат-
чинский отшельник, Заточников, Рцы)
(1861-1913), писатель, публицист,
издатель, друг Розанова - 255, 578,
579, 583, 826, 840, 842
Романовский Василий Евграфович, пре-
подаватель всеобщей истории 3-й
мужской гимназии в Тифлисе - 618,
841
Романовы: царская (с 1613) и импера-
торская династия (1721-1917) в Рос-
сии - 109,605
Ромул Августул, последний император
(475—476) Западной Римской империи
- НО, 623, 642
Румянцев Николай Петрович (1754—
1826), граф, государственный дея-
тель, дипломат, коллекционер и меце-
нат - 211, 498
Руссо Жан Жак (1712-1778), французс-
кий писатель и философ- 15, 143,146,
147, 211, 285, 367, 369, 371, 449, 524,
580, 622, 638, 692, 723, 725
Рутилий Намациан Клавдий (нач. V в.),
римский поэт, префект Рима (после
410) -195
Рцы - см. Романов И. Ф.
Рылеев Кондратий Федорович (1795-
1826), поэт, декабрист - 374
Рюккерт Генрих (1823-1875), немецкий
историк -318,319
Рюрик (ум. ок. 879), согласно летопис-
ному преданию, предводитель варяж-
ских дружин, обосновавшихся в Нов-
городе - 266, 272
Рюриковичи, род русских князей и ца-
рей, считавшихся потомками Рюри-
ка, в том числе великие князья киев-
ские, владимирские, тверские, рязан-
ские (IX-XVI вв.) - 101
С. (М. А. Смирнов), преподаватель Елец-
кой гимназии - 531
С. Н. Г. (Г. Н. Селехов), преподаватель
Закона Божьего в Елецкой гимназии
- 596, 703
С-в - 686
Савин Александр Николаевич (1873-
1923), историк - 590
Савинков Борис Викторович (1879—
1925), политический деятель, публи-
цист, писатель - 833
Савонарола Джироламо (1452-1498), ита-
льянский религиозный деятель - 532
Сад Донасьен Альфонс Франсуа (1740—
1814), маркиз де, французский писа-
тель - 524
Садоков Константин Иванович (1823-
1898), директор мужской гимназии в
Нижнем Новгороде (1864-1881), за-
тем помощник попечителя Московс-
кого учебного округа - 346
Саллюстий (86-ок. 35 до н. э.), римский
историк - 438, 439
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
(наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щед-
рин) (1826-1889), писатель-сатирик,
публицист - 40, 328,455, 547, 565, 567
Сальвиан (ок. 390-ок. 484), христианс-
кий апологет и историк - 195
Самарин Юрий Федорович (1819-1876),
философ, историк, публицист, обще-
ственный деятель - 560, 775, 809
868
Санд Жорж (наст, имя и фам. Аврора
Дюпен) (1804-1876), французская
писательница - 88
Санто Казерио, убийца президента
Франции Карно - 302, 303, 307, 828
Сарра (Сара), единственная дочь Рагуи-
ла в мидийском городе Екбатаны - 669
Саруия,ь Ветхом Завете сводная сестра
царя Давида - 444
Сатурн, у древних италиков бог посе-
вов, покровитель земледелия - 281
Сафо (Сапфо) (VII-VI вв. до н. э.), древ-
негреческая поэтесса - 771
Свифт Джонатан (1667-1745), английс-
кий писатель - 79
Свиридов А. И., преподаватель гимна-
зии - 740
Секки Анджело (1818-1878), итальянс-
кий астроном - 739
Селевкиды, царская династия, правившая
на Ближнем и Среднем Востоке (в ос-
новном в Сирии) (312-64 до н. э.) - 81
Семей (Шимей, Шими), в Ветхом Завете
сын Геры из дома Саулова - 445
Семенов-Тян-Шанский (до 1906 Семе-
нов) Петр Петрович (1827-1914), гео-
граф, статистик, общественный дея-
тель, член Императорского Русского
географического общества, член Госу-
дарственного совета (с 1897) - 833
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. Э.-65 н.
э.), римский политический деятель,
философ и писатель - 462
Сен-Жюст Луи (1767-1794), один из
организаторов побед французских
войск над интервентами в период яко-
бинской диктатуры - 310, 725
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-
1825), граф, французский мыслитель
- 306, 309,311
Сент-Илер Жоффруа Изидор (1805-
1861), французский зоолог - 361
Сервантес Сааведра Мигель де (1547-
1616), испанский писатель - 78, 90,
445, 831
Сергеевич Василий Иванович (1832-
1910), юрист, профессор Московско-
го и Петербургского университетов,
глава государственной юридической
школы в России - 361, 362, 568
Сергей Николаевич, инспектор Брянс-
кой прогимназии - 359
Сергий Радонежский (Варфоломей Ки-
риллович) (ок. 1321-1391), право-
славный подвижник, основатель и
игумен Троице-Сергиева монасты-
ря, канонизирован в 1452 - 107, 377,
568
Сиверс Яков Иоанн (Яков Ефимович)
(1731-1808), граф (1798), генерал-
губернатор Новгородской, Тверской
и Псковской губерний (1776-1781),
чрезвычайный и полномочный посол
в Польше (1789) - 498
Сидоний Аполлинарий (ок. 430—ок. 483),
галло-римский писатель - 195
Сим (Сем), в Ветхом Завете старший из
трех сыновей Ноя - 437
Синайский Иван Федорович, русский
лексикограф, составитель «Греческо-
русского словаря» - 613
Сиэйс — см. Сьейес Э. Ж.
Скабичевский Александр Михайлович
(1838-1910), литературный критик,
историк литературы, публицист -
456
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843-
1882), генерал от инфантерии, уча-
ствовал в Ахалтекинской экспедиции
(1880-1881) - 385
Скопинский А., сотрудник газеты «Рус-
ское Слово» - 394-396
Скотт Вальтер (1771-1832), английс-
кий писатель - 50, 79
Скюдери Жорж де (1601-1667), фран-
цузский писатель - 26
Смирнов Аполлон Иванович (1838—
1902), писатель, профессор Казанс-
кого университета - 366
Смирнов Капитон Иванович (1827—
1902), автор учебника по географии
- 528, 749, 750
Смит Адам (1723-1790), шотландский
экономист и философ - 79, 317
Спелль (Снеллиус) Виллеброрд (1580-
1626), нидерландский астроном, оп-
тик и математик - 19
Сократ (ок. 470-399 до н. э.), древне-
греческий философ - 15, 74, 285, 779,
811
Соловьёв Владимир Сергеевич (1853—
1900), философ, поэт, публицист -
248, 252, 259, 261-263, 265, 266, 268,
270, 272-275, 277, 279, 281, 283, 284,
286, 299, 318, 802, 826, 827
Соловьёв Евгений Андреевич (1866—
1905), литературный критик, беллет-
рист - 452, 456
869
Соловьёв Сергей Михайлович (1820-
1879), историк - 460, 461, 468, 652,
805
Сологуб (наст. фам. Тетерников) Федор
Кузьмич (1863-1927), поэт, прозаик,
драматург — 518, 522, 523, 835
Соломон, царь Израильско-Иудейского
царства (965-928 до н. э.), сын Дави-
да и его соправитель (967-965) - 445
Солон (640/635-ок. 559 до н. э.), афинс-
кий архонт (высшее должностное
лицо), реформатор - 54
Софокл (ок. 496-406 до н. э.), древне-
греческий поэт-драматург - 54, 173,
510, 662
Софья (ум. ок. 137), святая мученица-
379
Спевзипп (Спевсипп) (ок. 395-334 до н.
э.), древнегреческий философ - 676
Спенсер Герберт (1820-1903), английс-
кий философ и социолог - 510, 555
Спенсер Джон (1630-1693), английский
богослов и публицист - 216, 312, 570
Сперанский Михаил Михайлович (1771/
1772-1839), государственный дея-
тель, генерал-губернатор Сибири
(1819-1829), руководил работой по
законодательству - 350, 356-359,
367, 372-375, 379
Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677),
нидерландский философ - 16-18,442,
574, 575
Спиридов Григорий Андреевич (1713-
1790), адмирал, во время русско-ту-
рецкой войны командовал эскадрой
в Средиземном море, одержал побе-
ду в Чесменском бою (1770) - 499
Сталь Анна Луиза Жермена де (1766-
1817), французская писательница -
383
Стамбулов (Стамболов) Стефан (1854-
1895), регент (1886-1887), премьер-
министр Болгарии (1887-1894) - 310
Станкевич Николай Владимирович
(1813-1840), философ, поэт, обще-
ственный деятель - 366
Стасова Надежда Васильевна (1822—
1895), участница и создательница
Высших женских курсов - 823
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-
1911), историк, публицист, обще-
ственный деятель, редактор-издатель
журнала «Вестник Европы» - 522,
563, 579, 840
Стахеев, сотрудник журнала «Русский
Вестник» - 581
Стевин Симон (1548-1620), голландс-
кий математик и инженер - 19
Стефан Яворский (Симеон Иванович
Яворский) (1658-1722), церковный
деятель, религиозный писатель, мес-
тоблюститель патриаршего престола
(1700-1721)- 267, 580, 827
Стороженко Николай Ильич (1836-
1906), историк западноевропейских
литератур, профессор Московского
университета - 210, 516
Страхов Николай Николаевич (1828—
1896), философ, публицист, литера-
турный критик - 114-117, 119, 121,
129, 132, 318-320, 343, 355, 426, 453,
457, 478, 549, 559, 560, 579-583, 769,
822-825, 828, 832, 838, 840
Строганов Сергей Григорьевич (1794-
1882), член Государственного совета
(с 1856), московский генерал-губер-
натор (1859-1860), археолог, основа-
тель Строгановского художественно-
промышленного училища (1825) -
802, 805
Струве Петр Бернгардович (1870—
1944), экономист, философ, историк,
публицист, общественно-политичес-
кий деятель - 575, 576, 842
Стюарты, королевская династия в
Шотландии (1371-1714) и Англии
(1603-1649, 1660-1714) - 78, 181
Суворин Алексей Сергеевич (1834—
1912), издатель, публицист, критик -
454, 580, 582
Суворов Александр Васильевич (1730—
1800), полководец, генералиссимус
(1799)-356, 364, 498
Сукач В. Г. - 824, 830
Сулла (138-78 до н. э.), римский полко-
водец, диктатор (82-79 до н. э.) - 67,
177, 182, 443
Сумароков Александр Петрович (1717-
1777), писатель - 544
Сусанна, в Ветхом Завете жена Иоакима
-441
Сцевола Квинт Муций (140-82 до и. э.),
римский юрист и государственный
деятель - 443, 596
Сципионы, в Древнем Риме одна из вет-
вей рода Корнелиев, к которой при-
надлежали крупные полководцы и
государственные деятели - 378
870
Сьейес (Сиейес) Эмманюэль Жозеф
(1748-1836), деятель Французской
революции, участвовал в выработке
Декларации прав человека и гражда-
нина - 304, 306, 828
Сютаев Василий Кириллович (ум. 1890-
х гг. в возрасте более 70 лет), кресть-
янин из Тверской губернии, основа-
тель религиозного учения, последо-
ватели которого получили название
«сютаевцев» - 390
Т И. Ф. - см. Филиппов Т. И.
Тайдула, жена хана Чалибека - 648
Талейран (Талейран-Перигор) Шарль
Морис (1754-1838), французский
дипломат, министр иностранных дел
(1797-1799, 1799-1807, 1814-1815)
-473
Тассо Торквато (1544-1595), итальянс-
кий поэт Возрождения и барокко -
445
Тацит Публий Корнелий (ок. 58-ок.
117), римский историк - 21, 55, 67,
628
Теккерей Уильям Мейкпис (1811-1863),
английский писатель - 79
Телемах, в «Одиссее» сын Одиссея и
Пенелопы - 721
Теодолинда (?-628), лангобардская ко-
ролева, жена короля Автариса - 69
Тиверии (Тиберий) Клавдий Нерон (42
до н. э-37 н. э.), римский император
(с 14), из династии Юлиев-Клавдиев
-60, 69, 75,413,415
Тигран II Великий (95-56 до н. э.), царь
Армении Великой - 305
Тилли Иоганн Церклас (1559-1632), не-
мецкий полководец, фельдмаршал,
главнокомандующий имперской арми-
ей во время Тридцатилетней войны -
14
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-
1920), естествоиспытатель - 7-10, 12,
556, 823, 824
Тимофей, в Новом Завете ученик и спут-
ник апостола Павла - 297
Тимур (Тамерлан) (1336-1405), средне-
азиатский эмир (с 1370), полководец
-52
Тиндаль Джон (1820-1893), английский
физик - 813
Тихомиров К., издатель педагогической
библиотеки - 821
Тихомиров Лев Александрович (1852-
1923), публицист, общественный де-
ятель, редактор-издатель газеты
«Московские Ведомости» - 274, 277,
280-284, 286, 291,292, 294, 300, 387,
450, 520, 826, 827, 831, 839
Тихонравов Николай Саввич (1832-
1893), литературовед и археограф,
профессор истории русской литера-
туры Московского университета,
ректор (1877-1883) - 516, 781
Товит, персонаж библейской книги То-
вита, праведник, верящий в Бога, не-
смотря на постигшие его несчастья -
670
Товия, центральный персонаж библейс-
кой книги Товита, сын Товита - 668
Токвиль Алексис (Алекси) (1805-1859),
французский историк, социолог, по-
литический деятель - 59
Толанд Джон (1670-1722), английский
философ - 15
Толстой Дмитрий Андреевич (1823-
1889), граф, историк, обер-прокурор
Синода (1865-1880), министр народ-
ного просвещения (1866-1880), ми-
нистр внутренних дел (с 1882) - 558,
591, 754, 760, 761, 776, 783, 844
Толстой Лев Николаевич (1828-1910),
писатель и мыслитель-35,37-41,360,
388-393, 427, 428, 467, 486, 531, 560,
561, 703, 770, 776, 820, 821, 822, 828,
829, 838
Томазий Кристиан (1655-1728), немец-
кий юрист и философ - 14
Томсон (И.) Уильям (1824-1907), анг-
лийский физик - 18
Торвальдсен Бертель (или Альберт)
(1770-1844), скульптор - 772
Торричелли Эванджелиста (1608-1647),
итальянский физик и математик - 27,
28
Тотлебен Эдуард Иванович (1818-
1884), инженер-генерал, руководил
инженерными работами при обороне
Севастополя, осадой Плевны - 385
Тредьяковский (Тредиаковский) Васи-
лий Кириллович (1703-1768), поэт,
филолог - 347, 845
Трубецкой Сергей Николаевич (1862-
1905), философ, общественный дея-
тель, первый выборный ректор
Московского университета (1905) -
832
871
Тур Евгения (наст, имя и фам. Елизавета
Васильевна Салиас-де-Турнемир,
урожд. Сухово-Кобылина) (1815—
1892), писательница - 40
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883),
писатель - 37, 38, 40, 88, 308, 332,
335, 451,486, 529, 560, 561, 565, 637,
711, 761, 776, 782, 804, 817, 820, 829,
838, 839, 845
Тутчев Захарий (1360-1400), посланник к
Мамаю в Золотую Орду (1380) - 649
Тхоржевский Корнелий Владиславович
(1858-1896), писатель и публицист -
491
Тьерри Авг., историк - 324
Тэн Ипполит Адольф (1828-1893), фран-
цузский философ, социолог искусст-
ва, историк - 217, 401, 402
Тюренн Анри де Ла Тур д’Овернь (1611-
1675), виконт, французский полково-
дец-305
Тютчев Федор Иванович (1803-1873),
поэт, публицист, дипломат - 428, 832
Уайстон Уильям (1667-1752), английс-
кий математик-16
Уапип Джеймс (1736-1819), английский
изобретатель, создатель универсаль-
ного теплового двигателя - 316
Узбек (7-1342), хан Золотой Орды (с
1313)-647
Улисс, латинизированное Одиссей, в гре-
ческой мифологии царь острова Ита-
ка-721
Фарадэй (Фарадей) Майкл (1791-1867),
английский физик, основоположник
учения об электромагнитном поле -
526, 624, 811
Феб, второе имя бога Аполлона - 210
Федра, в греческой мифологии дочь
критского царя Миноса и его супру-
ги Пасифаи, жена афинского царя
Тесся - 610
Фезей (Фесей, Тезей, Тесей), в гречес-
кой мифологии сын афинского царя
Эгея или бога моря Посейдона, афин-
ский герой и царь - 610
Фейербах Людвиг (1804-1872), немец-
кий философ - 828
Фемиапокол (ок. 525-ок. 460 до н. э.),
древнегреческий государственный
деятель, полководец - 89, 159, 378,
665, 803
Фен ело н Франсуа (1651-1715), фран-
цузский писатель, архиепископ - 524
Феодор Иоаннович (Федор Иванович)
(1557-1598), русский царь (с 1584),
последний царь из династии Рюрико-
вичей, сын царя Ивана IV Грозного —
370
Феодосий (ок. 424-529), христианский
монах, архимандрит Палестинского
монашества - 370, 371
Феодосий Углицкий (30-е гг. XVII в.-
1696), архиепископ Черниговский (с
1692)-482, 493, 833, 834
Феофан Прокопович (1681-1736), госу-
дарственный и церковный деятель,
писатель - 782
Фердинанд I (1503-1564), император
«Священной Римской империи» (с
1556), австрийский эрцгерцог; пер-
вый король в Чехии и Венгрии из ди-
настии Габсбургов (с 1526) - 370
Фердинанд I Кобургский (1861-1948),
князь (с 1887), царь Болгарии (1908-
1918), из немецкого княжеского рода
-551
Ферма Пьер (1601-1665), французский
математик - 23, 32
Фернейский мудрец - см. Вольтер М. Ф.
Ферреро Г., итальянский публицист, ис-
торик - 452, 843
Ферри Жюль (1832-1893), премьер-ми-
нистр Франции (1880-1881, 1883—
1885)- 754
Фет (наст. фам. Шеншин) Афанасий
Афанасьевич (1820-1892), поэт, пе-
реводчик, публицист - 576
Фигнер (урожд. Мей) Медея Ивановна
(1859-1952), певица, по происхожде-
нию итальянка; пела в Мариинском
театре (1887-1912) - 325
Фидий (ок. 490-ок. 432/431 до н. э.), древ-
негреческий скульптор - 173
Филарет (Василий Михайлович Дроз-
дов) (1783/1784-1867), митрополит
Московский (с 1825), богослов, про-
поведник, церковный и обществен-
ный деятель - 763, 782
Филипп (Федор Степанович Колычев)
(1507-1569), митрополит Московс-
кий и Всея Руси (1566-1568), кано-
низирован - 371, 375
Филипп II (1527-1598), испанский ко-
роль (с 1556), из династии Габсбур-
гов-77, 78, 181,748, 782
872
Филипп II Август (1165-1223), француз-
ский король (с 1180), из династии
Капетингов - 369
Филипп IV Красивый (1268-1314), фран-
цузский король (с 1285), из династии
Капетингов - 304
Филиппов Тертий Иванович (1825—
1899), государственный контролер,
публицист - 351, 448
Фингал, псевдоним писателя Игнатия
Николаевича Потапенко, под которым
он печатался в «Новом Времени» в
1890-е гг. -483, 834
Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814), не-
мецкий философ - 574
Флексер - см. Волынский А. Л.
Флориан Жан (1755-1794), французский
писатель - 345, 835
Фома, один из двенадцати апостолов,
учеников Иисуса Христа - 494
Фома Кемпийский (Фома Гемеркен) (ок.
1380-1471), нидерландский монах и
философ - 837
Фон-Визин (Фонвизин) Денис Иванович
(1744/1745-1792), писатель - 498,
775, 777, 778, 782, 844
Фонтелелль (Фонтенель) Бернар Ле Бо-
вье де (1657-1757), французский пи-
сатель, ученый-популяризатор - 116
Фор Феликс (1841-1899), президент
Франции (1885-1888) - 551
Фохт (Фогт) Карл (1817-1895), немецкий
философ и естествоиспытатель - 345
Франц Иосиф I (1830-1916), император
Австрии и король Венгрии (с 1848),
император Австро-Венгрии (с 1867)
-379
Франциск I (1494-1547), французский
король (с 1515), из династии Валуа -
77, 78, 369, 370, 372, 379
Фридрих //(1712-1786), прусский ко-
роль (с 1740), из династии Гогенцол-
лернов, полководец - 372
Фридрих Вильгельм (1620-1688), кур-
фюст Бранденбургский (с 1640), т. наз.
Великий курфюст, из династии Гоген-
цоллсрнов - 379
Фридрих Вильгельм IV (1795-1861),
прусский король (с 1840), из динас-
тии Гогенцоллернов - 370
Фудель Иосиф (Осип Иванович) (1864-
1918), священник, публицист-99
Фукидид (ок. 460-400 до н. э.), древне-
греческий историк - 54, 67, 159, 687
Фуко Жан Бернар Леон (1819-1868),
французский физик - 512
Фультон (Фултон) Роберт (1765-1815),
американский изобретатель; постро-
ил первый в мире пароход «Клер-
монт» (1807) - 316
Фурье Шарль (1772-1837), французский
социалист - 306, 309, 311
Фуше Поль-Анри (1810-1875), француз-
ский писатель - 828
Фюстель-де-Кулапж (Фюстель де Ку-
ланж) Нюма Дени (1830-1889), фран-
цузский историк - 817
Хитрово Михаил Иванович (7-1895),
священник, религиозный писатель,
переводчик - 447
Хлодвиг I (ок. 466-511), король саличес-
ких франков (с 481), из рода Меро-
вингов - 70
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михай-
лович (ок. 1595-1657), государствен-
ный и военный деятель, гетман Укра-
ины - 507
Холодковекий Николай Александрович
(1858-1921), поэт-переводчик, уче-
ный-зоолог - 826
Хомяков Алексей Степанович (1804-
1860), философ, богослов, писатель,
публицист-40,268,428,496,499,560,809
Христиан (Кристиан) II (1481-1559),
король Дании и Норвегии (1513-
1523), Швеции (1520-1523), из Оль-
денбургской династии -
Христос - см. Иисус Христос
Цветаев Иван Владимирович (1847-
1913), историк античности, искусст-
ва, знаток эпиграфики, создатель и
первый директор (с 1911) Музея
изящных искусств в Москве (ныне
Музей изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина) - 462
Цвингли Ульрих (Хульдрейх) (1484—
1531), деятель Реформации в Швей-
царии - 675
Цезарь Гай Юлий (102/100-44 до н. э.),
римский диктатор, полководец, писа-
тель-70, 89, 177, 182, 379, 438, 439,
443, 534, 803, 804
Цицерон Марк Туллий (106^43 до н. э.),
римский политический деятель, ора-
тор, писатель - 361,443, 462, 771, 772,
804, 832
873
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856),
мыслитель и публицист - 299, 404-
411, 522, 561, 830
Чалибек, хан Золотой Орды - 648
Чарторыйский (Чарторыжский, Чарто-
рыский) Адам Ежи (Адам Адамович)
(1770-1861), князь, государственный
и политический деятель - 478, 488,
496, 499, 502, 503, 834
Чербери (лорд Герберт) Эдуард (1582-
1648), английский философ - 15
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828-1889), писатель, публицист,
философ, общественный деятель -
334, 544-546, 548, 560, 830, 837
Черняев Михаил Григорьевич (1828—
1898), военный и общественный дея-
тель, генерал-лейтенант, участник
Крымской войны - 797
Чижов Матвей Афанасьевич (1838-
1916), скульптор - 553
Чингис-хан (Чингисхан) (Тэмуджин, Те-
мучин) (ок. 1155-1227), основатель
и великий хан Монгольской империи
(с 1206)-52
Чолхан (Щелкан), татарский баскак - 647
Чудинов Александр Николаевич (1843-
' ?), писатель и педагог, основатель
журнала «Пантеон Литературы» — 19,
20
Чуйко Владимир Викторович (1839—
1899), литературный и художествен-
ный критик - 388, 389, 393, 829, 842
Шарапов Сергей Федорович (1855-
1911), экономист, публицист, издатель
газет «Русское Дело» в Москве и
«Русский Труд» в Петербурге - 581,
583, 833
Шатобриан Франсуа Рене де (1768-
1848), французский писатель и мыс-
литель - 195, 826
Шахов Александр Александрович
(1850-1877), историк литературы -
210, 211, 215, 216, 236, 237, 239
Шварц Бартольд (Бертольд) (ок. 1310—
1384), немецкий монах, один из пер-
вых изобретателей пороха - 288
Шверц Иоганн (1757-1844), немецкий
писатель по сельскому хозяйству -
345
Шекспир Уильям (1564-1616), английс-
кий драматург и поэт - 78, 518, 525,
561, 779, 834
Шелгунов Николай Васильевич (1824-
1891), публицист, литературный кри-
тик, общественный деятель -281,405,
830, 835
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф
(1775-1854), немецкий философ -
345, 443, 574
Шибанов Василий, стремянный князя А.
М. Курбского - 728
Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805),
немецкий поэт, драматург, теоретик
искусства - 50, 79, 210, 234, 426, 704,
827, 843
Шаповалов, член окружного суда в Ельце
Орловской губернии ок. 1889 г. - 484
Шлоцер (Шлёцер) Август Людвиг
(1735-1809), немецкий историк, фи-
лолог - 478
Шопенгауэр Артур (1788-1860), немец-
кий философ - 443
Шперк Федор (Фридрих) Эдуардович
(псевд. Ор, Апокриф) (1872, по др.
данным 1870-1897), философ, публи-
цист, критик, поэт, друг Розанова -
508, 515, 608, 822, 835, 841, 843
Шубинский Сергей Николаевич (1834—
1913), журналист, историк, генерал-
майор, основатель и редактор «Ис-
торического Вестника» - 563
Шувалов Иван Иванович (1727-1797),
государственный деятель, фаворит
императрицы Елизаветы Петровны,
генерал-адъютант, президент Акаде-
мии художеств (1757-1763) - 499
Шульгин Иван Петрович (1795-1869),
историк, педагог - 709
Щапов Афанасий Прокофьевич (1831-
1876), историк, профессор (с 1860)
Казанского университета и Духовной
академии - 789
Щеглов Дмитрий Федорович (7-1902),
историк, публицист, педагог - 269
Щедрин Н. - см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щербатов Михаил Михайлович (1733—
1790), князь, историк, публицист -
375
Э., преподаватель русского языка в про-
гимназии г. Белого Смоленской губер-
нии - 322
Эвклид (Евклид) (III в. до н. э.), древне-
греческий математик - 25,26, 80,629
631, 644, 709, 767, 842
874
Эгберт (ум. 839), король англосаксонс-
кого королевства Уэссекс (с 802) - 83
Эдиссон (Эдисон) Томас Алва (1847-
1931), американский изобретатель и
предприниматель - 529
Эльпе (псевд. Лазаря Константиновича
Попова) (1851-1917), журналист,
публицист, сотрудник газеты «Новое
Время» - 556, 838
Эмаи Эдгар, французский публицист -
836
Эол, в греческой мифологии повелитель
ветров - 455
Эразм Роттердамский (1469-1536),
писатель, филолог, гуманист - 79,296
Эрисман Федор Федорович (Гудрейх
Фридрих) (1842-1915), основополож-
ник научной гигиены в России, профес-
сор Московского университета - 778
Эсфирь (Есфирь), в Ветхом Завете глав-
ная героиня книги Есфирь - 160
Ювенал Децим Юний (ок. 60-ок. 127),
римский поэт-сатирик - 159, 844
Южаков Сергей Николаевич (1849-1910),
публицист и экономист - 575, 576
Юлиан Отступник (Флавий Клавдий
Юлиан Отступник) (331-363), римс-
кий император (с 361) - 150, 468
Юлий II (Джулиано делла Ровере) (1443-
1513), папа римский (с 1503) - 78
Юпитер, в римской мифологии верхов-
ный бог - 276, 338
Юрий Данилович (кон. 70-х гг.-нач. 80-х
гг. XIII в-1325), князь Московский
(с 1303)-647
Юстиниан Великий (Юстиниан I) (482/
483-565), византийский император (с
527) - 83
Якубовский Николай Федорович (1825-
1874), русский дипломат - 42
Яма, в ведийской религии, брахманизме,
индуизме и буддизме бог смерти - 672
Янчин Иван Васильевич (1839-1889),
педагог, автор «Краткого учебника
географии» - 750
Янышев Иоанн (Иван) Леонтьевич (1826,
по др. данным 1828-1910), прото-
пресвитер придворного духовенства,
ректор С.-Петербургской духовной
академии (1866-1883), духовник
Александра III и Николая II - 337-
339, 492
Яралов, инженер, владелец чугуноли-
тейного завода в Тифлисе - 470, 471
Ярослав Мудрый (ок. 978-1054), вели-
кий князь Киевский (1019), сын Вла-
димира I - 101, 377, 379
Ярошевич А., священник на Аляске -
537, 540
Lebrun - см. Лебрен Е.-А.
Leroy - см. Леруа
Markwart - 361
Spectator - см. Грингмут В. А.
Составитель Т И. Шагова
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ И ОЧЕРКИ 1889—1897 гг.
1889 год
Отречение дарвиниста........................................... 7
Паскаль...................................................... 12
1892 год
Эстетическое понимание истории................................ 35
Идея рационального естествознания.............................. 114
Цель человеческой жизни........................................ 133
1893 год
О монархии (Размышления по поводу Панамских дел)............... 171
О трех принципах человеческой деятельности..................... 185
Гретхен и Фауст................................................ 210
1894 год
Свобода и вера (По поводу религиозных толков нашего времени). 242
Ответ г. Владимиру Соловьёву................................. 259
Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защит-
ники свободы хаотической?.................................... 274
Казерио Санто и виды на будущее в Европе..................... 302
Рассеянное недоразумение..................................... 318
Несколько замечаний к характеристике Н. В. Розанова.......... 321
Смысл недавнего прошлого..................................... 324
1895 год
Еще о комитетах грамотности.................................. 341
Заметка <0 речи Николая II17 января 1895 г.>................. 348
О подразумеваемом смысле нашей монархии...................... 349
Критическая заметка <0 Н. П. Аксакове>....................... 387
Письмо в редакцию <0 статье «Необходимое разъяснение»>....... 388
Гордиев узел................................................. 393
Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому.................... 404
876
1896 год
Христианство и язык........................................ 412
Памяти дорогого друга <0 К. Н. Леонтьеве>.................. 445
Кому «горе от ума» в действительной жизни?................. 451
Еще доброе дело на Руси.................................... 458
Audiatur et altera pars.................................... 465
Кто истинный виновник этого?............................... 468
Две гаммы человеческих чувств.............................. 480
9 сентября 1896 года в Петербурге.......................... 482
Был ли жесток М. Н. Муравьев-Виленский?.................... 483
<Франко-русский союз>...................................... 485
<Праздничный отдых>........................................ 487
<Местное самоуправление>................................... 488
воспитательная школа>...................................... 490
<Россия и Франция>......................................... 492
<Феодосий Углицкий>........................................ 493
<Окраины>.................................................. 495
<Прибалтика>............................................... 496
<Екатерина П>.............................................. 497
<Екатерина II и Петр Великий>.............................. 499
<Польша>................................................... 501
<3ападные губернии>........................................ 504
<Католицизм и Польша>...................................... 505
<Церковь>.................................................. 507
Основы современной школы................................... 508
Нечто о декадентах, «лампадном масле» и о проницательности наших
критиков................................................... 517
Бумага и действительность.................................. 526
<Русская Аляска>........................................... 536
<Православие в Аляске>..................................... 538
<Рождество Христово>....................................... 541
<Многонациональность России>............................... 542
<3акон об артелях>......................................... 543
Критическая заметка <А. Л. Волынский. Русские критики>..... 544
1897 год
<Новыйгод>................................................. 551
<Памятник М. Н. Муравьеву в Вильне>........................ 553
<0 В. А. Грингмуте>........................................ 554
<Я. Колубовский. Философский ежегодник>.................... 555
<Реальное и классическое образование>...................... 557
<Годовщина смерти Н. Н. Страхова и Ю. Н. Говорухи-Отрока>. 559
<Александр Ш>.............................................. 561
Падающие колосья........................................... 563
877
Inde ira................................................... 566
<A. H. Майков. Некролог>................................... 569
Из мира идей и фактов...................................... 570
Литературные волнения...................................... 575
Письмо в редакцию <«Северного Вестника»>................... 577
Отрывок (Из петербургских видений)......................... 584
Об экзаменах в средних учебных заведениях.................. 588
1 марта 1881г. — 18 мая 1896 г............................. 600
Об еврействе............................................... 604
О постановке памятника М. Н. Каткову....................... 605
Письмо в редакцию <0 Ходынке>.............................. 607
Ф. Э. Шперк (Некролог)..................................... 608
Евг. Ветнек (сост.). Краткий очерк мифологии греков и римлян. 609
О причинах малоуспешности в гимназиях...................... 611
В. Е. Романовский (сост.) Государственные учреждения древней и но-
вой России................................................. 618
СУМЕРКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Предисловие................................................ 621
Сумерки просвещения........................................ 622
Три главные принципа образования........................... 692
Афоризмы и наблюдения...................................... 701
Педагогические трафаретки.................................. 756
О гимназической реформе семидесятых годов.................. 765
Представление о России в годы учебной реформы.............. 773
Город и школа.............................................. 784
Семья как истинная школа................................... 794
Границы закона............................................. 801
Беспочвенность русской школы............................... 806
Два типа образования....................................... 810
Библиография............................................... 816
Программы домашнего чтения на 3-й год систематического
курса................................................ 816
Я. В. Абрамов. Два великих француза: благодетель человече-
ства Луи Пастер и апостол образования Жан Масэ. - Популяр-
ная библиотека. № 3-й................................ 817
Достоевский для детей школьного возраста. Сборник сост.
А. В. Кругловым...................................... 819
Алекс. Ник. Острогорский. Педагогические экскурсии в область
литературы........................................... 821
Комментарии................................................ 822
Указатель имен............................................. 846
Научное издание
Василий
Васильевич
Розанов
Собрание сочинений
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ
ИСТОРИИ
Ведущий редактор П. П. А прытко
Технический редактор Т А. Новикова
ЛР № 010273 от 10.12.97.
Подписано в печать 08.06.09
Формат 60x84’/i6.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 51,15. Уч.-изд. л. 68,12.
Тираж 2000 экз. Заказ № 3969
Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве «Республика».
ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70
Отпечатано с диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»
Выпускает
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА
В 1994—2009 гг. вышли следующие тома:
Т. 1 — Среди художников .(1994)
Т. 2 — Мимолетное (1994)
Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)
Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)
Т. 5 — Около церковных стен (1995)
Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)
Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)
Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)
Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)
Т. 10 — Во дворе язычников (1999)
Т. 11 — Последние листья (2000)
Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)
Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)
Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)
Т. 15 — Русская государственность и общество (Статьи 1906-1907 гг.) (2003)
Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906-1908 гг.) (2003)
Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)
Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)
Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)
Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)
Т. 21—Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911г.)
(2005)
Т 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2006)
Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913-1915 гг.) (2007)
Т. 24 — В чаду войны (Статьи и очерки 1916-1918 гг.) (2008)
Т. 25 — Природа и история. - Статьи и очерки 1904-1905 гг. (2008)
Т. 26 — Религия и культура. - Статьи и очерки 1902-1903 гг. (2008)
Т. 27 — Юдаизм. - Статьи и очерки 1898-1901 гг.
Т. 28 — Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889-1897 гг.)
Подготовлены к выпуску следующие тома:
Т. 29 — Литературные изгнанники. Книга вторая
Т 30 — Листва. - Указатели к Собранию сочинений
В.В. Розанов