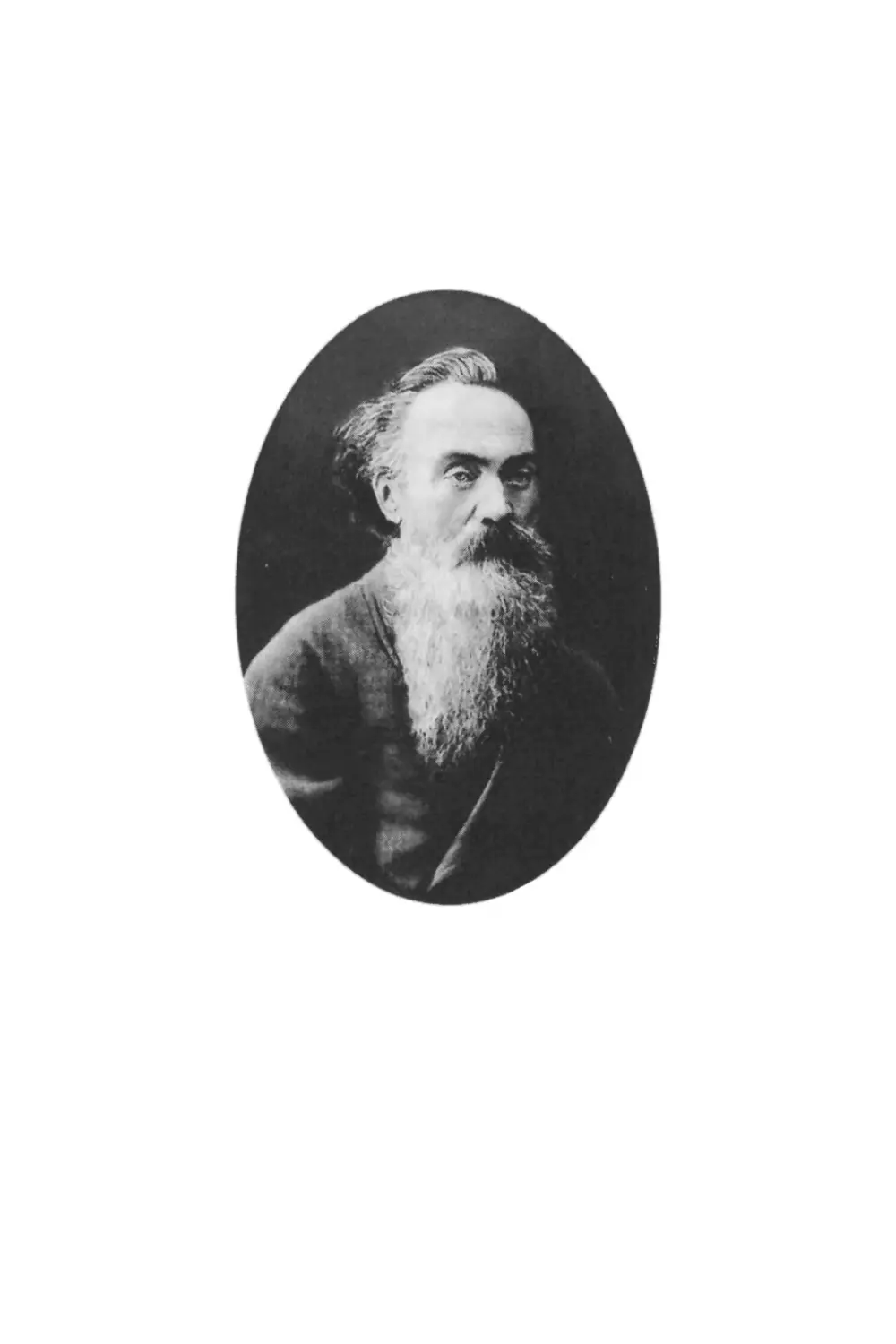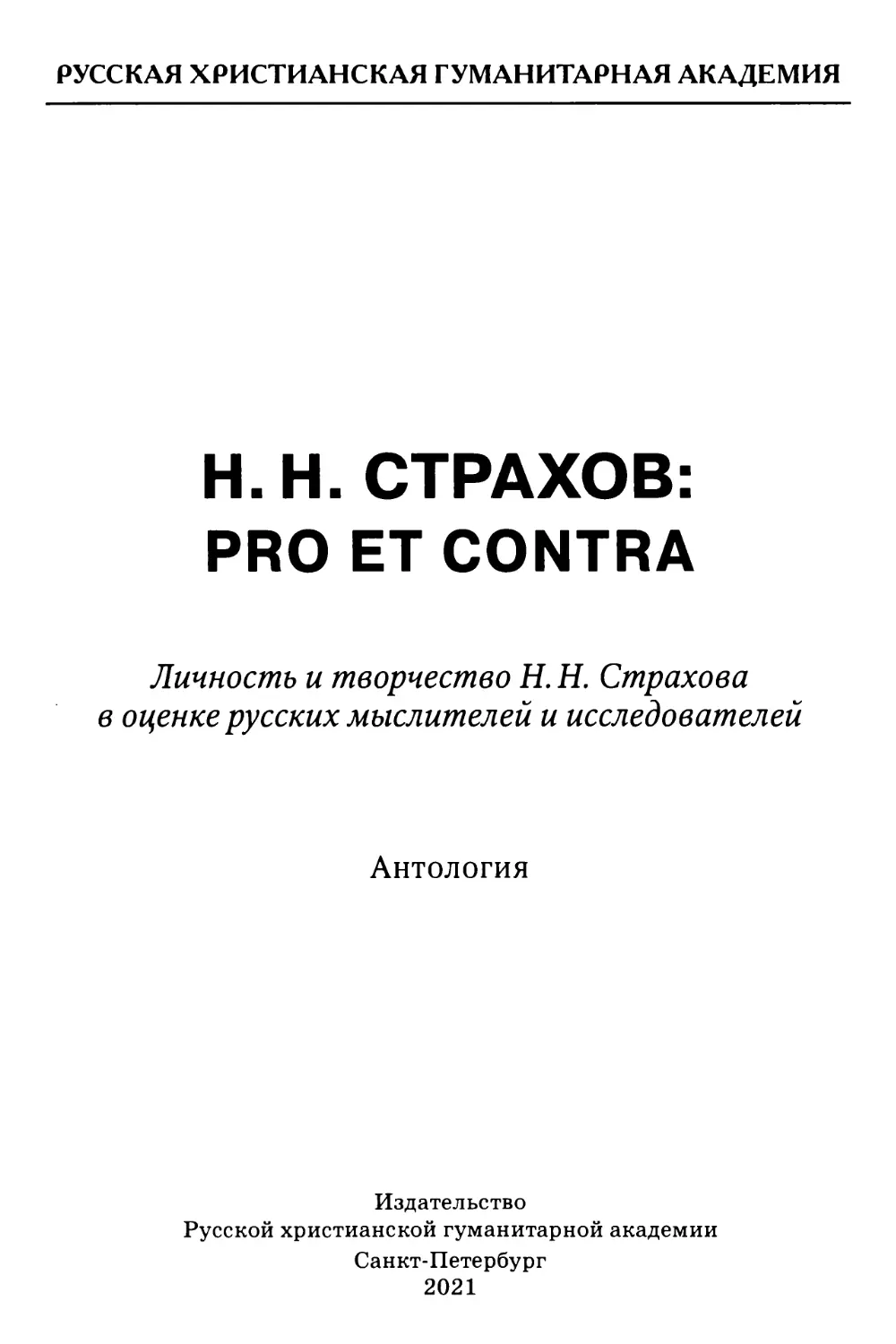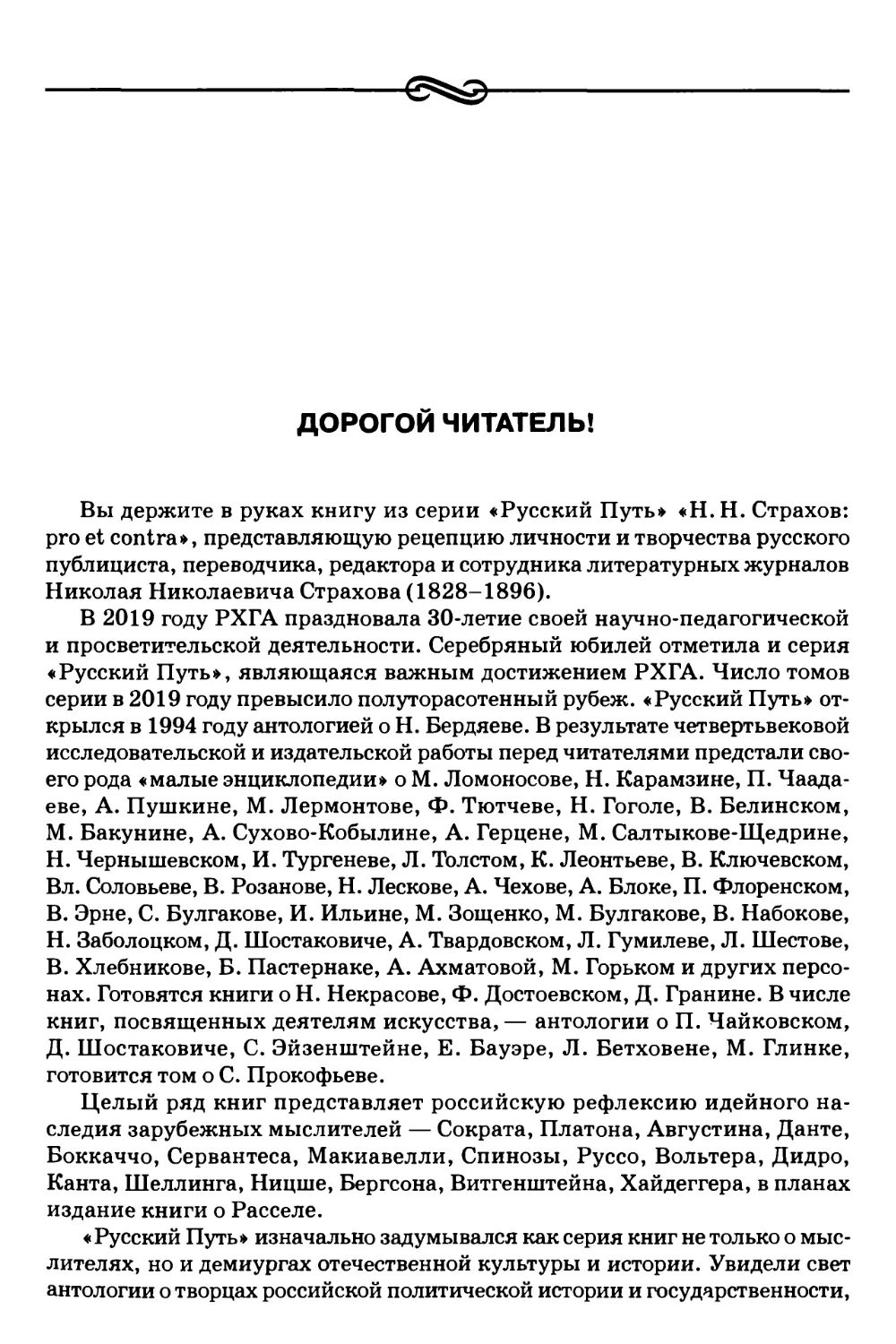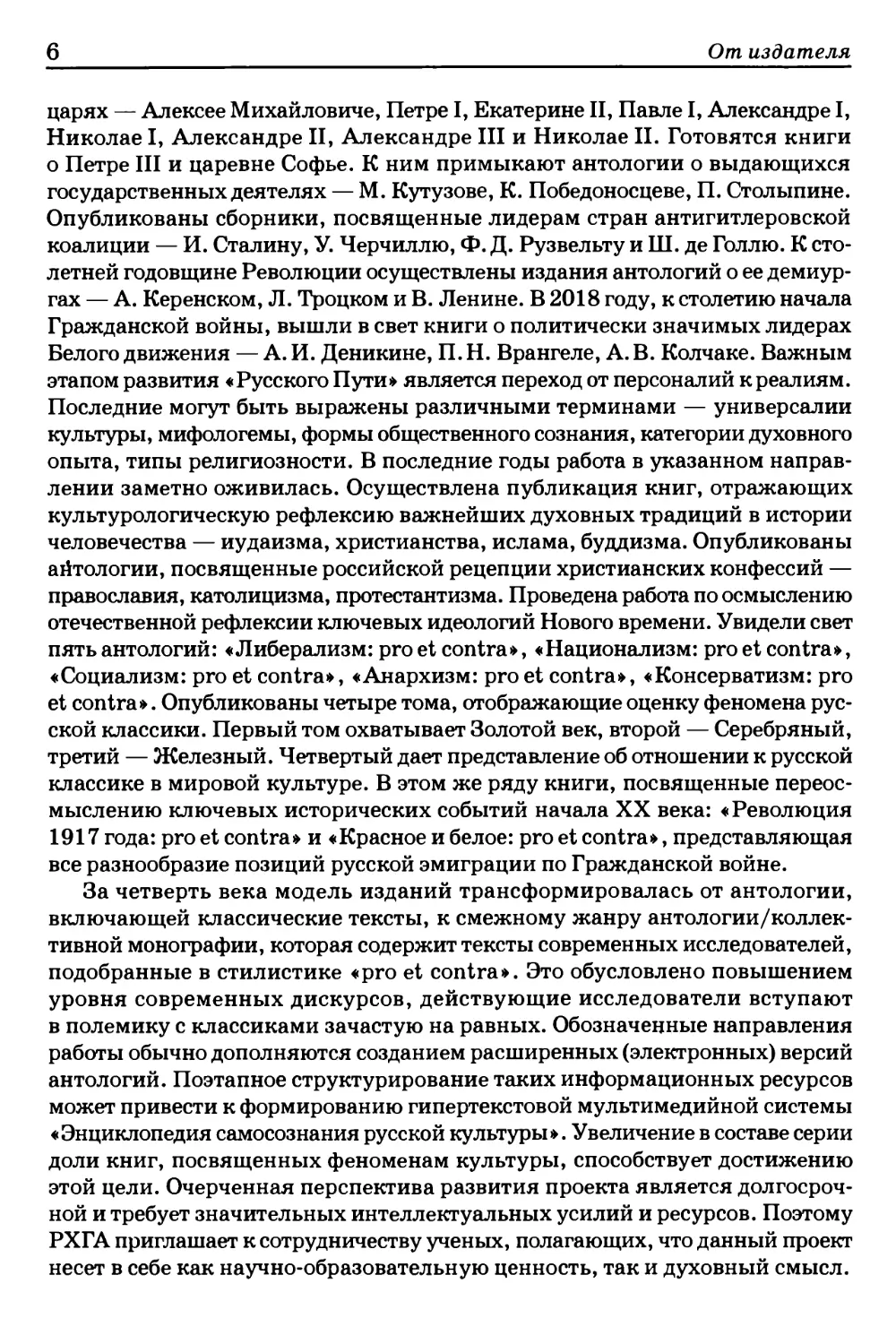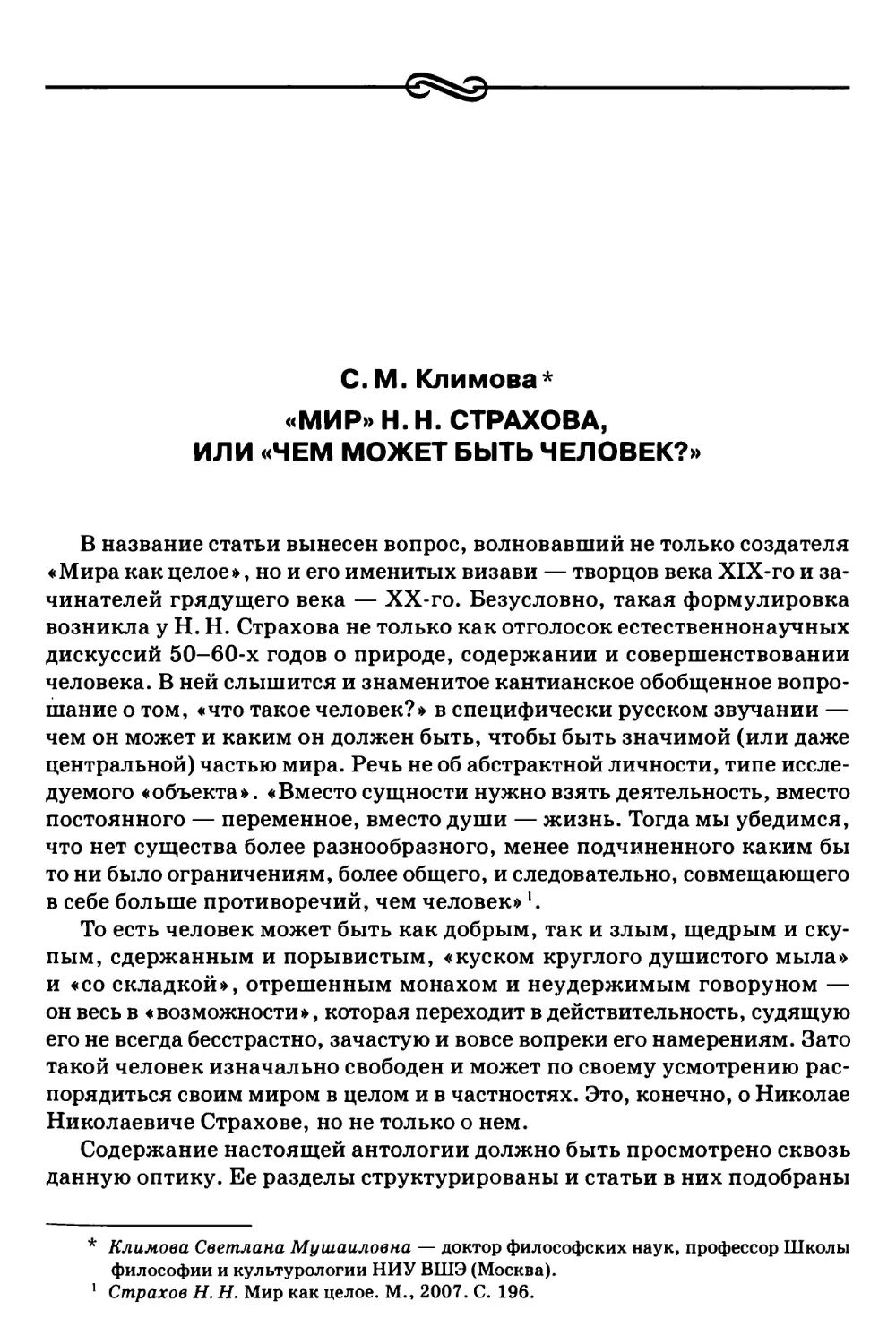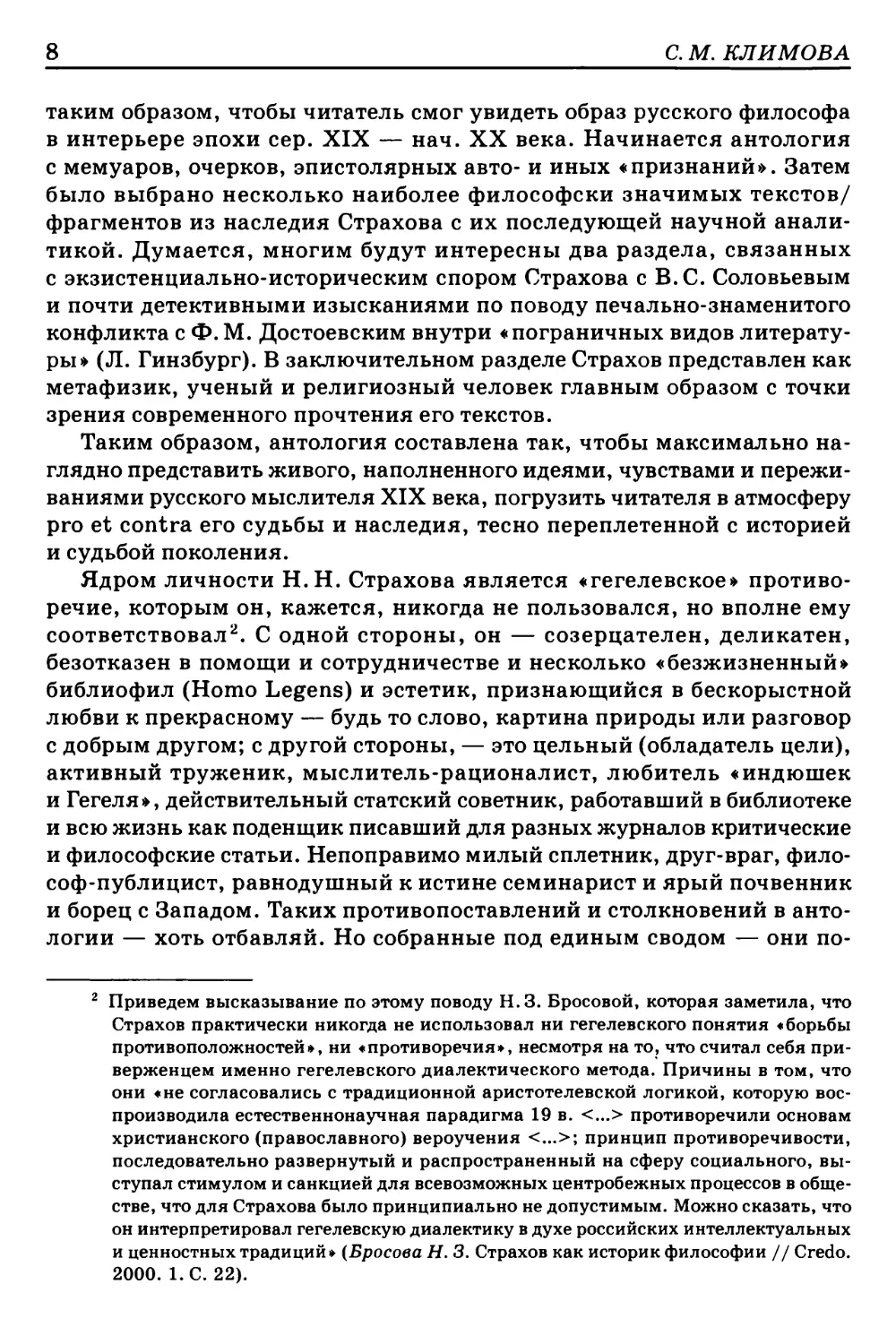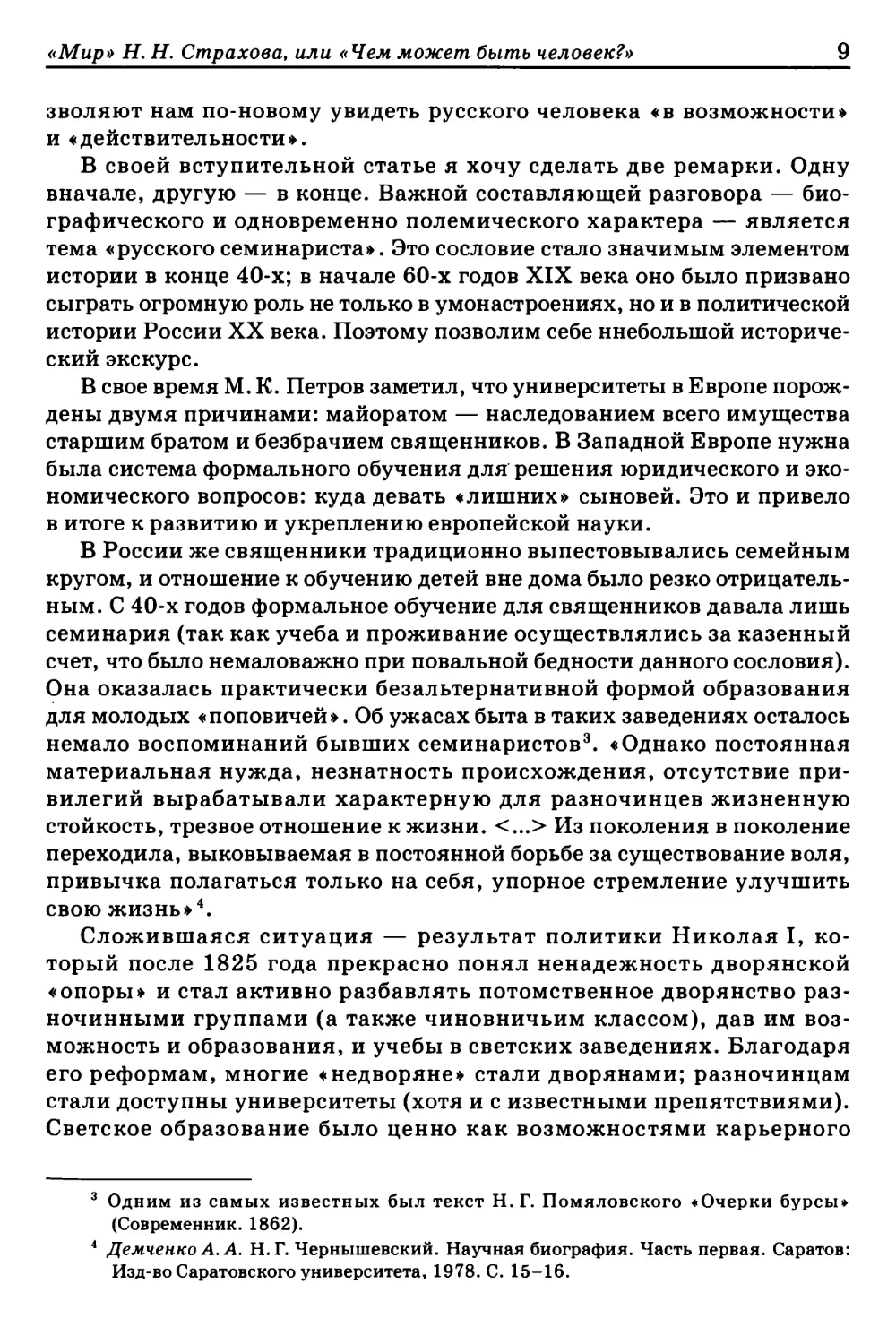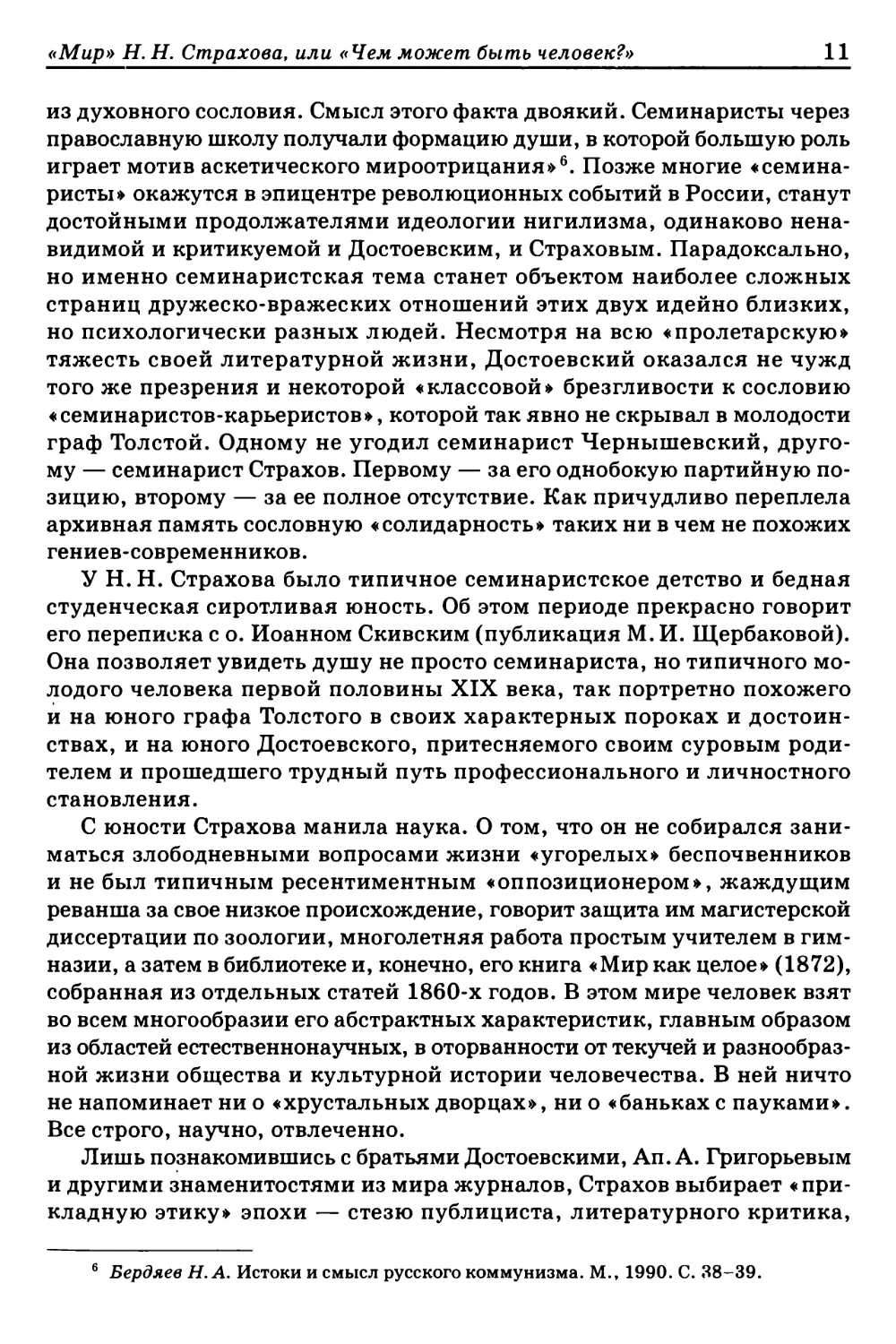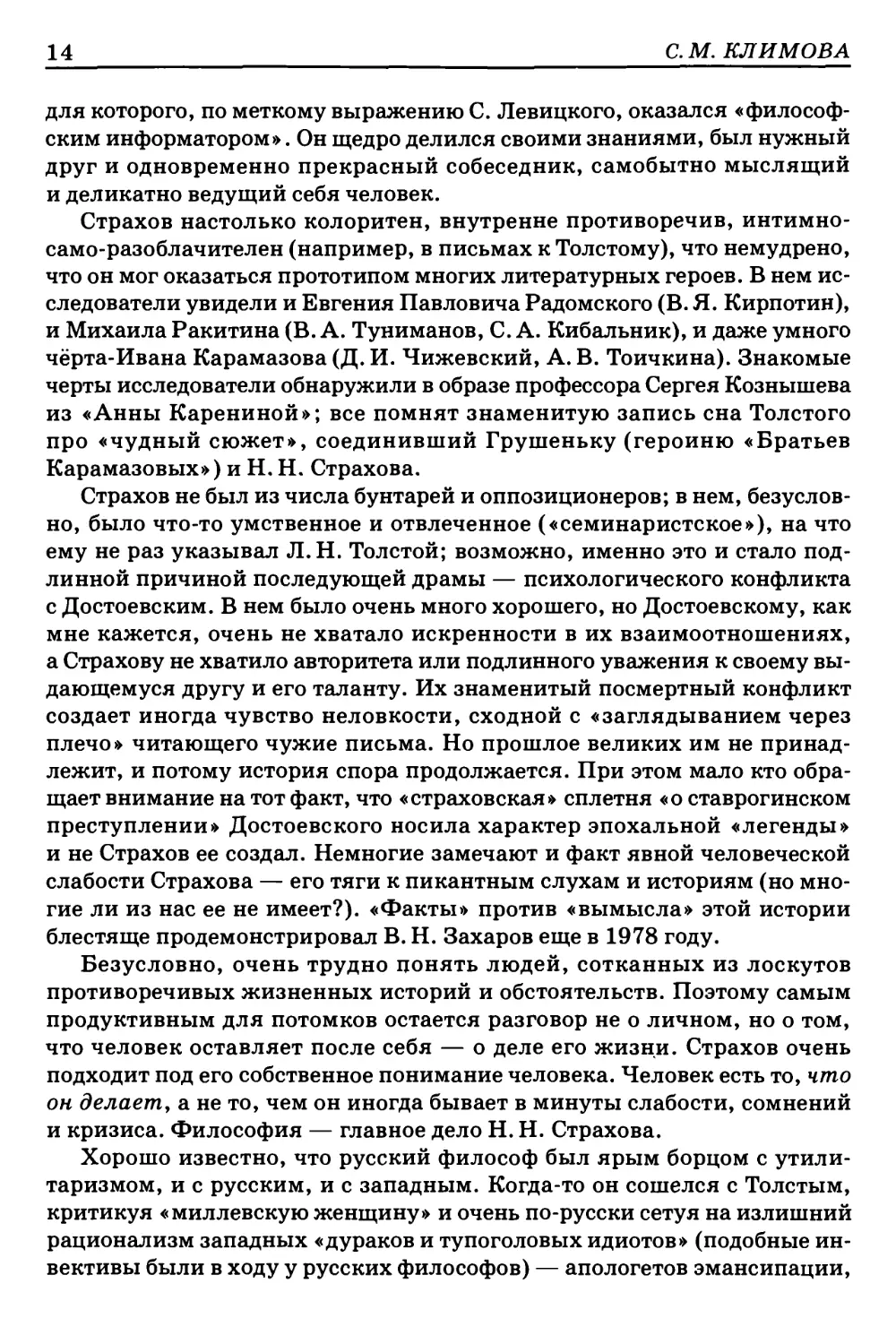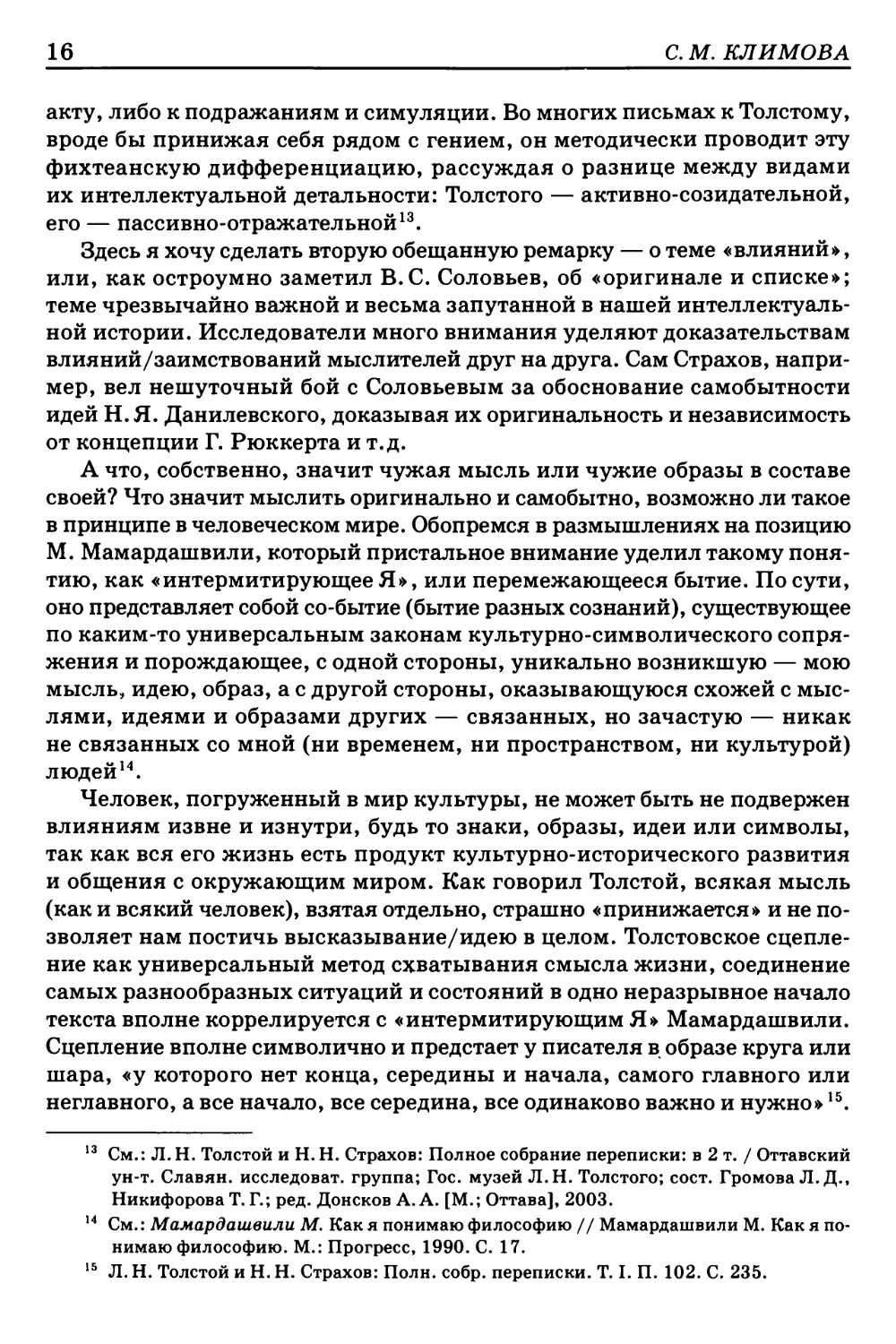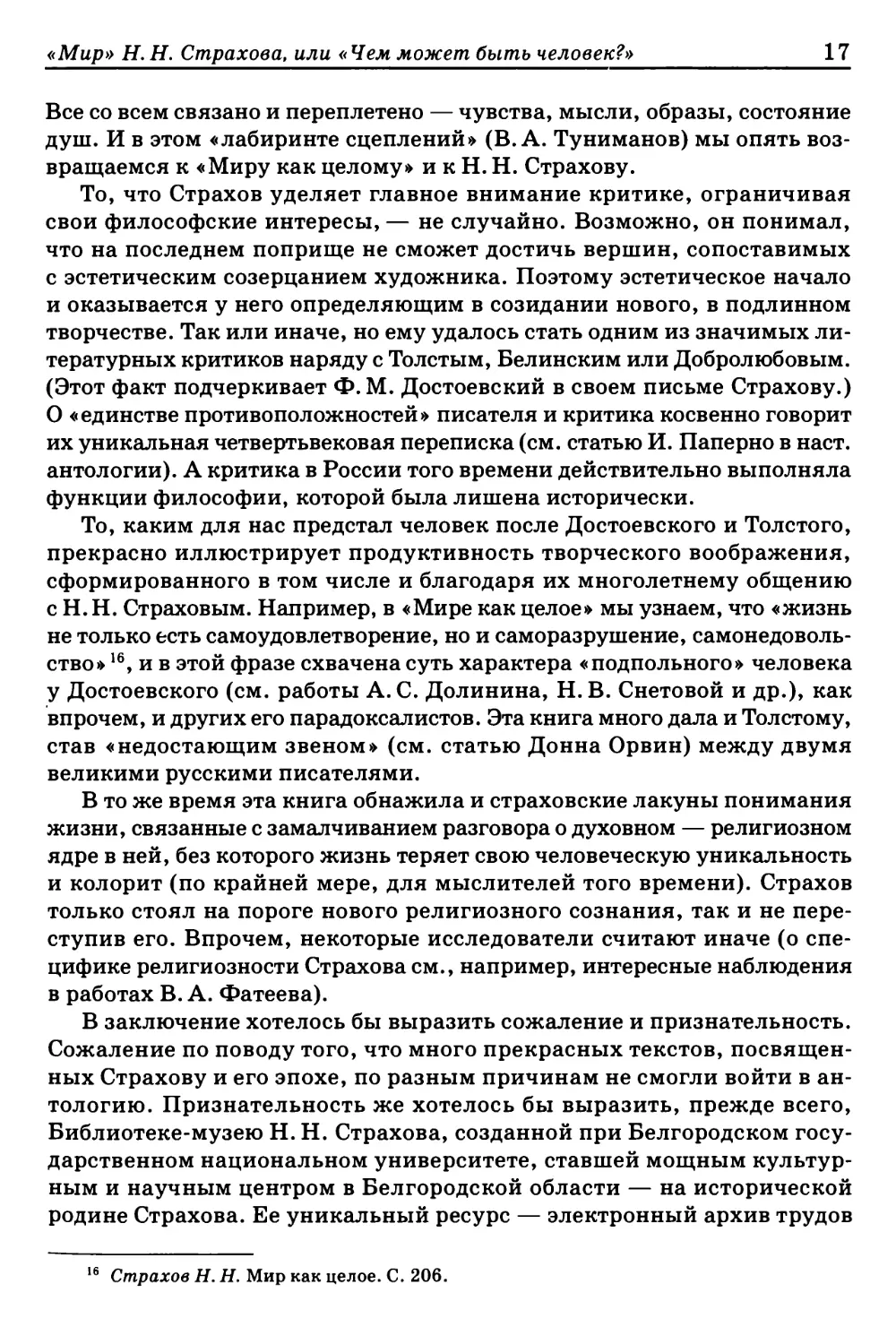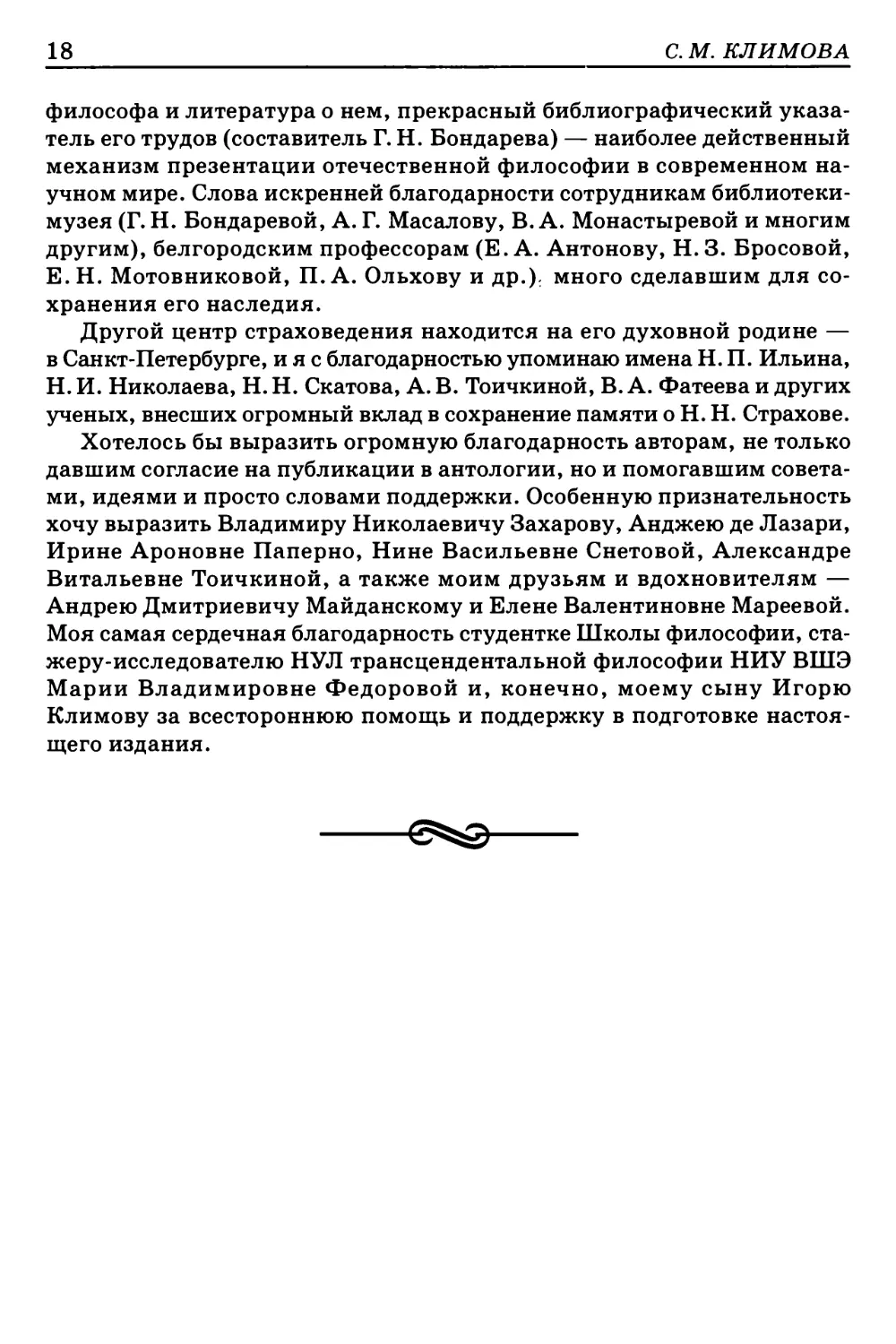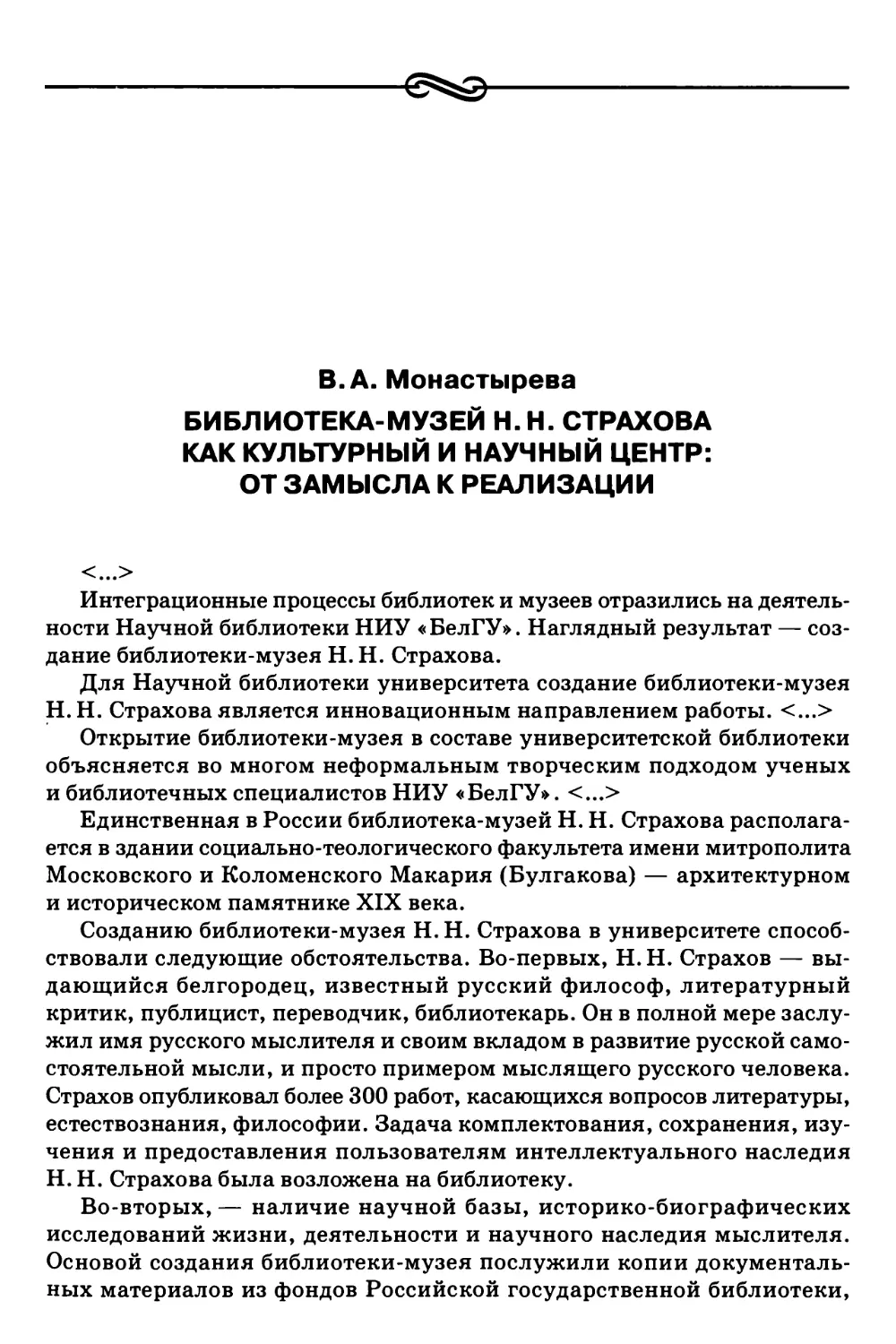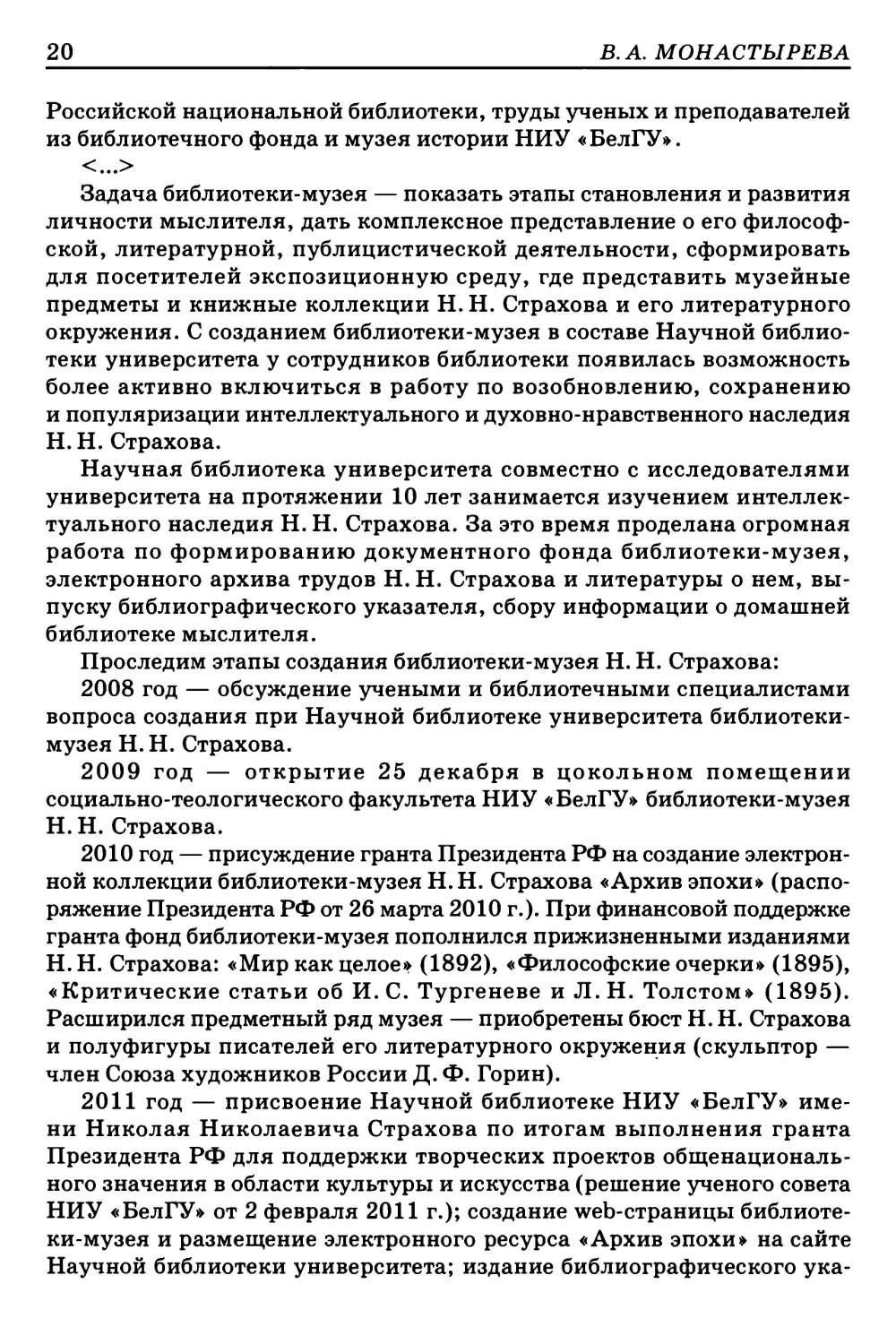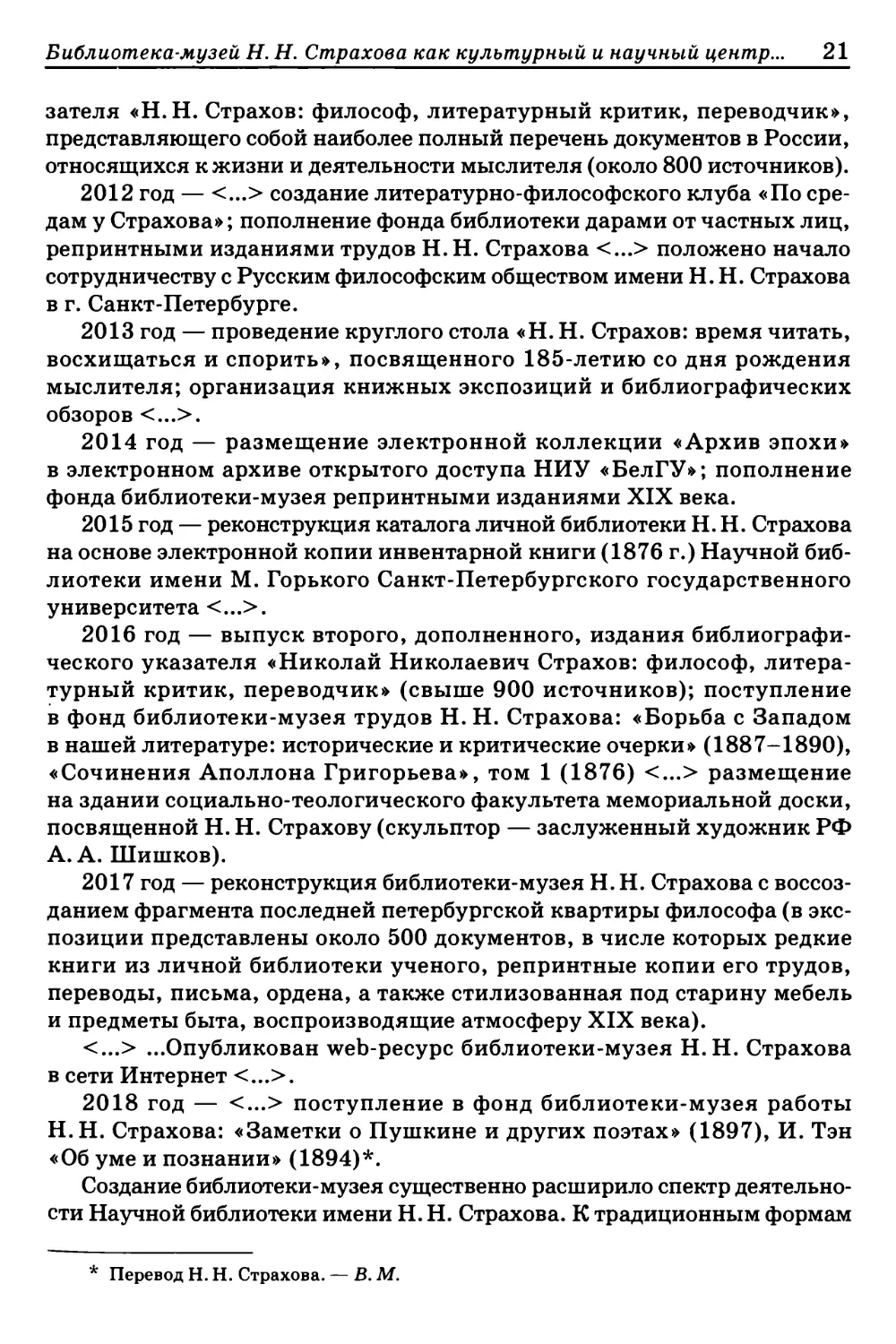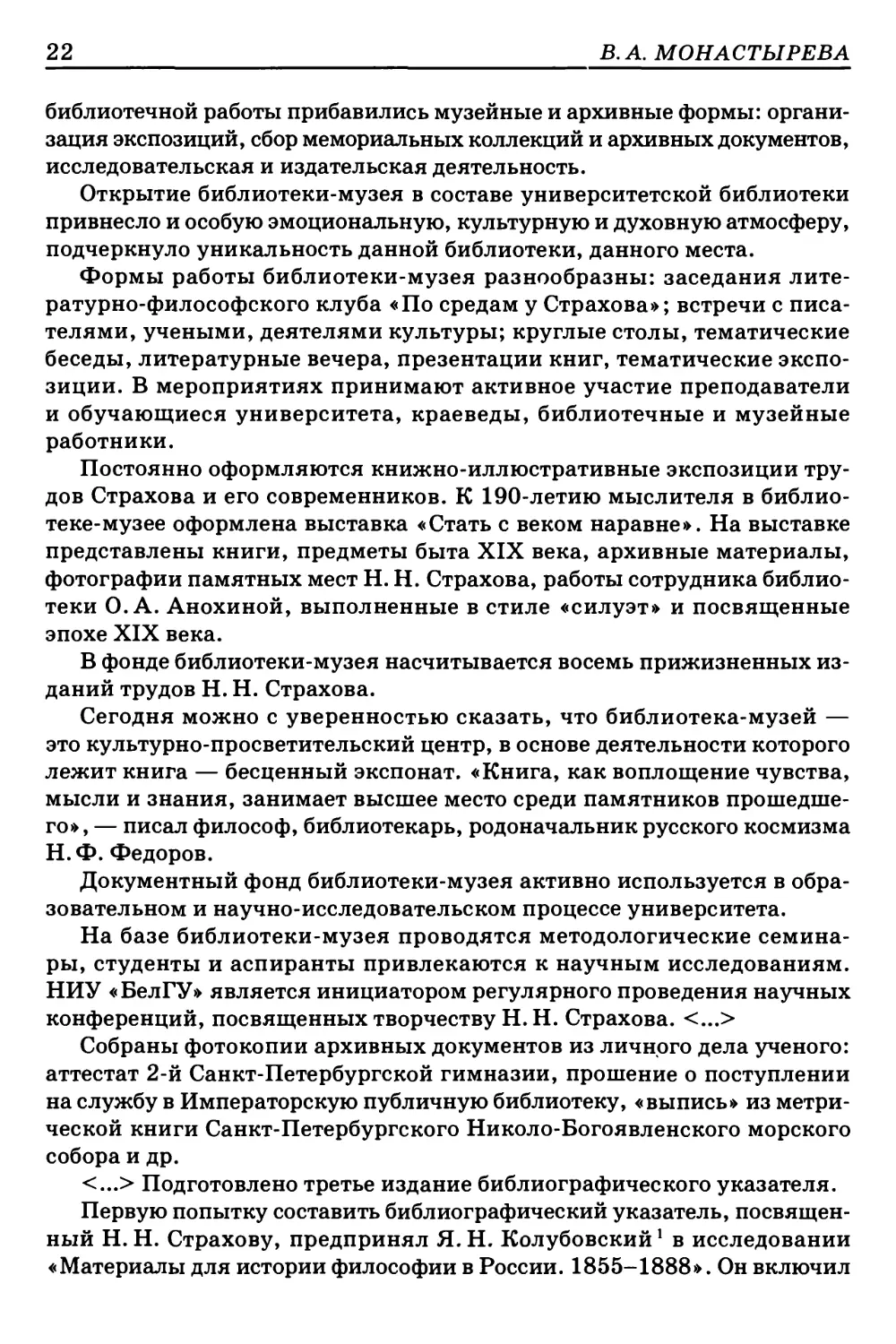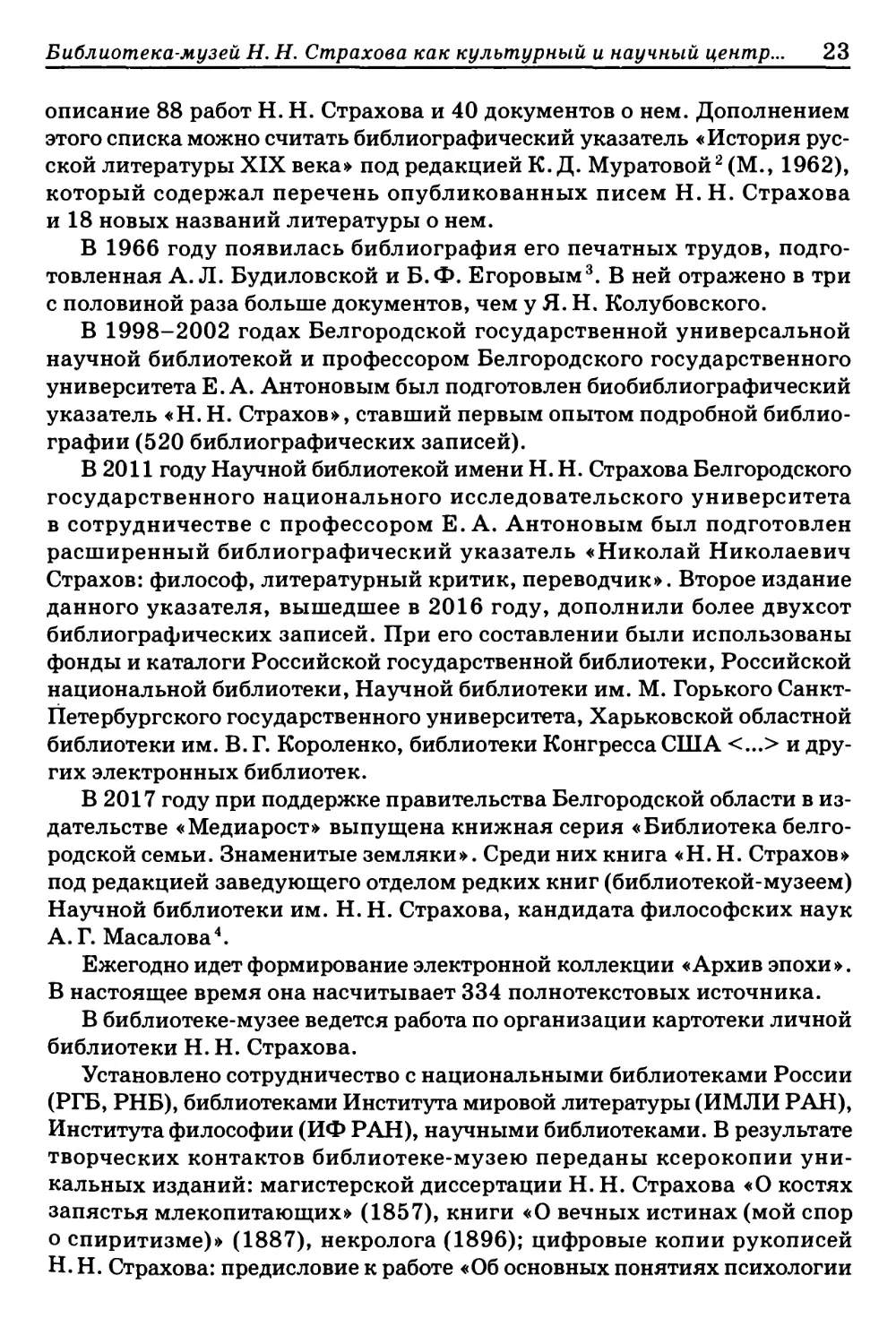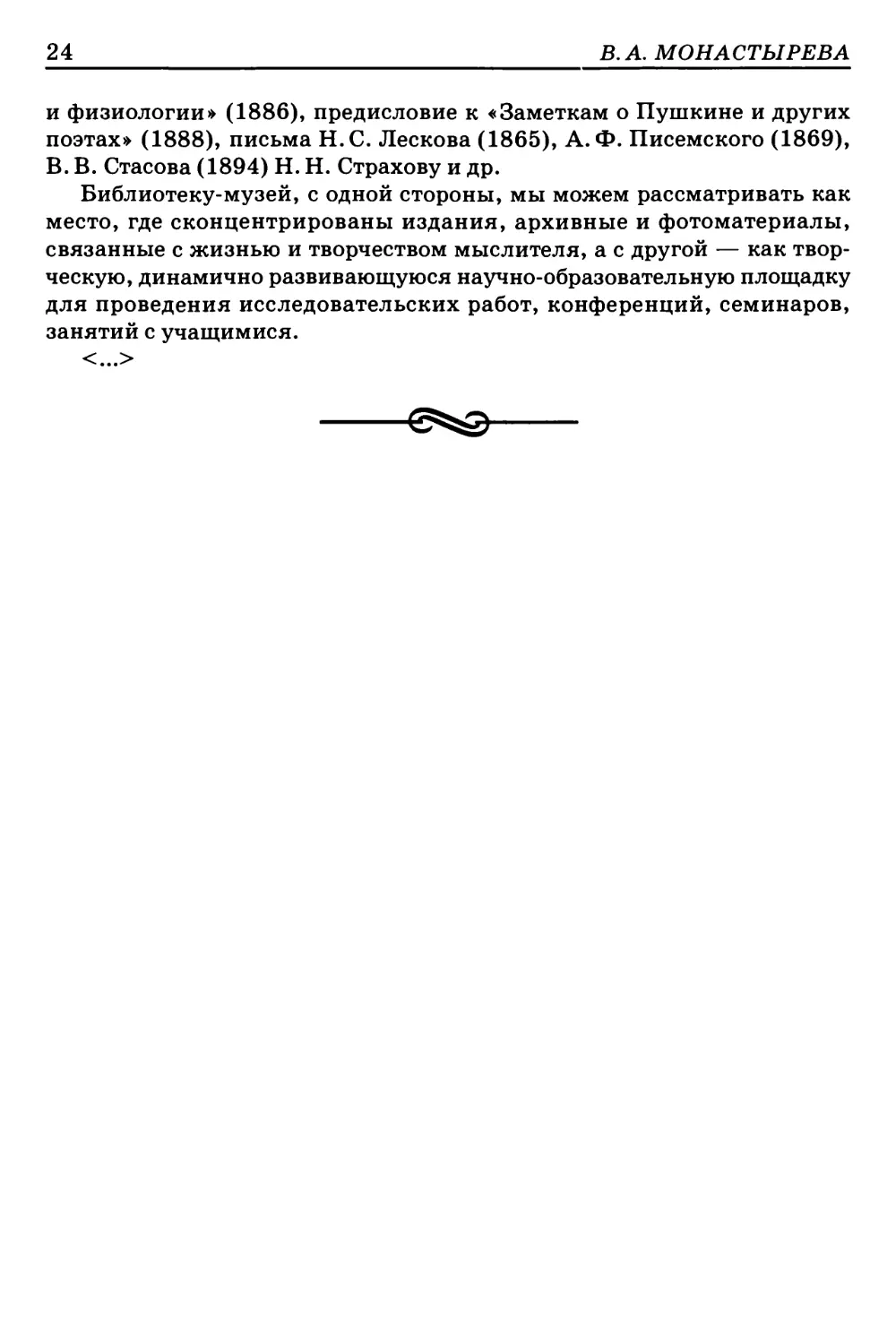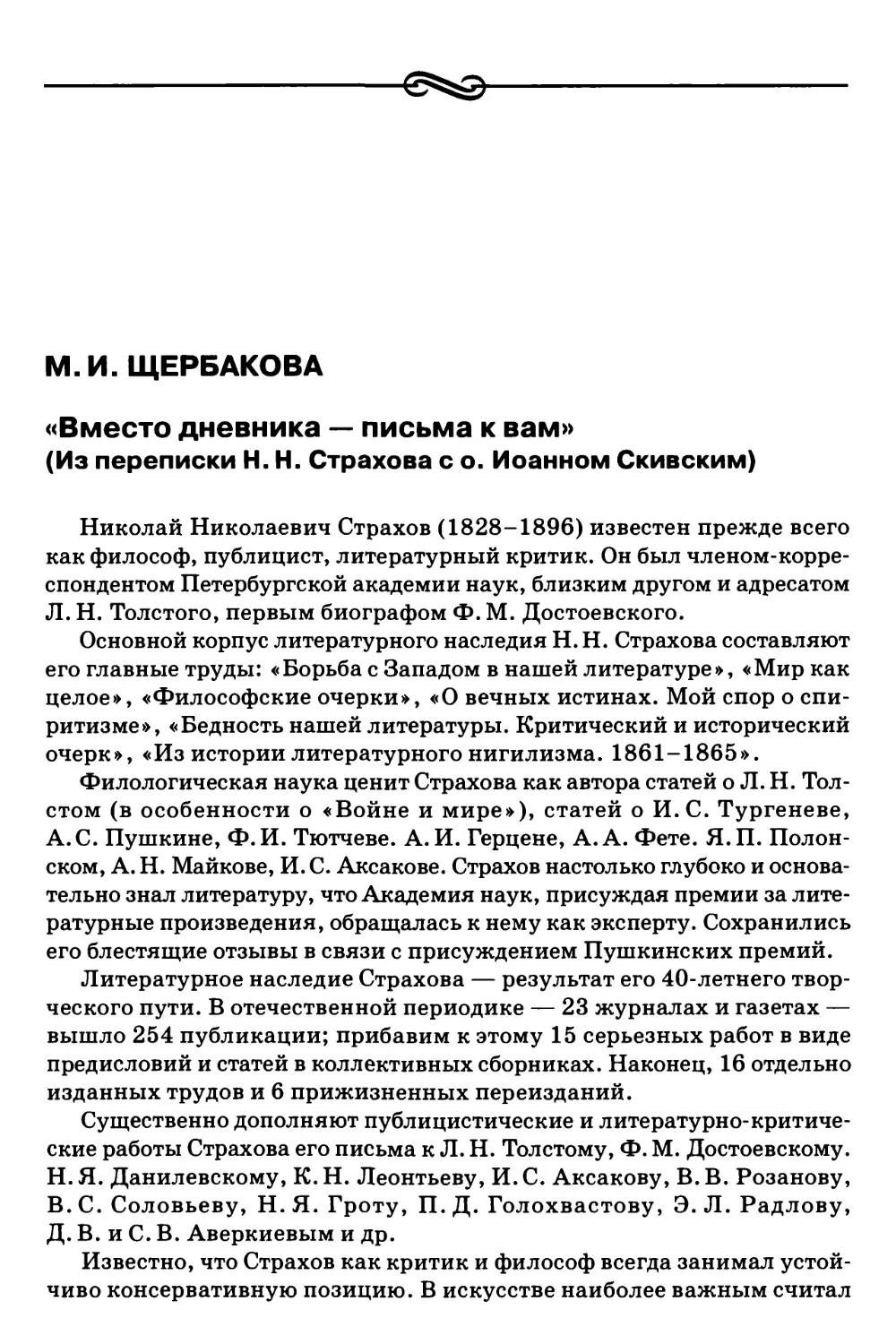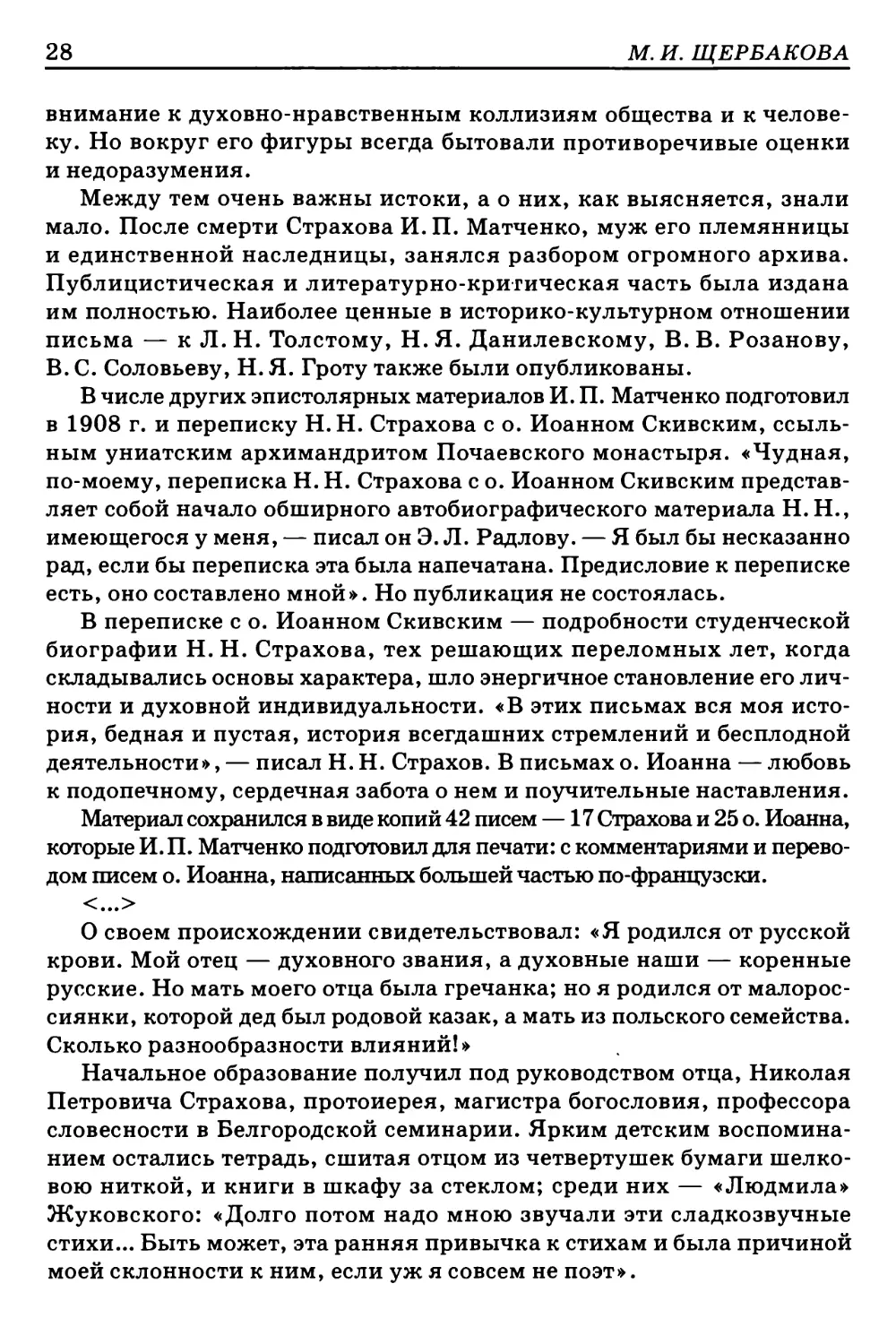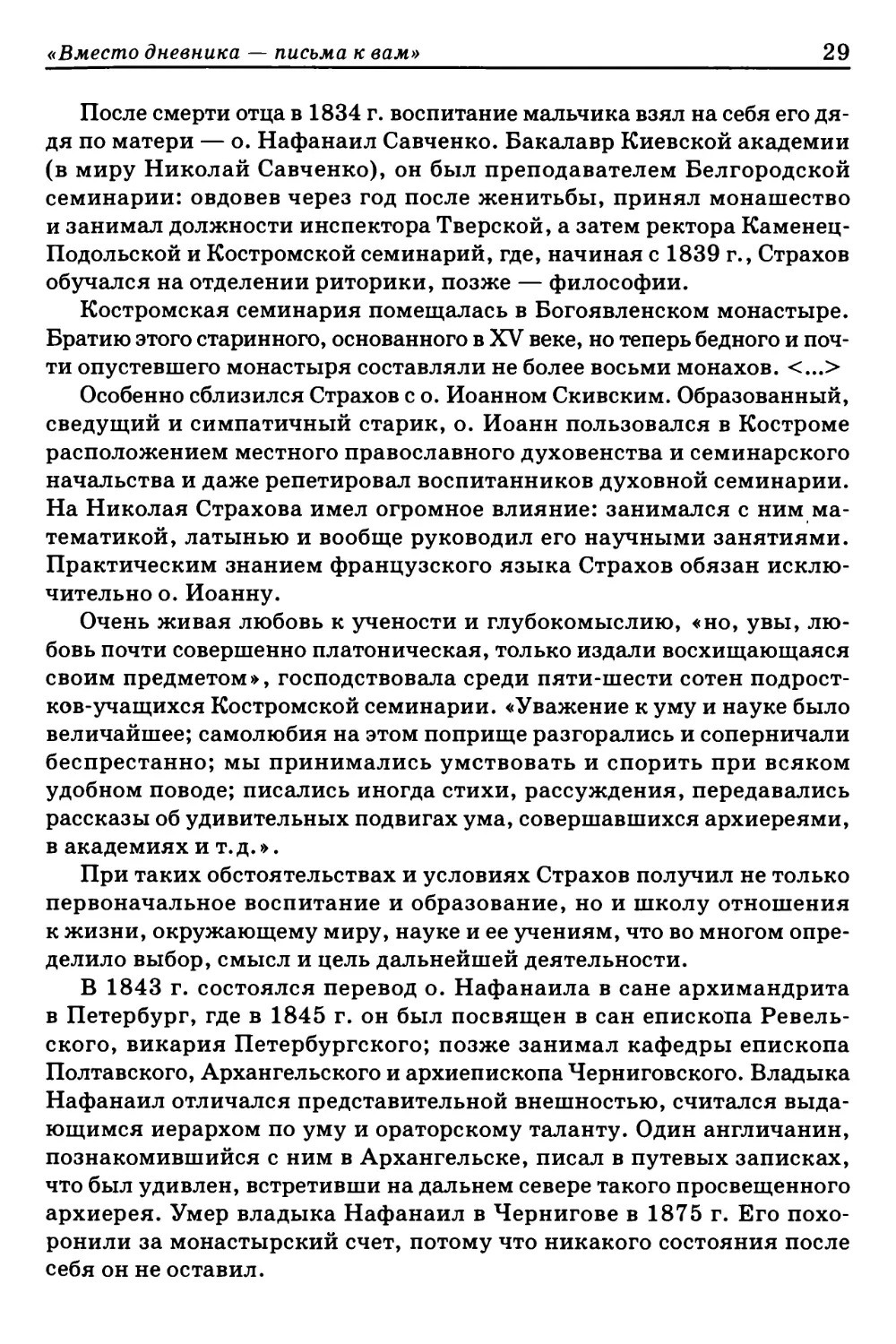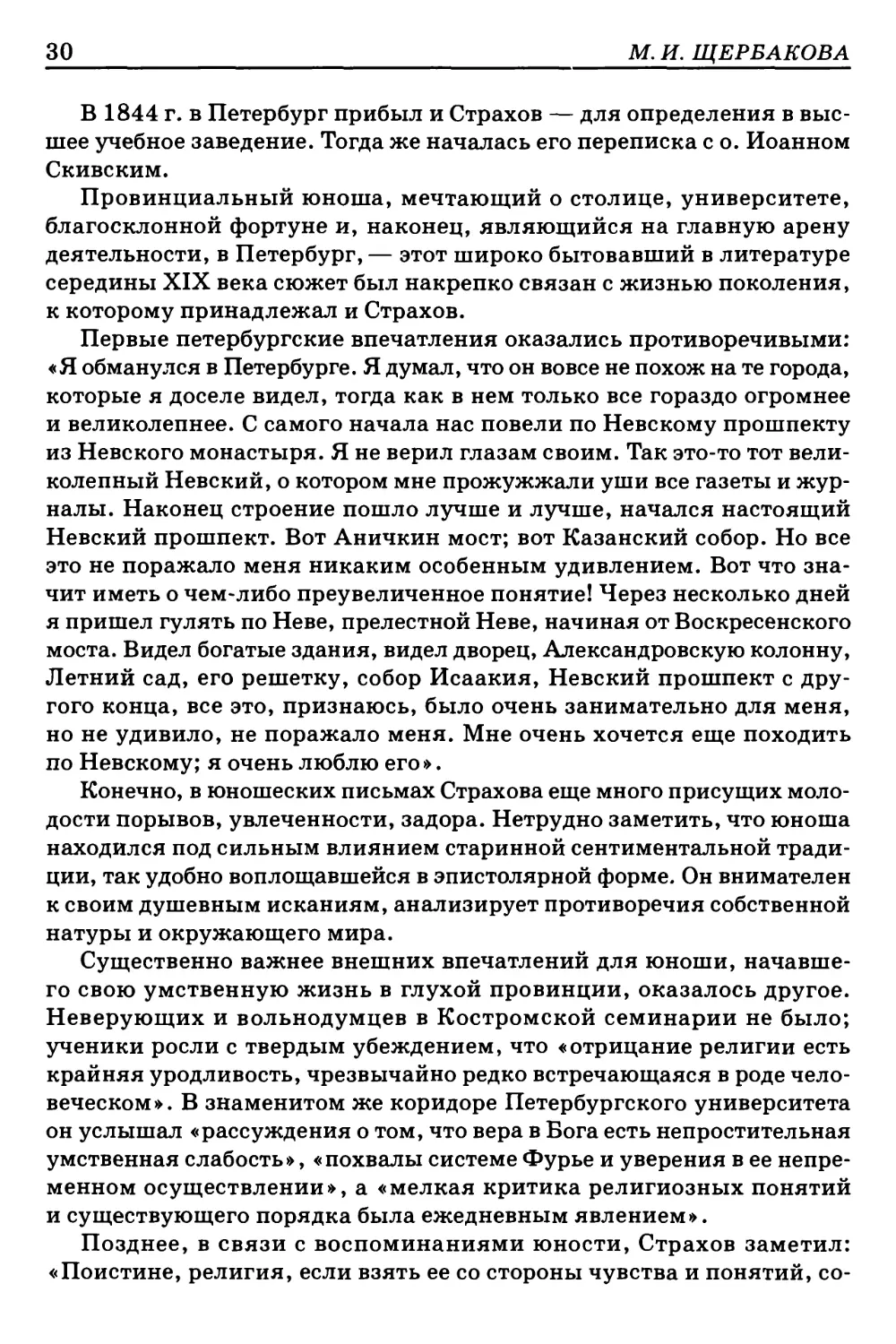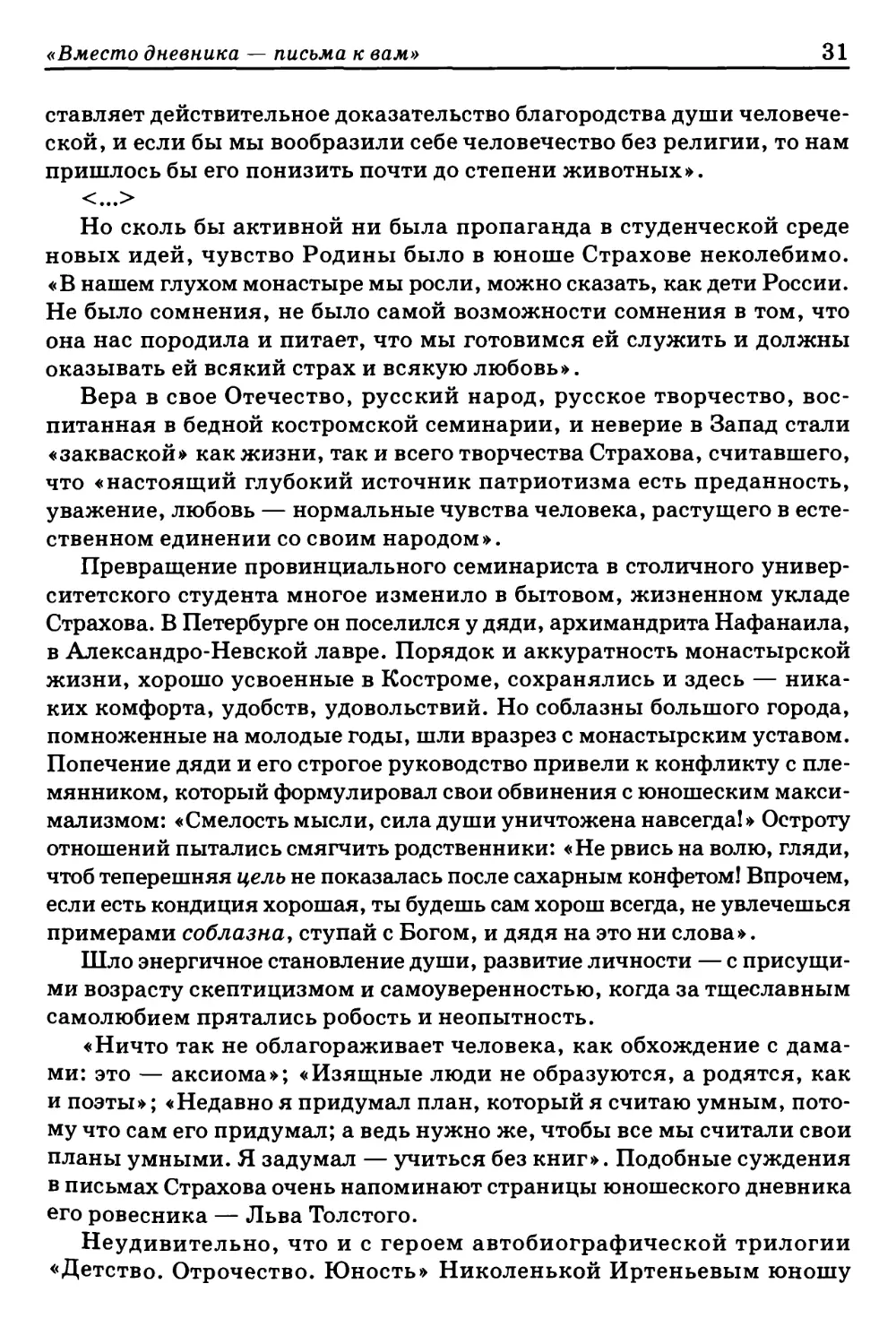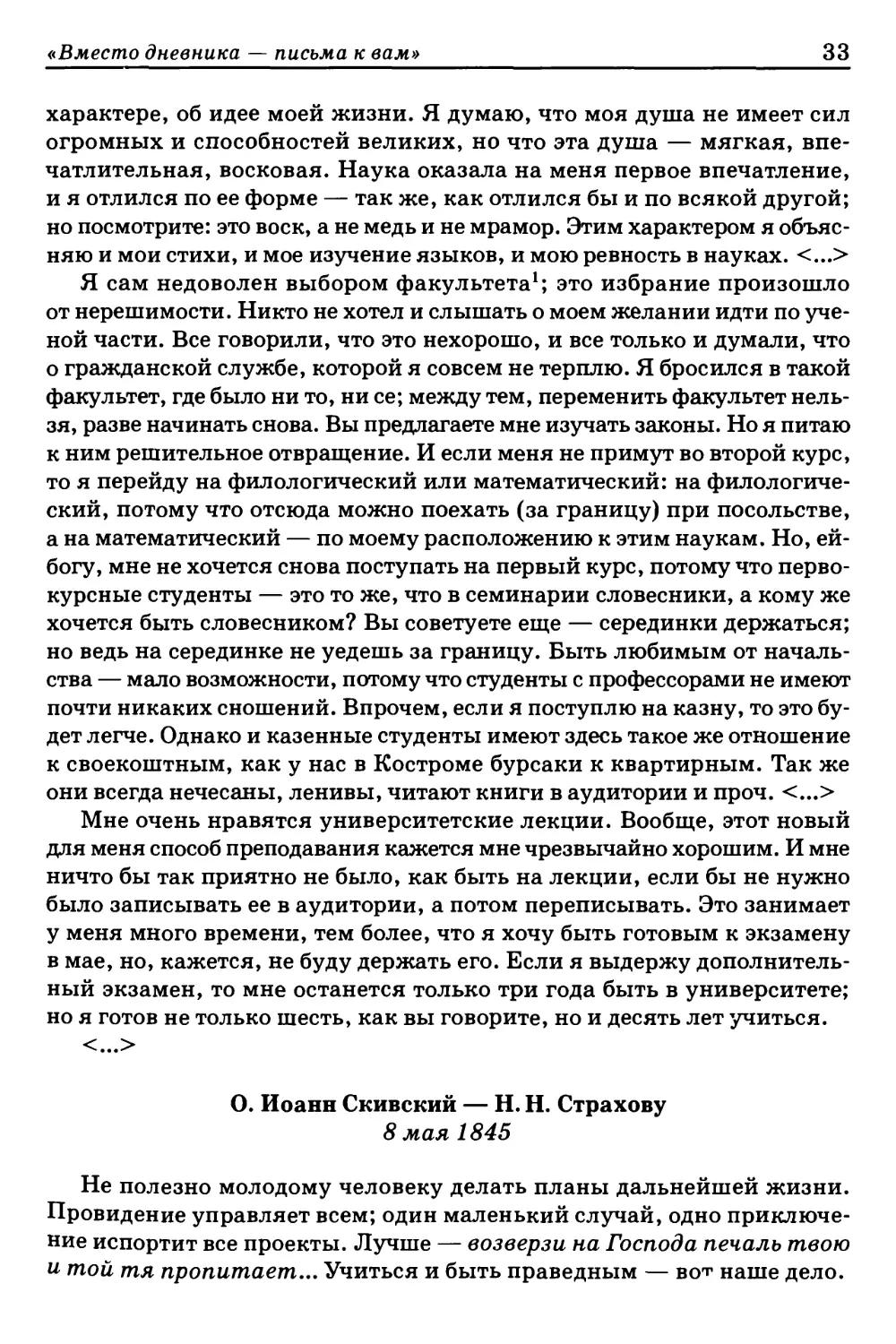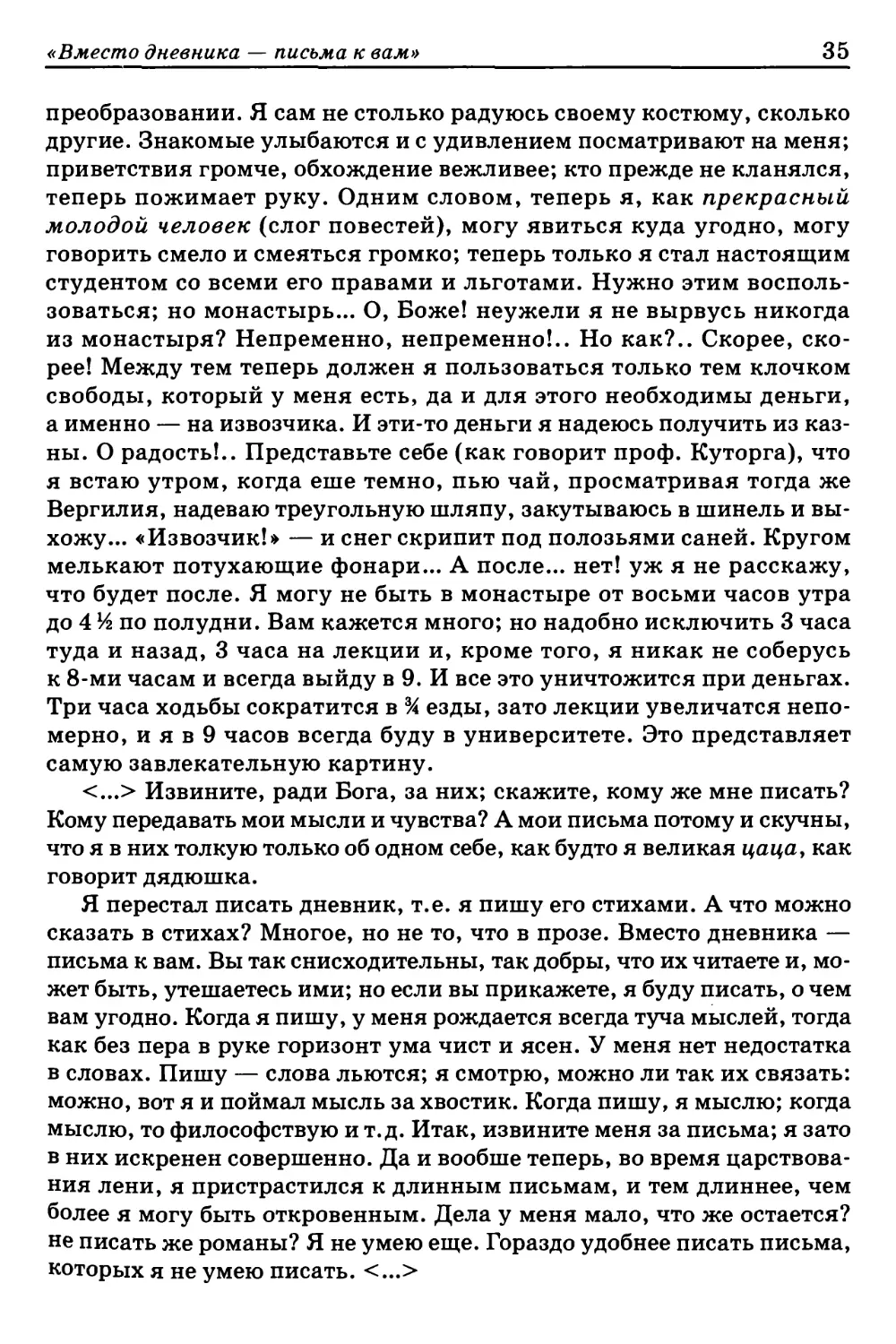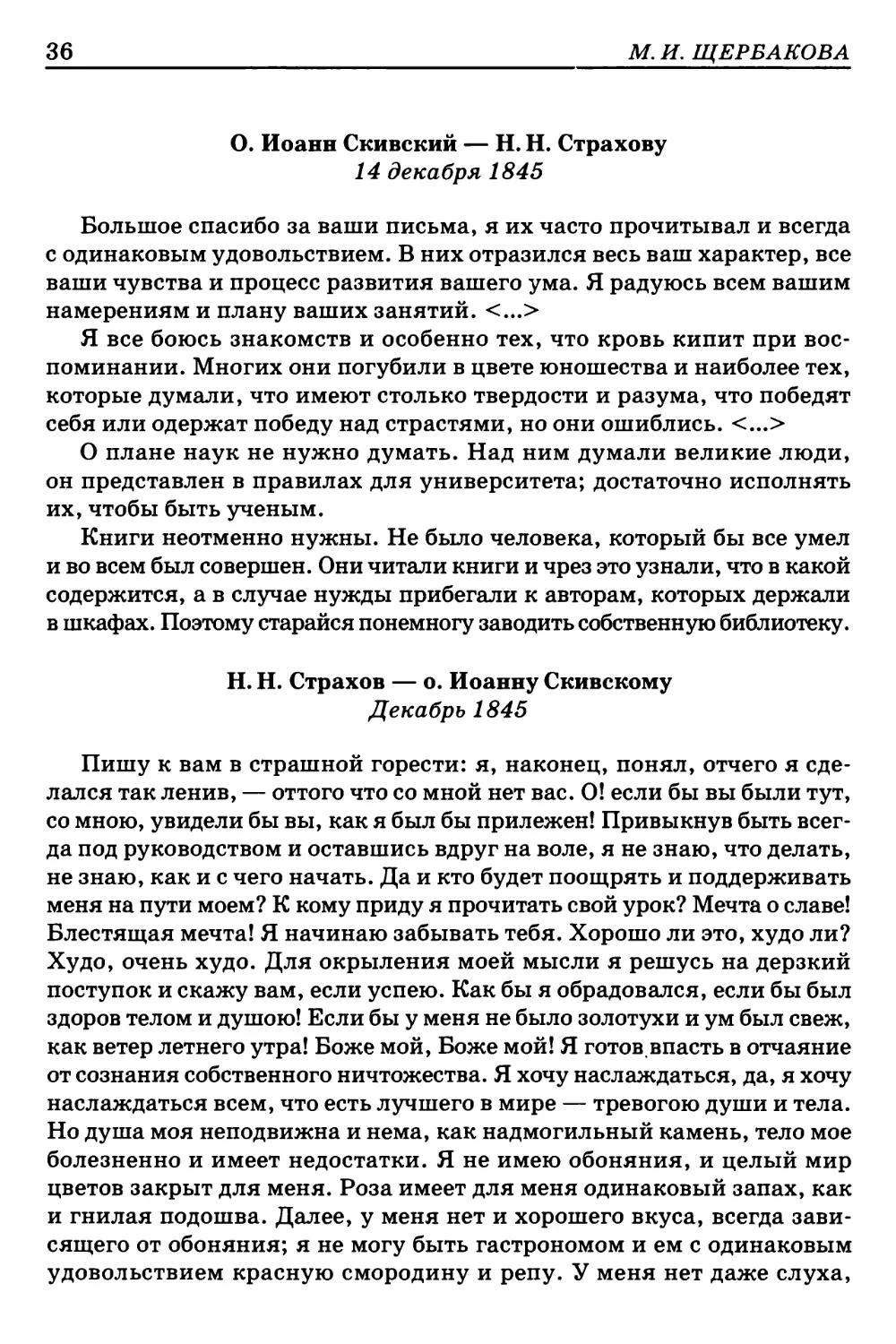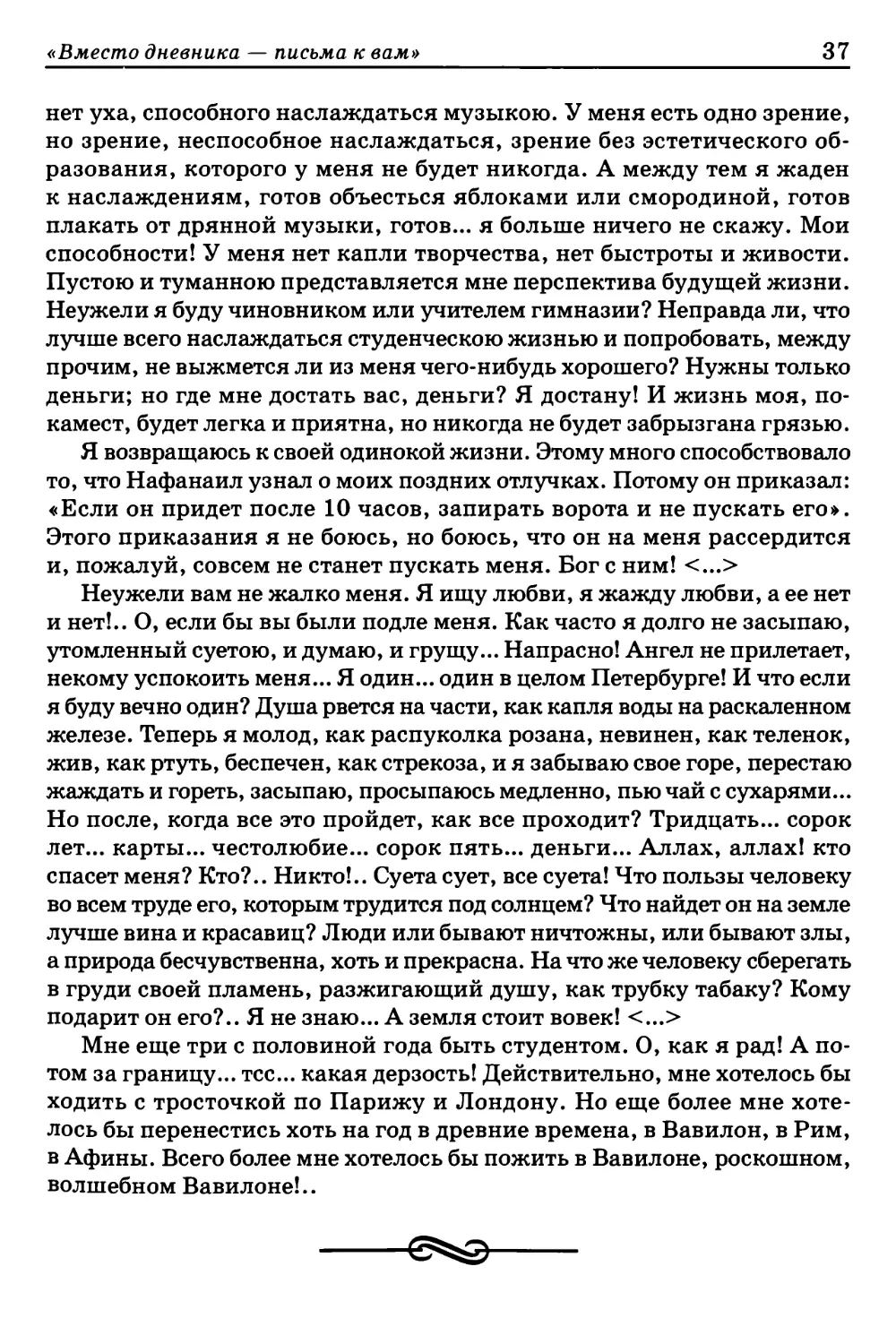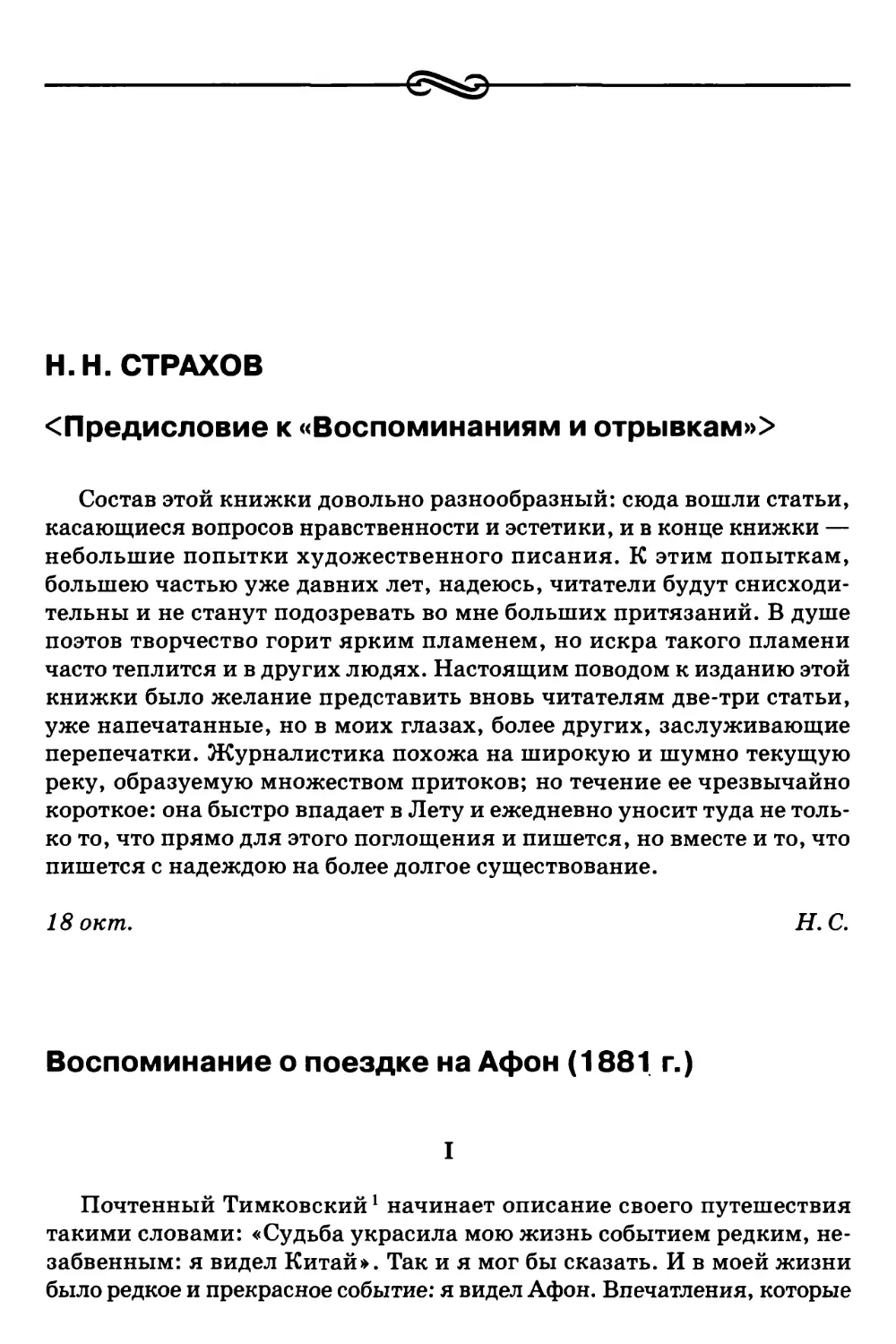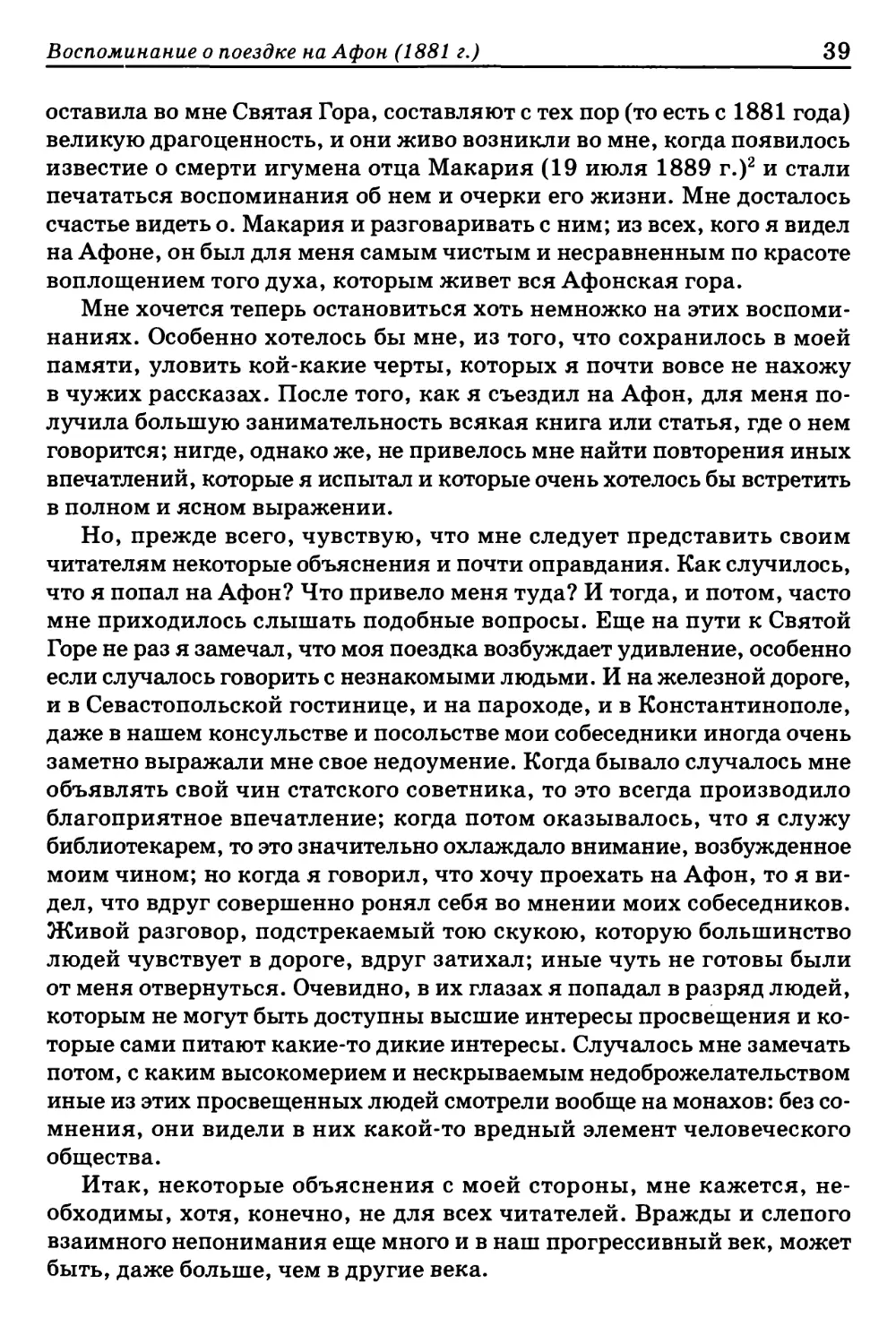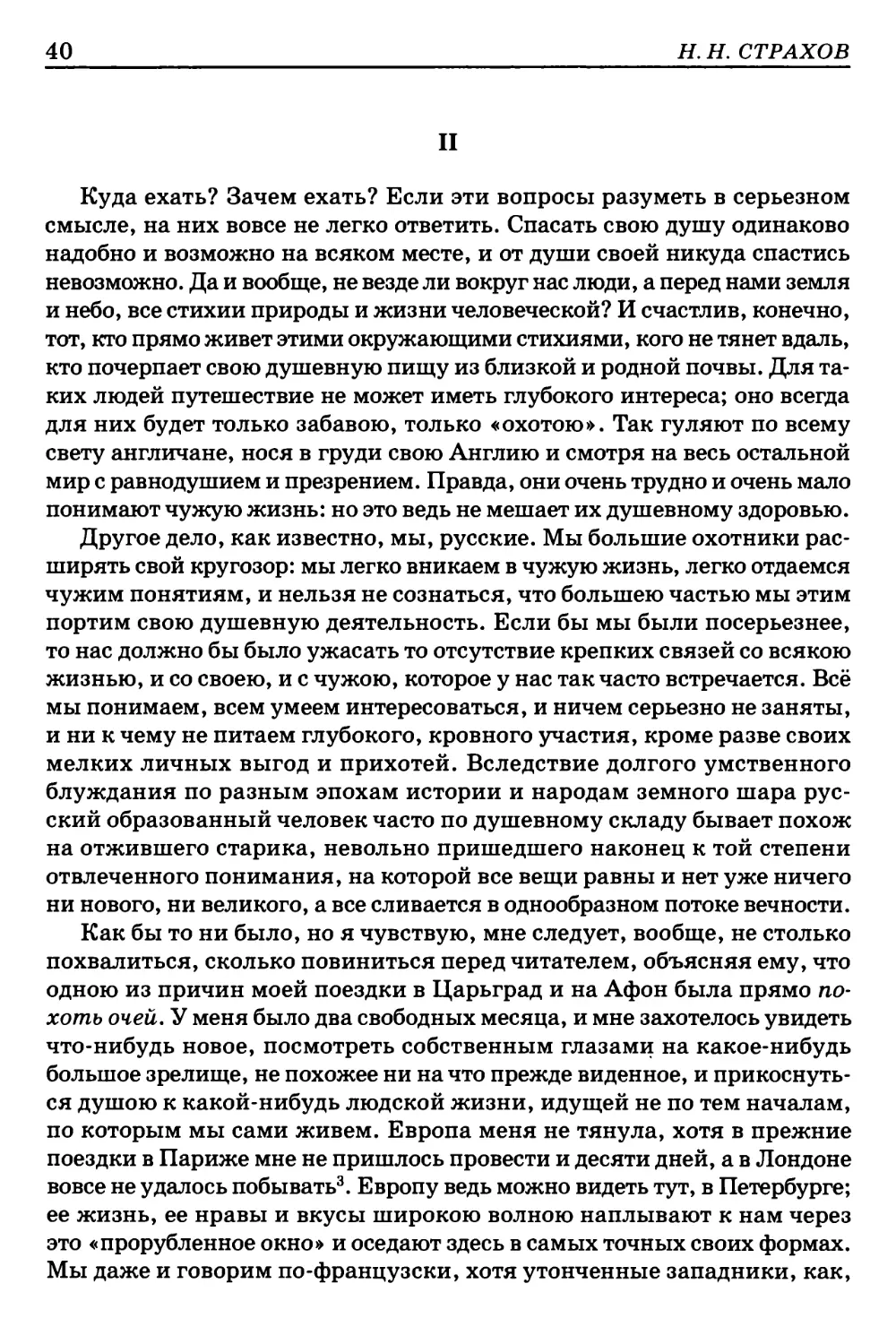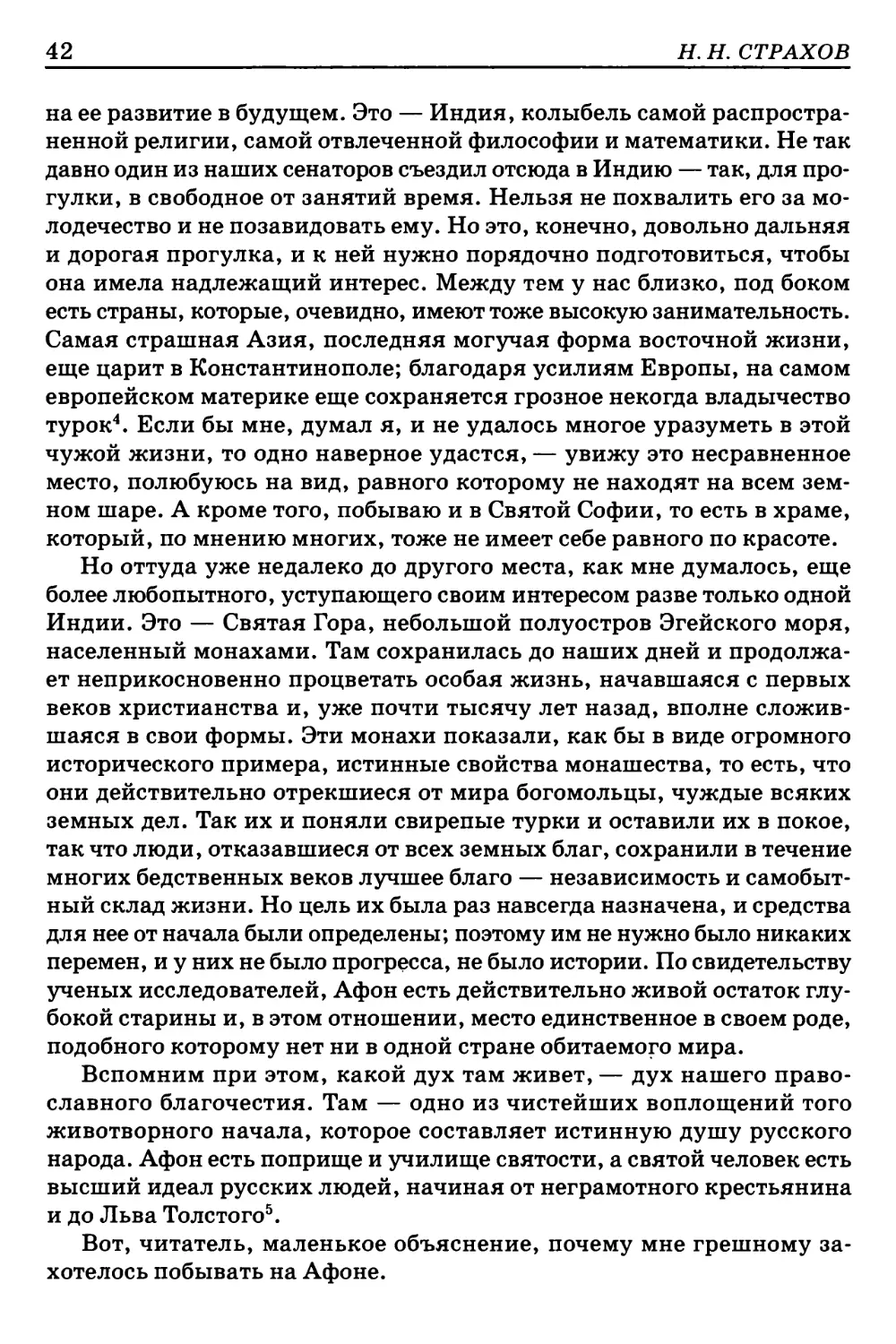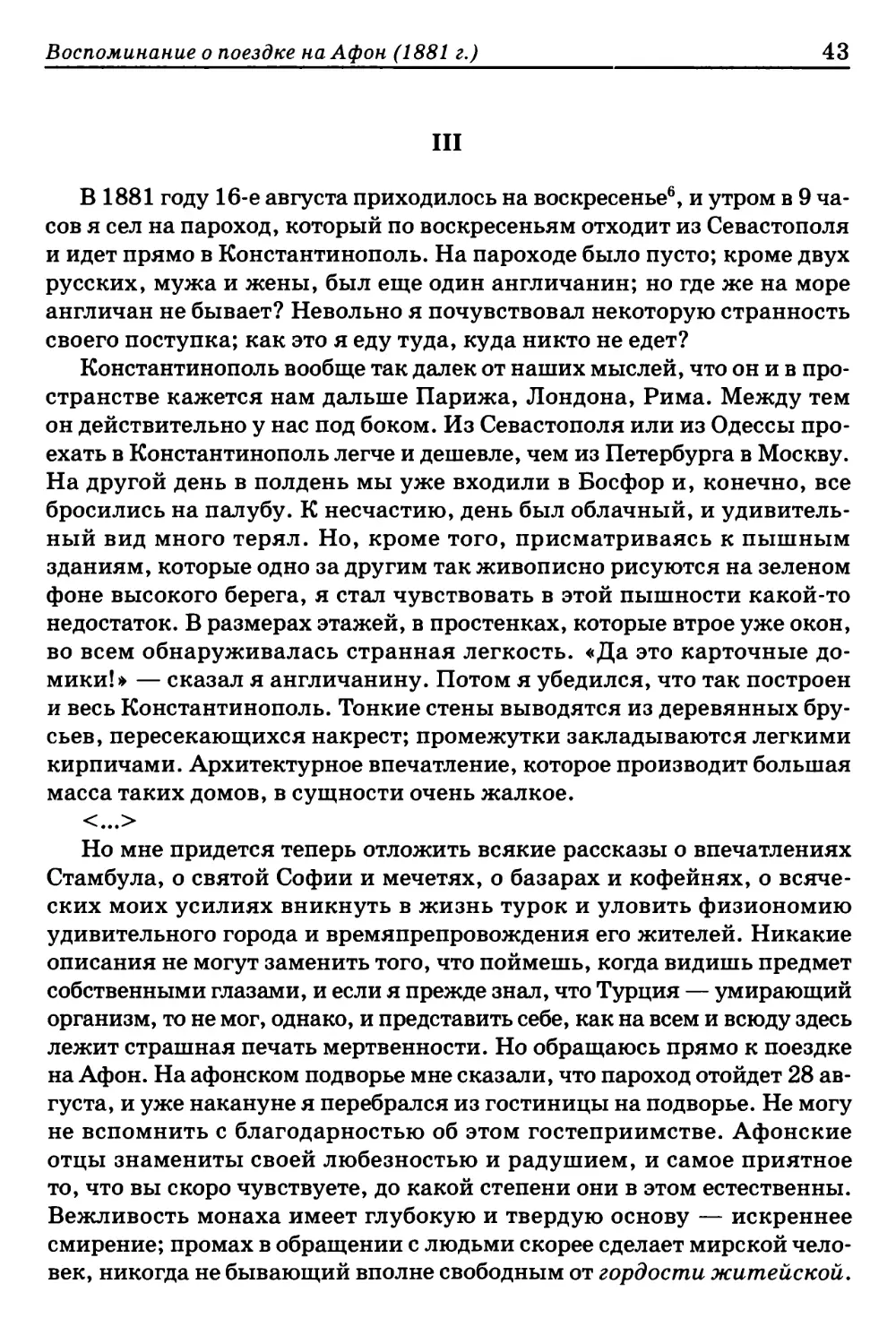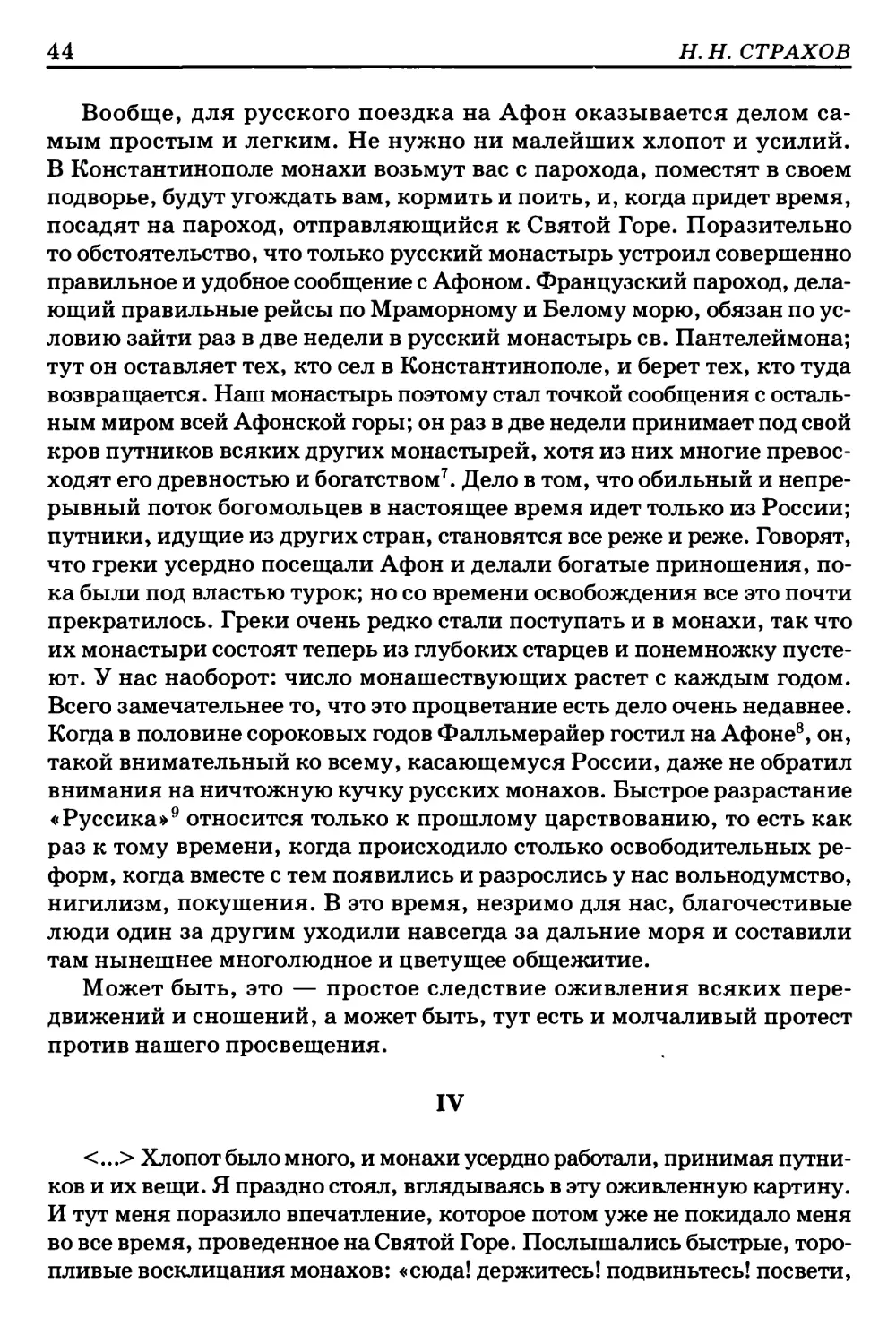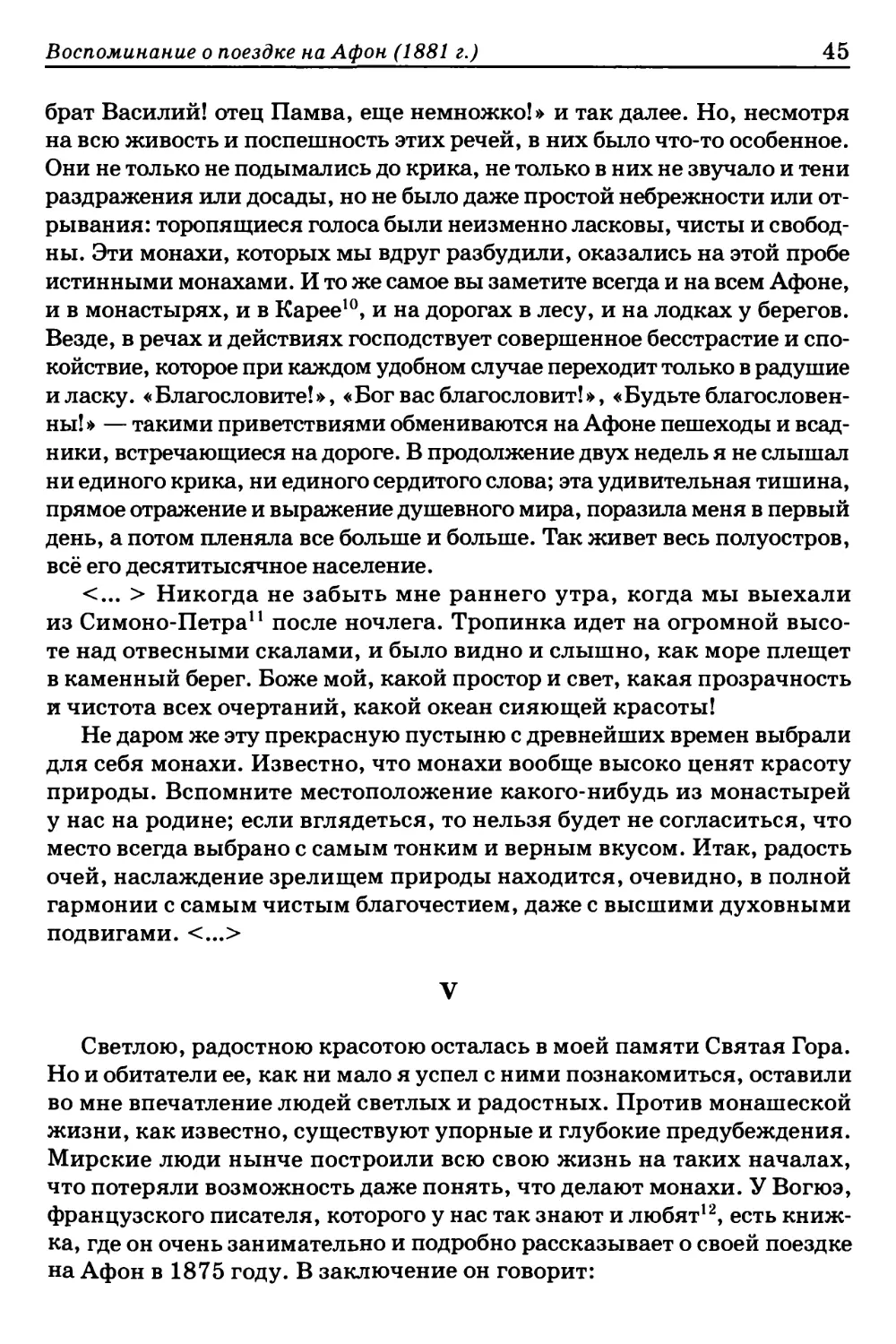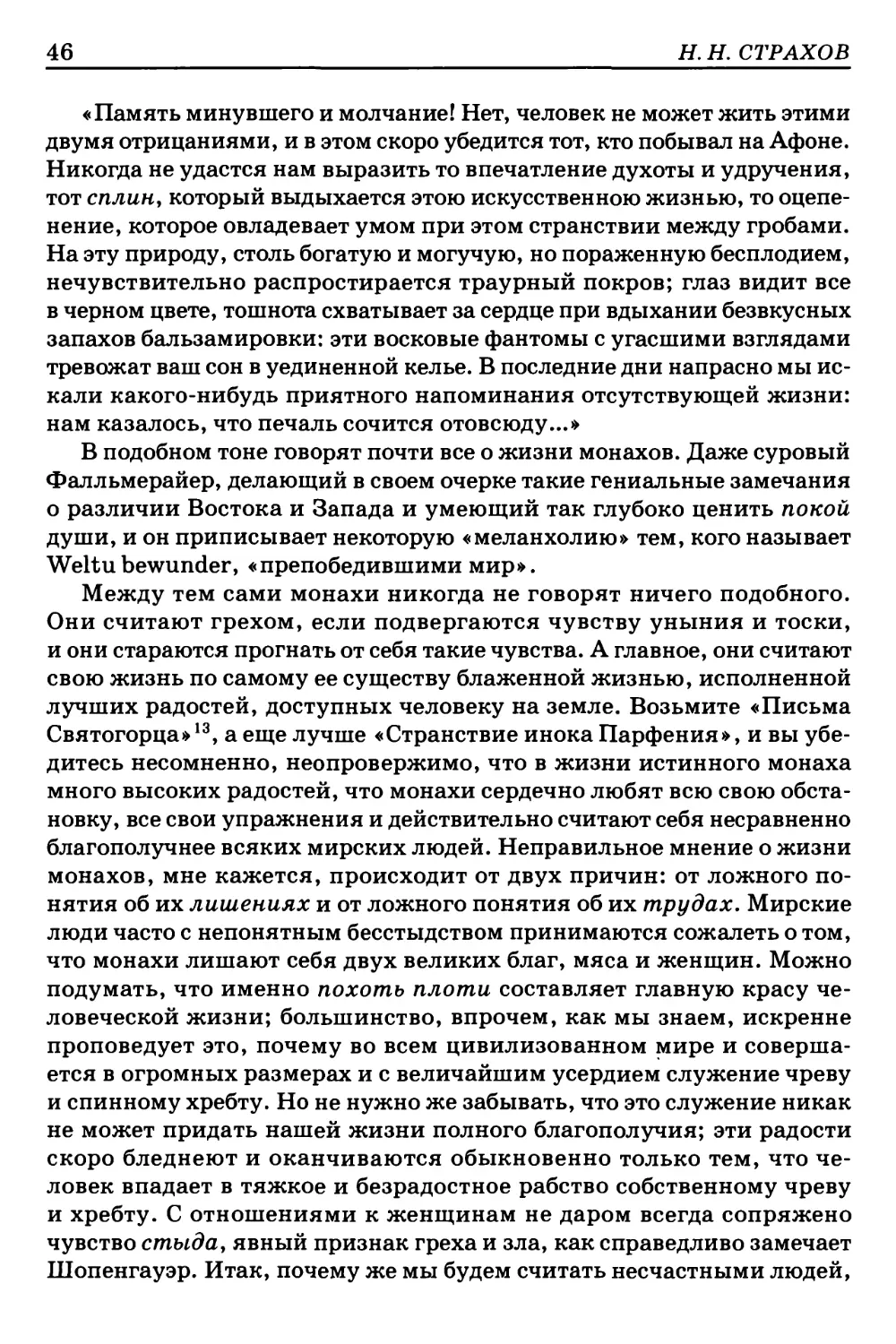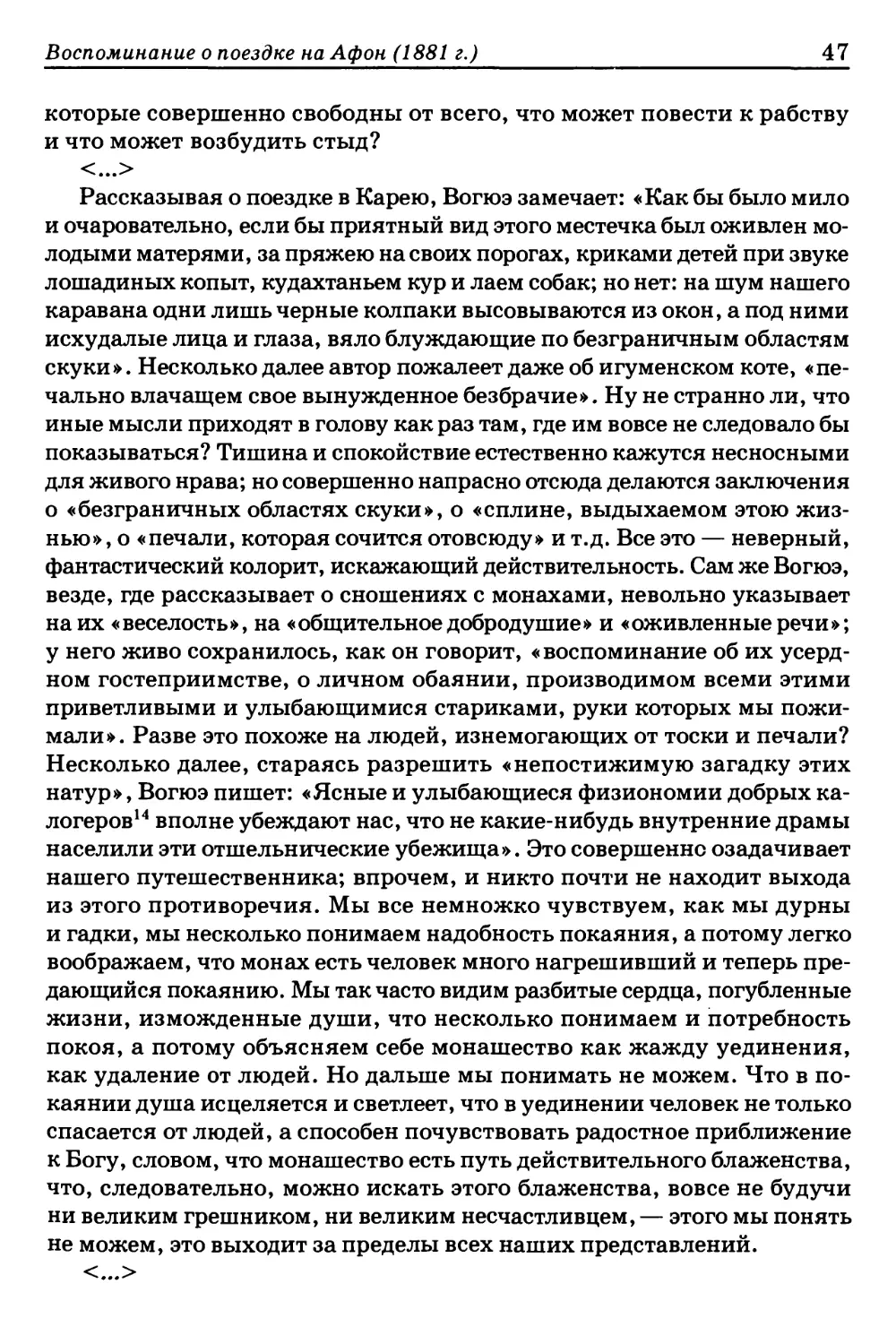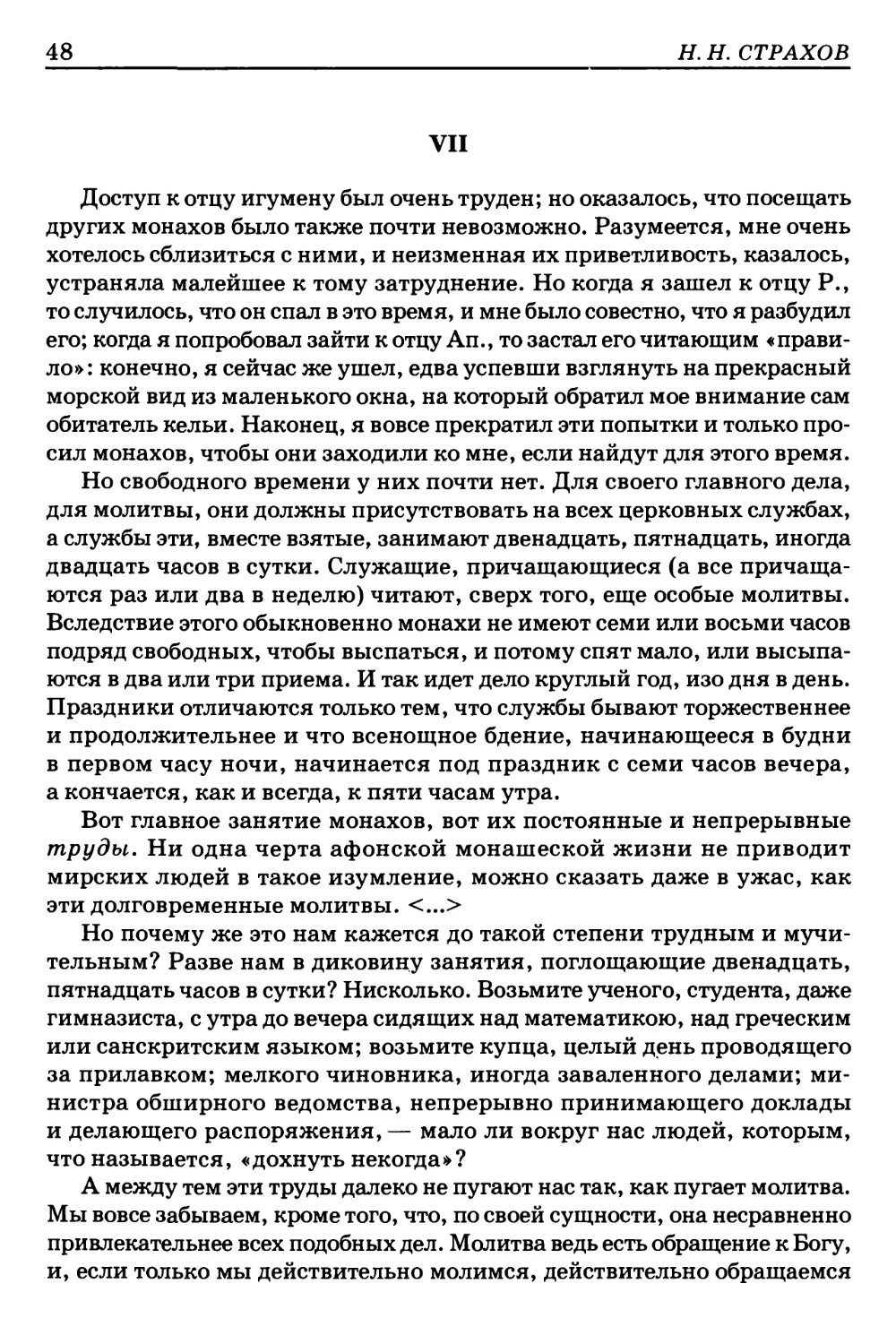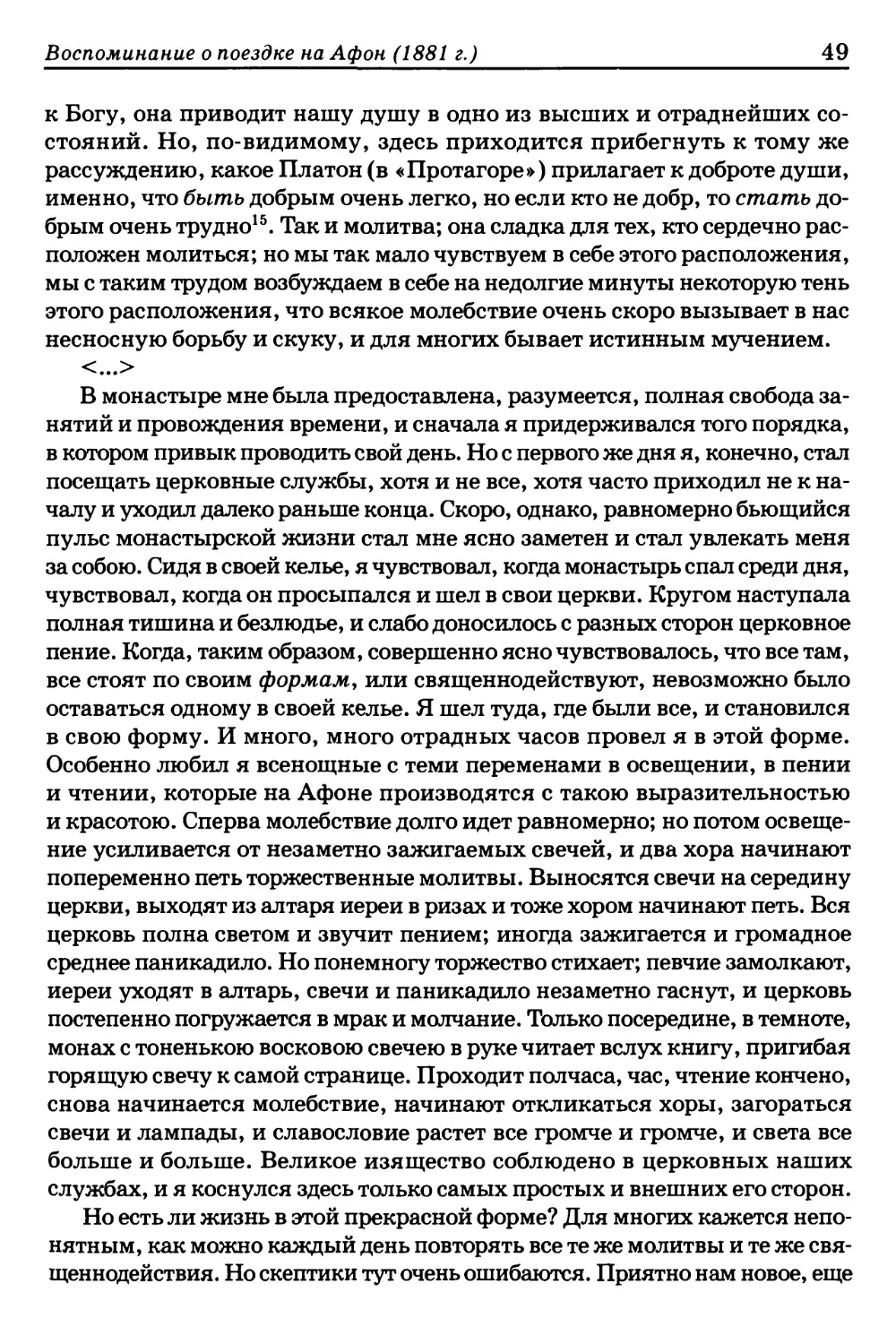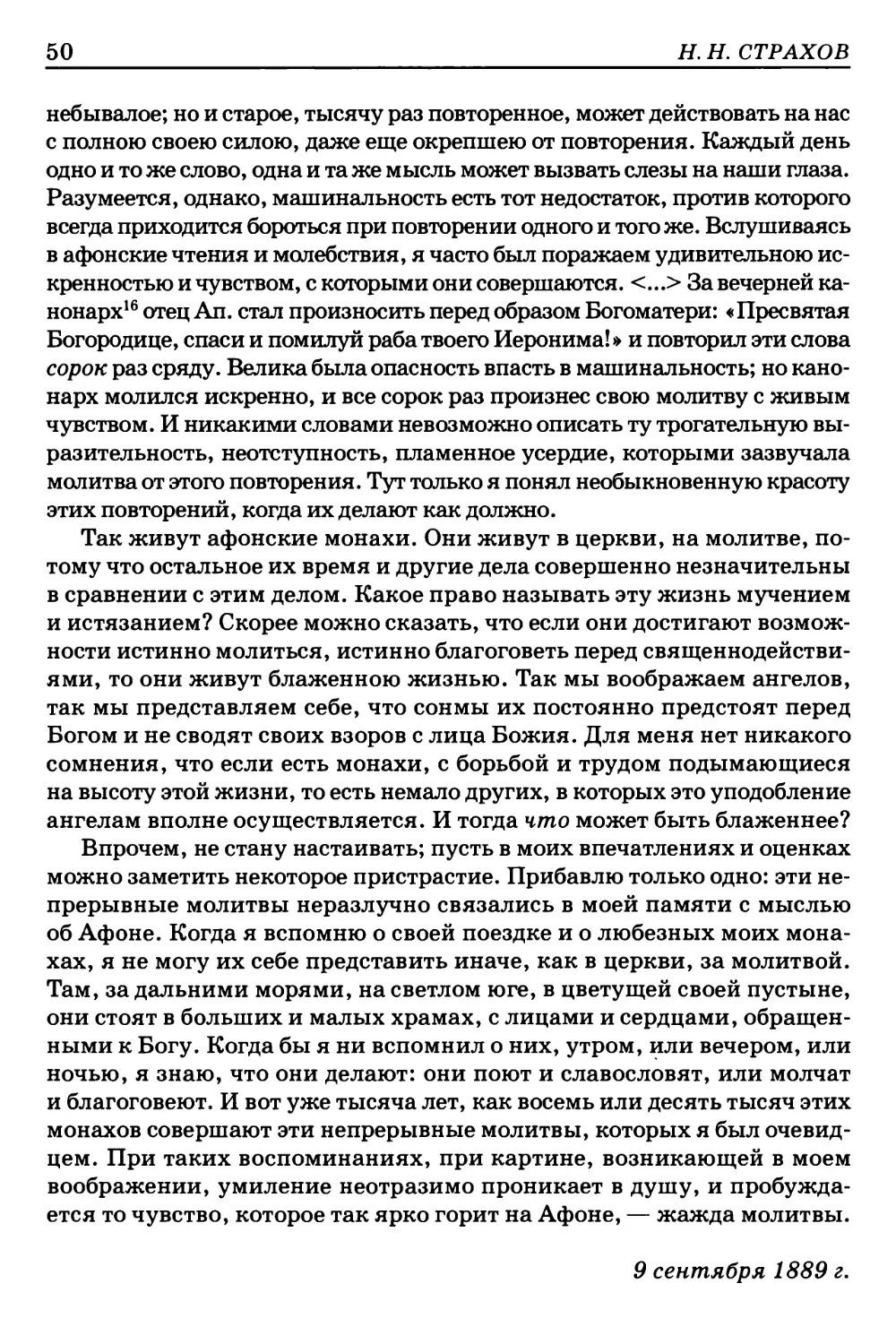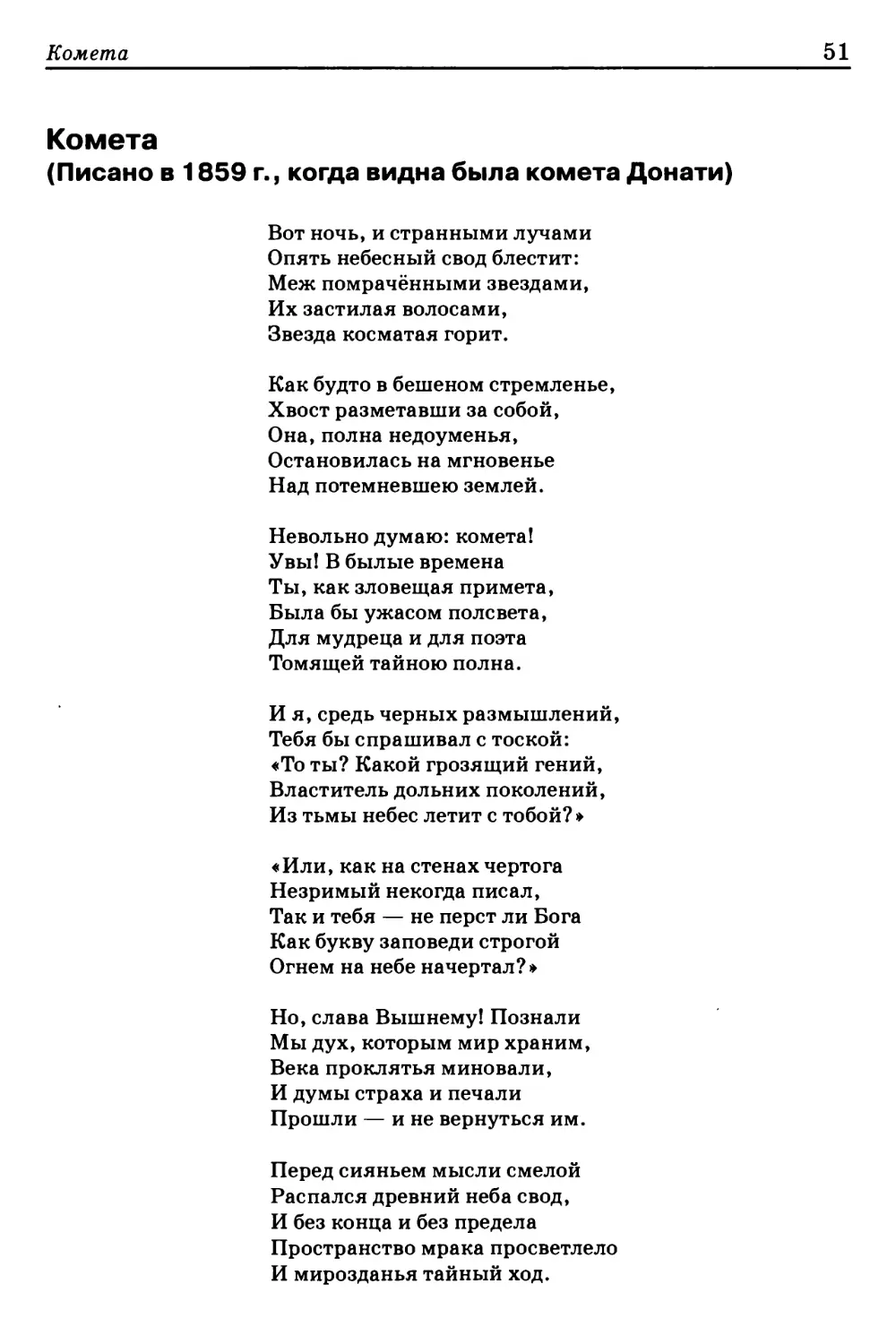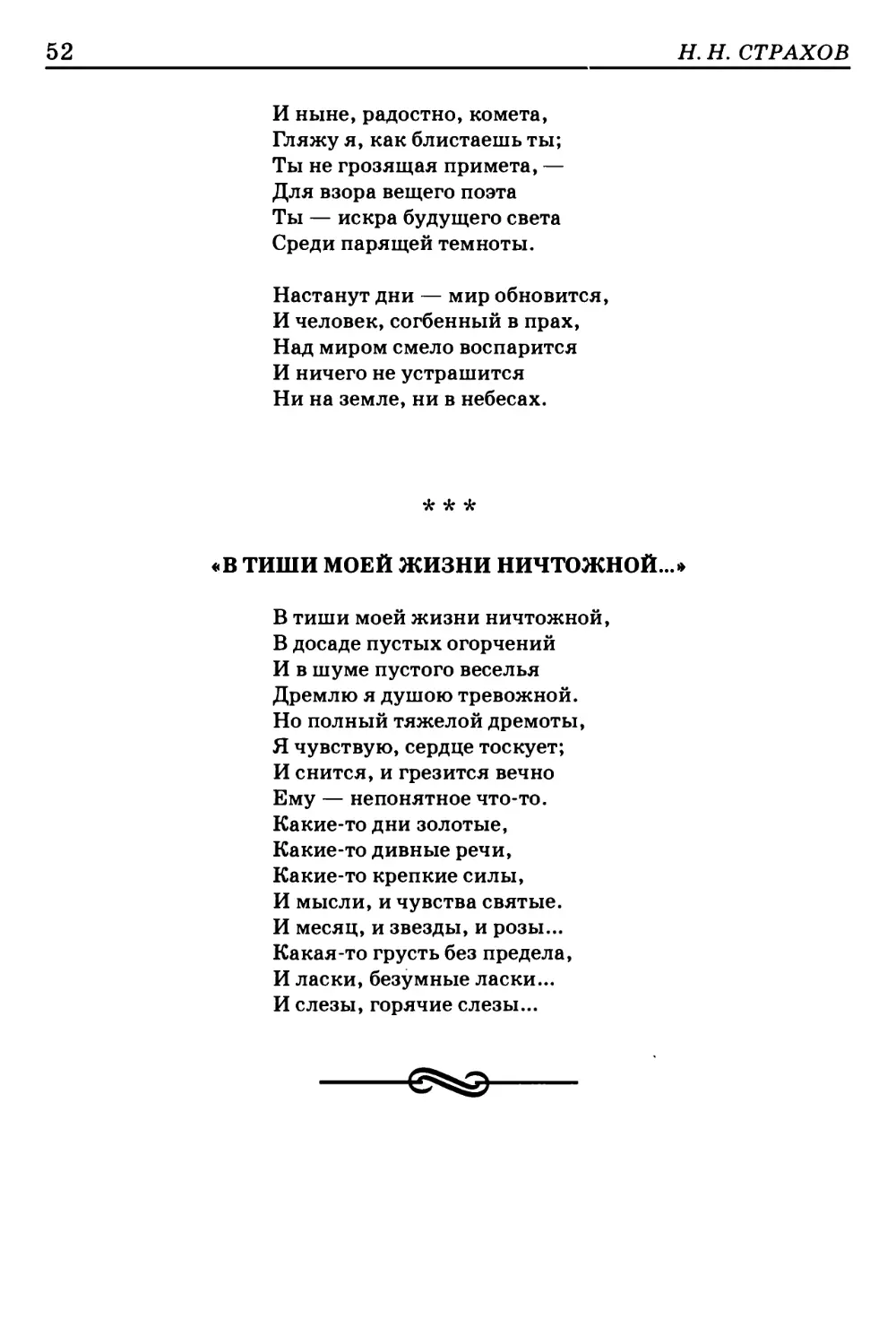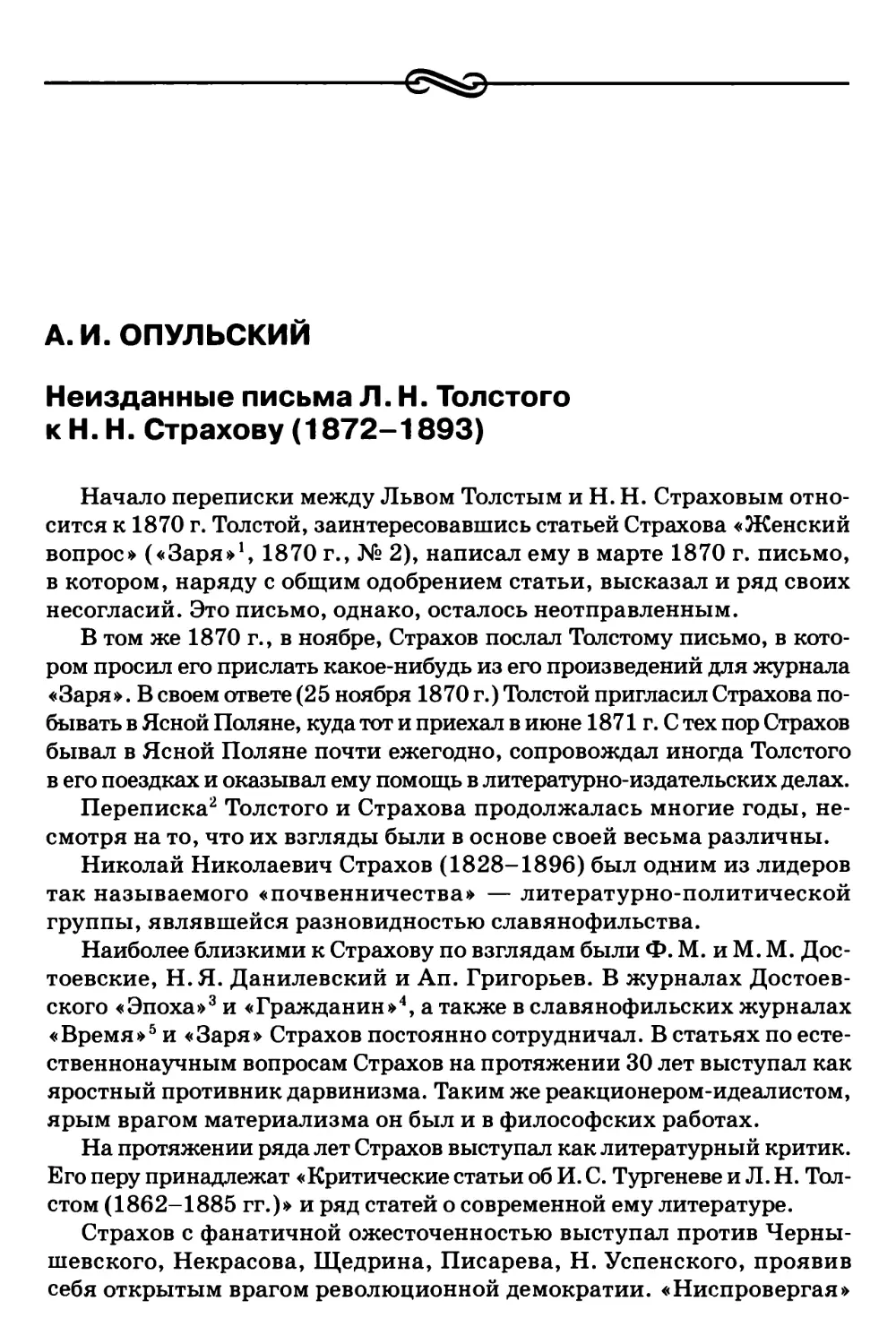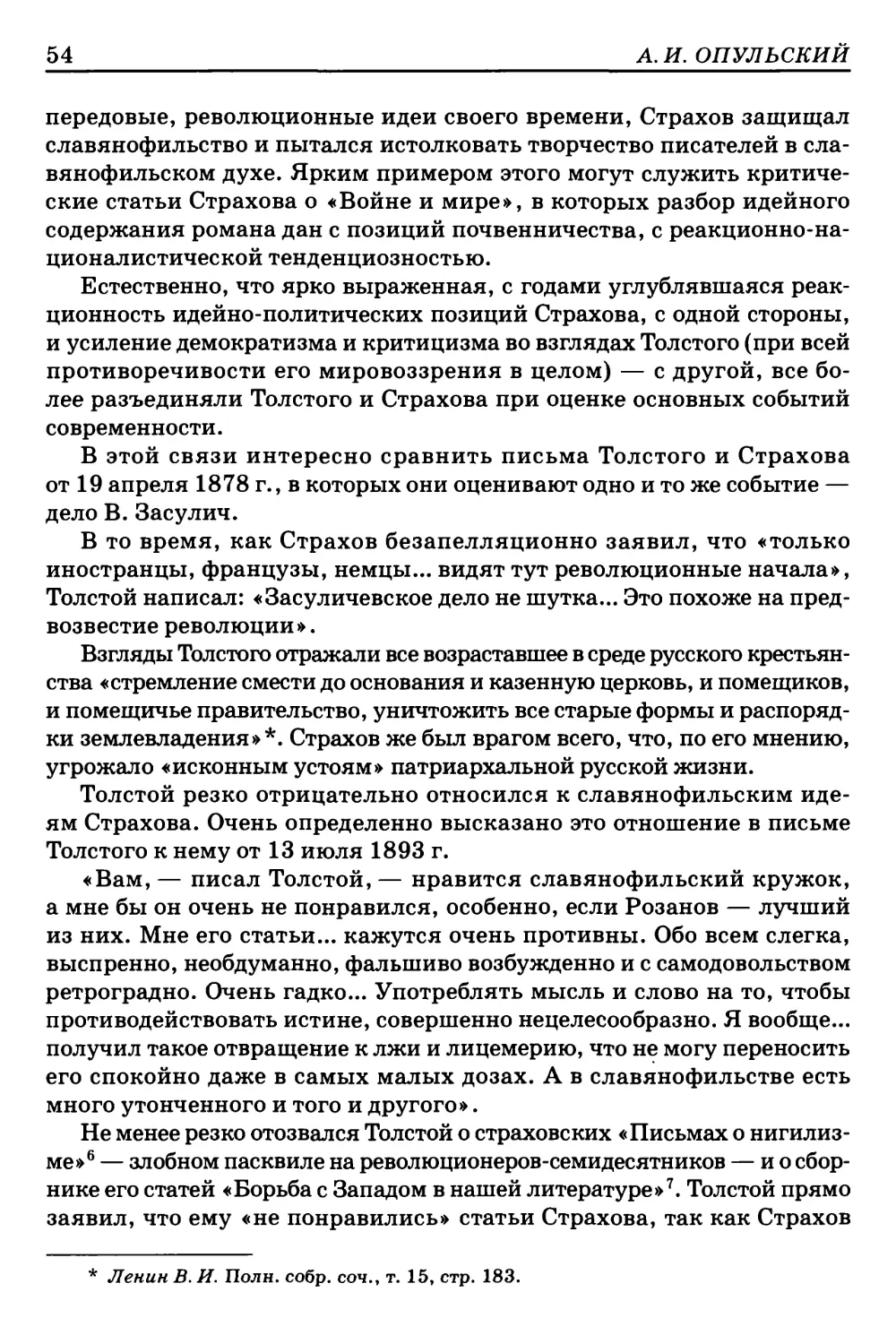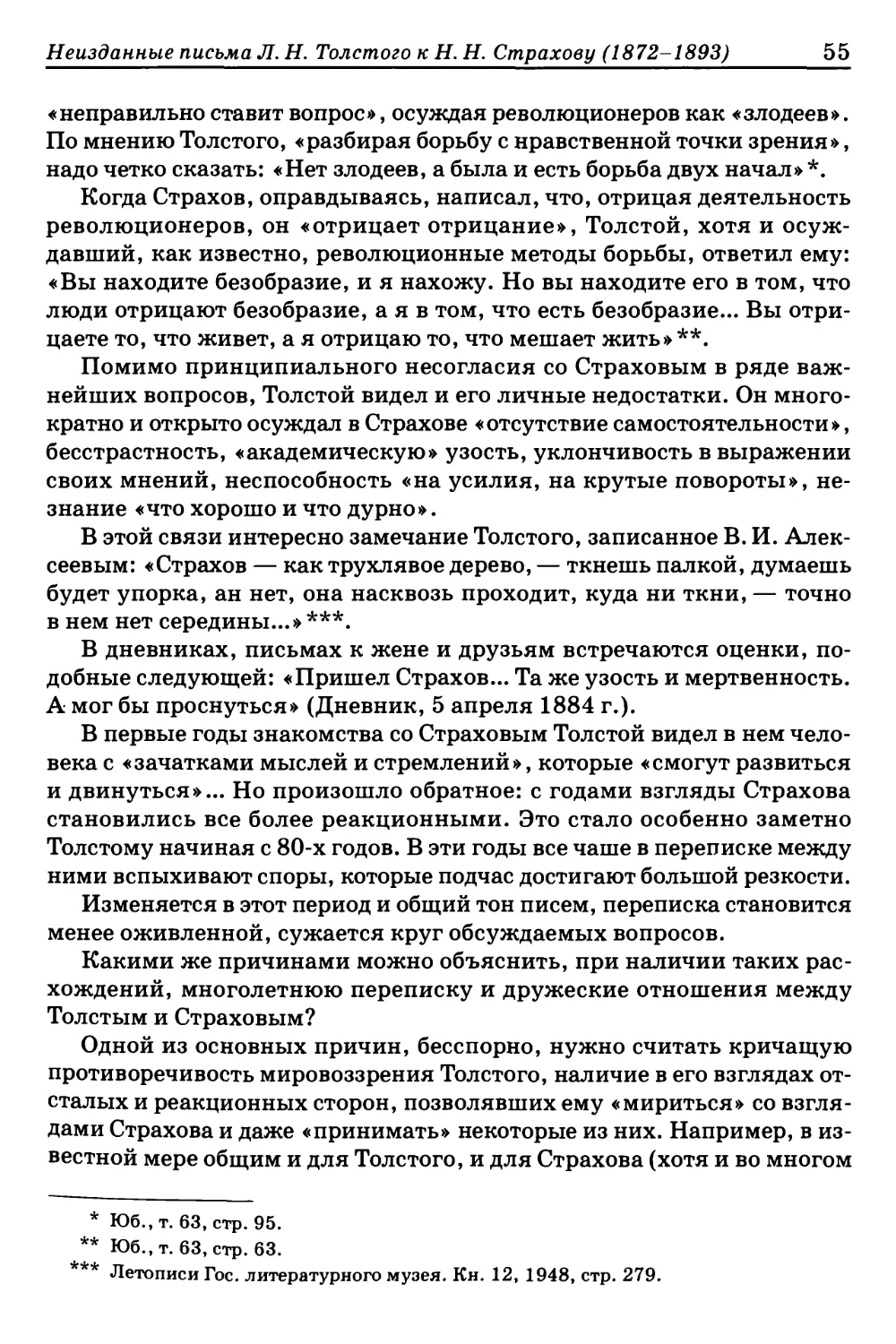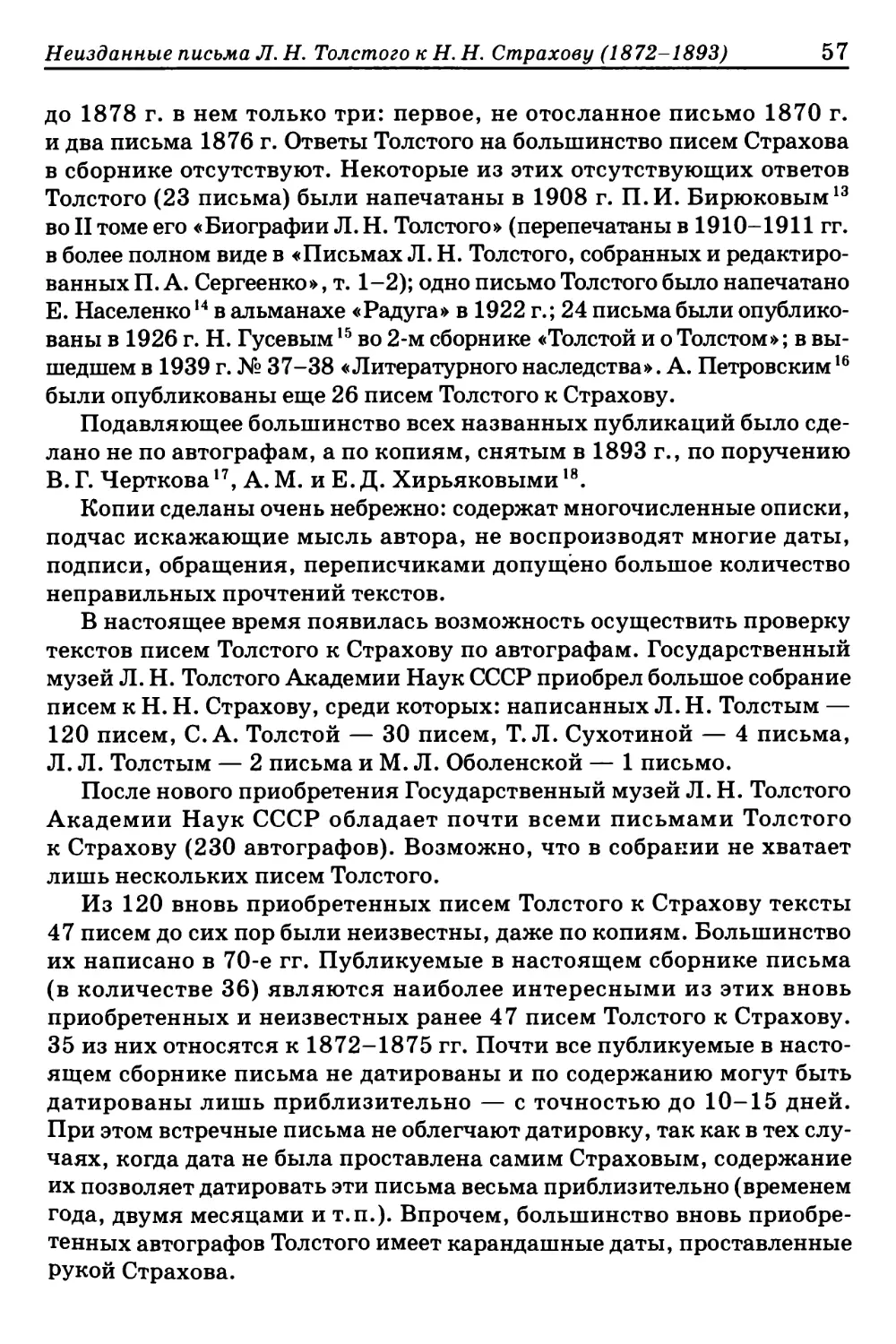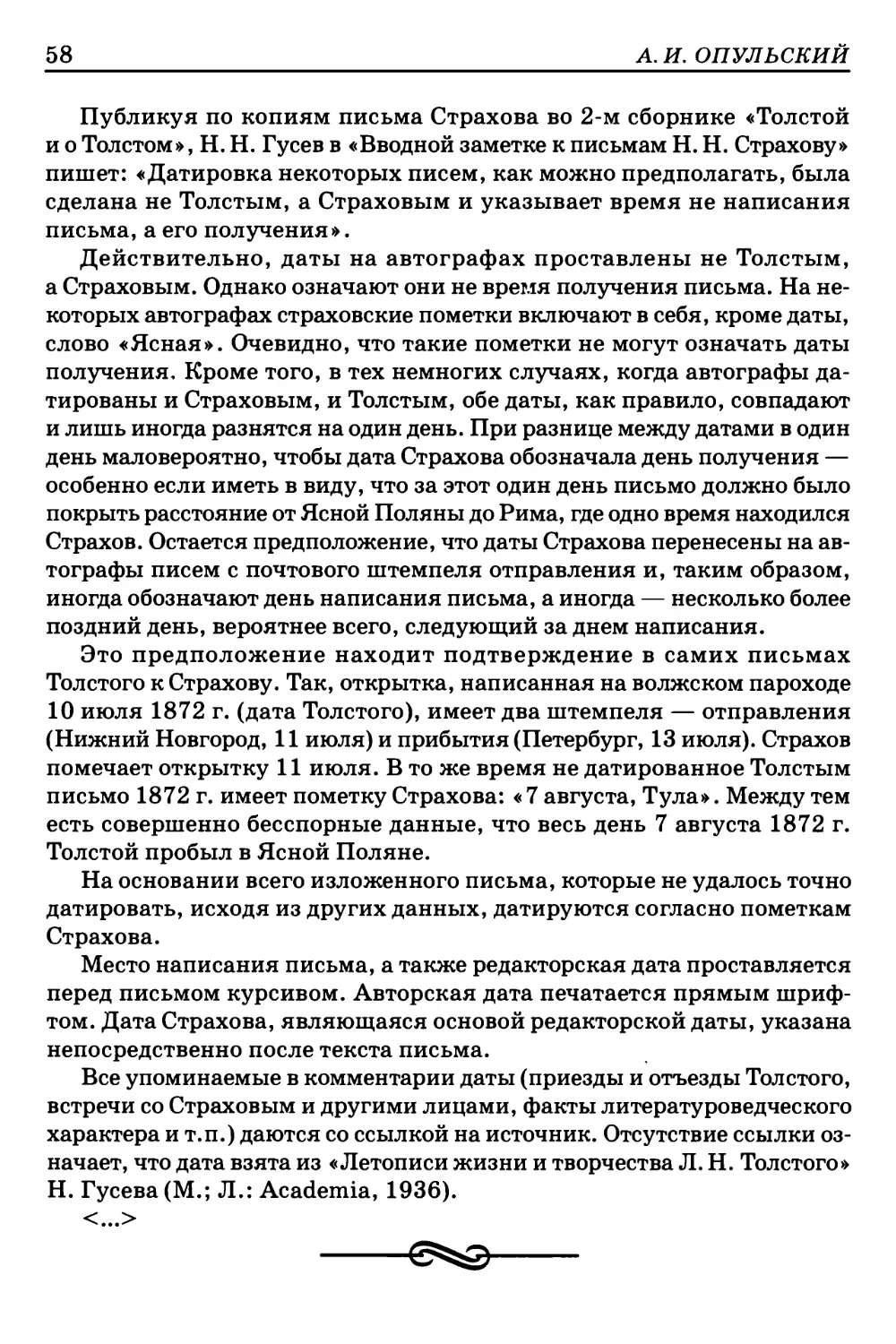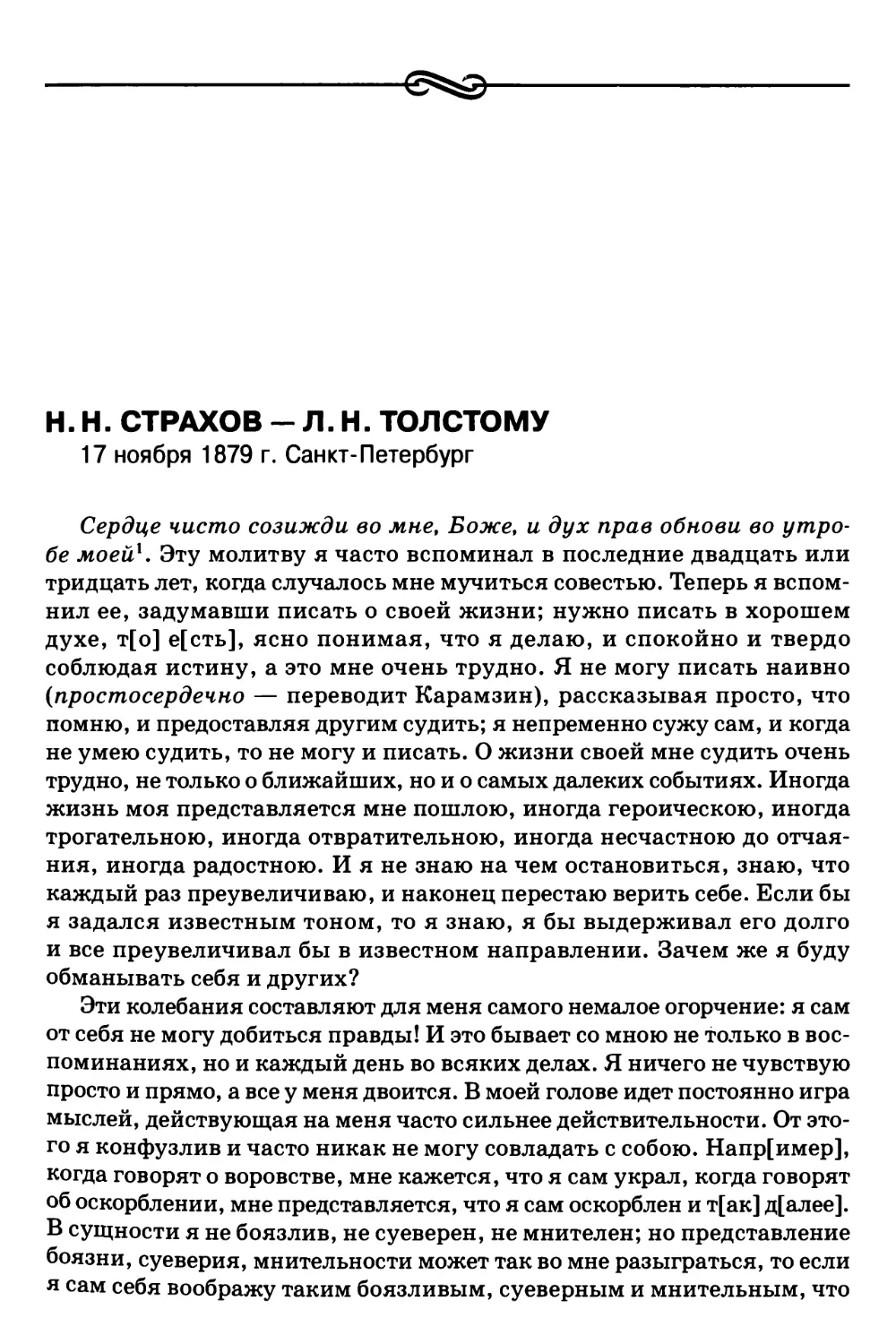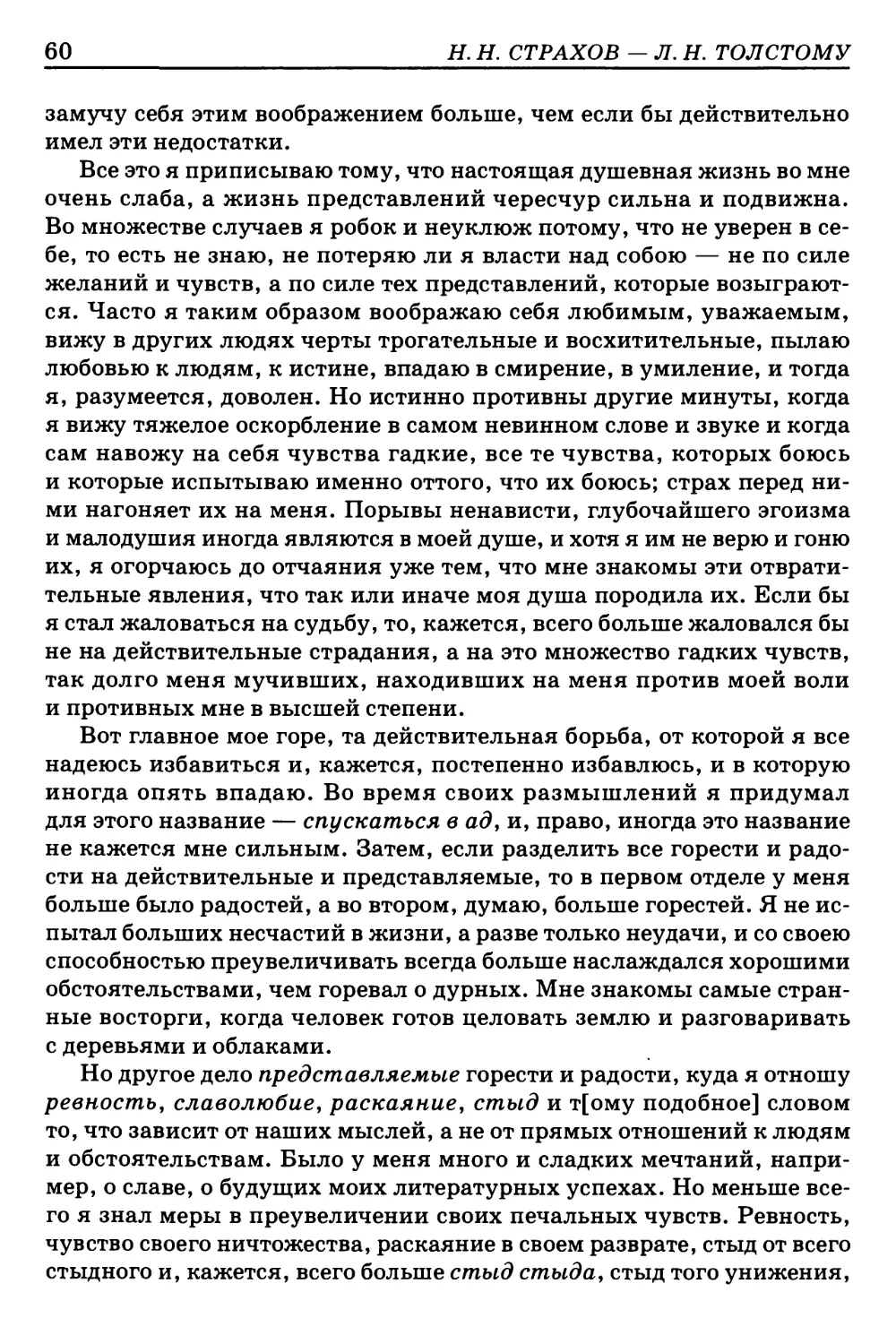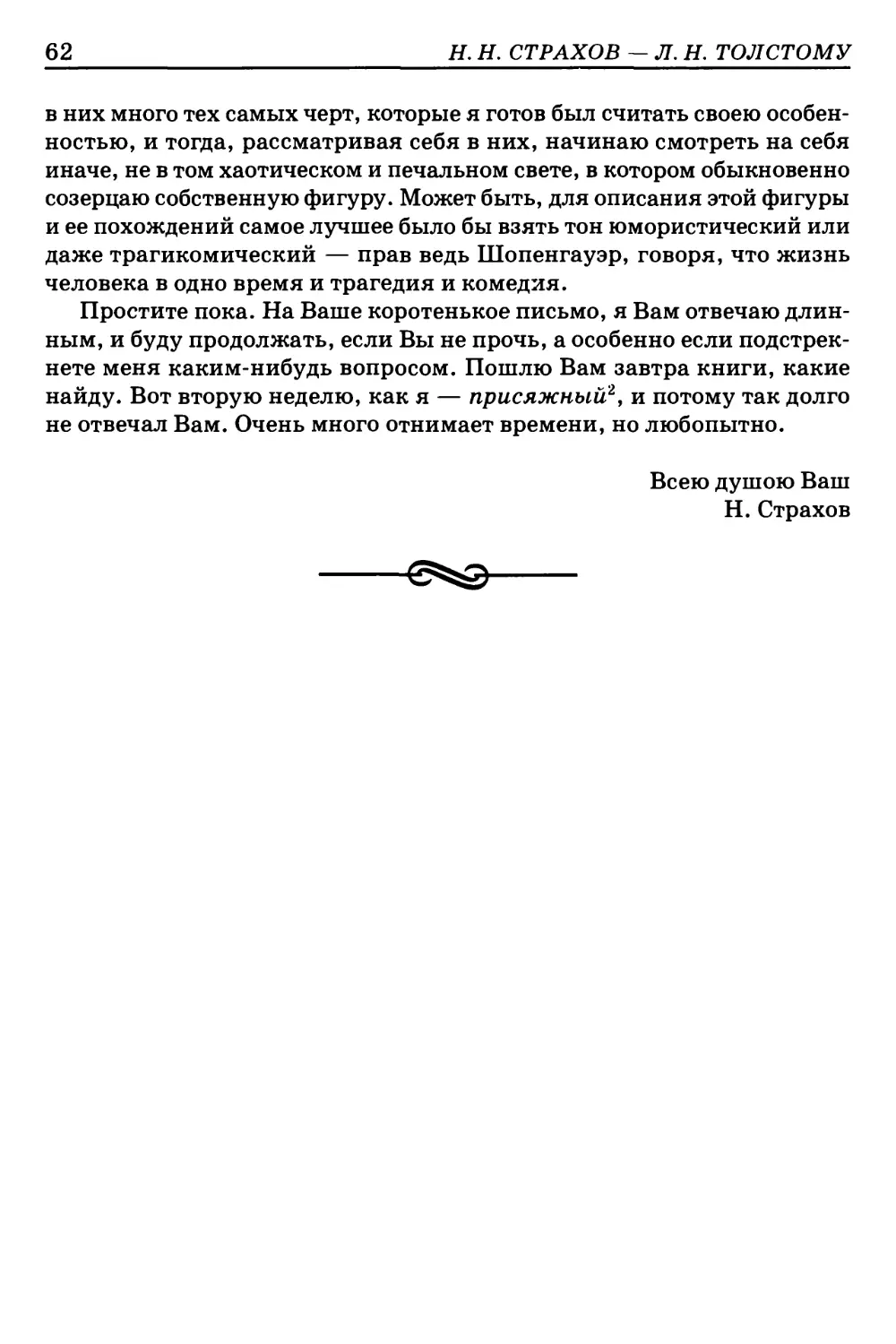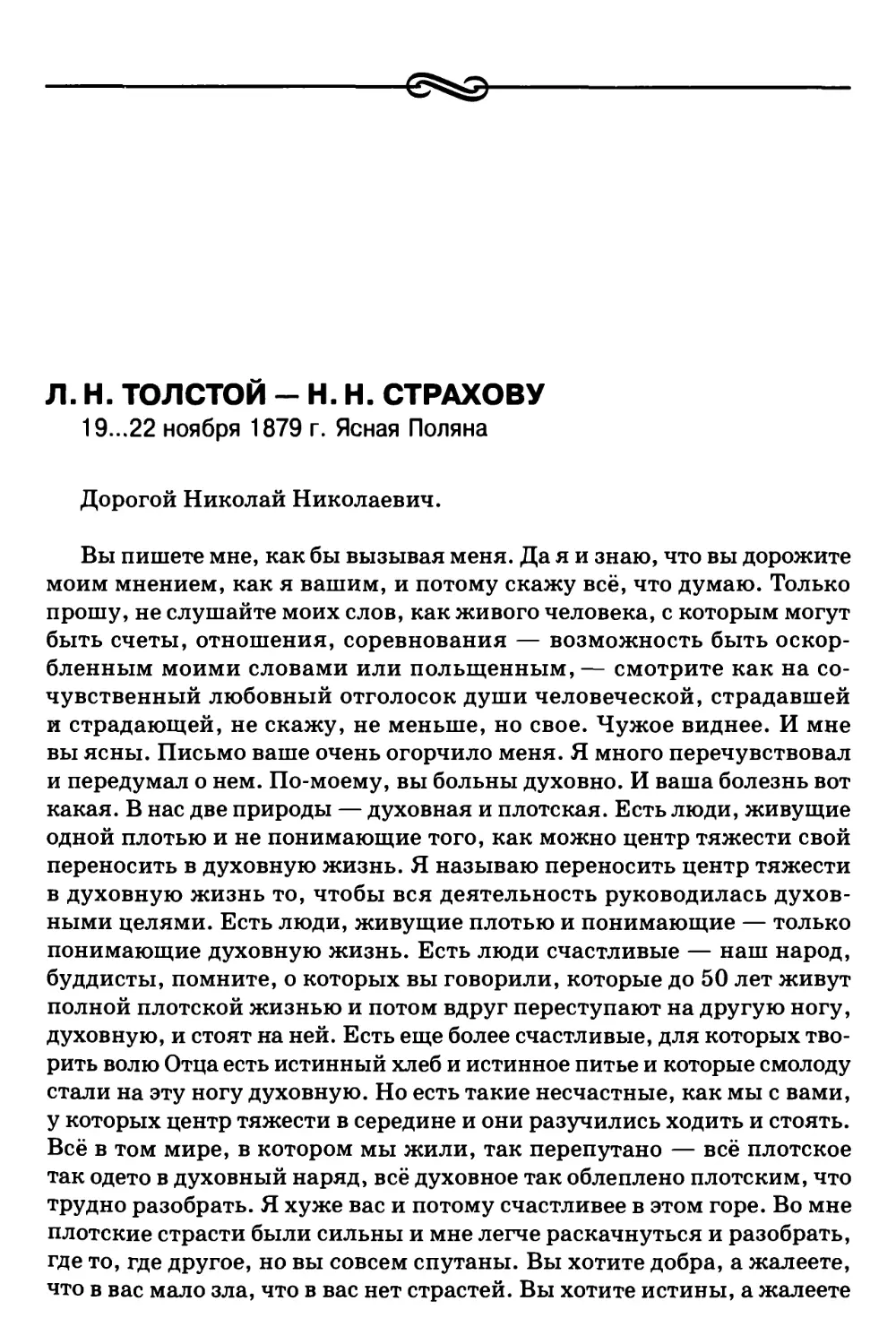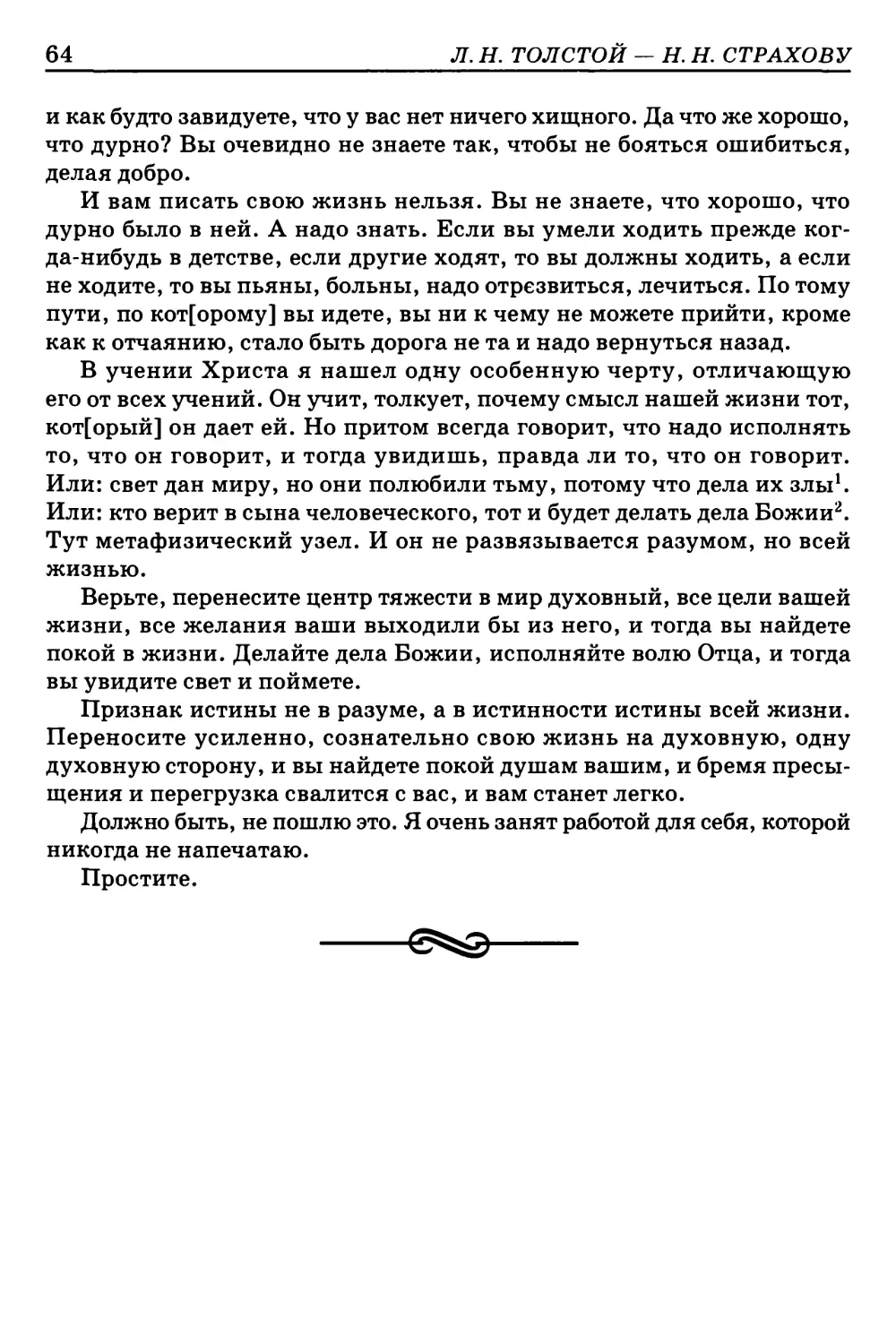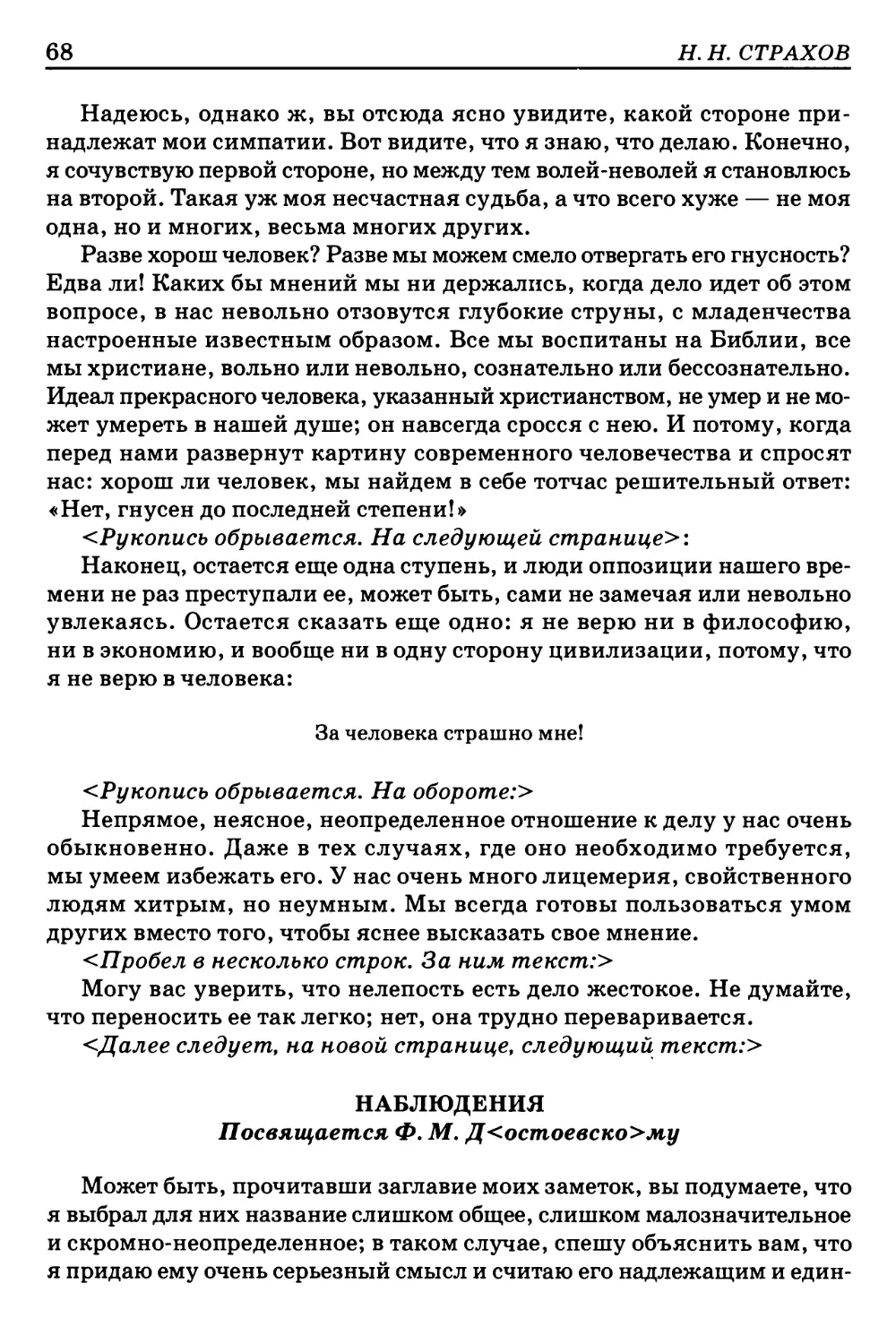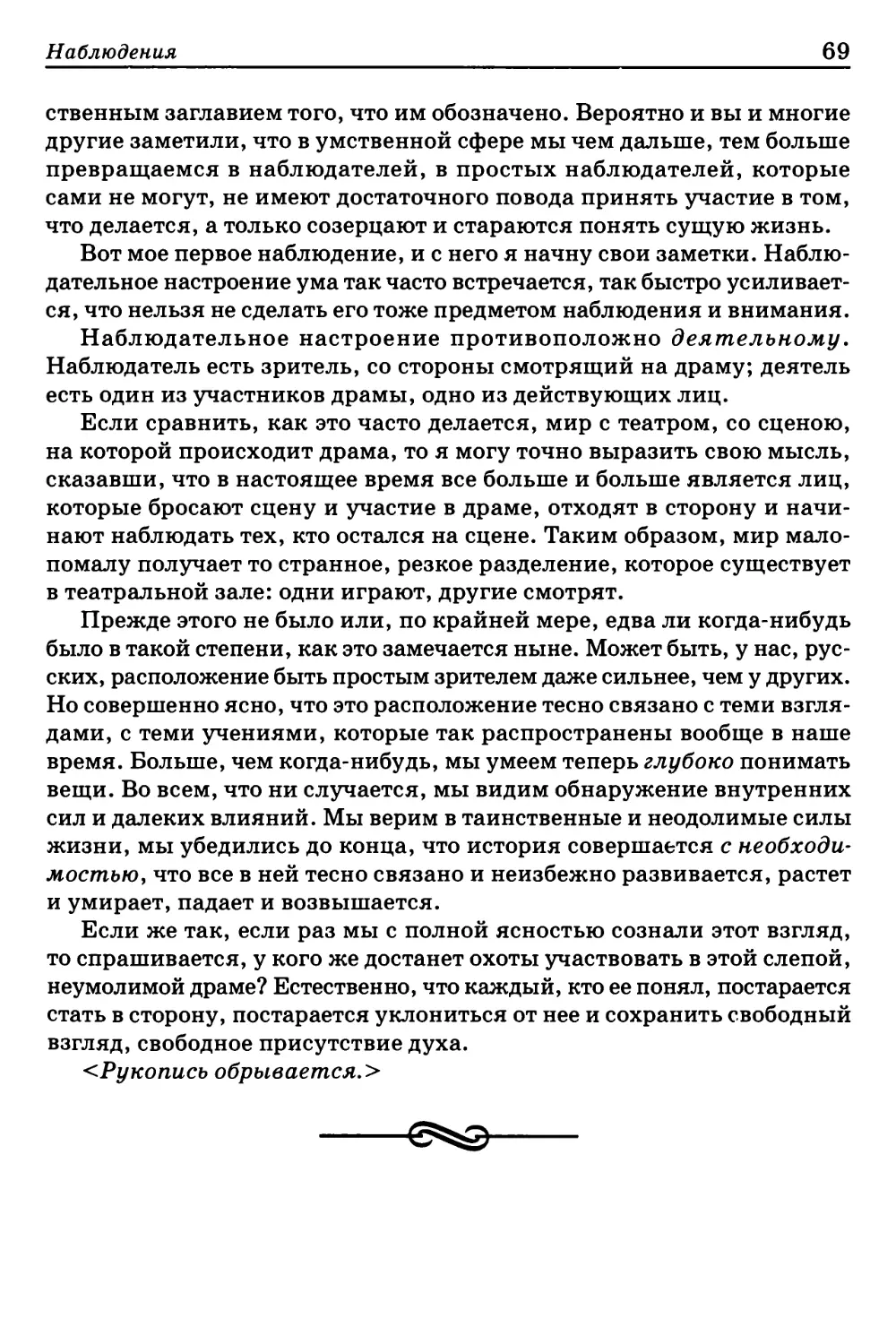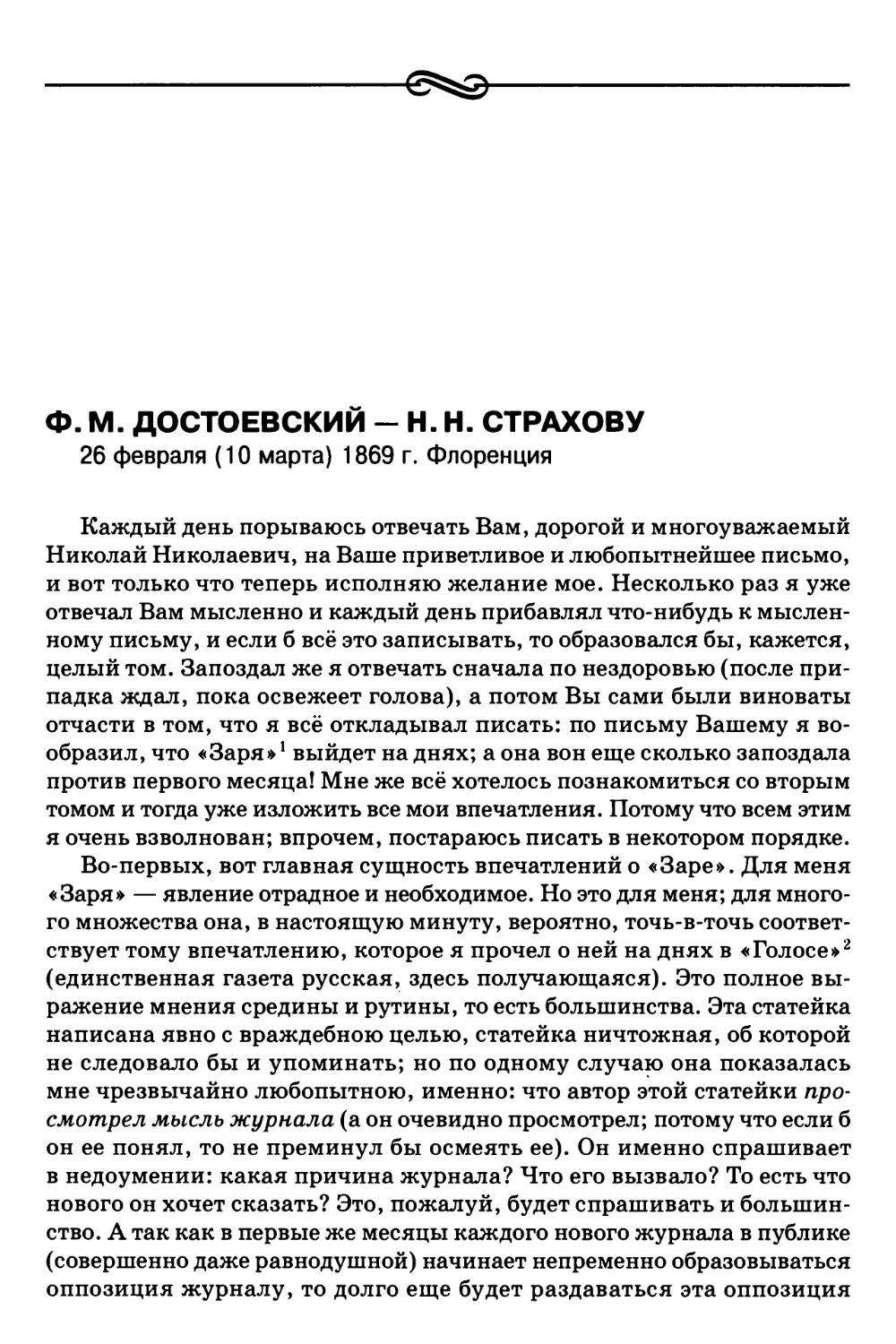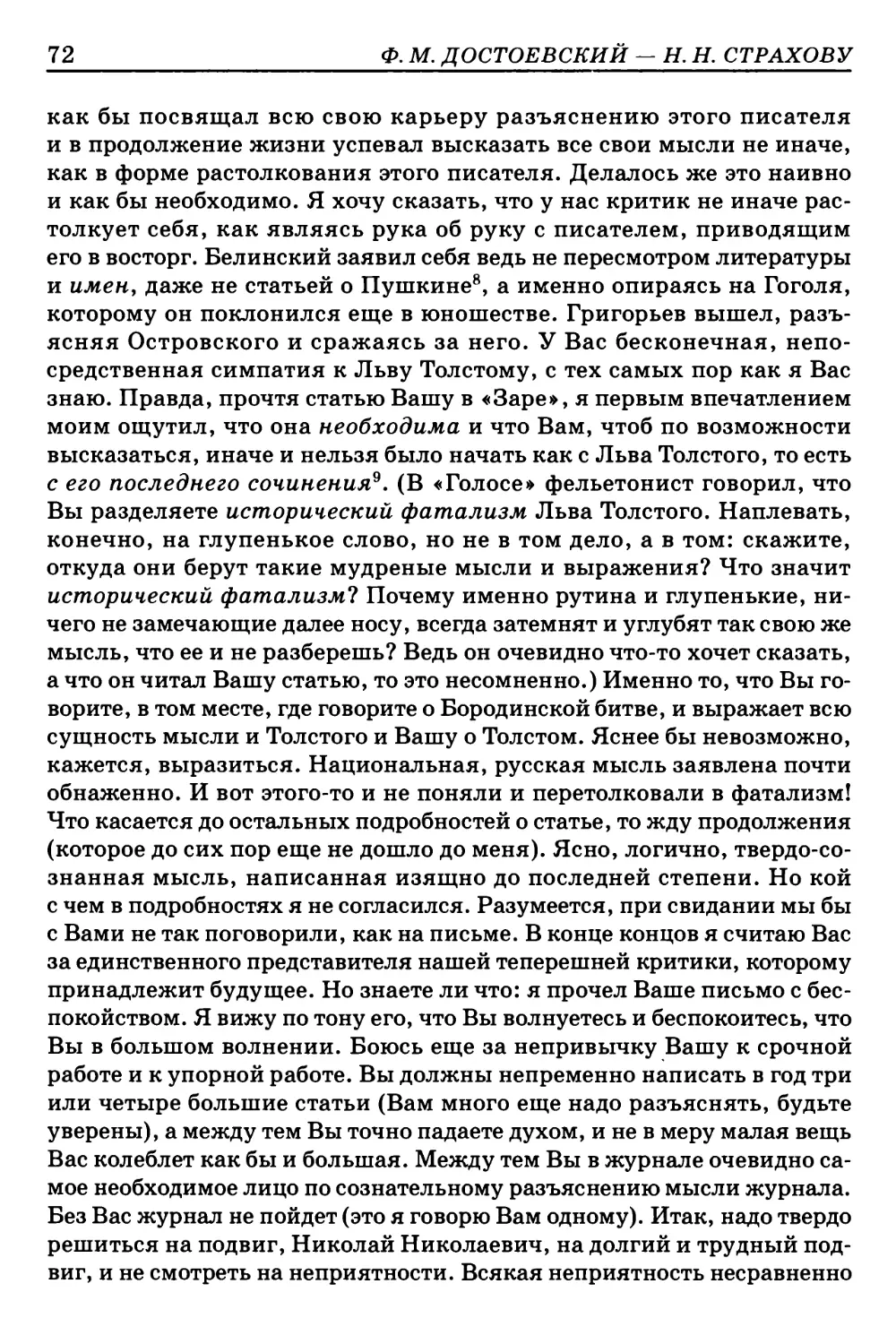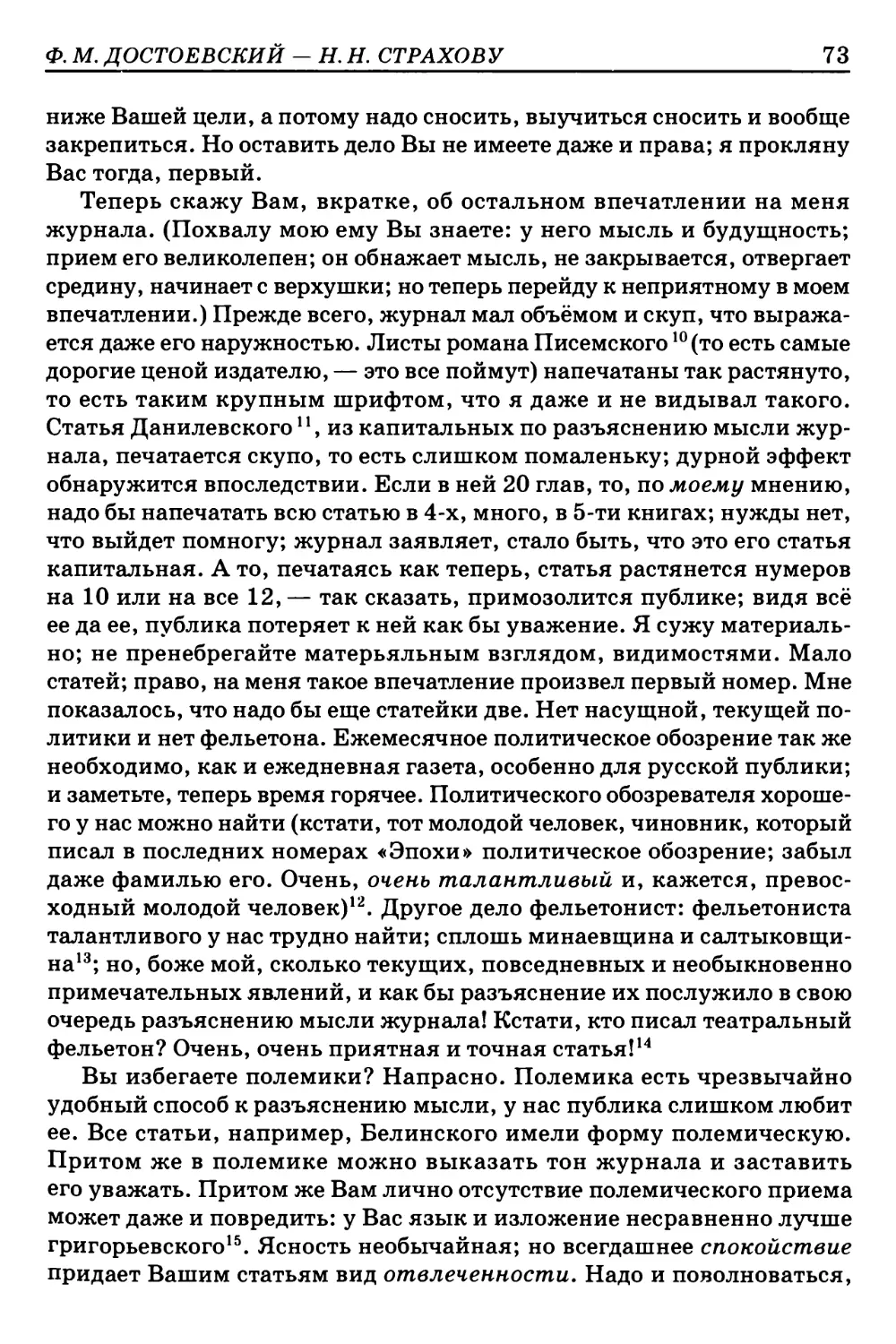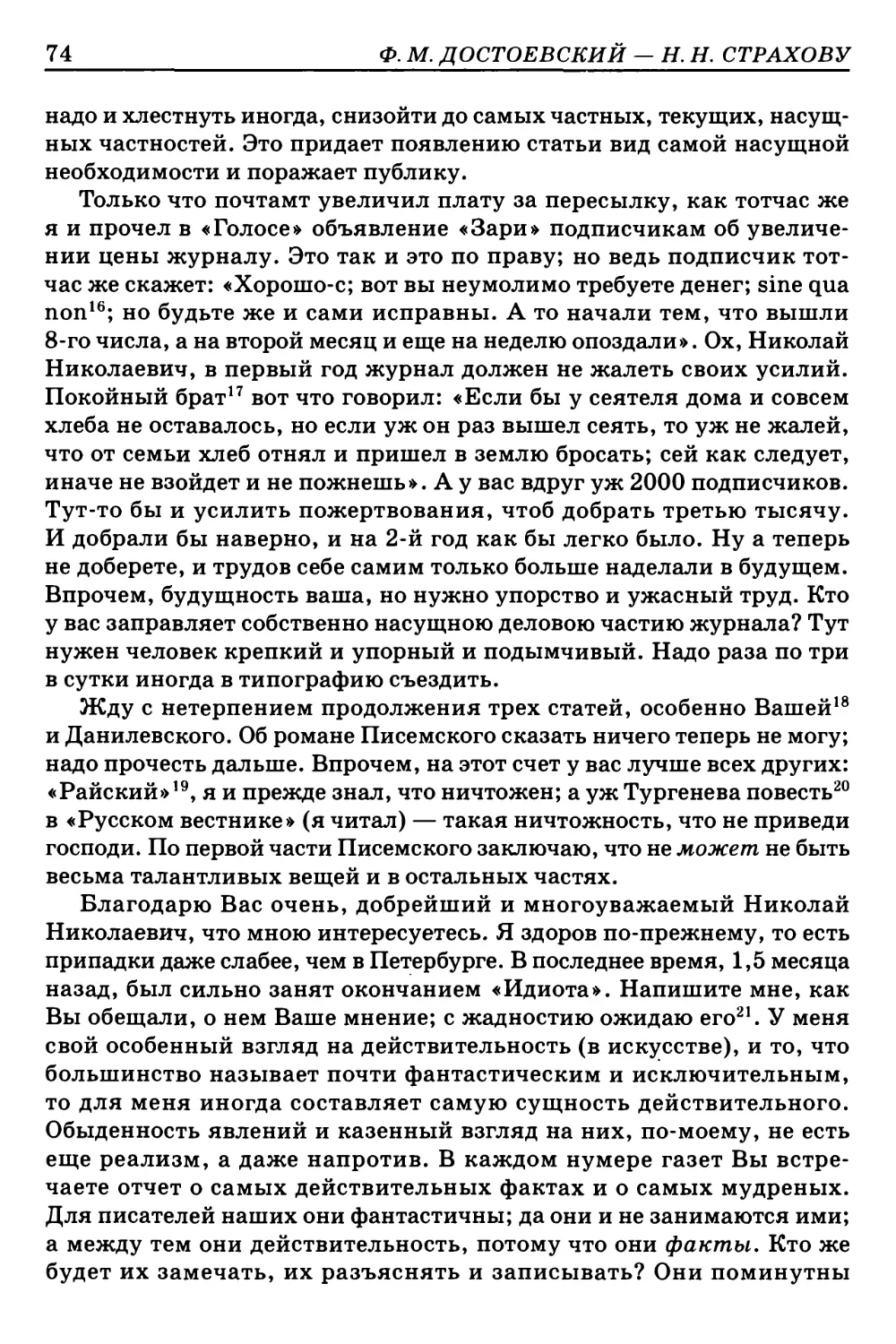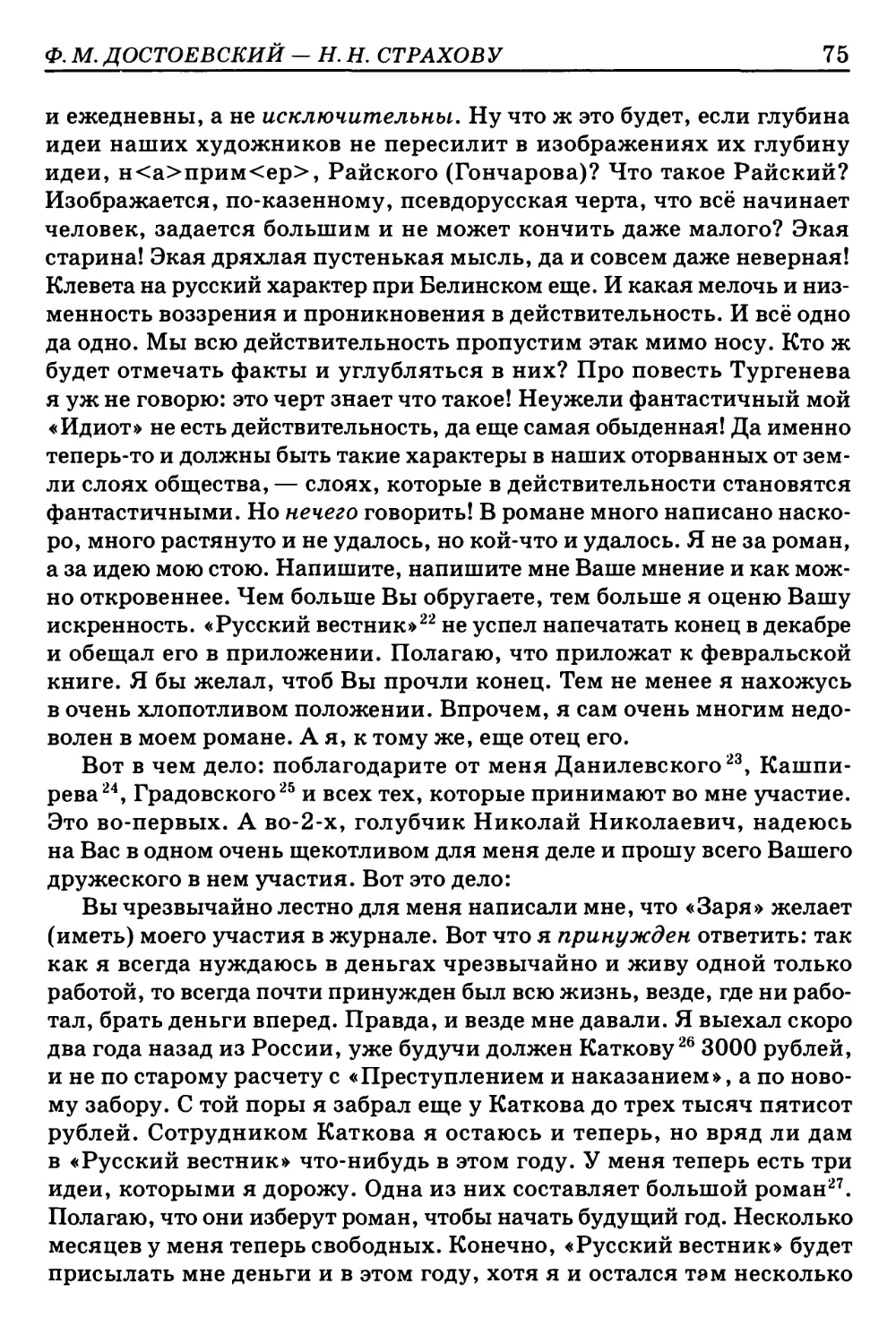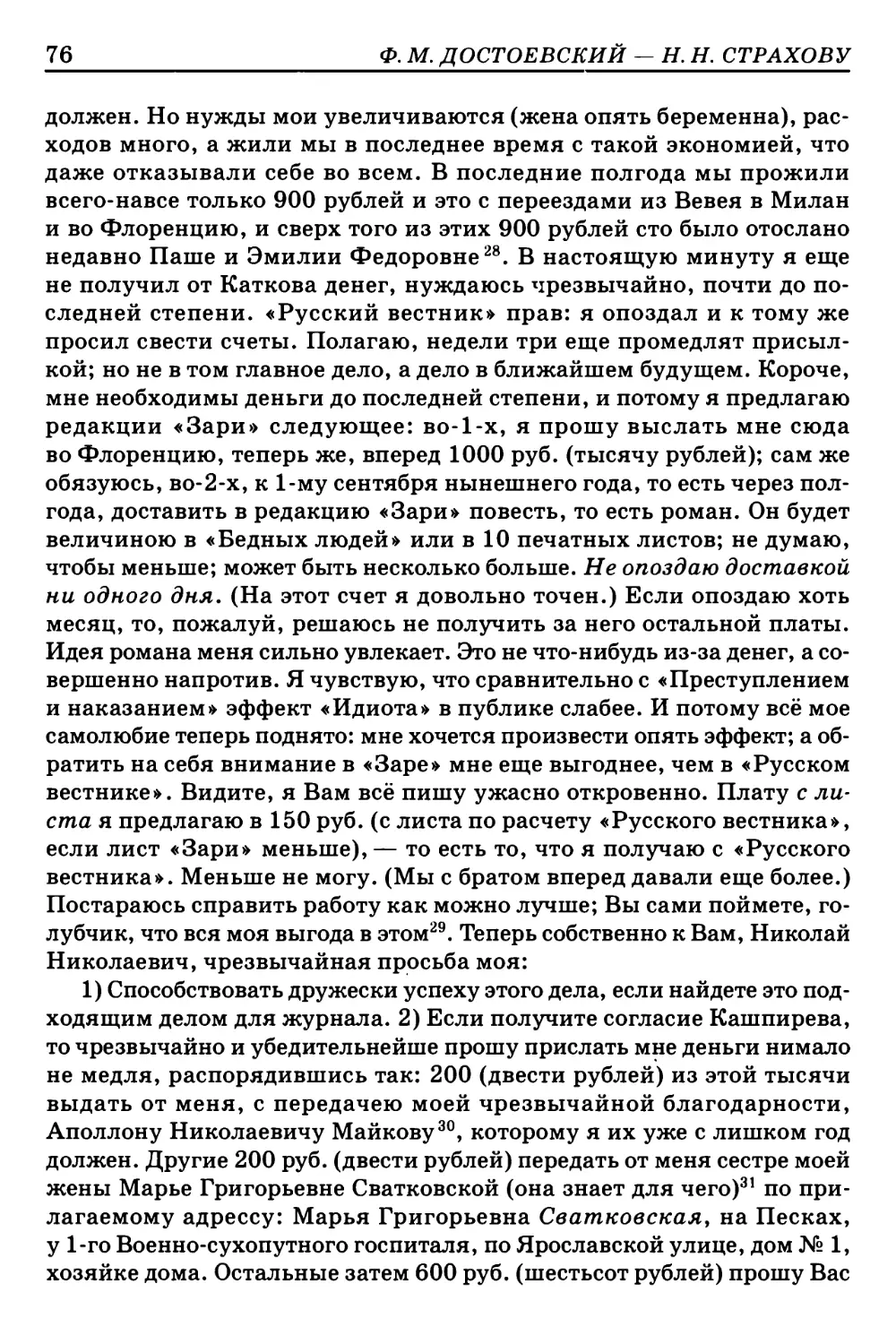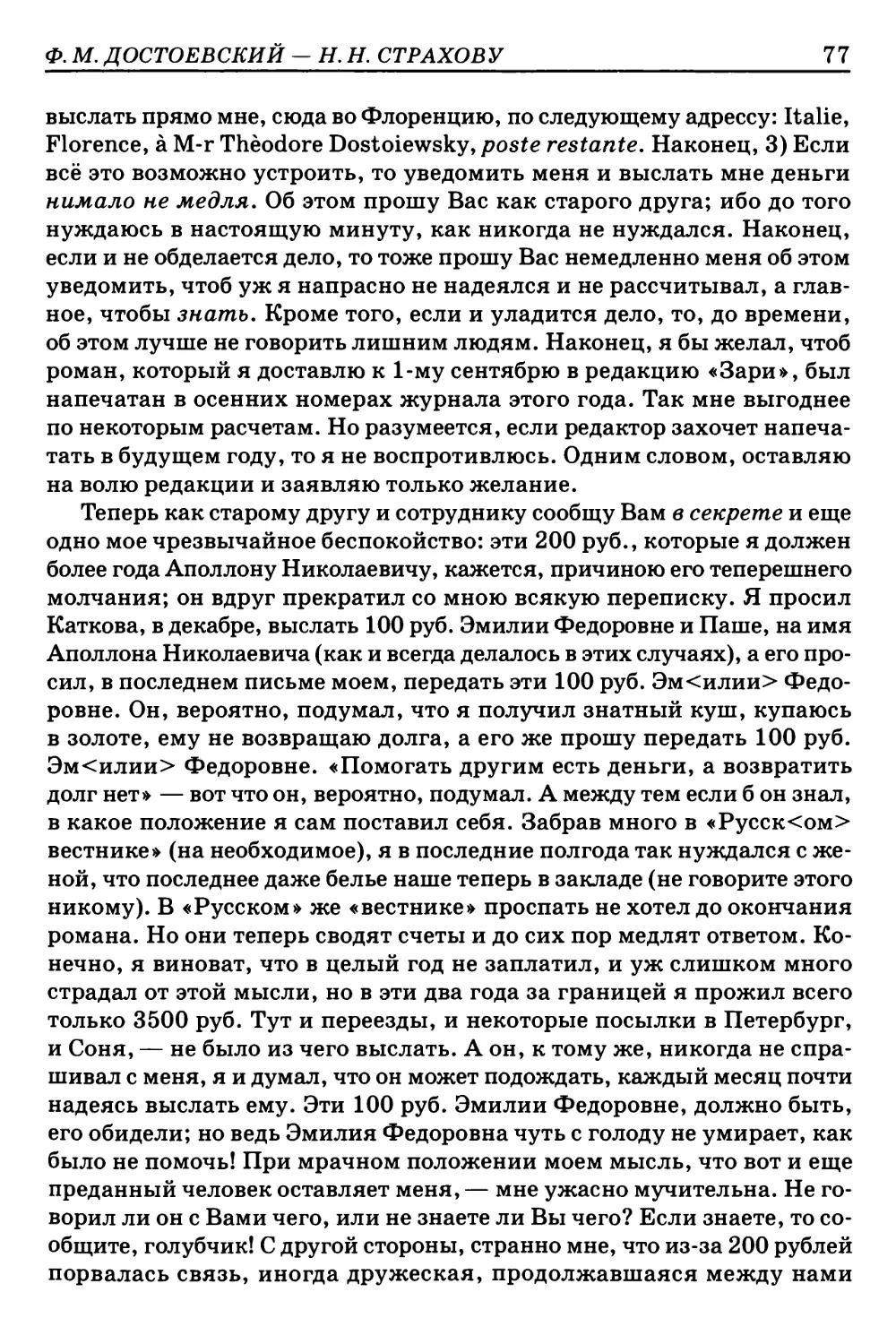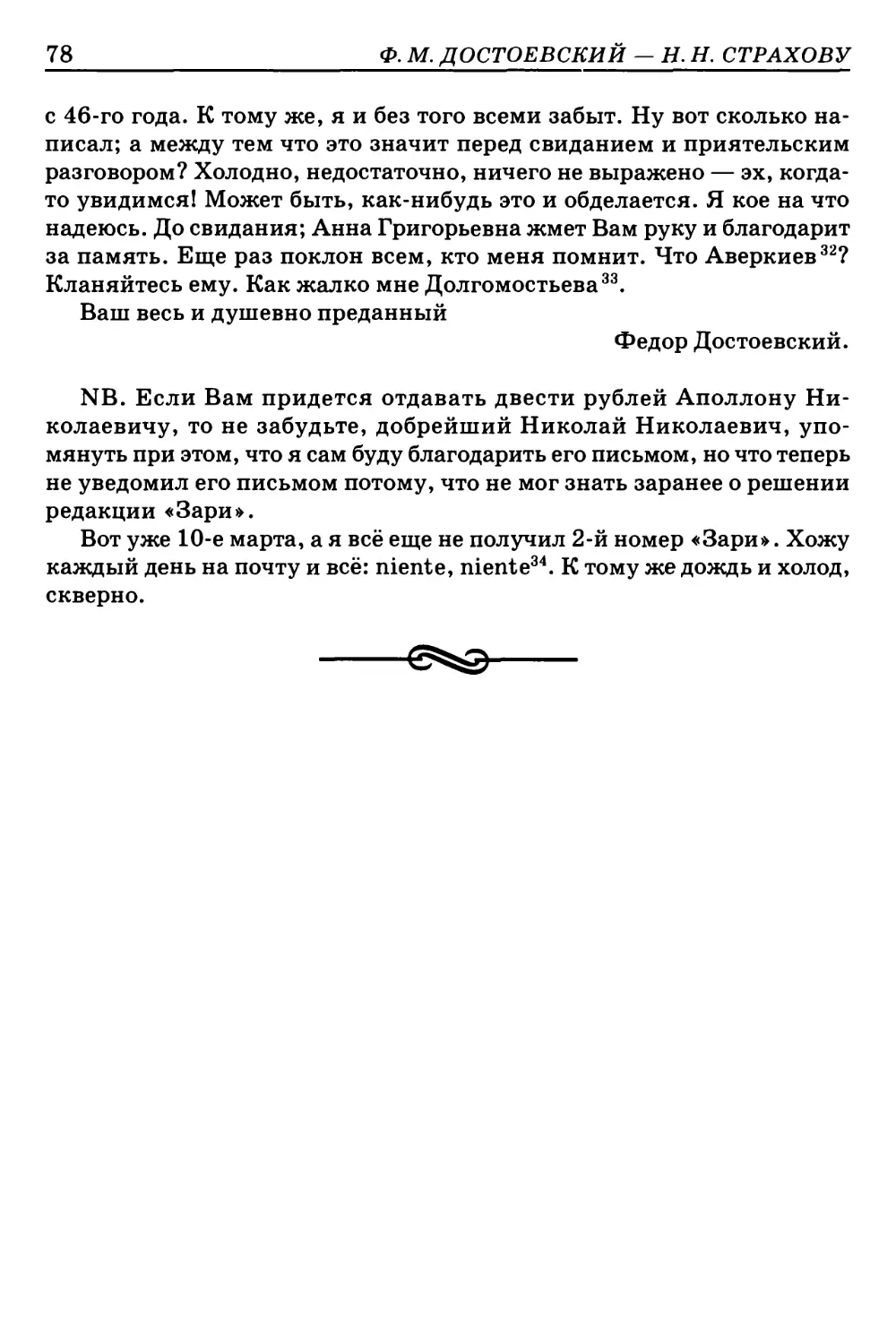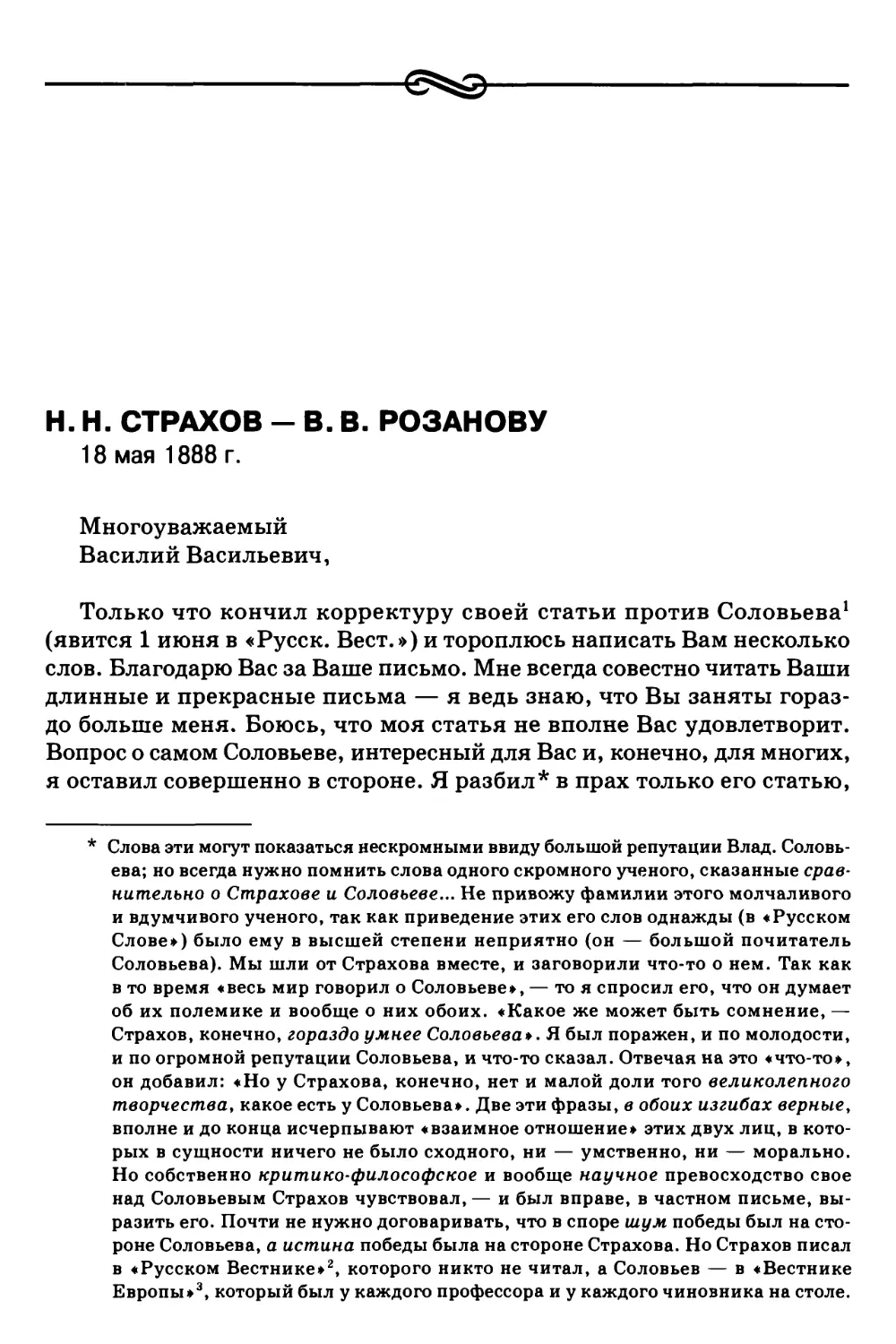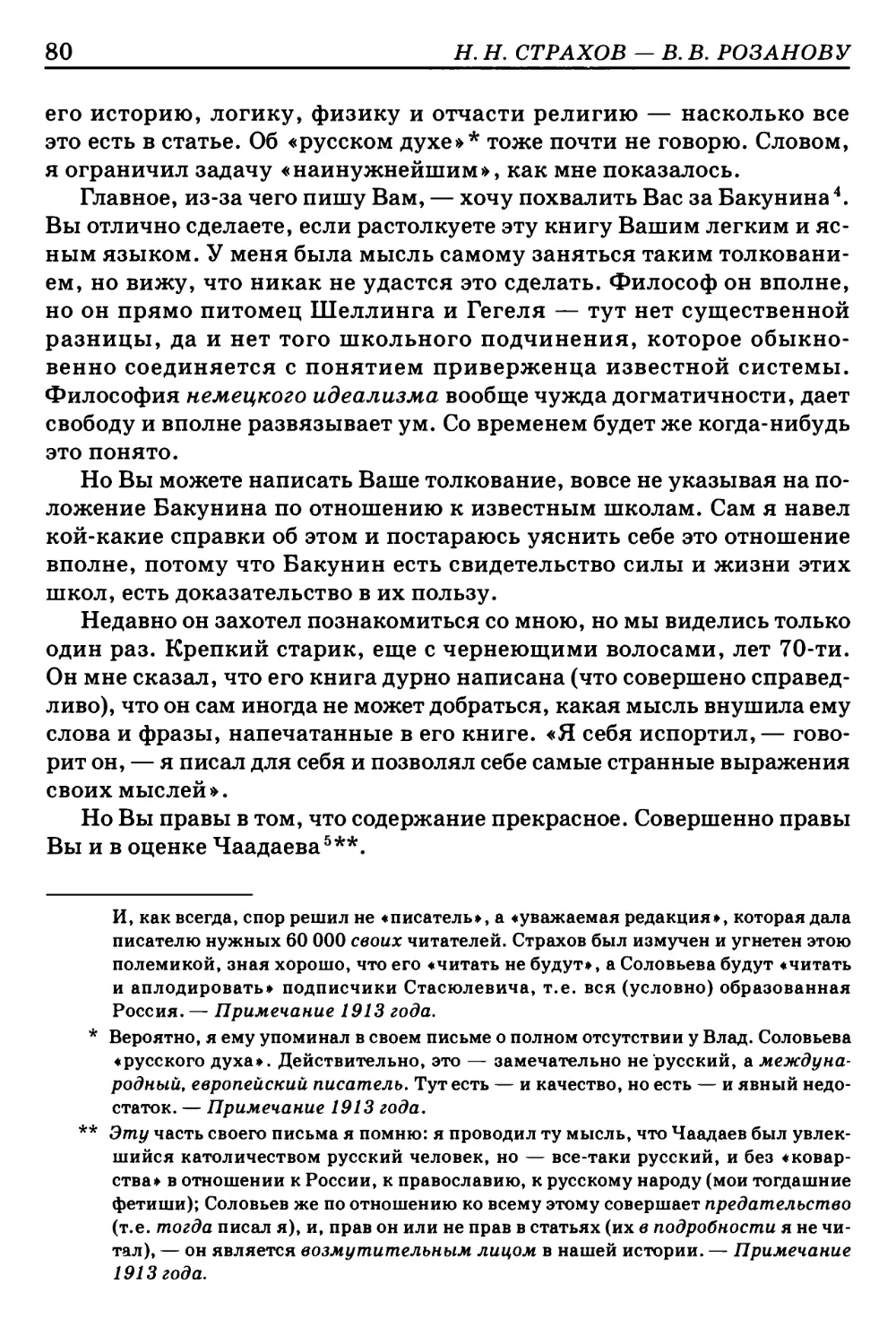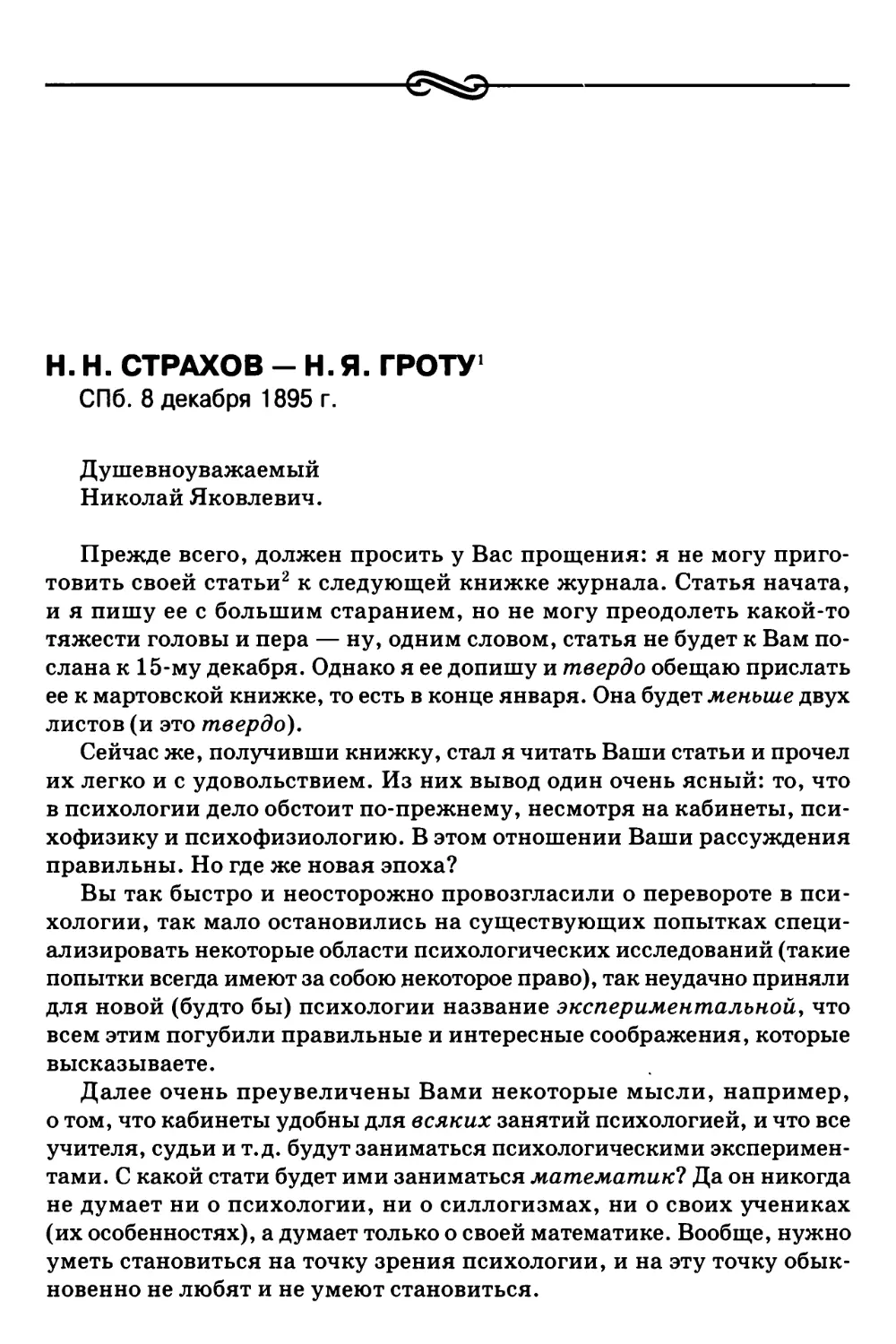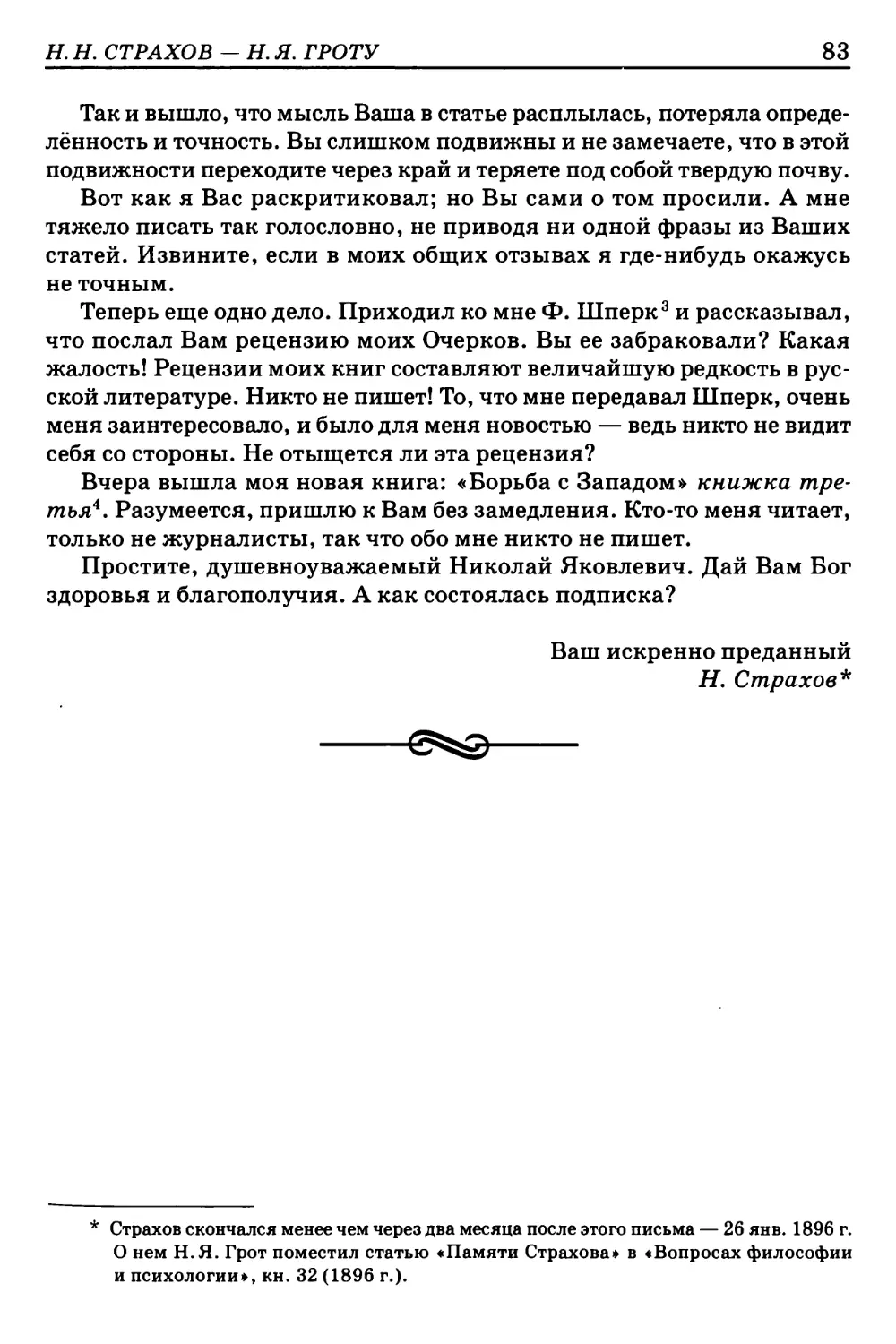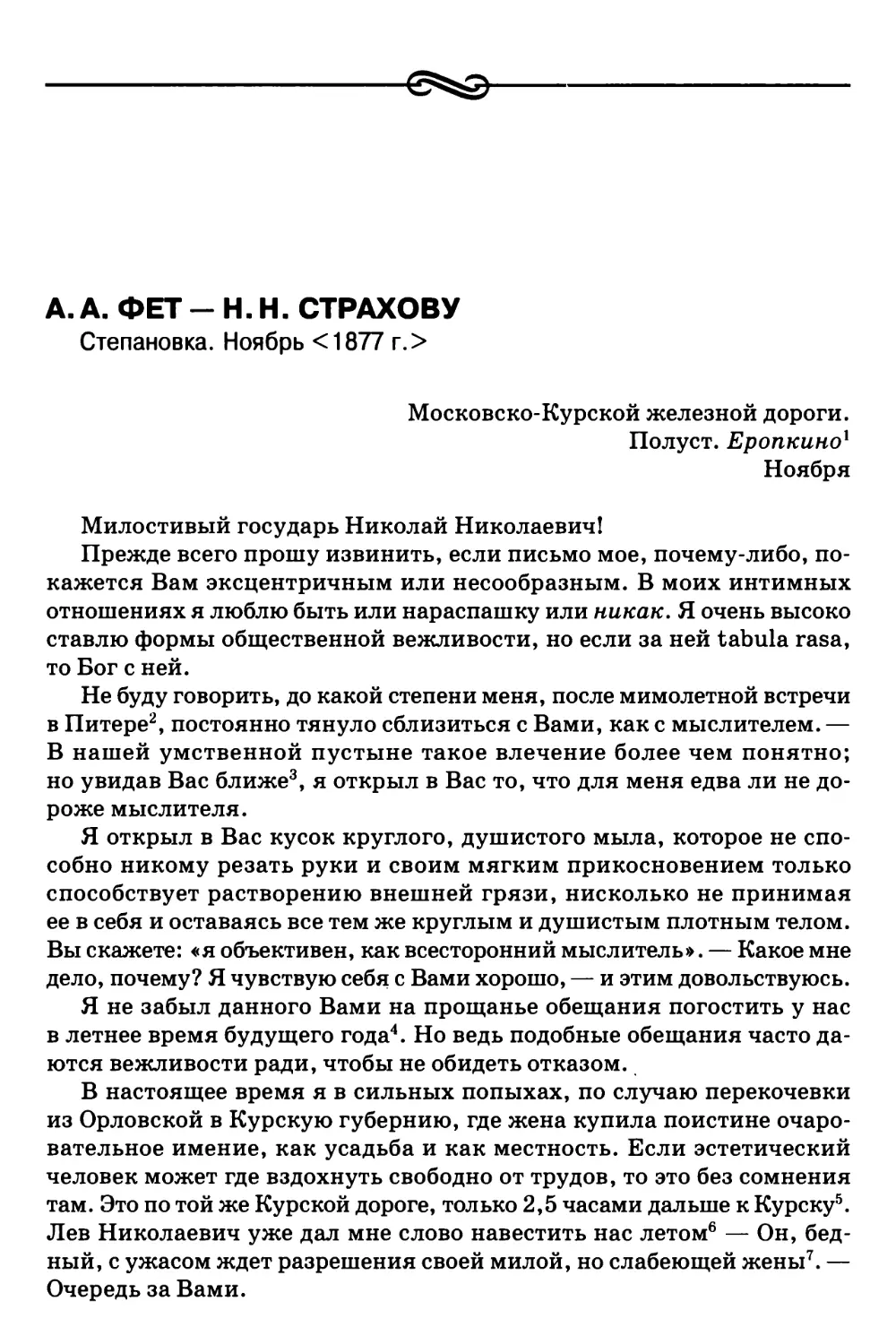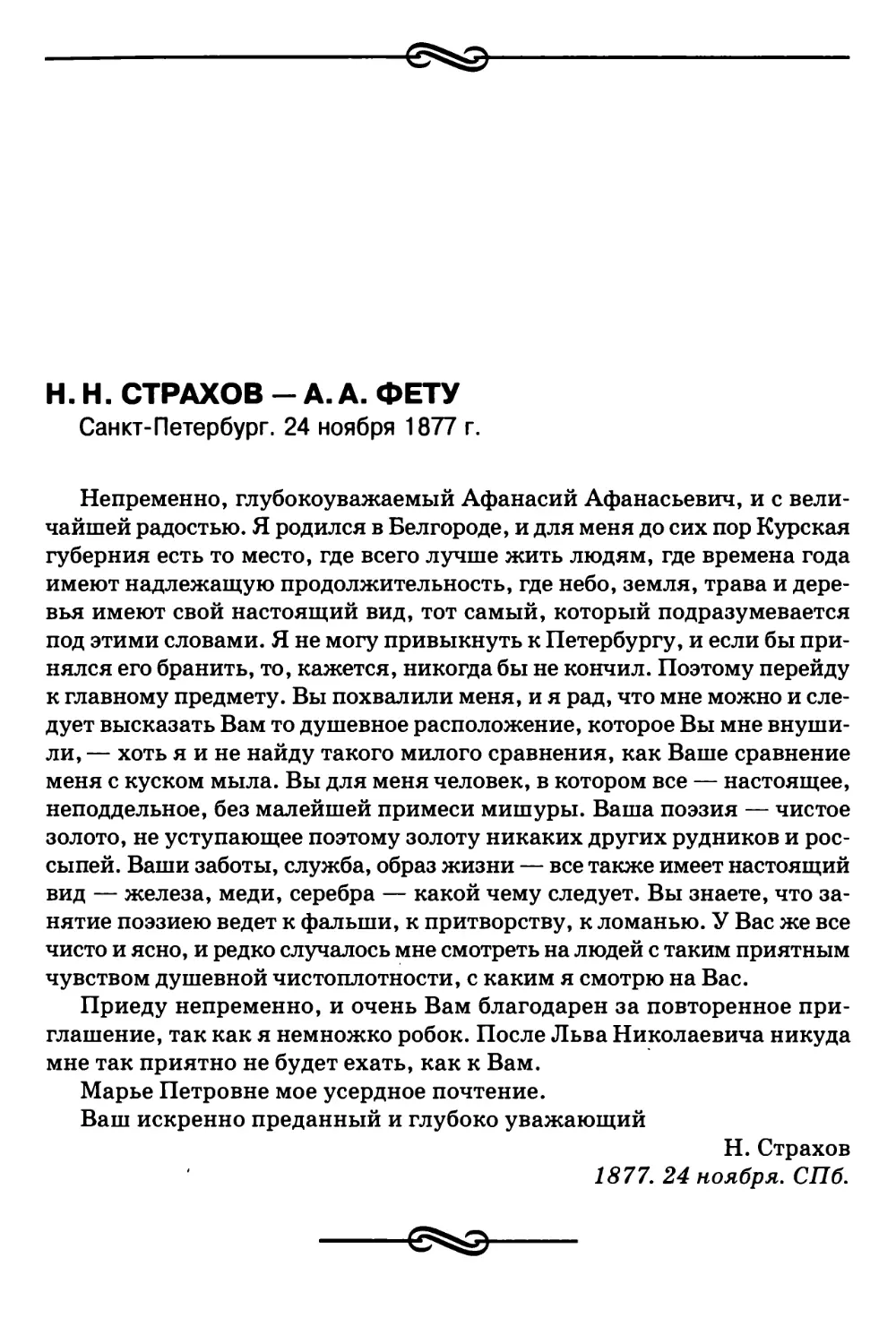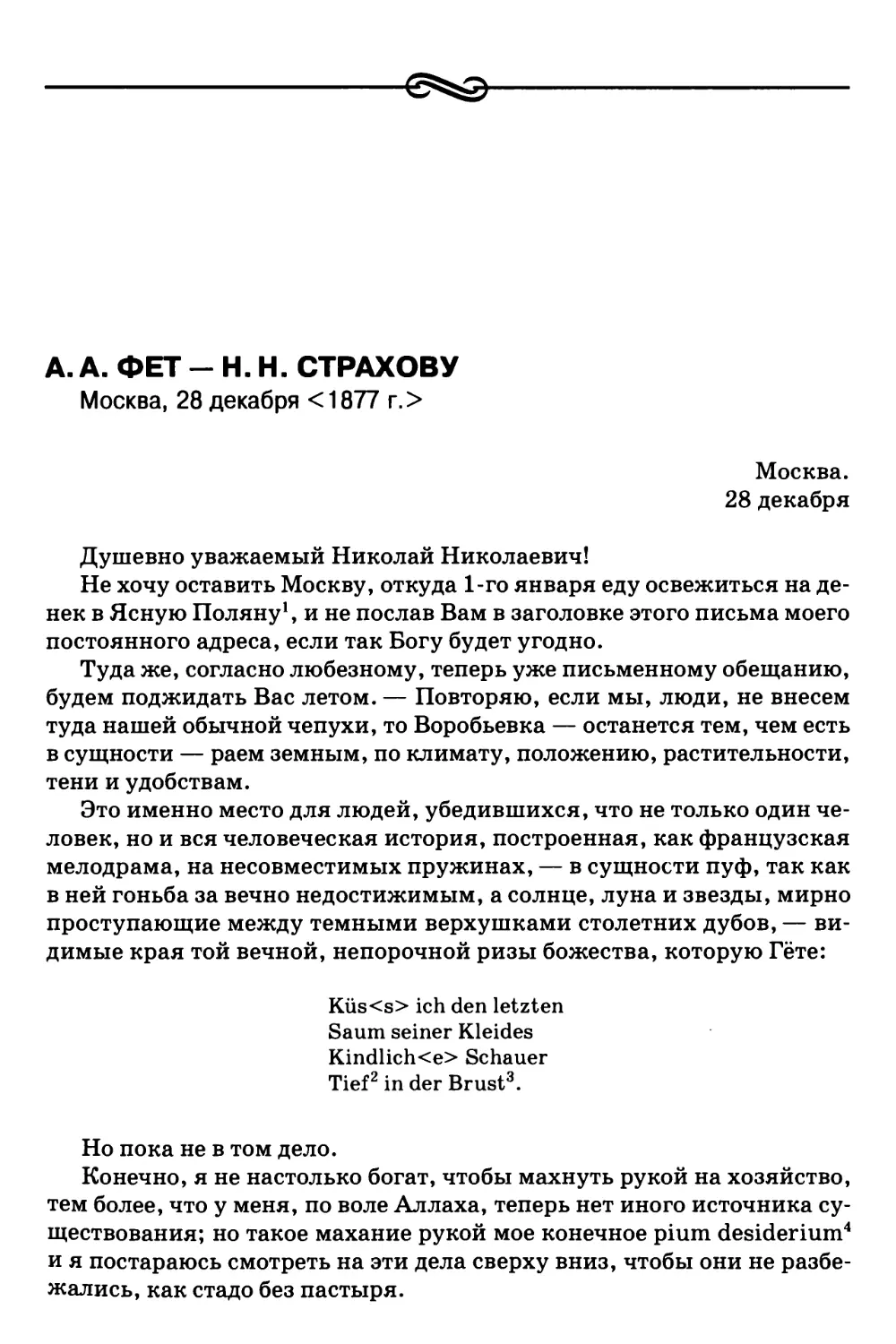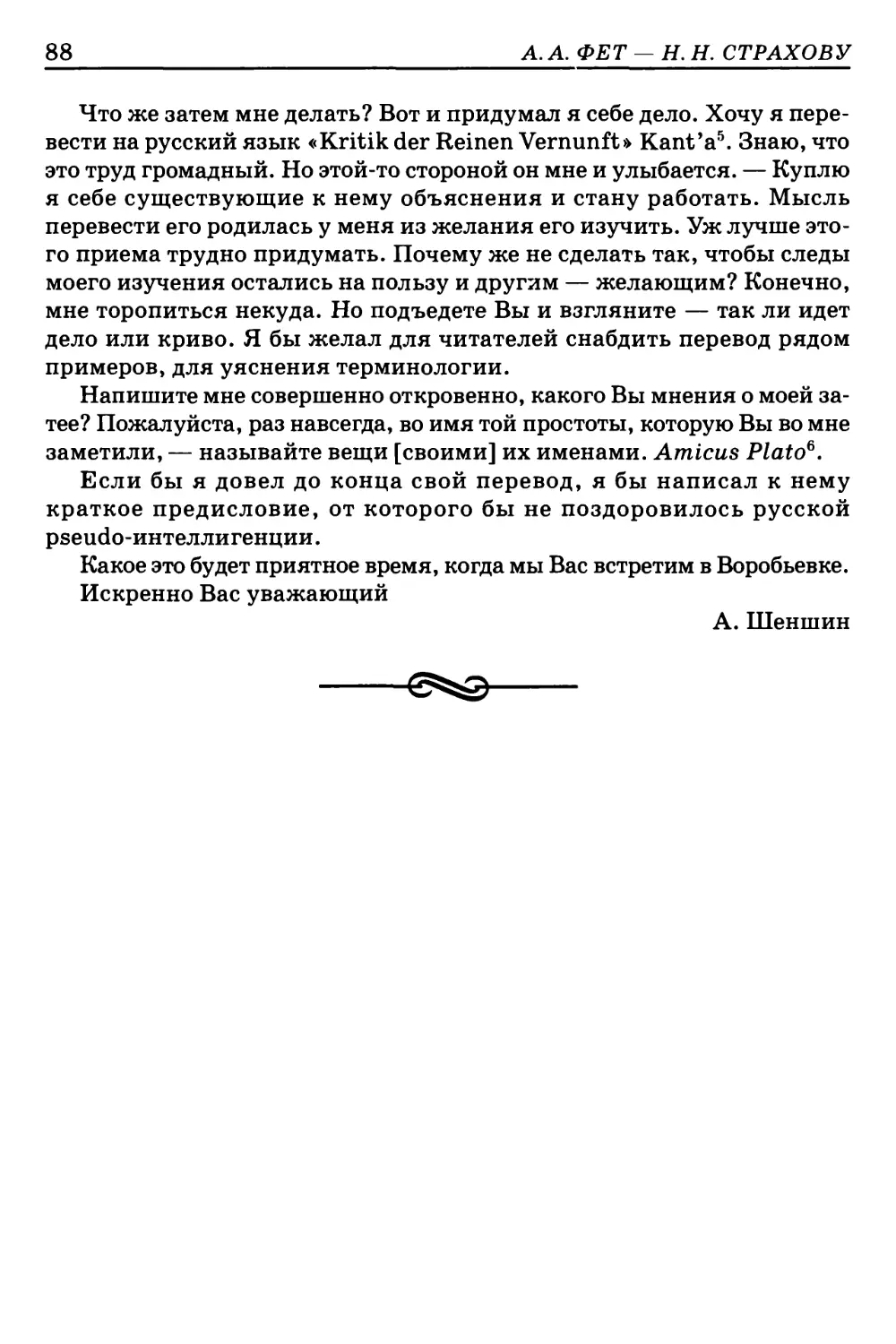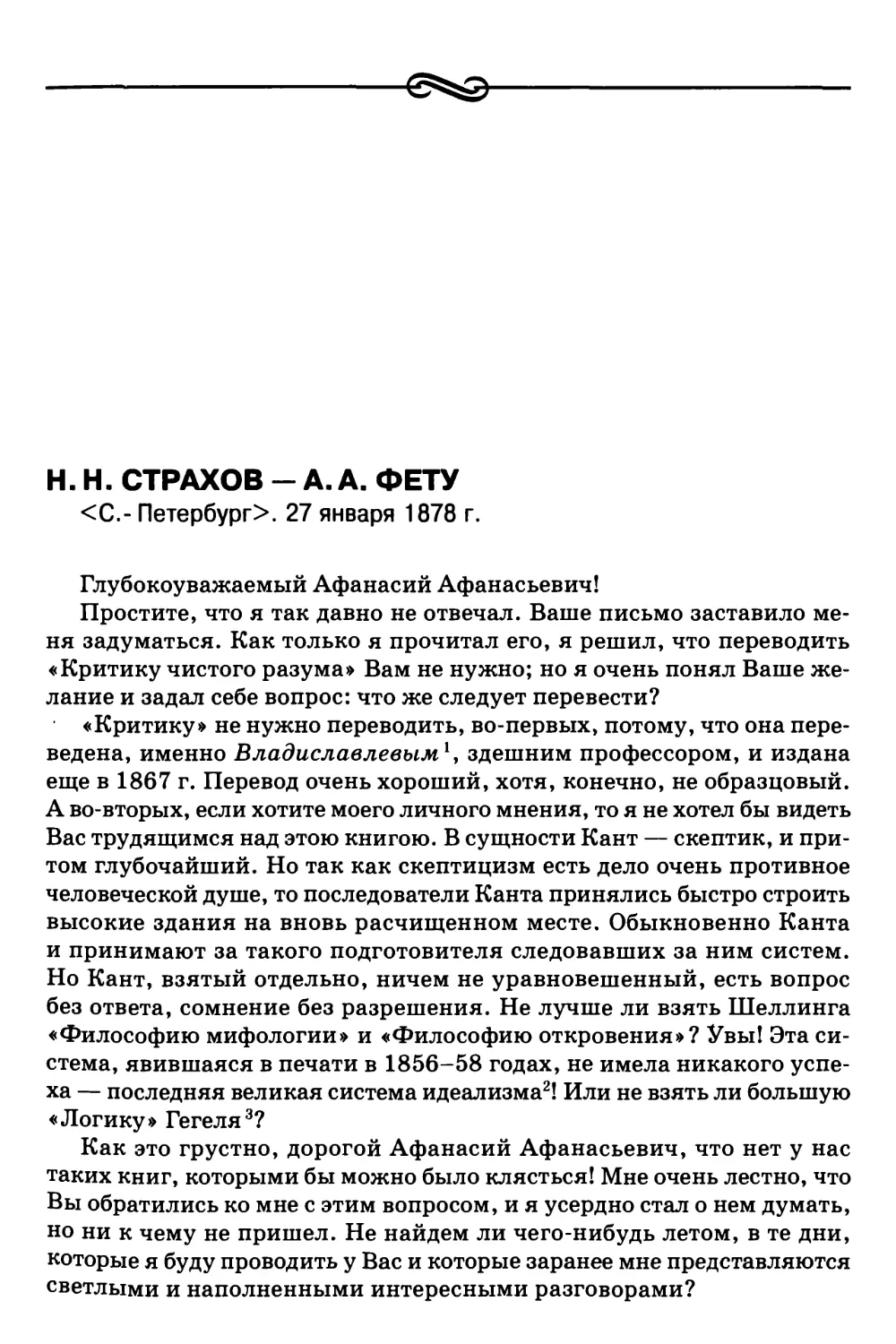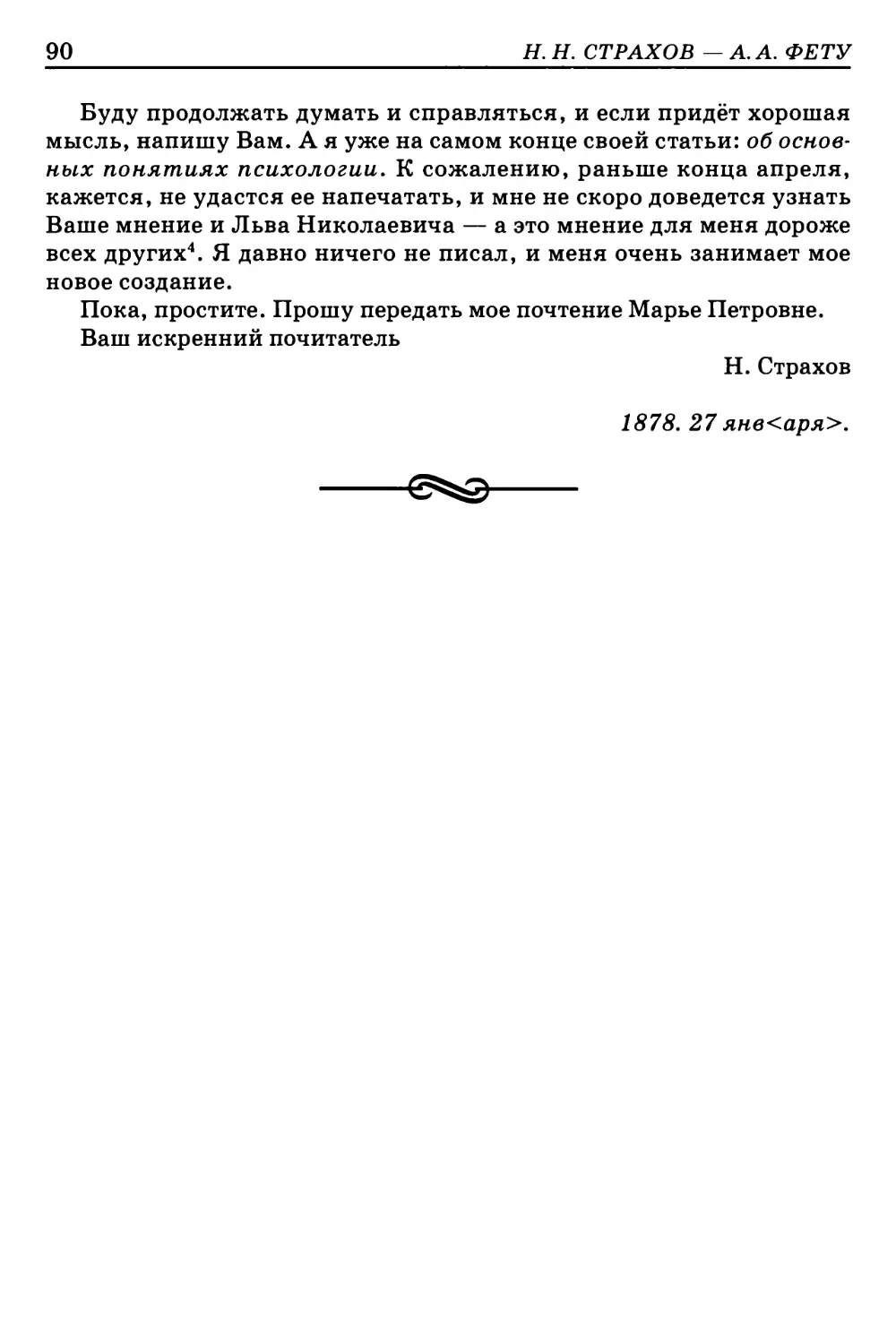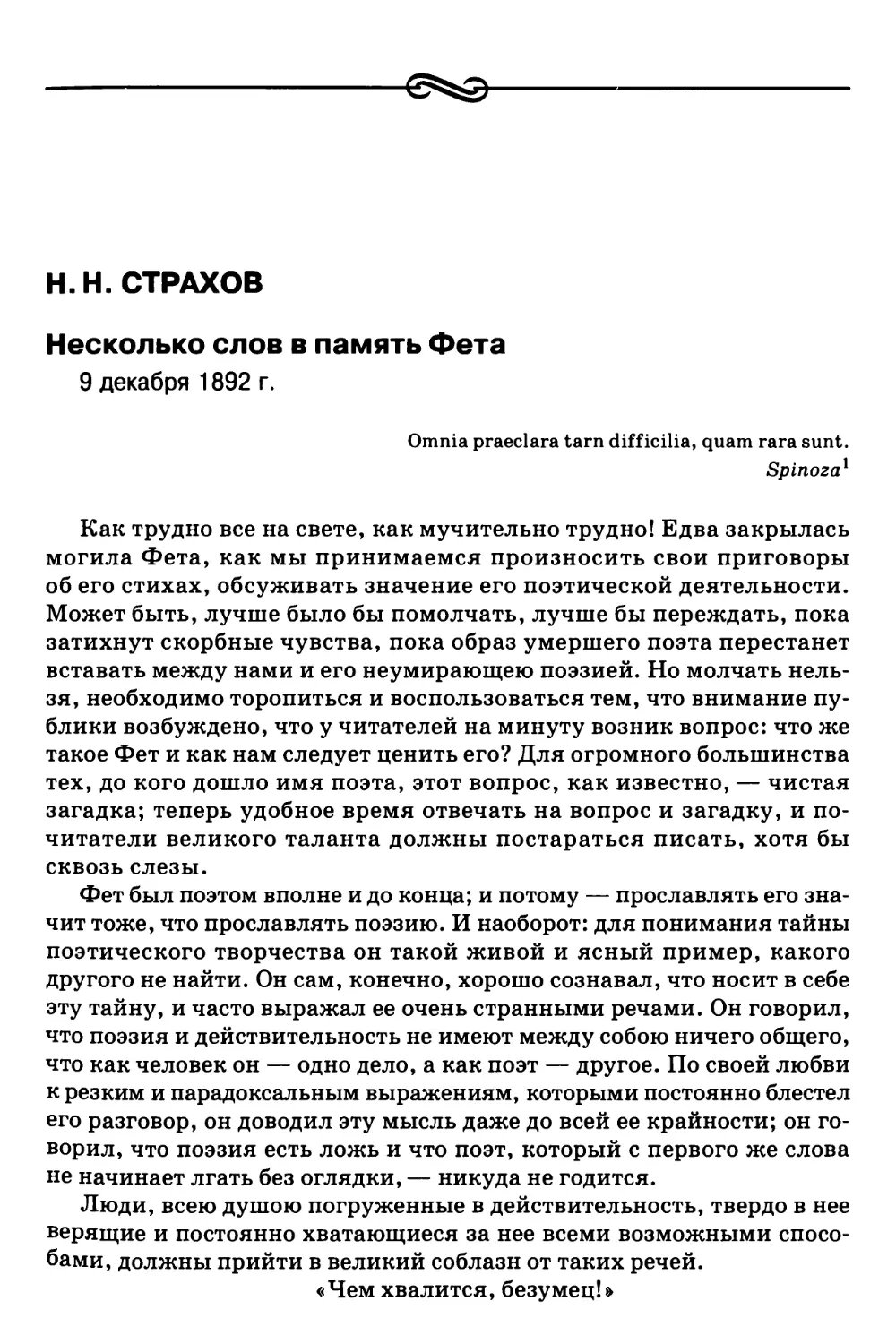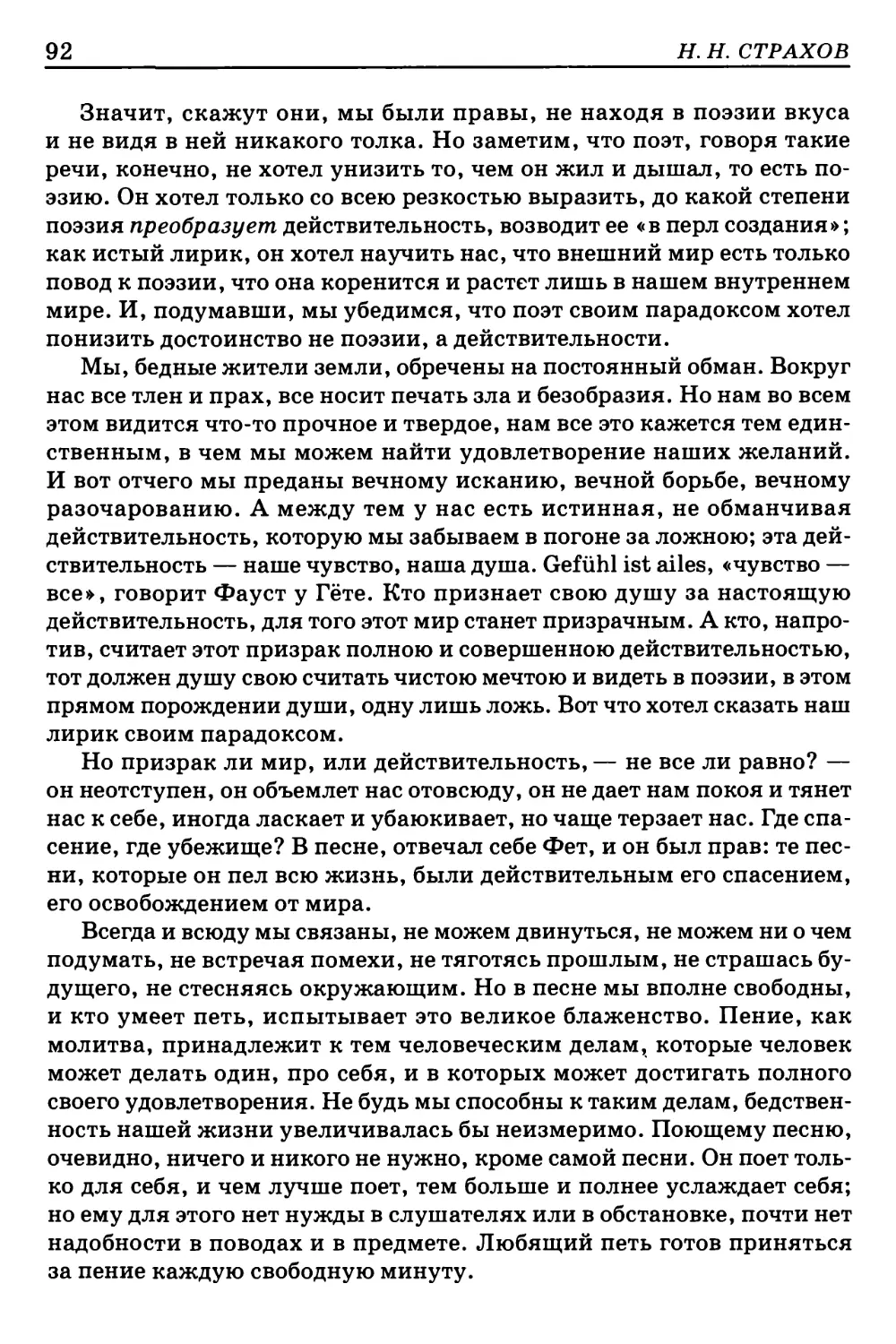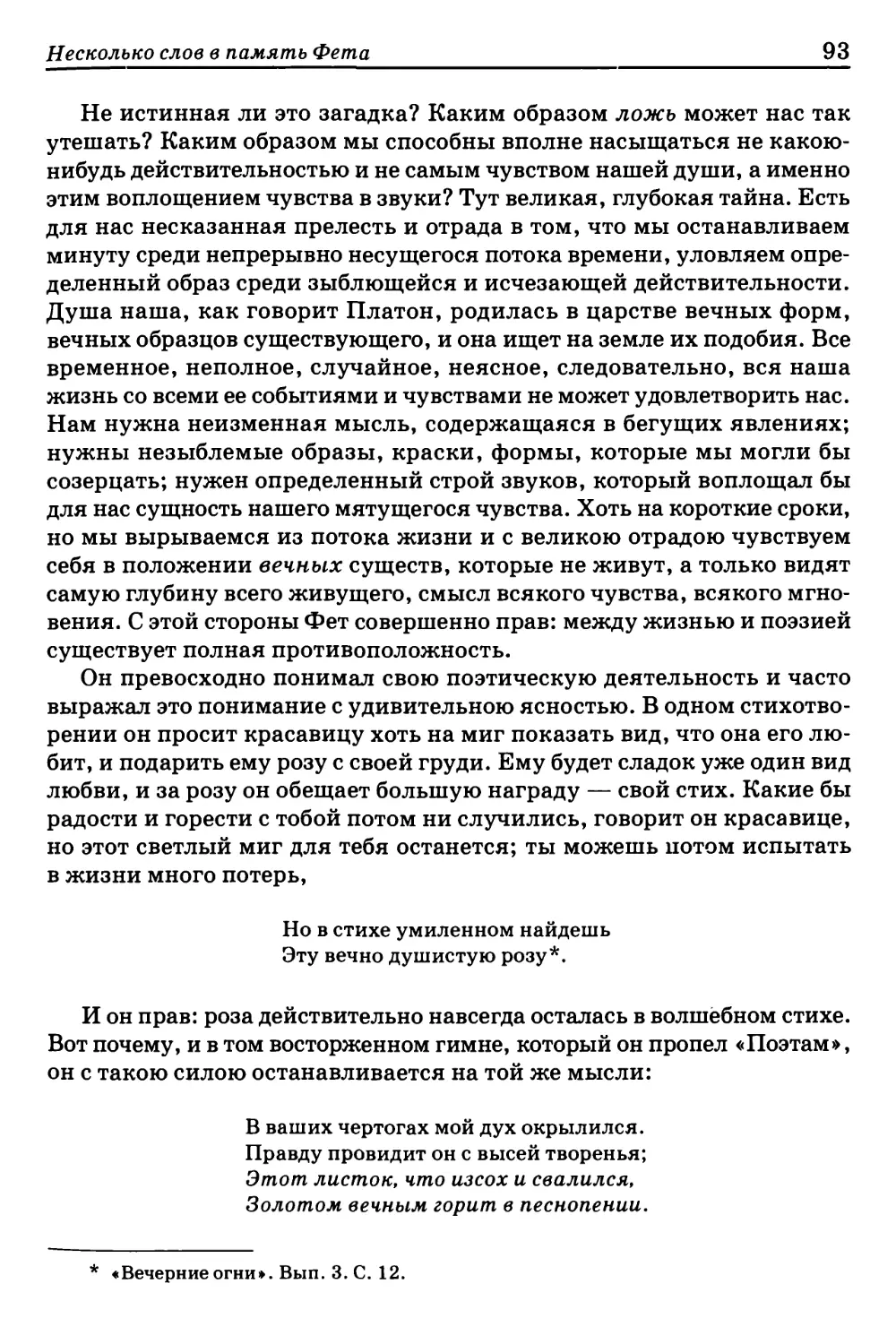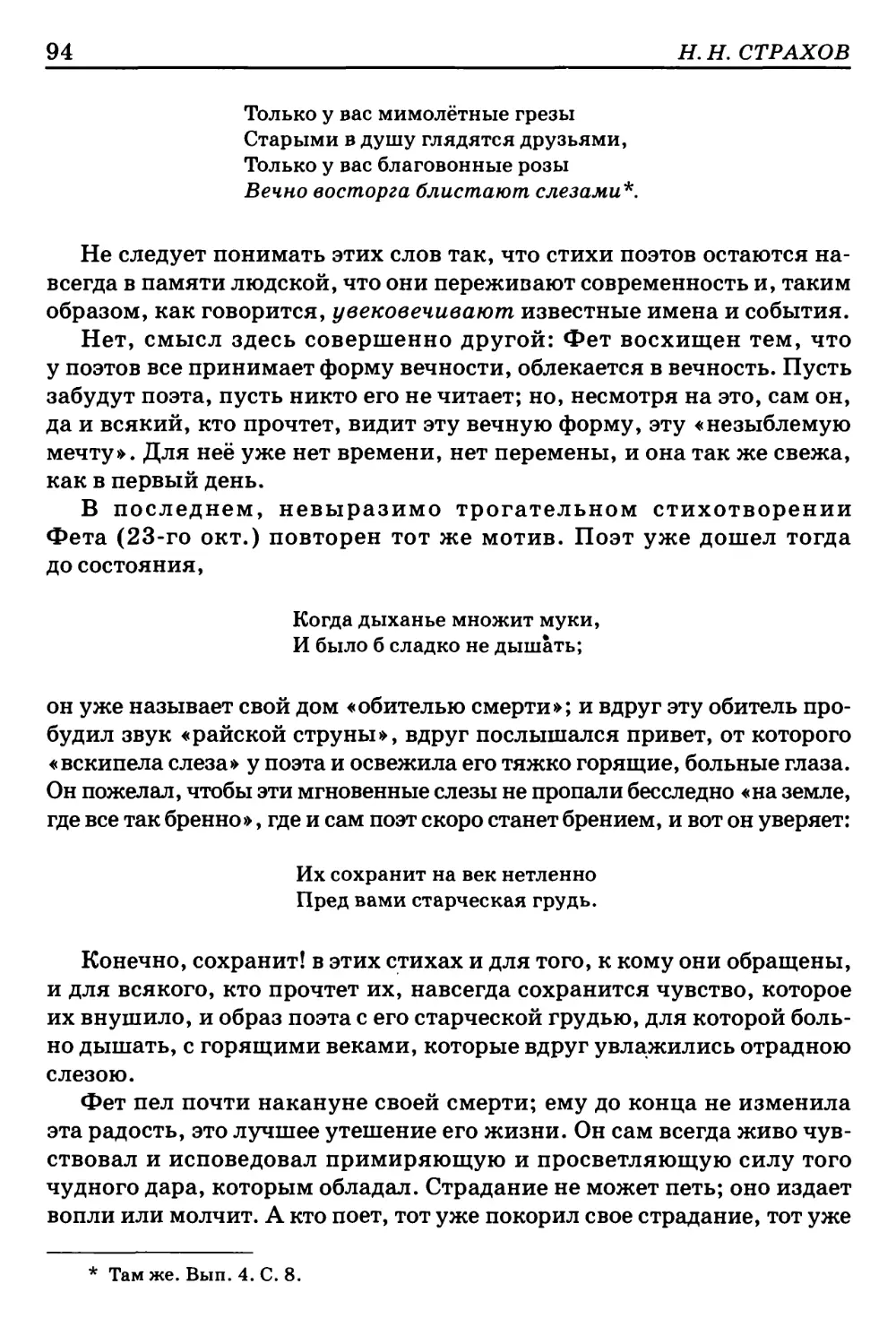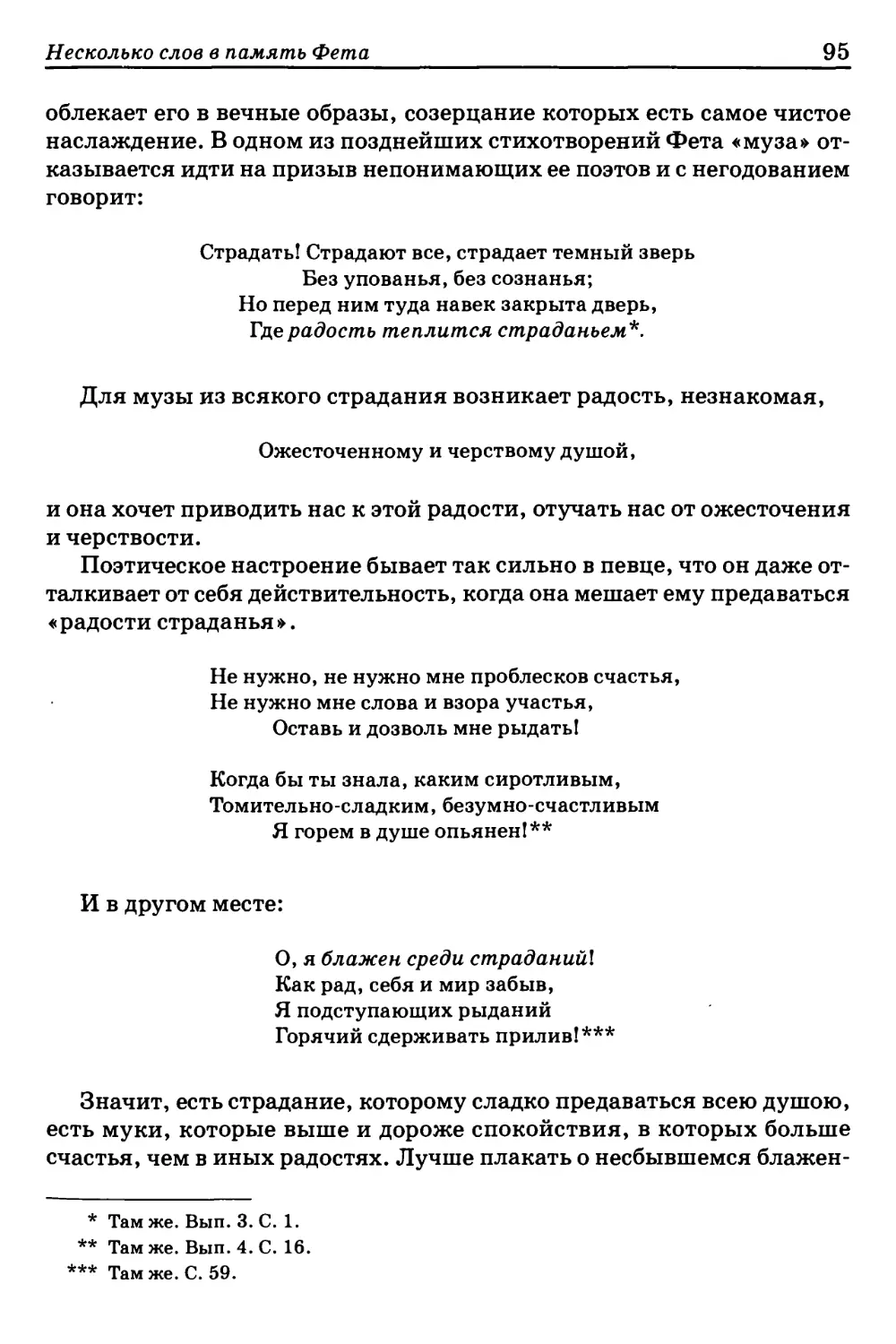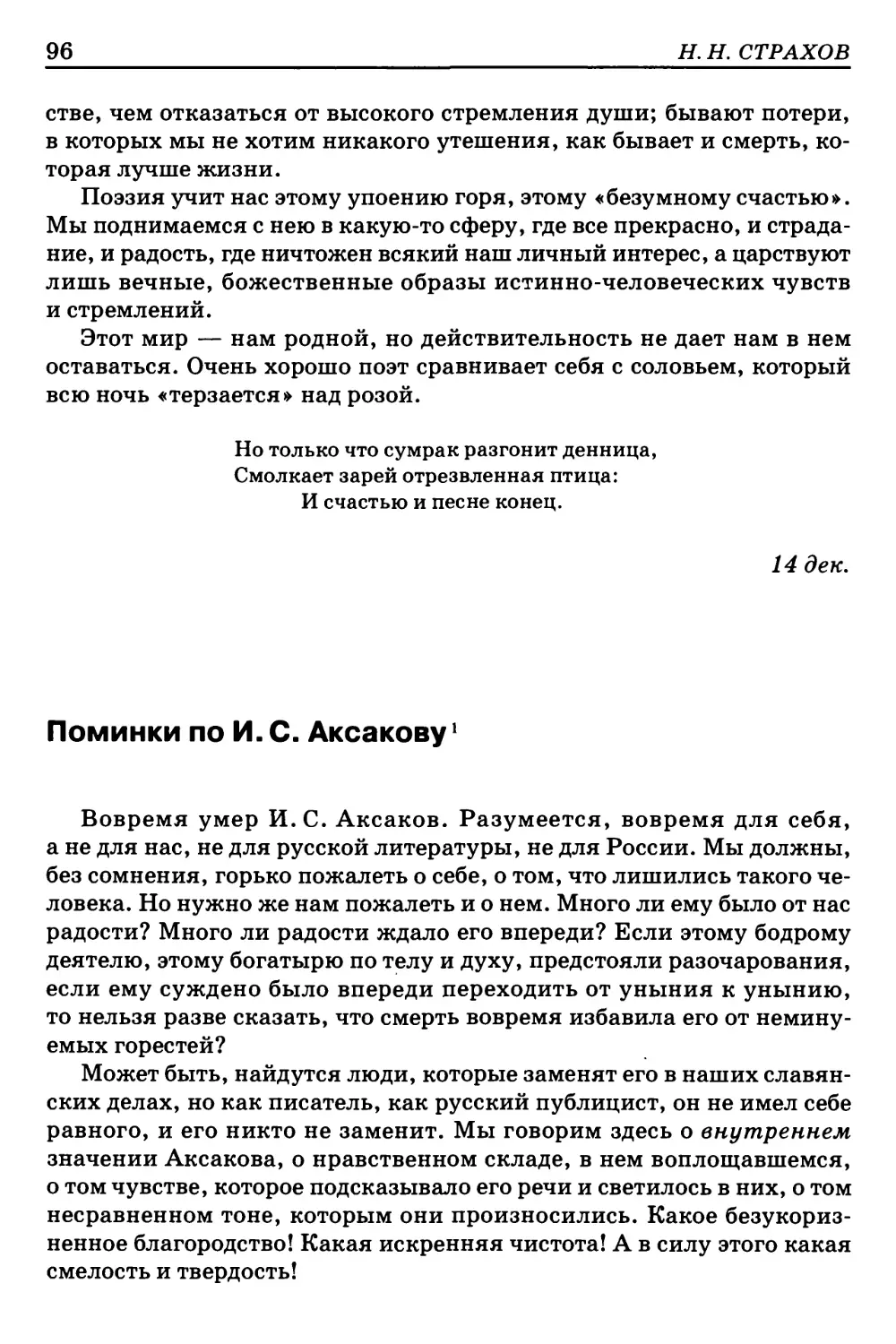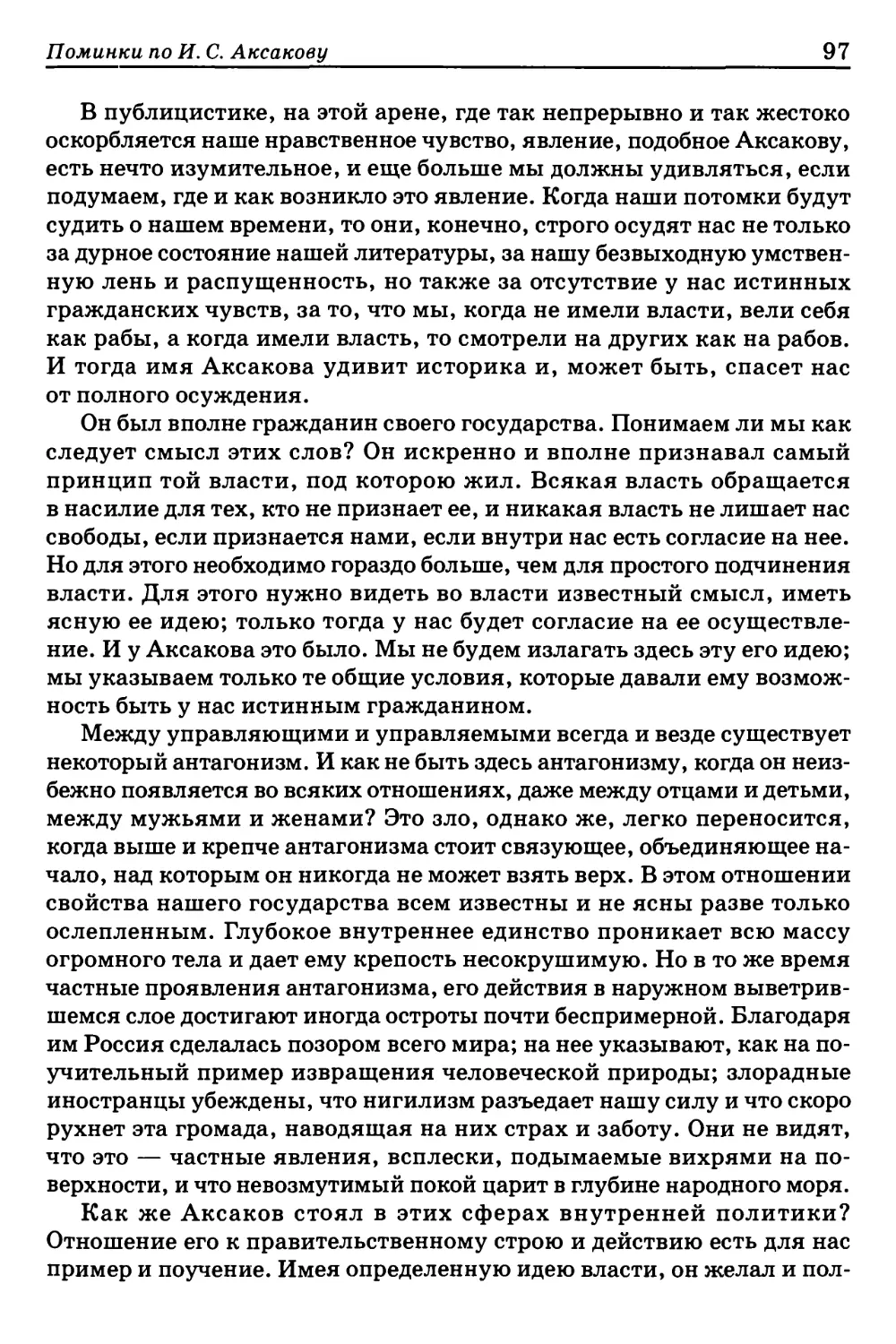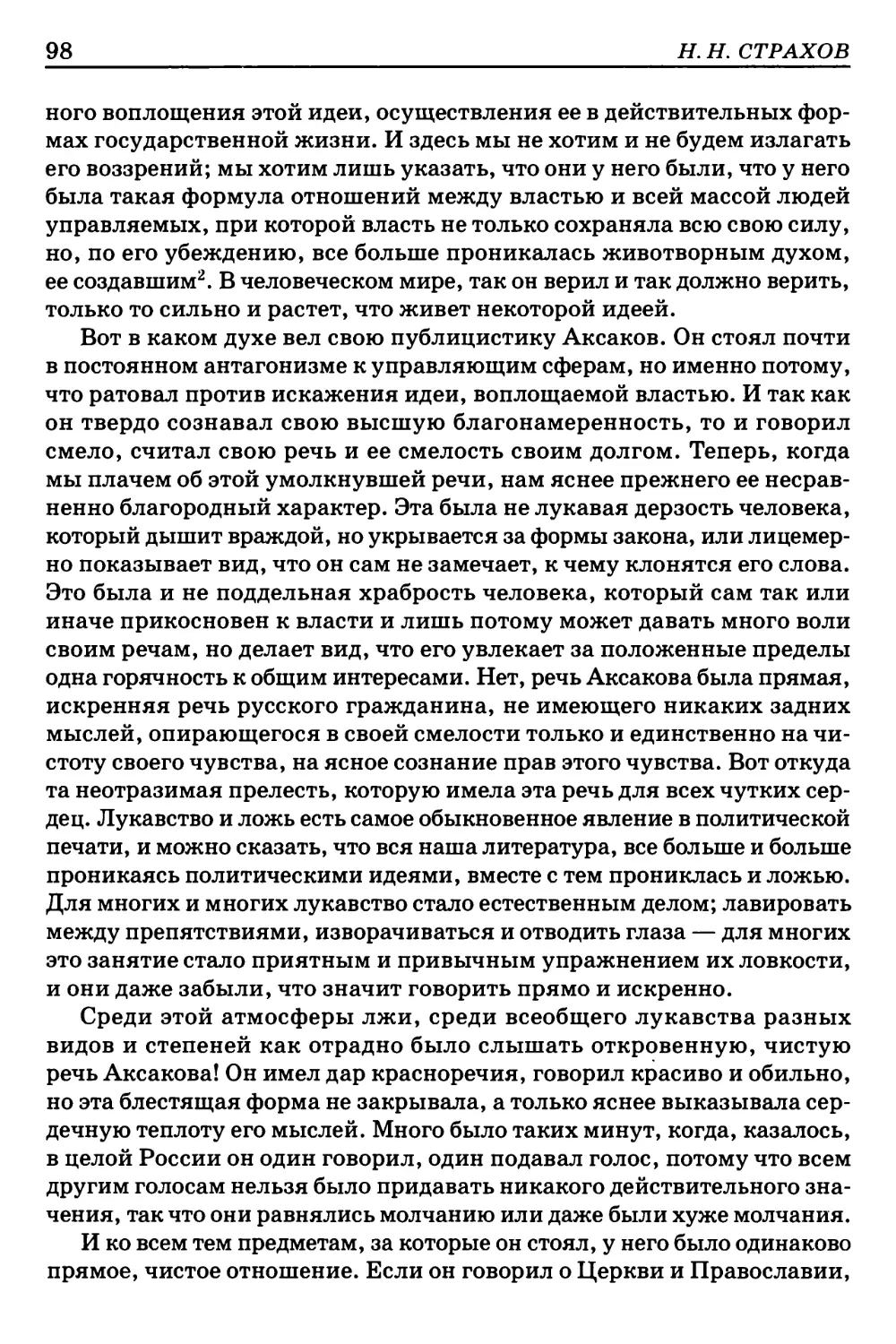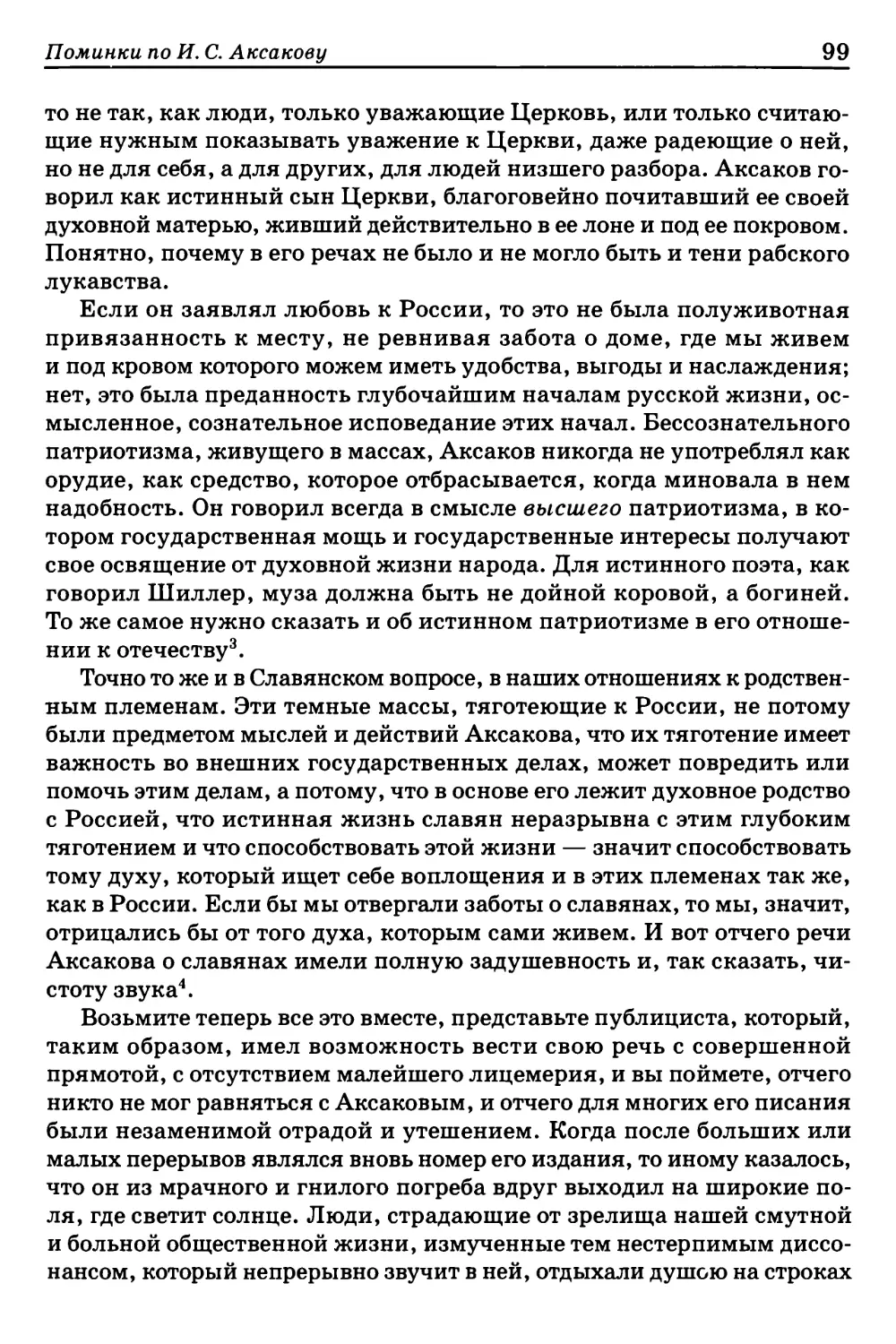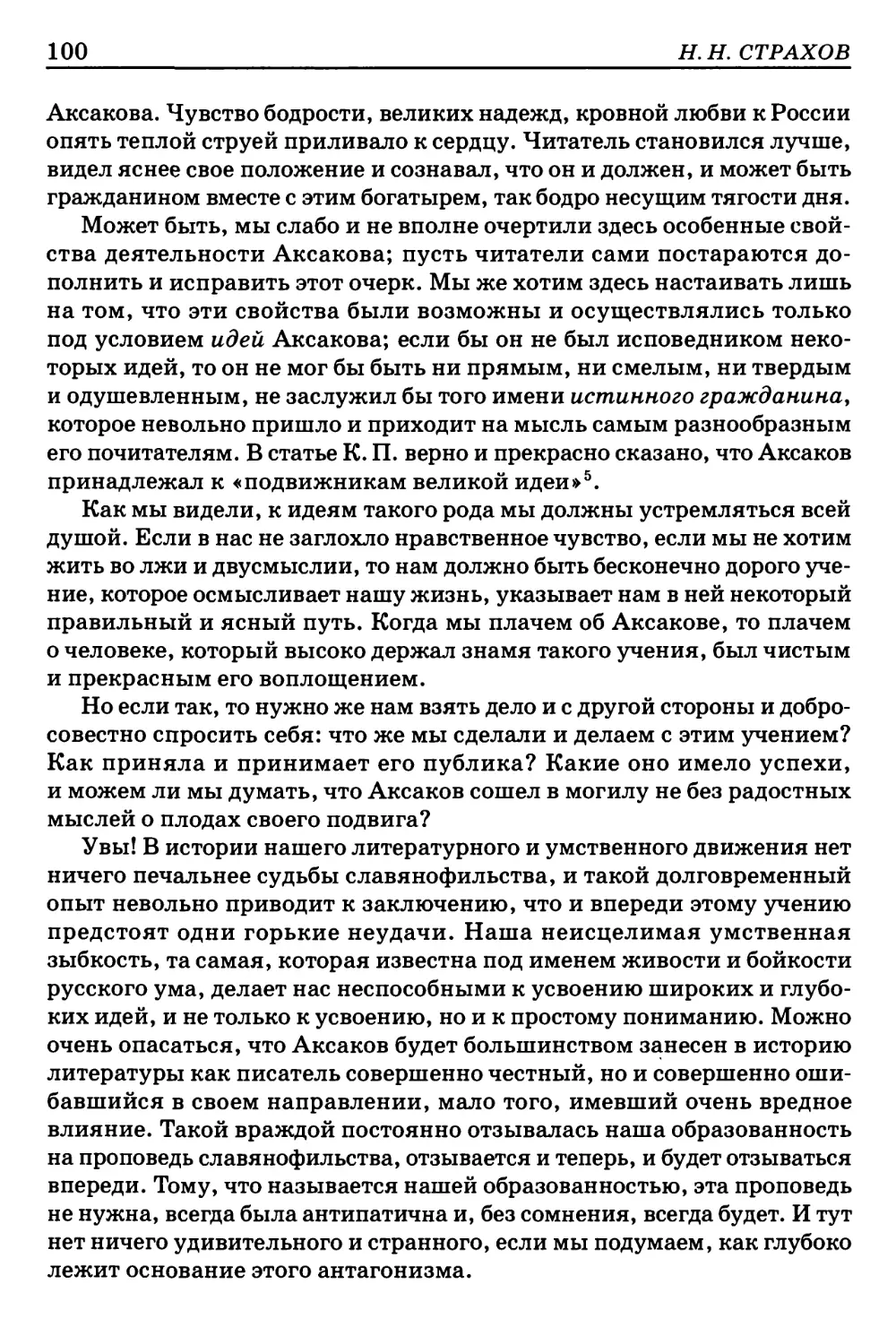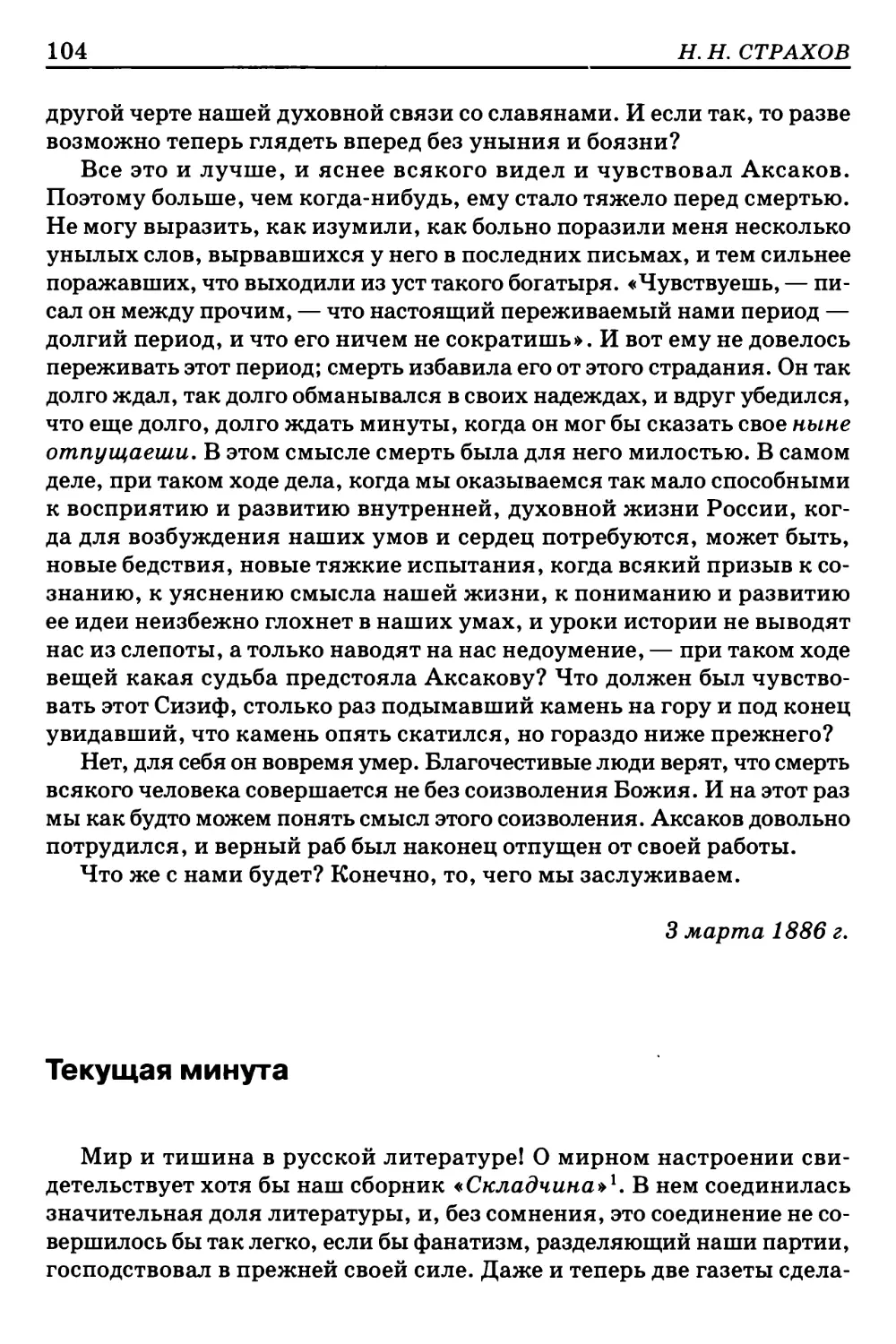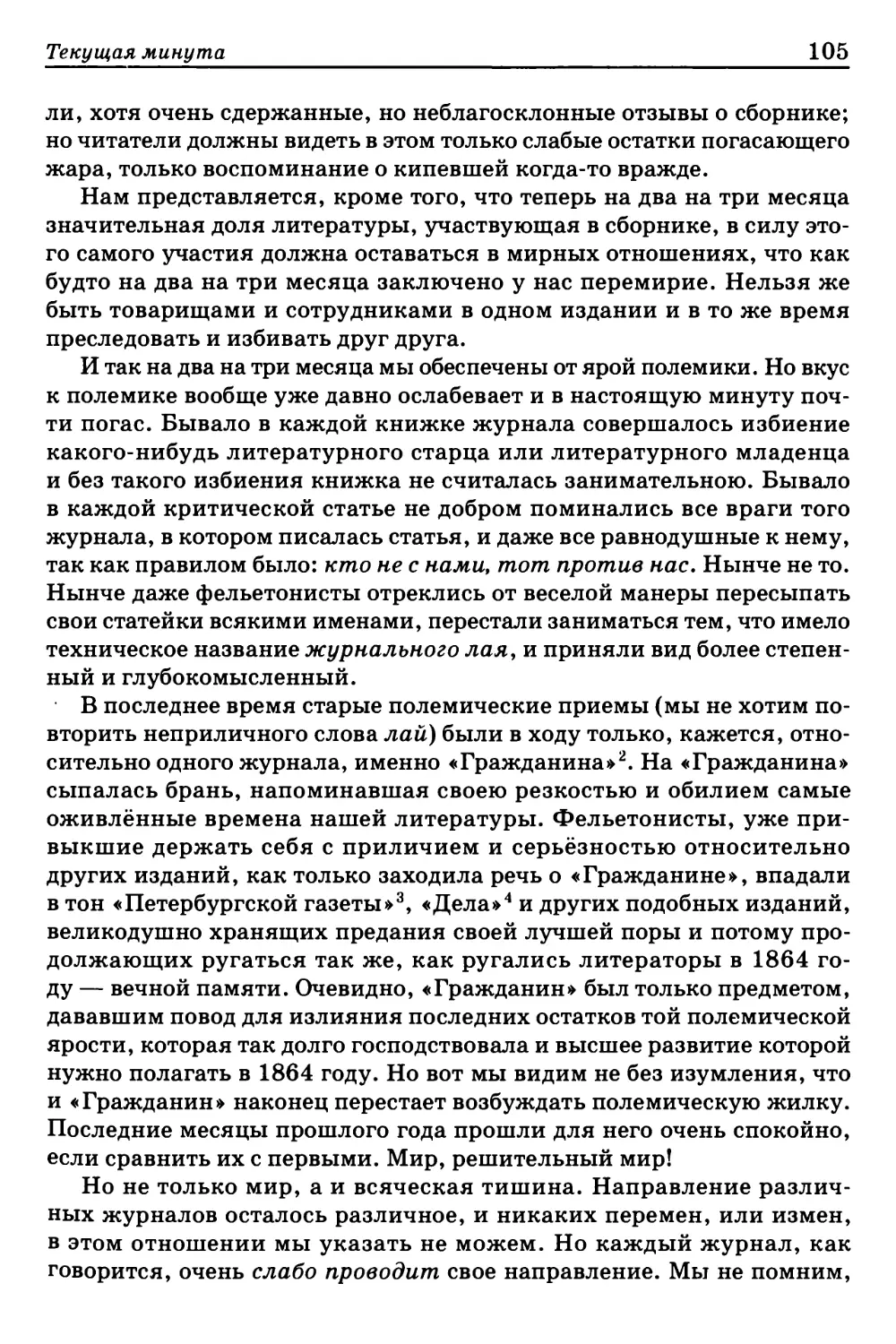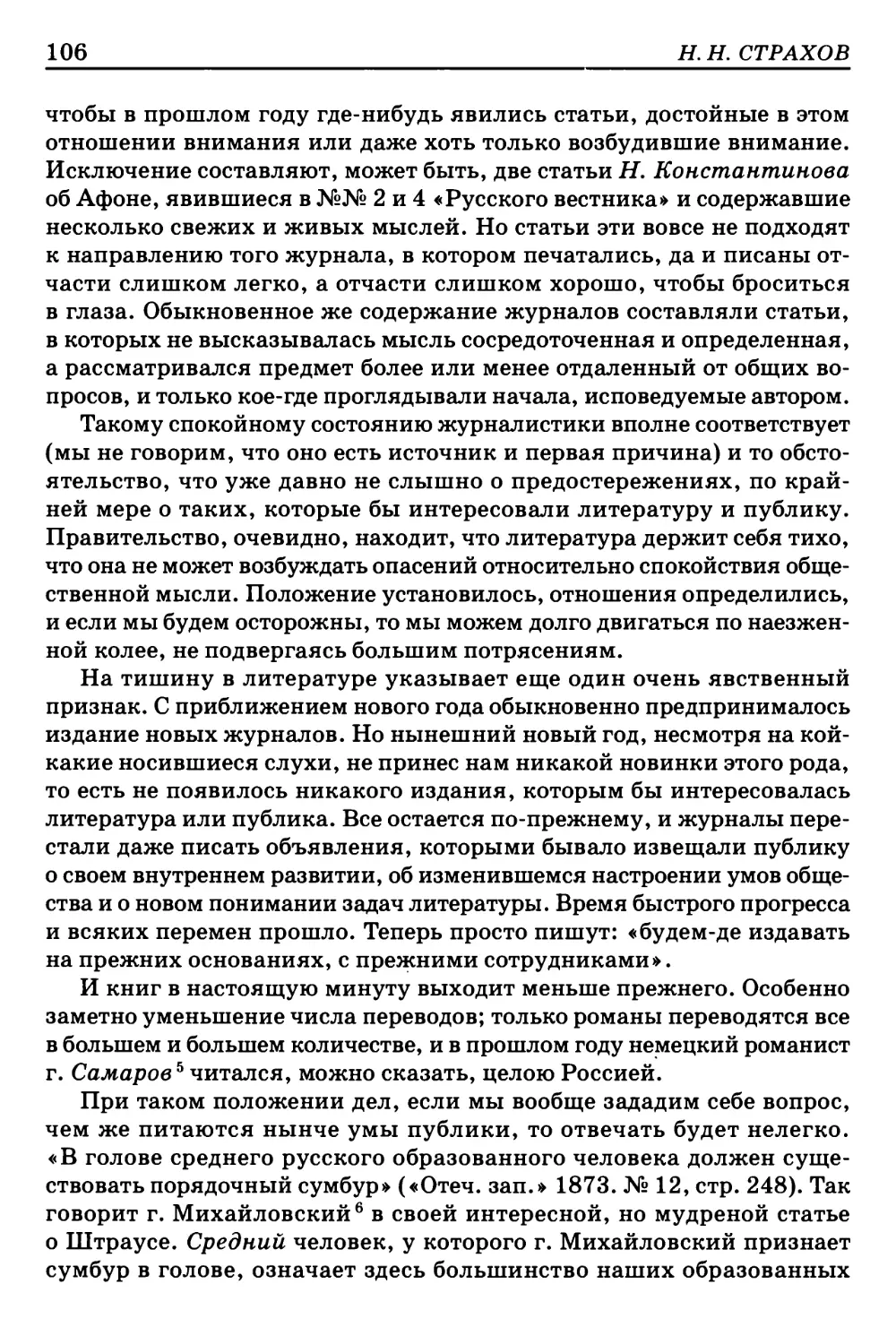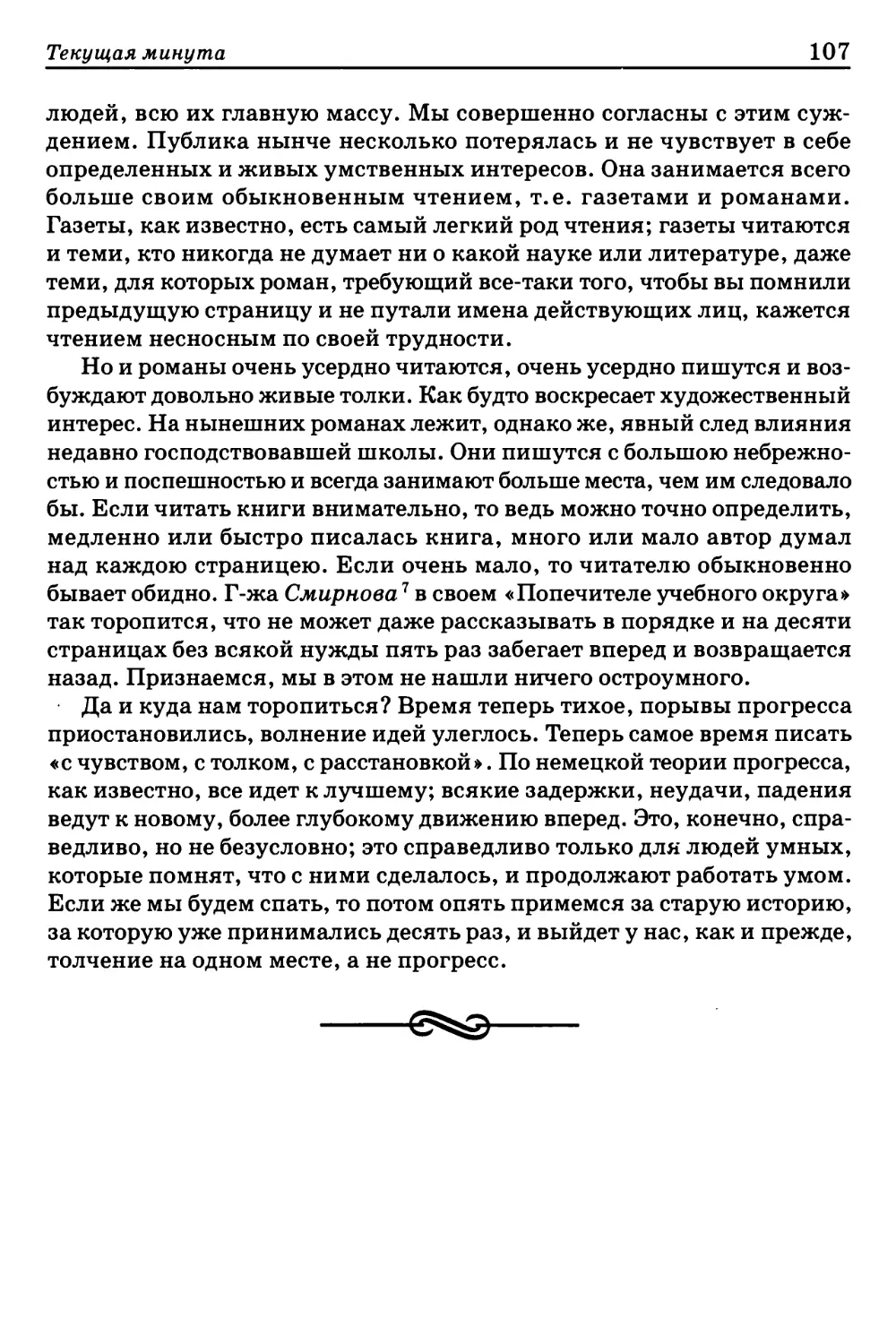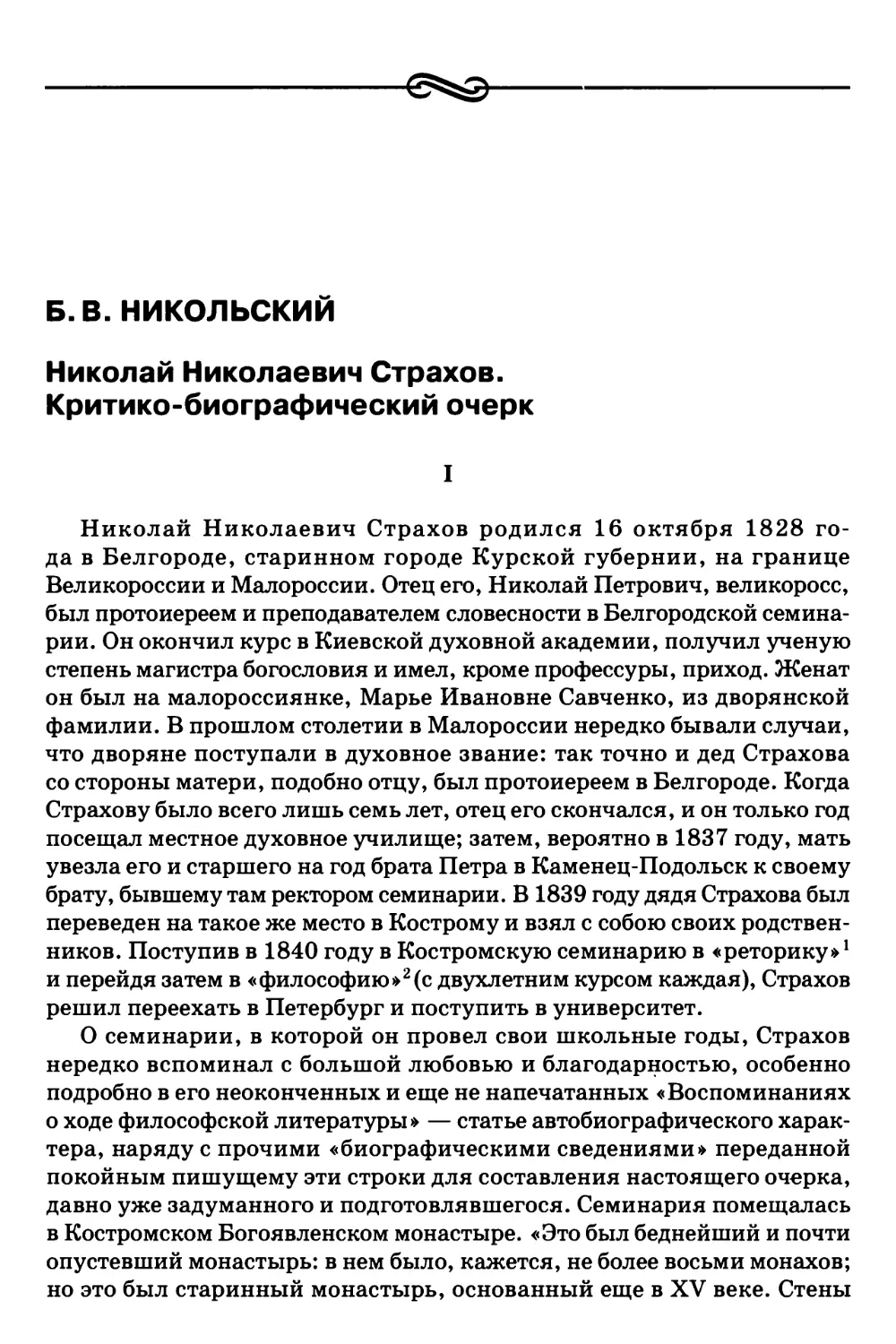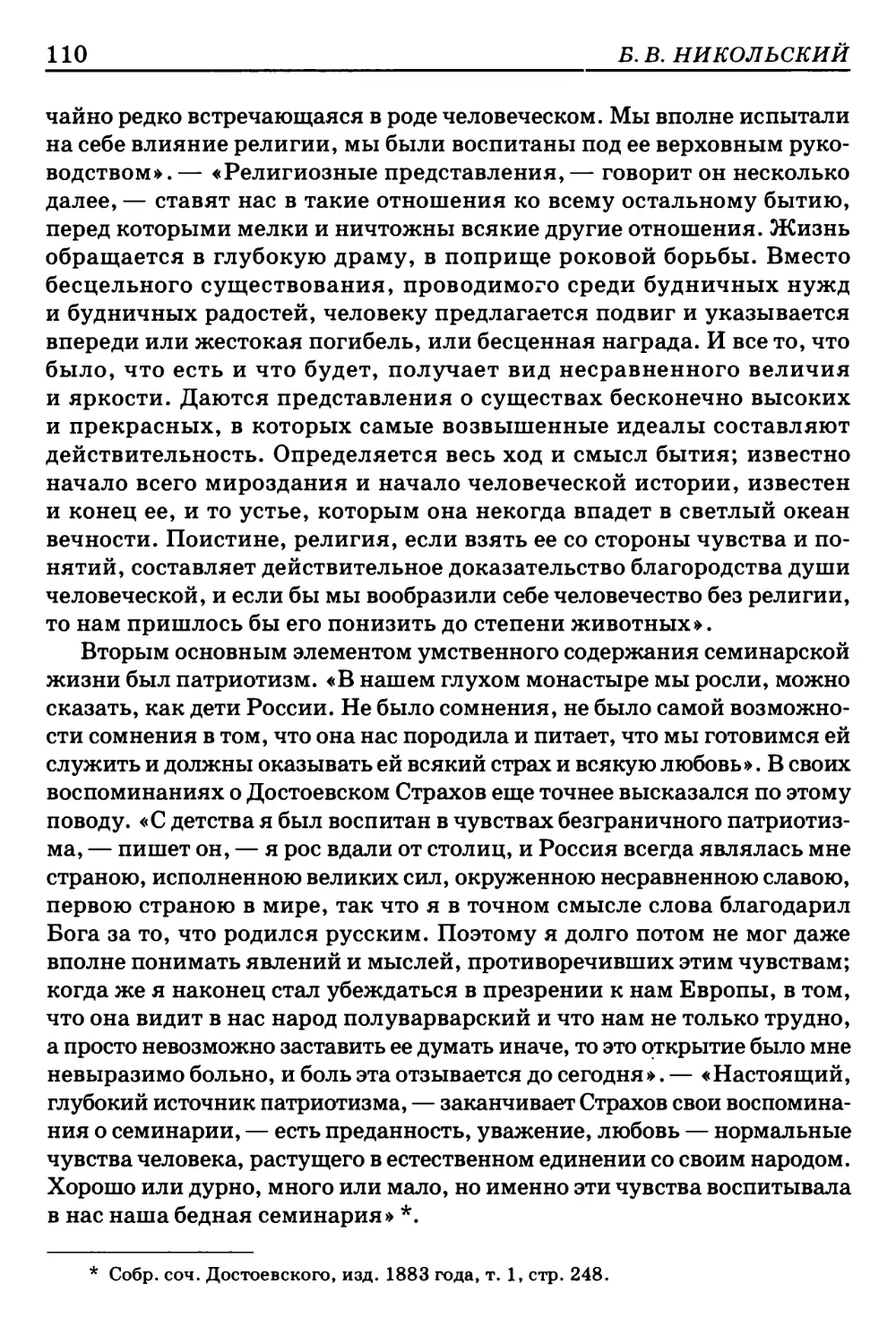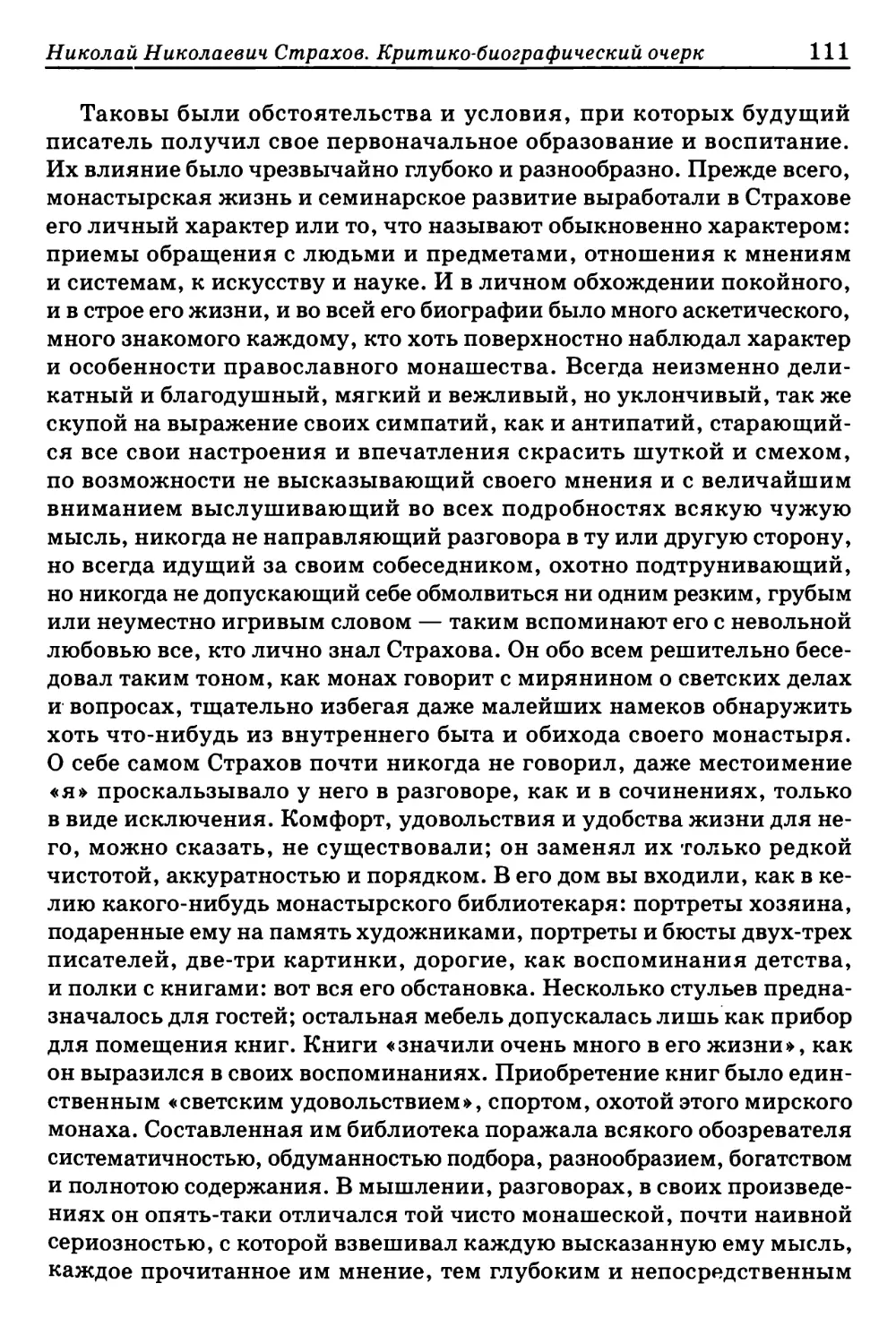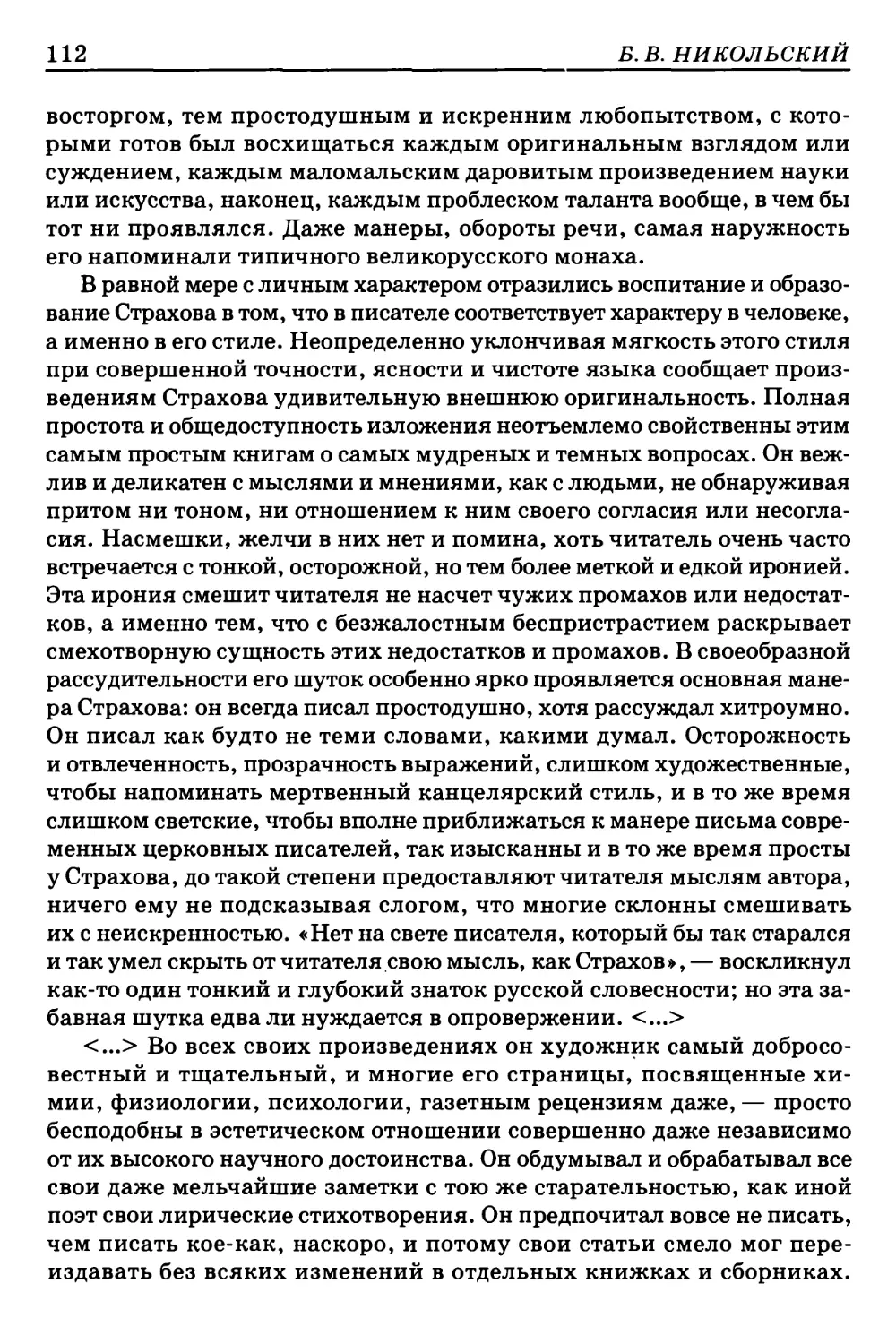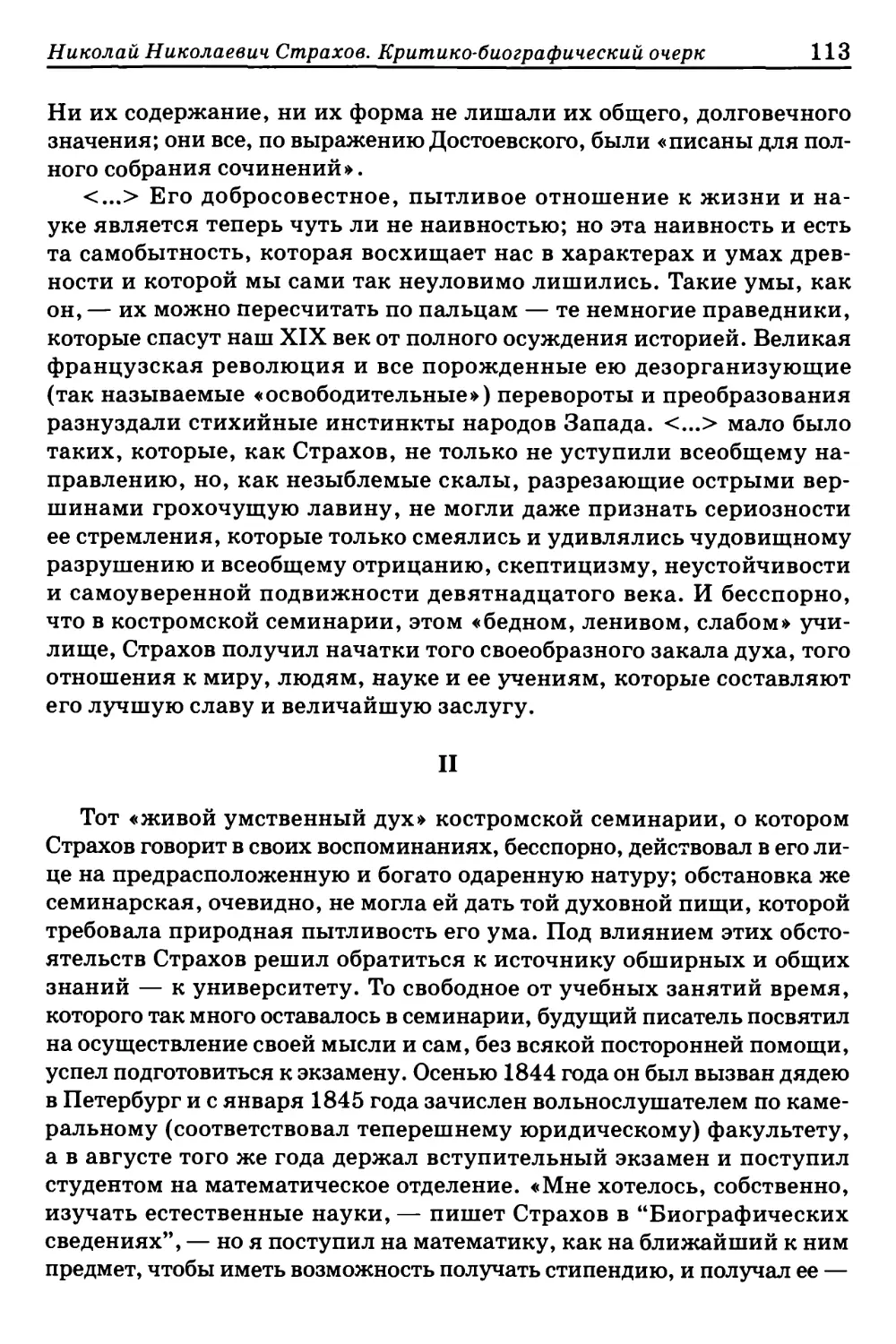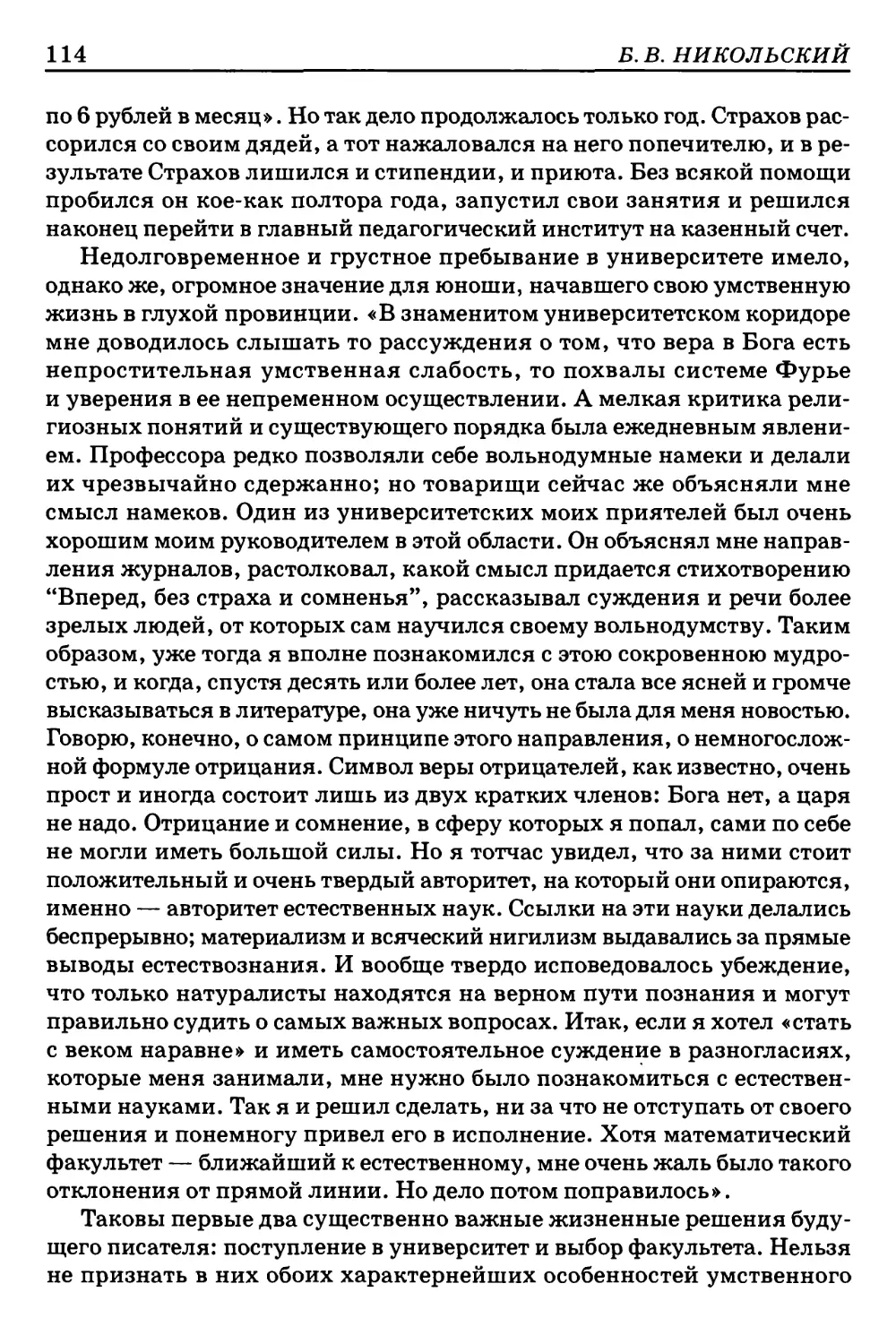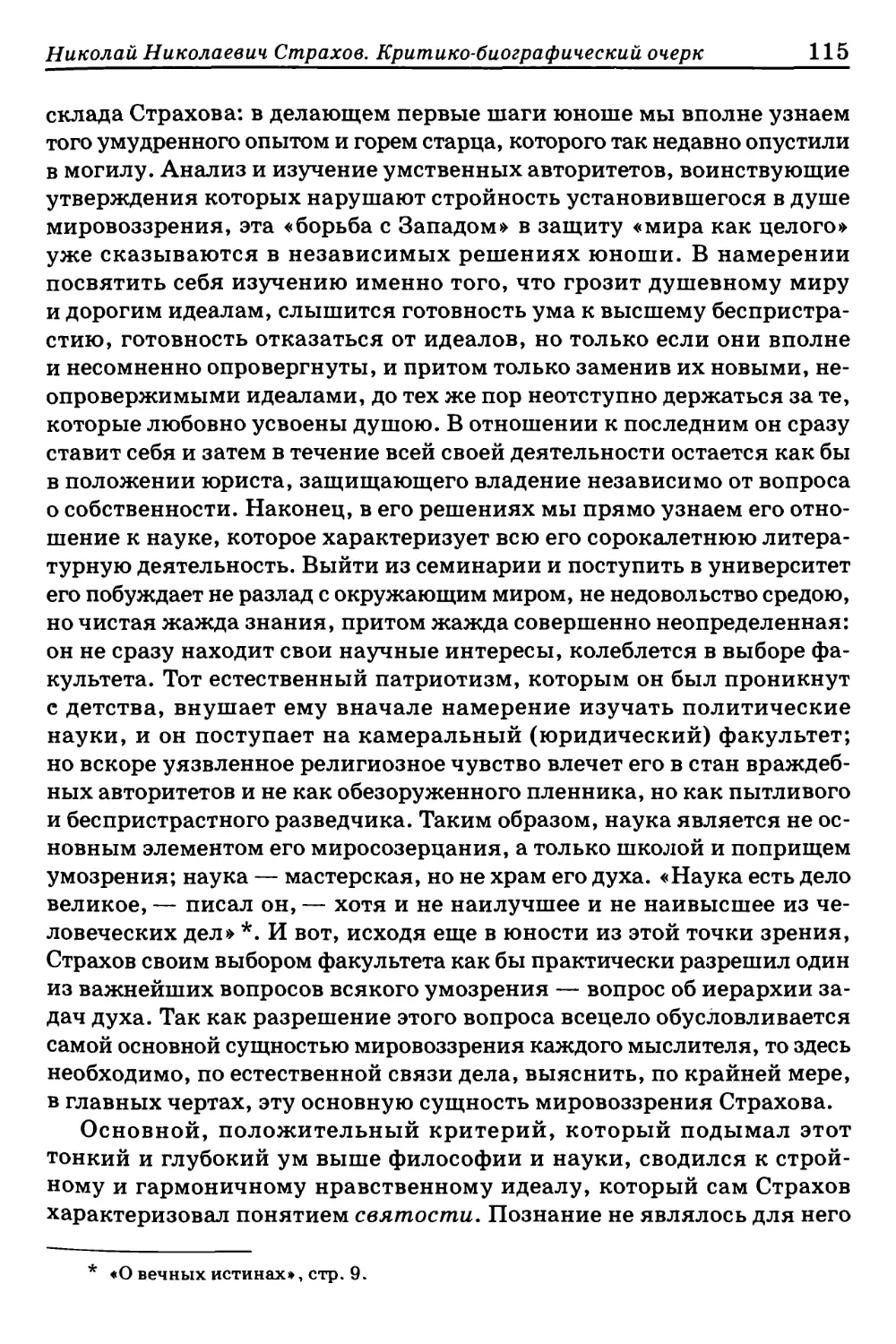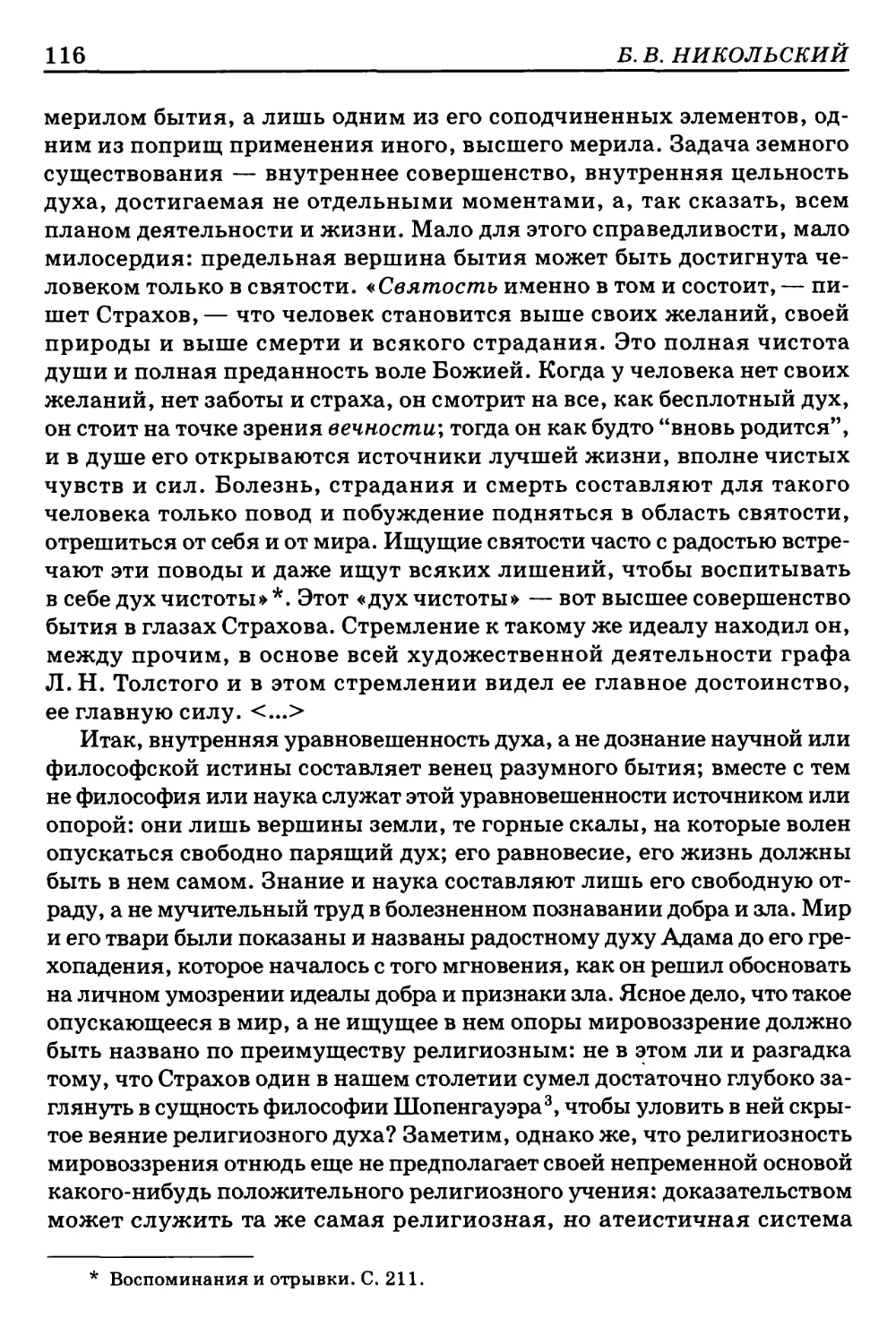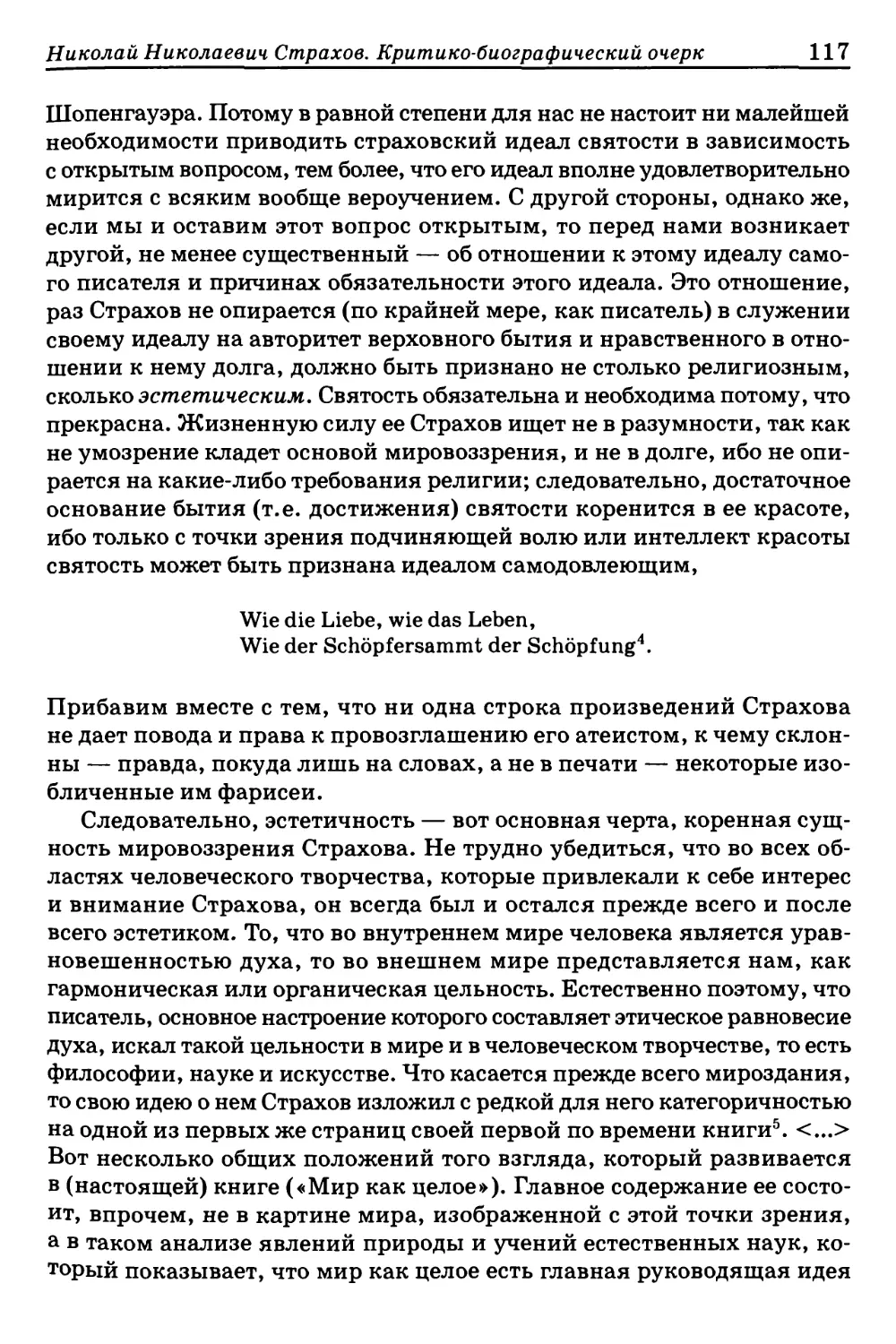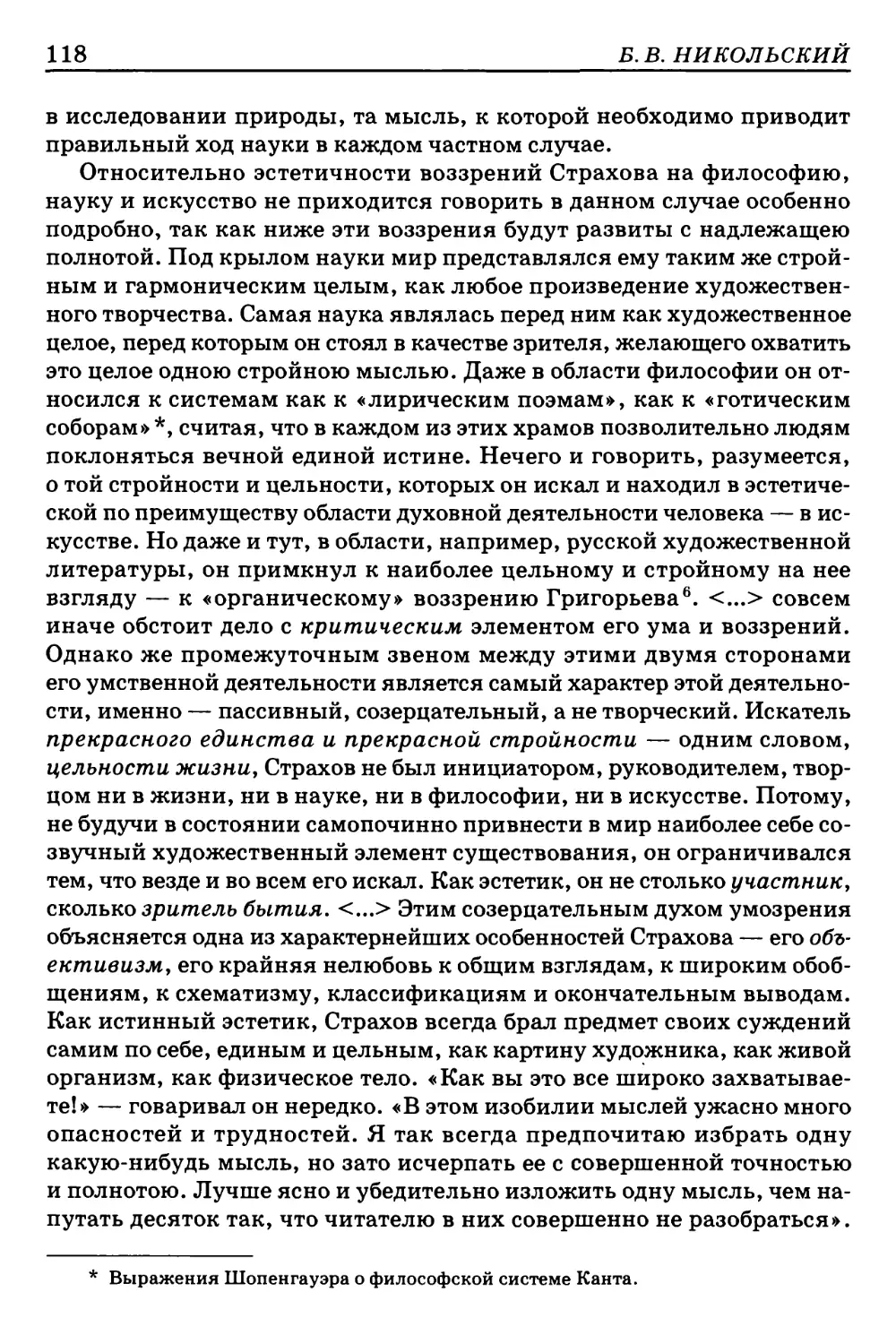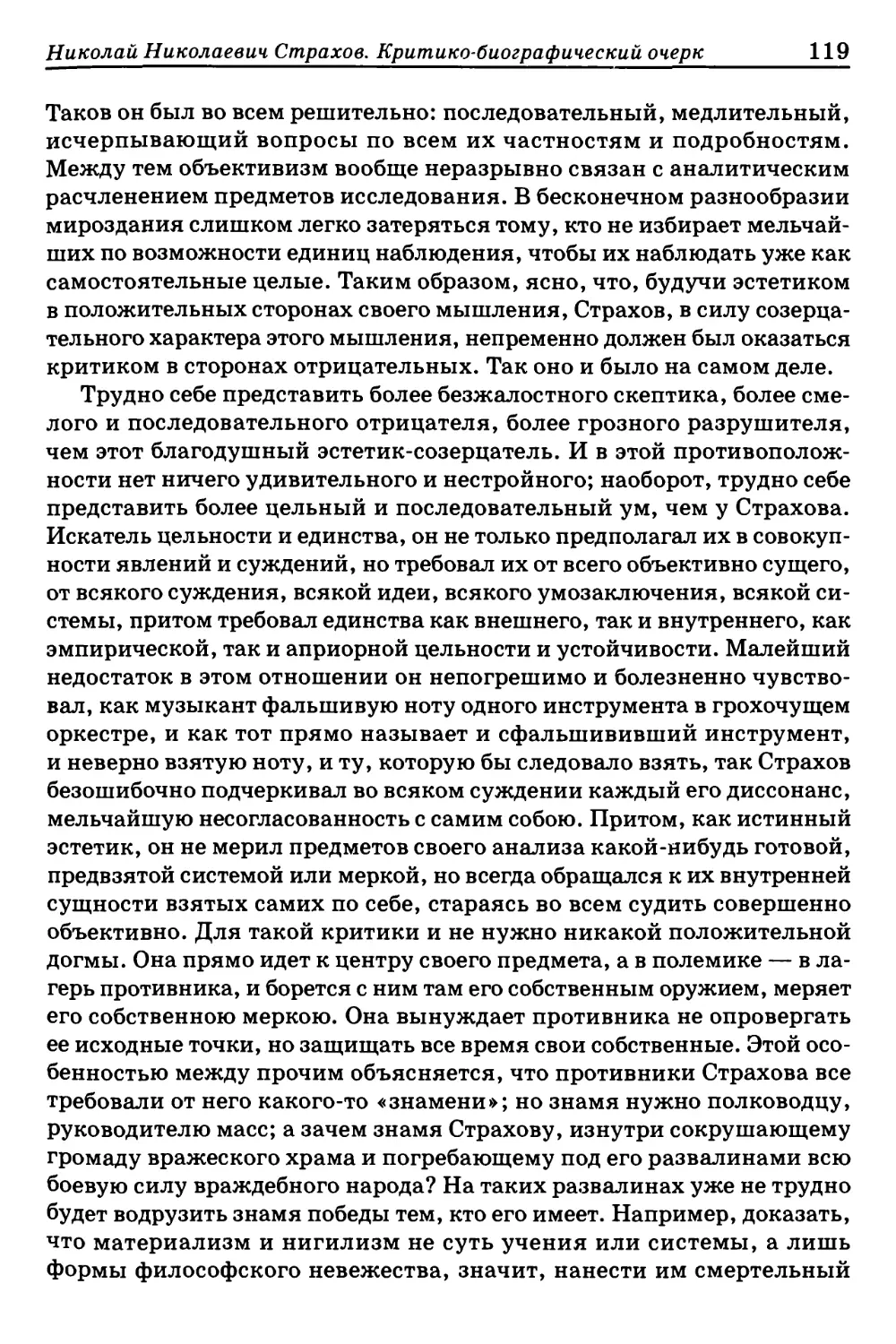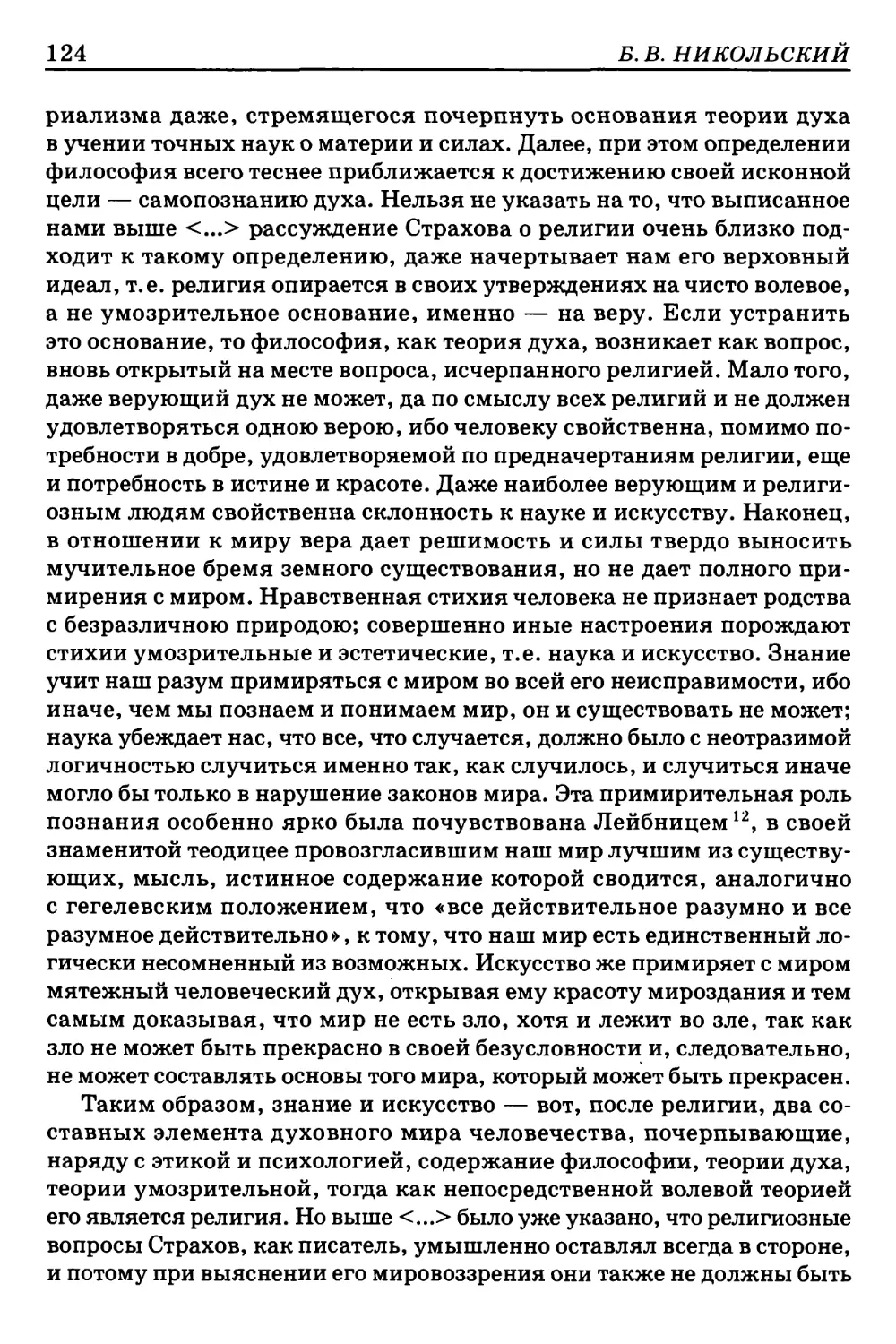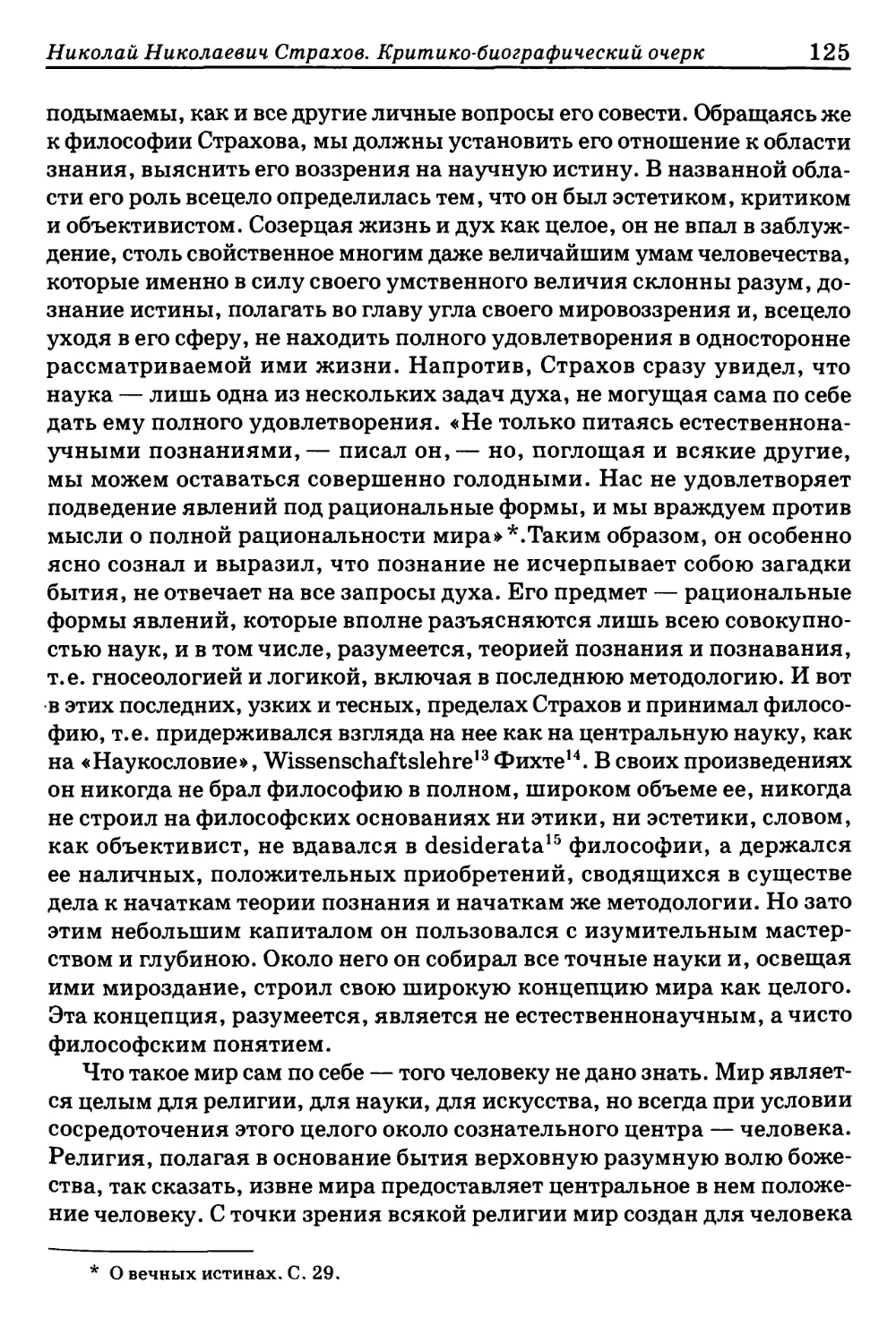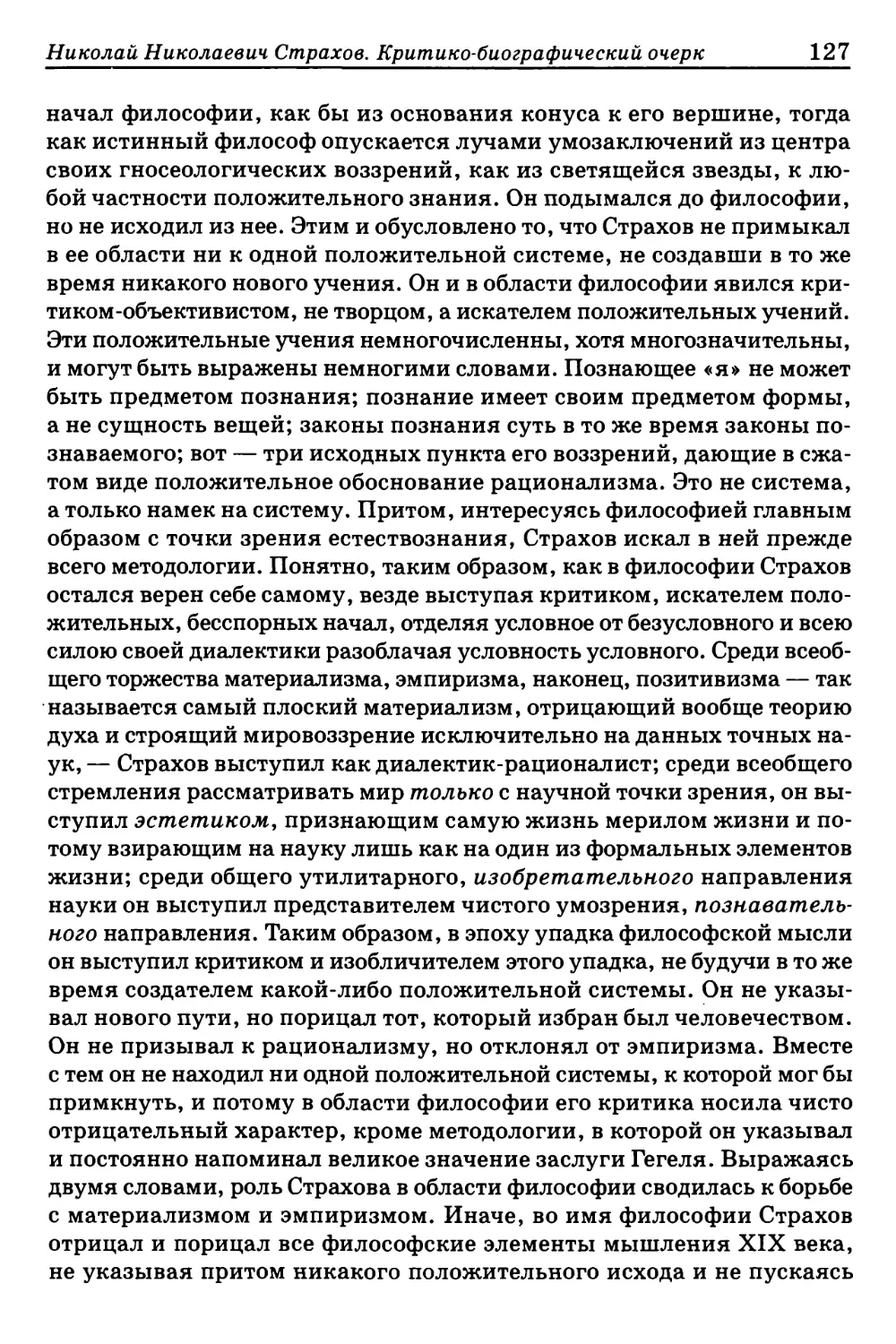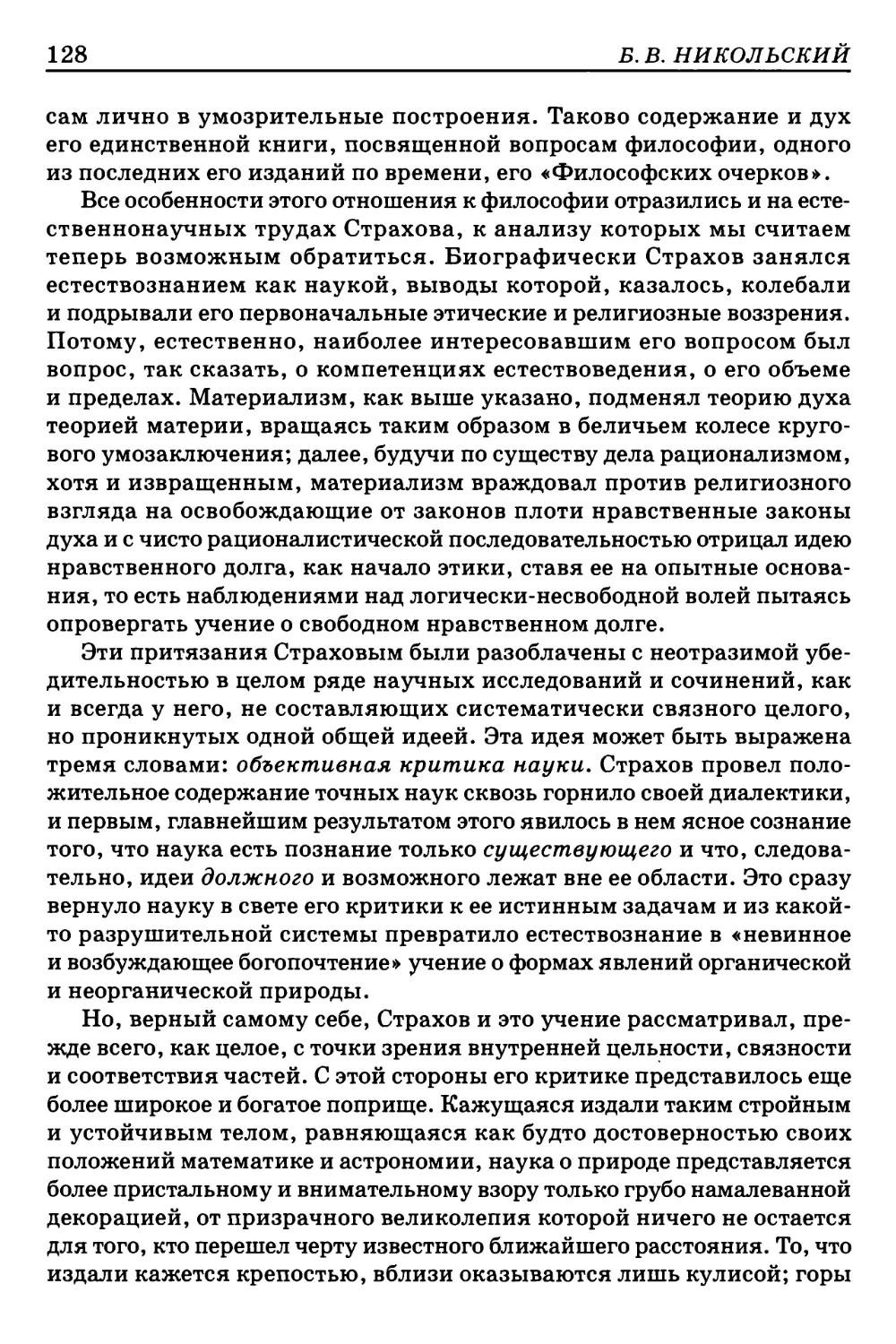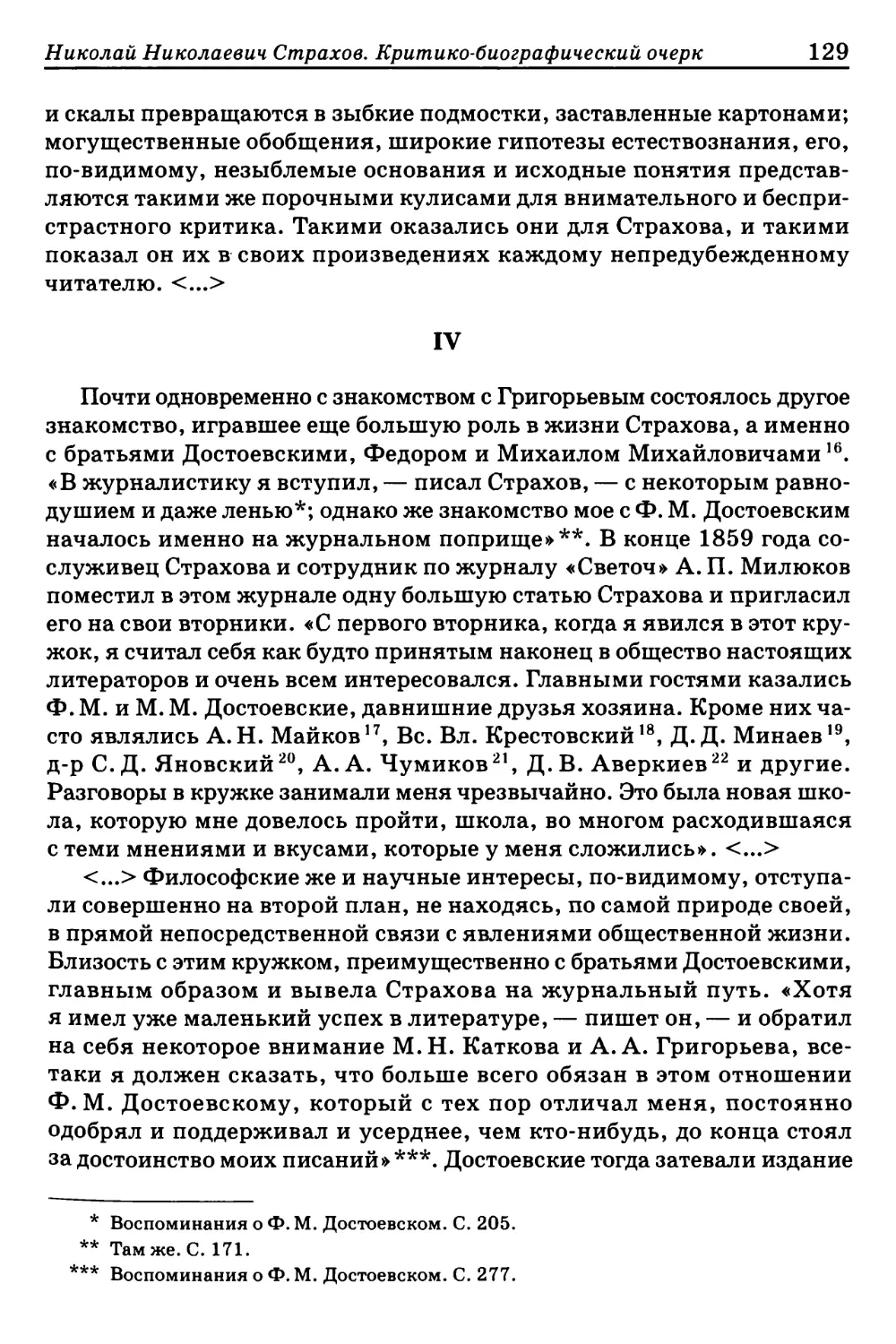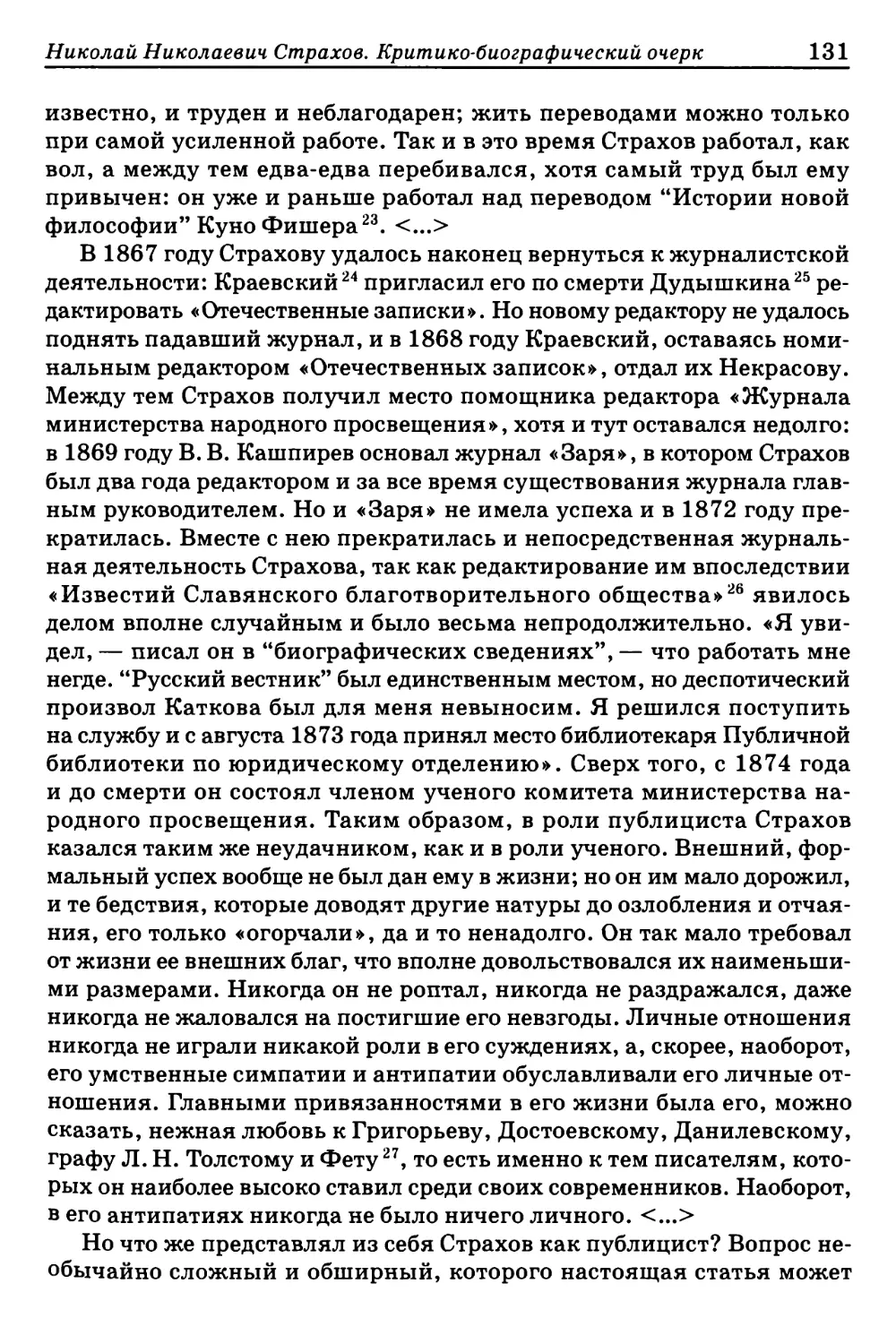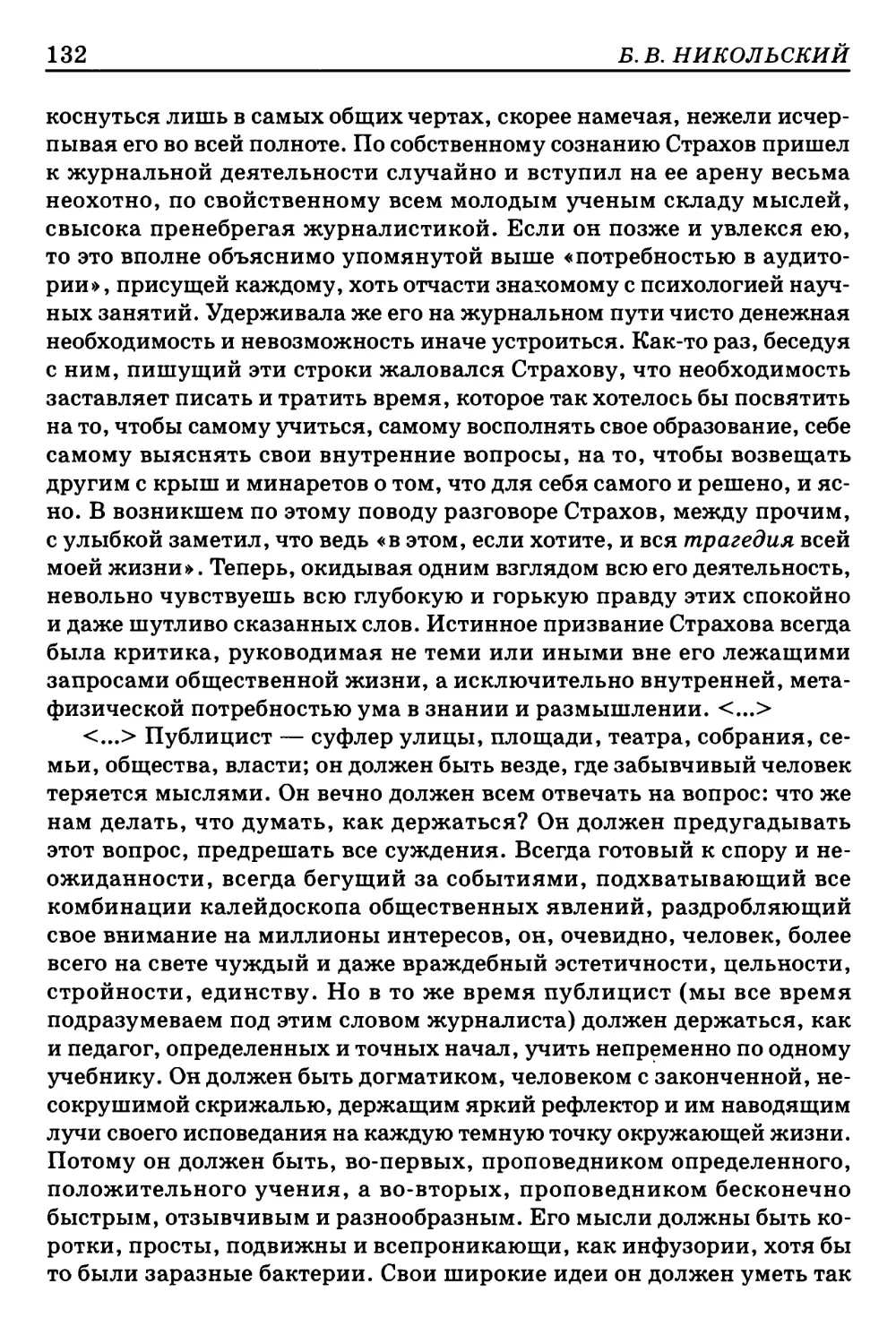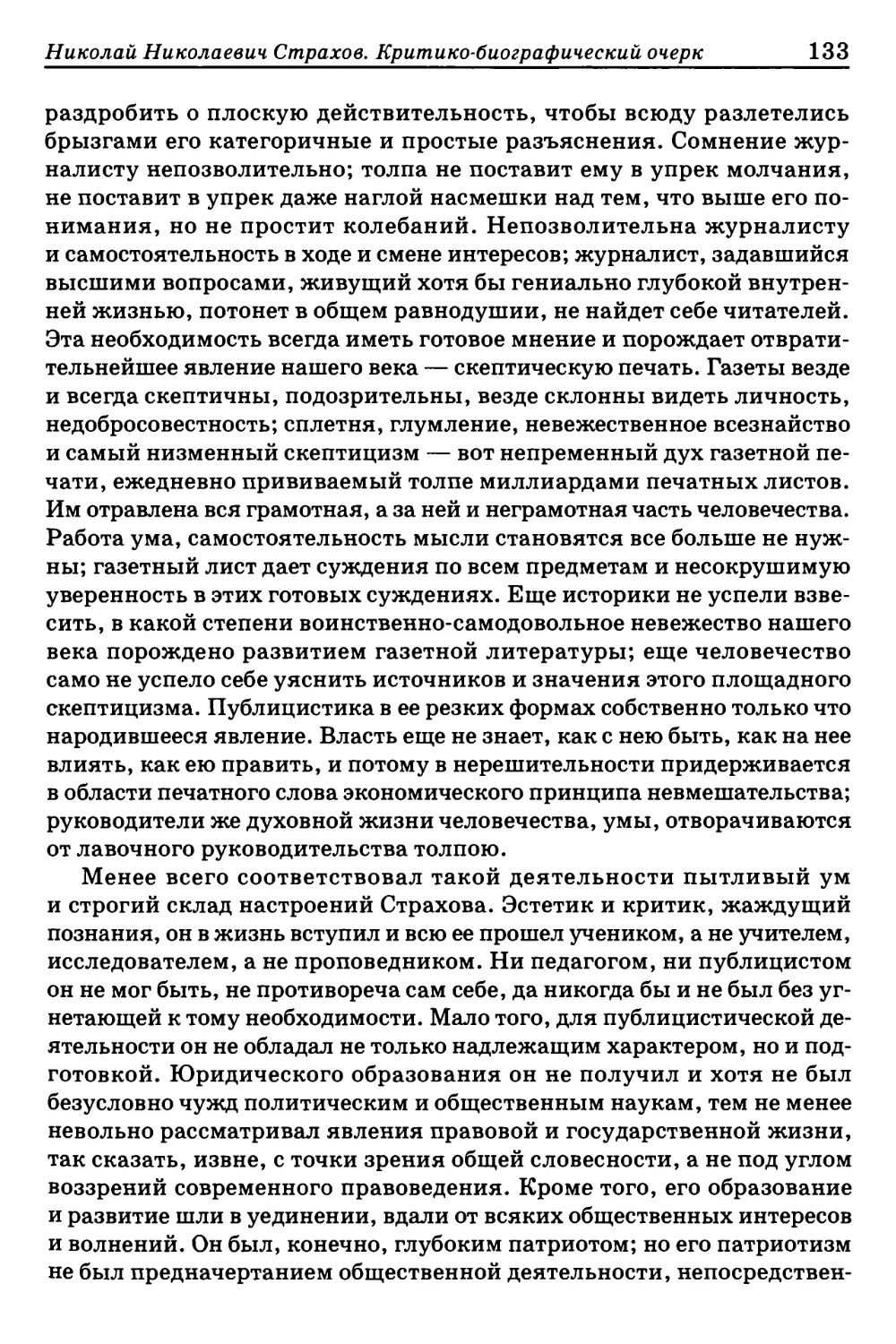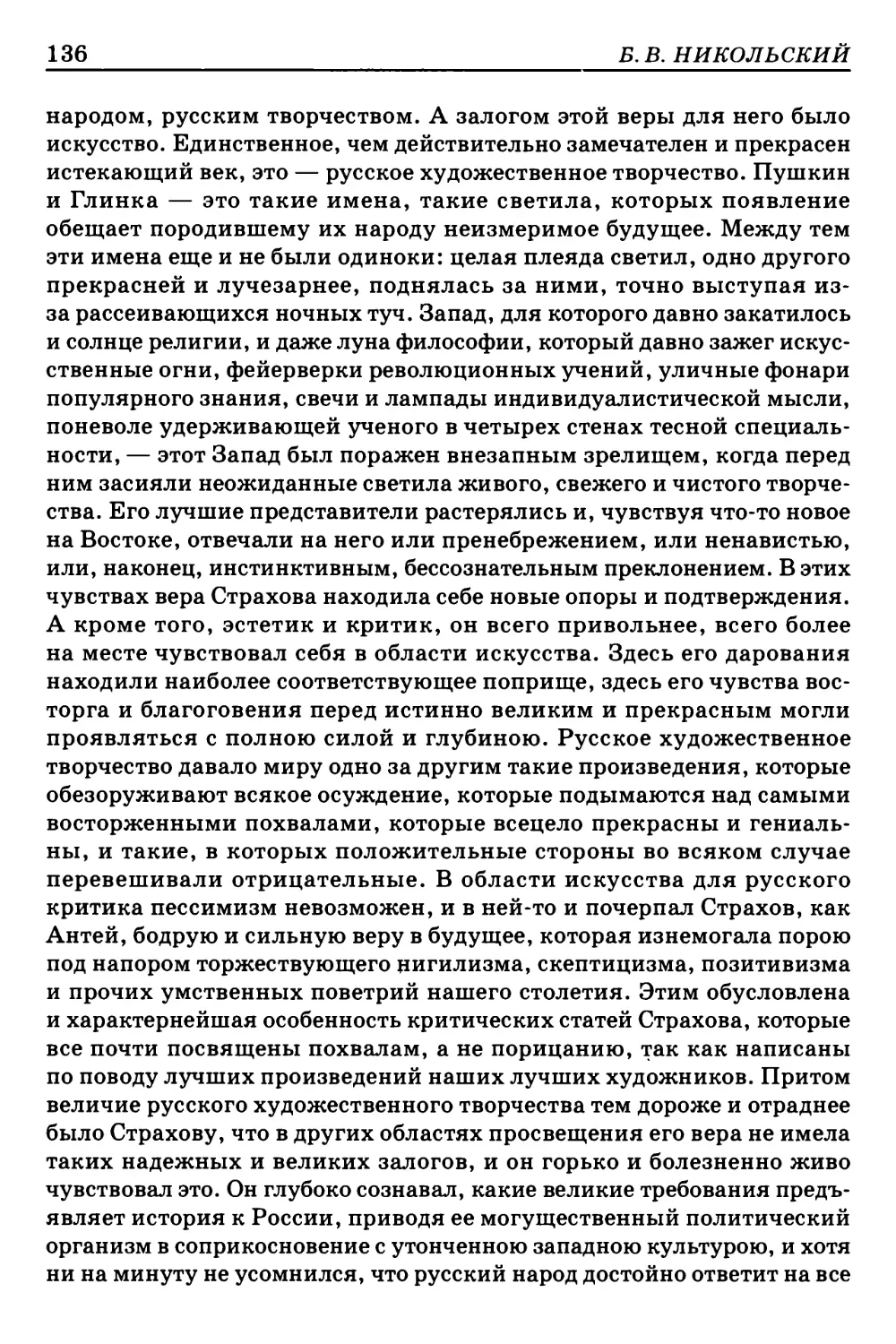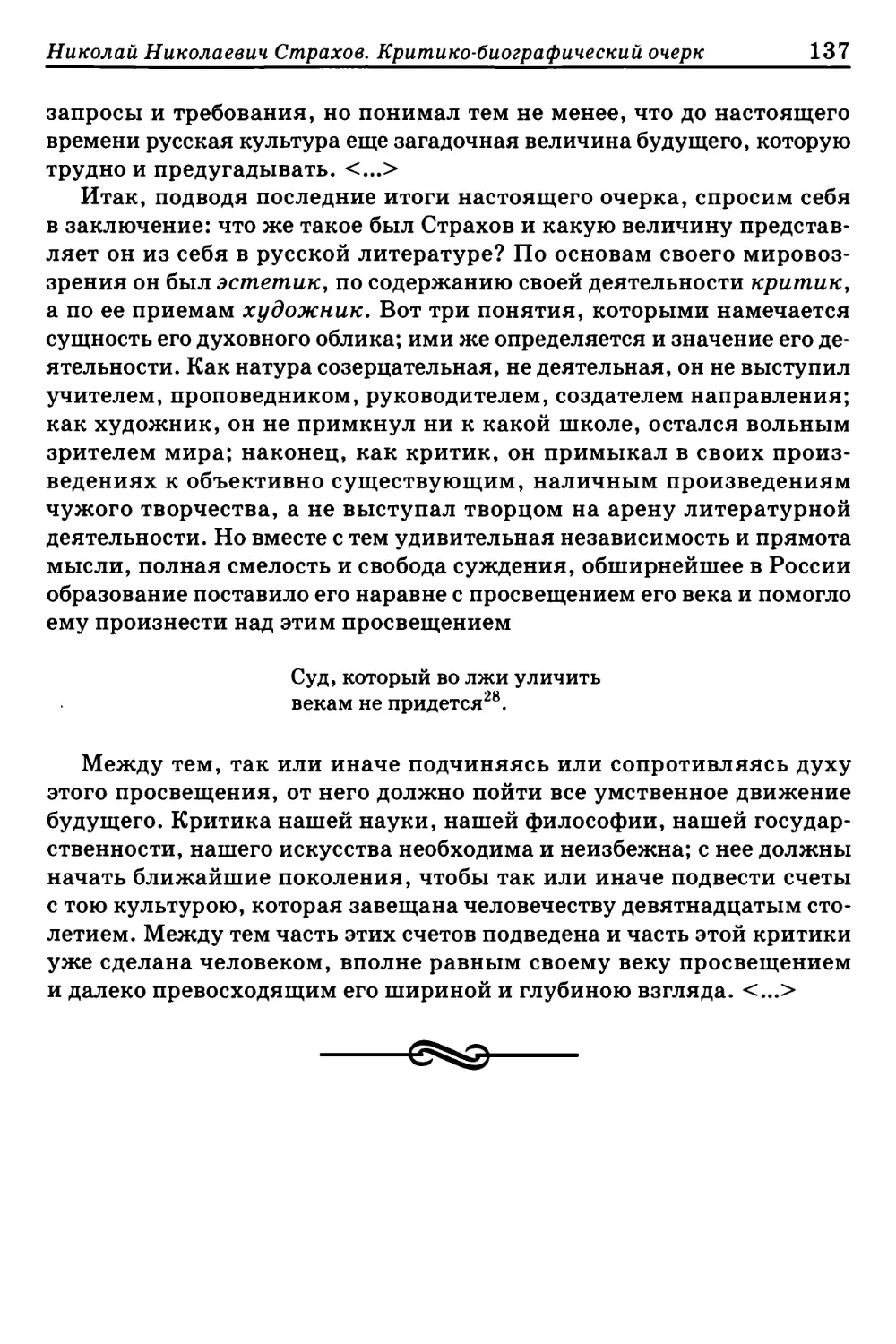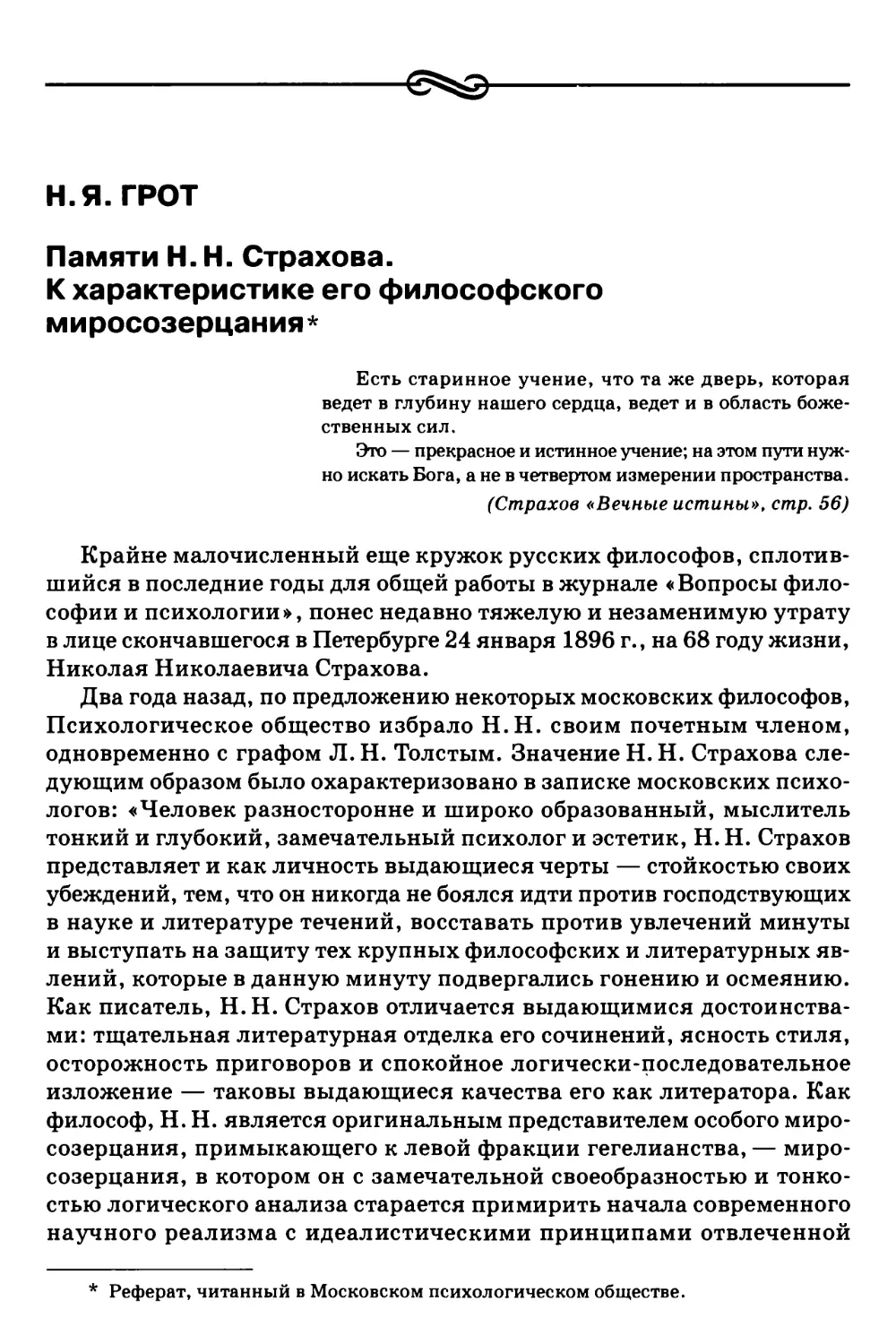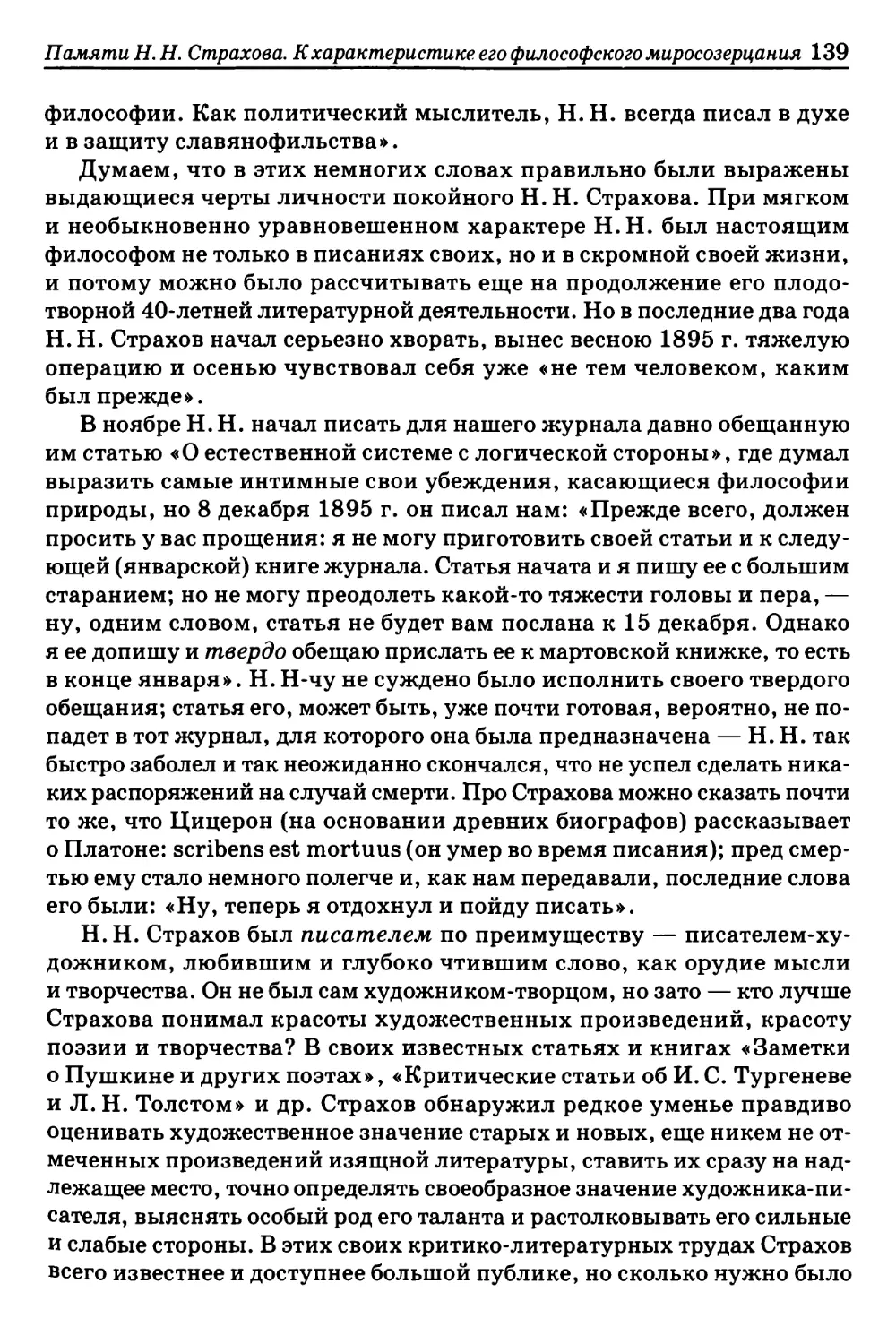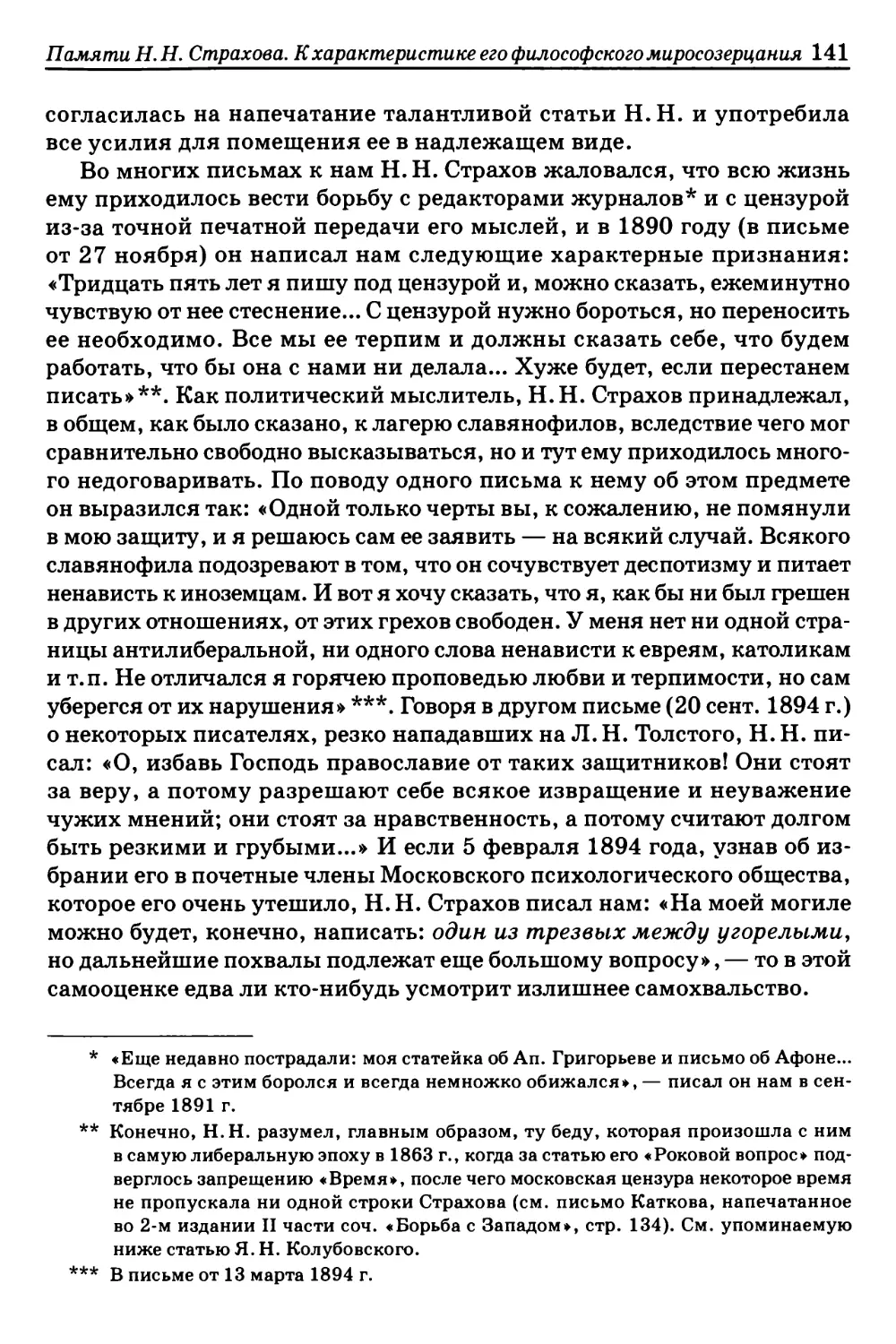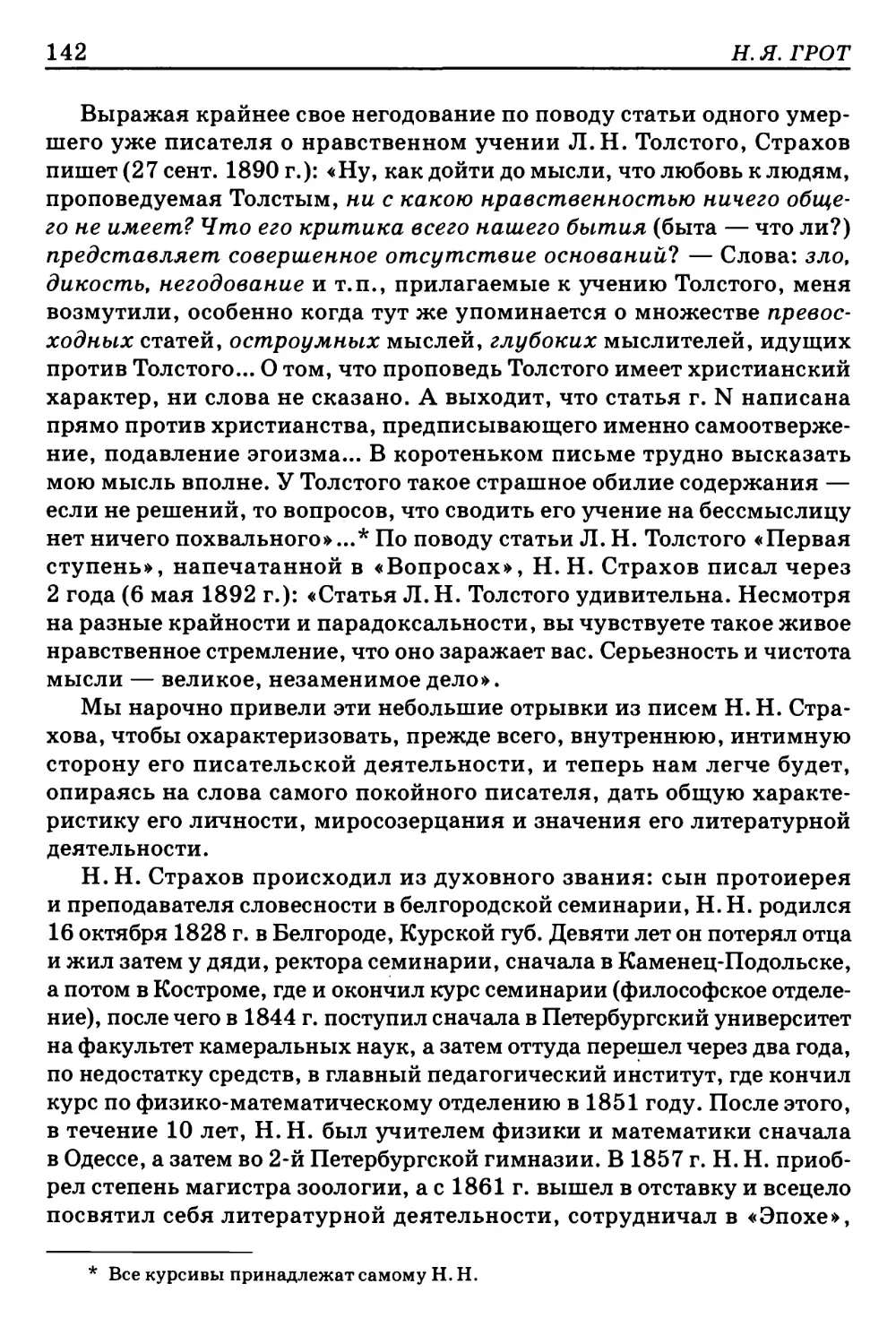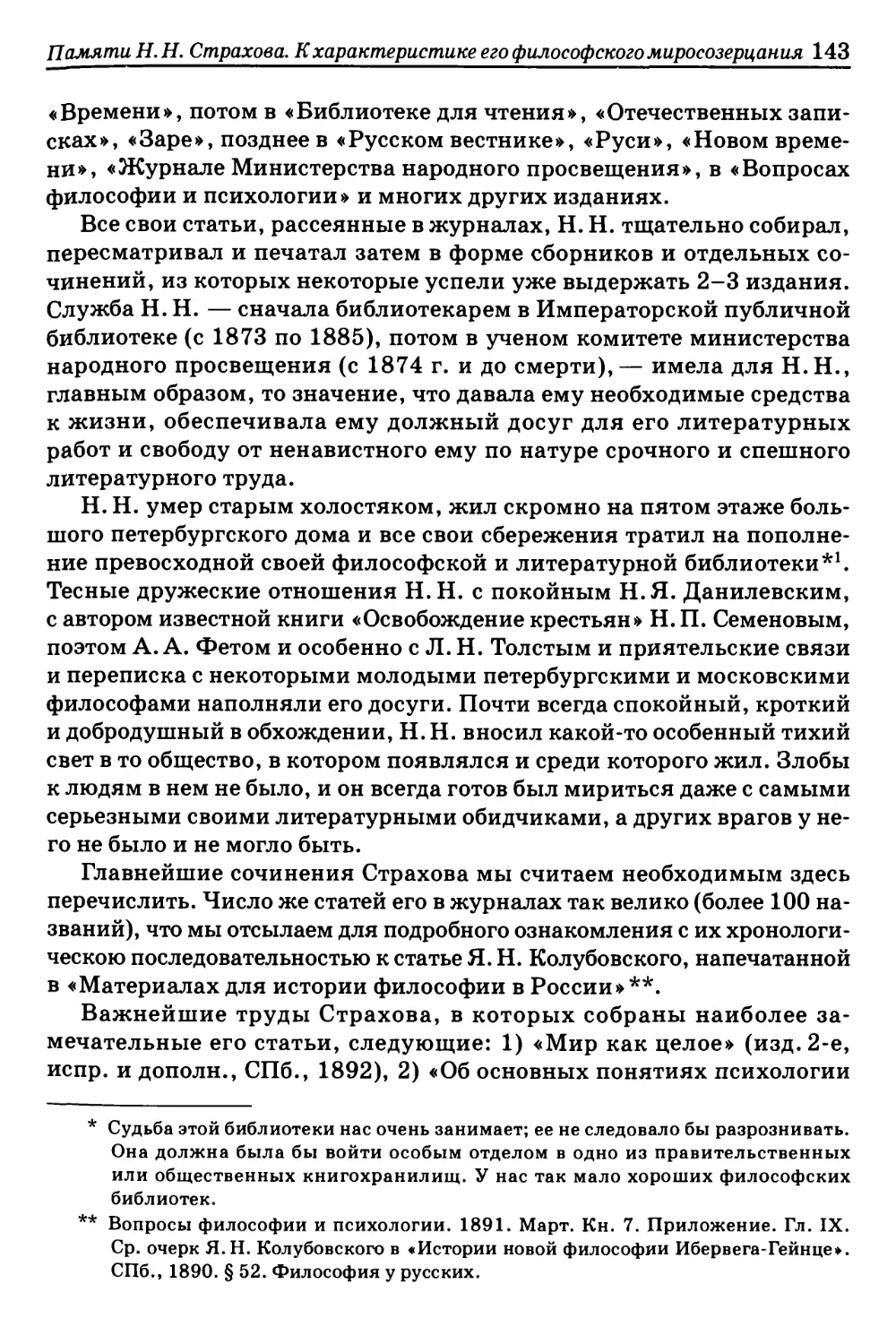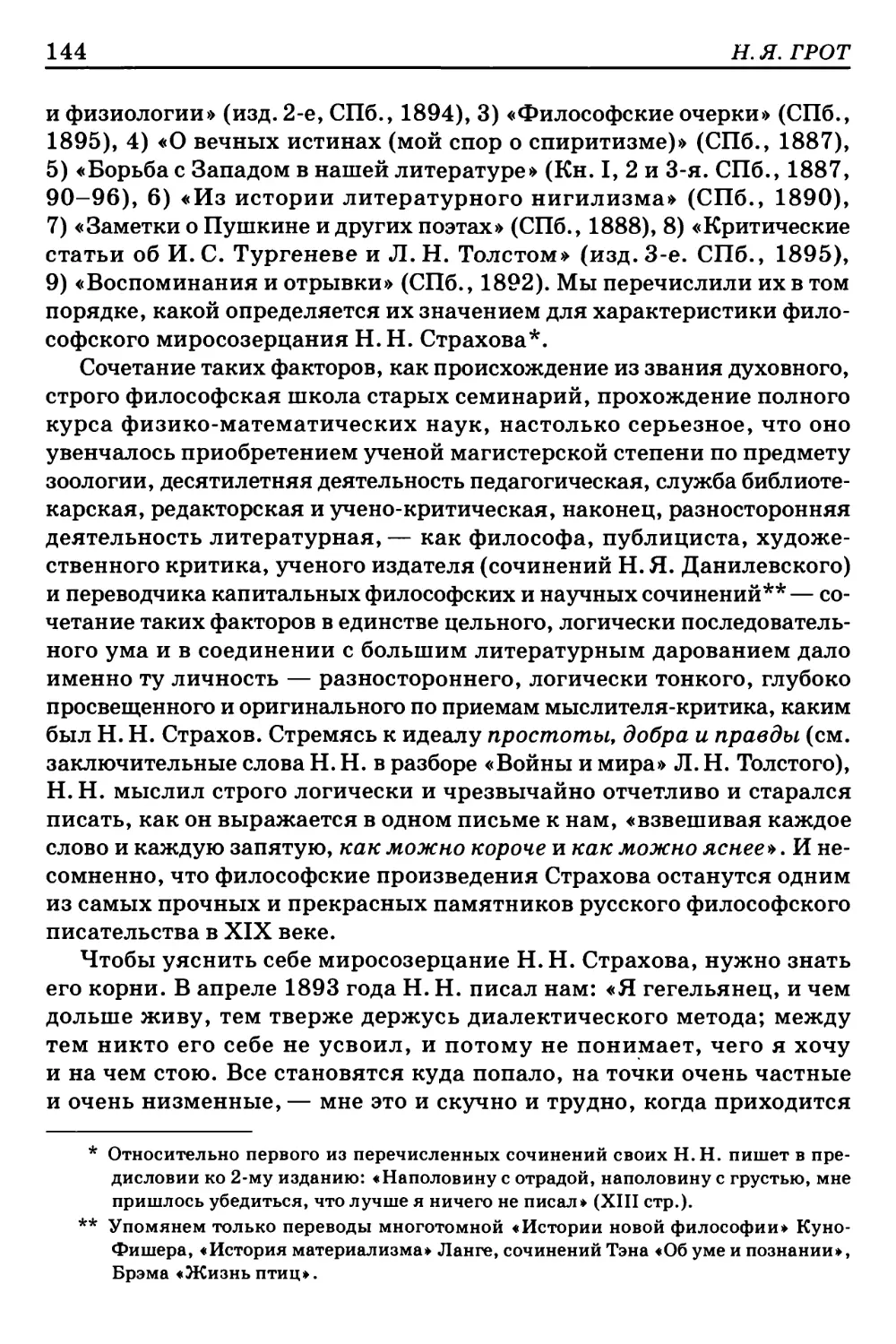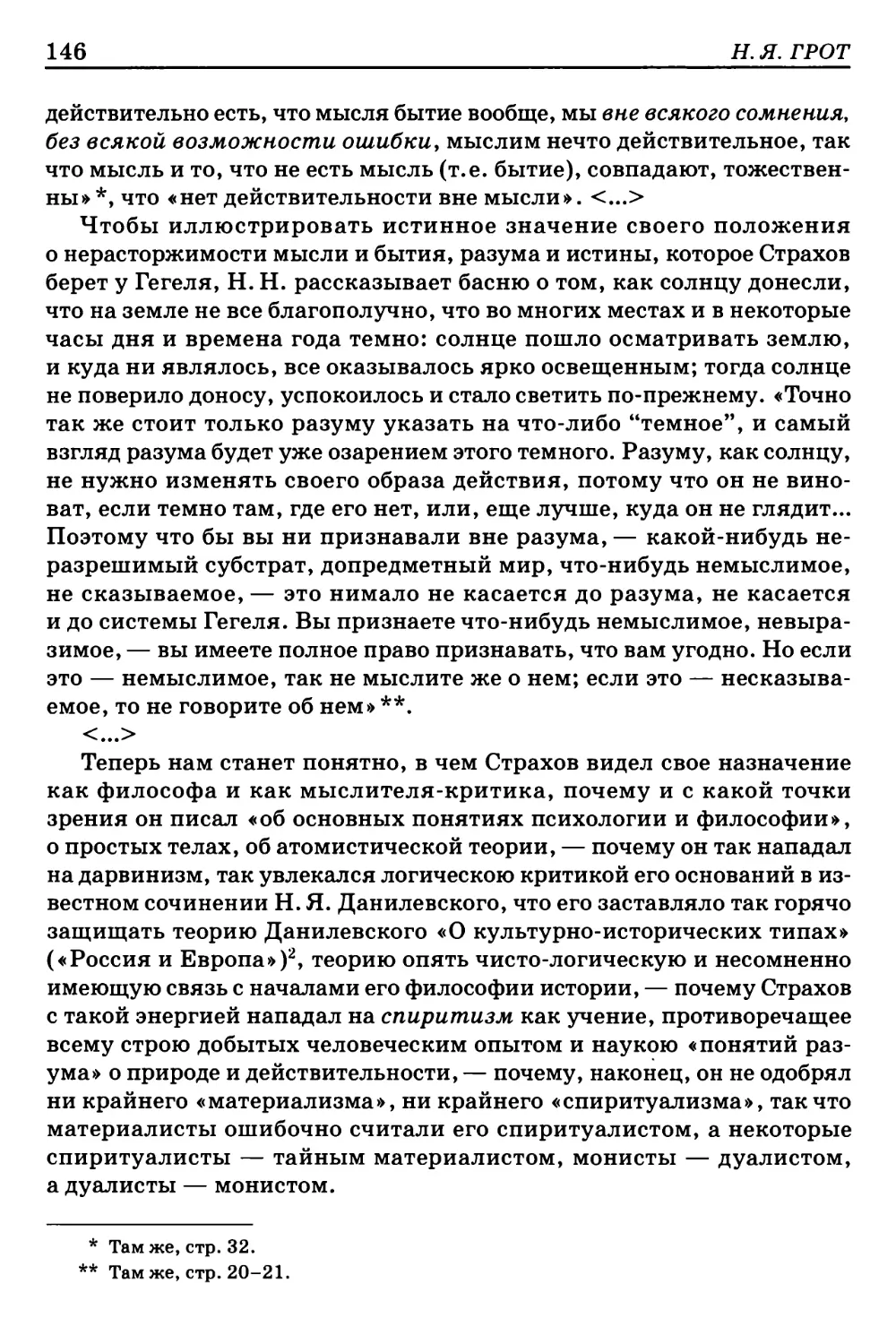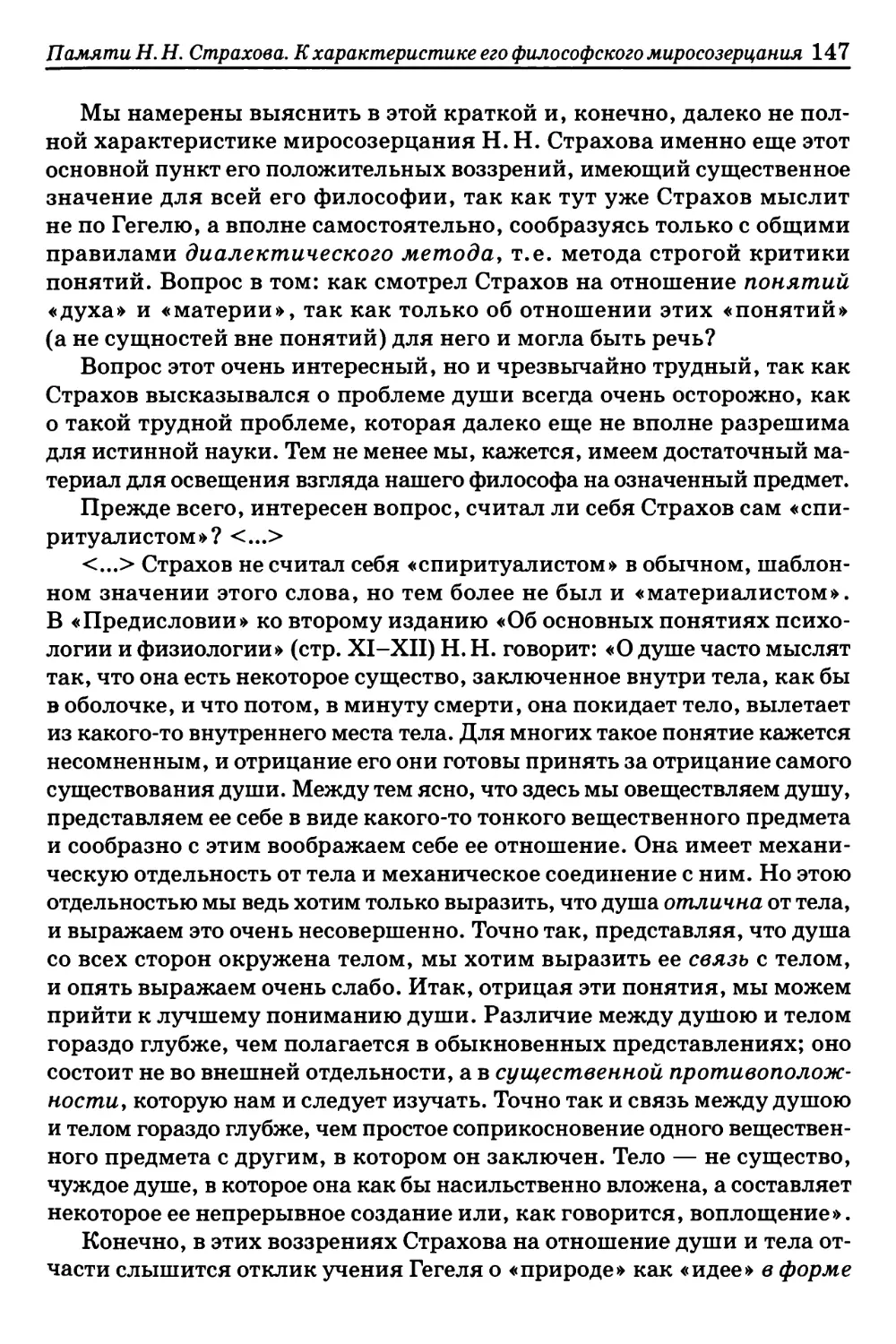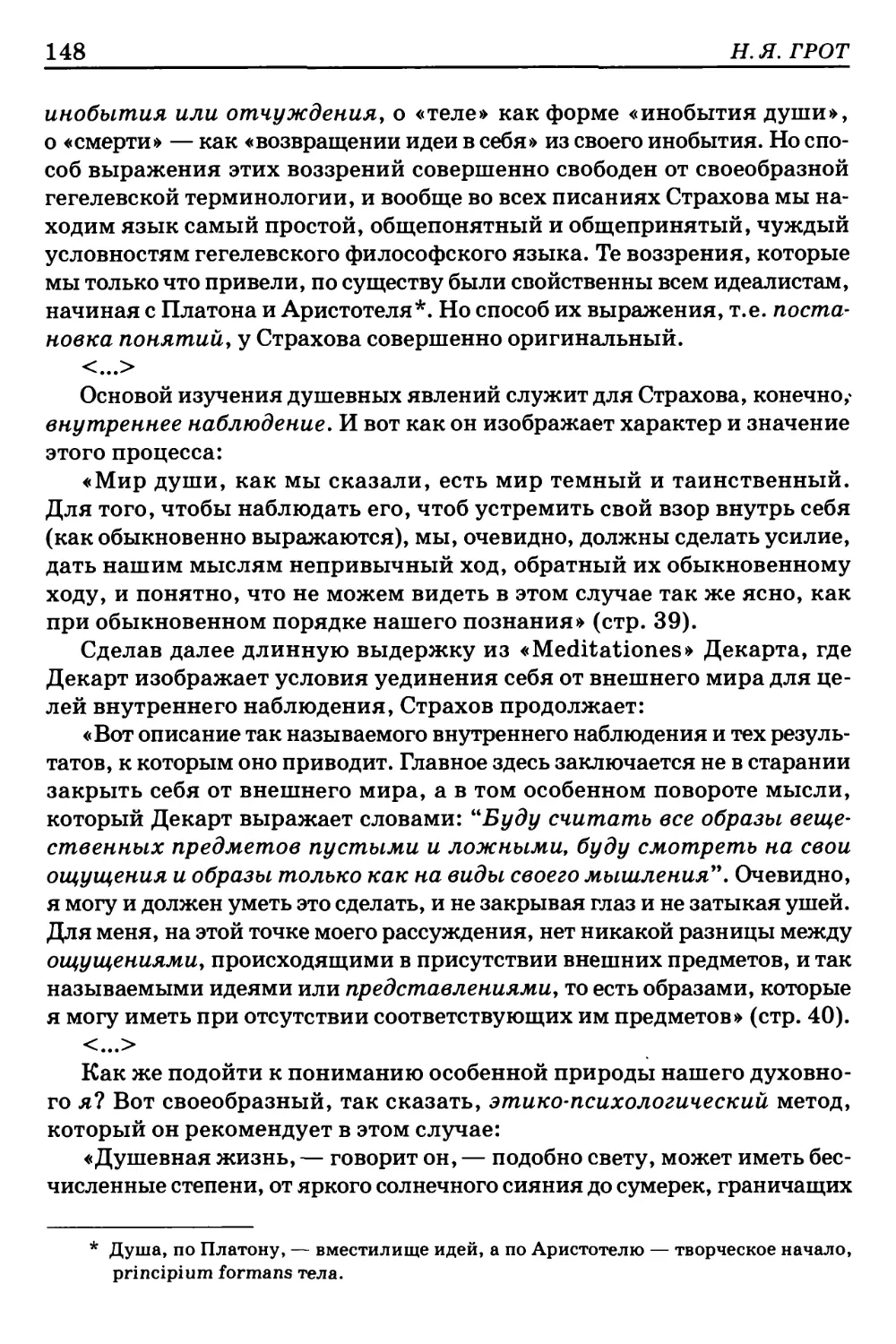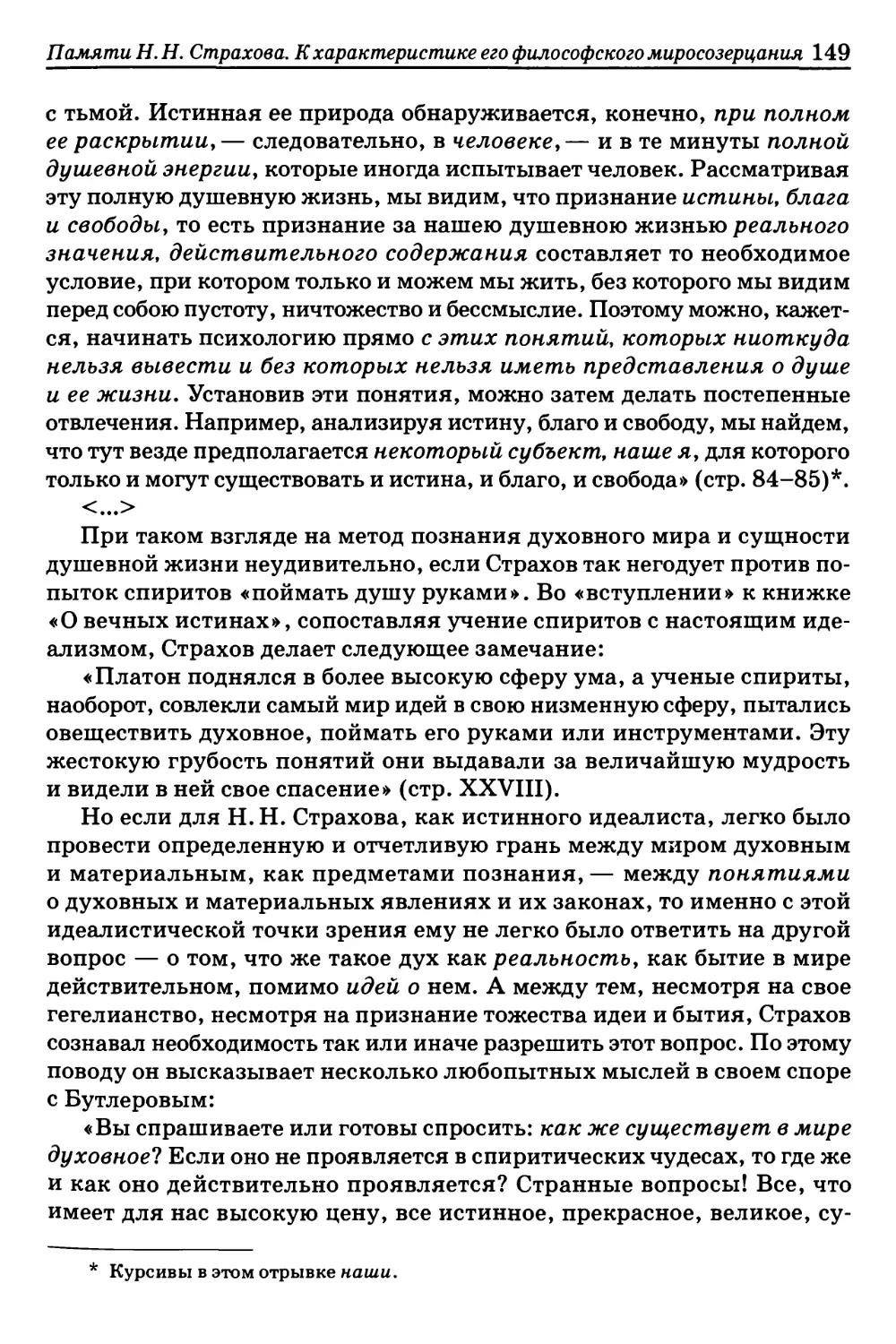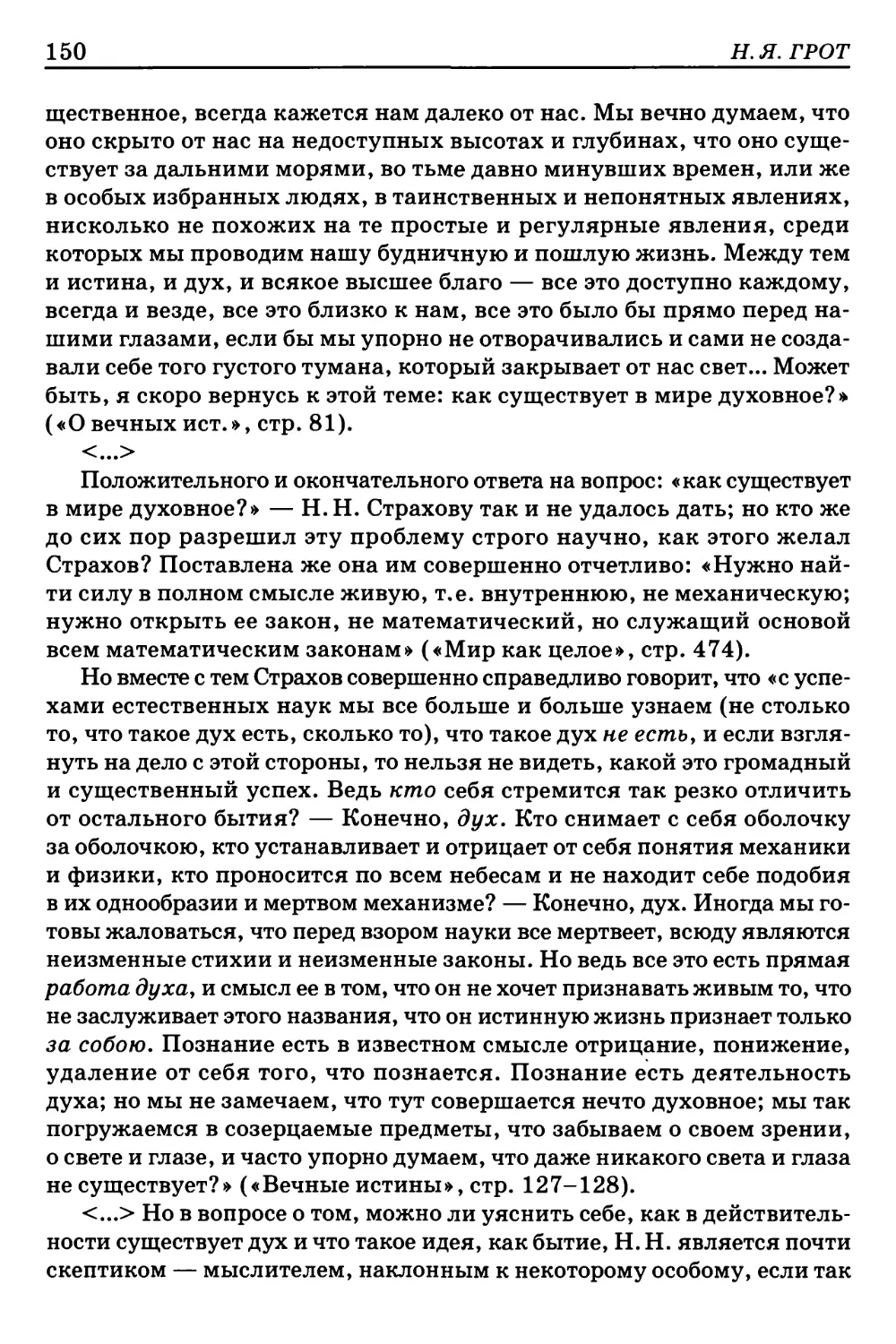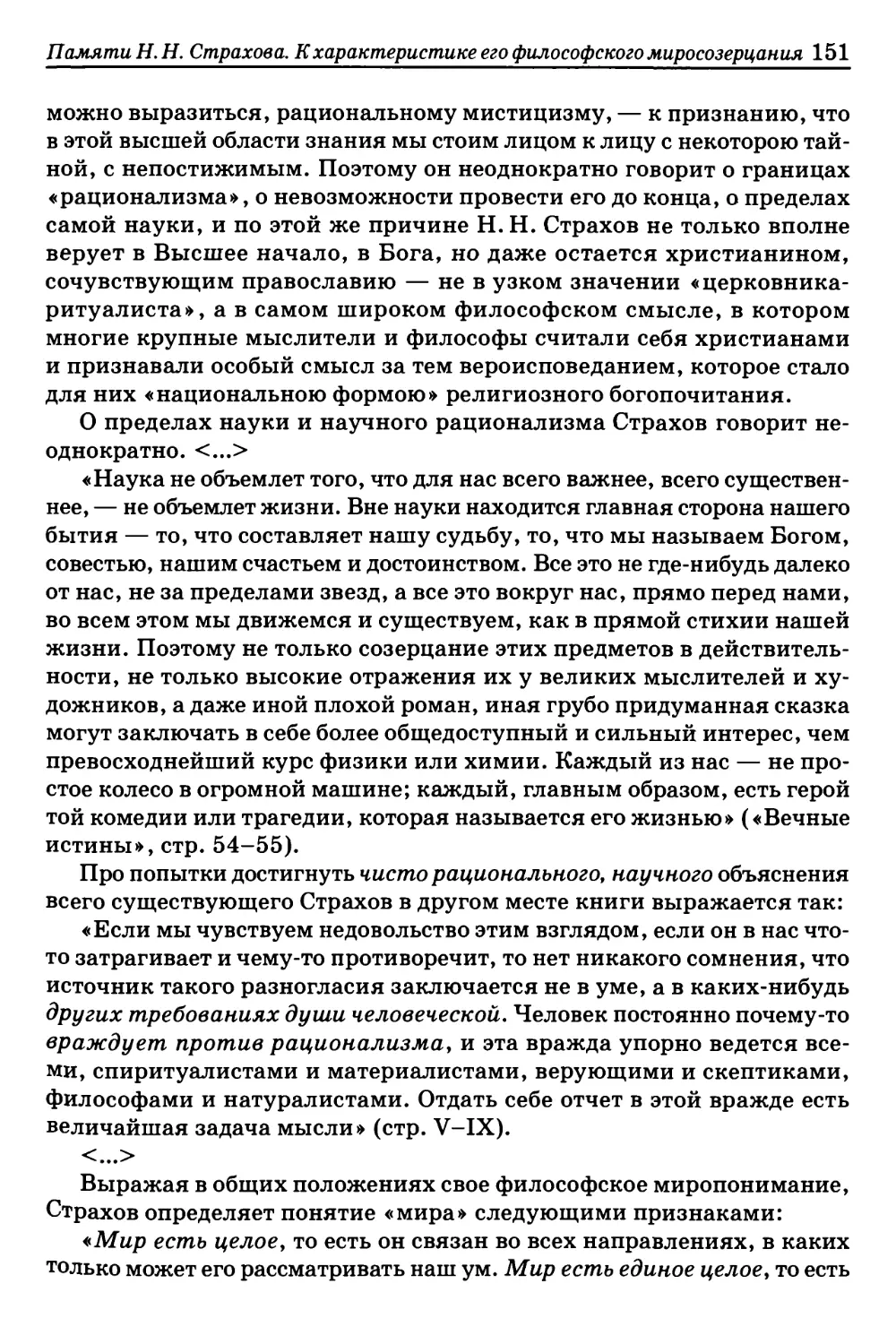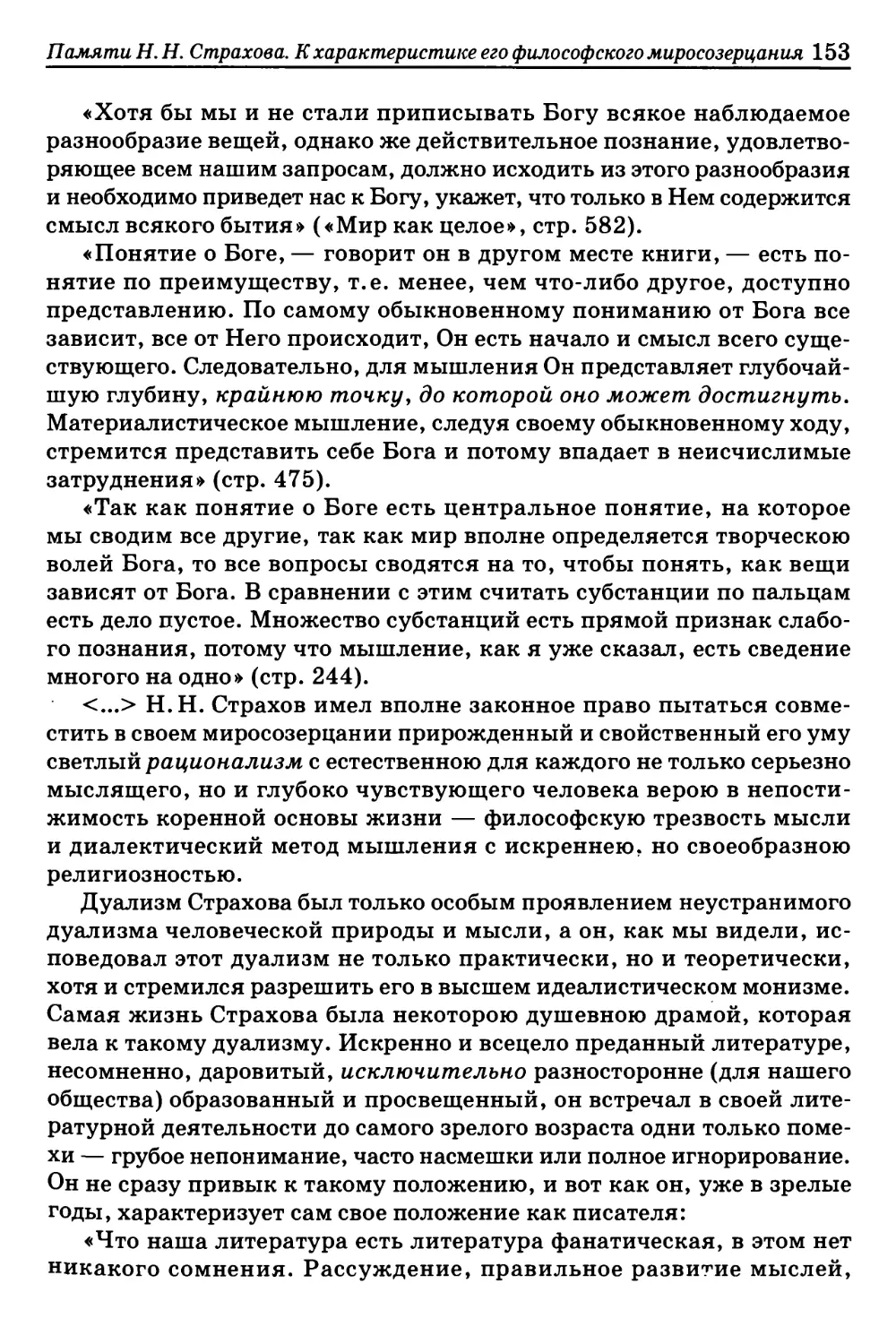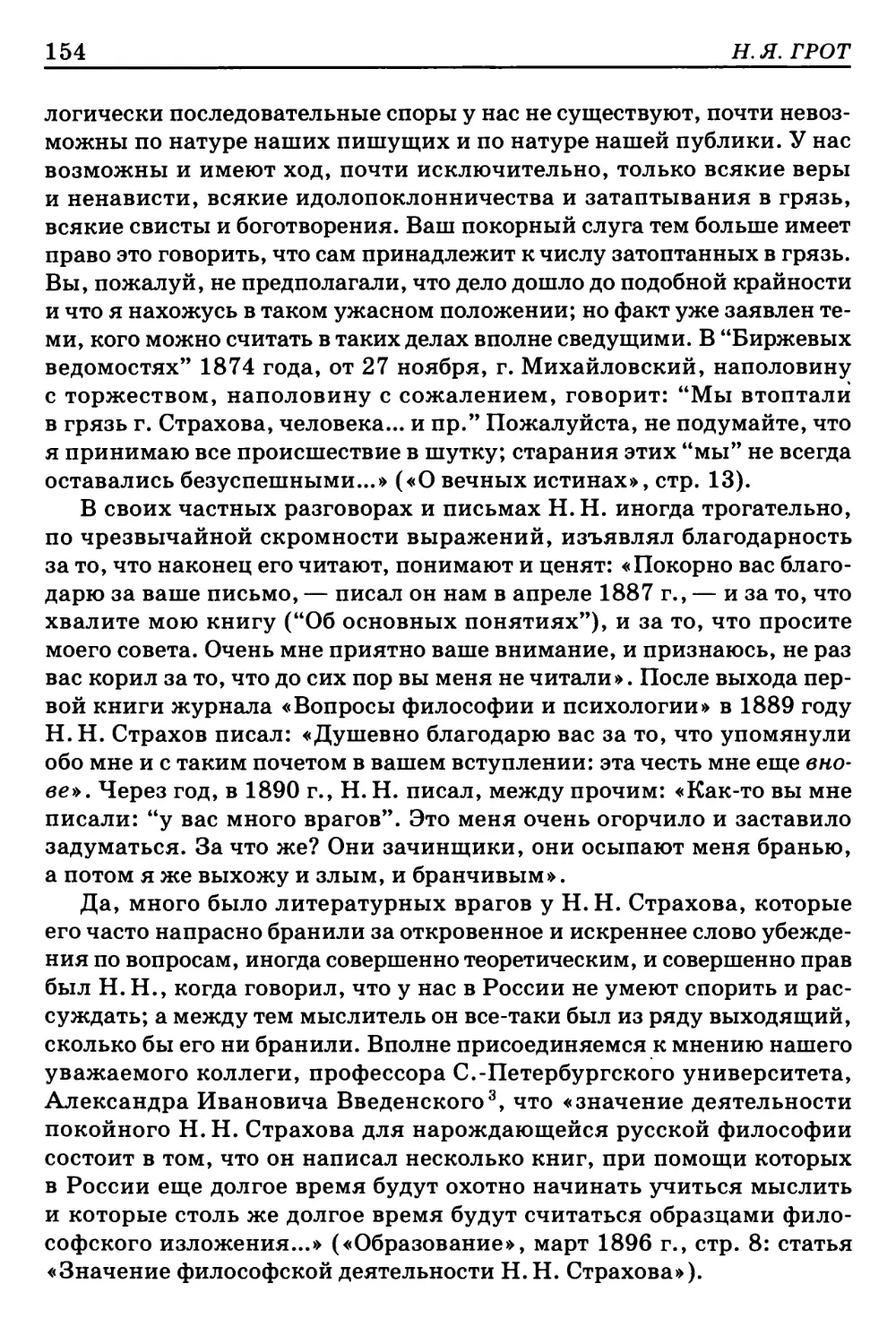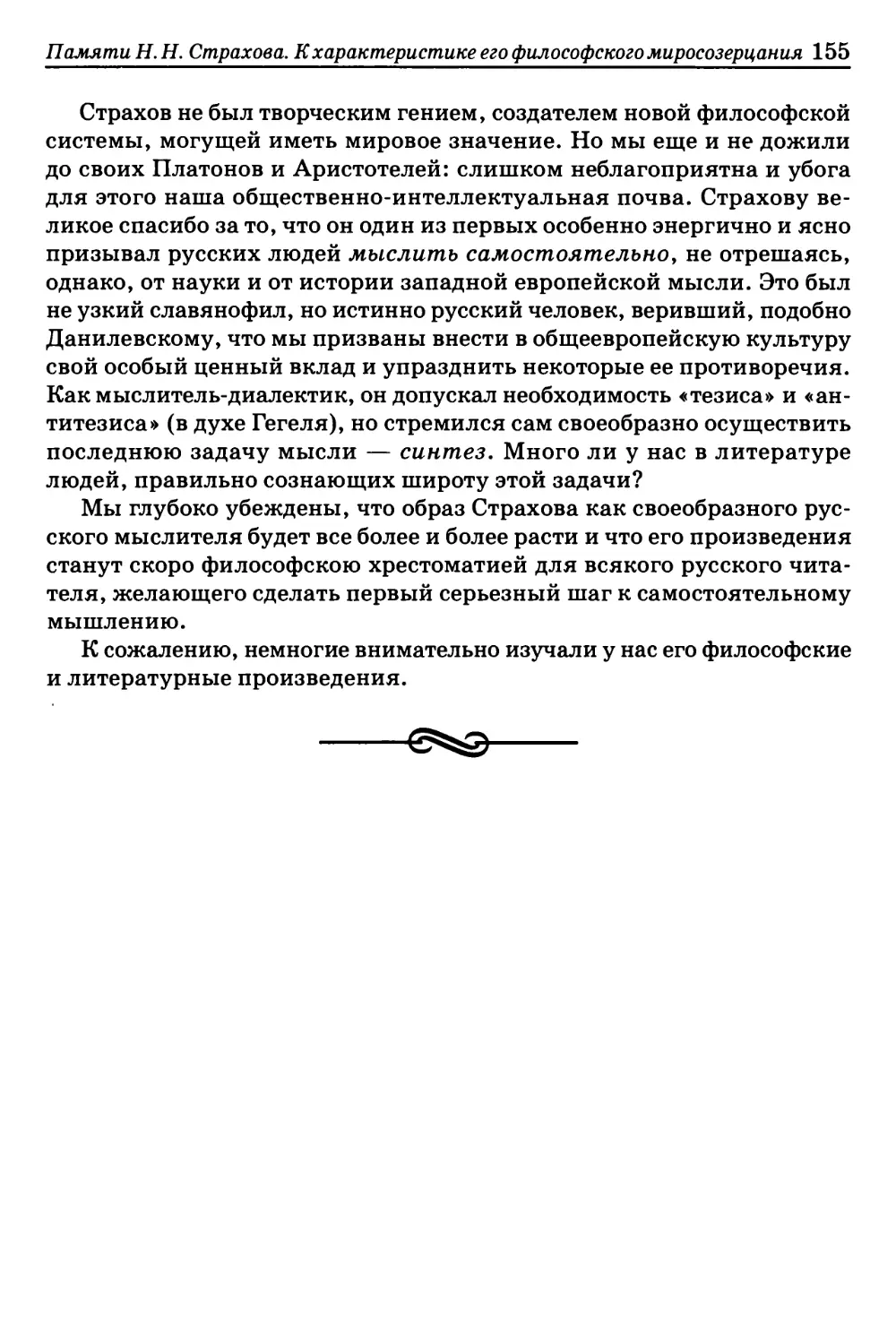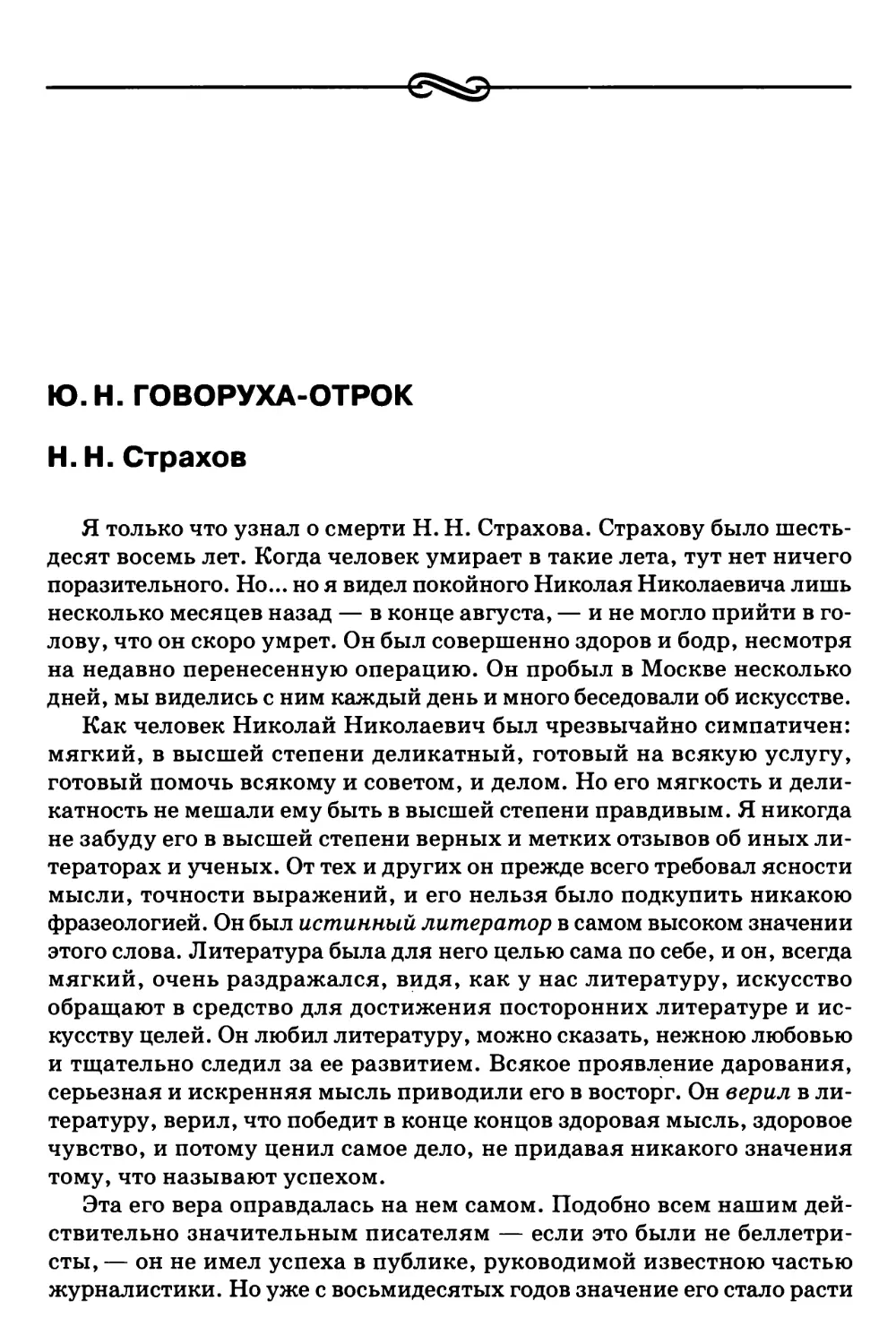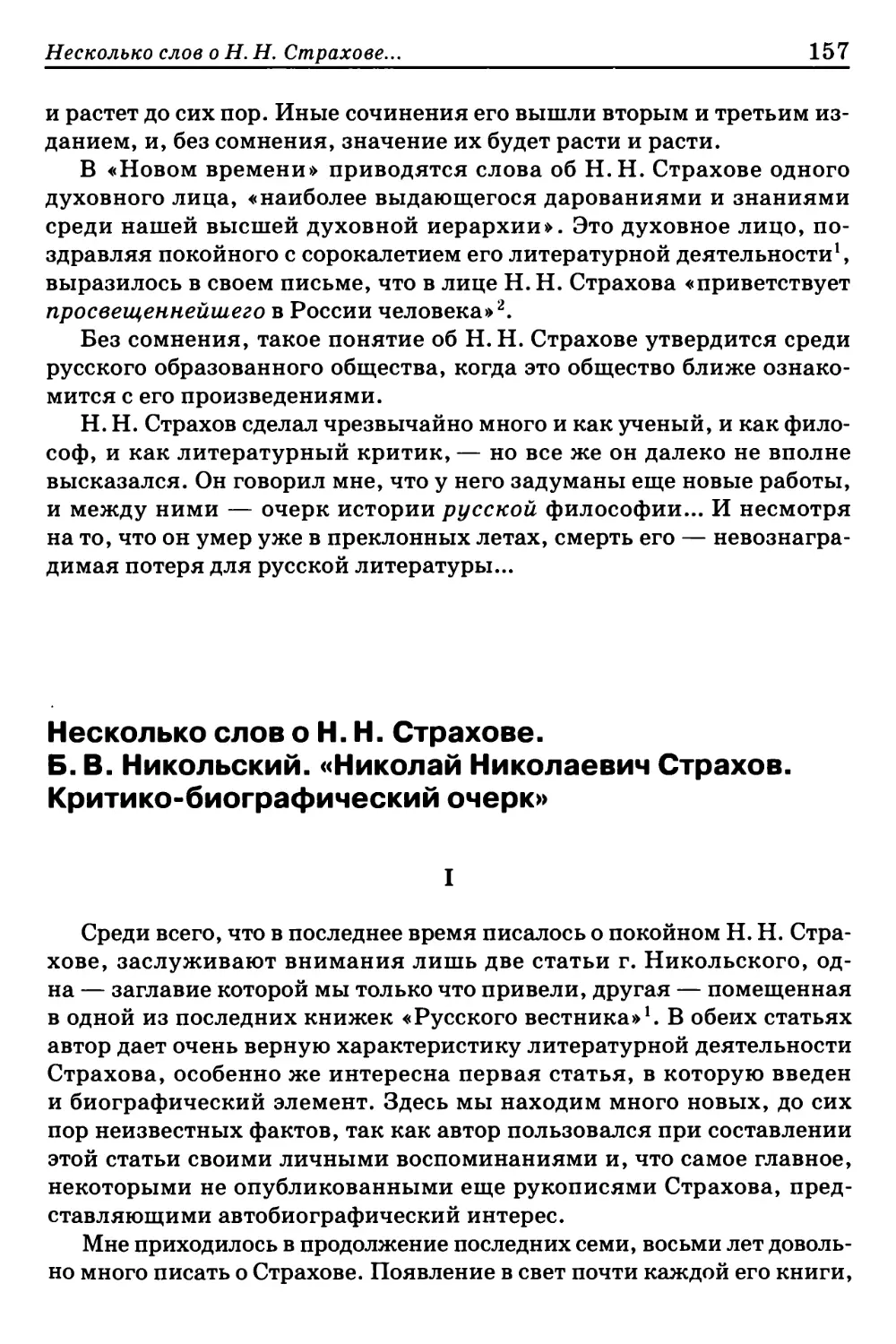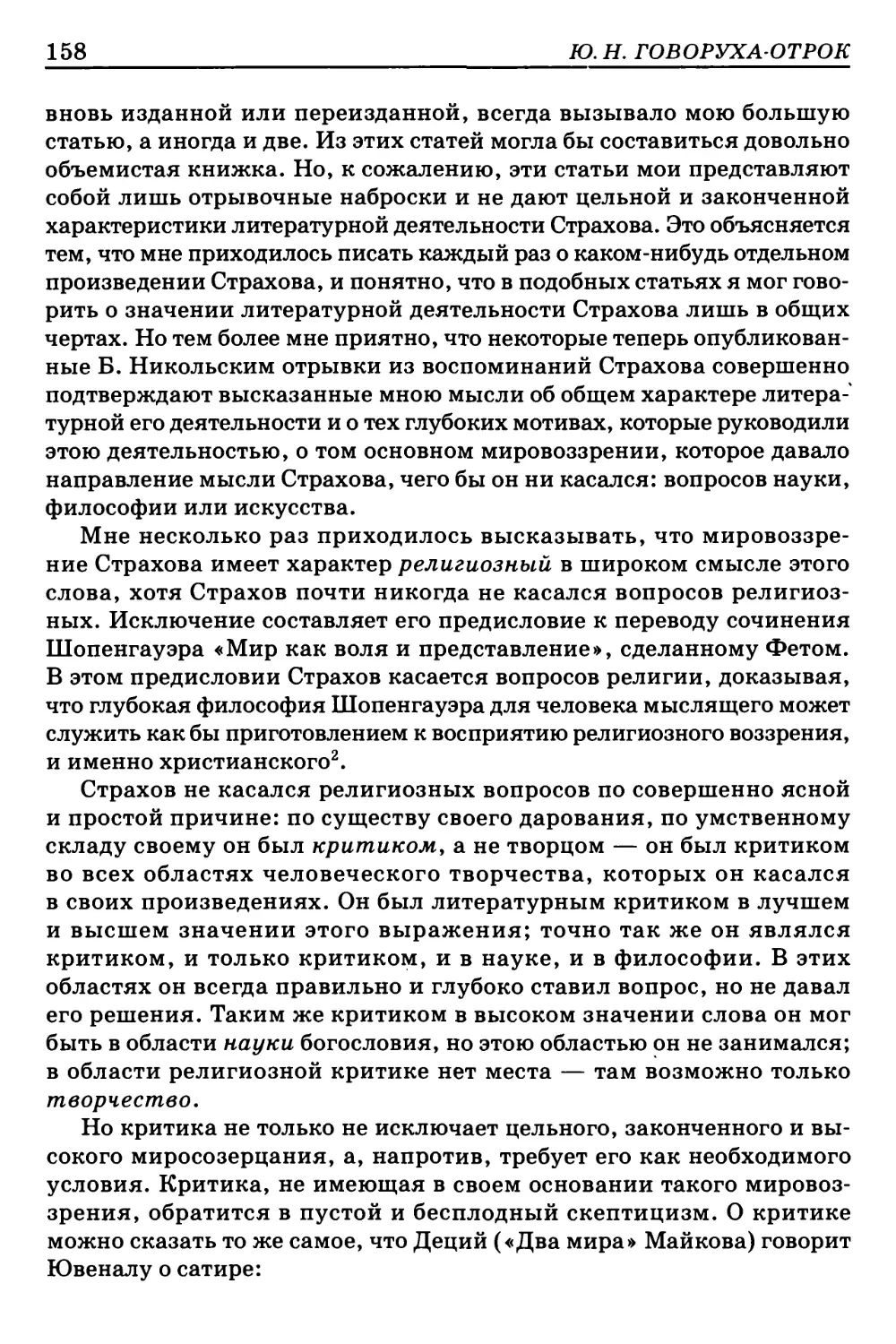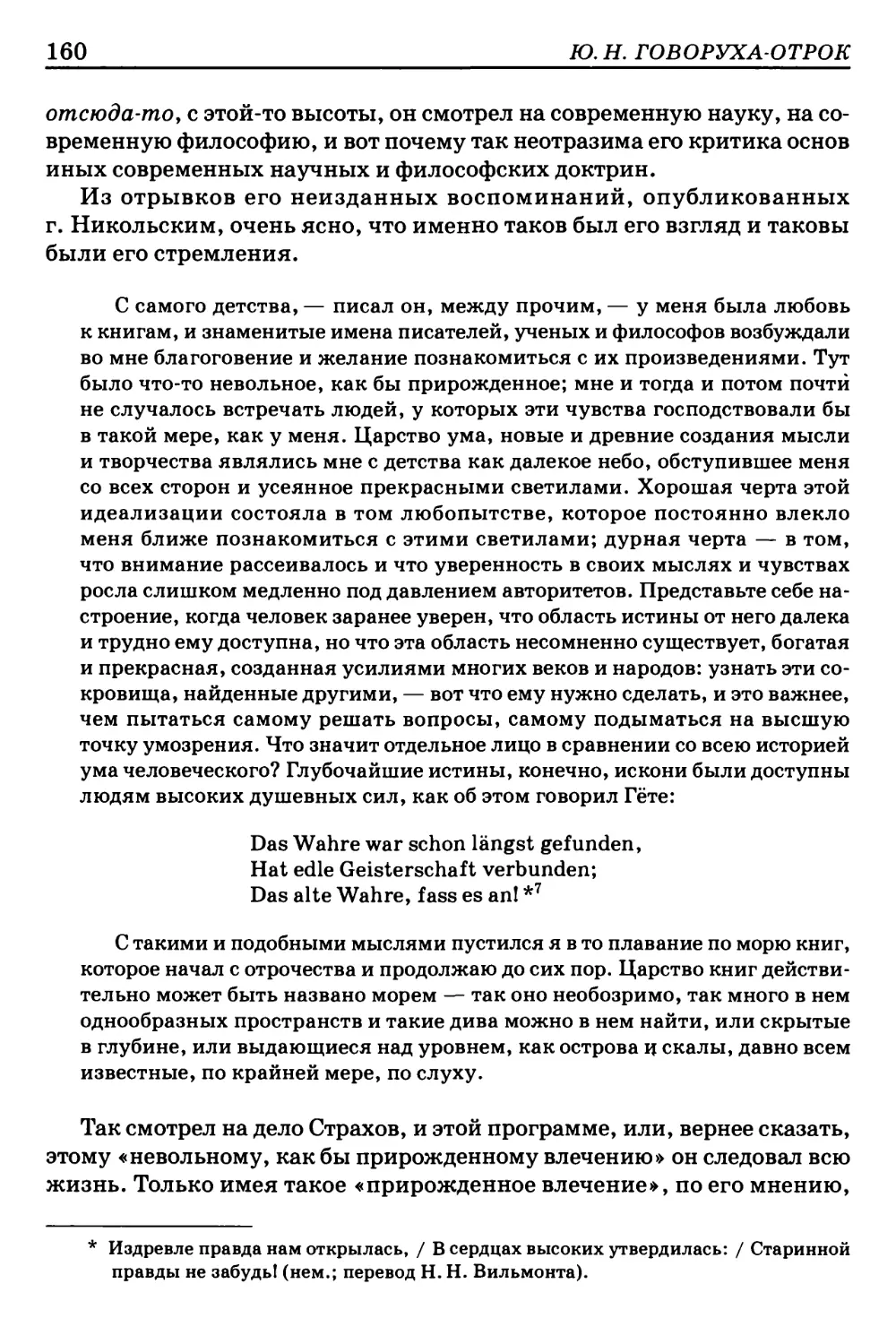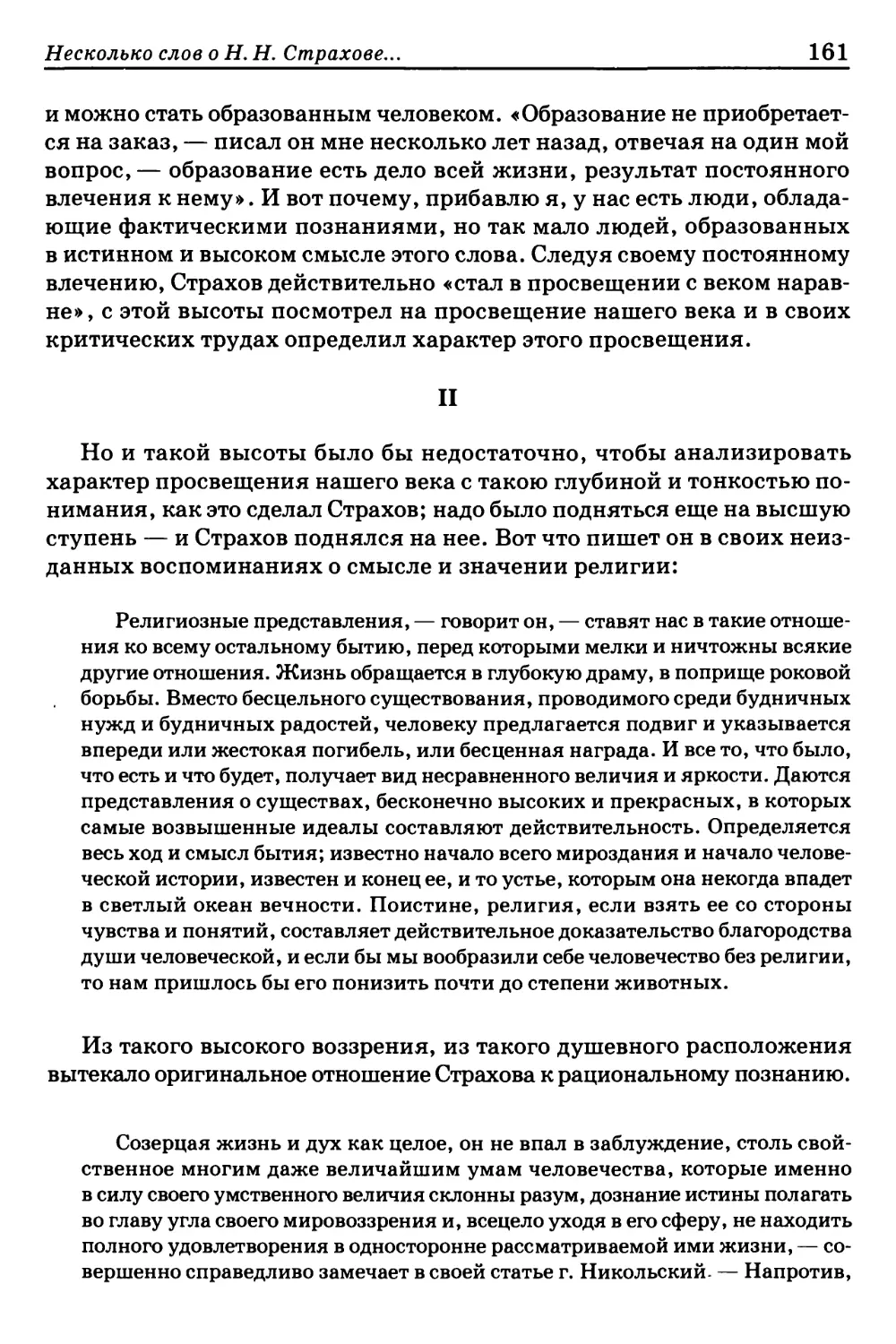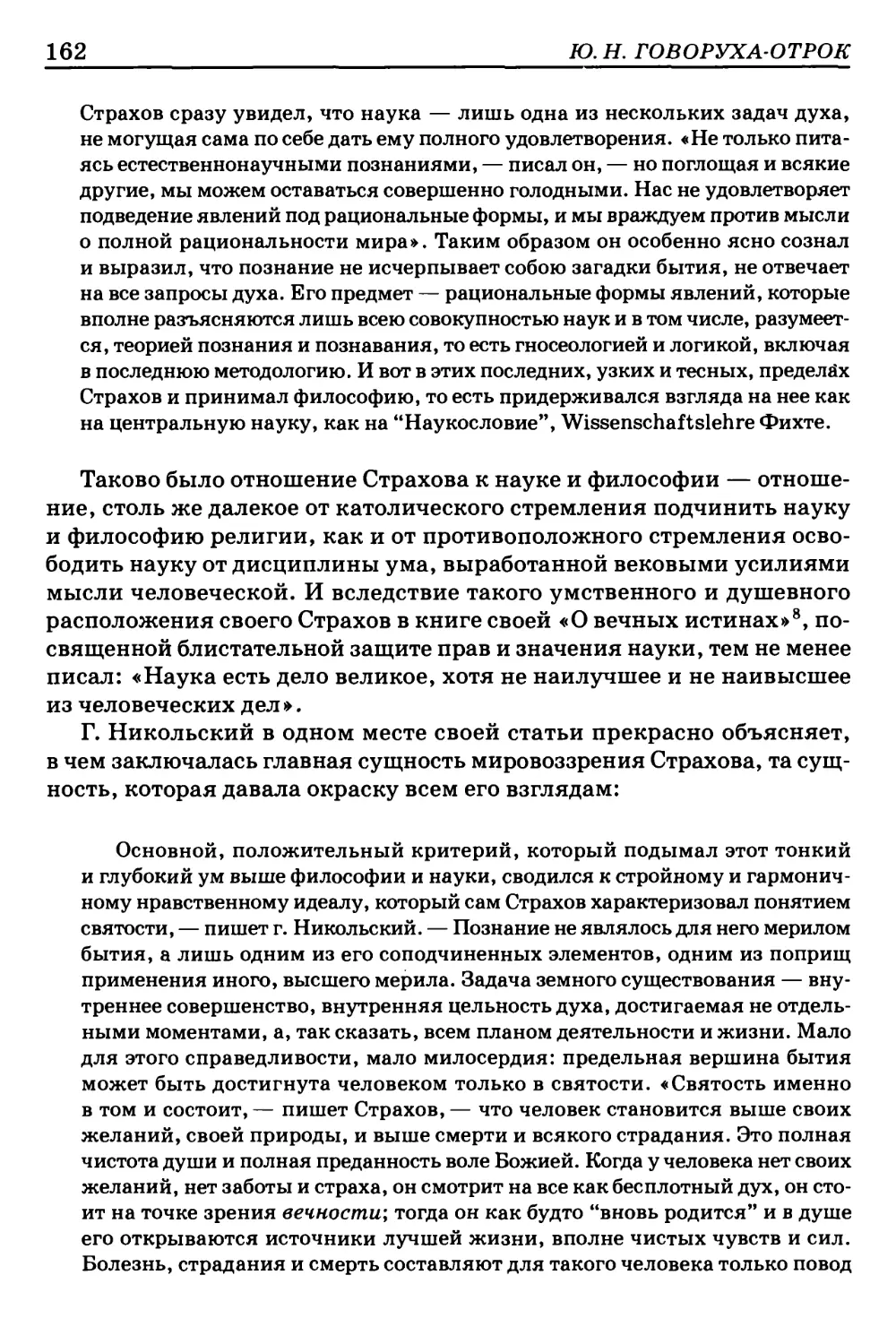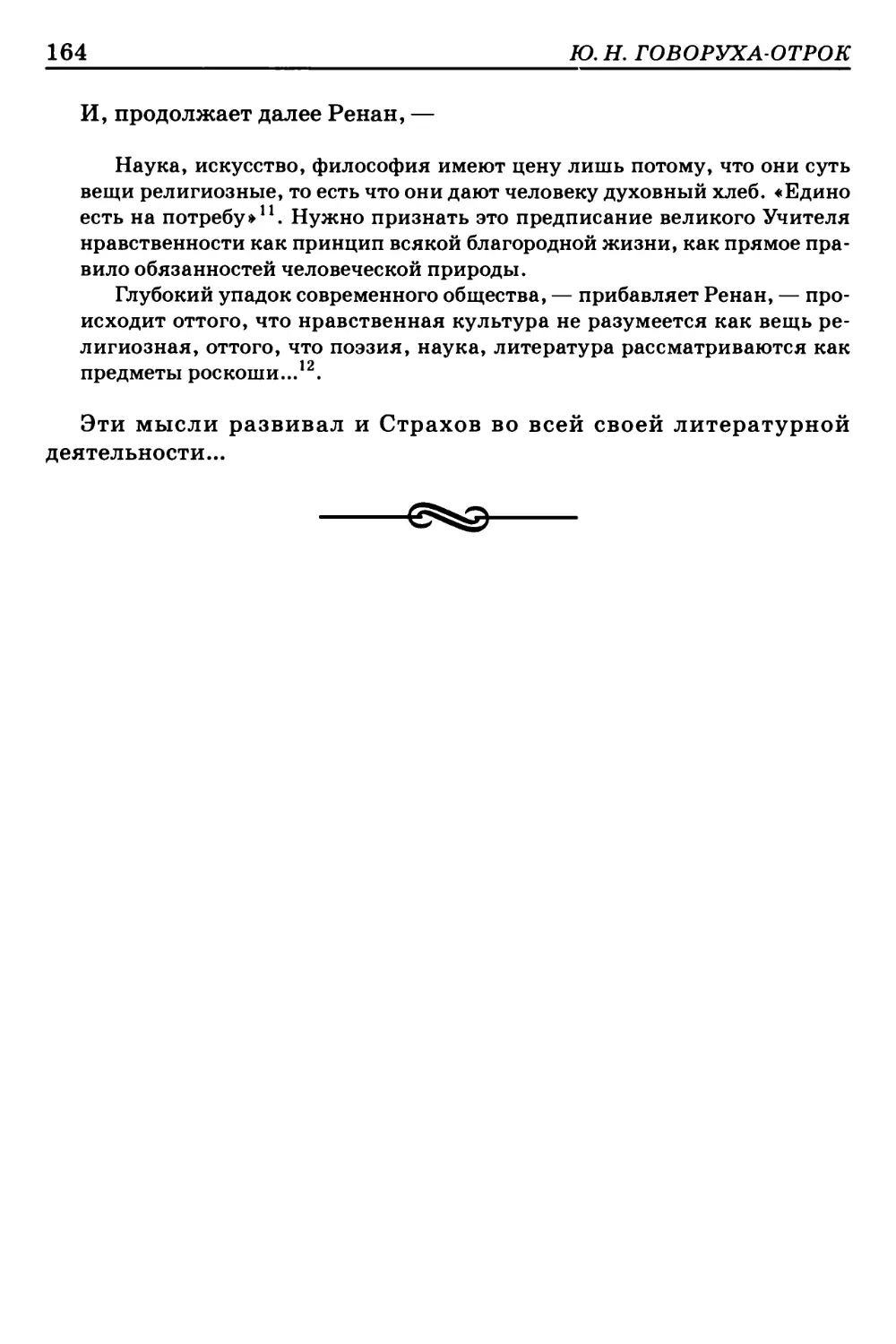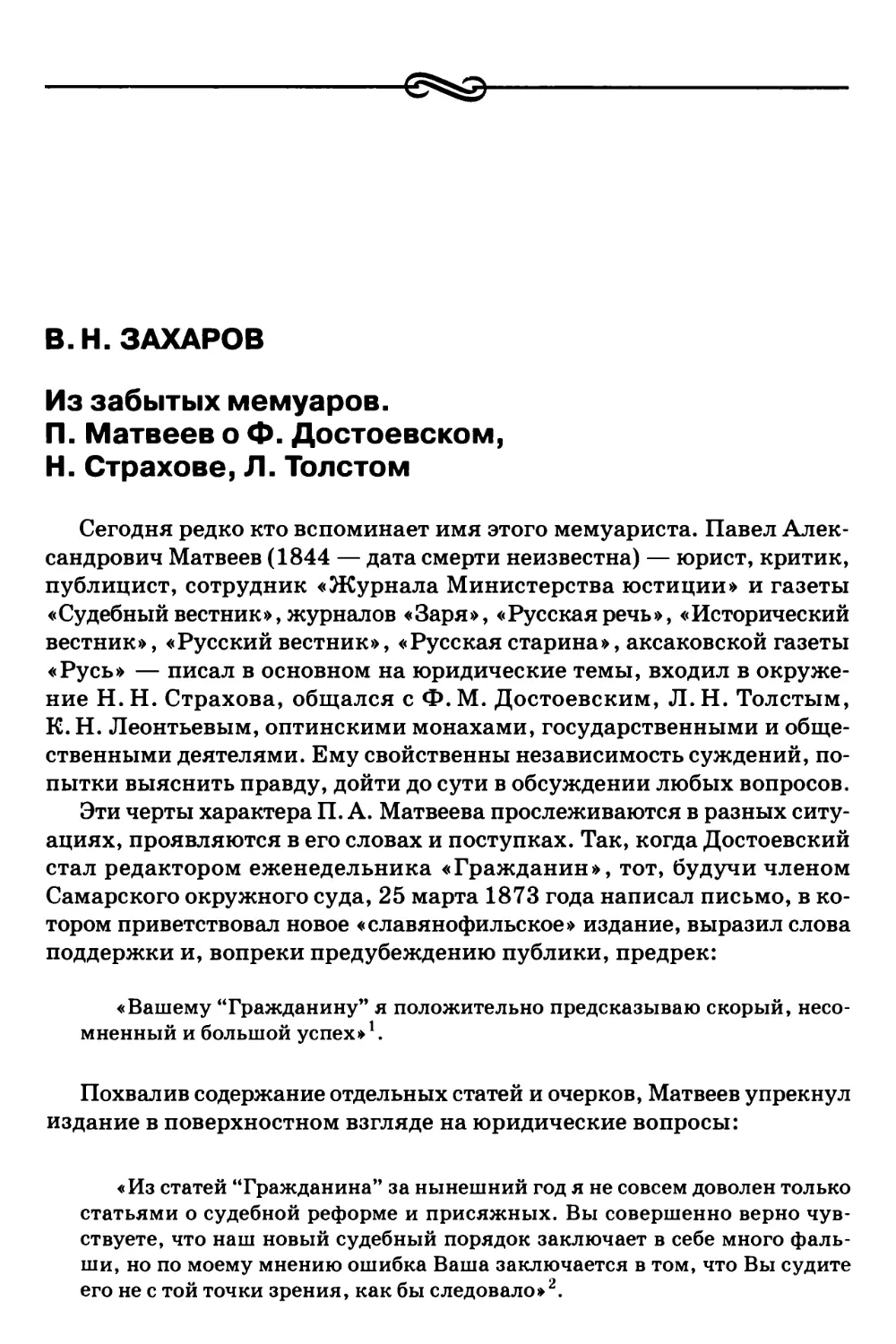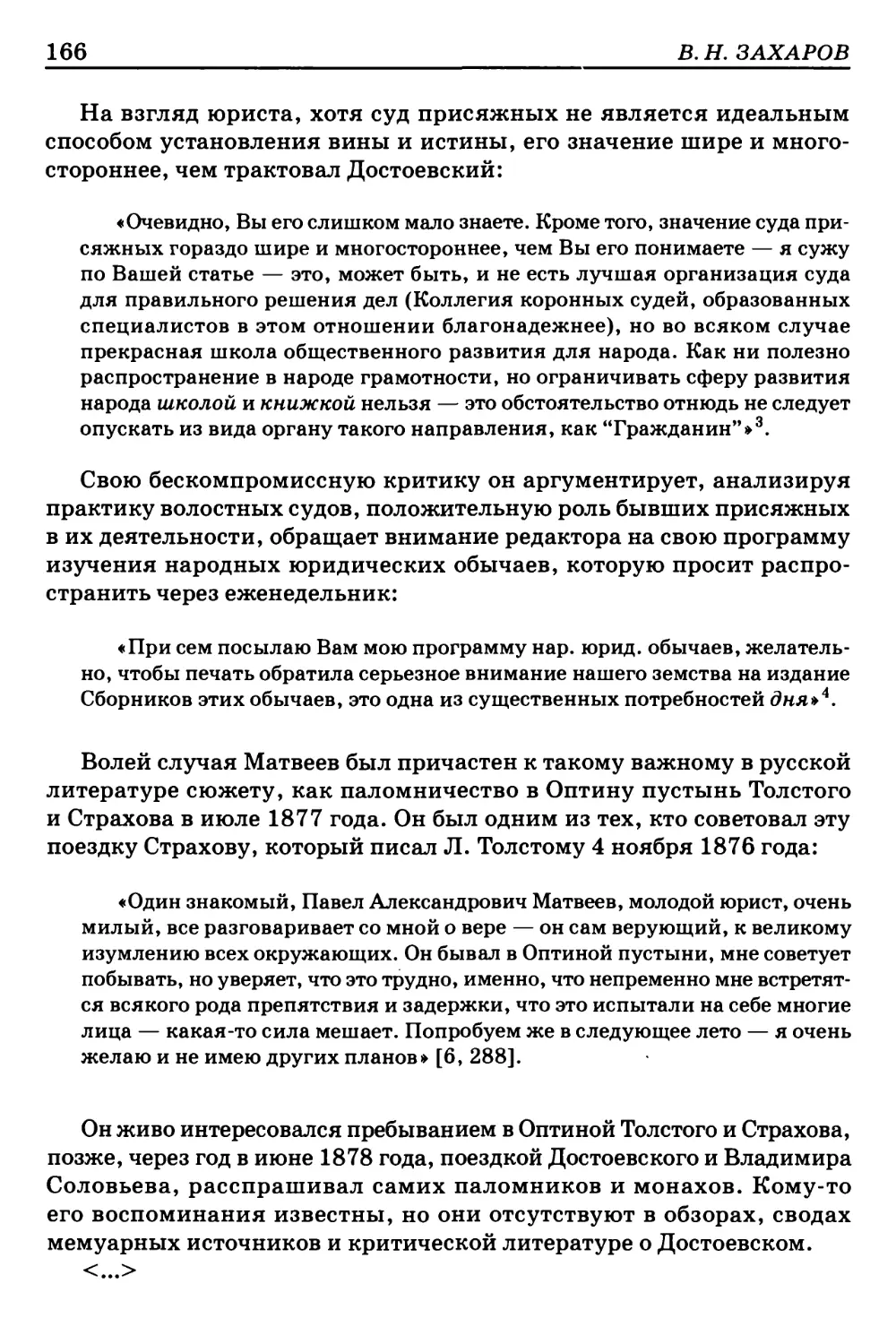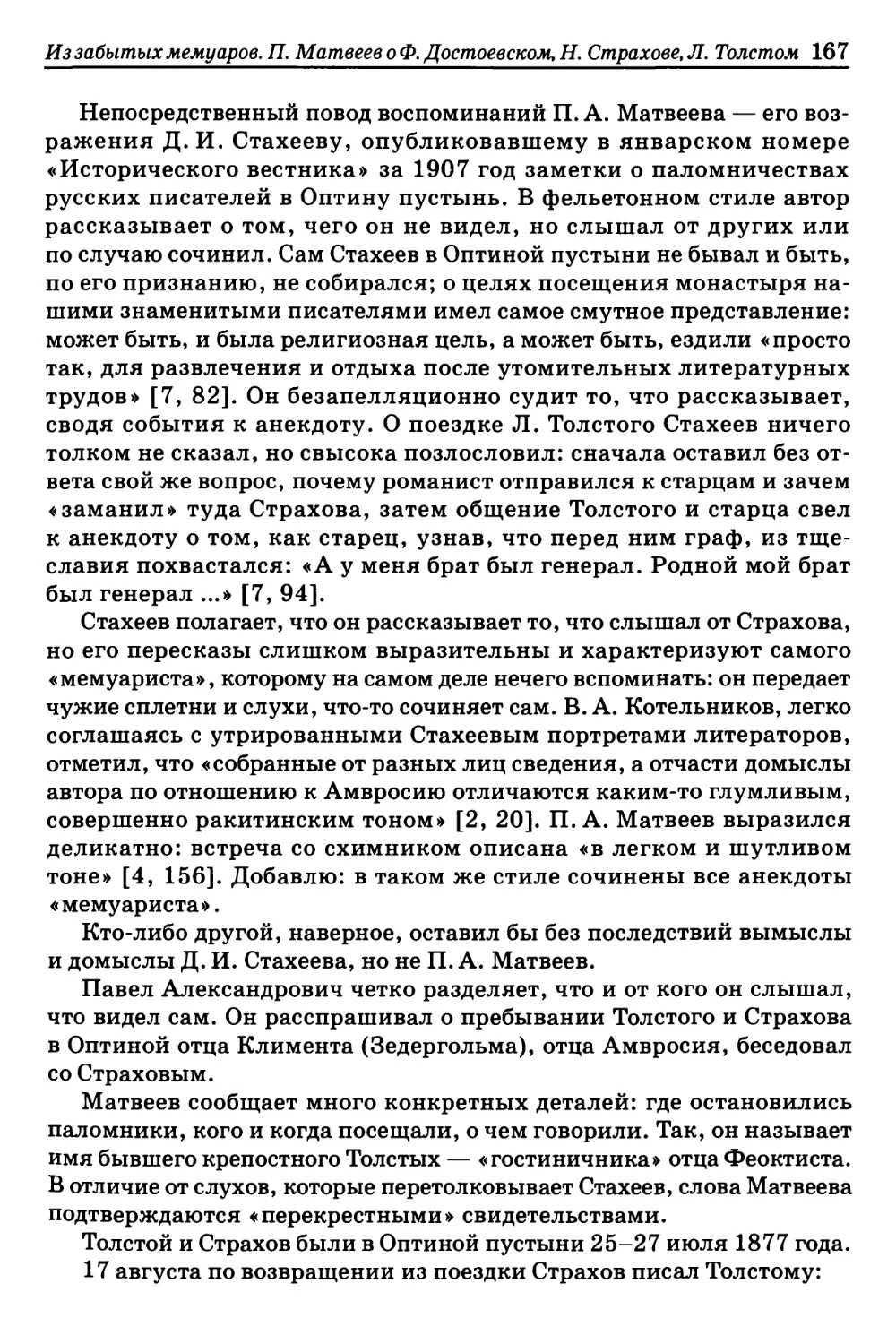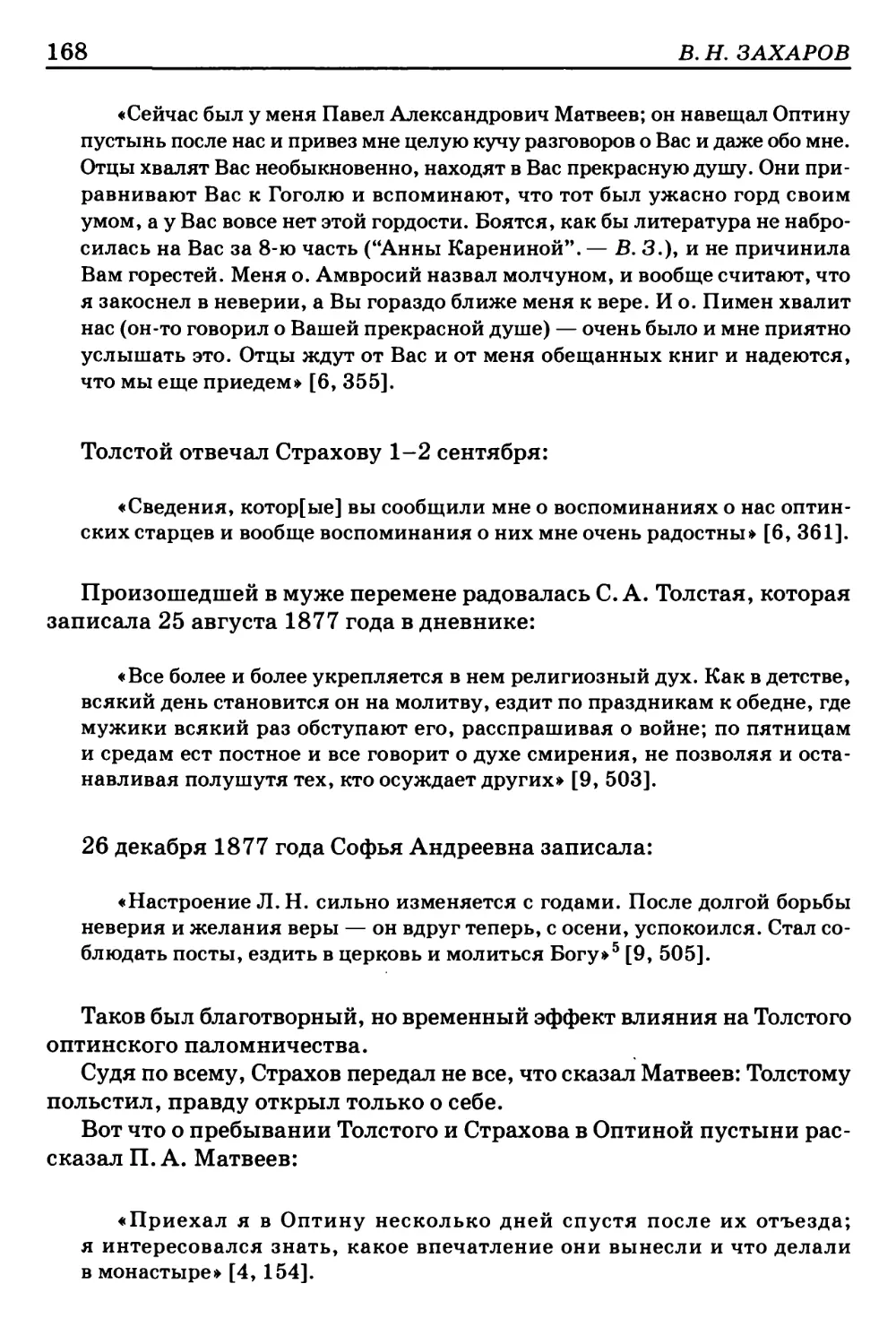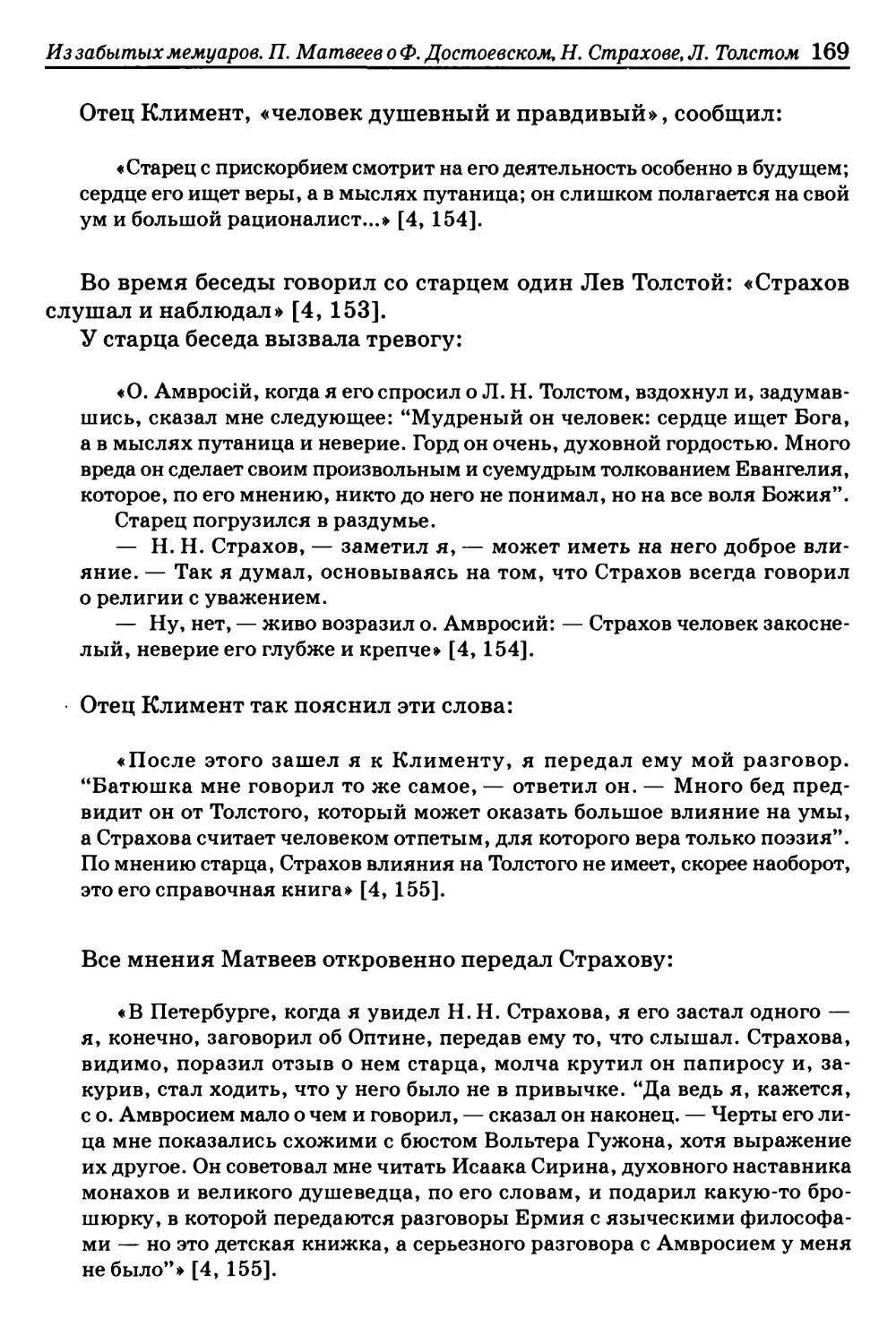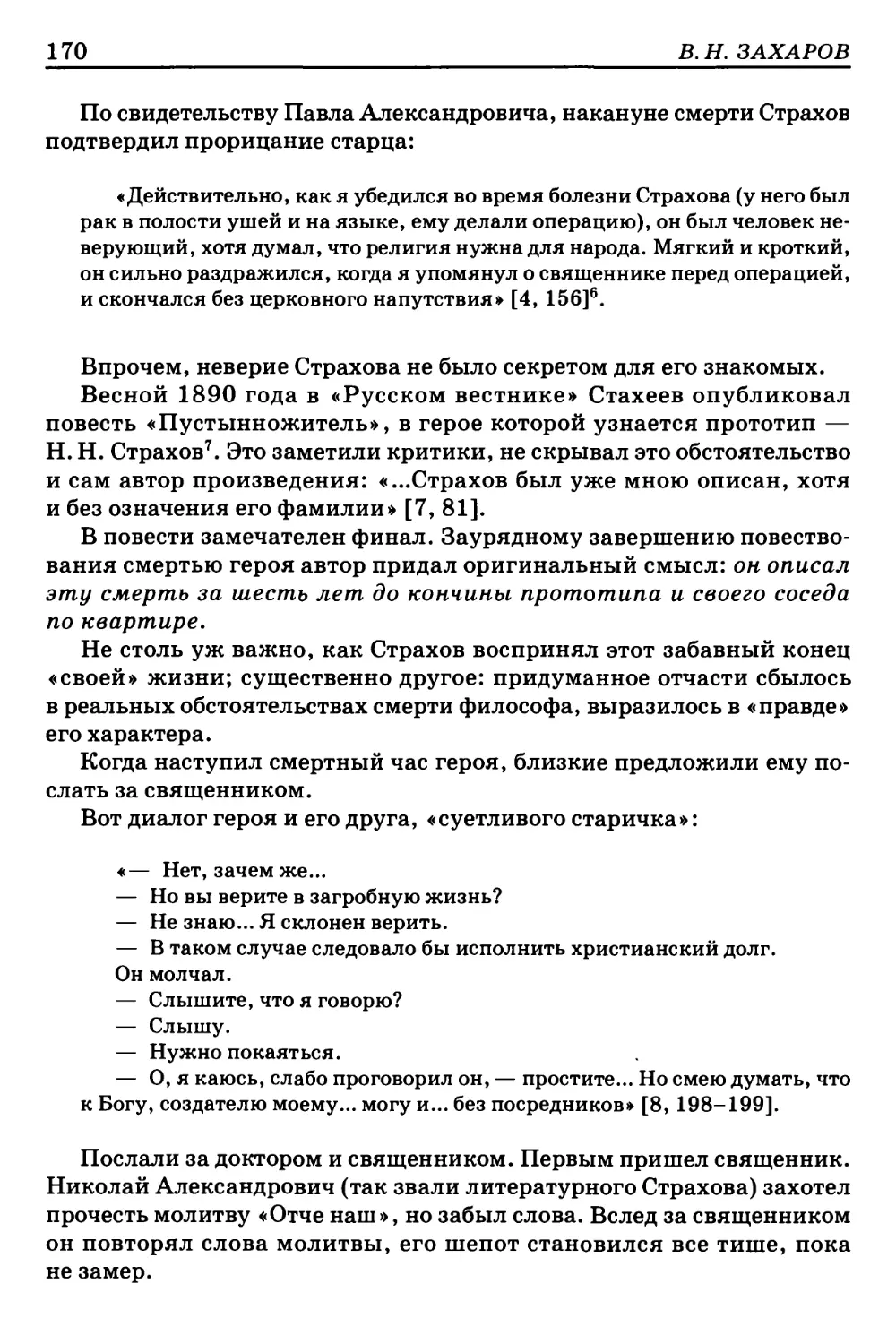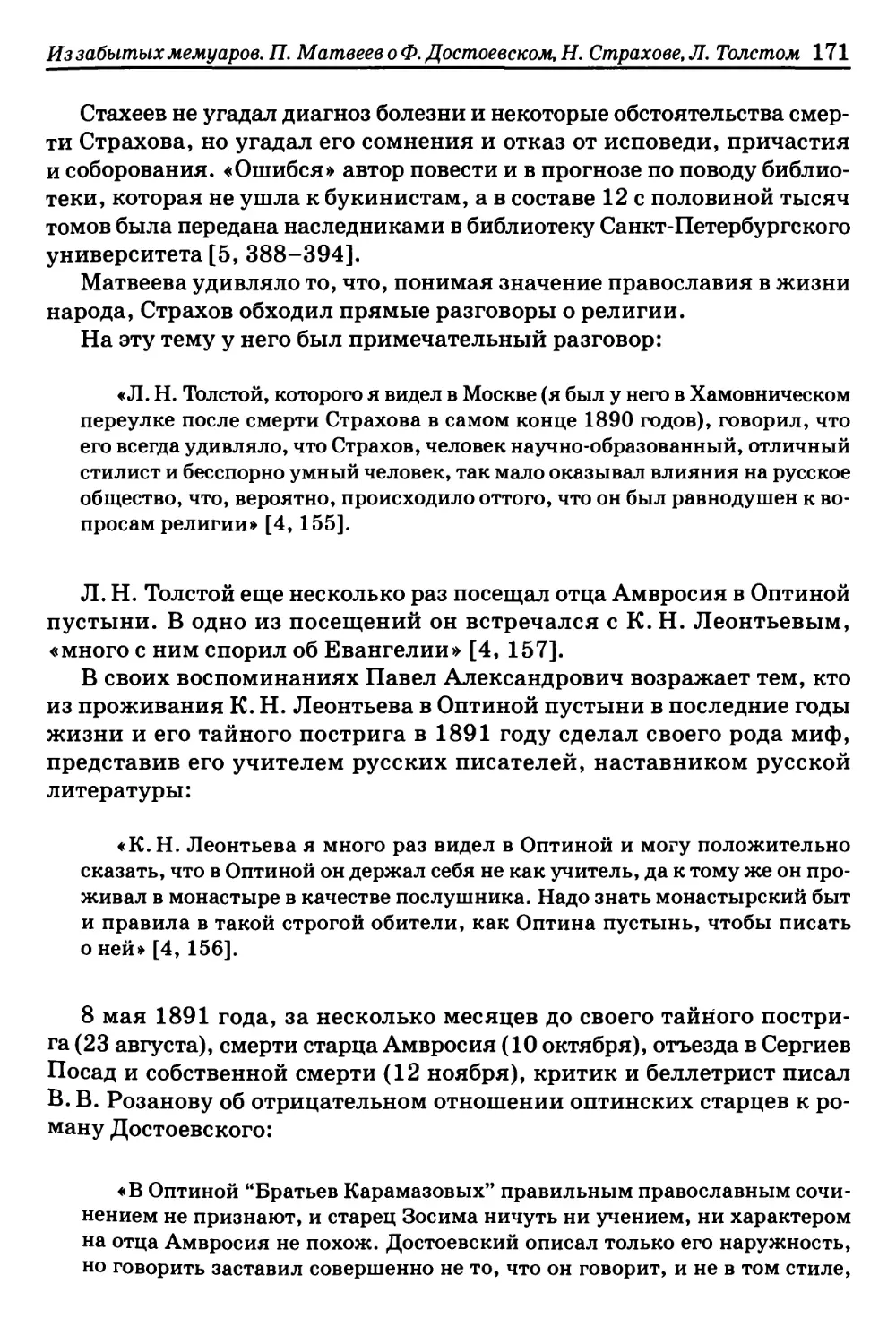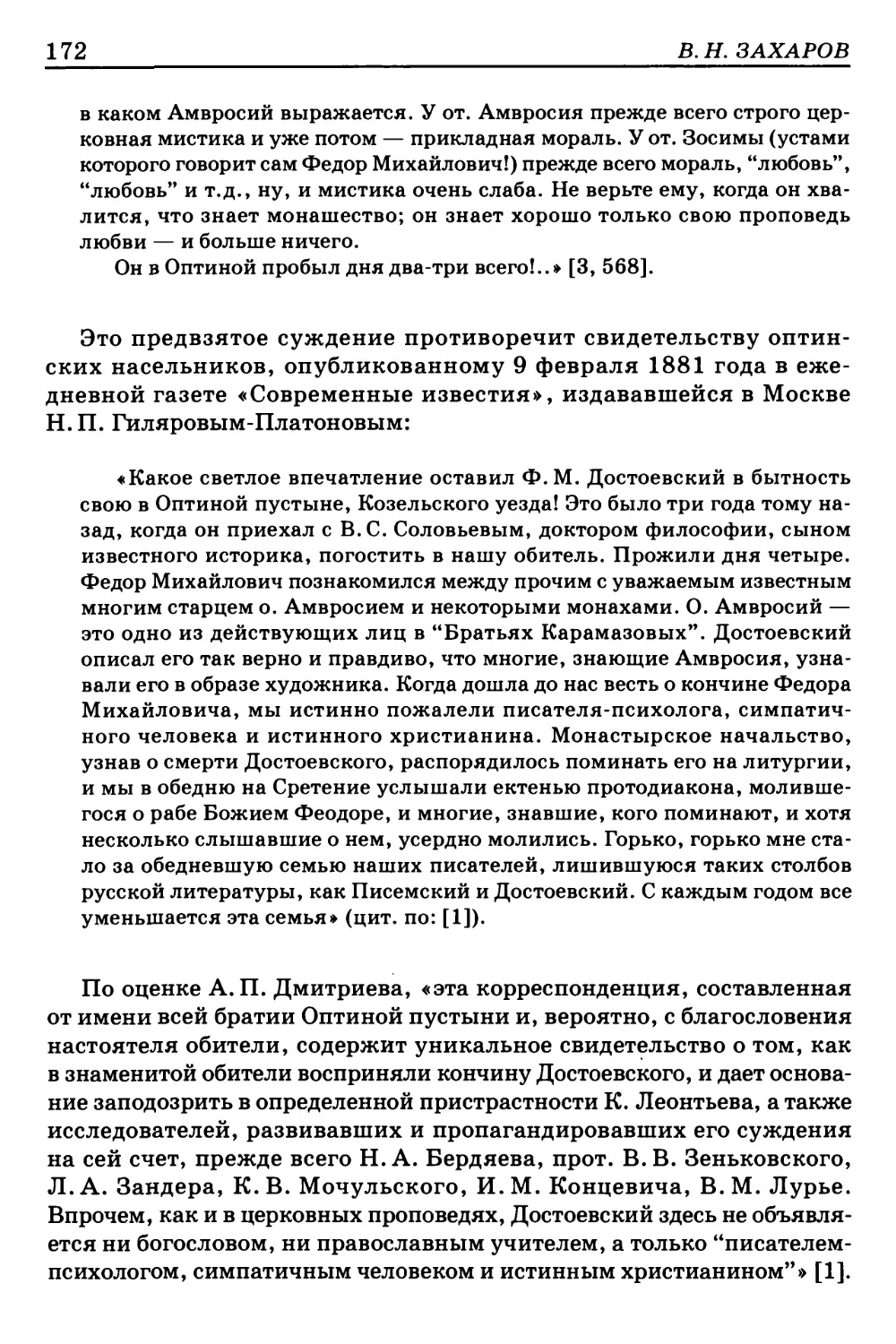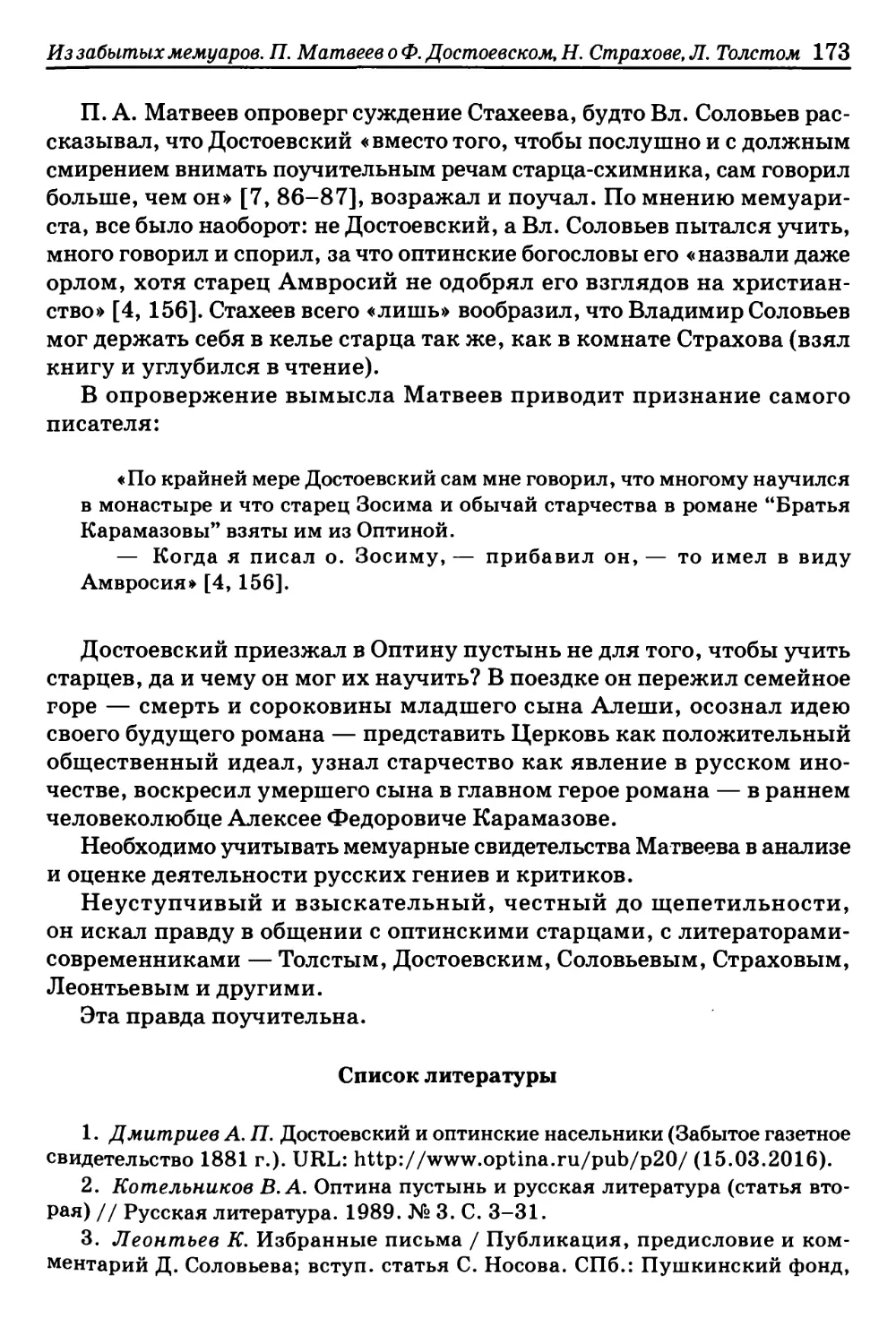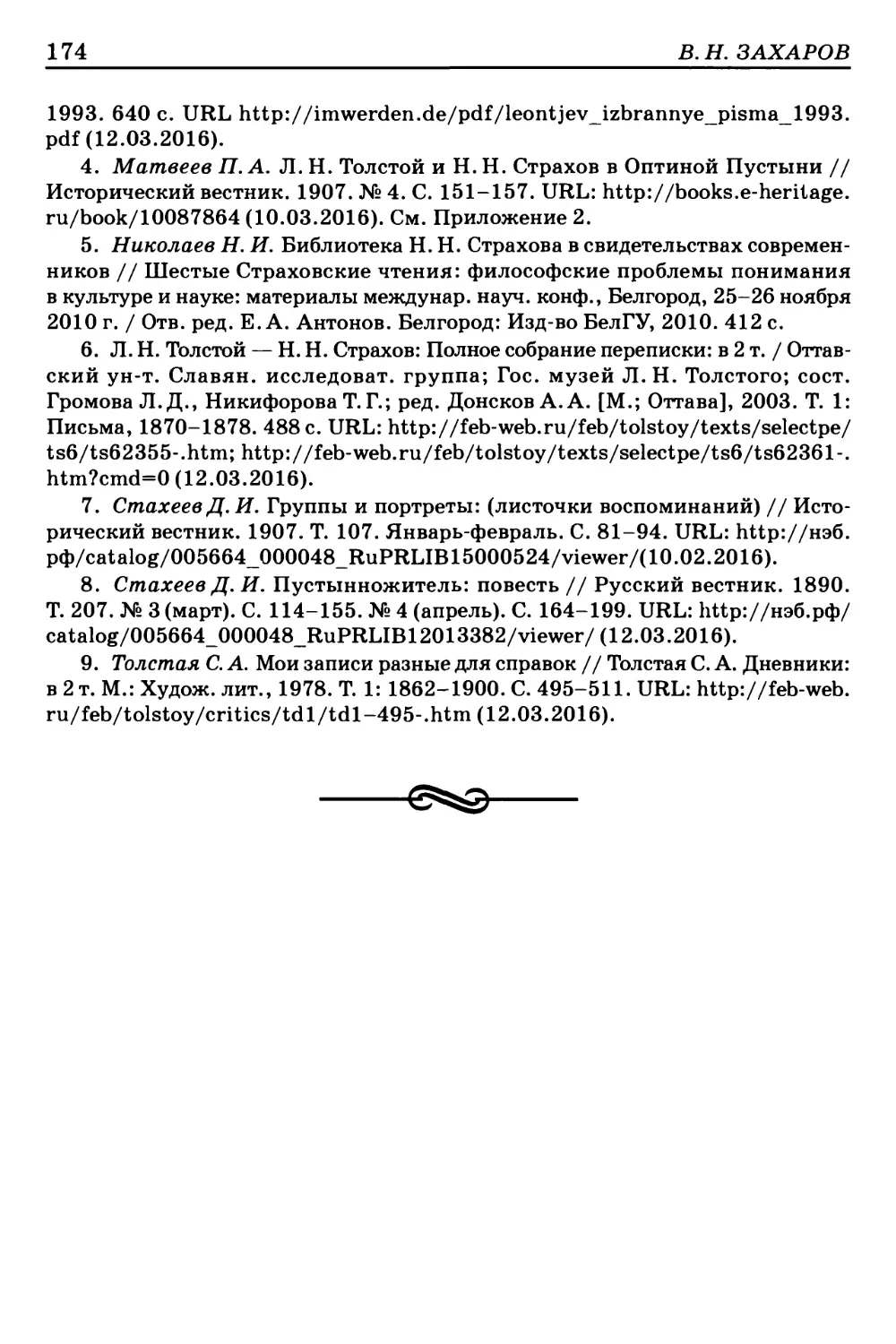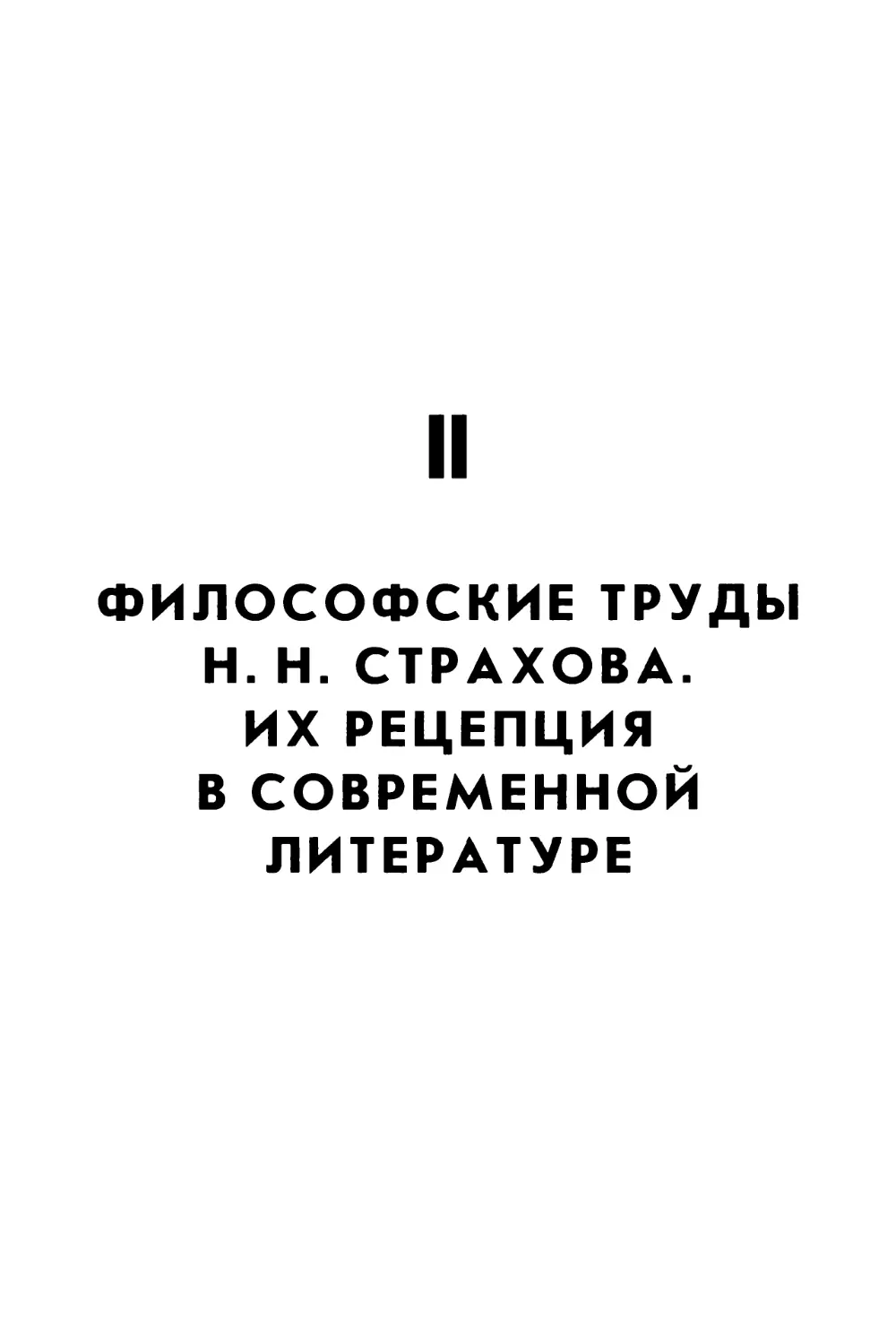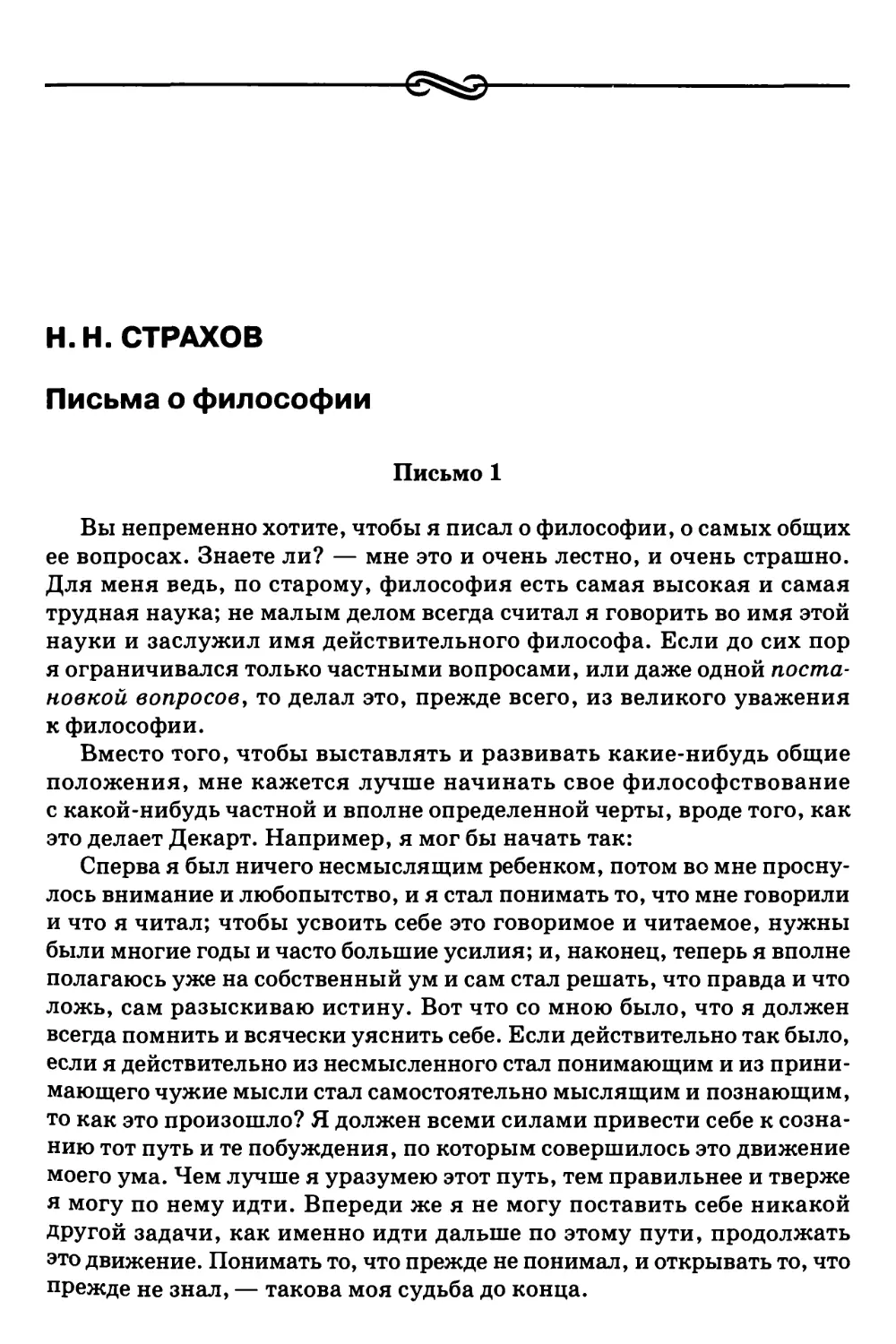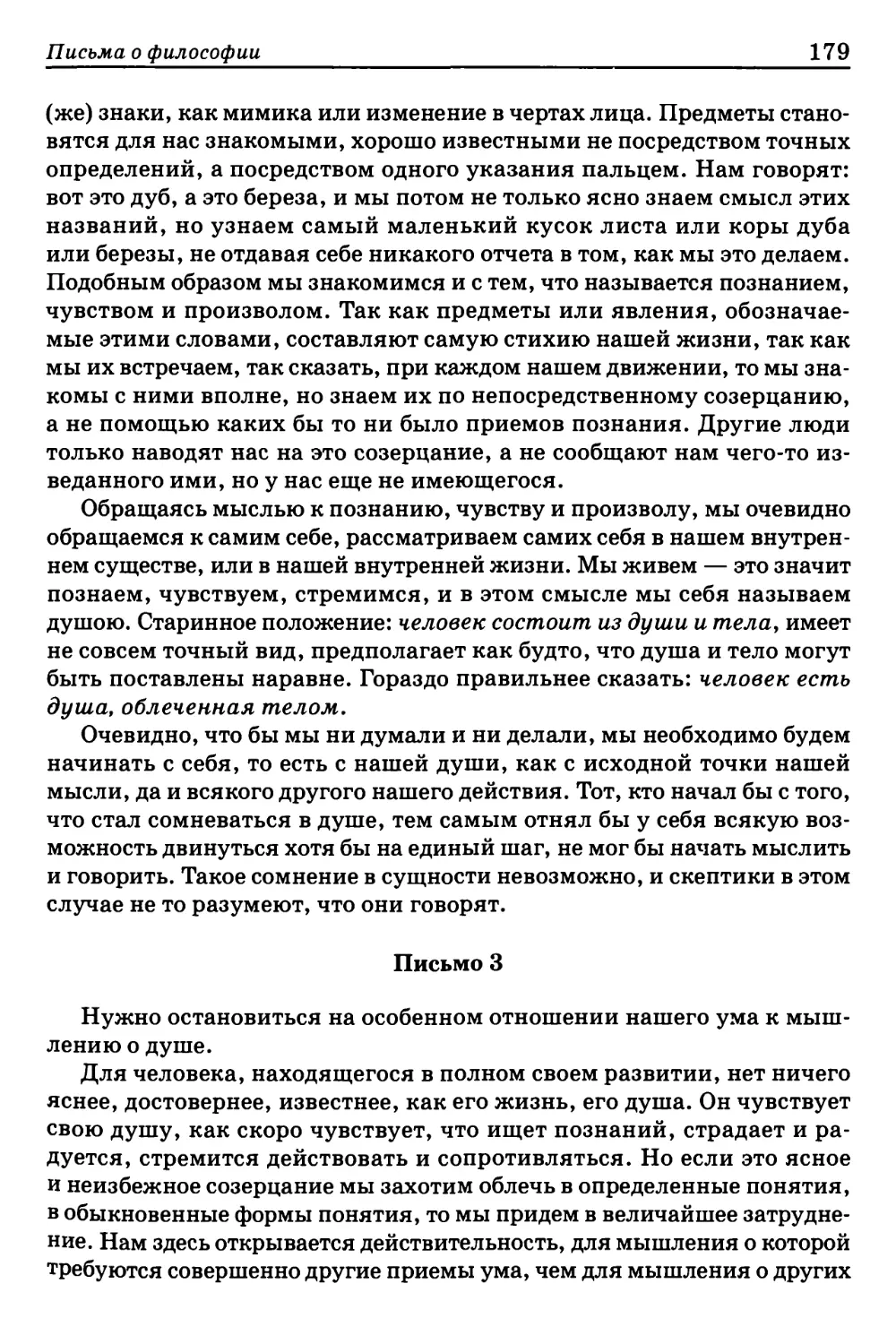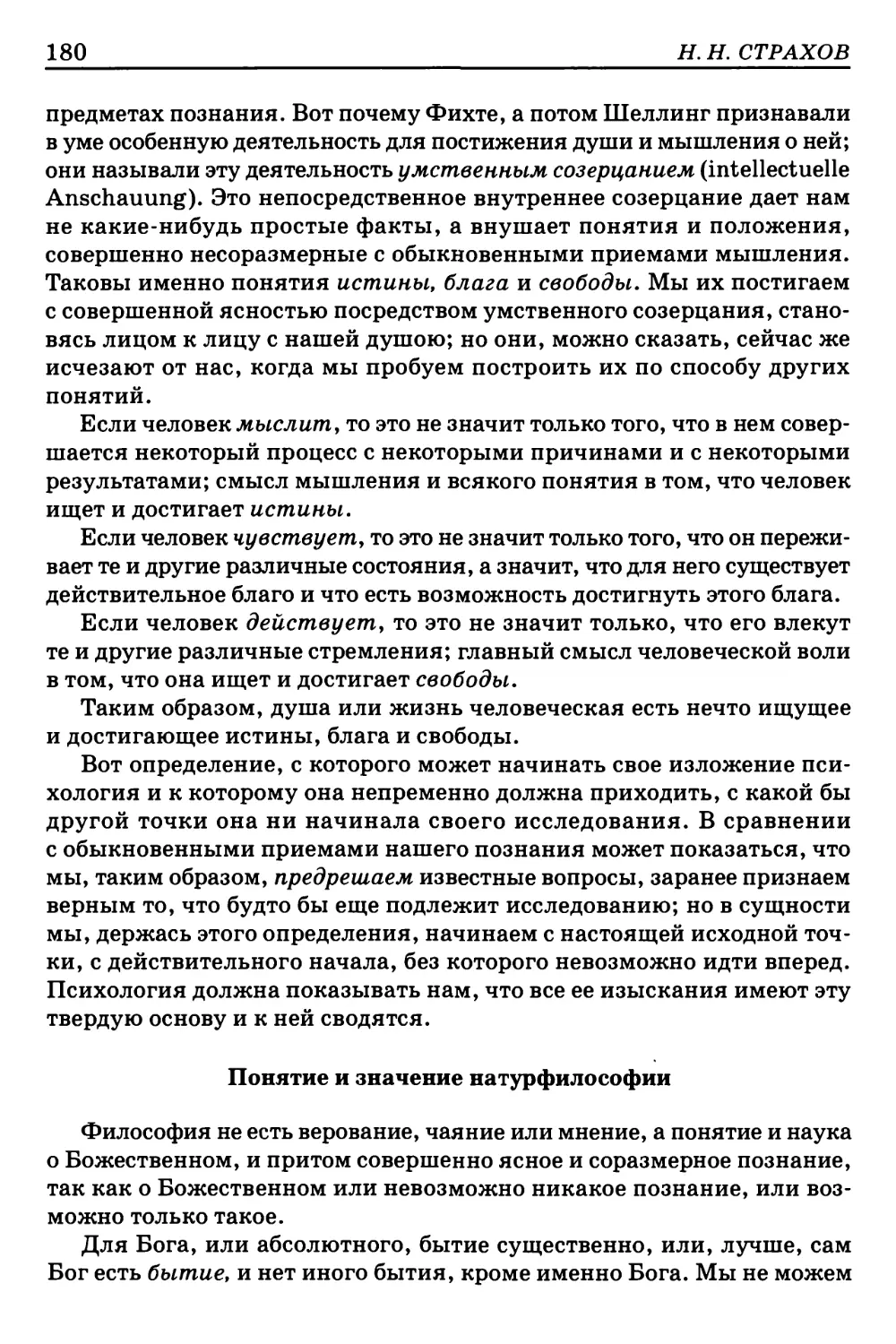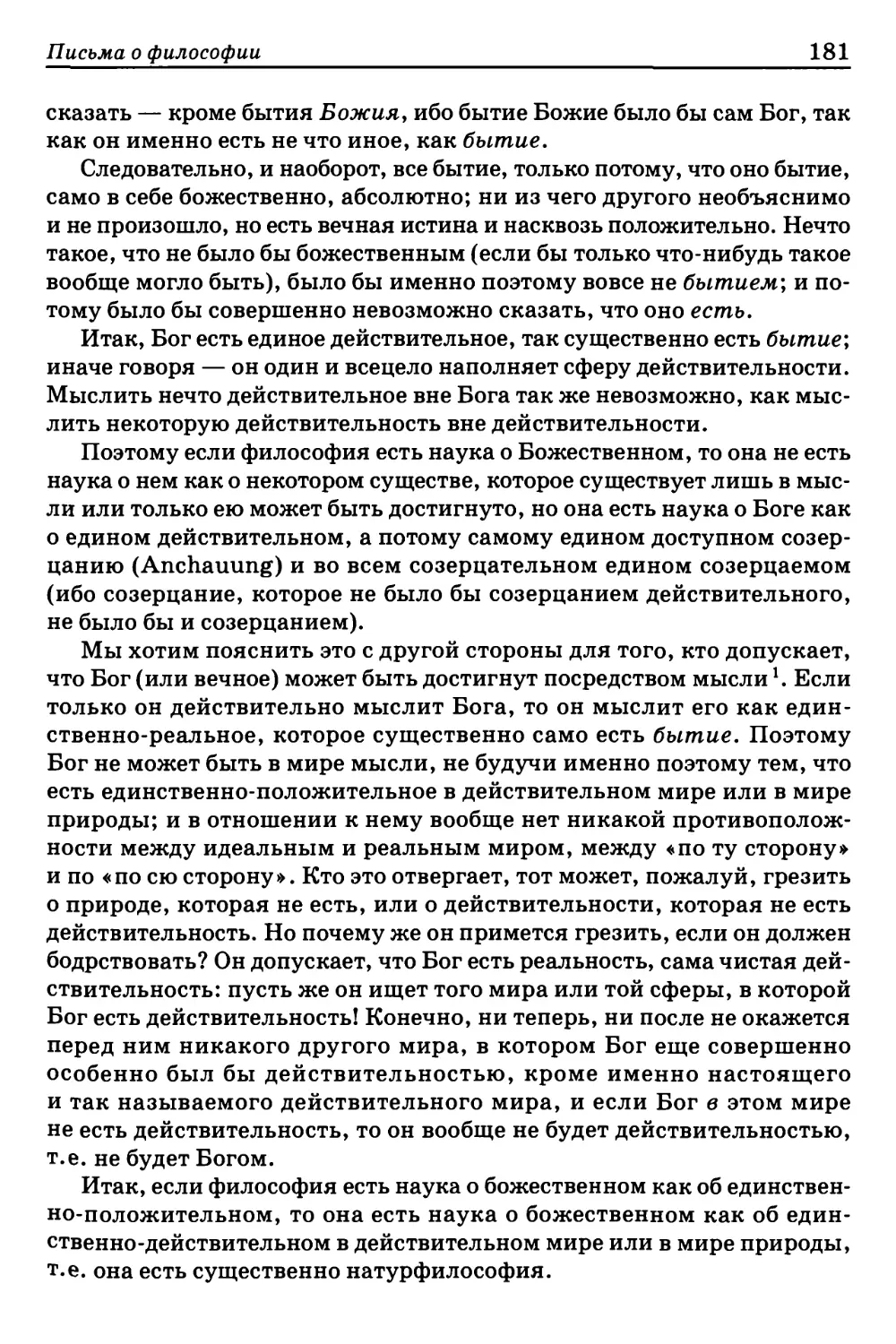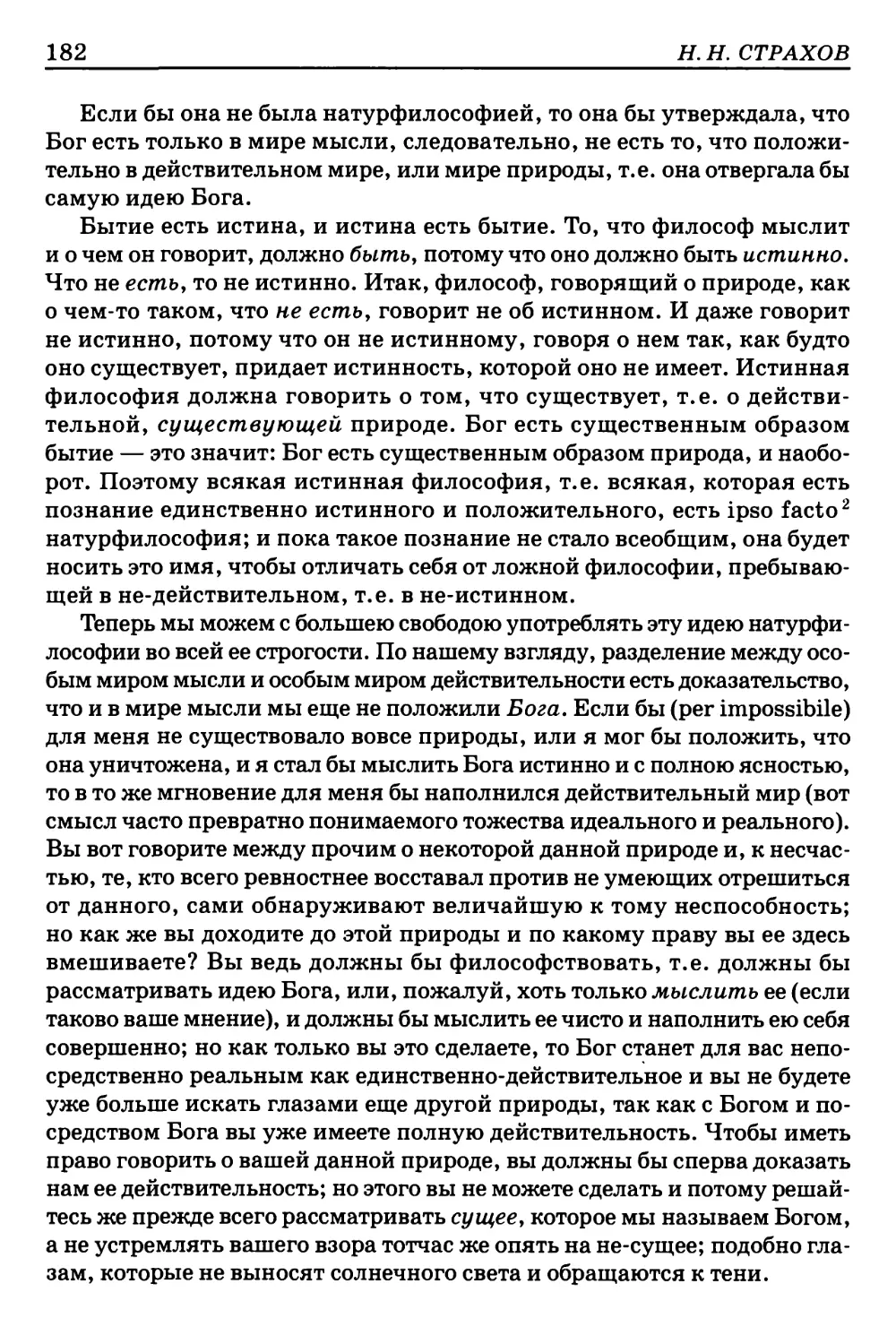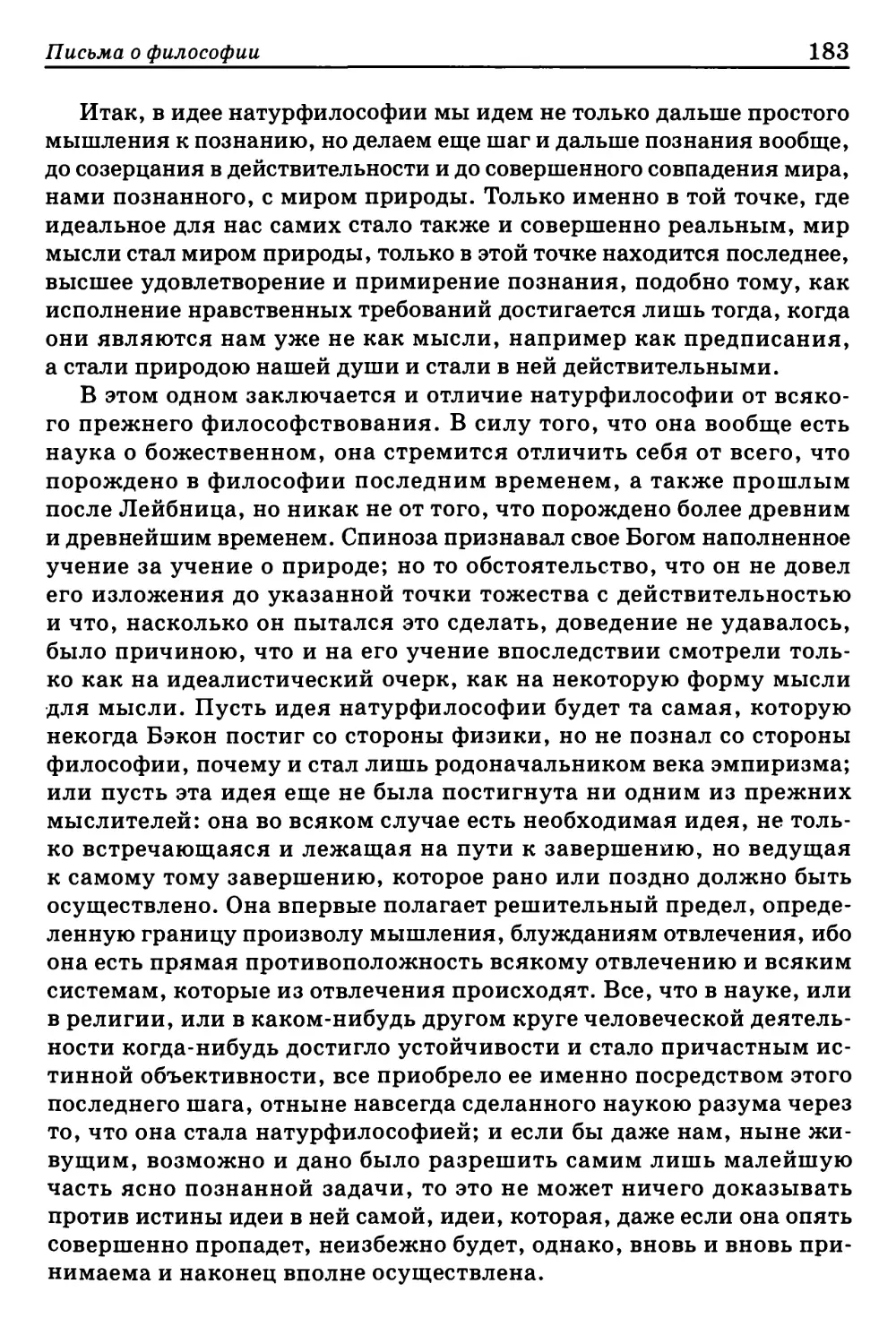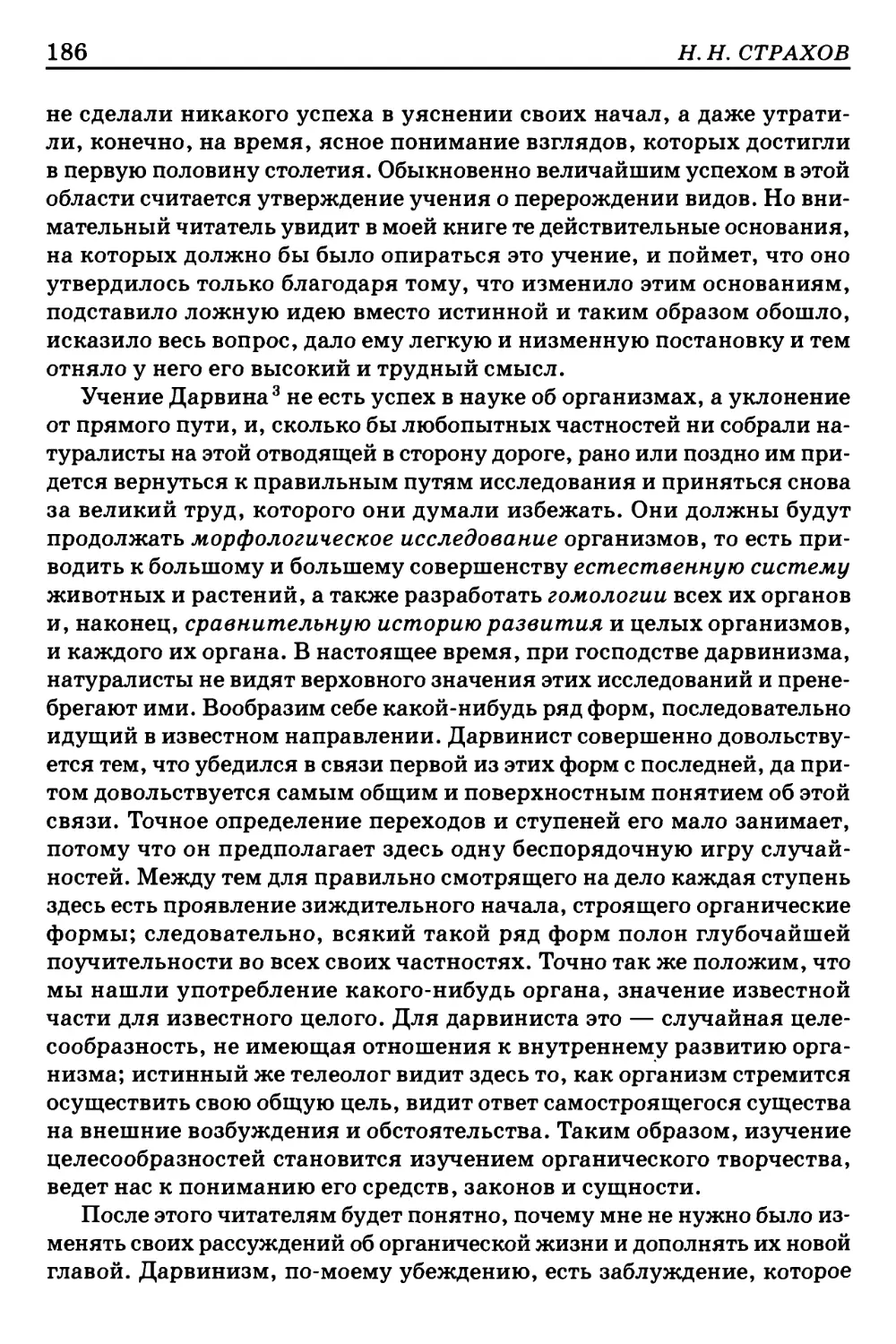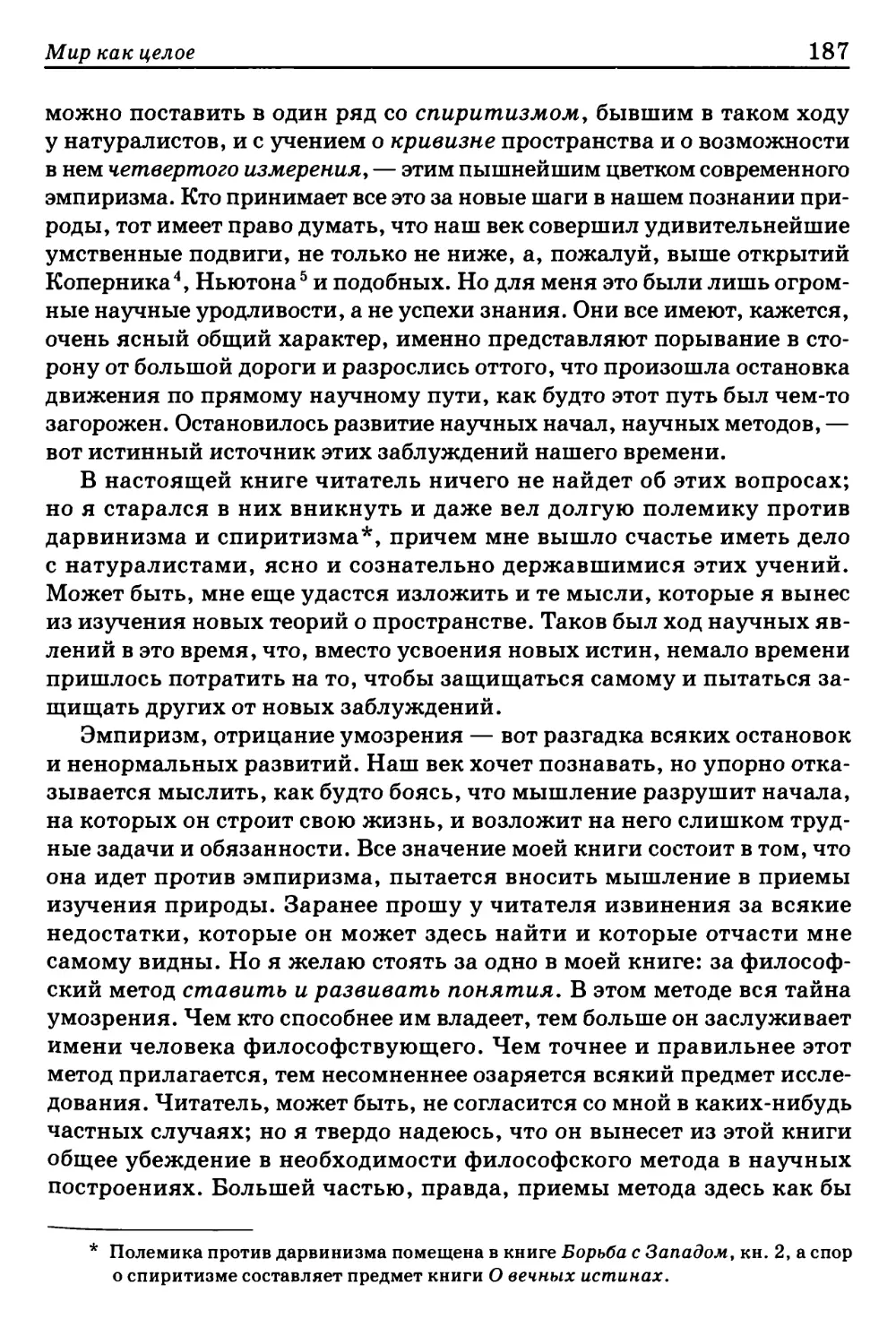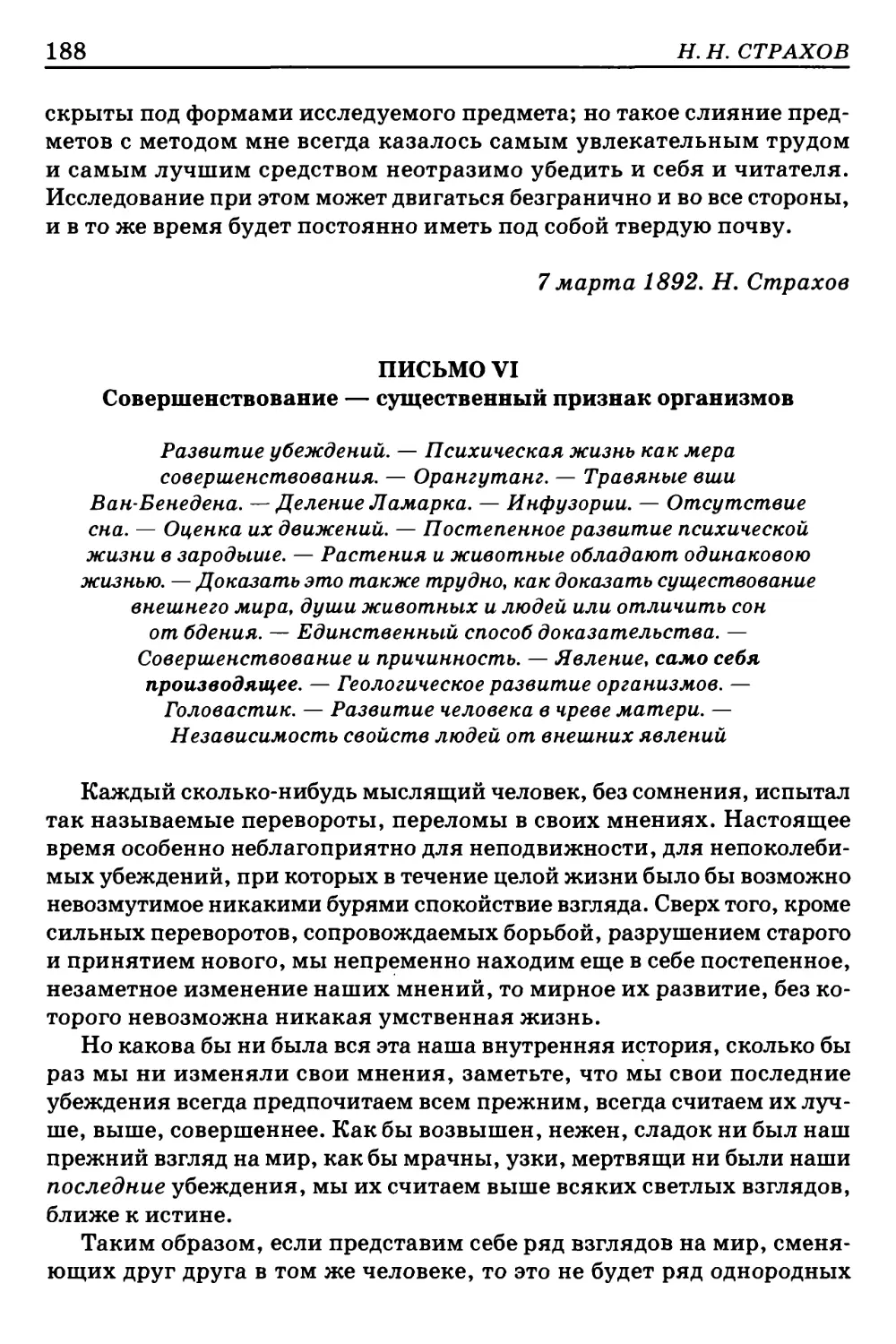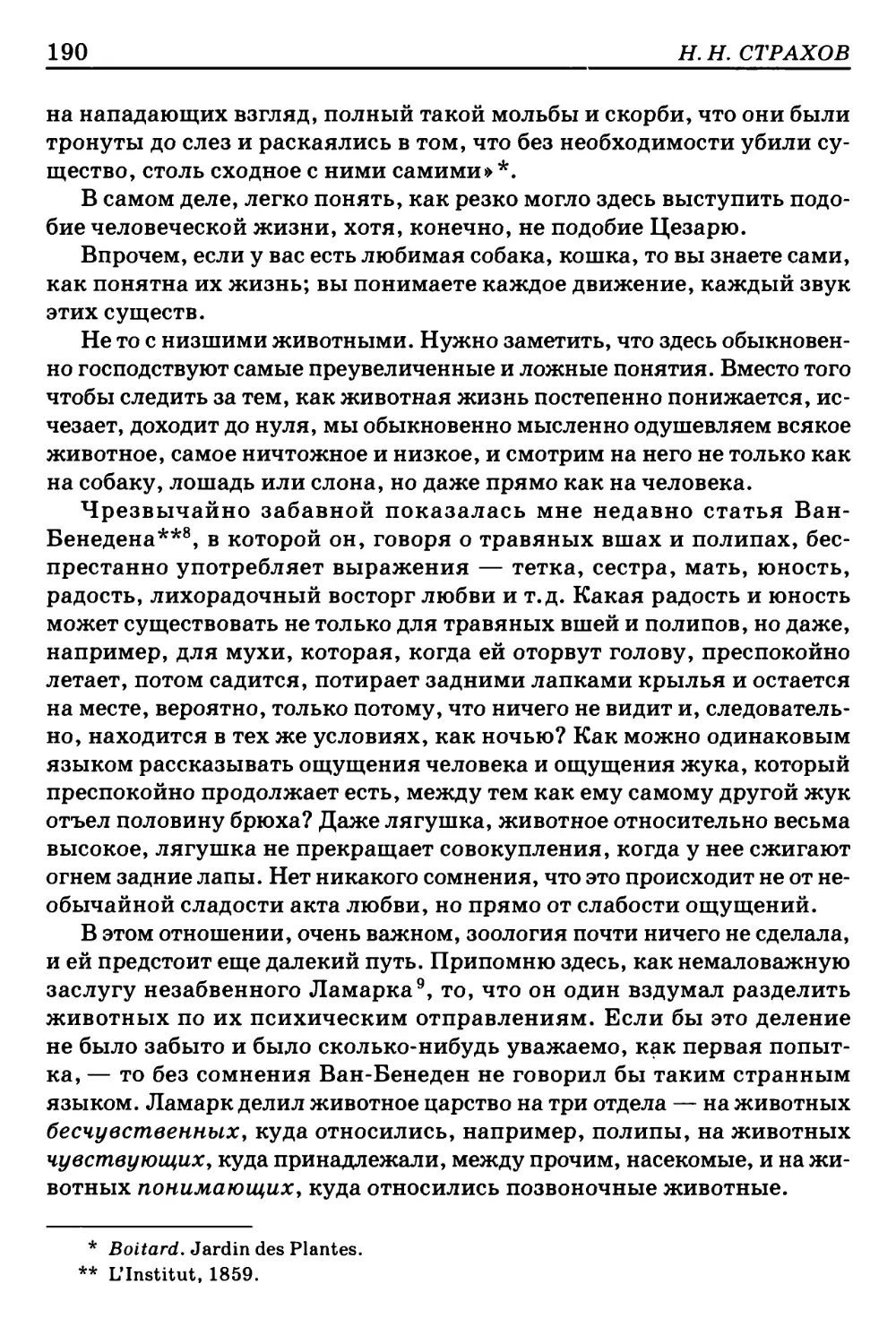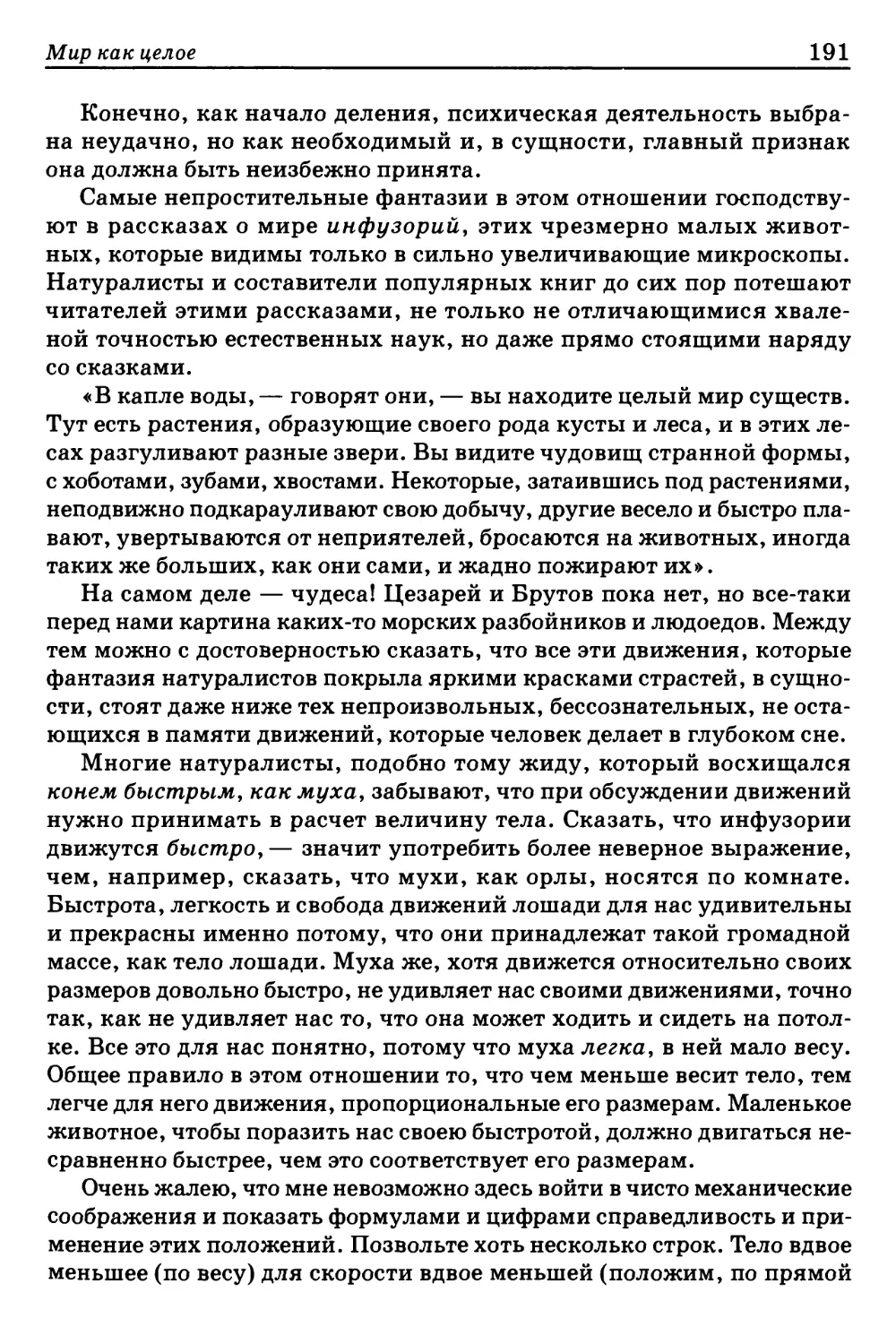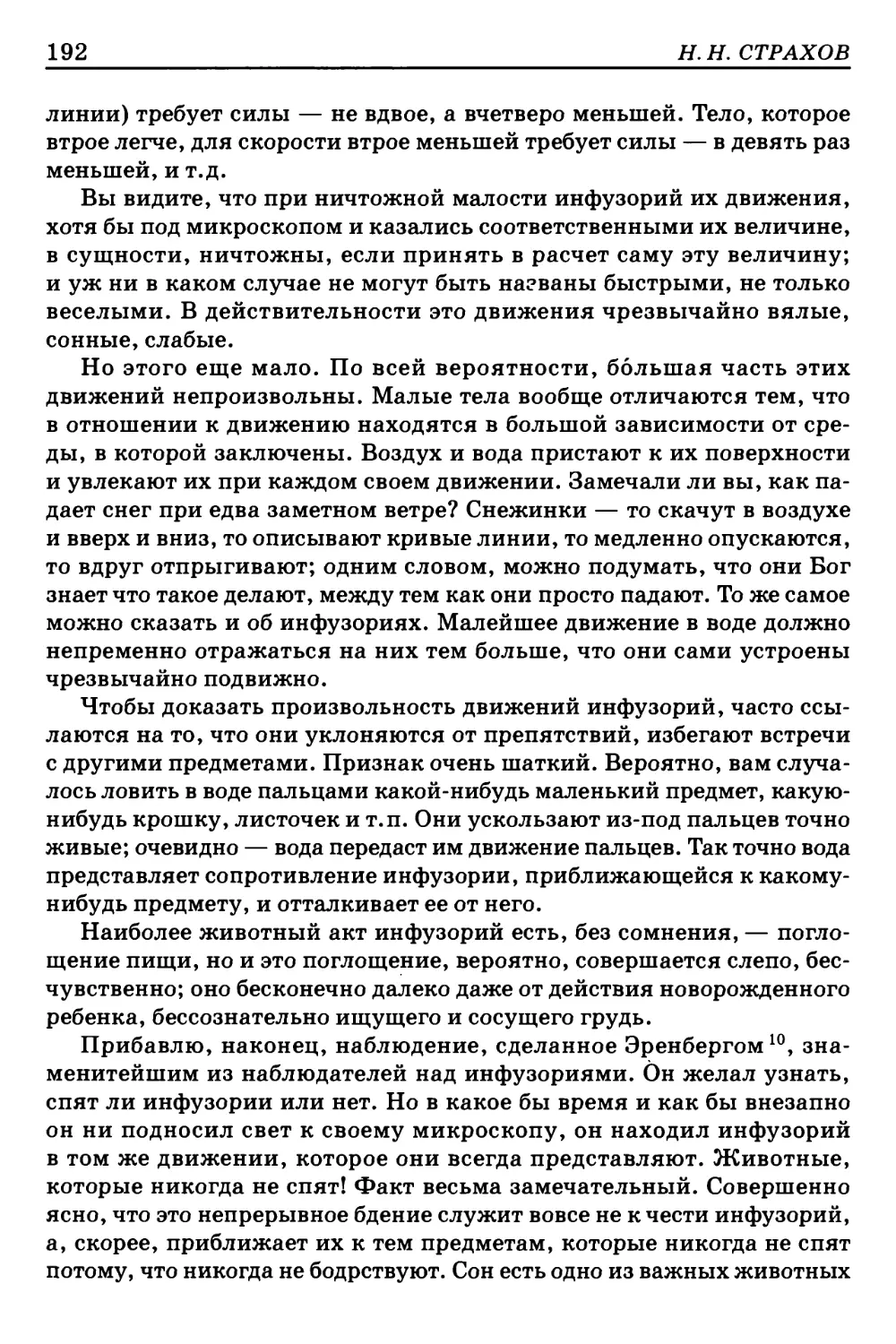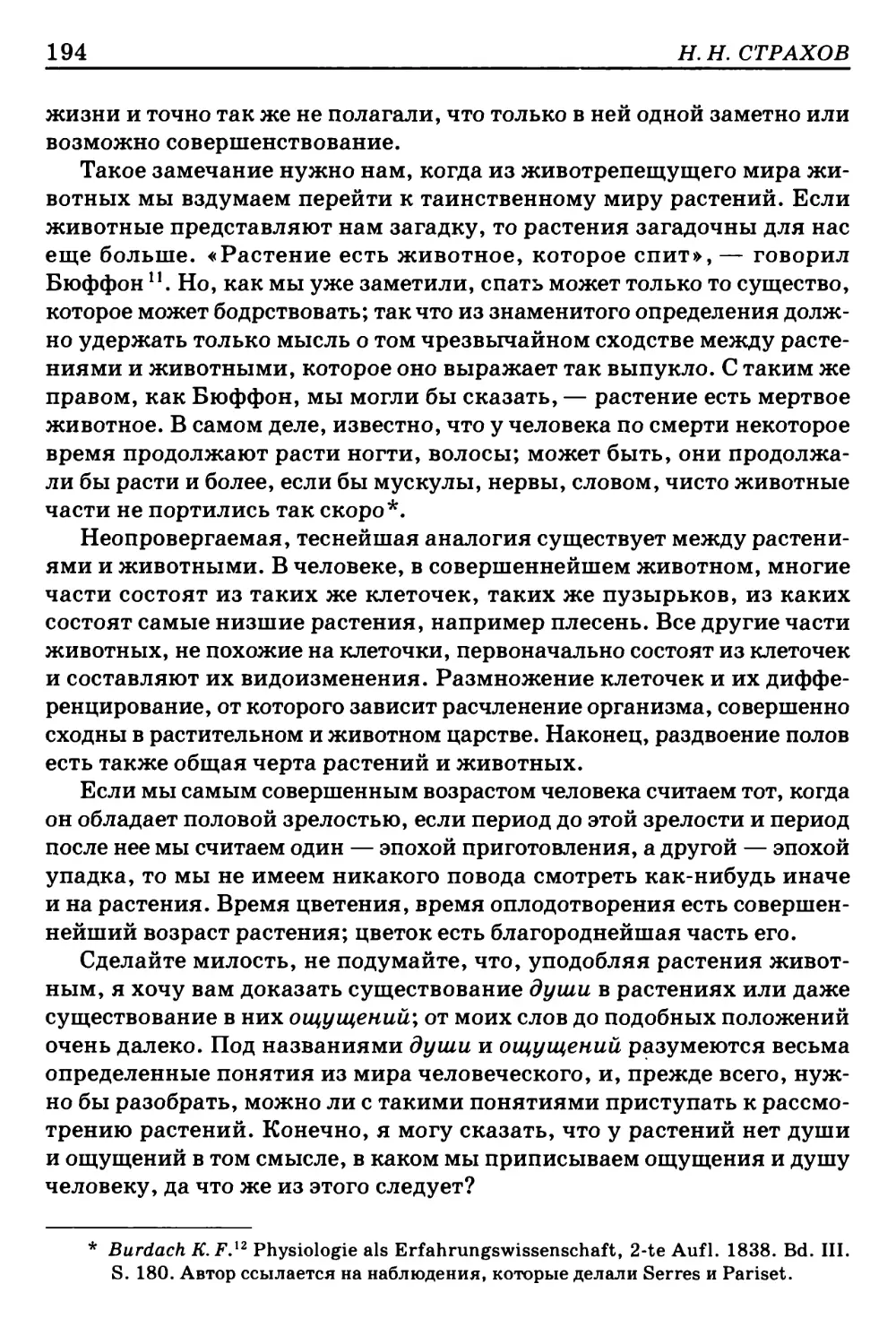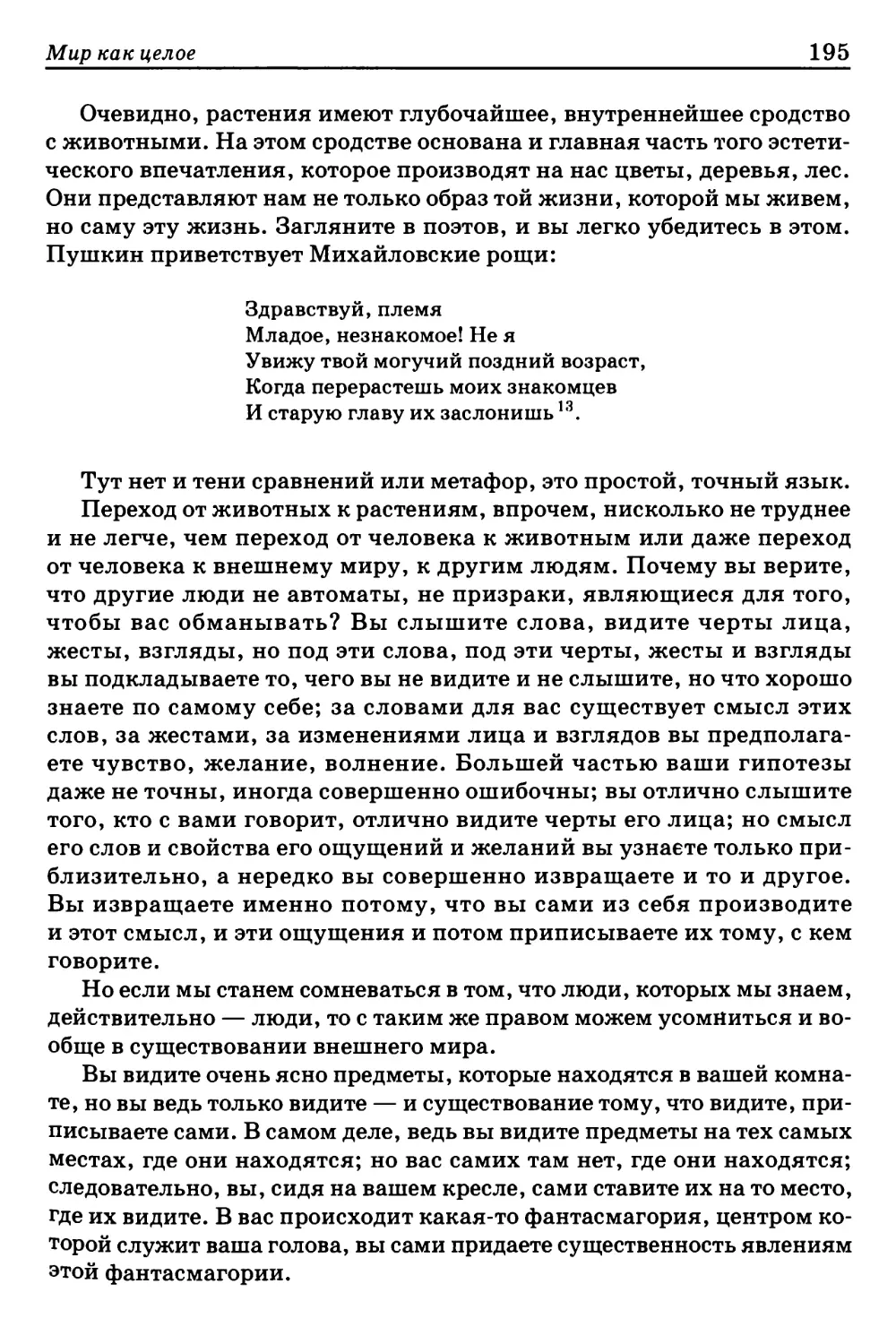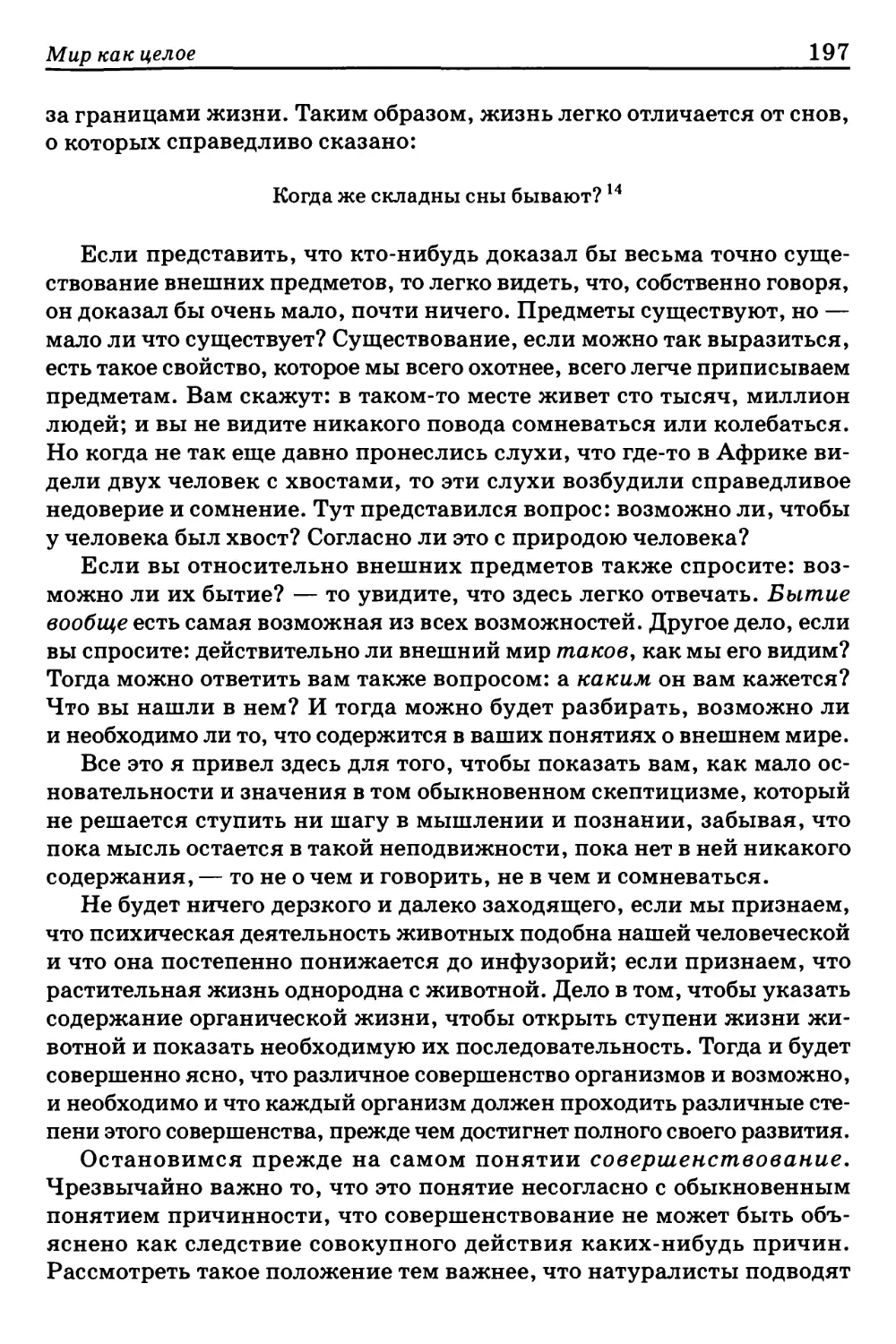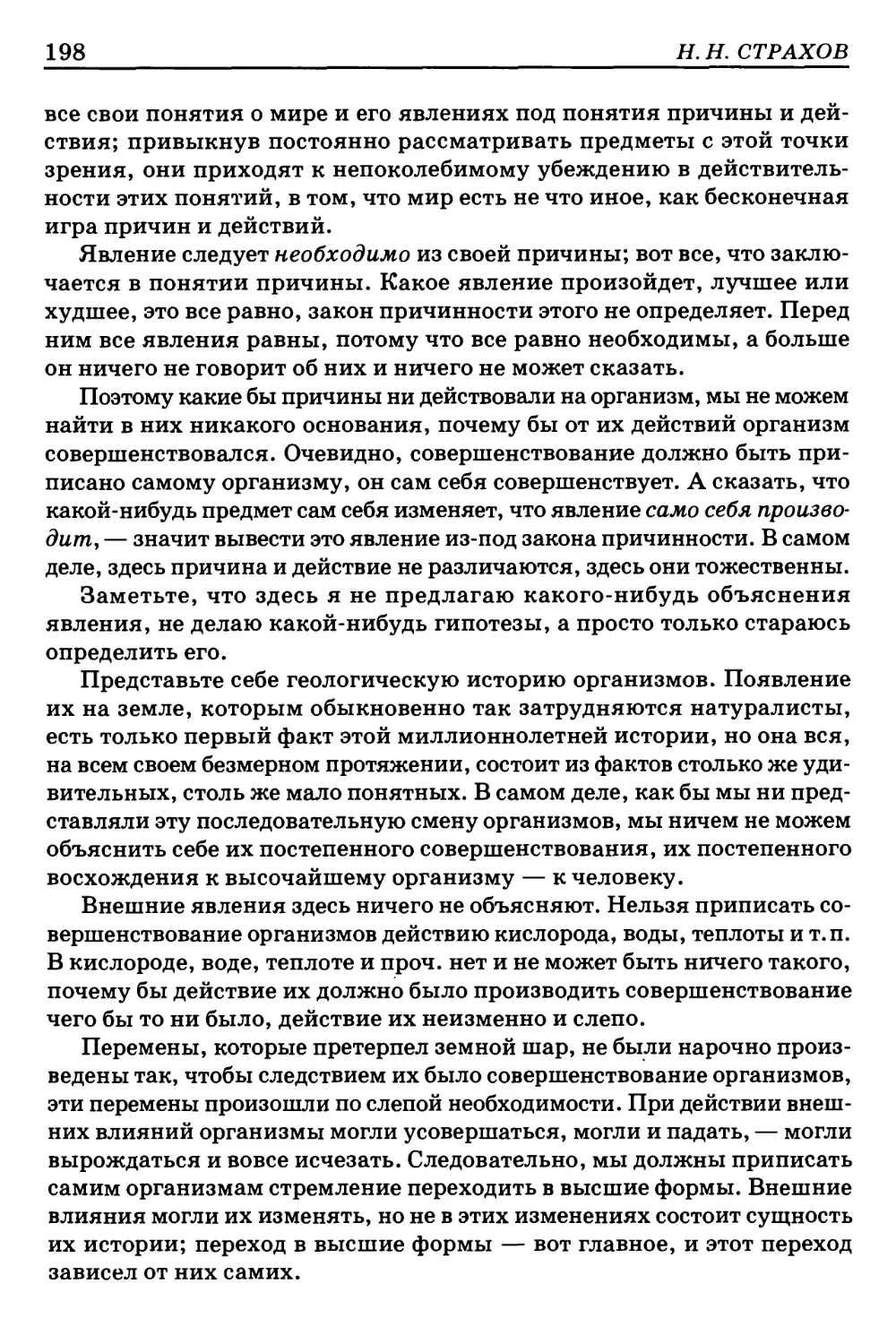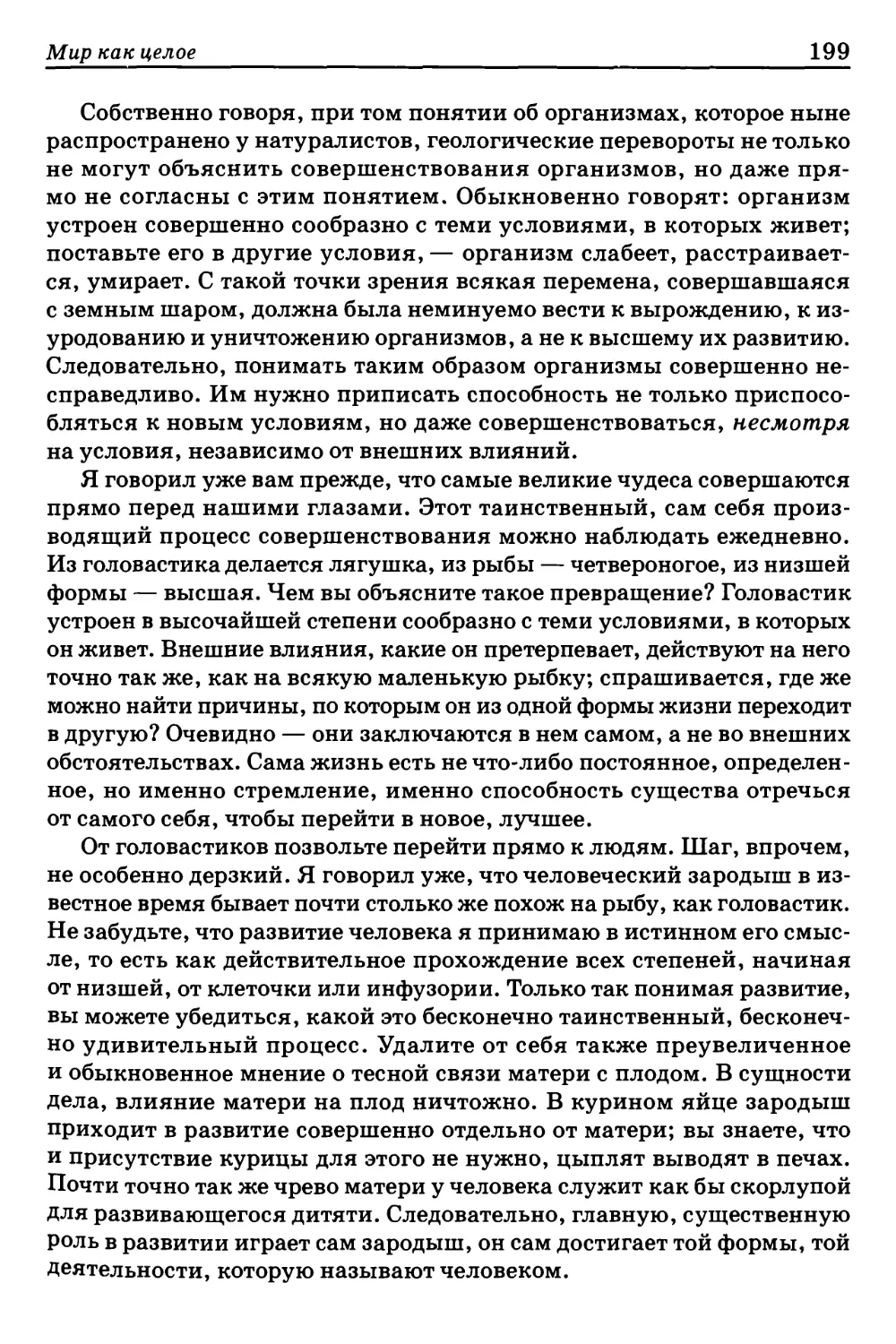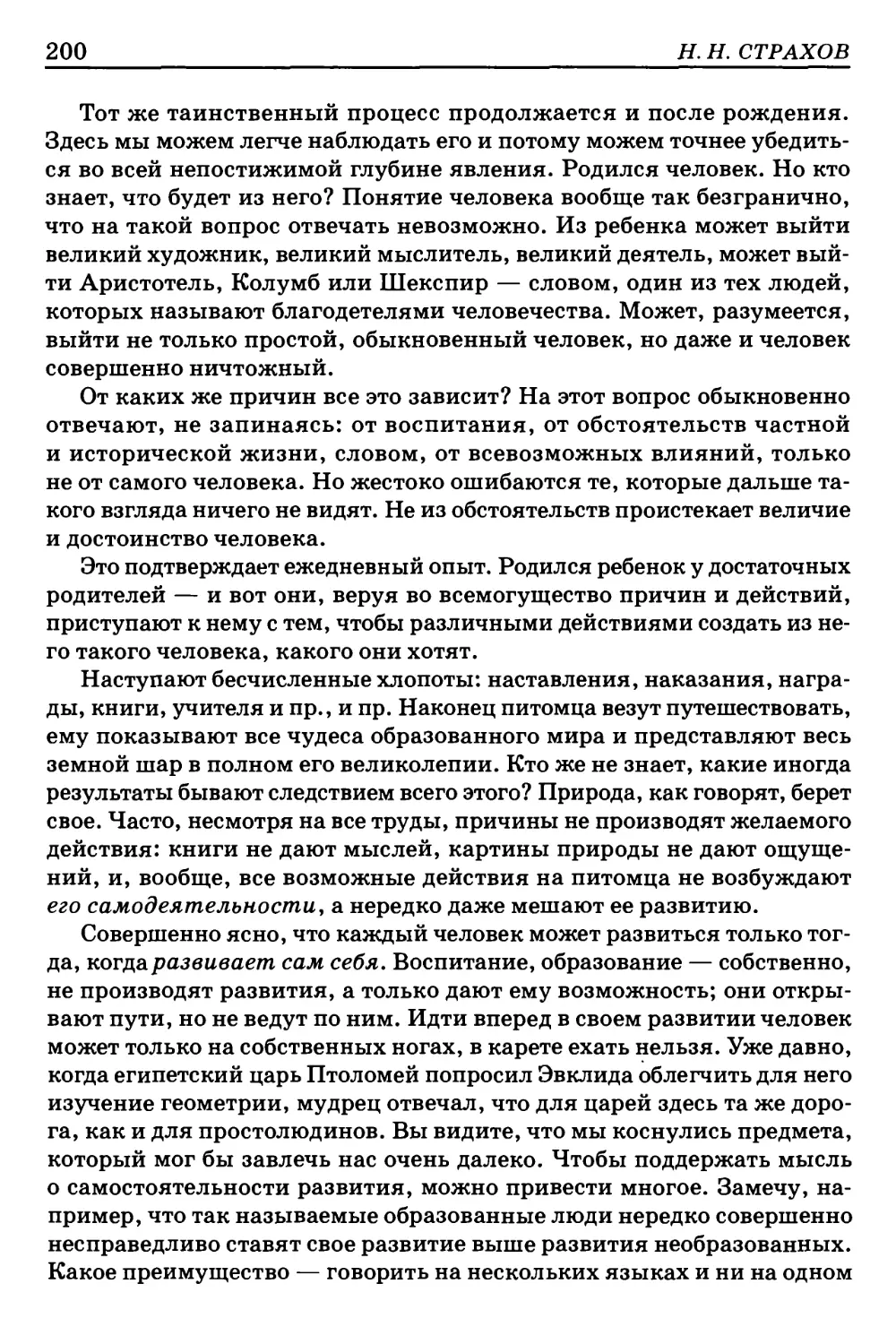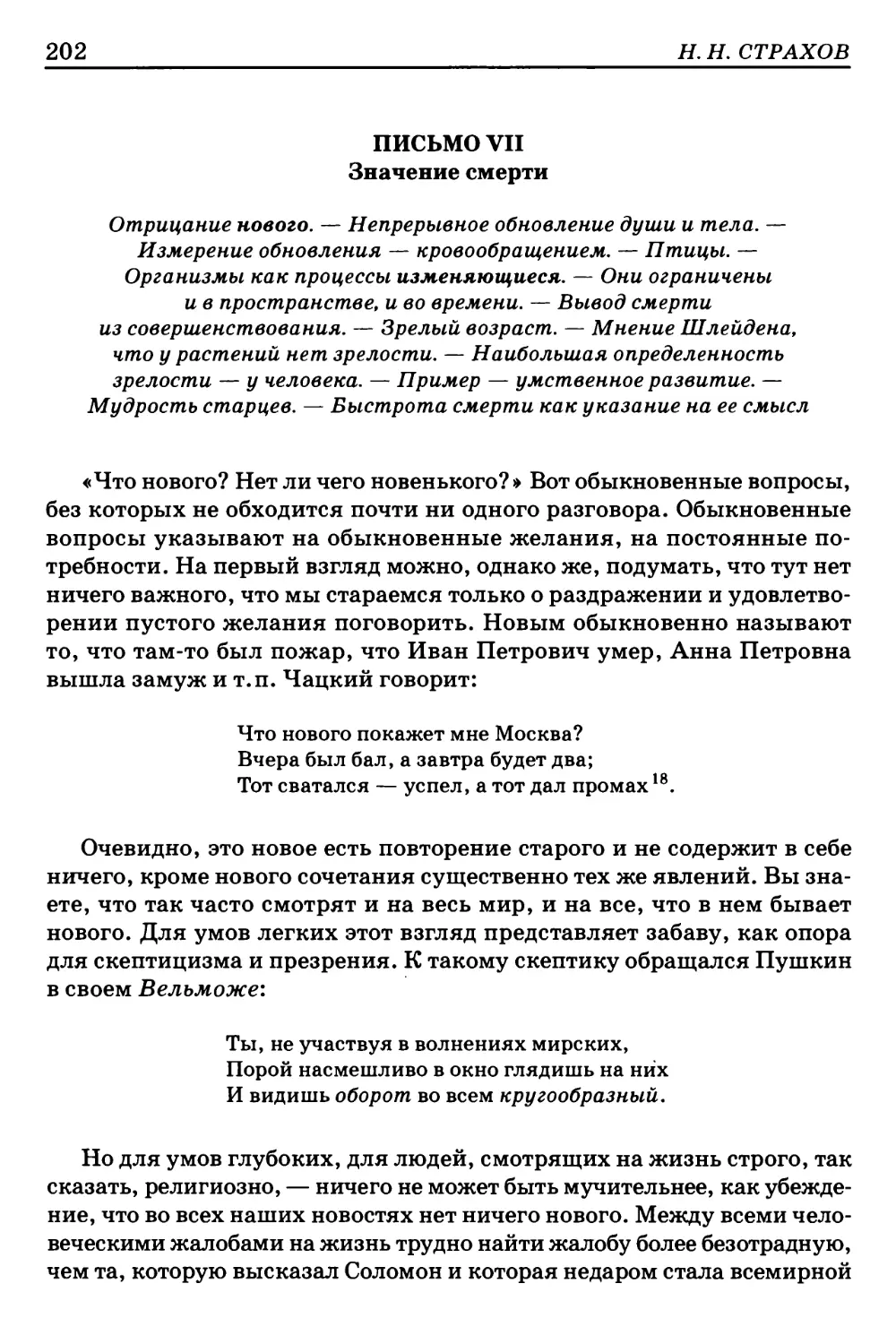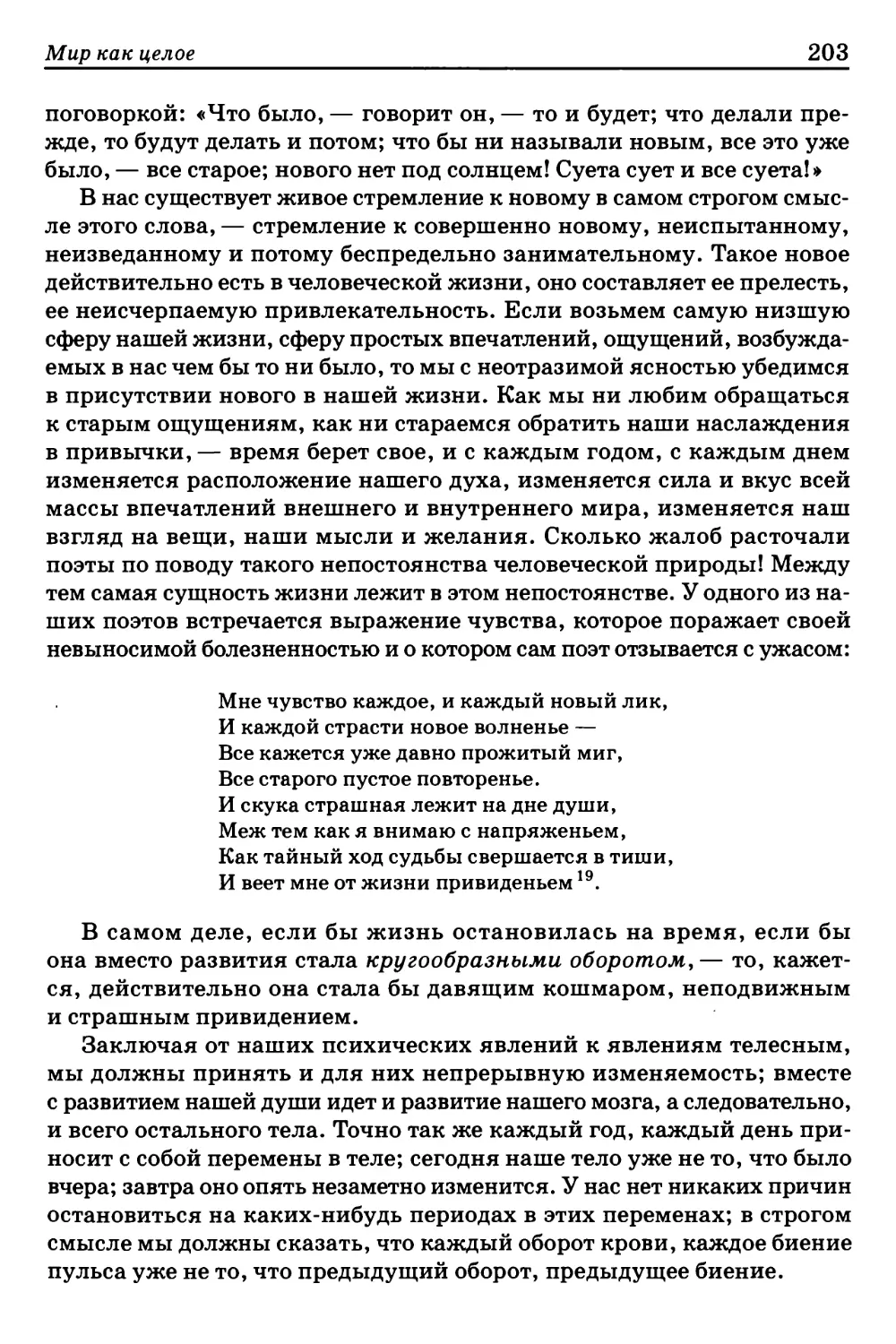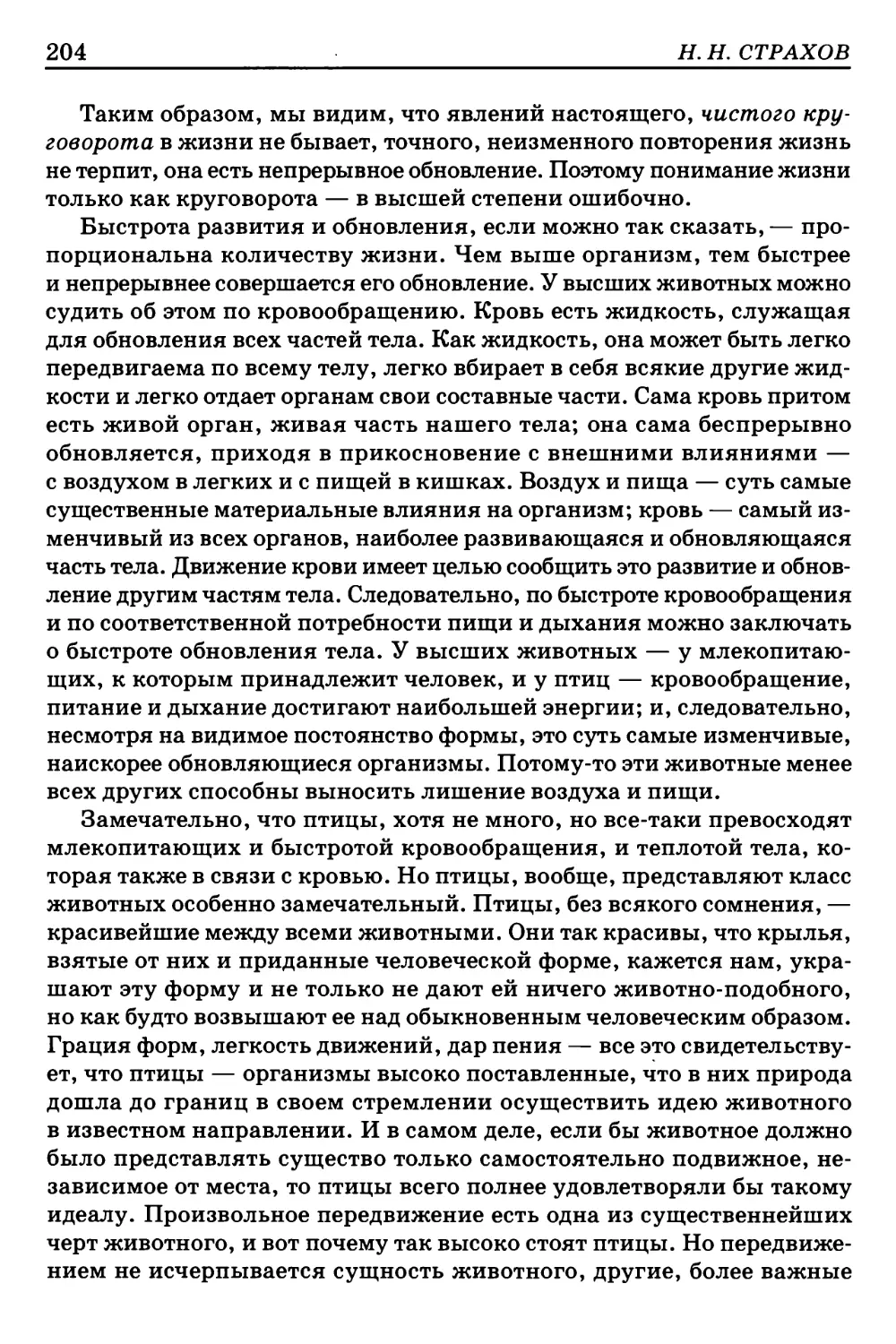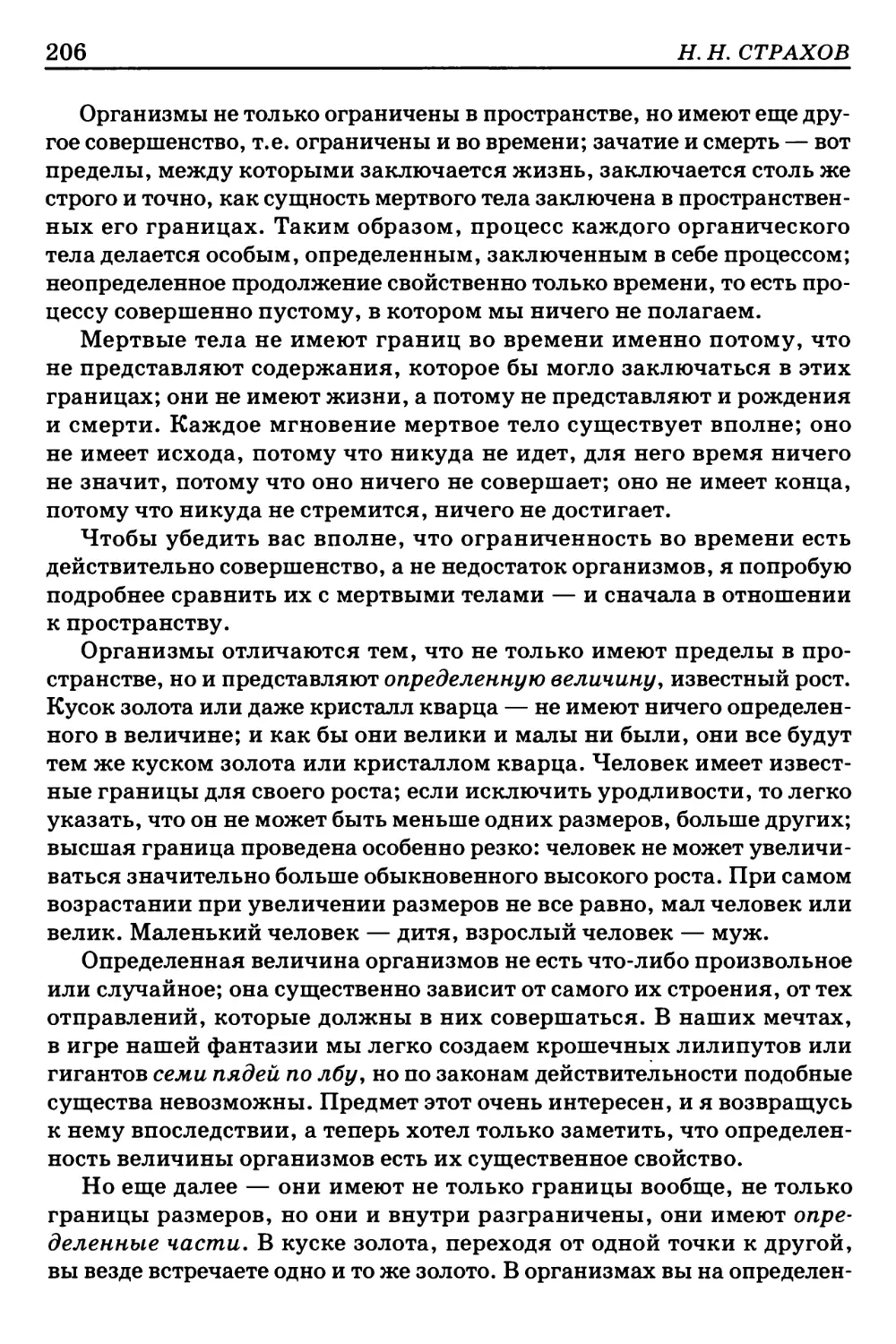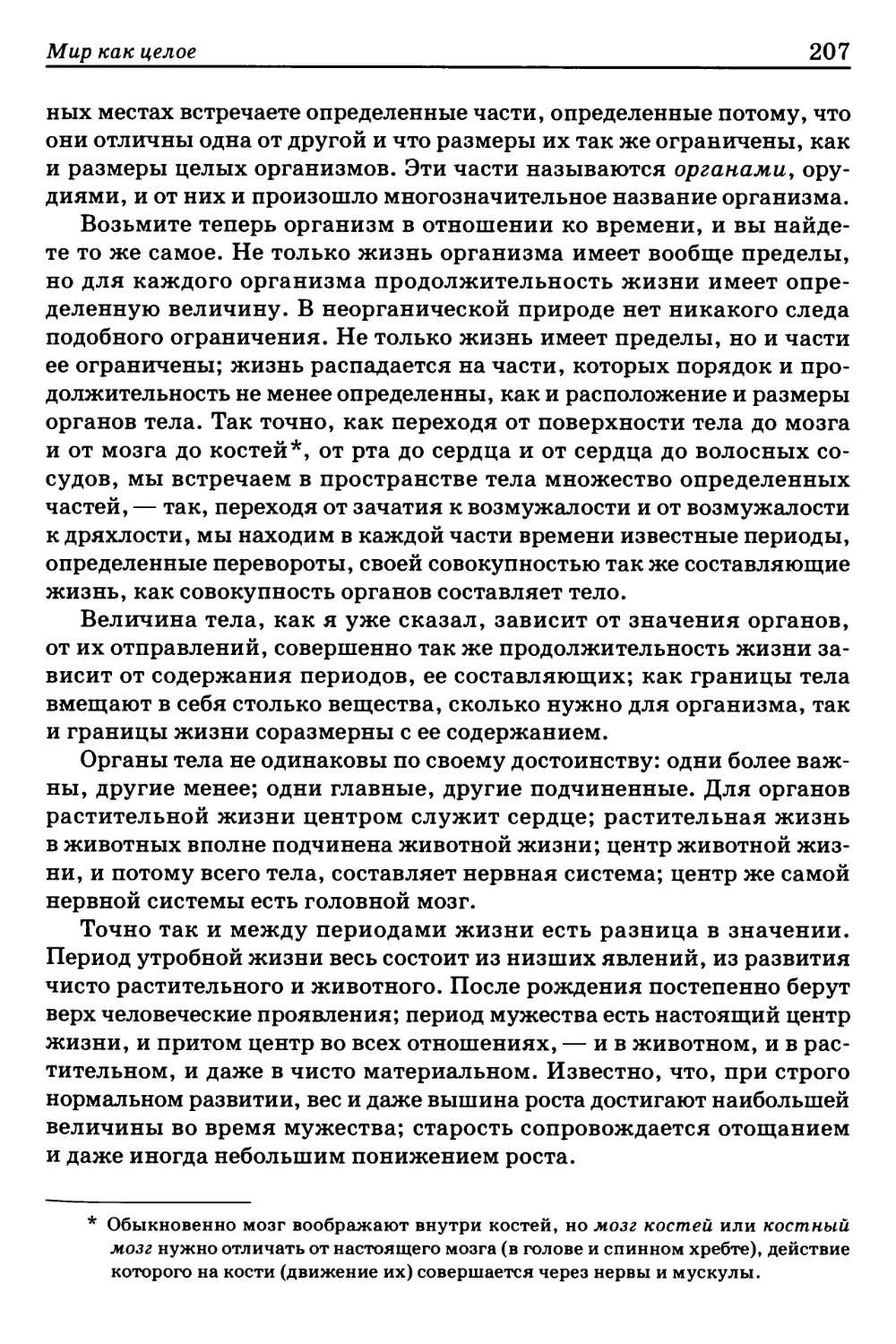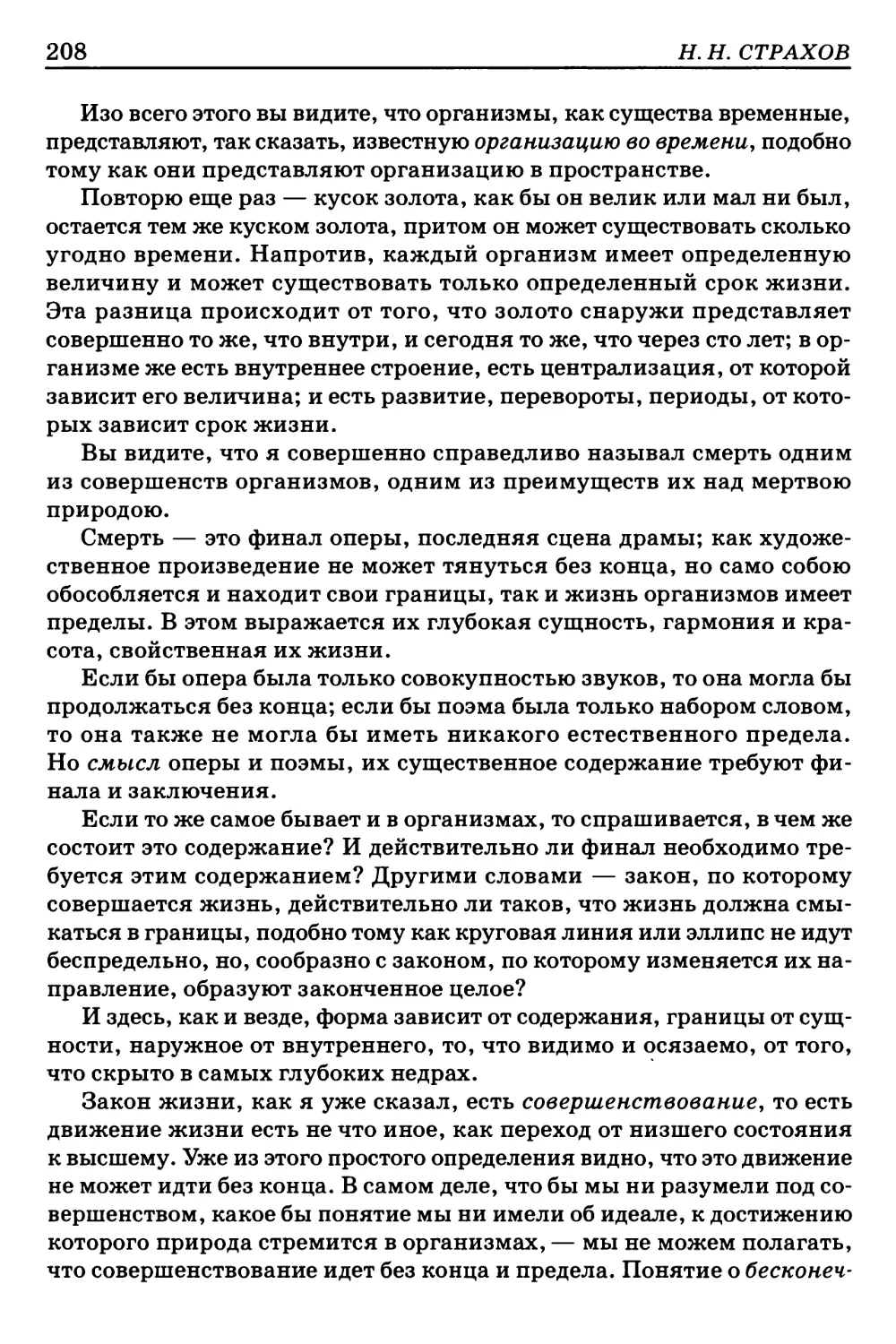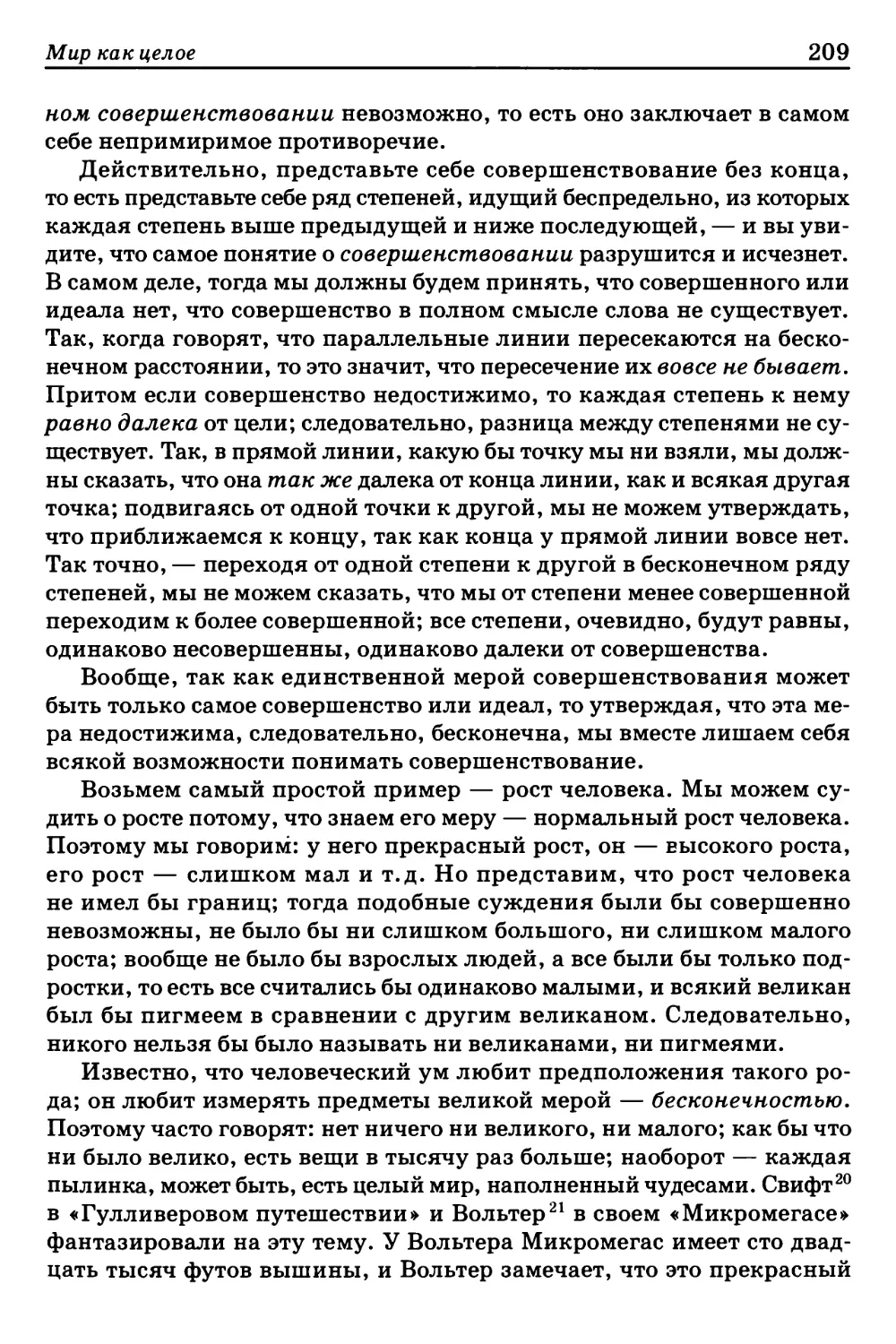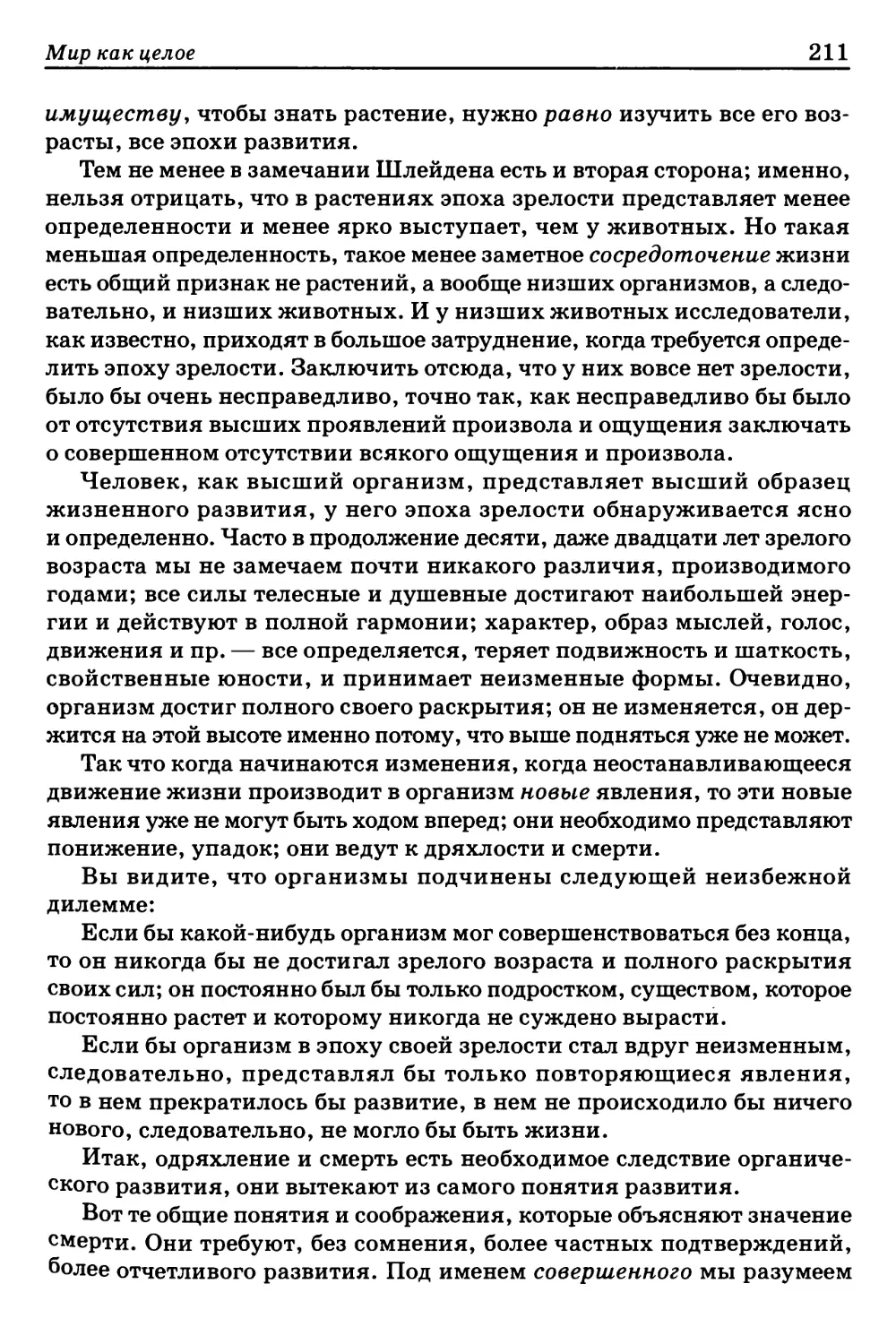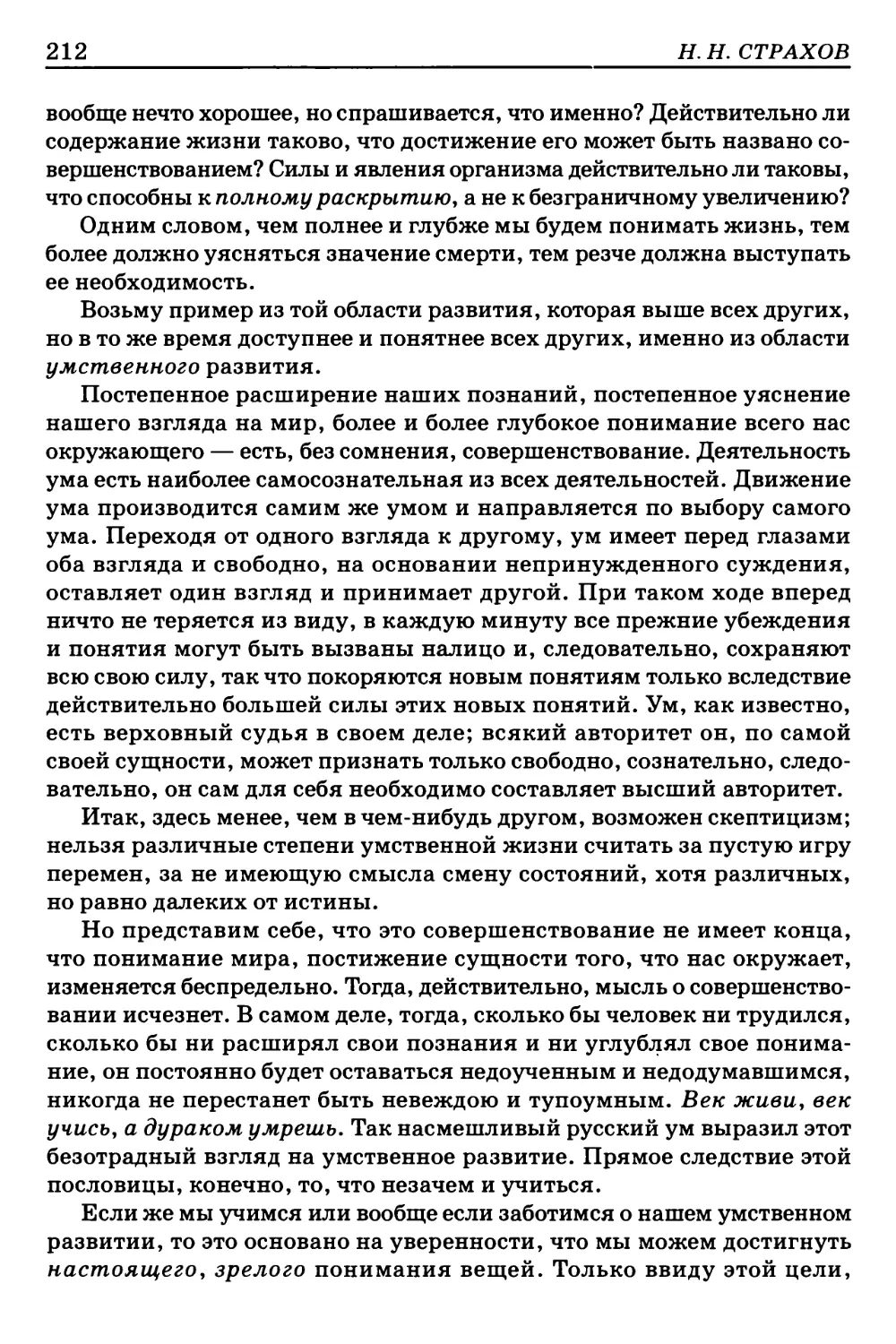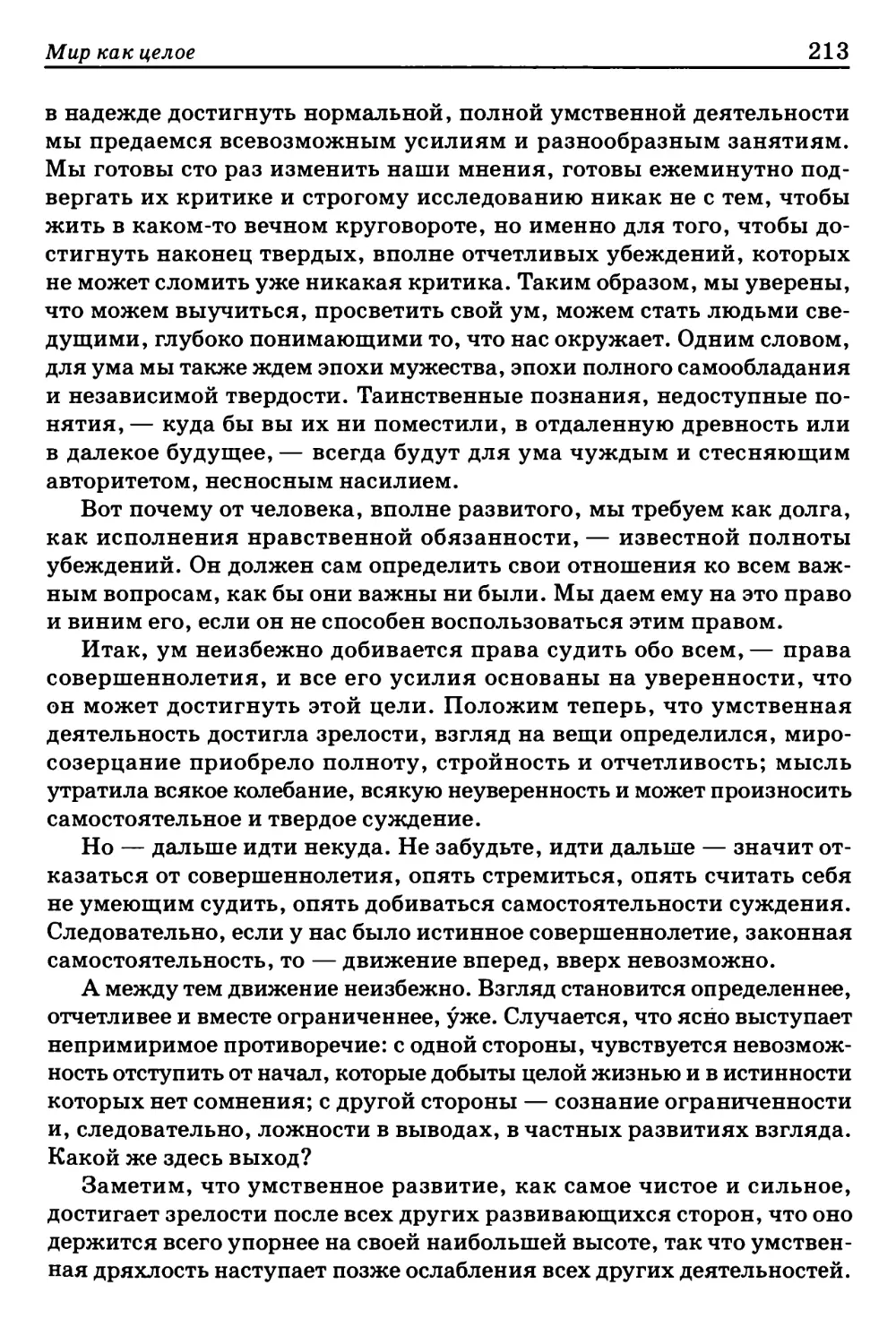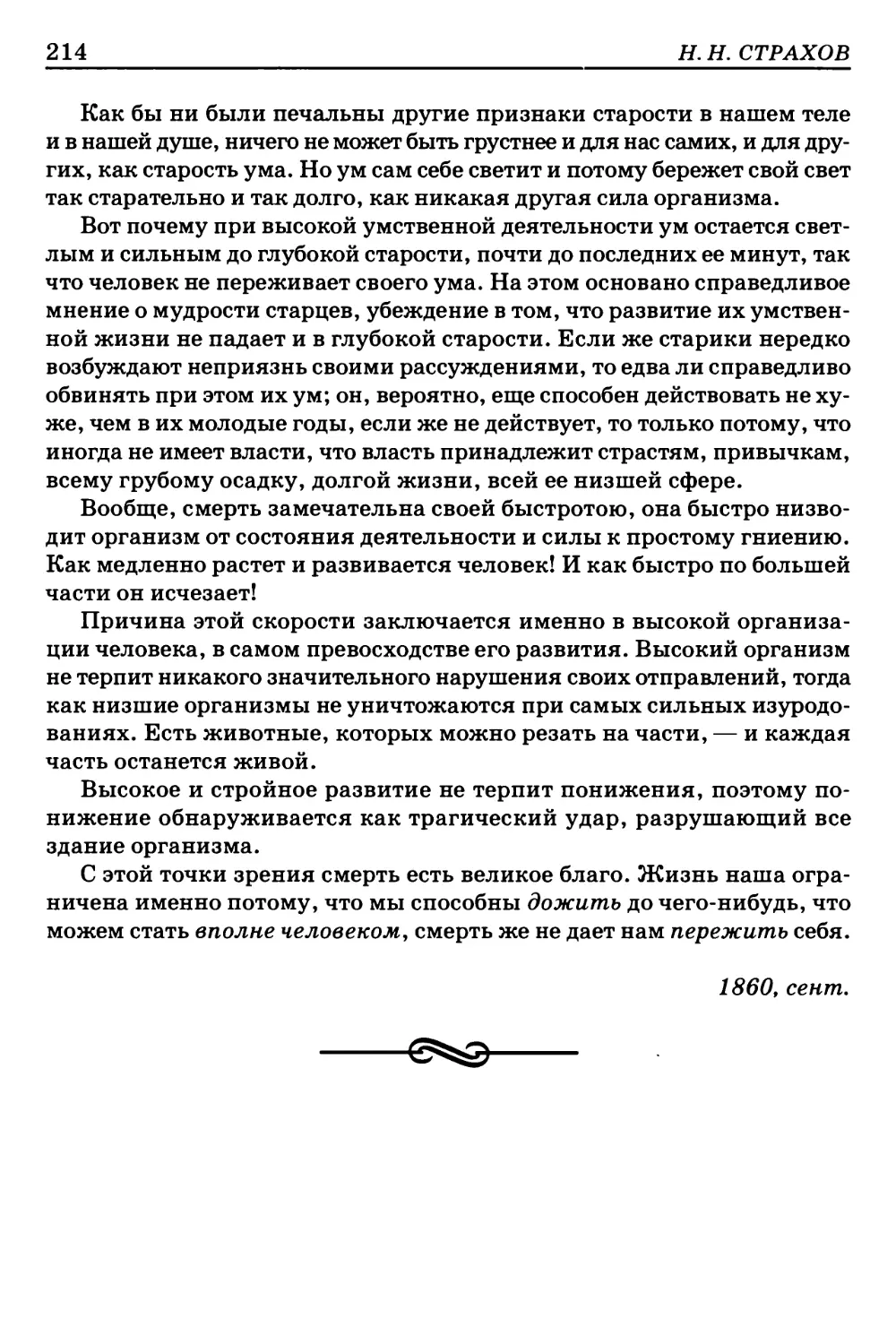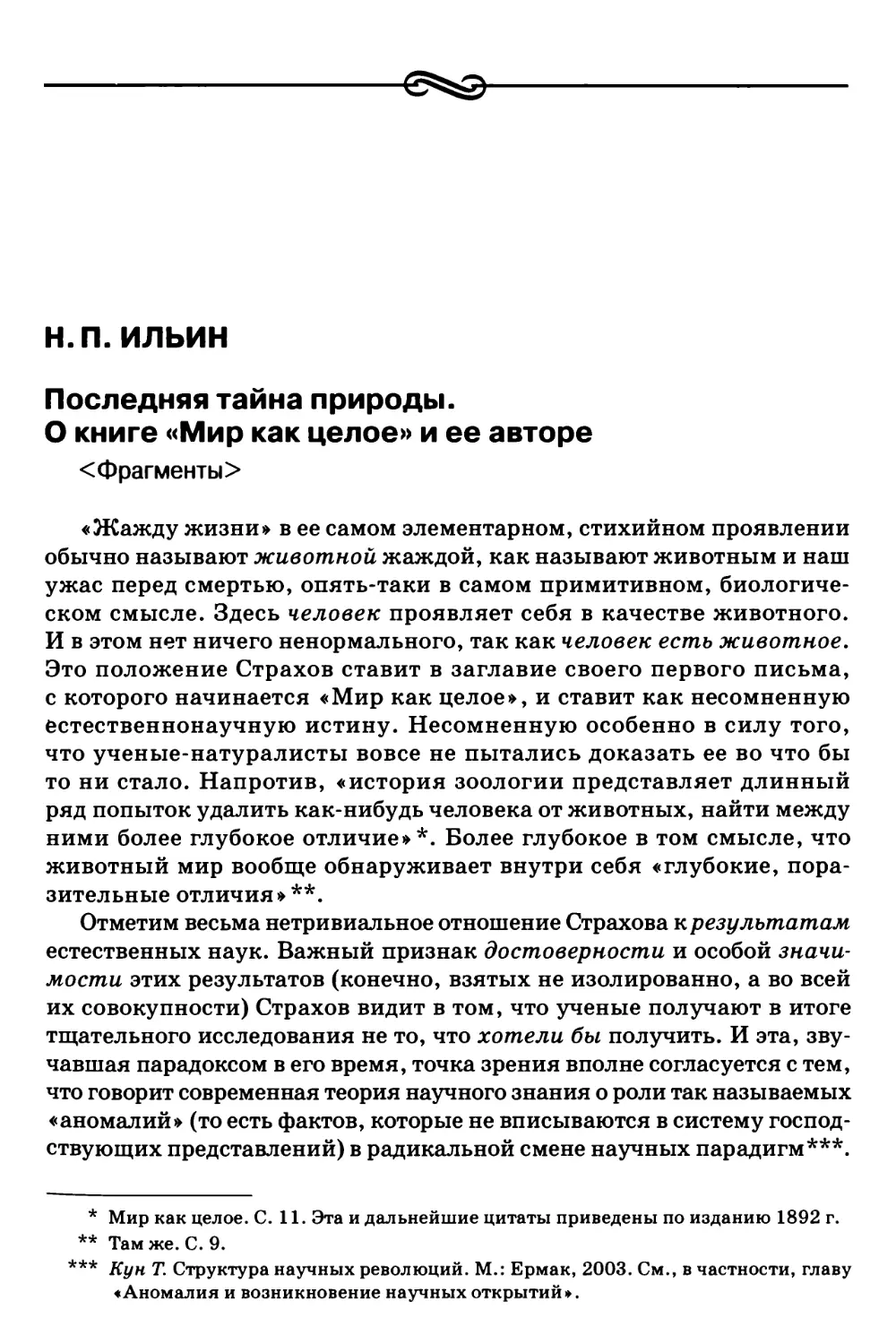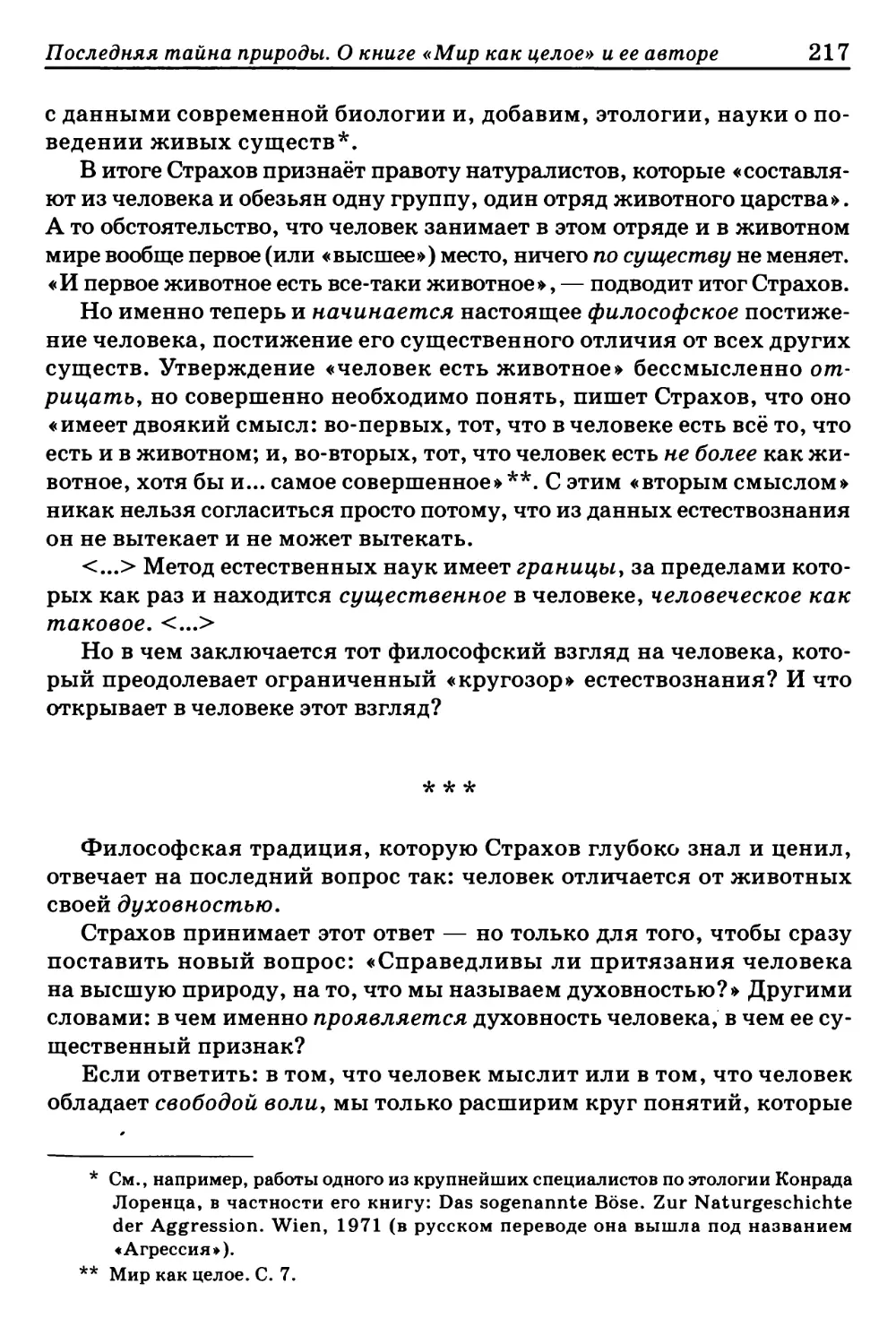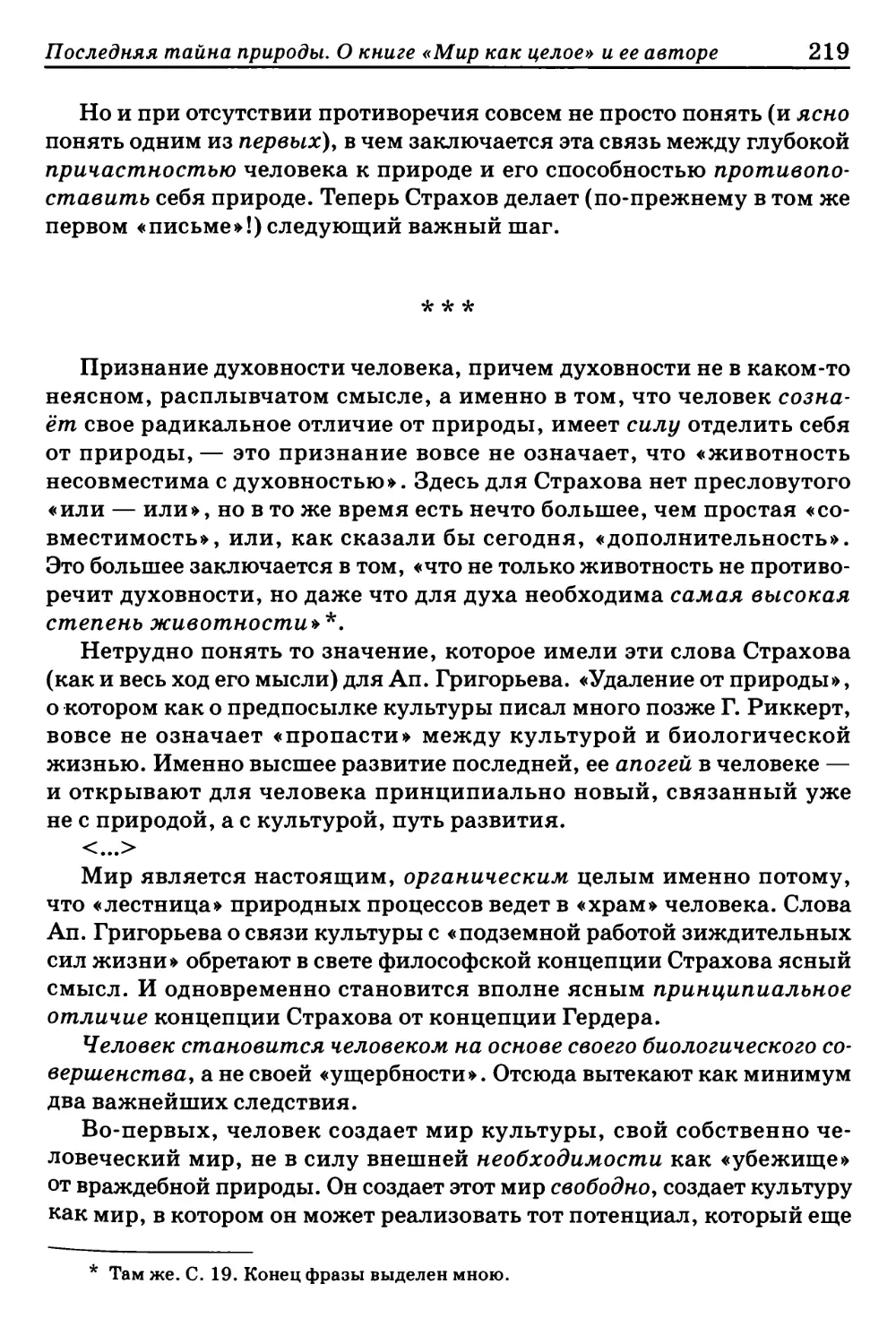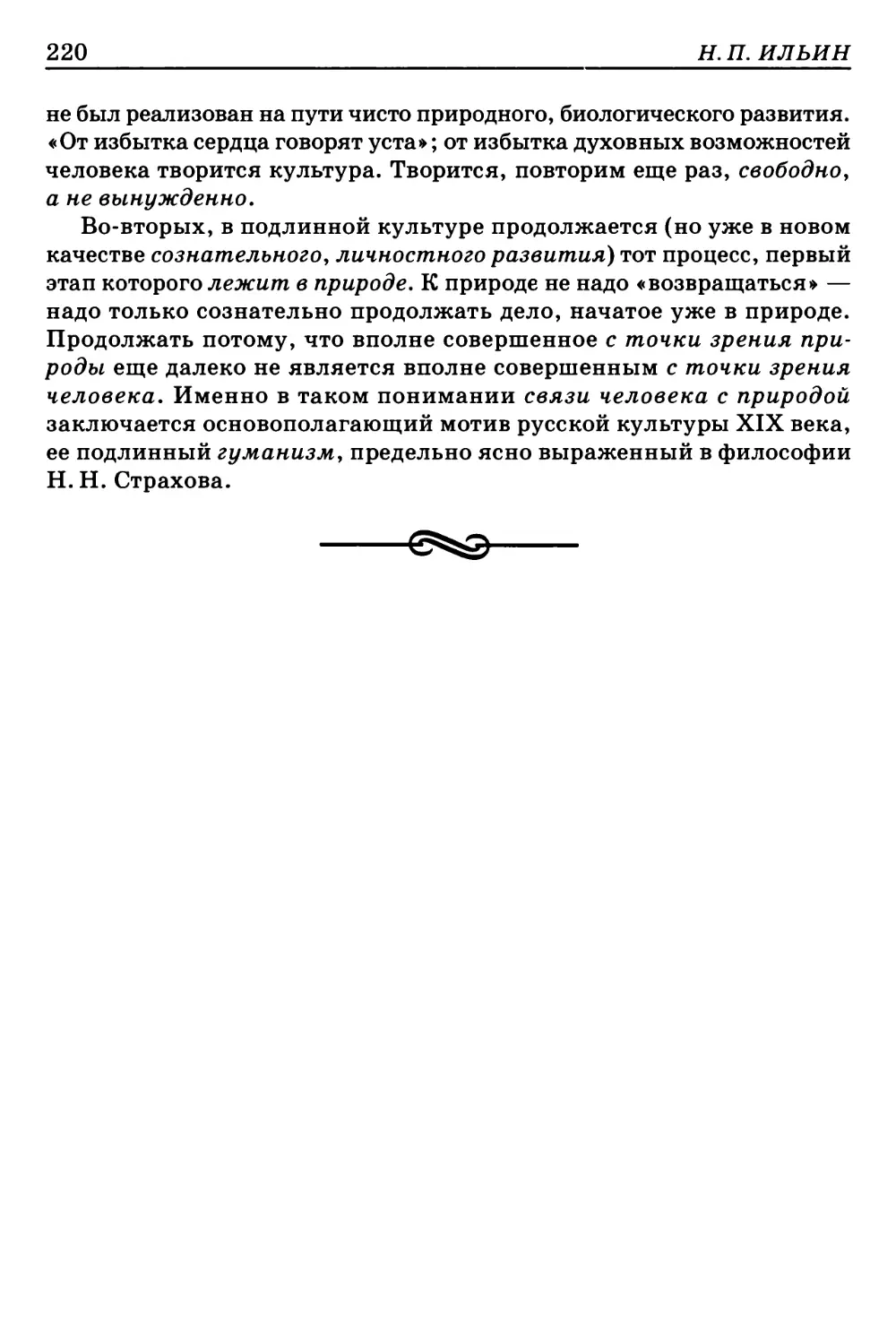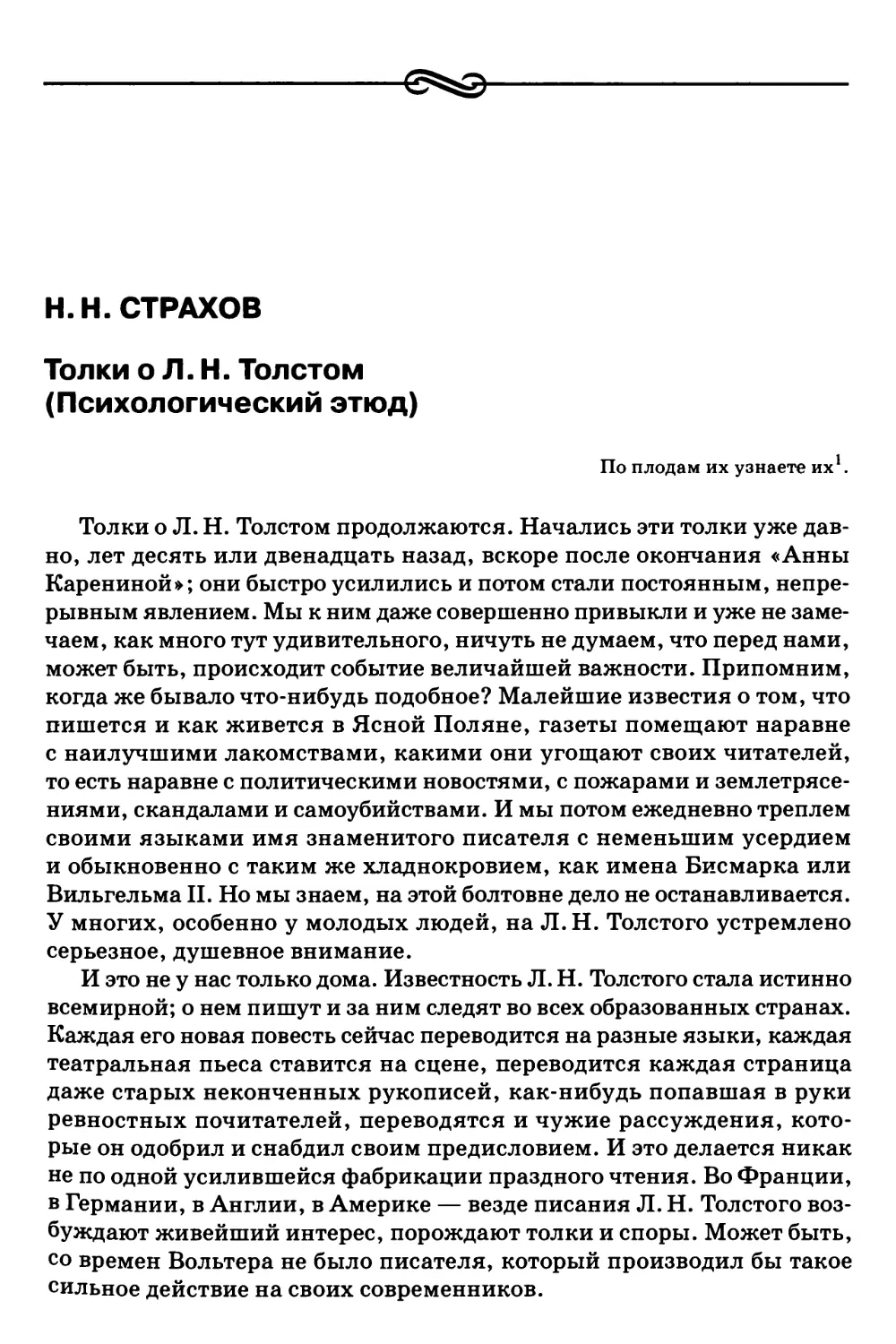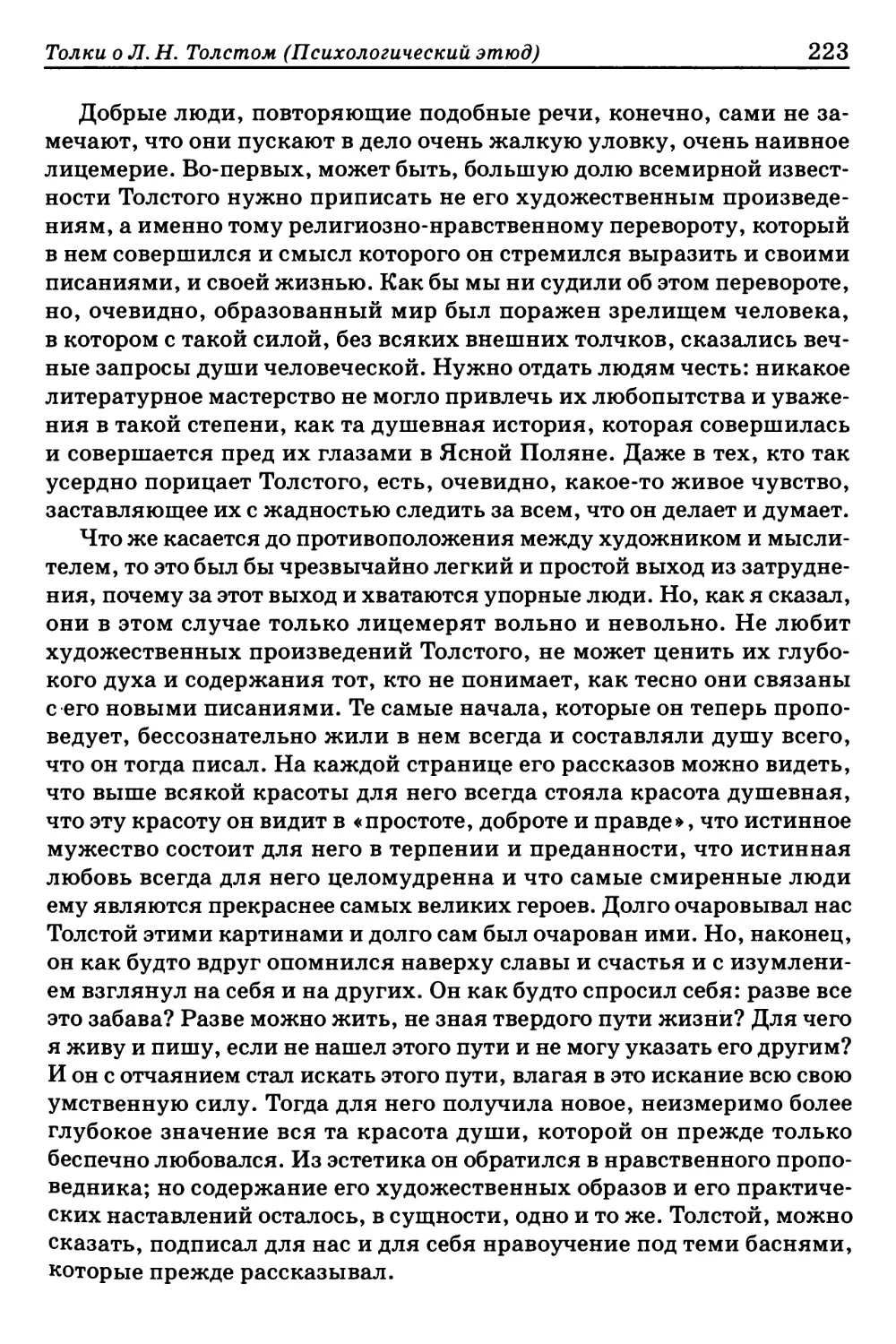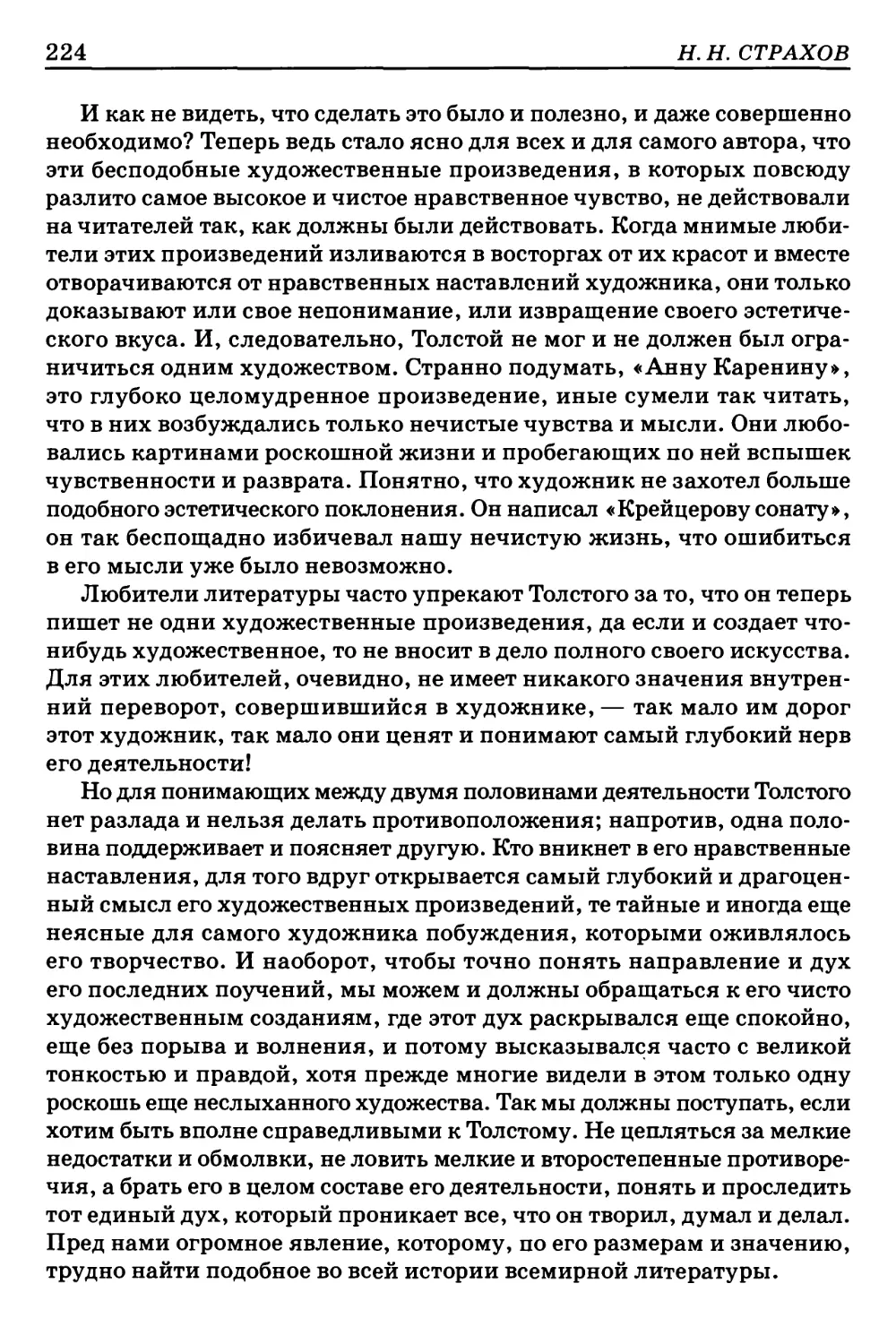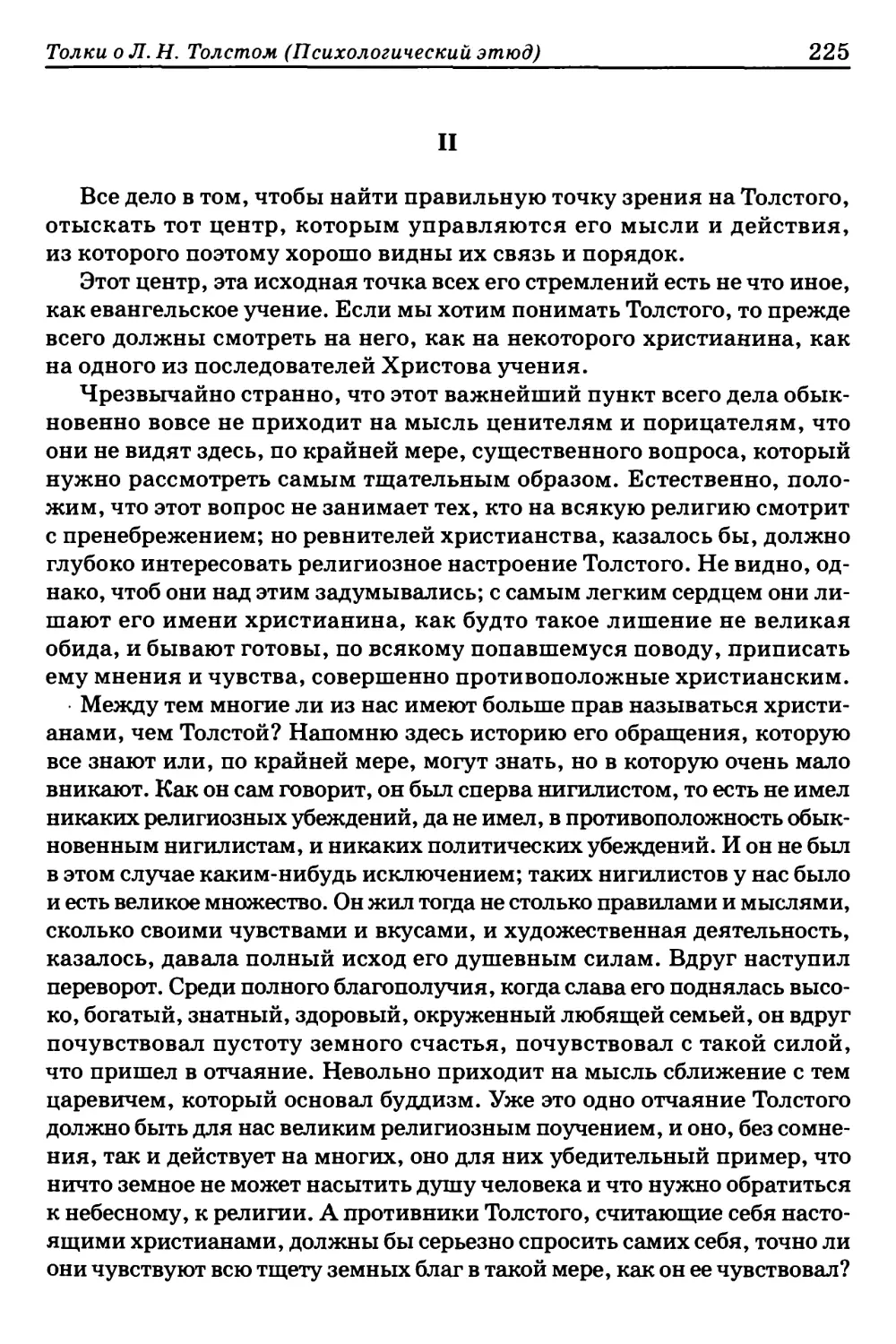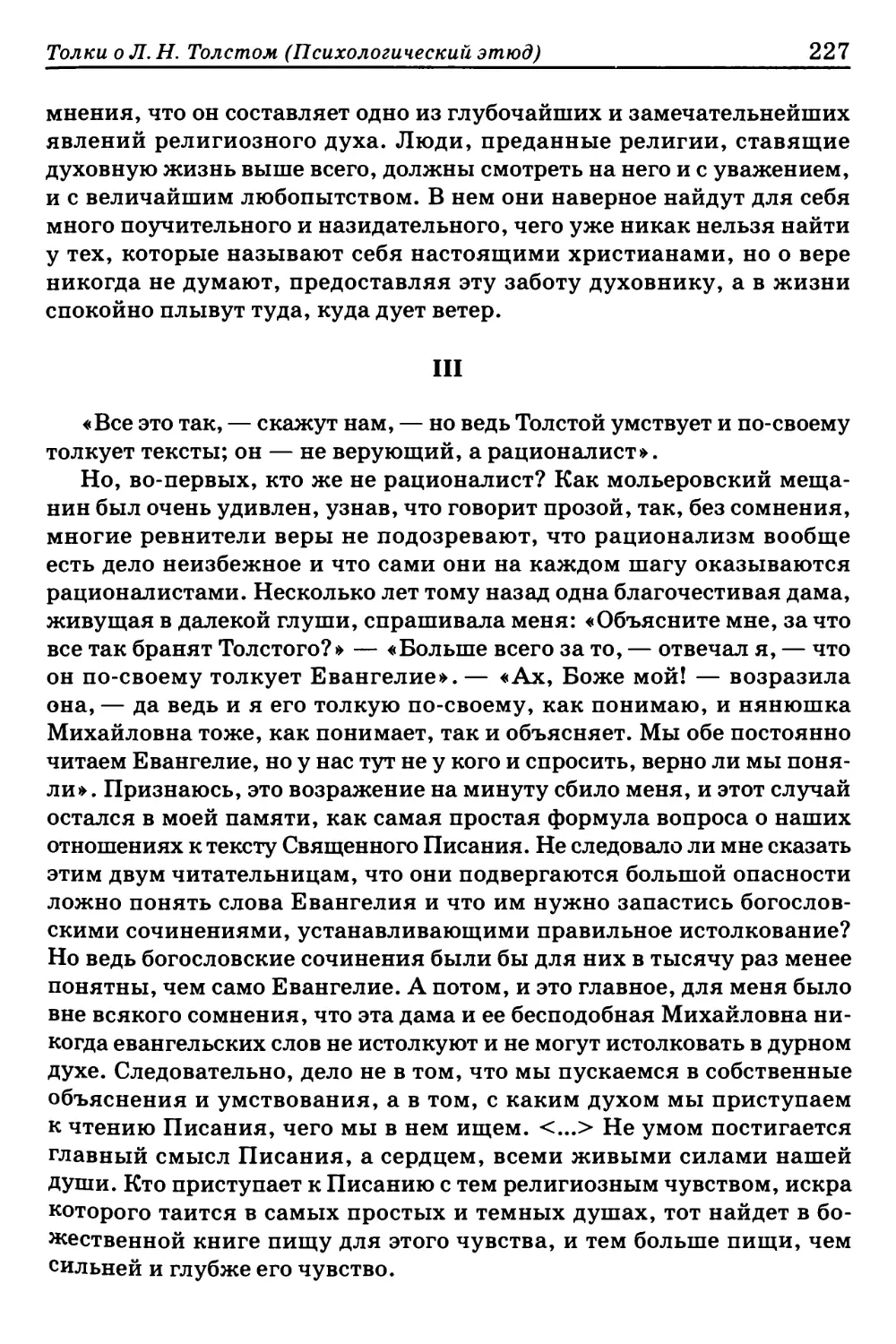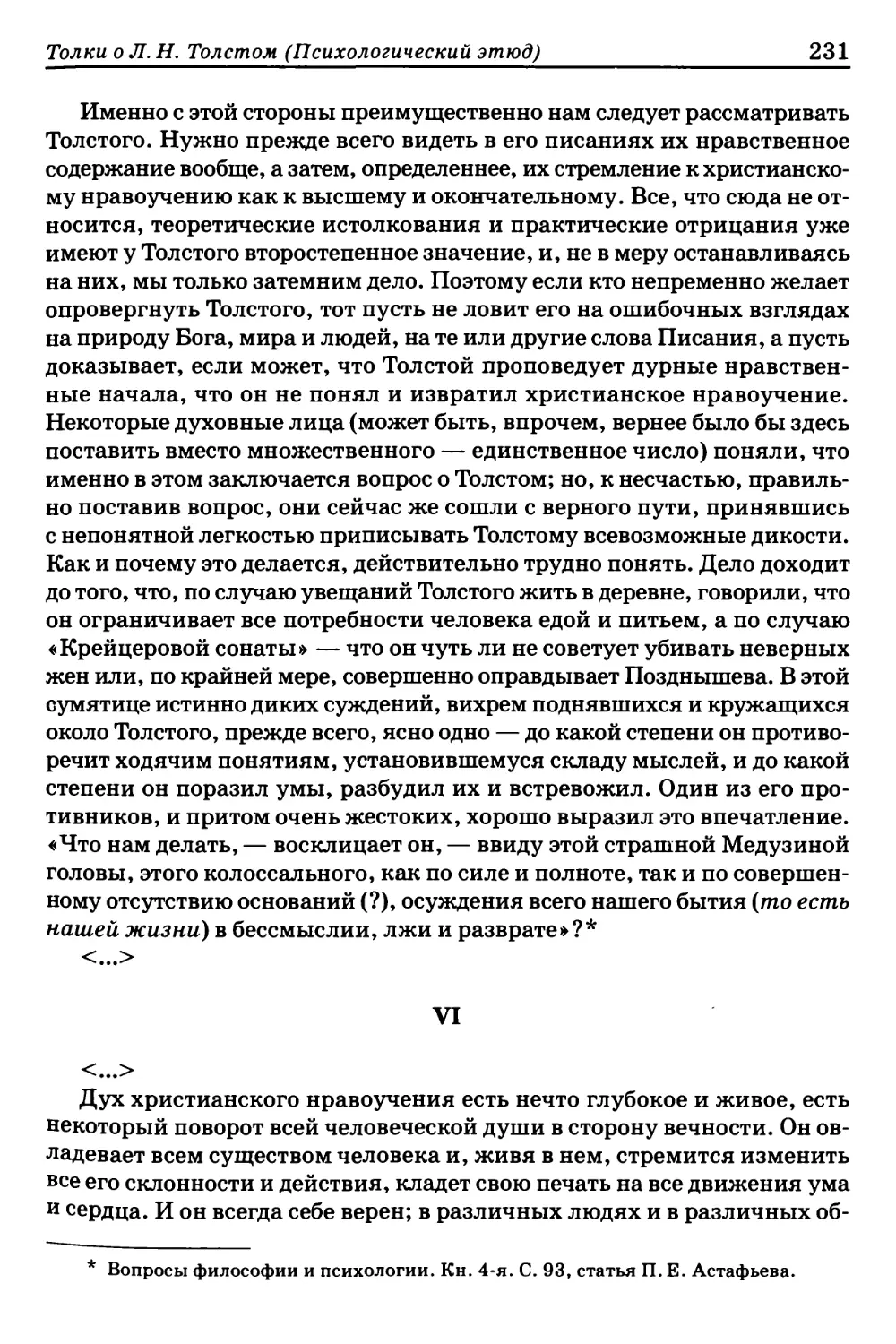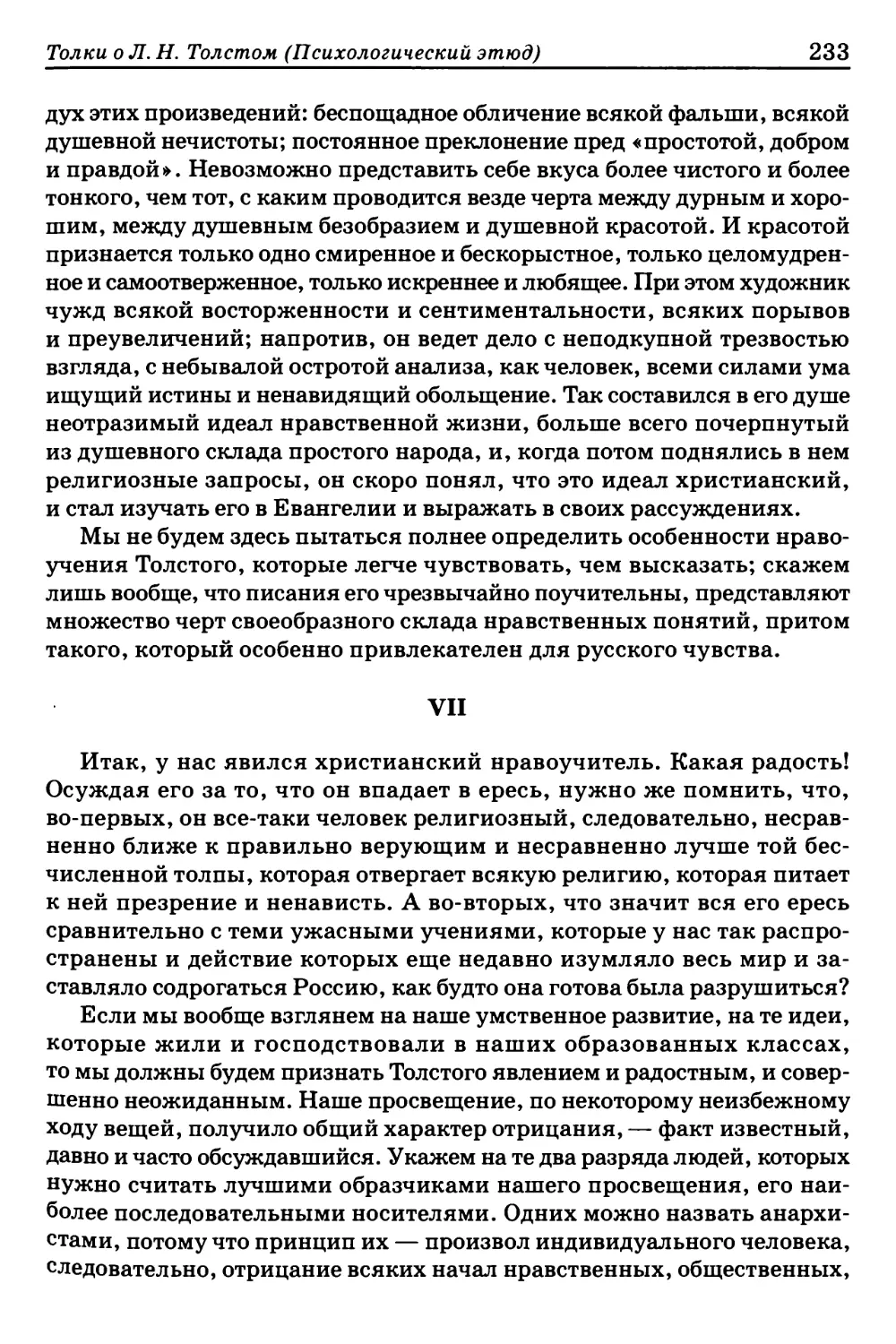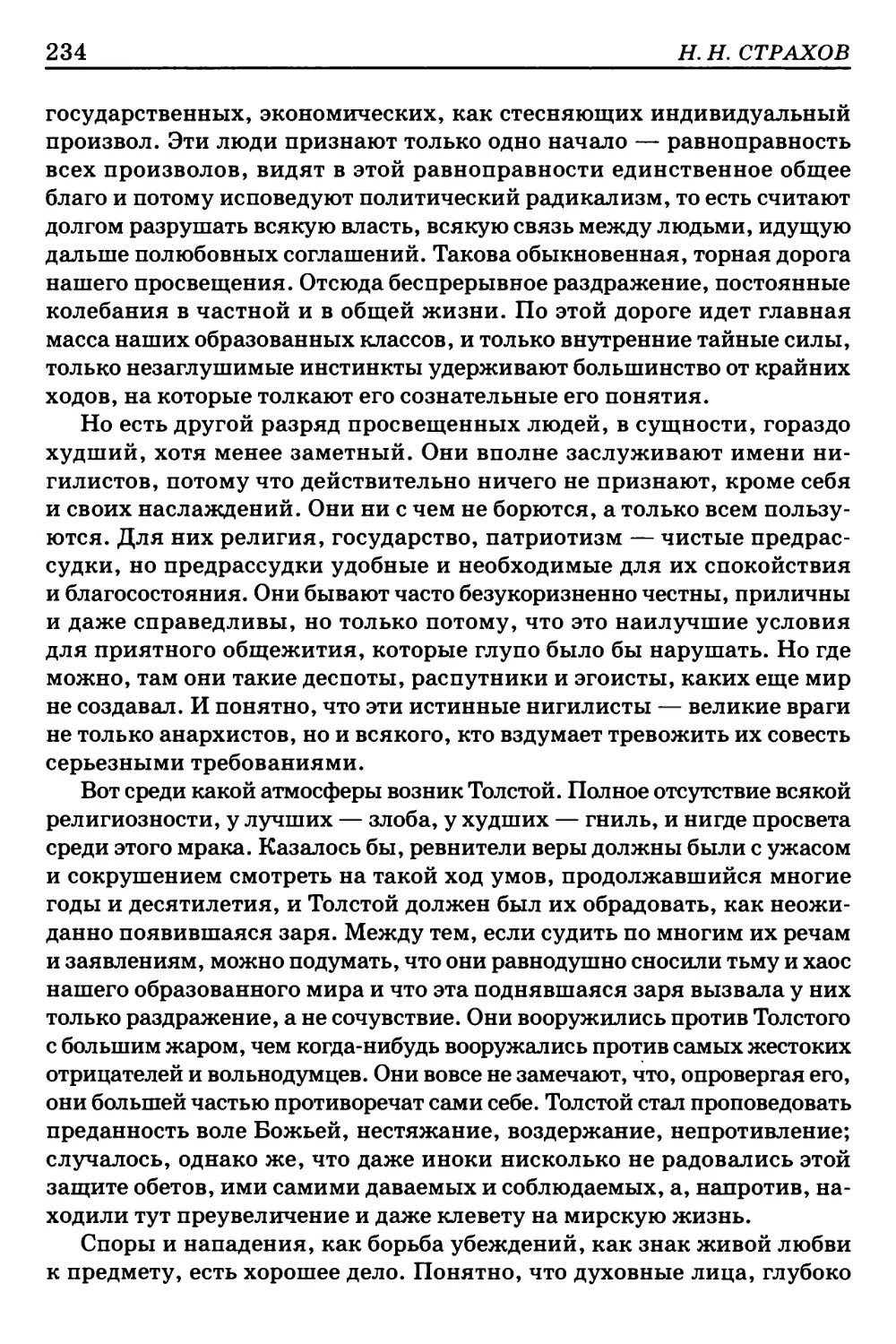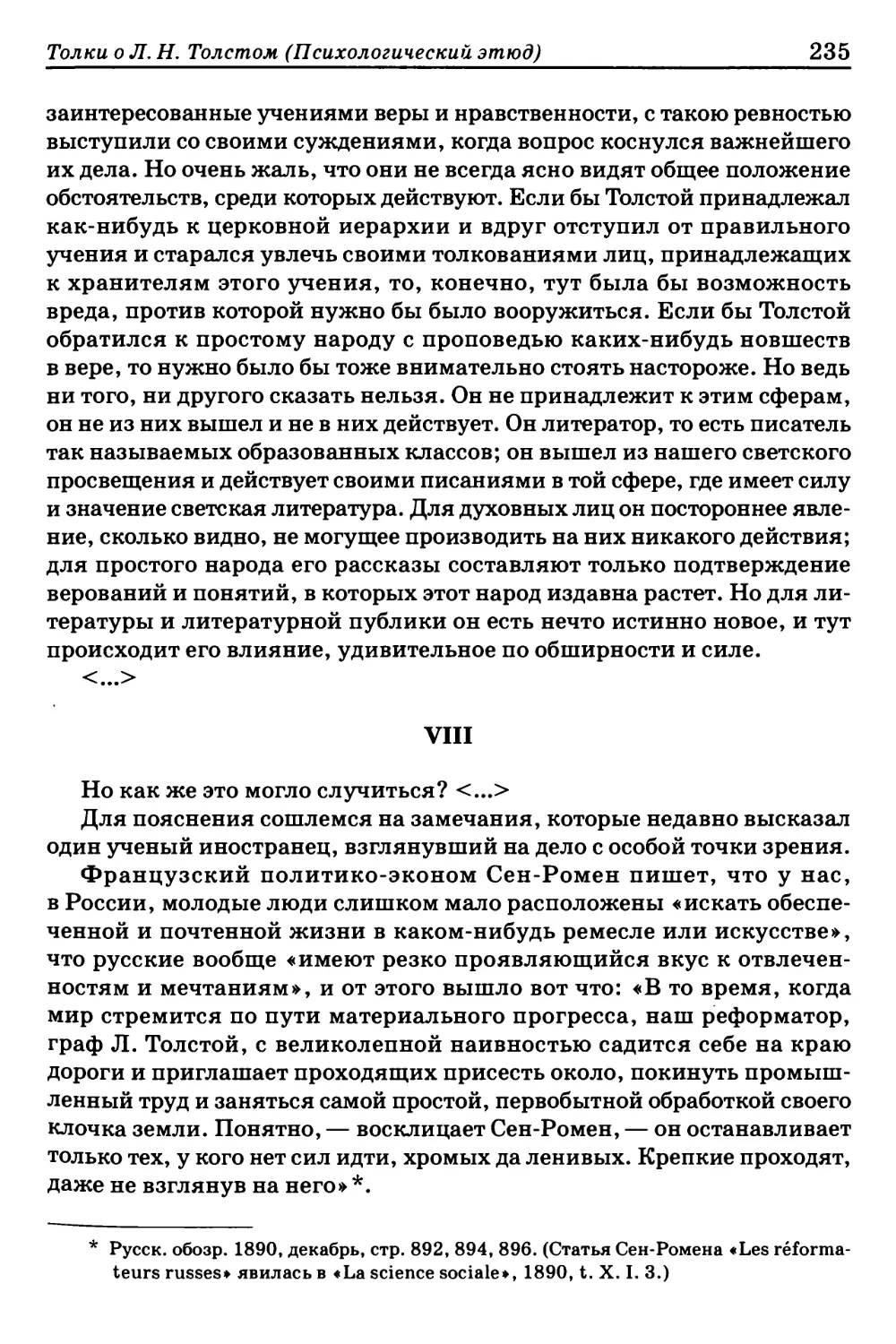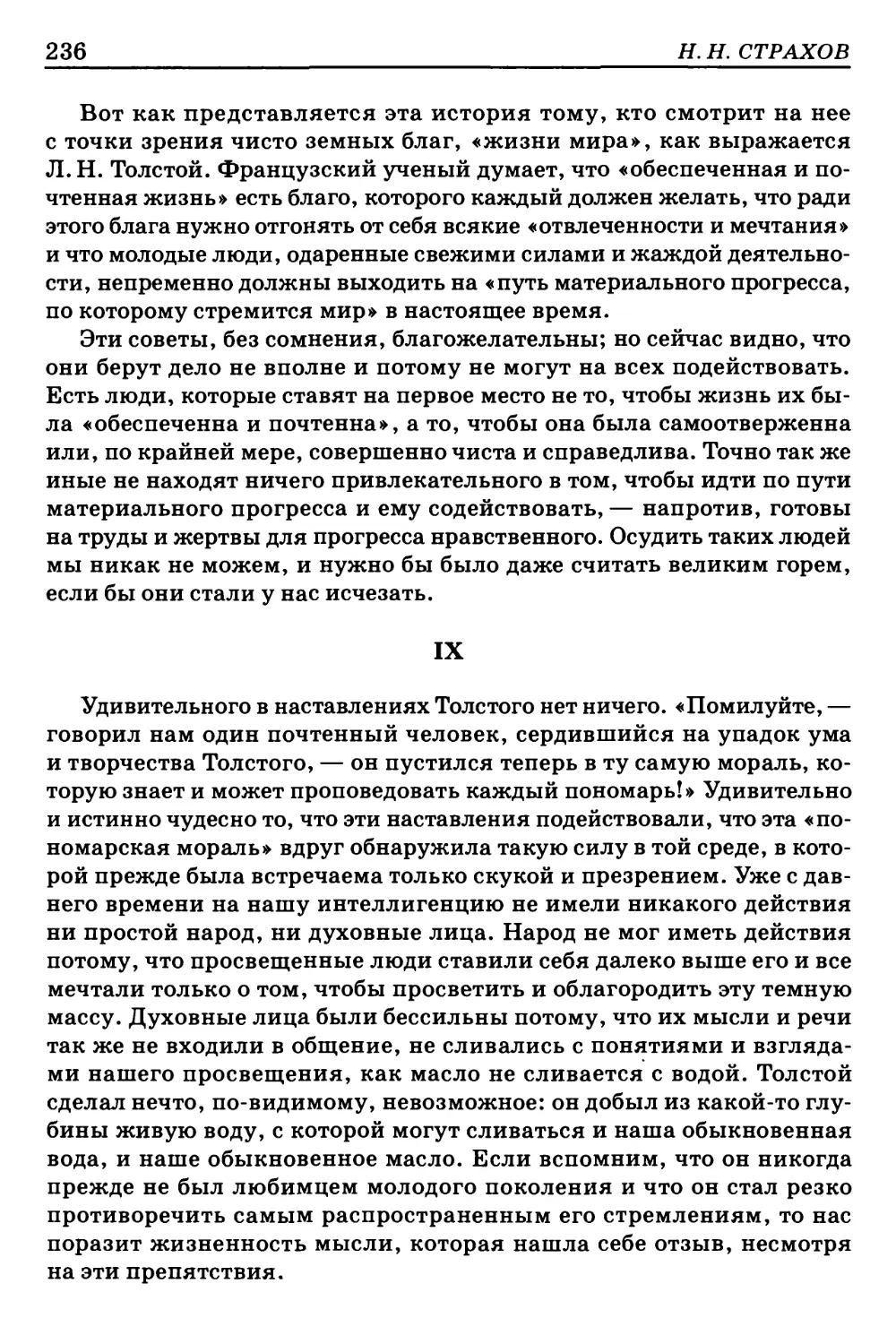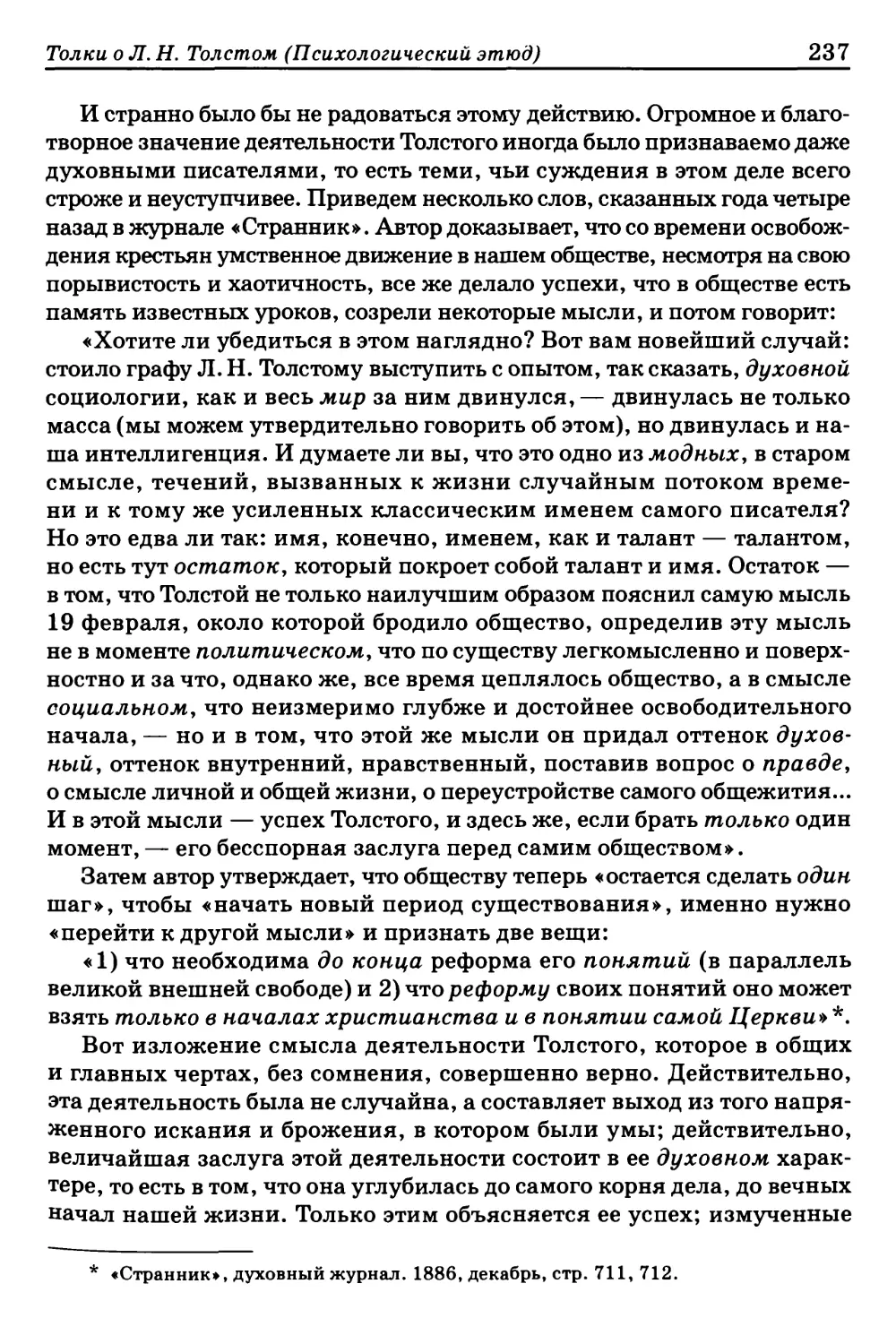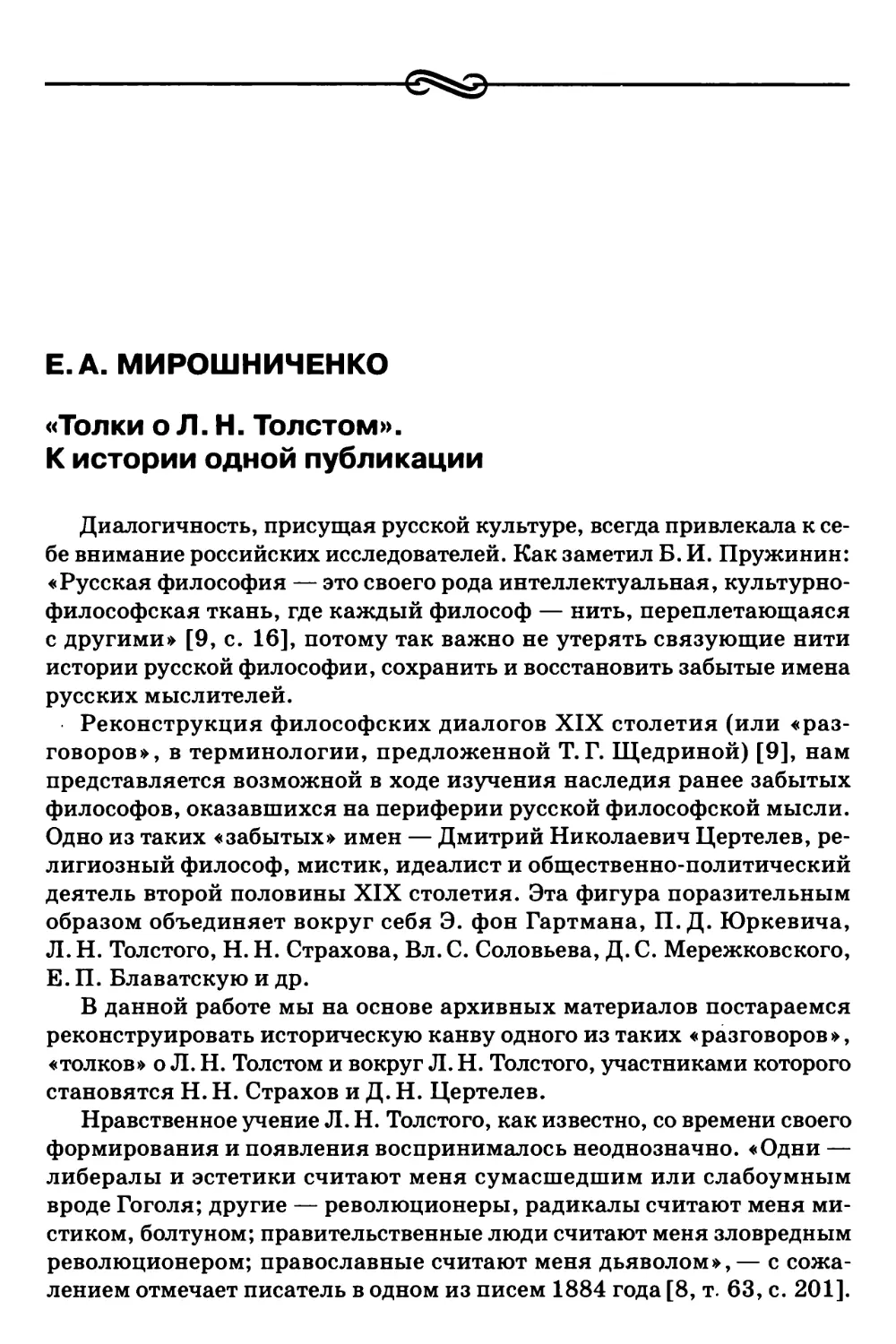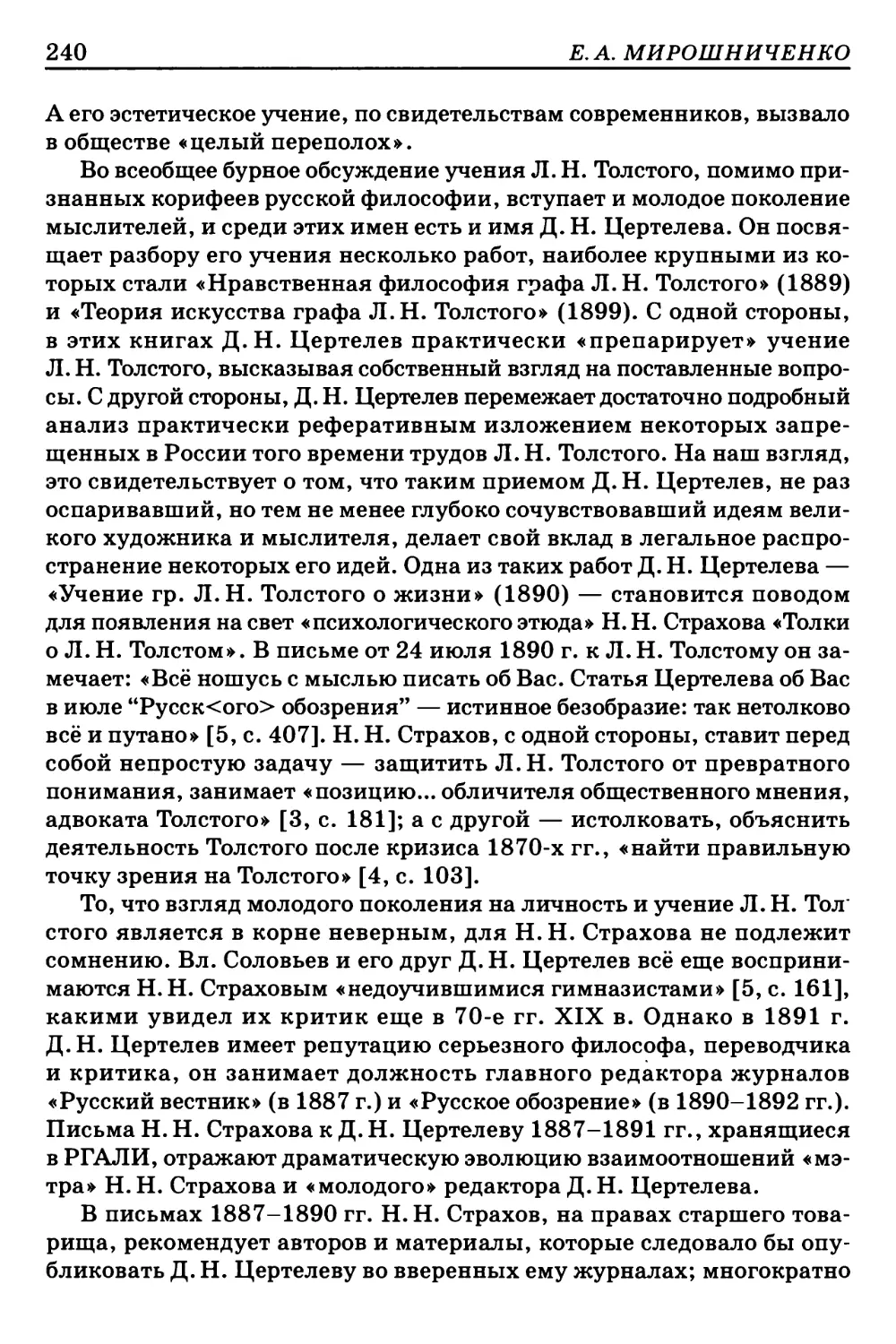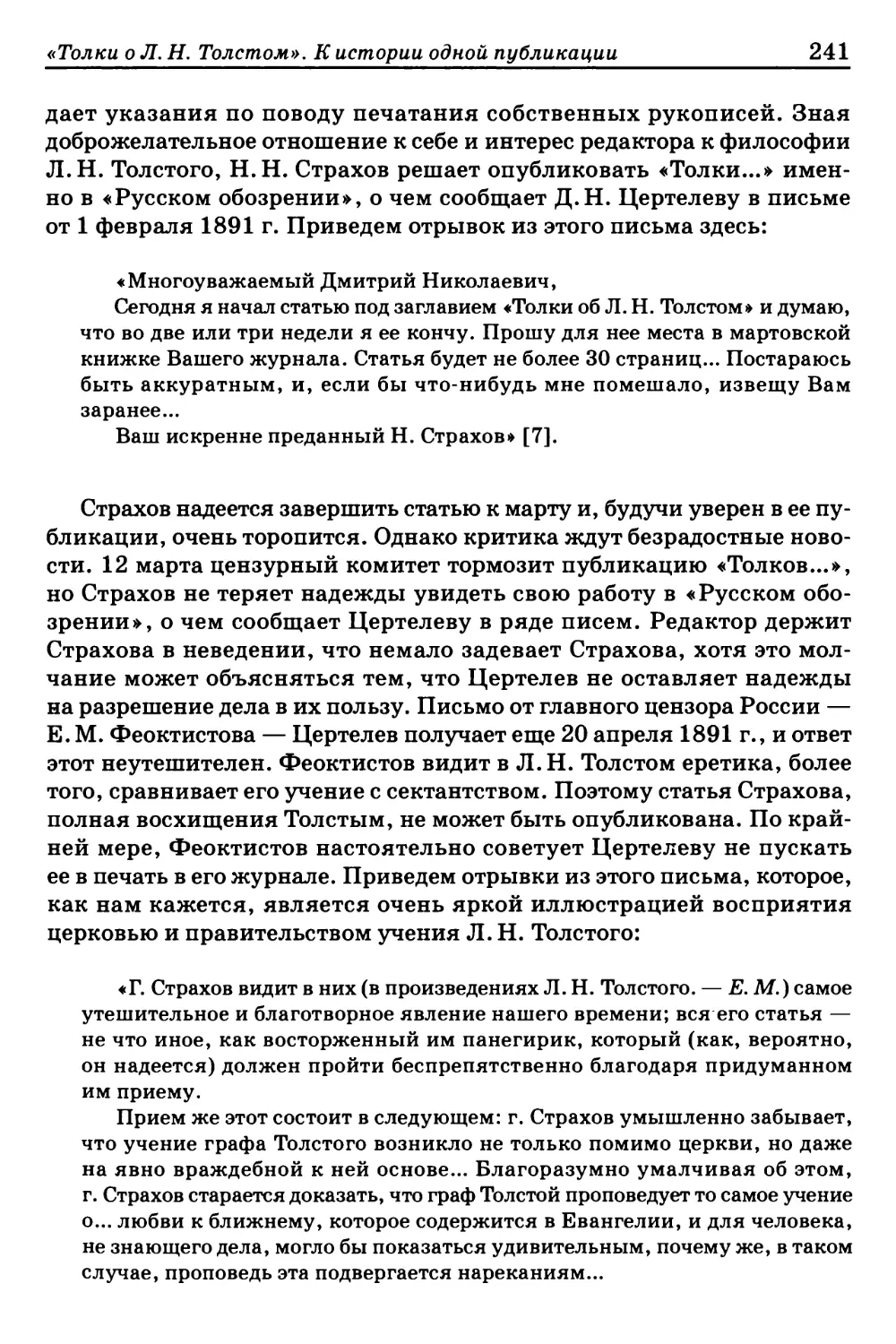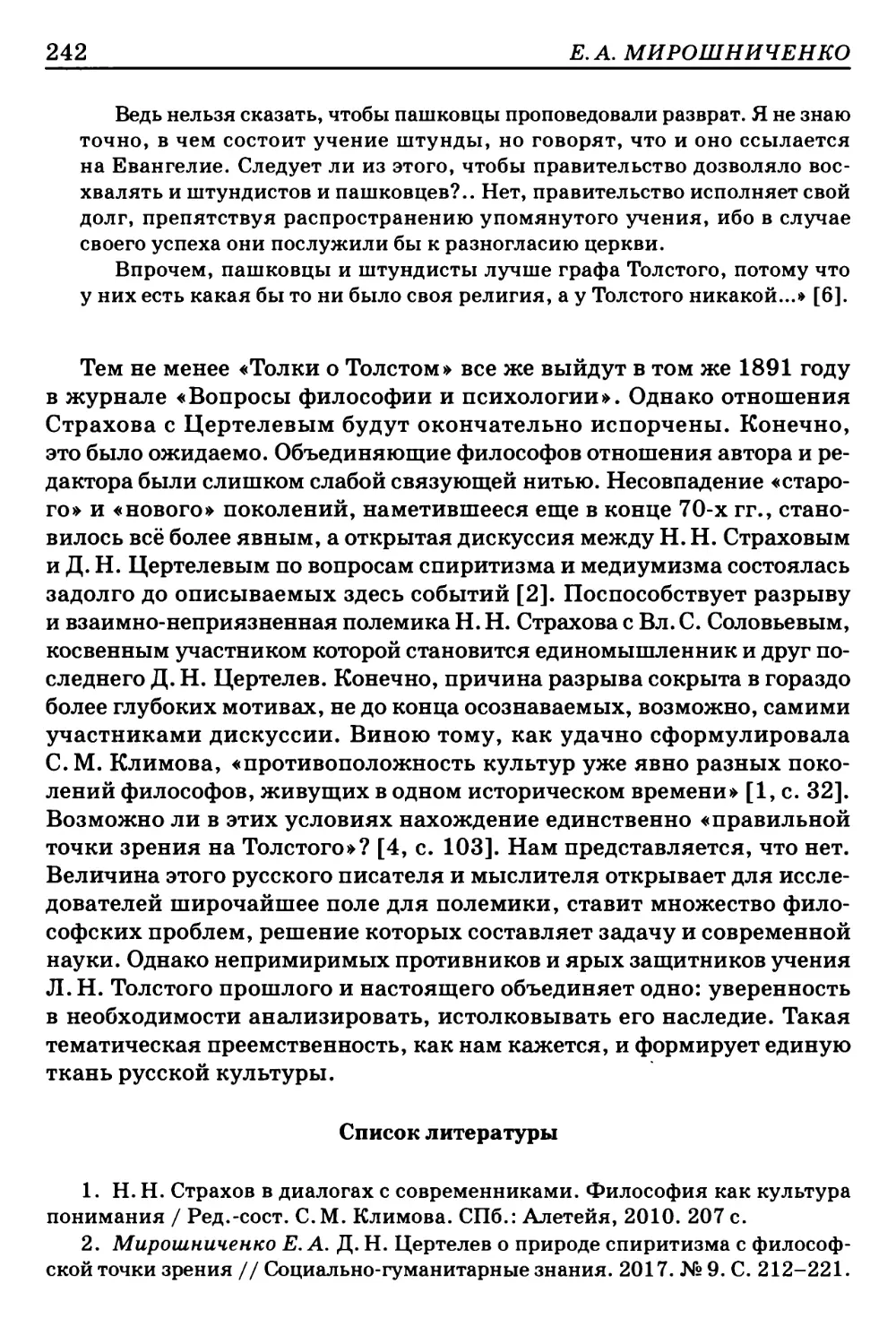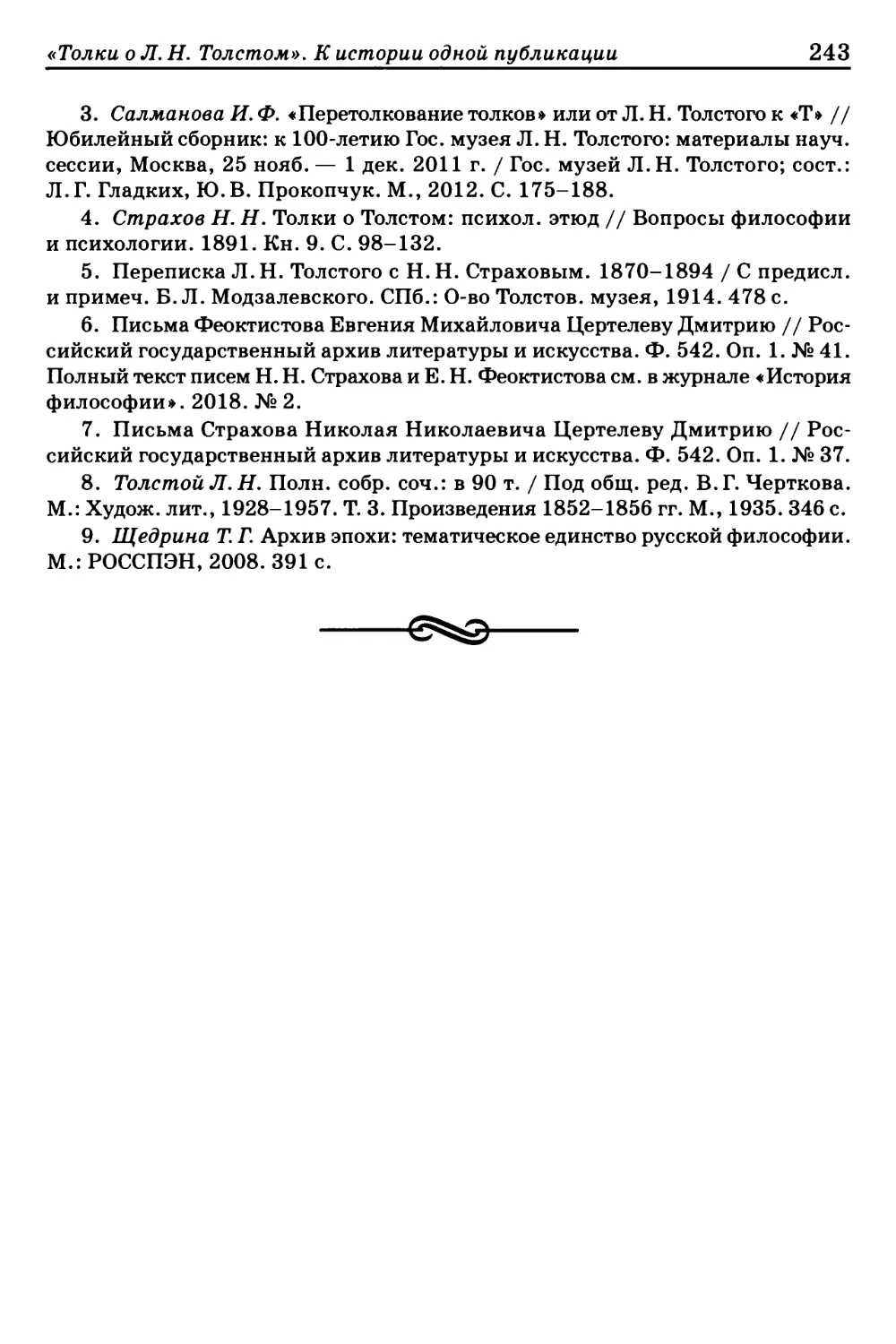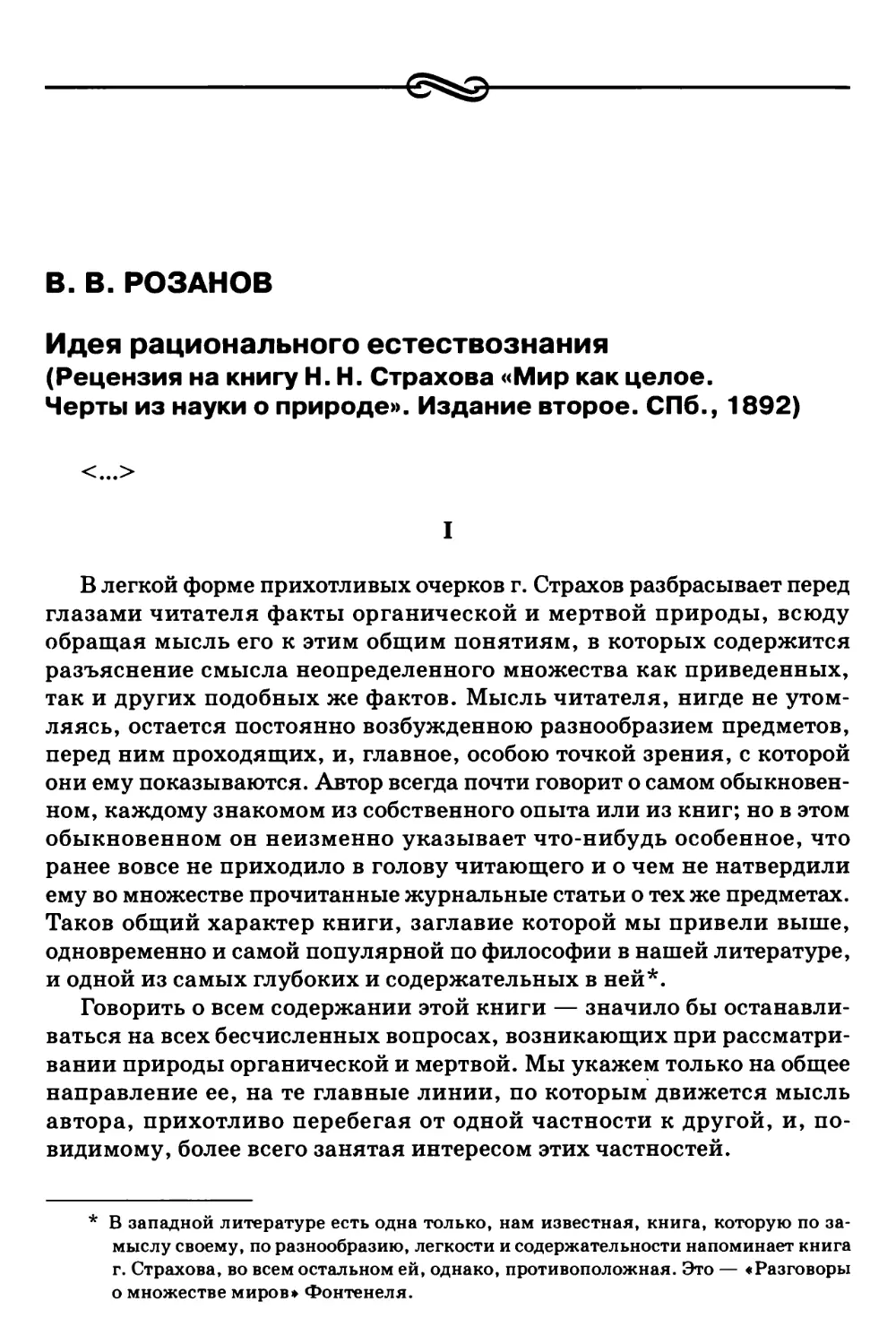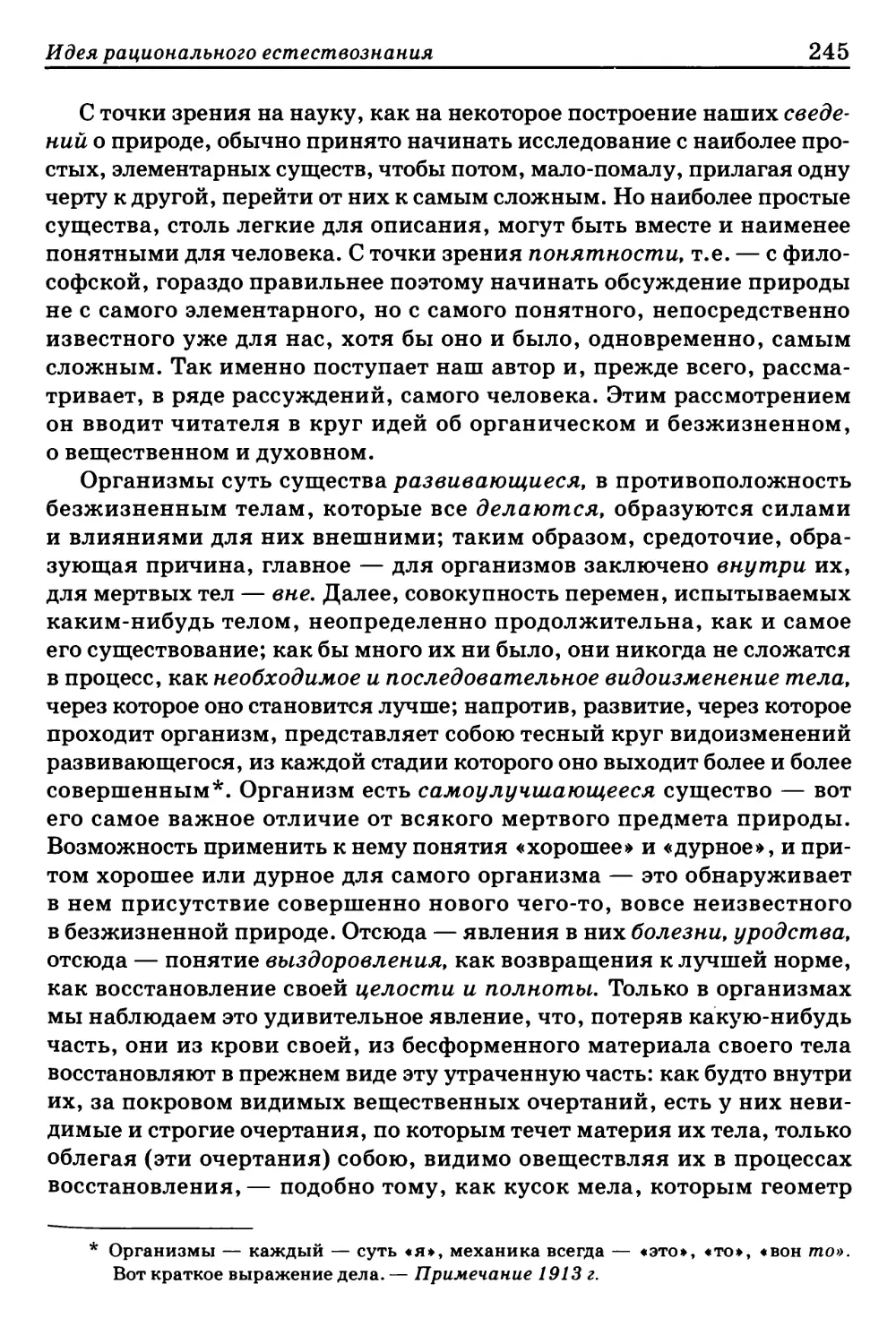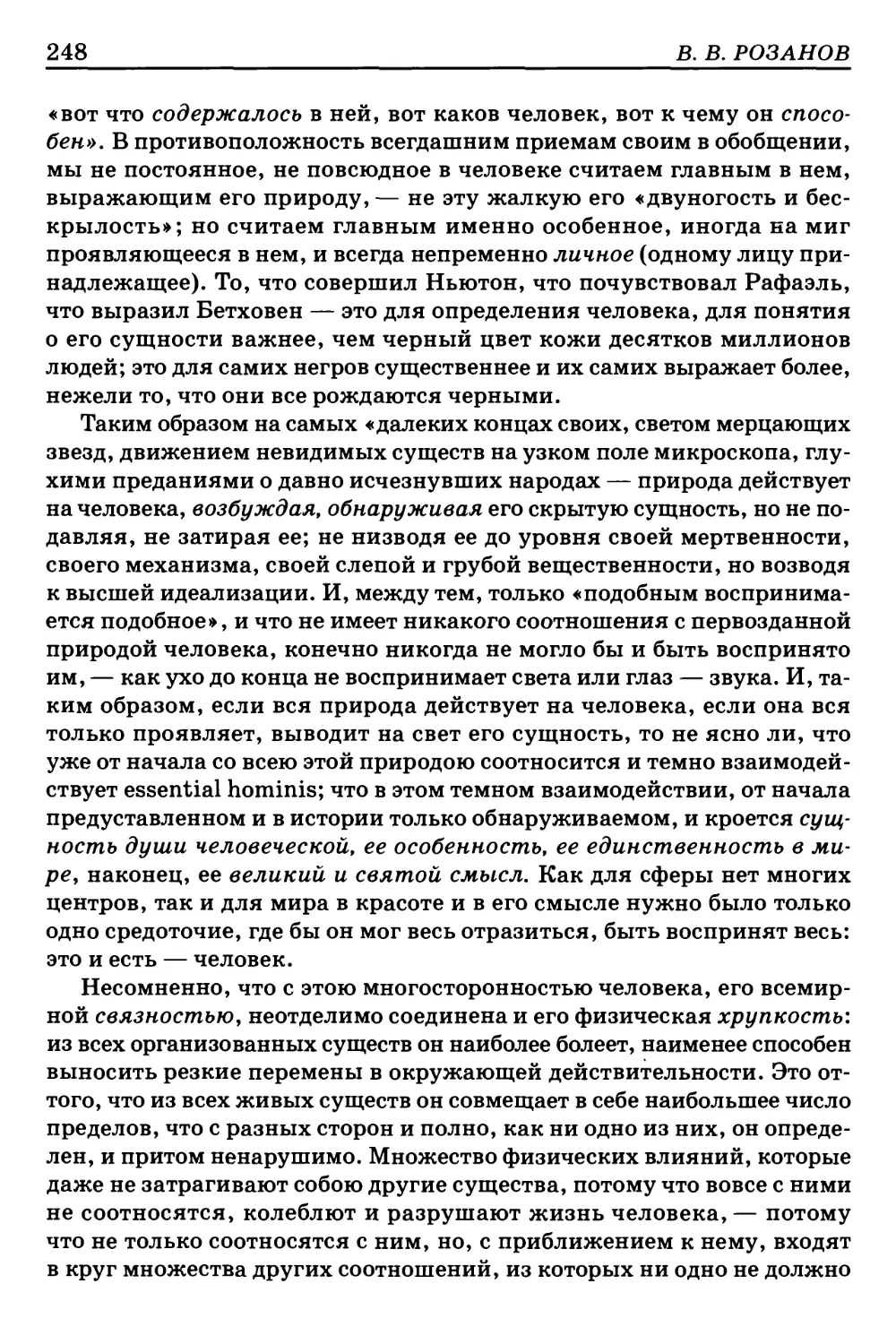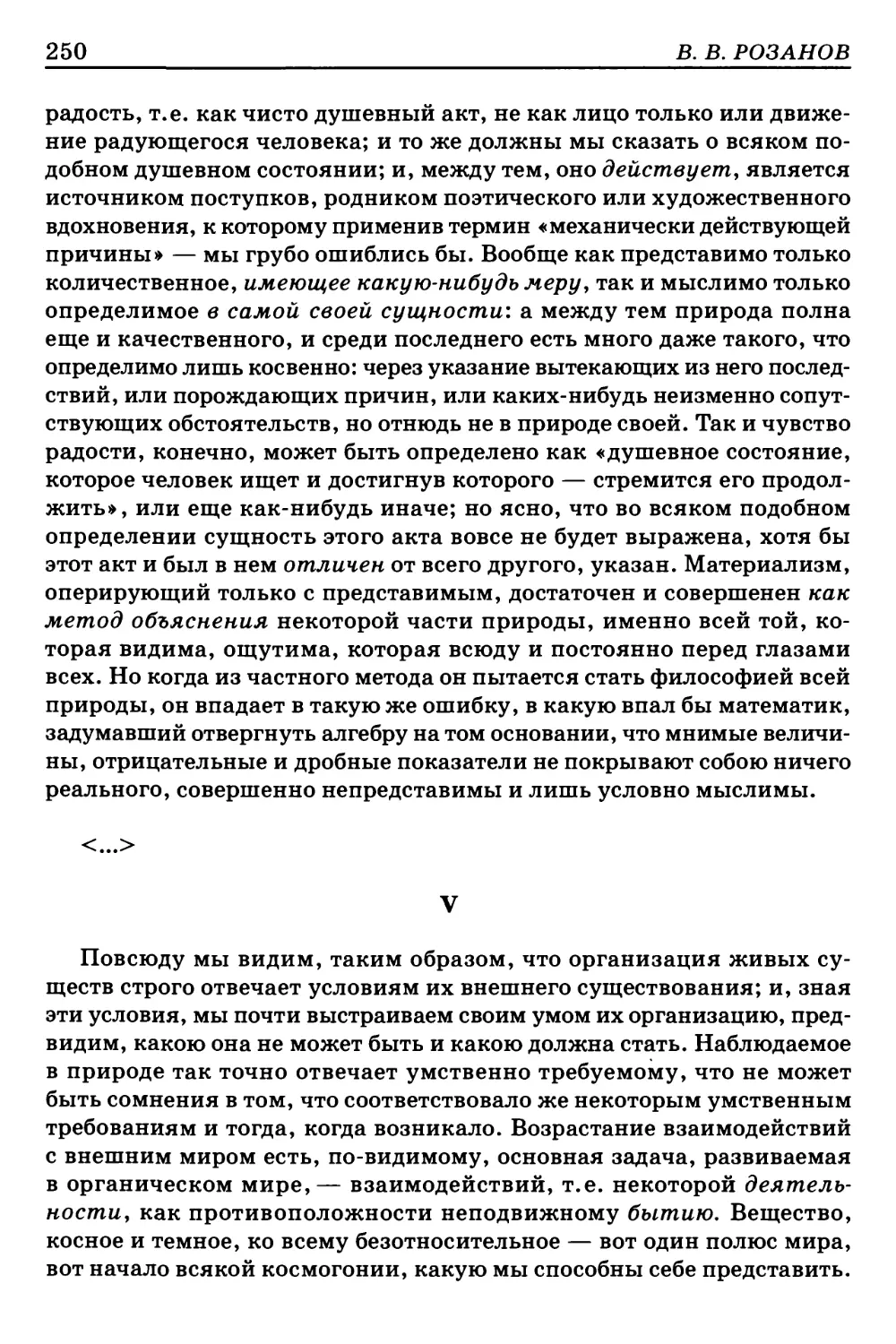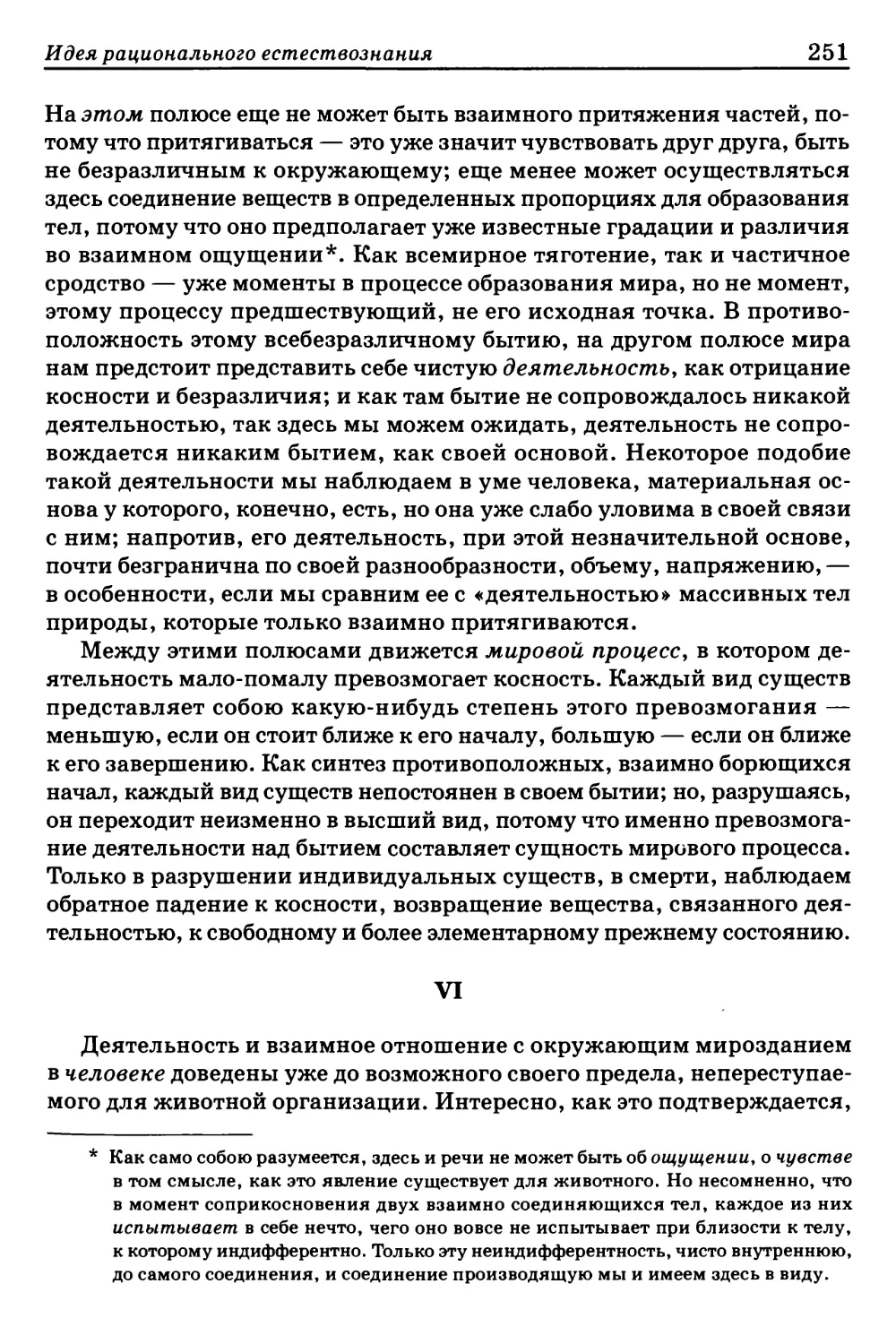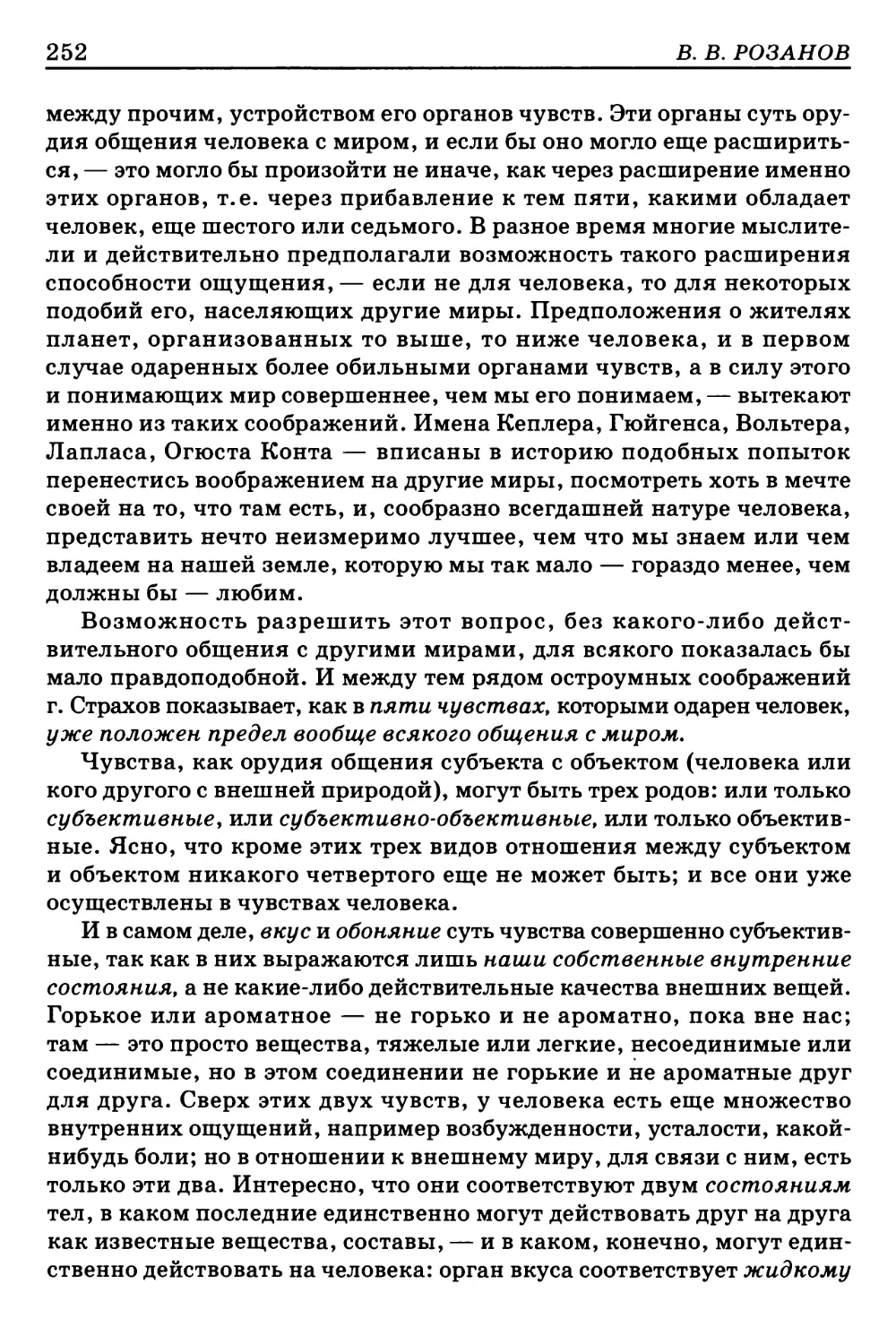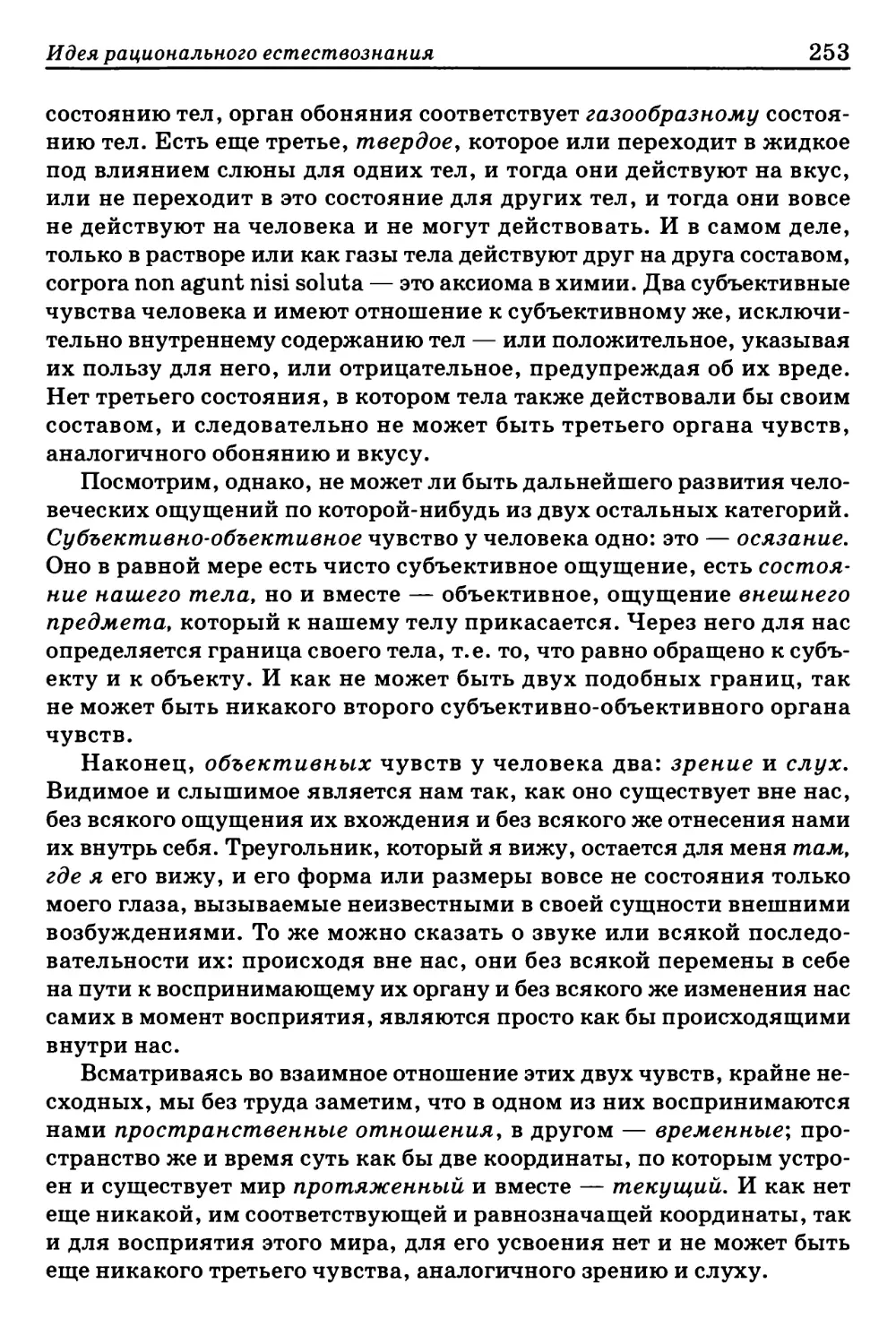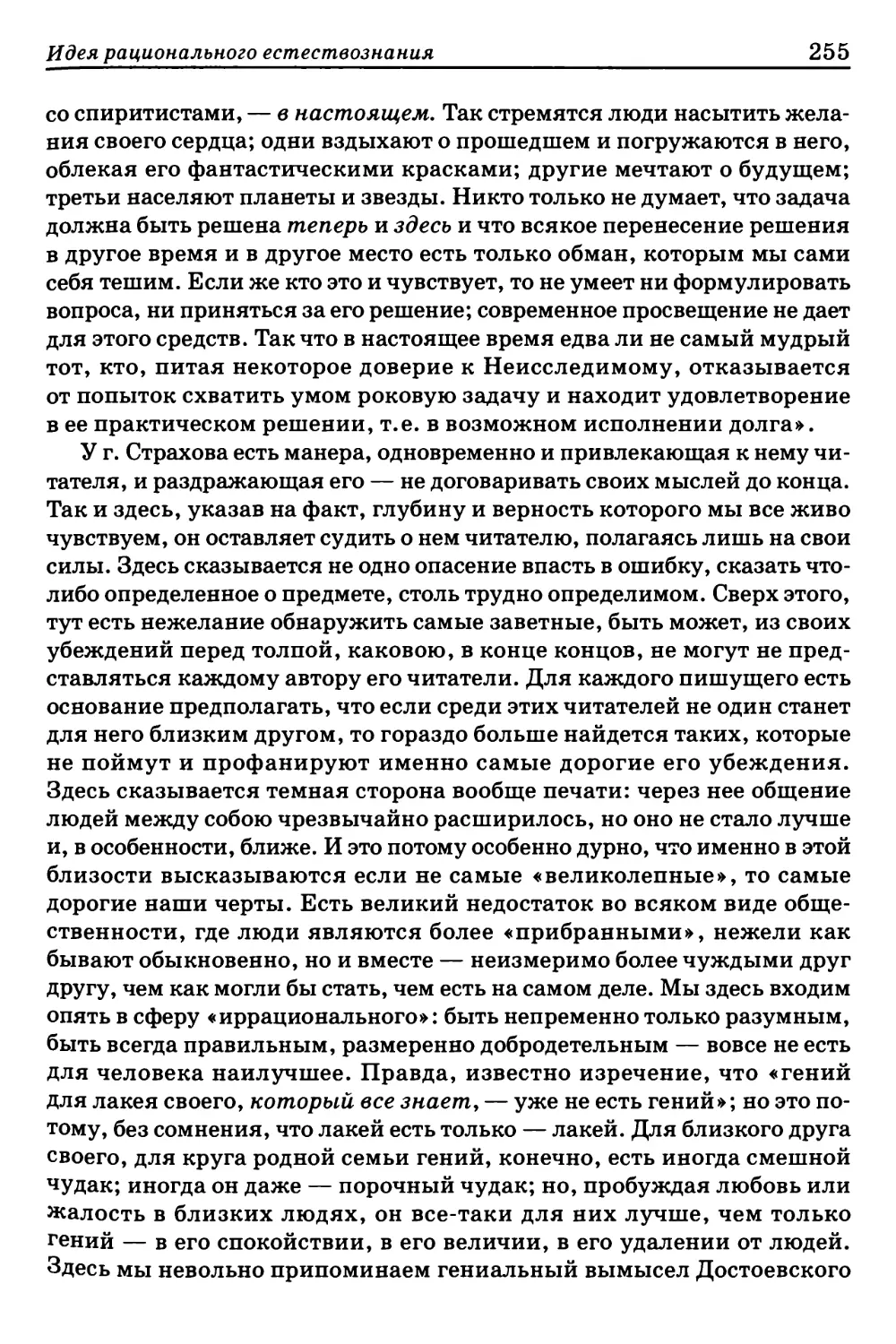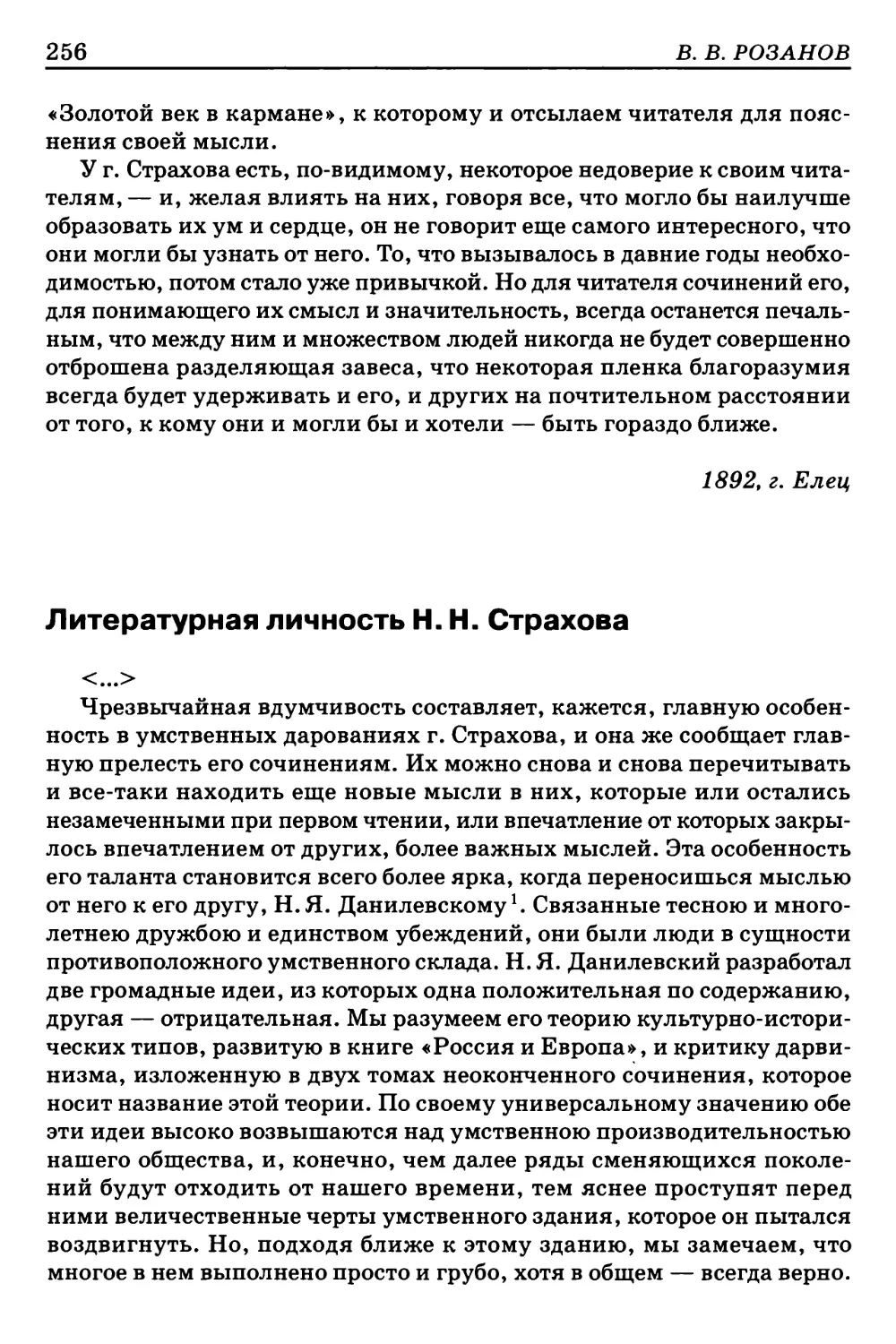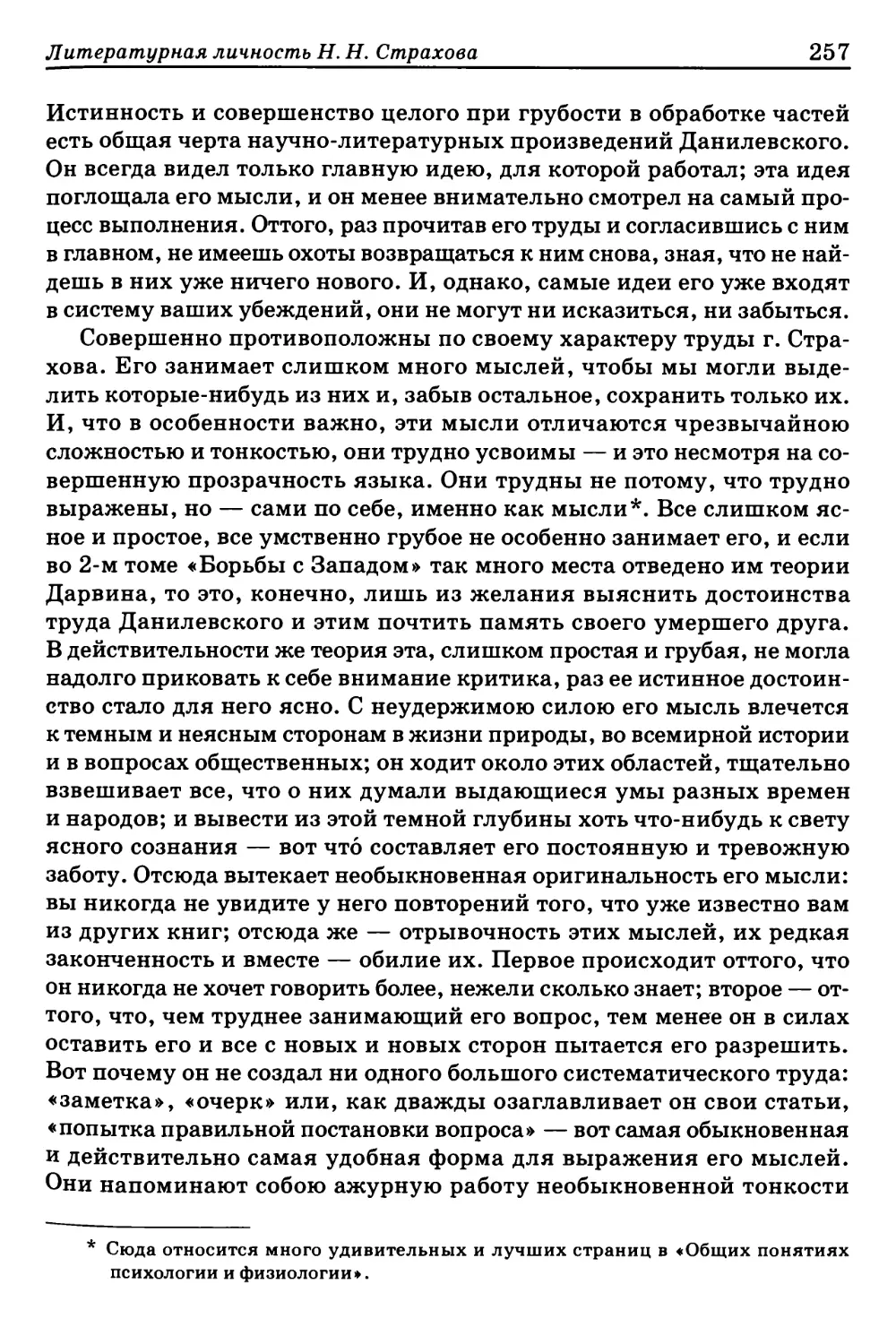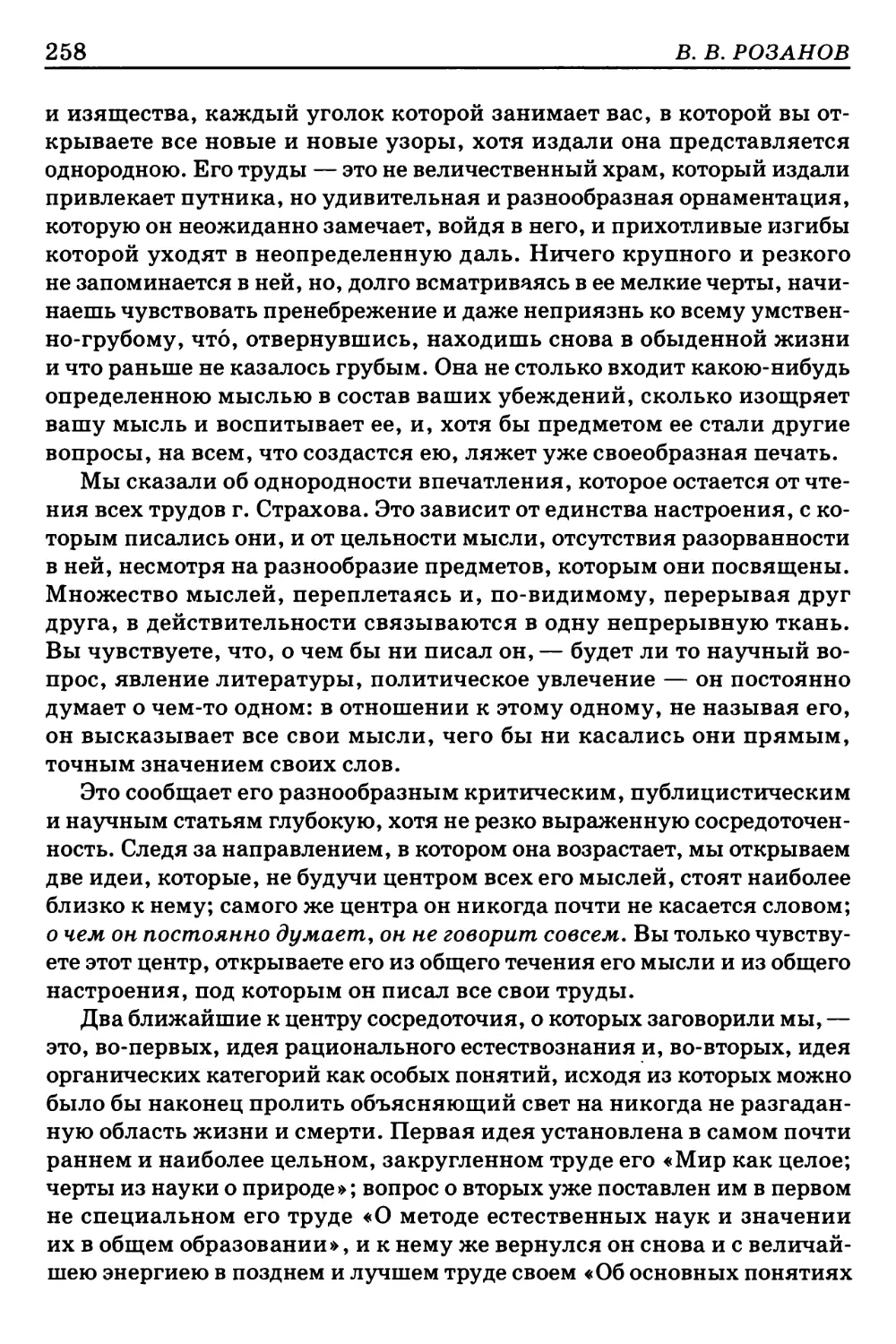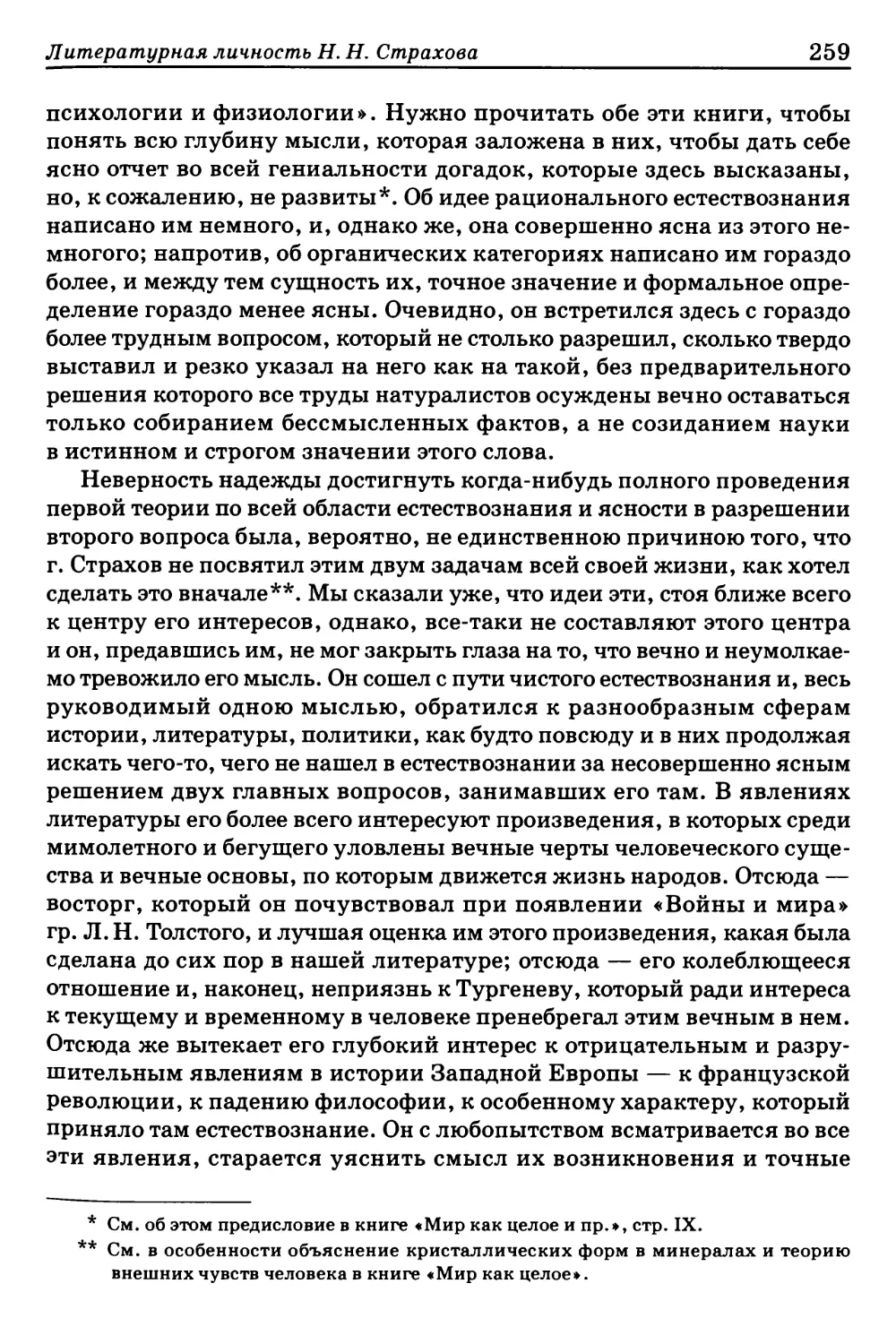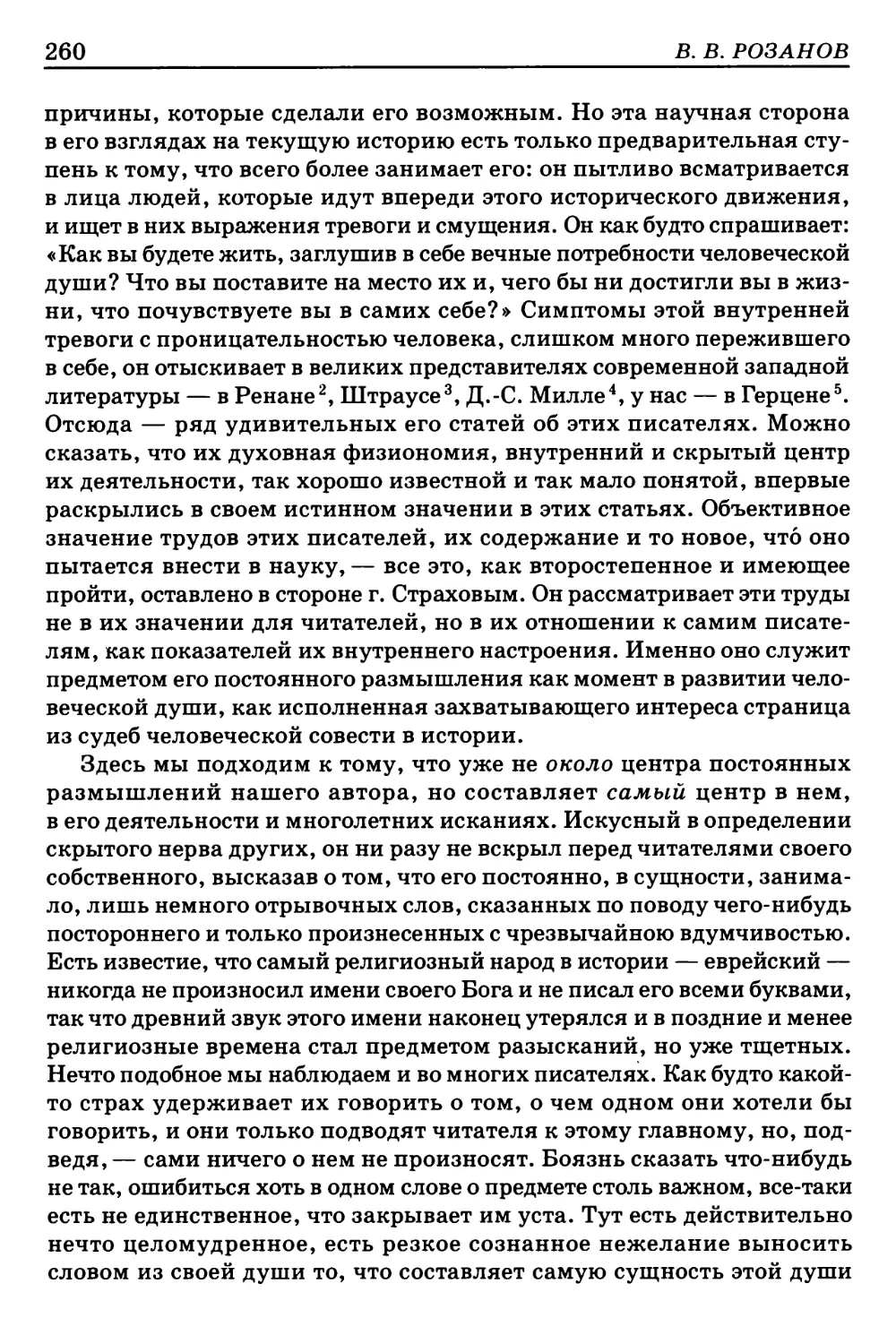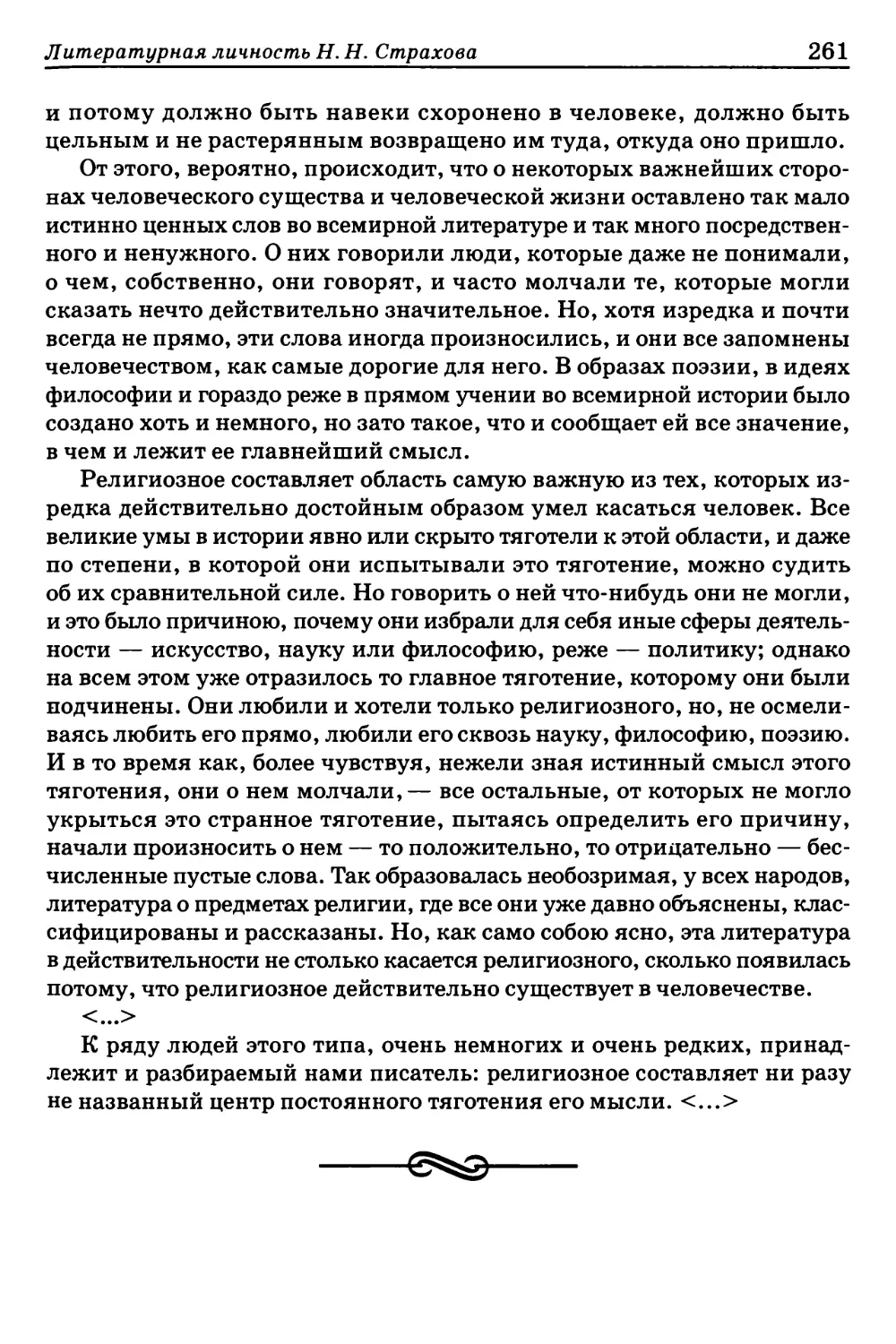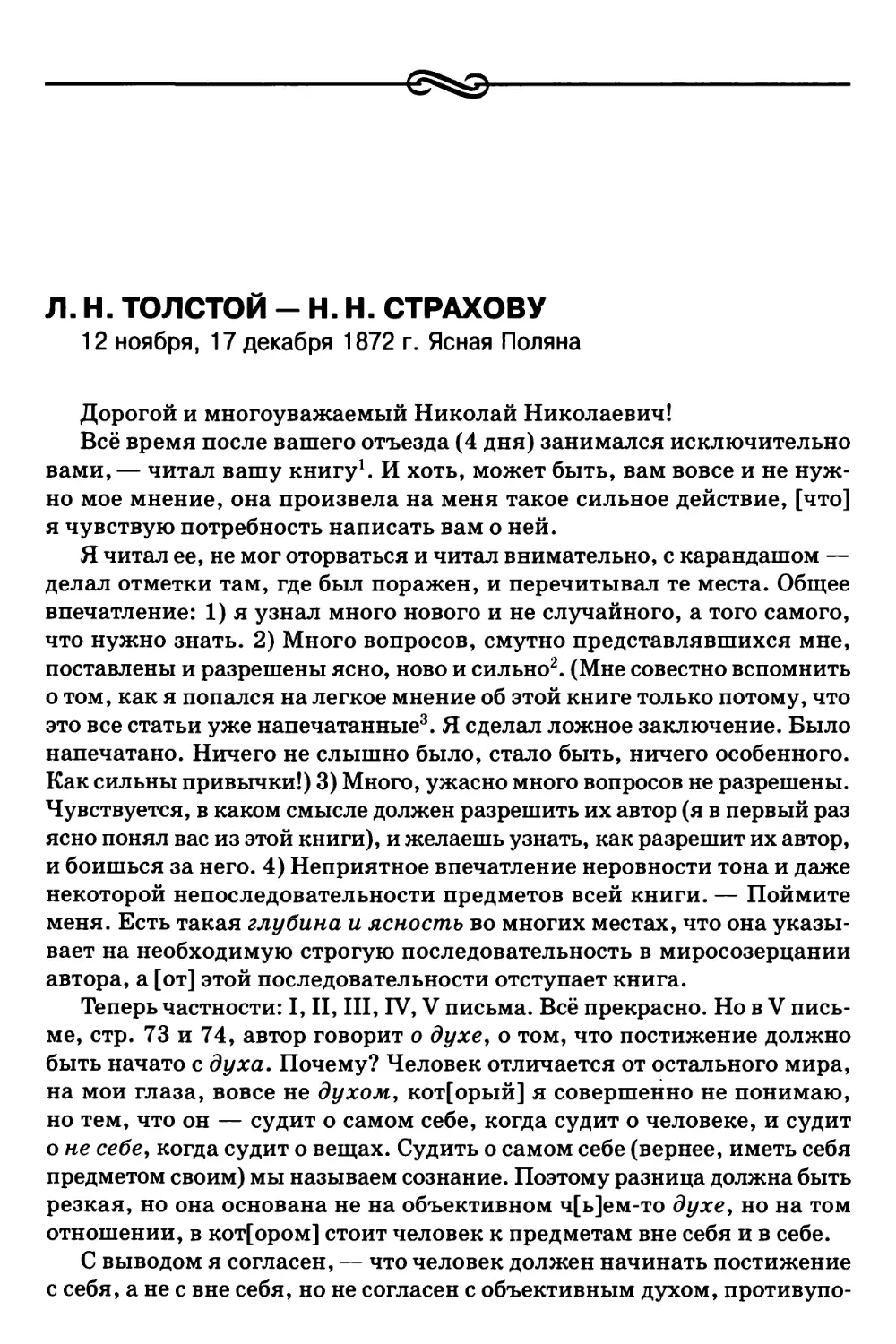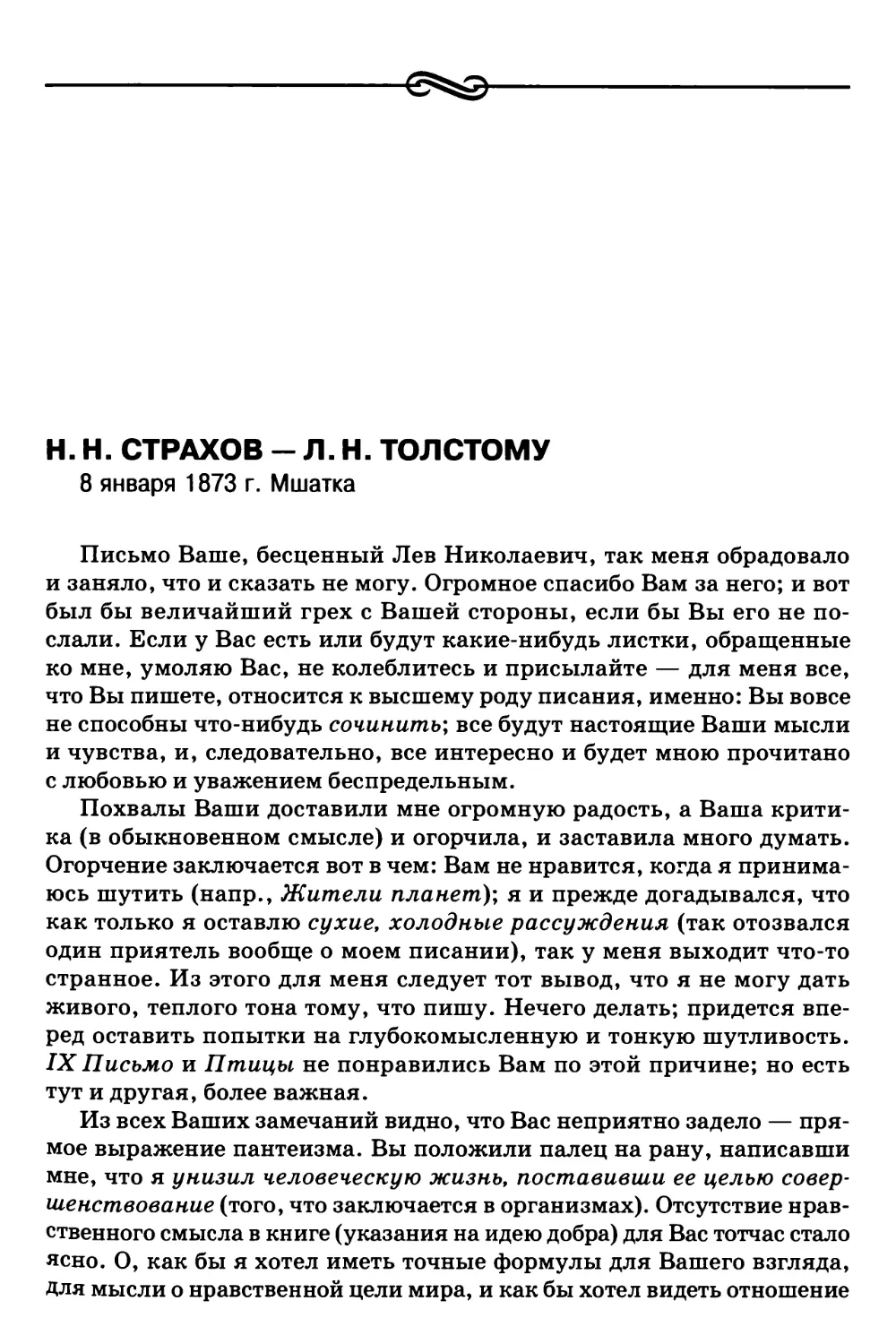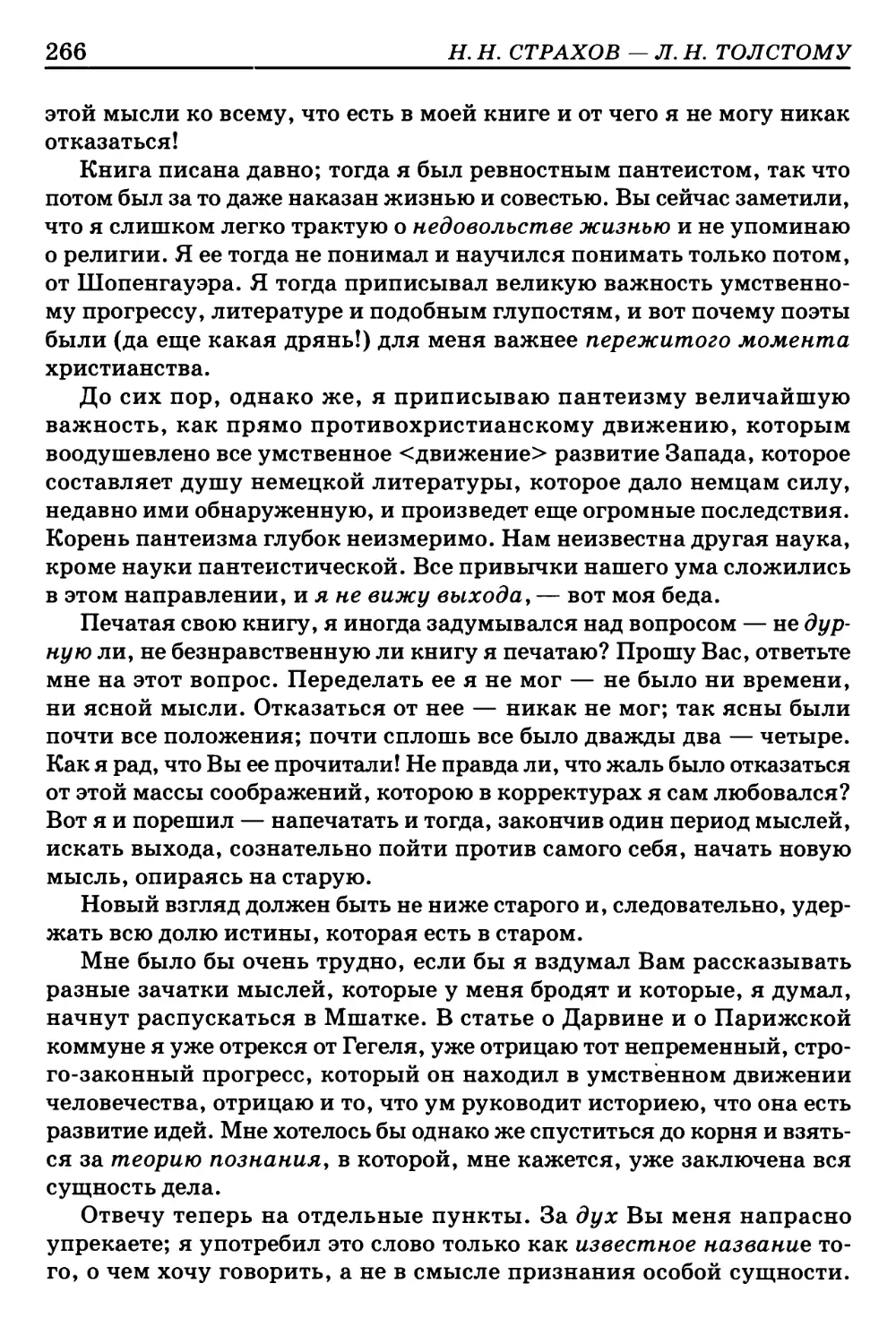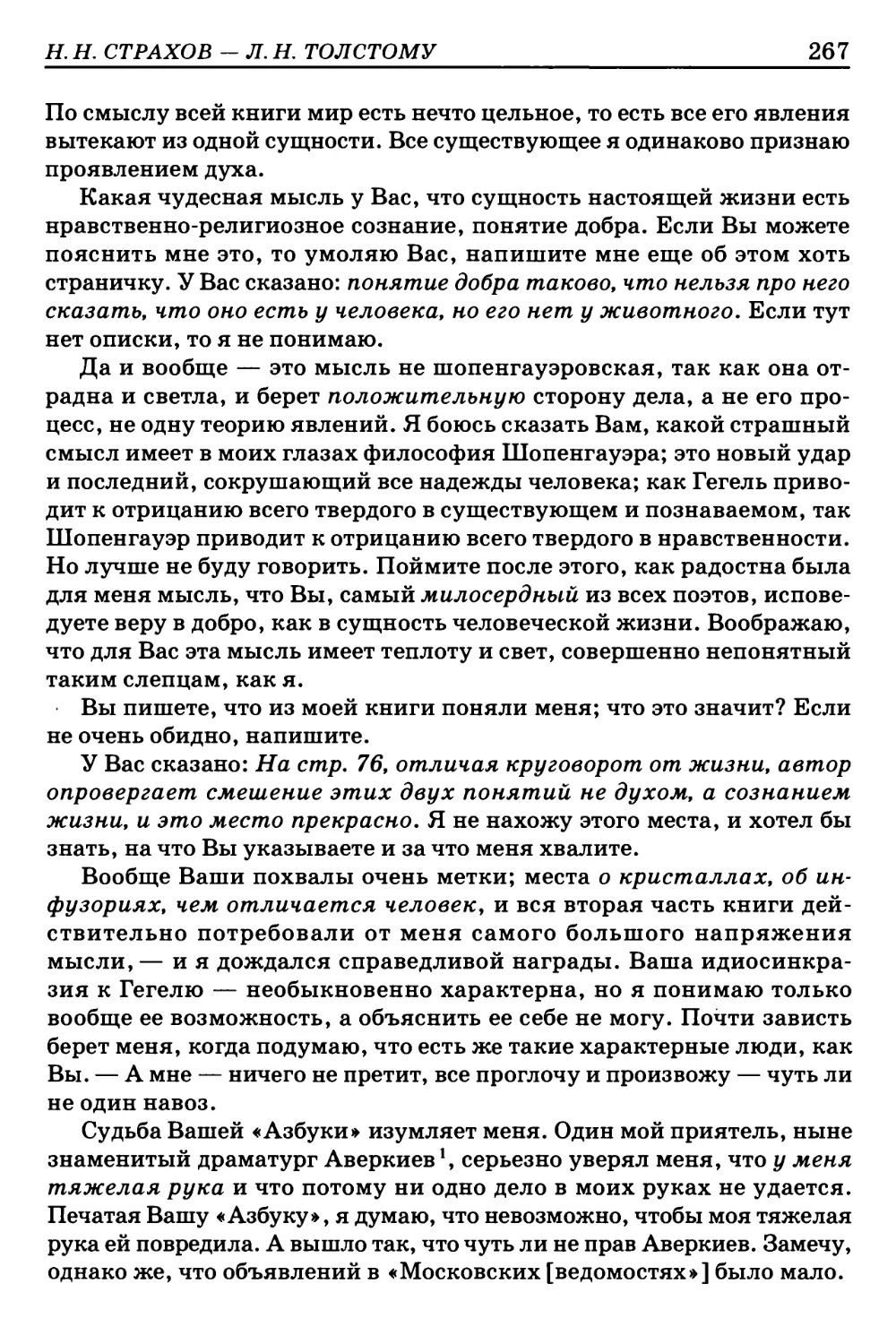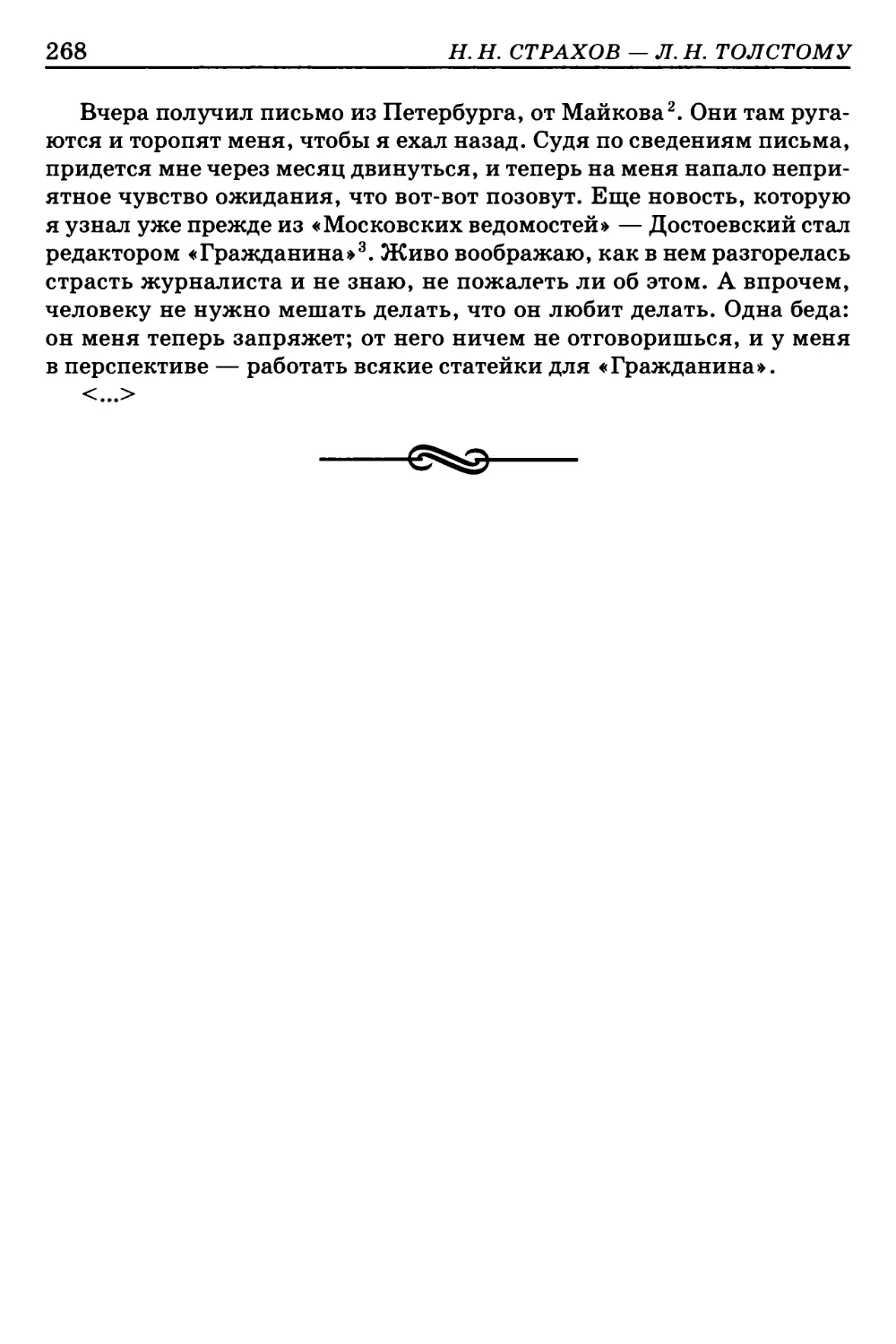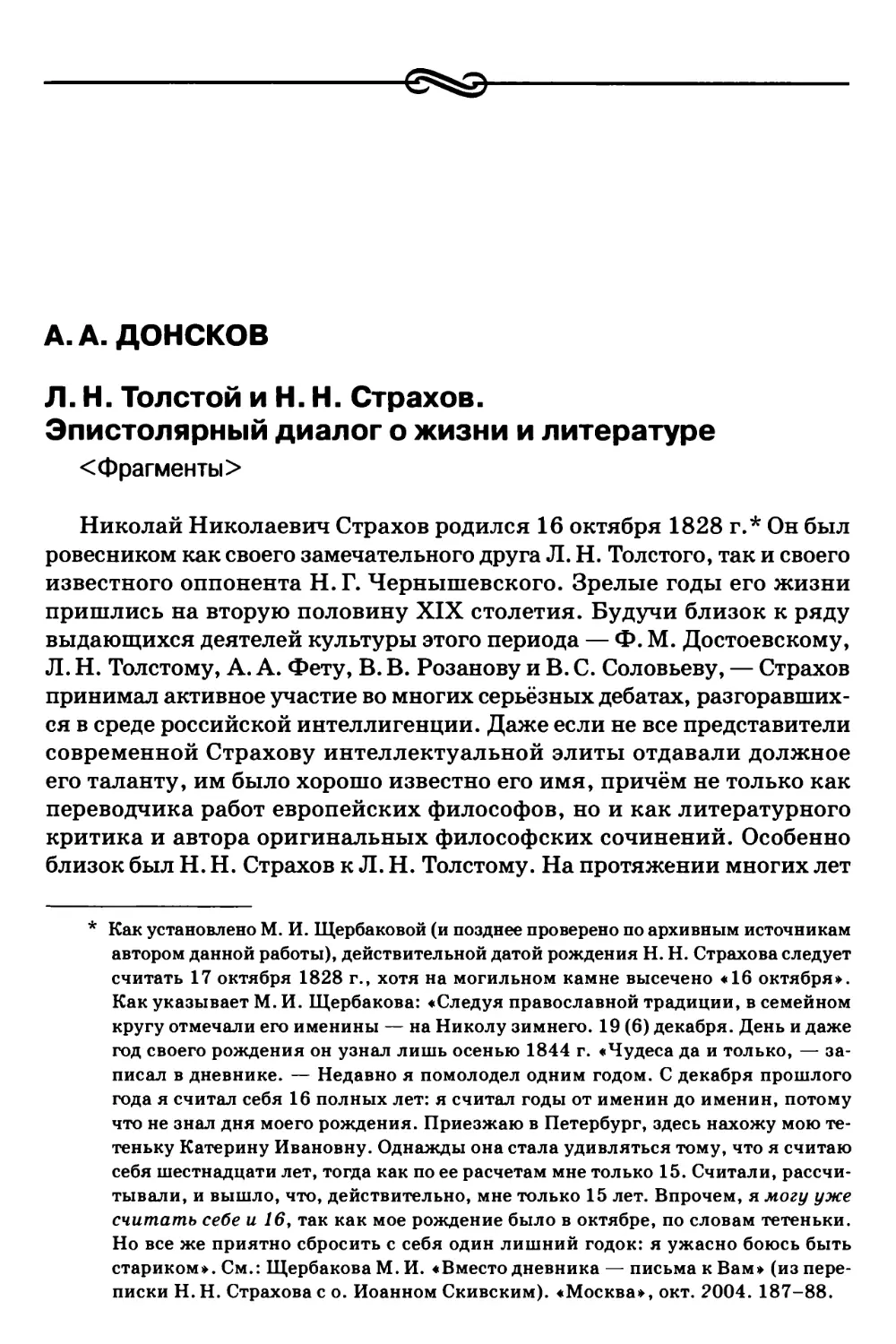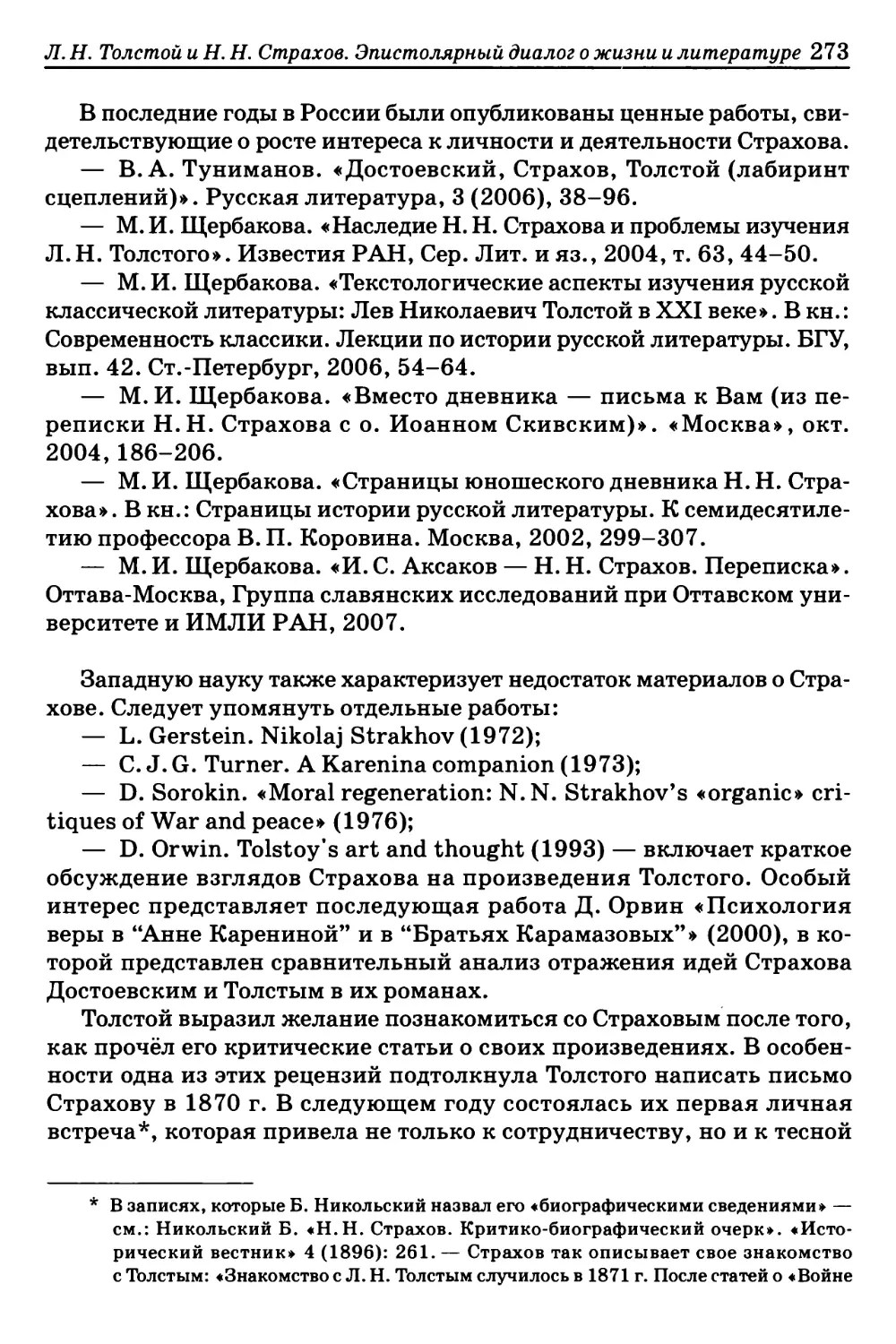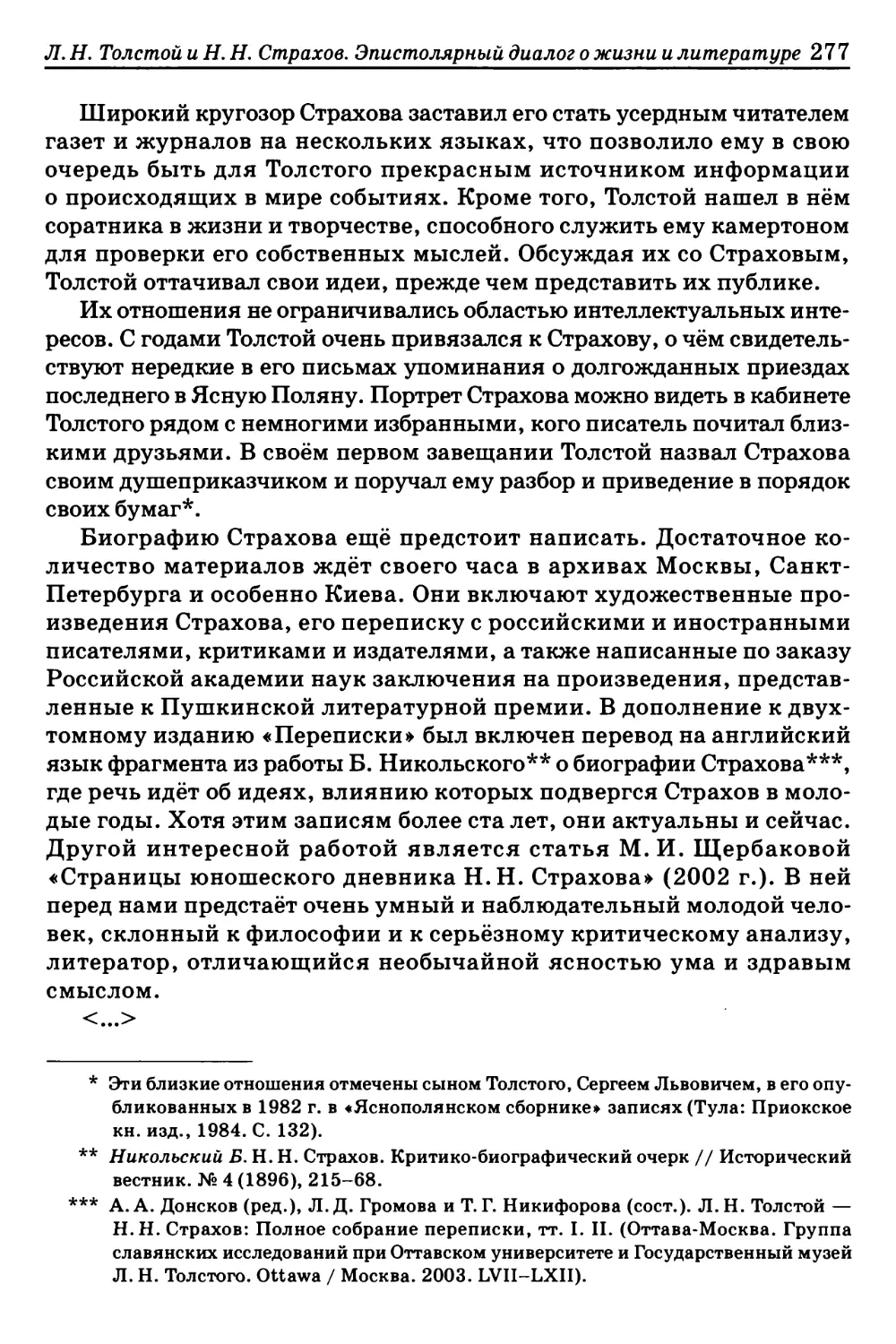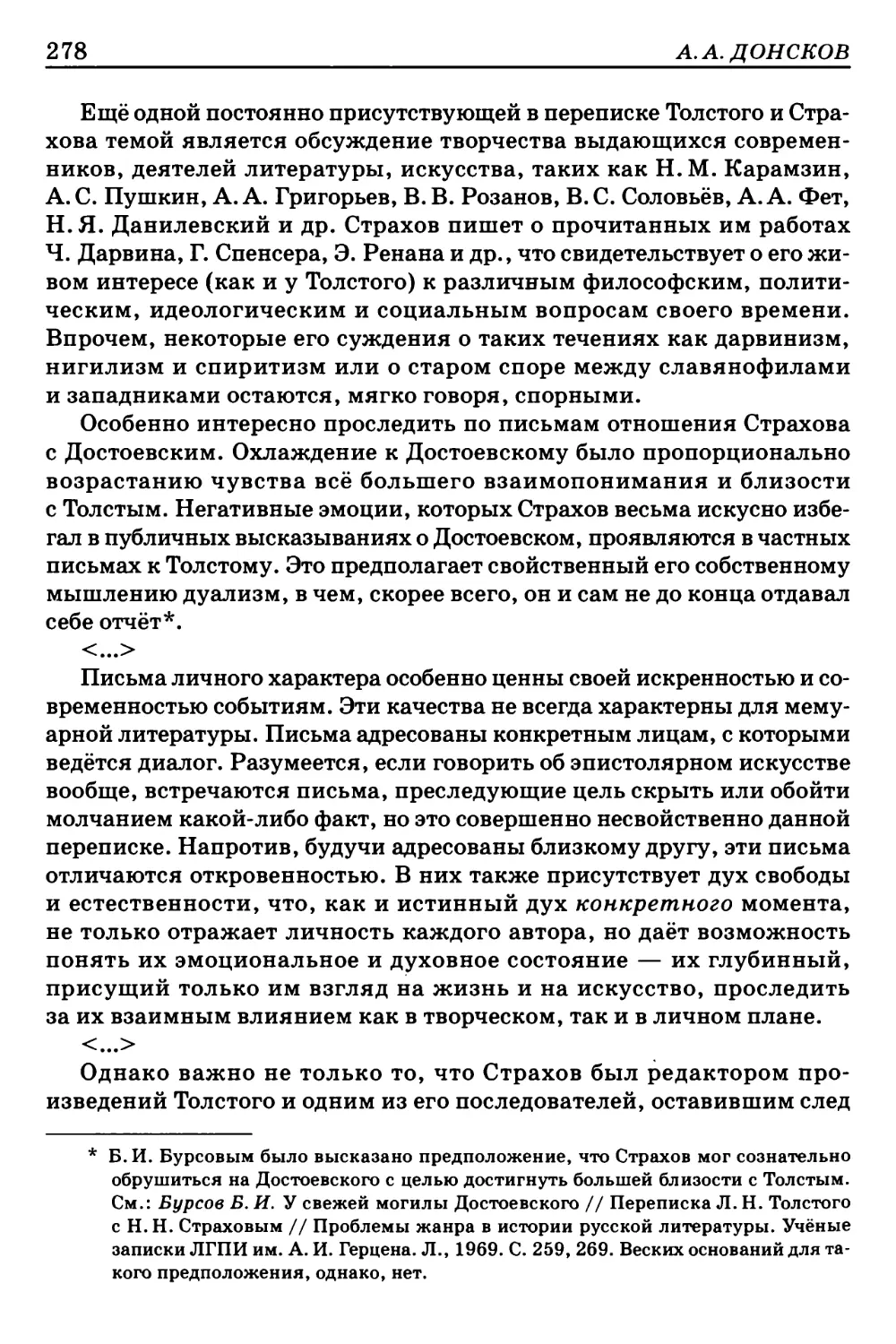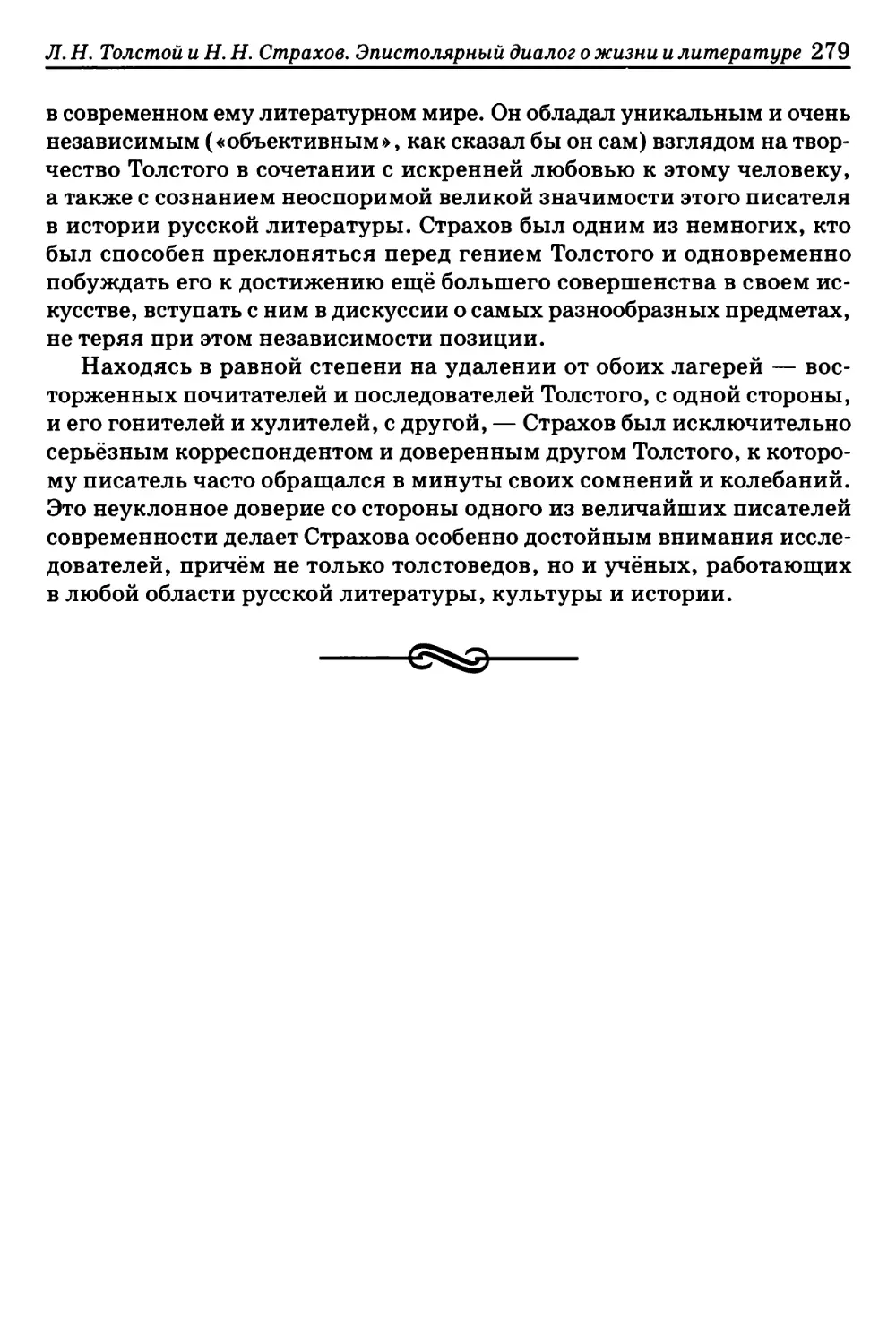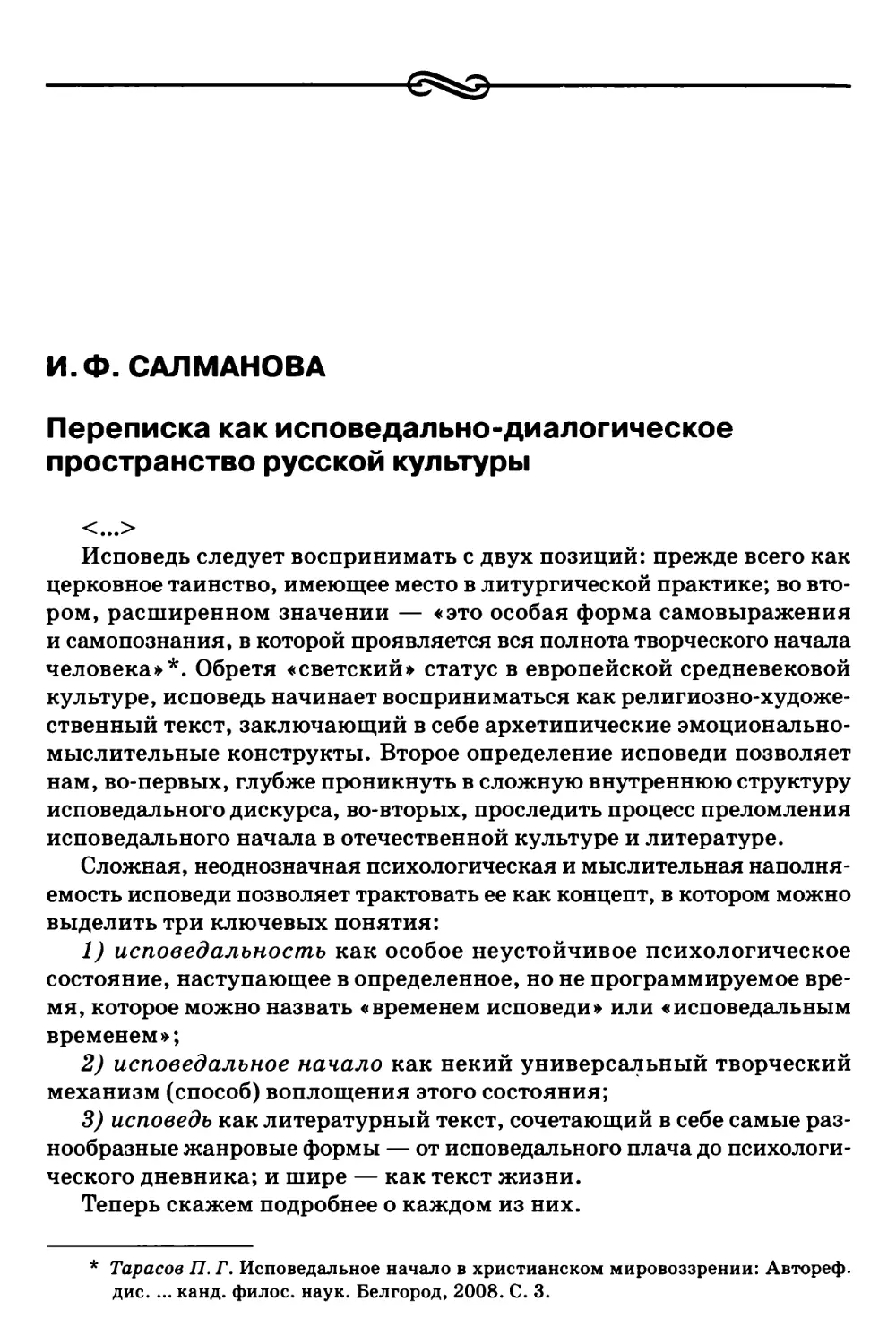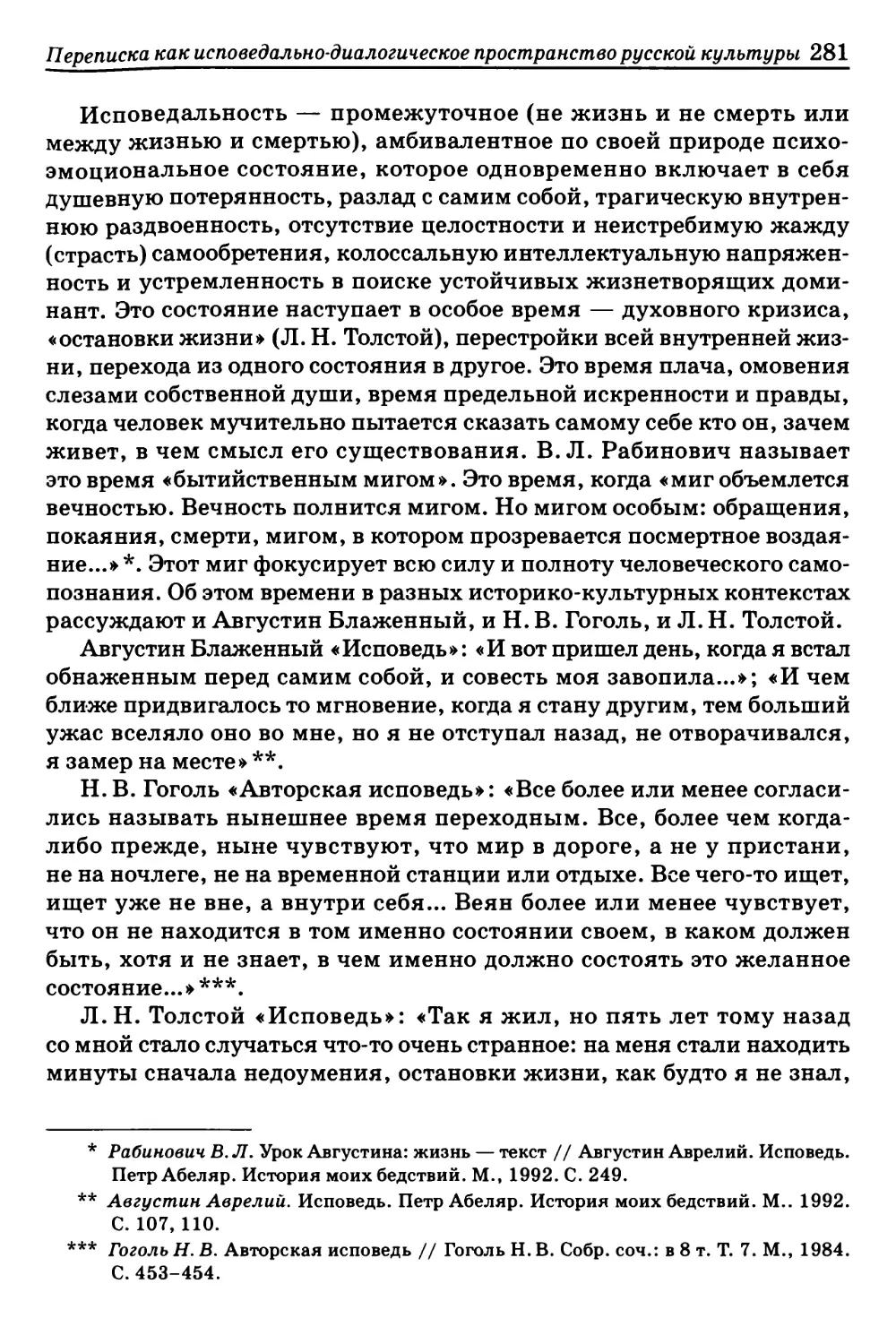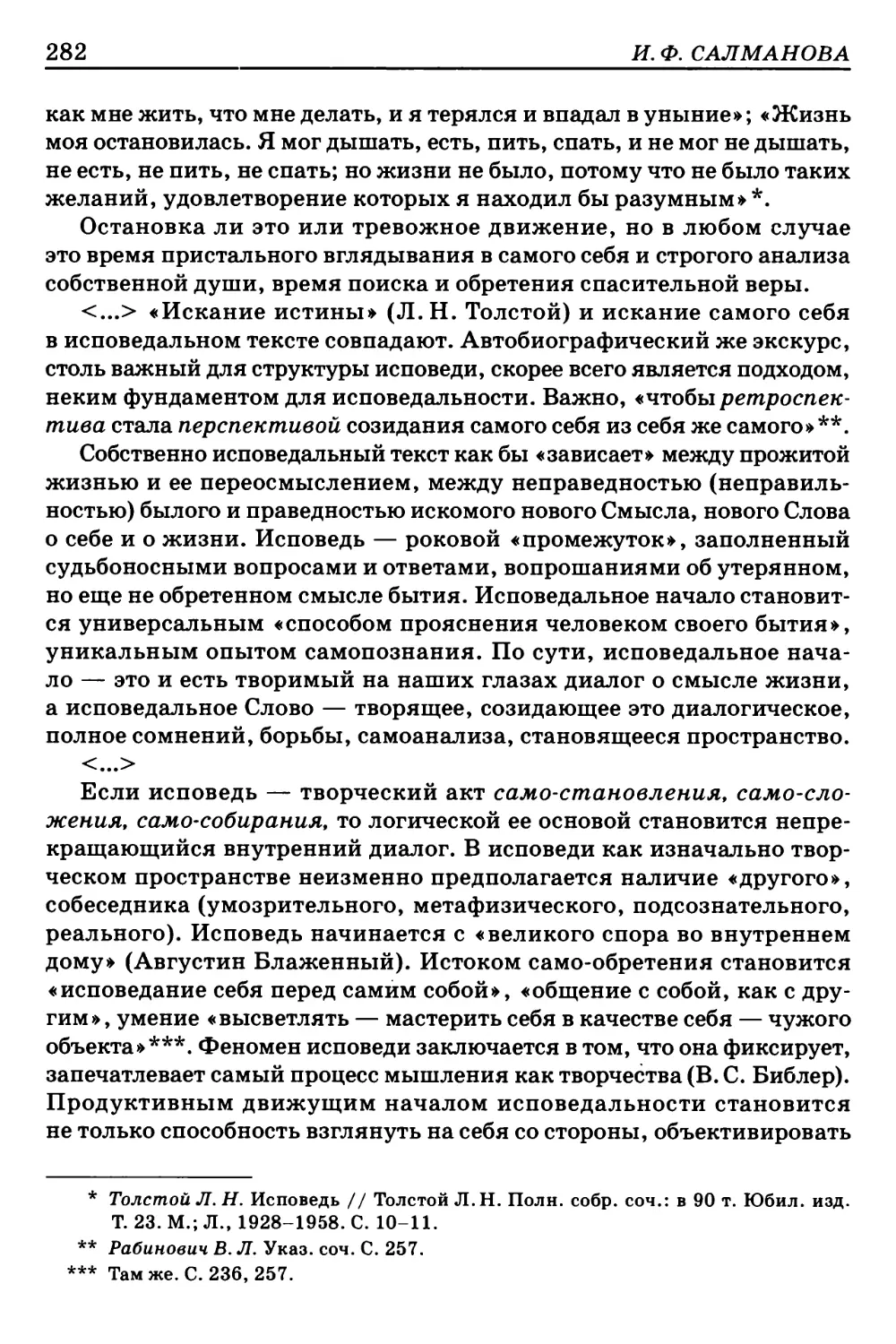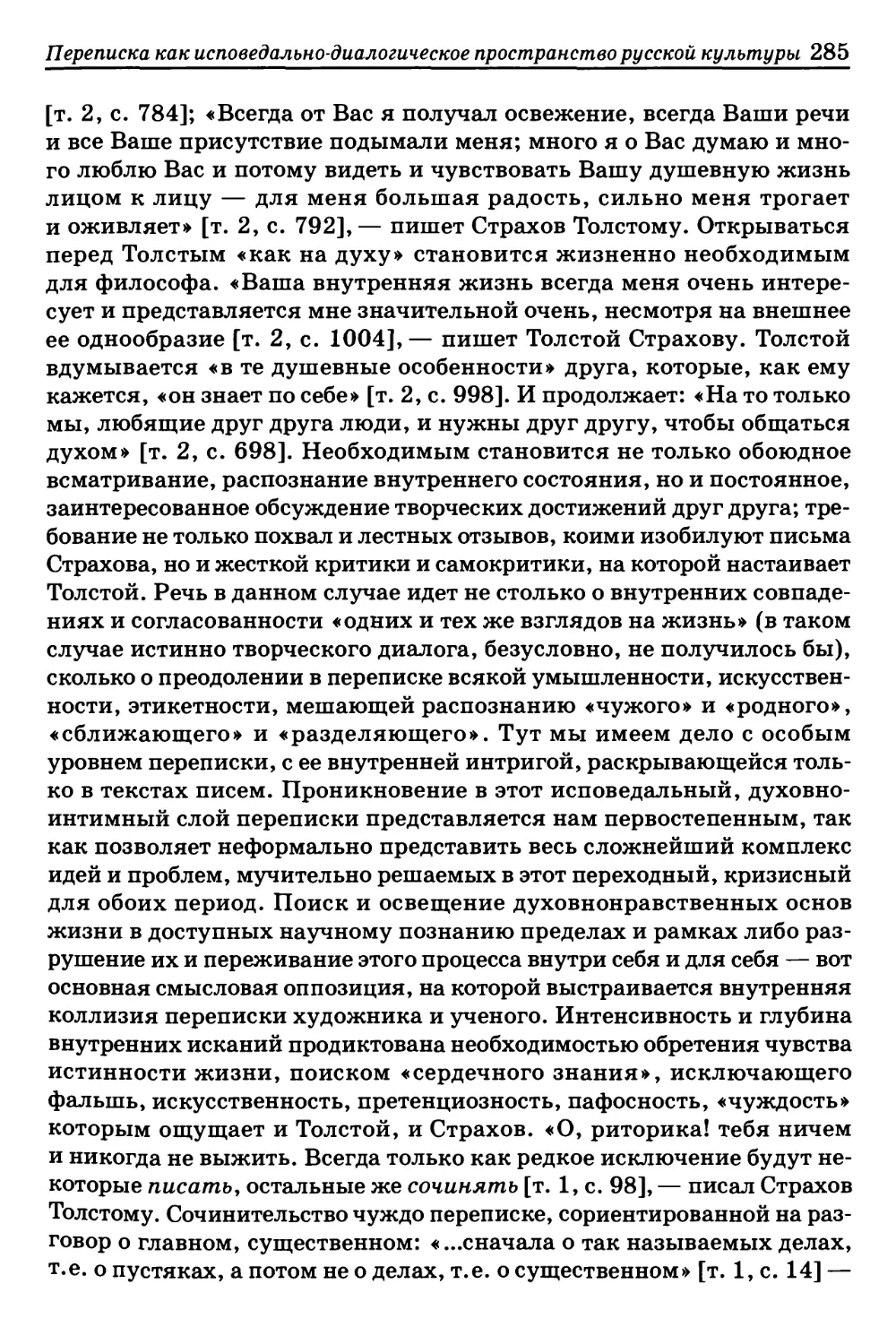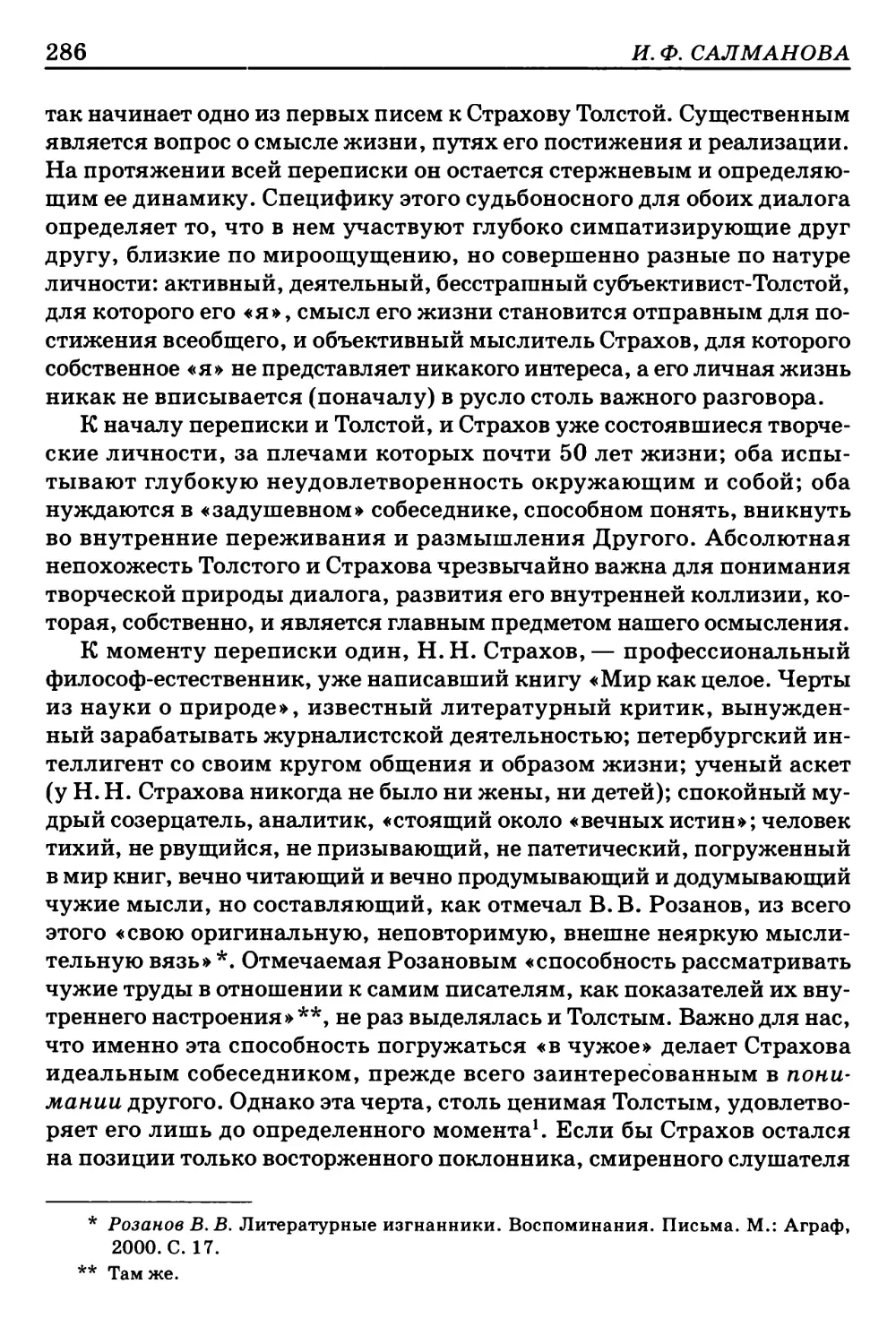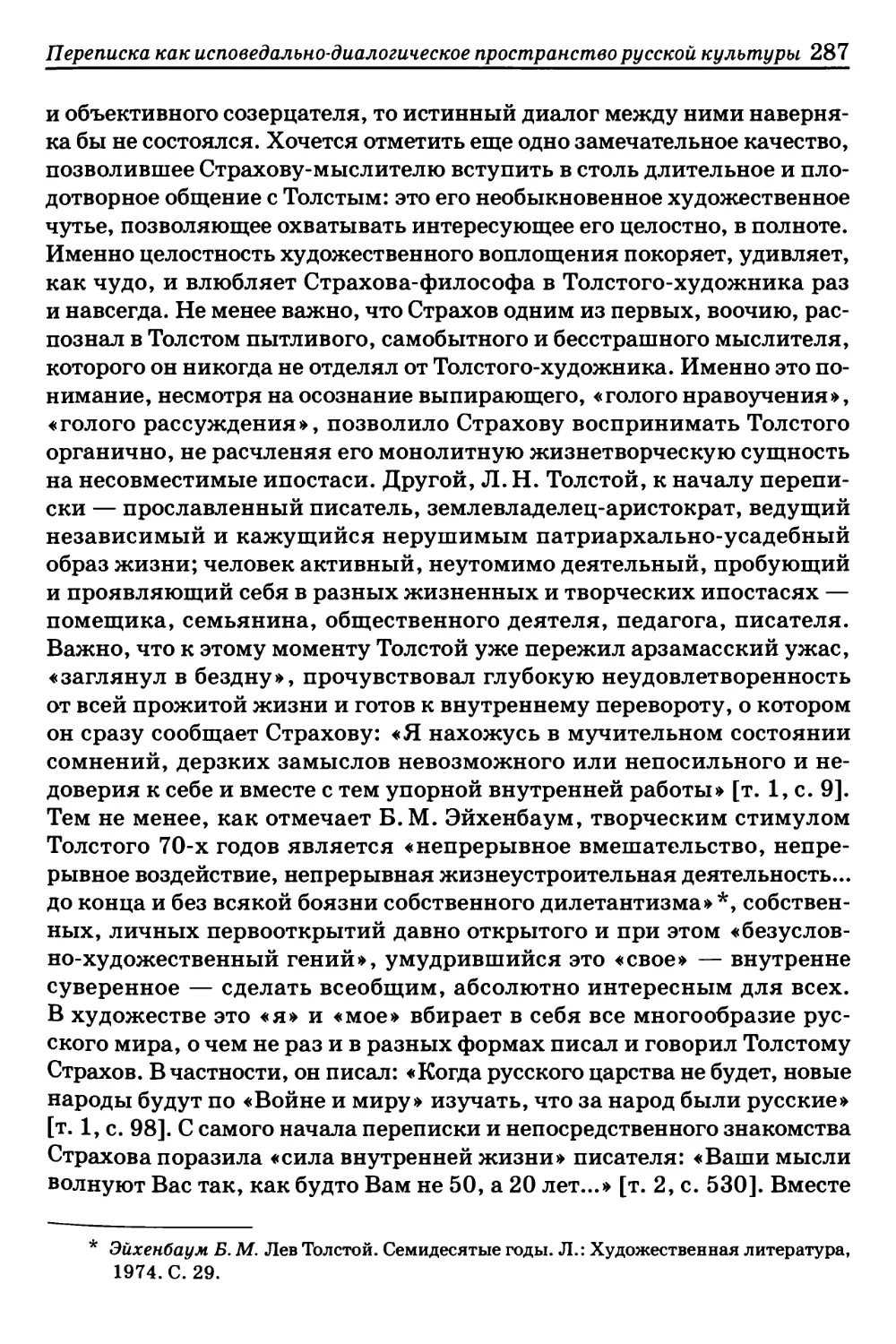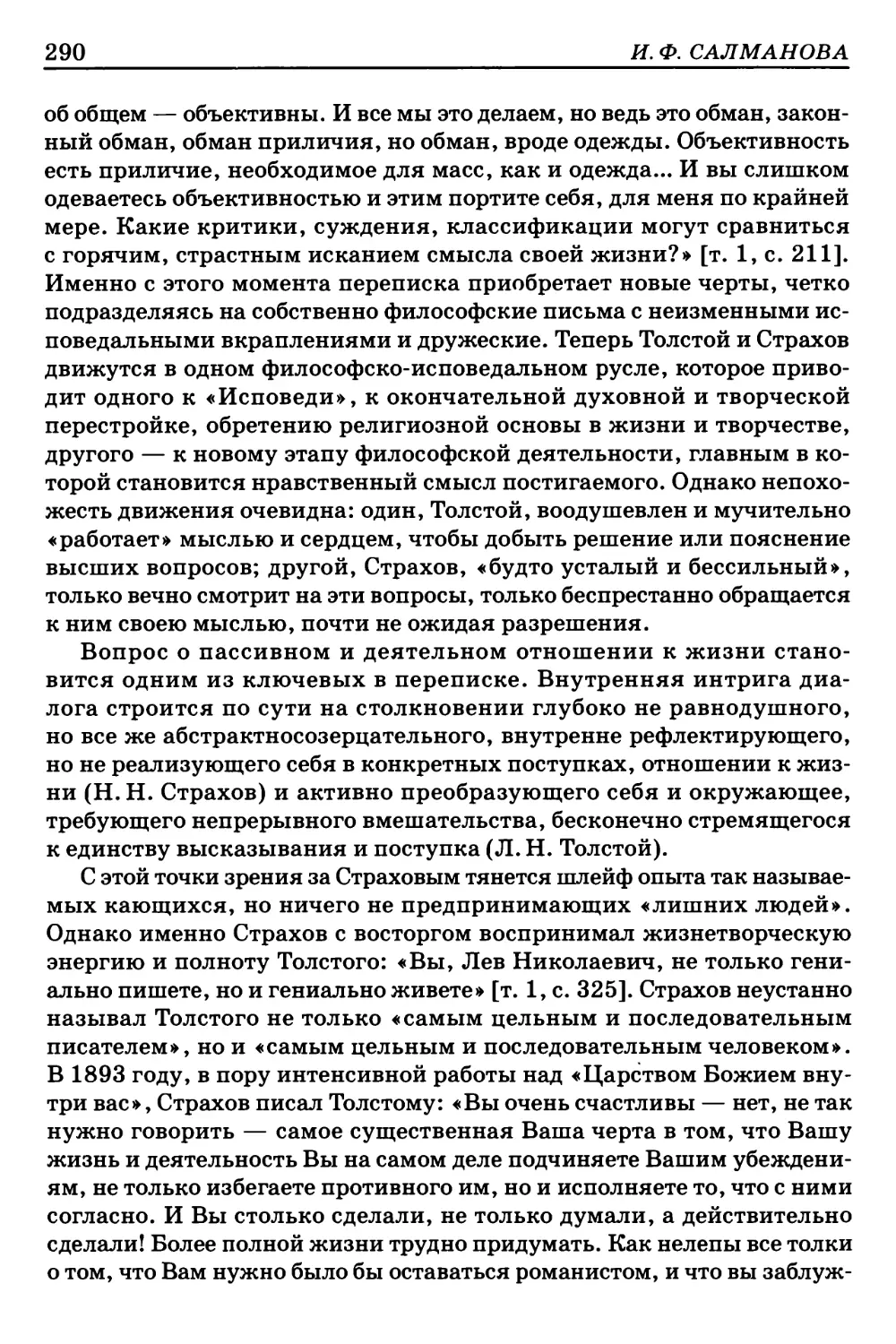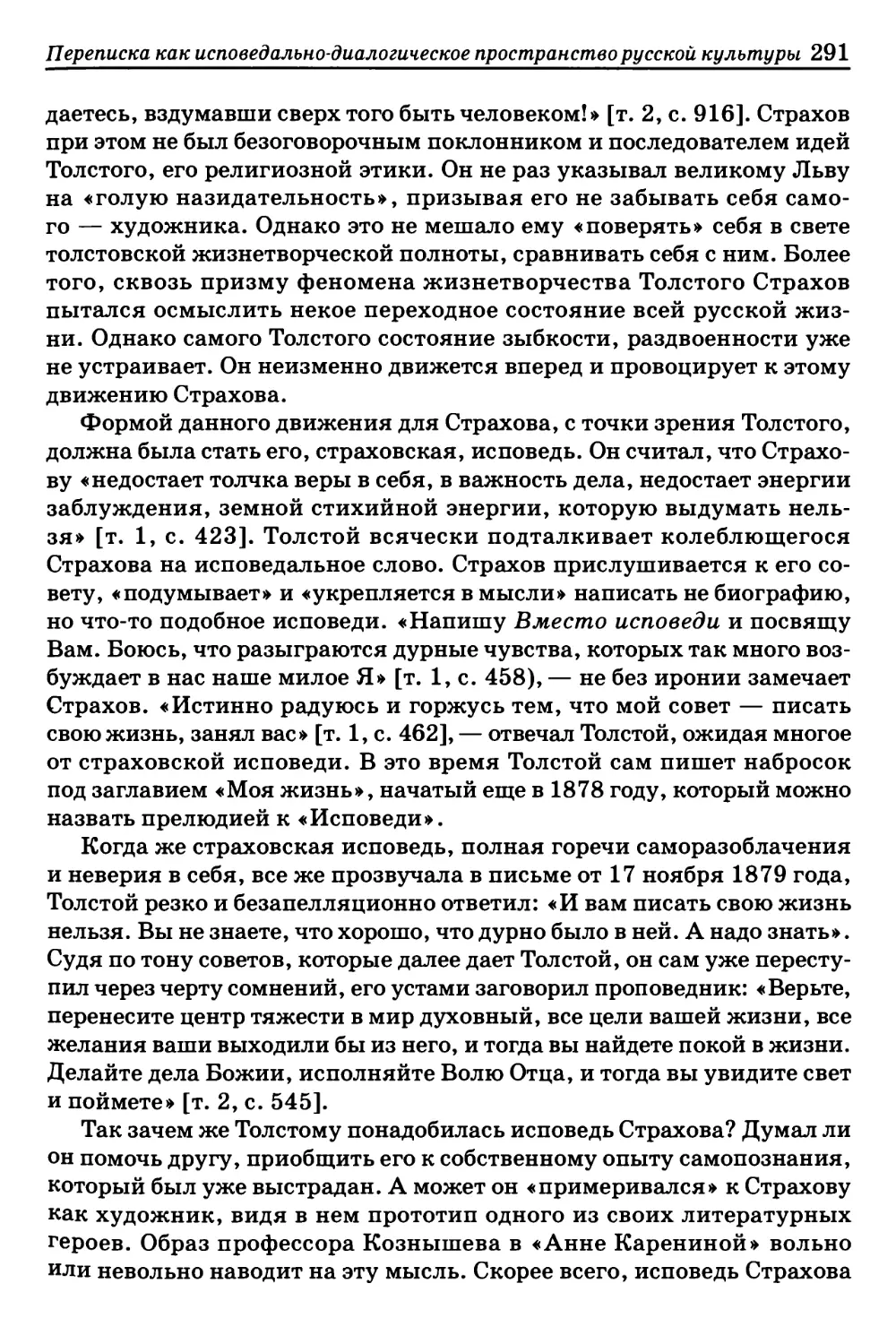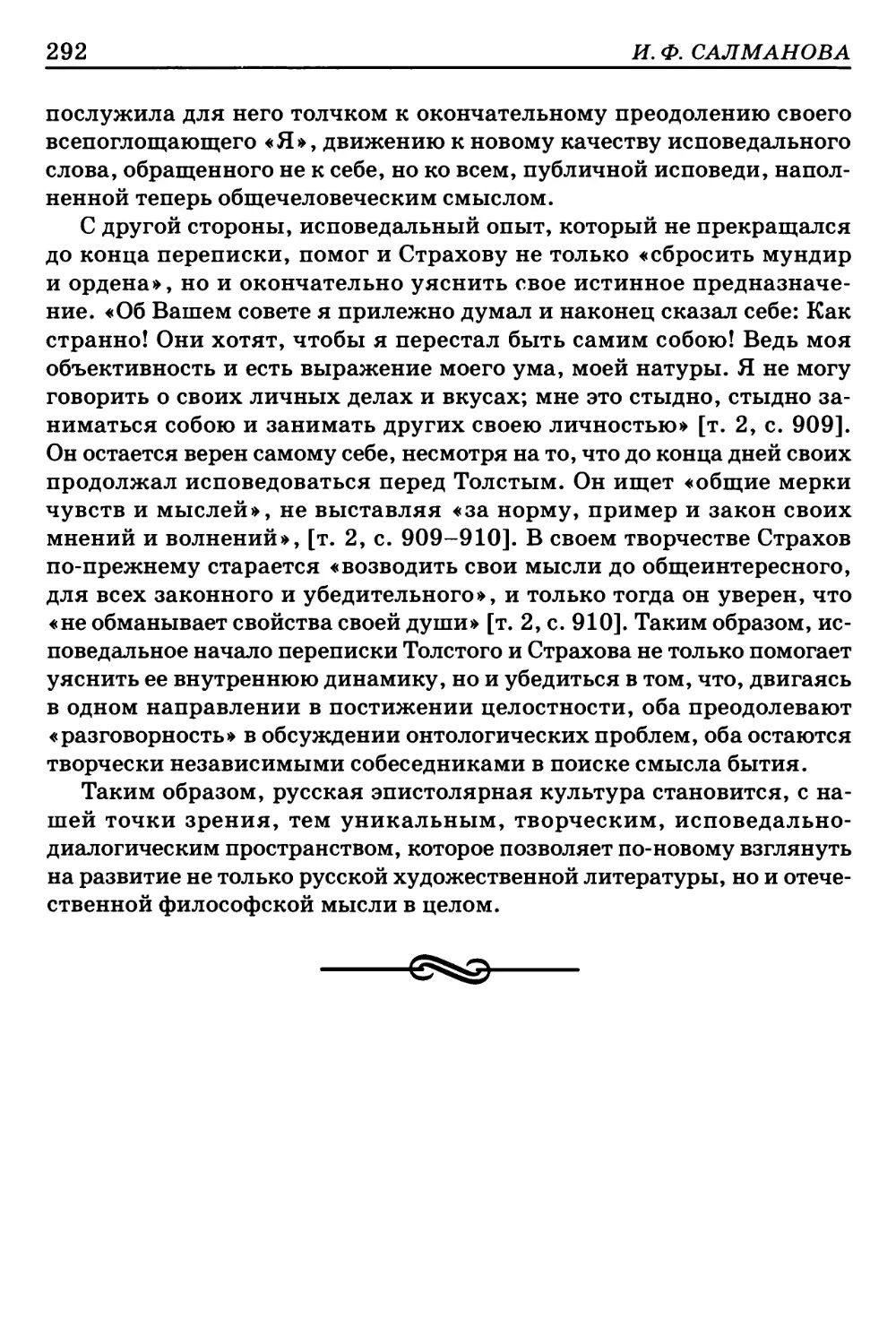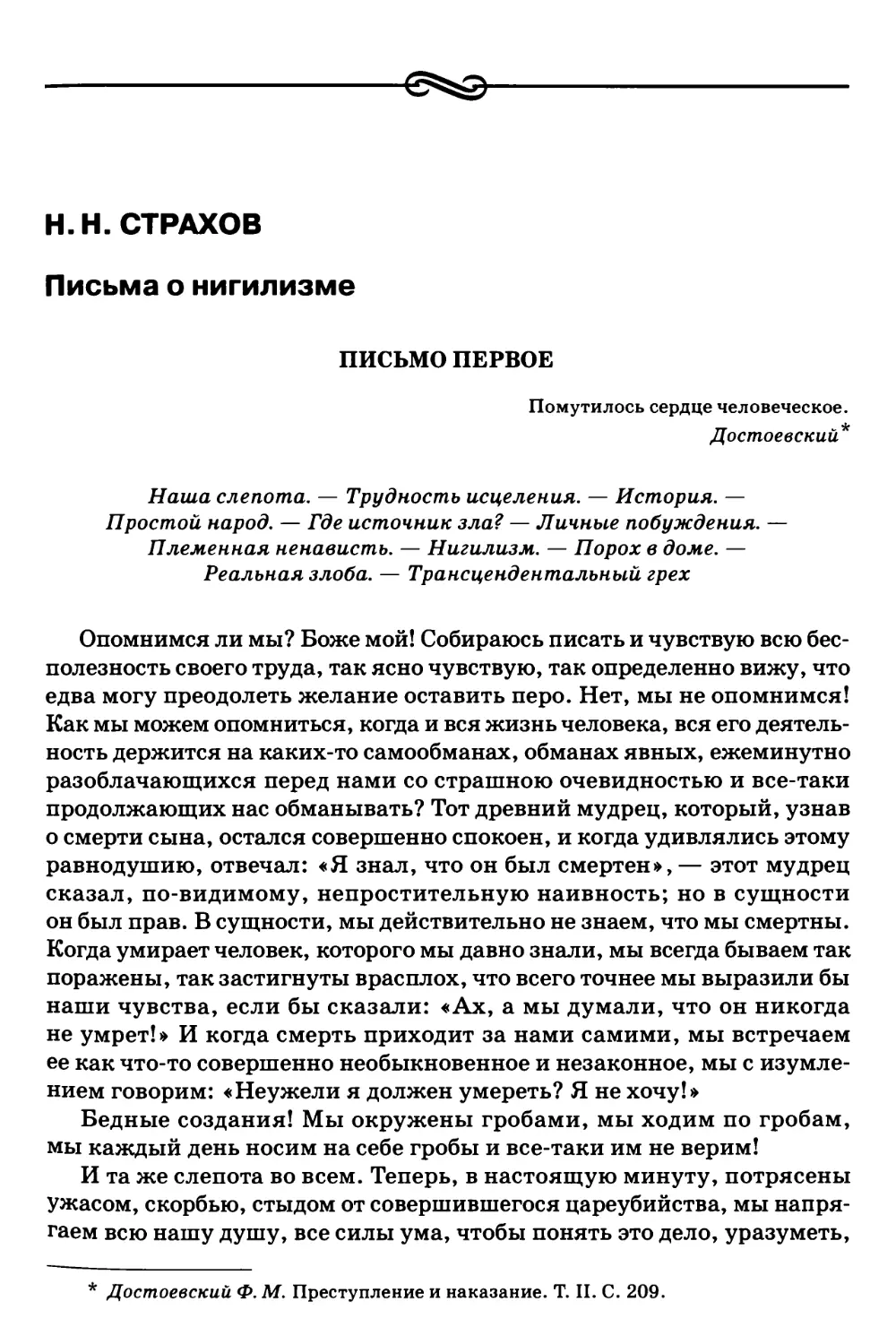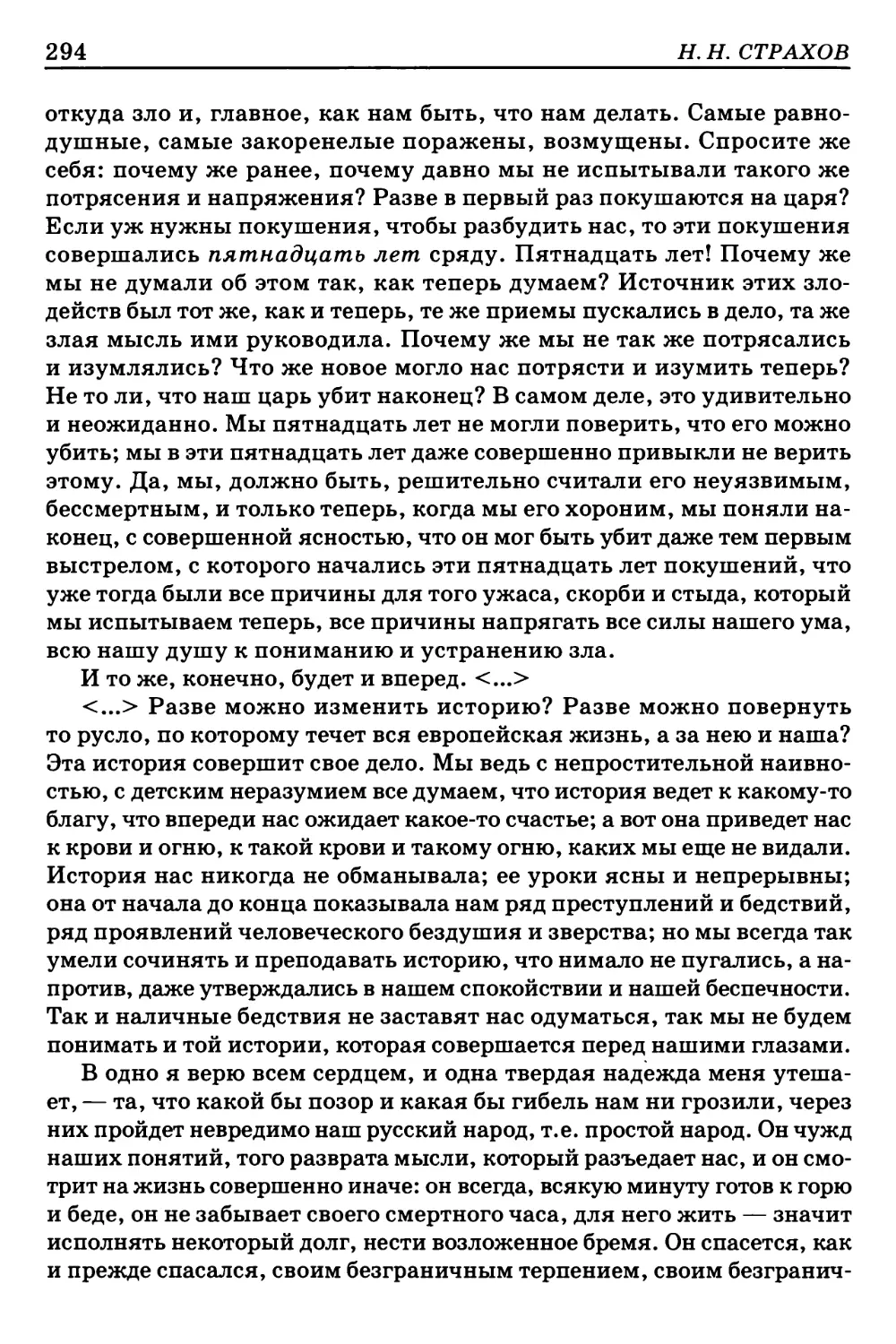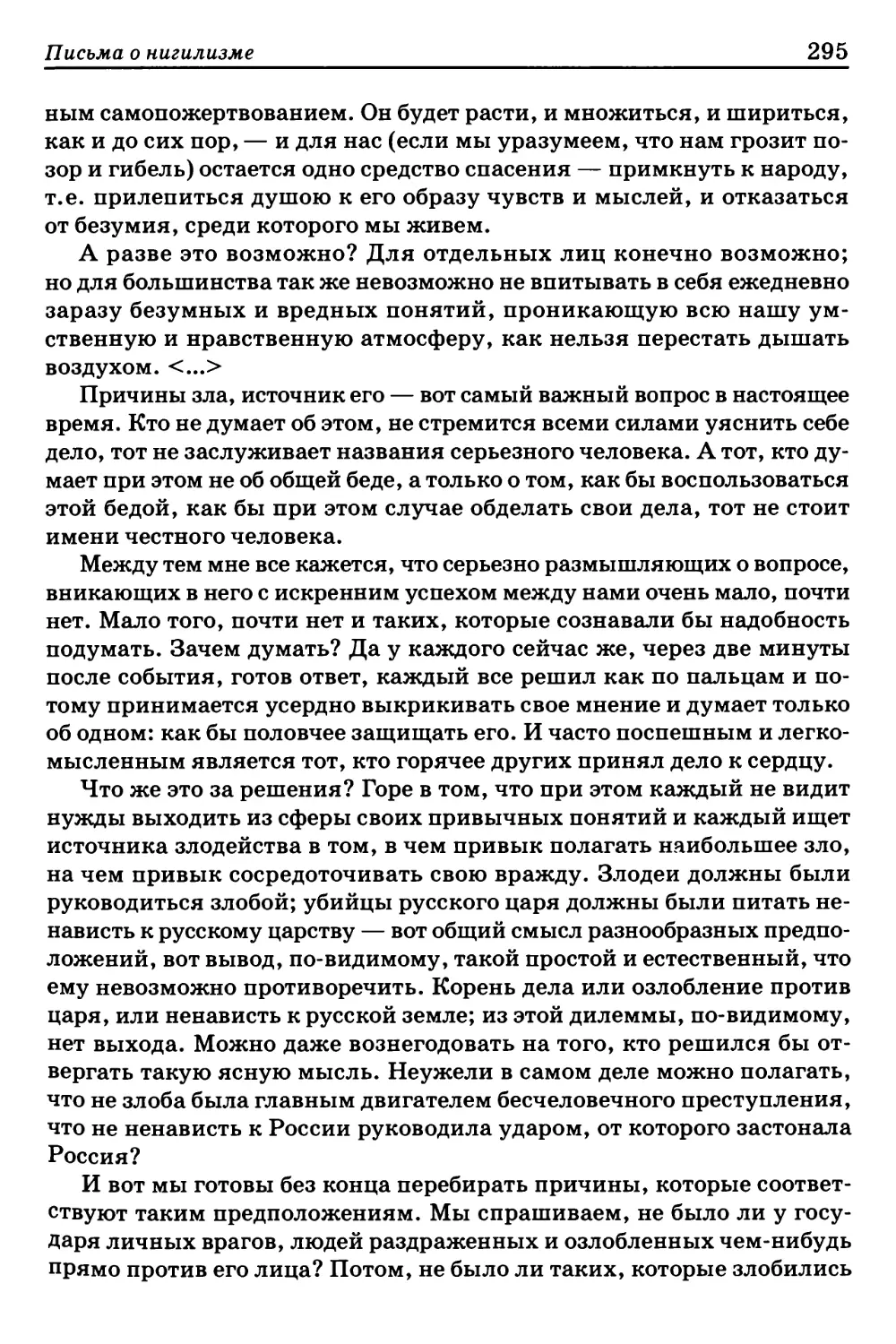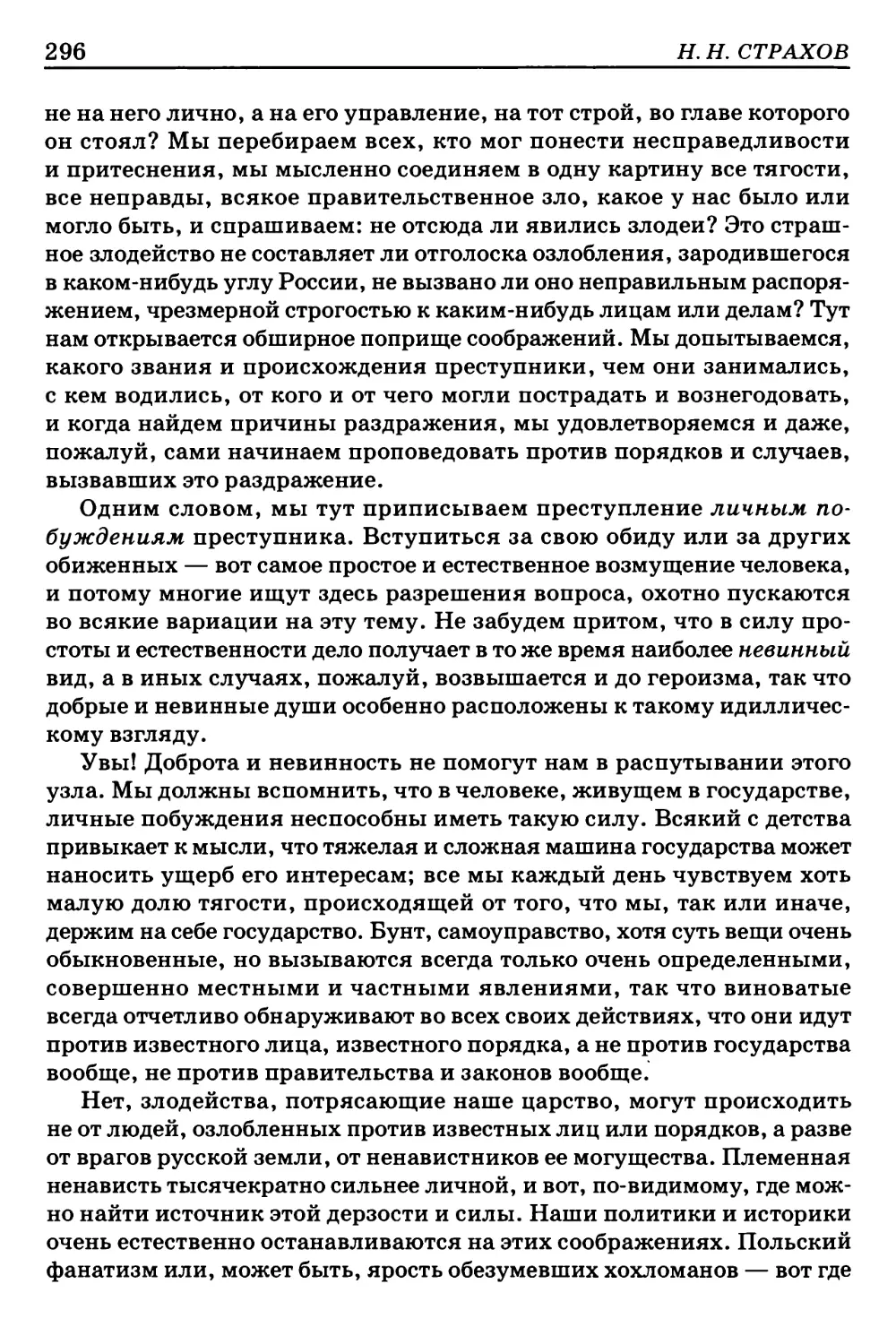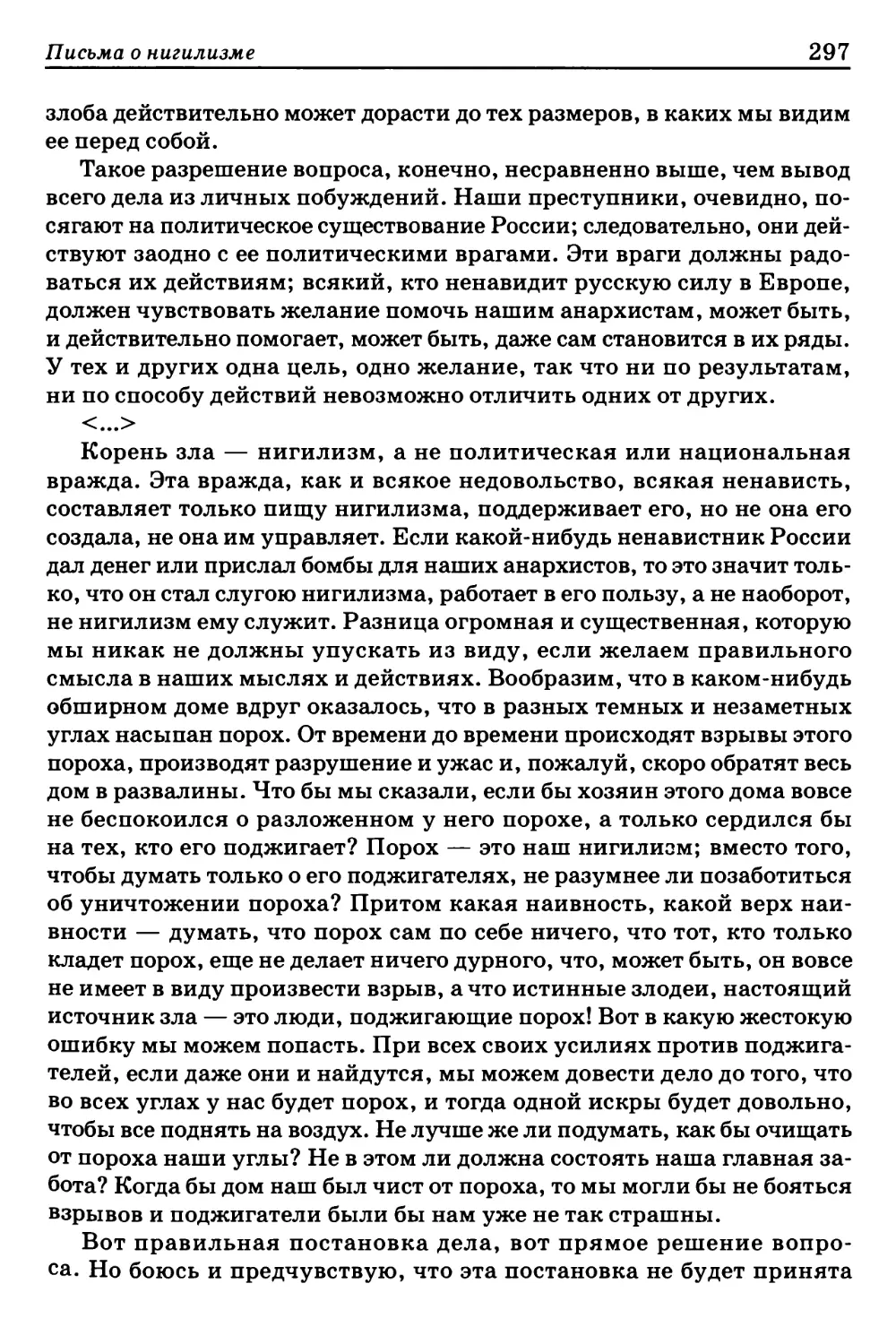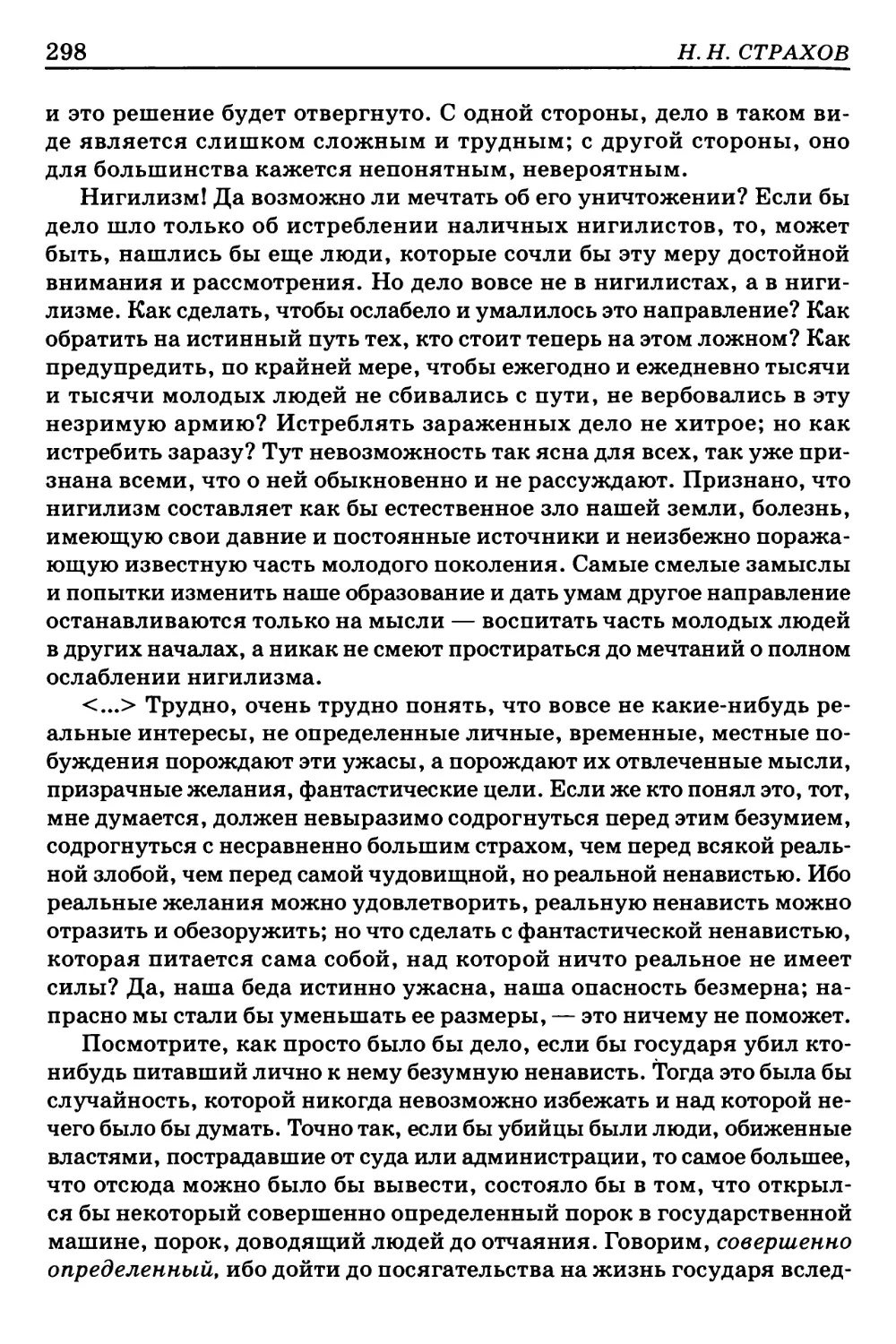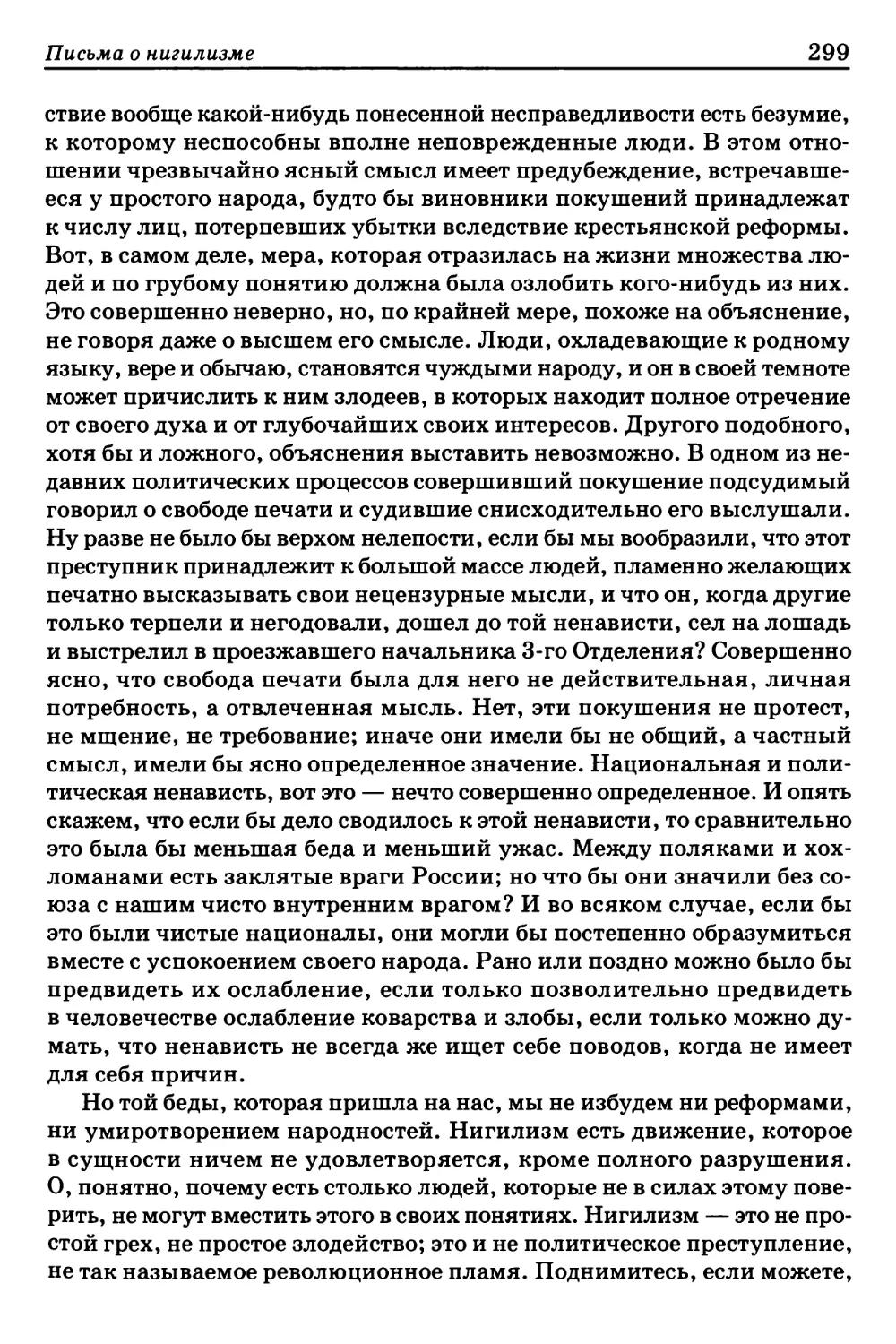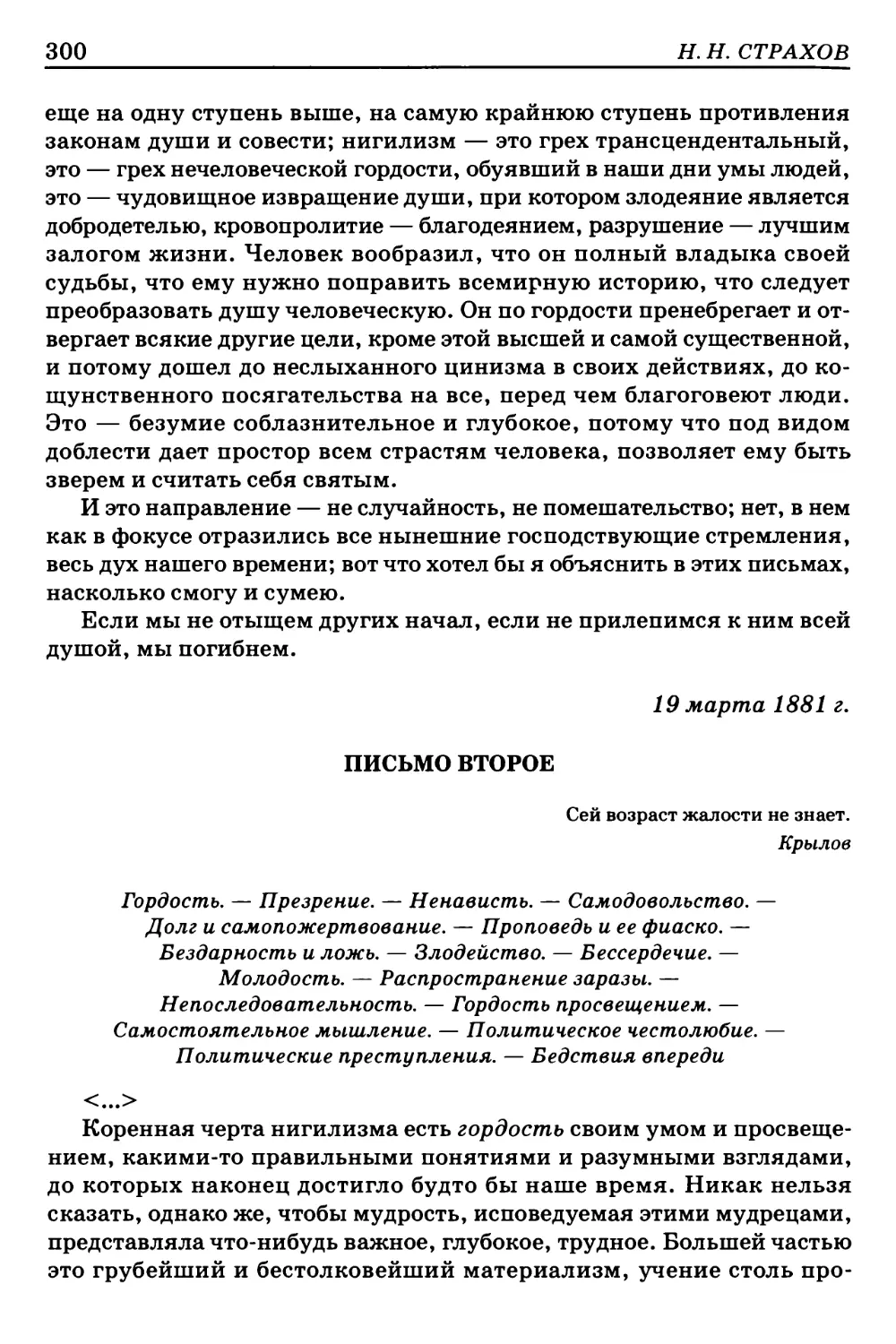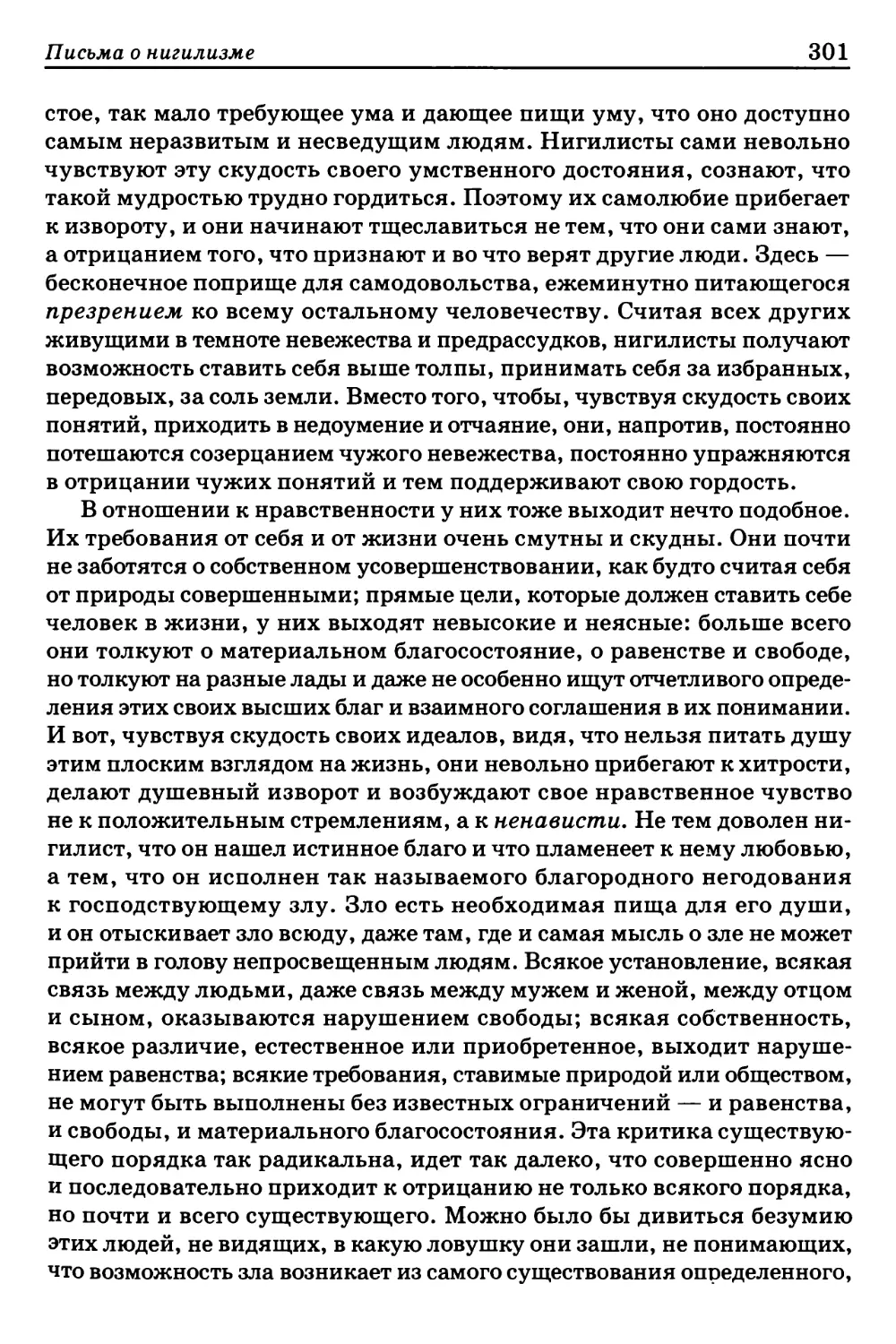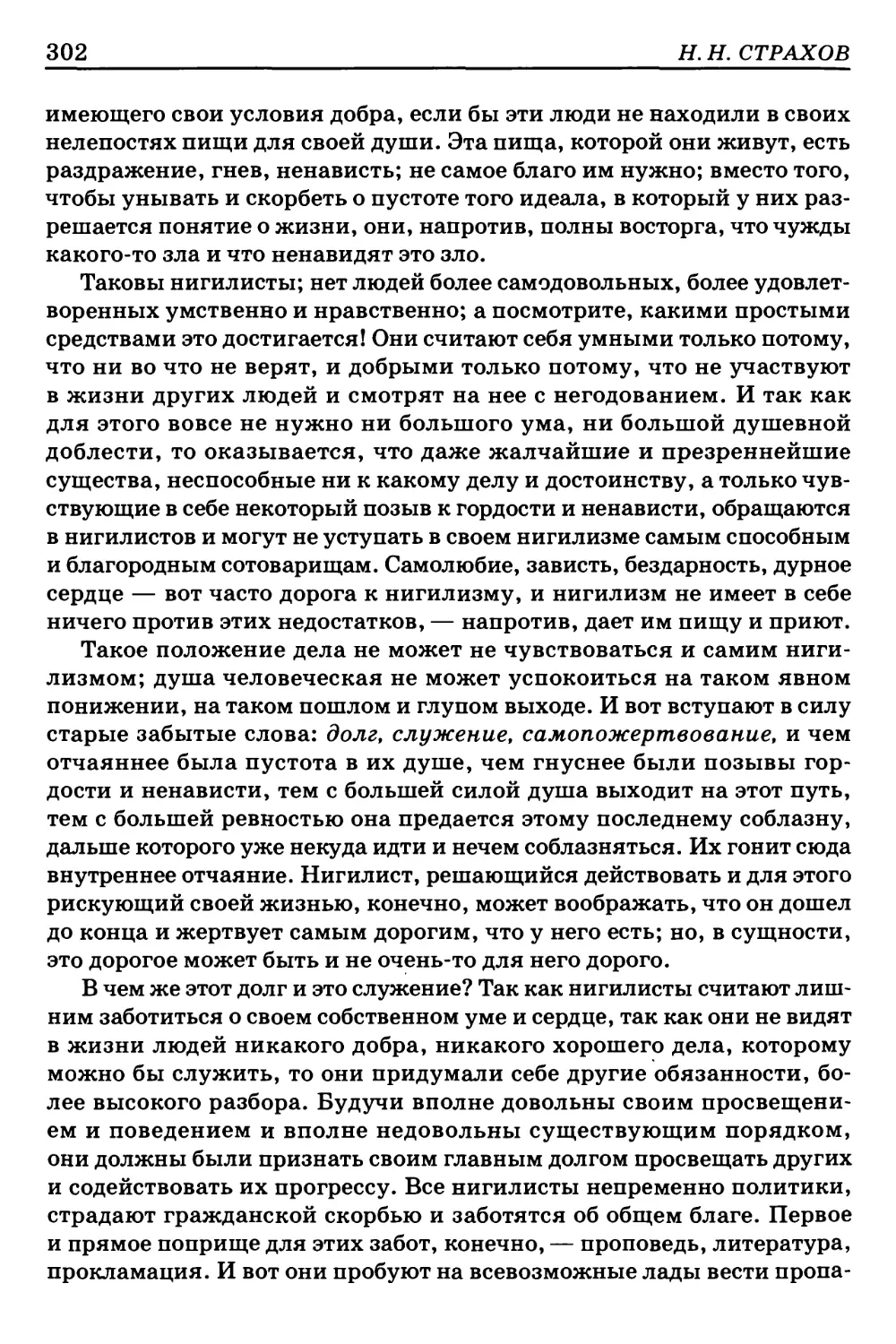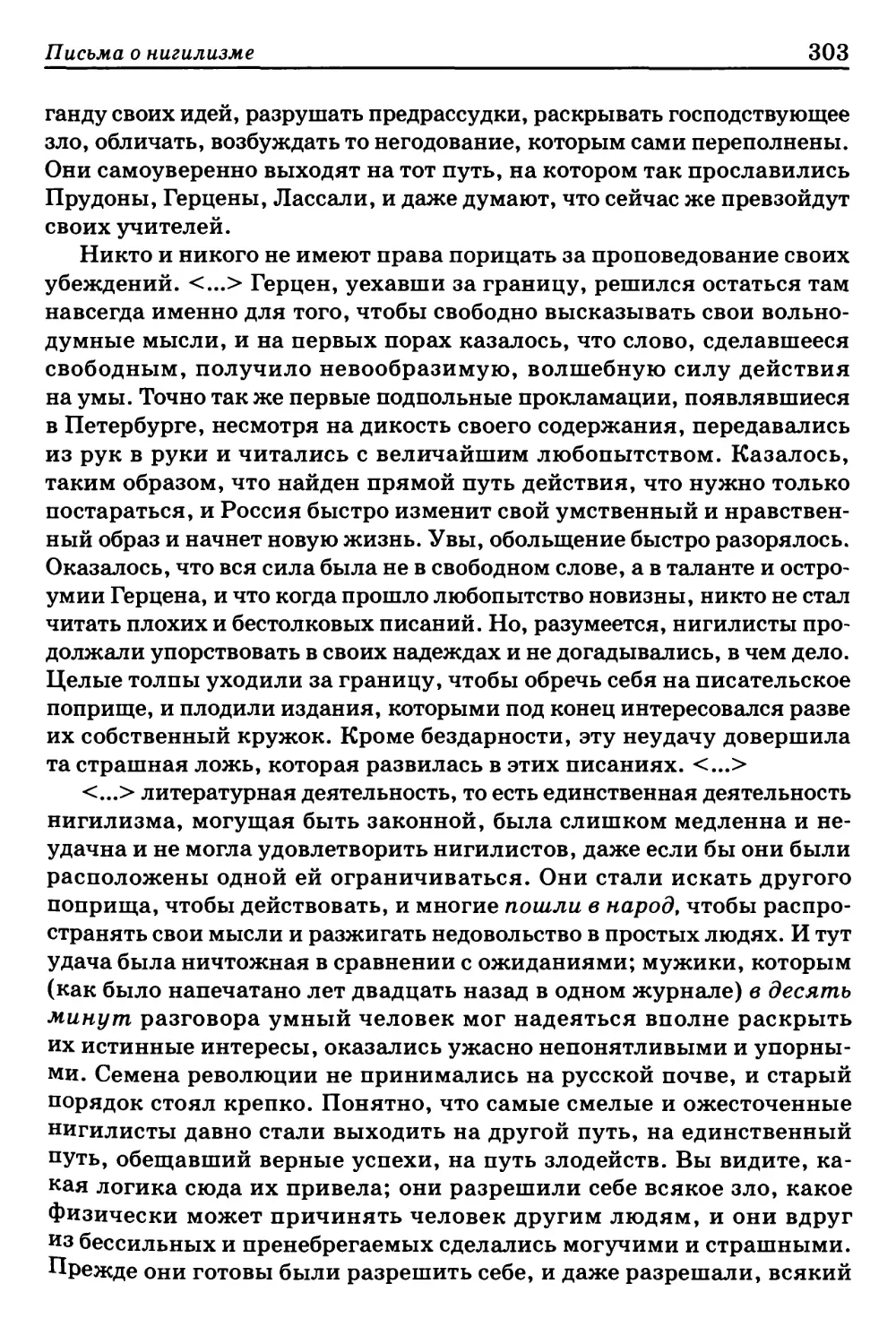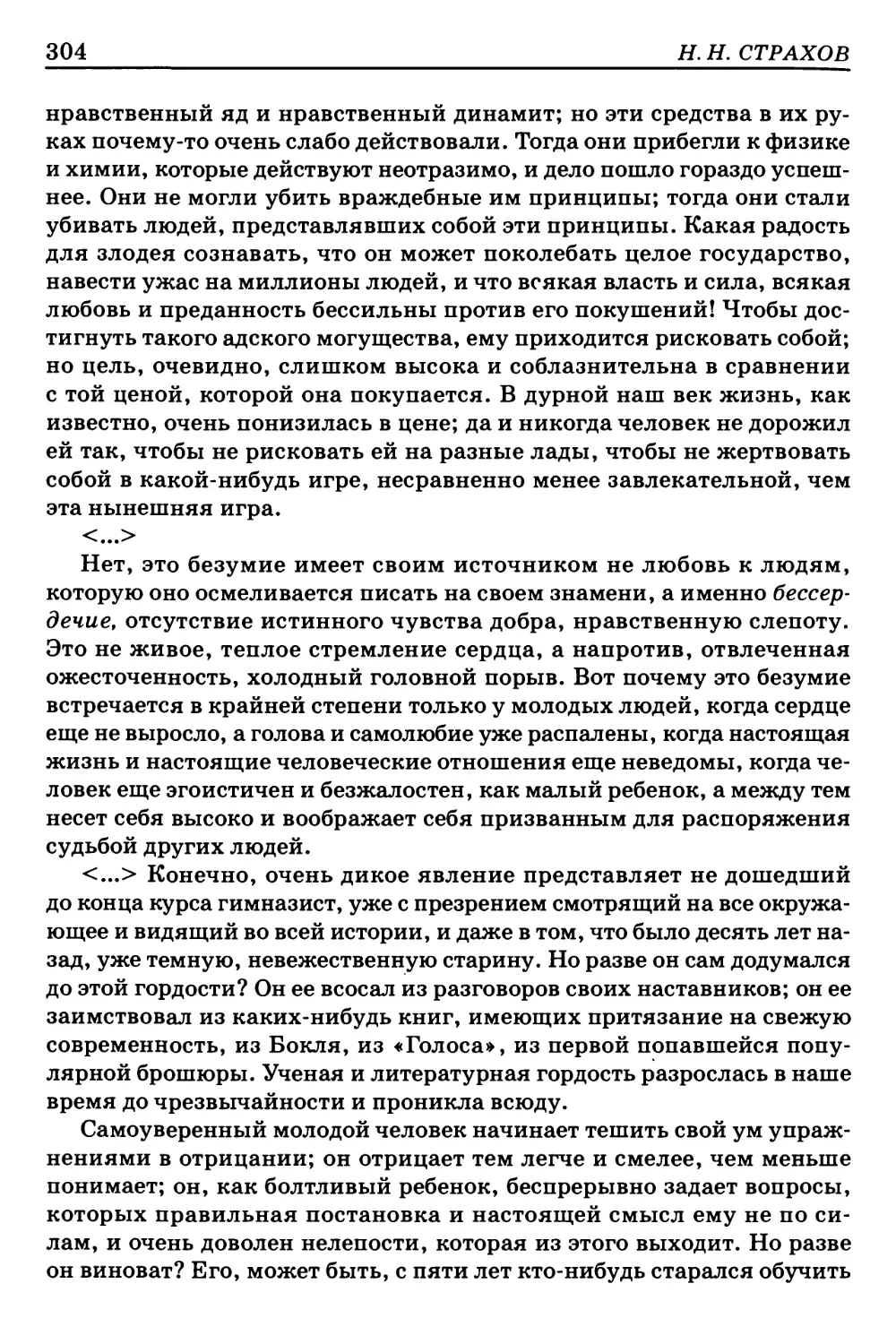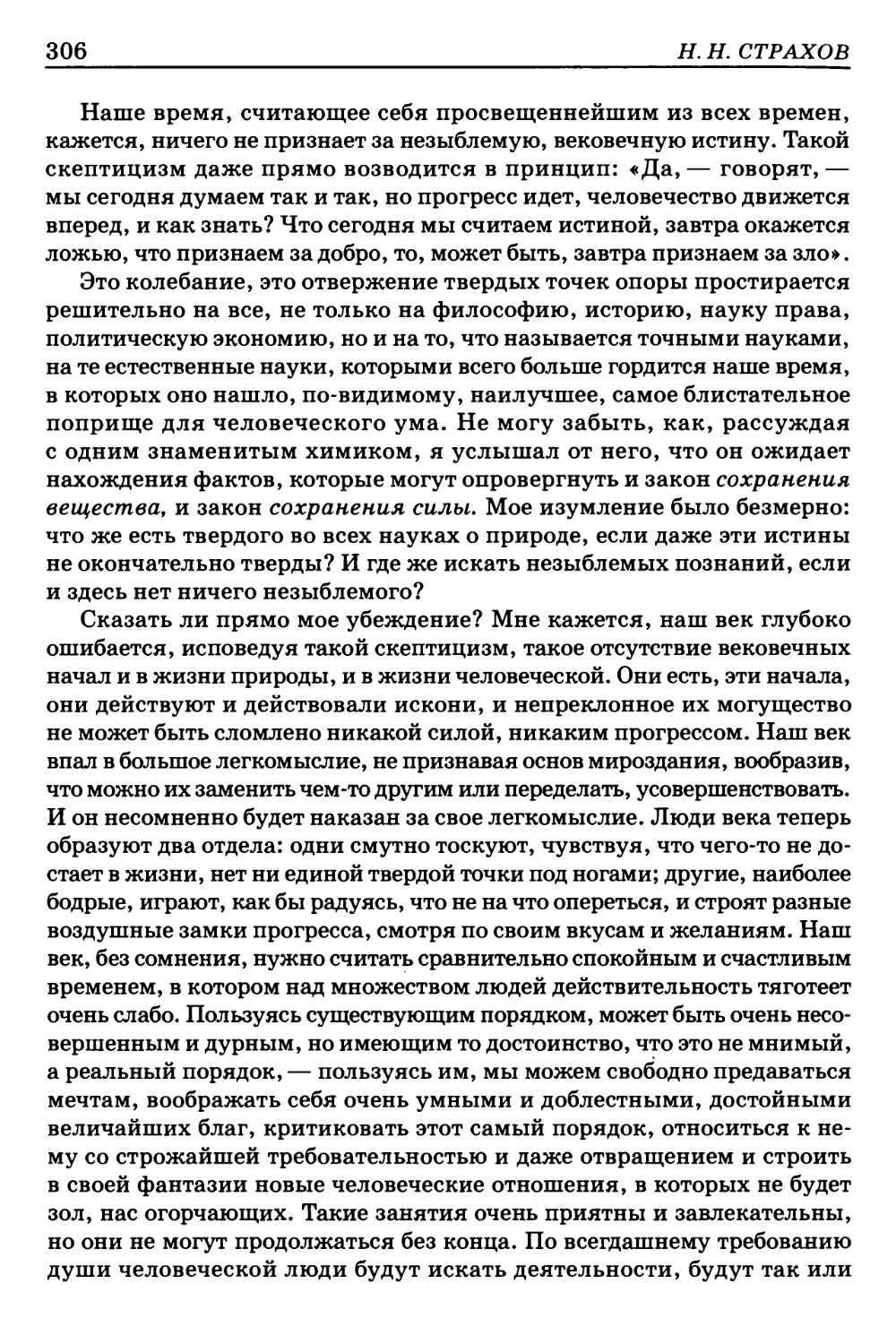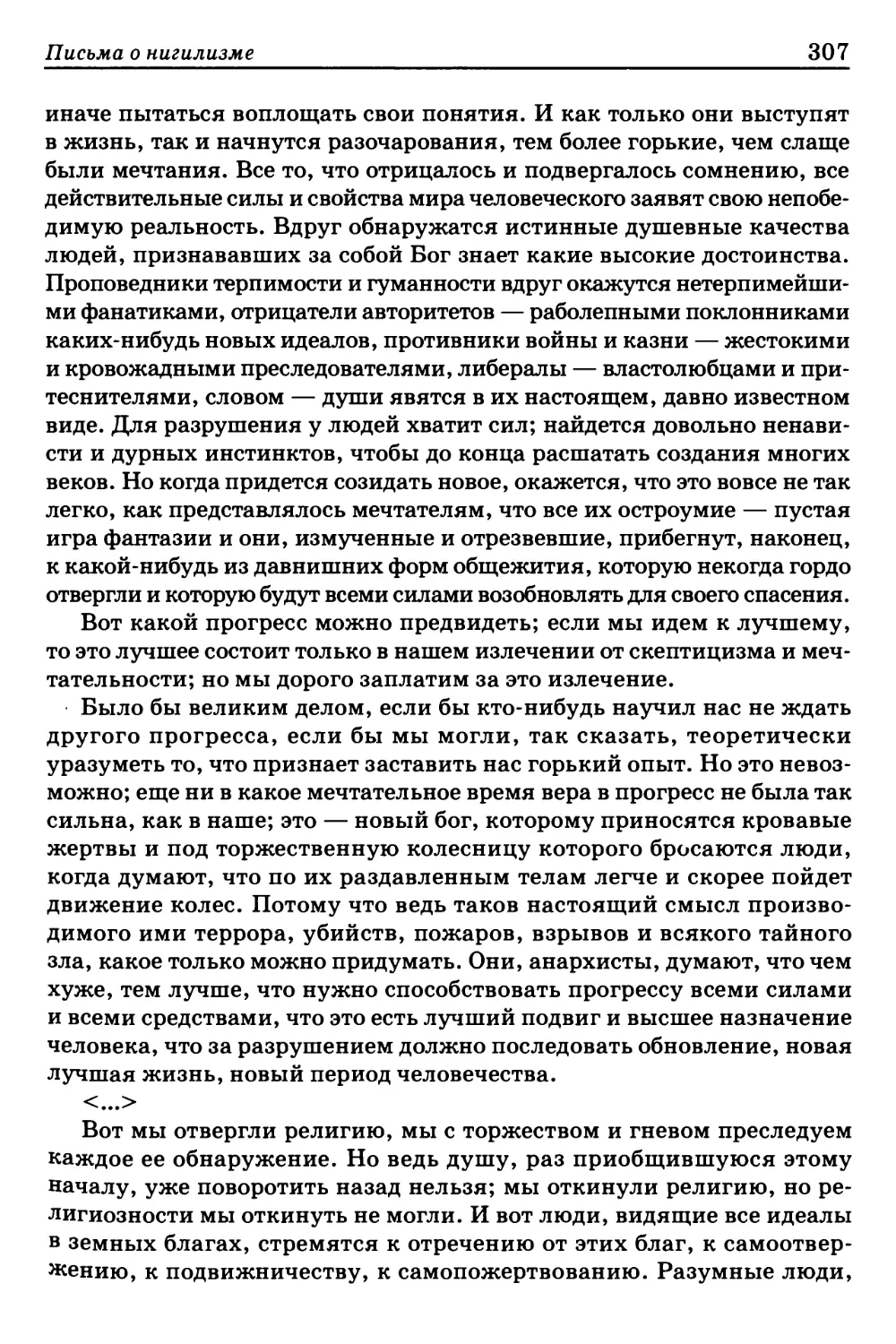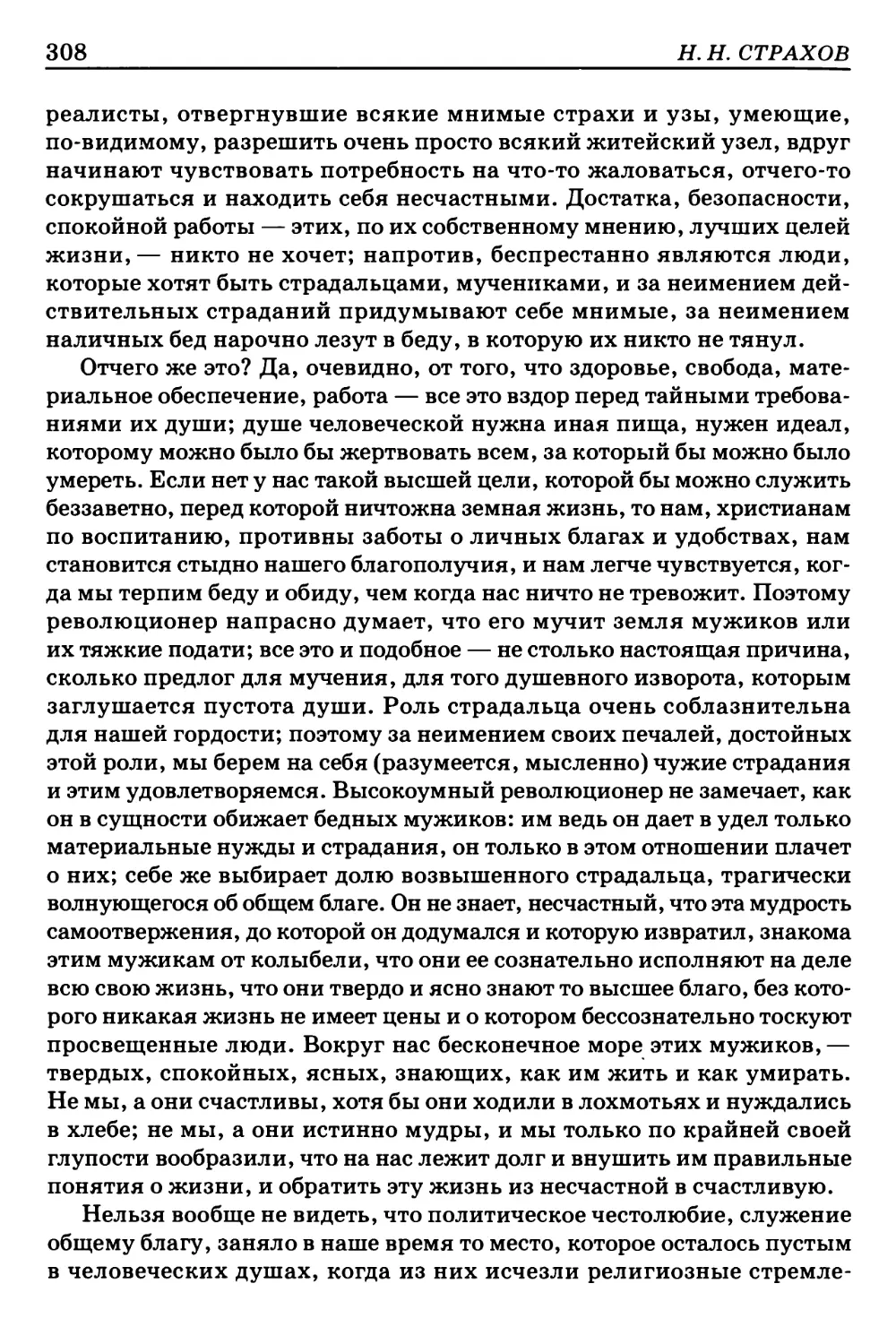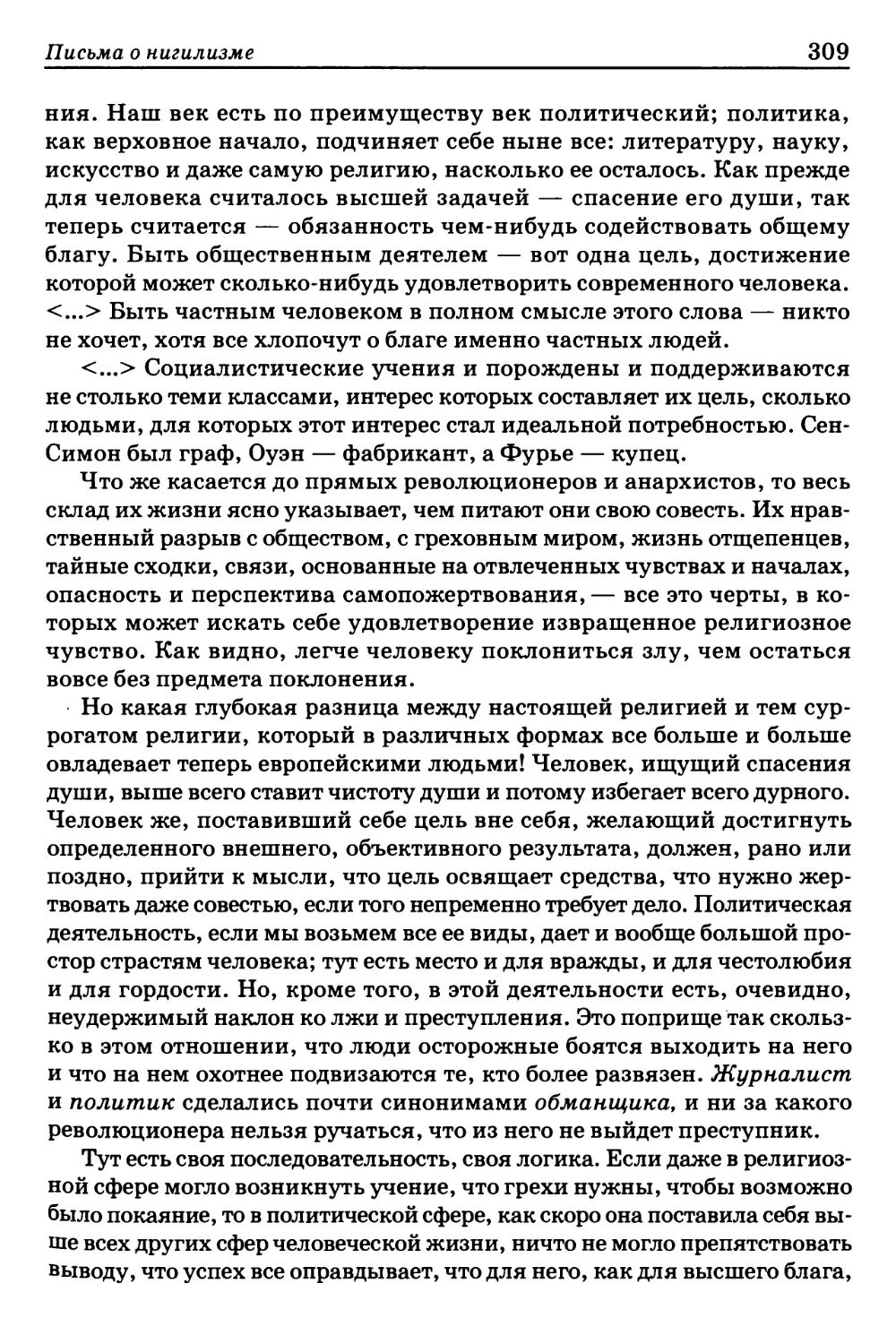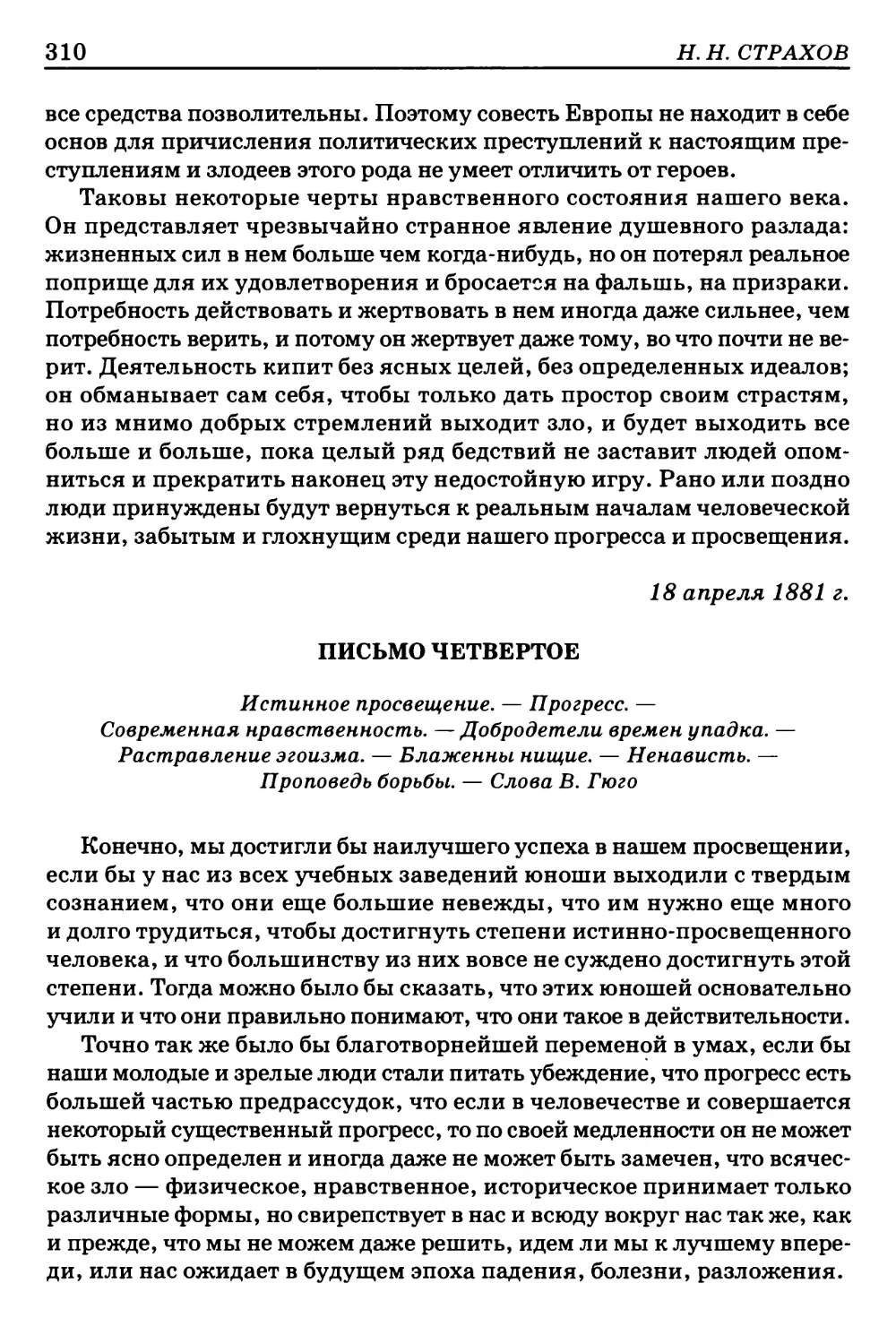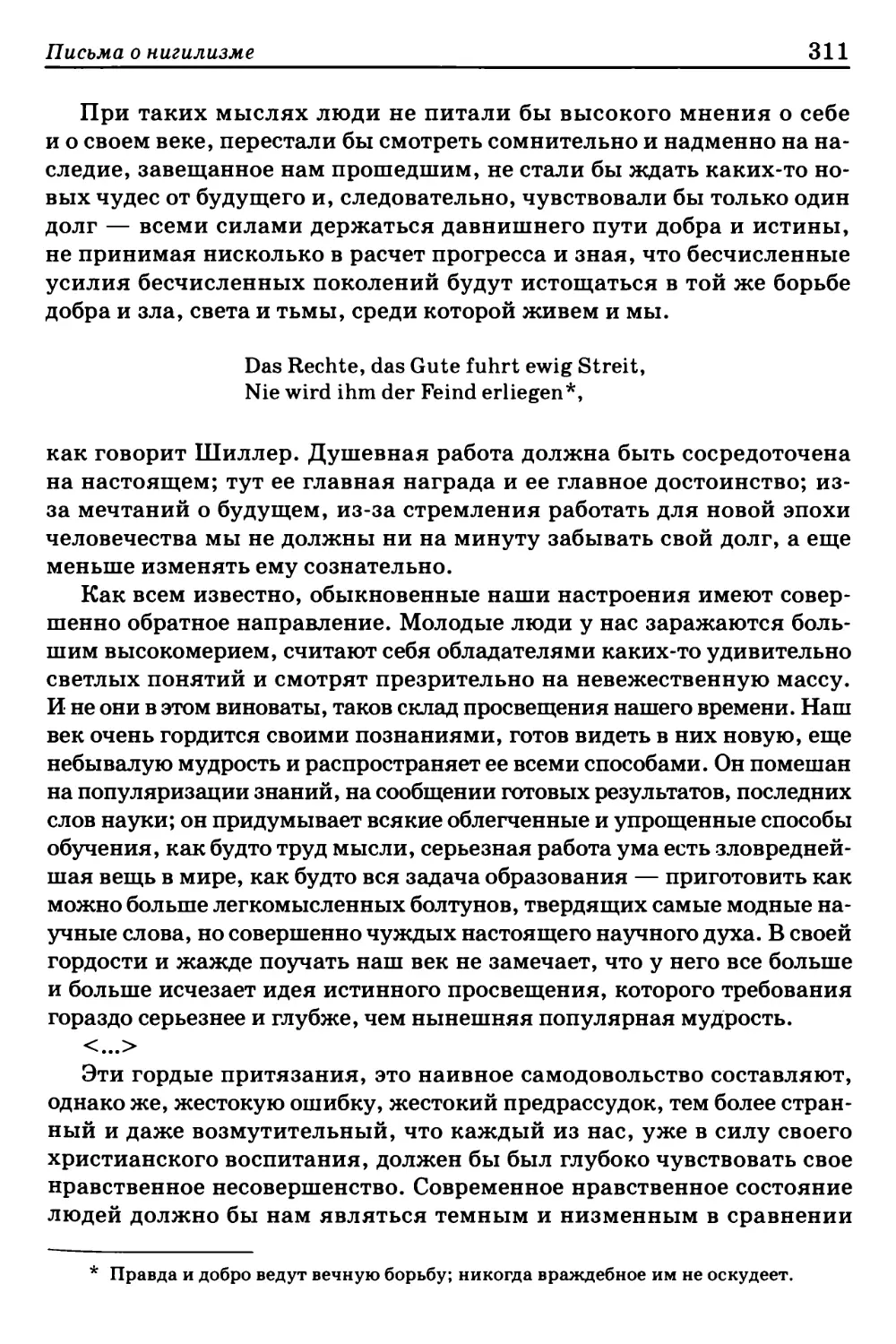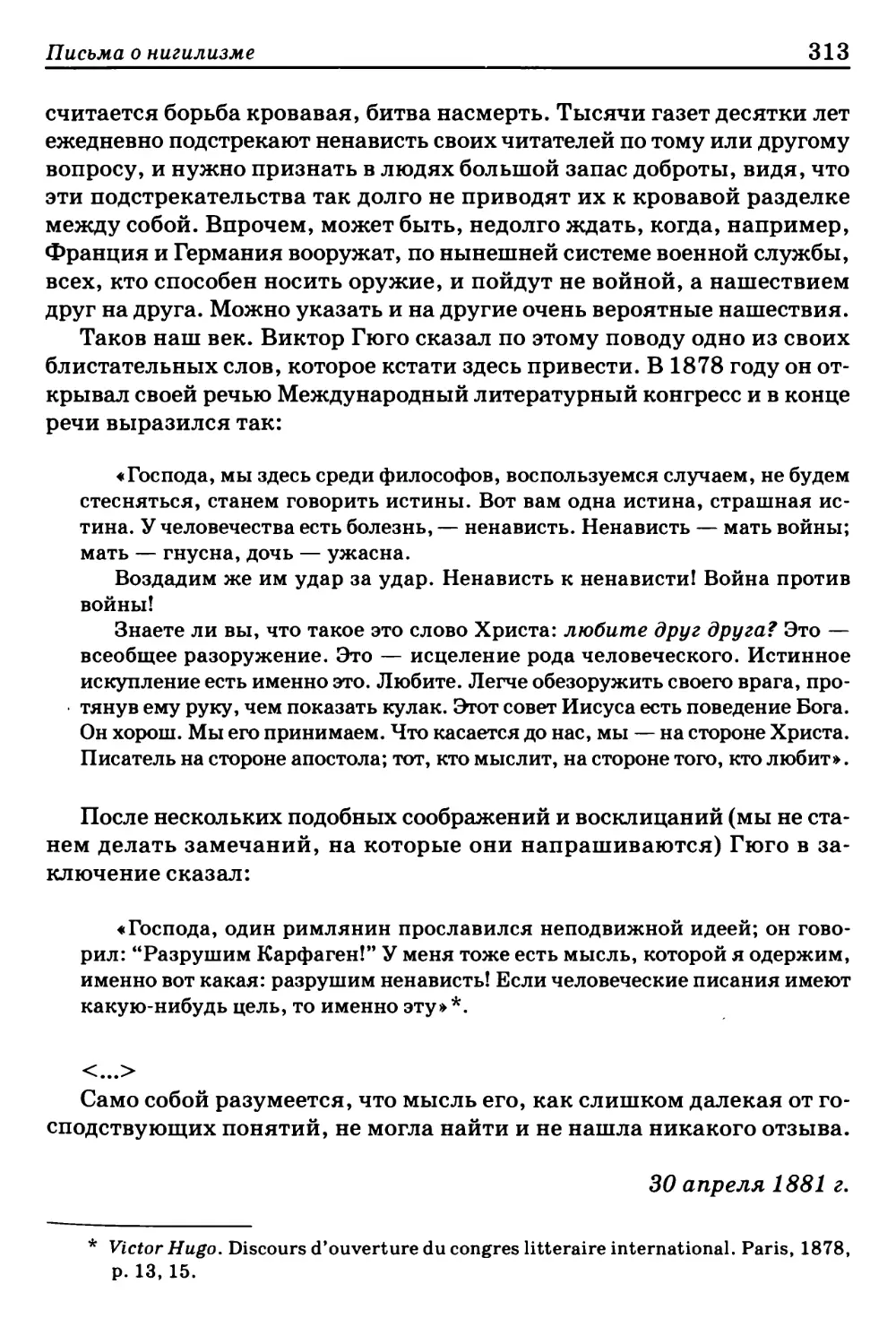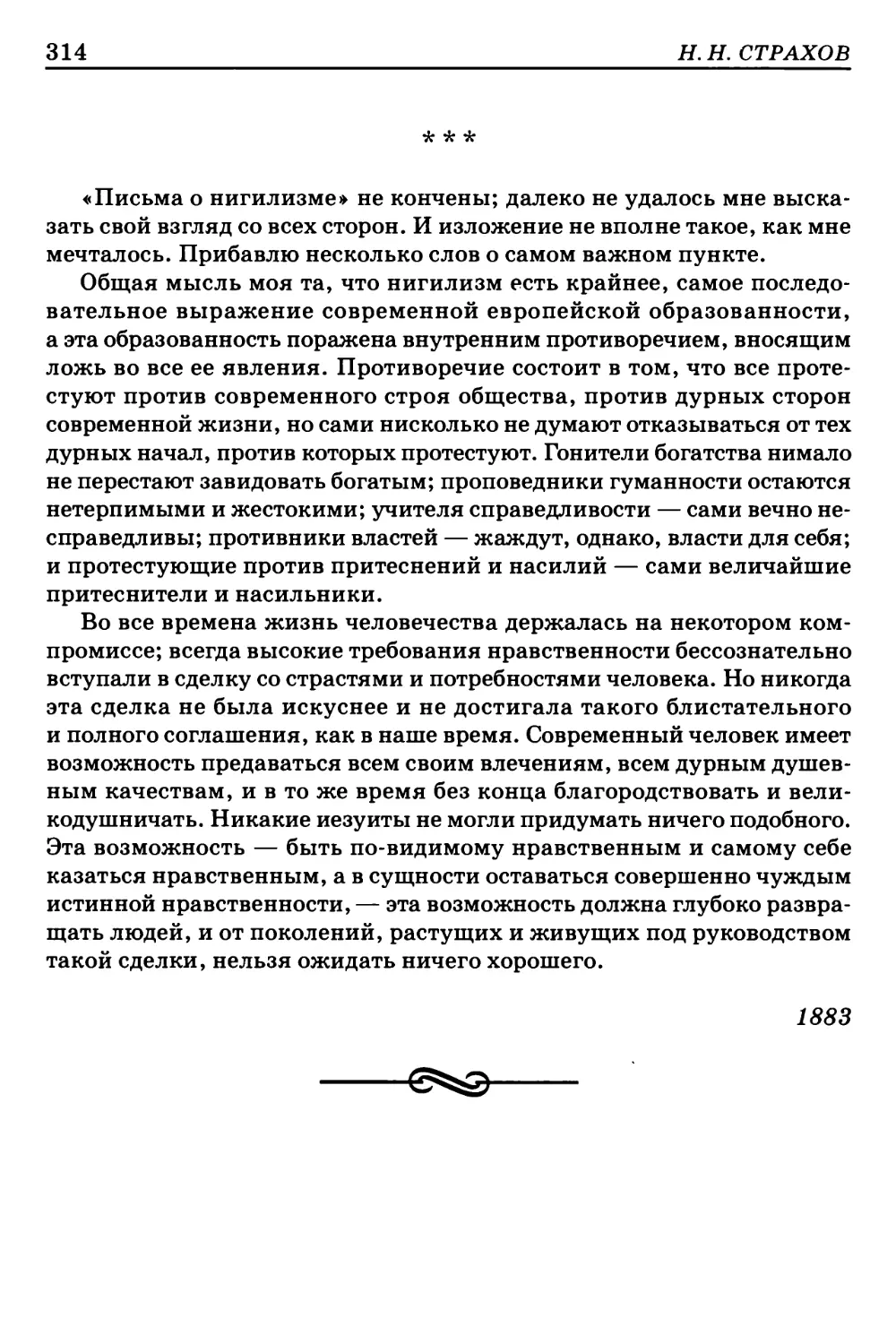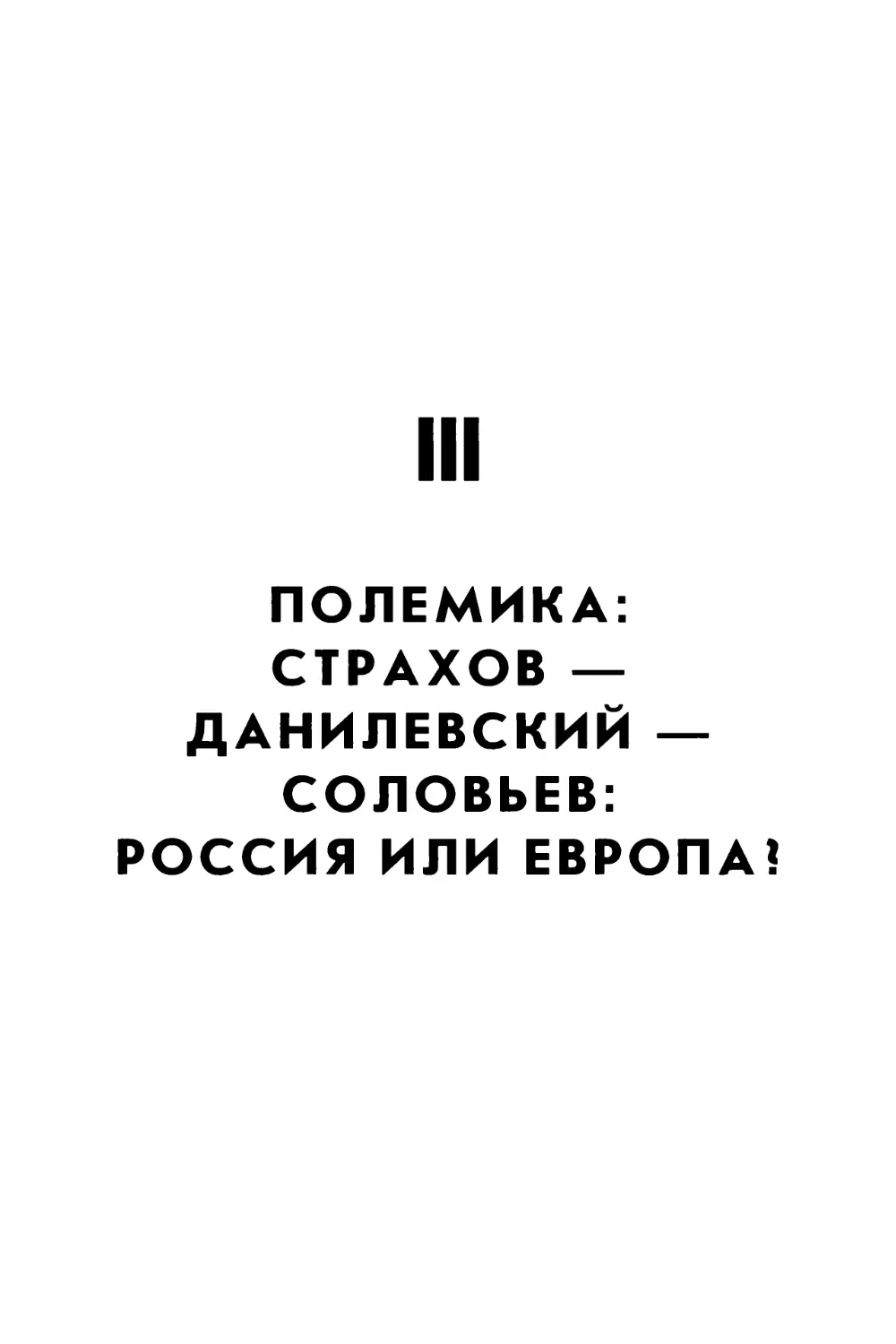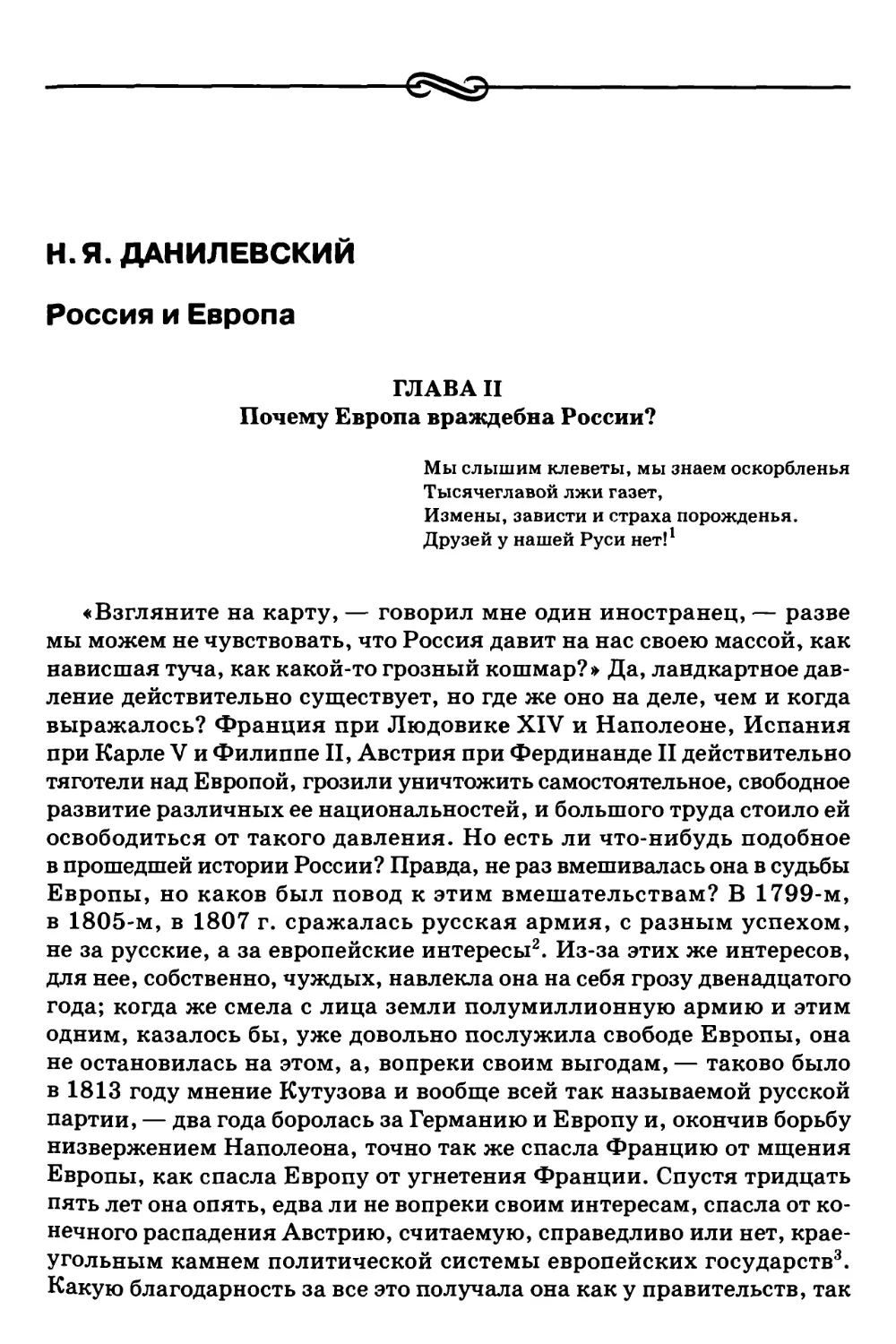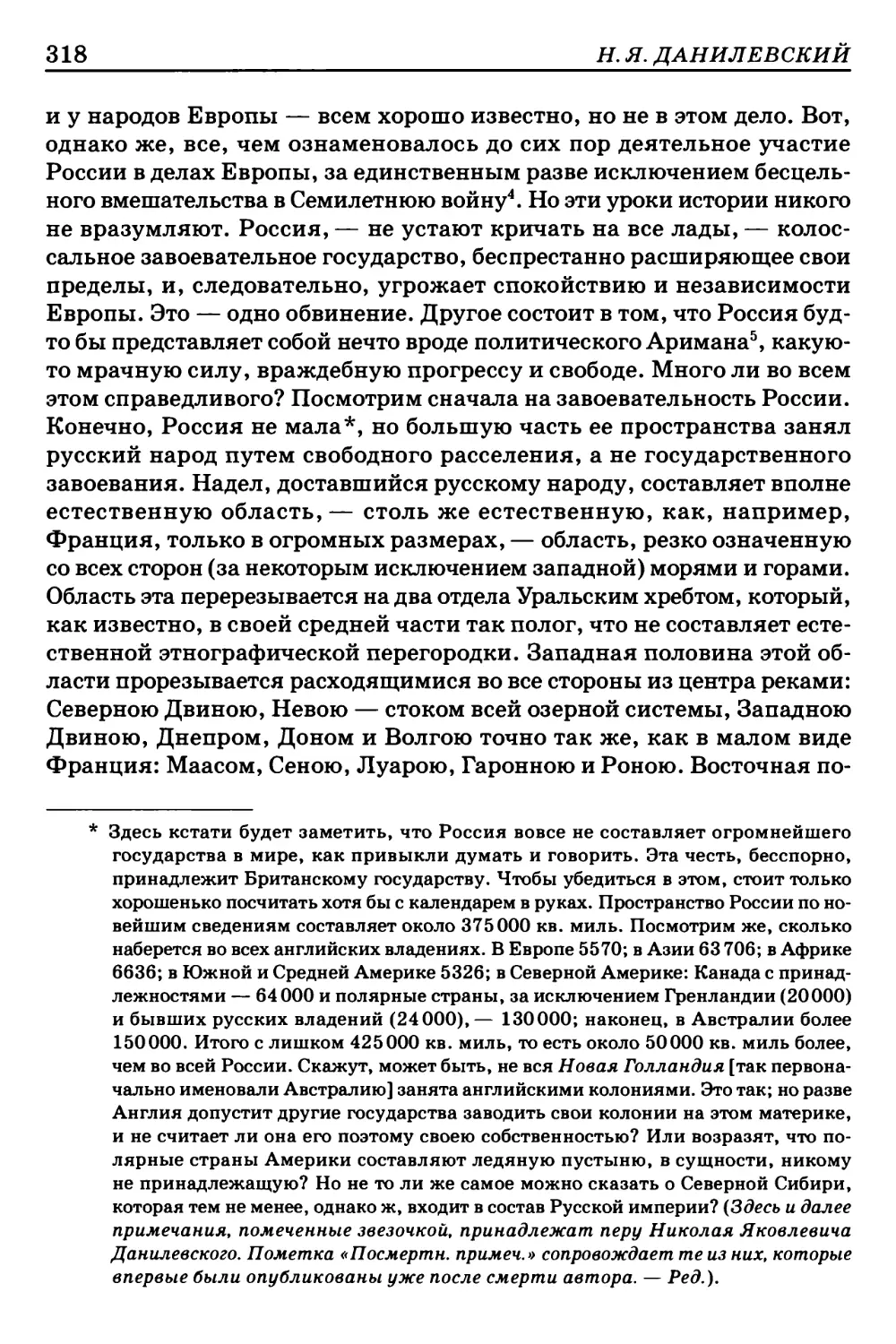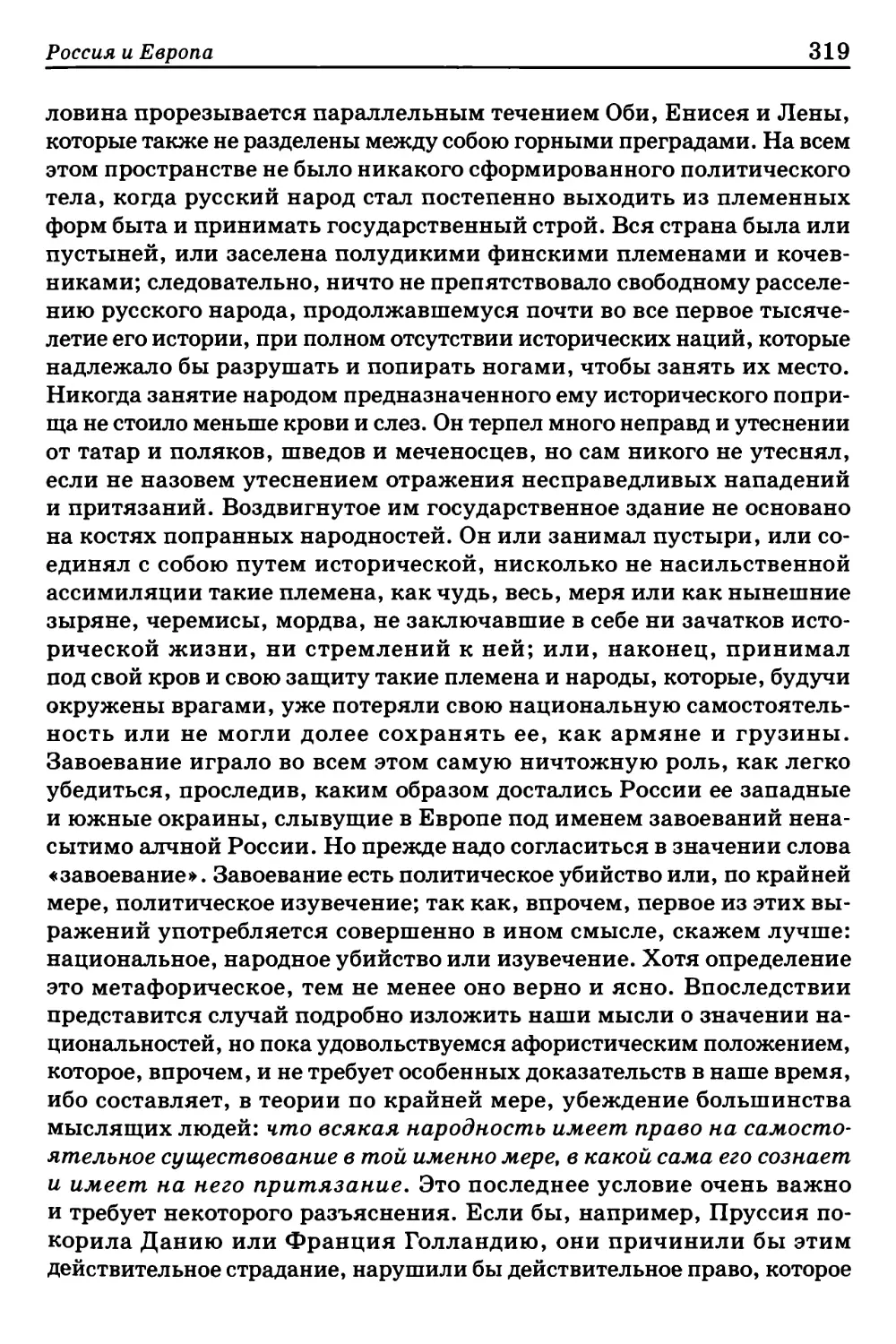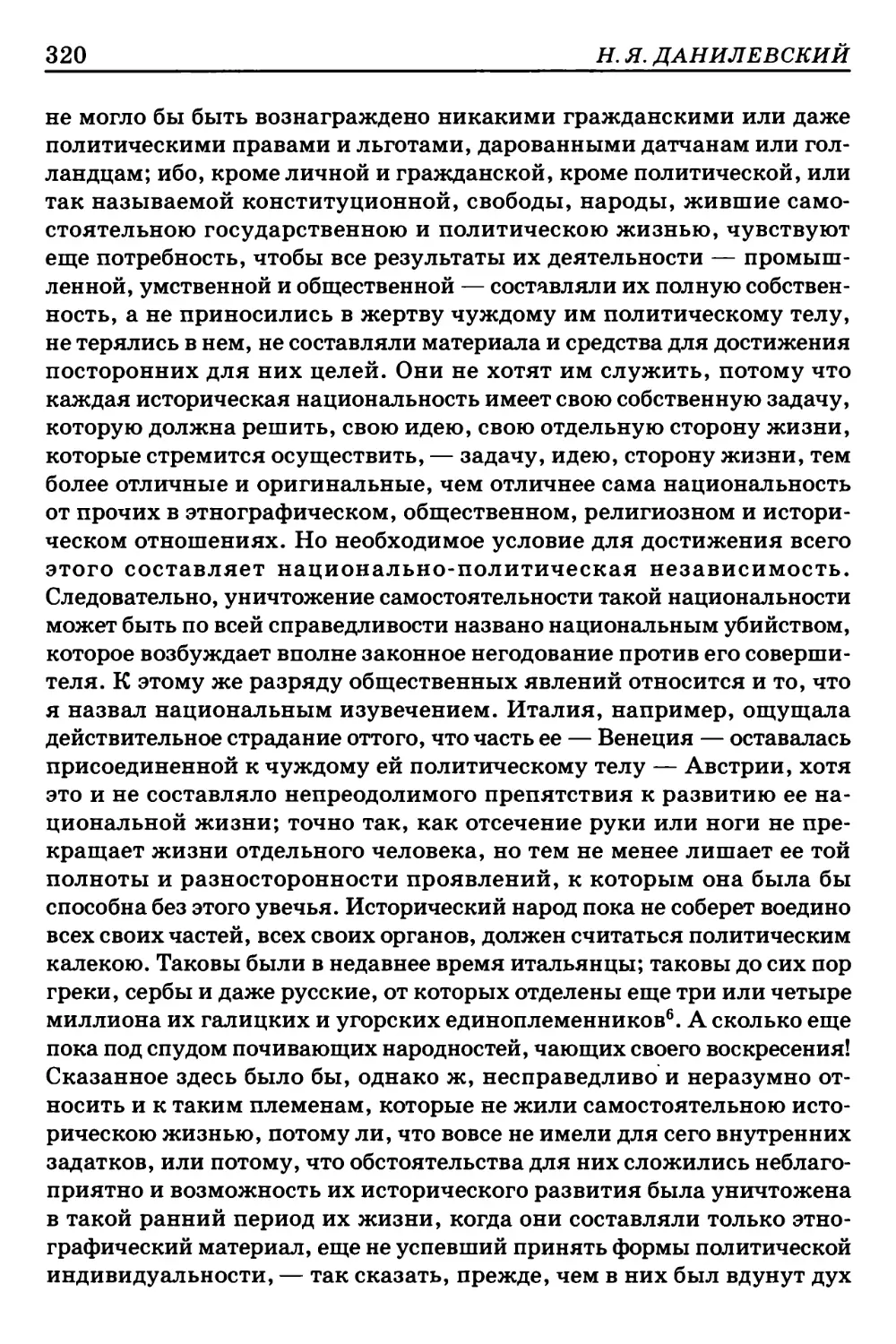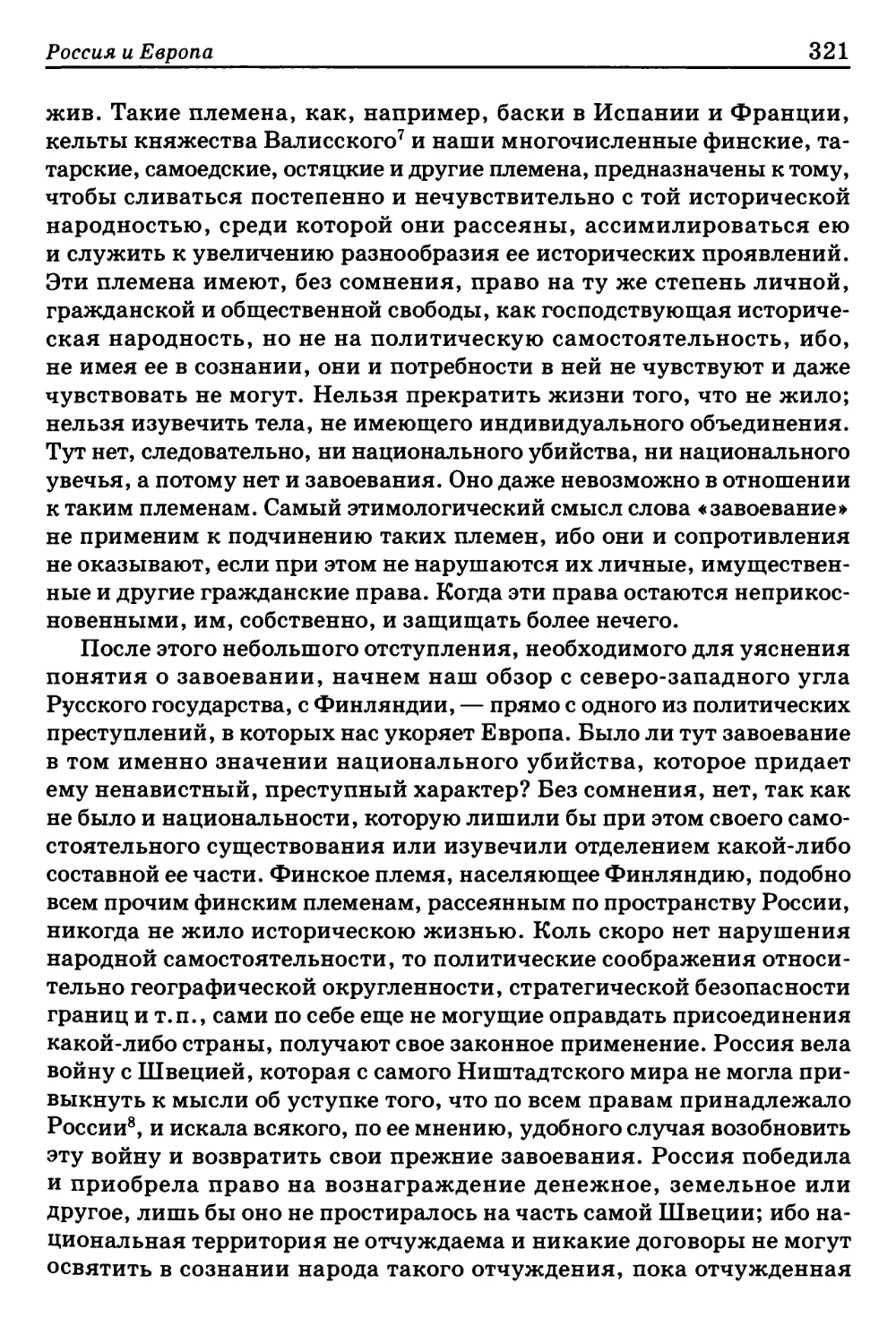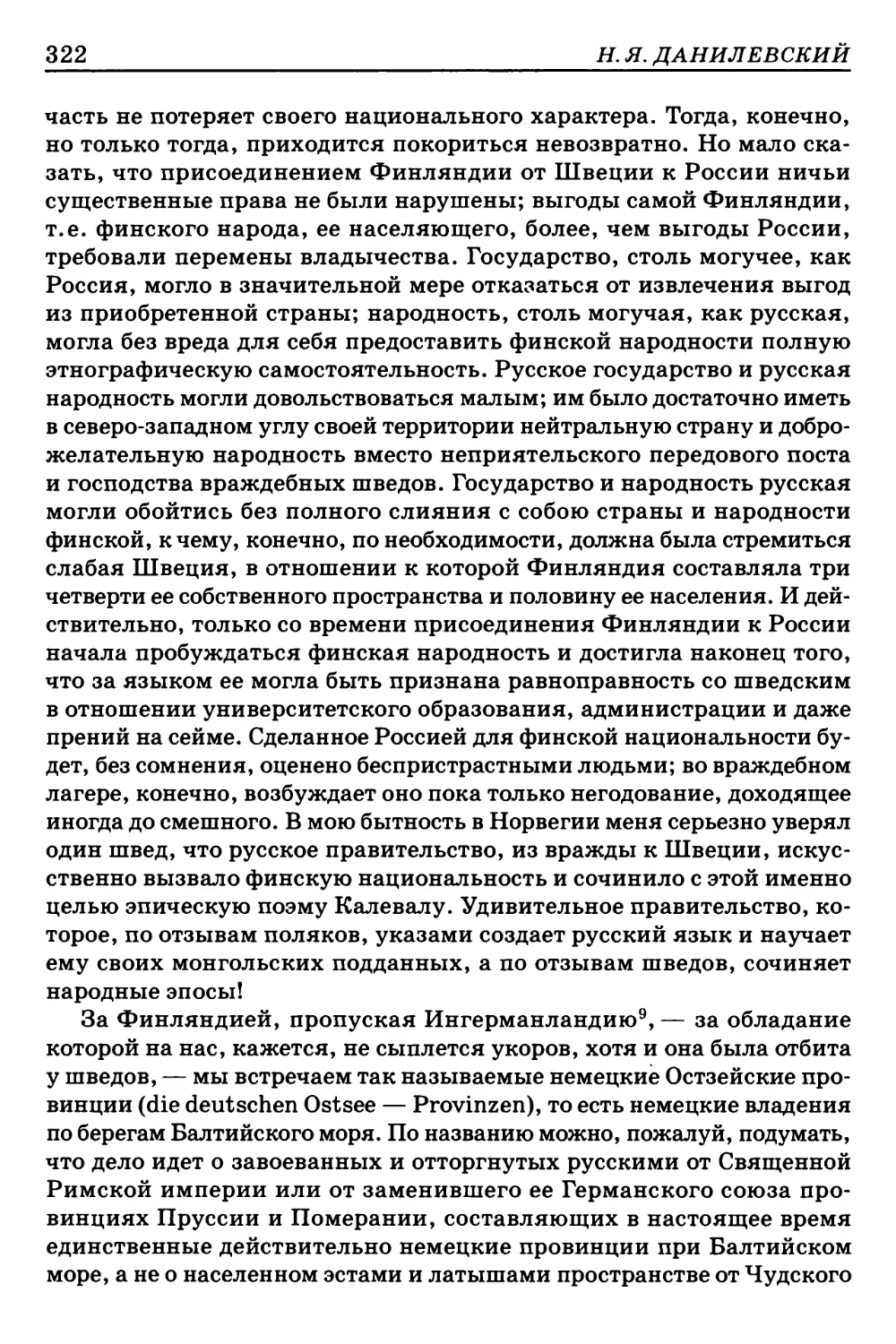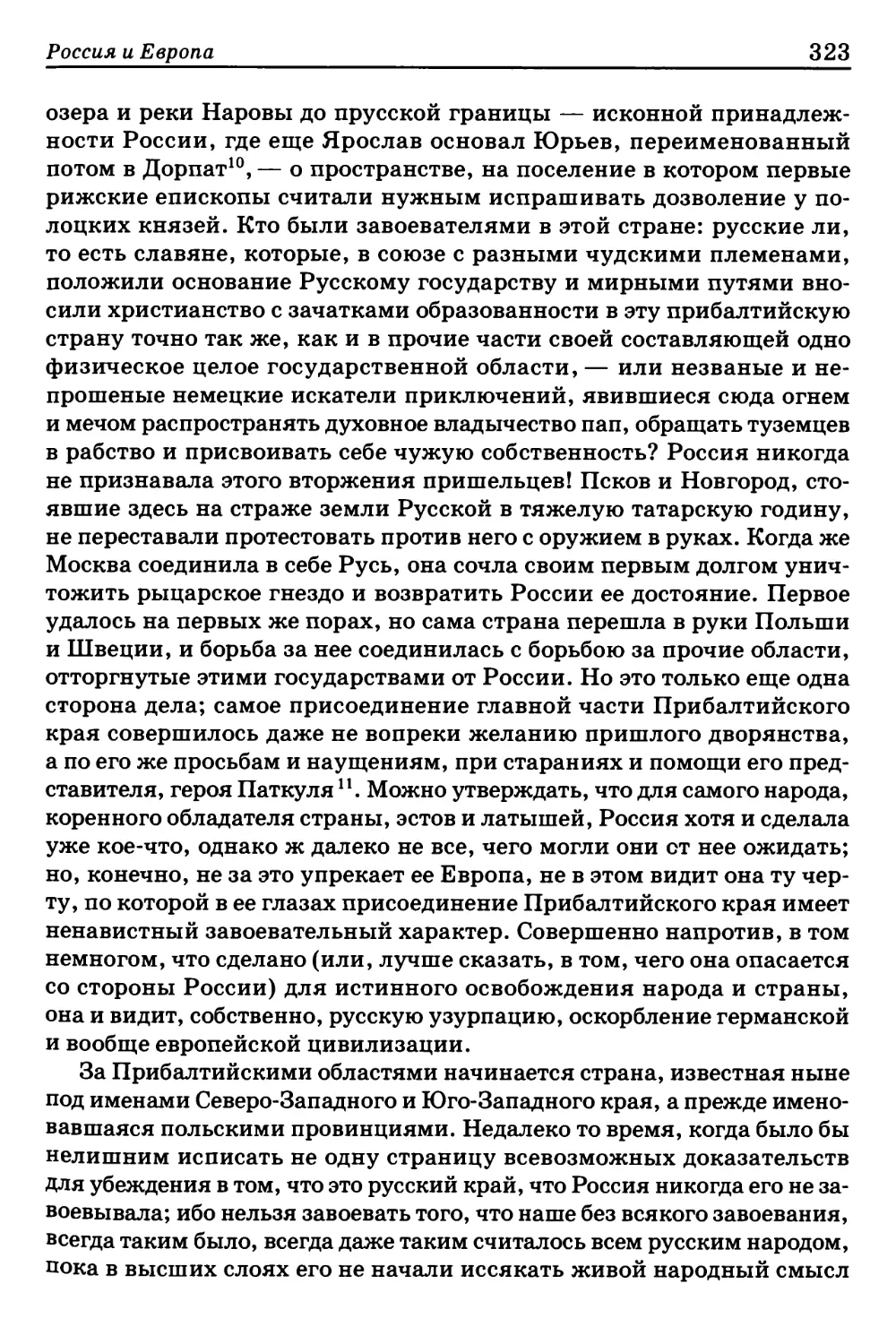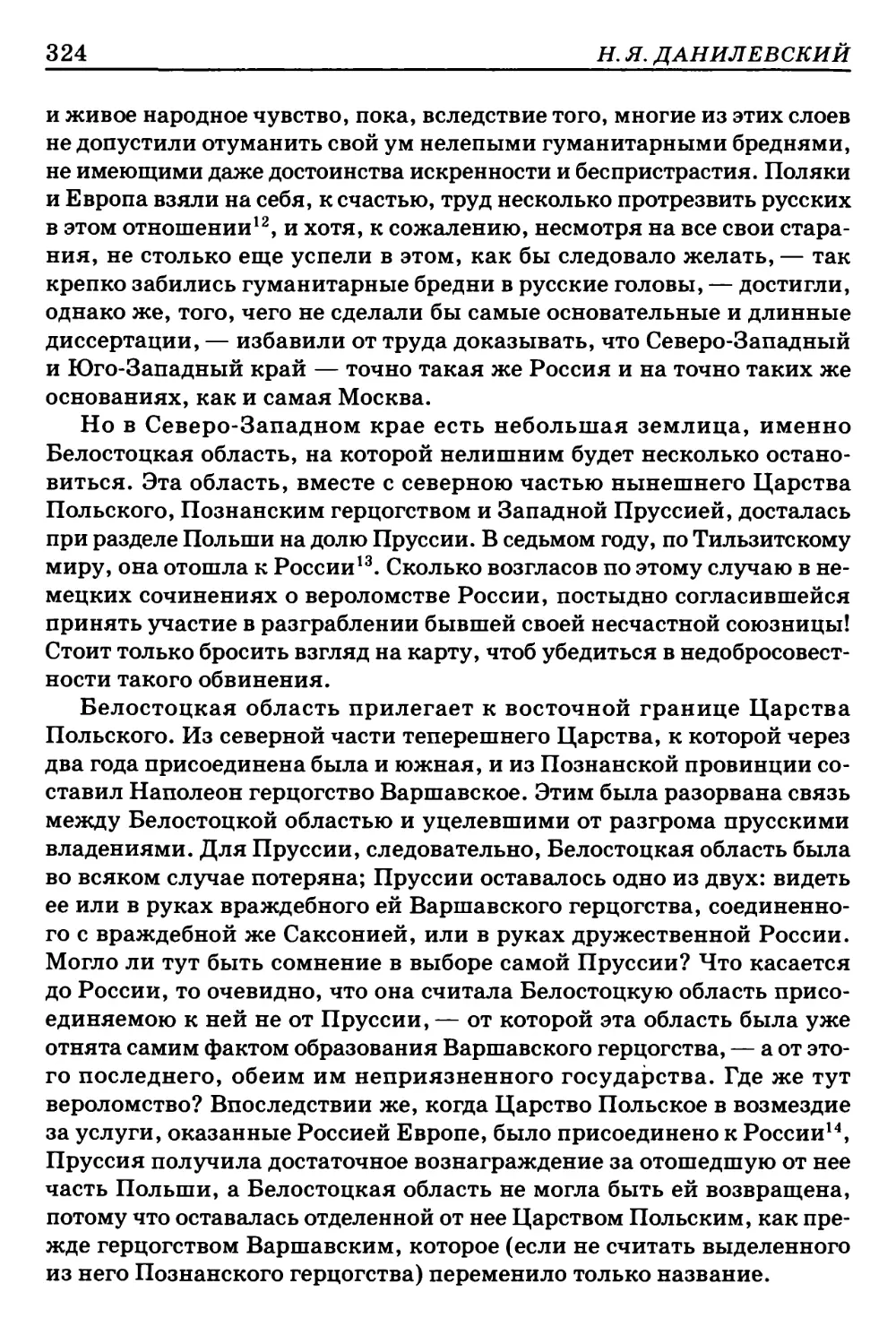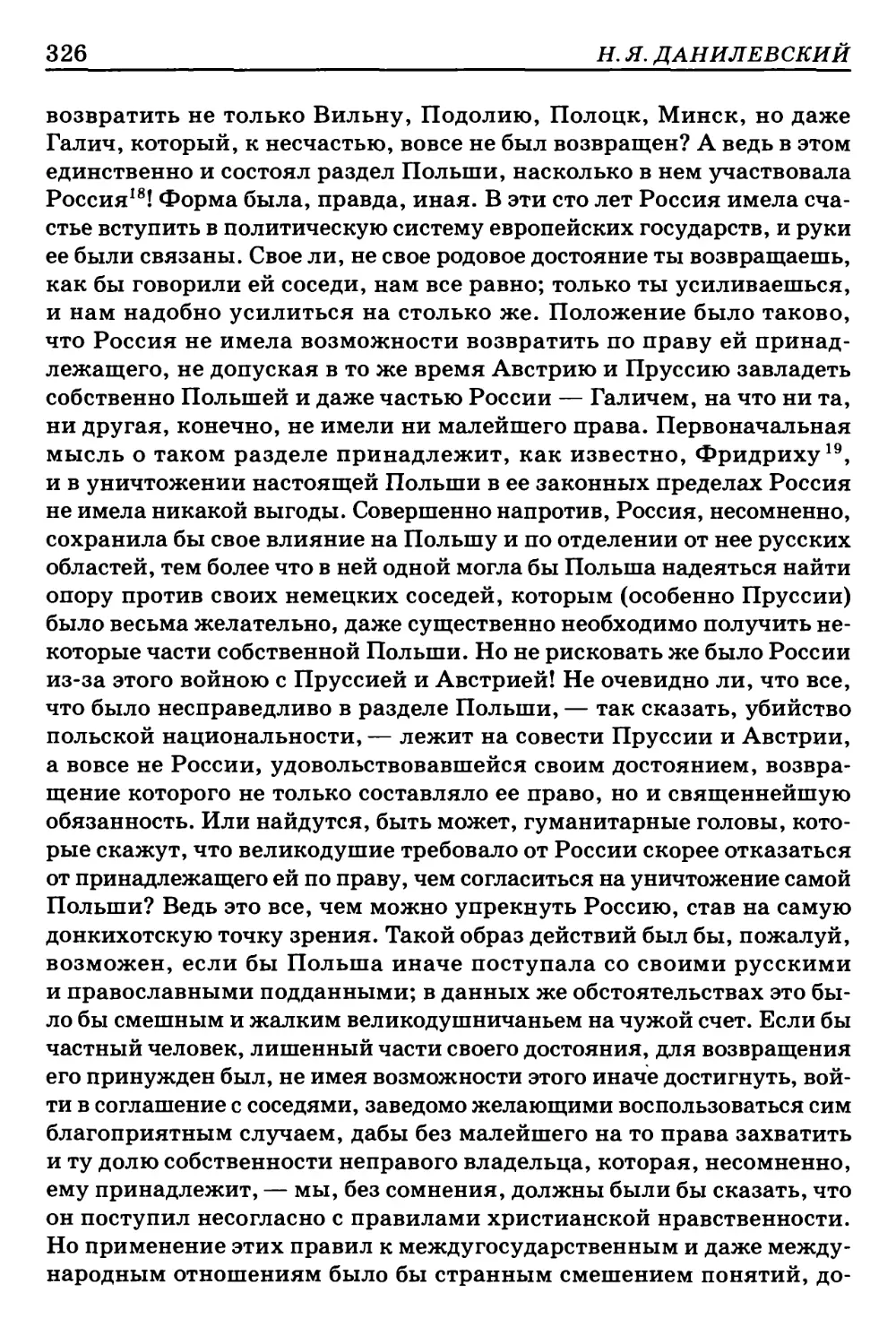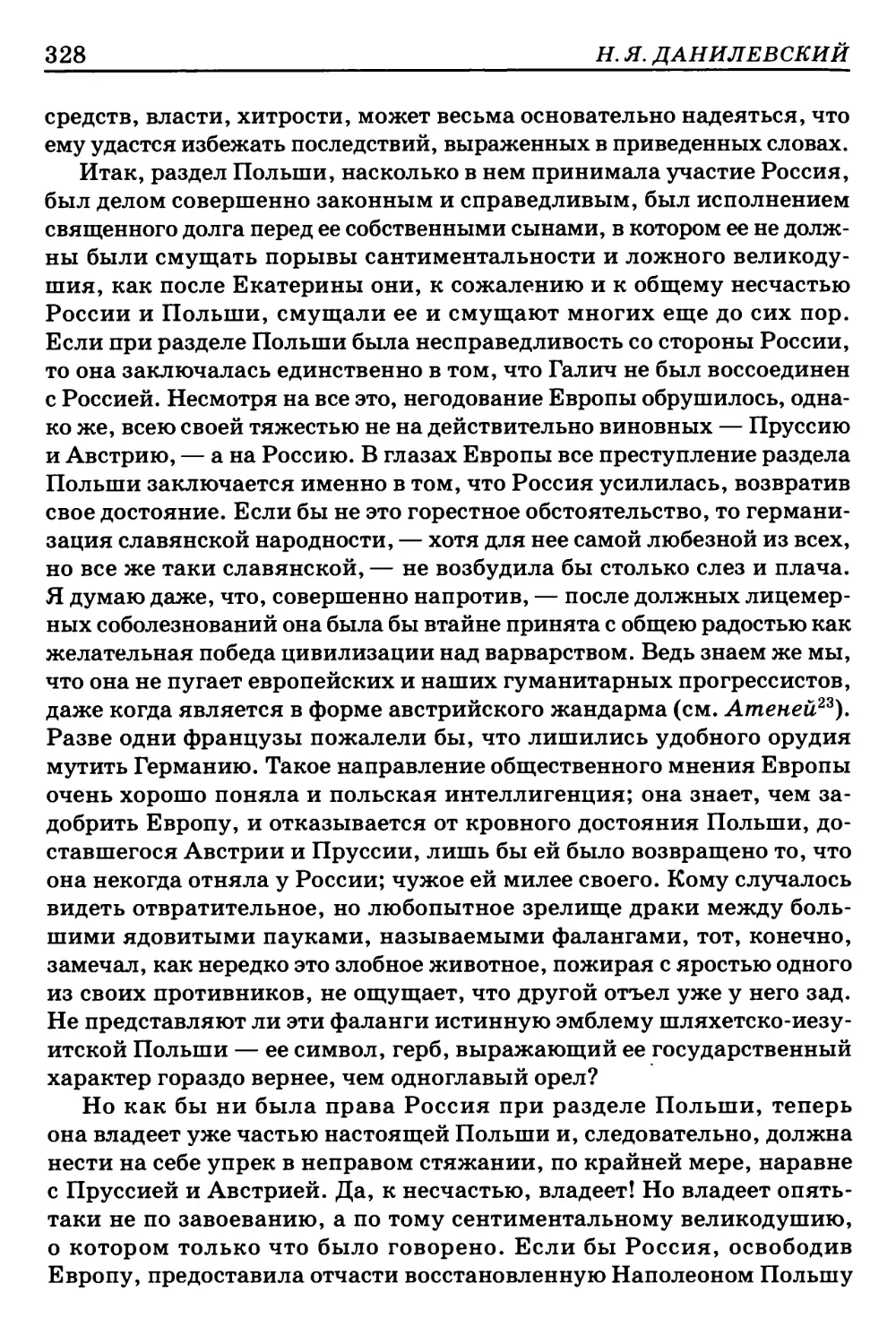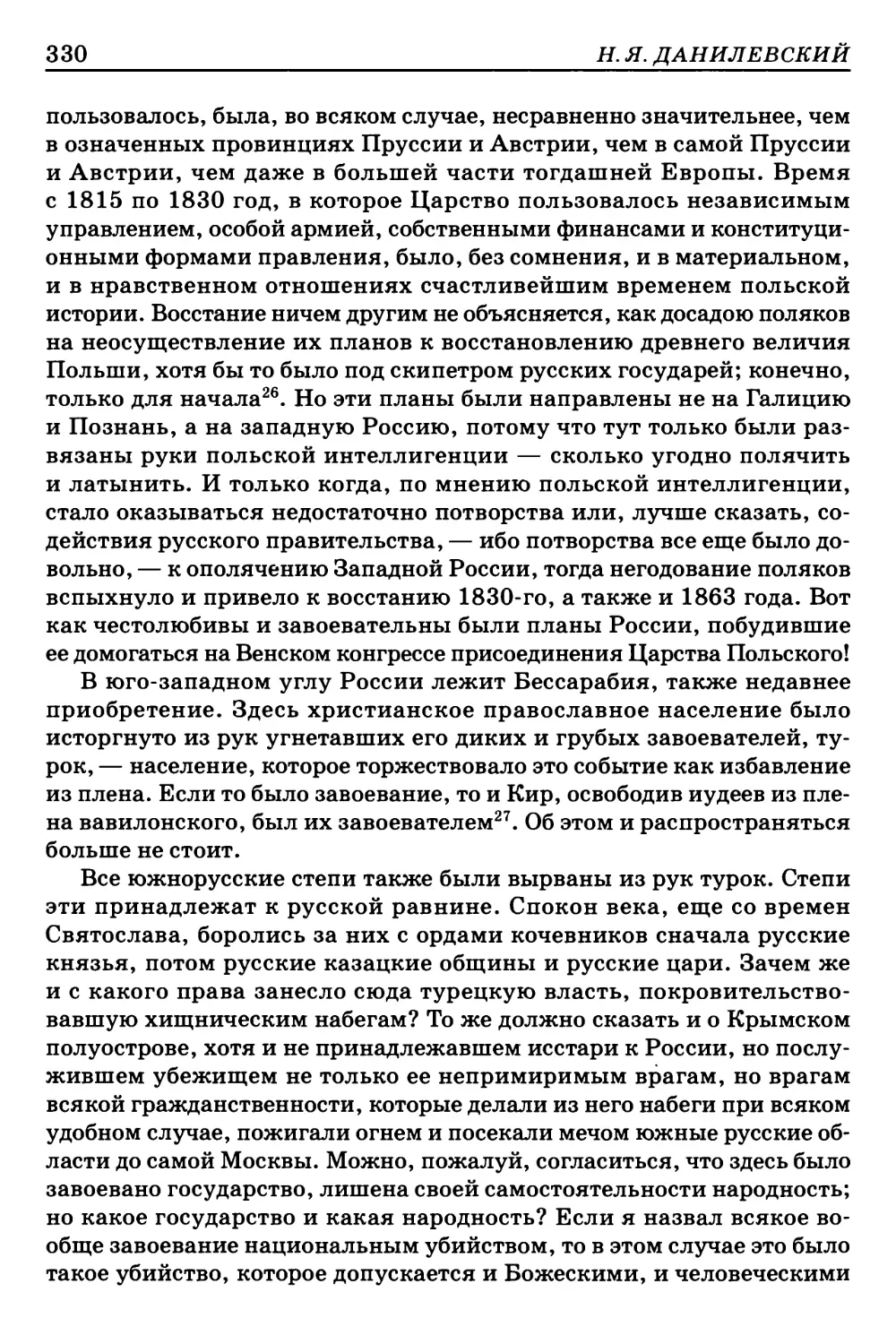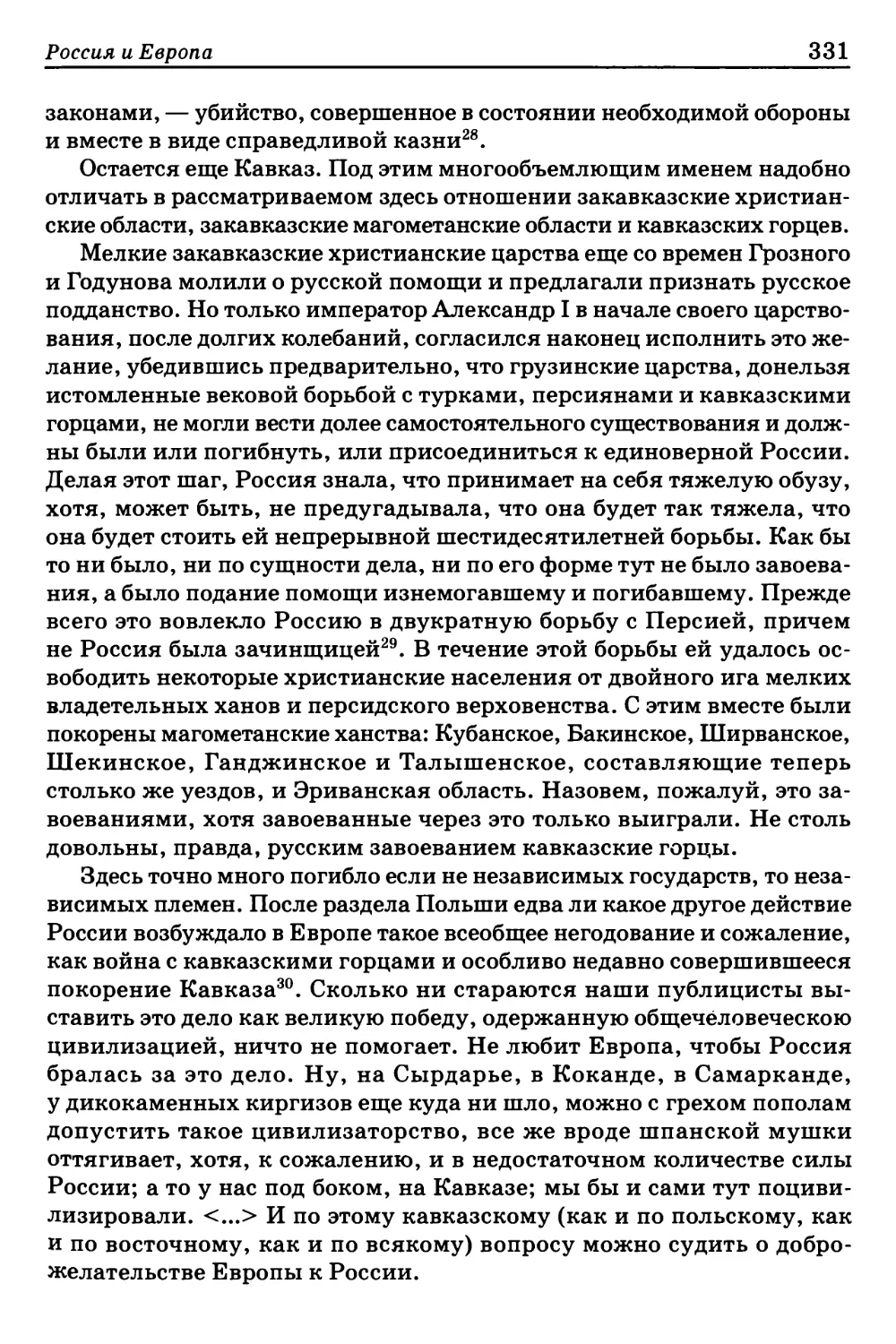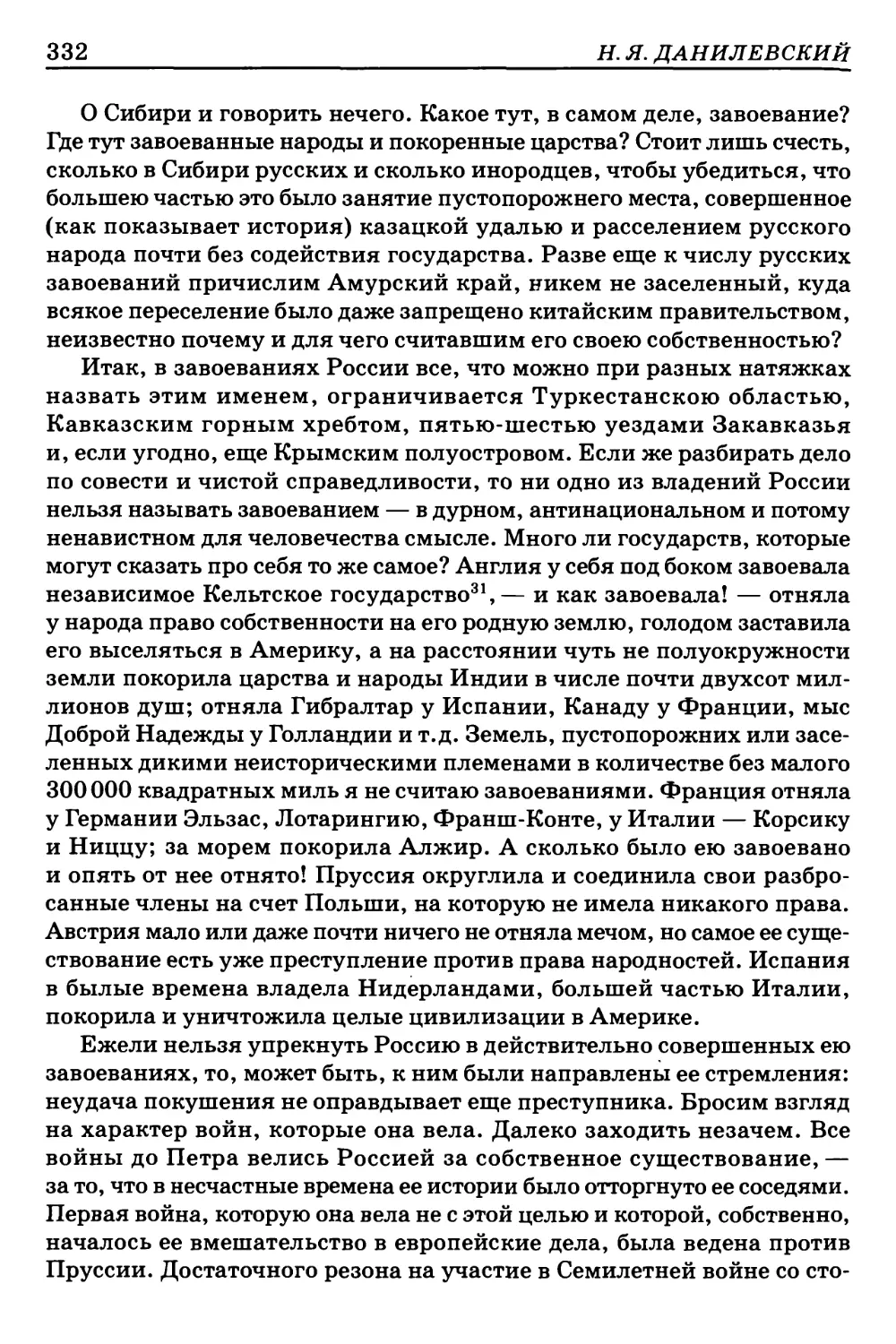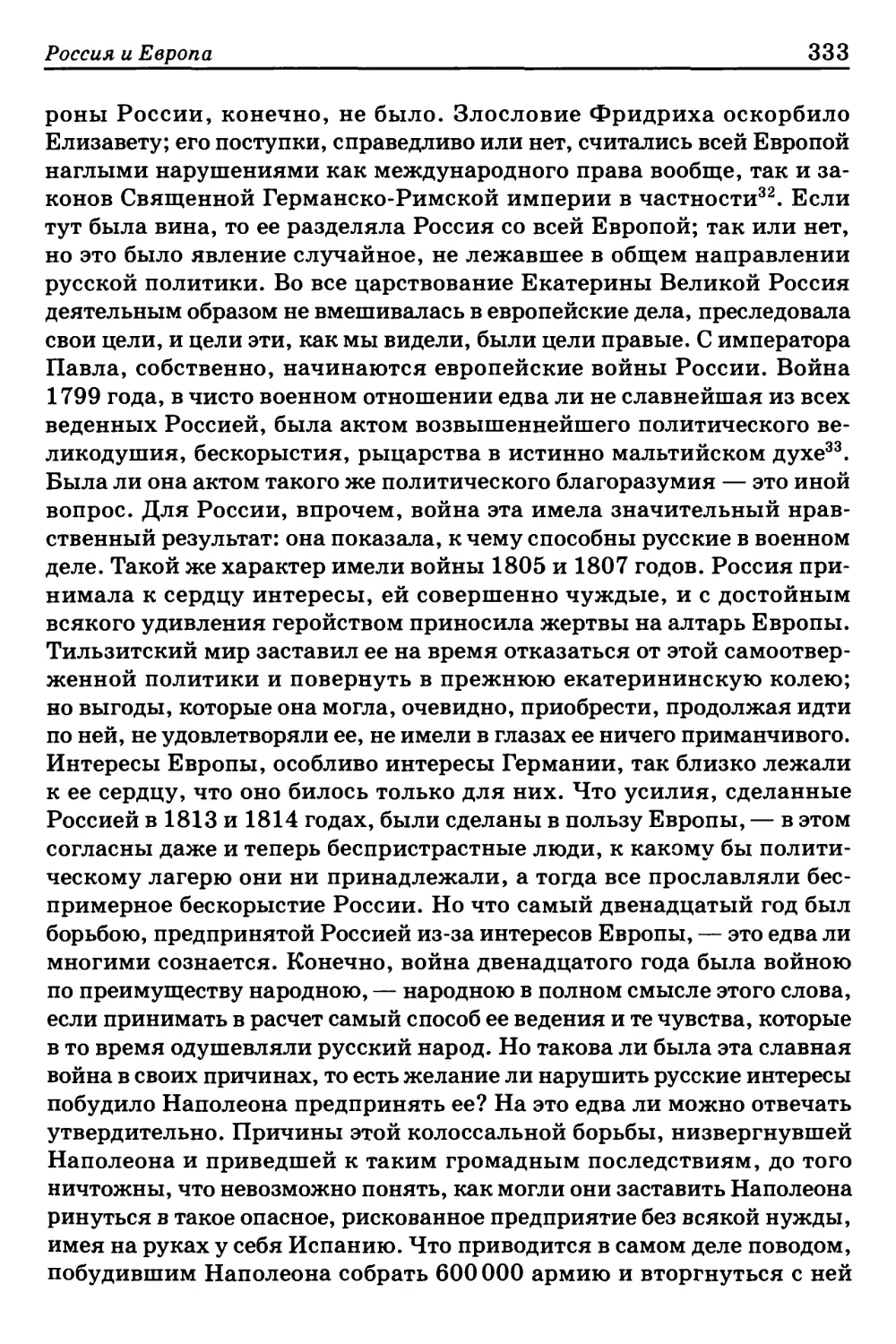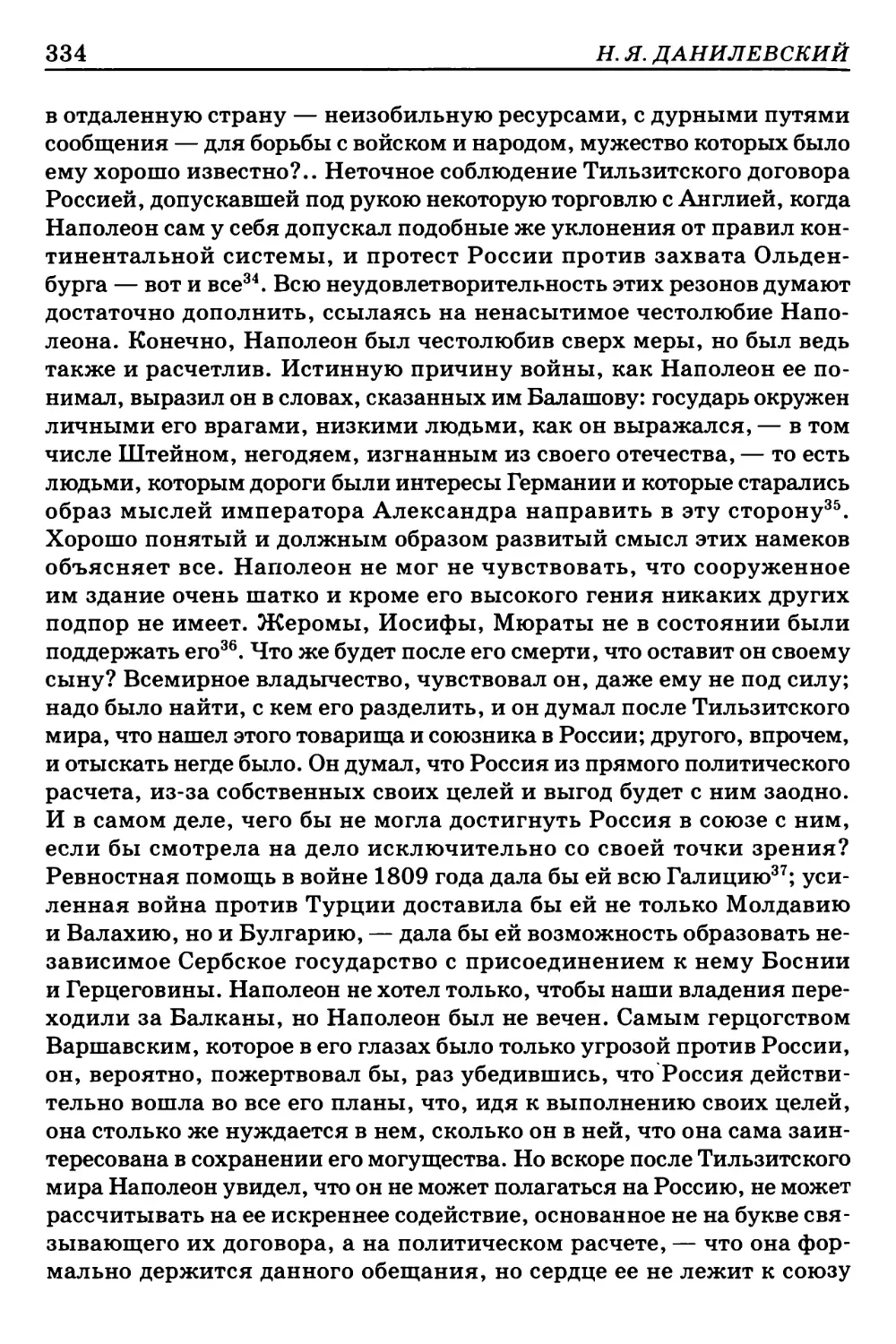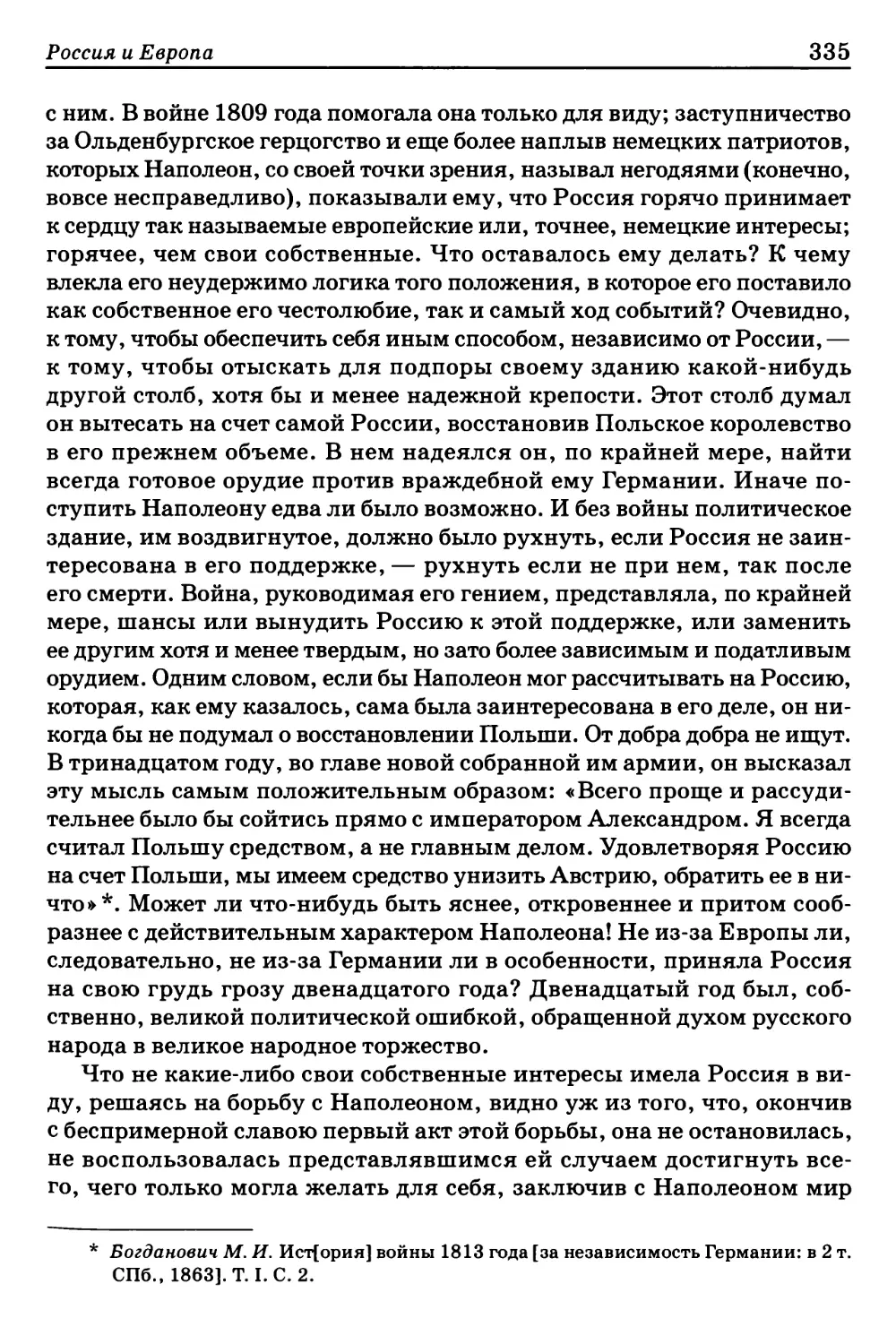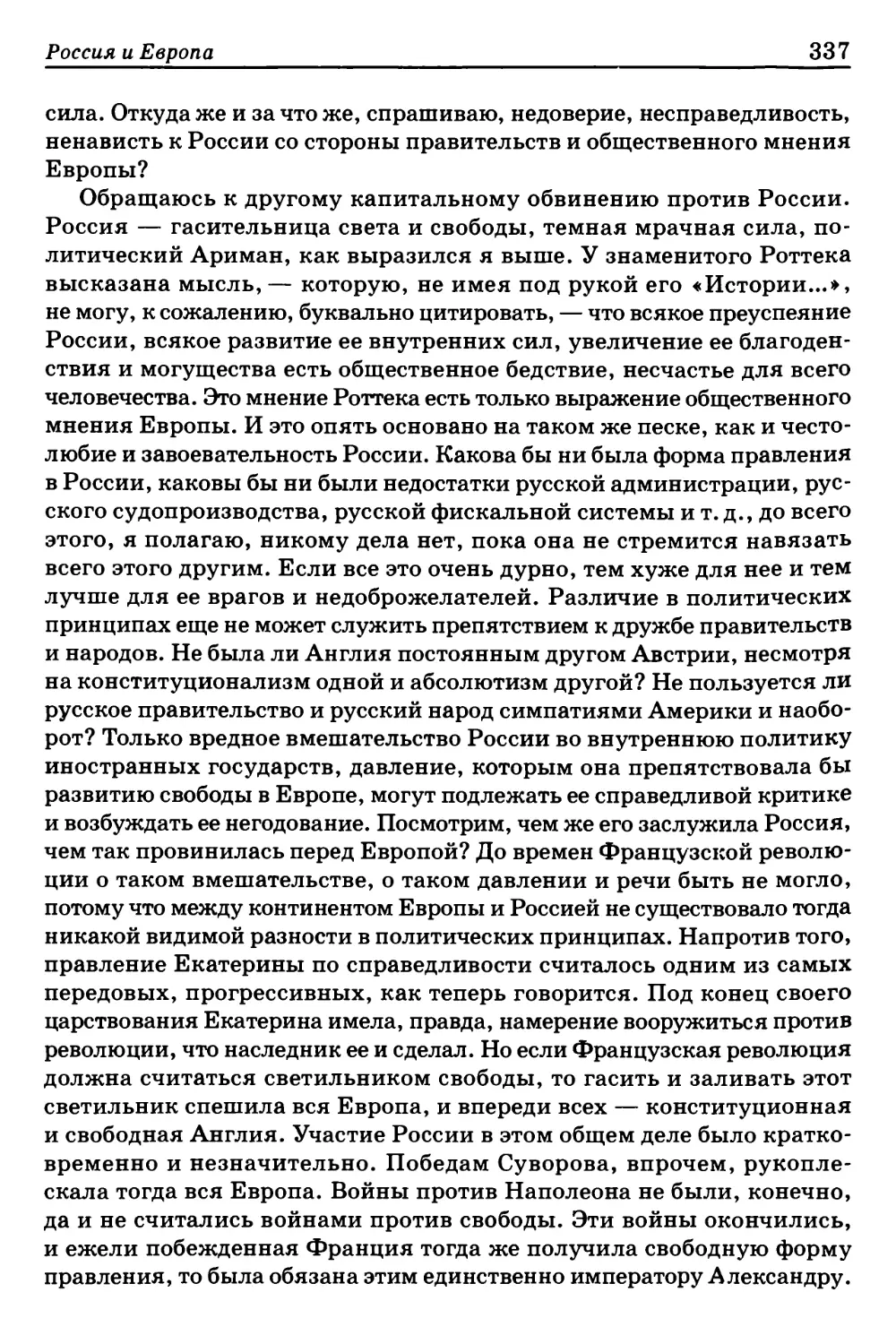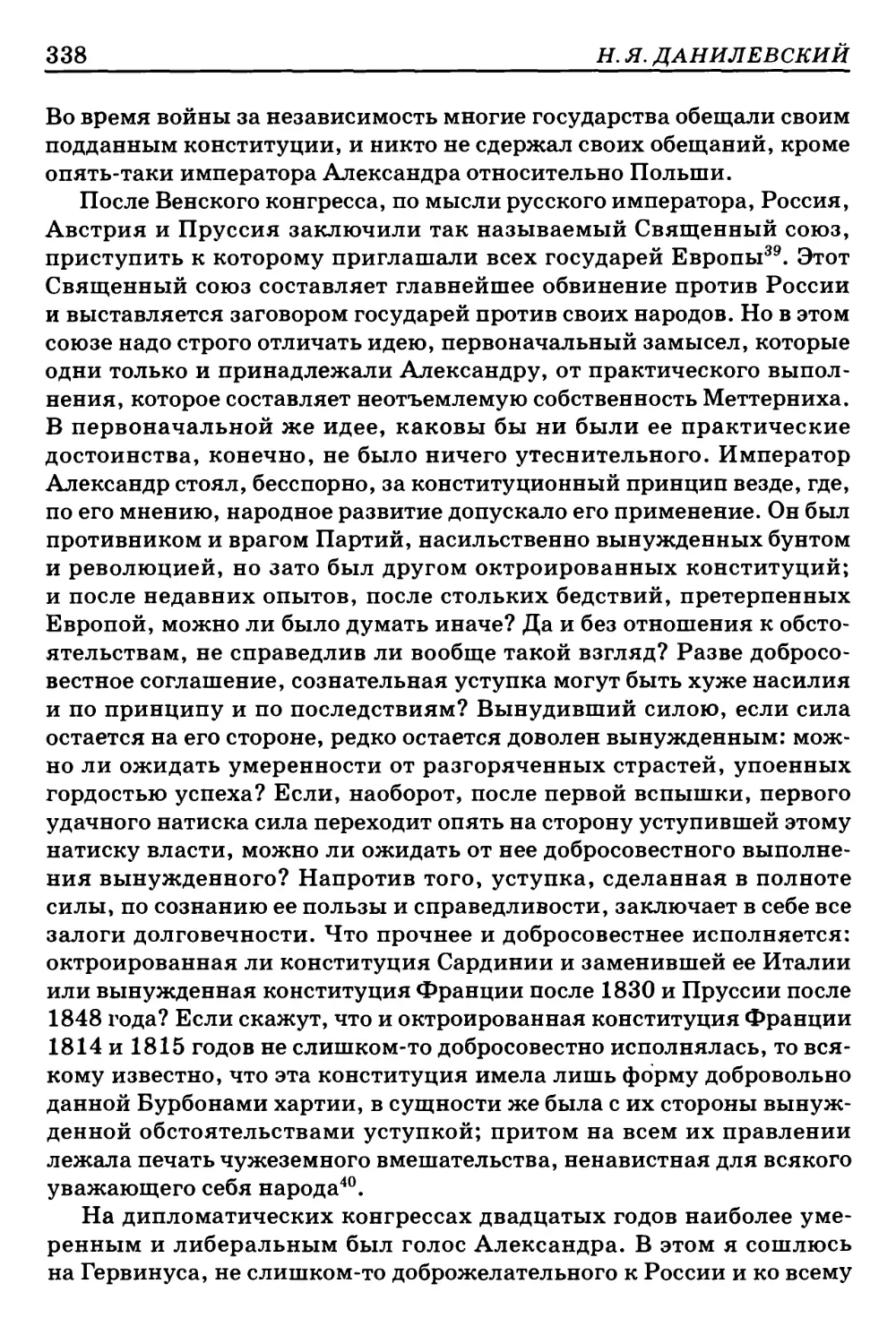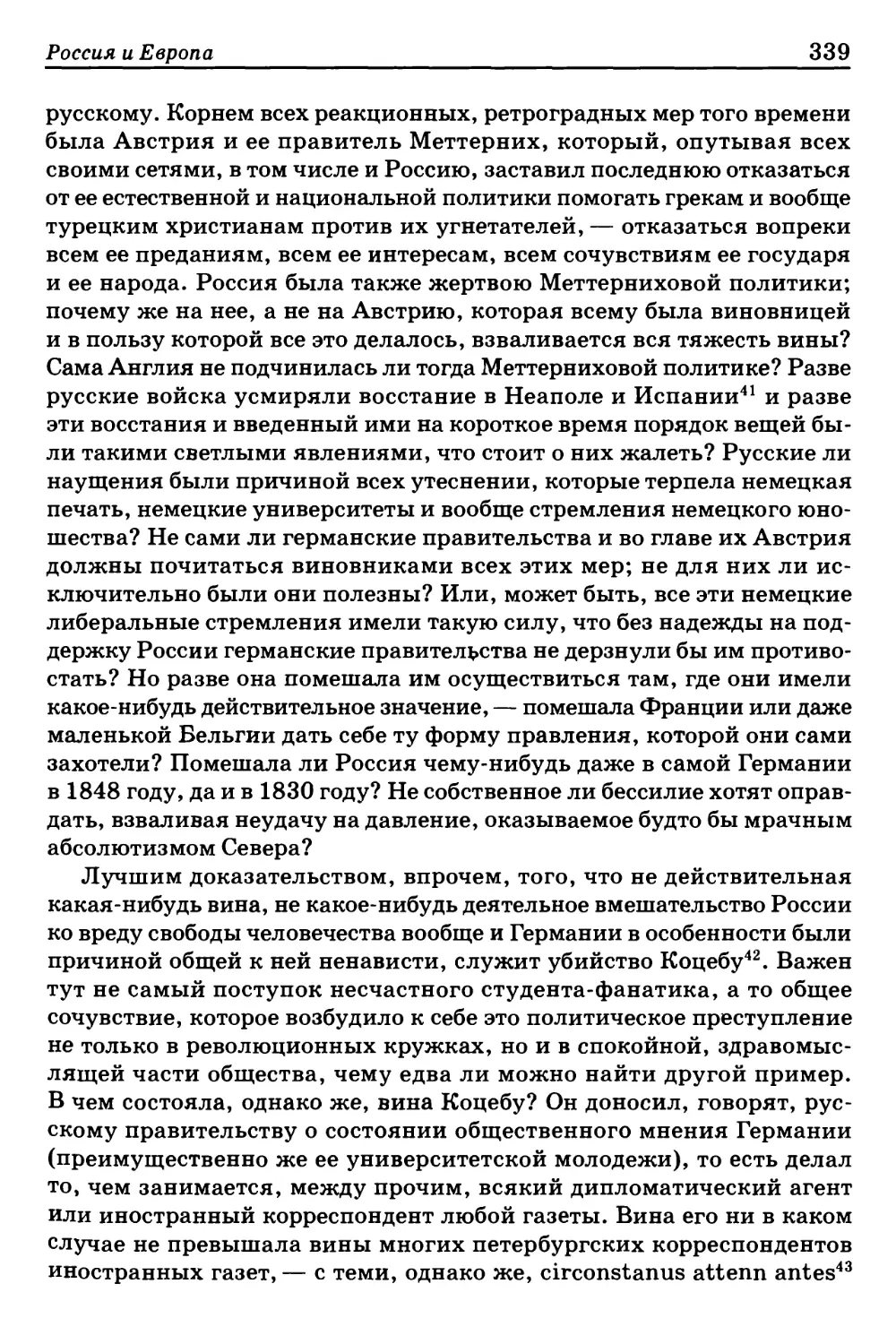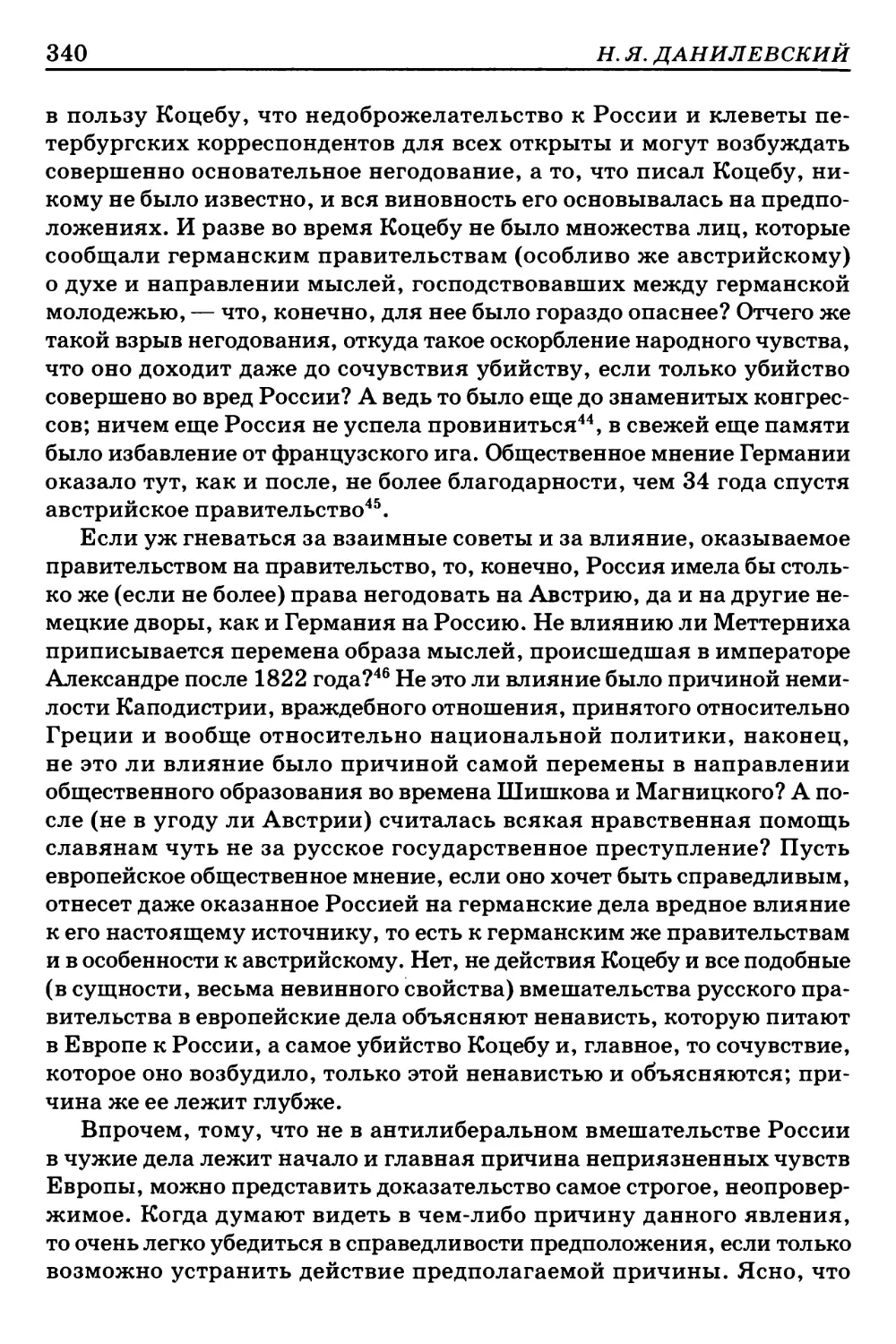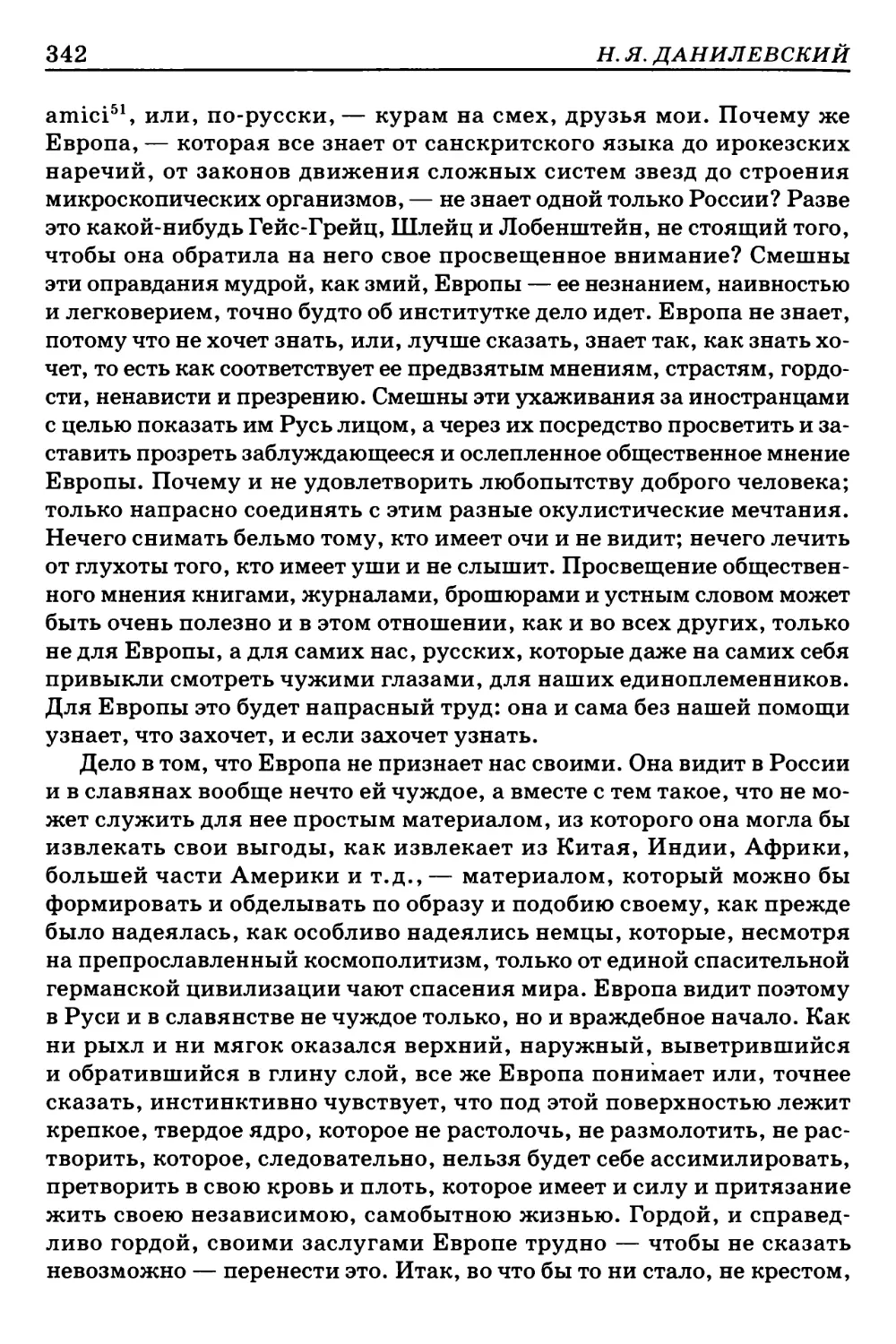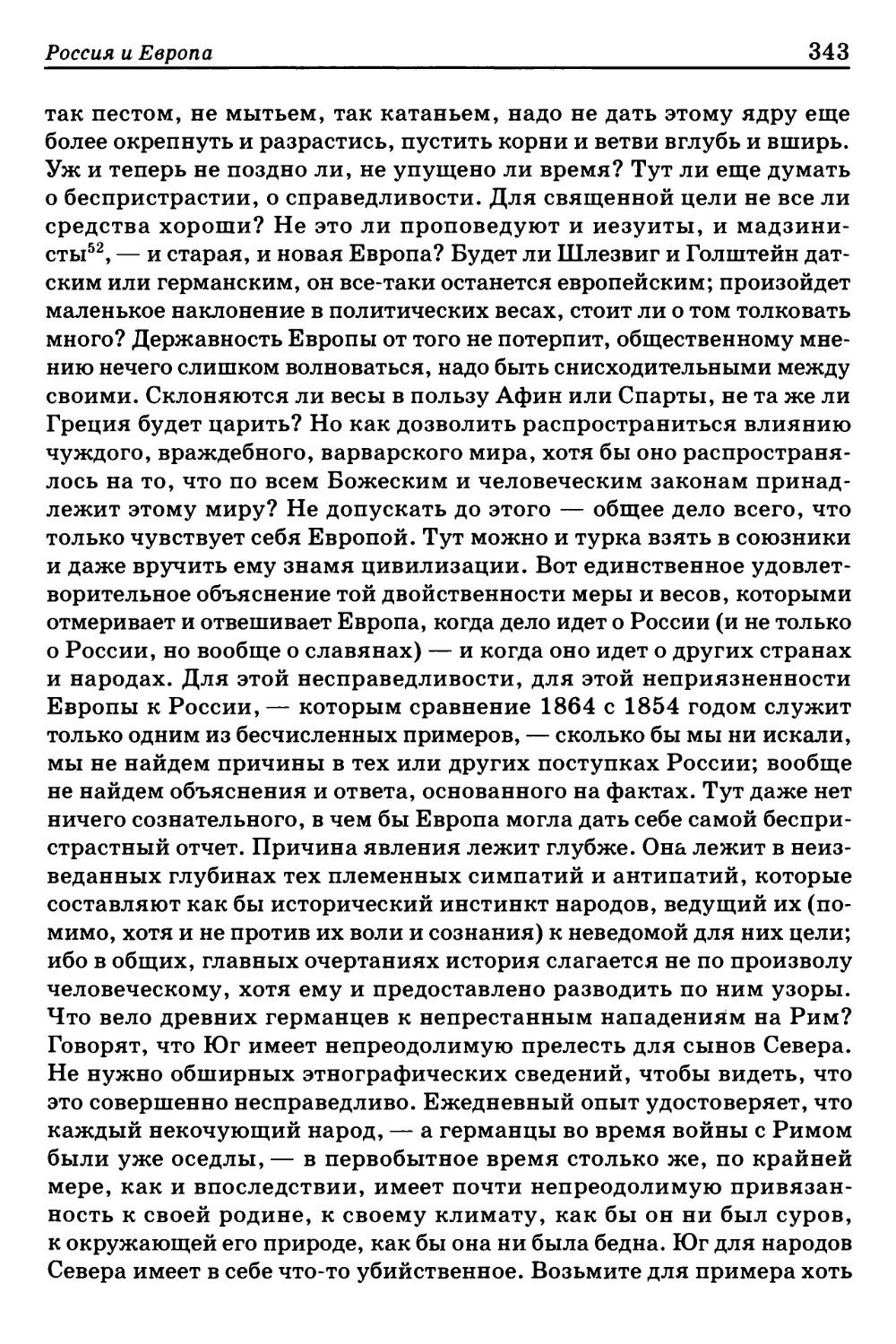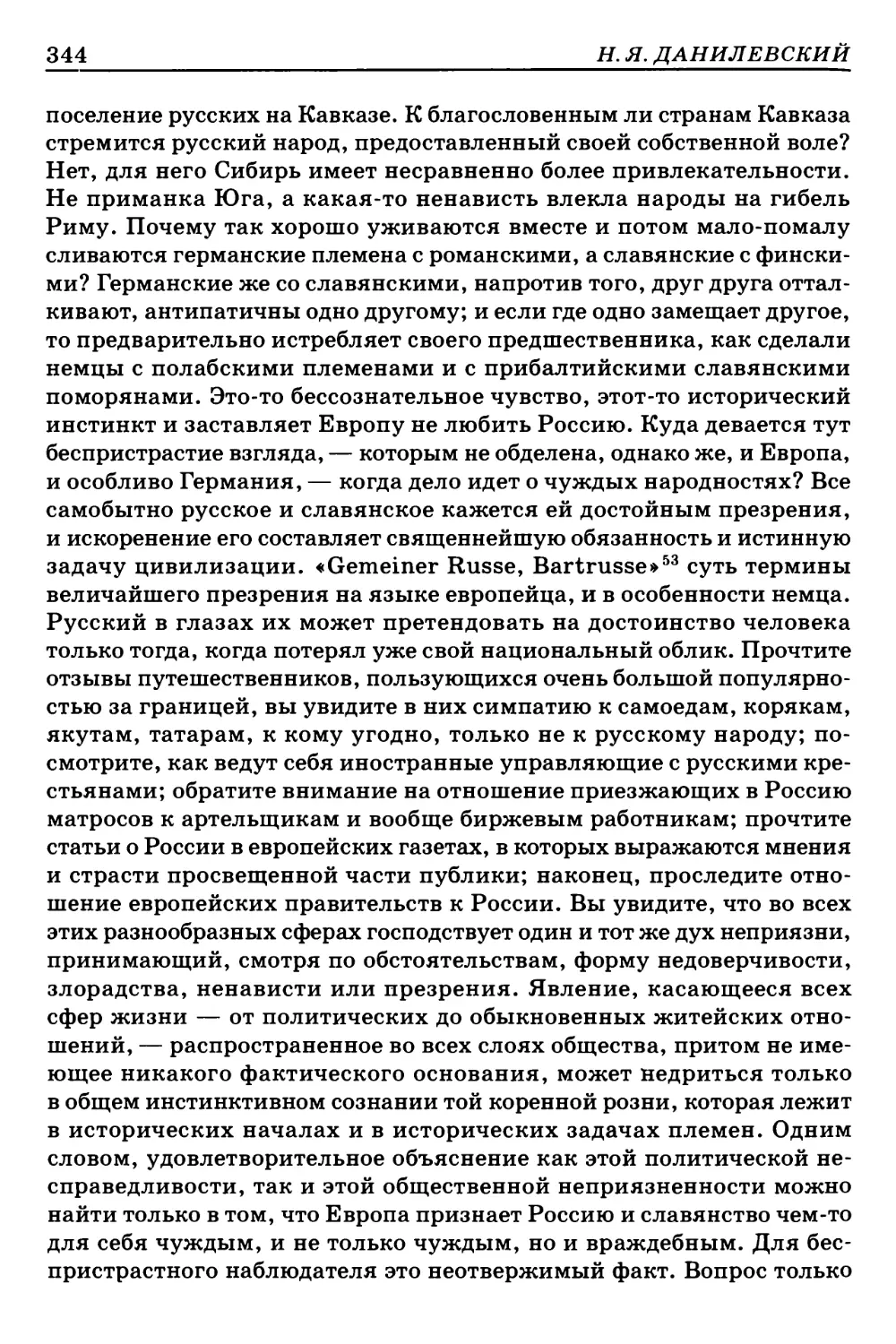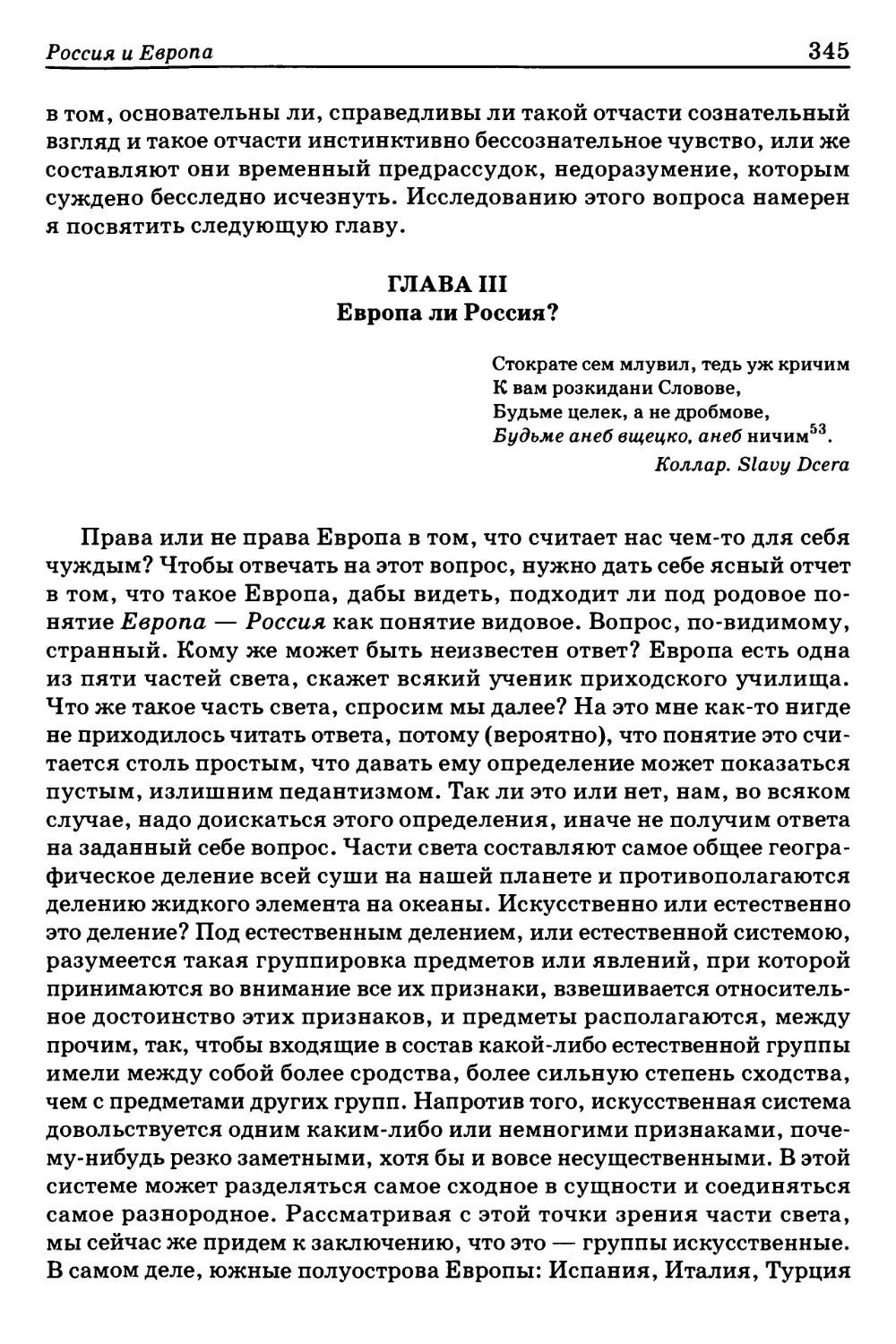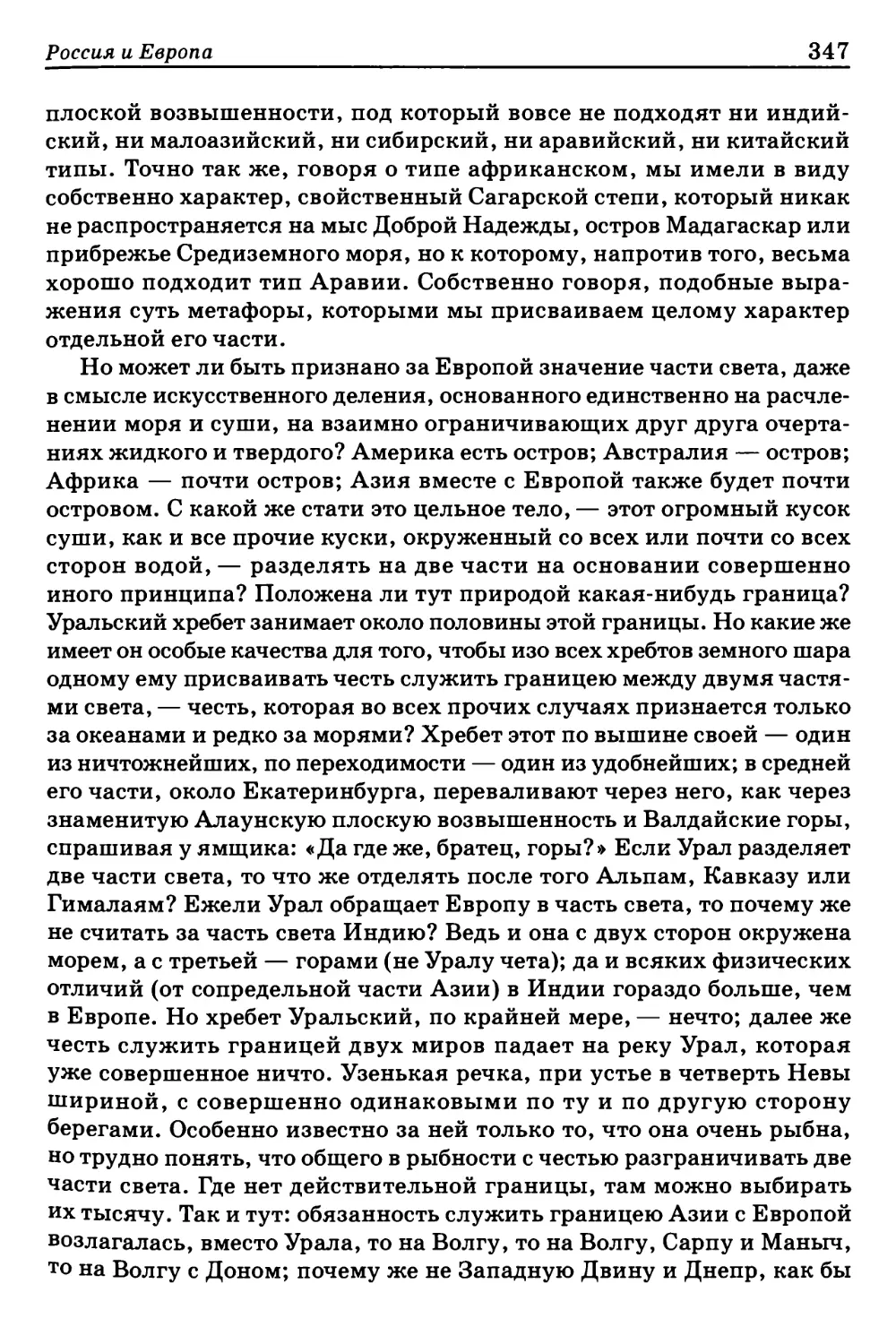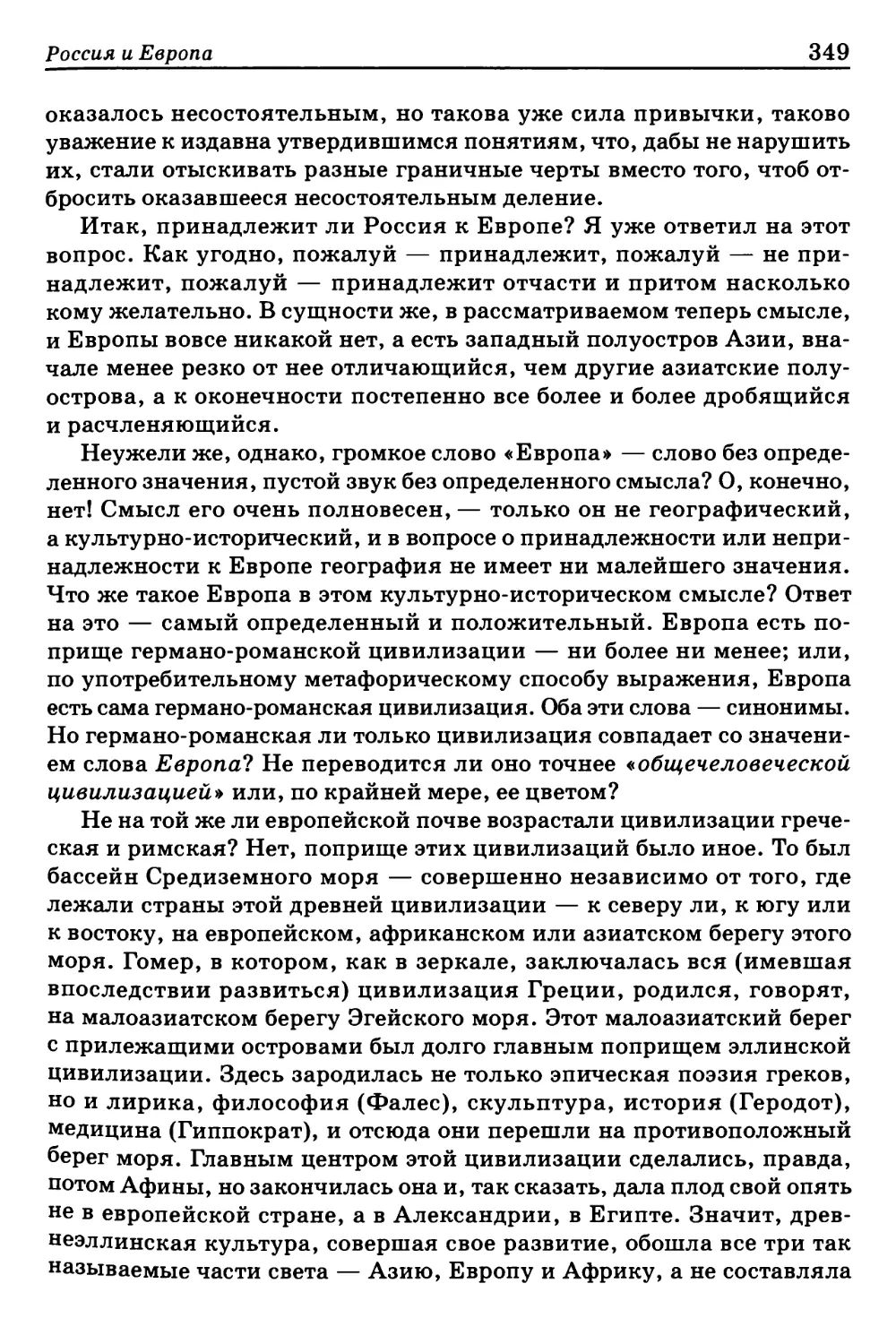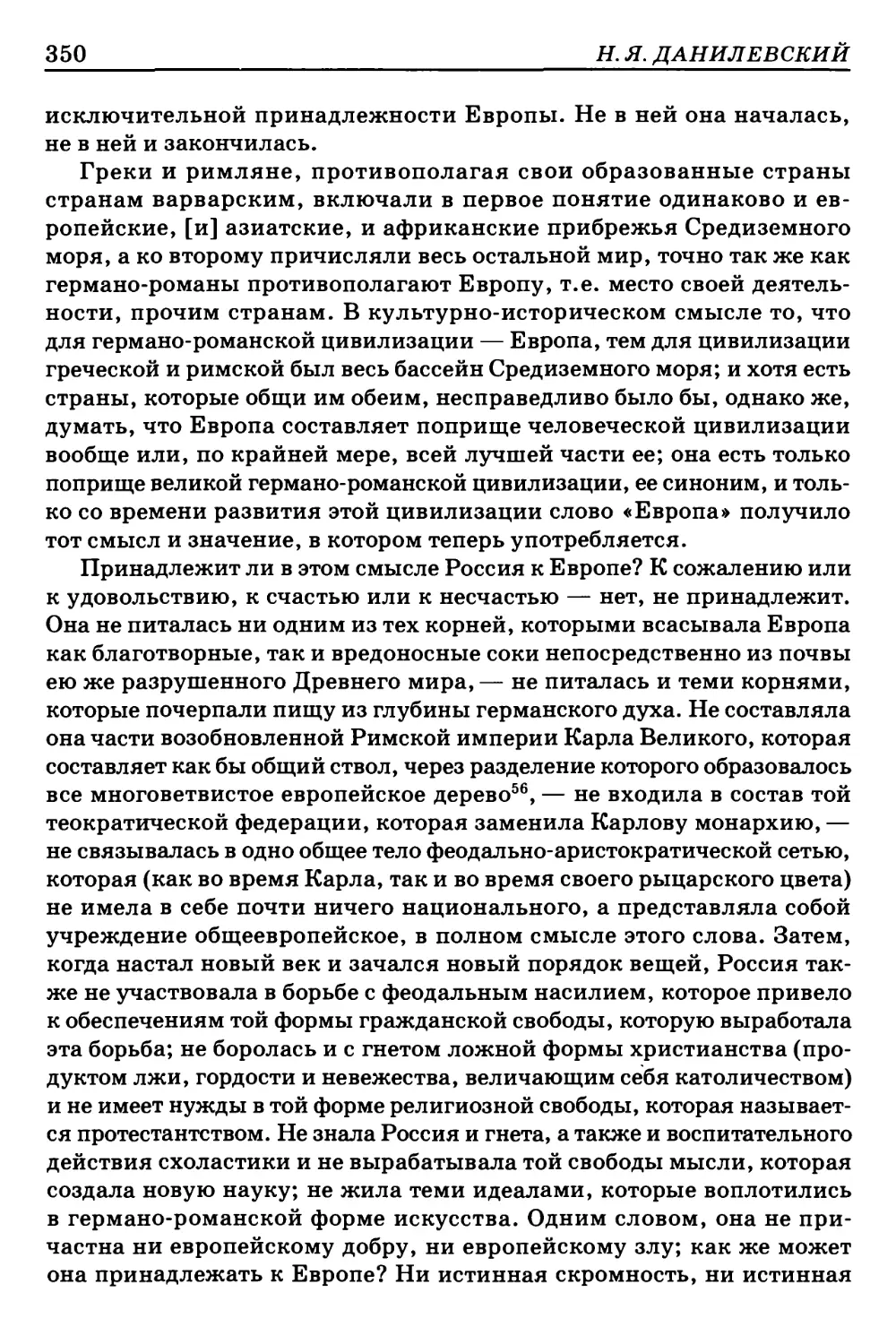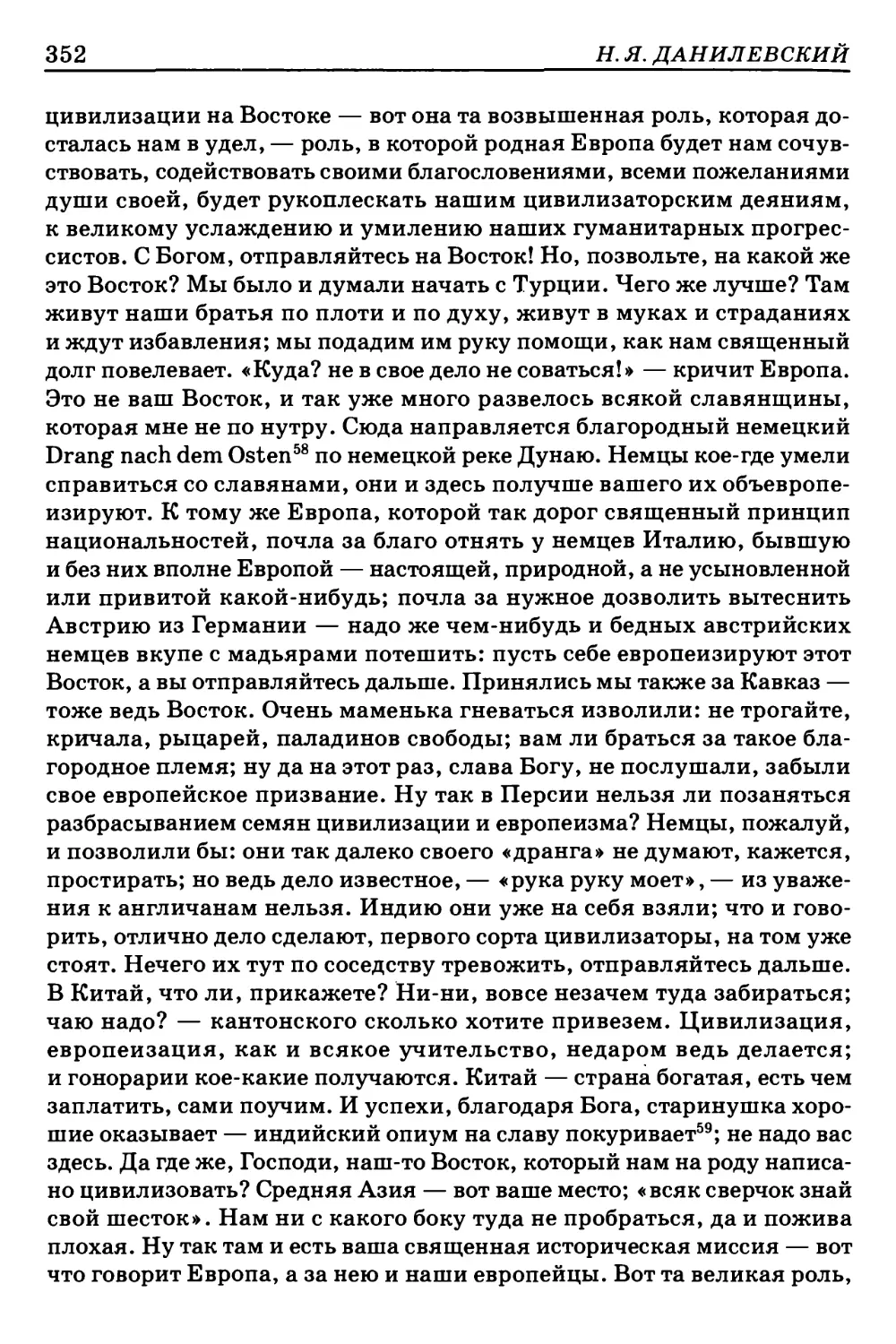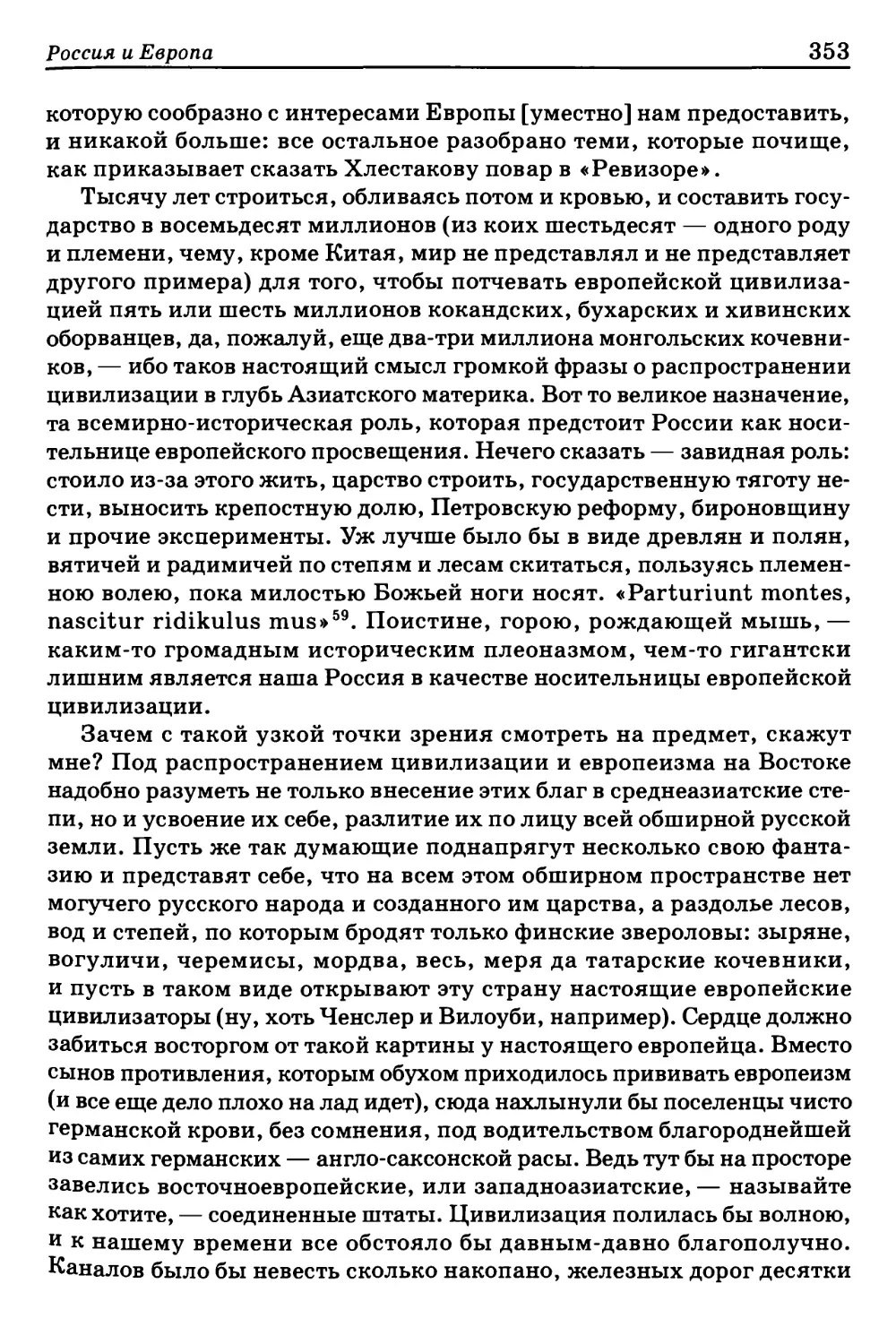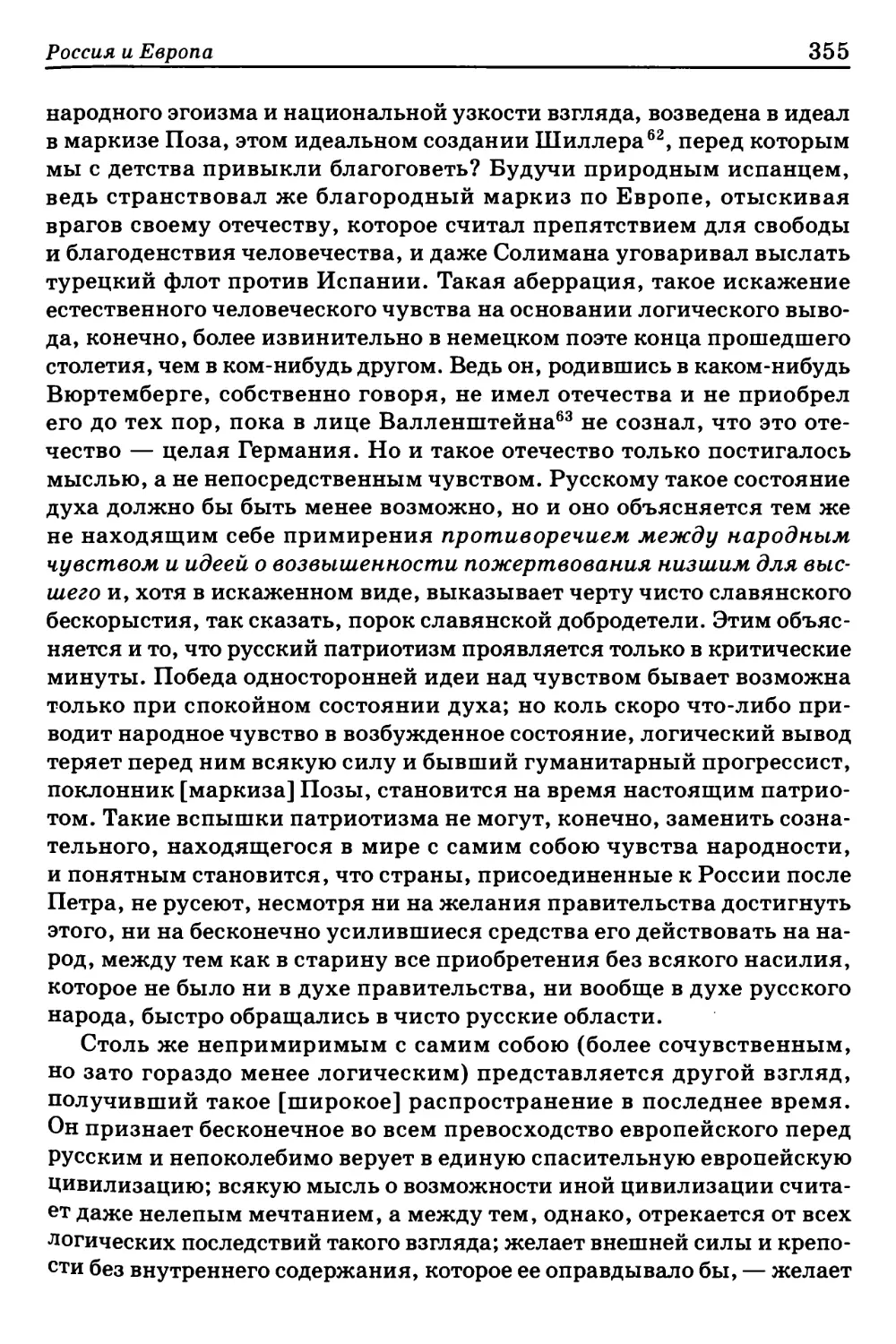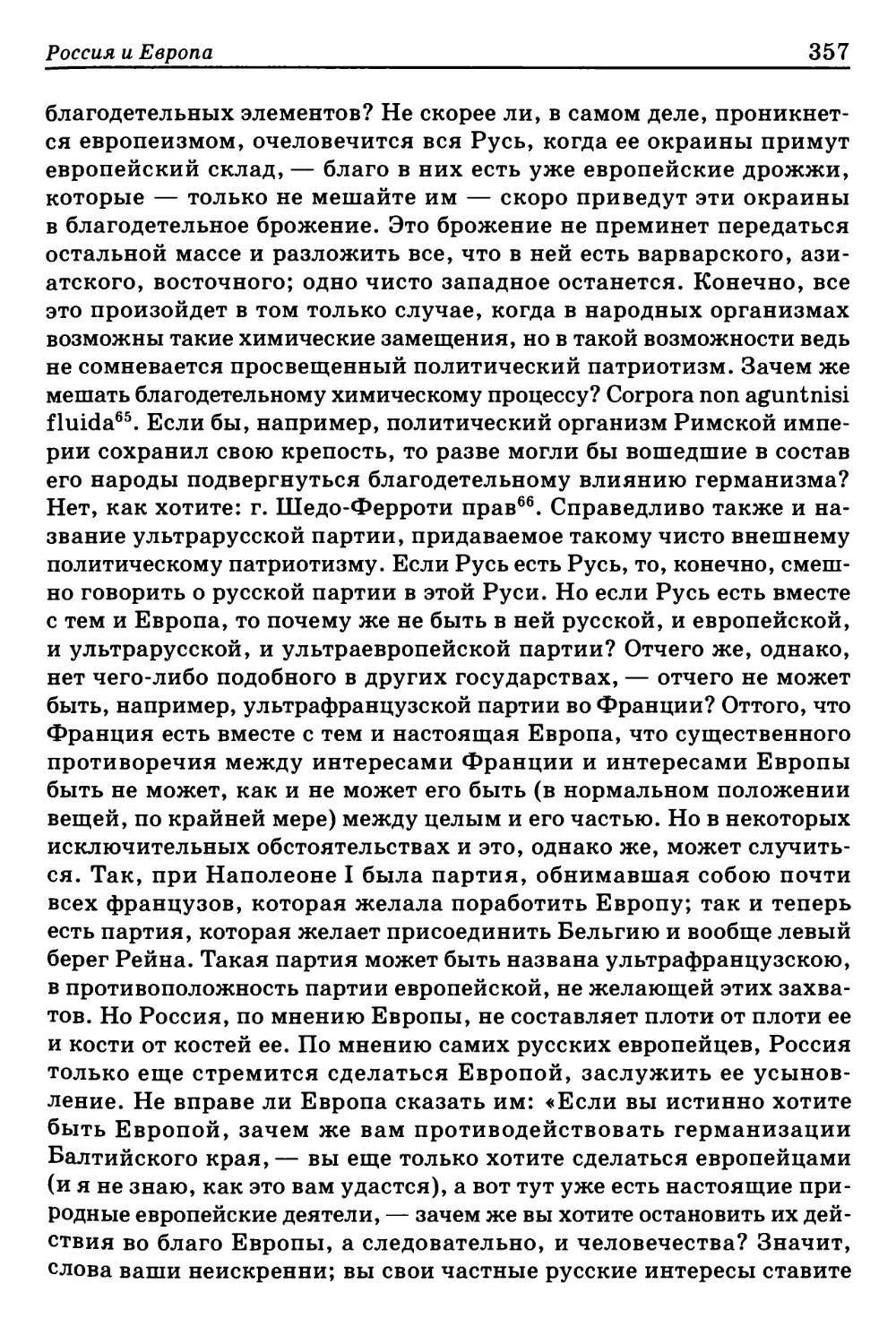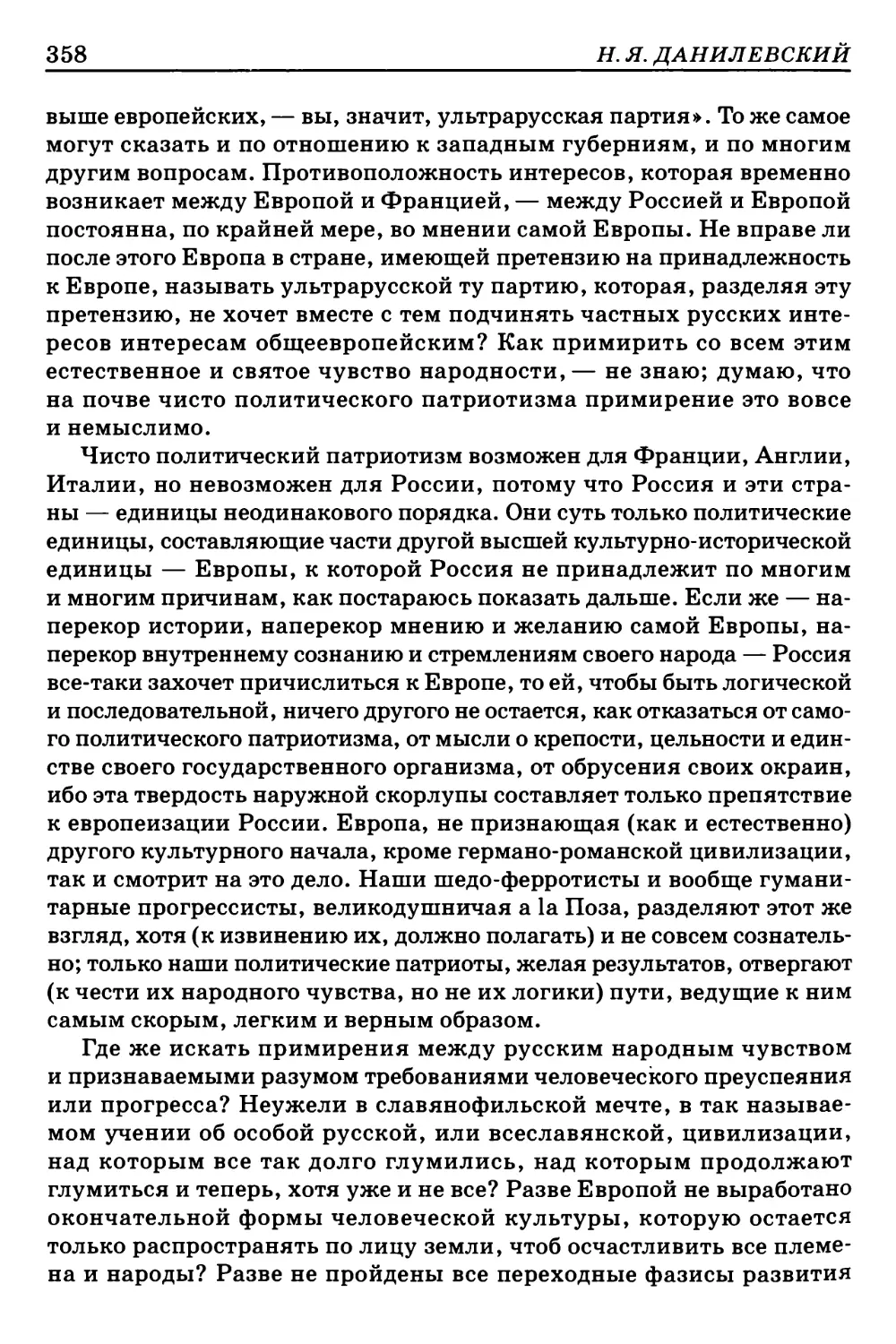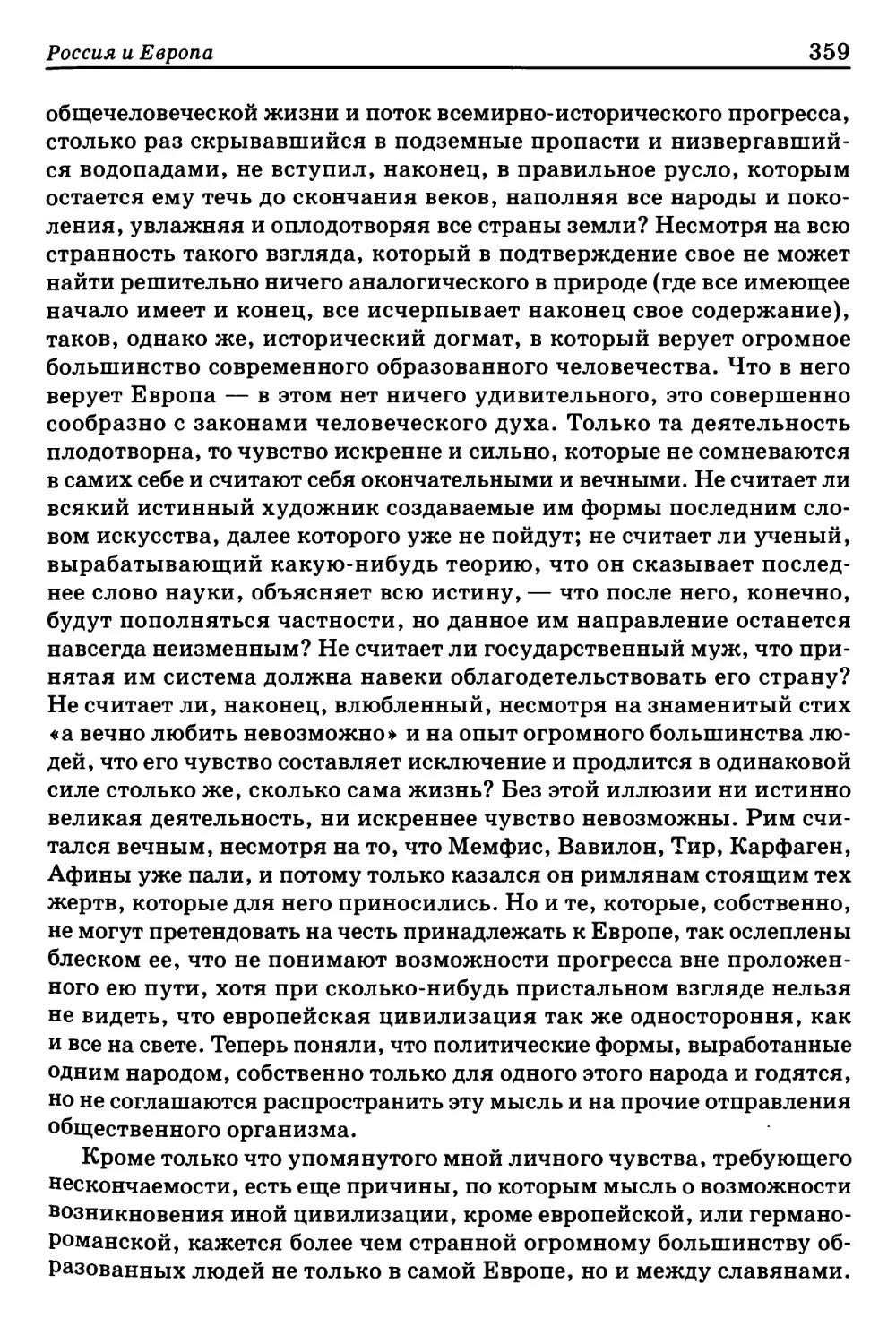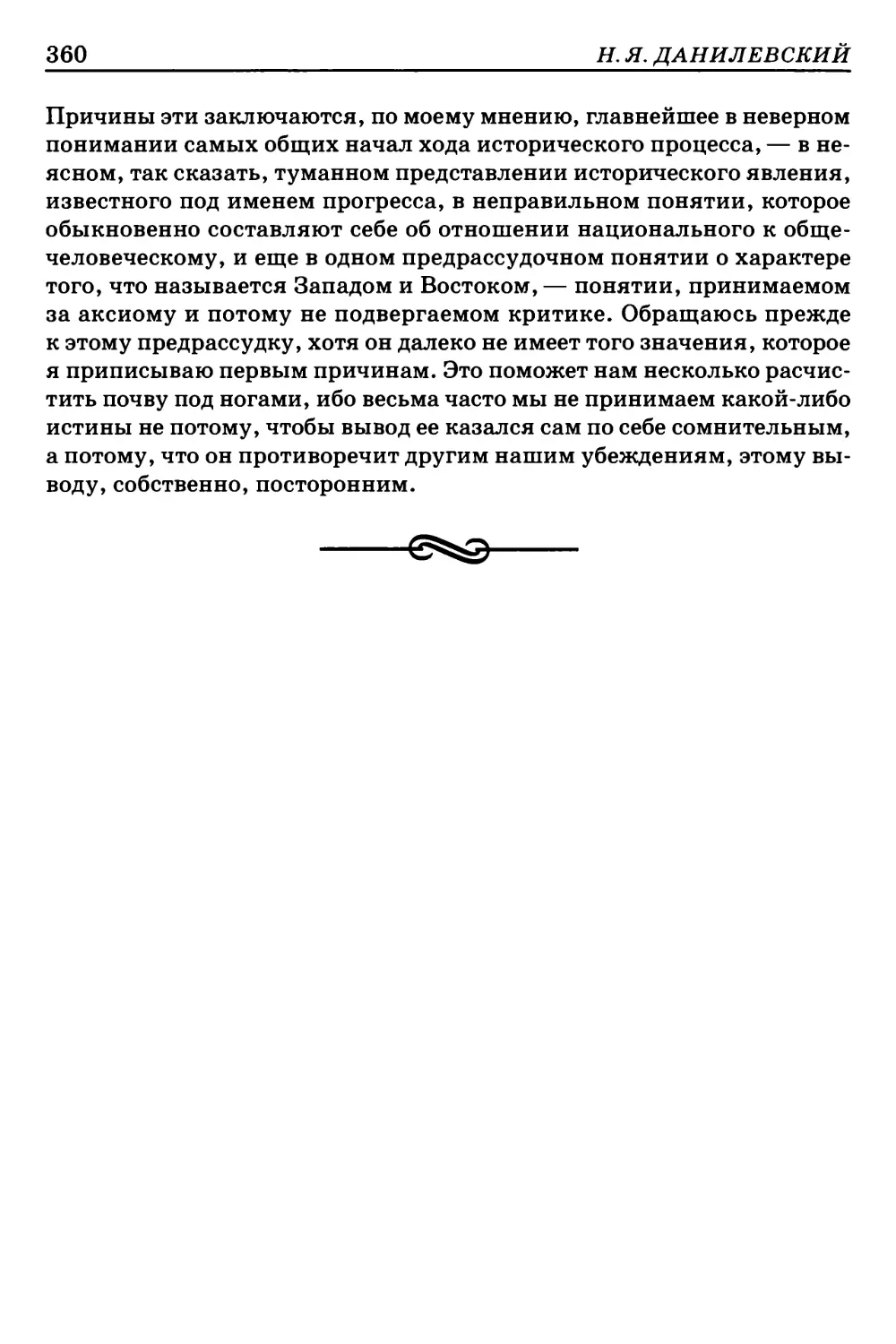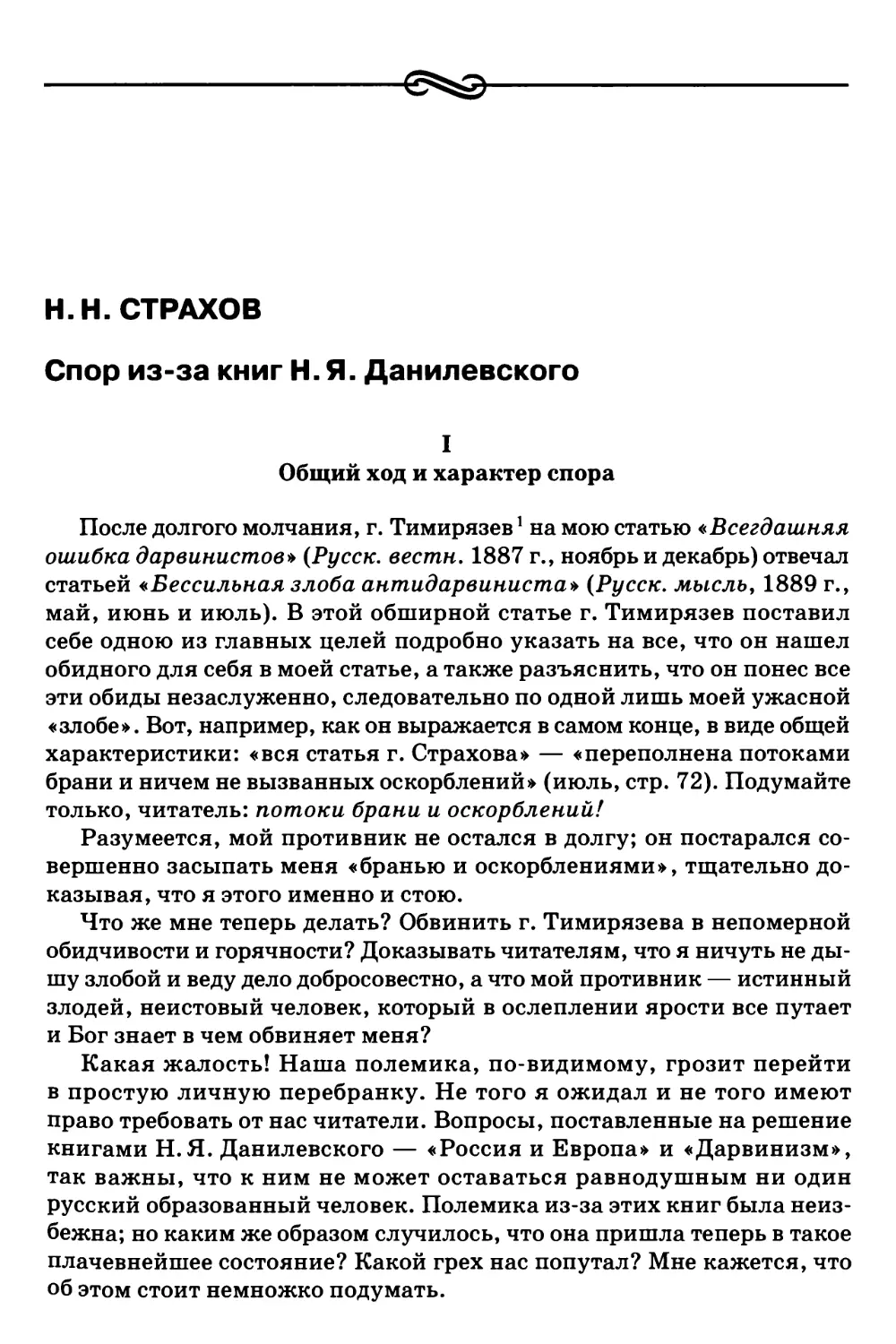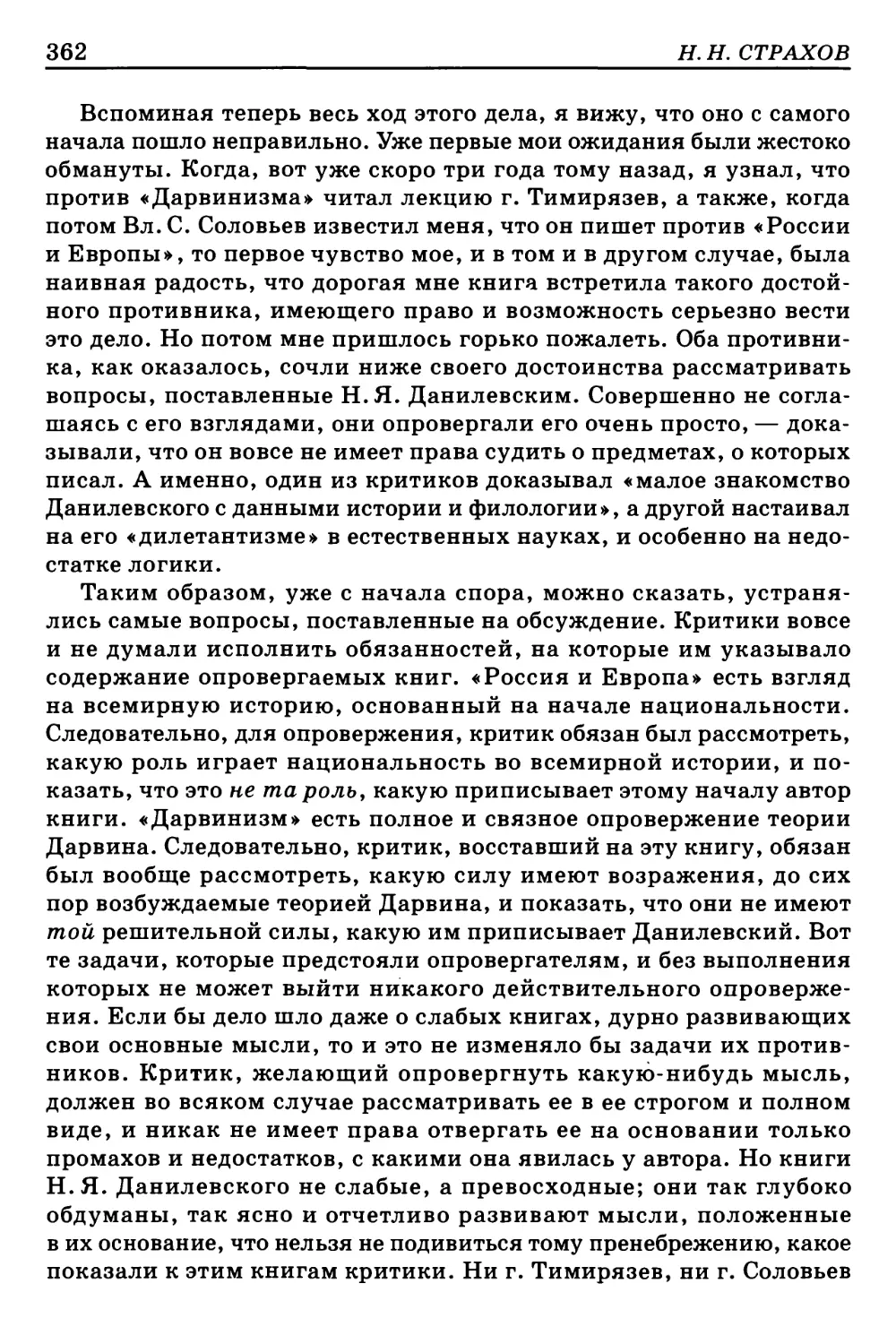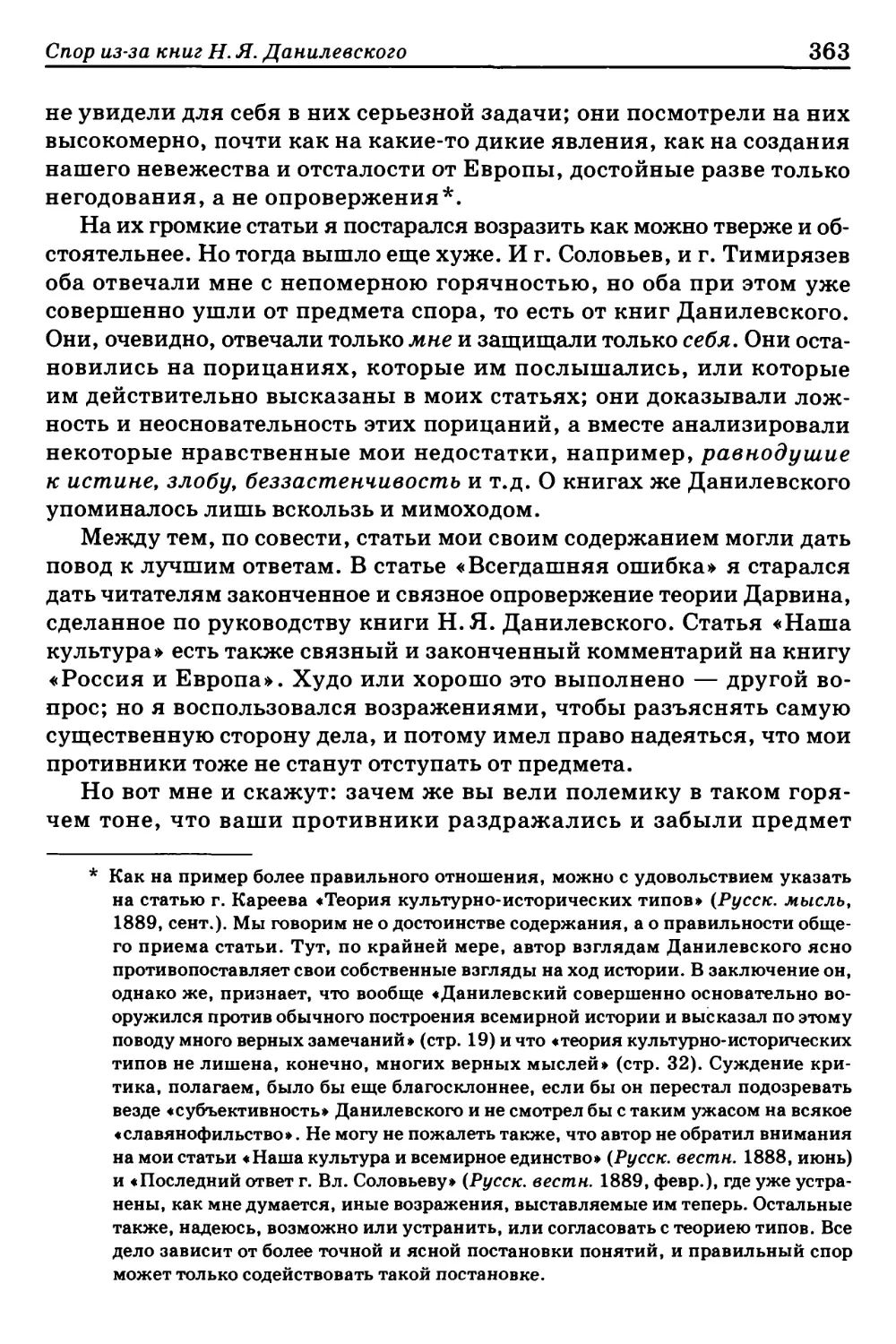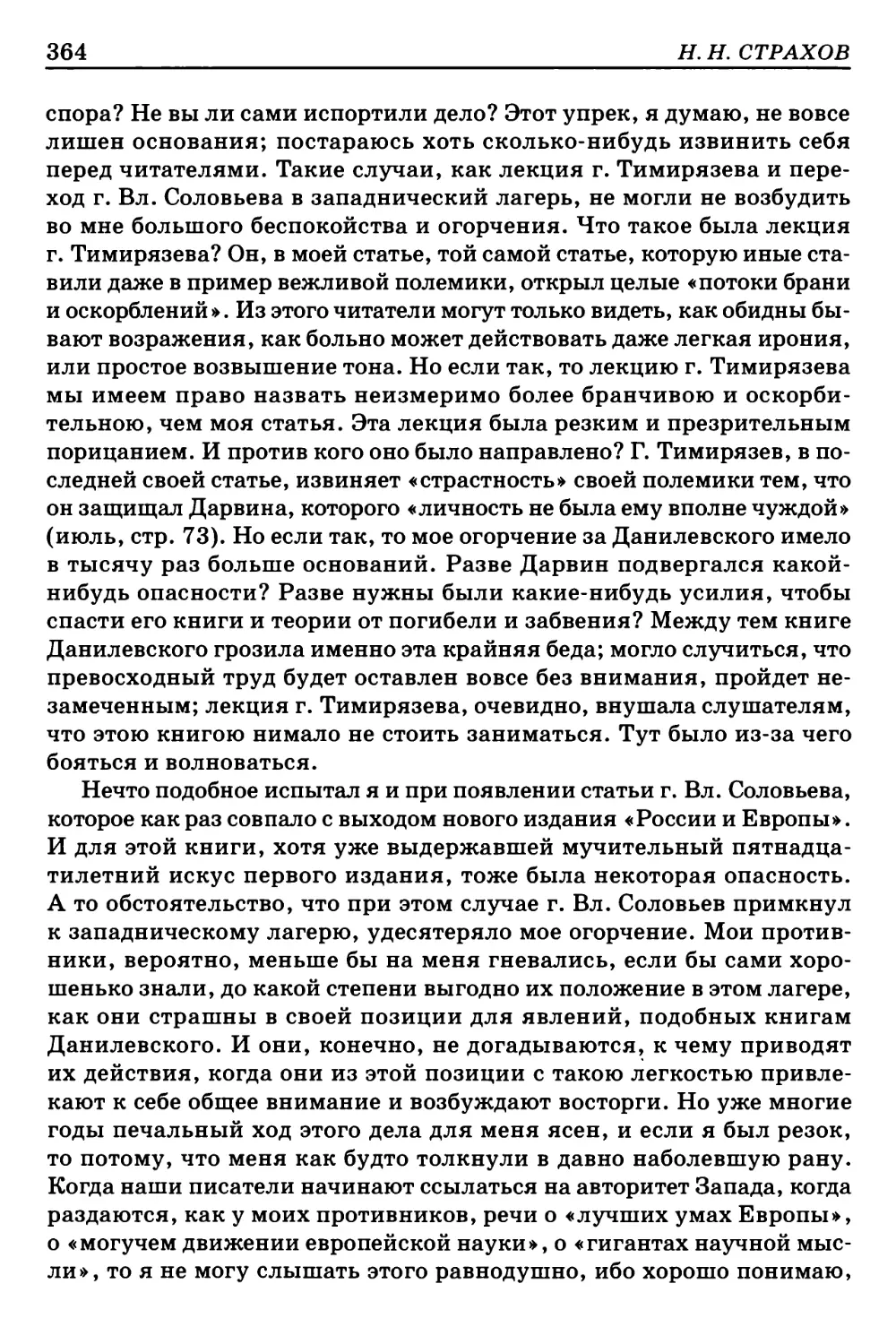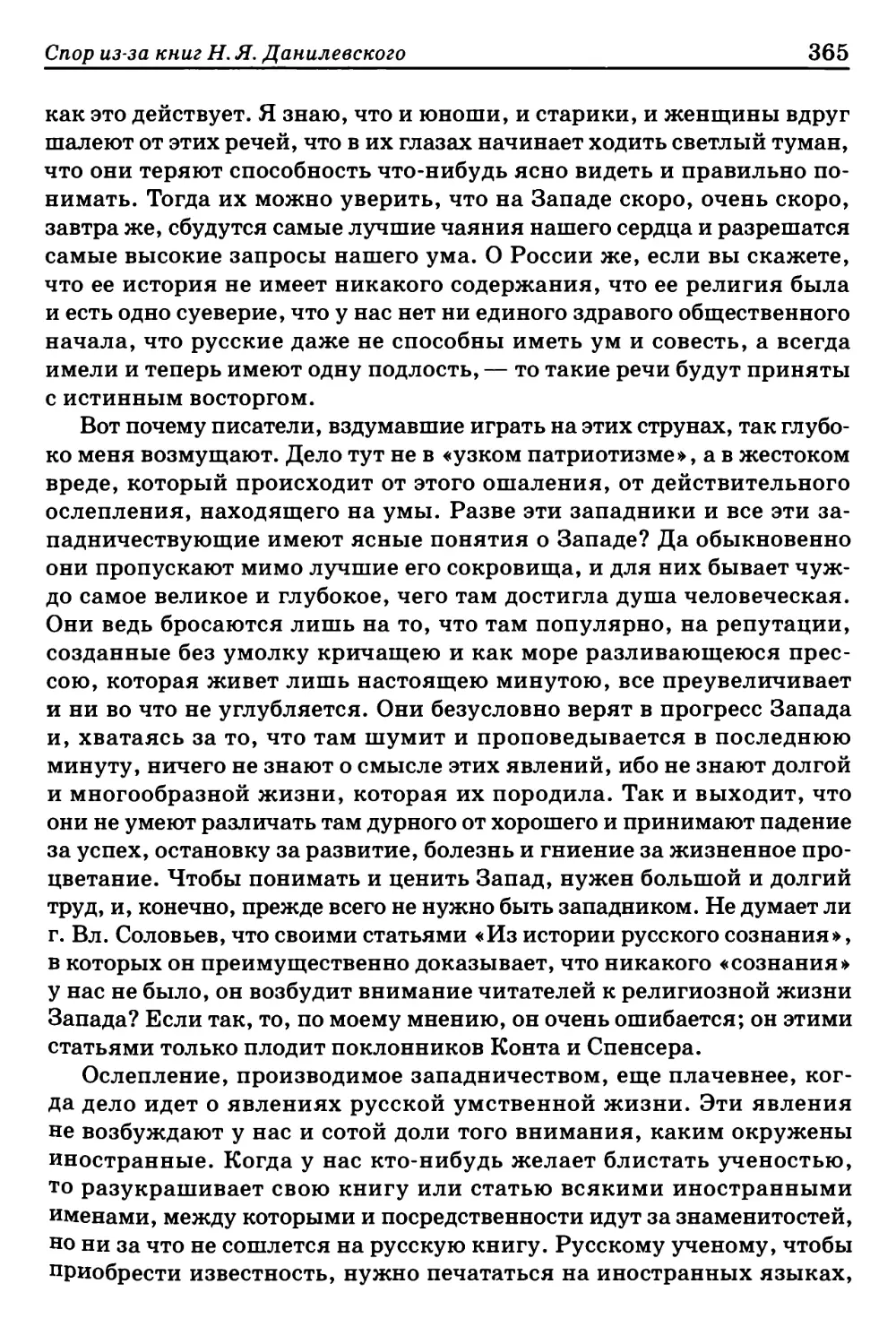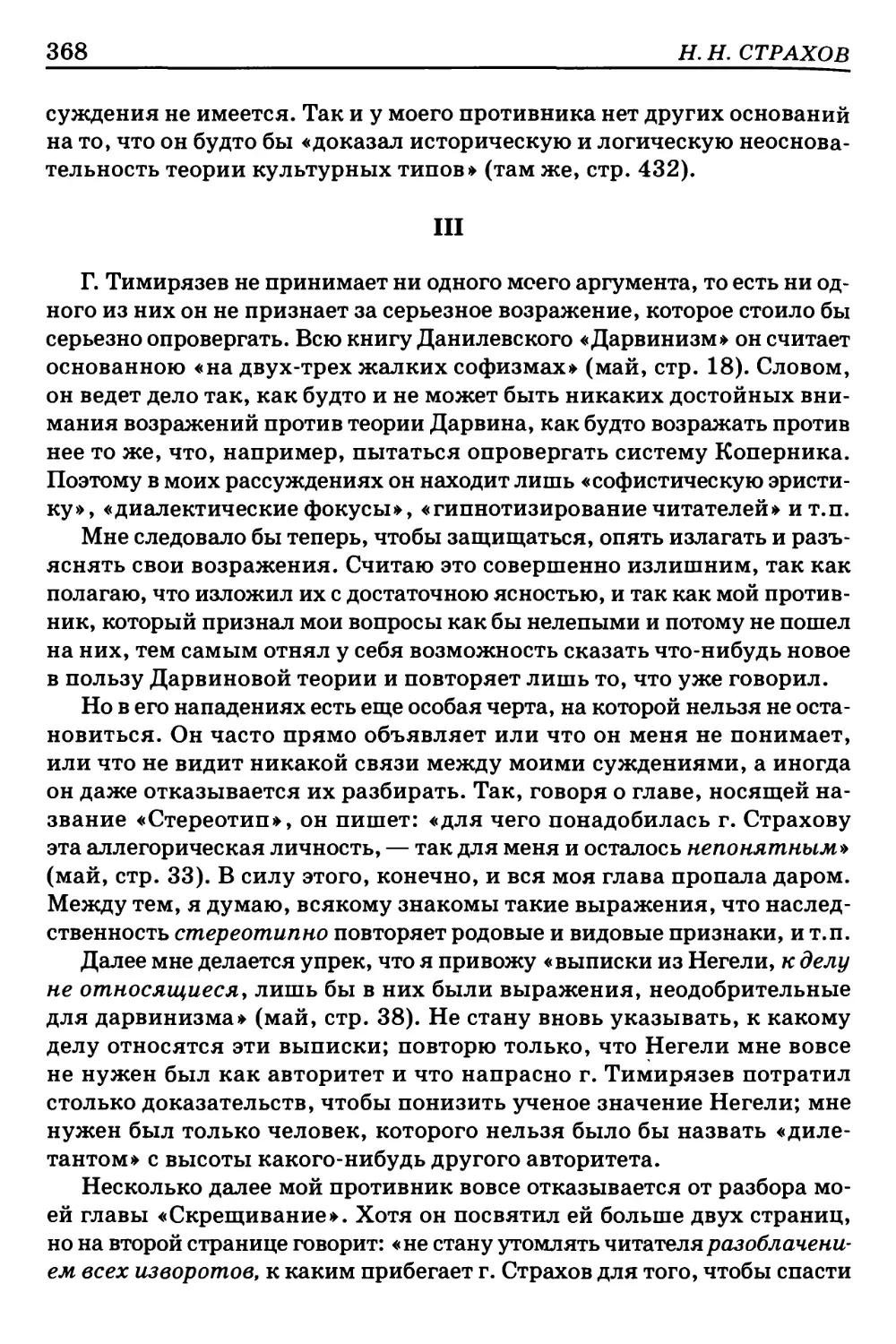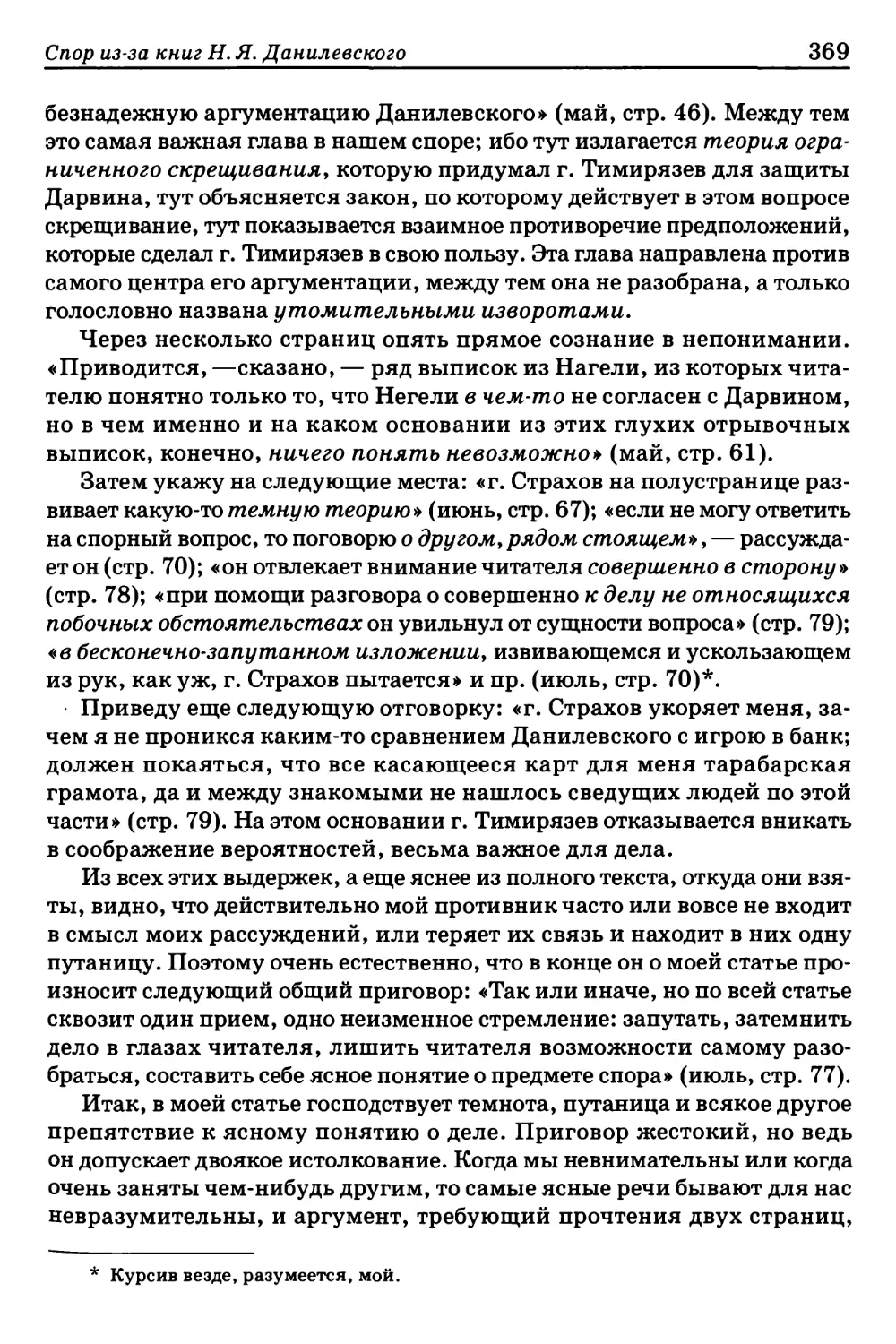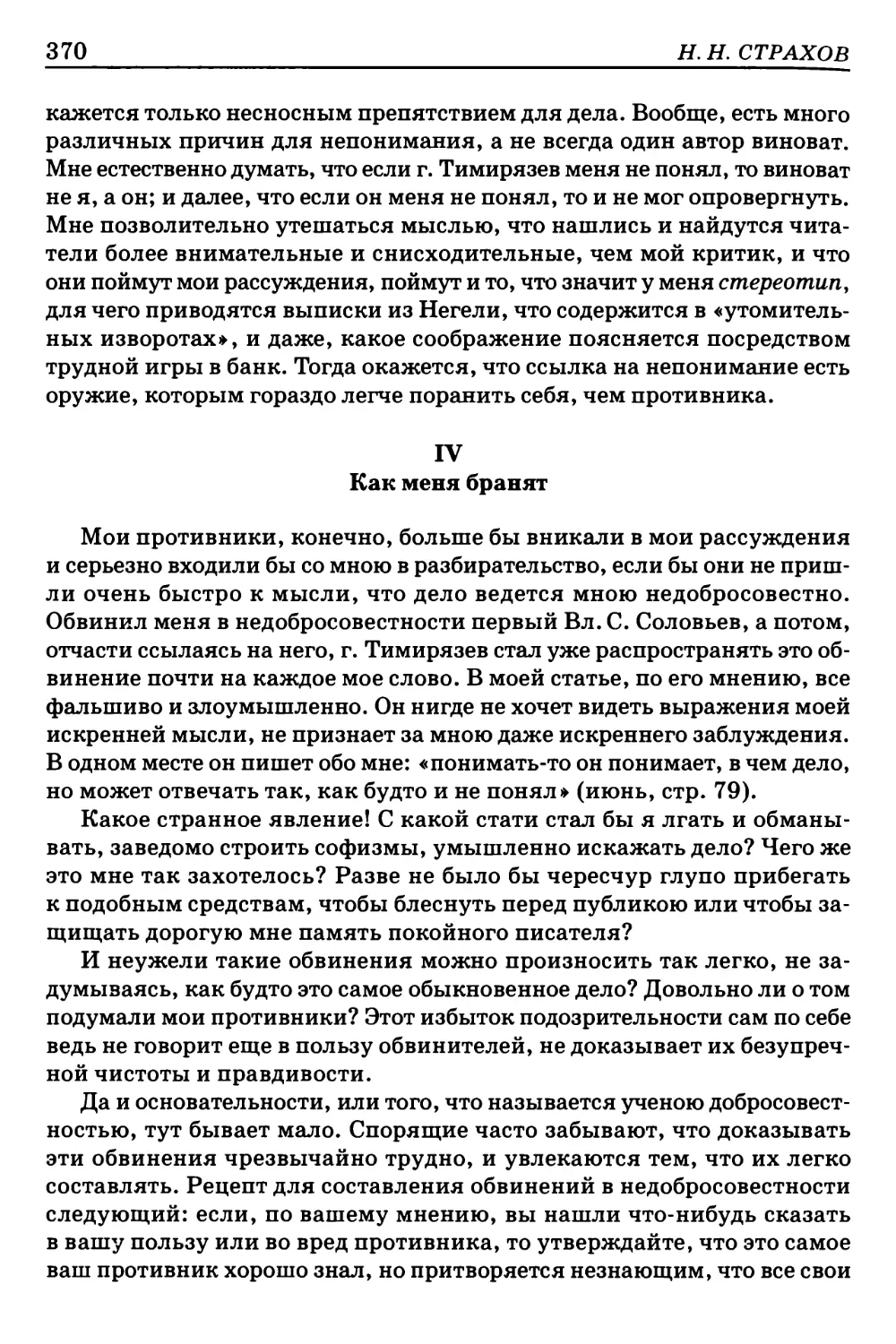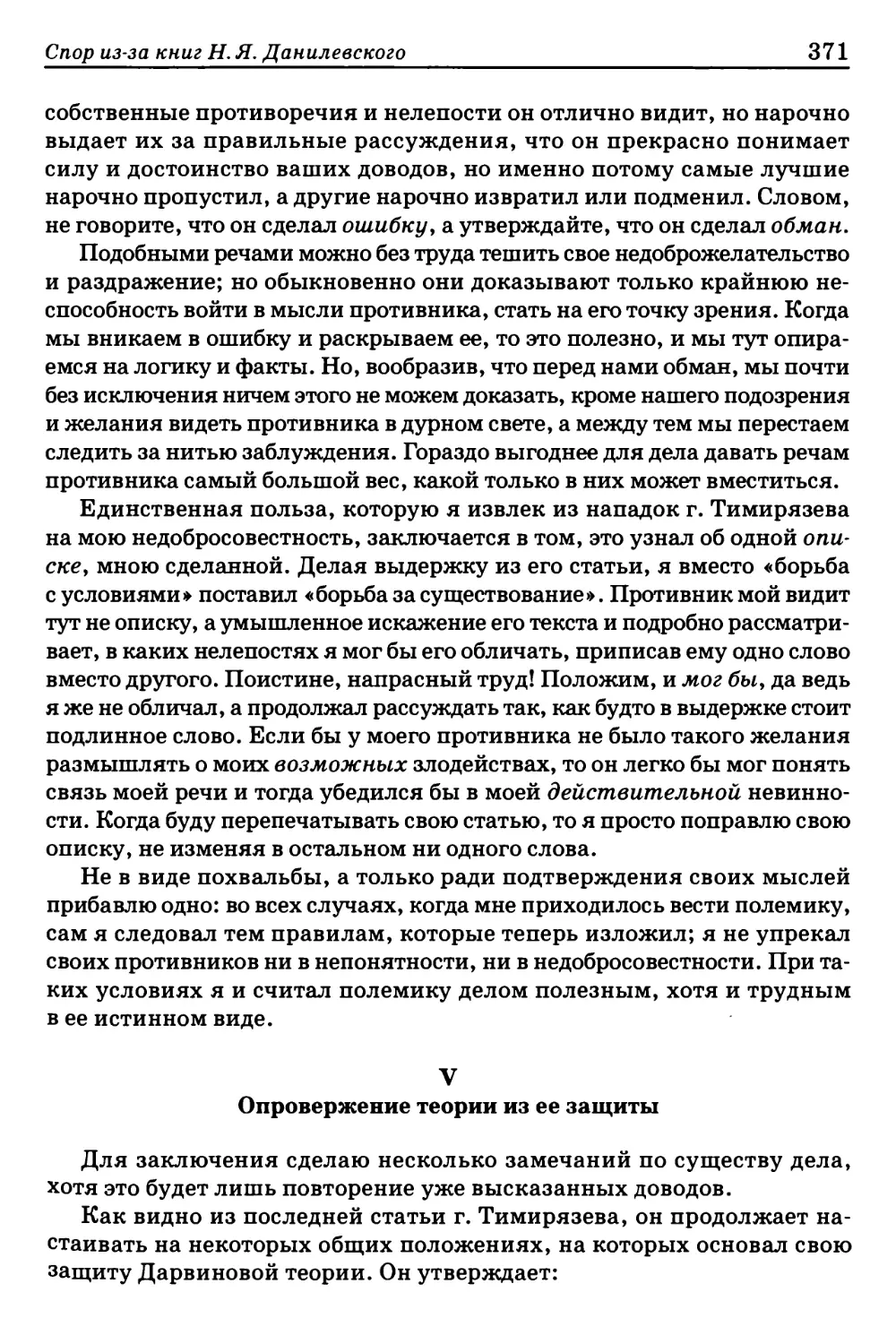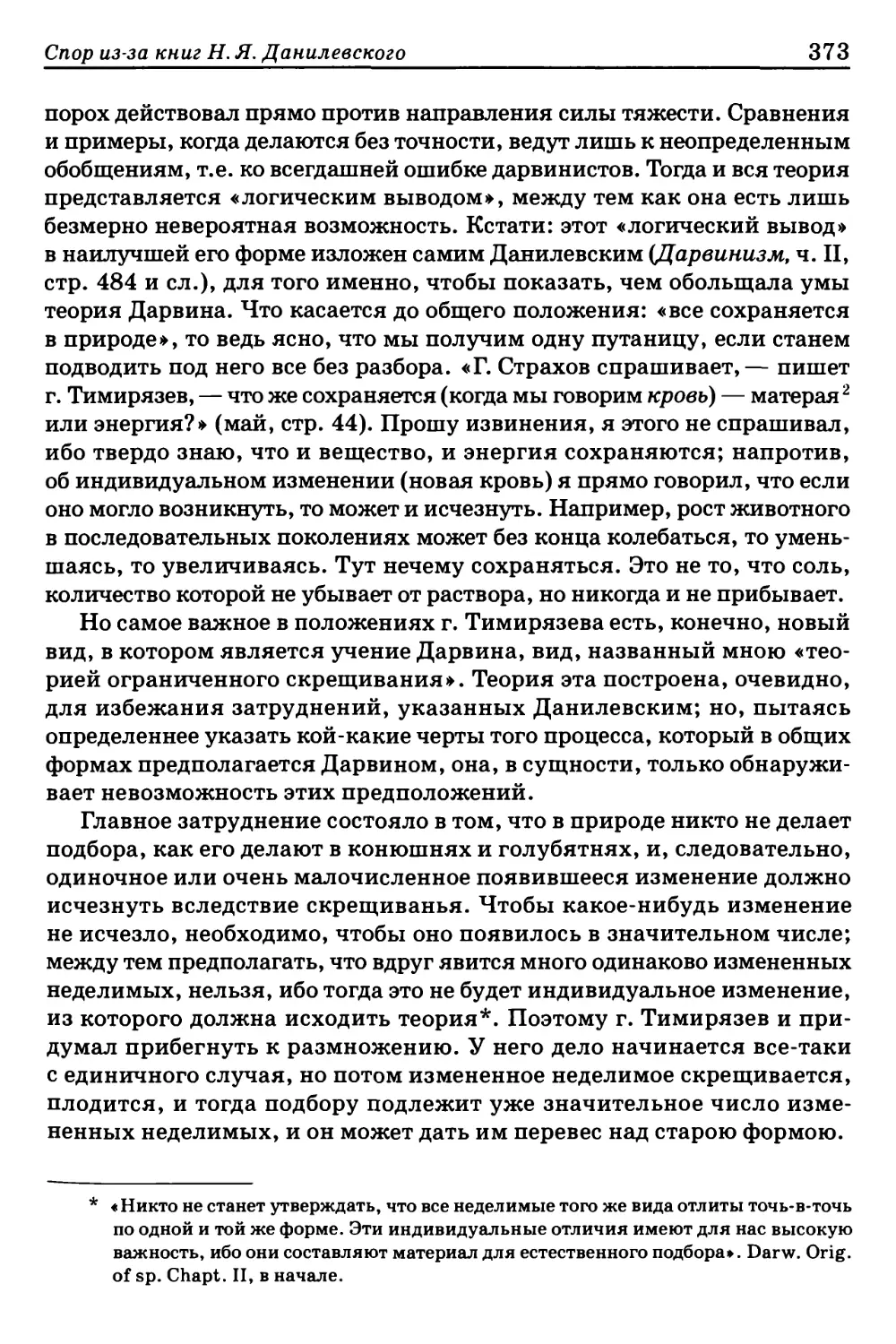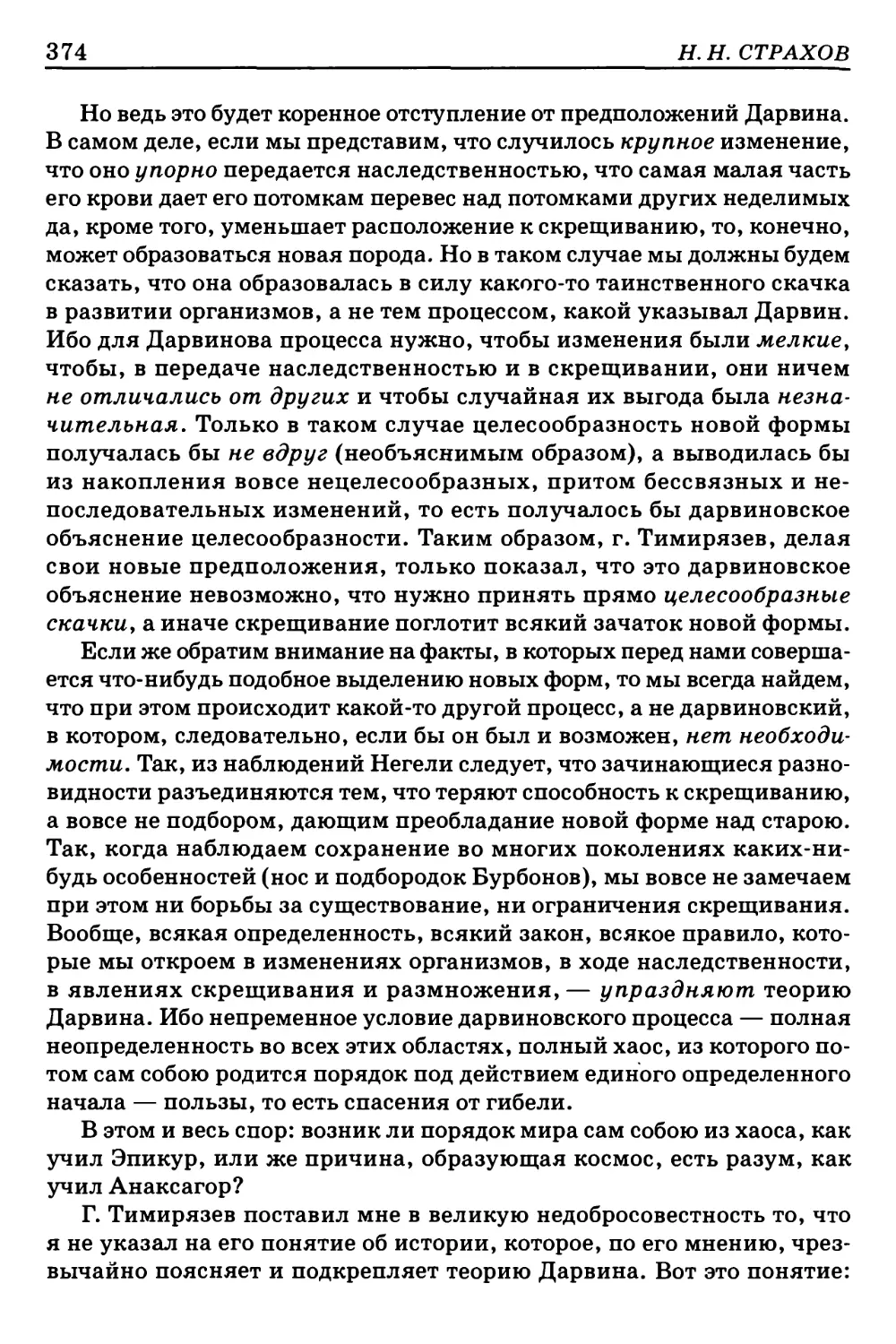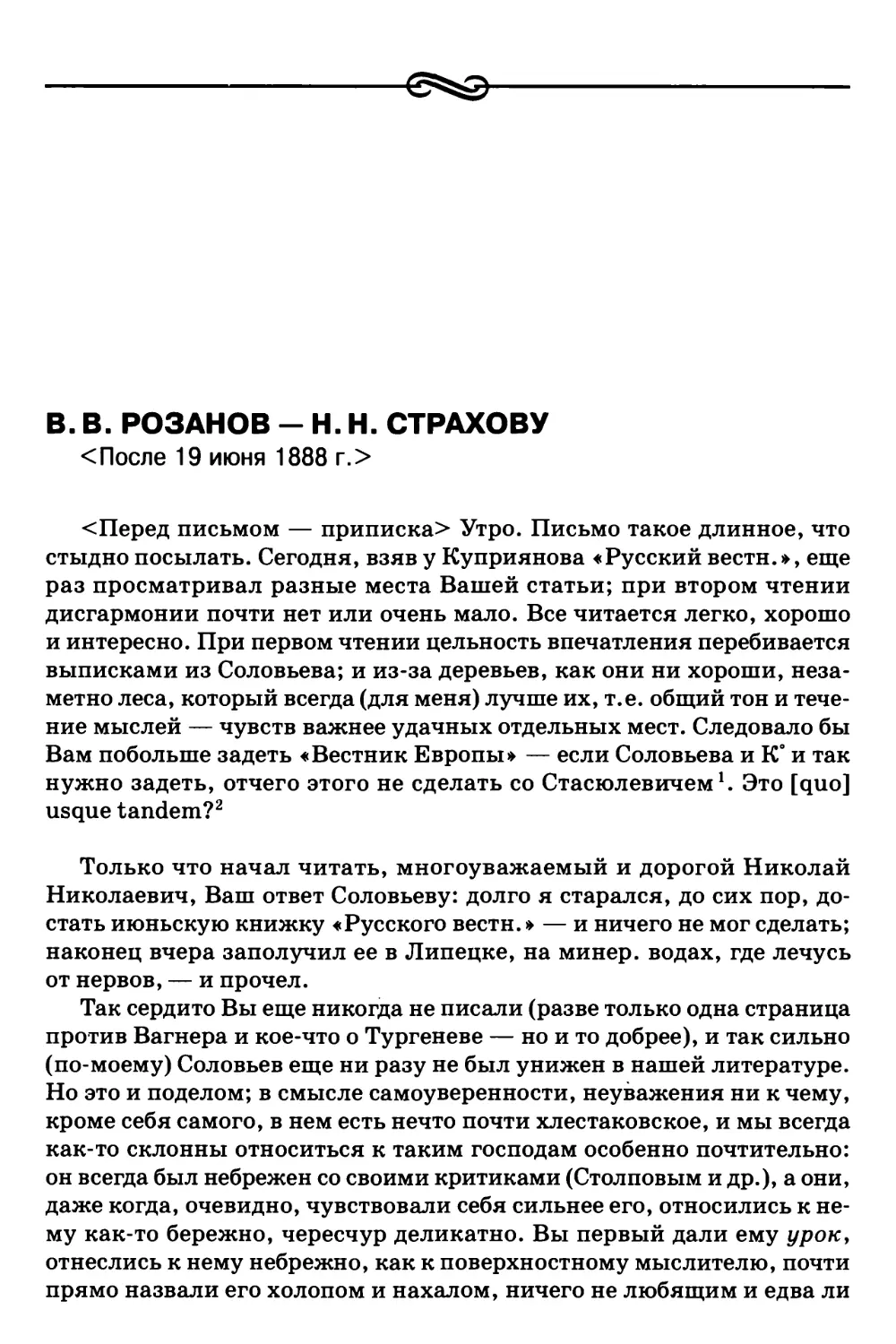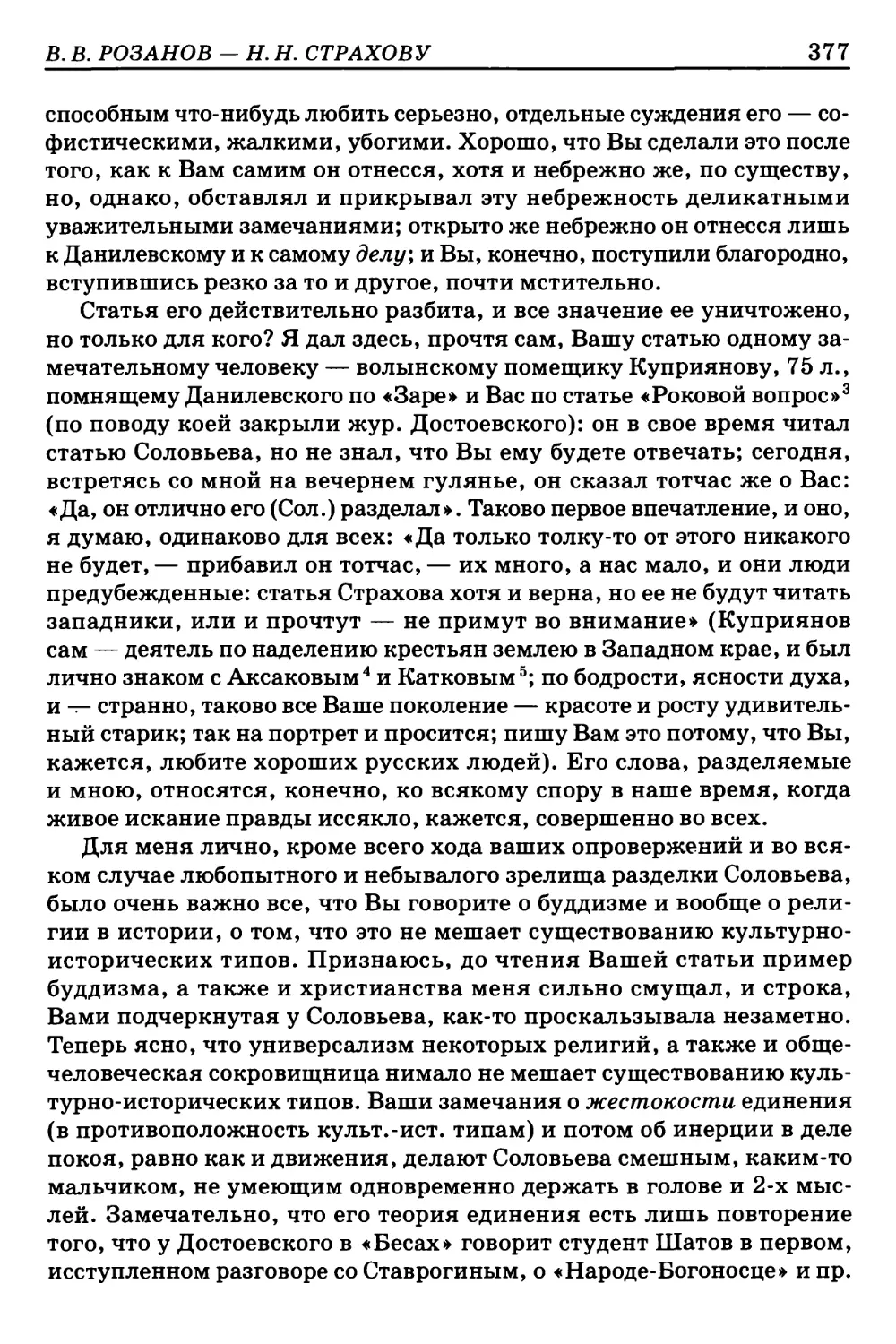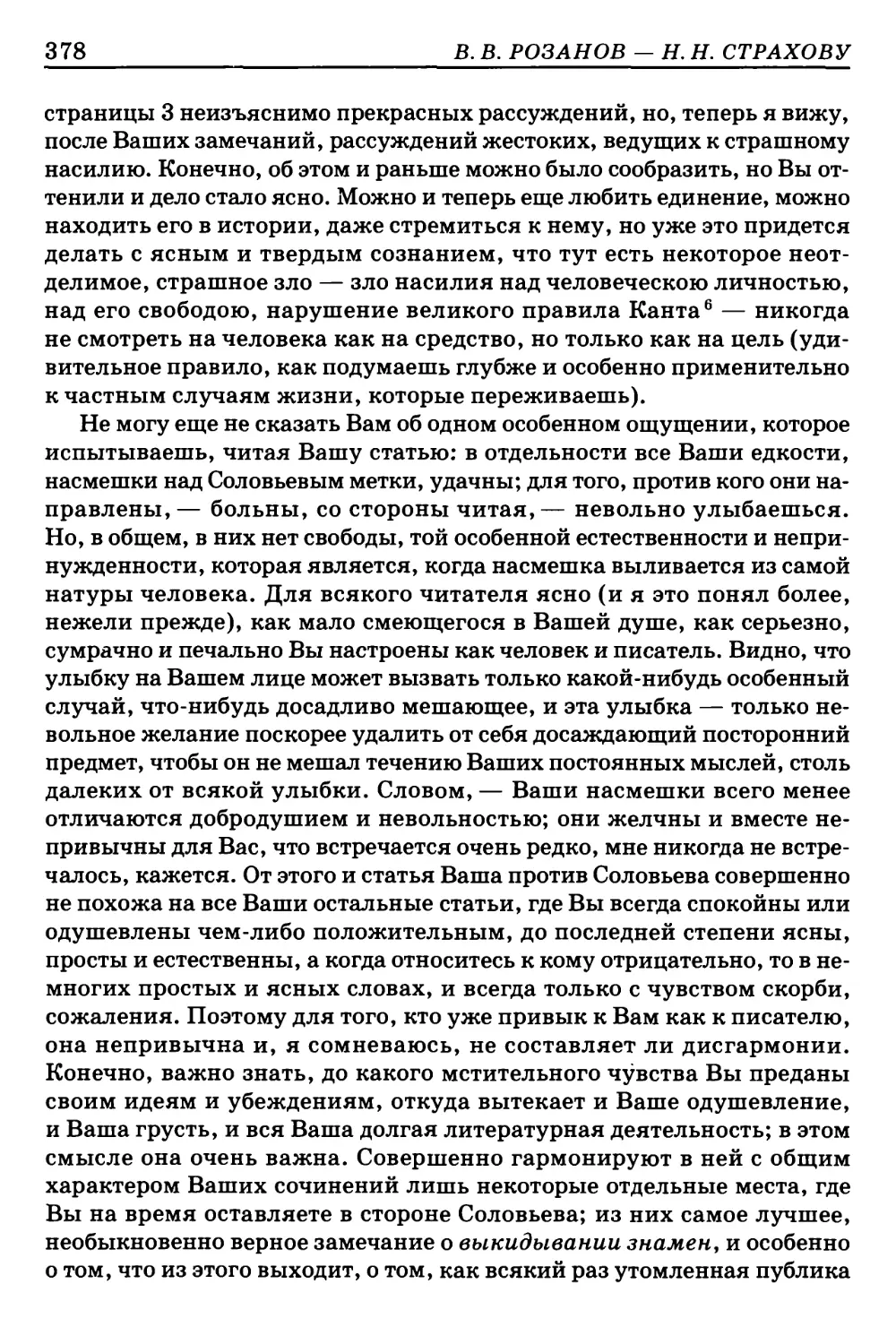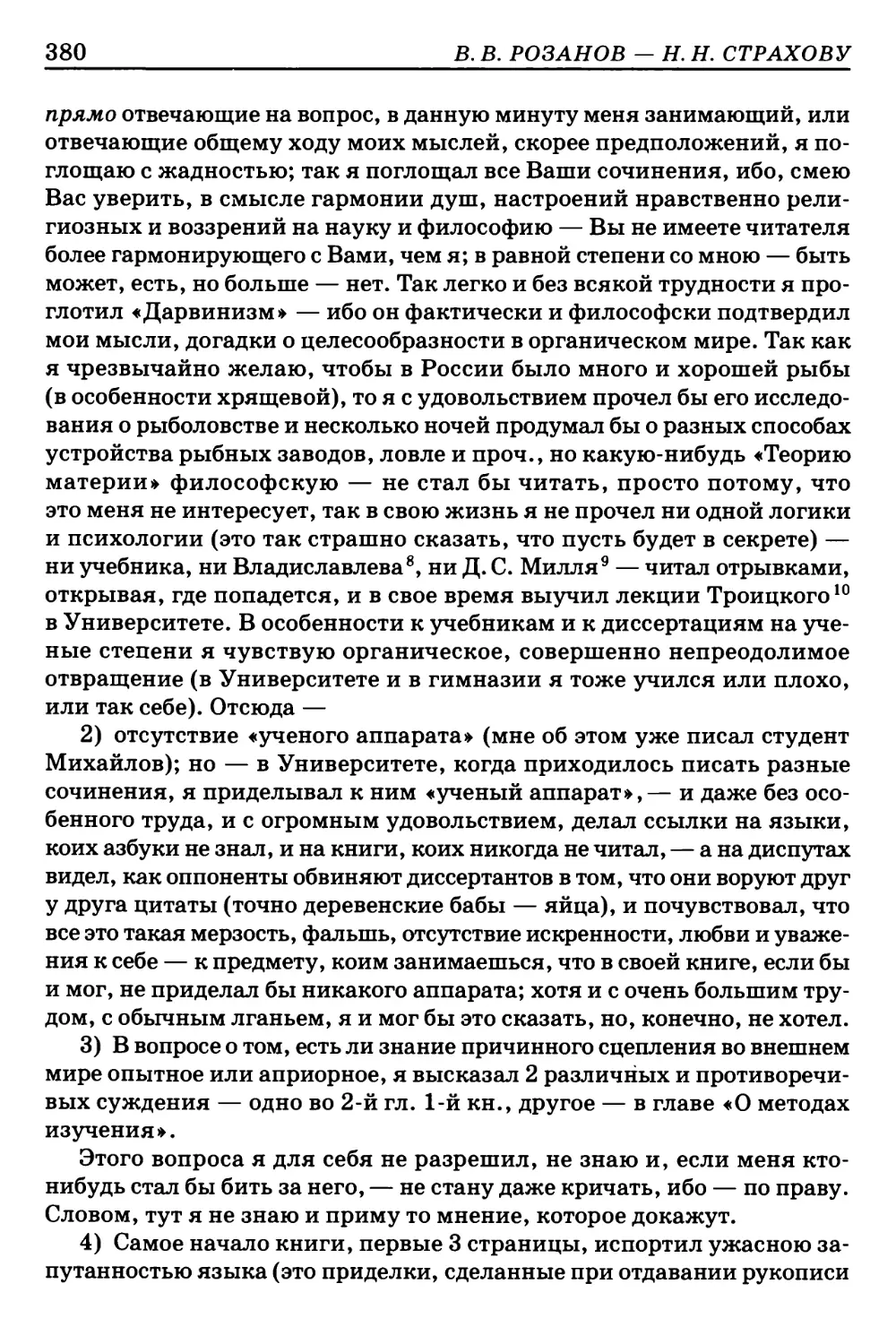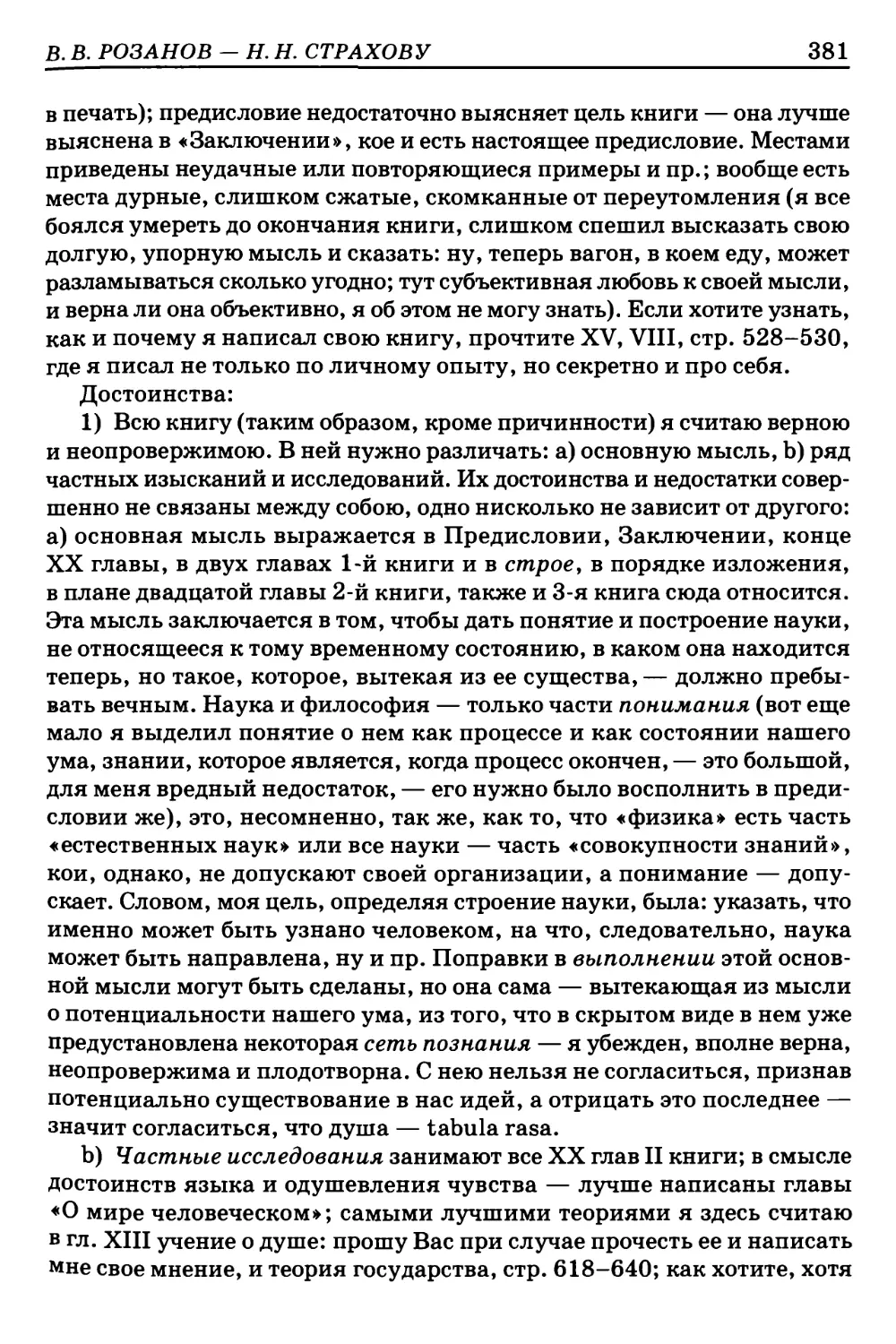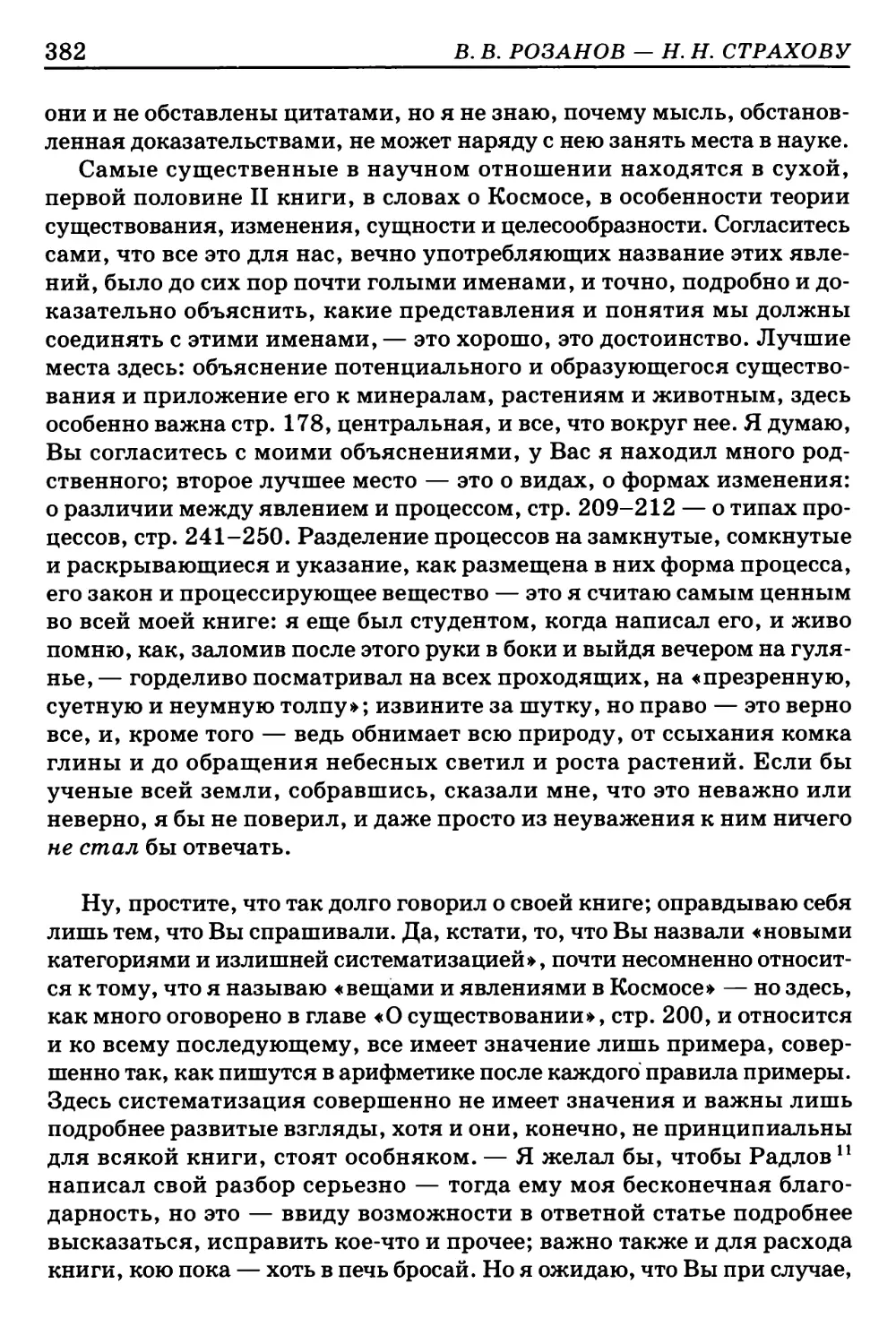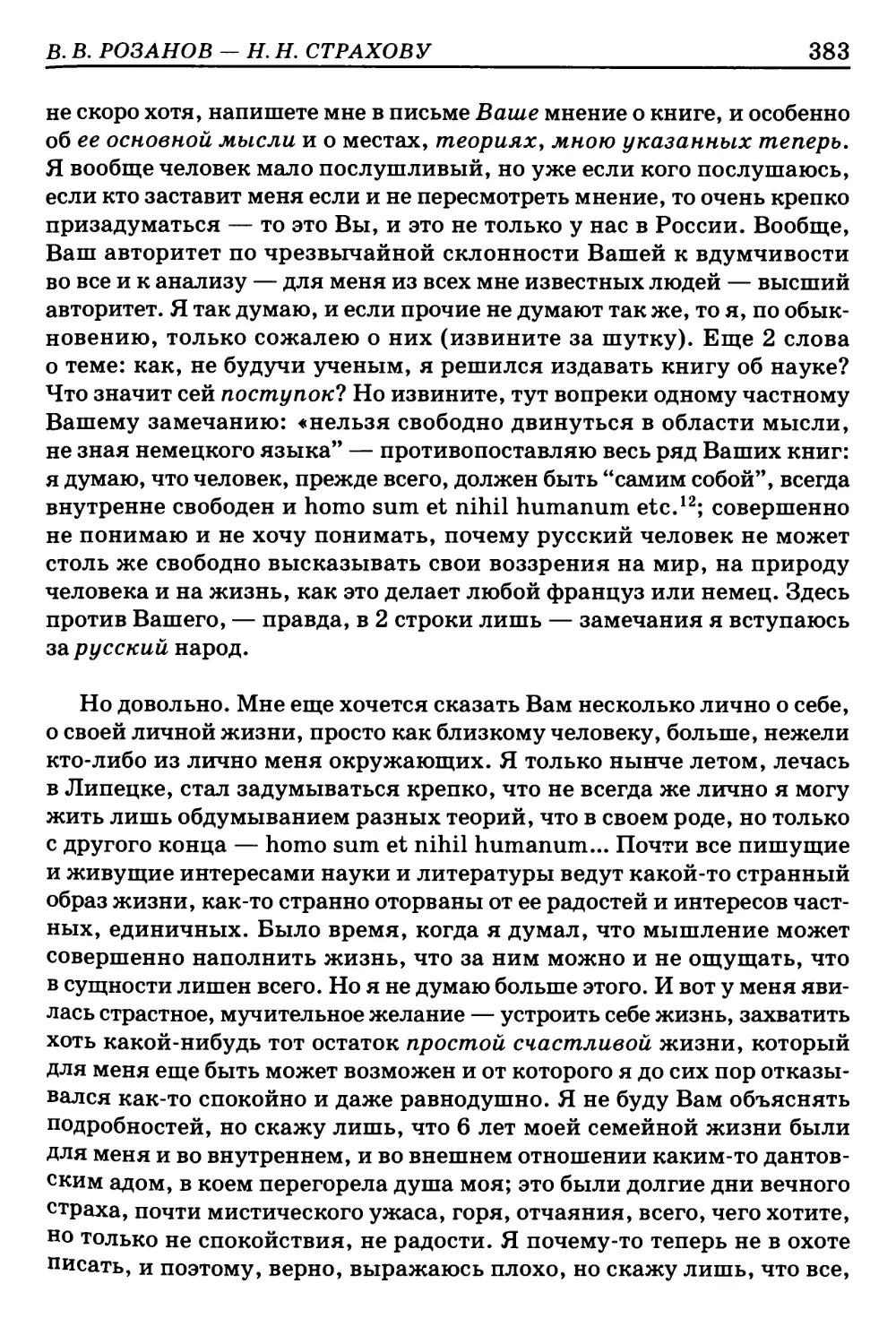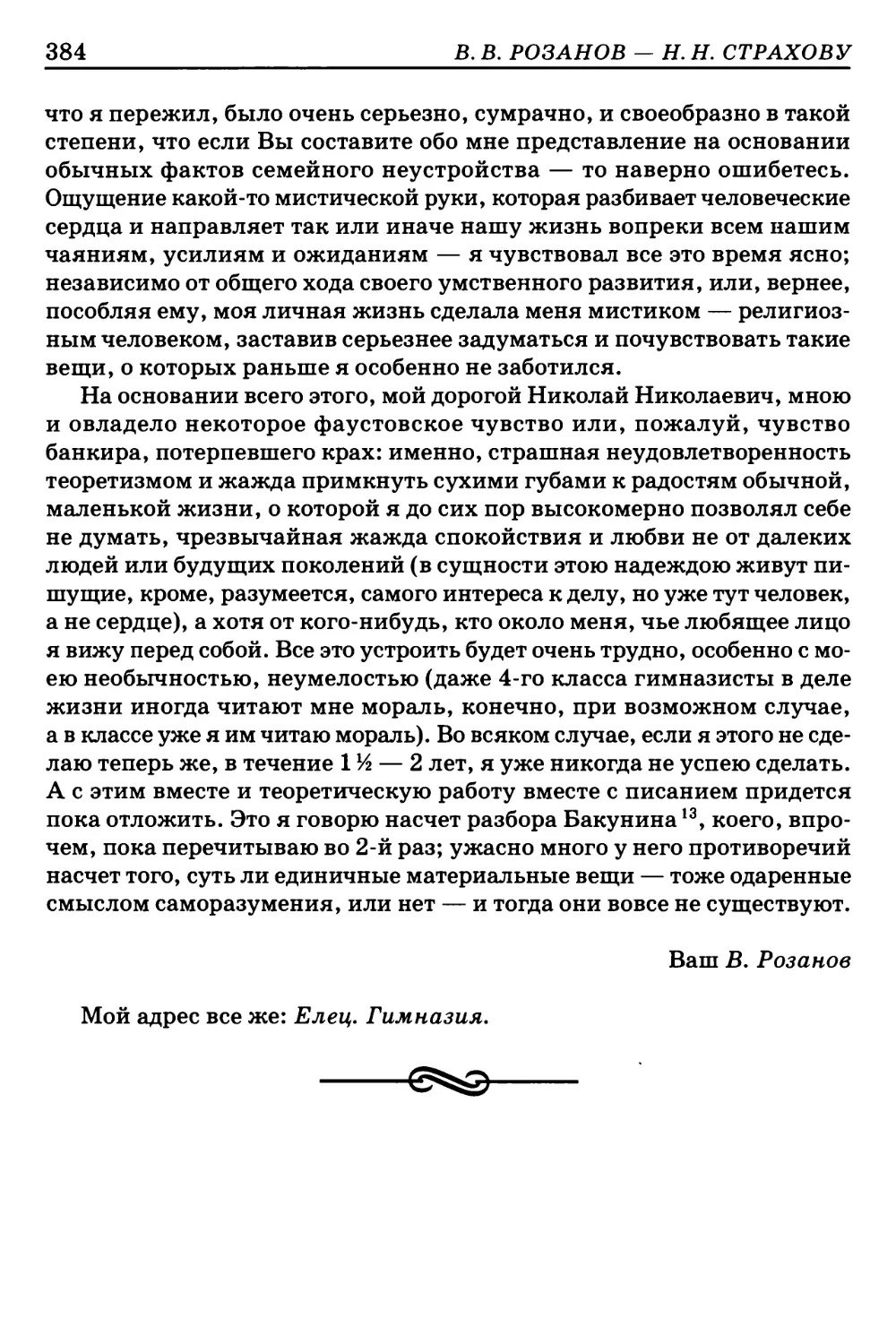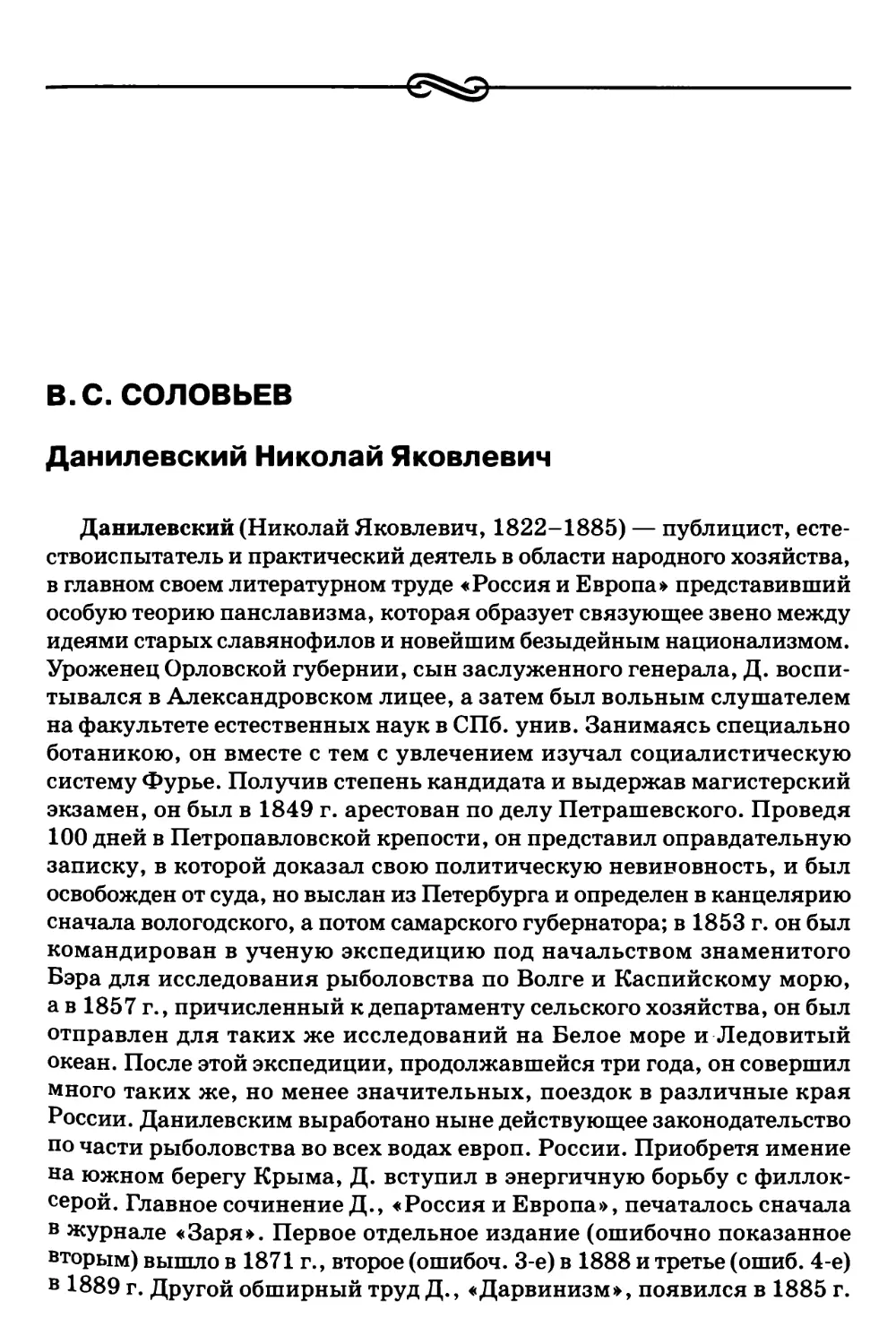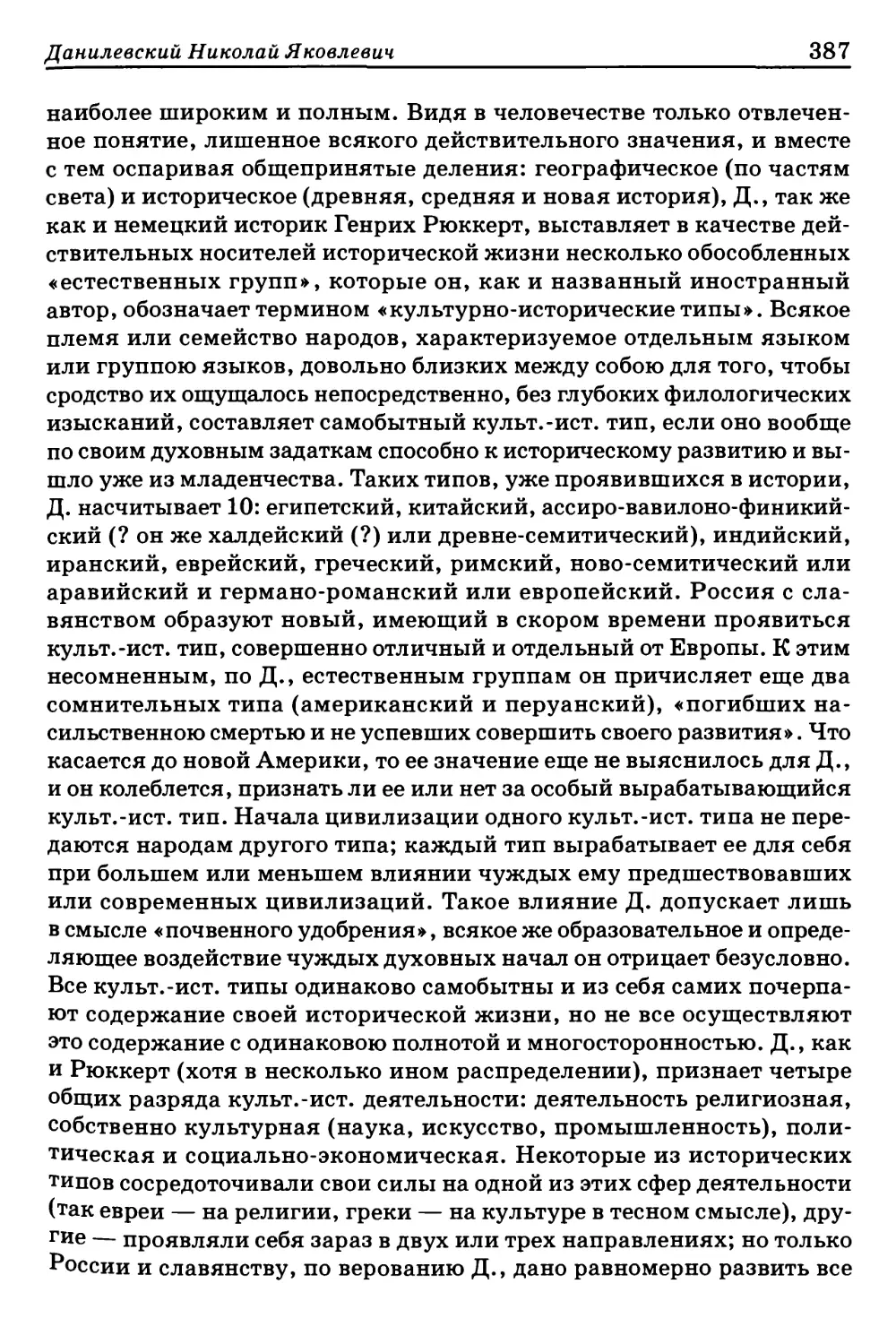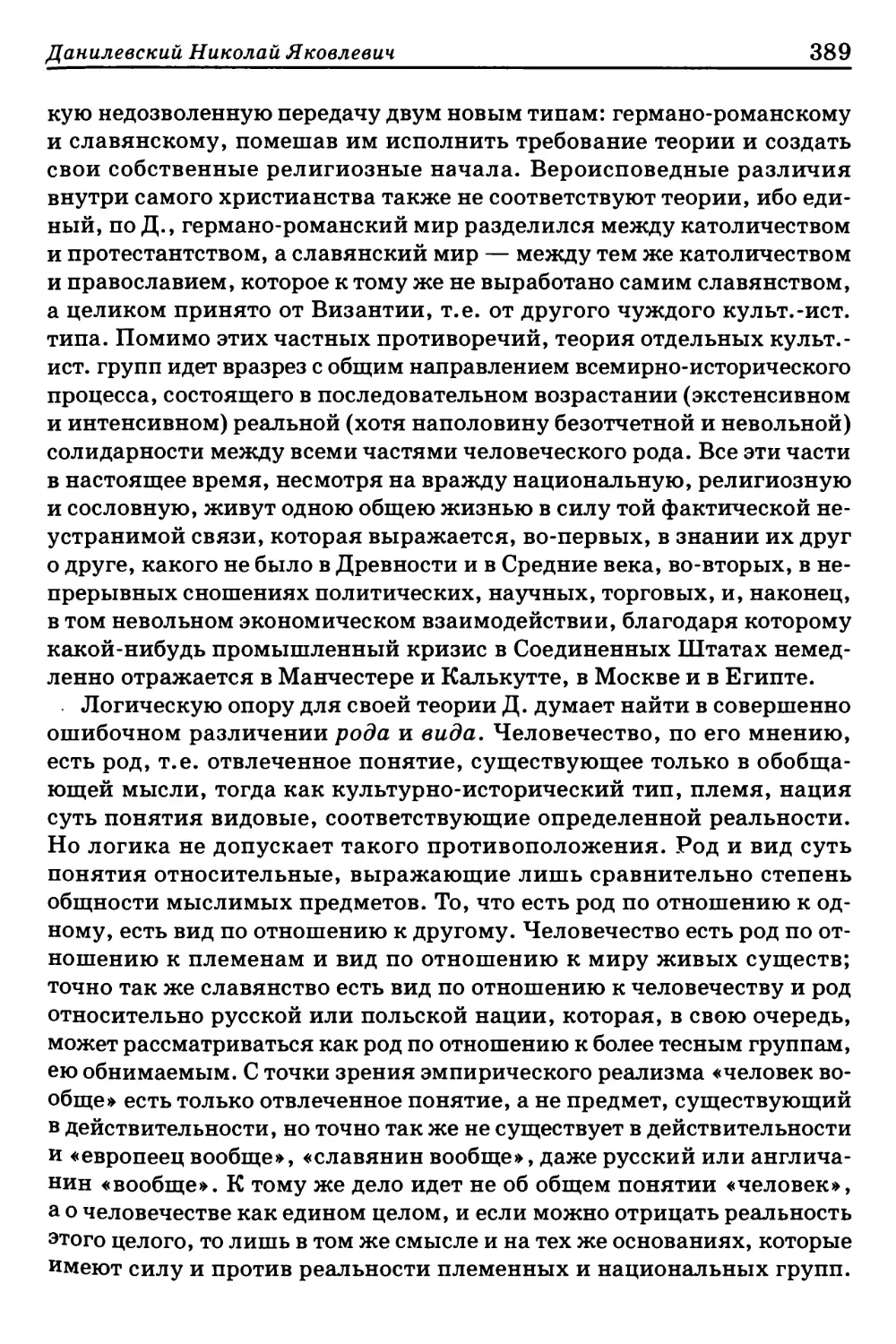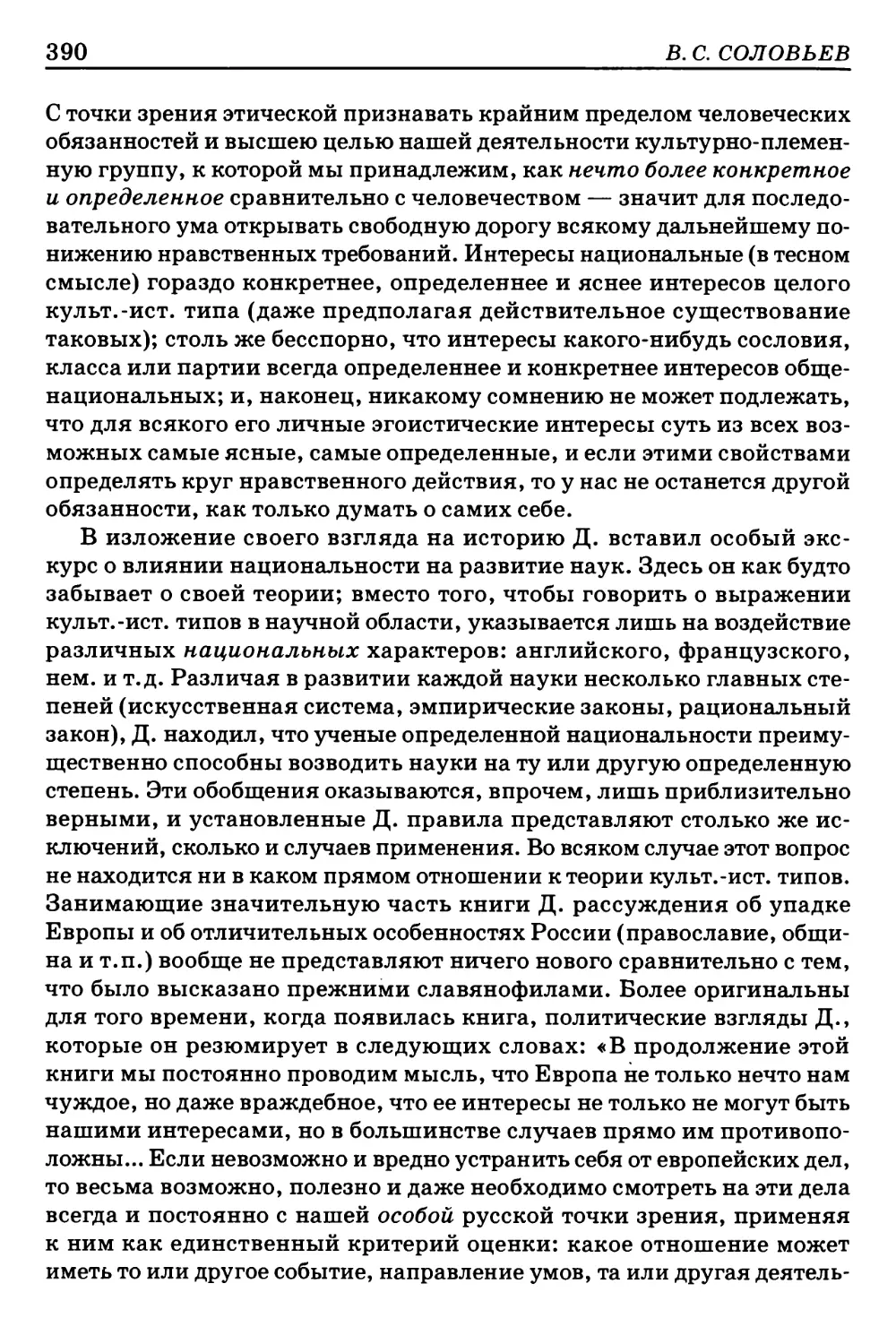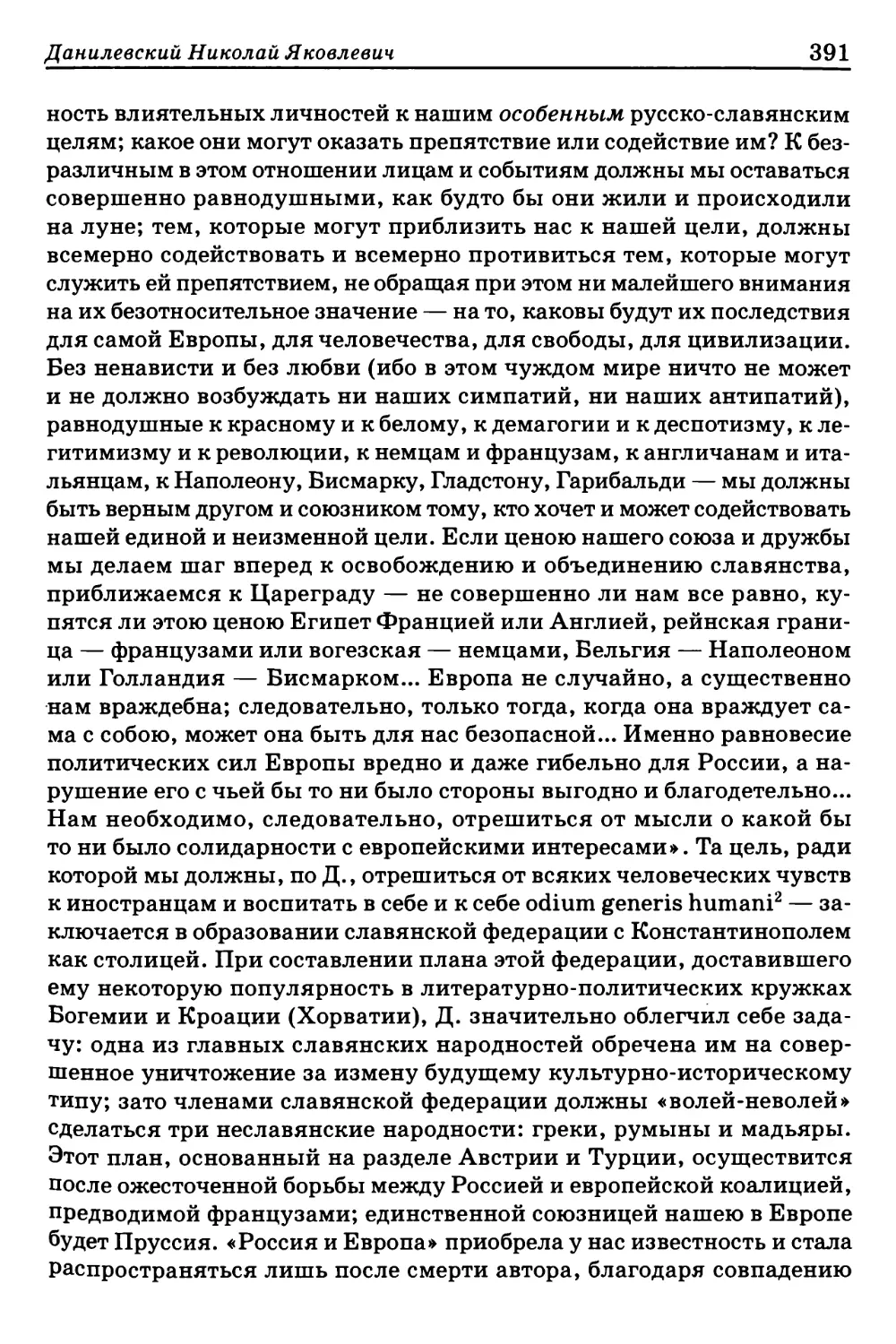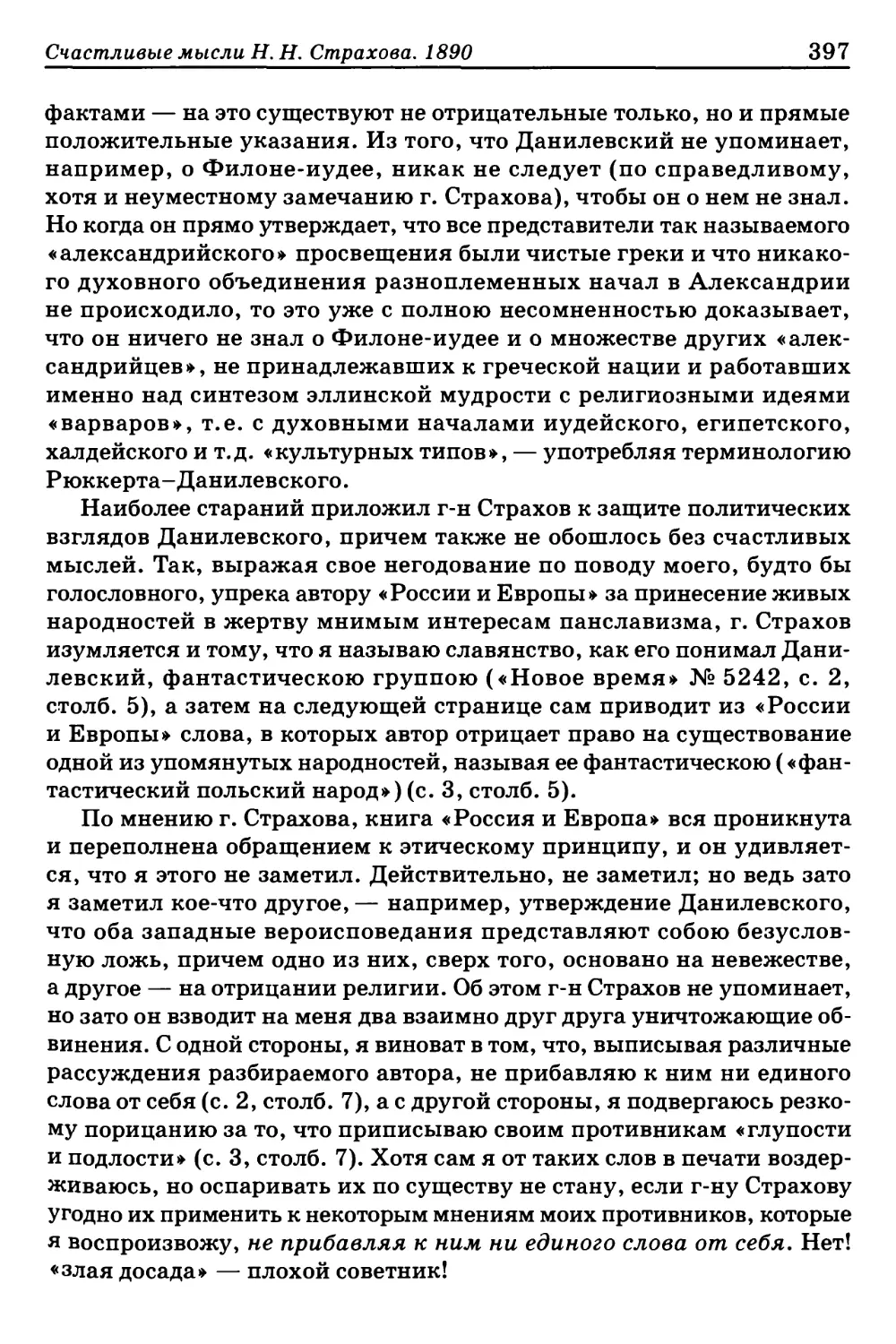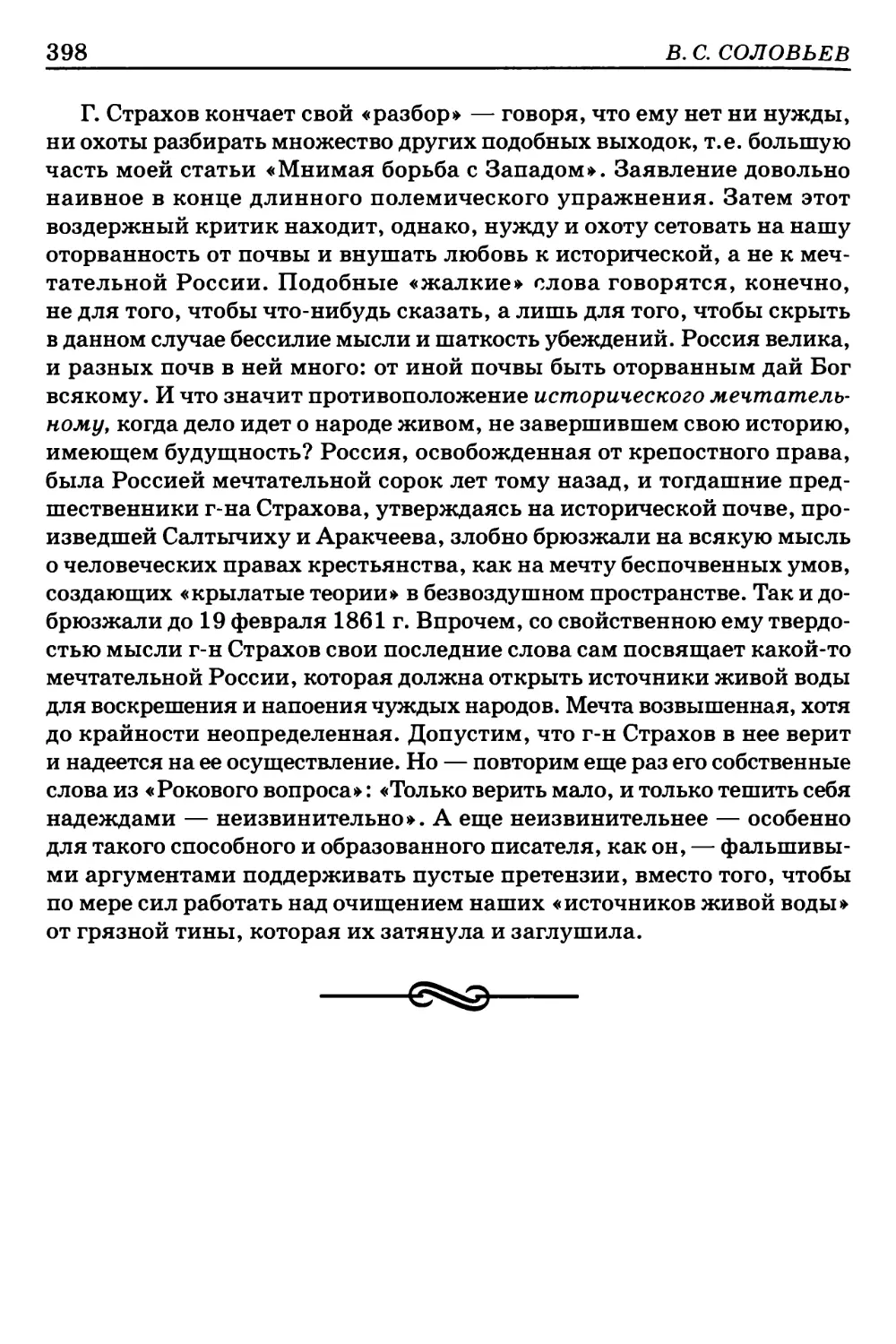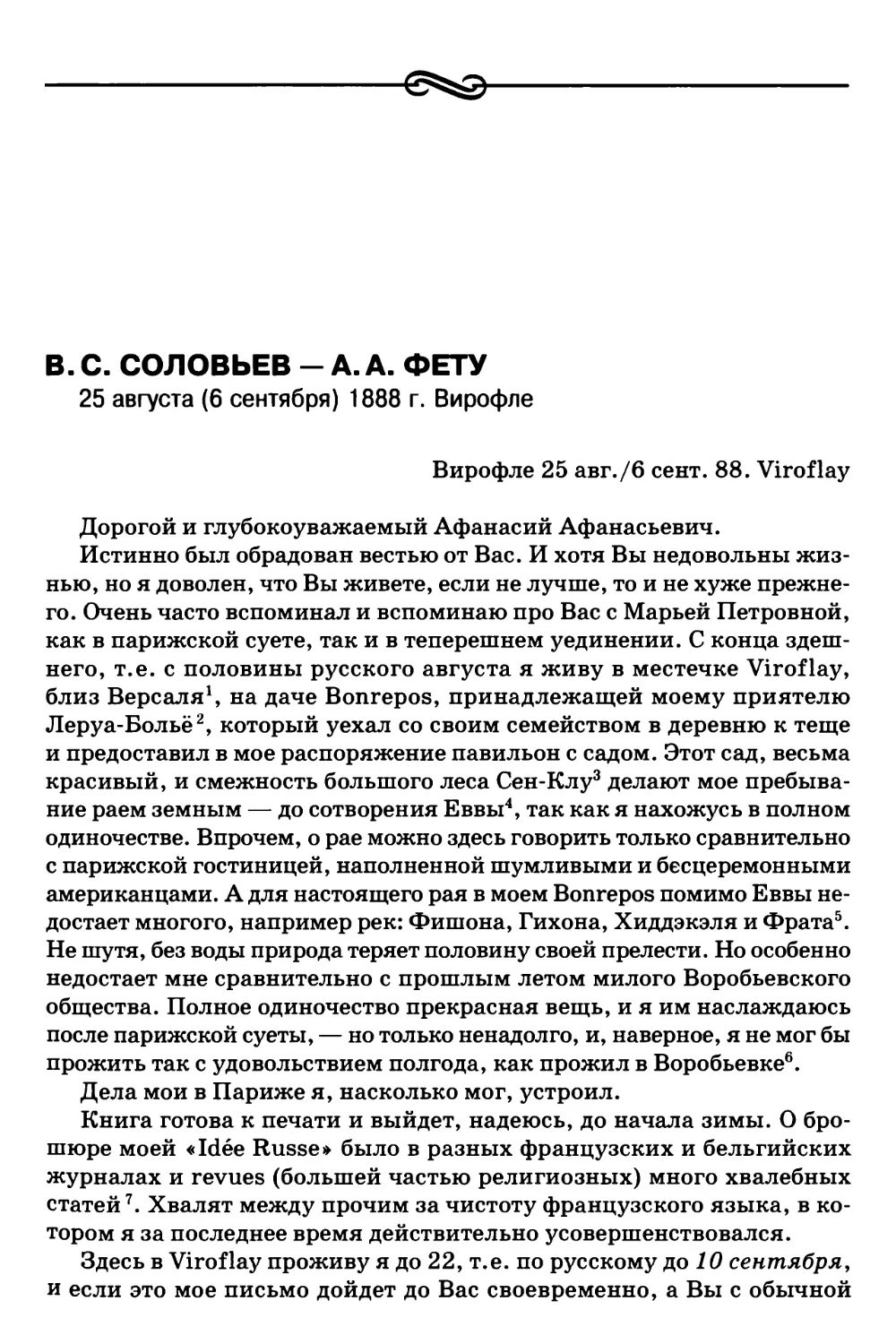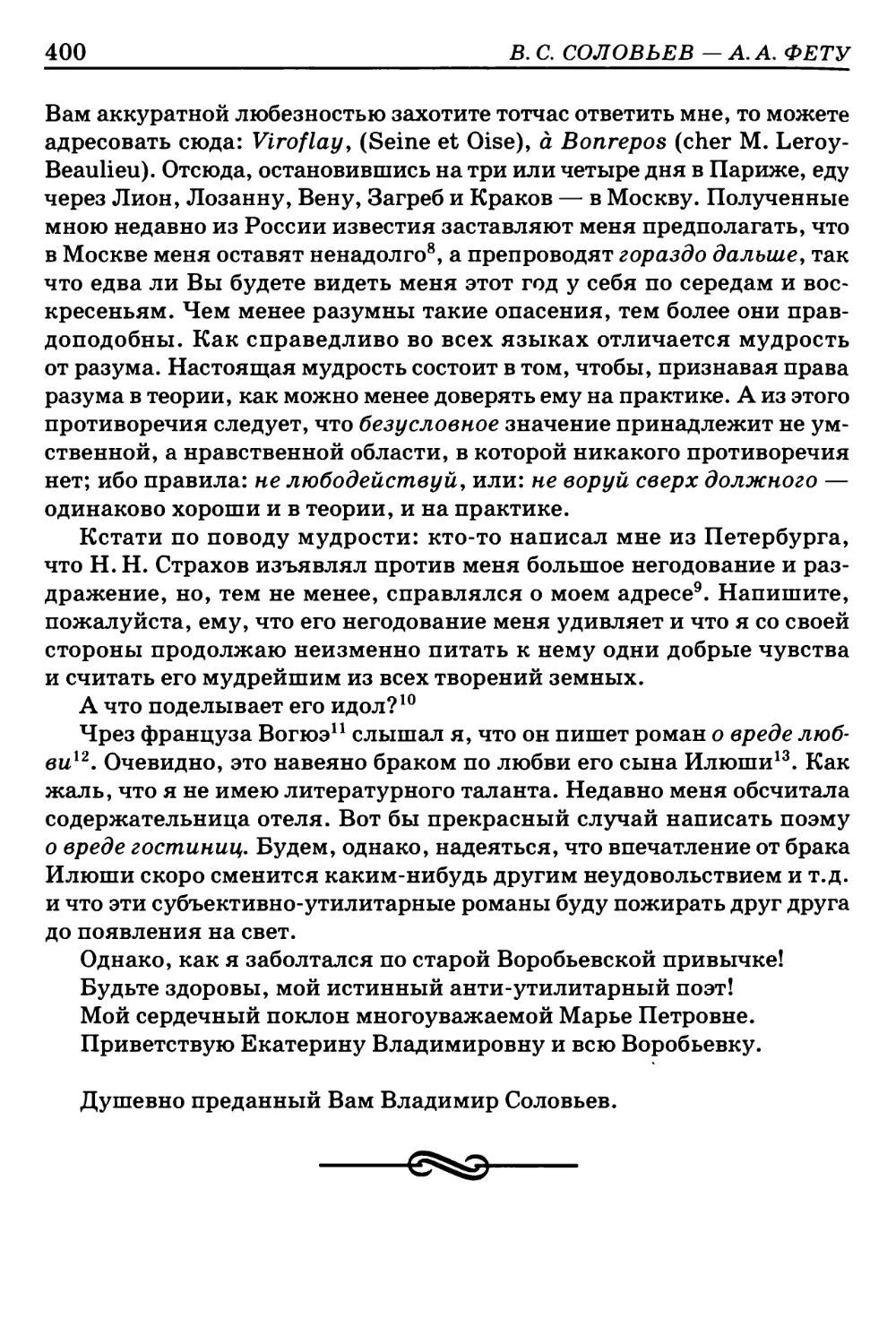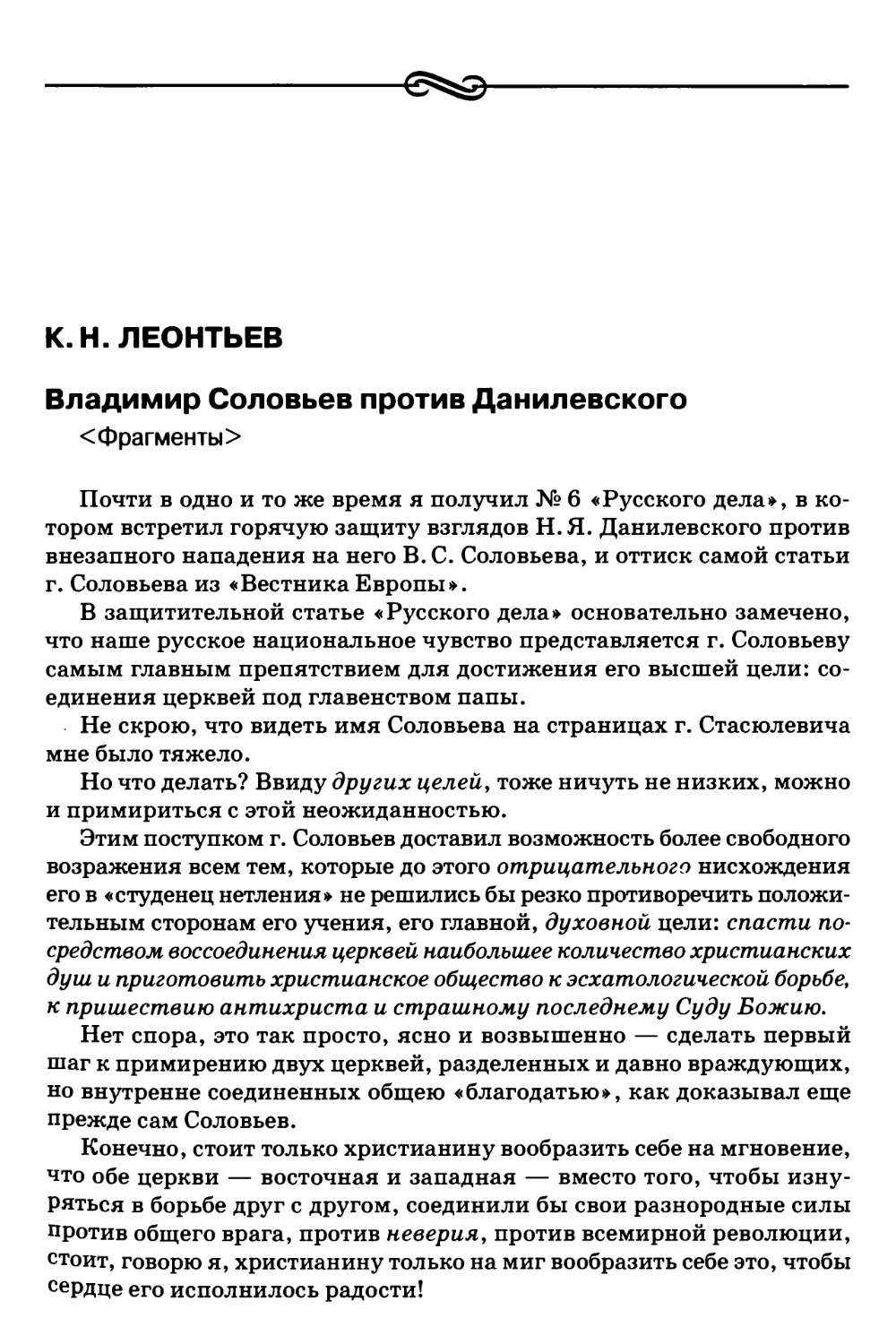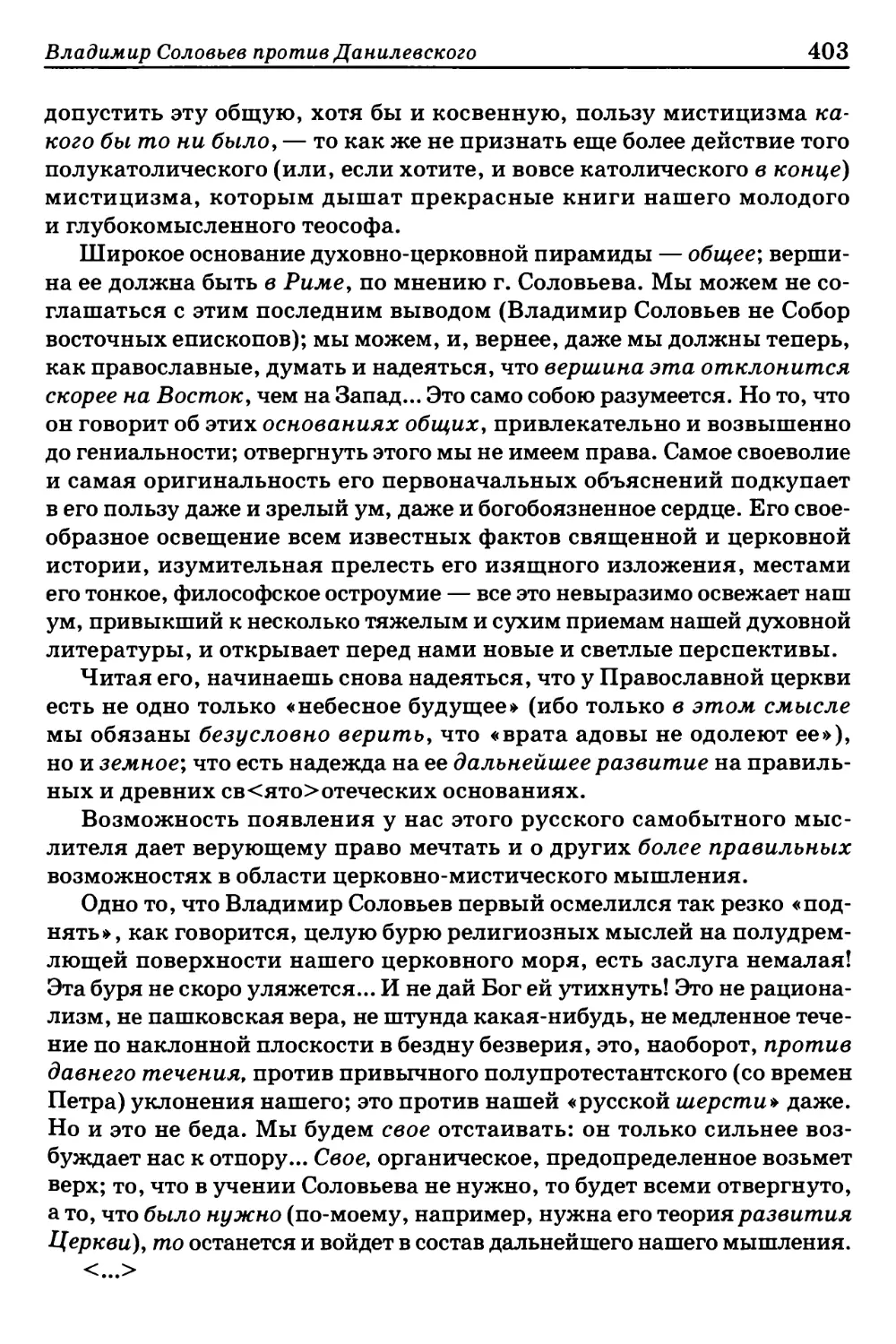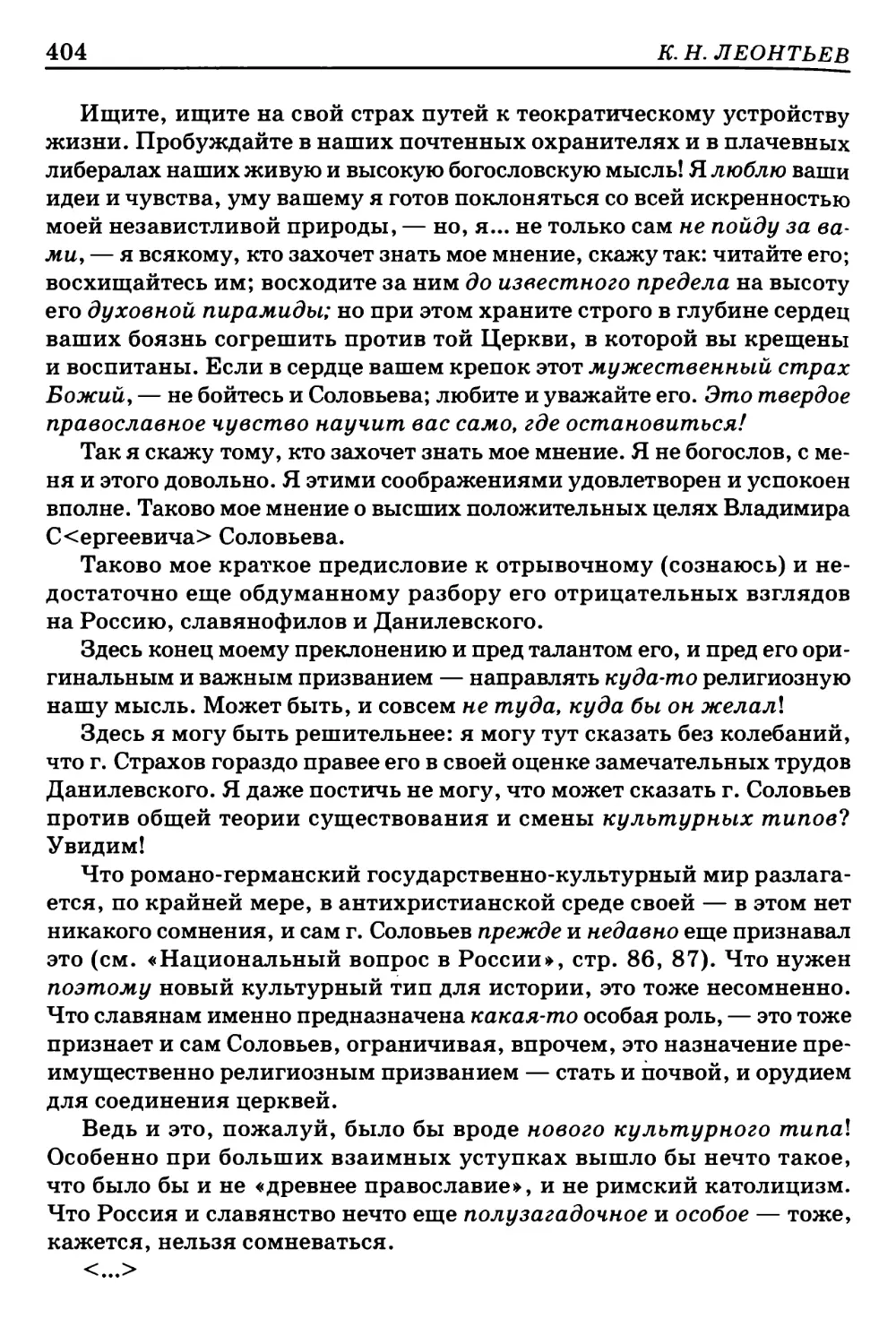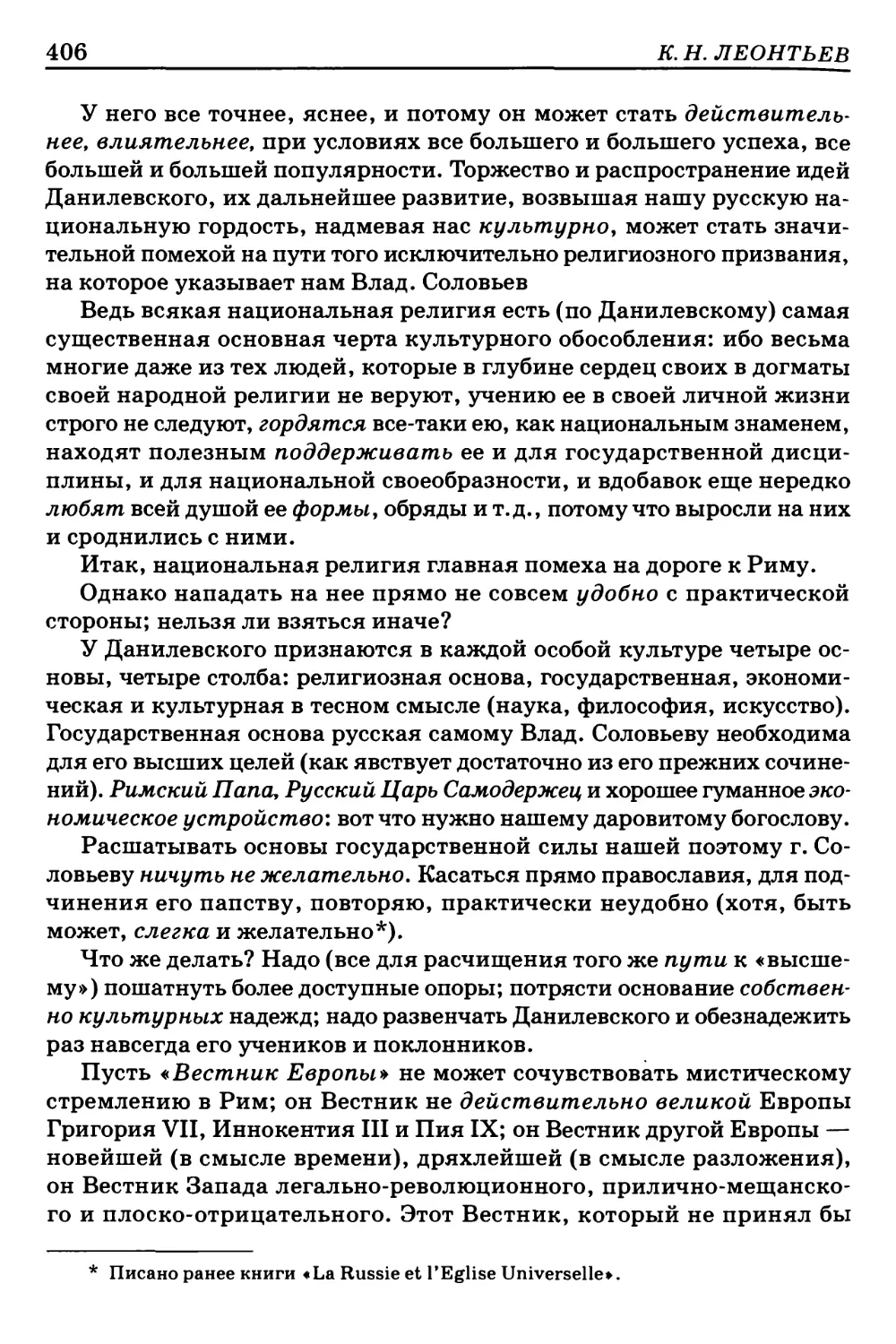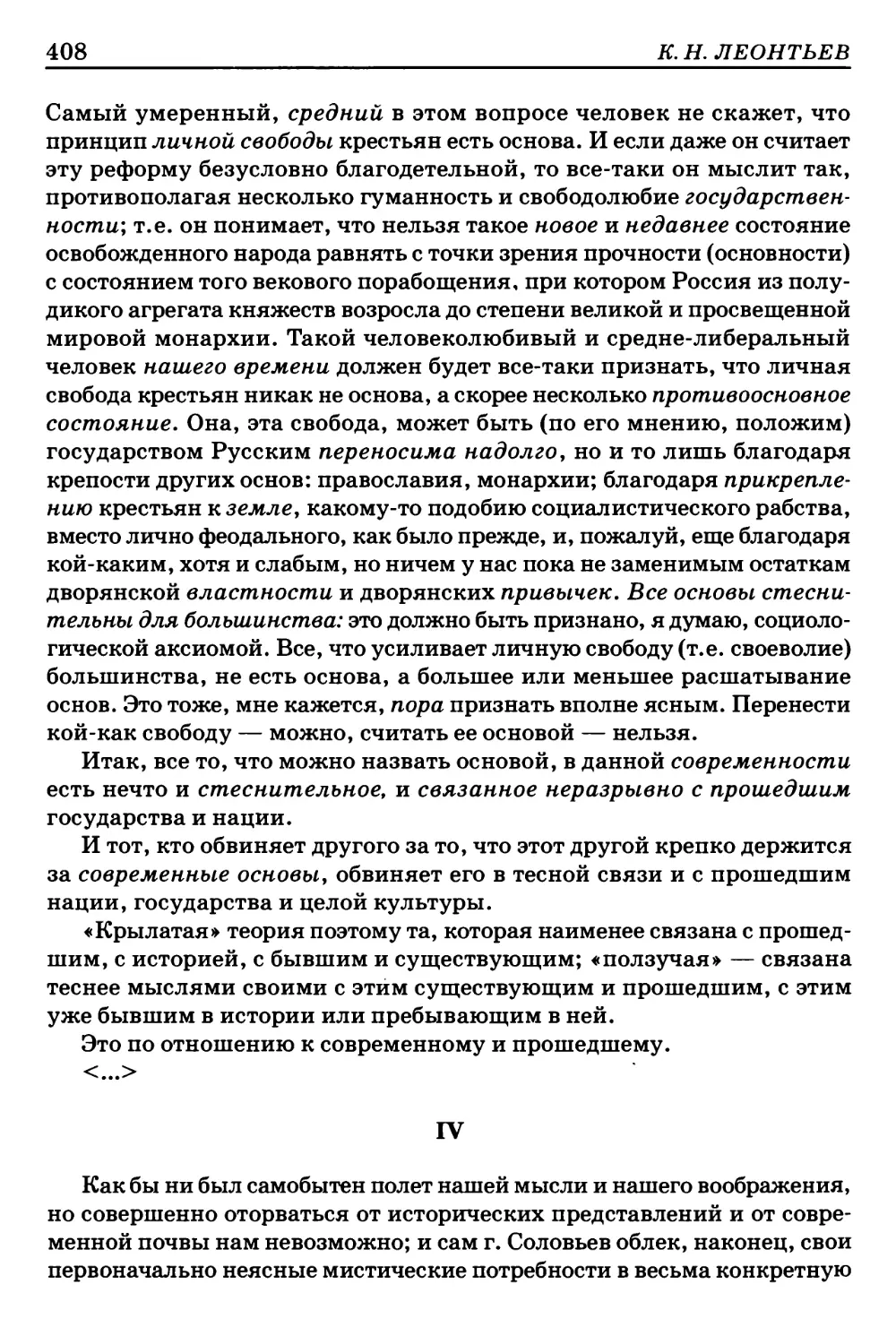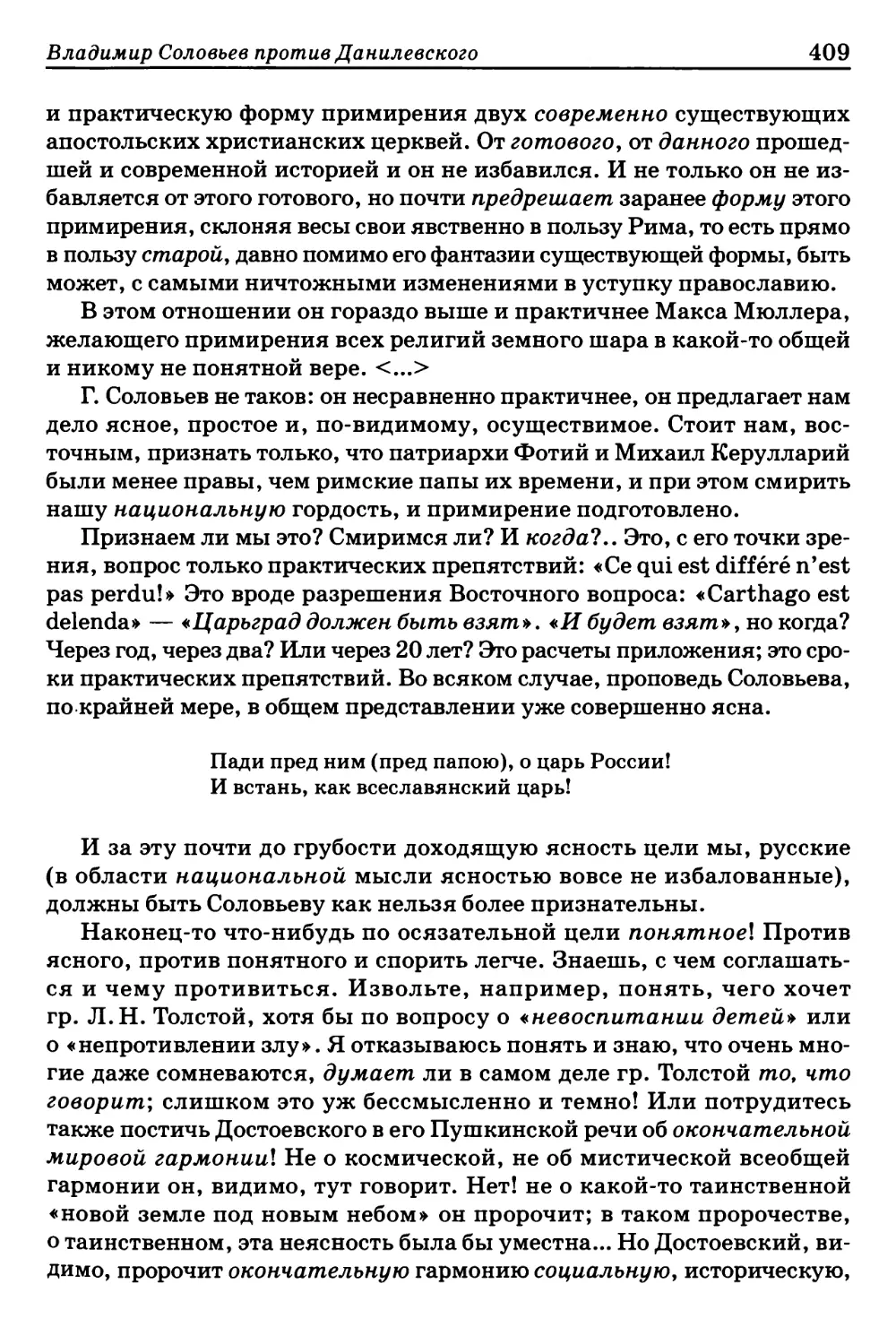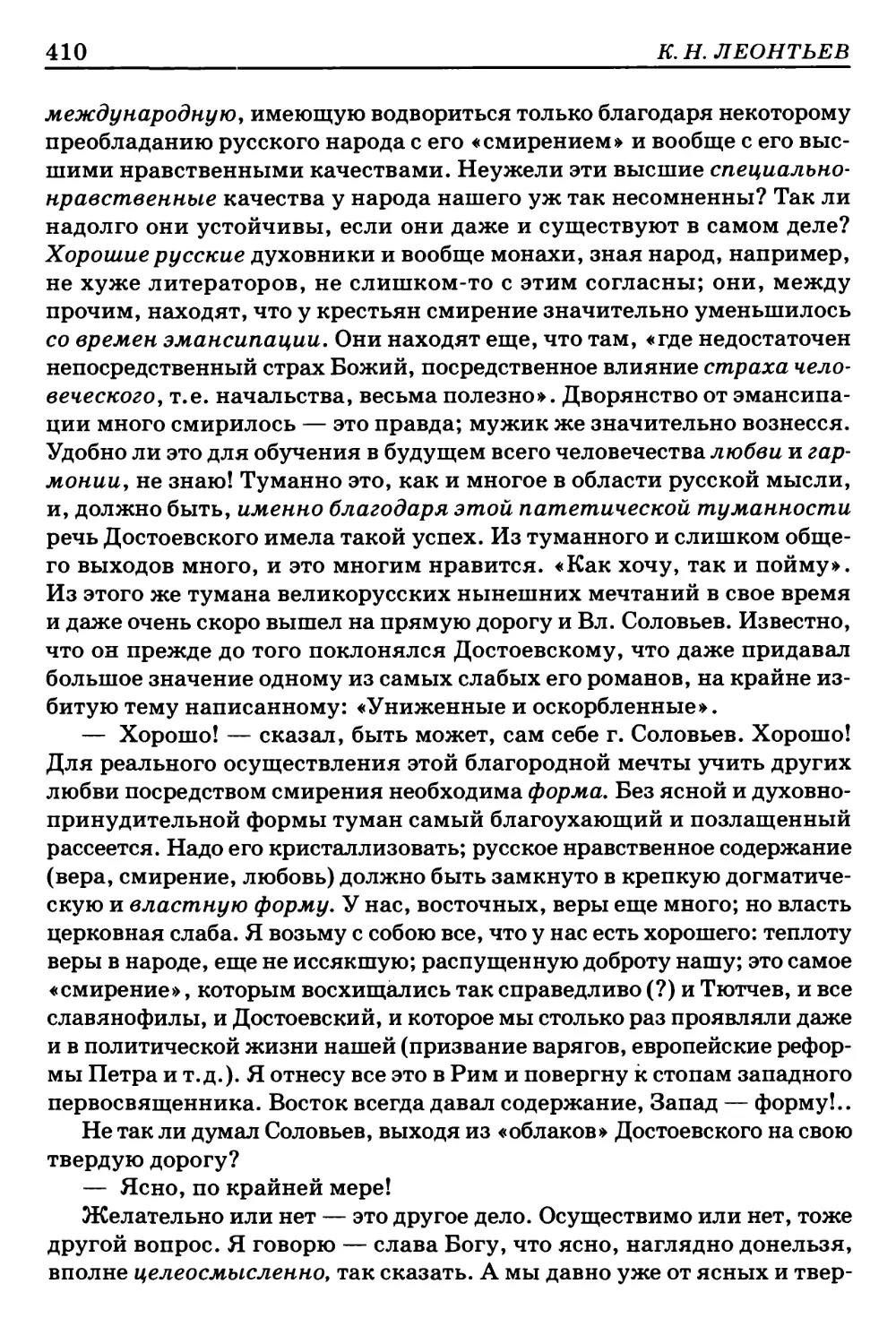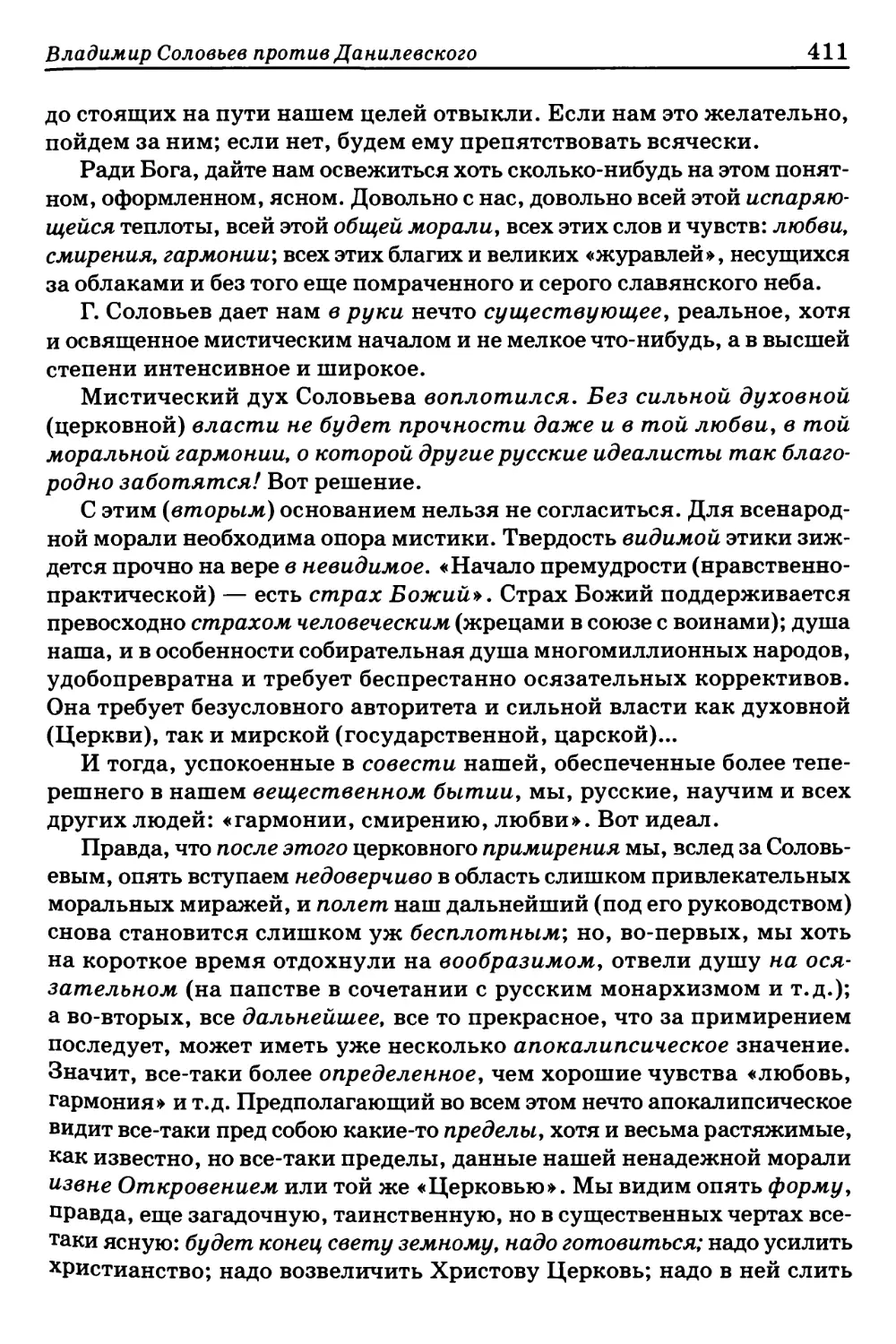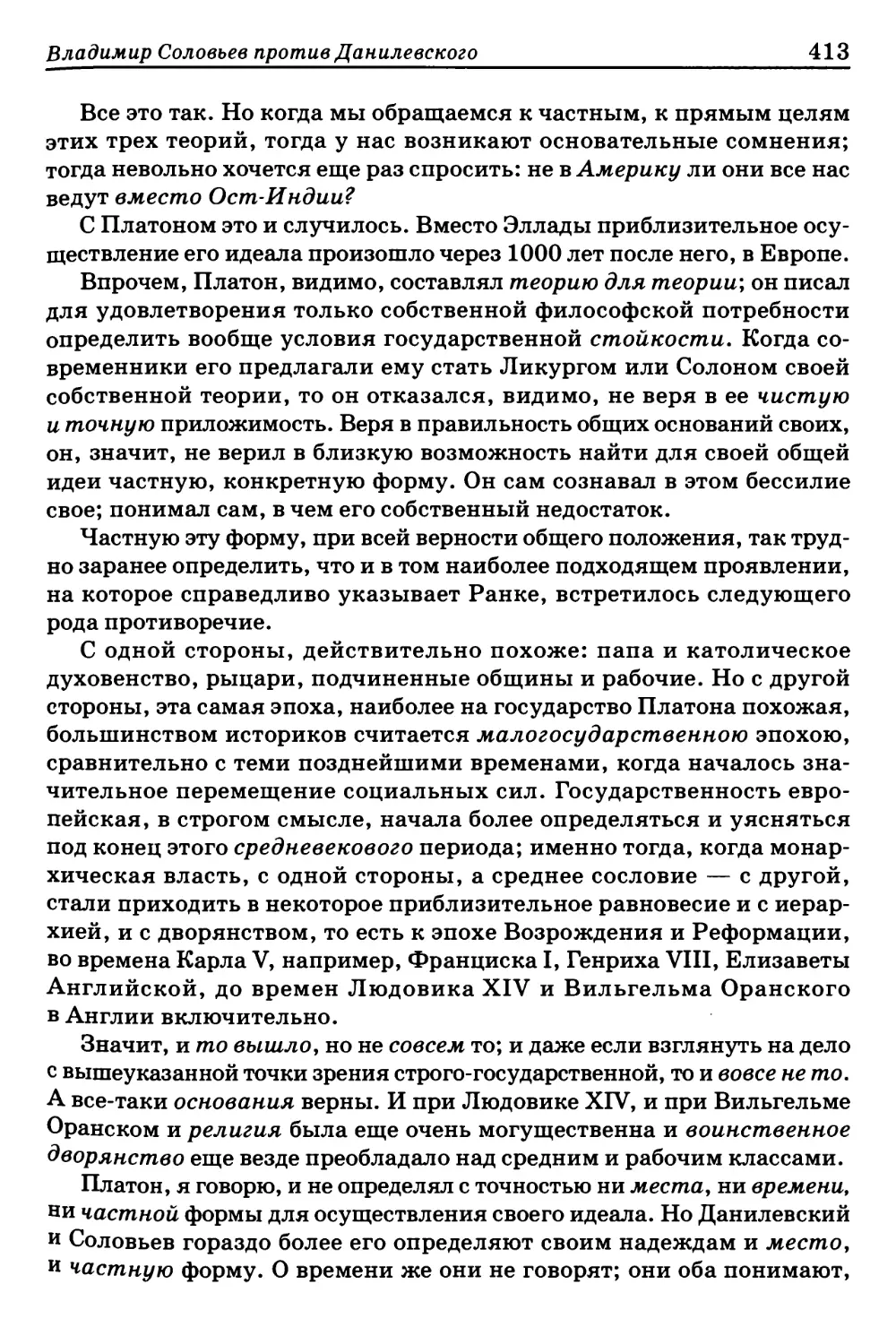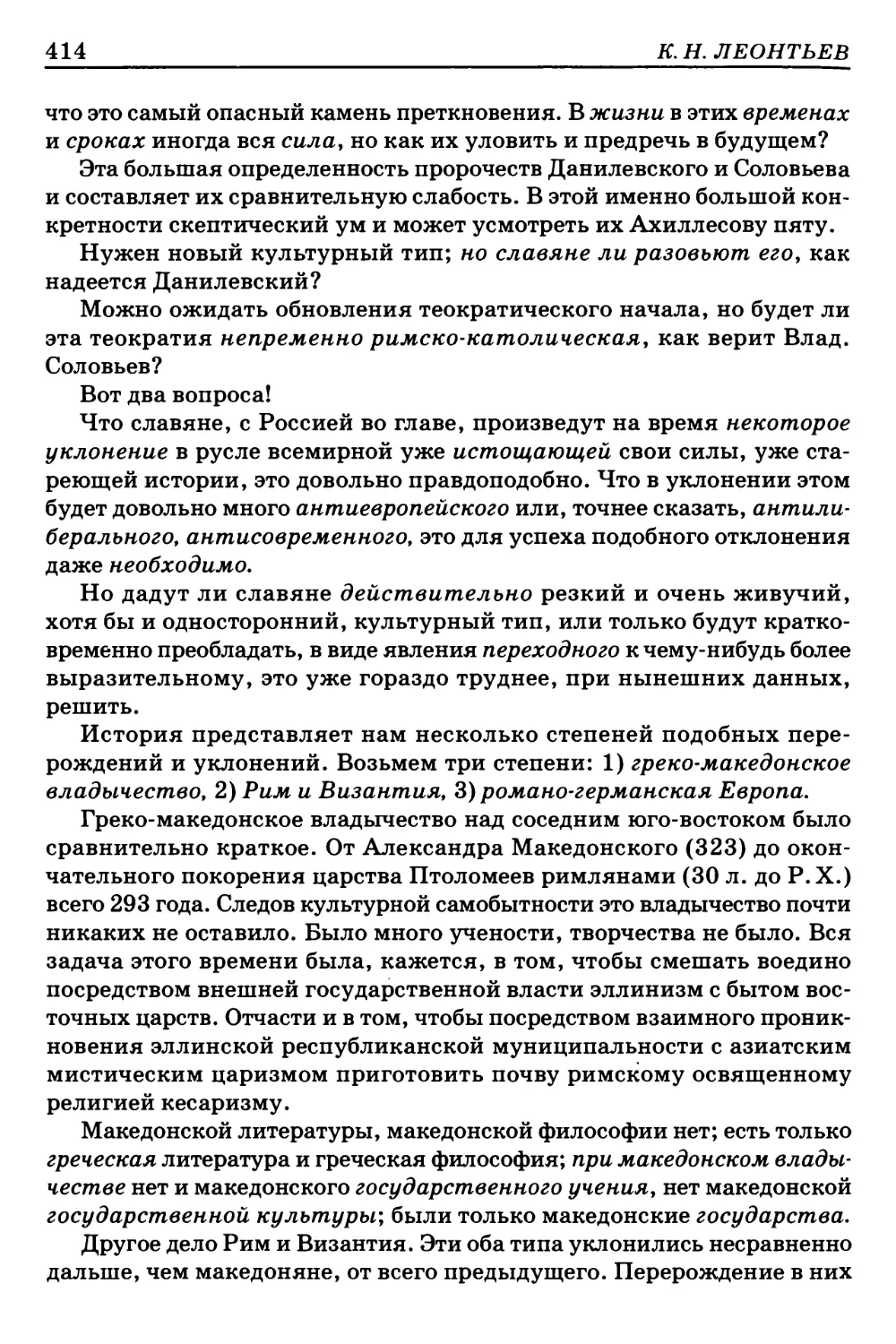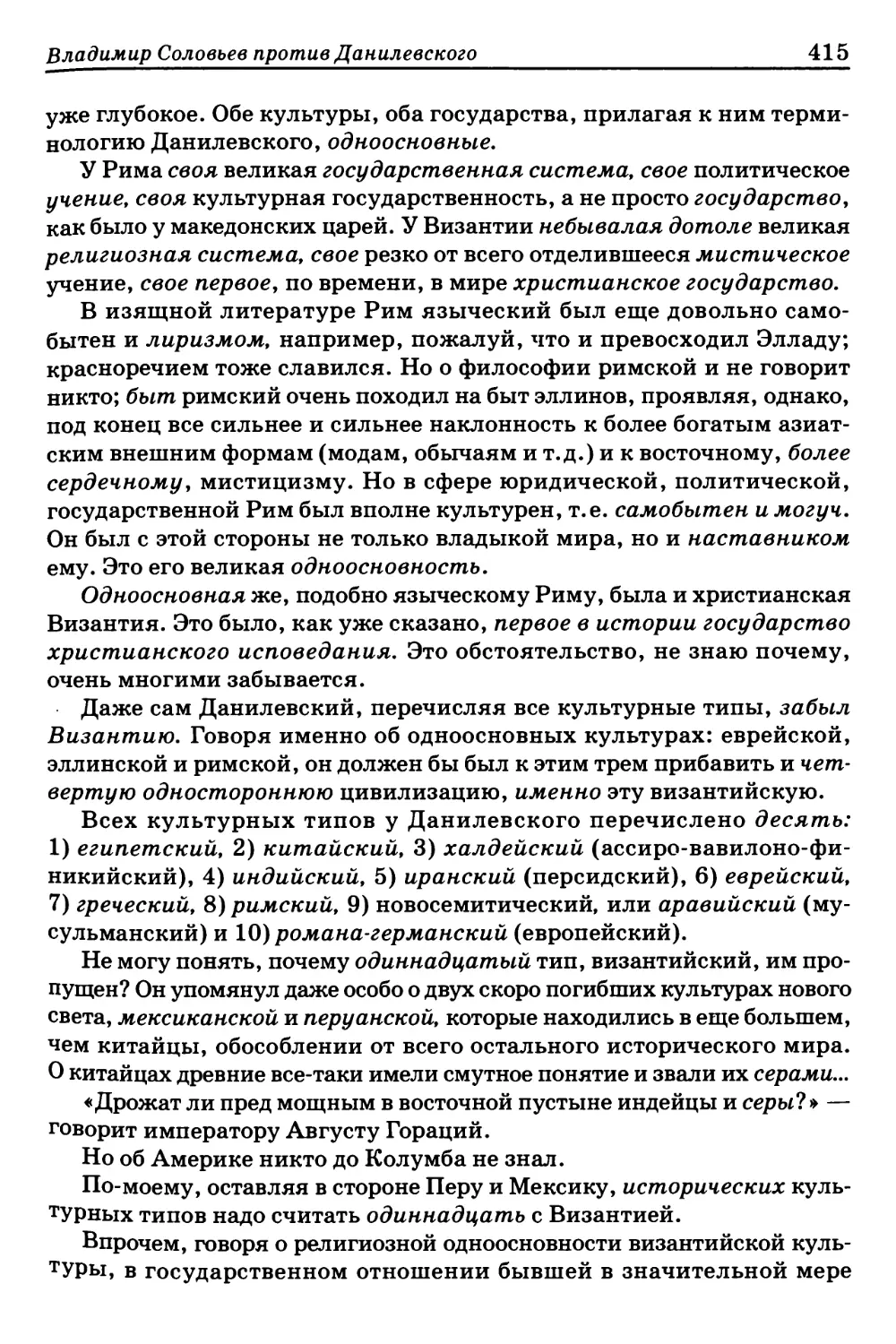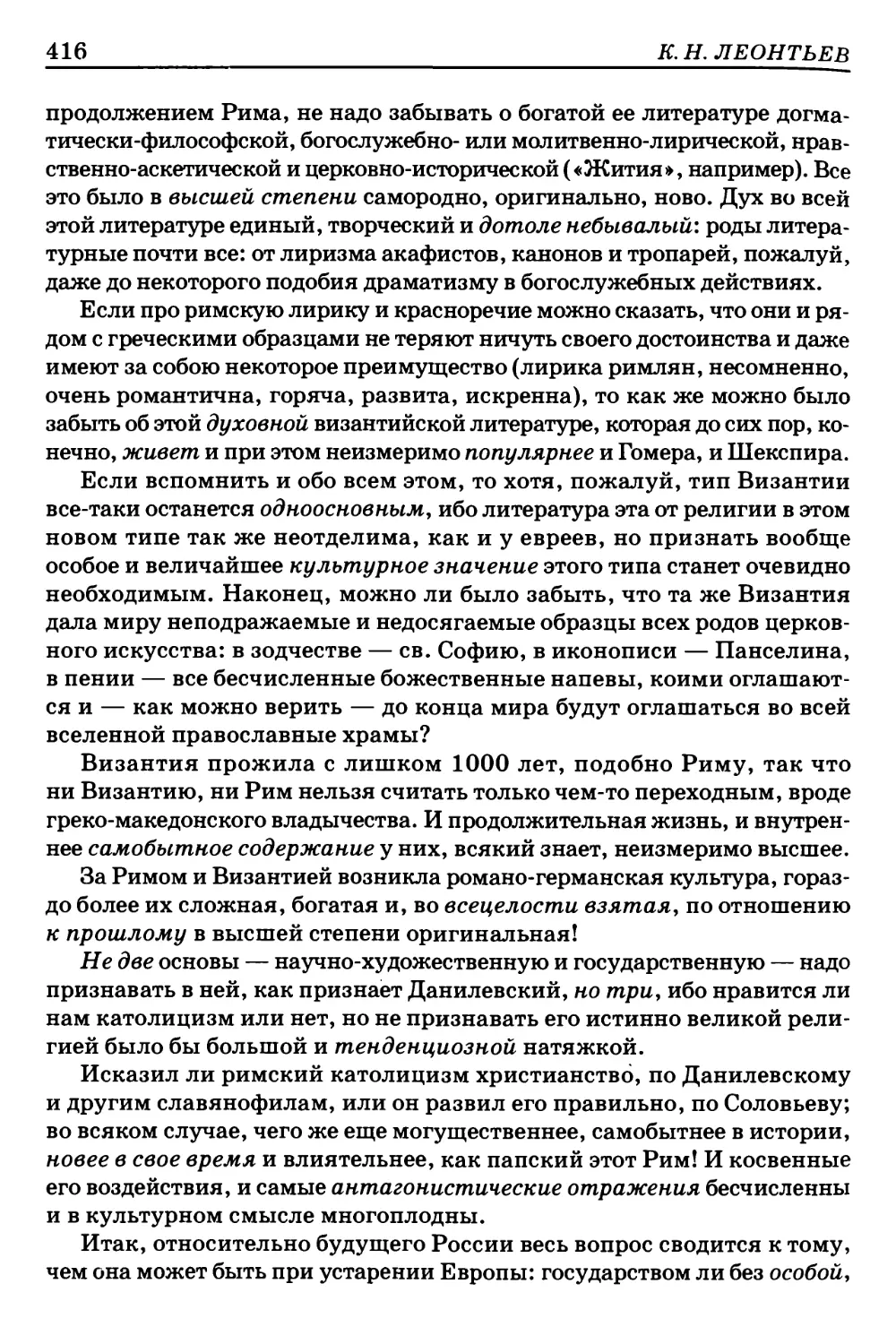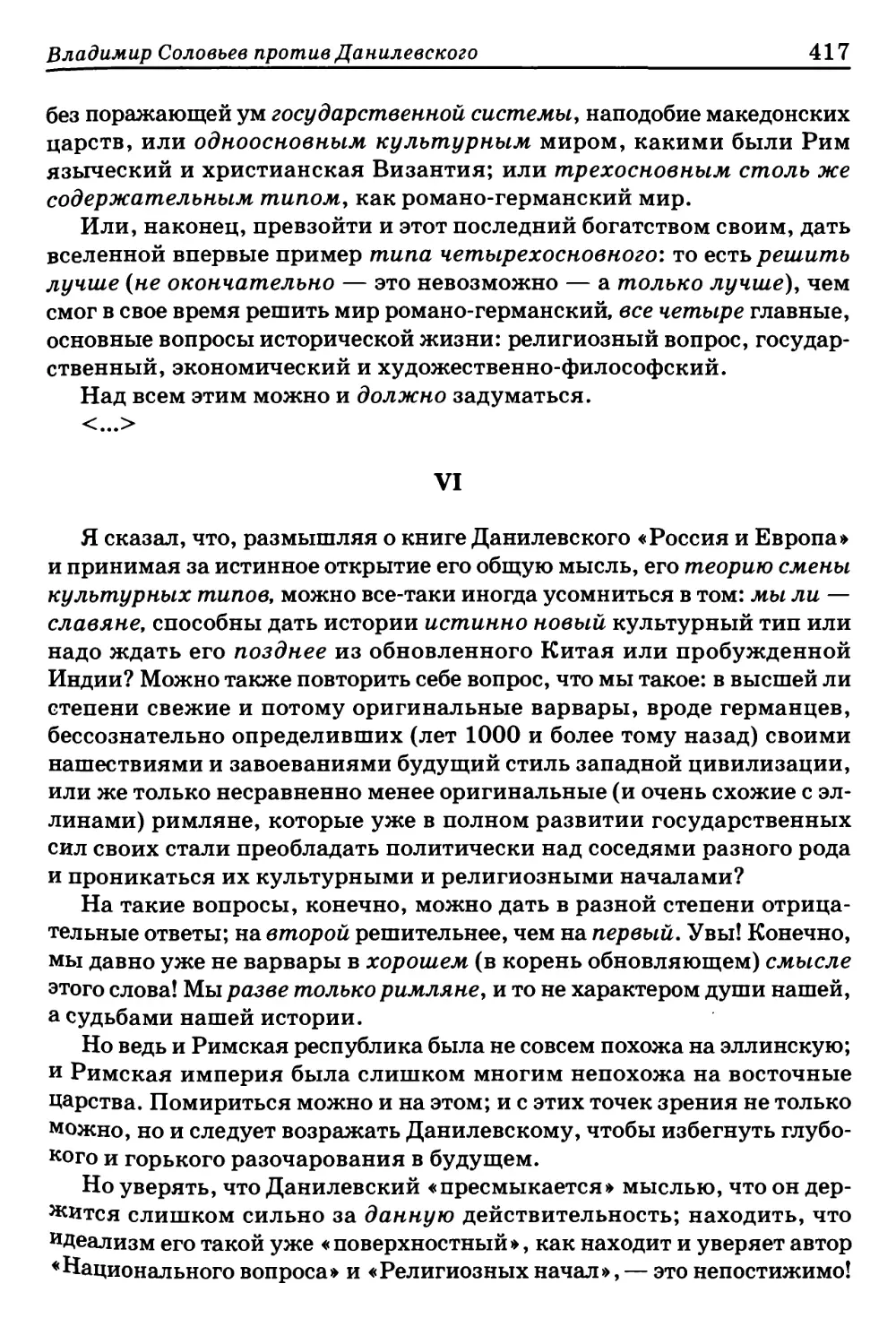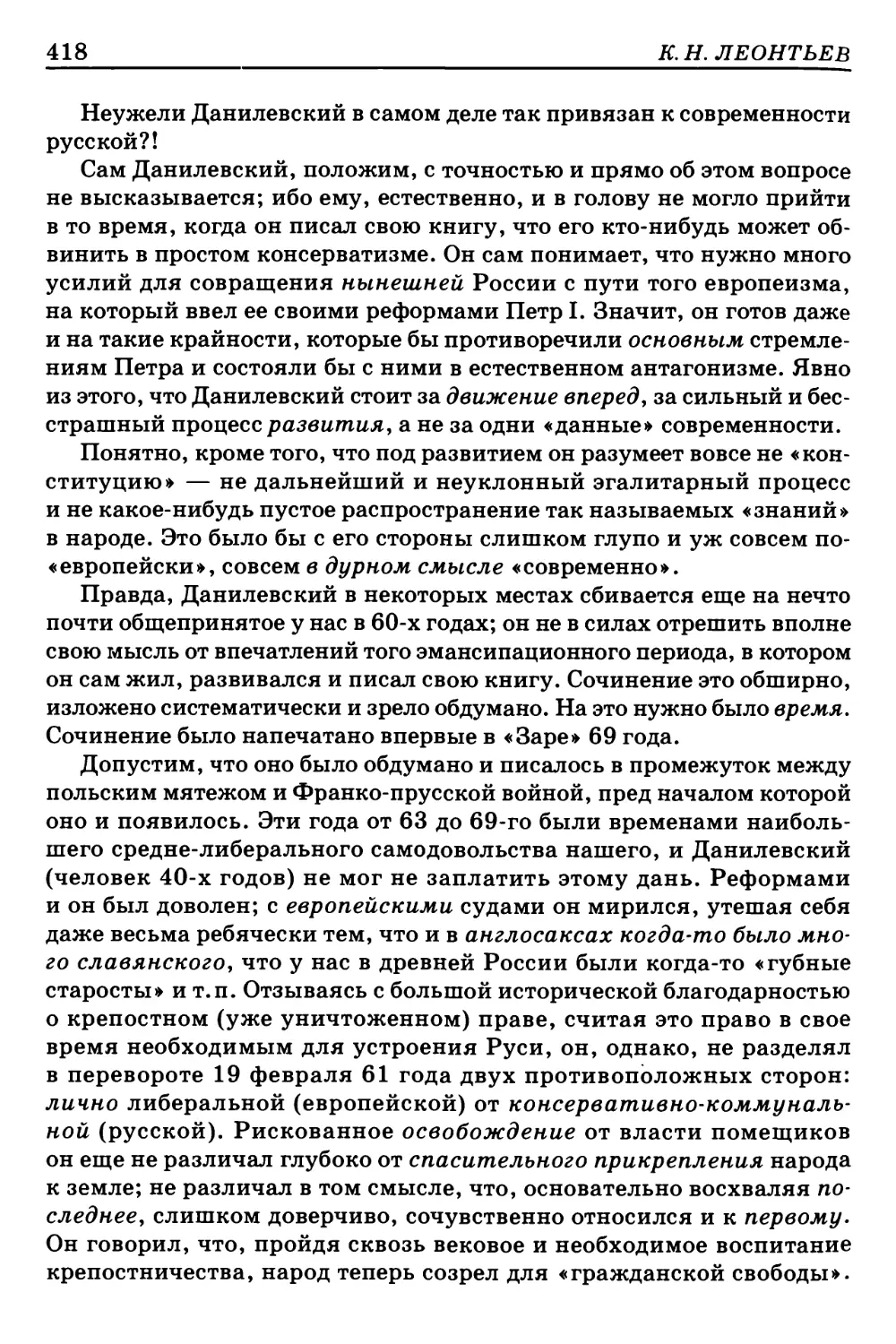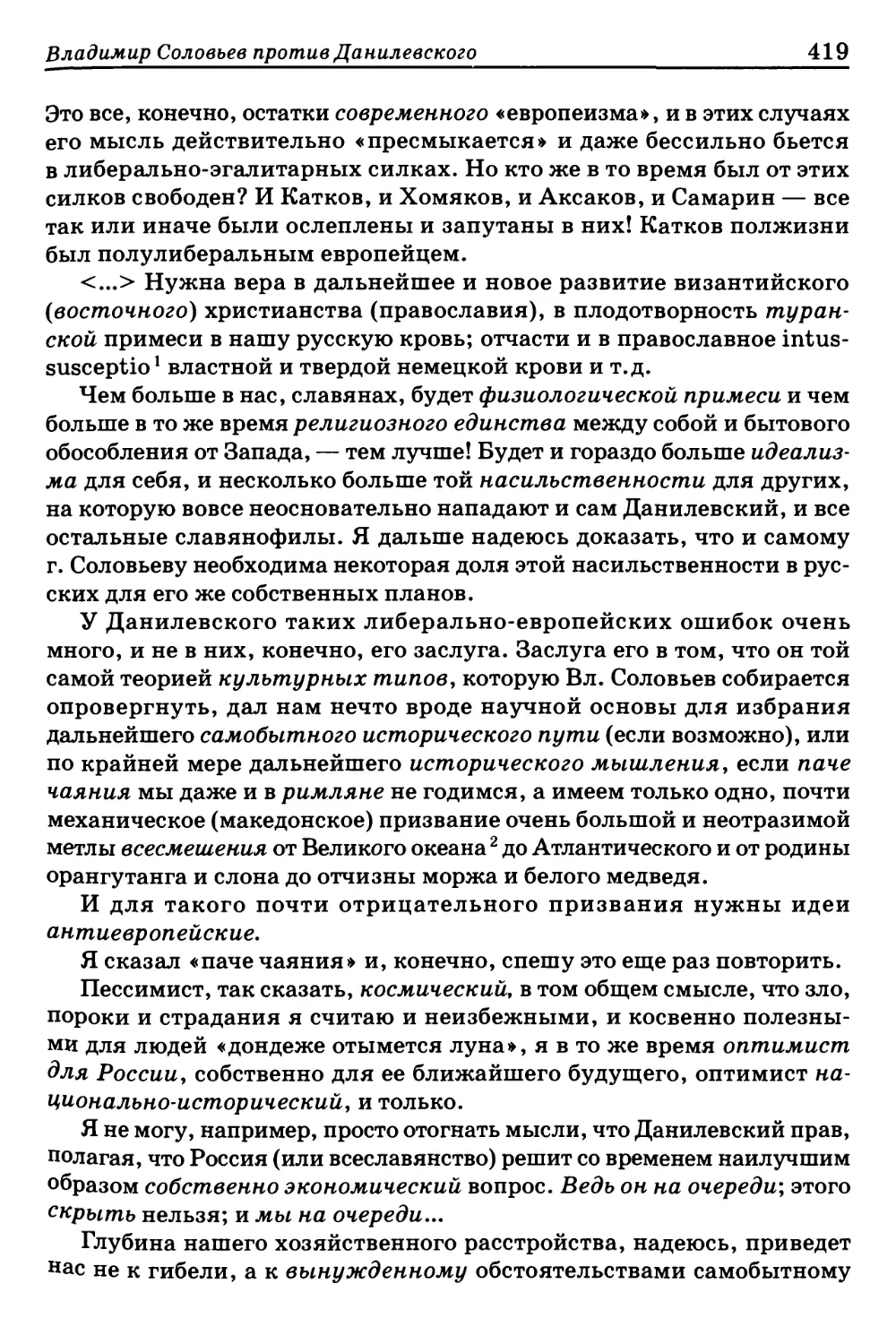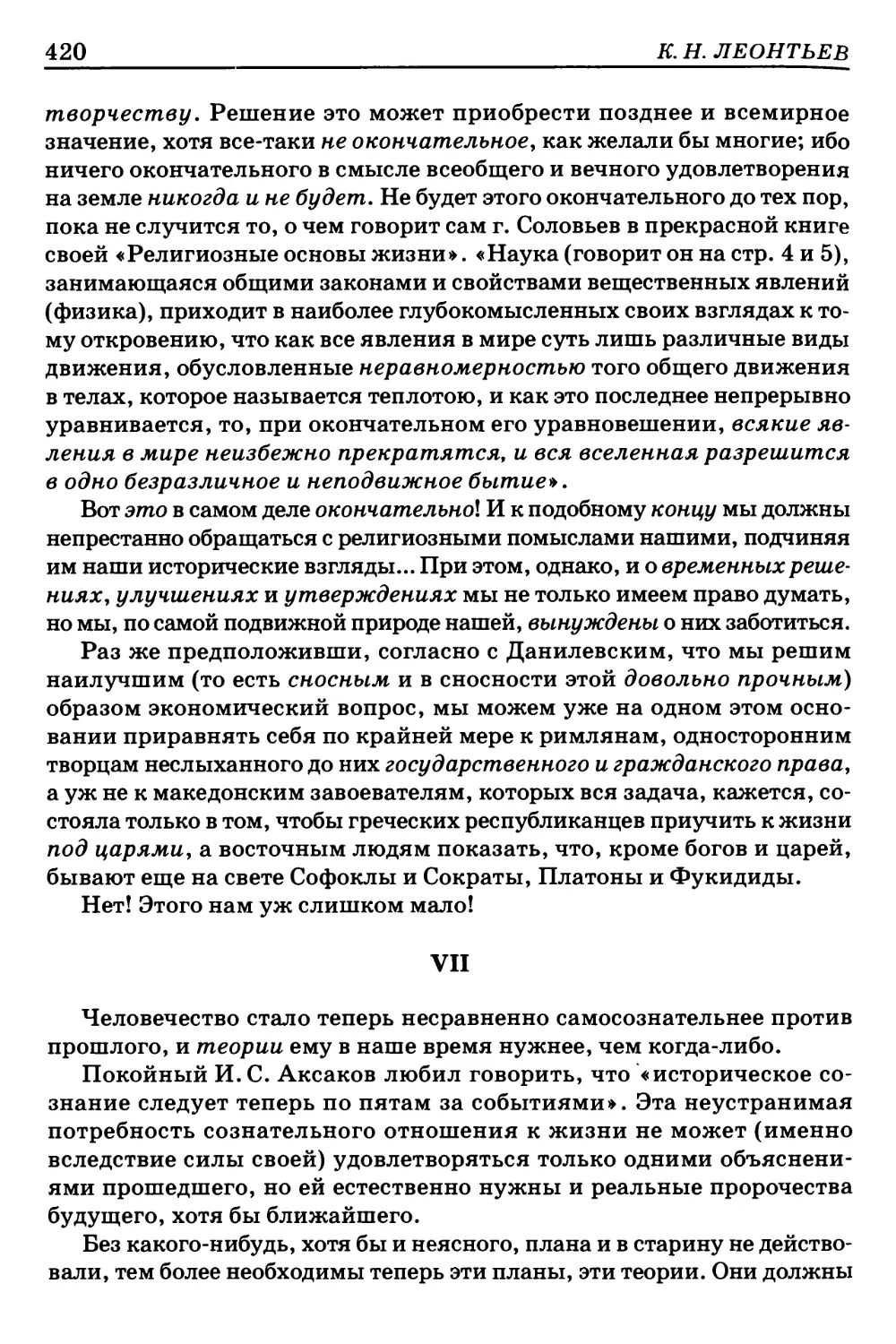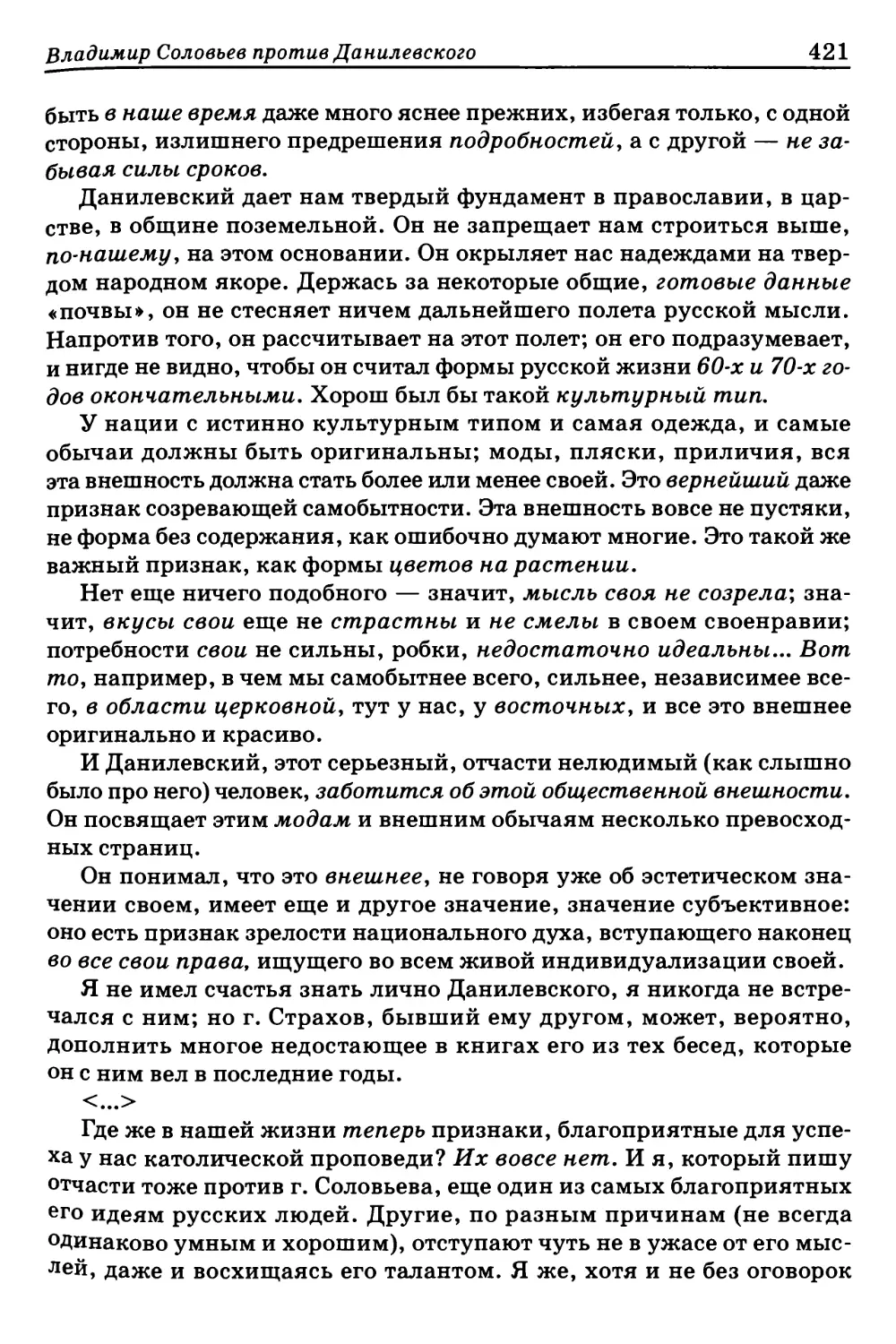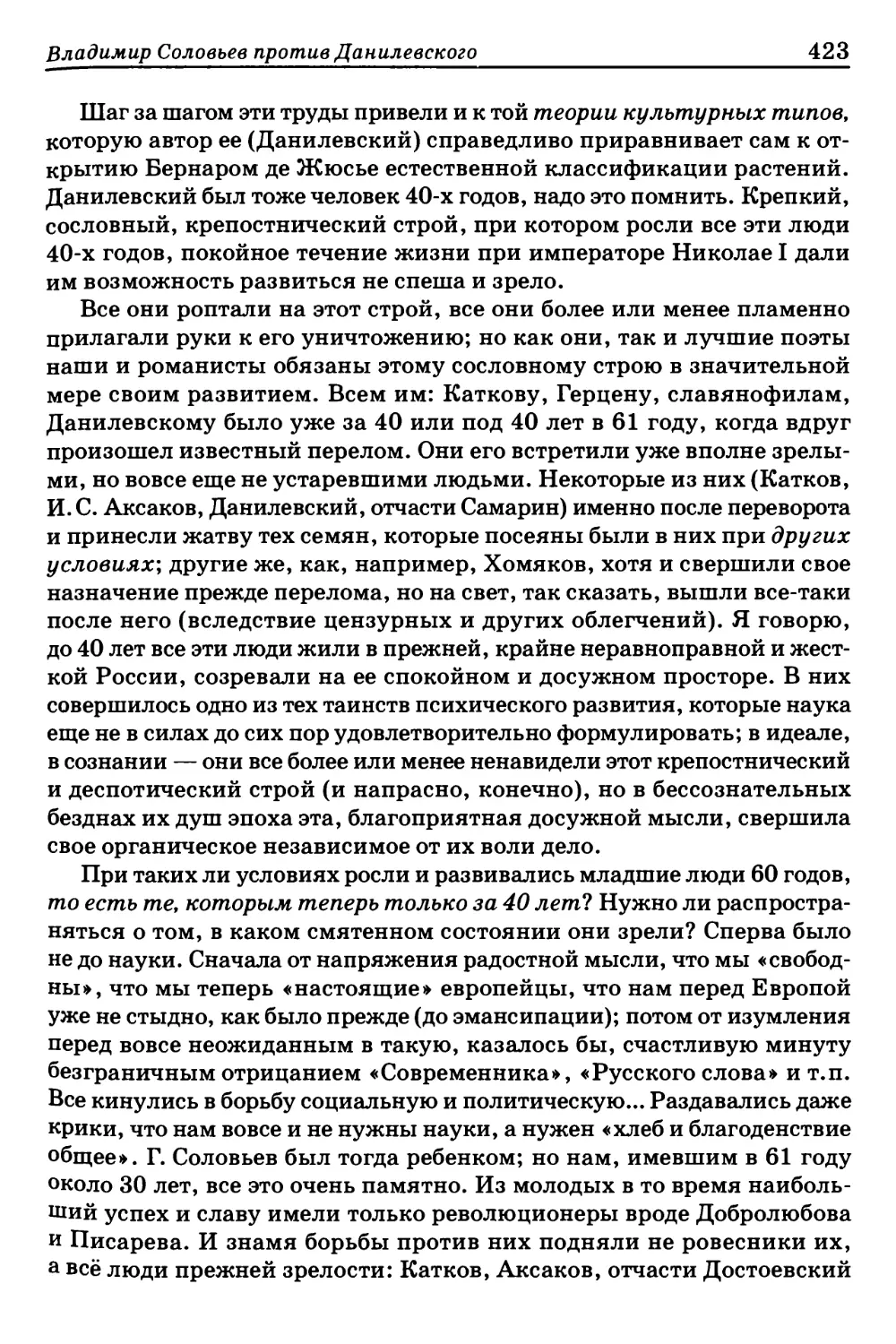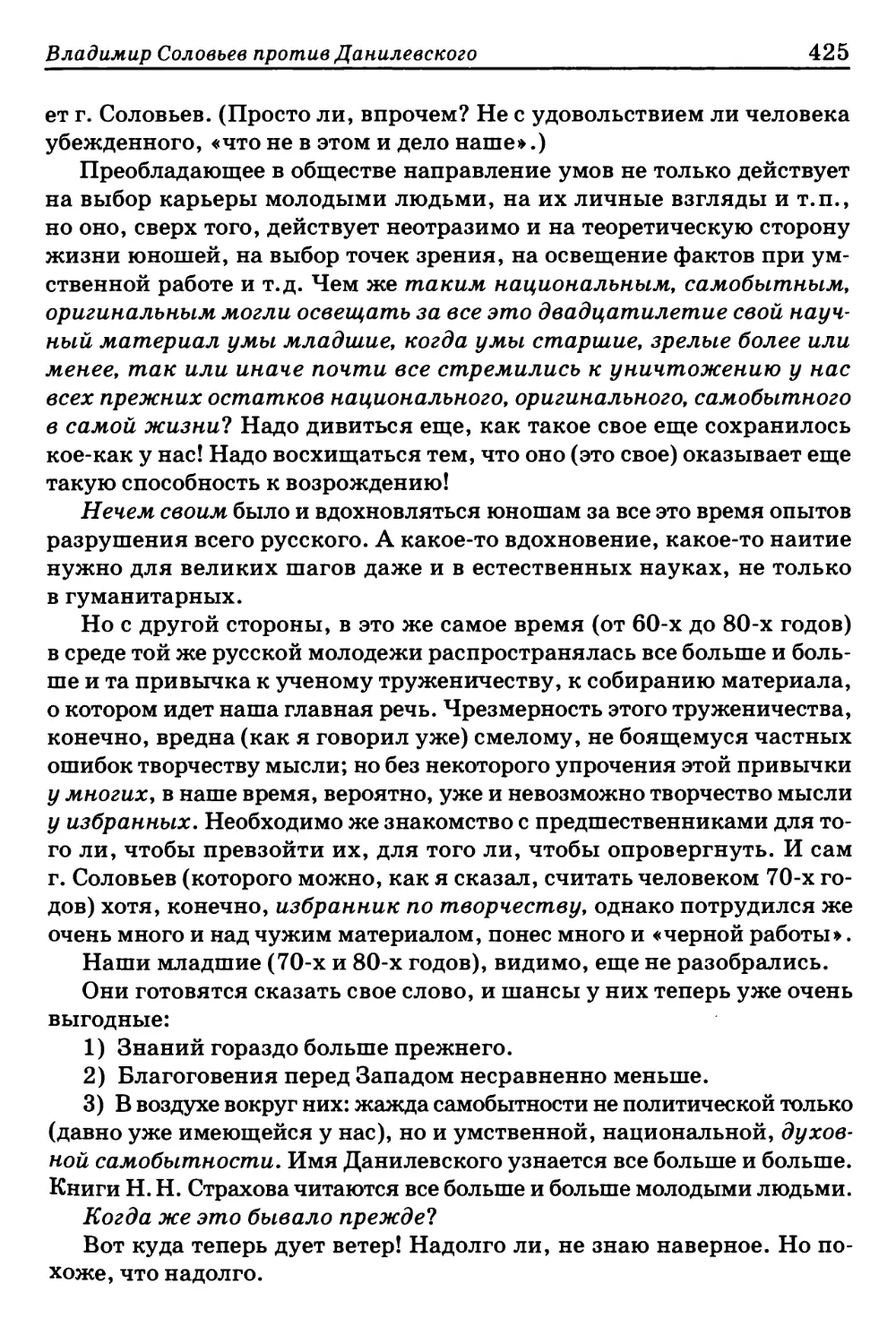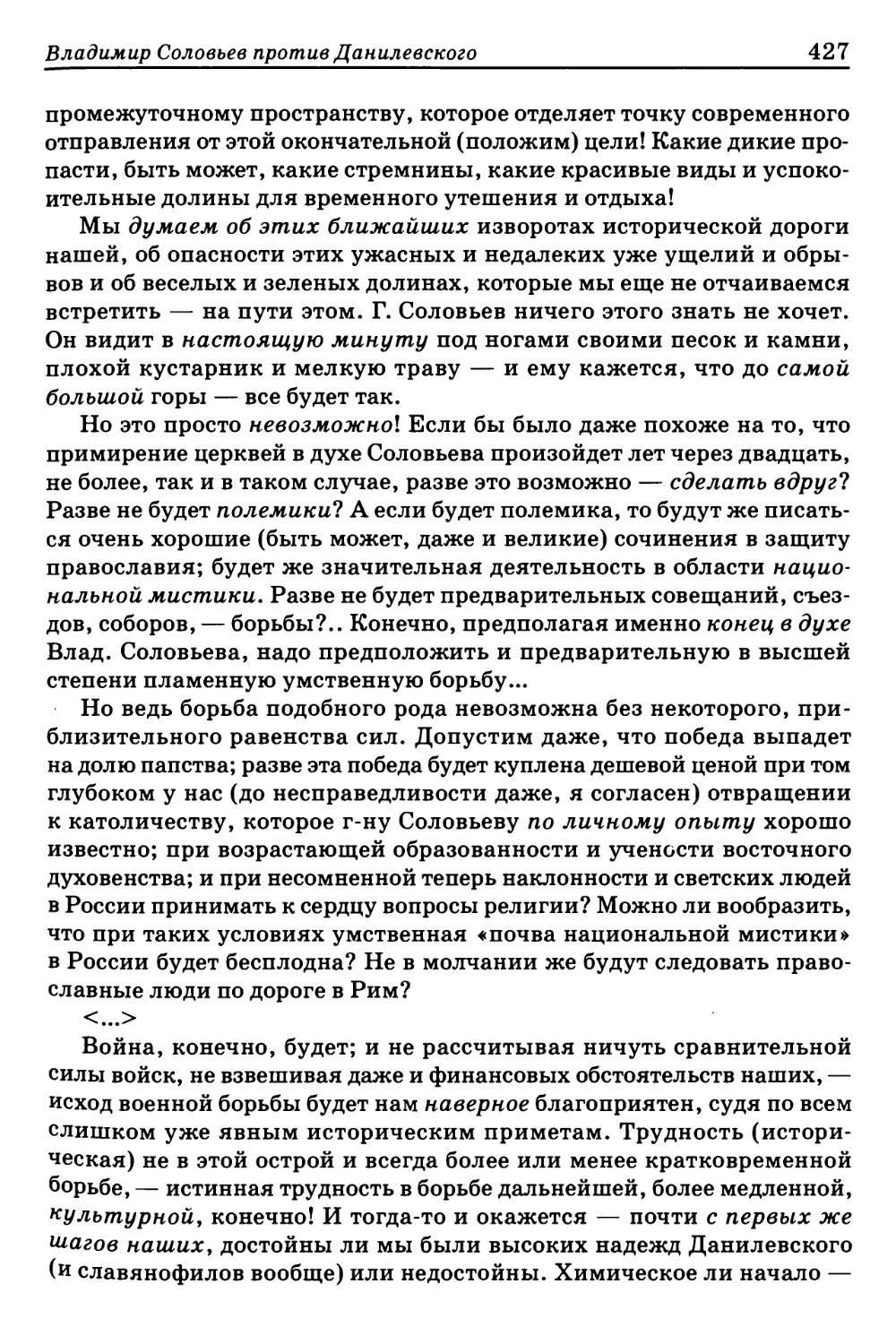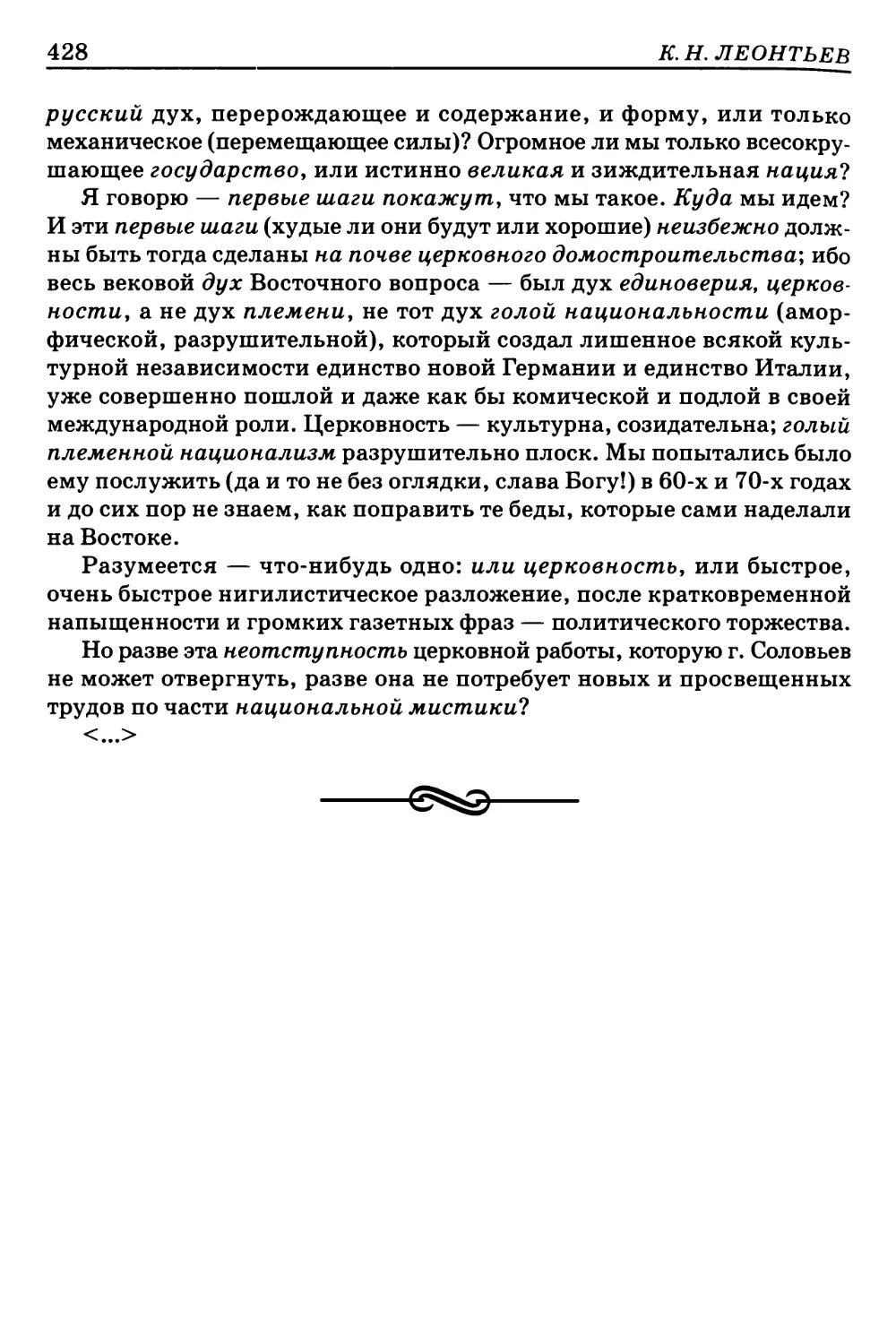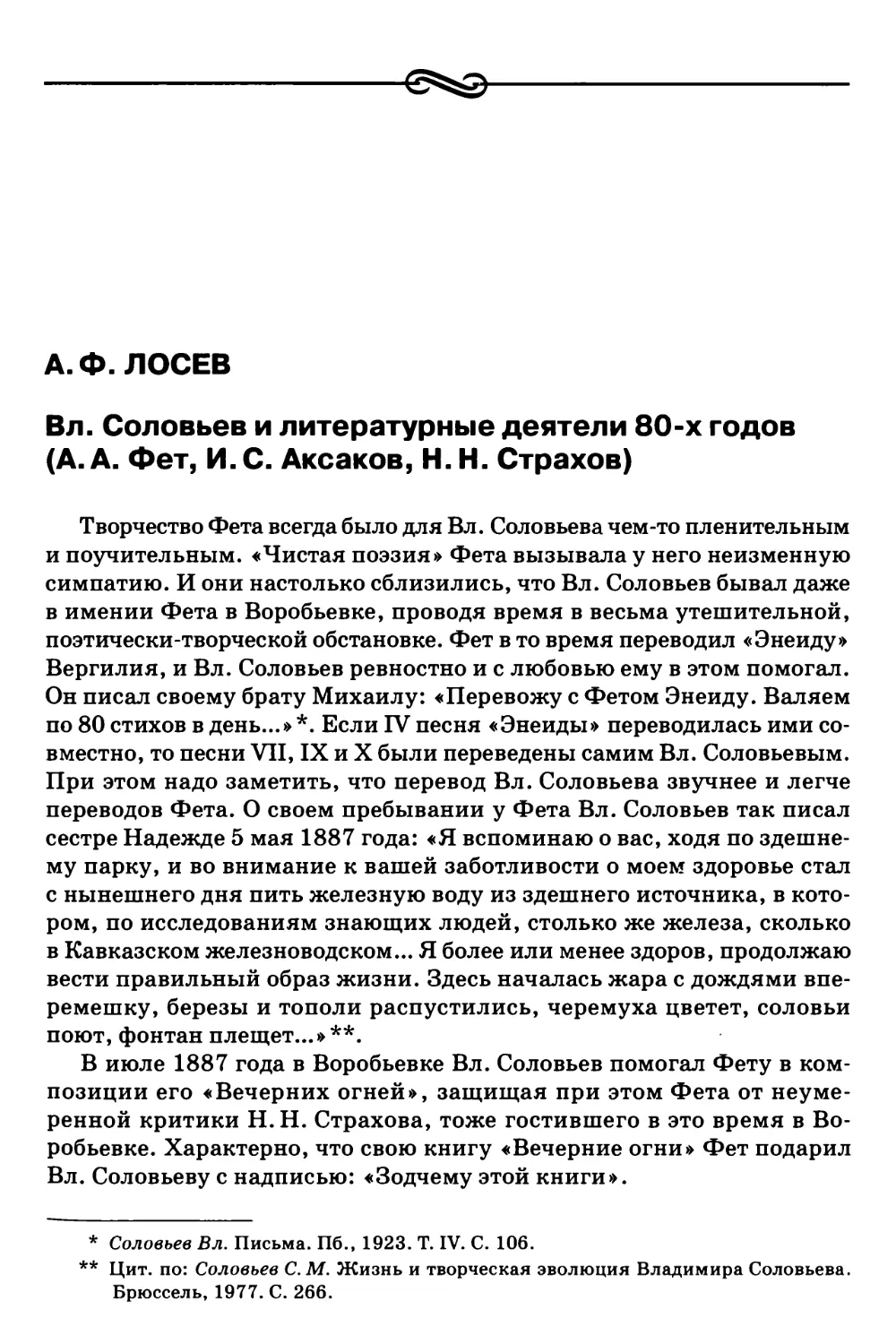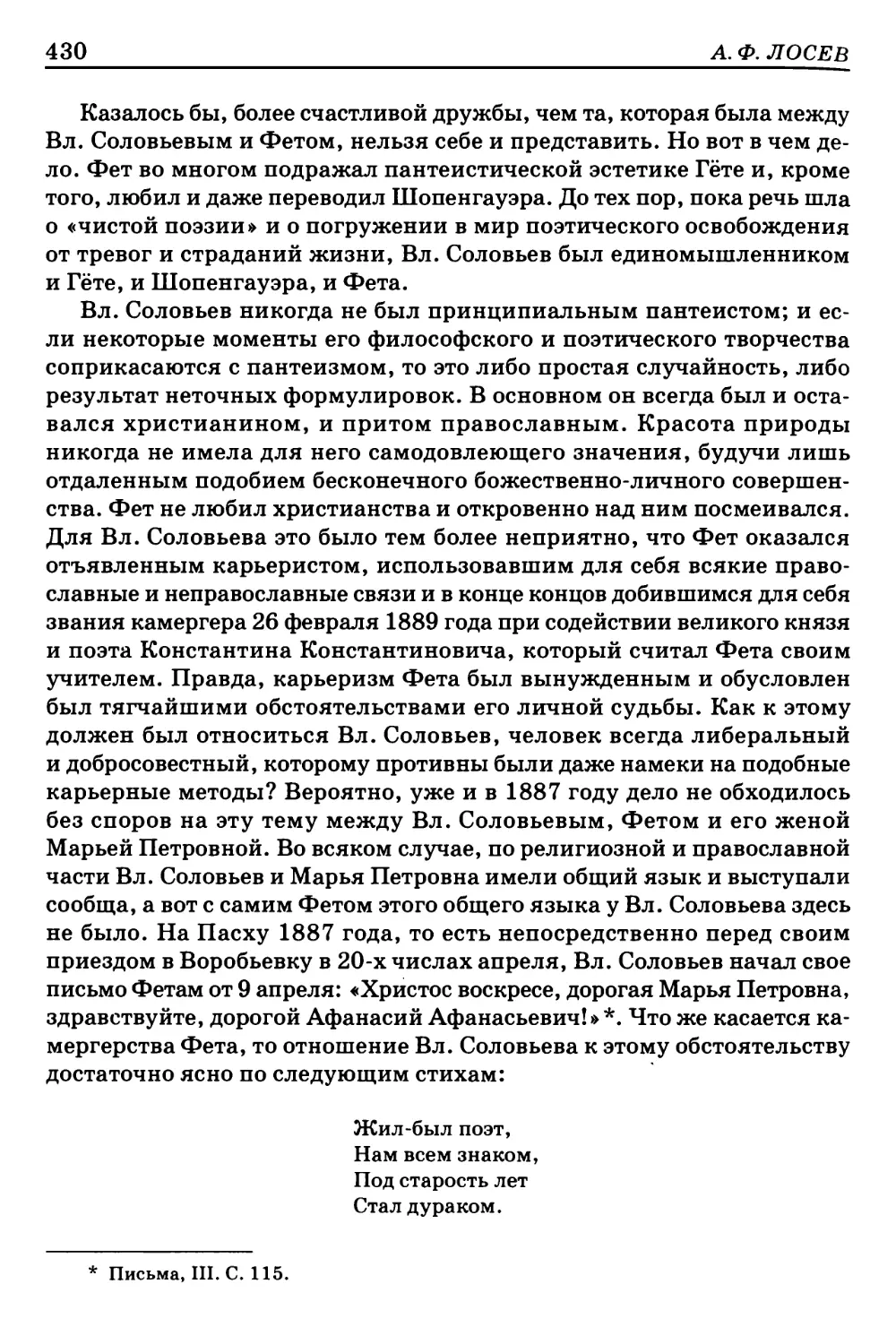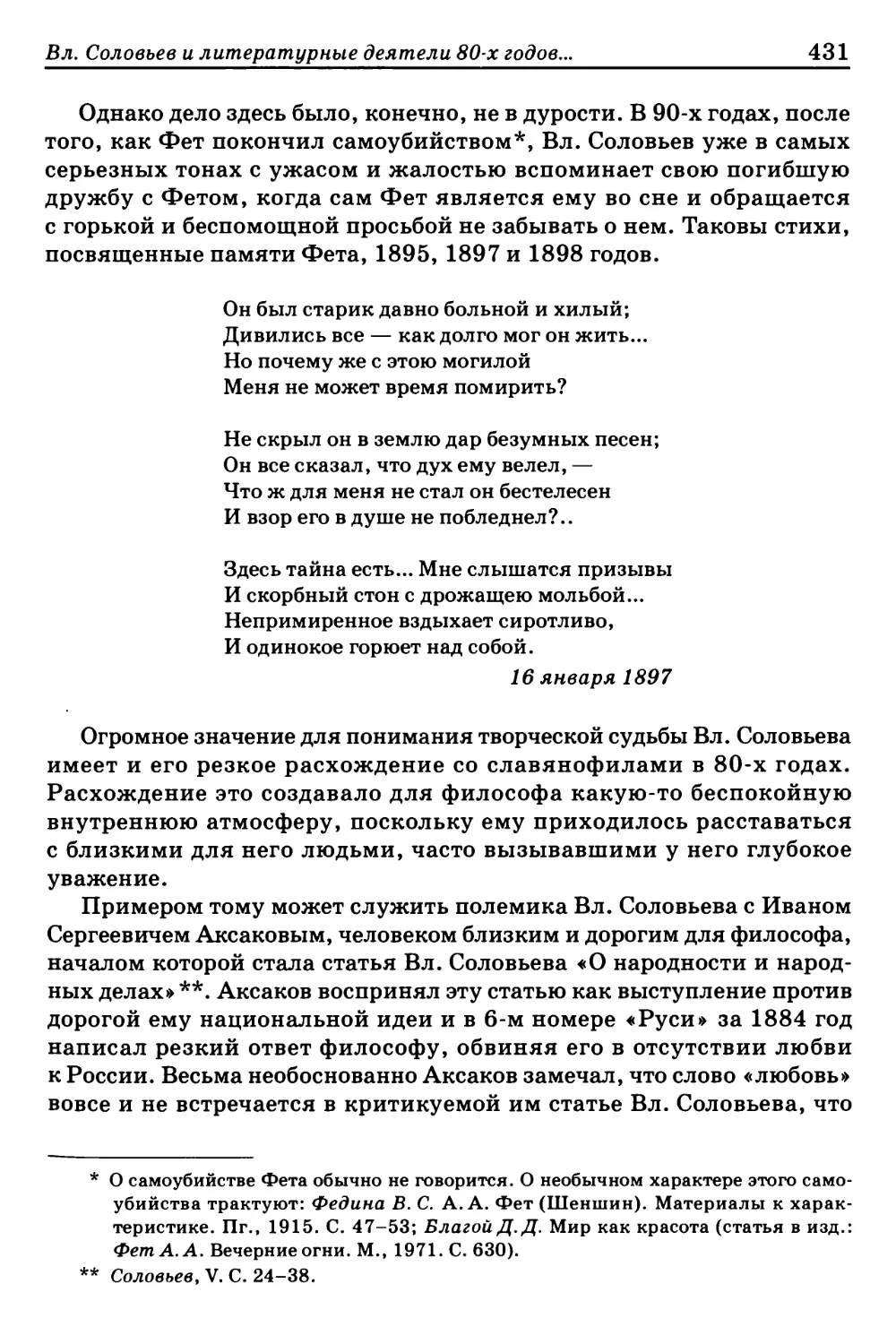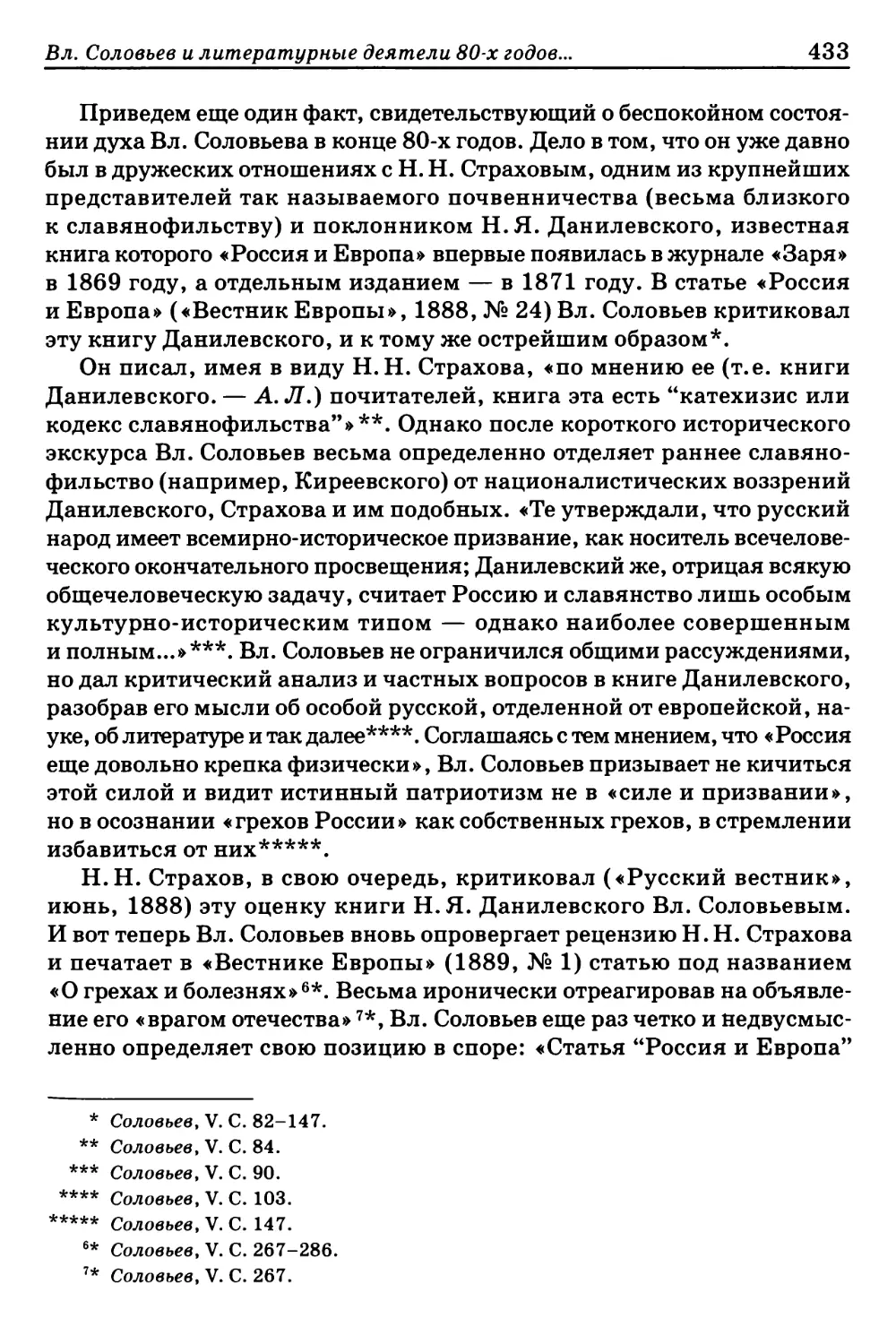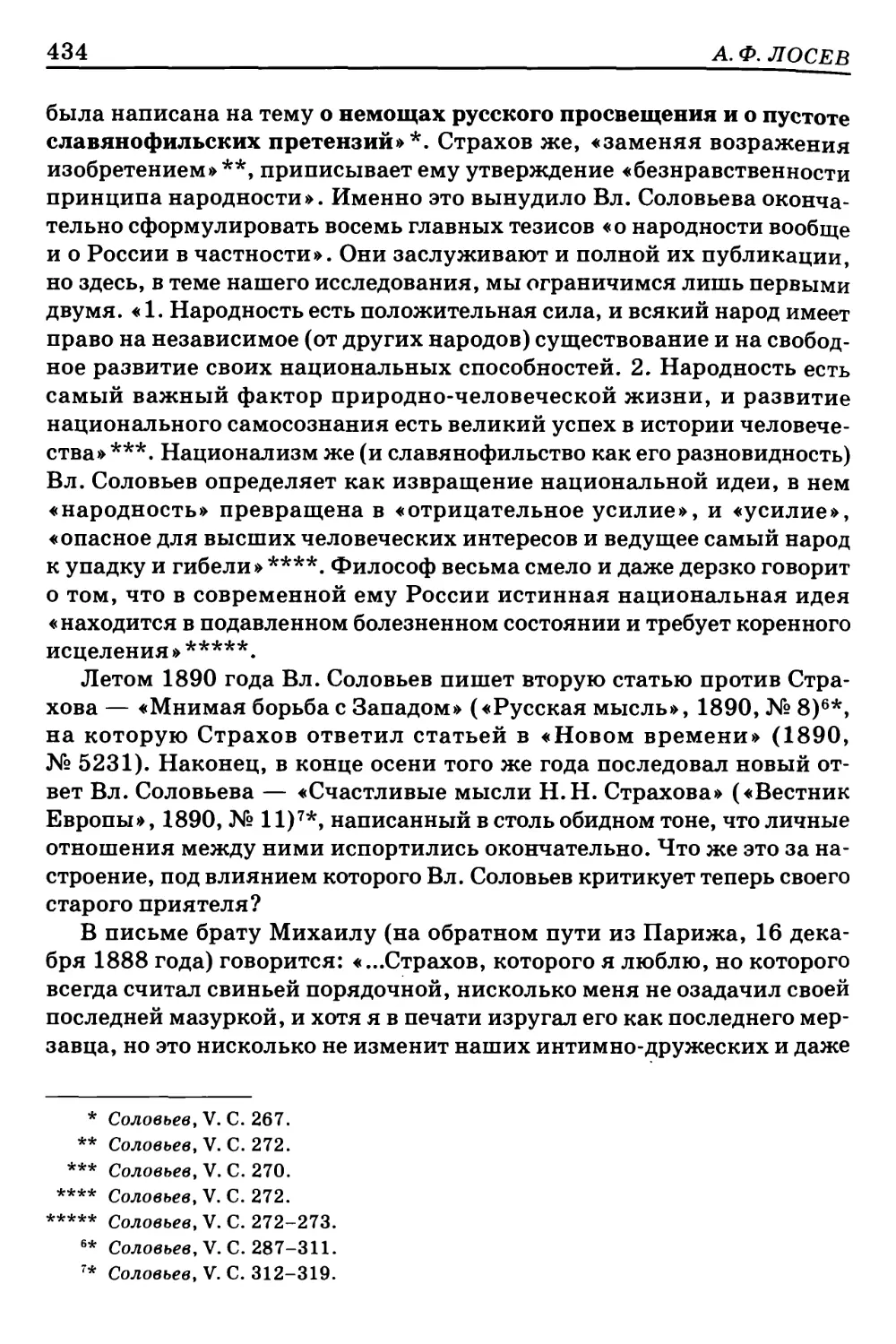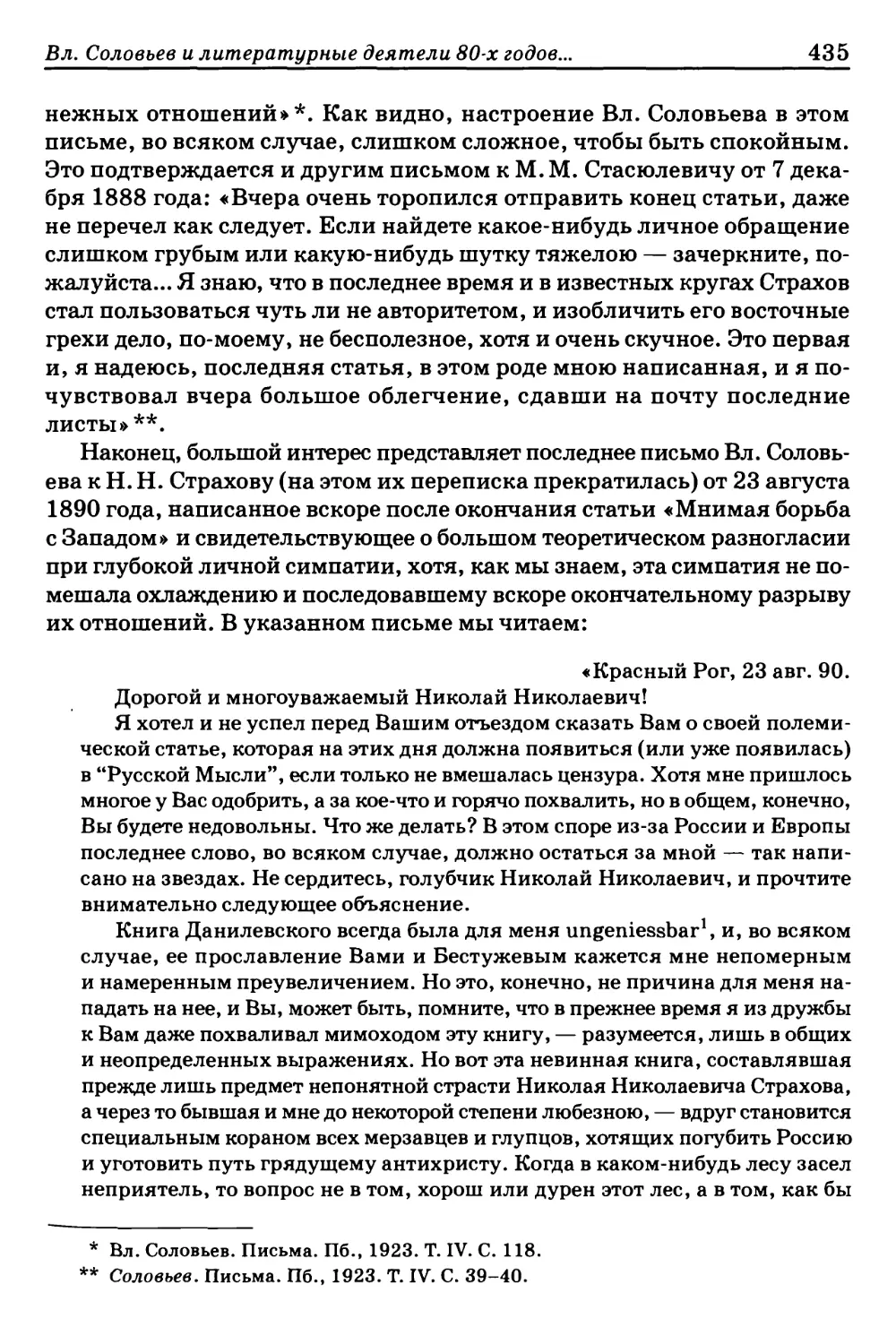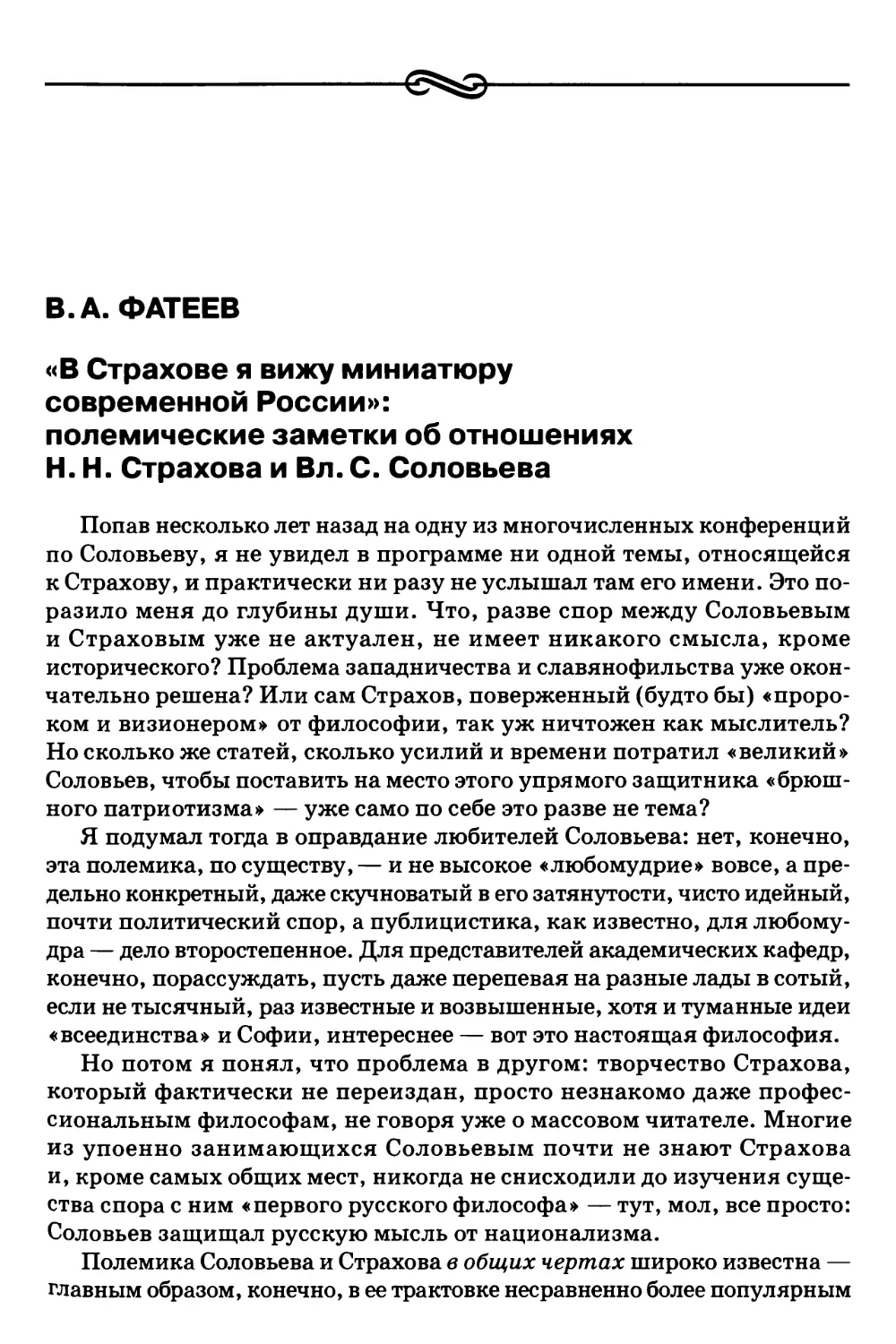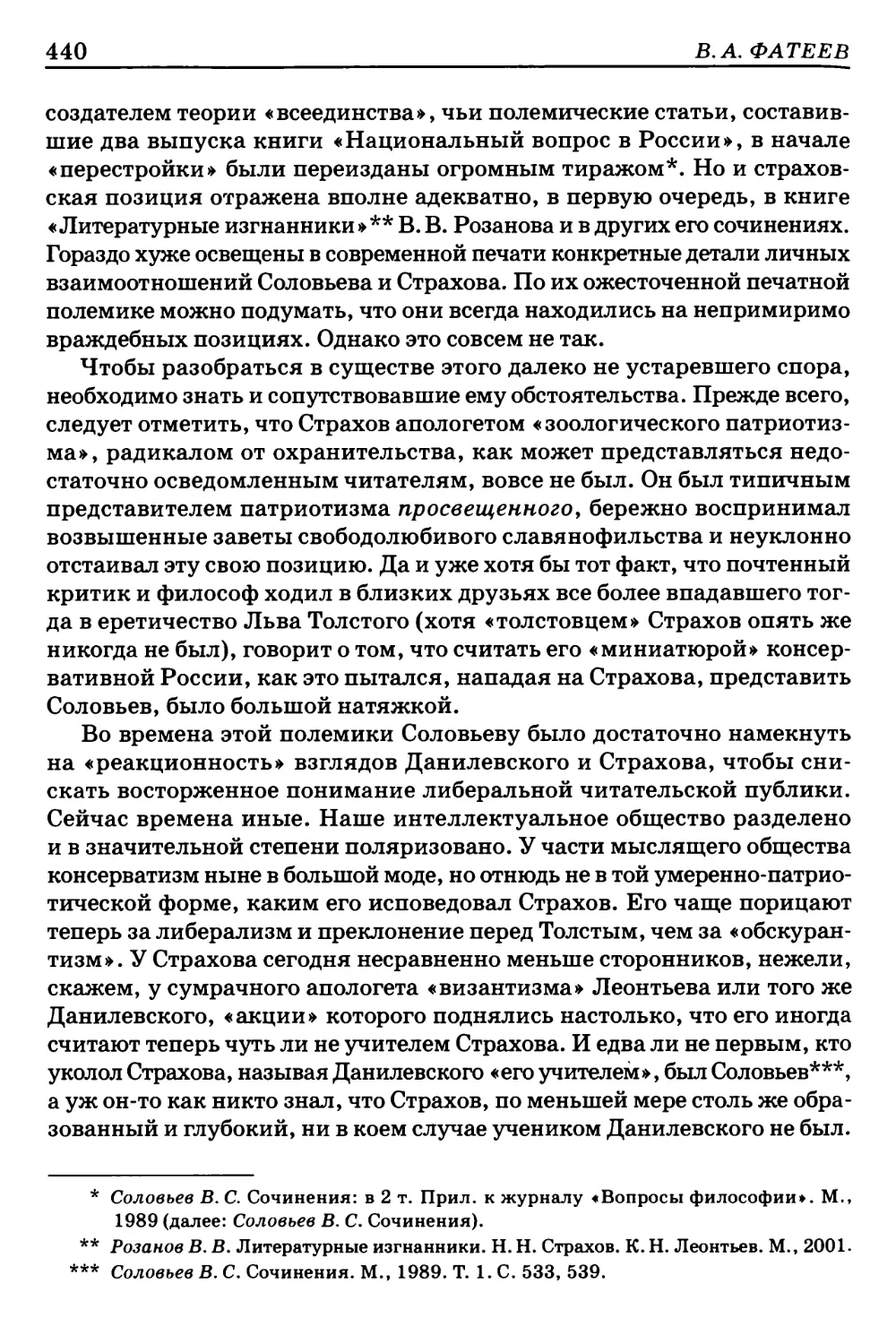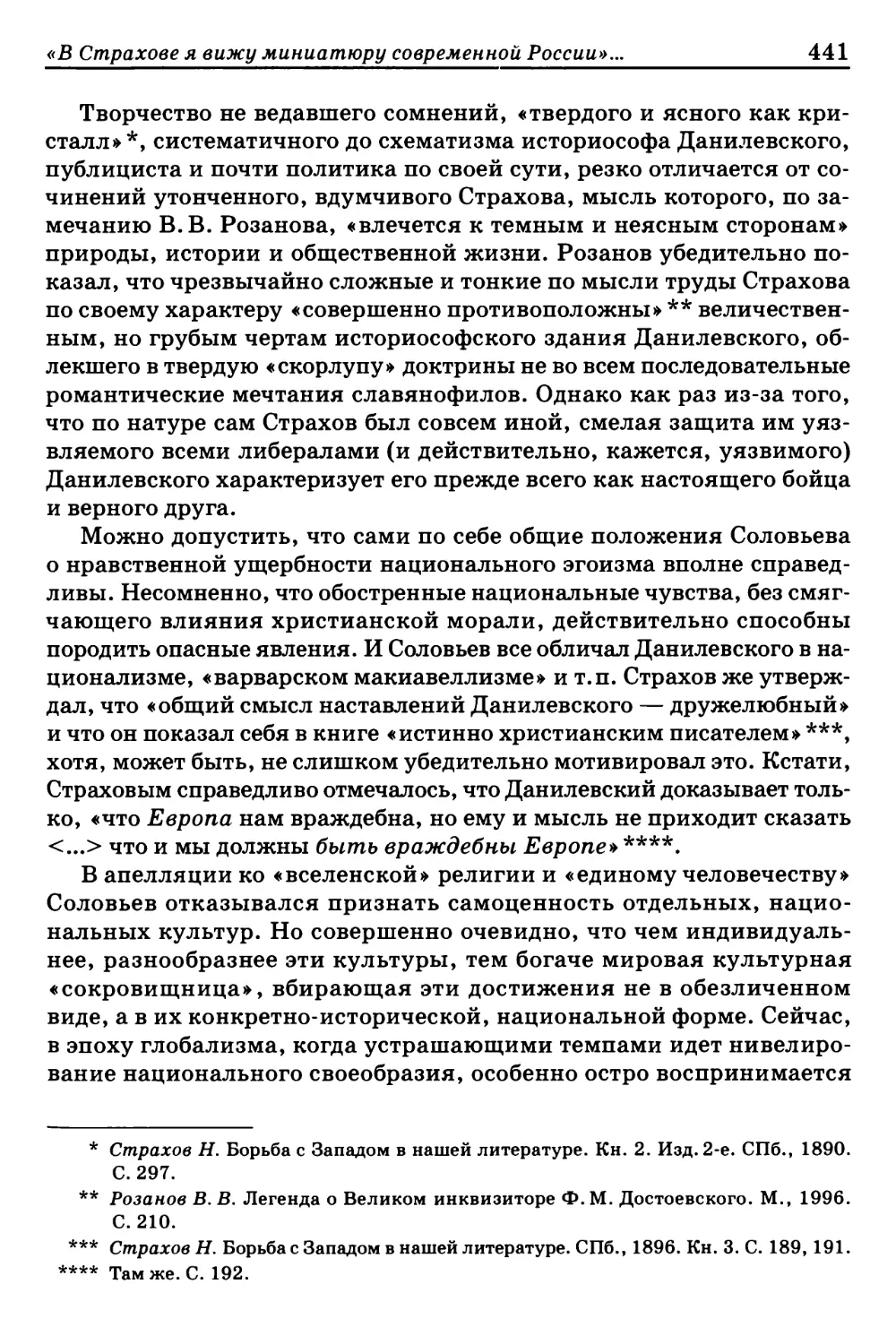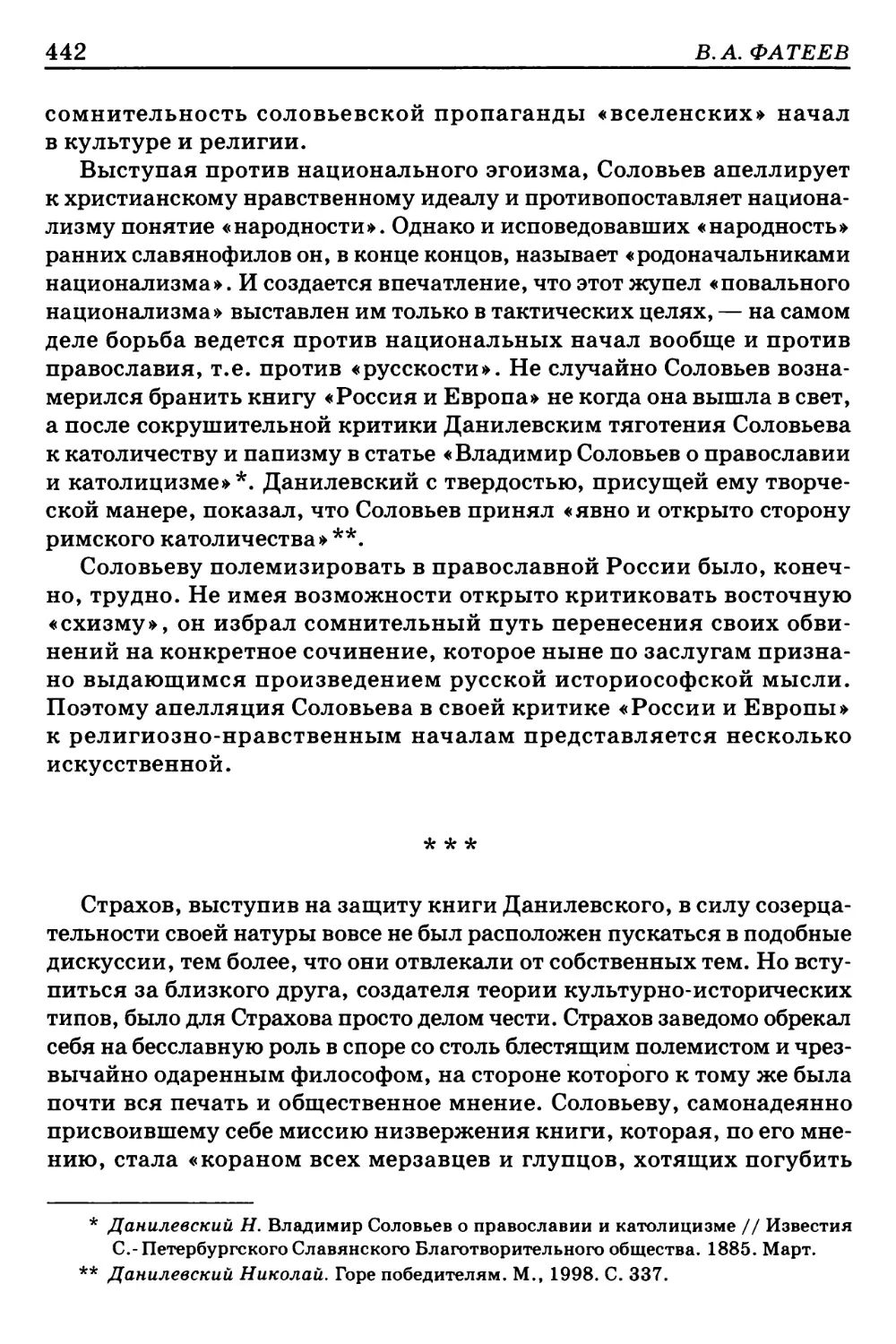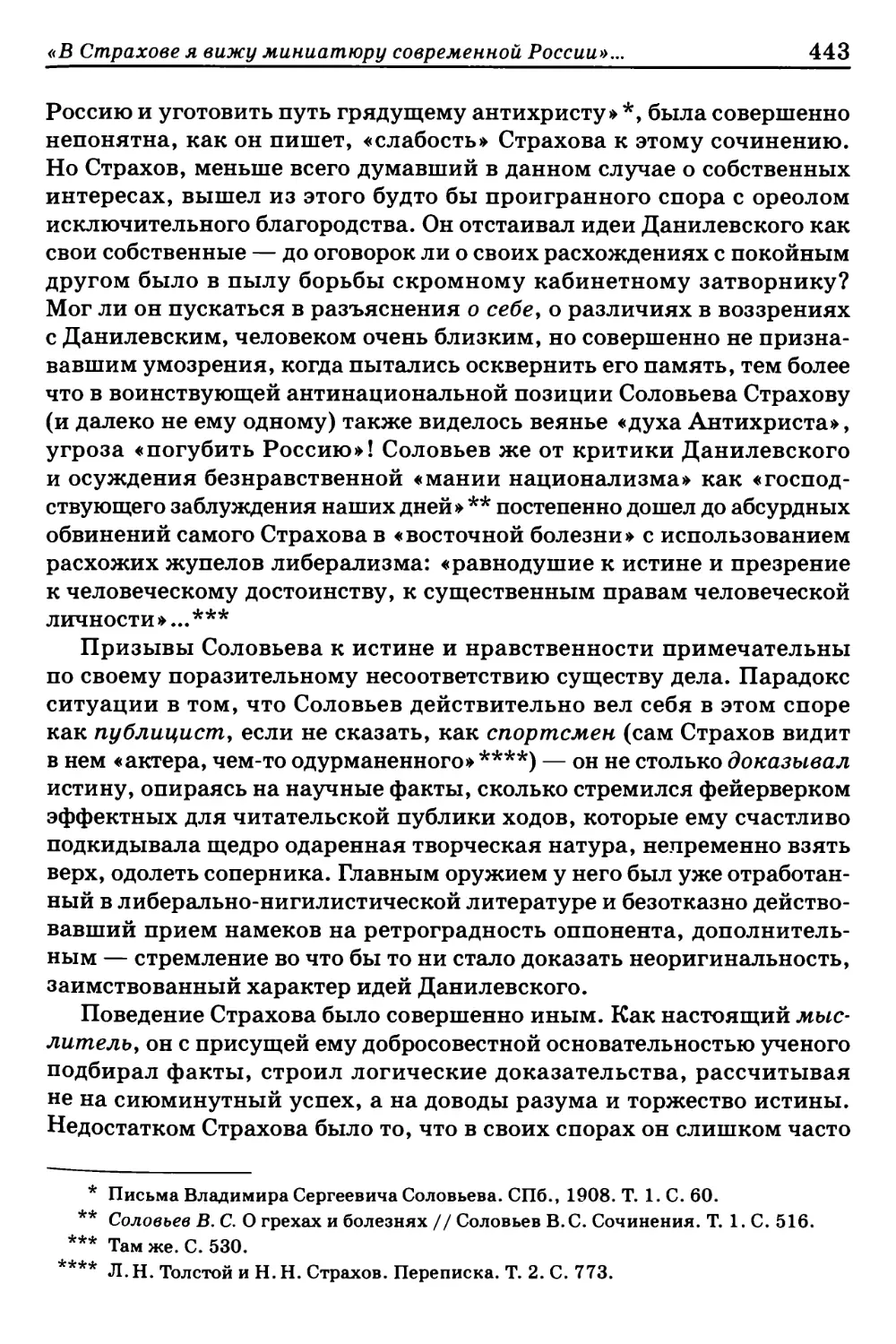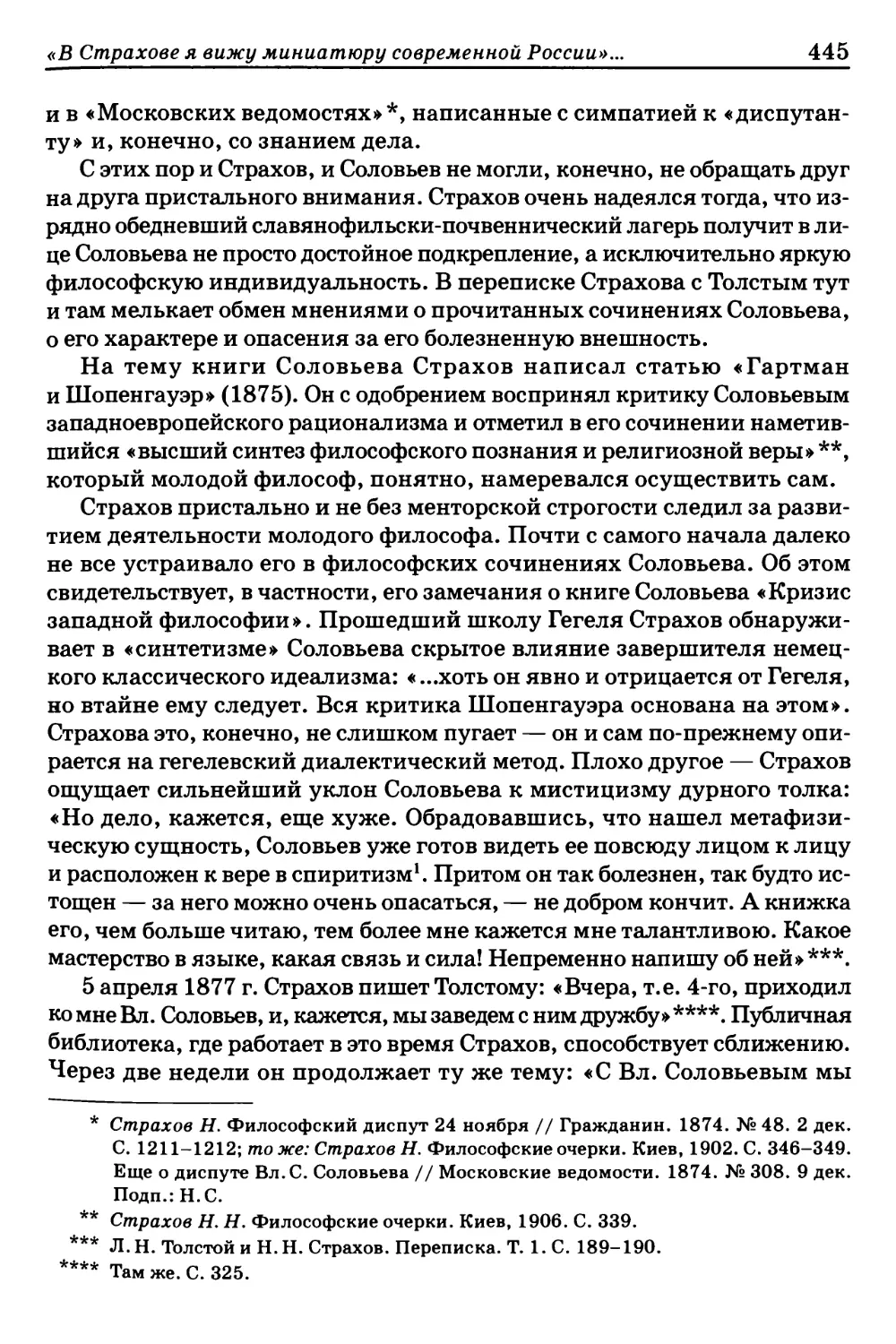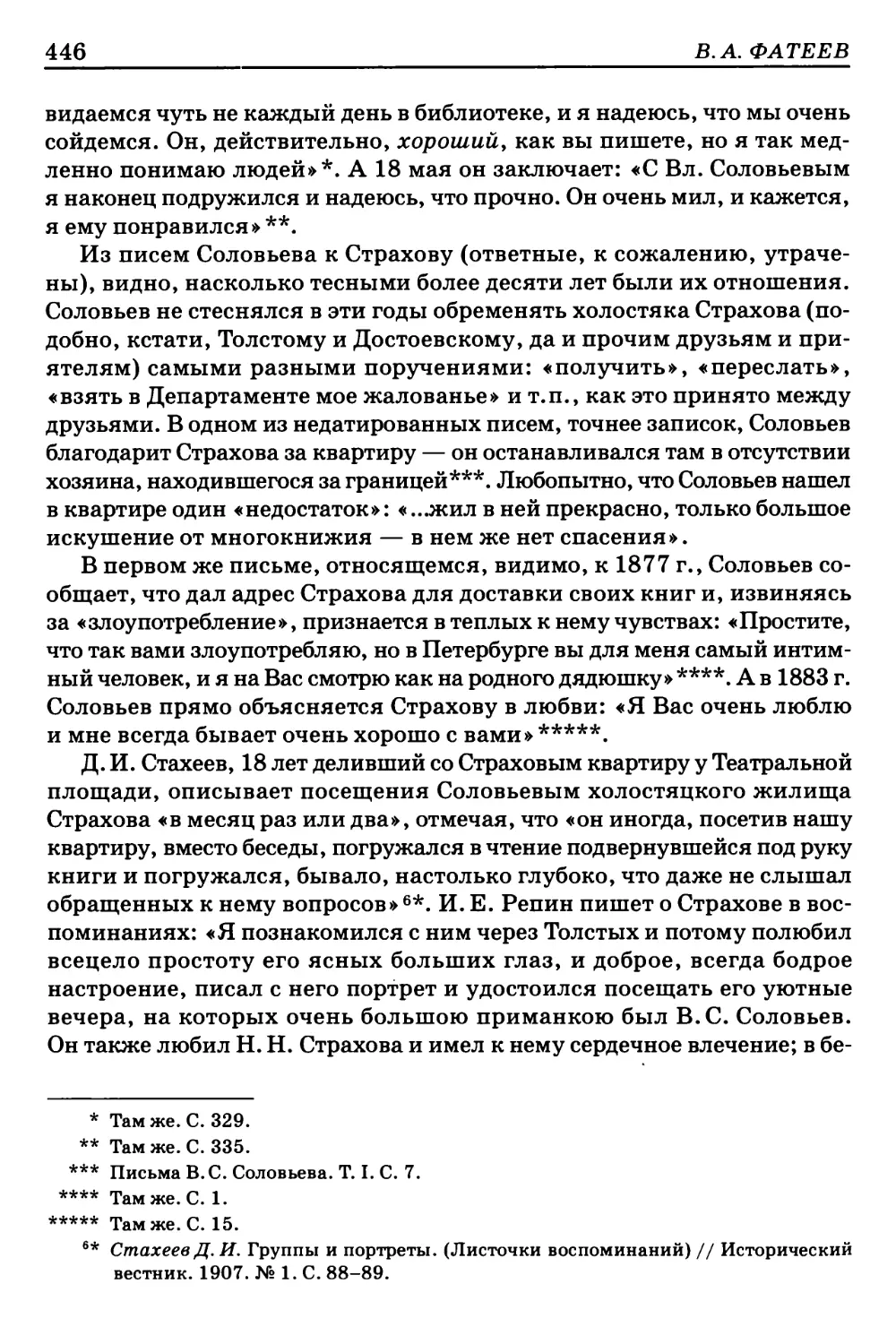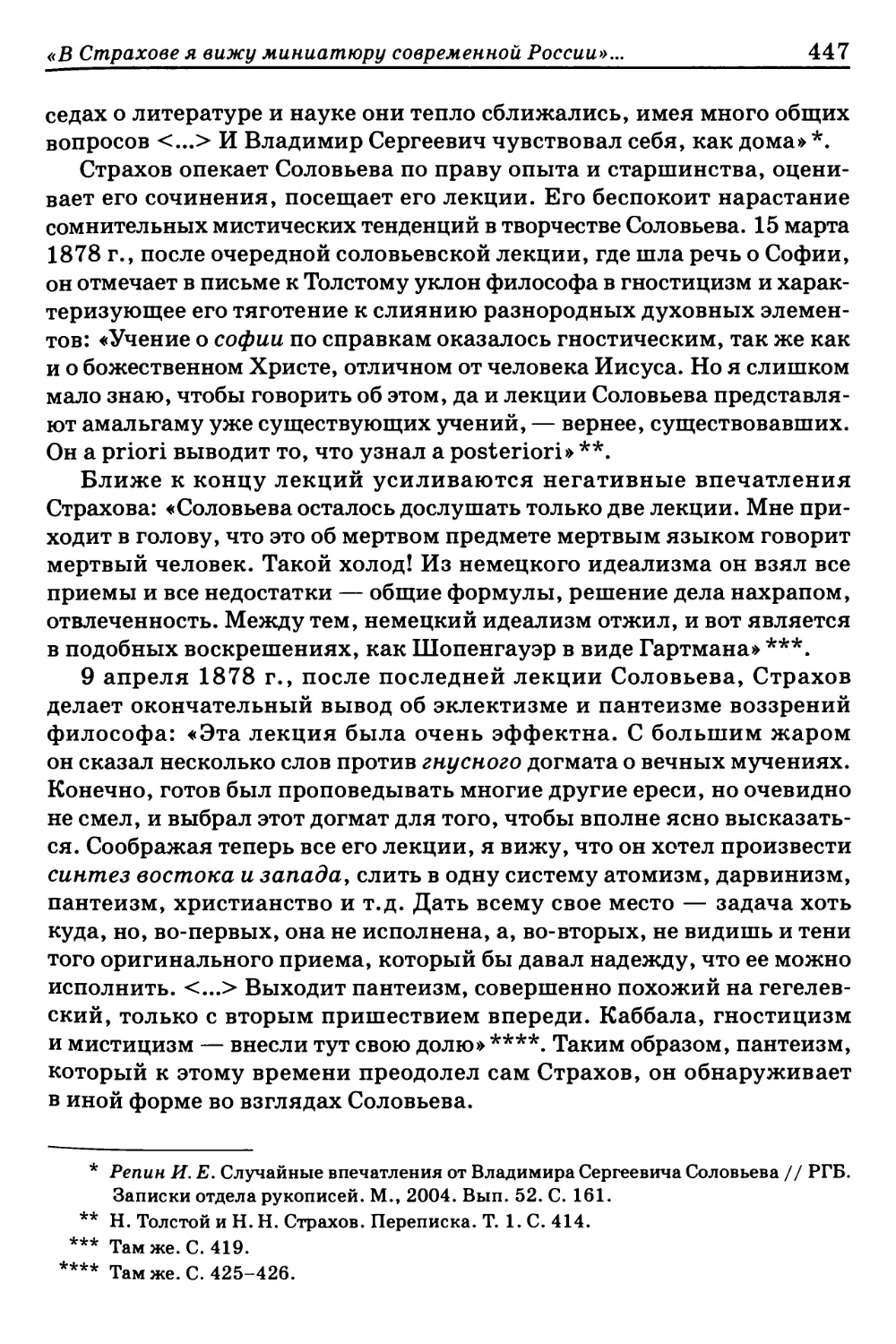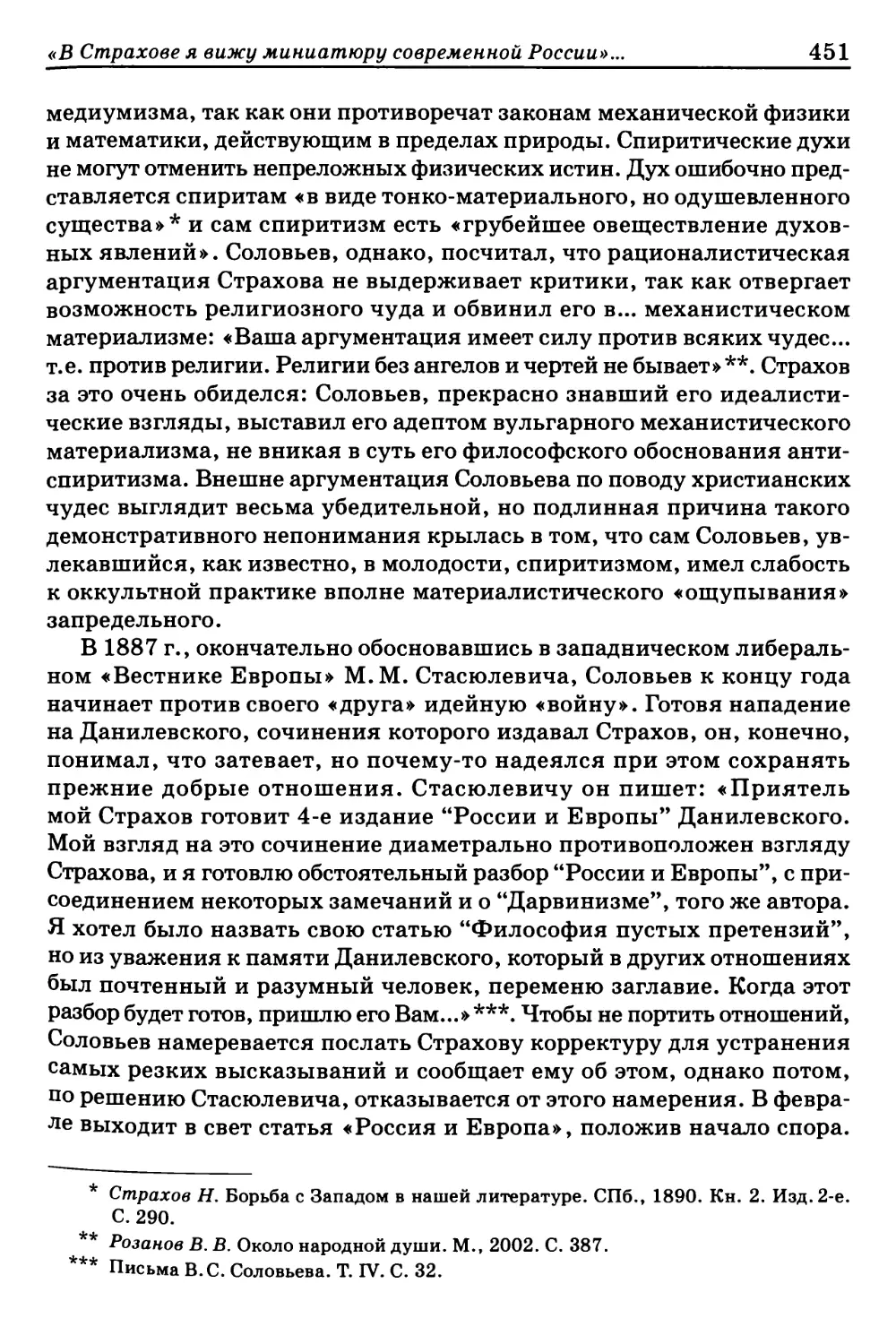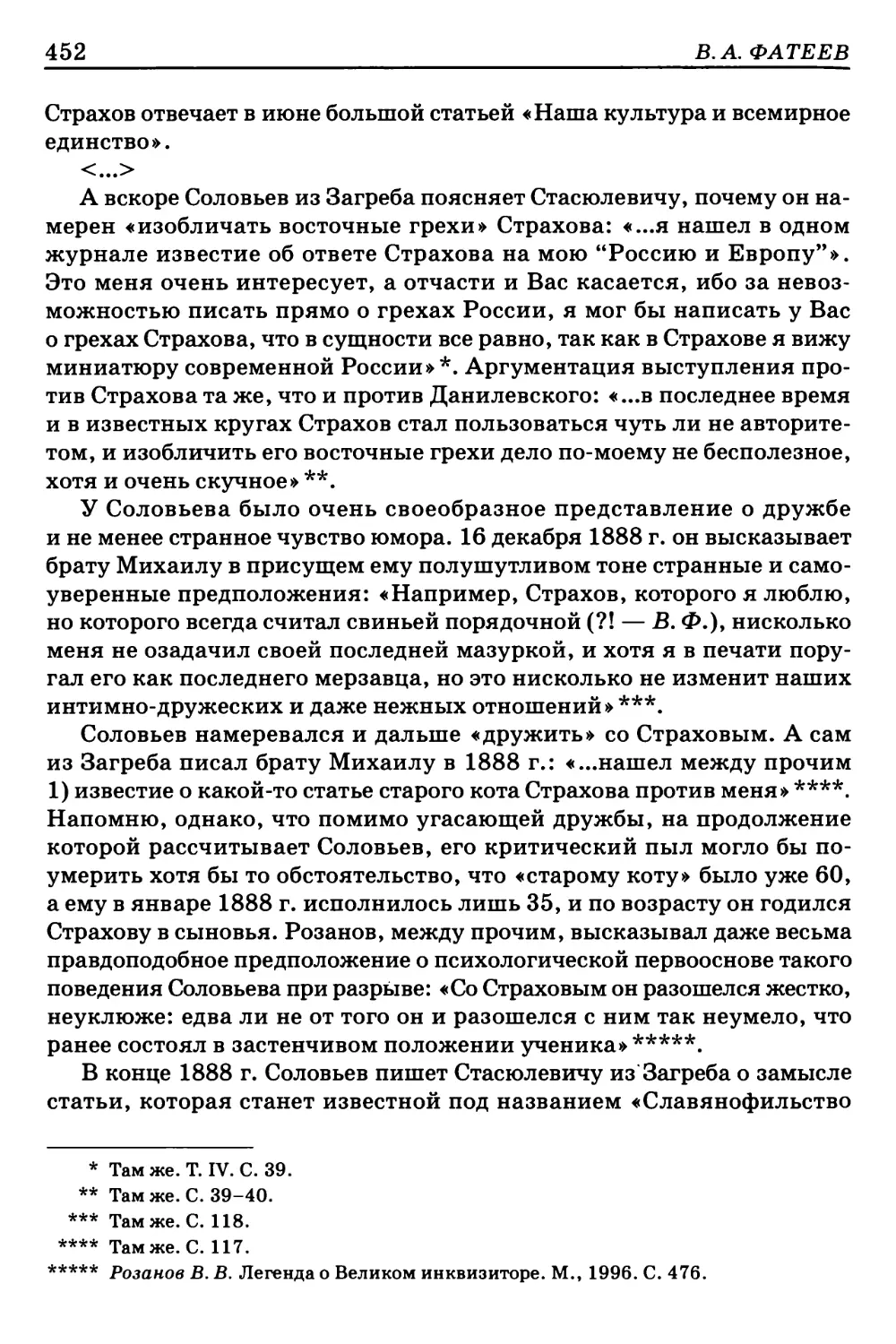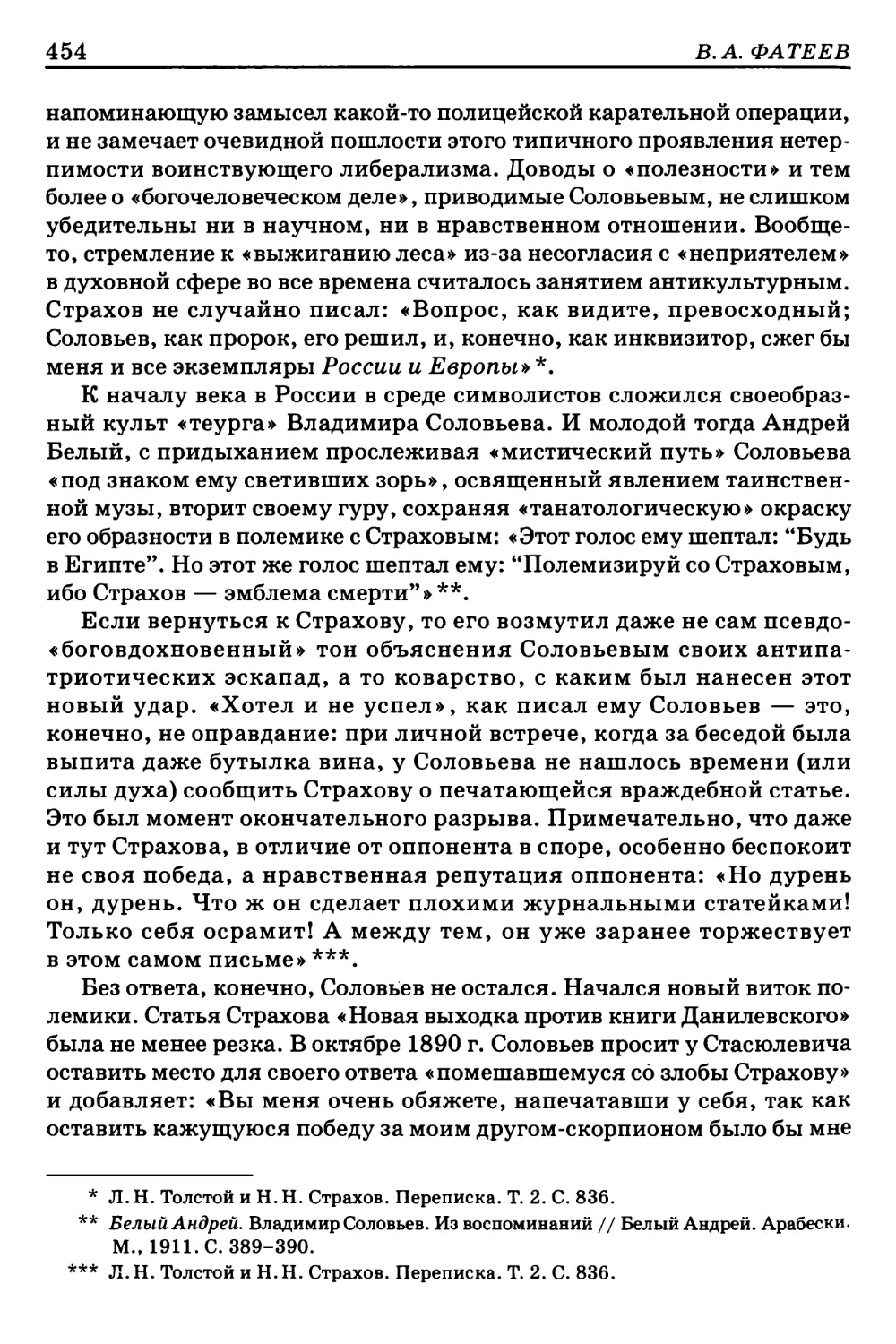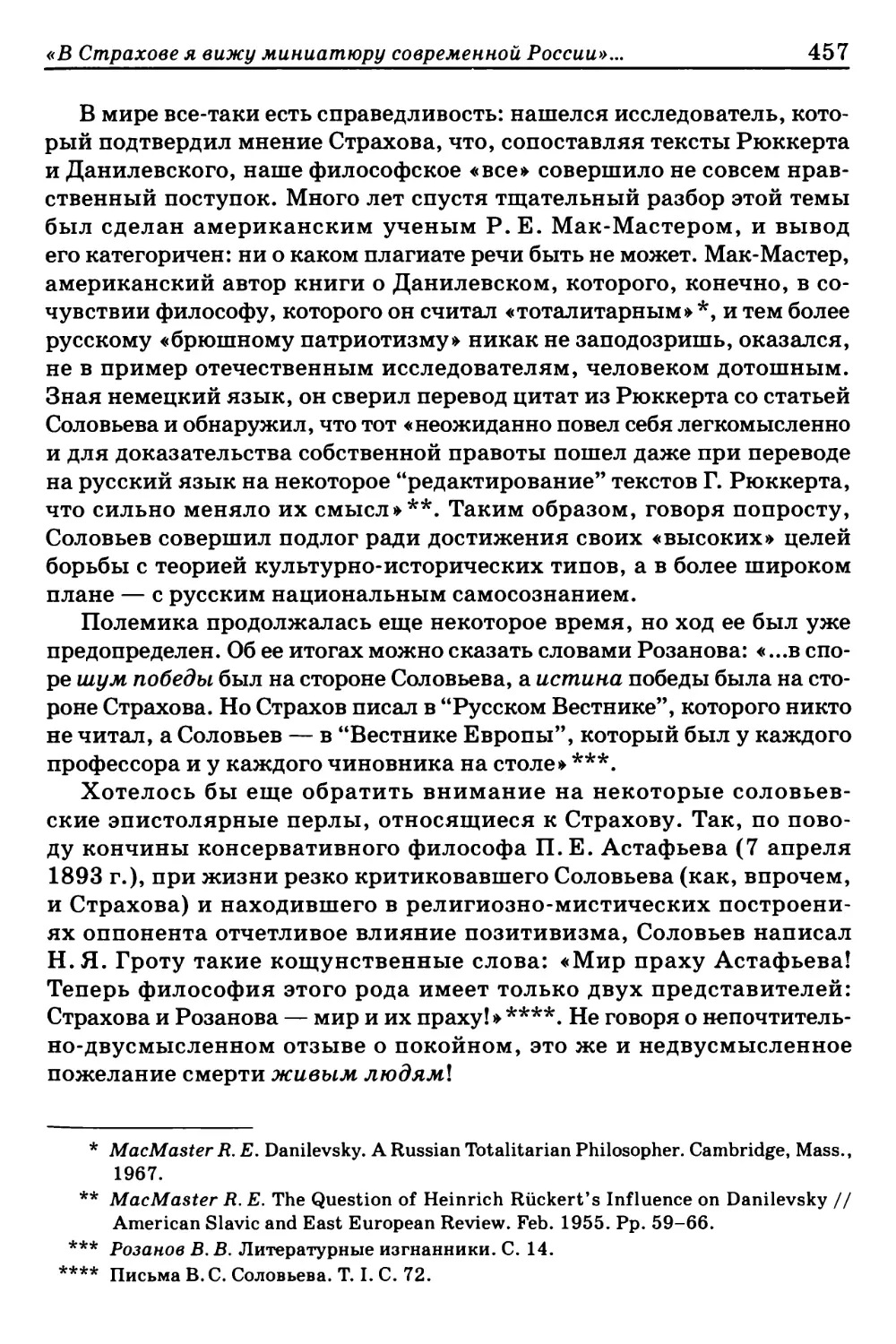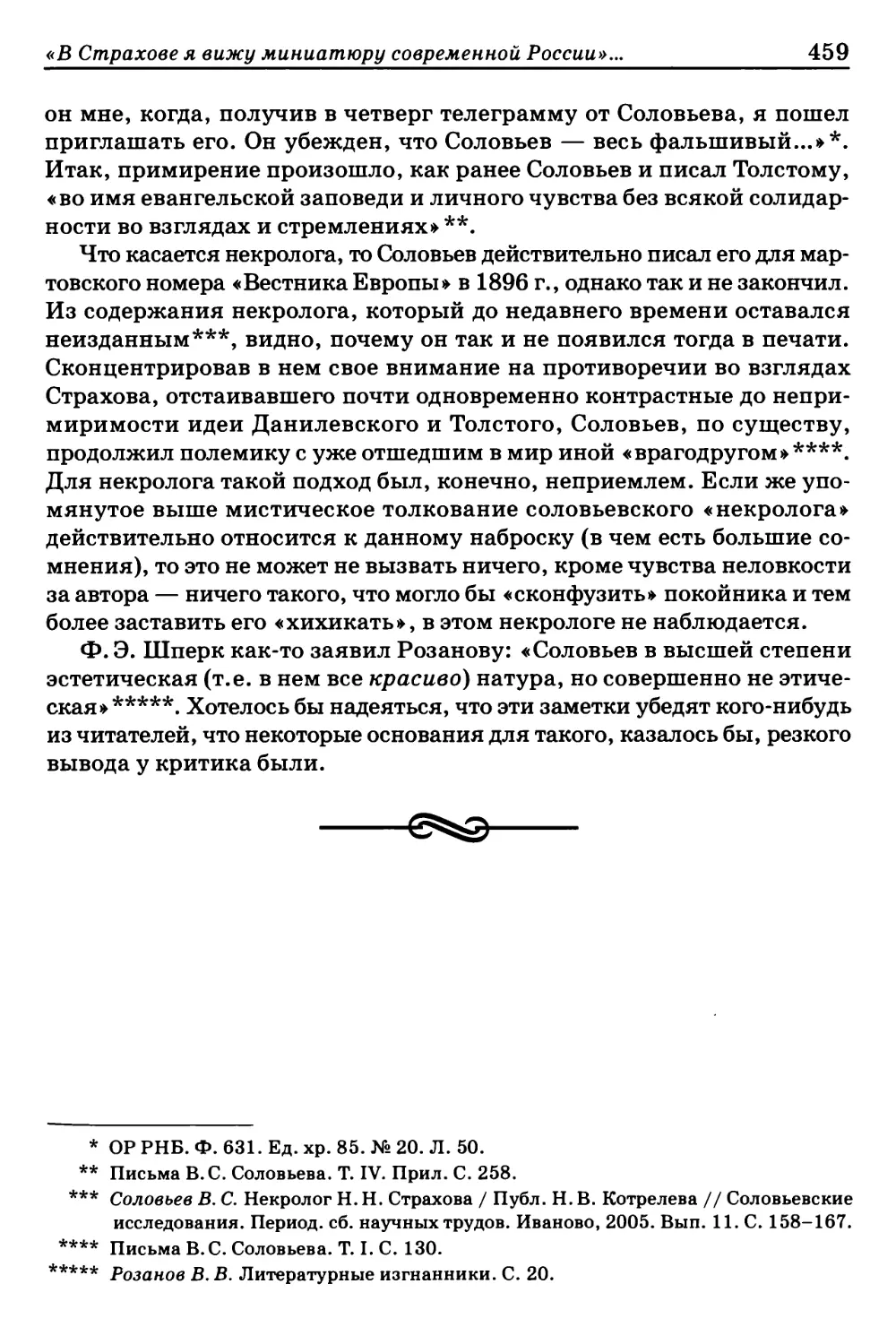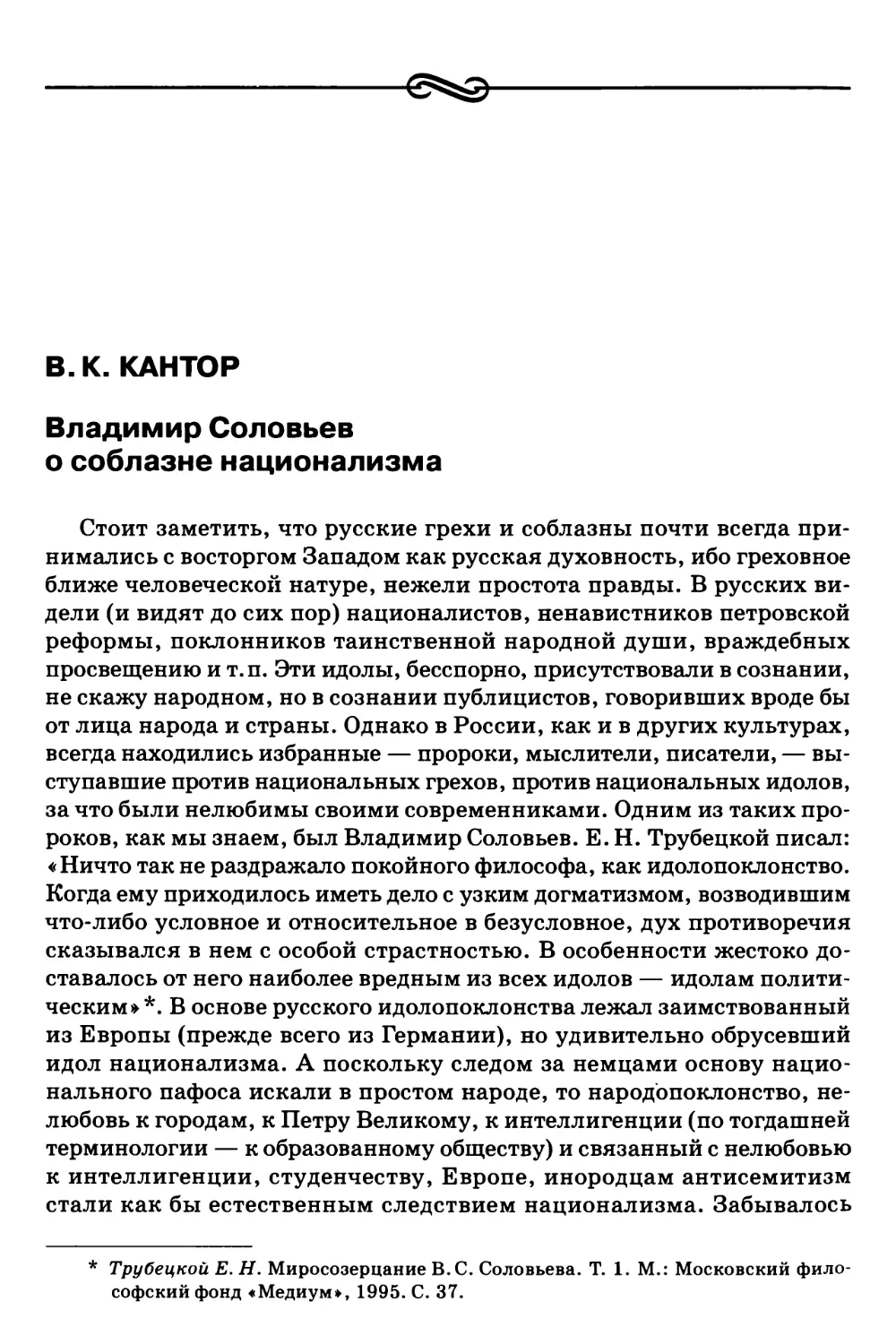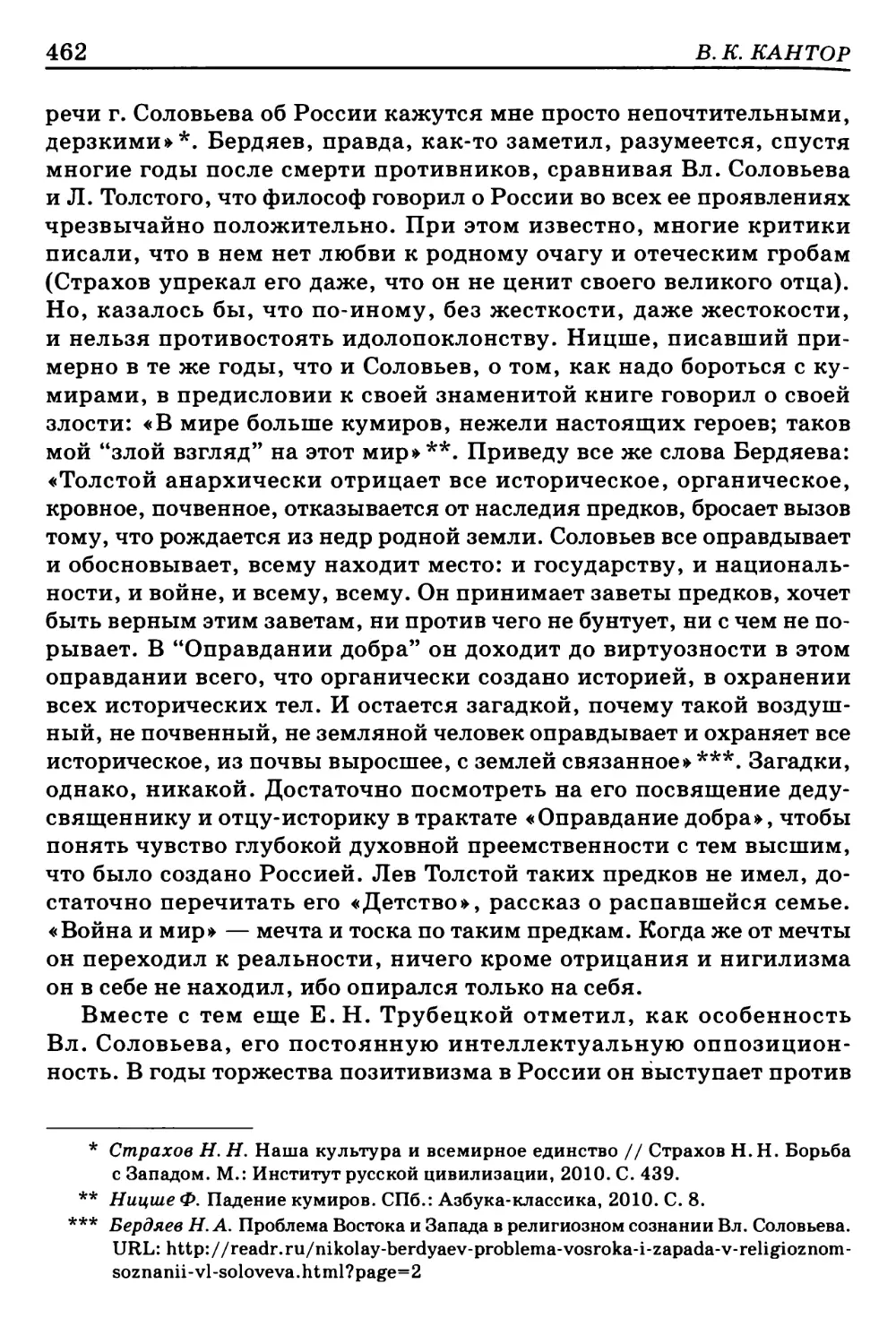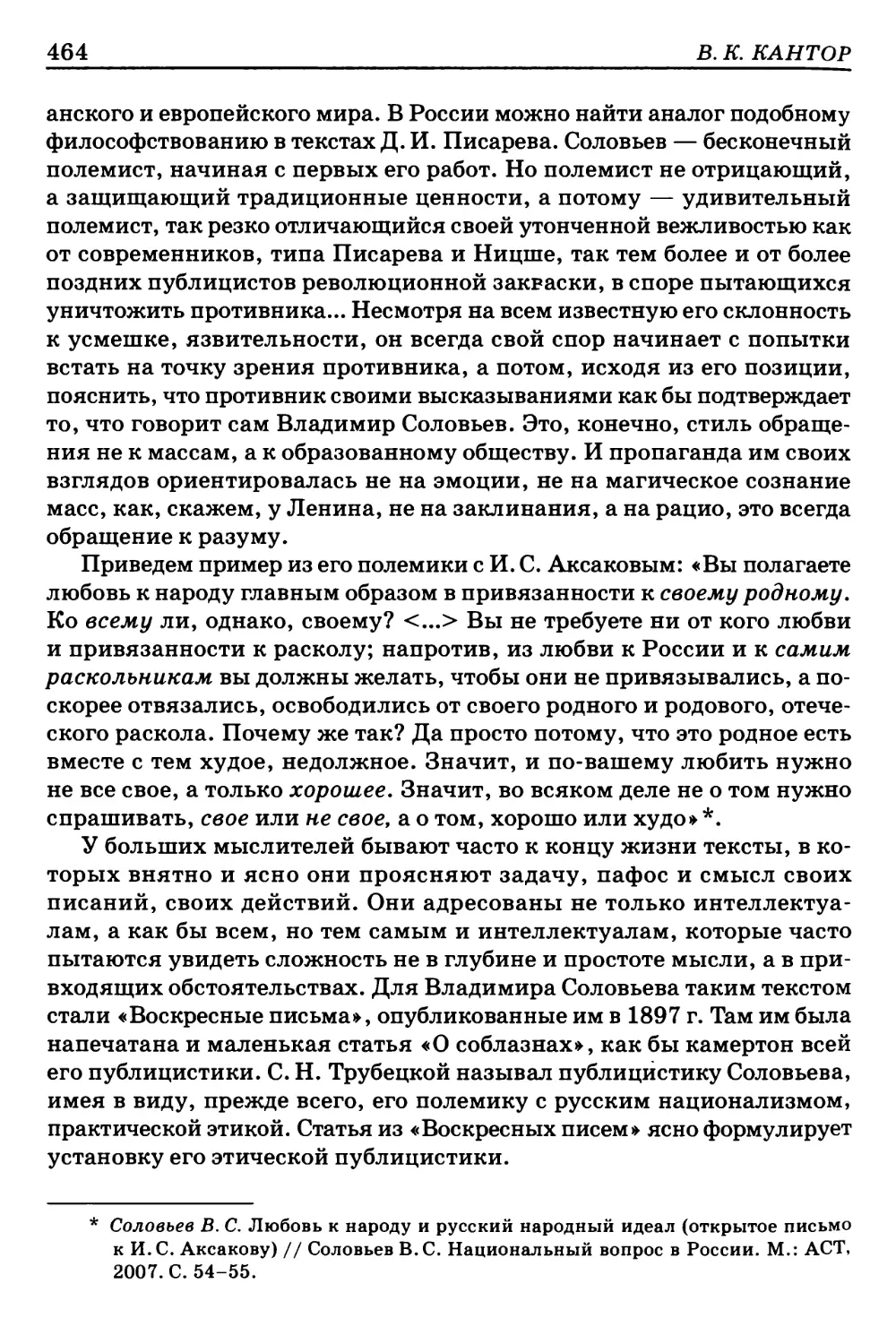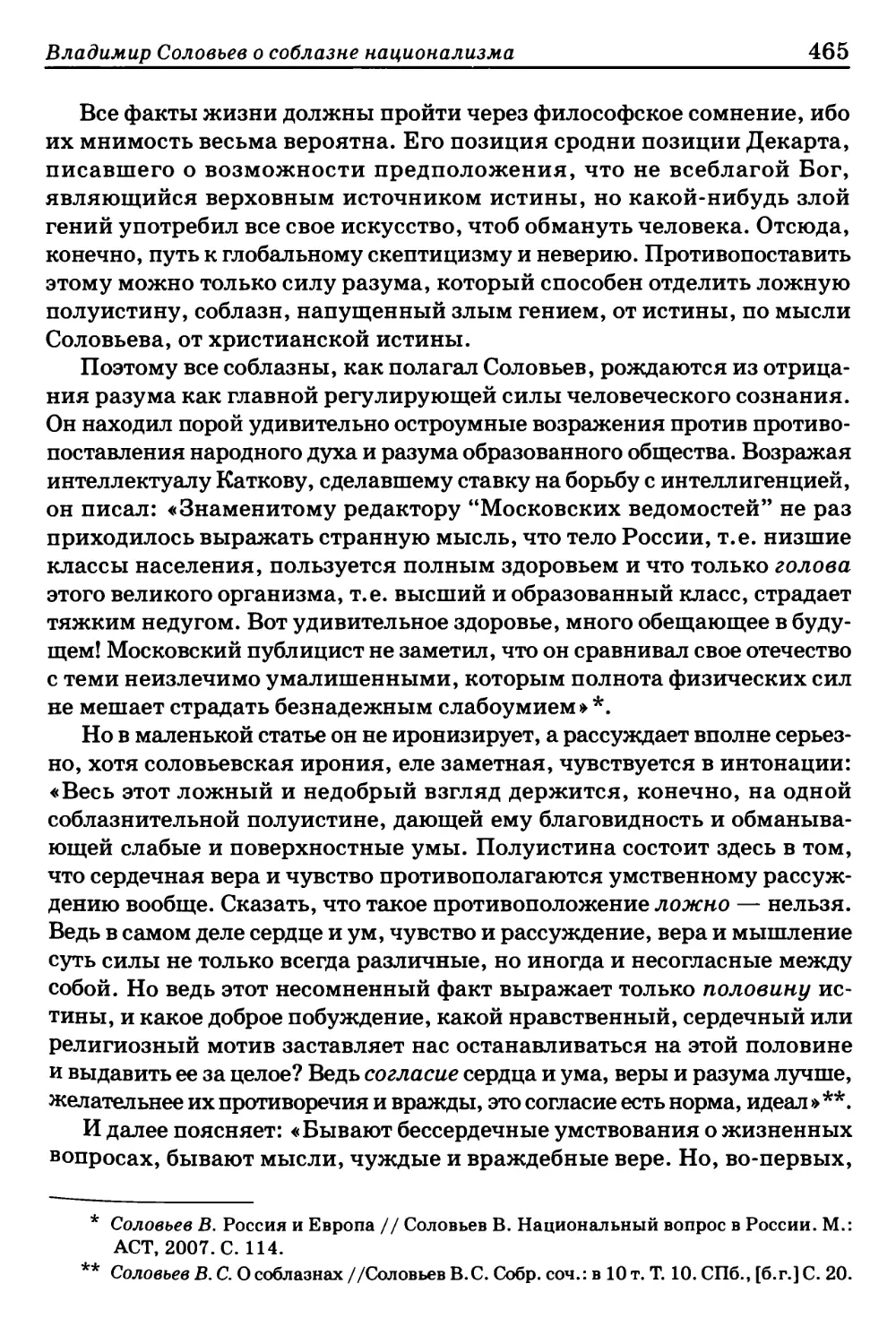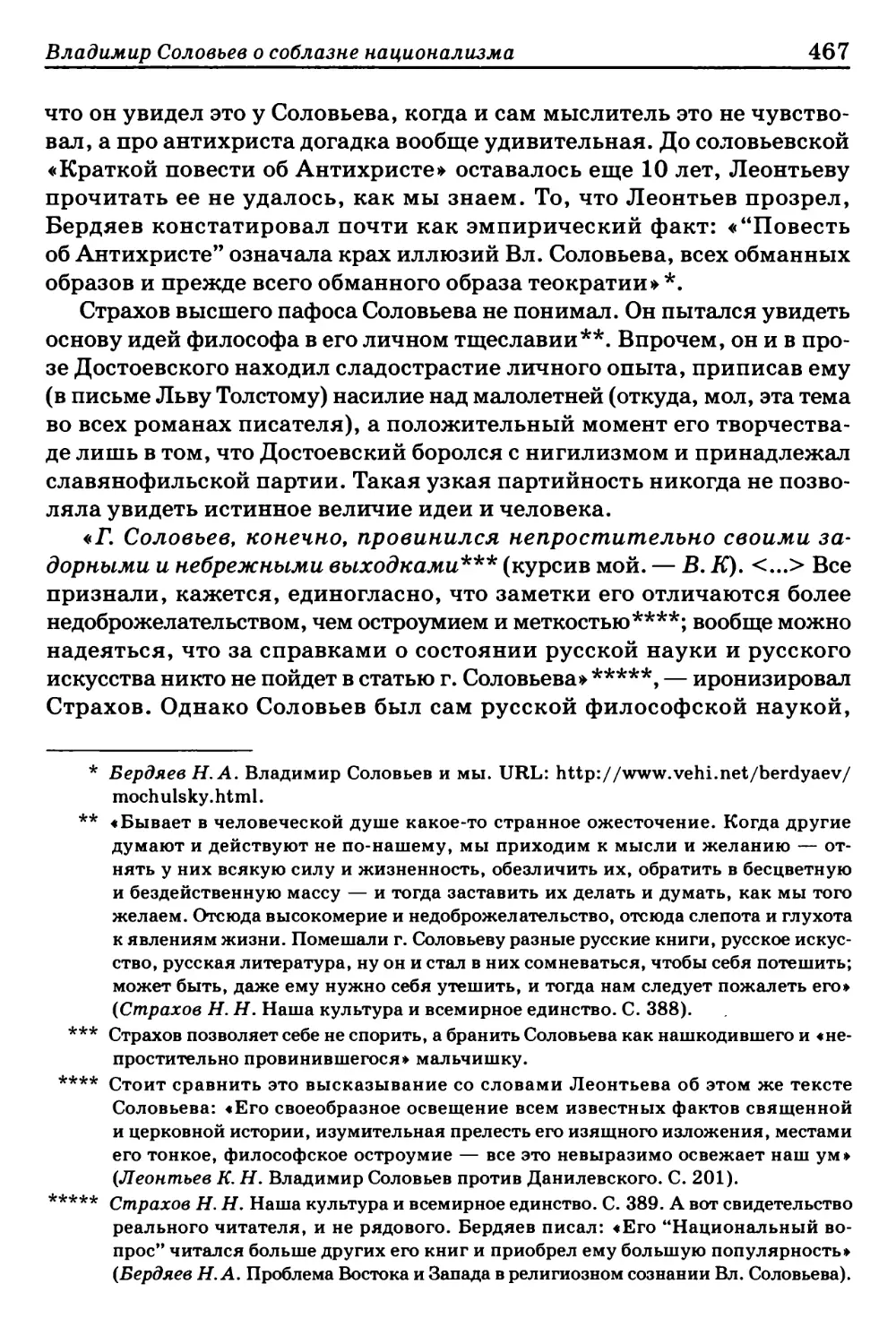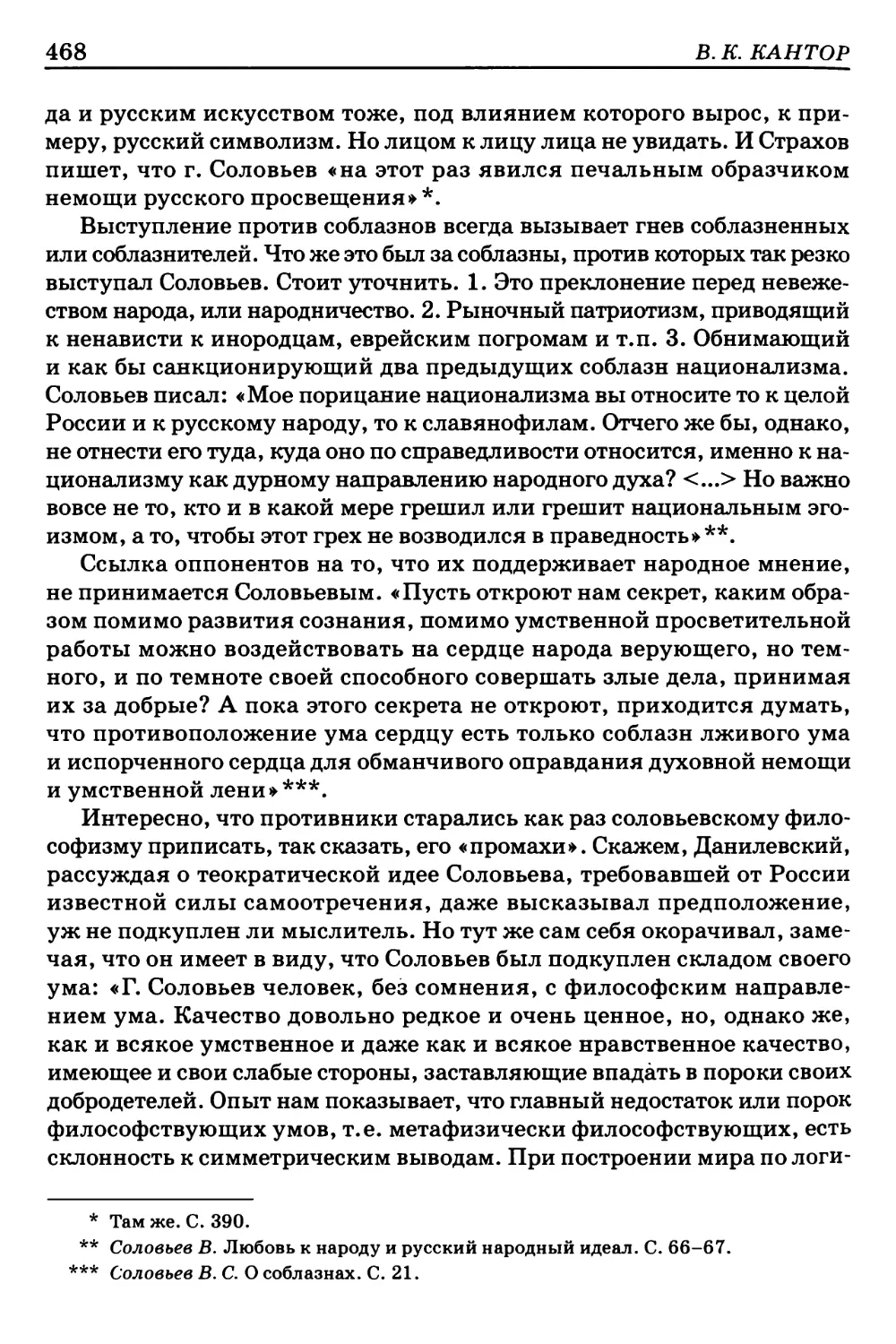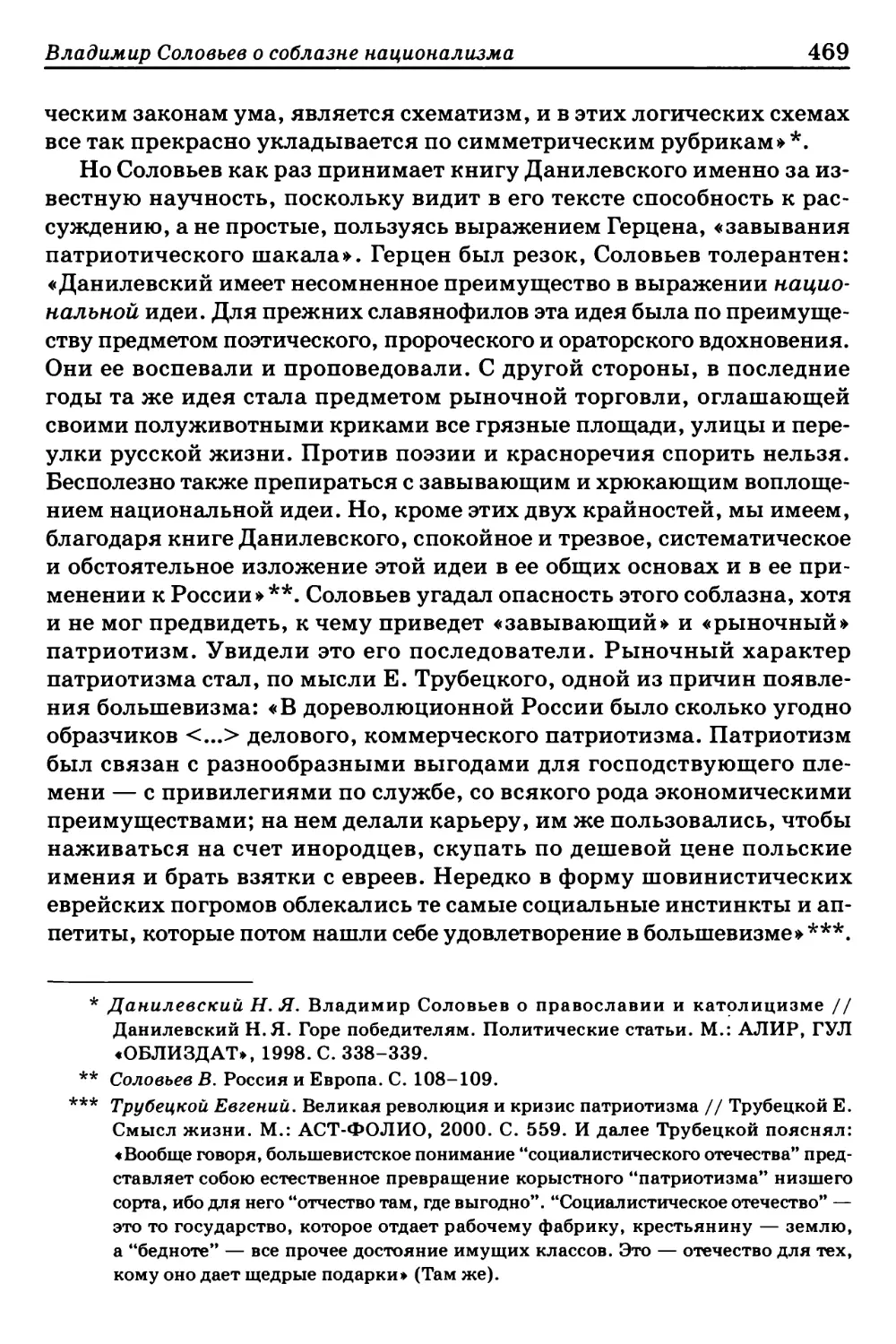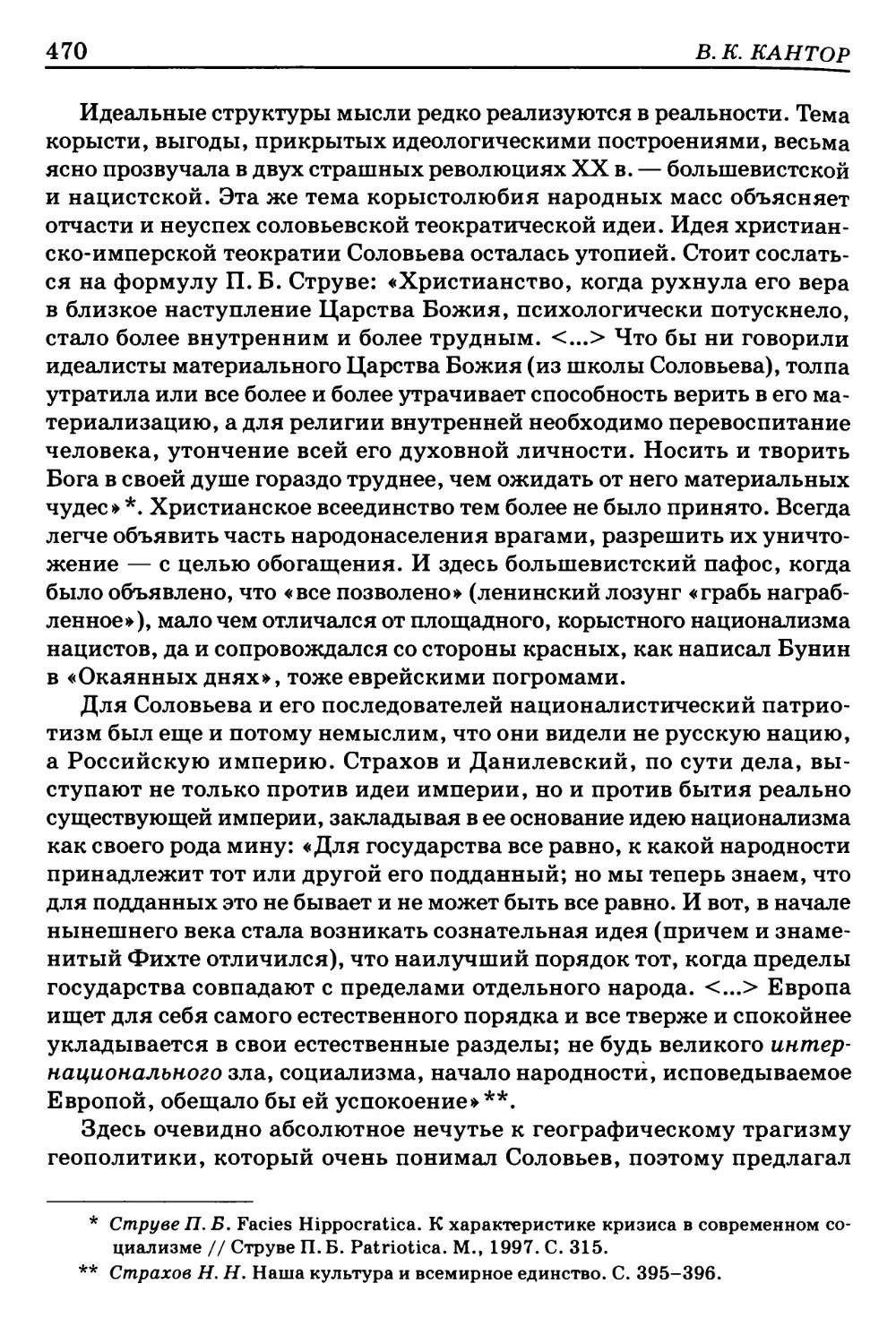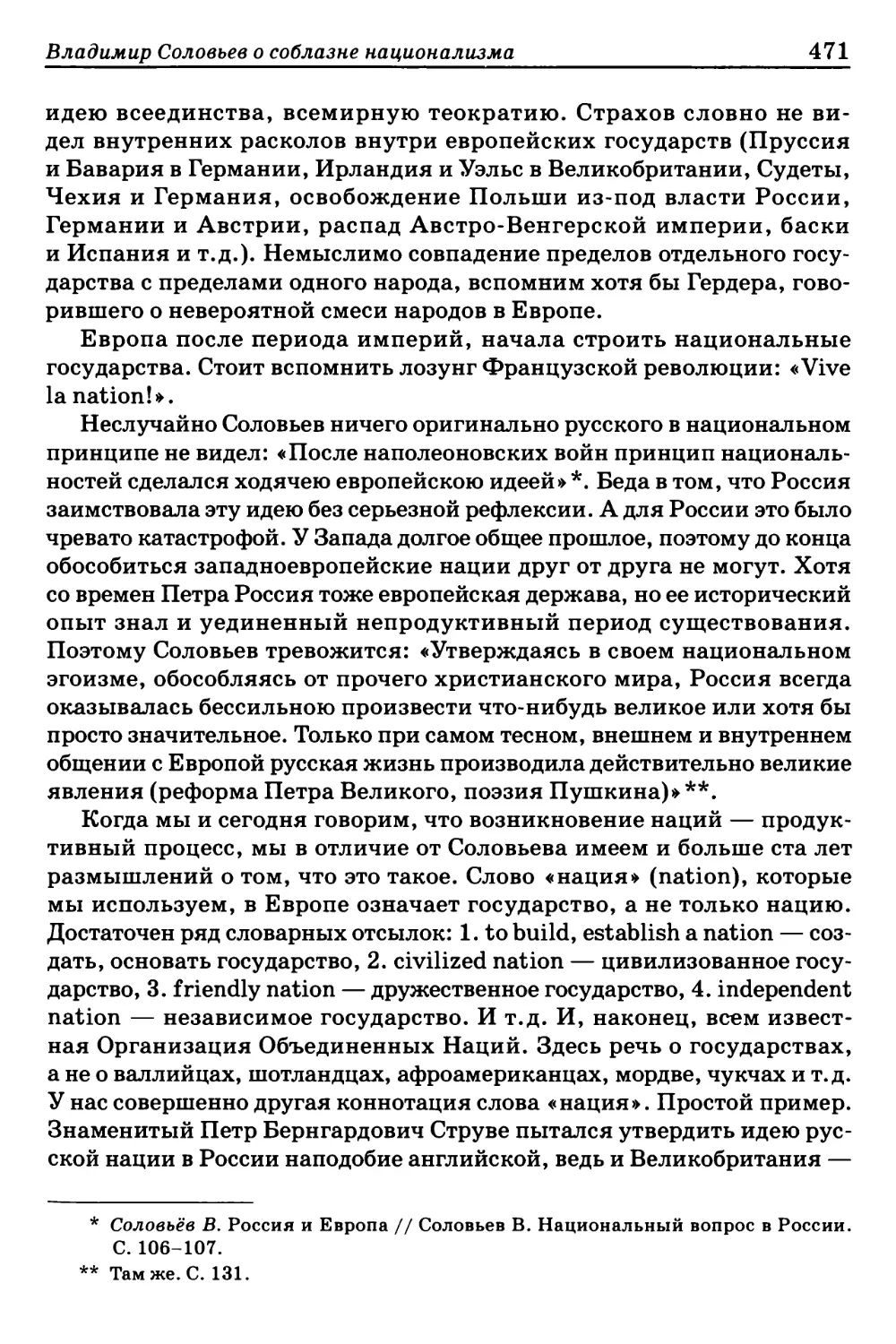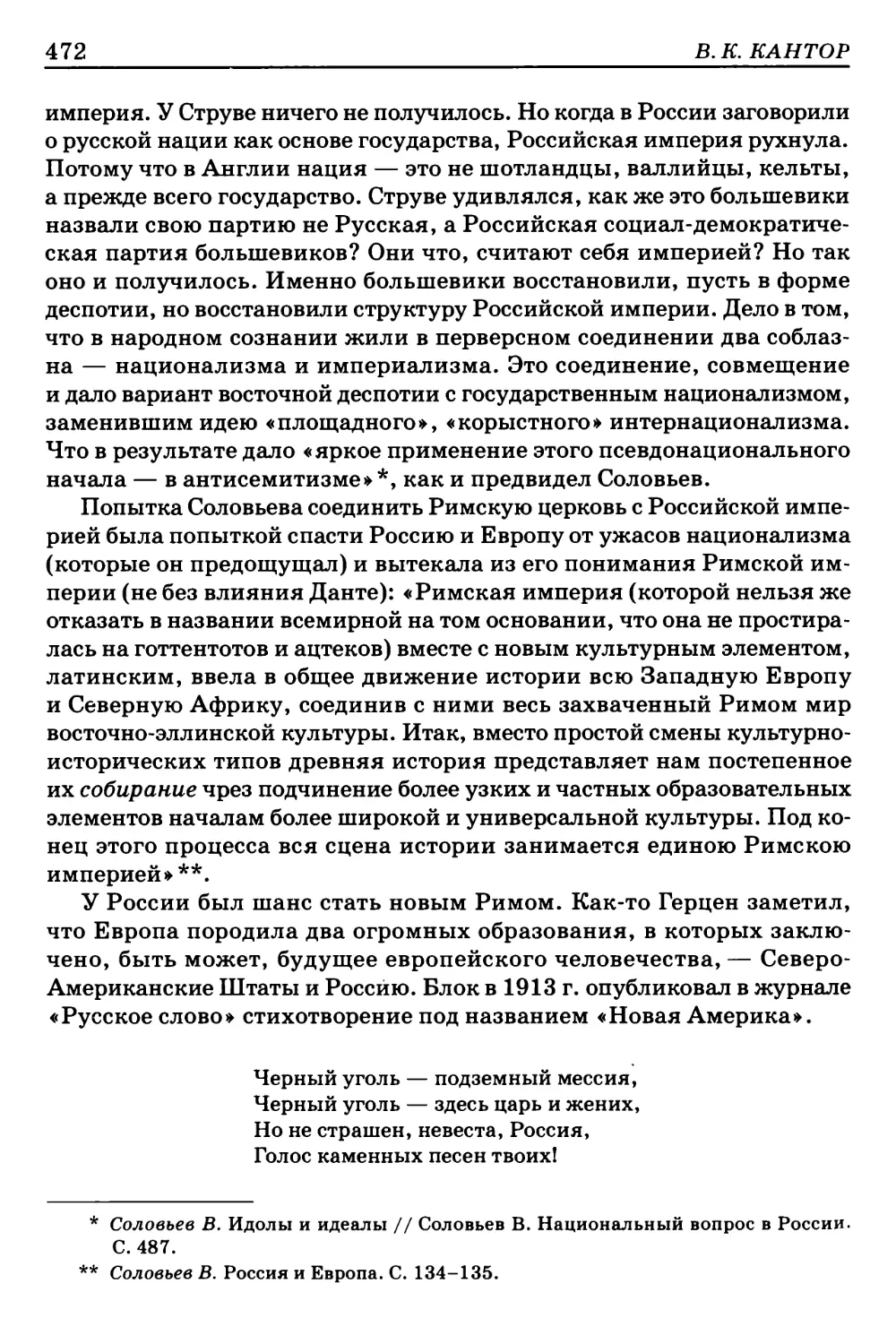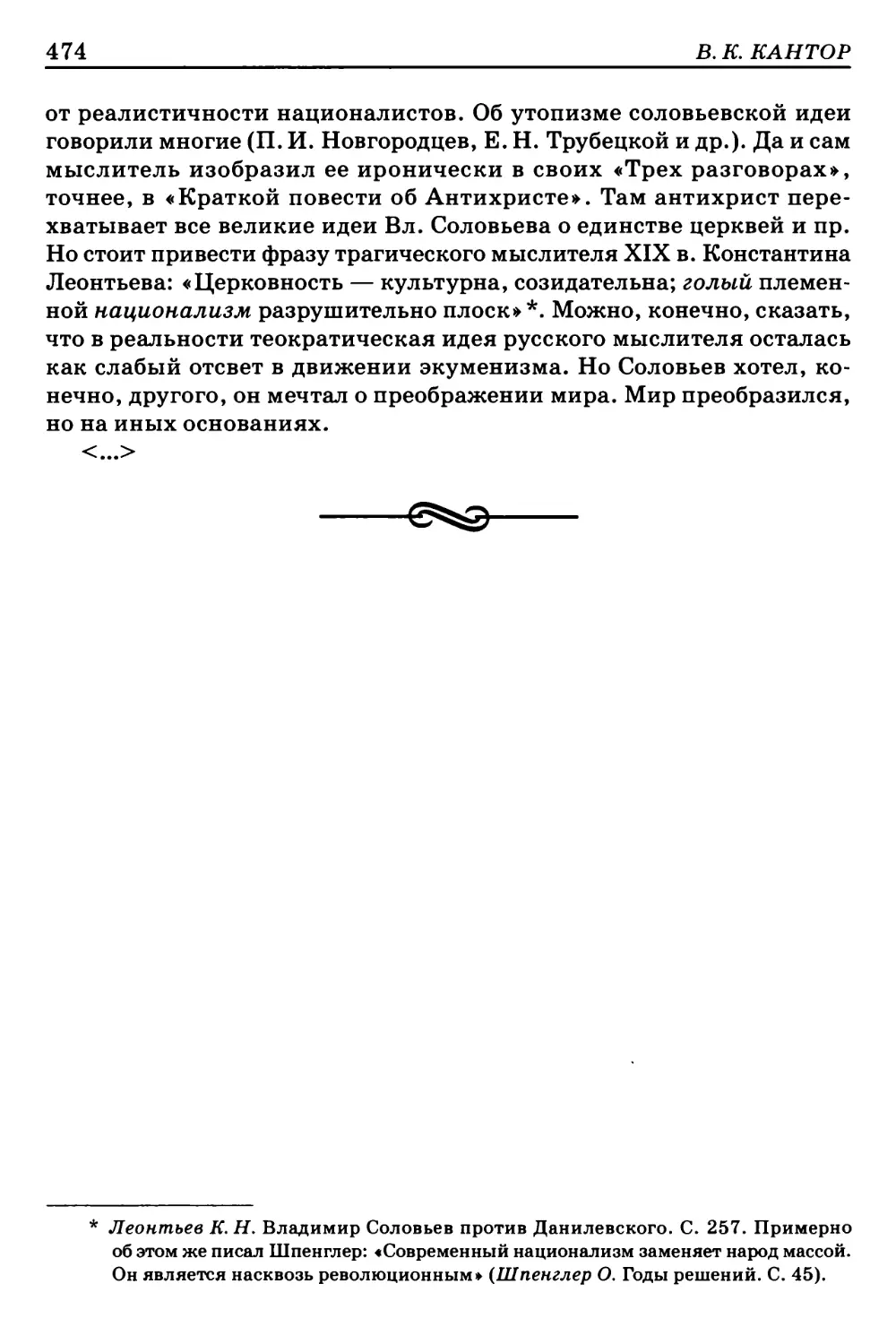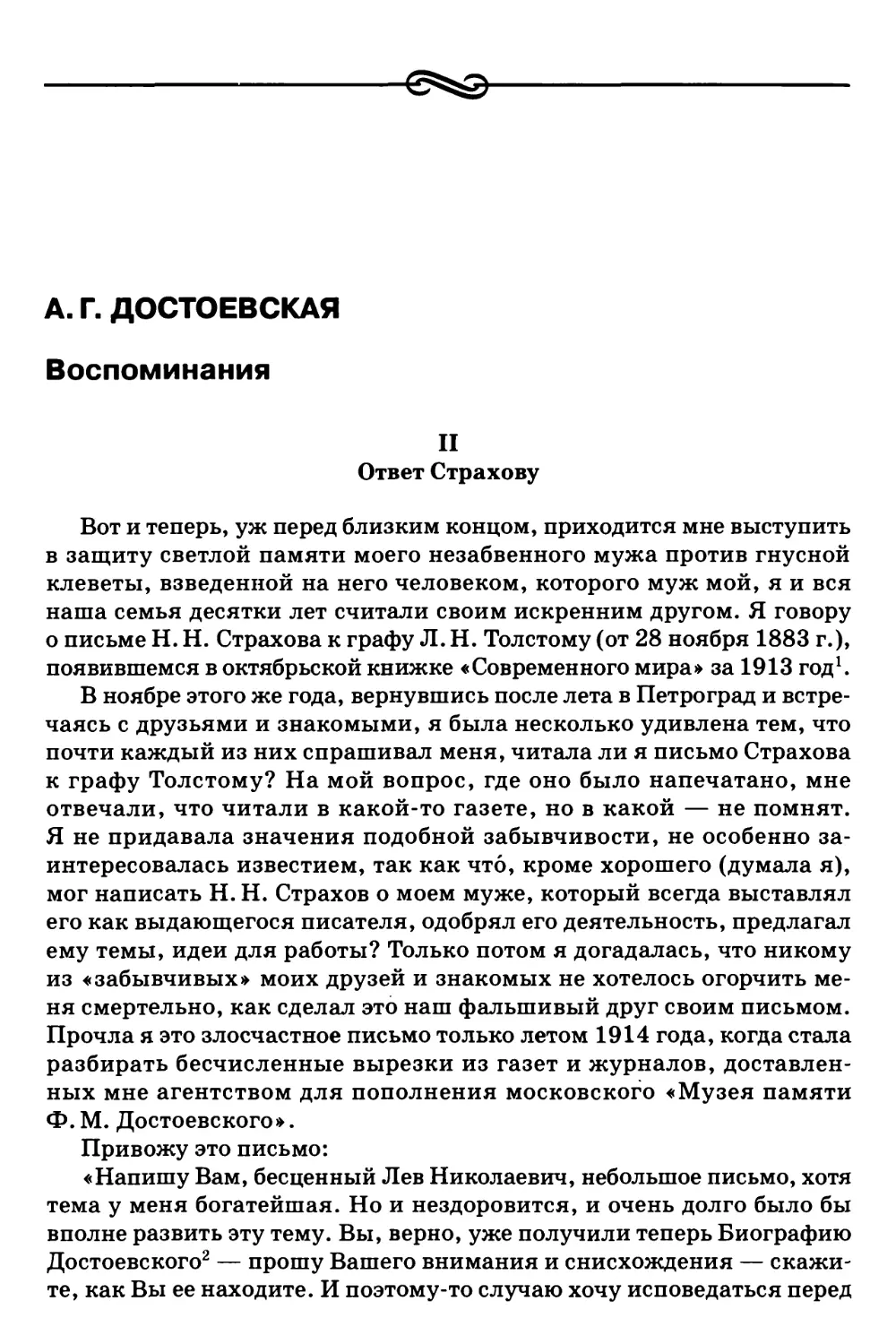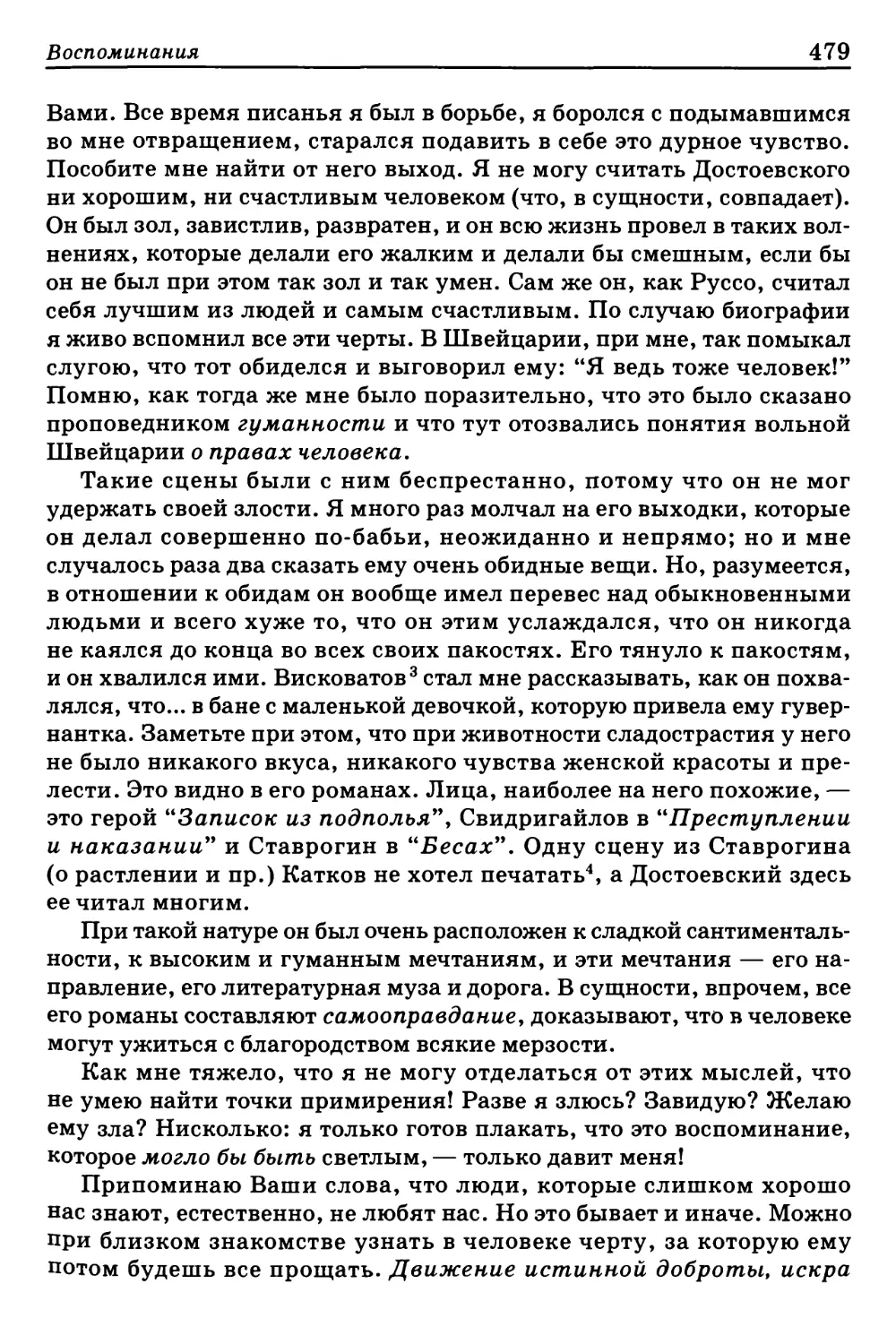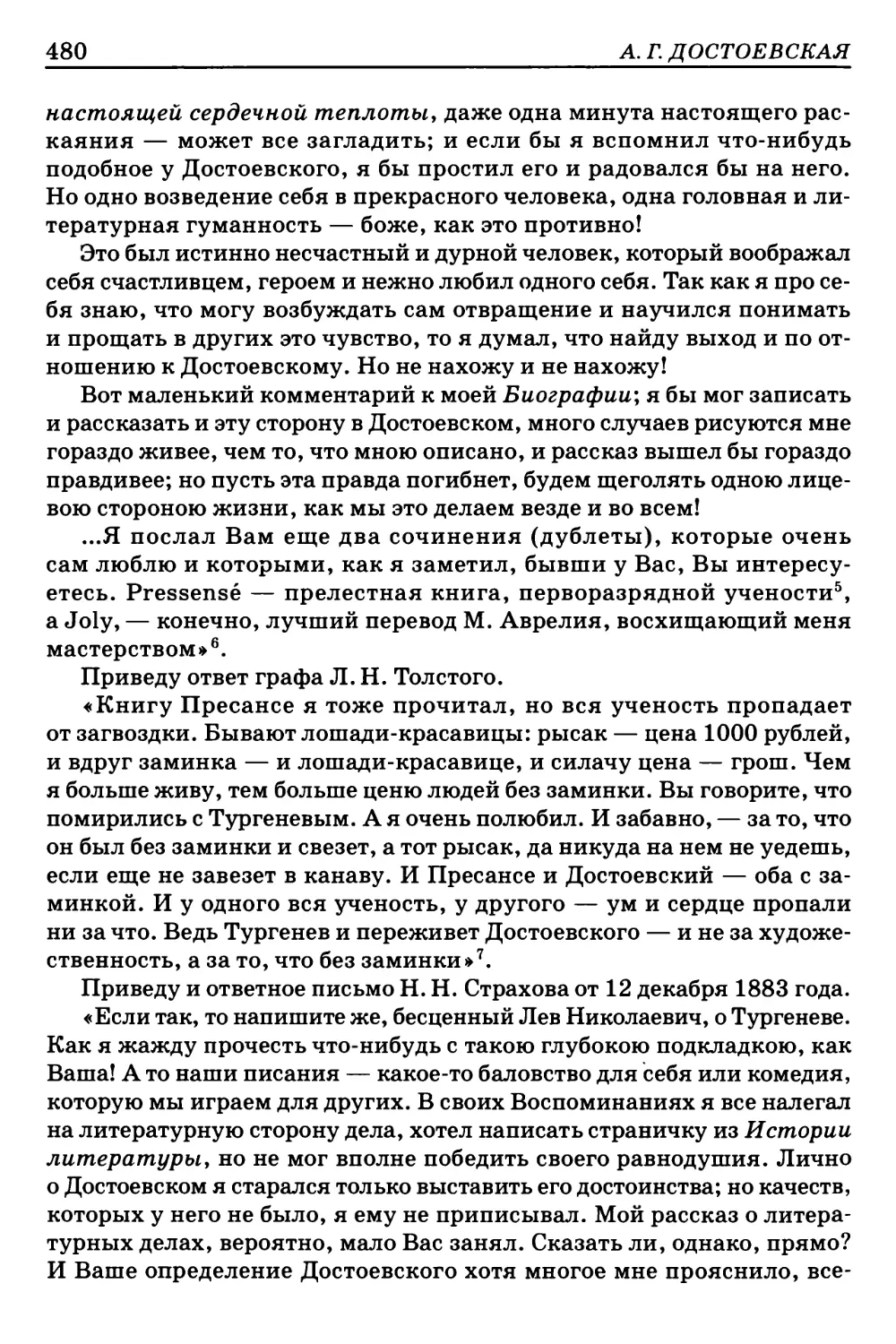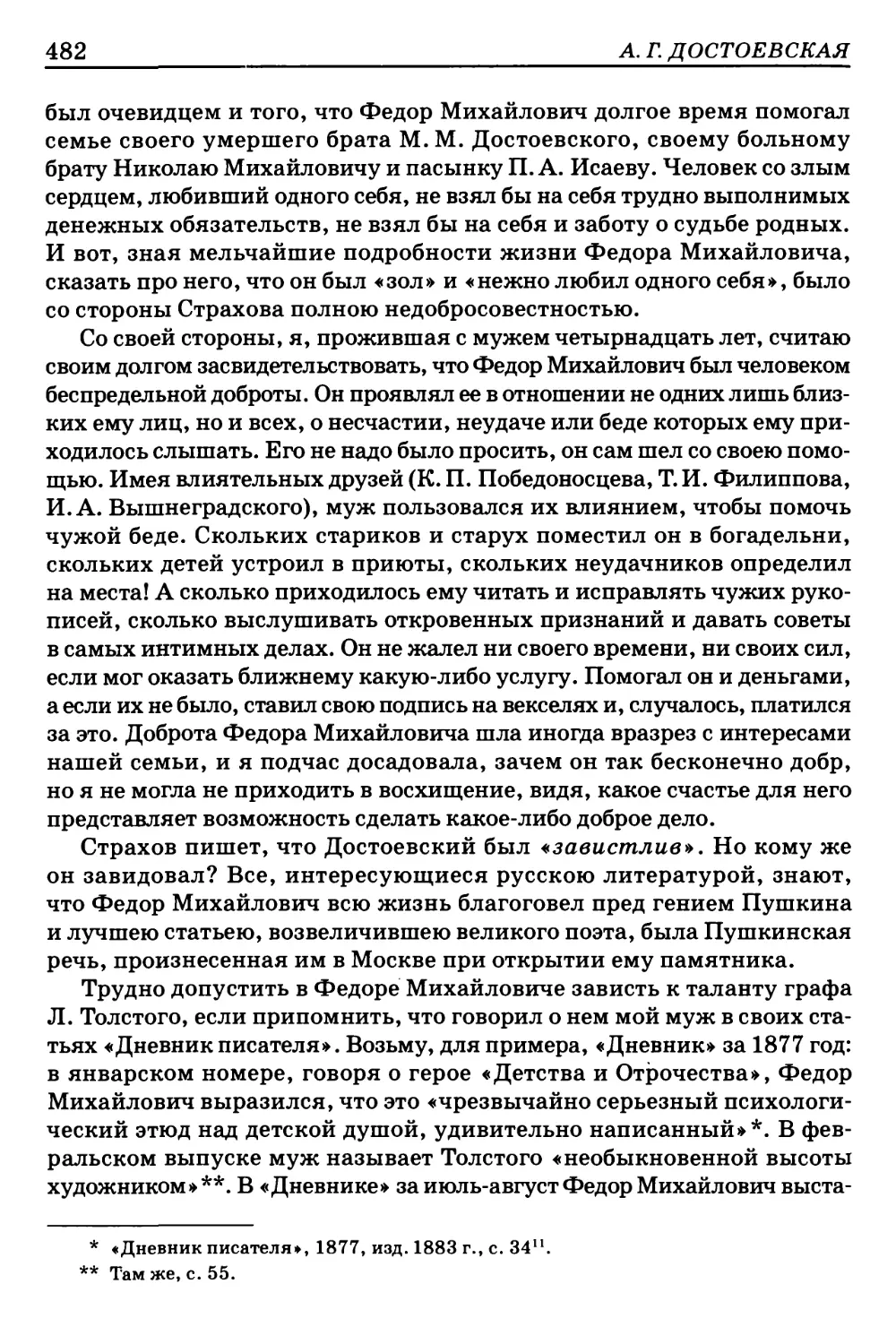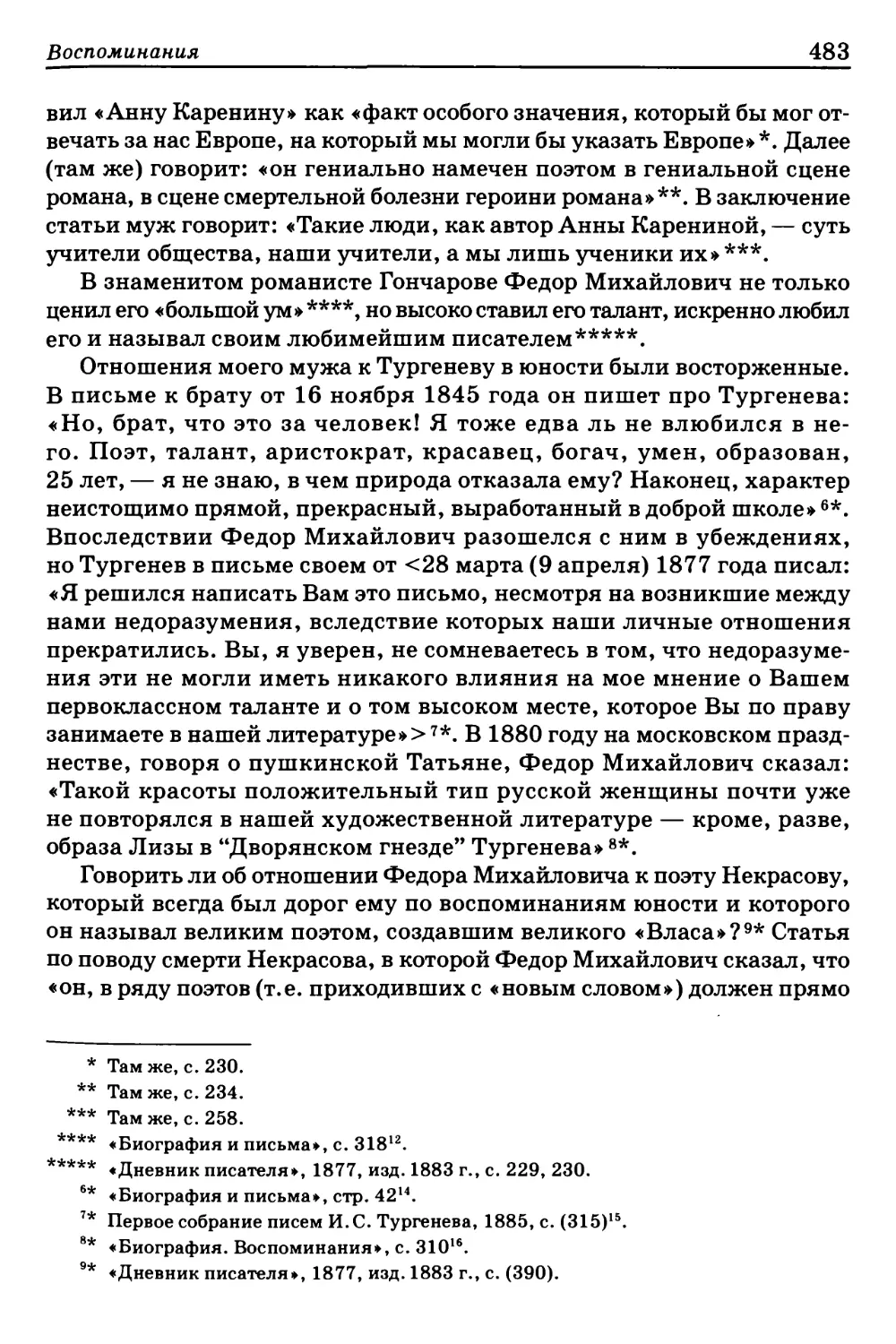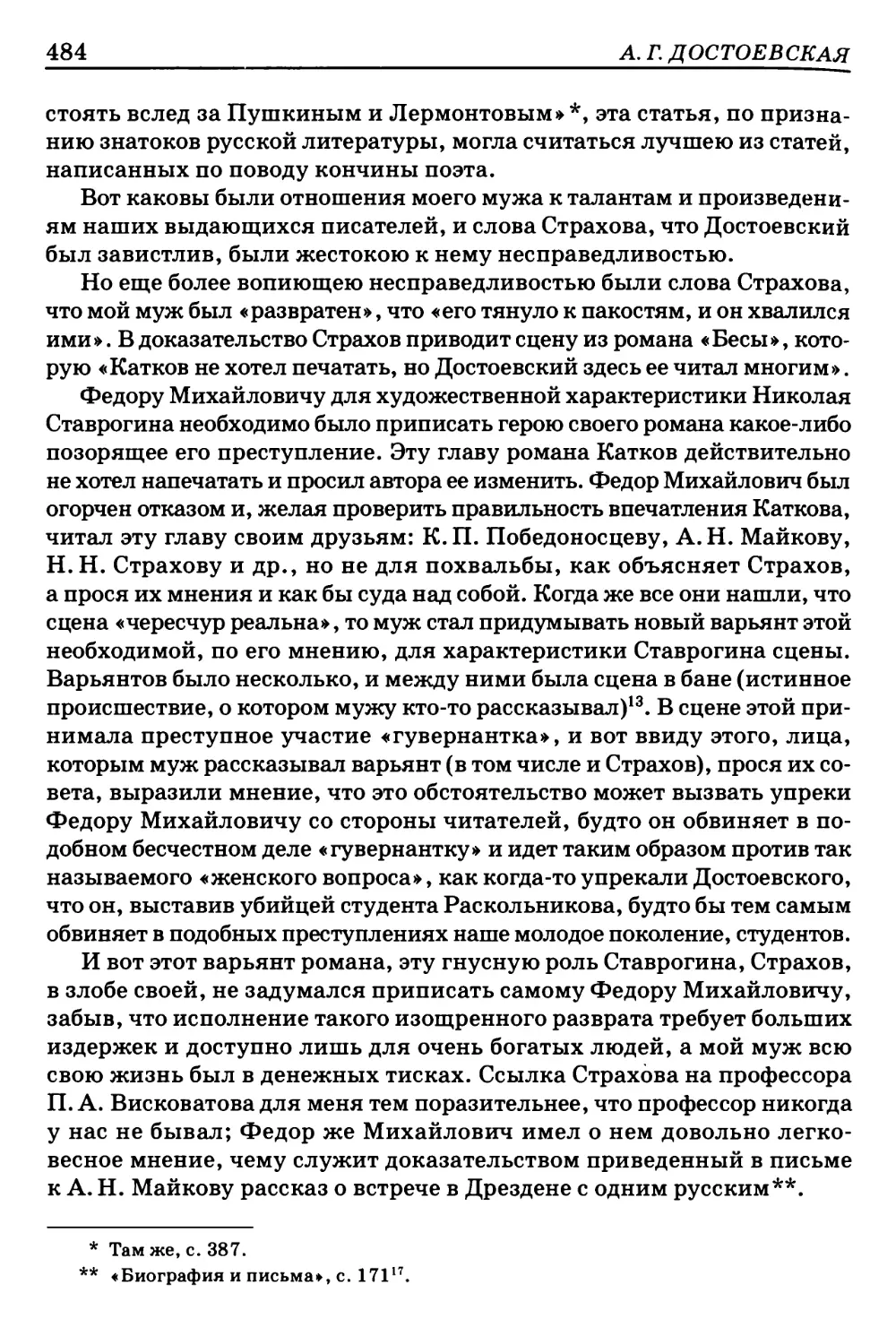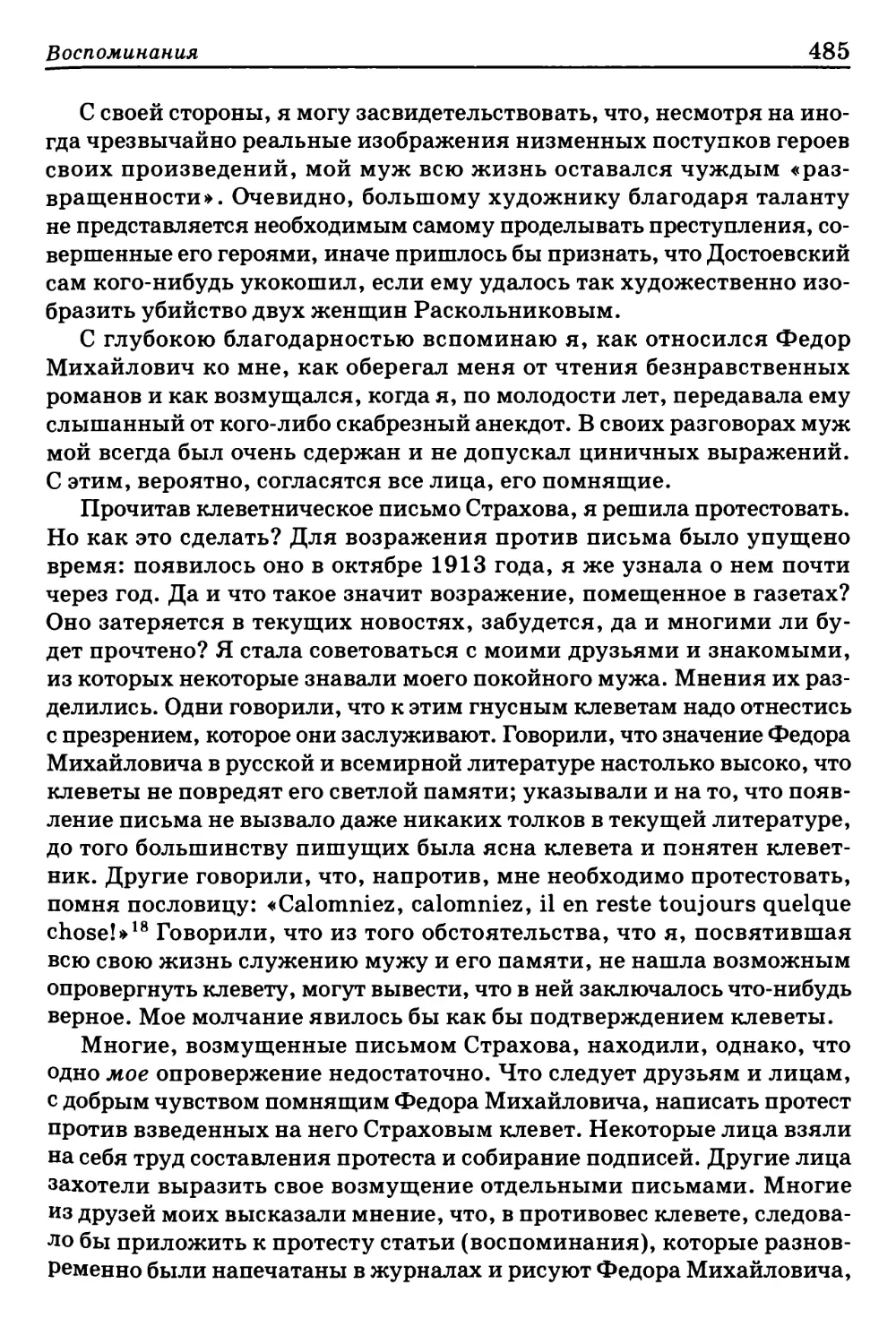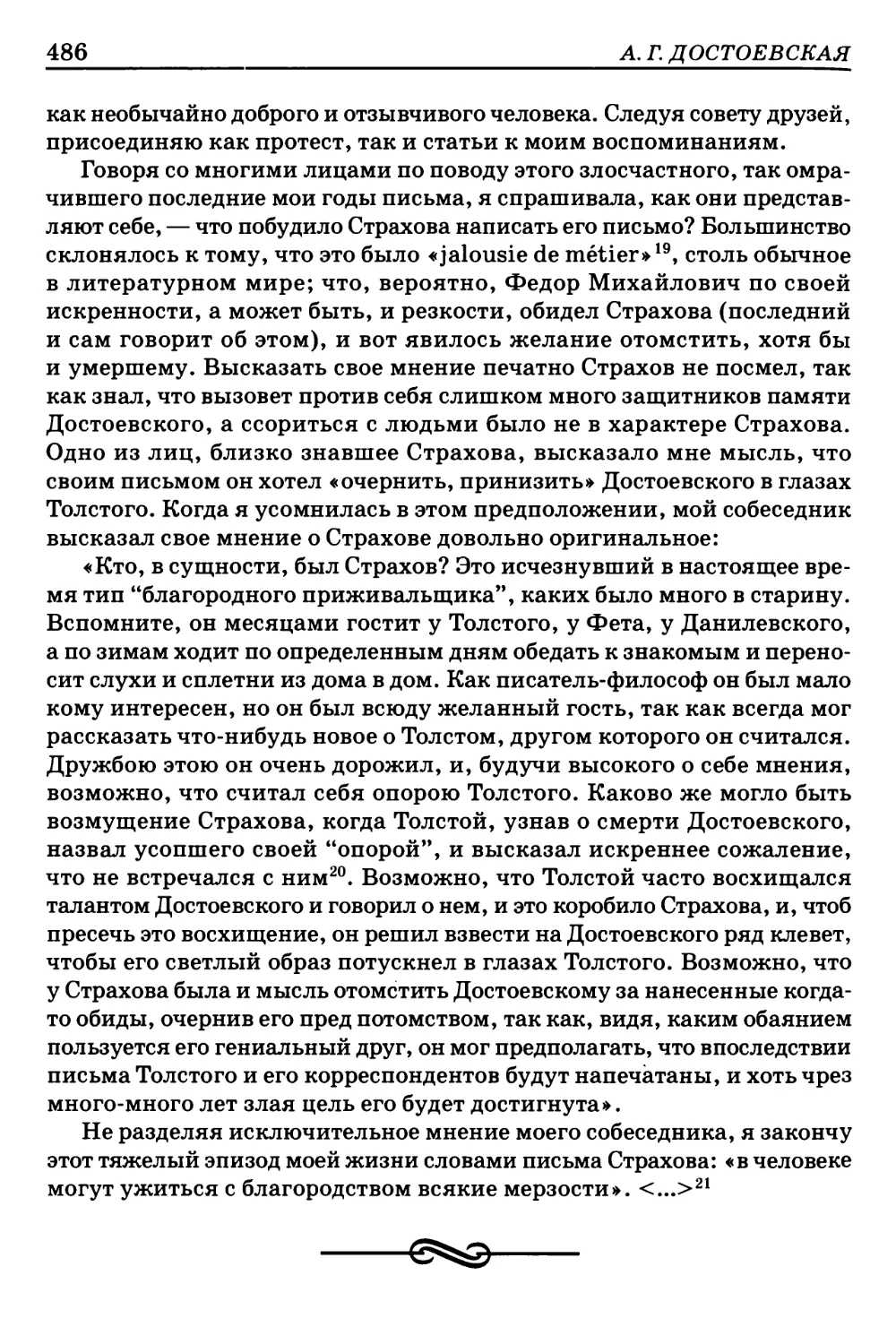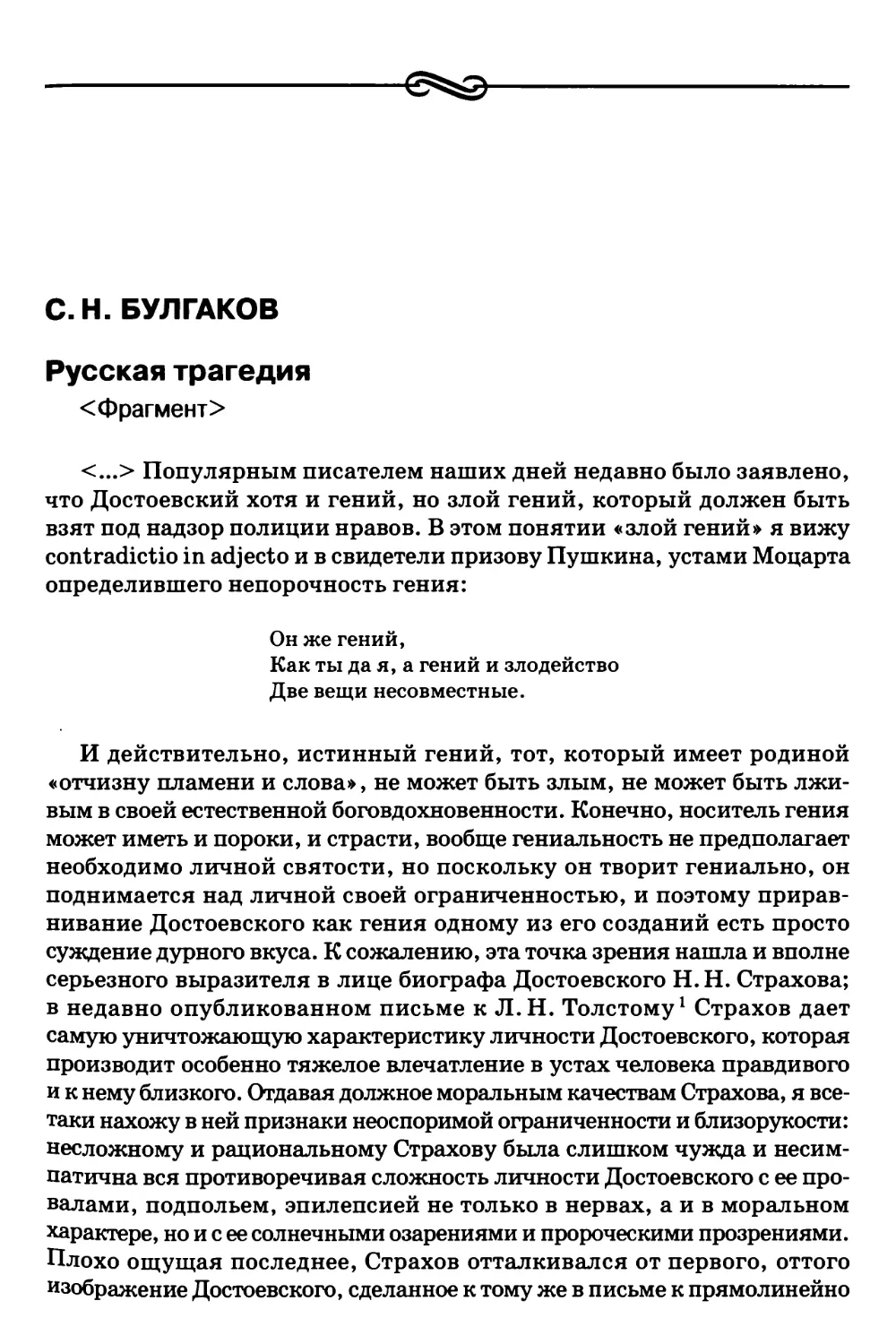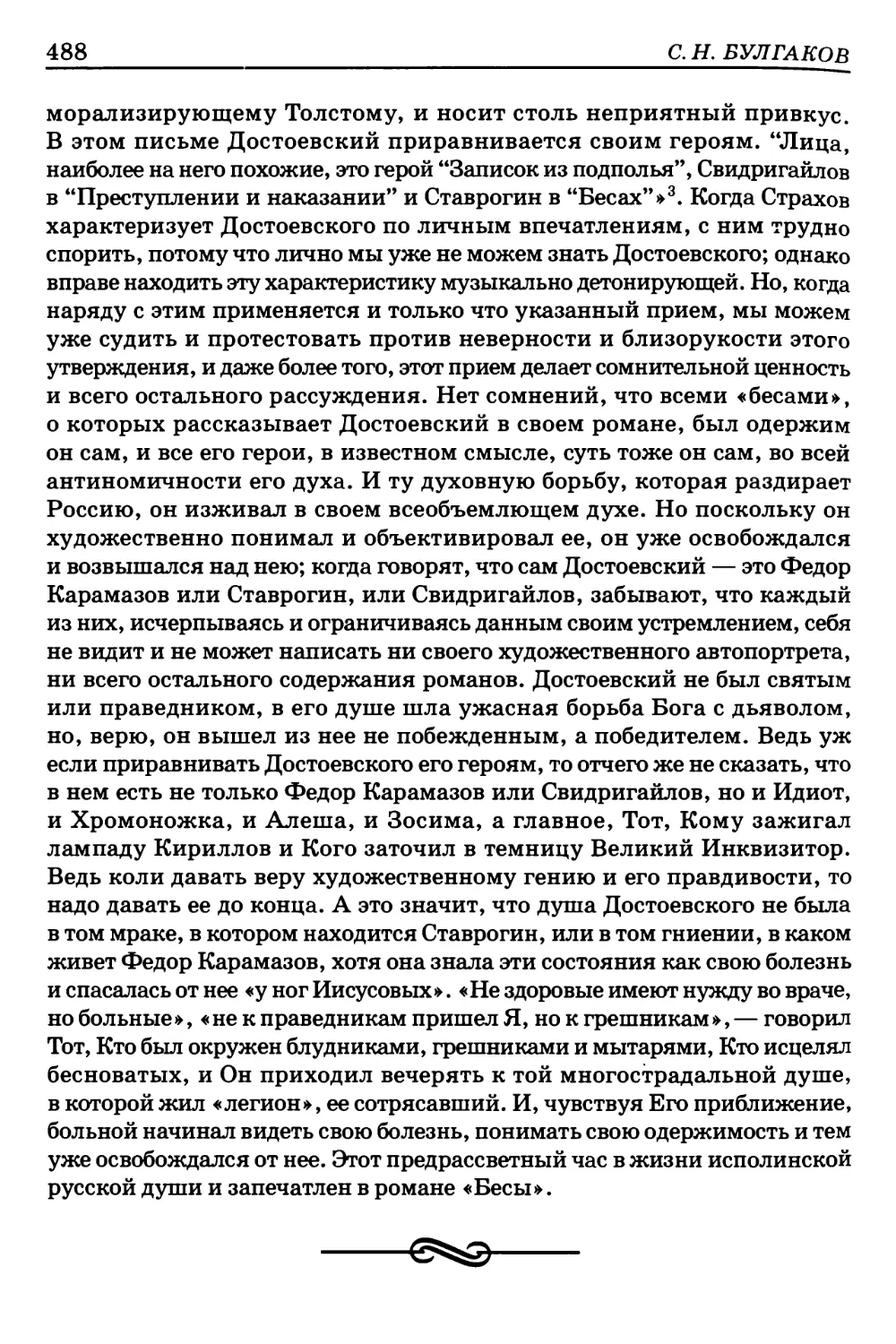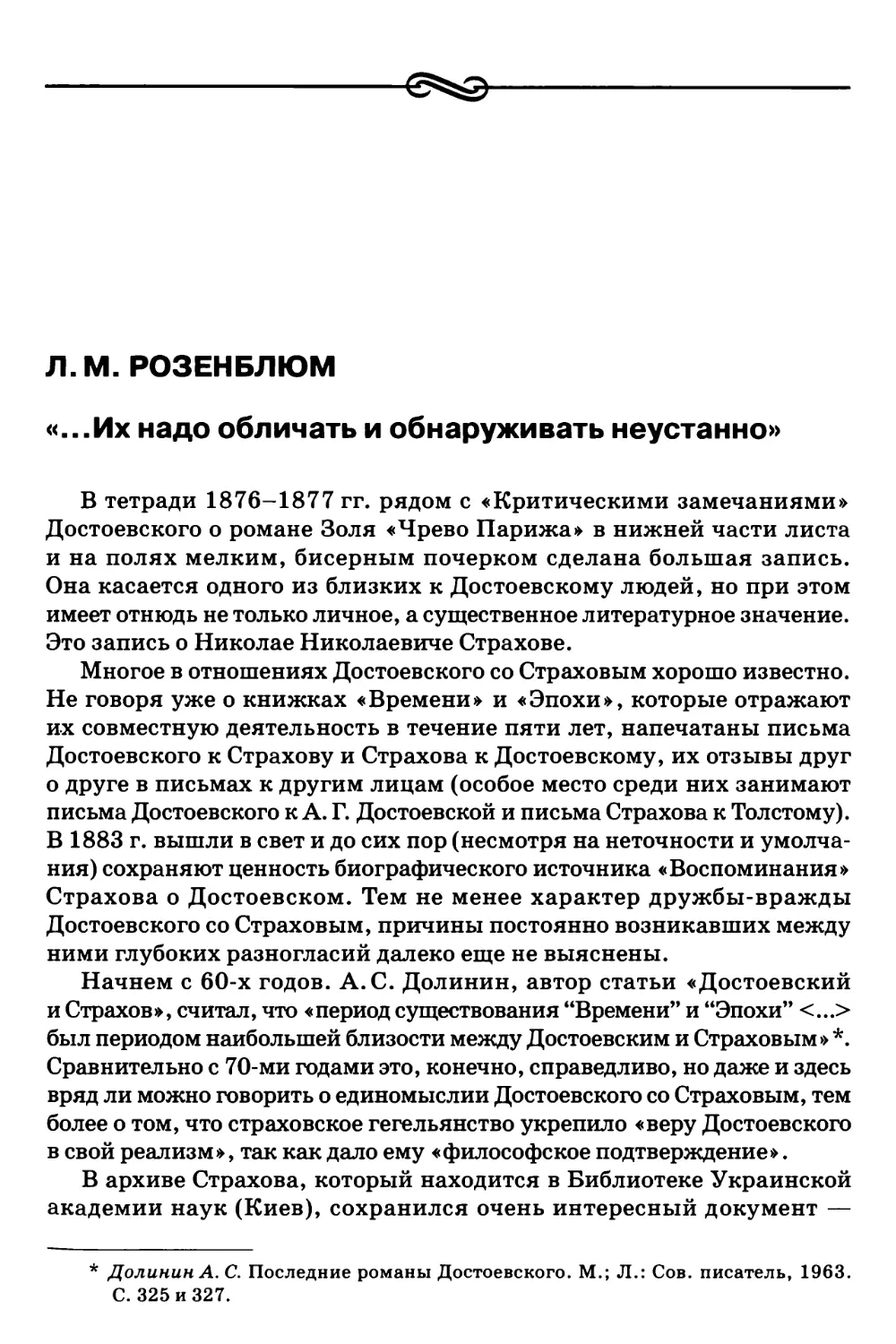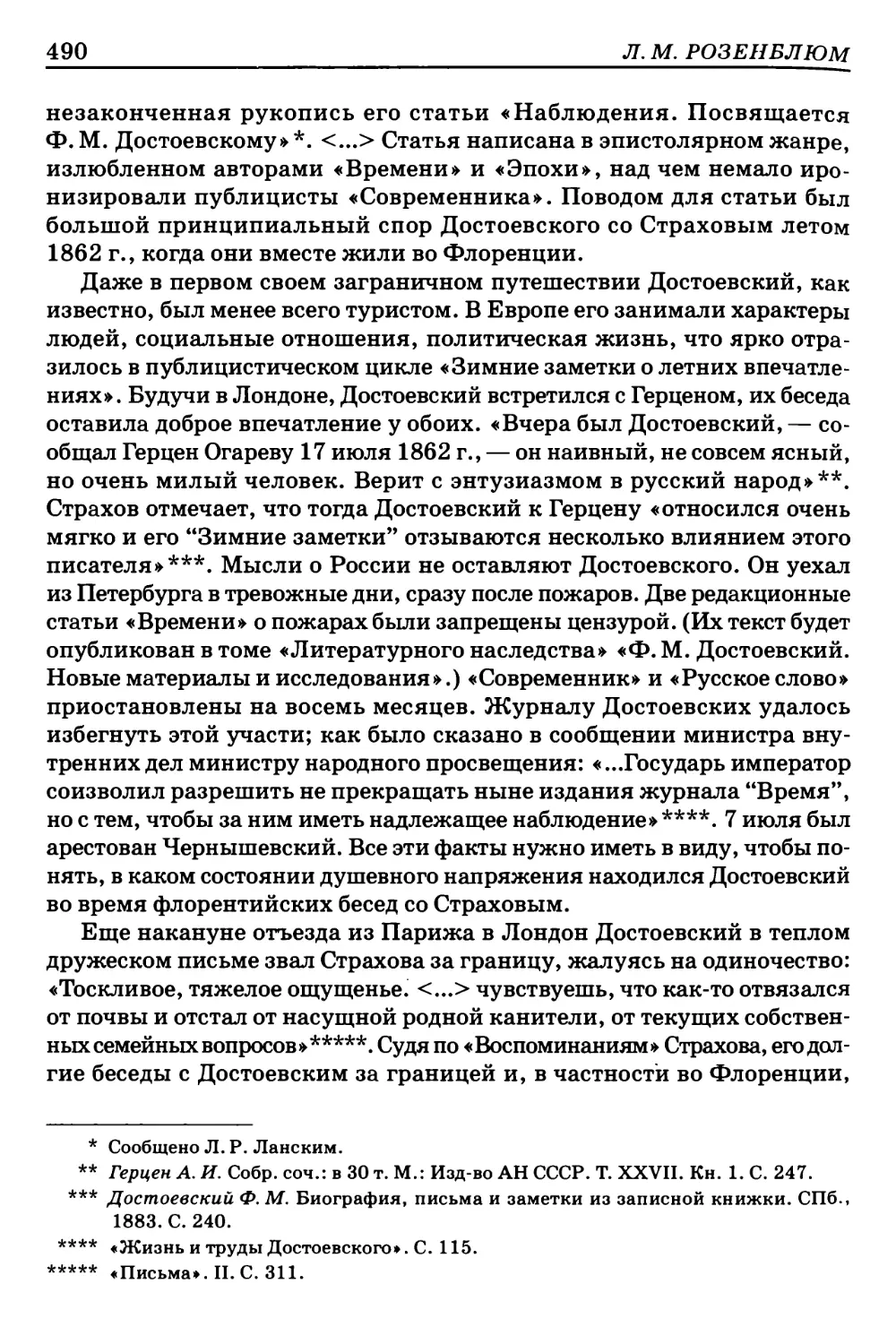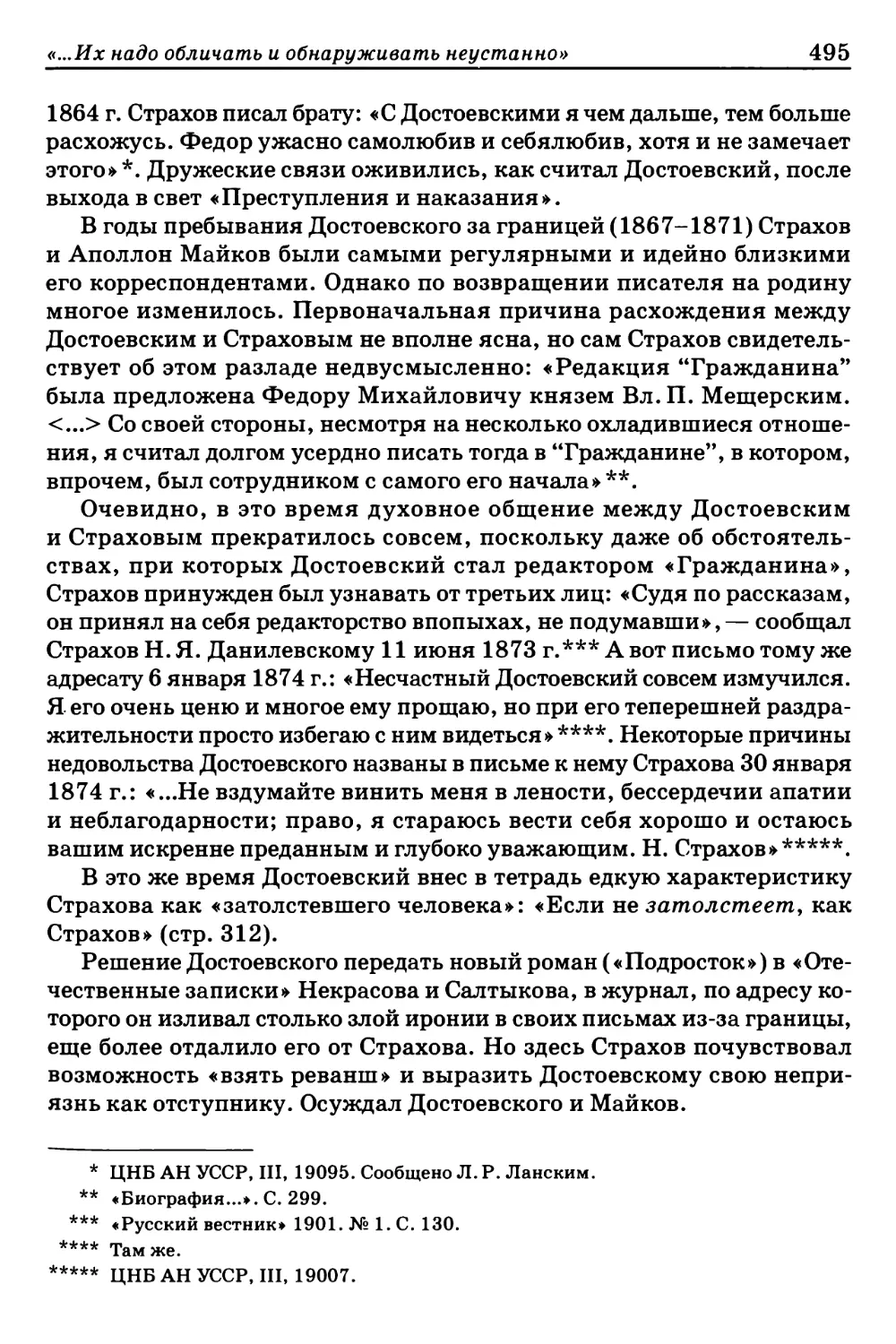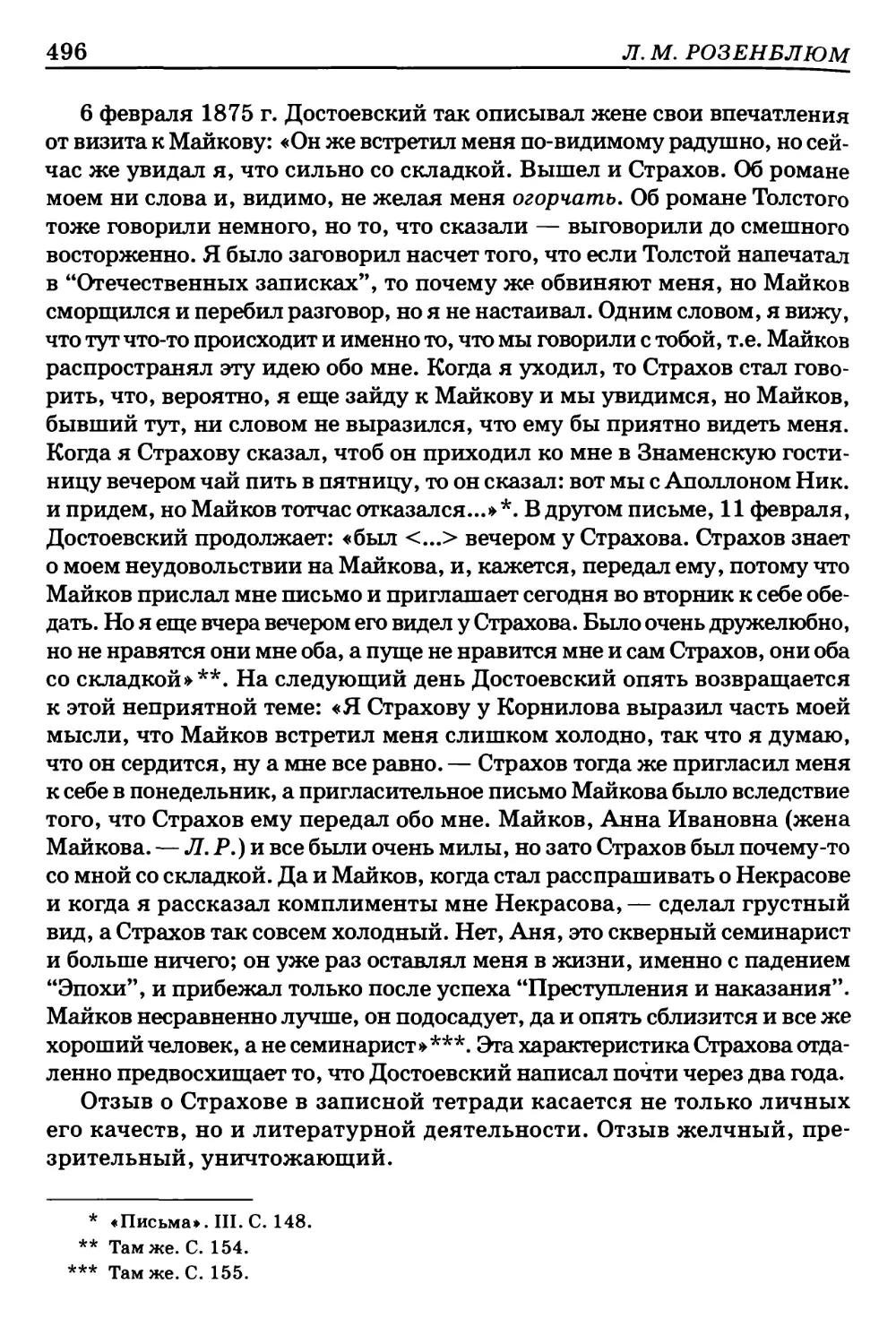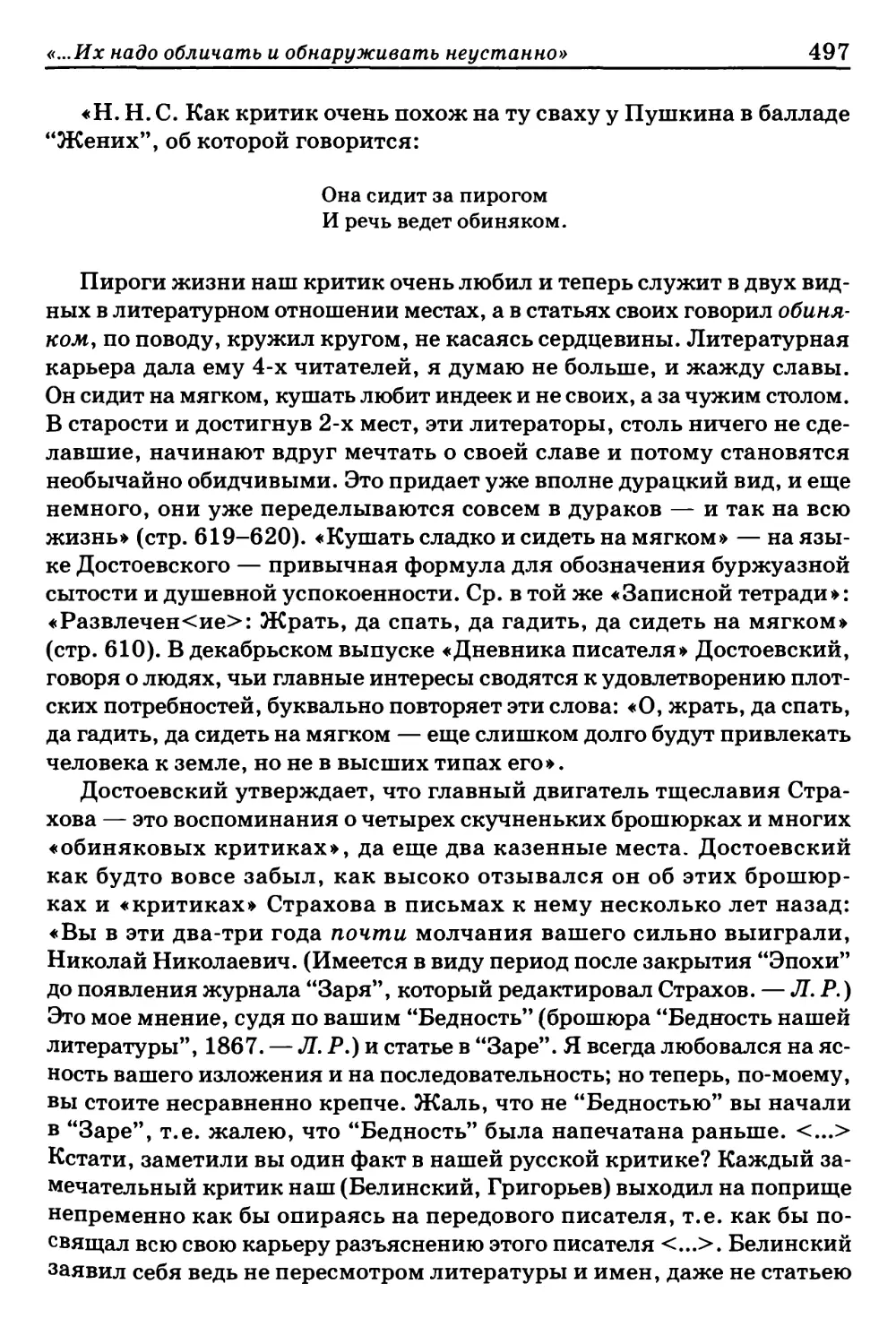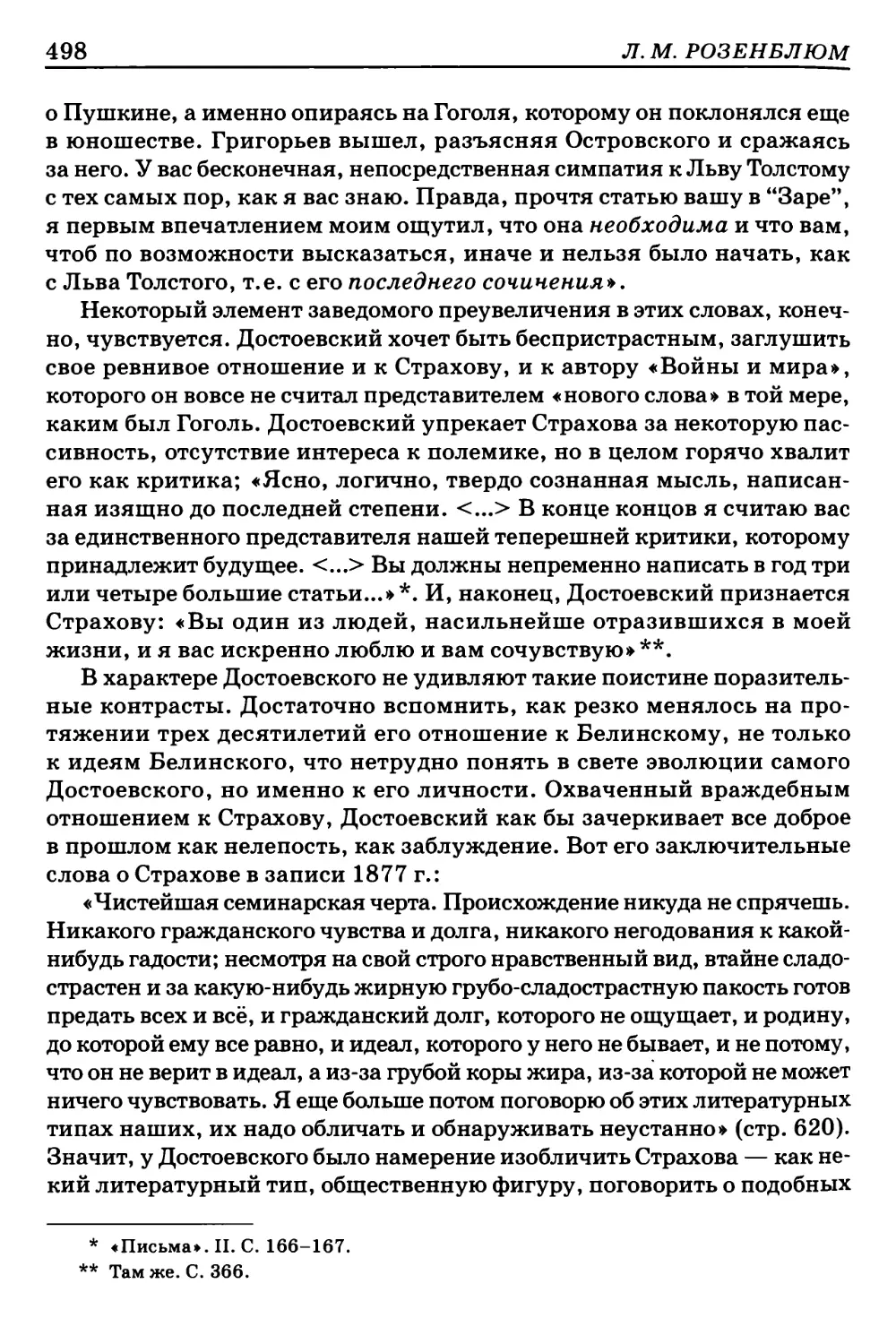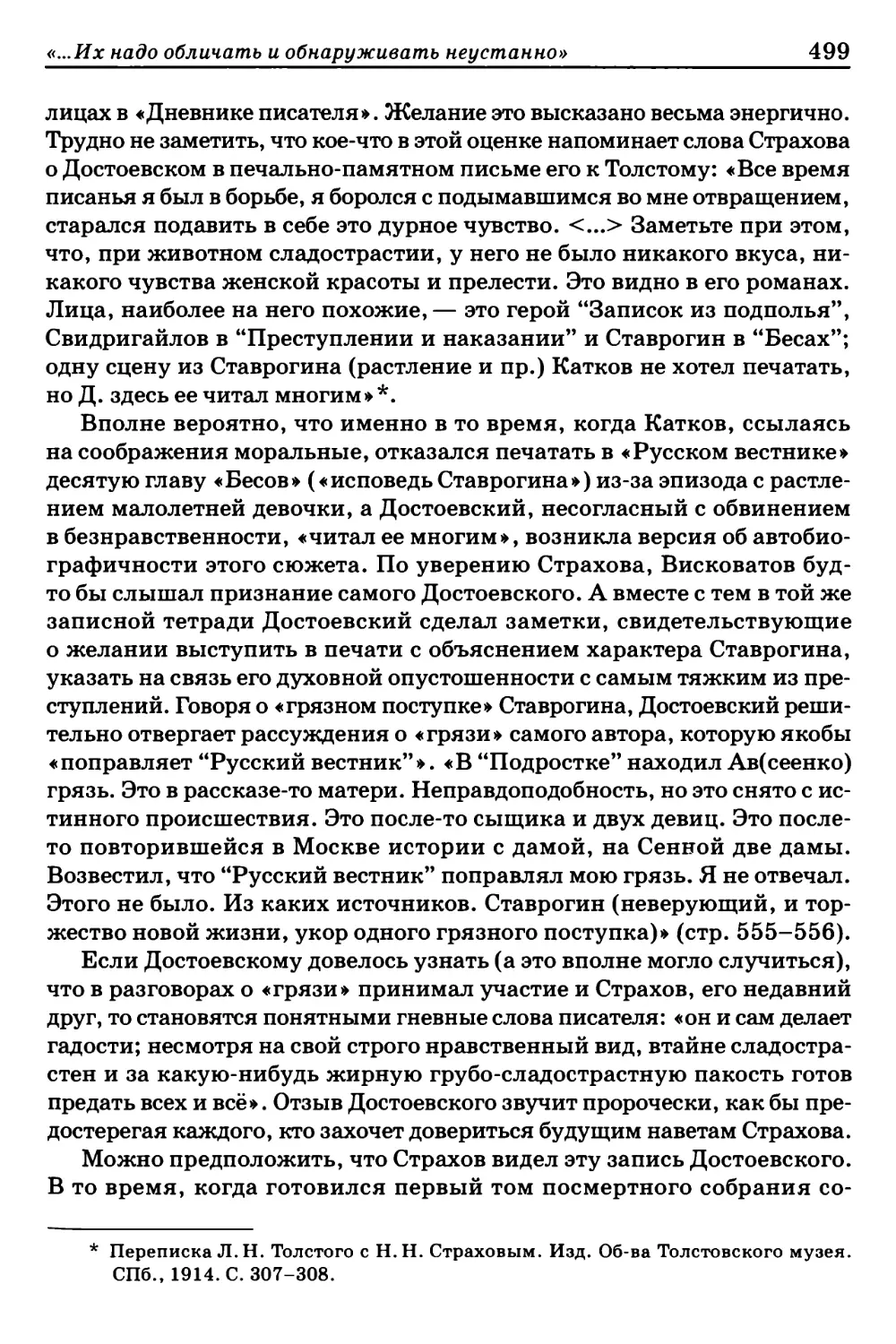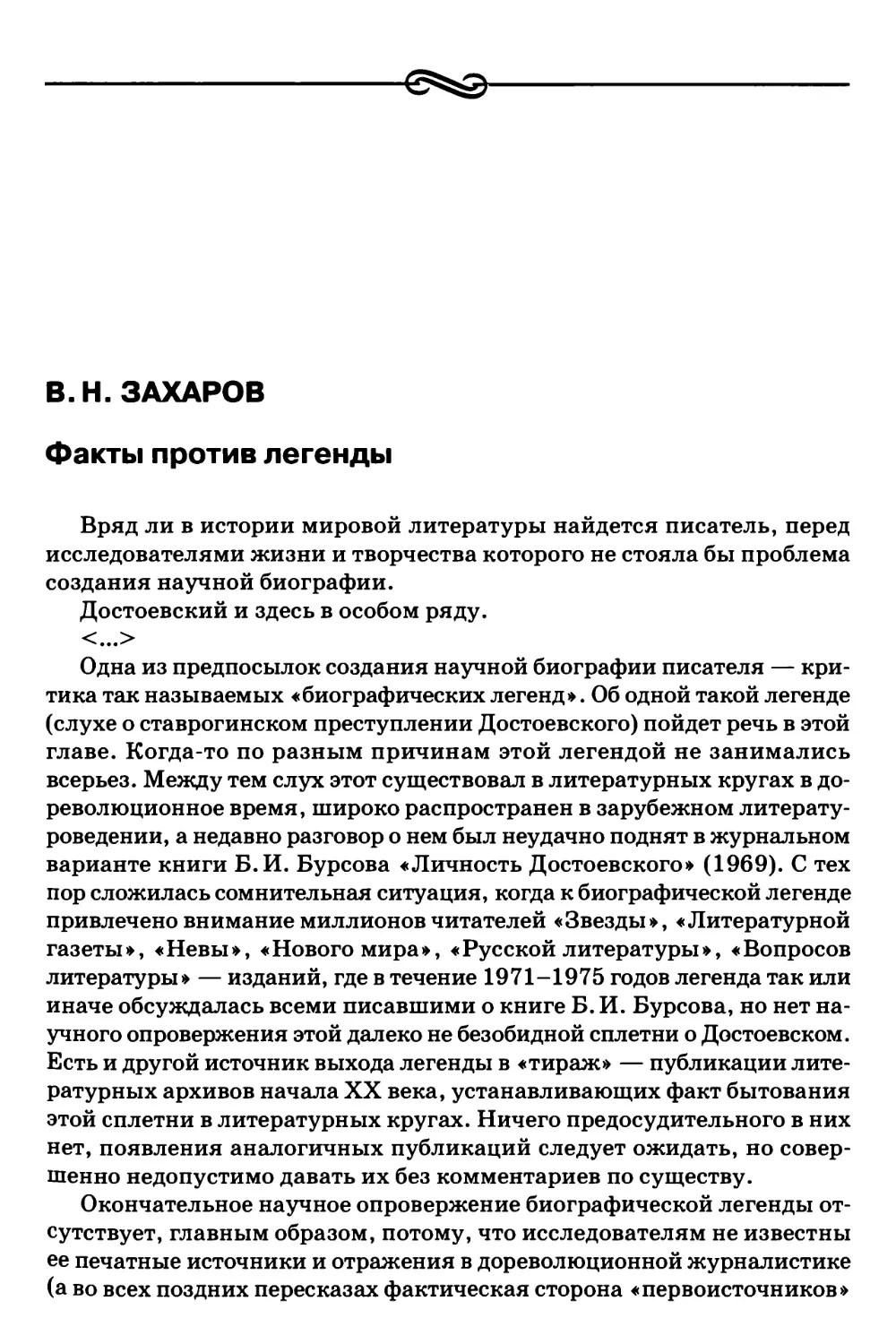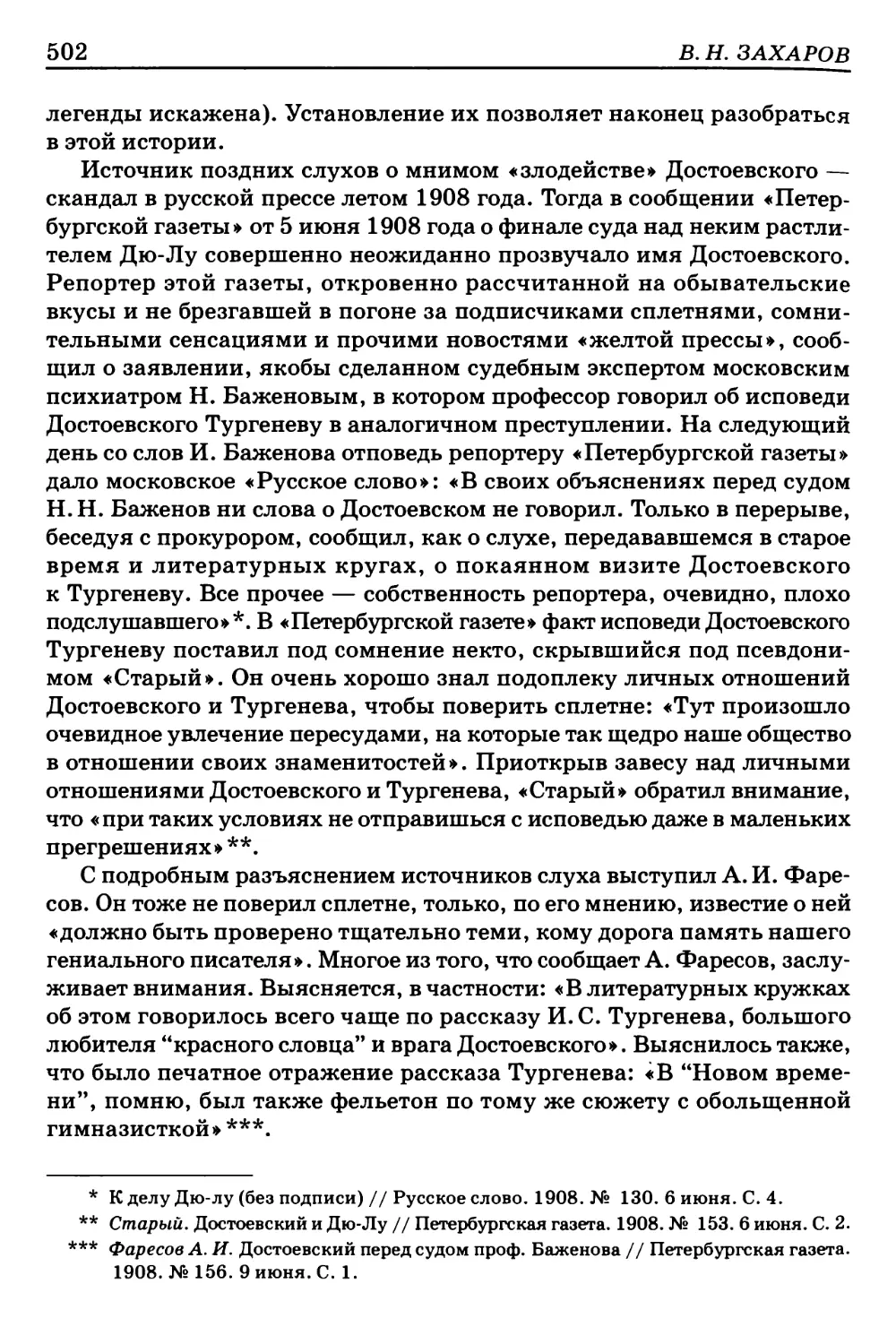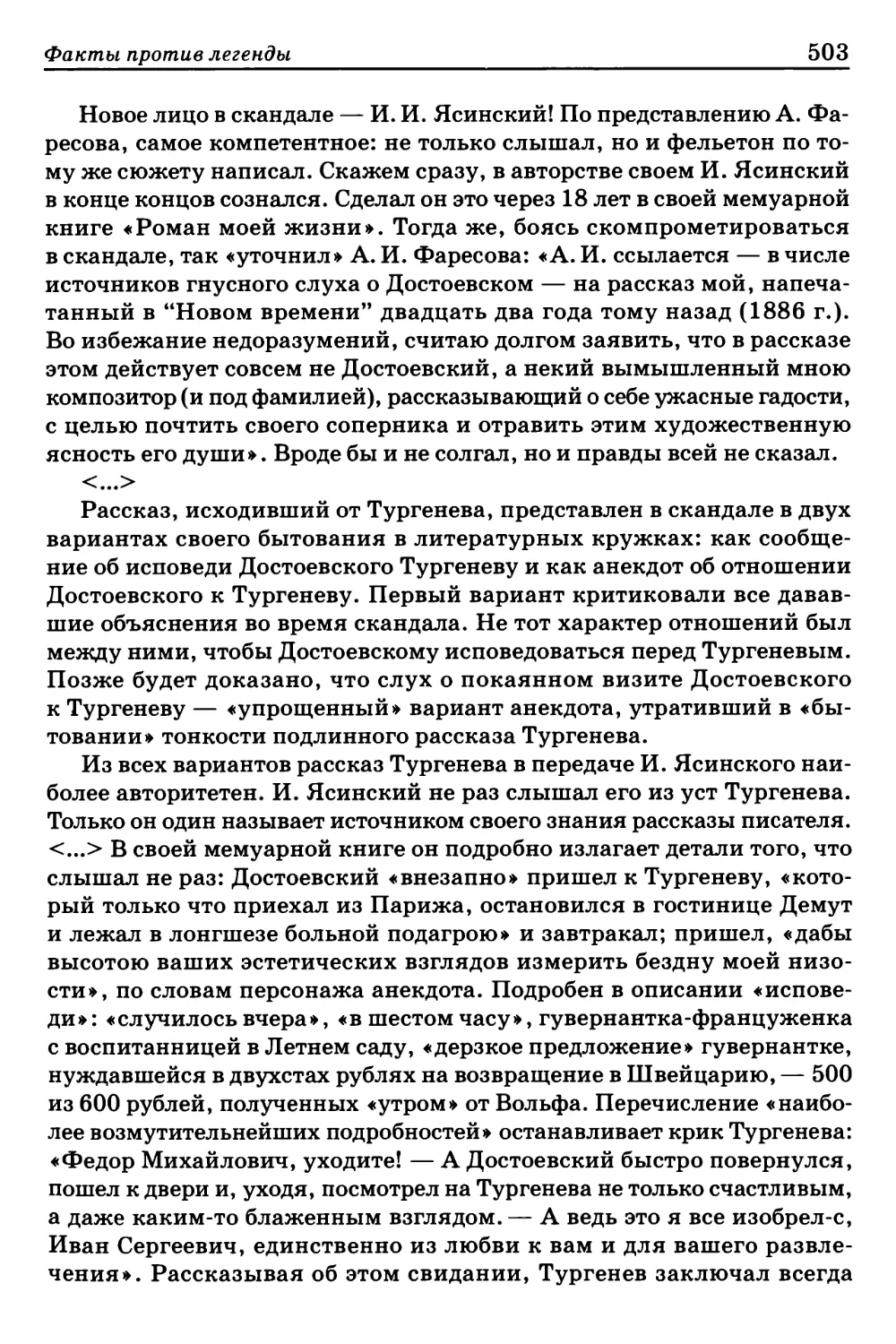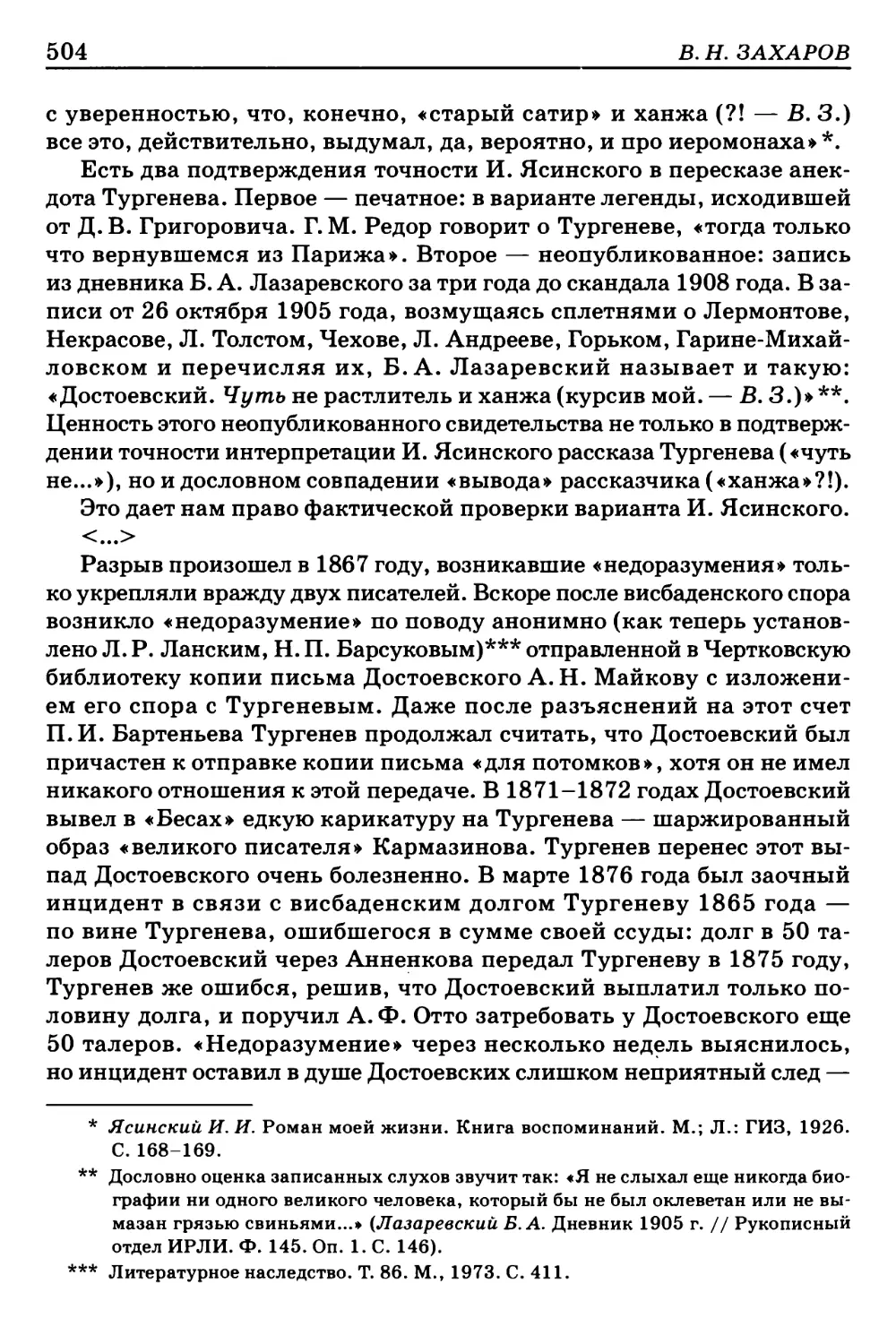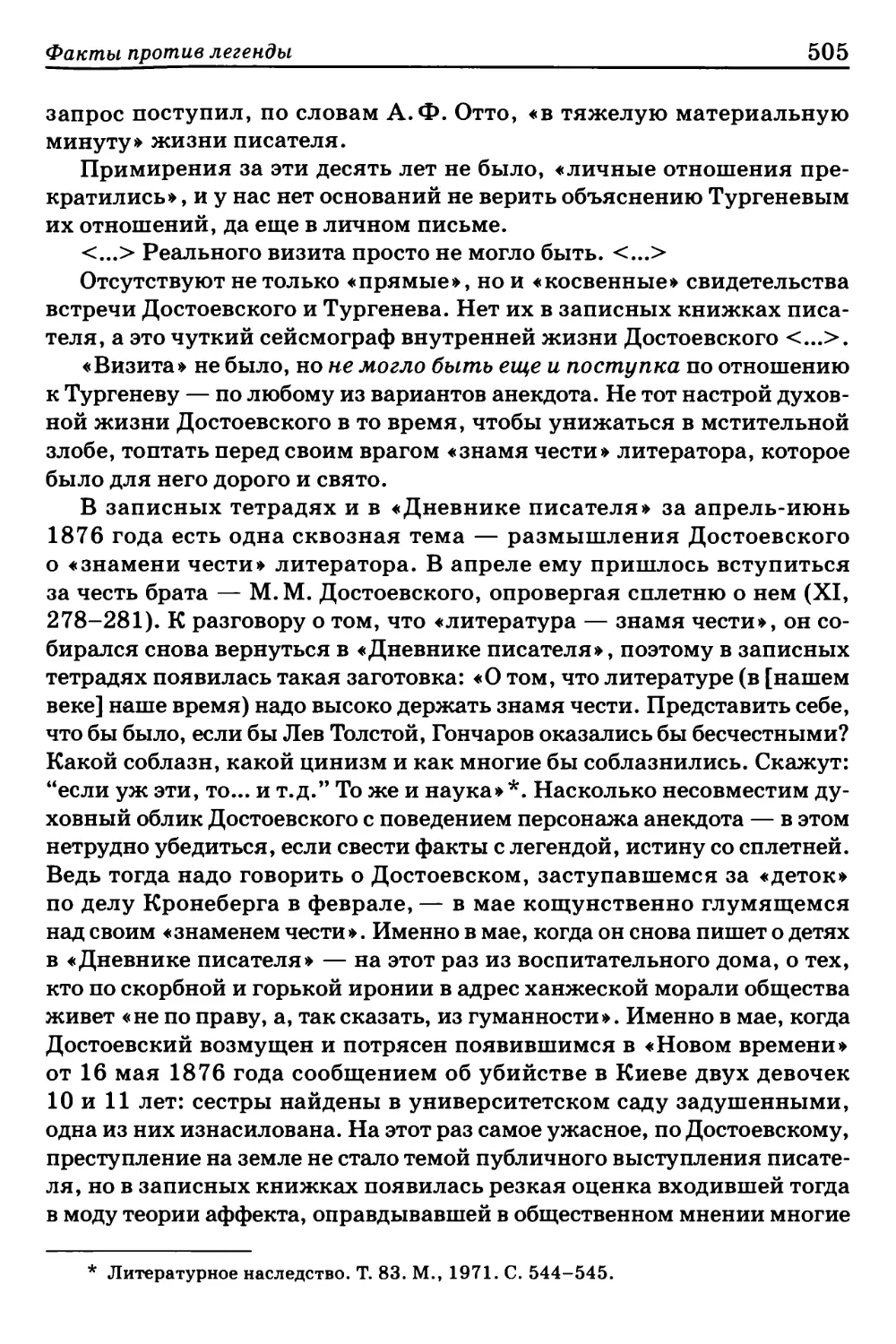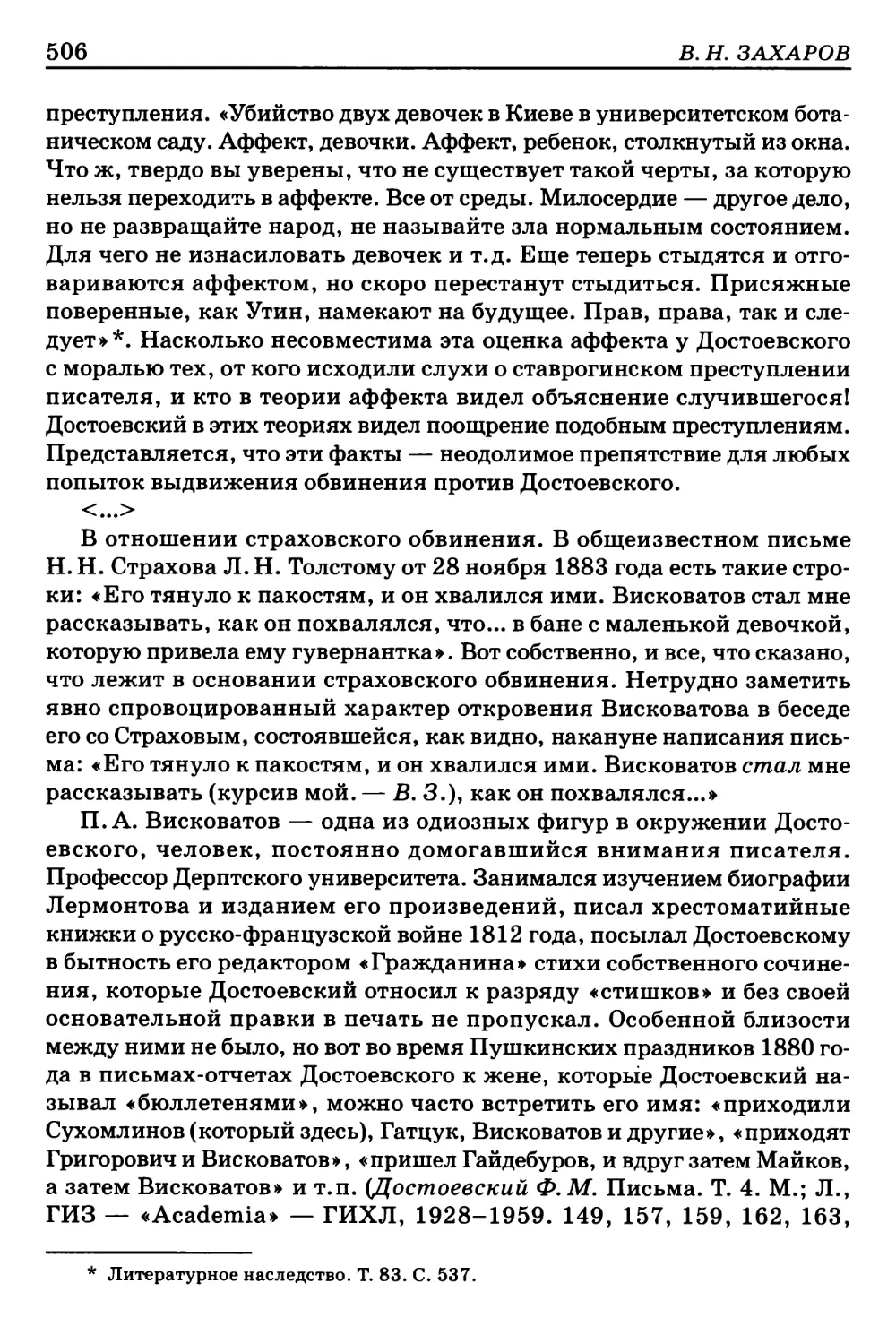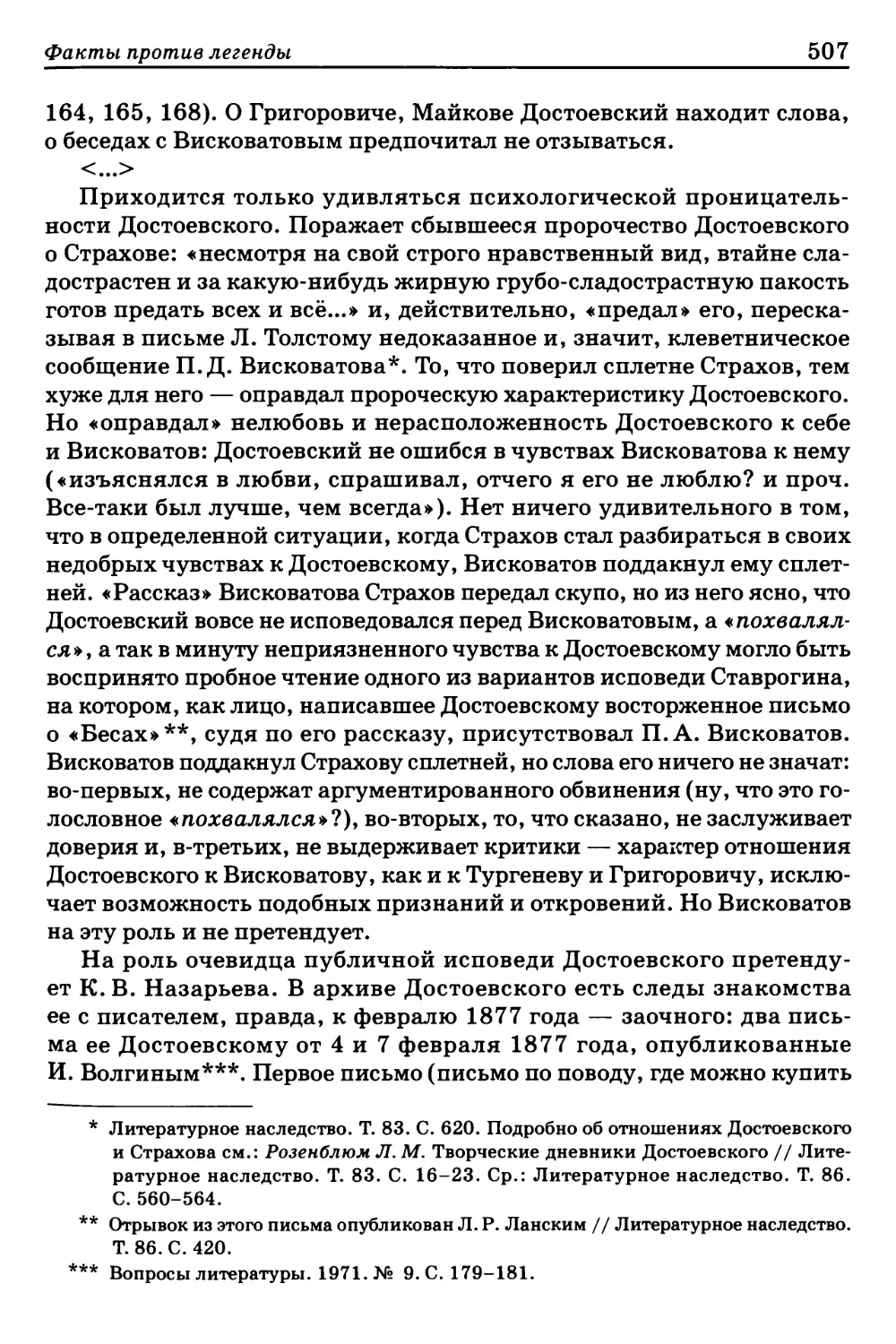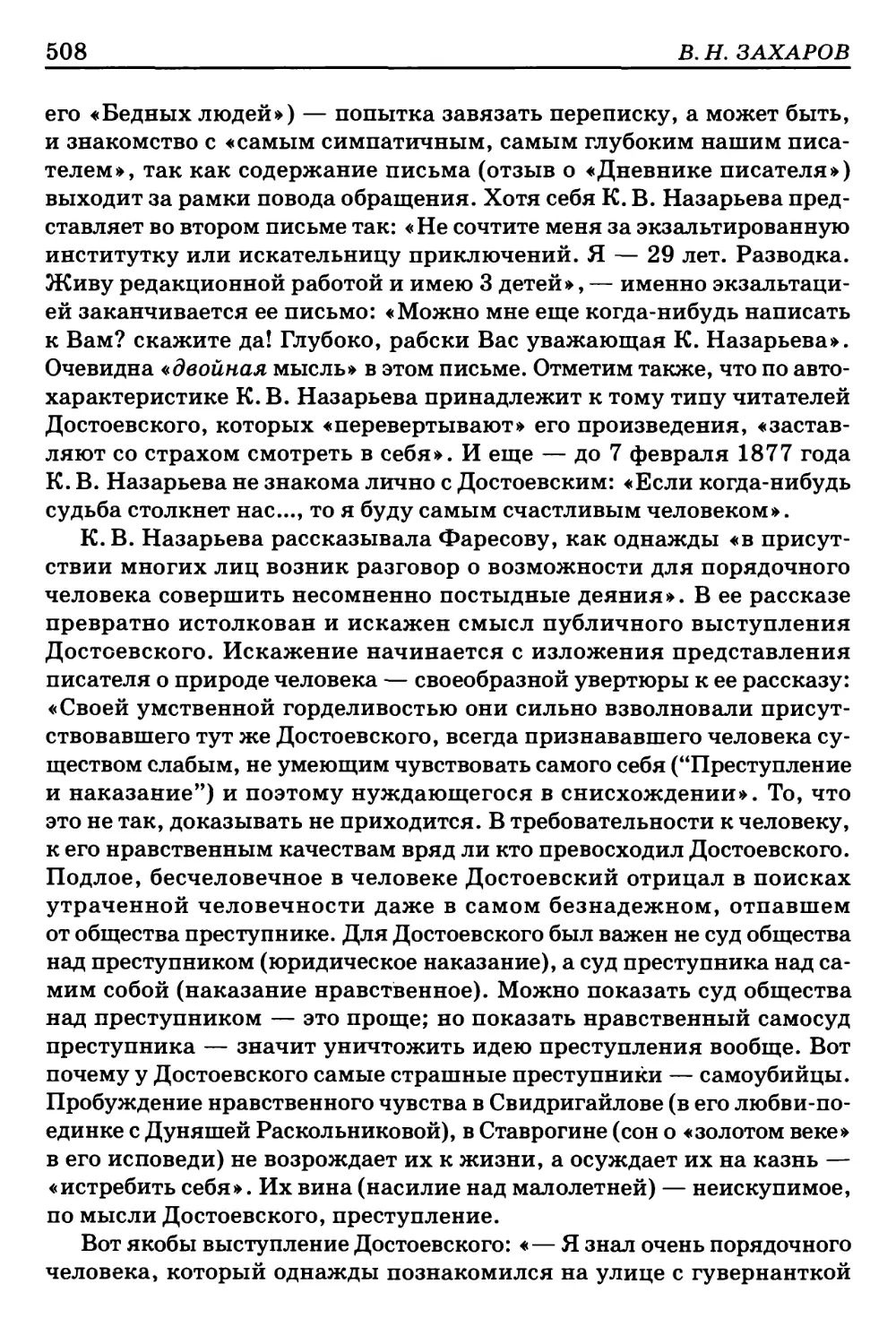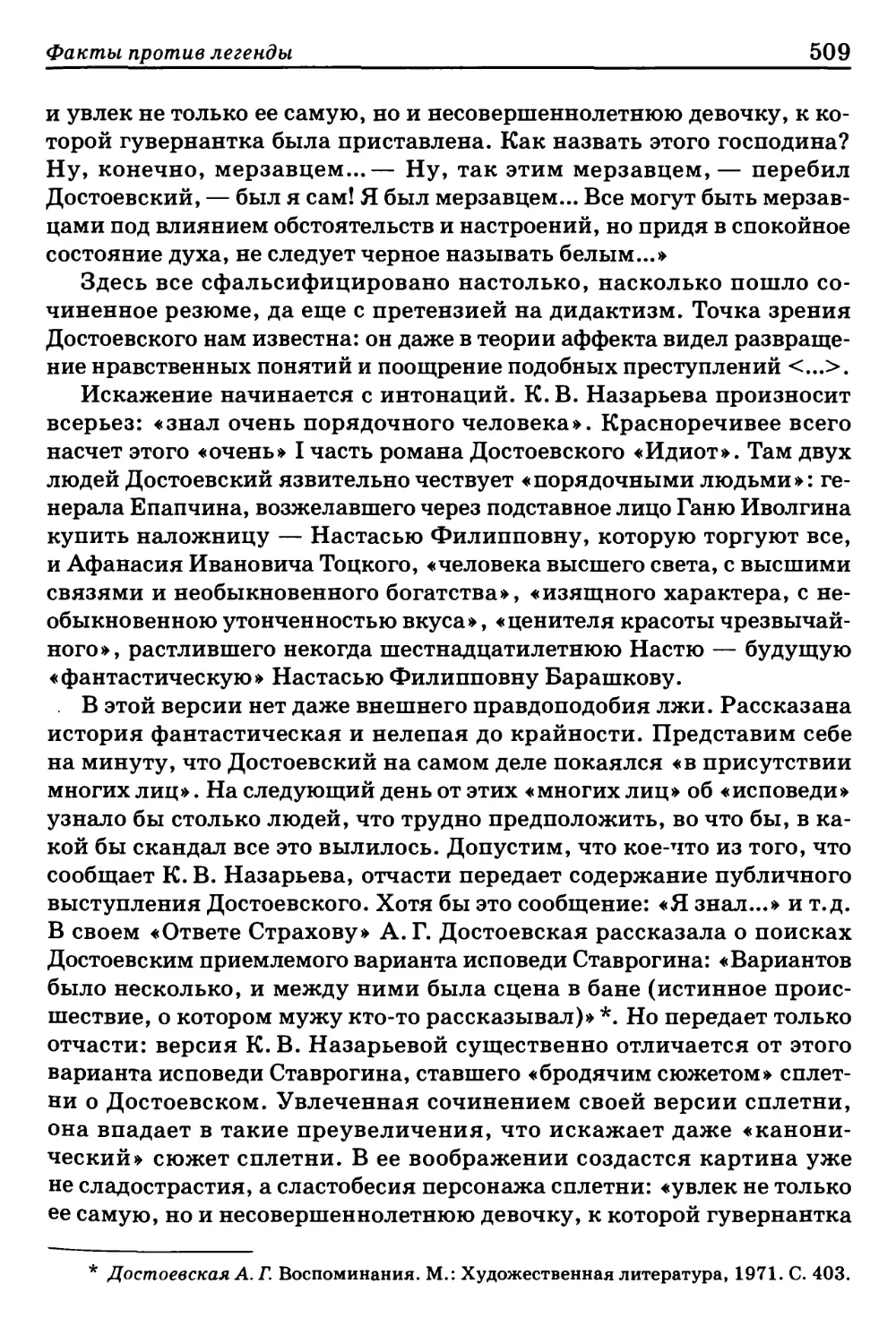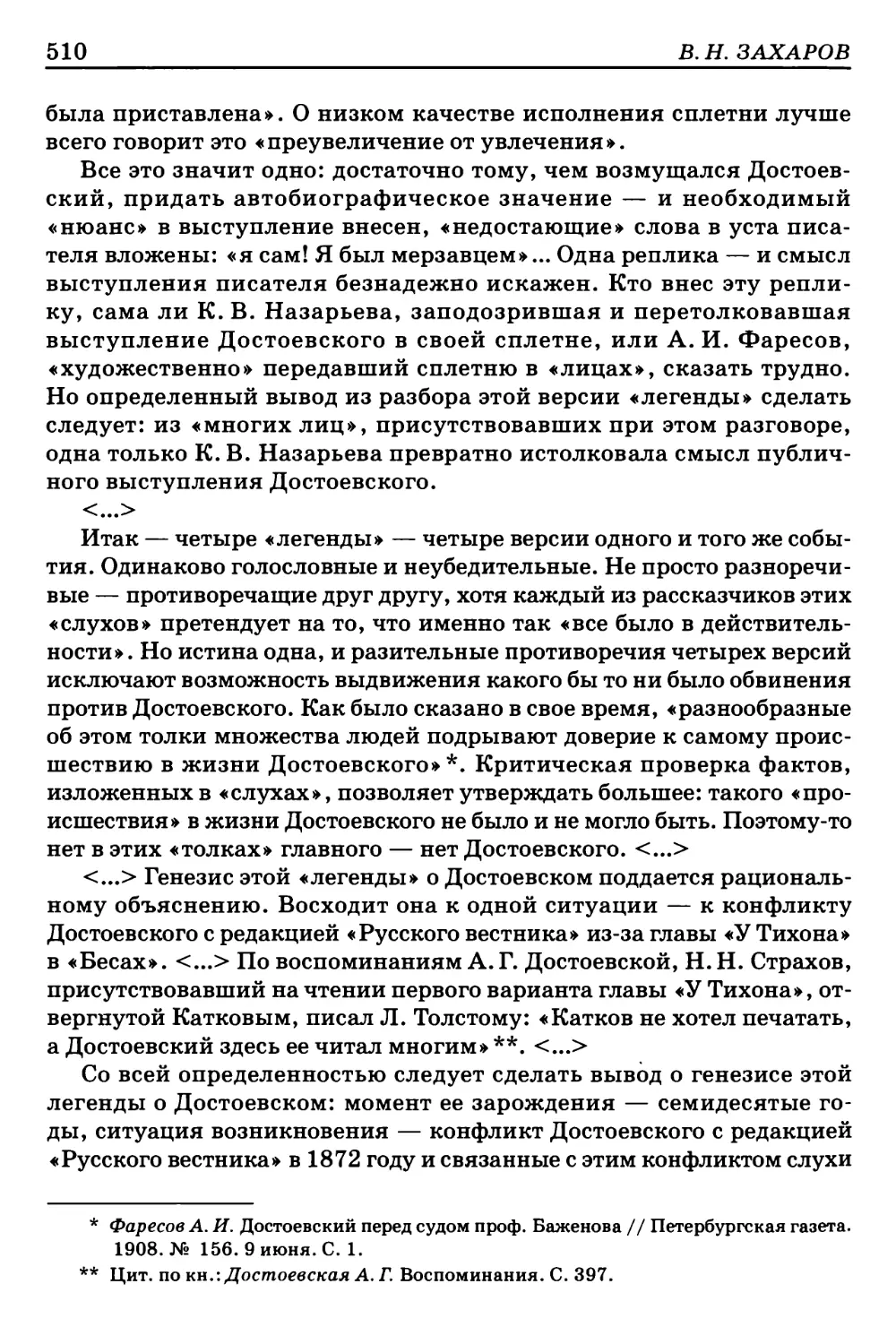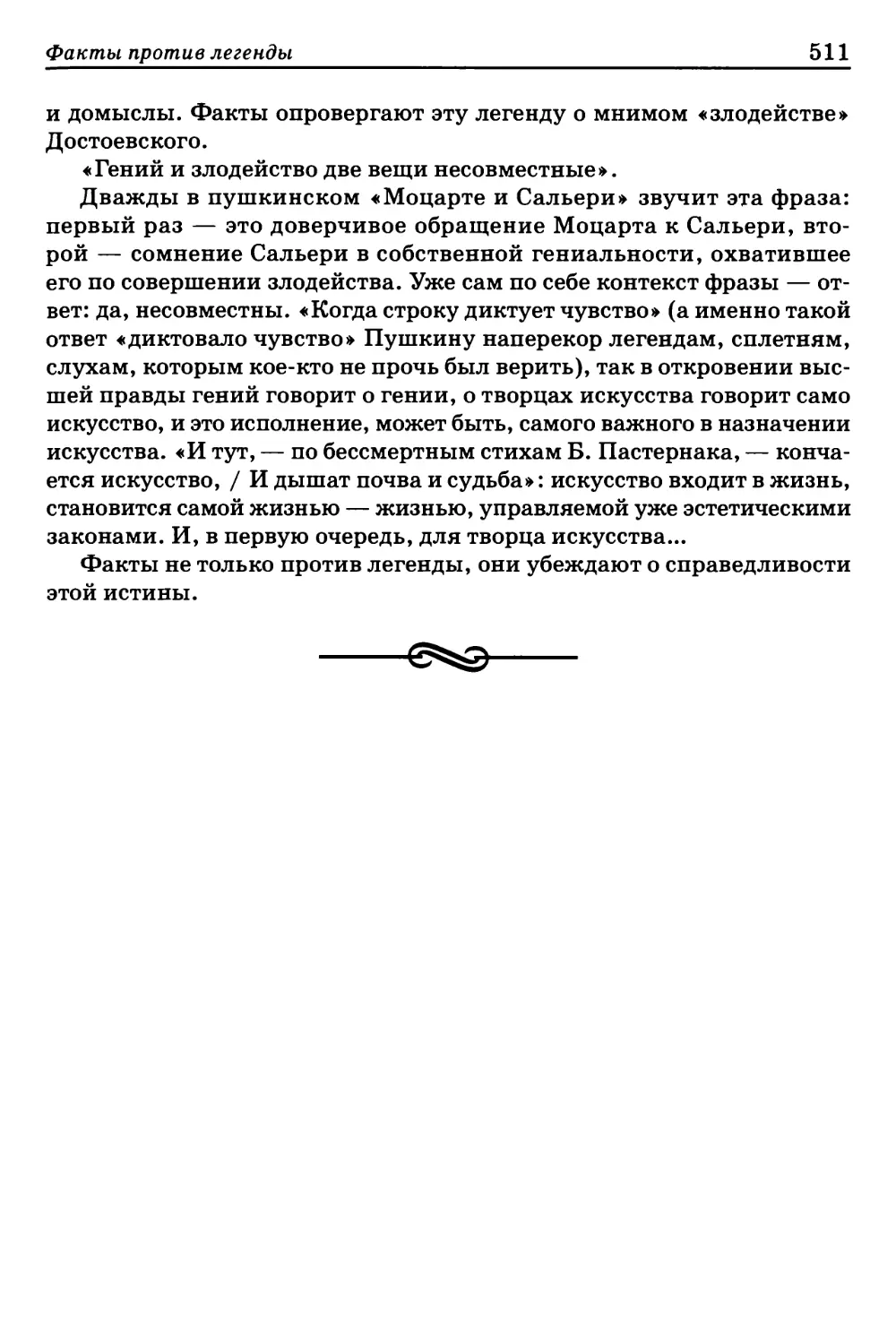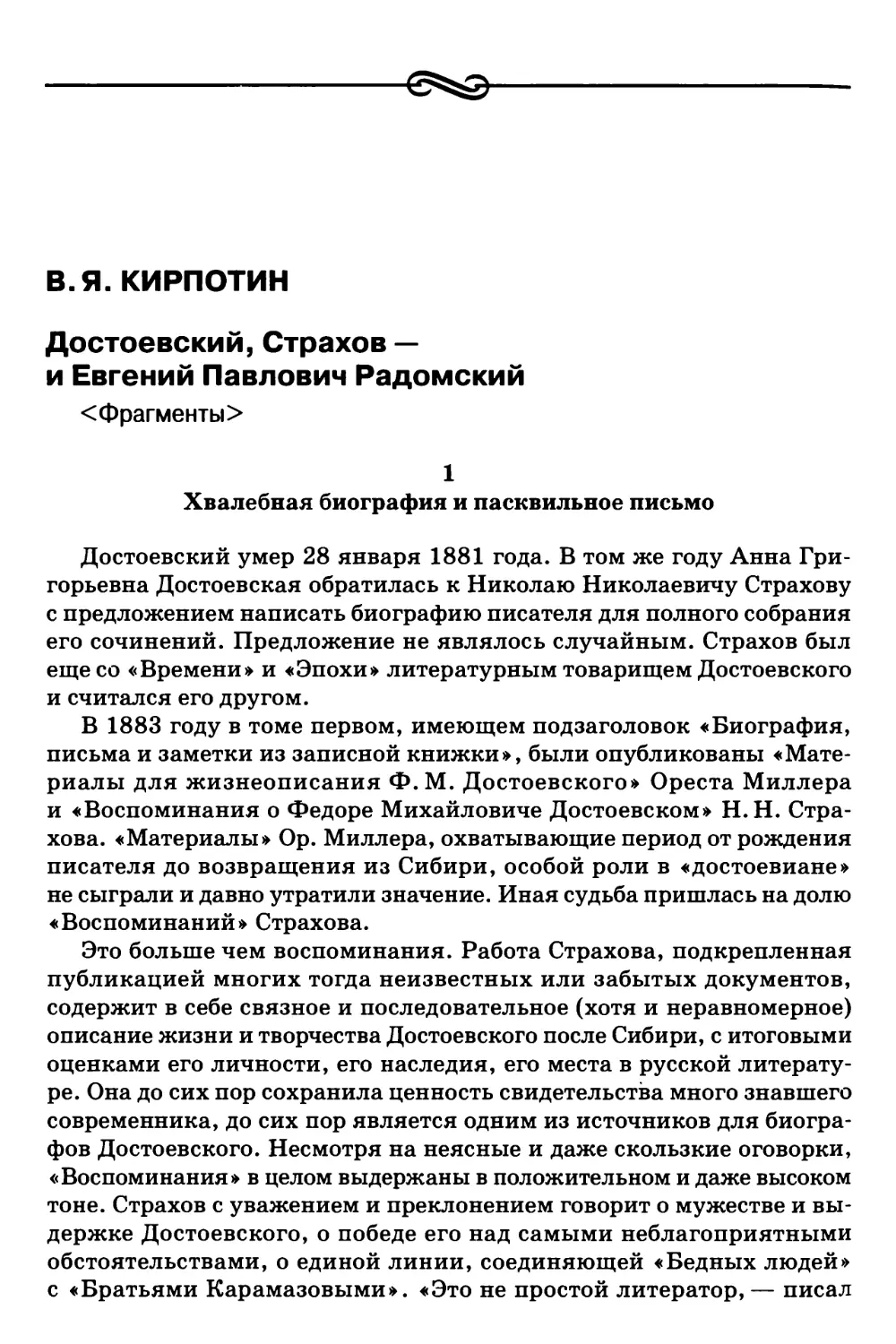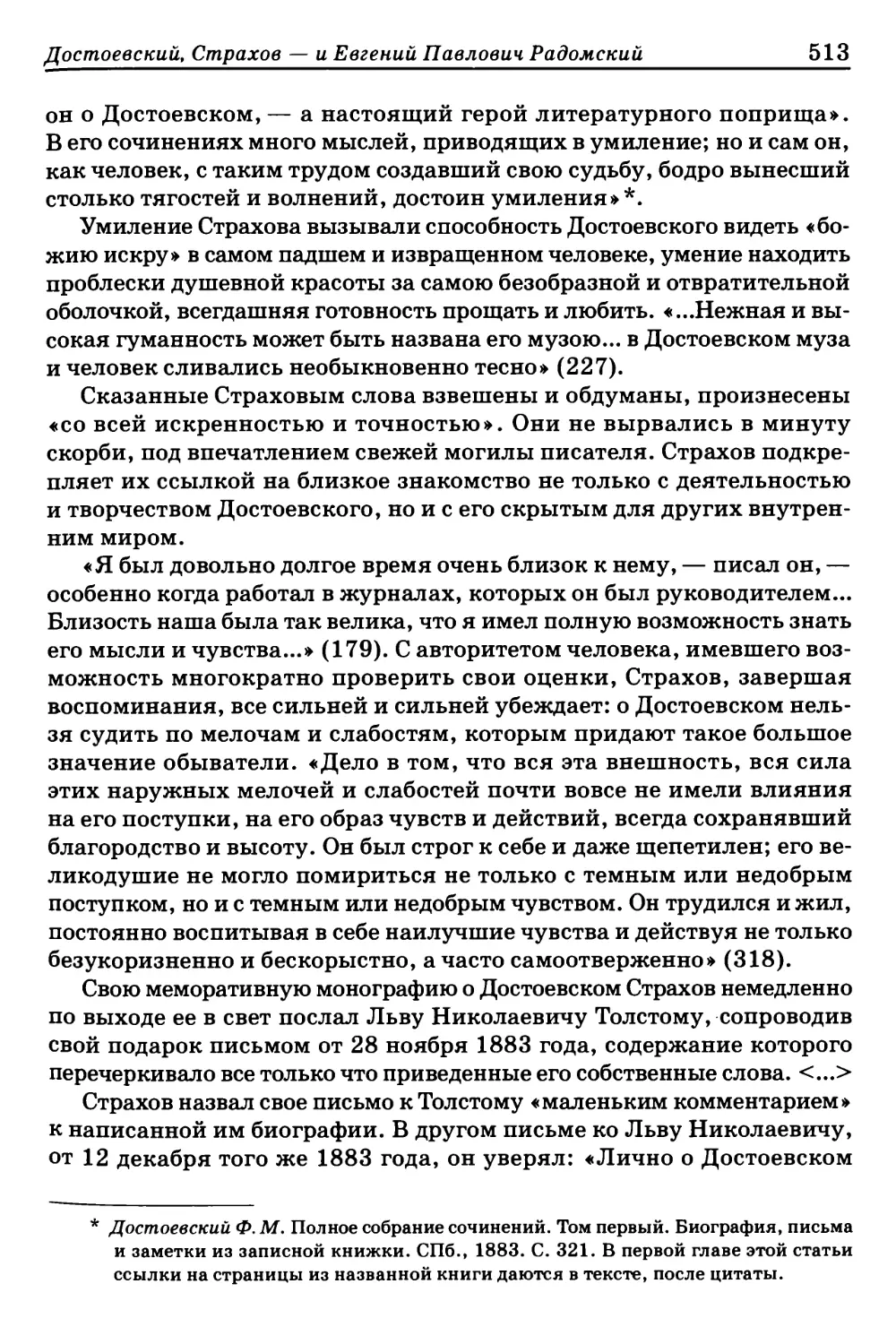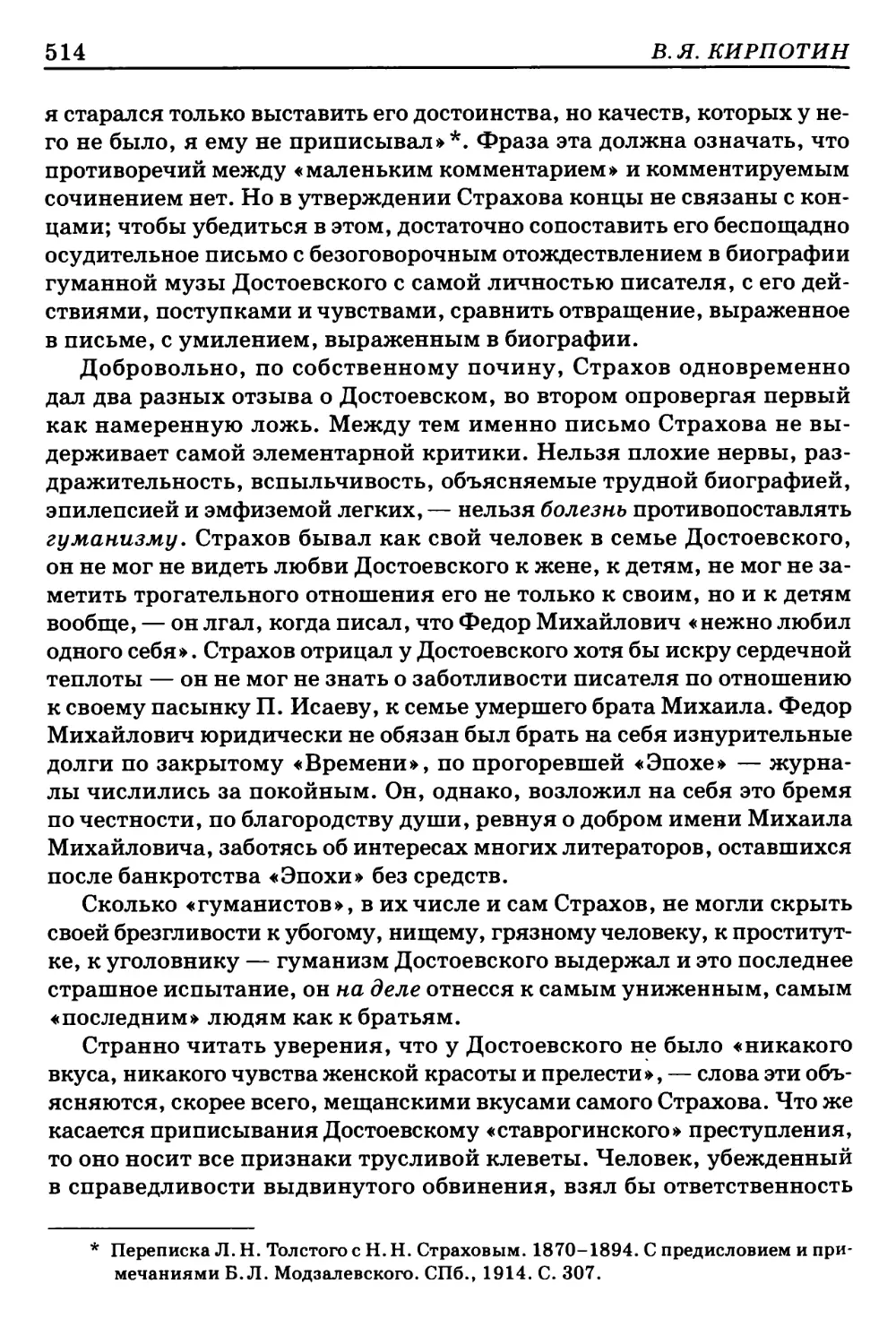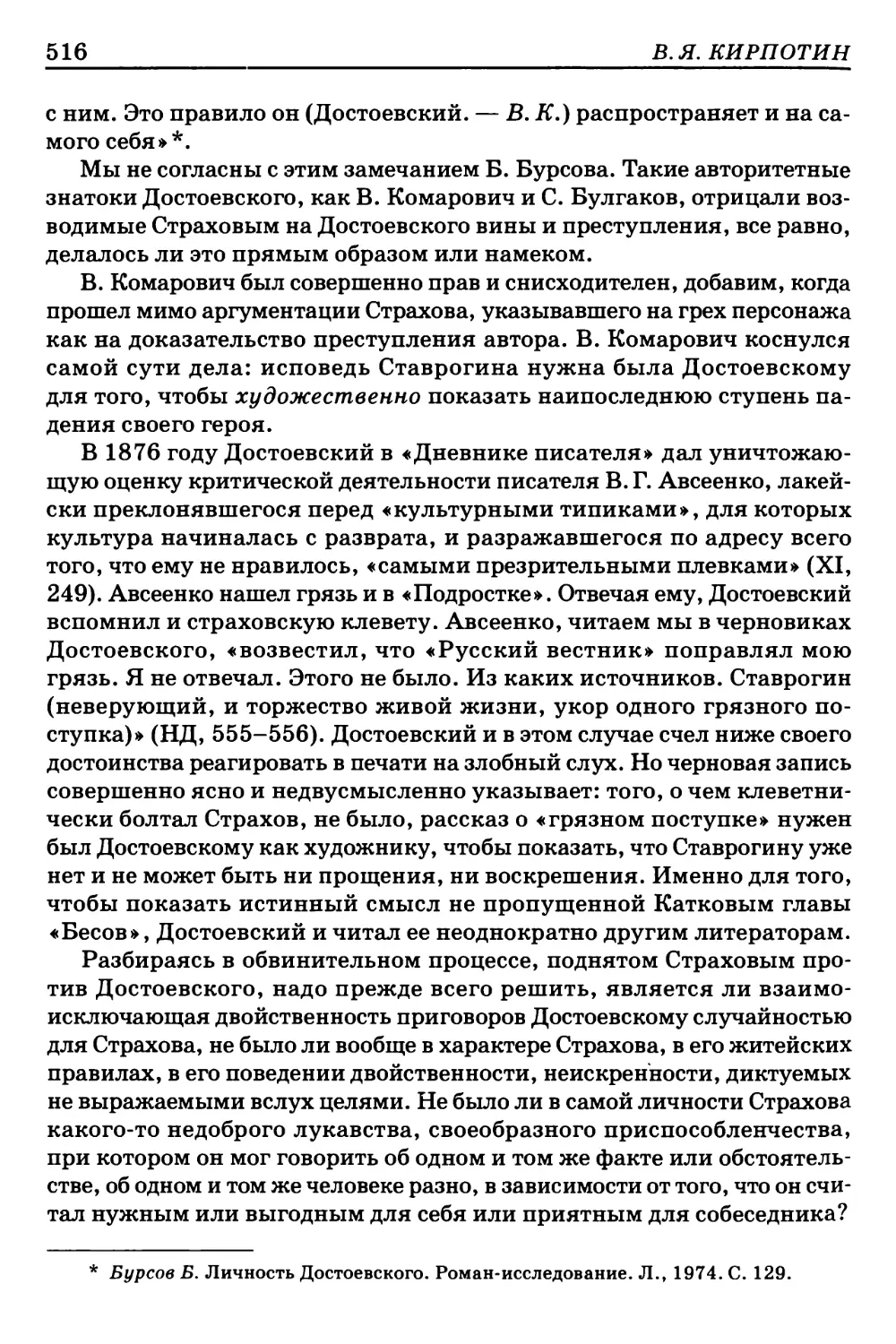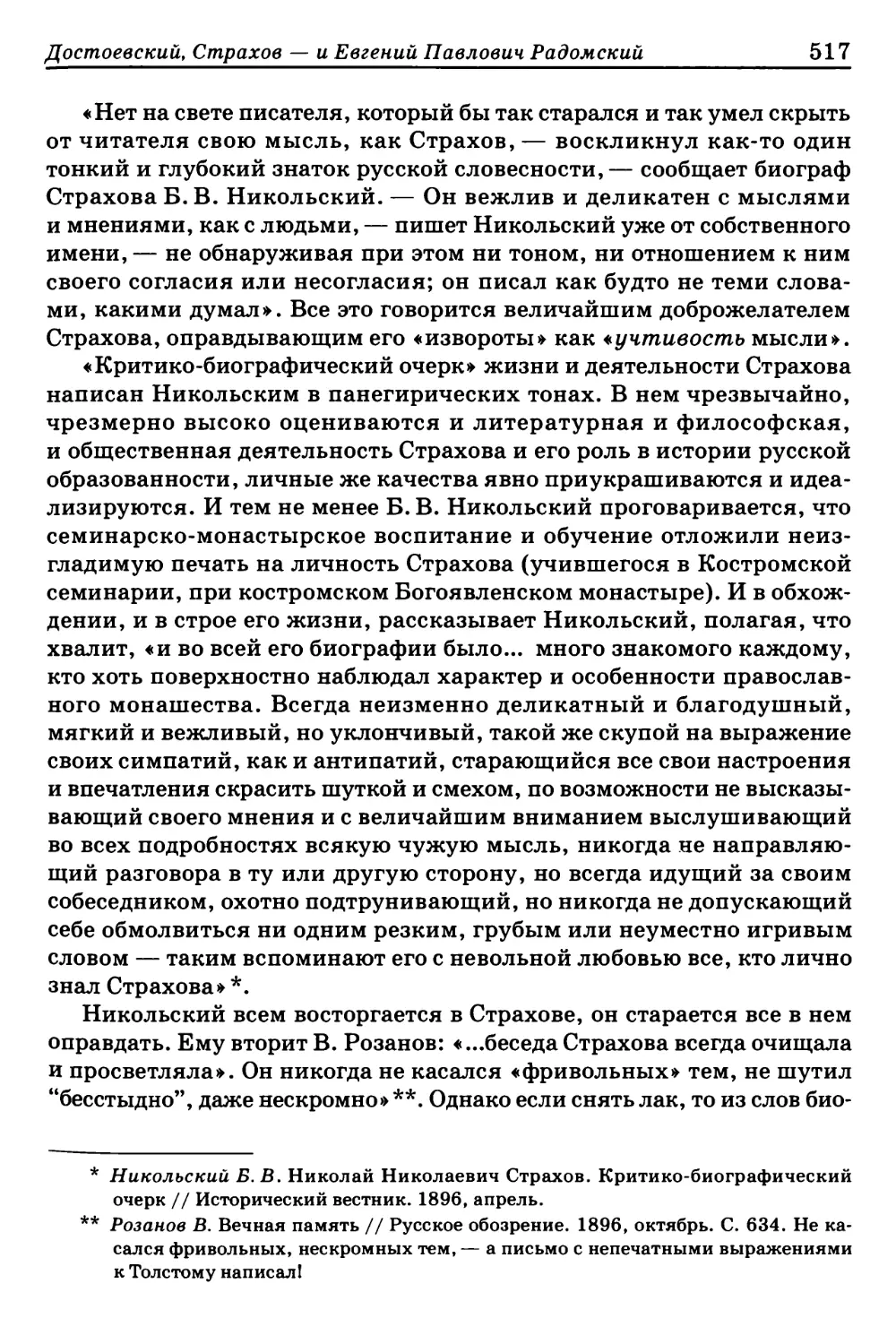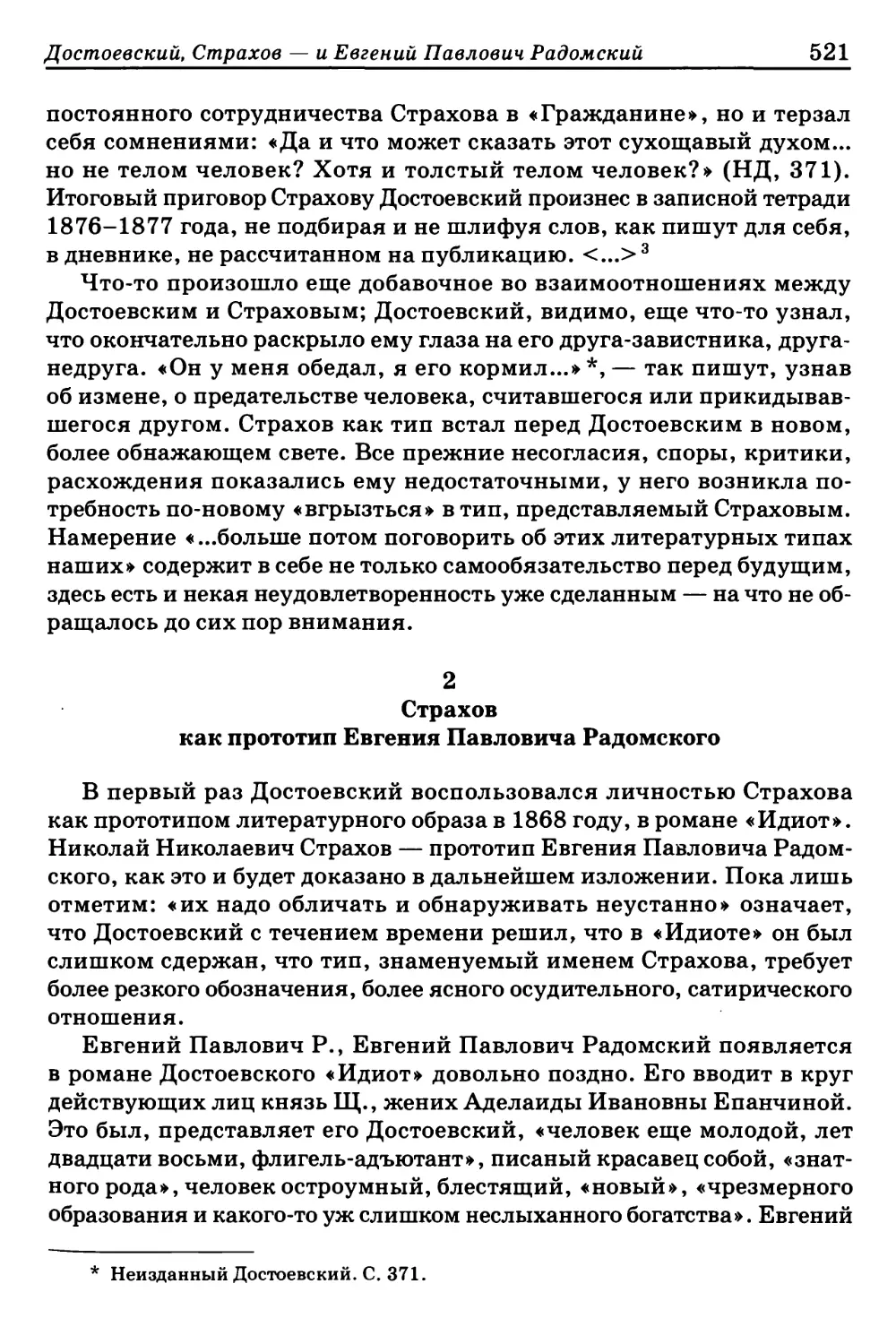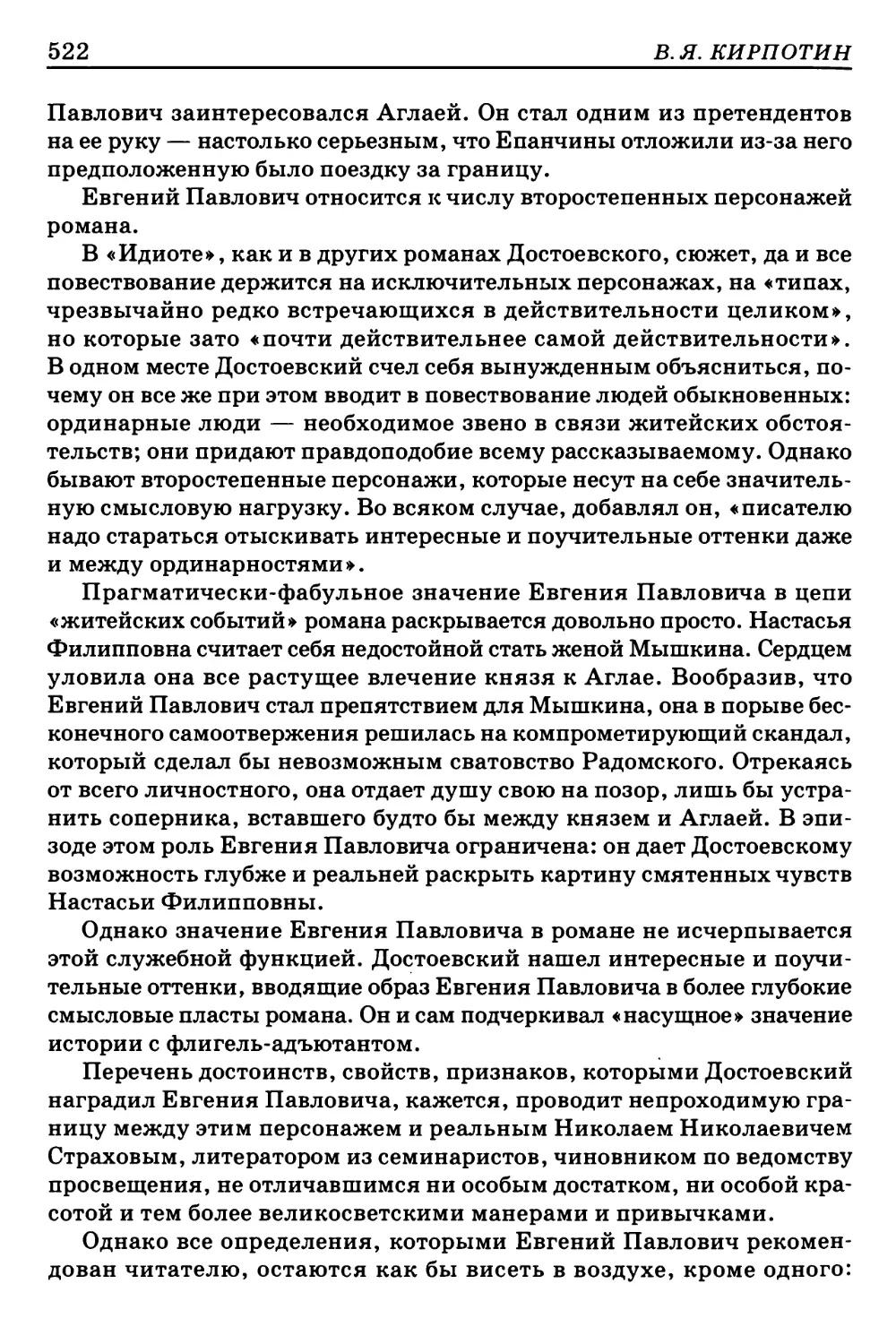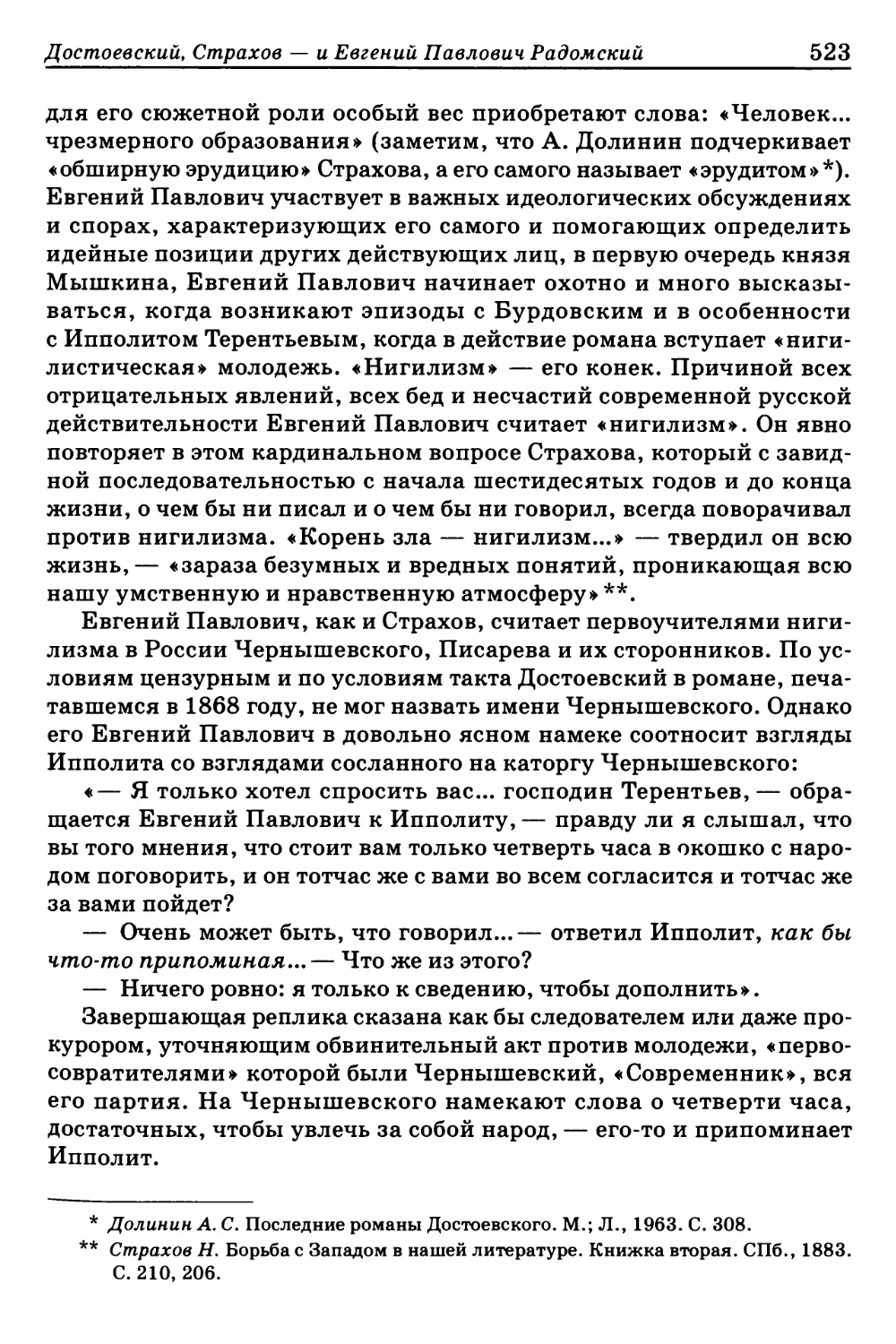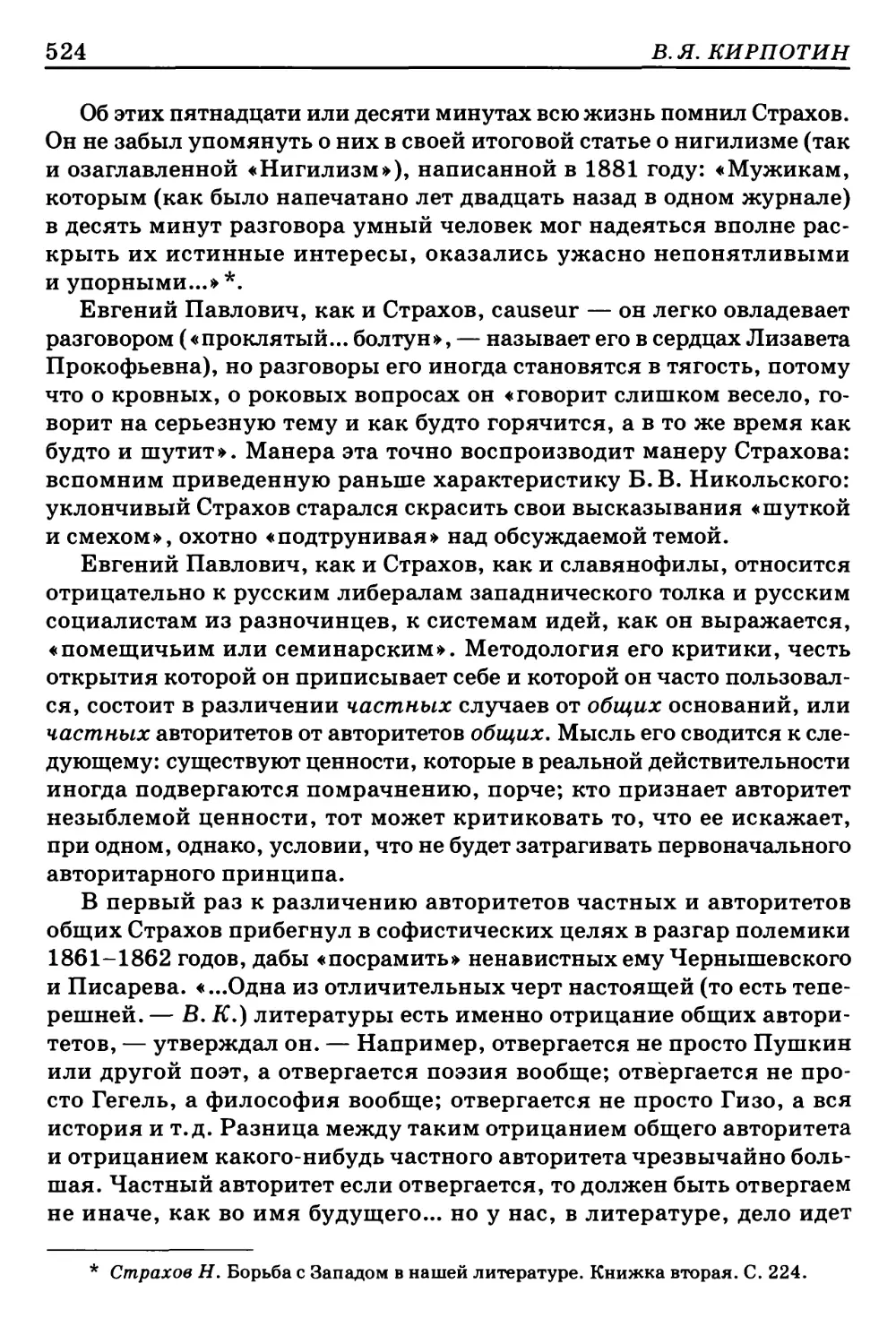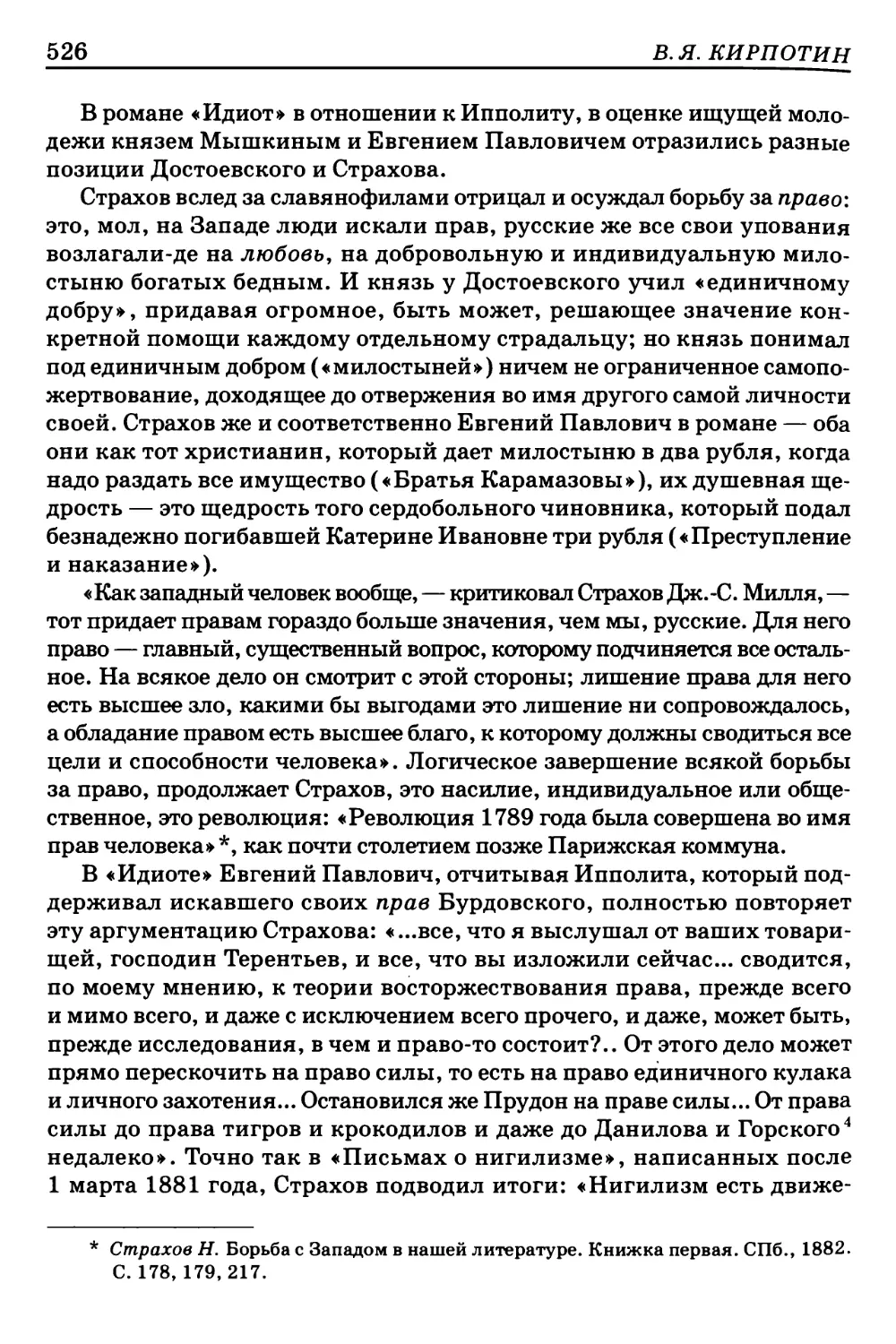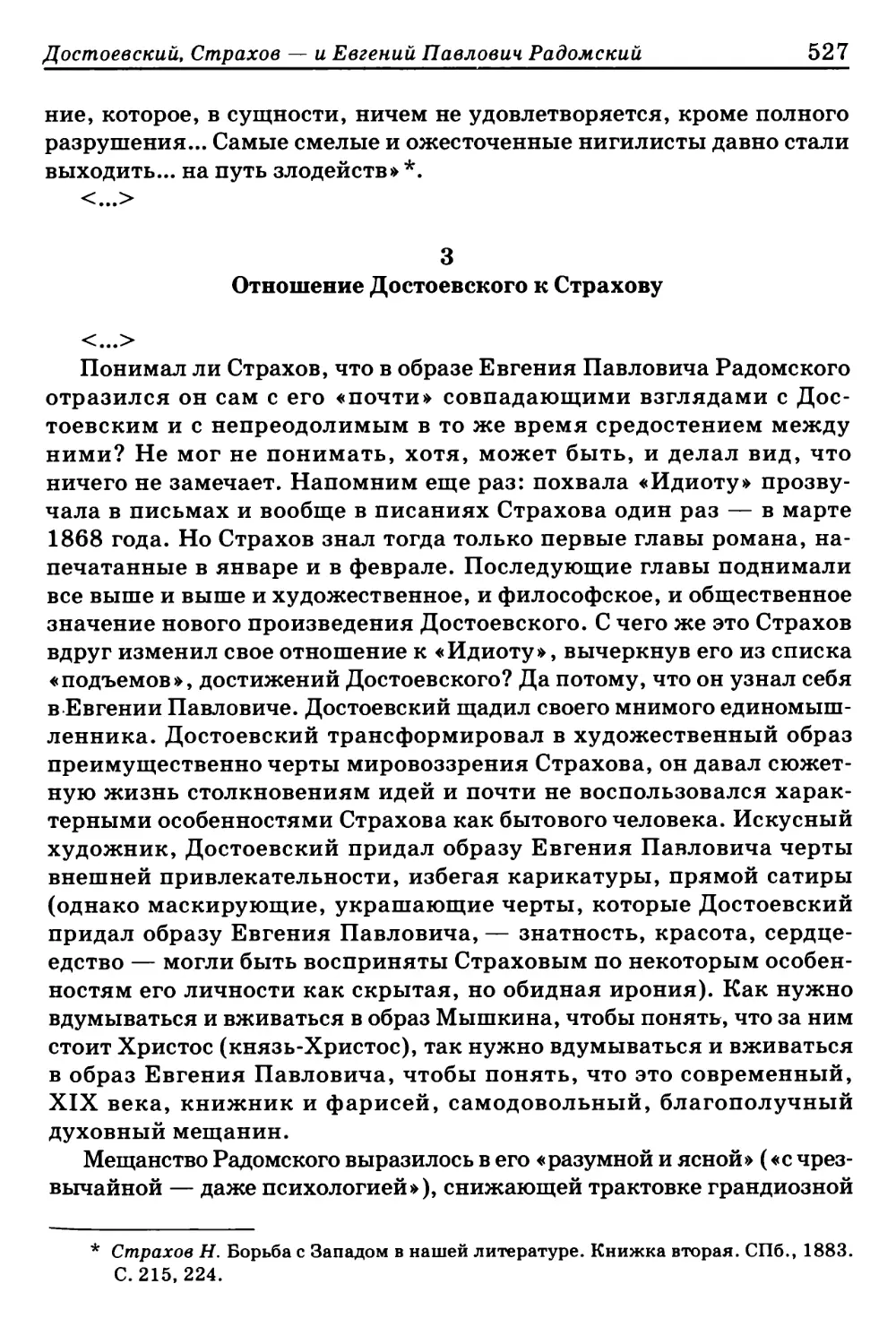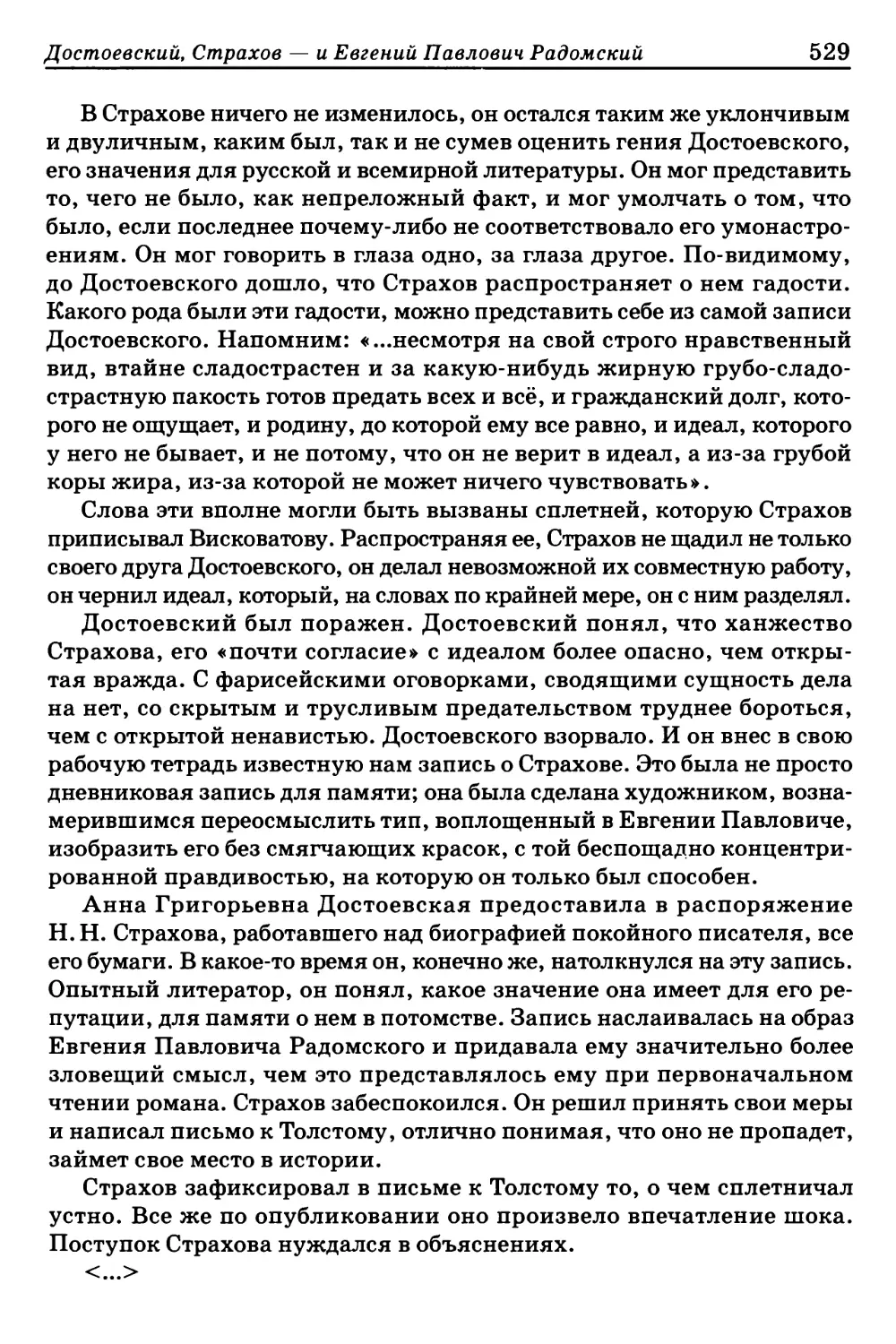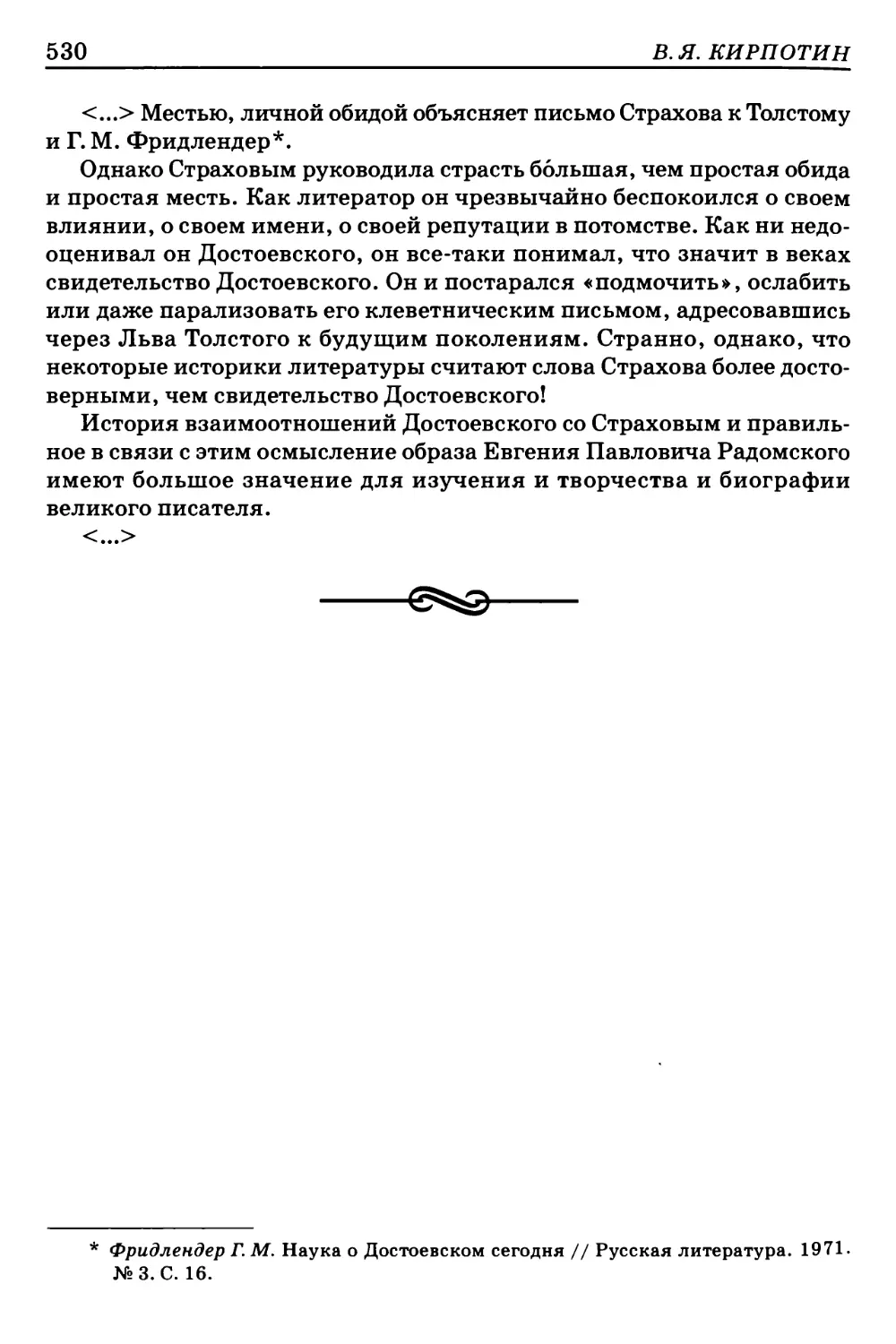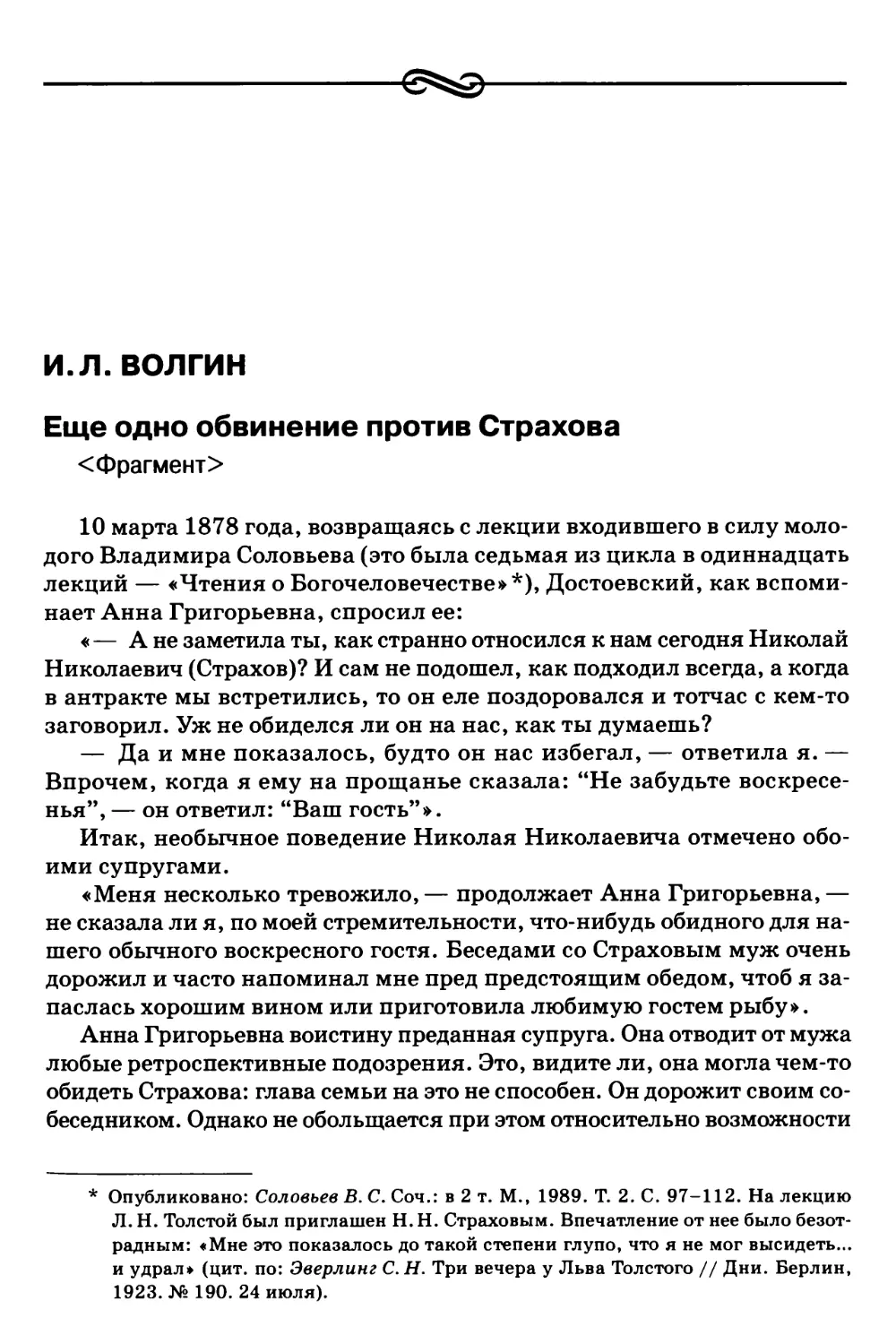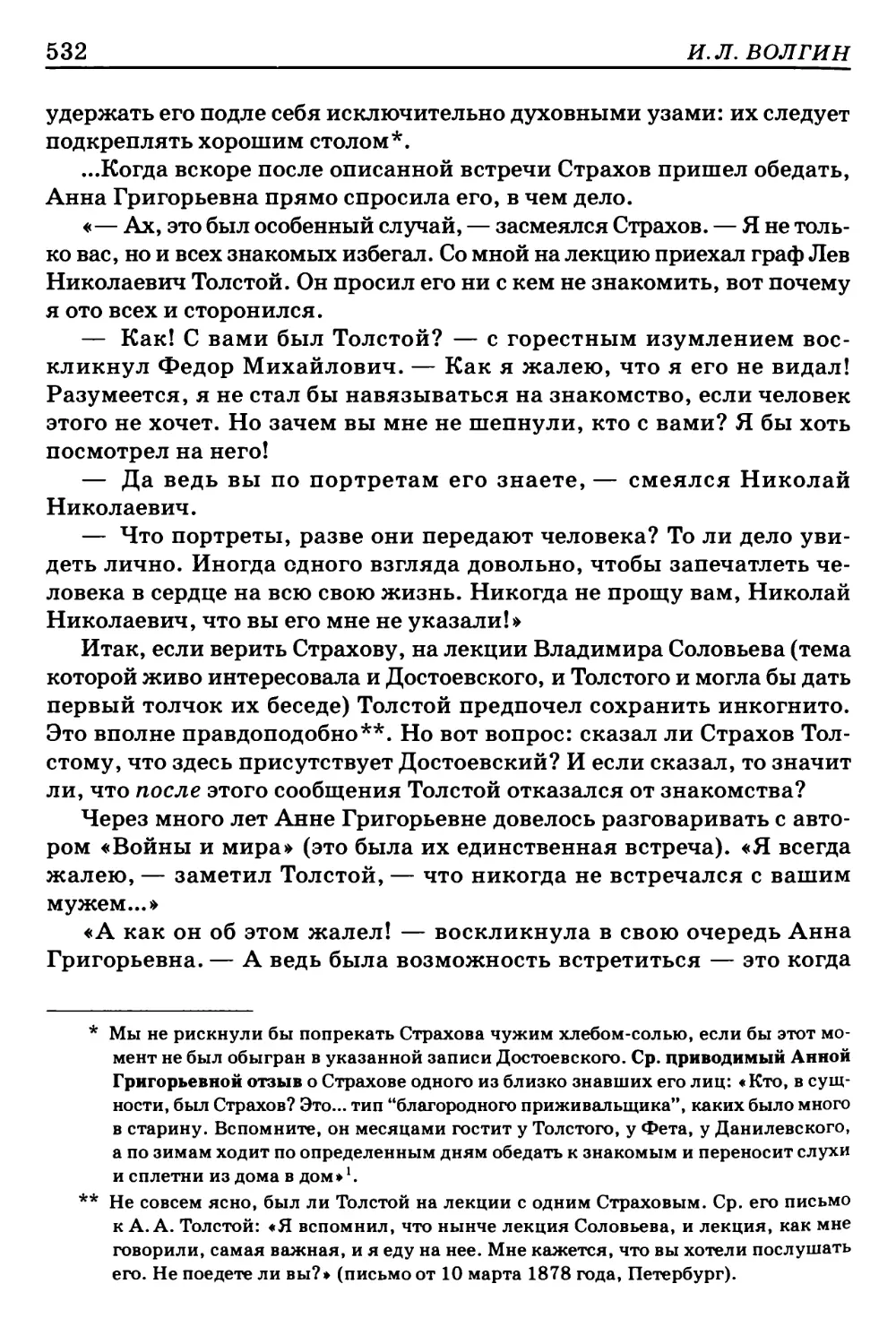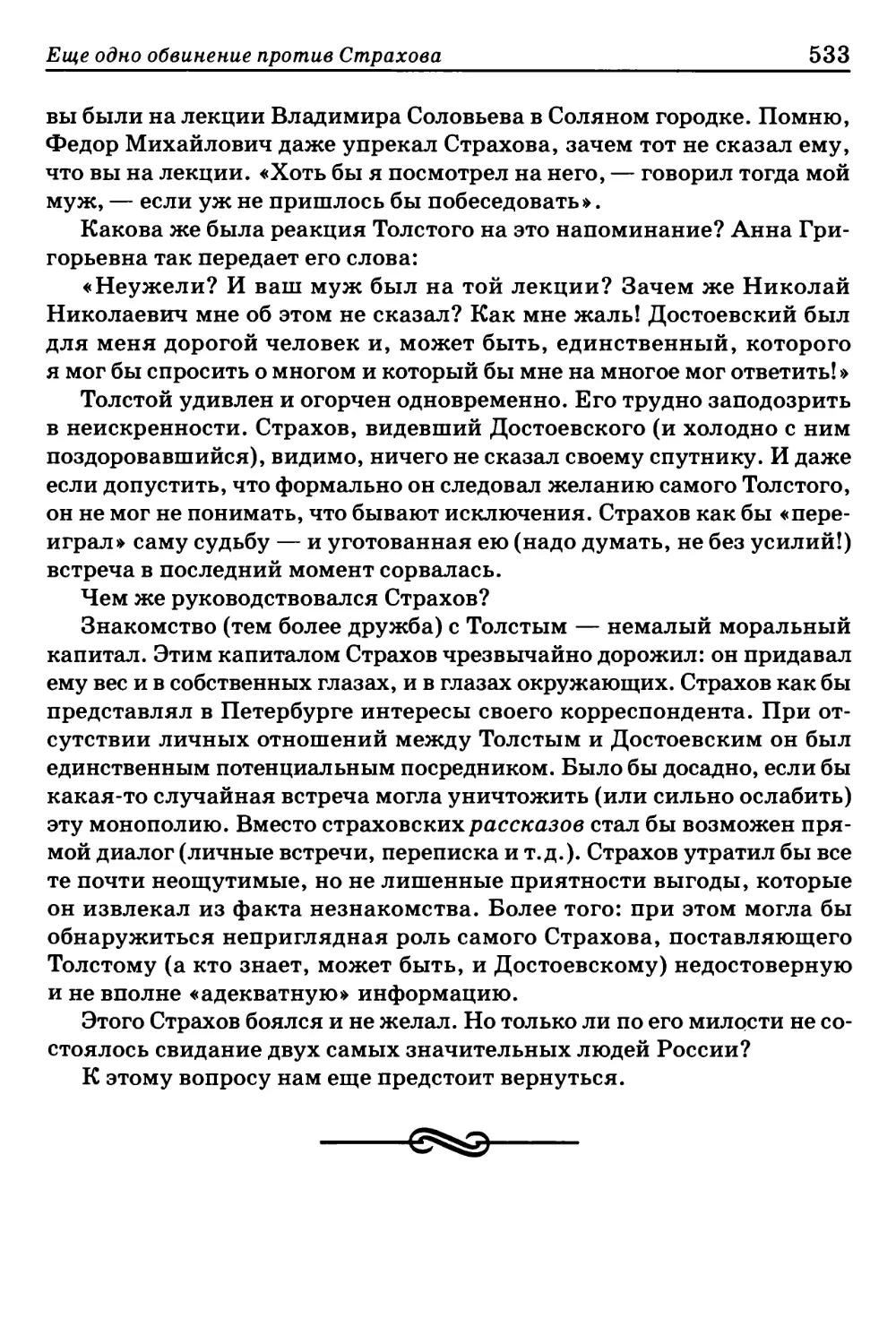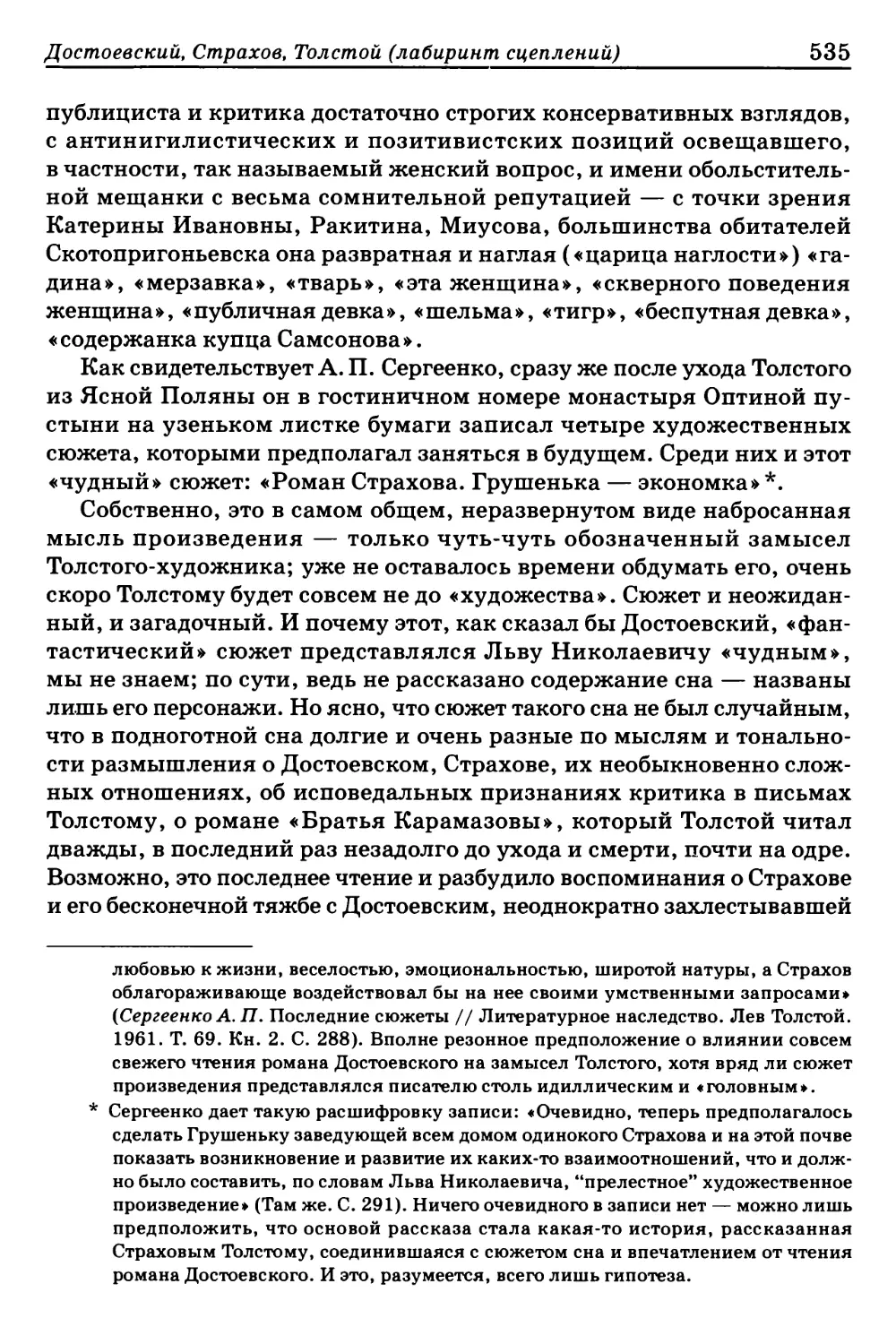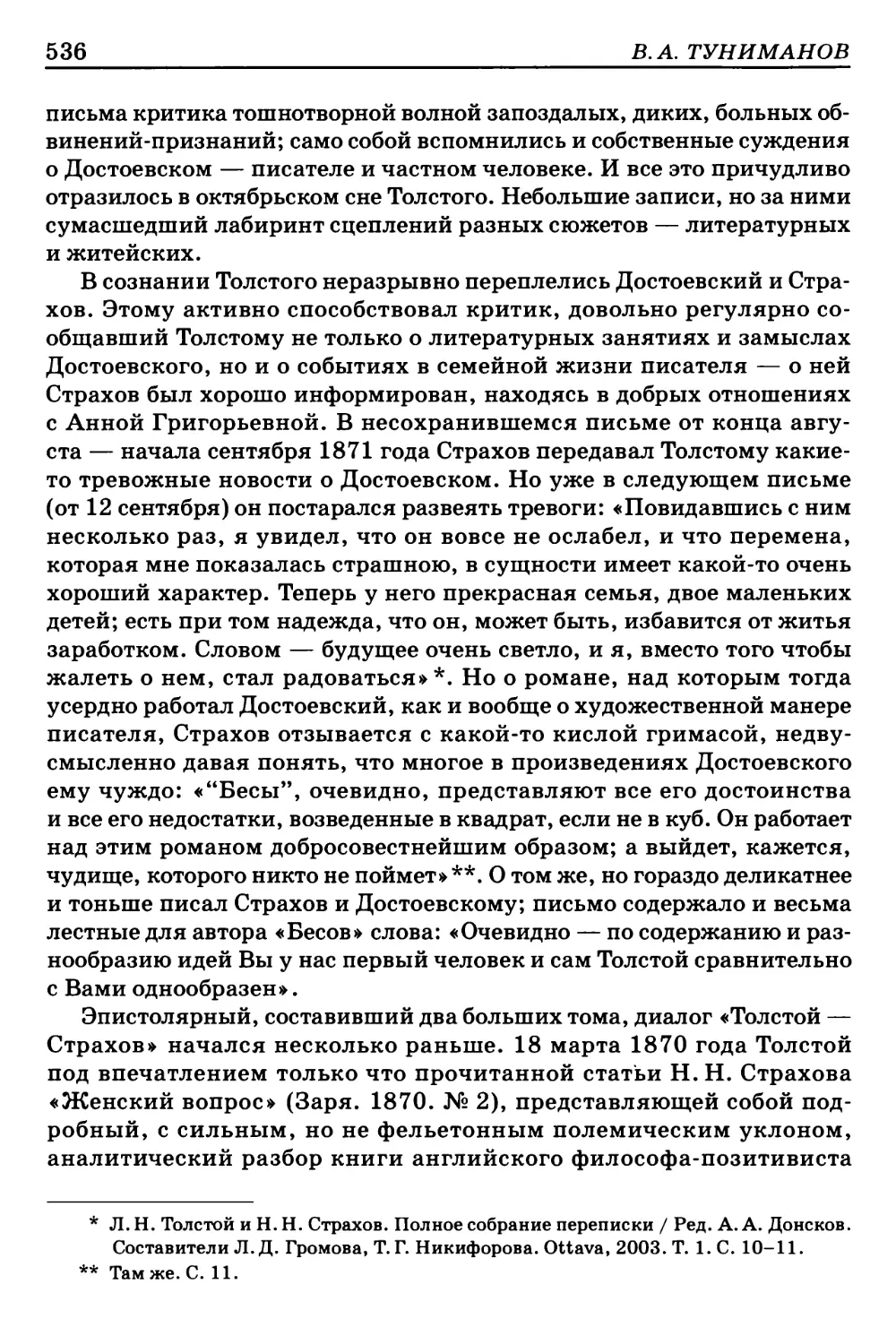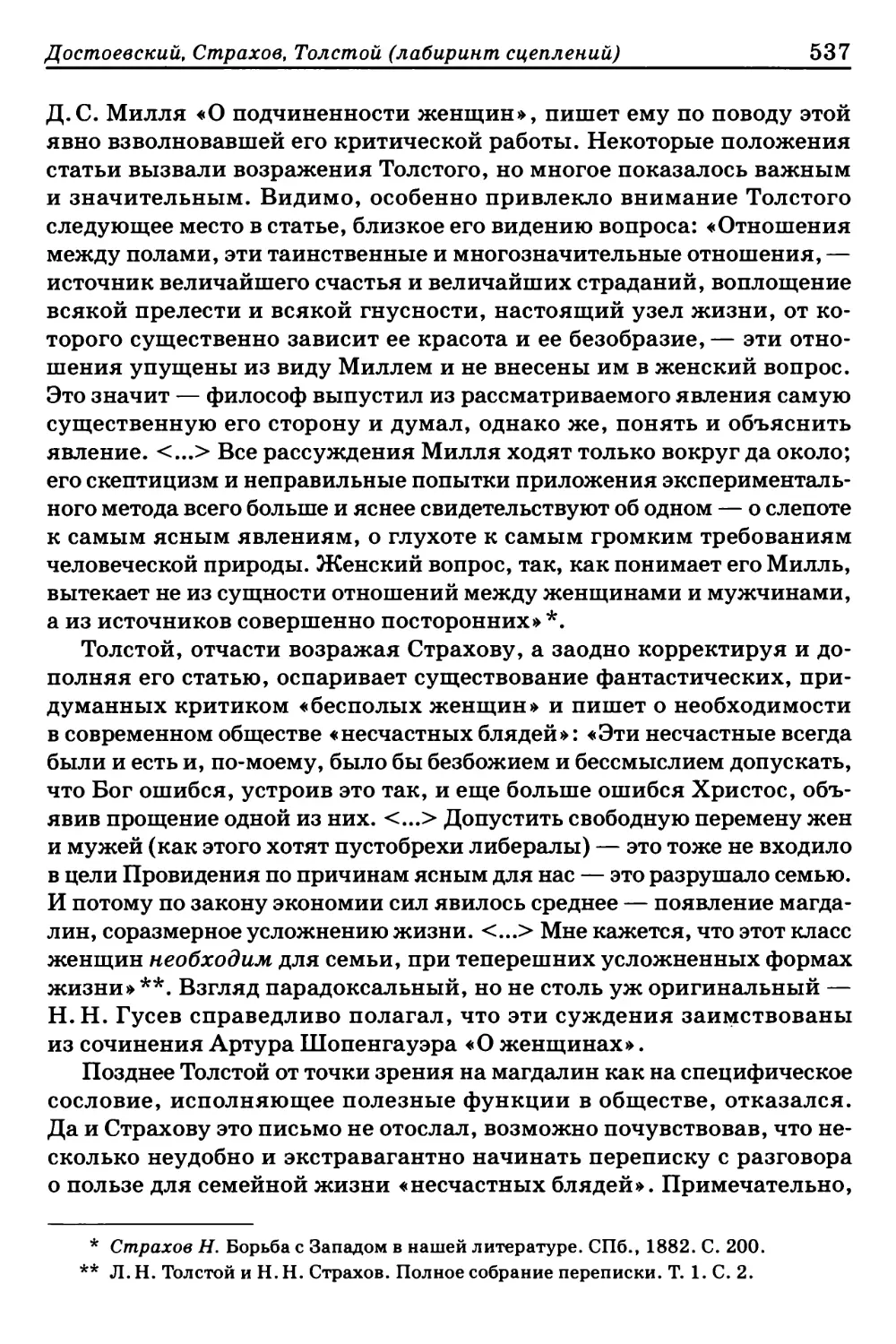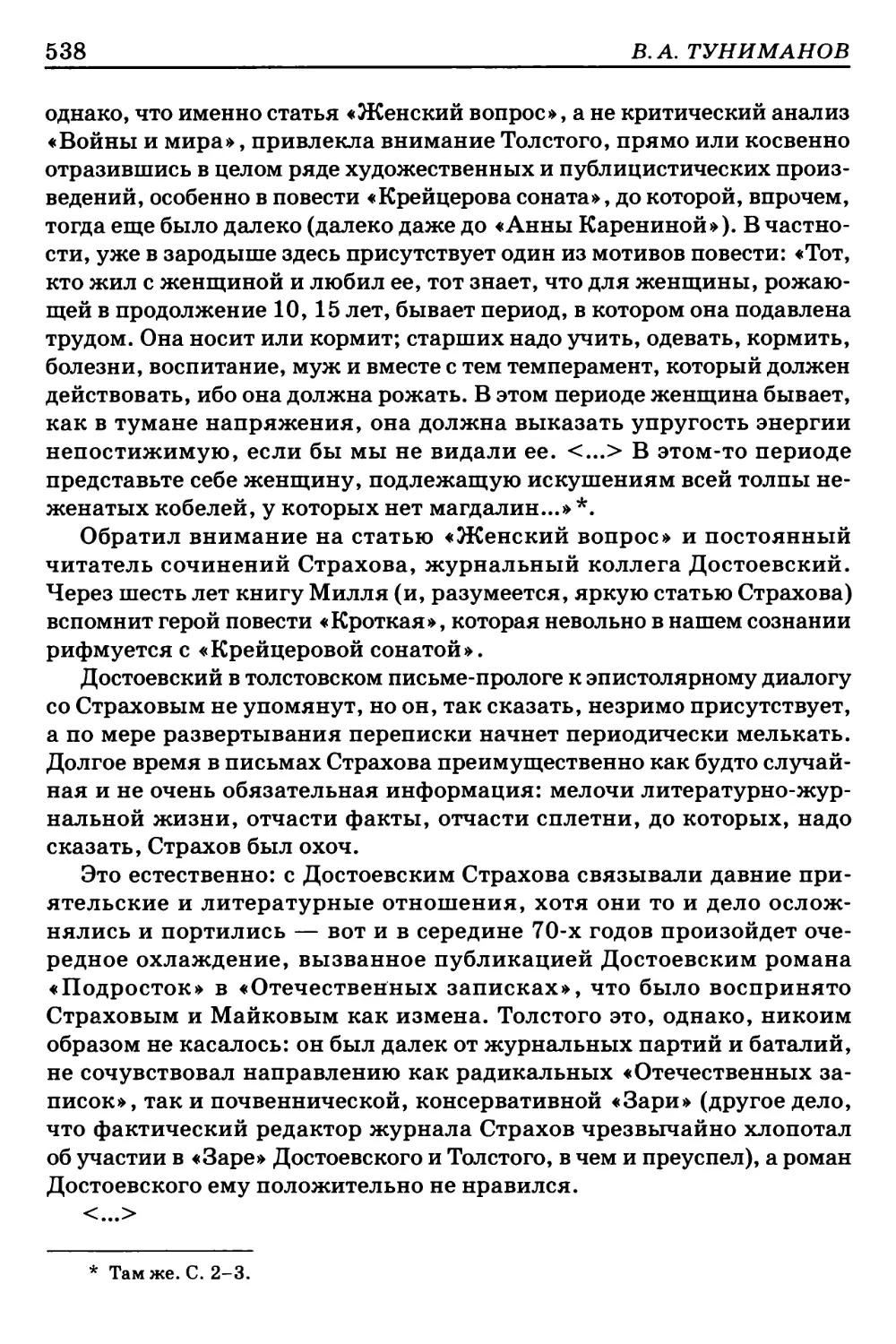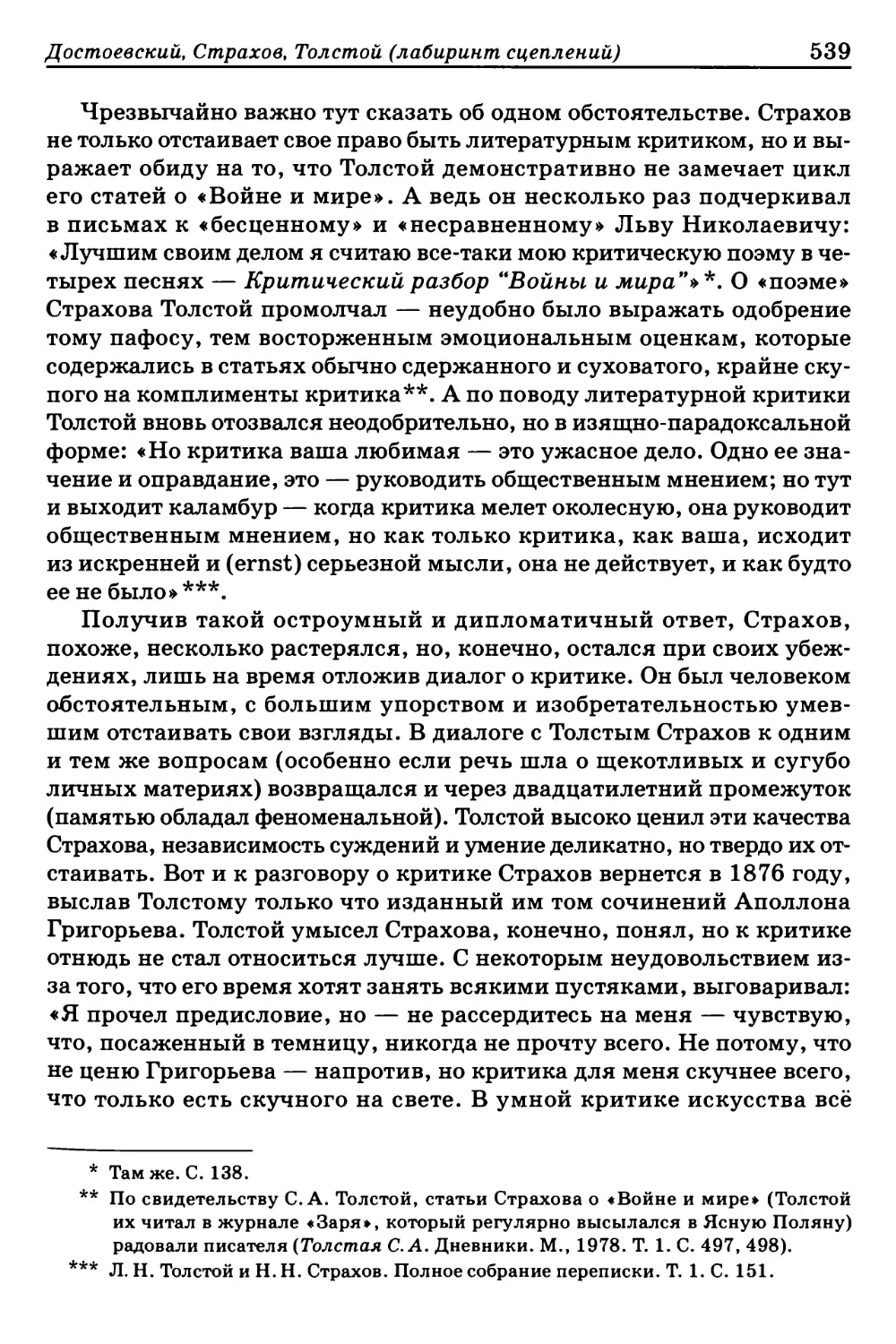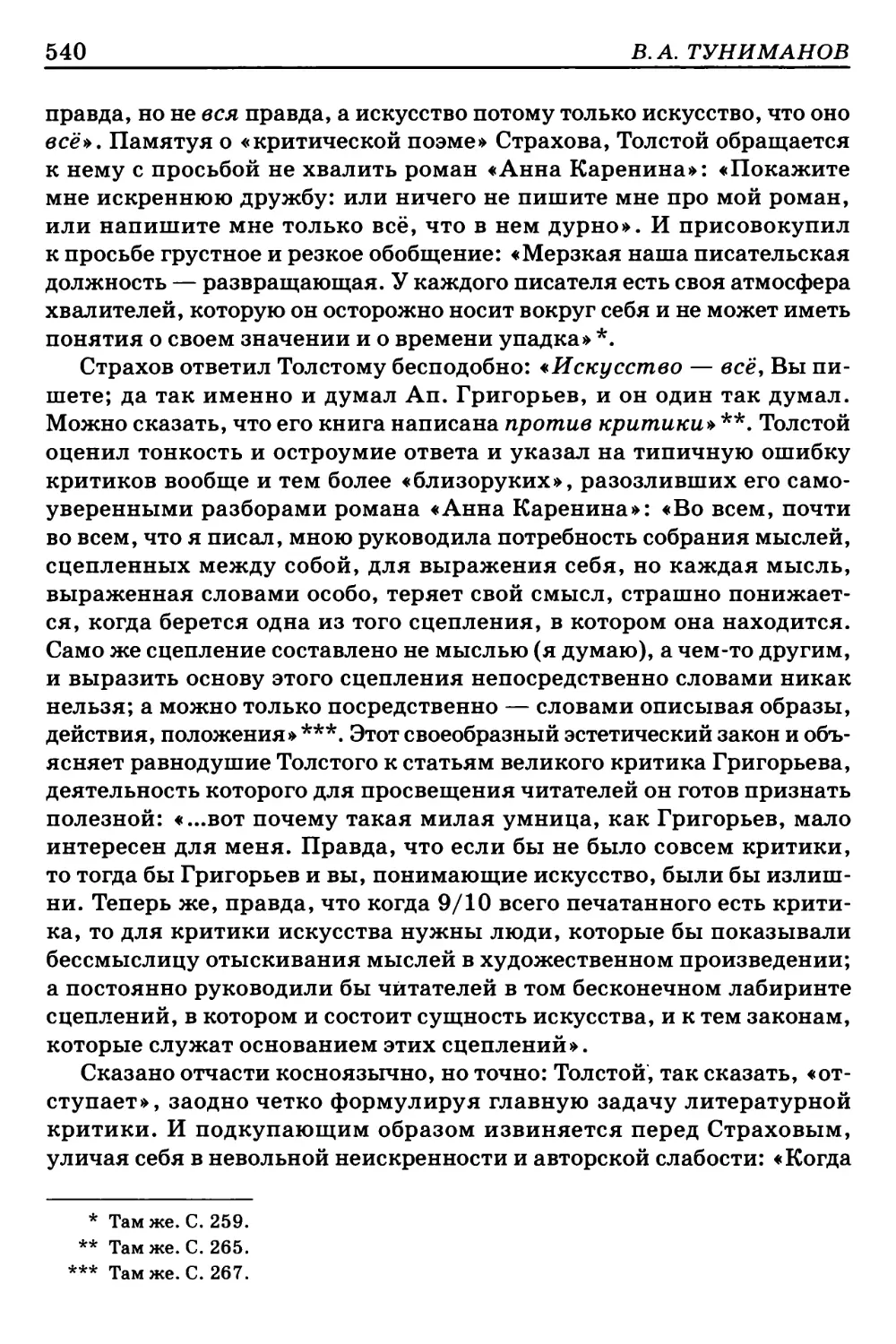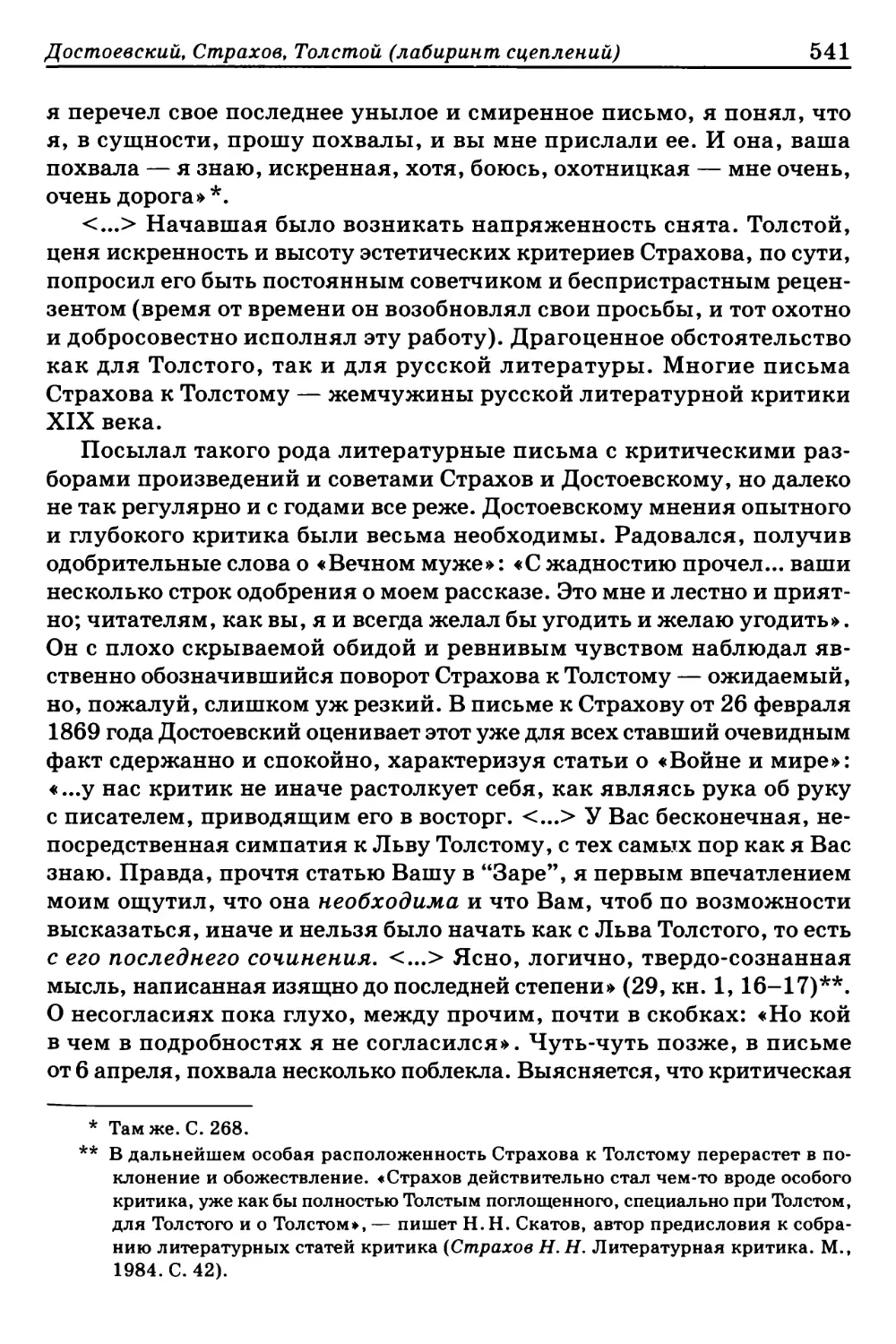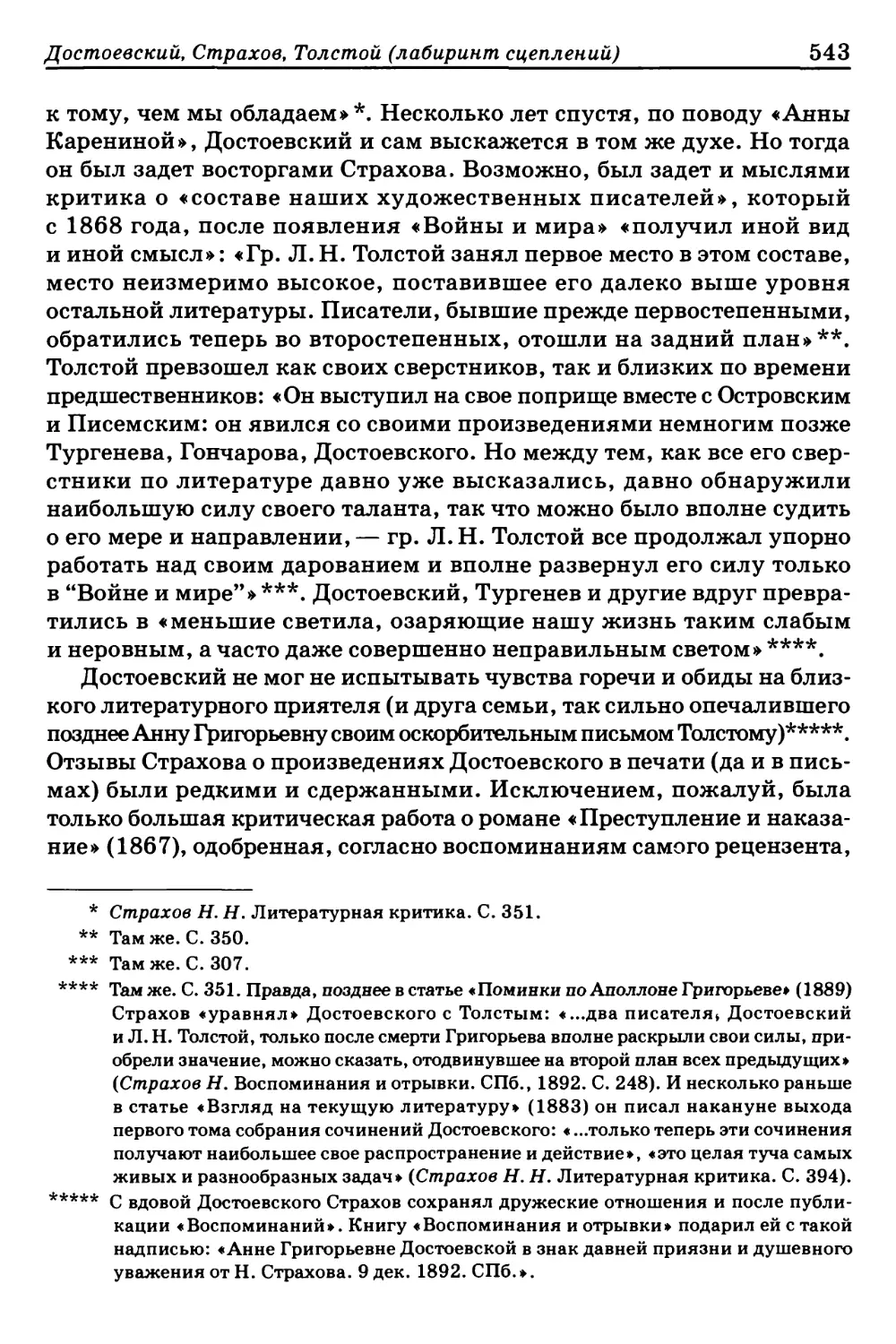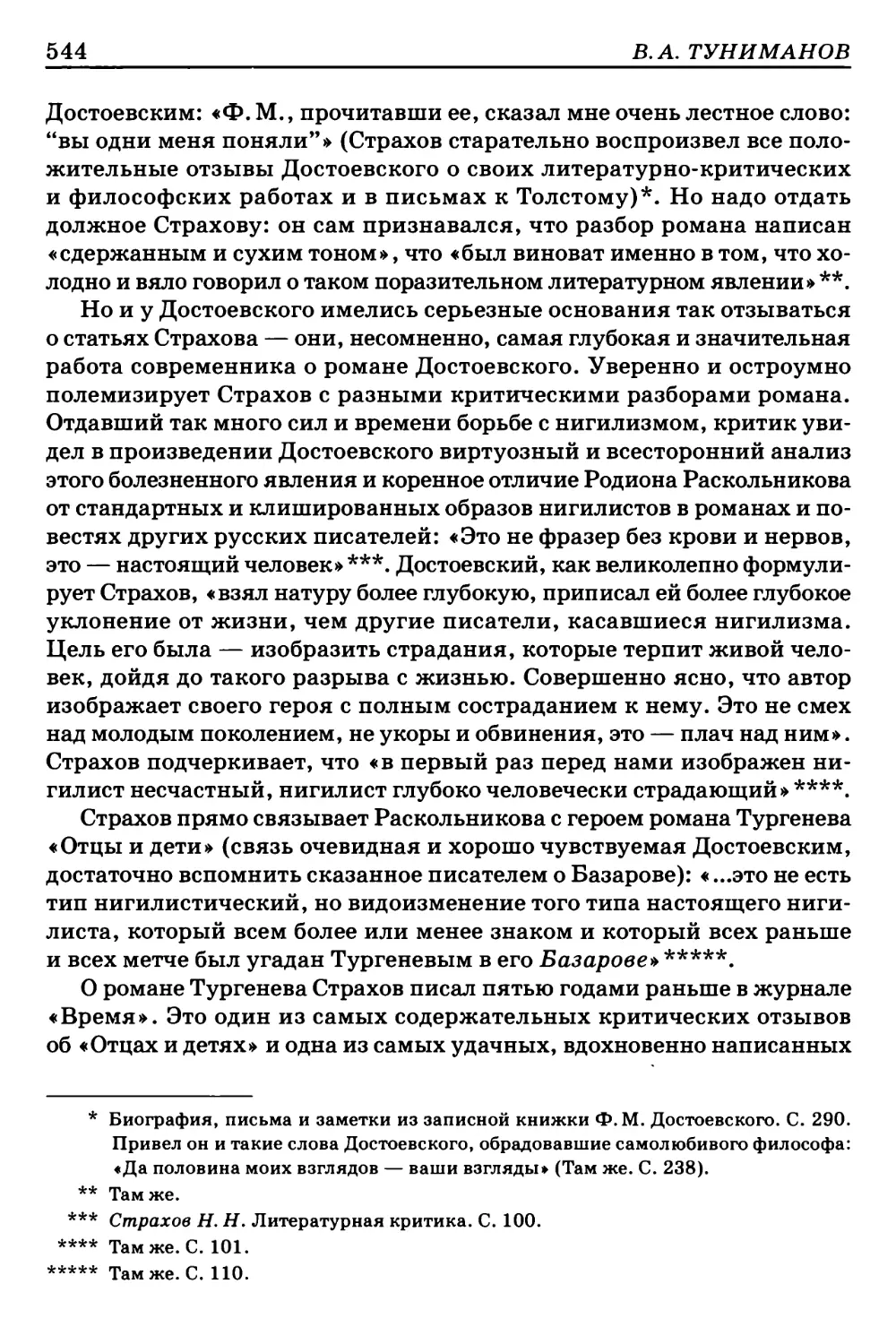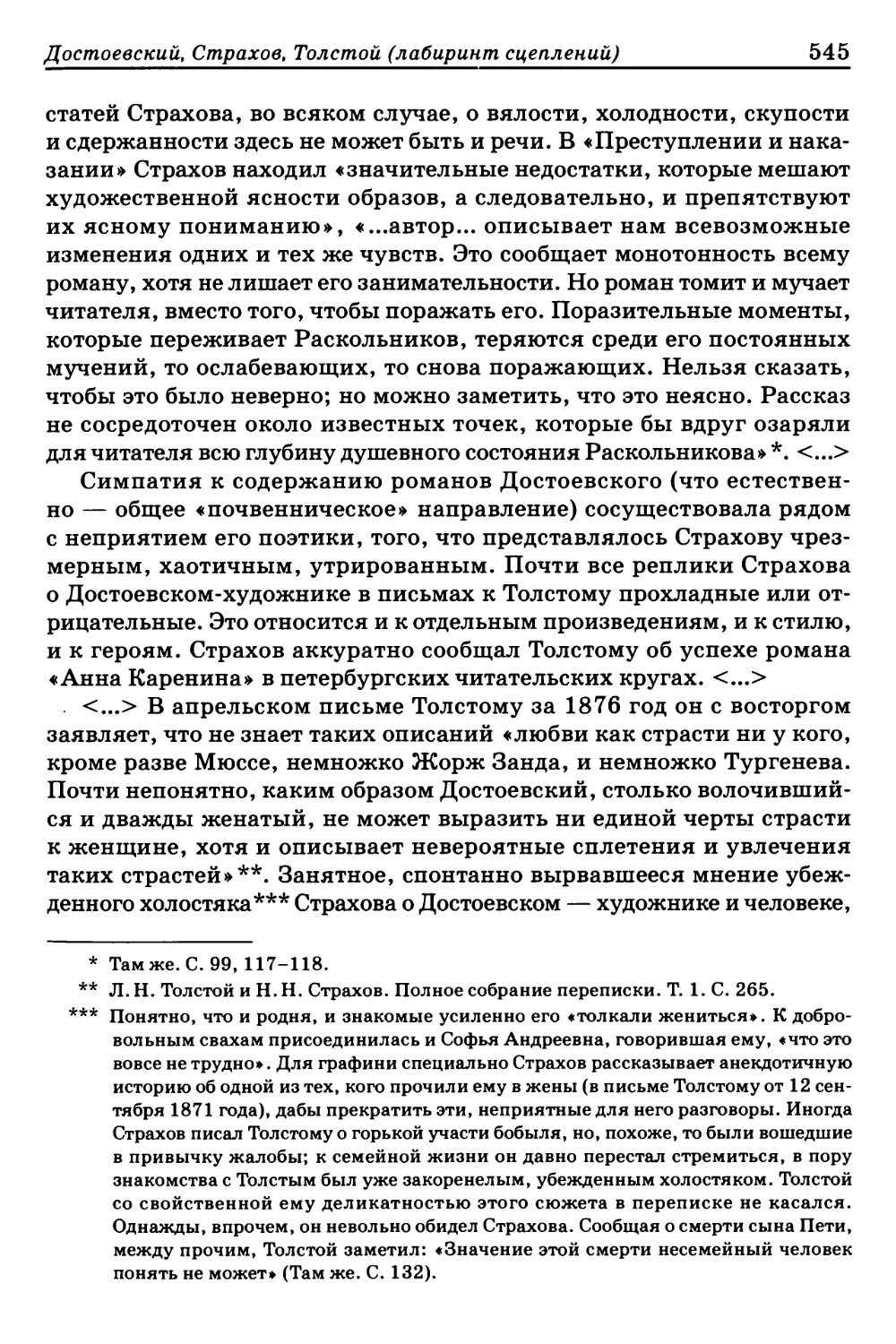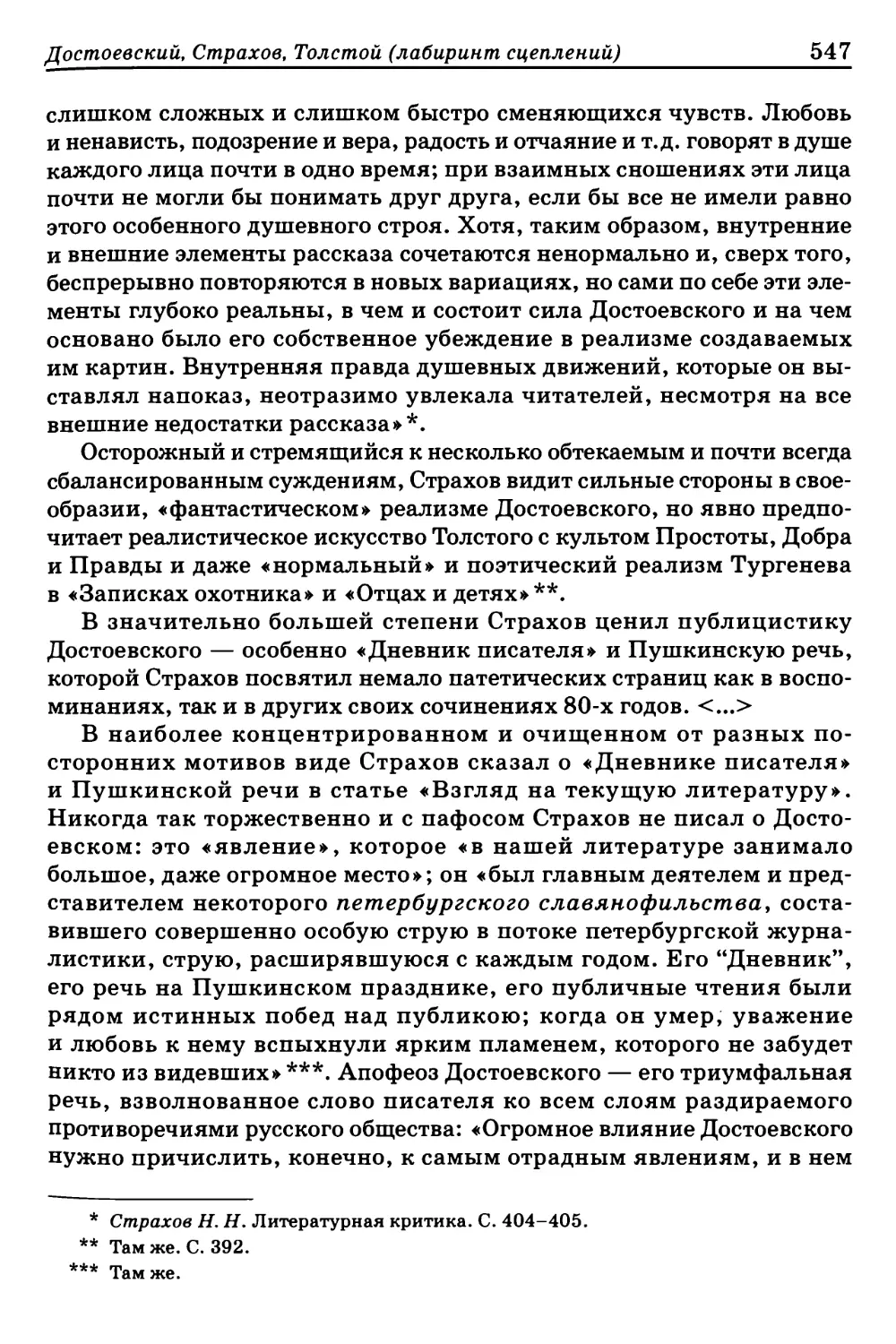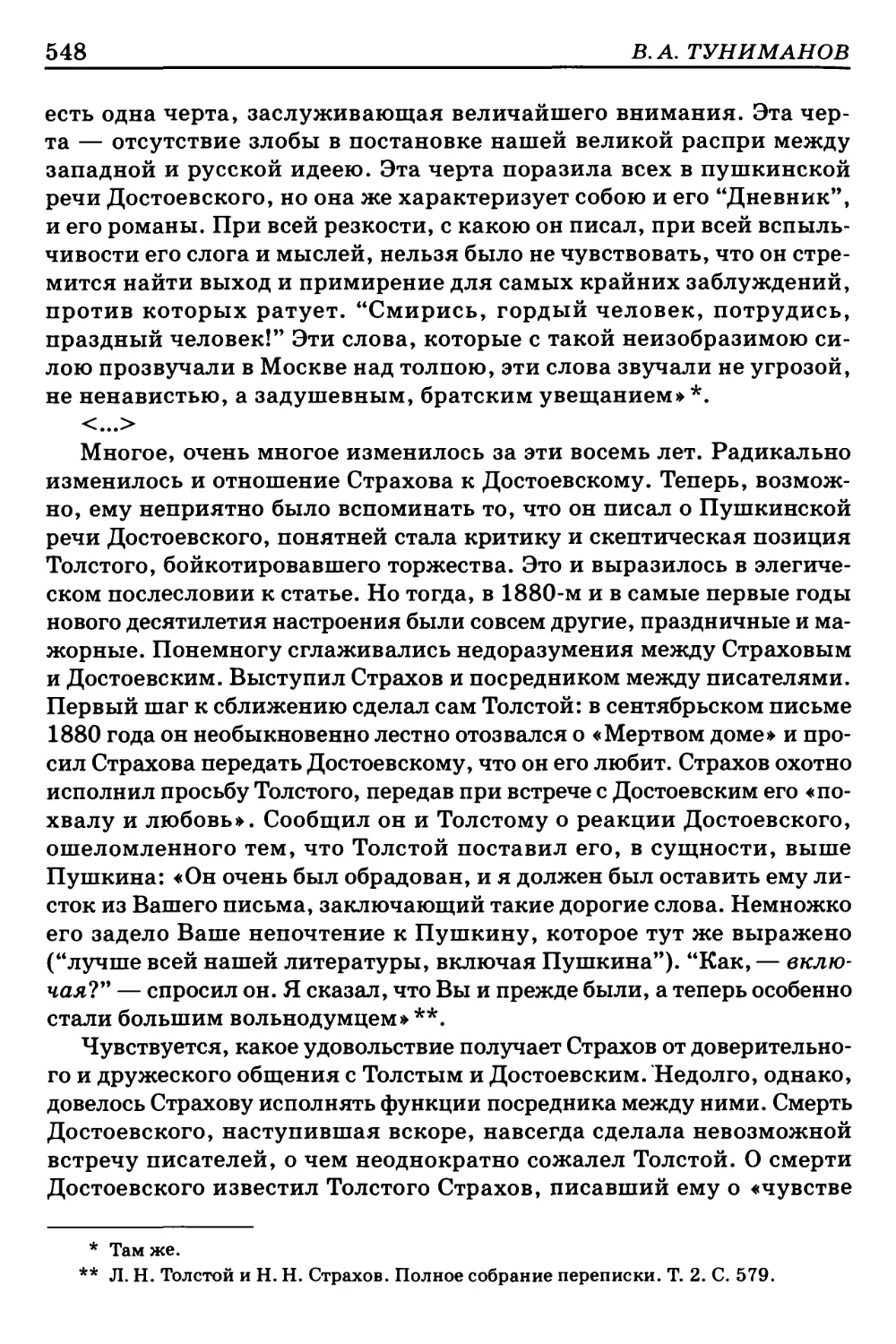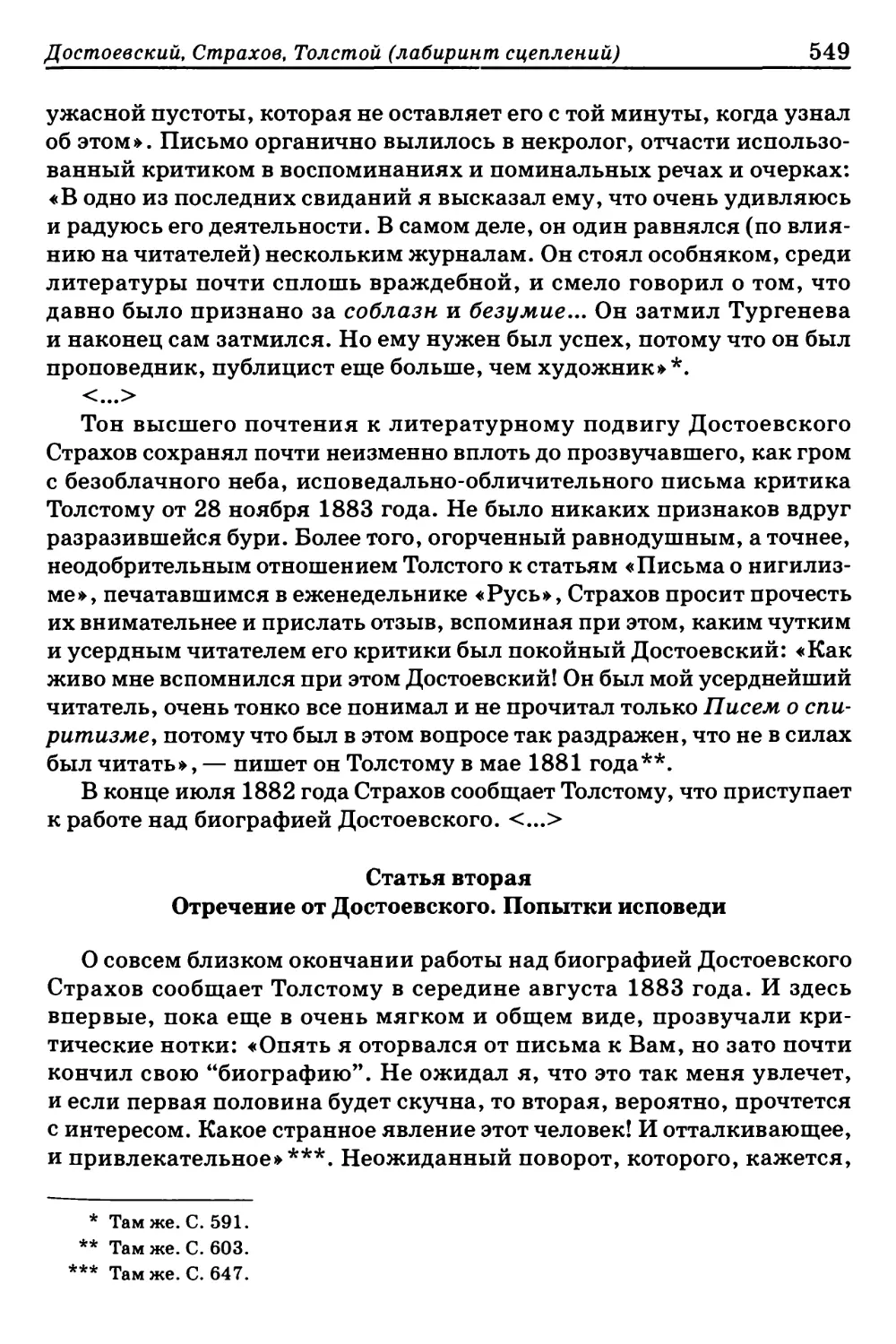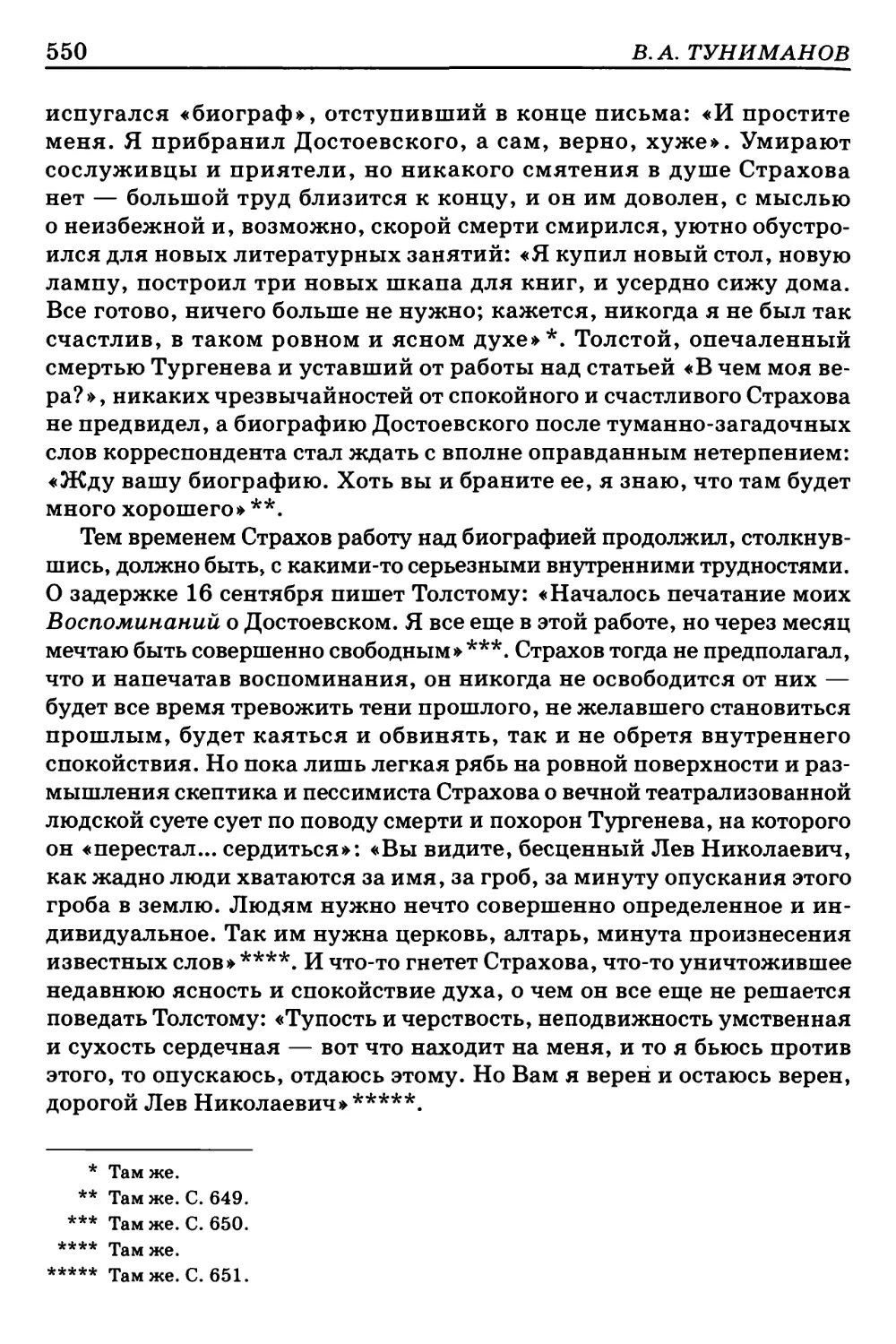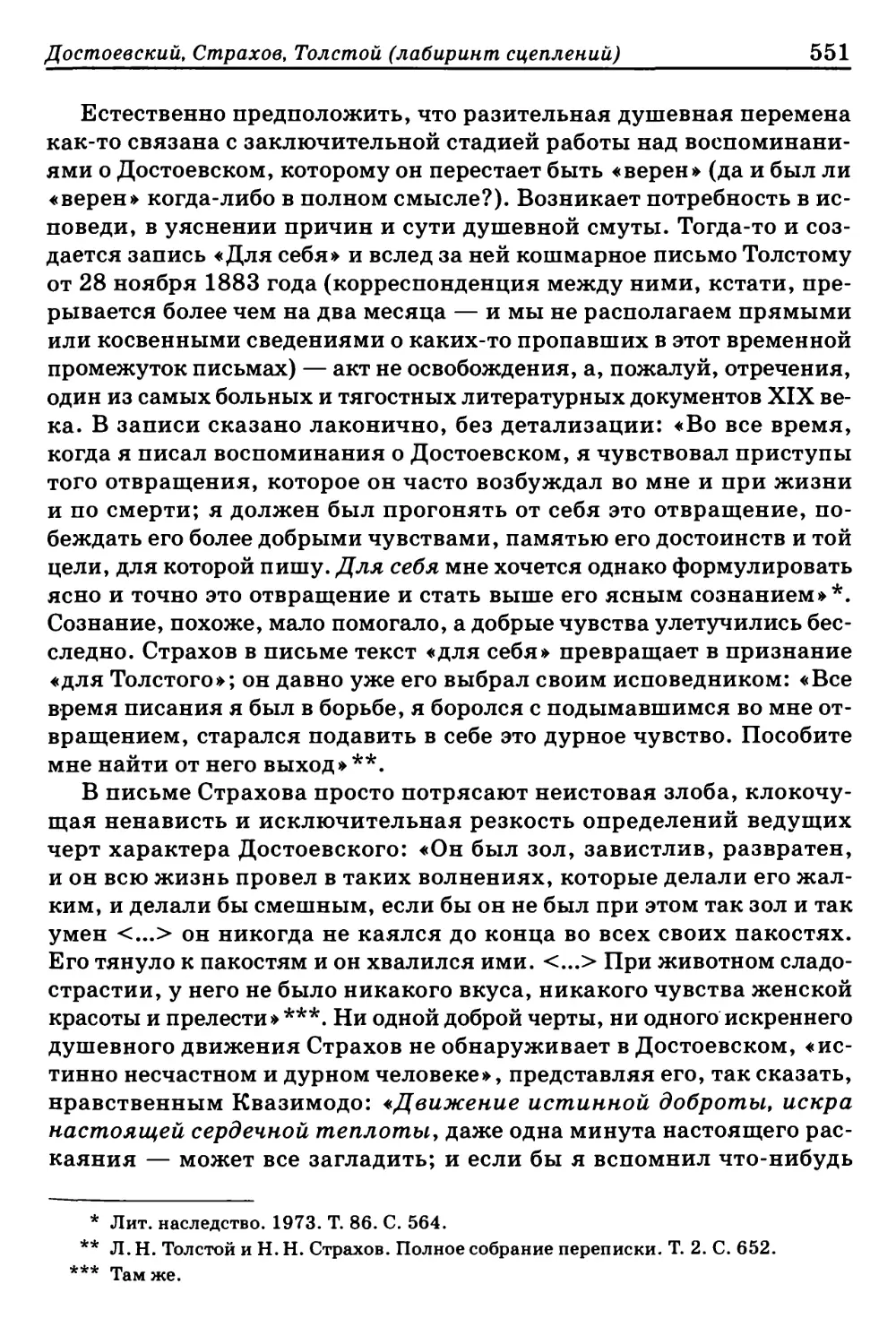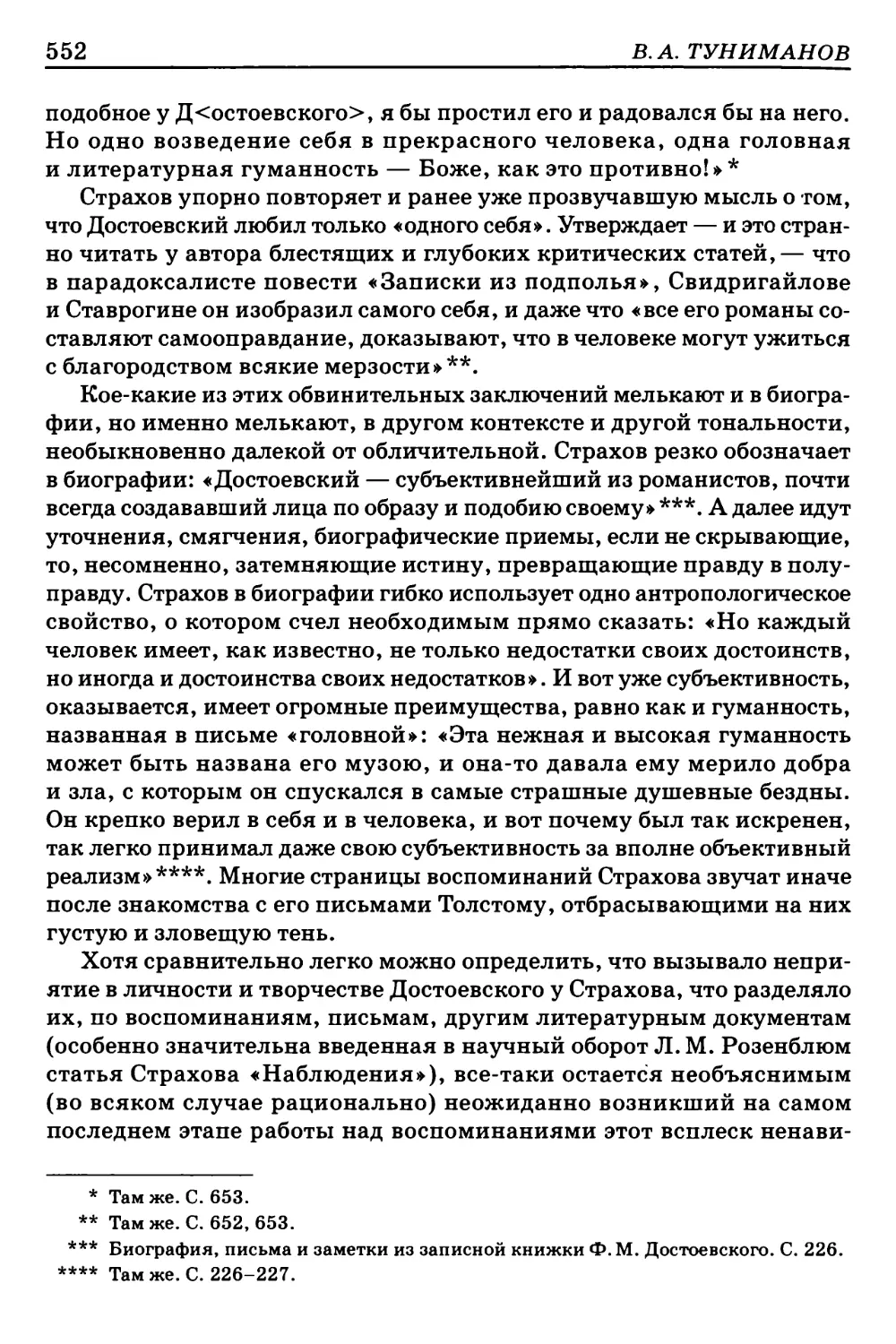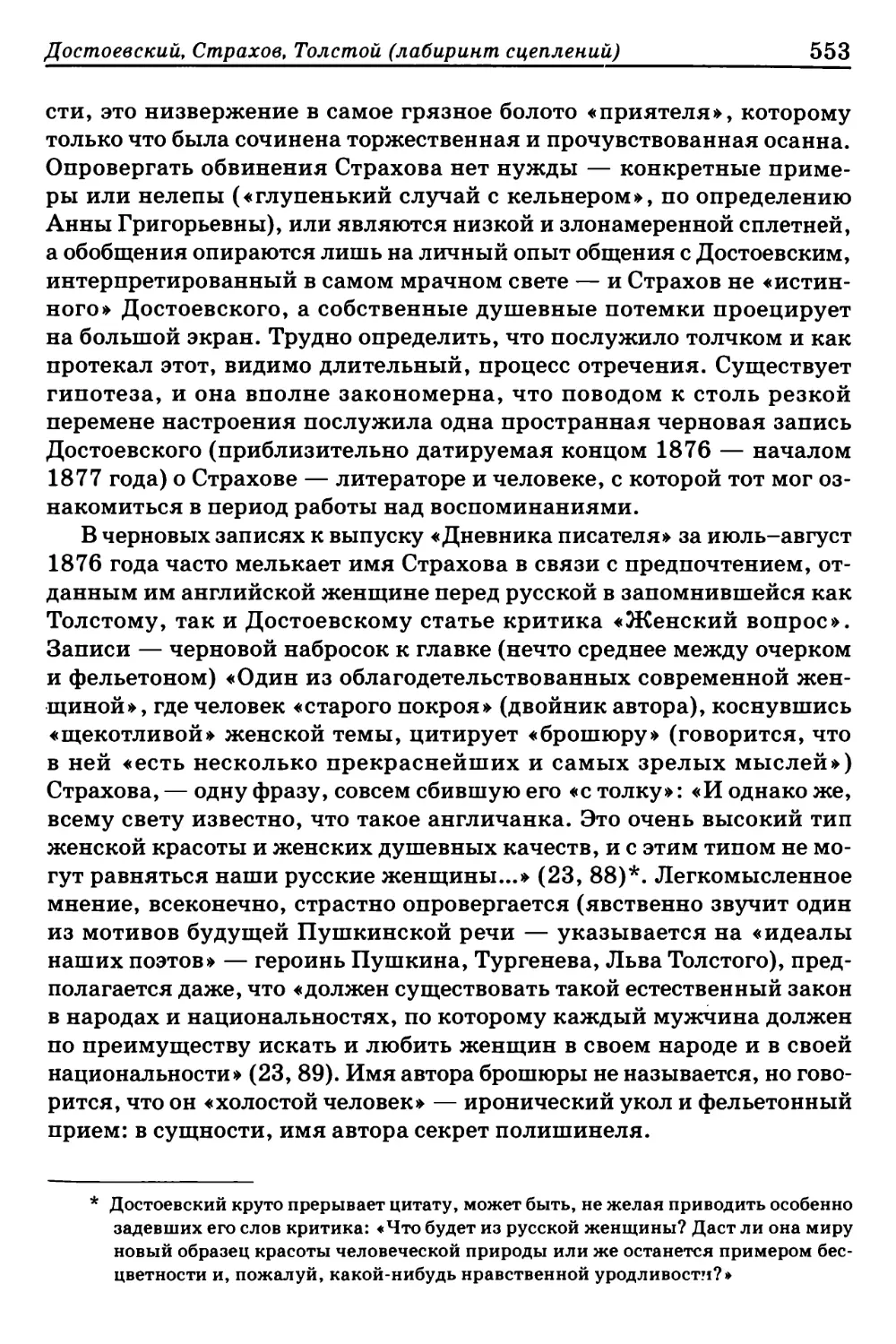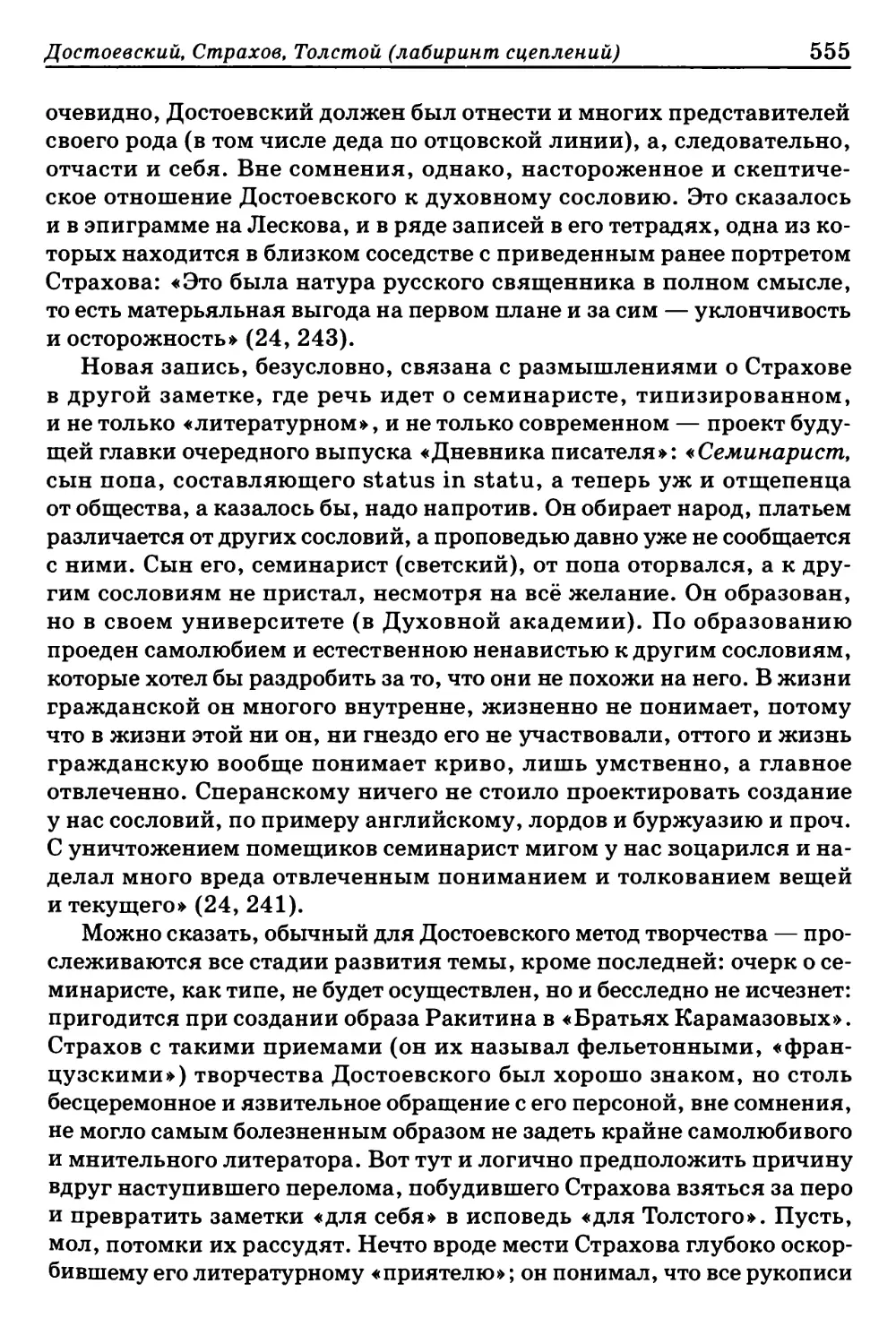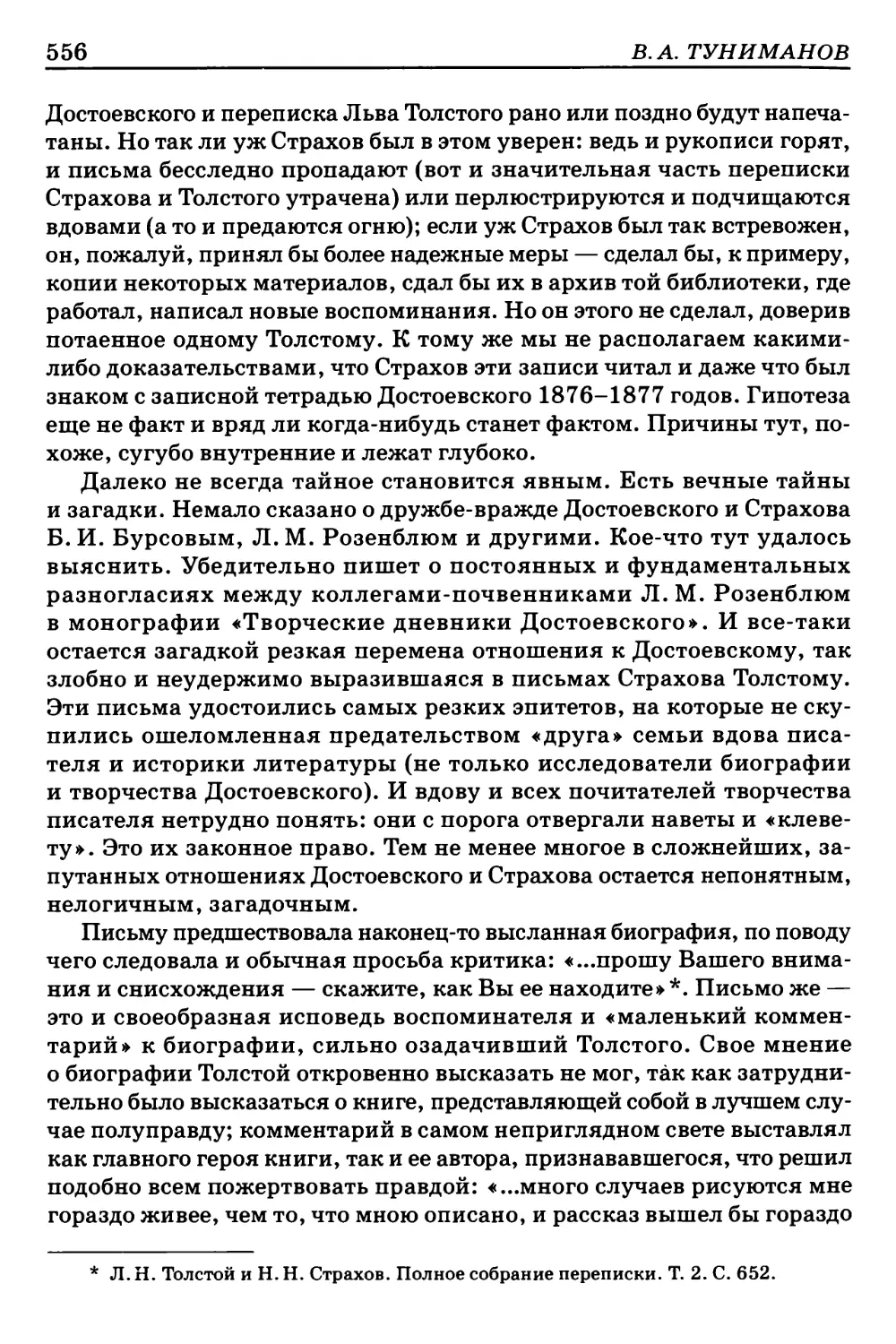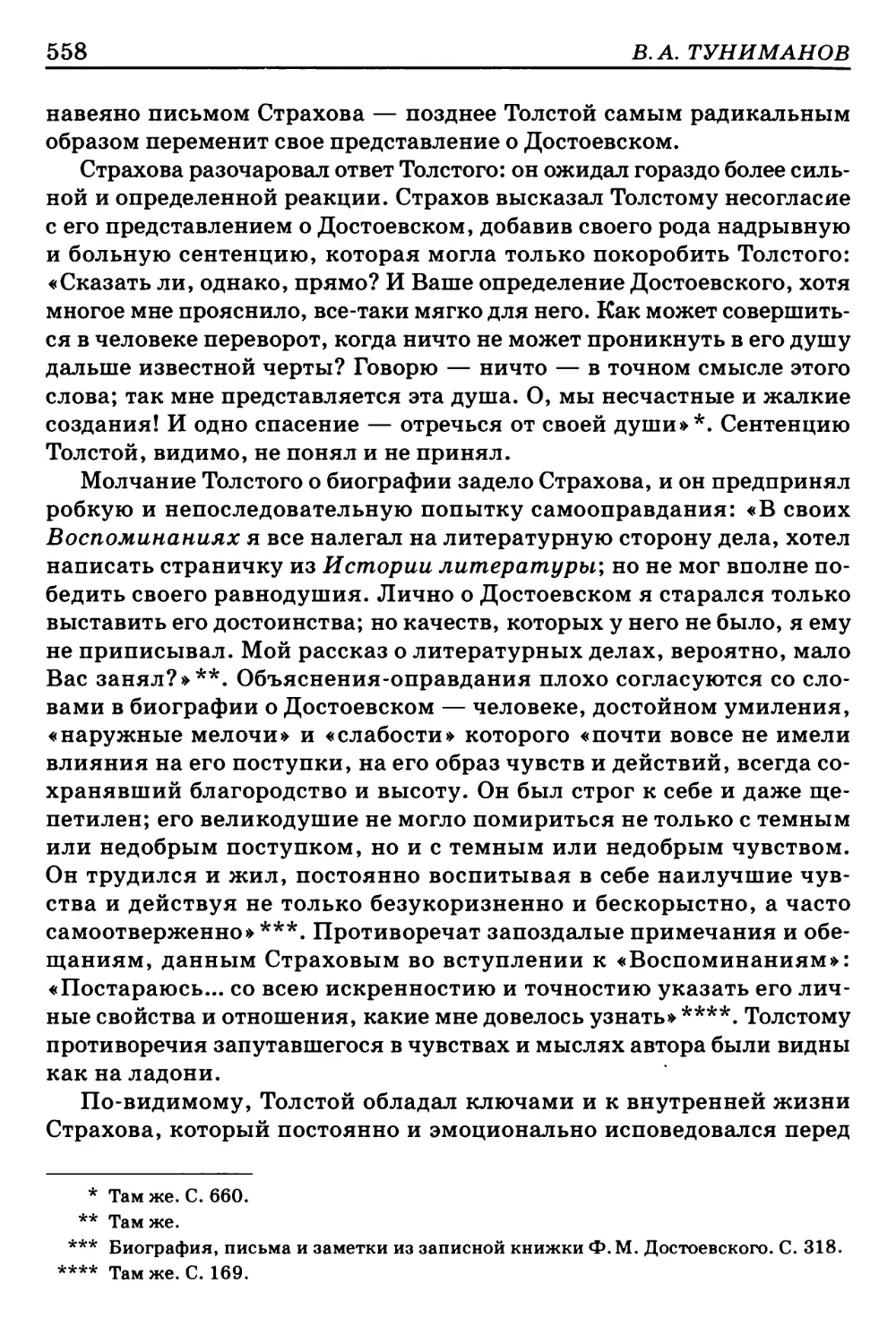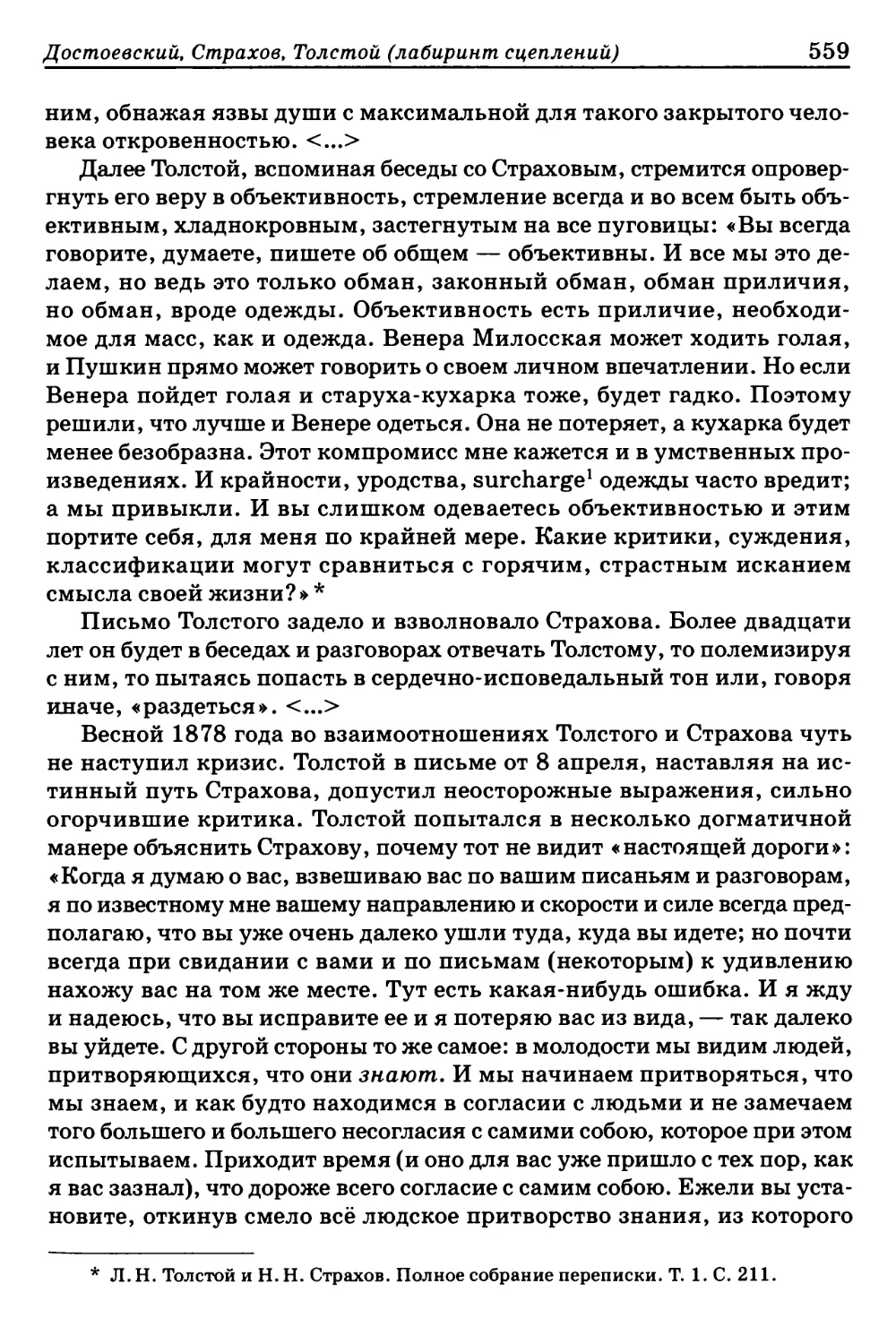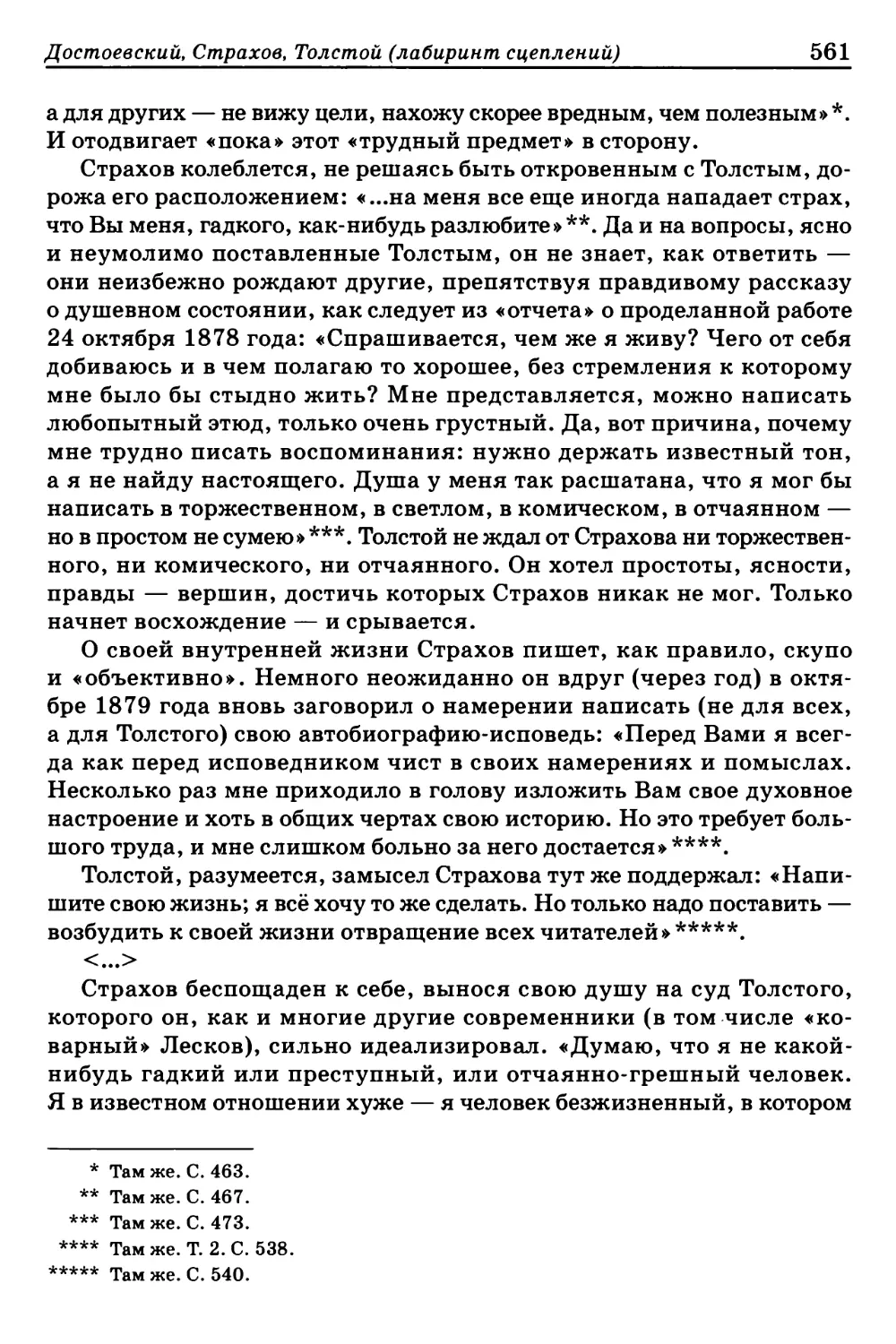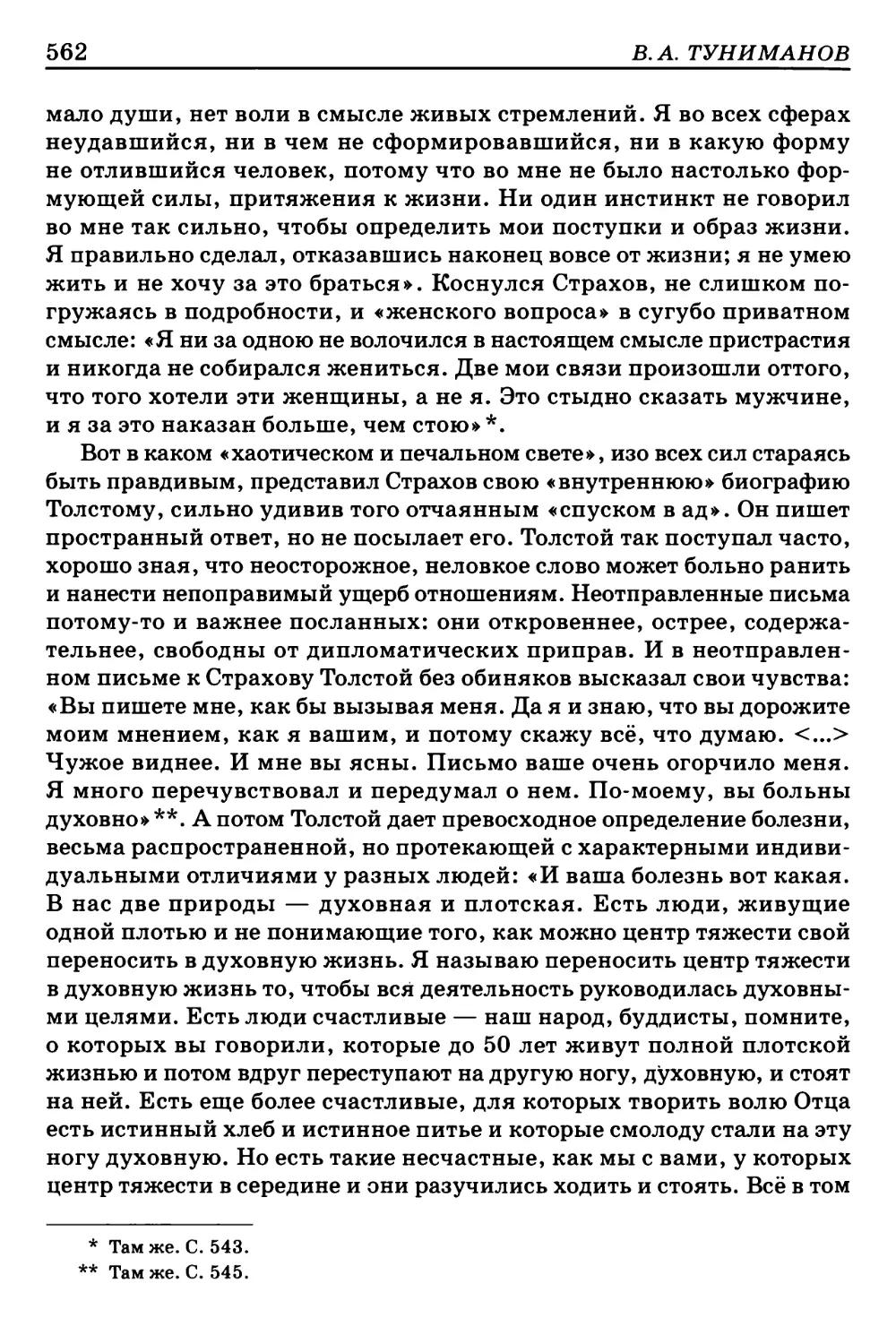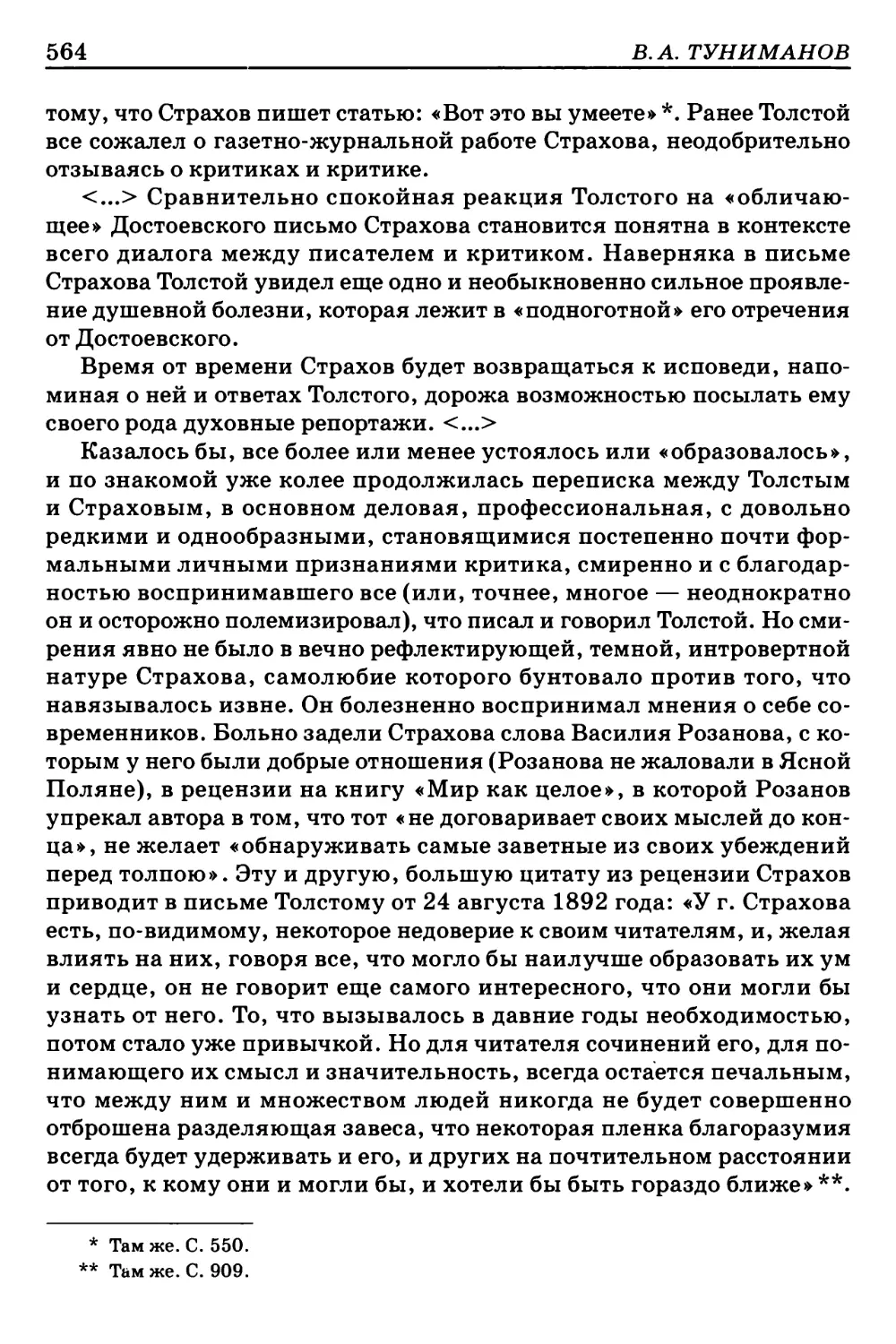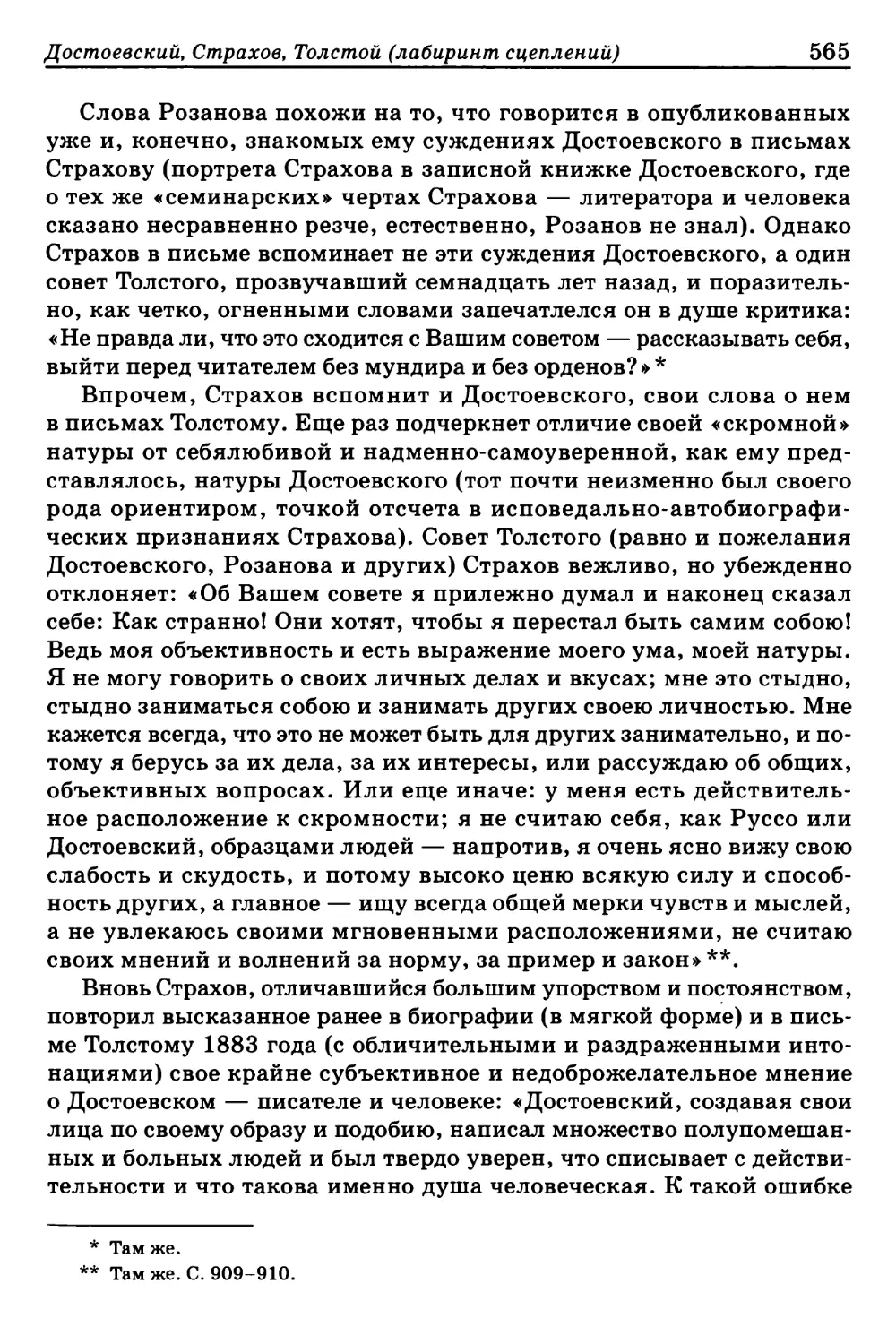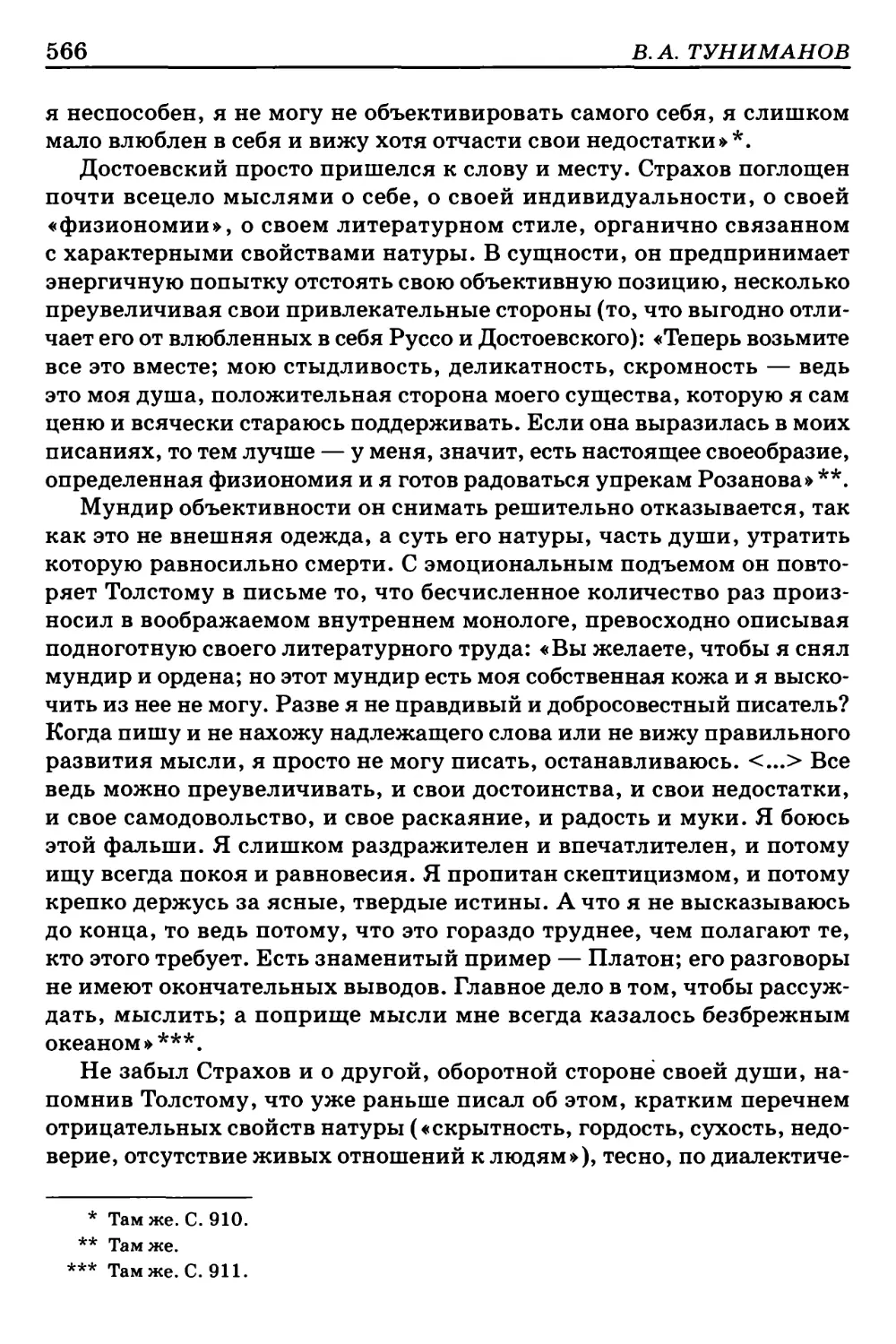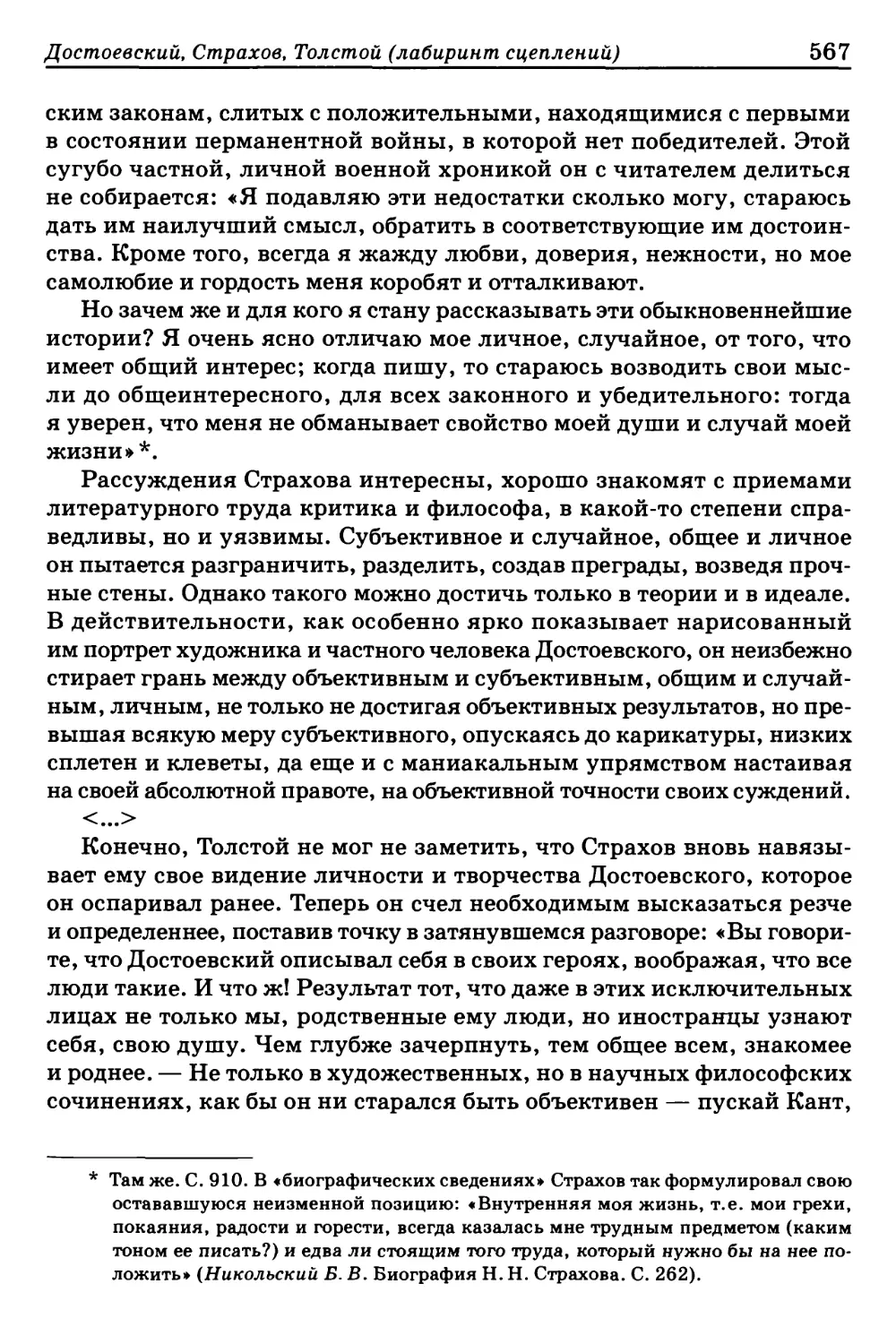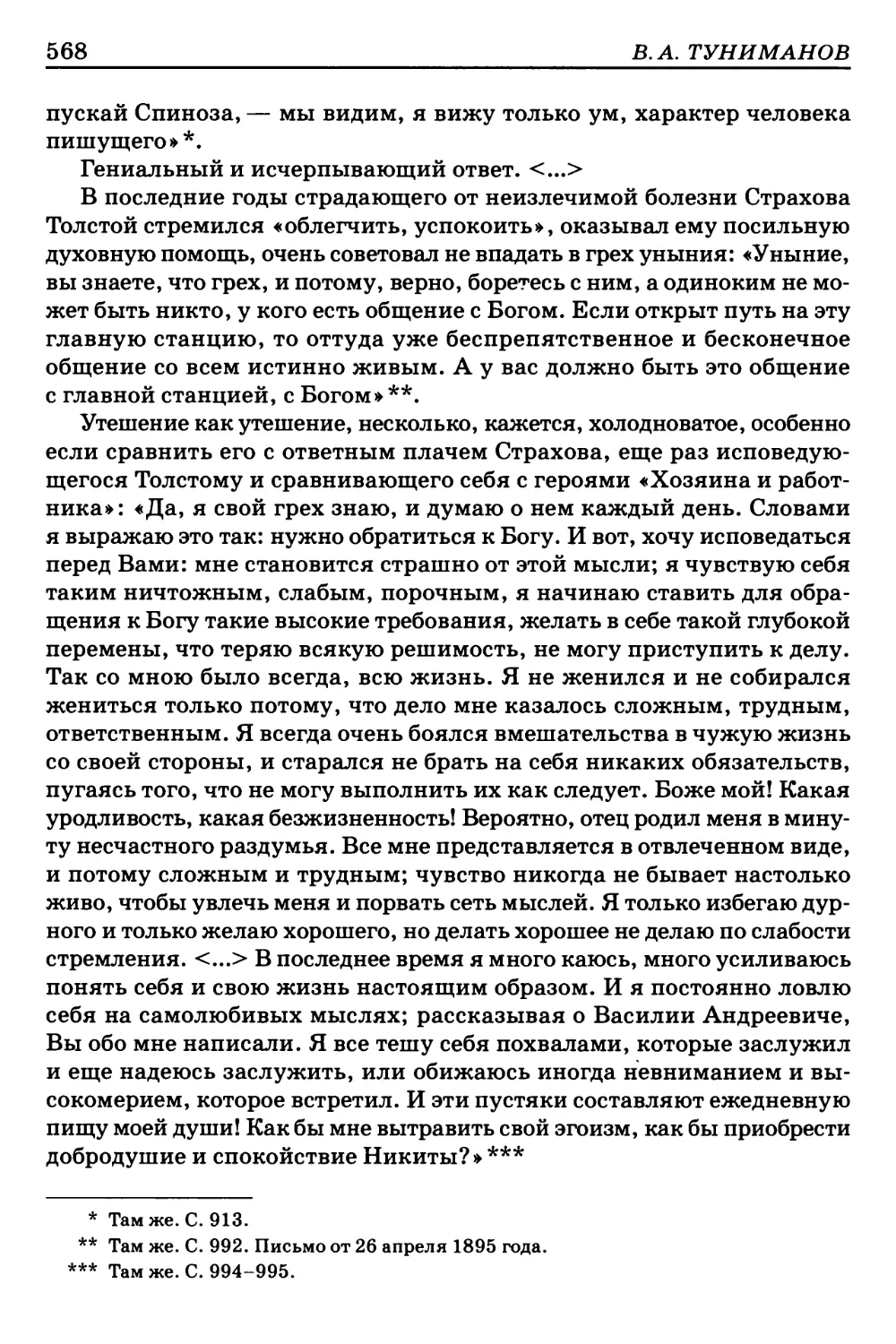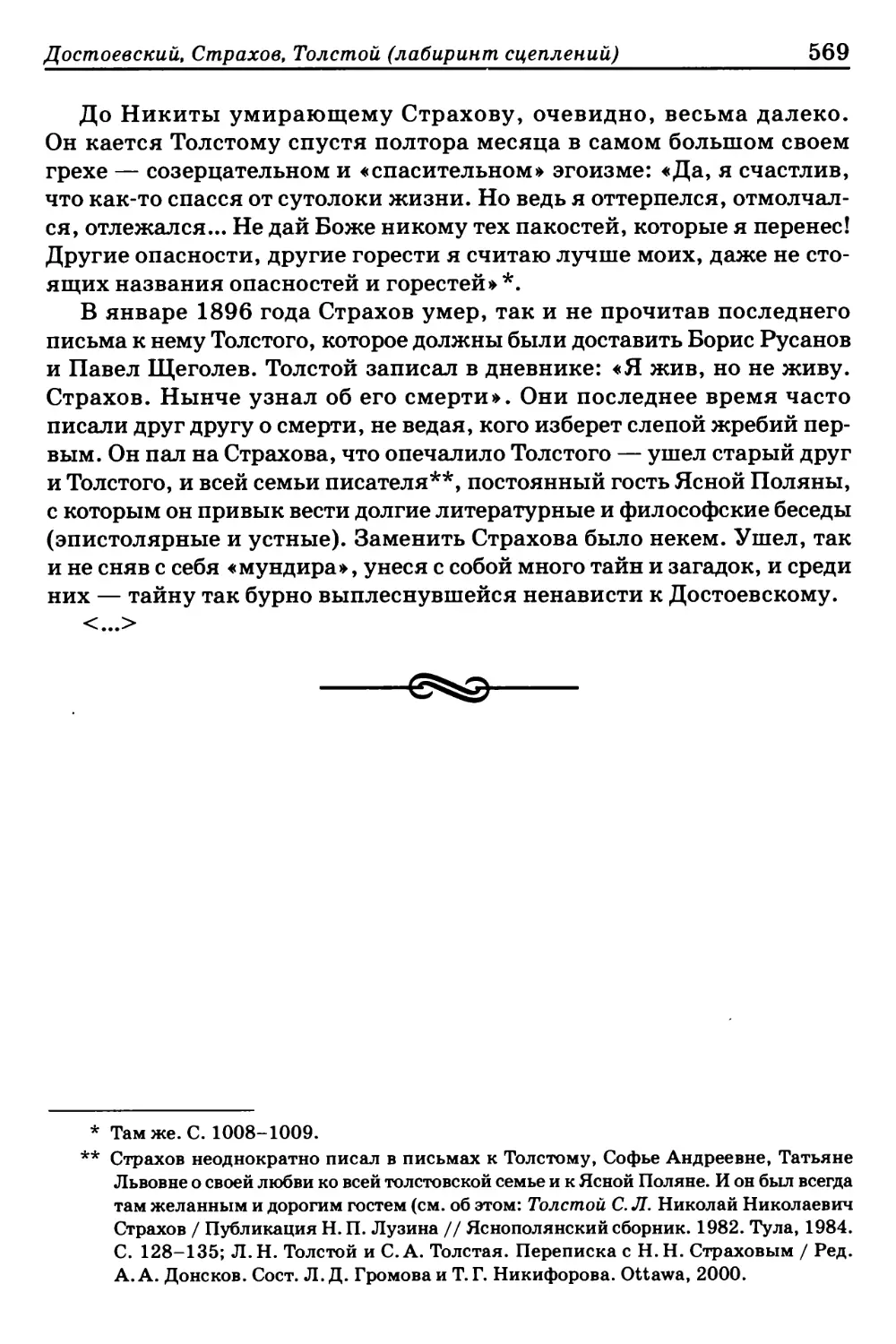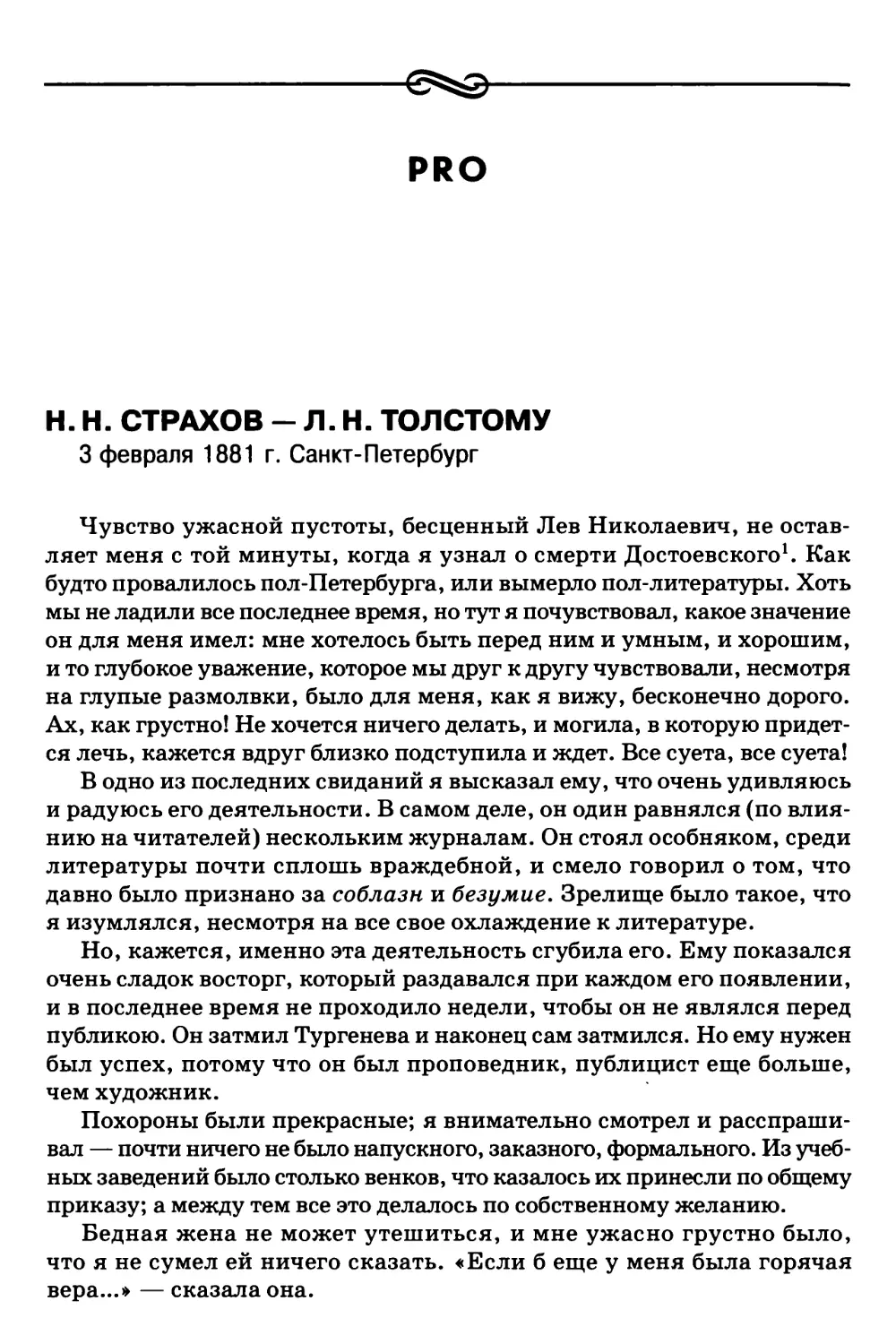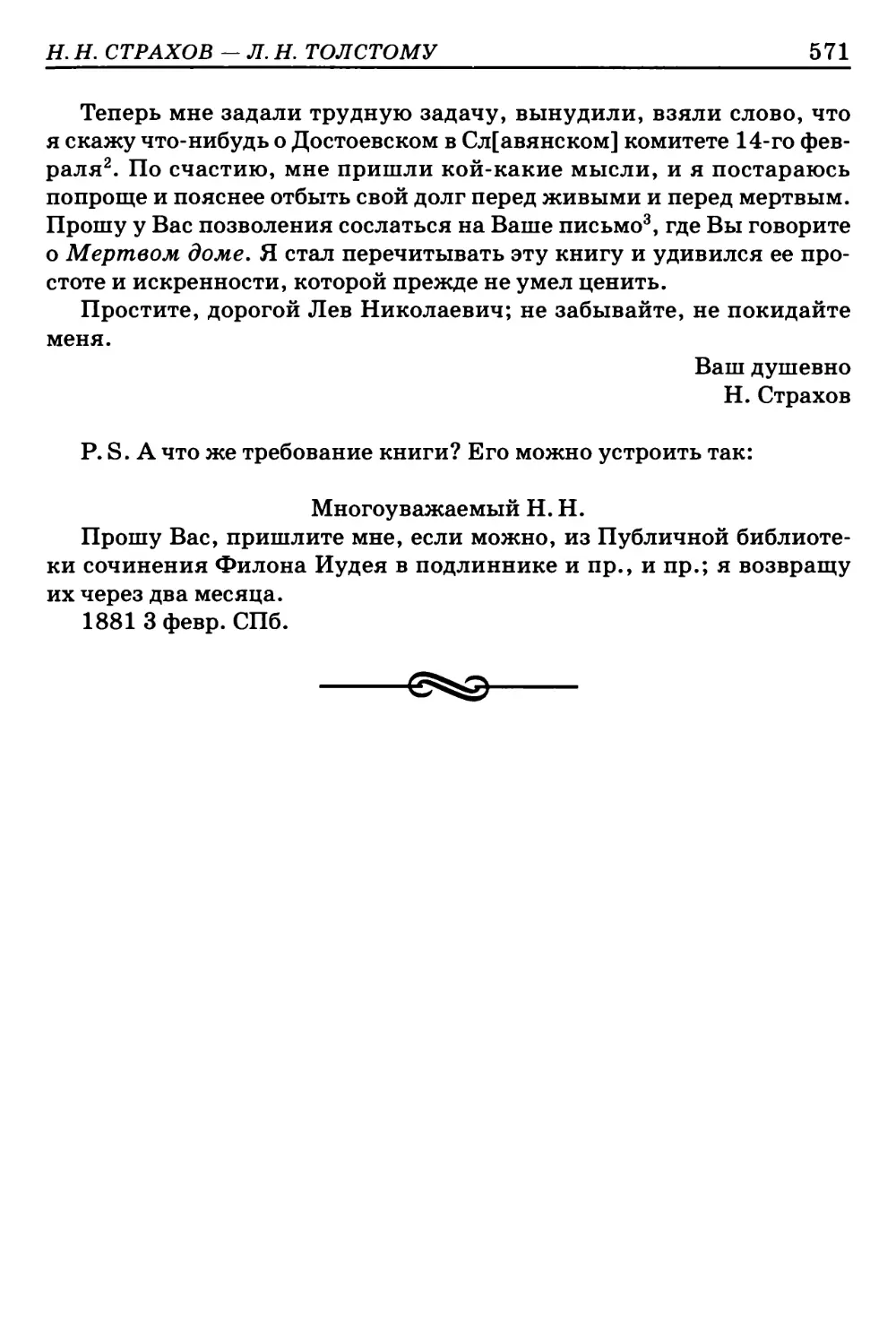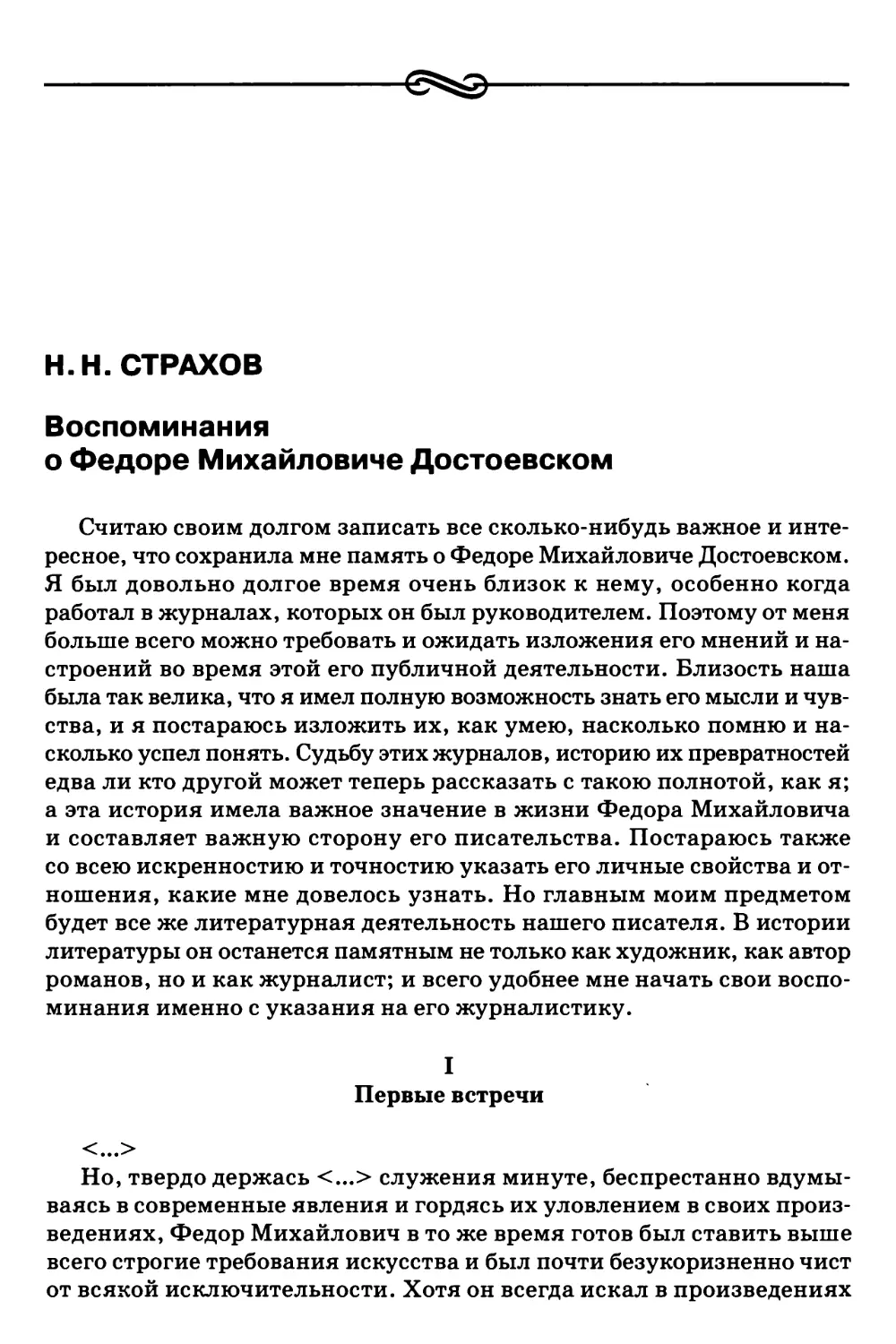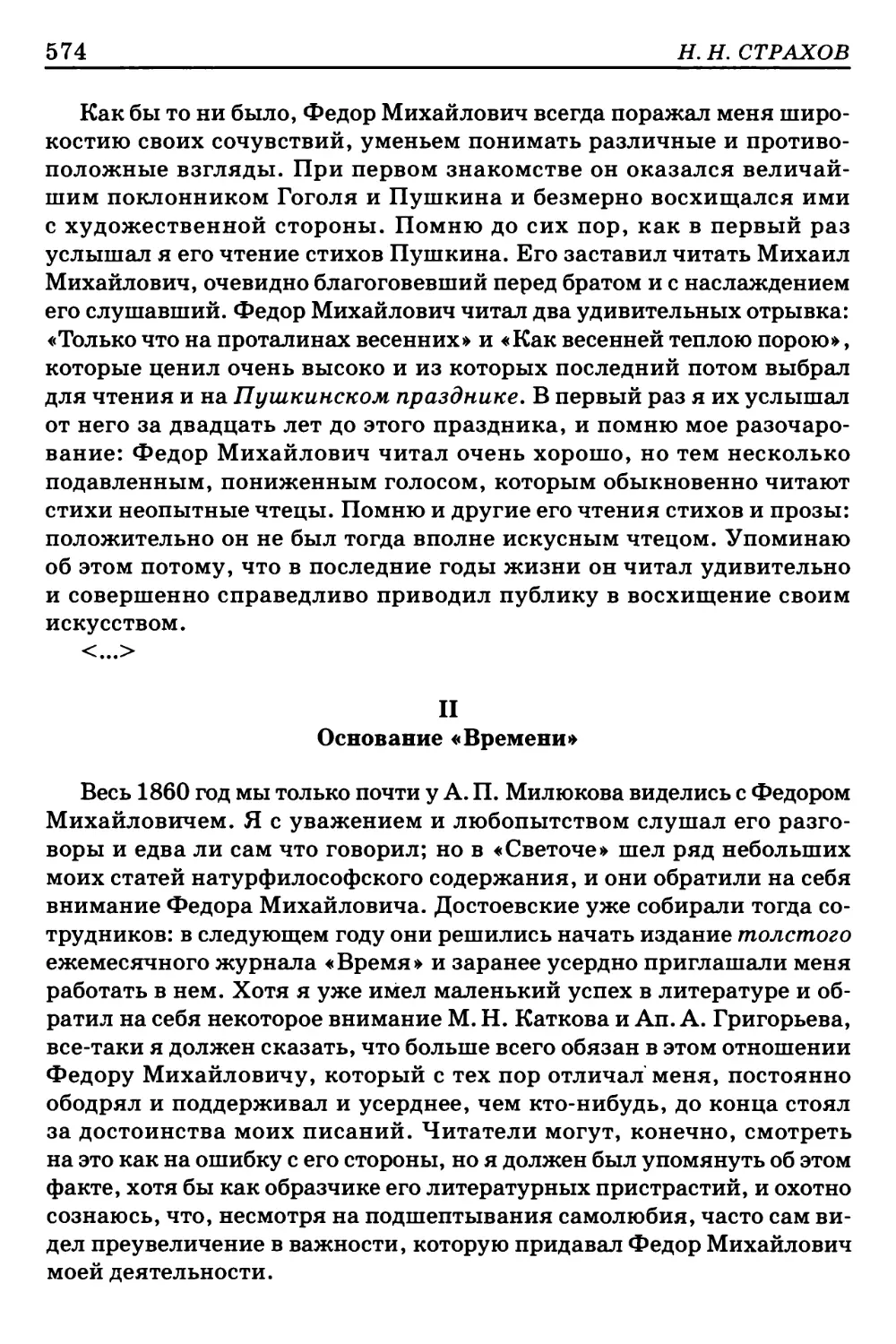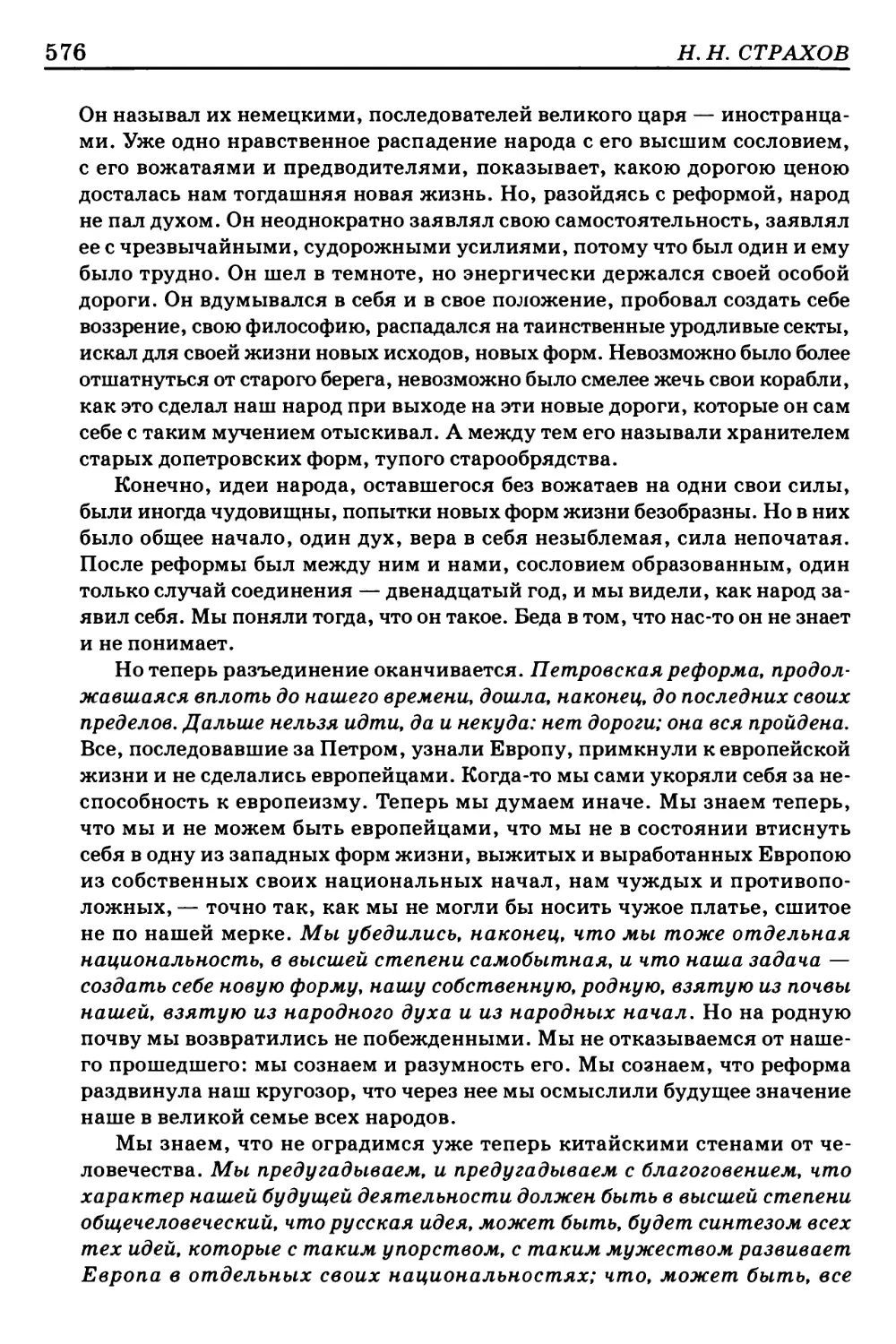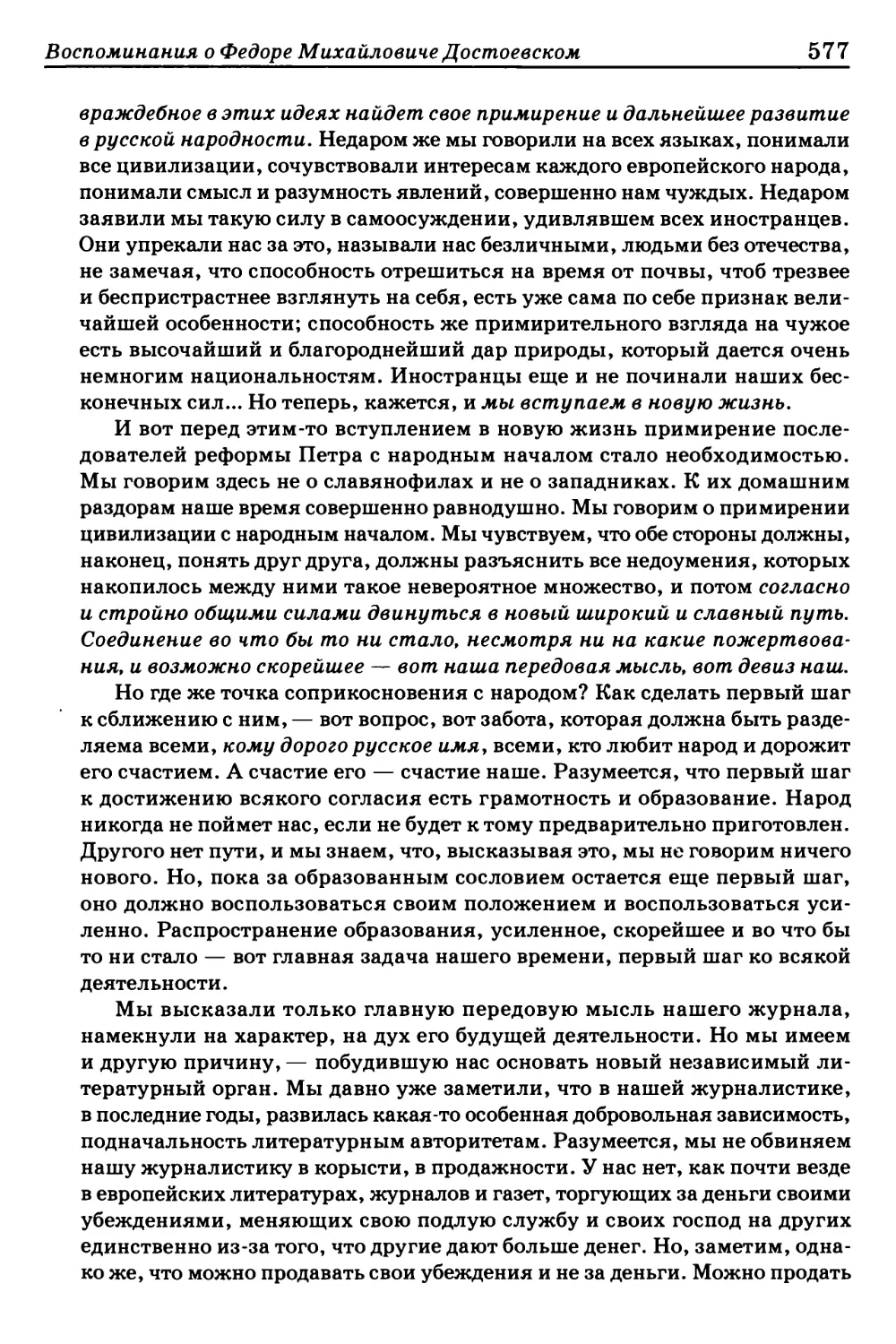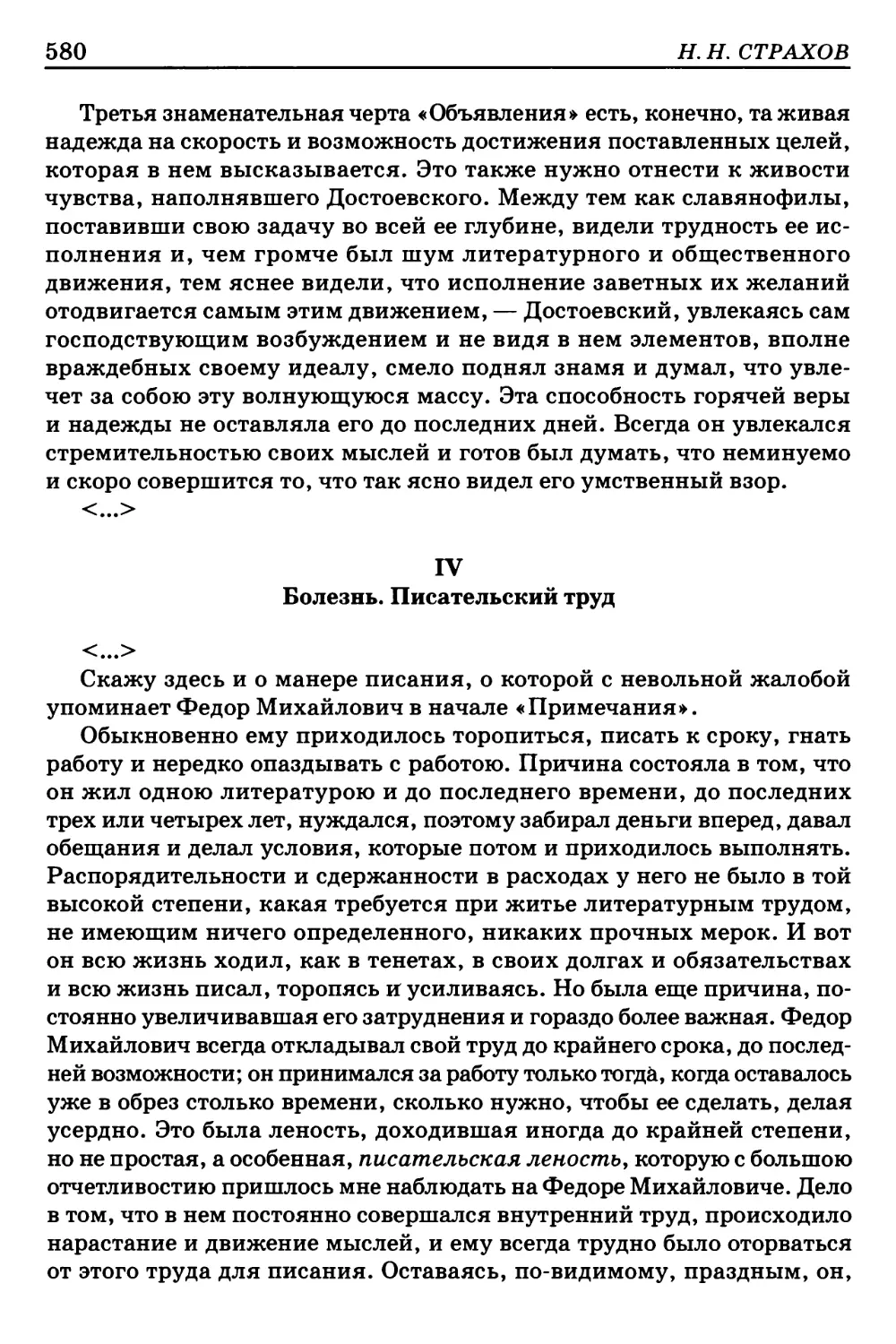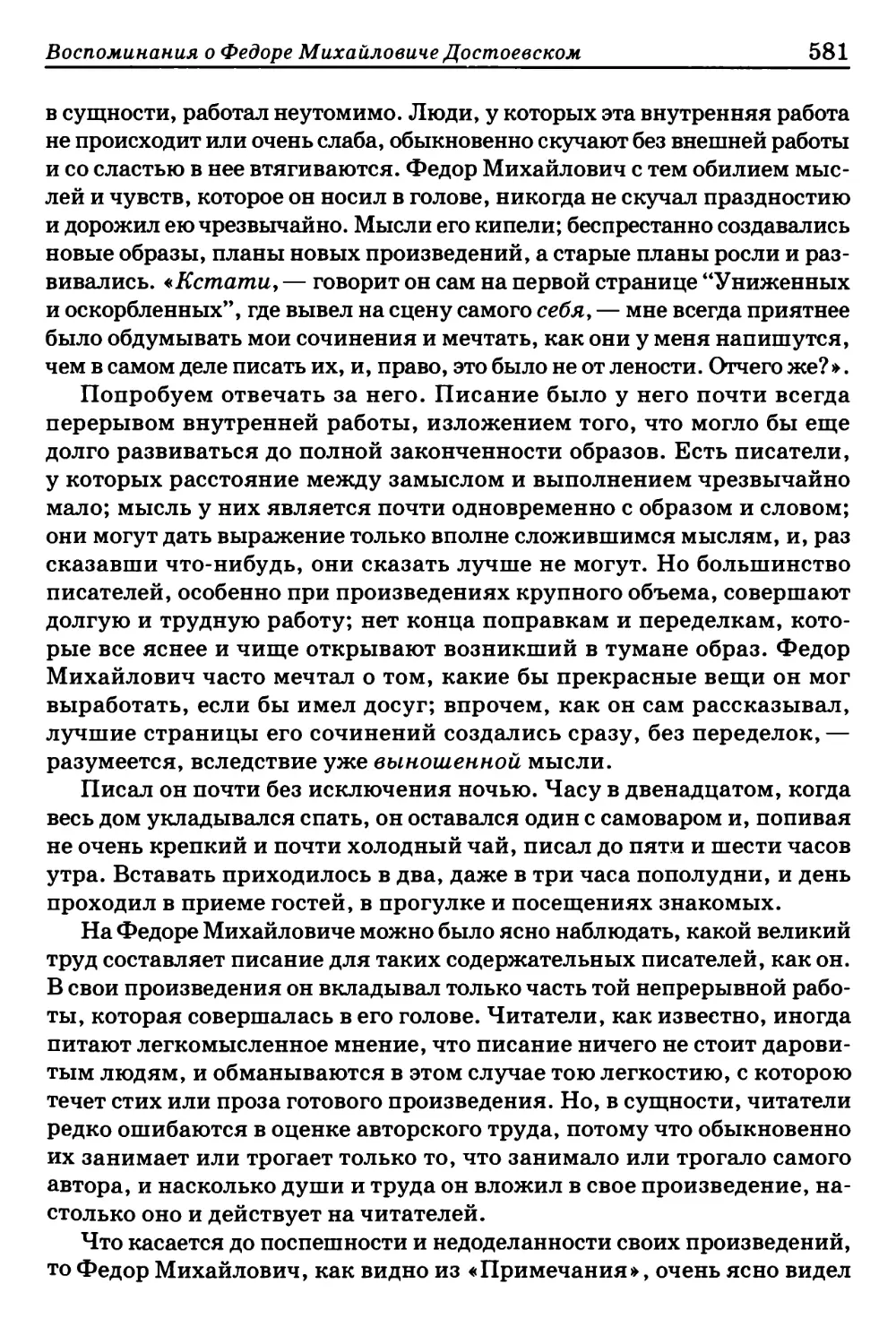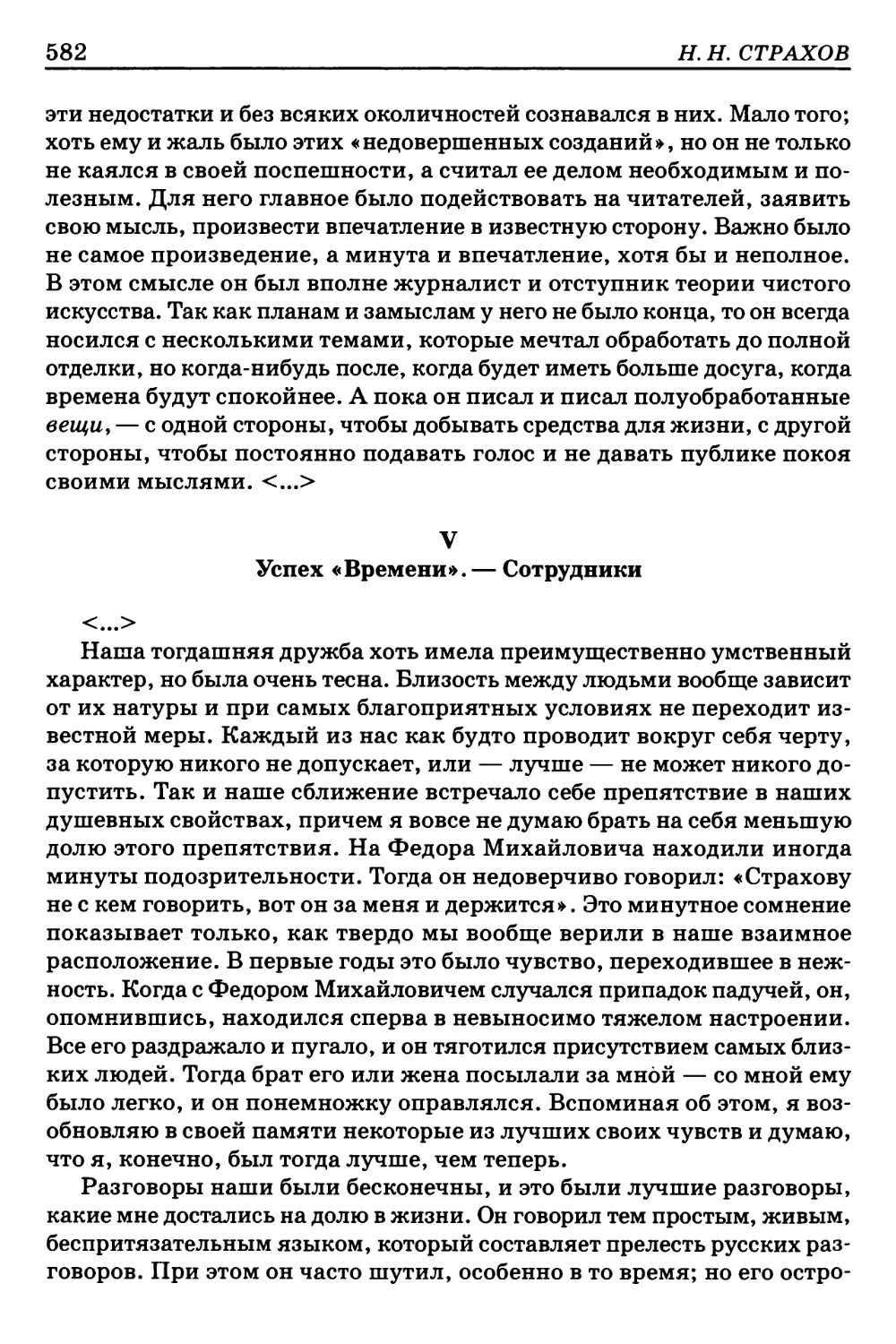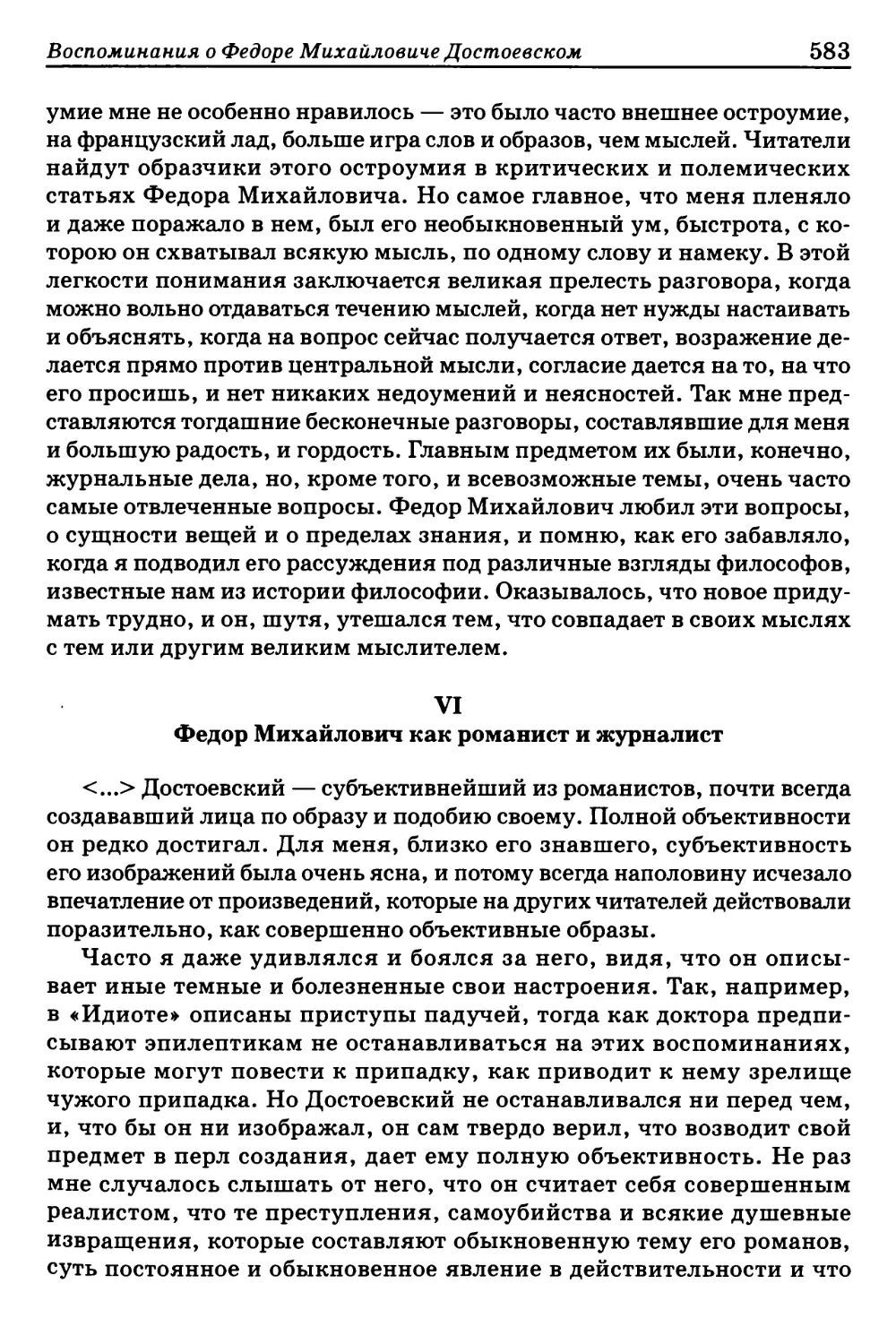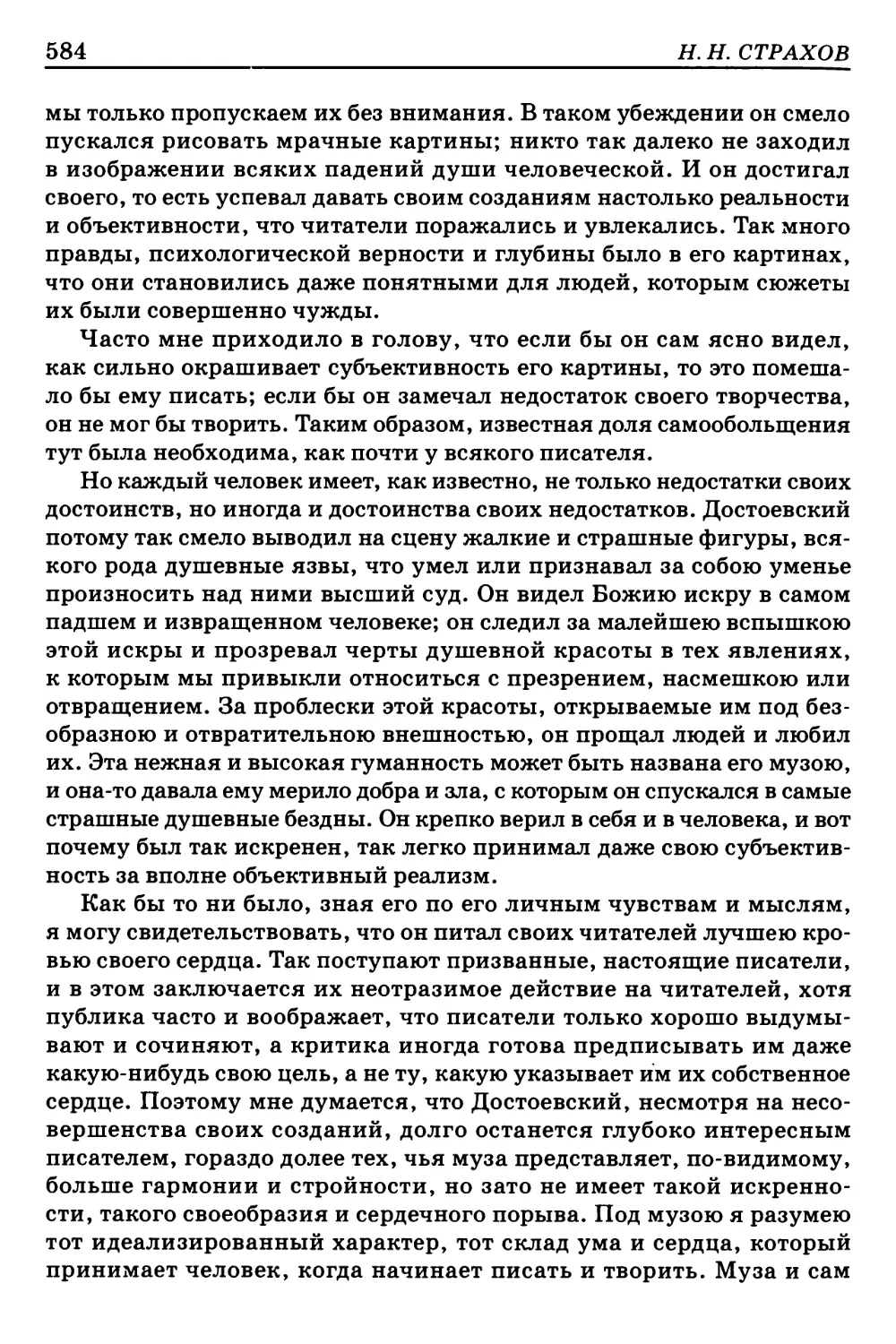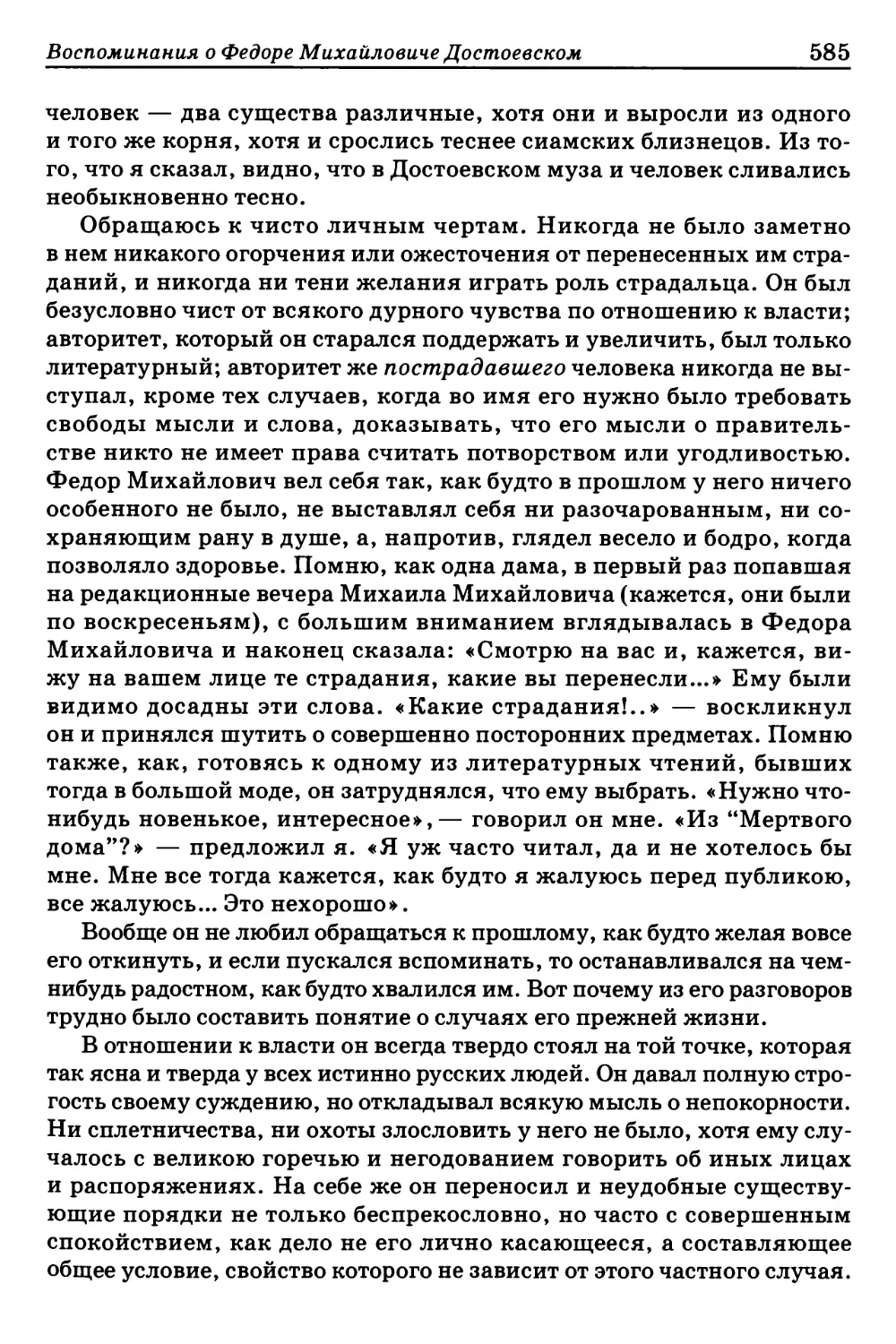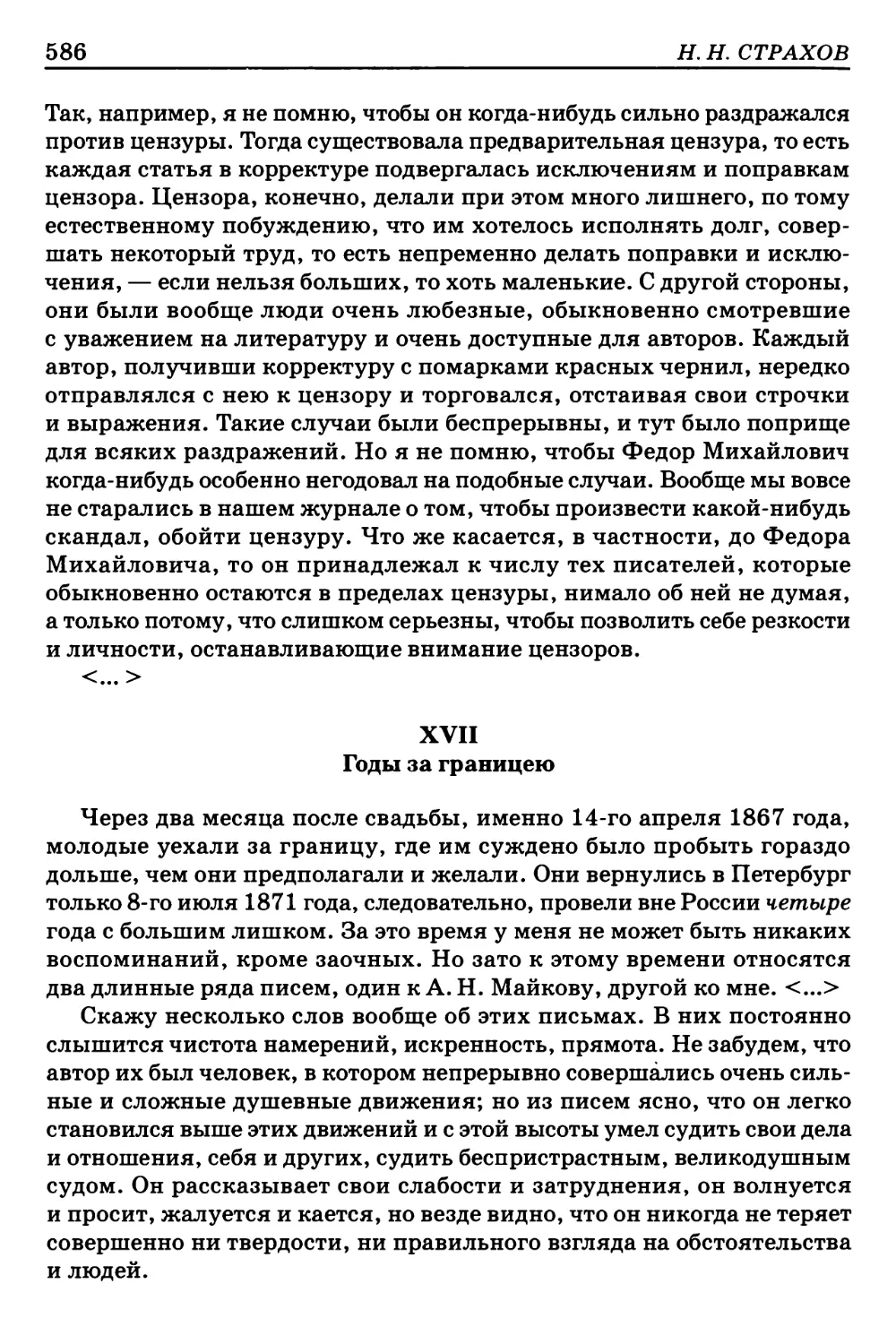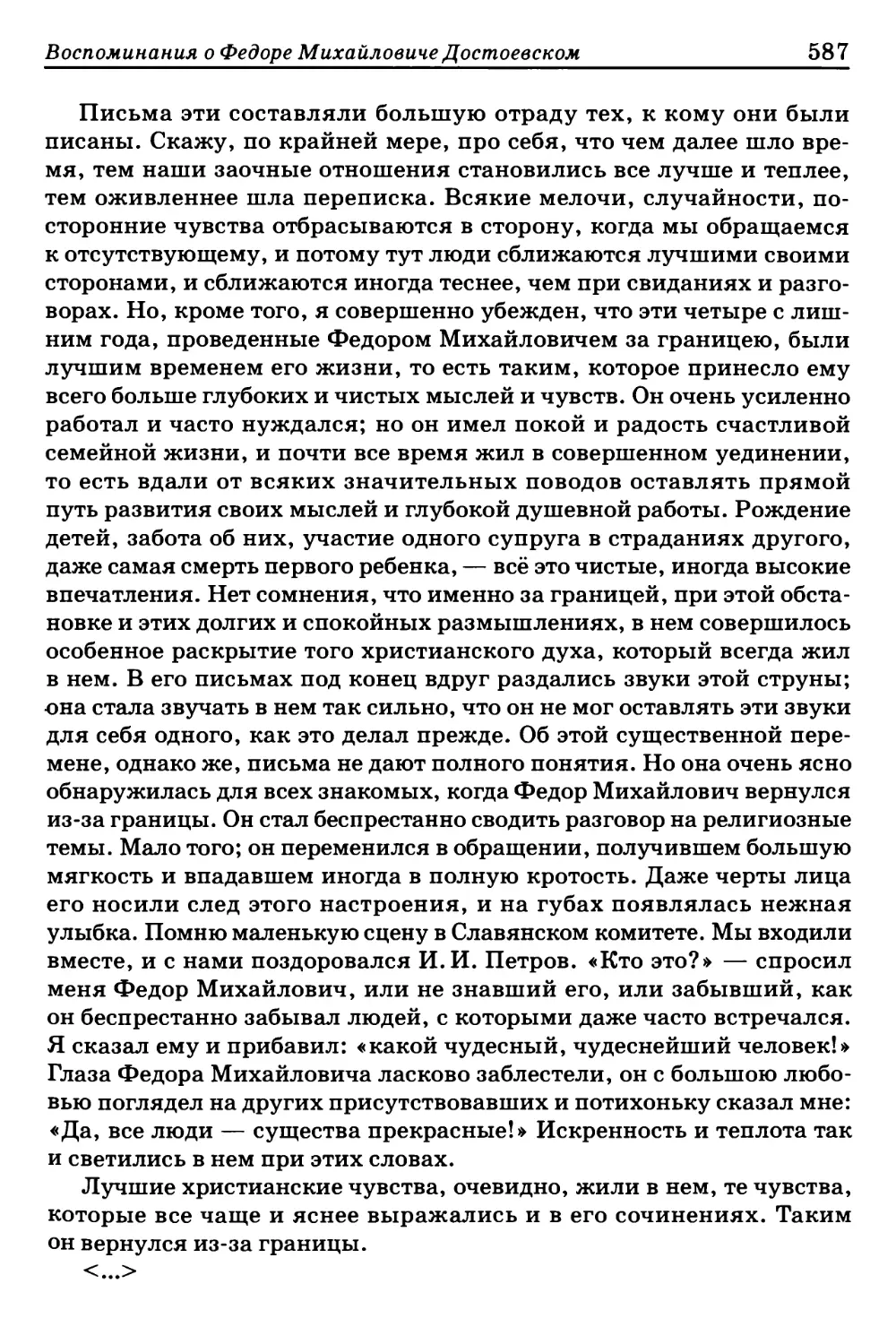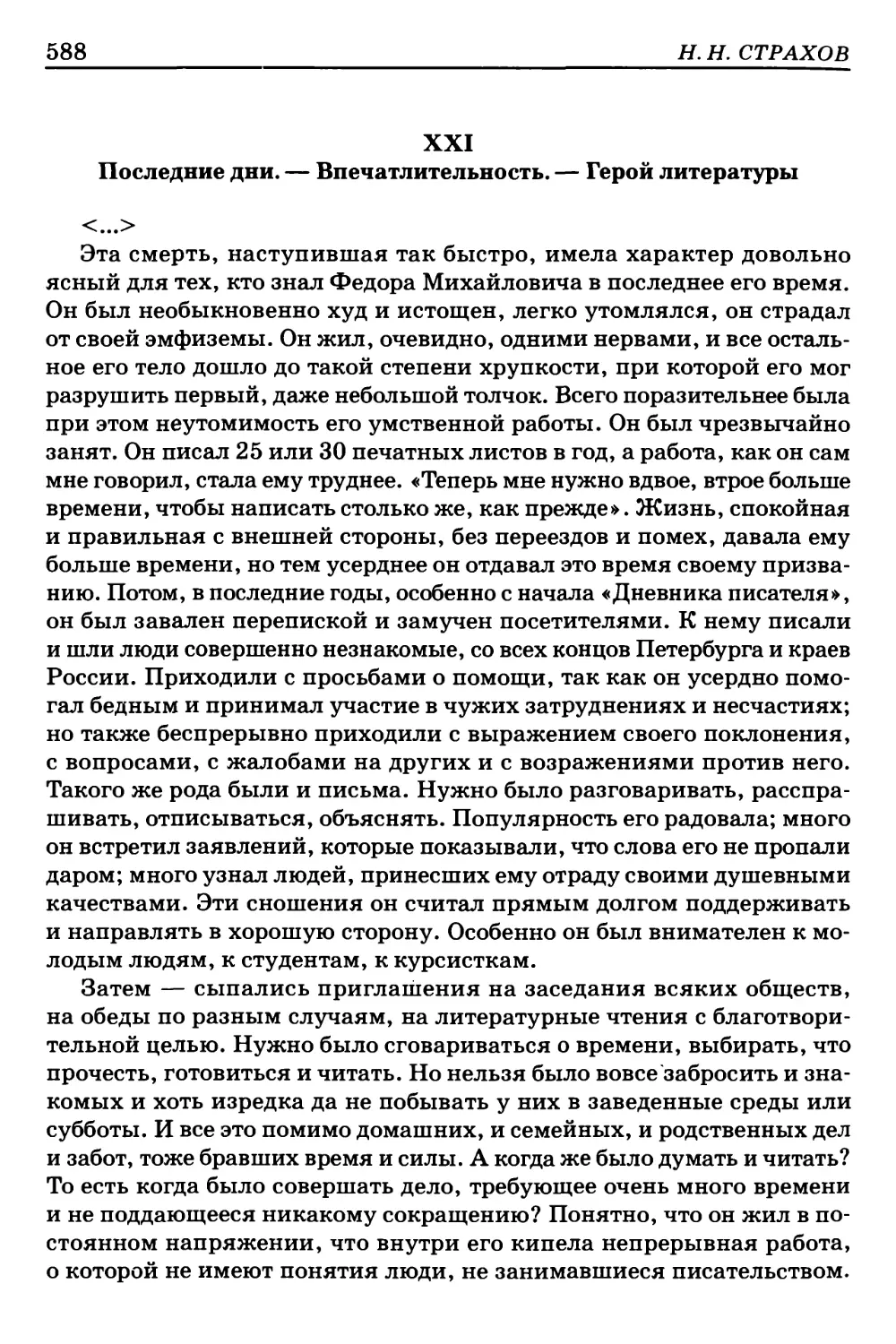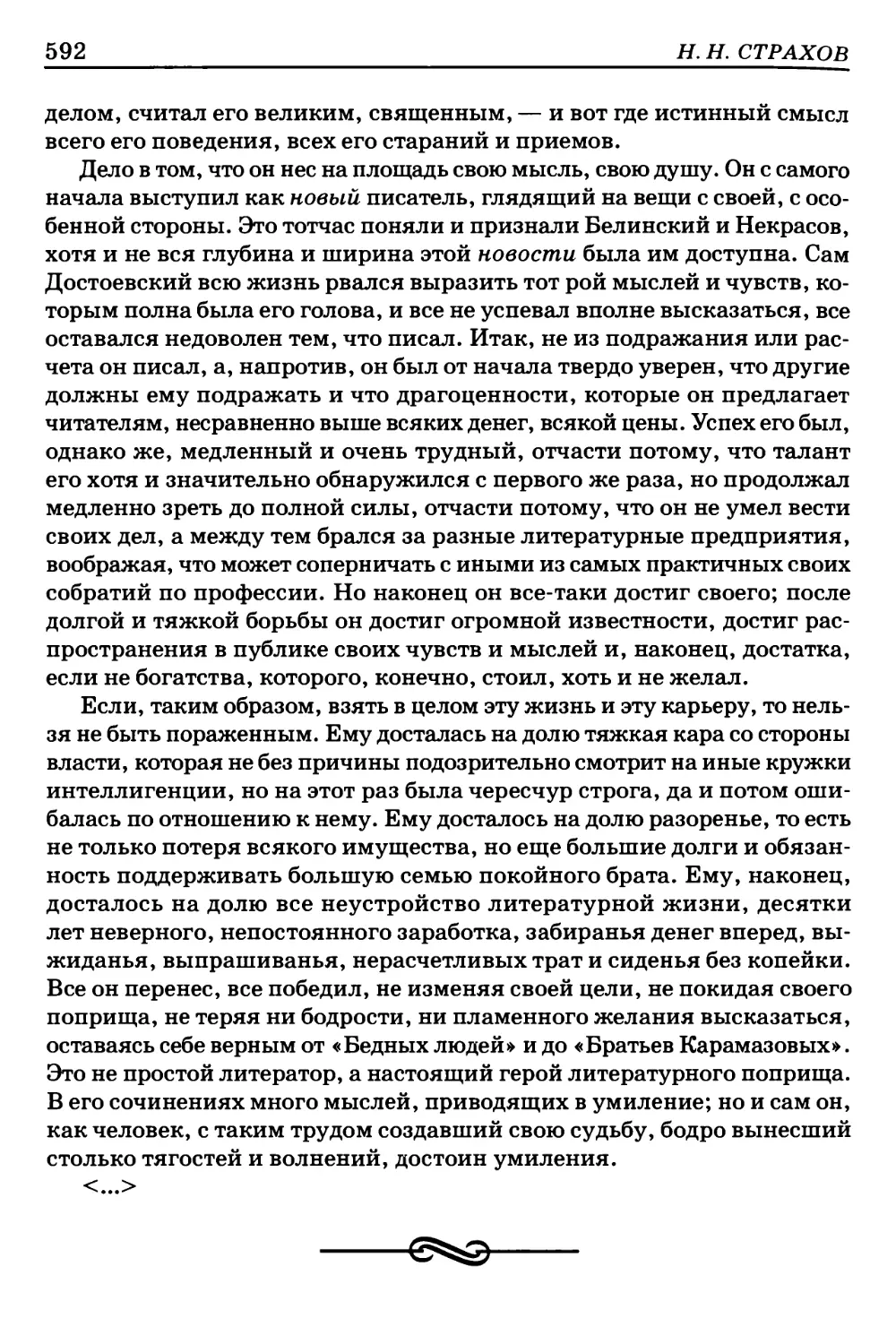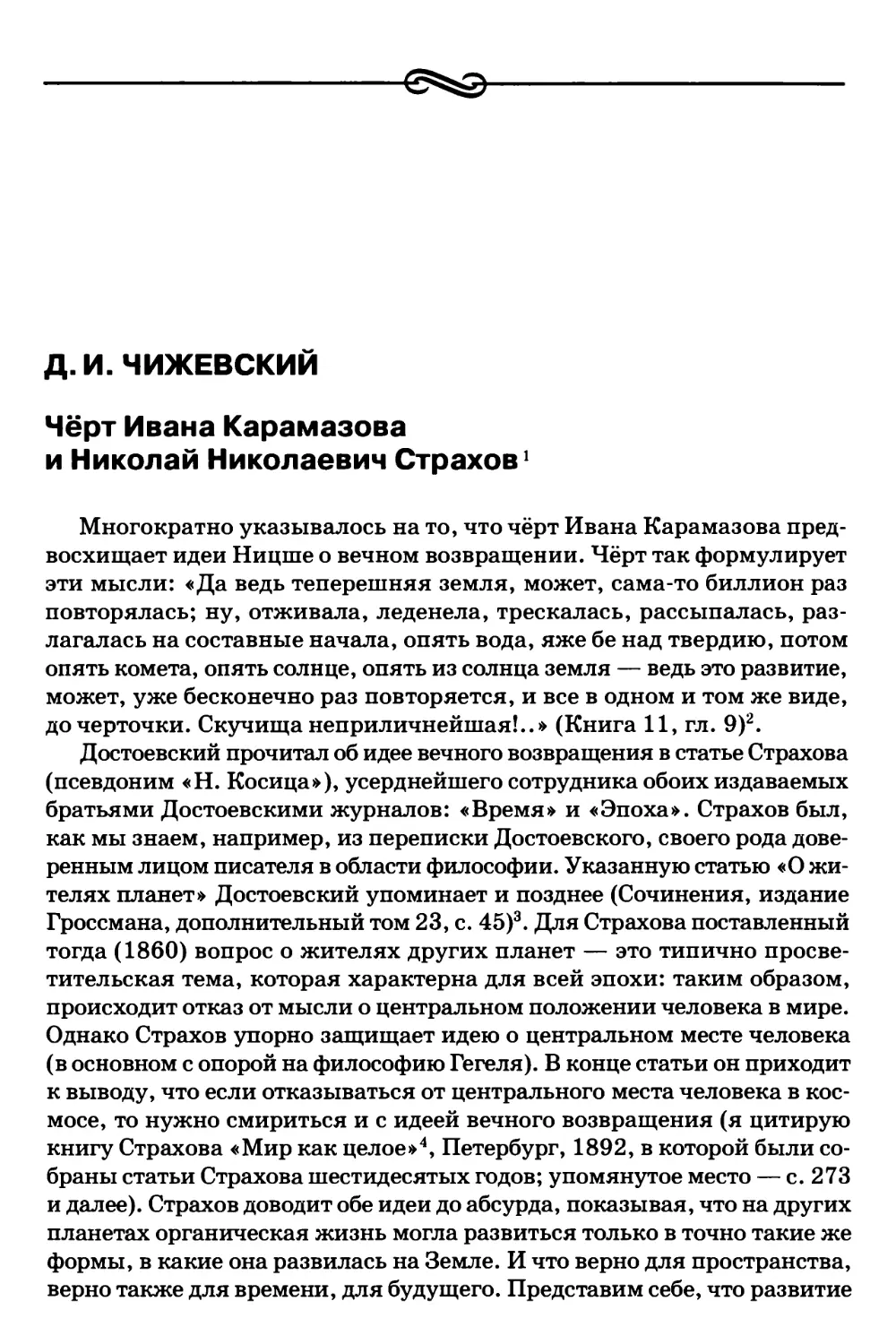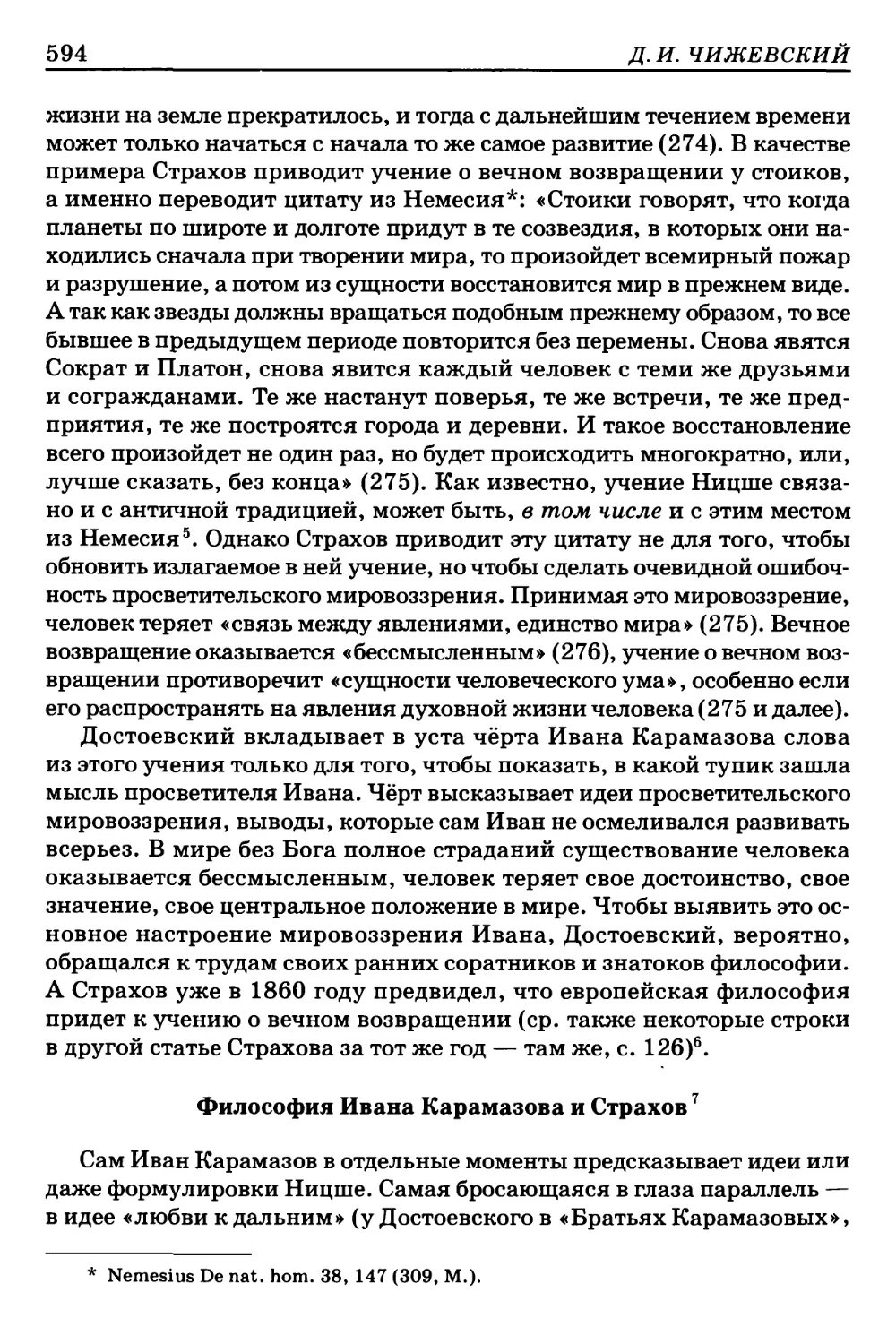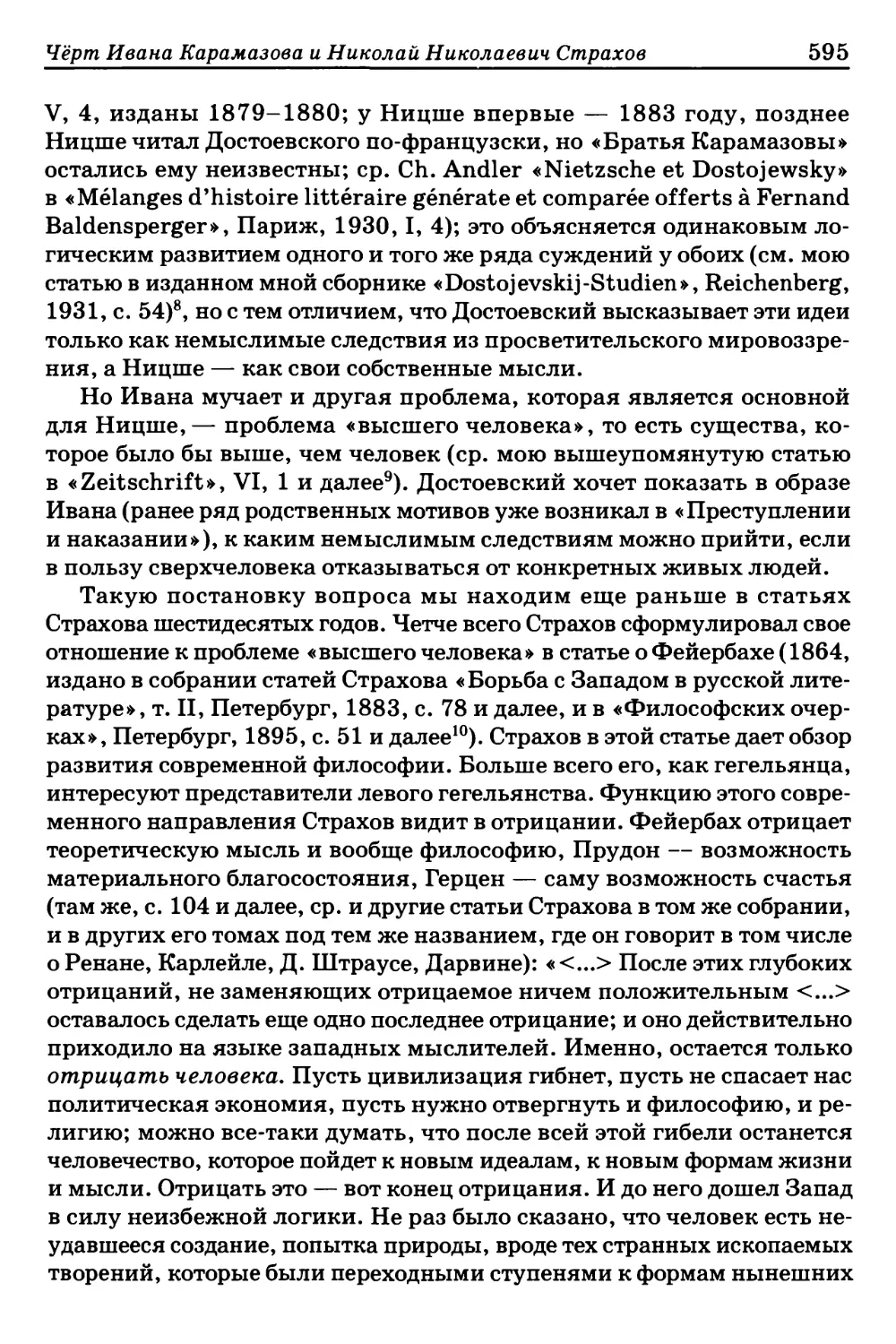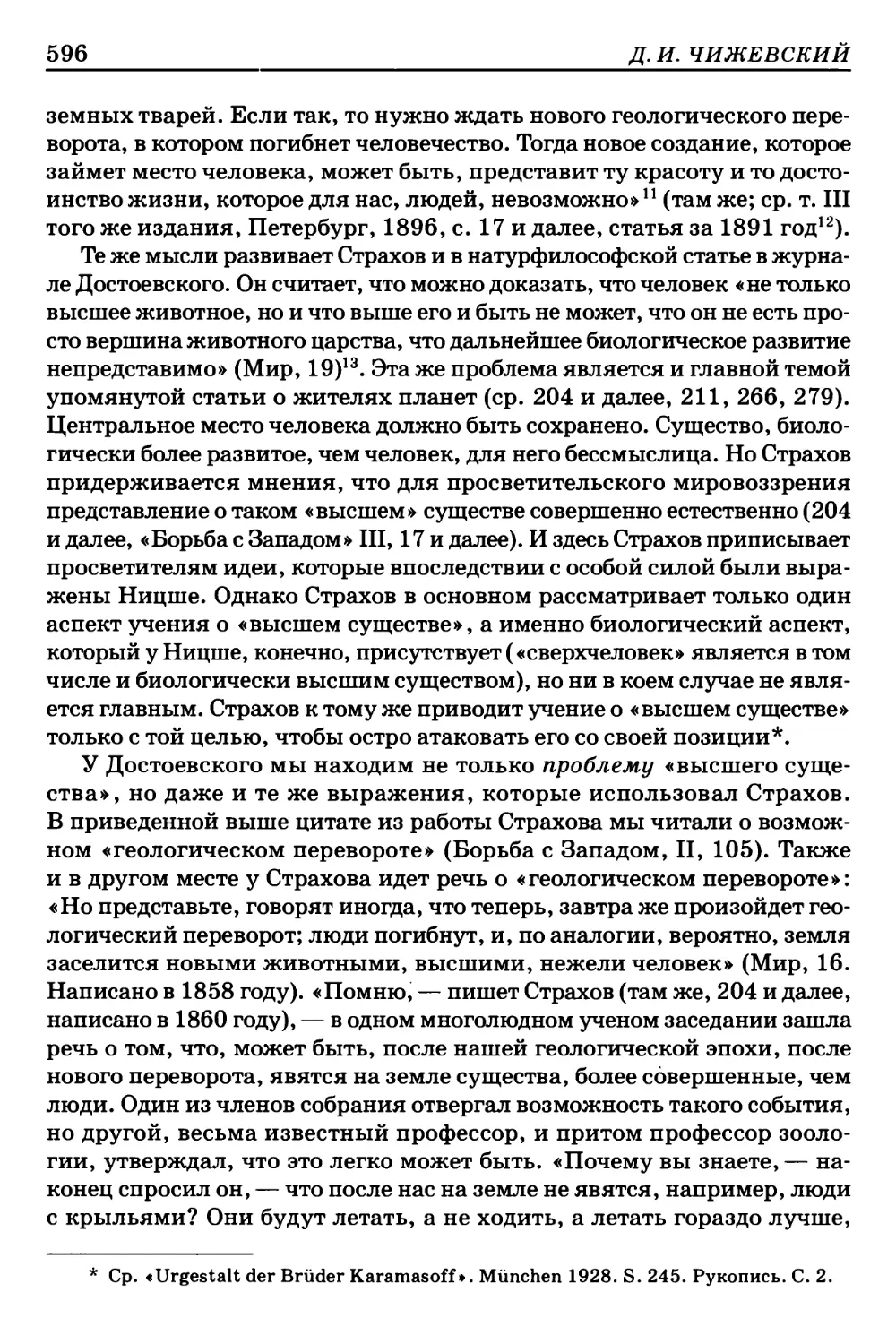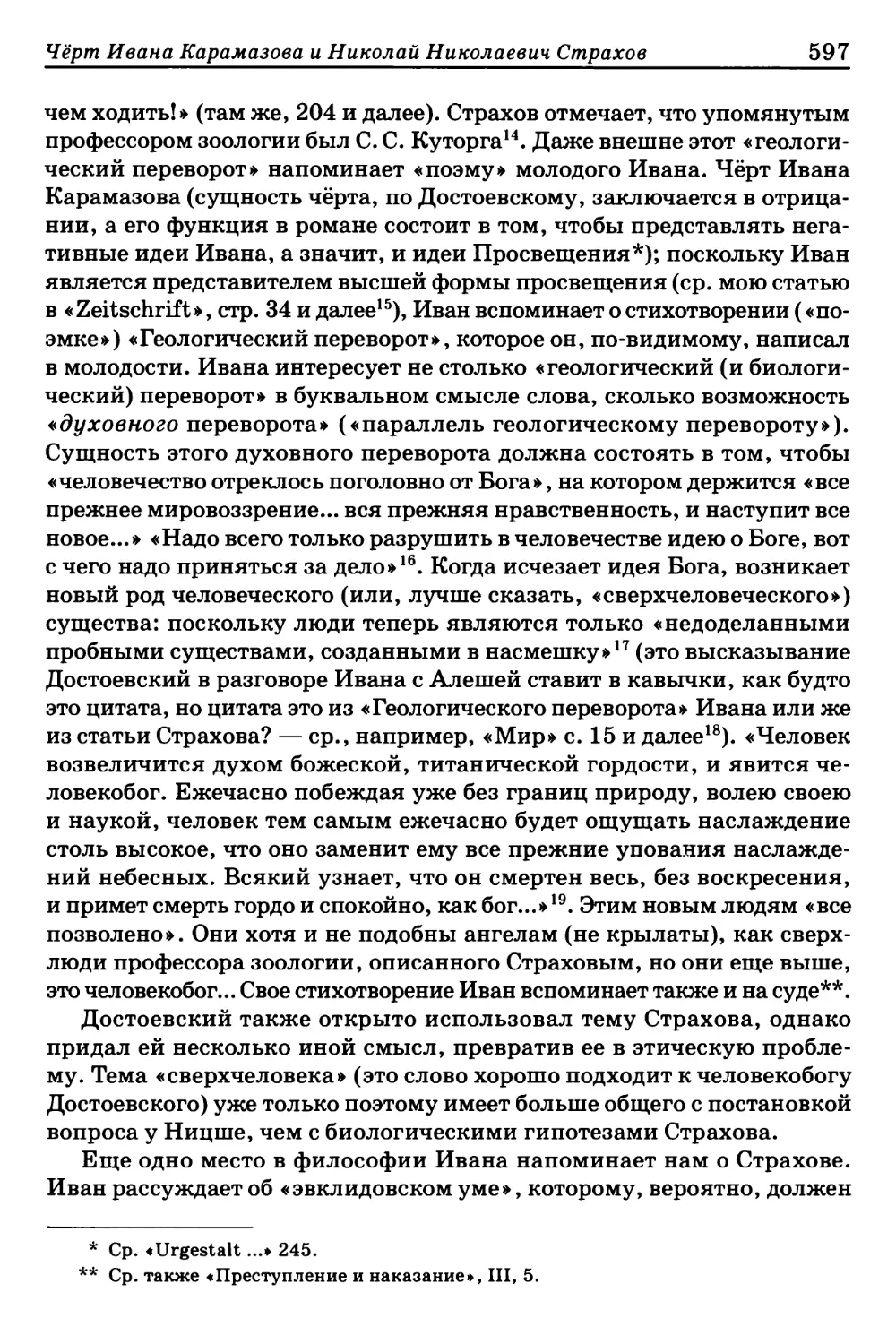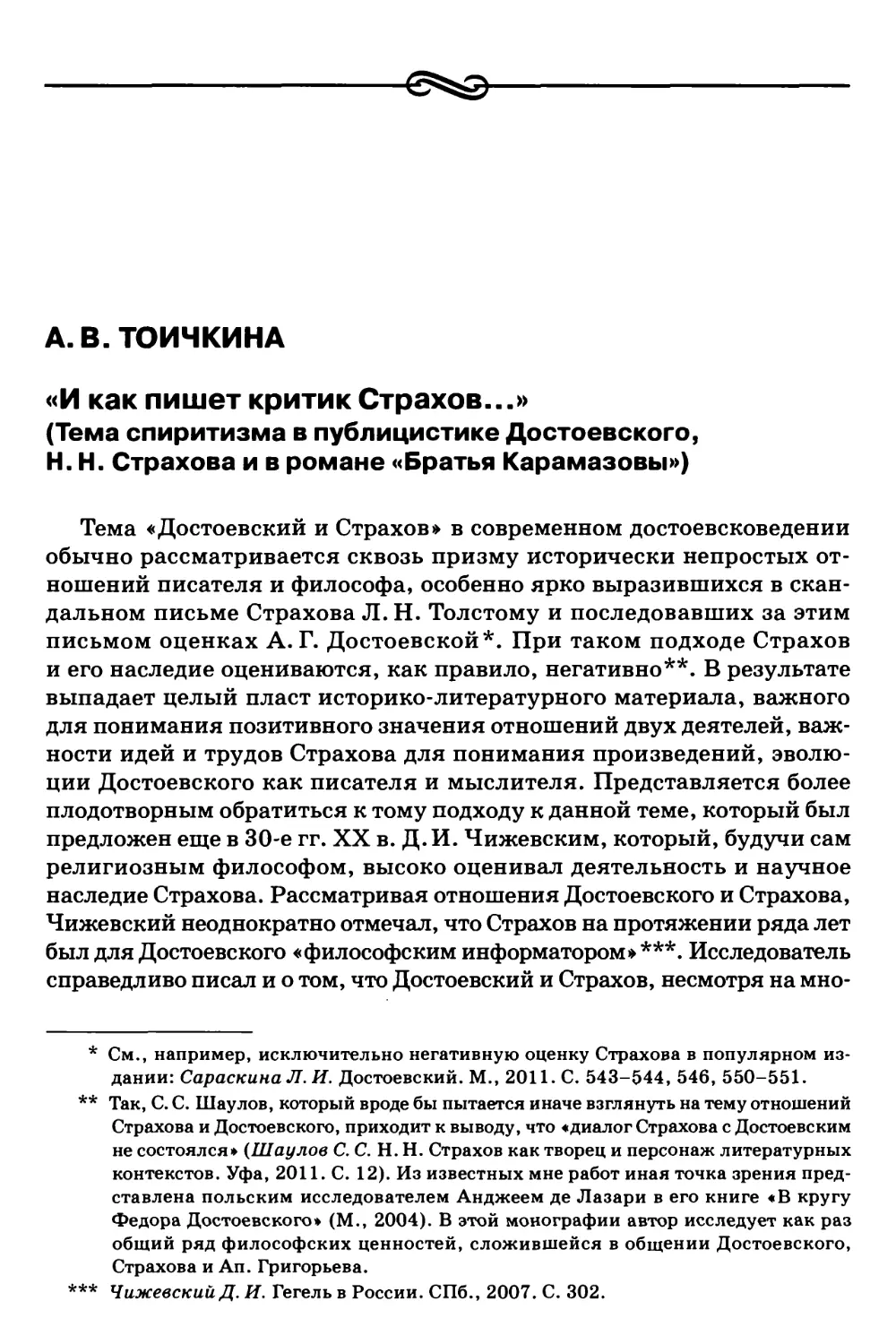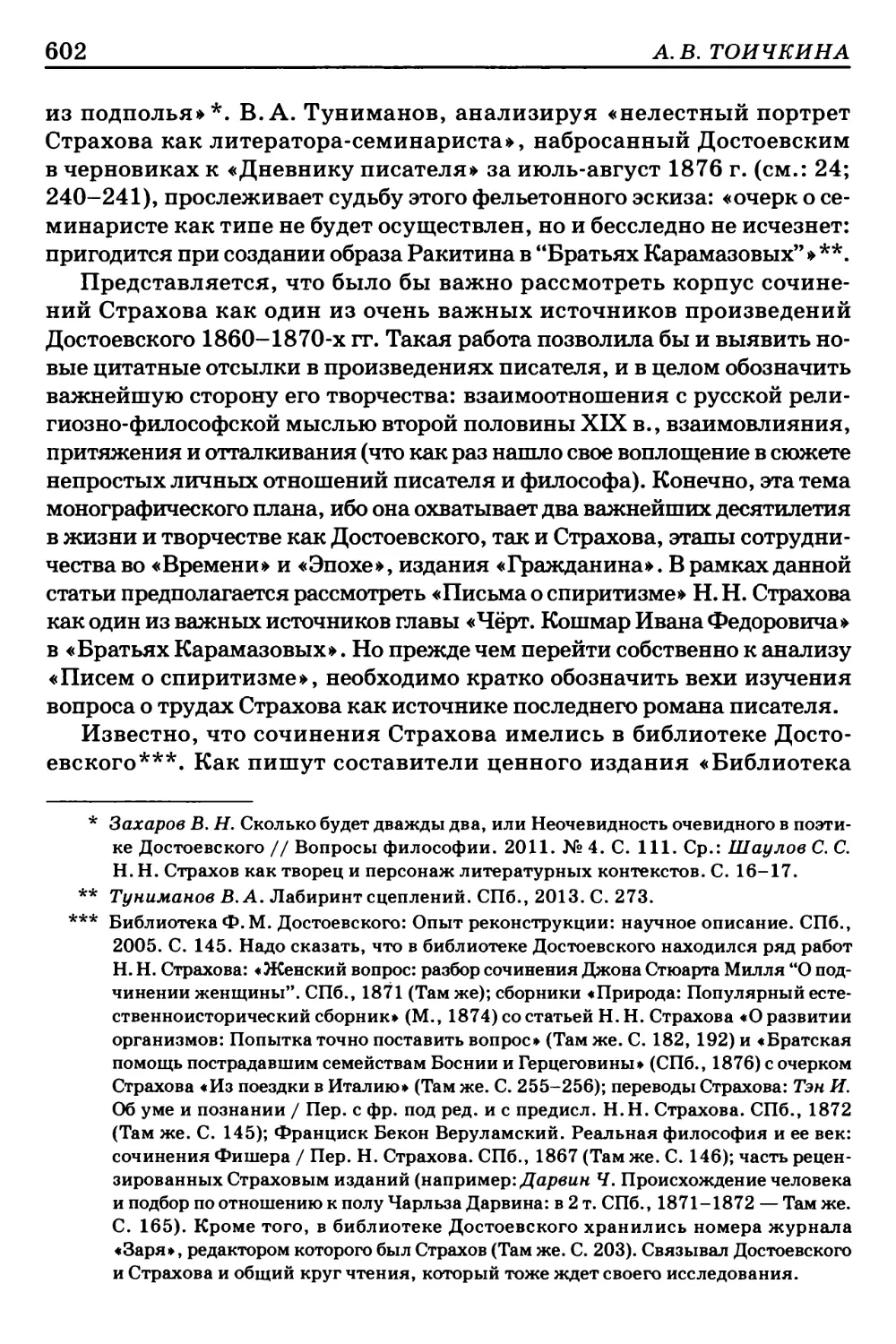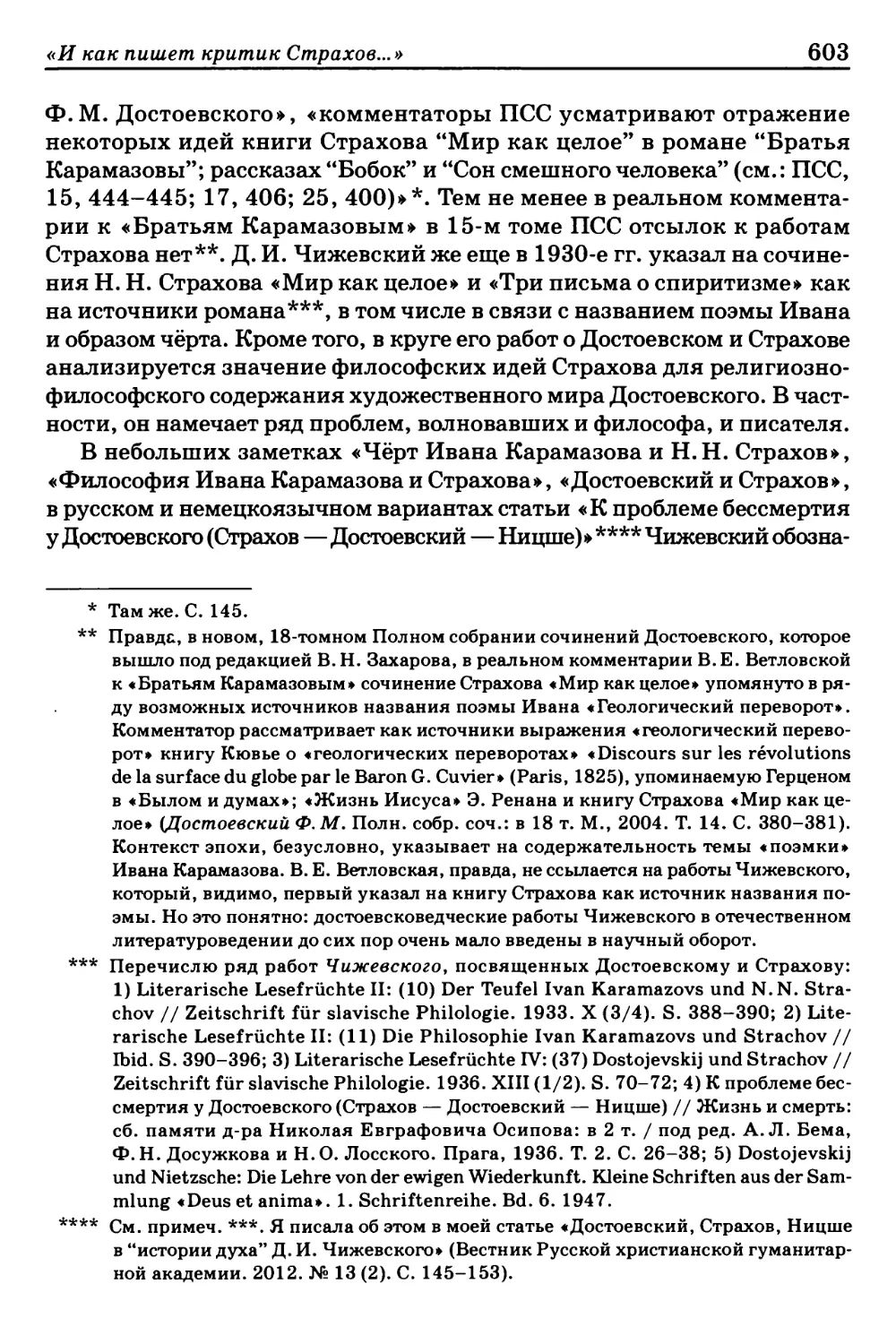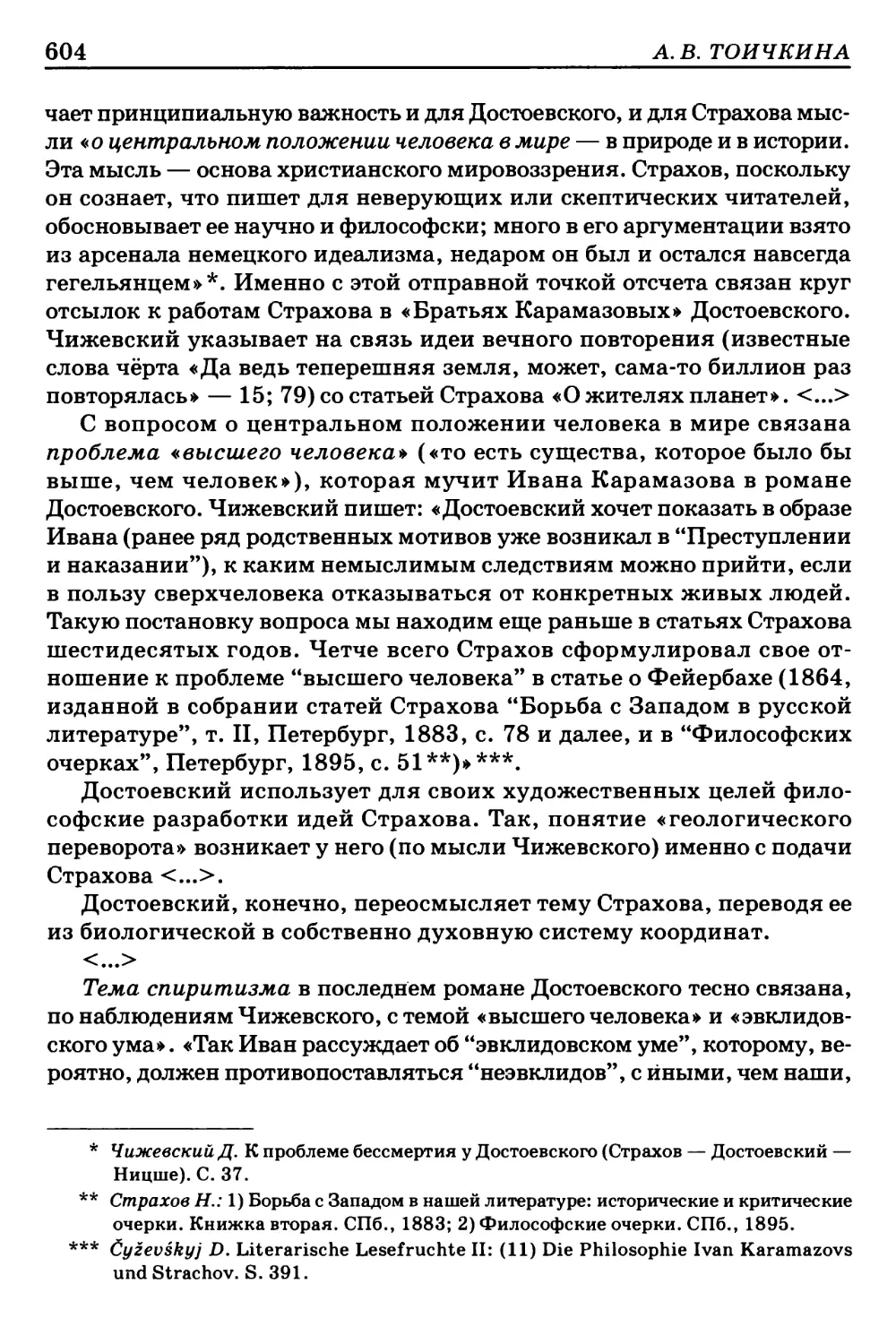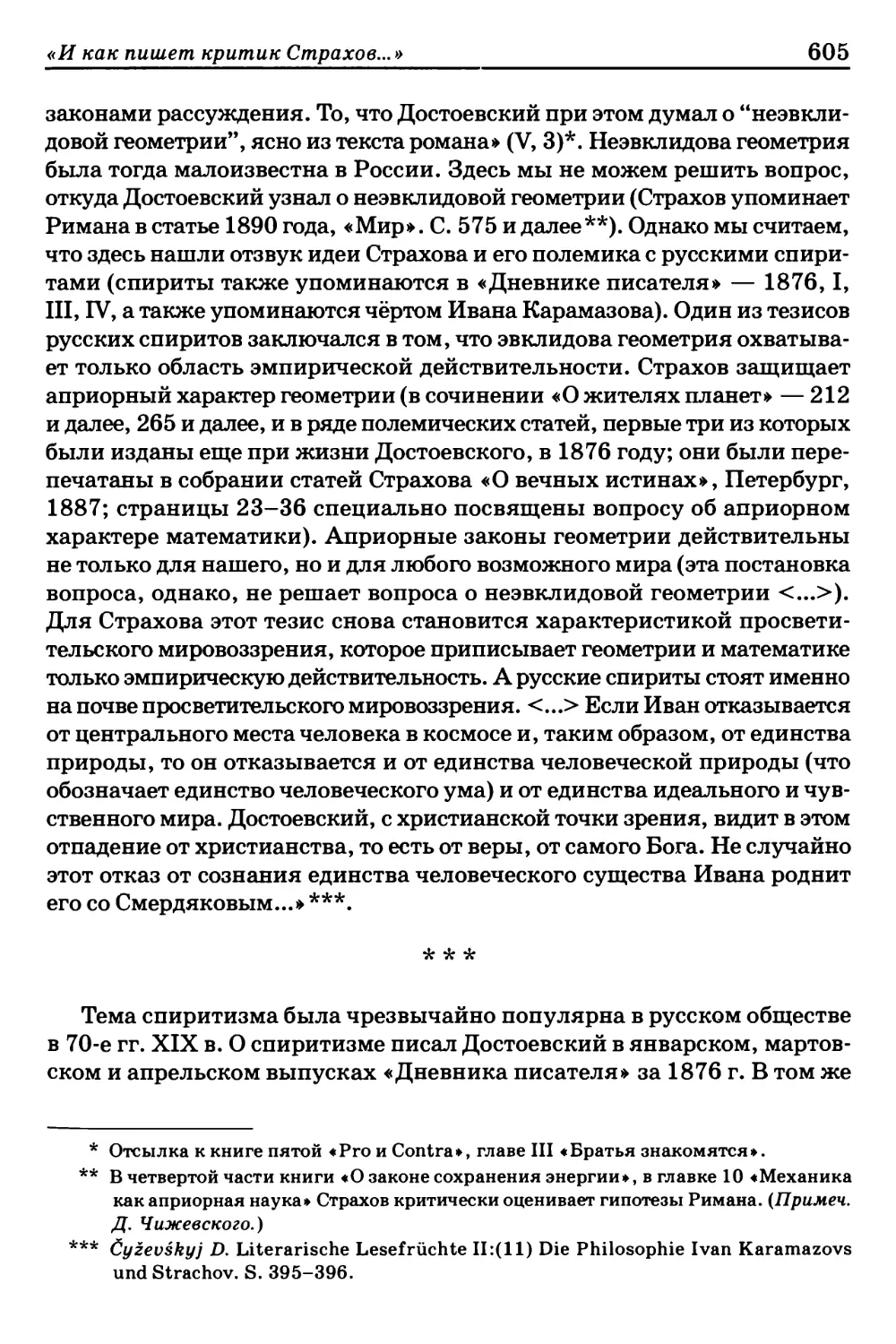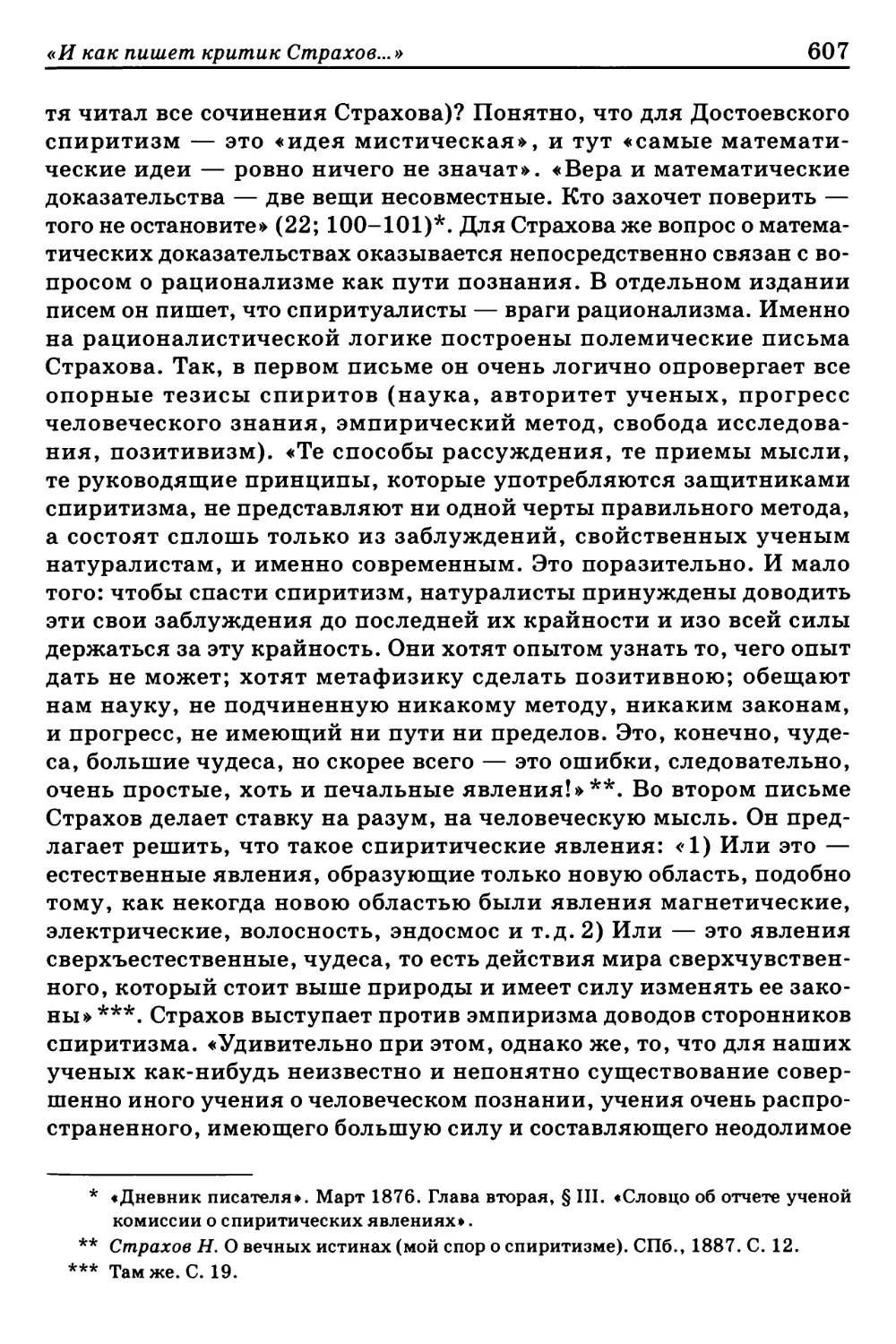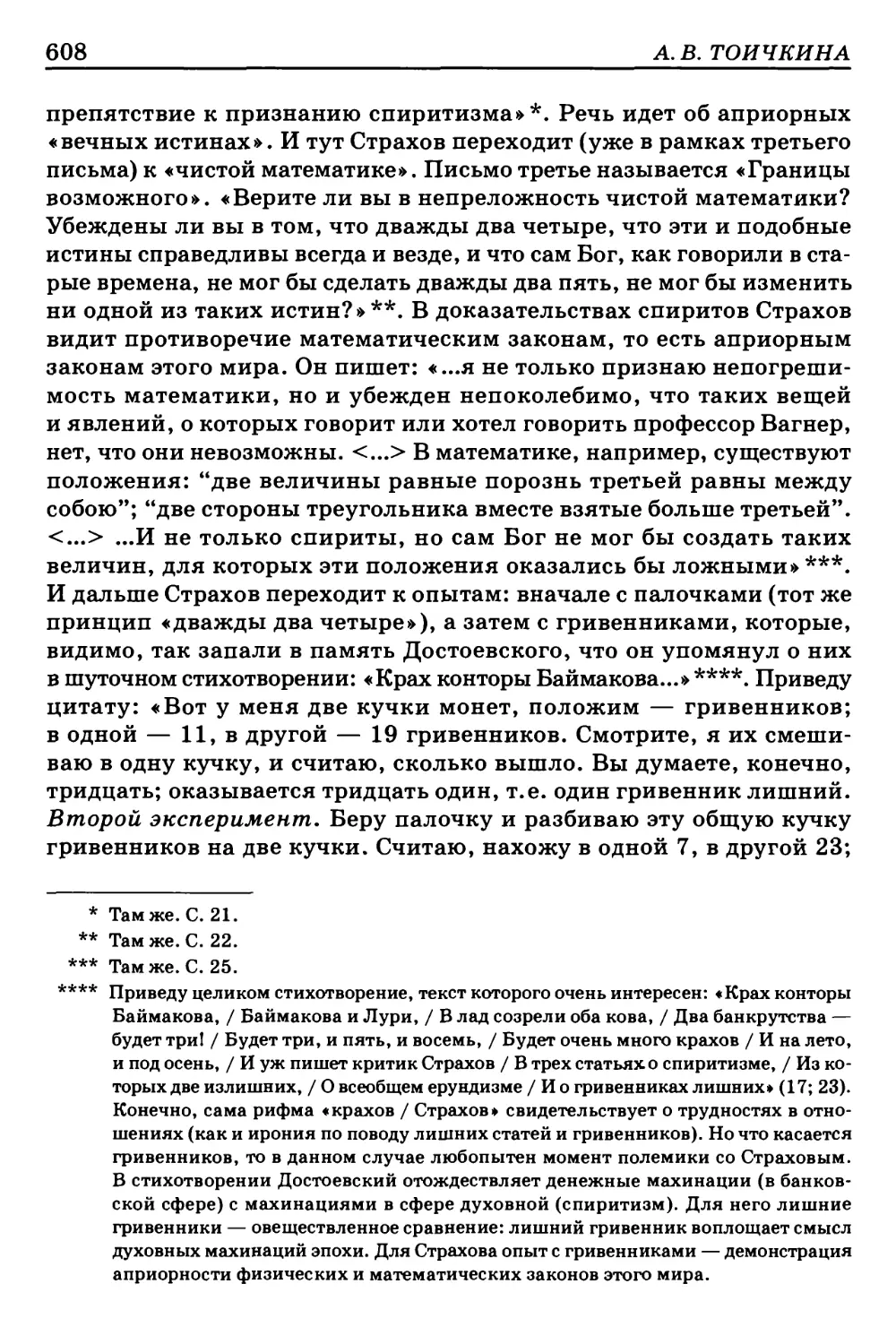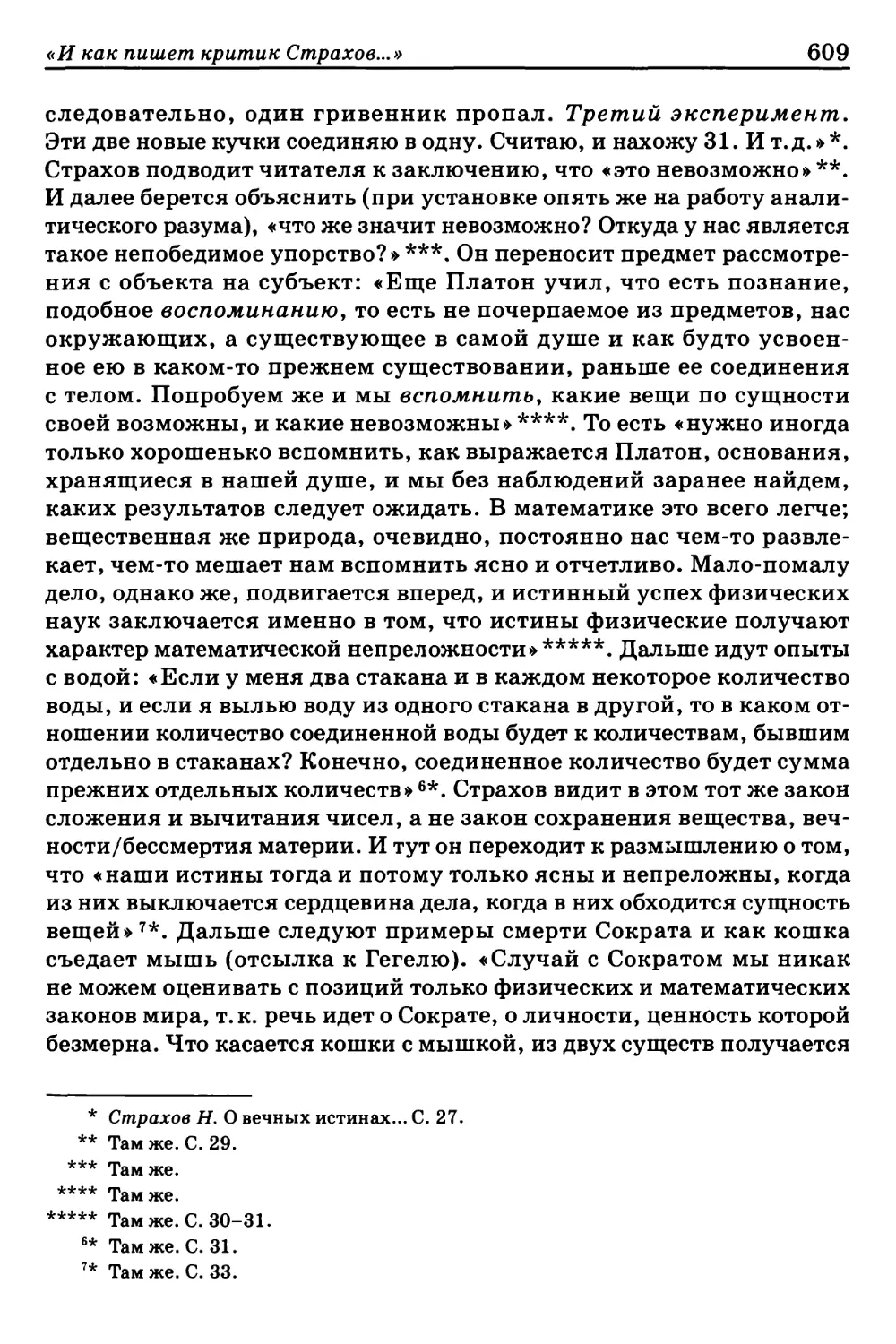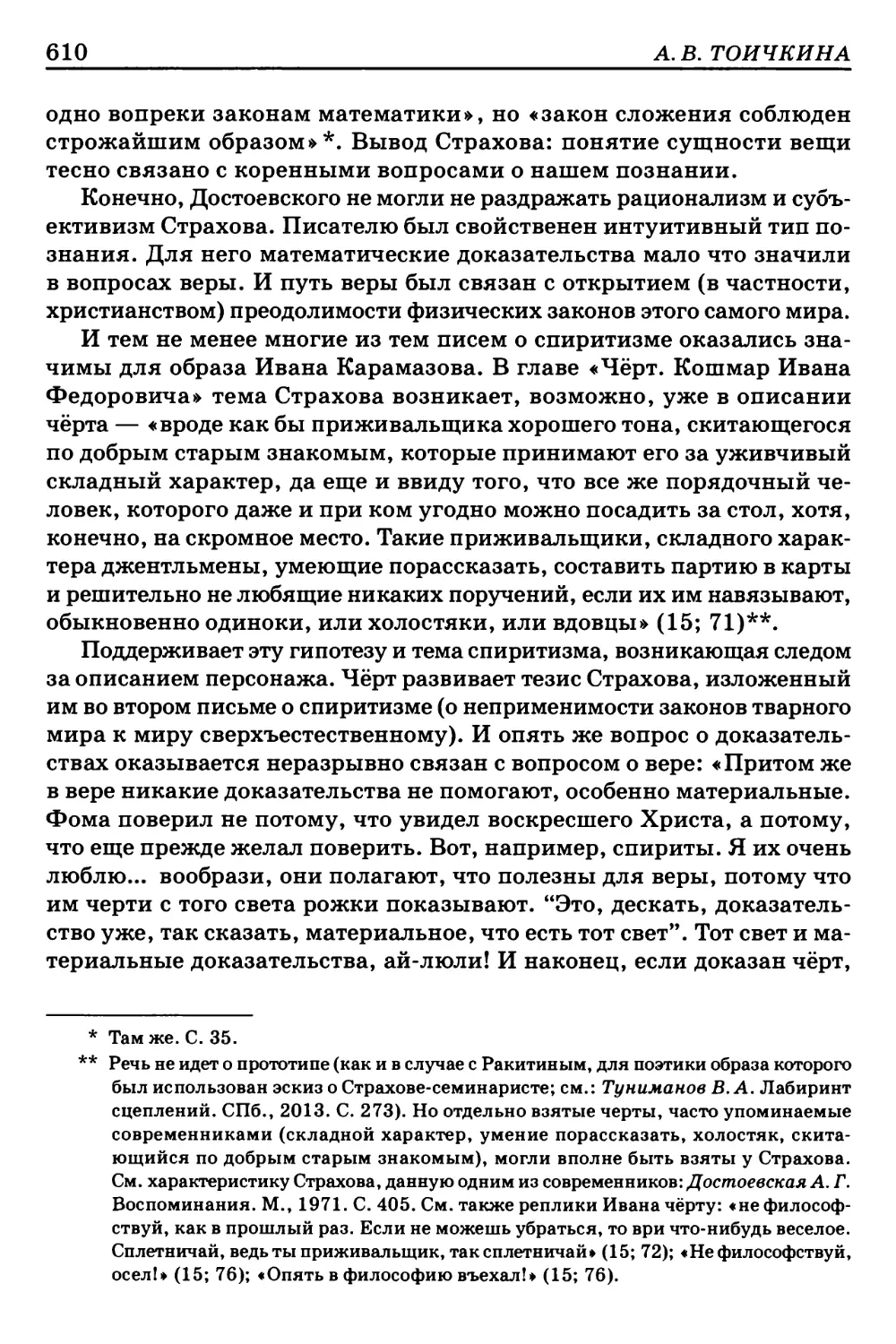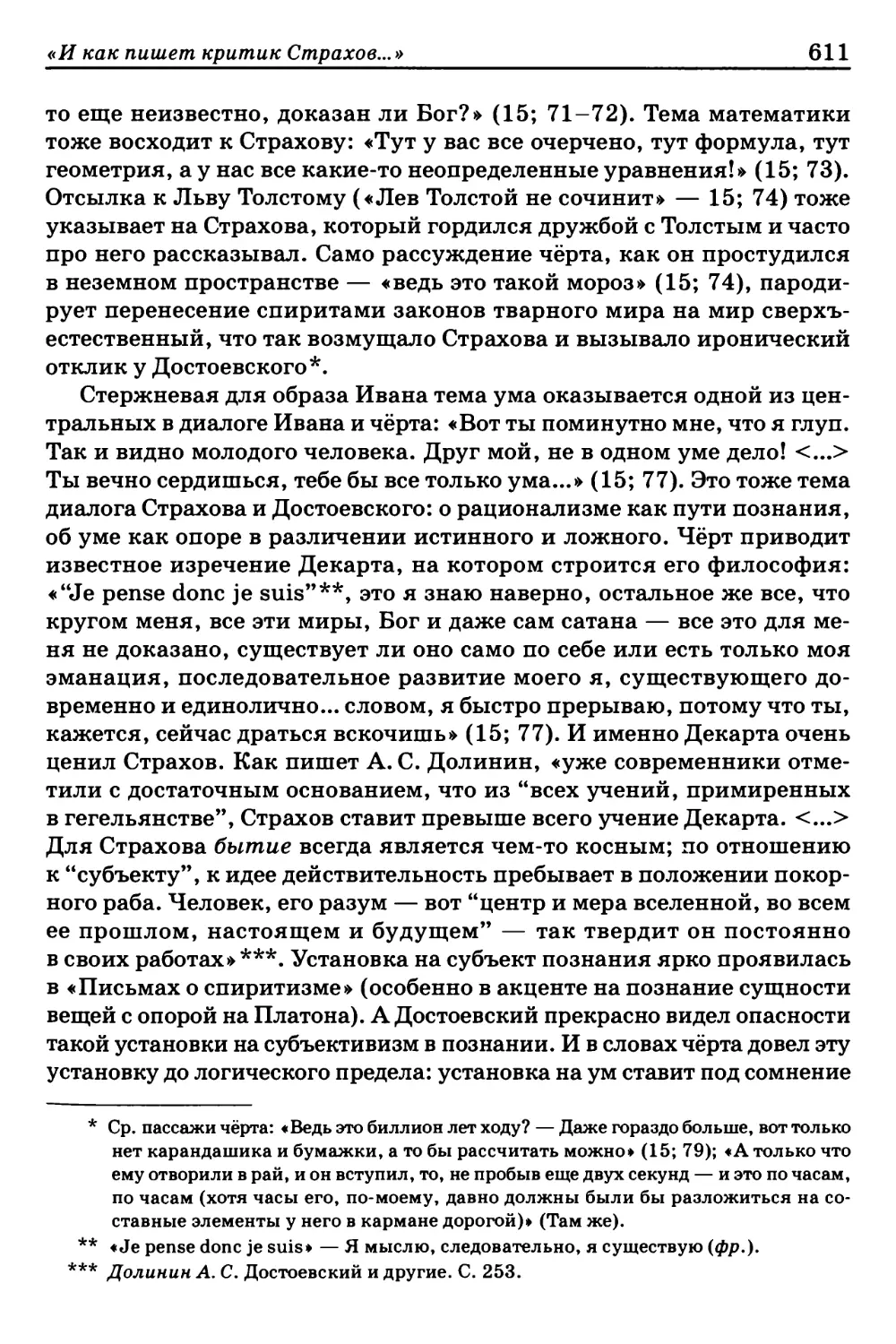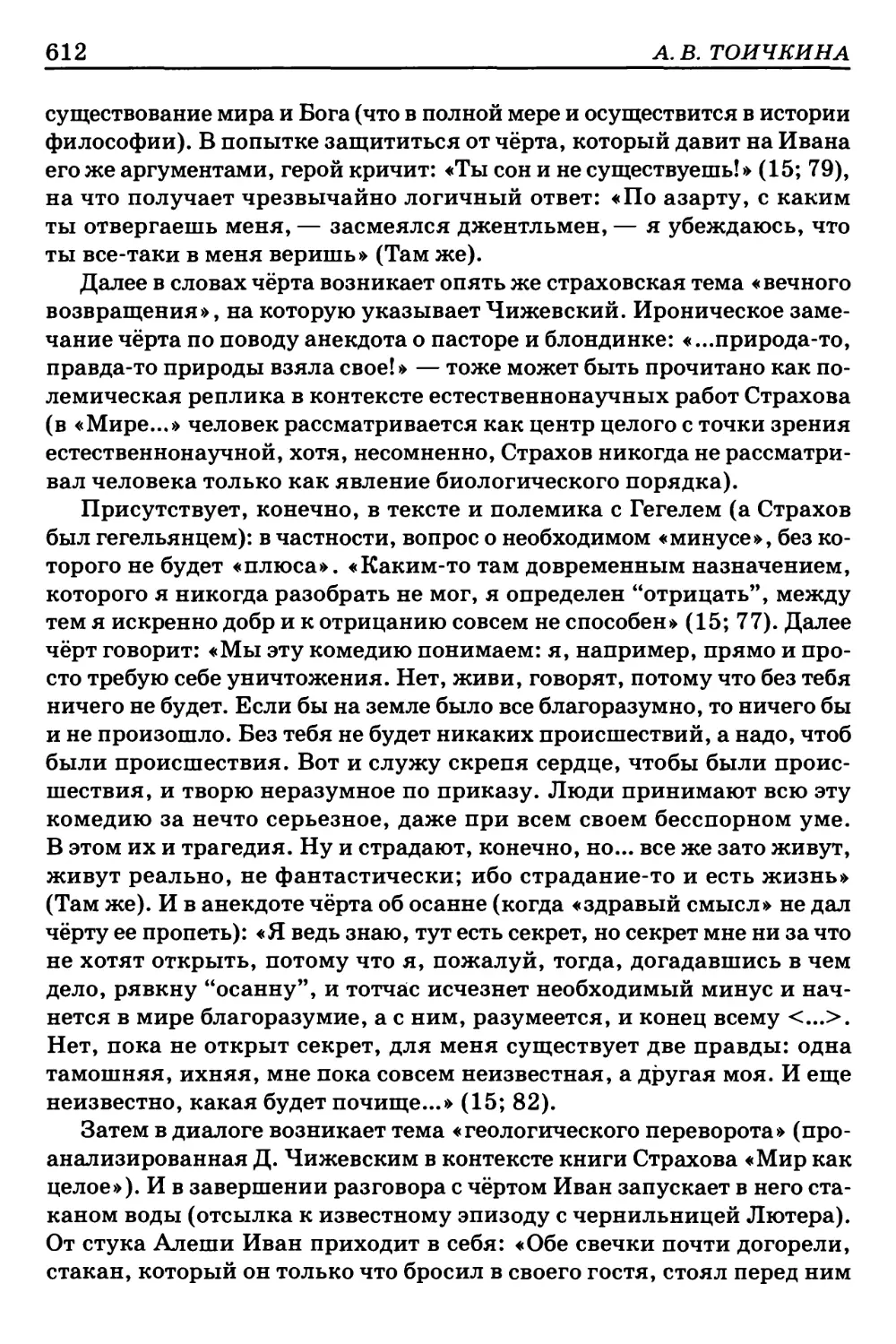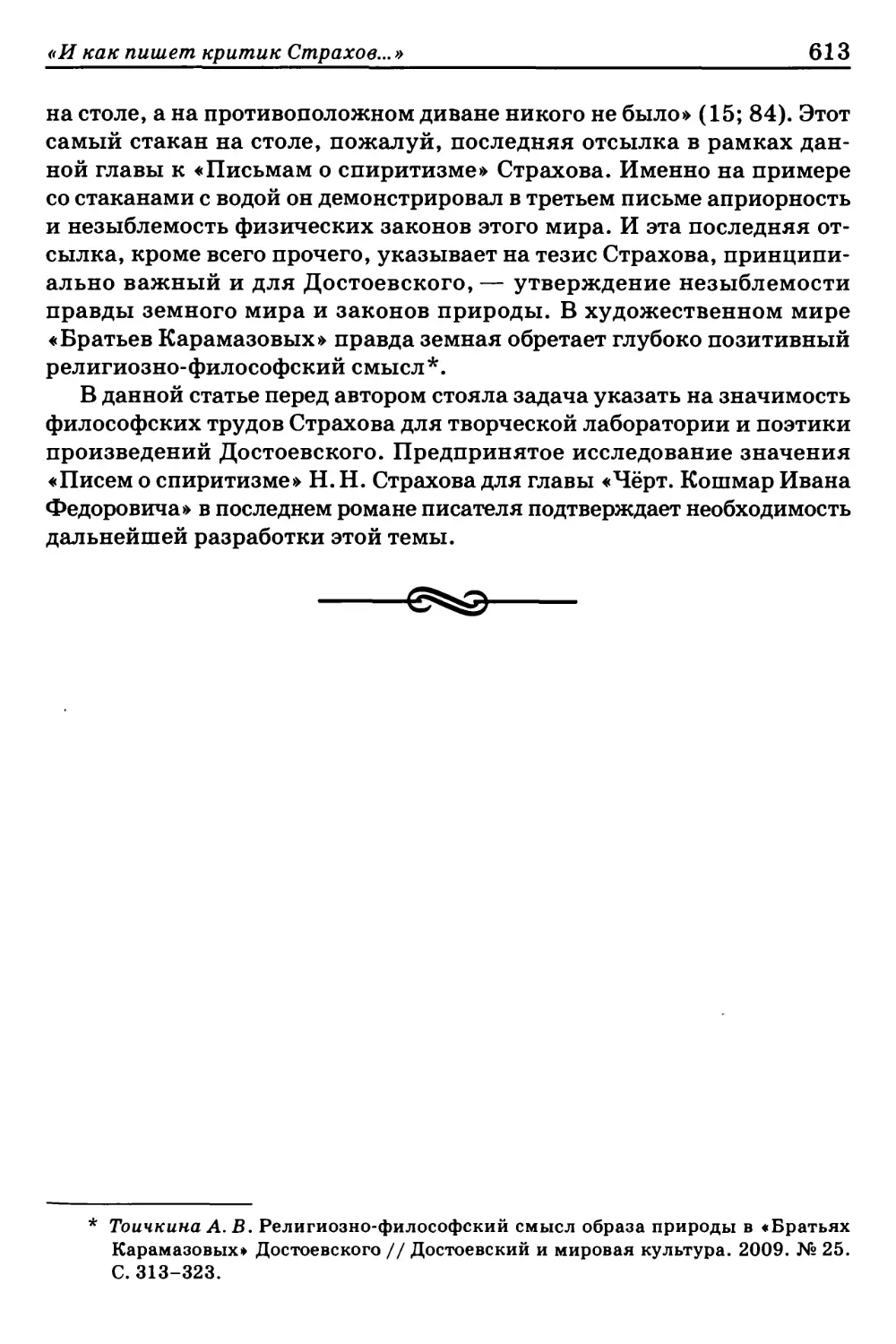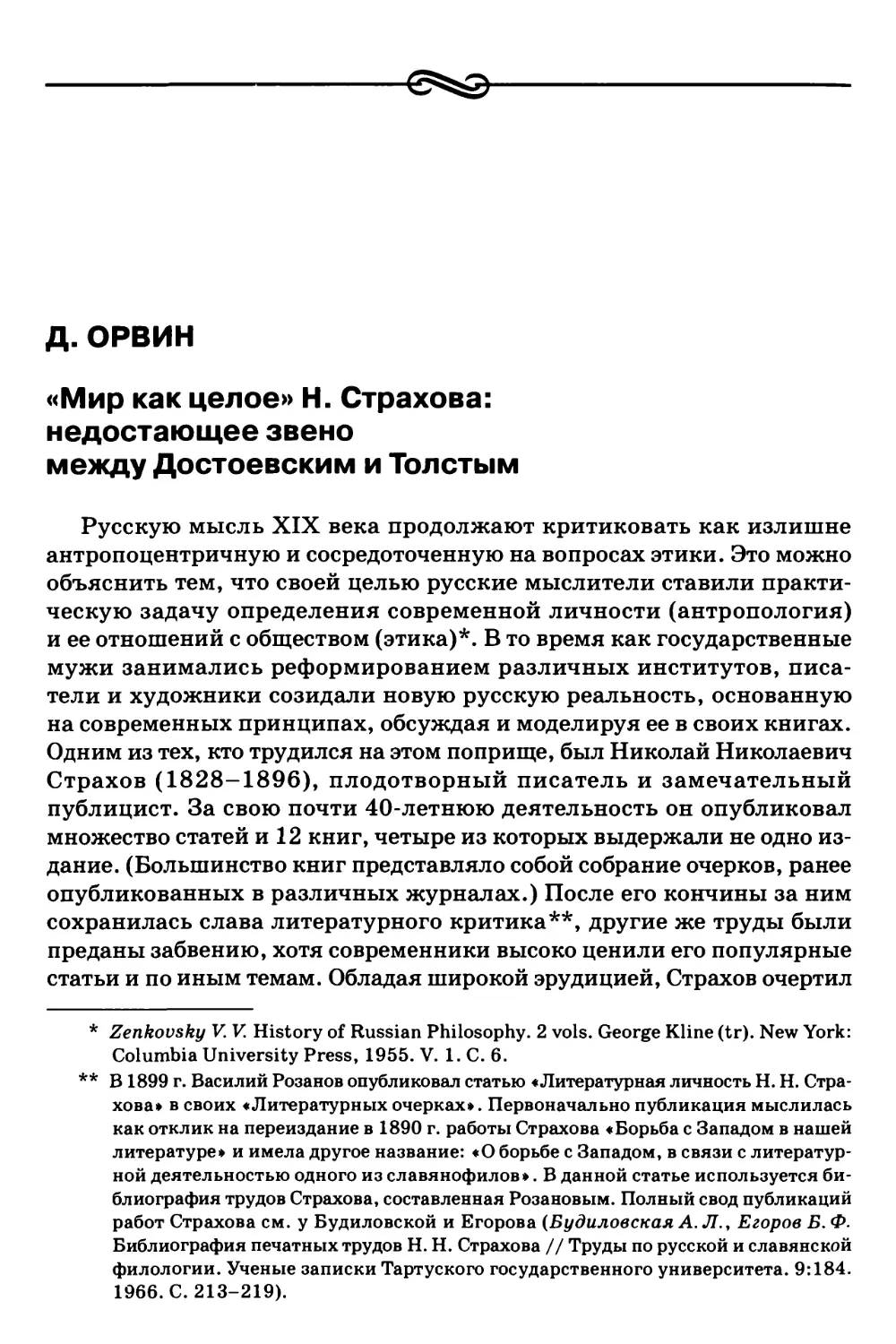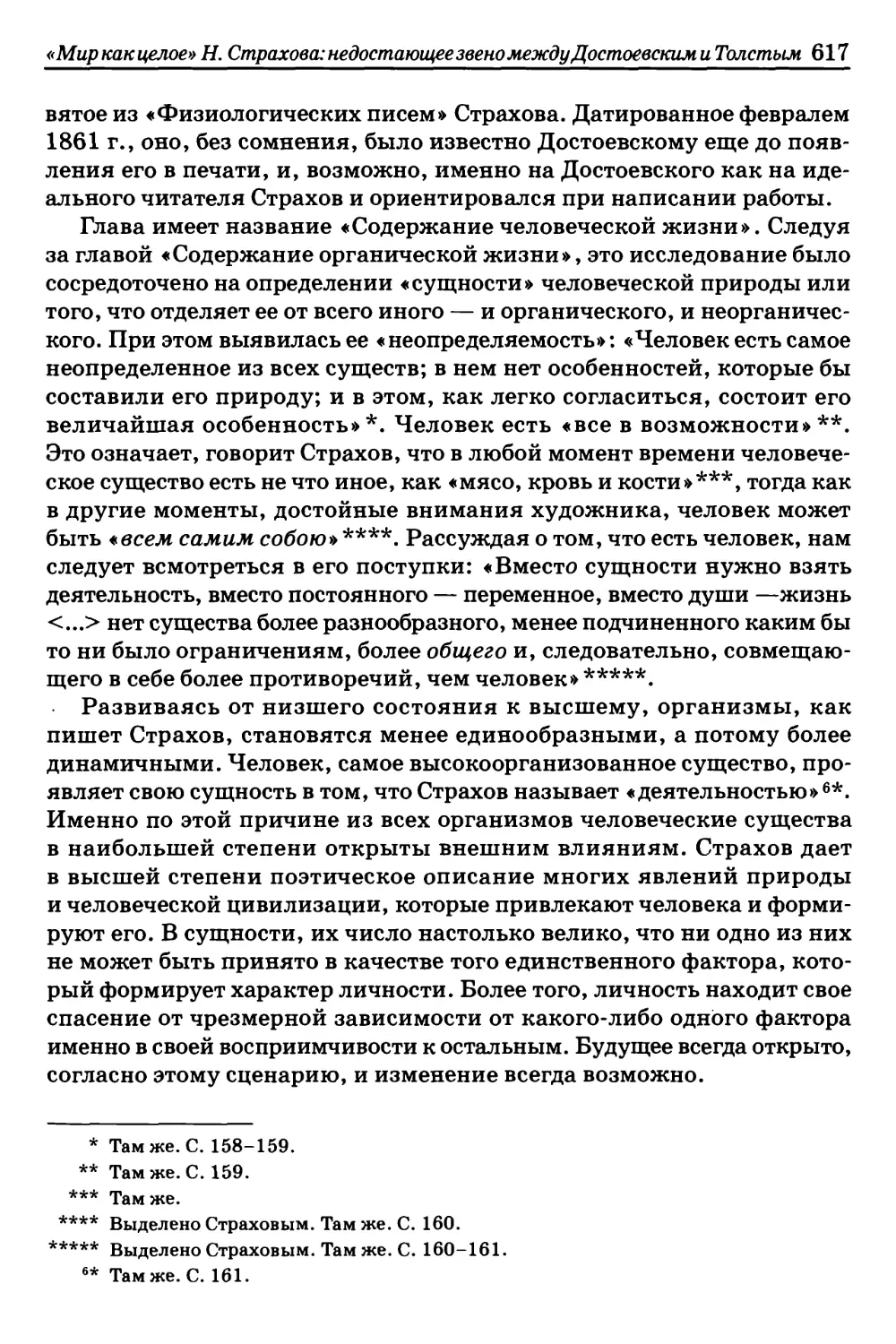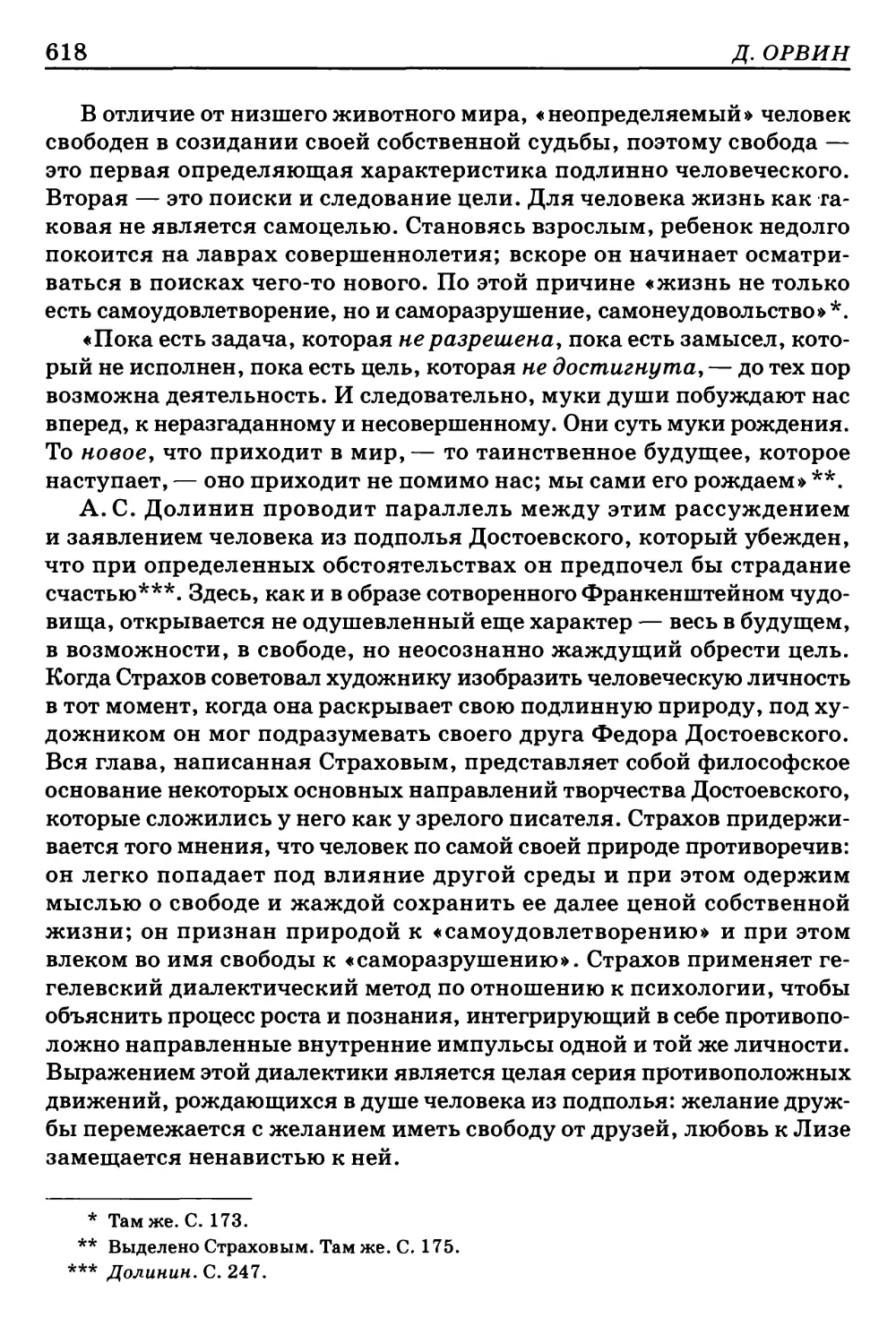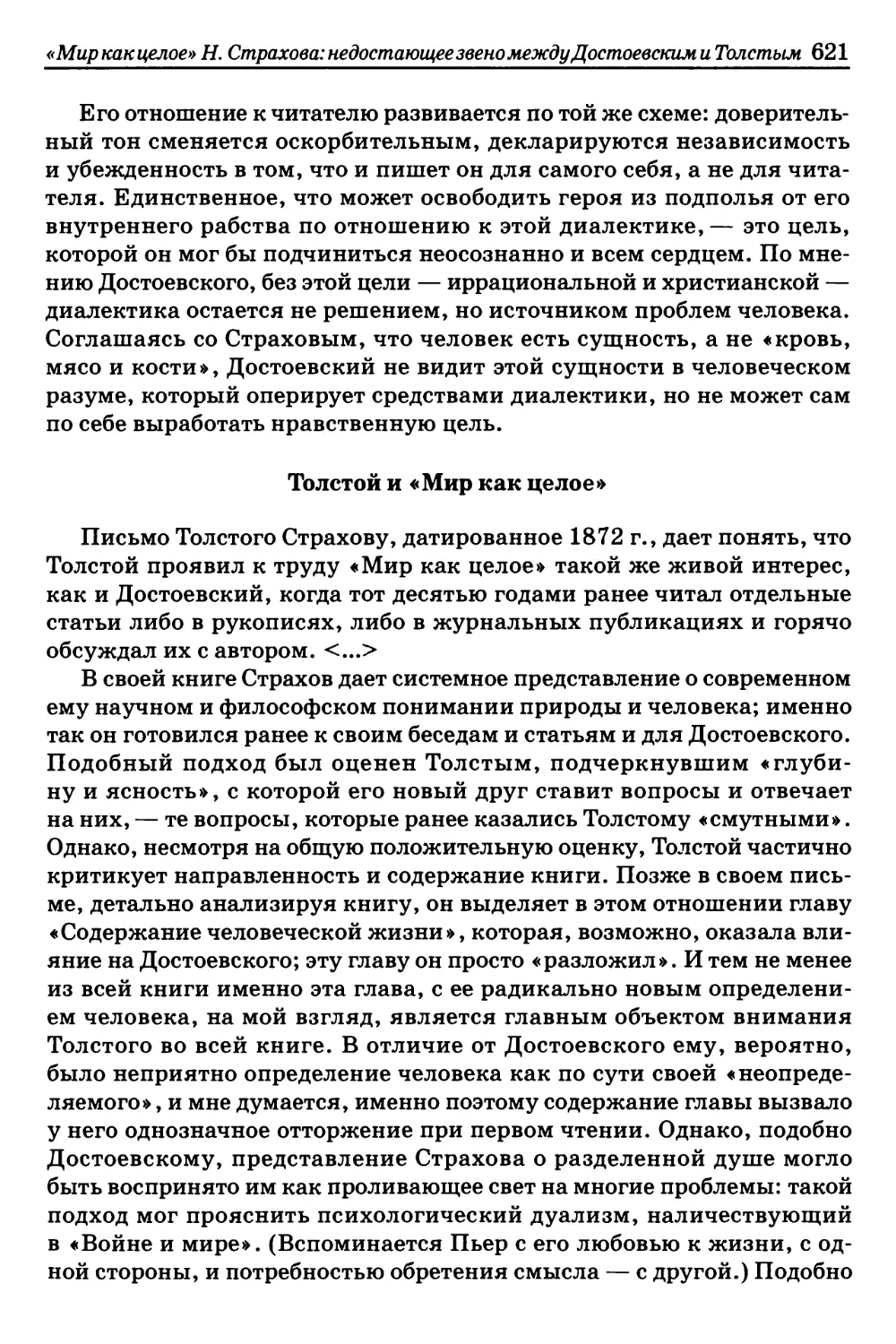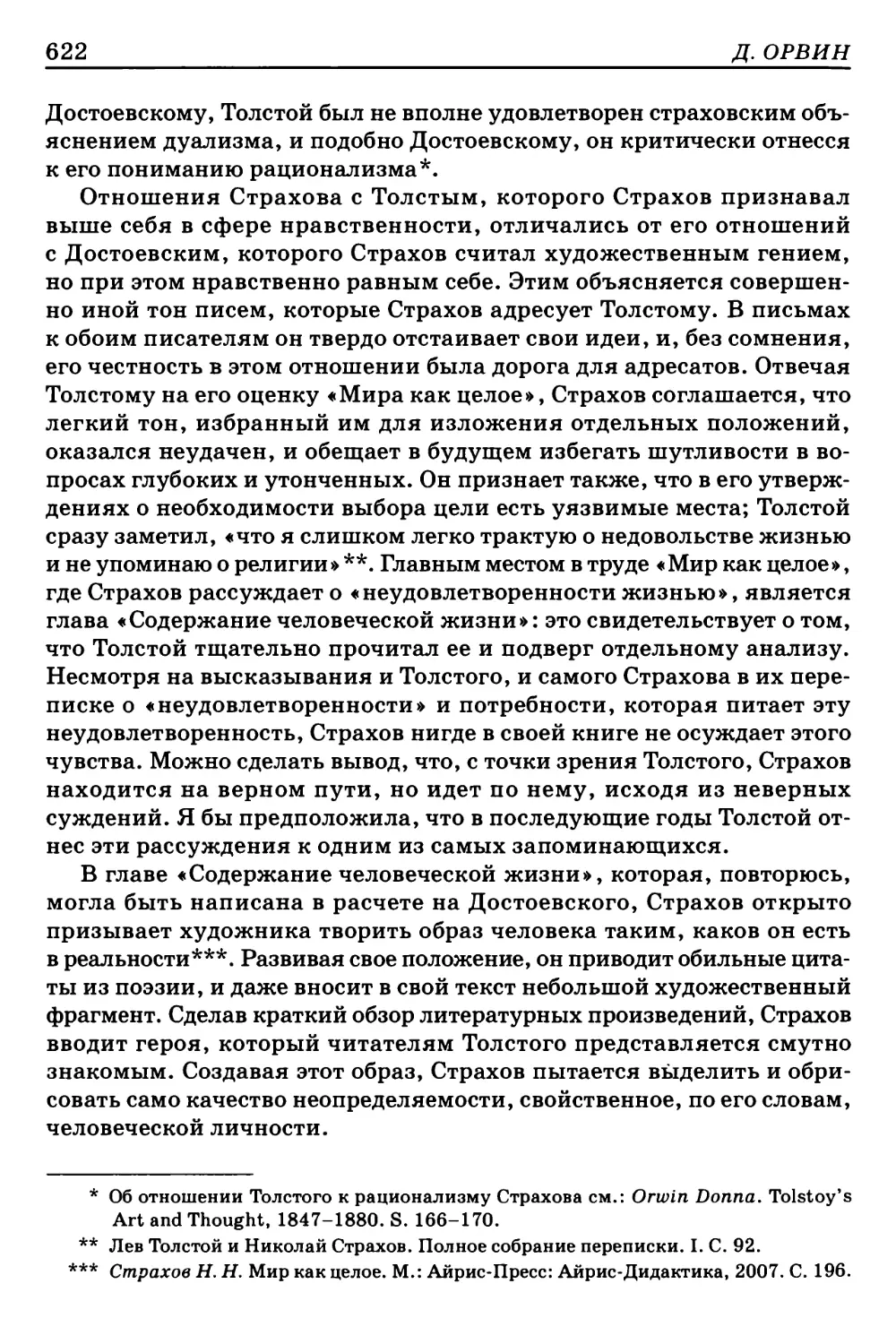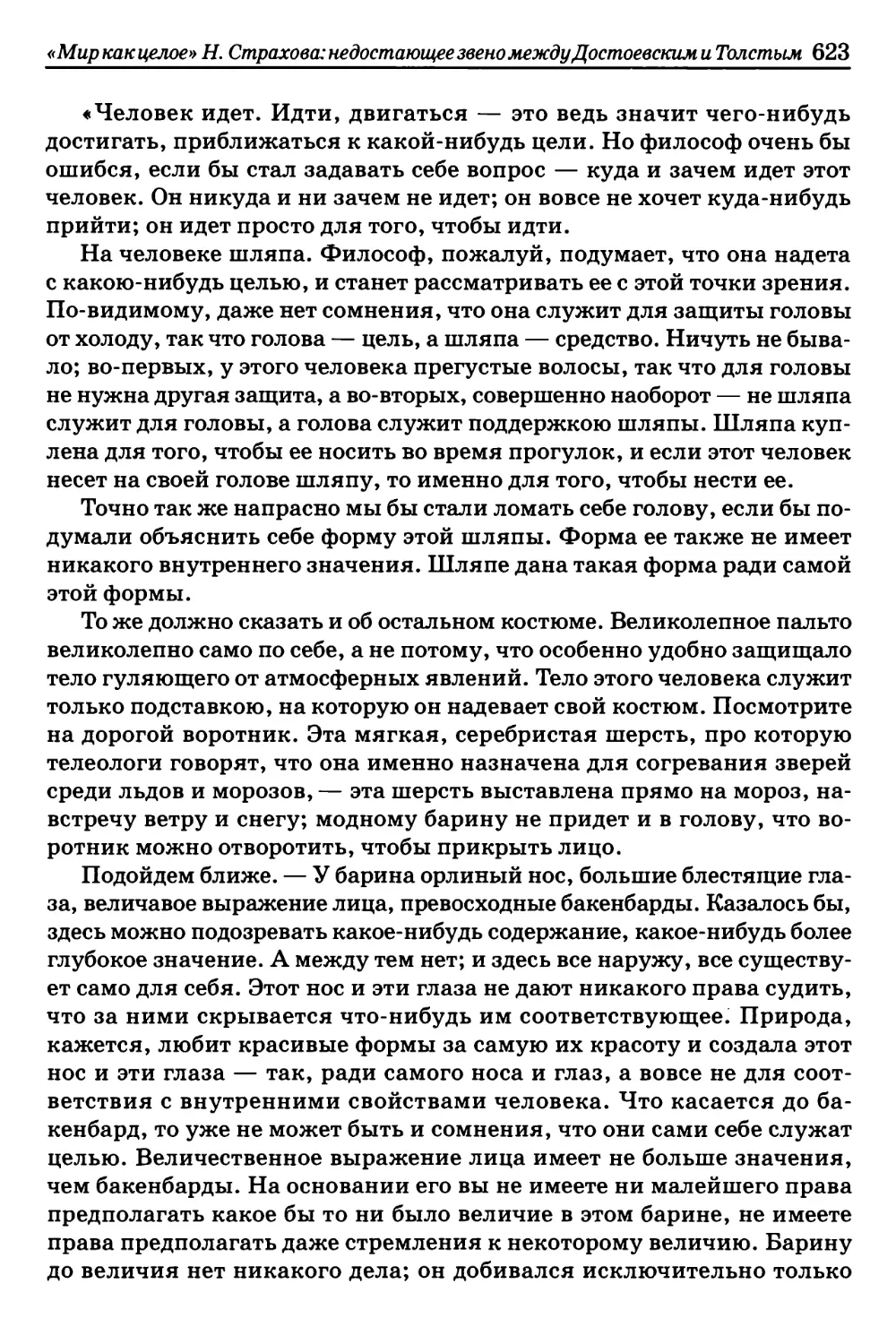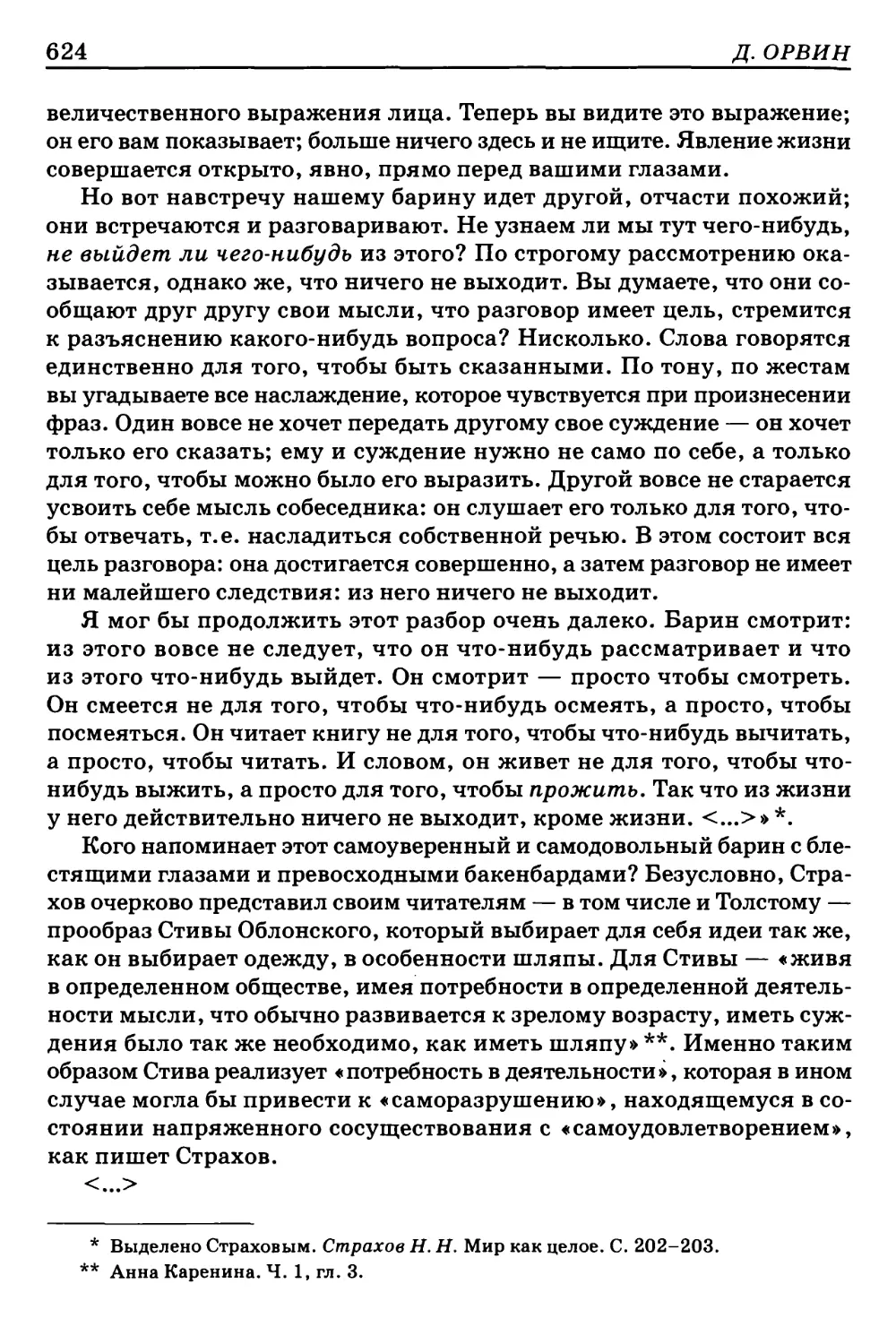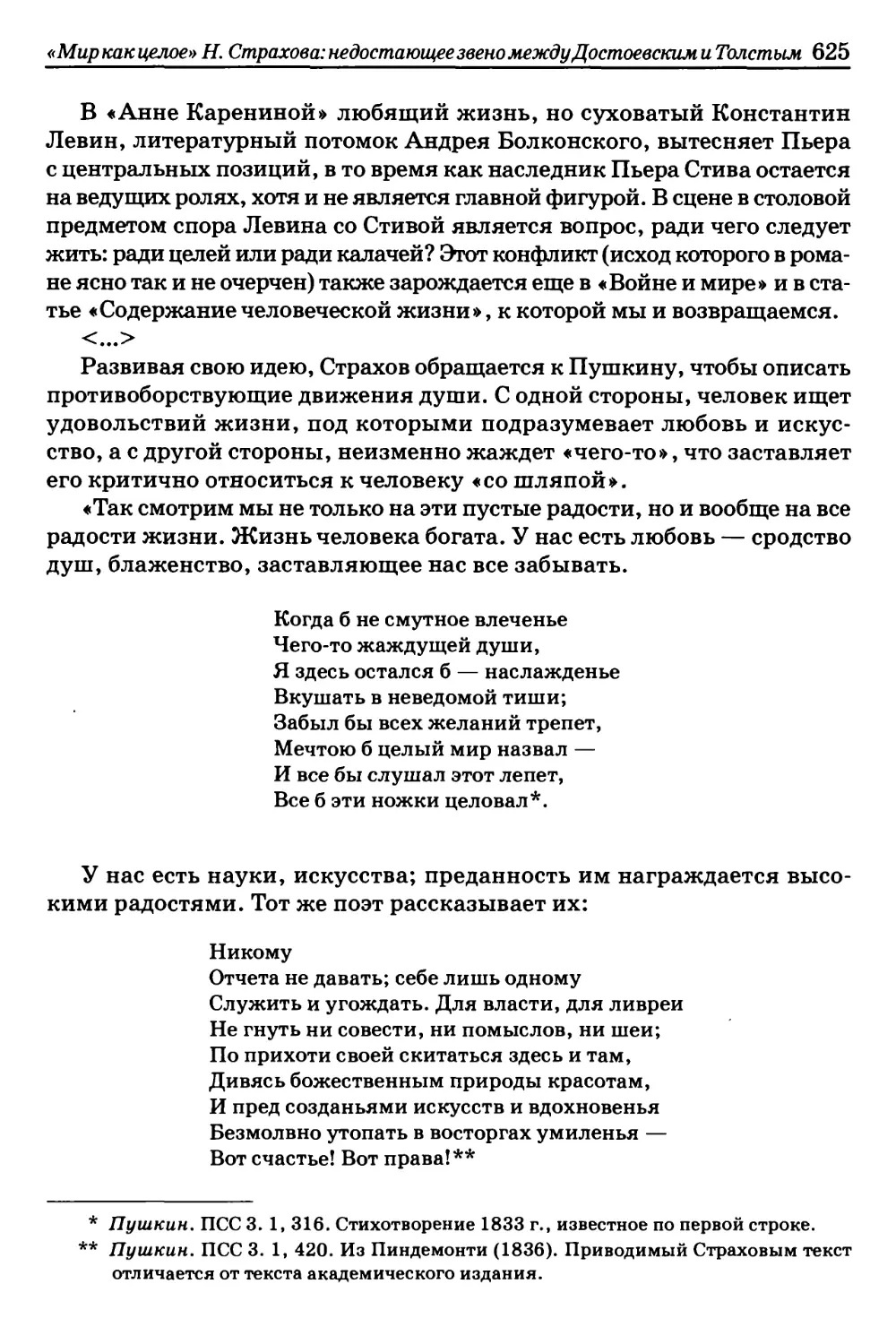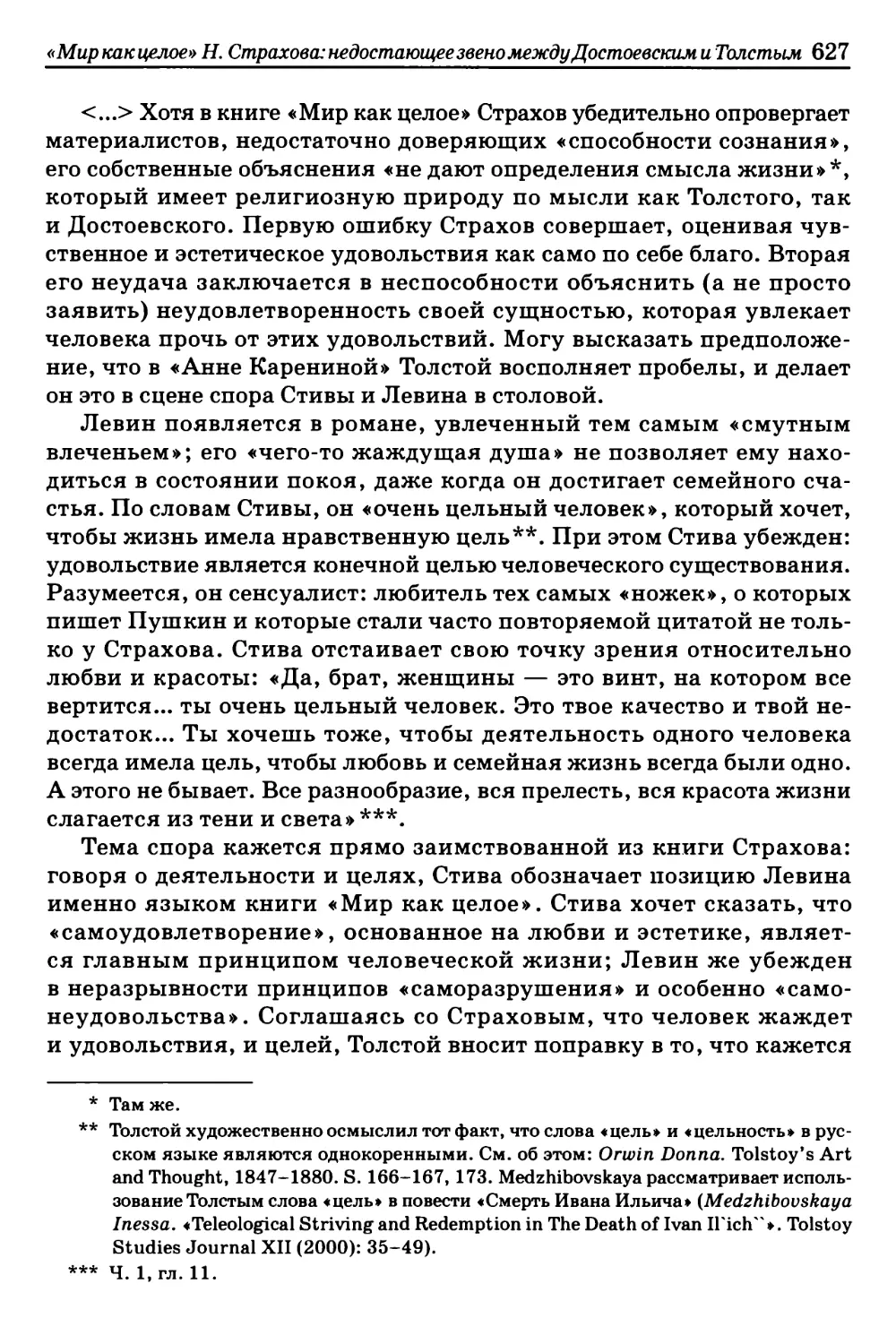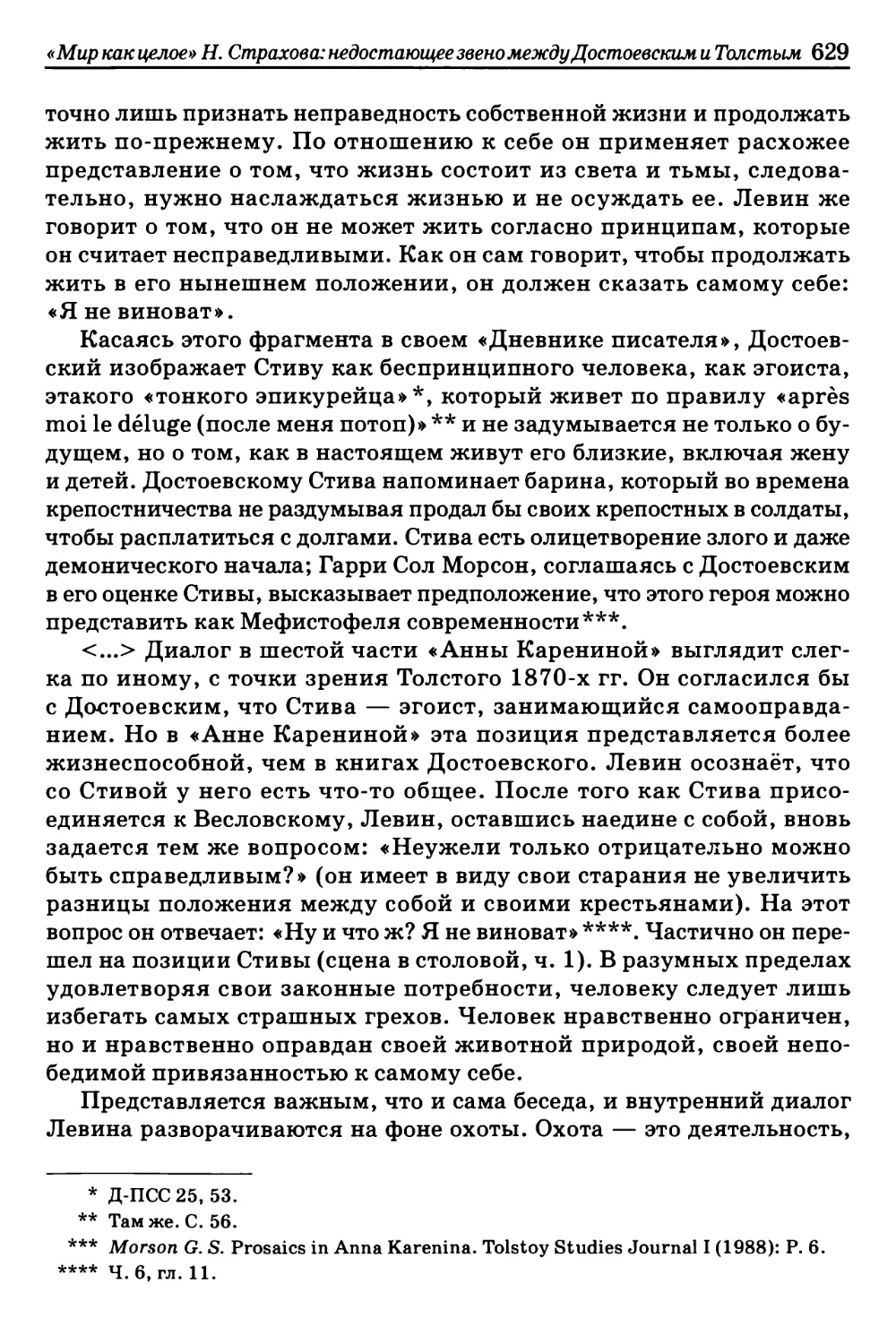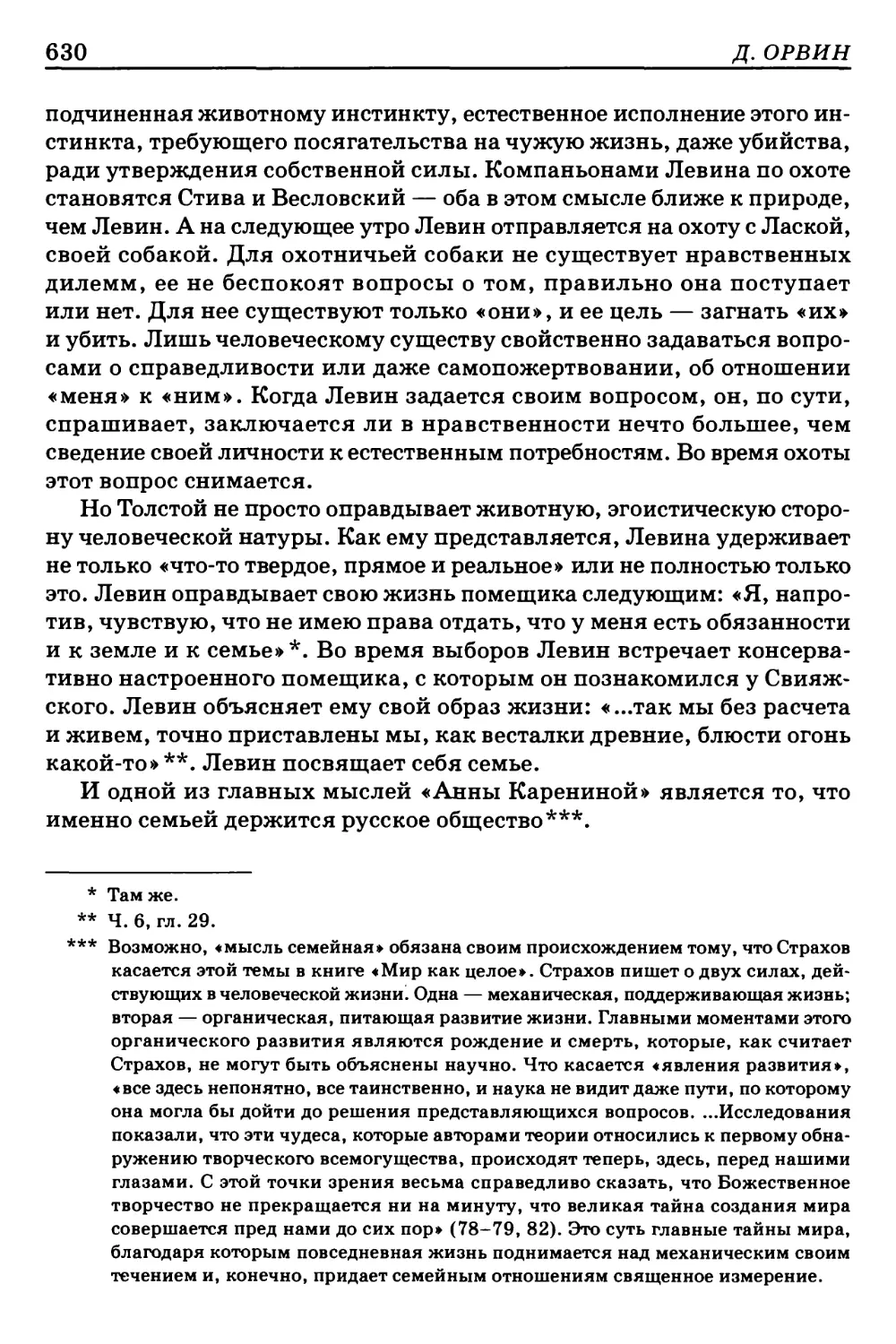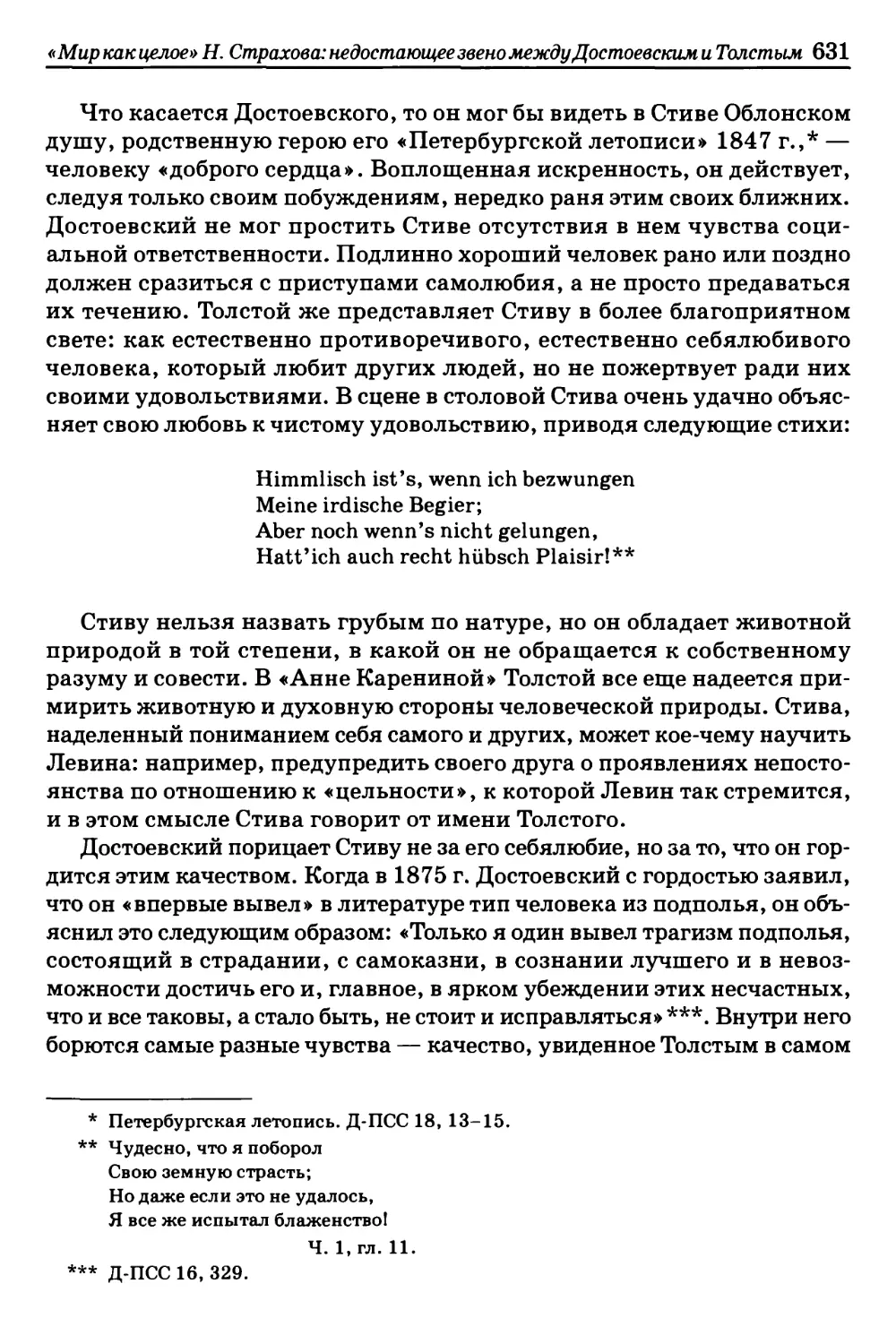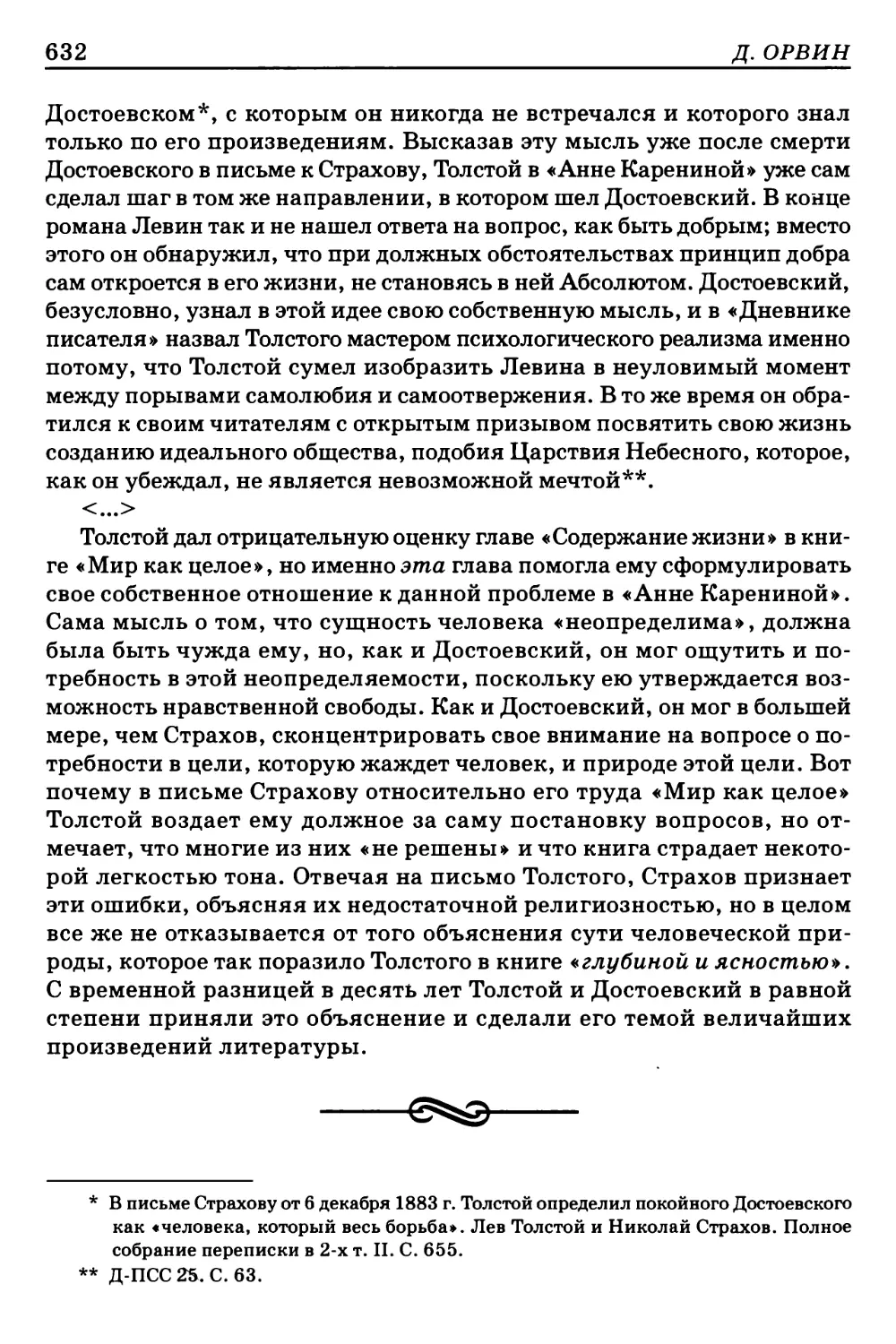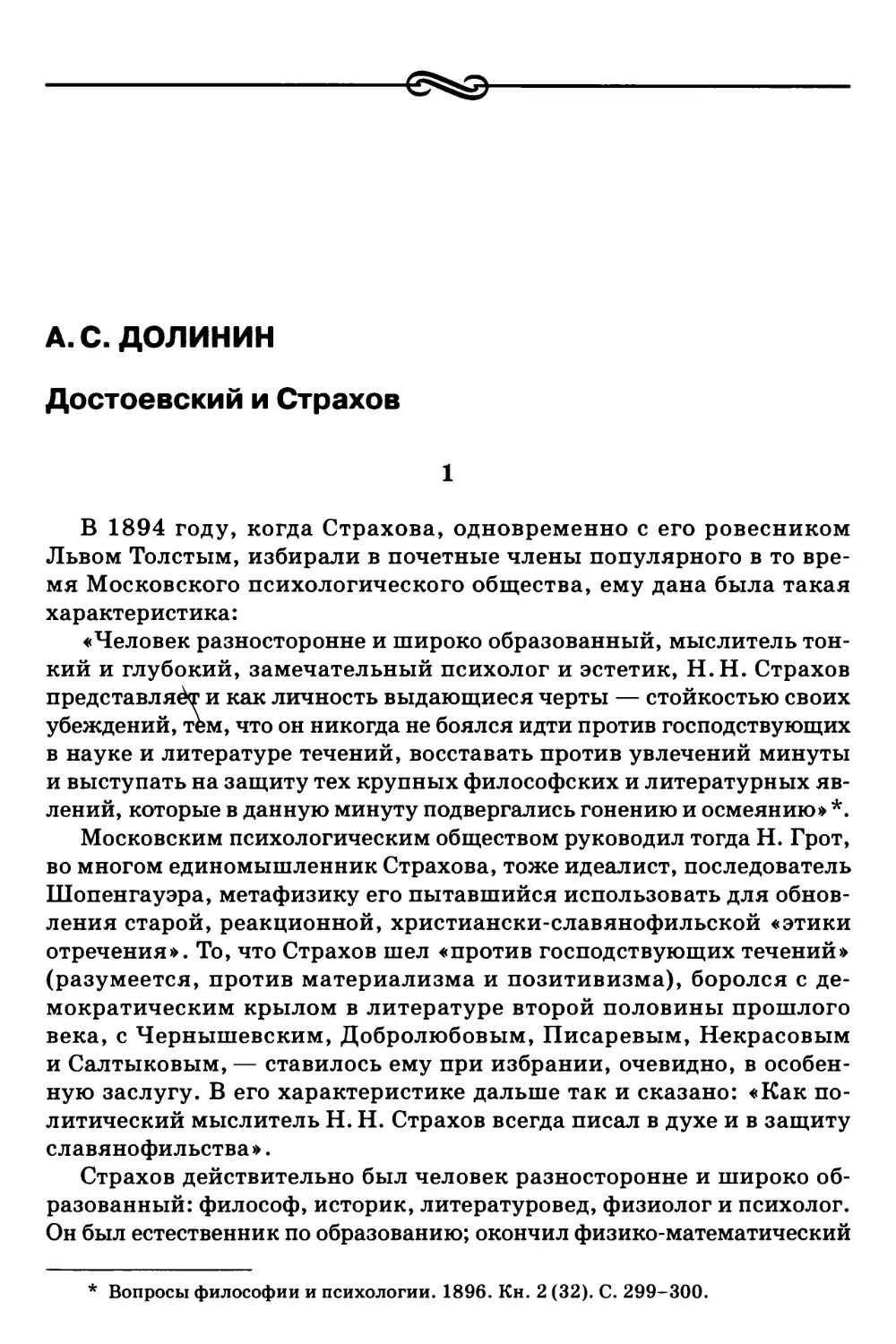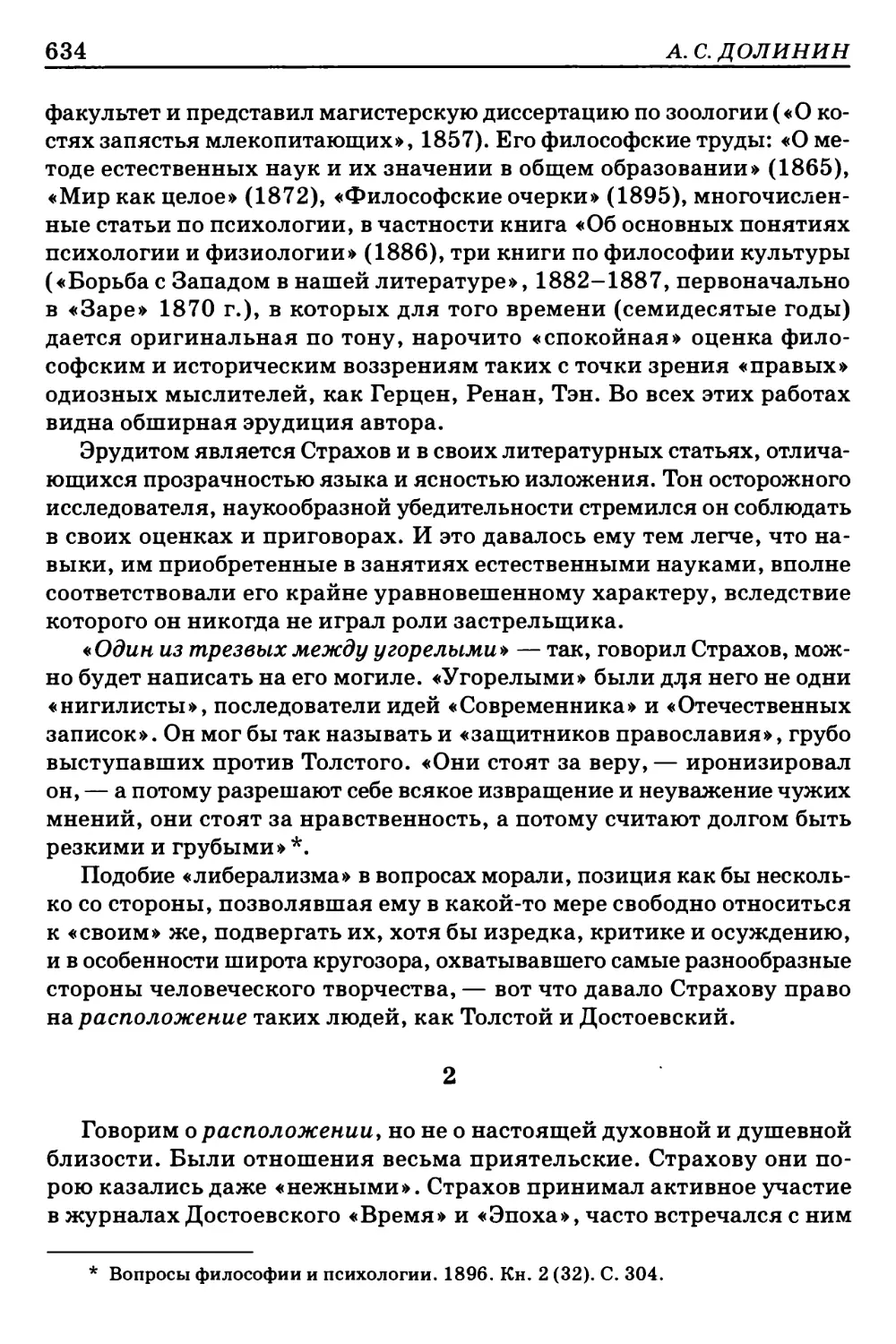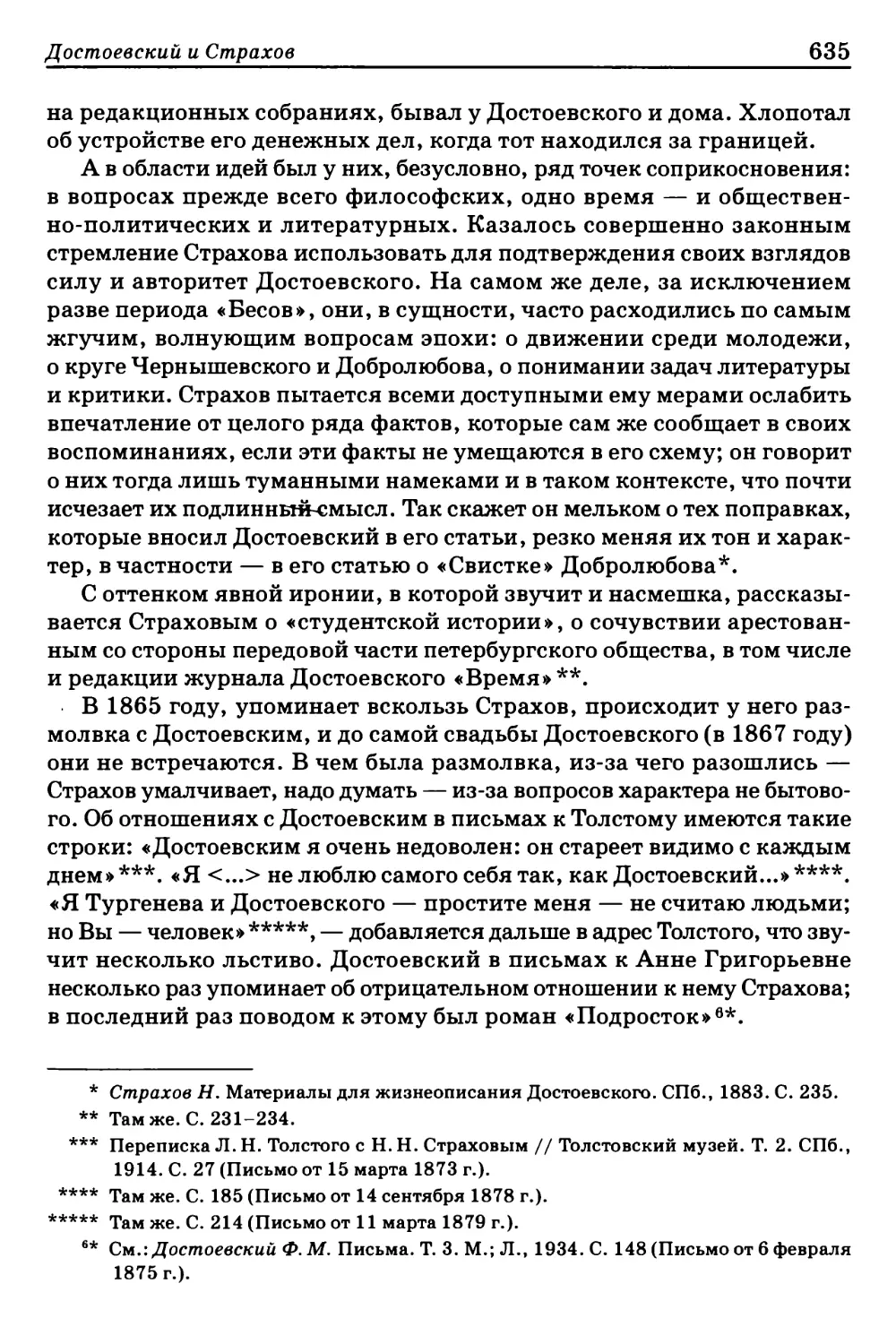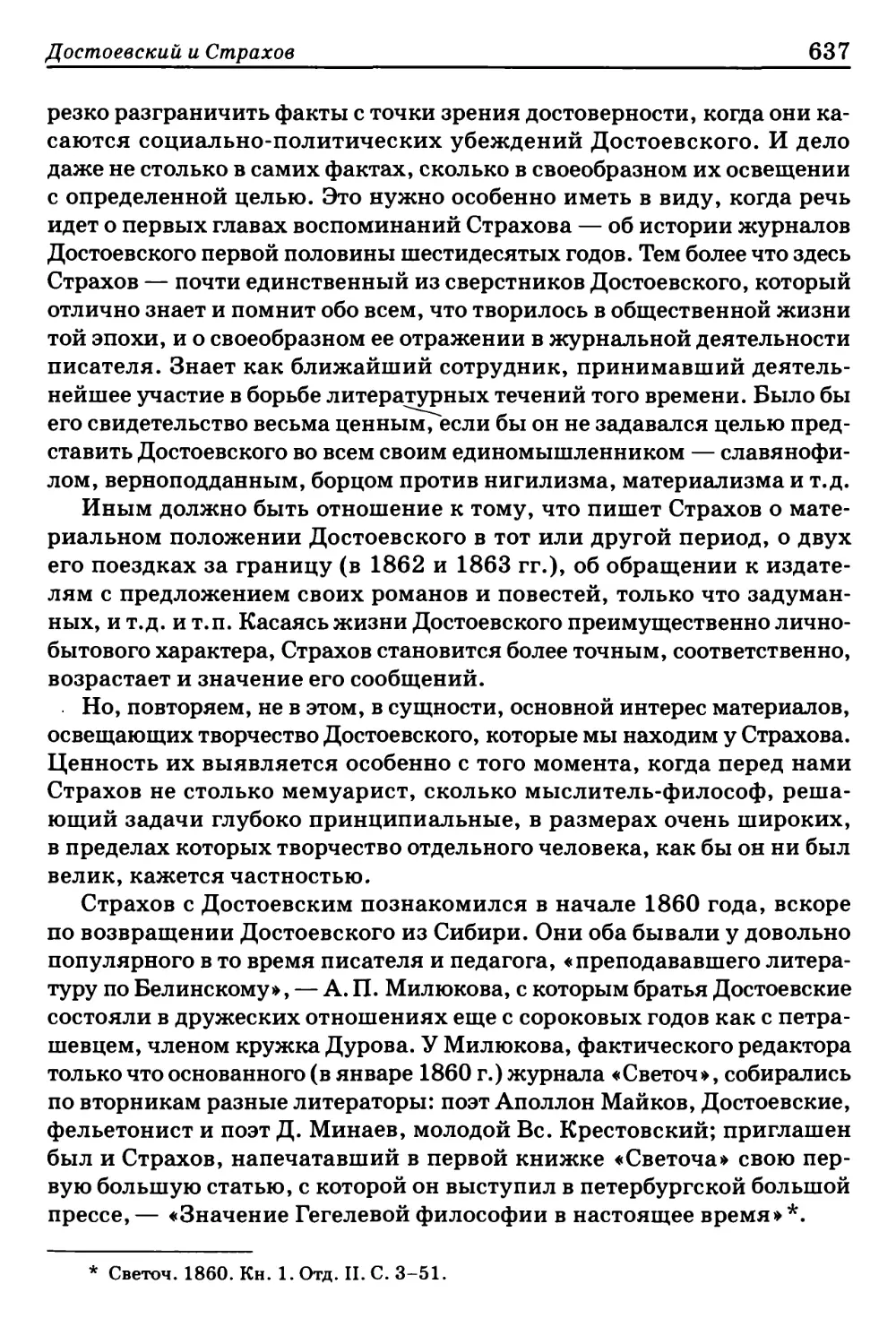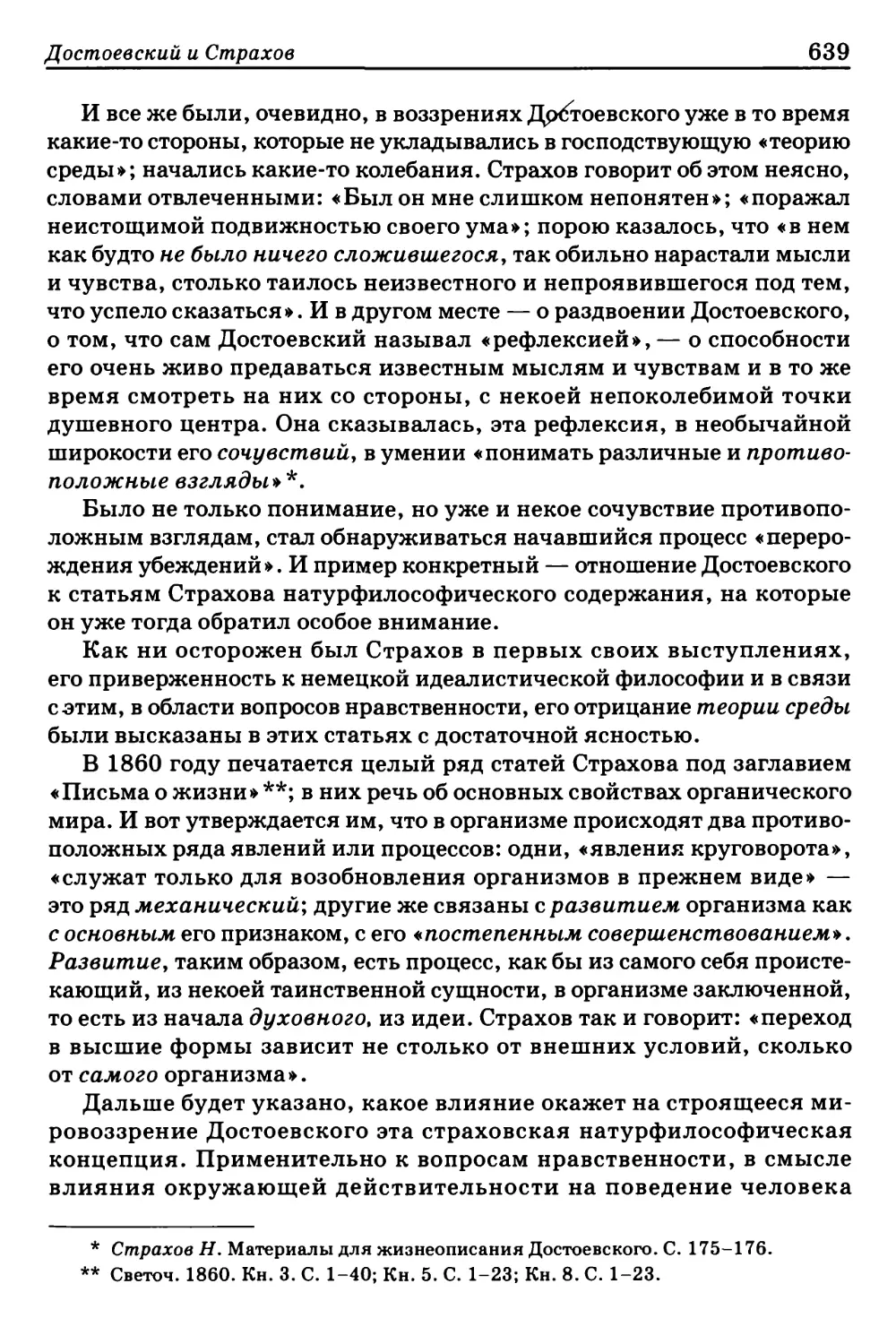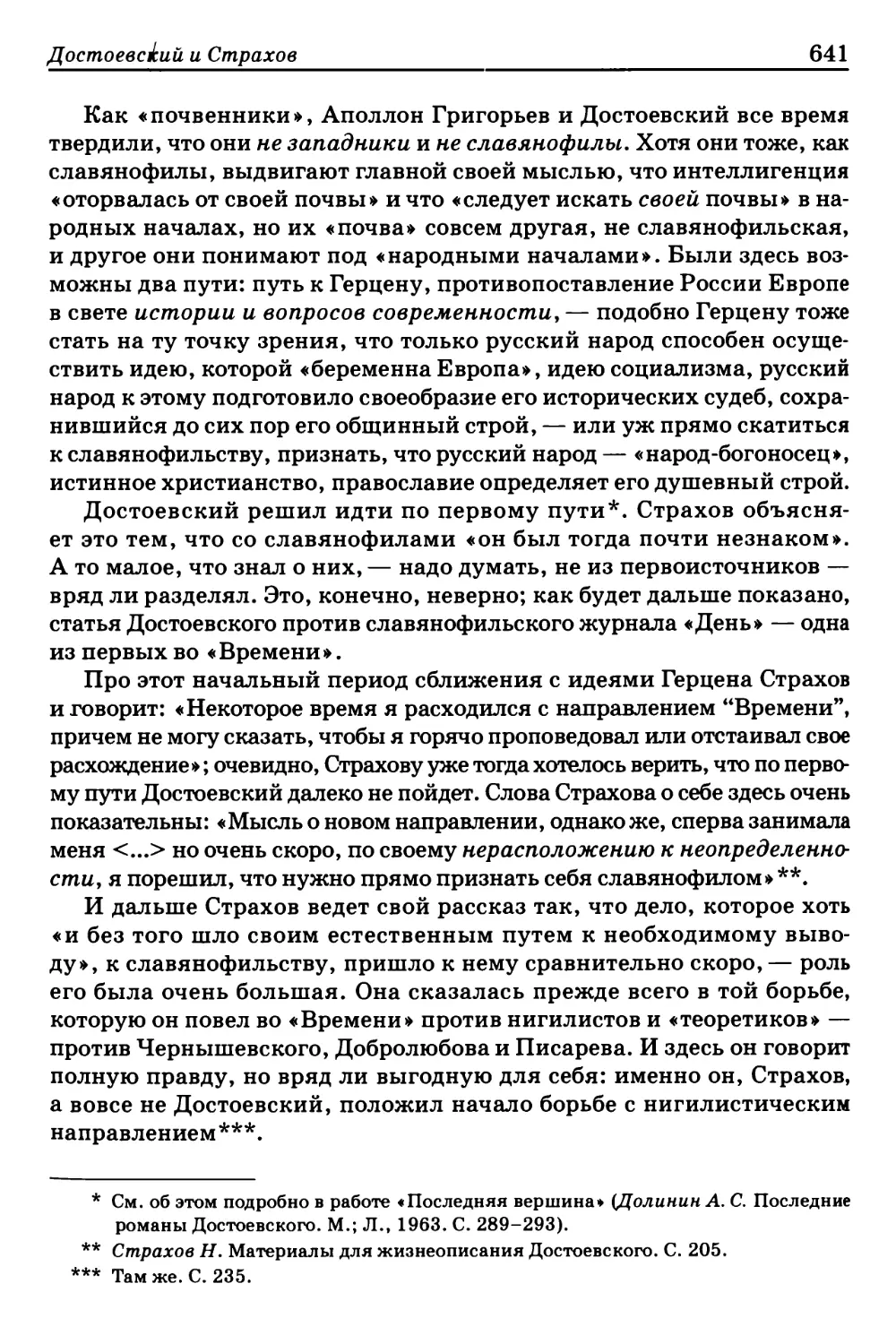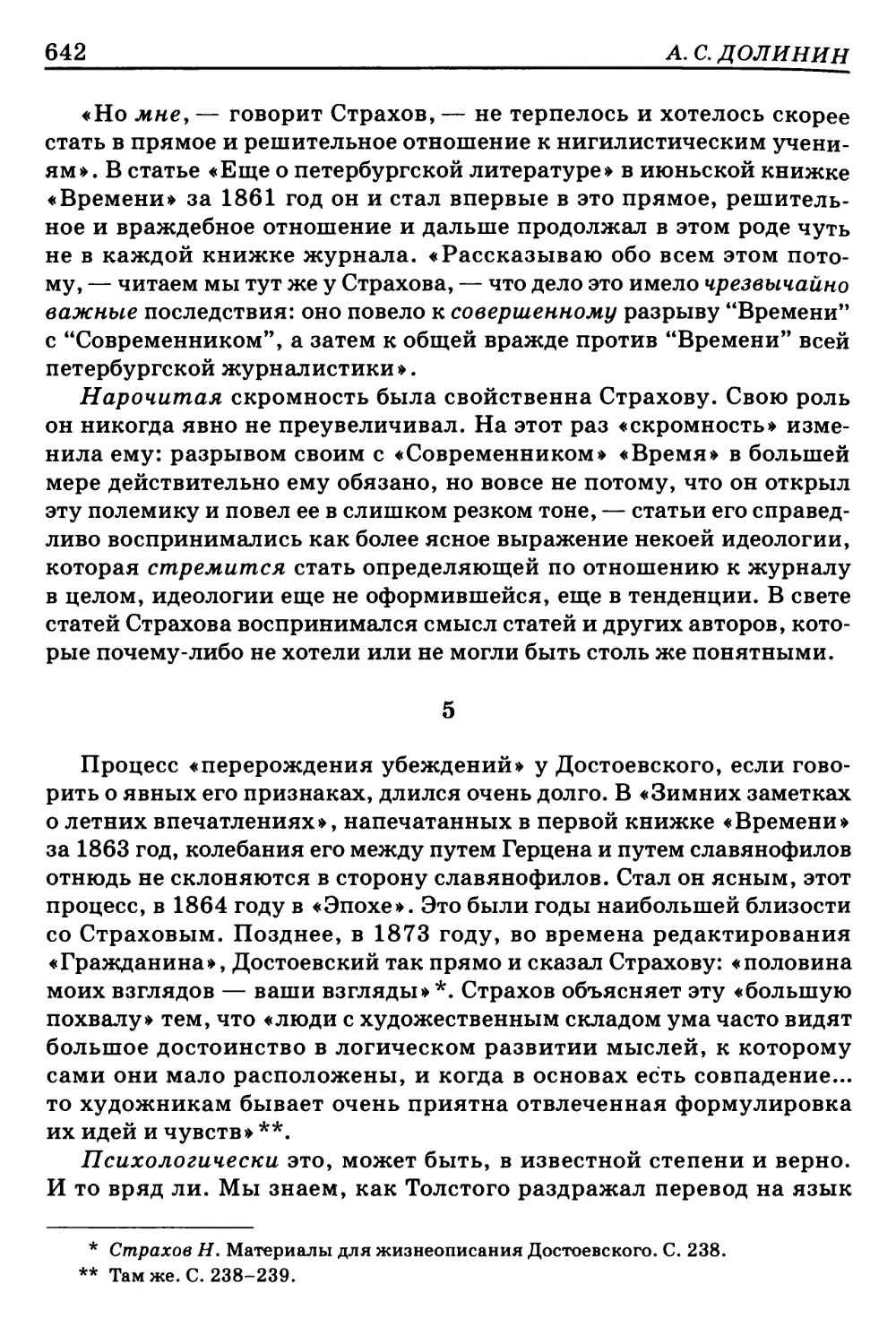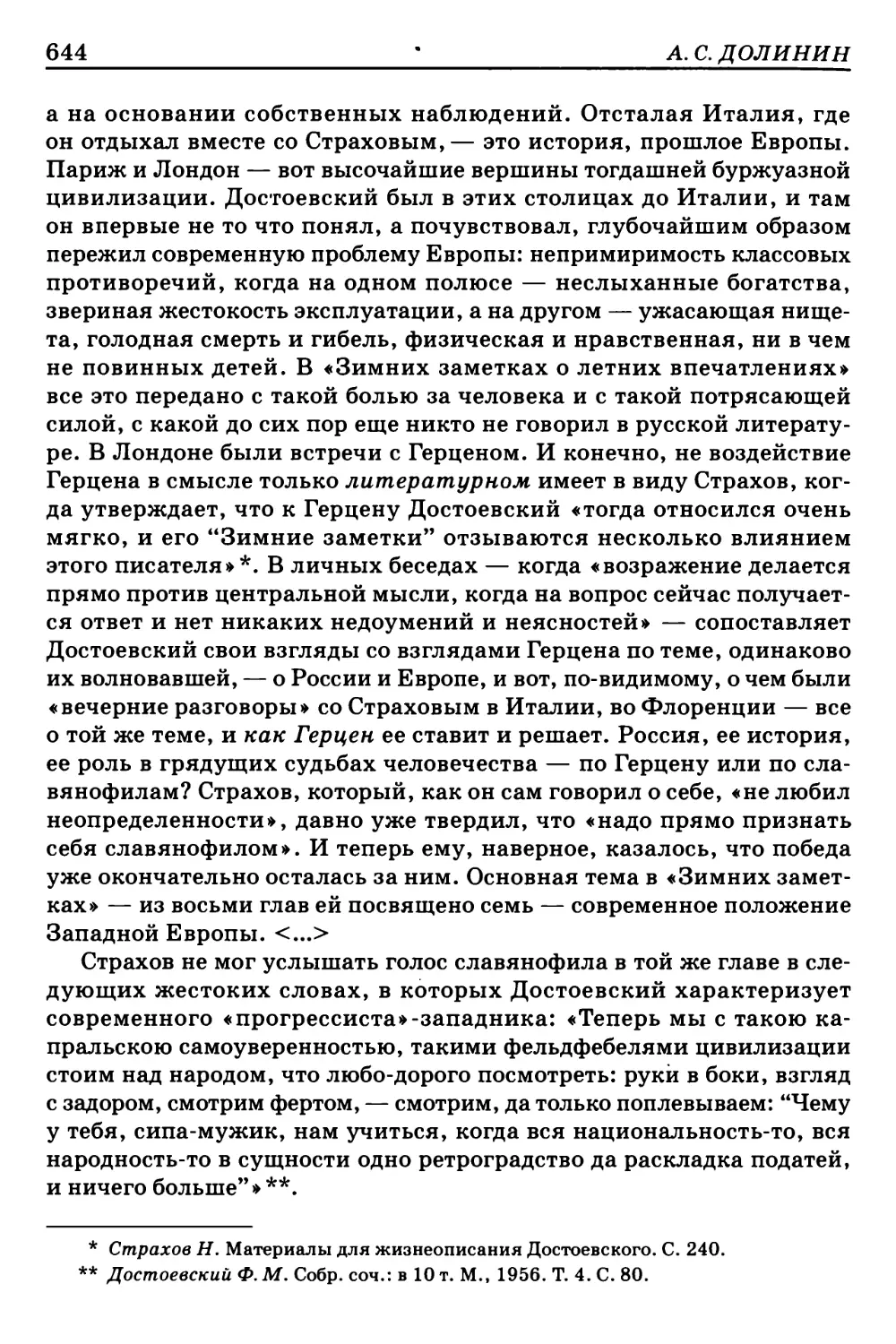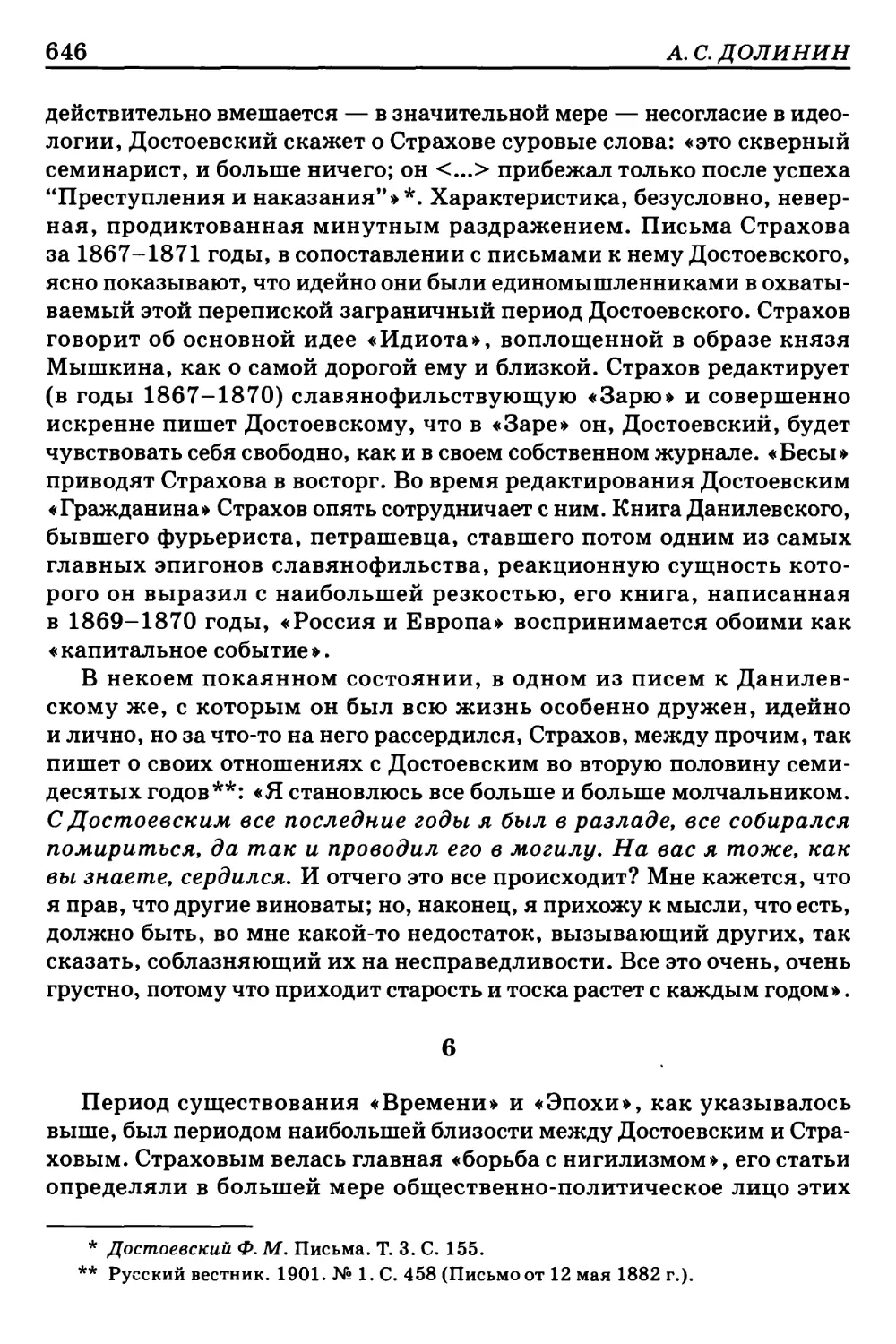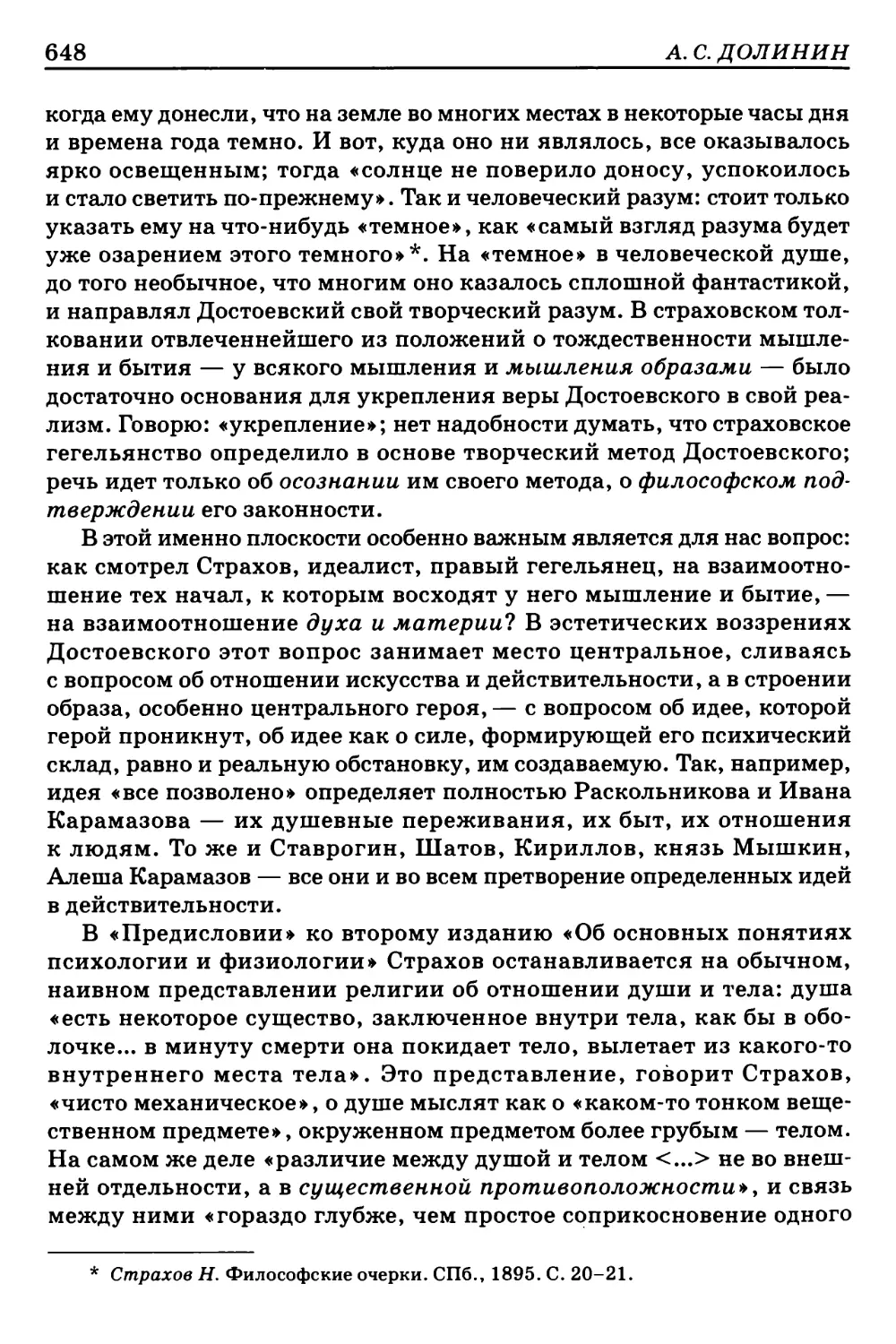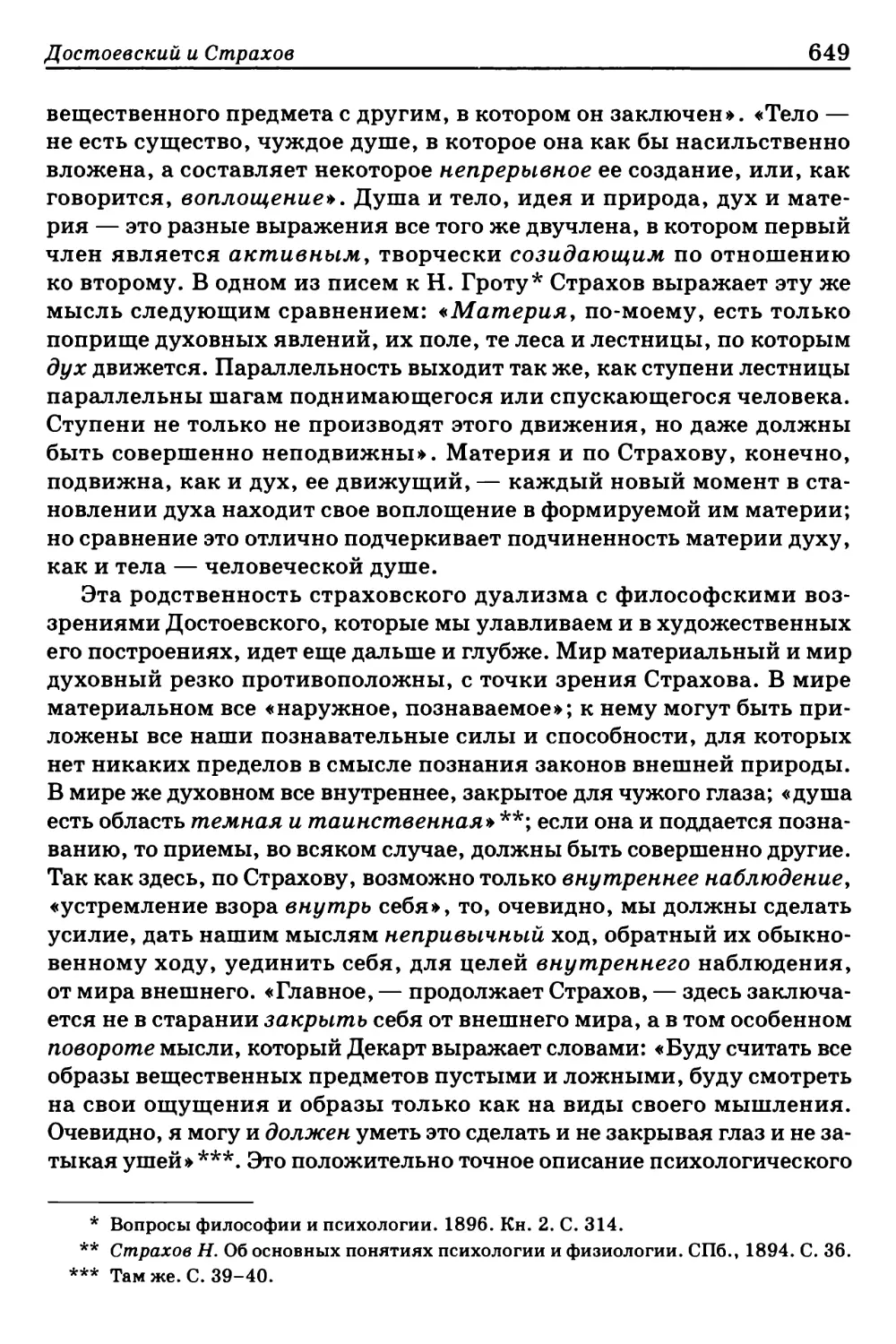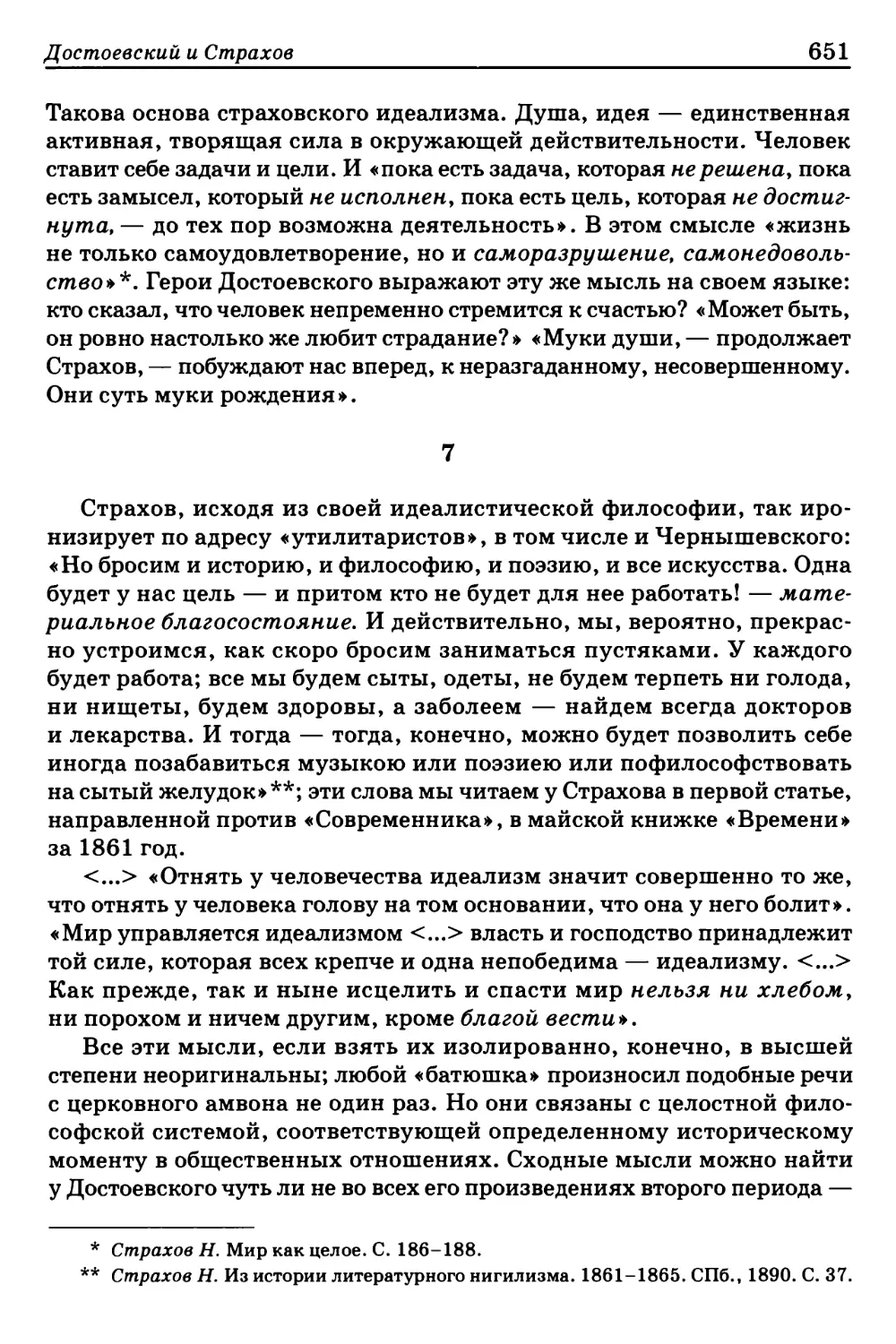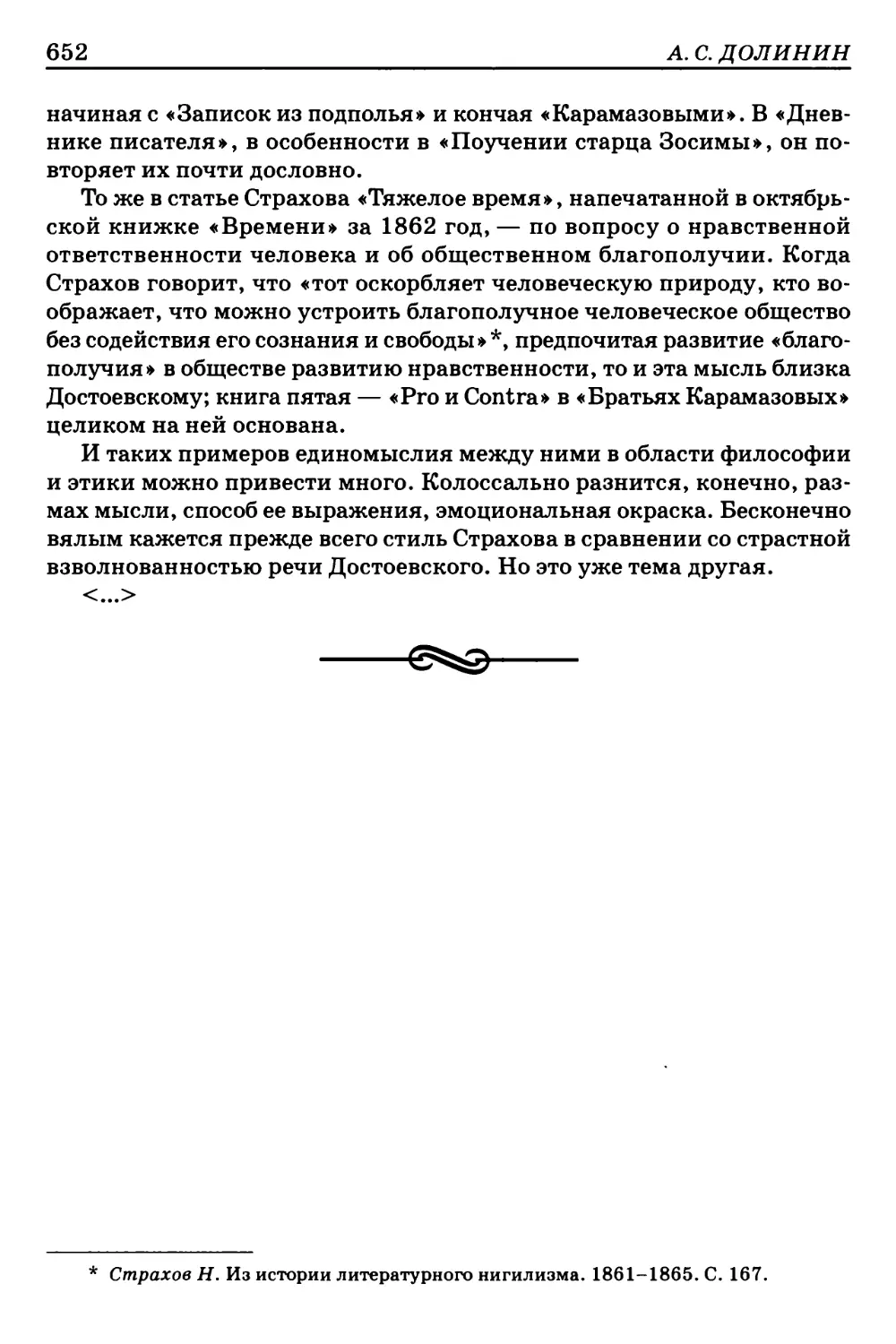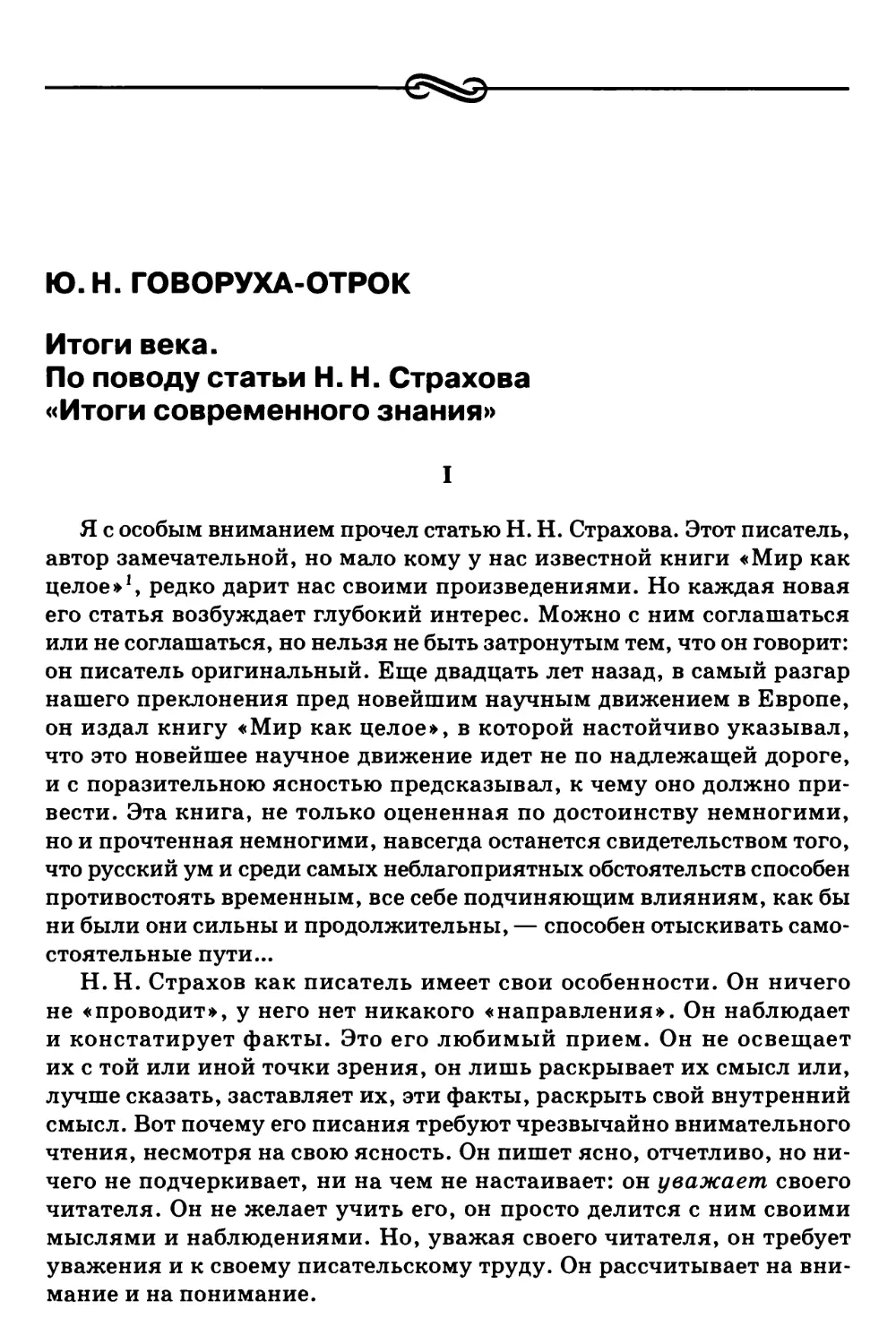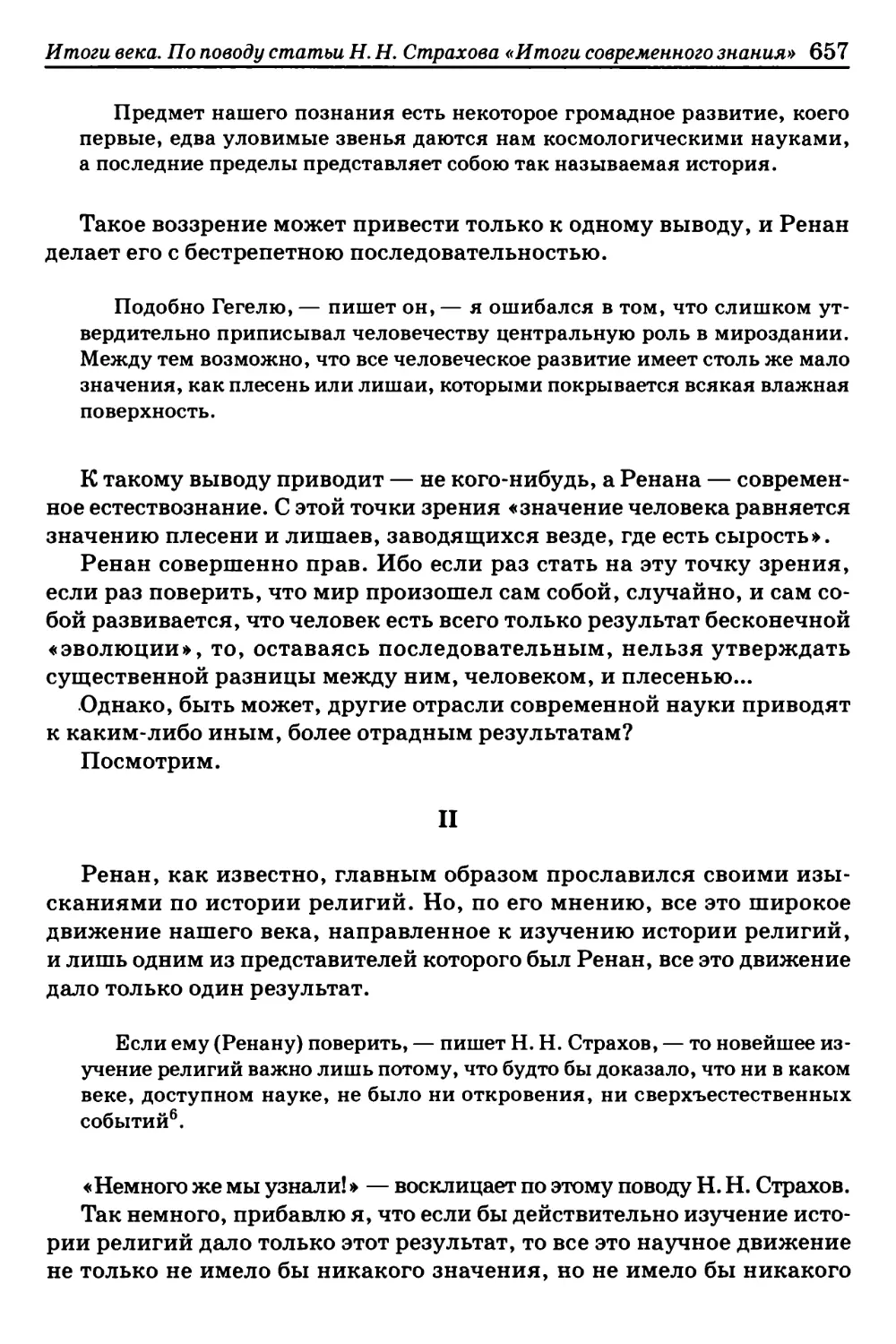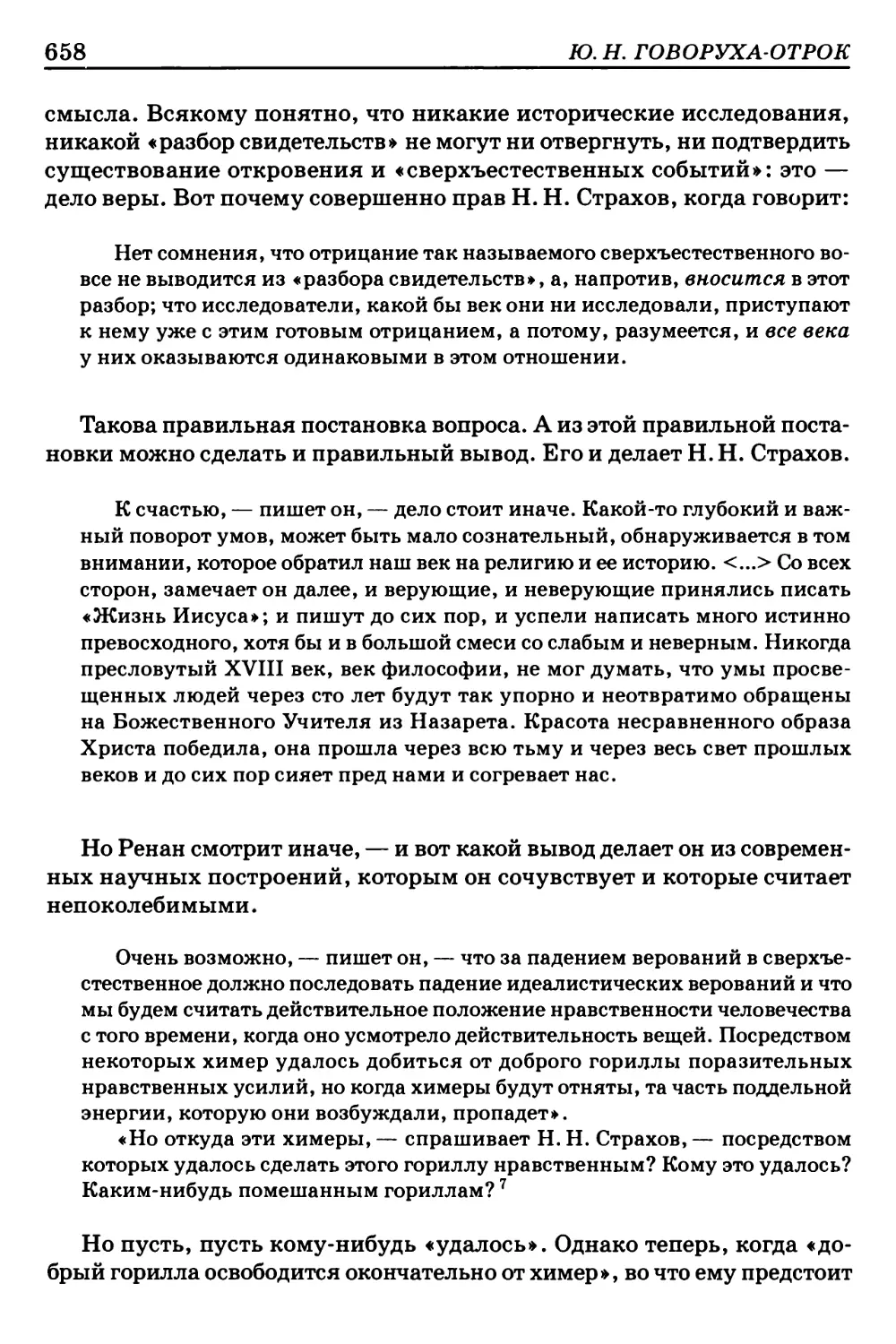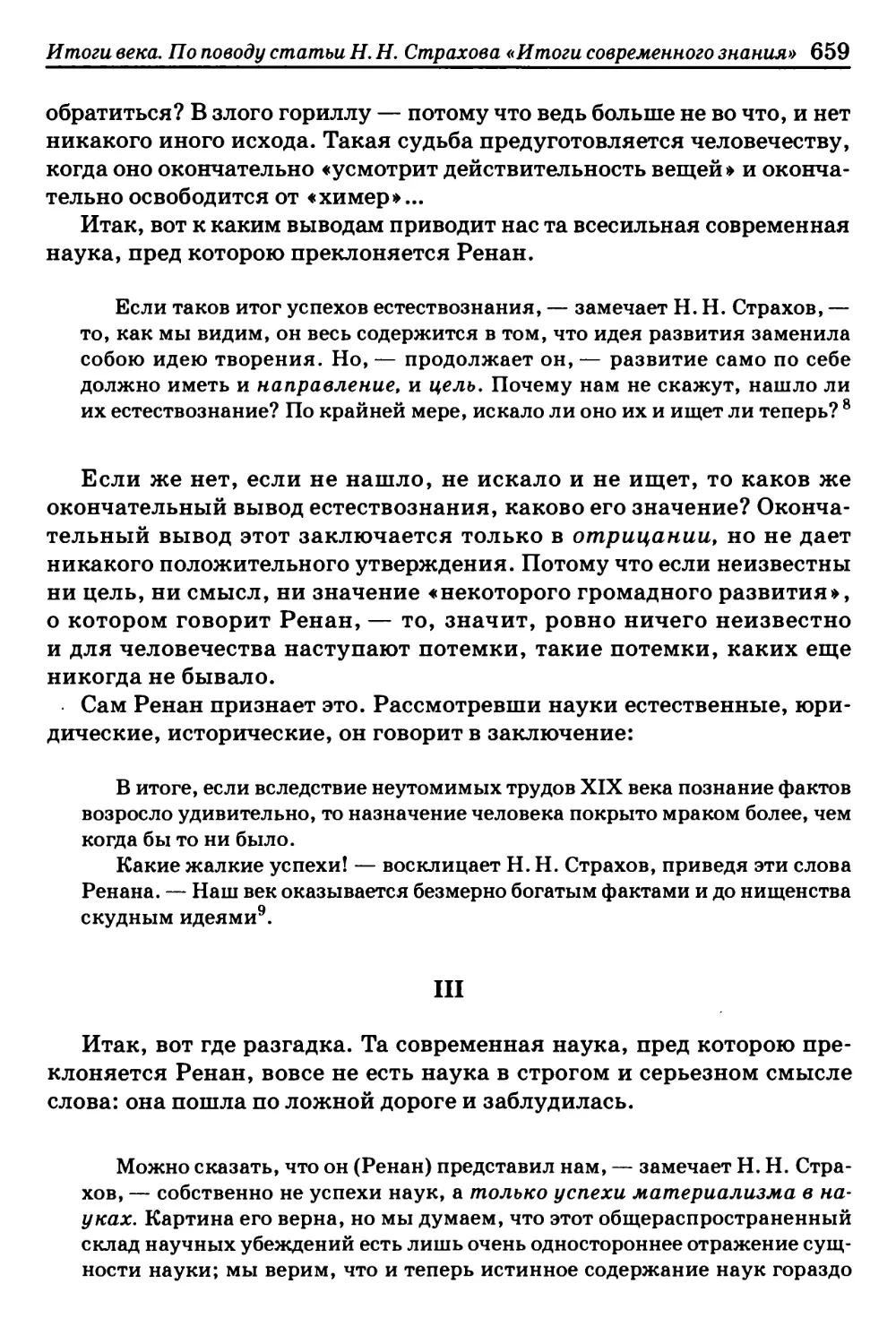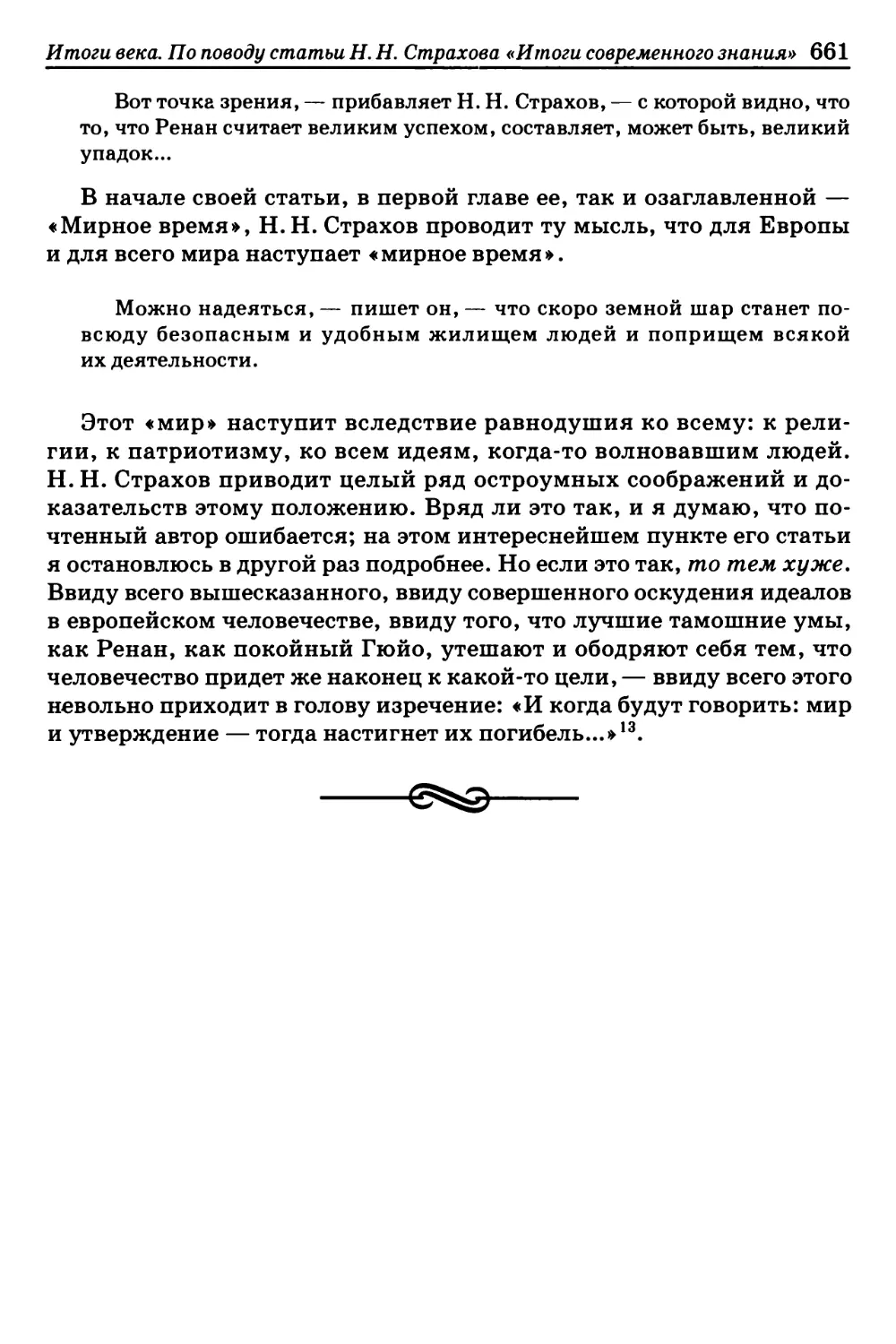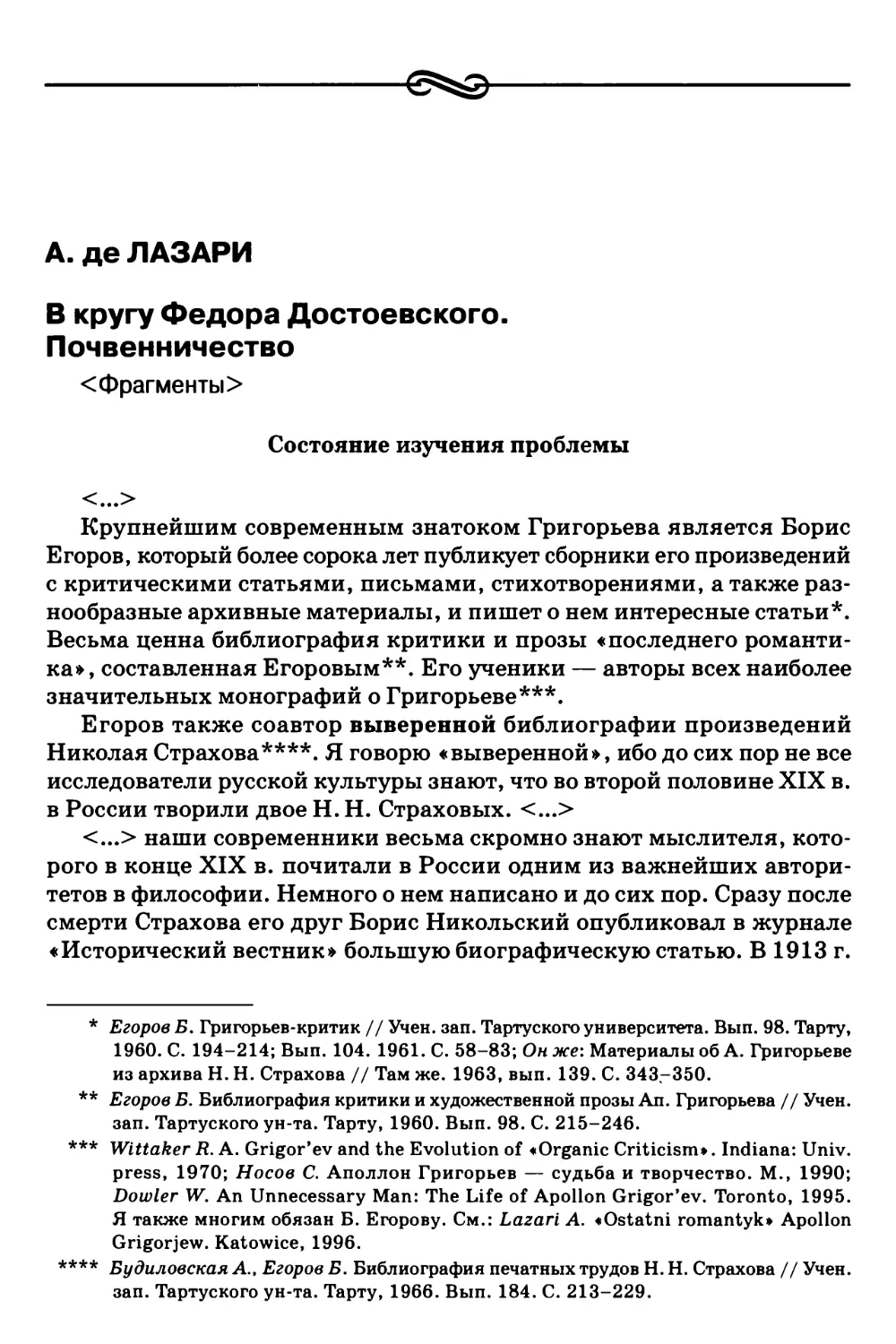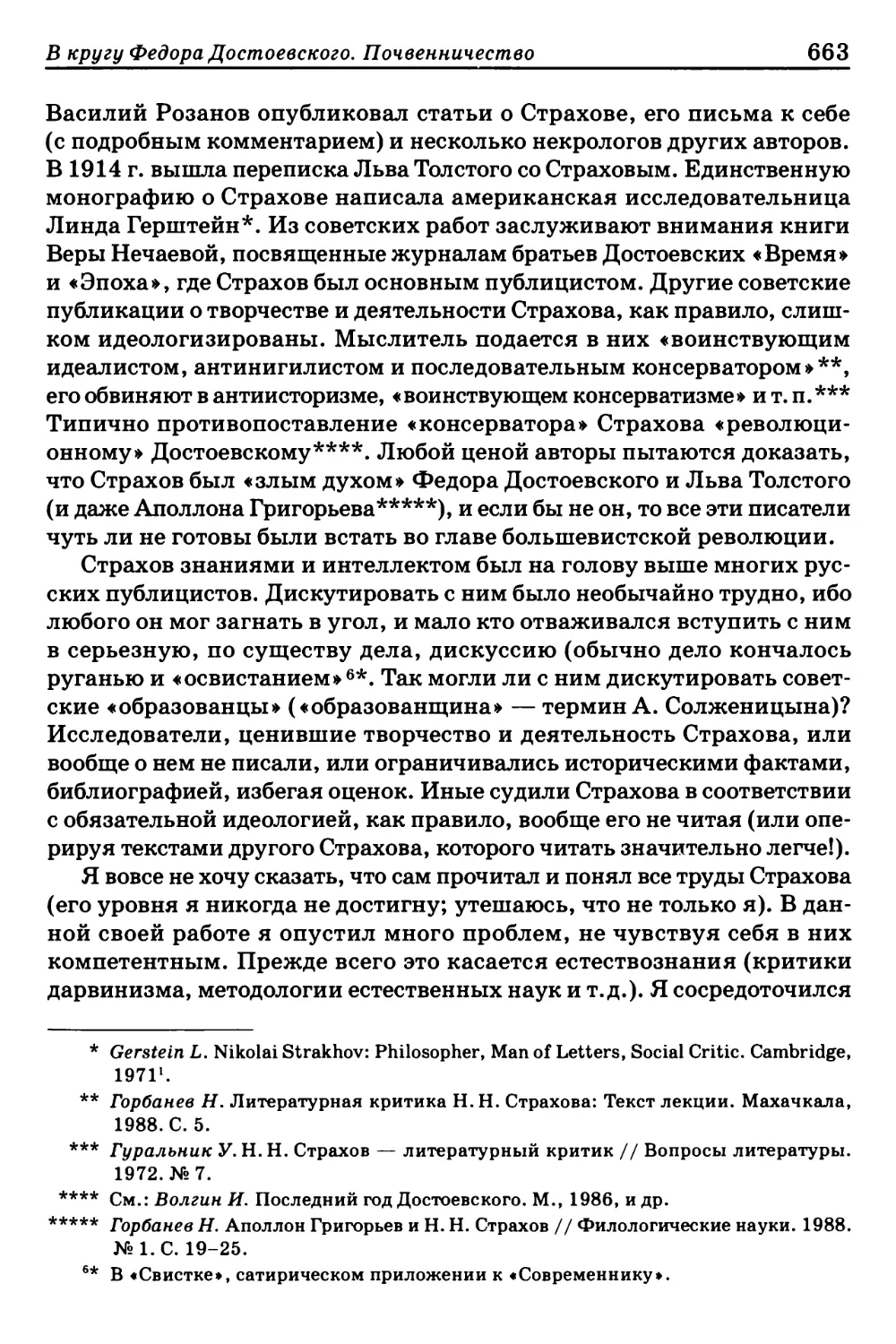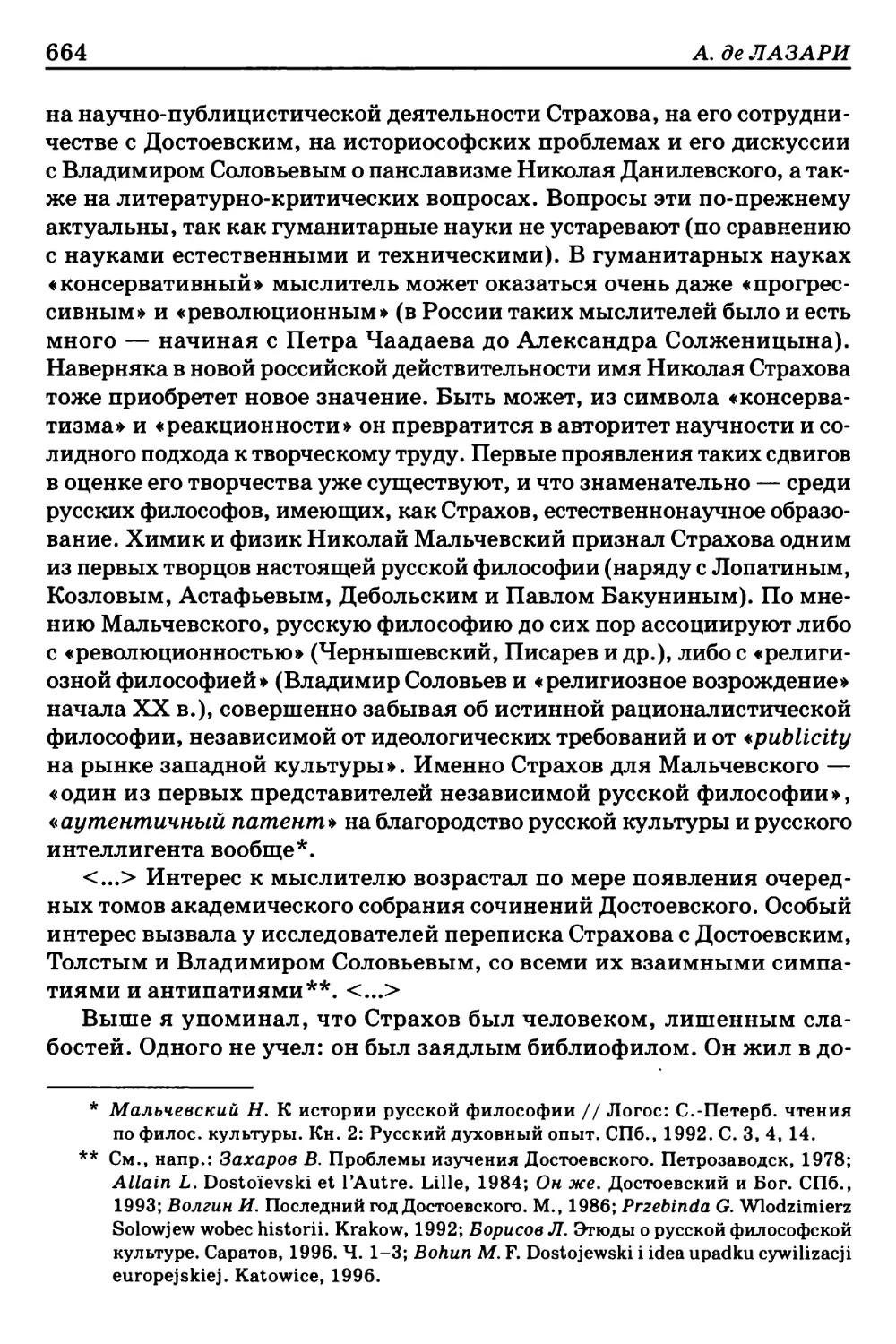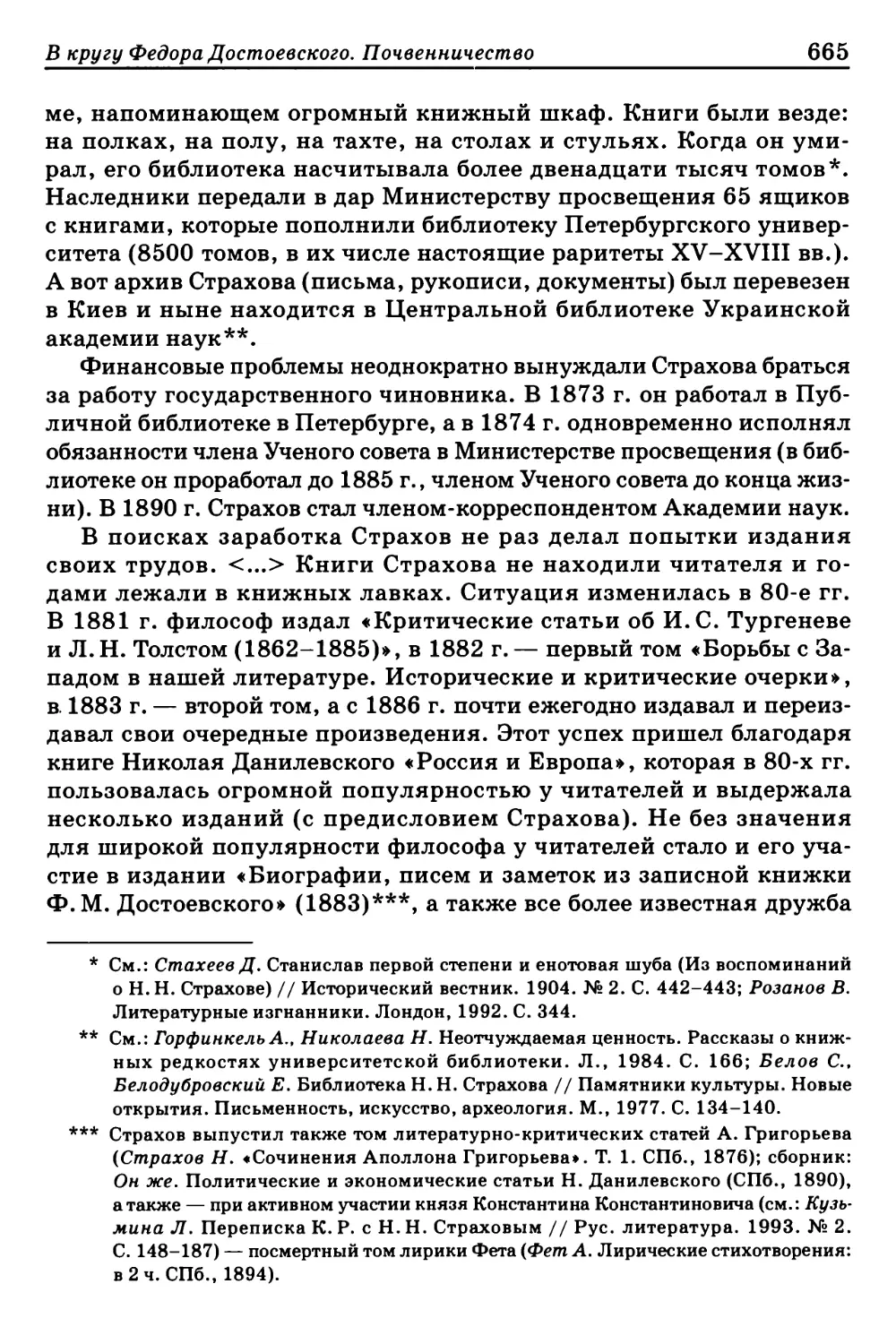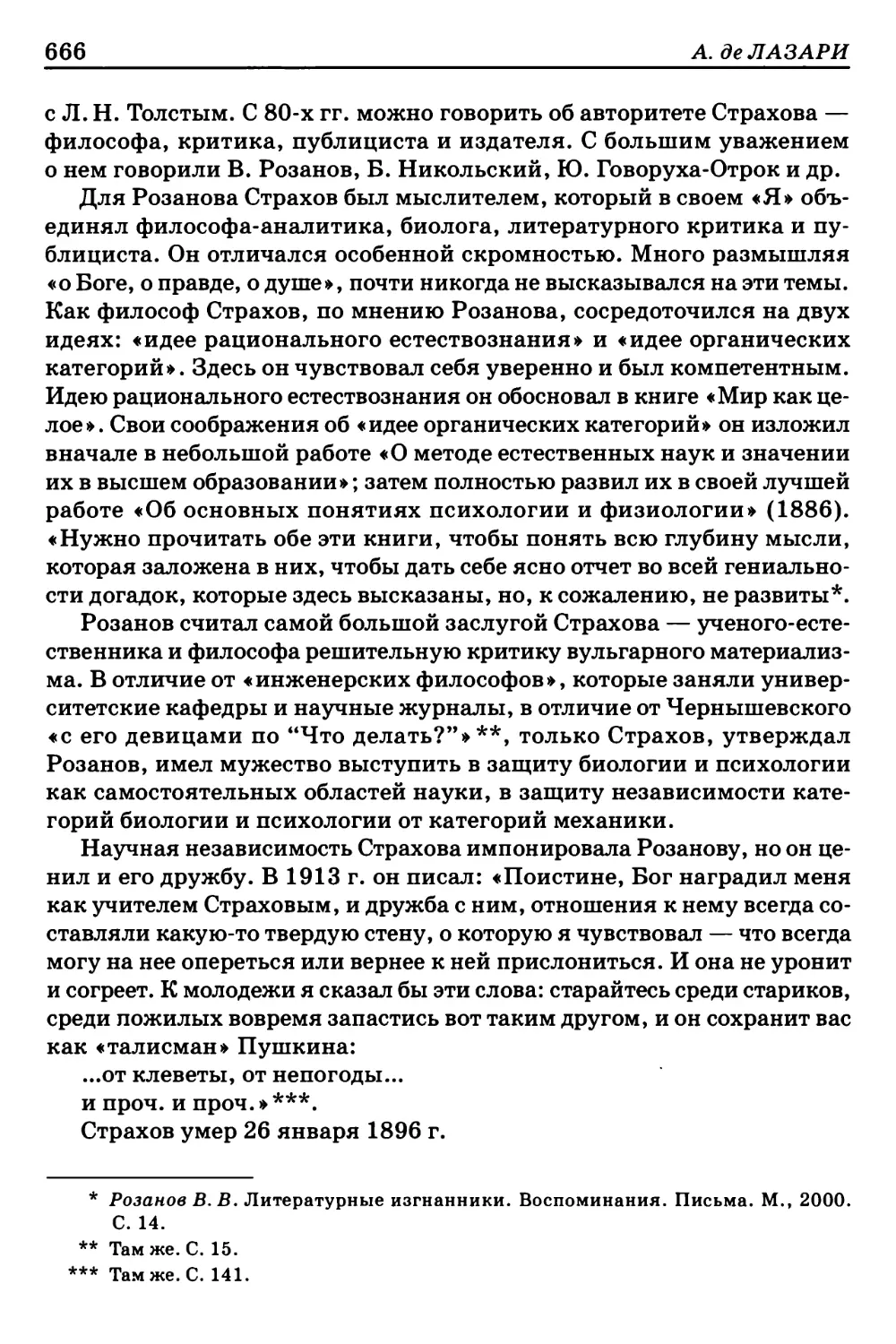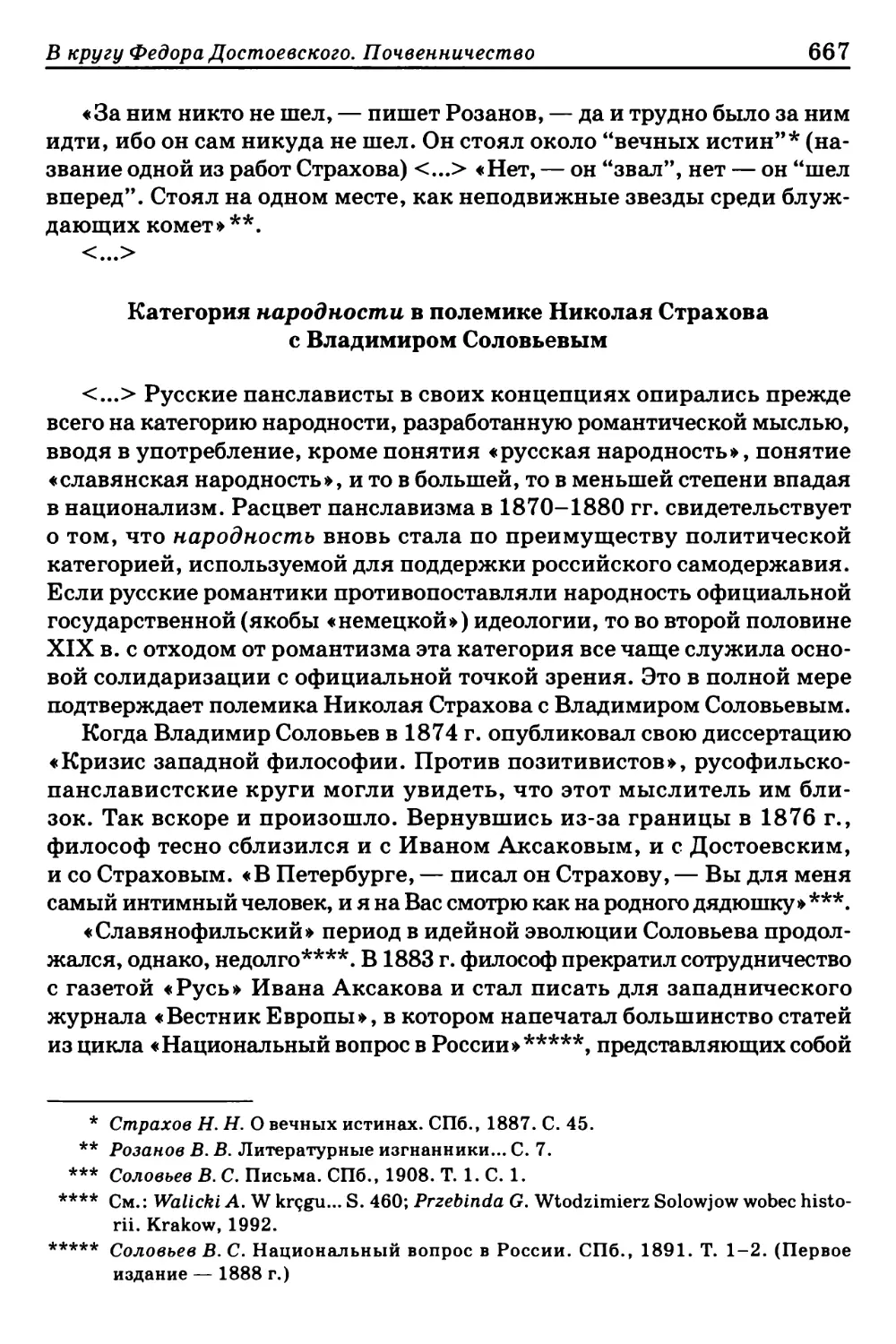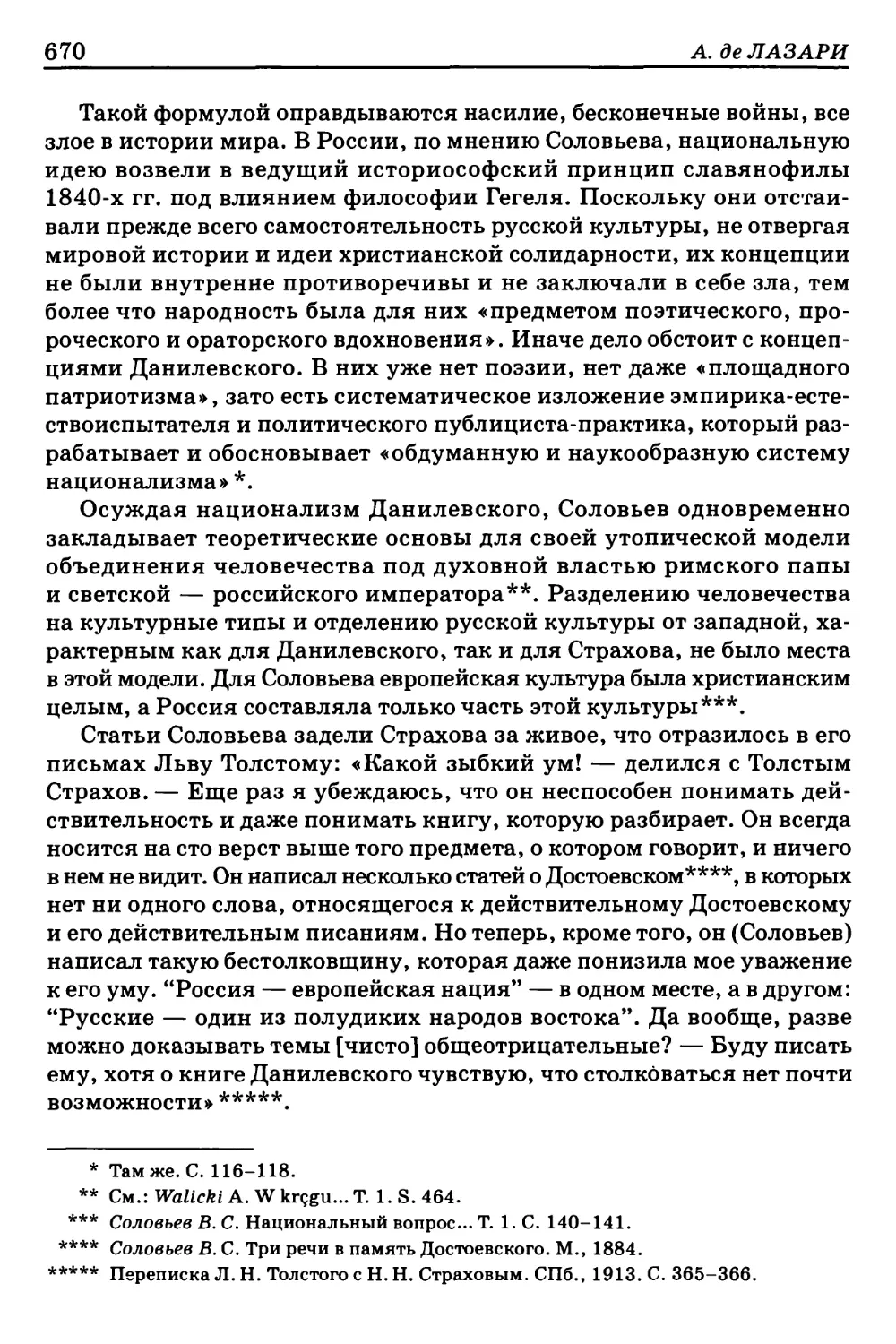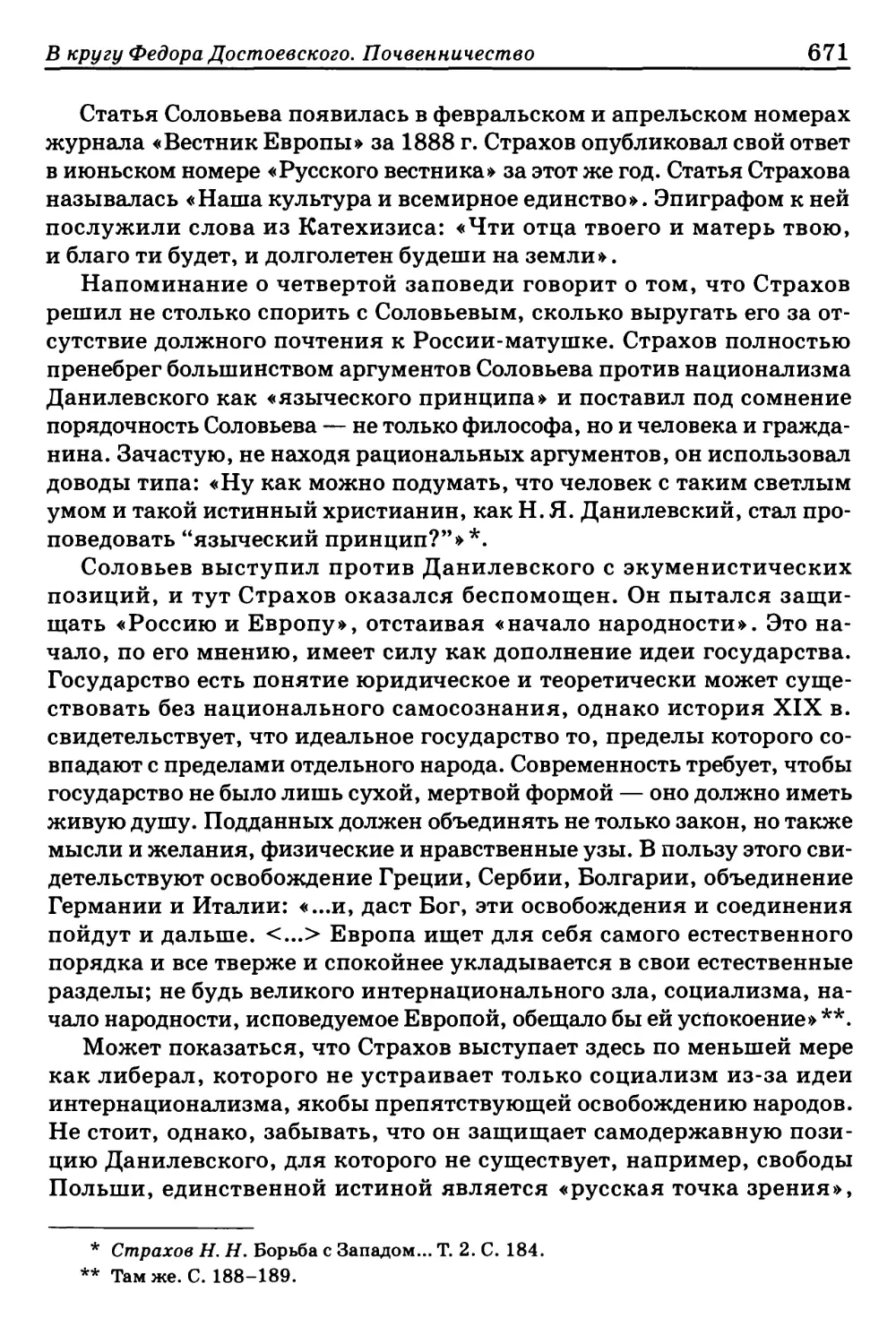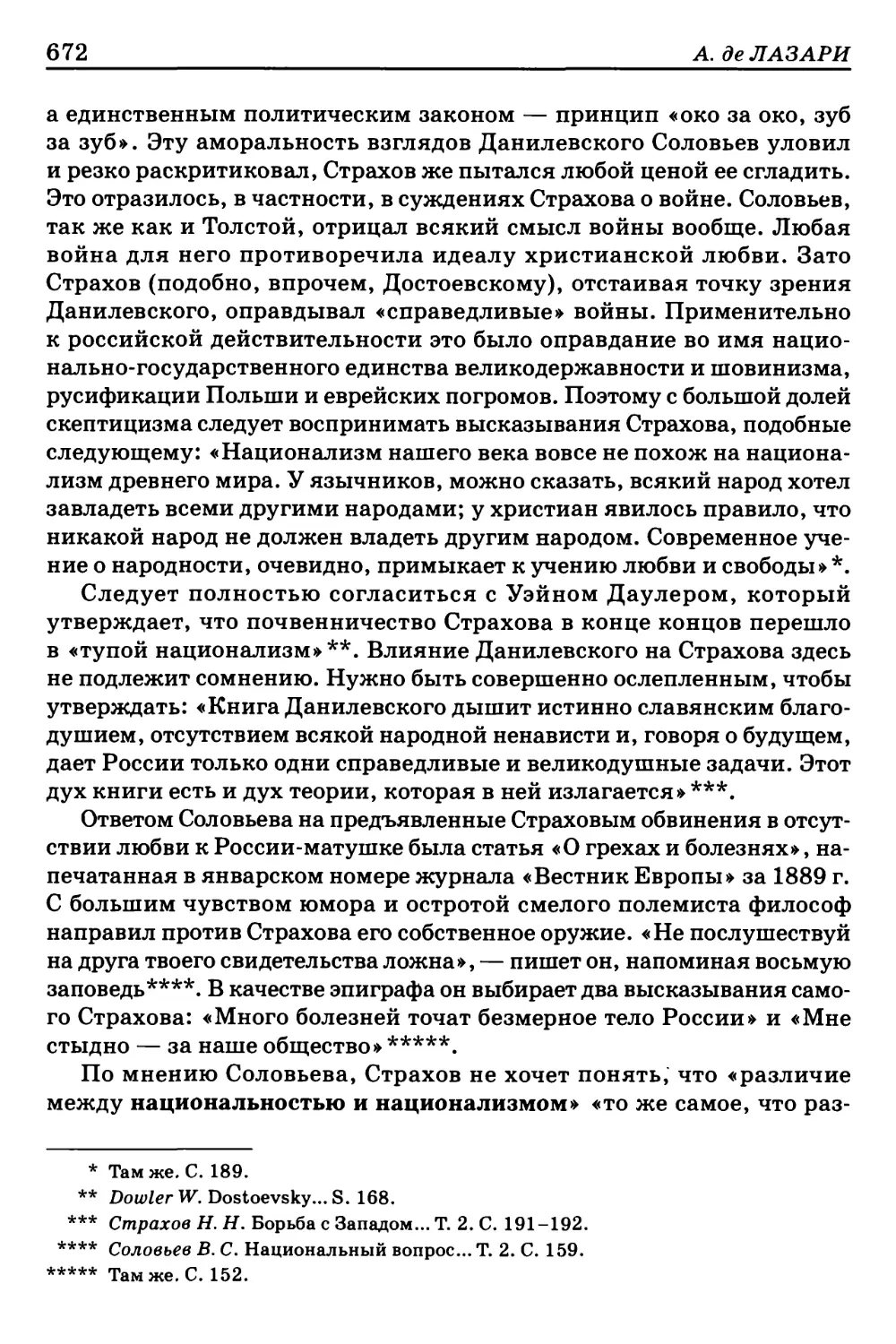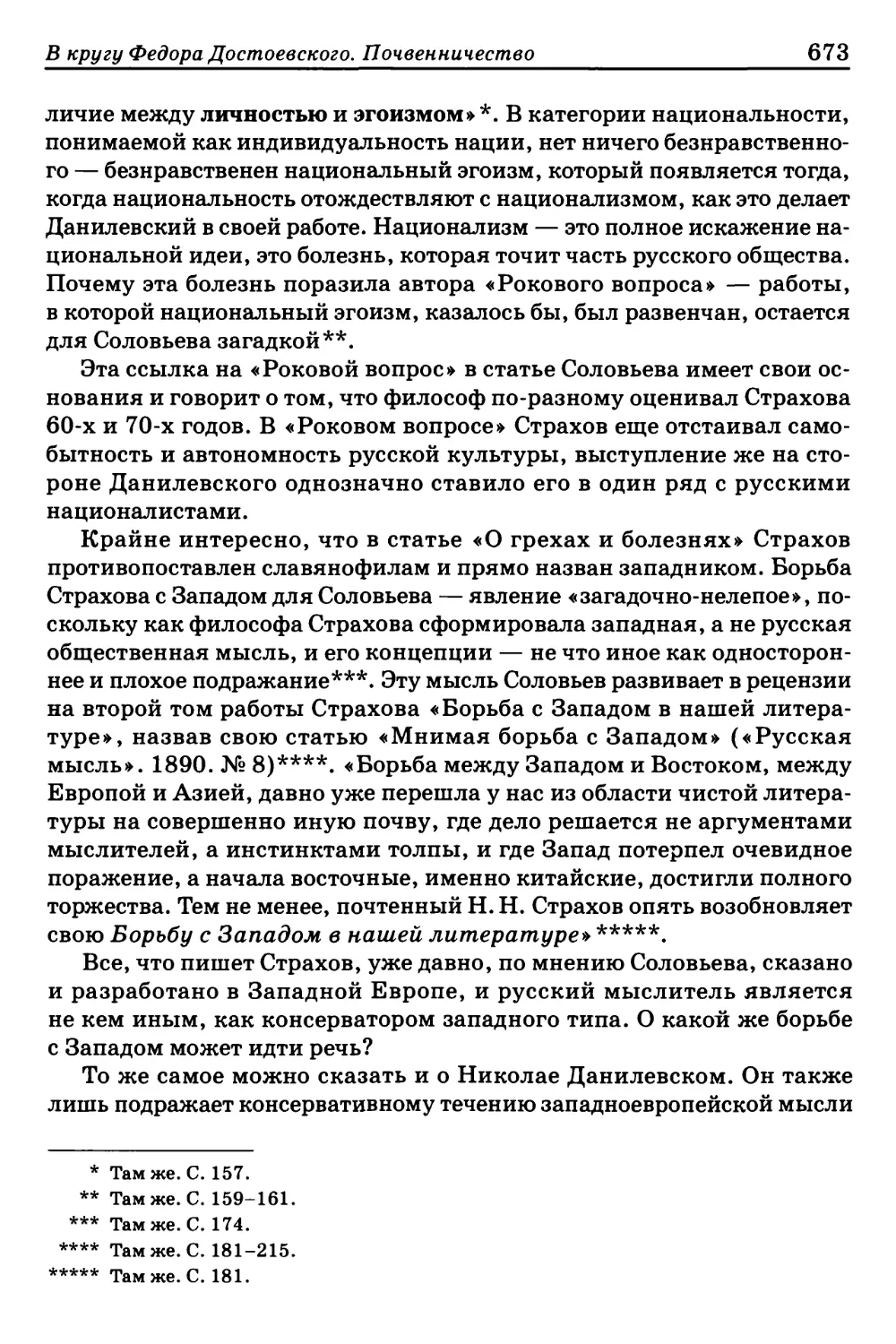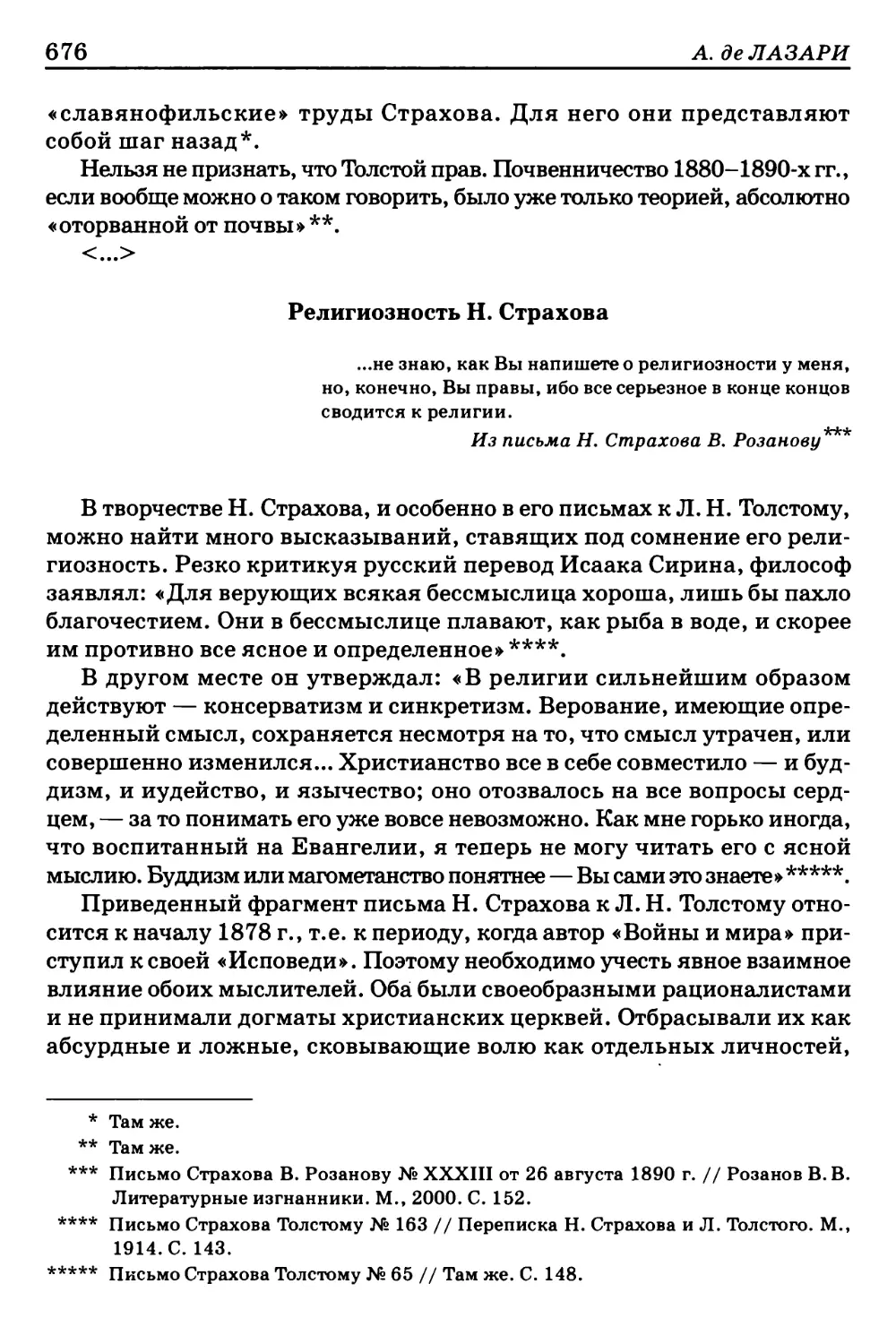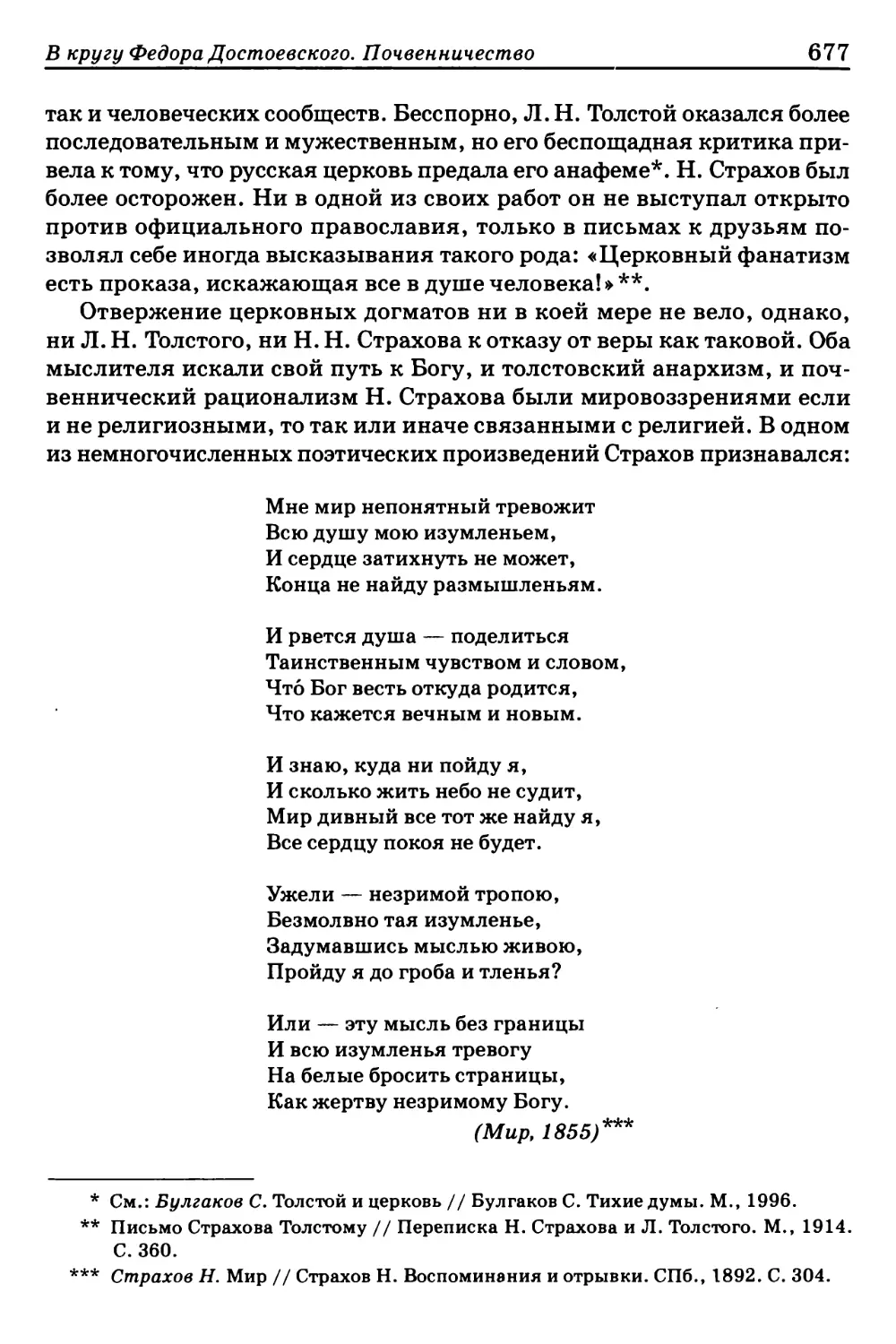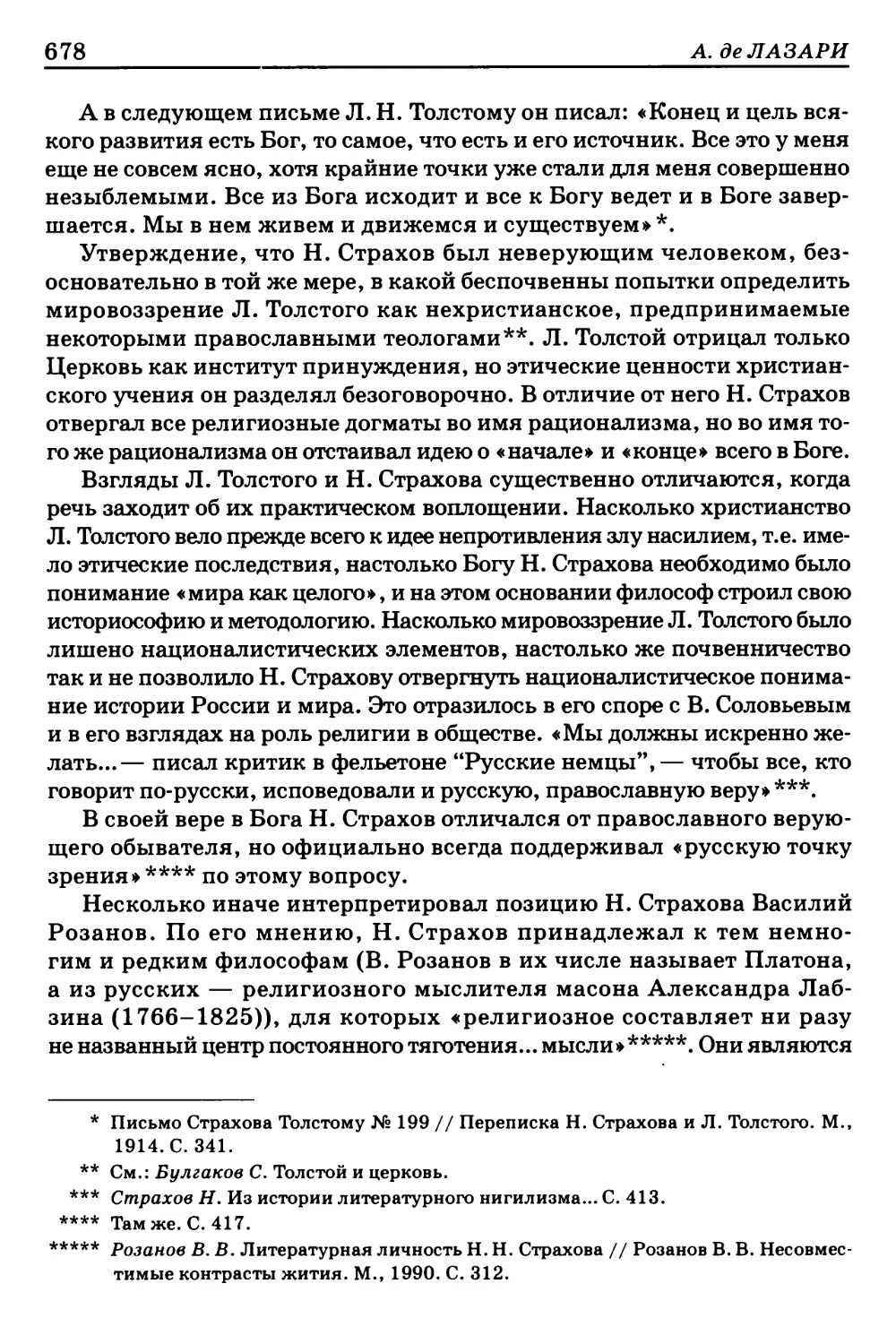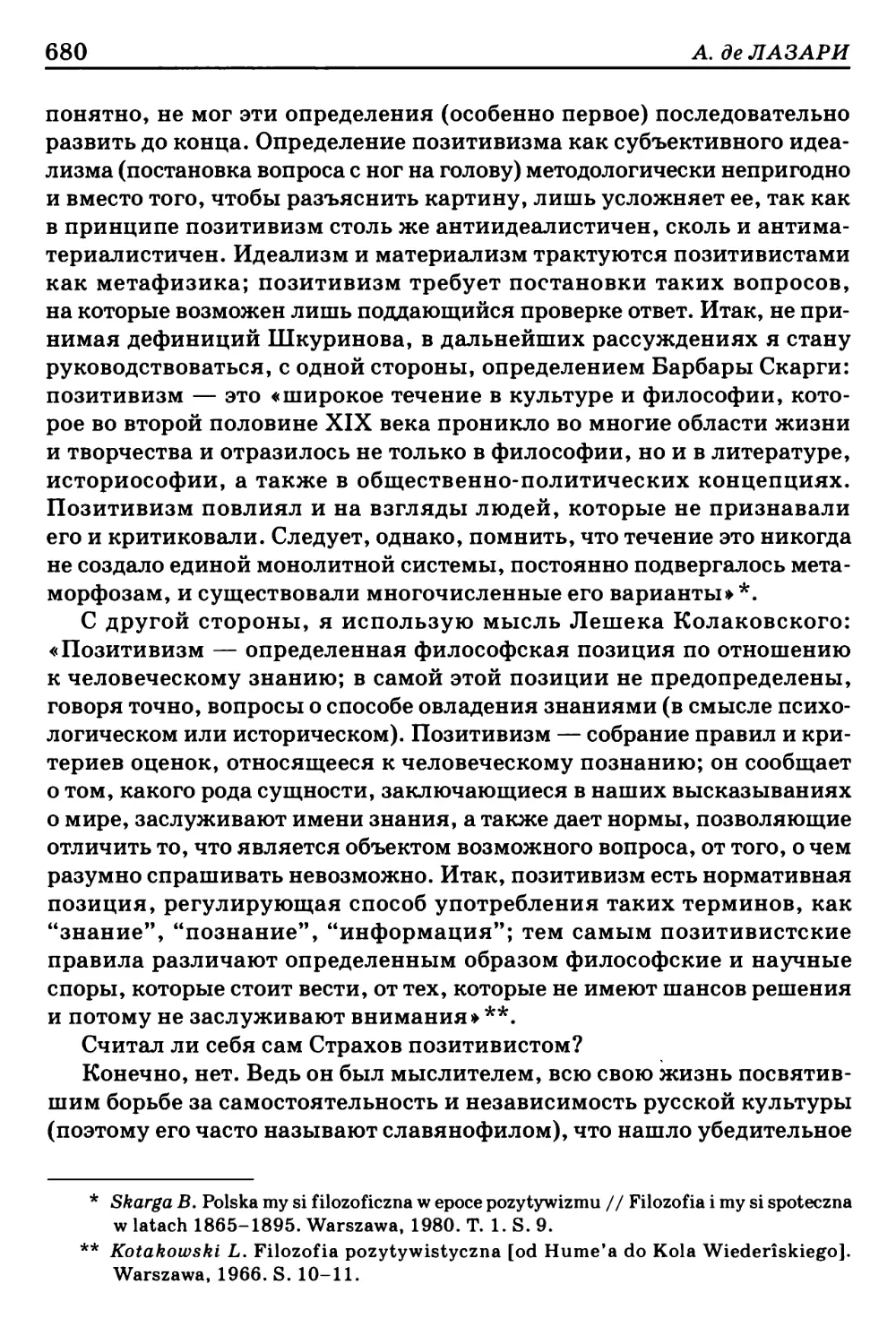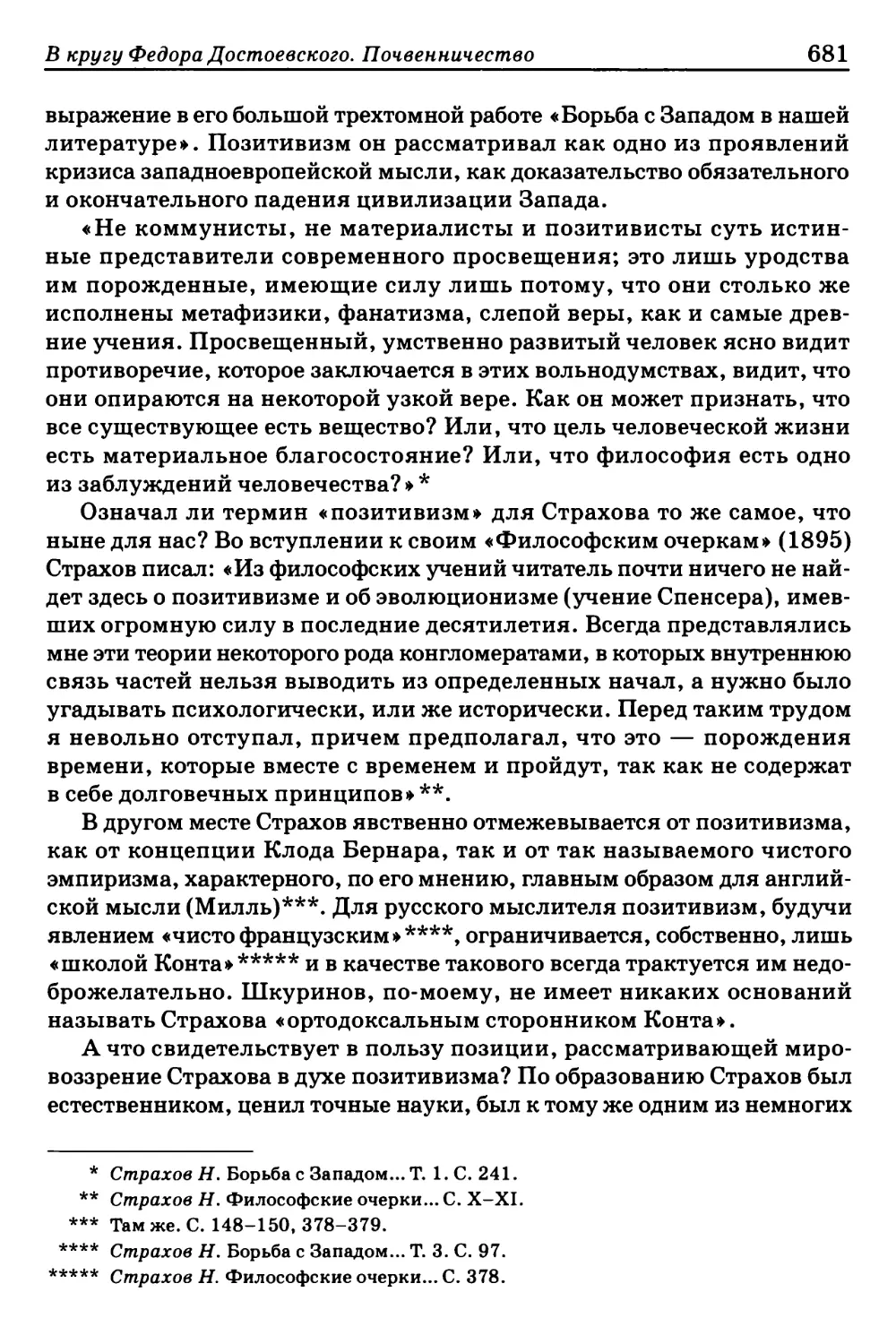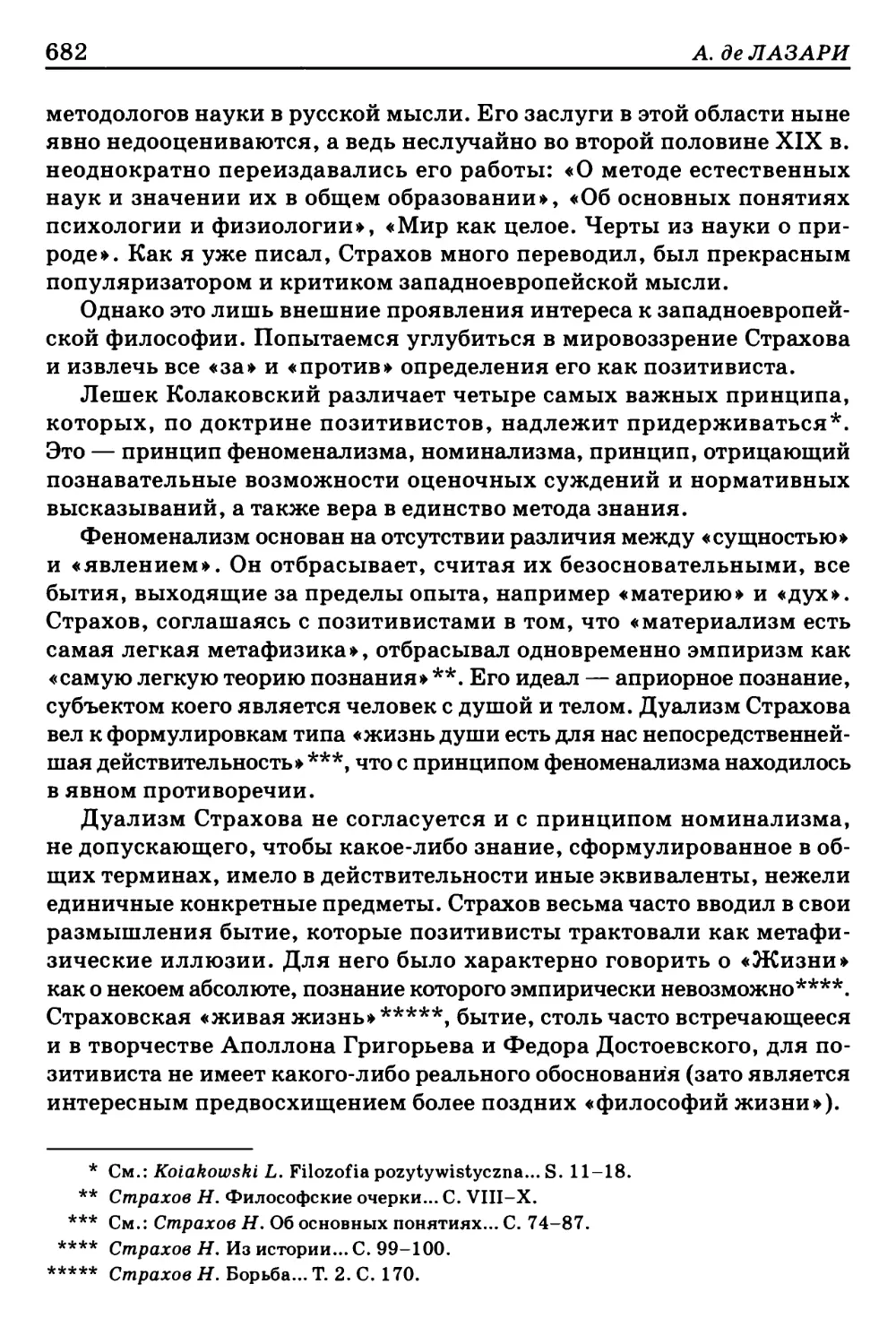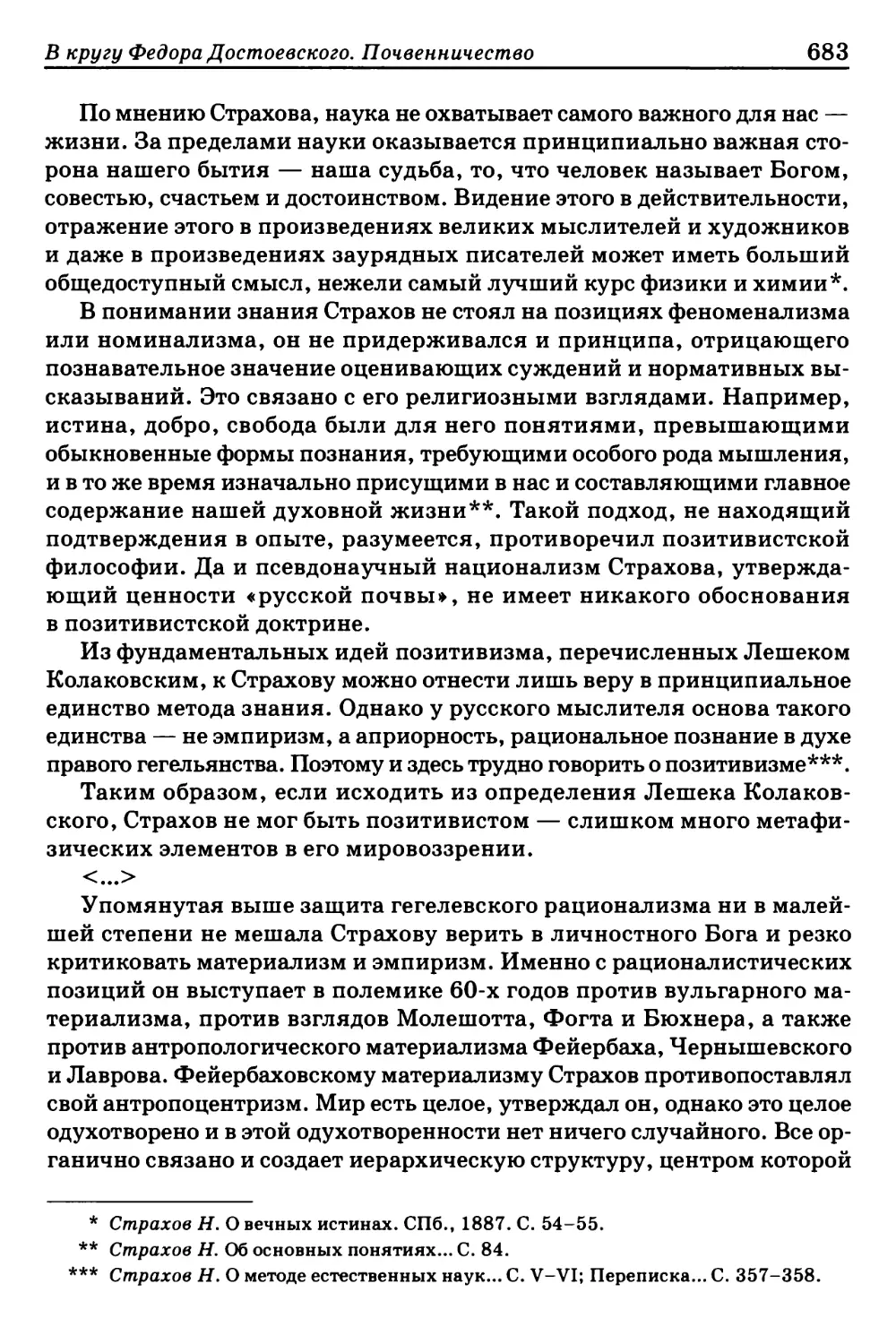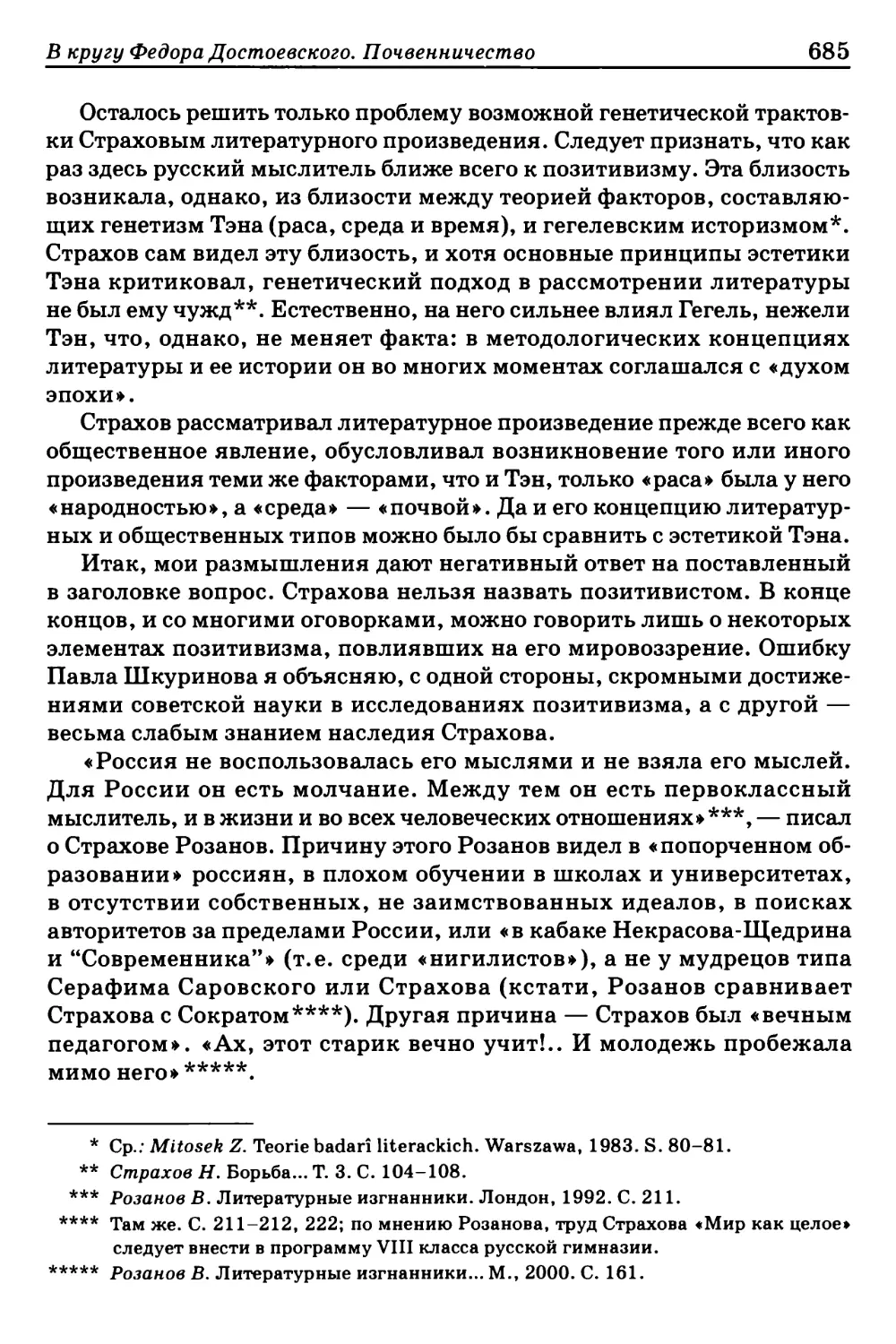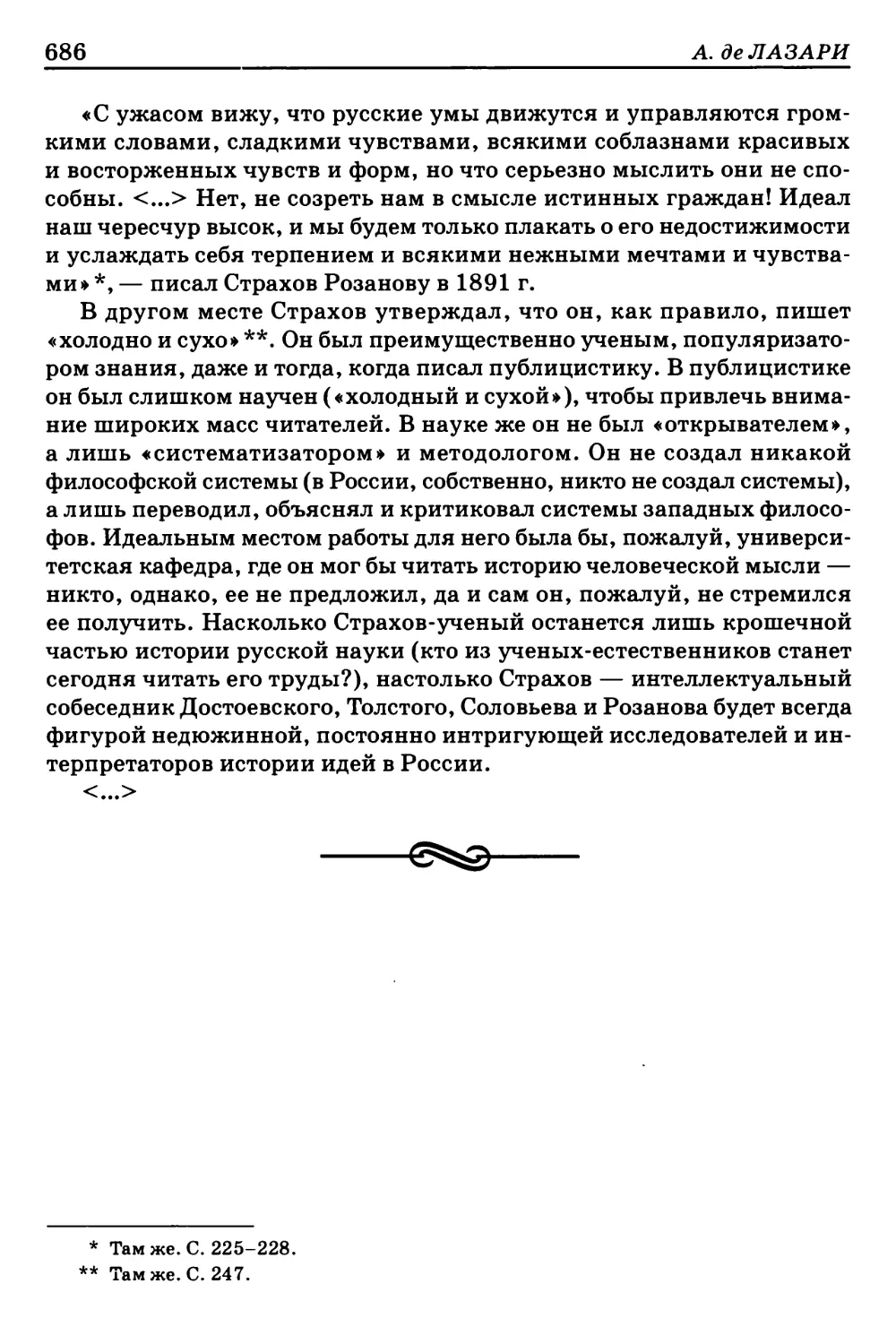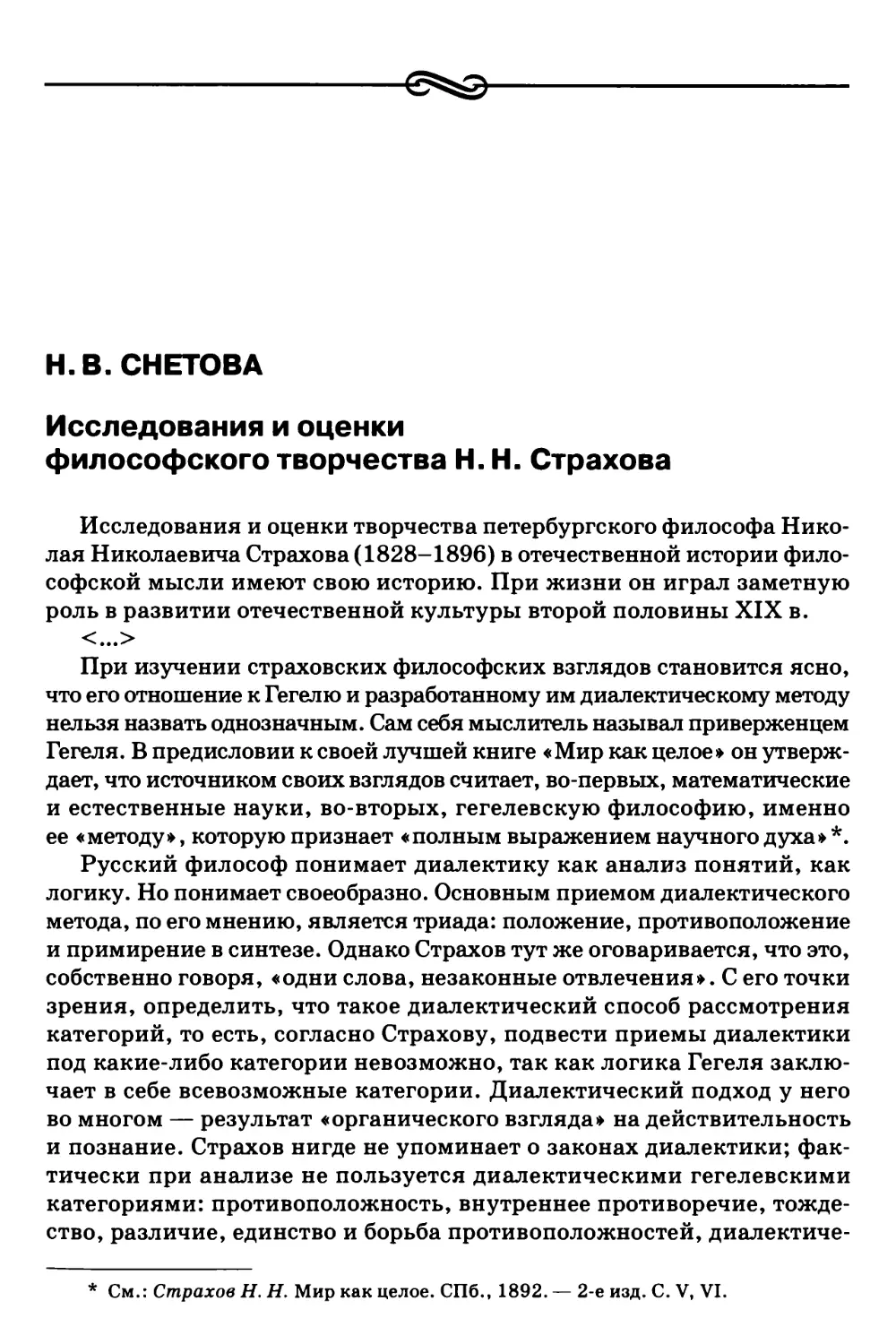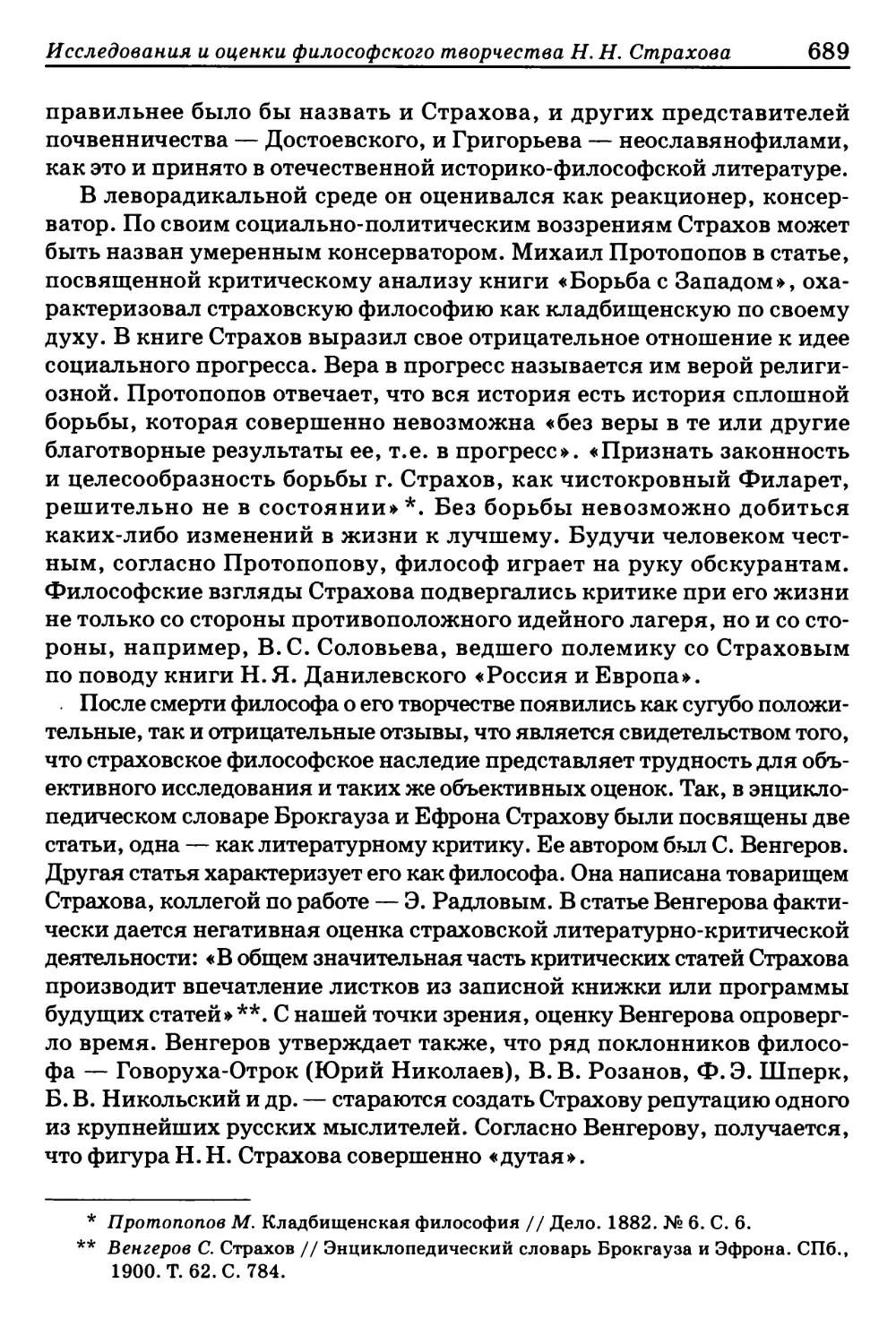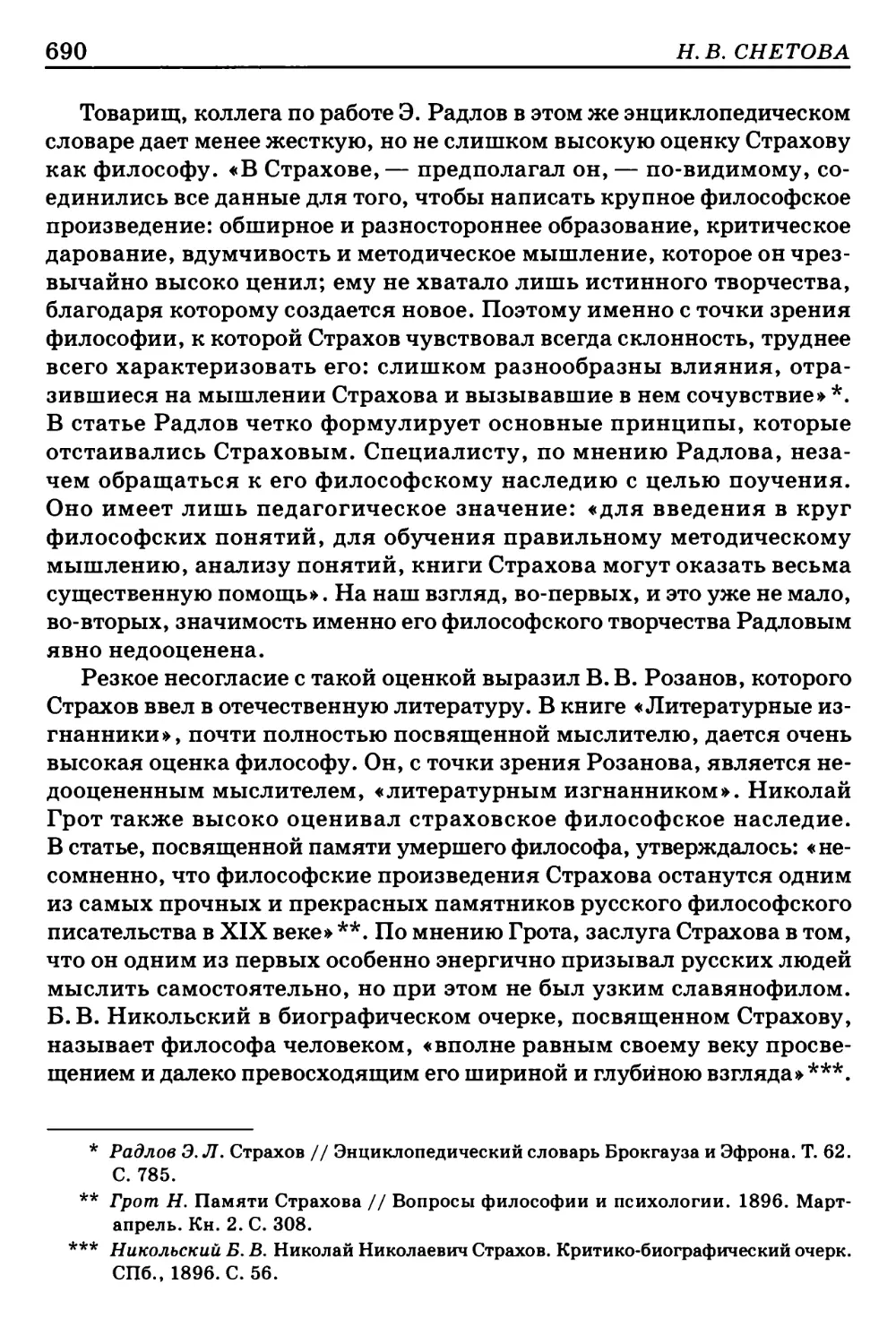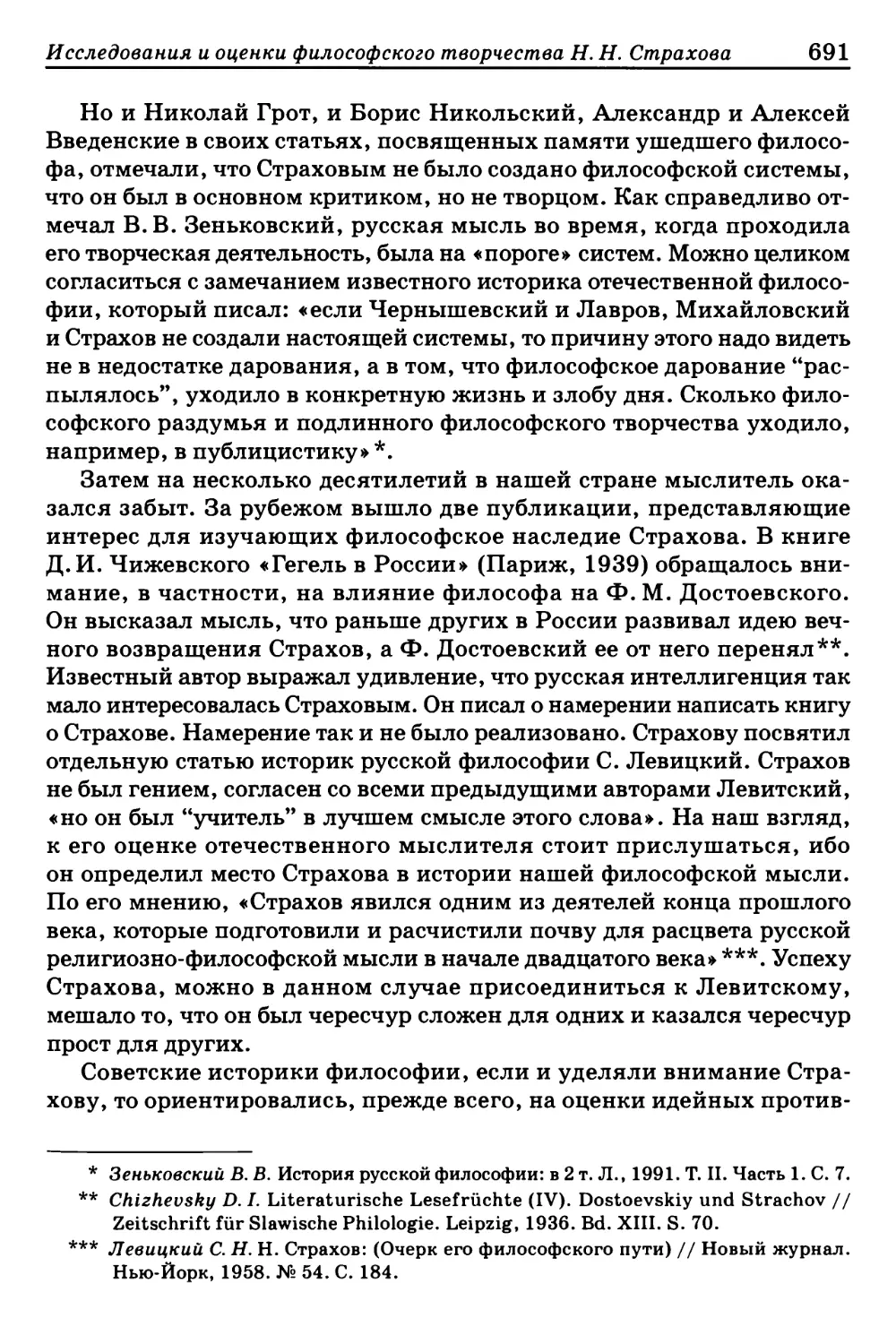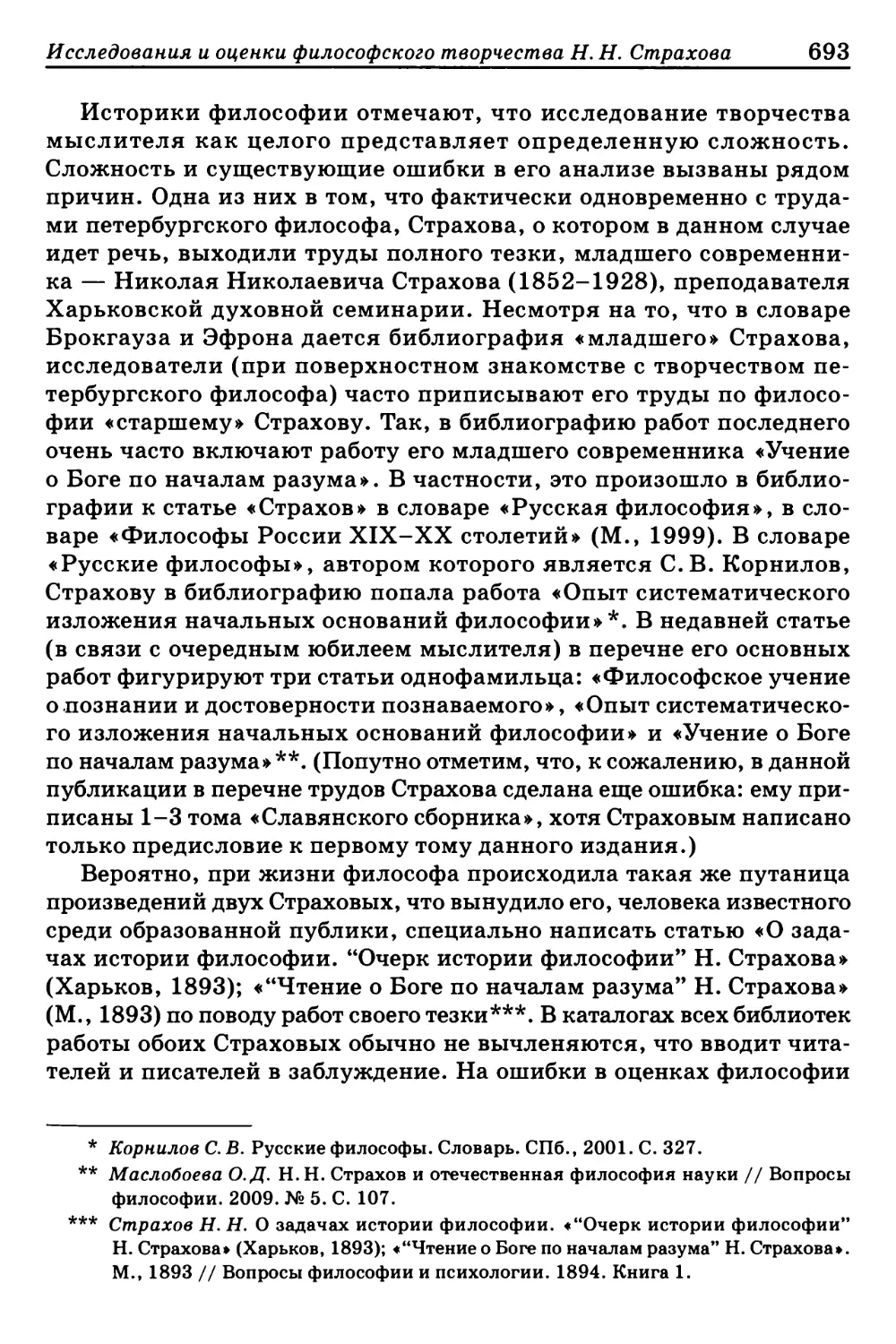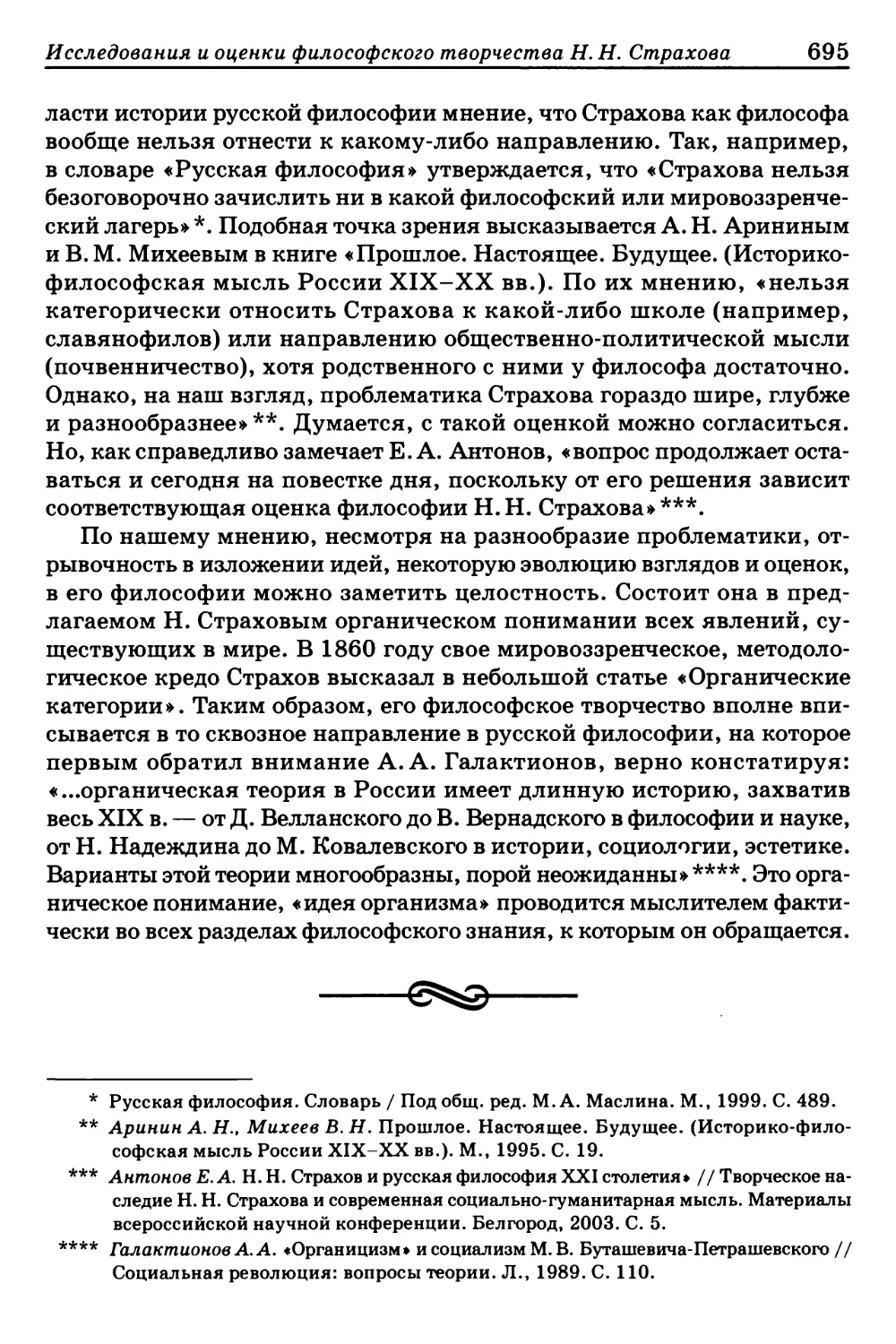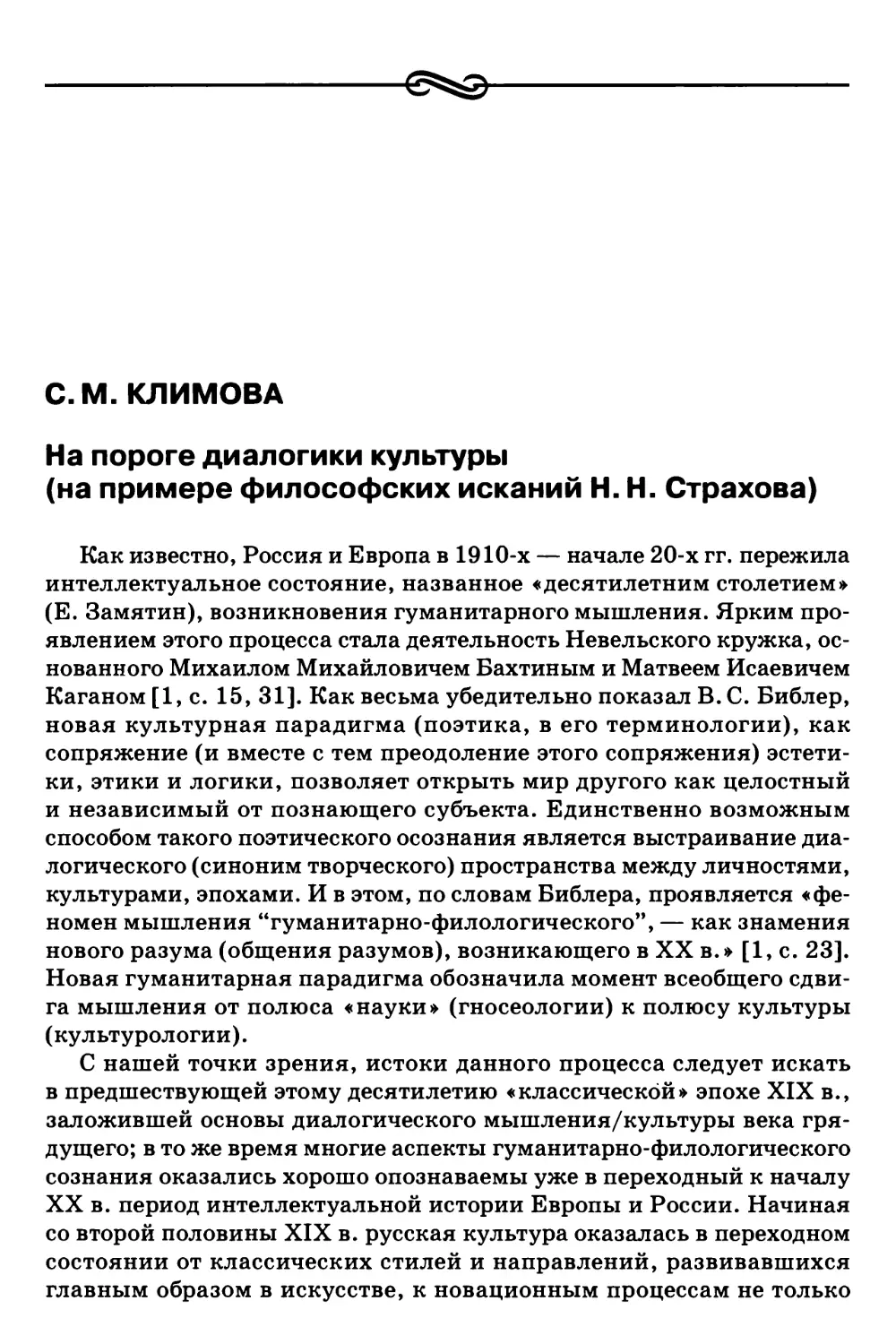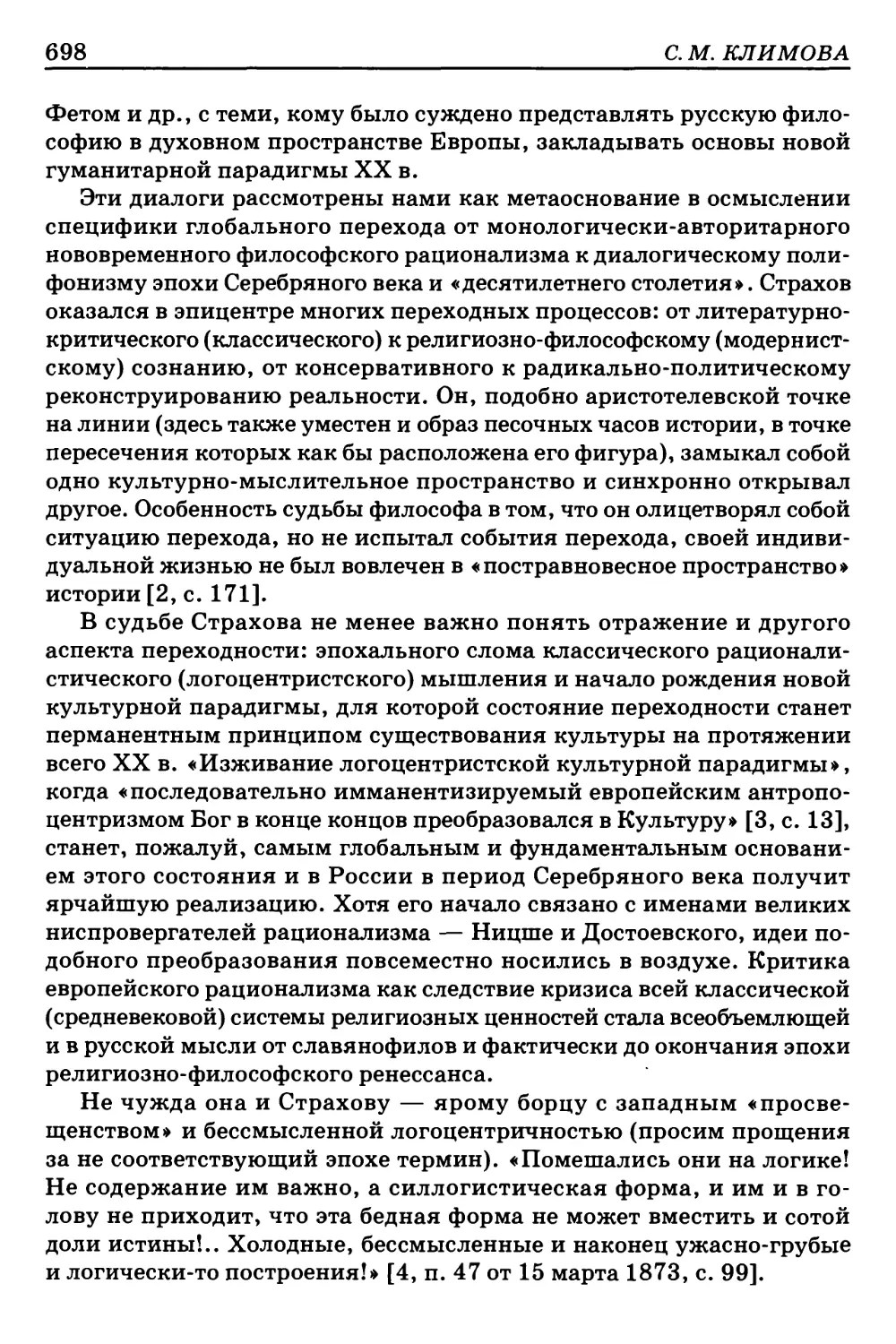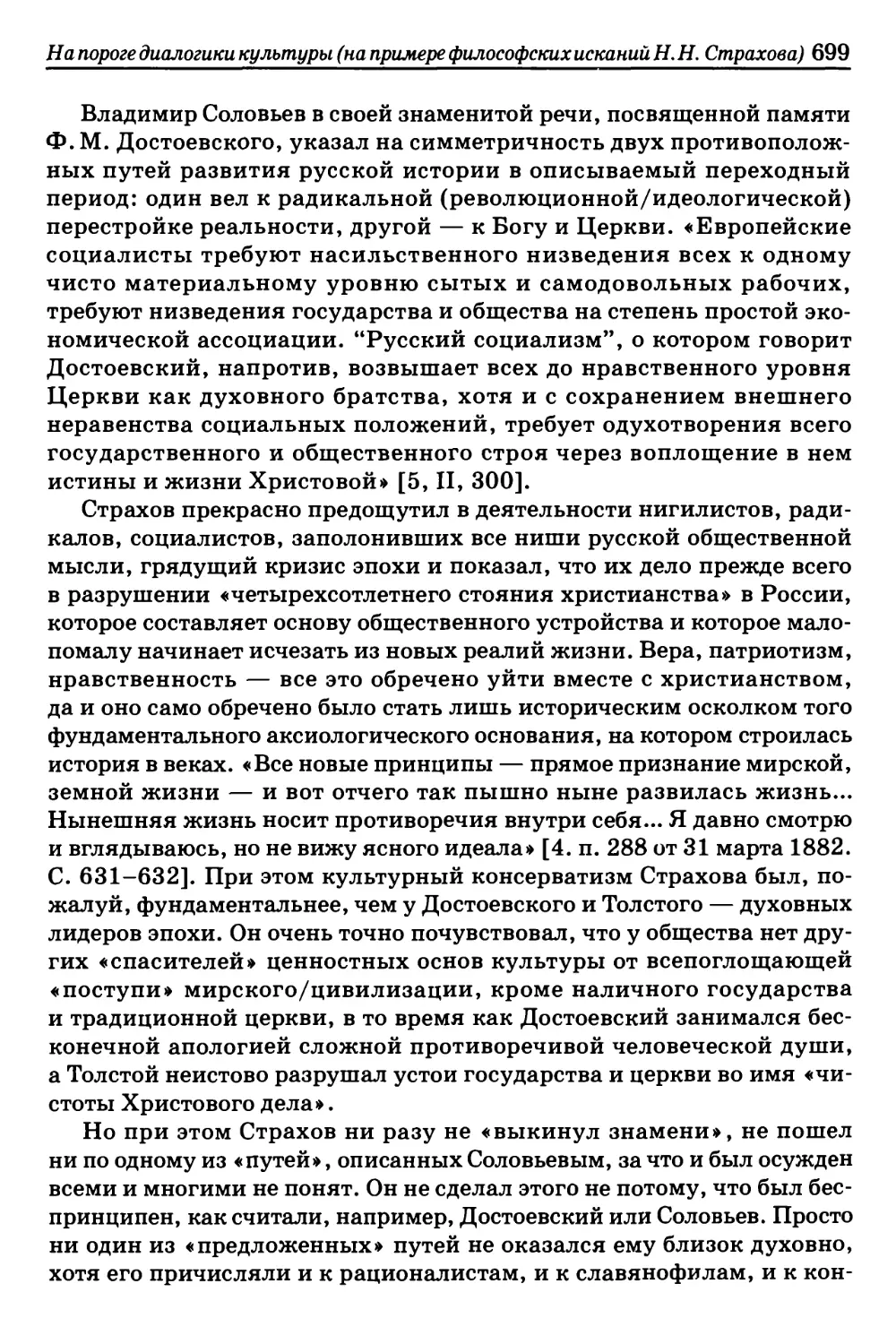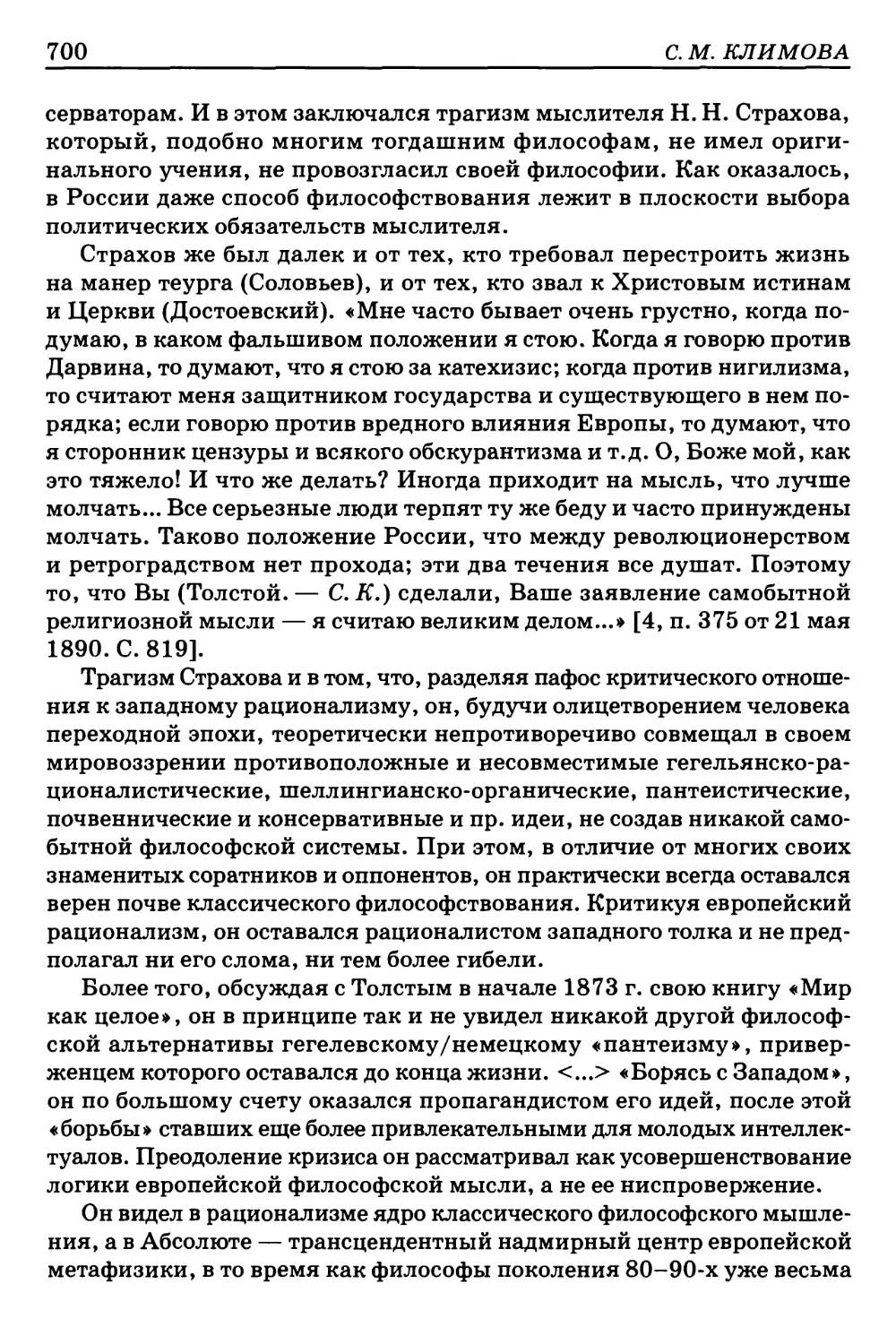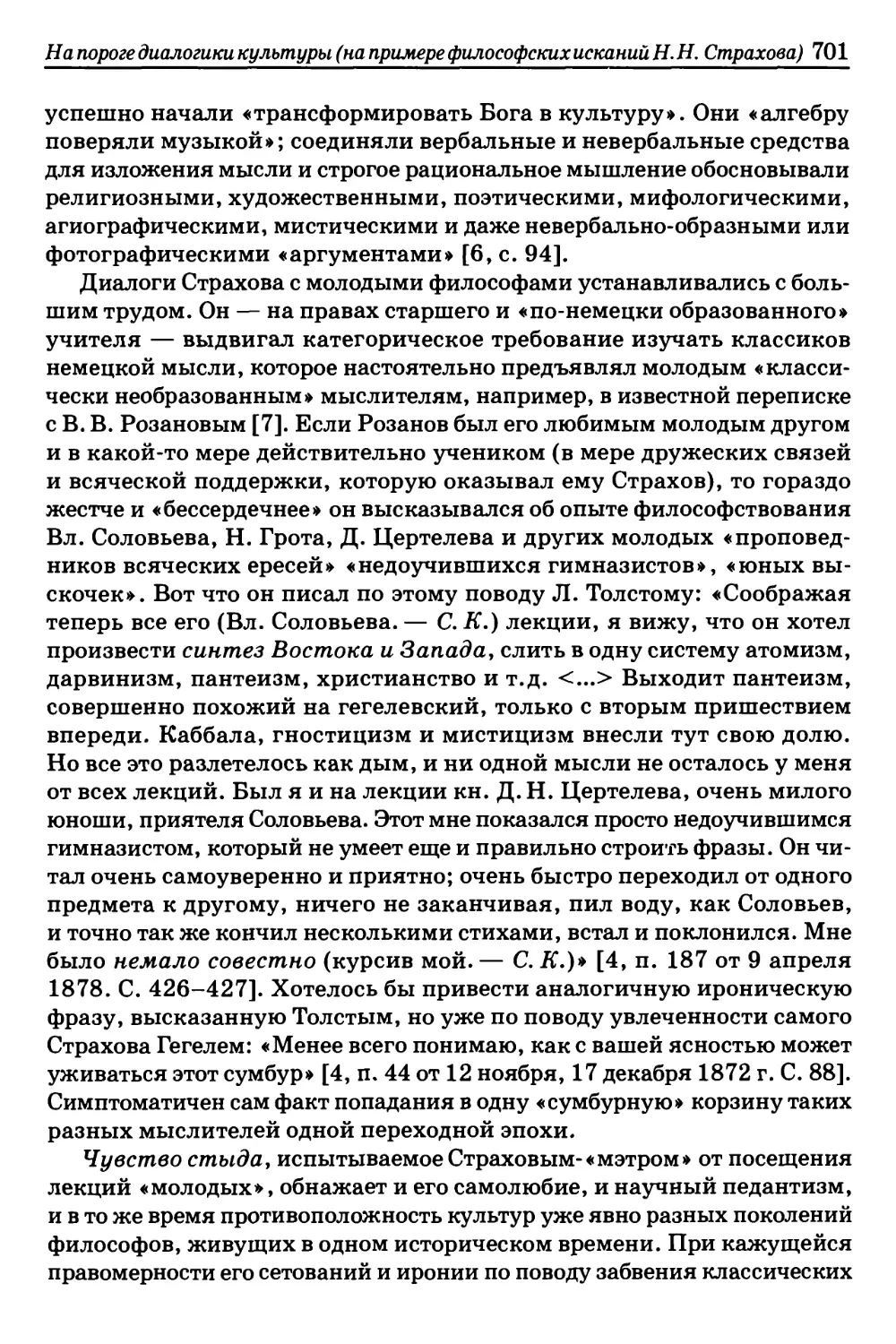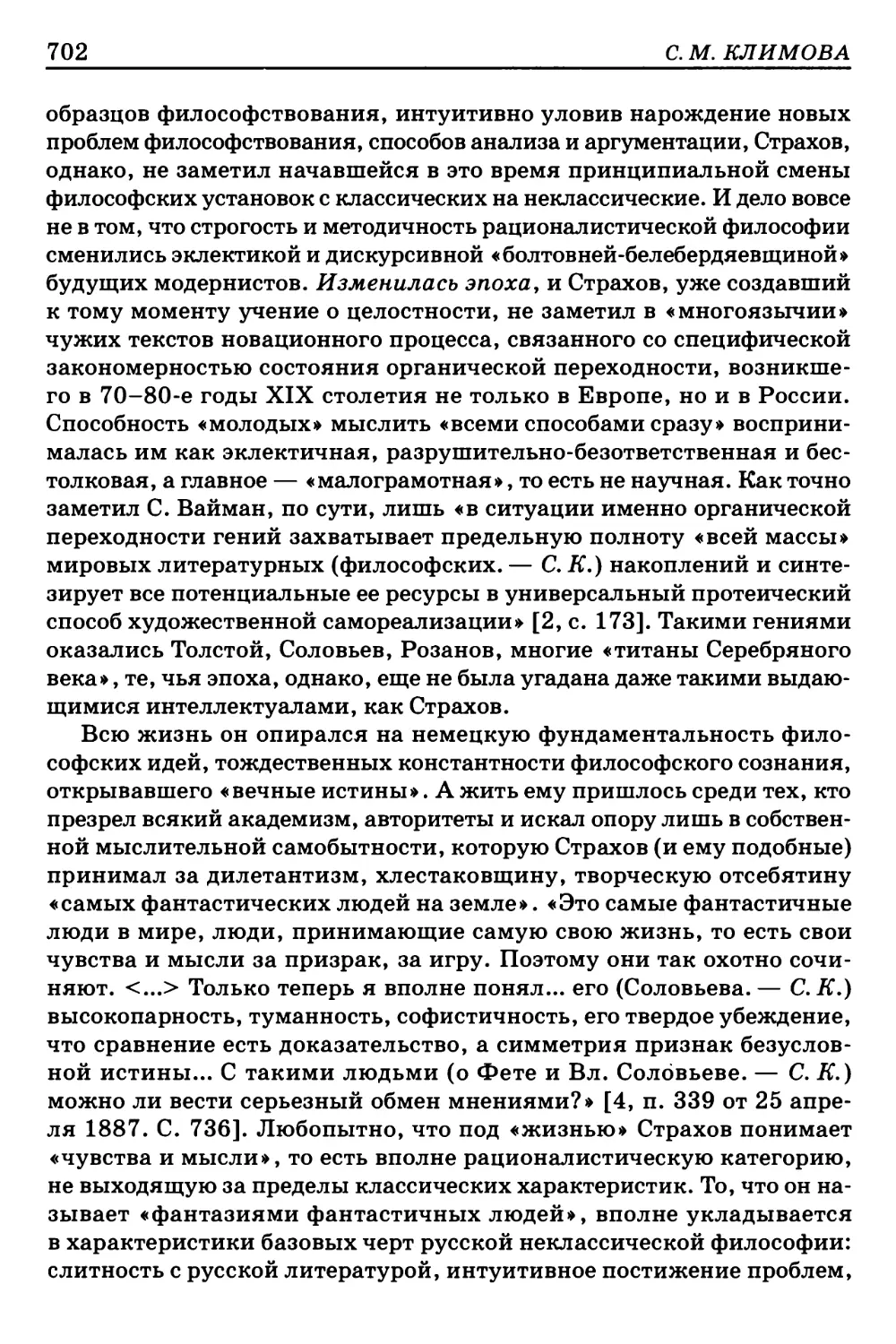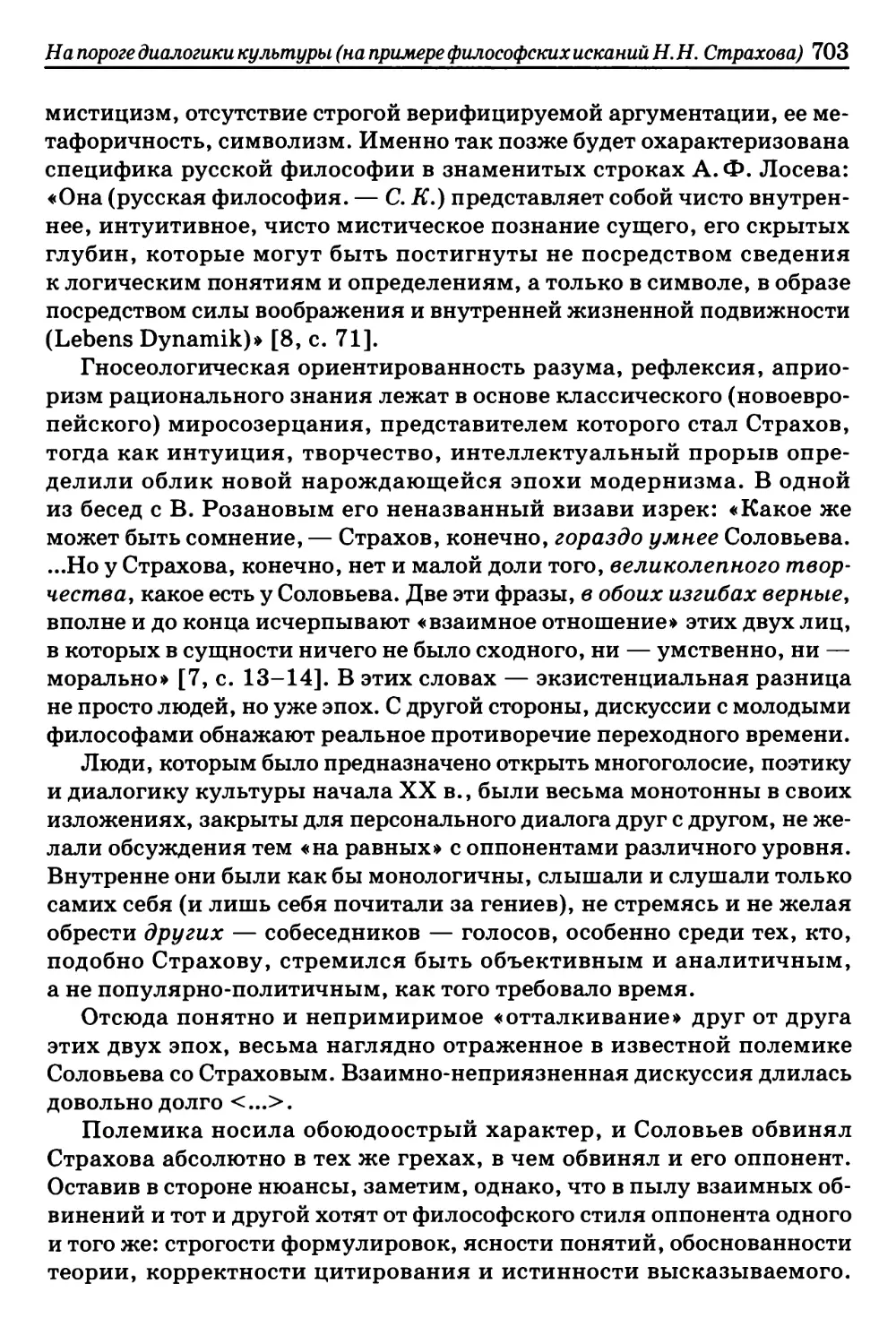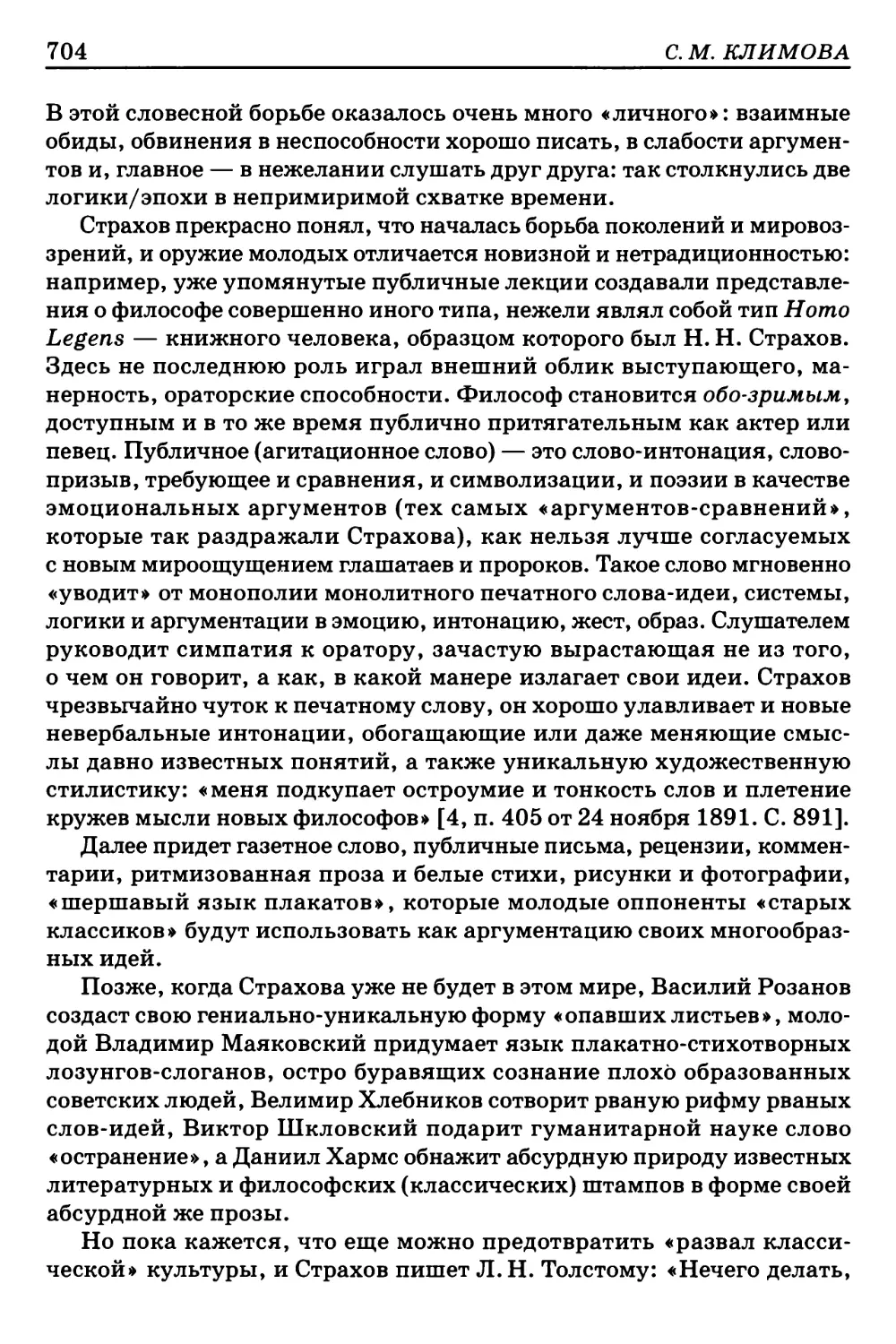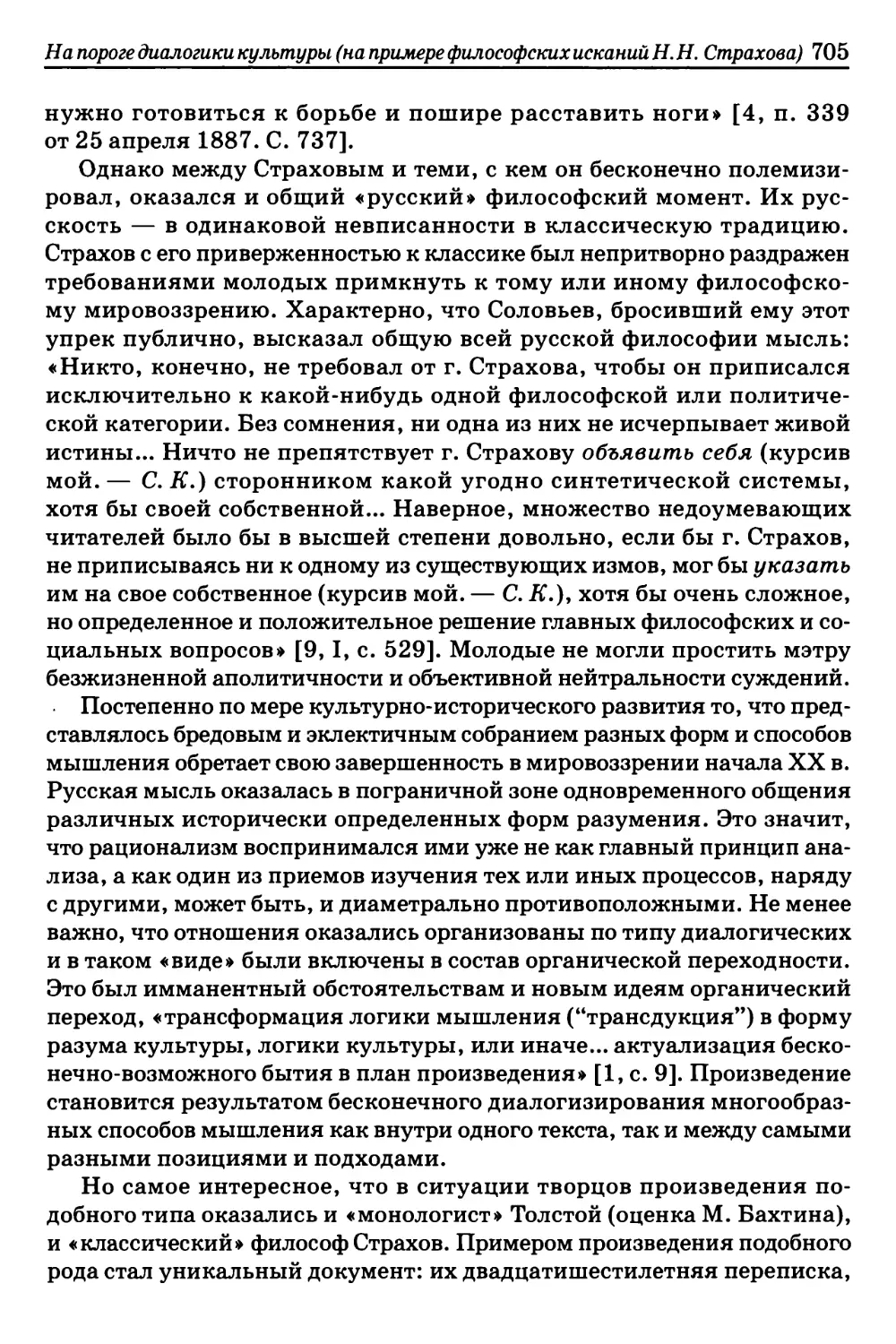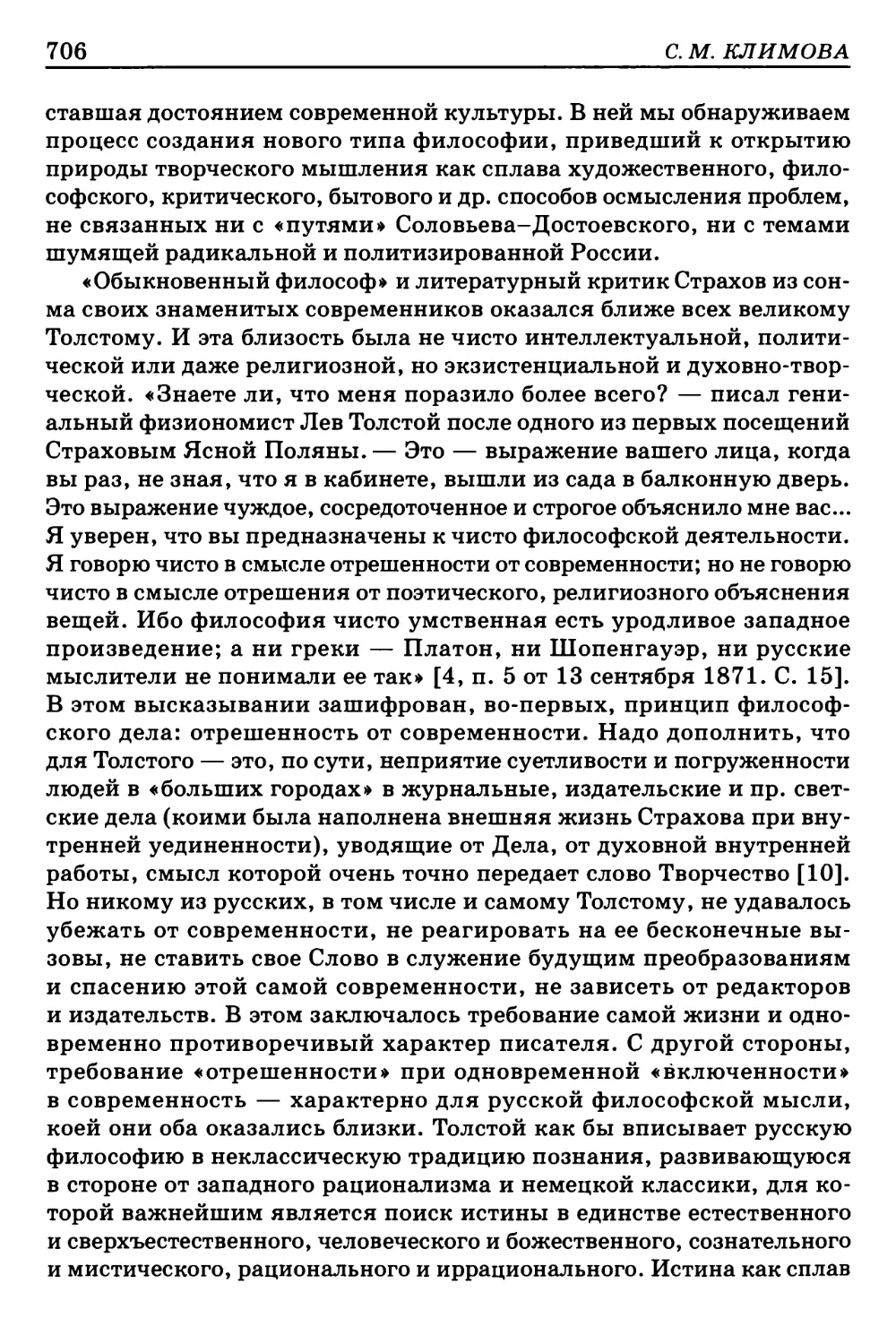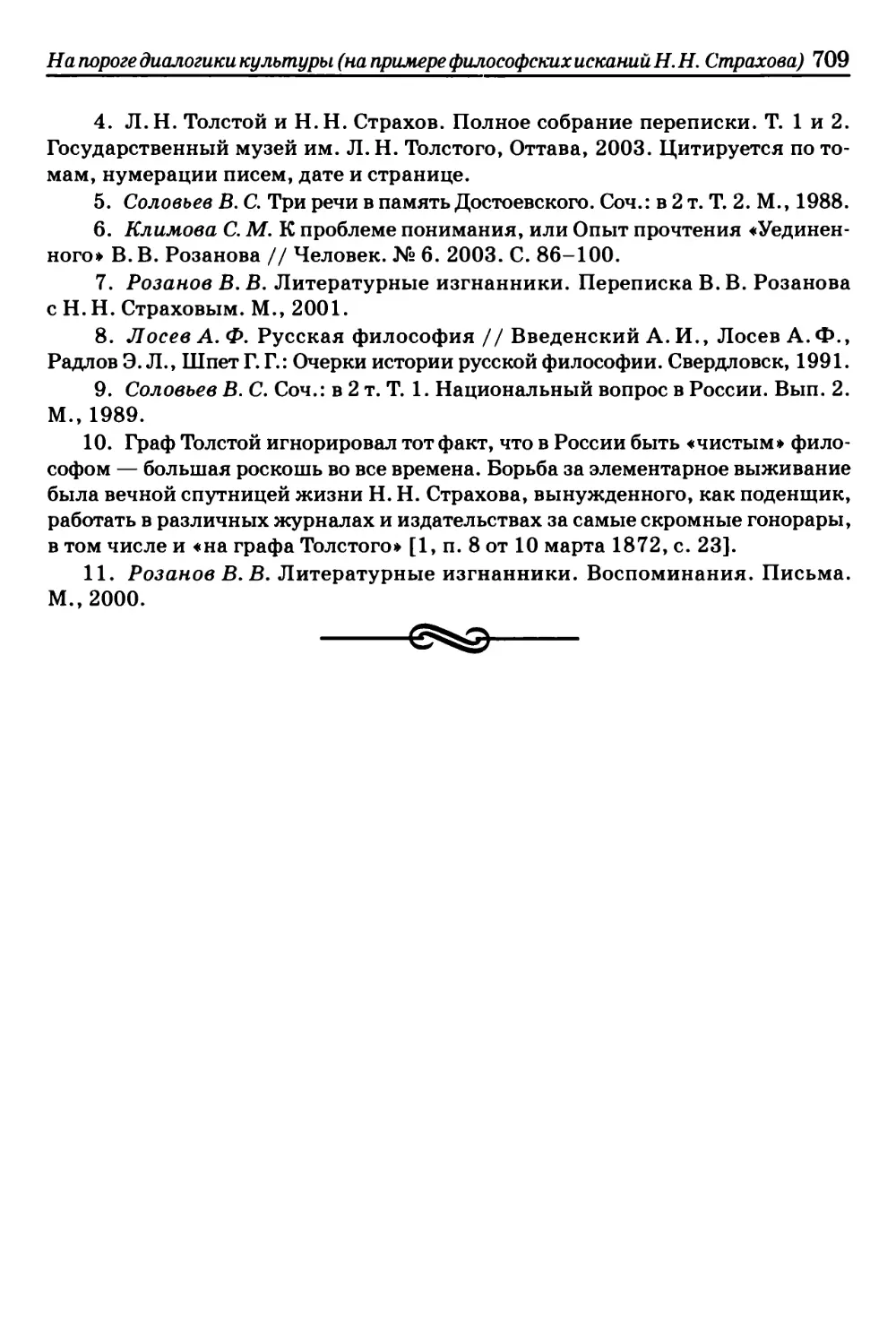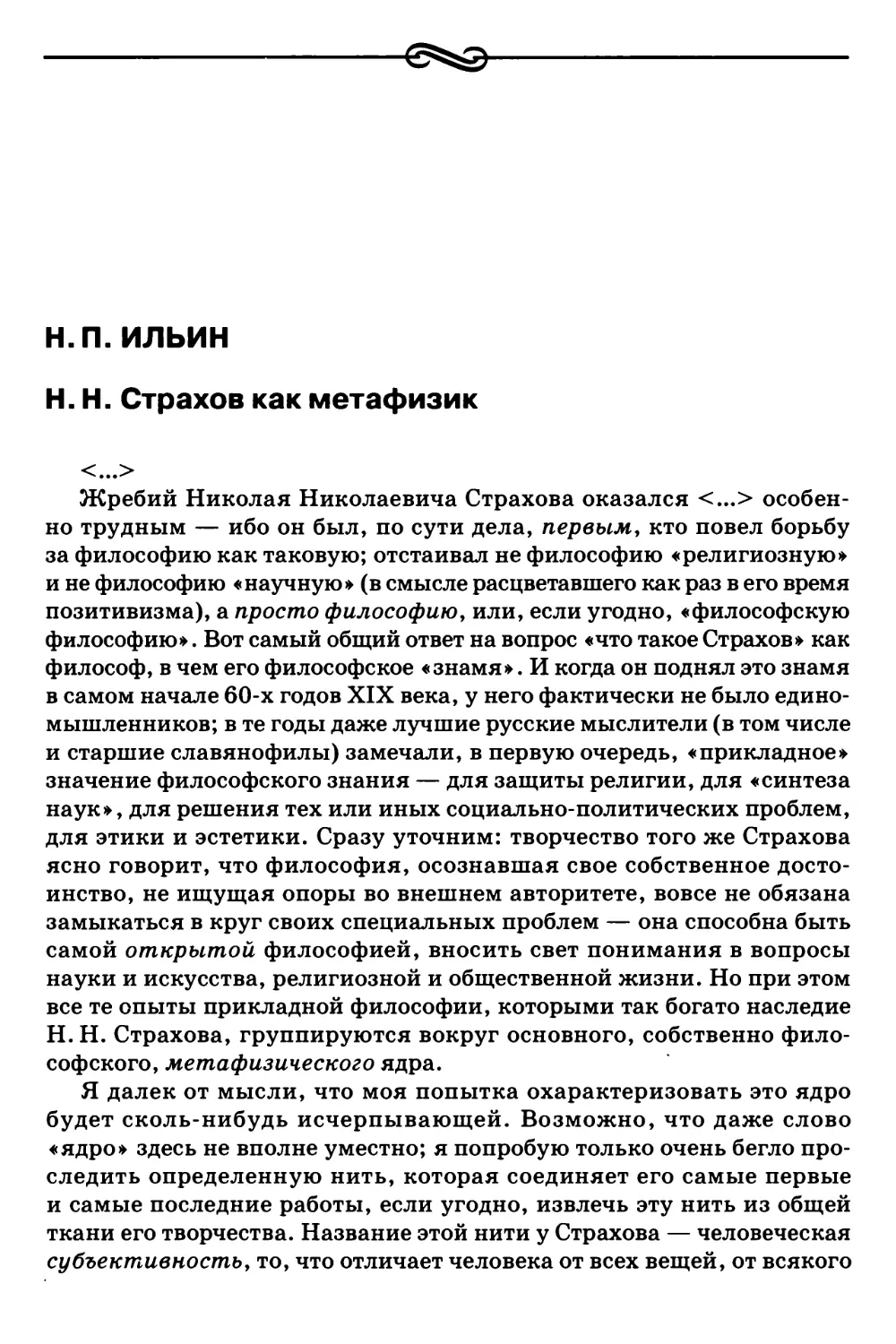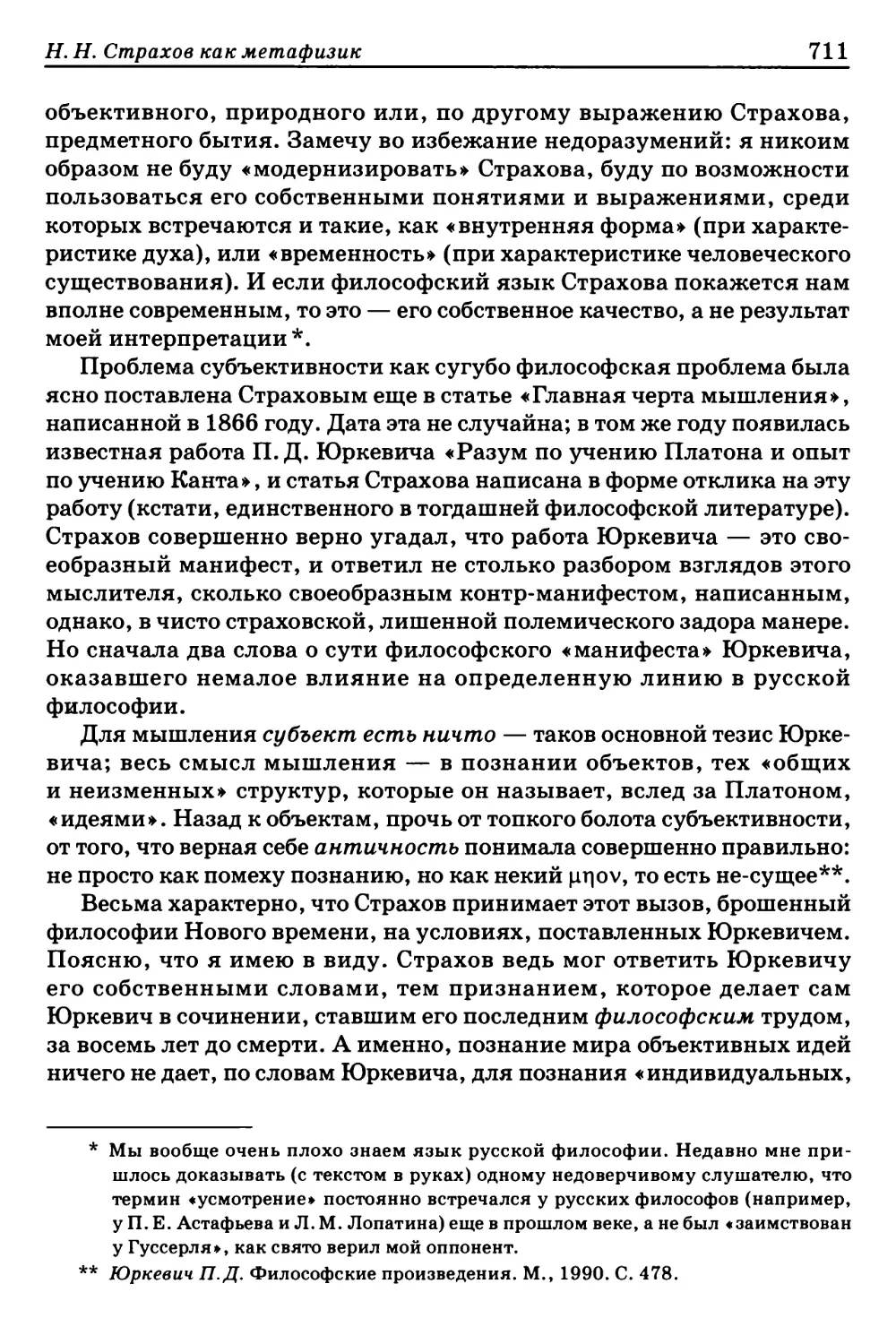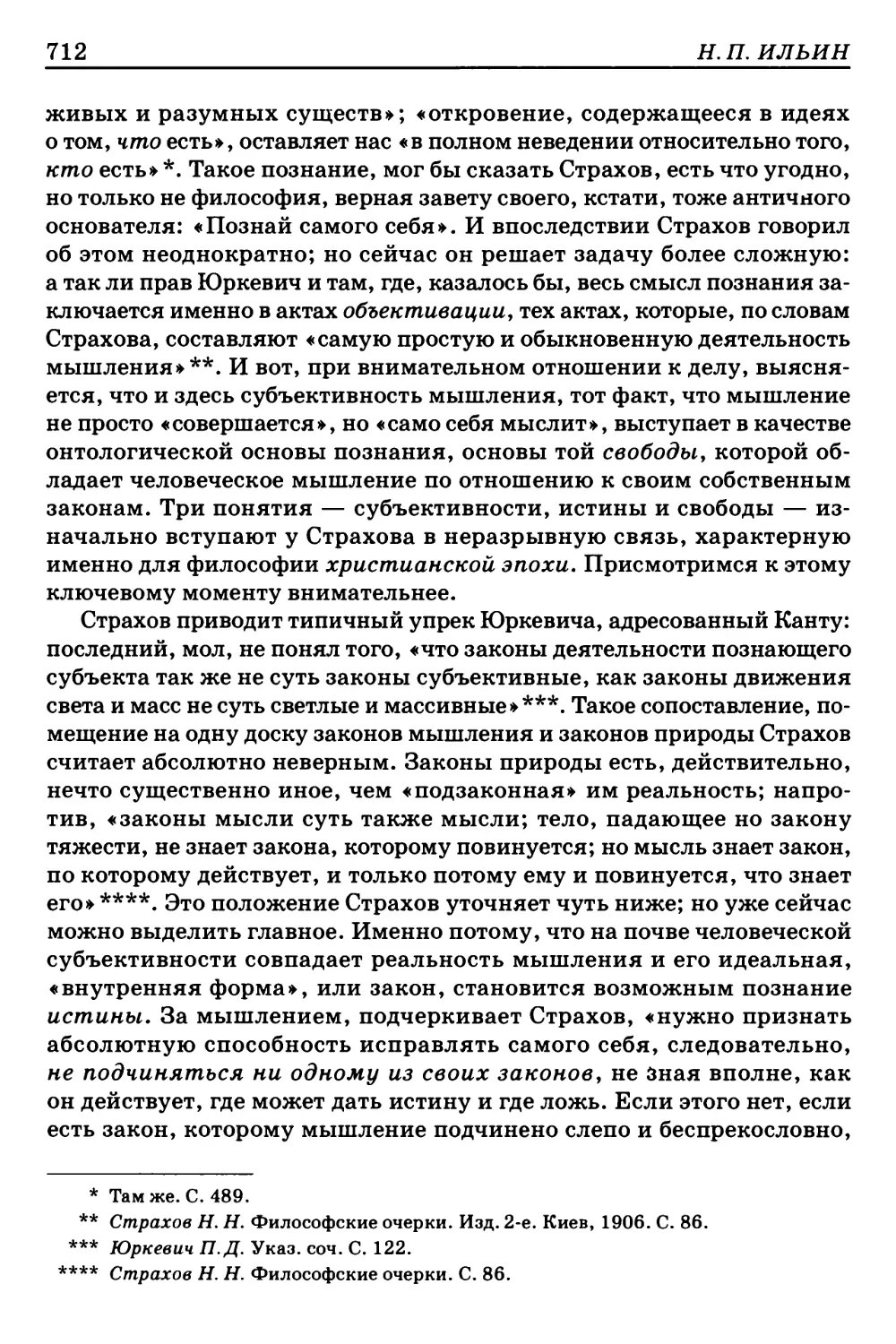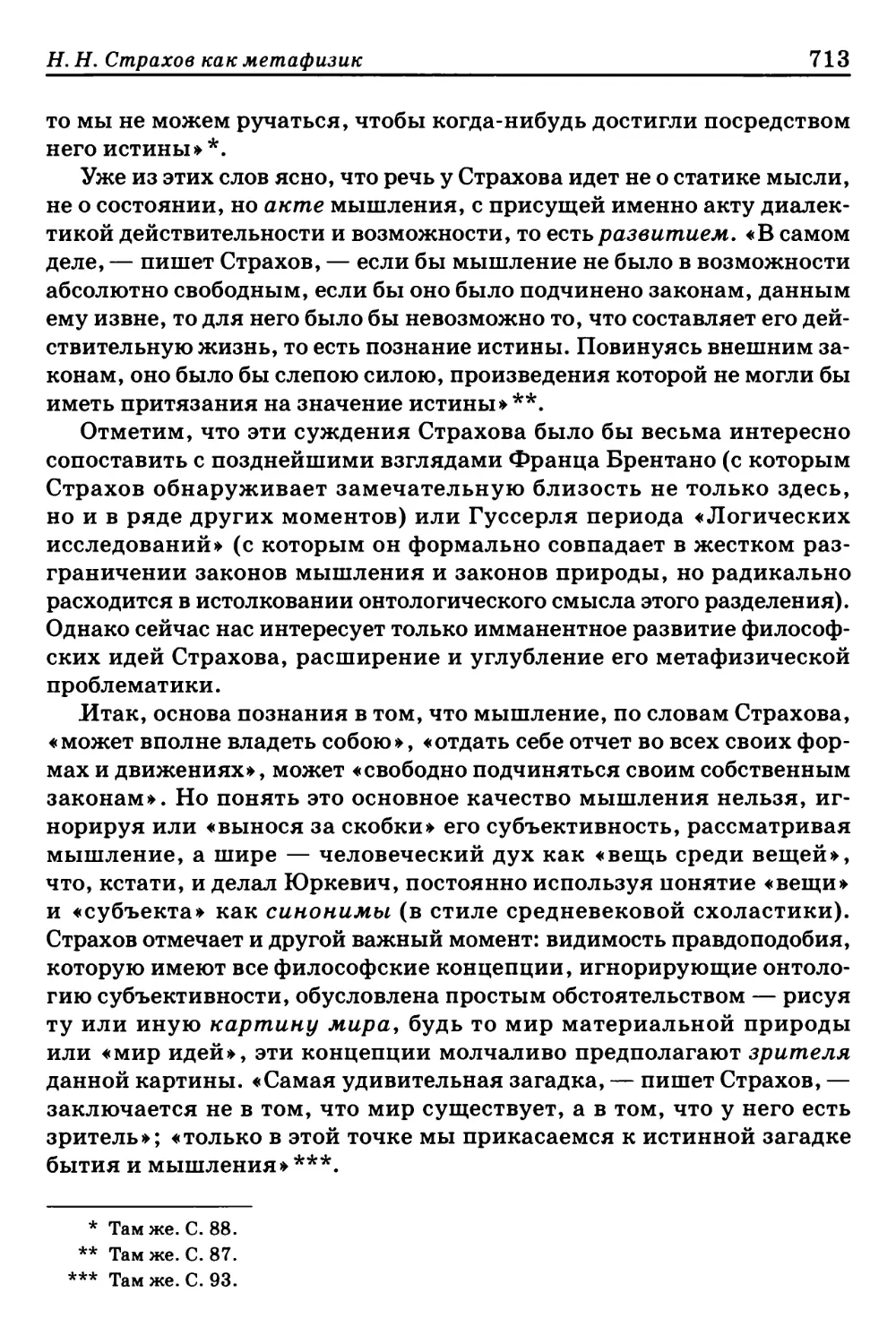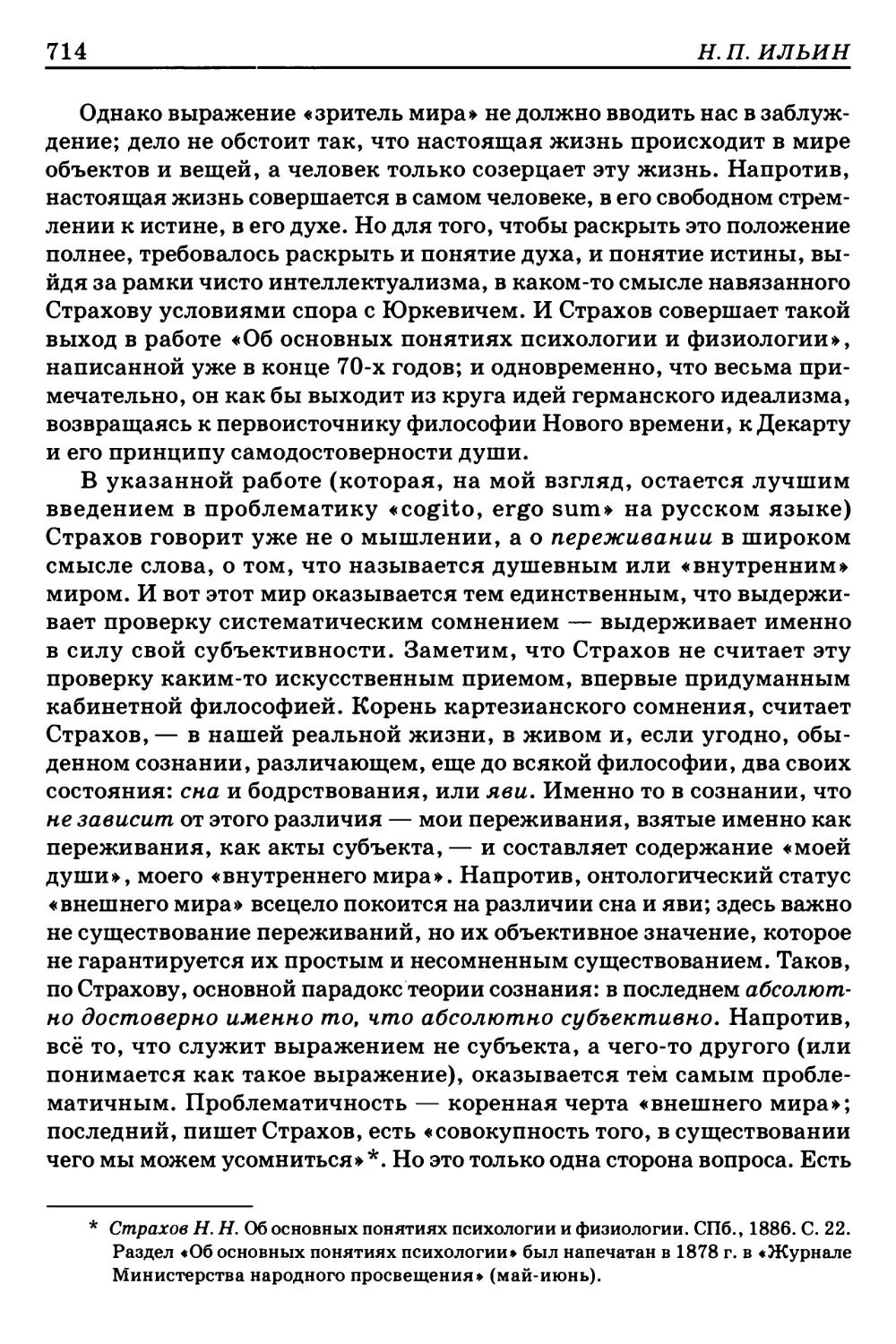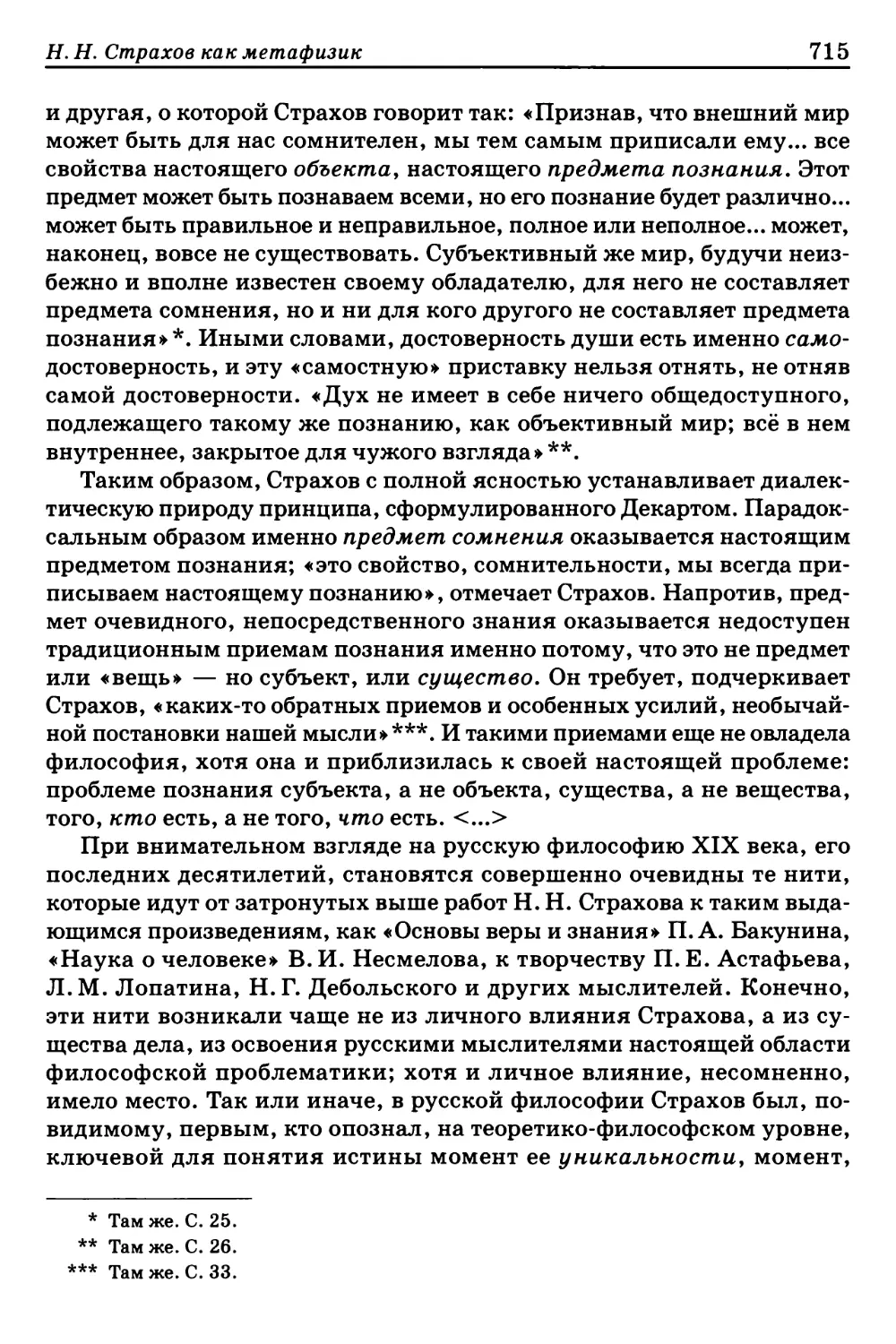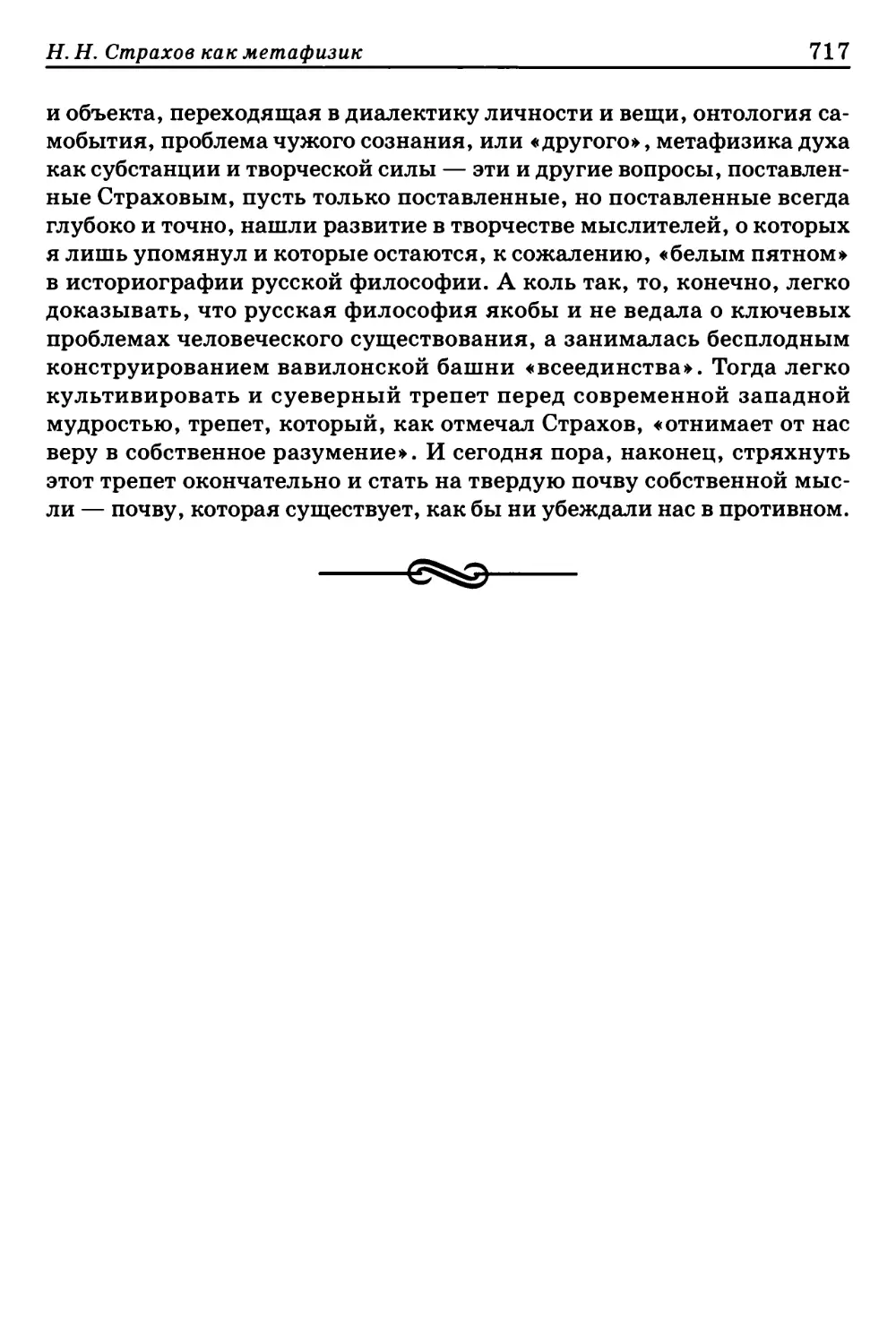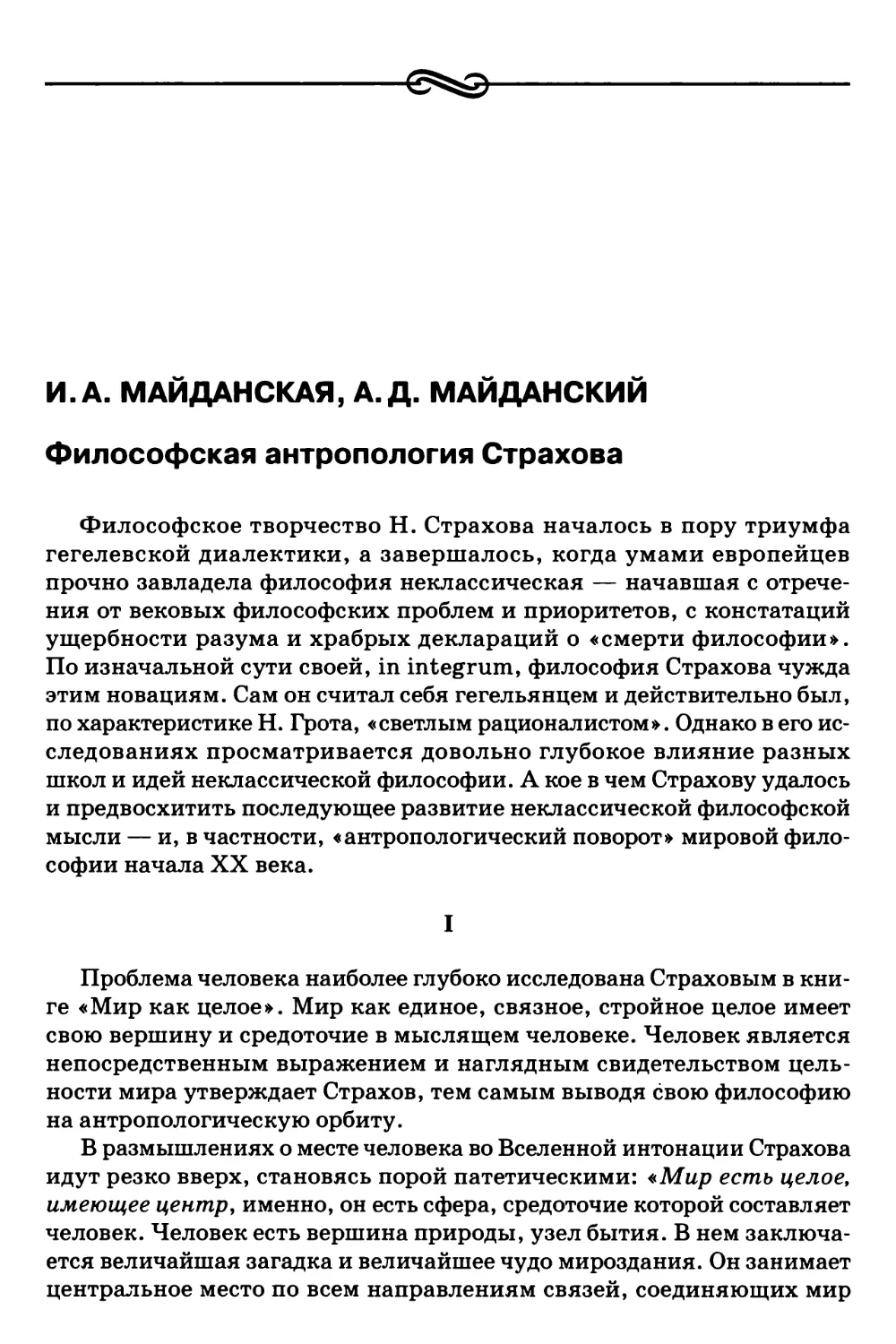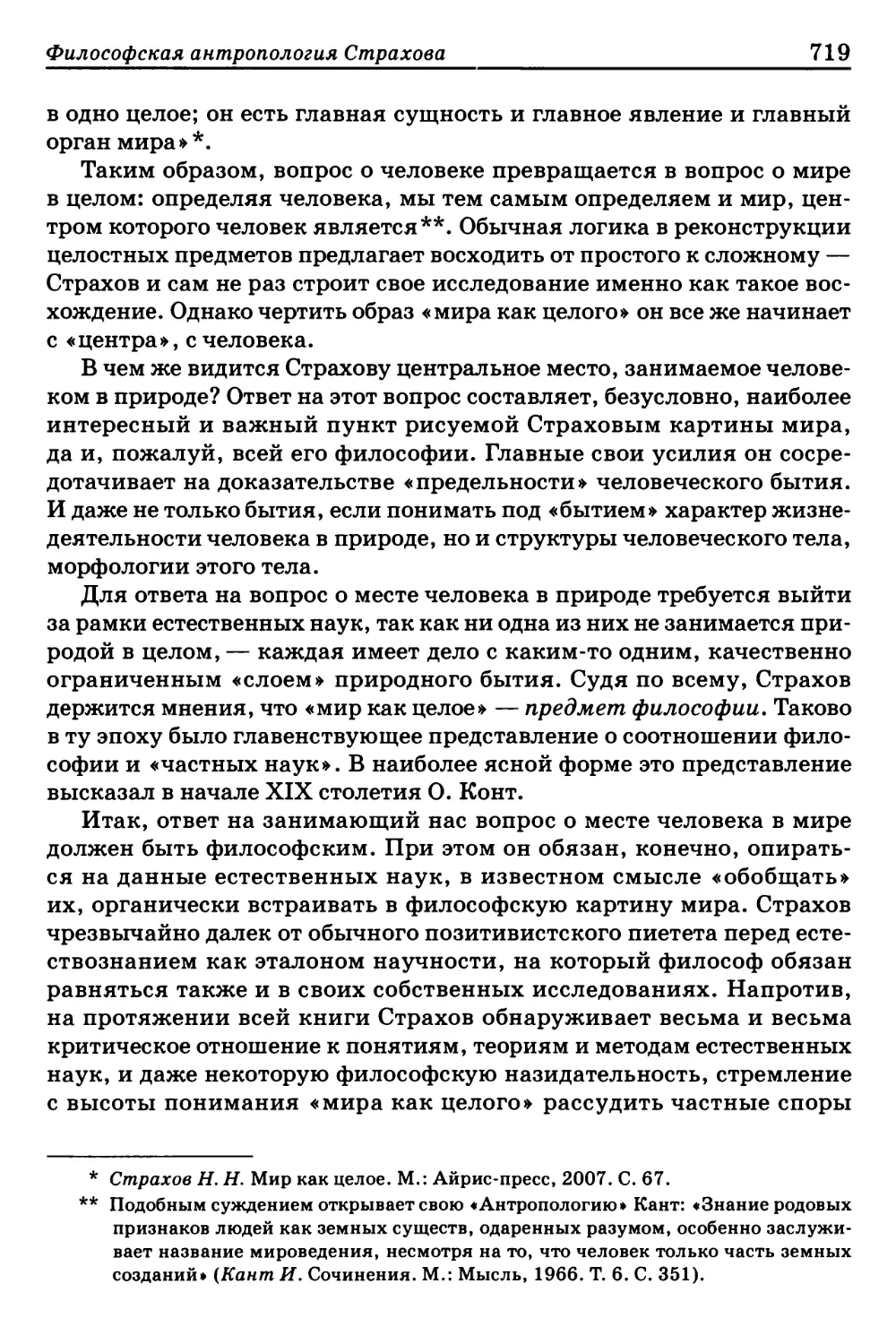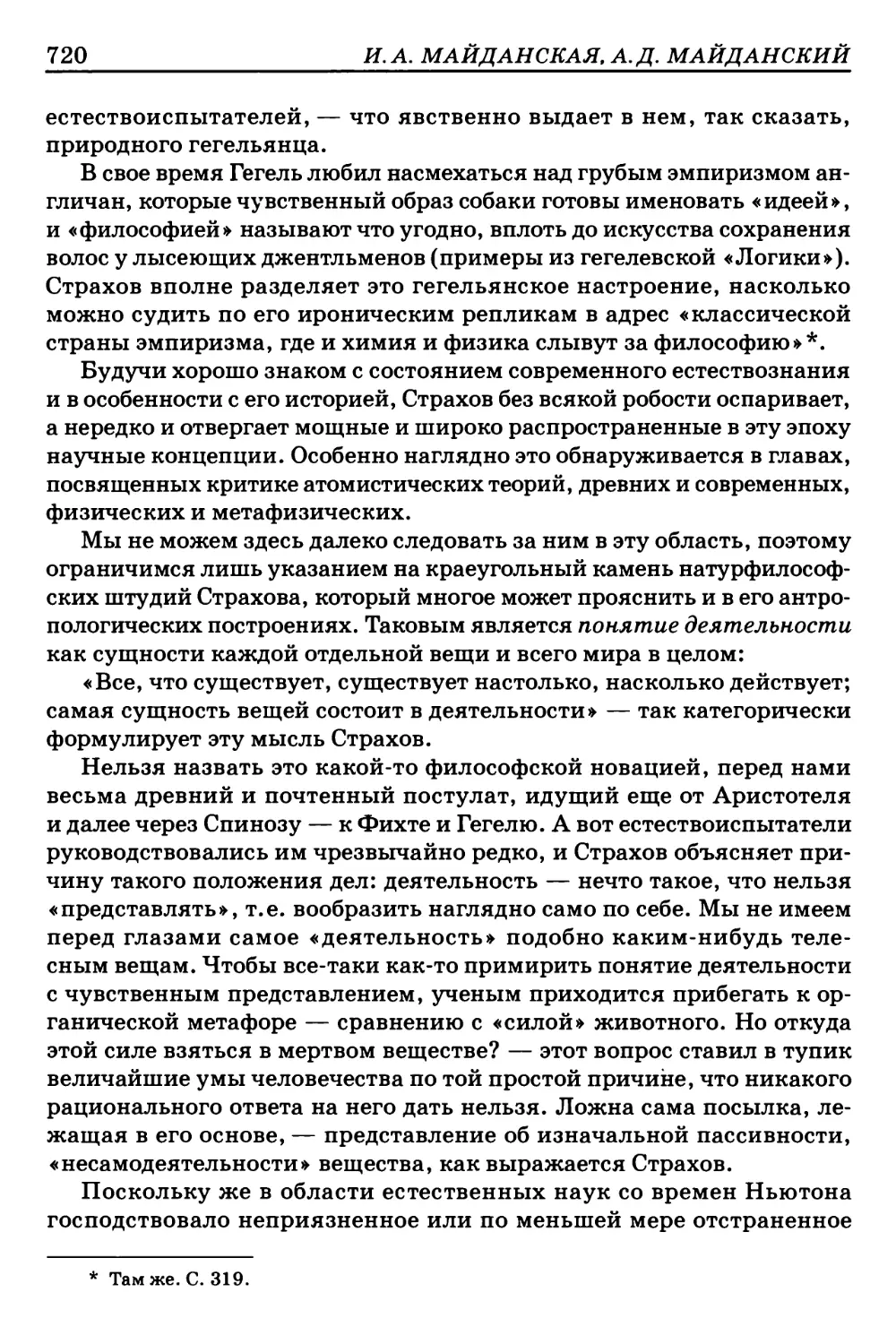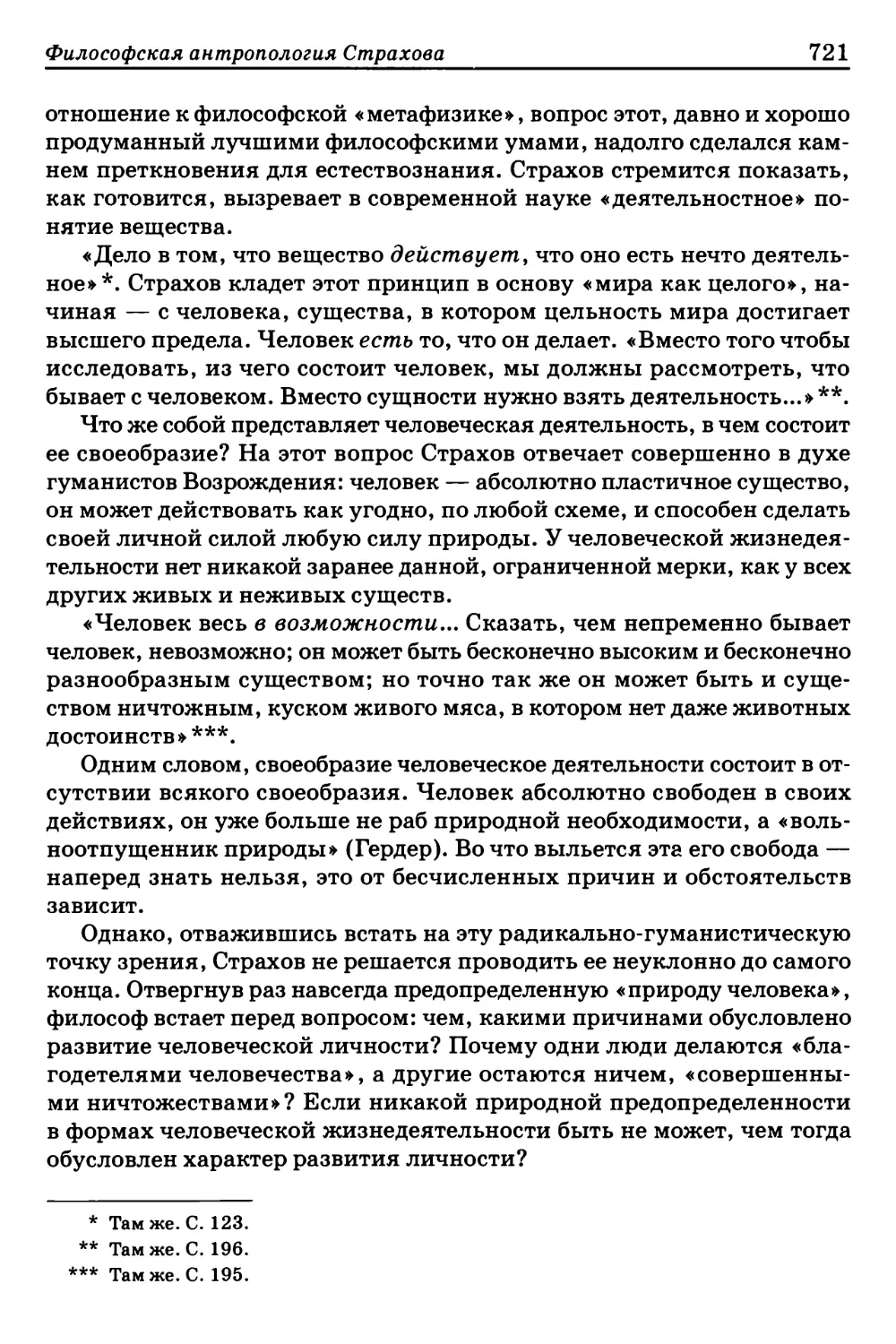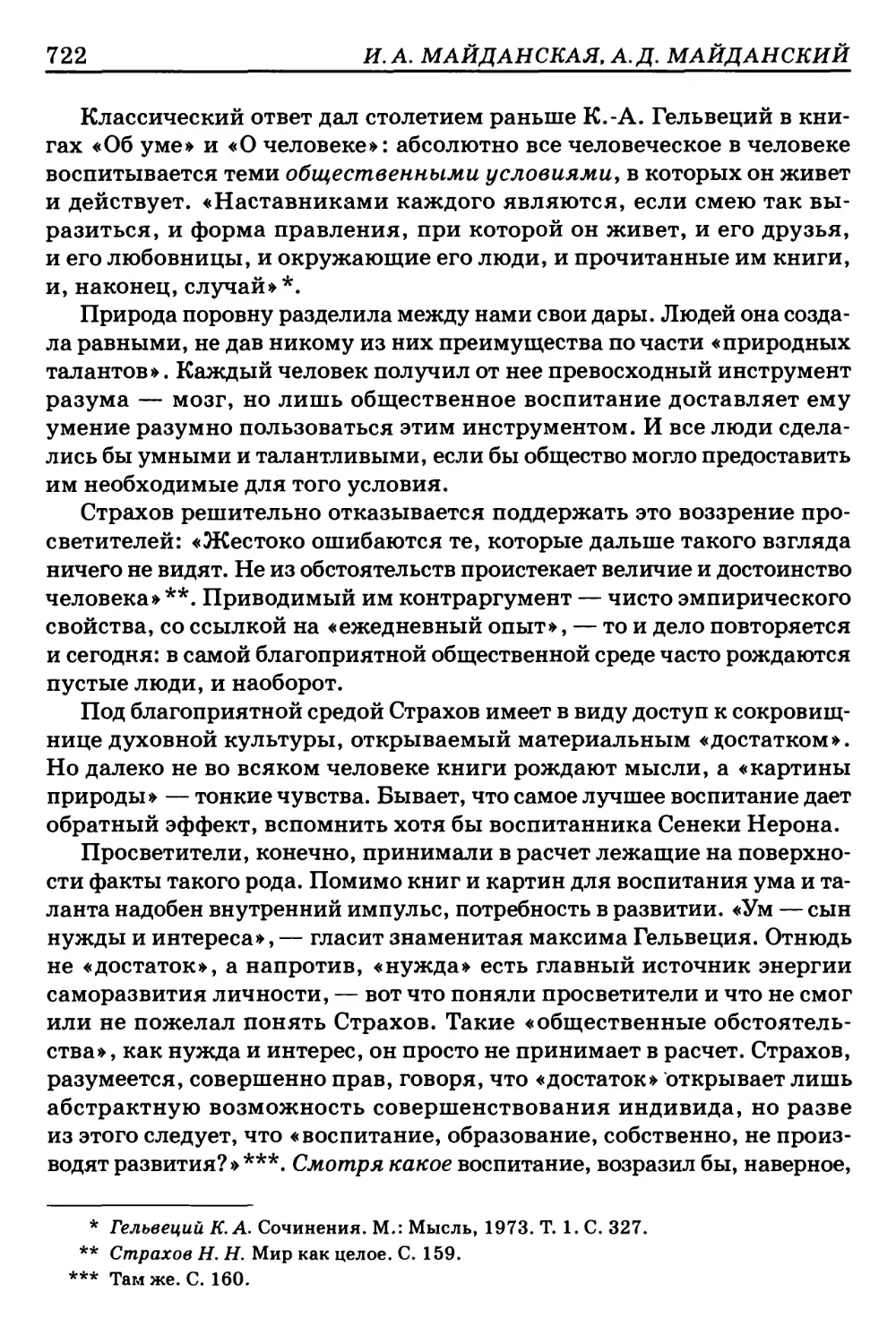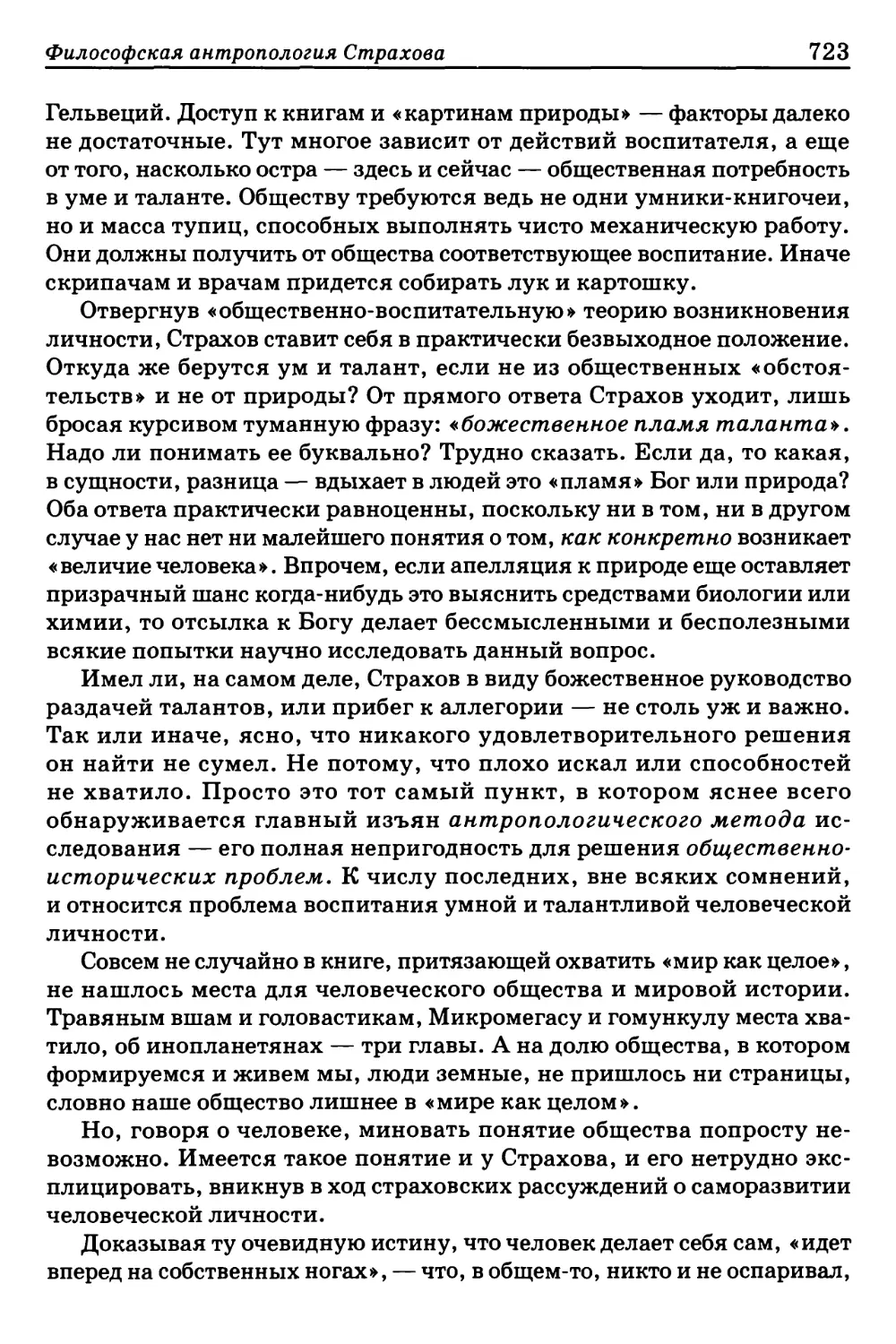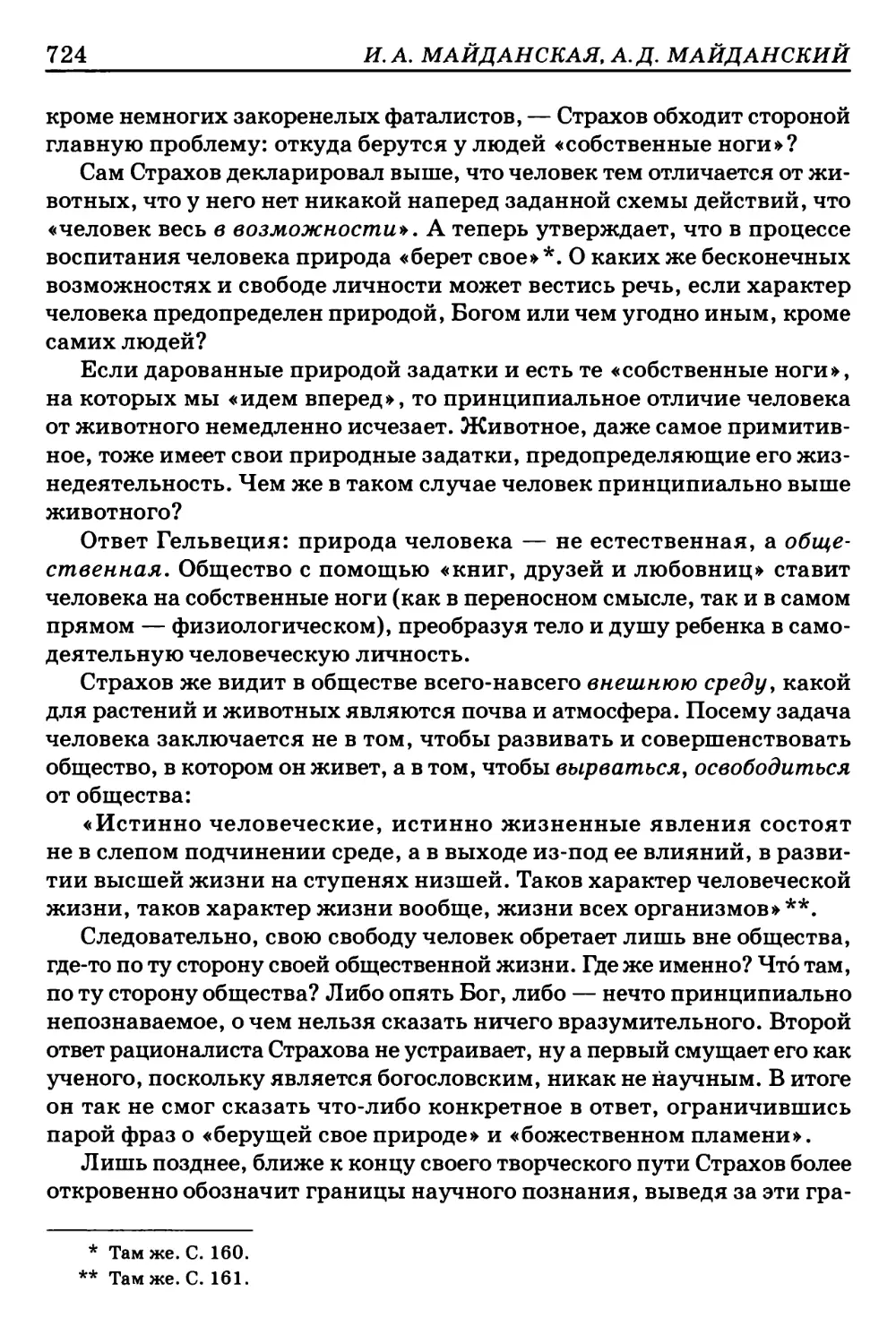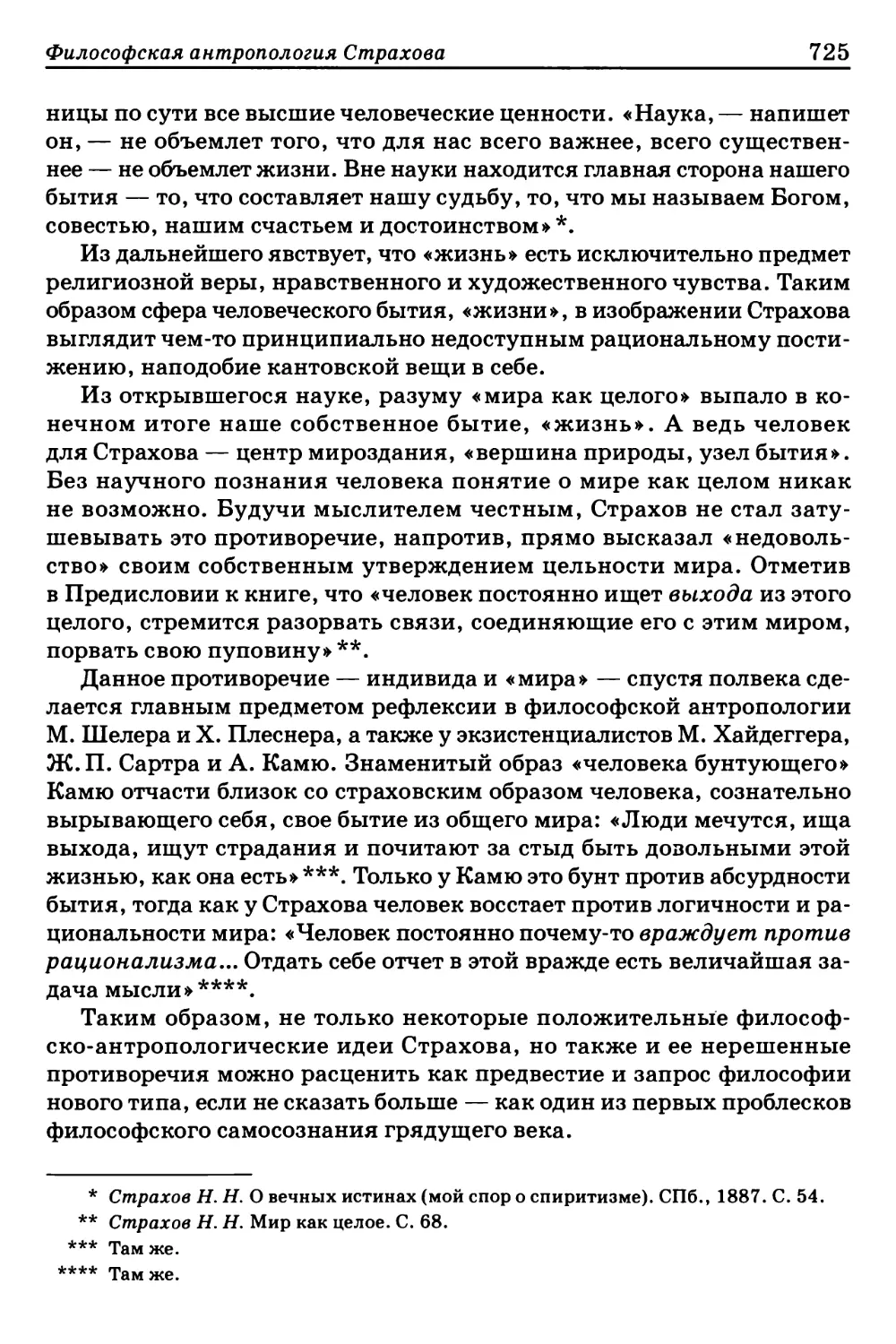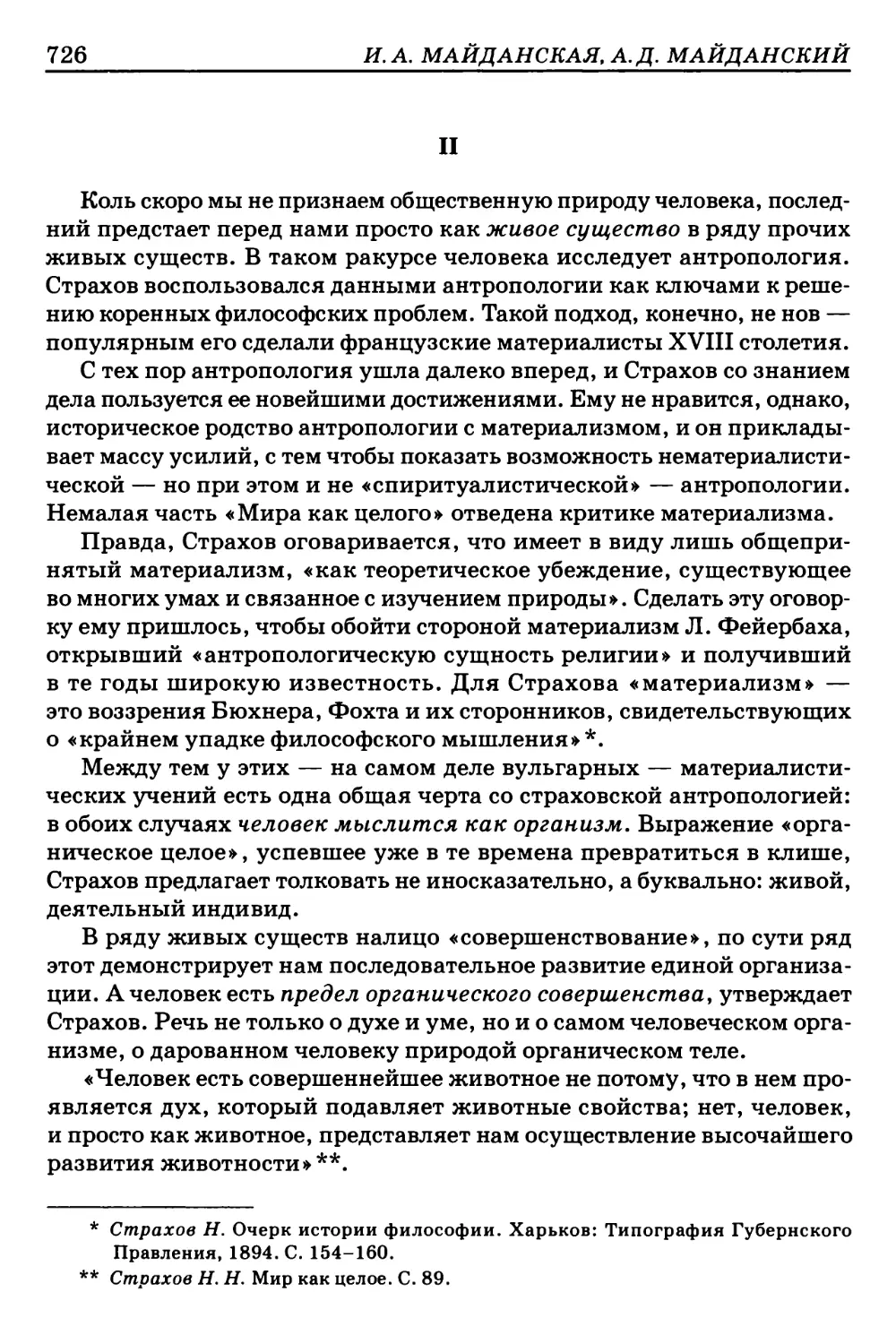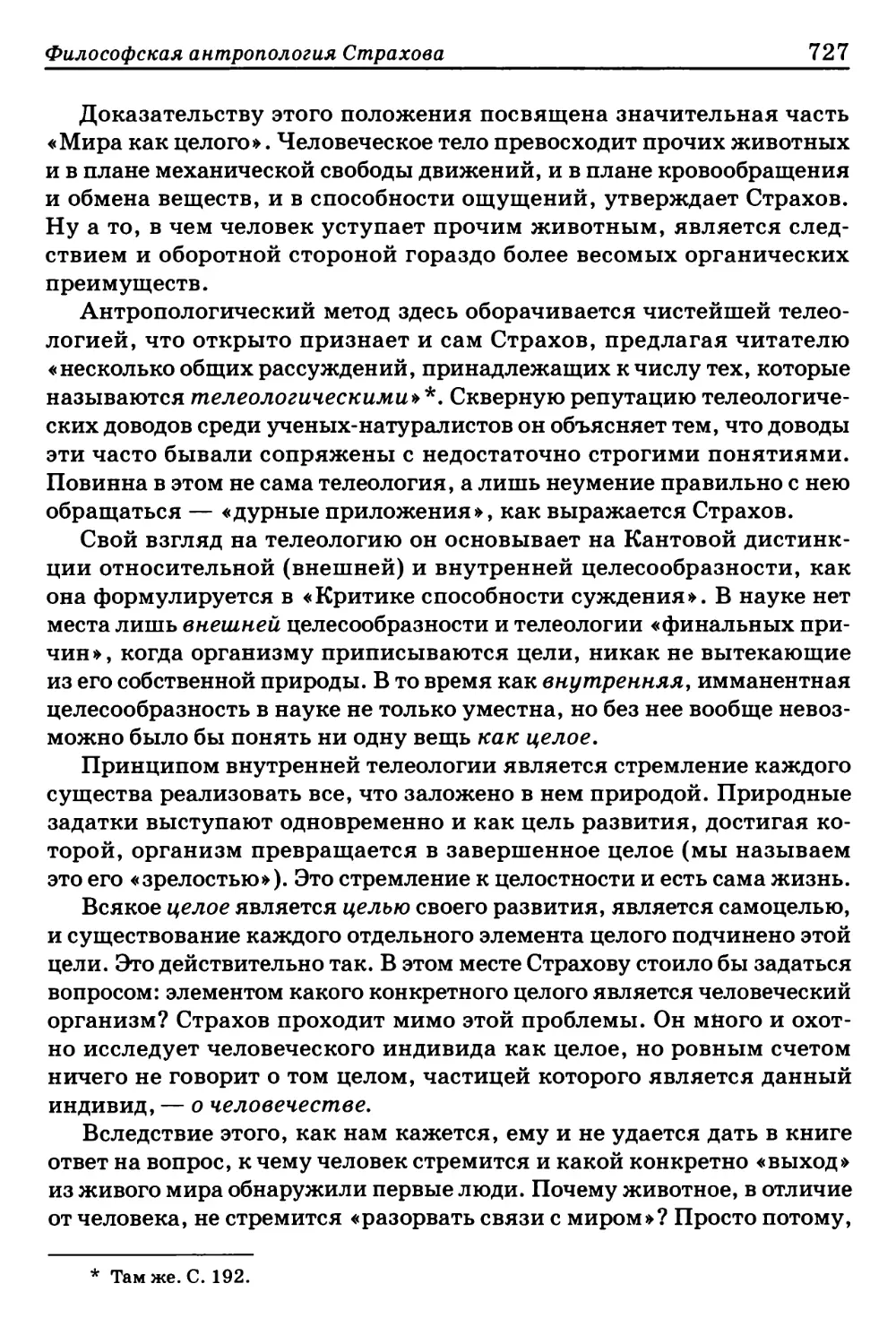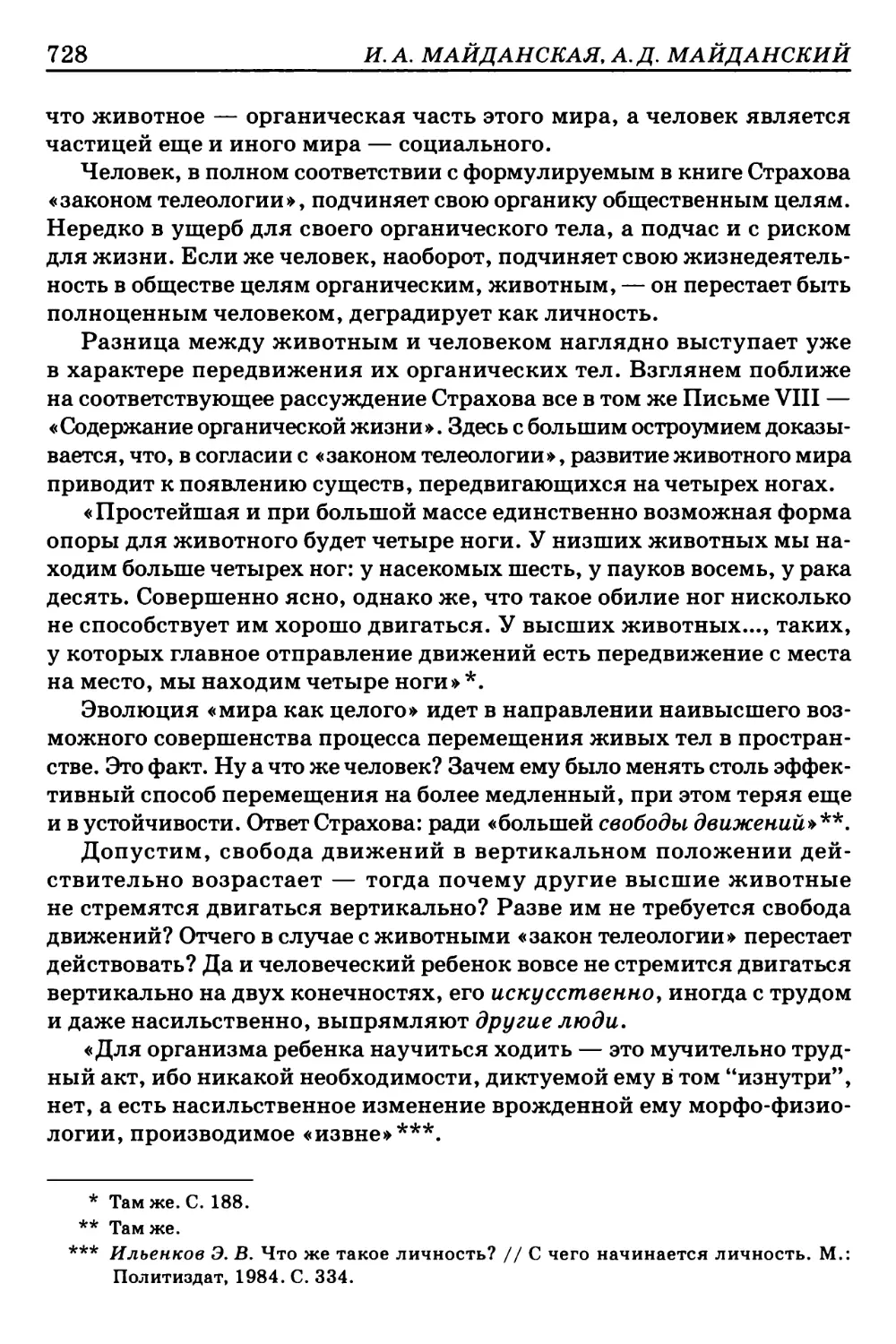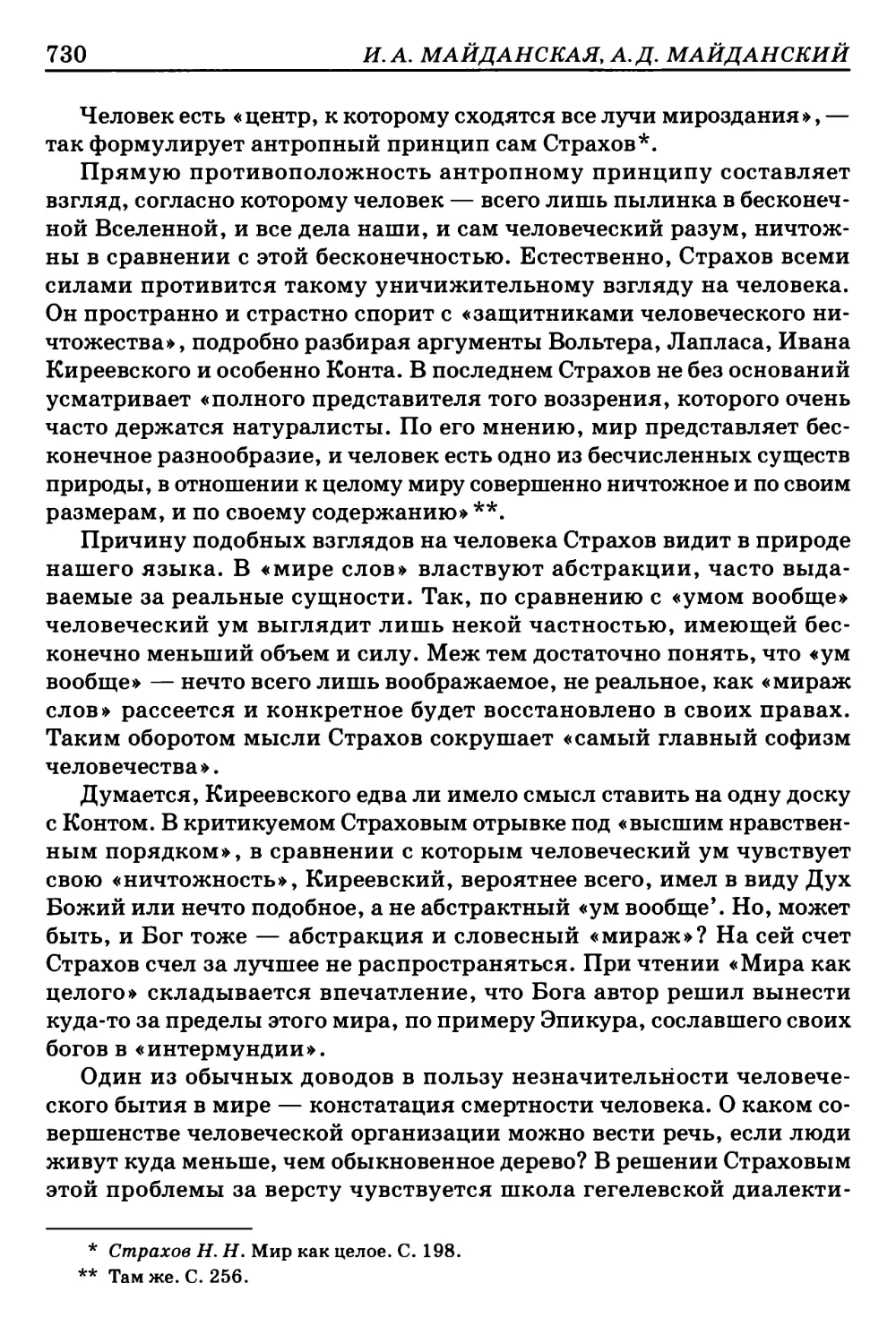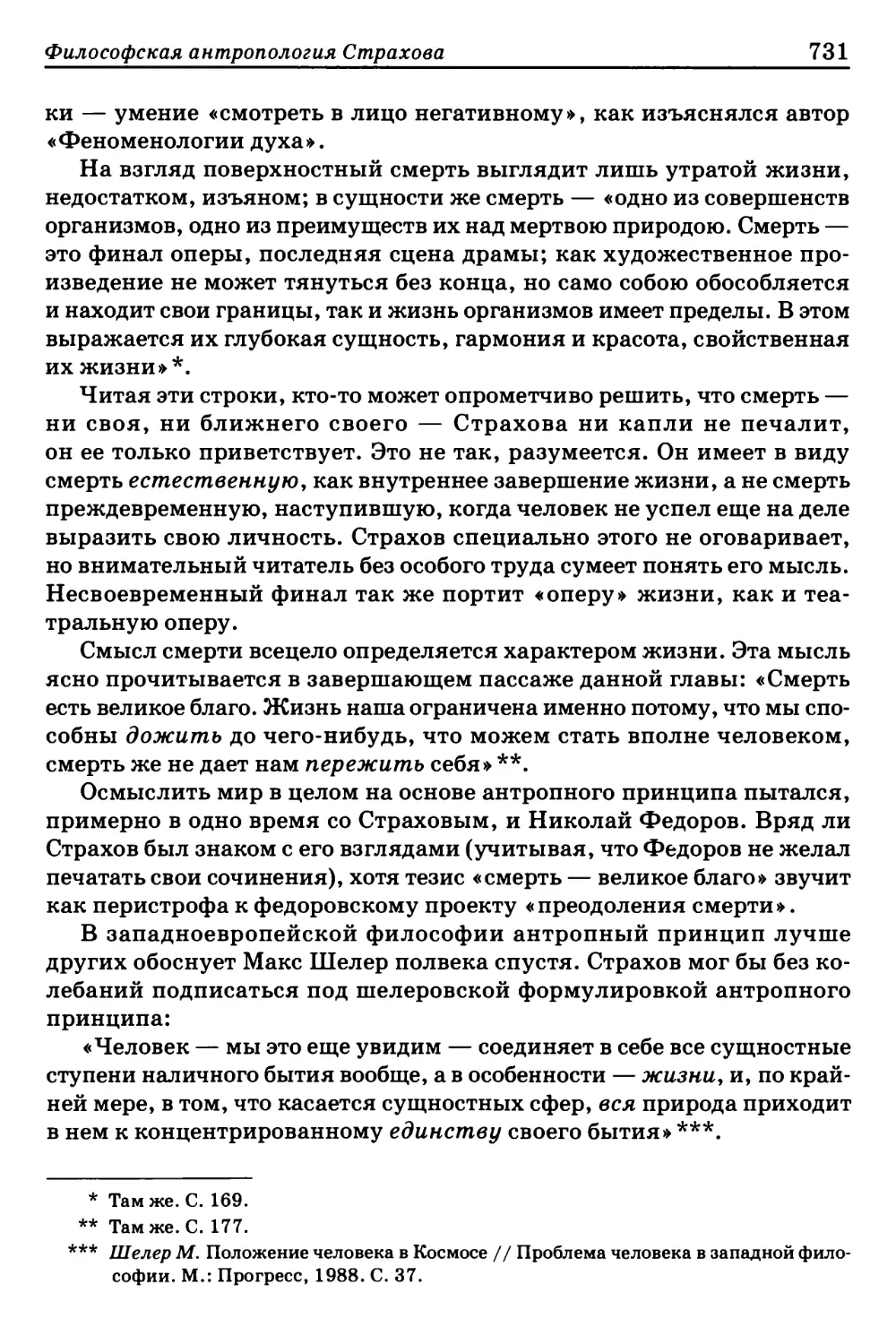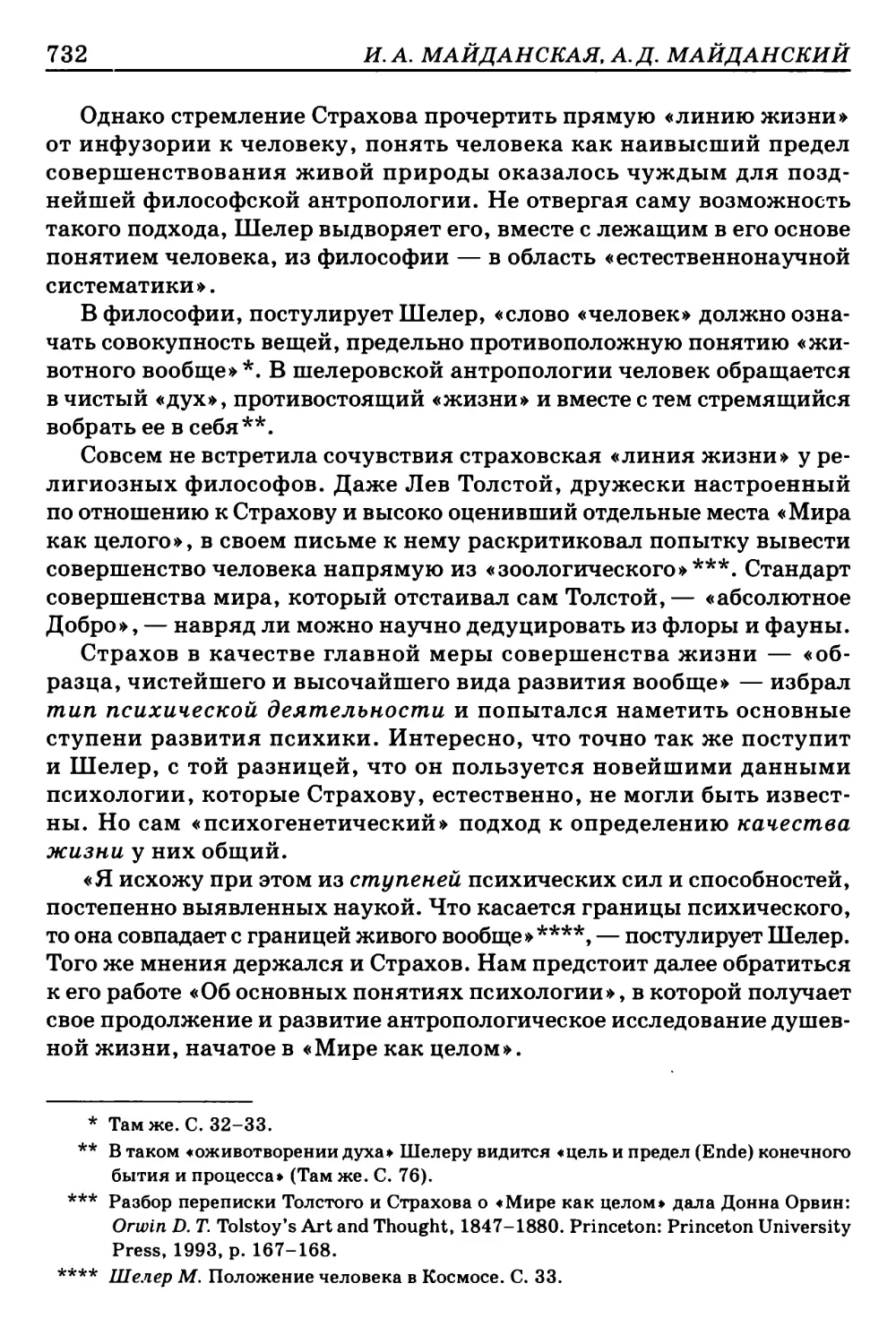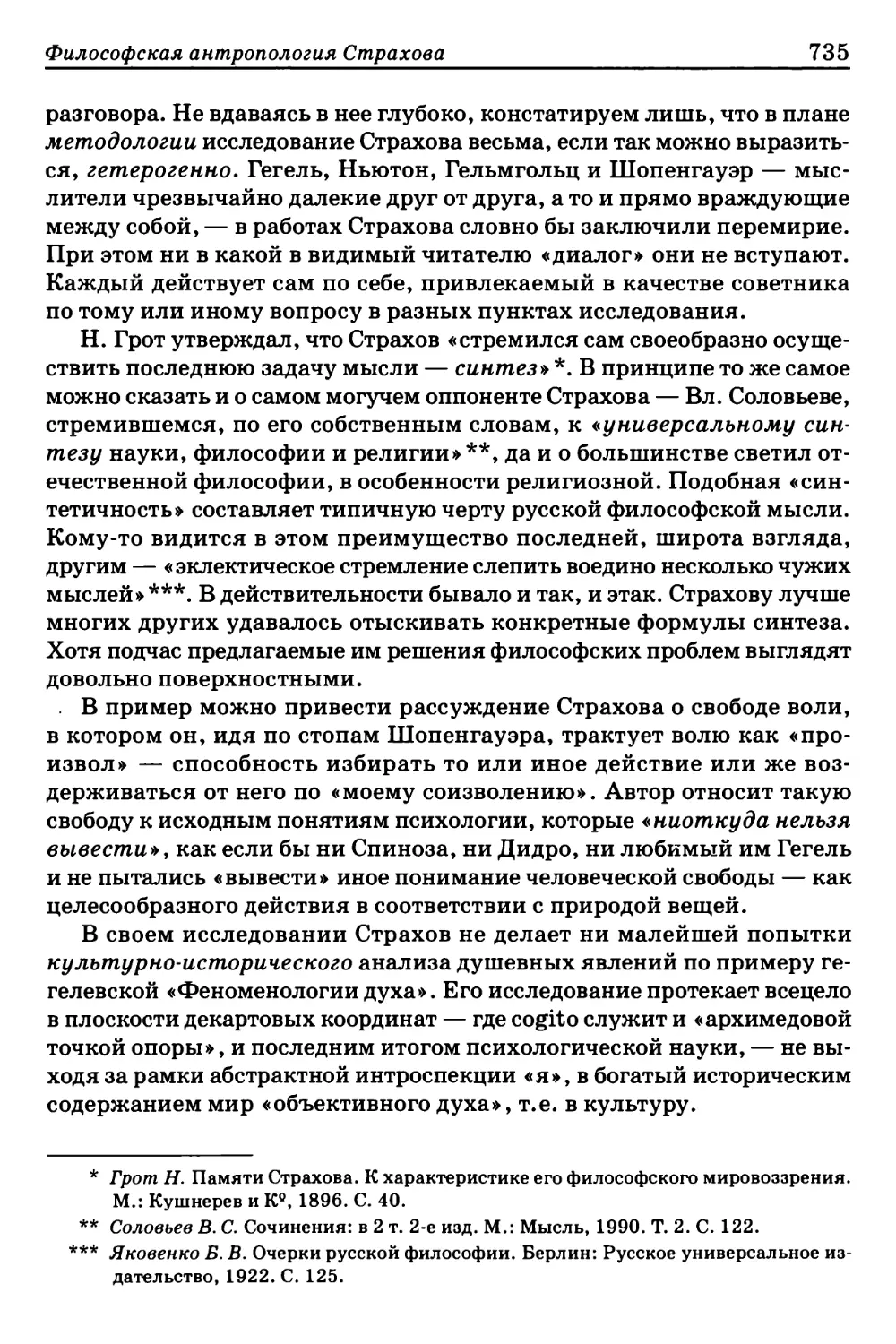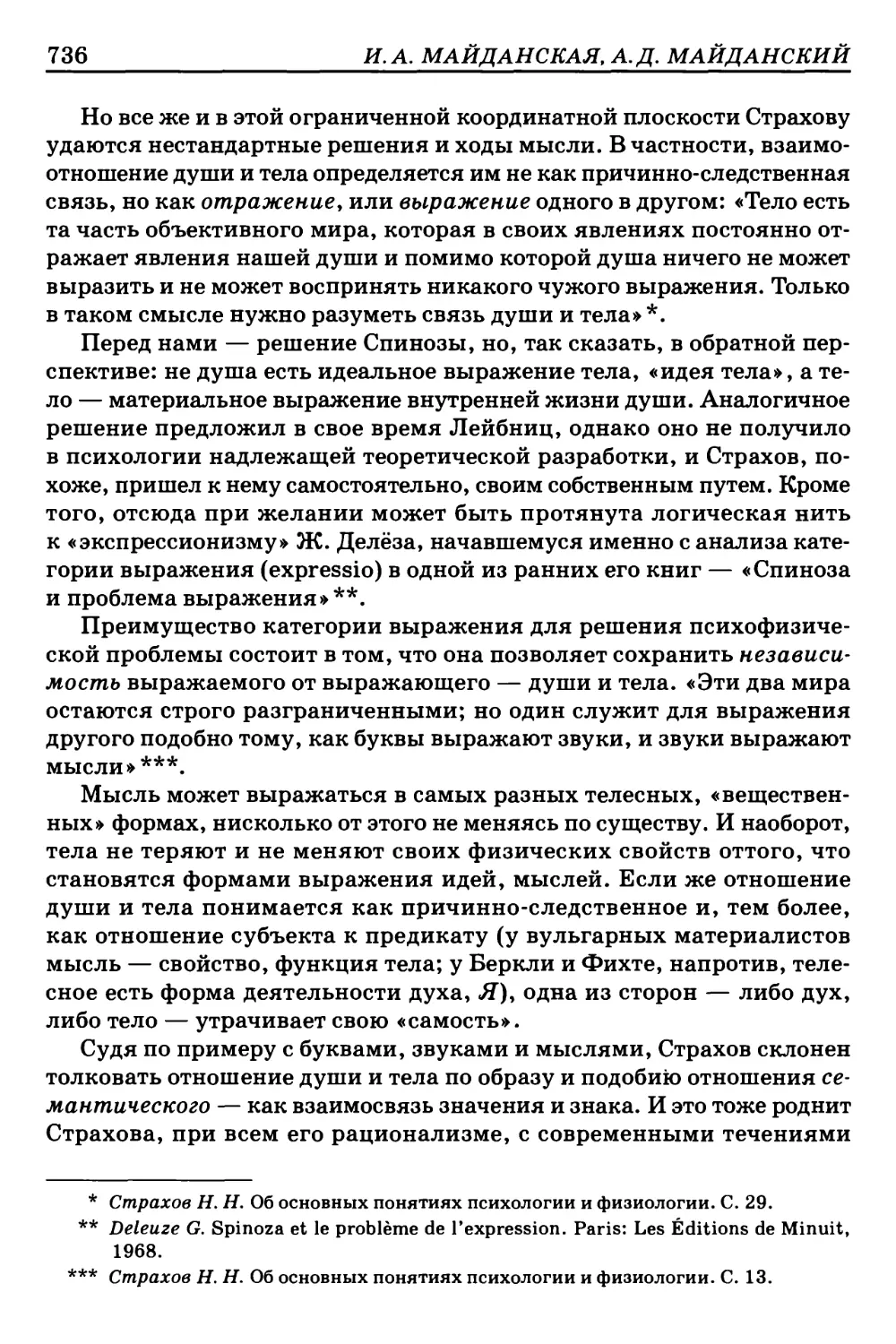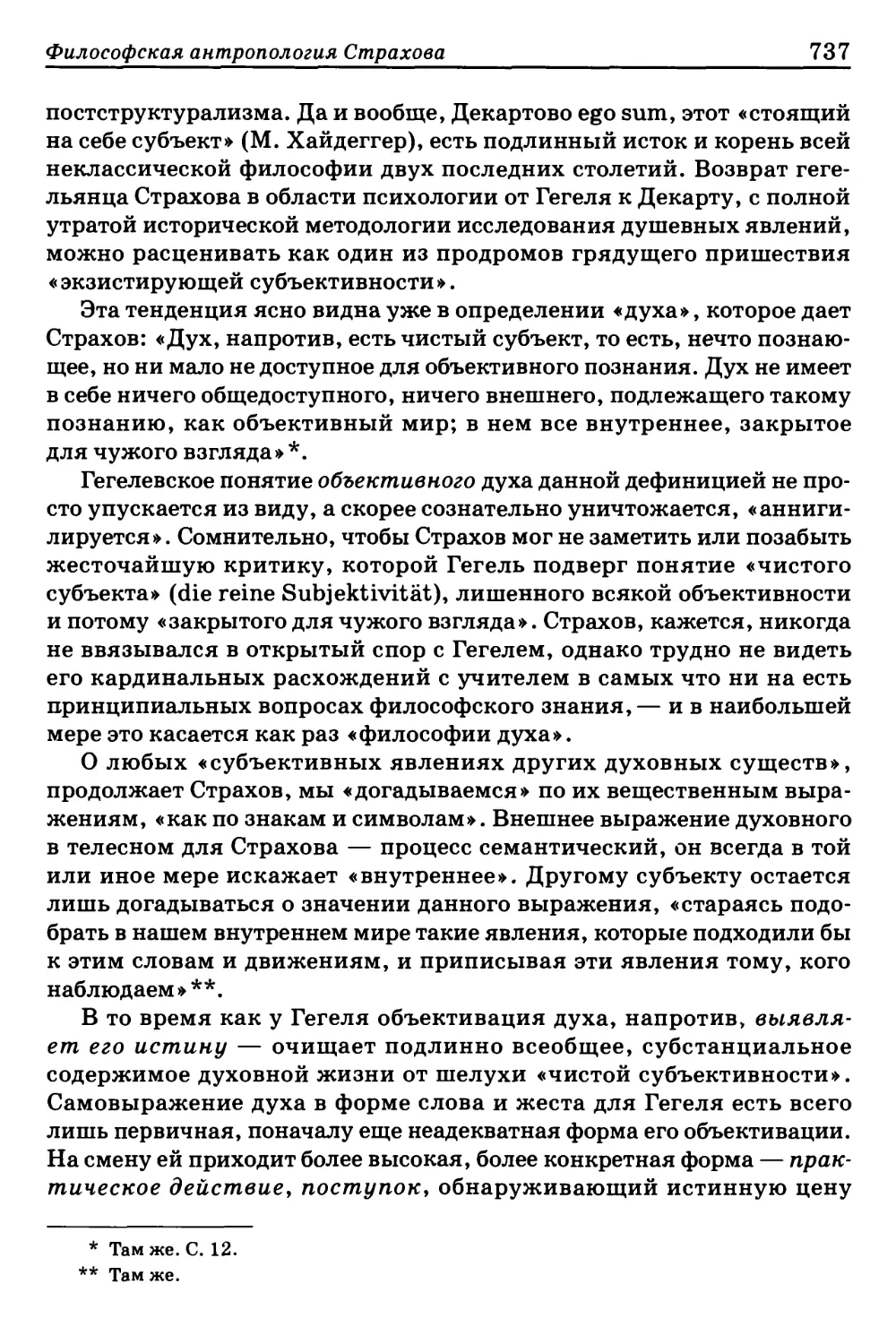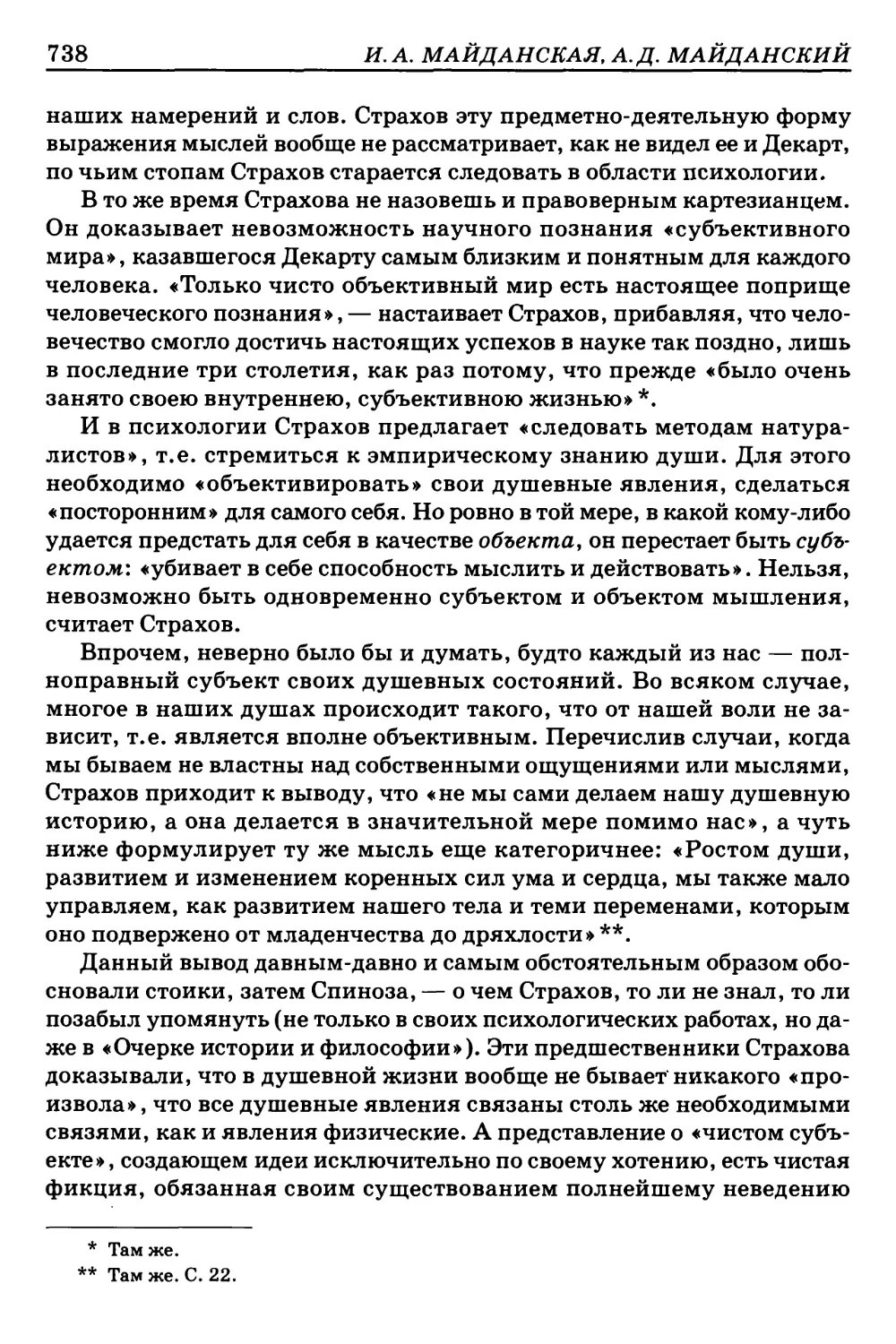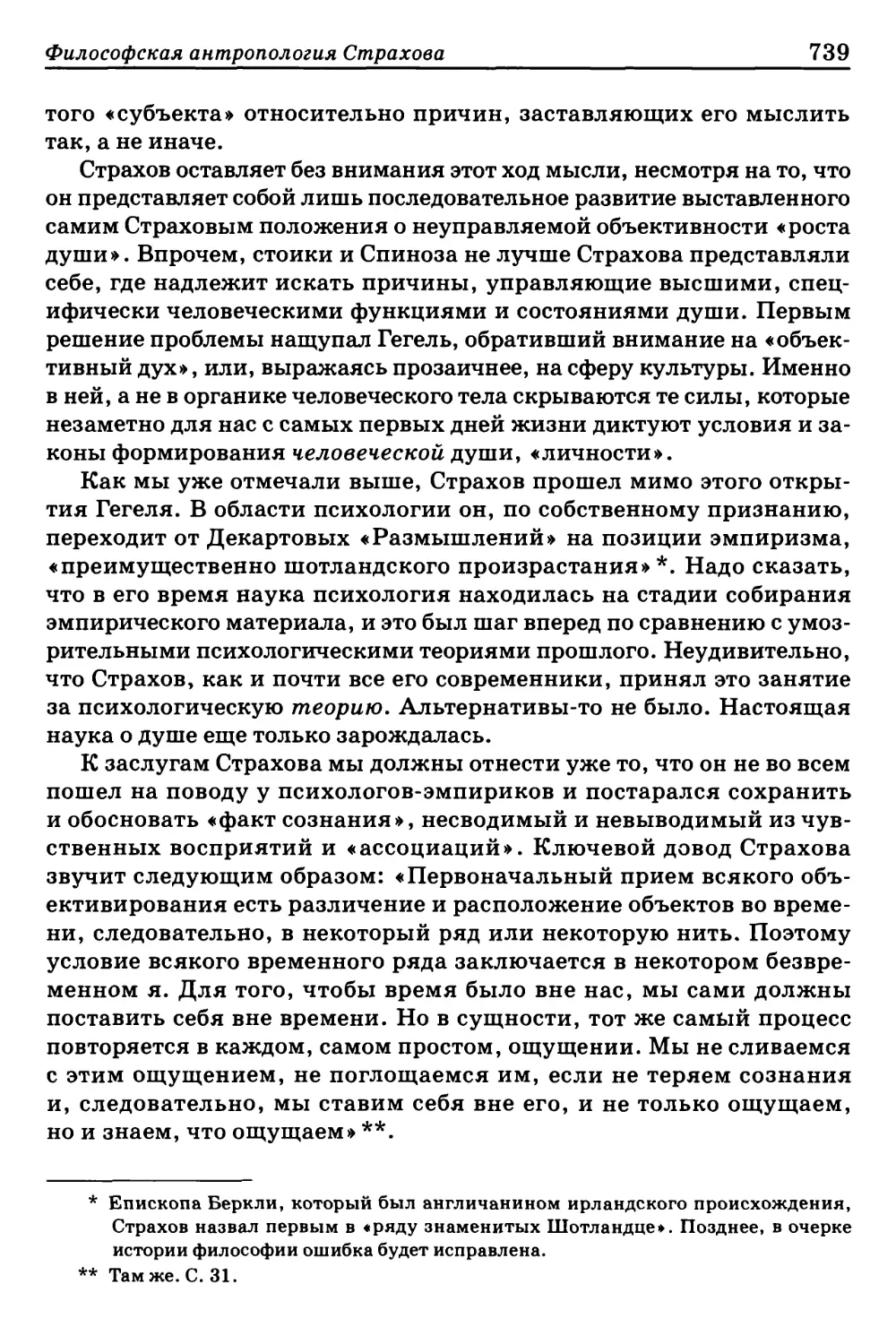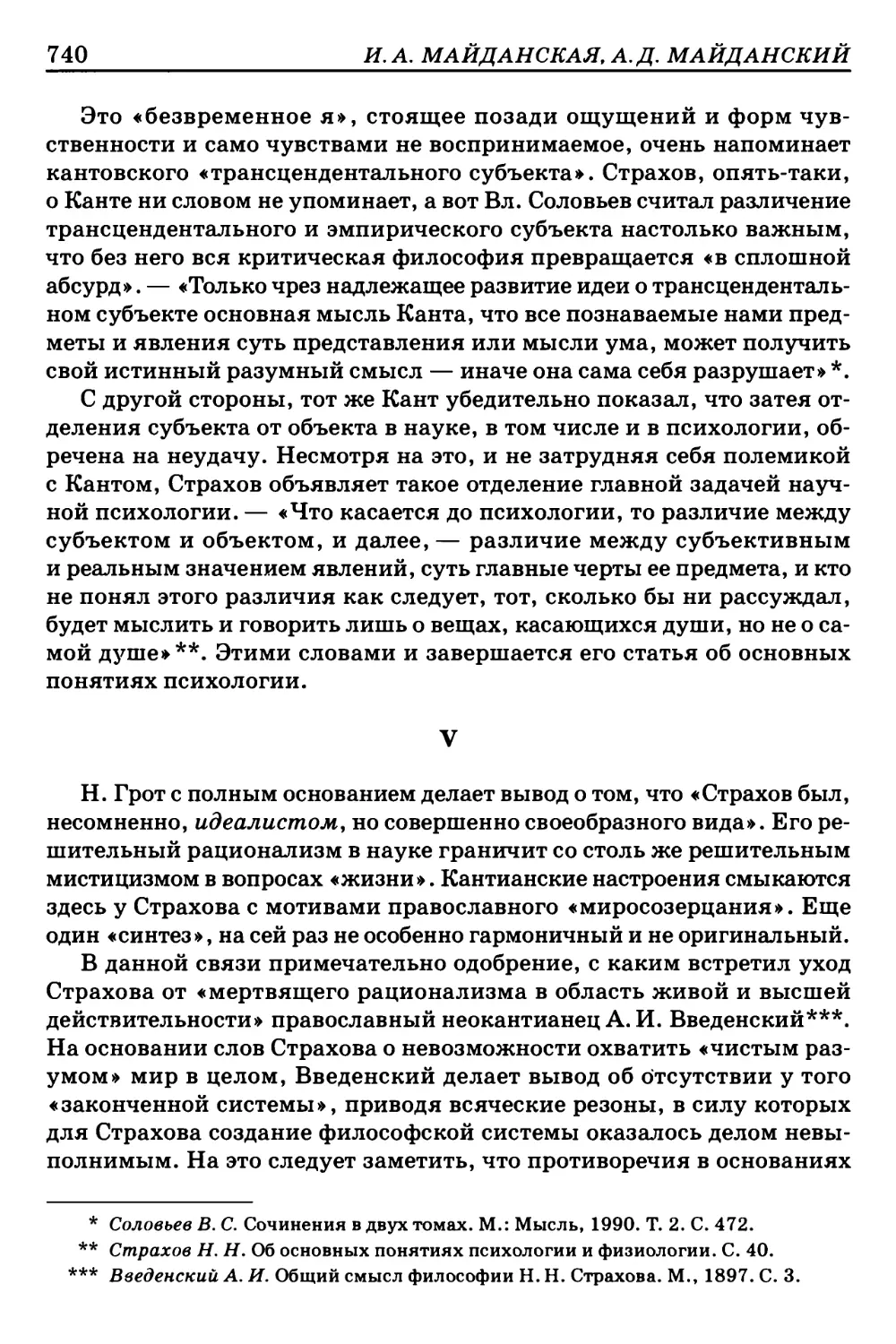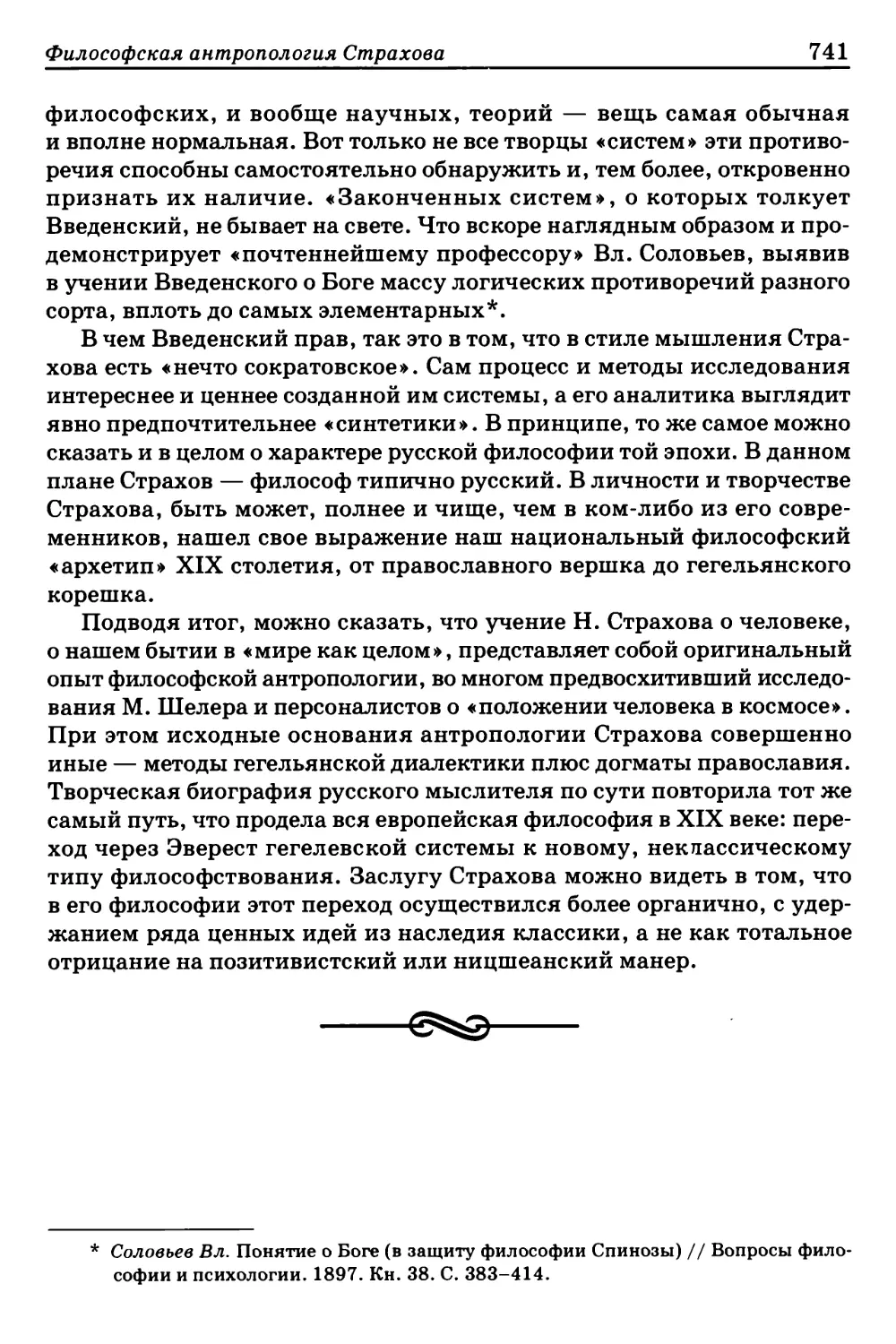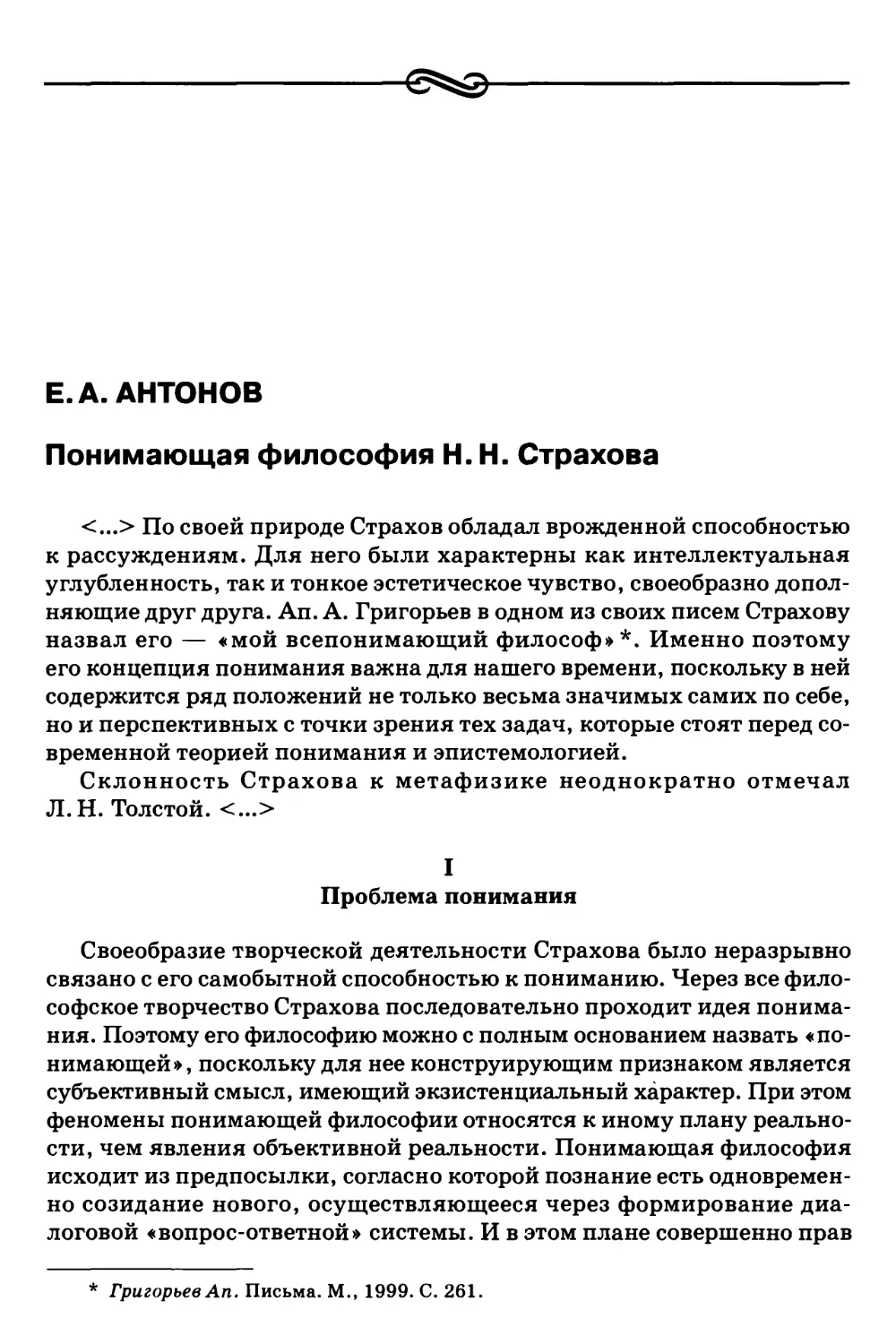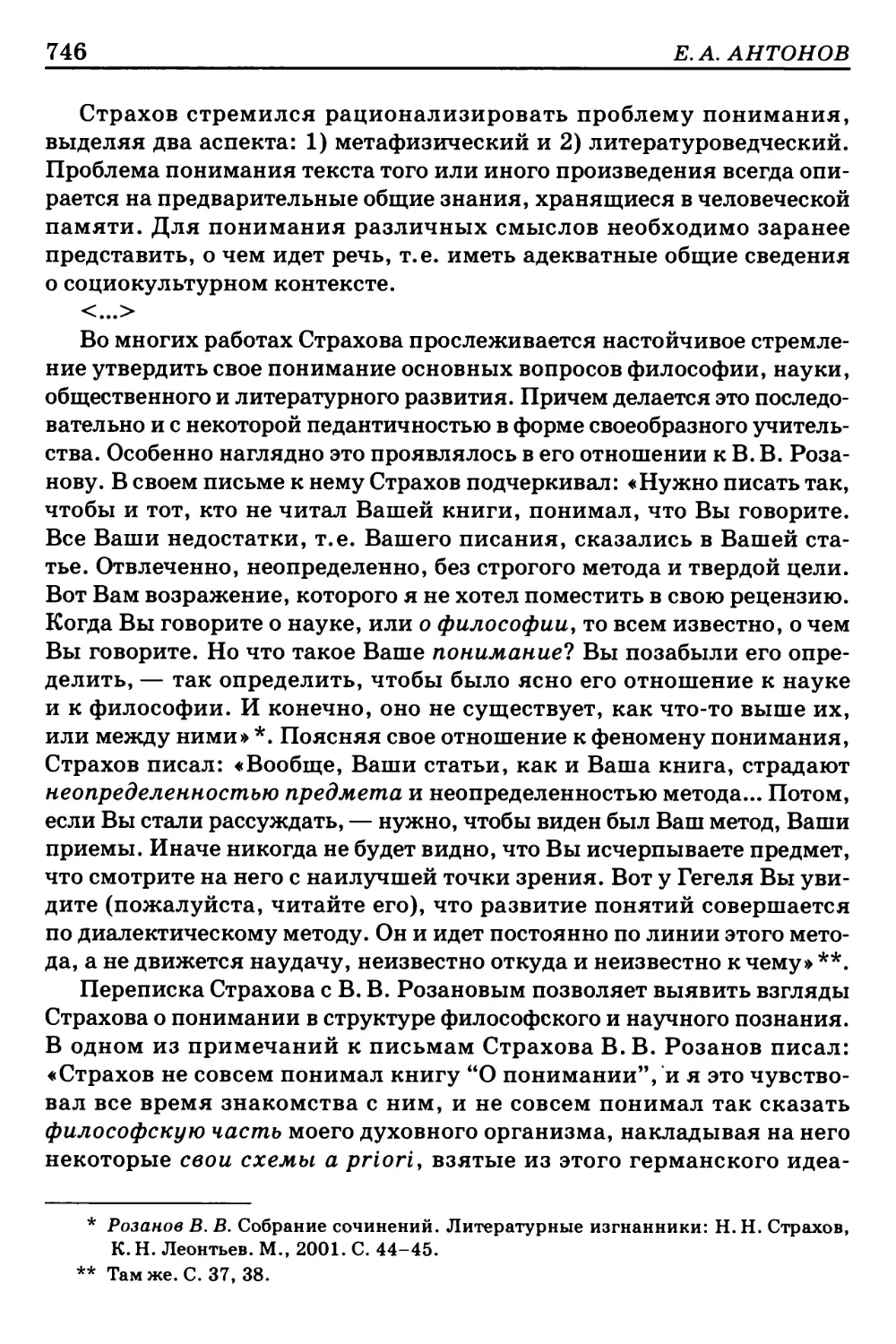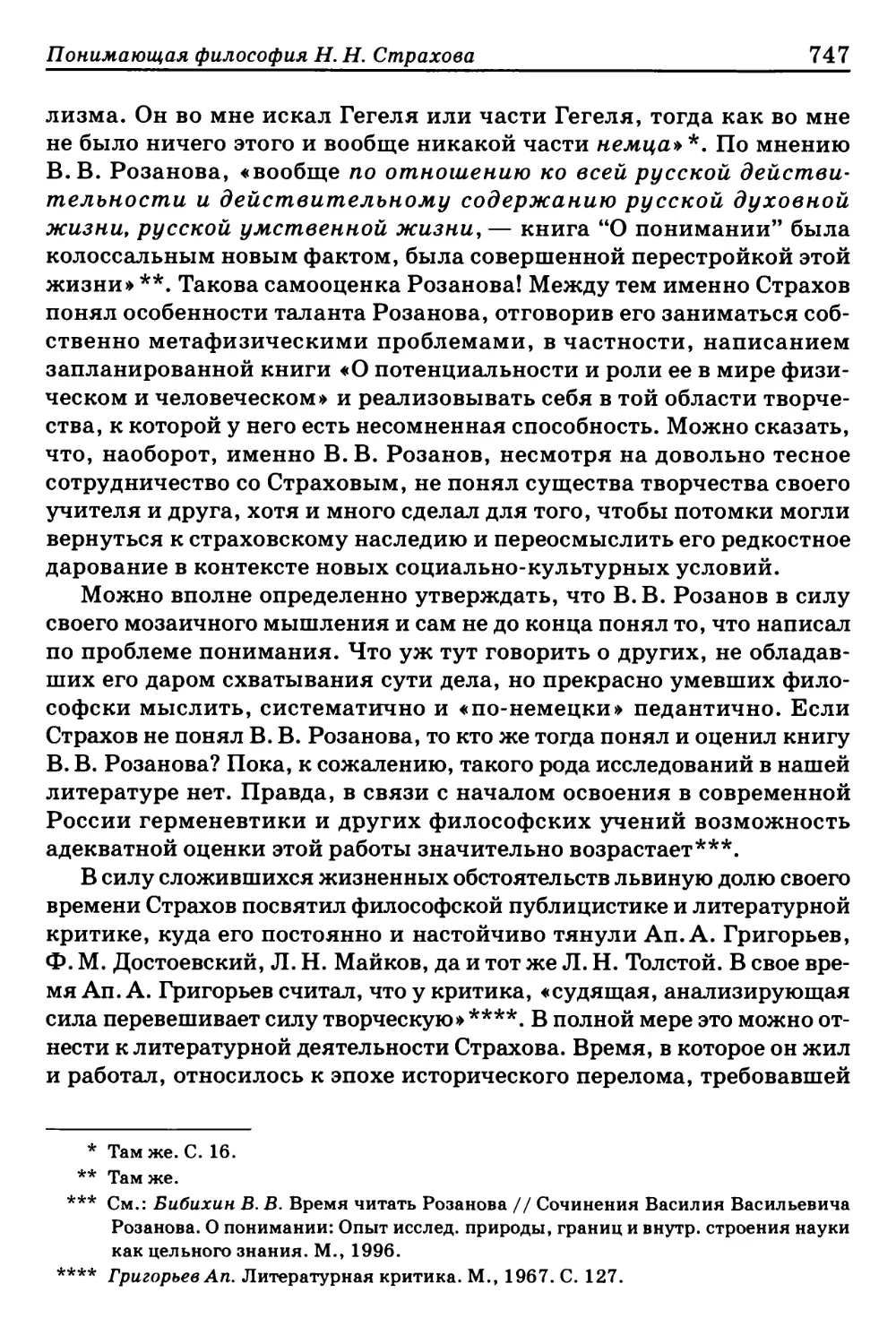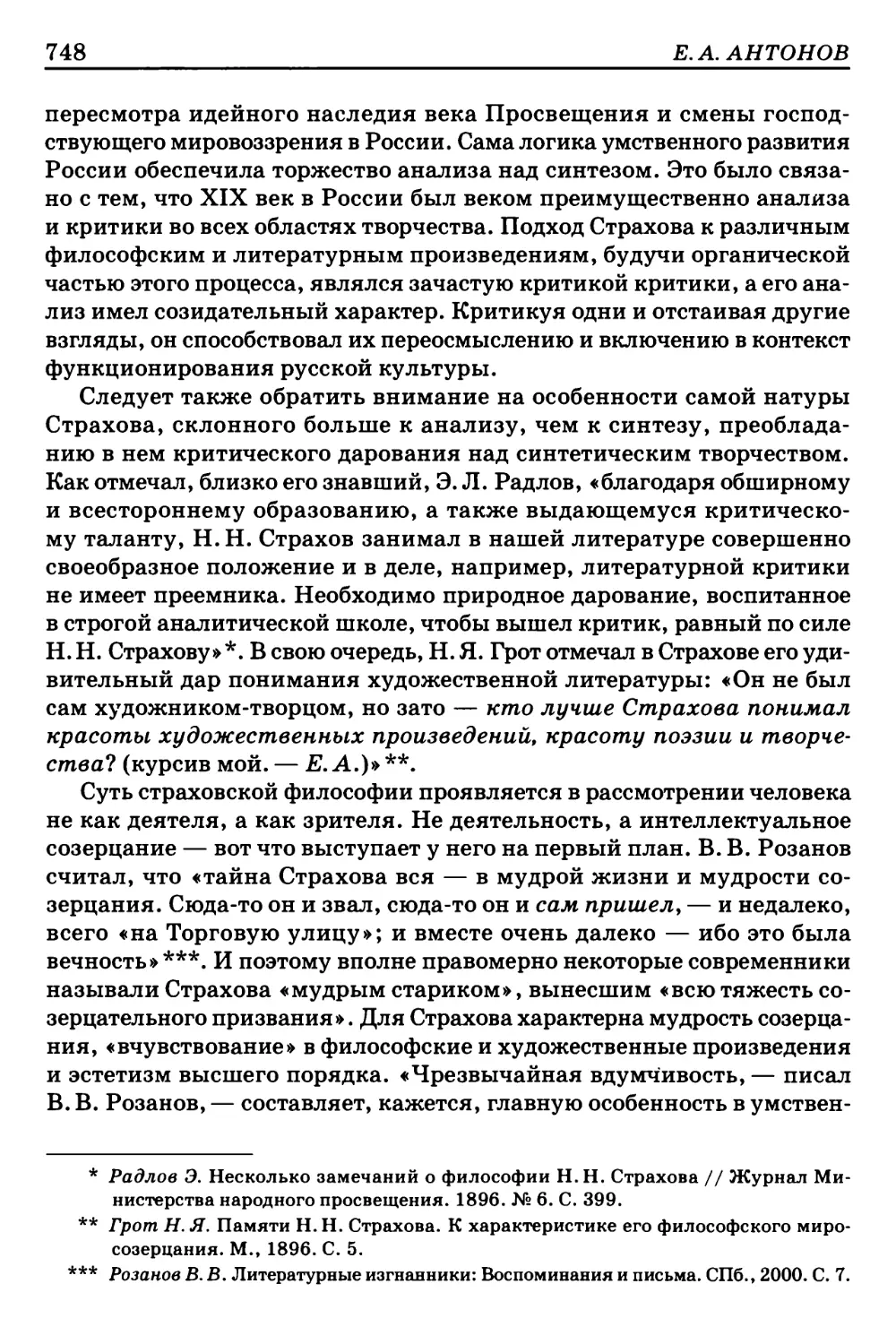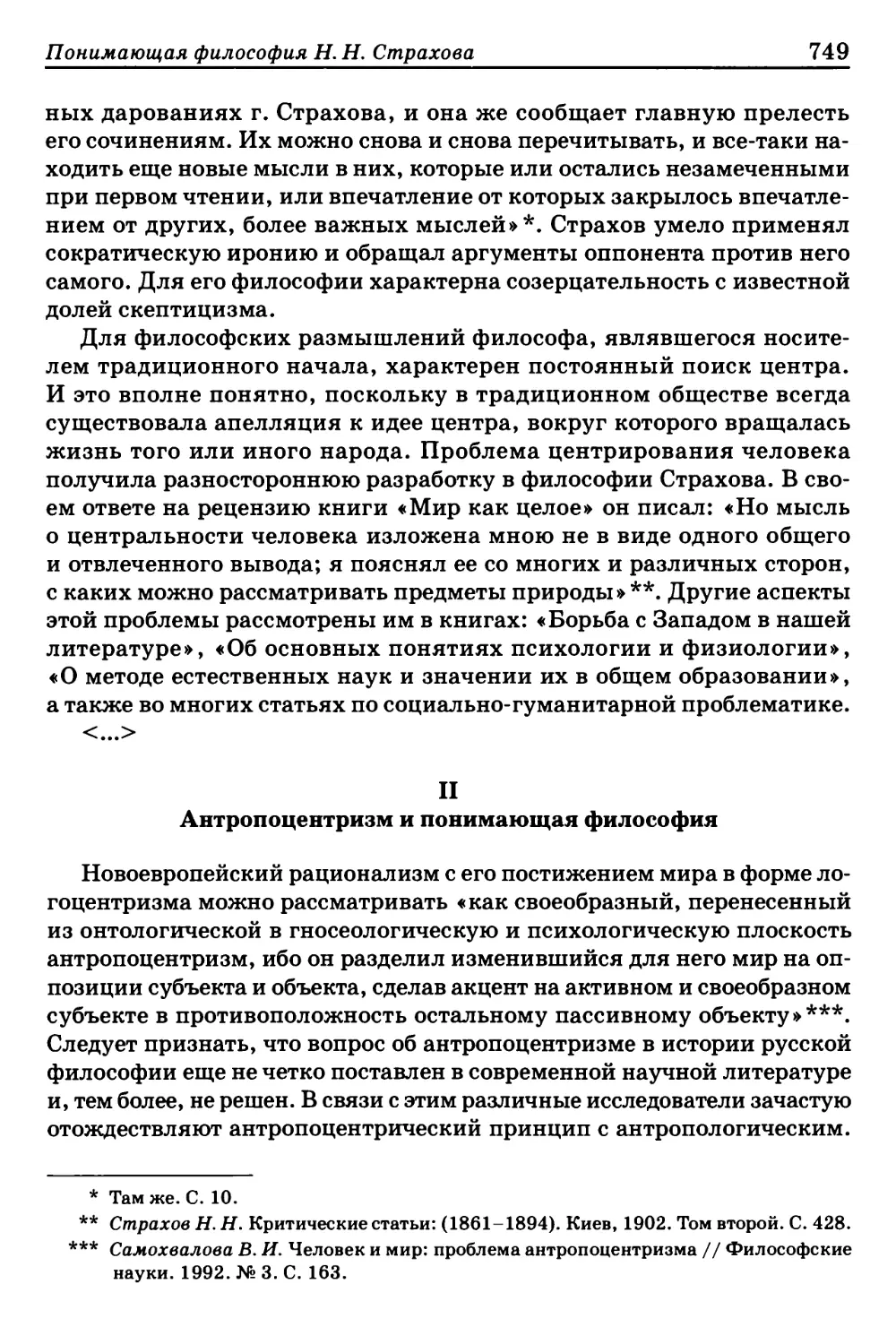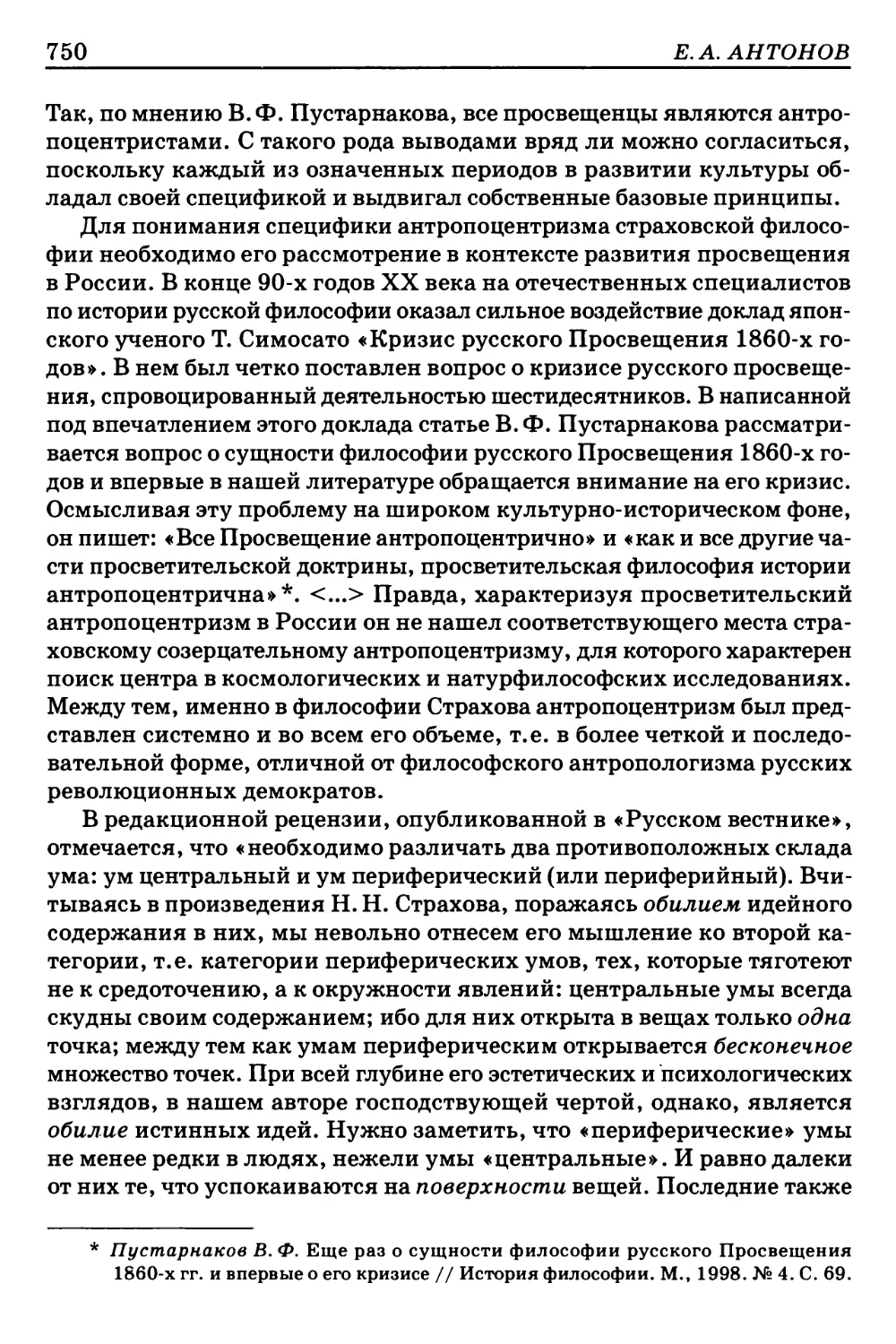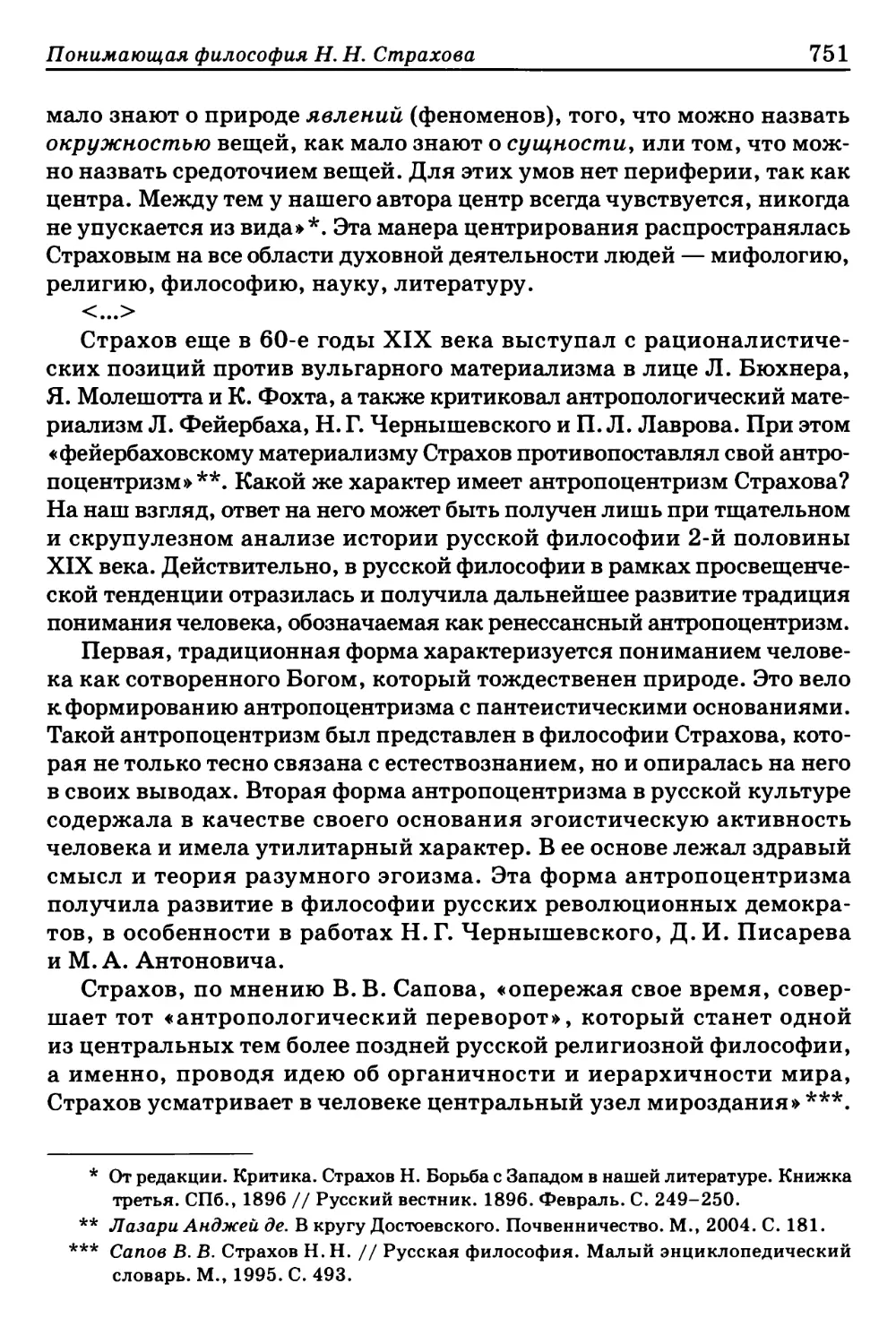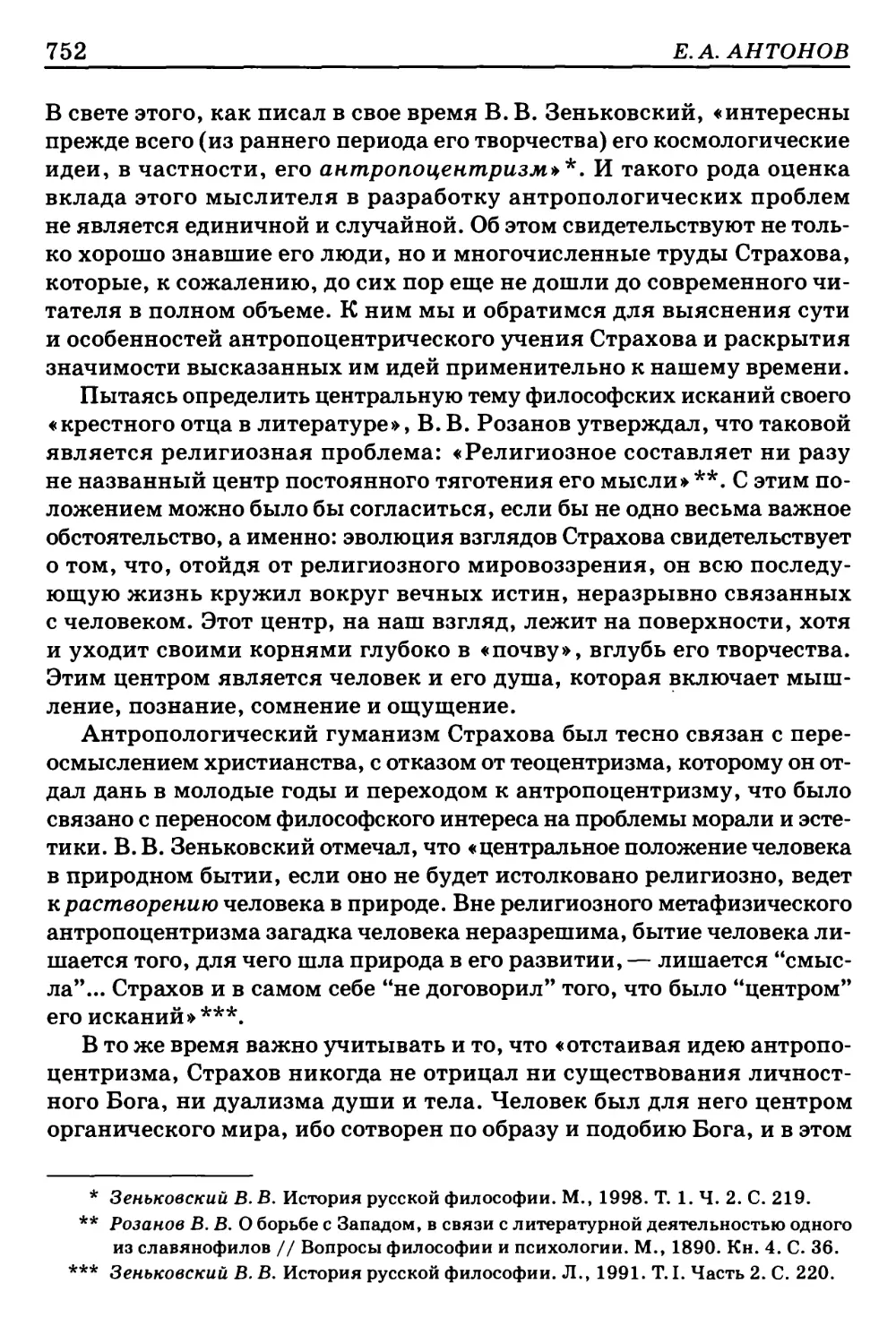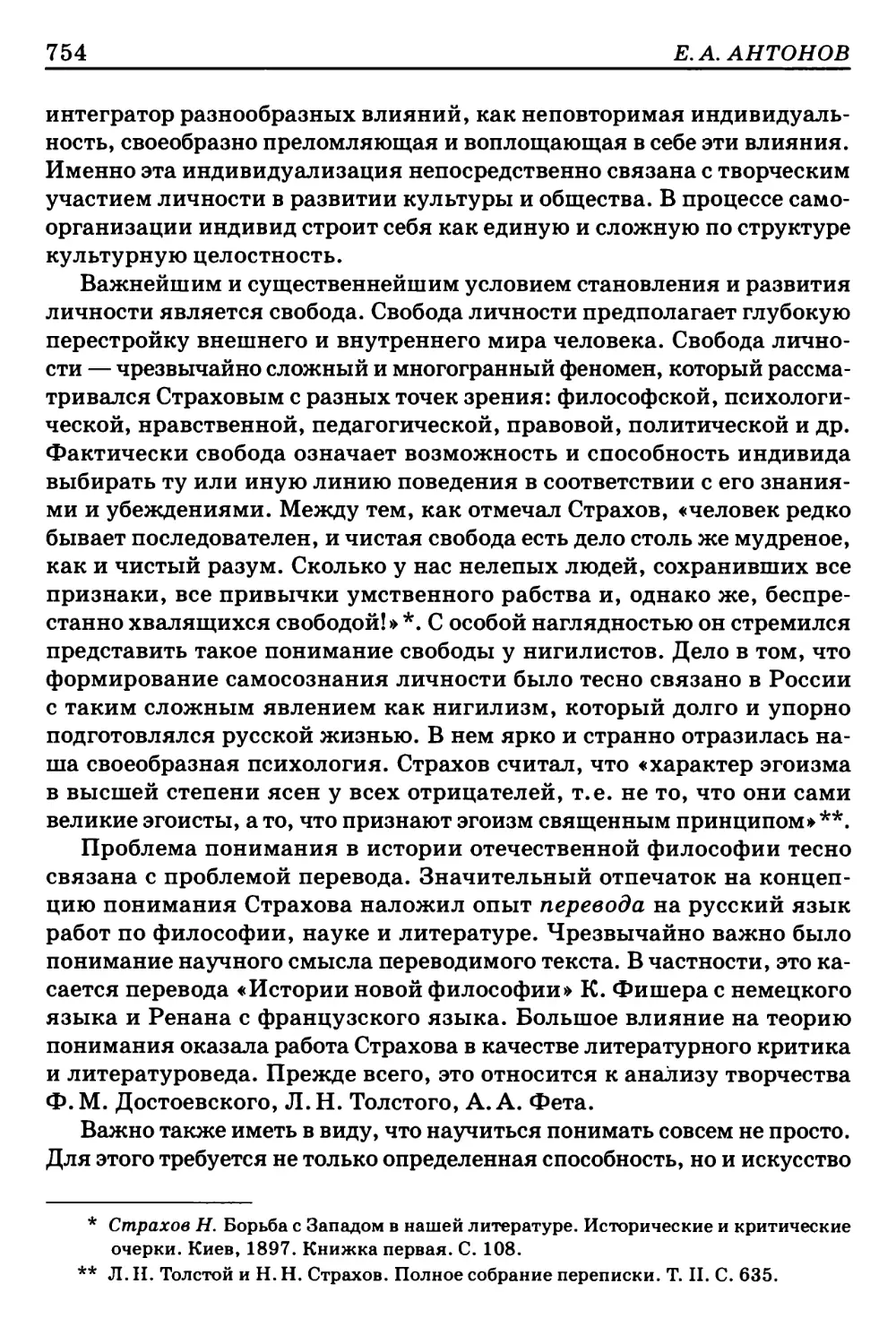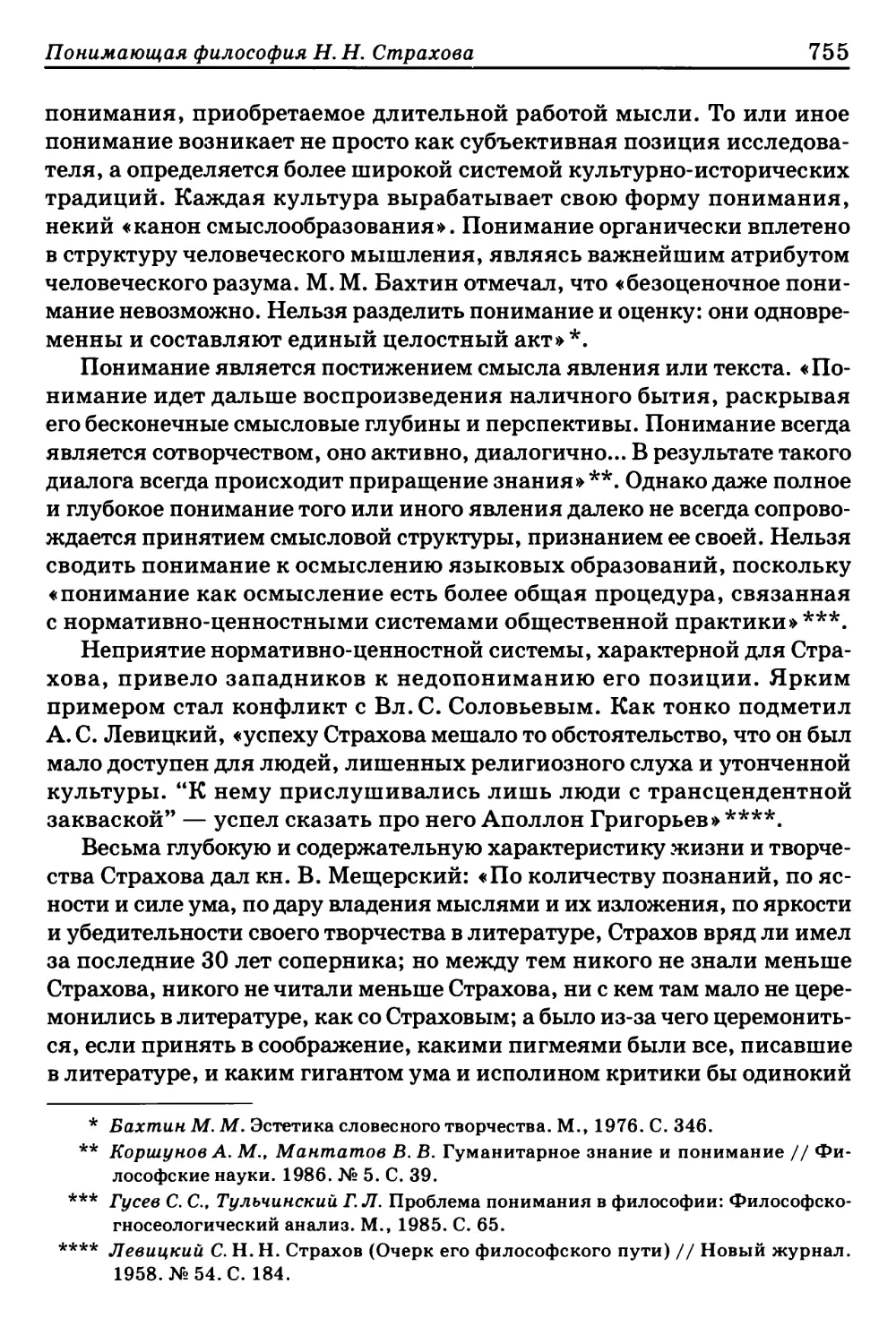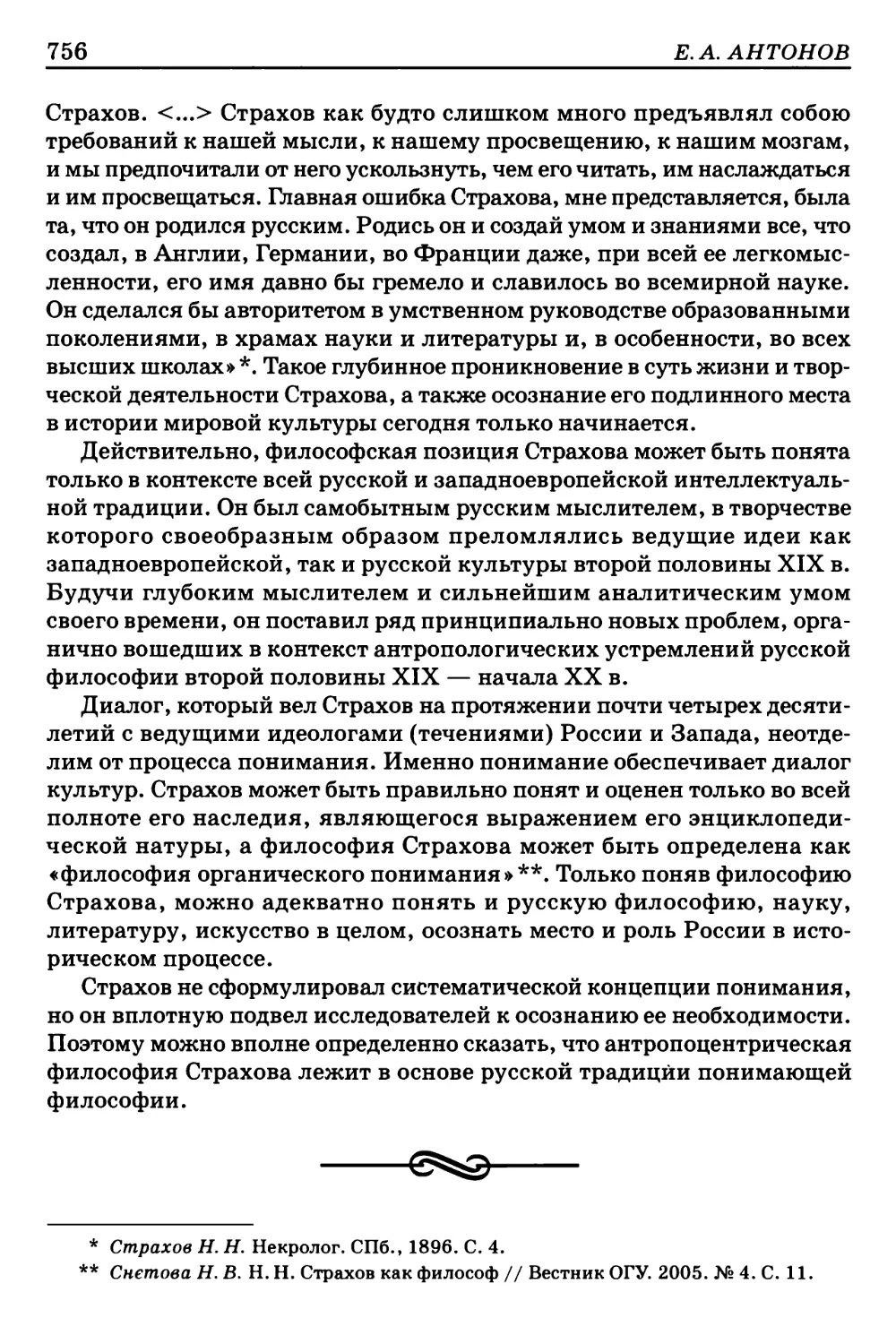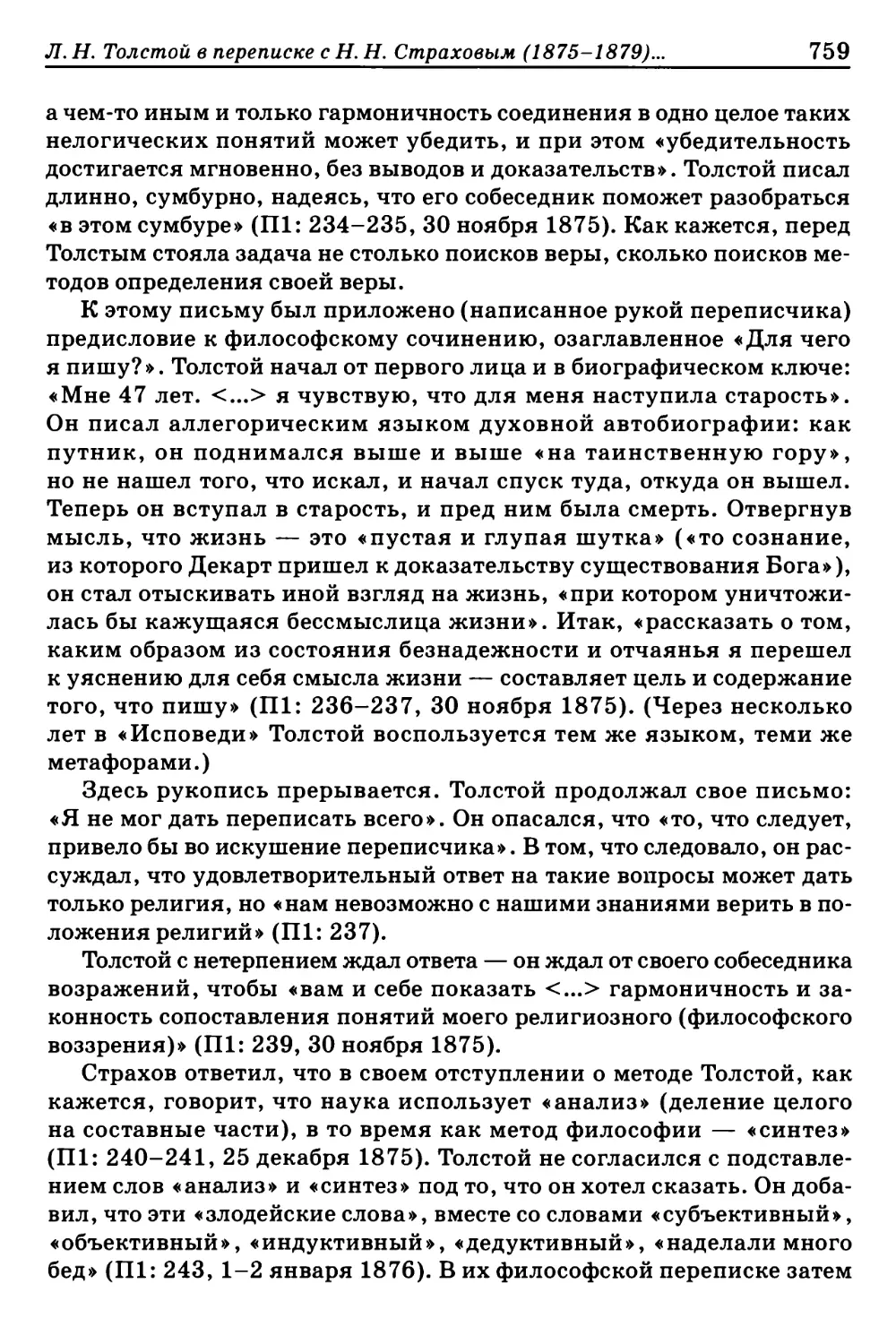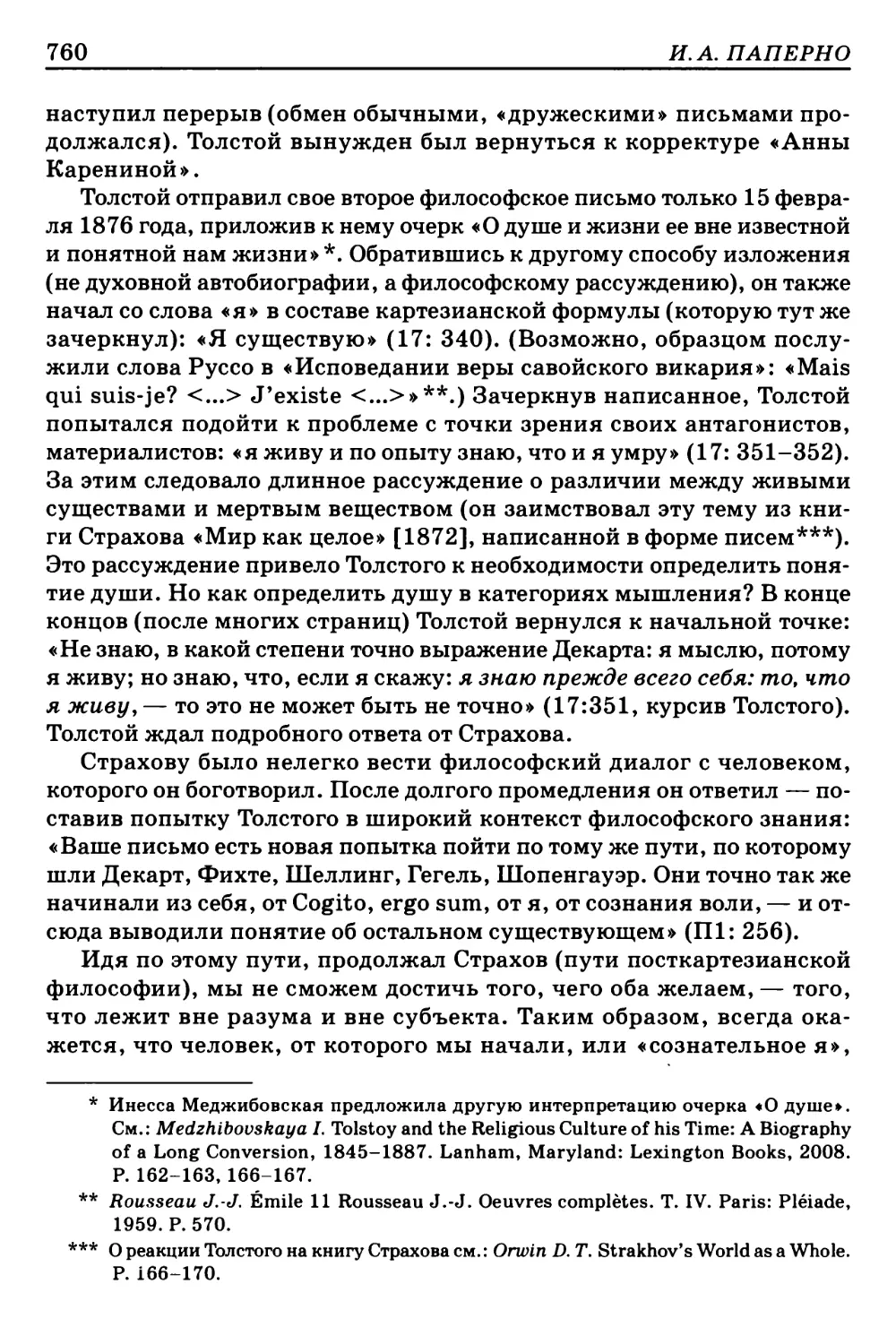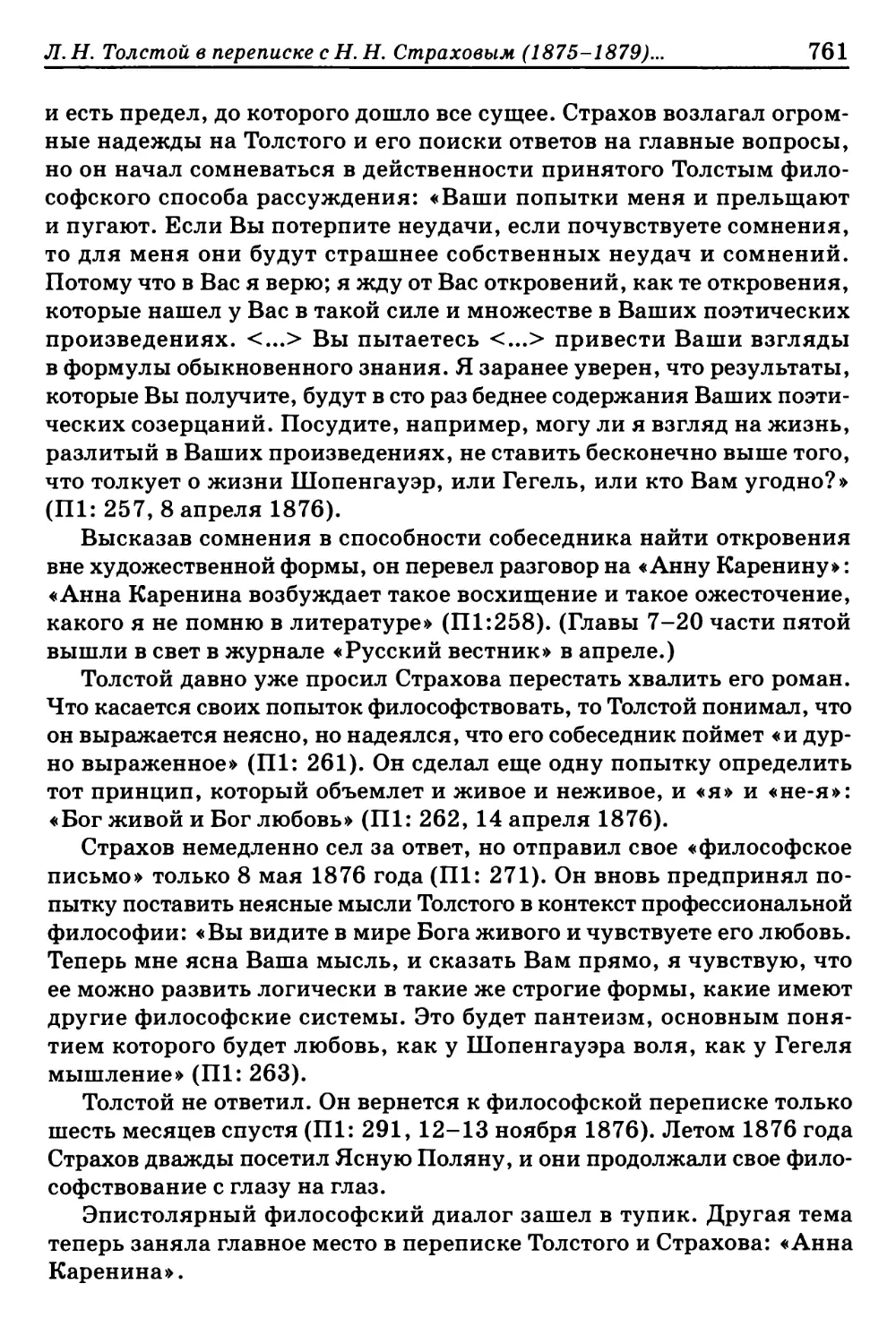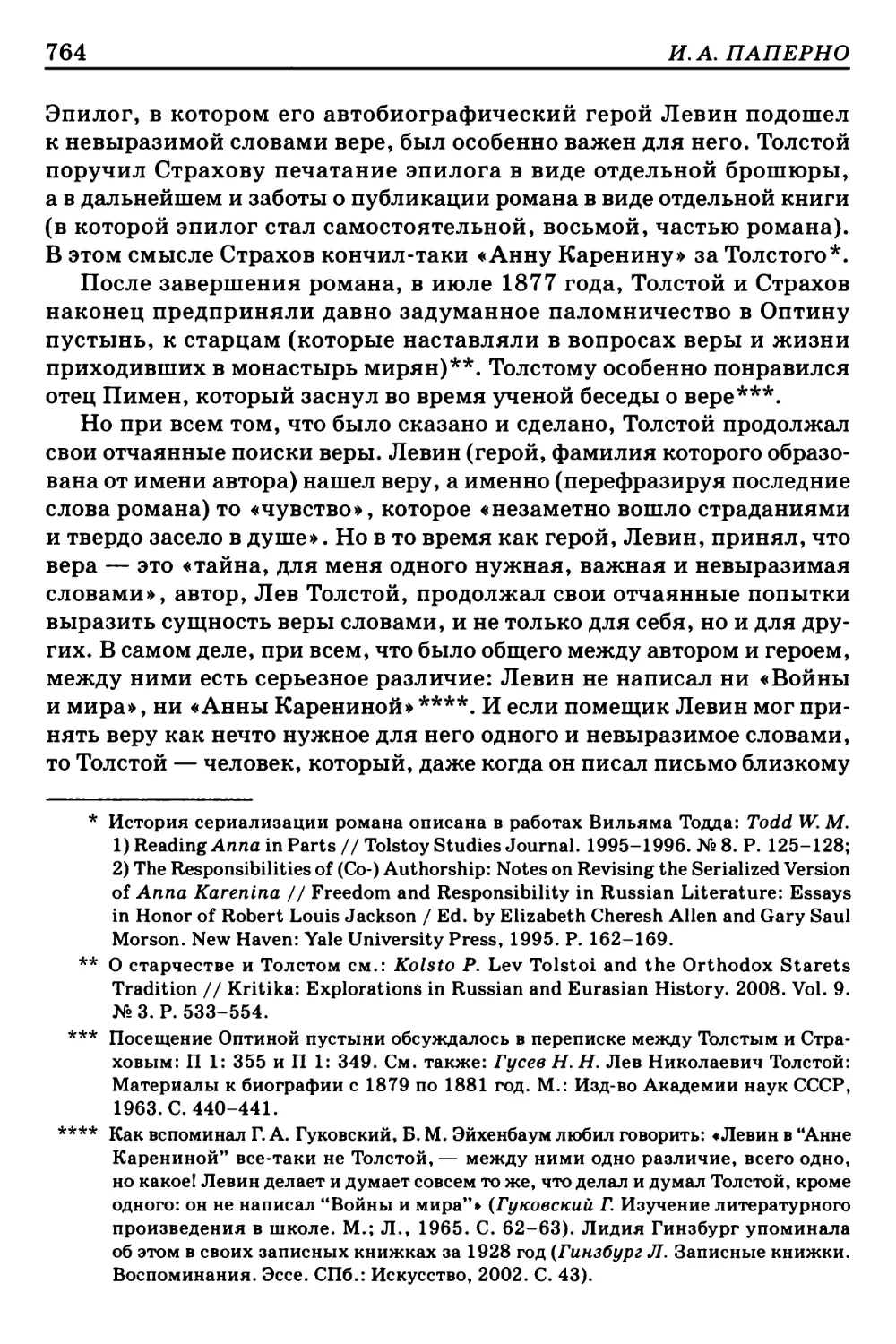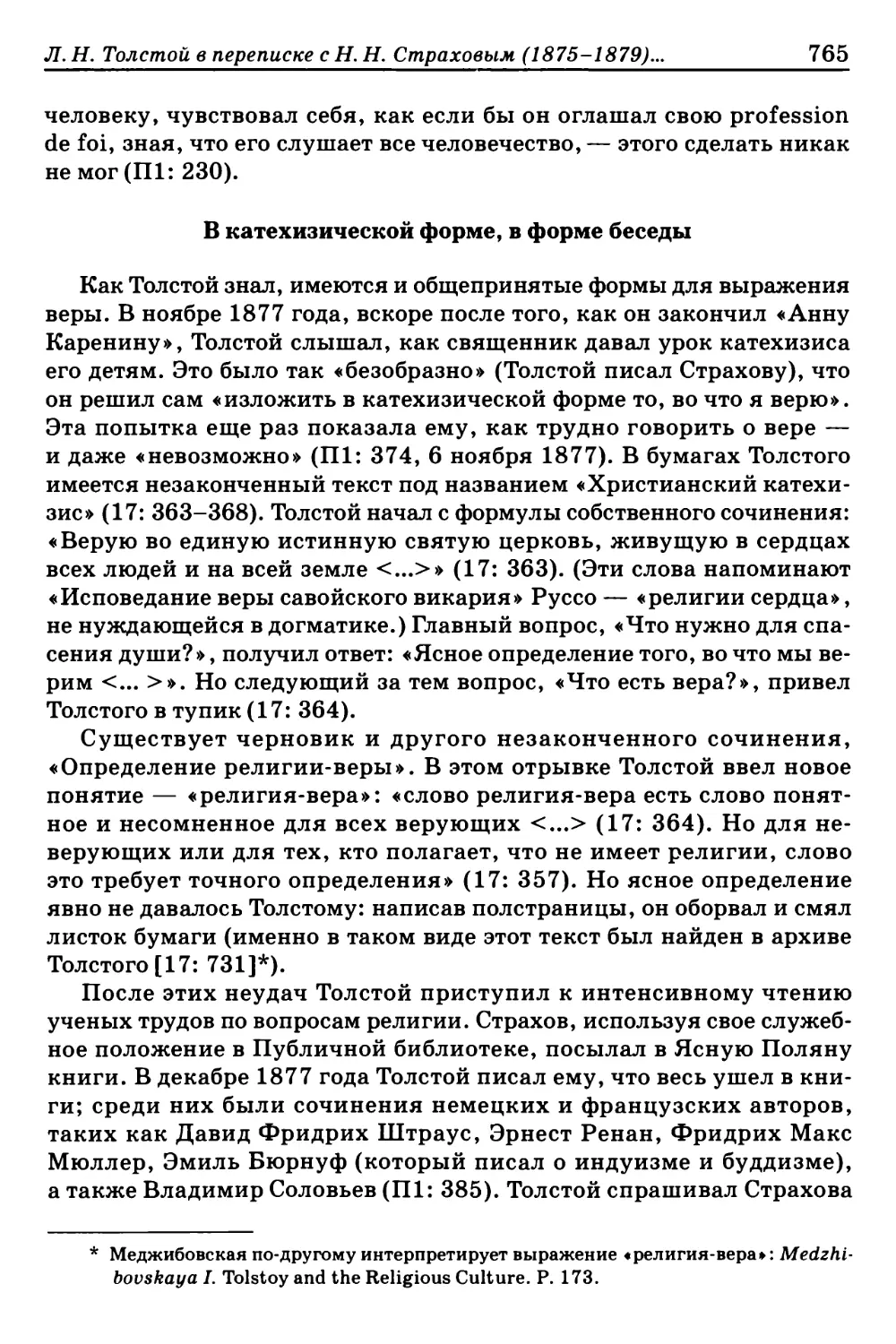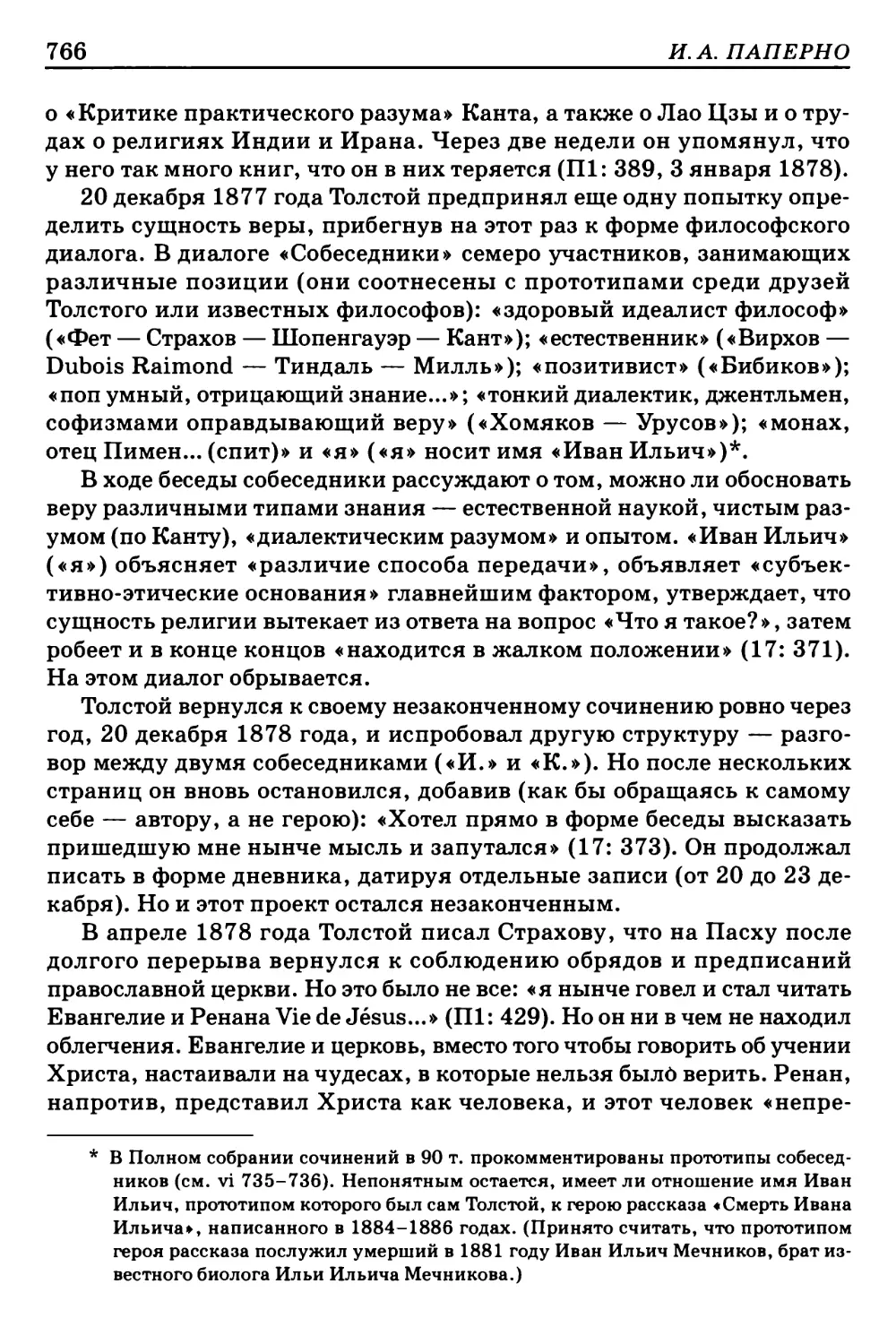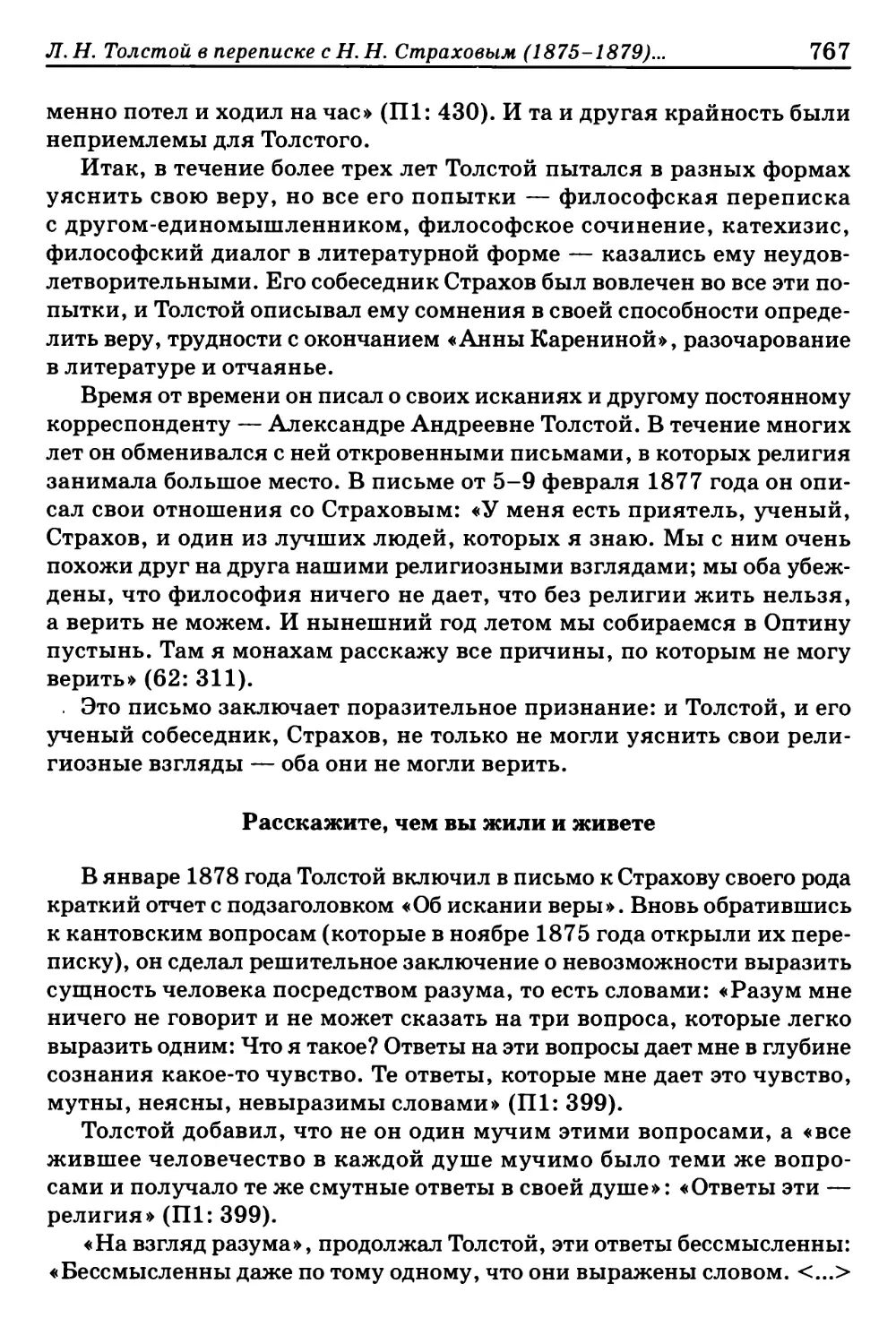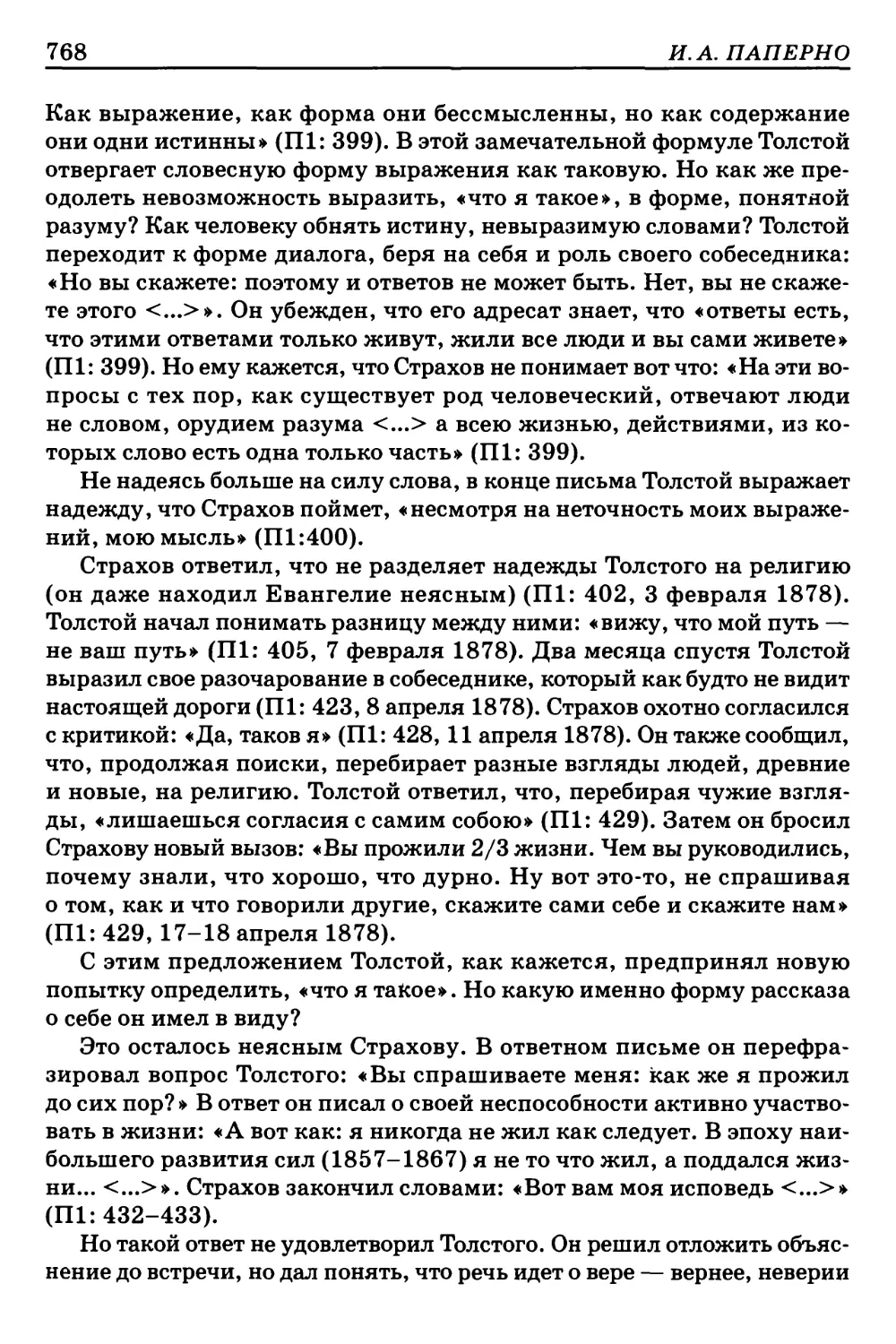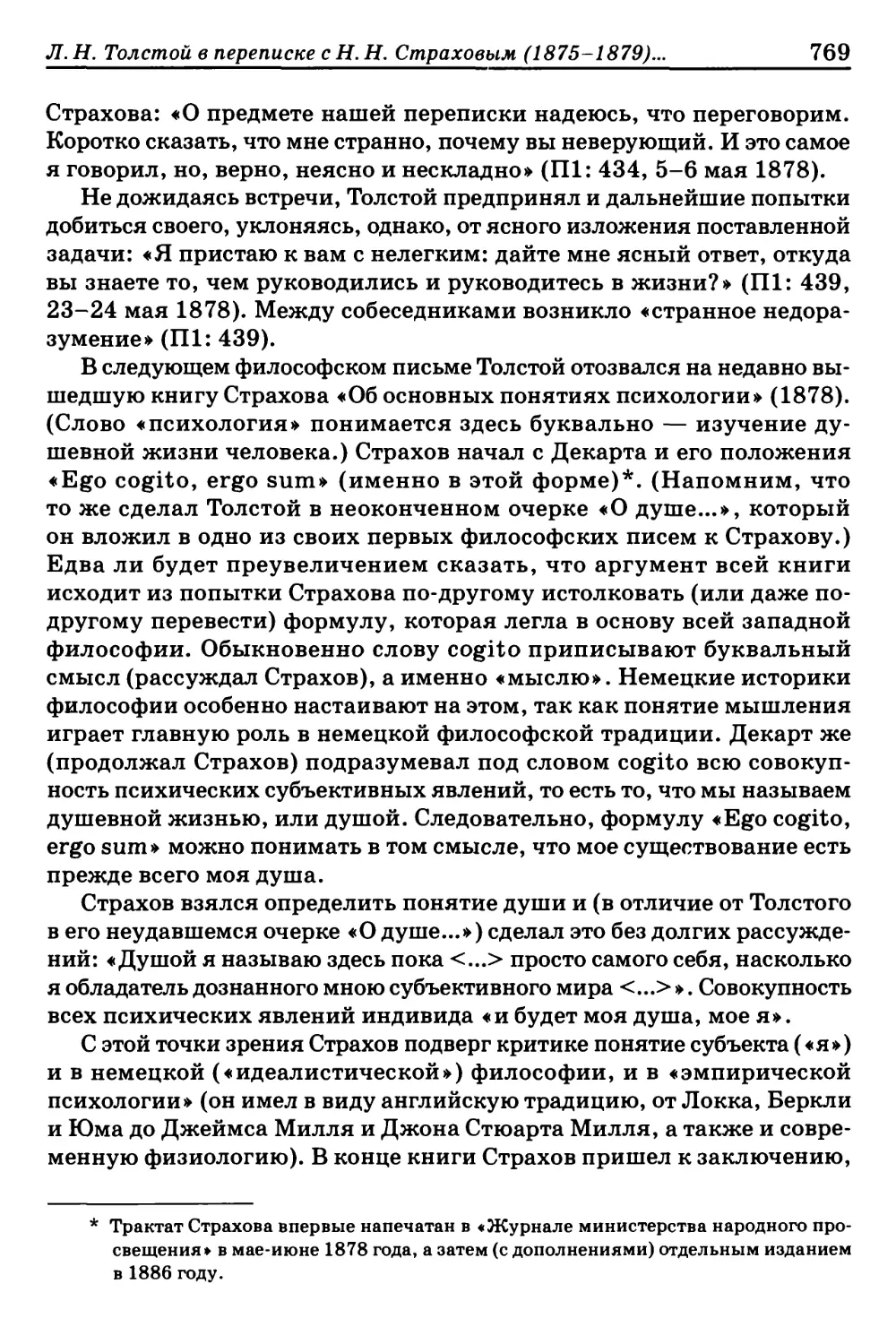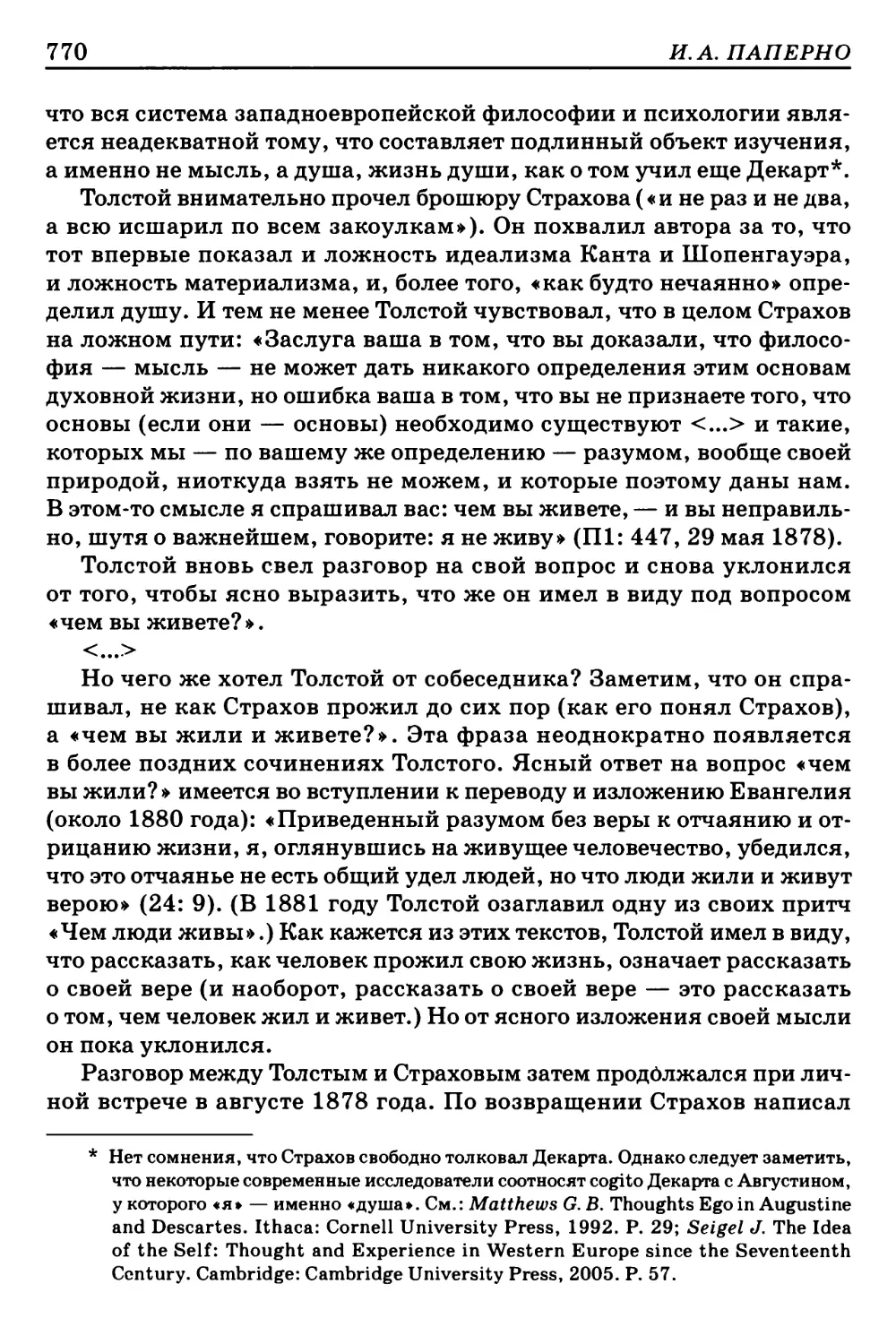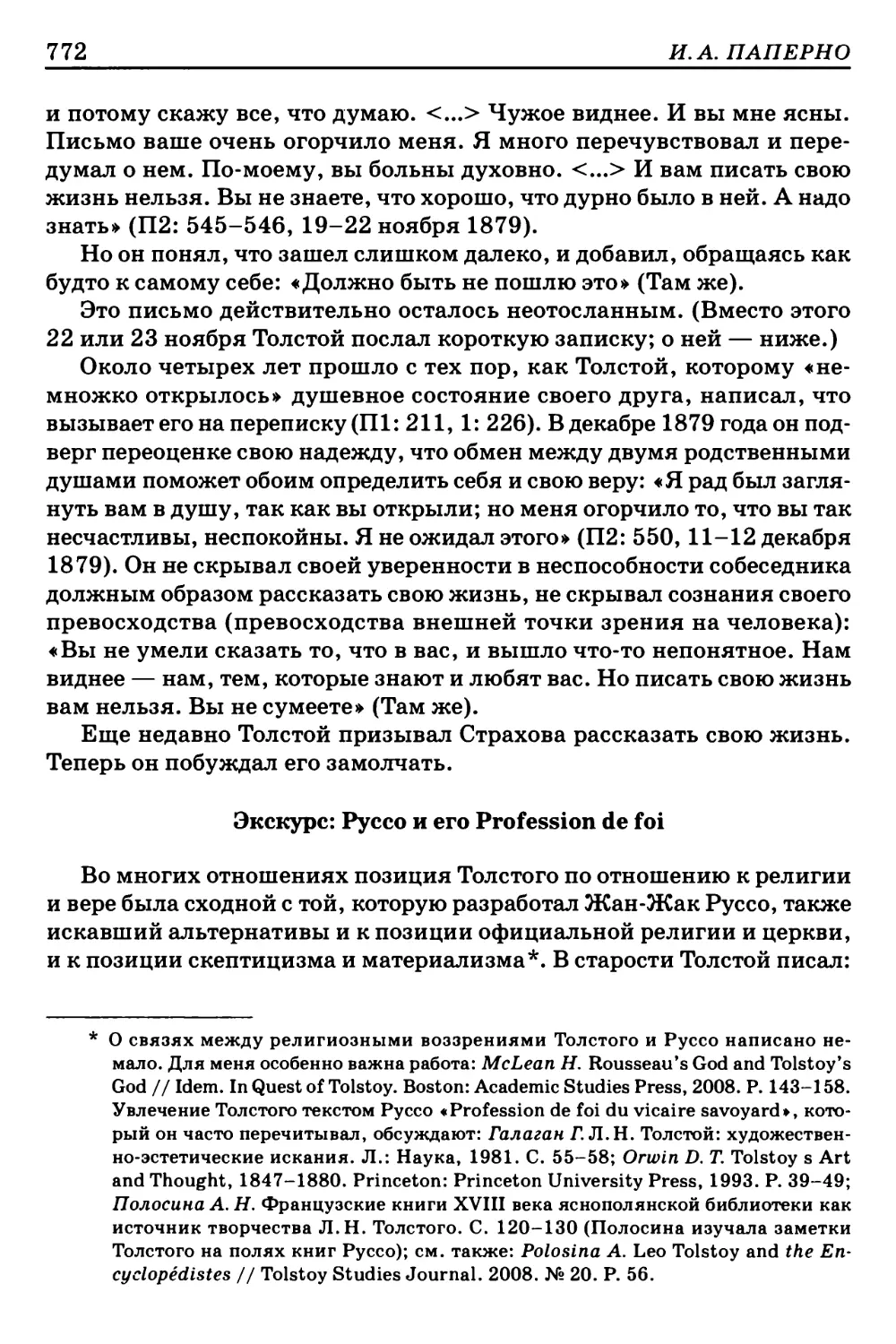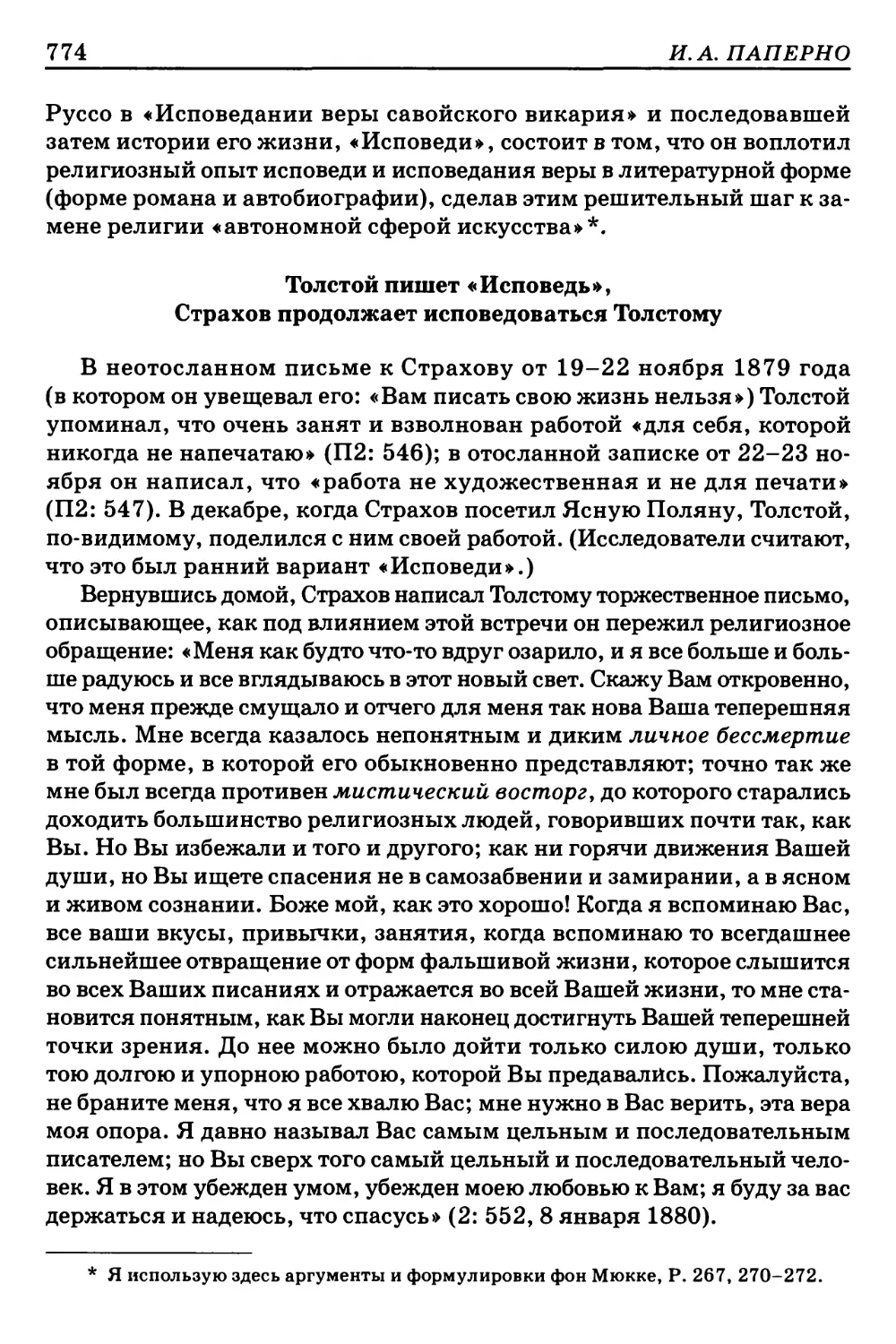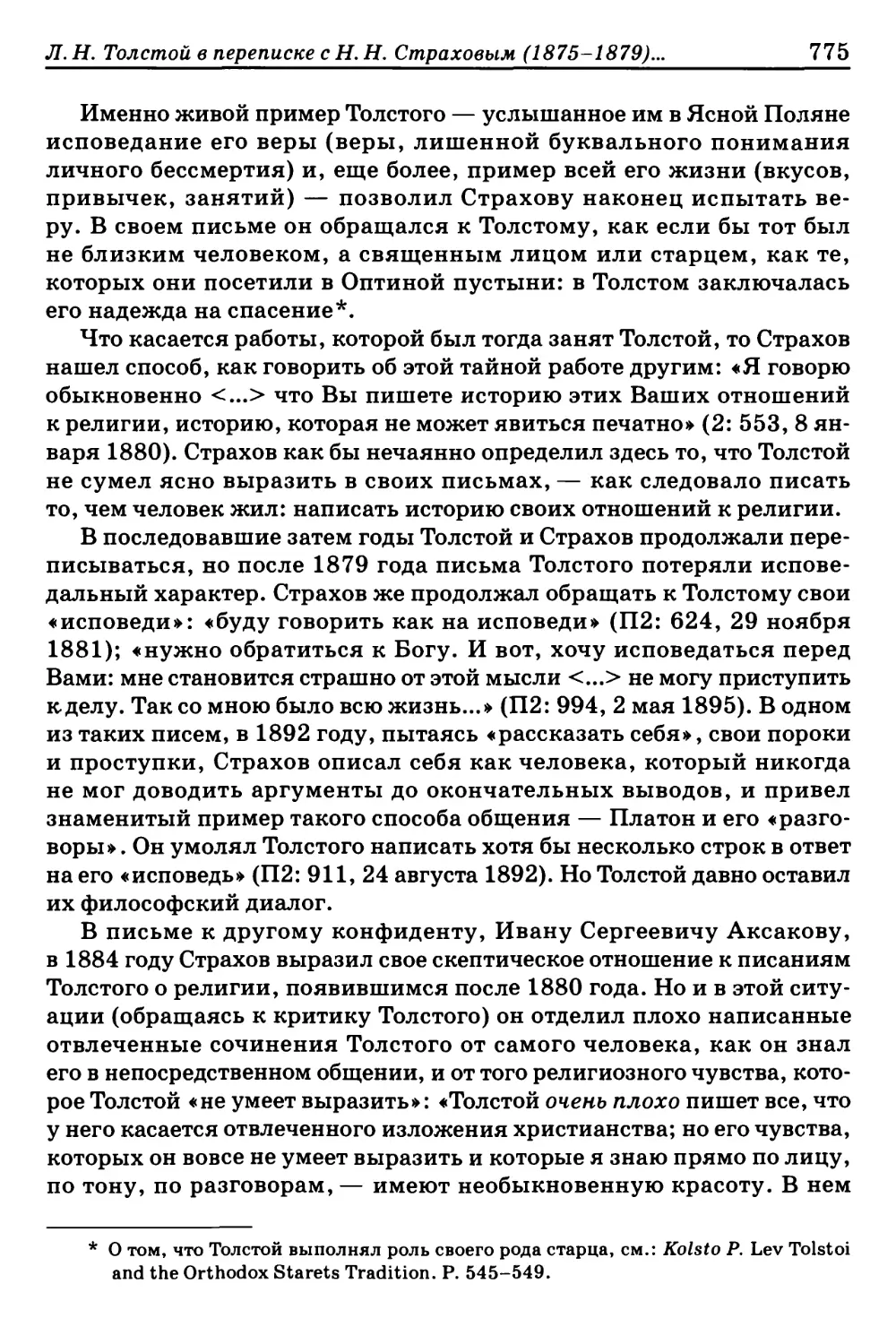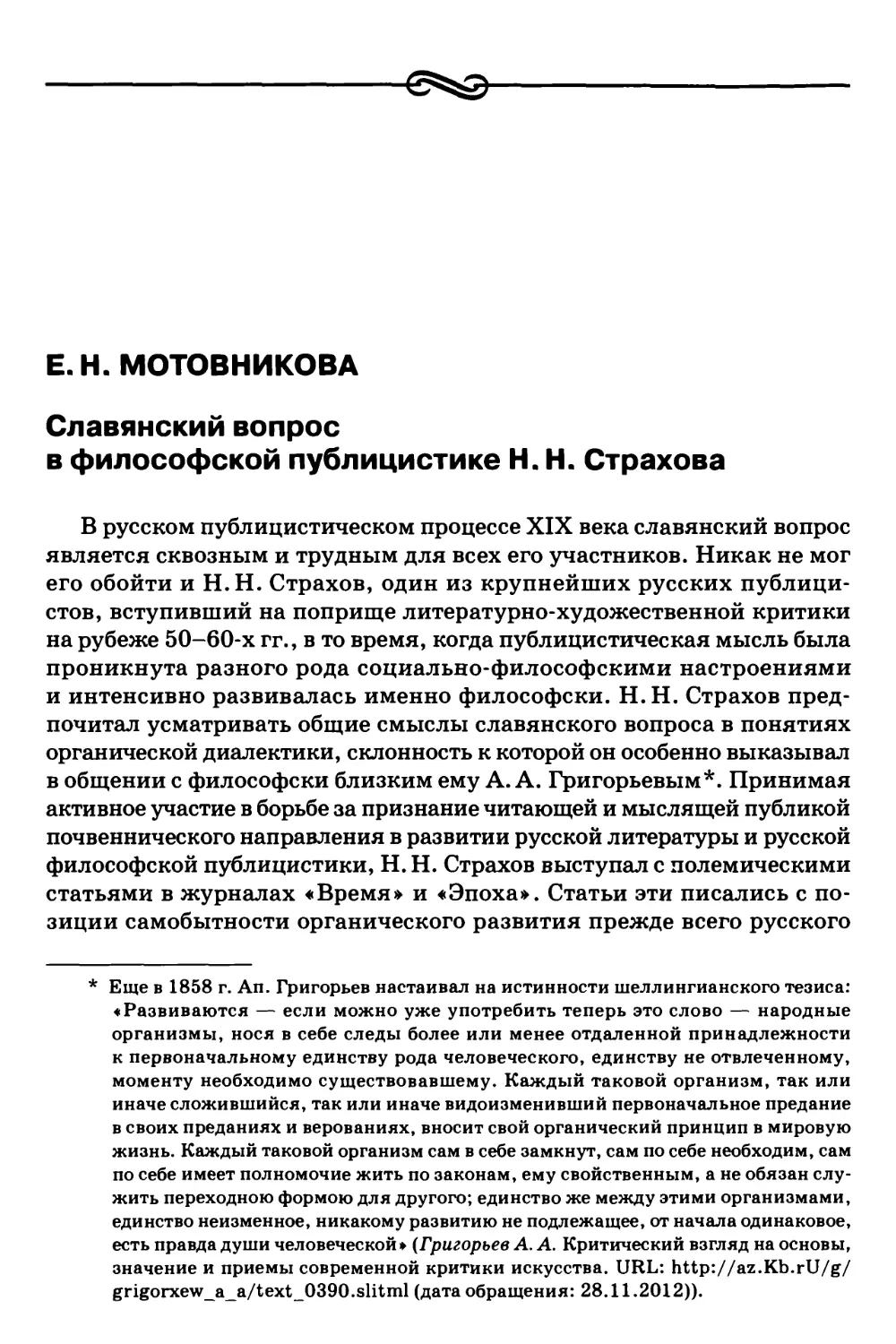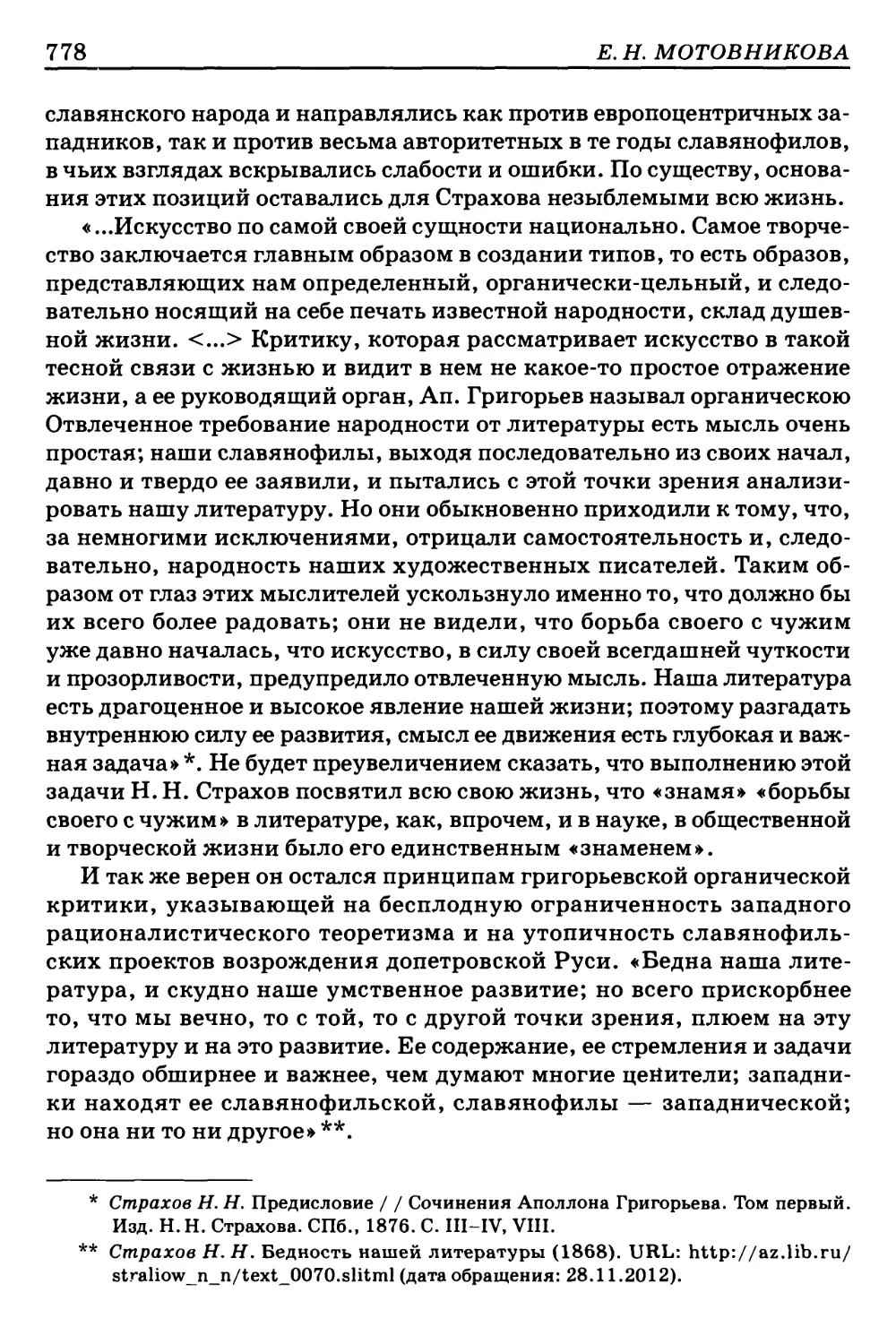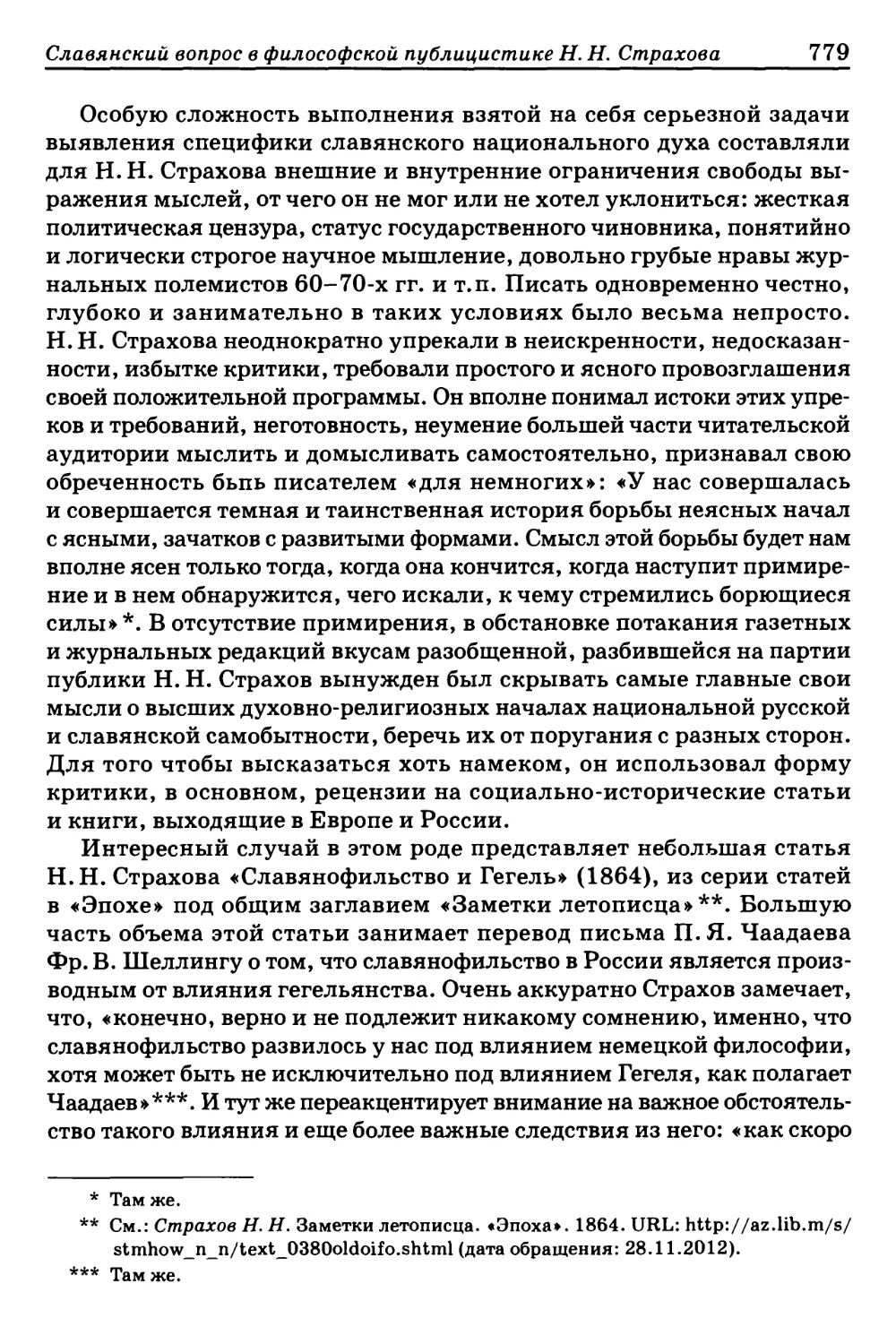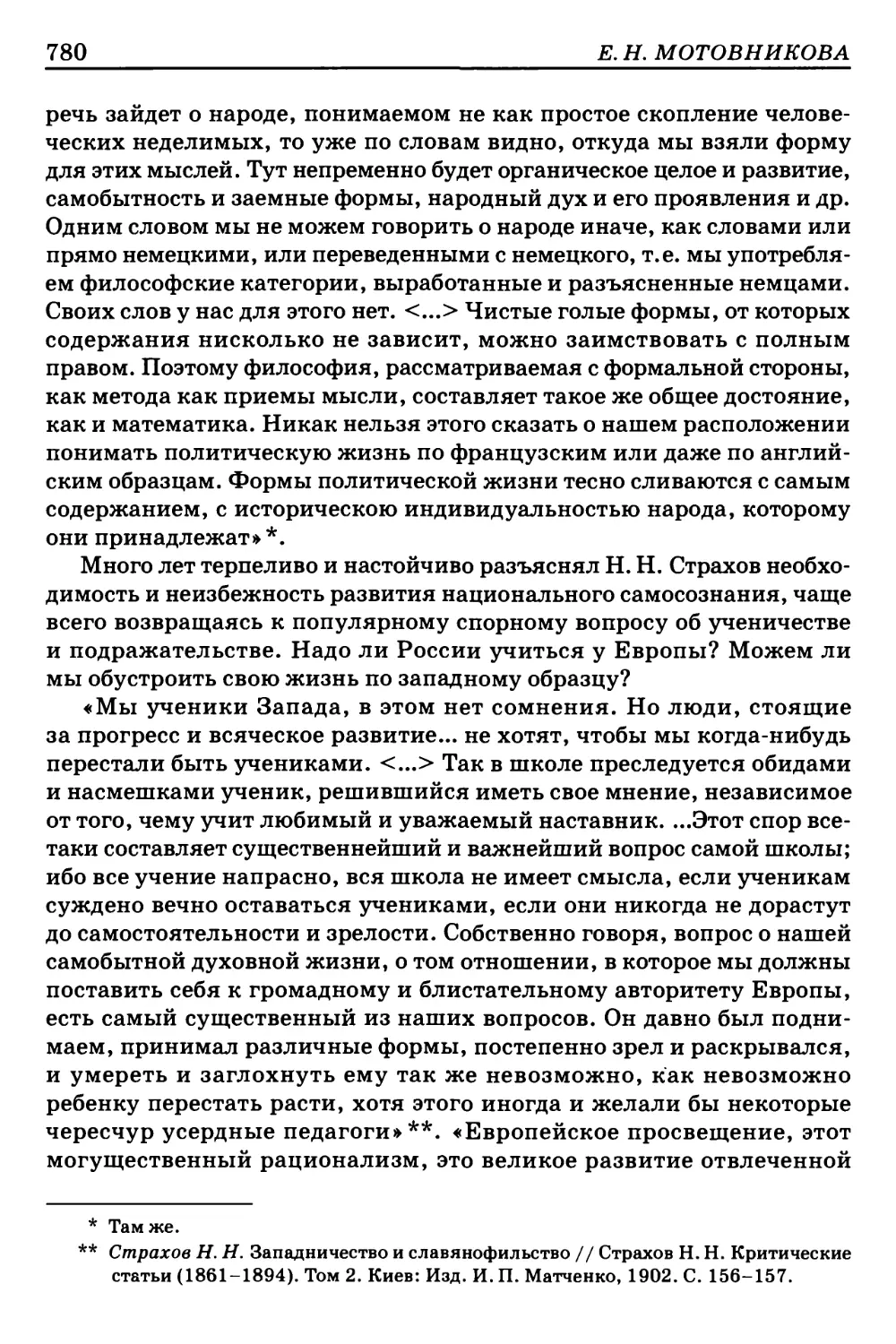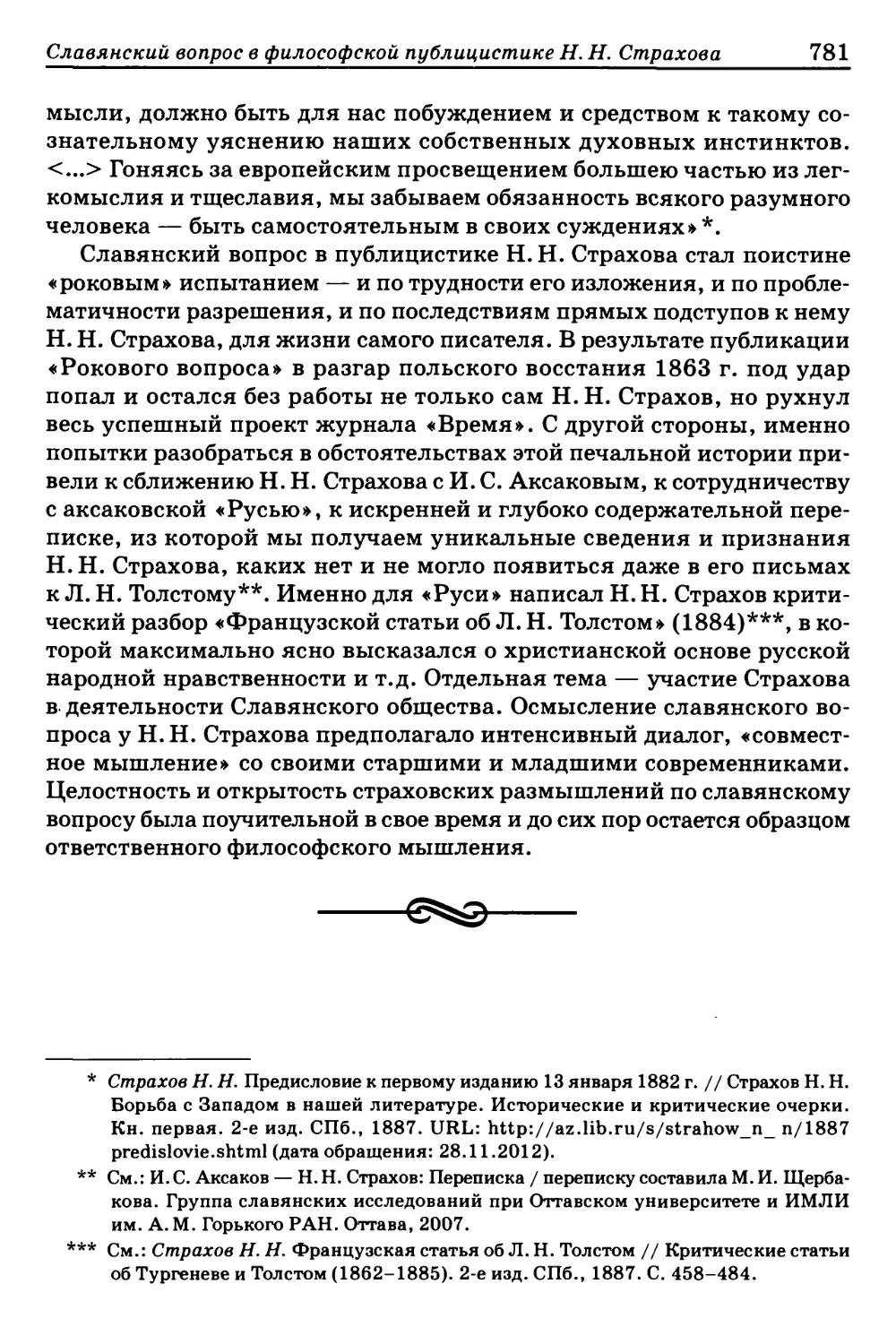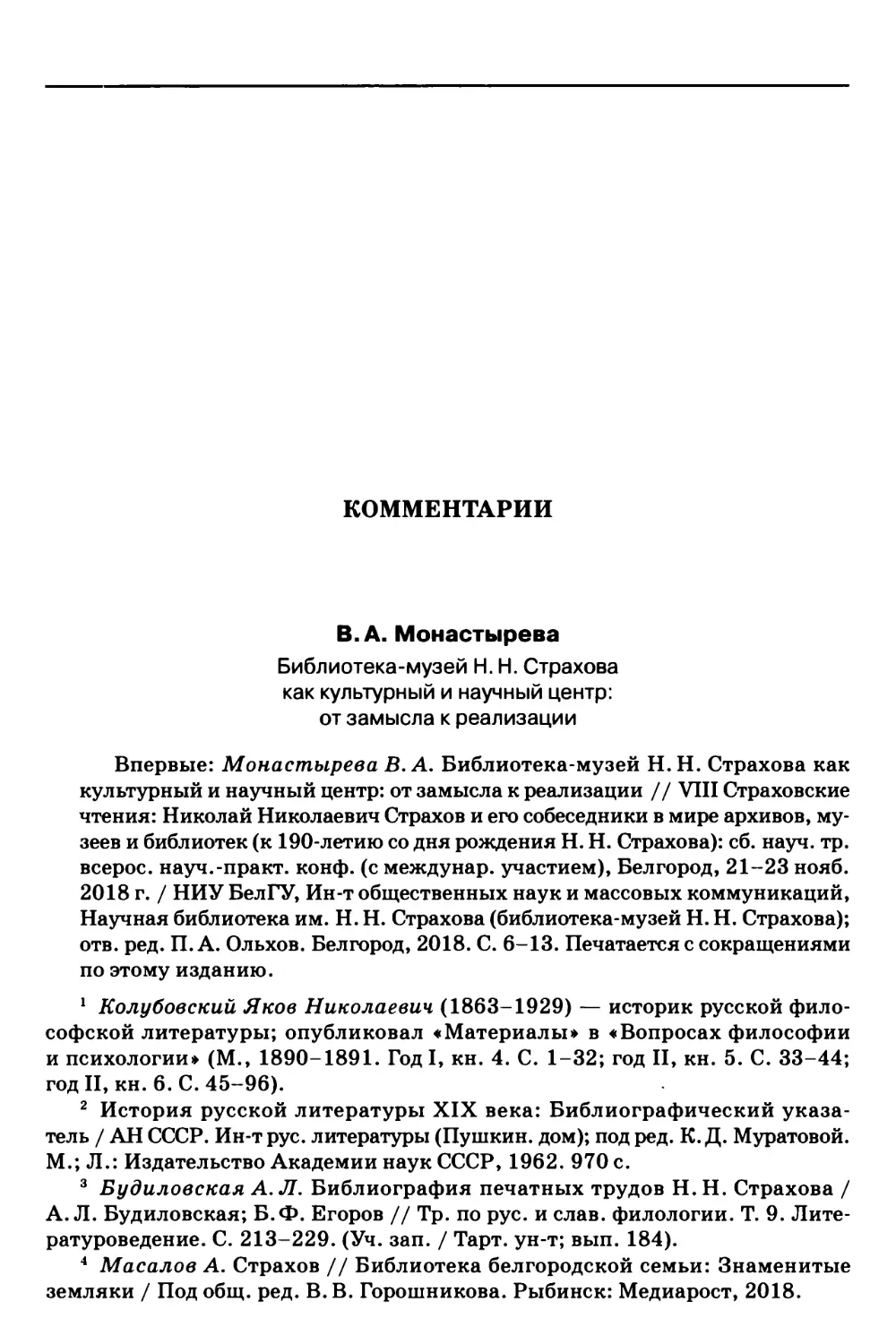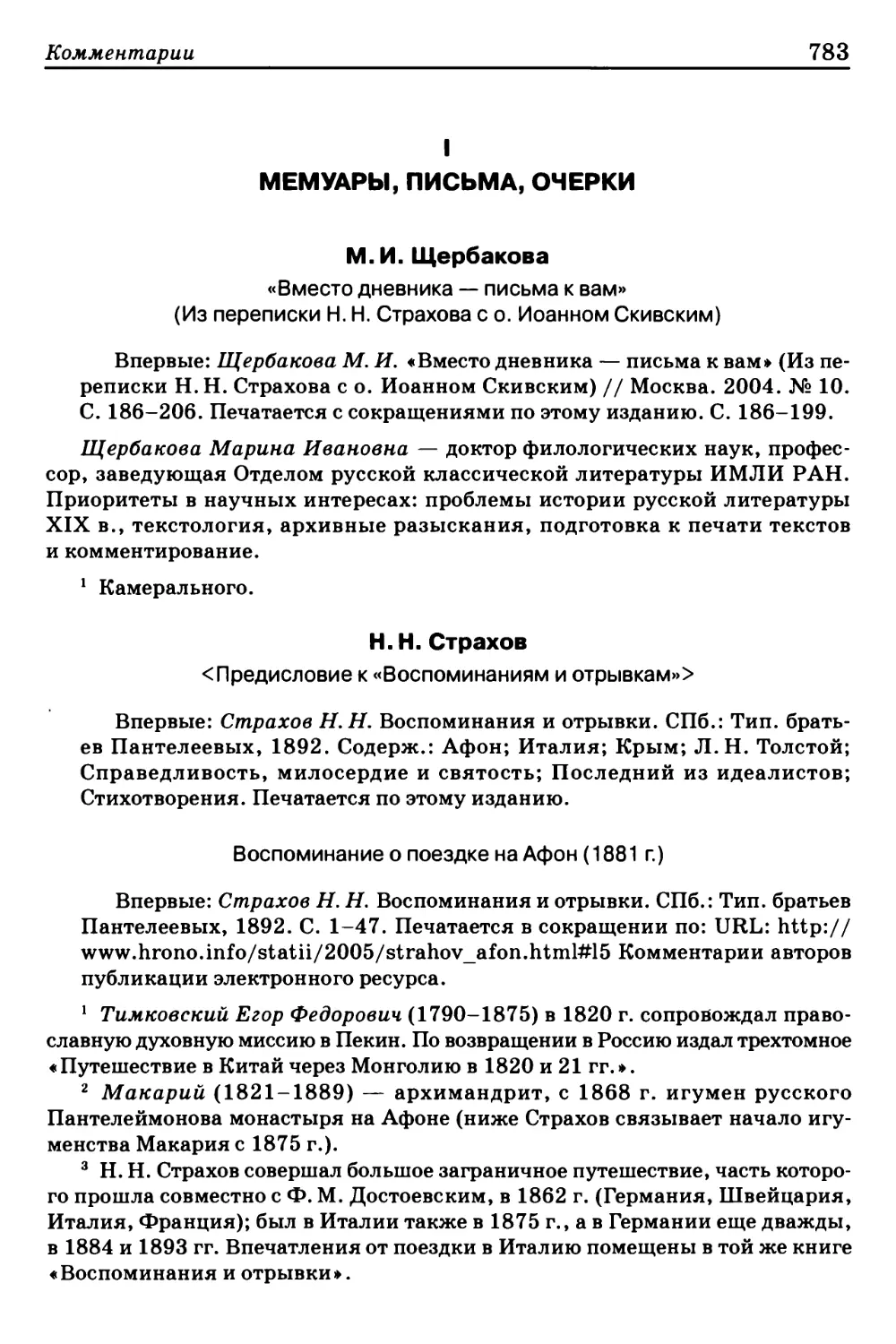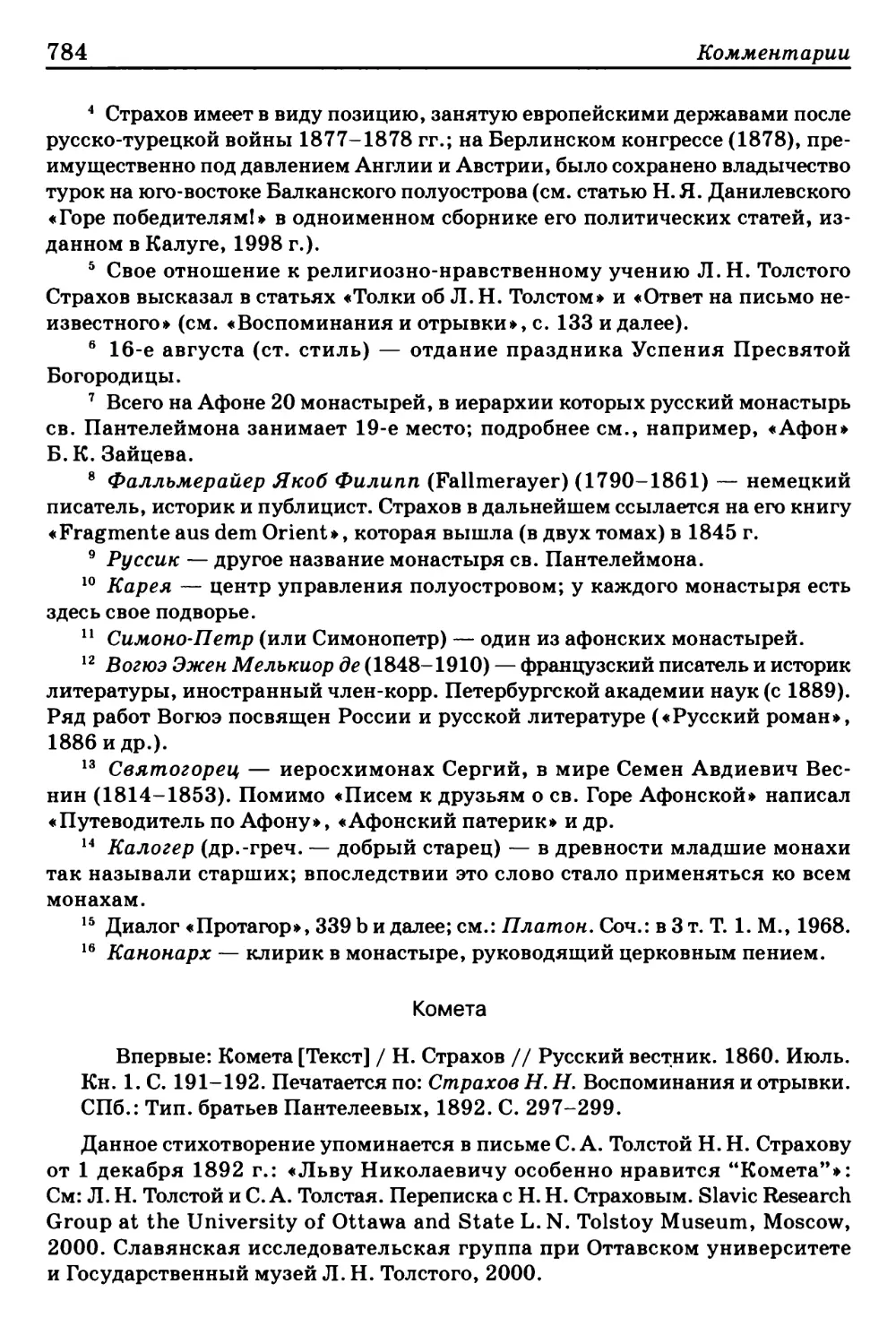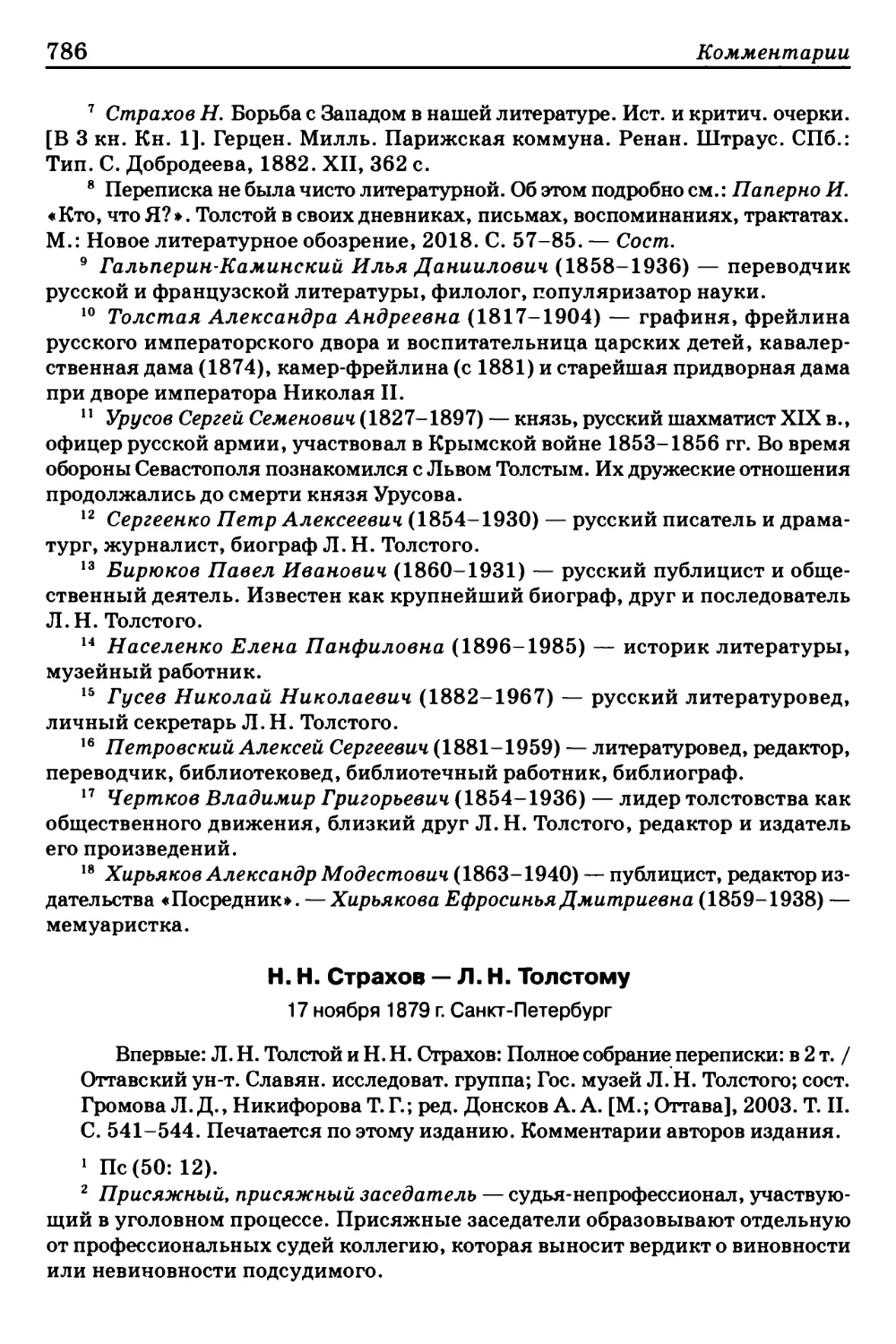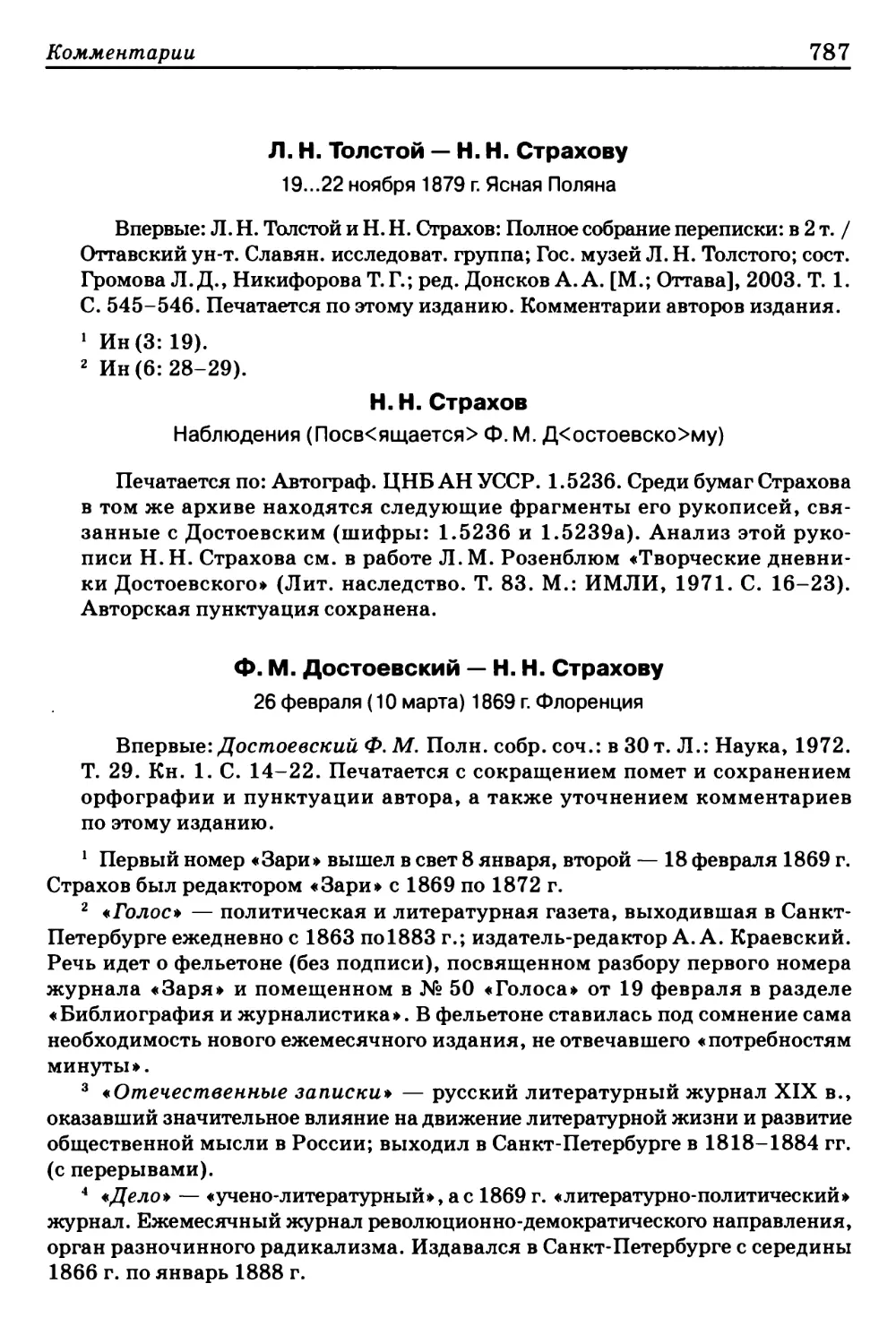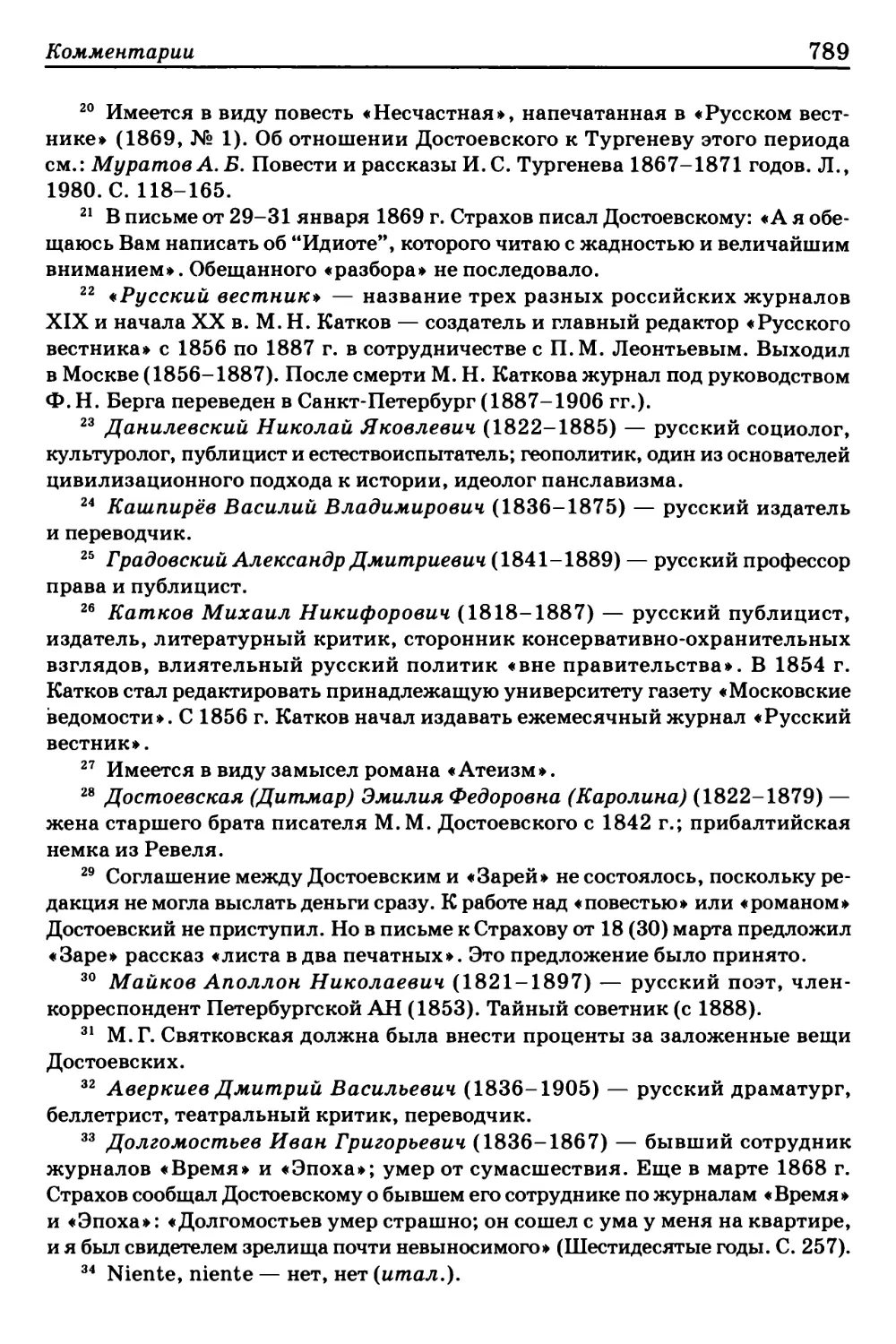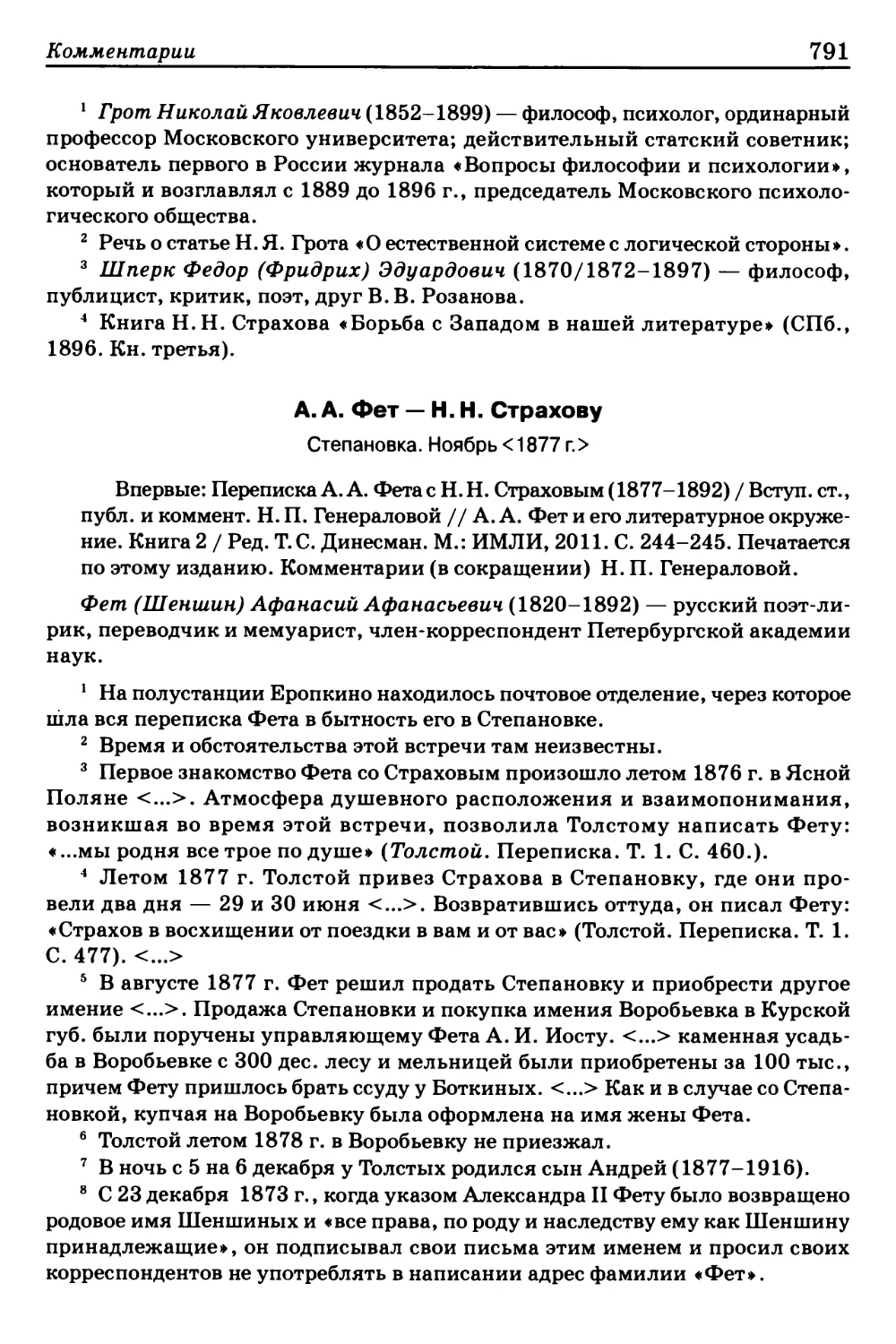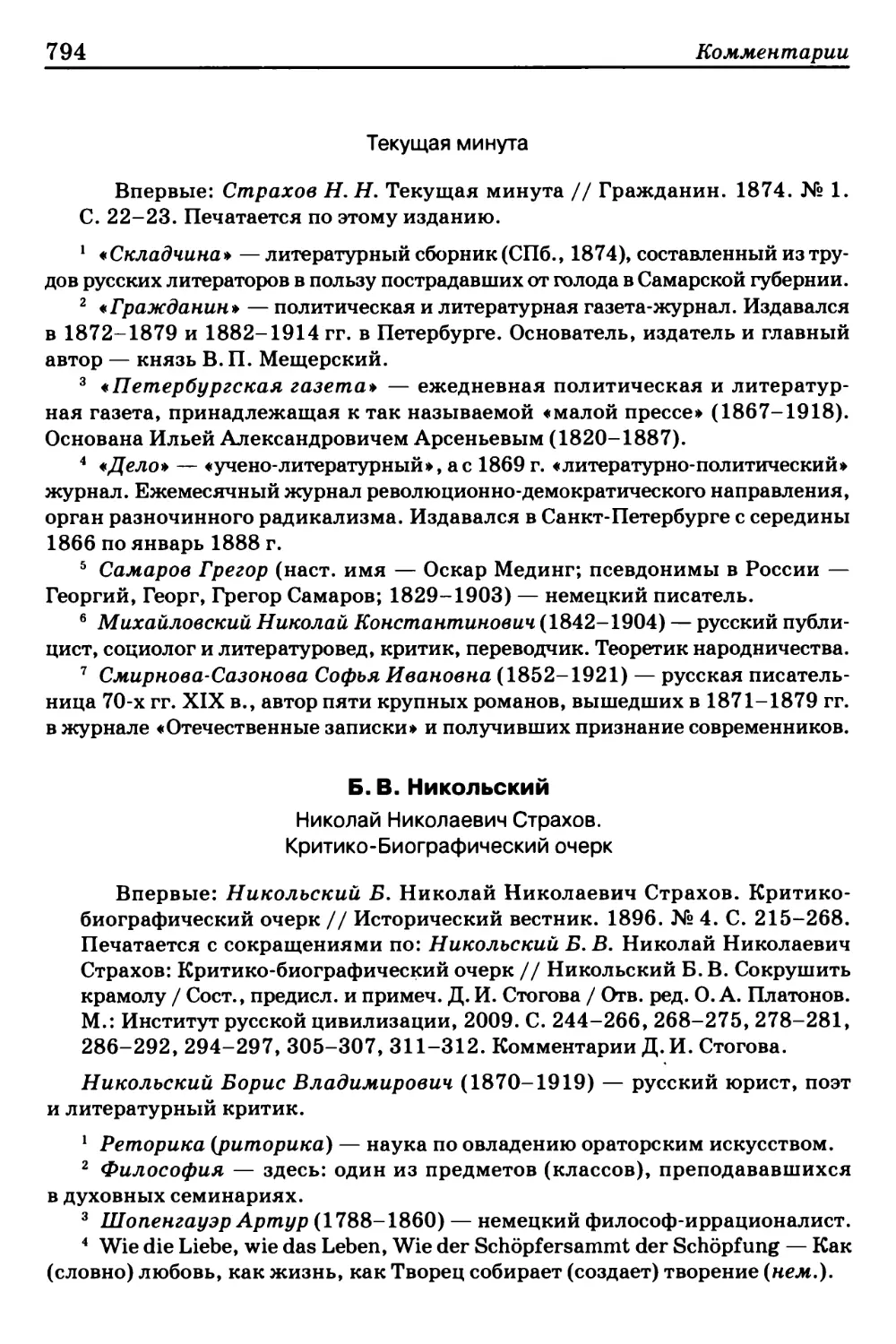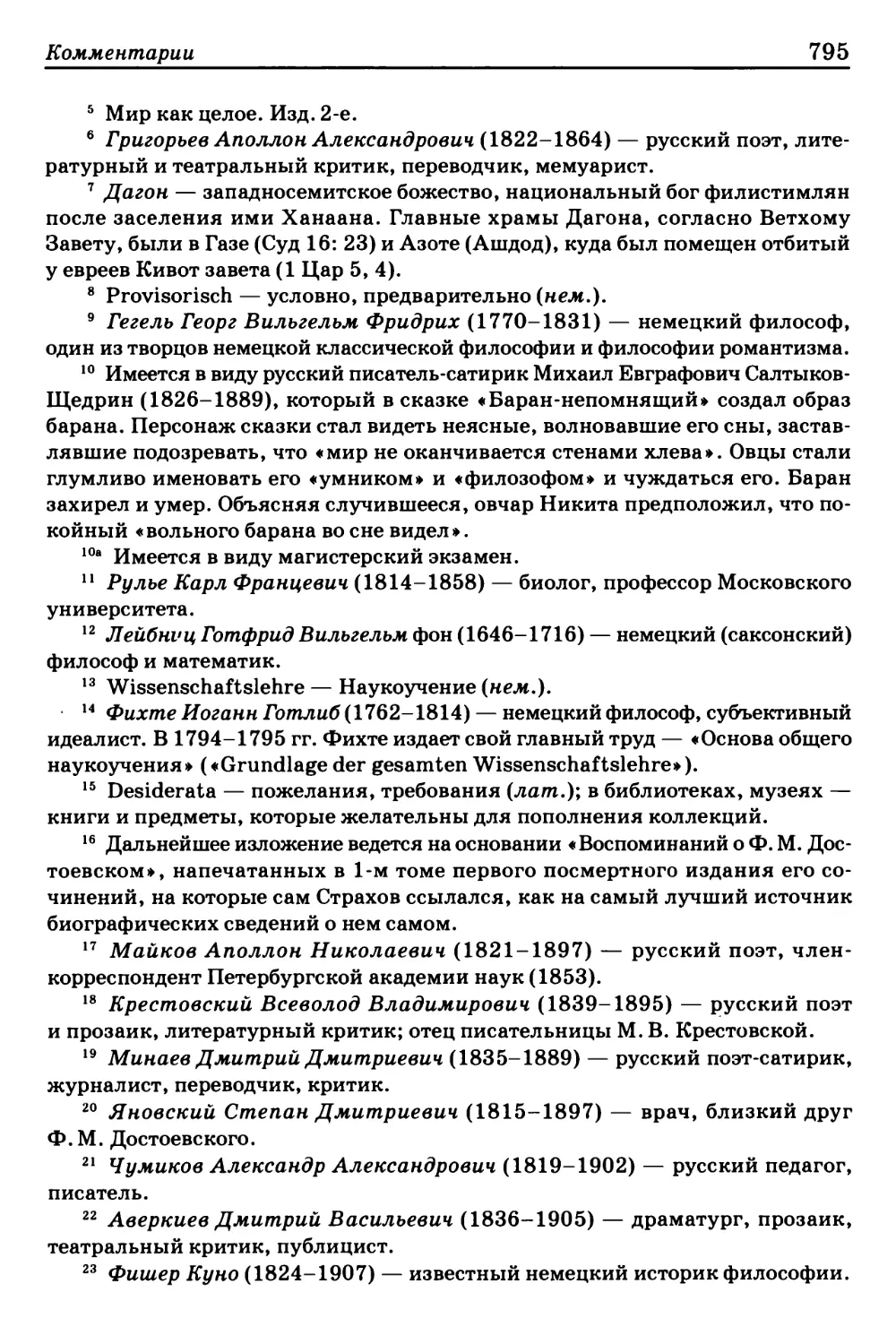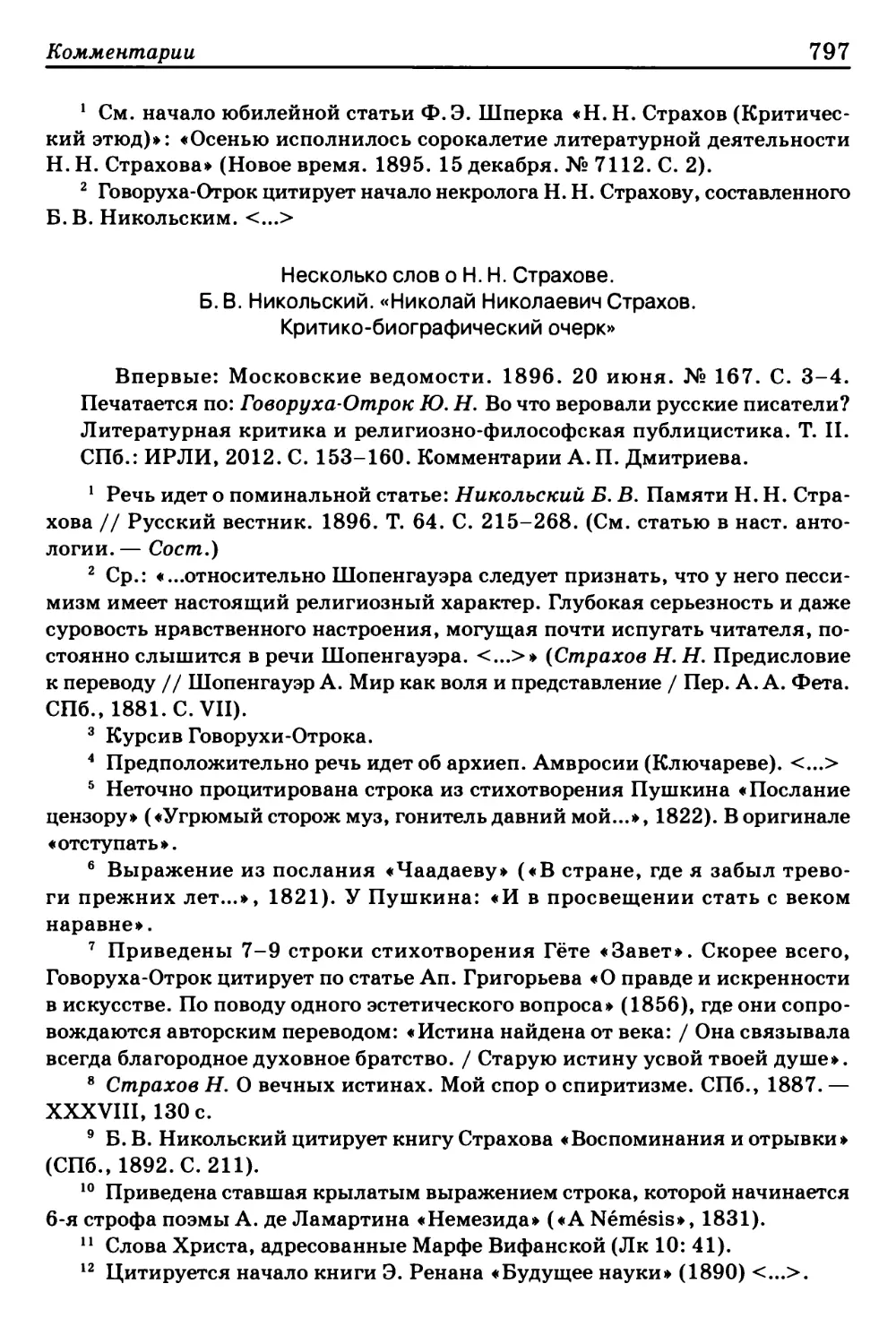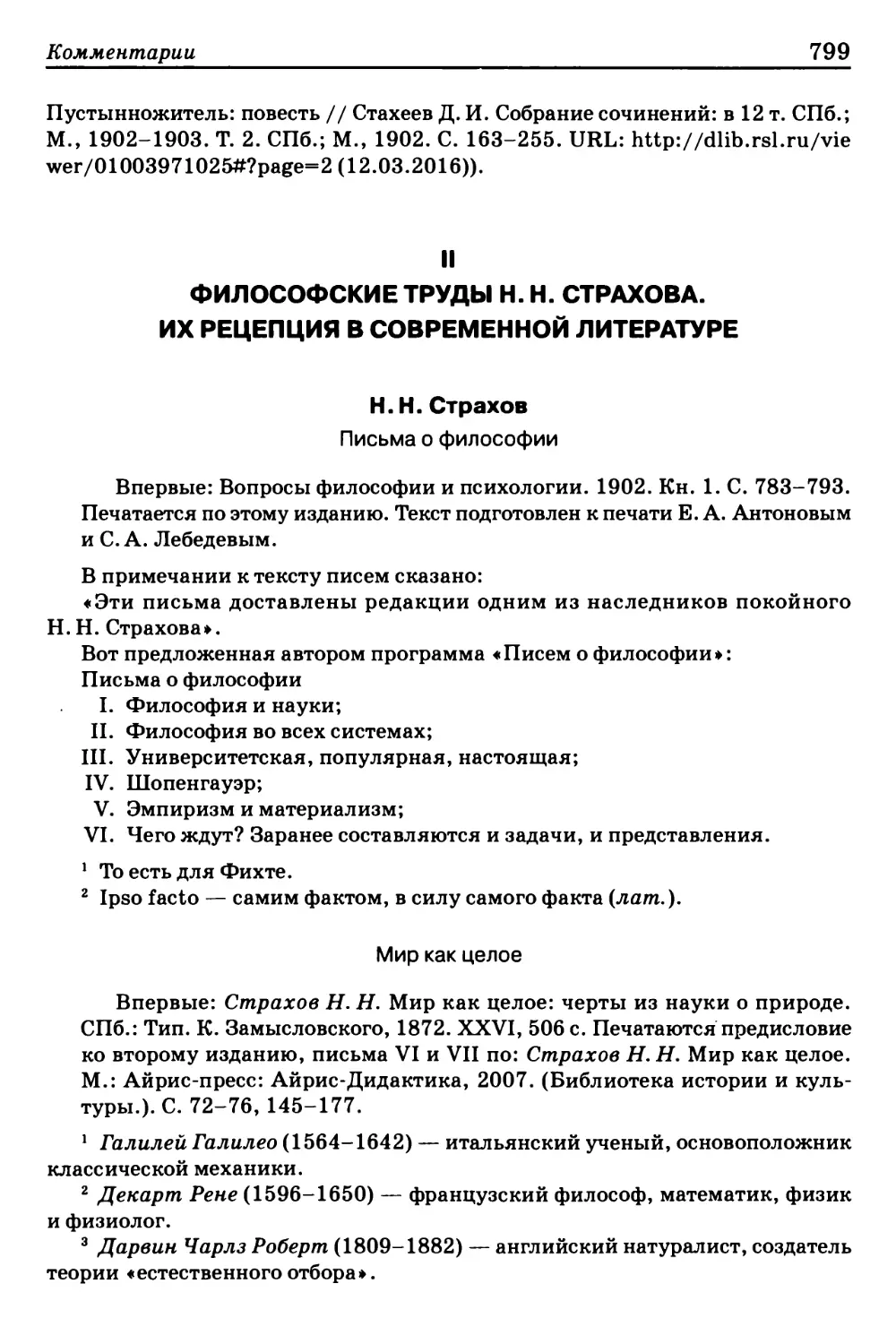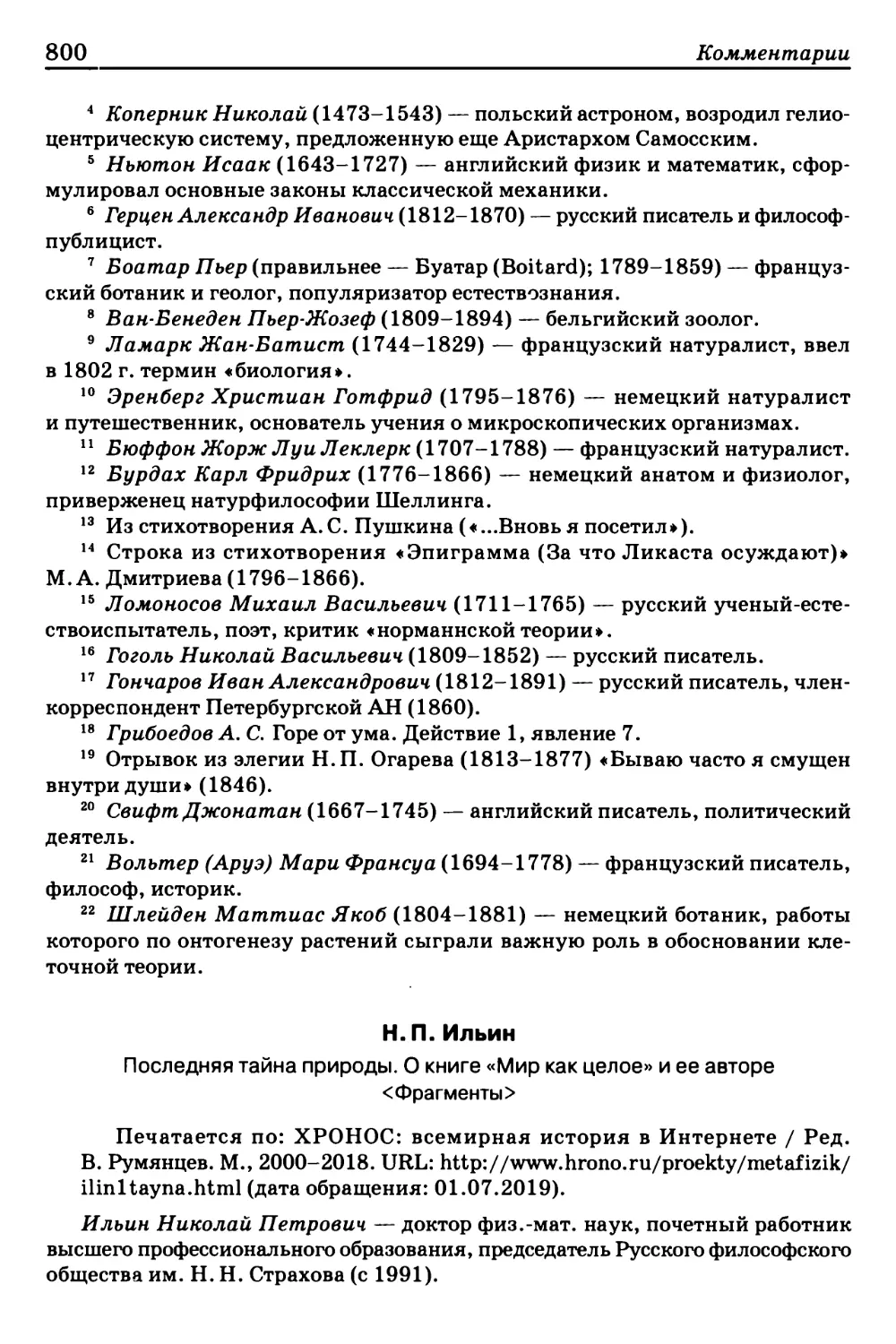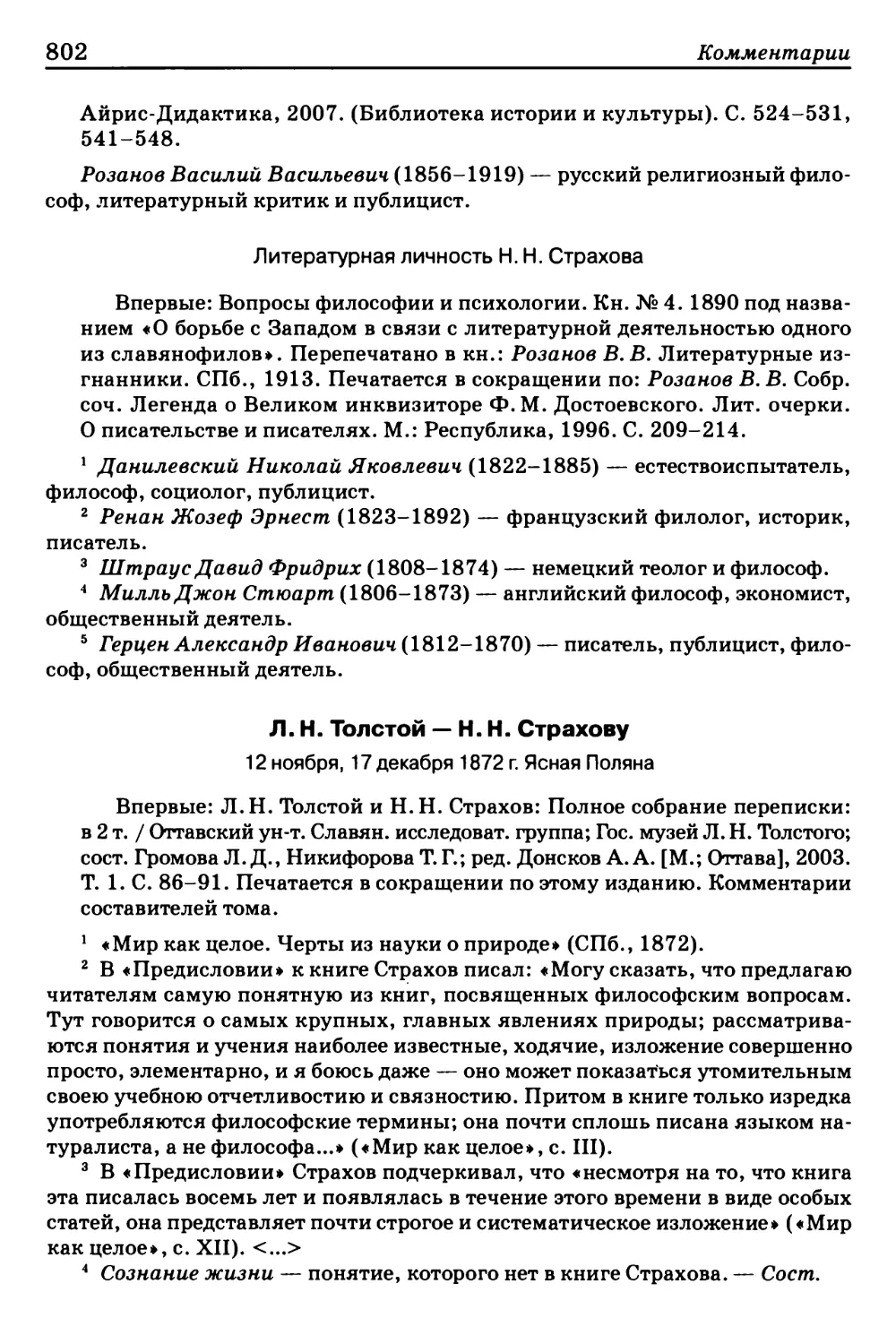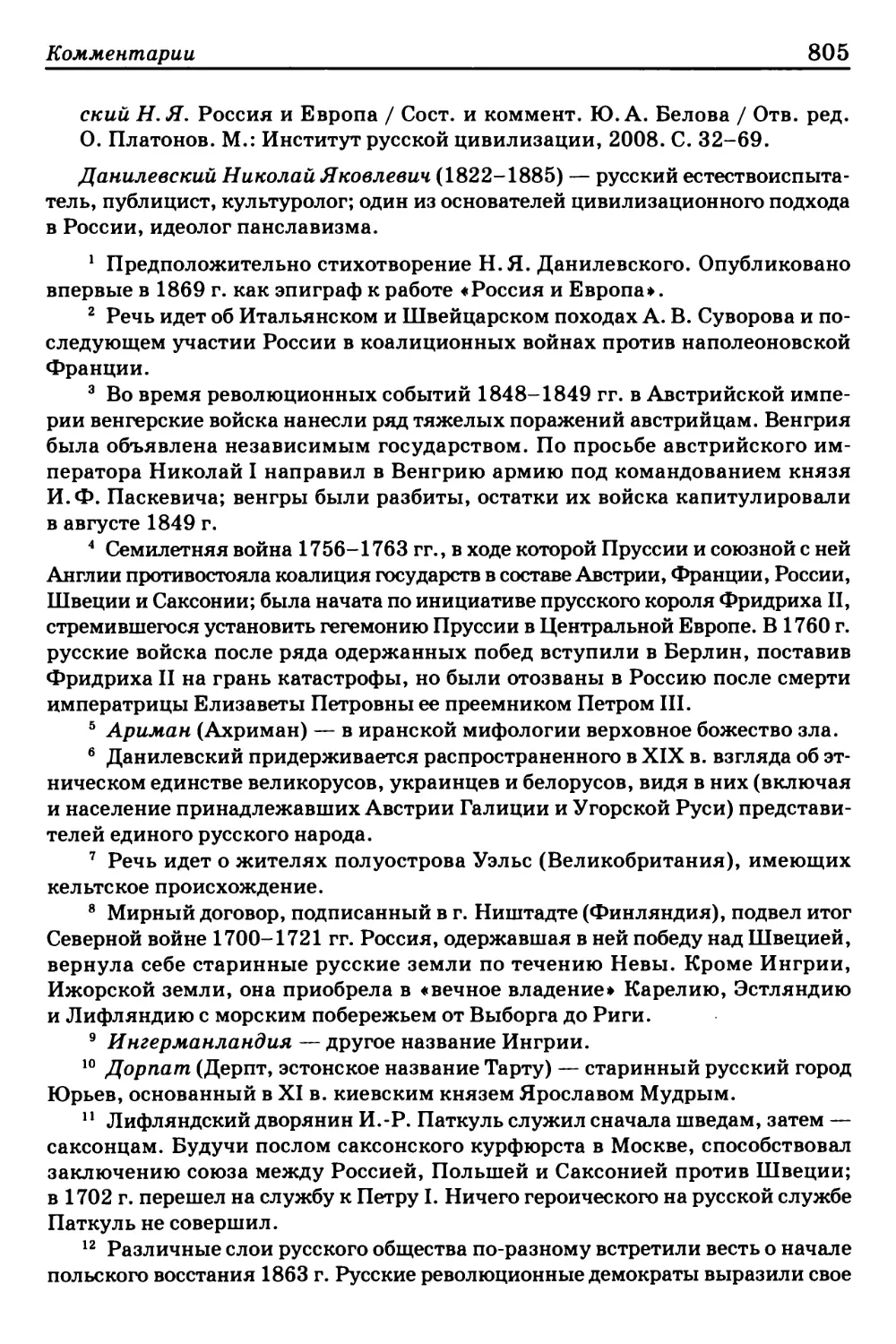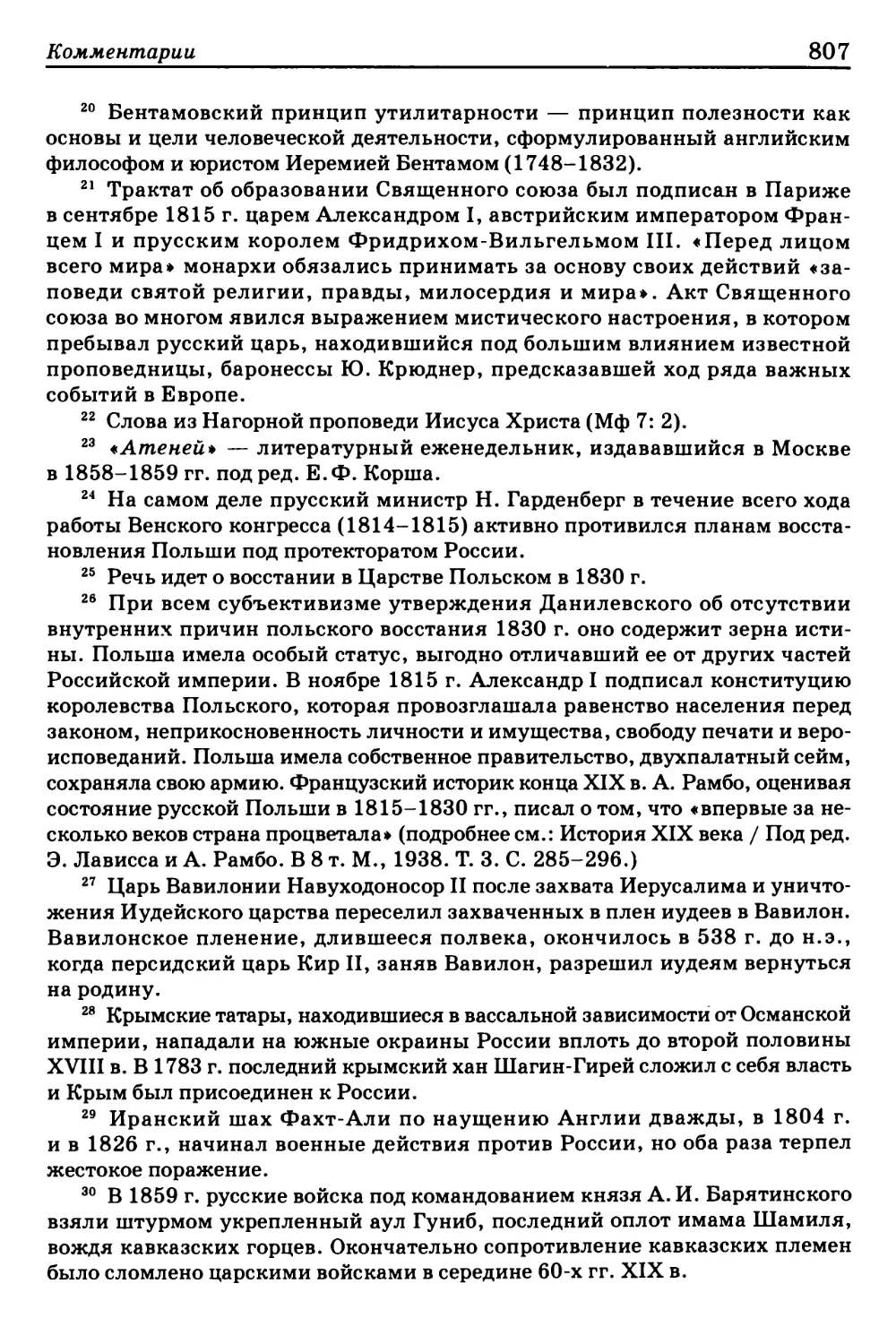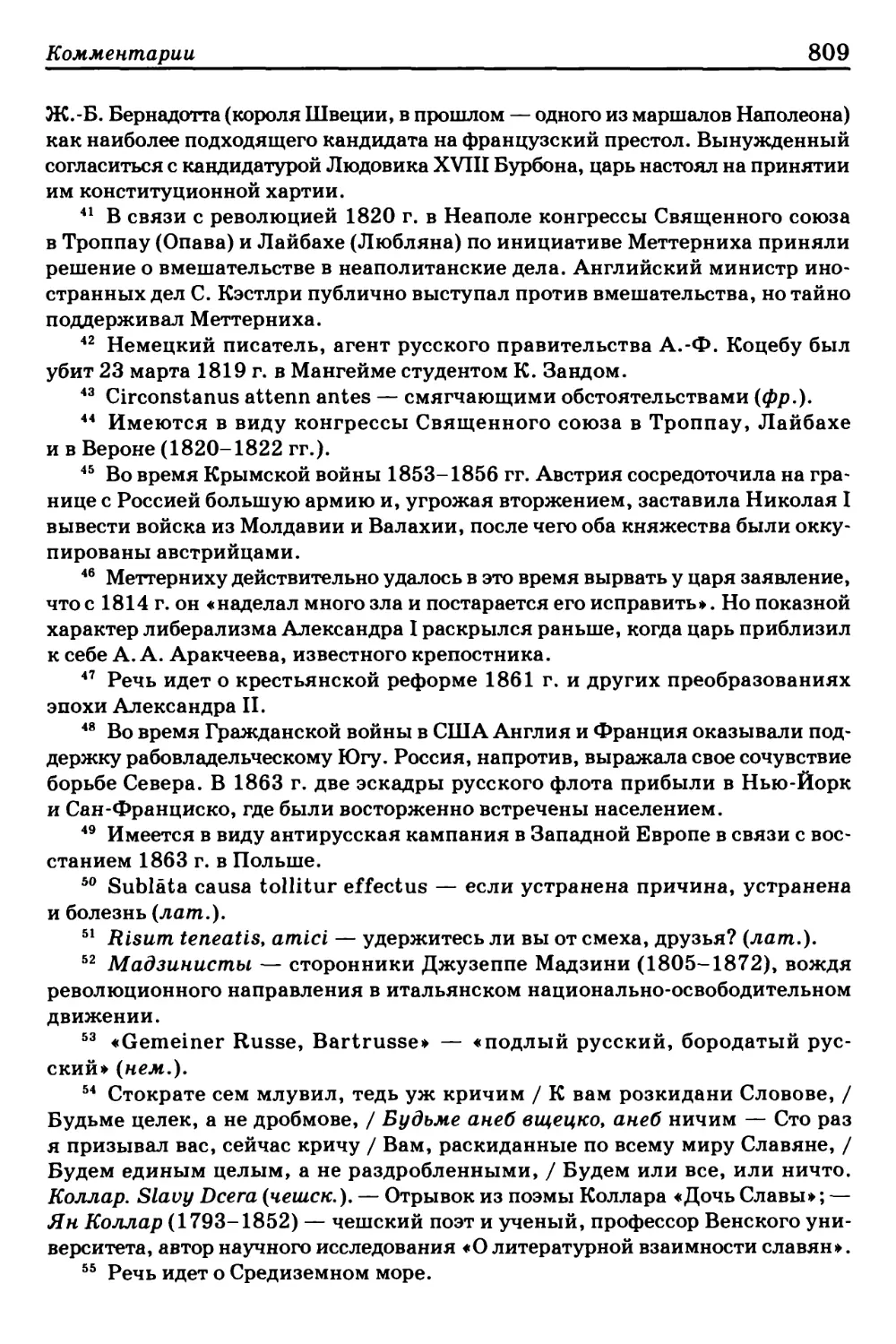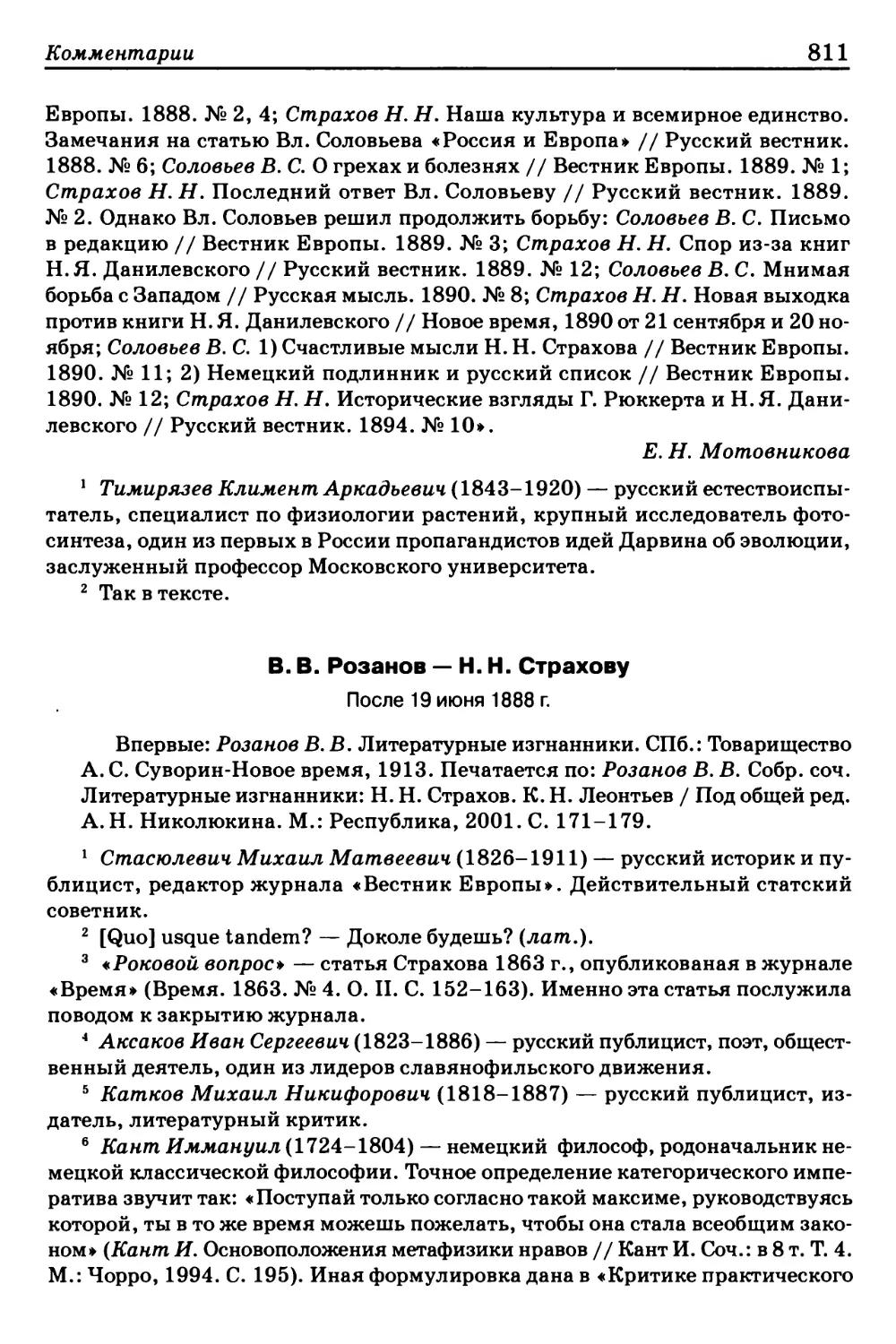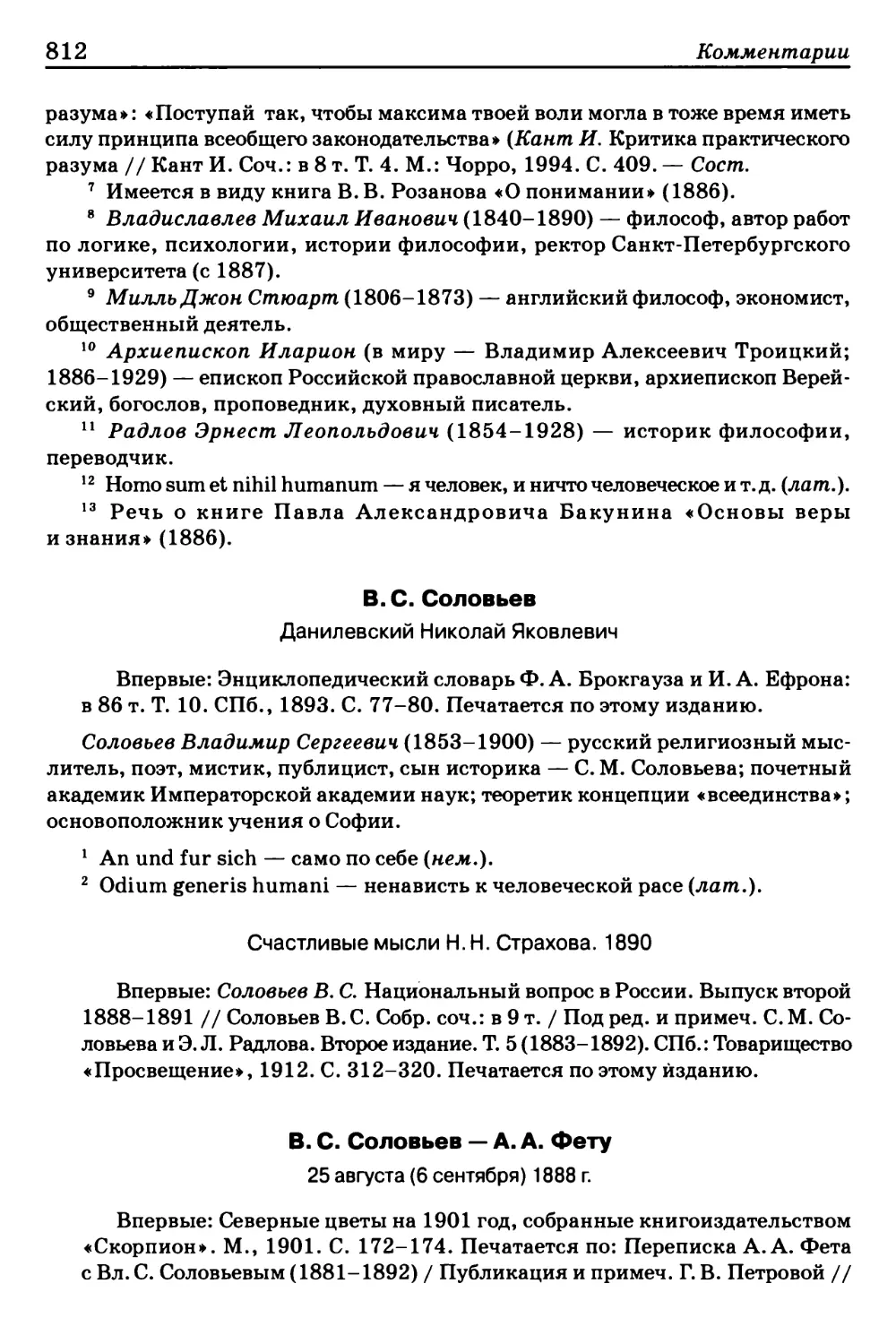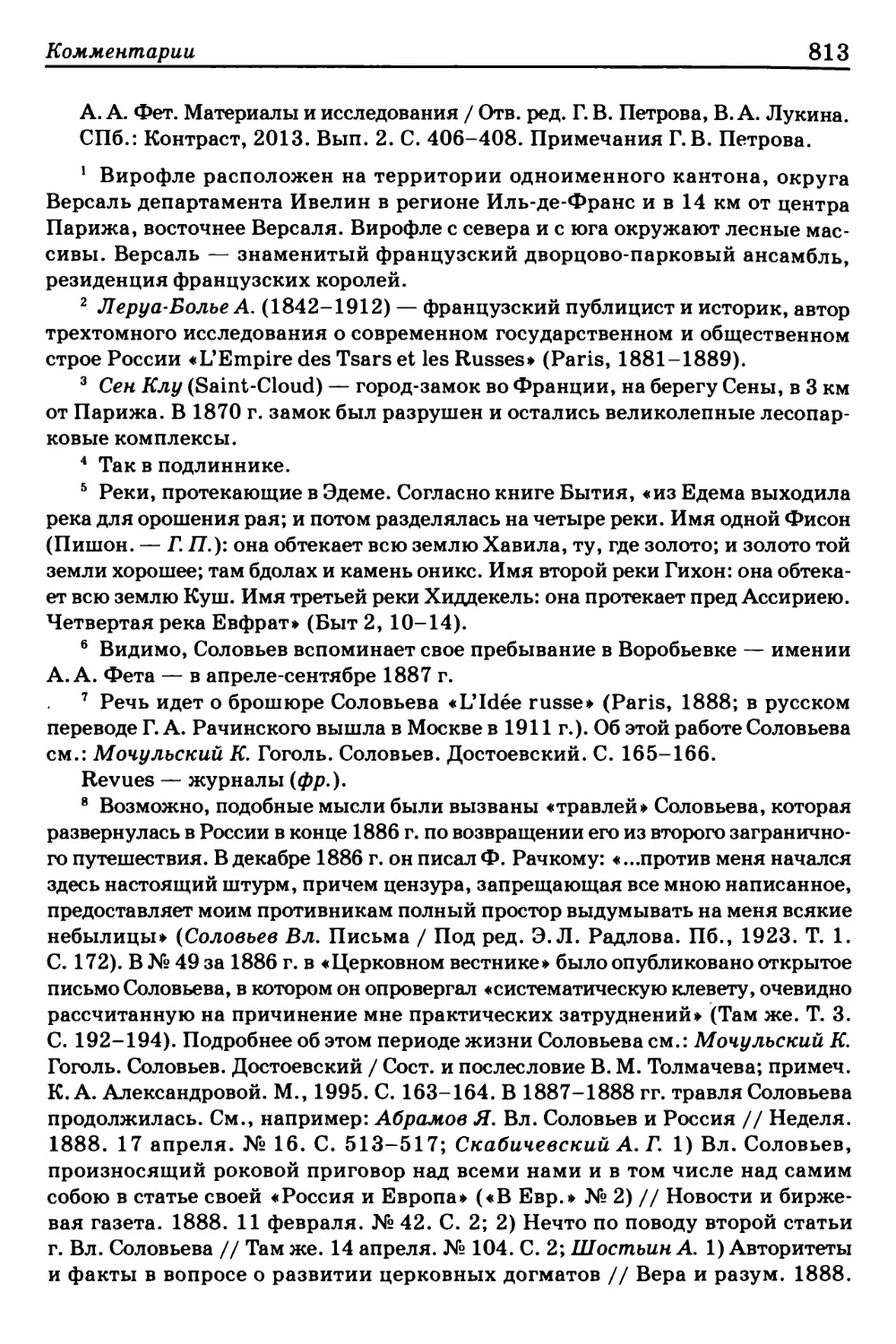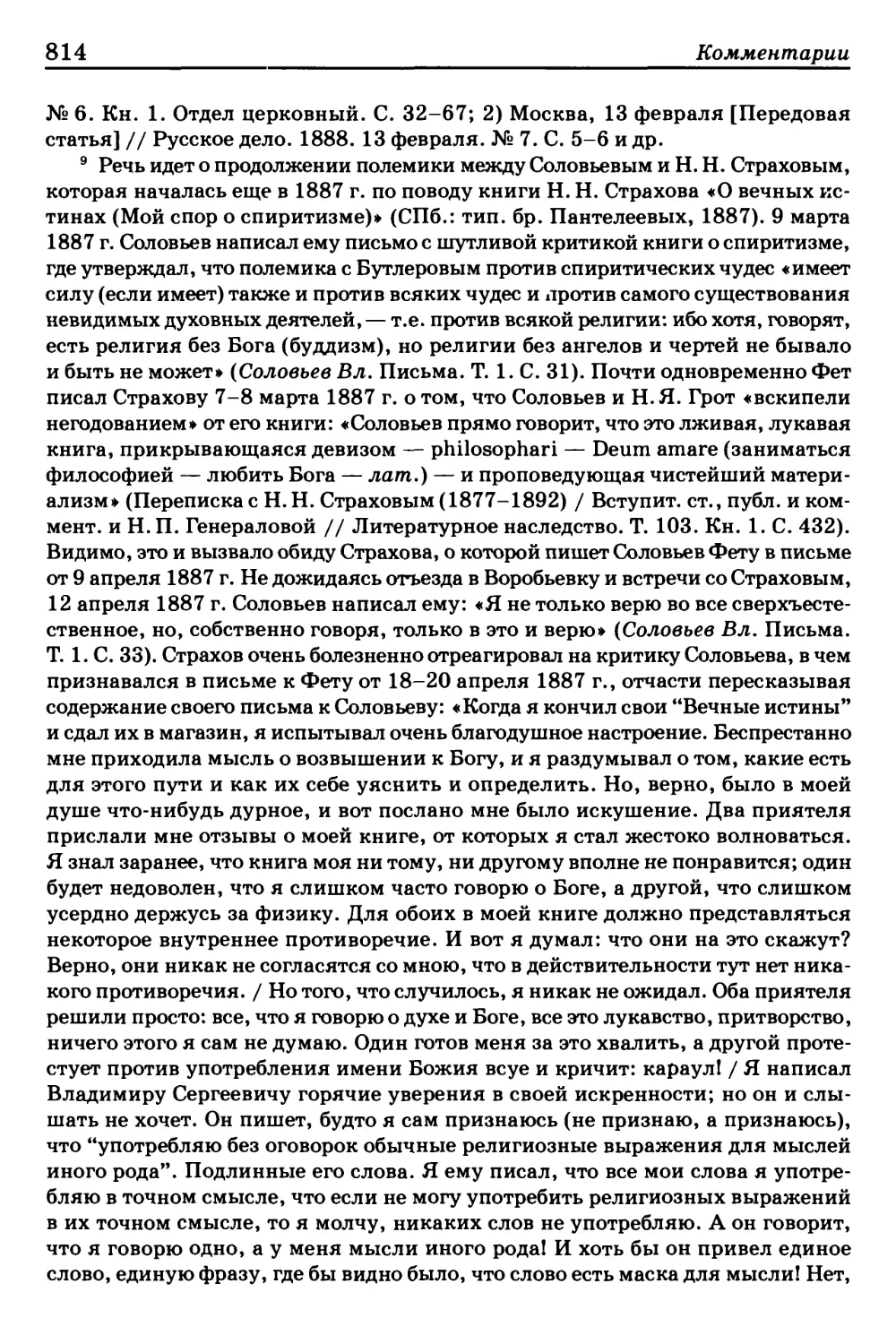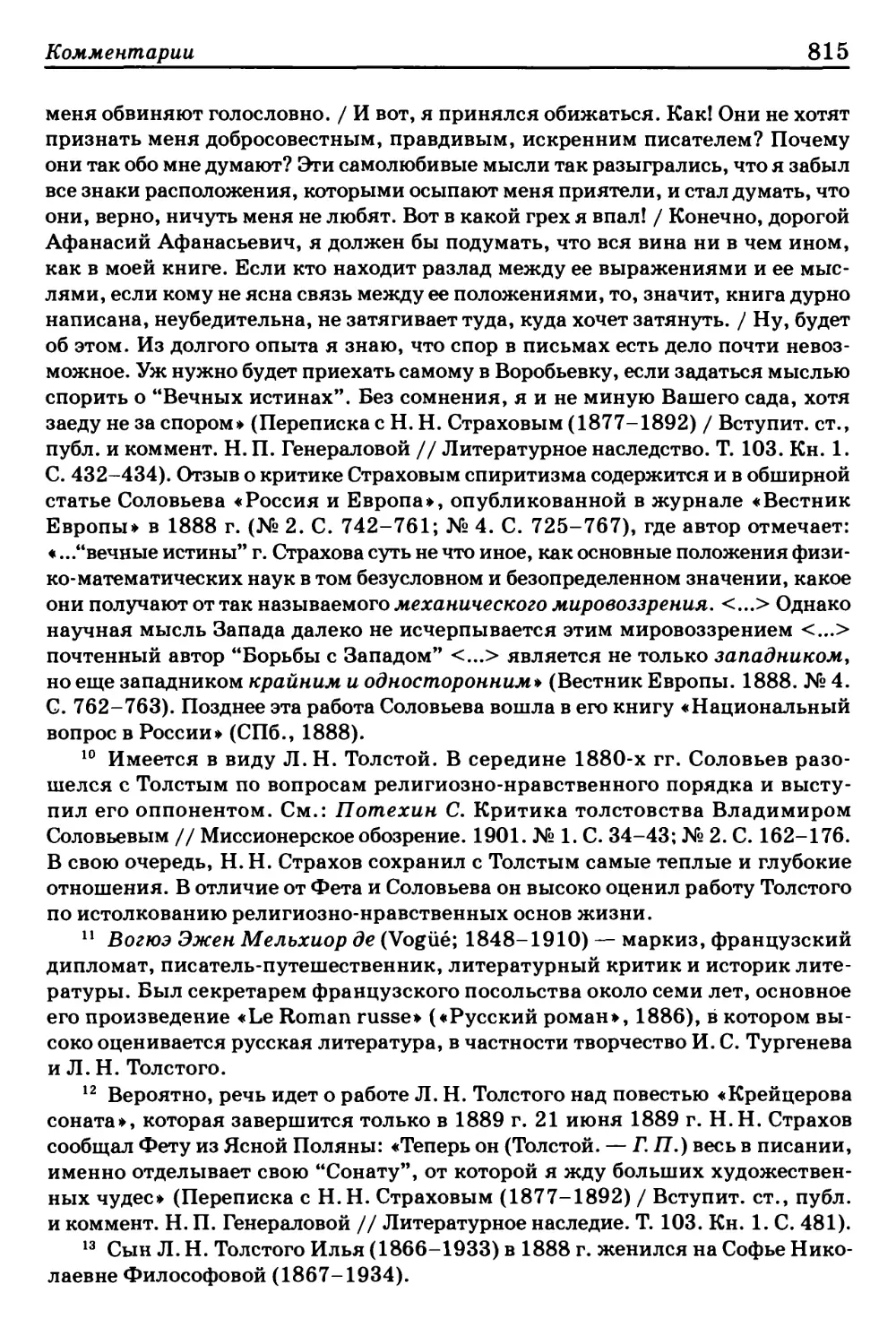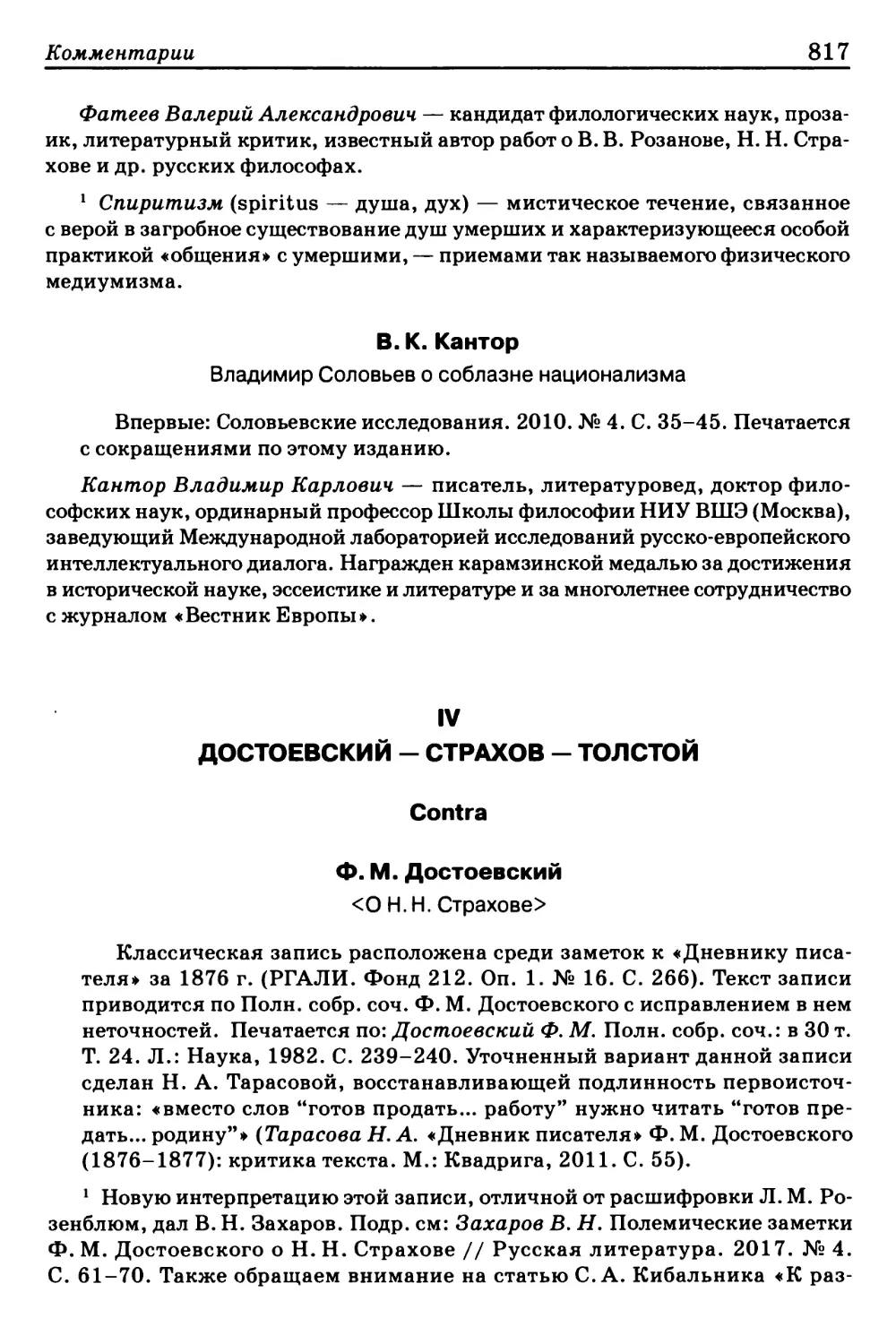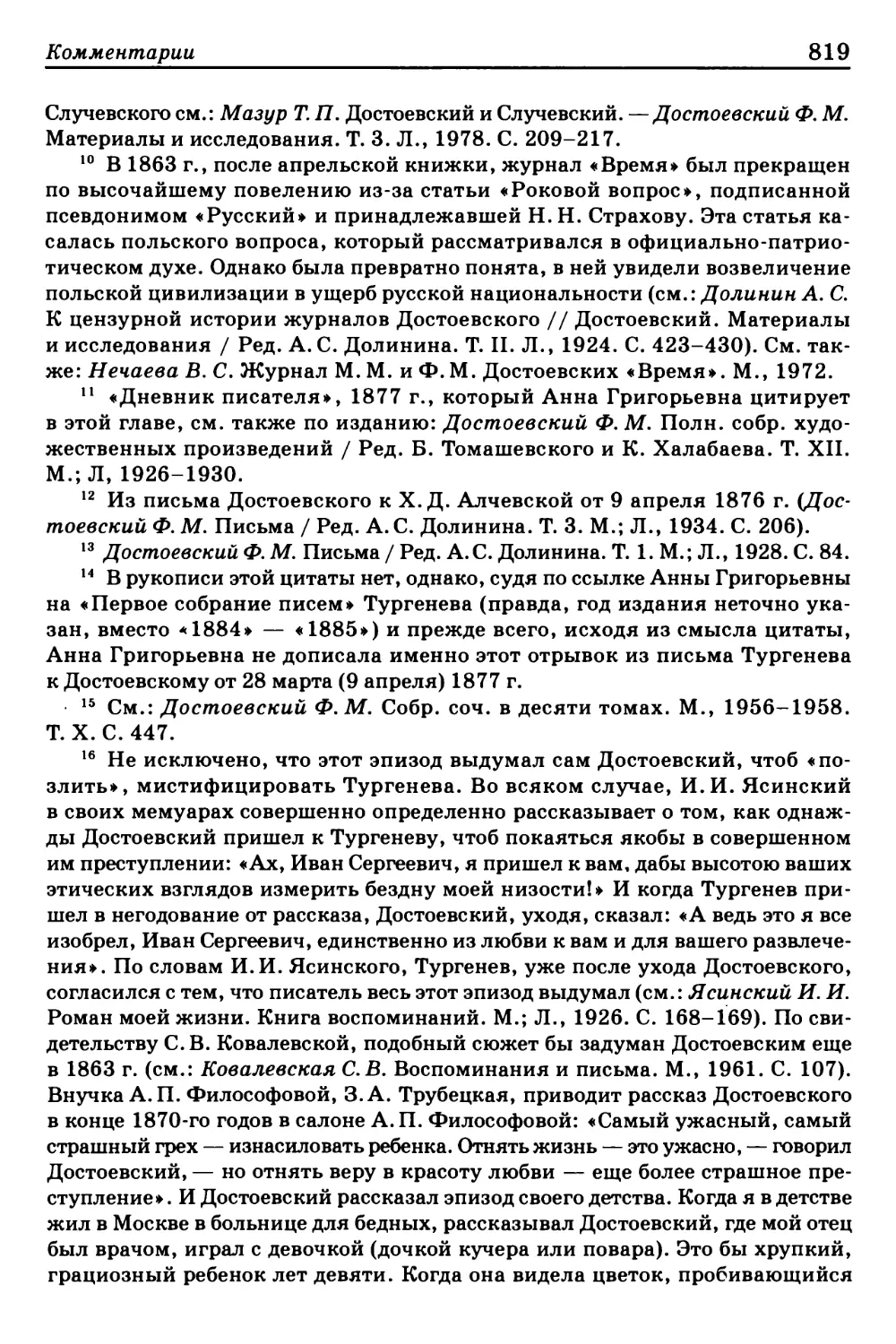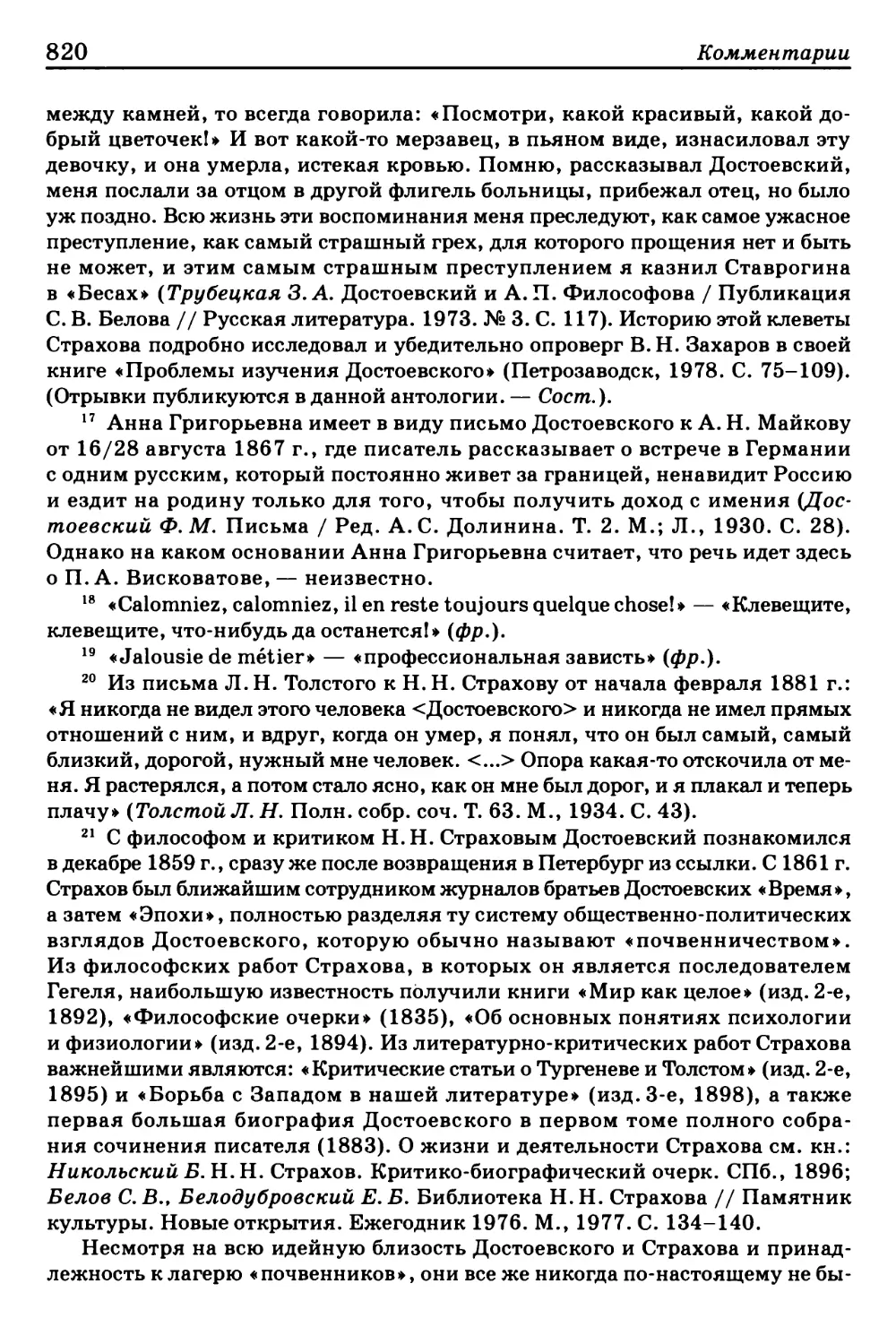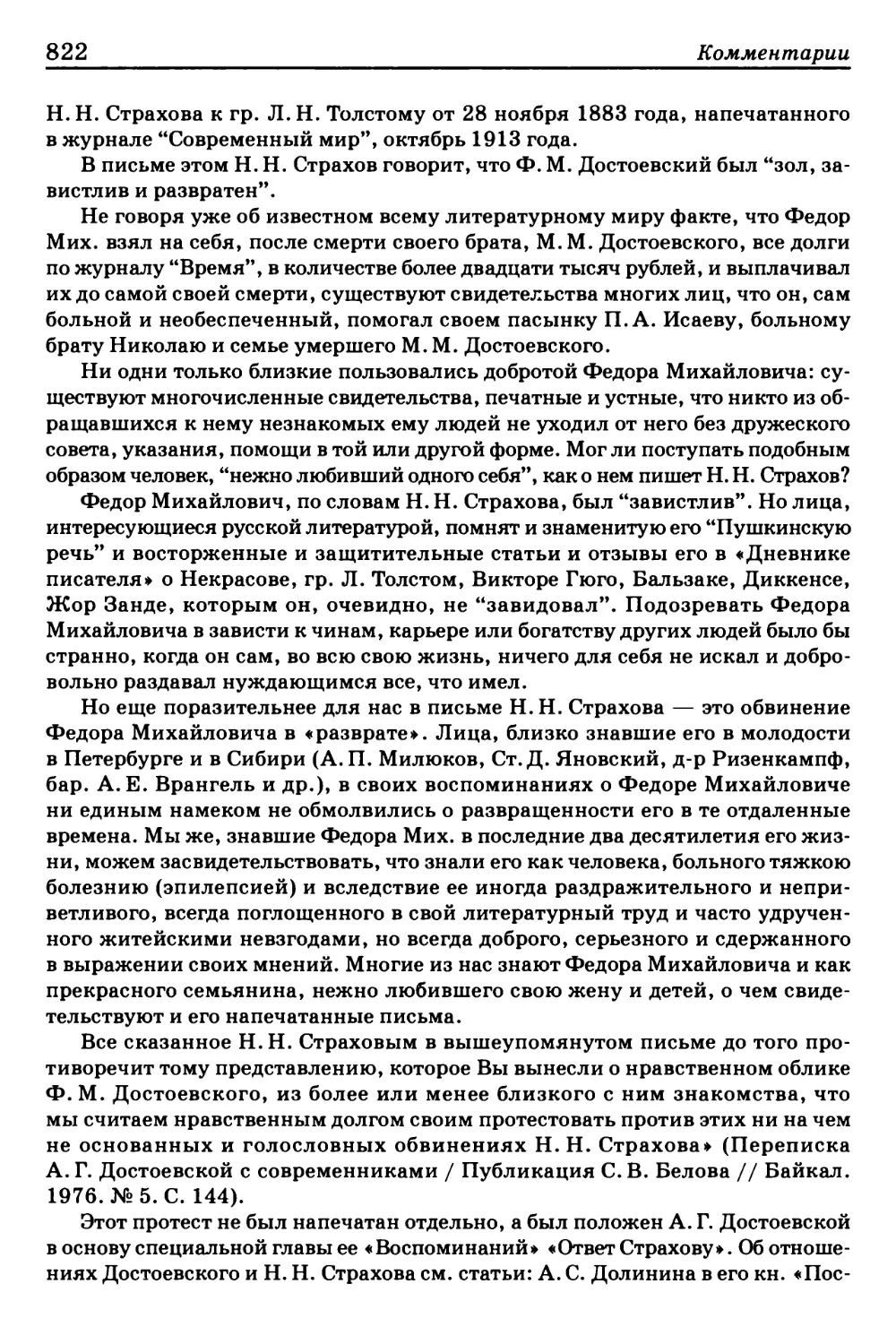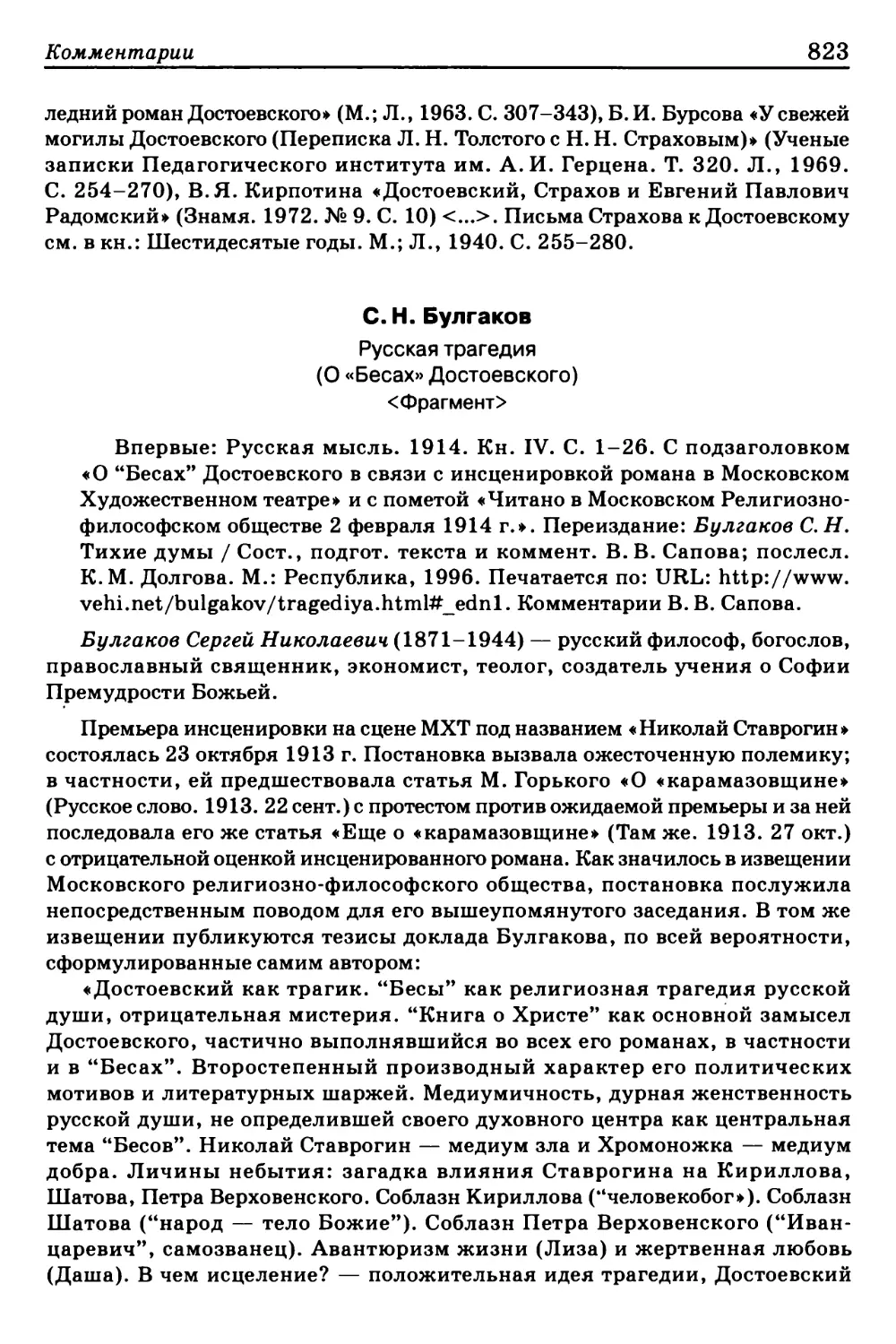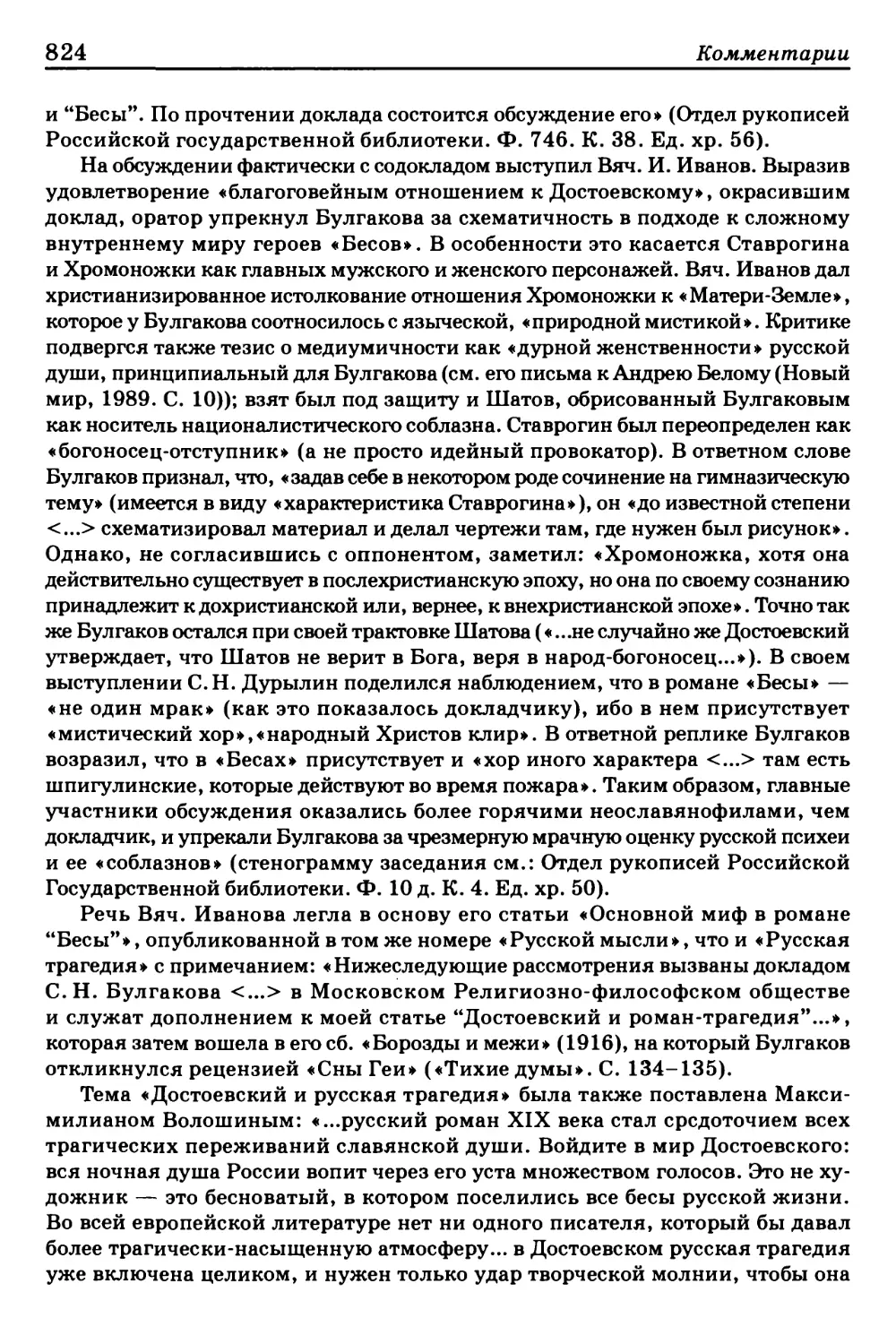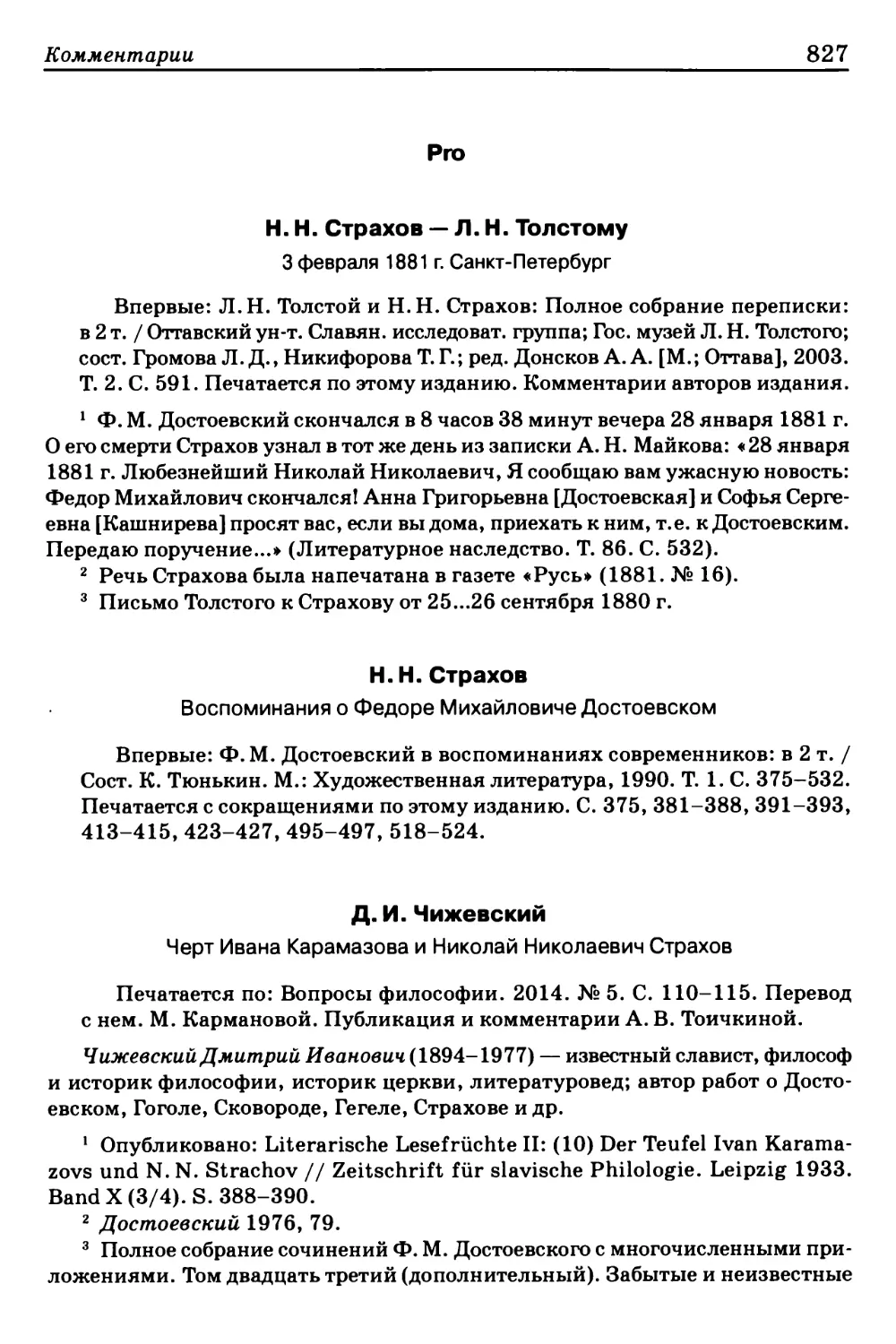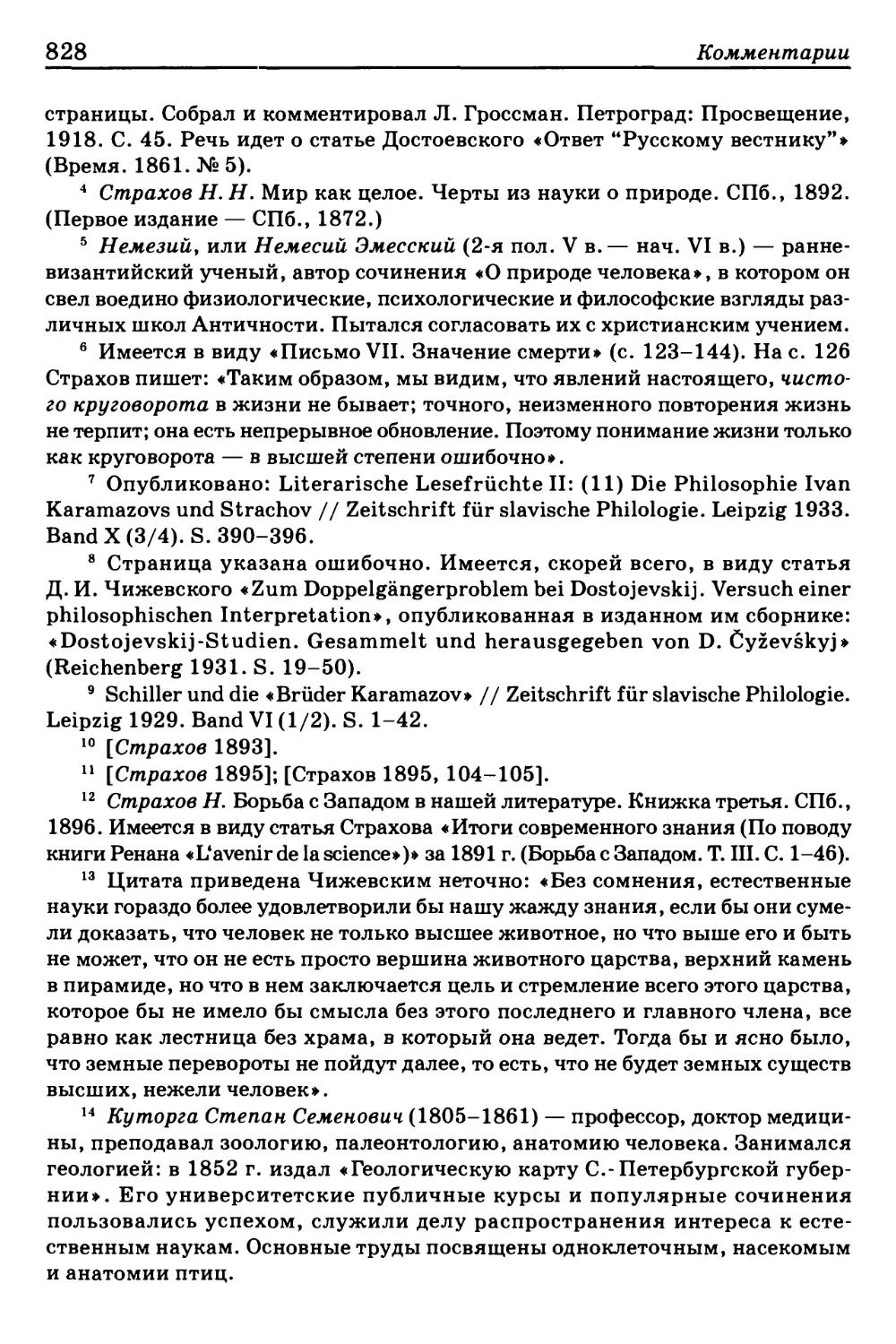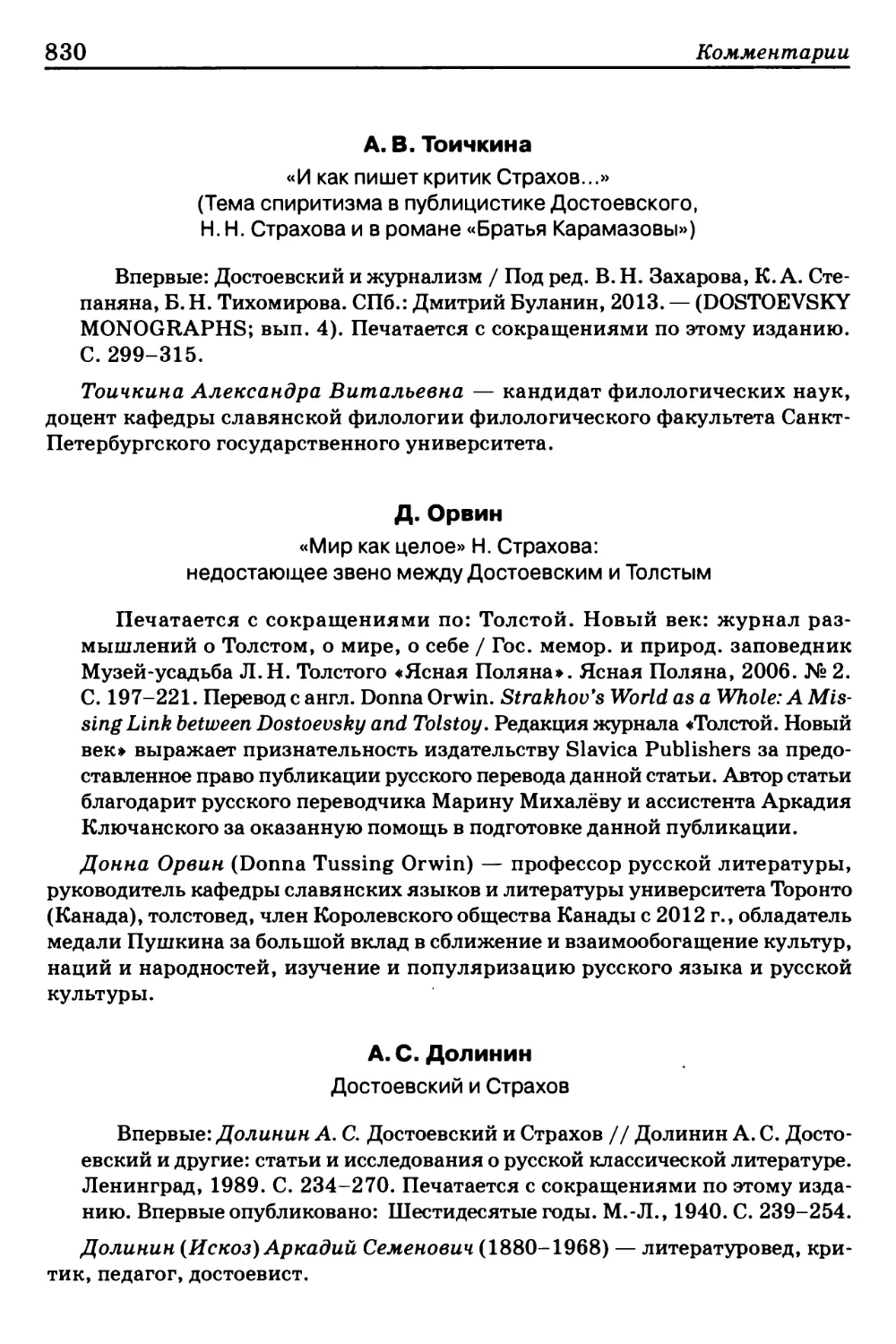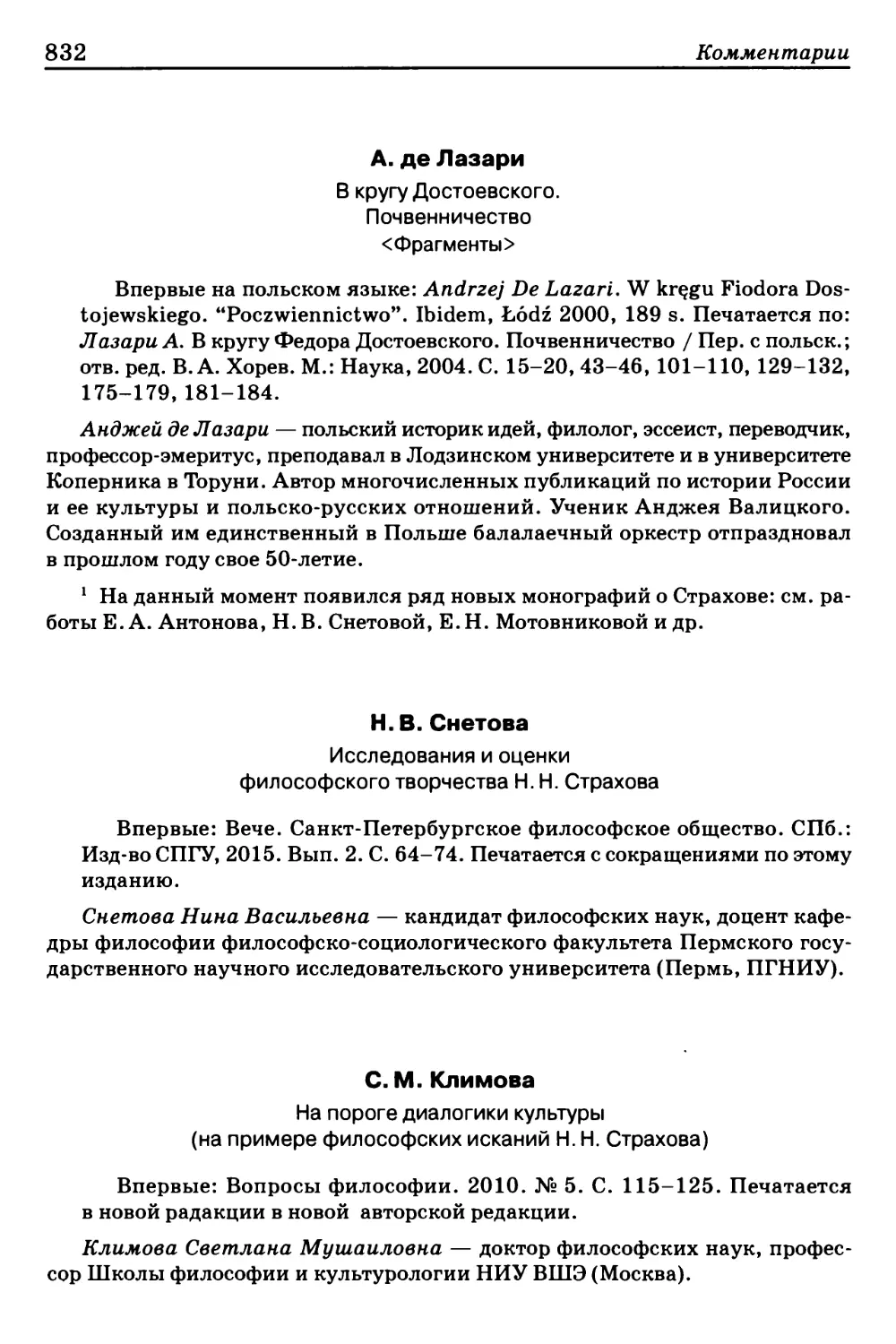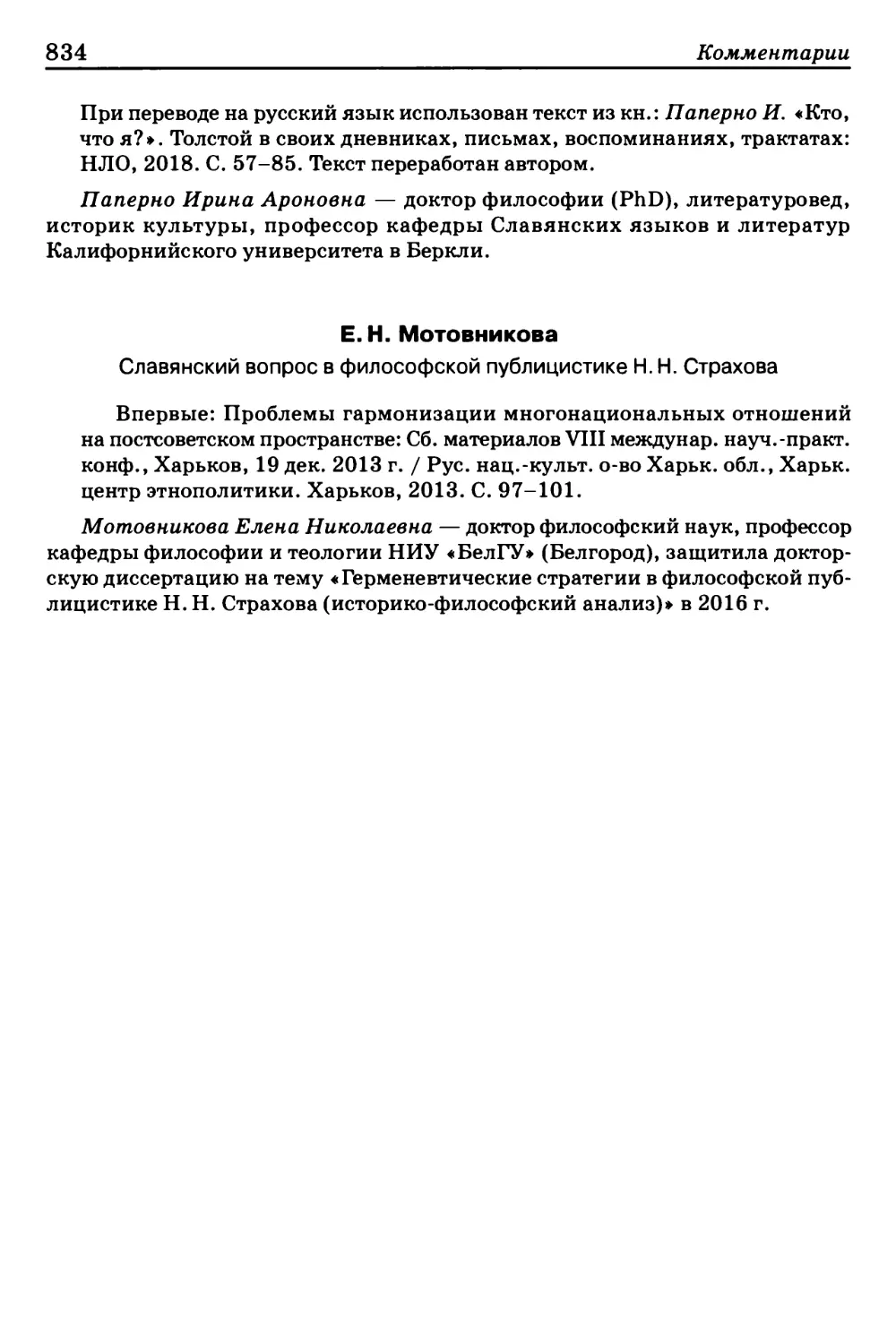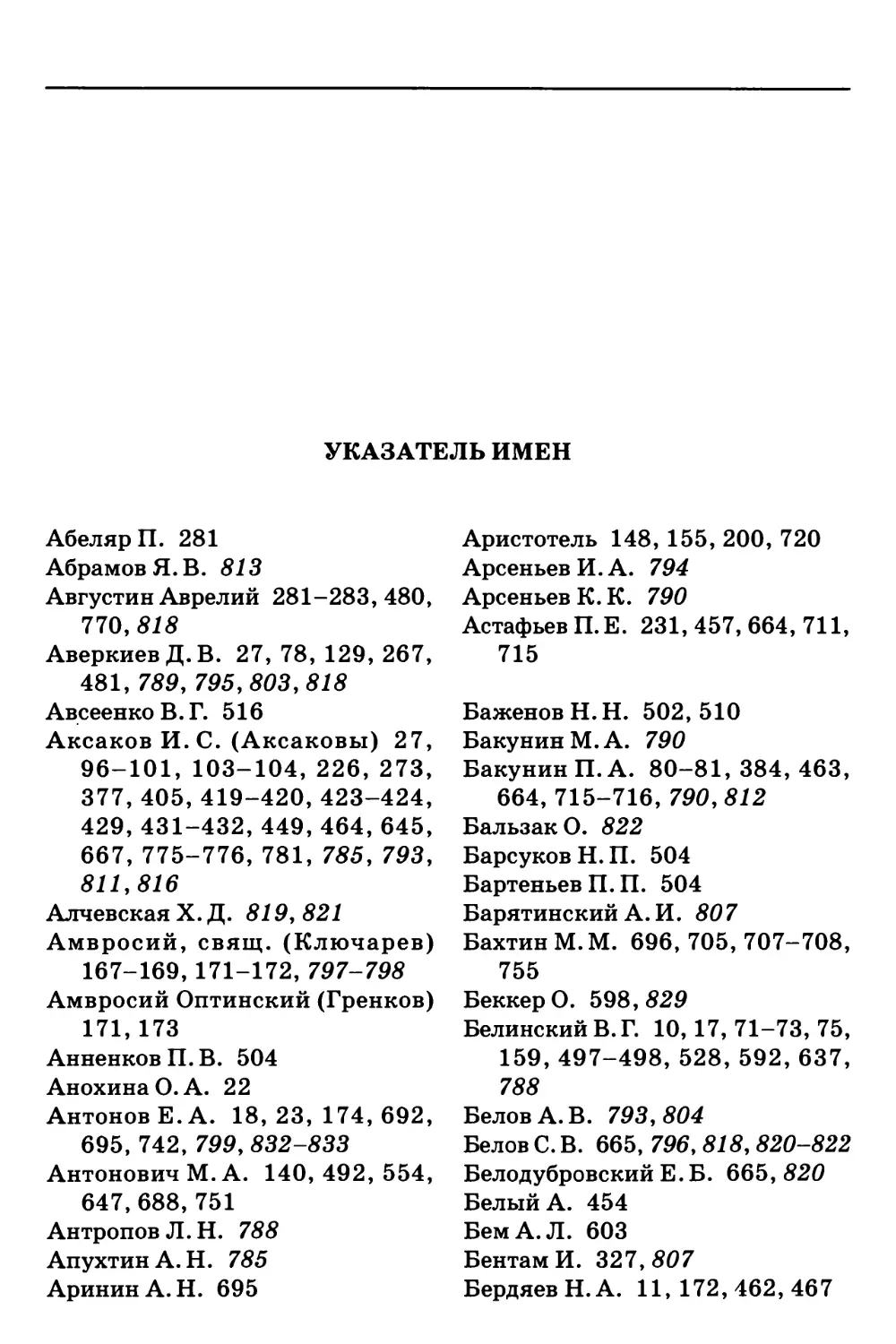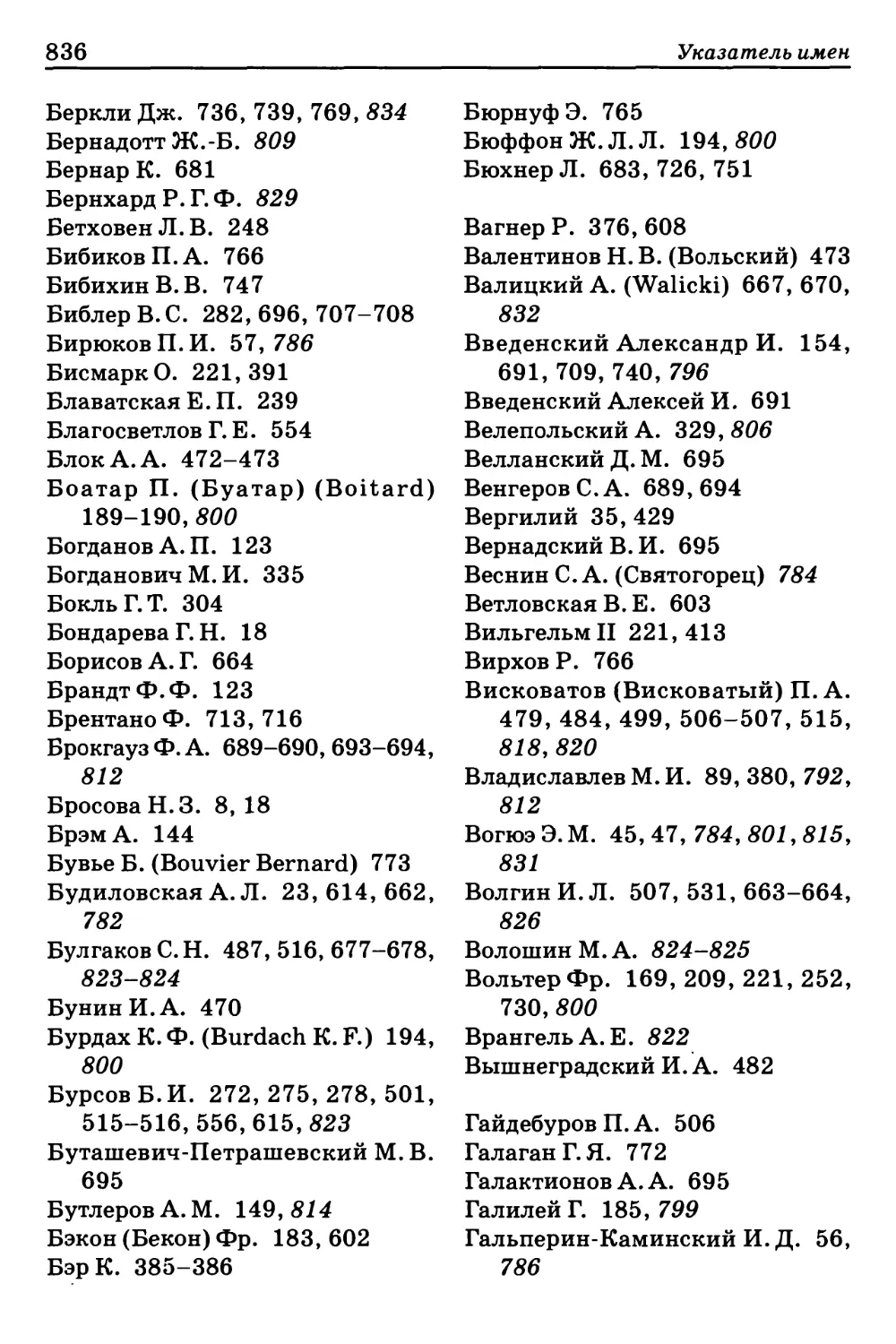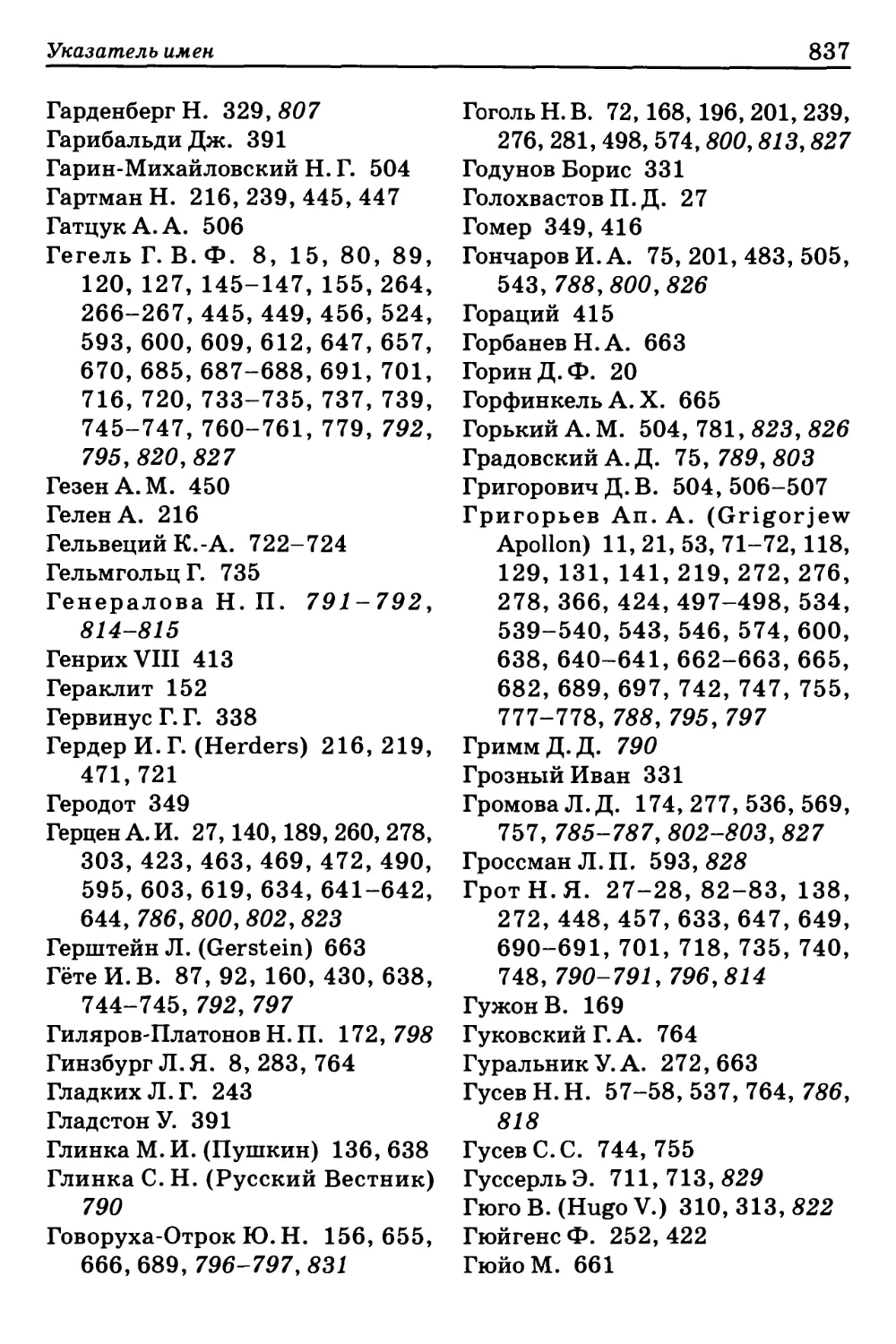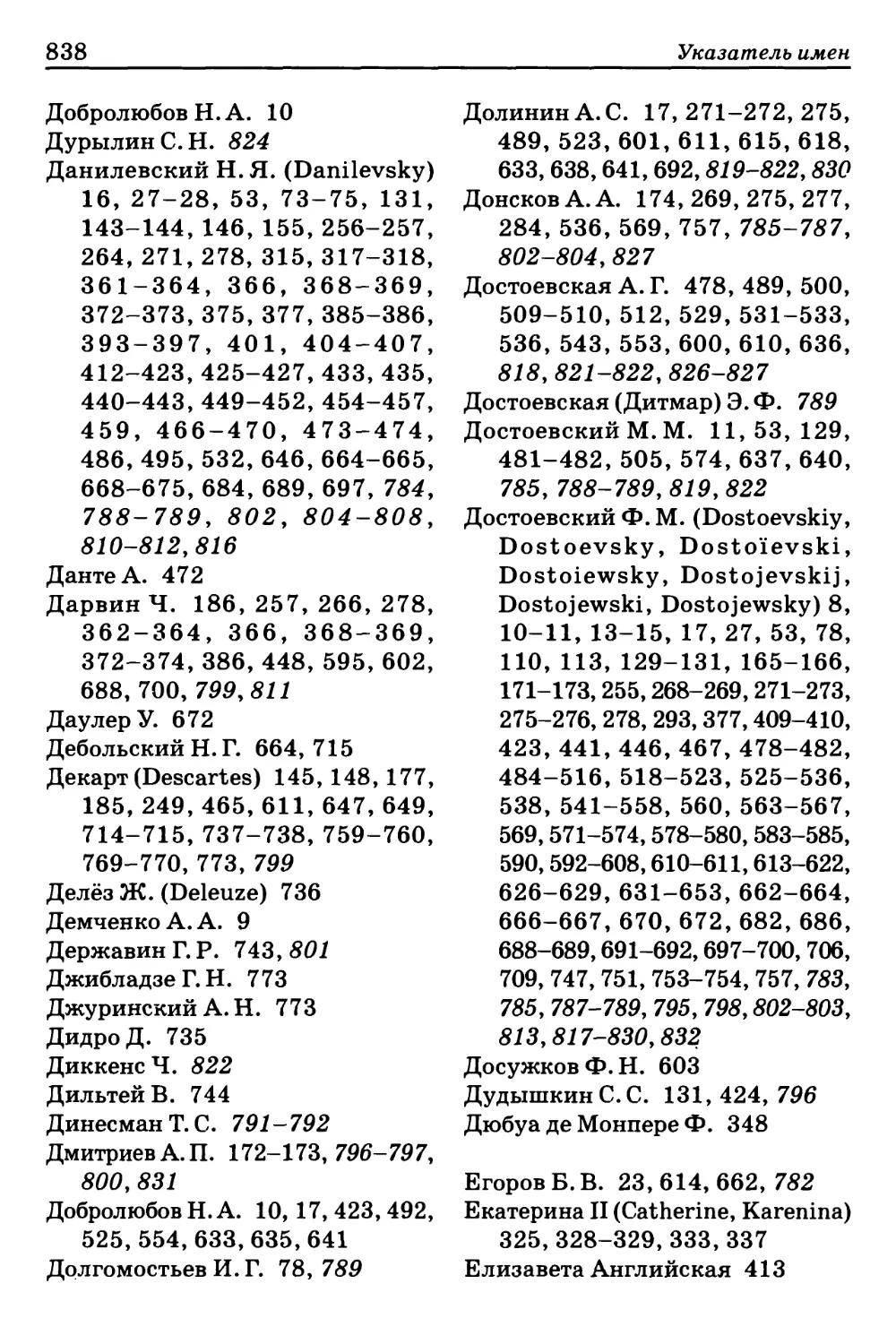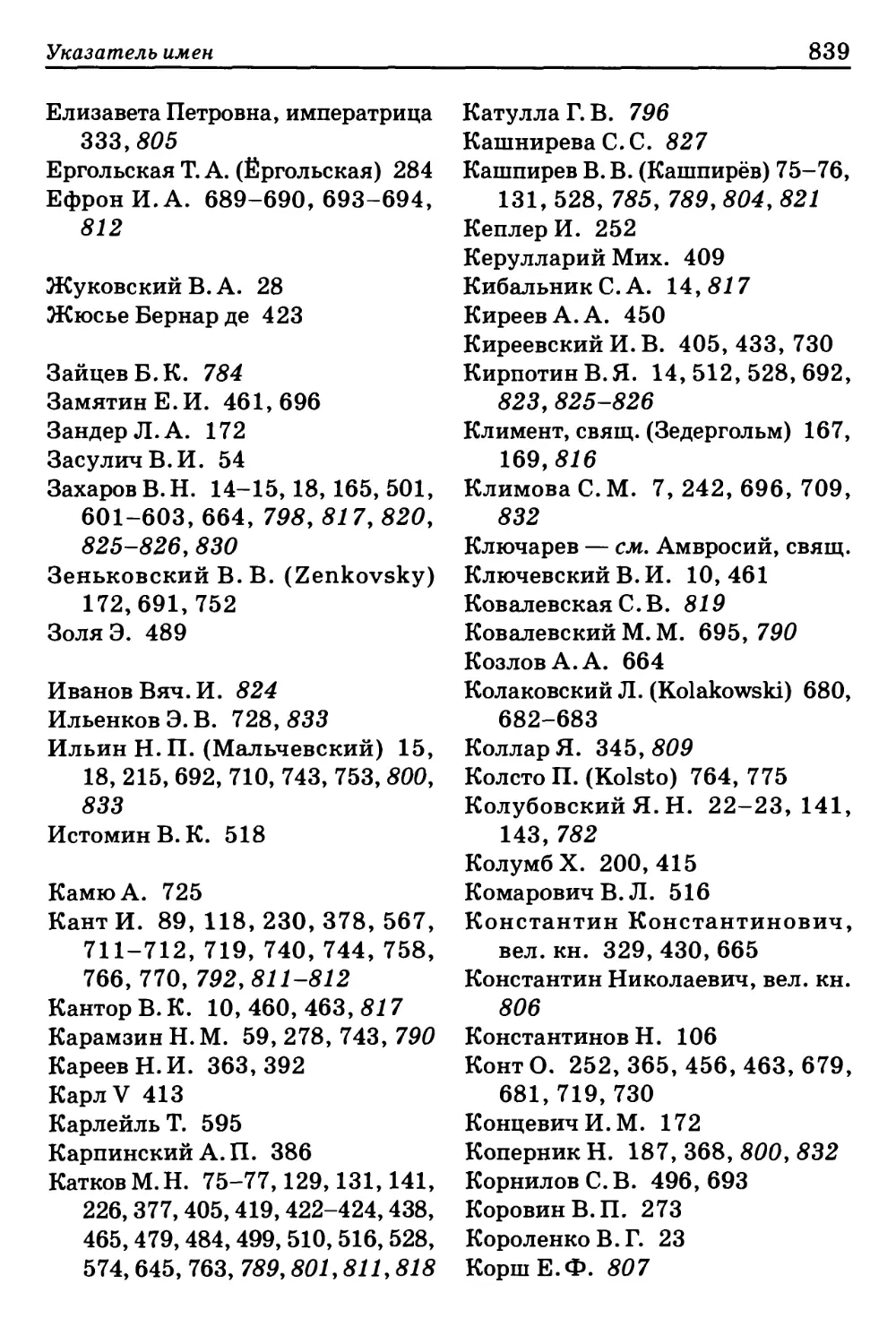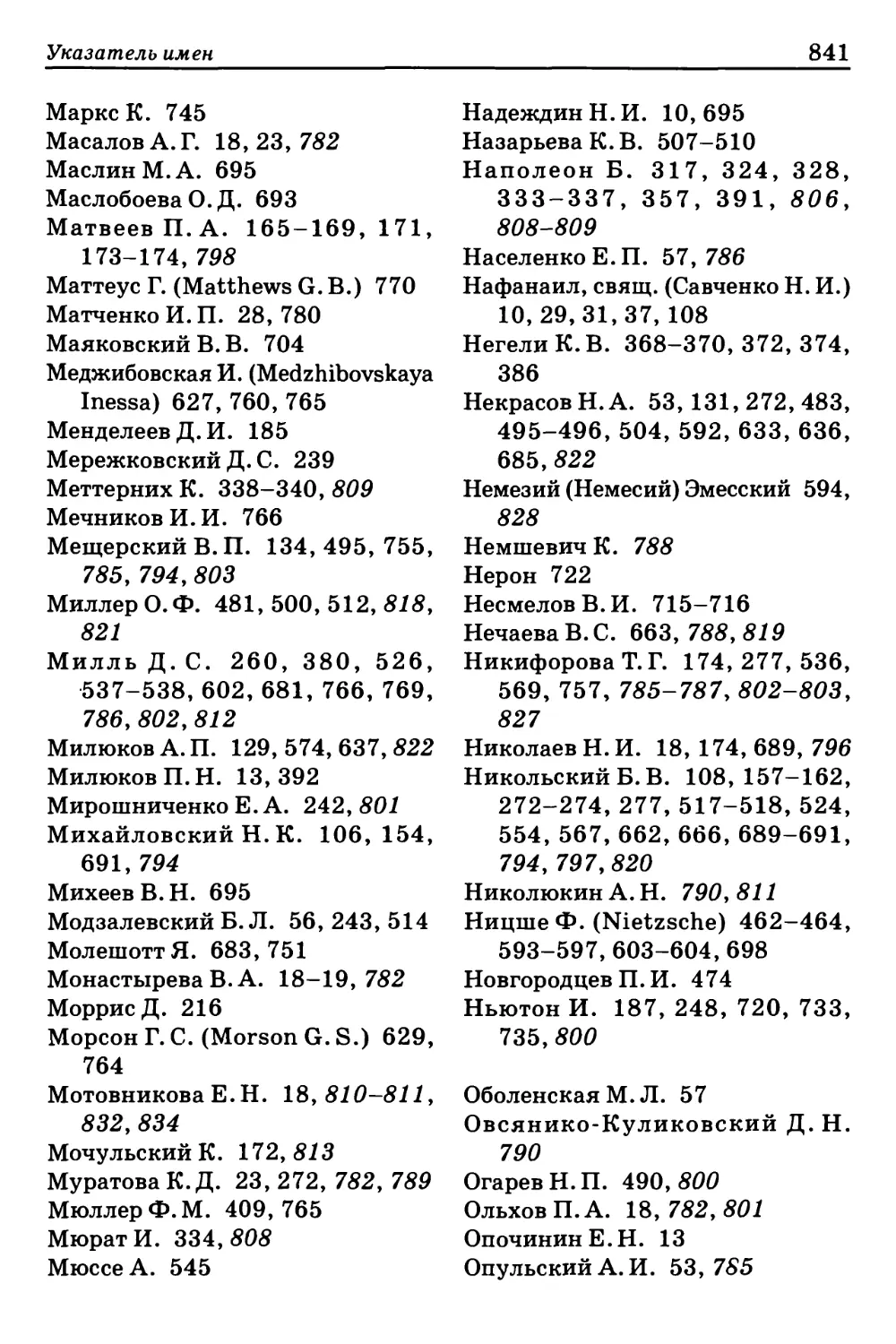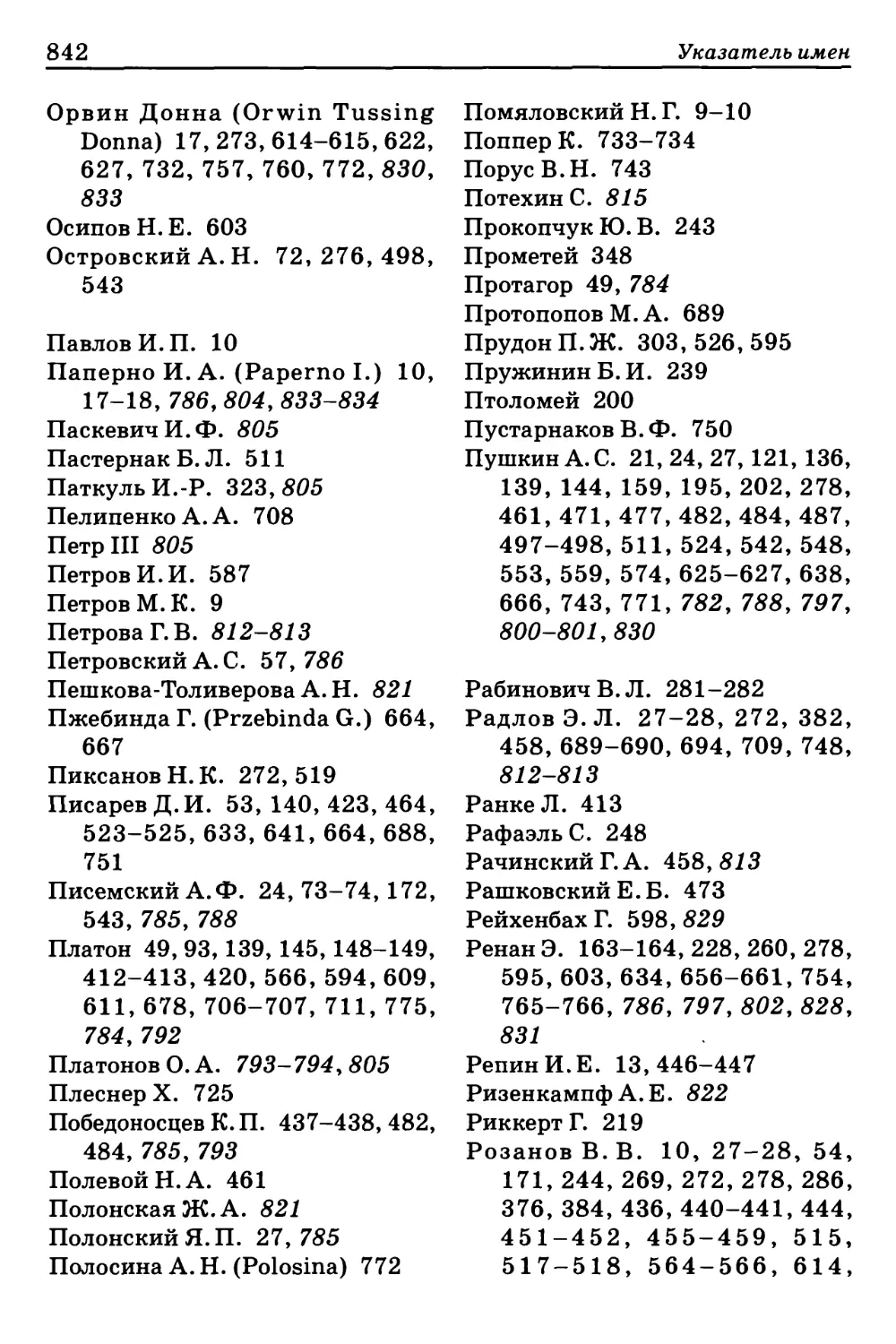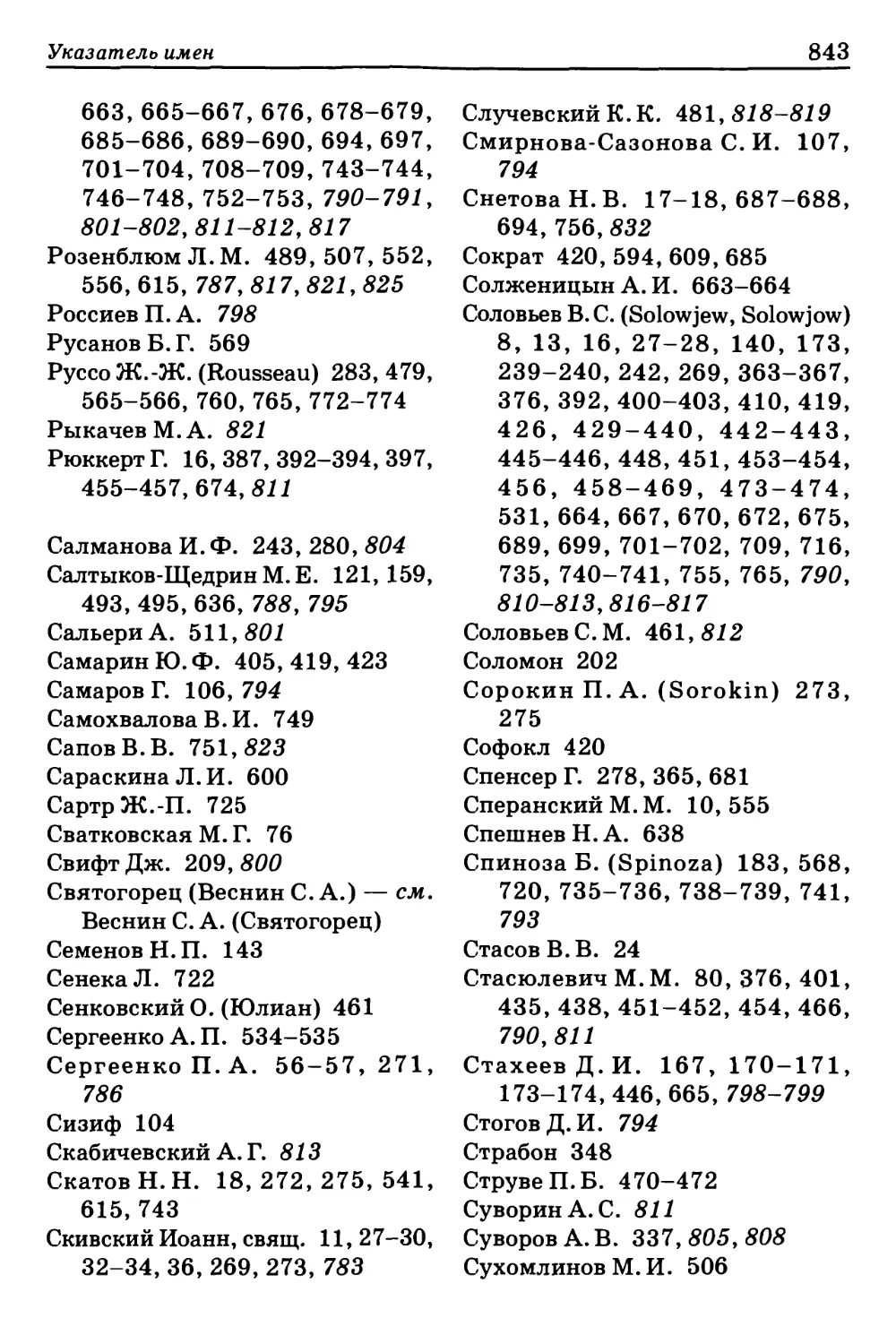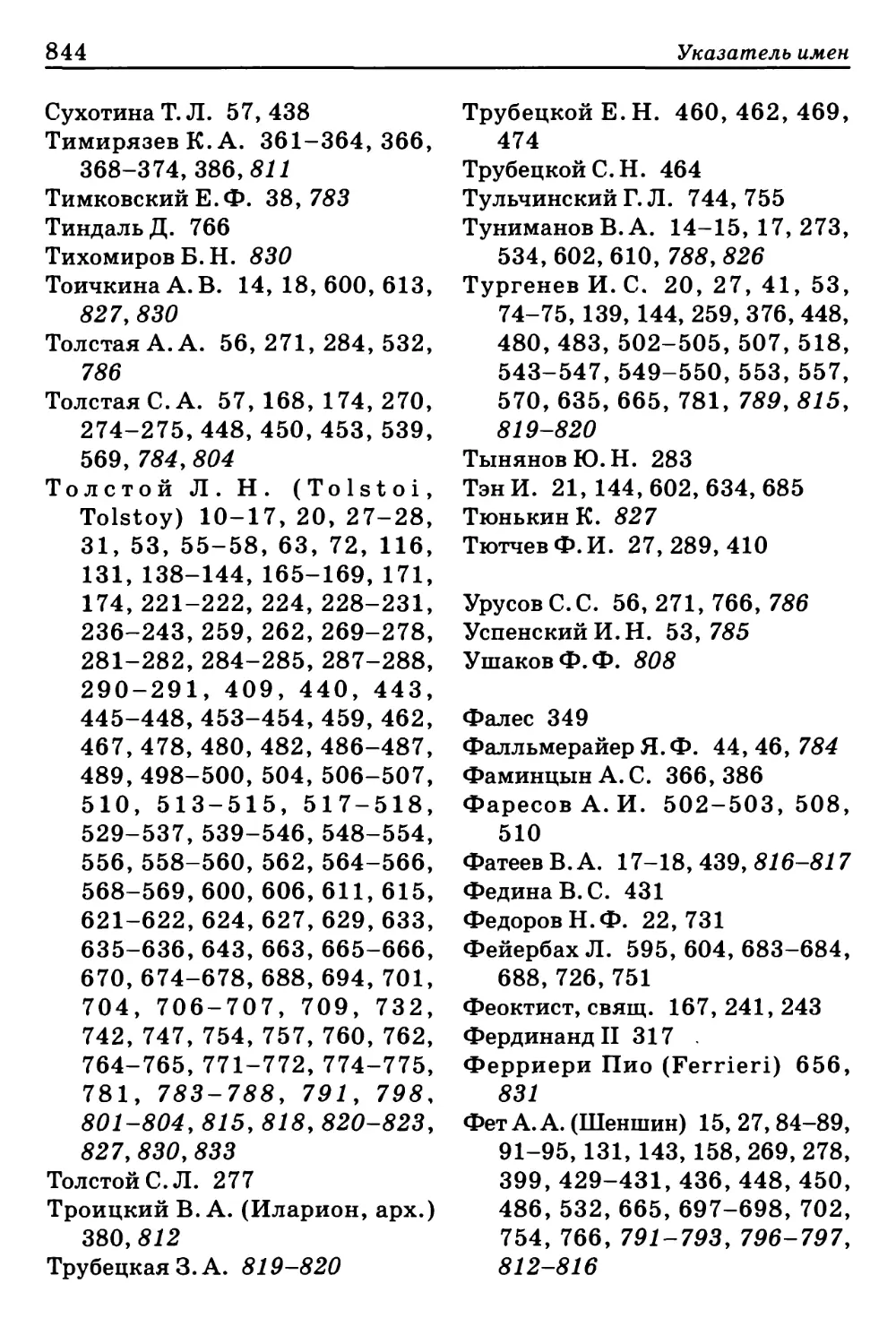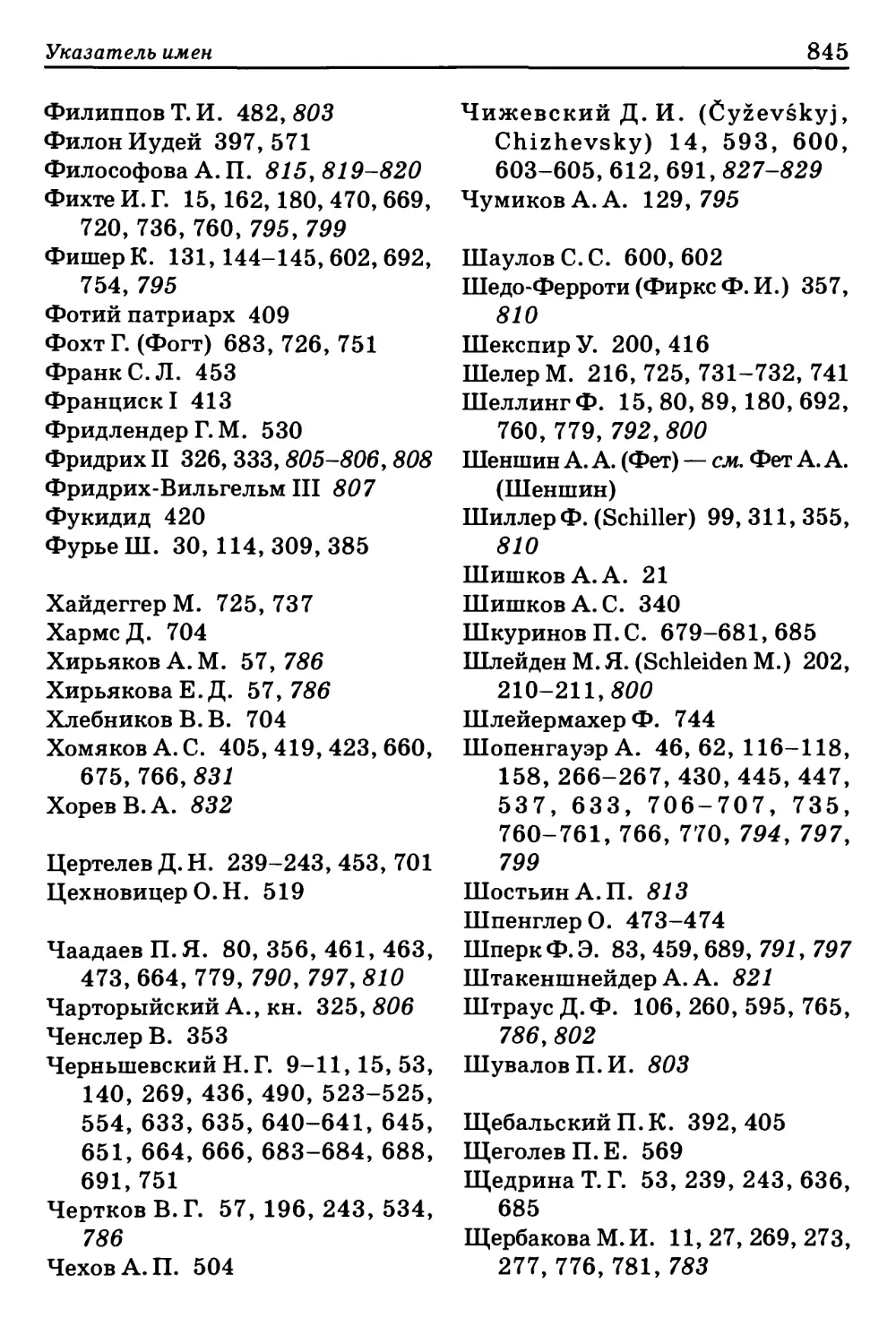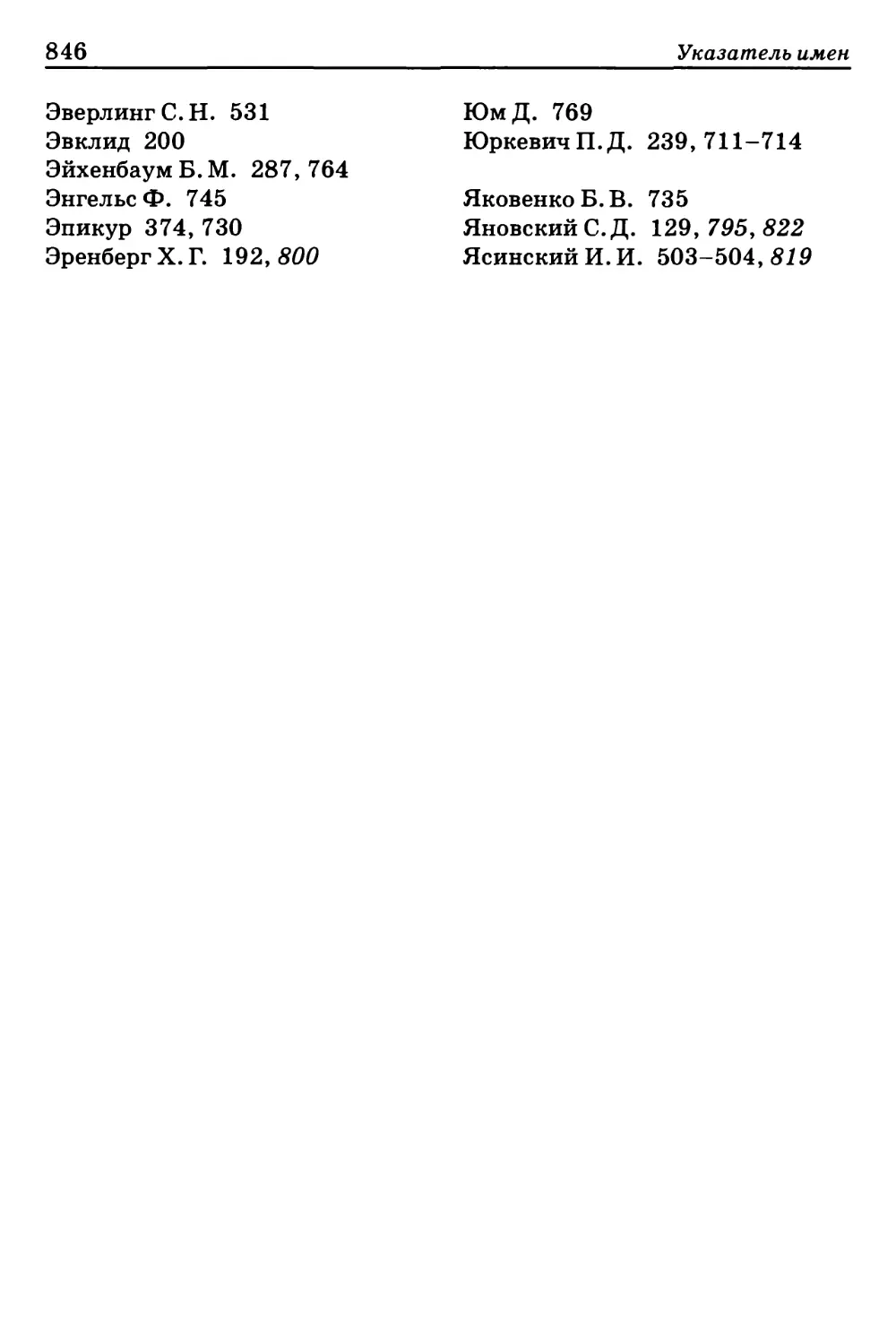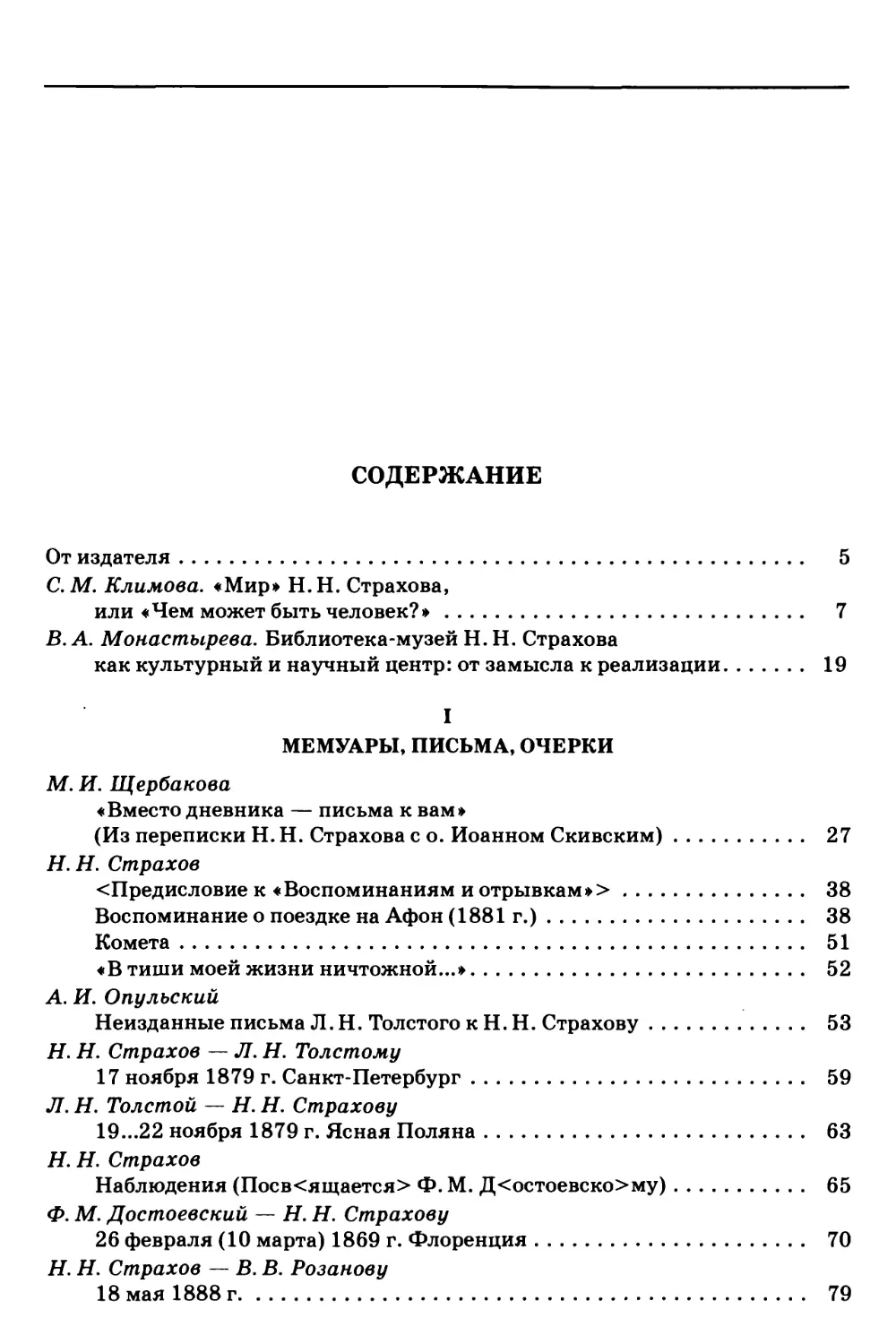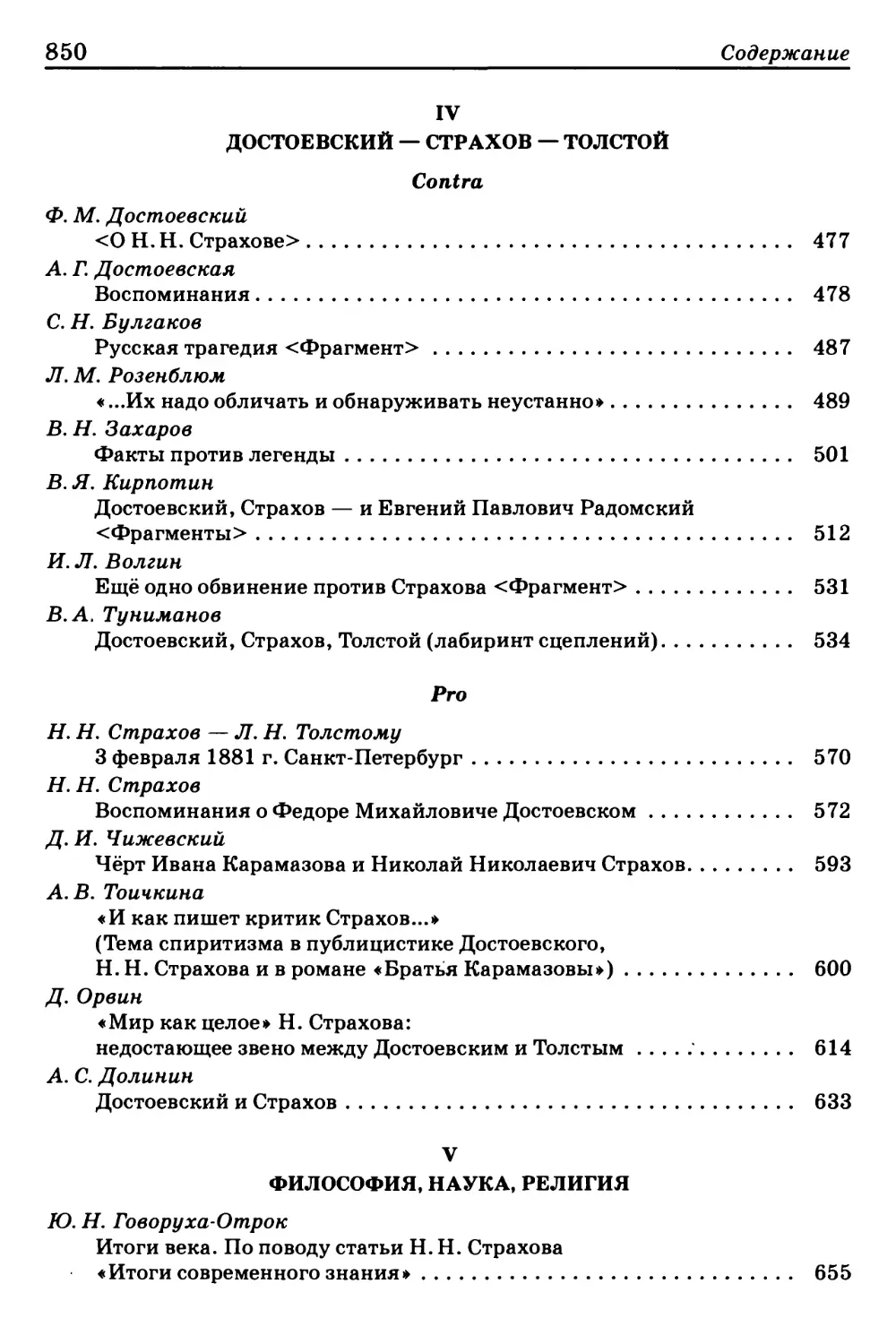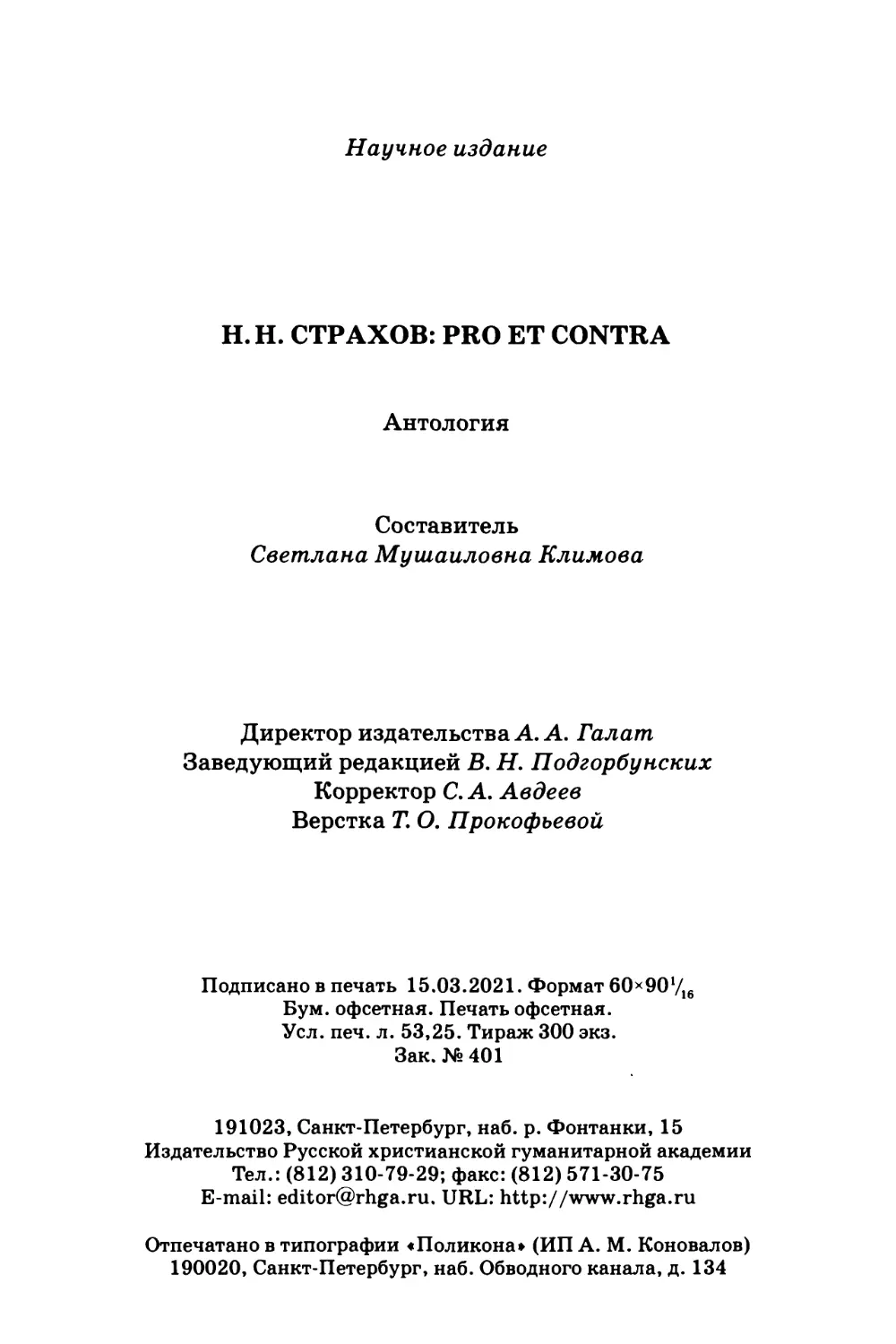Текст
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
H.H. СТРАХОВ:
PRO ET CONTRA
Личность и творчество Я. Я. Страхова
в оценке русских мыслителей и исследователей
Антология
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2021
H.H. Страхов: pro et contra, антология / Сост., вступ. ст., коммент.
С.М. Климовой. — СПб.: РХГА, 2021. — 852 с.
ISBN 978-5-907309-21-0
Настоящая антология, посвященная публицисту, переводчику, редактору
и сотруднику литературных журналов Николаю Николаевичу Страхову,
охватывает философско-публицистическое наследие философа. Книга рисует образ
Страхова в историческом и современном научных контекстах. В антологии
представлены как фрагменты текстов самого философа, так и отрывки из мемуаров,
очерков, эпистолярных «исповедей» его современников и интерпретаторов —
Л. Н. Толстого, А. А. Фета, H. H. Грота и др. Почти детективный интерес
представляют разделы, связанные с экзистенциально-историческим спором философа
с В. С. Соловьевым вокруг теории Н. Я. Данилевского и печально-знаменитым
заочным конфликтом с Ф. М. Достоевским внутри «пограничных видов
литературы». В заключительном разделе Страхов предстает как метафизик, ученый
и в то же время религиозный человек.
Антология будет интересна не только специалистам в области русской
философии, литературоведения, истории, но и самому широкому кругу читателей.
На фронтисписе:
H.H. Страхов. 1890-е годы
ISBN 978-5-907309-21-0
© Климова С. М., составление, вступ. статья,
комментарии, 2021
© Русская христианская гуманитарная академия, 2021
© «Русский Путь», название серии, 1993
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках книгу из серии «Русский Путь» «H.H. Страхов:
pro et contra», представляющую рецепцию личности и творчества русского
публициста, переводчика, редактора и сотрудника литературных журналов
Николая Николаевича Страхова (1828-1896).
В 2019 году РХГА праздновала 30-летие своей научно-педагогической
и просветительской деятельности. Серебряный юбилей отметила и серия
«Русский Путь», являющаяся важным достижением РХГА. Число томов
серии в 2019 году превысило полуторасотенный рубеж. «Русский Путь»
открылся в 1994 году антологией о Н. Бердяеве. В результате четвертьвековой
исследовательской и издательской работы перед читателями предстали
своего рода «малые энциклопедии» о М. Ломоносове, Н. Карамзине, П.
Чаадаеве, А. Пушкине, М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, Н. Гоголе, В. Белинском,
М. Бакунине, А. Сухово-Кобылине, А. Герцене, М. Салтыкове-Щедрине,
Н. Чернышевском, И. Тургеневе, Л. Толстом, К. Леонтьеве, В. Ключевском,
Вл. Соловьеве, В. Розанове, Н. Лескове, А. Чехове, А. Блоке, П. Флоренском,
В. Эрне, С. Булгакове, И. Ильине, М. Зощенко, М. Булгакове, В. Набокове,
Н. Заболоцком, Д. Шостаковиче, А. Твардовском, Л. Гумилеве, Л. Шестове,
В. Хлебникове, Б. Пастернаке, А. Ахматовой, М. Горьком и других
персонах. Готовятся книги о Н. Некрасове, Ф. Достоевском, Д. Гранине. В числе
книг, посвященных деятелям искусства, — антологии о П. Чайковском,
Д. Шостаковиче, С. Эйзенштейне, Е. Бауэре, Л. Бетховене, М. Глинке,
готовится том о С. Прокофьеве.
Целый ряд книг представляет российскую рефлексию идейного
наследия зарубежных мыслителей — Сократа, Платона, Августина, Данте,
Боккаччо, Сервантеса, Макиавелли, Спинозы, Руссо, Вольтера, Дидро,
Канта, Шеллинга, Ницше, Бергсона, Витгенштейна, Хайдеггера, в планах
издание книги о Расселе.
«Русский Путь» изначально задумывался как серия книг не только о
мыслителях, но и демиургах отечественной культуры и истории. Увидели свет
антологии о творцах российской политической истории и государственности,
6
От издателя
царях — Алексее Михайловиче, Петре I, Екатерине II, Павле I, Александре I,
Николае I, Александре II, Александре III и Николае П. Готовятся книги
о Петре III и царевне Софье. К ним примыкают антологии о выдающихся
государственных деятелях — М. Кутузове, К. Победоносцеве, П. Столыпине.
Опубликованы сборники, посвященные лидерам стран антигитлеровской
коалиции — И. Сталину, У. Черчиллю, Ф. Д. Рузвельту и Ш. де Голлю. К
столетней годовщине Революции осуществлены издания антологий о ее
демиургах — А. Керенском, Л. Троцком и В. Ленине. В 2018 году, к столетию начала
Гражданской войны, вышли в свет книги о политически значимых лидерах
Белого движения — А. И. Деникине, П. Н. Врангеле, А. В. Колчаке. Важным
этапом развития «Русского Пути» является переход от персоналий к реалиям.
Последние могут быть выражены различными терминами — универсалии
культуры, мифологемы, формы общественного сознания, категории духовного
опыта, типы религиозности. В последние годы работа в указанном
направлении заметно оживилась. Осуществлена публикация книг, отражающих
культурологическую рефлексию важнейших духовных традиций в истории
человечества — иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Опубликованы
антологии, посвященные российской рецепции христианских конфессий —
православия, католицизма, протестантизма. Проведена работа по осмыслению
отечественной рефлексии ключевых идеологий Нового времени. Увидели свет
пять антологий: «Либерализм: pro et contra», «Национализм: pro et contra»,
«Социализм: pro et contra», «Анархизм: pro et contra», «Консерватизм: pro
et contra». Опубликованы четыре тома, отображающие оценку феномена
русской классики. Первый том охватывает Золотой век, второй — Серебряный,
третий — Железный. Четвертый дает представление об отношении к русской
классике в мировой культуре. В этом же ряду книги, посвященные
переосмыслению ключевых исторических событий начала XX века: «Революция
1917 года: pro et contra» и «Красное и белое: pro et contra», представляющая
все разнообразие позиций русской эмиграции по Гражданской войне.
За четверть века модель изданий трансформировалась от антологии,
включающей классические тексты, к смежному жанру
антологии/коллективной монографии, которая содержит тексты современных исследователей,
подобранные в стилистике «pro et contra». Это обусловлено повышением
уровня современных дискурсов, действующие исследователи вступают
в полемику с классиками зачастую на равных. Обозначенные направления
работы обычно дополняются созданием расширенных (электронных) версий
антологий. Поэтапное структурирование таких информационных ресурсов
может привести к формированию гипертекстовой мультимедийной системы
«Энциклопедия самосознания русской культуры». Увеличение в составе серии
доли книг, посвященных феноменам культуры, способствует достижению
этой цели. Очерченная перспектива развития проекта является
долгосрочной и требует значительных интеллектуальных усилий и ресурсов. Поэтому
РХГА приглашает к сотрудничеству ученых, полагающих, что данный проект
несет в себе как научно-образовательную ценность, так и духовный смысл.
a
СМ. Климова*
«МИР» H.H. СТРАХОВА,
ИЛИ «ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕК?»
В название статьи вынесен вопрос, волновавший не только создателя
«Мира как целое», но и его именитых визави — творцов века XIX-го и
зачинателей грядущего века — ХХ-го. Безусловно, такая формулировка
возникла у H. H. Страхова не только как отголосок естественнонаучных
дискуссий 50-60-х годов о природе, содержании и совершенствовании
человека. В ней слышится и знаменитое кантианское обобщенное вопро-
шание о том, «что такое человек?» в специфически русском звучании —
чем он может и каким он должен быть, чтобы быть значимой (или даже
центральной) частью мира. Речь не об абстрактной личности, типе
исследуемого «объекта». «Вместо сущности нужно взять деятельность, вместо
постоянного — переменное, вместо души — жизнь. Тогда мы убедимся,
что нет существа более разнообразного, менее подчиненного каким бы
то ни было ограничениям, более общего, и следовательно, совмещающего
в себе больше противоречий, чем человек»1.
То есть человек может быть как добрым, так и злым, щедрым и
скупым, сдержанным и порывистым, «куском круглого душистого мыла»
и «со складкой», отрешенным монахом и неудержимым говоруном —
он весь в «возможности», которая переходит в действительность, судящую
его не всегда бесстрастно, зачастую и вовсе вопреки его намерениям. Зато
такой человек изначально свободен и может по своему усмотрению
распорядиться своим миром в целом и в частностях. Это, конечно, о Николае
Николаевиче Страхове, но не только о нем.
Содержание настоящей антологии должно быть просмотрено сквозь
данную оптику. Ее разделы структурированы и статьи в них подобраны
* Климова Светлана Мушаиловна — доктор философских наук, профессор Школы
философии и культурологии НИУ ВШЭ (Москва).
1 Страхов Н. Н. Мир как целое. М., 2007. С. 196.
8
С. M. КЛИМОВА
таким образом, чтобы читатель смог увидеть образ русского философа
в интерьере эпохи сер. XIX — нач. XX века. Начинается антология
с мемуаров, очерков, эпистолярных авто- и иных «признаний». Затем
было выбрано несколько наиболее философски значимых текстов/
фрагментов из наследия Страхова с их последующей научной
аналитикой. Думается, многим будут интересны два раздела, связанных
с экзистенциально-историческим спором Страхова с B.C. Соловьевым
и почти детективными изысканиями по поводу печально-знаменитого
конфликта с Ф. М. Достоевским внутри «пограничных видов
литературы» (Л. Гинзбург). В заключительном разделе Страхов представлен как
метафизик, ученый и религиозный человек главным образом с точки
зрения современного прочтения его текстов.
Таким образом, антология составлена так, чтобы максимально
наглядно представить живого, наполненного идеями, чувствами и
переживаниями русского мыслителя XIX века, погрузить читателя в атмосферу
pro et contra его судьбы и наследия, тесно переплетенной с историей
и судьбой поколения.
Ядром личности H.H. Страхова является «гегелевское»
противоречие, которым он, кажется, никогда не пользовался, но вполне ему
соответствовал2. С одной стороны, он — созерцателен, деликатен,
безотказен в помощи и сотрудничестве и несколько «безжизненный»
библиофил (Homo Legens) и эстетик, признающийся в бескорыстной
любви к прекрасному — будь то слово, картина природы или разговор
с добрым другом; с другой стороны, — это цельный (обладатель цели),
активный труженик, мыслитель-рационалист, любитель «индюшек
и Гегеля», действительный статский советник, работавший в библиотеке
и всю жизнь как поденщик писавший для разных журналов критические
и философские статьи. Непоправимо милый сплетник, друг-враг,
философ-публицист, равнодушный к истине семинарист и ярый почвенник
и борец с Западом. Таких противопоставлений и столкновений в
антологии — хоть отбавляй. Но собранные под единым сводом — они по-
2 Приведем высказывание по этому поводу Н.З. Бросовой, которая заметила, что
Страхов практически никогда не использовал ни гегелевского понятия «борьбы
противоположностей», ни «противоречия», несмотря на то, что считал себя
приверженцем именно гегелевского диалектического метода. Причины в том, что
они «не согласовались с традиционной аристотелевской логикой, которую
воспроизводила естественнонаучная парадигма 19 в. <...> противоречили основам
христианского (православного) вероучения <...>; принцип противоречивости,
последовательно развернутый и распространенный на сферу социального,
выступал стимулом и санкцией для всевозможных центробежных процессов в
обществе, что для Страхова было принципиально не допустимым. Можно сказать, что
он интерпретировал гегелевскую диалектику в духе российских интеллектуальных
и ценностных традиций» (Бросова Н. 3. Страхов как историк философии // Credo.
2000. 1.С. 22).
«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 9
зволяют нам по-новому увидеть русского человека «в возможности»
и «действительности».
В своей вступительной статье я хочу сделать две ремарки. Одну
вначале, другую — в конце. Важной составляющей разговора —
биографического и одновременно полемического характера — является
тема «русского семинариста». Это сословие стало значимым элементом
истории в конце 40-х; в начале 60-х годов XIX века оно было призвано
сыграть огромную роль не только в умонастроениях, но и в политической
истории России XX века. Поэтому позволим себе ннеболыпой
исторический экскурс.
В свое время М. К. Петров заметил, что университеты в Европе
порождены двумя причинами: майоратом — наследованием всего имущества
старшим братом и безбрачием священников. В Западной Европе нужна
была система формального обучения для решения юридического и
экономического вопросов: куда девать «лишних» сыновей. Это и привело
в итоге к развитию и укреплению европейской науки.
В России же священники традиционно выпестовывались семейным
кругом, и отношение к обучению детей вне дома было резко
отрицательным. С 40-х годов формальное обучение для священников давала лишь
семинария (так как учеба и проживание осуществлялись за казенный
счет, что было немаловажно при повальной бедности данного сословия).
Она оказалась практически безальтернативной формой образования
для молодых «поповичей». Об ужасах быта в таких заведениях осталось
немало воспоминаний бывших семинаристов3. «Однако постоянная
материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие
привилегий вырабатывали характерную для разночинцев жизненную
стойкость, трезвое отношение к жизни. <...> Из поколения в поколение
переходила, выковываемая в постоянной борьбе за существование воля,
привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить
свою жизнь»4.
Сложившаяся ситуация — результат политики Николая I,
который после 1825 года прекрасно понял ненадежность дворянской
«опоры» и стал активно разбавлять потомственное дворянство
разночинными группами (а также чиновничьим классом), дав им
возможность и образования, и учебы в светских заведениях. Благодаря
его реформам, многие «недворяне» стали дворянами; разночинцам
стали доступны университеты (хотя и с известными препятствиями).
Светское образование было ценно как возможностями карьерного
3 Одним из самых известных был текст Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы»
(Современник. 1862).
4 Демченко А. А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая. Саратов:
Изд-во Саратовского университета, 1978. С. 15-16.
10
С. М. КЛИМОВА
роста и финансовой стабильностью, так и шансом попасть в высшие
слои общества. В итоге «в 60-е годы на культурной сцене появилась
новая социальная группа — разночинная интеллигенция, состоящая
из образованных молодых людей разного социального происхождения
(большей частью выходцев из церковной и мелкобуржуазной
среды) <...> идеология и стиль поведения новой интеллигенции стали
заметным присутствием в жизни общества»5.
В. К. Кантор назвал духовное сословие «вторым эшелоном русского
просветительства». Вторым всегда тяжелее. После окончания вузов
у таких юношей почти не было другой стези, кроме педагогической,
литературной или издательской. Зачастую им очень сложно было
преодолеть естественное фанфаронство потомственных дворян, вовсе
не желавших давать моральных преференций выбившимся из «грязи
в князи» новым людям. «Клоповоняющим господам» (экспрессивное
определение, данное Н. Г. Чернышевскому молодым Л. Н. Толстым)
тяжело было пробиваться сквозь спесь природных comme il faut. Но тех, кто
успешно преодолевал преграды, ждали лидирующие позиции и в
литературе (Н. Г. Помяловский), и в литературной критике (Н. И. Надеждин,
Н. А. Добролюбов, В. Г. Белинский (по деду)), и в науке (А. П. Куницин,
В. И. Ключевский, И. П. Павлов), и в философии (В. В. Розанов (по деду),
H.H. Страхов) и даже «мученические венцы» на политической арене
(Н. Г. Чернышевский). Все помнят историю первого реформатора России
М.М. Сперанского — сына дьячка и выпускника Александро-Невской
семинарии, которую позже возглавлял арх. Нафаналил (Николай
Иванович Савченко) — дядя H. H. Страхова. Его происхождение, кстати,
стало причиной знаменитого почвеннического «выпада» Достоевского:
«Сперанскому ничего не стоило (курсив мой. — С. К.) проектировать
создание у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию
и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился
и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей
и текущего (курсив мой. — С. К.)» (Достоевский. ПСС, т. 24, 241). Вывод
говорит сам за себя.
Постепенно была создана среда для умственной и отвлеченной,
но одновременно и для многочисленной и неприкаянной, неустроенной
разночинной интеллигенции, которой было суждено сыграть важную и
роковую роль в истории и культуре России XX века. «Не случайно в русском
нигилизме большую роль играли семинаристы, дети священников,
прошедшие православную школу. Добролюбов и Чернышевский
были сыновья протоиереев и учились в семинарии. Ряды разночинной
"левой" интеллигенции у нас пополнялись в сильной степени выходцами
5 Паперно И. А. Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи
реализма. М., 1996. С. 10-11.
«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 11
из духовного сословия. Смысл этого факта двоякий. Семинаристы через
православную школу получали формацию души, в которой большую роль
играет мотив аскетического мироотрицания»6. Позже многие
«семинаристы» окажутся в эпицентре революционных событий в России, станут
достойными продолжателями идеологии нигилизма, одинаково
ненавидимой и критикуемой и Достоевским, и Страховым. Парадоксально,
но именно семинаристская тема станет объектом наиболее сложных
страниц дружеско-вражеских отношений этих двух идейно близких,
но психологически разных людей. Несмотря на всю «пролетарскую»
тяжесть своей литературной жизни, Достоевский оказался не чужд
того же презрения и некоторой «классовой» брезгливости к сословию
«семинаристов-карьеристов», которой так явно не скрывал в молодости
граф Толстой. Одному не угодил семинарист Чернышевский,
другому — семинарист Страхов. Первому — за его однобокую партийную
позицию, второму — за ее полное отсутствие. Как причудливо переплела
архивная память сословную «солидарность» таких ни в чем не похожих
гениев-современников.
У H. H. Страхова было типичное семинаристское детство и бедная
студенческая сиротливая юность. Об этом периоде прекрасно говорит
его переписка с о. Иоанном Скивским (публикация М. И. Щербаковой).
Она позволяет увидеть душу не просто семинариста, но типичного
молодого человека первой половины XIX века, так портретно похожего
и на юного графа Толстого в своих характерных пороках и
достоинствах, и на юного Достоевского, притесняемого своим суровым
родителем и прошедшего трудный путь профессионального и личностного
становления.
С юности Страхова манила наука. О том, что он не собирался
заниматься злободневными вопросами жизни «угорелых» беспочвенников
и не был типичным ресентиментным «оппозиционером», жаждущим
реванша за свое низкое происхождение, говорит защита им магистерской
диссертации по зоологии, многолетняя работа простым учителем в
гимназии, а затем в библиотеке и, конечно, его книга «Мир как целое» (1872),
собранная из отдельных статей 1860-х годов. В этом мире человек взят
во всем многообразии его абстрактных характеристик, главным образом
из областей естественнонаучных, в оторванности от текучей и
разнообразной жизни общества и культурной истории человечества. В ней ничто
не напоминает ни о «хрустальных дворцах», ни о «баньках с пауками».
Все строго, научно, отвлеченно.
Лишь познакомившись с братьями Достоевскими, Ап. А. Григорьевым
и другими знаменитостями из мира журналов, Страхов выбирает
«прикладную этику» эпохи — стезю публициста, литературного критика,
6 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 38-39.
12
С. M. КЛИМОВА
казалось бы, уходя от вечных истин к вечным русским вопросам — кто
виноват и что делать. Он становится почвенником, органицистом, подобно
многим находит в русской литературе истинную основу для
философствования. При этом сохраняет приверженность просвещению и
западному рационализму. Как остроумно заметили И. А. и А. Д. Майданские:
«В личности и творчестве Страхова, быть может, полнее и чище, чем
в ком-либо из его современников, нашел свое выражение наш
национальный философский "архетип" XIX столетия, от православного вершка
до гегельянского корешка»7.
Страхов излагает философию в письмах, отдавая дань традиции, делая
их похожими на учебно-методические тексты историко-философского
характера; становится популярным и востребованным критиком, вполне
вписываемым в орбиту бурной петербургской журнальной жизни.
Уход в публицистику был особенным моментом в интеллектуальной
жизни любого молодого человека того времени; через нее русская
интеллигенция обретала лидирующие позиции в борьбе за умы и общественное
мнение. Журналы оказались не только «флажками», указывающими
направление и путь к светлому будущему, но и совестью,
проповеднической площадкой, полем битвы за истину, добро и красоту практически
во всем обществе. Они не просто управляли общественным мнением,
они его создавали, были «властителями дум».
Когда Толстой призывал Страхова быть чистым философом и упрекал
в тяге к критике и журналистской работе, он обозначал лишь свою
позицию и свой взгляд на то, что происходило в России, но никак не отражал
установок самого Страхова, весьма органично вписанного в журнальные
баталии того времени.
Жизнь Страхова предстает перед нами как амальгама самых разных
черт деятельности, мышления, профессиональной и творческой работы.
Взятые отдельно, они не позволяют увидеть его мир как «целое». Легче
всего назвать его нецелостным, противоречивым и дать негативное
заключение о личных или профессиональных качествах. Но сам Страхов
точно заметил, что негативность без позитивности и последующего
синтеза неизбежно заканчивается нигилизмом и тотальным отрицанием
уже не отдельных черт, но и человека как такового. Сознаюсь, мне долго
не удавалось уловить стержень этого человека, несмотря на то, что когда-
то я его вроде бы нашла в самой сути переходной эпохи8.
Холостяк, который жил жизнью «монаха», похожей на житие, если бы
не вполне человеческая тяга к пикантным историям и подробностям
из грешной жизни окружающих. Бездомность и одновременно поиск
«семьи» и привязанности к друзьям и даже недругам. Одиночество
7 Наст, издание. С. 759.
8 См. наст, издание. С. 715.
«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 13
и нужда и самодостаточность библиофила, все деньги тратившего на
редкие книги из самых разных областей знания и собравшего библиотеку
из 12,5 тысяч томов.
Сильный философ, не создавший никакого систематизированного
учения. Успокаиваем себя тем, что в России никто не создал никаких
систем; да и возможно ли это в стране, где, по словам того же Страхова,
язык философии — немецкий, политики — французский, а общества —
английский. Поэтому «мир наших понятий во многих и самых важных
своих частях есть мир наносной и чужой»9. Говорить полноценно и по-
русски можно было лишь о литературе и через нее.
Он жалуется на свою созерцательную пассивную натуру, но живо
печется об издательствах и изданиях, своих и чужих, работает в двух
местах, выполняет множество просьб и поручений, добывает деньги
для одних и корректирует рукописи других, путешествует и часто
навещает имения друзей. Пишет тщательно и с усердием, оттачивая стиль,
взвешивая каждое слово, стремясь если не решить, но хотя бы правильно
поставить проблему. При этом бесконечно горячо «борется с Западом»
за сохранение вековечных русских ценностей.
По вторникам он регулярно ходит в гости, а по средам зовет к себе,
в свою съемную скромную квартиру, угощая «Владимиром Соловьёвым»
и черным чаем такой крепости, что два стакана напитка,
«развязывающего языки»10, мало кто способен был выпить зараз.
Даже его внешность описывается современниками противоречиво.
Е. Н. Опочинин, вспоминая о вечерах в доме А. П. Милюкова, назвал
его маститым старцем, «с серьезным и строгим лицом, обрамленным
густой седой бородой, с зоркими, глубоко сидящими карими глазами.
Это Николай Николаевич Страхов, известный философ и критик,
биограф и панегирист Федора Михайловича Достоевского, автор только что
вышедшей и уже запрещенной книги "Борьба с Западом"11», а Репин,
напротив, отметил его детскость, доброту и сияние серых глаз.
Была в нем еще одна ипостась — он был «всепонимающим
философом» и другом очень многих великих и даже гениальных людей.
Энциклопедический ум, публичная библиотека, ресурсами которой могли
широко пользоваться его друзья, также ему помогали быть всегда нужным
и кстати. Например, для Толстого, который не только просил достать ту или
иную книгу, но и нуждался в философских консультациях для реализации
своих замыслов и идей. Не менее значим он был и для Достоевского,
9 Страхов H. H. Из истории литературного нигилизма (1861-1865). СПб., 1890. С. 354.
10 Репин И. Е. Далекое близкое. Л., 1986. С. 352.
' ' О причинах этого запрета книги есть любопытная запись в воспоминаниях того же
Опочинина (князь Павел Петрович Вяземский): «Официального запрета на эту книгу
не было». См.: Опочинин Е. Н. Александр Петрович Милюков и его вторники. URL:
http://dugward.ru/library/katalog_alfavit/opochinin.html
14
С. М. КЛИМОВА
для которого, по меткому выражению С. Левицкого, оказался
«философским информатором». Он щедро делился своими знаниями, был нужный
друг и одновременно прекрасный собеседник, самобытно мыслящий
и деликатно ведущий себя человек.
Страхов настолько колоритен, внутренне противоречив, интимно-
само-разоблачителен (например, в письмах к Толстому), что немудрено,
что он мог оказаться прототипом многих литературных героев. В нем
исследователи увидели и Евгения Павловича Радомского (В. Я. Кирпотин),
и Михаила Ракитина (В. А. Туниманов, С. А. Кибальник), и даже умного
чёрта-Ивана Карамазова (Д. И. Чижевский, А. В. Тоичкина). Знакомые
черты исследователи обнаружили в образе профессора Сергея Кознышева
из «Анны Карениной»; все помнят знаменитую запись сна Толстого
про «чудный сюжет», соединивший Грушеньку (героиню «Братьев
Карамазовых») и H. H. Страхова.
Страхов не был из числа бунтарей и оппозиционеров; в нем,
безусловно, было что-то умственное и отвлеченное («семинаристское»), на что
ему не раз указывал Л. Н. Толстой; возможно, именно это и стало
подлинной причиной последующей драмы — психологического конфликта
с Достоевским. В нем было очень много хорошего, но Достоевскому, как
мне кажется, очень не хватало искренности в их взаимоотношениях,
а Страхову не хватило авторитета или подлинного уважения к своему
выдающемуся другу и его таланту. Их знаменитый посмертный конфликт
создает иногда чувство неловкости, сходной с «заглядыванием через
плечо» читающего чужие письма. Но прошлое великих им не
принадлежит, и потому история спора продолжается. При этом мало кто
обращает внимание на тот факт, что «страховская» сплетня «о ставрогинском
преступлении» Достоевского носила характер эпохальной «легенды»
и не Страхов ее создал. Немногие замечают и факт явной человеческой
слабости Страхова — его тяги к пикантным слухам и историям (но
многие ли из нас ее не имеет?). «Факты» против «вымысла» этой истории
блестяще продемонстрировал В. Н. Захаров еще в 1978 году.
Безусловно, очень трудно понять людей, сотканных из лоскутов
противоречивых жизненных историй и обстоятельств. Поэтому самым
продуктивным для потомков остается разговор не о личном, но о том,
что человек оставляет после себя — о деле его жизни. Страхов очень
подходит под его собственное понимание человека. Человек есть то, что
он делает у а не то, чем он иногда бывает в минуты слабости, сомнений
и кризиса. Философия — главное дело H. H. Страхова.
Хорошо известно, что русский философ был ярым борцом с
утилитаризмом, и с русским, и с западным. Когда-то он сошелся с Толстым,
критикуя «миллевскую женщину» и очень по-русски сетуя на излишний
рационализм западных «дураков и тупоголовых идиотов» (подобные
инвективы были в ходу у русских философов) — апологетов эмансипации,
«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 15
не принимая их позиции только за то, что захотели приравнять женщину
мужчине в юридических правах и этических возможностях. Рассуждение
о женщине из уст холостяка Страхова выглядело бы весьма странно,
как точно заметили исследовали наследия Достоевского (например,
В. Н. Захаров, В. А. Туниманов и др.), если бы не оказалось, что у него
был мощный единомышленник и семьянин — Л. Н. Толстой.
Примерно в таком же духе он критикует позицию П. Л. Лаврова,
который пишет о счастье как главной цели в жизни человека. Нещадно
высмеивает «утилитарного» Н.Г.Чернышевского и его «бесцельных
счастливых людей». Все это строго в соответствии с «новым типом
рациональности» (Н.П. Ильин), положив в основу понимания абстрактную
сущность человека, а не его реальные потребности и формирующие
их жизненные обстоятельства.
При этом он вроде бы на стороне трансцендентализма и отстаивает
приоритет автономного разума, воли и личности. Но его «Мир как целое»
легко обходится без Бога, души, другого человека и общества. Не
обходится без них лишь жизненный мир самого Страхова.
Его мысль о человеке остановилась на классической (заметим,
западной) идее созерцательной личности, разработанной Фихте и Шеллингом,
которых он весьма высоко ценил12. Говоря о человеке и о себе как
наблюдателе, Страхов следовал немецкой традиции. Для него
созерцание — важная сторона нашей духовной жизни, в основе которой лежит
продуктивное воображение, необходимое и художнику, и мыслителю,
поскольку без мыслеобразов нет постижения истины. В «Воспоминаниях»
о Достоевском он прямо пишет об этой важной способности писателя,
разворачивавшего идеи не в абстрактной словесной форме, но умевшего
виртуозно «мыслить образами». Они же вызвали размышления о природе
творчества и воображения.
Страхову близка гегелевская диалектика опосредованного и
непосредственного в нашем постижении мира. Но если для Гегеля
непосредственность относится, прежде всего, к форме нашего знания, содержанием
которого является работа ума, то Страхова интересует присутствие
непосредственности в самом продуктивном творческом воображении, которая
открывается нам за указанной формой. Об этом он пишет в своих
психологических поздних трактатах («О вечных истинах», «О спиритизме»),
где, кстати, использует категорию интеллектуальной интуиции, чем-то
напоминающую знаменитое «сцепление» Толстого.
Знаком Страхов и с теорией Фихте о продуктивной и репродуктивной
деятельности воображения, которая ведет либо к уникальному творческому
12 См.: Переписка A.A. Фета с H.H. Страховым (1877-1892) / Вступ. ст., публ. и ком-
мент. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и его литературное окружение. Книга 2 / Ред.
Т.С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 248-249.
16
С. M. КЛИМОВА
акту, либо к подражаниям и симуляции. Во многих письмах к Толстому,
вроде бы принижая себя рядом с гением, он методически проводит эту
фихтеанскую дифференциацию, рассуждая о разнице между видами
их интеллектуальной детальности: Толстого — активно-созидательной,
его — пассивно-отражательной13.
Здесь я хочу сделать вторую обещанную ремарку — о теме «влияний»,
или, как остроумно заметил B.C. Соловьев, об «оригинале и списке»;
теме чрезвычайно важной и весьма запутанной в нашей
интеллектуальной истории. Исследователи много внимания уделяют доказательствам
влияний/заимствований мыслителей друг на друга. Сам Страхов,
например, вел нешуточный бой с Соловьевым за обоснование самобытности
идей Н. Я. Данилевского, доказывая их оригинальность и независимость
от концепции Г. Рюккерта и т.д.
А что, собственно, значит чужая мысль или чужие образы в составе
своей? Что значит мыслить оригинально и самобытно, возможно ли такое
в принципе в человеческом мире. Обопремся в размышлениях на позицию
М. Мамардашвили, который пристальное внимание уделил такому
понятию, как «интермитирующее Я», или перемежающееся бытие. По сути,
оно представляет собой со-бытие (бытие разных сознаний), существующее
по каким-то универсальным законам культурно-символического
сопряжения и порождающее, с одной стороны, уникально возникшую — мою
мысль, идею, образ, а с другой стороны, оказывающуюся схожей с
мыслями, идеями и образами других — связанных, но зачастую — никак
не связанных со мной (ни временем, ни пространством, ни культурой)
людей14.
Человек, погруженный в мир культуры, не может быть не подвержен
влияниям извне и изнутри, будь то знаки, образы, идеи или символы,
так как вся его жизнь есть продукт культурно-исторического развития
и общения с окружающим миром. Как говорил Толстой, всякая мысль
(как и всякий человек), взятая отдельно, страшно «принижается» и не
позволяет нам постичь высказывание/идею в целом. Толстовское
сцепление как универсальный метод схватывания смысла жизни, соединение
самых разнообразных ситуаций и состояний в одно неразрывное начало
текста вполне коррелируется с «интермитирующим Я» Мамардашвили.
Сцепление вполне символично и предстает у писателя в образе круга или
шара, «у которого нет конца, середины и начала, самого главного или
неглавного, а все начало, все середина, все одинаково важно и нужно»15.
13 См.: Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки: в 2 т. / Оттавский
ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л.Н. Толстого; сост. Громова Л. Д.,
Никифорова Т. Г.; ред. Донсков A.A. [М.; Оттава], 2003.
14 См.: Мамардашвили М. Как я понимаю философию // Мамардашвили М. Как я
понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. С. 17.
15 Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Поли. собр. переписки. Т. I. П. 102. С. 235.
«Мир» Н. H. Страхова, или «Чем может быть человек?» 17
Все со всем связано и переплетено — чувства, мысли, образы, состояние
душ. И в этом «лабиринте сцеплений» (В. А. Туниманов) мы опять
возвращаемся к «Миру как целому» и к H. H. Страхову.
То, что Страхов уделяет главное внимание критике, ограничивая
свои философские интересы, — не случайно. Возможно, он понимал,
что на последнем поприще не сможет достичь вершин, сопоставимых
с эстетическим созерцанием художника. Поэтому эстетическое начало
и оказывается у него определяющим в созидании нового, в подлинном
творчестве. Так или иначе, но ему удалось стать одним из значимых
литературных критиков наряду с Толстым, Белинским или Добролюбовым.
(Этот факт подчеркивает Ф. М. Достоевский в своем письме Страхову.)
О «единстве противоположностей» писателя и критика косвенно говорит
их уникальная четвертьвековая переписка (см. статью И. Паперно в наст,
антологии). А критика в России того времени действительно выполняла
функции философии, которой была лишена исторически.
То, каким для нас предстал человек после Достоевского и Толстого,
прекрасно иллюстрирует продуктивность творческого воображения,
сформированного в том числе и благодаря их многолетнему общению
с H. H. Страховым. Например, в «Мире как целое» мы узнаем, что «жизнь
не только есть самоудовлетворение, но и саморазрушение,
самонедовольство» 16, и в этой фразе схвачена суть характера «подпольного» человека
у Достоевского (см. работы A.C. Долинина, Н.В. Снетовой и др.), как
впрочем, и других его парадоксалистов. Эта книга много дала и Толстому,
став «недостающим звеном» (см. статью Донна Орвин) между двумя
великими русскими писателями.
В то же время эта книга обнажила и страховские лакуны понимания
жизни, связанные с замалчиванием разговора о духовном — религиозном
ядре в ней, без которого жизнь теряет свою человеческую уникальность
и колорит (по крайней мере, для мыслителей того времени). Страхов
только стоял на пороге нового религиозного сознания, так и не
переступив его. Впрочем, некоторые исследователи считают иначе (о
специфике религиозности Страхова см., например, интересные наблюдения
в работах В. А. Фатеева).
В заключение хотелось бы выразить сожаление и признательность.
Сожаление по поводу того, что много прекрасных текстов,
посвященных Страхову и его эпохе, по разным причинам не смогли войти в
антологию. Признательность же хотелось бы выразить, прежде всего,
Библиотеке-музею H. H. Страхова, созданной при Белгородском
государственном национальном университете, ставшей мощным
культурным и научным центром в Белгородской области — на исторической
родине Страхова. Ее уникальный ресурс — электронный архив трудов
16 Страхов H. H. Мир как целое. С. 206.
18
С. M. КЛИМОВА
философа и литература о нем, прекрасный библиографический
указатель его трудов (составитель Г. Н. Бондарева) — наиболее действенный
механизм презентации отечественной философии в современном
научном мире. Слова искренней благодарности сотрудникам библиотеки-
музея (Г. Н. Бондаревой, А. Г. Масалову, В. А. Монастыревой и многим
другим), белгородским профессорам (Е. А. Антонову, Н.З. Бросовой,
E.H. Мотовниковой, П.А. Ольхову и др.): много сделавшим для
сохранения его наследия.
Другой центр страховедения находится на его духовной родине —
в Санкт-Петербурге, и я с благодарностью упоминаю имена Н. П. Ильина,
Н. И. Николаева, Н. Н. Скатова, А. В. Тоичкиной, В. А. Фатеева и других
ученых, внесших огромный вклад в сохранение памяти о H. H. Страхове.
Хотелось бы выразить огромную благодарность авторам, не только
давшим согласие на публикации в антологии, но и помогавшим
советами, идеями и просто словами поддержки. Особенную признательность
хочу выразить Владимиру Николаевичу Захарову, Анджею де Лазари,
Ирине Ароновне Паперно, Нине Васильевне Снетовой, Александре
Витальевне Тоичкиной, а также моим друзьям и вдохновителям —
Андрею Дмитриевичу Майданскому и Елене Валентиновне Мареевой.
Моя самая сердечная благодарность студентке Школы философии,
стажеру-исследователю НУЛ трансцендентальной философии НИУ ВШЭ
Марии Владимировне Федоровой и, конечно, моему сыну Игорю
Климову за всестороннюю помощь и поддержку в подготовке
настоящего издания.
В. А. Монастырева
БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ Н. H. СТРАХОВА
КАК КУЛЬТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР:
ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛИЗАЦИИ
Интеграционные процессы библиотек и музеев отразились на
деятельности Научной библиотеки НИУ « БелГУ». Наглядный результат —
создание библиотеки-музея H. H. Страхова.
Для Научной библиотеки университета создание библиотеки-музея
H. H. Страхова является инновационным направлением работы. <...>
Открытие библиотеки-музея в составе университетской библиотеки
объясняется во многом неформальным творческим подходом ученых
и библиотечных специалистов НИУ «БелГУ». <...>
Единственная в России библиотека-музей H. H. Страхова
располагается в здании социально-теологического факультета имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) — архитектурном
и историческом памятнике XIX века.
Созданию библиотеки-музея H.H. Страхова в университете
способствовали следующие обстоятельства. Во-первых, H.H. Страхов —
выдающийся белгородец, известный русский философ, литературный
критик, публицист, переводчик, библиотекарь. Он в полной мере
заслужил имя русского мыслителя и своим вкладом в развитие русской
самостоятельной мысли, и просто примером мыслящего русского человека.
Страхов опубликовал более 300 работ, касающихся вопросов литературы,
естествознания, философии. Задача комплектования, сохранения,
изучения и предоставления пользователям интеллектуального наследия
H. H. Страхова была возложена на библиотеку.
Во-вторых, — наличие научной базы, историко-биографических
исследований жизни, деятельности и научного наследия мыслителя.
Основой создания библиотеки-музея послужили копии
документальных материалов из фондов Российской государственной библиотеки,
20
В. А. МОНАСТЫРЕВА
Российской национальной библиотеки, труды ученых и преподавателей
из библиотечного фонда и музея истории НИУ «БелГУ».
Задача библиотеки-музея — показать этапы становления и развития
личности мыслителя, дать комплексное представление о его
философской, литературной, публицистической деятельности, сформировать
для посетителей экспозиционную среду, где представить музейные
предметы и книжные коллекции H.H. Страхова и его литературного
окружения. С созданием библиотеки-музея в составе Научной
библиотеки университета у сотрудников библиотеки появилась возможность
более активно включиться в работу по возобновлению, сохранению
и популяризации интеллектуального и духовно-нравственного наследия
H.H. Страхова.
Научная библиотека университета совместно с исследователями
университета на протяжении 10 лет занимается изучением
интеллектуального наследия H. H. Страхова. За это время проделана огромная
работа по формированию документного фонда библиотеки-музея,
электронного архива трудов H. H. Страхова и литературы о нем,
выпуску библиографического указателя, сбору информации о домашней
библиотеке мыслителя.
Проследим этапы создания библиотеки-музея H. H. Страхова:
2008 год — обсуждение учеными и библиотечными специалистами
вопроса создания при Научной библиотеке университета библиотеки-
музея H.H. Страхова.
2009 год — открытие 25 декабря в цокольном помещении
социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» библиотеки-музея
H.H. Страхова.
2010 год — присуждение гранта Президента РФ на создание
электронной коллекции библиотеки-музея H.H. Страхова «Архив эпохи»
(распоряжение Президента РФ от 26 марта 2010 г.). При финансовой поддержке
гранта фонд библиотеки-музея пополнился прижизненными изданиями
H.H. Страхова: «Мир как целое» (1892), «Философские очерки» (1895),
«Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л.Н. Толстом» (1895).
Расширился предметный ряд музея — приобретены бюст H.H. Страхова
и полуфигуры писателей его литературного окружения (скульптор —
член Союза художников России Д. Ф. Горин).
2011 год — присвоение Научной библиотеке НИУ «БелГУ»
имени Николая Николаевича Страхова по итогам выполнения гранта
Президента РФ для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства (решение ученого совета
НИУ «БелГУ» от 2 февраля 2011 г.); создание web-страницы
библиотеки-музея и размещение электронного ресурса «Архив эпохи» на сайте
Научной библиотеки университета; издание библиографического ука-
Библиотека-музей H. H. Страхова как культурный и научный центр... 21
зателя «H.H. Страхов: философ, литературный критик, переводчик»,
представляющего собой наиболее полный перечень документов в России,
относящихся к жизни и деятельности мыслителя (около 800 источников).
2012 год — <...> создание литературно-философского клуба «По
средам у Страхова» ; пополнение фонда библиотеки дарами от частных лиц,
репринтными изданиями трудов H.H. Страхова <...> положено начало
сотрудничеству с Русским философским обществом имени H.H. Страхова
в г. Санкт-Петербурге.
2013 год — проведение круглого стола «H. H. Страхов: время читать,
восхищаться и спорить», посвященного 185-летию со дня рождения
мыслителя; организация книжных экспозиций и библиографических
обзоров <...>.
2014 год — размещение электронной коллекции «Архив эпохи»
в электронном архиве открытого доступа НИУ «БелГУ»; пополнение
фонда библиотеки-музея репринтными изданиями XIX века.
2015 год — реконструкция каталога личной библиотеки H.H. Страхова
на основе электронной копии инвентарной книги (1876 г.) Научной
библиотеки имени М. Горького Санкт-Петербургского государственного
университета <...>.
2016 год — выпуск второго, дополненного, издания
библиографического указателя «Николай Николаевич Страхов: философ,
литературный критик, переводчик» (свыше 900 источников); поступление
в фонд библиотеки-музея трудов H. H. Страхова: «Борьба с Западом
в нашей литературе: исторические и критические очерки» (1887-1890),
«Сочинения Аполлона Григорьева», том 1 (1876) <...> размещение
на здании социально-теологического факультета мемориальной доски,
посвященной H.H. Страхову (скульптор — заслуженный художник РФ
A.A. Шишков).
2017 год — реконструкция библиотеки-музея H. H. Страхова с
воссозданием фрагмента последней петербургской квартиры философа (в
экспозиции представлены около 500 документов, в числе которых редкие
книги из личной библиотеки ученого, репринтные копии его трудов,
переводы, письма, ордена, а также стилизованная под старину мебель
и предметы быта, воспроизводящие атмосферу XIX века).
<...> ...Опубликован web-pecypc библиотеки-музея H.H. Страхова
в сети Интернет <...>.
2018 год — <...> поступление в фонд библиотеки-музея работы
H.H. Страхова: «Заметки о Пушкине и других поэтах» (1897), И. Тэн
«Об уме и познании» (1894)*.
Создание библиотеки-музея существенно расширило спектр
деятельности Научной библиотеки имени H.H. Страхова. К традиционным формам
Перевод Н. Н. Страхова. — В. М.
22
В. А. МОНАСТЫРЕВА
библиотечной работы прибавились музейные и архивные формы:
организация экспозиций, сбор мемориальных коллекций и архивных документов,
исследовательская и издательская деятельность.
Открытие библиотеки-музея в составе университетской библиотеки
привнесло и особую эмоциональную, культурную и духовную атмосферу,
подчеркнуло уникальность данной библиотеки, данного места.
Формы работы библиотеки-музея разнообразны: заседания
литературно-философского клуба «По средам у Страхова»; встречи с
писателями, учеными, деятелями культуры; круглые столы, тематические
беседы, литературные вечера, презентации книг, тематические
экспозиции. В мероприятиях принимают активное участие преподаватели
и обучающиеся университета, краеведы, библиотечные и музейные
работники.
Постоянно оформляются книжно-иллюстративные экспозиции
трудов Страхова и его современников. К 190-летию мыслителя в
библиотеке-музее оформлена выставка «Стать с веком наравне». На выставке
представлены книги, предметы быта XIX века, архивные материалы,
фотографии памятных мест H. H. Страхова, работы сотрудника
библиотеки O.A. Анохиной, выполненные в стиле «силуэт» и посвященные
эпохе XIX века.
В фонде библиотеки-музея насчитывается восемь прижизненных
изданий трудов H.H. Страхова.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что библиотека-музей —
это культурно-просветительский центр, в основе деятельности которого
лежит книга — бесценный экспонат. «Книга, как воплощение чувства,
мысли и знания, занимает высшее место среди памятников
прошедшего», — писал философ, библиотекарь, родоначальник русского космизма
Н.Ф. Федоров.
Документный фонд библиотеки-музея активно используется в
образовательном и научно-исследовательском процессе университета.
На базе библиотеки-музея проводятся методологические
семинары, студенты и аспиранты привлекаются к научным исследованиям.
НИУ «БелГУ» является инициатором регулярного проведения научных
конференций, посвященных творчеству H. H. Страхова. <...>
Собраны фотокопии архивных документов из личного дела ученого:
аттестат 2-й Санкт-Петербургской гимназии, прошение о поступлении
на службу в Императорскую публичную библиотеку, «выпись» из
метрической книги Санкт-Петербургского Николо-Богоявленского морского
собора и др.
<...> Подготовлено третье издание библиографического указателя.
Первую попытку составить библиографический указатель,
посвященный Н. Н. Страхову, предпринял Я. Н. Колубовский1 в исследовании
«Материалы для истории философии в России. 1855-1888». Он включил
Библиотека-музей H. H. Страхова как культурный и научный центр... 23
описание 88 работ H. H. Страхова и 40 документов о нем. Дополнением
этого списка можно считать библиографический указатель «История
русской литературы XIX века» под редакцией К. Д. Муратовой2 (М., 1962),
который содержал перечень опубликованных писем H.H. Страхова
и 18 новых названий литературы о нем.
В 1966 году появилась библиография его печатных трудов,
подготовленная А. Л. Будиловской и Б.Ф. Егоровым3. В ней отражено в три
с половиной раза больше документов, чем у Я. Н. Колубовского.
В 1998-2002 годах Белгородской государственной универсальной
научной библиотекой и профессором Белгородского государственного
университета Е. А. Антоновым был подготовлен биобиблиографический
указатель «H. H. Страхов», ставший первым опытом подробной
библиографии (520 библиографических записей).
В 2011 году Научной библиотекой имени H. H. Страхова Белгородского
государственного национального исследовательского университета
в сотрудничестве с профессором Е. А. Антоновым был подготовлен
расширенный библиографический указатель «Николай Николаевич
Страхов: философ, литературный критик, переводчик». Второе издание
данного указателя, вышедшее в 2016 году, дополнили более двухсот
библиографических записей. При его составлении были использованы
фонды и каталоги Российской государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки, Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-
Петербургского государственного университета, Харьковской областной
библиотеки им. В. Г. Короленко, библиотеки Конгресса США <...> и
других электронных библиотек.
В 2017 году при поддержке правительства Белгородской области в
издательстве «Медиарост» выпущена книжная серия «Библиотека
белгородской семьи. Знаменитые земляки». Среди них книга «H. H. Страхов»
под редакцией заведующего отделом редких книг (библиотекой-музеем)
Научной библиотеки им. H. H. Страхова, кандидата философских наук
А. Г. Масалова4.
Ежегодно идет формирование электронной коллекции «Архив эпохи».
В настоящее время она насчитывает 334 полнотекстовых источника.
В библиотеке-музее ведется работа по организации картотеки личной
библиотеки H. H. Страхова.
Установлено сотрудничество с национальными библиотеками России
(РГБ, РНБ), библиотеками Института мировой литературы (ИМЛИ РАН),
Института философии (ИФ РАН), научными библиотеками. В результате
творческих контактов библиотеке-музею переданы ксерокопии
уникальных изданий: магистерской диссертации H. H. Страхова «О костях
запястья млекопитающих» (1857), книги «О вечных истинах (мой спор
о спиритизме)» (1887), некролога (1896); цифровые копии рукописей
H. H. Страхова: предисловие к работе «Об основных понятиях психологии
24
В. А. МОНАСТЫРЕВА
и физиологии» (1886), предисловие к «Заметкам о Пушкине и других
поэтах» (1888), письма Н.С. Лескова (1865), А. Ф. Писемского (1869),
В. В. Стасова (1894) H. H. Страхову и др.
Библиотеку-музей, с одной стороны, мы можем рассматривать как
место, где сконцентрированы издания, архивные и фотоматериалы,
связанные с жизнью и творчеством мыслителя, а с другой — как
творческую, динамично развивающуюся научно-образовательную площадку
для проведения исследовательских работ, конференций, семинаров,
занятий с учащимися.
*
I
МЕМУАРЫ,
ПИСЬМА, ОЧЕРКИ
э-
М.И.ЩЕРБАКОВА
«Вместо дневника — письма к вам»
(Из переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским)
Николай Николаевич Страхов (1828-1896) известен прежде всего
как философ, публицист, литературный критик. Он был
членом-корреспондентом Петербургской академии наук, близким другом и адресатом
Л. Н. Толстого, первым биографом Ф. М. Достоевского.
Основной корпус литературного наследия H.H. Страхова составляют
его главные труды: «Борьба с Западом в нашей литературе», «Мир как
целое», «Философские очерки», «О вечных истинах. Мой спор о
спиритизме», «Бедность нашей литературы. Критический и исторический
очерк», «Из истории литературного нигилизма. 1861-1865».
Филологическая наука ценит Страхова как автора статей о Л. Н.
Толстом (в особенности о «Войне и мире»), статей о И. С. Тургеневе,
A.C. Пушкине, Ф.И. Тютчеве. А.И. Герцене, A.A. Фете. Я.П.
Полонском, А. Н. Майкове, И. С. Аксакове. Страхов настолько глубоко и
основательно знал литературу, что Академия наук, присуждая премии за
литературные произведения, обращалась к нему как эксперту. Сохранились
его блестящие отзывы в связи с присуждением Пушкинских премий.
Литературное наследие Страхова — результат его 40-летнего
творческого пути. В отечественной периодике — 23 журналах и газетах —
вышло 254 публикации; прибавим к этому 15 серьезных работ в виде
предисловий и статей в коллективных сборниках. Наконец, 16 отдельно
изданных трудов и 6 прижизненных переизданий.
Существенно дополняют публицистические и
литературно-критические работы Страхова его письма к Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому.
Н.Я. Данилевскому, К.Н. Леонтьеву, И. С. Аксакову, В. В. Розанову,
B.C. Соловьеву, Н.Я. Гроту, П. Д. Голохвастову, Э. Л. Радлову,
Д. В. и С. В. Аверкиевым и др.
Известно, что Страхов как критик и философ всегда занимал
устойчиво консервативную позицию. В искусстве наиболее важным считал
28
M. И. ЩЕРБАКОВА
внимание к духовно-нравственным коллизиям общества и к
человеку. Но вокруг его фигуры всегда бытовали противоречивые оценки
и недоразумения.
Между тем очень важны истоки, а о них, как выясняется, знали
мало. После смерти Страхова И. П. Матченко, муж его племянницы
и единственной наследницы, занялся разбором огромного архива.
Публицистическая и литературно-критическая часть была издана
им полностью. Наиболее ценные в историко-культурном отношении
письма — к Л. Н. Толстому, Н. Я. Данилевскому, В. В. Розанову,
B.C. Соловьеву, Н.Я. Гроту также были опубликованы.
В числе других эпистолярных материалов И. П. Матченко подготовил
в 1908 г. и переписку H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским,
ссыльным униатским архимандритом Почаевского монастыря. «Чудная,
по-моему, переписка H. H. Страхова с о. Иоанном Скивским
представляет собой начало обширного автобиографического материала H. H.,
имеющегося у меня, — писал он Э. Л. Радлову. — Я был бы несказанно
рад, если бы переписка эта была напечатана. Предисловие к переписке
есть, оно составлено мной». Но публикация не состоялась.
В переписке с о. Иоанном Скивским — подробности студенческой
биографии H. H. Страхова, тех решающих переломных лет, когда
складывались основы характера, шло энергичное становление его
личности и духовной индивидуальности. «В этих письмах вся моя
история, бедная и пустая, история всегдашних стремлений и бесплодной
деятельности», — писал H.H. Страхов. В письмах о. Иоанна — любовь
к подопечному, сердечная забота о нем и поучительные наставления.
Материал сохранился в виде копий 42 писем —17 Страхова и 25 о. Иоанна,
которые И. П. Матченко подготовил для печати: с комментариями и
переводом писем о. Иоанна, написанных большей частью по-французски.
О своем происхождении свидетельствовал: «Я родился от русской
крови. Мой отец — духовного звания, а духовные наши — коренные
русские. Но мать моего отца была гречанка; но я родился от
малороссиянки, которой дед был родовой казак, а мать из польского семейства.
Сколько разнообразности влияний! »
Начальное образование получил под руководством отца, Николая
Петровича Страхова, протоиерея, магистра богословия, профессора
словесности в Белгородской семинарии. Ярким детским
воспоминанием остались тетрадь, сшитая отцом из четвертушек бумаги
шелковою ниткой, и книги в шкафу за стеклом; среди них — «Людмила»
Жуковского: «Долго потом надо мною звучали эти сладкозвучные
стихи... Быть может, эта ранняя привычка к стихам и была причиной
моей склонности к ним, если уж я совсем не поэт».
«Вместо дневника — письма к вам»
29
После смерти отца в 1834 г. воспитание мальчика взял на себя его
дядя по матери — о. Нафанаил Савченко. Бакалавр Киевской академии
(в миру Николай Савченко), он был преподавателем Белгородской
семинарии: овдовев через год после женитьбы, принял монашество
и занимал должности инспектора Тверской, а затем ректора Каменец-
Подольской и Костромской семинарий, где, начиная с 1839 г., Страхов
обучался на отделении риторики, позже — философии.
Костромская семинария помещалась в Богоявленском монастыре.
Братию этого старинного, основанного в XV веке, но теперь бедного и
почти опустевшего монастыря составляли не более восьми монахов. <...>
Особенно сблизился Страхов с о. Иоанном Скивским. Образованный,
сведущий и симпатичный старик, о. Иоанн пользовался в Костроме
расположением местного православного духовенства и семинарского
начальства и даже репетировал воспитанников духовной семинарии.
На Николая Страхова имел огромное влияние: занимался с ним
математикой, латынью и вообще руководил его научными занятиями.
Практическим знанием французского языка Страхов обязан
исключительно о. Иоанну.
Очень живая любовь к учености и глубокомыслию, «но, увы,
любовь почти совершенно платоническая, только издали восхищающаяся
своим предметом», господствовала среди пяти-шести сотен
подростков-учащихся Костромской семинарии. «Уважение к уму и науке было
величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и соперничали
беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком
удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались
рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями,
в академиях и т.д. ».
При таких обстоятельствах и условиях Страхов получил не только
первоначальное воспитание и образование, но и школу отношения
к жизни, окружающему миру, науке и ее учениям, что во многом
определило выбор, смысл и цель дальнейшей деятельности.
В 1843 г. состоялся перевод о. Нафанаила в сане архимандрита
в Петербург, где в 1845 г. он был посвящен в сан епископа Ревель-
ского, викария Петербургского; позже занимал кафедры епископа
Полтавского, Архангельского и архиепископа Черниговского. Владыка
Нафанаил отличался представительной внешностью, считался
выдающимся иерархом по уму и ораторскому таланту. Один англичанин,
познакомившийся с ним в Архангельске, писал в путевых записках,
что был удивлен, встретивши на дальнем севере такого просвещенного
архиерея. Умер владыка Нафанаил в Чернигове в 1875 г. Его
похоронили за монастырский счет, потому что никакого состояния после
себя он не оставил.
30
M. И. ЩЕРБАКОВА
В 1844 г. в Петербург прибыл и Страхов — для определения в
высшее учебное заведение. Тогда же началась его переписка с о. Иоанном
Скивским.
Провинциальный юноша, мечтающий о столице, университете,
благосклонной фортуне и, наконец, являющийся на главную арену
деятельности, в Петербург, — этот широко бытовавший в литературе
середины XIX века сюжет был накрепко связан с жизнью поколения,
к которому принадлежал и Страхов.
Первые петербургские впечатления оказались противоречивыми:
«Я обманулся в Петербурге. Я думал, что он вовсе не похож на те города,
которые я доселе видел, тогда как в нем только все гораздо огромнее
и великолепнее. С самого начала нас повели по Невскому прошпекту
из Невского монастыря. Я не верил глазам своим. Так это-то тот
великолепный Невский, о котором мне прожужжали уши все газеты и
журналы. Наконец строение пошло лучше и лучше, начался настоящий
Невский прошпект. Вот Аничкин мост; вот Казанский собор. Но все
это не поражало меня никаким особенным удивлением. Вот что
значит иметь о чем-либо преувеличенное понятие! Через несколько дней
я пришел гулять по Неве, прелестной Неве, начиная от Воскресенского
моста. Видел богатые здания, видел дворец, Александровскую колонну,
Летний сад, его решетку, собор Исаакия, Невский прошпект с
другого конца, все это, признаюсь, было очень занимательно для меня,
но не удивило, не поражало меня. Мне очень хочется еще походить
по Невскому; я очень люблю его».
Конечно, в юношеских письмах Страхова еще много присущих
молодости порывов, увлеченности, задора. Нетрудно заметить, что юноша
находился под сильным влиянием старинной сентиментальной
традиции, так удобно воплощавшейся в эпистолярной форме. Он внимателен
к своим душевным исканиям, анализирует противоречия собственной
натуры и окружающего мира.
Существенно важнее внешних впечатлений для юноши,
начавшего свою умственную жизнь в глухой провинции, оказалось другое.
Неверующих и вольнодумцев в Костромской семинарии не было;
ученики росли с твердым убеждением, что «отрицание религии есть
крайняя уродливость, чрезвычайно редко встречающаяся в роде
человеческом». В знаменитом же коридоре Петербургского университета
он услышал «рассуждения о том, что вера в Бога есть непростительная
умственная слабость», «похвалы системе Фурье и уверения в ее
непременном осуществлении», а «мелкая критика религиозных понятий
и существующего порядка была ежедневным явлением».
Позднее, в связи с воспоминаниями юности, Страхов заметил:
«Поистине, религия, если взять ее со стороны чувства и понятий, со-
«Вместо дневника — письма к вам»
31
ставляет действительное доказательство благородства души
человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии, то нам
пришлось бы его понизить почти до степени животных».
Но сколь бы активной ни была пропаганда в студенческой среде
новых идей, чувство Родины было в юноше Страхове неколебимо.
«В нашем глухом монастыре мы росли, можно сказать, как дети России.
Не было сомнения, не было самой возможности сомнения в том, что
она нас породила и питает, что мы готовимся ей служить и должны
оказывать ей всякий страх и всякую любовь».
Вера в свое Отечество, русский народ, русское творчество,
воспитанная в бедной костромской семинарии, и неверие в Запад стали
«закваской» как жизни, так и всего творчества Страхова, считавшего,
что «настоящий глубокий источник патриотизма есть преданность,
уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в
естественном единении со своим народом».
Превращение провинциального семинариста в столичного
университетского студента многое изменило в бытовом, жизненном укладе
Страхова. В Петербурге он поселился у дяди, архимандрита Нафанаила,
в Александро-Невской лавре. Порядок и аккуратность монастырской
жизни, хорошо усвоенные в Костроме, сохранялись и здесь —
никаких комфорта, удобств, удовольствий. Но соблазны большого города,
помноженные на молодые годы, шли вразрез с монастырским уставом.
Попечение дяди и его строгое руководство привели к конфликту с
племянником, который формулировал свои обвинения с юношеским
максимализмом: «Смелость мысли, сила души уничтожена навсегда!» Остроту
отношений пытались смягчить родственники: «Не рвись на волю, гляди,
чтоб теперешняя цель не показалась после сахарным конфетом! Впрочем,
если есть кондиция хорошая, ты будешь сам хорош всегда, не увлечешься
примерами соблазна, ступай с Богом, и дядя на это ни слова».
Шло энергичное становление души, развитие личности — с
присущими возрасту скептицизмом и самоуверенностью, когда за тщеславным
самолюбием прятались робость и неопытность.
«Ничто так не облагораживает человека, как обхождение с
дамами: это — аксиома»; «Изящные люди не образуются, а родятся, как
и поэты» ; «Недавно я придумал план, который я считаю умным,
потому что сам его придумал; а ведь нужно же, чтобы все мы считали свои
планы умными. Я задумал — учиться без книг». Подобные суждения
в письмах Страхова очень напоминают страницы юношеского дневника
его ровесника — Льва Толстого.
Неудивительно, что и с героем автобиографической трилогии
«Детство. Отрочество. Юность» Николенькой Иртеньевым юношу
32
M. И. ЩЕРБАКОВА
Страхова сближает гамма чувств и душевных движений, непростой
для каждого из них путь от склонности к умствованию и гордости к
просветленности, обретению себя, к раскаянию и моральному порыву.
Также и ситуация с поваром Николаем, подробно изложенная в
письмах к о. Иоанну Скивскому, очень близка описанному в «Отрочестве»
реальному случаю, о котором Толстой вспоминал как о причине
сохранившегося на всю жизнь отвращения ко всякого рода насилию. «Ничто
так много не способствовало к происшедшему во мне моральному
перевороту», — писал он в черновиках повести.
1846 г., давший Страхову «опытности больше, чем все
предыдущие», стал переломным в его судьбе. В середине июля затянувшийся
конфликт с дядей подтолкнул к увольнению из университета и отъезду
в Белгород. Возвращение в Петербург состоялось осенью. Жизнь
начала складываться по-новому.
В мае 1848 года о. Иоанна перевели в Киев, где он и умер через
полтора года; похоронен на Байковом кладбище. На могиле его поставили
скромный каменный памятник с надписью: «Ксендз Иоанн Скивский,
архимандрит Почаевского монастыря, Базилианского ордена. Умер
28 января 1850 г. Жил 75 лет».
Лишившись важного для него духовного общения, Страхов больше
внимания стал уделять художественно-автобиографическим запискам.
В студенческие годы им созданы небольшие фрагменты: «Опыты»,
«Подарестом», «Записки Демона», «ГрушаиСтратопович»,
«Попраздникам» , «Последний год студенчества». Вместе с дневниками и
письмами к о. Иоанну Скивскому они оказались великолепной школой
письма, началом выработки собственного стиля и поиска наиболее
близкой его философскому складу формы изложения.
-к "к -к
H. H. Страхов — о. Иоанну Скивскому
4 апреля 1845
Дела теперь довольно, так что нет вовсе времени заниматься ни
книгами, ни французским языком. Все время занимает у меня переписка
лекций. Впрочем, я хожу на французские уроки и понимаю, хотя не
много. Особенно меня затрудняет слитный выговор французов. Но едва ли
я попаду в профессора университета, хотя бы мне этого и хотелось.
Я вижу теперь, что способности мои в некоторых отношениях очень
ограничены. Недавно я размышлял о себе и составил понятие о моем
«Вместо дневника — письма к вам»
33
характере, об идее моей жизни. Я думаю, что моя душа не имеет сил
огромных и способностей великих, но что эта душа — мягкая,
впечатлительная, восковая. Наука оказала на меня первое впечатление,
и я отлился по ее форме — так же, как отлился бы и по всякой другой;
но посмотрите: это воск, а не медь и не мрамор. Этим характером я
объясняю и мои стихи, и мое изучение языков, и мою ревность в науках. <...>
Я сам недоволен выбором факультета1; это избрание произошло
от нерешимости. Никто не хотел и слышать о моем желании идти по
ученой части. Все говорили, что это нехорошо, и все только и думали, что
о гражданской службе, которой я совсем не терплю. Я бросился в такой
факультет, где было ни то, ни се; между тем, переменить факультет
нельзя, разве начинать снова. Вы предлагаете мне изучать законы. Но я питаю
к ним решительное отвращение. И если меня не примут во второй курс,
то я перейду на филологический или математический: на
филологический, потому что отсюда можно поехать (за границу) при посольстве,
а на математический — по моему расположению к этим наукам. Но, ей-
богу, мне не хочется снова поступать на первый курс, потому что
первокурсные студенты — это то же, что в семинарии словесники, а кому же
хочется быть словесником? Вы советуете еще — серединки держаться;
но ведь на серединке не уедешь за границу. Быть любимым от
начальства — мало возможности, потому что студенты с профессорами не имеют
почти никаких сношений. Впрочем, если я поступлю на казну, то это
будет легче. Однако и казенные студенты имеют здесь такое же отношение
к своекоштным, как у нас в Костроме бурсаки к квартирным. Так же
они всегда нечесаны, ленивы, читают книги в аудитории и проч. <...>
Мне очень нравятся университетские лекции. Вообще, этот новый
для меня способ преподавания кажется мне чрезвычайно хорошим. И мне
ничто бы так приятно не было, как быть на лекции, если бы не нужно
было записывать ее в аудитории, а потом переписывать. Это занимает
у меня много времени, тем более, что я хочу быть готовым к экзамену
в мае, но, кажется, не буду держать его. Если я выдержу
дополнительный экзамен, то мне останется только три года быть в университете;
но я готов не только шесть, как вы говорите, но и десять лет учиться.
О. Иоанн Скивский — H. H. Страхову
8 мая 1845
Не полезно молодому человеку делать планы дальнейшей жизни.
Провидение управляет всем; один маленький случай, одно
приключение испортит все проекты. Лучше — возверзи на Господа печаль твою
и той тя пропитает... Учиться и быть праведным — вот наше дело.
34
M. И. ЩЕРБАКОВА
H. H. Страхов — о. Иоанну Скивскому
14 ноября 1845
Я с таким нетерпением ожидаю снега и, следовательно, книг,
потому что прибытие их составит один из важных переворотов в моей
настоящей жизни. Другие перевороты суть: 1) я надел форменную
одежду и 2) надеюсь получить 5 руб. из казны в месяц. Быть может,
вы не угадаете всей важности этих переворотов, и я вам объясню
это живейшим образом.
Во-первых, прибытие книг будет началом моих занятий. В числе
их мало книг, необходимых мне для занятий (всего один латинский
лексикон), но все же в них я найду противодействие моей лени. Здесь я
нахожу одно затруднение; положим, я начал заниматься, но какой метод
избрать мне? Все, что я приобрел доселе, не имеет ни малейшего запаху
метода. Но, положим, метода не нужно, я не слишком о нем забочусь;
но как мне прикажете учиться? т.е. как удержать в памяти то, что вижу
пред глазами в этих книгах — то толстых, то тоненьких? Доселе я учился
вот как: 1) Или долбил слово в слово. От этого мало толку. Правда, я знал
то, что долбил по нескольку раз, но часто и не знал. Кроме того, этот
способ учения ничем не лучше других и притом труднее. Кто захочет
долбить? 2) В языках я шел обыкновенно медленно, как только можно,
изучая основания. Потом я начинал переводить строчек по десяти и
переводил до бесконечности, а толку все было мало; я знал мало слов и скоро
забывал; я сыпал песок в решето постоянно и аккуратно, а песок также
постоянно и аккуратно высыпался. Это ребячество продолжалось долго.
3) Я читал ученые статьи, повести, все, все. Это очень мало действовало.
Я, правда, более и более обогащался познаниями, но в этом случае песок
сыпался ещё стремительнее, чем большими горстями я кидал его. <...>
Итак, ни один из способов, мною употребляемых, никуда не
годится. Из этого следует: I) В языках я должен идти как можно быстрее,
т.е. при первой возможности переводить, я должен переводить много
и долго и т. д. 2) Во всем остальном я должен читать книги, как можно
внимательнее и углубленнее, перечитывать иногда, изучать книги;
но для этого выбирать книги достойные и притом заниматься одним
и тем же предметом дольше, например — одну неделю архитектурою,
другую живописью и т.д. Кроме того, внимательно слушать лекции,
если будут деньги на извозчика. Вы видите, что я наилучшим образом
приготовляюсь быть человеком занимающимся. Остальные планы
после расскажу.
Второй переворот, по моему мнению, есть форма. Я никогда
не предполагал, сколько важности заключается в этом внешнем
«Вместо дневника — письма к вам»
35
преобразовании. Я сам не столько радуюсь своему костюму, сколько
другие. Знакомые улыбаются и с удивлением посматривают на меня;
приветствия громче, обхождение вежливее; кто прежде не кланялся,
теперь пожимает руку. Одним словом, теперь я, как прекрасный
молодой человек (слог повестей), могу явиться куда угодно, могу
говорить смело и смеяться громко; теперь только я стал настоящим
студентом со всеми его правами и льготами. Нужно этим
воспользоваться; но монастырь... О, Боже! неужели я не вырвусь никогда
из монастыря? Непременно, непременно!.. Но как?.. Скорее,
скорее! Между тем теперь должен я пользоваться только тем клочком
свободы, который у меня есть, да и для этого необходимы деньги,
а именно — на извозчика. И эти-то деньги я надеюсь получить из
казны. О радость!.. Представьте себе (как говорит проф. Куторга), что
я встаю утром, когда еше темно, пью чай, просматривая тогда же
Вергилия, надеваю треугольную шляпу, закутываюсь в шинель и
выхожу... «Извозчик!» — и снег скрипит под полозьями саней. Кругом
мелькают потухающие фонари... А после... нет! уж я не расскажу,
что будет после. Я могу не быть в монастыре от восьми часов утра
до 4 M по полудни. Вам кажется много; но надобно исключить 3 часа
туда и назад, 3 часа на лекции и, кроме того, я никак не соберусь
к 8-ми часам и всегда выйду в 9. И все это уничтожится при деньгах.
Три часа ходьбы сократится в % езды, зато лекции увеличатся
непомерно, и я в 9 часов всегда буду в университете. Это представляет
самую завлекательную картину.
<...> Извините, ради Бога, за них; скажите, кому же мне писать?
Кому передавать мои мысли и чувства? А мои письма потому и скучны,
что я в них толкую только об одном себе, как будто я великая цаца, как
говорит дядюшка.
Я перестал писать дневник, т.е. я пишу его стихами. А что можно
сказать в стихах? Многое, но не то, что в прозе. Вместо дневника —
письма к вам. Вы так снисходительны, так добры, что их читаете и,
может быть, утешаетесь ими; но если вы прикажете, я буду писать, о чем
вам угодно. Когда я пишу, у меня рождается всегда туча мыслей, тогда
как без пера в руке горизонт ума чист и ясен. У меня нет недостатка
в словах. Пишу — слова льются; я смотрю, можно ли так их связать:
можно, вот я и поймал мысль за хвостик. Когда пишу, я мыслю; когда
мыслю, то философствую и т.д. Итак, извините меня за письма; я зато
в них искренен совершенно. Да и вообше теперь, во время
царствования лени, я пристрастился к длинным письмам, и тем длиннее, чем
более я могу быть откровенным. Дела у меня мало, что же остается?
не писать же романы? Я не умею еще. Гораздо удобнее писать письма,
которых я не умею писать. <...>
36
M. И. ЩЕРБАКОВА
О. Иоанн Скивский — H. H. Страхову
14 декабря 1845
Большое спасибо за ваши письма, я их часто прочитывал и всегда
с одинаковым удовольствием. В них отразился весь ваш характер, все
ваши чувства и процесс развития вашего ума. Я радуюсь всем вашим
намерениям и плану ваших занятий. <...>
Я все боюсь знакомств и особенно тех, что кровь кипит при
воспоминании. Многих они погубили в цвете юношества и наиболее тех,
которые думали, что имеют столько твердости и разума, что победят
себя или одержат победу над страстями, но они ошиблись. <...>
О плане наук не нужно думать. Над ним думали великие люди,
он представлен в правилах для университета; достаточно исполнять
их, чтобы быть ученым.
Книги неотменно нужны. Не было человека, который бы все умел
и во всем был совершен. Они читали книги и чрез это узнали, что в какой
содержится, а в случае нужды прибегали к авторам, которых держали
в шкафах. Поэтому старайся понемногу заводить собственную библиотеку.
Н. Н. Страхов — о. Иоанну Скивскому
Декабрь 1845
Пишу к вам в страшной горести: я, наконец, понял, отчего я
сделался так ленив, — оттого что со мной нет вас. О! если бы вы были тут,
со мною, увидели бы вы, как я был бы прилежен! Привыкнув быть
всегда под руководством и оставшись вдруг на воле, я не знаю, что делать,
не знаю, как и с чего начать. Да и кто будет поощрять и поддерживать
меня на пути моем? К кому приду я прочитать свой урок? Мечта о славе!
Блестящая мечта! Я начинаю забывать тебя. Хорошо ли это, худо ли?
Худо, очень худо. Для окрыления моей мысли я решусь на дерзкий
поступок и скажу вам, если успею. Как бы я обрадовался, если бы был
здоров телом и душою! Если бы у меня не было золотухи и ум был свеж,
как ветер летнего утра! Боже мой, Боже мой! Я готов впасть в отчаяние
от сознания собственного ничтожества. Я хочу наслаждаться, да, я хочу
наслаждаться всем, что есть лучшего в мире — тревогою души и тела.
Но душа моя неподвижна и нема, как надмогильный камень, тело мое
болезненно и имеет недостатки. Я не имею обоняния, и целый мир
цветов закрыт для меня. Роза имеет для меня одинаковый запах, как
и гнилая подошва. Далее, у меня нет и хорошего вкуса, всегда
зависящего от обоняния; я не могу быть гастрономом и ем с одинаковым
удовольствием красную смородину и репу. У меня нет даже слуха,
«Вместо дневника — письма к вам»
37
нет уха, способного наслаждаться музыкою. У меня есть одно зрение,
но зрение, неспособное наслаждаться, зрение без эстетического
образования, которого у меня не будет никогда. А между тем я жаден
к наслаждениям, готов объесться яблоками или смородиной, готов
плакать от дрянной музыки, готов... я больше ничего не скажу. Мои
способности! У меня нет капли творчества, нет быстроты и живости.
Пустою и туманною представляется мне перспектива будущей жизни.
Неужели я буду чиновником или учителем гимназии? Неправда ли, что
лучше всего наслаждаться студенческою жизнью и попробовать, между
прочим, не выжмется ли из меня чего-нибудь хорошего? Нужны только
деньги; но где мне достать вас, деньги? Я достану! И жизнь моя,
покамест, будет легка и приятна, но никогда не будет забрызгана грязью.
Я возвращаюсь к своей одинокой жизни. Этому много способствовало
то, что Нафанаил узнал о моих поздних отлучках. Потому он приказал:
«Если он придет после 10 часов, запирать ворота и не пускать его».
Этого приказания я не боюсь, но боюсь, что он на меня рассердится
и, пожалуй, совсем не станет пускать меня. Бог с ним! <...>
Неужели вам не жалко меня. Я ищу любви, я жажду любви, а ее нет
и нет!.. О, если бы вы были подле меня. Как часто я долго не засыпаю,
утомленный суетою, и думаю, и грущу... Напрасно! Ангел не прилетает,
некому успокоить меня... Я один... один в целом Петербурге! И что если
я буду вечно один? Душа рвется на части, как капля воды на раскаленном
железе. Теперь я молод, как распуколка розана, невинен, как теленок,
жив, как ртуть, беспечен, как стрекоза, и я забываю свое горе, перестаю
жаждать и гореть, засыпаю, просыпаюсь медленно, пью чай с сухарями...
Но после, когда все это пройдет, как все проходит? Тридцать... сорок
лет... карты... честолюбие... сорок пять... деньги... Аллах, аллах! кто
спасет меня? Кто?.. Никто!.. Суета сует, все суета! Что пользы человеку
во всем труде его, которым трудится под солнцем? Что найдет он на земле
лучше вина и красавиц? Люди или бывают ничтожны, или бывают злы,
а природа бесчувственна, хоть и прекрасна. На что же человеку сберегать
в груди своей пламень, разжигающий душу, как трубку табаку? Кому
подарит он его?.. Я не знаю... А земля стоит вовек! <...>
Мне еще три с половиной года быть студентом. О, как я рад! А
потом за границу... тсс... какая дерзость! Действительно, мне хотелось бы
ходить с тросточкой по Парижу и Лондону. Но еще более мне
хотелось бы перенестись хоть на год в древние времена, в Вавилон, в Рим,
в Афины. Всего более мне хотелось бы пожить в Вавилоне, роскошном,
волшебном Вавилоне!..
ч
Н.Н.СТРАХОВ
<Предисловие к «Воспоминаниям и отрывкам»>
Состав этой книжки довольно разнообразный: сюда вошли статьи,
касающиеся вопросов нравственности и эстетики, и в конце книжки —
небольшие попытки художественного писания. К этим попыткам,
большею частью уже давних лет, надеюсь, читатели будут
снисходительны и не станут подозревать во мне больших притязаний. В душе
поэтов творчество горит ярким пламенем, но искра такого пламени
часто теплится и в других людях. Настоящим поводом к изданию этой
книжки было желание представить вновь читателям две-три статьи,
уже напечатанные, но в моих глазах, более других, заслуживающие
перепечатки. Журналистика похожа на широкую и шумно текущую
реку, образуемую множеством притоков; но течение ее чрезвычайно
короткое: она быстро впадает в Лету и ежедневно уносит туда не
только то, что прямо для этого поглощения и пишется, но вместе и то, что
пишется с надеждою на более долгое существование.
18окт. Н.С.
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
I
Почтенный Тимковский1 начинает описание своего путешествия
такими словами: «Судьба украсила мою жизнь событием редким,
незабвенным: я видел Китай». Так и я мог бы сказать. И в моей жизни
было редкое и прекрасное событие: я видел Афон. Впечатления, которые
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
39
оставила во мне Святая Гора, составляют с тех пор (то есть с 1881 года)
великую драгоценность, и они живо возникли во мне, когда появилось
известие о смерти игумена отца Макария (19 июля 1889 г.)2 и стали
печататься воспоминания об нем и очерки его жизни. Мне досталось
счастье видеть о. Макария и разговаривать с ним; из всех, кого я видел
на Афоне, он был для меня самым чистым и несравненным по красоте
воплощением того духа, которым живет вся Афонская гора.
Мне хочется теперь остановиться хоть немножко на этих
воспоминаниях. Особенно хотелось бы мне, из того, что сохранилось в моей
памяти, уловить кой-какие черты, которых я почти вовсе не нахожу
в чужих рассказах. После того, как я съездил на Афон, для меня
получила большую занимательность всякая книга или статья, где о нем
говорится; нигде, однако же, не привелось мне найти повторения иных
впечатлений, которые я испытал и которые очень хотелось бы встретить
в полном и ясном выражении.
Но, прежде всего, чувствую, что мне следует представить своим
читателям некоторые объяснения и почти оправдания. Как случилось,
что я попал на Афон? Что привело меня туда? И тогда, и потом, часто
мне приходилось слышать подобные вопросы. Еще на пути к Святой
Горе не раз я замечал, что моя поездка возбуждает удивление, особенно
если случалось говорить с незнакомыми людьми. И на железной дороге,
и в Севастопольской гостинице, и на пароходе, и в Константинополе,
даже в нашем консульстве и посольстве мои собеседники иногда очень
заметно выражали мне свое недоумение. Когда бывало случалось мне
объявлять свой чин статского советника, то это всегда производило
благоприятное впечатление; когда потом оказывалось, что я служу
библиотекарем, то это значительно охлаждало внимание, возбужденное
моим чином; но когда я говорил, что хочу проехать на Афон, то я
видел, что вдруг совершенно ронял себя во мнении моих собеседников.
Живой разговор, подстрекаемый тою скукою, которую большинство
людей чувствует в дороге, вдруг затихал; иные чуть не готовы были
от меня отвернуться. Очевидно, в их глазах я попадал в разряд людей,
которым не могут быть доступны высшие интересы просвещения и
которые сами питают какие-то дикие интересы. Случалось мне замечать
потом, с каким высокомерием и нескрываемым недоброжелательством
иные из этих просвещенных людей смотрели вообще на монахов: без
сомнения, они видели в них какой-то вредный элемент человеческого
общества.
Итак, некоторые объяснения с моей стороны, мне кажется,
необходимы, хотя, конечно, не для всех читателей. Вражды и слепого
взаимного непонимания еще много и в наш прогрессивный век, может
быть, даже больше, чем в другие века.
40
H. H. СТРАХОВ
II
Куда ехать? Зачем ехать? Если эти вопросы разуметь в серьезном
смысле, на них вовсе не легко ответить. Спасать свою душу одинаково
надобно и возможно на всяком месте, и от души своей никуда спастись
невозможно. Да и вообще, не везде ли вокруг нас люди, а перед нами земля
и небо, все стихии природы и жизни человеческой? И счастлив, конечно,
тот, кто прямо живет этими окружающими стихиями, кого не тянет вдаль,
кто почерпает свою душевную пищу из близкой и родной почвы. Для
таких людей путешествие не может иметь глубокого интереса; оно всегда
для них будет только забавою, только «охотою». Так гуляют по всему
свету англичане, нося в груди свою Англию и смотря на весь остальной
мир с равнодушием и презрением. Правда, они очень трудно и очень мало
понимают чужую жизнь: но это ведь не мешает их душевному здоровью.
Другое дело, как известно, мы, русские. Мы большие охотники
расширять свой кругозор: мы легко вникаем в чужую жизнь, легко отдаемся
чужим понятиям, и нельзя не сознаться, что большею частью мы этим
портим свою душевную деятельность. Если бы мы были посерьезнее,
то нас должно бы было ужасать то отсутствие крепких связей со всякою
жизнью, и со своею, и с чужою, которое у нас так часто встречается. Всё
мы понимаем, всем умеем интересоваться, и ничем серьезно не заняты,
и ни к чему не питаем глубокого, кровного участия, кроме разве своих
мелких личных выгод и прихотей. Вследствие долгого умственного
блуждания по разным эпохам истории и народам земного шара
русский образованный человек часто по душевному складу бывает похож
на отжившего старика, невольно пришедшего наконец к той степени
отвлеченного понимания, на которой все вещи равны и нет уже ничего
ни нового, ни великого, а все сливается в однообразном потоке вечности.
Как бы то ни было, но я чувствую, мне следует, вообще, не столько
похвалиться, сколько повиниться перед читателем, объясняя ему, что
одною из причин моей поездки в Царьград и на Афон была прямо
похоть очей. У меня было два свободных месяца, и мне захотелось увидеть
что-нибудь новое, посмотреть собственным глазами на какое-нибудь
большое зрелище, не похожее ни на что прежде виденное, и
прикоснуться душою к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам,
по которым мы сами живем. Европа меня не тянула, хотя в прежние
поездки в Париже мне не пришлось провести и десяти дней, а в Лондоне
вовсе не удалось побывать3. Европу ведь можно видеть тут, в Петербурге;
ее жизнь, ее нравы и вкусы широкою волною наплывают к нам через
это «прорубленное окно» и оседают здесь в самых точных своих формах.
Мы даже и говорим по-французски, хотя утонченные западники, как,
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
41
например, Тургенев, и замечают, что петербургский французский язык
будто бы противен по сравнению с прелестью настоящего французского
языка. Но не всякому доступна такая проницательность; для грубого
взгляда наш Петербург — совершенно европейский город. Не только
улицы, дома и магазины устроены по-европейски; но и книги, картины,
кокотки, принципы, вкусы и приемы — все целиком приходит к нам
с Запада и господствует беспрекословно в нашей жизни. Конечно,
несмотря на то, Петербург все-таки оказывается только парадным городом,
как бывают в домах парадные комнаты для приема гостей. Под
блестящей обстановкой и в стороне от центров, опытные глаза и в нем легко
различают неряшество, грязь, беспорядок, все милое спустя рукава
русской жизни; среди звуков стройного столичного шума и говора опытные
уши могут уловить и звуки чисто звериные, и нередко грубость истинно
татарскую. Не говорю о том великом духе, который многие
приписывают только Москве и деревне и который живет, однако, и в Петербурге,
хотя еще более безмолвный и невидный, чем в других местах. Но все же
европейский элемент, в самых существенных, крупных своих чертах,
здесь так силен, что едва ли нужно еще ехать в Лондон, чтобы ближе
узнать начала, на которых зиждется жизнь просвещенных народов.
Так ведь, кажется, мы и делаем: мы много ездим в Европу, но больше
для того, чтобы там жить и гулять, а не для того, чтобы учиться.
Но где же искать другой жизни? Европейские нравы и обычаи уже
распространились по всему земному шару; везде власть и движение, рост
и сила принадлежит Европе, а всякая другая жизнь лишена развития
и будущности. Сотни миллионов людей, еще не уподобившихся
европейцам, составляют лишь служебное, рабочее, податное население, которое
уже не может мечтать ни о самостоятельности политической, ни о
своеобразной культуре, ни о малейшем участии в ходе истории человеческой.
Итак, от Европы трудно уйти. Какая охота ехать в Египет?
Пришлось бы идти вверх по Нилу на каком-нибудь французском
пароходе, потом остановиться в Каире в «европейской гостинице», а
вечером идти в театр слушать итальянскую оперу. Жить на другой точке
земного шара, но в нашей обыкновенной обстановке, видеть кругом
только дребезги былой жизни, не встречать вокруг себя никаких форм
и движений, в которых проявляется сила и творчество самобытного
народа, самобытной истории, — тут нет ничего особенно интересного.
Но не то ли же самое и везде, что в Египте? Везде остались только
обломки и дребезги былой жизни, везде туземное население на заднем
плане, лишенное средоточия и самобытного движения, а на первом
плане живет и движется та Европа, которой отличные образчики можно
найти и здесь, в Петербурге. Одна только страна, как рассказывают,
сохранила еще свою древнюю жизнь и еще может иметь надежды
42
H. Н. СТРАХОВ
на ее развитие в будущем. Это — Индия, колыбель самой
распространенной религии, самой отвлеченной философии и математики. Не так
давно один из наших сенаторов съездил отсюда в Индию — так, для
прогулки, в свободное от занятий время. Нельзя не похвалить его за
молодечество и не позавидовать ему. Но это, конечно, довольно дальняя
и дорогая прогулка, и к ней нужно порядочно подготовиться, чтобы
она имела надлежащий интерес. Между тем у нас близко, под боком
есть страны, которые, очевидно, имеют тоже высокую занимательность.
Самая страшная Азия, последняя могучая форма восточной жизни,
еще царит в Константинополе; благодаря усилиям Европы, на самом
европейском материке еще сохраняется грозное некогда владычество
турок4. Если бы мне, думал я, и не удалось многое уразуметь в этой
чужой жизни, то одно наверное удастся, — увижу это несравненное
место, полюбуюсь на вид, равного которому не находят на всем
земном шаре. А кроме того, побываю и в Святой Софии, то есть в храме,
который, по мнению многих, тоже не имеет себе равного по красоте.
Но оттуда уже недалеко до другого места, как мне думалось, еще
более любопытного, уступающего своим интересом разве только одной
Индии. Это — Святая Гора, небольшой полуостров Эгейского моря,
населенный монахами. Там сохранилась до наших дней и
продолжает неприкосновенно процветать особая жизнь, начавшаяся с первых
веков христианства и, уже почти тысячу лет назад, вполне
сложившаяся в свои формы. Эти монахи показали, как бы в виде огромного
исторического примера, истинные свойства монашества, то есть, что
они действительно отрекшиеся от мира богомольцы, чуждые всяких
земных дел. Так их и поняли свирепые турки и оставили их в покое,
так что люди, отказавшиеся от всех земных благ, сохранили в течение
многих бедственных веков лучшее благо — независимость и
самобытный склад жизни. Но цель их была раз навсегда назначена, и средства
для нее от начала были определены; поэтому им не нужно было никаких
перемен, и у них не было прогресса, не было истории. По свидетельству
ученых исследователей, Афон есть действительно живой остаток
глубокой старины и, в этом отношении, место единственное в своем роде,
подобного которому нет ни в одной стране обитаемого мира.
Вспомним при этом, какой дух там живет, — дух нашего
православного благочестия. Там — одно из чистейших воплощений того
животворного начала, которое составляет истинную душу русского
народа. Афон есть поприще и училище святости, а святой человек есть
высший идеал русских людей, начиная от неграмотного крестьянина
и до Льва Толстого5.
Вот, читатель, маленькое объяснение, почему мне грешному
захотелось побывать на Афоне.
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
43
III
В 1881 году 16-е августа приходилось на воскресенье6, и утром в 9
часов я сел на пароход, который по воскресеньям отходит из Севастополя
и идет прямо в Константинополь. На пароходе было пусто; кроме двух
русских, мужа и жены, был еще один англичанин; но где же на море
англичан не бывает? Невольно я почувствовал некоторую странность
своего поступка; как это я еду туда, куда никто не едет?
Константинополь вообще так далек от наших мыслей, что он и в
пространстве кажется нам дальше Парижа, Лондона, Рима. Между тем
он действительно у нас под боком. Из Севастополя или из Одессы
проехать в Константинополь легче и дешевле, чем из Петербурга в Москву.
На другой день в полдень мы уже входили в Босфор и, конечно, все
бросились на палубу. К несчастию, день был облачный, и
удивительный вид много терял. Но, кроме того, присматриваясь к пышным
зданиям, которые одно за другим так живописно рисуются на зеленом
фоне высокого берега, я стал чувствовать в этой пышности какой-то
недостаток. В размерах этажей, в простенках, которые втрое уже окон,
во всем обнаруживалась странная легкость. «Да это карточные
домики!» — сказал я англичанину. Потом я убедился, что так построен
и весь Константинополь. Тонкие стены выводятся из деревянных
брусьев, пересекающихся накрест; промежутки закладываются легкими
кирпичами. Архитектурное впечатление, которое производит большая
масса таких домов, в сущности очень жалкое.
Но мне придется теперь отложить всякие рассказы о впечатлениях
Стамбула, о святой Софии и мечетях, о базарах и кофейнях, о
всяческих моих усилиях вникнуть в жизнь турок и уловить физиономию
удивительного города и времяпрепровождения его жителей. Никакие
описания не могут заменить того, что поймешь, когда видишь предмет
собственными глазами, и если я прежде знал, что Турция — умирающий
организм, то не мог, однако, и представить себе, как на всем и всюду здесь
лежит страшная печать мертвенности. Но обращаюсь прямо к поездке
на Афон. На афонском подворье мне сказали, что пароход отойдет 28
августа, и уже накануне я перебрался из гостиницы на подворье. Не могу
не вспомнить с благодарностью об этом гостеприимстве. Афонские
отцы знамениты своей любезностью и радушием, и самое приятное
то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они в этом естественны.
Вежливость монаха имеет глубокую и твердую основу — искреннее
смирение; промах в обращении с людьми скорее сделает мирской
человек, никогда не бывающий вполне свободным от гордости житейской.
44
H. H. СТРАХОВ
Вообще, для русского поездка на Афон оказывается делом
самым простым и легким. Не нужно ни малейших хлопот и усилий.
В Константинополе монахи возьмут вас с парохода, поместят в своем
подворье, будут угождать вам, кормить и поить, и, когда придет время,
посадят на пароход, отправляющийся к Святой Горе. Поразительно
то обстоятельство, что только русский монастырь устроил совершенно
правильное и удобное сообщение с Афоном. Французский пароход,
делающий правильные рейсы по Мраморному и Белому морю, обязан по
условию зайти раз в две недели в русский монастырь св. Пантелеймона;
тут он оставляет тех, кто сел в Константинополе, и берет тех, кто туда
возвращается. Наш монастырь поэтому стал точкой сообщения с
остальным миром всей Афонской горы; он раз в две недели принимает под свой
кров путников всяких других монастырей, хотя из них многие
превосходят его древностью и богатством7. Дело в том, что обильный и
непрерывный поток богомольцев в настоящее время идет только из России;
путники, идущие из других стран, становятся все реже и реже. Говорят,
что греки усердно посещали Афон и делали богатые приношения,
пока были под властью турок; но со времени освобождения все это почти
прекратилось. Греки очень редко стали поступать и в монахи, так что
их монастыри состоят теперь из глубоких старцев и понемножку
пустеют. У нас наоборот: число монашествующих растет с каждым годом.
Всего замечательнее то, что это процветание есть дело очень недавнее.
Когда в половине сороковых годов Фалльмерайер гостил на Афоне8, он,
такой внимательный ко всему, касающемуся России, даже не обратил
внимания на ничтожную кучку русских монахов. Быстрое разрастание
«Руссика»9 относится только к прошлому царствованию, то есть как
раз к тому времени, когда происходило столько освободительных
реформ, когда вместе с тем появились и разрослись у нас вольнодумство,
нигилизм, покушения. В это время, незримо для нас, благочестивые
люди один за другим уходили навсегда за дальние моря и составили
там нынешнее многолюдное и цветущее общежитие.
Может быть, это — простое следствие оживления всяких
передвижений и сношений, а может быть, тут есть и молчаливый протест
против нашего просвещения.
IV
<...> Хлопот было много, и монахи усердно работали, принимая
путников и их вещи. Я праздно стоял, вглядываясь в эту оживленную картину.
И тут меня поразило впечатление, которое потом уже не покидало меня
во все время, проведенное на Святой Горе. Послышались быстрые,
торопливые восклицания монахов: «сюда! держитесь! подвиньтесь! посвети,
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
45
брат Василий! отец Памва, еще немножко!» и так далее. Но, несмотря
на всю живость и поспешность этих речей, в них было что-то особенное.
Они не только не подымались до крика, не только в них не звучало и тени
раздражения или досады, но не было даже простой небрежности или
отрывания: торопящиеся голоса были неизменно ласковы, чисты и
свободны. Эти монахи, которых мы вдруг разбудили, оказались на этой пробе
истинными монахами. И то же самое вы заметите всегда и на всем Афоне,
и в монастырях, и в Карее10, и на дорогах в лесу, и на лодках у берегов.
Везде, в речах и действиях господствует совершенное бесстрастие и
спокойствие, которое при каждом удобном случае переходит только в радушие
и ласку. «Благословите!», «Бог вас благословит!», «Будьте
благословенны! » — такими приветствиями обмениваются на Афоне пешеходы и
всадники, встречающиеся на дороге. В продолжение двух недель я не слышал
ни единого крика, ни единого сердитого слова; эта удивительная тишина,
прямое отражение и выражение душевного мира, поразила меня в первый
день, а потом пленяла все больше и больше. Так живет весь полуостров,
всё его десятитысячное население.
<... > Никогда не забыть мне раннего утра, когда мы выехали
из Симоно-Петра11 после ночлега. Тропинка идет на огромной
высоте над отвесными скалами, и было видно и слышно, как море плещет
в каменный берег. Боже мой, какой простор и свет, какая прозрачность
и чистота всех очертаний, какой океан сияющей красоты!
Не даром же эту прекрасную пустыню с древнейших времен выбрали
для себя монахи. Известно, что монахи вообще высоко ценят красоту
природы. Вспомните местоположение какого-нибудь из монастырей
у нас на родине; если вглядеться, то нельзя будет не согласиться, что
место всегда выбрано с самым тонким и верным вкусом. Итак, радость
очей, наслаждение зрелищем природы находится, очевидно, в полной
гармонии с самым чистым благочестием, даже с высшими духовными
подвигами. <...>
V
Светлою, радостною красотою осталась в моей памяти Святая Гора.
Но и обитатели ее, как ни мало я успел с ними познакомиться, оставили
во мне впечатление людей светлых и радостных. Против монашеской
жизни, как известно, существуют упорные и глубокие предубеждения.
Мирские люди нынче построили всю свою жизнь на таких началах,
что потеряли возможность даже понять, что делают монахи. У Вогюэ,
французского писателя, которого у нас так знают и любят12, есть
книжка, где он очень занимательно и подробно рассказывает о своей поездке
на Афон в 1875 году. В заключение он говорит:
46
H. Я. СТРАХОВ
«Память минувшего и молчание! Нет, человек не может жить этими
двумя отрицаниями, и в этом скоро убедится тот, кто побывал на Афоне.
Никогда не удастся нам выразить то впечатление духоты и удручения,
тот сплин, который выдыхается этою искусственною жизнью, то
оцепенение, которое овладевает умом при этом странствии между гробами.
На эту природу, столь богатую и могучую, но пораженную бесплодием,
нечувствительно распростирается траурный покров; глаз видит все
в черном цвете, тошнота схватывает за сердце при вдыхании безвкусных
запахов бальзамировки: эти восковые фантомы с угасшими взглядами
тревожат ваш сон в уединенной келье. В последние дни напрасно мы
искали какого-нибудь приятного напоминания отсутствующей жизни:
нам казалось, что печаль сочится отовсюду...»
В подобном тоне говорят почти все о жизни монахов. Даже суровый
Фалльмерайер, делающий в своем очерке такие гениальные замечания
о различии Востока и Запада и умеющий так глубоко ценить покой
души, и он приписывает некоторую «меланхолию» тем, кого называет
Weltubewunder, «препобедившими мир».
Между тем сами монахи никогда не говорят ничего подобного.
Они считают грехом, если подвергаются чувству уныния и тоски,
и они стараются прогнать от себя такие чувства. А главное, они считают
свою жизнь по самому ее существу блаженной жизнью, исполненной
лучших радостей, доступных человеку на земле. Возьмите «Письма
Святогорца»13, а еще лучше «Странствие инока Парфения», и вы
убедитесь несомненно, неопровержимо, что в жизни истинного монаха
много высоких радостей, что монахи сердечно любят всю свою
обстановку, все свои упражнения и действительно считают себя несравненно
благополучнее всяких мирских людей. Неправильное мнение о жизни
монахов, мне кажется, происходит от двух причин: от ложного
понятия об их лишениях и от ложного понятия об их трудах. Мирские
люди часто с непонятным бесстыдством принимаются сожалеть о том,
что монахи лишают себя двух великих благ, мяса и женщин. Можно
подумать, что именно похоть плоти составляет главную красу
человеческой жизни; большинство, впрочем, как мы знаем, искренне
проповедует это, почему во всем цивилизованном мире и
совершается в огромных размерах и с величайшим усердием служение чреву
и спинному хребту. Но не нужно же забывать, что это служение никак
не может придать нашей жизни полного благополучия; эти радости
скоро бледнеют и оканчиваются обыкновенно только тем, что
человек впадает в тяжкое и безрадостное рабство собственному чреву
и хребту. С отношениями к женщинам не даром всегда сопряжено
чувство стыд а у явный признак греха и зла, как справедливо замечает
Шопенгауэр. Итак, почему же мы будем считать несчастными людей,
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
47
которые совершенно свободны от всего, что может повести к рабству
и что может возбудить стыд?
Рассказывая о поездке в Карею, Вогюэ замечает: «Как бы было мило
и очаровательно, если бы приятный вид этого местечка был оживлен
молодыми матерями, за пряжею на своих порогах, криками детей при звуке
лошадиных копыт, кудахтаньем кур и лаем собак; но нет: на шум нашего
каравана одни лишь черные колпаки высовываются из окон, а под ними
исхудалые лица и глаза, вяло блуждающие по безграничным областям
скуки». Несколько далее автор пожалеет даже об игуменском коте,
«печально влачащем свое вынужденное безбрачие». Ну не странно ли, что
иные мысли приходят в голову как раз там, где им вовсе не следовало бы
показываться? Тишина и спокойствие естественно кажутся несносными
для живого нрава; но совершенно напрасно отсюда делаются заключения
о «безграничных областях скуки», о «сплине, выдыхаемом этою
жизнью», о «печали, которая сочится отовсюду» и т.д. Все это — неверный,
фантастический колорит, искажающий действительность. Сам же Вогюэ,
везде, где рассказывает о сношениях с монахами, невольно указывает
на их «веселость», на «общительное добродушие» и «оживленные речи»;
у него живо сохранилось, как он говорит, «воспоминание об их
усердном гостеприимстве, о личном обаянии, производимом всеми этими
приветливыми и улыбающимися стариками, руки которых мы
пожимали». Разве это похоже на людей, изнемогающих от тоски и печали?
Несколько далее, стараясь разрешить «непостижимую загадку этих
натур», Вогюэ пишет: «Ясные и улыбающиеся физиономии добрых ка-
логеров14 вполне убеждают нас, что не какие-нибудь внутренние драмы
населили эти отшельнические убежища». Это совершенно озадачивает
нашего путешественника; впрочем, и никто почти не находит выхода
из этого противоречия. Мы все немножко чувствуем, как мы дурны
и гадки, мы несколько понимаем надобность покаяния, а потому легко
воображаем, что монах есть человек много нагрешивший и теперь
предающийся покаянию. Мы так часто видим разбитые сердца, погубленные
жизни, изможденные души, что несколько понимаем и потребность
покоя, а потому объясняем себе монашество как жажду уединения,
как удаление от людей. Но дальше мы понимать не можем. Что в
покаянии душа исцеляется и светлеет, что в уединении человек не только
спасается от людей, а способен почувствовать радостное приближение
к Богу, словом, что монашество есть путь действительного блаженства,
что, следовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи
ни великим грешником, ни великим несчастливцем, — этого мы понять
не можем, это выходит за пределы всех наших представлений.
48
H. Н. СТРАХОВ
VII
Доступ к отцу игумену был очень труден; но оказалось, что посещать
других монахов было также почти невозможно. Разумеется, мне очень
хотелось сблизиться с ними, и неизменная их приветливость, казалось,
устраняла малейшее к тому затруднение. Но когда я зашел к отцу Р.,
то случилось, что он спал в это время, и мне было совестно, что я разбудил
его; когда я попробовал зайти к отцу Ап., то застал его читающим
«правило» : конечно, я сейчас же ушел, едва успевши взглянуть на прекрасный
морской вид из маленького окна, на который обратил мое внимание сам
обитатель кельи. Наконец, я вовсе прекратил эти попытки и только
просил монахов, чтобы они заходили ко мне, если найдут для этого время.
Но свободного времени у них почти нет. Для своего главного дела,
для молитвы, они должны присутствовать на всех церковных службах,
а службы эти, вместе взятые, занимают двенадцать, пятнадцать, иногда
двадцать часов в сутки. Служащие, причащающиеся (а все
причащаются раз или два в неделю) читают, сверх того, еще особые молитвы.
Вследствие этого обыкновенно монахи не имеют семи или восьми часов
подряд свободных, чтобы выспаться, и потому спят мало, или
высыпаются в два или три приема. И так идет дело круглый год, изо дня в день.
Праздники отличаются только тем, что службы бывают торжественнее
и продолжительнее и что всенощное бдение, начинающееся в будни
в первом часу ночи, начинается под праздник с семи часов вечера,
а кончается, как и всегда, к пяти часам утра.
Вот главное занятие монахов, вот их постоянные и непрерывные
труды. Ни одна черта афонской монашеской жизни не приводит
мирских людей в такое изумление, можно сказать даже в ужас, как
эти долговременные молитвы. <...>
Но почему же это нам кажется до такой степени трудным и
мучительным? Разве нам в диковину занятия, поглощающие двенадцать,
пятнадцать часов в сутки? Нисколько. Возьмите ученого, студента, даже
гимназиста, с утра до вечера сидящих над математикою, над греческим
или санскритским языком; возьмите купца, целый день проводящего
за прилавком; мелкого чиновника, иногда заваленного делами;
министра обширного ведомства, непрерывно принимающего доклады
и делающего распоряжения, — мало ли вокруг нас людей, которым,
что называется, «дохнуть некогда»?
А между тем эти труды далеко не пугают нас так, как пугает молитва.
Мы вовсе забываем, кроме того, что, по своей сущности, она несравненно
привлекательнее всех подобных дел. Молитва ведь есть обращение к Богу,
и, если только мы действительно молимся, действительно обращаемся
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
49
к Богу, она приводит нашу душу в одно из высших и отраднейших
состояний. Но, по-видимому, здесь приходится прибегнуть к тому же
рассуждению, какое Платон (в «Протагоре») прилагает к доброте души,
именно, что быть добрым очень легко, но если кто не добр, то стать
добрым очень трудно15. Так и молитва; она сладка для тех, кто сердечно
расположен молиться; но мы так мало чувствуем в себе этого расположения,
мы с таким трудом возбуждаем в себе на недолгие минуты некоторую тень
этого расположения, что всякое молебствие очень скоро вызывает в нас
несносную борьбу и скуку, и для многих бывает истинным мучением.
В монастыре мне была предоставлена, разумеется, полная свобода
занятий и провождения времени, и сначала я придерживался того порядка,
в котором привык проводить свой день. Но с первого же дня я, конечно, стал
посещать церковные службы, хотя и не все, хотя часто приходил не к
началу и уходил далеко раньше конца. Скоро, однако, равномерно бьющийся
пульс монастырской жизни стал мне ясно заметен и стал увлекать меня
за собою. Сидя в своей келье, я чувствовал, когда монастырь спал среди дня,
чувствовал, когда он просыпался и шел в свои церкви. Кругом наступала
полная тишина и безлюдье, и слабо доносилось с разных сторон церковное
пение. Когда, таким образом, совершенно ясно чувствовалось, что все там,
все стоят по своим формам, или священнодействуют, невозможно было
оставаться одному в своей келье. Я шел туда, где были все, и становился
в свою форму. И много, много отрадных часов провел я в этой форме.
Особенно любил я всенощные с теми переменами в освещении, в пении
и чтении, которые на Афоне производятся с такою выразительностью
и красотою. Сперва молебствие долго идет равномерно; но потом
освещение усиливается от незаметно зажигаемых свечей, и два хора начинают
попеременно петь торжественные молитвы. Выносятся свечи на середину
церкви, выходят из алтаря иереи в ризах и тоже хором начинают петь. Вся
церковь полна светом и звучит пением; иногда зажигается и громадное
среднее паникадило. Но понемногу торжество стихает; певчие замолкают,
иереи уходят в алтарь, свечи и паникадило незаметно гаснут, и церковь
постепенно погружается в мрак и молчание. Только посередине, в темноте,
монах с тоненькою восковою свечею в руке читает вслух книгу, пригибая
горящую свечу к самой странице. Проходит полчаса, час, чтение кончено,
снова начинается молебствие, начинают откликаться хоры, загораться
свечи и лампады, и славословие растет все громче и громче, и света все
больше и больше. Великое изящество соблюдено в церковных наших
службах, и я коснулся здесь только самых простых и внешних его сторон.
Но есть ли жизнь в этой прекрасной форме? Для многих кажется
непонятным, как можно каждый день повторять все те же молитвы и те же
священнодействия. Но скептики тут очень ошибаются. Приятно нам новое, еще
50
Я. Я. СТРАХОВ
небывалое; но и старое, тысячу раз повторенное, может действовать на нас
с полною своею силою, даже еще окрепшею от повторения. Каждый день
одно и то же слово, одна и та же мысль может вызвать слезы на наши глаза.
Разумеется, однако, машинальность есть тот недостаток, против которого
всегда приходится бороться при повторении одного и того же. Вслушиваясь
в афонские чтения и молебствия, я часто был поражаем удивительною
искренностью и чувством, с которыми они совершаются. <...> За вечерней ка-
нонарх16 отец Ап. стал произносить перед образом Богоматери: «Пресвятая
Богородице, спаси и помилуй раба твоего Иеронима! » и повторил эти слова
сорок раз сряду. Велика была опасность впасть в машинальность; но кано-
нарх молился искренно, и все сорок раз произнес свою молитву с живым
чувством. И никакими словами невозможно описать ту трогательную
выразительность, неотступность, пламенное усердие, которыми зазвучала
молитва от этого повторения. Тут только я понял необыкновенную красоту
этих повторений, когда их делают как должно.
Так живут афонские монахи. Они живут в церкви, на молитве,
потому что остальное их время и другие дела совершенно незначительны
в сравнении с этим делом. Какое право называть эту жизнь мучением
и истязанием? Скорее можно сказать, что если они достигают
возможности истинно молиться, истинно благоговеть перед
священнодействиями, то они живут блаженною жизнью. Так мы воображаем ангелов,
так мы представляем себе, что сонмы их постоянно предстоят перед
Богом и не сводят своих взоров с лица Божия. Для меня нет никакого
сомнения, что если есть монахи, с борьбой и трудом подымающиеся
на высоту этой жизни, то есть немало других, в которых это уподобление
ангелам вполне осуществляется. И тогда что может быть блаженнее?
Впрочем, не стану настаивать; пусть в моих впечатлениях и оценках
можно заметить некоторое пристрастие. Прибавлю только одно: эти
непрерывные молитвы неразлучно связались в моей памяти с мыслью
об Афоне. Когда я вспомню о своей поездке и о любезных моих
монахах, я не могу их себе представить иначе, как в церкви, за молитвой.
Там, за дальними морями, на светлом юге, в цветущей своей пустыне,
они стоят в больших и малых храмах, с лицами и сердцами,
обращенными к Богу. Когда бы я ни вспомнил о них, утром, или вечером, или
ночью, я знаю, что они делают: они поют и славословят, или молчат
и благоговеют. И вот уже тысяча лет, как восемь или десять тысяч этих
монахов совершают эти непрерывные молитвы, которых я был
очевидцем. При таких воспоминаниях, при картине, возникающей в моем
воображении, умиление неотразимо проникает в душу, и
пробуждается то чувство, которое так ярко горит на Афоне, — жажда молитвы.
9 сентября 1889 г.
Комета
51
Комета
(Писано в 1859 г., когда видна была комета Донати)
Вот ночь, и странными лучами
Опять небесный свод блестит:
Меж помрачёнными звездами,
Их застилая волосами,
Звезда косматая горит.
Как будто в бешеном стремленье,
Хвост разметавши за собой,
Она, полна недоуменья,
Остановилась на мгновенье
Над потемневшею землей.
Невольно думаю: комета!
Увы! В былые времена
Ты, как зловещая примета,
Была бы ужасом полсвета,
Для мудреца и для поэта
Томящей тайною полна.
И я, средь черных размышлений,
Тебя бы спрашивал с тоской:
«То ты? Какой грозящий гений,
Властитель дольних поколений,
Из тьмы небес летит с тобой?»
«Или, как на стенах чертога
Незримый некогда писал,
Так и тебя — не перст ли Бога
Как букву заповеди строгой
Огнем на небе начертал?»
Но, слава Вышнему! Познали
Мы дух, которым мир храним,
Века проклятья миновали,
И думы страха и печали
Прошли — и не вернуться им.
Перед сияньем мысли смелой
Распался древний неба свод,
И без конца и без предела
Пространство мрака просветлело
И мирозданья тайный ход.
52
Я. Я. СТРАХОВ
И ныне, радостно, комета,
Гляжу я, как блистаешь ты;
Ты не грозящая примета, —
Для взора вещего поэта
Ты — искра будущего света
Среди парящей темноты.
Настанут дни — мир обновится,
И человек, согбенный в прах,
Над миром смело воспарится
И ничего не устрашится
Ни на земле, ни в небесах.
«В ТИШИ МОЕЙ ЖИЗНИ НИЧТОЖНОЙ...»
В тиши моей жизни ничтожной,
В досаде пустых огорчений
И в шуме пустого веселья
Дремлю я душою тревожной.
Но полный тяжелой дремоты,
Я чувствую, сердце тоскует;
И снится, и грезится вечно
Ему — непонятное что-то.
Какие-то дни золотые,
Какие-то дивные речи,
Какие-то крепкие силы,
И мысли, и чувства святые.
И месяц, и звезды, и розы...
Какая-то грусть без предела,
И ласки, безумные ласки...
И слезы, горячие слезы...
А.И.ОПУЛЬСКИЙ
Неизданные письма Л. H. Толстого
к H. H. Страхову (1872-1893)
Начало переписки между Львом Толстым и H. H. Страховым
относится к 1870 г. Толстой, заинтересовавшись статьей Страхова «Женский
вопрос» («Заря»1, 1870 г., № 2), написал ему в марте 1870 г. письмо,
в котором, наряду с общим одобрением статьи, высказал и ряд своих
несогласий. Это письмо, однако, осталось неотправленным.
В том же 1870 г., в ноябре, Страхов послал Толстому письмо, в
котором просил его прислать какое-нибудь из его произведений для журнала
«Заря». В своем ответе (25 ноября 1870 г.) Толстой пригласил Страхова
побывать в Ясной Поляне, куда тот и приехал в июне 1871 г. С тех пор Страхов
бывал в Ясной Поляне почти ежегодно, сопровождал иногда Толстого
в его поездках и оказывал ему помощь в литературно-издательских делах.
Переписка2 Толстого и Страхова продолжалась многие годы,
несмотря на то, что их взгляды были в основе своей весьма различны.
Николай Николаевич Страхов (1828-1896) был одним из лидеров
так называемого «почвенничества» — литературно-политической
группы, являвшейся разновидностью славянофильства.
Наиболее близкими к Страхову по взглядам были Ф. М. и M. M.
Достоевские, Н.Я. Данилевский и Ап. Григорьев. В журналах
Достоевского «Эпоха»3 и «Гражданин»4, а также в славянофильских журналах
«Время»5 и «Заря» Страхов постоянно сотрудничал. В статьях по
естественнонаучным вопросам Страхов на протяжении 30 лет выступал как
яростный противник дарвинизма. Таким же реакционером-идеалистом,
ярым врагом материализма он был и в философских работах.
На протяжении ряда лет Страхов выступал как литературный критик.
Его перу принадлежат «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н.
Толстом (1862-1885 гг.)» и ряд статей о современной ему литературе.
Страхов с фанатичной ожесточенностью выступал против
Чернышевского, Некрасова, Щедрина, Писарева, Н. Успенского, проявив
себя открытым врагом революционной демократии. «Ниспровергая»
54
А. И. ОПУЛЬСКИИ
передовые, революционные идеи своего времени, Страхов защищал
славянофильство и пытался истолковать творчество писателей в
славянофильском духе. Ярким примером этого могут служить
критические статьи Страхова о «Войне и мире», в которых разбор идейного
содержания романа дан с позиций почвенничества, с
реакционно-националистической тенденциозностью.
Естественно, что ярко выраженная, с годами углублявшаяся
реакционность идейно-политических позиций Страхова, с одной стороны,
и усиление демократизма и критицизма во взглядах Толстого (при всей
противоречивости его мировоззрения в целом) — с другой, все
более разъединяли Толстого и Страхова при оценке основных событий
современности.
В этой связи интересно сравнить письма Толстого и Страхова
от 19 апреля 1878 г., в которых они оценивают одно и то же событие —
дело В. Засулич.
В то время, как Страхов безапелляционно заявил, что «только
иностранцы, французы, немцы... видят тут революционные начала»,
Толстой написал: «Засуличевское дело не шутка... Это похоже на
предвозвестие революции».
Взгляды Толстого отражали все возраставшее в среде русского
крестьянства «стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков,
и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и
распорядки землевладения»*. Страхов же был врагом всего, что, по его мнению,
угрожало «исконным устоям» патриархальной русской жизни.
Толстой резко отрицательно относился к славянофильским
идеям Страхова. Очень определенно высказано это отношение в письме
Толстого к нему от 13 июля 1893 г.
«Вам, — писал Толстой, — нравится славянофильский кружок,
а мне бы он очень не понравился, особенно, если Розанов — лучший
из них. Мне его статьи... кажутся очень противны. Обо всем слегка,
выспренно, необдуманно, фальшиво возбужденно и с самодовольством
ретроградно. Очень гадко... Употреблять мысль и слово на то, чтобы
противодействовать истине, совершенно нецелесообразно. Я вообще...
получил такое отвращение к лжи и лицемерию, что не могу переносить
его спокойно даже в самых малых дозах. А в славянофильстве есть
много утонченного и того и другого».
Не менее резко отозвался Толстой о страховских «Письмах о
нигилизме»6 — злобном пасквиле на революционеров-семидесятников — и о
сборнике его статей «Борьба с Западом в нашей литературе»7. Толстой прямо
заявил, что ему «не понравились» статьи Страхова, так как Страхов
* Ленин В. И. Полк. собр. соч., т. 15, стр. 183.
Неизданные письма Л. Н. Толстого к H. H. Страхову (1872-1893) 55
«неправильно ставит вопрос», осуждая революционеров как «злодеев».
По мнению Толстого, «разбирая борьбу с нравственной точки зрения»,
надо четко сказать: «Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал» *.
Когда Страхов, оправдываясь, написал, что, отрицая деятельность
революционеров, он «отрицает отрицание», Толстой, хотя и
осуждавший, как известно, революционные методы борьбы, ответил ему:
«Вы находите безобразие, и я нахожу. Но вы находите его в том, что
люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие... Вы
отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить» **.
Помимо принципиального несогласия со Страховым в ряде
важнейших вопросов, Толстой видел и его личные недостатки. Он
многократно и открыто осуждал в Страхове «отсутствие самостоятельности»,
бесстрастность, «академическую» узость, уклончивость в выражении
своих мнений, неспособность «на усилия, на крутые повороты»,
незнание «что хорошо и что дурно».
В этой связи интересно замечание Толстого, записанное В. И.
Алексеевым: «Страхов — как трухлявое дерево, — ткнешь палкой, думаешь
будет упорка, ан нет, она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно
в нем нет середины...» ***.
В дневниках, письмах к жене и друзьям встречаются оценки,
подобные следующей: «Пришел Страхов... Та же узость и мертвенность.
А мог бы проснуться» (Дневник, 5 апреля 1884 г.).
В первые годы знакомства со Страховым Толстой видел в нем
человека с «зачатками мыслей и стремлений», которые «смогут развиться
и двинуться»... Но произошло обратное: с годами взгляды Страхова
становились все более реакционными. Это стало особенно заметно
Толстому начиная с 80-х годов. В эти годы все чаше в переписке между
ними вспыхивают споры, которые подчас достигают большой резкости.
Изменяется в этот период и общий тон писем, переписка становится
менее оживленной, сужается круг обсуждаемых вопросов.
Какими же причинами можно объяснить, при наличии таких
расхождений, многолетнюю переписку и дружеские отношения между
Толстым и Страховым?
Одной из основных причин, бесспорно, нужно считать кричащую
противоречивость мировоззрения Толстого, наличие в его взглядах
отсталых и реакционных сторон, позволявших ему «мириться» со
взглядами Страхова и даже «принимать» некоторые из них. Например, в
известной мере общим и для Толстого, и для Страхова (хотя и во многом
* Юб.,т. 63, стр. 95.
* Юб.,т. 63, стр. 63.
Летописи Гос. литературного музея. Кн. 12, 1948, стр. 279.
56
А. И. ОПУЛЬСКИИ
различным) было непонимание и неприятие развития
капиталистических отношений в России, обращение к религии и к «вечным законам
нравственности» как к спасительному рецепту от всех общественных
зол, стремление к «опрощению» и т.д.
Во многом содействовало близости Толстого и Страхова искреннее
восхищение Страхова Толстым как великим художником, его
постоянная готовность помогать Толстому в литературных делах.
Еще до знакомства с Толстым, при выходе в свет первых частей «Войны
и мира», когда одна за другой появились недоброжелательные статьи,
Страхов заявил, что роман Толстого — это «великое произведение».
Страхов был широко эрудирован в различных областях науки, имел
редакторский опыт и был тесно связан с литераторами и библиофилами
Москвы и Петербурга. Все это было ценно для выполнения
многочисленных поручений Толстого. Страхов покупал или доставал для Толстого
книги, добивался предоставления ему доступа к различным архивам,
держал корректуры его произведений, вел дела с редакторами,
типографиями, книгопродавцами и т.д.
Переписка Толстого и Страхова длилась в общей сложности 26 лет
и закончилась в 1896 г. со смертью Страхова.
Посвященная в основном вопросам литературы8 переписка эта имеет
большое значение для изучения творчества Толстого. Это неоднократно
подчеркивал и сам писатель.
Когда в марте 1894 г. Толстого посетил его французский переводчик
И. Д. Гальперин-Каминский9, собиравший в то время материалы для
биографии писателя, Толстой рекомендовал обратиться за его письмами
к адресатам, переписка с которыми могла бы быть наиболее интересной
для биографа. Назвал Толстой трех лиц: Александру Андреевну Толстую10,
Сергея Семеновича Урусова '* и Николая Николаевича Страхова.
Есть свидетельства, что столь же большое значение придавал
Толстой переписке с этими лицами и много лет спустя. Например,
13 февраля 1906 г. Толстой писал П. А. Сергеенко12: «У меня было
два (кроме A.A. Толстой; это — третье) лица, к которым я много
писал писем и, сколько я вспоминаю, интересных для тех, кому
может быть интересна моя личность. Это — Страхов и кн. Серг.
Семен. Урусов» *.
Часть переписки Толстого и Страхова — 75 писем Толстого
к Страхову и 192 письма Страхова к Толстому — были напечатаны
в 1914 г. в сборнике Толстовского музея (редакция и примечания
Б. Модзалевского). Преобладающее число опубликованных в
сборнике писем Толстого — поздние (с конца 70-х гг.); писем периода
* Письма Л. Н. Толстого, собранные П. А. Сергеенко, т. 1, стр. 227.
Неизданные письма Л. Н. Толстого к H. H. Страхову (1872-1893) 57
до 1878 г. в нем только три: первое, не отосланное письмо 1870 г.
и два письма 1876 г. Ответы Толстого на большинство писем Страхова
в сборнике отсутствуют. Некоторые из этих отсутствующих ответов
Толстого (23 письма) были напечатаны в 1908 г. П. И. Бирюковым13
во II томе его «Биографии Л.Н. Толстого» (перепечатаны в 1910-1911 гг.
в более полном виде в «Письмах Л. Н. Толстого, собранных и
редактированных П. А. Сергеенко», т. 1-2); одно письмо Толстого было напечатано
Е. Населенко,4 в альманахе «Радуга» в 1922 г.; 24 письма были
опубликованы в 1926 г. Н. Гусевым15 во 2-м сборнике «Толстой и о Толстом» ; в
вышедшем в 1939 г. № 37-38 «Литературного наследства». А. Петровским16
были опубликованы еще 26 писем Толстого к Страхову.
Подавляющее большинство всех названных публикаций было
сделано не по автографам, а по копиям, снятым в 1893 г., по поручению
В. Г. Черткова17, А. М. и Е. Д. Хирьяковыми18.
Копии сделаны очень небрежно: содержат многочисленные описки,
подчас искажающие мысль автора, не воспроизводят многие даты,
подписи, обращения, переписчиками допущено большое количество
неправильных прочтений текстов.
В настоящее время появилась возможность осуществить проверку
текстов писем Толстого к Страхову по автографам. Государственный
музей Л. Н. Толстого Академии Наук СССР приобрел большое собрание
писем к Н. Н. Страхову, среди которых: написанных Л. Н. Толстым —
120 писем, С. А. Толстой — 30 писем, Т. Л. Сухотиной — 4 письма,
Л. Л. Толстым — 2 письма и М. Л. Оболенской — 1 письмо.
После нового приобретения Государственный музей Л. Н. Толстого
Академии Наук СССР обладает почти всеми письмами Толстого
к Страхову (230 автографов). Возможно, что в собрании не хватает
лишь нескольких писем Толстого.
Из 120 вновь приобретенных писем Толстого к Страхову тексты
47 писем до сих пор были неизвестны, даже по копиям. Большинство
их написано в 70-е гг. Публикуемые в настоящем сборнике письма
(в количестве 36) являются наиболее интересными из этих вновь
приобретенных и неизвестных ранее 47 писем Толстого к Страхову.
35 из них относятся к 1872-1875 гг. Почти все публикуемые в
настоящем сборнике письма не датированы и по содержанию могут быть
датированы лишь приблизительно — с точностью до 10-15 дней.
При этом встречные письма не облегчают датировку, так как в тех
случаях, когда дата не была проставлена самим Страховым, содержание
их позволяет датировать эти письма весьма приблизительно (временем
года, двумя месяцами и т.п.). Впрочем, большинство вновь
приобретенных автографов Толстого имеет карандашные даты, проставленные
рукой Страхова.
58
А. И. ОПУЛЬСКИЙ
Публикуя по копиям письма Страхова во 2-м сборнике «Толстой
и о Толстом», H. H. Гусев в «Вводной заметке к письмам H. H. Страхову»
пишет: «Датировка некоторых писем, как можно предполагать, была
сделана не Толстым, а Страховым и указывает время не написания
письма, а его получения».
Действительно, даты на автографах проставлены не Толстым,
а Страховым. Однако означают они не время получения письма. На
некоторых автографах страховские пометки включают в себя, кроме даты,
слово «Ясная». Очевидно, что такие пометки не могут означать даты
получения. Кроме того, в тех немногих случаях, когда автографы
датированы и Страховым, и Толстым, обе даты, как правило, совпадают
и лишь иногда разнятся на один день. При разнице между датами в один
день маловероятно, чтобы дата Страхова обозначала день получения —
особенно если иметь в виду, что за этот один день письмо должно было
покрыть расстояние от Ясной Поляны до Рима, где одно время находился
Страхов. Остается предположение, что даты Страхова перенесены на
автографы писем с почтового штемпеля отправления и, таким образом,
иногда обозначают день написания письма, а иногда — несколько более
поздний день, вероятнее всего, следующий за днем написания.
Это предположение находит подтверждение в самих письмах
Толстого к Страхову. Так, открытка, написанная на волжском пароходе
10 июля 1872 г. (дата Толстого), имеет два штемпеля — отправления
(Нижний Новгород, 11 июля) и прибытия (Петербург, 13 июля). Страхов
помечает открытку 11 июля. В то же время не датированное Толстым
письмо 1872 г. имеет пометку Страхова: « 7 августа, Тула». Между тем
есть совершенно бесспорные данные, что весь день 7 августа 1872 г.
Толстой пробыл в Ясной Поляне.
На основании всего изложенного письма, которые не удалось точно
датировать, исходя из других данных, датируются согласно пометкам
Страхова.
Место написания письма, а также редакторская дата проставляется
перед письмом курсивом. Авторская дата печатается прямым
шрифтом. Дата Страхова, являющаяся основой редакторской даты, указана
непосредственно после текста письма.
Все упоминаемые в комментарии даты (приезды и отъезды Толстого,
встречи со Страховым и другими лицами, факты литературоведческого
характера и т.п.) даются со ссылкой на источник. Отсутствие ссылки
означает, что дата взята из «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого»
Н. Гусева (М.; Л.: Academia, 1936).
ч
H. H. СТРАХОВ - Л. H. ТОЛСТОМУ
17 ноября 1879 г. Санкт-Петербург
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во
утробе моей1. Эту молитву я часто вспоминал в последние двадцать или
тридцать лет, когда случалось мне мучиться совестью. Теперь я
вспомнил ее, задумавши писать о своей жизни; нужно писать в хорошем
духе, т[о] е[сть], ясно понимая, что я делаю, и спокойно и твердо
соблюдая истину, а это мне очень трудно. Я не могу писать наивно
(простосердечно — переводит Карамзин), рассказывая просто, что
помню, и предоставляя другим судить; я непременно сужу сам, и когда
не умею судить, то не могу и писать. О жизни своей мне судить очень
трудно, не только о ближайших, но и о самых далеких событиях. Иногда
жизнь моя представляется мне пошлою, иногда героическою, иногда
трогательною, иногда отвратительною, иногда несчастною до
отчаяния, иногда радостною. И я не знаю на чем остановиться, знаю, что
каждый раз преувеличиваю, и наконец перестаю верить себе. Если бы
я задался известным тоном, то я знаю, я бы выдерживал его долго
и все преувеличивал бы в известном направлении. Зачем же я буду
обманывать себя и других?
Эти колебания составляют для меня самого немалое огорчение: я сам
от себя не могу добиться правды! И это бывает со мною не только в
воспоминаниях, но и каждый день во всяких делах. Я ничего не чувствую
просто и прямо, а все у меня двоится. В моей голове идет постоянно игра
мыслей, действующая на меня часто сильнее действительности. От
этого я конфузлив и часто никак не могу совладать с собою. Напр[имер],
когда говорят о воровстве, мне кажется, что я сам украл, когда говорят
об оскорблении, мне представляется, что я сам оскорблен и т[ак] д[алее].
В сущности я не боязлив, не суеверен, не мнителен; но представление
боязни, суеверия, мнительности может так во мне разыграться, то если
я сам себя воображу таким боязливым, суеверным и мнительным, что
60
Я. Я. СТРАХОВ — Л. Я. ТОЛСТОМУ
замучу себя этим воображением больше, чем если бы действительно
имел эти недостатки.
Все это я приписываю тому, что настоящая душевная жизнь во мне
очень слаба, а жизнь представлений чересчур сильна и подвижна.
Во множестве случаев я робок и неуклюж потому, что не уверен в
себе, то есть не знаю, не потеряю ли я власти над собою — не по силе
желаний и чувств, а по силе тех представлений, которые возыграют-
ся. Часто я таким образом воображаю себя любимым, уважаемым,
вижу в других людях черты трогательные и восхитительные, пылаю
любовью к людям, к истине, впадаю в смирение, в умиление, и тогда
я, разумеется, доволен. Но истинно противны другие минуты, когда
я вижу тяжелое оскорбление в самом невинном слове и звуке и когда
сам навожу на себя чувства гадкие, все те чувства, которых боюсь
и которые испытываю именно оттого, что их боюсь; страх перед
ними нагоняет их на меня. Порывы ненависти, глубочайшего эгоизма
и малодушия иногда являются в моей душе, и хотя я им не верю и гоню
их, я огорчаюсь до отчаяния уже тем, что мне знакомы эти
отвратительные явления, что так или иначе моя душа породила их. Если бы
я стал жаловаться на судьбу, то, кажется, всего больше жаловался бы
не на действительные страдания, а на это множество гадких чувств,
так долго меня мучивших, находивших на меня против моей воли
и противных мне в высшей степени.
Вот главное мое горе, та действительная борьба, от которой я все
надеюсь избавиться и, кажется, постепенно избавлюсь, и в которую
иногда опять впадаю. Во время своих размышлений я придумал
для этого название — спускаться в ад, и, право, иногда это название
не кажется мне сильным. Затем, если разделить все горести и
радости на действительные и представляемые, то в первом отделе у меня
больше было радостей, а во втором, думаю, больше горестей. Я не
испытал больших несчастий в жизни, а разве только неудачи, и со своею
способностью преувеличивать всегда больше наслаждался хорошими
обстоятельствами, чем горевал о дурных. Мне знакомы самые
странные восторги, когда человек готов целовать землю и разговаривать
с деревьями и облаками.
Но другое дело представляемые горести и радости, куда я отношу
ревность, славолюбие, раскаяние, стыд и т[ому подобное] словом
то, что зависит от наших мыслей, а не от прямых отношений к людям
и обстоятельствам. Было у меня много и сладких мечтаний,
например, о славе, о будущих моих литературных успехах. Но меньше
всего я знал меры в преувеличении своих печальных чувств. Ревность,
чувство своего ничтожества, раскаяние в своем разврате, стыд от всего
стыдного и, кажется, всего больше стыд стыда, стыд того унижения,
Я. Я. СТРАХОВ — Л. Я. ТОЛСТОМУ
61
которое чувствуется в стыде — все это я испил до капли, все это я
раздувал в огромные муки и носился с ними по годам. Когда же случалось
опомниться, то эти призраки часто вовсе исчезали, чаще же всего
являлись в очень малых и каких-то колеблющихся размерах. Понемногу
я приучился не верить себе, не верить в свою душу, и стал стараться
отыскать действительные свойства и меру того, что пережил. Эти
искания продолжаются до сих пор и, должен признаться, я вовсе не твердо
надеюсь на успех.
Думаю, что я не какой-нибудь гадкий «или преступный, или
отчаянно-грешный человек». Я в известном отношении хуже — я человек
безжизненный, в котором мало души, нет воли в смысле живых
стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чем не сформировавшийся,
ни в какую форму не отлившийся человек, потому что во мне не было
настолько формующей силы, притяжения к жизни. Ни один инстинкт
не говорил во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ
жизни. Я правильно сделал, отказавшись наконец вовсе от жизни;
я не умею жить и не хочу за это браться. Всего лучше это объяснить
на отношениях к женщинам. Я ни за одною не волочился в настоящем
смысле пристрастия и никогда не собирался жениться. Две мои связи
произошли оттого, что того хотели эти женщины, а не я. Это стыдно
сказать мужчине, и я за это наказан больше, чем стою. Так и во всем
другом. Я ничего не достигал сам, а только поддавался тому, что
встречалось на пути, или уклонялся от опасного и неприятного. Когда
я чувствую себя покрепче, мне иногда кажется, что я самый свободный
человек в мире, именно такой, у которого нет никаких побуждений
действовать, который в случае, если нужно сделать выбор, должен
прибегать к самым искусственным соображениям, чтобы решить,
что ему делать. Я распределяю разные мелочи ежедневной жизни
совершенно произвольно и потом неизменно держусь этого порядка
только потому, что нужно же как-нибудь жить, а следовать желаниям
я не могу — их у меня нет.
Нередко при таких мыслях во мне подымается чувство отвращения
к себе, но я боюсь, что это внушается мне моею гордостью, моими
притязаниями на что-то высшее. И я вспоминаю главное правило: нужно
быть самим собою и не корчить из себя того, чего в тебе нет.
Может быть, бесценный Лев Николаевич, Вы найдете в том, что
я написал, больше, чем я сам нахожу; но я всеми силами старался
быть правдивым. Я в истинном затруднении; слепота, которую
наводят на меня мои преувеличения и представления чувства, не дает мне
быстро понимать других людей; я то нахожу весь мир злым и глупым,
то умиляюсь перед душою и сердцем людей и вижу множество ума
в их мыслях. Присматриваясь к людям, я наконец замечаю и то, что
62
H. H. СТРАХОВ — Л. H. ТОЛСТОМУ
в них много тех самых черт, которые я готов был считать своею
особенностью, и тогда, рассматривая себя в них, начинаю смотреть на себя
иначе, не в том хаотическом и печальном свете, в котором обыкновенно
созерцаю собственную фигуру. Может быть, для описания этой фигуры
и ее похождений самое лучшее было бы взять тон юмористический или
даже трагикомический — прав ведь Шопенгауэр, говоря, что жизнь
человека в одно время и трагедия и комедия.
Простите пока. На Ваше коротенькое письмо, я Вам отвечаю
длинным, и буду продолжать, если Вы не прочь, а особенно если
подстрекнете меня каким-нибудь вопросом. Пошлю Вам завтра книги, какие
найду. Вот вторую неделю, как я — присяжный2, и потому так долго
не отвечал Вам. Очень много отнимает времени, но любопытно.
Всею душою Ваш
Н. Страхов
л. н. толстой - н. н. страхову
19...22 ноября 1879 г. Ясная Поляна
Дорогой Николай Николаевич.
Вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите
моим мнением, как я вашим, и потому скажу всё, что думаю. Только
прошу, не слушайте моих слов, как живого человека, с которым могут
быть счеты, отношения, соревнования — возможность быть
оскорбленным моими словами или польщенным, — смотрите как на
сочувственный любовный отголосок души человеческой, страдавшей
и страдающей, не скажу, не меньше, но свое. Чужое виднее. И мне
вы ясны. Письмо ваше очень огорчило меня. Я много перечувствовал
и передумал о нем. По-моему, вы больны духовно. И ваша болезнь вот
какая. В нас две природы — духовная и плотская. Есть люди, живущие
одной плотью и не понимающие того, как можно центр тяжести свой
переносить в духовную жизнь. Я называю переносить центр тяжести
в духовную жизнь то, чтобы вся деятельность руководилась
духовными целями. Есть люди, живущие плотью и понимающие — только
понимающие духовную жизнь. Есть люди счастливые — наш народ,
буддисты, помните, о которых вы говорили, которые до 50 лет живут
полной плотской жизнью и потом вдруг переступают на другую ногу,
духовную, и стоят на ней. Есть еще более счастливые, для которых
творить волю Отца есть истинный хлеб и истинное питье и которые смолоду
стали на эту ногу духовную. Но есть такие несчастные, как мы с вами,
у которых центр тяжести в середине и они разучились ходить и стоять.
Всё в том мире, в котором мы жили, так перепутано — всё плотское
так одето в духовный наряд, всё духовное так облеплено плотским, что
трудно разобрать. Я хуже вас и потому счастливее в этом горе. Во мне
плотские страсти были сильны и мне легче раскачнуться и разобрать,
где то, где другое, но вы совсем спутаны. Вы хотите добра, а жалеете,
что в вас мало зла, что в вас нет страстей. Вы хотите истины, а жалеете
64
л. н. толстой - н. н. страхову
и как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного. Да что же хорошо,
что дурно? Вы очевидно не знаете так, чтобы не бояться ошибиться,
делая добро.
И вам писать свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что
дурно было в ней. А надо знать. Если вы умели ходить прежде
когда-нибудь в детстве, если другие ходят, то вы должны ходить, а если
не ходите, то вы пьяны, больны, надо отрезвиться, лечиться. По тому
пути, по кот[орому] вы идете, вы ни к чему не можете прийти, кроме
как к отчаянию, стало быть дорога не та и надо вернуться назад.
В учении Христа я нашел одну особенную черту, отличающую
его от всех учений. Он учит, толкует, почему смысл нашей жизни тот,
кот[орый] он дает ей. Но притом всегда говорит, что надо исполнять
то, что он говорит, и тогда увидишь, правда ли то, что он говорит.
Или: свет дан миру, но они полюбили тьму, потому что дела их злы1.
Или: кто верит в сына человеческого, тот и будет делать дела Божий2.
Тут метафизический узел. И он не развязывается разумом, но всей
жизнью.
Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей
жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете
покой в жизни. Делайте дела Божий, исполняйте волю Отца, и тогда
вы увидите свет и поймете.
Признак истины не в разуме, а в истинности истины всей жизни.
Переносите усиленно, сознательно свою жизнь на духовную, одну
духовную сторону, и вы найдете покой душам вашим, и бремя
пресыщения и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко.
Должно быть, не пошлю это. Я очень занят работой для себя, которой
никогда не напечатаю.
Простите.
«
Н.Н.СТРАХОВ
Наблюдения
(Посв<ящается> Ф. М. Д<остоевско>му)
I
Можешь ли ты рассказать мне сон, который я видел, и сказать, что
он значит?
В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы дошли до
площади, называемой Piazza délia Signoria, и остановились, потому что нам
приходилось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим
жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который
вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь.
Затем мы крепко пожали друг другу руку и расстались. Знаете ли? Ведь
это очень хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать
невозможно. В самом деле, вот разговор, совершенно точный и
определенный; вот отношение, в котором нет никакой темноты или неясности.
Мы нашли точку, на которой расходимся; превосходно! Это вовсе не так
часто случается. Обыкновенно разговоры бывают наполнены теми
неопределенными поддакиваниями, в которых нет, однако же, настоящего
согласия, и теми неясными разногласиями, в которых нет, однако же,
настоящего противоречия. Мы же, как видите, дошли до чего-то более
правильного. В житейском быту можно согласиться, что худой мир
лучше доброй ссоры; но в логике это не совсем так. Нужно знать
точно и отчетливо, с чем соглашаешься и что отвергаешь. Соглашаться,
не зная на что, и отвергать, не зная что, ни в каком случае не похвально.
Следовательно, очень хорошо, что мы, кажется, знаем, наконец, в чем
мы расходимся. Тем более, что, расходясь с вами в некоторых мыслях,
я надеюсь и предлагаю вам никогда вполне не расходиться в жизни,
не расходиться, не обращая внимания на логику, даже не пускать всякой
логики. Не удовольствуетесь ли вы такою уступкой с моей стороны?
А впрочем, — помните ли вы хорошенько, в чем было дело? Вы
находили во мне несносным и противным мое пристрастие к тому роду
доказательств, который называется в логике непрямым доказательством
66
H. H. СТРАХОВ
или доведением до нелепости. Вы находили непростительным, что я часто
приводил наши рассуждения к выводу, который простейшим образом
можно выразить так: но ведь нельзя же, чтобы дважды два не было четыре.
Против этой дурной привычки, в которой я чистосердечно сознаюсь,
вы приводили мне сильные доводы. Вы говорили, что никто в мире
не думает утверждать таких вещей, как дважды два — три и дважды
два — пять у что я впадаю в чрезвычайно смешную наивность,
воображая, что кто бы то ни было проповедывает и защищает такие
положения, что если и говорится что-нибудь подобное, то с моей стороны
странно принимать это совершенно серьезно, так как очевидно люди,
которые говорят дважды два — не четыре, вовсе не думают сказать
именно это, а, без сомнения, разумеют и хотят выразить что-то другое.
Что же? Нужно признаться, все это как нельзя больше справедливо.
В самом деле, как бы беспорядочны и ограниченны ни были чьи-нибудь
мысли, как бы дурно и фальшиво они ни были выражены, все-таки в них
необходимо есть зерно истины, все-таки несправедливо не видеть этого
зерна из-за шелухи, которая его покрывает. По самой сущности дела
всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль как
широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем же
логическим законам, и, следовательно, самое грубое заблуждение носит
в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было
в абсолютной нелепости совершенно несправедливо.
На это, по-видимому, нечего возражать. А между тем помириться
на этом я все-таки не могу. Дело не в том, где и насколько в чем
заключается истина, а дело в нас с вами. Ваши доводы слишком сильны —
явный признак, что мы сражаемся неравным оружием. Очевидно, вы
заняли чересчур выгодную позицию, вы успели уйти за неприступные
укрепления, в которых всякий безопасен. И в самом деле, посмотрите,
кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех;
вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни вздумает открыть
рот. Потому что, что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему,
я обязан непременно понять, что он хочет сказать, и не имеет ли этот
желаемый смысл какого-нибудь тайного основания. Они, все эти люди,
которые могут стать под защиту ваших аргументов, могут говорить
всё, что им вздумается; от времени до времени они могут утверждать
даже и то, что дважды два — не четыре. Я же не смею ничего им
возражать; мне сейчас зажмут рот тем резоном, что они хотя и ошиблись,
но не хотели ошибиться, хотя и сказали одно, но разумеют совсем
другое. Они имеют полное право мне противоречить, как бы точно
и ясно я ни выразился, а я должен только соглашаться с ними, как бы
темно и неопределенно они ни выражались. Они не стесняются
ничем, тогда как я связан по рукам и по ногам. Одним словом, они, как
Наблюдения
67
некогда восточные цари, могут грезить все, что им угодно, а я, как
их придворные волхвы, под страхом казни, обязан понимать все, что
им ни пригрезится, да, пожалуй, еще находить в их снах смысл
высокий и пророческий. Остается разве только одно, — чтобы вы возложили
на меня обязанность не только понимать, но и отгадывать их сны, как
этого требовал от своих волхвов тот древний царь, который однажды
забыл свой сон и помнил только, что ему было страшно.
Итак, я требую равенства или, лучше сказать, я обращаю ваше
внимание на то, что в республике мысли за всеми нами признаются
равные права. При равных правах, вы видите, что мое положение тоже
не без выгод. В самом деле, что бы вы сказали, что бы сказали многие
другие, если бы я, пользуясь вашими же [признаниями] уступками,
на какую-нибудь горячую речь отвечал бы: «Да, вы совершенно правы;
но только под вашими словами нужно разуметь не то, что они значат,
не дважды два — пять, а нечто совсем другое?»
II
Я должен отдать вам справедливость, что в нашем споре вы попали
прямо на больное место, да и не мое только, а и многих других. Какое
кому дело, о чем мы с вами спорили во Флоренции? Но не я один —
ненавистник нелепостей и не вы один снисходительно прощаете их за то, что
под ними разумеется. Дело в том, что нелепости в разнообразнейших
формах и оттенках являются у нас в чрезвычайном изобилии и что
это изобилие, естественно, вызвало отпоры, возбудило реакцию. Часто
возбуждала неудовольствие и недоумение ожесточенная полемика,
которую у нас так охотно ведут журналы. Одна из самых чистых и
явственных струй в том мутном потоке, без сомнения, та, которую я указываю,
то есть, с одной стороны, увлечение до дважды два — пять, а с другой
стороны вражда против всякого дважды два — не четыре. Среди многих
разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое
разделение; оно должно было образоваться, и столкновение между
двумя его сторонами было неизбежно, и неизбежно будет повторяться.
Попробую пожертвовать обе стороны. С одной стороны, именно с той
стороны, на которой вы стоите, — часто молодость, всегда жар, страсть
проповедовать, небрежность к форме и ко всякого рода правильности, но зато
живые чувства и мысли, нередко талант, иногда гениальные проблески...
С другой стороны — некоторая холодность, привычка к строгой
и правильной мысли, отсутствие большого жара проповедовать,
но, вместе с тем, часто отсутствие и всякого таланта, молчание самых
живых струн. На этой стороне я стоял во время нашего спора и на нее
часто становлюсь.
68
H. H. СТРАХОВ
Надеюсь, однако ж, вы отсюда ясно увидите, какой стороне
принадлежат мои симпатии. Вот видите, что я знаю, что делаю. Конечно,
я сочувствую первой стороне, но между тем волей-неволей я становлюсь
на второй. Такая уж моя несчастная судьба, а что всего хуже — не моя
одна, но и многих, весьма многих других.
Разве хорош человек? Разве мы можем смело отвергать его гнусность?
Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом
вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны, с младенчества
настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все
мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно.
Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не
может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда
перед нами развернут картину современного человечества и спросят
нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ:
«Нет, гнусен до последней степени!»
<Рукопись обрывается. На следующей странице>:
Наконец, остается еще одна ступень, и люди оппозиции нашего
времени не раз преступали ее, может быть, сами не замечая или невольно
увлекаясь. Остается сказать еще одно: я не верю ни в философию,
ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому, что
я не верю в человека:
За человека страшно мне!
<Рукопись обрывается. На обороте:>
Непрямое, неясное, неопределенное отношение к делу у нас очень
обыкновенно. Даже в тех случаях, где оно необходимо требуется,
мы умеем избежать его. У нас очень много лицемерия, свойственного
людям хитрым, но неумным. Мы всегда готовы пользоваться умом
других вместо того, чтобы яснее высказать свое мнение.
<Пробел в несколько строк. За ним текст:>
Могу вас уверить, что нелепость есть дело жестокое. Не думайте,
что переносить ее так легко; нет, она трудно переваривается.
<Далее следует, на новой странице, следующий текст:>
НАБЛЮДЕНИЯ
Посвящается Ф. М. Д<остоевско>му
Может быть, прочитавши заглавие моих заметок, вы подумаете, что
я выбрал для них название слишком общее, слишком малозначительное
и скромно-неопределенное; в таком случае, спешу объяснить вам, что
я придаю ему очень серьезный смысл и считаю его надлежащим и един-
Наблюдения
69
ственным заглавием того, что им обозначено. Вероятно и вы и многие
другие заметили, что в умственной сфере мы чем дальше, тем больше
превращаемся в наблюдателей, в простых наблюдателей, которые
сами не могут, не имеют достаточного повода принять участие в том,
что делается, а только созерцают и стараются понять сущую жизнь.
Вот мое первое наблюдение, и с него я начну свои заметки.
Наблюдательное настроение ума так часто встречается, так быстро
усиливается, что нельзя не сделать его тоже предметом наблюдения и внимания.
Наблюдательное настроение противоположно деятельному.
Наблюдатель есть зритель, со стороны смотрящий на драму; деятель
есть один из участников драмы, одно из действующих лиц.
Если сравнить, как это часто делается, мир с театром, со сценою,
на которой происходит драма, то я могу точно выразить свою мысль,
сказавши, что в настоящее время все больше и больше является лиц,
которые бросают сцену и участие в драме, отходят в сторону и
начинают наблюдать тех, кто остался на сцене. Таким образом, мир мало-
помалу получает то странное, резкое разделение, которое существует
в театральной зале: одни играют, другие смотрят.
Прежде этого не было или, по крайней мере, едва ли когда-нибудь
было в такой степени, как это замечается ныне. Может быть, у нас,
русских, расположение быть простым зрителем даже сильнее, чем у других.
Но совершенно ясно, что это расположение тесно связано с теми
взглядами, с теми учениями, которые так распространены вообще в наше
время. Больше, чем когда-нибудь, мы умеем теперь глубоко понимать
вещи. Во всем, что ни случается, мы видим обнаружение внутренних
сил и далеких влияний. Мы верим в таинственные и неодолимые силы
жизни, мы убедились до конца, что история совершается с
необходимостью , что все в ней тесно связано и неизбежно развивается, растет
и умирает, падает и возвышается.
Если же так, если раз мы с полной ясностью сознали этот взгляд,
то спрашивается, у кого же достанет охоты участвовать в этой слепой,
неумолимой драме? Естественно, что каждый, кто ее понял, постарается
стать в сторону, постарается уклониться от нее и сохранить свободный
взгляд, свободное присутствие духа.
<Рукопись обрывается.>
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ - H. H. СТРАХОВУ
26 февраля (10 марта) 1869 г. Флоренция
Каждый день порываюсь отвечать Вам, дорогой и многоуважаемый
Николай Николаевич, на Ваше приветливое и любопытнейшее письмо,
и вот только что теперь исполняю желание мое. Несколько раз я уже
отвечал Вам мысленно и каждый день прибавлял что-нибудь к
мысленному письму, и если б всё это записывать, то образовался бы, кажется,
целый том. Запоздал же я отвечать сначала по нездоровью (после
припадка ждал, пока освежеет голова), а потом Вы сами были виноваты
отчасти в том, что я всё откладывал писать: по письму Вашему я
вообразил, что «Заря»1 выйдет на днях; а она вон еще сколько запоздала
против первого месяца! Мне же всё хотелось познакомиться со вторым
томом и тогда уже изложить все мои впечатления. Потому что всем этим
я очень взволнован; впрочем, постараюсь писать в некотором порядке.
Во-первых, вот главная сущность впечатлений о «Заре». Для меня
«Заря» — явление отрадное и необходимое. Но это для меня; для
многого множества она, в настоящую минуту, вероятно, точь-в-точь
соответствует тому впечатлению, которое я прочел о ней на днях в «Голосе»2
(единственная газета русская, здесь получающаяся). Это полное
выражение мнения средины и рутины, то есть большинства. Эта статейка
написана явно с враждебною целью, статейка ничтожная, об которой
не следовало бы и упоминать; но по одному случаю она показалась
мне чрезвычайно любопытною, именно: что автор этой статейки
просмотрел мысль журнала (а он очевидно просмотрел; потому что если б
он ее понял, то не преминул бы осмеять ее). Он именно спрашивает
в недоумении: какая причина журнала? Что его вызвало? То есть что
нового он хочет сказать? Это, пожалуй, будет спрашивать и
большинство. А так как в первые же месяцы каждого нового журнала в публике
(совершенно даже равнодушной) начинает непременно образовываться
оппозиция журналу, то долго еще будет раздаваться эта оппозиция
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ - Я. Я. СТРАХОВУ
71
(очень дурно, если журнал некоторыми второстепенными промахами
оправдает эту оппозицию). Но это всё ничего; это всё мелочи и пустяки.
Знаете ответ: «Пусть бранят, значит, не молчат, а говорят». Вы же,
без сомнения, веруете (как и я) в то, что успех всякой новой идеи
зависит от меньшинства. Это меньшинство будет необходимо за вас
(даже несмотря на все промахи и ошибки журнала, которые, кажется,
будут). Это меньшинство окрепнет и установится к концу года наверно.
Почему я так утвердительно говорю? Потому что в журнале есть мысль,
и именно та самая, которая теперь необходима, которая неминуема и
которой, одной, предстоит расти, а всем прочим «малитися». Но мысль
эта трудная и щекотливая, Вы это сами знаете. За эту мысль, особенно
когда ее начнут понимать, то есть когда вы ее еще больше растолкуете,
вас назовут отсталыми, камчадалами и, пожалуй, продавшимися,
тогда как она есть единственная передовая и либеральная мысль,
для нас в наше время. Когда же это растолкуете окончательно, тогда все
и пойдут за вами. А покамест рутина всегда видит либерализм и новую
мысль именно в том, что старо и отстало. «Отечественные записки»3,
«Дело»4 наверно считаются самыми передовыми. Всё это Вы сами
знаете великолепно, а пуще всего то, что Вам принадлежит будущность.
Теперь, знаете ли, чего я боюсь? Что Вы и (многие из вас) испугаетесь
трудов и оставите огромное дело. Ах, Николай Николаевич, эти
труды так огромны и требуют столько веры и упорства, что Вы их только
после долгого времени узнаете вполне. Так мне кажется. Я же их сам
только краюшком знаю, когда соредакторствовал брату; но «Время»5
и «Эпоха»6, как Вы сами знаете, до такой откровенности и
обнаженности в выражении своей мысли никогда не добирались и держались
большею частию средины, особенно вначале. Вы же прямо начали
с верхушки; Вам труднее, а стало быть, надо крепко стоять.
Вы в эти два-три года почти молчания Вашего сильно выиграли,
Николай Николаевич. Это мое мнение, судя по Вашим «Бедность»
и статье в «Заре»7. Я всегда любовался на ясность Вашего изложения
и на последовательность; но теперь, по-моему, Вы стоите несравненно
крепче. Жаль, что не «Бедностью» Вы начали в «Заре», то есть жалею,
что «Бедность» была напечатана раньше. Как брошюра, вероятно,
она была замечена очень немногими, и, вероятно, множество из тех,
которые очевидно прочли бы ее с симпатией при ее появлении, даже,
может быть, и не знают до сих пор о ее существовании, то есть просто
не заметили ее. (Эта брошюрка у Вас впоследствии вся раскупится,
будьте уверены. Я ведь убежден, что ее немного теперь разошлось.)
Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый
замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на
поприще, непременно как бы опираясь на передового писателя, то есть
72
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ — H. H. СТРАХОВУ
как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя
и в продолжение жизни успевал высказать все свои мысли не иначе,
как в форме растолкования этого писателя. Делалось же это наивно
и как бы необходимо. Я хочу сказать, что у нас критик не иначе
растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим
его в восторг. Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы
и имен, даже не статьей о Пушкине8, а именно опираясь на Гоголя,
которому он поклонился еще в юношестве. Григорьев вышел,
разъясняя Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная,
непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас
знаю. Правда, прочтя статью Вашу в «Заре», я первым впечатлением
моим ощутил, что она необходима и что Вам, чтоб по возможности
высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то есть
с его последнего сочинения9. (В «Голосе» фельетонист говорил, что
Вы разделяете исторический фатализм Льва Толстого. Наплевать,
конечно, на глупенькое слово, но не в том дело, а в том: скажите,
откуда они берут такие мудреные мысли и выражения? Что значит
исторический фатализм! Почему именно рутина и глупенькие,
ничего не замечающие далее носу, всегда затемнят и углубят так свою же
мысль, что ее и не разберешь? Ведь он очевидно что-то хочет сказать,
а что он читал Вашу статью, то это несомненно.) Именно то, что Вы
говорите, в том месте, где говорите о Бородинской битве, и выражает всю
сущность мысли и Толстого и Вашу о Толстом. Яснее бы невозможно,
кажется, выразиться. Национальная, русская мысль заявлена почти
обнаженно. И вот этого-то и не поняли и перетолковали в фатализм!
Что касается до остальных подробностей о статье, то жду продолжения
(которое до сих пор еще не дошло до меня). Ясно, логично,
твердо-сознанная мысль, написанная изящно до последней степени. Но кой
с чем в подробностях я не согласился. Разумеется, при свидании мы бы
с Вами не так поговорили, как на письме. В конце концов я считаю Вас
за единственного представителя нашей теперешней критики, которому
принадлежит будущее. Но знаете ли что: я прочел Ваше письмо с
беспокойством. Я вижу по тону его, что Вы волнуетесь и беспокоитесь, что
Вы в большом волнении. Боюсь еще за непривычку Вашу к срочной
работе и к упорной работе. Вы должны непременно написать в год три
или четыре большие статьи (Вам много еще надо разъяснять, будьте
уверены), а между тем Вы точно падаете духом, и не в меру малая вещь
Вас колеблет как бы и большая. Между тем Вы в журнале очевидно
самое необходимое лицо по сознательному разъяснению мысли журнала.
Без Вас журнал не пойдет (это я говорю Вам одному). Итак, надо твердо
решиться на подвиг, Николай Николаевич, на долгий и трудный
подвиг, и не смотреть на неприятности. Всякая неприятность несравненно
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ - Я. Я. СТРАХОВУ
73
ниже Вашей цели, а потому надо сносить, выучиться сносить и вообще
закрепиться. Но оставить дело Вы не имеете даже и права; я прокляну
Вас тогда, первый.
Теперь скажу Вам, вкратке, об остальном впечатлении на меня
журнала. (Похвалу мою ему Вы знаете: у него мысль и будущность;
прием его великолепен; он обнажает мысль, не закрывается, отвергает
средину, начинает с верхушки; но теперь перейду к неприятному в моем
впечатлении.) Прежде всего, журнал мал объёмом и скуп, что
выражается даже его наружностью. Листы романа Писемского 10(то есть самые
дорогие ценой издателю, — это все поймут) напечатаны так растянуто,
то есть таким крупным шрифтом, что я даже и не видывал такого.
Статья Данилевского11, из капитальных по разъяснению мысли
журнала, печатается скупо, то есть слишком помаленьку; дурной эффект
обнаружится впоследствии. Если в ней 20 глав, то, по моему мнению,
надо бы напечатать всю статью в 4-х, много, в 5-ти книгах; нужды нет,
что выйдет помногу; журнал заявляет, стало быть, что это его статья
капитальная. А то, печатаясь как теперь, статья растянется нумеров
на 10 или на все 12, — так сказать, примозолится публике; видя всё
ее да ее, публика потеряет к ней как бы уважение. Я сужу
материально; не пренебрегайте матерьяльным взглядом, видимостями. Мало
статей; право, на меня такое впечатление произвел первый номер. Мне
показалось, что надо бы еще статейки две. Нет насущной, текущей
политики и нет фельетона. Ежемесячное политическое обозрение так же
необходимо, как и ежедневная газета, особенно для русской публики;
и заметьте, теперь время горячее. Политического обозревателя
хорошего у нас можно найти (кстати, тот молодой человек, чиновник, который
писал в последних номерах «Эпохи» политическое обозрение; забыл
даже фамилью его. Очень, очень талантливый и, кажется,
превосходный молодой человек)12. Другое дело фельетонист: фельетониста
талантливого у нас трудно найти; сплошь минаевщина и салтыковщи-
на13; но, боже мой, сколько текущих, повседневных и необыкновенно
примечательных явлений, и как бы разъяснение их послужило в свою
очередь разъяснению мысли журнала! Кстати, кто писал театральный
фельетон? Очень, очень приятная и точная статья!14
Вы избегаете полемики? Напрасно. Полемика есть чрезвычайно
удобный способ к разъяснению мысли, у нас публика слишком любит
ее. Все статьи, например, Белинского имели форму полемическую.
Притом же в полемике можно выказать тон журнала и заставить
его уважать. Притом же Вам лично отсутствие полемического приема
может даже и повредить: у Вас язык и изложение несравненно лучше
григорьевского15. Ясность необычайная; но всегдашнее спокойствие
придает Вашим статьям вид отвлеченности. Надо и поволноваться,
74
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ — H. H. СТРАХОВУ
надо и хлестнуть иногда, снизойти до самых частных, текущих,
насущных частностей. Это придает появлению статьи вид самой насущной
необходимости и поражает публику.
Только что почтамт увеличил плату за пересылку, как тотчас же
я и прочел в «Голосе» объявление «Зари» подписчикам об
увеличении цены журналу. Это так и это по праву; но ведь подписчик
тотчас же скажет: «Хорошо-с; вот вы неумолимо требуете денег; sine qua
non16; но будьте же и сами исправны. А то начали тем, что вышли
8-го числа, а на второй месяц и еще на неделю опоздали». Ох, Николай
Николаевич, в первый год журнал должен не жалеть своих усилий.
Покойный брат17 вот что говорил: «Если бы у сеятеля дома и совсем
хлеба не оставалось, но если уж он раз вышел сеять, то уж не жалей,
что от семьи хлеб отнял и пришел в землю бросать; сей как следует,
иначе не взойдет и не пожнешь». А у вас вдруг уж 2000 подписчиков.
Тут-то бы и усилить пожертвования, чтоб добрать третью тысячу.
И добрали бы наверно, и на 2-й год как бы легко было. Ну а теперь
не доберете, и трудов себе самим только больше наделали в будущем.
Впрочем, будущность ваша, но нужно упорство и ужасный труд. Кто
у вас заправляет собственно насущною деловою частию журнала? Тут
нужен человек крепкий и упорный и подымчивый. Надо раза по три
в сутки иногда в типографию съездить.
Жду с нетерпением продолжения трех статей, особенно Вашей18
и Данилевского. Об романе Писемского сказать ничего теперь не могу;
надо прочесть дальше. Впрочем, на этот счет у вас лучше всех других:
«Райский»19, я и прежде знал, что ничтожен; а уж Тургенева повесть20
в «Русском вестнике» (я читал) — такая ничтожность, что не приведи
господи. По первой части Писемского заключаю, что не может не быть
весьма талантливых вещей и в остальных частях.
Благодарю Вас очень, добрейший и многоуважаемый Николай
Николаевич, что мною интересуетесь. Я здоров по-прежнему, то есть
припадки даже слабее, чем в Петербурге. В последнее время, 1,5 месяца
назад, был сильно занят окончанием «Идиота». Напишите мне, как
Вы обещали, о нем Ваше мнение; с жадностию ожидаю его21. У меня
свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что
большинство называет почти фантастическим и исключительным,
то для меня иногда составляет самую сущность действительного.
Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть
еще реализм, а даже напротив. В каждом нумере газет Вы
встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных.
Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими;
а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же
будет их замечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ — Я. Я. СТРАХОВУ
75
и ежедневны, а не исключительны. Ну что ж это будет, если глубина
идеи наших художников не пересилит в изображениях их глубину
идеи, н<а>прим<ер>, Райского (Гончарова)? Что такое Райский?
Изображается, по-казенному, псевдорусская черта, что всё начинает
человек, задается большим и не может кончить даже малого? Экая
старина! Экая дряхлая пустенькая мысль, да и совсем даже неверная!
Клевета на русский характер при Белинском еще. И какая мелочь и
низменность воззрения и проникновения в действительность. И всё одно
да одно. Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто ж
будет отмечать факты и углубляться в них? Про повесть Тургенева
я уж не говорю: это черт знает что такое! Неужели фантастичный мой
«Идиот» не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно
теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от
земли слоях общества, — слоях, которые в действительности становятся
фантастичными. Но нечего говорить! В романе много написано
наскоро, много растянуто и не удалось, но кой-что и удалось. Я не за роман,
а за идею мою стою. Напишите, напишите мне Ваше мнение и как
можно откровеннее. Чем больше Вы обругаете, тем больше я оценю Вашу
искренность. «Русский вестник»22 не успел напечатать конец в декабре
и обещал его в приложении. Полагаю, что приложат к февральской
книге. Я бы желал, чтоб Вы прочли конец. Тем не менее я нахожусь
в очень хлопотливом положении. Впрочем, я сам очень многим
недоволен в моем романе. А я, к тому же, еще отец его.
Вот в чем дело: поблагодарите от меня Данилевского23, Кашпи-
рева24, Градовского25 и всех тех, которые принимают во мне участие.
Это во-первых. А во-2-х, голубчик Николай Николаевич, надеюсь
на Вас в одном очень щекотливом для меня деле и прошу всего Вашего
дружеского в нем участия. Вот это дело:
Вы чрезвычайно лестно для меня написали мне, что «Заря» желает
(иметь) моего участия в журнале. Вот что я принужден ответить: так
как я всегда нуждаюсь в деньгах чрезвычайно и живу одной только
работой, то всегда почти принужден был всю жизнь, везде, где ни
работал, брать деньги вперед. Правда, и везде мне давали. Я выехал скоро
два года назад из России, уже будучи должен Каткову26 3000 рублей,
и не по старому расчету с «Преступлением и наказанием», а по
новому забору. С той поры я забрал еще у Каткова до трех тысяч пятисот
рублей. Сотрудником Каткова я остаюсь и теперь, но вряд ли дам
в «Русский вестник» что-нибудь в этом году. У меня теперь есть три
идеи, которыми я дорожу. Одна из них составляет большой роман27.
Полагаю, что они изберут роман, чтобы начать будущий год. Несколько
месяцев у меня теперь свободных. Конечно, «Русский вестник» будет
присылать мне деньги и в этом году, хотя я и остался там несколько
76
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ — H. H. СТРАХОВУ
должен. Но нужды мои увеличиваются (жена опять беременна),
расходов много, а жили мы в последнее время с такой экономией, что
даже отказывали себе во всем. В последние полгода мы прожили
всего-навсе только 900 рублей и это с переездами из Вевея в Милан
и во Флоренцию, и сверх того из этих 900 рублей сто было отослано
недавно Паше и Эмилии Федоровне28. В настоящую минуту я еще
не получил от Каткова денег, нуждаюсь чрезвычайно, почти до
последней степени. «Русский вестник» прав: я опоздал и к тому же
просил свести счеты. Полагаю, недели три еще промедлят
присылкой; но не в том главное дело, а дело в ближайшем будущем. Короче,
мне необходимы деньги до последней степени, и потому я предлагаю
редакции «Зари» следующее: во-1-х, я прошу выслать мне сюда
во Флоренцию, теперь же, вперед 1000 руб. (тысячу рублей); сам же
обязуюсь, во-2-х, к 1-му сентября нынешнего года, то есть через
полгода, доставить в редакцию «Зари» повесть, то есть роман. Он будет
величиною в «Бедных людей» или в 10 печатных листов; не думаю,
чтобы меньше; может быть несколько больше. Не опоздаю доставкой
ни одного дня. (На этот счет я довольно точен.) Если опоздаю хоть
месяц, то, пожалуй, решаюсь не получить за него остальной платы.
Идея романа меня сильно увлекает. Это не что-нибудь из-за денег, а
совершенно напротив. Я чувствую, что сравнительно с «Преступлением
и наказанием» эффект «Идиота» в публике слабее. И потому всё мое
самолюбие теперь поднято: мне хочется произвести опять эффект; а
обратить на себя внимание в «Заре» мне еще выгоднее, чем в «Русском
вестнике». Видите, я Вам всё пишу ужасно откровенно. Плату с
листа я предлагаю в 150 руб. (с листа по расчету «Русского вестника»,
если лист «Зари» меньше), — то есть то, что я получаю с «Русского
вестника». Меньше не могу. (Мы с братом вперед давали еще более.)
Постараюсь справить работу как можно лучше; Вы сами поймете,
голубчик, что вся моя выгода в этом29. Теперь собственно к Вам, Николай
Николаевич, чрезвычайная просьба моя:
1) Способствовать дружески успеху этого дела, если найдете это
подходящим делом для журнала. 2) Если получите согласие Кашпирева,
то чрезвычайно и убедительнейше прошу прислать мне деньги нимало
не медля, распорядившись так: 200 (двести рублей) из этой тысячи
выдать от меня, с передачею моей чрезвычайной благодарности,
Аполлону Николаевичу Майкову30, которому я их уже с лишком год
должен. Другие 200 руб. (двести рублей) передать от меня сестре моей
жены Марье Григорьевне Сватковской (она знает для чего)31 по
прилагаемому адрессу: Марья Григорьевна Сватковская, на Песках,
у 1-го Военно-сухопутного госпиталя, по Ярославской улице, дом № 1,
хозяйке дома. Остальные затем 600 руб. (шестьсот рублей) прошу Вас
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ - H. H. СТРАХОВУ
77
выслать прямо мне, сюда во Флоренцию, по следующему адрессу: Italie,
Florence, à M-r Théodore Dostoiewsky, poste restante. Наконец, 3) Если
всё это возможно устроить, то уведомить меня и выслать мне деньги
нимало не медля. Об этом прошу Вас как старого друга; ибо до того
нуждаюсь в настоящую минуту, как никогда не нуждался. Наконец,
если и не обделается дело, то тоже прошу Вас немедленно меня об этом
уведомить, чтоб уж я напрасно не надеялся и не рассчитывал, а
главное, чтобы знать. Кроме того, если и уладится дело, то, до времени,
об этом лучше не говорить лишним людям. Наконец, я бы желал, чтоб
роман, который я доставлю к 1-му сентябрю в редакцию «Зари», был
напечатан в осенних номерах журнала этого года. Так мне выгоднее
по некоторым расчетам. Но разумеется, если редактор захочет
напечатать в будущем году, то я не воспротивлюсь. Одним словом, оставляю
на волю редакции и заявляю только желание.
Теперь как старому другу и сотруднику сообщу Вам в секрете и еще
одно мое чрезвычайное беспокойство: эти 200 руб., которые я должен
более года Аполлону Николаевичу, кажется, причиною его теперешнего
молчания; он вдруг прекратил со мною всякую переписку. Я просил
Каткова, в декабре, выслать 100 руб. Эмилии Федоровне и Паше, на имя
Аполлона Николаевича (как и всегда делалось в этих случаях), а его
просил, в последнем письме моем, передать эти 100 руб. Эм<илии>
Федоровне. Он, вероятно, подумал, что я получил знатный куш, купаюсь
в золоте, ему не возвращаю долга, а его же прошу передать 100 руб.
Эм<илии> Федоровне. «Помогать другим есть деньги, а возвратить
долг нет» — вот что он, вероятно, подумал. А между тем если б он знал,
в какое положение я сам поставил себя. Забрав много в «Русск<ом>
вестнике» (на необходимое), я в последние полгода так нуждался с
женой, что последнее даже белье наше теперь в закладе (не говорите этого
никому). В «Русском» же «вестнике» проспать не хотел до окончания
романа. Но они теперь сводят счеты и до сих пор медлят ответом.
Конечно, я виноват, что в целый год не заплатил, и уж слишком много
страдал от этой мысли, но в эти два года за границей я прожил всего
только 3500 руб. Тут и переезды, и некоторые посылки в Петербург,
и Соня, — не было из чего выслать. А он, к тому же, никогда не
спрашивал с меня, я и думал, что он может подождать, каждый месяц почти
надеясь выслать ему. Эти 100 руб. Эмилии Федоровне, должно быть,
его обидели; но ведь Эмилия Федоровна чуть с голоду не умирает, как
было не помочь! При мрачном положении моем мысль, что вот и еще
преданный человек оставляет меня, — мне ужасно мучительна. Не
говорил ли он с Вами чего, или не знаете ли Вы чего? Если знаете, то
сообщите, голубчик! С другой стороны, странно мне, что из-за 200 рублей
порвалась связь, иногда дружеская, продолжавшаяся между нами
78
Ф. M. ДОСТОЕВСКИЙ — H. H. СТРАХОВУ
с 46-го года. К тому же, я и без того всеми забыт. Ну вот сколько
написал; а между тем что это значит перед свиданием и приятельским
разговором? Холодно, недостаточно, ничего не выражено — эх, когда-
то увидимся! Может быть, как-нибудь это и обделается. Я кое на что
надеюсь. До свидания; Анна Григорьевна жмет Вам руку и благодарит
за память. Еще раз поклон всем, кто меня помнит. Что Аверкиев32?
Кланяйтесь ему. Как жалко мне Долгомостьева33.
Ваш весь и душевно преданный
Федор Достоевский.
NB. Если Вам придется отдавать двести рублей Аполлону
Николаевичу, то не забудьте, добрейший Николай Николаевич,
упомянуть при этом, что я сам буду благодарить его письмом, но что теперь
не уведомил его письмом потому, что не мог знать заранее о решении
редакции «Зари».
Вот уже 10-е марта, а я всё еще не получил 2-й номер «Зари». Хожу
каждый день на почту и всё: niente, niente34. К тому же дождь и холод,
скверно.
4
e
H. H. СТРАХОВ - В. В. РОЗАНОВУ
18 мая 1888 г.
Многоуважаемый
Василий Васильевич,
Только что кончил корректуру своей статьи против Соловьева1
(явится 1 июня в «Русск. Вест.») и тороплюсь написать Вам несколько
слов. Благодарю Вас за Ваше письмо. Мне всегда совестно читать Ваши
длинные и прекрасные письма — я ведь знаю, что Вы заняты
гораздо больше меня. Боюсь, что моя статья не вполне Вас удовлетворит.
Вопрос о самом Соловьеве, интересный для Вас и, конечно, для многих,
я оставил совершенно в стороне. Я разбил* в прах только его статью,
* Слова эти могут показаться нескромными ввиду большой репутации Влад.
Соловьева; но всегда нужно помнить слова одного скромного ученого, сказанные
сравнительно о Страхове и Соловьеве... Не привожу фамилии этого молчаливого
и вдумчивого ученого, так как приведение этих его слов однажды (в «Русском
Слове») было ему в высшей степени неприятно (он — большой почитатель
Соловьева). Мы шли от Страхова вместе, и заговорили что-то о нем. Так как
в то время «весь мир говорил о Соловьеве», — то я спросил его, что он думает
об их полемике и вообще о них обоих. «Какое же может быть сомнение, —
Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьева*. Я был поражен, и по молодости,
и по огромной репутации Соловьева, и что-то сказал. Отвечая на это «что-то»,
он добавил: «Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того великолепного
творчества, какое есть у Соловьева». Две эти фразы, в обоих изгибах верные,
вполне и до конца исчерпывают «взаимное отношение» этих двух лиц, в
которых в сущности ничего не было сходного, ни — умственно, ни — морально.
Но собственно критико-философское и вообще научное превосходство свое
над Соловьевым Страхов чувствовал, — и был вправе, в частном письме,
выразить его. Почти не нужно договаривать, что в споре шум победы был на
стороне Соловьева, а истина победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал
в «Русском Вестнике»2, которого никто не читал, а Соловьев — в «Вестнике
Европы»3, который был у каждого профессора и у каждого чиновника на столе.
80
H. H. СТРАХОВ — В. В. РОЗАНОВУ
его историю, логику, физику и отчасти религию — насколько все
это есть в статье. Об «русском духе»* тоже почти не говорю. Словом,
я ограничил задачу «наинужнейшим», как мне показалось.
Главное, из-за чего пишу Вам, — хочу похвалить Вас за Бакунина4.
Вы отлично сделаете, если растолкуете эту книгу Вашим легким и
ясным языком. У меня была мысль самому заняться таким
толкованием, но вижу, что никак не удастся это сделать. Философ он вполне,
но он прямо питомец Шеллинга и Гегеля — тут нет существенной
разницы, да и нет того школьного подчинения, которое
обыкновенно соединяется с понятием приверженца известной системы.
Философия немецкого идеализма вообще чужда догматичности, дает
свободу и вполне развязывает ум. Со временем будет же когда-нибудь
это понято.
Но Вы можете написать Ваше толкование, вовсе не указывая на
положение Бакунина по отношению к известным школам. Сам я навел
кой-какие справки об этом и постараюсь уяснить себе это отношение
вполне, потому что Бакунин есть свидетельство силы и жизни этих
школ, есть доказательство в их пользу.
Недавно он захотел познакомиться со мною, но мы виделись только
один раз. Крепкий старик, еще с чернеющими волосами, лет 70-ти.
Он мне сказал, что его книга дурно написана (что совершено
справедливо), что он сам иногда не может добраться, какая мысль внушила ему
слова и фразы, напечатанные в его книге. «Я себя испортил, —
говорит он, — я писал для себя и позволял себе самые странные выражения
своих мыслей».
Но Вы правы в том, что содержание прекрасное. Совершенно правы
Вы и в оценке Чаадаева5**.
И, как всегда, спор решил не «писатель», а «уважаемая редакция», которая дала
писателю нужных 60 000 своих читателей. Страхов был измучен и угнетен этою
полемикой, зная хорошо, что его «читать не будут», а Соловьева будут «читать
и аплодировать» подписчики Стасюлевича, т.е. вся (условно) образованная
Россия. — Примечание 1913 года.
* Вероятно, я ему упоминал в своем письме о полном отсутствии у Влад. Соловьева
«русского духа». Действительно, это — замечательно не русский, а
международный, европейский писатель. Тут есть — и качество, но есть — и явный
недостаток. — Примечание 1913 года.
* Эту часть своего письма я помню: я проводил ту мысль, что Чаадаев был
увлекшийся католичеством русский человек, но — все-таки русский, и без
«коварства» в отношении к России, к православию, к русскому народу (мои тогдашние
фетиши); Соловьев же по отношению ко всему этому совершает предательство
(т.е. тогда писал я), и, прав он или не прав в статьях (их в подробности я не
читал), — он является возмутительным лицом в нашей истории. — Примечание
1913 года.
Я. Я. СТРАХОВ - В. В. РОЗАНОВУ
81
А Соловьев в «Критике отвлеченных начал»6 говорит нечто
согласное с тем, что теперь, т.е., что нам назначена Богом не культура,
а религиозная роль в человечестве.
Простите, многоуважаемый Василий Васильевич.
Вашу книгу теперь примусь читать, — до сих пор не заглянул
и в указанные Вами страницы*.
Дай Бог Вам всего хорошего.
Ваш искренно преданный Н. Страхов.
1888, 18 мая. СПб.
Книгу Бакунина (это, кажется, брат сумбурного Бакунина) я не разобрал:
но она — действительно удивительна с первых же страниц. Помню, я особенно
восхищался его указанием на «живоверие» (живая вера) в человеке... Вообще,
что же делают наши-то профессора университетов? Ведь это образовательная
обязанность их — давать отчет читающему обществу о новых явлениях русской
философской мысли?! — Примечание 1913 года.
H. H. СТРАХОВ - H. Я. ГРОТУ1
СПб. 8 декабря 1895 г.
Душевноуважаемый
Николай Яковлевич.
Прежде всего, должен просить у Вас прощения: я не могу
приготовить своей статьи2 к следующей книжке журнала. Статья начата,
и я пишу ее с большим старанием, но не могу преодолеть какой-то
тяжести головы и пера — ну, одним словом, статья не будет к Вам
послана к 15-му декабря. Однако я ее допишу и твердо обещаю прислать
ее к мартовской книжке, то есть в конце января. Она будет меньше двух
листов (и это твердо).
Сейчас же, получивши книжку, стал я читать Ваши статьи и прочел
их легко и с удовольствием. Из них вывод один очень ясный: то, что
в психологии дело обстоит по-прежнему, несмотря на кабинеты,
психофизику и психофизиологию. В этом отношении Ваши рассуждения
правильны. Но где же новая эпоха?
Вы так быстро и неосторожно провозгласили о перевороте в
психологии, так мало остановились на существующих попытках
специализировать некоторые области психологических исследований (такие
попытки всегда имеют за собою некоторое право), так неудачно приняли
для новой (будто бы) психологии название экспериментальной, что
всем этим погубили правильные и интересные соображения, которые
высказываете.
Далее очень преувеличены Вами некоторые мысли, например,
о том, что кабинеты удобны для всяких занятий психологией, и что все
учителя, судьи и т.д. будут заниматься психологическими
экспериментами. С какой стати будет ими заниматься математик! Да он никогда
не думает ни о психологии, ни о силлогизмах, ни о своих учениках
(их особенностях), а думает только о своей математике. Вообще, нужно
уметь становиться на точку зрения психологии, и на эту точку
обыкновенно не любят и не умеют становиться.
Я. Я. СТРАХОВ — Я Я. ГРОТУ
83
Так и вышло, что мысль Ваша в статье расплылась, потеряла
определённость и точность. Вы слишком подвижны и не замечаете, что в этой
подвижности переходите через край и теряете под собой твердую почву.
Вот как я Вас раскритиковал; но Вы сами о том просили. А мне
тяжело писать так голословно, не приводя ни одной фразы из Ваших
статей. Извините, если в моих общих отзывах я где-нибудь окажусь
не точным.
Теперь еще одно дело. Приходил ко мне Ф. Шперк3 и рассказывал,
что послал Вам рецензию моих Очерков. Вы ее забраковали? Какая
жалость! Рецензии моих книг составляют величайшую редкость в
русской литературе. Никто не пишет! То, что мне передавал Шперк, очень
меня заинтересовало, и было для меня новостью — ведь никто не видит
себя со стороны. Не отыщется ли эта рецензия?
Вчера вышла моя новая книга: «Борьба с Западом» книжка
третья4. Разумеется, пришлю к Вам без замедления. Кто-то меня читает,
только не журналисты, так что обо мне никто не пишет.
Простите, душевноуважаемый Николай Яковлевич. Дай Вам Бог
здоровья и благополучия. А как состоялась подписка?
Ваш искренно преданный
Н. Страхов*
еэ
* Страхов скончался менее чем через два месяца после этого письма — 26 янв. 1896 г.
О нем Н.Я. Грот поместил статью «Памяти Страхова» в «Вопросах философии
и психологии», кн. 32 (1896 г.).
А. А. ФЕТ -H.H. СТРАХОВУ
Степановка. Ноябрь <1877 г.>
Московско-Курской железной дороги.
Полуст. Еропкино1
Ноября
Милостивый государь Николай Николаевич!
Прежде всего прошу извинить, если письмо мое, почему-либо,
покажется Вам эксцентричным или несообразным. В моих интимных
отношениях я люблю быть или нараспашку или никак. Я очень высоко
ставлю формы общественной вежливости, но если за ней tabula rasa,
то Бог с ней.
Не буду говорить, до какой степени меня, после мимолетной встречи
в Питере2, постоянно тянуло сблизиться с Вами, как с мыслителем. —
В нашей умственной пустыне такое влечение более чем понятно;
но увидав Вас ближе3, я открыл в Вас то, что для меня едва ли не
дороже мыслителя.
Я открыл в Вас кусок круглого, душистого мыла, которое не
способно никому резать руки и своим мягким прикосновением только
способствует растворению внешней грязи, нисколько не принимая
ее в себя и оставаясь все тем же круглым и душистым плотным телом.
Вы скажете: «я объективен, как всесторонний мыслитель». — Какое мне
дело, почему? Я чувствую себя с Вами хорошо, — и этим довольствуюсь.
Я не забыл данного Вами на прощанье обещания погостить у нас
в летнее время будущего года4. Но ведь подобные обещания часто
даются вежливости ради, чтобы не обидеть отказом.
В настоящее время я в сильных попыхах, по случаю перекочевки
из Орловской в Курскую губернию, где жена купила поистине
очаровательное имение, как усадьба и как местность. Если эстетический
человек может где вздохнуть свободно от трудов, то это без сомнения
там. Это по той же Курской дороге, только 2,5 часами дальше к Курску5.
Лев Николаевич уже дал мне слово навестить нас летом6 — Он,
бедный, с ужасом ждет разрешения своей милой, но слабеющей жены7. —
Очередь за Вами.
А. А. ФЕТ — H. H. СТРАХОВУ
85
На досуге черкните мне по выставленному адресу, можем ли мы
рассчитывать на радость принять Вас на новоселье.
Письменное обещание я уже приму за положительное и успокоюсь
до лета в приятной мечте крепко пожать Вам руку при свидании.
Глубоко уважающий Вас
А. Шеншин
Мой адрес: Еропкино, Афанасию Афанас. Шеншину.
По литерат<урной> фамилии моей в наст<оящее> время письмо
и не дойдет8, чему я очень рад, т.е. что людям не нужна моя литература;
а мне не нужны дураки.
ЧЭ-
H.H. СТРАХОВ - A.A. ФЕТУ
Санкт-Петербург. 24 ноября 1877 г.
Непременно, глубокоуважаемый Афанасий Афанасьевич, и с
величайшей радостью. Я родился в Белгороде, и для меня до сих пор Курская
губерния есть то место, где всего лучше жить людям, где времена года
имеют надлежащую продолжительность, где небо, земля, трава и
деревья имеют свой настоящий вид, тот самый, который подразумевается
под этими словами. Я не могу привыкнуть к Петербургу, и если бы
принялся его бранить, то, кажется, никогда бы не кончил. Поэтому перейду
к главному предмету. Вы похвалили меня, и я рад, что мне можно и
следует высказать Вам то душевное расположение, которое Вы мне
внушили, — хоть я и не найду такого милого сравнения, как Ваше сравнение
меня с куском мыла. Вы для меня человек, в котором все — настоящее,
неподдельное, без малейшей примеси мишуры. Ваша поэзия — чистое
золото, не уступающее поэтому золоту никаких других рудников и
россыпей. Ваши заботы, служба, образ жизни — все также имеет настоящий
вид — железа, меди, серебра — какой чему следует. Вы знаете, что
занятие поэзиею ведет к фальши, к притворству, к ломанью. У Вас же все
чисто и ясно, и редко случалось мне смотреть на людей с таким приятным
чувством душевной чистоплотности, с каким я смотрю на Вас.
Приеду непременно, и очень Вам благодарен за повторенное
приглашение, так как я немножко робок. После Льва Николаевича никуда
мне так приятно не будет ехать, как к Вам.
Марье Петровне мое усердное почтение.
Ваш искренно преданный и глубоко уважающий
Н. Страхов
1877. 24 ноября. СПб.
5
A.A. ФЕТ - H. H. СТРАХОВУ
Москва, 28 декабря <1877 г.>
Москва.
28 декабря
Душевно уважаемый Николай Николаевич!
Не хочу оставить Москву, откуда 1-го января еду освежиться на
денек в Ясную Поляну1, и не послав Вам в заголовке этого письма моего
постоянного адреса, если так Богу будет угодно.
Туда же, согласно любезному, теперь уже письменному обещанию,
будем поджидать Вас летом. — Повторяю, если мы, люди, не внесем
туда нашей обычной чепухи, то Воробьевка — останется тем, чем есть
в сущности — раем земным, по климату, положению, растительности,
тени и удобствам.
Это именно место для людей, убедившихся, что не только один
человек, но и вся человеческая история, построенная, как французская
мелодрама, на несовместимых пружинах, — в сущности пуф, так как
в ней гоньба за вечно недостижимым, а солнце, луна и звезды, мирно
проступающие между темными верхушками столетних дубов, —
видимые края той вечной, непорочной ризы божества, которую Гёте:
Küs<s> ich den letzten
Saum seiner Kleides
Kindlich<e> Schauer
Tief2 in der Brust3.
Но пока не в том дело.
Конечно, я не настолько богат, чтобы махнуть рукой на хозяйство,
тем более, что у меня, по воле Аллаха, теперь нет иного источника
существования; но такое махание рукой мое конечное pium desiderium4
и я постараюсь смотреть на эти дела сверху вниз, чтобы они не
разбежались, как стадо без пастыря.
88
А. А.ФЕТ — H. H. СТРАХОВУ
Что же затем мне делать? Вот и придумал я себе дело. Хочу я
перевести на русский язык «Kritik der Reinen Vernunft» Kant'а5. Знаю, что
это труд громадный. Но этой-то стороной он мне и улыбается. — Куплю
я себе существующие к нему объяснения и стану работать. Мысль
перевести его родилась у меня из желания его изучить. Уж лучше
этого приема трудно придумать. Почему же не сделать так, чтобы следы
моего изучения остались на пользу и другим — желающим? Конечно,
мне торопиться некуда. Но подъедете Вы и взгляните — так ли идет
дело или криво. Я бы желал для читателей снабдить перевод рядом
примеров, для уяснения терминологии.
Напишите мне совершенно откровенно, какого Вы мнения о моей
затее? Пожалуйста, раз навсегда, во имя той простоты, которую Вы во мне
заметили, — называйте вещи [своими] их именами. Amicus Plato6.
Если бы я довел до конца свой перевод, я бы написал к нему
краткое предисловие, от которого бы не поздоровилось русской
pseudo-интеллигенции.
Какое это будет приятное время, когда мы Вас встретим в Воробьевке.
Искренно Вас уважающий
А. Шеншин
H.H. СТРАХОВ - A.A. ФЕТУ
<С- Петербурга 27 января 1878 г.
Глубокоуважаемый Афанасий Афанасьевич!
Простите, что я так давно не отвечал. Ваше письмо заставило
меня задуматься. Как только я прочитал его, я решил, что переводить
«Критику чистого разума» Вам не нужно; но я очень понял Ваше
желание и задал себе вопрос: что же следует перевести?
«Критику» не нужно переводить, во-первых, потому, что она
переведена, именно Владислав левым1, здешним профессором, и издана
еще в 1867 г. Перевод очень хороший, хотя, конечно, не образцовый.
А во-вторых, если хотите моего личного мнения, то я не хотел бы видеть
Вас трудящимся над этою книгою. В сущности Кант — скептик, и
притом глубочайший. Но так как скептицизм есть дело очень противное
человеческой душе, то последователи Канта принялись быстро строить
высокие здания на вновь расчищенном месте. Обыкновенно Канта
и принимают за такого подготовителя следовавших за ним систем.
Но Кант, взятый отдельно, ничем не уравновешенный, есть вопрос
без ответа, сомнение без разрешения. Не лучше ли взять Шеллинга
«Философию мифологии» и «Философию откровения»? Увы! Эта
система, явившаяся в печати в 1856-58 годах, не имела никакого
успеха — последняя великая система идеализма2! Или не взять ли большую
«Логику» Гегеля3?
Как это грустно, дорогой Афанасий Афанасьевич, что нет у нас
таких книг, которыми бы можно было клясться! Мне очень лестно, что
Вы обратились ко мне с этим вопросом, и я усердно стал о нем думать,
но ни к чему не пришел. Не найдем ли чего-нибудь летом, в те дни,
которые я буду проводить у Вас и которые заранее мне представляются
светлыми и наполненными интересными разговорами?
90
H. Н. СТРАХОВ — А. А. ФЕТУ
Буду продолжать думать и справляться, и если придёт хорошая
мысль, напишу Вам. А я уже на самом конце своей статьи: об
основных понятиях психологии. К сожалению, раньше конца апреля,
кажется, не удастся ее напечатать, и мне не скоро доведется узнать
Ваше мнение и Льва Николаевича — а это мнение для меня дороже
всех других4. Я давно ничего не писал, и меня очень занимает мое
новое создание.
Пока, простите. Прошу передать мое почтение Марье Петровне.
Ваш искренний почитатель
Н. Страхов
1878. 27 янв<аря>.
4
Н.Н.СТРАХОВ
Несколько слов в память Фета
9 декабря 1892 г.
Omnia praeclara tarn difficilia, quam гага sunt.
Spinoza1
Как трудно все на свете, как мучительно трудно! Едва закрылась
могила Фета, как мы принимаемся произносить свои приговоры
об его стихах, обсуживать значение его поэтической деятельности.
Может быть, лучше было бы помолчать, лучше бы переждать, пока
затихнут скорбные чувства, пока образ умершего поэта перестанет
вставать между нами и его неумирающею поэзией. Но молчать
нельзя, необходимо торопиться и воспользоваться тем, что внимание
публики возбуждено, что у читателей на минуту возник вопрос: что же
такое Фет и как нам следует ценить его? Для огромного большинства
тех, до кого дошло имя поэта, этот вопрос, как известно, — чистая
загадка; теперь удобное время отвечать на вопрос и загадку, и
почитатели великого таланта должны постараться писать, хотя бы
сквозь слезы.
Фет был поэтом вполне и до конца; и потому — прославлять его
значит тоже, что прославлять поэзию. И наоборот: для понимания тайны
поэтического творчества он такой живой и ясный пример, какого
другого не найти. Он сам, конечно, хорошо сознавал, что носит в себе
эту тайну, и часто выражал ее очень странными речами. Он говорил,
что поэзия и действительность не имеют между собою ничего общего,
что как человек он — одно дело, а как поэт — другое. По своей любви
к резким и парадоксальным выражениям, которыми постоянно блестел
его разговор, он доводил эту мысль даже до всей ее крайности; он
говорил, что поэзия есть ложь и что поэт, который с первого же слова
не начинает лгать без оглядки, — никуда не годится.
Люди, всею душою погруженные в действительность, твердо в нее
верящие и постоянно хватающиеся за нее всеми возможными
способами, должны прийти в великий соблазн от таких речей.
«Чем хвалится, безумец!»
92
H. H. СТРАХОВ
Значит, скажут они, мы были правы, не находя в поэзии вкуса
и не видя в ней никакого толка. Но заметим, что поэт, говоря такие
речи, конечно, не хотел унизить то, чем он жил и дышал, то есть
поэзию. Он хотел только со всею резкостью выразить, до какой степени
поэзия преобразует действительность, возводит ее «в перл создания»;
как истый лирик, он хотел научить нас, что внешний мир есть только
повод к поэзии, что она коренится и растет лишь в нашем внутреннем
мире. И, подумавши, мы убедимся, что поэт своим парадоксом хотел
понизить достоинство не поэзии, а действительности.
Мы, бедные жители земли, обречены на постоянный обман. Вокруг
нас все тлен и прах, все носит печать зла и безобразия. Но нам во всем
этом видится что-то прочное и твердое, нам все это кажется тем
единственным, в чем мы можем найти удовлетворение наших желаний.
И вот отчего мы преданы вечному исканию, вечной борьбе, вечному
разочарованию. А между тем у нас есть истинная, не обманчивая
действительность, которую мы забываем в погоне за ложною; эта
действительность — наше чувство, наша душа. Gefühl ist ailes, «чувство —
все», говорит Фауст у Гёте. Кто признает свою душу за настоящую
действительность, для того этот мир станет призрачным. А кто,
напротив, считает этот призрак полною и совершенною действительностью,
тот должен душу свою считать чистою мечтою и видеть в поэзии, в этом
прямом порождении души, одну лишь ложь. Вот что хотел сказать наш
лирик своим парадоксом.
Но призрак ли мир, или действительность, — не все ли равно? —
он неотступен, он объемлет нас отовсюду, он не дает нам покоя и тянет
нас к себе, иногда ласкает и убаюкивает, но чаще терзает нас. Где
спасение, где убежище? В песне, отвечал себе Фет, и он был прав: те
песни, которые он пел всю жизнь, были действительным его спасением,
его освобождением от мира.
Всегда и всюду мы связаны, не можем двинуться, не можем ни о чем
подумать, не встречая помехи, не тяготясь прошлым, не страшась
будущего, не стесняясь окружающим. Но в песне мы вполне свободны,
и кто умеет петь, испытывает это великое блаженство. Пение, как
молитва, принадлежит к тем человеческим делам, которые человек
может делать один, про себя, и в которых может достигать полного
своего удовлетворения. Не будь мы способны к таким делам,
бедственность нашей жизни увеличивалась бы неизмеримо. Поющему песню,
очевидно, ничего и никого не нужно, кроме самой песни. Он поет
только для себя, и чем лучше поет, тем больше и полнее услаждает себя;
но ему для этого нет нужды в слушателях или в обстановке, почти нет
надобности в поводах и в предмете. Любящий петь готов приняться
за пение каждую свободную минуту.
Несколько слов в память Фета
93
Не истинная ли это загадка? Каким образом ложь может нас так
утешать? Каким образом мы способны вполне насыщаться не какою-
нибудь действительностью и не самым чувством нашей души, а именно
этим воплощением чувства в звуки? Тут великая, глубокая тайна. Есть
для нас несказанная прелесть и отрада в том, что мы останавливаем
минуту среди непрерывно несущегося потока времени, уловляем
определенный образ среди зыблющейся и исчезающей действительности.
Душа наша, как говорит Платон, родилась в царстве вечных форм,
вечных образцов существующего, и она ищет на земле их подобия. Все
временное, неполное, случайное, неясное, следовательно, вся наша
жизнь со всеми ее событиями и чувствами не может удовлетворить нас.
Нам нужна неизменная мысль, содержащаяся в бегущих явлениях;
нужны незыблемые образы, краски, формы, которые мы могли бы
созерцать; нужен определенный строй звуков, который воплощал бы
для нас сущность нашего мятущегося чувства. Хоть на короткие сроки,
но мы вырываемся из потока жизни и с великою отрадою чувствуем
себя в положении вечных существ, которые не живут, а только видят
самую глубину всего живущего, смысл всякого чувства, всякого
мгновения. С этой стороны Фет совершенно прав: между жизнью и поэзией
существует полная противоположность.
Он превосходно понимал свою поэтическую деятельность и часто
выражал это понимание с удивительною ясностью. В одном
стихотворении он просит красавицу хоть на миг показать вид, что она его
любит, и подарить ему розу с своей груди. Ему будет сладок уже один вид
любви, и за розу он обещает большую награду — свой стих. Какие бы
радости и горести с тобой потом ни случились, говорит он красавице,
но этот светлый миг для тебя останется; ты можешь потом испытать
в жизни много потерь,
Но в стихе умиленном найдешь
Эту вечно душистую розу*.
И он прав: роза действительно навсегда осталась в волшебном стихе.
Вот почему, и в том восторженном гимне, который он пропел «Поэтам»,
он с такою силою останавливается на той же мысли:
В ваших чертогах мой дух окрылился.
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что изсох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопении.
«Вечерние огни». Вып. 3. С. 12.
94
H. H. СТРАХОВ
Только у вас мимолётные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами*.
Не следует понимать этих слов так, что стихи поэтов остаются
навсегда в памяти людской, что они переживают современность и, таким
образом, как говорится, увековечивают известные имена и события.
Нет, смысл здесь совершенно другой: Фет восхищен тем, что
у поэтов все принимает форму вечности, облекается в вечность. Пусть
забудут поэта, пусть никто его не читает; но, несмотря на это, сам он,
да и всякий, кто прочтет, видит эту вечную форму, эту «незыблемую
мечту». Для неё уже нет времени, нет перемены, и она так же свежа,
как в первый день.
В последнем, невыразимо трогательном стихотворении
Фета (23-го окт.) повторен тот же мотив. Поэт уже дошел тогда
до состояния,
Когда дыханье множит муки,
И было б сладко не дышать;
он уже называет свой дом «обителью смерти»; и вдруг эту обитель
пробудил звук «райской струны», вдруг послышался привет, от которого
«вскипела слеза» у поэта и освежила его тяжко горящие, больные глаза.
Он пожелал, чтобы эти мгновенные слезы не пропали бесследно «на земле,
где все так бренно», где и сам поэт скоро станет брением, и вот он уверяет:
Их сохранит на век нетленно
Пред вами старческая грудь.
Конечно, сохранит! в этих стихах и для того, к кому они обращены,
и для всякого, кто прочтет их, навсегда сохранится чувство, которое
их внушило, и образ поэта с его старческой грудью, для которой
больно дышать, с горящими веками, которые вдруг увлажились отрадною
слезою.
Фет пел почти накануне своей смерти; ему до конца не изменила
эта радость, это лучшее утешение его жизни. Он сам всегда живо
чувствовал и исповедовал примиряющую и просветляющую силу того
чудного дара, которым обладал. Страдание не может петь; оно издает
вопли или молчит. А кто поет, тот уже покорил свое страдание, тот уже
* Там же. Вып. 4. С. 8.
Несколько слов в память Фета
95
облекает его в вечные образы, созерцание которых есть самое чистое
наслаждение. В одном из позднейших стихотворений Фета «муза»
отказывается идти на призыв непонимающих ее поэтов и с негодованием
говорит:
Страдать! Страдают все, страдает темный зверь
Без упованья, без сознанья;
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданьем*.
Для музы из всякого страдания возникает радость, незнакомая,
Ожесточенному и черствому душой,
и она хочет приводить нас к этой радости, отучать нас от ожесточения
и черствости.
Поэтическое настроение бывает так сильно в певце, что он даже
отталкивает от себя действительность, когда она мешает ему предаваться
«радости страданья».
Не нужно, не нужно мне проблесков счастья,
Не нужно мне слова и взора участья,
Оставь и дозволь мне рыдать!
Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен!**
И в другом месте:
О, я блажен среди страданий\
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!***
Значит, есть страдание, которому сладко предаваться всею душою,
есть муки, которые выше и дороже спокойствия, в которых больше
счастья, чем в иных радостях. Лучше плакать о несбывшемся блажен-
* Там же. Вып. 3. С. 1.
* Там же. Вып. 4. С. 16.
* Там же. С. 59.
96
H. H. СТРАХОВ
стве, чем отказаться от высокого стремления души; бывают потери,
в которых мы не хотим никакого утешения, как бывает и смерть,
которая лучше жизни.
Поэзия учит нас этому упоению горя, этому «безумному счастью».
Мы поднимаемся с нею в какую-то сферу, где все прекрасно, и
страдание, и радость, где ничтожен всякий наш личный интерес, а царствуют
лишь вечные, божественные образы истинно-человеческих чувств
и стремлений.
Этот мир — нам родной, но действительность не дает нам в нем
оставаться. Очень хорошо поэт сравнивает себя с соловьем, который
всю ночь «терзается» над розой.
Но только что сумрак разгонит денница,
Смолкает зарей отрезвленная птица:
И счастью и песне конец.
14 дек.
Поминки по И. С. Аксакову1
Вовремя умер И. С. Аксаков. Разумеется, вовремя для себя,
а не для нас, не для русской литературы, не для России. Мы должны,
без сомнения, горько пожалеть о себе, о том, что лишились такого
человека. Но нужно же нам пожалеть и о нем. Много ли ему было от нас
радости? Много ли радости ждало его впереди? Если этому бодрому
деятелю, этому богатырю по телу и духу, предстояли разочарования,
если ему суждено было впереди переходить от уныния к унынию,
то нельзя разве сказать, что смерть вовремя избавила его от
неминуемых горестей?
Может быть, найдутся люди, которые заменят его в наших
славянских делах, но как писатель, как русский публицист, он не имел себе
равного, и его никто не заменит. Мы говорим здесь о внутреннем
значении Аксакова, о нравственном складе, в нем воплощавшемся,
о том чувстве, которое подсказывало его речи и светилось в них, о том
несравненном тоне, которым они произносились. Какое
безукоризненное благородство! Какая искренняя чистота! А в силу этого какая
смелость и твердость!
Поминки по И. С. Аксакову
97
В публицистике, на этой арене, где так непрерывно и так жестоко
оскорбляется наше нравственное чувство, явление, подобное Аксакову,
есть нечто изумительное, и еще больше мы должны удивляться, если
подумаем, где и как возникло это явление. Когда наши потомки будут
судить о нашем времени, то они, конечно, строго осудят нас не только
за дурное состояние нашей литературы, за нашу безвыходную
умственную лень и распущенность, но также за отсутствие у нас истинных
гражданских чувств, за то, что мы, когда не имели власти, вели себя
как рабы, а когда имели власть, то смотрели на других как на рабов.
И тогда имя Аксакова удивит историка и, может быть, спасет нас
от полного осуждения.
Он был вполне гражданин своего государства. Понимаем ли мы как
следует смысл этих слов? Он искренно и вполне признавал самый
принцип той власти, под которою жил. Всякая власть обращается
в насилие для тех, кто не признает ее, и никакая власть не лишает нас
свободы, если признается нами, если внутри нас есть согласие на нее.
Но для этого необходимо гораздо больше, чем для простого подчинения
власти. Для этого нужно видеть во власти известный смысл, иметь
ясную ее идею; только тогда у нас будет согласие на ее
осуществление. И у Аксакова это было. Мы не будем излагать здесь эту его идею;
мы указываем только те общие условия, которые давали ему
возможность быть у нас истинным гражданином.
Между управляющими и управляемыми всегда и везде существует
некоторый антагонизм. И как не быть здесь антагонизму, когда он
неизбежно появляется во всяких отношениях, даже между отцами и детьми,
между мужьями и женами? Это зло, однако же, легко переносится,
когда выше и крепче антагонизма стоит связующее, объединяющее
начало, над которым он никогда не может взять верх. В этом отношении
свойства нашего государства всем известны и не ясны разве только
ослепленным. Глубокое внутреннее единство проникает всю массу
огромного тела и дает ему крепость несокрушимую. Но в то же время
частные проявления антагонизма, его действия в наружном
выветрившемся слое достигают иногда остроты почти беспримерной. Благодаря
им Россия сделалась позором всего мира; на нее указывают, как на
поучительный пример извращения человеческой природы; злорадные
иностранцы убеждены, что нигилизм разъедает нашу силу и что скоро
рухнет эта громада, наводящая на них страх и заботу. Они не видят,
что это — частные явления, всплески, подымаемые вихрями на
поверхности, и что невозмутимый покой царит в глубине народного моря.
Как же Аксаков стоял в этих сферах внутренней политики?
Отношение его к правительственному строю и действию есть для нас
пример и поучение. Имея определенную идею власти, он желал и пол-
98
H. H. СТРАХОВ
ного воплощения этой идеи, осуществления ее в действительных
формах государственной жизни. И здесь мы не хотим и не будем излагать
его воззрений; мы хотим лишь указать, что они у него были, что у него
была такая формула отношений между властью и всей массой людей
управляемых, при которой власть не только сохраняла всю свою силу,
но, по его убеждению, все больше проникалась животворным духом,
ее создавшим2. В человеческом мире, так он верил и так должно верить,
только то сильно и растет, что живет некоторой идеей.
Вот в каком духе вел свою публицистику Аксаков. Он стоял почти
в постоянном антагонизме к управляющим сферам, но именно потому,
что ратовал против искажения идеи, воплощаемой властью. И так как
он твердо сознавал свою высшую благонамеренность, то и говорил
смело, считал свою речь и ее смелость своим долгом. Теперь, когда
мы плачем об этой умолкнувшей речи, нам яснее прежнего ее
несравненно благородный характер. Эта была не лукавая дерзость человека,
который дышит враждой, но укрывается за формы закона, или
лицемерно показывает вид, что он сам не замечает, к чему клонятся его слова.
Это была и не поддельная храбрость человека, который сам так или
иначе прикосновен к власти и лишь потому может давать много воли
своим речам, но делает вид, что его увлекает за положенные пределы
одна горячность к общим интересами. Нет, речь Аксакова была прямая,
искренняя речь русского гражданина, не имеющего никаких задних
мыслей, опирающегося в своей смелости только и единственно на
чистоту своего чувства, на ясное сознание прав этого чувства. Вот откуда
та неотразимая прелесть, которую имела эта речь для всех чутких
сердец. Лукавство и ложь есть самое обыкновенное явление в политической
печати, и можно сказать, что вся наша литература, все больше и больше
проникаясь политическими идеями, вместе с тем прониклась и ложью.
Для многих и многих лукавство стало естественным делом; лавировать
между препятствиями, изворачиваться и отводить глаза — для многих
это занятие стало приятным и привычным упражнением их ловкости,
и они даже забыли, что значит говорить прямо и искренно.
Среди этой атмосферы лжи, среди всеобщего лукавства разных
видов и степеней как отрадно было слышать откровенную, чистую
речь Аксакова! Он имел дар красноречия, говорил красиво и обильно,
но эта блестящая форма не закрывала, а только яснее выказывала
сердечную теплоту его мыслей. Много было таких минут, когда, казалось,
в целой России он один говорил, один подавал голос, потому что всем
другим голосам нельзя было придавать никакого действительного
значения, так что они равнялись молчанию или даже были хуже молчания.
И ко всем тем предметам, за которые он стоял, у него было одинаково
прямое, чистое отношение. Если он говорил о Церкви и Православии,
Поминки по И. С. Аксакову
99
то не так, как люди, только уважающие Церковь, или только
считающие нужным показывать уважение к Церкви, даже радеющие о ней,
но не для себя, а для других, для людей низшего разбора. Аксаков
говорил как истинный сын Церкви, благоговейно почитавший ее своей
духовной матерью, живший действительно в ее лоне и под ее покровом.
Понятно, почему в его речах не было и не могло быть и тени рабского
лукавства.
Если он заявлял любовь к России, то это не была полуживотная
привязанность к месту, не ревнивая забота о доме, где мы живем
и под кровом которого можем иметь удобства, выгоды и наслаждения;
нет, это была преданность глубочайшим началам русской жизни,
осмысленное, сознательное исповедание этих начал. Бессознательного
патриотизма, живущего в массах, Аксаков никогда не употреблял как
орудие, как средство, которое отбрасывается, когда миновала в нем
надобность. Он говорил всегда в смысле высшего патриотизма, в
котором государственная мощь и государственные интересы получают
свое освящение от духовной жизни народа. Для истинного поэта, как
говорил Шиллер, муза должна быть не дойной коровой, а богиней.
То же самое нужно сказать и об истинном патриотизме в его
отношении к отечеству3.
Точно то же и в Славянском вопросе, в наших отношениях к
родственным племенам. Эти темные массы, тяготеющие к России, не потому
были предметом мыслей и действий Аксакова, что их тяготение имеет
важность во внешних государственных делах, может повредить или
помочь этим делам, а потому, что в основе его лежит духовное родство
с Россией, что истинная жизнь славян неразрывна с этим глубоким
тяготением и что способствовать этой жизни — значит способствовать
тому духу, который ищет себе воплощения и в этих племенах так же,
как в России. Если бы мы отвергали заботы о славянах, то мы, значит,
отрицались бы от того духа, которым сами живем. И вот отчего речи
Аксакова о славянах имели полную задушевность и, так сказать,
чистоту звука4.
Возьмите теперь все это вместе, представьте публициста, который,
таким образом, имел возможность вести свою речь с совершенной
прямотой, с отсутствием малейшего лицемерия, и вы поймете, отчего
никто не мог равняться с Аксаковым, и отчего для многих его писания
были незаменимой отрадой и утешением. Когда после больших или
малых перерывов являлся вновь номер его издания, то иному казалось,
что он из мрачного и гнилого погреба вдруг выходил на широкие
поля, где светит солнце. Люди, страдающие от зрелища нашей смутной
и больной общественной жизни, измученные тем нестерпимым
диссонансом, который непрерывно звучит в ней, отдыхали душою на строках
100
H. H. СТРАХОВ
Аксакова. Чувство бодрости, великих надежд, кровной любви к России
опять теплой струей приливало к сердцу. Читатель становился лучше,
видел яснее свое положение и сознавал, что он и должен, и может быть
гражданином вместе с этим богатырем, так бодро несущим тягости дня.
Может быть, мы слабо и не вполне очертили здесь особенные
свойства деятельности Аксакова; пусть читатели сами постараются
дополнить и исправить этот очерк. Мы же хотим здесь настаивать лишь
на том, что эти свойства были возможны и осуществлялись только
под условием идей Аксакова; если бы он не был исповедником
некоторых идей, то он не мог бы быть ни прямым, ни смелым, ни твердым
и одушевленным, не заслужил бы того имени истинного гражданина,
которое невольно пришло и приходит на мысль самым разнообразным
его почитателям. В статье К. П. верно и прекрасно сказано, что Аксаков
принадлежал к «подвижникам великой идеи»5.
Как мы видели, к идеям такого рода мы должны устремляться всей
душой. Если в нас не заглохло нравственное чувство, если мы не хотим
жить во лжи и двусмыслии, то нам должно быть бесконечно дорого
учение, которое осмысливает нашу жизнь, указывает нам в ней некоторый
правильный и ясный путь. Когда мы плачем об Аксакове, то плачем
о человеке, который высоко держал знамя такого учения, был чистым
и прекрасным его воплощением.
Но если так, то нужно же нам взять дело и с другой стороны и
добросовестно спросить себя: что же мы сделали и делаем с этим учением?
Как приняла и принимает его публика? Какие оно имело успехи,
и можем ли мы думать, что Аксаков сошел в могилу не без радостных
мыслей о плодах своего подвига?
Увы! В истории нашего литературного и умственного движения нет
ничего печальнее судьбы славянофильства, и такой долговременный
опыт невольно приводит к заключению, что и впереди этому учению
предстоят одни горькие неудачи. Наша неисцелимая умственная
зыбкость, та самая, которая известна под именем живости и бойкости
русского ума, делает нас неспособными к усвоению широких и
глубоких идей, и не только к усвоению, но и к простому пониманию. Можно
очень опасаться, что Аксаков будет большинством занесен в историю
литературы как писатель совершенно честный, но и совершенно
ошибавшийся в своем направлении, мало того, имевший очень вредное
влияние. Такой враждой постоянно отзывалась наша образованность
на проповедь славянофильства, отзывается и теперь, и будет отзываться
впереди. Тому, что называется нашей образованностью, эта проповедь
не нужна, всегда была антипатична и, без сомнения, всегда будет. И тут
нет ничего удивительного и странного, если мы подумаем, как глубоко
лежит основание этого антагонизма.
Поминки по И. С. Аксакову
101
Не будем же обманывать себя и, прославляя Аксакова, забывать,
как мало плода мы принесли, несмотря на всю работу
славянофильских подвижников, забывать, что, может быть, никогда не было более
трудной минуты для того дела, которому была посвящена эта работа.
В одном из некрологов сказано так: «Было время, когда эти идеи
(славянофильские) казались чем-то не только странным, но и
враждебным просвещению; теперь основные начала этого учения стали
очевидной истиной для всех истинно-просвещенных русских людей».
И далее: «Он (Иван Сергеевич) имел счастливую долю видеть, как
широко разрослось доброе семя, брошенное им и его друзьями на нашу
умственную ниву»6.
О, если бы так! Как утешительно это было бы для нас, и как сладко
было бы думать, что Иван Сергеевич мог перед смертью повторить
слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего!» Но, к несчастью, трудно
так думать; к несчастью, едва ли не вернее будет сказать, что наша
умственная нива и теперь больше всего растит бурьян и крапиву,
среди которых легко могут заглохнуть добрые семена, и что кружок
истинно-просвещенных людей, может быть, иногда бывал и больше
нынешнего. Не забудем, что славянофильство было провозглашено
почти полвека тому назад и что Иван Сергеевич был тридцать лет
его проповедником. Сколько времени! Представим себе юношу,
проникнутого и одушевленного этими прекрасными идеями; не имел ли
он права далеко заноситься своими надеждами, ожидать великих
успехов от своих сил, от тех начал, в которые твердо и ясно верил?
Если так, то жизнь Ивана Сергеевича должна нам представиться целым
рядом разочарований, рядом тщетных усилий и несбывшихся надежд;
и, может быть, горькое чувство этого разочарования никогда не было
горше, чем перед смертью. Прошлое царствование было временем
шумного движения, почти непрерывных преобразований. Но
принципы, которыми руководилось и поддерживалось это движение, были
мало похожи на славянофильские. Была, однако же, доля, и притом
значительная доля в преобразованиях, которая совпадала со
стремлениями славянофильства, и Аксаков сочувствовал ей всей душой.
Все доброе, что принесло нам минувшее царствование: освобождение
крестьян, расширение печати, облегчение всяких административных
уз и всеобщее смягчение нравов, — все это было вполне в духе учения,
наследованного и проповедуемого Аксаковым. Но все это лишь меры
отрицательные, а не зиждительные; все это входит в программу того
общего либерализма, который есть правило всякого хорошего
правительства, которому следует даже военная диктатура во всем, что
не касается ее прямого дела. И что же вышло? В умах большинства,
очевидно, тогда не было ничего, что составило бы противовес чисто
102
H. Н. СТРАХОВ
отвлеченным, чисто отрицательным понятиям, ничего подобного тем
положительным и живым понятиям, к которым стремились
славянофилы. Потому и не было в умах отпора разным уродливым и крайним
порождениям либерализма, неожиданно созрели идеи смут и покушений,
и тот, кто так любил освобождать и в этом полагал свою заслугу, был
убит безумцами, одурманенными от детской мысли, что, убивая его,
они убьют самую власть. Государство и его знутренняя объединяющая
сила, недоступная никакому динамиту, остались незыблемыми, не
потерпели и самомалейшего ущерба. Но на умы наши этот удар произвел
неизгладимое впечатление. Общественное сознание почувствовало,
что в путях прежних прекрасных реформ был какой-то существенный
недостаток, что их следовало бы чем-то восполнять. И движение
остановилось, потому что прежние пути оказались опасными, а нового
пути никакого не видно; он, конечно, существует, но совершенно нам
не известен. Таким образом, кажется, что мы как будто вернулись назад
к той точке, с которой начались преобразования. Этот опыт,
продолжавшийся четверть века, как будто ничему не научил нас; по крайней мере,
мы не умеем извлечь из него поучения. Растерянность общественной
мысли очевидна; эта мысль нисколько не созрела, потому что вовсе
и не работала над вопросами об основах нашей государственной жизни,
и хотя прошлое царствование, казалось бы, давало сильнейшие
поводы к занятию этими вопросами, наши понятия о таком существенном
деле не подвинулись вперед ни на шаг. Зачем же мы жалуемся иногда
на ретроградство, когда сами не двигаемся с места?
В доказательство сказанного можно сослаться на один
знаменательный факт. Недавно министерство народного просвещения предложило
нашим университетам задачу создать «науку русского государственного
права», в которой бы было представлено «существо русского
монархического начала». А чтобы показать основательность и необходимость
этой задачи, министерство опирается на такое общее соображение:
«У немцев есть изобилие философских учений; у французов,
англичан и других народов есть также свои воззрения на мир. Почему бы
не взглянуть на мир и с точки зрения русского народа? »7
Нельзя не приветствовать всей душой таких приглашений к
самостоятельной работе мысли, таких указаний на то, что следует нам быть
самобытными, если желаем стать рядом с иностранцами. Будем
философствовать, как немцы, т.е. по-своему; будем консерваторами, как
англичане, но только по-своему; будем и прогрессистами, но по-своему,
а не как французы. Только тогда у нас будет настоящая умственная
и общественная жизнь.
Но ведь этого самого и желали, и требовали славянофилы; это есть
только общая и отвлеченная формула, которую они не только давно
Поминки по И. С. Аксакову
103
заявили, но которую поддерживали живым и глубоким сочувствием
к русским началам. Они не только искали этих начал, а уже нашли
их в своей душе, и много трудились над тем, чтобы довести их до
логической формулировки и до ясного выражения в слове. Эта попытка
на самостоятельную мысль, это стремление к сознательной
самобытности уже больше сорока лет тому назад выступило у нас во всеоружии
научных и литературных достоинств. Поэтому нам следует
предположить, что университеты теперь, конечно, прежде всего, займутся
славянофильством; может быть, они его расширят, углубят или даже
совершенно изменят; но, во всяком случае, оно должно быть примером
и основанием всяких новых попыток.
Выводы эти ясны, но, без сомнения, было бы великим
легковерием надеяться на их осуществление. Как можно думать, что получит
свой вес учение, которое сорок лет было заглушаемо и подавляемо
невниманием и враждой? Разве изменились обстоятельства, под
влиянием которых живет наш умственный мир? Разве всемогущее
влияние Запада и наша рабская ему подражательность ослабели? Разве
мы прозрели, поумнели, почувствовали в себе больше нравственной
крепости, больше желания жить, руководствуясь определенными
идеями, а не случайностями дня? Совершенно ясно, что все у нас
обстоит по-прежнему, потому что недоумение, в которое мы попали,
не побуждает нас искать выхода в новых началах, а только ослабило
веру в какие бы то ни было начала.
Ни одна из надежд, ни одно из задушевных желаний Аксакова
не имеет впереди себя ясного будущего. Церковь осталась в том же
своем положении; укрепление и развитие ее внутренней жизни по-
прежнему идет шатко и медленно, и невозможно предвидеть, откуда
явится поворот к лучшему. Славянские дела ясно свидетельствуют, что
духовное значение России не развилось. После подвигов, достойных
Аннибала или Александра Македонского, мы вдруг с сокрушением
видим, что старания иностранцев и их политическое и культурное
влияние берут верх над той связью по крови, по вере и по истории, которая
соединяет нас со славянами. Но ведь весь узел Славянского вопроса
заключается именно в нашей культуре, и если самобытные духовные
и исторические силы наши не развиваются, если наша религиозная,
политическая, умственная и художественная жизнь не растет так,
чтобы соперничать с развитием западной культуры, то мы неизбежно
должны отступить для славян на задний план, сколько бы мы крови
ни проливали. Какая же для нас надежда в этой борьбе? Становясь
грудью за единоверцев, мы должны спрашивать себя: не убывает ли
и в нас, и в них та вера, в которой весь смысл дела и вне которой
бесплодны всякие подвиги? Так точно мы должны спросить себя и о всякой
104
H. H. СТРАХОВ
другой черте нашей духовной связи со славянами. И если так, то разве
возможно теперь глядеть вперед без уныния и боязни?
Все это и лучше, и яснее всякого видел и чувствовал Аксаков.
Поэтому больше, чем когда-нибудь, ему стало тяжело перед смертью.
Не могу выразить, как изумили, как больно поразили меня несколько
унылых слов, вырвавшихся у него в последних письмах, и тем сильнее
поражавших, что выходили из уст такого богатыря. «Чувствуешь, —
писал он между прочим, — что настоящий переживаемый нами период —
долгий период, и что его ничем не сократишь». И вот ему не довелось
переживать этот период; смерть избавила его от этого страдания. Он так
долго ждал, так долго обманывался в своих надеждах, и вдруг убедился,
что еще долго, долго ждать минуты, когда он мог бы сказать свое ныне
отпущаеши. В этом смысле смерть была для него милостью. В самом
деле, при таком ходе дела, когда мы оказываемся так мало способными
к восприятию и развитию внутренней, духовной жизни России,
когда для возбуждения наших умов и сердец потребуются, может быть,
новые бедствия, новые тяжкие испытания, когда всякий призыв к
сознанию, к уяснению смысла нашей жизни, к пониманию и развитию
ее идеи неизбежно глохнет в наших умах, и уроки истории не выводят
нас из слепоты, а только наводят на нас недоумение, — при таком ходе
вещей какая судьба предстояла Аксакову? Что должен был
чувствовать этот Сизиф, столько раз подымавший камень на гору и под конец
увидавший, что камень опять скатился, но гораздо ниже прежнего?
Нет, для себя он вовремя умер. Благочестивые люди верят, что смерть
всякого человека совершается не без соизволения Божия. И на этот раз
мы как будто можем понять смысл этого соизволения. Аксаков довольно
потрудился, и верный раб был наконец отпущен от своей работы.
Что же с нами будет? Конечно, то, чего мы заслуживаем.
3 марта 1886 г.
Текущая минута
Мир и тишина в русской литературе! О мирном настроении
свидетельствует хотя бы наш сборник «Складчина»1. В нем соединилась
значительная доля литературы, и, без сомнения, это соединение не
совершилось бы так легко, если бы фанатизм, разделяющий наши партии,
господствовал в прежней своей силе. Даже и теперь две газеты сдела-
Текущая минута
105
ли, хотя очень сдержанные, но неблагосклонные отзывы о сборнике;
но читатели должны видеть в этом только слабые остатки погасающего
жара, только воспоминание о кипевшей когда-то вражде.
Нам представляется, кроме того, что теперь на два на три месяца
значительная доля литературы, участвующая в сборнике, в силу
этого самого участия должна оставаться в мирных отношениях, что как
будто на два на три месяца заключено у нас перемирие. Нельзя же
быть товарищами и сотрудниками в одном издании и в то же время
преследовать и избивать друг друга.
И так на два на три месяца мы обеспечены от ярой полемики. Но вкус
к полемике вообще уже давно ослабевает и в настоящую минуту
почти погас. Бывало в каждой книжке журнала совершалось избиение
какого-нибудь литературного старца или литературного младенца
и без такого избиения книжка не считалась занимательною. Бывало
в каждой критической статье не добром поминались все враги того
журнала, в котором писалась статья, и даже все равнодушные к нему,
так как правилом было: кто не с нами, тот против нас. Нынче не то.
Нынче даже фельетонисты отреклись от веселой манеры пересыпать
свои статейки всякими именами, перестали заниматься тем, что имело
техническое название журнального лая, и приняли вид более
степенный и глубокомысленный.
В последнее время старые полемические приемы (мы не хотим
повторить неприличного слова лай) были в ходу только, кажется,
относительно одного журнала, именно «Гражданина»2. На «Гражданина»
сыпалась брань, напоминавшая своею резкостью и обилием самые
оживлённые времена нашей литературы. Фельетонисты, уже
привыкшие держать себя с приличием и серьёзностью относительно
других изданий, как только заходила речь о «Гражданине», впадали
в тон «Петербургской газеты»3, «Дела»4 и других подобных изданий,
великодушно хранящих предания своей лучшей поры и потому
продолжающих ругаться так же, как ругались литераторы в 1864
году — вечной памяти. Очевидно, «Гражданин» был только предметом,
дававшим повод для излияния последних остатков той полемической
ярости, которая так долго господствовала и высшее развитие которой
нужно полагать в 1864 году. Но вот мы видим не без изумления, что
и «Гражданин» наконец перестает возбуждать полемическую жилку.
Последние месяцы прошлого года прошли для него очень спокойно,
если сравнить их с первыми. Мир, решительный мир!
Но не только мир, а и всяческая тишина. Направление
различных журналов осталось различное, и никаких перемен, или измен,
в этом отношении мы указать не можем. Но каждый журнал, как
говорится, очень слабо проводит свое направление. Мы не помним,
106
Я. Я. СТРАХОВ
чтобы в прошлом году где-нибудь явились статьи, достойные в этом
отношении внимания или даже хоть только возбудившие внимание.
Исключение составляют, может быть, две статьи Н. Константинова
об Афоне, явившиеся в №№ 2 и 4 «Русского вестника» и содержавшие
несколько свежих и живых мыслей. Но статьи эти вовсе не подходят
к направлению того журнала, в котором печатались, да и писаны
отчасти слишком легко, а отчасти слишком хорошо, чтобы броситься
в глаза. Обыкновенное же содержание журналов составляли статьи,
в которых не высказывалась мысль сосредоточенная и определенная,
а рассматривался предмет более или менее отдаленный от общих
вопросов, и только кое-где проглядывали начала, исповедуемые автором.
Такому спокойному состоянию журналистики вполне соответствует
(мы не говорим, что оно есть источник и первая причина) и то
обстоятельство, что уже давно не слышно о предостережениях, по
крайней мере о таких, которые бы интересовали литературу и публику.
Правительство, очевидно, находит, что литература держит себя тихо,
что она не может возбуждать опасений относительно спокойствия
общественной мысли. Положение установилось, отношения определились,
и если мы будем осторожны, то мы можем долго двигаться по
наезженной колее, не подвергаясь большим потрясениям.
На тишину в литературе указывает еще один очень явственный
признак. С приближением нового года обыкновенно предпринималось
издание новых журналов. Но нынешний новый год, несмотря на кой-
какие носившиеся слухи, не принес нам никакой новинки этого рода,
то есть не появилось никакого издания, которым бы интересовалась
литература или публика. Все остается по-прежнему, и журналы
перестали даже писать объявления, которыми бывало извещали публику
о своем внутреннем развитии, об изменившемся настроении умов
общества и о новом понимании задач литературы. Время быстрого прогресса
и всяких перемен прошло. Теперь просто пишут: «будем-де издавать
на прежних основаниях, с прежними сотрудниками».
И книг в настоящую минуту выходит меньше прежнего. Особенно
заметно уменьшение числа переводов; только романы переводятся все
в большем и большем количестве, и в прошлом году немецкий романист
г. Самаров5 читался, можно сказать, целою Россией.
При таком положении дел, если мы вообще зададим себе вопрос,
чем же питаются нынче умы публики, то отвечать будет нелегко.
«В голове среднего русского образованного человека должен
существовать порядочный сумбур» («Отеч. зап.» 1873. № 12, стр. 248). Так
говорит г. Михайловский6 в своей интересной, но мудреной статье
о Штраусе. Средний человек, у которого г. Михайловский признает
сумбур в голове, означает здесь большинство наших образованных
Текущая минута
107
людей, всю их главную массу. Мы совершенно согласны с этим
суждением. Публика нынче несколько потерялась и не чувствует в себе
определенных и живых умственных интересов. Она занимается всего
больше своим обыкновенным чтением, т.е. газетами и романами.
Газеты, как известно, есть самый легкий род чтения; газеты читаются
и теми, кто никогда не думает ни о какой науке или литературе, даже
теми, для которых роман, требующий все-таки того, чтобы вы помнили
предыдущую страницу и не путали имена действующих лиц, кажется
чтением несносным по своей трудности.
Но и романы очень усердно читаются, очень усердно пишутся и
возбуждают довольно живые толки. Как будто воскресает художественный
интерес. На нынешних романах лежит, однако же, явный след влияния
недавно господствовавшей школы. Они пишутся с большою
небрежностью и поспешностью и всегда занимают больше места, чем им следовало
бы. Если читать книги внимательно, то ведь можно точно определить,
медленно или быстро писалась книга, много или мало автор думал
над каждою страницею. Если очень мало, то читателю обыкновенно
бывает обидно. Г-жа Смирнова7 в своем «Попечителе учебного округа»
так торопится, что не может даже рассказывать в порядке и на десяти
страницах без всякой нужды пять раз забегает вперед и возвращается
назад. Признаемся, мы в этом не нашли ничего остроумного.
Да и куда нам торопиться? Время теперь тихое, порывы прогресса
приостановились, волнение идей улеглось. Теперь самое время писать
«с чувством, с толком, с расстановкой». По немецкой теории прогресса,
как известно, все идет к лучшему; всякие задержки, неудачи, падения
ведут к новому, более глубокому движению вперед. Это, конечно,
справедливо, но не безусловно; это справедливо только для людей умных,
которые помнят, что с ними сделалось, и продолжают работать умом.
Если же мы будем спать, то потом опять примемся за старую историю,
за которую уже принимались десять раз, и выйдет у нас, как и прежде,
толчение на одном месте, а не прогресс.
a
Б.В.НИКОЛЬСКИЙ
Николай Николаевич Страхов.
Критико-биографический очерк
I
Николай Николаевич Страхов родился 16 октября 1828
года в Белгороде, старинном городе Курской губернии, на границе
Великороссии и Малороссии. Отец его, Николай Петрович, великоросс,
был протоиереем и преподавателем словесности в Белгородской
семинарии. Он окончил курс в Киевской духовной академии, получил ученую
степень магистра богословия и имел, кроме профессуры, приход. Женат
он был на малороссиянке, Марье Ивановне Савченко, из дворянской
фамилии. В прошлом столетии в Малороссии нередко бывали случаи,
что дворяне поступали в духовное звание: так точно и дед Страхова
со стороны матери, подобно отцу, был протоиереем в Белгороде. Когда
Страхову было всего лишь семь лет, отец его скончался, и он только год
посещал местное духовное училище; затем, вероятно в 1837 году, мать
увезла его и старшего на год брата Петра в Каменец-Подольск к своему
брату, бывшему там ректором семинарии. В 1839 году дядя Страхова был
переведен на такое же место в Кострому и взял с собою своих
родственников. Поступив в 1840 году в Костромскую семинарию в «реторику»1
и перейдя затем в «философию»2(с двухлетним курсом каждая), Страхов
решил переехать в Петербург и поступить в университет.
О семинарии, в которой он провел свои школьные годы, Страхов
нередко вспоминал с большой любовью и благодарностью, особенно
подробно в его неоконченных и еще не напечатанных «Воспоминаниях
о ходе философской литературы» — статье автобиографического
характера, наряду с прочими «биографическими сведениями» переданной
покойным пишущему эти строки для составления настоящего очерка,
давно уже задуманного и подготовлявшегося. Семинария помещалась
в Костромском Богоявленском монастыре. «Это был беднейший и почти
опустевший монастырь: в нем было, кажется, не более восьми монахов;
но это был старинный монастырь, основанный еще в XV веке. Стены
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 109
его были облуплены, крыши по местам оборваны; но это были
высокие крепостные стены, на которые можно было всходить, с башнями
по углам, с зубцами и бойницами по всему верхнему краю. Везде были
признаки старины: тесная соборная церковь с темными образами,
длинные пушки, лежавшие кучей под нижним открытым сводом,
колокола со старинными надписями. И прямое продолжение этой
старины составляла наша жизнь: и эти монахи со своими молитвами,
и эти пять или шесть сотен подростков, сходившихся сюда для своих
умственных занятий. Пусть все это было бедно, лениво, слабо; но все
вместе имело совершенно определенный смысл и характер, на всем
лежала печать своеобразной жизни. Самую скудную жизнь, если она,
как подобает жизни, имеет внутреннюю цельность и своеобразие,
нужно предпочесть самому богатому накоплению жизненных
элементов, если они органически не связаны и не подчинены одному общему
началу». А бедность и скудость этой семинарской жизни были во
всяком случае необычайны. «Даже учебные книги были редки. Общего
употребления печатных учебников не существовало: такие учебники
были бы даже и не по средствам большей части учащихся, детей
бедного сельского духовенства, которые часто приходили в классы летом
в крашенинных халатах, а зимою в нагольных тулупах и лаптях».
Преподавание в костромской семинарии велось, как и во всех других,
«в долбяшку», «с энтих до энтих». Занятия учеников, при всей скуке
и мертвенности буквального затверживания, были, по существу дела,
а главное, по размерам уроков, совершенно пустяшные, свободного
времени у мало-мальски способных было неизмеримо больше, чем
занятого, а бедность и скука семинарской жизни налагали свой
безотрадно грубый и низменный характер на способы убивания этого
времени. «Мне странно вспомнить, однако, — пишет Страхов, — что,
несмотря на наше бездействие, несмотря на повальную лень, которой
предавались и ученики, и учащие, какой-то живой умственный дух
не покидал нашей семинарии и сообщился мне. Уважение к уму и науке
было величайшее; самолюбия на этом поприще разгорались и
соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать и спорить при всяком
удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения, передавались
рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся архиереями,
в академиях и т.д. Словом, у нас господствовала очень живая любовь
к учености и глубокомыслию, но, увы, любовь почти совершенно
платоническая, только издали восхищающаяся своим предметом».
«Наши умы и души имели, впрочем, свое определенное
содержание, именно — были проникнуты религиозными представлениями.
Неверующих и вольнодумцев у нас вовсе не было, и мы были твердо
убеждены, что отрицание религии есть крайняя уродливость, чрезвы-
110
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
чайно редко встречающаяся в роде человеческом. Мы вполне испытали
на себе влияние религии, мы были воспитаны под ее верховным
руководством». — «Религиозные представления, — говорит он несколько
далее, — ставят нас в такие отношения ко всему остальному бытию,
перед которыми мелки и ничтожны всякие другие отношения. Жизнь
обращается в глубокую драму, в поприще роковой борьбы. Вместо
бесцельного существования, проводимого среди будничных нужд
и будничных радостей, человеку предлагается подвиг и указывается
впереди или жестокая погибель, или бесценная награда. И все то, что
было, что есть и что будет, получает вид несравненного величия
и яркости. Даются представления о существах бесконечно высоких
и прекрасных, в которых самые возвышенные идеалы составляют
действительность. Определяется весь ход и смысл бытия; известно
начало всего мироздания и начало человеческой истории, известен
и конец ее, и то устье, которым она некогда впадет в светлый океан
вечности. Поистине, религия, если взять ее со стороны чувства и
понятий, составляет действительное доказательство благородства души
человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии,
то нам пришлось бы его понизить до степени животных».
Вторым основным элементом умственного содержания семинарской
жизни был патриотизм. «В нашем глухом монастыре мы росли, можно
сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой
возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы готовимся ей
служить и должны оказывать ей всякий страх и всякую любовь». В своих
воспоминаниях о Достоевском Страхов еще точнее высказался по этому
поводу. «С детства я был воспитан в чувствах безграничного
патриотизма, — пишет он, — я рос вдали от столиц, и Россия всегда являлась мне
страною, исполненною великих сил, окруженною несравненною славою,
первою страною в мире, так что я в точном смысле слова благодарил
Бога за то, что родился русским. Поэтому я долго потом не мог даже
вполне понимать явлений и мыслей, противоречивших этим чувствам;
когда же я наконец стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том,
что она видит в нас народ полуварварский и что нам не только трудно,
а просто невозможно заставить ее думать иначе, то это открытие было мне
невыразимо больно, и боль эта отзывается до сегодня». — «Настоящий,
глубокий источник патриотизма, — заканчивает Страхов свои
воспоминания о семинарии, — есть преданность, уважение, любовь — нормальные
чувства человека, растущего в естественном единении со своим народом.
Хорошо или дурно, много или мало, но именно эти чувства воспитывала
в нас наша бедная семинария» *.
* Собр. соч. Достоевского, изд. 1883 года, т. 1, стр. 248.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 111
Таковы были обстоятельства и условия, при которых будущий
писатель получил свое первоначальное образование и воспитание.
Их влияние было чрезвычайно глубоко и разнообразно. Прежде всего,
монастырская жизнь и семинарское развитие выработали в Страхове
его личный характер или то, что называют обыкновенно характером:
приемы обращения с людьми и предметами, отношения к мнениям
и системам, к искусству и науке. И в личном обхождении покойного,
и в строе его жизни, и во всей его биографии было много аскетического,
много знакомого каждому, кто хоть поверхностно наблюдал характер
и особенности православного монашества. Всегда неизменно
деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, так же
скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий,
старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом,
по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим
вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую
мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону,
но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий,
но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым
или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной
любовью все, кто лично знал Страхова. Он обо всем решительно
беседовал таким тоном, как монах говорит с мирянином о светских делах
и вопросах, тщательно избегая даже малейших намеков обнаружить
хоть что-нибудь из внутреннего быта и обихода своего монастыря.
О себе самом Страхов почти никогда не говорил, даже местоимение
«я» проскальзывало у него в разговоре, как и в сочинениях, только
в виде исключения. Комфорт, удовольствия и удобства жизни для
него, можно сказать, не существовали; он заменял их только редкой
чистотой, аккуратностью и порядком. В его дом вы входили, как в ке-
лию какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина,
подаренные ему на память художниками, портреты и бюсты двух-трех
писателей, две-три картинки, дорогие, как воспоминания детства,
и полки с книгами: вот вся его обстановка. Несколько стульев
предназначалось для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор
для помещения книг. Книги «значили очень много в его жизни», как
он выразился в своих воспоминаниях. Приобретение книг было
единственным «светским удовольствием», спортом, охотой этого мирского
монаха. Составленная им библиотека поражала всякого обозревателя
систематичностью, обдуманностью подбора, разнообразием, богатством
и полнотою содержания. В мышлении, разговорах, в своих
произведениях он опять-таки отличался той чисто монашеской, почти наивной
сериозностью, с которой взвешивал каждую высказанную ему мысль,
каждое прочитанное им мнение, тем глубоким и непосредственным
112
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
восторгом, тем простодушным и искренним любопытством, с
которыми готов был восхищаться каждым оригинальным взглядом или
суждением, каждым маломальским даровитым произведением науки
или искусства, наконец, каждым проблеском таланта вообще, в чем бы
тот ни проявлялся. Даже манеры, обороты речи, самая наружность
его напоминали типичного великорусского монаха.
В равной мере с личным характером отразились воспитание и
образование Страхова в том, что в писателе соответствует характеру в человеке,
а именно в его стиле. Неопределенно уклончивая мягкость этого стиля
при совершенной точности, ясности и чистоте языка сообщает
произведениям Страхова удивительную внешнюю оригинальность. Полная
простота и общедоступность изложения неотъемлемо свойственны этим
самым простым книгам о самых мудреных и темных вопросах. Он
вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, не обнаруживая
притом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или
несогласия. Насмешки, желчи в них нет и помина, хоть читатель очень часто
встречается с тонкой, осторожной, но тем более меткой и едкой иронией.
Эта ирония смешит читателя не насчет чужих промахов или
недостатков, а именно тем, что с безжалостным беспристрастием раскрывает
смехотворную сущность этих недостатков и промахов. В своеобразной
рассудительности его шуток особенно ярко проявляется основная
манера Страхова: он всегда писал простодушно, хотя рассуждал хитроумно.
Он писал как будто не теми словами, какими думал. Осторожность
и отвлеченность, прозрачность выражений, слишком художественные,
чтобы напоминать мертвенный канцелярский стиль, и в то же время
слишком светские, чтобы вполне приближаться к манере письма
современных церковных писателей, так изысканны и в то же время просты
у Страхова, до такой степени предоставляют читателя мыслям автора,
ничего ему не подсказывая слогом, что многие склонны смешивать
их с неискренностью. «Нет на свете писателя, который бы так старался
и так умел скрыть от читателя свою мысль, как Страхов», — воскликнул
как-то один тонкий и глубокий знаток русской словесности; но эта
забавная шутка едва ли нуждается в опровержении. <...>
<...> Во всех своих произведениях он художник самый
добросовестный и тщательный, и многие его страницы, посвященные
химии, физиологии, психологии, газетным рецензиям даже, — просто
бесподобны в эстетическом отношении совершенно даже независимо
от их высокого научного достоинства. Он обдумывал и обрабатывал все
свои даже мельчайшие заметки с тою же старательностью, как иной
поэт свои лирические стихотворения. Он предпочитал вовсе не писать,
чем писать кое-как, наскоро, и потому свои статьи смело мог
переиздавать без всяких изменений в отдельных книжках и сборниках.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 113
Ни их содержание, ни их форма не лишали их общего, долговечного
значения; они все, по выражению Достоевского, были «писаны для
полного собрания сочинений».
<...> Его добросовестное, пытливое отношение к жизни и
науке является теперь чуть ли не наивностью; но эта наивность и есть
та самобытность, которая восхищает нас в характерах и умах
древности и которой мы сами так неуловимо лишились. Такие умы, как
он, — их можно пересчитать по пальцам — те немногие праведники,
которые спасут наш XIX век от полного осуждения историей. Великая
французская революция и все порожденные ею дезорганизующие
(так называемые «освободительные») перевороты и преобразования
разнуздали стихийные инстинкты народов Запада. <...> мало было
таких, которые, как Страхов, не только не уступили всеобщему
направлению, но, как незыблемые скалы, разрезающие острыми
вершинами грохочущую лавину, не могли даже признать сериозности
ее стремления, которые только смеялись и удивлялись чудовищному
разрушению и всеобщему отрицанию, скептицизму, неустойчивости
и самоуверенной подвижности девятнадцатого века. И бесспорно,
что в костромской семинарии, этом «бедном, ленивом, слабом»
училище, Страхов получил начатки того своеобразного закала духа, того
отношения к миру, людям, науке и ее учениям, которые составляют
его лучшую славу и величайшую заслугу.
II
Тот «живой умственный дух» костромской семинарии, о котором
Страхов говорит в своих воспоминаниях, бесспорно, действовал в его
лице на предрасположенную и богато одаренную натуру; обстановка же
семинарская, очевидно, не могла ей дать той духовной пищи, которой
требовала природная пытливость его ума. Под влиянием этих
обстоятельств Страхов решил обратиться к источнику обширных и общих
знаний — к университету. То свободное от учебных занятий время,
которого так много оставалось в семинарии, будущий писатель посвятил
на осуществление своей мысли и сам, без всякой посторонней помощи,
успел подготовиться к экзамену. Осенью 1844 года он был вызван дядею
в Петербург и с января 1845 года зачислен вольнослушателем по
камеральному (соответствовал теперешнему юридическому) факультету,
а в августе того же года держал вступительный экзамен и поступил
студентом на математическое отделение. «Мне хотелось, собственно,
изучать естественные науки, — пишет Страхов в "Биографических
сведениях", — но я поступил на математику, как на ближайший к ним
предмет, чтобы иметь возможность получать стипендию, и получал ее —
114
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
по 6 рублей в месяц». Но так дело продолжалось только год. Страхов
рассорился со своим дядей, а тот нажаловался на него попечителю, и в
результате Страхов лишился и стипендии, и приюта. Без всякой помощи
пробился он кое-как полтора года, запустил свои занятия и решился
наконец перейти в главный педагогический институт на казенный счет.
Недолговременное и грустное пребывание в университете имело,
однако же, огромное значение для юноши, начавшего свою умственную
жизнь в глухой провинции. «В знаменитом университетском коридоре
мне доводилось слышать то рассуждения о том, что вера в Бога есть
непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье
и уверения в ее непременном осуществлении. А мелкая критика
религиозных понятий и существующего порядка была ежедневным
явлением. Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали
их чрезвычайно сдержанно; но товарищи сейчас же объясняли мне
смысл намеков. Один из университетских моих приятелей был очень
хорошим моим руководителем в этой области. Он объяснял мне
направления журналов, растолковал, какой смысл придается стихотворению
"Вперед, без страха и сомненья", рассказывал суждения и речи более
зрелых людей, от которых сам научился своему вольнодумству. Таким
образом, уже тогда я вполне познакомился с этою сокровенною
мудростью, и когда, спустя десять или более лет, она стала все ясней и громче
высказываться в литературе, она уже ничуть не была для меня новостью.
Говорю, конечно, о самом принципе этого направления, о
немногосложной формуле отрицания. Символ веры отрицателей, как известно, очень
прост и иногда состоит лишь из двух кратких членов: Бога нет, а царя
не надо. Отрицание и сомнение, в сферу которых я попал, сами по себе
не могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит
положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются,
именно — авторитет естественных наук. Ссылки на эти науки делались
беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм выдавались за прямые
выводы естествознания. И вообще твердо исповедовалось убеждение,
что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут
правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел «стать
с веком наравне» и иметь самостоятельное суждение в разногласиях,
которые меня занимали, мне нужно было познакомиться с
естественными науками. Так я и решил сделать, ни за что не отступать от своего
решения и понемногу привел его в исполнение. Хотя математический
факультет — ближайший к естественному, мне очень жаль было такого
отклонения от прямой линии. Но дело потом поправилось».
Таковы первые два существенно важные жизненные решения
будущего писателя: поступление в университет и выбор факультета. Нельзя
не признать в них обоих характернейших особенностей умственного
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 115
склада Страхова: в делающем первые шаги юноше мы вполне узнаем
того умудренного опытом и горем старца, которого так недавно опустили
в могилу. Анализ и изучение умственных авторитетов, воинствующие
утверждения которых нарушают стройность установившегося в душе
мировоззрения, эта «борьба с Западом» в защиту «мира как целого»
уже сказываются в независимых решениях юноши. В намерении
посвятить себя изучению именно того, что грозит душевному миру
и дорогим идеалам, слышится готовность ума к высшему
беспристрастию, готовность отказаться от идеалов, но только если они вполне
и несомненно опровергнуты, и притом только заменив их новыми,
неопровержимыми идеалами, до тех же пор неотступно держаться за те,
которые любовно усвоены душою. В отношении к последним он сразу
ставит себя и затем в течение всей своей деятельности остается как бы
в положении юриста, защищающего владение независимо от вопроса
о собственности. Наконец, в его решениях мы прямо узнаем его
отношение к науке, которое характеризует всю его сорокалетнюю
литературную деятельность. Выйти из семинарии и поступить в университет
его побуждает не разлад с окружающим миром, не недовольство средою,
но чистая жажда знания, притом жажда совершенно неопределенная:
он не сразу находит свои научные интересы, колеблется в выборе
факультета. Тот естественный патриотизм, которым он был проникнут
с детства, внушает ему вначале намерение изучать политические
науки, и он поступает на камеральный (юридический) факультет;
но вскоре уязвленное религиозное чувство влечет его в стан
враждебных авторитетов и не как обезоруженного пленника, но как пытливого
и беспристрастного разведчика. Таким образом, наука является не
основным элементом его миросозерцания, а только школой и поприщем
умозрения; наука — мастерская, но не храм его духа. «Наука есть дело
великое, — писал он, — хотя и не наилучшее и не наивысшее из
человеческих дел» *. И вот, исходя еще в юности из этой точки зрения,
Страхов своим выбором факультета как бы практически разрешил один
из важнейших вопросов всякого умозрения — вопрос об иерархии
задач духа. Так как разрешение этого вопроса всецело обусловливается
самой основной сущностью мировоззрения каждого мыслителя, то здесь
необходимо, по естественной связи дела, выяснить, по крайней мере,
в главных чертах, эту основную сущность мировоззрения Страхова.
Основной, положительный критерий, который подымал этот
тонкий и глубокий ум выше философии и науки, сводился к
стройному и гармоничному нравственному идеалу, который сам Страхов
характеризовал понятием святости. Познание не являлось для него
* «О вечных истинах», стр. 9.
116
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
мерилом бытия, а лишь одним из его соподчиненных элементов,
одним из поприщ применения иного, высшего мерила. Задача земного
существования — внутреннее совершенство, внутренняя цельность
духа, достигаемая не отдельными моментами, а, так сказать, всем
планом деятельности и жизни. Мало для этого справедливости, мало
милосердия: предельная вершина бытия может быть достигнута
человеком только в святости. «Святость именно в том и состоит, —
пишет Страхов, — что человек становится выше своих желаний, своей
природы и выше смерти и всякого страдания. Это полная чистота
души и полная преданность воле Божией. Когда у человека нет своих
желаний, нет заботы и страха, он смотрит на все, как бесплотный дух,
он стоит на точке зрения вечности; тогда он как будто "вновь родится",
и в душе его открываются источники лучшей жизни, вполне чистых
чувств и сил. Болезнь, страдания и смерть составляют для такого
человека только повод и побуждение подняться в область святости,
отрешиться от себя и от мира. Ищущие святости часто с радостью
встречают эти поводы и даже ищут всяких лишений, чтобы воспитывать
в себе дух чистоты» *. Этот «дух чистоты» — вот высшее совершенство
бытия в глазах Страхова. Стремление к такому же идеалу находил он,
между прочим, в основе всей художественной деятельности графа
Л. Н. Толстого и в этом стремлении видел ее главное достоинство,
ее главную силу. <...>
Итак, внутренняя уравновешенность духа, а не дознание научной или
философской истины составляет венец разумного бытия; вместе с тем
не философия или наука служат этой уравновешенности источником или
опорой: они лишь вершины земли, те горные скалы, на которые волен
опускаться свободно парящий дух; его равновесие, его жизнь должны
быть в нем самом. Знание и наука составляют лишь его свободную
отраду, а не мучительный труд в болезненном познавании добра и зла. Мир
и его твари были показаны и названы радостному духу Адама до его
грехопадения, которое началось с того мгновения, как он решил обосновать
на личном умозрении идеалы добра и признаки зла. Ясное дело, что такое
опускающееся в мир, а не ищущее в нем опоры мировоззрение должно
быть названо по преимуществу религиозным: не в этом ли и разгадка
тому, что Страхов один в нашем столетии сумел достаточно глубоко
заглянуть в сущность философии Шопенгауэра3, чтобы уловить в ней
скрытое веяние религиозного духа? Заметим, однако же, что религиозность
мировоззрения отнюдь еще не предполагает своей непременной основой
какого-нибудь положительного религиозного учения: доказательством
может служить та же самая религиозная, но атеистичная система
* Воспоминания и отрывки. С. 211.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 117
Шопенгауэра. Потому в равной степени для нас не настоит ни малейшей
необходимости приводить страховский идеал святости в зависимость
с открытым вопросом, тем более, что его идеал вполне удовлетворительно
мирится с всяким вообще вероучением. С другой стороны, однако же,
если мы и оставим этот вопрос открытым, то перед нами возникает
другой, не менее существенный — об отношении к этому идеалу
самого писателя и причинах обязательности этого идеала. Это отношение,
раз Страхов не опирается (по крайней мере, как писатель) в служении
своему идеалу на авторитет верховного бытия и нравственного в
отношении к нему долга, должно быть признано не столько религиозным,
сколько эстетическим. Святость обязательна и необходима потому, что
прекрасна. Жизненную силу ее Страхов ищет не в разумности, так как
не умозрение кладет основой мировоззрения, и не в долге, ибо не
опирается на какие-либо требования религии; следовательно, достаточное
основание бытия (т.е. достижения) святости коренится в ее красоте,
ибо только с точки зрения подчиняющей волю или интеллект красоты
святость может быть признана идеалом самодовлеющим,
Wie die Liebe, wie das Leben,
Wie der Schöpfersammt der Schöpfung4.
Прибавим вместе с тем, что ни одна строка произведений Страхова
не дает повода и права к провозглашению его атеистом, к чему
склонны — правда, покуда лишь на словах, а не в печати — некоторые
изобличенные им фарисеи.
Следовательно, эстетичность — вот основная черта, коренная
сущность мировоззрения Страхова. Не трудно убедиться, что во всех
областях человеческого творчества, которые привлекали к себе интерес
и внимание Страхова, он всегда был и остался прежде всего и после
всего эстетиком. То, что во внутреннем мире человека является
уравновешенностью духа, то во внешнем мире представляется нам, как
гармоническая или органическая цельность. Естественно поэтому, что
писатель, основное настроение которого составляет этическое равновесие
духа, искал такой цельности в мире и в человеческом творчестве, то есть
философии, науке и искусстве. Что касается прежде всего мироздания,
то свою идею о нем Страхов изложил с редкой для него категоричностью
на одной из первых же страниц своей первой по времени книги5. <...>
Вот несколько общих положений того взгляда, который развивается
в (настоящей) книге («Мир как целое»). Главное содержание ее
состоит, впрочем, не в картине мира, изображенной с этой точки зрения,
а в таком анализе явлений природы и учений естественных наук,
который показывает, что мир как целое есть главная руководящая идея
118
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
в исследовании природы, та мысль, к которой необходимо приводит
правильный ход науки в каждом частном случае.
Относительно эстетичности воззрений Страхова на философию,
науку и искусство не приходится говорить в данном случае особенно
подробно, так как ниже эти воззрения будут развиты с надлежащею
полнотой. Под крылом науки мир представлялся ему таким же
стройным и гармоническим целым, как любое произведение
художественного творчества. Самая наука являлась перед ним как художественное
целое, перед которым он стоял в качестве зрителя, желающего охватить
это целое одною стройною мыслью. Даже в области философии он
относился к системам как к «лирическим поэмам», как к «готическим
соборам» *, считая, что в каждом из этих храмов позволительно людям
поклоняться вечной единой истине. Нечего и говорить, разумеется,
о той стройности и цельности, которых он искал и находил в
эстетической по преимуществу области духовной деятельности человека — в
искусстве. Но даже и тут, в области, например, русской художественной
литературы, он примкнул к наиболее цельному и стройному на нее
взгляду — к «органическому» воззрению Григорьева6. <...> совсем
иначе обстоит дело с критическим элементом его ума и воззрений.
Однако же промежуточным звеном между этими двумя сторонами
его умственной деятельности является самый характер этой
деятельности, именно — пассивный, созерцательный, а не творческий. Искатель
прекрасного единства и прекрасной стройности — одним словом,
цельности жизни, Страхов не был инициатором, руководителем,
творцом ни в жизни, ни в науке, ни в философии, ни в искусстве. Потому,
не будучи в состоянии самопочинно привнести в мир наиболее себе
созвучный художественный элемент существования, он ограничивался
тем, что везде и во всем его искал. Как эстетик, он не столько участник,
сколько зритель бытия. <...> Этим созерцательным духом умозрения
объясняется одна из характернейших особенностей Страхова — его
объективизм, его крайняя нелюбовь к общим взглядам, к широким
обобщениям, к схематизму, классификациям и окончательным выводам.
Как истинный эстетик, Страхов всегда брал предмет своих суждений
самим по себе, единым и цельным, как картину художника, как живой
организм, как физическое тело. «Как вы это все широко
захватываете!» — говаривал он нередко. «В этом изобилии мыслей ужасно много
опасностей и трудностей. Я так всегда предпочитаю избрать одну
какую-нибудь мысль, но зато исчерпать ее с совершенной точностью
и полнотою. Лучше ясно и убедительно изложить одну мысль, чем
напутать десяток так, что читателю в них совершенно не разобраться».
* Выражения Шопенгауэра о философской системе Канта.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 119
Таков он был во всем решительно: последовательный, медлительный,
исчерпывающий вопросы по всем их частностям и подробностям.
Между тем объективизм вообще неразрывно связан с аналитическим
расчленением предметов исследования. В бесконечном разнообразии
мироздания слишком легко затеряться тому, кто не избирает
мельчайших по возможности единиц наблюдения, чтобы их наблюдать уже как
самостоятельные целые. Таким образом, ясно, что, будучи эстетиком
в положительных сторонах своего мышления, Страхов, в силу
созерцательного характера этого мышления, непременно должен был оказаться
критиком в сторонах отрицательных. Так оно и было на самом деле.
Трудно себе представить более безжалостного скептика, более
смелого и последовательного отрицателя, более грозного разрушителя,
чем этот благодушный эстетик-созерцатель. И в этой
противоположности нет ничего удивительного и нестройного; наоборот, трудно себе
представить более цельный и последовательный ум, чем у Страхова.
Искатель цельности и единства, он не только предполагал их в
совокупности явлений и суждений, но требовал их от всего объективно сущего,
от всякого суждения, всякой идеи, всякого умозаключения, всякой
системы, притом требовал единства как внешнего, так и внутреннего, как
эмпирической, так и априорной цельности и устойчивости. Малейший
недостаток в этом отношении он непогрешимо и болезненно
чувствовал, как музыкант фальшивую ноту одного инструмента в грохочущем
оркестре, и как тот прямо называет и сфальшививший инструмент,
и неверно взятую ноту, и ту, которую бы следовало взять, так Страхов
безошибочно подчеркивал во всяком суждении каждый его диссонанс,
мельчайшую несогласованность с самим собою. Притом, как истинный
эстетик, он не мерил предметов своего анализа какой-нибудь готовой,
предвзятой системой или меркой, но всегда обращался к их внутренней
сущности взятых самих по себе, стараясь во всем судить совершенно
объективно. Для такой критики и не нужно никакой положительной
догмы. Она прямо идет к центру своего предмета, а в полемике — в
лагерь противника, и борется с ним там его собственным оружием, меряет
его собственною меркою. Она вынуждает противника не опровергать
ее исходные точки, но защищать все время свои собственные. Этой
особенностью между прочим объясняется, что противники Страхова все
требовали от него какого-то «знамени»; но знамя нужно полководцу,
руководителю масс; а зачем знамя Страхову, изнутри сокрушающему
громаду вражеского храма и погребающему под его развалинами всю
боевую силу враждебного народа? На таких развалинах уже не трудно
будет водрузить знамя победы тем, кто его имеет. Например, доказать,
что материализм и нигилизм не суть учения или системы, а лишь
формы философского невежества, значит, нанести им смертельный
120
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
удар, значит, именно сокрушить изнутри храм Дагона7; и допустим
даже, что его сокрушил слепец: неужели храм оттого менее разрушен?
А с другой стороны, каждый может воцариться над этими развалинами,
даже не тот, в чьем обладании ковчег завета.
На основании сказанного можно бы было, по-видимому, заключить,
что если деятельность Страхова есть чистое разрушение, то она-то и
представляется лишь тончайшим проявлением того самого нигилизма, против
которого он столько боролся. На самом деле такое мнение нередко и
высказывается. «Ваш Страхов — нигилист», — приходилось нам слышать
не однажды по поводу нашей характеристики его критического
отношения к миру. Но, разумеется, этот взгляд ошибочен. Нигилист — тот,
кто отрицает истину, а не тот, кто не верит в чужие мнения. Нигилист
не тот, кто не признает ученых и учений, а тот, кто не признает науки.
Нигилист не тот, кто не признает философских систем, а тот, кто не
признает философии; не тот, кто не признает партий, а тот, кто не признает
государства; не тот, кто отвергает те или иные произведения искусства,
а тот, кто отвергает искусство. А быть нигилистом нигилизма — это,
конечно, лишь пустая игра слов. Да и, наконец, в области философии
Страхов склонен был условно, provisorisch8, как говорят немцы,
признавать философскую систему Гегеля9. Такое «условное признание»,
разумеется, непозволительно для философа в строгом смысле слова;
но оно — черта эстетика, который признает одно создание искусства
более совершенным, чем другие, воплощением идеала красоты; который
признает известную философскую систему наибольшим, сравнительно
с другими, приближением к истине. В гегельянстве же бесспорно эстетик
в смысле Страхова найдет наибольшее совершенство, встречая в нем
и единство всеобъемлющей стройности, и строгое диалектическое
установление и развитие понятий. По связи мыслей не будет неуместна здесь
оговорка, что крайне ошибочно весьма ходячее провозглашение Страхова
гегельянцем. Совершенно справедливо, что Страхов жил после Гегеля
и знал и изучал его произведения, даже увлекался ими; но и до Гегеля,
как и после Гегеля, основной сущностью философии была незыблемая
вера в науку и в самое себя, основным методом — диалектическое
развитие понятий, основным настроением — пантеизм. Нельзя же называть
эвклидистами всех геометров и ученых, применявших геометрический
метод, или христианами тех мыслителей древности, в чьих
произведениях сказывались аналогичные христианским воззрения. Метод Гегеля
есть вообще чистейший метод научного умозрения, всеми мыслителями
применявшийся и Гегелем не открытый или выдуманный, а только
формулированный. Равным образом и пантеизм, и известный рационализм
вовсе не составляют еще специфических особенностей гегелианства.
Именно поэтому, признавая заслуги Гегеля и их высокое значение,
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 121
Страхов отнюдь не был гегелианцем, как и вообще не принадлежал во всю
жизнь ни к какой школе, ни к какой партии. Эта особенность была в нем
непосредственно обусловлена его эстетико-критическим отношением
к миру. Та цельность и внутренняя стройность, которой Страхов требовал
и от систем, и от понятий, крайне редко свойственна учениям какой бы
то ни было школы. Каждая школа всегда группируется около какого-
нибудь первоначально чисто личного воззрения, постепенно искажая
и затемняя его поправками, оговорками и дополнениями. Личные же
воззрения, вполне цельные и стройные биографически, нередко бывают
крайне противоречивы и неустойчивы догматически. То, что понятно
и даже любезно в учителе, что в нем искренно и необходимо, то нередко
становится несносной, слепо подражательной манерностью в учениках.
Потому для творчески мыслящего ума всегда предстоит или быть
особняком, вырабатывать свое личное учение и собирать около себя учеников,
или примыкать к какому-нибудь налично существующему учению.
Для ума же созерцательного широта его воззрений служит препятствием
уместиться на прокрустовом ложе готовых мнений, а их инертность
затрудняет выработать что-либо самостоятельное. Потому они постоянно
подвержены величайшей опасности — впасть в эклектизм. Страхов
был чрезвычайно редким исключением в этом смысле, так как менее
всего поддался наклонности к эклектизму. Эклектизм ведь все же есть
сочинение некоторого символа веры, изобретение школы с удобным
учением. Между тем Страхов во всех областях, в которые увлекала
его природная любознательность, являлся не творцом, а зрителем, не
писателем, а читателем, даже не критиком, а знатоком — «эстетическим
сластолюбцем», как он сам однажды выразился*, предпочитая, таким
образом, одинокое служение истине массовому служению догматам.
А будучи ценителем чужих понятий и разоблачая, при надобности,
их несогласованность или внутреннюю неустойчивость, он тем самым
оказывался чаще всего спорщиком, полемистом. Между тем в полемике
эстетический объективизм Страхова чрезвычайно затруднял тех, кто
покушался опровергать его критический анализ, но не встречал в нем
никаких априорных положений, исходных догматов. Этим и объясняются
вопросы о «знамени», о том, «что такое г. Страхов» и провозглашения
его то пантеистом, то материалистом, то метафизиком, то буддистом,
то, наконец, просто «филозофом» — название, по словам Салтыкова10,
на бараньем языке весьма обидное.
Для полноты характеристики нам остается рассмотреть отношение
Страхова к достоверности, к истине. В области познания
непозволительно прилагать эстетическую мерку; но бесспорно эстетичность возможна
* Заметки о Пушкине. С. 229.
122
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
и в умозрении, по крайней мере, в тех требованиях, которые мы
предъявляем к умозрительным построениям. Искать в них внутренней
и внешней цельности и единства значит в сущности требовать от них
последовательности и логичности, точности определений, заключений
и выводов. Логика — художественность умозрения; художественное
всегда логично, и в логичности бесспорно силен элемент
художественности. Потому, в связи с общим характером своего мышления, Страхов
в своей философской и научной критике всегда придерживается
диалектического метода, выставления и развития точных понятий. Всякое
построение он, прежде всего, разбивал на его составные элементы
и проверял его устойчивость, исходя из основных положений. От речи
он, прежде всего, требовал грамматической точности и правильности,
от терминов — определенности и ясности, от суждений — категоричности
и достоверности, от заключений — верности посылкам, от науки —
безусловных, вечных истин. «Непреложные истины составляют самое ядро
науки, ее существенную и центральную часть. Это — лучший образец
нашего познания, который поэтому составляет цель и правило всяких
научных исследований. Всякие обобщения делаются и всякие законы
отыскиваются только в той надежде, что мы посредством их
приближаемся к некоторым незыблемым положениям, что все многообразие
и разноречие явлений со временем будет нами подчинено непреложным
истинам. Стремление к такому подчинению есть главный нерв науки» *.
«Притом эти истины в его глазах вовсе не факты, вовсе не эмпирические
познания, а положения вполне или отчасти формальные, которые потому
и справедливы всегда и безусловно, что не захватывают собою сущности
вещей»**. И вот централизация всех суждений научного характера около
этих безусловно убедительных вечных истин и составляла у Страхова
его основной критический прием. <...>
III
<...> Кончив курс в Главном Педагогическом институте в августе
1851 года, он поехал старшим учителем физики и математики во 2-ю
одесскую гимназию. Между прочим, при окончании курса им была написана
его единственная работа по математике, «Решение неравенств первой
степени», впоследствии (в 1864 г.) напечатанная в «Журнале
министерства народного просвещения», в которой он излагает три найденные
им алгебраические теоремы. «В 1852 году я перепросился в Петербург, —
сообщал Страхов в своих "Биографических сведениях", — на только
* О вечных истинах. С. 44.
** Там же. С. 56.
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 123
что учрежденное в гимназиях преподавание естественной истории.
Тогда было гонение на классицизм, а естественные науки считались
невинным и возбуждающим богопочтение предметом. Девять лет я учил
этому предмету во 2-й С.-Петербургской гимназии. После десяти лет
службы я не только отслужил весь срок за казенное воспитание, но еще
получил при отставке годовой оклад — 630 рублей». <...> В 1857 году
он успешно выдержал этот10а экзамен и защищал диссертацию на тему,
данную ему его бывшим профессором, знаменитым Ф Ф. Брандтом:
«О костях запястья млекопитающих» *. Указанная выше чрезмерность
двойной работы сказалась, однако же, в том, что, преодолев все главные
затруднения, сдав утомительный экзамен и напечатав замечательную
по полноте и точности методических требований диссертацию, Страхов
потерпел неудачу на самом последнем, в сущности пустяшном и
притом чисто формальном, препятствии: именно, при всей несообразности
сделанных ему возражений и на признание даже за ним ученой степени
магистра, защита им диссертации была так плоха, что его многие считали
провалившимся, и ему было неудобно добиваться кафедры в Петербурге.
Вслед за тем в Москве при замещении кафедры, открывшейся за
смертью профессора Рулье! *, ему предпочли А. Богданова, а в Казань, куда
его звали, он сам не согласился ехать. Таким образом, цель многолетних
усилий и трудов не была достигнута, и профессура оказалась Страхову
недоступной. Но тот, кто испытал однажды потребность в аудитории,
уже не может оставить этой потребности без удовлетворения и, за
невозможностью иметь слушателей, начнет искать себе читателей. <...>
Мы находимся у центра настоящей статьи, придя к
необходимости выяснить положение Страхова в области философии. Но такое
выяснение возможно только при точном определении, что именно
следует подразумевать под понятием философии. Отвлекаясь от
отдельных философских систем, учений и направлений и имея в виду
сущность философии по ее содержанию, мы должны будем определить
ее как теорию духа, в самом широком смысле последнего слова. Дух
человеческий очевидно объемлет в себе, как в целом, все внутренние
способности и свойства человека, т.е. и его познание, и умозрение,
и волю, и ощущения и чувства, словом, принимается нами в
обширном декартовском смысле. При таком определении философии нам
понятно возникновение в ее недрах и метафизического направления,
т.е. искания крайних пределов человеческого познания, и критической
школы, посвятившей свои усилия теории познания, и так называемой
реальной школы, исходящей из психологических понятий, и мате-
* Напечатана в «Журнале министерства народного просвещения» и затем издана
отдельной книгой в том же 1857 г.
124
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
риализма даже, стремящегося почерпнуть основания теории духа
в учении точных наук о материи и силах. Далее, при этом определении
философия всего теснее приближается к достижению своей исконной
цели — самопознанию духа. Нельзя не указать на то, что выписанное
нами выше <...> рассуждение Страхова о религии очень близко
подходит к такому определению, даже начертывает нам его верховный
идеал, т.е. религия опирается в своих утверждениях на чисто волевое,
а не умозрительное основание, именно — на веру. Если устранить
это основание, то философия, как теория духа, возникает как вопрос,
вновь открытый на месте вопроса, исчерпанного религией. Мало того,
даже верующий дух не может, да по смыслу всех религий и не должен
удовлетворяться одною верою, ибо человеку свойственна, помимо
потребности в добре, удовлетворяемой по предначертаниям религии, еще
и потребность в истине и красоте. Даже наиболее верующим и
религиозным людям свойственна склонность к науке и искусству. Наконец,
в отношении к миру вера дает решимость и силы твердо выносить
мучительное бремя земного существования, но не дает полного
примирения с миром. Нравственная стихия человека не признает родства
с безразличною природою; совершенно иные настроения порождают
стихии умозрительные и эстетические, т.е. наука и искусство. Знание
учит наш разум примиряться с миром во всей его неисправимости, ибо
иначе, чем мы познаем и понимаем мир, он и существовать не может;
наука убеждает нас, что все, что случается, должно было с неотразимой
логичностью случиться именно так, как случилось, и случиться иначе
могло бы только в нарушение законов мира. Эта примирительная роль
познания особенно ярко была почувствована Лейбницем12, в своей
знаменитой теодицее провозгласившим наш мир лучшим из
существующих, мысль, истинное содержание которой сводится, аналогично
с гегелевским положением, что «все действительное разумно и все
разумное действительно», к тому, что наш мир есть единственный
логически несомненный из возможных. Искусство же примиряет с миром
мятежный человеческий дух, открывая ему красоту мироздания и тем
самым доказывая, что мир не есть зло, хотя и лежит во зле, так как
зло не может быть прекрасно в своей безусловности и, следовательно,
не может составлять основы того мира, который может быть прекрасен.
Таким образом, знание и искусство — вот, после религии, два
составных элемента духовного мира человечества, почерпывающие,
наряду с этикой и психологией, содержание философии, теории духа,
теории умозрительной, тогда как непосредственной волевой теорией
его является религия. Но выше <...> было уже указано, что религиозные
вопросы Страхов, как писатель, умышленно оставлял всегда в стороне,
и потому при выяснении его мировоззрения они также не должны быть
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 125
подымаемы, как и все другие личные вопросы его совести. Обращаясь же
к философии Страхова, мы должны установить его отношение к области
знания, выяснить его воззрения на научную истину. В названной
области его роль всецело определилась тем, что он был эстетиком, критиком
и объективистом. Созерцая жизнь и дух как целое, он не впал в
заблуждение, столь свойственное многим даже величайшим умам человечества,
которые именно в силу своего умственного величия склонны разум,
дознание истины, полагать во главу угла своего мировоззрения и, всецело
уходя в его сферу, не находить полного удовлетворения в односторонне
рассматриваемой ими жизни. Напротив, Страхов сразу увидел, что
наука — лишь одна из нескольких задач духа, не могущая сама по себе
дать ему полного удовлетворения. «Не только питаясь
естественнонаучными познаниями, — писал он, — но, поглощая и всякие другие,
мы можем оставаться совершенно голодными. Нас не удовлетворяет
подведение явлений под рациональные формы, и мы враждуем против
мысли о полной рациональности мира»*.Таким образом, он особенно
ясно сознал и выразил, что познание не исчерпывает собою загадки
бытия, не отвечает на все запросы духа. Его предмет — рациональные
формы явлений, которые вполне разъясняются лишь всею
совокупностью наук, и в том числе, разумеется, теорией познания и познавания,
т.е. гносеологией и логикой, включая в последнюю методологию. И вот
в этих последних, узких и тесных, пределах Страхов и принимал
философию, т.е. придерживался взгляда на нее как на центральную науку, как
на « Hay кословие», Wissenschaftslehre13 Фихте14. В своих произведениях
он никогда не брал философию в полном, широком объеме ее, никогда
не строил на философских основаниях ни этики, ни эстетики, словом,
как объективист, не вдавался в desiderata15 философии, а держался
ее наличных, положительных приобретений, сводящихся в существе
дела к начаткам теории познания и начаткам же методологии. Но зато
этим небольшим капиталом он пользовался с изумительным
мастерством и глубиною. Около него он собирал все точные науки и, освещая
ими мироздание, строил свою широкую концепцию мира как целого.
Эта концепция, разумеется, является не естественнонаучным, а чисто
философским понятием.
Что такое мир сам по себе — того человеку не дано знать. Мир
является целым для религии, для науки, для искусства, но всегда при условии
сосредоточения этого целого около сознательного центра — человека.
Религия, полагая в основание бытия верховную разумную волю
божества, так сказать, извне мира предоставляет центральное в нем
положение человеку. С точки зрения всякой религии мир создан для человека
* О вечных истинах. С. 29.
126
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
или закончен человеком, что, в сущности, одно и то же. Эта точка
зрения совершенно ясна и проста; но она цельна только изнутри себя
самой, так как ее достоверность не предусматривает нерелигиозного,
неверующего человека, того, который пожелал бы построить свое миро-
познание на чисто рационалистических основаниях. Такое воззрение
может, очевидно, рассматривать мир только как познаваемое, т.е.
исходит из познающего начала, разума, разумного человека, который,
следовательно, и с философской точки зрения, как с религиозной,
является централизующим мир первоначалом. Не углубляясь дальше
в анализ этого сходства, необходимо, однако, здесь же указать и на
существенное различие мировоззрения религиозного и философского.
Опираясь на внематериальные начала, религия освобождает человека
от материи и ее законов, освобождает дух от плоти, в том смысле, что
законы ее должны уступать в случае коллизии законам духа, и, таким
образом, указывает человеку этическую роль в мире. Напротив того,
философия ставит человека в центр мира, как бы изнутри освещающим
храмину природы фонарем разумного познания, и призывает человека
на поприще созерцательное. Религия исходит из верховной творяще-
правящей воли и указывает человеку на его творческую, привходящую
роль в мире; философия же опирается на самый разум человека как
на ключ мира и потому предназначает человека к пассивной,
имманентной миру деятельности. Религия включает в себя философию, даже
независимую от ее догматов; напротив того, философия исключает
и отвергает религиозное познание мира. Религия всеобъемлюща, как
мир, и принимает в себя все элементы духа, ни одного не подавляя и все
окрыляя; напротив, философия исключительная, как логика, и
стремится весь мир и весь дух претворить в себя самое, подвести под свои
категории. О мире как целом с точки зрения искусства мы, по задачам
статьи, считаем возможным не вдаваться в особые исследования.
<...> Он, собственно, не был философом в строгом смысле слова.
Его опорой и основанием, а потому и главным интересом, была не
теория духа, но точные науки. В юности религия заменяла ему вполне эту
теорию, и биографически он приведен был к философии
естествознанием. Разлад мысли с религией, первичный момент всякого
философствования, оставался ему чужд. Он первоначально, в своей молодости,
не нуждался в замене религиозных воззрений философскими, и теория
духа понадобилась ему только как теория знания; притом же к этой
потребности он пришел не из научных занятий вообще, а из одной
специальной отрасли знания — естествоведения. Юридические,
исторические, филологические, математические науки не играли своими
запросами ни малейшей роли в направлении его философствующего
ума. Он восходил от данных точной науки до высших положительных
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 127
начал философии, как бы из основания конуса к его вершине, тогда
как истинный философ опускается лучами умозаключений из центра
своих гносеологических воззрений, как из светящейся звезды, к
любой частности положительного знания. Он подымался до философии,
но не исходил из нее. Этим и обусловлено то, что Страхов не примыкал
в ее области ни к одной положительной системе, не создавши в то же
время никакого нового учения. Он и в области философии явился
критиком-объективистом, не творцом, а искателем положительных учений.
Эти положительные учения немногочисленны, хотя многозначительны,
и могут быть выражены немногими словами. Познающее «я» не может
быть предметом познания; познание имеет своим предметом формы,
а не сущность вещей; законы познания суть в то же время законы
познаваемого; вот — три исходных пункта его воззрений, дающие в
сжатом виде положительное обоснование рационализма. Это не система,
а только намек на систему. Притом, интересуясь философией главным
образом с точки зрения естествознания, Страхов искал в ней прежде
всего методологии. Понятно, таким образом, как в философии Страхов
остался верен себе самому, везде выступая критиком, искателем
положительных, бесспорных начал, отделяя условное от безусловного и всею
силою своей диалектики разоблачая условность условного. Среди
всеобщего торжества материализма, эмпиризма, наконец, позитивизма — так
называется самый плоский материализм, отрицающий вообще теорию
духа и строящий мировоззрение исключительно на данных точных
наук, — Страхов выступил как диалектик-рационалист; среди всеобщего
стремления рассматривать мир только с научной точки зрения, он
выступил эстетиком, признающим самую жизнь мерилом жизни и
потому взирающим на науку лишь как на один из формальных элементов
жизни; среди общего утилитарного, изобретательного направления
науки он выступил представителем чистого умозрения,
познавательного направления. Таким образом, в эпоху упадка философской мысли
он выступил критиком и изобличителем этого упадка, не будучи в то же
время создателем какой-либо положительной системы. Он не
указывал нового пути, но порицал тот, который избран был человечеством.
Он не призывал к рационализму, но отклонял от эмпиризма. Вместе
с тем он не находил ни одной положительной системы, к которой мог бы
примкнуть, и потому в области философии его критика носила чисто
отрицательный характер, кроме методологии, в которой он указывал
и постоянно напоминал великое значение заслуги Гегеля. Выражаясь
двумя словами, роль Страхова в области философии сводилась к борьбе
с материализмом и эмпиризмом. Иначе, во имя философии Страхов
отрицал и порицал все философские элементы мышления XIX века,
не указывая притом никакого положительного исхода и не пускаясь
128
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
сам лично в умозрительные построения. Таково содержание и дух
его единственной книги, посвященной вопросам философии, одного
из последних его изданий по времени, его «Философских очерков».
Все особенности этого отношения к философии отразились и на
естественнонаучных трудах Страхова, к анализу которых мы считаем
теперь возможным обратиться. Биографически Страхов занялся
естествознанием как наукой, выводы которой, казалось, колебали
и подрывали его первоначальные этические и религиозные воззрения.
Потому, естественно, наиболее интересовавшим его вопросом был
вопрос, так сказать, о компетенциях естествоведения, о его объеме
и пределах. Материализм, как выше указано, подменял теорию духа
теорией материи, вращаясь таким образом в беличьем колесе
кругового умозаключения; далее, будучи по существу дела рационализмом,
хотя и извращенным, материализм враждовал против религиозного
взгляда на освобождающие от законов плоти нравственные законы
духа и с чисто рационалистической последовательностью отрицал идею
нравственного долга, как начало этики, ставя ее на опытные
основания, то есть наблюдениями над логически-несвободной волей пытаясь
опровергать учение о свободном нравственном долге.
Эти притязания Страховым были разоблачены с неотразимой
убедительностью в целом ряде научных исследований и сочинений, как
и всегда у него, не составляющих систематически связного целого,
но проникнутых одной общей идеей. Эта идея может быть выражена
тремя словами: объективная критика науки. Страхов провел
положительное содержание точных наук сквозь горнило своей диалектики,
и первым, главнейшим результатом этого явилось в нем ясное сознание
того, что наука есть познание только существующего и что,
следовательно, идеи должного и возможного лежат вне ее области. Это сразу
вернуло науку в свете его критики к ее истинным задачам и из какой-
то разрушительной системы превратило естествознание в «невинное
и возбуждающее богопочтение» учение о формах явлений органической
и неорганической природы.
Но, верный самому себе, Страхов и это учение рассматривал,
прежде всего, как целое, с точки зрения внутренней цельности, связности
и соответствия частей. С этой стороны его критике представилось еще
более широкое и богатое поприще. Кажущаяся издали таким стройным
и устойчивым телом, равняющаяся как будто достоверностью своих
положений математике и астрономии, наука о природе представляется
более пристальному и внимательному взору только грубо намалеванной
декорацией, от призрачного великолепия которой ничего не остается
для того, кто перешел черту известного ближайшего расстояния. То, что
издали кажется крепостью, вблизи оказываются лишь кулисой; горы
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 129
и скалы превращаются в зыбкие подмостки, заставленные картонами;
могущественные обобщения, широкие гипотезы естествознания, его,
по-видимому, незыблемые основания и исходные понятия
представляются такими же порочными кулисами для внимательного и
беспристрастного критика. Такими оказались они для Страхова, и такими
показал он их в своих произведениях каждому непредубежденному
читателю. <...>
IV
Почти одновременно с знакомством с Григорьевым состоялось другое
знакомство, игравшее еще большую роль в жизни Страхова, а именно
с братьями Достоевскими, Федором и Михаилом Михайловичами16.
«В журналистику я вступил, — писал Страхов, — с некоторым
равнодушием и даже ленью*; однако же знакомство мое с Ф. М. Достоевским
началось именно на журнальном поприще»**. В конце 1859 года
сослуживец Страхова и сотрудник по журналу «Светоч» А. П. Милюков
поместил в этом журнале одну большую статью Страхова и пригласил
его на свои вторники. «С первого вторника, когда я явился в этот
кружок, я считал себя как будто принятым наконец в общество настоящих
литераторов и очень всем интересовался. Главными гостями казались
Ф. М. и M. M. Достоевские, давнишние друзья хозяина. Кроме них
часто являлись А. Н. Майков17, Вс. Вл. Крестовский18, Д. Д. Минаев19,
д-р С. Д. Яновский20, A.A. Чумиков21, Д. В. Аверкиев22 и другие.
Разговоры в кружке занимали меня чрезвычайно. Это была новая
школа, которую мне довелось пройти, школа, во многом расходившаяся
с теми мнениями и вкусами, которые у меня сложились». <...>
<...> Философские же и научные интересы, по-видимому,
отступали совершенно на второй план, не находясь, по самой природе своей,
в прямой непосредственной связи с явлениями общественной жизни.
Близость с этим кружком, преимущественно с братьями Достоевскими,
главным образом и вывела Страхова на журнальный путь. «Хотя
я имел уже маленький успех в литературе, — пишет он, — и обратил
на себя некоторое внимание М.Н. Каткова и A.A. Григорьева, все-
таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении
Ф.М. Достоевскому, который с тех пор отличал меня, постоянно
одобрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял
за достоинство моих писаний» ***. Достоевские тогда затевали издание
* Воспоминания о Ф. М. Достоевском. С. 205.
* Там же. С. 171.
* Воспоминания о Ф. М. Достоевском. С. 277.
130
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
«толстого» ежемесячного журнала «Время» и пригласили Страхова
в сотрудники. Предложение было принято, и тогда перед сравнительно
недавно вступившим в литературу писателем немедленно открылась
возможность широкого журнального влияния в качестве одного
из ближайших членов редакции журнала, сразу имевшего быстрый
и прочный успех. Увлечение новым родом занятий было так
сильно, что Страхов, находя в них также и значительную материальную
поддержку, решил прекратить свою педагогическую деятельность
и в 1861 году вышел в отставку, а летом 1862 года предпринял даже
на свои скромные сбережения заграничное путешествие, половину
которого совершил с Ф. М. Достоевским. Поездка шла через Берлин
и Дрезден в Женеву, Люцерн, затем через Монсенис и Турин в Геную,
Ливорно, Флоренцию, вновь через Геную и Марсель в Париж и
обратно. Однако этот жизненный успех оказался непрочным и крайне
недолговечным: уже в следующем, 1863 году, над журналом «Время»
разразилась беда, невольной причиной которой оказался сам Страхов.
В начале января этого года, как известно, вспыхнуло польское
восстание, имевшее своим последствием, между прочим, очень резкий
перелом общественного настроения от либерализма к горячему
подъему патриотических чувств. Московская журналистика стала во главе
нового движения; петербургская же, наоборот, отвечала ему почти
всеобщим молчанием, отчасти вынужденным, отчасти
тенденциозным, и ограничивалась сухими и бледными корреспонденциями.
Это молчание чрезвычайно раздражало патриотически настроенную
часть общества, и потому, когда в апрельской книжке «Времени»
появилась статья Страхова о польском деле под заглавием «Роковой
вопрос» и за подписью «Русский», это настроение выразилось очень
резко: в статье усмотрели полонофильское направление, дело
доведено было до сведения государя, и журнал был закрыт, несмотря
на всевозможные хлопоты и разъяснения, которых единственным
последствием было разве только то, что Достоевским через семь
месяцев было вновь разрешено издание журнала под названием «Эпоха»,
начавшего выходить при самых неблагоприятных условиях с апреля
1864 года двойною книжкою — за январь и февраль. Журнал пошел
плохо, был встречен неприязненно всею литературой, выходил
неисправно и в конце концов прекратился после февральской книжки
1865 года. Но эти прекращения двух журналов застали Страхова
настолько привязавшимся к литературным занятиям, что он не мог
сразу решиться переменить их на какие-нибудь другие. «После
прекращения "Эпохи" я попал, — пишет он в "биографических
сведениях", — на "подножный корм" — так я называл времена, когда
жил переводами». Этот чернорабочий литературный промысел, как
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 131
известно, и труден и неблагодарен; жить переводами можно только
при самой усиленной работе. Так и в это время Страхов работал, как
вол, а между тем едва-едва перебивался, хотя самый труд был ему
привычен: он уже и раньше работал над переводом "Истории новой
философии" Куно Фишера23. <...>
В 1867 году Страхову удалось наконец вернуться к журналистской
деятельности: Краевский24 пригласил его по смерти Дудышкина25
редактировать «Отечественные записки». Но новому редактору не удалось
поднять падавший журнал, и в 1868 году Краевский, оставаясь
номинальным редактором «Отечественных записок», отдал их Некрасову.
Между тем Страхов получил место помощника редактора «Журнала
министерства народного просвещения», хотя и тут оставался недолго:
в 1869 году В. В. Кашпирев основал журнал «Заря», в котором Страхов
был два года редактором и за все время существования журнала
главным руководителем. Но и «Заря» не имела успеха и в 1872 году
прекратилась. Вместе с нею прекратилась и непосредственная
журнальная деятельность Страхова, так как редактирование им впоследствии
«Известий Славянского благотворительного общества»26 явилось
делом вполне случайным и было весьма непродолжительно. «Я
увидел, — писал он в "биографических сведениях", — что работать мне
негде. "Русский вестник" был единственным местом, но деспотический
произвол Каткова был для меня невыносим. Я решился поступить
на службу и с августа 1873 года принял место библиотекаря Публичной
библиотеки по юридическому отделению». Сверх того, с 1874 года
и до смерти он состоял членом ученого комитета министерства
народного просвещения. Таким образом, в роли публициста Страхов
казался таким же неудачником, как и в роли ученого. Внешний,
формальный успех вообще не был дан ему в жизни; но он им мало дорожил,
и те бедствия, которые доводят другие натуры до озлобления и
отчаяния, его только «огорчали», да и то ненадолго. Он так мало требовал
от жизни ее внешних благ, что вполне довольствовался их
наименьшими размерами. Никогда он не роптал, никогда не раздражался, даже
никогда не жаловался на постигшие его невзгоды. Личные отношения
никогда не играли никакой роли в его суждениях, а, скорее, наоборот,
его умственные симпатии и антипатии обуславливали его личные
отношения. Главными привязанностями в его жизни была его, можно
сказать, нежная любовь к Григорьеву, Достоевскому, Данилевскому,
графу Л. Н. Толстому и Фету27, то есть именно к тем писателям,
которых он наиболее высоко ставил среди своих современников. Наоборот,
в его антипатиях никогда не было ничего личного. <...>
Но что же представлял из себя Страхов как публицист? Вопрос
необычайно сложный и обширный, которого настоящая статья может
132
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
коснуться лишь в самых общих чертах, скорее намечая, нежели
исчерпывая его во всей полноте. По собственному сознанию Страхов пришел
к журнальной деятельности случайно и вступил на ее арену весьма
неохотно, по свойственному всем молодым ученым складу мыслей,
свысока пренебрегая журналистикой. Если он позже и увлекся ею,
то это вполне объяснимо упомянутой выше «потребностью в
аудитории» , присущей каждому, хоть отчасти знакомому с психологией
научных занятий. Удерживала же его на журнальном пути чисто денежная
необходимость и невозможность иначе устроиться. Как-то раз, беседуя
с ним, пишущий эти строки жаловался Страхову, что необходимость
заставляет писать и тратить время, которое так хотелось бы посвятить
на то, чтобы самому учиться, самому восполнять свое образование, себе
самому выяснять свои внутренние вопросы, на то, чтобы возвещать
другим с крыш и минаретов о том, что для себя самого и решено, и
ясно. В возникшем по этому поводу разговоре Страхов, между прочим,
с улыбкой заметил, что ведь «в этом, если хотите, и вся трагедия всей
моей жизни». Теперь, окидывая одним взглядом всю его деятельность,
невольно чувствуешь всю глубокую и горькую правду этих спокойно
и даже шутливо сказанных слов. Истинное призвание Страхова всегда
была критика, руководимая не теми или иными вне его лежащими
запросами общественной жизни, а исключительно внутренней,
метафизической потребностью ума в знании и размышлении. <...>
<...> Публицист — суфлер улицы, площади, театра, собрания,
семьи, общества, власти; он должен быть везде, где забывчивый человек
теряется мыслями. Он вечно должен всем отвечать на вопрос: что же
нам делать, что думать, как держаться? Он должен предугадывать
этот вопрос, предрешать все суждения. Всегда готовый к спору и
неожиданности, всегда бегущий за событиями, подхватывающий все
комбинации калейдоскопа общественных явлений, раздробляющий
свое внимание на миллионы интересов, он, очевидно, человек, более
всего на свете чуждый и даже враждебный эстетичности, цельности,
стройности, единству. Но в то же время публицист (мы все время
подразумеваем под этим словом журналиста) должен держаться, как
и педагог, определенных и точных начал, учить непременно по одному
учебнику. Он должен быть догматиком, человеком с законченной,
несокрушимой скрижалью, держащим яркий рефлектор и им наводящим
лучи своего исповедания на каждую темную точку окружающей жизни.
Потому он должен быть, во-первых, проповедником определенного,
положительного учения, а во-вторых, проповедником бесконечно
быстрым, отзывчивым и разнообразным. Его мысли должны быть
коротки, просты, подвижны и всепроникающи, как инфузории, хотя бы
то были заразные бактерии. Свои широкие идеи он должен уметь так
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 133
раздробить о плоскую действительность, чтобы всюду разлетелись
брызгами его категоричные и простые разъяснения. Сомнение
журналисту непозволительно; толпа не поставит ему в упрек молчания,
не поставит в упрек даже наглой насмешки над тем, что выше его
понимания, но не простит колебаний. Непозволительна журналисту
и самостоятельность в ходе и смене интересов; журналист, задавшийся
высшими вопросами, живущий хотя бы гениально глубокой
внутренней жизнью, потонет в общем равнодушии, не найдет себе читателей.
Эта необходимость всегда иметь готовое мнение и порождает
отвратительнейшее явление нашего века — скептическую печать. Газеты везде
и всегда скептичны, подозрительны, везде склонны видеть личность,
недобросовестность; сплетня, глумление, невежественное всезнайство
и самый низменный скептицизм — вот непременный дух газетной
печати, ежедневно прививаемый толпе миллиардами печатных листов.
Им отравлена вся грамотная, а за ней и неграмотная часть человечества.
Работа ума, самостоятельность мысли становятся все больше не
нужны; газетный лист дает суждения по всем предметам и несокрушимую
уверенность в этих готовых суждениях. Еще историки не успели
взвесить, в какой степени воинственно-самодовольное невежество нашего
века порождено развитием газетной литературы; еще человечество
само не успело себе уяснить источников и значения этого площадного
скептицизма. Публицистика в ее резких формах собственно только что
народившееся явление. Власть еще не знает, как с нею быть, как на нее
влиять, как ею править, и потому в нерешительности придерживается
в области печатного слова экономического принципа невмешательства;
руководители же духовной жизни человечества, умы, отворачиваются
от лавочного руководительства толпою.
Менее всего соответствовал такой деятельности пытливый ум
и строгий склад настроений Страхова. Эстетик и критик, жаждущий
познания, он в жизнь вступил и всю ее прошел учеником, а не учителем,
исследователем, а не проповедником. Ни педагогом, ни публицистом
он не мог быть, не противореча сам себе, да никогда бы и не был без
угнетающей к тому необходимости. Мало того, для публицистической
деятельности он не обладал не только надлежащим характером, но и
подготовкой. Юридического образования он не получил и хотя не был
безусловно чужд политическим и общественным наукам, тем не менее
невольно рассматривал явления правовой и государственной жизни,
так сказать, извне, с точки зрения общей словесности, а не под углом
воззрений современного правоведения. Кроме того, его образование
и развитие шли в уединении, вдали от всяких общественных интересов
и волнений. Он был, конечно, глубоким патриотом; но его патриотизм
не был предначертанием общественной деятельности, непосредствен-
134
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
ным творческим порывом; он был скорее его личным настроением,
естественным, прирожденным чувством, всегда готовым к заслуженному
восторгу и благоговению, но не к борьбе и действиям. Его патриотизм
был именно созерцательный, эстетический, критический. Он страдал
от бедствий своей родины, осуждал темные в ней события,
восхищался ее славой и достоинствами, но дальше не шел. Он созерцал жизнь
и искал, чем бы в ней восхититься, пред кем бы преклониться; но сам
не выходил на ее арену иначе, как критиком. Он искал, так сказать,
положительных заблуждений, извращений «как целого» и, по своей
потребности высказаться, выступал с критикой этих извращений и
заблуждений. Очевидно, эта роль ничуть не публицистическая, так как
от публициста требуют не эстетической или философской критики,
ограничивающейся разбором только своего предмета, но ждут
положительных приговоров и суждений, а главное — практических
выводов и указаний. Их Страхов давать не мог по самому свойству своей
натуры, и потому его публицистические произведения или проходили
совершенно незамеченными, или даже по какому-то роковому
недоразумению возбуждали неудовольствие и негодование как раз со стороны
тех, чьим воззрениям, в сущности, вполне отвечали своим содержанием,
подобно, например, превосходной по глубине замысла статье «Роковой
вопрос». Равным образом, не имела ни успеха, ни убедительности
его поражающая глубиною, тонкостию и остроумием журнальная
полемика, так как она являлась именно критикой публицистики и ее
приемов — делом бесполезным и более чем неблагодарным. Его статьи
только возбуждали против него ненависть всей периодической печати,
и та со своей стороны делала все возможное, чтобы отбить у читателей
охоту читать Страхова, выслушивать его мнения. К Страхову долго
применялся большинством газет и журналов постыдный и низкий прием
высмеивания пополам с замалчиванием, который, например, в
настоящее время широко применяется с таким огромным успехом к князю
Мещерскому, к которому упорно не желают относиться серьезно, как
того требовало бы его значение бесспорно даровитого и убежденного
представителя некоторых определенных и точных воззрений
(правильных или неправильных — это вопрос совершенно особый). Во всяком
случае, следует оговориться, что собственно публицистические статьи
занимают очень скромное место среди прочих произведений Страхова,
преимущественно посвященных литературной критике, хотя и в этой
последней, в свою очередь, нередко очень ясно просвечивает
публицистический элемент, который, как легко угадать, всегда имел очень
широкий, гораздо больше философски-литературный, нежели строго
политический, характер. Так как вообще Страхов выяснял свои идеалы
гораздо больше критикой несоответствующих им воззрений, нежели
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 135
положительными формулировками, то и в области публицистики их
характеристика должна быть посвящена главным образом анализу этих
воззрений. Притом такой анализ тем более необходим в этой области,
что в ней Страхов гораздо больше руководился общими, отвлеченными
идеями, чем точным знанием, и потому хотя его симпатии и антипатии
и были неукоснительно правильны, но самая критика не имела той
убедительности и силы, которые свойственны ей на других поприщах.
V
<...> Наконец, в последние годы Страхов, можно сказать, одержал
решительную победу над замалчивавшими его противниками и на
каждом шагу начал убеждаться, что его книги не только идут, но и живут,
т.е. находят все новых и новых читателей, все глубже и полнее
проникающихся их содержанием и начинающих сознавать, что эти книги — одно
из лучших украшений русской литературы, что им предстоит еще
огромное влияние в будущем. И с этим сознанием он мог умереть спокойно.
Заключением настоящему очерку должен послужить обзор
деятельности Страхова как литературного критика и общая оценка ее значения
в целом для русской литературы. Уже на основании изложенного выше
легко заключить, до какой степени должно было быть пессимистично
настроение Страхова, этого критика и эстетика, точно чудом каким
попавшего в наш XIX век и, путем глубокого изучения, долгого
размышления и опыта целой жизни, приведенного к убеждению в общем
и повсеместном упадке философии, естествознания, политических
наук и нравственных оснований быта всего человечества. То, что
он любил всего пламеннее и глубже, обманывало все его упования
и надежды и с каждым днем все меньше обещало в будущем. Страхов
проследил наш век во всех его явлениях, от самых крупных до самых
микроскопических, и везде нашел безотрадный упадок, полное
духовное вырождение; он был критиком, даже, если угодно, публицистом
эпохи нигилизма, которая в истории человечества явилась как бы
противоположным полюсом эпохи Возрождения, знаменуя, как и та,
поворот истории к какому-то новому будущему. И на этом поприще
Страхов погиб бы в безвыходном пессимизме, когда бы не его
несокрушимая вера в это будущее, вера, имевшая свой палладиум в лице
России. В нее Страхов верил так же твердо и неколебимо, как не верил
в Запад. Он чувствовал, что живет в печальное, переходное время,
но чувствовал и то, что из этого времени есть исход во что-то
неизмеримо лучшее и высшее, а его патриотизм, с детства одушевлявший все
его существо самыми лучшими вдохновениями, подсказывал ему, что
ключи к этому исходу будут даны его Отечеством, Россией, русским
136
Б. В. НИКОЛЬСКИЙ
народом, русским творчеством. А залогом этой веры для него было
искусство. Единственное, чем действительно замечателен и прекрасен
истекающий век, это — русское художественное творчество. Пушкин
и Глинка — это такие имена, такие светила, которых появление
обещает породившему их народу неизмеримое будущее. Между тем
эти имена еще и не были одиноки: целая плеяда светил, одно другого
прекрасней и лучезарнее, поднялась за ними, точно выступая из-
за рассеивающихся ночных туч. Запад, для которого давно закатилось
и солнце религии, и даже луна философии, который давно зажег
искусственные огни, фейерверки революционных учений, уличные фонари
популярного знания, свечи и лампады индивидуалистической мысли,
поневоле удерживающей ученого в четырех стенах тесной
специальности, — этот Запад был поражен внезапным зрелищем, когда перед
ним засияли неожиданные светила живого, свежего и чистого
творчества. Его лучшие представители растерялись и, чувствуя что-то новое
на Востоке, отвечали на него или пренебрежением, или ненавистью,
или, наконец, инстинктивным, бессознательным преклонением. В этих
чувствах вера Страхова находила себе новые опоры и подтверждения.
А кроме того, эстетик и критик, он всего привольнее, всего более
на месте чувствовал себя в области искусства. Здесь его дарования
находили наиболее соответствующее поприще, здесь его чувства
восторга и благоговения перед истинно великим и прекрасным могли
проявляться с полною силой и глубиною. Русское художественное
творчество давало миру одно за другим такие произведения, которые
обезоруживают всякое осуждение, которые подымаются над самыми
восторженными похвалами, которые всецело прекрасны и
гениальны, и такие, в которых положительные стороны во всяком случае
перевешивали отрицательные. В области искусства для русского
критика пессимизм невозможен, и в ней-то и почерпал Страхов, как
Антей, бодрую и сильную веру в будущее, которая изнемогала порою
под напором торжествующего нигилизма, скептицизма, позитивизма
и прочих умственных поветрий нашего столетия. Этим обусловлена
и характернейшая особенность критических статей Страхова, которые
все почти посвящены похвалам, а не порицанию, так как написаны
по поводу лучших произведений наших лучших художников. Притом
величие русского художественного творчества тем дороже и отраднее
было Страхову, что в других областях просвещения его вера не имела
таких надежных и великих залогов, и он горько и болезненно живо
чувствовал это. Он глубоко сознавал, какие великие требования
предъявляет история к России, приводя ее могущественный политический
организм в соприкосновение с утонченною западною культурою, и хотя
ни на минуту не усомнился, что русский народ достойно ответит на все
Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк 137
запросы и требования, но понимал тем не менее, что до настоящего
времени русская культура еще загадочная величина будущего, которую
трудно и предугадывать. <...>
Итак, подводя последние итоги настоящего очерка, спросим себя
в заключение: что же такое был Страхов и какую величину
представляет он из себя в русской литературе? По основам своего
мировоззрения он был эстетик, по содержанию своей деятельности критик,
а по ее приемам художник. Вот три понятия, которыми намечается
сущность его духовного облика; ими же определяется и значение его
деятельности. Как натура созерцательная, не деятельная, он не выступил
учителем, проповедником, руководителем, создателем направления;
как художник, он не примкнул ни к какой школе, остался вольным
зрителем мира; наконец, как критик, он примыкал в своих
произведениях к объективно существующим, наличным произведениям
чужого творчества, а не выступал творцом на арену литературной
деятельности. Но вместе с тем удивительная независимость и прямота
мысли, полная смелость и свобода суждения, обширнейшее в России
образование поставило его наравне с просвещением его века и помогло
ему произнести над этим просвещением
Суд, который во лжи уличить
ou
векам не придется .
Между тем, так или иначе подчиняясь или сопротивляясь духу
этого просвещения, от него должно пойти все умственное движение
будущего. Критика нашей науки, нашей философии, нашей
государственности, нашего искусства необходима и неизбежна; с нее должны
начать ближайшие поколения, чтобы так или иначе подвести счеты
с тою культурою, которая завещана человечеству девятнадцатым
столетием. Между тем часть этих счетов подведена и часть этой критики
уже сделана человеком, вполне равным своему веку просвещением
и далеко превосходящим его шириной и глубиною взгляда. <...>
4
H. Я. ГРОТ
Памяти H. H. Страхова.
К характеристике его философского
миросозерцания *
Есть старинное учение, что та же дверь, которая
ведет в глубину нашего сердца, ведет и в область
божественных сил.
Это — прекрасное и истинное учение; на этом пути
нужно искать Бога, а не в четвертом измерении пространства.
(Страхов «Вечные истины», стр. 56)
Крайне малочисленный еще кружок русских философов,
сплотившийся в последние годы для общей работы в журнале «Вопросы
философии и психологии », понес недавно тяжелую и незаменимую утрату
в лице скончавшегося в Петербурге 24 января 1896 г., на 68 году жизни,
Николая Николаевича Страхова.
Два года назад, по предложению некоторых московских философов,
Психологическое общество избрало H.H. своим почетным членом,
одновременно с графом Л. Н. Толстым. Значение H. H. Страхова
следующим образом было охарактеризовано в записке московских
психологов: «Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель
тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, H.H. Страхов
представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих
убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствующих
в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты
и выступать на защиту тех крупных философских и литературных
явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию.
Как писатель, H.H. Страхов отличается выдающимися
достоинствами: тщательная литературная отделка его сочинений, ясность стиля,
осторожность приговоров и спокойное логически-последовательное
изложение — таковы выдающиеся качества его как литератора. Как
философ, H.H. является оригинальным представителем особого
миросозерцания, примыкающего к левой фракции гегелианства, —
миросозерцания, в котором он с замечательной своеобразностью и
тонкостью логического анализа старается примирить начала современного
научного реализма с идеалистическими принципами отвлеченной
* Реферат, читанный в Московском психологическом обществе.
Памяти Н. H. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 139
философии. Как политический мыслитель, H. H. всегда писал в духе
и в защиту славянофильства».
Думаем, что в этих немногих словах правильно были выражены
выдающиеся черты личности покойного H. H. Страхова. При мягком
и необыкновенно уравновешенном характере H.H. был настоящим
философом не только в писаниях своих, но и в скромной своей жизни,
и потому можно было рассчитывать еще на продолжение его
плодотворной 40-летней литературной деятельности. Но в последние два года
H.H. Страхов начал серьезно хворать, вынес весною 1895 г. тяжелую
операцию и осенью чувствовал себя уже «не тем человеком, каким
был прежде».
В ноябре H.H. начал писать для нашего журнала давно обещанную
им статью «О естественной системе с логической стороны», где думал
выразить самые интимные свои убеждения, касающиеся философии
природы, но 8 декабря 1895 г. он писал нам: «Прежде всего, должен
просить у вас прощения: я не могу приготовить своей статьи и к
следующей (январской) книге журнала. Статья начата и я пишу ее с большим
старанием; но не могу преодолеть какой-то тяжести головы и пера, —
ну, одним словом, статья не будет вам послана к 15 декабря. Однако
я ее допишу и твердо обещаю прислать ее к мартовской книжке, то есть
в конце января». Н. Н-чу не суждено было исполнить своего твердого
обещания; статья его, может быть, уже почти готовая, вероятно, не
попадет в тот журнал, для которого она была предназначена — H.H. так
быстро заболел и так неожиданно скончался, что не успел сделать
никаких распоряжений на случай смерти. Про Страхова можно сказать почти
то же, что Цицерон (на основании древних биографов) рассказывает
о Платоне: scribens est mortuus (он умер во время писания); пред
смертью ему стало немного полегче и, как нам передавали, последние слова
его были: «Ну, теперь я отдохнул и пойду писать».
H.H. Страхов был писателем по преимуществу —
писателем-художником, любившим и глубоко чтившим слово, как орудие мысли
и творчества. Он не был сам художником-творцом, но зато — кто лучше
Страхова понимал красоты художественных произведений, красоту
поэзии и творчества? В своих известных статьях и книгах «Заметки
о Пушкине и других поэтах», «Критические статьи об И. С. Тургеневе
и Л.Н. Толстом» и др. Страхов обнаружил редкое уменье правдиво
оценивать художественное значение старых и новых, еще никем не
отмеченных произведений изящной литературы, ставить их сразу на
надлежащее место, точно определять своеобразное значение
художника-писателя, выяснять особый род его таланта и растолковывать его сильные
и слабые стороны. В этих своих критико-литературных трудах Страхов
всего известнее и доступнее большой публике, но сколько нужно было
140
H. Я. ГРОТ
и собственных дарований, и философского и научного развития, чтобы
стать таким чутким и глубоким критиком, каким был H. H.!
По роду своего таланта Страхов был именно и по преимуществу
писателем-критиком, — критиком не только в области поэзии и изящной
литературы, но и в области философии, точной науки и доктрин
политических, повсюду почти одинаково компетентным, тонким и
проницательным. В стране, где нет еще полной свободы слова, всякому
критику, с каким бы ни было миросозерцанием, живется тяжело: ремесло
его неблагодарное. Он создает себе часто врагов только вследствие
неизбежных недомолвок, умолчаний и предосторожностей. И несомненно,
что Страхов разделял участь всех русских писателей — невозможность
иногда высказаться вполне, до конца — и должен был терпеливо
выносить происходившие отсюда недоразумения, видеть непонимание
своих намерений и замыслов, терпеть упреки в двуличии и
политическое заподозривание — иногда даже в ретроградных тенденциях.
Но кто знал Страхова ближе и внимательно следил за его литературного
деятельностью в разные эпохи, должен признать, что эти упреки
несправедливы уже потому, что Страхов оставался верен своему
основному миросозерцанию в течение всей своей жизни, каковы бы ни были
в данную эпоху литературные, философские и политические веяния.
И замечательно, что Страхову приходилось быть всегда в оппозиции
именно к тем течениям мысли, которые были в данное время наиболее
модными, властными. В 60-х и 70-х годах он вел борьбу и полемику
с Писаревым, Лавровым, Антоновичем, Чернышевским, Герценом,
в 80-х и 90-х — с дарвинистами, Вл. С. Соловьевым и с противниками
философского и религиозного миросозерцания Л.Н. Толстого, хотя
отлично знал, что известная его статья «Толки об Л.Н. Толстом»*,
в период самого горячего гонения на этого писателя со стороны
консервативной прессы, не могла понравиться и в официальных кругах.
По поводу этой статьи он писал нам 30 мая 1891 года следующее:
«У меня есть статья "Толки об Л. Н. Толстом", которую я напрасно
пытался напечатать в разных журналах. Хотя она написана вполне
цензурно, редакторы боялись привязки цензуры... Не возможно ли
будет напечатать ее в "Вопросах"? Собственно, "Вопросы" обязаны
употребить все усилия для напечатания этой статьи... Точный взгляд
на нашего великого писателя, изложенный у меня, должен быть принят
в журнал как исполнение неотложной обязанности... Мне было бы очень
приятно помещение ее в "Вопросах", у которых есть публика довольно
хорошая... Самое почтенное для моей статьи место — ваш журнал»...
Конечно, редакция «Вопросов филос. и психол.» с удовольствием
* «Вопросы философии и психологии», 1891 г., кн. IX, стр. 98-132 (II отдела).
Памяти Н. H. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 141
согласилась на напечатание талантливой статьи H. H. и употребила
все усилия для помещения ее в надлежащем виде.
Во многих письмах к нам H. H. Страхов жаловался, что всю жизнь
ему приходилось вести борьбу с редакторами журналов* и с цензурой
из-за точной печатной передачи его мыслей, и в 1890 году (в письме
от 27 ноября) он написал нам следующие характерные признания:
«Тридцать пять лет я пишу под цензурой и, можно сказать, ежеминутно
чувствую от нее стеснение... С цензурой нужно бороться, но переносить
ее необходимо. Все мы ее терпим и должны сказать себе, что будем
работать, что бы она с нами ни делала... Хуже будет, если перестанем
писать»**. Как политический мыслитель, H.H. Страхов принадлежал,
в общем, как было сказано, к лагерю славянофилов, вследствие чего мог
сравнительно свободно высказываться, но и тут ему приходилось
многого недоговаривать. По поводу одного письма к нему об этом предмете
он выразился так: «Одной только черты вы, к сожалению, не помянули
в мою защиту, и я решаюсь сам ее заявить — на всякий случай. Всякого
славянофила подозревают в том, что он сочувствует деспотизму и питает
ненависть к иноземцам. И вот я хочу сказать, что я, как бы ни был грешен
в других отношениях, от этих грехов свободен. У меня нет ни одной
страницы антилиберальной, ни одного слова ненависти к евреям, католикам
и т.п. Не отличался я горячею проповедью любви и терпимости, но сам
уберегся от их нарушения» ***. Говоря в другом письме (20 сент. 1894 г.)
о некоторых писателях, резко нападавших на Л.Н. Толстого, H.H.
писал: «О, избавь Господь православие от таких защитников! Они стоят
за веру, а потому разрешают себе всякое извращение и неуважение
чужих мнений; они стоят за нравственность, а потому считают долгом
быть резкими и грубыми...» И если 5 февраля 1894 года, узнав об
избрании его в почетные члены Московского психологического общества,
которое его очень утешило, H.H. Страхов писал нам: «На моей могиле
можно будет, конечно, написать: один из трезвых между угорелыми,
но дальнейшие похвалы подлежат еще большому вопросу», — то в этой
самооценке едва ли кто-нибудь усмотрит излишнее самохвальство.
* «Еще недавно пострадали: моя статейка об Ап. Григорьеве и письмо об Афоне...
Всегда я с этим боролся и всегда немножко обижался», — писал он нам в
сентябре 1891 г.
'* Конечно, H.H. разумел, главным образом, ту беду, которая произошла с ним
в самую либеральную эпоху в 1863 г., когда за статью его «Роковой вопрос»
подверглось запрещению «Время», после чего московская цензура некоторое время
не пропускала ни одной строки Страхова (см. письмо Каткова, напечатанное
во 2-м издании II части соч. «Борьба с Западом», стр. 134). См. упоминаемую
ниже статью Я. Н. Колубовского.
:* В письме от 13 марта 1894 г.
142
H. Я. ГРОТ
Выражая крайнее свое негодование по поводу статьи одного
умершего уже писателя о нравственном учении Л.Н. Толстого, Страхов
пишет (27 сент. 1890 г.): «Ну, как дойти до мысли, что любовь к людям,
проповедуемая Толстым, ни с какою нравственностью ничего
общего не имеет? Что его критика всего нашего бытия (быта — что ли?)
представляет совершенное отсутствие оснований! — Слова: зло,
дикость, негодование и т.п., прилагаемые к учению Толстого, меня
возмутили, особенно когда тут же упоминается о множестве
превосходных статей, остроумных мыслей, глубоких мыслителей, идущих
против Толстого... О том, что проповедь Толстого имеет христианский
характер, ни слова не сказано. А выходит, что статья г. N написана
прямо против христианства, предписывающего именно
самоотвержение, подавление эгоизма... В коротеньком письме трудно высказать
мою мысль вполне. У Толстого такое страшное обилие содержания —
если не решений, то вопросов, что сводить его учение на бессмыслицу
нет ничего похвального»...* По поводу статьи Л.Н. Толстого «Первая
ступень», напечатанной в «Вопросах», H. H. Страхов писал через
2 года (6 мая 1892 г.): «Статья Л. Н. Толстого удивительна. Несмотря
на разные крайности и парадоксальности, вы чувствуете такое живое
нравственное стремление, что оно заражает вас. Серьезность и чистота
мысли — великое, незаменимое дело».
Мы нарочно привели эти небольшие отрывки из писем H.H.
Страхова, чтобы охарактеризовать, прежде всего, внутреннюю, интимную
сторону его писательской деятельности, и теперь нам легче будет,
опираясь на слова самого покойного писателя, дать общую
характеристику его личности, миросозерцания и значения его литературной
деятельности.
H.H. Страхов происходил из духовного звания: сын протоиерея
и преподавателя словесности в белгородской семинарии, H. H. родился
16 октября 1828 г. в Белгороде, Курской губ. Девяти лет он потерял отца
и жил затем у дяди, ректора семинарии, сначала в Каменец-Подольске,
а потом в Костроме, где и окончил курс семинарии (философское
отделение), после чего в 1844 г. поступил сначала в Петербургский университет
на факультет камеральных наук, а затем оттуда перешел через два года,
по недостатку средств, в главный педагогический институт, где кончил
курс по физико-математическому отделению в 1851 году. После этого,
в течение 10 лет, H.H. был учителем физики и математики сначала
в Одессе, а затем во 2-й Петербургской гимназии. В 1857 г. H. H.
приобрел степень магистра зоологии, а с 1861 г. вышел в отставку и всецело
посвятил себя литературной деятельности, сотрудничал в «Эпохе»,
* Все курсивы принадлежат самому H.H.
Памяти H.H. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 143
«Времени», потом в «Библиотеке для чтения», «Отечественных
записках», «Заре», позднее в «Русском вестнике», «Руси», «Новом
времени», «Журнале Министерства народного просвещения», в «Вопросах
философии и психологии» и многих других изданиях.
Все свои статьи, рассеянные в журналах, H. H. тщательно собирал,
пересматривал и печатал затем в форме сборников и отдельных
сочинений, из которых некоторые успели уже выдержать 2-3 издания.
Служба Н. Н. — сначала библиотекарем в Императорской публичной
библиотеке (с 1873 по 1885), потом в ученом комитете министерства
народного просвещения (с 1874 г. и до смерти), — имела для H.H.,
главным образом, то значение, что давала ему необходимые средства
к жизни, обеспечивала ему должный досуг для его литературных
работ и свободу от ненавистного ему по натуре срочного и спешного
литературного труда.
H.H. умер старым холостяком, жил скромно на пятом этаже
большого петербургского дома и все свои сбережения тратил на
пополнение превосходной своей философской и литературной библиотеки*1.
Тесные дружеские отношения Н. Н. с покойным Н.Я. Данилевским,
с автором известной книги «Освобождение крестьян» Н. П. Семеновым,
поэтом A.A. Фетом и особенно с Л. Н. Толстым и приятельские связи
и переписка с некоторыми молодыми петербургскими и московскими
философами наполняли его досуги. Почти всегда спокойный, кроткий
и добродушный в обхождении, H.H. вносил какой-то особенный тихий
свет в то общество, в котором появлялся и среди которого жил. Злобы
к людям в нем не было, и он всегда готов был мириться даже с самыми
серьезными своими литературными обидчиками, а других врагов у
него не было и не могло быть.
Главнейшие сочинения Страхова мы считаем необходимым здесь
перечислить. Число же статей его в журналах так велико (более 100
названий), что мы отсылаем для подробного ознакомления с их
хронологическою последовательностью к статье Я. Н. Колубовского, напечатанной
в «Материалах для истории философии в России» **.
Важнейшие труды Страхова, в которых собраны наиболее
замечательные его статьи, следующие: 1) «Мир как целое» (изд. 2-е,
испр. и дополн., СПб., 1892), 2) «Об основных понятиях психологии
* Судьба этой библиотеки нас очень занимает; ее не следовало бы разрознивать.
Она должна была бы войти особым отделом в одно из правительственных
или общественных книгохранилищ. У нас так мало хороших философских
библиотек.
г* Вопросы философии и психологии. 1891. Март. Кн. 7. Приложение. Гл. IX.
Ср. очерк Я.Н. Колубовского в «Истории новой философии Ибервега-Гейнце».
СПб., 1890. § 52. Философия у русских.
144
H. Я. ГРОТ
и физиологии» (изд. 2-е, СПб., 1894), 3) «Философские очерки» (СПб.,
1895), 4) «О вечных истинах (мой спор о спиритизме)» (СПб., 1887),
5) «Борьба с Западом в нашей литературе» (Кн. I, 2 и 3-я. СПб., 1887,
90-96), 6) «Из истории литературного нигилизма» (СПб., 1890),
7) «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб., 1888), 8) «Критические
статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» (изд. 3-е. СПб., 1895),
9) «Воспоминания и отрывки» (СПб., 1892). Мы перечислили их в том
порядке, какой определяется их значением для характеристики
философского миросозерцания H.H. Страхова*.
Сочетание таких факторов, как происхождение из звания духовного,
строго философская школа старых семинарий, прохождение полного
курса физико-математических наук, настолько серьезное, что оно
увенчалось приобретением ученой магистерской степени по предмету
зоологии, десятилетняя деятельность педагогическая, служба
библиотекарская, редакторская и учено-критическая, наконец, разносторонняя
деятельность литературная, — как философа, публициста,
художественного критика, ученого издателя (сочинений Н. Я. Данилевского)
и переводчика капитальных философских и научных сочинений**—
сочетание таких факторов в единстве цельного, логически
последовательного ума и в соединении с большим литературным дарованием дало
именно ту личность — разностороннего, логически тонкого, глубоко
просвещенного и оригинального по приемам мыслителя-критика, каким
был H. H. Страхов. Стремясь к идеалу простоты, добра и правды (см.
заключительные слова Н. Н. в разборе «Войны и мира» Л. Н. Толстого),
H.H. мыслил строго логически и чрезвычайно отчетливо и старался
писать, как он выражается в одном письме к нам, «взвешивая каждое
слово и каждую запятую, как можно короче и как можно яснее». И
несомненно, что философские произведения Страхова останутся одним
из самых прочных и прекрасных памятников русского философского
писательства в XIX веке.
Чтобы уяснить себе миросозерцание H. H. Страхова, нужно знать
его корни. В апреле 1893 года H. H. писал нам: «Я гегельянец, и чем
дольше живу, тем тверже держусь диалектического метода; между
тем никто его себе не усвоил, и потому не понимает, чего я хочу
и на чем стою. Все становятся куда попало, на точки очень частные
и очень низменные, — мне это и скучно и трудно, когда приходится
* Относительно первого из перечисленных сочинений своих H.H. пишет в
предисловии ко 2-му изданию: «Наполовину с отрадой, наполовину с грустью, мне
пришлось убедиться, что лучше я ничего не писал» (XIII стр.).
** Упомянем только переводы многотомной «Истории новой философии» Куно-
Фишера, «История материализма» Ланге, сочинений Тэна «Об уме и познании»,
Брэма «Жизнь птиц».
Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 145
меняться мыслями. Вы, например, объявили меня картезианцем*.
Почему же? Ведь я исповедую, что всякая философия есть степень или
момент в той, которой я держусь. Декарт больше кого бы то ни было
подходит под это понятие, только для того и стоит его изучать. Если б
вы заглянули в Куно Фишера "Logik und Metaphysik" и в Chalybaeus
"EntWickelung der neueren Philosophie", то нашли бы там элементы
моего философствования. Истину нашел уже Платон: она состоит
в том, что есть Бог и что высшее действие нашей мысли —
подниматься к Богу*.
О тесной связи своего миросозерцания с философией Гегеля Страхов
высказывался неоднократно и в своих сочинениях. <...>
Но что же именно взял у Гегеля Страхов? Нельзя никак назвать
его приверженцем философской системы Гегеля в ее целом. Он сам
допускает «несовершенство» этой системы, «ошибочность»
некоторых ее положений**. Но он считает «безукоризненной» ее форму,
«устойчивым» ее дух, «неопровержимым» ее диалектический метод,
«неприкосновенною» ее сущность***. А сущность ее, по Страхову,
в том, что она «дает ключ к пониманию всех других систем, совмещает
их в себе, что к ней с равным правом можно применить всевозможные
названия: она и эмпиризм, и скептицизм, и абсолютный идеализм,
а главное — истинный рационализм*. Важно то, что «Гегель
признает всю философию, какая ни была, — что Гегель первый понял идею
развития и то, что все философы стоят на общей неизменной почве»,
что «какая угодно философия есть все-таки, по Гегелю, философия,
и последователь ее будет посвящен в тайны ума» ****.
Уже из этих цитат ясно, в какой мере Страхов последователь
философии Гегеля: он — последователь гегелевского диалектического
метода в объяснении действительности, причем вполне разделяет
основное положение Гегеля, что «нет никакой возможности различить
мыслимое бытие от бытия действительного, что приписывая
предметам бытие, мы приписываем им не что-нибудь воображаемое, а то, что
* Здесь Страхов разумеет наше замечание в статье о Декарте («Вопросы
философии и психологии». Кн. IX, — ср.: Основные моменты в развитии новой
философии. М., 1894, стр. 48). В предисловии ко 2-му изд. соч. «Об основных
понятиях психологии и физиологии» (стр. XIII) Страхов поясняет, что,
приводя рассуждение Декарта, он «видел в нем не какой-либо окончательный вывод,
или уже готовое учение, а только чрезвычайно ясную и отчетливую ступень,
чрез которую должен пройти каждый, кто рассуждает о душе». Это разъяснение
чрезвычайно существенно.
:* Философские очерки, упом. статья, стр. 19-20.
г* Там же, стр. 15, 17, 19 и др.
г* Там же, стр. 10-20.
146
H. Я. ГРОТ
действительно есть, что мысля бытие вообще, мы вне всякого сомнения,
без всякой возможности ошибки, мыслим нечто действительное, так
что мысль и то, что не есть мысль (т.е. бытие), совпадают,
тожественны» *, что «нет действительности вне мысли». <...>
Чтобы иллюстрировать истинное значение своего положения
о нерасторжимости мысли и бытия, разума и истины, которое Страхов
берет у Гегеля, H. H. рассказывает басню о том, как солнцу донесли,
что на земле не все благополучно, что во многих местах и в некоторые
часы дня и времена года темно: солнце пошло осматривать землю,
и куда ни являлось, все оказывалось ярко освещенным; тогда солнце
не поверило доносу, успокоилось и стало светить по-прежнему. «Точно
так же стоит только разуму указать на что-либо "темное", и самый
взгляд разума будет уже озарением этого темного. Разуму, как солнцу,
не нужно изменять своего образа действия, потому что он не
виноват, если темно там, где его нет, или, еще лучше, куда он не глядит...
Поэтому что бы вы ни признавали вне разума, — какой-нибудь
неразрешимый субстрат, допредметный мир, что-нибудь немыслимое,
не сказываемое, — это нимало не касается до разума, не касается
и до системы Гегеля. Вы признаете что-нибудь немыслимое,
невыразимое, — вы имеете полное право признавать, что вам угодно. Но если
это — немыслимое, так не мыслите же о нем; если это — несказыва-
емое, то не говорите об нем» **.
Теперь нам станет понятно, в чем Страхов видел свое назначение
как философа и как мыслителя-критика, почему и с какой точки
зрения он писал «об основных понятиях психологии и философии»,
о простых телах, об атомистической теории, — почему он так нападал
на дарвинизм, так увлекался логическою критикой его оснований в
известном сочинении Н. Я. Данилевского, что его заставляло так горячо
защищать теорию Данилевского «О культурно-исторических типах»
(«Россия и Европа»)2, теорию опять чисто-логическую и несомненно
имеющую связь с началами его философии истории, — почему Страхов
с такой энергией нападал на спиритизм как учение, противоречащее
всему строю добытых человеческим опытом и наукою «понятий
разума» о природе и действительности, — почему, наконец, он не одобрял
ни крайнего «материализма», ни крайнего «спиритуализма», так что
материалисты ошибочно считали его спиритуалистом, а некоторые
спиритуалисты — тайным материалистом, монисты — дуалистом,
а дуалисты — монистом.
* Там же, стр. 32.
* Там же, стр. 20-21.
Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 147
Мы намерены выяснить в этой краткой и, конечно, далеко не
полной характеристике миросозерцания H.H. Страхова именно еще этот
основной пункт его положительных воззрений, имеющий существенное
значение для всей его философии, так как тут уже Страхов мыслит
не по Гегелю, а вполне самостоятельно, сообразуясь только с общими
правилами диалектического метода, т.е. метода строгой критики
понятий. Вопрос в том: как смотрел Страхов на отношение понятий
«духа» и «материи», так как только об отношении этих «понятий»
(а не сущностей вне понятий) для него и могла быть речь?
Вопрос этот очень интересный, но и чрезвычайно трудный, так как
Страхов высказывался о проблеме души всегда очень осторожно, как
о такой трудной проблеме, которая далеко еще не вполне разрешима
для истинной науки. Тем не менее мы, кажется, имеем достаточный
материал для освещения взгляда нашего философа на означенный предмет.
Прежде всего, интересен вопрос, считал ли себя Страхов сам
«спиритуалистом»? <...>
<...> Страхов не считал себя «спиритуалистом» в обычном,
шаблонном значении этого слова, но тем более не был и «материалистом».
В «Предисловии» ко второму изданию «Об основных понятиях
психологии и физиологии» (стр. XI-XII) H. H. говорит: «О душе часто мыслят
так, что она есть некоторое существо, заключенное внутри тела, как бы
в оболочке, и что потом, в минуту смерти, она покидает тело, вылетает
из какого-то внутреннего места тела. Для многих такое понятие кажется
несомненным, и отрицание его они готовы принять за отрицание самого
существования души. Между тем ясно, что здесь мы овеществляем душу,
представляем ее себе в виде какого-то тонкого вещественного предмета
и сообразно с этим воображаем себе ее отношение. Она имеет
механическую отдельность от тела и механическое соединение с ним. Но этою
отдельностью мы ведь хотим только выразить, что душа отлична от тела,
и выражаем это очень несовершенно. Точно так, представляя, что душа
со всех сторон окружена телом, мы хотим выразить ее связь с телом,
и опять выражаем очень слабо. Итак, отрицая эти понятия, мы можем
прийти к лучшему пониманию души. Различие между душою и телом
гораздо глубже, чем полагается в обыкновенных представлениях; оно
состоит не во внешней отдельности, а в существенной
противоположности, которую нам и следует изучать. Точно так и связь между душою
и телом гораздо глубже, чем простое соприкосновение одного
вещественного предмета с другим, в котором он заключен. Тело — не существо,
чуждое душе, в которое она как бы насильственно вложена, а составляет
некоторое ее непрерывное создание или, как говорится, воплощение».
Конечно, в этих воззрениях Страхова на отношение души и тела
отчасти слышится отклик учения Гегеля о «природе» как «идее» в форме
148
H. Я. ГРОТ
инобытия или отчуждения, о «теле» как форме «инобытия души»,
о «смерти» — как «возвращении идеи в себя» из своего инобытия. Но
способ выражения этих воззрений совершенно свободен от своеобразной
гегелевской терминологии, и вообще во всех писаниях Страхова мы
находим язык самый простой, общепонятный и общепринятый, чуждый
условностям гегелевского философского языка. Те воззрения, которые
мы только что привели, по существу были свойственны всем идеалистам,
начиная с Платона и Аристотеля*. Но способ их выражения, т.е.
постановка понятий, у Страхова совершенно оригинальный.
Основой изучения душевных явлений служит для Страхова, конечно,*
внутреннее наблюдение. И вот как он изображает характер и значение
этого процесса:
«Мир души, как мы сказали, есть мир темный и таинственный.
Для того, чтобы наблюдать его, чтоб устремить свой взор внутрь себя
(как обыкновенно выражаются), мы, очевидно, должны сделать усилие,
дать нашим мыслям непривычный ход, обратный их обыкновенному
ходу, и понятно, что не можем видеть в этом случае так же ясно, как
при обыкновенном порядке нашего познания» (стр. 39).
Сделав далее длинную выдержку из «Meditationes» Декарта, где
Декарт изображает условия уединения себя от внешнего мира для
целей внутреннего наблюдения, Страхов продолжает:
«Вот описание так называемого внутреннего наблюдения и тех
результатов, к которым оно приводит. Главное здесь заключается не в старании
закрыть себя от внешнего мира, а в том особенном повороте мысли,
который Декарт выражает словами: "Буду считать все образы
вещественных предметов пустыми и ложными, буду смотреть на свои
ощущения и образы только как на виды своего мышления". Очевидно,
я могу и должен уметь это сделать, и не закрывая глаз и не затыкая ушей.
Для меня, на этой точке моего рассуждения, нет никакой разницы между
ощущениями, происходящими в присутствии внешних предметов, и так
называемыми идеями или представлениями, то есть образами, которые
я могу иметь при отсутствии соответствующих им предметов» (стр. 40).
Как же подойти к пониманию особенной природы нашего
духовного л? Вот своеобразный, так сказать, этико-психологический метод,
который он рекомендует в этом случае:
«Душевная жизнь, — говорит он, — подобно свету, может иметь
бесчисленные степени, от яркого солнечного сияния до сумерек, граничащих
* Душа, по Платону, — вместилище идей, а по Аристотелю — творческое начало,
principium formans тела.
Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 149
с тьмой. Истинная ее природа обнаруживается, конечно, при полном
ее раскрытии, — следовательно, в человеке, — и в те минуты полной
душевной энергии, которые иногда испытывает человек. Рассматривая
эту полную душевную жизнь, мы видим, что признание истины, блага
и свободы, то есть признание за нашею душевною жизнью реального
значения, действительного содержания составляет то необходимое
условие, при котором только и можем мы жить, без которого мы видим
перед собою пустоту, ничтожество и бессмыслие. Поэтому можно,
кажется, начинать психологию прямо с этих понятий, которых ниоткуда
нельзя вывести и без которых нельзя иметь представления о душе
и ее жизни. Установив эти понятия, можно затем делать постепенные
отвлечения. Например, анализируя истину, благо и свободу, мы найдем,
что тут везде предполагается некоторый субъект, наше я, для которого
только и могут существовать и истина, и благо, и свобода» (стр. 84-85)*.
При таком взгляде на метод познания духовного мира и сущности
душевной жизни неудивительно, если Страхов так негодует против
попыток спиритов «поймать душу руками». Во «вступлении» к книжке
«О вечных истинах», сопоставляя учение спиритов с настоящим
идеализмом, Страхов делает следующее замечание:
«Платон поднялся в более высокую сферу ума, а ученые спириты,
наоборот, совлекли самый мир идей в свою низменную сферу, пытались
овеществить духовное, поймать его руками или инструментами. Эту
жестокую грубость понятий они выдавали за величайшую мудрость
и видели в ней свое спасение» (стр. XXVIII).
Но если для H.H. Страхова, как истинного идеалиста, легко было
провести определенную и отчетливую грань между миром духовным
и материальным, как предметами познания, — между понятиями
о духовных и материальных явлениях и их законах, то именно с этой
идеалистической точки зрения ему не легко было ответить на другой
вопрос — о том, что же такое дух как реальность, как бытие в мире
действительном, помимо идей о нем. А между тем, несмотря на свое
гегелианство, несмотря на признание тожества идеи и бытия, Страхов
сознавал необходимость так или иначе разрешить этот вопрос. По этому
поводу он высказывает несколько любопытных мыслей в своем споре
с Бутлеровым:
«Вы спрашиваете или готовы спросить: как же существует в мире
духовное! Если оно не проявляется в спиритических чудесах, то где же
и как оно действительно проявляется? Странные вопросы! Все, что
имеет для нас высокую цену, все истинное, прекрасное, великое, су-
* Курсивы в этом отрывке наши.
150
H. Я. ГРОТ
щественное, всегда кажется нам далеко от нас. Мы вечно думаем, что
оно скрыто от нас на недоступных высотах и глубинах, что оно
существует за дальними морями, во тьме давно минувших времен, или же
в особых избранных людях, в таинственных и непонятных явлениях,
нисколько не похожих на те простые и регулярные явления, среди
которых мы проводим нашу будничную и пошлую жизнь. Между тем
и истина, и дух, и всякое высшее благо — все это доступно каждому,
всегда и везде, все это близко к нам, все это было бы прямо перед
нашими глазами, если бы мы упорно не отворачивались и сами не
создавали себе того густого тумана, который закрывает от нас свет... Может
быть, я скоро вернусь к этой теме: как существует в мире духовное?»
(«О вечных ист.», стр. 81).
Положительного и окончательного ответа на вопрос: «как существует
в мире духовное?» — H. H. Страхову так и не удалось дать; но кто же
до сих пор разрешил эту проблему строго научно, как этого желал
Страхов? Поставлена же она им совершенно отчетливо: «Нужно
найти силу в полном смысле живую, т.е. внутреннюю, не механическую;
нужно открыть ее закон, не математический, но служащий основой
всем математическим законам» («Мир как целое», стр. 474).
Но вместе с тем Страхов совершенно справедливо говорит, что «с
успехами естественных наук мы все больше и больше узнаем (не столько
то, что такое дух есть, сколько то), что такое дух не есть, и если
взглянуть на дело с этой стороны, то нельзя не видеть, какой это громадный
и существенный успех. Ведь кто себя стремится так резко отличить
от остального бытия? — Конечно, дух. Кто снимает с себя оболочку
за оболочкою, кто устанавливает и отрицает от себя понятия механики
и физики, кто проносится по всем небесам и не находит себе подобия
в их однообразии и мертвом механизме? — Конечно, дух. Иногда мы
готовы жаловаться, что перед взором науки все мертвеет, всюду являются
неизменные стихии и неизменные законы. Но ведь все это есть прямая
работа духа, и смысл ее в том, что он не хочет признавать живым то, что
не заслуживает этого названия, что он истинную жизнь признает только
за собою. Познание есть в известном смысле отрицание, понижение,
удаление от себя того, что познается. Познание есть деятельность
духа; но мы не замечаем, что тут совершается нечто духовное; мы так
погружаемся в созерцаемые предметы, что забываем о своем зрении,
о свете и глазе, и часто упорно думаем, что даже никакого света и глаза
не существует?» («Вечные истины», стр. 127-128).
<...> Но в вопросе о том, можно ли уяснить себе, как в
действительности существует дух и что такое идея, как бытие, H.H. является почти
скептиком — мыслителем, наклонным к некоторому особому, если так
Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 151
можно выразиться, рациональному мистицизму, — к признанию, что
в этой высшей области знания мы стоим лицом к лицу с некоторою
тайной, с непостижимым. Поэтому он неоднократно говорит о границах
«рационализма», о невозможности провести его до конца, о пределах
самой науки, и по этой же причине H.H. Страхов не только вполне
верует в Высшее начало, в Бога, но даже остается христианином,
сочувствующим православию — не в узком значении «церковника-
ритуалиста», а в самом широком философском смысле, в котором
многие крупные мыслители и философы считали себя христианами
и признавали особый смысл за тем вероисповеданием, которое стало
для них «национальною формою» религиозного богопочитания.
О пределах науки и научного рационализма Страхов говорит
неоднократно. <...>
«Наука не объемлет того, что для нас всего важнее, всего
существеннее, — не объемлет жизни. Вне науки находится главная сторона нашего
бытия — то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем Богом,
совестью, нашим счастьем и достоинством. Все это не где-нибудь далеко
от нас, не за пределами звезд, а все это вокруг нас, прямо перед нами,
во всем этом мы движемся и существуем, как в прямой стихии нашей
жизни. Поэтому не только созерцание этих предметов в
действительности, не только высокие отражения их у великих мыслителей и
художников, а даже иной плохой роман, иная грубо придуманная сказка
могут заключать в себе более общедоступный и сильный интерес, чем
превосходнейший курс физики или химии. Каждый из нас — не
простое колесо в огромной машине; каждый, главным образом, есть герой
той комедии или трагедии, которая называется его жизнью» («Вечные
истины», стр. 54-55).
Про попытки достигнуть чисто рационального, научного объяснения
всего существующего Страхов в другом месте книги выражается так:
«Если мы чувствуем недовольство этим взглядом, если он в нас что-
то затрагивает и чему-то противоречит, то нет никакого сомнения, что
источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь
других требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то
враждует против рационализма, и эта вражда упорно ведется
всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками,
философами и натуралистами. Отдать себе отчет в этой вражде есть
величайшая задача мысли» (стр. V-IX).
Выражая в общих положениях свое философское миропонимание,
Страхов определяет понятие «мира» следующими признаками:
«Мир есть целое, то есть он связан во всех направлениях, в каких
только может его рассматривать наш ум. Мир есть единое целое, то есть
152
H. Я. ГРОТ
он не распадается на две, на три или, вообще, на несколько сущностей,
связанных независимо от их собственных свойств. Такое единство
мира можно получить не иначе, как одухотворив природу, признав, что
истинная сущность вещей состоит в различных степенях
воплощающегося духа. Мир есть связное целое, то есть все его части и явления
находятся во взаимной зависимости. В нем нет ничего самобытного,
никаких особых начал, никаких простых тел, никаких атомов; нет
самостоятельных, от века различных сил, нет ничего неизменного, само
по себе существующего. Все в зависимости и все течет, как говорил еще
Гераклит. Мир есть стройное целое, или, как говорят, —
гармоническое, органическое целое. То есть части и явления мира не просто
связаны, а соподчинены, представляют правильную лестницу, пирамиду,
всего лучше сказать — иерархию существ и явлений. Мир, как организм,
имеет части менее важные и более важные, высшие и низшие: и
отношение между этими частями таково, что они представляют гармонию,
служат одни для других, образуют одно целое, в котором нет ничего
ни лишнего, ни бесполезного. Мир есть целое, имеющее центр,
именно он есть сфера, средоточие которой составляет человек. Человек есть
вершина природы, узел бытия. В нем заключается величайшая загадка
и величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по всем
направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть главная
сущность, главное явление и главный орган мира» (стр. VII-VIII).
Этот своеобразный с научной точки зрения, но неизбежный при
гегелевской традиции взгляд на человека как на центр реального мира
Страхов оправдывает в своей книге подробно и до известной степени
убедительно:
«Редко кто хочет признать центральное положение человека»
(стр. X), — говорит он.
«Между тем, когда и где было найдено в природе существо или
явление более загадочное, более высокое, более таинственное, более
сложное, чем человек? Не составляют ли явных мечтаний все попытки
отыскать в мире (т.е. в природе вне человека) тайные силы,
иррациональные явления, — попытки, которые тянутся через всю историю
человечества? Солнце со своими огненными дождями и извержениями,
которые когда-то воспевал Ломоносов, не есть ли простейшая вещь
в сравнении с тем, что совершается в человеке?
<...> Человек — вот величайшая загадка, узел мироздания»
(стр. X-XI).
Где же искать высшей разгадки мирового бытия, источника
объяснения мировой гармонии, целесообразности организмов, смысла
человеческой жизни? На это Страхов отвечает совершенно определенно:
Памяти Н. Н. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 153
«Хотя бы мы и не стали приписывать Богу всякое наблюдаемое
разнообразие вещей, однако же действительное познание,
удовлетворяющее всем нашим запросам, должно исходить из этого разнообразия
и необходимо приведет нас к Богу, укажет, что только в Нем содержится
смысл всякого бытия» («Мир как целое», стр. 582).
«Понятие о Боге, — говорит он в другом месте книги, — есть
понятие по преимуществу, т.е. менее, чем что-либо другое, доступно
представлению. По самому обыкновенному пониманию от Бога все
зависит, все от Него происходит, Он есть начало и смысл всего
существующего. Следовательно, для мышления Он представляет
глубочайшую глубину, крайнюю точку, до которой оно может достигнуть.
Материалистическое мышление, следуя своему обыкновенному ходу,
стремится представить себе Бога и потому впадает в неисчислимые
затруднения» (стр. 475).
«Так как понятие о Боге есть центральное понятие, на которое
мы сводим все другие, так как мир вполне определяется творческою
волей Бога, то все вопросы сводятся на то, чтобы понять, как вещи
зависят от Бога. В сравнении с этим считать субстанции по пальцам
есть дело пустое. Множество субстанций есть прямой признак
слабого познания, потому что мышление, как я уже сказал, есть сведение
многого на одно» (стр. 244).
<...> H.H. Страхов имел вполне законное право пытаться
совместить в своем миросозерцании прирожденный и свойственный его уму
светлый рационализм с естественною для каждого не только серьезно
мыслящего, но и глубоко чувствующего человека верою в
непостижимость коренной основы жизни — философскую трезвость мысли
и диалектический метод мышления с искреннею, но своеобразною
религиозностью.
Дуализм Страхова был только особым проявлением неустранимого
дуализма человеческой природы и мысли, а он, как мы видели,
исповедовал этот дуализм не только практически, но и теоретически,
хотя и стремился разрешить его в высшем идеалистическом монизме.
Самая жизнь Страхова была некоторою душевною драмой, которая
вела к такому дуализму. Искренно и всецело преданный литературе,
несомненно, даровитый, исключительно разносторонне (для нашего
общества) образованный и просвещенный, он встречал в своей
литературной деятельности до самого зрелого возраста одни только
помехи — грубое непонимание, часто насмешки или полное игнорирование.
Он не сразу привык к такому положению, и вот как он, уже в зрелые
годы, характеризует сам свое положение как писателя:
«Что наша литература есть литература фанатическая, в этом нет
никакого сомнения. Рассуждение, правильное развитие мыслей,
154
H. Я. ГРОТ
логически последовательные споры у нас не существуют, почти
невозможны по натуре наших пишущих и по натуре нашей публики. У нас
возможны и имеют ход, почти исключительно, только всякие веры
и ненависти, всякие идолопоклонничества и затаптывания в грязь,
всякие свисты и боготворения. Ваш покорный слуга тем больше имеет
право это говорить, что сам принадлежит к числу затоптанных в грязь.
Вы, пожалуй, не предполагали, что дело дошло до подобной крайности
и что я нахожусь в таком ужасном положении; но факт уже заявлен
теми, кого можно считать в таких делах вполне сведущими. В "Биржевых
ведомостях" 1874 года, от 27 ноября, г. Михайловский, наполовину
с торжеством, наполовину с сожалением, говорит: "Мы втоптали
в грязь г. Страхова, человека... и пр." Пожалуйста, не подумайте, что
я принимаю все происшествие в шутку; старания этих "мы" не всегда
оставались безуспешными...» («О вечных истинах», стр. 13).
В своих частных разговорах и письмах H. H. иногда трогательно,
по чрезвычайной скромности выражений, изъявлял благодарность
за то, что наконец его читают, понимают и ценят: «Покорно вас
благодарю за ваше письмо, — писал он нам в апреле 1887 г., — и за то, что
хвалите мою книгу ("Об основных понятиях"), и за то, что просите
моего совета. Очень мне приятно ваше внимание, и признаюсь, не раз
вас корил за то, что до сих пор вы меня не читали». После выхода
первой книги журнала «Вопросы философии и психологии» в 1889 году
H.H. Страхов писал: «Душевно благодарю вас за то, что упомянули
обо мне и с таким почетом в вашем вступлении: эта честь мне еще
внове». Через год, в 1890 г., H. H. писал, между прочим: «Как-то вы мне
писали: "у вас много врагов". Это меня очень огорчило и заставило
задуматься. За что же? Они зачинщики, они осыпают меня бранью,
а потом я же выхожу и злым, и бранчивым».
Да, много было литературных врагов у H. H. Страхова, которые
его часто напрасно бранили за откровенное и искреннее слово
убеждения по вопросам, иногда совершенно теоретическим, и совершенно прав
был H. H., когда говорил, что у нас в России не умеют спорить и
рассуждать; а между тем мыслитель он все-таки был из ряду выходящий,
сколько бы его ни бранили. Вполне присоединяемся к мнению нашего
уважаемого коллеги, профессора С.-Петербургского университета,
Александра Ивановича Введенского3, что «значение деятельности
покойного H.H. Страхова для нарождающейся русской философии
состоит в том, что он написал несколько книг, при помощи которых
в России еще долгое время будут охотно начинать учиться мыслить
и которые столь же долгое время будут считаться образцами
философского изложения...» («Образование», март 1896 г., стр. 8: статья
«Значение философской деятельности H. H. Страхова»).
Памяти H. H. Страхова. К характеристике его философского миросозерцания 155
Страхов не был творческим гением, создателем новой философской
системы, могущей иметь мировое значение. Но мы еще и не дожили
до своих Платонов и Аристотелей: слишком неблагоприятна и убога
для этого наша общественно-интеллектуальная почва. Страхову
великое спасибо за то, что он один из первых особенно энергично и ясно
призывал русских людей мыслить самостоятельно, не отрешаясь,
однако, от науки и от истории западной европейской мысли. Это был
не узкий славянофил, но истинно русский человек, веривший, подобно
Данилевскому, что мы призваны внести в общеевропейскую культуру
свой особый ценный вклад и упразднить некоторые ее противоречия.
Как мыслитель-диалектик, он допускал необходимость «тезиса» и
«антитезиса» (в духе Гегеля), но стремился сам своеобразно осуществить
последнюю задачу мысли — синтез. Много ли у нас в литературе
людей, правильно сознающих широту этой задачи?
Мы глубоко убеждены, что образ Страхова как своеобразного
русского мыслителя будет все более и более расти и что его произведения
станут скоро философскою хрестоматией для всякого русского
читателя, желающего сделать первый серьезный шаг к самостоятельному
мышлению.
К сожалению, немногие внимательно изучали у нас его философские
и литературные произведения.
Ю.Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
H.H. Страхов
Я только что узнал о смерти H.H. Страхова. Страхову было
шестьдесят восемь лет. Когда человек умирает в такие лета, тут нет ничего
поразительного. Но... но я видел покойного Николая Николаевича лишь
несколько месяцев назад — в конце августа, — и не могло прийти в
голову, что он скоро умрет. Он был совершенно здоров и бодр, несмотря
на недавно перенесенную операцию. Он пробыл в Москве несколько
дней, мы виделись с ним каждый день и много беседовали об искусстве.
Как человек Николай Николаевич был чрезвычайно симпатичен:
мягкий, в высшей степени деликатный, готовый на всякую услугу,
готовый помочь всякому и советом, и делом. Но его мягкость и
деликатность не мешали ему быть в высшей степени правдивым. Я никогда
не забуду его в высшей степени верных и метких отзывов об иных
литераторах и ученых. От тех и других он прежде всего требовал ясности
мысли, точности выражений, и его нельзя было подкупить никакою
фразеологией. Он был истинный литератор в самом высоком значении
этого слова. Литература была для него целью сама по себе, и он, всегда
мягкий, очень раздражался, видя, как у нас литературу, искусство
обращают в средство для достижения посторонних литературе и
искусству целей. Он любил литературу, можно сказать, нежною любовью
и тщательно следил за ее развитием. Всякое проявление дарования,
серьезная и искренняя мысль приводили его в восторг. Он верил в
литературу, верил, что победит в конце концов здоровая мысль, здоровое
чувство, и потому ценил самое дело, не придавая никакого значения
тому, что называют успехом.
Эта его вера оправдалась на нем самом. Подобно всем нашим
действительно значительным писателям — если это были не
беллетристы, — он не имел успеха в публике, руководимой известною частью
журналистики. Но уже с восьмидесятых годов значение его стало расти
Несколько слов о H. H. Страхове...
157
и растет до сих пор. Иные сочинения его вышли вторым и третьим
изданием, и, без сомнения, значение их будет расти и расти.
В «Новом времени» приводятся слова об H.H. Страхове одного
духовного лица, «наиболее выдающегося дарованиями и знаниями
среди нашей высшей духовной иерархии». Это духовное лицо,
поздравляя покойного с сорокалетием его литературной деятельности1,
выразилось в своем письме, что в лице H.H. Страхова «приветствует
просвещеннейшего в России человека»2.
Без сомнения, такое понятие об H. H. Страхове утвердится среди
русского образованного общества, когда это общество ближе
ознакомится с его произведениями.
H.H. Страхов сделал чрезвычайно много и как ученый, и как
философ, и как литературный критик, — но все же он далеко не вполне
высказался. Он говорил мне, что у него задуманы еще новые работы,
и между ними — очерк истории русской философии... И несмотря
на то, что он умер уже в преклонных летах, смерть его —
невознаградимая потеря для русской литературы...
Несколько слов о H. H. Страхове.
Б. В. Никольский. «Николай Николаевич Страхов.
Критико-биографический очерк»
I
Среди всего, что в последнее время писалось о покойном H. H.
Страхове, заслуживают внимания лишь две статьи г. Никольского,
одна — заглавие которой мы только что привели, другая — помещенная
в одной из последних книжек «Русского вестника»1. В обеих статьях
автор дает очень верную характеристику литературной деятельности
Страхова, особенно же интересна первая статья, в которую введен
и биографический элемент. Здесь мы находим много новых, до сих
пор неизвестных фактов, так как автор пользовался при составлении
этой статьи своими личными воспоминаниями и, что самое главное,
некоторыми не опубликованными еще рукописями Страхова,
представляющими автобиографический интерес.
Мне приходилось в продолжение последних семи, восьми лет
довольно много писать о Страхове. Появление в свет почти каждой его книги,
158
Ю. H. ГОВОРУХАОТРОК
вновь изданной или переизданной, всегда вызывало мою большую
статью, а иногда и две. Из этих статей могла бы составиться довольно
объемистая книжка. Но, к сожалению, эти статьи мои представляют
собой лишь отрывочные наброски и не дают цельной и законченной
характеристики литературной деятельности Страхова. Это объясняется
тем, что мне приходилось писать каждый раз о каком-нибудь отдельном
произведении Страхова, и понятно, что в подобных статьях я мог
говорить о значении литературной деятельности Страхова лишь в общих
чертах. Но тем более мне приятно, что некоторые теперь
опубликованные Б. Никольским отрывки из воспоминаний Страхова совершенно
подтверждают высказанные мною мысли об общем характере литера-'
турной его деятельности и о тех глубоких мотивах, которые руководили
этою деятельностью, о том основном мировоззрении, которое давало
направление мысли Страхова, чего бы он ни касался: вопросов науки,
философии или искусства.
Мне несколько раз приходилось высказывать, что
мировоззрение Страхова имеет характер религиозный в широком смысле этого
слова, хотя Страхов почти никогда не касался вопросов
религиозных. Исключение составляет его предисловие к переводу сочинения
Шопенгауэра «Мир как воля и представление», сделанному Фетом.
В этом предисловии Страхов касается вопросов религии, доказывая,
что глубокая философия Шопенгауэра для человека мыслящего может
служить как бы приготовлением к восприятию религиозного воззрения,
и именно христианского2.
Страхов не касался религиозных вопросов по совершенно ясной
и простой причине: по существу своего дарования, по умственному
складу своему он был критиком, а не творцом — он был критиком
во всех областях человеческого творчества, которых он касался
в своих произведениях. Он был литературным критиком в лучшем
и высшем значении этого выражения; точно так же он являлся
критиком, и только критиком, и в науке, и в философии. В этих
областях он всегда правильно и глубоко ставил вопрос, но не давал
его решения. Таким же критиком в высоком значении слова он мог
быть в области науки богословия, но этою областью он не занимался;
в области религиозной критике нет места — там возможно только
творчество.
Но критика не только не исключает цельного, законченного и
высокого миросозерцания, а, напротив, требует его как необходимого
условия. Критика, не имеющая в своем основании такого
мировоззрения, обратится в пустой и бесплодный скептицизм. О критике
можно сказать то же самое, что Деций («Два мира» Майкова) говорит
Ювеналу о сатире:
Несколько слов о H. Н. Страхове...
159
Твой дар — сатира. Помни ж,
Что сатира — дочь разума.
Чтоб мир признал твои права,
Ты должен сам стоять высоко:
Стрела тогда лишь бьет далеко,
Когда здорова тетива3.
Мы имеем в нашей литературе прекрасную иллюстрацию к этим
словам Деция. Эти слова в области сатиры совершенно оправдались
в покойном Салтыкове (Щедрине) и в области литературной
критики — в Белинском. Именно отсутствие «здоровой тетивы», отсутствие
глубокого философского или возвышенного религиозного
мировоззрения наполовину погубило большой талант Салтыкова, разменявшийся
на фельетонные мелочи; именно отсутствие «здоровой тетивы» погубило
и Белинского, дарованием которого всю жизнь руководила только
болезненная впечатлительность его натуры — болезненная
впечатлительность, которую Майков прекрасно характеризовал этим стихом:
Вы все на колокол похожи,
В который может зазвонить
На площади любой прохожий...
У Страхова как критика именно и была эта «здоровая тетива», и вот
почему он создал произведения, которые имеют и право, и возможность
жизни в будущем...
Он не исповедовал никакой философской доктрины, и г. Никольский
в статье своей, о которой идет речь, прекрасно показал и доказал, что
только люди близорукие или плохо знакомые с произведениями Страхова
могут считать его гегелианцем. И Гегелева система была им подвергнута
тому же беспощадному анализу, как и другие. Он критиковал
философские системы не с точки зрения какой-нибудь системы же, а с точки
зрения высшей, ибо знал, что не только света, что в окошке, и потому
не хотел смотреть на Божий мир из окошка какой бы то ни было системы.
Теперь не только друзья, но и литературные враги Страхова начинают
соглашаться с характеристикой того высокого духовного лица4, которое
назвало Страхова «просвещеннейшим человеком в России»,— и вот
в этом-то, кроме природного ума и дарования, заключалась главная
сила покойного писателя. Он твердо и всегда помнил завет Пушкина:
«На поприще ума нельзя нам отставать»5, и действительно «стал в
просвещении с веком», или, лучше сказать, «с веками наравне»6. И вот
160
Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
отсюда-mo, с этой-то высоты, он смотрел на современную науку, на
современную философию, и вот почему так неотразима его критика основ
иных современных научных и философских доктрин.
Из отрывков его неизданных воспоминаний, опубликованных
г. Никольским, очень ясно, что именно таков был его взгляд и таковы
были его стремления.
С самого детства, — писал он, между прочим, — у меня была любовь
к книгам, и знаменитые имена писателей, ученых и философов возбуждали
во мне благоговение и желание познакомиться с их произведениями. Тут
было что-то невольное, как бы прирожденное; мне и тогда и потом почти
не случалось встречать людей, у которых эти чувства господствовали бы
в такой мере, как у меня. Царство ума, новые и древние создания мысли
и творчества являлись мне с детства как далекое небо, обступившее меня
со всех сторон и усеянное прекрасными светилами. Хорошая черта этой
идеализации состояла в том любопытстве, которое постоянно влекло
меня ближе познакомиться с этими светилами; дурная черта — в том,
что внимание рассеивалось и что уверенность в своих мыслях и чувствах
росла слишком медленно под давлением авторитетов. Представьте себе
настроение, когда человек заранее уверен, что область истины от него далека
и трудно ему доступна, но что эта область несомненно существует, богатая
и прекрасная, созданная усилиями многих веков и народов: узнать эти
сокровища, найденные другими, — вот что ему нужно сделать, и это важнее,
чем пытаться самому решать вопросы, самому подыматься на высшую
точку умозрения. Что значит отдельное лицо в сравнении со всею историей
ума человеческого? Глубочайшие истины, конечно, искони были доступны
людям высоких душевных сил, как об этом говорил Гёте:
Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre, f ass es anl *7
С такими и подобными мыслями пустился я в то плавание по морю книг,
которое начал с отрочества и продолжаю до сих пор. Царство книг
действительно может быть названо морем — так оно необозримо, так много в нем
однообразных пространств и такие дива можно в нем найти, или скрытые
в глубине, или выдающиеся над уровнем, как острова и скалы, давно всем
известные, по крайней мере, по слуху.
Так смотрел на дело Страхов, и этой программе, или, вернее сказать,
этому «невольному, как бы прирожденному влечению» он следовал всю
жизнь. Только имея такое «прирожденное влечение», по его мнению,
* Издревле правда нам открылась, / В сердцах высоких утвердилась: / Старинной
правды не забудь! (нем.; перевод Н. Н. Вильмонта).
Несколько слов о H. Н. Страхове...
161
и можно стать образованным человеком. «Образование не
приобретается на заказ, — писал он мне несколько лет назад, отвечая на один мой
вопрос, — образование есть дело всей жизни, результат постоянного
влечения к нему ». И вот почему, прибавлю я, у нас есть люди,
обладающие фактическими познаниями, но так мало людей, образованных
в истинном и высоком смысле этого слова. Следуя своему постоянному
влечению, Страхов действительно «стал в просвещении с веком
наравне», с этой высоты посмотрел на просвещение нашего века и в своих
критических трудах определил характер этого просвещения.
II
Но и такой высоты было бы недостаточно, чтобы анализировать
характер просвещения нашего века с такою глубиной и тонкостью
понимания, как это сделал Страхов; надо было подняться еще на высшую
ступень — и Страхов поднялся на нее. Вот что пишет он в своих
неизданных воспоминаниях о смысле и значении религии:
Религиозные представления, — говорит он, — ставят нас в такие
отношения ко всему остальному бытию, перед которыми мелки и ничтожны всякие
другие отношения. Жизнь обращается в глубокую драму, в поприще роковой
борьбы. Вместо бесцельного существования, проводимого среди будничных
нужд и будничных радостей, человеку предлагается подвиг и указывается
впереди или жестокая погибель, или бесценная награда. И все то, что было,
что есть и что будет, получает вид несравненного величия и яркости. Даются
представления о существах, бесконечно высоких и прекрасных, в которых
самые возвышенные идеалы составляют действительность. Определяется
весь ход и смысл бытия; известно начало всего мироздания и начало
человеческой истории, известен и конец ее, и то устье, которым она некогда впадет
в светлый океан вечности. Поистине, религия, если взять ее со стороны
чувства и понятий, составляет действительное доказательство благородства
души человеческой, и если бы мы вообразили себе человечество без религии,
то нам пришлось бы его понизить почти до степени животных.
Из такого высокого воззрения, из такого душевного расположения
вытекало оригинальное отношение Страхова к рациональному познанию.
Созерцая жизнь и дух как целое, он не впал в заблуждение, столь
свойственное многим даже величайшим умам человечества, которые именно
в силу своего умственного величия склонны разум, дознание истины полагать
во главу угла своего мировоззрения и, всецело уходя в его сферу, не находить
полного удовлетворения в односторонне рассматриваемой ими жизни, —
совершенно справедливо замечает в своей статье г. Никольский. — Напротив,
162
Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
Страхов сразу увидел, что наука — лишь одна из нескольких задач духа,
не могущая сама по себе дать ему полного удовлетворения. «Не только
питаясь естественнонаучными познаниями, — писал он, — но поглощая и всякие
другие, мы можем оставаться совершенно голодными. Нас не удовлетворяет
подведение явлений под рациональные формы, и мы враждуем против мысли
о полной рациональности мира». Таким образом он особенно ясно сознал
и выразил, что познание не исчерпывает собою загадки бытия, не отвечает
на все запросы духа. Его предмет — рациональные формы явлений, которые
вполне разъясняются лишь всею совокупностью наук и в том числе,
разумеется, теорией познания и познавания, то есть гносеологией и логикой, включая
в последнюю методологию. И вот в этих последних, узких и тесных, пределах
Страхов и принимал философию, то есть придерживался взгляда на нее как
на центральную науку, как на "Наукословие", Wissenschaftslehre Фихте.
Таково было отношение Страхова к науке и философии —
отношение, столь же далекое от католического стремления подчинить науку
и философию религии, как и от противоположного стремления
освободить науку от дисциплины ума, выработанной вековыми усилиями
мысли человеческой. И вследствие такого умственного и душевного
расположения своего Страхов в книге своей «О вечных истинах»8,
посвященной блистательной защите прав и значения науки, тем не менее
писал: «Наука есть дело великое, хотя не наилучшее и не наивысшее
из человеческих дел ».
Г. Никольский в одном месте своей статьи прекрасно объясняет,
в чем заключалась главная сущность мировоззрения Страхова, та
сущность, которая давала окраску всем его взглядам:
Основной, положительный критерий, который подымал этот тонкий
и глубокий ум выше философии и науки, сводился к стройному и
гармоничному нравственному идеалу, который сам Страхов характеризовал понятием
святости, — пишет г. Никольский. — Познание не являлось для него мерилом
бытия, а лишь одним из его соподчиненных элементов, одним из поприщ
применения иного, высшего мерила. Задача земного существования —
внутреннее совершенство, внутренняя цельность духа, достигаемая не
отдельными моментами, а, так сказать, всем планом деятельности и жизни. Мало
для этого справедливости, мало милосердия: предельная вершина бытия
может быть достигнута человеком только в святости. «Святость именно
в том и состоит, — пишет Страхов, — что человек становится выше своих
желаний, своей природы, и выше смерти и всякого страдания. Это полная
чистота души и полная преданность воле Божией. Когда у человека нет своих
желаний, нет заботы и страха, он смотрит на все как бесплотный дух, он
стоит на точке зрения вечности', тогда он как будто "вновь родится" и в душе
его открываются источники лучшей жизни, вполне чистых чувств и сил.
Болезнь, страдания и смерть составляют для такого человека только повод
Несколько слов о H. Н. Страхове...
163
и побуждение подняться в область святости, отрешиться от себя и от мира.
Ищущие святости часто с радостью встречают эти поводы и даже ищут
всяких лишений, чтобы воспитывать в себе дух чистоты»9.
Вот идеал, к которому стремился всю жизнь Страхов — идеал
недосягаемый, но постоянное стремление к которому очищает сердце
человеческое и просветляет разум человеческий. Этот просветленный
стремлением к идеалу разум действовал в нем, когда он обращался
к вопросам науки, философии, искусства; на все эти вопросы он умел
смотреть с точки зрения вечности и с точки зрения вечного. И даже
когда он выступал как публицист, например в своих превосходных
статьях о нигилизме, написанных по поводу ужасного события 1
марта, — и здесь он удерживался на точке зрения вечного и с этой точки
зрения осветил сущность нигилизма так ярко, посмотрел на это явление
так глубоко, как никто из тех умных и остроумных людей, которых
нигилизм озабочивал только как «злоба дня», которые не могли
возвыситься до высшего взгляда на это явление.
Поучение, которое мы можем извлечь из литературной деятельности
Страхова, совершенно ясно. Всем, что он написал, он как бы говорит нам,
что, лишь бескорыстно любя науку, литературу, искусство, философию,
мы можем действительно служить им, а не обращать их на службу «злобам
дня»; что, лишь имея высокий идеал для своих стремлений, что, лишь
ставши на точку зрения вечного, мы поймем истинное значение
философии, искусства, науки — их высокое и как бы уже религиозное значение.
И ничем лучшим не могу заключить я эту статью о Страхове, как
словами любимого его писателя, Ренана (которого он тем не менее тоже
подверг своей беспощадной критике), о значении философии, науки,
литературы и искусства:
Если бы философия, наука, искусство и литература, — пишет Ренан, —
были только приятным препровождением времени, забавою праздных,
предметом роскоши, фантазией любителей, словом, «из суетных дел
наименее суетным», то могли бы быть времена, когда ученый должен был бы
сказать вместе с поэтом:
Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle!*10
Но если труд мысли есть самая серьезная вещь на свете, если с ним
связаны судьбы человечества и усовершенствование неделимого, то этот
труд, подобно делам религиозным, имеет цену во всякое время, во всякую
минуту.
* То есть: «Стыд тому, кто может петь, когда Рим горит!»
164
Ю. H. ГОВОРУХАОТРОК
И, продолжает далее Ренан, —
Наука, искусство, философия имеют цену лишь потому, что они суть
вещи религиозные, то есть что они дают человеку духовный хлеб. «Едино
есть на потребу»11. Нужно признать это предписание великого Учителя
нравственности как принцип всякой благородной жизни, как прямое
правило обязанностей человеческой природы.
Глубокий упадок современного общества, — прибавляет Ренан, —
происходит оттого, что нравственная культура не разумеется как вещь
религиозная, оттого, что поэзия, наука, литература рассматриваются как
предметы роскоши...12.
Эти мысли развивал и Страхов во всей своей литературной
деятельности...
a
В.Н.ЗАХАРОВ
Из забытых мемуаров.
П. Матвеев о Ф. Достоевском,
Н. Страхове, Л. Толстом
Сегодня редко кто вспоминает имя этого мемуариста. Павел
Александрович Матвеев (1844 — дата смерти неизвестна) — юрист, критик,
публицист, сотрудник «Журнала Министерства юстиции» и газеты
«Судебный вестник», журналов «Заря», «Русскаяречь», «Исторический
вестник», «Русский вестник», «Русская старина», аксаковской газеты
«Русь» — писал в основном на юридические темы, входил в
окружение Н. Н. Страхова, общался с Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым,
К. Н. Леонтьевым, оптинскими монахами, государственными и
общественными деятелями. Ему свойственны независимость суждений,
попытки выяснить правду, дойти до сути в обсуждении любых вопросов.
Эти черты характера П. А. Матвеева прослеживаются в разных
ситуациях, проявляются в его словах и поступках. Так, когда Достоевский
стал редактором еженедельника «Гражданин», тот, будучи членом
Самарского окружного суда, 25 марта 1873 года написал письмо, в
котором приветствовал новое «славянофильское» издание, выразил слова
поддержки и, вопреки предубеждению публики, предрек:
«Вашему "Гражданину" я положительно предсказываю скорый,
несомненный и большой успех »!.
Похвалив содержание отдельных статей и очерков, Матвеев упрекнул
издание в поверхностном взгляде на юридические вопросы:
«Из статей "Гражданина" за нынешний год я не совсем доволен только
статьями о судебной реформе и присяжных. Вы совершенно верно
чувствуете, что наш новый судебный порядок заключает в себе много
фальши, но по моему мнению ошибка Ваша заключается в том, что Вы судите
его не с той точки зрения, как бы следовало»2.
166
В. Н. ЗАХАРОВ
На взгляд юриста, хотя суд присяжных не является идеальным
способом установления вины и истины, его значение шире и
многостороннее, чем трактовал Достоевский:
«Очевидно, Вы его слишком мало знаете. Кроме того, значение суда
присяжных гораздо шире и многостороннее, чем Вы его понимаете — я сужу
по Вашей статье — это, может быть, и не есть лучшая организация суда
для правильного решения дел (Коллегия коронных судей, образованных
специалистов в этом отношении благонадежнее), но во всяком случае
прекрасная школа общественного развития для народа. Как ни полезно
распространение в народе грамотности, но ограничивать сферу развития
народа школой и книжкой нельзя — это обстоятельство отнюдь не следует
опускать из вида органу такого направления, как "Гражданин"»3.
Свою бескомпромиссную критику он аргументирует, анализируя
практику волостных судов, положительную роль бывших присяжных
в их деятельности, обращает внимание редактора на свою программу
изучения народных юридических обычаев, которую просит
распространить через еженедельник:
«При сем посылаю Вам мою программу нар. юрид. обычаев,
желательно, чтобы печать обратила серьезное внимание нашего земства на издание
Сборников этих обычаев, это одна из существенных потребностей дня*4.
Волей случая Матвеев был причастен к такому важному в русской
литературе сюжету, как паломничество в Оптину пустынь Толстого
и Страхова в июле 1877 года. Он был одним из тех, кто советовал эту
поездку Страхову, который писал Л. Толстому 4 ноября 1876 года:
«Один знакомый, Павел Александрович Матвеев, молодой юрист, очень
милый, все разговаривает со мной о вере — он сам верующий, к великому
изумлению всех окружающих. Он бывал в Оптиной пустыни, мне советует
побывать, но уверяет, что это трудно, именно, что непременно мне
встретятся всякого рода препятствия и задержки, что это испытали на себе многие
лица — какая-то сила мешает. Попробуем же в следующее лето — я очень
желаю и не имею других планов» [6, 288].
Он живо интересовался пребыванием в Оптиной Толстого и Страхова,
позже, через год в июне 1878 года, поездкой Достоевского и Владимира
Соловьева, расспрашивал самих паломников и монахов. Кому-то
его воспоминания известны, но они отсутствуют в обзорах, сводах
мемуарных источников и критической литературе о Достоевском.
Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом 167
Непосредственный повод воспоминаний П. А. Матвеева — его
возражения Д. И. Стахееву, опубликовавшему в январском номере
«Исторического вестника» за 1907 год заметки о паломничествах
русских писателей в Оптину пустынь. В фельетонном стиле автор
рассказывает о том, чего он не видел, но слышал от других или
по случаю сочинил. Сам Стахеев в Оптиной пустыни не бывал и быть,
по его признанию, не собирался; о целях посещения монастыря
нашими знаменитыми писателями имел самое смутное представление:
может быть, и была религиозная цель, а может быть, ездили «просто
так, для развлечения и отдыха после утомительных литературных
трудов» [7, 82]. Он безапелляционно судит то, что рассказывает,
сводя события к анекдоту. О поездке Л. Толстого Стахеев ничего
толком не сказал, но свысока позлословил: сначала оставил без
ответа свой же вопрос, почему романист отправился к старцам и зачем
«заманил» туда Страхова, затем общение Толстого и старца свел
к анекдоту о том, как старец, узнав, что перед ним граф, из
тщеславия похвастался: «А у меня брат был генерал. Родной мой брат
был генерал ...» [7, 94].
Стахеев полагает, что он рассказывает то, что слышал от Страхова,
но его пересказы слишком выразительны и характеризуют самого
«мемуариста», которому на самом деле нечего вспоминать: он передает
чужие сплетни и слухи, что-то сочиняет сам. В. А. Котельников, легко
соглашаясь с утрированными Стахеевым портретами литераторов,
отметил, что «собранные от разных лиц сведения, а отчасти домыслы
автора по отношению к Амвросию отличаются каким-то глумливым,
совершенно ракитинским тоном» [2, 20]. П. А. Матвеев выразился
деликатно: встреча со схимником описана «в легком и шутливом
тоне» [4, 156]. Добавлю: в таком же стиле сочинены все анекдоты
«мемуариста».
Кто-либо другой, наверное, оставил бы без последствий вымыслы
и домыслы Д. И. Стахеева, но не П. А. Матвеев.
Павел Александрович четко разделяет, что и от кого он слышал,
что видел сам. Он расспрашивал о пребывании Толстого и Страхова
в Оптиной отца Климента (Зедергольма), отца Амвросия, беседовал
со Страховым.
Матвеев сообщает много конкретных деталей: где остановились
паломники, кого и когда посещали, о чем говорили. Так, он называет
имя бывшего крепостного Толстых — «гостиничника» отца Феоктиста.
В отличие от слухов, которые перетолковывает Стахеев, слова Матвеева
подтверждаются «перекрестными» свидетельствами.
Толстой и Страхов были в Оптиной пустыни 25-27 июля 1877 года.
17 августа по возвращении из поездки Страхов писал Толстому:
168
В. Н. ЗАХАРОВ
«Сейчас был у меня Павел Александрович Матвеев; он навещал Оптину
пустынь после нас и привез мне целую кучу разговоров о Вас и даже обо мне.
Отцы хвалят Вас необыкновенно, находят в Вас прекрасную душу. Они
приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают, что тот был ужасно горд своим
умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся, как бы литература не
набросилась на Вас за 8-ю часть ("Анны Карениной". — В. 3.), и не причинила
Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал молчуном, и вообще считают, что
я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит
нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно
услышать это. Отцы ждут от Вас и от меня обещанных книг и надеются,
что мы еще приедем» [6, 355].
Толстой отвечал Страхову 1-2 сентября:
«Сведения, котор[ые] вы сообщили мне о воспоминаниях о нас оптин-
ских старцев и вообще воспоминания о них мне очень радостны» [6, 361].
Произошедшей в муже перемене радовалась С. А. Толстая, которая
записала 25 августа 1877 года в дневнике:
«Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве,
всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне, где
мужики всякий раз обступают его, расспрашивая о войне; по пятницам
и средам ест постное и все говорит о духе смирения, не позволяя и
останавливая полушутя тех, кто осуждает других» [9, 503].
26 декабря 1877 года Софья Андреевна записала:
«Настроение Л. Н. сильно изменяется с годами. После долгой борьбы
неверия и желания веры — он вдруг теперь, с осени, успокоился. Стал
соблюдать посты, ездить в церковь и молиться Богу»5 [9, 505].
Таков был благотворный, но временный эффект влияния на Толстого
оптинского паломничества.
Судя по всему, Страхов передал не все, что сказал Матвеев: Толстому
польстил, правду открыл только о себе.
Вот что о пребывании Толстого и Страхова в Оптиной пустыни
рассказал П. А. Матвеев:
«Приехал я в Оптину несколько дней спустя после их отъезда;
я интересовался знать, какое впечатление они вынесли и что делали
в монастыре» [4, 154].
Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом 169
Отец Климент, «человек душевный и правдивый», сообщил:
«Старец с прискорбием смотрит на его деятельность особенно в будущем;
сердце его ищет веры, а в мыслях путаница; он слишком полагается на свой
ум и большой рационалист...» [4, 154].
Во время беседы говорил со старцем один Лев Толстой: «Страхов
слушал и наблюдал» [4, 153].
У старца беседа вызвала тревогу:
«О. Амвросш, когда я его спросил о Л. Н. Толстом, вздохнул и,
задумавшись, сказал мне следующее: "Мудреный он человек: сердце ищет Бога,
а в мыслях путаница и неверие. Горд он очень, духовной гордостью. Много
вреда он сделает своим произвольным и суемудрым толкованием Евангелия,
которое, по его мнению, никто до него не понимал, но на все воля Божия".
Старец погрузился в раздумье.
— Н. Н. Страхов, — заметил я, — может иметь на него доброе
влияние. — Так я думал, основываясь на том, что Страхов всегда говорил
о религии с уважением.
— Ну, нет, — живо возразил о. Амвросий: — Страхов человек
закоснелый, неверие его глубже и крепче» [4, 154].
Отец Климент так пояснил эти слова:
«После этого зашел я к Клименту, я передал ему мой разговор.
"Батюшка мне говорил то же самое, — ответил он. — Много бед
предвидит он от Толстого, который может оказать большое влияние на умы,
а Страхова считает человеком отпетым, для которого вера только поэзия".
По мнению старца, Страхов влияния на Толстого не имеет, скорее наоборот,
это его справочная книга» [4, 155].
Все мнения Матвеев откровенно передал Страхову:
«В Петербурге, когда я увидел H.H. Страхова, я его застал одного —
я, конечно, заговорил об Оптине, передав ему то, что слышал. Страхова,
видимо, поразил отзыв о нем старца, молча крутил он папиросу и,
закурив, стал ходить, что у него было не в привычке. "Да ведь я, кажется,
с о. Амвросием мало о чем и говорил, — сказал он наконец. — Черты его
лица мне показались схожими с бюстом Вольтера Гужона, хотя выражение
их другое. Он советовал мне читать Исаака Сирина, духовного наставника
монахов и великого душеведца, по его словам, и подарил какую-то
брошюрку, в которой передаются разговоры Ермия с языческими
философами — но это детская книжка, а серьезного разговора с Амвросием у меня
не было"» [4, 155].
170
В. Н. ЗАХАРОВ
По свидетельству Павла Александровича, накануне смерти Страхов
подтвердил прорицание старца:
«Действительно, как я убедился во время болезни Страхова (у него был
рак в полости ушей и на языке, ему делали операцию), он был человек
неверующий, хотя думал, что религия нужна для народа. Мягкий и кроткий,
он сильно раздражился, когда я упомянул о священнике перед операцией,
и скончался без церковного напутствия» [4, 156]6.
Впрочем, неверие Страхова не было секретом для его знакомых.
Весной 1890 года в «Русском вестнике» Стахеев опубликовал
повесть «Пустынножитель», в герое которой узнается прототип —
H.H. Страхов7. Это заметили критики, не скрывал это обстоятельство
и сам автор произведения: «...Страхов был уже мною описан, хотя
и без означения его фамилии» [7, 81].
В повести замечателен финал. Заурядному завершению
повествования смертью героя автор придал оригинальный смысл: он описал
эту смерть за шесть лет до кончины прототипа и своего соседа
по квартире.
Не столь уж важно, как Страхов воспринял этот забавный конец
«своей» жизни; существенно другое: придуманное отчасти сбылось
в реальных обстоятельствах смерти философа, выразилось в «правде»
его характера.
Когда наступил смертный час героя, близкие предложили ему
послать за священником.
Вот диалог героя и его друга, «суетливого старичка»:
«— Нет, зачем же...
— Но вы верите в загробную жизнь?
— Не знаю... Я склонен верить.
— В таком случае следовало бы исполнить христианский долг.
Он молчал.
— Слышите, что я говорю?
— Слышу.
— Нужно покаяться.
— О, я каюсь, слабо проговорил он, — простите... Но смею думать, что
к Богу, создателю моему... могу и... без посредников» [8, 198-199].
Послали за доктором и священником. Первым пришел священник.
Николай Александрович (так звали литературного Страхова) захотел
прочесть молитву «Отче наш», но забыл слова. Вслед за священником
он повторял слова молитвы, его шепот становился все тише, пока
не замер.
Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом 171
Стахеев не угадал диагноз болезни и некоторые обстоятельства
смерти Страхова, но угадал его сомнения и отказ от исповеди, причастия
и соборования. «Ошибся» автор повести и в прогнозе по поводу
библиотеки, которая не ушла к букинистам, а в составе 12 с половиной тысяч
томов была передана наследниками в библиотеку Санкт-Петербургского
университета [5, 388-394].
Матвеева удивляло то, что, понимая значение православия в жизни
народа, Страхов обходил прямые разговоры о религии.
На эту тему у него был примечательный разговор:
« Л. Н. Толстой, которого я видел в Москве (я был у него в Хамовническом
переулке после смерти Страхова в самом конце 1890 годов), говорил, что
его всегда удивляло, что Страхов, человек научно-образованный, отличный
стилист и бесспорно умный человек, так мало оказывал влияния на русское
общество, что, вероятно, происходило оттого, что он был равнодушен к
вопросам религии» [4, 155].
Л. Н. Толстой еще несколько раз посещал отца Амвросия в Оптиной
пустыни. В одно из посещений он встречался с К. Н. Леонтьевым,
«много с ним спорил об Евангелии» [4, 157].
В своих воспоминаниях Павел Александрович возражает тем, кто
из проживания К. Н. Леонтьева в Оптиной пустыни в последние годы
жизни и его тайного пострига в 1891 году сделал своего рода миф,
представив его учителем русских писателей, наставником русской
литературы:
«К.Н. Леонтьева я много раз видел в Оптиной и могу положительно
сказать, что в Оптиной он держал себя не как учитель, да к тому же он
проживал в монастыре в качестве послушника. Надо знать монастырский быт
и правила в такой строгой обители, как Оптина пустынь, чтобы писать
о ней» [4, 156].
8 мая 1891 года, за несколько месяцев до своего тайного
пострига (23 августа), смерти старца Амвросия (10 октября), отъезда в Сергиев
Посад и собственной смерти (12 ноября), критик и беллетрист писал
В. В. Розанову об отрицательном отношении оптинских старцев к
роману Достоевского:
«В Оптиной "Братьев Карамазовых" правильным православным
сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером
на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность,
но говорить заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле,
172
В. Н. ЗАХАРОВ
в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия прежде всего строго
церковная мистика и уже потом — прикладная мораль. У от. Зосимы (устами
которого говорит сам Федор Михайлович!) прежде всего мораль, "любовь",
"любовь" и т.д., ну, и мистика очень слаба. Не верьте ему, когда он
хвалится, что знает монашество; он знает хорошо только свою проповедь
любви — и больше ничего.
Он в Оптиной пробыл дня два-три всего!..» [3, 568].
Это предвзятое суждение противоречит свидетельству оптин-
ских насельников, опубликованному 9 февраля 1881 года в
ежедневной газете «Современные известия», издававшейся в Москве
Н. П. Гиляровым-Платоновым:
«Какое светлое впечатление оставил Ф. М. Достоевский в бытность
свою в Оптиной пустыне, Козельского уезда! Это было три года тому
назад, когда он приехал с B.C. Соловьевым, доктором философии, сыном
известного историка, погостить в нашу обитель. Прожили дня четыре.
Федор Михайлович познакомился между прочим с уважаемым известным
многим старцем о. Амвросием и некоторыми монахами. О. Амвросий —
это одно из действующих лиц в "Братьях Карамазовых". Достоевский
описал его так верно и правдиво, что многие, знающие Амвросия,
узнавали его в образе художника. Когда дошла до нас весть о кончине Федора
Михайловича, мы истинно пожалели писателя-психолога,
симпатичного человека и истинного христианина. Монастырское начальство,
узнав о смерти Достоевского, распорядилось поминать его на литургии,
и мы в обедню на Сретение услышали ектенью протодиакона,
молившегося о рабе Божием Феодоре, и многие, знавшие, кого поминают, и хотя
несколько слышавшие о нем, усердно молились. Горько, горько мне
стало за обедневшую семью наших писателей, лишившуюся таких столбов
русской литературы, как Писемский и Достоевский. С каждым годом все
уменьшается эта семья» (цит. по: [1]).
По оценке А. П. Дмитриева, «эта корреспонденция, составленная
от имени всей братии Оптиной пустыни и, вероятно, с благословения
настоятеля обители, содержит уникальное свидетельство о том, как
в знаменитой обители восприняли кончину Достоевского, и дает
основание заподозрить в определенной пристрастности К. Леонтьева, а также
исследователей, развивавших и пропагандировавших его суждения
на сей счет, прежде всего H.A. Бердяева, прот. В.В. Зеньковского,
Л. А. Зандера, К. В. Мочульского, И.М. Концевича, В.М. Лурье.
Впрочем, как и в церковных проповедях, Достоевский здесь не
объявляется ни богословом, ни православным учителем, а только "писателем-
психологом, симпатичным человеком и истинным христианином"» [1].
Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом 173
П. А. Матвеев опроверг суждение Стахеева, будто Вл. Соловьев
рассказывал, что Достоевский «вместо того, чтобы послушно и с должным
смирением внимать поучительным речам старца-схимника, сам говорил
больше, чем он» [7, 86-87], возражал и поучал. По мнению
мемуариста, все было наоборот: не Достоевский, а Вл. Соловьев пытался учить,
много говорил и спорил, за что оптинские богословы его «назвали даже
орлом, хотя старец Амвросий не одобрял его взглядов на
христианство» [4, 156]. Стахеев всего «лишь» вообразил, что Владимир Соловьев
мог держать себя в келье старца так же, как в комнате Страхова (взял
книгу и углубился в чтение).
В опровержение вымысла Матвеев приводит признание самого
писателя:
«По крайней мере Достоевский сам мне говорил, что многому научился
в монастыре и что старец Зосима и обычай старчества в романе "Братья
Карамазовы" взяты им из Оптиной.
— Когда я писал о. Зосиму, — прибавил он, — то имел в виду
Амвросия» [4, 156].
Достоевский приезжал в Оптину пустынь не для того, чтобы учить
старцев, да и чему он мог их научить? В поездке он пережил семейное
горе — смерть и сороковины младшего сына Алеши, осознал идею
своего будущего романа — представить Церковь как положительный
общественный идеал, узнал старчество как явление в русском
иночестве, воскресил умершего сына в главном герое романа — в раннем
человеколюбце Алексее Федоровиче Карамазове.
Необходимо учитывать мемуарные свидетельства Матвеева в анализе
и оценке деятельности русских гениев и критиков.
Неуступчивый и взыскательный, честный до щепетильности,
он искал правду в общении с оптинскими старцами, с литераторами-
современниками — Толстым, Достоевским, Соловьевым, Страховым,
Леонтьевым и другими.
Эта правда поучительна.
Список литературы
1. Дмитриев А. П. Достоевский и оптинские насельники (Забытое газетное
свидетельство 1881 г.). URL: http://www.optina.ru/pub/p20/ (15.03.2016).
2. Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература (статья
вторая) // Русская литература. 1989. № 3. С. 3-31.
3. Леонтьев К. Избранные письма / Публикация, предисловие и
комментарий Д. Соловьева; вступ. статья С. Носова. СПб.: Пушкинский фонд,
174
В. Н. ЗАХАРОВ
1993. 640 с. URL http://imwerden.de/pdf/leontjev_izbrannye_pisma_1993.
pdf (12.03.2016).
4. Матвеев П. А. Л. Н. Толстой и H. H. Страхов в Оптиной Пустыни //
Исторический вестник. 1907. № 4. С. 151-157. URL: http://books.e-heritage.
ru/book/10087864 (10.03.2016). См. Приложение 2.
5. Николаев Н. И. Библиотека H.H. Страхова в свидетельствах
современников // Шестые Страховские чтения: философские проблемы понимания
в культуре и науке: материалы междунар. науч. конф., Белгород, 25-26 ноября
2010 г. / Отв. ред. Е. А. Антонов. Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. 412 с.
6. Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхов: Полное собрание переписки: в 2 т. / Оттав-
ский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого; сост.
Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. ДонсковА.А. [М.; Оттава], 2003. Т. 1:
Письма, 1870-1878. 488 с. URL: http://feb-web.ru/feb/tolstoy/texts/selectpe/
ts6/ts62355-.htm; http://feb-web.ru/feb/tolstoy/texts/selectpe/ts6/ts62361-.
htm?cmd=0 (12.03.2016).
7. Стахеев Д. И. Группы и портреты: (листочки воспоминаний) //
Исторический вестник. 1907. Т. 107. Январь-февраль. С. 81-94. URL: http://Ha6.
pф/catalog/005664_000048_RuPRLIB15000524/viewer/(10.02.2016).
8. Стахеев Д. И. Пустынножитель: повесть // Русский вестник. 1890.
Т. 207. № 3 (март). С. 114-155. № 4 (апрель). С. 164-199. URL: Ьир://нэб.рф/
catalog/005664_000048_RuPRLIB12013382/viewer/(12.03.2016).
9. Толстая С. А. Мои записи разные для справок // Толстая С. А. Дневники:
в 2 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 1: 1862-1900. С. 495-511. URL: http://feb-web.
ru/feb/tolstoy/critics/tdl/tdl-495-.htm (12.03.2016).
Il
ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ
H. H. СТРАХОВА.
ИХ РЕЦЕПЦИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
a
Н.Н.СТРАХОВ
Письма о философии
Письмо 1
Вы непременно хотите, чтобы я писал о философии, о самых общих
ее вопросах. Знаете ли? — мне это и очень лестно, и очень страшно.
Для меня ведь, по старому, философия есть самая высокая и самая
трудная наука; не малым делом всегда считал я говорить во имя этой
науки и заслужил имя действительного философа. Если до сих пор
я ограничивался только частными вопросами, или даже одной
постановкой вопросов, то делал это, прежде всего, из великого уважения
к философии.
Вместо того, чтобы выставлять и развивать какие-нибудь общие
положения, мне кажется лучше начинать свое философствование
с какой-нибудь частной и вполне определенной черты, вроде того, как
это делает Декарт. Например, я мог бы начать так:
Сперва я был ничего несмыслящим ребенком, потом во мне
проснулось внимание и любопытство, и я стал понимать то, что мне говорили
и что я читал; чтобы усвоить себе это говоримое и читаемое, нужны
были многие годы и часто большие усилия; и, наконец, теперь я вполне
полагаюсь уже на собственный ум и сам стал решать, что правда и что
ложь, сам разыскиваю истину. Вот что со мною было, что я должен
всегда помнить и всячески уяснить себе. Если действительно так было,
если я действительно из несмысленного стал понимающим и из
принимающего чужие мысли стал самостоятельно мыслящим и познающим,
то как это произошло? Я должен всеми силами привести себе к
сознанию тот путь и те побуждения, по которым совершилось это движение
моего ума. Чем лучше я уразумею этот путь, тем правильнее и тверже
я могу по нему идти. Впереди же я не могу поставить себе никакой
Другой задачи, как именно идти дальше по этому пути, продолжать
это движение. Понимать то, что прежде не понимал, и открывать то, что
прежде не знал, — такова моя судьба до конца.
178
H. H. СТРАХОВ
Письмо 2
Есть понятия, которые мы уже находим в себе, как только
приступаем к какой бы то ни было деятельности. Если мы принимаемся
мыслить, рассуждать, наблюдать, то оказывается, что мы заранее
признаем понятие познания, заранее предполагаем существование
истины, достигнуть которой и стараемся. Если мы принимаемся ценить
существующее, какие бы то ни было вещи и явления, не в них самих,
а в известном отношении их к нам, как наше благо и зло, во
всевозможных значениях этих слов, то мы заранее признаем понятие чувства,
заранее предполагаем существование наслаждения и страдания. Если,
наконец, мы начинаем действовать, то есть не только познавать и ценить
существующее, но производить в нем перемены, то мы заранее
признаем понятие произвола, заранее предполагаем, что наши действия
свободны, зависят от нашей воли.
Вот предположения, без которых мы не можем ступить ни одного
шагу. Мы, разумеется, сперва не замечаем их и об них не думаем;
но по мере развития нашей мысли и уяснения ее приемов, мы
неизбежно приходим к этим предположениям, видим, что они лежат в основе
всякого нашего рассуждения, желания и действия.
Если же так, то, значит, понятия познания, чувства или вины не
могут быть выводимы или построиваемы ни из каких других понятий;
они не вытекают как-нибудь из опыта или умозрения, а, напротив,
всякий опыт и всякое умозрение возможны только на их основании.
Это — понятия, в полном смысле слова, иррациональные, не
вкладывающиеся в постоянные приемы нашего ума, не принадлежащие
к познаваемым в обыкновенном смысле этого слова.
Такая особенность этих понятий может показаться на первый взгляд
очень удивительною. По-видимому, значение слов: познание, чувство,
произвол — хорошо всем известно; мы употребляем эти слова
беспрестанно и делаем это с обычною уверенностью и определенностью.
Почему же смысл их должен иметь не такую же природу, как смысл
каких-нибудь других слов? На это заметим, что вообще язык, по самой
способности обобщения, составляющей его силу, всегда скрадывает
от нас разницу в содержании, выражающемся в словах и
словосочинениях. Мы чаще всего принимаем язык за форму логического движения
мысли; между тем словами выражается не одно мышление, а также
чувство, желание, всякое движение нашей души. И мы понимаем друг
друга вовсе не потому, что сообщаем один другому логическую связь
понятий, или определенное их значение, а лишь потому, что слова
составляют для нас знаки известного содержания, иногда почти такие
Письма о философии
179
(же) знаки, как мимика или изменение в чертах лица. Предметы
становятся для нас знакомыми, хорошо известными не посредством точных
определений, а посредством одного указания пальцем. Нам говорят:
вот это дуб, а это береза, и мы потом не только ясно знаем смысл этих
названий, но узнаем самый маленький кусок листа или коры дуба
или березы, не отдавая себе никакого отчета в том, как мы это делаем.
Подобным образом мы знакомимся и с тем, что называется познанием,
чувством и произволом. Так как предметы или явления,
обозначаемые этими словами, составляют самую стихию нашей жизни, так как
мы их встречаем, так сказать, при каждом нашем движении, то мы
знакомы с ними вполне, но знаем их по непосредственному созерцанию,
а не помощью каких бы то ни было приемов познания. Другие люди
только наводят нас на это созерцание, а не сообщают нам чего-то
изведанного ими, но у нас еще не имеющегося.
Обращаясь мыслью к познанию, чувству и произволу, мы очевидно
обращаемся к самим себе, рассматриваем самих себя в нашем
внутреннем существе, или в нашей внутренней жизни. Мы живем — это значит
познаем, чувствуем, стремимся, и в этом смысле мы себя называем
душою. Старинное положение: человек состоит из души и тела, имеет
не совсем точный вид, предполагает как будто, что душа и тело могут
быть поставлены наравне. Гораздо правильнее сказать: человек есть
душа, облеченная телом.
Очевидно, что бы мы ни думали и ни делали, мы необходимо будем
начинать с себя, то есть с нашей души, как с исходной точки нашей
мысли, да и всякого другого нашего действия. Тот, кто начал бы с того,
что стал сомневаться в душе, тем самым отнял бы у себя всякую
возможность двинуться хотя бы на единый шаг, не мог бы начать мыслить
и говорить. Такое сомнение в сущности невозможно, и скептики в этом
случае не то разумеют, что они говорят.
Письмо 3
Нужно остановиться на особенном отношении нашего ума к
мышлению о душе.
Для человека, находящегося в полном своем развитии, нет ничего
яснее, достовернее, известнее, как его жизнь, его душа. Он чувствует
свою душу, как скоро чувствует, что ищет познаний, страдает и
радуется, стремится действовать и сопротивляться. Но если это ясное
и неизбежное созерцание мы захотим облечь в определенные понятия,
в обыкновенные формы понятия, то мы придем в величайшее
затруднение. Нам здесь открывается действительность, для мышления о которой
требуются совершенно другие приемы ума, чем для мышления о других
180
H. Н. СТРАХОВ
предметах познания. Вот почему Фихте, а потом Шеллинг признавали
в уме особенную деятельность для постижения души и мышления о ней;
они называли эту деятельность умственным созерцанием (intellectuelle
Anschauung). Это непосредственное внутреннее созерцание дает нам
не какие-нибудь простые факты, а внушает понятия и положения,
совершенно несоразмерные с обыкновенными приемами мышления.
Таковы именно понятия истины, блага и свободы. Мы их постигаем
с совершенной ясностью посредством умственного созерцания,
становясь лицом к лицу с нашей душою; но они, можно сказать, сейчас же
исчезают от нас, когда мы пробуем построить их по способу других
понятий.
Если человек мыслит, то это не значит только того, что в нем
совершается некоторый процесс с некоторыми причинами и с некоторыми
результатами; смысл мышления и всякого понятия в том, что человек
ищет и достигает истины.
Если человек чувствует, то это не значит только того, что он
переживает те и другие различные состояния, а значит, что для него существует
действительное благо и что есть возможность достигнуть этого блага.
Если человек действует, то это не значит только, что его влекут
те и другие различные стремления; главный смысл человеческой воли
в том, что она ищет и достигает свободы.
Таким образом, душа или жизнь человеческая есть нечто ищущее
и достигающее истины, блага и свободы.
Вот определение, с которого может начинать свое изложение
психология и к которому она непременно должна приходить, с какой бы
другой точки она ни начинала своего исследования. В сравнении
с обыкновенными приемами нашего познания может показаться, что
мы, таким образом, предрешаем известные вопросы, заранее признаем
верным то, что будто бы еще подлежит исследованию; но в сущности
мы, держась этого определения, начинаем с настоящей исходной
точки, с действительного начала, без которого невозможно идти вперед.
Психология должна показывать нам, что все ее изыскания имеют эту
твердую основу и к ней сводятся.
Понятие и значение натурфилософии
Философия не есть верование, чаяние или мнение, а понятие и наука
о Божественном, и притом совершенно ясное и соразмерное познание,
так как о Божественном или невозможно никакое познание, или
возможно только такое.
Для Бога, или абсолютного, бытие существенно, или, лучше, сам
Бог есть бытие, и нет иного бытия, кроме именно Бога. Мы не можем
Письма о философии
181
сказать — кроме бытия Божия, ибо бытие Божие было бы сам Бог, так
как он именно есть не что иное, как бытие.
Следовательно, и наоборот, все бытие, только потому, что оно бытие,
само в себе божественно, абсолютно; ни из чего другого необъяснимо
и не произошло, но есть вечная истина и насквозь положительно. Нечто
такое, что не было бы божественным (если бы только что-нибудь такое
вообще могло быть), было бы именно поэтому вовсе не бытием; и
потому было бы совершенно невозможно сказать, что оно есть.
Итак, Бог есть единое действительное, так существенно есть бытие;
иначе говоря — он один и всецело наполняет сферу действительности.
Мыслить нечто действительное вне Бога так же невозможно, как
мыслить некоторую действительность вне действительности.
Поэтому если философия есть наука о Божественном, то она не есть
наука о нем как о некотором существе, которое существует лишь в
мысли или только ею может быть достигнуто, но она есть наука о Боге как
о едином действительном, а потому самому едином доступном
созерцанию (Anchauung) и во всем созерцательном едином созерцаемом
(ибо созерцание, которое не было бы созерцанием действительного,
не было бы и созерцанием).
Мы хотим пояснить это с другой стороны для того, кто допускает,
что Бог (или вечное) может быть достигнут посредством мысли1. Если
только он действительно мыслит Бога, то он мыслит его как
единственно-реальное, которое существенно само есть бытие. Поэтому
Бог не может быть в мире мысли, не будучи именно поэтому тем, что
есть единственно-положительное в действительном мире или в мире
природы; и в отношении к нему вообще нет никакой
противоположности между идеальным и реальным миром, между «по ту сторону»
и по «по сю сторону». Кто это отвергает, тот может, пожалуй, грезить
о природе, которая не есть, или о действительности, которая не есть
действительность. Но почему же он примется грезить, если он должен
бодрствовать? Он допускает, что Бог есть реальность, сама чистая
действительность: пусть же он ищет того мира или той сферы, в которой
Бог есть действительность! Конечно, ни теперь, ни после не окажется
перед ним никакого другого мира, в котором Бог еще совершенно
особенно был бы действительностью, кроме именно настоящего
и так называемого действительного мира, и если Бог в этом мире
не есть действительность, то он вообще не будет действительностью,
т.е. не будет Богом.
Итак, если философия есть наука о божественном как об
единственно-положительном, то она есть наука о божественном как об
единственно-действительном в действительном мире или в мире природы,
т.е. она есть существенно натурфилософия.
182
H. H. СТРАХОВ
Если бы она не была натурфилософией, то она бы утверждала, что
Бог есть только в мире мысли, следовательно, не есть то, что
положительно в действительном мире, или мире природы, т.е. она отвергала бы
самую идею Бога.
Бытие есть истина, и истина есть бытие. То, что философ мыслит
и о чем он говорит, должно быть, потому что оно должно быть истинно.
Что не естьу то не истинно. Итак, философ, говорящий о природе, как
о чем-то таком, что не есть, говорит не об истинном. И даже говорит
не истинно, потому что он не истинному, говоря о нем так, как будто
оно существует, придает истинность, которой оно не имеет. Истинная
философия должна говорить о том, что существует, т.е. о
действительной, существующей природе. Бог есть существенным образом
бытие — это значит: Бог есть существенным образом природа, и
наоборот. Поэтому всякая истинная философия, т.е. всякая, которая есть
познание единственно истинного и положительного, есть ipso facto2
натурфилософия; и пока такое познание не стало всеобщим, она будет
носить это имя, чтобы отличать себя от ложной философии,
пребывающей в не-действительном, т.е. в не-истинном.
Теперь мы можем с большею свободою употреблять эту идею
натурфилософии во всей ее строгости. По нашему взгляду, разделение между
особым миром мысли и особым миром действительности есть доказательство,
что и в мире мысли мы еще не положили Бога. Если бы (per impossibile)
для меня не существовало вовсе природы, или я мог бы положить, что
она уничтожена, и я стал бы мыслить Бога истинно и с полною ясностью,
то в то же мгновение для меня бы наполнился действительный мир (вот
смысл часто превратно понимаемого тожества идеального и реального).
Вы вот говорите между прочим о некоторой данной природе и, к
несчастью, те, кто всего ревностнее восставал против не умеющих отрешиться
от данного, сами обнаруживают величайшую к тому неспособность;
но как же вы доходите до этой природы и по какому праву вы ее здесь
вмешиваете? Вы ведь должны бы философствовать, т.е. должны бы
рассматривать идею Бога, или, пожалуй, хоть только мыслить ее (если
таково ваше мнение), и должны бы мыслить ее чисто и наполнить ею себя
совершенно; но как только вы это сделаете, то Бог станет для вас
непосредственно реальным как единственно-действительное и вы не будете
уже больше искать глазами еще другой природы, так как с Богом и
посредством Бога вы уже имеете полную действительность. Чтобы иметь
право говорить о вашей данной природе, вы должны бы сперва доказать
нам ее действительность; но этого вы не можете сделать и потому
решайтесь же прежде всего рассматривать сущее, которое мы называем Богом,
а не устремлять вашего взора тотчас же опять на не-сущее; подобно
глазам, которые не выносят солнечного света и обращаются к тени.
Письма о философии
183
Итак, в идее натурфилософии мы идем не только дальше простого
мышления к познанию, но делаем еще шаг и дальше познания вообще,
до созерцания в действительности и до совершенного совпадения мира,
нами познанного, с миром природы. Только именно в той точке, где
идеальное для нас самих стало также и совершенно реальным, мир
мысли стал миром природы, только в этой точке находится последнее,
высшее удовлетворение и примирение познания, подобно тому, как
исполнение нравственных требований достигается лишь тогда, когда
они являются нам уже не как мысли, например как предписания,
а стали природою нашей души и стали в ней действительными.
В этом одном заключается и отличие натурфилософии от
всякого прежнего философствования. В силу того, что она вообще есть
наука о божественном, она стремится отличить себя от всего, что
порождено в философии последним временем, а также прошлым
после Лейбница, но никак не от того, что порождено более древним
и древнейшим временем. Спиноза признавал свое Богом наполненное
учение за учение о природе; но то обстоятельство, что он не довел
его изложения до указанной точки тожества с действительностью
и что, насколько он пытался это сделать, доведение не удавалось,
было причиною, что и на его учение впоследствии смотрели
только как на идеалистический очерк, как на некоторую форму мысли
для мысли. Пусть идея натурфилософии будет та самая, которую
некогда Бэкон постиг со стороны физики, но не познал со стороны
философии, почему и стал лишь родоначальником века эмпиризма;
или пусть эта идея еще не была постигнута ни одним из прежних
мыслителей: она во всяком случае есть необходимая идея, не
только встречающаяся и лежащая на пути к завершению, но ведущая
к самому тому завершению, которое рано или поздно должно быть
осуществлено. Она впервые полагает решительный предел,
определенную границу произволу мышления, блужданиям отвлечения, ибо
она есть прямая противоположность всякому отвлечению и всяким
системам, которые из отвлечения происходят. Все, что в науке, или
в религии, или в каком-нибудь другом круге человеческой
деятельности когда-нибудь достигло устойчивости и стало причастным
истинной объективности, все приобрело ее именно посредством этого
последнего шага, отныне навсегда сделанного наукою разума через
то, что она стала натурфилософией; и если бы даже нам, ныне
живущим, возможно и дано было разрешить самим лишь малейшую
часть ясно познанной задачи, то это не может ничего доказывать
против истины идеи в ней самой, идеи, которая, даже если она опять
совершенно пропадет, неизбежно будет, однако, вновь и вновь
принимаема и наконец вполне осуществлена.
184
H. H. СТРАХОВ
Мир как целое
Предисловие ко второму изданию
Очень радуюсь, что пришлось вновь издавать эту книгу, вышедшую
в первый раз двадцать лет тому назад. Долго я не мог даже и думать,
что доживу до второго издания, — так медленно и неслышно
расходилась книга. Между тем время шло недаром; понемногу книга набрала
себе читателей, и притом достоинства, какие в ней нашлись, не падали
в их глазах, а все возвышались. С глубокою благодарностью вспоминаю
неожиданные для меня лестные отзывы, правда, почти все на словах,
а не в печати. К моему удивлению, наконец значение книги возросло
в моих собственных глазах; наполовину с отрадой, наполовину с
грустью мне пришлось убедиться, что лучше я ничего не писал. Итак,
очень радуюсь не только тому, что эта книга выдержала такое долгое
испытание, но и тому, что теперь могу с гораздо большею смелостью
просить к ней внимания читателей, чем в первый раз.
На себе самом мне довелось, таким образом, испытать некоторые
свойства научного движения. Первые листы этой книги писаны уже
более тридцати лет тому назад. Тогда, мне казалось, я видел ясно
направление, по которому идут и должны идти естественные науки, мне
мечтались великие успехи, и хотя я оставил специально-научное
поприще, все время, однако же, я, с великой любовью и постоянно боясь
не довольно верно узнать и не довольно точно понять, издали следил
за развитием естествознания, старался уяснять себе смысл его новых
шагов и все ждал успехов в том направлении, которое считал
единственно твердым и законным. Но случилось нечто очень меня поразившее:
несмотря на этот долгий срок, надежды мои почти вовсе не сбывались.
Иногда мне казалось, как будто на половине нашего столетия наука
вдруг остановилась и никак не может сдвинуться с точки, до которой
достигла.
Некоторые соображения по этому поводу считаю себя обязанным
представить на суд читателей. Если бы мои ожидания сбылись, если бы
предметы, которым посвящена настоящая книга, разрабатывались
и подвигались в науке, то как бы я осмелился явиться перед
читателями с этой книгой, написанной тридцать лет тому назад. Между тем
мне пришлось делать в ней кое-какие исправления, но не перемены,
сколько могу судить, нет мне причины бояться, что она в чем-нибудь
существенном отстала от науки или противоречит ее теперешнему состо-
Мир как целое
185
янию. Ибо то, что было вопросом, до сих пор остается вопросом, и то, что
предстояло исследовать, по-прежнему остается неисследованным.
Разгадка такого положения дела, конечно, прежде всего, состоит
в том, что книга моя занимается самыми общими предметами
естествознания, самыми основными его вопросами, а основы науки
обыкновенно или вовсе неизменны, или подвергаются лишь редким изменениям.
Можно бы предполагать поэтому, что в последние три-четыре
десятилетия естественные науки спокойно двигались по установившимся
путям, так что все множество ежедневно нарастающих исследований
не отнимает еще всякого значения у каких-нибудь давних рассуждений
о главных научных истинах. Но сказать этого, как известно читателям,
никак нельзя. Именно эти десятилетия были временем горячих споров
о самых основных вопросах изучения природы. Естественные науки
заняли в это время первое место в умственном движении, стремились
стать как бы философией или метафизикой наших дней и потому вели
упорную борьбу за то, что считали своими научными началами. В
настоящую минуту можно, однако же, видеть, что понимание этих начал
не сделало в это время никаких успехов, да и надежда на полное их
господство в умственном мире стала все больше оказываться несбыточной.
В движении естественных наук за это время следует различить две
их области: науки о мертвой природе и науки о живых телах. Первая
область, без сомнения, делала постоянные успехи, но именно потому,
что неизменно держится все тех же начал, установившихся еще со
времен Галилея1 и Декарта*2. Новым шагом в основных вопросах здесь
можно считать преимущественно закон сохранения энергии, который
утвердился в науке именно в последнее тридцатилетие. Поэтому к той
части моей книги, которая говорит о неорганической природе, я
должен был прибавить новую главу, где стараюсь изложить смысл этого
закона и показать его отношение к началам, принимавшимся до тех
пор в физике. Оказалось, что он составляет лишь расширение и
обобщение этих начал или окончательное подведение физики под приемы
теоретической механики.
Но к той части книги, которая говорит об органической природе,
мне не пришлось ничего прибавлять. Науки об организмах не только
Немудрено, следовательно, что мои рассуждения об этих началах не содержат никаких
анахронизмов. Гораздо новее и особеннее начала современной химии, и в последнее
время эта наука сделала огромный шаг с установлением периодической системы
элементов Менделеева. Если читатель обратит внимание на отдел настоящей
книги О простых телах, то, надеюсь, он найдет, однако же, что там не только
обсуждаются научные начала, имеющие силу до сих пор и уже твердо стоявшие
в тогдашней химии, но даже эти начала истолковываются, как мне думается, в том
самом направлении, в котором потом развивалась и развивается эта наука.
186
Я. Я. СТРАХОВ
не сделали никакого успеха в уяснении своих начал, а даже
утратили, конечно, на время, ясное понимание взглядов, которых достигли
в первую половину столетия. Обыкновенно величайшим успехом в этой
области считается утверждение учения о перерождении видов. Но
внимательный читатель увидит в моей книге те действительные основания,
на которых должно бы было опираться это учение, и поймет, что оно
утвердилось только благодаря тому, что изменило этим основаниям,
подставило ложную идею вместо истинной и таким образом обошло,
исказило весь вопрос, дало ему легкую и низменную постановку и тем
отняло у него его высокий и трудный смысл.
Учение Дарвина3 не есть успех в науке об организмах, а уклонение
от прямого пути, и, сколько бы любопытных частностей ни собрали
натуралисты на этой отводящей в сторону дороге, рано или поздно им
придется вернуться к правильным путям исследования и приняться снова
за великий труд, которого они думали избежать. Они должны будут
продолжать морфологическое исследование организмов, то есть
приводить к большому и большему совершенству естественную систему
животных и растений, а также разработать гомологии всех их органов
и, наконец, сравнительную историю развития и целых организмов,
и каждого их органа. В настоящее время, при господстве дарвинизма,
натуралисты не видят верховного значения этих исследований и
пренебрегают ими. Вообразим себе какой-нибудь ряд форм, последовательно
идущий в известном направлении. Дарвинист совершенно
довольствуется тем, что убедился в связи первой из этих форм с последней, да
притом довольствуется самым общим и поверхностным понятием об этой
связи. Точное определение переходов и ступеней его мало занимает,
потому что он предполагает здесь одну беспорядочную игру
случайностей. Между тем для правильно смотрящего на дело каждая ступень
здесь есть проявление зиждительного начала, строящего органические
формы; следовательно, всякий такой ряд форм полон глубочайшей
поучительности во всех своих частностях. Точно так же положим, что
мы нашли употребление какого-нибудь органа, значение известной
части для известного целого. Для дарвиниста это — случайная
целесообразность, не имеющая отношения к внутреннему развитию
организма; истинный же телеолог видит здесь то, как организм стремится
осуществить свою общую цель, видит ответ самостроящегося существа
на внешние возбуждения и обстоятельства. Таким образом, изучение
целесообразностей становится изучением органического творчества,
ведет нас к пониманию его средств, законов и сущности.
После этого читателям будет понятно, почему мне не нужно было
изменять своих рассуждений об органической жизни и дополнять их новой
главой. Дарвинизм, по-моему убеждению, есть заблуждение, которое
Мир как целое
187
можно поставить в один ряд со спиритизмом, бывшим в таком ходу
у натуралистов, и с учением о кривизне пространства и о возможности
в нем четвертого измерения, — этим пышнейшим цветком современного
эмпиризма. Кто принимает все это за новые шаги в нашем познании
природы, тот имеет право думать, что наш век совершил удивительнейшие
умственные подвиги, не только не ниже, а, пожалуй, выше открытий
Коперника4, Ньютона5 и подобных. Но для меня это были лишь
огромные научные уродливости, а не успехи знания. Они все имеют, кажется,
очень ясный общий характер, именно представляют порывание в
сторону от большой дороги и разрослись оттого, что произошла остановка
движения по прямому научному пути, как будто этот путь был чем-то
загорожен. Остановилось развитие научных начал, научных методов, —
вот истинный источник этих заблуждений нашего времени.
В настоящей книге читатель ничего не найдет об этих вопросах;
но я старался в них вникнуть и даже вел долгую полемику против
дарвинизма и спиритизма*, причем мне вышло счастье иметь дело
с натуралистами, ясно и сознательно державшимися этих учений.
Может быть, мне еще удастся изложить и те мысли, которые я вынес
из изучения новых теорий о пространстве. Таков был ход научных
явлений в это время, что, вместо усвоения новых истин, немало времени
пришлось потратить на то, чтобы защищаться самому и пытаться
защищать других от новых заблуждений.
Эмпиризм, отрицание умозрения — вот разгадка всяких остановок
и ненормальных развитии. Наш век хочет познавать, но упорно
отказывается мыслить, как будто боясь, что мышление разрушит начала,
на которых он строит свою жизнь, и возложит на него слишком
трудные задачи и обязанности. Все значение моей книги состоит в том, что
она идет против эмпиризма, пытается вносить мышление в приемы
изучения природы. Заранее прошу у читателя извинения за всякие
недостатки, которые он может здесь найти и которые отчасти мне
самому видны. Но я желаю стоять за одно в моей книге: за
философский метод ставить и развивать понятия. В этом методе вся тайна
умозрения. Чем кто способнее им владеет, тем больше он заслуживает
имени человека философствующего. Чем точнее и правильнее этот
метод прилагается, тем несомненнее озаряется всякий предмет
исследования. Читатель, может быть, не согласится со мной в каких-нибудь
частных случаях; но я твердо надеюсь, что он вынесет из этой книги
общее убеждение в необходимости философского метода в научных
построениях. Большей частью, правда, приемы метода здесь как бы
Полемика против дарвинизма помещена в книге Борьба с Западом, кн. 2, а спор
о спиритизме составляет предмет книги О вечных истинах.
188
H. H. СТРАХОВ
скрыты под формами исследуемого предмета; но такое слияние
предметов с методом мне всегда казалось самым увлекательным трудом
и самым лучшим средством неотразимо убедить и себя и читателя.
Исследование при этом может двигаться безгранично и во все стороны,
и в то же время будет постоянно иметь под собой твердую почву.
7 марта 1892. Н. Страхов
ПИСЬМО VI
Совершенствование — существенный признак организмов
Развитие убеждений. — Психическая жизнь как мера
совершенствования. — Орангутанг. — Травяные вши
Ван-Бенедена. — Деление Ламарка. — Инфузории. — Отсутствие
сна. — Оценка их движений. — Постепенное развитие психической
жизни в зародыше. — Растения и животные обладают одинаковою
жизнью. — Доказать это также трудно, как доказать существование
внешнего мира, души животных и людей или отличить сон
от бдения. — Единственный способ доказательства. —
Совершенствование и причинность. — Явление, само себя
производящее. — Геологическое развитие организмов. —
Головастик. — Развитие человека в чреве матери. —
Независимость свойств людей от внешних явлений
Каждый сколько-нибудь мыслящий человек, без сомнения, испытал
так называемые перевороты, переломы в своих мнениях. Настоящее
время особенно неблагоприятно для неподвижности, для
непоколебимых убеждений, при которых в течение целой жизни было бы возможно
невозмутимое никакими бурями спокойствие взгляда. Сверх того, кроме
сильных переворотов, сопровождаемых борьбой, разрушением старого
и принятием нового, мы непременно находим еще в себе постепенное,
незаметное изменение наших мнений, то мирное их развитие, без
которого невозможна никакая умственная жизнь.
Но какова бы ни была вся эта наша внутренняя история, сколько бы
раз мы ни изменяли свои мнения, заметьте, что мы свои последние
убеждения всегда предпочитаем всем прежним, всегда считаем их
лучше, выше, совершеннее. Как бы возвышен, нежен, сладок ни был наш
прежний взгляд на мир, как бы мрачны, узки, мертвящи ни были наши
последние убеждения, мы их считаем выше всяких светлых взглядов,
ближе к истине.
Таким образом, если представим себе ряд взглядов на мир,
сменяющих друг друга в том же человеке, то это не будет ряд однородных
Мир как целое
189
явлений, сменяющих одно другое, но это будет ряд ступеней, из которых
каждая выше всех предыдущих и которые ведут к последнему, самому
совершенному взгляду.
Итак, каждый из нас в своей умственной жизни непременно признает
ход вперед, совершенствование. Избежать этого признания
невозможно. Умственная же жизнь есть образец, чистейший и высочайший вид
развития вообще. Я уже говорил вам, что изучение природы нужно
начинать с изучения духа; здесь вы видите прямое подтверждение
этого правила. Между тем как в природе развитие является простой
сменой, по-видимому, однородных состояний, в духе эти состояния
ясно разнятся по своему достоинству и низшие сменяются высшими.
Отсюда, как видите, легко перейти и к физическому миру. Если
нашим душевным отправлениям с точностью соответствуют явления
нашего тела и если умственную жизнь зрелого мужа вы считаете
выше умственной жизни ребенка, то и тело мужа, его мозг и все другое
вы должны считать выше тела ребенка.
Как это ни просто, последовательный скептицизм и материализм
отвергают даже эти положения. Припомните слова нашего
замечательного мыслителя и художника Герцена6.
«С чего взяли, — говорит он, — что дети существуют для того,
чтобы стать взрослыми? Они существуют сами по себе, у них своя
особенная жизнь».
С того взяли, можно отвечать, что лучше быть взрослым, нежели
ребенком, и что в самой природе детей заключается необходимость
стать взрослыми.
Заметьте, между прочим, как глубоко должно быть отчаяние этого
взрослого человека, который пожелал, и пожелал не шутя, а
действительно, — поменяться своей жизнью с ребенком! Ведь он ставит и ту,
и другую жизнь наравне.
В отношении к животным я также ничем не могу лучше доказать
их разницу в достоинстве, их большее или меньшее совершенство,
как различают в их психической деятельности. Несмотря на то, что
человек имеет право смотреть с одинаковым высокомерием на ум всех
животных, между самими животными в этом отношении существует
громадная разница.
Приведу вам из Боатара7 описание убийства одного орангутана,
немножко напыщенное, но все-таки верное.
«Он был силен и защищался с большим мужеством. Он еще
сражался, когда в его теле было уже пять пуль, не считая ран,
нанесенных копьями. Наконец, ослабев от истечения крови, он, как Цезарь,
покорился своей злой участи, опустился на землю, положил руки
на глубокие раны, из которых ключом била кровь, и, умирая, бросил
190
H. H. СТРАХОВ
на нападающих взгляд, полный такой мольбы и скорби, что они были
тронуты до слез и раскаялись в том, что без необходимости убили
существо, столь сходное с ними самими» *.
В самом деле, легко понять, как резко могло здесь выступить
подобие человеческой жизни, хотя, конечно, не подобие Цезарю.
Впрочем, если у вас есть любимая собака, кошка, то вы знаете сами,
как понятна их жизнь; вы понимаете каждое движение, каждый звук
этих существ.
Не то с низшими животными. Нужно заметить, что здесь
обыкновенно господствуют самые преувеличенные и ложные понятия. Вместо того
чтобы следить за тем, как животная жизнь постепенно понижается,
исчезает, доходит до нуля, мы обыкновенно мысленно одушевляем всякое
животное, самое ничтожное и низкое, и смотрим на него не только как
на собаку, лошадь или слона, но даже прямо как на человека.
Чрезвычайно забавной показалась мне недавно статья Ван-
Бенедена**8, в которой он, говоря о травяных вшах и полипах,
беспрестанно употребляет выражения — тетка, сестра, мать, юность,
радость, лихорадочный восторг любви и т.д. Какая радость и юность
может существовать не только для травяных вшей и полипов, но даже,
например, для мухи, которая, когда ей оторвут голову, преспокойно
летает, потом садится, потирает задними лапками крылья и остается
на месте, вероятно, только потому, что ничего не видит и,
следовательно, находится в тех же условиях, как ночью? Как можно одинаковым
языком рассказывать ощущения человека и ощущения жука, который
преспокойно продолжает есть, между тем как ему самому другой жук
отъел половину брюха? Даже лягушка, животное относительно весьма
высокое, лягушка не прекращает совокупления, когда у нее сжигают
огнем задние лапы. Нет никакого сомнения, что это происходит не от
необычайной сладости акта любви, но прямо от слабости ощущений.
В этом отношении, очень важном, зоология почти ничего не сделала,
и ей предстоит еще далекий путь. Припомню здесь, как немаловажную
заслугу незабвенного Ламарка9, то, что он один вздумал разделить
животных по их психическим отправлениям. Если бы это деление
не было забыто и было сколько-нибудь уважаемо, как первая
попытка, — то без сомнения Ван-Бенеден не говорил бы таким странным
языком. Ламарк делил животное царство на три отдела — на животных
бесчувственных, куда относились, например, полипы, на животных
чувствующих, куда принадлежали, между прочим, насекомые, и на
животных понимающих, куда относились позвоночные животные.
* Boitard. Jardin des Plantes.
** L'Institut, 1859.
Мир как целое
191
Конечно, как начало деления, психическая деятельность
выбрана неудачно, но как необходимый и, в сущности, главный признак
она должна быть неизбежно принята.
Самые непростительные фантазии в этом отношении
господствуют в рассказах о мире инфузорий, этих чрезмерно малых
животных, которые видимы только в сильно увеличивающие микроскопы.
Натуралисты и составители популярных книг до сих пор потешают
читателей этими рассказами, не только не отличающимися
хваленой точностью естественных наук, но даже прямо стоящими наряду
со сказками.
«В капле воды, — говорят они, — вы находите целый мир существ.
Тут есть растения, образующие своего рода кусты и леса, и в этих
лесах разгуливают разные звери. Вы видите чудовищ странной формы,
с хоботами, зубами, хвостами. Некоторые, затаившись под растениями,
неподвижно подкарауливают свою добычу, другие весело и быстро
плавают, увертываются от неприятелей, бросаются на животных, иногда
таких же больших, как они сами, и жадно пожирают их».
На самом деле — чудеса! Цезарей и Брутов пока нет, но все-таки
перед нами картина каких-то морских разбойников и людоедов. Между
тем можно с достоверностью сказать, что все эти движения, которые
фантазия натуралистов покрыла яркими красками страстей, в
сущности, стоят даже ниже тех непроизвольных, бессознательных, не
остающихся в памяти движений, которые человек делает в глубоком сне.
Многие натуралисты, подобно тому жиду, который восхищался
конем быстрым, как муха, забывают, что при обсуждении движений
нужно принимать в расчет величину тела. Сказать, что инфузории
движутся быстро, — значит употребить более неверное выражение,
чем, например, сказать, что мухи, как орлы, носятся по комнате.
Быстрота, легкость и свобода движений лошади для нас удивительны
и прекрасны именно потому, что они принадлежат такой громадной
массе, как тело лошади. Муха же, хотя движется относительно своих
размеров довольно быстро, не удивляет нас своими движениями, точно
так, как не удивляет нас то, что она может ходить и сидеть на
потолке. Все это для нас понятно, потому что муха легка, в ней мало весу.
Общее правило в этом отношении то, что чем меньше весит тело, тем
легче для него движения, пропорциональные его размерам. Маленькое
животное, чтобы поразить нас своею быстротой, должно двигаться
несравненно быстрее, чем это соответствует его размерам.
Очень жалею, что мне невозможно здесь войти в чисто механические
соображения и показать формулами и цифрами справедливость и
применение этих положений. Позвольте хоть несколько строк. Тело вдвое
меньшее (по весу) для скорости вдвое меньшей (положим, по прямой
192
Я. Я. СТРАХОВ
линии) требует силы — не вдвое, а вчетверо меньшей. Тело, которое
втрое легче, для скорости втрое меньшей требует силы — в девять раз
меньшей, и т.д.
Вы видите, что при ничтожной малости инфузорий их движения,
хотя бы под микроскопом и казались соответственными их величине,
в сущности, ничтожны, если принять в расчет саму эту величину;
и уж ни в каком случае не могут быть названы быстрыми, не только
веселыми. В действительности это движения чрезвычайно вялые,
сонные, слабые.
Но этого еще мало. По всей вероятности, большая часть этих
движений непроизвольны. Малые тела вообще отличаются тем, что
в отношении к движению находятся в большой зависимости от
среды, в которой заключены. Воздух и вода пристают к их поверхности
и увлекают их при каждом своем движении. Замечали ли вы, как
падает снег при едва заметном ветре? Снежинки — то скачут в воздухе
и вверх и вниз, то описывают кривые линии, то медленно опускаются,
то вдруг отпрыгивают; одним словом, можно подумать, что они Бог
знает что такое делают, между тем как они просто падают. То же самое
можно сказать и об инфузориях. Малейшее движение в воде должно
непременно отражаться на них тем больше, что они сами устроены
чрезвычайно подвижно.
Чтобы доказать произвольность движений инфузорий, часто
ссылаются на то, что они уклоняются от препятствий, избегают встречи
с другими предметами. Признак очень шаткий. Вероятно, вам
случалось ловить в воде пальцами какой-нибудь маленький предмет, какую-
нибудь крошку, листочек и т.п. Они ускользают из-под пальцев точно
живые; очевидно — вода передаст им движение пальцев. Так точно вода
представляет сопротивление инфузории, приближающейся к какому-
нибудь предмету, и отталкивает ее от него.
Наиболее животный акт инфузорий есть, без сомнения, —
поглощение пищи, но и это поглощение, вероятно, совершается слепо,
бесчувственно; оно бесконечно далеко даже от действия новорожденного
ребенка, бессознательно ищущего и сосущего грудь.
Прибавлю, наконец, наблюдение, сделанное Эренбергом10,
знаменитейшим из наблюдателей над инфузориями. Он желал узнать,
спят ли инфузории или нет. Но в какое бы время и как бы внезапно
он ни подносил свет к своему микроскопу, он находил инфузорий
в том же движении, которое они всегда представляют. Животные,
которые никогда не спят! Факт весьма замечательный. Совершенно
ясно, что это непрерывное бдение служит вовсе не к чести инфузорий,
а, скорее, приближает их к тем предметам, которые никогда не спят
потому, что никогда не бодрствуют. Сон есть одно из важных животных
Мир как целое
193
явлений, он принадлежит к явлениям развития, потому что
представляет перемену в состоянии организма, притом перемену в высочайшем
его органе, в нервной системе. Нет сомнения, что необходимость сна
должна вытекать из самой сущности высокой нервной деятельности.
Если вы припомните притом, что инфузории имеют возможно
простейшее строение, что они подобны клеточкам и что отправления всегда
соответствуют строению, то убедитесь наконец вполне, что этот мир
мнимых чудес, несмотря на свою бесчисленность, есть действительно
темный, сонный и ничтожный мир.
Между этим миром и светлым миром человека находятся ступени,
представляемые различными классами животных.
Постепенное приближение животных к устройству, похожему на
человеческое, совершенно ясно указывается сравнительной анатомией.
Никто не станет сомневаться, что психическая деятельность животных,
соответственно их устройству, точно так же постепенно приближается
к человеческой. Найти и определить все ее ступени — есть труднейшая
задача, которую предстоит разрешить науке.
Любопытно здесь следующее. Я говорил вам, какая длинная
история происходит во чреве матери, когда из незаметной точки, из одной
клеточки, постепенно образуется новый человек. При этом он
принимает различные формы, и замечательно, что эти формы часто
напоминают низших животных. Например, бывает время, когда зародыш
представляет в своем устройстве много сходного с рыбой. Лягушки,
как вы уже знаете, бывают даже почти настоящими рыбами. Многие
преувеличивали это и говорили, что человек до рождения бывает
постепенно сперва одним животным, потом другим и т.д. Это
несправедливо, но сложность в устройстве зародыша действительно возрастает
совершенно так же, как она возрастает у разных животных, начиная
от инфузории до человека. Заключая от устройства к отправлению,
мы должны признать, что психическая деятельность в зародыше
проходит подобные же ступени, как во всем животном царстве, что,
например, в самом зачатке, в первом зародышевом пузырьке она еще
находится на степени инфузории. Что психическая жизнь во время
развития непременно существует, в этом нельзя сомневаться уже
потому, что цыпленок при конце развития сам пробивает свою скорлупу,
что теленок при самом рождении уже видит и не больше как через
полчаса встает на ноги. Если здесь психическая деятельность достигает
при конце такого ясного обнаружения, то при развитии она, очевидно,
находится только на низшей степени ясности.
Итак, нет сомнения в постепенном совершенствовании животных.
Мы сделали это заключение на основании развития психической жизни;
до сих пор, однако же, мы еще ничем не определили содержания этой
194
H. Н. СТРАХОВ
жизни и точно так же не полагали, что только в ней одной заметно или
возможно совершенствование.
Такое замечание нужно нам, когда из животрепещущего мира
животных мы вздумаем перейти к таинственному миру растений. Если
животные представляют нам загадку, то растения загадочны для нас
еще больше. «Растение есть животное, которое спит», — говорил
Бюффон п. Но, как мы уже заметили, спать может только то существо,
которое может бодрствовать; так что из знаменитого определения
должно удержать только мысль о том чрезвычайном сходстве между
растениями и животными, которое оно выражает так выпукло. С таким же
правом, как Бюффон, мы могли бы сказать, — растение есть мертвое
животное. В самом деле, известно, что у человека по смерти некоторое
время продолжают расти ногти, волосы; может быть, они
продолжали бы расти и более, если бы мускулы, нервы, словом, чисто животные
части не портились так скоро*.
Неопровергаемая, теснейшая аналогия существует между
растениями и животными. В человеке, в совершеннейшем животном, многие
части состоят из таких же клеточек, таких же пузырьков, из каких
состоят самые низшие растения, например плесень. Все другие части
животных, не похожие на клеточки, первоначально состоят из клеточек
и составляют их видоизменения. Размножение клеточек и их
дифференцирование, от которого зависит расчленение организма, совершенно
сходны в растительном и животном царстве. Наконец, раздвоение полов
есть также общая черта растений и животных.
Если мы самым совершенным возрастом человека считаем тот, когда
он обладает половой зрелостью, если период до этой зрелости и период
после нее мы считаем один — эпохой приготовления, а другой — эпохой
упадка, то мы не имеем никакого повода смотреть как-нибудь иначе
и на растения. Время цветения, время оплодотворения есть
совершеннейший возраст растения; цветок есть благороднейшая часть его.
Сделайте милость, не подумайте, что, уподобляя растения
животным, я хочу вам доказать существование души в растениях или даже
существование в них ощущений; от моих слов до подобных положений
очень далеко. Под названиями души и ощущений разумеются весьма
определенные понятия из мира человеческого, и, прежде всего,
нужно бы разобрать, можно ли с такими понятиями приступать к
рассмотрению растений. Конечно, я могу сказать, что у растений нет души
и ощущений в том смысле, в каком мы приписываем ощущения и душу
человеку, да что же из этого следует?
* Burdach К. F.12 Physiologie als Erfahrungswissenschaft, 2-te Aufl. 1838. Bd. III.
S. 180. Автор ссылается на наблюдения, которые делали Serres и Pariset.
Мир как целое
195
Очевидно, растения имеют глубочайшее, внутреннейшее сродство
с животными. На этом сродстве основана и главная часть того
эстетического впечатления, которое производят на нас цветы, деревья, лес.
Они представляют нам не только образ той жизни, которой мы живем,
но саму эту жизнь. Загляните в поэтов, и вы легко убедитесь в этом.
Пушкин приветствует Михайловские рощи:
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь13.
Тут нет и тени сравнений или метафор, это простой, точный язык.
Переход от животных к растениям, впрочем, нисколько не труднее
и не легче, чем переход от человека к животным или даже переход
от человека к внешнему миру, к другим людям. Почему вы верите,
что другие люди не автоматы, не призраки, являющиеся для того,
чтобы вас обманывать? Вы слышите слова, видите черты лица,
жесты, взгляды, но под эти слова, под эти черты, жесты и взгляды
вы подкладываете то, чего вы не видите и не слышите, но что хорошо
знаете по самому себе; за словами для вас существует смысл этих
слов, за жестами, за изменениями лица и взглядов вы
предполагаете чувство, желание, волнение. Большей частью ваши гипотезы
даже не точны, иногда совершенно ошибочны; вы отлично слышите
того, кто с вами говорит, отлично видите черты его лица; но смысл
его слов и свойства его ощущений и желаний вы узнаете только
приблизительно, а нередко вы совершенно извращаете и то и другое.
Вы извращаете именно потому, что вы сами из себя производите
и этот смысл, и эти ощущения и потом приписываете их тому, с кем
говорите.
Но если мы станем сомневаться в том, что люди, которых мы знаем,
действительно — люди, то с таким же правом можем усомниться и
вообще в существовании внешнего мира.
Вы видите очень ясно предметы, которые находятся в вашей
комнате, но вы ведь только видите — и существование тому, что видите,
приписываете сами. В самом деле, ведь вы видите предметы на тех самых
местах, где они находятся; но вас самих там нет, где они находятся;
следовательно, вы, сидя на вашем кресле, сами ставите их на то место,
где их видите. В вас происходит какая-то фантасмагория, центром
которой служит ваша голова, вы сами придаете существенность явлениям
этой фантасмагории.
196
H. Н. СТРАХОВ
Напрасно иногда говорят, что действительные предметы можно
осязать, ощупать. Зрение в этом отношении нисколько не ниже
осязания; когда мы видим, то мы точно так же убеждены в существовании
внешней действительной причины явления, хотя бы видели мираж
или отражение в зеркале. Но, во всяком случае, мы предполагаем эту
причину как внешнюю, доказать этого мы ничем не можем.
Точно так, как мы, однако же, не сомневаемся в действительности
внешнего мира и в одинаковой с нами сущности других людей, — точно
так не имеем права сомневаться в психической деятельности животных.
Точно так, наконец, мы не можем отрицать, что органическая жизнь,
проявляющаяся в животных, существенно принадлежит и растениям.
Мы становимся, таким образом, на самую обыкновенную точку
зрения, которая не требует доказательства для столь простых истин
и принимает их за аксиомы, за истины очевидные, которые даже
странно доказывать. Этим, однако же, я не хотел бы сказать, что
доказательство таких истин невозможно или что оно лишнее. Когда
обыкновенный смысл принимает их за неоспоримый, то в этом лишь
выражается уверенность человеческого ума, что несомненное
доказательство их вполне возможно. А когда мы задаем себе вопрос, на чем
основаны такие истины, то, очевидно, доказательство их необходимо.
Но это доказательство, это убеждение в них будет вовсе не похоже
на то, что обыкновенно разумеют под словом доказать, и в этом смысле
я говорил, что доказать их невозможно. В самом деле, доказать
существование внешнего мира и всего того содержания, которое заключает
в себе природа, можно только пониманием этого мира и его содержания.
Если мы поймем природу, то не будем в ней сомневаться, потому что
найдем самую ее сущность, ее смысл.
Часто говорится, что наша жизнь есть сон или мечта. Такие речи
очень обыкновенны, но в них больше значения, чем обыкновенно
полагают. В самом деле, здесь представляется довольно затруднительный
вопрос: каким образом человек отличает свое бодрственное состояние
от состояния сновидений? Припомните удивительный рассказ Гоголя
о страшном сне художника Черткова (со мною, а может быть и с вами,
бывали подобные явления). Вы помните, художнику виделось во сне,
что он два раза просыпался от ужаса, но при этом он только переходил
из одного сна в другой, только в третий раз он действительно проснулся.
Может быть, так и мы, когда мы просыпаемся, не переходим ли
мы просто из одного сна в другой? Не просыпаемся ли мы только во сне?
И если нет, то чем мы можем отличить сон от бодрствования?
На это возможен только один ответ: действительно, жизнь есть
сон, но сон со смыслом, сон, имеющий в себе такую цену и такое
значение, что нам не нужно действительности, если она есть где-нибудь
Мир как целое
197
за границами жизни. Таким образом, жизнь легко отличается от снов,
о которых справедливо сказано:
Когда же складны сны бывают?14
Если представить, что кто-нибудь доказал бы весьма точно
существование внешних предметов, то легко видеть, что, собственно говоря,
он доказал бы очень мало, почти ничего. Предметы существуют, но —
мало ли что существует? Существование, если можно так выразиться,
есть такое свойство, которое мы всего охотнее, всего легче приписываем
предметам. Вам скажут: в таком-то месте живет сто тысяч, миллион
людей; и вы не видите никакого повода сомневаться или колебаться.
Но когда не так еще давно пронеслись слухи, что где-то в Африке
видели двух человек с хвостами, то эти слухи возбудили справедливое
недоверие и сомнение. Тут представился вопрос: возможно ли, чтобы
у человека был хвост? Согласно ли это с природою человека?
Если вы относительно внешних предметов также спросите:
возможно ли их бытие? — то увидите, что здесь легко отвечать. Бытие
вообще есть самая возможная из всех возможностей. Другое дело, если
вы спросите: действительно ли внешний мир таков, как мы его видим?
Тогда можно ответить вам также вопросом: а каким он вам кажется?
Что вы нашли в нем? И тогда можно будет разбирать, возможно ли
и необходимо ли то, что содержится в ваших понятиях о внешнем мире.
Все это я привел здесь для того, чтобы показать вам, как мало
основательности и значения в том обыкновенном скептицизме, который
не решается ступить ни шагу в мышлении и познании, забывая, что
пока мысль остается в такой неподвижности, пока нет в ней никакого
содержания, — то не о чем и говорить, не в чем и сомневаться.
Не будет ничего дерзкого и далеко заходящего, если мы признаем,
что психическая деятельность животных подобна нашей человеческой
и что она постепенно понижается до инфузорий; если признаем, что
растительная жизнь однородна с животной. Дело в том, чтобы указать
содержание органической жизни, чтобы открыть ступени жизни
животной и показать необходимую их последовательность. Тогда и будет
совершенно ясно, что различное совершенство организмов и возможно,
и необходимо и что каждый организм должен проходить различные
степени этого совершенства, прежде чем достигнет полного своего развития.
Остановимся прежде на самом понятии совершенствование.
Чрезвычайно важно то, что это понятие несогласно с обыкновенным
понятием причинности, что совершенствование не может быть
объяснено как следствие совокупного действия каких-нибудь причин.
Рассмотреть такое положение тем важнее, что натуралисты подводят
198
H. Я. СТРАХОВ
все свои понятия о мире и его явлениях под понятия причины и
действия; привыкнув постоянно рассматривать предметы с этой точки
зрения, они приходят к непоколебимому убеждению в
действительности этих понятий, в том, что мир есть не что иное, как бесконечная
игра причин и действий.
Явление следует необходимо из своей причины; вот все, что
заключается в понятии причины. Какое явление произойдет, лучшее или
худшее, это все равно, закон причинности этого не определяет. Перед
ним все явления равны, потому что все равно необходимы, а больше
он ничего не говорит об них и ничего не может сказать.
Поэтому какие бы причины ни действовали на организм, мы не можем
найти в них никакого основания, почему бы от их действий организм
совершенствовался. Очевидно, совершенствование должно быть
приписано самому организму, он сам себя совершенствует. А сказать, что
какой-нибудь предмет сам себя изменяет, что явление само себя
производит , — значит вывести это явление из-под закона причинности. В самом
деле, здесь причина и действие не различаются, здесь они тожественны.
Заметьте, что здесь я не предлагаю какого-нибудь объяснения
явления, не делаю какой-нибудь гипотезы, а просто только стараюсь
определить его.
Представьте себе геологическую историю организмов. Появление
их на земле, которым обыкновенно так затрудняются натуралисты,
есть только первый факт этой миллионнолетней истории, но она вся,
на всем своем безмерном протяжении, состоит из фактов столько же
удивительных, столь же мало понятных. В самом деле, как бы мы ни
представляли эту последовательную смену организмов, мы ничем не можем
объяснить себе их постепенного совершенствования, их постепенного
восхождения к высочайшему организму — к человеку.
Внешние явления здесь ничего не объясняют. Нельзя приписать
совершенствование организмов действию кислорода, воды, теплоты и т.п.
В кислороде, воде, теплоте и проч. нет и не может быть ничего такого,
почему бы действие их должно было производить совершенствование
чего бы то ни было, действие их неизменно и слепо.
Перемены, которые претерпел земной шар, не были нарочно
произведены так, чтобы следствием их было совершенствование организмов,
эти перемены произошли по слепой необходимости. При действии
внешних влияний организмы могли усовершаться, могли и падать, — могли
вырождаться и вовсе исчезать. Следовательно, мы должны приписать
самим организмам стремление переходить в высшие формы. Внешние
влияния могли их изменять, но не в этих изменениях состоит сущность
их истории; переход в высшие формы — вот главное, и этот переход
зависел от них самих.
Мир как целое
199
Собственно говоря, при том понятии об организмах, которое ныне
распространено у натуралистов, геологические перевороты не только
не могут объяснить совершенствования организмов, но даже
прямо не согласны с этим понятием. Обыкновенно говорят: организм
устроен совершенно сообразно с теми условиями, в которых живет;
поставьте его в другие условия, — организм слабеет,
расстраивается, умирает. С такой точки зрения всякая перемена, совершавшаяся
с земным шаром, должна была неминуемо вести к вырождению, к из-
уродованию и уничтожению организмов, а не к высшему их развитию.
Следовательно, понимать таким образом организмы совершенно
несправедливо. Им нужно приписать способность не только
приспособляться к новым условиям, но даже совершенствоваться, несмотря
на условия, независимо от внешних влияний.
Я говорил уже вам прежде, что самые великие чудеса совершаются
прямо перед нашими глазами. Этот таинственный, сам себя
производящий процесс совершенствования можно наблюдать ежедневно.
Из головастика делается лягушка, из рыбы — четвероногое, из низшей
формы — высшая. Чем вы объясните такое превращение? Головастик
устроен в высочайшей степени сообразно с теми условиями, в которых
он живет. Внешние влияния, какие он претерпевает, действуют на него
точно так же, как на всякую маленькую рыбку; спрашивается, где же
можно найти причины, по которым он из одной формы жизни переходит
в другую? Очевидно — они заключаются в нем самом, а не во внешних
обстоятельствах. Сама жизнь есть не что-либо постоянное,
определенное, но именно стремление, именно способность существа отречься
от самого себя, чтобы перейти в новое, лучшее.
От головастиков позвольте перейти прямо к людям. Шаг, впрочем,
не особенно дерзкий. Я говорил уже, что человеческий зародыш в
известное время бывает почти столько же похож на рыбу, как головастик.
Не забудьте, что развитие человека я принимаю в истинном его
смысле, то есть как действительное прохождение всех степеней, начиная
от низшей, от клеточки или инфузории. Только так понимая развитие,
вы можете убедиться, какой это бесконечно таинственный,
бесконечно удивительный процесс. Удалите от себя также преувеличенное
и обыкновенное мнение о тесной связи матери с плодом. В сущности
дела, влияние матери на плод ничтожно. В курином яйце зародыш
приходит в развитие совершенно отдельно от матери; вы знаете, что
и присутствие курицы для этого не нужно, цыплят выводят в печах.
Почти точно так же чрево матери у человека служит как бы скорлупой
Для развивающегося дитяти. Следовательно, главную, существенную
роль в развитии играет сам зародыш, он сам достигает той формы, той
Деятельности, которую называют человеком.
200
Я. Н. СТРАХОВ
Тот же таинственный процесс продолжается и после рождения.
Здесь мы можем легче наблюдать его и потому можем точнее
убедиться во всей непостижимой глубине явления. Родился человек. Но кто
знает, что будет из него? Понятие человека вообще так безгранично,
что на такой вопрос отвечать невозможно. Из ребенка может выйти
великий художник, великий мыслитель, великий деятель, может
выйти Аристотель, Колумб или Шекспир — словом, один из тех людей,
которых называют благодетелями человечества. Может, разумеется,
выйти не только простой, обыкновенный человек, но даже и человек
совершенно ничтожный.
От каких же причин все это зависит? На этот вопрос обыкновенно
отвечают, не запинаясь: от воспитания, от обстоятельств частной
и исторической жизни, словом, от всевозможных влияний, только
не от самого человека. Но жестоко ошибаются те, которые дальше
такого взгляда ничего не видят. Не из обстоятельств проистекает величие
и достоинство человека.
Это подтверждает ежедневный опыт. Родился ребенок у достаточных
родителей — и вот они, веруя во всемогущество причин и действий,
приступают к нему с тем, чтобы различными действиями создать из
него такого человека, какого они хотят.
Наступают бесчисленные хлопоты: наставления, наказания,
награды, книги, учителя и пр., и пр. Наконец питомца везут путешествовать,
ему показывают все чудеса образованного мира и представляют весь
земной шар в полном его великолепии. Кто же не знает, какие иногда
результаты бывают следствием всего этого? Природа, как говорят, берет
свое. Часто, несмотря на все труды, причины не производят желаемого
действия: книги не дают мыслей, картины природы не дают
ощущений, и, вообще, все возможные действия на питомца не возбуждают
его самодеятельности, а нередко даже мешают ее развитию.
Совершенно ясно, что каждый человек может развиться только
тогда, когда развивает сам себя. Воспитание, образование — собственно,
не производят развития, а только дают ему возможность; они
открывают пути, но не ведут по ним. Идти вперед в своем развитии человек
может только на собственных ногах, в карете ехать нельзя. Уже давно,
когда египетский царь Птоломей попросил Эвклида облегчить для него
изучение геометрии, мудрец отвечал, что для царей здесь та же
дорога, как и для простолюдинов. Вы видите, что мы коснулись предмета,
который мог бы завлечь нас очень далеко. Чтобы поддержать мысль
о самостоятельности развития, можно привести многое. Замечу,
например, что так называемые образованные люди нередко совершенно
несправедливо ставят свое развитие выше развития необразованных.
Какое преимущество — говорить на нескольких языках и ни на одном
Мир как целое
201
не уметь хорошо говорить? Между тем в речи простолюдина можно
встретить и юмор, и воодушевление, и даже прекрасный музыкальный
склад. Какая польза — читать книги и, однако же, смотреть на мир
с крайнею тупостью? Есть много образованных людей, которые на все
явления смотрят только с точки зрения выгоды, еды, питья и подобного.
Этим понятиям, как самым существенным, у них подчинены все другие,
стоящие далеко на втором плане. Как высоко можно поставить над
такими людьми здравую душу простолюдина! Не говоря о нравственных
понятиях, — для него бывает живо обаяние природы, для него есть
наслаждение в песне, есть счастье в семье, словом, в нем может развиться
такое богатство душевных сокровищ, какого не дадут никакие книги,
профессора и путешествия. Таким образом, самое простое положение
не мешает развитию полного человеческого достоинства, и обратно: все
удобства богатства и образования не могут предохранить от душевной
уродливости, а нередко и ведут к ней.
Наша родина представляет нам много примеров самобытного
развития. Даже до последнего времени большая часть наших замечательных
людей — самоучки, люди, получившие в окружающей среде только
слабое указание, слабый толчок и сами создавшие свою деятельность.
Вспомните Ломоносова15, бегущего за обозом рыбы в Москву, — вот
образец многих наших деятелей. Давно ли злые языки старались
бросить тень на Гоголя16, указывая на то, что он был плохо образован?
Но недостаток образования есть вина среды, в которой воспитывался
Гоголь, а божественное пламя таланта есть его нераздельная слава.
И много великого еще ждем мы от нашей Руси, и ждем не от тех,
которые пишут французские стихи, не от людей, которые успели
из русских превратиться в отлично образованных англичан или немцев,
но именно от наших самоучек.
Вы знаете, что прямо противоположный взгляд на воспитание есть
господствующий. Так, г. Гончаров17 в своих романах изображает,
что воспитание совершенно создает человека. Обломов вышел таким
ленивцем вследствие воспитания в Обломовке; Штольц стал таким
умницей вследствие умного воспитания, данного отцом; наконец,
Софья Николаевна Беловодова вышла куклой, потому что с детства
все старались сделать ее куклой.
Так, однако же, никогда не бывает. Истинно человеческие, истинно
жизненные явления состоят не в слепом подчинении среде, а в выходе
из-под ее влияний, в развитии высшей жизни на ступенях низшей.
Таков характер человеческой жизни, таков характер жизни вообще,
жизни всех организмов.
1860, май
202
H. Я. СТРАХОВ
ПИСЬМО VII
Значение смерти
Отрицание нового. — Непрерывное обновление души и тела. —
Измерение обновления — кровообращением. — Птицы. —
Организмы как процессы изменяющиеся. — Они ограничены
и в пространстве, и во времени. — Вывод смерти
из совершенствования. — Зрелый возраст. — Мнение Шлейдена,
что у растений нет зрелости. — Наибольшая определенность
зрелости — у человека. — Пример — умственное развитие. —
Мудрость старцев. — Быстрота смерти как указание на ее смысл
«Что нового? Нет ли чего новенького?» Вот обыкновенные вопросы,
без которых не обходится почти ни одного разговора. Обыкновенные
вопросы указывают на обыкновенные желания, на постоянные
потребности. На первый взгляд можно, однако же, подумать, что тут нет
ничего важного, что мы стараемся только о раздражении и
удовлетворении пустого желания поговорить. Новым обыкновенно называют
то, что там-то был пожар, что Иван Петрович умер, Анна Петровна
вышла замуж и т.п. Чацкий говорит:
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два;
Тот сватался — успел, а тот дал промах18.
Очевидно, это новое есть повторение старого и не содержит в себе
ничего, кроме нового сочетания существенно тех же явлений. Вы
знаете, что так часто смотрят и на весь мир, и на все, что в нем бывает
нового. Для умов легких этот взгляд представляет забаву, как опора
для скептицизма и презрения. К такому скептику обращался Пушкин
в своем Вельможе:
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.
Но для умов глубоких, для людей, смотрящих на жизнь строго, так
сказать, религиозно, — ничего не может быть мучительнее, как
убеждение, что во всех наших новостях нет ничего нового. Между всеми
человеческими жалобами на жизнь трудно найти жалобу более безотрадную,
чем та, которую высказал Соломон и которая недаром стала всемирной
Мир как целое
203
поговоркой: «Что было, — говорит он, — то и будет; что делали
прежде, то будут делать и потом; что бы ни называли новым, все это уже
было, — все старое; нового нет под солнцем! Суета сует и все суета! »
В нас существует живое стремление к новому в самом строгом
смысле этого слова, — стремление к совершенно новому, неиспытанному,
неизведанному и потому беспредельно занимательному. Такое новое
действительно есть в человеческой жизни, оно составляет ее прелесть,
ее неисчерпаемую привлекательность. Если возьмем самую низшую
сферу нашей жизни, сферу простых впечатлений, ощущений,
возбуждаемых в нас чем бы то ни было, то мы с неотразимой ясностью убедимся
в присутствии нового в нашей жизни. Как мы ни любим обращаться
к старым ощущениям, как ни стараемся обратить наши наслаждения
в привычки, — время берет свое, и с каждым годом, с каждым днем
изменяется расположение нашего духа, изменяется сила и вкус всей
массы впечатлений внешнего и внутреннего мира, изменяется наш
взгляд на вещи, наши мысли и желания. Сколько жалоб расточали
поэты по поводу такого непостоянства человеческой природы! Между
тем самая сущность жизни лежит в этом непостоянстве. У одного из
наших поэтов встречается выражение чувства, которое поражает своей
невыносимой болезненностью и о котором сам поэт отзывается с ужасом:
Мне чувство каждое, и каждый новый лик,
И каждой страсти новое волненье —
Все кажется уже давно прожитый миг,
Все старого пустое повторенье.
И скука страшная лежит на дне души,
Меж тем как я внимаю с напряженьем,
Как тайный ход судьбы свершается в тиши,
И веет мне от жизни привиденьем19.
В самом деле, если бы жизнь остановилась на время, если бы
она вместо развития стала кругообразными оборотом, — то,
кажется, действительно она стала бы давящим кошмаром, неподвижным
и страшным привидением.
Заключая от наших психических явлений к явлениям телесным,
мы должны принять и для них непрерывную изменяемость; вместе
с развитием нашей души идет и развитие нашего мозга, а следовательно,
и всего остального тела. Точно так же каждый год, каждый день
приносит с собой перемены в теле; сегодня наше тело уже не то, что было
вчера; завтра оно опять незаметно изменится. У нас нет никаких причин
остановиться на каких-нибудь периодах в этих переменах; в строгом
смысле мы должны сказать, что каждый оборот крови, каждое биение
пульса уже не то, что предыдущий оборот, предыдущее биение.
204
H. H. СТРАХОВ
Таким образом, мы видим, что явлений настоящего, чистого
круговорота в жизни не бывает, точного, неизменного повторения жизнь
не терпит, она есть непрерывное обновление. Поэтому понимание жизни
только как круговорота — в высшей степени ошибочно.
Быстрота развития и обновления, если можно так сказать, —
пропорциональна количеству жизни. Чем выше организм, тем быстрее
и непрерывнее совершается его обновление. У высших животных можно
судить об этом по кровообращению. Кровь есть жидкость, служащая
для обновления всех частей тела. Как жидкость, она может быть легко
передвигаема по всему телу, легко вбирает в себя всякие другие
жидкости и легко отдает органам свои составные части. Сама кровь притом
есть живой орган, живая часть нашего тела; она сама беспрерывно
обновляется, приходя в прикосновение с внешними влияниями —
с воздухом в легких и с пищей в кишках. Воздух и пища — суть самые
существенные материальные влияния на организм; кровь — самый
изменчивый из всех органов, наиболее развивающаяся и обновляющаяся
часть тела. Движение крови имеет целью сообщить это развитие и
обновление другим частям тела. Следовательно, по быстроте кровообращения
и по соответственной потребности пищи и дыхания можно заключать
о быстроте обновления тела. У высших животных — у
млекопитающих, к которым принадлежит человек, и у птиц — кровообращение,
питание и дыхание достигают наибольшей энергии; и, следовательно,
несмотря на видимое постоянство формы, это суть самые изменчивые,
наискорее обновляющиеся организмы. Потому-то эти животные менее
всех других способны выносить лишение воздуха и пищи.
Замечательно, что птицы, хотя не много, но все-таки превосходят
млекопитающих и быстротой кровообращения, и теплотой тела,
которая также в связи с кровью. Но птицы, вообще, представляют класс
животных особенно замечательный. Птицы, без всякого сомнения, —
красивейшие между всеми животными. Они так красивы, что крылья,
взятые от них и приданные человеческой форме, кажется нам,
украшают эту форму и не только не дают ей ничего животно-подобного,
но как будто возвышают ее над обыкновенным человеческим образом.
Грация форм, легкость движений, дар пения — все это
свидетельствует, что птицы — организмы высоко поставленные, что в них природа
дошла до границ в своем стремлении осуществить идею животного
в известном направлении. И в самом деле, если бы животное должно
было представлять существо только самостоятельно подвижное,
независимое от места, то птицы всего полнее удовлетворяли бы такому
идеалу. Произвольное передвижение есть одна из существеннейших
черт животного, и вот почему так высоко стоят птицы. Но
передвижением не исчерпывается сущность животного, другие, более важные
Мир как целое
205
ее черты осуществляются в классе млекопитающих, и потому только
здесь животные достигают своего полного совершенства — человеческой
формы. Для ясности прибавлю, что птицы имеют явный недостаток —
у них мала голова и, следовательно, мал мозг. Природа пожертвовала
в них головой крыльям, которым так завидует человек; по законам
механики, чтобы полет имел легкость и свободу, голова не должна
иметь значительной величины.
Все это я привел для того, чтобы показать, что беспрерывное
обновление тела есть знак высокой организации, что изменение организма
принадлежит к самой сущности жизни.
Таким образом, в организме мы не должны предполагать ничего
постоянного: в нем все течет, все преобразуется. Не только
изменяется вещество, из которого он состоит, не только нет в нем неизменно
присущей силы, но и самая форма тела, и самые явления, в нем
происходящие, подвержены беспрерывному изменению.
Итак, организмы должны быть понимаемы, как предметы
существенно временные, то есть не как тела, но, скорее, как процессы. Притом
они суть процессы изменяющиеся, и по тому самому они ограничены
во времени, имеют начало и конец. В самом деле, если представим себе
процесс постоянный, не изменяющийся, то нет никакой причины,
почему бы он не мог продолжаться без конца, безгранично. Так прямая
линия не имеет определенной величины. Но если процесс
изменяется, то он легко может представлять определенное продолжение. Так
круговая линия, как линия, изменяющая свое направление, имеет
определенную длину, зависящую именно от того, по какому закону
и в какой степени направление ее изменяется.
Мы видим здесь существенное различие между организмами и
телами неорганическими. Мертвые тела ограничены только в пространстве,
но не во времени. Так, например, кусок золота занимает в пространстве
совершенно определенный объем, имеет точные пределы, но он не имеет
совершенно никакого отношения к времени. По случайным причинам
он может тотчас же быть разрушен, но он может сохраняться, оставаясь
тем же куском золота, — целые века, целые тысячелетия или,
употребляя техническое выражение химиков, неопределенно долгое время.
Во времени мертвые тела не имеют пределов, ничем не ограничены.
Не забудьте, что такая неопределенность есть явное несовершенство,
потому что определенность в пространстве есть очевидное
совершенство вещественного предмета. В самом деле, только вследствие своей
определенности в пространстве каждое тело существует как особое,
самостоятельное тело, отличное от других, без пределов не было бы
и тела, беспредельность свойственна только пространству, то есть
протяжению, ничего в самом себе не содержащему.
206
H. H. СТРАХОВ
Организмы не только ограничены в пространстве, но имеют еще
другое совершенство, т.е. ограничены и во времени; зачатие и смерть — вот
пределы, между которыми заключается жизнь, заключается столь же
строго и точно, как сущность мертвого тела заключена в
пространственных его границах. Таким образом, процесс каждого органического
тела делается особым, определенным, заключенным в себе процессом;
неопределенное продолжение свойственно только времени, то есть
процессу совершенно пустому, в котором мы ничего не полагаем.
Мертвые тела не имеют границ во времени именно потому, что
не представляют содержания, которое бы могло заключаться в этих
границах; они не имеют жизни, а потому не представляют и рождения
и смерти. Каждое мгновение мертвое тело существует вполне; оно
не имеет исхода, потому что никуда не идет, для него время ничего
не значит, потому что оно ничего не совершает; оно не имеет конца,
потому что никуда не стремится, ничего не достигает.
Чтобы убедить вас вполне, что ограниченность во времени есть
действительно совершенство, а не недостаток организмов, я попробую
подробнее сравнить их с мертвыми телами — и сначала в отношении
к пространству.
Организмы отличаются тем, что не только имеют пределы в
пространстве, но и представляют определенную величину, известный рост.
Кусок золота или даже кристалл кварца — не имеют ничего
определенного в величине; и как бы они велики и малы ни были, они все будут
тем же куском золота или кристаллом кварца. Человек имеет
известные границы для своего роста; если исключить уродливости, то легко
указать, что он не может быть меньше одних размеров, больше других;
высшая граница проведена особенно резко: человек не может
увеличиваться значительно больше обыкновенного высокого роста. При самом
возрастании при увеличении размеров не все равно, мал человек или
велик. Маленький человек — дитя, взрослый человек — муж.
Определенная величина организмов не есть что-либо произвольное
или случайное; она существенно зависит от самого их строения, от тех
отправлений, которые должны в них совершаться. В наших мечтах,
в игре нашей фантазии мы легко создаем крошечных лилипутов или
гигантов семи пядей по лбу, но по законам действительности подобные
существа невозможны. Предмет этот очень интересен, и я возвращусь
к нему впоследствии, а теперь хотел только заметить, что
определенность величины организмов есть их существенное свойство.
Но еще далее — они имеют не только границы вообще, не только
границы размеров, но они и внутри разграничены, они имеют
определенные части. В куске золота, переходя от одной точки к другой,
вы везде встречаете одно и то же золото. В организмах вы на определен-
Мир как целое
207
ных местах встречаете определенные части, определенные потому, что
они отличны одна от другой и что размеры их так же ограничены, как
и размеры целых организмов. Эти части называются органами,
орудиями, и от них и произошло многозначительное название организма.
Возьмите теперь организм в отношении ко времени, и вы
найдете то же самое. Не только жизнь организма имеет вообще пределы,
но для каждого организма продолжительность жизни имеет
определенную величину. В неорганической природе нет никакого следа
подобного ограничения. Не только жизнь имеет пределы, но и части
ее ограничены; жизнь распадается на части, которых порядок и
продолжительность не менее определенны, как и расположение и размеры
органов тела. Так точно, как переходя от поверхности тела до мозга
и от мозга до костей*, от рта до сердца и от сердца до волосных
сосудов, мы встречаем в пространстве тела множество определенных
частей, — так, переходя от зачатия к возмужалости и от возмужалости
к дряхлости, мы находим в каждой части времени известные периоды,
определенные перевороты, своей совокупностью так же составляющие
жизнь, как совокупность органов составляет тело.
Величина тела, как я уже сказал, зависит от значения органов,
от их отправлений, совершенно так же продолжительность жизни
зависит от содержания периодов, ее составляющих; как границы тела
вмещают в себя столько вещества, сколько нужно для организма, так
и границы жизни соразмерны с ее содержанием.
Органы тела не одинаковы по своему достоинству: одни более
важны, другие менее; одни главные, другие подчиненные. Для органов
растительной жизни центром служит сердце; растительная жизнь
в животных вполне подчинена животной жизни; центр животной
жизни, и потому всего тела, составляет нервная система; центр же самой
нервной системы есть головной мозг.
Точно так и между периодами жизни есть разница в значении.
Период утробной жизни весь состоит из низших явлений, из развития
чисто растительного и животного. После рождения постепенно берут
верх человеческие проявления; период мужества есть настоящий центр
жизни, и притом центр во всех отношениях, — ив животном, и в
растительном, и даже в чисто материальном. Известно, что, при строго
нормальном развитии, вес и даже вышина роста достигают наибольшей
величины во время мужества; старость сопровождается отощанием
и даже иногда небольшим понижением роста.
Обыкновенно мозг воображают внутри костей, но мозг костей или костный
мозг нужно отличать от настоящего мозга (в голове и спинном хребте), действие
которого на кости (движение их) совершается через нервы и мускулы.
208
Я. Н. СТРАХОВ
Изо всего этого вы видите, что организмы, как существа временные,
представляют, так сказать, известную организацию во времени, подобно
тому как они представляют организацию в пространстве.
Повторю еще раз — кусок золота, как бы он велик или мал ни был,
остается тем же куском золота, притом он может существовать сколько
угодно времени. Напротив, каждый организм имеет определенную
величину и может существовать только определенный срок жизни.
Эта разница происходит от того, что золото снаружи представляет
совершенно то же, что внутри, и сегодня то же, что через сто лет; в
организме же есть внутреннее строение, есть централизация, от которой
зависит его величина; и есть развитие, перевороты, периоды, от
которых зависит срок жизни.
Вы видите, что я совершенно справедливо называл смерть одним
из совершенств организмов, одним из преимуществ их над мертвою
природою.
Смерть — это финал оперы, последняя сцена драмы; как
художественное произведение не может тянуться без конца, но само собою
обособляется и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет
пределы. В этом выражается их глубокая сущность, гармония и
красота, свойственная их жизни.
Если бы опера была только совокупностью звуков, то она могла бы
продолжаться без конца; если бы поэма была только набором словом,
то она также не могла бы иметь никакого естественного предела.
Но смысл оперы и поэмы, их существенное содержание требуют
финала и заключения.
Если то же самое бывает и в организмах, то спрашивается, в чем же
состоит это содержание? И действительно ли финал необходимо
требуется этим содержанием? Другими словами — закон, по которому
совершается жизнь, действительно ли таков, что жизнь должна
смыкаться в границы, подобно тому как круговая линия или эллипс не идут
беспредельно, но, сообразно с законом, по которому изменяется их
направление, образуют законченное целое?
И здесь, как и везде, форма зависит от содержания, границы от
сущности, наружное от внутреннего, то, что видимо и осязаемо, от того,
что скрыто в самых глубоких недрах.
Закон жизни, как я уже сказал, есть совершенствование, то есть
движение жизни есть не что иное, как переход от низшего состояния
к высшему. Уже из этого простого определения видно, что это движение
не может идти без конца. В самом деле, что бы мы ни разумели под
совершенством, какое бы понятие мы ни имели об идеале, к достижению
которого природа стремится в организмах, — мы не можем полагать,
что совершенствование идет без конца и предела. Понятие о бесконеч-
Мир как целое
209
ном совершенствовании невозможно, то есть оно заключает в самом
себе непримиримое противоречие.
Действительно, представьте себе совершенствование без конца,
то есть представьте себе ряд степеней, идущий беспредельно, из которых
каждая степень выше предыдущей и ниже последующей, — и вы
увидите, что самое понятие о совершенствовании разрушится и исчезнет.
В самом деле, тогда мы должны будем принять, что совершенного или
идеала нет, что совершенство в полном смысле слова не существует.
Так, когда говорят, что параллельные линии пересекаются на
бесконечном расстоянии, то это значит, что пересечение их вовсе не бывает.
Притом если совершенство недостижимо, то каждая степень к нему
равно далека от цели; следовательно, разница между степенями не
существует. Так, в прямой линии, какую бы точку мы ни взяли, мы
должны сказать, что она так же далека от конца линии, как и всякая другая
точка; подвигаясь от одной точки к другой, мы не можем утверждать,
что приближаемся к концу, так как конца у прямой линии вовсе нет.
Так точно, — переходя от одной степени к другой в бесконечном ряду
степеней, мы не можем сказать, что мы от степени менее совершенной
переходим к более совершенной; все степени, очевидно, будут равны,
одинаково несовершенны, одинаково далеки от совершенства.
Вообще, так как единственной мерой совершенствования может
быть только самое совершенство или идеал, то утверждая, что эта
мера недостижима, следовательно, бесконечна, мы вместе лишаем себя
всякой возможности понимать совершенствование.
Возьмем самый простой пример — рост человека. Мы можем
судить о росте потому, что знаем его меру — нормальный рост человека.
Поэтому мы говорим: у него прекрасный рост, он — высокого роста,
его рост — слишком мал и т.д. Но представим, что рост человека
не имел бы границ; тогда подобные суждения были бы совершенно
невозможны, не было бы ни слишком большого, ни слишком малого
роста; вообще не было бы взрослых людей, а все были бы только
подростки, то есть все считались бы одинаково малыми, и всякий великан
был бы пигмеем в сравнении с другим великаном. Следовательно,
никого нельзя бы было называть ни великанами, ни пигмеями.
Известно, что человеческий ум любит предположения такого
рода; он любит измерять предметы великой мерой — бесконечностью.
Поэтому часто говорят: нет ничего ни великого, ни малого; как бы что
ни было велико, есть вещи в тысячу раз больше; наоборот — каждая
пылинка, может быть, есть целый мир, наполненный чудесами. Свифт20
в «Гулливеровом путешествии» и Вольтер21 в своем «Микромегасе»
фантазировали на эту тему. У Вольтера Микромегас имеет сто
двадцать тысяч футов вышины, и Вольтер замечает, что это прекрасный
210
H. Я. СТРАХОВ
рост. Лейбниц в одном из своих писем идет еще дальше: он воображает
великана столь большого, что солнечная система могла бы служить
для него карманными часами.
Если в подобных соображениях мы находим что-то неожиданное
и странное, то это происходит именно оттого, что здесь только
изменяется точка зрения на предметы, а между тем мы чувствуем, что теряем
возможность судить об этих предметах.
Как скоро мы все меряем бесконечностью, то исчезает всякая мера.
Следовательно, если хотим мерить, если желаем судить о предметах,
то, очевидно, должны взять другую меру, определенную, конечную.
И если бы такой меры не существовало, то мир был бы хаосом, о
котором невозможно бы было мыслить, потому-то мы так убеждены, что
все в нем устроено по мере, числу и весу.
Так точно, как для каждого организма есть определенный рост,
и, вообще говоря, тем определеннее, чем выше организм, — так точно
для каждого организма есть эпоха совершенства, эпоха достижения
того идеала, к которому идет совершенствование организма. Когда
мы говорим о ребенке: как он вырос! — то разумеем под этим
приближение к нормальному человеческому росту. Так точно, замечая
вообще развитие каждого организма, мы измеряем его большим или
меньшим приближением к полному развитию, к эпохе совершенства.
Действительно, существенная, главная черта организмов состоит
в том, что каждый организм имеет эпоху зрелости, зрелый возраст. Эту
эпоху можно назвать центром жизни во времени, центральною частью
жизни, точно так как в пространстве центральной частью животного
мы называем нервную систему.
Вы видите, что эпоха зрелости есть необходимая принадлежность
каждого организма, каждого развития, что она следует из самого
понятия развития или совершенствования. Поэтому очень странно,
что Шлейден22, знаменитый ботаник, особенно много трудившийся
над изучением развития растений, держится, однако же, мнения, что
будто растения никогда не имеют зрелости. Он считает
существеннейшим различием животной жизни от растительной то, что у
животных есть зрелый возраст, а растение в каждый момент своей жизни
есть часть самого себя и таким образом представляет непрерывную
метаморфозу*.
Очевидно, Шлейден впал здесь в явное преувеличение; это
произошло оттого, что ему хотелось выставить как можно ярче важность
изучения развития для растений; если у них нет зрелого возраста,
то вместе с тем нет возраста, который нужно бы было изучать по пре-
* Schleiden M. Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik, I Bd. S. 64, 141 след.
Мир как целое
211
имуществу у чтобы знать растение, нужно равно изучить все его
возрасты, все эпохи развития.
Тем не менее в замечании Шлейдена есть и вторая сторона; именно,
нельзя отрицать, что в растениях эпоха зрелости представляет менее
определенности и менее ярко выступает, чем у животных. Но такая
меньшая определенность, такое менее заметное сосредоточение жизни
есть общий признак не растений, а вообще низших организмов, а
следовательно, и низших животных. И у низших животных исследователи,
как известно, приходят в большое затруднение, когда требуется
определить эпоху зрелости. Заключить отсюда, что у них вовсе нет зрелости,
было бы очень несправедливо, точно так, как несправедливо бы было
от отсутствия высших проявлений произвола и ощущения заключать
о совершенном отсутствии всякого ощущения и произвола.
Человек, как высший организм, представляет высший образец
жизненного развития, у него эпоха зрелости обнаруживается ясно
и определенно. Часто в продолжение десяти, даже двадцати лет зрелого
возраста мы не замечаем почти никакого различия, производимого
годами; все силы телесные и душевные достигают наибольшей
энергии и действуют в полной гармонии; характер, образ мыслей, голос,
движения и пр. — все определяется, теряет подвижность и шаткость,
свойственные юности, и принимает неизменные формы. Очевидно,
организм достиг полного своего раскрытия; он не изменяется, он
держится на этой высоте именно потому, что выше подняться уже не может.
Так что когда начинаются изменения, когда неостанавливающееся
движение жизни производит в организм новые явления, то эти новые
явления уже не могут быть ходом вперед; они необходимо представляют
понижение, упадок; они ведут к дряхлости и смерти.
Вы видите, что организмы подчинены следующей неизбежной
дилемме:
Если бы какой-нибудь организм мог совершенствоваться без конца,
то он никогда бы не достигал зрелого возраста и полного раскрытия
своих сил; он постоянно был бы только подростком, существом, которое
постоянно растет и которому никогда не суждено вырасти.
Если бы организм в эпоху своей зрелости стал вдруг неизменным,
следовательно, представлял бы только повторяющиеся явления,
то в нем прекратилось бы развитие, в нем не происходило бы ничего
нового, следовательно, не могло бы быть жизни.
Итак, одряхление и смерть есть необходимое следствие
органического развития, они вытекают из самого понятия развития.
Вот те общие понятия и соображения, которые объясняют значение
смерти. Они требуют, без сомнения, более частных подтверждений,
более отчетливого развития. Под именем совершенного мы разумеем
212
H. H. СТРАХОВ
вообще нечто хорошее, но спрашивается, что именно? Действительно ли
содержание жизни таково, что достижение его может быть названо
совершенствованием? Силы и явления организма действительно ли таковы,
что способны к полному раскрытию, а не к безграничному увеличению?
Одним словом, чем полнее и глубже мы будем понимать жизнь, тем
более должно уясняться значение смерти, тем резче должна выступать
ее необходимость.
Возьму пример из той области развития, которая выше всех других,
но в то же время доступнее и понятнее всех других, именно из области
умственного развития.
Постепенное расширение наших познаний, постепенное уяснение
нашего взгляда на мир, более и более глубокое понимание всего нас
окружающего — есть, без сомнения, совершенствование. Деятельность
ума есть наиболее самосознательная из всех деятельностей. Движение
ума производится самим же умом и направляется по выбору самого
ума. Переходя от одного взгляда к другому, ум имеет перед глазами
оба взгляда и свободно, на основании непринужденного суждения,
оставляет один взгляд и принимает другой. При таком ходе вперед
ничто не теряется из виду, в каждую минуту все прежние убеждения
и понятия могут быть вызваны налицо и, следовательно, сохраняют
всю свою силу, так что покоряются новым понятиям только вследствие
действительно большей силы этих новых понятий. Ум, как известно,
есть верховный судья в своем деле; всякий авторитет он, по самой
своей сущности, может признать только свободно, сознательно,
следовательно, он сам для себя необходимо составляет высший авторитет.
Итак, здесь менее, чем в чем-нибудь другом, возможен скептицизм;
нельзя различные степени умственной жизни считать за пустую игру
перемен, за не имеющую смысла смену состояний, хотя различных,
но равно далеких от истины.
Но представим себе, что это совершенствование не имеет конца,
что понимание мира, постижение сущности того, что нас окружает,
изменяется беспредельно. Тогда, действительно, мысль о
совершенствовании исчезнет. В самом деле, тогда, сколько бы человек ни трудился,
сколько бы ни расширял свои познания и ни углублял свое
понимание, он постоянно будет оставаться недоученным и не додумавшимся,
никогда не перестанет быть невеждою и тупоумным. Век живи, век
учись, а дураком умрешь. Так насмешливый русский ум выразил этот
безотрадный взгляд на умственное развитие. Прямое следствие этой
пословицы, конечно, то, что незачем и учиться.
Если же мы учимся или вообще если заботимся о нашем умственном
развитии, то это основано на уверенности, что мы можем достигнуть
настоящего, зрелого понимания вещей. Только ввиду этой цели,
Мир как целое
213
в надежде достигнуть нормальной, полной умственной деятельности
мы предаемся всевозможным усилиям и разнообразным занятиям.
Мы готовы сто раз изменить наши мнения, готовы ежеминутно
подвергать их критике и строгому исследованию никак не с тем, чтобы
жить в каком-то вечном круговороте, но именно для того, чтобы
достигнуть наконец твердых, вполне отчетливых убеждений, которых
не может сломить уже никакая критика. Таким образом, мы уверены,
что можем выучиться, просветить свой ум, можем стать людьми
сведущими, глубоко понимающими то, что нас окружает. Одним словом,
для ума мы также ждем эпохи мужества, эпохи полного самообладания
и независимой твердости. Таинственные познания, недоступные
понятия, — куда бы вы их ни поместили, в отдаленную древность или
в далекое будущее, — всегда будут для ума чуждым и стесняющим
авторитетом, несносным насилием.
Вот почему от человека, вполне развитого, мы требуем как долга,
как исполнения нравственной обязанности, — известной полноты
убеждений. Он должен сам определить свои отношения ко всем
важным вопросам, как бы они важны ни были. Мы даем ему на это право
и виним его, если он не способен воспользоваться этим правом.
Итак, ум неизбежно добивается права судить обо всем, — права
совершеннолетия, и все его усилия основаны на уверенности, что
он может достигнуть этой цели. Положим теперь, что умственная
деятельность достигла зрелости, взгляд на вещи определился,
миросозерцание приобрело полноту, стройность и отчетливость; мысль
утратила всякое колебание, всякую неуверенность и может произносить
самостоятельное и твердое суждение.
Но — дальше идти некуда. Не забудьте, идти дальше — значит
отказаться от совершеннолетия, опять стремиться, опять считать себя
не умеющим судить, опять добиваться самостоятельности суждения.
Следовательно, если у нас было истинное совершеннолетие, законная
самостоятельность, то — движение вперед, вверх невозможно.
А между тем движение неизбежно. Взгляд становится определеннее,
отчетливее и вместе ограниченнее, уже. Случается, что ясно выступает
непримиримое противоречие: с одной стороны, чувствуется
невозможность отступить от начал, которые добыты целой жизнью и в истинности
которых нет сомнения; с другой стороны — сознание ограниченности
и, следовательно, ложности в выводах, в частных развитиях взгляда.
Какой же здесь выход?
Заметим, что умственное развитие, как самое чистое и сильное,
достигает зрелости после всех других развивающихся сторон, что оно
держится всего упорнее на своей наибольшей высоте, так что
умственная дряхлость наступает позже ослабления всех других деятельностей.
214
Я Я. СТРАХОВ
Как бы ни были печальны другие признаки старости в нашем теле
и в нашей душе, ничего не может быть грустнее и для нас самих, и для
других, как старость ума. Но ум сам себе светит и потому бережет свой свет
так старательно и так долго, как никакая другая сила организма.
Вот почему при высокой умственной деятельности ум остается
светлым и сильным до глубокой старости, почти до последних ее минут, так
что человек не переживает своего ума. На этом основано справедливое
мнение о мудрости старцев, убеждение в том, что развитие их
умственной жизни не падает и в глубокой старости. Если же старики нередко
возбуждают неприязнь своими рассуждениями, то едва ли справедливо
обвинять при этом их ум; он, вероятно, еще способен действовать не
хуже, чем в их молодые годы, если же не действует, то только потому, что
иногда не имеет власти, что власть принадлежит страстям, привычкам,
всему грубому осадку, долгой жизни, всей ее низшей сфере.
Вообще, смерть замечательна своей быстротою, она быстро
низводит организм от состояния деятельности и силы к простому гниению.
Как медленно растет и развивается человек! И как быстро по большей
части он исчезает!
Причина этой скорости заключается именно в высокой
организации человека, в самом превосходстве его развития. Высокий организм
не терпит никакого значительного нарушения своих отправлений, тогда
как низшие организмы не уничтожаются при самых сильных изуродо-
ваниях. Есть животные, которых можно резать на части, — и каждая
часть останется живой.
Высокое и стройное развитие не терпит понижения, поэтому
понижение обнаруживается как трагический удар, разрушающий все
здание организма.
С этой точки зрения смерть есть великое благо. Жизнь наша
ограничена именно потому, что мы способны дожить до чего-нибудь, что
можем стать вполне человеком, смерть же не дает нам пережить себя.
1860, сект.
Н.П.ИЛЬИН
Последняя тайна природы.
О книге «Мир как целое» и ее авторе
<Фрагменты>
«Жажду жизни» в ее самом элементарном, стихийном проявлении
обычно называют животной жаждой, как называют животным и наш
ужас перед смертью, опять-таки в самом примитивном,
биологическом смысле. Здесь человек проявляет себя в качестве животного.
И в этом нет ничего ненормального, так как человек есть животное.
Это положение Страхов ставит в заглавие своего первого письма,
с которого начинается «Мир как целое», и ставит как несомненную
естественнонаучную истину. Несомненную особенно в силу того,
что ученые-натуралисты вовсе не пытались доказать ее во что бы
то ни стало. Напротив, «история зоологии представляет длинный
ряд попыток удалить как-нибудь человека от животных, найти между
ними более глубокое отличие»*. Более глубокое в том смысле, что
животный мир вообще обнаруживает внутри себя «глубокие,
поразительные отличия» **.
Отметим весьма нетривиальное отношение Страхова к результатам
естественных наук. Важный признак достоверности и особой
значимости этих результатов (конечно, взятых не изолированно, а во всей
их совокупности) Страхов видит в том, что ученые получают в итоге
тщательного исследования не то, что хотели бы получить. И эта,
звучавшая парадоксом в его время, точка зрения вполне согласуется с тем,
что говорит современная теория научного знания о роли так называемых
«аномалий» (то есть фактов, которые не вписываются в систему
господствующих представлений) в радикальной смене научных парадигм***.
Мир как целое. С. 11. Эта и дальнейшие цитаты приведены по изданию 1892 г.
Там же. С. 9.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Ермак, 2003. См., в частности, главу
«Аномалия и возникновение научных открытий».
216
H. П. ИЛЬИН
Но продолжим следить за развитием мысли Страхова о «животности»
человека.
Естествознание достоверно установило, что на фоне самых
разнообразных различий между животными человек ничем принципиально
не выделяется. И, предупреждая вопрос читателя, замечу, что
такова и точка зрения современной науки, если она хочет быть до конца
откровенной*.
Страхов не забывает, конечно, отметить, что ученые-натуралисты
искали «глубоких отличий» между человеком и животными не только
в анатомии и физиологии, но и в «душевных свойствах человека»,
более всего надеялись именно здесь «отыскать противоположность
его с животными» **.
К примерам, приводимым у Страхова, я добавлю следующий.
В «Трактате о происхождении языка» немецкий мыслитель эпохи
Просвещения И. Г. Гердер (1744-1803) выдвинул идею, согласно
которой «человек далеко уступает животным по силе и
надежности инстинктов****. Именно как компенсация этого биологического
недостатка («ущербности», по выражению Гердера) у человека и
развиваются высшие психические способности. Отметим уже сейчас, что
эта идея Гердера фактически легла в основу взглядов ряда крупнейших
западных философов XX века (М. Шелер, А. Гелен, Н. Гартман и др.)
на специфический характер человеческого бытия. Взглядов, суть
которых можно выразить так: человек становится человеком в силу своей
биологической ущербности.
Насколько иным является взгляд русского философа, станет
вполне ясно ниже. А пока Страхов замечает, что «у высших
животных инстинктивные действия встречаются все реже и реже», то есть
ослабление роли инстинктов происходит в природе постепенно.
«Сверх того, никак нельзя утверждать, чтобы у человека вовсе
не встречалось действий, которые мы называем инстинктивными.
Любовь матери к детям, влечение одного пола к другому — суть,
во-первых, инстинкты и только потом переходят в высшие чувства »****.
И такое понимание, несомненно, значительно лучше согласуется
* Особенно энергично она выражена в известной книге: Моррис Д. Голая обезьяна.
Человек с точки зрения зоолога. СПб.: Амфора; Эврика, 2001.
:* Мир как целое. С. 12.
* Herders Werke. Band 2. Aufbau-Verlag. Berlin und Weimar. 1982. S. 105. Курсив
принадлежит Гердеру. К сожалению, в русском переводе имеются, насколько мне
известно, только фрагменты этой важной работы в издании: Гердер И. Г. Избранные
сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. См. здесь замечание о том, что в человеке был
«должен отпасть инстинкт» (С. 140).
г* Мир как целое. С. 13.
Последняя тайна природы. О книге «Мир как целое» и ее авторе 217
с данными современной биологии и, добавим, этологии, науки о
поведении живых существ*.
В итоге Страхов признаёт правоту натуралистов, которые
«составляют из человека и обезьян одну группу, один отряд животного царства».
А то обстоятельство, что человек занимает в этом отряде и в животном
мире вообще первое (или «высшее») место, ничего по существу не меняет.
«И первое животное есть все-таки животное», — подводит итог Страхов.
Но именно теперь и начинается настоящее философское
постижение человека, постижение его существенного отличия от всех других
существ. Утверждение «человек есть животное» бессмысленно
отрицать, но совершенно необходимо понять, пишет Страхов, что оно
«имеет двоякий смысл: во-первых, тот, что в человеке есть всё то, что
есть и в животном; и, во-вторых, тот, что человек есть не более как
животное, хотя бы и... самое совершенное»**. С этим «вторым смыслом»
никак нельзя согласиться просто потому, что из данных естествознания
он не вытекает и не может вытекать.
<...> Метод естественных наук имеет границы, за пределами
которых как раз и находится существенное в человеке, человеческое как
таковое. <...>
Но в чем заключается тот философский взгляд на человека,
который преодолевает ограниченный «кругозор» естествознания? И что
открывает в человеке этот взгляд?
•к гк "к
Философская традиция, которую Страхов глубоко знал и ценил,
отвечает на последний вопрос так: человек отличается от животных
своей духовностью.
Страхов принимает этот ответ — но только для того, чтобы сразу
поставить новый вопрос: «Справедливы ли притязания человека
на высшую природу, на то, что мы называем духовностью?» Другими
словами: в чем именно проявляется духовность человека, в чем ее
существенный признак?
Если ответить: в том, что человек мыслит или в том, что человек
обладает свободой воли, мы только расширим круг понятий, которые
* См., например, работы одного из крупнейших специалистов по этологии Конрада
Лоренца, в частности его книгу: Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte
der Aggression. Wien, 1971 (в русском переводе она вышла под названием
«Агрессия»).
* Мир как целое. С. 7.
218
H. П. ИЛЬИН
требуют дальнейшего разъяснения. Поэтому начинать надо не с них,
а с выявления того конкретного актау на который способен
только человек. Притом акта, допускающего простое, самоочевидное
описание.
Задача выглядит исключительно трудной, но Страхов блестяще
разрешает ее, не теряя из виду — и это особенно важно — тему своих
«натурфилософских» размышлений, отношение человека к природе.
В чем глубокое своеобразие этого отношения? В том, говорит Страхов,
что человек отделяет себя от природы; «человек есть одно из существ
природы, но он природу противополагает себе», и в этом его настоящая
уникальность.
Заметим: человек противополагает себя не только животным,
но и всей остальной природе. «Не смотрит ли он на всю природу
одинаковыми глазами? Не считает ли он себя столь же отличным от
животных, как и от растений или камней?» *.
У читателя возникает естественный «встречный» вопрос: а что, если
это «противополагание» ошибочно, если человеку только кажется,
что он противоположен природе? Вопрос естественный, но бьющий
абсолютно мимо цели. <...>
Действительно: «ошибочно» или «безошибочно» то
противопоставление себя природе, которое совершается человеком, — оно им
совершается, и это главное.
«Человек имеет полное право противополагать себя природе, потому
что он может сделать такое противоположение, имеет силу и
способность к нему»**.
Но теперь вспомним: Страхов формулирует это утверждение, никоим
образом не отрицая того, с чего он начал, не отрицая утверждение
«человек есть животное». И весь дальнейший ход его мысли определяется
«параллельным» развитием и углублением этих двух утверждений.
А точнее сказать, не «параллельным», а выявляющим их внутреннюю,
органическую и в то же время вполне логическую связь.
Мы не случайно подчеркиваем сейчас логический характер этой
связи. Страхов никогда не играл в парадоксы. Положение «человек
есть животное» не заключает в себе никакого логического
противоречия с тем, что человек есть и нечто большее, чем животное, что он еще
и духовен. Как нет противоречия в том, что человек питается в
«животном» смысле этого слова, но также стремится и к «пище» иного
рода, именно духовной.
* Там же. С. 17.
** Там же. С. 18.
Последняя тайна природы. О книге «Мир как целое» и ее авторе 219
Но и при отсутствии противоречия совсем не просто понять (и ясно
понять одним из первых), в чем заключается эта связь между глубокой
причастностью человека к природе и его способностью
противопоставить себя природе. Теперь Страхов делает (по-прежнему в том же
первом «письме»!) следующий важный шаг.
•к -к к
Признание духовности человека, причем духовности не в каком-то
неясном, расплывчатом смысле, а именно в том, что человек
сознаёт свое радикальное отличие от природы, имеет силу отделить себя
от природы, — это признание вовсе не означает, что «животность
несовместима с духовностью». Здесь для Страхова нет пресловутого
«или — или», но в то же время есть нечто большее, чем простая
«совместимость», или, как сказали бы сегодня, «дополнительность».
Это большее заключается в том, «что не только животность не
противоречит духовности, но даже что для духа необходима самая высокая
степень животности**.
Нетрудно понять то значение, которое имели эти слова Страхова
(как и весь ход его мысли) для Ап. Григорьева. «Удаление от природы»,
о котором как о предпосылке культуры писал много позже Г. Риккерт,
вовсе не означает «пропасти» между культурой и биологической
жизнью. Именно высшее развитие последней, ее апогей в человеке —
и открывают для человека принципиально новый, связанный уже
не с природой, а с культурой, путь развития.
Мир является настоящим, органическим целым именно потому,
что «лестница» природных процессов ведет в «храм» человека. Слова
Ап. Григорьева о связи культуры с «подземной работой зиждительных
сил жизни» обретают в свете философской концепции Страхова ясный
смысл. И одновременно становится вполне ясным принципиальное
отличие концепции Страхова от концепции Гердера.
Человек становится человеком на основе своего биологического
совершенства, а не своей «ущербности». Отсюда вытекают как минимум
два важнейших следствия.
Во-первых, человек создает мир культуры, свой собственно
человеческий мир, не в силу внешней необходимости как «убежище»
от враждебной природы. Он создает этот мир свободно, создает культуру
как мир, в котором он может реализовать тот потенциал, который еще
* Там же. С. 19. Конец фразы выделен мною.
220
H. П. ИЛЬИН
не был реализован на пути чисто природного, биологического развития.
«От избытка сердца говорят уста» ; от избытка духовных возможностей
человека творится культура. Творится, повторим еще раз, свободно,
а не вынужденно.
Во-вторых, в подлинной культуре продолжается (но уже в новом
качестве сознательного, личностного развития) тот процесс, первый
этап которого лежит в природе. К природе не надо «возвращаться» —
надо только сознательно продолжать дело, начатое уже в природе.
Продолжать потому, что вполне совершенное с точки зрения
природы еще далеко не является вполне совершенным с точки зрения
человека. Именно в таком понимании связи человека с природой
заключается основополагающий мотив русской культуры XIX века,
ее подлинный гуманизм, предельно ясно выраженный в философии
H. H. Страхова.
Н.Н.СТРАХОВ
Толки о Л.H. Толстом
(Психологический этюд)
По плодам их узнаете их1.
Толки о Л. Н. Толстом продолжаются. Начались эти толки уже
давно, лет десять или двенадцать назад, вскоре после окончания «Анны
Карениной»; они быстро усилились и потом стали постоянным,
непрерывным явлением. Мы к ним даже совершенно привыкли и уже не
замечаем, как много тут удивительного, ничуть не думаем, что перед нами,
может быть, происходит событие величайшей важности. Припомним,
когда же бывало что-нибудь подобное? Малейшие известия о том, что
пишется и как живется в Ясной Поляне, газеты помещают наравне
с наилучшими лакомствами, какими они угощают своих читателей,
то есть наравне с политическими новостями, с пожарами и
землетрясениями, скандалами и самоубийствами. И мы потом ежедневно треплем
своими языками имя знаменитого писателя с неменьшим усердием
и обыкновенно с таким же хладнокровием, как имена Бисмарка или
Вильгельма П. Но мы знаем, на этой болтовне дело не останавливается.
У многих, особенно у молодых людей, на Л.Н. Толстого устремлено
серьезное, душевное внимание.
И это не у нас только дома. Известность Л.Н. Толстого стала истинно
всемирной; о нем пишут и за ним следят во всех образованных странах.
Каждая его новая повесть сейчас переводится на разные языки, каждая
театральная пьеса ставится на сцене, переводится каждая страница
даже старых неконченных рукописей, как-нибудь попавшая в руки
ревностных почитателей, переводятся и чужие рассуждения,
которые он одобрил и снабдил своим предисловием. И это делается никак
не по одной усилившейся фабрикации праздного чтения. Во Франции,
в Германии, в Англии, в Америке — везде писания Л.Н. Толстого
возбуждают живейший интерес, порождают толки и споры. Может быть,
со времен Вольтера не было писателя, который производил бы такое
сильное действие на своих современников.
222
H. Н. СТРАХОВ
Тут есть чему подивиться и о чем задуматься. Правда, бывает слава
фальшивая, бывают всесветно громкие имена, которые потом
забываются; но обыкновенно человечество не ошибается в своей любви и в своем
удивлении. Упорно и неотвратимо привязываются умы к тому имени,
под которым им почуялось истинное величие, явился предмет,
достойный истинного поклонения. Вот почему поэт так решительно сказал:
И нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык2.
Славное имя всегда есть любопытная задача для наших мыслей.
Иногда в прославлении обнаруживается только настроение читателей
и зрителей, создающих себе кумира по своему вкусу; но обыкновенно
даже сумасбродный энтузиазм, даже фанатическое гонение или
превознесение какого-нибудь человека имеют свое основание в самом этом
человеке и его деятельности. Если мы станем старательно вникать
в дело, мы почти всегда откроем в нем важный вопрос, глубокий
поворот умов или обнаружение душевных сил, далеко превосходящих
обыкновенную меру.
I
Отчего так знаменит Л. Н. Толстой? На этот вопрос многие сейчас
так ответят: оттого, что он написал гениальные художественные
произведения, «Войну и мир», «Анну Каренину». Это настоящая причина
его известности; без этого никто не обратил бы внимания на те плохие
рассуждения, которые он стал потом писать. Он прославился именно
как великий художник, и вот теперь носятся с каждой страницей,
которую он напишет, разбирают его наставления, принимают их в
руководство для жизни, хотя все эти писания ничего не стоят и составляют
для него просто стыд, а не славу. Так отвечают одни, а другие идут
еще дальше. Он велик как художник, говорят они, а по тому самому
мы не читаем его рассуждений и не хотим обращать на них внимание.
Художнику следует оставаться художником, и он не может ничего
хорошего сделать, если берется не за свое дело.
Легко, однако, заметить, что все эти речи принадлежат людям,
желающим непременно осудить последний период деятельности
Л. Н. Толстого. Они хватаются за его огромную художественную славу,
чтобы так или иначе обратить ее против него, сделать из нее орудие,
подрывающее его авторитет. Они часто уверяют при этом, что они даже
необыкновенно любят Толстого-художника, но зато Толстого-мыслителя
терпеть не могут.
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
223
Добрые люди, повторяющие подобные речи, конечно, сами не
замечают, что они пускают в дело очень жалкую уловку, очень наивное
лицемерие. Во-первых, может быть, большую долю всемирной
известности Толстого нужно приписать не его художественным
произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который
в нем совершился и смысл которого он стремился выразить и своими
писаниями, и своей жизнью. Как бы мы ни судили об этом перевороте,
но, очевидно, образованный мир был поражен зрелищем человека,
в котором с такой силой, без всяких внешних толчков, сказались
вечные запросы души человеческой. Нужно отдать людям честь: никакое
литературное мастерство не могло привлечь их любопытства и
уважения в такой степени, как та душевная история, которая совершилась
и совершается пред их глазами в Ясной Поляне. Даже в тех, кто так
усердно порицает Толстого, есть, очевидно, какое-то живое чувство,
заставляющее их с жадностью следить за всем, что он делает и думает.
Что же касается до противоположения между художником и
мыслителем, то это был бы чрезвычайно легкий и простой выход из
затруднения, почему за этот выход и хватаются упорные люди. Но, как я сказал,
они в этом случае только лицемерят вольно и невольно. Не любит
художественных произведений Толстого, не может ценить их
глубокого духа и содержания тот, кто не понимает, как тесно они связаны
с его новыми писаниями. Те самые начала, которые он теперь
проповедует, бессознательно жили в нем всегда и составляли душу всего,
что он тогда писал. На каждой странице его рассказов можно видеть,
что выше всякой красоты для него всегда стояла красота душевная,
что эту красоту он видит в «простоте, доброте и правде», что истинное
мужество состоит для него в терпении и преданности, что истинная
любовь всегда для него целомудренна и что самые смиренные люди
ему являются прекраснее самых великих героев. Долго очаровывал нас
Толстой этими картинами и долго сам был очарован ими. Но, наконец,
он как будто вдруг опомнился наверху славы и счастья и с
изумлением взглянул на себя и на других. Он как будто спросил себя: разве все
это забава? Разве можно жить, не зная твердого пути жизни? Для чего
я живу и пишу, если не нашел этого пути и не могу указать его другим?
И он с отчаянием стал искать этого пути, влагая в это искание всю свою
умственную силу. Тогда для него получила новое, неизмеримо более
глубокое значение вся та красота души, которой он прежде только
беспечно любовался. Из эстетика он обратился в нравственного
проповедника; но содержание его художественных образов и его
практических наставлений осталось, в сущности, одно и то же. Толстой, можно
сказать, подписал для нас и для себя нравоучение под теми баснями,
которые прежде рассказывал.
224
H. H. СТРАХОВ
И как не видеть, что сделать это было и полезно, и даже совершенно
необходимо? Теперь ведь стало ясно для всех и для самого автора, что
эти бесподобные художественные произведения, в которых повсюду
разлито самое высокое и чистое нравственное чувство, не действовали
на читателей так, как должны были действовать. Когда мнимые
любители этих произведений изливаются в восторгах от их красот и вместе
отворачиваются от нравственных наставлений художника, они только
доказывают или свое непонимание, или извращение своего
эстетического вкуса. И, следовательно, Толстой не мог и не должен был
ограничиться одним художеством. Странно подумать, «Анну Каренину»,
это глубоко целомудренное произведение, иные сумели так читать,
что в них возбуждались только нечистые чувства и мысли. Они
любовались картинами роскошной жизни и пробегающих по ней вспышек
чувственности и разврата. Понятно, что художник не захотел больше
подобного эстетического поклонения. Он написал «Крейцерову сонату»,
он так беспощадно избичевал нашу нечистую жизнь, что ошибиться
в его мысли уже было невозможно.
Любители литературы часто упрекают Толстого за то, что он теперь
пишет не одни художественные произведения, да если и создает что-
нибудь художественное, то не вносит в дело полного своего искусства.
Для этих любителей, очевидно, не имеет никакого значения
внутренний переворот, совершившийся в художнике, — так мало им дорог
этот художник, так мало они ценят и понимают самый глубокий нерв
его деятельности!
Но для понимающих между двумя половинами деятельности Толстого
нет разлада и нельзя делать противоположения; напротив, одна
половина поддерживает и поясняет другую. Кто вникнет в его нравственные
наставления, для того вдруг открывается самый глубокий и
драгоценный смысл его художественных произведений, те тайные и иногда еще
неясные для самого художника побуждения, которыми оживлялось
его творчество. И наоборот, чтобы точно понять направление и дух
его последних поучений, мы можем и должны обращаться к его чисто
художественным созданиям, где этот дух раскрывался еще спокойно,
еще без порыва и волнения, и потому высказывался часто с великой
тонкостью и правдой, хотя прежде многие видели в этом только одну
роскошь еще неслыханного художества. Так мы должны поступать, если
хотим быть вполне справедливыми к Толстому. Не цепляться за мелкие
недостатки и обмолвки, не ловить мелкие и второстепенные
противоречия, а брать его в целом составе его деятельности, понять и проследить
тот единый дух, который проникает все, что он творил, думал и делал.
Пред нами огромное явление, которому, по его размерам и значению,
трудно найти подобное во всей истории всемирной литературы.
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
225
II
Все дело в том, чтобы найти правильную точку зрения на Толстого,
отыскать тот центр, которым управляются его мысли и действия,
из которого поэтому хорошо видны их связь и порядок.
Этот центр, эта исходная точка всех его стремлений есть не что иное,
как евангельское учение. Если мы хотим понимать Толстого, то прежде
всего должны смотреть на него, как на некоторого христианина, как
на одного из последователей Христова учения.
Чрезвычайно странно, что этот важнейший пункт всего дела
обыкновенно вовсе не приходит на мысль ценителям и порицателям, что
они не видят здесь, по крайней мере, существенного вопроса, который
нужно рассмотреть самым тщательным образом. Естественно,
положим, что этот вопрос не занимает тех, кто на всякую религию смотрит
с пренебрежением; но ревнителей христианства, казалось бы, должно
глубоко интересовать религиозное настроение Толстого. Не видно,
однако, чтоб они над этим задумывались; с самым легким сердцем они
лишают его имени христианина, как будто такое лишение не великая
обида, и бывают готовы, по всякому попавшемуся поводу, приписать
ему мнения и чувства, совершенно противоположные христианским.
Между тем многие ли из нас имеют больше прав называться
христианами, чем Толстой? Напомню здесь историю его обращения, которую
все знают или, по крайней мере, могут знать, но в которую очень мало
вникают. Как он сам говорит, он был сперва нигилистом, то есть не имел
никаких религиозных убеждений, да не имел, в противоположность
обыкновенным нигилистам, и никаких политических убеждений. И он не был
в этом случае каким-нибудь исключением; таких нигилистов у нас было
и есть великое множество. Он жил тогда не столько правилами и мыслями,
сколько своими чувствами и вкусами, и художественная деятельность,
казалось, давала полный исход его душевным силам. Вдруг наступил
переворот. Среди полного благополучия, когда слава его поднялась
высоко, богатый, знатный, здоровый, окруженный любящей семьей, он вдруг
почувствовал пустоту земного счастья, почувствовал с такой силой,
что пришел в отчаяние. Невольно приходит на мысль сближение с тем
царевичем, который основал буддизм. Уже это одно отчаяние Толстого
должно быть для нас великим религиозным поучением, и оно, без
сомнения, так и действует на многих, оно для них убедительный пример, что
ничто земное не может насытить душу человека и что нужно обратиться
к небесному, к религии. А противники Толстого, считающие себя
настоящими христианами, должны бы серьезно спросить самих себя, точно ли
они чувствуют всю тщету земных благ в такой мере, как он ее чувствовал?
226
H. Н. СТРАХОВ
С какою силой он почувствовал свою беду, с такой же силой он стал
искать от нее спасения. Он отдался этому исканию всем сердцем
и всей душой. Очень скоро он увидел, что отвлеченные умствования
и мертвые книги не дадут ему успокоения, и он выбрал другой, живой
путь, чем дал нам новое поучение. Он стал искать вокруг себя людей,
которые знают, зачем жить и как умирать, следовательно, людей
истинно и твердо верующих, и нашел их в русском простом народе.
Пусть не забудут ревнители христианства, в какой великой школе
обучался вере граф Толстой. Они должны согласиться, что в выборе
этой школы им руководило глубокое религиозное понимание. Наши
образованные классы таковы, что не могли дать ему того, чего он
жаждал. Он обращался ко всем, он спрашивал о вере Каткова3, Аксакова,
митрополита Макария, но не был вполне удовлетворен их ответами;
только у простых людей он несомненно нашел ту мудрость, которая
утаена от мудрых и разумных и открыта младенцам. Каковы бы
ни были убеждения Толстого, но при оценке их никогда не следует
забывать, что они развивались под влиянием, можно сказать,
наилучшего христианского элемента, какой только есть в мире. Долгие
годы Толстой провел в близком и постоянном общении с простым
народом, к которому он и всегда чувствовал особенное влечение. Тут
он учился, как «no-Божьи» жить, мыслить и чувствовать. А к этому
нужно еще прибавить, что такую школу проходил человек, одаренный
гениальным поэтическим чутьем, способный видеть все душевные
изгибы и глубины. <...>
Наконец, известно, что он изменил образ своей жизни, что он
старается на деле выполнять свои новые убеждения. Но тут, конечно,
мы не можем произнести полного суждения, ибо это его личное дело,
которое очень трудно ценить и разбирать, даже если бы мы имели
на то какое-нибудь право и возможность. Тут от нас легко могут
укрыться самые существенные стороны, и мы что-нибудь побочное
и случайное примем, пожалуй, за самое главное. Достоверно и ясно
только то, что он непрерывно делает усилия и попытки новой жизни.
Всем известно его отречение от мирских благ, этот внешний признак
поворота; внутренние же его подвиги не могут быть известны и, может
быть, останутся навсегда тайной между ним и Богом.
Если теперь мы соединим вместе все указанные черты, то пред нами
окажется полный образ истинно религиозного человека, притом образ
яркий и величавый. Среди нашей, в сущности, языческой жизни, среди
равнодушия к религии и неверующих и верующих, он показал нам,
какую силу может и должна иметь для человека религиозная идея.
И так как он притом великий художник, так как всеми симпатиями
и мыслями он сливается с народным нашим благочестием, то нет со-
Толки о Л. H. Толстом (Психологический этюд)
227
мнения, что он составляет одно из глубочайших и замечательнейших
явлений религиозного духа. Люди, преданные религии, ставящие
духовную жизнь выше всего, должны смотреть на него и с уважением,
и с величайшим любопытством. В нем они наверное найдут для себя
много поучительного и назидательного, чего уже никак нельзя найти
у тех, которые называют себя настоящими христианами, но о вере
никогда не думают, предоставляя эту заботу духовнику, а в жизни
спокойно плывут туда, куда дует ветер.
III
«Все это так, — скажут нам, — но ведь Толстой умствует и по-своему
толкует тексты; он — не верующий, а рационалист».
Но, во-первых, кто же не рационалист? Как мольеровский
мещанин был очень удивлен, узнав, что говорит прозой, так, без сомнения,
многие ревнители веры не подозревают, что рационализм вообще
есть дело неизбежное и что сами они на каждом шагу оказываются
рационалистами. Несколько лет тому назад одна благочестивая дама,
живущая в далекой глуши, спрашивала меня: «Объясните мне, за что
все так бранят Толстого?» — «Больше всего за то, — отвечал я, — что
он по-своему толкует Евангелие». — «Ах, Боже мой! — возразила
она, — да ведь и я его толкую по-своему, как понимаю, и нянюшка
Михайловна тоже, как понимает, так и объясняет. Мы обе постоянно
читаем Евангелие, но у нас тут не у кого и спросить, верно ли мы
поняли». Признаюсь, это возражение на минуту сбило меня, и этот случай
остался в моей памяти, как самая простая формула вопроса о наших
отношениях к тексту Священного Писания. Не следовало ли мне сказать
этим двум читательницам, что они подвергаются большой опасности
ложно понять слова Евангелия и что им нужно запастись
богословскими сочинениями, устанавливающими правильное истолкование?
Но ведь богословские сочинения были бы для них в тысячу раз менее
понятны, чем само Евангелие. А потом, и это главное, для меня было
вне всякого сомнения, что эта дама и ее бесподобная Михайловна
никогда евангельских слов не истолкуют и не могут истолковать в дурном
духе. Следовательно, дело не в том, что мы пускаемся в собственные
объяснения и умствования, а в том, с каким духом мы приступаем
к чтению Писания, чего мы в нем ищем. <...> Не умом постигается
главный смысл Писания, а сердцем, всеми живыми силами нашей
души. Кто приступает к Писанию с тем религиозным чувством, искра
которого таится в самых простых и темных душах, тот найдет в
божественной книге пищу для этого чувства, и тем больше пищи, чем
сильней и глубже его чувство.
228
Я. Н. СТРАХОВ
Все мы отчасти рационалисты, потому что во всяком деле мы
неизбежно рассуждаем, а если рассуждаем, то, значит, прибегаем к каким-
нибудь началам и приемам разума, и даже всегда стараемся проводить
эти приемы и начала как можно дальше. Но быть вполне
рационалистом, то есть опираться на один только разум, едва ли кто может,
почему люди, стремящиеся к полному рационализму, обыкновенно
отличаются лишь тем, что больше других отрицают и сомневаются.
Если обратимся к Толстому, то, конечно, он начал с
рационалистического отрицания и сомнения; но уже давно он пришел к образу чувств
и мыслей, которые нельзя назвать рационализмом.
Он поверил в Евангелие, он всем сердцем почувствовал и признал
над собой власть Христова учения. Поэтому, тогда как для рационалиста
Евангелие есть книга наряду с другими книгами, и слова этой книги
подлежат обсуждению наравне со всякими другими человеческими
словами, — для Толстого эти слова есть высший авторитет, не
сравнимый ни с каким другим. Он не смотрит на учение Христа объективно,
не подвергает его какой-нибудь исторической или психологической
критике; он всем умом и сердцем стремится к одной лишь цели —
понять это учение, уразуметь ту высочайшую правду, которая в нем
заключается и которая уже влечет за собой исполнение естественно
и неизбежно. Он прилежно ищет в словах Христа указаний для жизни
и потом следует этим указаниям —
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную4.
Да мало сказать и безропотно: нужно сказать —радостно, как тот,
кто с ужасом чувствовал, что не знает и не может узнать, куда идти,
и кого вдруг вывели на прямой и ясный путь к родному дому.
Разве это живое и сердечное отношение к евангельской проповеди
похоже на рационализм? Чтоб яснее увидеть разницу, возьмите
настоящих рационалистов, возьмите лучшего из них — Ренана. Мы все
его читали, и, конечно, с несравненно большим вниманием и
уважением, чем Толстого. Итак, припомните, что Ренан по временам относится
к Христу с явным чувством своего умственного превосходства. Он
признает, что это был человек высшего разряда (un homme supérieur),
и очень восхищается Его нравственными качествами; но относительно
людских дел и хода исторических явлений Ренан открывает в Нем следы
незнания и непонимания и замечает об этом с некоторой высокомерной
снисходительностью.
Ничего подобного этой жалкой «игре ума», этим жалким обобщениям
и отвлечениям вы не найдете у Толстого. Для него Христос есть явление
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
229
единственное и несравнимое, есть живое лицо, в котором воплотилась
высшая истина. Для него судить и критиковать Христа есть нелепое
пустословие, а следует делать одно — с открытым сердцем вникать в Его жизнь
и слова, потому что кто вникнет, тот и предастся им всей душой.
IV
Мы вовсе не хотим разбирать здесь какие-нибудь учения Л. Н.
Толстого, не хотим ни защищать их, ни опровергать. Пусть это делают
другие, как скоро сознают, что они достигли ясного понимания дела и что
могут сказать о нем что-нибудь твердое и хорошее. Наша цель гораздо
проще и легче: мы хотели бы только указать на самые ясные и
несомненные черты дела, на самые очевидные и неизбежные точки зрения,
на которые должен становиться всякий, кто берется судить об этом деле.
Читая и слушая бесчисленные толки о Толстом, часто нельзя не
изумляться тому, в каких потемках живут люди относительно важнейших
вопросов, и можно только радоваться, если наконец эти вопросы стали
для них вопросами, если наконец они вынуждены отдавать себе в них
отчет. Но сила потемок очень велика; поэтому у многих, вместо
умственного и нравственного возбуждения, часто все ограничивается одним
упорным непониманием и оканчивается совершенно несправедливым
негодованием и пренебрежением. Очень любопытная черта: нападения
и крики на Толстого у нас несравненно распространеннее и жесточе,
чем за границей, в странах давнего образования. Там, очевидно, есть
привычка, так сказать, к теоретической терпимости, там приучились
не отказывать разномыслящим в уважении. Мы же, русские, будучи
на практике самым терпимым народом в мире, на словах и в мыслях
встречаем всякое разногласие с каким-то ожесточением и беспощадно
его отвергаем. Против Толстого с воплем подымаются люди, не
замечающие, что сами они не имеют никакого права подавать голос в
религиозных и нравственных вопросах. И как только раз началось осуждение,
то уж без разбора на гениального писателя взводится нелепость за
нелепостью и обвинители не подумают, что нужно бы тщательно изучать
его писания, вникать в дух и связь его речей, прежде чем решиться
приписывать ему даже малую долю того, что они приписывают.
Итак, все наше преимущество пред Толстым состоит в том, что
мы не проповедуем того, что думаем, и даже, еще лучше, что мы
вовсе не думаем о чем-нибудь таком, что нужно бы проповедовать.
Единственно поэтому мы признаем себя хорошими христианами,
да поэтому же ревнители веры если и не одобряют нас, то, по крайней
230
Я. Я. СТРАХОВ
мере, закрывают на нас глаза и не считают нужным о нас
тревожиться. Между тем разве все это хорошо? Разве мы получаем в силу этого
какое-нибудь право судить и осуждать Толстого? В глазах людей,
преданных религии, Толстой должен иметь перед нами великое
преимущество, потому что он одушевлен истинно религиозной
ревностью. Ошибается ли он или нет, но во всяком случае он знает, что
он исповедует, он долго об этом думал, он долго и прилежно изучал
самые источники вероучения. Чтобы нам с ним поравняться, чтобы
приобрести право судить его не с чужого голоса, нам нужно делать
то самое, что он делал. И, без сомнения, в образованных классах иные
почувствовали эту обязанность, так что, благодаря Толстому, кое-где
началось чтение и изучение Евангелия. Но большинство, конечно,
осталось нетронутым; они продолжают кричать и порицать Толстого,
сами не зная хорошенько за что, в сущности же, за то, что он нарушает
их покой, тревожит их неведение и равнодушие.
V
Главное дело относительно Толстого, однако же, не в догматах. Если
мы хотим быть справедливыми к Толстому и судить его с надлежащей
точки зрения, то должны видеть, что центр его учения составляют
не какие-нибудь догматы, а христианские правила жизни, изложение
и объяснение наших обязанностей. Он проповедник не какой-нибудь
теории, а практического христианства, учитель нравственности.
Сюда тяготеют все его мысли, и если мы не будем иметь этого в виду,
то мы ничего в нем не поймем.
Например, если мы находим, что он что-нибудь отрицает (а
отрицание чаще всего ведет к ошибке, как заметил Лейбниц), то мы заранее
должны предполагать, что он делает это не из простого скептицизма,
не ради какой-то борьбы с авторитетом, а потому, что видит в
отрицаемом помеху чисто нравственному настроению. Пред таким
стремлением, перед такой постановкой вопроса мы не можем не почувствовать
уважения и внимания. Ибо нравственность есть действительное мерило
человеческого достоинства и верховная точка зрения. Никто не обязан
иметь высокий ум, и все обязаны иметь чистую совесть. Всякие
человеческие соображения, все наши желания и блага должны отступить
на второй план пред стремлением к нравственному совершенству.
Да как скоро человек завидел этот путь и одушевлен нравственной
силой, он уже не может быть покорен никакой иной мудростью, никаким
иным могуществом. Для некоторых философов, например для Канта,
нравственное чувство составляет самый источник религии, и из
требований этого чувства они выводят религиозные истины.
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
231
Именно с этой стороны преимущественно нам следует рассматривать
Толстого. Нужно прежде всего видеть в его писаниях их нравственное
содержание вообще, а затем, определеннее, их стремление к
христианскому нравоучению как к высшему и окончательному. Все, что сюда не
относится, теоретические истолкования и практические отрицания уже
имеют у Толстого второстепенное значение, и, не в меру останавливаясь
на них, мы только затемним дело. Поэтому если кто непременно желает
опровергнуть Толстого, тот пусть не ловит его на ошибочных взглядах
на природу Бога, мира и людей, на те или другие слова Писания, а пусть
доказывает, если может, что Толстой проповедует дурные
нравственные начала, что он не понял и извратил христианское нравоучение.
Некоторые духовные лица (может быть, впрочем, вернее было бы здесь
поставить вместо множественного — единственное число) поняли, что
именно в этом заключается вопрос о Толстом; но, к несчастью,
правильно поставив вопрос, они сейчас же сошли с верного пути, принявшись
с непонятной легкостью приписывать Толстому всевозможные дикости.
Как и почему это делается, действительно трудно понять. Дело доходит
до того, что, по случаю увещаний Толстого жить в деревне, говорили, что
он ограничивает все потребности человека едой и питьем, а по случаю
«Крейцеровой сонаты» — что он чуть ли не советует убивать неверных
жен или, по крайней мере, совершенно оправдывает Позднышева. В этой
сумятице истинно диких суждений, вихрем поднявшихся и кружащихся
около Толстого, прежде всего, ясно одно — до какой степени он
противоречит ходячим понятиям, установившемуся складу мыслей, и до какой
степени он поразил умы, разбудил их и встревожил. Один из его
противников, и притом очень жестоких, хорошо выразил это впечатление.
«Что нам делать, — восклицает он, — ввиду этой страшной Медузиной
головы, этого колоссального, как по силе и полноте, так и по
совершенному отсутствию оснований (?), осуждения всего нашего бытия (то есть
нашей жизни) в бессмыслии, лжи и разврате»?*
VI
Дух христианского нравоучения есть нечто глубокое и живое, есть
некоторый поворот всей человеческой души в сторону вечности. Он
овладевает всем существом человека и, живя в нем, стремится изменить
все его склонности и действия, кладет свою печать на все движения ума
и сердца. И он всегда себе верен; в различных людях и в различных об-
* Вопросы философии и психологии. Кн. 4-я. С. 93, статья П. Е. Астафьева.
232
H. Н. СТРАХОВ
стоятельствах он дает все те же различные развития и уклонения. Он есть
некоторая жизнь, высшая жизнь нашей души, и, как жизнь, он вечно
тот же и вечно нов и свеж. Поэтому если взять любое из наставлений
Толстого, любую из его мыслей, относящихся к нравоучению, то всегда
можно найти эту мысль или близкую к ней в одном из учений,
возникавших на почве христианства. И в пределах Церкви, и за ее пределами
один и тот же дух принимал множество видоизменений. Секты были
обыкновенно только более резкими и крайними из этих видоизменений.
Таким образом, от самого начала христианской истории и до нашего
времени идет непрерывный ряд и таких учений, в которых на первое
место ставилась практика святой жизни, осуществление нравственных
идеалов. Последователи этих мирных и чистых учений всегда внушали
к себе невольное уважение, и многие стали для всего мира образцами,
типами нравственных достоинств. Монах, подвижник, гернгутер,
квакер — эти слова сделались нарицательными, стали общим названием
для обозначения известного поведения, известных добрых качеств.
Вот в какой области нужно искать наиболее близких аналогий
для проповеди Толстого. Он приходит часто к заключениям, которые
уже давно выведены. Этого обыкновенно не понимают и не знают его
порицатели; они иногда считают личными его фантазиями, осмеивают
и презирают то, под чем охотно подписались бы христианские светила
давнего или нового времени.
Никак не следует, однако же, думать, что речи Толстого составляют
какое-нибудь подражание или повторение старого. Удивительная сила
этой проповеди зависит именно от ее чрезвычайной самобытности.
Самобытность ведь не всегда состоит в новости предмета; высшая
оригинальность, конечно, заключается в глубине и полноте, с которой писатель
проникает в какое-нибудь всегдашнее, вечное начало человеческой души.
Наставления Толстого представляют полное своеобразие; они движутся
по своим особым путям, захватывают особые сферы чувств и предметов
и освещают их с особых сторон. Ибо это живая, искренняя речь человека,
откровение его сердца, живущего тем самым, что он говорит. Тут все
новое, потому что все живое. Вполне характеризовать его направление
было бы, я думаю, не легко. В самых первых его художественных
произведениях уже сильно высказываются его христианские инстинкты.
В «Детстве» юродивый Гриша и нянюшка Наталья Савишна описаны с
сочувствием, к которому не примешивается ни единой нарушающей черты.
В самом центре «Войны и мира» помещена фигура Платона Каратаева
и его рассказ о безвинно пострадавшем купце — тот рассказ, который,
как говорят, особенно полюбился народу, когда был издан отдельно.
«Анна Каренина» оканчивается обетом Левина «жить по-Божьему».
Мы напоминаем здесь только две-три точки; но им соответствует весь
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
233
дух этих произведений: беспощадное обличение всякой фальши, всякой
душевной нечистоты; постоянное преклонение пред «простотой, добром
и правдой». Невозможно представить себе вкуса более чистого и более
тонкого, чем тот, с каким проводится везде черта между дурным и
хорошим, между душевным безобразием и душевной красотой. И красотой
признается только одно смиренное и бескорыстное, только
целомудренное и самоотверженное, только искреннее и любящее. При этом художник
чужд всякой восторженности и сентиментальности, всяких порывов
и преувеличений; напротив, он ведет дело с неподкупной трезвостью
взгляда, с небывалой остротой анализа, как человек, всеми силами ума
ищущий истины и ненавидящий обольщение. Так составился в его душе
неотразимый идеал нравственной жизни, больше всего почерпнутый
из душевного склада простого народа, и, когда потом поднялись в нем
религиозные запросы, он скоро понял, что это идеал христианский,
и стал изучать его в Евангелии и выражать в своих рассуждениях.
Мы не будем здесь пытаться полнее определить особенности
нравоучения Толстого, которые легче чувствовать, чем высказать; скажем
лишь вообще, что писания его чрезвычайно поучительны, представляют
множество черт своеобразного склада нравственных понятий, притом
такого, который особенно привлекателен для русского чувства.
VII
Итак, у нас явился христианский нравоучитель. Какая радость!
Осуждая его за то, что он впадает в ересь, нужно же помнить, что,
во-первых, он все-таки человек религиозный, следовательно,
несравненно ближе к правильно верующим и несравненно лучше той
бесчисленной толпы, которая отвергает всякую религию, которая питает
к ней презрение и ненависть. А во-вторых, что значит вся его ересь
сравнительно с теми ужасными учениями, которые у нас так
распространены и действие которых еще недавно изумляло весь мир и
заставляло содрогаться Россию, как будто она готова была разрушиться?
Если мы вообще взглянем на наше умственное развитие, на те идеи,
которые жили и господствовали в наших образованных классах,
то мы должны будем признать Толстого явлением и радостным, и
совершенно неожиданным. Наше просвещение, по некоторому неизбежному
ходу вещей, получило общий характер отрицания, — факт известный,
давно и часто обсуждавшийся. Укажем на те два разряда людей, которых
нужно считать лучшими образчиками нашего просвещения, его
наиболее последовательными носителями. Одних можно назвать
анархистами, потому что принцип их — произвол индивидуального человека,
следовательно, отрицание всяких начал нравственных, общественных,
234
H. H. СТРАХОВ
государственных, экономических, как стесняющих индивидуальный
произвол. Эти люди признают только одно начало — равноправность
всех произволов, видят в этой равноправности единственное общее
благо и потому исповедуют политический радикализм, то есть считают
долгом разрушать всякую власть, всякую связь между людьми, идущую
дальше полюбовных соглашений. Такова обыкновенная, торная дорога
нашего просвещения. Отсюда беспрерывное раздражение, постоянные
колебания в частной и в общей жизни. По этой дороге идет главная
масса наших образованных классов, и только внутренние тайные силы,
только незаглушимые инстинкты удерживают большинство от крайних
ходов, на которые толкают его сознательные его понятия.
Но есть другой разряд просвещенных людей, в сущности, гораздо
худший, хотя менее заметный. Они вполне заслуживают имени
нигилистов, потому что действительно ничего не признают, кроме себя
и своих наслаждений. Они ни с чем не борются, а только всем
пользуются. Для них религия, государство, патриотизм — чистые
предрассудки, но предрассудки удобные и необходимые для их спокойствия
и благосостояния. Они бывают часто безукоризненно честны, приличны
и даже справедливы, но только потому, что это наилучшие условия
для приятного общежития, которые глупо было бы нарушать. Но где
можно, там они такие деспоты, распутники и эгоисты, каких еще мир
не создавал. И понятно, что эти истинные нигилисты — великие враги
не только анархистов, но и всякого, кто вздумает тревожить их совесть
серьезными требованиями.
Вот среди какой атмосферы возник Толстой. Полное отсутствие всякой
религиозности, у лучших — злоба, у худших — гниль, и нигде просвета
среди этого мрака. Казалось бы, ревнители веры должны были с ужасом
и сокрушением смотреть на такой ход умов, продолжавшийся многие
годы и десятилетия, и Толстой должен был их обрадовать, как
неожиданно появившаяся заря. Между тем, если судить по многим их речам
и заявлениям, можно подумать, что они равнодушно сносили тьму и хаос
нашего образованного мира и что эта поднявшаяся заря вызвала у них
только раздражение, а не сочувствие. Они вооружились против Толстого
с большим жаром, чем когда-нибудь вооружались против самых жестоких
отрицателей и вольнодумцев. Они вовсе не замечают, что, опровергая его,
они большей частью противоречат сами себе. Толстой стал проповедовать
преданность воле Божьей, нестяжание, воздержание, непротивление;
случалось, однако же, что даже иноки нисколько не радовались этой
защите обетов, ими самими даваемых и соблюдаемых, а, напротив,
находили тут преувеличение и даже клевету на мирскую жизнь.
Споры и нападения, как борьба убеждений, как знак живой любви
к предмету, есть хорошее дело. Понятно, что духовные лица, глубоко
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
235
заинтересованные учениями веры и нравственности, с такою ревностью
выступили со своими суждениями, когда вопрос коснулся важнейшего
их дела. Но очень жаль, что они не всегда ясно видят общее положение
обстоятельств, среди которых действуют. Если бы Толстой принадлежал
как-нибудь к церковной иерархии и вдруг отступил от правильного
учения и старался увлечь своими толкованиями лиц, принадлежащих
к хранителям этого учения, то, конечно, тут была бы возможность
вреда, против которой нужно бы было вооружиться. Если бы Толстой
обратился к простому народу с проповедью каких-нибудь новшеств
в вере, то нужно было бы тоже внимательно стоять настороже. Но ведь
ни того, ни другого сказать нельзя. Он не принадлежит к этим сферам,
он не из них вышел и не в них действует. Он литератор, то есть писатель
так называемых образованных классов; он вышел из нашего светского
просвещения и действует своими писаниями в той сфере, где имеет силу
и значение светская литература. Для духовных лиц он постороннее
явление, сколько видно, не могущее производить на них никакого действия;
для простого народа его рассказы составляют только подтверждение
верований и понятий, в которых этот народ издавна растет. Но для
литературы и литературной публики он есть нечто истинно новое, и тут
происходит его влияние, удивительное по обширности и силе.
VIII
Но как же это могло случиться? <...>
Для пояснения сошлемся на замечания, которые недавно высказал
один ученый иностранец, взглянувший на дело с особой точки зрения.
Французский политико-эконом Сен-Ромен пишет, что у нас,
в России, молодые люди слишком мало расположены «искать
обеспеченной и почтенной жизни в каком-нибудь ремесле или искусстве»,
что русские вообще «имеют резко проявляющийся вкус к отвлечен-
ностям и мечтаниям», и от этого вышло вот что: «В то время, когда
мир стремится по пути материального прогресса, наш реформатор,
граф Л. Толстой, с великолепной наивностью садится себе на краю
дороги и приглашает проходящих присесть около, покинуть
промышленный труд и заняться самой простой, первобытной обработкой своего
клочка земли. Понятно, — восклицает Сен-Ромен, — он останавливает
только тех, у кого нет сил идти, хромых да ленивых. Крепкие проходят,
даже не взглянув на него» *.
* Русск. обозр. 1890, декабрь, стр. 892, 894, 896. (Статья Сен-Ромена «Les
réformateurs russes» явилась в «La science sociale», 1890, t. X. I. 3.)
236
H. H. СТРАХОВ
Вот как представляется эта история тому, кто смотрит на нее
с точки зрения чисто земных благ, «жизни мира», как выражается
Л. Н. Толстой. Французский ученый думает, что «обеспеченная и
почтенная жизнь» есть благо, которого каждый должен желать, что ради
этого блага нужно отгонять от себя всякие «отвлеченности и мечтания»
и что молодые люди, одаренные свежими силами и жаждой
деятельности, непременно должны выходить на «путь материального прогресса,
по которому стремится мир» в настоящее время.
Эти советы, без сомнения, благожелательны; но сейчас видно, что
они берут дело не вполне и потому не могут на всех подействовать.
Есть люди, которые ставят на первое место не то, чтобы жизнь их
была «обеспеченна и почтенна», а то, чтобы она была самоотверженна
или, по крайней мере, совершенно чиста и справедлива. Точно так же
иные не находят ничего привлекательного в том, чтобы идти по пути
материального прогресса и ему содействовать, — напротив, готовы
на труды и жертвы для прогресса нравственного. Осудить таких людей
мы никак не можем, и нужно бы было даже считать великим горем,
если бы они стали у нас исчезать.
IX
Удивительного в наставлениях Толстого нет ничего. «Помилуйте, —
говорил нам один почтенный человек, сердившийся на упадок ума
и творчества Толстого, — он пустился теперь в ту самую мораль,
которую знает и может проповедовать каждый пономарь!» Удивительно
и истинно чудесно то, что эти наставления подействовали, что эта
«пономарская мораль» вдруг обнаружила такую силу в той среде, в
которой прежде была встречаема только скукой и презрением. Уже с
давнего времени на нашу интеллигенцию не имели никакого действия
ни простой народ, ни духовные лица. Народ не мог иметь действия
потому, что просвещенные люди ставили себя далеко выше его и все
мечтали только о том, чтобы просветить и облагородить эту темную
массу. Духовные лица были бессильны потому, что их мысли и речи
так же не входили в общение, не сливались с понятиями и
взглядами нашего просвещения, как масло не сливается с водой. Толстой
сделал нечто, по-видимому, невозможное: он добыл из какой-то
глубины живую воду, с которой могут сливаться и наша обыкновенная
вода, и наше обыкновенное масло. Если вспомним, что он никогда
прежде не был любимцем молодого поколения и что он стал резко
противоречить самым распространенным его стремлениям, то нас
поразит жизненность мысли, которая нашла себе отзыв, несмотря
на эти препятствия.
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд)
237
И странно было бы не радоваться этому действию. Огромное и
благотворное значение деятельности Толстого иногда было признаваемо даже
духовными писателями, то есть теми, чьи суждения в этом деле всего
строже и неуступчивее. Приведем несколько слов, сказанных года четыре
назад в журнале «Странник». Автор доказывает, что со времени
освобождения крестьян умственное движение в нашем обществе, несмотря на свою
порывистость и хаотичность, все же делало успехи, что в обществе есть
память известных уроков, созрели некоторые мысли, и потом говорит:
«Хотите ли убедиться в этом наглядно? Вот вам новейший случай:
стоило графу Л. Н. Толстому выступить с опытом, так сказать, духовной
социологии, как и весь мир за ним двинулся, — двинулась не только
масса (мы можем утвердительно говорить об этом), но двинулась и
наша интеллигенция. И думаете ли вы, что это одно из модных, в старом
смысле, течений, вызванных к жизни случайным потоком
времени и к тому же усиленных классическим именем самого писателя?
Но это едва ли так: имя, конечно, именем, как и талант — талантом,
но есть тут остаток, который покроет собой талант и имя. Остаток —
в том, что Толстой не только наилучшим образом пояснил самую мысль
19 февраля, около которой бродило общество, определив эту мысль
не в моменте политическом, что по существу легкомысленно и
поверхностно и за что, однако же, все время цеплялось общество, а в смысле
социальном, что неизмеримо глубже и достойнее освободительного
начала, — но и в том, что этой же мысли он придал оттенок
духовный, оттенок внутренний, нравственный, поставив вопрос о правде,
о смысле личной и общей жизни, о переустройстве самого общежития...
И в этой мысли — успех Толстого, и здесь же, если брать только один
момент, — его бесспорная заслуга перед самим обществом».
Затем автор утверждает, что обществу теперь «остается сделать один
шаг», чтобы «начать новый период существования», именно нужно
«перейти к другой мысли» и признать две вещи:
«1) что необходима до конца реформа его понятий (в параллель
великой внешней свободе) и 2) что реформу своих понятий оно может
взять только в началах христианства и в понятии самой Церкви»*.
Вот изложение смысла деятельности Толстого, которое в общих
и главных чертах, без сомнения, совершенно верно. Действительно,
эта деятельность была не случайна, а составляет выход из того
напряженного искания и брожения, в котором были умы; действительно,
величайшая заслуга этой деятельности состоит в ее духовном
характере, то есть в том, что она углубилась до самого корня дела, до вечных
начал нашей жизни. Только этим объясняется ее успех; измученные
* «Странник», духовный журнал. 1886, декабрь, стр. 711, 712.
238
H. Н. СТРАХОВ
души, страдавшие долгие годы или нравственной пустотой, или
незаживающей язвой враждебных чувств, вдруг нашли себе успокоение,
и нигилист, начинявший бомбы, с радостью обратился в исповедника
непротивления.
Если взять влияние Толстого в полном объеме этого влияния,
то нельзя не видеть его добрых следствий, и едва ли можно отыскать
какие-нибудь вредные, хотя вред сопровождает обыкновенно и
наилучшие из человеческих дел. Благодаря Толстому, везде, во всех слоях
образованного общества поднялись вопросы нравственности и
религии, то есть возник такой интерес, который глубоко спал и, казалось,
был погребен навеки. Как этому не радоваться! Люди, для которых
церковная проповедь не имела никакого значения, которые жили
одними приличиями, выгодами и удовольствиями или же только
злобились, не находя для себя других мыслей и другого дела, кроме
вражды к окружающему их строю жизни, эти люди вдруг почувствовали
в себе пробуждение религиозных идей, пробуждение совести, поняли,
до какой степени они были неправы пред своей душой и пред
ближними, — и это их умиротворило, подняло, оживило.
И это не у нас только, в России; благотворное влияние нашего
великого писателя отзывается и у других народов, в странах давнего
образования. Вот что писал М. Вогюэ5 в начале прошлого года в «Письмах
о современном положении Франции » :
«Среди высшей культуры, среди молодежи вполне образованной
и сознательно относящейся к самой себе, перемена в настроении умов
поразительна; ее можно резюмировать в нескольких словах: пробуждение
идеализма, доказанное вкусами и первыми произведениями этой
молодежи в литературе, философии и искусстве; широкая терпимость и даже
живая симпатия ко всем формам религиозной идеи; серьезное искание
смысла жизни, возрастающий интерес к религиозным вопросам, большое
равнодушие и даже некоторое презрение к чистой политике; безусловная
потребность искренности в отношении к самому себе и другим, а потому
несомненное отчуждение от революционных догматов и от условных фраз,
которыми вот уже столетие обольщают нашу страну... Распространение
русской литературы играет значительную роль в этом новом течении.
Когда спрашивают у самых выдающихся из этих молодых людей, какая
книга им больше всего по душе, многие отвечают: "Война и мир"» *.
* Русское обозрение. 1890, март, стр. 387.
E. А. МИРОШНИЧЕНКО
«Толки о Л. Н. Толстом».
К истории одной публикации
Диалогичность, присущая русской культуре, всегда привлекала к
себе внимание российских исследователей. Как заметил Б. И. Пружинин:
«Русская философия — это своего рода интеллектуальная, культурно-
философская ткань, где каждый философ — нить, переплетающаяся
с другими» [9, с. 16], потому так важно не утерять связующие нити
истории русской философии, сохранить и восстановить забытые имена
русских мыслителей.
Реконструкция философских диалогов XIX столетия (или
«разговоров», в терминологии, предложенной Т. Г. Щедриной) [9], нам
представляется возможной в ходе изучения наследия ранее забытых
философов, оказавшихся на периферии русской философской мысли.
Одно из таких «забытых» имен — Дмитрий Николаевич Цертелев,
религиозный философ, мистик, идеалист и общественно-политический
деятель второй половины XIX столетия. Эта фигура поразительным
образом объединяет вокруг себя Э. фон Гартмана, П. Д. Юркевича,
Л. Н. Толстого, H. H. Страхова, Вл. С. Соловьева, Д. С. Мережковского,
Е. П. Блаватскую и др.
В данной работе мы на основе архивных материалов постараемся
реконструировать историческую канву одного из таких «разговоров»,
«толков» о Л. Н. Толстом и вокруг Л. Н. Толстого, участниками которого
становятся H.H. Страхов и Д.Н. Цертелев.
Нравственное учение Л. Н. Толстого, как известно, со времени своего
формирования и появления воспринималось неоднозначно. «Одни —
либералы и эстетики считают меня сумасшедшим или слабоумным
вроде Гоголя; другие — революционеры, радикалы считают меня
мистиком, болтуном; правительственные люди считают меня зловредным
революционером; православные считают меня дьяволом», — с
сожалением отмечает писатель в одном из писем 1884 года [8, т. 63, с. 201].
240
Е. А. МИРОШНИЧЕНКО
А его эстетическое учение, по свидетельствам современников, вызвало
в обществе «целый переполох».
Во всеобщее бурное обсуждение учения Л. Н. Толстого, помимо
признанных корифеев русской философии, вступает и молодое поколение
мыслителей, и среди этих имен есть и имя Д. Н. Цертелева. Он
посвящает разбору его учения несколько работ, наиболее крупными из
которых стали «Нравственная философия графа Л. Н. Толстого» (1889)
и «Теория искусства графа Л.Н. Толстого» (1899). С одной стороны,
в этих книгах Д.Н. Цертелев практически «препарирует» учение
Л. Н. Толстого, высказывая собственный взгляд на поставленные
вопросы. С другой стороны, Д. Н. Цертелев перемежает достаточно подробный
анализ практически реферативным изложением некоторых
запрещенных в России того времени трудов Л.Н. Толстого. На наш взгляд,
это свидетельствует о том, что таким приемом Д. Н. Цертелев, не раз
оспаривавший, но тем не менее глубоко сочувствовавший идеям
великого художника и мыслителя, делает свой вклад в легальное
распространение некоторых его идей. Одна из таких работ Д. Н. Цертелева —
«Учение гр. Л.Н. Толстого о жизни» (1890) — становится поводом
для появления на свет «психологического этюда» H.H. Страхова «Толки
о Л. Н. Толстом». В письме от 24 июля 1890 г. к Л. Н. Толстому он
замечает: «Всё ношусь с мыслью писать об Вас. Статья Цертелева об Вас
в июле "Русск<ого> обозрения" — истинное безобразие: так нетолково
всё и путано» [5, с. 407]. H. H. Страхов, с одной стороны, ставит перед
собой непростую задачу — защитить Л.Н. Толстого от превратного
понимания, занимает «позицию... обличителя общественного мнения,
адвоката Толстого» [3, с. 181]; ас другой — истолковать, объяснить
деятельность Толстого после кризиса 1870-х гг., «найти правильную
точку зрения на Толстого» [4, с. 103].
То, что взгляд молодого поколения на личность и учение Л.Н. Тол
стого является в корне неверным, для H.H. Страхова не подлежит
сомнению. Вл. Соловьев и его друг Д. Н. Цертелев всё еще
воспринимаются H.H. Страховым «недоучившимися гимназистами» [5, с. 161],
какими увидел их критик еще в 70-е гг. XIX в. Однако в 1891 г.
Д.Н. Цертелев имеет репутацию серьезного философа, переводчика
и критика, он занимает должность главного редактора журналов
«Русский вестник» (в 1887 г.) и «Русское обозрение» (в 1890-1892 гг.).
Письма Н. Н. Страхова к Д. Н. Цертелеву 1887-1891 гг., хранящиеся
в РГАЛИ, отражают драматическую эволюцию взаимоотношений
«мэтра» Н. Н. Страхова и «молодого» редактора Д. Н. Цертелева.
В письмах 1887-1890 гг. H. H. Страхов, на правах старшего
товарища, рекомендует авторов и материалы, которые следовало бы
опубликовать Д. Н. Цертелеву во вверенных ему журналах; многократно
«Толки о Л. Н. Толстом». К истории одной публикации 241
дает указания по поводу печатания собственных рукописей. Зная
доброжелательное отношение к себе и интерес редактора к философии
Л.Н. Толстого, H.H. Страхов решает опубликовать «Толки...»
именно в «Русском обозрении», о чем сообщает Д.Н. Цертелеву в письме
от 1 февраля 1891 г. Приведем отрывок из этого письма здесь:
«Многоуважаемый Дмитрий Николаевич,
Сегодня я начал статью под заглавием «Толки об Л. Н. Толстом» и думаю,
что во две или три недели я ее кончу. Прошу для нее места в мартовской
книжке Вашего журнала. Статья будет не более 30 страниц... Постараюсь
быть аккуратным, и, если бы что-нибудь мне помешало, извещу Вам
заранее...
Ваш искренне преданный Н. Страхов» [7].
Страхов надеется завершить статью к марту и, будучи уверен в ее
публикации, очень торопится. Однако критика ждут безрадостные
новости. 12 марта цензурный комитет тормозит публикацию «Толков...»,
но Страхов не теряет надежды увидеть свою работу в «Русском
обозрении», о чем сообщает Цертелеву в ряде писем. Редактор держит
Страхова в неведении, что немало задевает Страхова, хотя это
молчание может объясняться тем, что Цертелев не оставляет надежды
на разрешение дела в их пользу. Письмо от главного цензора России —
Е. М. Феоктистова — Цертелев получает еще 20 апреля 1891 г., и ответ
этот неутешителен. Феоктистов видит в Л.Н. Толстом еретика, более
того, сравнивает его учение с сектантством. Поэтому статья Страхова,
полная восхищения Толстым, не может быть опубликована. По
крайней мере, Феоктистов настоятельно советует Цертелеву не пускать
ее в печать в его журнале. Приведем отрывки из этого письма, которое,
как нам кажется, является очень яркой иллюстрацией восприятия
церковью и правительством учения Л.Н. Толстого:
«Г. Страхов видит в них (в произведениях Л. Н. Толстого. — Е. М.) самое
утешительное и благотворное явление нашего времени; вся его статья —
не что иное, как восторженный им панегирик, который (как, вероятно,
он надеется) должен пройти беспрепятственно благодаря придуманном
им приему.
Прием же этот состоит в следующем: г. Страхов умышленно забывает,
что учение графа Толстого возникло не только помимо церкви, но даже
на явно враждебной к ней основе... Благоразумно умалчивая об этом,
г. Страхов старается доказать, что граф Толстой проповедует то самое учение
о... любви к ближнему, которое содержится в Евангелии, и для человека,
не знающего дела, могло бы показаться удивительным, почему же, в таком
случае, проповедь эта подвергается нареканиям...
242
Е. А. МИРОШНИЧЕНКО
Ведь нельзя сказать, чтобы пашковцы проповедовали разврат. Я не знаю
точно, в чем состоит учение штунды, но говорят, что и оно ссылается
на Евангелие. Следует ли из этого, чтобы правительство дозволяло
восхвалять и штундистов и пашковцев?.. Нет, правительство исполняет свой
долг, препятствуя распространению упомянутого учения, ибо в случае
своего успеха они послужили бы к разногласию церкви.
Впрочем, пашковцы и штундисты лучше графа Толстого, потому что
у них есть какая бы то ни было своя религия, а у Толстого никакой...» [6].
Тем не менее «Толки о Толстом» все же выйдут в том же 1891 году
в журнале «Вопросы философии и психологии». Однако отношения
Страхова с Цертелевым будут окончательно испорчены. Конечно,
это было ожидаемо. Объединяющие философов отношения автора и
редактора были слишком слабой связующей нитью. Несовпадение
«старого» и «нового» поколений, наметившееся еще в конце 70-х гг.,
становилось всё более явным, а открытая дискуссия между H.H. Страховым
и Д. Н. Цертелевым по вопросам спиритизма и медиумизма состоялась
задолго до описываемых здесь событий [2]. Поспособствует разрыву
и взаимно-неприязненная полемика H. H. Страхова с Вл. С. Соловьевым,
косвенным участником которой становится единомышленник и друг
последнего Д. Н. Цертелев. Конечно, причина разрыва сокрыта в гораздо
более глубоких мотивах, не до конца осознаваемых, возможно, самими
участниками дискуссии. Виною тому, как удачно сформулировала
СМ. Климова, «противоположность культур уже явно разных
поколений философов, живущих в одном историческом времени» [1, с. 32].
Возможно ли в этих условиях нахождение единственно «правильной
точки зрения на Толстого»? [4, с. 103]. Нам представляется, что нет.
Величина этого русского писателя и мыслителя открывает для
исследователей широчайшее поле для полемики, ставит множество
философских проблем, решение которых составляет задачу и современной
науки. Однако непримиримых противников и ярых защитников учения
Л. Н. Толстого прошлого и настоящего объединяет одно: уверенность
в необходимости анализировать, истолковывать его наследие. Такая
тематическая преемственность, как нам кажется, и формирует единую
ткань русской культуры.
Список литературы
1. H. H. Страхов в диалогах с современниками. Философия как культура
понимания / Ред.-сост. СМ. Климова. СПб.: Алетейя, 2010. 207с.
2. Мирошниченко Е. А. Д. Н. Цертелев о природе спиритизма с
философской точки зрения // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 9. С. 212-221.
«Толки о Л. Н. Толстом». К истории одной публикации
243
3. Салманова И. Ф. «Перетолкование толков» или от Л. Н. Толстого к «Т» //
Юбилейный сборник: к 100-летию Гос. музея Л. Н. Толстого: материалы науч.
сессии, Москва, 25 нояб. — 1 дек. 2011 г. / Гос. музей Л.Н. Толстого; сост.:
Л. Г. Гладких, Ю.В. Прокопчук. М., 2012. С. 175-188.
4. Страхов H. H. Толки о Толстом: психол. этюд // Вопросы философии
и психологии. 1891. Кн. 9. С. 98-132.
5. Переписка Л.Н. Толстого с H.H. Страховым. 1870-1894 / С предисл.
и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб.: О-во Толстов. музея, 1914. 478 с.
6. Письма Феоктистова Евгения Михайловича Цертелеву Дмитрию //
Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 542. Оп. 1. № 41.
Полный текст писем Н. Н. Страхова и Е. Н. Феоктистова см. в журнале «История
философии». 2018. № 2.
7. Письма Страхова Николая Николаевича Цертелеву Дмитрию //
Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 542. Оп. 1. № 37.
8. Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: в 90 т. / Под общ. ред. В. Г. Черткова.
М.: Худож. лит., 1928-1957. Т. 3. Произведения 1852-1856 гг. М., 1935. 346 с.
9. Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии.
М.: РОССПЭН, 2008. 391 с.
В. В. РОЗАНОВ
Идея рационального естествознания
(Рецензия на книгу H.H. Страхова «Мир как целое.
Черты из науки о природе». Издание второе. СПб., 1892)
I
В легкой форме прихотливых очерков г. Страхов разбрасывает перед
глазами читателя факты органической и мертвой природы, всюду
обращая мысль его к этим общим понятиям, в которых содержится
разъяснение смысла неопределенного множества как приведенных,
так и других подобных же фактов. Мысль читателя, нигде не
утомляясь, остается постоянно возбужденною разнообразием предметов,
перед ним проходящих, и, главное, особою точкой зрения, с которой
они ему показываются. Автор всегда почти говорит о самом
обыкновенном, каждому знакомом из собственного опыта или из книг; но в этом
обыкновенном он неизменно указывает что-нибудь особенное, что
ранее вовсе не приходило в голову читающего и о чем не натвердили
ему во множестве прочитанные журнальные статьи о тех же предметах.
Таков общий характер книги, заглавие которой мы привели выше,
одновременно и самой популярной по философии в нашей литературе,
и одной из самых глубоких и содержательных в ней*.
Говорить о всем содержании этой книги — значило бы
останавливаться на всех бесчисленных вопросах, возникающих при
рассматривании природы органической и мертвой. Мы укажем только на общее
направление ее, на те главные линии, по которым движется мысль
автора, прихотливо перебегая от одной частности к другой, и, по-
видимому, более всего занятая интересом этих частностей.
* В западной литературе есть одна только, нам известная, книга, которую по
замыслу своему, по разнообразию, легкости и содержательности напоминает книга
г. Страхова, во всем остальном ей, однако, противоположная. Это — «Разговоры
о множестве миров» Фонтенеля.
Идея рационального естествознания
245
С точки зрения на науку, как на некоторое построение наших
сведений о природе, обычно принято начинать исследование с наиболее
простых, элементарных существ, чтобы потом, мало-помалу, прилагая одну
черту к другой, перейти от них к самым сложным. Но наиболее простые
существа, столь легкие для описания, могут быть вместе и наименее
понятными для человека. С точки зрения понятности, т.е. — с
философской, гораздо правильнее поэтому начинать обсуждение природы
не с самого элементарного, но с самого понятного, непосредственно
известного уже для нас, хотя бы оно и было, одновременно, самым
сложным. Так именно поступает наш автор и, прежде всего,
рассматривает, в ряде рассуждений, самого человека. Этим рассмотрением
он вводит читателя в круг идей об органическом и безжизненном,
о вещественном и духовном.
Организмы суть существа развивающиеся, в противоположность
безжизненным телам, которые все делаются, образуются силами
и влияниями для них внешними; таким образом, средоточие,
образующая причина, главное — для организмов заключено внутри их,
для мертвых тел — вне. Далее, совокупность перемен, испытываемых
каким-нибудь телом, неопределенно продолжительна, как и самое
его существование; как бы много их ни было, они никогда не сложатся
в процесс, как необходимое и последовательное видоизменение тела,
через которое оно становится лучше; напротив, развитие, через которое
проходит организм, представляет собою тесный круг видоизменений
развивающегося, из каждой стадии которого оно выходит более и более
совершенным*. Организм есть самоулучшающееся существо — вот
его самое важное отличие от всякого мертвого предмета природы.
Возможность применить к нему понятия «хорошее» и «дурное», и
притом хорошее или дурное для самого организма — это обнаруживает
в нем присутствие совершенно нового чего-то, вовсе неизвестного
в безжизненной природе. Отсюда — явления в них болезни, уродства,
отсюда — понятие выздоровления, как возвращения к лучшей норме,
как восстановление своей целости и полноты. Только в организмах
мы наблюдаем это удивительное явление, что, потеряв какую-нибудь
часть, они из крови своей, из бесформенного материала своего тела
восстановляют в прежнем виде эту утраченную часть: как будто внутри
их, за покровом видимых вещественных очертаний, есть у них
невидимые и строгие очертания, по которым течет материя их тела, только
облегая (эти очертания) собою, видимо овеществляя их в процессах
восстановления, — подобно тому, как кусок мела, которым геометр
Организмы — каждый — суть «я», механика всегда — «это», «то», «вон то».
Вот краткое выражение дела. — Примечание 1913 г.
246
В. В. РОЗАНОВ
чертит сложную фигуру, только обнаруживает идею этой фигуры,
бывшую ранее в уме его*.
Если каждый организм в определенный момент своего
существования есть синтез таких необходимых, овеществленных
очертаний, — то, в свою очередь, этот синтез подлежит столь же определенным
и строгим передвижениям во времени, т.е. видоизменениям;
возрастание, зрелость и смерть суть только самые важные моменты этого
передвижения. Таким образом, двоякое и одинаково строгое
ограничение лежит на всяком организме: он ограничен, определен в
пространстве — без какой-либо способности переступить через это ограничение,
лишь с слабою возможностью от него отступить — заболеть или стать
уродливым; и он ограничен, определен во времени, между моментами
зачатия и естественной смерти — также без всякой возможности через
них переступить, и лишь с возможностью отступить несколько от
второй — умереть случайно ранее времени от какой-нибудь побочной
причины. Таким образом, из всех существ природы организмы суть
наиболее ограниченные**, тесно определенные; и в связи с этим —
наиболее совершенные в ней.
Рядом остроумных рассуждений г. Страхов показывает, что по
строению своего тела человек есть механический предел для органической
природы, всякое видоизменение которого в одной какой-либо части
неизбежно повлекло бы за собою ухудшение в нескольких других:
легкость, красота, подвижность, сила — все это соединено в нем таким
образом, что малейшее усиление которого-нибудь из этих качеств
тотчас вызвало бы ослабление всех остальных. Таким образом, человек
есть наиболее совершенный из организмов, и всякие предположения
о том, что возможны в природе еще другие, более совершенные, нежели
он, одушевленные существа — не имеют для себя никакого
правдоподобия, как не имеет правдоподобия разрешение задачи о квадратуре
круга — здесь на земле в будущем и равно теперь — во всей вселенной.
Обращаясь от этой внешней предельности человека к внутреннему
смыслу, который скрыт за ней, г. Страхов останавливается на
совершенно особенном и удивительном его отношении к мирозданию. Внешние
влияния, действуя на безжизненные тела, в сущности разрушают их или
вообще нарушают их целость, единство с собою; удар, раздробляющий
камень, — правда, образует множество новых камней, но — прежнего
* Все мертвое — без зародыша-, все живое — с зародышем. Зародыш-то,
развертываясь, и творит жизнь. «Зародыши» суть души и источники жизни всего
«с глазами», «глазатого» мира (живого). Вот — дело. — Примечание 1913 г.
** Всякое ограничение есть отречение,— и, пожалуй, можно сказать, что
«аскетизм» входит в вещество живых вещей. «Ты — совершен насколько уединился,
насколько отрекся». — Примечание 1913 г.
Идея рационального естествознания
247
камня уже нет; кислота, которою мы обдаем тот же камень, превращает
его в ряд газов и земель, не имеющих с прежним его существом ничего
общего по виду и внутренней структуре. И какие бы другие действия
природы мы ни избрали, мы увидим, что все они или совершенно
не влияют на безжизненные тела природы, или влияют так же, как
только что указанные, т.е. разрушают их. Если от них мы перейдем
к растениям и животным, то увидим, что многие из влияний природы
на них уже действуют не разрушая, но поддерживая, продолжая их
существование, однако же нисколько его не трансформируя. Пища или
воздух, вбираемые растением или животным, ничего в сущности к ним
не прибавляют нового: они заменяют собою, становясь свежею живою
тканью, прежнюю уже обветшалую ткань, и через это поддерживают
строй и силы организма в прежнем виде. Как в первом случае, по
отношению к минералам, так и во втором, по отношению к органическому
миру до человека, мы во всяком единичном существе находим только
некоторую реальность, которая может или остаться такою же, какой
была ранее, или — разрушиться.
В противоположность всему этому, всей природе до себя, в
человеке реальное (организм) есть только необходимая, тесная основа
для обнаружения бесчисленных явлений и свойств, которые могут
совсем быть не проявлены (и не проявляются в бесчисленных
индивидуумах), но по которым единственно мы и узнаем и оцениваем
истинную природу человека, его внутреннее и глубочайшее существо.
Человечность — это понятие так далеко отходит от «натурального»
состояния людей, что в нем мы не замечаем для нее еще никаких почти
задатков, видим именно только физическую основу, на которой может
возрасти это идеальное явление. И оно возрастает по мере того, как
шире и шире, дальше и дальше человек начинает соприкасаться с
природой. Прошедшее интересует его, будущее манит его к себе, далекие
звезды, глубокие пласты земли — все кажется ему бедным и скучным,
через все это, в глубоком самонедовольстве, он снова и снова пытается
переступить если не мыслью, то воображением. Никогда, ни на какой
степени знания, он не хочет поверить, что уже «все узнал»; напротив,
чем более он узнает — тем сильнее пробуждается что-то особенное
в нем и глубокое — от сего он говорит себе, что «ничего еще не знает».
Так по мере того, как возможное прежде — становится в нем
действительным и как темные предчувствия заменяются ярким сознанием, —
на месте проявленного, и еще в большем обилии пробуждаются новые
темные влечения, необъятные возможности чего-то еще нового. И чем
далее идет проявление этой скрытой действительности, чем более
мы видим все новые и новые явления, — недавние явления на древней
основе, — тем с большей уверенностью мы говорим об этой основе:
248
В. В. РОЗАНОВ
«вот что содержалось в ней, вот каков человек, вот к чему он
способен». В противоположность всегдашним приемам своим в обобщении,
мы не постоянное, не повсюдное в человеке считаем главным в нем,
выражающим его природу, — не эту жалкую его «двуногость и
бескрылость»; но считаем главным именно особенное, иногда на миг
проявляющееся в нем, и всегда непременно личное (одному лицу
принадлежащее). То, что совершил Ньютон, что почувствовал Рафаэль,
что выразил Бетховен — это для определения человека, для понятия
о его сущности важнее, чем черный цвет кожи десятков миллионов
людей; это для самих негров существеннее и их самих выражает более,
нежели то, что они все рождаются черными.
Таким образом на самых «далеких концах своих, светом мерцающих
звезд, движением невидимых существ на узком поле микроскопа,
глухими преданиями о давно исчезнувших народах — природа действует
на человека, возбуждая, обнаруживая его скрытую сущность, но не
подавляя, не затирая ее; не низводя ее до уровня своей мертвенности,
своего механизма, своей слепой и грубой вещественности, но возводя
к высшей идеализации. И, между тем, только «подобным
воспринимается подобное», и что не имеет никакого соотношения с первозданной
природой человека, конечно никогда не могло бы и быть воспринято
им, — как ухо до конца не воспринимает света или глаз — звука. И,
таким образом, если вся природа действует на человека, если она вся
только проявляет, выводит на свет его сущность, то не ясно ли, что
уже от начала со всею этой природою соотносится и темно
взаимодействует essential hominis; что в этом темном взаимодействии, от начала
предуставленном и в истории только обнаруживаемом, и кроется
сущность души человеческой, ее особенность, ее единственность в
мире, наконец, ее великий и святой смысл. Как для сферы нет многих
центров, так и для мира в красоте и в его смысле нужно было только
одно средоточие, где бы он мог весь отразиться, быть воспринят весь:
это и есть — человек.
Несомненно, что с этою многосторонностью человека, его
всемирной связностьюу неотделимо соединена и его физическая хрупкость:
из всех организованных существ он наиболее болеет, наименее способен
выносить резкие перемены в окружающей действительности. Это
оттого, что из всех живых существ он совмещает в себе наибольшее число
пределов, что с разных сторон и полно, как ни одно из них, он
определен, и притом ненарушимо. Множество физических влияний, которые
даже не затрагивают собою другие существа, потому что вовсе с ними
не соотносятся, колеблют и разрушают жизнь человека, — потому
что не только соотносятся с ним, но, с приближением к нему, входят
в круг множества других соотношений, из которых ни одно не должно
Идея рационального естествознания
249
быть нарушено. Из всего в природе он выражен в наибольшем числе
определений: поэтому существование его наиболее в ней стеснено,
сужено, и наибольшим же числом причин нарушимо; хотя оттого же
он и наиболее совершенен, а следовательно, предусмотрением своим
властен над самими причинами.
II
Среди аналитических рассуждений, проводящих границу между
мертвым и органическим, между органическим только и
одухотворенным, г. Страхов бросает освещающие мысли в обе стороны — в мир
нравственных движений человека и в наиболее темный для разумения
мир безжизненного вещества. Этому последнему посвящена вся вторая
половина его книги, где рассматривается древний атомизм и новейшее
учение об элементах в химии, теория физических сил и закон
сохранения энергии*. Среди многого интересного, что здесь высказано им,
отметим указания на коренную причину образования материализма.
Эта причина, говорит наш автор, кроется в преобладающей
способности большинства человеческих умов к представлениям только,
а не к понятиям; в силу чего механизм в отношениях всех предметов,
распадение всех предметов на вечные, неизменяемые атомы — есть
единственная форма, под которою непреодолимо является их
созерцанию целая природа. И механика — представление, образ,
и атом — тоже представление и образ: вот в чем дело и вот где
причина торжествующих механических учений. «Что непредставимо, того
не существует» — это есть первая аксиома, из-под видимой
очевидности которой не могут выбиться материалисты, разлагающие лишь
на представимое всякий акт в природе, всякую деятельность в ней,
ее жизнь, ее неуловимые внутренние отношения. «Вещество», «атом»,
«бытие», но непременно неподвижное и ограниченное, что можно
было бы выделить перед собою, поставить перед своим умом, и столь же
отделимое от всего и доступное воображению «движение» — вот два
основные начала, с помощью которых материалист объясняет невольно
для себя и своего ума всю природу** без исключения. Между тем область
действительного обширнее сферы представимого, и даже, прибавим,
она шире сферы только мыслимого. Никак нельзя представить себе
* Глава о законе сохранения энергии, весьма любопытная по истолкованию его
смысла и исторического происхождения, появилась первоначально в шестой книге
«Вопросов философии и психологии» за 1891 г. и составляет ценное прибавление
ко второму изданию книги «Мир как целое».
** Уже Декарт пытался свести всю природу к протяженности, и в ней — к фигурам,
их положению и численным отношениям.
250
В. В. РОЗАНОВ
радость, т.е. как чисто душевный акт, не как лицо только или
движение радующегося человека; и то же должны мы сказать о всяком
подобном душевном состоянии; и, между тем, оно действует, является
источником поступков, родником поэтического или художественного
вдохновения, к которому применив термин «механически действующей
причины» — мы грубо ошиблись бы. Вообще как представимо только
количественное, имеющее какую-нибудь меру, так и мыслимо только
определимое в самой своей сущности: а между тем природа полна
еще и качественного, и среди последнего есть много даже такого, что
определимо лишь косвенно: через указание вытекающих из него
последствий, или порождающих причин, или каких-нибудь неизменно
сопутствующих обстоятельств, но отнюдь не в природе своей. Так и чувство
радости, конечно, может быть определено как «душевное состояние,
которое человек ищет и достигнув которого — стремится его
продолжить», или еще как-нибудь иначе; но ясно, что во всяком подобном
определении сущность этого акта вовсе не будет выражена, хотя бы
этот акт и был в нем отличен от всего другого, указан. Материализм,
оперирующий только с представимым, достаточен и совершенен как
метод объяснения некоторой части природы, именно всей той,
которая видима, ощутима, которая всюду и постоянно перед глазами
всех. Но когда из частного метода он пытается стать философией всей
природы, он впадает в такую же ошибку, в какую впал бы математик,
задумавший отвергнуть алгебру на том основании, что мнимые
величины, отрицательные и дробные показатели не покрывают собою ничего
реального, совершенно непредставимы и лишь условно мыслимы.
V
Повсюду мы видим, таким образом, что организация живых
существ строго отвечает условиям их внешнего существования; и, зная
эти условия, мы почти выстраиваем своим умом их организацию,
предвидим, какою она не может быть и какою должна стать. Наблюдаемое
в природе так точно отвечает умственно требуемому, что не может
быть сомнения в том, что соответствовало же некоторым умственным
требованиям и тогда, когда возникало. Возрастание взаимодействий
с внешним миром есть, по-видимому, основная задача, развиваемая
в органическом мире,— взаимодействий, т.е. некоторой
деятельности, как противоположности неподвижному бытию. Вещество,
косное и темное, ко всему безотносительное — вот один полюс мира,
вот начало всякой космогонии, какую мы способны себе представить.
Идея рационального естествознания
251
На этом полюсе еще не может быть взаимного притяжения частей,
потому что притягиваться — это уже значит чувствовать друг друга, быть
не безразличным к окружающему; еще менее может осуществляться
здесь соединение веществ в определенных пропорциях для образования
тел, потому что оно предполагает уже известные градации и различия
во взаимном ощущении*. Как всемирное тяготение, так и частичное
сродство — уже моменты в процессе образования мира, но не момент,
этому процессу предшествующий, не его исходная точка. В
противоположность этому всебезразличному бытию, на другом полюсе мира
нам предстоит представить себе чистую деятельность, как отрицание
косности и безразличия; и как там бытие не сопровождалось никакой
деятельностью, так здесь мы можем ожидать, деятельность не
сопровождается никаким бытием, как своей основой. Некоторое подобие
такой деятельности мы наблюдаем в уме человека, материальная
основа у которого, конечно, есть, но она уже слабо уловима в своей связи
с ним; напротив, его деятельность, при этой незначительной основе,
почти безгранична по своей разнообразности, объему, напряжению, —
в особенности, если мы сравним ее с «деятельностью» массивных тел
природы, которые только взаимно притягиваются.
Между этими полюсами движется мировой процесс, в котором
деятельность мало-помалу превозмогает косность. Каждый вид существ
представляет собою какую-нибудь степень этого превозмогания —
меньшую, если он стоит ближе к его началу, большую — если он ближе
к его завершению. Как синтез противоположных, взаимно борющихся
начал, каждый вид существ непостоянен в своем бытии; но, разрушаясь,
он переходит неизменно в высший вид, потому что именно превозмога-
ние деятельности над бытием составляет сущность мирового процесса.
Только в разрушении индивидуальных существ, в смерти, наблюдаем
обратное падение к косности, возвращение вещества, связанного
деятельностью, к свободному и более элементарному прежнему состоянию.
VI
Деятельность и взаимное отношение с окружающим мирозданием
в человеке доведены уже до возможного своего предела, непереступае-
мого для животной организации. Интересно, как это подтверждается,
* Как само собою разумеется, здесь и речи не может быть об ощущении, о чувстве
в том смысле, как это явление существует для животного. Но несомненно, что
в момент соприкосновения двух взаимно соединяющихся тел, каждое из них
испытывает в себе нечто, чего оно вовсе не испытывает при близости к телу,
к которому индифферентно. Только эту неиндифферентность, чисто внутреннюю,
до самого соединения, и соединение производящую мы и имеем здесь в виду.
252
В. В. РОЗАНОВ
между прочим, устройством его органов чувств. Эти органы суть
орудия общения человека с миром, и если бы оно могло еще
расшириться, — это могло бы произойти не иначе, как через расширение именно
этих органов, т.е. через прибавление к тем пяти, какими обладает
человек, еще шестого или седьмого. В разное время многие
мыслители и действительно предполагали возможность такого расширения
способности ощущения, — если не для человека, то для некоторых
подобий его, населяющих другие миры. Предположения о жителях
планет, организованных то выше, то ниже человека, и в первом
случае одаренных более обильными органами чувств, а в силу этого
и понимающих мир совершеннее, чем мы его понимаем, — вытекают
именно из таких соображений. Имена Кеплера, Гюйгенса, Вольтера,
Лапласа, Огюста Конта — вписаны в историю подобных попыток
перенестись воображением на другие миры, посмотреть хоть в мечте
своей на то, что там есть, и, сообразно всегдашней натуре человека,
представить нечто неизмеримо лучшее, чем что мы знаем или чем
владеем на нашей земле, которую мы так мало — гораздо менее, чем
должны бы — любим.
Возможность разрешить этот вопрос, без какого-либо
действительного общения с другими мирами, для всякого показалась бы
мало правдоподобной. И между тем рядом остроумных соображений
г. Страхов показывает, как в пяти чувствах, которыми одарен человек,
уже положен предел вообще всякого общения с миром.
Чувства, как орудия общения субъекта с объектом (человека или
кого другого с внешней природой), могут быть трех родов: или только
субъективные, или субъективно-объективные, или только
объективные. Ясно, что кроме этих трех видов отношения между субъектом
и объектом никакого четвертого еще не может быть; и все они уже
осуществлены в чувствах человека.
И в самом деле, вкус и обоняние суть чувства совершенно
субъективные, так как в них выражаются лишь наши собственные внутренние
состояния, а не какие-либо действительные качества внешних вещей.
Горькое или ароматное — не горько и не ароматно, пока вне нас;
там — это просто вещества, тяжелые или легкие, несоединимые или
соединимые, но в этом соединении не горькие и не ароматные друг
для друга. Сверх этих двух чувств, у человека есть еще множество
внутренних ощущений, например возбужденности, усталости, какой-
нибудь боли; но в отношении к внешнему миру, для связи с ним, есть
только эти два. Интересно, что они соответствуют двум состояниям
тел, в каком последние единственно могут действовать друг на друга
как известные вещества, составы, — ив каком, конечно, могут
единственно действовать на человека: орган вкуса соответствует жидкому
Идея рационального естествознания
253
состоянию тел, орган обоняния соответствует газообразному
состоянию тел. Есть еще третье, твердое, которое или переходит в жидкое
под влиянием слюны для одних тел, и тогда они действуют на вкус,
или не переходит в это состояние для других тел, и тогда они вовсе
не действуют на человека и не могут действовать. И в самом деле,
только в растворе или как газы тела действуют друг на друга составом,
corpora non agunt nisi soluta — это аксиома в химии. Два субъективные
чувства человека и имеют отношение к субъективному же,
исключительно внутреннему содержанию тел — или положительное, указывая
их пользу для него, или отрицательное, предупреждая об их вреде.
Нет третьего состояния, в котором тела также действовали бы своим
составом, и следовательно не может быть третьего органа чувств,
аналогичного обонянию и вкусу.
Посмотрим, однако, не может ли быть дальнейшего развития
человеческих ощущений по которой-нибудь из двух остальных категорий.
Субъективно-объективное чувство у человека одно: это — осязание.
Оно в равной мере есть чисто субъективное ощущение, есть
состояние нашего тела, но и вместе — объективное, ощущение внешнего
предмета, который к нашему телу прикасается. Через него для нас
определяется граница своего тела, т.е. то, что равно обращено к
субъекту и к объекту. И как не может быть двух подобных границ, так
не может быть никакого второго субъективно-объективного органа
чувств.
Наконец, объективных чувств у человека два: зрение и слух.
Видимое и слышимое является нам так, как оно существует вне нас,
без всякого ощущения их вхождения и без всякого же отнесения нами
их внутрь себя. Треугольник, который я вижу, остается для меня там,
где я его вижу, и его форма или размеры вовсе не состояния только
моего глаза, вызываемые неизвестными в своей сущности внешними
возбуждениями. То же можно сказать о звуке или всякой
последовательности их: происходя вне нас, они без всякой перемены в себе
на пути к воспринимающему их органу и без всякого же изменения нас
самих в момент восприятия, являются просто как бы происходящими
внутри нас.
Всматриваясь во взаимное отношение этих двух чувств, крайне
несходных, мы без труда заметим, что в одном из них воспринимаются
нами пространственные отношения, в другом — временные;
пространство же и время суть как бы две координаты, по которым
устроен и существует мир протяженный и вместе — текущий. И как нет
еще никакой, им соответствующей и равнозначащей координаты, так
и для восприятия этого мира, для его усвоения нет и не может быть
еще никакого третьего чувства, аналогичного зрению и слуху.
254
ß. В. РОЗАНОВ
VII
Мы отметили, что для непосредственного усвоения внутреннего
содержания вещей служит нам внутреннее же, чисто субъективное
чувство; для усвоения его внешности, как мы видим, служат, напротив,
чувства чисто объективные. По аналогии мы должны допустить, что
внутреннейшее, что происходит в нас, отвечает внутреннейшему же, что
лежит в мире. Но здесь мы переходим к соображениям, которые по
самой своей сущности не могут иметь никакого подтверждения в опыте;
они переступают также за грань и вообще рационального понимания
вещей — в область совершенно иного их постижения. Мы не будем
их продолжать, но ограничимся приведением глубоких и прекрасных
слов, которые высказаны нашим автором о вечных и инстинктивных
усилиях человека переступить эти грани.
«Если мы чувствуем недовольство рациональным созерцанием, если
оно в нас что-то затрагивает и чему-то противоречит, то нет никакого
сомнения, что источник такого разногласия заключается не в уме,
а в каких-нибудь других требованиях души человеческой. Человек
постоянно почему-то враждует против рационализма, и эта вражда
упорно ведется всеми: спиритуалистами и материалистами, верующими
и скептиками, философами и натуралистами»*.
«Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли».
«Так как мы назвали мир целым, то, применяясь к этому
выражению, можем сказать, что человек постоянно ищет выхода из этого
целого, стремится разорвать связи, соединяющие его с этим миром,
порвать свою пуповину».
«Едва ли когда это было так ясно, как в наше печальное время, —
время очень интересное, но страшно тяжелое. Люди мечутся, ища
выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть довольными этою
жизнью, как она есть. Самые ограниченные — спиритисты — уже
переделали мир по-своему и наслаждаются беседою с жителями
планет. Другие, политические фанатики, мечтают о том, чтобы
переделать человека, изменить ход всеобщей истории. Чтобы найти себе
какой-нибудь выход, они разжигают в себе чувство недовольства
современным порядком мира, жизнью, нравами и свойствами людей,
и тогда начинают верить в какое-то новое человечество, которое будет
свободно от самых коренных свойств человеческой природы и которое,
в сущности, такая же мечта в будущем, как жители планет, беседующие
В другом месте он замечает, что материалист, которому сказали бы, что его атомы
совершенно понятны, тотчас и горячо восстал бы против этого.
Идея рационального естествознания
255
со спиритистами, — в настоящем. Так стремятся люди насытить
желания своего сердца; одни вздыхают о прошедшем и погружаются в него,
облекая его фантастическими красками; другие мечтают о будущем;
третьи населяют планеты и звезды. Никто только не думает, что задача
должна быть решена теперь и здесь и что всякое перенесение решения
в другое время и в другое место есть только обман, которым мы сами
себя тешим. Если же кто это и чувствует, то не умеет ни формулировать
вопроса, ни приняться за его решение; современное просвещение не дает
для этого средств. Так что в настоящее время едва ли не самый мудрый
тот, кто, питая некоторое доверие к Неисследимому, отказывается
от попыток схватить умом роковую задачу и находит удовлетворение
в ее практическом решении, т.е. в возможном исполнении долга».
У г. Страхова есть манера, одновременно и привлекающая к нему
читателя, и раздражающая его — не договаривать своих мыслей до конца.
Так и здесь, указав на факт, глубину и верность которого мы все живо
чувствуем, он оставляет судить о нем читателю, полагаясь лишь на свои
силы. Здесь сказывается не одно опасение впасть в ошибку, сказать что-
либо определенное о предмете, столь трудно определимом. Сверх этого,
тут есть нежелание обнаружить самые заветные, быть может, из своих
убеждений перед толпой, каковою, в конце концов, не могут не
представляться каждому автору его читатели. Для каждого пишущего есть
основание предполагать, что если среди этих читателей не один станет
для него близким другом, то гораздо больше найдется таких, которые
не поймут и профанируют именно самые дорогие его убеждения.
Здесь сказывается темная сторона вообще печати: через нее общение
людей между собою чрезвычайно расширилось, но оно не стало лучше
и, в особенности, ближе. И это потому особенно дурно, что именно в этой
близости высказываются если не самые «великолепные», то самые
дорогие наши черты. Есть великий недостаток во всяком виде
общественности, где люди являются более «прибранными», нежели как
бывают обыкновенно, но и вместе — неизмеримо более чуждыми друг
ДРУгу, чем как могли бы стать, чем есть на самом деле. Мы здесь входим
опять в сферу «иррационального»: быть непременно только разумным,
быть всегда правильным, размеренно добродетельным — вовсе не есть
для человека наилучшее. Правда, известно изречение, что «гений
для лакея своего, который все знает, — уже не есть гений»; но это
потому, без сомнения, что лакей есть только — лакей. Для близкого друга
своего, для круга родной семьи гений, конечно, есть иногда смешной
чудак; иногда он даже — порочный чудак; но, пробуждая любовь или
жалость в близких людях, он все-таки для них лучше, чем только
гений — в его спокойствии, в его величии, в его удалении от людей.
Здесь мы невольно припоминаем гениальный вымысел Достоевского
256
В. В. РОЗАНОВ
«Золотой век в кармане», к которому и отсылаем читателя для
пояснения своей мысли.
У г. Страхова есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим
читателям, — и, желая влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше
образовать их ум и сердце, он не говорит еще самого интересного, что
они могли бы узнать от него. То, что вызывалось в давние годы
необходимостью, потом стало уже привычкой. Но для читателя сочинений его,
для понимающего их смысл и значительность, всегда останется
печальным, что между ним и множеством людей никогда не будет совершенно
отброшена разделяющая завеса, что некоторая пленка благоразумия
всегда будет удерживать и его, и других на почтительном расстоянии
от того, к кому они и могли бы и хотели — быть гораздо ближе.
1892, г. Елец
Литературная личность H.H. Страхова
Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную
особенность в умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает
главную прелесть его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать
и все-таки находить еще новые мысли в них, которые или остались
незамеченными при первом чтении, или впечатление от которых
закрылось впечатлением от других, более важных мыслей. Эта особенность
его таланта становится всего более ярка, когда переносишься мыслью
от него к его другу, Н. Я. Данилевскому *. Связанные тесною и
многолетнею дружбою и единством убеждений, они были люди в сущности
противоположного умственного склада. Н. Я. Данилевский разработал
две громадные идеи, из которых одна положительная по содержанию,
другая — отрицательная. Мы разумеем его теорию
культурно-исторических типов, развитую в книге «Россия и Европа», и критику
дарвинизма, изложенную в двух томах неоконченного сочинения, которое
носит название этой теории. По своему универсальному значению обе
эти идеи высоко возвышаются над умственною производительностью
нашего общества, и, конечно, чем далее ряды сменяющихся
поколений будут отходить от нашего времени, тем яснее проступят перед
ними величественные черты умственного здания, которое он пытался
воздвигнуть. Но, подходя ближе к этому зданию, мы замечаем, что
многое в нем выполнено просто и грубо, хотя в общем — всегда верно.
Литературная личность H. H. Страхова
257
Истинность и совершенство целого при грубости в обработке частей
есть общая черта научно-литературных произведений Данилевского.
Он всегда видел только главную идею, для которой работал; эта идея
поглощала его мысли, и он менее внимательно смотрел на самый
процесс выполнения. Оттого, раз прочитав его труды и согласившись с ним
в главном, не имеешь охоты возвращаться к ним снова, зная, что не
найдешь в них уже ничего нового. И, однако, самые идеи его уже входят
в систему ваших убеждений, они не могут ни исказиться, ни забыться.
Совершенно противоположны по своему характеру труды г.
Страхова. Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли
выделить которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только их.
И, что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною
сложностью и тонкостью, они трудно усвоимы — и это несмотря на
совершенную прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно
выражены, но — сами по себе, именно как мысли*. Все слишком
ясное и простое, все умственно грубое не особенно занимает его, и если
во 2-м томе «Борьбы с Западом» так много места отведено им теории
Дарвина, то это, конечно, лишь из желания выяснить достоинства
труда Данилевского и этим почтить память своего умершего друга.
В действительности же теория эта, слишком простая и грубая, не могла
надолго приковать к себе внимание критика, раз ее истинное
достоинство стало для него ясно. С неудержимою силою его мысль влечется
к темным и неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории
и в вопросах общественных; он ходит около этих областей, тщательно
взвешивает все, что о них думали выдающиеся умы разных времен
и народов; и вывести из этой темной глубины хоть что-нибудь к свету
ясного сознания — вот что составляет его постоянную и тревожную
заботу. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли:
вы никогда не увидите у него повторений того, что уже известно вам
из других книг; отсюда же — отрывочность этих мыслей, их редкая
законченность и вместе — обилие их. Первое происходит оттого, что
он никогда не хочет говорить более, нежели сколько знает; второе —
оттого, что, чем труднее занимающий его вопрос, тем менее он в силах
оставить его и все с новых и новых сторон пытается его разрешить.
Вот почему он не создал ни одного большого систематического труда:
«заметка», «очерк» или, как дважды озаглавливает он свои статьи,
«попытка правильной постановки вопроса» — вот самая обыкновенная
и действительно самая удобная форма для выражения его мыслей.
Они напоминают собою ажурную работу необыкновенной тонкости
Сюда относится много удивительных и лучших страниц в «Общих понятиях
психологии и физиологии».
258
В. В. РОЗАНОВ
и изящества, каждый уголок которой занимает вас, в которой вы
открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется
однородною. Его труды — это не величественный храм, который издали
привлекает путника, но удивительная и разнообразная орнаментация,
которую он неожиданно замечает, войдя в него, и прихотливые изгибы
которой уходят в неопределенную даль. Ничего крупного и резкого
не запоминается в ней, но, долго всматриваясь в ее мелкие черты,
начинаешь чувствовать пренебрежение и даже неприязнь ко всему
умственно-грубому, что, отвернувшись, находишь снова в обыденной жизни
и что раньше не казалось грубым. Она не столько входит какою-нибудь
определенною мыслью в состав ваших убеждений, сколько изощряет
вашу мысль и воспитывает ее, и, хотя бы предметом ее стали другие
вопросы, на всем, что создастся ею, ляжет уже своеобразная печать.
Мы сказали об однородности впечатления, которое остается от
чтения всех трудов г. Страхова. Это зависит от единства настроения, с
которым писались они, и от цельности мысли, отсутствия разорванности
в ней, несмотря на разнообразие предметов, которым они посвящены.
Множество мыслей, переплетаясь и, по-видимому, перерывая друг
друга, в действительности связываются в одну непрерывную ткань.
Вы чувствуете, что, о чем бы ни писал он, — будет ли то научный
вопрос, явление литературы, политическое увлечение — он постоянно
думает о чем-то одном: в отношении к этому одному, не называя его,
он высказывает все свои мысли, чего бы ни касались они прямым,
точным значением своих слов.
Это сообщает его разнообразным критическим, публицистическим
и научным статьям глубокую, хотя не резко выраженную
сосредоточенность. Следя за направлением, в котором она возрастает, мы открываем
две идеи, которые, не будучи центром всех его мыслей, стоят наиболее
близко к нему; самого же центра он никогда почти не касается словом;
о чем он постоянно думает, он не говорит совсем. Вы только
чувствуете этот центр, открываете его из общего течения его мысли и из общего
настроения, под которым он писал все свои труды.
Два ближайшие к центру сосредоточия, о которых заговорили мы, —
это, во-первых, идея рационального естествознания и, во-вторых, идея
органических категорий как особых понятий, исходя из которых можно
было бы наконец пролить объясняющий свет на никогда не
разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена в самом почти
раннем и наиболее цельном, закругленном труде его «Мир как целое;
черты из науки о природе» ; вопрос о вторых уже поставлен им в первом
не специальном его труде «О методе естественных наук и значении
их в общем образовании», и к нему же вернулся он снова и с
величайшею энергиею в позднем и лучшем труде своем «Об основных понятиях
Литературная личность H. H. Страхова
259
психологии и физиологии». Нужно прочитать обе эти книги, чтобы
понять всю глубину мысли, которая заложена в них, чтобы дать себе
ясно отчет во всей гениальности догадок, которые здесь высказаны,
но, к сожалению, не развиты*. Об идее рационального естествознания
написано им немного, и, однако же, она совершенно ясна из этого
немногого; напротив, об органических категориях написано им гораздо
более, и между тем сущность их, точное значение и формальное
определение гораздо менее ясны. Очевидно, он встретился здесь с гораздо
более трудным вопросом, который не столько разрешил, сколько твердо
выставил и резко указал на него как на такой, без предварительного
решения которого все труды натуралистов осуждены вечно оставаться
только собиранием бессмысленных фактов, а не созиданием науки
в истинном и строгом значении этого слова.
Неверность надежды достигнуть когда-нибудь полного проведения
первой теории по всей области естествознания и ясности в разрешении
второго вопроса была, вероятно, не единственною причиною того, что
г. Страхов не посвятил этим двум задачам всей своей жизни, как хотел
сделать это вначале**. Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего
к центру его интересов, однако, все-таки не составляют этого центра
и он, предавшись им, не мог закрыть глаза на то, что вечно и
неумолкаемо тревожило его мысль. Он сошел с пути чистого естествознания и, весь
руководимый одною мыслью, обратился к разнообразным сферам
истории, литературы, политики, как будто повсюду и в них продолжая
искать чего-то, чего не нашел в естествознании за несовершенно ясным
решением двух главных вопросов, занимавших его там. В явлениях
литературы его более всего интересуют произведения, в которых среди
мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого
существа и вечные основы, по которым движется жизнь народов. Отсюда —
восторг, который он почувствовал при появлении «Войны и мира»
гр. Л. Н. Толстого, и лучшая оценка им этого произведения, какая была
сделана до сих пор в нашей литературе; отсюда — его колеблющееся
отношение и, наконец, неприязнь к Тургеневу, который ради интереса
к текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем.
Отсюда же вытекает его глубокий интерес к отрицательным и
разрушительным явлениям в истории Западной Европы — к французской
революции, к падению философии, к особенному характеру, который
приняло там естествознание. Он с любопытством всматривается во все
эти явления, старается уяснить смысл их возникновения и точные
* См. об этом предисловие в книге «Мир как целое и пр.», стр. IX.
:* См. в особенности объяснение кристаллических форм в минералах и теорию
внешних чувств человека в книге «Мир как целое».
260
В. В. РОЗАНОВ
причины, которые сделали его возможным. Но эта научная сторона
в его взглядах на текущую историю есть только предварительная
ступень к тому, что всего более занимает его: он пытливо всматривается
в лица людей, которые идут впереди этого исторического движения,
и ищет в них выражения тревоги и смущения. Он как будто спрашивает:
«Как вы будете жить, заглушив в себе вечные потребности человеческой
души? Что вы поставите на место их и, чего бы ни достигли вы в
жизни, что почувствуете вы в самих себе?» Симптомы этой внутренней
тревоги с проницательностью человека, слишком много пережившего
в себе, он отыскивает в великих представителях современной западной
литературы — в Ренане2, Штраусе3, Д.-С. Милле4, у нас — в Герцене5.
Отсюда — ряд удивительных его статей об этих писателях. Можно
сказать, что их духовная физиономия, внутренний и скрытый центр
их деятельности, так хорошо известной и так мало понятой, впервые
раскрылись в своем истинном значении в этих статьях. Объективное
значение трудов этих писателей, их содержание и то новое, что оно
пытается внести в науку, — все это, как второстепенное и имеющее
пройти, оставлено в стороне г. Страховым. Он рассматривает эти труды
не в их значении для читателей, но в их отношении к самим
писателям, как показателей их внутреннего настроения. Именно оно служит
предметом его постоянного размышления как момент в развитии
человеческой души, как исполненная захватывающего интереса страница
из судеб человеческой совести в истории.
Здесь мы подходим к тому, что уже не около центра постоянных
размышлений нашего автора, но составляет самый центр в нем,
в его деятельности и многолетних исканиях. Искусный в определении
скрытого нерва других, он ни разу не вскрыл перед читателями своего
собственного, высказав о том, что его постоянно, в сущности,
занимало, лишь немного отрывочных слов, сказанных по поводу чего-нибудь
постороннего и только произнесенных с чрезвычайною вдумчивостью.
Есть известие, что самый религиозный народ в истории — еврейский —
никогда не произносил имени своего Бога и не писал его всеми буквами,
так что древний звук этого имени наконец утерялся и в поздние и менее
религиозные времена стал предметом разысканий, но уже тщетных.
Нечто подобное мы наблюдаем и во многих писателях. Как будто какой-
то страх удерживает их говорить о том, о чем одном они хотели бы
говорить, и они только подводят читателя к этому главному, но,
подведя, — сами ничего о нем не произносят. Боязнь сказать что-нибудь
не так, ошибиться хоть в одном слове о предмете столь важном, все-таки
есть не единственное, что закрывает им уста. Тут есть действительно
нечто целомудренное, есть резкое сознанное нежелание выносить
словом из своей души то, что составляет самую сущность этой души
Литературная личность H. H. Страхова
261
и потому должно быть навеки схоронено в человеке, должно быть
цельным и не растерянным возвращено им туда, откуда оно пришло.
От этого, вероятно, происходит, что о некоторых важнейших
сторонах человеческого существа и человеческой жизни оставлено так мало
истинно ценных слов во всемирной литературе и так много
посредственного и ненужного. О них говорили люди, которые даже не понимали,
о чем, собственно, они говорят, и часто молчали те, которые могли
сказать нечто действительно значительное. Но, хотя изредка и почти
всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они все запомнены
человечеством, как самые дорогие для него. В образах поэзии, в идеях
философии и гораздо реже в прямом учении во всемирной истории было
создано хоть и немного, но зато такое, что и сообщает ей все значение,
в чем и лежит ее главнейший смысл.
Религиозное составляет область самую важную из тех, которых
изредка действительно достойным образом умел касаться человек. Все
великие умы в истории явно или скрыто тяготели к этой области, и даже
по степени, в которой они испытывали это тяготение, можно судить
об их сравнительной силе. Но говорить о ней что-нибудь они не могли,
и это было причиною, почему они избрали для себя иные сферы
деятельности — искусство, науку или философию, реже — политику; однако
на всем этом уже отразилось то главное тяготение, которому они были
подчинены. Они любили и хотели только религиозного, но, не
осмеливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философию, поэзию.
И в то время как, более чувствуя, нежели зная истинный смысл этого
тяготения, они о нем молчали, — все остальные, от которых не могло
укрыться это странное тяготение, пытаясь определить его причину,
начали произносить о нем — то положительно, то отрицательно —
бесчисленные пустые слова. Так образовалась необозримая, у всех народов,
литература о предметах религии, где все они уже давно объяснены,
классифицированы и рассказаны. Но, как само собою ясно, эта литература
в действительности не столько касается религиозного, сколько появилась
потому, что религиозное действительно существует в человечестве.
К ряду людей этого типа, очень немногих и очень редких,
принадлежит и разбираемый нами писатель: религиозное составляет ни разу
не названный центр постоянного тяготения его мысли. <...>
л. н. толстой -н.н. страхову
12 ноября, 17 декабря 1872 г. Ясная Поляна
Дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич!
Всё время после вашего отъезда (4 дня) занимался исключительно
вами, — читал вашу книгу1. И хоть, может быть, вам вовсе и не
нужно мое мнение, она произвела на меня такое сильное действие, [что]
я чувствую потребность написать вам о ней.
Я читал ее, не мог оторваться и читал внимательно, с карандашом —
делал отметки там, где был поражен, и перечитывал те места. Общее
впечатление: 1) я узнал много нового и не случайного, а того самого,
что нужно знать. 2) Много вопросов, смутно представлявшихся мне,
поставлены и разрешены ясно, ново и сильно2. (Мне совестно вспомнить
о том, как я попался на легкое мнение об этой книге только потому, что
это все статьи уже напечатанные3. Я сделал ложное заключение. Было
напечатано. Ничего не слышно было, стало быть, ничего особенного.
Как сильны привычки!) 3) Много, ужасно много вопросов не разрешены.
Чувствуется, в каком смысле должен разрешить их автор (я в первый раз
ясно понял вас из этой книги), и желаешь узнать, как разрешит их автор,
и боишься за него. 4) Неприятное впечатление неровности тона и даже
некоторой непоследовательности предметов всей книги. — Поймите
меня. Есть такая глубина и ясность во многих местах, что она
указывает на необходимую строгую последовательность в миросозерцании
автора, а [от] этой последовательности отступает книга.
Теперь частности: I, И, III, IV, V письма. Всё прекрасно. Но в V
письме, стр. 73 и 74, автор говорит о духе, о том, что постижение должно
быть начато с духа. Почему? Человек отличается от остального мира,
на мои глаза, вовсе не духом, кот[орый] я совершенно не понимаю,
но тем, что он — судит о самом себе, когда судит о человеке, и судит
о не себе, когда судит о вещах. Судить о самом себе (вернее, иметь себя
предметом своим) мы называем сознание. Поэтому разница должна быть
резкая, но она основана не на объективном ч[ь]ем-то духе, но на том
отношении, в кот[ором] стоит человек к предметам вне себя и в себе.
С выводом я согласен, — что человек должен начинать постижение
с себя, а не с вне себя, но не согласен с объективным духом, противупо-
л. н. толстой — н. н. страхову
263
лагаемым объективному миру, как какой-то дух. И не согласен потому,
что дальше различие это становится существенным. Далее на 76 стр.,
отличая круговорот от жизни, автор опровергает смешение этих двух
понятий не духом у а сознанием жизни4. И это место прекрасно.
Вся эта глава прекрасна, но на 89 стр. и до конца опять являются
понятия, вытекающие только из веры в дух — совершенствование. Для
сознания человека, т.е. для мысли человека, устремленной на самого себя,
может быть совершенство только относительное, но не абсолютное.
Это вопрос ужасно сложный, о кот[ором] я жалею, что не поговорил
с вами. В письме невозможно сказать. — Попробую коротко сказать
свои убеждения:
Совершенство зоологическое, на кот[ором] вы настаиваете, даже
умственное, [которое] вытек[ает] из зоологического, — есть
совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам
на себя смотрит. Муха такой же центр и апогей всего создания. Но есть
совершенство нравственное, религиозное — (буддизм, христианство),
которое ничем не доказывается, кот[орое] несомненно и кот[орое] даже
не может быть сравниваемо ни с чем, почему и не может быть называемо
совершенством (понятие совершенства вытекает из понятия степеней).
Короче, это понятие добра. И понятие это таково, что нельзя про
него сказать, что оно есть больше или меньше, что оно есть у человека,
но его нет у животного. — Оно есть у человека, оно сущность всей
жизни, и потому его не может быть ни больше, ни меньше.
В VI письме, [стр.] 92, 93, вы прекрасно говорите о непогрешимости
ума, убеждений. Я подставляю вместо ума, убеждения — сознание
жизни, кот[орого] сущность есть добро. Следовательно, чем более
сознана эта сущность, тем она... более сознана.
Прекрасно об инфузориях, 98 стр. Прекрасно выведено понятие
организма из совершенствования и о смерти, но посылка, что цель
человеческой жизни есть совершенствование, совпадающее с
совершенствованием организма, умаляет значение человеческой жизни.
И факт недовольства жизнью, выражающийся не в одних поэтах,
но в миллионах людей (христианство, буддизм), есть факт, кот[орый]
нельзя объяснять заблуждением. Он имеет самый законный корень.
Он имеет основанием сущность жизни. И как объяснения
материалистов недостаточны (что и доказ[ывает] автор) именно потому, что
они упускают из расчета способность сознания (духа), так и объяснения
автора недостаточны, потому что он упускает из вида сущность жизни.
Письмо VIII прелестно, особенно кристаллы: это гениальное
определение основ деления на неорганическое, органическое и животное.
Письмо IX мне всё не нравится и по форме, и по содержанию, я бы
его всё выбросил.
264
л. н. толстой — н. н. страхову
Жители планет и птицы. Мне не нравится, несмотря на обилие
интересных данных, с вашей ясностью и уместностью изложенных,
не нравятся жители планет и по содержанию и обе главы — по
совершенно другому, не строгому тону.
Чем отличается человек от животн[ого]. Эти две главы, опять
прежний тон и опять превосходны. Мысль о пределе поразительна.
Опровержение мнимого места человека, даваемого натуралистами,
превосходно. Я только для своего удобства подставляю: натуралисты
хотят найти место человеку, не пользуясь сознанием, т.е. взглядом
на самого себя. Точно так, как (грубое сравнение) я бы захотел узнать
свое место в комнате, измерив расстояние между всеми предметами
в комнате, а не от себя до предметов.
Вторая часть, насколько я могу судить, вся превосходна. Я нашел
в ней в первый раз ясное изложение смысла физики, химии. Я нашел
с ясностью и (будто бы) легкостью разрешенными часть тех сомнений
и вопросов, кот[орые] занимали меня; но кроме [того], я нашел ясное
указание на то, что существенно в этих науках.
Эта вся часть исчерчена мною карандашом и не знаю, что лучше.
Поразительнее же всего для меня не только критика химии, но и изложение
возможно нового взгляда. Прекрасно тоже объяснение сущности
материалистического взгляда, состоящего в представлении. Два только пятна
я нашел в этом солнце, и всё это Гегель. На 380 странице выписка из Гегеля,
которая, может быть, прекрасна, но в кот[орой] я не понимаю, прочтя
несколько раз, ни единого слова: Эта моя судьба с Гегелем и на 451 стр.,
«чистая мысль эфирна» и т.д. до точки. Я ничего не понимаю. Менее всего
понимаю, как с вашей ясностью может уживаться этот сумбур.
Не знаю, пошлю ли это письмо. Во всяком случае скажу, что хотел
сказать. Мое мнение о вас было очень высоко, но я не совсем доверял
ему (я боялся, что подкуплен), но теперь, по прочтении вашей книги,
я не имею более недоверия, и мнение о вашей силе еще увеличилось. —
Дай вам Бог спокойствия и духовного досуга. Вы бы меня очень
порадовали, если бы написали мне так же искренно, как я вам, свое мнение
о моей критике вашей книги.
Письмо это, как видите, написано 12 ноября. Третьего дня я,
наскучив дожидаться от вас письма с адресом, написал несколько строк,
адресовав наобум: в Севастополь, в Гжатку, в именье Данилевского.
Сердце сердцу весть подает; нынче получил ваше письмо и посылаю
мое, как оно мне ни не нравится теперь. Высказать в письме не умею.
Но вы, надеюсь, многое поймете.
H.H. СТРАХОВ - Л. H. ТОЛСТОМУ
8 января 1873 г. Мшатка
Письмо Ваше, бесценный Лев Николаевич, так меня обрадовало
и заняло, что и сказать не могу. Огромное спасибо Вам за него; и вот
был бы величайший грех с Вашей стороны, если бы Вы его не
послали. Если у Вас есть или будут какие-нибудь листки, обращенные
ко мне, умоляю Вас, не колеблитесь и присылайте — для меня все,
что Вы пишете, относится к высшему роду писания, именно: Вы вовсе
не способны что-нибудь сочинить; все будут настоящие Ваши мысли
и чувства, и, следовательно, все интересно и будет мною прочитано
с любовью и уважением беспредельным.
Похвалы Ваши доставили мне огромную радость, а Ваша
критика (в обыкновенном смысле) и огорчила, и заставила много думать.
Огорчение заключается вот в чем: Вам не нравится, когда я
принимаюсь шутить (напр., Жители планет); я и прежде догадывался, что
как только я оставлю сухие, холодные рассуждения (так отозвался
один приятель вообще о моем писании), так у меня выходит что-то
странное. Из этого для меня следует тот вывод, что я не могу дать
живого, теплого тона тому, что пишу. Нечего делать; придется
вперед оставить попытки на глубокомысленную и тонкую шутливость.
IX Письмо и Птицы не понравились Вам по этой причине; но есть
тут и другая, более важная.
Из всех Ваших замечаний видно, что Вас неприятно задело —
прямое выражение пантеизма. Вы положили палец на рану, написавши
мне, что я унизил человеческую жизнь, поставивши ее целью
совершенствование (того, что заключается в организмах). Отсутствие
нравственного смысла в книге (указания на идею добра) для Вас тотчас стало
ясно. О, как бы я хотел иметь точные формулы для Вашего взгляда,
для мысли о нравственной цели мира, и как бы хотел видеть отношение
266
H. H. СТРАХОВ — Л. Я. ТОЛСТОМУ
этой мысли ко всему, что есть в моей книге и от чего я не могу никак
отказаться!
Книга писана давно; тогда я был ревностным пантеистом, так что
потом был за то даже наказан жизнью и совестью. Вы сейчас заметили,
что я слишком легко трактую о недовольстве жизнью и не упоминаю
о религии. Я ее тогда не понимал и научился понимать только потом,
от Шопенгауэра. Я тогда приписывал великую важность
умственному прогрессу, литературе и подобным глупостям, и вот почему поэты
были (да еще какая дрянь!) для меня важнее пережитого момента
христианства.
До сих пор, однако же, я приписываю пантеизму величайшую
важность, как прямо противохристианскому движению, которым
воодушевлено все умственное <движение> развитие Запада, которое
составляет душу немецкой литературы, которое дало немцам силу,
недавно ими обнаруженную, и произведет еще огромные последствия.
Корень пантеизма глубок неизмеримо. Нам неизвестна другая наука,
кроме науки пантеистической. Все привычки нашего ума сложились
в этом направлении, и я не вижу выхода, — вот моя беда.
Печатая свою книгу, я иногда задумывался над вопросом — не
дурную ли, не безнравственную ли книгу я печатаю? Прошу Вас, ответьте
мне на этот вопрос. Переделать ее я не мог — не было ни времени,
ни ясной мысли. Отказаться от нее — никак не мог; так ясны были
почти все положения; почти сплошь все было дважды два — четыре.
Как я рад, что Вы ее прочитали! Не правда ли, что жаль было отказаться
от этой массы соображений, которою в корректурах я сам любовался?
Вот я и порешил — напечатать и тогда, закончив один период мыслей,
искать выхода, сознательно пойти против самого себя, начать новую
мысль, опираясь на старую.
Новый взгляд должен быть не ниже старого и, следовательно,
удержать всю долю истины, которая есть в старом.
Мне было бы очень трудно, если бы я вздумал Вам рассказывать
разные зачатки мыслей, которые у меня бродят и которые, я думал,
начнут распускаться в Мшатке. В статье о Дарвине и о Парижской
коммуне я уже отрекся от Гегеля, уже отрицаю тот непременный,
строго-законный прогресс, который он находил в умственном движении
человечества, отрицаю и то, что ум руководит историею, что она есть
развитие идей. Мне хотелось бы однако же спуститься до корня и
взяться за теорию познания, в которой, мне кажется, уже заключена вся
сущность дела.
Отвечу теперь на отдельные пункты. За дух Вы меня напрасно
упрекаете; я употребил это слово только как известное название
того, о чем хочу говорить, а не в смысле признания особой сущности.
Я. Я. СТРАХОВ - Л. Я ТОЛСТОМУ
267
По смыслу всей книги мир есть нечто цельное, то есть все его явления
вытекают из одной сущности. Все существующее я одинаково признаю
проявлением духа.
Какая чудесная мысль у Вас, что сущность настоящей жизни есть
нравственно-религиозное сознание, понятие добра. Если Вы можете
пояснить мне это, то умоляю Вас, напишите мне еще об этом хоть
страничку. У Вас сказано: понятие добра таково, что нельзя про него
сказать, что оно есть у человека, но его нет у животного. Если тут
нет описки, то я не понимаю.
Да и вообще — это мысль не шопенгауэровская, так как она
отрадна и светла, и берет положительную сторону дела, а не его
процесс, не одну теорию явлений. Я боюсь сказать Вам, какой страшный
смысл имеет в моих глазах философия Шопенгауэра; это новый удар
и последний, сокрушающий все надежды человека; как Гегель
приводит к отрицанию всего твердого в существующем и познаваемом, так
Шопенгауэр приводит к отрицанию всего твердого в нравственности.
Но лучше не буду говорить. Поймите после этого, как радостна была
для меня мысль, что Вы, самый милосердный из всех поэтов,
исповедуете веру в добро, как в сущность человеческой жизни. Воображаю,
что для Вас эта мысль имеет теплоту и свет, совершенно непонятный
таким слепцам, как я.
Вы пишете, что из моей книги поняли меня; что это значит? Если
не очень обидно, напишите.
У Вас сказано: На стр. 76, отличая круговорот от жизни, автор
опровергает смешение этих двух понятий не духом, а сознанием
жизни, и это место прекрасно. Я не нахожу этого места, и хотел бы
знать, на что Вы указываете и за что меня хвалите.
Вообще Ваши похвалы очень метки; места о кристаллах, об
инфузориях, чем отличается человеку и вся вторая часть книги
действительно потребовали от меня самого большого напряжения
мысли,— и я дождался справедливой награды. Ваша
идиосинкразия к Гегелю — необыкновенно характерна, но я понимаю только
вообще ее возможность, а объяснить ее себе не могу. Почти зависть
берет меня, когда подумаю, что есть же такие характерные люди, как
Вы. — А мне — ничего не претит, все проглочу и произвожу — чуть ли
не один навоз.
Судьба Вашей «Азбуки» изумляет меня. Один мой приятель, ныне
знаменитый драматург Аверкиев1, серьезно уверял меня, что у меня
тяжелая рука и что потому ни одно дело в моих руках не удается.
Печатая Вашу «Азбуку», я думаю, что невозможно, чтобы моя тяжелая
рука ей повредила. А вышло так, что чуть ли не прав Аверкиев. Замечу,
однако же, что объявлений в «Московских [ведомостях»] было мало.
268
H. H. СТРАХОВ — Л. H. ТОЛСТОМУ
Вчера получил письмо из Петербурга, от Майкова2. Они там
ругаются и торопят меня, чтобы я ехал назад. Судя по сведениям письма,
придется мне через месяц двинуться, и теперь на меня напало
неприятное чувство ожидания, что вот-вот позовут. Еще новость, которую
я узнал уже прежде из «Московских ведомостей» — Достоевский стал
редактором «Гражданина»3. Живо воображаю, как в нем разгорелась
страсть журналиста и не знаю, не пожалеть ли об этом. А впрочем,
человеку не нужно мешать делать, что он любит делать. Одна беда:
он меня теперь запряжет; от него ничем не отговоришься, и у меня
в перспективе — работать всякие статейки для «Гражданина».
А.А.ДОНСКОВ
Л. H. Толстой и H. H. Страхов.
Эпистолярный диалог о жизни и литературе
<Фрагменты>
Николай Николаевич Страхов родился 16 октября 1828 г.* Он был
ровесником как своего замечательного друга Л. Н. Толстого, так и своего
известного оппонента Н. Г. Чернышевского. Зрелые годы его жизни
пришлись на вторую половину XIX столетия. Будучи близок к ряду
выдающихся деятелей культуры этого периода — Ф. М. Достоевскому,
Л. Н. Толстому, А. А. Фету, В. В. Розанову и В. С. Соловьеву, — Страхов
принимал активное участие во многих серьёзных дебатах,
разгоравшихся в среде российской интеллигенции. Даже если не все представители
современной Страхову интеллектуальной элиты отдавали должное
его таланту, им было хорошо известно его имя, причём не только как
переводчика работ европейских философов, но и как литературного
критика и автора оригинальных философских сочинений. Особенно
близок был H.H. Страхов к Л. Н. Толстому. На протяжении многих лет
* Как установлено М. И. Щербаковой (и позднее проверено по архивным источникам
автором данной работы), действительной датой рождения H. H. Страхова следует
считать 17 октября 1828 г., хотя на могильном камне высечено «16 октября».
Как указывает М. И. Щербакова: «Следуя православной традиции, в семейном
кругу отмечали его именины — на Николу зимнего. 19 (6) декабря. День и даже
год своего рождения он узнал лишь осенью 1844 г. «Чудеса да и только, —
записал в дневнике. — Недавно я помолодел одним годом. С декабря прошлого
года я считал себя 16 полных лет: я считал годы от именин до именин, потому
что не знал дня моего рождения. Приезжаю в Петербург, здесь нахожу мою
тетеньку Катерину Ивановну. Однажды она стала удивляться тому, что я считаю
себя шестнадцати лет, тогда как по ее расчетам мне только 15. Считали,
рассчитывали, и вышло, что, действительно, мне только 15 лет. Впрочем, я могу уже
считать себе и 16, так как мое рождение было в октябре, по словам тетеньки.
Но все же приятно сбросить с себя один лишний годок: я ужасно боюсь быть
стариком». См.: Щербакова М. И. «Вместо дневника — письма к Вам» (из
переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским). «Москва», окт. 2004. 187-88.
270
А. А. ДОНСКОЕ
он помогал писателю в литературных и издательских делах, обсуждал
с ним его произведения, которым также посвятил ряд серьезных
критических статей. В 1872 г. Страхов следил за изданием «Азбуки» Толстого.
Впоследствии он взял на себя корректуру и хлопоты по опубликованию
«Анны Карениной», затем ряда отдельных произведений Толстого,
а также собрания его сочинений, причём эта работа осуществлялась
в сотрудничестве с женой Толстого С. А. Толстой.
Несмотря на высокую оценку ряда современников, наследие
Страхова до сих пор ещё недостаточно хорошо изучено. В частности,
ценная информация содержится в его многочисленных письмах к
знакомым литераторам. Эти письма представляют собой перспективный
и в значительной степени пока ещё нетронутый источник и могут
пролить дополнительный свет на содержание печатных трудов Страхова.
Особенно большое значение имеет переписка Страхова со Львом
Толстым вследствие обилия писем и глубины высказанных в них
мыслей. Некоторые из писем Страхова к Толстому можно рассматривать
как самостоятельные критические статьи или увлекательные дискуссии
о литературе, журналистике, искусстве, а также о современных или
относящимся к прошлому культурных событиях в России и в Западной
Европе.
Эти письма характеризуют Страхова как глубокого, тонкого
мыслителя и историка-философа. Они раскрывают его взгляд на
литературу как на зеркало, отражающее нравственное состояние общества
в целом. Читатель также узнает о слабом здоровье Страхова,
оказывается свидетелем его сочувствия страждущим и его печали при потере
покинувших этот мир друзей и знакомых. Письма свидетельствуют
о глубокой привязанности Страхова к чете Толстых и всему их
семейству, о его постоянной готовности услужить им, не жалея для этого
ни сил, ни времени. Для самого Толстого Страхов был не просто одним
из многих посетителей Ясной Поляны, не просто замечательным
помощником в работе. Прежде всего, Страхов отвечал настоятельной
потребности писателя иметь близкого и преданного друга, достойного
доверия оппонента, который мог бы дать нелицемерную, точную и
глубокую оценку его произведений. В отличие от многих близких Толстому
по духу людей Страхов был объективен и умел сохранять определённую
дистанцию в отношениях со своим великим другом. Такое независимое
положение позволяло Страхову оказывать Толстому значительные
услуги, а именно помочь ему прояснить (или, как любил говорить
Толстой, «уяснить») собственные идеи. Искренне уважая великого
писателя, Страхов был корректен при обсуждении его идей, но всегда
придерживался независимой позиции. Время от времени разгорался
спор, но это была дискуссия двух равных участников.
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и литературе 271
При последовательном и систематическом чтении переписки
в полном объеме можно проследить постепенное развитие идей и
положений, которые оказались общими для обоих корреспондентов
и которыми они руководствовались в жизни. Это относится ко многим
основным идеям Толстого, высказанным им до и после его
«духовного кризиса» 1880 г. В принципе в письмах Толстого Страхову,
написанных до 1880 г., присутствуют начала почти всех нравственных
и религиозных идей писателя, которые он проповедовал в последние
три десятилетия своей жизни. Это и пацифизм, и осуждение смертной
казни, и неприязнь к государственной бюрократии, и обеспокоенность
стихийной урбанизацией. При своем, можно сказать, затворническом
образе жизни в Ясной Поляне Толстой в лице Страхова получил
возможность вступить в серьёзный диалог со всесторонне образованным
человеком, что позволило ему также быть в курсе интересов широких
интеллектуальных кругов. Страхов вполне отвечал требованиям
такой роли и охотно брал её на себя. Например, в письме от 26
апреля 1876 г., в котором речь идёт об «Анне Карениной», Толстой рад
способности Страхова глубоко проникнуть в суть его произведения.
В одном из последующих писем (от 22...23 ноября 1878) Толстой
пишет: «Но когда проснусь, то первое, что представляется, это моё
желание общения с вами». А в письме к П. А. Сергеенко от 13 февраля
1906 г. Толстой упоминает Страхова в числе трёх корреспондентов
(вместе с С.С. Урусовым и A.A. Толстой), которым он «много
написал писем» и которых он считал интересными «для тех, кому может
быть интересна моя личность»*. Письма содержат много
информации об основных работах, написанных обоими авторами между 1870
и 1896 гг. Они не только разъясняют («уясняют») цели этих
произведений и рассказывают об условиях их создания, но и проливают свет
на обстоятельства их публикации.
В свете вышеизложенного представляется странным, что до
сегодняшнего дня так мало исследований было посвящено жизни
и творчеству Страхова, особенно на фоне той исключительной роли,
которую он сыграл в творческой деятельности как Достоевского, так
и Толстого. Если переписка Страхова с Достоевским** рассматривалась
* Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений (Москва, Художественная литература,
1928-1958), т. 76. с. 98. (В дальнейшем ссылки на это издание даются с указанием
тома и страницы в следующей форме: ПСС. 76: 98.)
г* Известны 26 писем Достоевского к Страхову (1862-73) и 24 письма Страхова
к Достоевскому (1862-1880). Страхов познакомился с Достоевским в декабре
1859 г. Изданная переписка Страхова с русскими писателями включает: «Письма
H.H. Страхова к Н.Я. Данилевскому», «Русский вестник» (январь 1901): 127-42
(февраль 1901): 453 (март 1901): 125-41: A.C. Долинин (ред.). «Ф.М. Достоевский.
272
А.А.ДОНСКОВ
А. С. Долининым, то серьёзных работ по изучению переписки и
контактов Страхова с другими современниками — в России и за
границей — пока не проводилось. Это особенно удивительно в случае
Толстого.
Следует обратить внимание на не потерявшие своего значения и
сегодня немногочисленные дореволюционные исследования о Страхове.
Речь идёт о следующих работах:
— В. Розанов. «Литературная личность Страхова» (1890), а также
некролог «Памяти усопших», написанный в 1896 г.;
— Б. Никольский. «H.H. Страхов. Критико-биографический
очерк» (1896);
— В. Лазурский. «Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: из личных
воспоминаний» (1910);
— Е. Кранихфельд. «Л. Н. Толстой и H. H. Страхов в их переписке»
(1912).
Хотя в советское время Страхов оставался в тени (возможно, в связи
с его консервативными и националистическими взглядами), все же
в этот период появился ряд заслуживающих внимания посвященных
ему работ. Это:
— Обсуждение Б. Бурсовым сложного отношения Страхова к
Достоевскому в кн. «Проблема жанра в истории русской литературы» (1969).
Автор, в частности, рассматривает вопрос о подсознательной
антипатии Страхова к Достоевскому и о проявлении этого чувства в письмах
Страхова к Толстому, в которых содержатся несправедливые нападки
на Достоевского. Автор позднее вернулся к этому вопросу в статье «У
свежей могилы Достоевского: Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым»,
напечатанной в его книге «Личность Достоевского» (1974);
— У. Гуральник. «H.H. Страхов — литературный критик» (1972);
— Н. Скатов. «Критика Николая Страхова и некоторые вопросы
русской литературы XIX века» (1982).
Письма» (Москва, 1928-1930-1932-1959): «Письма Н. Н. Страхова к Ф. М.
Достоевскому» в кн.: Н.К. Пиксанов и др. (ред.). «Шестидесятые годы: Материалы
по истории литературы и общественному движению» (Москва-Ленинград.
АН СССР. 1940): 258-66. 273. 276-80: «Письма H. H. Страхова к Н.Я. Гроту»
в кн.: К.Я. Грот (ред.). «Н.Я. Грот в очерках, воспоминаниях и письмах»
(С.-Петербург, 1911): «Письма Н. Н. Страхова к В. В. Розанову» в кн.: В. В. Розанов.
«Литературные изгнанники» (Ст-Петербург, 1913): «Письма H.H. Страхова
к B.C. Соловьёву» в кн.: Е. Л. Радлов (ред.) «Письма B.C. Соловьева», т. 1
(С.-Петербург, 1908). О письмах Страхова к другим русским писателям (таким
как A.A. Григорьев. А.Н. Майков, H.A. Некрасов) см.: К.Д. Муратова (ред.).
«История русской литературы XIX века: Библиографический указатель» (Москва-
Ленинград. АН СССР, 1962): 662-63.
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и литературе 273
В последние годы в России были опубликованы ценные работы,
свидетельствующие о росте интереса к личности и деятельности Страхова.
— В. А. Туниманов. «Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт
сцеплений)». Русская литература, 3 (2006), 38-96.
— М. И. Щербакова. «Наследие H. H. Страхова и проблемы изучения
Л.Н. Толстого». Известия РАН, Сер. Лит. и яз., 2004, т. 63, 44-50.
— М. И. Щербакова. «Текстологические аспекты изучения русской
классической литературы: Лев Николаевич Толстой в XXI веке». В кн.:
Современность классики. Лекции по истории русской литературы. БГУ,
вып. 42. Ст.-Петербург, 2006, 54-64.
— М. И. Щербакова. «Вместо дневника — письма к Вам (из
переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским)». «Москва», окт.
2004,186-206.
— М. И. Щербакова. «Страницы юношеского дневника H. H.
Страхова». В кн.: Страницы истории русской литературы. К
семидесятилетию профессора В. П. Коровина. Москва, 2002, 299-307.
— М.И. Щербакова. «И.С. Аксаков — H.H. Страхов. Переписка».
Оттава-Москва, Группа славянских исследований при Оттавском
университете и ИМЛИ РАН, 2007.
Западную науку также характеризует недостаток материалов о
Страхове. Следует упомянуть отдельные работы:
— L. Gerstein. Nikolaj Strakhov(1972);
— С. J. G. Turner. A Karenina companion (1973);
— D. Sorokin. «Moral regeneration: N.N. Strakhov's «organic»
critiques of War and peace» (1976);
— D. Orwin. Tolstoy's art and thought (1993) — включает краткое
обсуждение взглядов Страхова на произведения Толстого. Особый
интерес представляет последующая работа Д. Орвин «Психология
веры в "Анне Карениной" и в "Братьях Карамазовых"» (2000), в
которой представлен сравнительный анализ отражения идей Страхова
Достоевским и Толстым в их романах.
Толстой выразил желание познакомиться со Страховым после того,
как прочёл его критические статьи о своих произведениях. В
особенности одна из этих рецензий подтолкнула Толстого написать письмо
Страхову в 1870 г. В следующем году состоялась их первая личная
встреча*, которая привела не только к сотрудничеству, но и к тесной
* В записях, которые Б. Никольский назвал его «биографическими сведениями» —
см.: Никольский Б. «H.H. Страхов. Критико-биографический очерк».
«Исторический вестник» 4 (1896): 261. — Страхов так описывает свое знакомство
с Толстым: «Знакомство с Л. Н. Толстым случилось в 1871 г. После статей о «Войне
274
А.А.ДОНСКОВ
дружбе. В дальнейшем в результате частых и порой продолжительных
визитов Страхова в Ясную Поляну столь же тёплые отношения
установились со всей семьей Толстых.
Как и ее муж, С. А. Толстая высоко ценила ум и порядочность
Страхова и уважала его мнение. О её высокой оценке вклада Страхова
в работу Толстого лучше всего, быть может, свидетельствуют её
собственные слова в письме Страхову от 20 февраля 1893 г.:
«Помощников вообще на свете достать нельзя. Их посылает судьба...
как мне Бог послал Вас, бескорыстного, трудолюбивого и, главное,
гениально умного».
Это могло бы показаться лестью, если бы весь тон их переписки
не говорил об обратном — подлинном и искреннем уважении Софьи
Андреевны к этому выдающемуся, но вместе с тем скромному другу
и помощнику в деле издания произведений Толстого.
Глубокое обоюдное уважение характерно для всего периода их
отношений, в которых всегда присутствовала значительная доля дружеской
откровенности, никогда не переходившая в фамильярность. Эта дружба
очевидна уже с первых писем (см. письма от 4 мая 1876 г. и 9 января
1877 г.). Так, Софья Андреевна прямо обращается к Страхову с
личными просьбами. Например, она поручает ему договориться о дате
её визита к врачу или просит одолжить денег проезжей англичанке.
Их дружеское сотрудничество в деле издания произведений Толстого
находит подтверждение в письме Страхова от 24 сентября 1893 г. Оно
начинается следующими словами:
«Покорно благодарю Вас за присылку нового издания (Собрания
сочинений Л. Н. Толстого. — А. Д.); я ждал этой Вашей милости, и она
пришла как раз в минуту моего ожидания. Чудесное издание! Попробовал
было я искать опечаток, и не нашёл. А всего больше меня восхищает, что
весь мой труд принят и отпечатался на этих страницах. Покаюсь Вам, что
я не очень на это надеялся. При Вашей энергии, мне думалось, Вы никак
и мире» я решился написать ему письмо, в котором просил- дать мне что-нибудь
для напечатания в «Заре». Он отвечал, что у него ничего нет, и прибавил
настоятельную просьбу заехать к нему в Ясную Поляну, если представится возможность.
В 1871 г. я получил из «Зари» 400 р., которые долго задерживались, и в июне
поехал погостить у своих родных в Полтаве. Возвращаясь в Петербург, я остановился
в Туле, переночевал, взял извозчика и поехал в Ясную. С тех пор мы видаемся
каждый год, т. е. обыкновенно я летом гощу у него месяц, полтора. Мы иногда
спорили, охладевали друг к другу, но добрые чувства скоро брали верх: семья его
полюбила меня, и теперь во мне видят старого неизменного друга, каков я и есть
в самом деле» (цит. по: Никольский Б. Указ. соч., 262).
Л. H. Толстой и H. H. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и литературе 21Ъ
не воздержитесь, чтобы не похозяйничать по-своему. А между тем Вы всё
сделали так, как я указывал. Очень я этому радуюсь! Я ведь старался
сделать как можно лучше, с любовью работал над драгоценными сочинениями.
Вы это поняли. Вы это приняли, и я от всей души благодарю Вас» *.
В целом переписка Страхова с С. А. Толстой — это не только
увлекательное чтение. Она представляет собой и большую научную ценность.
Ее необходимо учитывать при изучении жизни каждого из
корреспондентов, в особенности их работы над произведениями Толстого, что
составляет основной предмет их внимания.
Некоторые критики** справедливо отмечали, что отношение
Страхова к Толстому граничило с преклонением. Действительно, верностью
своему другу и наставнику проникнуты все его письма как к самому
Толстому, так и к ряду иных корреспондентов.
* * *
Страхов был высокообразованным человеком. Он изучал богословие
в семинарии и естественные науки в университете и обладал обширными
знаниями в области философии и литературы***. После преподавания
математики и естественных наук в Одессе и Петербурге Страхов становится
библиотекарем в Санкт-Петербургской Публичной библиотеке и занимает
этот пост до ухода в отставку в 1885 г. Страхов оставался холостяком.
Первой большой его работой стал цикл статей «Письма об
органической жизни» (1859) — где он писал о тех условиях развития,
которые делают жизнь чем-то большим, чем просто ответ на внешние
* Цит. по: А. А. Донское (ред.). Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с H. H.
Страховым / The Tolstoys' correspondence with N.N. Strakhov (Оттава-Москва,
Группа славянских исследований при Оттавском ун-те и Государственный музей
Л.Н. Толстого). 2000. 10.
* См., например: А. С. Долинин. «Достоевский и Страхов» в кн.: Последние романы
Достоевского (Москва-Ленинград: Советский писатель). 1963. 307-43: Б. И. Бур-
сов. «У свежей могилы Достоевского: Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым»
в кн.: Личность Достоевского (Ленинград. 1974). 24-53: В. Sorokin. «Moral
regeneration: N.N. Strakhov's 'Organic' critiques of War and peace*. «Slavic and
East European Journal» 20: 2 (1976). 130-48 и его же «The Slavophile and organic
critics» в кн.: Tolstoy in rerevolutionary criticism. Published by the Ohio State
University Press for Miami University (1979): 94-124: H. Скатов. «H. H. Страхов.
Литературная критика» (Москва. 1984. 5-43).
г* См., например: В. Лазурский. «Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: из личных
воспоминаний». «Русскаябыль» 3(1910). 148-56: и В. Кранихфельд. «Л.Н. Толстой
и H.H. Страхов в их переписке». «Современный мир» 12 (1912). 327-42.
276
А.А.ДОНСКОВ
раздражители, и придают живому организму способность переступать
пределы среды, влиянию которой он, несомненно, подвержен. Этот
принцип, рассуждал Страхов, определяет самую суть понятия жизни.
Данная работа привела Страхова к сотрудничеству с выдающимся
критиком Аполлоном Григорьевым (1822-1864) — они стали работать
в журнале братьев Достоевских «Время» *. На Ф. М. Достоевского идеи
Григорьева произвели благоприятное впечатление. В русской
национальной жизни он определил Григорьева и его последователей как
«почвенников». После ранней кончины Григорьева в 1864 г. Страхов
продолжает развивать «почвеннические» идеи в своих публикациях,
вновь и вновь предостерегая об опасности материализма и дарвинизма.
Страхов полагал, что ни славянофильство, ни западничество не могли
предложить России достойной модели развития литературы и
философии. Он видел в произведениях Толстого (а также А. Н. Островского)
противоядие от негативного и ироничного взгляда на русскую жизнь, столь
характерного, например, для Гоголя и некоторых других писателей».
Страхов был покорён замечательным талантом Толстого, который
он открыл для себя в 1860-х гг., когда начал работать над критическим
анализом «Войны и мира». Он убедился, что многие идеи Толстого
оказались близки его собственным, в особенности в вопросах, касавшихся
человеческой порядочности, непримиримости ко злу и стремления к
добру. Для Страхова Толстой был больше, чем наставник; он стал для него
образцом в жизни, краеугольным камнем, если можно так выразиться**.
* Статья Страхова «Роковой вопрос» (1863) была представлена некоторыми
критиками как выражение симпатии к польским повстанцам, что повело к закрытию
журнала.
г* В письме к Толстому от 8 января 1880 г. Страхов писал: «Я давно называл Вас
самым цельным и последовательным писателем: но Вы сверх того самый цельный
и последовательный человек. Я в этом убеждён умом, убеждён моею любовью
к Вам; я буду за Вас держаться и надеюсь, что спасусь» [Т-С. 2: 552]. Преклонение
Страхова перед Толстым продолжалось до конца его жизни, иногда к
неудовольствию самого Толстого. Однако Толстой отдавал должное таланту Страхова и в
особенности его искреннему расположению. В письме от 7 апреля 1891 г. он писал
о новой статье Страхова «Толки о Толстом» : «Прочёл вашу статью, дорогой Николай
Николаевич, и, признаюсь, не ожидал её такою. Вы понимаете, что мне неудобно
говорить про неё, и не из ложной скромности говорю, мне неприятно было читать
про то преувеличенное значение, к[отор]ое вы приписываете моей деятельности.
Было бы несправедливо, если бы я сказал, что я сам в своих мыслях, неясных,
неопределённых, вырывающихся без моего на то согласия, не поднимаю себя
иногда на ту же высоту, но зато в своих мыслях я и спускаю себя часто, и всегда
с удовольствием, на самую низкую низость; так что это уравновешивается на нечто
очень среднее. И потому читать это неприятно. Но, оставив это в стороне, статья
ваша поразила меня своей задушевностью, своей любовью и глубоким пониманием
того христианского духа, к[отор]ый вы мне приписываете» [Т-С. II: 865].
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и литературе 277
Широкий кругозор Страхова заставил его стать усердным читателем
газет и журналов на нескольких языках, что позволило ему в свою
очередь быть для Толстого прекрасным источником информации
о происходящих в мире событиях. Кроме того, Толстой нашел в нём
соратника в жизни и творчестве, способного служить ему камертоном
для проверки его собственных мыслей. Обсуждая их со Страховым,
Толстой оттачивал свои идеи, прежде чем представить их публике.
Их отношения не ограничивались областью интеллектуальных
интересов. С годами Толстой очень привязался к Страхову, о чём
свидетельствуют нередкие в его письмах упоминания о долгожданных приездах
последнего в Ясную Поляну. Портрет Страхова можно видеть в кабинете
Толстого рядом с немногими избранными, кого писатель почитал
близкими друзьями. В своём первом завещании Толстой назвал Страхова
своим душеприказчиком и поручал ему разбор и приведение в порядок
своих бумаг*.
Биографию Страхова ещё предстоит написать. Достаточное
количество материалов ждёт своего часа в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга и особенно Киева. Они включают художественные
произведения Страхова, его переписку с российскими и иностранными
писателями, критиками и издателями, а также написанные по заказу
Российской академии наук заключения на произведения,
представленные к Пушкинской литературной премии. В дополнение к
двухтомному изданию «Переписки» был включен перевод на английский
язык фрагмента из работы Б. Никольского** о биографии Страхова***,
где речь идёт об идеях, влиянию которых подвергся Страхов в
молодые годы. Хотя этим записям более ста лет, они актуальны и сейчас.
Другой интересной работой является статья М. И. Щербаковой
«Страницы юношеского дневника H.H. Страхова» (2002 г.). В ней
перед нами предстаёт очень умный и наблюдательный молодой
человек, склонный к философии и к серьёзному критическому анализу,
литератор, отличающийся необычайной ясностью ума и здравым
смыслом.
* Эти близкие отношения отмечены сыном Толстого, Сергеем Львовичем, в его
опубликованных в 1982 г. в «Яснополянском сборнике» записях (Тула: Приокское
кн. изд., 1984. С. 132).
* Никольский Б. H. H. Страхов. Критико-биографический очерк // Исторический
вестник. № 4 (1896), 215-68.
г* A.A. Донсков (ред.), Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова (сост.). Л.Н. Толстой —
H.H. Страхов: Полное собрание переписки, тт. I. П. (Оттава-Москва. Группа
славянских исследований при Оттавском университете и Государственный музей
Л. Н. Толстого. Ottawa / Москва. 2003. LVH-LXII).
278
А. А. ДОНСКОЕ
Ещё одной постоянно присутствующей в переписке Толстого и
Страхова темой является обсуждение творчества выдающихся
современников, деятелей литературы, искусства, таких как Н.М. Карамзин,
А.С. Пушкин, A.A. Григорьев, В.В. Розанов, В.С. Соловьёв, A.A. Фет,
Н. Я. Данилевский и др. Страхов пишет о прочитанных им работах
Ч. Дарвина, Г. Спенсера, Э. Ренана и др., что свидетельствует о его
живом интересе (как и у Толстого) к различным философским,
политическим, идеологическим и социальным вопросам своего времени.
Впрочем, некоторые его суждения о таких течениях как дарвинизм,
нигилизм и спиритизм или о старом споре между славянофилами
и западниками остаются, мягко говоря, спорными.
Особенно интересно проследить по письмам отношения Страхова
с Достоевским. Охлаждение к Достоевскому было пропорционально
возрастанию чувства всё большего взаимопонимания и близости
с Толстым. Негативные эмоции, которых Страхов весьма искусно
избегал в публичных высказываниях о Достоевском, проявляются в частных
письмах к Толстому. Это предполагает свойственный его собственному
мышлению дуализм, в чем, скорее всего, он и сам не до конца отдавал
себе отчёт*.
Письма личного характера особенно ценны своей искренностью и
современностью событиям. Эти качества не всегда характерны для
мемуарной литературы. Письма адресованы конкретным лицам, с которыми
ведётся диалог. Разумеется, если говорить об эпистолярном искусстве
вообще, встречаются письма, преследующие цель скрыть или обойти
молчанием какой-либо факт, но это совершенно несвойственно данной
переписке. Напротив, будучи адресованы близкому другу, эти письма
отличаются откровенностью. В них также присутствует дух свободы
и естественности, что, как и истинный дух конкретного момента,
не только отражает личность каждого автора, но даёт возможность
понять их эмоциональное и духовное состояние — их глубинный,
присущий только им взгляд на жизнь и на искусство, проследить
за их взаимным влиянием как в творческом, так и в личном плане.
Однако важно не только то, что Страхов был редактором
произведений Толстого и одним из его последователей, оставившим след
* Б. И. Бурсовым было высказано предположение, что Страхов мог сознательно
обрушиться на Достоевского с целью достигнуть большей близости с Толстым.
См.: Бурсов Б. И. У свежей могилы Достоевского // Переписка Л. Н. Толстого
с H. H. Страховым // Проблемы жанра в истории русской литературы. Учёные
записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1969. С. 259, 269. Веских оснований для
такого предположения, однако, нет.
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Эпистолярный диалог о жизни и литературе 279
в современном ему литературном мире. Он обладал уникальным и очень
независимым («объективным», как сказал бы он сам) взглядом на
творчество Толстого в сочетании с искренней любовью к этому человеку,
а также с сознанием неоспоримой великой значимости этого писателя
в истории русской литературы. Страхов был одним из немногих, кто
был способен преклоняться перед гением Толстого и одновременно
побуждать его к достижению ещё большего совершенства в своем
искусстве, вступать с ним в дискуссии о самых разнообразных предметах,
не теряя при этом независимости позиции.
Находясь в равной степени на удалении от обоих лагерей —
восторженных почитателей и последователей Толстого, с одной стороны,
и его гонителей и хулителей, с другой, — Страхов был исключительно
серьёзным корреспондентом и доверенным другом Толстого, к
которому писатель часто обращался в минуты своих сомнений и колебаний.
Это неуклонное доверие со стороны одного из величайших писателей
современности делает Страхова особенно достойным внимания
исследователей, причём не только толстоведов, но и учёных, работающих
в любой области русской литературы, культуры и истории.
е*
И.Ф. САЛМАНОВА
Переписка как исповедально-диалогическое
пространство русской культуры
Исповедь следует воспринимать с двух позиций: прежде всего как
церковное таинство, имеющее место в литургической практике; во
втором, расширенном значении — «это особая форма самовыражения
и самопознания, в которой проявляется вся полнота творческого начала
человека»*. Обретя «светский» статус в европейской средневековой
культуре, исповедь начинает восприниматься как
религиозно-художественный текст, заключающий в себе архетипические эмоционально-
мыслительные конструкты. Второе определение исповеди позволяет
нам, во-первых, глубже проникнуть в сложную внутреннюю структуру
исповедального дискурса, во-вторых, проследить процесс преломления
исповедального начала в отечественной культуре и литературе.
Сложная, неоднозначная психологическая и мыслительная
наполняемость исповеди позволяет трактовать ее как концепт, в котором можно
выделить три ключевых понятия:
1) исповедалъностъ как особое неустойчивое психологическое
состояние, наступающее в определенное, но не программируемое
время, которое можно назвать «временем исповеди» или «исповедальным
временем»;
2) исповедальное начало как некий универсальный творческий
механизм (способ) воплощения этого состояния;
3) исповедь как литературный текст, сочетающий в себе самые
разнообразные жанровые формы — от исповедального плача до
психологического дневника; и шире — как текст жизни.
Теперь скажем подробнее о каждом из них.
* Тарасов П. Г. Исповедальное начало в христианском мировоззрении: Автореф.
дис. ... канд. филос. наук. Белгород, 2008. С. 3.
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 281
Исповедальность — промежуточное (не жизнь и не смерть или
между жизнью и смертью), амбивалентное по своей природе
психоэмоциональное состояние, которое одновременно включает в себя
душевную потерянность, разлад с самим собой, трагическую
внутреннюю раздвоенность, отсутствие целостности и неистребимую жажду
(страсть) самообретения, колоссальную интеллектуальную
напряженность и устремленность в поиске устойчивых жизнетворящих
доминант. Это состояние наступает в особое время — духовного кризиса,
«остановки жизни» (Л. Н. Толстой), перестройки всей внутренней
жизни, перехода из одного состояния в другое. Это время плача, омовения
слезами собственной души, время предельной искренности и правды,
когда человек мучительно пытается сказать самому себе кто он, зачем
живет, в чем смысл его существования. В. Л. Рабинович называет
это время «бытийственным мигом». Это время, когда «миг объемлется
вечностью. Вечность полнится мигом. Но мигом особым: обращения,
покаяния, смерти, мигом, в котором прозревается посмертное
воздаяние...» *. Этот миг фокусирует всю силу и полноту человеческого
самопознания. Об этом времени в разных историко-культурных контекстах
рассуждают и Августин Блаженный, и Н. В. Гоголь, и Л. Н. Толстой.
Августин Блаженный «Исповедь» : «И вот пришел день, когда я встал
обнаженным перед самим собой, и совесть моя завопила...»; «И чем
ближе придвигалось то мгновение, когда я стану другим, тем больший
ужас вселяло оно во мне, но я не отступал назад, не отворачивался,
я замер на месте» **.
Н. В. Гоголь «Авторская исповедь»: «Все более или менее
согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-
либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани,
не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет,
ищет уже не вне, а внутри себя... Веян более или менее чувствует,
что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен
быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное
состояние... » ***.
Л.Н. Толстой «Исповедь»: «Так я жил, но пять лет тому назад
со мной стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить
минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал,
* Рабинович В. Л. Урок Августина: жизнь — текст // Августин Аврелий. Исповедь.
Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1992. С. 249.
* Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М.. 1992.
С. 107, 110.
* Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М., 1984.
С.453-454.
282
И. Ф. САЛМАНОВА
как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние» ; «Жизнь
моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать,
не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких
желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным» *.
Остановка ли это или тревожное движение, но в любом случае
это время пристального вглядывания в самого себя и строгого анализа
собственной души, время поиска и обретения спасительной веры.
<...> «Искание истины» (Л.Н. Толстой) и искание самого себя
в исповедальном тексте совпадают. Автобиографический же экскурс,
столь важный для структуры исповеди, скорее всего является подходом,
неким фундаментом для исповедальности. Важно, «чтобы
ретроспектива стала перспективой созидания самого себя из себя же самого» **.
Собственно исповедальный текст как бы «зависает» между прожитой
жизнью и ее переосмыслением, между неправедностью
(неправильностью) былого и праведностью искомого нового Смысла, нового Слова
о себе и о жизни. Исповедь — роковой «промежуток», заполненный
судьбоносными вопросами и ответами, вопрошаниями об утерянном,
но еще не обретенном смысле бытия. Исповедальное начало
становится универсальным «способом прояснения человеком своего бытия»,
уникальным опытом самопознания. По сути, исповедальное
начало — это и есть творимый на наших глазах диалог о смысле жизни,
а исповедальное Слово — творящее, созидающее это диалогическое,
полное сомнений, борьбы, самоанализа, становящееся пространство.
Если исповедь — творческий акт само-становления, само-сло-
жения, само-собирания, то логической ее основой становится
непрекращающийся внутренний диалог. В исповеди как изначально
творческом пространстве неизменно предполагается наличие «другого»,
собеседника (умозрительного, метафизического, подсознательного,
реального). Исповедь начинается с «великого спора во внутреннем
дому» (Августин Блаженный). Истоком само-обретения становится
«исповедание себя перед самим собой», «общение с собой, как с
другим» , умение «высветлять — мастерить себя в качестве себя — чужого
объекта»***. Феномен исповеди заключается в том, что она фиксирует,
запечатлевает самый процесс мышления как творчества (B.C. Библер).
Продуктивным движущим началом исповедальности становится
не только способность взглянуть на себя со стороны, объективировать
* Толстой Л. Н. Исповедь // Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: в 90 т. Юбил. изд.
Т. 23. М.; Л., 1928-1958. С. 10-11.
** Рабинович В. Л. Указ. соч. С. 257.
*** Там же. С. 236, 257.
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 283
самого себя, но и вступить в диалог-спор с самим собой. «Спор этот
шел в сердце моем: обо мне самом и против меня самого» *. Затем этот
внутренний диалог «обрастает» голосами, раздающимися извне (небес
или земли, мудреца или обывателя).
Внутри исповедального текста созидается многоголосое
пространство, требующее покаянного самообнажения не только перед Богом,
но и перед лицом многих свидетелей, перед судом людским. С
этого момента исповедь наполняется назидательным, учительским,
проповедническим пафосом, а найденное, спасительное Слово
становится активным, действенным.
Исповедальное начало с наибольшей интенсивностью проявляется
в русской литературе вслед за европейской лишь в конце XVIII века,
и происходит это, прежде всего, в так называемых «пограничных видах
литературы — в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях»**.
Намеченная тенденция развития исповедального начала — от
документальных жанров к собственно художественной психологической
прозе — чрезвычайно важна. Знакомство с сочинениями Ж.-Ж. Руссо,
с европейскими сочинениями исповедального типа, с «Исповедью»
Августина Блаженного только усилило и углубило те процессы,
которые постепенно складывались в недрах русской литературы. Особенно
актуальным представляется разговор о переписке как об одном из
важнейших документальных первоисточников исповеди. Наличие во всех
перечисленных «пограничных» жанрах автобиографического элемента
способствует, с точки зрении Н. Д. Кочетковой, развитию
исповедального начала***. <...>
Между тем необходимо отметить, что кульминация в развитии
отечественной эпистолярной культуры наступает только в XVIII — первой
трети XIX века, когда частная переписка начинает восприниматься
как факт литературы****. Непосредственное влияние на отечественную
эпистолярную литературу западноевропейской романистики, успевшей
ввести исповедальность в разнообразные художественные жанры,
очевидна. В это время наметилась совершенно иная тенденция развития —
от художественной литературы к письму. «"Романами" называли свою
переписку, восходящую к литературе, питающуюся ею, люди XVIII в.,
чьи письма, не переставая быть средством связи, документом частной
* Августин Аврелий. Указ. соч. С. 111.
* Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 76.
:* Кочеткова Н.Д. * Исповедь» в русской литературе XVIII в. // На путях к
романтизму. Л., 1984. С. 71-99.
* Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 121-137.
284
Я. Ф. САЛМАНОВА
жизни, превращались в форму самопознания, самовыражения
личности, форму освоения действительности»*. Теперь «литературность»
обволакивает переписку, превращая ее в подобие литературной игры,
а исповедальность облекается в форму художественных упражнений,
становится «книжным» способом чувствования и самовыражения. <...>
«Исповедь» в классическом ее виде впоследствии удалось создать
только Л. Н. Толстому, который был хорошо знаком и с западной,
и с отечественной исповедальной традицией. К своей «Исповеди» он
подошел в результате сложнейшей творческой эволюции, однако
формирование исповедального начала обнаруживается прежде всего в
дневниках и письмах Толстого. Многолетняя переписка с H. H. Страховым
в этом смысле становится уникальным документом, предшествующим
«Исповеди».
Переписка Л. Н. Толстого и H. H. Страхова продолжалась
двадцать шесть лет и насчитывала 467 писем. Исследовательский интерес
к переписке обусловлен необходимостью проникновения в глубинную
природу творческого диалога, который, при определенном «единстве
воззрений на жизнь», «на известной высоте душевной не соединяет,
как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей,
а оставляет каждого независимым и свободным»**. Здесь мы имеем дело
с диалогическим процессом «высвобождения» той духовной энергии,
которая необходима обоим в сложный период их творческих исканий.
Структура переписки прозрачна и сложна одновременно. Ее внешняя
канва, несмотря на многоаспектную насыщенность и разноплановость,
может рассматриваться с точки зрения разных эпистолярных уровней,
которые формируются и развиваются по ходу жизненных обстоятельств
и отражают не только личные, творческие контакты Толстого и
Страхова, но и эпохальные перипетии. Переписка носила одновременно
и деловой, и информационно-публицистический, и глубоко дружеский
характер. Каждый из уровней переписки, безусловно, заслуживает
отдельного исследования, так как, по словам A.A. Донскова, их
переписка представляет собой «незатронутый источник».
С нашей точки зрения, переписка интересна как обоюдный, глубоко
творческий процесс взаимного постижения, проникновения во
внутренний ход мыслей и чувств друг друга. «Занят я Вами
беспрестанно» [t. 2, с. 759]; «Но что бы я ни делал, я всегда о Вас думаю...»
* Лазарчук Р. Л. Переписка Толстого с Т. А. Ергольской и А. А. Толстой // Л. Н.
Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 86.
"* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки в двух томах. Группа
славянских исследователей при Оттавском университете и Государственный
музей Л. Н. Толстого, 2003. Далее цитируется: том, страница.
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 285
[т. 2, с. 784]; «Всегда от Вас я получал освежение, всегда Ваши речи
и все Ваше присутствие подымали меня; много я о Вас думаю и
много люблю Вас и потому видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь
лицом к лицу — для меня большая радость, сильно меня трогает
и оживляет» [т. 2, с. 792], — пишет Страхов Толстому. Открываться
перед Толстым «как на духу» становится жизненно необходимым
для философа. «Ваша внутренняя жизнь всегда меня очень
интересует и представляется мне значительной очень, несмотря на внешнее
ее однообразие [т. 2, с. 1004], — пишет Толстой Страхову. Толстой
вдумывается «в те душевные особенности» друга, которые, как ему
кажется, «он знает по себе» [т. 2, с. 998]. И продолжает: «На то только
мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться
духом» [т. 2, с. 698]. Необходимым становится не только обоюдное
всматривание, распознание внутреннего состояния, но и постоянное,
заинтересованное обсуждение творческих достижений друг друга;
требование не только похвал и лестных отзывов, коими изобилуют письма
Страхова, но и жесткой критики и самокритики, на которой настаивает
Толстой. Речь в данном случае идет не столько о внутренних
совпадениях и согласованности «одних и тех же взглядов на жизнь» (в таком
случае истинно творческого диалога, безусловно, не получилось бы),
сколько о преодолении в переписке всякой умышленности,
искусственности, этикетности, мешающей распознанию «чужого» и «родного»,
«сближающего» и «разделяющего». Тут мы имеем дело с особым
уровнем переписки, с ее внутренней интригой, раскрывающейся
только в текстах писем. Проникновение в этот исповедальный, духовно-
интимный слой переписки представляется нам первостепенным, так
как позволяет неформально представить весь сложнейший комплекс
идей и проблем, мучительно решаемых в этот переходный, кризисный
для обоих период. Поиск и освещение духовнонравственных основ
жизни в доступных научному познанию пределах и рамках либо
разрушение их и переживание этого процесса внутри себя и для себя — вот
основная смысловая оппозиция, на которой выстраивается внутренняя
коллизия переписки художника и ученого. Интенсивность и глубина
внутренних исканий продиктована необходимостью обретения чувства
истинности жизни, поиском «сердечного знания», исключающего
фальшь, искусственность, претенциозность, пафосность, «чуждость»
которым ощущает и Толстой, и Страхов. «О, риторика! тебя ничем
и никогда не выжить. Всегда только как редкое исключение будут
некоторые писать, остальные же сочинять [т. 1, с. 98], — писал Страхов
Толстому. Сочинительство чуждо переписке, сориентированной на
разговор о главном, существенном: «...сначала о так называемых делах,
т.е. о пустяках, а потом не о делах, т.е. о существенном» [т. 1, с. 14] —
286
И. Ф. САЛМАНОВА
так начинает одно из первых писем к Страхову Толстой. Существенным
является вопрос о смысле жизни, путях его постижения и реализации.
На протяжении всей переписки он остается стержневым и
определяющим ее динамику. Специфику этого судьбоносного для обоих диалога
определяет то, что в нем участвуют глубоко симпатизирующие друг
другу, близкие по мироощущению, но совершенно разные по натуре
личности: активный, деятельный, бесстрашный субъективист-Толстой,
для которого его «я», смысл его жизни становится отправным для
постижения всеобщего, и объективный мыслитель Страхов, для которого
собственное «я» не представляет никакого интереса, а его личная жизнь
никак не вписывается (поначалу) в русло столь важного разговора.
К началу переписки и Толстой, и Страхов уже состоявшиеся
творческие личности, за плечами которых почти 50 лет жизни; оба
испытывают глубокую неудовлетворенность окружающим и собой; оба
нуждаются в «задушевном» собеседнике, способном понять, вникнуть
во внутренние переживания и размышления Другого. Абсолютная
непохожесть Толстого и Страхова чрезвычайно важна для понимания
творческой природы диалога, развития его внутренней коллизии,
которая, собственно, и является главным предметом нашего осмысления.
К моменту переписки один, Н. Н. Страхов, — профессиональный
философ-естественник, уже написавший книгу «Мир как целое. Черты
из науки о природе», известный литературный критик,
вынужденный зарабатывать журналистской деятельностью; петербургский
интеллигент со своим кругом общения и образом жизни; ученый аскет
(у H. H. Страхова никогда не было ни жены, ни детей); спокойный
мудрый созерцатель, аналитик, «стоящий около «вечныхистин»; человек
тихий, не рвущийся, не призывающий, не патетический, погруженный
в мир книг, вечно читающий и вечно продумывающий и додумывающий
чужие мысли, но составляющий, как отмечал В. В. Розанов, из всего
этого «свою оригинальную, неповторимую, внешне неяркую
мыслительную вязь» *. Отмечаемая Розановым «способность рассматривать
чужие труды в отношении к самим писателям, как показателей их
внутреннего настроения» **, не раз выделялась и Толстым. Важно для нас,
что именно эта способность погружаться «в чужое» делает Страхова
идеальным собеседником, прежде всего заинтересованным в
понимании другого. Однако эта черта, столь ценимая Толстым,
удовлетворяет его лишь до определенного момента1. Если бы Страхов остался
на позиции только восторженного поклонника, смиренного слушателя
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М.: Аграф,
2000. С. 17.
* Там же.
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 287
и объективного созерцателя, то истинный диалог между ними
наверняка бы не состоялся. Хочется отметить еще одно замечательное качество,
позволившее Страхову-мыслителю вступить в столь длительное и
плодотворное общение с Толстым: это его необыкновенное художественное
чутье, позволяющее охватывать интересующее его целостно, в полноте.
Именно целостность художественного воплощения покоряет, удивляет,
как чудо, и влюбляет Страхова-философа в Толстого-художника раз
и навсегда. Не менее важно, что Страхов одним из первых, воочию,
распознал в Толстом пытливого, самобытного и бесстрашного мыслителя,
которого он никогда не отделял от Толстого-художника. Именно это
понимание, несмотря на осознание выпирающего, «голого нравоучения»,
«голого рассуждения», позволило Страхову воспринимать Толстого
органично, не расчленяя его монолитную жизнетворческую сущность
на несовместимые ипостаси. Другой, Л. Н. Толстой, к началу
переписки — прославленный писатель, землевладелец-аристократ, ведущий
независимый и кажущийся нерушимым патриархально-усадебный
образ жизни; человек активный, неутомимо деятельный, пробующий
и проявляющий себя в разных жизненных и творческих ипостасях —
помещика, семьянина, общественного деятеля, педагога, писателя.
Важно, что к этому моменту Толстой уже пережил арзамасский ужас,
«заглянул в бездну», прочувствовал глубокую неудовлетворенность
от всей прожитой жизни и готов к внутреннему перевороту, о котором
он сразу сообщает Страхову: «Я нахожусь в мучительном состоянии
сомнений, дерзких замыслов невозможного или непосильного и
недоверия к себе и вместе с тем упорной внутренней работы» [т. 1, с. 9].
Тем не менее, как отмечает Б.М. Эйхенбаум, творческим стимулом
Толстого 70-х годов является «непрерывное вмешательство,
непрерывное воздействие, непрерывная жизнеустроительная деятельность...
до конца и без всякой боязни собственного дилетантизма» *,
собственных, личных первооткрытий давно открытого и при этом
«безусловно-художественный гений», умудрившийся это «свое» — внутренне
суверенное — сделать всеобщим, абсолютно интересным для всех.
В художестве это «я» и «мое» вбирает в себя все многообразие
русского мира, о чем не раз и в разных формах писал и говорил Толстому
Страхов. В частности, он писал: «Когда русского царства не будет, новые
народы будут по «Войне и миру» изучать, что за народ были русские»
[т. 1, с. 98]. С самого начала переписки и непосредственного знакомства
Страхова поразила «сила внутренней жизни» писателя: «Ваши мысли
волнуют Вас так, как будто Вам не 50, а 20 лет...» [т. 2, с. 530]. Вместе
* Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Художественная литература,
1974. С. 29.
288
И. Ф. САЛМАНОВ А
с тем жизнетворен, самодостаточный монологист Толстой, как никогда
ранее, нуждался в собеседнике.
Таким образом, абсолютная непохожесть Толстого и Страхова
не только не мешала диалогическим отношениям, но стала питательной
почвой для их плодотворного развития. Страхов в своем
исповедальном письме отмечал: «Присматриваясь к людям, я наконец замечаю
и то, что в них много тех самых черт, которые я готов был считать своею
особенностью, и тогда, рассматривая себя в них (курсив мой. — И. С),
начинаю смотреть на себя иначе, чем в том хаотическом и печальном
«свете», в котором обыкновенно созерцаю собственную фигуру»
[т. 2, с. 543]. В своем исповедальном саморазоблачении перед Толстым
Страхов, по сути, определяет «механизм» творческих диалогических
отношений: необходимость взглянуть на себя, самоопределиться через
призму другого; увидеть себя в другом, чтобы вернуться к себе, чтобы
окончательно ощутить свою самобытность. Внутренняя жизнь
каждого, и Толстого и Страхова, становится тем психологическим зеркалом,
взглянув в которое, возникает неистребимая потребность в самоанализе,
в окончательной самопроверке и самоопределении. Именно поэтому
Толстому 70-х годов нужен не только Страхов — проникновенный
слушатель и умнейший собеседник, но и Страхов — исповедально
саморазоблачающийся. Исповедальность становится, с нашей точки
зрения, той внутренней основой, на которой и из которой вырастает
все остальное, вся сложнейшая умственная и духовная работа каждого.
Прежде чем определиться по отношению к окружающему миру, к
науке, философии, искусству, религии, необходимо
самоопределиться, и этому самоопределению способствует «погружение» в другого.
Уникальность переписки в том, что она запечатлела не только
толстовский путь к «Исповеди», но и «исповедальное развитие» Страхова.
Это страховское исповедальное саморазоблачение инициирует Толстой,
который и становится его «исповедником». Именно передним
абсолютно не сосредоточенный на себе Страхов «омывает свою душу» и считает
его «судьей, перед которым ни за что не хотелось бы провиниться»
[т. 2, с. 775]. Однако исповедальные признания не превращают мягкого
и податливого Страхова в марионетку в «руках» мятущегося, мощно
преображающего себя и окружающее, Толстого, но в определенном
смысле укрепляют его духовно, помогают обрести внутреннее
самостояние. В этом, думается, и заключается вся благотворная сила и тайна
творческих диалогических отношений, столь ярко проявляющихся
именно в переписке.
Осветить переписку Толстого и Страхова в полноте и сложности
исповедального начала не представляется возможным в пределах статьи.
Однако мы попытаемся, по возможности, показать зарождение и разви-
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 289
тие исповедального начала в переписке. С самого начала Толстой
определяет некий уровень диалогических отношений со Страховым. В
разговоре «о существенном» должна, по его мысли, возникать не столько
близость, сколько чуждость, независимость и свобода. Именно это
состояние Толстой испытал с Ф. И. Тютчевым и H. H. Страховым,
«чуждыми путешественниками», повстречавшимися ему «на этой
пустынной дороге» [т. 2, с. 1415]. Однако сам Толстой не выдерживает сухой
отстраненности и объективной холодности чисто интеллектуального
общения. Он слишком возбужден, мучается внутренними сомнениями,
жаждет сокровенного, исповедального разговора. Сдвиг в отношениях
начинается после прочтения Толстым книги Страхова «Мир как целое».
Естественнонаучную работу Страхова Толстой воспринимает
субъективно, ему «не хватает нравственного смысла в книге (указания на идею
добра)» [т. 1, с. 92]. Страхов моментально, будто ожидая именно этого
замечания, откликается: «О, как бы я хотел иметь точные формулы
для Вашего взгляда, для мысли о нравственной цели мира, и как бы
хотел видеть отношение этой мысли ко всему, что есть в моей книге
и... от чего я не могу отказаться!» [т. 1, с. 92]. С этого момента в
переписке разворачивается диспут о методе познания сущности жизни,
о роли философии, науки, религии в постижении ее смысла, о
возможности или невозможности примирения научно-объективного и
духовно-субъективного в понимании своего «я». Однако в марте 1875 года,
в пору интенсивного писания и печатания «Анны Карениной», Толстой
пишет Страхову: «Вы думаете, что я о себе одном думаю. Напрасно.
Я чувствую людей, которых я люблю, и я чувствую вас и знаю, что в вас
в эти два года... многое выросло внутри, и я догадываюсь, но мне хочется
подробно узнать, ощупать, что и куда?» [т. 1, с. 205]. Страхов из Рима
откликается: «Но я писал Вам все о Вас, да о Вас потому, что искренно
вхожу в Ваши интересы и мысли. Я поступаю так почти со всеми,
даже иногда с пустейшими людьми... Но что правда, то правда; я от Вас
скрывался, я не был откровенен, говоря о самом себе. Отчего же? Скажу
прямо — мне было стыдно открывать Вам то уныние, тот упадок духа,
которые овладели мною...» [т. 1, с. 207]. Вот начало исповедальной
переписки. Толстой только теперь, на пятом году интенсивного общения
со Страховым, распознает в нем глубокую внутреннюю
неудовлетворенность. «Немножко мне открылось ваше душевное состояние, но тем
более мне хочется в него проникнуть дальше» [т. 1, с. 211]. Это желание
проникнуть дальше зиждется не «на умственном интересе», который
преобладал в общении со Страховым, а «на сердечном влечении».
Далее Толстой советует Страхову освободиться от излишней
объективности, открыто и искренне проявить свое внутреннее духовное ядро,
не стыдиться саморазоблачения. «Вы всегда говорите, думаете, пишете
290
И. Ф. САЛМАНОВ А
об общем — объективны. И все мы это делаем, но ведь это обман,
законный обман, обман приличия, но обман, вроде одежды. Объективность
есть приличие, необходимое для масс, как и одежда... И вы слишком
одеваетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней
мере. Какие критики, суждения, классификации могут сравниться
с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?» [т. 1, с. 211].
Именно с этого момента переписка приобретает новые черты, четко
подразделяясь на собственно философские письма с неизменными
исповедальными вкраплениями и дружеские. Теперь Толстой и Страхов
движутся в одном философско-исповедальном русле, которое
приводит одного к «Исповеди», к окончательной духовной и творческой
перестройке, обретению религиозной основы в жизни и творчестве,
другого — к новому этапу философской деятельности, главным в
которой становится нравственный смысл постигаемого. Однако
непохожесть движения очевидна: один, Толстой, воодушевлен и мучительно
«работает» мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение
высших вопросов; другой, Страхов, «будто усталый и бессильный»,
только вечно смотрит на эти вопросы, только беспрестанно обращается
к ним своею мыслью, почти не ожидая разрешения.
Вопрос о пассивном и деятельном отношении к жизни
становится одним из ключевых в переписке. Внутренняя интрига
диалога строится по сути на столкновении глубоко не равнодушного,
но все же абстрактносозерцательного, внутренне рефлектирующего,
но не реализующего себя в конкретных поступках, отношении к
жизни (H. H. Страхов) и активно преобразующего себя и окружающее,
требующего непрерывного вмешательства, бесконечно стремящегося
к единству высказывания и поступка (Л. Н. Толстой).
С этой точки зрения за Страховым тянется шлейф опыта так
называемых кающихся, но ничего не предпринимающих «лишних людей».
Однако именно Страхов с восторгом воспринимал жизнетворческую
энергию и полноту Толстого: «Вы, Лев Николаевич, не только
гениально пишете, но и гениально живете» [т. 1, с. 325]. Страхов неустанно
называл Толстого не только «самым цельным и последовательным
писателем», но и «самым цельным и последовательным человеком».
В 1893 году, в пору интенсивной работы над «Царством Божием
внутри вас», Страхов писал Толстому: «Вы очень счастливы — нет, не так
нужно говорить — самое существенная Ваша черта в том, что Вашу
жизнь и деятельность Вы на самом деле подчиняете Вашим
убеждениям, не только избегаете противного им, но и исполняете то, что с ними
согласно. И Вы столько сделали, не только думали, а действительно
сделали! Более полной жизни трудно придумать. Как нелепы все толки
о том, что Вам нужно было бы оставаться романистом, и что вы заблуж-
Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры 291
даетесь, вздумавши сверх того быть человеком!» [т. 2, с. 916]. Страхов
при этом не был безоговорочным поклонником и последователем идей
Толстого, его религиозной этики. Он не раз указывал великому Льву
на «голую назидательность», призывая его не забывать себя
самого — художника. Однако это не мешало ему «поверять» себя в свете
толстовской жизнетворческой полноты, сравнивать себя с ним. Более
того, сквозь призму феномена жизнетворчества Толстого Страхов
пытался осмыслить некое переходное состояние всей русской
жизни. Однако самого Толстого состояние зыбкости, раздвоенности уже
не устраивает. Он неизменно движется вперед и провоцирует к этому
движению Страхова.
Формой данного движения для Страхова, с точки зрения Толстого,
должна была стать его, страховская, исповедь. Он считал, что
Страхову «недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии
заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать
нельзя» [т. 1, с. 423]. Толстой всячески подталкивает колеблющегося
Страхова на исповедальное слово. Страхов прислушивается к его
совету, «подумывает» и «укрепляется в мысли» написать не биографию,
но что-то подобное исповеди. «Напишу Вместо исповеди и посвящу
Вам. Боюсь, что разыграются дурные чувства, которых так много
возбуждает в нас наше милое Я» [т. 1, с. 458), — не без иронии замечает
Страхов. «Истинно радуюсь и горжусь тем, что мой совет — писать
свою жизнь, занял вас» [т. 1, с. 462], — отвечал Толстой, ожидая многое
от страховской исповеди. В это время Толстой сам пишет набросок
под заглавием «Моя жизнь», начатый еще в 1878 году, который можно
назвать прелюдией к «Исповеди».
Когда же страховская исповедь, полная горечи саморазоблачения
и неверия в себя, все же прозвучала в письме от 17 ноября 1879 года,
Толстой резко и безапелляционно ответил: «И вам писать свою жизнь
нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать».
Судя по тону советов, которые далее дает Толстой, он сам уже
переступил через черту сомнений, его устами заговорил проповедник: «Верьте,
перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все
желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни.
Делайте дела Божий, исполняйте Волю Отца, и тогда вы увидите свет
и поймете» [т. 2, с. 545].
Так зачем же Толстому понадобилась исповедь Страхова? Думал ли
он помочь другу, приобщить его к собственному опыту самопознания,
который был уже выстрадан. А может он «примеривался» к Страхову
как художник, видя в нем прототип одного из своих литературных
героев. Образ профессора Кознышева в «Анне Карениной» вольно
или невольно наводит на эту мысль. Скорее всего, исповедь Страхова
292
И. Ф. САЛМАНОВА
послужила для него толчком к окончательному преодолению своего
всепоглощающего «Я», движению к новому качеству исповедального
слова, обращенного не к себе, но ко всем, публичной исповеди,
наполненной теперь общечеловеческим смыслом.
С другой стороны, исповедальный опыт, который не прекращался
до конца переписки, помог и Страхову не только «сбросить мундир
и ордена», но и окончательно уяснить свое истинное
предназначение. «Об Вашем совете я прилежно думал и наконец сказал себе: Как
странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою! Ведь моя
объективность и есть выражение моего ума, моей натуры. Я не могу
говорить о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно
заниматься собою и занимать других своею личностью» [т. 2, с. 909].
Он остается верен самому себе, несмотря на то, что до конца дней своих
продолжал исповедоваться перед Толстым. Он ищет «общие мерки
чувств и мыслей», не выставляя «за норму, пример и закон своих
мнений и волнений», [т. 2, с. 909-910]. В своем творчестве Страхов
по-прежнему старается «возводить свои мысли до общеинтересного,
для всех законного и убедительного», и только тогда он уверен, что
«не обманывает свойства своей души» [т. 2, с. 910]. Таким образом,
исповедальное начало переписки Толстого и Страхова не только помогает
уяснить ее внутреннюю динамику, но и убедиться в том, что, двигаясь
в одном направлении в постижении целостности, оба преодолевают
«разговорность» в обсуждении онтологических проблем, оба остаются
творчески независимыми собеседниками в поиске смысла бытия.
Таким образом, русская эпистолярная культура становится, с
нашей точки зрения, тем уникальным, творческим, исповедально-
диалогическим пространством, которое позволяет по-новому взглянуть
на развитие не только русской художественной литературы, но и
отечественной философской мысли в целом.
a
Н.Н.СТРАХОВ
Письма о нигилизме
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Помутилось сердце человеческое.
Достоевский
Наша слепота. — Трудность исцеления. — История. —
Простой народ. — Где источник зла? — Личные побуждения. —
Племенная ненависть. — Нигилизм. — Порох в доме. —
Реальная злоба. — Трансцендентальный грех
Опомнимся ли мы? Боже мой! Собираюсь писать и чувствую всю
бесполезность своего труда, так ясно чувствую, так определенно вижу, что
едва могу преодолеть желание оставить перо. Нет, мы не опомнимся!
Как мы можем опомниться, когда и вся жизнь человека, вся его
деятельность держится на каких-то самообманах, обманах явных, ежеминутно
разоблачающихся перед нами со страшною очевидностью и все-таки
продолжающих нас обманывать? Тот древний мудрец, который, узнав
о смерти сына, остался совершенно спокоен, и когда удивлялись этому
равнодушию, отвечал: «Я знал, что он был смертен», — этот мудрец
сказал, по-видимому, непростительную наивность; но в сущности
он был прав. В сущности, мы действительно не знаем, что мы смертны.
Когда умирает человек, которого мы давно знали, мы всегда бываем так
поражены, так застигнуты врасплох, что всего точнее мы выразили бы
наши чувства, если бы сказали: «Ах, а мы думали, что он никогда
не умрет!» И когда смерть приходит за нами самими, мы встречаем
ее как что-то совершенно необыкновенное и незаконное, мы с
изумлением говорим: «Неужели я должен умереть? Я не хочу!»
Бедные создания! Мы окружены гробами, мы ходим по гробам,
мы каждый день носим на себе гробы и все-таки им не верим!
И та же слепота во всем. Теперь, в настоящую минуту, потрясены
ужасом, скорбью, стыдом от совершившегося цареубийства, мы
напрягаем всю нашу душу, все силы ума, чтобы понять это дело, уразуметь,
* Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. Т. II. С. 209.
294
Я. Я. СТРАХОВ
откуда зло и, главное, как нам быть, что нам делать. Самые
равнодушные, самые закоренелые поражены, возмущены. Спросите же
себя: почему же ранее, почему давно мы не испытывали такого же
потрясения и напряжения? Разве в первый раз покушаются на царя?
Если уж нужны покушения, чтобы разбудить нас, то эти покушения
совершались пятнадцать лет сряду. Пятнадцать лет! Почему же
мы не думали об этом так, как теперь думаем? Источник этих
злодейств был тот же, как и теперь, те же приемы пускались в дело, та же
злая мысль ими руководила. Почему же мы не так же потрясались
и изумлялись? Что же новое могло нас потрясти и изумить теперь?
Не то ли, что наш царь убит наконец? В самом деле, это удивительно
и неожиданно. Мы пятнадцать лет не могли поверить, что его можно
убить; мы в эти пятнадцать лет даже совершенно привыкли не верить
этому. Да, мы, должно быть, решительно считали его неуязвимым,
бессмертным, и только теперь, когда мы его хороним, мы поняли
наконец, с совершенной ясностью, что он мог быть убит даже тем первым
выстрелом, с которого начались эти пятнадцать лет покушений, что
уже тогда были все причины для того ужаса, скорби и стыда, который
мы испытываем теперь, все причины напрягать все силы нашего ума,
всю нашу душу к пониманию и устранению зла.
И то же, конечно, будет и вперед. <...>
<...> Разве можно изменить историю? Разве можно повернуть
то русло, по которому течет вся европейская жизнь, а за нею и наша?
Эта история совершит свое дело. Мы ведь с непростительной
наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то
благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье; а вот она приведет нас
к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видали.
История нас никогда не обманывала; ее уроки ясны и непрерывны;
она от начала до конца показывала нам ряд преступлений и бедствий,
ряд проявлений человеческого бездушия и зверства; но мы всегда так
умели сочинять и преподавать историю, что нимало не пугались, а
напротив, даже утверждались в нашем спокойствии и нашей беспечности.
Так и наличные бедствия не заставят нас одуматься, так мы не будем
понимать и той истории, которая совершается перед нашими глазами.
В одно я верю всем сердцем, и одна твердая надежда меня
утешает, — та, что какой бы позор и какая бы гибель нам ни грозили, через
них пройдет невредимо наш русский народ, т.е. простой народ. Он чужд
наших понятий, того разврата мысли, который разъедает нас, и он
смотрит на жизнь совершенно иначе: он всегда, всякую минуту готов к горю
и беде, он не забывает своего смертного часа, для него жить — значит
исполнять некоторый долг, нести возложенное бремя. Он спасется, как
и прежде спасался, своим безграничным терпением, своим безгранич-
Письма о нигилизме
295
ным самопожертвованием. Он будет расти, и множиться, и шириться,
как и до сих пор, — и для нас (если мы уразумеем, что нам грозит
позор и гибель) остается одно средство спасения — примкнуть к народу,
т.е. прилепиться душою к его образу чувств и мыслей, и отказаться
от безумия, среди которого мы живем.
А разве это возможно? Для отдельных лиц конечно возможно;
но для большинства так же невозможно не впитывать в себя ежедневно
заразу безумных и вредных понятий, проникающую всю нашу
умственную и нравственную атмосферу, как нельзя перестать дышать
воздухом. <...>
Причины зла, источник его — вот самый важный вопрос в настоящее
время. Кто не думает об этом, не стремится всеми силами уяснить себе
дело, тот не заслуживает названия серьезного человека. А тот, кто
думает при этом не об общей беде, а только о том, как бы воспользоваться
этой бедой, как бы при этом случае обделать свои дела, тот не стоит
имени честного человека.
Между тем мне все кажется, что серьезно размышляющих о вопросе,
вникающих в него с искренним успехом между нами очень мало, почти
нет. Мало того, почти нет и таких, которые сознавали бы надобность
подумать. Зачем думать? Да у каждого сейчас же, через две минуты
после события, готов ответ, каждый все решил как по пальцам и
потому принимается усердно выкрикивать свое мнение и думает только
об одном: как бы половчее защищать его. И часто поспешным и
легкомысленным является тот, кто горячее других принял дело к сердцу.
Что же это за решения? Горе в том, что при этом каждый не видит
нужды выходить из сферы своих привычных понятий и каждый ищет
источника злодейства в том, в чем привык полагать наибольшее зло,
на чем привык сосредоточивать свою вражду. Злодеи должны были
руководиться злобой; убийцы русского царя должны были питать
ненависть к русскому царству — вот общий смысл разнообразных
предположений, вот вывод, по-видимому, такой простой и естественный, что
ему невозможно противоречить. Корень дела или озлобление против
царя, или ненависть к русской земле; из этой дилеммы, по-видимому,
нет выхода. Можно даже вознегодовать на того, кто решился бы
отвергать такую ясную мысль. Неужели в самом деле можно полагать,
что не злоба была главным двигателем бесчеловечного преступления,
что не ненависть к России руководила ударом, от которого застонала
Россия?
И вот мы готовы без конца перебирать причины, которые
соответствуют таким предположениям. Мы спрашиваем, не было ли у
государя личных врагов, людей раздраженных и озлобленных чем-нибудь
прямо против его лица? Потом, не было ли таких, которые злобились
296
H. H. СТРАХОВ
не на него лично, а на его управление, на тот строй, во главе которого
он стоял? Мы перебираем всех, кто мог понести несправедливости
и притеснения, мы мысленно соединяем в одну картину все тягости,
все неправды, всякое правительственное зло, какое у нас было или
могло быть, и спрашиваем: не отсюда ли явились злодеи? Это
страшное злодейство не составляет ли отголоска озлобления, зародившегося
в каком-нибудь углу России, не вызвано ли оно неправильным
распоряжением, чрезмерной строгостью к каким-нибудь лицам или делам? Тут
нам открывается обширное поприще соображений. Мы допытываемся,
какого звания и происхождения преступники, чем они занимались,
с кем водились, от кого и от чего могли пострадать и вознегодовать,
и когда найдем причины раздражения, мы удовлетворяемся и даже,
пожалуй, сами начинаем проповедовать против порядков и случаев,
вызвавших это раздражение.
Одним словом, мы тут приписываем преступление личным
побуждениям преступника. Вступиться за свою обиду или за других
обиженных — вот самое простое и естественное возмущение человека,
и потому многие ищут здесь разрешения вопроса, охотно пускаются
во всякие вариации на эту тему. Не забудем притом, что в силу
простоты и естественности дело получает в то же время наиболее невинный
вид, а в иных случаях, пожалуй, возвышается и до героизма, так что
добрые и невинные души особенно расположены к такому
идиллическому взгляду.
Увы! Доброта и невинность не помогут нам в распутывании этого
узла. Мы должны вспомнить, что в человеке, живущем в государстве,
личные побуждения неспособны иметь такую силу. Всякий с детства
привыкает к мысли, что тяжелая и сложная машина государства может
наносить ущерб его интересам; все мы каждый день чувствуем хоть
малую долю тягости, происходящей от того, что мы, так или иначе,
держим на себе государство. Бунт, самоуправство, хотя суть вещи очень
обыкновенные, но вызываются всегда только очень определенными,
совершенно местными и частными явлениями, так что виноватые
всегда отчетливо обнаруживают во всех своих действиях, что они идут
против известного лица, известного порядка, а не против государства
вообще, не против правительства и законов вообще.
Нет, злодейства, потрясающие наше царство, могут происходить
не от людей, озлобленных против известных лиц или порядков, а разве
от врагов русской земли, от ненавистников ее могущества. Племенная
ненависть тысячекратно сильнее личной, и вот, по-видимому, где
можно найти источник этой дерзости и силы. Наши политики и историки
очень естественно останавливаются на этих соображениях. Польский
фанатизм или, может быть, ярость обезумевших хохломанов — вот где
Письма о нигилизме
297
злоба действительно может дорасти до тех размеров, в каких мы видим
ее перед собой.
Такое разрешение вопроса, конечно, несравненно выше, чем вывод
всего дела из личных побуждений. Наши преступники, очевидно,
посягают на политическое существование России; следовательно, они
действуют заодно с ее политическими врагами. Эти враги должны
радоваться их действиям; всякий, кто ненавидит русскую силу в Европе,
должен чувствовать желание помочь нашим анархистам, может быть,
и действительно помогает, может быть, даже сам становится в их ряды.
У тех и других одна цель, одно желание, так что ни по результатам,
ни по способу действий невозможно отличить одних от других.
Корень зла — нигилизм, а не политическая или национальная
вражда. Эта вражда, как и всякое недовольство, всякая ненависть,
составляет только пищу нигилизма, поддерживает его, но не она его
создала, не она им управляет. Если какой-нибудь ненавистник России
дал денег или прислал бомбы для наших анархистов, то это значит
только, что он стал слугою нигилизма, работает в его пользу, а не наоборот,
не нигилизм ему служит. Разница огромная и существенная, которую
мы никак не должны упускать из виду, если желаем правильного
смысла в наших мыслях и действиях. Вообразим, что в каком-нибудь
обширном доме вдруг оказалось, что в разных темных и незаметных
углах насыпан порох. От времени до времени происходят взрывы этого
пороха, производят разрушение и ужас и, пожалуй, скоро обратят весь
дом в развалины. Что бы мы сказали, если бы хозяин этого дома вовсе
не беспокоился о разложенном у него порохе, а только сердился бы
на тех, кто его поджигает? Порох — это наш нигилизм; вместо того,
чтобы думать только о его поджигателях, не разумнее ли позаботиться
об уничтожении пороха? Притом какая наивность, какой верх
наивности — думать, что порох сам по себе ничего, что тот, кто только
кладет порох, еще не делает ничего дурного, что, может быть, он вовсе
не имеет в виду произвести взрыв, а что истинные злодеи, настоящий
источник зла — это люди, поджигающие порох! Вот в какую жестокую
ошибку мы можем попасть. При всех своих усилиях против
поджигателей, если даже они и найдутся, мы можем довести дело до того, что
во всех углах у нас будет порох, и тогда одной искры будет довольно,
чтобы все поднять на воздух. Не лучше же ли подумать, как бы очищать
от пороха наши углы? Не в этом ли должна состоять наша главная
забота? Когда бы дом наш был чист от пороха, то мы могли бы не бояться
взрывов и поджигатели были бы нам уже не так страшны.
Вот правильная постановка дела, вот прямое решение
вопроса. Но боюсь и предчувствую, что эта постановка не будет принята
298
H. H. СТРАХОВ
и это решение будет отвергнуто. С одной стороны, дело в таком
виде является слишком сложным и трудным; с другой стороны, оно
для большинства кажется непонятным, невероятным.
Нигилизм! Да возможно ли мечтать об его уничтожении? Если бы
дело шло только об истреблении наличных нигилистов, то, может
быть, нашлись бы еще люди, которые сочли бы эту меру достойной
внимания и рассмотрения. Но дело вовсе не в нигилистах, а в
нигилизме. Как сделать, чтобы ослабело и умалилось это направление? Как
обратить на истинный путь тех, кто стоит теперь на этом ложном? Как
предупредить, по крайней мере, чтобы ежегодно и ежедневно тысячи
и тысячи молодых людей не сбивались с пути, не вербовались в эту
незримую армию? Истреблять зараженных дело не хитрое; но как
истребить заразу? Тут невозможность так ясна для всех, так уже
признана всеми, что о ней обыкновенно и не рассуждают. Признано, что
нигилизм составляет как бы естественное зло нашей земли, болезнь,
имеющую свои давние и постоянные источники и неизбежно
поражающую известную часть молодого поколения. Самые смелые замыслы
и попытки изменить наше образование и дать умам другое направление
останавливаются только на мысли — воспитать часть молодых людей
в других началах, а никак не смеют простираться до мечтаний о полном
ослаблении нигилизма.
<...> Трудно, очень трудно понять, что вовсе не какие-нибудь
реальные интересы, не определенные личные, временные, местные
побуждения порождают эти ужасы, а порождают их отвлеченные мысли,
призрачные желания, фантастические цели. Если же кто понял это, тот,
мне думается, должен невыразимо содрогнуться перед этим безумием,
содрогнуться с несравненно большим страхом, чем перед всякой
реальной злобой, чем перед самой чудовищной, но реальной ненавистью. Ибо
реальные желания можно удовлетворить, реальную ненависть можно
отразить и обезоружить; но что сделать с фантастической ненавистью,
которая питается сама собой, над которой ничто реальное не имеет
силы? Да, наша беда истинно ужасна, наша опасность безмерна;
напрасно мы стали бы уменьшать ее размеры, — это ничему не поможет.
Посмотрите, как просто было бы дело, если бы государя убил кто-
нибудь питавший лично к нему безумную ненависть. Тогда это была бы
случайность, которой никогда невозможно избежать и над которой
нечего было бы думать. Точно так, если бы убийцы были люди, обиженные
властями, пострадавшие от суда или администрации, то самое большее,
что отсюда можно было бы вывести, состояло бы в том, что
открылся бы некоторый совершенно определенный порок в государственной
машине, порок, доводящий людей до отчаяния. Говорим, совершенно
определенный, ибо дойти до посягательства на жизнь государя вслед-
Письма о нигилизме
299
ствие вообще какой-нибудь понесенной несправедливости есть безумие,
к которому неспособны вполне неповрежденные люди. В этом
отношении чрезвычайно ясный смысл имеет предубеждение,
встречавшееся у простого народа, будто бы виновники покушений принадлежат
к числу лиц, потерпевших убытки вследствие крестьянской реформы.
Вот, в самом деле, мера, которая отразилась на жизни множества
людей и по грубому понятию должна была озлобить кого-нибудь из них.
Это совершенно неверно, но, по крайней мере, похоже на объяснение,
не говоря даже о высшем его смысле. Люди, охладевающие к родному
языку, вере и обычаю, становятся чуждыми народу, и он в своей темноте
может причислить к ним злодеев, в которых находит полное отречение
от своего духа и от глубочайших своих интересов. Другого подобного,
хотя бы и ложного, объяснения выставить невозможно. В одном из
недавних политических процессов совершивший покушение подсудимый
говорил о свободе печати и судившие снисходительно его выслушали.
Ну разве не было бы верхом нелепости, если бы мы вообразили, что этот
преступник принадлежит к большой массе людей, пламенно желающих
печатно высказывать свои нецензурные мысли, и что он, когда другие
только терпели и негодовали, дошел до той ненависти, сел на лошадь
и выстрелил в проезжавшего начальника 3-го Отделения? Совершенно
ясно, что свобода печати была для него не действительная, личная
потребность, а отвлеченная мысль. Нет, эти покушения не протест,
не мщение, не требование; иначе они имели бы не общий, а частный
смысл, имели бы ясно определенное значение. Национальная и
политическая ненависть, вот это — нечто совершенно определенное. И опять
скажем, что если бы дело сводилось к этой ненависти, то сравнительно
это была бы меньшая беда и меньший ужас. Между поляками и хох-
ломанами есть заклятые враги России; но что бы они значили без
союза с нашим чисто внутренним врагом? И во всяком случае, если бы
это были чистые националы, они могли бы постепенно образумиться
вместе с успокоением своего народа. Рано или поздно можно было бы
предвидеть их ослабление, если только позволительно предвидеть
в человечестве ослабление коварства и злобы, если только можно
думать, что ненависть не всегда же ищет себе поводов, когда не имеет
для себя причин.
Но той беды, которая пришла на нас, мы не избудем ни реформами,
ни умиротворением народностей. Нигилизм есть движение, которое
в сущности ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения.
О, понятно, почему есть столько людей, которые не в силах этому
поверить, не могут вместить этого в своих понятиях. Нигилизм — это не
простой грех, не простое злодейство; это и не политическое преступление,
не так называемое революционное пламя. Поднимитесь, если можете,
300
H. H. СТРАХОВ
еще на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противления
законам души и совести; нигилизм — это грех трансцендентальный,
это — грех нечеловеческой гордости, обуявший в наши дни умы людей,
это — чудовищное извращение души, при котором злодеяние является
добродетелью, кровопролитие — благодеянием, разрушение — лучшим
залогом жизни. Человек вообразил, что он полный владыка своей
судьбы, что ему нужно поправить всемирную историю, что следует
преобразовать душу человеческую. Он по гордости пренебрегает и
отвергает всякие другие цели, кроме этой высшей и самой существенной,
и потому дошел до неслыханного цинизма в своих действиях, до
кощунственного посягательства на все, перед чем благоговеют люди.
Это — безумие соблазнительное и глубокое, потому что под видом
доблести дает простор всем страстям человека, позволяет ему быть
зверем и считать себя святым.
И это направление — не случайность, не помешательство; нет, в нем
как в фокусе отразились все нынешние господствующие стремления,
весь дух нашего времени; вот что хотел бы я объяснить в этих письмах,
насколько смогу и сумею.
Если мы не отыщем других начал, если не прилепимся к ним всей
душой, мы погибнем.
19 марта 1881 г.
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Сей возраст жалости не знает.
Крылов
Гордость. — Презрение. — Ненависть. — Самодовольство. —
Долг и самопожертвование. — Проповедь и ее фиаско. —
Бездарность и ложь. — Злодейство. — Бессердечие. —
Молодость. — Распространение заразы. —
Непоследовательность. — Гордость просвещением. —
Самостоятельное мышление. — Политическое честолюбие. —
Политические преступления. — Бедствия впереди
Коренная черта нигилизма есть гордость своим умом и
просвещением, какими-то правильными понятиями и разумными взглядами,
до которых наконец достигло будто бы наше время. Никак нельзя
сказать, однако же, чтобы мудрость, исповедуемая этими мудрецами,
представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большей частью
это грубейший и бестолковейший материализм, учение столь про-
Письма о нигилизме
301
стое, так мало требующее ума и дающее пищи уму, что оно доступно
самым неразвитым и несведущим людям. Нигилисты сами невольно
чувствуют эту скудость своего умственного достояния, сознают, что
такой мудростью трудно гордиться. Поэтому их самолюбие прибегает
к извороту, и они начинают тщеславиться не тем, что они сами знают,
а отрицанием того, что признают и во что верят другие люди. Здесь —
бесконечное поприще для самодовольства, ежеминутно питающегося
презрением ко всему остальному человечеству. Считая всех других
живущими в темноте невежества и предрассудков, нигилисты получают
возможность ставить себя выше толпы, принимать себя за избранных,
передовых, за соль земли. Вместо того, чтобы, чувствуя скудость своих
понятий, приходить в недоумение и отчаяние, они, напротив, постоянно
потешаются созерцанием чужого невежества, постоянно упражняются
в отрицании чужих понятий и тем поддерживают свою гордость.
В отношении к нравственности у них тоже выходит нечто подобное.
Их требования от себя и от жизни очень смутны и скудны. Они почти
не заботятся о собственном усовершенствовании, как будто считая себя
от природы совершенными; прямые цели, которые должен ставить себе
человек в жизни, у них выходят невысокие и неясные: больше всего
они толкуют о материальном благосостояние, о равенстве и свободе,
но толкуют на разные лады и даже не особенно ищут отчетливого
определения этих своих высших благ и взаимного соглашения в их понимании.
И вот, чувствуя скудость своих идеалов, видя, что нельзя питать душу
этим плоским взглядом на жизнь, они невольно прибегают к хитрости,
делают душевный изворот и возбуждают свое нравственное чувство
не к положительным стремлениям, а к ненависти. Не тем доволен
нигилист, что он нашел истинное благо и что пламенеет к нему любовью,
а тем, что он исполнен так называемого благородного негодования
к господствующему злу. Зло есть необходимая пища для его души,
и он отыскивает зло всюду, даже там, где и самая мысль о зле не может
прийти в голову непросвещенным людям. Всякое установление, всякая
связь между людьми, даже связь между мужем и женой, между отцом
и сыном, оказываются нарушением свободы; всякая собственность,
всякое различие, естественное или приобретенное, выходит
нарушением равенства; всякие требования, ставимые природой или обществом,
не могут быть выполнены без известных ограничений — и равенства,
и свободы, и материального благосостояния. Эта критика
существующего порядка так радикальна, идет так далеко, что совершенно ясно
и последовательно приходит к отрицанию не только всякого порядка,
но почти и всего существующего. Можно было бы дивиться безумию
этих людей, не видящих, в какую ловушку они зашли, не понимающих,
что возможность зла возникает из самого существования определенного,
302
Я. Я. СТРАХОВ
имеющего свои условия добра, если бы эти люди не находили в своих
нелепостях пищи для своей души. Эта пища, которой они живут, есть
раздражение, гнев, ненависть; не самое благо им нужно; вместо того,
чтобы унывать и скорбеть о пустоте того идеала, в который у них
разрешается понятие о жизни, они, напротив, полны восторга, что чужды
какого-то зла и что ненавидят это зло.
Таковы нигилисты; нет людей более самодовольных, более
удовлетворенных умственно и нравственно; а посмотрите, какими простыми
средствами это достигается! Они считают себя умными только потому,
что ни во что не верят, и добрыми только потому, что не участвуют
в жизни других людей и смотрят на нее с негодованием. И так как
для этого вовсе не нужно ни большого ума, ни большой душевной
доблести, то оказывается, что даже жалчайшие и презреннейшие
существа, неспособные ни к какому делу и достоинству, а только
чувствующие в себе некоторый позыв к гордости и ненависти, обращаются
в нигилистов и могут не уступать в своем нигилизме самым способным
и благородным сотоварищам. Самолюбие, зависть, бездарность, дурное
сердце — вот часто дорога к нигилизму, и нигилизм не имеет в себе
ничего против этих недостатков, — напротив, дает им пищу и приют.
Такое положение дела не может не чувствоваться и самим
нигилизмом; душа человеческая не может успокоиться на таком явном
понижении, на таком пошлом и глупом выходе. И вот вступают в силу
старые забытые слова: долг, служение, самопожертвование, и чем
отчаяннее была пустота в их душе, чем гнуснее были позывы
гордости и ненависти, тем с большей силой душа выходит на этот путь,
тем с большей ревностью она предается этому последнему соблазну,
дальше которого уже некуда идти и нечем соблазняться. Их гонит сюда
внутреннее отчаяние. Нигилист, решающийся действовать и для этого
рискующий своей жизнью, конечно, может воображать, что он дошел
до конца и жертвует самым дорогим, что у него есть; но, в сущности,
это дорогое может быть и не очень-то для него дорого.
В чем же этот долг и это служение? Так как нигилисты считают
лишним заботиться о своем собственном уме и сердце, так как они не видят
в жизни людей никакого добра, никакого хорошего дела, которому
можно бы служить, то они придумали себе другие обязанности,
более высокого разбора. Будучи вполне довольны своим
просвещением и поведением и вполне недовольны существующим порядком,
они должны были признать своим главным долгом просвещать других
и содействовать их прогрессу. Все нигилисты непременно политики,
страдают гражданской скорбью и заботятся об общем благе. Первое
и прямое поприще для этих забот, конечно, — проповедь, литература,
прокламация. И вот они пробуют на всевозможные лады вести пропа-
Письма о нигилизме
303
ганду своих идей, разрушать предрассудки, раскрывать господствующее
зло, обличать, возбуждать то негодование, которым сами переполнены.
Они самоуверенно выходят на тот путь, на котором так прославились
Пру доны, Герцены, Лассали, и даже думают, что сейчас же превзойдут
своих учителей.
Никто и никого не имеют права порицать за проповедование своих
убеждений. <...> Герцен, уехавши за границу, решился остаться там
навсегда именно для того, чтобы свободно высказывать свои
вольнодумные мысли, и на первых порах казалось, что слово, сделавшееся
свободным, получило невообразимую, волшебную силу действия
на умы. Точно так же первые подпольные прокламации, появлявшиеся
в Петербурге, несмотря на дикость своего содержания, передавались
из рук в руки и читались с величайшим любопытством. Казалось,
таким образом, что найден прямой путь действия, что нужно только
постараться, и Россия быстро изменит свой умственный и
нравственный образ и начнет новую жизнь. Увы, обольщение быстро разорялось.
Оказалось, что вся сила была не в свободном слове, а в таланте и
остроумии Герцена, и что когда прошло любопытство новизны, никто не стал
читать плохих и бестолковых писаний. Но, разумеется, нигилисты
продолжали упорствовать в своих надеждах и не догадывались, в чем дело.
Целые толпы уходили за границу, чтобы обречь себя на писательское
поприще, и плодили издания, которыми под конец интересовался разве
их собственный кружок. Кроме бездарности, эту неудачу довершила
та страшная ложь, которая развилась в этих писаниях. <...>
<...> литературная деятельность, то есть единственная деятельность
нигилизма, могущая быть законной, была слишком медленна и
неудачна и не могла удовлетворить нигилистов, даже если бы они были
расположены одной ей ограничиваться. Они стали искать другого
поприща, чтобы действовать, и многие пошли в народ, чтобы
распространять свои мысли и разжигать недовольство в простых людях. И тут
удача была ничтожная в сравнении с ожиданиями; мужики, которым
(как было напечатано лет двадцать назад в одном журнале) в десять
минут разговора умный человек мог надеяться вполне раскрыть
их истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми и
упорными. Семена революции не принимались на русской почве, и старый
порядок стоял крепко. Понятно, что самые смелые и ожесточенные
нигилисты давно стали выходить на другой путь, на единственный
путь, обещавший верные успехи, на путь злодейств. Вы видите,
какая логика сюда их привела; они разрешили себе всякое зло, какое
физически может причинять человек другим людям, и они вдруг
из бессильных и пренебрегаемых сделались могучими и страшными.
Прежде они готовы были разрешить себе, и даже разрешали, всякий
304
H. H. СТРАХОВ
нравственный яд и нравственный динамит; но эти средства в их
руках почему-то очень слабо действовали. Тогда они прибегли к физике
и химии, которые действуют неотразимо, и дело пошло гораздо
успешнее. Они не могли убить враждебные им принципы; тогда они стали
убивать людей, представлявших собой эти принципы. Какая радость
для злодея сознавать, что он может поколебать целое государство,
навести ужас на миллионы людей, и что всякая власть и сила, всякая
любовь и преданность бессильны против его покушений! Чтобы
достигнуть такого адского могущества, ему приходится рисковать собой;
но цель, очевидно, слишком высока и соблазнительна в сравнении
с той ценой, которой она покупается. В дурной наш век жизнь, как
известно, очень понизилась в цене; да и никогда человек не дорожил
ей так, чтобы не рисковать ей на разные лады, чтобы не жертвовать
собой в какой-нибудь игре, несравненно менее завлекательной, чем
эта нынешняя игра.
Нет, это безумие имеет своим источником не любовь к людям,
которую оно осмеливается писать на своем знамени, а именно
бессердечие, отсутствие истинного чувства добра, нравственную слепоту.
Это не живое, теплое стремление сердца, а напротив, отвлеченная
ожесточенность, холодный головной порыв. Вот почему это безумие
встречается в крайней степени только у молодых людей, когда сердце
еще не выросло, а голова и самолюбие уже распалены, когда настоящая
жизнь и настоящие человеческие отношения еще неведомы, когда
человек еще эгоистичен и безжалостен, как малый ребенок, а между тем
несет себя высоко и воображает себя призванным для распоряжения
судьбой других людей.
<...> Конечно, очень дикое явление представляет не дошедший
до конца курса гимназист, уже с презрением смотрящий на все
окружающее и видящий во всей истории, и даже в том, что было десять лет
назад, уже темную, невежественную старину. Но разве он сам додумался
до этой гордости? Он ее всосал из разговоров своих наставников; он ее
заимствовал из каких-нибудь книг, имеющих притязание на свежую
современность, из Бокля, из «Голоса», из первой попавшейся
популярной брошюры. Ученая и литературная гордость разрослась в наше
время до чрезвычайности и проникла всюду.
Самоуверенный молодой человек начинает тешить свой ум
упражнениями в отрицании; он отрицает тем легче и смелее, чем меньше
понимает; он, как болтливый ребенок, беспрерывно задает вопросы,
которых правильная постановка и настоящей смысл ему не по
силам, и очень доволен нелепости, которая из этого выходит. Но разве
он виноват? Его, может быть, с пяти лет кто-нибудь старался обучить
Письма о нигилизме
305
самостоятельному мышлению и уверял, что до всего следует доходить
своим умом; если же этого не было, то и в школе, и в университете он
непременно услышит, что отрицание есть великая сила, заправляющая
прогрессом цивилизации, и тому подобное.
Точно так политическое честолюбие, непременное желание быть
деятелем на поприще общего блага есть одна из самых
распространенных черт нашего времени. На человека, удаляющегося от участия
в общественных делах, смотрят почти с презрением; свой ум и свое
благородство мы больше всего стремимся показать горячим
вмешательством в государственные и социальные вопросы.
Говорить ли, к чему сводится это вмешательство? Нескончаемое
злоречие, повальное злорадное осуждение — вот занятия
просвещенных людей. Люди умные и опытные, конечно, ведут себя при этом
прекрасно: они тешатся злоречивыми беседами, но на практике очень
смирны и уживчивы. Но наивный юноша легко может принять дело
серьезно, огорчиться и озлобиться на самом деле.
Не подумайте, что я здесь говорю только о России; то же самое
делается во всей Европе. Вся Европа жаждет прогресса и уверена в
скором наступлении лучших времен. Наше время считается переходным
и твердо признается, что мы живем не в нормальном положении. А что
прогресс совершается революциями, это доказывается всемирной
историей. Поэтому политические преступления собственно не считаются
преступлениями и караются как бы только из приличия. Общество
невольно чувствует, что эти преступники составляют его собственное
порождение и что часто они только выполняют на деле убеждения,
с которыми многие другие носятся всю жизнь, не приводя их в
исполнение, — причем свое бездействие эти несчастные не умеют ничем
и объяснить себе, кроме собственной подлости.
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Шаткость всех понятий. — Вековечные начала. —
Счастливое время. — Мечтательность и действительность. —
Новое божество — прогресс. — Внутреннее противоречие. —
Жажда страдальчества. — Замена религии. —
Идеальная потребность. — Цель освящает средства. —
Неизбежные бедствия
Кажется, всего поразительнее в наше время — шаткость всех
понятий, странное (и, в сущности, страшное) отсутствие полной, твердой
уверенности в каких бы то ни было началах, научных, нравственных,
политических, экономических.
306
H. Н. СТРАХОВ
Наше время, считающее себя просвещеннейшим из всех времен,
кажется, ничего не признает за незыблемую, вековечную истину. Такой
скептицизм даже прямо возводится в принцип: «Да, — говорят, —
мы сегодня думаем так и так, но прогресс идет, человечество движется
вперед, и как знать? Что сегодня мы считаем истиной, завтра окажется
ложью, что признаем за добро, то, может быть, завтра признаем за зло».
Это колебание, это отвержение твердых точек опоры простирается
решительно на все, не только на философию, историю, науку права,
политическую экономию, но и на то, что называется точными науками,
на те естественные науки, которыми всего больше гордится наше время,
в которых оно нашло, по-видимому, наилучшее, самое блистательное
поприще для человеческого ума. Не могу забыть, как, рассуждая
с одним знаменитым химиком, я услышал от него, что он ожидает
нахождения фактов, которые могут опровергнуть и закон сохранения
вещества, и закон сохранения силы. Мое изумление было безмерно:
что же есть твердого во всех науках о природе, если даже эти истины
не окончательно тверды? И где же искать незыблемых познаний, если
и здесь нет ничего незыблемого?
Сказать ли прямо мое убеждение? Мне кажется, наш век глубоко
ошибается, исповедуя такой скептицизм, такое отсутствие вековечных
начал и в жизни природы, и в жизни человеческой. Они есть, эти начала,
они действуют и действовали искони, и непреклонное их могущество
не может быть сломлено никакой силой, никаким прогрессом. Наш век
впал в большое легкомыслие, не признавая основ мироздания, вообразив,
что можно их заменить чем-то другим или переделать, усовершенствовать.
И он несомненно будет наказан за свое легкомыслие. Люди века теперь
образуют два отдела: одни смутно тоскуют, чувствуя, что чего-то не
достает в жизни, нет ни единой твердой точки под ногами; другие, наиболее
бодрые, играют, как бы радуясь, что не на что опереться, и строят разные
воздушные замки прогресса, смотря по своим вкусам и желаниям. Наш
век, без сомнения, нужно считать сравнительно спокойным и счастливым
временем, в котором над множеством людей действительность тяготеет
очень слабо. Пользуясь существующим порядком, может быть очень
несовершенным и дурным, но имеющим то достоинство, что это не мнимый,
а реальный порядок, — пользуясь им, мы можем свободно предаваться
мечтам, воображать себя очень умными и доблестными, достойными
величайших благ, критиковать этот самый порядок, относиться к
нему со строжайшей требовательностью и даже отвращением и строить
в своей фантазии новые человеческие отношения, в которых не будет
зол, нас огорчающих. Такие занятия очень приятны и завлекательны,
но они не могут продолжаться без конца. По всегдашнему требованию
души человеческой люди будут искать деятельности, будут так или
Письма о нигилизме
307
иначе пытаться воплощать свои понятия. И как только они выступят
в жизнь, так и начнутся разочарования, тем более горькие, чем слаще
были мечтания. Все то, что отрицалось и подвергалось сомнению, все
действительные силы и свойства мира человеческого заявят свою
непобедимую реальность. Вдруг обнаружатся истинные душевные качества
людей, признававших за собой Бог знает какие высокие достоинства.
Проповедники терпимости и гуманности вдруг окажутся нетерпимейши-
ми фанатиками, отрицатели авторитетов — раболепными поклонниками
каких-нибудь новых идеалов, противники войны и казни — жестокими
и кровожадными преследователями, либералы — властолюбцами и
притеснителями, словом — души явятся в их настоящем, давно известном
виде. Для разрушения у людей хватит сил; найдется довольно
ненависти и дурных инстинктов, чтобы до конца расшатать создания многих
веков. Но когда придется созидать новое, окажется, что это вовсе не так
легко, как представлялось мечтателям, что все их остроумие — пустая
игра фантазии и они, измученные и отрезвевшие, прибегнут, наконец,
к какой-нибудь из давнишних форм общежития, которую некогда гордо
отвергли и которую будут всеми силами возобновлять для своего спасения.
Вот какой прогресс можно предвидеть; если мы идем к лучшему,
то это лучшее состоит только в нашем излечении от скептицизма и
мечтательности; но мы дорого заплатим за это излечение.
Было бы великим делом, если бы кто-нибудь научил нас не ждать
другого прогресса, если бы мы могли, так сказать, теоретически
уразуметь то, что признает заставить нас горький опыт. Но это
невозможно; еще ни в какое мечтательное время вера в прогресс не была так
сильна, как в наше; это — новый бог, которому приносятся кровавые
жертвы и под торжественную колесницу которого бросаются люди,
когда думают, что по их раздавленным телам легче и скорее пойдет
движение колес. Потому что ведь таков настоящий смысл
производимого ими террора, убийств, пожаров, взрывов и всякого тайного
зла, какое только можно придумать. Они, анархисты, думают, что чем
хуже, тем лучше, что нужно способствовать прогрессу всеми силами
и всеми средствами, что это есть лучший подвиг и высшее назначение
человека, что за разрушением должно последовать обновление, новая
лучшая жизнь, новый период человечества.
Вот мы отвергли религию, мы с торжеством и гневом преследуем
каждое ее обнаружение. Но ведь душу, раз приобщившуюся этому
началу, уже поворотить назад нельзя; мы откинули религию, но
религиозности мы откинуть не могли. И вот люди, видящие все идеалы
в земных благах, стремятся к отречению от этих благ, к
самоотвержению, к подвижничеству, к самопожертвованию. Разумные люди,
308
H. Н. СТРАХОВ
реалисты, отвергнувшие всякие мнимые страхи и узы, умеющие,
по-видимому, разрешить очень просто всякий житейский узел, вдруг
начинают чувствовать потребность на что-то жаловаться, отчего-то
сокрушаться и находить себя несчастными. Достатка, безопасности,
спокойной работы — этих, по их собственному мнению, лучших целей
жизни, — никто не хочет; напротив, беспрестанно являются люди,
которые хотят быть страдальцами, мучениками, и за неимением
действительных страданий придумывают себе мнимые, за неимением
наличных бед нарочно лезут в беду, в которую их никто не тянул.
Отчего же это? Да, очевидно, от того, что здоровье, свобода,
материальное обеспечение, работа — все это вздор перед тайными
требованиями их души; душе человеческой нужна иная пища, нужен идеал,
которому можно было бы жертвовать всем, за который бы можно было
умереть. Если нет у нас такой высшей цели, которой бы можно служить
беззаветно, перед которой ничтожна земная жизнь, то нам, христианам
по воспитанию, противны заботы о личных благах и удобствах, нам
становится стыдно нашего благополучия, и нам легче чувствуется,
когда мы терпим беду и обиду, чем когда нас ничто не тревожит. Поэтому
революционер напрасно думает, что его мучит земля мужиков или
их тяжкие подати; все это и подобное — не столько настоящая причина,
сколько предлог для мучения, для того душевного изворота, которым
заглушается пустота души. Роль страдальца очень соблазнительна
для нашей гордости; поэтому за неимением своих печалей, достойных
этой роли, мы берем на себя (разумеется, мысленно) чужие страдания
и этим удовлетворяемся. Высокоумный революционер не замечает, как
он в сущности обижает бедных мужиков: им ведь он дает в удел только
материальные нужды и страдания, он только в этом отношении плачет
о них; себе же выбирает долю возвышенного страдальца, трагически
волнующегося об общем благе. Он не знает, несчастный, что эта мудрость
самоотвержения, до которой он додумался и которую извратил, знакома
этим мужикам от колыбели, что они ее сознательно исполняют на деле
всю свою жизнь, что они твердо и ясно знают то высшее благо, без
которого никакая жизнь не имеет цены и о котором бессознательно тоскуют
просвещенные люди. Вокруг нас бесконечное море этих мужиков, —
твердых, спокойных, ясных, знающих, как им жить и как умирать.
Не мы, а они счастливы, хотя бы они ходили в лохмотьях и нуждались
в хлебе; не мы, а они истинно мудры, и мы только по крайней своей
глупости вообразили, что на нас лежит долг и внушить им правильные
понятия о жизни, и обратить эту жизнь из несчастной в счастливую.
Нельзя вообще не видеть, что политическое честолюбие, служение
общему благу, заняло в наше время то место, которое осталось пустым
в человеческих душах, когда из них исчезли религиозные стремле-
Письма о нигилизме
309
ния. Наш век есть по преимуществу век политический; политика,
как верховное начало, подчиняет себе ныне все: литературу, науку,
искусство и даже самую религию, насколько ее осталось. Как прежде
для человека считалось высшей задачей — спасение его души, так
теперь считается — обязанность чем-нибудь содействовать общему
благу. Быть общественным деятелем — вот одна цель, достижение
которой может сколько-нибудь удовлетворить современного человека.
<...> Быть частным человеком в полном смысле этого слова — никто
не хочет, хотя все хлопочут о благе именно частных людей.
<...> Социалистические учения и порождены и поддерживаются
не столько теми классами, интерес которых составляет их цель, сколько
людьми, для которых этот интерес стал идеальной потребностью. Сен-
Симон был граф, Оуэн — фабрикант, а Фурье — купец.
Что же касается до прямых революционеров и анархистов, то весь
склад их жизни ясно указывает, чем питают они свою совесть. Их
нравственный разрыв с обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев,
тайные сходки, связи, основанные на отвлеченных чувствах и началах,
опасность и перспектива самопожертвования, — все это черты, в
которых может искать себе удовлетворение извращенное религиозное
чувство. Как видно, легче человеку поклониться злу, чем остаться
вовсе без предмета поклонения.
Но какая глубокая разница между настоящей религией и тем
суррогатом религии, который в различных формах все больше и больше
овладевает теперь европейскими людьми! Человек, ищущий спасения
души, выше всего ставит чистоту души и потому избегает всего дурного.
Человек же, поставивший себе цель вне себя, желающий достигнуть
определенного внешнего, объективного результата, должен, рано или
поздно, прийти к мысли, что цель освящает средства, что нужно
жертвовать даже совестью, если того непременно требует дело. Политическая
деятельность, если мы возьмем все ее виды, дает и вообще большой
простор страстям человека; тут есть место и для вражды, и для честолюбия
и для гордости. Но, кроме того, в этой деятельности есть, очевидно,
неудержимый наклон ко лжи и преступления. Это поприще так
скользко в этом отношении, что люди осторожные боятся выходить на него
и что на нем охотнее подвизаются те, кто более развязен. Журналист
и политик сделались почти синонимами обманщика, и ни за какого
революционера нельзя ручаться, что из него не выйдет преступник.
Тут есть своя последовательность, своя логика. Если даже в
религиозной сфере могло возникнуть учение, что грехи нужны, чтобы возможно
было покаяние, то в политической сфере, как скоро она поставила себя
выше всех других сфер человеческой жизни, ничто не могло препятствовать
выводу, что успех все оправдывает, что для него, как для высшего блага,
310
H. H. СТРАХОВ
все средства позволительны. Поэтому совесть Европы не находит в себе
основ для причисления политических преступлений к настоящим
преступлениям и злодеев этого рода не умеет отличить от героев.
Таковы некоторые черты нравственного состояния нашего века.
Он представляет чрезвычайно странное явление душевного разлада:
жизненных сил в нем больше чем когда-нибудь, но он потерял реальное
поприще для их удовлетворения и бросается на фальшь, на призраки.
Потребность действовать и жертвовать в нем иногда даже сильнее, чем
потребность верить, и потому он жертвует даже тому, во что почти не
верит. Деятельность кипит без ясных целей, без определенных идеалов;
он обманывает сам себя, чтобы только дать простор своим страстям,
но из мнимо добрых стремлений выходит зло, и будет выходить все
больше и больше, пока целый ряд бедствий не заставит людей
опомниться и прекратить наконец эту недостойную игру. Рано или поздно
люди принуждены будут вернуться к реальным началам человеческой
жизни, забытым и глохнущим среди нашего прогресса и просвещения.
18 апреля 1881 г.
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
Истинное просвещение. — Прогресс. —
Современная нравственность. — Добродетели времен упадка. —
Растравление эгоизма. — Блаженны нищие. — Ненависть. —
Проповедь борьбы. — Слова В. Гюго
Конечно, мы достигли бы наилучшего успеха в нашем просвещении,
если бы у нас из всех учебных заведений юноши выходили с твердым
сознанием, что они еще большие невежды, что им нужно еще много
и долго трудиться, чтобы достигнуть степени истинно-просвещенного
человека, и что большинству из них вовсе не суждено достигнуть этой
степени. Тогда можно было бы сказать, что этих юношей основательно
учили и что они правильно понимают, что они такое в действительности.
Точно так же было бы благотворнейшей переменой в умах, если бы
наши молодые и зрелые люди стали питать убеждение, что прогресс есть
большей частью предрассудок, что если в человечестве и совершается
некоторый существенный прогресс, то по своей медленности он не может
быть ясно определен и иногда даже не может быть замечен, что
всяческое зло — физическое, нравственное, историческое принимает только
различные формы, но свирепствует в нас и всюду вокруг нас так же, как
и прежде, что мы не можем даже решить, идем ли мы к лучшему
впереди, или нас ожидает в будущем эпоха падения, болезни, разложения.
Письма о нигилизме
311
При таких мыслях люди не питали бы высокого мнения о себе
и о своем веке, перестали бы смотреть сомнительно и надменно на
наследие, завещанное нам прошедшим, не стали бы ждать каких-то
новых чудес от будущего и, следовательно, чувствовали бы только один
долг — всеми силами держаться давнишнего пути добра и истины,
не принимая нисколько в расчет прогресса и зная, что бесчисленные
усилия бесчисленных поколений будут истощаться в той же борьбе
добра и зла, света и тьмы, среди которой живем и мы.
Das Rechte, das Gute fuhrt ewig Streit,
Nie wird ihm der Feind erliegen*,
как говорит Шиллер. Душевная работа должна быть сосредоточена
на настоящем; тут ее главная награда и ее главное достоинство; из-
за мечтаний о будущем, из-за стремления работать для новой эпохи
человечества мы не должны ни на минуту забывать свой долг, а еще
меньше изменять ему сознательно.
Как всем известно, обыкновенные наши настроения имеют
совершенно обратное направление. Молодые люди у нас заражаются
большим высокомерием, считают себя обладателями каких-то удивительно
светлых понятий и смотрят презрительно на невежественную массу.
И не они в этом виноваты, таков склад просвещения нашего времени. Наш
век очень гордится своими познаниями, готов видеть в них новую, еще
небывалую мудрость и распространяет ее всеми способами. Он помешан
на популяризации знаний, на сообщении готовых результатов, последних
слов науки; он придумывает всякие облегченные и упрощенные способы
обучения, как будто труд мысли, серьезная работа ума есть
зловреднейшая вещь в мире, как будто вся задача образования — приготовить как
можно больше легкомысленных болтунов, твердящих самые модные
научные слова, но совершенно чуждых настоящего научного духа. В своей
гордости и жажде поучать наш век не замечает, что у него все больше
и больше исчезает идея истинного просвещения, которого требования
гораздо серьезнее и глубже, чем нынешняя популярная мудрость.
Эти гордые притязания, это наивное самодовольство составляют,
однако же, жестокую ошибку, жестокий предрассудок, тем более
странный и даже возмутительный, что каждый из нас, уже в силу своего
христианского воспитания, должен бы был глубоко чувствовать свое
нравственное несовершенство. Современное нравственное состояние
людей должно бы нам являться темным и низменным в сравнении
* Правда и добро ведут вечную борьбу; никогда враждебное им не оскудеет.
312
H. H. СТРАХОВ
с тем высоким идеалом добра, чистого подвига, сияющей душевной
красоты, который внушается нам, по-видимому, с детства. Вероятно,
человечество глубоко извратилось, если оно уже не видит этого идеала,
уже смотрит на его проповедь как на пустые слова и фразы; только
потому оно и может иметь дерзость гордиться каким-то новым
пониманием человеческих обязанностей.
В чем состоят пресловутые современные добродетели? Гуманность,
сострадание, снисходительность, вежливость, терпимость — все
добродетели времен упадка и эпох разложения составляют главную
принадлежность современного душевного благородства. При этом
вовсе забывается, что эти качества, без сомнения, очень хорошие, никак
не имеют абсолютной цены и что их необходимо дополнять другими
качествами, несравненно высшего достоинства. Что значит, например,
религиозная терпимость? Один терпим потому, что пламенно верит
в свою религию, что надеется на всепобедную силу этой своей истины
и не может видеть в насилии средства для духовного дела. А другой
терпим потому, что для него все религии вздор, и он готов предоставить
каждому заниматься каким ему угодно из этих вздоров. Только первый
есть настоящий сторонник терпимости; у него есть для нее основание;
у второго же терпимость фальшивая и сейчас же исчезнет, как скоро
дело дойдет до серьезного, до того, чего он не считает вздором.
Точно так снисхождение и прощение чужих слабостей вовсе не
должны быть основаны на признании порока за пустяки, а, напротив,
должны сопровождаться отвращением к пороку и движением любви к
несчастному ближнему. Иначе мы будем походить на воров и распутников,
которые ведь всегда снисходительны к другим ворам и распутникам.
<...> Наш век, кажется, так богат ненавистью, как никакой другой.
Всякий общественный интерес, всякий предмет публичных
обсуждений обращен в наши дни в повод к ненависти. Например, чувство
национальности, это высокое и сладкое чувство, не имеет характера
любви, составляющего его сущность, а обращено почти исключительно
в повод раздора и злобы. В прошлом веке и еще в начале нынешнего
инородец мог без всякого неудобства жить в чужом по племени
государстве, зная, что над различием по национальности стоят другие
высшие принципы, заправляющие сожительством людей. А ныне скоро
дело дойдет до того, что человек одного племени будет считать своими
прирожденными врагами всех людей других племен. Мы, русские,
кажется, еще не утратили нашей известной терпимости к инородцам,
но мы невольно заражаемся тем нарушением спокойного настроения,
признаки которого появляются у наших инородцев. И тут, как и во всех
других областях, наш век проповедует не гармоническое воздействие,
не мирное соревнование, а прямо борьбу, и лучшей, плодотворнейшей
Письма о нигилизме
313
считается борьба кровавая, битва насмерть. Тысячи газет десятки лет
ежедневно подстрекают ненависть своих читателей по тому или другому
вопросу, и нужно признать в людях большой запас доброты, видя, что
эти подстрекательства так долго не приводят их к кровавой разделке
между собой. Впрочем, может быть, недолго ждать, когда, например,
Франция и Германия вооружат, по нынешней системе военной службы,
всех, кто способен носить оружие, и пойдут не войной, а нашествием
друг на друга. Можно указать и на другие очень вероятные нашествия.
Таков наш век. Виктор Гюго сказал по этому поводу одно из своих
блистательных слов, которое кстати здесь привести. В 1878 году он
открывал своей речью Международный литературный конгресс и в конце
речи выразился так:
«Господа, мы здесь среди философов, воспользуемся случаем, не будем
стесняться, станем говорить истины. Вот вам одна истина, страшная
истина. У человечества есть болезнь, — ненависть. Ненависть — мать войны;
мать — гнусна, дочь — ужасна.
Воздадим же им удар за удар. Ненависть к ненависти! Война против
войны!
Знаете ли вы, что такое это слово Христа: любите друг друга? Это —
всеобщее разоружение. Это — исцеление рода человеческого. Истинное
искупление есть именно это. Любите. Легче обезоружить своего врага,
протянув ему руку, чем показать кулак. Этот совет Иисуса есть поведение Бога.
Он хорош. Мы его принимаем. Что касается до нас, мы — на стороне Христа.
Писатель на стороне апостола; тот, кто мыслит, на стороне того, кто любит».
После нескольких подобных соображений и восклицаний (мы не
станем делать замечаний, на которые они напрашиваются) Гюго в
заключение сказал:
«Господа, один римлянин прославился неподвижной идеей; он
говорил: "Разрушим Карфаген!" У меня тоже есть мысль, которой я одержим,
именно вот какая: разрушим ненависть! Если человеческие писания имеют
какую-нибудь цель, то именно эту»*.
Само собой разумеется, что мысль его, как слишком далекая от
господствующих понятий, не могла найти и не нашла никакого отзыва.
30 апреля 1881 г.
* Victor Hugo. Discours d'ouverture du congres littéraire international. Paris, 1878,
p. 13, 15.
314
Я. Я. СТРАХОВ
"к "к "к
«Письма о нигилизме» не кончены; далеко не удалось мне
высказать свой взгляд со всех сторон. И изложение не вполне такое, как мне
мечталось. Прибавлю несколько слов о самом важном пункте.
Общая мысль моя та, что нигилизм есть крайнее, самое
последовательное выражение современной европейской образованности,
а эта образованность поражена внутренним противоречием, вносящим
ложь во все ее явления. Противоречие состоит в том, что все
протестуют против современного строя общества, против дурных сторон
современной жизни, но сами нисколько не думают отказываться от тех
дурных начал, против которых протестуют. Гонители богатства нимало
не перестают завидовать богатым; проповедники гуманности остаются
нетерпимыми и жестокими; учителя справедливости — сами вечно
несправедливы; противники властей — жаждут, однако, власти для себя;
и протестующие против притеснений и насилий — сами величайшие
притеснители и насильники.
Во все времена жизнь человечества держалась на некотором
компромиссе; всегда высокие требования нравственности бессознательно
вступали в сделку со страстями и потребностями человека. Но никогда
эта сделка не была искуснее и не достигала такого блистательного
и полного соглашения, как в наше время. Современный человек имеет
возможность предаваться всем своим влечениям, всем дурным
душевным качествам, и в то же время без конца благородствовать и
великодушничать. Никакие иезуиты не могли придумать ничего подобного.
Эта возможность — быть по-видимому нравственным и самому себе
казаться нравственным, а в сущности оставаться совершенно чуждым
истинной нравственности, — эта возможность должна глубоко
развращать людей, и от поколений, растущих и живущих под руководством
такой сделки, нельзя ожидать ничего хорошего.
1883
Ill
ПОЛЕМИКА:
СТРАХОВ —
ДАНИЛЕВСКИЙ —
СОЛОВЬЕВ:
РОССИЯ ИЛИ ЕВРОПА?
Н.Я.ДАНИЛЕВСКИЙ
Россия и Европа
ГЛАВА II
Почему Европа враждебна России?
Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбленья
Тысячеглавой лжи газет,
Измены, зависти и страха порожденья.
Друзей у нашей Руси нет!1
«Взгляните на карту, — говорил мне один иностранец, — разве
мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как
нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное
давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда
выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания
при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно
тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное
развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей
освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное
в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы
Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799-м,
в 1805-м, в 1807 г. сражалась русская армия, с разным успехом,
не за русские, а за европейские интересы2. Из-за этих же интересов,
для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу двенадцатого
года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим
одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она
не остановилась на этом, а, вопреки своим выгодам, — таково было
в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской
партии, — два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу
низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения
Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать
пять лет она опять, едва ли не вопреки своим интересам, спасла от
конечного распадения Австрию, считаемую, справедливо или нет,
краеугольным камнем политической системы европейских государств3.
Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так
318
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
и у народов Европы — всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот,
однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие
России в делах Европы, за единственным разве исключением
бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну4. Но эти уроки истории никого
не вразумляют. Россия, — не устают кричать на все лады, —
колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои
пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости
Европы. Это — одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия
будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана5, какую-
то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем
этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России.
Конечно, Россия не мала*, но большую часть ее пространства занял
русский народ путем свободного расселения, а не государственного
завоевания. Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне
естественную область, — столь же естественную, как, например,
Франция, только в огромных размерах, — область, резко означенную
со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами.
Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который,
как известно, в своей средней части так полог, что не составляет
естественной этнографической перегородки. Западная половина этой
области прорезывается расходящимися во все стороны из центра реками:
Северною Двиною, Невою — стоком всей озерной системы, Западною
Двиною, Днепром, Доном и Волгою точно так же, как в малом виде
Франция: Маасом, Сеною, Луарою, Гаронною и Роною. Восточная по-
* Здесь кстати будет заметить, что Россия вовсе не составляет огромнейшего
государства в мире, как привыкли думать и говорить. Эта честь, бесспорно,
принадлежит Британскому государству. Чтобы убедиться в этом, стоит только
хорошенько посчитать хотя бы с календарем в руках. Пространство России по
новейшим сведениям составляет около 375000 кв. миль. Посмотрим же, сколько
наберется во всех английских владениях. В Европе 5570; в Азии 63 706; в Африке
6636; в Южной и Средней Америке 5326; в Северной Америке: Канада с
принадлежностями — 64000 и полярные страны, за исключением Гренландии (20000)
и бывших русских владений (24000), — 130000; наконец, в Австралии более
150000. Итого с лишком 425000 кв. миль, то есть около 50000 кв. миль более,
чем во всей России. Скажут, может быть, не вся Новая Голландия [так
первоначально именовали Австралию] занята английскими колониями. Это так; но разве
Англия допустит другие государства заводить свои колонии на этом материке,
и не считает ли она его поэтому своею собственностью? Или возразят, что
полярные страны Америки составляют ледяную пустыню, в сущности, никому
не принадлежащую? Но не то ли же самое можно сказать о Северной Сибири,
которая тем не менее, однако ж, входит в состав Русской империи? {Здесь и далее
примечания, помеченные звезочкой, принадлежат перу Николая Яковлевича
Данилевского. Пометка «Посмертн. примеч.» сопровождает те из них, которые
впервые были опубликованы уже после смерти автора. — Ред.).
Россия и Европа
319
ловина прорезывается параллельным течением Оби, Енисея и Лены,
которые также не разделены между собою горными преградами. На всем
этом пространстве не было никакого сформированного политического
тела, когда русский народ стал постепенно выходить из племенных
форм быта и принимать государственный строй. Вся страна была или
пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и
кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному
расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое
тысячелетие его истории, при полном отсутствии исторических наций, которые
надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место.
Никогда занятие народом предназначенного ему исторического
поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснении
от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял,
если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений
и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано
на костях попранных народностей. Он или занимал пустыри, или
соединял с собою путем исторической, нисколько не насильственной
ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние
зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков
исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал
под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи
окружены врагами, уже потеряли свою национальную
самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины.
Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко
убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные
и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний нена-
сытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова
«завоевание». Завоевание есть политическое убийство или, по крайней
мере, политическое изувечение; так как, впрочем, первое из этих
выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше:
национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение
это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно. Впоследствии
представится случай подробно изложить наши мысли о значении
национальностей, но пока удовольствуемся афористическим положением,
которое, впрочем, и не требует особенных доказательств в наше время,
ибо составляет, в теории по крайней мере, убеждение большинства
мыслящих людей: что всякая народность имеет право на
самостоятельное существование в той именно мере, в какой сама его сознает
и имеет на него притязание. Это последнее условие очень важно
и требует некоторого разъяснения. Если бы, например, Пруссия
покорила Данию или Франция Голландию, они причинили бы этим
действительное страдание, нарушили бы действительное право, которое
320
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
не могло бы быть вознаграждено никакими гражданскими или даже
политическими правами и льготами, дарованными датчанам или
голландцам; ибо, кроме личной и гражданской, кроме политической, или
так называемой конституционной, свободы, народы, жившие
самостоятельною государственною и политическою жизнью, чувствуют
еще потребность, чтобы все результаты их деятельности —
промышленной, умственной и общественной — составляли их полную
собственность, а не приносились в жертву чуждому им политическому телу,
не терялись в нем, не составляли материала и средства для достижения
посторонних для них целей. Они не хотят им служить, потому что
каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу,
которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону жизни,
которые стремится осуществить, — задачу, идею, сторону жизни, тем
более отличные и оригинальные, чем отличнее сама национальность
от прочих в этнографическом, общественном, религиозном и
историческом отношениях. Но необходимое условие для достижения всего
этого составляет национально-политическая независимость.
Следовательно, уничтожение самостоятельности такой национальности
может быть по всей справедливости названо национальным убийством,
которое возбуждает вполне законное негодование против его
совершителя. К этому же разряду общественных явлений относится и то, что
я назвал национальным изувечением. Италия, например, ощущала
действительное страдание оттого, что часть ее — Венеция — оставалась
присоединенной к чуждому ей политическому телу — Австрии, хотя
это и не составляло непреодолимого препятствия к развитию ее
национальной жизни; точно так, как отсечение руки или ноги не
прекращает жизни отдельного человека, но тем не менее лишает ее той
полноты и разносторонности проявлений, к которым она была бы
способна без этого увечья. Исторический народ пока не соберет воедино
всех своих частей, всех своих органов, должен считаться политическим
калекою. Таковы были в недавнее время итальянцы; таковы до сих пор
греки, сербы и даже русские, от которых отделены еще три или четыре
миллиона их галицких и угорских единоплеменников6. А сколько еще
пока под спудом почивающих народностей, чающих своего воскресения!
Сказанное здесь было бы, однако ж, несправедливо и неразумно
относить и к таким племенам, которые не жили самостоятельною
историческою жизнью, потому ли, что вовсе не имели для сего внутренних
задатков, или потому, что обстоятельства для них сложились
неблагоприятно и возможность их исторического развития была уничтожена
в такой ранний период их жизни, когда они составляли только
этнографический материал, еще не успевший принять формы политической
индивидуальности, — так сказать, прежде, чем в них был вдунут дух
Россия и Европа
321
жив. Такие племена, как, например, баски в Испании и Франции,
кельты княжества Валисского7 и наши многочисленные финские,
татарские, самоедские, остяцкие и другие племена, предназначены к тому,
чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической
народностью, среди которой они рассеяны, ассимилироваться ею
и служить к увеличению разнообразия ее исторических проявлений.
Эти племена имеют, без сомнения, право на ту же степень личной,
гражданской и общественной свободы, как господствующая
историческая народность, но не на политическую самостоятельность, ибо,
не имея ее в сознании, они и потребности в ней не чувствуют и даже
чувствовать не могут. Нельзя прекратить жизни того, что не жило;
нельзя изувечить тела, не имеющего индивидуального объединения.
Тут нет, следовательно, ни национального убийства, ни национального
увечья, а потому нет и завоевания. Оно даже невозможно в отношении
к таким племенам. Самый этимологический смысл слова «завоевание»
не применим к подчинению таких племен, ибо они и сопротивления
не оказывают, если при этом не нарушаются их личные,
имущественные и другие гражданские права. Когда эти права остаются
неприкосновенными, им, собственно, и защищать более нечего.
После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения
понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла
Русского государства, с Финляндии, — прямо с одного из политических
преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание
в том именно значении национального убийства, которое придает
ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения, нет, так как
не было и национальности, которую лишили бы при этом своего
самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо
составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно
всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России,
никогда не жило историческою жизнью. Коль скоро нет нарушения
народной самостоятельности, то политические соображения
относительно географической округленности, стратегической безопасности
границ и т.п., сами по себе еще не могущие оправдать присоединения
какой-либо страны, получают свое законное применение. Россия вела
войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира не могла
привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало
России8, и искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить
эту войну и возвратить свои прежние завоевания. Россия победила
и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или
другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции; ибо
национальная территория не отчуждаема и никакие договоры не могут
освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная
322
Я. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно,
но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало
сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи
существенные права не были нарушены; выгоды самой Финляндии,
т.е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России,
требовали перемены владычества. Государство, столь могучее, как
Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод
из приобретенной страны; народность, столь могучая, как русская,
могла без вреда для себя предоставить финской народности полную
этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская
народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь
в северо-западном углу своей территории нейтральную страну и
доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста
и господства враждебных шведов. Государство и народность русская
могли обойтись без полного слияния с собою страны и народности
финской, к чему, конечно, по необходимости, должна была стремиться
слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три
четверти ее собственного пространства и половину ее населения. И
действительно, только со времени присоединения Финляндии к России
начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того,
что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским
в отношении университетского образования, администрации и даже
прений на сейме. Сделанное Россией для финской национальности
будет, без сомнения, оценено беспристрастными людьми; во враждебном
лагере, конечно, возбуждает оно пока только негодование, доходящее
иногда до смешного. В мою бытность в Норвегии меня серьезно уверял
один швед, что русское правительство, из вражды к Швеции,
искусственно вызвало финскую национальность и сочинило с этой именно
целью эпическую поэму Калевалу. Удивительное правительство,
которое, по отзывам поляков, указами создает русский язык и научает
ему своих монгольских подданных, а по отзывам шведов, сочиняет
народные эпосы!
За Финляндией, пропуская Ингерманландию9, — за обладание
которой на нас, кажется, не сыплется укоров, хотя и она была отбита
у шведов, — мы встречаем так называемые немецкие Остзейские
провинции (die deutschen Ostsee — Provinzen), то есть немецкие владения
по берегам Балтийского моря. По названию можно, пожалуй, подумать,
что дело идет о завоеванных и отторгнутых русскими от Священной
Римской империи или от заменившего ее Германского союза
провинциях Пруссии и Померании, составляющих в настоящее время
единственные действительно немецкие провинции при Балтийском
море, а не о населенном эстами и латышами пространстве от Чудского
Россия и Европа
323
озера и реки Наровы до прусской границы — исконной
принадлежности России, где еще Ярослав основал Юрьев, переименованный
потом в Дорпат10, — о пространстве, на поселение в котором первые
рижские епископы считали нужным испрашивать дозволение у
полоцких князей. Кто были завоевателями в этой стране: русские ли,
то есть славяне, которые, в союзе с разными чудскими племенами,
положили основание Русскому государству и мирными путями
вносили христианство с зачатками образованности в эту прибалтийскую
страну точно так же, как и в прочие части своей составляющей одно
физическое целое государственной области, — или незваные и
непрошеные немецкие искатели приключений, явившиеся сюда огнем
и мечом распространять духовное владычество пап, обращать туземцев
в рабство и присвоивать себе чужую собственность? Россия никогда
не признавала этого вторжения пришельцев! Псков и Новгород,
стоявшие здесь на страже земли Русской в тяжелую татарскую годину,
не переставали протестовать против него с оружием в руках. Когда же
Москва соединила в себе Русь, она сочла своим первым долгом
уничтожить рыцарское гнездо и возвратить России ее достояние. Первое
удалось на первых же порах, но сама страна перешла в руки Польши
и Швеции, и борьба за нее соединилась с борьбою за прочие области,
отторгнутые этими государствами от России. Но это только еще одна
сторона дела; самое присоединение главной части Прибалтийского
края совершилось даже не вопреки желанию пришлого дворянства,
а по его же просьбам и наущениям, при стараниях и помощи его
представителя, героя Паткуля и. Можно утверждать, что для самого народа,
коренного обладателя страны, эстов и латышей, Россия хотя и сделала
уже кое-что, однако ж далеко не все, чего могли они от нее ожидать;
но, конечно, не за это упрекает ее Европа, не в этом видит она ту
черту, по которой в ее глазах присоединение Прибалтийского края имеет
ненавистный завоевательный характер. Совершенно напротив, в том
немногом, что сделано (или, лучше сказать, в том, чего она опасается
со стороны России) для истинного освобождения народа и страны,
она и видит, собственно, русскую узурпацию, оскорбление германской
и вообще европейской цивилизации.
За Прибалтийскими областями начинается страна, известная ныне
под именами Северо-Западного и Юго-Западного края, а прежде
именовавшаяся польскими провинциями. Недалеко то время, когда было бы
нелишним исписать не одну страницу всевозможных доказательств
для убеждения в том, что это русский край, что Россия никогда его не
завоевывала; ибо нельзя завоевать того, что наше без всякого завоевания,
всегда таким было, всегда даже таким считалось всем русским народом,
пока в высших слоях его не начали иссякать живой народный смысл
324
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
и живое народное чувство, пока, вследствие того, многие из этих слоев
не допустили отуманить свой ум нелепыми гуманитарными бреднями,
не имеющими даже достоинства искренности и беспристрастия. Поляки
и Европа взяли на себя, к счастью, труд несколько протрезвить русских
в этом отношении12, и хотя, к сожалению, несмотря на все свои
старания, не столько еще успели в этом, как бы следовало желать, — так
крепко забились гуманитарные бредни в русские головы, — достигли,
однако же, того, чего не сделали бы самые основательные и длинные
диссертации, — избавили от труда доказывать, что Северо-Западный
и Юго-Западный край — точно такая же Россия и на точно таких же
основаниях, как и самая Москва.
Но в Северо-Западном крае есть небольшая землица, именно
Белостоцкая область, на которой нелишним будет несколько
остановиться. Эта область, вместе с северною частью нынешнего Царства
Польского, Познанским герцогством и Западной Пруссией, досталась
при разделе Польши на долю Пруссии. В седьмом году, по Тильзитскому
миру, она отошла к России13. Сколько возгласов по этому случаю в
немецких сочинениях о вероломстве России, постыдно согласившейся
принять участие в разграблении бывшей своей несчастной союзницы!
Стоит только бросить взгляд на карту, чтоб убедиться в
недобросовестности такого обвинения.
Белостоцкая область прилегает к восточной границе Царства
Польского. Из северной части теперешнего Царства, к которой через
два года присоединена была и южная, и из Познанской провинции
составил Наполеон герцогство Варшавское. Этим была разорвана связь
между Белостоцкой областью и уцелевшими от разгрома прусскими
владениями. Для Пруссии, следовательно, Белостоцкая область была
во всяком случае потеряна; Пруссии оставалось одно из двух: видеть
ее или в руках враждебного ей Варшавского герцогства,
соединенного с враждебной же Саксонией, или в руках дружественной России.
Могло ли тут быть сомнение в выборе самой Пруссии? Что касается
до России, то очевидно, что она считала Белостоцкую область
присоединяемою к ней не от Пруссии, — от которой эта область была уже
отнята самим фактом образования Варшавского герцогства, — а от
этого последнего, обеим им неприязненного государства. Где же тут
вероломство? Впоследствии же, когда Царство Польское в возмездие
за услуги, оказанные Россией Европе, было присоединено к России14,
Пруссия получила достаточное вознаграждение за отошедшую от нее
часть Польши, а Белостоцкая область не могла быть ей возвращена,
потому что оставалась отделенной от нее Царством Польским, как
прежде герцогством Варшавским, которое (если не считать выделенного
из него Познанского герцогства) переменило только название.
Россия и Европа
325
Не может ли, однако, самое Царство Польское назваться
завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было,
по-видимому, национальное убийство? Этот вопрос заслуживает
рассмотрения, потому что в суждениях и действиях Европы по
отношению к нему проявляется также — если еще не более, чем в восточном
вопросе сравнительно с шлезвиг-голштейнским, — та двойственность
меры и та фальшивость весов, которыми она отмеривает и отвешивает
России и другим государствам.
Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим
преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена,
и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных
крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы.
В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время
татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем
через посредство Литвы — сначала случайно (по брачному союзу), а
потом насильственно (Люблинской унией) — присоединена к Польше15.
Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел.
Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в
которых сначала принадлежал большею частью Польше, а со времени
Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел
к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья
принадлежать к политической системе европейских государств, и потому
у ней были развязаны руки, и она была единственным судьей в своих
делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого
не спрашиваясь, взяла из своего, что могла, — Малороссию по левую
сторону Днепра, Киев и Смоленск, взяла бы и больше, если бы
надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить
благоприятное время16. Раздел Польши, насколько в нем участвовала
Россия, мог бы совершиться уже тогда, — с лишком за сто лет ранее,
чем он действительно совершился, и, конечно, с огромною для России
пользою, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских
головах; и край был бы закреплен за православием и русской народностью
прежде, чем успели бы явиться на пагубу русскому делу Чарторыйские
с их многочисленными последователями и сторонниками,
процветающими под разными образами и видами даже до сего дня17. Как бы
то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее,
и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через
сто лет, при Екатерине И. Но почему же то, что было законно в
половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод
к войне при Алексее одинаков — все то же утеснение православного
населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо
было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо
326
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже
Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом
единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала
Россия18! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела
счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки
ее были связаны. Свое ли, не свое родовое достояние ты возвращаешь,
как бы говорили ей соседи, нам все равно; только ты усиливаешься,
и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково,
что Россия не имела возможности возвратить по праву ей
принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть
собственно Польшей и даже частью России — Галичем, на что ни та,
ни другая, конечно, не имели ни малейшего права. Первоначальная
мысль о таком разделе принадлежит, как известно, Фридриху19,
и в уничтожении настоящей Польши в ее законных пределах Россия
не имела никакой выгоды. Совершенно напротив, Россия, несомненно,
сохранила бы свое влияние на Польшу и по отделении от нее русских
областей, тем более что в ней одной могла бы Польша надеяться найти
опору против своих немецких соседей, которым (особенно Пруссии)
было весьма желательно, даже существенно необходимо получить
некоторые части собственной Польши. Но не рисковать же было России
из-за этого войною с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что все,
что было несправедливо в разделе Польши, — так сказать, убийство
польской национальности, — лежит на совести Пруссии и Австрии,
а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием,
возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую
обязанность. Или найдутся, быть может, гуманитарные головы,
которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться
от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой
Польши? Ведь это все, чем можно упрекнуть Россию, став на самую
донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй,
возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими
и православными подданными; в данных же обстоятельствах это
было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счет. Если бы
частный человек, лишенный части своего достояния, для возвращения
его принужден был, не имея возможности этого иначе достигнуть,
войти в соглашение с соседями, заведомо желающими воспользоваться сим
благоприятным случаем, дабы без малейшего на то права захватить
и ту долю собственности неправого владельца, которая, несомненно,
ему принадлежит, — мы, без сомнения, должны были бы сказать, что
он поступил несогласно с правилами христианской нравственности.
Но применение этих правил к междугосударственным и даже
международным отношениям было бы странным смешением понятий, до-
Россия и Европа
327
казывающим лишь непонимание тех оснований, на которых зиждятся
эти высшие нравственные требования. Требование нравственного
образа действий есть не что иное, как требование самопожертвования.
Самопожертвование есть высший нравственный закон. Собственно
говоря, это тождественные понятия. Но единственное основание для
самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности
человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или
самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее
противоречие, очевидно, необходимо, чтобы он вытекал из
внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно
так же, как и во всех природных, или, что то же самое, божественных
законах. Но если для человека все оканчивается здешнею жизнью,
то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ниоткуда иначе
почерпаться, как из требований этой же жизни, из того, что составляет
ее сущность, то есть из требований временного спокойствия, счастья,
благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже
единственно вообразимую цель своего бытия. Только в том случае,
ежели не в этом, заключается внутренняя потребность нашей
сущности, духа, как мы его называем, — если в нем содержится нечто иное,
неисчерпываемое содержанием временной земной жизни,— может
быть выставляемо и иное начало для его деятельности, начало
нравственности, любви и самопожертвования. Но государство и народ
суть явления преходящие, существующие только во времени, и,
следовательно, только на требовании этого их временного существования
могут основываться законы их деятельности, то есть политики. Этим
не оправдывается макиавеллизм, а утверждается только, что всякому
свое, что для всякого разряда существ и явлений есть свой закон. Око
за око, зуб за зуб — строгое право, бентамовский принцип утилитар-
ности, то есть здраво понятой пользы , — вот закон внешней
политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону
любви и самопожертвования. Не к месту примененный, этот высший
нравственный закон принимает вид мистицизма и сантиментальности,
как мы видели тому пример в блаженной памяти Священном союзе21.
Заметим, кстати, что начало здраво понятой пользы, очевидно,
недостаточное и негодное как основание нравственности, должно дать
гораздо лучшие результаты как принцип политический, по той
весьма простой причине, что он применяется здесь к своему настоящему
месту. В самом деле, в течение долговечной жизни государства есть
большое вероятие, что угроза, служащая основой утилитарного
начала, — то есть его санкция, заключающаяся в словах: «...ею же мерою
мерите — возмерится и вам»22, — успеет возыметь свое действие; тогда
как в кратковременную жизнь человека каждый, имеющий достаточно
328
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
средств, власти, хитрости, может весьма основательно надеяться, что
ему удастся избежать последствий, выраженных в приведенных словах.
Итак, раздел Польши, насколько в нем принимала участие Россия,
был делом совершенно законным и справедливым, был исполнением
священного долга перед ее собственными сынами, в котором ее не
должны были смущать порывы сантиментальности и ложного
великодушия, как после Екатерины они, к сожалению и к общему несчастью
России и Польши, смущали ее и смущают многих еще до сих пор.
Если при разделе Польши была несправедливость со стороны России,
то она заключалась единственно в том, что Галич не был воссоединен
с Россией. Несмотря на все это, негодование Европы обрушилось,
однако же, всею своей тяжестью не на действительно виновных — Пруссию
и Австрию, — а на Россию. В глазах Европы все преступление раздела
Польши заключается именно в том, что Россия усилилась, возвратив
свое достояние. Если бы не это горестное обстоятельство, то
германизация славянской народности, — хотя для нее самой любезной из всех,
но все же таки славянской, — не возбудила бы столько слез и плача.
Я думаю даже, что, совершенно напротив, — после должных
лицемерных соболезнований она была бы втайне принята с общею радостью как
желательная победа цивилизации над варварством. Ведь знаем же мы,
что она не пугает европейских и наших гуманитарных прогрессистов,
даже когда является в форме австрийского жандарма (см. Атеней23).
Разве одни французы пожалели бы, что лишились удобного орудия
мутить Германию. Такое направление общественного мнения Европы
очень хорошо поняла и польская интеллигенция; она знает, чем
задобрить Европу, и отказывается от кровного достояния Польши,
доставшегося Австрии и Пруссии, лишь бы ей было возвращено то, что
она некогда отняла у России; чужое ей милее своего. Кому случалось
видеть отвратительное, но любопытное зрелище драки между
большими ядовитыми пауками, называемыми фалангами, тот, конечно,
замечал, как нередко это злобное животное, пожирая с яростью одного
из своих противников, не ощущает, что другой отъел уже у него зад.
Не представляют ли эти фаланги истинную эмблему шляхетско-иезу-
итской Польши — ее символ, герб, выражающий ее государственный
характер гораздо вернее, чем одноглавый орел?
Но как бы ни была права Россия при разделе Польши, теперь
она владеет уже частью настоящей Польши и, следовательно, должна
нести на себе упрек в неправом стяжании, по крайней мере, наравне
с Пруссией и Австрией. Да, к несчастью, владеет! Но владеет опять-
таки не по завоеванию, а по тому сентиментальному великодушию,
о котором только что было говорено. Если бы Россия, освободив
Европу, предоставила отчасти восстановленную Наполеоном Польшу
Россия и Европа
329
ее прежней участи, то есть разделу между Австрией и Пруссией,
а в вознаграждение своих неоценимых, хотя и плохо оцененных,
заслуг потребовала для себя восточной Галиции, частью которой —
Тарнопольским округом — в то время уже владела, то осталась бы
на той же почве, на которой стояла при Екатерине, и никто ни в чем
не мог бы ее упрекнуть. Россия получила бы значительно меньше
по пространству, немногим меньше по народонаселению, но зато
скольким больше по внутреннему достоинству приобретенного, так как
она увеличила бы число своих подданных не враждебным польским
элементом, а настоящим русским народом. Что же заставило императора
Александра упустить из виду эту существенную выгоду? Что ослепило
его взор? Никак не завоевательные планы, а желание осуществить свою
юношескую мечту — восстановить польскую народность и тем
загладить то, что ему казалось проступком его великой бабки. Что это было
действительно так, доказывается тем, что так смотрели на это сами
поляки. Когда из враждебного лагеря, из Австрии, Франции и Англии,
стали делать всевозможные препятствия этому плану восстановления
Польши, угрожая даже войной, император Александр послал великого
князя Константина в Варшаву призывать поляков к оружию для
защиты их национальной независимости. Европа, по обыкновению,
видела в этом со стороны России хитрость, — желание под предлогом
восстановления польской народности мало-помалу прибрать к своим
рукам и те части прежнего Польского королевства, которые не ей
достались, — и потому соглашалась на совершенную инкорпорацию
Польши, но никак не на самостоятельное существование Царства
в личном династическом союзе с Россией, чего теперь так желают.
Только когда Гарденберг, который, как пруссак, был ближе знаком
с польскими и русскими делами, разъяснил, что Россия требует своего
собственного вреда, согласились дипломаты на самостоятельность
Царства*24. Последующие события доказали, что планы России были
не честолюбивы, а только великодушны. Если бы русское
правительство поддерживало в поляках надежду на присоединение к царству
прусских и австрийских частей бывшей Польши, как этого, например,
впоследствии желал маркиз Велепольский, или бы только сквозь
пальцы смотрела на клонящиеся к тому интриги, конечно, не случилось бы
того, что восстание вспыхнуло в Царстве Польском25, а не в Познани
или в Галиции, ибо внутренних причин, заключающихся в
неудовлетворительном состоянии края, для этого восстания не было. Как бы кто
ни судил о дарованной Царству конституции, — свобода, которою оно
Русский вестник. Февр. 1865 г. Статья проф. Соловьева «Венский конгресс».
С.433 и 434.
330
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
пользовалось, была, во всяком случае, несравненно значительнее, чем
в означенных провинциях Пруссии и Австрии, чем в самой Пруссии
и Австрии, чем даже в большей части тогдашней Европы. Время
с 1815 по 1830 год, в которое Царство пользовалось независимым
управлением, особой армией, собственными финансами и
конституционными формами правления, было, без сомнения, и в материальном,
и в нравственном отношениях счастливейшим временем польской
истории. Восстание ничем другим не объясняется, как досадою поляков
на неосуществление их планов к восстановлению древнего величия
Польши, хотя бы то было под скипетром русских государей; конечно,
только для начала26. Но эти планы были направлены не на Галицию
и Познань, а на западную Россию, потому что тут только были
развязаны руки польской интеллигенции — сколько угодно полячить
и латынить. И только когда, по мнению польской интеллигенции,
стало оказываться недостаточно потворства или, лучше сказать,
содействия русского правительства, — ибо потворства все еще было
довольно, — к ополячению Западной России, тогда негодование поляков
вспыхнуло и привело к восстанию 1830-го, а также и 1863 года. Вот
как честолюбивы и завоевательны были планы России, побудившие
ее домогаться на Венском конгрессе присоединения Царства Польского!
В юго-западном углу России лежит Бессарабия, также недавнее
приобретение. Здесь христианское православное население было
исторгнуто из рук угнетавших его диких и грубых завоевателей,
турок, — население, которое торжествовало это событие как избавление
из плена. Если то было завоевание, то и Кир, освободив иудеев из
плена вавилонского, был их завоевателем27. Об этом и распространяться
больше не стоит.
Все южнорусские степи также были вырваны из рук турок. Степи
эти принадлежат к русской равнине. Спокон века, еще со времен
Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские
князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же
и с какого права занесло сюда турецкую власть,
покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском
полуострове, хотя и не принадлежавшем исстари к России, но
послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам
всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком
удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские
области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было
завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность;
но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое
вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было
такое убийство, которое допускается и Божескими, и человеческими
Россия и Европа
331
законами, — убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны
и вместе в виде справедливой казни28.
Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно
отличать в рассматриваемом здесь отношении закавказские
христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев.
Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного
и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское
подданство. Но только император Александр I в начале своего
царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это
желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя
истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими
горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и
должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России.
Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу,
хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что
она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы
то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было
завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде
всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем
не Россия была зачинщицей29. В течение этой борьбы ей удалось
освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких
владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были
покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское,
Шекинское, Ганджинское и Талышенское, составляющие теперь
столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это
завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь
довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы.
Здесь точно много погибло если не независимых государств, то
независимых племен. После раздела Польши едва ли какое другое действие
России возбуждало в Европе такое всеобщее негодование и сожаление,
как война с кавказскими горцами и особливо недавно совершившееся
покорение Кавказа30. Сколько ни стараются наши публицисты
выставить это дело как великую победу, одержанную общечеловеческою
цивилизацией, ничто не помогает. Не любит Европа, чтобы Россия
бралась за это дело. Ну, на Сырдарье, в Коканде, в Самарканде,
у дикокаменных киргизов еще куда ни шло, можно с грехом пополам
допустить такое цивилизаторство, все же вроде шпанской мушки
оттягивает, хотя, к сожалению, и в недостаточном количестве силы
России; а то у нас под боком, на Кавказе; мы бы и сами тут поциви-
лизировали. <...> И по этому кавказскому (как и по польскому, как
и по восточному, как и по всякому) вопросу можно судить о
доброжелательстве Европы к России.
332
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание?
Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть,
сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что
большею частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное
(как показывает история) казацкой удалью и расселением русского
народа почти без содействия государства. Разве еще к числу русских
завоеваний причислим Амурский край, никем не заселенный, куда
всякое переселение было даже запрещено китайским правительством,
неизвестно почему и для чего считавшим его своею собственностью?
Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках
назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою областью,
Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья
и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело
по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России
нельзя называть завоеванием — в дурном, антинациональном и потому
ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые
могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала
независимое Кельтское государство31,— и как завоевала! — отняла
у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила
его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности
земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот
миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду у Франции, мыс
Доброй Надежды у Голландии и т.д. Земель, пустопорожних или
заселенных дикими неисторическими племенами в количестве без малого
300000 квадратных миль я не считаю завоеваниями. Франция отняла
у Германии Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте, у Италии — Корсику
и Ниццу; за морем покорила Алжир. А сколько было ею завоевано
и опять от нее отнято! Пруссия округлила и соединила свои
разбросанные члены на счет Польши, на которую не имела никакого права.
Австрия мало или даже почти ничего не отняла мечом, но самое ее
существование есть уже преступление против права народностей. Испания
в былые времена владела Нидерландами, большей частью Италии,
покорила и уничтожила целые цивилизации в Америке.
Ежели нельзя упрекнуть Россию в действительно совершенных ею
завоеваниях, то, может быть, к ним были направлены ее стремления:
неудача покушения не оправдывает еще преступника. Бросим взгляд
на характер войн, которые она вела. Далеко заходить незачем. Все
войны до Петра велись Россией за собственное существование, —
за то, что в несчастные времена ее истории было отторгнуто ее соседями.
Первая война, которую она вела не с этой целью и которой, собственно,
началось ее вмешательство в европейские дела, была ведена против
Пруссии. Достаточного резона на участие в Семилетней войне со сто-
Россия и Европа
333
роны России, конечно, не было. Злословие Фридриха оскорбило
Елизавету; его поступки, справедливо или нет, считались всей Европой
наглыми нарушениями как международного права вообще, так и
законов Священной Германско-Римской империи в частности32. Если
тут была вина, то ее разделяла Россия со всей Европой; так или нет,
но это было явление случайное, не лежавшее в общем направлении
русской политики. Во все царствование Екатерины Великой Россия
деятельным образом не вмешивалась в европейские дела, преследовала
свои цели, и цели эти, как мы видели, были цели правые. С императора
Павла, собственно, начинаются европейские войны России. Война
1799 года, в чисто военном отношении едва ли не славнейшая из всех
веденных Россией, была актом возвышеннейшего политического
великодушия, бескорыстия, рыцарства в истинно мальтийском духе33.
Была ли она актом такого же политического благоразумия — это иной
вопрос. Для России, впрочем, война эта имела значительный
нравственный результат: она показала, к чему способны русские в военном
деле. Такой же характер имели войны 1805 и 1807 годов. Россия
принимала к сердцу интересы, ей совершенно чуждые, и с достойным
всякого удивления геройством приносила жертвы на алтарь Европы.
Тильзитский мир заставил ее на время отказаться от этой
самоотверженной политики и повернуть в прежнюю екатерининскую колею;
но выгоды, которые она могла, очевидно, приобрести, продолжая идти
по ней, не удовлетворяли ее, не имели в глазах ее ничего приманчивого.
Интересы Европы, особливо интересы Германии, так близко лежали
к ее сердцу, что оно билось только для них. Что усилия, сделанные
Россией в1813и1814 годах, были сделаны в пользу Европы, — в этом
согласны даже и теперь беспристрастные люди, к какому бы
политическому лагерю они ни принадлежали, а тогда все прославляли
беспримерное бескорыстие России. Но что самый двенадцатый год был
борьбою, предпринятой Россией из-за интересов Европы, — это едва ли
многими сознается. Конечно, война двенадцатого года была войною
по преимуществу народною, — народною в полном смысле этого слова,
если принимать в расчет самый способ ее ведения и те чувства, которые
в то время одушевляли русский народ. Но такова ли была эта славная
война в своих причинах, то есть желание ли нарушить русские интересы
побудило Наполеона предпринять ее? На это едва ли можно отвечать
утвердительно. Причины этой колоссальной борьбы, низвергнувшей
Наполеона и приведшей к таким громадным последствиям, до того
ничтожны, что невозможно понять, как могли они заставить Наполеона
ринуться в такое опасное, рискованное предприятие без всякой нужды,
имея на руках у себя Испанию. Что приводится в самом деле поводом,
побудившим Наполеона собрать 600000 армию и вторгнуться с ней
334
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
в отдаленную страну — неизобильную ресурсами, с дурными путями
сообщения — для борьбы с войском и народом, мужество которых было
ему хорошо известно?.. Неточное соблюдение Тильзитского договора
Россией, допускавшей под рукою некоторую торговлю с Англией, когда
Наполеон сам у себя допускал подобные же уклонения от правил
континентальной системы, и протест России против захвата Ольден-
бурга — вот и все34. Всю неудовлетворительность этих резонов думают
достаточно дополнить, ссылаясь на ненасытимое честолюбие
Наполеона. Конечно, Наполеон был честолюбив сверх меры, но был ведь
также и расчетлив. Истинную причину войны, как Наполеон ее
понимал, выразил он в словах, сказанных им Балашову: государь окружен
личными его врагами, низкими людьми, как он выражался, — в том
числе Штейном, негодяем, изгнанным из своего отечества, — то есть
людьми, которым дороги были интересы Германии и которые старались
образ мыслей императора Александра направить в эту сторону35.
Хорошо понятый и должным образом развитый смысл этих намеков
объясняет все. Наполеон не мог не чувствовать, что сооруженное
им здание очень шатко и кроме его высокого гения никаких других
подпор не имеет. Жеромы, Иосифы, Мюраты не в состоянии были
поддержать его36. Что же будет после его смерти, что оставит он своему
сыну? Всемирное владычество, чувствовал он, даже ему не под силу;
надо было найти, с кем его разделить, и он думал после Тильзитского
мира, что нашел этого товарища и союзника в России; другого, впрочем,
и отыскать негде было. Он думал, что Россия из прямого политического
расчета, из-за собственных своих целей и выгод будет с ним заодно.
И в самом деле, чего бы не могла достигнуть Россия в союзе с ним,
если бы смотрела на дело исключительно со своей точки зрения?
Ревностная помощь в войне 1809 года дала бы ей всю Галицию37;
усиленная война против Турции доставила бы ей не только Молдавию
и Валахию, но и Булгарию, — дала бы ей возможность образовать
независимое Сербское государство с присоединением к нему Боснии
и Герцеговины. Наполеон не хотел только, чтобы наши владения
переходили за Балканы, но Наполеон был не вечен. Самым герцогством
Варшавским, которое в его глазах было только угрозой против России,
он, вероятно, пожертвовал бы, раз убедившись, что Россия
действительно вошла во все его планы, что, идя к выполнению своих целей,
она столько же нуждается в нем, сколько он в ней, что она сама
заинтересована в сохранении его могущества. Но вскоре после Тильзитского
мира Наполеон увидел, что он не может полагаться на Россию, не может
рассчитывать на ее искреннее содействие, основанное не на букве
связывающего их договора, а на политическом расчете, — что она
формально держится данного обещания, но сердце ее не лежит к союзу
Россия и Европа
335
с ним. В войне 1809 года помогала она только для виду; заступничество
за Ольденбургское герцогство и еще более наплыв немецких патриотов,
которых Наполеон, со своей точки зрения, называл негодяями (конечно,
вовсе несправедливо), показывали ему, что Россия горячо принимает
к сердцу так называемые европейские или, точнее, немецкие интересы;
горячее, чем свои собственные. Что оставалось ему делать? К чему
влекла его неудержимо логика того положения, в которое его поставило
как собственное его честолюбие, так и самый ход событий? Очевидно,
к тому, чтобы обеспечить себя иным способом, независимо от России, —
к тому, чтобы отыскать для подпоры своему зданию какой-нибудь
другой столб, хотя бы и менее надежной крепости. Этот столб думал
он вытесать на счет самой России, восстановив Польское королевство
в его прежнем объеме. В нем надеялся он, по крайней мере, найти
всегда готовое орудие против враждебной ему Германии. Иначе
поступить Наполеону едва ли было возможно. И без войны политическое
здание, им воздвигнутое, должно было рухнуть, если Россия не
заинтересована в его поддержке, — рухнуть если не при нем, так после
его смерти. Война, руководимая его гением, представляла, по крайней
мере, шансы или вынудить Россию к этой поддержке, или заменить
ее другим хотя и менее твердым, но зато более зависимым и податливым
орудием. Одним словом, если бы Наполеон мог рассчитывать на Россию,
которая, как ему казалось, сама была заинтересована в его деле, он
никогда бы не подумал о восстановлении Польши. От добра добра не ищут.
В тринадцатом году, во главе новой собранной им армии, он высказал
эту мысль самым положительным образом: «Всего проще и
рассудительнее было бы сойтись прямо с императором Александром. Я всегда
считал Польшу средством, а не главным делом. Удовлетворяя Россию
на счет Польши, мы имеем средство унизить Австрию, обратить ее в
ничто»*. Может ли что-нибудь быть яснее, откровеннее и притом
сообразнее с действительным характером Наполеона! Не из-за Европы ли,
следовательно, не из-за Германии ли в особенности, приняла Россия
на свою грудь грозу двенадцатого года? Двенадцатый год был,
собственно, великой политической ошибкой, обращенной духом русского
народа в великое народное торжество.
Что не какие-либо свои собственные интересы имела Россия в
виду, решаясь на борьбу с Наполеоном, видно уж из того, что, окончив
с беспримерной славою первый акт этой борьбы, она не остановилась,
не воспользовалась представлявшимся ей случаем достигнуть
всего, чего только могла желать для себя, заключив с Наполеоном мир
* Богданович М. И. Ист[ория] войны 1813 года [за независимость Германии: в 2 т.
СПб., 1863]. T. I.C. 2.
336
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
и союз, как он этого всеми мерами домогался и как желали того же
Кутузов и многие другие замечательные люди той эпохи. Что мешало
Александру повторить Тильзит с той лишь разницей, что в этот раз
он играл бы первостепенную и почетнейшую роль? Даже для Пруссии,
которая уже скомпрометировала себя перед Наполеоном, император
Александр мог выговорить все, чего требовала бы, по его мнению, честь.
Через четырнадцать лет после Парижского мира пришлось России
вести войну с Турцией. Русские войска перешли Балканы и стояли у
ворот Константинополя. С Францией Россия была в дружбе, у Австрии
не было ни войск, ни денег; Англия, хотя бы и хотела, ничего не могла
сделать, — тогда еще не было военных пароходов; прусское
правительство было связано тесной дружбой с Россией. Европа могла только
поручить Турцию великодушию России. Взяла ли тогда Россия что-
нибудь для себя? А одного слова ее было достаточно, чтобы
присоединить к себе Молдавию и Валахию. Даже и слова было не надо. Турция
сама предлагала России княжества вместо недоплаченного еще долга.
Император Николай отказался от того и от другого.
Настал 1848 год. Потрясения, бывшие в эту пору в целой Европе,
развязывали руки завоевателя и честолюбца. Как же воспользовалась
Россия этим единственным положением? Она спасла от гибели
соседа, — того именно соседа, который всего более должен был противиться
ее честолюбивым видам на Турцию, если бы у нее таковые были38. Этого
мало, тогда можно было соединить великодушие с честолюбием. После
венгерской кампании был достаточный предлог для войны с Турцией;
русские войска занимали Валахию и Молдавию, турецкие славяне
поднялись бы по первому слову России. Воспользовалась ли всем
этим Россия? Наконец, в самом 1853 году если бы Россия высказала
свои требования с той резкостью и неуступчивостью, пример которых
в том же году подавало ей посольство графа Лейнингена, и, в случае
малейшей задержки удовлетворения, двинула войска и флот, когда
ни Турция, ни западные державы нисколько не были приготовлены,
чего не могла бы она достигнуть?
Итак, состав Русского государства, войны, которое оно вело, цели,
которые преследовало, а еще более — благоприятные обстоятельства,
столько раз повторявшиеся, которыми оно не думало
воспользоваться, — все показывает, что Россия не честолюбивая, не завоевательная
держава, что в новейший период своей истории она большею частью
жертвовала своими очевиднейшими выгодами, самыми справедливыми
и законными, европейским интересам, — часто даже считала своею
обязанностью действовать не как самобытный организм (имеющий
свое самостоятельное назначение, находящий в себе самом достаточное
оправдание всем своим стремлениям и действиям), а как служебная
Россия и Европа
337
сила. Откуда же и за что же, спрашиваю, недоверие, несправедливость,
ненависть к России со стороны правительств и общественного мнения
Европы?
Обращаюсь к другому капитальному обвинению против России.
Россия — гасительница света и свободы, темная мрачная сила,
политический Ариман, как выразился я выше. У знаменитого Роттека
высказана мысль, — которую, не имея под рукой его «Истории...»,
не могу, к сожалению, буквально цитировать, — что всякое преуспеяние
России, всякое развитие ее внутренних сил, увеличение ее
благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего
человечества. Это мнение Роттека есть только выражение общественного
мнения Европы. И это опять основано на таком же песке, как и
честолюбие и завоевательность России. Какова бы ни была форма правления
в России, каковы бы ни были недостатки русской администрации,
русского судопроизводства, русской фискальной системы и т. д., до всего
этого, я полагаю, никому дела нет, пока она не стремится навязать
всего этого другим. Если все это очень дурно, тем хуже для нее и тем
лучше для ее врагов и недоброжелателей. Различие в политических
принципах еще не может служить препятствием к дружбе правительств
и народов. Не была ли Англия постоянным другом Австрии, несмотря
на конституционализм одной и абсолютизм другой? Не пользуется ли
русское правительство и русский народ симпатиями Америки и
наоборот? Только вредное вмешательство России во внутреннюю политику
иностранных государств, давление, которым она препятствовала бы
развитию свободы в Европе, могут подлежать ее справедливой критике
и возбуждать ее негодование. Посмотрим, чем же его заслужила Россия,
чем так провинилась перед Европой? До времен Французской
революции о таком вмешательстве, о таком давлении и речи быть не могло,
потому что между континентом Европы и Россией не существовало тогда
никакой видимой разности в политических принципах. Напротив того,
правление Екатерины по справедливости считалось одним из самых
передовых, прогрессивных, как теперь говорится. Под конец своего
царствования Екатерина имела, правда, намерение вооружиться против
революции, что наследник ее и сделал. Но если Французская революция
должна считаться светильником свободы, то гасить и заливать этот
светильник спешила вся Европа, и впереди всех — конституционная
и свободная Англия. Участие России в этом общем деле было
кратковременно и незначительно. Победам Суворова, впрочем,
рукоплескала тогда вся Европа. Войны против Наполеона не были, конечно,
да и не считались войнами против свободы. Эти войны окончились,
и ежели побежденная Франция тогда же получила свободную форму
правления, то была обязана этим единственно императору Александру.
338
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
Во время войны за независимость многие государства обещали своим
подданным конституции, и никто не сдержал своих обещаний, кроме
опять-таки императора Александра относительно Польши.
После Венского конгресса, по мысли русского императора, Россия,
Австрия и Пруссия заключили так называемый Священный союз,
приступить к которому приглашали всех государей Европы39. Этот
Священный союз составляет главнейшее обвинение против России
и выставляется заговором государей против своих народов. Но в этом
союзе надо строго отличать идею, первоначальный замысел, которые
одни только и принадлежали Александру, от практического
выполнения, которое составляет неотъемлемую собственность Меттерниха.
В первоначальной же идее, каковы бы ни были ее практические
достоинства, конечно, не было ничего утеснительного. Император
Александр стоял, бесспорно, за конституционный принцип везде, где,
по его мнению, народное развитие допускало его применение. Он был
противником и врагом Партий, насильственно вынужденных бунтом
и революцией, но зато был другом октроированных конституций;
и после недавних опытов, после стольких бедствий, претерпенных
Европой, можно ли было думать иначе? Да и без отношения к
обстоятельствам, не справедлив ли вообще такой взгляд? Разве
добросовестное соглашение, сознательная уступка могут быть хуже насилия
и по принципу и по последствиям? Вынудивший силою, если сила
остается на его стороне, редко остается доволен вынужденным:
можно ли ожидать умеренности от разгоряченных страстей, упоенных
гордостью успеха? Если, наоборот, после первой вспышки, первого
удачного натиска сила переходит опять на сторону уступившей этому
натиску власти, можно ли ожидать от нее добросовестного
выполнения вынужденного? Напротив того, уступка, сделанная в полноте
силы, по сознанию ее пользы и справедливости, заключает в себе все
залоги долговечности. Что прочнее и добросовестнее исполняется:
октроированная ли конституция Сардинии и заменившей ее Италии
или вынужденная конституция Франции после 1830 и Пруссии после
1848 года? Если скажут, что и октроированная конституция Франции
1814и1815 годов не слишком-то добросовестно исполнялась, то
всякому известно, что эта конституция имела лишь форму добровольно
данной Бурбонами хартии, в сущности же была с их стороны
вынужденной обстоятельствами уступкой; притом на всем их правлении
лежала печать чужеземного вмешательства, ненавистная для всякого
уважающего себя народа40.
На дипломатических конгрессах двадцатых годов наиболее
умеренным и либеральным был голос Александра. В этом я сошлюсь
на Гервинуса, не слишком-то доброжелательного к России и ко всему
Россия и Европа
339
русскому. Корнем всех реакционных, ретроградных мер того времени
была Австрия и ее правитель Меттерних, который, опутывая всех
своими сетями, в том числе и Россию, заставил последнюю отказаться
от ее естественной и национальной политики помогать грекам и вообще
турецким христианам против их угнетателей, — отказаться вопреки
всем ее преданиям, всем ее интересам, всем сочувствиям ее государя
и ее народа. Россия была также жертвою Меттерниховой политики;
почему же на нее, а не на Австрию, которая всему была виновницей
и в пользу которой все это делалось, взваливается вся тяжесть вины?
Сама Англия не подчинилась ли тогда Меттерниховой политике? Разве
русские войска усмиряли восстание в Неаполе и Испании41 и разве
эти восстания и введенный ими на короткое время порядок вещей
были такими светлыми явлениями, что стоит о них жалеть? Русские ли
наущения были причиной всех утеснении, которые терпела немецкая
печать, немецкие университеты и вообще стремления немецкого
юношества? Не сами ли германские правительства и во главе их Австрия
должны почитаться виновниками всех этих мер; не для них ли
исключительно были они полезны? Или, может быть, все эти немецкие
либеральные стремления имели такую силу, что без надежды на
поддержку России германские правительства не дерзнули бы им
противостать? Но разве она помешала им осуществиться там, где они имели
какое-нибудь действительное значение, — помешала Франции или даже
маленькой Бельгии дать себе ту форму правления, которой они сами
захотели? Помешала ли Россия чему-нибудь даже в самой Германии
в 1848 году, да и в 1830 году? Не собственное ли бессилие хотят
оправдать, взваливая неудачу на давление, оказываемое будто бы мрачным
абсолютизмом Севера?
Лучшим доказательством, впрочем, того, что не действительная
какая-нибудь вина, не какое-нибудь деятельное вмешательство России
ко вреду свободы человечества вообще и Германии в особенности были
причиной общей к ней ненависти, служит убийство Коцебу42. Важен
тут не самый поступок несчастного студента-фанатика, а то общее
сочувствие, которое возбудило к себе это политическое преступление
не только в революционных кружках, но и в спокойной,
здравомыслящей части общества, чему едва ли можно найти другой пример.
В чем состояла, однако же, вина Коцебу? Он доносил, говорят,
русскому правительству о состоянии общественного мнения Германии
(преимущественно же ее университетской молодежи), то есть делал
то, чем занимается, между прочим, всякий дипломатический агент
или иностранный корреспондент любой газеты. Вина его ни в каком
случае не превышала вины многих петербургских корреспондентов
иностранных газет, — с теми, однако же, circonstanus attenn antes43
340
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
в пользу Коцебу, что недоброжелательство к России и клеветы
петербургских корреспондентов для всех открыты и могут возбуждать
совершенно основательное негодование, а то, что писал Коцебу,
никому не было известно, и вся виновность его основывалась на
предположениях. И разве во время Коцебу не было множества лиц, которые
сообщали германским правительствам (особливо же австрийскому)
о духе и направлении мыслей, господствовавших между германской
молодежью, — что, конечно, для нее было гораздо опаснее? Отчего же
такой взрыв негодования, откуда такое оскорбление народного чувства,
что оно доходит даже до сочувствия убийству, если только убийство
совершено во вред России? А ведь то было еще до знаменитых
конгрессов; ничем еще Россия не успела провиниться44, в свежей еще памяти
было избавление от французского ига. Общественное мнение Германии
оказало тут, как и после, не более благодарности, чем 34 года спустя
австрийское правительство .
Если уж гневаться за взаимные советы и за влияние, оказываемое
правительством на правительство, то, конечно, Россия имела бы
столько же (если не более) права негодовать на Австрию, да и на другие
немецкие дворы, как и Германия на Россию. Не влиянию ли Меттерниха
приписывается перемена образа мыслей, происшедшая в императоре
Александре после 1822 года?46 Не это ли влияние было причиной
немилости Каподистрии, враждебного отношения, принятого относительно
Греции и вообще относительно национальной политики, наконец,
не это ли влияние было причиной самой перемены в направлении
общественного образования во времена Шишкова и Магницкого? А
после (не в угоду ли Австрии) считалась всякая нравственная помощь
славянам чуть не за русское государственное преступление? Пусть
европейское общественное мнение, если оно хочет быть справедливым,
отнесет даже оказанное Россией на германские дела вредное влияние
к его настоящему источнику, то есть к германским же правительствам
и в особенности к австрийскому. Нет, не действия Коцебу и все подобные
(в сущности, весьма невинного свойства) вмешательства русского
правительства в европейские дела объясняют ненависть, которую питают
в Европе к России, а самое убийство Коцебу и, главное, то сочувствие,
которое оно возбудило, только этой ненавистью и объясняются;
причина же ее лежит глубже.
Впрочем, тому, что не в антилиберальном вмешательстве России
в чужие дела лежит начало и главная причина неприязненных чувств
Европы, можно представить доказательство самое строгое,
неопровержимое. Когда думают видеть в чем-либо причину данного явления,
то очень легко убедиться в справедливости предположения, если только
возможно устранить действие предполагаемой причины. Ясно, что
Россия и Европа
341
предположение ложно, когда явление продолжается и по устранении
этой причины. Например, замедление в качании маятника, замеченное
в экваториальных странах, приписывали удлинению его от теплоты.
Придумали снаряд, устраняющий влияние теплоты, но маятник
продолжал качаться медленнее, чем на севере. Это показало до
очевидности, что дело тут не в теплоте. В вопросах общественных почти никогда
нельзя прибегать к опытам, но относительно занимающего нас предмета
был сделан опыт в самых широких размерах, и что же оказалось? Вот
уже с лишком тринадцать лет, как русское правительство совершенно
изменило свою систему, совершило акт такого высокого либерализма,
что даже совестно применять к нему это опошленное слово; русское
дворянство выказало бескорыстие и великодушие, а массы русского
народа — умеренность и незлобие беспримерные. С тех пор
правительство продолжало действовать все в том же духе. Одна либеральная
реформа следовала за другой47. На заграничные дела оно не оказывает
уже никакого давления. Этого мало, оно употребляет свое влияние
в пользу всего либерального. И правительство, и общественное мнение
сочувствовали делу Северных Штатов искреннее, чем большая часть
Европы48. Россия из первых признала Итальянское королевство и даже,
как говорят, своим влиянием помешала Германии помогать неправому
делу. И что же, переменилась ли хоть на волос Европа в отношении
к России? Да, она очень сочувствовала крестьянскому делу, пока
надеялась, что оно ввергнет Россию в нескончаемые смуты, — так же
точно, как Англия сочувствовала освобождению американских негров.
Мы много видели с ее стороны любви и доброжелательства по случаю
польских дел49. Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся
героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России.
Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело идет о
защите русской народности, донельзя угнетаемой в западных
губерниях, — так же точно, впрочем, как в деле босняков, болгар, сербов или
черногорцев. Великодушнейший и вместе деиствительнеишии способ
умиротворения Польши наделением польских крестьян землей
находит ли себе беспристрастных ценителей? Или, может быть,
английский способ умиротворения Ирландии выселением вследствие голода
предпочтительнее с гуманной точки зрения? Опыт сделан в широких
размерах. Медицинская пословица говорит: sublata causa tollitur
effectue50. Но здесь и по устранении причины действие продолжается:
значит, причина не та.
Еще в моде у нас относить все к незнанию Европы, к ее невежеству
относительно России. Наша пресса молчит или по крайней мере до
недавнего времени молчала, а враги на нас клевещут. Где же бедной
Европе узнать истину? Она отуманена, сбита с толку. Risum teneatis,
342
Я. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
amici51, или, по-русски, — курам на смех, друзья мои. Почему же
Европа, — которая все знает от санскритского языка до ирокезских
наречий, от законов движения сложных систем звезд до строения
микроскопических организмов, — не знает одной только России? Разве
это какой-нибудь Гейс-Грейц, Шлейц и Лобенштейн, не стоящий того,
чтобы она обратила на него свое просвещенное внимание? Смешны
эти оправдания мудрой, как змий, Европы — ее незнанием, наивностью
и легковерием, точно будто об институтке дело идет. Европа не знает,
потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать
хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям,
гордости, ненависти и презрению. Смешны эти ухаживания за иностранцами
с целью показать им Русь лицом, а через их посредство просветить и
заставить прозреть заблуждающееся и ослепленное общественное мнение
Европы. Почему и не удовлетворить любопытству доброго человека;
только напрасно соединять с этим разные окулистические мечтания.
Нечего снимать бельмо тому, кто имеет очи и не видит; нечего лечить
от глухоты того, кто имеет уши и не слышит. Просвещение
общественного мнения книгами, журналами, брошюрами и устным словом может
быть очень полезно и в этом отношении, как и во всех других, только
не для Европы, а для самих нас, русских, которые даже на самих себя
привыкли смотреть чужими глазами, для наших единоплеменников.
Для Европы это будет напрасный труд: она и сама без нашей помощи
узнает, что захочет, и если захочет узнать.
Дело в том, что Европа не признает нас своими. Она видит в России
и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не
может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы
извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки,
большей части Америки и т.д., — материалом, который можно бы
формировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде
было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря
на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной
германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому
в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как
ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся
и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает или, точнее
сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит
крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не
растворить, которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать,
претворить в свою кровь и плоть, которое имеет и силу и притязание
жить своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и
справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно — чтобы не сказать
невозможно — перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом,
Россия и Европа
343
так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще
более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь.
Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли еще думать
о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли
средства хороши? Не это ли проповедуют и иезуиты, и мадзини-
сты52, — и старая, и новая Европа? Будет ли Шлезвиг и Голштейн
датским или германским, он все-таки останется европейским; произойдет
маленькое наклонение в политических весах, стоит ли о том толковать
много? Державность Европы от того не потерпит, общественному
мнению нечего слишком волноваться, надо быть снисходительными между
своими. Склоняются ли весы в пользу Афин или Спарты, не та же ли
Греция будет царить? Но как дозволить распространиться влиянию
чуждого, враждебного, варварского мира, хотя бы оно
распространялось на то, что по всем Божеским и человеческим законам
принадлежит этому миру? Не допускать до этого — общее дело всего, что
только чувствует себя Европой. Тут можно и турка взять в союзники
и даже вручить ему знамя цивилизации. Вот единственное
удовлетворительное объяснение той двойственности меры и весов, которыми
отмеривает и отвешивает Европа, когда дело идет о России (и не только
о России, но вообще о славянах) — и когда оно идет о других странах
и народах. Для этой несправедливости, для этой неприязненности
Европы к России, — которым сравнение 1864 с 1854 годом служит
только одним из бесчисленных примеров, — сколько бы мы ни искали,
мы не найдем причины в тех или других поступках России; вообще
не найдем объяснения и ответа, основанного на фактах. Тут даже нет
ничего сознательного, в чем бы Европа могла дать себе самой
беспристрастный отчет. Причина явления лежит глубже. Она лежит в
неизведанных глубинах тех племенных симпатий и антипатий, которые
составляют как бы исторический инстинкт народов, ведущий их
(помимо, хотя и не против их воли и сознания) к неведомой для них цели;
ибо в общих, главных очертаниях история слагается не по произволу
человеческому, хотя ему и предоставлено разводить по ним узоры.
Что вело древних германцев к непрестанным нападениям на Рим?
Говорят, что Юг имеет непреодолимую прелесть для сынов Севера.
Не нужно обширных этнографических сведений, чтобы видеть, что
это совершенно несправедливо. Ежедневный опыт удостоверяет, что
каждый некочующий народ, — а германцы во время войны с Римом
были уже оседлы, — в первобытное время столько же, по крайней
мере, как и впоследствии, имеет почти непреодолимую
привязанность к своей родине, к своему климату, как бы он ни был суров,
к окружающей его природе, как бы она ни была бедна. Юг для народов
Севера имеет в себе что-то убийственное. Возьмите для примера хоть
344
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
поселение русских на Кавказе. К благословенным ли странам Кавказа
стремится русский народ, предоставленный своей собственной воле?
Нет, для него Сибирь имеет несравненно более привлекательности.
Не приманка Юга, а какая-то ненависть влекла народы на гибель
Риму. Почему так хорошо уживаются вместе и потом мало-помалу
сливаются германские племена с романскими, а славянские с
финскими? Германские же со славянскими, напротив того, друг друга
отталкивают, антипатичны одно другому; и если где одно замещает другое,
то предварительно истребляет своего предшественника, как сделали
немцы с полабскими племенами и с прибалтийскими славянскими
поморянами. Это-то бессознательное чувство, этот-то исторический
инстинкт и заставляет Европу не любить Россию. Куда девается тут
беспристрастие взгляда, — которым не обделена, однако же, и Европа,
и особливо Германия, — когда дело идет о чуждых народностях? Все
самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения,
и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную
задачу цивилизации. «Gemeiner Russe, Bartrusse»53 суть термины
величайшего презрения на языке европейца, и в особенности немца.
Русский в глазах их может претендовать на достоинство человека
только тогда, когда потерял уже свой национальный облик. Прочтите
отзывы путешественников, пользующихся очень большой
популярностью за границей, вы увидите в них симпатию к самоедам, корякам,
якутам, татарам, к кому угодно, только не к русскому народу;
посмотрите, как ведут себя иностранные управляющие с русскими
крестьянами; обратите внимание на отношение приезжающих в Россию
матросов к артельщикам и вообще биржевым работникам; прочтите
статьи о России в европейских газетах, в которых выражаются мнения
и страсти просвещенной части публики; наконец, проследите
отношение европейских правительств к России. Вы увидите, что во всех
этих разнообразных сферах господствует один и тот же дух неприязни,
принимающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчивости,
злорадства, ненависти или презрения. Явление, касающееся всех
сфер жизни — от политических до обыкновенных житейских
отношений, — распространенное во всех слоях общества, притом не
имеющее никакого фактического основания, может недриться только
в общем инстинктивном сознании той коренной розни, которая лежит
в исторических началах и в исторических задачах племен. Одним
словом, удовлетворительное объяснение как этой политической
несправедливости, так и этой общественной неприязненности можно
найти только в том, что Европа признает Россию и славянство чем-то
для себя чуждым, и не только чуждым, но и враждебным. Для
беспристрастного наблюдателя это неотвержимый факт. Вопрос только
Россия и Европа
345
в том, основательны ли, справедливы ли такой отчасти сознательный
взгляд и такое отчасти инстинктивно бессознательное чувство, или же
составляют они временный предрассудок, недоразумение, которым
суждено бесследно исчезнуть. Исследованию этого вопроса намерен
я посвятить следующую главу.
ГЛАВА III
Европа ли Россия?
Стократе сем млувил, тедь уж кричим
К вам розкидани Словове,
Будьме целек, а не дробмове,
Будьме анеб вщецко, анеб ничим53.
Коллар. Slavy Dee га
Права или не права Европа в том, что считает нас чем-то для себя
чуждым? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно дать себе ясный отчет
в том, что такое Европа, дабы видеть, подходит ли под родовое
понятие Европа — Россия как понятие видовое. Вопрос, по-видимому,
странный. Кому же может быть неизвестен ответ? Европа есть одна
из пяти частей света, скажет всякий ученик приходского училища.
Что же такое часть света, спросим мы далее? На это мне как-то нигде
не приходилось читать ответа, потому (вероятно), что понятие это
считается столь простым, что давать ему определение может показаться
пустым, излишним педантизмом. Так ли это или нет, нам, во всяком
случае, надо доискаться этого определения, иначе не получим ответа
на заданный себе вопрос. Части света составляют самое общее
географическое деление всей суши на нашей планете и противополагаются
делению жидкого элемента на океаны. Искусственно или естественно
это деление? Под естественным делением, или естественной системою,
разумеется такая группировка предметов или явлений, при которой
принимаются во внимание все их признаки, взвешивается
относительное достоинство этих признаков, и предметы располагаются, между
прочим, так, чтобы входящие в состав какой-либо естественной группы
имели между собой более сродства, более сильную степень сходства,
чем с предметами других групп. Напротив того, искусственная система
довольствуется одним каким-либо или немногими признаками,
почему-нибудь резко заметными, хотя бы и вовсе несущественными. В этой
системе может разделяться самое сходное в сущности и соединяться
самое разнородное. Рассматривая с этой точки зрения части света,
мы сейчас же придем к заключению, что это — группы искусственные.
В самом деле, южные полуострова Европы: Испания, Италия, Турция
346
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
(к югу от Балкан) — имеют несравненно более сходства с Малой Азией,
Закавказьем и северным прибрежьем Африки, нежели с остальною
Европой. Так же точно Аравия имеет гораздо более сходства с Африкой,
чем с Азией; мыс Доброй Надежды более сходен с материком Новой
Голландии, чем с Центральной или Северною Африкой; полярные
страны Азии, Европы и Америки имеют между собой более сходства,
чем каждая из них — с лежащим к югу от нее материком, и т.д. Иначе,
впрочем, это и быть не могло, потому что при разделении суши на
части света не принимались во внимание ни климат, ни естественные
произведения, ни другие физические черты, обусловливающие
характер страны. Правда, иногда с границами так называемых частей
света совпадают и эти характеристические признаки, но только
отчасти и, так сказать, случайно. Можно даже сказать, что это
сходство в физическом характере никогда не распространяется на целые
части света, за единственным разве исключением Новой Голландии,
сравнительно небольшой. Итак, деление это — очевидно,
искусственное, при установлении которого принимались в расчет, собственно,
только граничные очертания воды и суши, и хотя различие между
водой и сушей весьма существенно не только в применении к нуждам
человека, но и само по себе, однако же водным пространством
разделяются весьма часто такие части суши, которые составляют по всем
естественным признакам одно физическое целое, и наоборот, части
совершенно разнородные часто спаиваются материковой
непрерывностью. Так, например, Крымский полуостров (окруженный со всех
сторон водой, кроме узкого Перекопского перешейка) не представляет,
однако, однородного физического целого; спаянный с крымской степью
южный берег составляет нечто гораздо более от нее отличное, чем
крымская степь от прочих степей южной России (совершенно однородных
с первой, несмотря на то, что она почти совершенно отделена от них
морем). Ежели бы с начала исторических времен у берегов Азовского
и у северных берегов Черного моря происходило медленное поднятие
почвы, подобное замечаемому у берегов Швеции, то Крым давно бы
уже потерял характер полуострова и слился бы с прилегающей к нему
степью; различие же между южным берегом и остальной частью Крыма
запечатлено неизгладимыми чертами. То же самое можно во многих
случаях сказать о частях света, которые, в сущности, не что иное, как
огромные острова или полуострова (точнее бы было сказать, почти
острова, переводя это слово не с немецкого, а с французского). Это суть
понятия более или менее искусственные и в этом качестве не могут
иметь притязании на какой-либо им исключительно свойственный
характер. Когда мы говорим «азиатский тип», то разумеем собственно
тип, свойственный среднеазиатской, пересеченной горными хребтами,
Россия и Европа
347
плоской возвышенности, под который вовсе не подходят ни
индийский, ни малоазийский, ни сибирский, ни аравийский, ни китайский
типы. Точно так же, говоря о типе африканском, мы имели в виду
собственно характер, свойственный Сагарской степи, который никак
не распространяется на мыс Доброй Надежды, остров Мадагаскар или
прибрежье Средиземного моря, но к которому, напротив того, весьма
хорошо подходит тип Аравии. Собственно говоря, подобные
выражения суть метафоры, которыми мы присваиваем целому характер
отдельной его части.
Но может ли быть признано за Европой значение части света, даже
в смысле искусственного деления, основанного единственно на
расчленении моря и суши, на взаимно ограничивающих друг друга
очертаниях жидкого и твердого? Америка есть остров; Австралия — остров;
Африка — почти остров; Азия вместе с Европой также будет почти
островом. С какой же стати это цельное тело, — этот огромный кусок
суши, как и все прочие куски, окруженный со всех или почти со всех
сторон водой, — разделять на две части на основании совершенно
иного принципа? Положена ли тут природой какая-нибудь граница?
Уральский хребет занимает около половины этой границы. Но какие же
имеет он особые качества для того, чтобы изо всех хребтов земного шара
одному ему присваивать честь служить границею между двумя
частями света, — честь, которая во всех прочих случаях признается только
за океанами и редко за морями? Хребет этот по вышине своей — один
из ничтожнейших, по переходимости — один из удобнейших; в средней
его части, около Екатеринбурга, переваливают через него, как через
знаменитую Алаунскую плоскую возвышенность и Валдайские горы,
спрашивая у ямщика: «Да где же, братец, горы?» Если Урал разделяет
две части света, то что же отделять после того Альпам, Кавказу или
Гималаям? Ежели Урал обращает Европу в часть света, то почему же
не считать за часть света Индию? Ведь и она с двух сторон окружена
морем, а с третьей — горами (не Уралу чета); да и всяких физических
отличий (от сопредельной части Азии) в Индии гораздо больше, чем
в Европе. Но хребет Уральский, по крайней мере, — нечто; далее же
честь служить границей двух миров падает на реку Урал, которая
уже совершенное ничто. Узенькая речка, при устье в четверть Невы
шириной, с совершенно одинаковыми по ту и по другую сторону
берегами. Особенно известно за ней только то, что она очень рыбна,
но трудно понять, что общего в рыбности с честью разграничивать две
части света. Где нет действительной границы, там можно выбирать
их тысячу. Так и тут: обязанность служить границею Азии с Европой
возлагалась, вместо Урала, то на Волгу, то на Волгу, Сарпу и Маныч,
то на Волгу с Доном; почему же не Западную Двину и Днепр, как бы
348
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
желали поляки, или на Вислу и Днестр, как поляки бы не желали?
Можно ухитриться и на Обь перенести границу. На это можно сказать
только то, что настоящей границы нет; а впрочем, как кому угодно:
ни в том, ни в другом, ни в третьем, ни в четвертом, ни в пятом — нет
никакого основания, но также нет никому никакой обиды. Говорят,
что природа Европы имеет свой отдельный, даже противоположный
азиатскому тип. Да как же части разнородного целого и не иметь своих
особенностей? Разве у Индии и у Сибири одинаковый тип? Вот если б
Азия имела общий однородный характер, а из всех ее многочисленных
членов только одна Европа — другой, от него отличный, тогда бы другое
дело; возражение имело бы смысл.
Дело в том, что когда разделение Старого Света на три части
входило в употребление, оно имело резкое и определенное значение в том
именно смысле больших, разделенных морями, материковых масс,
которое составляет единственную характеристическую черту,
определяющую понятие о части света. Что лежало к северу от известного
древним моря55 — получило название Европы, что к югу — Африки,
что к востоку — Азии. Само слово Азия первоначально относилось
греками к их первобытной родине — к стране, лежащей у северной
подошвы Кавказа, где, по преданиям, был прикован к скале
мифический Прометей, мать или жена которого называлась Азия; отсюда
это название перенеслось переселенцами на полуостров, известный
под именем Малой Азии, а потом распространилось на целую часть
света, лежащую к востоку от Средиземного моря*. Когда очертания
материков стали хорошо известны, отделение Африки от Европы
и Азии действительно подтвердилось; разделение же Азии от Европы
* Вот что говорит об этом предмете знаменитый путешественник Дюбуа де Монпере:
«Все это доказывает, что была прикавказская страна, носившая название Азии.
В самом деле, откуда это древнее и странное разграничение Европы от Азии,
отделяемой Танаисом (странное, конечно, но все-таки менее странное, чем
разграничение Уралом. — Н.Д.) если бы не было к северу от Кавказа страны,
называемой Азией ».
«Доказано также, что Страбон разумел под Азией особую страну около Синдики
(части Таманского полуострова. — Н.Д.) — Азию в собственном смысле этого
слова, и что всегда в этом именно смысле принимает он это название, описывая
берега Меотийского моря (то есть Азовского моря. — Н.Д.). Любопытно
заметить, что по-гречески asij означает ил, который река несет с собой и осаждает,
"asioj", "asia" — илистый, топкий, как берега устьев реки, — название, которое
так хорошо применимо к устьям Кубани, на которые распространялась Азия
в собственном смысле. Из собственной Азии вышли асканазы-гомериты Малой
Азии, девкалиониды, дарданиды и проч. Вероятно, что асканазы в своих
переселениях принесли с собой название своей родины, которое было таким образом
пересажено в Малую Азию и там укоренилось, чтобы распространиться на целую
часть света».
Россия и Европа
349
оказалось несостоятельным, но такова уже сила привычки, таково
уважение к издавна утвердившимся понятиям, что, дабы не нарушить
их, стали отыскивать разные граничные черты вместо того, чтоб
отбросить оказавшееся несостоятельным деление.
Итак, принадлежит ли Россия к Европе? Я уже ответил на этот
вопрос. Как угодно, пожалуй — принадлежит, пожалуй — не
принадлежит, пожалуй — принадлежит отчасти и притом насколько
кому желательно. В сущности же, в рассматриваемом теперь смысле,
и Европы вовсе никакой нет, а есть западный полуостров Азии,
вначале менее резко от нее отличающийся, чем другие азиатские
полуострова, а к оконечности постепенно все более и более дробящийся
и расчленяющийся.
Неужели же, однако, громкое слово «Европа» — слово без
определенного значения, пустой звук без определенного смысла? О, конечно,
нет! Смысл его очень полновесен, — только он не географический,
а культурно-исторический, и в вопросе о принадлежности или
непринадлежности к Европе география не имеет ни малейшего значения.
Что же такое Европа в этом культурно-историческом смысле? Ответ
на это — самый определенный и положительный. Европа есть
поприще германо-романской цивилизации — ни более ни менее; или,
по употребительному метафорическому способу выражения, Европа
есть сама германо-романская цивилизация. Оба эти слова — синонимы.
Но германо-романская ли только цивилизация совпадает со
значением слова Европа? Не переводится ли оно точнее «общечеловеческой
цивилизацией» или, по крайней мере, ее цветом?
Не на той же ли европейской почве возрастали цивилизации
греческая и римская? Нет, поприще этих цивилизаций было иное. То был
бассейн Средиземного моря — совершенно независимо от того, где
лежали страны этой древней цивилизации — к северу ли, к югу или
к востоку, на европейском, африканском или азиатском берегу этого
моря. Гомер, в котором, как в зеркале, заключалась вся (имевшая
впоследствии развиться) цивилизация Греции, родился, говорят,
на малоазиатском берегу Эгейского моря. Этот малоазиатский берег
с прилежащими островами был долго главным поприщем эллинской
цивилизации. Здесь зародилась не только эпическая поэзия греков,
но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот),
медицина (Гиппократ), и отсюда они перешли на противоположный
берег моря. Главным центром этой цивилизации сделались, правда,
потом Афины, но закончилась она и, так сказать, дала плод свой опять
не в европейской стране, а в Александрии, в Египте. Значит, древ-
неэллинская культура, совершая свое развитие, обошла все три так
называемые части света — Азию, Европу и Африку, а не составляла
350
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
исключительной принадлежности Европы. Не в ней она началась,
не в ней и закончилась.
Греки и римляне, противополагая свои образованные страны
странам варварским, включали в первое понятие одинаково и
европейские, [и] азиатские, и африканские прибрежья Средиземного
моря, а ко второму причисляли весь остальной мир, точно так же как
германо-романы противополагают Европу, т.е. место своей
деятельности, прочим странам. В культурно-историческом смысле то, что
для германо-романской цивилизации — Европа, тем для цивилизации
греческой и римской был весь бассейн Средиземного моря; и хотя есть
страны, которые общи им обеим, несправедливо было бы, однако же,
думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации
вообще или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только
поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним, и
только со времени развития этой цивилизации слово «Европа» получило
тот смысл и значение, в котором теперь употребляется.
Принадлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или
к удовольствию, к счастью или к несчастью — нет, не принадлежит.
Она не питалась ни одним из тех корней, которыми всасывала Европа
как благотворные, так и вредоносные соки непосредственно из почвы
ею же разрушенного Древнего мира, — не питалась и теми корнями,
которые почерпали пищу из глубины германского духа. Не составляла
она части возобновленной Римской империи Карла Великого, которая
составляет как бы общий ствол, через разделение которого образовалось
все многоветвистое европейское дерево56, — не входила в состав той
теократической федерации, которая заменила Карлову монархию, —
не связывалась в одно общее тело феодально-аристократической сетью,
которая (как во время Карла, так и во время своего рыцарского цвета)
не имела в себе почти ничего национального, а представляла собой
учреждение общеевропейское, в полном смысле этого слова. Затем,
когда настал новый век и зачался новый порядок вещей, Россия
также не участвовала в борьбе с феодальным насилием, которое привело
к обеспечениям той формы гражданской свободы, которую выработала
эта борьба; не боролась и с гнетом ложной формы христианства
(продуктом лжи, гордости и невежества, величающим себя католичеством)
и не имеет нужды в той форме религиозной свободы, которая
называется протестантством. Не знала Россия и гнета, а также и воспитательного
действия схоластики и не вырабатывала той свободы мысли, которая
создала новую науку; не жила теми идеалами, которые воплотились
в германо-романской форме искусства. Одним словом, она не при-
частна ни европейскому добру, ни европейскому злу; как же может
она принадлежать к Европе? Ни истинная скромность, ни истинная
Россия и Европа
351
гордость не позволяют России считаться Европой. Она не заслужила
этой чести и, если хочет заслужить иную, не должна изъявлять
претензии на ту, которая ей не принадлежит. Только выскочки, не знающие
ни скромности, ни благородной гордости, втираются в круг, который
считается ими за высший; понимающие же свое достоинство люди
остаются в своем кругу, не считая его (ни в каком случае) для себя
унизительным, а стараются его облагородить так, чтобы некому и
нечему было завидовать.
Но если Россия, скажут нам, не принадлежит к Европе по праву
рождения, она принадлежит к ней по праву усыновления; она
усвоила себе (или должна стараться усвоить) то, что выработала Европа;
она сделалась (или, по крайней мере, должна сделаться) участницей
в ее трудах, в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то не видим
родительских чувств Европы в ее отношениях к России; но дело
не в этом, а в том — возможно ли вообще такое усыновление? Возможно
ли, чтобы организм, столько времени питавшийся своими соками,
вытягиваемыми своими корнями из своей почвы, присосался сосальцами
к другому организму, дал высохнуть своим корням и из
самостоятельного растения сделался чужеядным? Если почва тоща, то есть если
недостает ей каких-либо необходимых для полного роста составных
частей, ее надо удобрить, доставить эти недостающие части,
разрыхлить глубокою пахотою те, которые уже в ней есть, чтобы они лучше
и легче усвоялись, а не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни.
Но об этом после. Мы увидим, может быть, насколько и в какой форме
возможно это усвоение чужого, а пока пусть будет так; если не по
рождению, то по усыновлению Россия сделалась Европой; к дичку привит
европейский черенок. Какую пользу приносит прививка, тоже увидим
после, но на время признаем превращение. В таком случае, конечно,
девизом нашим должно быть: Europaeus sum et nihil, europaei a me
alienum esse puto57.
Все европейские интересы должны сделаться и русскими. Надо быть
последовательным, надо признать европейские желания, европейские
стремления своими желаниями и стремлениями; надо жениться на них,
il faut les épouser, как весьма выразительно говорят французы. Будучи
Европой, можно, конечно, в том или другом быть не согласным в
отдельности с Германией, Францией, Англией, Италией; но с Европой,
то есть с самим собой, надо непременно быть согласным, надо отказаться
от всего, что Европа — вся Европа — единодушно считает несогласным
со своими видами и интересами, надо быть добросовестным,
последовательным принятому на себя званию.
Какую же роль предоставляет нам Европа на
всемирно-историческом театре? Быть носителем и распространителем европейской
352
Я. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
цивилизации на Востоке — вот она та возвышенная роль, которая
досталась нам в удел, — роль, в которой родная Европа будет нам
сочувствовать, содействовать своими благословениями, всеми пожеланиями
души своей, будет рукоплескать нашим цивилизаторским деяниям,
к великому услаждению и умилению наших гуманитарных
прогрессистов. С Богом, отправляйтесь на Восток! Но, позвольте, на какой же
это Восток? Мы было и думали начать с Турции. Чего же лучше? Там
живут наши братья по плоти и по духу, живут в муках и страданиях
и ждут избавления; мы подадим им руку помощи, как нам священный
долг повелевает. «Куда? не в свое дело не соваться!» — кричит Европа.
Это не ваш Восток, и так уже много развелось всякой славянщины,
которая мне не по нутру. Сюда направляется благородный немецкий
Drang nach dem Osten58 по немецкой реке Дунаю. Немцы кое-где умели
справиться со славянами, они и здесь получше вашего их объевропе-
изируют. К тому же Европа, которой так дорог священный принцип
национальностей, почла за благо отнять у немцев Италию, бывшую
и без них вполне Европой — настоящей, природной, а не усыновленной
или привитой какой-нибудь; почла за нужное дозволить вытеснить
Австрию из Германии — надо же чем-нибудь и бедных австрийских
немцев вкупе с мадьярами потешить: пусть себе европеизируют этот
Восток, а вы отправляйтесь дальше. Принялись мы также за Кавказ —
тоже ведь Восток. Очень маменька гневаться изволили: не трогайте,
кричала, рыцарей, паладинов свободы; вам ли браться за такое
благородное племя; ну да на этот раз, слава Богу, не послушали, забыли
свое европейское призвание. Ну так в Персии нельзя ли позаняться
разбрасыванием семян цивилизации и европеизма? Немцы, пожалуй,
и позволили бы: они так далеко своего «дранга» не думают, кажется,
простирать; но ведь дело известное, — «рука руку моет», — из
уважения к англичанам нельзя. Индию они уже на себя взяли; что и
говорить, отлично дело сделают, первого сорта цивилизаторы, на том уже
стоят. Нечего их тут по соседству тревожить, отправляйтесь дальше.
В Китай, что ли, прикажете? Ни-ни, вовсе незачем туда забираться;
чаю надо? — кантонского сколько хотите привезем. Цивилизация,
европеизация, как и всякое учительство, недаром ведь делается;
и гонорарии кое-какие получаются. Китай — страна богатая, есть чем
заплатить, сами поучим. И успехи, благодаря Бога, старинушка хоро-
и u КО
шие оказывает — индийский опиум на славу покуривает05*; не надо вас
здесь. Да где же, Господи, наш-то Восток, который нам на роду
написано цивилизовать? Средняя Азия — вот ваше место; «всяк сверчок знай
свой шесток». Нам ни с какого боку туда не пробраться, да и пожива
плохая. Ну так там и есть ваша священная историческая миссия — вот
что говорит Европа, а за нею и наши европейцы. Вот та великая роль,
Россия и Европа
353
которую сообразно с интересами Европы [уместно] нам предоставить,
и никакой больше: все остальное разобрано теми, которые почище,
как приказывает сказать Хлестакову повар в «Ревизоре».
Тысячу лет строиться, обливаясь потом и кровью, и составить
государство в восемьдесят миллионов (из коих шестьдесят — одного роду
и племени, чему, кроме Китая, мир не представлял и не представляет
другого примера) для того, чтобы потчевать европейской
цивилизацией пять или шесть миллионов кокандских, бухарских и хивинских
оборванцев, да, пожалуй, еще два-три миллиона монгольских
кочевников, — ибо таков настоящий смысл громкой фразы о распространении
цивилизации в глубь Азиатского материка. Вот то великое назначение,
та всемирно-историческая роль, которая предстоит России как
носительнице европейского просвещения. Нечего сказать — завидная роль:
стоило из-за этого жить, царство строить, государственную тяготу
нести, выносить крепостную долю, Петровскую реформу, бироновщину
и прочие эксперименты. Уж лучше было бы в виде древлян и полян,
вятичей и радимичей по степям и лесам скитаться, пользуясь
племенною волею, пока милостью Божьей ноги носят. «Parturiunt montes,
nascitur ridikulus mus»59. Поистине, горою, рождающей мышь, —
каким-то громадным историческим плеоназмом, чем-то гигантски
лишним является наша Россия в качестве носительницы европейской
цивилизации.
Зачем с такой узкой точки зрения смотреть на предмет, скажут
мне? Под распространением цивилизации и европеизма на Востоке
надобно разуметь не только внесение этих благ в среднеазиатские
степи, но и усвоение их себе, разлитие их по лицу всей обширной русской
земли. Пусть же так думающие поднапрягут несколько свою
фантазию и представят себе, что на всем этом обширном пространстве нет
могучего русского народа и созданного им царства, а раздолье лесов,
вод и степей, по которым бродят только финские звероловы: зыряне,
вогуличи, черемисы, мордва, весь, меря да татарские кочевники,
и пусть в таком виде открывают эту страну настоящие европейские
цивилизаторы (ну, хоть Ченслер и Вилоуби, например). Сердце должно
забиться восторгом от такой картины у настоящего европейца. Вместо
сынов противления, которым обухом приходилось прививать европеизм
(и все еще дело плохо на лад идет), сюда нахлынули бы поселенцы чисто
германской крови, без сомнения, под водительством благороднейшей
из самих германских — англо-саксонской расы. Ведь тут бы на просторе
завелись восточноевропейские, или западноазиатские, — называйте
как хотите, — соединенные штаты. Цивилизация полилась бы волною,
и к нашему времени все обстояло бы давным-давно благополучно.
Каналов было бы невесть сколько накопано, железных дорог десятки
354
Я. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
тысяч верст настроено, о телеграфах и говорить нечего; на Волге, что
на Миссисипи, не сотни, а тысячи бы пароходов плавало; да на
одной ли только Волге! — и Дон был бы сделан как надо судоходным,
и Днепровские пороги — взорваны, что ли, или прорыты; и какой бы
славный jar East60 открывался в дальней перспективе. А спичей-то,
спичей лилось бы, я думаю, в самом маленьком штате (в каком-нибудь
на Неве или даже на Москве лежащем Мери или Бетсилэнде) более,
чем на всех теперешних земских и дворянских собраниях, вместе
взятых. Общины, ненавистной высокопросвещенному уму, и в помине
не было бы и пр., и пр. Несомненно, что общечеловеческая
цивилизация, — если только европейская есть действительно единственно
возможная цивилизация для всего человечества, — неизмеримо бы
выиграла, если бы, вместо славянского царства и славянского народа,
занимающего теперь Россию, было тут (четыре или три века тому
назад) пустопорожнее пространство, по которому изредка бы бродили
кое-какие дикари, как в Соединенных Штатах или в Канаде при
открытии их европейцами.
Итак, при нашей уступке, что Россия если не прирожденная,
то усыновленная Европа, мы приходим к тому заключению, что она —
не только гигантски лишний, громадный исторический плеоназм,
но даже положительное, весьма трудно преодолимое препятствие
к развитию и распространению настоящей общечеловеческой, т.е.
европейской, или германо-романской, цивилизации. Этого взгляда,
собственно, и держится Европа относительно России. Этот взгляд,
выраженный здесь только в несколько резкой форме, в сущности,
очень распространен и между корифеями нашего общественного
мнения и их просвещенными последователями. С такой точки зрения
становится понятным (и не только понятным, а в некотором смысле
законным и, пожалуй, благородным) сочувствие и стремление ко всему,
что клонится к ослаблению русского начала по окраинам России, —
к обособлению (даже насильственному) разных краев, в которых, кроме
русского, существуют какие бы то ни было инородческие элементы,
к покровительству, к усилению (даже искусственному) этих элементов
и к доставлению им привилегированного положения в ущерб
русскому. Если Русь, в смысле самобытного славянского государства, есть
препятствие делу европеизма и гуманитарности и если нельзя
притом, к сожалению, обратить ее в tabula rasa для скорейшего развития
на ее месте истинной европейской культуры, pur sang61, то что же
остается делать, как не ослаблять то народное начало, которое дает
силу и крепость этому общественному и политическому организму?
Это жертва на священный алтарь Европы и человечества. Не эта ли
возвышенная и благородная любовь к человечеству, чуждая всякого
Россия и Европа
355
народного эгоизма и национальной узкости взгляда, возведена в идеал
в маркизе Поза, этом идеальном создании Шиллера62, перед которым
мы с детства привыкли благоговеть? Будучи природным испанцем,
ведь странствовал же благородный маркиз по Европе, отыскивая
врагов своему отечеству, которое считал препятствием для свободы
и благоденствия человечества, и даже Солимана уговаривал выслать
турецкий флот против Испании. Такая аберрация, такое искажение
естественного человеческого чувства на основании логического
вывода, конечно, более извинительно в немецком поэте конца прошедшего
столетия, чем в ком-нибудь другом. Ведь он, родившись в каком-нибудь
Вюртемберге, собственно говоря, не имел отечества и не приобрел
его до тех пор, пока в лице Валленштейна63 не сознал, что это
отечество — целая Германия. Но и такое отечество только постигалось
мыслью, а не непосредственным чувством. Русскому такое состояние
духа должно бы быть менее возможно, но и оно объясняется тем же
не находящим себе примирения противоречием между народным
чувством и идеей о возвышенности пожертвования низшим для
высшего и, хотя в искаженном виде, выказывает черту чисто славянского
бескорыстия, так сказать, порок славянской добродетели. Этим
объясняется и то, что русский патриотизм проявляется только в критические
минуты. Победа односторонней идеи над чувством бывает возможна
только при спокойном состоянии духа; но коль скоро что-либо
приводит народное чувство в возбужденное состояние, логический вывод
теряет перед ним всякую силу и бывший гуманитарный прогрессист,
поклонник [маркиза] Позы, становится на время настоящим
патриотом. Такие вспышки патриотизма не могут, конечно, заменить
сознательного, находящегося в мире с самим собою чувства народности,
и понятным становится, что страны, присоединенные к России после
Петра, не русеют, несмотря ни на желания правительства достигнуть
этого, ни на бесконечно усилившиеся средства его действовать на
народ, между тем как в старину все приобретения без всякого насилия,
которое не было ни в духе правительства, ни вообще в духе русского
народа, быстро обращались в чисто русские области.
Столь же непримиримым с самим собою (более сочувственным,
но зато гораздо менее логическим) представляется другой взгляд,
получивший такое [широкое] распространение в последнее время.
Он признает бесконечное во всем превосходство европейского перед
русским и непоколебимо верует в единую спасительную европейскую
Цивилизацию; всякую мысль о возможности иной цивилизации
считает даже нелепым мечтанием, а между тем, однако, отрекается от всех
логических последствий такого взгляда; желает внешней силы и
крепости без внутреннего содержания, которое ее оправдывало бы, — желает
356
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
свища с крепкою скорлупою. Здесь, очевидно, народное чувство
пересилило логический вывод, и потому-то этот взгляд более сочувствен.
Народное чувство, конечно, не имеет нужды ни в каком логическом
оправдании; оно, как всякое естественное человеческое чувство, само
себя оправдывает и потому всегда сочувственно; но тем не менее жалка
доля того народа, который принужден только им довольствоваться,
который как бы принужден, если не говорить, так думать: я люблю
свое Отечество, но должен сознаться, что проку в нем никакого нет.
Под таким внешним политическим патриотизмом кроется горькое
сомнение в самом себе, кроется сознание жалкого банкротства.
Он как бы говорит себе: я ничего не стою; в меня надобно вложить
силу и вдунуть дух извне, с Запада; меня надобно притянуть к нему,
насильно в него втиснуть, — авось выйдет что-нибудь вылепленное
по той форме, которая одна достойна человечества, которая
исчерпывает все его содержание. В нашей литературе с лишком тридцать лет
тому назад появилась журнальная статья покойного Чаадаева,
которая в свое время наделала много шума64. В ней выражалось горькое
сожаление о том, что Россия вследствие особенностей своей истории
была лишена тех начал (как, например, католицизма), из развития
которых Европа сделалась тем, что она есть. Соболезнуя об этом,
автор отчаивается в будущности своего отечества, не видя и не понимая
ничего вне европеизма. Статья эта имела на своей стороне огромное
преимущество внутренней искренности. В сущности, то же горькое
сознание лежит и в основе нашего новейшего, чисто внешнего
политического патриотизма; он только менее искренен сам с собой, менее
последователен, — надеется собирать там, где не сеял. Если в самом
деле европеизм заключает в себе все живое, что только есть в
человечестве, — столь же всесторонен, как и оно, в сущности, тожествен
с ним; если все, что не подходит под его формулу, — ложь и гниль,
предназначенные на ничтожество и погибель, как все неразумное,
то не надобно ли скорей покончить со всем, что держится на иной
почве своими корнями? К чему заботиться о скорлупе, не заключающей
в себе здорового ядра, — особенно ж к чему стараться о придании
большей и большей твердости этой скорлупе? Крепкая внешность
сохраняет внутреннее содержание; всякая твердая, плотная,
компактная масса труднее подвергается внешнему влиянию, не пропускает
животворных лучей света, теплоты и оплодотворяющей влажности.
Если внешнее влияние благотворно, то не лучше ли, не сообразнее ли
с целью широко открыть ему пути, — расшатать связь, сплачивающую
массу, дать простор действовать чуждым, посторонним элементам
высшего порядка, вошедшим, по счастью, кое-где в состав этой
массы? Не скорее ли проникнется через это и вся масса влиянием этих
Россия и Европа
357
благодетельных элементов? Не скорее ли, в самом деле,
проникнется европеизмом, очеловечится вся Русь, когда ее окраины примут
европейский склад, — благо в них есть уже европейские дрожжи,
которые — только не мешайте им — скоро приведут эти окраины
в благодетельное брожение. Это брожение не преминет передаться
остальной массе и разложить все, что в ней есть варварского,
азиатского, восточного; одно чисто западное останется. Конечно, все
это произойдет в том только случае, когда в народных организмах
возможны такие химические замещения, но в такой возможности ведь
не сомневается просвещенный политический патриотизм. Зачем же
мешать благодетельному химическому процессу? Corpora non aguntnisi
fluida65. Если бы, например, политический организм Римской
империи сохранил свою крепость, то разве могли бы вошедшие в состав
его народы подвергнуться благодетельному влиянию германизма?
Нет, как хотите: г. Шедо-Ферроти прав66. Справедливо также и
название ультрарусской партии, придаваемое такому чисто внешнему
политическому патриотизму. Если Русь есть Русь, то, конечно,
смешно говорить о русской партии в этой Руси. Но если Русь есть вместе
с тем и Европа, то почему же не быть в ней русской, и европейской,
и ультрарусской, и ультраевропейской партии? Отчего же, однако,
нет чего-либо подобного в других государствах, — отчего не может
быть, например, ультрафранцузской партии во Франции? Оттого, что
Франция есть вместе с тем и настоящая Европа, что существенного
противоречия между интересами Франции и интересами Европы
быть не может, как и не может его быть (в нормальном положении
вещей, по крайней мере) между целым и его частью. Но в некоторых
исключительных обстоятельствах и это, однако же, может
случиться. Так, при Наполеоне I была партия, обнимавшая собою почти
всех французов, которая желала поработить Европу; так и теперь
есть партия, которая желает присоединить Бельгию и вообще левый
берег Рейна. Такая партия может быть названа ультрафранцузскою,
в противоположность партии европейской, не желающей этих
захватов. Но Россия, по мнению Европы, не составляет плоти от плоти ее
и кости от костей ее. По мнению самих русских европейцев, Россия
только еще стремится сделаться Европой, заслужить ее
усыновление. Не вправе ли Европа сказать им: «Если вы истинно хотите
быть Европой, зачем же вам противодействовать германизации
Балтийского края, — вы еще только хотите сделаться европейцами
(и я не знаю, как это вам удастся), а вот тут уже есть настоящие
природные европейские деятели, — зачем же вы хотите остановить их
действия во благо Европы, а следовательно, и человечества? Значит,
слова ваши неискренни; вы свои частные русские интересы ставите
358
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
выше европейских, — вы, значит, ультрарусская партия». То же самое
могут сказать и по отношению к западным губерниям, и по многим
другим вопросам. Противоположность интересов, которая временно
возникает между Европой и Францией, — между Россией и Европой
постоянна, по крайней мере, во мнении самой Европы. Не вправе ли
после этого Европа в стране, имеющей претензию на принадлежность
к Европе, называть ультрарусской ту партию, которая, разделяя эту
претензию, не хочет вместе с тем подчинять частных русских
интересов интересам общеевропейским? Как примирить со всем этим
естественное и святое чувство народности, — не знаю; думаю, что
на почве чисто политического патриотизма примирение это вовсе
и немыслимо.
Чисто политический патриотизм возможен для Франции, Англии,
Италии, но невозможен для России, потому что Россия и эти
страны — единицы неодинакового порядка. Они суть только политические
единицы, составляющие части другой высшей культурно-исторической
единицы — Европы, к которой Россия не принадлежит по многим
и многим причинам, как постараюсь показать дальше. Если же —
наперекор истории, наперекор мнению и желанию самой Европы,
наперекор внутреннему сознанию и стремлениям своего народа — Россия
все-таки захочет причислиться к Европе, то ей, чтобы быть логической
и последовательной, ничего другого не остается, как отказаться от
самого политического патриотизма, от мысли о крепости, цельности и
единстве своего государственного организма, от обрусения своих окраин,
ибо эта твердость наружной скорлупы составляет только препятствие
к европеизации России. Европа, не признающая (как и естественно)
другого культурного начала, кроме германо-романской цивилизации,
так и смотрит на это дело. Наши шедо-ферротисты и вообще
гуманитарные прогрессисты, великодушничая а 1а Поза, разделяют этот же
взгляд, хотя (к извинению их, должно полагать) и не совсем
сознательно; только наши политические патриоты, желая результатов, отвергают
(к чести их народного чувства, но не их логики) пути, ведущие к ним
самым скорым, легким и верным образом.
Где же искать примирения между русским народным чувством
и признаваемыми разумом требованиями человеческого преуспеяния
или прогресса? Неужели в славянофильской мечте, в так
называемом учении об особой русской, или всеславянской, цивилизации,
над которым все так долго глумились, над которым продолжают
глумиться и теперь, хотя уже и не все? Разве Европой не выработано
окончательной формы человеческой культуры, которую остается
только распространять по лицу земли, чтоб осчастливить все
племена и народы? Разве не пройдены все переходные фазисы развития
Россия и Европа
359
общечеловеческой жизни и поток всемирно-исторического прогресса,
столько раз скрывавшийся в подземные пропасти и
низвергавшийся водопадами, не вступил, наконец, в правильное русло, которым
остается ему течь до скончания веков, наполняя все народы и
поколения, увлажняя и оплодотворяя все страны земли? Несмотря на всю
странность такого взгляда, который в подтверждение свое не может
найти решительно ничего аналогического в природе (где все имеющее
начало имеет и конец, все исчерпывает наконец свое содержание),
таков, однако же, исторический догмат, в который верует огромное
большинство современного образованного человечества. Что в него
верует Европа — в этом нет ничего удивительного, это совершенно
сообразно с законами человеческого духа. Только та деятельность
плодотворна, то чувство искренне и сильно, которые не сомневаются
в самих себе и считают себя окончательными и вечными. Не считает ли
всякий истинный художник создаваемые им формы последним
словом искусства, далее которого уже не пойдут; не считает ли ученый,
вырабатывающий какую-нибудь теорию, что он сказывает
последнее слово науки, объясняет всю истину, — что после него, конечно,
будут пополняться частности, но данное им направление останется
навсегда неизменным? Не считает ли государственный муж, что
принятая им система должна навеки облагодетельствовать его страну?
Не считает ли, наконец, влюбленный, несмотря на знаменитый стих
«а вечно любить невозможно» и на опыт огромного большинства
людей, что его чувство составляет исключение и продлится в одинаковой
силе столько же, сколько сама жизнь? Без этой иллюзии ни истинно
великая деятельность, ни искреннее чувство невозможны. Рим
считался вечным, несмотря на то, что Мемфис, Вавилон, Тир, Карфаген,
Афины уже пали, и потому только казался он римлянам стоящим тех
жертв, которые для него приносились. Но и те, которые, собственно,
не могут претендовать на честь принадлежать к Европе, так ослеплены
блеском ее, что не понимают возможности прогресса вне
проложенного ею пути, хотя при сколько-нибудь пристальном взгляде нельзя
не видеть, что европейская цивилизация так же одностороння, как
и все на свете. Теперь поняли, что политические формы, выработанные
одним народом, собственно только для одного этого народа и годятся,
но не соглашаются распространить эту мысль и на прочие отправления
общественного организма.
Кроме только что упомянутого мной личного чувства, требующего
нескончаемости, есть еще причины, по которым мысль о возможности
возникновения иной цивилизации, кроме европейской, или германо-
романской, кажется более чем странной огромному большинству
образованных людей не только в самой Европе, но и между славянами.
360
H. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ
Причины эти заключаются, по моему мнению, главнейшее в неверном
понимании самых общих начал хода исторического процесса, — в
неясном, так сказать, туманном представлении исторического явления,
известного под именем прогресса, в неправильном понятии, которое
обыкновенно составляют себе об отношении национального к
общечеловеческому, и еще в одном предрассудочном понятии о характере
того, что называется Западом и Востоком, — понятии, принимаемом
за аксиому и потому не подвергаемом критике. Обращаюсь прежде
к этому предрассудку, хотя он далеко не имеет того значения, которое
я приписываю первым причинам. Это поможет нам несколько
расчистить почву под ногами, ибо весьма часто мы не принимаем какой-либо
истины не потому, чтобы вывод ее казался сам по себе сомнительным,
а потому, что он противоречит другим нашим убеждениям, этому
выводу, собственно, посторонним.
*
Н.Н.СТРАХОВ
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
I
Общий ход и характер спора
После долгого молчания, г. Тимирязев1 на мою статью «Всегдашняя
ошибка дарвинистов» (Русск. вестн. 1887 г., ноябрь и декабрь) отвечал
статьей «Бессильная злоба антидарвиниста» (Русск. мысль, 1889 г.,
май, июнь и июль). В этой обширной статье г. Тимирязев поставил
себе одною из главных целей подробно указать на все, что он нашел
обидного для себя в моей статье, а также разъяснить, что он понес все
эти обиды незаслуженно, следовательно по одной лишь моей ужасной
«злобе». Вот, например, как он выражается в самом конце, в виде общей
характеристики: «вся статья г. Страхова» — «переполнена потоками
брани и ничем не вызванных оскорблений» (июль, стр. 72). Подумайте
только, читатель: потоки брани и оскорблений!
Разумеется, мой противник не остался в долгу; он постарался
совершенно засыпать меня «бранью и оскорблениями», тщательно
доказывая, что я этого именно и стою.
Что же мне теперь делать? Обвинить г. Тимирязева в непомерной
обидчивости и горячности? Доказывать читателям, что я ничуть не
дышу злобой и веду дело добросовестно, а что мой противник — истинный
злодей, неистовый человек, который в ослеплении ярости все путает
и Бог знает в чем обвиняет меня?
Какая жалость! Наша полемика, по-видимому, грозит перейти
в простую личную перебранку. Не того я ожидал и не того имеют
право требовать от нас читатели. Вопросы, поставленные на решение
книгами Н.Я. Данилевского — «Россия и Европа» и «Дарвинизм»,
так важны, что к ним не может оставаться равнодушным ни один
русский образованный человек. Полемика из-за этих книг была
неизбежна; но каким же образом случилось, что она пришла теперь в такое
плачевнейшее состояние? Какой грех нас попутал? Мне кажется, что
об этом стоит немножко подумать.
362
H. H. СТРАХОВ
Вспоминая теперь весь ход этого дела, я вижу, что оно с самого
начала пошло неправильно. Уже первые мои ожидания были жестоко
обмануты. Когда, вот уже скоро три года тому назад, я узнал, что
против «Дарвинизма» читал лекцию г. Тимирязев, а также, когда
потом Вл. С. Соловьев известил меня, что он пишет против «России
и Европы», то первое чувство мое, и в том и в другом случае, была
наивная радость, что дорогая мне книга встретила такого
достойного противника, имеющего право и возможность серьезно вести
это дело. Но потом мне пришлось горько пожалеть. Оба
противника, как оказалось, сочли ниже своего достоинства рассматривать
вопросы, поставленные Н.Я. Данилевским. Совершенно не
соглашаясь с его взглядами, они опровергали его очень просто, —
доказывали, что он вовсе не имеет права судить о предметах, о которых
писал. А именно, один из критиков доказывал «малое знакомство
Данилевского с данными истории и филологии», а другой настаивал
на его «дилетантизме» в естественных науках, и особенно на
недостатке логики.
Таким образом, уже с начала спора, можно сказать,
устранялись самые вопросы, поставленные на обсуждение. Критики вовсе
и не думали исполнить обязанностей, на которые им указывало
содержание опровергаемых книг. «Россия и Европа» есть взгляд
на всемирную историю, основанный на начале национальности.
Следовательно, для опровержения, критик обязан был рассмотреть,
какую роль играет национальность во всемирной истории, и
показать, что это не та роль, какую приписывает этому началу автор
книги. «Дарвинизм» есть полное и связное опровержение теории
Дарвина. Следовательно, критик, восставший на эту книгу, обязан
был вообще рассмотреть, какую силу имеют возражения, до сих
пор возбуждаемые теорией Дарвина, и показать, что они не имеют
той решительной силы, какую им приписывает Данилевский. Вот
те задачи, которые предстояли опровергателям, и без выполнения
которых не может выйти никакого действительного
опровержения. Если бы дело шло даже о слабых книгах, дурно развивающих
свои основные мысли, то и это не изменяло бы задачи их
противников. Критик, желающий опровергнуть какую-нибудь мысль,
должен во всяком случае рассматривать ее в ее строгом и полном
виде, и никак не имеет права отвергать ее на основании только
промахов и недостатков, с какими она явилась у автора. Но книги
Н.Я. Данилевского не слабые, а превосходные; они так глубоко
обдуманы, так ясно и отчетливо развивают мысли, положенные
в их основание, что нельзя не подивиться тому пренебрежению, какое
показали к этим книгам критики. Ни г. Тимирязев, ни г. Соловьев
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
363
не увидели для себя в них серьезной задачи; они посмотрели на них
высокомерно, почти как на какие-то дикие явления, как на создания
нашего невежества и отсталости от Европы, достойные разве только
негодования, а не опровержения*.
На их громкие статьи я постарался возразить как можно тверже и
обстоятельнее. Но тогда вышло еще хуже. И г. Соловьев, и г. Тимирязев
оба отвечали мне с непомерною горячностью, но оба при этом уже
совершенно ушли от предмета спора, то есть от книг Данилевского.
Они, очевидно, отвечали только мне и защищали только себя. Они
остановились на порицаниях, которые им послышались, или которые
им действительно высказаны в моих статьях; они доказывали
ложность и неосновательность этих порицаний, а вместе анализировали
некоторые нравственные мои недостатки, например, равнодушие
к истине, злобу, беззастенчивость и т.д. О книгах же Данилевского
упоминалось лишь вскользь и мимоходом.
Между тем, по совести, статьи мои своим содержанием могли дать
повод к лучшим ответам. В статье «Всегдашняя ошибка» я старался
дать читателям законченное и связное опровержение теории Дарвина,
сделанное по руководству книги Н.Я. Данилевского. Статья «Наша
культура» есть также связный и законченный комментарий на книгу
«Россия и Европа». Худо или хорошо это выполнено — другой
вопрос; но я воспользовался возражениями, чтобы разъяснять самую
существенную сторону дела, и потому имел право надеяться, что мои
противники тоже не станут отступать от предмета.
Но вот мне и скажут: зачем же вы вели полемику в таком
горячем тоне, что ваши противники раздражались и забыли предмет
* Как на пример более правильного отношения, можно с удовольствием указать
на статью г. Кареева «Теория культурно-исторических типов» (Русск. мысль,
1889, сент.). Мы говорим не о достоинстве содержания, а о правильности
общего приема статьи. Тут, по крайней мере, автор взглядам Данилевского ясно
противопоставляет свои собственные взгляды на ход истории. В заключение он,
однако же, признает, что вообще «Данилевский совершенно основательно
вооружился против обычного построения всемирной истории и высказал по этому
поводу много верных замечаний» (стр. 19) и что «теория культурно-исторических
типов не лишена, конечно, многих верных мыслей» (стр. 32). Суждение
критика, полагаем, было бы еще благосклоннее, если бы он перестал подозревать
везде «субъективность» Данилевского и не смотрел бы с таким ужасом на всякое
«славянофильство». Не могу не пожалеть также, что автор не обратил внимания
на мои статьи «Наша культура и всемирное единство» (Русск. вестн. 1888, июнь)
и «Последний ответ г. Вл. Соловьеву» (Русск. вестн. 1889, февр.), где уже
устранены, как мне думается, иные возражения, выставляемые им теперь. Остальные
также, надеюсь, возможно или устранить, или согласовать с теориею типов. Все
дело зависит от более точной и ясной постановки понятий, и правильный спор
может только содействовать такой постановке.
364
H. H. СТРАХОВ
спора? Не вы ли сами испортили дело? Этот упрек, я думаю, не вовсе
лишен основания; постараюсь хоть сколько-нибудь извинить себя
перед читателями. Такие случаи, как лекция г. Тимирязева и
переход г. Вл. Соловьева в западнический лагерь, не могли не возбудить
во мне большого беспокойства и огорчения. Что такое была лекция
г. Тимирязева? Он, в моей статье, той самой статье, которую иные
ставили даже в пример вежливой полемики, открыл целые «потоки брани
и оскорблений». Из этого читатели могут только видеть, как обидны
бывают возражения, как больно может действовать даже легкая ирония,
или простое возвышение тона. Но если так, то лекцию г. Тимирязева
мы имеем право назвать неизмеримо более бранчивою и
оскорбительною, чем моя статья. Эта лекция была резким и презрительным
порицанием. И против кого оно было направлено? Г. Тимирязев, в
последней своей статье, извиняет «страстность» своей полемики тем, что
он защищал Дарвина, которого «личность не была ему вполне чуждой»
(июль, стр. 73). Но если так, то мое огорчение за Данилевского имело
в тысячу раз больше оснований. Разве Дарвин подвергался какой-
нибудь опасности? Разве нужны были какие-нибудь усилия, чтобы
спасти его книги и теории от погибели и забвения? Между тем книге
Данилевского грозила именно эта крайняя беда; могло случиться, что
превосходный труд будет оставлен вовсе без внимания, пройдет
незамеченным; лекция г. Тимирязева, очевидно, внушала слушателям,
что этою книгою нимало не стоить заниматься. Тут было из-за чего
бояться и волноваться.
Нечто подобное испытал я и при появлении статьи г. Вл. Соловьева,
которое как раз совпало с выходом нового издания «России и Европы».
И для этой книги, хотя уже выдержавшей мучительный
пятнадцатилетний искус первого издания, тоже была некоторая опасность.
А то обстоятельство, что при этом случае г. Вл. Соловьев примкнул
к западническому лагерю, удесятеряло мое огорчение. Мои
противники, вероятно, меньше бы на меня гневались, если бы сами
хорошенько знали, до какой степени выгодно их положение в этом лагере,
как они страшны в своей позиции для явлений, подобных книгам
Данилевского. И они, конечно, не догадываются, к чему приводят
их действия, когда они из этой позиции с такою легкостью
привлекают к себе общее внимание и возбуждают восторги. Но уже многие
годы печальный ход этого дела для меня ясен, и если я был резок,
то потому, что меня как будто толкнули в давно наболевшую рану.
Когда наши писатели начинают ссылаться на авторитет Запада, когда
раздаются, как у моих противников, речи о «лучших умах Европы»,
о «могучем движении европейской науки», о «гигантах научной
мысли», то я не могу слышать этого равнодушно, ибо хорошо понимаю,
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
365
как это действует. Я знаю, что и юноши, и старики, и женщины вдруг
шалеют от этих речей, что в их глазах начинает ходить светлый туман,
что они теряют способность что-нибудь ясно видеть и правильно
понимать. Тогда их можно уверить, что на Западе скоро, очень скоро,
завтра же, сбудутся самые лучшие чаяния нашего сердца и разрешатся
самые высокие запросы нашего ума. О России же, если вы скажете,
что ее история не имеет никакого содержания, что ее религия была
и есть одно суеверие, что у нас нет ни единого здравого общественного
начала, что русские даже не способны иметь ум и совесть, а всегда
имели и теперь имеют одну подлость, — то такие речи будут приняты
с истинным восторгом.
Вот почему писатели, вздумавшие играть на этих струнах, так
глубоко меня возмущают. Дело тут не в «узком патриотизме», а в жестоком
вреде, который происходит от этого ошаления, от действительного
ослепления, находящего на умы. Разве эти западники и все эти за-
падничествующие имеют ясные понятия о Западе? Да обыкновенно
они пропускают мимо лучшие его сокровища, и для них бывает
чуждо самое великое и глубокое, чего там достигла душа человеческая.
Они ведь бросаются лишь на то, что там популярно, на репутации,
созданные без умолку кричащею и как море разливающеюся
прессою, которая живет лишь настоящею минутою, все преувеличивает
и ни во что не углубляется. Они безусловно верят в прогресс Запада
и, хватаясь за то, что там шумит и проповедывается в последнюю
минуту, ничего не знают о смысле этих явлений, ибо не знают долгой
и многообразной жизни, которая их породила. Так и выходит, что
они не умеют различать там дурного от хорошего и принимают падение
за успех, остановку за развитие, болезнь и гниение за жизненное
процветание. Чтобы понимать и ценить Запад, нужен большой и долгий
труд, и, конечно, прежде всего не нужно быть западником. Не думает ли
г. Вл. Соловьев, что своими статьями «Из истории русского сознания»,
в которых он преимущественно доказывает, что никакого «сознания»
у нас не было, он возбудит внимание читателей к религиозной жизни
Запада? Если так, то, по моему мнению, он очень ошибается; он этими
статьями только плодит поклонников Конта и Спенсера.
Ослепление, производимое западничеством, еще плачевнее,
когда дело идет о явлениях русской умственной жизни. Эти явления
не возбуждают у нас и сотой доли того внимания, каким окружены
иностранные. Когда у нас кто-нибудь желает блистать ученостью,
то разукрашивает свою книгу или статью всякими иностранными
именами, между которыми и посредственности идут за знаменитостей,
но ни за что не сошлется на русскую книгу. Русскому ученому, чтобы
приобрести известность, нужно печататься на иностранных языках,
366
H. H. СТРАХОВ
ехать в Париж или Берлин и там добывать себе признание*. Нашу
изящную литературу мы стали как следует уважать только с тех пор, как
ее превозносят французы, горячо желающие союза с Россией и потому
принявшиеся читать переводы с русского. А если дело идет о
мыслителях, то самобытные и новые взгляды наша просвещенная публика
встречает не одним невниманием, а прямо гонением. Нужны десятки
лет, чтобы иная прекрасная книга пробила себе дорогу среди людей,
воображающих, что они умеют думать и вести себя по-европейски.
Упорное замалчивание, брань и насмешки, гнусные обвинения — вот
чем долгие годы сопровождается имя писателя, достойного чести и
внимания. И русский юноша, в порыве того неопределенного энтузиазма,
который он не знает куда приложить, с презрением отталкивает книгу,
в которой мог бы найти великое поучение. Так было с славянофилами,
с учением которых до сих пор связана дурная слава, созданная ему
бесконечными нападками. Так было с Аполлоном Григорьевым, так было
и с книгою «Россия и Европа». Нужна бодрость и вера, чтобы писать
при таком порядке дел. Но проходят годы, и терпеливый писатель
наконец умирает; не грустно ли подумать, что до самого конца он ни разу
не был утешен отрадной мыслью, что на его любимые взгляды и долгие
труды обращено общее внимание? Так умер Н. Я. Данилевский.
Не простят ли мне теперь читатели, что на лекцию г. Тимирязева
и на статью г. Вл. Соловьева я был не в силах отвечать благодушными
рассуждениями, или же таким хладнокровным порицанием, которое
было бы несравненно сильнее всякой горячности?
II
Отвечать мне не на что, как я уже сказал, потому что мои противники
ушли от предмета спора**. Но, может быть, читатель пожелает узнать,
как же они сделали это уклонение и как они меня бранят? Вопросы
эти не очень важные, и я постараюсь быть кратким.
* Хотя я считал себя знатоком по части нашего идолопоклонства, но, по случаю
настоящего спора, обнаружился факт, который был для меня неожиданностью
и до сих пор продолжает удивлять меня. Оказалось, что у нас существует такое
«благоговение» к Дарвину, при котором тон книги Н.Я. Данилевского
выходит неприличным, оскорбительным. В этом отношении г. Фаминцын согласен
с г. Тимирязевым. Что тут делать? Тон свободного человека, который спокойно
и противоречит, и шутит, и соглашается, всегда составляет великую обиду для
суеверного поклонения.
* Прошу припомнить, что и в статье «Последний ответ» (Русский вестник 1889 г.,
февр.) я, собственно, не отвечал г. Вл. Соловьеву, а воспользовался его статьею
только для того, чтобы разъяснить некоторые недоразумения относительно книги
«Россия и Европа».
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
367
В ответной своей статье г. Вл. Соловьев среди других обвинений
и порицаний высказал такое: «о самых существенных моих
возражениях искусный критик старательно умолчал» (Вестник Евр. 1889,
янв., стр. 368). Казалось бы, это есть самый существенный упрек моей
статье. Но так как мой противник высказал его мимоходом, не пояснил
ни единым словом и больше к нему не возвращался, то спорить против
такого голословного заявления было невозможно; да я и не мог
догадаться, о чем идет речь. Мало ли что может показаться существенным?
Опровергаемому автору естественно думать, что то, что у него
опровергнуто, не важно, а то, что осталось нетронутым, то-то и есть самое
главное, что злодей-противник нарочно пропустил лучшие перлы и алмазы.
В «Последнем ответе» я и не говорил об этом упреке, вообще же
заявил, что «все мои доказательства остаются в полной силе». Тогда мой
противник не стал с этим спорить, но вспомнил свой главный аргумент.
В маленькой статье «Письмо в редакцию» (Вести. Евр., март) он
говорит: «H. H. Страхов никак не мог меня опровергнуть, по той простой
причине, что о главных моих возражениях он даже вовсе не упоминает».
Казалось бы, тут уже непременно следовало бы пояснить, что
это за главные возражения и почему они главные, а не те, которые
я разбирал. Но вместо того мой противник вдруг заявляет, что
«разрешить такое противоречие могут, конечно, только читатели», а что «ему
остается» одно средство — указать места, где находятся у него главные
возражения. — И что же он указывает? Цифры разных страниц своей
статьи, всего до десяти страниц. Поставивши ряд этих цифр, он потом
решительно заключает: «Затем уже было бы совершенно излишне
возвращаться к тому, что H. H. Страхов называет своими "доказательствами"».
Вот как просто разрешилось это дело. Удивительно только, почему
он меня не посрамил этим с самого начала. Если бы точно мои
опровержения не касались никаких главных пунктов, то этим самым статья
моя была бы сразу подрезана под корень.
Но только это ведь нужно доказывать, а не утверждать
голословно. Ну что теперь будут делать бедные читатели? Им вдруг сказали:
почитайте-ка такие-то десять страниц, да сравните их с остальными
восьмидесятью и с тем, что пишет мой противник, да взвесьте все
хорошенько; тогда вы и увидите, что всего важнее в нашем споре и как
не важны пункты, которые мой противник принял за главные; этих
указаний совершенно довольно, чтобы вам убедиться в моей правоте.
Вот каким образом г. Вл. Соловьев ушел от существенного предмета
полемики, голословно заявляя, что ему не нужно ничего опровергать.
Голословные утверждения всегда позволительны, и их избежать
невозможно. Нехорошо только одно, — когда они признаются за нечто
вполне доказанное и когда никаких других оснований для дальнейшего
368
H. H. СТРАХОВ
суждения не имеется. Так и у моего противника нет других оснований
на то, что он будто бы «доказал историческую и логическую
неосновательность теории культурных типов» (там же, стр. 432).
III
Г. Тимирязев не принимает ни одного моего аргумента, то есть ни
одного из них он не признает за серьезное возражение, которое стоило бы
серьезно опровергать. Всю книгу Данилевского «Дарвинизм» он считает
основанною «на двух-трех жалких софизмах» (май, стр. 18). Словом,
он ведет дело так, как будто и не может быть никаких достойных
внимания возражений против теории Дарвина, как будто возражать против
нее то же, что, например, пытаться опровергать систему Коперника.
Поэтому в моих рассуждениях он находит лишь «софистическую
эристику», «диалектические фокусы», «гипнотизирование читателей» и т.п.
Мне следовало бы теперь, чтобы защищаться, опять излагать и
разъяснять свои возражения. Считаю это совершенно излишним, так как
полагаю, что изложил их с достаточною ясностью, и так как мой
противник, который признал мои вопросы как бы нелепыми и потому не пошел
на них, тем самым отнял у себя возможность сказать что-нибудь новое
в пользу Дарвиновой теории и повторяет лишь то, что уже говорил.
Но в его нападениях есть еще особая черта, на которой нельзя не
остановиться. Он часто прямо объявляет или что он меня не понимает,
или что не видит никакой связи между моими суждениями, а иногда
он даже отказывается их разбирать. Так, говоря о главе, носящей
название «Стереотип», он пишет: «для чего понадобилась г. Страхову
эта аллегорическая личность, — так для меня и осталось непонятным»
(май, стр. 33). В силу этого, конечно, и вся моя глава пропала даром.
Между тем, я думаю, всякому знакомы такие выражения, что
наследственность стереотипно повторяет родовые и видовые признаки, и т.п.
Далее мне делается упрек, что я привожу «выписки из Негели, к делу
не относящиеся у лишь бы в них были выражения, неодобрительные
для дарвинизма» (май, стр. 38). Не стану вновь указывать, к какому
делу относятся эти выписки; повторю только, что Негели мне вовсе
не нужен был как авторитет и что напрасно г. Тимирязев потратил
столько доказательств, чтобы понизить ученое значение Негели; мне
нужен был только человек, которого нельзя было бы назвать
«дилетантом» с высоты какого-нибудь другого авторитета.
Несколько далее мой противник вовсе отказывается от разбора
моей главы «Скрещивание». Хотя он посвятил ей больше двух страниц,
но на второй странице говорит: «не стану утомлять читателя
разоблачением всех изворотов, к каким прибегает г. Страхов для того, чтобы спасти
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
369
безнадежную аргументацию Данилевского» (май, стр. 46). Между тем
это самая важная глава в нашем споре; ибо тут излагается теория
ограниченного скрещивания у которую придумал г. Тимирязев для защиты
Дарвина, тут объясняется закон, по которому действует в этом вопросе
скрещивание, тут показывается взаимное противоречие предположений,
которые сделал г. Тимирязев в свою пользу. Эта глава направлена против
самого центра его аргументации, между тем она не разобрана, а только
голословно названа утомительными изворотами.
Через несколько страниц опять прямое сознание в непонимании.
«Приводится, —сказано, — ряд выписок из Нагели, из которых
читателю понятно только то, что Негели в чем-то не согласен с Дарвином,
но в чем именно и на каком основании из этих глухих отрывочных
выписок, конечно, ничего понять невозможно» (май, стр. 61).
Затем укажу на следующие места: «г. Страхов на полустранице
развивает какую-то темную теорию» (июнь, стр. 67); «если не могу ответить
на спорный вопрос, то поговорю о другом, рядом стоящем», —
рассуждает он (стр. 70); «он отвлекает внимание читателя совершенно в сторону»
(стр. 78); «при помощи разговора о совершенно к делу не относящихся
побочных обстоятельствах он увильнул от сущности вопроса» (стр. 79);
«в бесконечно-запутанном изложении, извивающемся и ускользающем
из рук, как уж, г. Страхов пытается» и пр. (июль, стр. 70)*.
Приведу еще следующую отговорку: «г. Страхов укоряет меня,
зачем я не проникся каким-то сравнением Данилевского с игрою в банк;
должен покаяться, что все касающееся карт для меня тарабарская
грамота, да и между знакомыми не нашлось сведущих людей по этой
части» (стр. 79). На этом основании г. Тимирязев отказывается вникать
в соображение вероятностей, весьма важное для дела.
Из всех этих выдержек, а еще яснее из полного текста, откуда они
взяты, видно, что действительно мой противник часто или вовсе не входит
в смысл моих рассуждений, или теряет их связь и находит в них одну
путаницу. Поэтому очень естественно, что в конце он о моей статье
произносит следующий общий приговор: «Так или иначе, но по всей статье
сквозит один прием, одно неизменное стремление: запутать, затемнить
дело в глазах читателя, лишить читателя возможности самому
разобраться, составить себе ясное понятие о предмете спора» (июль, стр. 77).
Итак, в моей статье господствует темнота, путаница и всякое другое
препятствие к ясному понятию о деле. Приговор жестокий, но ведь
он допускает двоякое истолкование. Когда мы невнимательны или когда
очень заняты чем-нибудь другим, то самые ясные речи бывают для нас
невразумительны, и аргумент, требующий прочтения двух страниц,
* Курсив везде, разумеется, мой.
370
H. H. СТРАХОВ
кажется только несносным препятствием для дела. Вообще, есть много
различных причин для непонимания, а не всегда один автор виноват.
Мне естественно думать, что если г. Тимирязев меня не понял, то виноват
не я, а он; и далее, что если он меня не понял, то и не мог опровергнуть.
Мне позволительно утешаться мыслью, что нашлись и найдутся
читатели более внимательные и снисходительные, чем мой критик, и что
они поймут мои рассуждения, поймут и то, что значит у меня стереотип,
для чего приводятся выписки из Негели, что содержится в
«утомительных изворотах», и даже, какое соображение поясняется посредством
трудной игры в банк. Тогда окажется, что ссылка на непонимание есть
оружие, которым гораздо легче поранить себя, чем противника.
IV
Как меня бранят
Мои противники, конечно, больше бы вникали в мои рассуждения
и серьезно входили бы со мною в разбирательство, если бы они не
пришли очень быстро к мысли, что дело ведется мною недобросовестно.
Обвинил меня в недобросовестности первый Вл. С. Соловьев, а потом,
отчасти ссылаясь на него, г. Тимирязев стал уже распространять это
обвинение почти на каждое мое слово. В моей статье, по его мнению, все
фальшиво и злоумышленно. Он нигде не хочет видеть выражения моей
искренней мысли, не признает за мною даже искреннего заблуждения.
В одном месте он пишет обо мне: «понимать-то он понимает, в чем дело,
но может отвечать так, как будто и не понял» (июнь, стр. 79).
Какое странное явление! С какой стати стал бы я лгать и
обманывать, заведомо строить софизмы, умышленно искажать дело? Чего же
это мне так захотелось? Разве не было бы чересчур глупо прибегать
к подобным средствам, чтобы блеснуть перед публикою или чтобы
защищать дорогую мне память покойного писателя?
И неужели такие обвинения можно произносить так легко, не
задумываясь, как будто это самое обыкновенное дело? Довольно ли о том
подумали мои противники? Этот избыток подозрительности сам по себе
ведь не говорит еще в пользу обвинителей, не доказывает их
безупречной чистоты и правдивости.
Да и основательности, или того, что называется ученою
добросовестностью, тут бывает мало. Спорящие часто забывают, что доказывать
эти обвинения чрезвычайно трудно, и увлекаются тем, что их легко
составлять. Рецепт для составления обвинений в недобросовестности
следующий: если, по вашему мнению, вы нашли что-нибудь сказать
в вашу пользу или во вред противника, то утверждайте, что это самое
ваш противник хорошо знал, но притворяется незнающим, что все свои
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
371
собственные противоречия и нелепости он отлично видит, но нарочно
выдает их за правильные рассуждения, что он прекрасно понимает
силу и достоинство ваших доводов, но именно потому самые лучшие
нарочно пропустил, а другие нарочно извратил или подменил. Словом,
не говорите, что он сделал ошибку, а утверждайте, что он сделал обман.
Подобными речами можно без труда тешить свое недоброжелательство
и раздражение; но обыкновенно они доказывают только крайнюю
неспособность войти в мысли противника, стать на его точку зрения. Когда
мы вникаем в ошибку и раскрываем ее, то это полезно, и мы тут
опираемся на логику и факты. Но, вообразив, что перед нами обман, мы почти
без исключения ничем этого не можем доказать, кроме нашего подозрения
и желания видеть противника в дурном свете, а между тем мы перестаем
следить за нитью заблуждения. Гораздо выгоднее для дела давать речам
противника самый большой вес, какой только в них может вместиться.
Единственная польза, которую я извлек из нападок г. Тимирязева
на мою недобросовестность, заключается в том, это узнал об одной
описке, мною сделанной. Делая выдержку из его статьи, я вместо «борьба
с условиями» поставил «борьба за существование». Противник мой видит
тут не описку, а умышленное искажение его текста и подробно
рассматривает, в каких нелепостях я мог бы его обличать, приписав ему одно слово
вместо другого. Поистине, напрасный труд! Положим, и мог бы, да ведь
я же не обличал, а продолжал рассуждать так, как будто в выдержке стоит
подлинное слово. Если бы у моего противника не было такого желания
размышлять о моих возможных злодействах, то он легко бы мог понять
связь моей речи и тогда убедился бы в моей действительной
невинности. Когда буду перепечатывать свою статью, то я просто поправлю свою
описку, не изменяя в остальном ни одного слова.
Не в виде похвальбы, а только ради подтверждения своих мыслей
прибавлю одно: во всех случаях, когда мне приходилось вести полемику,
сам я следовал тем правилам, которые теперь изложил; я не упрекал
своих противников ни в непонятности, ни в недобросовестности. При
таких условиях я и считал полемику делом полезным, хотя и трудным
в ее истинном виде.
V
Опровержение теории из ее защиты
Для заключения сделаю несколько замечаний по существу дела,
хотя это будет лишь повторение уже высказанных доводов.
Как видно из последней статьи г. Тимирязева, он продолжает
настаивать на некоторых общих положениях, на которых основал свою
защиту Дарвиновой теории. Он утверждает:
372
Я. Я. СТРАХОВ
1) Что теория образования видов посредством подбора есть
«необходимый логический вывод из наблюдаемой действительности»
(июль, стр. 76).
2) Что никакое индивидуальное изменение не может исчезнуть
без следа в потомстве изменившегося организма, ибо все сохраняется
в природе.
3) Что Дарвин никогда не предполагал, что естественный подбор
может сохранять индивидуальные изменения в их чистом виде.
4) Что подбором сохраняются лишь измененные неделимые,
явившиеся в некотором числе, например потомки организма, в котором
появилось индивидуальное изменение. Таким образом, скрещивание
даже необходимо для подбора.
5) Что так и Дарвин всегда предполагал, что изменения,
подлежащие подбору, бывают не одиночные, а появляются в некотором числе.
Поэтому напрасно говорят, что он сперва предполагал одиночный,
а потом принужден был отступить от этого предположения.
6) Что «скрещиванию в природе кладется весьма скоро предел каким-
то ближе нам неизвестным, но не подлежащим сомнению свойством
организмов» (май, стр. 40). Это открыл Негели, и из этого следует, что тут
новая форма не будет поглощена старою, как настаивал Данилевский.
Все эти положения, по моему суждению, неверны и произвольны,
кроме последнего, которое справедливо, но ничего не говорит в пользу
Дарвина и против Данилевского. Ибо если где-нибудь распадение форм
происходит в силу «свойства организмов», то, значит, оно не происходит
от борьбы за существование, и Данилевский может оставаться вполне
правым, доказывая, что, при одной лишь этой борьбе, скрещивание
должно поглощать новые формы.
Неверность и произвольность остальных положений были уже мною
доказываемы во «Всегдашней ошибке». Повторяя их, автор теперь
подкрепляет их разве только новыми сравнениями. Так, у него возможность
дарвиновского процесса происхождения видов приравнивается к возможности
образования рек из атмосферных осадков; сохранение следов
индивидуального изменения сравнивается с сохранением долей соли, растворяемой
все в большем и большем количестве воды; совместное действие подбора
и скрещивания поясняется ходом ядра, выстреленного из пушки. Всякое
сравнение, как известно, есть некоторое обобщение и может повести лишь
к нелепостям, если мы с полной точностью не обозначим, что есть общего
в сравниваемых явлениях. «По Данилевскому и г. Страхову выходит, —
пишет г. Тимирязев, — что если существует земное притяжение, то,
значит, ядро никогда не может вылететь из пушки» (май, стр. 48). Можно
отвечать: конечно, не вылетит, если пороху очень мало, и конечно, далее
вылетевши, вернется назад в дуло, если пушка стоит вертикально, так что
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
373
порох действовал прямо против направления силы тяжести. Сравнения
и примеры, когда делаются без точности, ведут лишь к неопределенным
обобщениям, т.е. ко всегдашней ошибке дарвинистов. Тогда и вся теория
представляется «логическим выводом», между тем как она есть лишь
безмерно невероятная возможность. Кстати: этот «логический вывод»
в наилучшей его форме изложен самим Данилевским {Дарвинизм, ч. II,
стр. 484 и ел.), для того именно, чтобы показать, чем обольщала умы
теория Дарвина. Что касается до общего положения: «все сохраняется
в природе», то ведь ясно, что мы получим одну путаницу, если станем
подводить под него все без разбора. «Г. Страхов спрашивает, — пишет
г. Тимирязев, — что же сохраняется (когда мы говорим кровь) — матерая2
или энергия?» (май, стр. 44). Прошу извинения, я этого не спрашивал,
ибо твердо знаю, что и вещество, и энергия сохраняются; напротив,
об индивидуальном изменении (новая кровь) я прямо говорил, что если
оно могло возникнуть, то может и исчезнуть. Например, рост животного
в последовательных поколениях может без конца колебаться, то
уменьшаясь, то увеличиваясь. Тут нечему сохраняться. Это не то, что соль,
количество которой не убывает от раствора, но никогда и не прибывает.
Но самое важное в положениях г. Тимирязева есть, конечно, новый
вид, в котором является учение Дарвина, вид, названный мною
«теорией ограниченного скрещивания». Теория эта построена, очевидно,
для избежания затруднений, указанных Данилевским; но, пытаясь
определеннее указать кой-какие черты того процесса, который в общих
формах предполагается Дарвином, она, в сущности, только
обнаруживает невозможность этих предположений.
Главное затруднение состояло в том, что в природе никто не делает
подбора, как его делают в конюшнях и голубятнях, и, следовательно,
одиночное или очень малочисленное появившееся изменение должно
исчезнуть вследствие скрещиванья. Чтобы какое-нибудь изменение
не исчезло, необходимо, чтобы оно появилось в значительном числе;
между тем предполагать, что вдруг явится много одинаково измененных
неделимых, нельзя, ибо тогда это не будет индивидуальное изменение,
из которого должна исходить теория*. Поэтому г. Тимирязев и
придумал прибегнуть к размножению. У него дело начинается все-таки
с единичного случая, но потом измененное неделимое скрещивается,
плодится, и тогда подбору подлежит уже значительное число
измененных неделимых, и он может дать им перевес над старою формою.
* «Никто не станет утверждать, что все неделимые того же вида отлиты точь-в-точь
по одной и той же форме. Эти индивидуальные отличия имеют для нас высокую
важность, ибо они составляют материал для естественного подбора». Darw. Orig.
of sp. Chapt. II, в начале.
374
H. H. СТРАХОВ
Но ведь это будет коренное отступление от предположений Дарвина.
В самом деле, если мы представим, что случилось крупное изменение,
что оно упорно передается наследственностью, что самая малая часть
его крови дает его потомкам перевес над потомками других неделимых
да, кроме того, уменьшает расположение к скрещиванию, то, конечно,
может образоваться новая порода. Но в таком случае мы должны будем
сказать, что она образовалась в силу какого-то таинственного скачка
в развитии организмов, а не тем процессом, какой указывал Дарвин.
Ибо для Дарвинова процесса нужно, чтобы изменения были мелкие,
чтобы, в передаче наследственностью и в скрещивании, они ничем
не отличались от других и чтобы случайная их выгода была
незначительная. Только в таком случае целесообразность новой формы
получалась бы не вдруг (необъяснимым образом), а выводилась бы
из накопления вовсе нецелесообразных, притом бессвязных и
непоследовательных изменений, то есть получалось бы дарвиновское
объяснение целесообразности. Таким образом, г. Тимирязев, делая
свои новые предположения, только показал, что это дарвиновское
объяснение невозможно, что нужно принять прямо целесообразные
скачки, а иначе скрещивание поглотит всякий зачаток новой формы.
Если же обратим внимание на факты, в которых перед нами
совершается что-нибудь подобное выделению новых форм, то мы всегда найдем,
что при этом происходит какой-то другой процесс, а не дарвиновский,
в котором, следовательно, если бы он был и возможен, нет
необходимости. Так, из наблюдений Негели следует, что зачинающиеся
разновидности разъединяются тем, что теряют способность к скрещиванию,
а вовсе не подбором, дающим преобладание новой форме над старою.
Так, когда наблюдаем сохранение во многих поколениях
каких-нибудь особенностей (нос и подбородок Бурбонов), мы вовсе не замечаем
при этом ни борьбы за существование, ни ограничения скрещивания.
Вообще, всякая определенность, всякий закон, всякое правило,
которые мы откроем в изменениях организмов, в ходе наследственности,
в явлениях скрещивания и размножения, — упраздняют теорию
Дарвина. Ибо непременное условие дарвиновского процесса — полная
неопределенность во всех этих областях, полный хаос, из которого
потом сам собою родится порядок под действием единого определенного
начала — пользы, то есть спасения от гибели.
В этом и весь спор: возник ли порядок мира сам собою из хаоса, как
учил Эпикур, или же причина, образующая космос, есть разум, как
учил Анаксагор?
Г. Тимирязев поставил мне в великую недобросовестность то, что
я не указал на его понятие об истории, которое, по его мнению,
чрезвычайно поясняет и подкрепляет теорию Дарвина. Вот это понятие:
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
375
«историю делают люди с их страстями, ошибками,
предрассудками, и... однако... из борющихся случайных единичных стремлений
слагается величественный процесс исторического прогресса» (май,
стр. 33). Конечно, я не пропустил без внимания такого
замечательного аргумента; не указал же я на него потому, что не хотел прерывать
и усложнять своего изложения, между тем был уверен, что читатели,
без всякой помощи, сами увидят всю поразительную неправильность
этого понятия об истории. История не есть повесть о борьбе случайных
стремлений, а изображает судьбы лишь одного стремления,
всегдашних усилий человека на пути к знанию, правде и истинному благу.
Прогресс совершается лишь этою внутреннею силою; от нее зависят
его различные формы, его остановки и успехи, его болезни и победы.
Так и органический мир есть создание некоторых внутренних сил;
его формы возникают и развиваются закономерно и целесообразно,
а не составляют случайных фигур, образующихся среди хаоса при
всевозможных столкновениях его элементов.
* "к "к
Слава Богу, мне можно, кажется, прекратить эту полемику, которую
я вел не по охоте, а по некоторому долгу. Книги Н.Я. Данилевского
пользуются теперь большим и общим вниманием; можно поэтому,
надеяться, что они встретят критиков и толкователей не только более
спокойных, но иногда и более проницательных, чем мы, участники
теперешнего спора. Умственное наследство, оставленное Данилевским,
без сомнения, принесет прекрасные плоды.
9 ноября Н. Страхов
Дозволено цензурою. С.-Петербург, 12 Декабря 1889 года.
В. В. РОЗАНОВ - H. H. СТРАХОВУ
< После 19 июня 1888 г.>
<Перед письмом — приписка> Утро. Письмо такое длинное, что
стыдно посылать. Сегодня, взяв у Куприянова «Русский вестн.», еще
раз просматривал разные места Вашей статьи; при втором чтении
дисгармонии почти нет или очень мало. Все читается легко, хорошо
и интересно. При первом чтении цельность впечатления перебивается
выписками из Соловьева; и из-за деревьев, как они ни хороши,
незаметно леса, который всегда (для меня) лучше их, т.е. общий тон и
течение мыслей — чувств важнее удачных отдельных мест. Следовало бы
Вам побольше задеть «Вестник Европы» — если Соловьева и К° и так
нужно задеть, отчего этого не сделать со Стасюлевичем1. Это [quo]
usque tandem?2
Только что начал читать, многоуважаемый и дорогой Николай
Николаевич, Ваш ответ Соловьеву: долго я старался, до сих пор,
достать июньскую книжку «Русского вестн. » — и ничего не мог сделать;
наконец вчера заполучил ее в Липецке, на минер, водах, где лечусь
от нервов, — и прочел.
Так сердито Вы еще никогда не писали (разве только одна страница
против Вагнера и кое-что о Тургеневе — но и то добрее), и так сильно
(по-моему) Соловьев еще ни разу не был унижен в нашей литературе.
Но это и поделом; в смысле самоуверенности, неуважения ни к чему,
кроме себя самого, в нем есть нечто почти хлестаковское, и мы всегда
как-то склонны относиться к таким господам особенно почтительно:
он всегда был небрежен со своими критиками (Столповым и др.), а они,
даже когда, очевидно, чувствовали себя сильнее его, относились к
нему как-то бережно, чересчур деликатно. Вы первый дали ему урок,
отнеслись к нему небрежно, как к поверхностному мыслителю, почти
прямо назвали его холопом и нахалом, ничего не любящим и едва ли
В. В. РОЗАНОВ — Н. Я. СТРАХОВУ
377
способным что-нибудь любить серьезно, отдельные суждения его —
софистическими, жалкими, убогими. Хорошо, что Вы сделали это после
того, как к Вам самим он отнесся, хотя и небрежно же, по существу,
но, однако, обставлял и прикрывал эту небрежность деликатными
уважительными замечаниями; открыто же небрежно он отнесся лишь
к Данилевскому и к самому делу; и Вы, конечно, поступили благородно,
вступившись резко за то и другое, почти мстительно.
Статья его действительно разбита, и все значение ее уничтожено,
но только для кого? Я дал здесь, прочтя сам, Вашу статью одному
замечательному человеку — волынскому помещику Куприянову, 75 л.,
помнящему Данилевского по «Заре» и Вас по статье «Роковой вопрос»3
(по поводу коей закрыли жур. Достоевского): он в свое время читал
статью Соловьева, но не знал, что Вы ему будете отвечать; сегодня,
встретясь со мной на вечернем гулянье, он сказал тотчас же о Вас:
«Да, он отлично его (Сол.) разделал». Таково первое впечатление, и оно,
я думаю, одинаково для всех: «Да только толку-то от этого никакого
не будет, — прибавил он тотчас, — их много, а нас мало, и они люди
предубежденные: статья Страхова хотя и верна, но ее не будут читать
западники, или и прочтут — не примут во внимание» (Куприянов
сам — деятель по наделению крестьян землею в Западном крае, и был
лично знаком с Аксаковым4 и Катковым5; по бодрости, ясности духа,
и — странно, таково все Ваше поколение — красоте и росту
удивительный старик; так на портрет и просится; пишу Вам это потому, что Вы,
кажется, любите хороших русских людей). Его слова, разделяемые
и мною, относятся, конечно, ко всякому спору в наше время, когда
живое искание правды иссякло, кажется, совершенно во всех.
Для меня лично, кроме всего хода ваших опровержений и во
всяком случае любопытного и небывалого зрелища разделки Соловьева,
было очень важно все, что Вы говорите о буддизме и вообще о
религии в истории, о том, что это не мешает существованию культурно-
исторических типов. Признаюсь, до чтения Вашей статьи пример
буддизма, а также и христианства меня сильно смущал, и строка,
Вами подчеркнутая у Соловьева, как-то проскальзывала незаметно.
Теперь ясно, что универсализм некоторых религий, а также и
общечеловеческая сокровищница нимало не мешает существованию
культурно-исторических типов. Ваши замечания о жестокости единения
(в противоположность культ.-ист. типам) и потом об инерции в деле
покоя, равно как и движения, делают Соловьева смешным, каким-то
мальчиком, не умеющим одновременно держать в голове и 2-х
мыслей. Замечательно, что его теория единения есть лишь повторение
того, что у Достоевского в «Бесах» говорит студент Шатов в первом,
исступленном разговоре со Ставрогиным, о «Народе-Богоносце» и пр.
378
В. В. РОЗАНОВ — H. H. СТРАХОВУ
страницы 3 неизъяснимо прекрасных рассуждений, но, теперь я вижу,
после Ваших замечаний, рассуждений жестоких, ведущих к страшному
насилию. Конечно, об этом и раньше можно было сообразить, но Вы
оттенили и дело стало ясно. Можно и теперь еще любить единение, можно
находить его в истории, даже стремиться к нему, но уже это придется
делать с ясным и твердым сознанием, что тут есть некоторое
неотделимое, страшное зло — зло насилия над человеческою личностью,
над его свободою, нарушение великого правила Канта6 — никогда
не смотреть на человека как на средство, но только как на цель
(удивительное правило, как подумаешь глубже и особенно применительно
к частным случаям жизни, которые переживаешь).
Не могу еще не сказать Вам об одном особенном ощущении, которое
испытываешь, читая Вашу статью: в отдельности все Ваши едкости,
насмешки над Соловьевым метки, удачны; для того, против кого они
направлены, — больны, со стороны читая, — невольно улыбаешься.
Но, в общем, в них нет свободы, той особенной естественности и
непринужденности, которая является, когда насмешка выливается из самой
натуры человека. Для всякого читателя ясно (и я это понял более,
нежели прежде), как мало смеющегося в Вашей душе, как серьезно,
сумрачно и печально Вы настроены как человек и писатель. Видно, что
улыбку на Вашем лице может вызвать только какой-нибудь особенный
случай, что-нибудь досадливо мешающее, и эта улыбка — только
невольное желание поскорее удалить от себя досаждающий посторонний
предмет, чтобы он не мешал течению Ваших постоянных мыслей, столь
далеких от всякой улыбки. Словом, — Ваши насмешки всего менее
отличаются добродушием и невольностью; они желчны и вместе
непривычны для Вас, что встречается очень редко, мне никогда не
встречалось, кажется. От этого и статья Ваша против Соловьева совершенно
не похожа на все Ваши остальные статьи, где Вы всегда спокойны или
одушевлены чем-либо положительным, до последней степени ясны,
просты и естественны, а когда относитесь к кому отрицательно, то в
немногих простых и ясных словах, и всегда только с чувством скорби,
сожаления. Поэтому для того, кто уже привык к Вам как к писателю,
она непривычна и, я сомневаюсь, не составляет ли дисгармонии.
Конечно, важно знать, до какого мстительного чувства Вы преданы
своим идеям и убеждениям, откуда вытекает и Ваше одушевление,
и Ваша грусть, и вся Ваша долгая литературная деятельность; в этом
смысле она очень важна. Совершенно гармонируют в ней с общим
характером Ваших сочинений лишь некоторые отдельные места, где
Вы на время оставляете в стороне Соловьева; из них самое лучшее,
необыкновенно верное замечание о выкидывании знамен, и особенно
о том, что из этого выходит, о том, как всякий раз утомленная публика
В. В. РОЗАНОВ — Н. Я. СТРАХОВУ
379
начинает поглядывать по сторонам: «Ну, а не выкинут ли еще какого-
нибудь знамени?» — и бежит к нему со скуки. Вообще во всех Ваших
сочинениях места, где вы высказываете общие замечания о судьбе
и характере нашего просвещения, — необыкновенно хороши; видно, что
в это вы долго и глубоко вдумывались, пожалуй, — постоянно только
об этом и думаете. В формуле «БУДЕМ САМИ СОБОЙ» (в параллель
древнему «познай самого себя») — формула всего славянофильства,
формула всего нашего исторического утверждения как идеала в
будущем и отрицания как осуждения в прошедшем и настоящем. Это
простой и дивный завет, и если он не запомнится, не станет мыслью
и формулой нашего общества, то лишь потому, что Вы и вообще так
хорошо пишете, что отдельные очень хорошие места не выделяются
из вообще хорошего, из множества других удачных же выражений.
Уже гораздо раньше, беря карандаш с целью отметить особенно
хорошие мысли и выражения Ваши, я иногда затруднялся, находя иной
раз 3-4 страницы, в которых хотелось бы удержать в памяти каждое
предложение. (Очень хорошо еще о либеральной скорби и о различии
между человечеством — как организмом и родом, в коем есть виды.
Для меня ранее это было смутно, неясно.)
Ну, теперь о себе. Вы как-то спрашивали: почему я ничего не говорю
о своей книге7, в чем вижу ее недостатки и в чем достоинства, и я Вам
отвечал, кроме ссылки на некоторые страницы, маленьким шутливым
сравнением себя с Анахарсисом. Послав письмо, я тотчас же уже
почувствовал, что всякая шутка в разговоре с Вами неуместна и нескромна,
и прошу Вас считать то письмо просто результатом ужасного нервного
переутомления; инстинкт мне не подсказал, и от усталости я не
подумал, что сказал нечто неуместное. Теперь скажу Вам обстоятельно:
1) Отсутствие какой-либо эрудиции, знакомства с литературой
и историей предмета есть основной недостаток моей книги; этого
недостатка я не смог возместить по незнанию языков, к коим совершенно
не способен, и еще по следующей причине: я совершенно не владею
собою, почти как паралитик парализованной ногой, и в деле занятий
не я их направляю, куда хочу, но они, т.е. собственно течение мыслей,
абсолютно непроизвольное и постоянное, повертывает меня как утлую
лодку без парусов и без руля, то туда, то сюда, но отнюдь не в ту сторо-
НУ» куда по благоразумию я хотел бы пристать. Сколько раз я задавал
себе урок: прочесть и изучить вот такие-то и такие-то книги, для
ознакомления с историей философии, и никогда не мог выполнить этого:
читаю — просто не понимаю отдельных предложений, или еще хуже —
дочитываю страницу, и вдруг, опомнившись, замечаю, что вот уже
2-я страница, как я читаю лишь механически, вовсе не думая о том, что
читаю, совершенно как гоголевский Петрушка алгебру. Только книги,
380
В. В. РОЗАНОВ — H. H. СТРАХОВУ
прямо отвечающие на вопрос, в данную минуту меня занимающий, или
отвечающие общему ходу моих мыслей, скорее предположений, я
поглощаю с жадностью; так я поглощал все Ваши сочинения, ибо, смею
Вас уверить, в смысле гармонии душ, настроений нравственно
религиозных и воззрений на науку и философию — Вы не имеете читателя
более гармонирующего с Вами, чем я; в равной степени со мною — быть
может, есть, но больше — нет. Так легко и без всякой трудности я
проглотил «Дарвинизм» — ибо он фактически и философски подтвердил
мои мысли, догадки о целесообразности в органическом мире. Так как
я чрезвычайно желаю, чтобы в России было много и хорошей рыбы
(в особенности хрящевой), то я с удовольствием прочел бы его
исследования о рыболовстве и несколько ночей продумал бы о разных способах
устройства рыбных заводов, ловле и проч., но какую-нибудь «Теорию
материи» философскую — не стал бы читать, просто потому, что
это меня не интересует, так в свою жизнь я не прочел ни одной логики
и психологии (это так страшно сказать, что пусть будет в секрете) —
ни учебника, ни Владиславлева8, ни Д. С. Милля9 — читал отрывками,
открывая, где попадется, и в свое время выучил лекции Троицкого10
в Университете. В особенности к учебникам и к диссертациям на
ученые степени я чувствую органическое, совершенно непреодолимое
отвращение (в Университете и в гимназии я тоже учился или плохо,
или так себе). Отсюда —
2) отсутствие «ученого аппарата» (мне об этом уже писал студент
Михайлов); но — в Университете, когда приходилось писать разные
сочинения, я приделывал к ним «ученый аппарат»,— и даже без
особенного труда, и с огромным удовольствием, делал ссылки на языки,
коих азбуки не знал, и на книги, коих никогда не читал, — а на диспутах
видел, как оппоненты обвиняют диссертантов в том, что они воруют друг
у друга цитаты (точно деревенские бабы — яйца), и почувствовал, что
все это такая мерзость, фальшь, отсутствие искренности, любви и
уважения к себе — к предмету, коим занимаешься, что в своей книге, если бы
и мог, не приделал бы никакого аппарата; хотя и с очень большим
трудом, с обычным лганьем, я и мог бы это сказать, но, конечно, не хотел.
3) В вопросе о том, есть ли знание причинного сцепления во внешнем
мире опытное или априорное, я высказал 2 различных и
противоречивых суждения — одно во 2-й гл. 1-й кн., другое — в главе «О методах
изучения».
Этого вопроса я для себя не разрешил, не знаю и, если меня кто-
нибудь стал бы бить за него, — не стану даже кричать, ибо — по праву.
Словом, тут я не знаю и приму то мнение, которое докажут.
4) Самое начало книги, первые 3 страницы, испортил ужасною
запутанностью языка (это приделки, сделанные при отдавании рукописи
В. В. РОЗАНОВ - H. H. СТРАХОВУ
381
в печать); предисловие недостаточно выясняет цель книги — она лучше
выяснена в «Заключении», кое и есть настоящее предисловие. Местами
приведены неудачные или повторяющиеся примеры и пр.; вообще есть
места дурные, слишком сжатые, скомканные от переутомления (я все
боялся умереть до окончания книги, слишком спешил высказать свою
долгую, упорную мысль и сказать: ну, теперь вагон, в коем еду, может
разламываться сколько угодно; тут субъективная любовь к своей мысли,
и верна ли она объективно, я об этом не могу знать). Если хотите узнать,
как и почему я написал свою книгу, прочтите XV, VIII, стр. 528-530,
где я писал не только по личному опыту, но секретно и про себя.
Достоинства:
1) Всю книгу (таким образом, кроме причинности) я считаю верною
и неопровержимою. В ней нужно различать: а) основную мысль, Ь) ряд
частных изысканий и исследований. Их достоинства и недостатки
совершенно не связаны между собою, одно нисколько не зависит от другого:
а) основная мысль выражается в Предисловии, Заключении, конце
XX главы, в двух главах 1-й книги и в строе, в порядке изложения,
в плане двадцатой главы 2-й книги, также и 3-я книга сюда относится.
Эта мысль заключается в том, чтобы дать понятие и построение науки,
не относящееся к тому временному состоянию, в каком она находится
теперь, но такое, которое, вытекая из ее существа, — должно
пребывать вечным. Наука и философия — только части понимания (вот еще
мало я выделил понятие о нем как процессе и как состоянии нашего
ума, знании, которое является, когда процесс окончен, — это большой,
для меня вредный недостаток, — его нужно было восполнить в
предисловии же), это, несомненно, так же, как то, что «физика» есть часть
«естественных наук» или все науки — часть «совокупности знаний»,
кои, однако, не допускают своей организации, а понимание —
допускает. Словом, моя цель, определяя строение науки, была: указать, что
именно может быть узнано человеком, на что, следовательно, наука
может быть направлена, ну и пр. Поправки в выполнении этой
основной мысли могут быть сделаны, но она сама — вытекающая из мысли
о потенциальности нашего ума, из того, что в скрытом виде в нем уже
предустановлена некоторая сеть познания — я убежден, вполне верна,
неопровержима и плодотворна. С нею нельзя не согласиться, признав
потенциально существование в нас идей, а отрицать это последнее —
значит согласиться, что душа — tabula rasa.
b) Частные исследования занимают все XX глав II книги; в смысле
достоинств языка и одушевления чувства — лучше написаны главы
«О мире человеческом»; самыми лучшими теориями я здесь считаю
в гл. XIII учение о душе: прошу Вас при случае прочесть ее и написать
мне свое мнение, и теория государства, стр. 618-640; как хотите, хотя
382
В. В. РОЗАНОВ — H. H. СТРАХОВУ
они и не обставлены цитатами, но я не знаю, почему мысль, обстанов-
ленная доказательствами, не может наряду с нею занять места в науке.
Самые существенные в научном отношении находятся в сухой,
первой половине II книги, в словах о Космосе, в особенности теории
существования, изменения, сущности и целесообразности. Согласитесь
сами, что все это для нас, вечно употребляющих название этих
явлений, было до сих пор почти голыми именами, и точно, подробно и
доказательно объяснить, какие представления и понятия мы должны
соединять с этими именами, — это хорошо, это достоинство. Лучшие
места здесь: объяснение потенциального и образующегося
существования и приложение его к минералам, растениям и животным, здесь
особенно важна стр. 178, центральная, и все, что вокруг нее. Я думаю,
Вы согласитесь с моими объяснениями, у Вас я находил много
родственного; второе лучшее место — это о видах, о формах изменения:
о различии между явлением и процессом, стр. 209-212 — о типах
процессов, стр. 241-250. Разделение процессов на замкнутые, сомкнутые
и раскрывающиеся и указание, как размещена в них форма процесса,
его закон и процессирующее вещество — это я считаю самым ценным
во всей моей книге: я еще был студентом, когда написал его, и живо
помню, как, заломив после этого руки в боки и выйдя вечером на
гулянье, — горделиво посматривал на всех проходящих, на «презренную,
суетную и неумную толпу»; извините за шутку, но право — это верно
все, и, кроме того — ведь обнимает всю природу, от ссыхания комка
глины и до обращения небесных светил и роста растений. Если бы
ученые всей земли, собравшись, сказали мне, что это неважно или
неверно, я бы не поверил, и даже просто из неуважения к ним ничего
не стал бы отвечать.
Ну, простите, что так долго говорил о своей книге; оправдываю себя
лишь тем, что Вы спрашивали. Да, кстати, то, что Вы назвали «новыми
категориями и излишней систематизацией», почти несомненно
относится к тому, что я называю «вещами и явлениями в Космосе» — но здесь,
как много оговорено в главе «О существовании», стр. 200, и относится
и ко всему последующему, все имеет значение лишь примера,
совершенно так, как пишутся в арифметике после каждого правила примеры.
Здесь систематизация совершенно не имеет значения и важны лишь
подробнее развитые взгляды, хотя и они, конечно, не принципиальны
для всякой книги, стоят особняком. — Я желал бы, чтобы Радлов11
написал свой разбор серьезно — тогда ему моя бесконечная
благодарность, но это — ввиду возможности в ответной статье подробнее
высказаться, исправить кое-что и прочее; важно также и для расхода
книги, кою пока — хоть в печь бросай. Но я ожидаю, что Вы при случае,
В. В. РОЗАНОВ — H. H. СТРАХОВУ
383
не скоро хотя, напишете мне в письме Ваше мнение о книге, и особенно
об ее основной мысли и о местах, теориях, мною указанных теперь.
Я вообще человек мало послушливый, но уже если кого послушаюсь,
если кто заставит меня если и не пересмотреть мнение, то очень крепко
призадуматься — то это Вы, и это не только у нас в России. Вообще,
Ваш авторитет по чрезвычайной склонности Вашей к вдумчивости
во все и к анализу — для меня из всех мне известных людей — высший
авторитет. Я так думаю, и если прочие не думают так же, то я, по
обыкновению, только сожалею о них (извините за шутку). Еще 2 слова
о теме: как, не будучи ученым, я решился издавать книгу об науке?
Что значит сей поступок? Но извините, тут вопреки одному частному
Вашему замечанию: «нельзя свободно двинуться в области мысли,
не зная немецкого языка" — противопоставляю весь ряд Ваших книг:
я думаю, что человек, прежде всего, должен быть "самим собой", всегда
внутренне свободен и homo sum et nihil humanum etc.12; совершенно
не понимаю и не хочу понимать, почему русский человек не может
столь же свободно высказывать свои воззрения на мир, на природу
человека и на жизнь, как это делает любой француз или немец. Здесь
против Вашего, — правда, в 2 строки лишь — замечания я вступаюсь
за русский народ.
Но довольно. Мне еще хочется сказать Вам несколько лично о себе,
о своей личной жизни, просто как близкому человеку, больше, нежели
кто-либо из лично меня окружающих. Я только нынче летом, лечась
в Липецке, стал задумываться крепко, что не всегда же лично я могу
жить лишь обдумыванием разных теорий, что в своем роде, но только
с другого конца — homo sum et nihil humanum... Почти все пишущие
и живущие интересами науки и литературы ведут какой-то странный
образ жизни, как-то странно оторваны от ее радостей и интересов
частных, единичных. Было время, когда я думал, что мышление может
совершенно наполнить жизнь, что за ним можно и не ощущать, что
в сущности лишен всего. Но я не думаю больше этого. И вот у меня
явилась страстное, мучительное желание — устроить себе жизнь, захватить
хоть какой-нибудь тот остаток простой счастливой жизни, который
для меня еще быть может возможен и от которого я до сих пор
отказывался как-то спокойно и даже равнодушно. Я не буду Вам объяснять
подробностей, но скажу лишь, что 6 лет моей семейной жизни были
для меня и во внутреннем, и во внешнем отношении каким-то дантов-
ским адом, в коем перегорела душа моя; это были долгие дни вечного
страха, почти мистического ужаса, горя, отчаяния, всего, чего хотите,
но только не спокойствия, не радости. Я почему-то теперь не в охоте
писать, и поэтому, верно, выражаюсь плохо, но скажу лишь, что все,
384
В. В. РОЗАНОВ — H. H. СТРАХОВУ
что я пережил, было очень серьезно, сумрачно, и своеобразно в такой
степени, что если Вы составите обо мне представление на основании
обычных фактов семейного неустройства — то наверно ошибетесь.
Ощущение какой-то мистической руки, которая разбивает человеческие
сердца и направляет так или иначе нашу жизнь вопреки всем нашим
чаяниям, усилиям и ожиданиям — я чувствовал все это время ясно;
независимо от общего хода своего умственного развития, или, вернее,
пособляя ему, моя личная жизнь сделала меня мистиком —
религиозным человеком, заставив серьезнее задуматься и почувствовать такие
вещи, о которых раньше я особенно не заботился.
На основании всего этого, мой дорогой Николай Николаевич, мною
и овладело некоторое фаустовское чувство или, пожалуй, чувство
банкира, потерпевшего крах: именно, страшная неудовлетворенность
теоретизмом и жажда примкнуть сухими губами к радостям обычной,
маленькой жизни, о которой я до сих пор высокомерно позволял себе
не думать, чрезвычайная жажда спокойствия и любви не от далеких
людей или будущих поколений (в сущности этою надеждою живут
пишущие, кроме, разумеется, самого интереса к делу, но уже тут человек,
а не сердце), а хотя от кого-нибудь, кто около меня, чье любящее лицо
я вижу перед собой. Все это устроить будет очень трудно, особенно с
моею необычностью, неумелостью (даже 4-го класса гимназисты в деле
жизни иногда читают мне мораль, конечно, при возможном случае,
а в классе уже я им читаю мораль). Во всяком случае, если я этого не
сделаю теперь же, в течение 1 Vi — 2 лет, я уже никогда не успею сделать.
А с этим вместе и теоретическую работу вместе с писанием придется
пока отложить. Это я говорю насчет разбора Бакунина13, коего,
впрочем, пока перечитываю во 2-й раз; ужасно много у него противоречий
насчет того, суть ли единичные материальные вещи — тоже одаренные
смыслом саморазумения, или нет — и тогда они вовсе не существуют.
Ваш В. Розанов
Мой адрес все же: Елец. Гимназия.
В.С.СОЛОВЬЕВ
Данилевский Николай Яковлевич
Данилевский (Николай Яковлевич, 1822-1885) — публицист,
естествоиспытатель и практический деятель в области народного хозяйства,
в главном своем литературном труде «Россия и Европа» представивший
особую теорию панславизма, которая образует связующее звено между
идеями старых славянофилов и новейшим безыдейным национализмом.
Уроженец Орловской губернии, сын заслуженного генерала, Д.
воспитывался в Александровском лицее, а затем был вольным слушателем
на факультете естественных наук в СПб. унив. Занимаясь специально
ботаникою, он вместе с тем с увлечением изучал социалистическую
систему Фурье. Получив степень кандидата и выдержав магистерский
экзамен, он был в 1849 г. арестован по делу Петрашевского. Проведя
100 дней в Петропавловской крепости, он представил оправдательную
записку, в которой доказал свою политическую невиновность, и был
освобожден от суда, но выслан из Петербурга и определен в канцелярию
сначала вологодского, а потом самарского губернатора; в 1853 г. он был
командирован в ученую экспедицию под начальством знаменитого
Бэра для исследования рыболовства по Волге и Каспийскому морю,
а в 1857 г., причисленный к департаменту сельского хозяйства, он был
отправлен для таких же исследований на Белое море и Ледовитый
океан. После этой экспедиции, продолжавшейся три года, он совершил
много таких же, но менее значительных, поездок в различные края
России. Данилевским выработано ныне действующее законодательство
по части рыболовства во всех водах европ. России. Приобретя имение
на южном берегу Крыма, Д. вступил в энергичную борьбу с
филлоксерой. Главное сочинение Д., «Россия и Европа», печаталось сначала
в журнале «Заря». Первое отдельное издание (ошибочно показанное
вторым) вышло в 1871 г., второе (ошибоч. 3-е) в 1888 и третье (ошиб. 4-е)
в 1889 г. Другой обширный труд Д., «Дарвинизм», появился в 1885 г.
386
В. С. СОЛОВЬЕВ
В двух толстых книгах (к которым после смерти автора присоединен еще
дополнительный выпуск) Д. подвергает теорию Дарвина подробному
разбору с предпоставленною целью доказать ее полную
неосновательность и нелепость. К этой критике, вызвавшей восторженные похвалы
H.H. Страхова, безусловного приверженца Данилевского, специалисты-
естествоиспытатели отнеслись вообще отрицательно. Кроме горячего
нападения со стороны известного ботаника, московского профессора
Тимирязева, вступившего в резкую полемику с г. Страховым,
сочинение Д. было разобрано академиками Фаминцыным и Карпинским.
Первый, рассмотревший всю книгу по главам, приходит к следующим
заключениям: «Из числа приводимых им возражений сравнительно
лишь весьма немногие принадлежат автору Дарвинизма; громаднейшее
большинство их, и притом самые веские, более или менее подробно
заявлены были его предшественниками (далее указываются Негели,
Агассис, Бэр, Катрфаж и в особенности трехтомное сочинение Виганда);
Д. же они лишь обстоятельнее разработаны и местами подкреплены
новыми примерами»... «Книгу Д. я считаю полезною для зоологов
и ботаников; в ней собраны все сделанные Дарвину возражения
и разбросаны местами интересные фактические данные, за которые
наука останется благодарною Д.». Акад. Карпинский, разбиравший
палеонтологическую часть Дарвинизма, дает следующую ее оценку:
«в авторе можно признать человека выдающегося ума и весьма
разнообразных и значительных знаний; но в области геологии сведения его,
нередко обнимающие даже детали, не лишены и крупных пробелов.
Без сомнения, это обстоятельство, а также предвзятое, утвердившееся
уже до рассмотрения вопроса с геологический стороны, убеждение
в несправедливости теории эволюции было причиной, что Д. пришел
к выводам, с которыми нельзя согласиться» (см. «Вестн. Европы»,
1889, кн. 2). Сочинение Д., представленное в Академию наук для
соискания премии, не было ее удостоено.
Кроме двух названных книг Д. напечатал в различных
периодических изданиях много статей, частью по своей специальности, частью
публицистического характера. Некоторые из них изданы H. H. Страховым
в 1890 г. под заглавием «Сборник политических и экономических
статей Н. Я. Д. » ; там же и подробный перечень всего им написанного.
Основное воззрение автора «России и Европы», которое он, впрочем,
не проводит с совершенною последовательностью, резко отличается
от образа мыслей прежних славянофилов. Те утверждали, что русский
народ имеет всемирно-историческое призвание как истинный
носитель всечеловеческого окончательного просвещения; Д., напротив,
отрицая всякую общечеловеческую задачу в истории, считает Россию
и славянство лишь особым культурно-историческим типом, однако
Данилевский Николай Яковлевич
387
наиболее широким и полным. Видя в человечестве только
отвлеченное понятие, лишенное всякого действительного значения, и вместе
с тем оспаривая общепринятые деления: географическое (по частям
света) и историческое (древняя, средняя и новая история), Д., так же
как и немецкий историк Генрих Рюккерт, выставляет в качестве
действительных носителей исторической жизни несколько обособленных
«естественных групп», которые он, как и названный иностранный
автор, обозначает термином «культурно-исторические типы». Всякое
племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком
или группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы
сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических
изысканий, составляет самобытный культ.-ист. тип, если оно вообще
по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и
вышло уже из младенчества. Таких типов, уже проявившихся в истории,
Д. насчитывает 10: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикий-
ский (? он же халдейский (?) или древне-семитический), индийский,
иранский, еврейский, греческий, римский, ново-семитический или
аравийский и германо-романский или европейский. Россия с
славянством образуют новый, имеющий в скором времени проявиться
культ.-ист. тип, совершенно отличный и отдельный от Европы. К этим
несомненным, по Д., естественным группам он причисляет еще два
сомнительных типа (американский и перуанский), «погибших
насильственною смертью и не успевших совершить своего развития». Что
касается до новой Америки, то ее значение еще не выяснилось для Д.,
и он колеблется, признать ли ее или нет за особый вырабатывающийся
культ.-ист. тип. Начала цивилизации одного культ.-ист. типа не
передаются народам другого типа; каждый тип вырабатывает ее для себя
при большем или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших
или современных цивилизаций. Такое влияние Д. допускает лишь
в смысле «почвенного удобрения», всякое же образовательное и
определяющее воздействие чуждых духовных начал он отрицает безусловно.
Все культ.-ист. типы одинаково самобытны и из себя самих
почерпают содержание своей исторической жизни, но не все осуществляют
это содержание с одинаковою полнотой и многосторонностью. Д., как
и Рюккерт (хотя в несколько ином распределении), признает четыре
общих разряда культ.-ист. деятельности: деятельность религиозная,
собственно культурная (наука, искусство, промышленность),
политическая и социально-экономическая. Некоторые из исторических
типов сосредоточивали свои силы на одной из этих сфер деятельности
(так евреи — на религии, греки — на культуре в тесном смысле),
другие — проявляли себя зараз в двух или трех направлениях; но только
России и славянству, по верованию Д., дано равномерно развить все
388
В. С. СОЛОВЬЕВ
четыре сферы человеческой деятельности и осуществить полную
«четырехосновную» культуру.
Признавая человечество за пустую абстракцию, Д. видит в культ.-
ист. типе высшее и окончательное для нас выражение социального
единства. Если та группа, говорит он, которой мы придаем название
культ.-ист. типа, и не есть абсолютно высшая, то она во всяком случае
высшая из всех тех, интересы которых могут быть сознательными
для человека, и составляет, следовательно, последний предел, до
которого может и должно простираться подчинение низших интересов
высшим, пожертвование частных целей общим. «Интерес человечества»
есть бессмысленное выражение для человека, тогда как слово
«европейский интерес» не есть пустое слово для француза, немца,
англичанина. Точно так же для русского и всякого другого славянина «идея
славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, выше науки,
выше просвещения». В этом последнем слове теории Д. заключается
ее самоосуждение. Так как всякая культура состоит именно в развитии
науки, просвещения, истинной свободы и т.д., то помимо этих высших
интересов, имеющих общечеловеческое значение, предполагаемая
«идея славянства» сводится лишь к этнографической особенности этого
племени. Забывая, что для культурно-исторического типа прежде всего
нужна культура, Д. выставляет какое-то славянство an und fur sich1,
признает за высшее начало самую особенность племени, независимо
от исторических задач и культурного содержания его жизни. Такое
противоестественное отделение этнографических форм от их
общечеловеческого содержания могло быть сделано только в области
отвлеченных рассуждений; при сопоставлении же теории с действительными
историческими фактами она оказывалась с ними в непримиримом
противоречии. История не знает таких культурных типов, которые
исключительно для себя и из себя вырабатывали бы образовательные
начала своей жизни. Д. выставил в качестве исторического закона не-
передаваемость культурных начал, — но действительное движение
истории состоит главным образом в этой передаче. Так, возникший в Индии
буддизм был передан народам монгольской расы и определил собою
духовный характер и культурно-историческую судьбу всей восточной
и северной Азии; разноплеменные народы передней Азии и северной
Африки, составлявшие, по Д., несколько самостоятельных культ.-ист.
типов, усвоили себе сперва просветительные начала эллинизма, потом
римскую гражданственность, далее христианство и, наконец, религию
аравийского пророка; христианство, явившееся среди еврейского
народа, даже в два приема нарушило мнимый «исторический закон»,
ибо сначала евреи передали эту религию греческому и римскому миру,
а потом эти два культурно-исторические типа еще раз совершили та-
Данилевский Николай Яковлевич
389
кую недозволенную передачу двум новым типам: германо-романскому
и славянскому, помешав им исполнить требование теории и создать
свои собственные религиозные начала. Вероисповедные различия
внутри самого христианства также не соответствуют теории, ибо
единый, по Д., германо-романский мир разделился между католичеством
и протестантством, а славянский мир — между тем же католичеством
и православием, которое к тому же не выработано самим славянством,
а целиком принято от Византии, т.е. от другого чуждого культ.-ист.
типа. Помимо этих частных противоречий, теория отдельных культ.-
ист. групп идет вразрез с общим направлением всемирно-исторического
процесса, состоящего в последовательном возрастании (экстенсивном
и интенсивном) реальной (хотя наполовину безотчетной и невольной)
солидарности между всеми частями человеческого рода. Все эти части
в настоящее время, несмотря на вражду национальную, религиозную
и сословную, живут одною общею жизнью в силу той фактической
неустранимой связи, которая выражается, во-первых, в знании их друг
о друге, какого не было в Древности и в Средние века, во-вторых, в
непрерывных сношениях политических, научных, торговых, и, наконец,
в том невольном экономическом взаимодействии, благодаря которому
какой-нибудь промышленный кризис в Соединенных Штатах
немедленно отражается в Манчестере и Калькутте, в Москве и в Египте.
Логическую опору для своей теории Д. думает найти в совершенно
ошибочном различении рода и вида. Человечество, по его мнению,
есть род, т.е. отвлеченное понятие, существующее только в
обобщающей мысли, тогда как культурно-исторический тип, племя, нация
суть понятия видовые, соответствующие определенной реальности.
Но логика не допускает такого противоположения. Род и вид суть
понятия относительные, выражающие лишь сравнительно степень
общности мыслимых предметов. То, что есть род по отношению к
одному, есть вид по отношению к другому. Человечество есть род по
отношению к племенам и вид по отношению к миру живых существ;
точно так же славянство есть вид по отношению к человечеству и род
относительно русской или польской нации, которая, в свою очередь,
может рассматриваться как род по отношению к более тесным группам,
ею обнимаемым. С точки зрения эмпирического реализма «человек
вообще» есть только отвлеченное понятие, а не предмет, существующий
в действительности, но точно так же не существует в действительности
и «европеец вообще», «славянин вообще», даже русский или
англичанин «вообще». К тому же дело идет не об общем понятии «человек»,
а о человечестве как едином целом, и если можно отрицать реальность
этого целого, то лишь в том же смысле и на тех же основаниях, которые
имеют силу и против реальности племенных и национальных групп.
390
В. С. СОЛОВЬЕВ
С точки зрения этической признавать крайним пределом человеческих
обязанностей и высшею целью нашей деятельности
культурно-племенную группу, к которой мы принадлежим, как нечто более конкретное
и определенное сравнительно с человечеством — значит для
последовательного ума открывать свободную дорогу всякому дальнейшему
понижению нравственных требований. Интересы национальные (в тесном
смысле) гораздо конкретнее, определеннее и яснее интересов целого
культ.-ист. типа (даже предполагая действительное существование
таковых); столь же бесспорно, что интересы какого-нибудь сословия,
класса или партии всегда определеннее и конкретнее интересов
общенациональных; и, наконец, никакому сомнению не может подлежать,
что для всякого его личные эгоистические интересы суть из всех
возможных самые ясные, самые определенные, и если этими свойствами
определять круг нравственного действия, то у нас не останется другой
обязанности, как только думать о самих себе.
В изложение своего взгляда на историю Д. вставил особый
экскурс о влиянии национальности на развитие наук. Здесь он как будто
забывает о своей теории; вместо того, чтобы говорить о выражении
культ.-ист. типов в научной области, указывается лишь на воздействие
различных национальных характеров: английского, французского,
нем. и т.д. Различая в развитии каждой науки несколько главных
степеней (искусственная система, эмпирические законы, рациональный
закон), Д. находил, что ученые определенной национальности
преимущественно способны возводить науки на ту или другую определенную
степень. Эти обобщения оказываются, впрочем, лишь приблизительно
верными, и установленные Д. правила представляют столько же
исключений, сколько и случаев применения. Во всяком случае этот вопрос
не находится ни в каком прямом отношении к теории культ.-ист. типов.
Занимающие значительную часть книги Д. рассуждения об упадке
Европы и об отличительных особенностях России (православие,
община и т.п.) вообще не представляют ничего нового сравнительно с тем,
что было высказано прежними славянофилами. Более оригинальны
для того времени, когда появилась книга, политические взгляды Д.,
которые он резюмирует в следующих словах: «В продолжение этой
книги мы постоянно проводим мысль, что Европа не только нечто нам
чуждое, но даже враждебное, что ее интересы не только не могут быть
нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им
противоположны... Если невозможно и вредно устранить себя от европейских дел,
то весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела
всегда и постоянно с нашей особой русской точки зрения, применяя
к ним как единственный критерий оценки: какое отношение может
иметь то или другое событие, направление умов, та или другая деятель-
Данилевский Николай Яковлевич
391
ность влиятельных личностей к нашим особенным русско-славянским
целям; какое они могут оказать препятствие или содействие им? К
безразличным в этом отношении лицам и событиям должны мы оставаться
совершенно равнодушными, как будто бы они жили и происходили
на луне; тем, которые могут приблизить нас к нашей цели, должны
всемерно содействовать и всемерно противиться тем, которые могут
служить ей препятствием, не обращая при этом ни малейшего внимания
на их безотносительное значение — на то, каковы будут их последствия
для самой Европы, для человечества, для свободы, для цивилизации.
Без ненависти и без любви (ибо в этом чуждом мире ничто не может
и не должно возбуждать ни наших симпатий, ни наших антипатий),
равнодушные к красному и к белому, к демагогии и к деспотизму, к
легитимизму и к революции, к немцам и французам, к англичанам и
итальянцам, к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди — мы должны
быть верным другом и союзником тому, кто хочет и может содействовать
нашей единой и неизменной цели. Если ценою нашего союза и дружбы
мы делаем шаг вперед к освобождению и объединению славянства,
приближаемся к Цареграду — не совершенно ли нам все равно,
купятся ли этою ценою Египет Францией или Англией, рейнская
граница — французами или вогезская — немцами, Бельгия — Наполеоном
или Голландия — Бисмарком... Европа не случайно, а существенно
нам враждебна; следовательно, только тогда, когда она враждует
сама с собою, может она быть для нас безопасной... Именно равновесие
политических сил Европы вредно и даже гибельно для России, а
нарушение его с чьей бы то ни было стороны выгодно и благодетельно...
Нам необходимо, следовательно, отрешиться от мысли о какой бы
то ни было солидарности с европейскими интересами». Та цель, ради
которой мы должны, по Д., отрешиться от всяких человеческих чувств
к иностранцам и воспитать в себе и к себе odium generis humani2 —
заключается в образовании славянской федерации с Константинополем
как столицей. При составлении плана этой федерации, доставившего
ему некоторую популярность в литературно-политических кружках
Богемии и Кроации (Хорватии), Д. значительно облегчил себе
задачу: одна из главных славянских народностей обречена им на
совершенное уничтожение за измену будущему культурно-историческому
типу; зато членами славянской федерации должны «волей-неволей»
сделаться три неславянские народности: греки, румыны и мадьяры.
Этот план, основанный на разделе Австрии и Турции, осуществится
после ожесточенной борьбы между Россией и европейской коалицией,
предводимой французами; единственной союзницей нашею в Европе
будет Пруссия. «Россия и Европа» приобрела у нас известность и стала
распространяться лишь после смерти автора, благодаря совпадению
392
В. С. СОЛОВЬЕВ
ее основных мыслей с преобладающим общественным настроением.
Сторонники Д., способствовавшие внешнему успеху его книги, ничего
еще не сделали для внутреннего развития и разработки его
исторических взглядов, вероятно, вследствие невозможности согласовать
эти взгляды с действительным содержанием всемирной истории.
Критически разбирали теорию Д.: Щебальский, акад. Безобразов,
проф. Кареев, Вл. Соловьев, Милюков; безусловным апологетом ее
выступал неоднократно Н. Страхов; сильное влияние оказал Д. на взгляды
К. Леонтьева, признававшего его одним из своих учителей.
Независимо от оценки его историко-публицистического труда,
должно признать в Д. человека самостоятельно мыслившего, сильно
убежденного, прямодушного в выражении своих мыслей и имеющего
скромные, но бесспорные заслуги в области естествознания и
народного хозяйства.
Счастливые мысли H. H. Страхова. 1890
Генрих Рюккерт в своем сочинении «Lehrbuch der Weltgeschichte
in organischer Darstellung» (Leipzig, 1857), отвергая мысль о единой
культуре, общей для всего человечества, говорит, между прочим
(т. I, с. 95), что «такое исключительное понятие о существовании
и праве одного единственного культурного типа (Culturtypus)
опровергается уже самим опытом, который находит в прошедшем
и в настоящем — а, следовательно, до некоторой степени
уполномочивает ожидать и в будущем — существование и независимую
совместность многих таких типов». С некоторой высшей точки
зрения уже оказалось (для нас) правомочие различных культурных
типов на относительно вечное существование (von einem höherem
Standpunkte aus hat sich auch schon die Berechtigung verschiedener
Culturtypen auf ein relativewiges Dasein ergeben). Допуская далее,
как возможное в будущем, известное органическое взаимодействие
этих культурных типов (ein gewisses organisches Ineinandergreifen
verschiedener grossen Culturtypen), Рюккерт указывает на
следующей (96-й) странице, что это только отвлеченная возможность и что
следует также допустить другую гипотезу, а именно, что вовсе не
произойдет такого взаимодействия между великими культурными типами
человечества, которые изначала даны как индивидуальности и,
следовательно, навеки необходимы (zwischen den verschiedenen grossen
Счастливые мысли H. H. Страхова. 1890
393
Culturtypen der Menschheit die als Individualitäten von Anfang an
gegeben und folglich auch für ewig nothwendig sind). Перед тем на стр.
93 и 94, развивая те же мысли, автор, кроме слова типы —
употребляет еще выражения: культурно-исторические организмы и
культурно-исторические индивидуальности. Вообще же в одной этой
небольшой главе, всего на пяти страницах, слово тип (культурный
тип, тип культуры и т.д.) встречается ровно двадцать раз, а слово
культурно-исторический в этом особом смысле, т.е. в применении
к известным группам в человечестве — три раза.
Сосчитать это я должен был потому, что г-ну Страхову (в его статье
«Новая выходка против книги Н. Я. Данилевского») пришла
счастливая мысль утверждать, что Рюккерт не высказывал идеи культурно-
исторических типов — «и вовсе не употребляет ни слова культурно-
исторический, ни слова тип, — терминов Данилевского» («Нов. вр.»
№ 5231, с. 2, столб. 7). Это до чрезвычайности неверное показание
сделано г-ном Страховым, как он говорит, для того чтобы «обличить»
меня (столб. 4). При всей моей привычке к разного рода обличениям,
такое странное — признаюсь — встречаю в первый раз.
Странности в этой статье начинаются, впрочем, с самого начала,
с эпиграфа. Принимаясь вновь защищать и восхвалять дорогую ему
книгу, г. Страхов во главе этой явно пристрастной апологии поставил
пословицу: не по хорошу мил, а по милу хорош! Кто в чем — а г. Страхов
счастлив в эпиграфах. Издавая книжку в защиту механического
мировоззрения в его крайности и односторонности, исключающей всякое
реальное бытие духовных сил и деятелей, он украсил ее изречением
о любви к Богу. Ополчившись в первый раз против моего разбора книги
«Россия и Европа», — той самой книги, где Данилевский весьма
решительно, хотя и невежественно нападал на моего отца, за исторические
взгляды которого я стою, г. Страхов догадался избрать девизом своей
полемики заповедь: чти отца твоего и матерь твою. Это было так
удачно, что теперь, через два с половиной года после того, как он
выступил с этою счастливою мыслью, почтенный критик еще раз к ней
возвращается, чтобы дать ей следующее, также весьма удачное
объяснение: «Конечно, прежде и больше всего я отношу заповедь к себе
самому, а потом предлагаю ее и другим, не одному г-ну Соловьеву»
(столб. 2). Конечно, авторитет Моисея, «предложившего» эту заповедь
именем Божиим более трех тысяч лет тому назад, нуждался теперь
в авторитетном подтверждении со стороны г-на Страхова, и, конечно,
самый подходящий для этого способ состоял в том, чтобы взять пятую
заповедь эпиграфом к полемике из-за теории культурно-исторических
типов. Поистине счастливая мысль! Что касается до пословицы не по
хорошу мил, а по милу хорош, — то всякий поймет и без объяснений
394
В. С. СОЛОВЬЕВ
автора, что это «прежде и больше всего» относится к нему самому,
к его собственному восхвалению излюбленной им книги.
Г. Страхов — хотя и считает своею обязанностью предлагать
заповеди — отличается тем не менее от Моисея одною характерною
чертою. Еврейский законодатель, как известно, в порыве
священного негодования не задумался разбить скрижали завета, хотя слова
на них и были начертаны не земною рукой. Г-н Страхов, совершенно
напротив, — хотя в качестве врага всякого спиритизма и не может
утверждать за своими писаниями никакого сверхъестественного
происхождения, — хранит, однако, как неприкосновенную святыню,
даже те свои разглагольствия, которые он сам должен признать не
относящимися к делу придирками (столб. 3) и «мелочами» (столб. 7).
Он даже извиняется перед читателями в этих мелочах, но зачеркнуть
их считает святотатством, а между тем и писать-то их не было никакого
уважительного повода. В самом деле, помимо столь удачно поднятого
г. Страховым вопроса о книге Рюккерта, все эти пространные мелочи,
за которые он должен просить извинения у читателей, вызваны одною
мимоходом упомянутою в моей статье биографическою
подробностью да двумя подстрочными примечаниями. Сообщив содержание
одного из них, именно о том, что старые славянофилы, по-видимому,
не считали автора «России и Европы» за своего человека, г. Страхов
восклицает: «Вот на какие аргументы напирает ныне г. Соловьев»
(столб. 3). Странный способ напирать на аргументы — относить
их в подстрочные примечания! Впрочем, отыскивая у меня мнимые
аргументы, чтобы отвести глаза читателей от неудобных
действительных, изобретательный критик попадает и еще удачнее. Так, один
из этих «новых аргументов», которыми я, как он выражается,
стараюсь «подорвать авторитет (!!) Н.Я. Данилевского», он находит
в упомянутом мною вскользь факте, что автор «России и Европы» был
в молодости фурьеристом. В самом деле, какое злостное ухищрение
с моей стороны! Теперь уже, наверное, Данилевский совсем погиб
в глазах читателей «Русской мысли». Славянофила еще перенести
можно, но фурьериста — никогда!
В полемике, как известно, очень редко удается что-нибудь
окончательно уяснить. Поэтому я с удовольствием настаиваю на том, что
в споре с г-ном Страховым по крайней мере один пункт выяснился
для меня вполне. А именно, я с совершенною несомненностью убедился,
что у моего противника термин культурно-исторический тип не
соединяется ни с каким определенным понятием, что он, собственно,
ничего не разумеет под этим выражением и может по его поводу
«предлагать» читателям только свои обычные счастливые мысли. Одною
из них, особенно яркою, — именно, что культурные типы расчленяются
Счастливые мысли H. H. Страхова. 1890
395
на события, — я и воспользовался, к неудобству г. Страхова, который,
не хуже меня зная, в чем дело, постарался прикрыть свое безнадежное
положение в этом пункте молчанием. Но он не сообразил, что молчание
тут было бы целесообразно только тогда, когда бы оно было обоюдно,
и вот теперь, вынужденный хоть что-нибудь сказать об этой важной,
но неприятной для него материи, он посвящает ей следующее
подстрочное примечание: «Это расчленение анатомических групп на
события г-н Соловьев выдвигает против меня уже в третий раз; доживу ли
я до того, что он, наконец, обратит внимание на мой ответ и заглянет
в книгу Данилевского» (с. 3, столб. 2). Зачем мне по этому поводу
заглядывать в книгу Данилевского, на которого я никак не возлагаю
ответственности за все счастливые мысли его удачливого защитника?
А что касается до ответа г-на Страхова, на который я должен обратить
внимание, то о каком же, собственно, ответе он говорит? Мысль о
расчленении культурных типов на события была высказана г. Страховым
в его статье «Наша культура и всемирное единство» («Русск. вестн.»,
июнь 1888 г.); я обратил внимание читателей на эту счастливую мысль
в статье «О грехах и болезнях» («Вестн. Европы», янв. 1889). После
этого г-н Страхов возвращался к нашему спору трижды, а именно в
статье «Последний ответ г-ну Соловьеву» («Русск. вестн.», февр. 1889);
затем, после этого псевдопоследнего ответа, в статье «Спор из-за книг
Данилевского» («Русск. вестн.», декабрь 1889) и, наконец, в
предисловии к 2-му изд.2-го выпуска — «Борьба с Западом». Но ни в том,
ни в другом, ни в третьем случае он ни одним словом не намекнул
на вопрос о расчленении культурных типов; а теперь вдруг патетически
отсылает меня к какому-то несуществующему ответу. Но, быть может,
я действительно так слеп, как утверждает г. Страхов; быть может, по
необходимости читая его последние полемические произведения, я
непонятным образом пропустил в них самое главное, а именно разъяснение
счастливой мысли о расчленении анатомических групп на события.
В таком случае настоятельно прошу г-на Страхова не скрывать от меня
долее той страницы или тех страниц в упомянутых его произведениях,
где находится желаемое мною разъяснение. Если он исполнит это столь
законное и столь легкое требование, я совершенно серьезно обещаюсь
признать свое ослепление, а г. Страхова провозгласить самым
добросовестным писателем во всей вселенной. В противном же случае мне
придется, — оставляя без последствий ссылку г-на Страхова на ответ,
которого он никогда не давал, — настаивать на том грустном факте, что
не в меру сердитый защитник «культурных типов», обозначая их как
анатомические группы, вместе с тем утверждает, что они расчленяются
на события, следовательно, никакой действительной мысли с основным
термином защищаемой им теории не соединяет.
396
В. С. СОЛОВЬЕВ
Как яркую иллюстрацию избранного им эпиграфа: «не по хорошу
мил, а по мил у хорош», г. Страхов приводит из книги Данилевского
и сопровождает выражениями своего восторга несколько общих фраз
о еврействе, какие тысячи раз повторялись всеми писавшими об этой
нации и ее религии (с. 3, столб. 5). Что избитые общие места не только
удовлетворяют г-на Страхова, но и приводят его в восхищение, это —
его дело, и греха тут нет; что все, не совпадающее с излюбленною
им умственною плоскостью, возбуждает в нем, по его собственному
выражению, «злую досаду», — это не совсем хорошо, но довольно
понятно, и большой беды тут также нет. Беда в том, что и
«восхищение», и «злая досада» служат для г. Страхова лишь способом отвлечь
внимание читателей от существенных пунктов спора. Тот факт, что
национальная религия евреев получила универсально-историческое
значение, настолько очевиден, что указание на него есть не более как
общее место. Но вопрос в том, как же с этим общеизвестным фактом
согласить выставленный Данилевским мнимо исторический закон,
по которому духовные начала одного культурного типа не передаются
другим? Еврейство — по Данилевскому — есть особый культурный
тип, и, следовательно, выработанное им духовное начало не могло
сделаться (если бы только существовал упомянутый закон) религией
многих других (Данилевский со свойственною ему точностью говорит:
«всех») народов, принадлежащих не к этому, а к иным культурным
типам. Это явное противоречие было указано г. Страхову неоднократно,
но вотще: он готов говорить о чем угодно, — только не об этом.
Помимо еврейства, существуют еще другие всемирно-исторические
факты, несовместные с мнимым законом духовной непроницаемости
культурных типов (буддизм, неоплатонизм и гностицизм, ислам).
Примирить эти действительные факты с мнимым историческим
законом Данилевского г. Страхов не может, а сознаться в этой основной
несостоятельности защищаемой им теории — не хочет. Поэтому ему
не остается ничего другого, как подменить вопрос. «О чем, —
восклицает он, — Данилевский не говорит, того он не знает, — хорош
вывод!» (с. 3, столб. 4). Кому же, однако, принадлежит такой вывод?
Дело не в том, о чем Данилевский не говорит, а в том, что он говорит,
и именно в его мнимом законе непередаваемости духовных начал
от одного культурного типа другим; этому «закону» прямо
противоречат указанные исторические явления, и, следовательно, при
достаточном знакомстве с ними Данилевский не мог бы выставить
своего столь неверного принципа, — разве только предположить,
что этот писатель был крайне несообразителен или крайне
недобросовестен, чего я о нем не думал и не думаю. Что главное дело тут
в простом незнакомстве автора «Россия и Европа» с историческими
Счастливые мысли Н. Н. Страхова. 1890
397
фактами — на это существуют не отрицательные только, но и прямые
положительные указания. Из того, что Данилевский не упоминает,
например, о Филоне-иудее, никак не следует (по справедливому,
хотя и неуместному замечанию г. Страхова), чтобы он о нем не знал.
Но когда он прямо утверждает, что все представители так называемого
«александрийского» просвещения были чистые греки и что
никакого духовного объединения разноплеменных начал в Александрии
не происходило, то это уже с полною несомненностью доказывает,
что он ничего не знал о Филоне-иудее и о множестве других
«александрийцев», не принадлежавших к греческой нации и работавших
именно над синтезом эллинской мудрости с религиозными идеями
«варваров», т.е. с духовными началами иудейского, египетского,
халдейского и т.д. «культурных типов», — употребляя терминологию
Рюккерта-Данилевского.
Наиболее стараний приложил г-н Страхов к защите политических
взглядов Данилевского, причем также не обошлось без счастливых
мыслей. Так, выражая свое негодование по поводу моего, будто бы
голословного, упрека автору «России и Европы» за принесение живых
народностей в жертву мнимым интересам панславизма, г. Страхов
изумляется и тому, что я называю славянство, как его понимал
Данилевский, фантастическою группою («Новое время» № 5242, с. 2,
столб. 5), а затем на следующей странице сам приводит из «России
и Европы» слова, в которых автор отрицает право на существование
одной из упомянутых народностей, называя ее фантастическою
(«фантастический польский народ») (с. 3, столб. 5).
По мнению г. Страхова, книга «Россия и Европа» вся проникнута
и переполнена обращением к этическому принципу, и он
удивляется, что я этого не заметил. Действительно, не заметил; но ведь зато
я заметил кое-что другое, — например, утверждение Данилевского,
что оба западные вероисповедания представляют собою
безусловную ложь, причем одно из них, сверх того, основано на невежестве,
а другое — на отрицании религии. Об этом г-н Страхов не упоминает,
но зато он взводит на меня два взаимно друг друга уничтожающие
обвинения. С одной стороны, я виноват в том, что, выписывая различные
рассуждения разбираемого автора, не прибавляю к ним ни единого
слова от себя (с. 2, столб. 7), а с другой стороны, я подвергаюсь
резкому порицанию за то, что приписываю своим противникам «глупости
и подлости» (с. 3, столб. 7). Хотя сам я от таких слов в печати
воздерживаюсь, но оспаривать их по существу не стану, если г-ну Страхову
угодно их применить к некоторым мнениям моих противников, которые
я воспроизвожу, не прибавляя к ним ни единого слова от себя. Нет!
«злая досада» — плохой советник!
398
В. С. СОЛОВЬЕВ
Г. Страхов кончает свой «разбор» — говоря, что ему нет ни нужды,
ни охоты разбирать множество других подобных выходок, т.е. большую
часть моей статьи «Мнимая борьба с Западом». Заявление довольно
наивное в конце длинного полемического упражнения. Затем этот
воздержный критик находит, однако, нужду и охоту сетовать на нашу
оторванность от почвы и внушать любовь к исторической, а не к
мечтательной России. Подобные «жалкие» слова говорятся, конечно,
не для того, чтобы что-нибудь сказать, а лишь для того, чтобы скрыть
в данном случае бессилие мысли и шаткость убеждений. Россия велика,
и разных почв в ней много: от иной почвы быть оторванным дай Бог
всякому. И что значит противоположение исторического
мечтательному, когда дело идет о народе живом, не завершившем свою историю,
имеющем будущность? Россия, освобожденная от крепостного права,
была Россией мечтательной сорок лет тому назад, и тогдашние
предшественники г-на Страхова, утверждаясь на исторической почве,
произведшей Салтычиху и Аракчеева, злобно брюзжали на всякую мысль
о человеческих правах крестьянства, как на мечту беспочвенных умов,
создающих «крылатые теории» в безвоздушном пространстве. Так и до-
брюзжали до 19 февраля 1861 г. Впрочем, со свойственною ему
твердостью мысли г-н Страхов свои последние слова сам посвящает какой-то
мечтательной России, которая должна открыть источники живой воды
для воскрешения и напоения чуждых народов. Мечта возвышенная, хотя
до крайности неопределенная. Допустим, что г-н Страхов в нее верит
и надеется на ее осуществление. Но — повторим еще раз его собственные
слова из «Рокового вопроса» : «Только верить мало, и только тешить себя
надеждами — неизвинительно». А еще неизвинительнее — особенно
для такого способного и образованного писателя, как он, —
фальшивыми аргументами поддерживать пустые претензии, вместо того, чтобы
по мере сил работать над очищением наших «источников живой воды»
от грязной тины, которая их затянула и заглушила.
В. С. СОЛОВЬЕВ - А. А. ФЕТУ
25 августа (6 сентября) 1888 г. Вирофле
Вирофле 25 авг./б сент. 88. Viroflay
Дорогой и глубокоуважаемый Афанасий Афанасьевич.
Истинно был обрадован вестью от Вас. И хотя Вы недовольны
жизнью, но я доволен, что Вы живете, если не лучше, то и не хуже
прежнего. Очень часто вспоминал и вспоминаю про Вас с Марьей Петровной,
как в парижской суете, так и в теперешнем уединении. С конца
здешнего, т.е. с половины русского августа я живу в местечке Viroflay,
близ Версаля1, на даче Bonrepos, принадлежащей моему приятелю
Леруа-Больё2, который уехал со своим семейством в деревню к теще
и предоставил в мое распоряжение павильон с садом. Этот сад, весьма
красивый, и смежность большого леса Сен-Клу3 делают мое
пребывание раем земным — до сотворения Еввы4, так как я нахожусь в полном
одиночестве. Впрочем, о рае можно здесь говорить только сравнительно
с парижской гостиницей, наполненной шумливыми и бесцеремонными
американцами. А для настоящего рая в моем Bonrepos помимо Еввы
недостает многого, например рек: Фишона, Тихона, Хиддэкэля и Фрата5.
Не шутя, без воды природа теряет половину своей прелести. Но особенно
недостает мне сравнительно с прошлым летом милого Воробьевского
общества. Полное одиночество прекрасная вещь, и я им наслаждаюсь
после парижской суеты, — но только ненадолго, и, наверное, я не мог бы
прожить так с удовольствием полгода, как прожил в Воробьевке6.
Дела мои в Париже я, насколько мог, устроил.
Книга готова к печати и выйдет, надеюсь, до начала зимы. О
брошюре моей «Idée Russe» было в разных французских и бельгийских
журналах и revues (большей частью религиозных) много хвалебных
статей7. Хвалят между прочим за чистоту французского языка, в
котором я за последнее время действительно усовершенствовался.
Здесь в Viroflay проживу я до 22, т.е. по русскому до 10 сентября,
и если это мое письмо дойдет до Вас своевременно, а Вы с обычной
400
В. С. СОЛОВЬЕВ — A.A. ФЕТУ
Вам аккуратной любезностью захотите тотчас ответить мне, то можете
адресовать сюда: Viroflay, (Seine et Oise), à Bonrepos (cher M. Leroy-
Beaulieu). Отсюда, остановившись на три или четыре дня в Париже, еду
через Лион, Лозанну, Вену, Загреб и Краков — в Москву. Полученные
мною недавно из России известия заставляют меня предполагать, что
в Москве меня оставят ненадолго8, а препроводят гораздо дальше, так
что едва ли Вы будете видеть меня этот год у себя по середам и
воскресеньям. Чем менее разумны такие опасения, тем более они
правдоподобны. Как справедливо во всех языках отличается мудрость
от разума. Настоящая мудрость состоит в том, чтобы, признавая права
разума в теории, как можно менее доверять ему на практике. А из этого
противоречия следует, что безусловное значение принадлежит не
умственной, а нравственной области, в которой никакого противоречия
нет; ибо правила: не любодействуй, или: не воруй сверх должного —
одинаково хороши и в теории, и на практике.
Кстати по поводу мудрости: кто-то написал мне из Петербурга,
что H.H. Страхов изъявлял против меня большое негодование и
раздражение, но, тем не менее, справлялся о моем адресе9. Напишите,
пожалуйста, ему, что его негодование меня удивляет и что я со своей
стороны продолжаю неизменно питать к нему одни добрые чувства
и считать его мудрейшим из всех творений земных.
А что поделывает его идол?10
Чрез француза Вогюэ11 слышал я, что он пишет роман о вреде
любви12. Очевидно, это навеяно браком по любви его сына Илюши13. Как
жаль, что я не имею литературного таланта. Недавно меня обсчитала
содержательница отеля. Вот бы прекрасный случай написать поэму
о вреде гостиниц. Будем, однако, надеяться, что впечатление от брака
Илюши скоро сменится каким-нибудь другим неудовольствием и т.д.
и что эти субъективно-утилитарные романы буду пожирать друг друга
до появления на свет.
Однако, как я заболтался по старой Воробьевской привычке!
Будьте здоровы, мой истинный анти-утилитарный поэт!
Мой сердечный поклон многоуважаемой Марье Петровне.
Приветствую Екатерину Владимировну и всю Воробьевку.
Душевно преданный Вам Владимир Соловьев.
К.Н.ЛЕОНТЬЕВ
Владимир Соловьев против Данилевского
<Фрагменты>
Почти в одно и то же время я получил № 6 «Русского дела», в
котором встретил горячую защиту взглядов Н. Я. Данилевского против
внезапного нападения на него В. С. Соловьева, и оттиск самой статьи
г. Соловьева из «Вестника Европы».
В защитительной статье «Русского дела» основательно замечено,
что наше русское национальное чувство представляется г. Соловьеву
самым главным препятствием для достижения его высшей цели:
соединения церквей под главенством папы.
Не скрою, что видеть имя Соловьева на страницах г. Стасюлевича
мне было тяжело.
Но что делать? Ввиду других целей, тоже ничуть не низких, можно
и примириться с этой неожиданностью.
Этим поступком г. Соловьев доставил возможность более свободного
возражения всем тем, которые до этого отрицательного нисхождения
его в «студенец нетления» не решились бы резко противоречить
положительным сторонам его учения, его главной, духовной цели: спасти
посредством воссоединения церквей наибольшее количество христианских
душ и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе,
к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию.
Нет спора, это так просто, ясно и возвышенно — сделать первый
шаг к примирению двух церквей, разделенных и давно враждующих,
но внутренне соединенных общею «благодатью», как доказывал еще
прежде сам Соловьев.
Конечно, стоит только христианину вообразить себе на мгновение,
что обе церкви — восточная и западная — вместо того, чтобы
изнуряться в борьбе друг с другом, соединили бы свои разнородные силы
против общего врага, против неверия, против всемирной революции,
стоит, говорю я, христианину только на миг вообразить себе это, чтобы
сердце его исполнилось радости!
402
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Этой главной цели стремлений г. Соловьева противоречить надо,
мне кажется, с величайшей осмотрительностью, чтобы не согрешить.
Желанию примирить обе апостольские церкви противоречить грубо
и резко могут, по моему мнению, люди только двух родов: или те,
у которых лично духовное чувство слишком слабо в сравнении с
другими чувствами (национальным, утилитарно-либеральным и т.д.),
или те, напротив, которые так просты в своем крепком православии,
что боятся и не смеют разделять в уме своем настоящее от будущего:
современную, личную и безусловную, принадлежность нашу к
восточному исповеданию от возможностей изменений церковной жизни
в более или менее отдаленном грядущем. Но отделять в самом себе
эти два движения можно. Я могу, в личных действиях моих и даже
в помыслах относительно настоящего, быть в полном подчинении духа
у представителей восточной иерархии и вместе с тем могу говорить себе
так: «Если это соединение церквей, в какой бы то ни было форме, даже
и в форме простого подчинения папе, находится в предначертаниях
Божиих, то придет время, когда наши восточные епископы найдут
это возможным и правильным, и верующие потомки наши обязаны
будут идти за ними хотя бы и "в Каноссу". А если нет — нет\ И
тогда лишь будет решено и ясно, что такое был в свое время Владимир
Соловьев, великий ли пророк истины или лжепророк, захотевший,
на поприще духовном, стать выше духовных властей.
А пока этого еще не случилось, нельзя решить, что он такое, с этой
точки зрения ».
Что касается меня лично, то я нахожу, что и в настоящем даже
проповедь г. Соловьева скорее полезна, чем вредна.
Она полезна двояко: во-первых, общехристианским мистицизмом
своим; во-вторых, той потребностью ясной дисциплины духовной,
которая видна всюду в его возвышенных трудах.
Мистицизм (т.е. расположение веровать в нечто таинственное,
выше видимого мира и выше нашего разума стоящее) до того теперь
нужен человечеству, что не только мистицизм какого бы то ни было
христианского оттенка приносит пользу, отвлекая ум от
господствующей утилитарной пошлости и мелочной практичности нашей, но даже
и всякий мистицизм — мусульманский, буддийский, индивидуально-
фантастический, спиритический и т.д. — может косвенно быть полезен
как вообще для подъема приниженных помыслов наших, так и в
частности для переноса этих высшего порядка мыслей и ощущений в область
православного мировоззрения. Ибо чем больше я располагаюсь к вере
в сверхчувственное вообще, тем легче мне и к своему православию
возвратиться; тем легче мне облечь мою общую веру ума в одежды моей
сердечной любви. Вера родит любовь, и любовь родит веру. Если же
Владимир Соловьев против Данилевского
403
допустить эту общую, хотя бы и косвенную, пользу мистицизма
какого бы то ни было, — то как же не признать еще более действие того
полукатолического (или, если хотите, и вовсе католического в конце)
мистицизма, которым дышат прекрасные книги нашего молодого
и глубокомысленного теософа.
Широкое основание духовно-церковной пирамиды — общее;
вершина ее должна быть в Риме, по мнению г. Соловьева. Мы можем не
соглашаться с этим последним выводом (Владимир Соловьев не Собор
восточных епископов); мы можем, и, вернее, даже мы должны теперь,
как православные, думать и надеяться, что вершина эта отклонится
скорее на Восток, чем на Запад... Это само собою разумеется. Но то, что
он говорит об этих основаниях общих, привлекательно и возвышенно
до гениальности; отвергнуть этого мы не имеем права. Самое своеволие
и самая оригинальность его первоначальных объяснений подкупает
в его пользу даже и зрелый ум, даже и богобоязненное сердце. Его
своеобразное освещение всем известных фактов священной и церковной
истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами
его тонкое, философское остроумие — все это невыразимо освежает наш
ум, привыкший к несколько тяжелым и сухим приемам нашей духовной
литературы, и открывает перед нами новые и светлые перспективы.
Читая его, начинаешь снова надеяться, что у Православной церкви
есть не одно только «небесное будущее» (ибо только в этом смысле
мы обязаны безусловно верить, что «врата адовы не одолеют ее»),
но и земное; что есть надежда на ее дальнейшее развитие на
правильных и древних св<ято>отеческих основаниях.
Возможность появления у нас этого русского самобытного
мыслителя дает верующему право мечтать и о других более правильных
возможностях в области церковно-мистического мышления.
Одно то, что Владимир Соловьев первый осмелился так резко
«поднять», как говорится, целую бурю религиозных мыслей на
полудремлющей поверхности нашего церковного моря, есть заслуга немалая!
Эта буря не скоро уляжется... И не дай Бог ей утихнуть! Это не
рационализм, не пашковская вера, не штунда какая-нибудь, не медленное
течение по наклонной плоскости в бездну безверия, это, наоборот, против
давнего течения, против привычного полупротестантского (со времен
Петра) уклонения нашего; это против нашей «русской шерсти» даже.
Но и это не беда. Мы будем свое отстаивать: он только сильнее
возбуждает нас к отпору... Свое, органическое, предопределенное возьмет
верх; то, что в учении Соловьева не нужно, то будет всеми отвергнуто,
а то, что было нужно (по-моему, например, нужна его теория развития
Церкви), то останется и войдет в состав дальнейшего нашего мышления.
404
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Ищите, ищите на свой страх путей к теократическому устройству
жизни. Пробуждайте в наших почтенных охранителях и в плачевных
либералах наших живую и высокую богословскую мысль! Я люблю ваши
идеи и чувства, уму вашему я готов поклоняться со всей искренностью
моей независтливой природы, — но, я... не только сам не пойду за
вами, — я всякому, кто захочет знать мое мнение, скажу так: читайте его;
восхищайтесь им; восходите за ним до известного предела на высоту
его духовной пирамиды; но при этом храните строго в глубине сердец
ваших боязнь согрешить против той Церкви, в которой вы крещены
и воспитаны. Если в сердце вашем крепок этот мужественный страх
Божий, — не бойтесь и Соловьева; любите и уважайте его. Это твердое
православное чувство научит вас само, где остановиться!
Так я скажу тому, кто захочет знать мое мнение. Я не богослов, с
меня и этого довольно. Я этими соображениями удовлетворен и успокоен
вполне. Таково мое мнение о высших положительных целях Владимира
С<ергеевича> Соловьева.
Таково мое краткое предисловие к отрывочному (сознаюсь) и
недостаточно еще обдуманному разбору его отрицательных взглядов
на Россию, славянофилов и Данилевского.
Здесь конец моему преклонению и пред талантом его, и пред его
оригинальным и важным призванием — направлять куда-то религиозную
нашу мысль. Может быть, и совсем не туда, куда бы он желал\
Здесь я могу быть решительнее: я могу тут сказать без колебаний,
что г. Страхов гораздо правее его в своей оценке замечательных трудов
Данилевского. Я даже постичь не могу, что может сказать г. Соловьев
против общей теории существования и смены культурных типовЧ
Увидим!
Что романо-германский государственно-культурный мир
разлагается, по крайней мере, в антихристианской среде своей — в этом нет
никакого сомнения, и сам г. Соловьев прежде и недавно еще признавал
это (см. «Национальный вопрос в России», стр. 86, 87). Что нужен
поэтому новый культурный тип для истории, это тоже несомненно.
Что славянам именно предназначена какая-то особая роль, — это тоже
признает и сам Соловьев, ограничивая, впрочем, это назначение
преимущественно религиозным призванием — стать и почвой, и орудием
для соединения церквей.
Ведь и это, пожалуй, было бы вроде нового культурного типа).
Особенно при больших взаимных уступках вышло бы нечто такое,
что было бы и не «древнее православие», и не римский католицизм.
Что Россия и славянство нечто еще полу загадочное и особое — тоже,
кажется, нельзя сомневаться.
Владимир Соловьев против Данилевского
405
II
По мнению Влад. Соловьева, у России нет и не должно быть
никакого особого культурного призвания. Назначение русской (и вообще
славянской) цивилизации одно: служить почвой для примирения
православия с папством. Призвание исключительно религиозное; все
остальное и безнадежно, и неважно. Поэтому всякая попытка резко
обособить Россию от Запада в других отношениях: в государственном,
экономическом, в научном, философском и эстетическом, есть попытка
не только тщетная, но и прямо вредная, как помеха и задержка на
главном пути — религиозного слияния всех христиан во единую истинно
Вселенскую Церковь (и не только всех христиан, но и евреев — ибо
«весь Израиль спасется»).
А если так, то надо противоборствовать всему тому, что способствует
национальному и культурному обособлению, к которому теперь
замечается у нас такая несомненная наклонность. Надо прежде всего
поколебать основы того учения, которое зовется «славянофильством»,
и поразить именно тех из его представителей, у которых эти основы
выражены яснее, точнее, научнее, чем у других.
Прежде всего поэтому надо начать с Н.Я. Данилевского и его
систематической и ясной книги «Россия и Европа», с его теории
культурных типов.
Замечательный человек этот скончался, не доживши не только до
заслуженной им славы, но и до справедливой оценки большинством своих
русских сограждан. Даже сами главные представители хомяковского
старого славянофильства очень долго при жизни Данилевского почти
не упоминали о нем. Только один серьезный голос H. H. Страхова
одиноко и мужественно звучал в его пользу с самого начала появления книги
«Россия и Европа». Все другие небольшие и невнимательные разборы,
заметки об этом шедевре или «катихизисе» славянофильства в начале
70-х годов были пусты, легкомысленны, пожалуй, даже и довольно
глупы. Таков, между прочим, и пустейший отзыв Щебальского в «Русском
вестнике» Каткова. Стыдно читать! За самые последние годы
настойчивость г. Страхова стала видимо приносить плоды; имя Данилевского
стало повторяться чаще и чаще, а его идеи стали входить понемногу
и полусознательно в моду даже и у тех, которые с самим источником этих
идей, с его классической книгой, незнакомы. Вот прекрасный случай
повторить старое изречение: «И книги имеют свою судьбу!»
Сам г. Соловьев говорит, что прежние славянофилы: Киреевский,
Хомяков, Самарин, Аксаковы — были скорее поэты, мечтатели, и
только один Данилевский предъявляет более других научные притязания.
406
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
У него все точнее, яснее, и потому он может стать
действительнее, влиятельнее, при условиях все большего и большего успеха, все
большей и большей популярности. Торжество и распространение идей
Данилевского, их дальнейшее развитие, возвышая нашу русскую
национальную гордость, надмевая нас культурно, может стать
значительной помехой на пути того исключительно религиозного призвания,
на которое указывает нам Влад. Соловьев
Ведь всякая национальная религия есть (по Данилевскому) самая
существенная основная черта культурного обособления: ибо весьма
многие даже из тех людей, которые в глубине сердец своих в догматы
своей народной религии не веруют, учению ее в своей личной жизни
строго не следуют, гордятся все-таки ею, как национальным знаменем,
находят полезным поддерживать ее и для государственной
дисциплины, и для национальной своеобразности, и вдобавок еще нередко
любят всей душой ее формы, обряды и т.д., потому что выросли на них
и сроднились с ними.
Итак, национальная религия главная помеха на дороге к Риму.
Однако нападать на нее прямо не совсем удобно с практической
стороны; нельзя ли взяться иначе?
У Данилевского признаются в каждой особой культуре четыре
основы, четыре столба: религиозная основа, государственная,
экономическая и культурная в тесном смысле (наука, философия, искусство).
Государственная основа русская самому Влад. Соловьеву необходима
для его высших целей (как явствует достаточно из его прежних
сочинений). Римский Папа, Русский Царь Самодержец и хорошее гуманное
экономическое устройство: вот что нужно нашему даровитому богослову.
Расшатывать основы государственной силы нашей поэтому г.
Соловьеву ничуть не желательно. Касаться прямо православия, для
подчинения его папству, повторяю, практически неудобно (хотя, быть
может, слегка и желательно*).
Что же делать? Надо (все для расчищения того же пути к
«высшему») пошатнуть более доступные опоры; потрясти основание
собственно культурных надежд; надо развенчать Данилевского и обезнадежить
раз навсегда его учеников и поклонников.
Пусть «Вестник Европы» не может сочувствовать мистическому
стремлению в Рим; он Вестник не действительно великой Европы
Григория VII, Иннокентия III и Пия IX; он Вестник другой Европы —
новейшей (в смысле времени), дряхлейшей (в смысле разложения),
он Вестник Запада легально-революционного,
прилично-мещанского и плоско-отрицательного. Этот Вестник, который не принял бы
* Писано ранее книги «La Russie et l'Eglise Universelle».
Владимир Соловьев против Данилевского
407
на свои страницы изложения положительных теологических взглядов
г. Соловьева, примет на них с радостью все то, что будет, в мало-мальски
цензурной форме, отрицательно относиться к русской национальности.
И вот появилась статья под тем же самым заглавием, под каким
напечатана была книга Данилевского: «Россия и Европа».
«Поражу пастыря и разыдутся овцы!» Посмотрим, как поразил
он этого «пастыря»?
По моему мнению, в первой, по крайней мере, статье, он поразил
его довольно слабо, в увлечении умственной страсти своей!
Некоторые указания его можно обратить против него самого.
Например, о теориях крылатых и ползучих.
III
<...> у Влад. Серг. Соловьева различие теорий «крылатых» от теорий
«ползучих» основано на двух довольно простых признаках: на разнице
их отношений к будущему и на разнице их отношений к прошедшему
и современному.
Относительно прошедшего и современного (я на первый раз их
соединяю в одно, противополагая их совместно более или менее гадательному
будущему) г. Соловьев сам высказывается <...> так: «Они (ползучие
теории) крепко держатся за данные основы общества и никогда не
поднимаются на значительную высоту над современною им жизнью». Такие
теории, «привязавшись к современному им типу общественных отношений,
выдают их за нечто окончательное и непреложное»... И дальше: «Малая
доля поверхностного идеализма, которым приправлены подобные
"трезвые" взгляды, дает легкое удовлетворение ленивой и робкой мысли».
Это относительно современных или данных основ. Когда мы
говорим: современные или данные основы, то само собой разумеем при этом
и прошедшее той нации, того государства или той культуры, о которой
идет речь; ибо основами называются в этом случае те из начал,
правящих жизнью современного нам общества, которые неизменнее других
продержались, или с самого зарождения данного общества, или с эпохи
его утверждения до наших дней, до современности. Православие —
это основа с зарождения (с Владимира). Удельный же и вечевой
порядок не основа; никто не станет считать его основой ни современной,
ни вообще русской жизни; а самодержавие как Иоанна III, так и ныне
царствующего императора всякий считает основой, хотя оно
утвердилось позднее, на развалинах более древнего удельно-вечевого строя.
Эмансипационный, либеральный порядок, водворившийся у нас
с прошедшего царствования, также никто не станет называть основой.
408
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Самый умеренный, средний в этом вопросе человек не скажет, что
принцип личной свободы крестьян есть основа. И если даже он считает
эту реформу безусловно благодетельной, то все-таки он мыслит так,
противополагая несколько гуманность и свободолюбие
государственности; т.е. он понимает, что нельзя такое новое и недавнее состояние
освобожденного народа равнять с точки зрения прочности (основности)
с состоянием того векового порабощения, при котором Россия из
полудикого агрегата княжеств возросла до степени великой и просвещенной
мировой монархии. Такой человеколюбивый и средне-либеральный
человек нашего времени должен будет все-таки признать, что личная
свобода крестьян никак не основа, а скорее несколько противоосновное
состояние. Она, эта свобода, может быть (по его мнению, положим)
государством Русским переносима надолго, но и то лишь благодаря
крепости других основ: православия, монархии; благодаря
прикреплению крестьян к земле, какому-то подобию социалистического рабства,
вместо лично феодального, как было прежде, и, пожалуй, еще благодаря
кой-каким, хотя и слабым, но ничем у нас пока не заменимым остаткам
дворянской властности и дворянских привычек. Все основы
стеснительны для большинства: это должно быть признано, я думаю,
социологической аксиомой. Все, что усиливает личную свободу (т.е. своеволие)
большинства, не есть основа, а большее или меньшее расшатывание
основ. Это тоже, мне кажется, пора признать вполне ясным. Перенести
кой-как свободу — можно, считать ее основой — нельзя.
Итак, все то, что можно назвать основой, в данной современности
есть нечто и стеснительное, и связанное неразрывно с прошедшим
государства и нации.
И тот, кто обвиняет другого за то, что этот другой крепко держится
за современные основы, обвиняет его в тесной связи и с прошедшим
нации, государства и целой культуры.
«Крылатая» теория поэтому та, которая наименее связана с
прошедшим, с историей, с бывшим и существующим; «ползучая» — связана
теснее мыслями своими с этим существующим и прошедшим, с этим
уже бывшим в истории или пребывающим в ней.
Это по отношению к современному и прошедшему.
IV
Как бы ни был самобытен полет нашей мысли и нашего воображения,
но совершенно оторваться от исторических представлений и от
современной почвы нам невозможно; и сам г. Соловьев облек, наконец, свои
первоначально неясные мистические потребности в весьма конкретную
Владимир Соловьев против Данилевского
409
и практическую форму примирения двух современно существующих
апостольских христианских церквей. От готового, от данного
прошедшей и современной историей и он не избавился. И не только он не
избавляется от этого готового, но почти предрешает заранее форму этого
примирения, склоняя весы свои явственно в пользу Рима, то есть прямо
в пользу старой, давно помимо его фантазии существующей формы, быть
может, с самыми ничтожными изменениями в уступку православию.
В этом отношении он гораздо выше и практичнее Макса Мюллера,
желающего примирения всех религий земного шара в какой-то общей
и никому не понятной вере. <...>
Г. Соловьев не таков: он несравненно практичнее, он предлагает нам
дело ясное, простое и, по-видимому, осуществимое. Стоит нам,
восточным, признать только, что патриархи Фотий и Михаил Керулларий
были менее правы, чем римские папы их времени, и при этом смирить
нашу национальную гордость, и примирение подготовлено.
Признаем ли мы это? Смиримся ли? И когда?.. Это, с его точки
зрения, вопрос только практических препятствий: «Ce qui est différé n'est
pas perdu!» Это вроде разрешения Восточного вопроса: «Carthago est
delenda» — «Царъград должен быть взят», «if будет взят», но когда?
Через год, через два? Или через 20 лет? Это расчеты приложения; это
сроки практических препятствий. Во всяком случае, проповедь Соловьева,
по крайней мере, в общем представлении уже совершенно ясна.
Пади пред ним (пред папою), о царь России!
И встань, как всеславянский царь!
И за эту почти до грубости доходящую ясность цели мы, русские
(в области национальной мысли ясностью вовсе не избалованные),
должны быть Соловьеву как нельзя более признательны.
Наконец-то что-нибудь по осязательной цели понятноеХ Против
ясного, против понятного и спорить легче. Знаешь, с чем
соглашаться и чему противиться. Извольте, например, понять, чего хочет
гр. Л.Н. Толстой, хотя бы по вопросу о «невоспитании детей» или
о «непротивлении злу». Я отказываюсь понять и знаю, что очень
многие даже сомневаются, думает ли в самом деле гр. Толстой то, что
говорит; слишком это уж бессмысленно и темно! Или потрудитесь
также постичь Достоевского в его Пушкинской речи об окончательной
мировой гармонии*. Не о космической, не об мистической всеобщей
гармонии он, видимо, тут говорит. Нет! не о какой-то таинственной
«новой земле под новым небом» он пророчит; в таком пророчестве,
о таинственном, эта неясность была бы уместна... Но Достоевский,
видимо, пророчит окончательную гармонию социальную, историческую,
410
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
международную, имеющую водвориться только благодаря некоторому
преобладанию русского народа с его «смирением» и вообще с его
высшими нравственными качествами. Неужели эти высшие специально-
нравственные качества у народа нашего уж так несомненны? Так ли
надолго они устойчивы, если они даже и существуют в самом деле?
Хорошие русские духовники и вообще монахи, зная народ, например,
не хуже литераторов, не слишком-то с этим согласны; они, между
прочим, находят, что у крестьян смирение значительно уменьшилось
со времен эмансипации. Они находят еще, что там, «где недостаточен
непосредственный страх Божий, посредственное влияние страха
человеческого, т.е. начальства, весьма полезно». Дворянство от
эмансипации много смирилось — это правда; мужик же значительно вознесся.
Удобно ли это для обучения в будущем всего человечества любви и
гармонии, не знаю! Туманно это, как и многое в области русской мысли,
и, должно быть, именно благодаря этой патетической туманности
речь Достоевского имела такой успех. Из туманного и слишком
общего выходов много, и это многим нравится. «Как хочу, так и пойму».
Из этого же тумана великорусских нынешних мечтаний в свое время
и даже очень скоро вышел на прямую дорогу и Вл. Соловьев. Известно,
что он прежде до того поклонялся Достоевскому, что даже придавал
большое значение одному из самых слабых его романов, на крайне
избитую тему написанному: «Униженные и оскорбленные».
— Хорошо! — сказал, быть может, сам себе г. Соловьев. Хорошо!
Для реального осуществления этой благородной мечты учить других
любви посредством смирения необходима форма. Без ясной и духовно-
принудительной формы туман самый благоухающий и позлащенный
рассеется. Надо его кристаллизовать; русское нравственное содержание
(вера, смирение, любовь) должно быть замкнуто в крепкую
догматическую и властную форму. У нас, восточных, веры еще много; но власть
церковная слаба. Я возьму с собою все, что у нас есть хорошего: теплоту
веры в народе, еще не иссякшую; распущенную доброту нашу; это самое
«смирение», которым восхищались так справедливо (?) и Тютчев, и все
славянофилы, и Достоевский, и которое мы столько раз проявляли даже
и в политической жизни нашей (призвание варягов, европейские
реформы Петра и т.д.). Я отнесу все это в Рим и повергну к стопам западного
первосвященника. Восток всегда давал содержание, Запад — форму!..
Не так ли думал Соловьев, выходя из «облаков» Достоевского на свою
твердую дорогу?
— Ясно, по крайней мере!
Желательно или нет — это другое дело. Осуществимо или нет, тоже
другой вопрос. Я говорю — слава Богу, что ясно, наглядно донельзя,
вполне целеосмысленно, так сказать. А мы давно уже от ясных и твер-
Владимир Соловьев против Данилевского
411
до стоящих на пути нашем целей отвыкли. Если нам это желательно,
пойдем за ним; если нет, будем ему препятствовать всячески.
Ради Бога, дайте нам освежиться хоть сколько-нибудь на этом
понятном, оформленном, ясном. Довольно с нас, довольно всей этой
испаряющейся теплоты, всей этой общей морали, всех этих слов и чувств: любви,
смирения, гармонии; всех этих благих и великих «журавлей», несущихся
за облаками и без того еще помраченного и серого славянского неба.
Г. Соловьев дает нам в руки нечто существующее, реальное, хотя
и освященное мистическим началом и не мелкое что-нибудь, а в высшей
степени интенсивное и широкое.
Мистический дух Соловьева воплотился. Без сильной духовной
(церковной) власти не будет прочности даже и в той любви, в той
моральной гармонии, о которой другие русские идеалисты так
благородно заботятся! Вот решение.
С этим (вторым) основанием нельзя не согласиться. Для
всенародной морали необходима опора мистики. Твердость видимой этики
зиждется прочно на вере в невидимое. «Начало премудрости (нравственно-
практической) — есть страх Божий*. Страх Божий поддерживается
превосходно страхом человеческим (жрецами в союзе с воинами); душа
наша, и в особенности собирательная душа многомиллионных народов,
удобопревратна и требует беспрестанно осязательных коррективов.
Она требует безусловного авторитета и сильной власти как духовной
(Церкви), так и мирской (государственной, царской)...
И тогда, успокоенные в совести нашей, обеспеченные более
теперешнего в нашем вещественном бытии, мы, русские, научим и всех
других людей: «гармонии, смирению, любви». Вот идеал.
Правда, что после этого церковного примирения мы, вслед за
Соловьевым, опять вступаем недоверчиво в область слишком привлекательных
моральных миражей, и полет наш дальнейший (под его руководством)
снова становится слишком уж бесплотным; но, во-первых, мы хоть
на короткое время отдохнули на вообразимом, отвели душу на
осязательном (на папстве в сочетании с русским монархизмом и т.д.);
а во-вторых, все дальнейшее, все то прекрасное, что за примирением
последует, может иметь уже несколько апокалипсическое значение.
Значит, все-таки более определенное, чем хорошие чувства «любовь,
гармония» и т.д. Предполагающий во всем этом нечто апокалипсическое
видит все-таки пред собою какие-то пределы, хотя и весьма растяжимые,
как известно, но все-таки пределы, данные нашей ненадежной морали
извне Откровением или той же «Церковью». Мы видим опять форму,
правда, еще загадочную, таинственную, но в существенных чертах все-
таки ясную: будет конец свету земному, надо готовиться; надо усилить
христианство; надо возвеличить Христову Церковь; надо в ней слить
412
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
воедино: чистоту предания (Православие), духовную властность (Рим)
и хоть некоторую свободу богословского движения (протестантство).
И так далее. И это все-таки гораздо яснее и тверже русского «смирения»,
веславянской «любви», всечеловеческой «гармонии» и т.д.
Разумеется, если бы в нынешних человеческих обществах хотя бы
в течение нескольких веков все реальные силы соединились
(насколько это возможно), дружно стремясь к одной цели — утверждению
вселенского христианства, то была бы и наша, эта земная, реальная
жизнь иная!
V
Все три теории: теория Платона, теория В л ад. Соловьева и теория
Данилевского имеют свое достоинство, свою относительную
приложимость в будущем и свое оправдание в прошедшем. Их вовсе не трудно
примирить, все три, между собою; но примирение это легко только в
самых общих их чертах. Данилевский говорит нам: Европа разлагается;
нужен новый культурный тип, новая государственная культура.
Платон указывает нам, что без некоторого порабощения
промышленного и земледельческого классов мудрецам (жрецам) и воинам
не будет прочна никакая государственная система.
Влад. Соловьев убежден, что без обновления теократических сил
дальнейшая жизнь человечества будет почти бессмысленна, а может
быть, даже и невозможна надолго.
Все три взгляда как нельзя более согласуются и в этих общих
основаниях, и в общем их практическом выводе: нужен новый культурно-
государственный тип. Для того, чтобы он продержался несколько
веков, ему нужна более твердая, чем теперь, сословная организация;
во главе этой сословной организации должна стоять духовная
иерархия, более независимая и от светской власти, и от народа, чем теперь.
Это относительно общих основ трех теорий. Только они, эти общие
основы, верны, или по крайней мере правдоподобны, в том печальном
смысле, что если уже нигде на земном шаре невозможны более ни новый
культурный тип, ни крепкая сословность, ни покорность теократии,
то все человечество осуждено сперва на демократическое всесмешение,
а потом на медленное вымирание или на внезапную гибель.
Если же этому всесмешению должен быть на долгое время, примерно
на 10 веков или несколько менее, положен предел, то иного средства нет
к воздвижению подобного предела, как целым рядом изменений,
колебаний, смут, войн и примирений дойти до утверждения самобытного
культурного типа, с новой сословностью и с обновленной теократией.
Владимир Соловьев против Данилевского
413
Все это так. Но когда мы обращаемся к частным, к прямым целям
этих трех теорий, тогда у нас возникают основательные сомнения;
тогда невольно хочется еще раз спросить: не в Америку ли они все нас
ведут вместо Ост-Индии?
С Платоном это и случилось. Вместо Эллады приблизительное
осуществление его идеала произошло через 1000 лет после него, в Европе.
Впрочем, Платон, видимо, составлял теорию для теории; он писал
для удовлетворения только собственной философской потребности
определить вообще условия государственной стойкости. Когда
современники его предлагали ему стать Ликургом или Солоном своей
собственной теории, то он отказался, видимо, не веря в ее чистую
и точную приложимость. Веря в правильность общих оснований своих,
он, значит, не верил в близкую возможность найти для своей общей
идеи частную, конкретную форму. Он сам сознавал в этом бессилие
свое; понимал сам, в чем его собственный недостаток.
Частную эту форму, при всей верности общего положения, так
трудно заранее определить, что и в том наиболее подходящем проявлении,
на которое справедливо указывает Ранке, встретилось следующего
рода противоречие.
С одной стороны, действительно похоже: папа и католическое
духовенство, рыцари, подчиненные общины и рабочие. Но с другой
стороны, эта самая эпоха, наиболее на государство Платона похожая,
большинством историков считается малогосударственною эпохою,
сравнительно с теми позднейшими временами, когда началось
значительное перемещение социальных сил. Государственность
европейская, в строгом смысле, начала более определяться и уясняться
под конец этого средневекового периода; именно тогда, когда
монархическая власть, с одной стороны, а среднее сословие — с другой,
стали приходить в некоторое приблизительное равновесие и с
иерархией, и с дворянством, то есть к эпохе Возрождения и Реформации,
во времена Карла V, например, Франциска I, Генриха VIII, Елизаветы
Английской, до времен Людовика XIV и Вильгельма Оранского
в Англии включительно.
Значит, и то вышло, но не совсем то; и даже если взглянуть на дело
с вышеуказанной точки зрения строго-государственной, то и вовсе не то.
А все-таки основания верны. И при Людовике XIV, и при Вильгельме
Оранском и религия была еще очень могущественна и воинственное
дворянство еще везде преобладало над средним и рабочим классами.
Платон, я говорю, и не определял с точностью ни места, ни времени,
ни частной формы для осуществления своего идеала. Но Данилевский
и Соловьев гораздо более его определяют своим надеждам и место,
и частную форму. О времени же они не говорят; они оба понимают,
414
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
что это самый опасный камень преткновения. В жизни в этих временах
и сроках иногда вся сила, но как их уловить и предречь в будущем?
Эта большая определенность пророчеств Данилевского и Соловьева
и составляет их сравнительную слабость. В этой именно большой
конкретности скептический ум и может усмотреть их Ахиллесову пяту.
Нужен новый культурный тип; но славяне ли разовьют его, как
надеется Данилевский?
Можно ожидать обновления теократического начала, но будет ли
эта теократия непременно римско-католическая, как верит Влад.
Соловьев?
Вот два вопроса!
Что славяне, с Россией во главе, произведут на время некоторое
уклонение в русле всемирной уже истощающей свои силы, уже
стареющей истории, это довольно правдоподобно. Что в уклонении этом
будет довольно много антиевропейского или, точнее сказать,
антилиберального, антисовременного, это для успеха подобного отклонения
даже необходимо.
Но дадут ли славяне действительно резкий и очень живучий,
хотя бы и односторонний, культурный тип, или только будут
кратковременно преобладать, в виде явления переходного к чему-нибудь более
выразительному, это уже гораздо труднее, при нынешних данных,
решить.
История представляет нам несколько степеней подобных
перерождений и уклонений. Возьмем три степени: 1) греко-македонское
владычество, 2) Рим и Византия, 3) романо-германская Европа.
Греко-македонское владычество над соседним юго-востоком было
сравнительно краткое. От Александра Македонского (323) до
окончательного покорения царства Птоломеев римлянами (30 л. до Р.Х.)
всего 293 года. Следов культурной самобытности это владычество почти
никаких не оставило. Было много учености, творчества не было. Вся
задача этого времени была, кажется, в том, чтобы смешать воедино
посредством внешней государственной власти эллинизм с бытом
восточных царств. Отчасти и в том, чтобы посредством взаимного
проникновения эллинской республиканской муниципальности с азиатским
мистическим царизмом приготовить почву римскому освященному
религией кесаризму.
Македонской литературы, македонской философии нет; есть только
греческая литература и греческая философия; при македонском
владычестве нет и македонского государственного учения, нет македонской
государственной культуры; были только македонские государства.
Другое дело Рим и Византия. Эти оба типа уклонились несравненно
дальше, чем македоняне, от всего предыдущего. Перерождение в них
Владимир Соловьев против Данилевского
415
уже глубокое. Обе культуры, оба государства, прилагая к ним
терминологию Данилевского, одноосновные.
У Рима своя великая государственная система, свое политическое
учение, своя культурная государственность, а не просто государство,
как было у македонских царей. У Византии небывалая дотоле великая
религиозная система, свое резко от всего отделившееся мистическое
учение, свое первое, по времени, в мире христианское государство.
В изящной литературе Рим языческий был еще довольно
самобытен и лиризмом, например, пожалуй, что и превосходил Элладу;
красноречием тоже славился. Но о философии римской и не говорит
никто; быт римский очень походил на быт эллинов, проявляя, однако,
под конец все сильнее и сильнее наклонность к более богатым
азиатским внешним формам (модам, обычаям и т.д.) и к восточному, более
сердечному у мистицизму. Но в сфере юридической, политической,
государственной Рим был вполне культурен, т.е. самобытен и могуч.
Он был с этой стороны не только владыкой мира, но и наставником
ему. Это его великая одноосновность.
Одноосновная же, подобно языческому Риму, была и христианская
Византия. Это было, как уже сказано, первое в истории государство
христианского исповедания. Это обстоятельство, не знаю почему,
очень многими забывается.
Даже сам Данилевский, перечисляя все культурные типы, забыл
Византию. Говоря именно об одноосновных культурах: еврейской,
эллинской и римской, он должен бы был к этим трем прибавить и
четвертую одностороннюю цивилизацию, именно эту византийскую.
Всех культурных типов у Данилевского перечислено десять:
1) египетский, 2) китайский, 3) халдейский (ассиро-вавилоно-фи-
никийский), 4) индийский, 5) иранский (персидский), 6) еврейский,
7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или аравийский
(мусульманский) и 10) романа-германский (европейский).
Не могу понять, почему одиннадцатый тип, византийский, им
пропущен? Он упомянул даже особо о двух скоро погибших культурах нового
света, мексиканской и перуанской, которые находились в еще большем,
чем китайцы, обособлении от всего остального исторического мира.
О китайцах древние все-таки имели смутное понятие и звали их серами...
«Дрожат ли пред мощным в восточной пустыне индейцы и серы?» —
говорит императору Августу Гораций.
Но об Америке никто до Колумба не знал.
По-моему, оставляя в стороне Перу и Мексику, исторических
культурных типов надо считать одиннадцать с Византией.
Впрочем, говоря о религиозной одноосновности византийской
культуры, в государственном отношении бывшей в значительной мере
416
К. H. ЛЕОНТЬЕВ
продолжением Рима, не надо забывать о богатой ее литературе
догматически-философской, богослужебно- или молитвенно-л прической,
нравственно-аскетической и церковно-исторической («Жития», например). Все
это было в высшей степени самородно, оригинально, ново. Дух во всей
этой литературе единый, творческий и дотоле небывалый: роды
литературные почти все: от лиризма акафистов, канонов и тропарей, пожалуй,
даже до некоторого подобия драматизму в богослужебных действиях.
Если про римскую лирику и красноречие можно сказать, что они и
рядом с греческими образцами не теряют ничуть своего достоинства и даже
имеют за собою некоторое преимущество (лирика римлян, несомненно,
очень романтична, горяча, развита, искренна), то как же можно было
забыть об этой духовной византийской литературе, которая до сих пор,
конечно, живет и при этом неизмеримо популярнее и Гомера, и Шекспира.
Если вспомнить и обо всем этом, то хотя, пожалуй, тип Византии
все-таки останется одноосновным, ибо литература эта от религии в этом
новом типе так же неотделима, как и у евреев, но признать вообще
особое и величайшее культурное значение этого типа станет очевидно
необходимым. Наконец, можно ли было забыть, что та же Византия
дала миру неподражаемые и недосягаемые образцы всех родов
церковного искусства: в зодчестве — св. Софию, в иконописи — Панселина,
в пении — все бесчисленные божественные напевы, коими
оглашаются и — как можно верить — до конца мира будут оглашаться во всей
вселенной православные храмы?
Византия прожила с лишком 1000 лет, подобно Риму, так что
ни Византию, ни Рим нельзя считать только чем-то переходным, вроде
греко-македонского владычества. И продолжительная жизнь, и
внутреннее самобытное содержание у них, всякий знает, неизмеримо высшее.
За Римом и Византией возникла романо-германская культура,
гораздо более их сложная, богатая и, во всецелости взятая, по отношению
к прошлому в высшей степени оригинальная!
Не две основы — научно-художественную и государственную — надо
признавать в ней, как признает Данилевский, но три, ибо нравится ли
нам католицизм или нет, но не признавать его истинно великой
религией было бы большой и тенденциозной натяжкой.
Исказил ли римский католицизм христианство, по Данилевскому
и другим славянофилам, или он развил его правильно, по Соловьеву;
во всяком случае, чего же еще могущественнее, самобытнее в истории,
новее в свое время и влиятельнее, как папский этот Рим! И косвенные
его воздействия, и самые антагонистические отражения бесчисленны
и в культурном смысле многоплодны.
Итак, относительно будущего России весь вопрос сводится к тому,
чем она может быть при устарении Европы: государством ли без особой,
Владимир Соловьев против Данилевского
417
без поражающей ум государственной системы, наподобие македонских
царств, или одноосновным культурным миром, какими были Рим
языческий и христианская Византия; или трехосновным столь же
содержательным типом, как романо-германский мир.
Или, наконец, превзойти и этот последний богатством своим, дать
вселенной впервые пример типа четырехосновного: то есть решить
лучше (не окончательно — это невозможно — а только лучше), чем
смог в свое время решить мир романо-германский, все четыре главные,
основные вопросы исторической жизни: религиозный вопрос,
государственный, экономический и художественно-философский.
Над всем этим можно и должно задуматься.
VI
Я сказал, что, размышляя о книге Данилевского «Россия и Европа»
и принимая за истинное открытие его общую мысль, его теорию смены
культурных типов, можно все-таки иногда усомниться в том: мы ли —
славяне, способны дать истории истинно новый культурный тип или
надо ждать его позднее из обновленного Китая или пробужденной
Индии? Можно также повторить себе вопрос, что мы такое: в высшей ли
степени свежие и потому оригинальные варвары, вроде германцев,
бессознательно определивших (лет 1000 и более тому назад) своими
нашествиями и завоеваниями будущий стиль западной цивилизации,
или же только несравненно менее оригинальные (и очень схожие с
эллинами) римляне, которые уже в полном развитии государственных
сил своих стали преобладать политически над соседями разного рода
и проникаться их культурными и религиозными началами?
На такие вопросы, конечно, можно дать в разной степени
отрицательные ответы; на второй решительнее, чем на первый. Увы! Конечно,
мы давно уже не варвары в хорошем (в корень обновляющем) смысле
этого слова! Мы разве только римляне, и то не характером души нашей,
а судьбами нашей истории.
Но ведь и Римская республика была не совсем похожа на эллинскую;
и Римская империя была слишком многим непохожа на восточные
Царства. Помириться можно и на этом; и с этих точек зрения не только
можно, но и следует возражать Данилевскому, чтобы избегнуть
глубокого и горького разочарования в будущем.
Но уверять, что Данилевский «пресмыкается» мыслью, что он
держится слишком сильно за данную действительность; находить, что
идеализм его такой уже «поверхностный», как находит и уверяет автор
«Национального вопроса» и «Религиозных начал», — это непостижимо!
418
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Неужели Данилевский в самом деле так привязан к современности
русской?!
Сам Данилевский, положим, с точностью и прямо об этом вопросе
не высказывается; ибо ему, естественно, и в голову не могло прийти
в то время, когда он писал свою книгу, что его кто-нибудь может
обвинить в простом консерватизме. Он сам понимает, что нужно много
усилий для совращения нынешней России с пути того европеизма,
на который ввел ее своими реформами Петр I. Значит, он готов даже
и на такие крайности, которые бы противоречили основным
стремлениям Петра и состояли бы с ними в естественном антагонизме. Явно
из этого, что Данилевский стоит за движение вперед, за сильный и
бесстрашный процесс развития, а не за одни «данные» современности.
Понятно, кроме того, что под развитием он разумеет вовсе не
«конституцию» — не дальнейший и неуклонный эгалитарный процесс
и не какое-нибудь пустое распространение так называемых «знаний»
в народе. Это было бы с его стороны слишком глупо и уж совсем по-
« европейски», совсем в дурном смысле «современно».
Правда, Данилевский в некоторых местах сбивается еще на нечто
почти общепринятое у нас в 60-х годах; он не в силах отрешить вполне
свою мысль от впечатлений того эмансипационного периода, в котором
он сам жил, развивался и писал свою книгу. Сочинение это обширно,
изложено систематически и зрело обдумано. На это нужно было время.
Сочинение было напечатано впервые в «Заре» 69 года.
Допустим, что оно было обдумано и писалось в промежуток между
польским мятежом и Франко-прусской войной, пред началом которой
оно и появилось. Эти года от 63 до 69-го были временами
наибольшего средне-либерального самодовольства нашего, и Данилевский
(человек 40-х годов) не мог не заплатить этому дань. Реформами
и он был доволен; с европейскими судами он мирился, утешая себя
даже весьма ребячески тем, что и в англосаксах когда-то было
много славянского, что у нас в древней России были когда-то «губные
старосты» и т.п. Отзываясь с большой исторической благодарностью
о крепостном (уже уничтоженном) праве, считая это право в свое
время необходимым для устроения Руси, он, однако, не разделял
в перевороте 19 февраля 61 года двух противоположных сторон:
лично либеральной (европейской) от
консервативно-коммунальной (русской). Рискованное освобождение от власти помещиков
он еще не различал глубоко от спасительного прикрепления народа
к земле; не различал в том смысле, что, основательно восхваляя
последнее, слишком доверчиво, сочувственно относился и к первому.
Он говорил, что, пройдя сквозь вековое и необходимое воспитание
крепостничества, народ теперь созрел для «гражданской свободы».
Владимир Соловьев против Данилевского
419
Это все, конечно, остатки современного «европеизма», и в этих случаях
его мысль действительно «пресмыкается» и даже бессильно бьется
в либерально-эгалитарных силках. Но кто же в то время был от этих
силков свободен? И Катков, и Хомяков, и Аксаков, и Самарин — все
так или иначе были ослеплены и запутаны в них! Катков полжизни
был полулиберальным европейцем.
<...> Нужна вера в дальнейшее и новое развитие византийского
(восточного) христианства (православия), в плодотворность ту
райской примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное intus-
susceptiol властной и твердой немецкой крови и т.д.
Чем больше в нас, славянах, будет физиологической примеси и чем
больше в то же время религиозного единства между собой и бытового
обособления от Запада, — тем лучше! Будет и гораздо больше
идеализма для себя, и несколько больше той насильственности для других,
на которую вовсе неосновательно нападают и сам Данилевский, и все
остальные славянофилы. Я дальше надеюсь доказать, что и самому
г. Соловьеву необходима некоторая доля этой насильственности в
русских для его же собственных планов.
У Данилевского таких либерально-европейских ошибок очень
много, и не в них, конечно, его заслуга. Заслуга его в том, что он той
самой теорией культурных типов, которую Вл. Соловьев собирается
опровергнуть, дал нам нечто вроде научной основы для избрания
дальнейшего самобытного исторического пути (если возможно), или
по крайней мере дальнейшего исторического мышления, если паче
чаяния мы даже и в римляне не годимся, а имеем только одно, почти
механическое (македонское) призвание очень большой и неотразимой
метлы всесмешения от Великого океана2 до Атлантического и от родины
орангутанга и слона до отчизны моржа и белого медведя.
И для такого почти отрицательного призвания нужны идеи
антиевропейские.
Я сказал «паче чаяния» и, конечно, спешу это еще раз повторить.
Пессимист, так сказать, космический, в том общем смысле, что зло,
пороки и страдания я считаю и неизбежными, и косвенно
полезными для людей «дондеже отымется луна», я в то же время оптимист
для России, собственно для ее ближайшего будущего, оптимист
национально-исторический, и только.
Я не могу, например, просто отогнать мысли, что Данилевский прав,
полагая, что Россия (или всеславянство) решит со временем наилучшим
образом собственно экономический вопрос. Ведь он на очереди; этого
скрыть нельзя; и мы на очереди...
Глубина нашего хозяйственного расстройства, надеюсь, приведет
нас не к гибели, а к вынужденному обстоятельствами самобытному
420
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
творчеству. Решение это может приобрести позднее и всемирное
значение, хотя все-таки не окончательное, как желали бы многие; ибо
ничего окончательного в смысле всеобщего и вечного удовлетворения
на земле никогда и не будет. Не будет этого окончательного до тех пор,
пока не случится то, о чем говорит сам г. Соловьев в прекрасной книге
своей «Религиозные основы жизни». «Наука (говорит он на стр. 4 и 5),
занимающаяся общими законами и свойствами вещественных явлений
(физика), приходит в наиболее глубокомысленных своих взглядах к
тому откровению, что как все явления в мире суть лишь различные виды
движения, обусловленные неравномерностью того общего движения
в телах, которое называется теплотою, и как это последнее непрерывно
уравнивается, то, при окончательном его уравновешении, всякие
явления в мире неизбежно прекратятся, и вся вселенная разрешится
в одно безразличное и неподвижное бытие».
Вот это в самом деле окончательно. И к подобному концу мы должны
непрестанно обращаться с религиозными помыслами нашими, подчиняя
им наши исторические взгляды... При этом, однако, и о временных
решениях, улучшениях и утверждениях мы не только имеем право думать,
но мы, по самой подвижной природе нашей, вынуждены о них заботиться.
Раз же предположивши, согласно с Данилевским, что мы решим
наилучшим (то есть сносным и в сносности этой довольно прочным)
образом экономический вопрос, мы можем уже на одном этом
основании приравнять себя по крайней мере к римлянам, односторонним
творцам неслыханного до них государственного и гражданского права,
а уж не к македонским завоевателям, которых вся задача, кажется,
состояла только в том, чтобы греческих республиканцев приучить к жизни
под царями, а восточным людям показать, что, кроме богов и царей,
бывают еще на свете Софоклы и Сократы, Платоны и Фукидиды.
Нет! Этого нам уж слишком мало!
VII
Человечество стало теперь несравненно самосознательнее против
прошлого, и теории ему в наше время нужнее, чем когда-либо.
Покойный И. С. Аксаков любил говорить, что «историческое
сознание следует теперь по пятам за событиями». Эта неустранимая
потребность сознательного отношения к жизни не может (именно
вследствие силы своей) удовлетворяться только одними
объяснениями прошедшего, но ей естественно нужны и реальные пророчества
будущего, хотя бы ближайшего.
Без какого-нибудь, хотя бы и неясного, плана и в старину не
действовали, тем более необходимы теперь эти планы, эти теории. Они должны
Владимир Соловьев против Данилевского
421
быть в наше время даже много яснее прежних, избегая только, с одной
стороны, излишнего предрешения подробностей, а с другой — не
забывая силы сроков.
Данилевский дает нам твердый фундамент в православии, в
царстве, в общине поземельной. Он не запрещает нам строиться выше,
по-нашему, на этом основании. Он окрыляет нас надеждами на
твердом народном якоре. Держась за некоторые общие, готовые данные
«почвы», он не стесняет ничем дальнейшего полета русской мысли.
Напротив того, он рассчитывает на этот полет; он его подразумевает,
и нигде не видно, чтобы он считал формы русской жизни 60-х и 70-х
годов окончательными. Хорош был бы такой культурный тип.
У нации с истинно культурным типом и самая одежда, и самые
обычаи должны быть оригинальны; моды, пляски, приличия, вся
эта внешность должна стать более или менее своей. Это вернейший даже
признак созревающей самобытности. Эта внешность вовсе не пустяки,
не форма без содержания, как ошибочно думают многие. Это такой же
важный признак, как формы цветов на растении.
Нет еще ничего подобного — значит, мысль своя не созрела;
значит, вкусы свои еще не страстны и не смелы в своем своенравии;
потребности свои не сильны, робки, недостаточно идеальны... Вот
то, например, в чем мы самобытнее всего, сильнее, независимее
всего, в области церковной, тут у нас, у восточных, и все это внешнее
оригинально и красиво.
И Данилевский, этот серьезный, отчасти нелюдимый (как слышно
было про него) человек, заботится об этой общественной внешности.
Он посвящает этим модам и внешним обычаям несколько
превосходных страниц.
Он понимал, что это внешнее, не говоря уже об эстетическом
значении своем, имеет еще и другое значение, значение субъективное:
оно есть признак зрелости национального духа, вступающего наконец
во все свои права, ищущего во всем живой индивидуализации своей.
Я не имел счастья знать лично Данилевского, я никогда не
встречался с ним; но г. Страхов, бывший ему другом, может, вероятно,
дополнить многое недостающее в книгах его из тех бесед, которые
он с ним вел в последние годы.
Где же в нашей жизни теперь признаки, благоприятные для
успеха у нас католической проповеди? Их вовсе нет. И я, который пишу
отчасти тоже против г. Соловьева, еще один из самых благоприятных
его идеям русских людей. Другие, по разным причинам (не всегда
одинаково умным и хорошим), отступают чуть не в ужасе от его
мыслей, даже и восхищаясь его талантом. Я же, хотя и не без оговорок
422
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
обязательной православной богобоязненности, но считаю все-таки
его проповедь не только гениальной по таланту, но и весьма полезной
по обще духовному, ко внутренней дисциплине склоняющему,
влиянию. Много ли в настоящее время русских, относящихся к трудам
г. Соловьева так, как я отношусь, восхваляя общий дух и не смея
сочувствовать его прямой цели? Много ли? Знаю еще двух-трех людей —
не более... А число приверженцев Данилевского все растет и растет...
X
Отчасти с г. Соловьевым можно и согласиться: Рим не Рим (а что-
то иное, восточное), но, разумеется, усиление подвигов мистицизма
и высшей этики в России гораздо желательнее чрезмерного
разрастания чисто ученого труженичества.
Но вот у меня почти нечаянно сорвалось с пера именно то слово,
которое здесь нужно: чрезмерное разрастание. Где же эта мера? О
мере этой надо сказать то же, что и о сроках. Определить ее заранее нет
средств; помнить о ней необходимо во всем.
Весьма возможно, что у нас еще не достигнута та черта
насыщения ученым материалом, при котором создаются капитальные
вполне самобытные труды, проливающие совсем новый свет на
общечеловеческую науку, и появляются такие поражающие открытия,
какими в свое время были: открытие кислорода Лавуазье, гипотеза
Гюйгенса (световые волнения эфира), или открытие ячеек в тканях
животных и растительных, или палеонтологические прорицания
Кювье и т.д.
Прежние старые наши ученые, уже окончившие или кончающие
свое поприще, о которых с похвалой упоминает г. Соловьев, в свое
время запасшись вдоволь европейским материалом, принялись за
несколько самобытную работу ума и, как и следовало ожидать, самый
первый и видный всем шаг на этом поприще сделали не натуралисты
или доктора, а гуманисты, историки, богословы. Самобытная работа
этих русских умов обратилась прежде всего на наши исторические,
религиозные и национальные особенности. Умы эти, достаточно,
говорю я, запасшись чужим (западным) материалом для приобретения
необходимой самоуверенности, обратились по естественному чувству
прежде всего к тому, что и западным людям было менее доступно или
совсем неизвестно и что у нас самих было вовсе сознанием еще не
осмыслено именно вследствие той непривычки долго думать об одном
и том же, на которую сетовал когда-то Катков.
Владимир Соловьев против Данилевского
423
Шаг за шагом эти труды привели и к той теории культурных типов,
которую автор ее (Данилевский) справедливо приравнивает сам к
открытию Бернаром де Жюсье естественной классификации растений.
Данилевский был тоже человек 40-х годов, надо это помнить. Крепкий,
сословный, крепостнический строй, при котором росли все эти люди
40-х годов, покойное течение жизни при императоре Николае I дали
им возможность развиться не спеша и зрело.
Все они роптали на этот строй, все они более или менее пламенно
прилагали руки к его уничтожению; но как они, так и лучшие поэты
наши и романисты обязаны этому сословному строю в значительной
мере своим развитием. Всем им: Каткову, Герцену, славянофилам,
Данилевскому было уже за 40 или под 40 лет в 61 году, когда вдруг
произошел известный перелом. Они его встретили уже вполне
зрелыми, но вовсе еще не устаревшими людьми. Некоторые из них (Катков,
И. С. Аксаков, Данилевский, отчасти Самарин) именно после переворота
и принесли жатву тех семян, которые посеяны были в них при других
условиях; другие же, как, например, Хомяков, хотя и свершили свое
назначение прежде перелома, но на свет, так сказать, вышли все-таки
после него (вследствие цензурных и других облегчений). Я говорю,
до 40 лет все эти люди жили в прежней, крайне неравноправной и
жесткой России, созревали на ее спокойном и досужном просторе. В них
совершилось одно из тех таинств психического развития, которые наука
еще не в силах до сих пор удовлетворительно формулировать; в идеале,
в сознании — они все более или менее ненавидели этот крепостнический
и деспотический строй (и напрасно, конечно), но в бессознательных
безднах их душ эпоха эта, благоприятная досужной мысли, свершила
свое органическое независимое от их воли дело.
При таких ли условиях росли и развивались младшие люди 60 годов,
то есть те, которым теперь только за 40 лет? Нужно ли
распространяться о том, в каком смятенном состоянии они зрели? Сперва было
не до науки. Сначала от напряжения радостной мысли, что мы
«свободны», что мы теперь «настоящие» европейцы, что нам перед Европой
уже не стыдно, как было прежде (до эмансипации); потом от изумления
перед вовсе неожиданным в такую, казалось бы, счастливую минуту
безграничным отрицанием «Современника», «Русского слова» и т.п.
Все кинулись в борьбу социальную и политическую... Раздавались даже
крики, что нам вовсе и не нужны науки, а нужен «хлеб и благоденствие
общее». Г. Соловьев был тогда ребенком; но нам, имевшим в 61 году
около 30 лет, все это очень памятно. Из молодых в то время
наибольший успех и славу имели только революционеры вроде Добролюбова
и Писарева. И знамя борьбы против них подняли не ровесники их,
а всё люди прежней зрелости: Катков, Аксаков, отчасти Достоевский
424
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
(в журнале «Время»), Аполлон Григорьев, насколько успел; кое в чем
Краевский и Дудышкин (в «Отечественных записках» 60 годов) — всё
люди 40 годов; все почти 40-летние люди или старше еще. Мало-помалу
умственный хаос стал приходить в более ясное состояние: револю-
ционерство сознательное, ясное, крайнее покинуло поприще мысли
(считая, конечно, раз и навсегда, по-своему — в принципе все это
решенным и не подверженным даже сомнению) и обратилось к действию,
к заговорам и убийствам. Революционерство же мирное и умеренное,
законное и постепенное, у большинства его приверженцев
бессознательное, продолжало (до 80-х годов) преуспевать и господствовать на всех
поприщах нашей жизни, доводя почти до отчаяния тех немногих тогда
прозорливцев, которые хорошо понимали, куда это нас ведет. Эти,
частию бессознательные, частию прямо злонамеренно легальные
разрушители, повинуясь старому преданию верить в примеры Европы,
продолжали свое гибельное дело на всех поприщах жизни нашей
и по всем ведомствам, так сказать, нашей государственности, в делах
церковных, в войске, в школах (особенно низших), в судах и
журналистике... Так шло дело от рокового 61 года до ужасного 81 года.
Наконец «бездна», зиявшая давно в дали (довольно близкой,
однако, для глаз дальнозорких), разверзлась даже и перед слабыми
умственными очами бессознательных и «добрых» наших либералов.
И они наконец-то в ужасе отступили. К счастью, другие люди (Аксаков,
Катков) приготовили нам убежище под кровом
государственно-церковной национальности нашей, которой столь многие из нас прежде
не дорожили, не понимая ее. Умеренный либерализм стал выходить
из моды. Умеренный либерализм для ума есть прежде всего смута,
гораздо больше смута, чем анархизм или коммунизм. Анархизм и
революционный коммунизм — враги открытые и знающие сами чего
хотят; одни хотят только крайнего разрушения, ищут дела ясного
и даже осуществимого (на время); другие имеют идеал тоже очень
ясный, хотя и неосуществимый, полнейшее равенство и счастье всех.
Во всяком случае и они знают чего хотят, и мы знаем это; и взаимное
понимание возможно, и борьба на жизнь и смерть поэтому легче.
Либерализм же умеренный и законный, лично и для себя, и для других
в настоящем безопасный и покойный, для государства в будущем,
иногда и очень близком, несравненно опаснее открытого анархизма
и всех возможных заговоров. И он не только опасен, он умосмутите-
лен, так сказать, по своей туманной широте, по своим противоречиям,
по своей безопасности.
И вот в этом-то умственном хаосе, от 60-х до 80-х годов, росли и зрели
именно те умы, которым теперь пора бы уж было принести те научные
плоды, на отсутствие коих не столько сетует, сколько просто указыва-
Владимир Соловьев против Данилевского
425
ет г. Соловьев. (Просто ли, впрочем? Не с удовольствием ли человека
убежденного, «что не в этом и дело наше».)
Преобладающее в обществе направление умов не только действует
на выбор карьеры молодыми людьми, на их личные взгляды и т.п.,
но оно, сверх того, действует неотразимо и на теоретическую сторону
жизни юношей, на выбор точек зрения, на освещение фактов при
умственной работе и т.д. Чем же таким национальным, самобытным,
оригинальным могли освещать за все это двадцатилетие свой
научный материал умы младшие, когда умы старшие, зрелые более или
менее, так или иначе почти все стремились к уничтожению у нас
всех прежних остатков национального, оригинального, самобытного
в самой жизни? Надо дивиться еще, как такое свое еще сохранилось
кое-как у нас! Надо восхищаться тем, что оно (это свое) оказывает еще
такую способность к возрождению!
Нечем своим было и вдохновляться юношам за все это время опытов
разрушения всего русского. А какое-то вдохновение, какое-то наитие
нужно для великих шагов даже и в естественных науках, не только
в гуманитарных.
Но с другой стороны, в это же самое время (от 60-х до 80-х годов)
в среде той же русской молодежи распространялась все больше и
больше и та привычка к ученому труженичеству, к собиранию материала,
о котором идет наша главная речь. Чрезмерность этого труженичества,
конечно, вредна (как я говорил уже) смелому, не боящемуся частных
ошибок творчеству мысли; но без некоторого упрочения этой привычки
у многих у в наше время, вероятно, уже и невозможно творчество мысли
у избранных. Необходимо же знакомство с предшественниками для
того ли, чтобы превзойти их, для того ли, чтобы опровергнуть. И сам
г. Соловьев (которого можно, как я сказал, считать человеком 70-х
годов) хотя, конечно, избранник по творчеству, однако потрудился же
очень много и над чужим материалом, понес много и «черной работы».
Наши младшие (70-х и 80-х годов), видимо, еще не разобрались.
Они готовятся сказать свое слово, и шансы у них теперь уже очень
выгодные:
1) Знаний гораздо больше прежнего.
2) Благоговения перед Западом несравненно меньше.
3) В воздухе вокруг них: жажда самобытности не политической только
(давно уже имеющейся у нас), но и умственной, национальной,
духовной самобытности. Имя Данилевского узнается все больше и больше.
Книги H. H. Страхова читаются все больше и больше молодыми людьми.
Когда же это бывало прежде?
Вот куда теперь дует ветер! Надолго ли, не знаю наверное. Но
похоже, что надолго.
426
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
Владимир Соловьев против Данилевского
(Незавершенные главы)
IX
Читаешь — и не веришь глазам своим. Перечитываешь — и
начинаешь сомневаться в своем собственном понимании слов и мыслей автора!
Такого безнадежного взгляда на Россию, такого отрицания — мы еще
не встречали ни у кого!* Даже — социалисты русские (за исключением
тех из них, которые по складу личного ума и характера верят только
в силу всеразрушения) и те надеются, по крайней мере, на возможность
экономического благоденственного у нас переустройства... Мне пишут
из Москвы, что некоторые молодые люди патриотического настроения
повержены были на первых порах в глубокое уныние по прочтении
статьи г. Соловьева. Чувство их понятно, но оно не основательно.
Пусть утешатся. Г. Соловьев хочет верить в то, что ему желательно;
но мы, не ослепленные его философской страстностью, его
пламенной любовью к избранной им идееу не имеем никаких побуждений
или оснований для соглашения с ним в его особого рода пессимизме:
пессимизме национальному так сказать. Если даже допустить, что
он прав в главном пророчестве своем, в конечной цели своей
проповеди, то есть в том, что рано или поздно произойдет соединение двух
ныне враждующих сестер-церквей, то до этого еще далеко. Еще много
до тех пор воды утечет, и произойдет до тех пор многое множество
таких событий, которые должны будут сильно отразиться на
деятельности русской мысли.
Если допустить, что г. Соловьев, говорю я, и прав в своей
«крылатой» прозорливости, то все-таки он прав только относительно, так, как
бывает прав человек, устремивший взор свой издали на очень высокую
и величавую гору. Что видит ясно такой человек? Он видит хорошо
две крайности: он видит, с одной стороны, общее очертание этой
синей и дальней горы; и еще он видит у ног своих траву, камни, мелкие
кусты и немного впереди — на какие-нибудь версты две, до вершины
первой возвышенности, заслонившей ему весь остальной вид, быть
может, на несколько десятков верст до подошвы той самой дальней
и самой высокой горы, на вершину которой он устремил свой взор.
Ничего промежуточного он не видит и не хочет знать. Но те, которым
придется идти (сознательно или бессознательно, охотно или невольно)
к этой высшей и дальней горе, сколько изворотов, сколько трудных
подъемов и крутых спусков они встретят на пути своем именно по тому
* Т. е. у B.C. Соловьева.
Владимир Соловьев против Данилевского
427
промежуточному пространству, которое отделяет точку современного
отправления от этой окончательной (положим) цели! Какие дикие
пропасти, быть может, какие стремнины, какие красивые виды и
успокоительные долины для временного утешения и отдыха!
Мы думаем об этих ближайших изворотах исторической дороги
нашей, об опасности этих ужасных и недалеких уже ущелий и
обрывов и об веселых и зеленых долинах, которые мы еще не отчаиваемся
встретить — на пути этом. Г. Соловьев ничего этого знать не хочет.
Он видит в настоящую минуту под ногами своими песок и камни,
плохой кустарник и мелкую траву — и ему кажется, что до самой
большой горы — все будет так.
Но это просто невозможно] Если бы было даже похоже на то, что
примирение церквей в духе Соловьева произойдет лет через двадцать,
не более, так и в таком случае, разве это возможно — сделать вдруг?
Разве не будет полемики? А если будет полемика, то будут же
писаться очень хорошие (быть может, даже и великие) сочинения в защиту
православия; будет же значительная деятельность в области
национальной мистики. Разве не будет предварительных совещаний,
съездов, соборов, — борьбы?.. Конечно, предполагая именно конец в духе
Влад. Соловьева, надо предположить и предварительную в высшей
степени пламенную умственную борьбу...
Но ведь борьба подобного рода невозможна без некоторого,
приблизительного равенства сил. Допустим даже, что победа выпадет
на долю папства; разве эта победа будет куплена дешевой ценой при том
глубоком у нас (до несправедливости даже, я согласен) отвращении
к католичеству, которое г-ну Соловьеву по личному опыту хорошо
известно; при возрастающей образованности и учености восточного
духовенства; и при несомненной теперь наклонности и светских людей
в России принимать к сердцу вопросы религии? Можно ли вообразить,
что при таких условиях умственная «почва национальной мистики»
в России будет бесплодна? Не в молчании же будут следовать
православные люди по дороге в Рим?
Война, конечно, будет; и не рассчитывая ничуть сравнительной
силы войск, не взвешивая даже и финансовых обстоятельств наших, —
исход военной борьбы будет нам наверное благоприятен, судя по всем
слишком уже явным историческим приметам. Трудность
(историческая) не в этой острой и всегда более или менее кратковременной
борьбе, — истинная трудность в борьбе дальнейшей, более медленной,
культурной, конечно! И тогда-то и окажется — почти с первых же
шагов наших, достойны ли мы были высоких надежд Данилевского
(и славянофилов вообще) или недостойны. Химическое ли начало —
428
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
русский дух, перерождающее и содержание, и форму, или только
механическое (перемещающее силы)? Огромное ли мы только
всесокрушающее государство у или истинно великая и зиждительная нациям
Я говорю — первые шаги покажут, что мы такое. Куда мы идем?
И эти первые шаги (худые ли они будут или хорошие) неизбежно
должны быть тогда сделаны на почве церковного домостроительства-, ибо
весь вековой дух Восточного вопроса — был дух единоверия,
церковности, а не дух племени, не тот дух голой национальности (амор-
фической, разрушительной), который создал лишенное всякой
культурной независимости единство новой Германии и единство Италии,
уже совершенно пошлой и даже как бы комической и подлой в своей
международной роли. Церковность — культурна, созидательна; голый
племенной национализм разрушительно плоек. Мы попытались было
ему послужить (да и то не без оглядки, слава Богу!) в 60-х и 70-х годах
и до сих пор не знаем, как поправить те беды, которые сами наделали
на Востоке.
Разумеется — что-нибудь одно: или церковность, или быстрое,
очень быстрое нигилистическое разложение, после кратковременной
напыщенности и громких газетных фраз — политического торжества.
Но разве эта неотступность церковной работы, которую г. Соловьев
не может отвергнуть, разве она не потребует новых и просвещенных
трудов по части национальной мистики!
А.Ф.ЛОСЕВ
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов
(A.A. Фет, И.С. Аксаков, H. H. Страхов)
Творчество Фета всегда было для Вл. Соловьева чем-то пленительным
и поучительным. «Чистая поэзия» Фета вызывала у него неизменную
симпатию. И они настолько сблизились, что Вл. Соловьев бывал даже
в имении Фета в Воробьевке, проводя время в весьма утешительной,
поэтически-творческой обстановке. Фет в то время переводил «Энеиду»
Вергилия, и Вл. Соловьев ревностно и с любовью ему в этом помогал.
Он писал своему брату Михаилу: «Перевожу с Фетом Энеиду. Валяем
по 80 стихов в день...» *. Если IV песня «Энеиды» переводилась ими
совместно, то песни VII, IX и X были переведены самим Вл. Соловьевым.
При этом надо заметить, что перевод Вл. Соловьева звучнее и легче
переводов Фета. О своем пребывании у Фета Вл. Соловьев так писал
сестре Надежде 5 мая 1887 года: «Я вспоминаю о вас, ходя по
здешнему парку, и во внимание к вашей заботливости о моем здоровье стал
с нынешнего дня пить железную воду из здешнего источника, в
котором, по исследованиям знающих людей, столько же железа, сколько
в Кавказском железноводском... Я более или менее здоров, продолжаю
вести правильный образ жизни. Здесь началась жара с дождями
вперемешку, березы и тополи распустились, черемуха цветет, соловьи
поют, фонтан плещет...» **.
В июле 1887 года в Воробьевке Вл. Соловьев помогал Фету в
композиции его «Вечерних огней», защищая при этом Фета от
неумеренной критики H.H. Страхова, тоже гостившего в это время в
Воробьевке. Характерно, что свою книгу «Вечерние огни» Фет подарил
Вл. Соловьеву с надписью: «Зодчему этой книги».
* Соловьев Вл. Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 106.
г* Цит. по: Соловьев СМ. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева.
Брюссель, 1977. С. 266.
430
А. Ф. ЛОСЕВ
Казалось бы, более счастливой дружбы, чем та, которая была между
Вл. Соловьевым и Фетом, нельзя себе и представить. Но вот в чем
дело. Фет во многом подражал пантеистической эстетике Гёте и, кроме
того, любил и даже переводил Шопенгауэра. До тех пор, пока речь шла
о «чистой поэзии» и о погружении в мир поэтического освобождения
от тревог и страданий жизни, Вл. Соловьев был единомышленником
и Гёте, и Шопенгауэра, и Фета.
Вл. Соловьев никогда не был принципиальным пантеистом; и
если некоторые моменты его философского и поэтического творчества
соприкасаются с пантеизмом, то это либо простая случайность, либо
результат неточных формулировок. В основном он всегда был и
оставался христианином, и притом православным. Красота природы
никогда не имела для него самодовлеющего значения, будучи лишь
отдаленным подобием бесконечного божественно-личного
совершенства. Фет не любил христианства и откровенно над ним посмеивался.
Для Вл. Соловьева это было тем более неприятно, что Фет оказался
отъявленным карьеристом, использовавшим для себя всякие
православные и неправославные связи и в конце концов добившимся для себя
звания камергера 26 февраля 1889 года при содействии великого князя
и поэта Константина Константиновича, который считал Фета своим
учителем. Правда, карьеризм Фета был вынужденным и обусловлен
был тягчайшими обстоятельствами его личной судьбы. Как к этому
должен был относиться Вл. Соловьев, человек всегда либеральный
и добросовестный, которому противны были даже намеки на подобные
карьерные методы? Вероятно, уже и в 1887 году дело не обходилось
без споров на эту тему между Вл. Соловьевым, Фетом и его женой
Марьей Петровной. Во всяком случае, по религиозной и православной
части Вл. Соловьев и Марья Петровна имели общий язык и выступали
сообща, а вот с самим Фетом этого общего языка у Вл. Соловьева здесь
не было. На Пасху 1887 года, то есть непосредственно перед своим
приездом в Воробьевку в 20-х числах апреля, Вл. Соловьев начал свое
письмо Фетам от 9 апреля: «Христос воскресе, дорогая Марья Петровна,
здравствуйте, дорогой Афанасий Афанасьевич! » *. Что же касается ка-
мергерства Фета, то отношение Вл. Соловьева к этому обстоятельству
достаточно ясно по следующим стихам:
Жил-был поэт,
Нам всем знаком,
Под старость лет
Стал дураком.
* Письма, III. С. 115.
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов...
431
Однако дело здесь было, конечно, не в дурости. В 90-х годах, после
того, как Фет покончил самоубийством*, Вл. Соловьев уже в самых
серьезных тонах с ужасом и жалостью вспоминает свою погибшую
дружбу с Фетом, когда сам Фет является ему во сне и обращается
с горькой и беспомощной просьбой не забывать о нем. Таковы стихи,
посвященные памяти Фета, 1895, 1897 и 1898 годов.
Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все — как долго мог он жить...
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?
Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он все сказал, что дух ему велел, —
Что ж для меня не стал он бестелесен
И взор его в душе не побледнел?..
Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...
Непримиренное вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.
16 января 1897
Огромное значение для понимания творческой судьбы Вл. Соловьева
имеет и его резкое расхождение со славянофилами в 80-х годах.
Расхождение это создавало для философа какую-то беспокойную
внутреннюю атмосферу, поскольку ему приходилось расставаться
с близкими для него людьми, часто вызывавшими у него глубокое
уважение.
Примером тому может служить полемика Вл. Соловьева с Иваном
Сергеевичем Аксаковым, человеком близким и дорогим для философа,
началом которой стала статья Вл. Соловьева «О народности и
народных делах» **. Аксаков воспринял эту статью как выступление против
дорогой ему национальной идеи и в 6-м номере «Руси» за 1884 год
написал резкий ответ философу, обвиняя его в отсутствии любви
к России. Весьма необоснованно Аксаков замечал, что слово «любовь»
вовсе и не встречается в критикуемой им статье Вл. Соловьева, что
* О самоубийстве Фета обычно не говорится. О необычном характере этого
самоубийства трактуют: Федина В. С. A.A. Фет (Шеншин). Материалы к
характеристике. Пг., 1915. С. 47-53; Благой Д. Д. Мир как красота (статья в изд.:
Фет А. А. Вечерние огни. М., 1971. С. 630).
** Соловьев, V. С. 24-38.
432
А. Ф. ЛОСЕВ
это понятие подменяется философом понятиями «верить» и
«служить». Вл. Соловьев разъяснил свою позицию в открытом письме
И. С. Аксакову («Любовь к народу и русский народный идеал», 1884)*.
Ни в коей мере не отрицая значение народности, философ весьма
определенно сказал о своем понимании русского национального чувства:
«...Силою разума и доброй воли, поднимаясь над своею национальной
ограниченностью, мы можем лучше пользоваться своею народной
особенностью»**. Что же до славянофильского национализма, то
«хулить то, что худо, хулить национализм с его самолюбием — не только
позволительно, но даже нравственно обязательно» ***.
Ради иллюстрации того, с какой тревогой и беспокойством
относился Вл. Соловьев к И. С. Аксакову (скончавшемуся в 1886 году),
приведем письмо Вл. Соловьева к Анне Федоровне Аксаковой, вдове
И. С. Аксакова. С ней философ всегда поддерживал самые дружеские
отношения.
Вот что он пишет ей 14 июня 1888 года из Парижа: «По приезде
в Париж в первый раз видел во сне Ивана Сергеевича. Очень яркий
и, кажется, знаменательный сон. Будто мы с Вами разбирали бумаги
и читали печатные корректуры писем И. С. Встретилось какое-то
недоразумение, и Вы меня послали на могилу И. С. спросить его самого.
Около могилы был недостроенный дом. Я вошел туда и увидел И.С,
очень больного. Он позвал меня за собой, и мы перешли в другое
здание, огромное и великолепное. Тут И. С. сделался вдруг совсем
молодым и цветущим. Он обнял меня и сказал: я и мы, все помогаем
тебе. Тут я спросил его: разве Вы не сердитесь на меня, И. С, за то, что
я не согласен со славянофильством? Он сказал: да, немного, немного,
но это неважно. Потом мы вошли опять в недостроенный дом, и И. С.
опять изменился, лицо его сделалось бледно-серым, и он падал от
слабости. Я посадил его на красное кресло с колесами, и он сказал: здесь
мне нечем дышать, неоткуда жизнь брать, скорее туда: — Тогда я
повез его на кресле к великолепному зданию, — но тут меня разбудили.
Утром я помнил больше подробностей этого сна, теперь они сгладились.
Это было, должно быть, 27 или 28 апреля...»****.
Можно по-разному интерпретировать это сновидение Вл. Соловьева.
Но как бы его ни интерпретировать, оно, безусловно, отражает
беспокойные и неуверенные настроения Вл. Соловьева в связи с
выступлениями против славянофилов.
* Соловьев, V. С. 39-57.
** Соловьев, V. С. 44.
*** Соловьев, V. С. 51.
г*** цит# по: Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. С. 278.
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов...
433
Приведем еще один факт, свидетельствующий о беспокойном
состоянии духа Вл. Соловьева в конце 80-х годов. Дело в том, что он уже давно
был в дружеских отношениях с H. H. Страховым, одним из крупнейших
представителей так называемого почвенничества (весьма близкого
к славянофильству) и поклонником Н.Я. Данилевского, известная
книга которого «Россия и Европа» впервые появилась в журнале «Заря»
в 1869 году, а отдельным изданием — в 1871 году. В статье «Россия
и Европа» («Вестник Европы», 1888, № 24) Вл. Соловьев критиковал
эту книгу Данилевского, и к тому же острейшим образом*.
Он писал, имея в виду H.H. Страхова, «по мнению ее (т.е. книги
Данилевского. — А. Л.) почитателей, книга эта есть "катехизис или
кодекс славянофильства"»**. Однако после короткого исторического
экскурса Вл. Соловьев весьма определенно отделяет раннее
славянофильство (например, Киреевского) от националистических воззрений
Данилевского, Страхова и им подобных. «Те утверждали, что русский
народ имеет всемирно-историческое призвание, как носитель
всечеловеческого окончательного просвещения; Данилевский же, отрицая всякую
общечеловеческую задачу, считает Россию и славянство лишь особым
культурно-историческим типом — однако наиболее совершенным
и полным...»***. Вл. Соловьев не ограничился общими рассуждениями,
но дал критический анализ и частных вопросов в книге Данилевского,
разобрав его мысли об особой русской, отделенной от европейской,
науке, об литературе и так далее****. Соглашаясь с тем мнением, что «Россия
еще довольно крепка физически», Вл. Соловьев призывает не кичиться
этой силой и видит истинный патриотизм не в «силе и призвании»,
но в осознании «грехов России» как собственных грехов, в стремлении
избавиться от них*****.
H.H. Страхов, в свою очередь, критиковал («Русский вестник»,
июнь, 1888) эту оценку книги Н.Я. Данилевского Вл. Соловьевым.
И вот теперь Вл. Соловьев вновь опровергает рецензию H.H. Страхова
и печатает в «Вестнике Европы» (1889, № 1) статью под названием
«О грехах и болезнях»6*. Весьма иронически отреагировав на
объявление его «врагом отечества»7*, Вл. Соловьев еще раз четко и
недвусмысленно определяет свою позицию в споре: «Статья "Россия и Европа"
* Соловьев, V. С. 82-147.
** Соловьев, V. С. 84.
*** Соловьев, V. С. 90.
**** Соловьев, V. С. 103.
***** Соловьев, V. С. 147.
6* Соловьев. С. 267-286.
7* Соловьев, V. С. 267.
434
А. Ф. ЛОСЕВ
была написана на тему о немощах русского просвещения и о пустоте
славянофильских претензий»*. Страхов же, «заменяя возражения
изобретением» **, приписывает ему утверждение «безнравственности
принципа народности». Именно это вынудило Вл. Соловьева
окончательно сформулировать восемь главных тезисов «о народности вообще
и о России в частности». Они заслуживают и полной их публикации,
но здесь, в теме нашего исследования, мы ограничимся лишь первыми
двумя. « 1. Народность есть положительная сила, и всякий народ имеет
право на независимое (от других народов) существование и на
свободное развитие своих национальных способностей. 2. Народность есть
самый важный фактор природно-человеческои жизни, и развитие
национального самосознания есть великий успех в истории
человечества» ***. Национализм же (и славянофильство как его разновидность)
Вл. Соловьев определяет как извращение национальной идеи, в нем
«народность» превращена в «отрицательное усилие», и «усилие»,
«опасное для высших человеческих интересов и ведущее самый народ
к упадку и гибели» ****. Философ весьма смело и даже дерзко говорит
о том, что в современной ему России истинная национальная идея
«находится в подавленном болезненном состоянии и требует коренного
исцеления » *****.
Летом 1890 года Вл. Соловьев пишет вторую статью против
Страхова — «Мнимая борьба с Западом» («Русская мысль», 1890, № 8)6*,
на которую Страхов ответил статьей в «Новом времени» (1890,
№ 5231). Наконец, в конце осени того же года последовал новый
ответ Вл. Соловьева — «Счастливые мысли H.H. Страхова» («Вестник
Европы», 1890, № II)7*, написанный в столь обидном тоне, что личные
отношения между ними испортились окончательно. Что же это за
настроение, под влиянием которого Вл. Соловьев критикует теперь своего
старого приятеля?
В письме брату Михаилу (на обратном пути из Парижа, 16
декабря 1888 года) говорится: «...Страхов, которого я люблю, но которого
всегда считал свиньей порядочной, нисколько меня не озадачил своей
последней мазуркой, и хотя я в печати изругал его как последнего
мерзавца, но это нисколько не изменит наших интимно-дружеских и даже
* Соловьев, V. С. 267.
** Соловьев, V. С. 272.
*** Соловьев, V. С. 270.
**** Соловьев, V. С. 272.
***** Соловьев, V. С. 272-273.
6* Соловьев. С. 287-311.
7* Соловьев, V. С. 312-319.
Вл. Соловьев и литературные деятели 80х годов...
435
нежных отношений»*. Как видно, настроение Вл. Соловьева в этом
письме, во всяком случае, слишком сложное, чтобы быть спокойным.
Это подтверждается и другим письмом кМ.М. Стасюлевичу от 7
декабря 1888 года: «Вчера очень торопился отправить конец статьи, даже
не перечел как следует. Если найдете какое-нибудь личное обращение
слишком грубым или какую-нибудь шутку тяжелою — зачеркните,
пожалуйста... Я знаю, что в последнее время и в известных кругах Страхов
стал пользоваться чуть ли не авторитетом, и изобличить его восточные
грехи дело, по-моему, не бесполезное, хотя и очень скучное. Это первая
и, я надеюсь, последняя статья, в этом роде мною написанная, и я
почувствовал вчера большое облегчение, сдавши на почту последние
листы»**.
Наконец, большой интерес представляет последнее письмо Вл.
Соловьева к H. H. Страхову (на этом их переписка прекратилась) от 23 августа
1890 года, написанное вскоре после окончания статьи «Мнимая борьба
с Западом» и свидетельствующее о большом теоретическом разногласии
при глубокой личной симпатии, хотя, как мы знаем, эта симпатия не
помешала охлаждению и последовавшему вскоре окончательному разрыву
их отношений. В указанном письме мы читаем:
«Красный Рог, 23 авг. 90.
Дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич!
Я хотел и не успел перед Вашим отъездом сказать Вам о своей
полемической статье, которая на этих дня должна появиться (или уже появилась)
в "Русской Мысли", если только не вмешалась цензура. Хотя мне пришлось
многое у Вас одобрить, а за кое-что и горячо похвалить, но в общем, конечно,
Вы будете недовольны. Что же делать? В этом споре из-за России и Европы
последнее слово, во всяком случае, должно остаться за мной — так
написано на звездах. Не сердитесь, голубчик Николай Николаевич, и прочтите
внимательно следующее объяснение.
Книга Данилевского всегда была для меня ungeniessbar1, и, во всяком
случае, ее прославление Вами и Бестужевым кажется мне непомерным
и намеренным преувеличением. Но это, конечно, не причина для меня
нападать на нее, и Вы, может быть, помните, что в прежнее время я из дружбы
к Вам даже похваливал мимоходом эту книгу, — разумеется, лишь в общих
и неопределенных выражениях. Но вот эта невинная книга, составлявшая
прежде лишь предмет непонятной страсти Николая Николаевича Страхова,
а через то бывшая и мне до некоторой степени любезною, — вдруг становится
специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию
и уготовить путь грядущему антихристу. Когда в каком-нибудь лесу засел
неприятель, то вопрос не в том, хорош или дурен этот лес, а в том, как бы
* Вл. Соловьев. Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 118.
"* Соловьев. Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 39-40.
436
А. Ф. ЛОСЕВ
его получше поджечь. Вы можете удивляться ошибочности моего взгляда,
но убедить меня в ней не можете уже потому, что самая точка зрения, с
которой я в этом случае сужу, для Вас совершенно чужда.
...Если это объяснение и не удовлетворит Вас, то, надеюсь, Вы мне
поверите на слово, что поддерживать свою позицию в этом споре есть для меня
обязанность.
На днях я еду к Фету, а что дальше — не знаю. Думаю быть в Петербурге
в начале зимы, а может быть, и раньше. Будьте здоровы и не сердитесь
на душевно преданного Вам Влад. Соловьева»*.
H. H. Страхов умер 26 января 1896 года, но дружеские отношения
с Вл. Соловьевым за эти шесть лет у них так и не восстановились.
* * *
В разговоре о взаимоотношениях Вл. Соловьева и В. В. Розанова
мы особо отметили всю глубину и неожиданность утверждаемого
Розановым сближения Соловьева с шестидесятниками. Такое сближение
имеет огромное значение и для эстетики Вл. Соловьева. Ведь именно
учение выдающегося революционера-демократа Н. Г. Чернышевского,
его взгляд на прекрасное как на жизнь, какой она должна быть по
нашим понятиям, Вл. Соловьев ценил необычайно высоко. Свою статью
о Чернышевском философ так и назвал — «Первый шаг к
положительной эстетике». Необходимо прибавить также, что и весь родительский
дом Вл. Соловьева с неизменным уважением относился к личности
и судьбе Чернышевского. А когда сын Чернышевского после смерти
своего отца обратился к Вл. Соловьеву с просьбой написать
воспоминания о Чернышевском, то Вл. Соловьев написал эти воспоминания
в самой искренней, в самой сердечной форме с полным учетом величия
личности и деятельности Чернышевского.
Конечно, это не дает никаких оснований говорить о
революционных устремлениях Вл. Соловьева, но еще раз подчеркивает тот факт,
что философ был чужд всякой односторонности. Это замечание нам
важно еще и потому, что у некоторых читателей Вл. Соловьева
может сложиться мнение о резко определенной ориентации философа
на Запад. Это совершенно неверно. Западничество было для него тоже
слишком односторонней, рассудочной теорией. Недаром, отправляясь
однажды на Запад, он сказал, что едет в нужник. Кроме того, резко
расходясь со славянофилами в их невнимании ко всем язвам русского
прошлого, Вл. Соловьев резко расходился и с западниками в их не-
* Письма. С. 59-60.
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов...
437
внимании к специфическому лицу русского народа. Россия для него
ни с малейшей стороны не является славянофильским апофеозом
старины. Но она для него никогда не была также и безразличным
конгломератом и простой ареной для западной и чисто буржуазной
цивилизации. При всем том важно, что Вл. Соловьев сердечно любил
Россию, всегда питал патриотические чувства, всегда критиковал
царское правительство за угнетение отдельных народностей и мечтал
о великом будущем России, даже об огромной международной роли
России, но, правда, как только свободной семьи народов. Прошлое
и настоящее России было ему иной раз настолько невыносимы, что
он одно время рвался из православия в католицизм, и в католицизме
он в конце концов разочаровался. И не находя опоры ни в прошлом,
ни в настоящем России, он стал строить какие-то невообразимые
теократические утопии, в которых Россия по-прежнему оставалась у него
ведущей страной мирового значения.
Правда, Вл. Соловьев не удержался и на этом пути. Расстроенный
неурядицами на своей родине (а в западные идеалы он вообще
никогда не верил, и еще в первой диссертации доказывал обреченность
Запада), встретивший небывалый отпор и часто просто даже
невнимание и насмешливость по поводу своих утопий и, наконец, сломленный
преждевременным физическим истощением, Вл. Соловьев скончался
в сознании своего полного бессилия.
Если мы внимательно присмотримся к судьбе Вл. Соловьева,
то мы ясно поймем, что он всегда и везде был искателем, неугомонным
борцом против всякого рода несправедливостей и энтузиастом,
верящим в наступление лучших времен. Причем в этих своих стремлениях
он доходил до дерзостей, граничащих с безумием. После убийства
Александра II в 1881 году никто из демократических, прогрессивно
настроенных политических деятелей не осмелился публично
выступить с требованием помиловать народовольцев. Эту опасную миссию
взял на себя именно Вл. Соловьев, обратившись к царю с таким
требованием в публичной лекции. Более того, в письме к Александру III,
в котором философ разъяснял смысл своей речи, он еще раз
призвал монарха «помиловать врагов своей власти». Ряд своих важных
трудов, безусловно, религиозного содержания, Вл. Соловьев не мог
печатать в России именно из-за их критического пафоса,
направленного против официальной церкви. Они печатались за границей по-
французски, и только после революции 1905 года стал возможен сам
вопрос об их переводе на русский язык. Дело в том, что в этих своих
книгах Вл. Соловьев допускал такую критику режима Победоносцева
и Дм. Толстого, что ходили упорные слухи о ссылке философа
на Соловки. Еще более уничтожающей, доходящей до грубости критике
438
А. Ф. ЛОСЕВ
Вл. Соловьев подвергал царскую политику в письмах. Так, в послании
к M. M. Стасюлевичу (1886 года) он писал об этой политике как о
«политике замороженного говна», которая «держится только зловредным
триумвиратом из лжецерковника П. (Победоносцева К. П. — А. Л.)у
лжегосударственного человека Т. (Д. А. Толстого. — А. Л.) и
лжепророка К. (H. M. Каткова. — А. Л.)**.
Трудно вообразить более убедительное свидетельство искренней
и бескомпромиссной позиции Вл. Соловьева.
Все приведенные выше материалы, показывающие накал полемики
о самых важных, окончательных для судеб России вопросах, четкость
и определенность воззрений Вл. Соловьева и даже то, что, несмотря
на свою природную доброжелательность, он часто спорил в самых
резких тонах, убеждают в том, что Вл. Соловьев был вполне серьезен, когда,
отвечая на шуточную анкету в «Альбом Признаний» Т. Л. Сухотиной,
главной человеческой добродетелью назвал правдивость.
* Письма. Пб., 1923. Т. IV. С. 30.
a
В.А.ФАТЕЕВ
«В Страхове я вижу миниатюру
современной России»:
полемические заметки об отношениях
H. H. Страхова и Вл. С. Соловьева
Попав несколько лет назад на одну из многочисленных конференций
по Соловьеву, я не увидел в программе ни одной темы, относящейся
к Страхову, и практически ни разу не услышал там его имени. Это
поразило меня до глубины души. Что, разве спор между Соловьевым
и Страховым уже не актуален, не имеет никакого смысла, кроме
исторического? Проблема западничества и славянофильства уже
окончательно решена? Или сам Страхов, поверженный (будто бы)
«пророком и визионером» от философии, так уж ничтожен как мыслитель?
Но сколько же статей, сколько усилий и времени потратил «великий»
Соловьев, чтобы поставить на место этого упрямого защитника
«брюшного патриотизма» — уже само по себе это разве не тема?
Я подумал тогда в оправдание любителей Соловьева: нет, конечно,
эта полемика, по существу, — и не высокое «любомудрие» вовсе, а
предельно конкретный, даже скучноватый в его затянутости, чисто идейный,
почти политический спор, а публицистика, как известно, для
любомудра — дело второстепенное. Для представителей академических кафедр,
конечно, порассуждать, пусть даже перепевая на разные лады в сотый,
если не тысячный, раз известные и возвышенные, хотя и туманные идеи
«всеединства» и Софии, интереснее — вот это настоящая философия.
Но потом я понял, что проблема в другом: творчество Страхова,
который фактически не переиздан, просто незнакомо даже
профессиональным философам, не говоря уже о массовом читателе. Многие
из упоенно занимающихся Соловьевым почти не знают Страхова
и, кроме самых общих мест, никогда не снисходили до изучения
существа спора с ним «первого русского философа» — тут, мол, все просто:
Соловьев защищал русскую мысль от национализма.
Полемика Соловьева и Страхова в общих чертах широко известна —
главным образом, конечно, в ее трактовке несравненно более популярным
440
В.А.ФАТЕЕВ
создателем теории «всеединства», чьи полемические статьи,
составившие два выпуска книги «Национальный вопрос в России», в начале
«перестройки» были переизданы огромным тиражом*. Но и
страховская позиция отражена вполне адекватно, в первую очередь, в книге
«Литературные изгнанники»** В. В. Розанова и в других его сочинениях.
Гораздо хуже освещены в современной печати конкретные детали личных
взаимоотношений Соловьева и Страхова. По их ожесточенной печатной
полемике можно подумать, что они всегда находились на непримиримо
враждебных позициях. Однако это совсем не так.
Чтобы разобраться в существе этого далеко не устаревшего спора,
необходимо знать и сопутствовавшие ему обстоятельства. Прежде всего,
следует отметить, что Страхов апологетом «зоологического
патриотизма», радикалом от охранительства, как может представляться
недостаточно осведомленным читателям, вовсе не был. Он был типичным
представителем патриотизма просвещенного, бережно воспринимал
возвышенные заветы свободолюбивого славянофильства и неуклонно
отстаивал эту свою позицию. Да и уже хотя бы тот факт, что почтенный
критик и философ ходил в близких друзьях все более впадавшего
тогда в еретичество Льва Толстого (хотя «толстовцем» Страхов опять же
никогда не был), говорит о том, что считать его «миниатюрой»
консервативной России, как это пытался, нападая на Страхова, представить
Соловьев, было большой натяжкой.
Во времена этой полемики Соловьеву было достаточно намекнуть
на «реакционность» взглядов Данилевского и Страхова, чтобы
снискать восторженное понимание либеральной читательской публики.
Сейчас времена иные. Наше интеллектуальное общество разделено
и в значительной степени поляризовано. У части мыслящего общества
консерватизм ныне в большой моде, но отнюдь не в той
умеренно-патриотической форме, каким его исповедовал Страхов. Его чаще порицают
теперь за либерализм и преклонение перед Толстым, чем за
«обскурантизм». У Страхова сегодня несравненно меньше сторонников, нежели,
скажем, у сумрачного апологета «византизма» Леонтьева или того же
Данилевского, «акции» которого поднялись настолько, что его иногда
считают теперь чуть ли не учителем Страхова. И едва ли не первым, кто
уколол Страхова, называя Данилевского «его учителем», был Соловьев***,
а уж он-то как никто знал, что Страхов, по меньшей мере столь же
образованный и глубокий, ни в коем случае учеником Данилевского не был.
* Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Прил. к журналу «Вопросы философии». М.,
1989 (далее: Соловьев В. С. Сочинения).
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. М., 2001.
* Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 533, 539.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 441
Творчество не ведавшего сомнений, «твердого и ясного как
кристалл» *, систематичного до схематизма историософа Данилевского,
публициста и почти политика по своей сути, резко отличается от
сочинений утонченного, вдумчивого Страхова, мысль которого, по
замечанию В. В. Розанова, «влечется к темным и неясным сторонам»
природы, истории и общественной жизни. Розанов убедительно
показал, что чрезвычайно сложные и тонкие по мысли труды Страхова
по своему характеру «совершенно противоположны» **
величественным, но грубым чертам историософского здания Данилевского,
облекшего в твердую «скорлупу» доктрины не во всем последовательные
романтические мечтания славянофилов. Однако как раз из-за того,
что по натуре сам Страхов был совсем иной, смелая защита им
уязвляемого всеми либералами (и действительно, кажется, уязвимого)
Данилевского характеризует его прежде всего как настоящего бойца
и верного друга.
Можно допустить, что сами по себе общие положения Соловьева
о нравственной ущербности национального эгоизма вполне
справедливы. Несомненно, что обостренные национальные чувства, без
смягчающего влияния христианской морали, действительно способны
породить опасные явления. И Соловьев все обличал Данилевского в
национализме, «варварском макиавеллизме» и т.п. Страхов же
утверждал, что «общий смысл наставлений Данилевского — дружелюбный»
и что он показал себя в книге «истинно христианским писателем» ***,
хотя, может быть, не слишком убедительно мотивировал это. Кстати,
Страховым справедливо отмечалось, что Данилевский доказывает
только, «что Европа нам враждебна, но ему и мысль не приходит сказать
<...> что и мы должны быть враждебны Европе» ****.
В апелляции ко «вселенской» религии и «единому человечеству»
Соловьев отказывался признать самоценность отдельных,
национальных культур. Но совершенно очевидно, что чем
индивидуальное, разнообразнее эти культуры, тем богаче мировая культурная
«сокровищница», вбирающая эти достижения не в обезличенном
виде, а в их конкретно-исторической, национальной форме. Сейчас,
в эпоху глобализма, когда устрашающими темпами идет
нивелирование национального своеобразия, особенно остро воспринимается
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. Изд. 2-е. СПб., 1890.
С. 297.
** Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М., 1996.
С. 210.
*** Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1896. Кн. 3. С. 189, 191.
**** Там же. С. 192.
442
В. А. ФАТЕЕВ
сомнительность соловьевской пропаганды «вселенских» начал
в культуре и религии.
Выступая против национального эгоизма, Соловьев апеллирует
к христианскому нравственному идеалу и противопоставляет
национализму понятие «народности». Однако и исповедовавших «народность»
ранних славянофилов он, в конце концов, называет «родоначальниками
национализма». И создается впечатление, что этот жупел «повального
национализма» выставлен им только в тактических целях, — на самом
деле борьба ведется против национальных начал вообще и против
православия, т.е. против «русскости». Не случайно Соловьев
вознамерился бранить книгу «Россия и Европа» не когда она вышла в свет,
а после сокрушительной критики Данилевским тяготения Соловьева
к католичеству и папизму в статье «Владимир Соловьев о православии
и католицизме»*. Данилевский с твердостью, присущей ему
творческой манере, показал, что Соловьев принял «явно и открыто сторону
римского католичества» **.
Соловьеву полемизировать в православной России было,
конечно, трудно. Не имея возможности открыто критиковать восточную
«схизму», он избрал сомнительный путь перенесения своих
обвинений на конкретное сочинение, которое ныне по заслугам
признано выдающимся произведением русской историософской мысли.
Поэтому апелляция Соловьева в своей критике «России и Европы»
к религиозно-нравственным началам представляется несколько
искусственной.
* * *
Страхов, выступив на защиту книги Данилевского, в силу
созерцательности своей натуры вовсе не был расположен пускаться в подобные
дискуссии, тем более, что они отвлекали от собственных тем. Но
вступиться за близкого друга, создателя теории культурно-исторических
типов, было для Страхова просто делом чести. Страхов заведомо обрекал
себя на бесславную роль в споре со столь блестящим полемистом и
чрезвычайно одаренным философом, на стороне которого к тому же была
почти вся печать и общественное мнение. Соловьеву, самонадеянно
присвоившему себе миссию низвержения книги, которая, по его
мнению, стала «кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить
Данилевский Н. Владимир Соловьев о православии и католицизме // Известия
С.-Петербургского Славянского Благотворительного общества. 1885. Март.
Данилевский Николай. Горе победителям. М., 1998. С. 337.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»...
443
Россию и уготовить путь грядущему антихристу» *, была совершенно
непонятна, как он пишет, «слабость» Страхова к этому сочинению.
Но Страхов, меньше всего думавший в данном случае о собственных
интересах, вышел из этого будто бы проигранного спора с ореолом
исключительного благородства. Он отстаивал идеи Данилевского как
свои собственные — до оговорок ли о своих расхождениях с покойным
другом было в пылу борьбы скромному кабинетному затворнику?
Мог ли он пускаться в разъяснения о себе, о различиях в воззрениях
с Данилевским, человеком очень близким, но совершенно не
признававшим умозрения, когда пытались осквернить его память, тем более
что в воинствующей антинациональной позиции Соловьева Страхову
(и далеко не ему одному) также виделось веянье «духа Антихриста»,
угроза «погубить Россию»! Соловьев же от критики Данилевского
и осуждения безнравственной «мании национализма» как
«господствующего заблуждения наших дней» ** постепенно дошел до абсурдных
обвинений самого Страхова в «восточной болезни» с использованием
расхожих жупелов либерализма: «равнодушие к истине и презрение
к человеческому достоинству, к существенным правам человеческой
личности»...***
Призывы Соловьева к истине и нравственности примечательны
по своему поразительному несоответствию существу дела. Парадокс
ситуации в том, что Соловьев действительно вел себя в этом споре
как публицисту если не сказать, как спортсмен (сам Страхов видит
в нем «актера, чем-то одурманенного» ****) — он не столько доказывал
истину, опираясь на научные факты, сколько стремился фейерверком
эффектных для читательской публики ходов, которые ему счастливо
подкидывала щедро одаренная творческая натура, непременно взять
верх, одолеть соперника. Главным оружием у него был уже
отработанный в либерально-нигилистической литературе и безотказно
действовавший прием намеков на ретроградность оппонента,
дополнительным — стремление во что бы то ни стало доказать неоригинальность,
заимствованный характер идей Данилевского.
Поведение Страхова было совершенно иным. Как настоящий
мыслитель, он с присущей ему добросовестной основательностью ученого
подбирал факты, строил логические доказательства, рассчитывая
не на сиюминутный успех, а на доводы разума и торжество истины.
Недостатком Страхова было то, что в своих спорах он слишком часто
* Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1. С. 60.
* Соловьев В. С. О грехах и болезнях // Соловьев B.C. Сочинения. Т. 1. С. 516.
* Там же. С. 530.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 773.
444
В. А. ФАТЕЕВ
опирался на цитаты, а это, конечно, утяжеляло его аргументацию.
В научном сообществе такой стиль ведения дискуссии общепринят,
но при «летучей» журнальной полемике, где на кону стоят идейные
интересы, тяжеловесные доказательства существа дела заведомо
обречены. Однако в исторической перспективе подобная реально
обоснованная позиция имеет несравненно более прочные основания для успеха.
Поэтому ответ на вопрос о победителе в этом споре далеко не
очевиден, и ход полемики, в которой внешне верх за явным преимуществом
взял Соловьев, нуждается в более тщательном анализе. Соловьев как
полемист не слишком симпатичен именно своим
пророчески-инквизиторским тоном, уклонением от прямого поединка реальных аргументов.
Поведение же более сдержанного в своих суждениях и, может быть,
более скромного в своих дарованиях Страхова было самоотверженным
и мужественным. Хорошо сказал об этой стороне спора В. В. Розанов:
«Страхов не был гений. Но он вот как "комендант Белогорской
крепости» ("Капитанская дочка"): тоже стоял верно и честно на страже
той науки, философии, литературы, какую знал и какая была... Что
он был "не гений" — до этого было мало дела Соловьеву, это было "тем
лучше" для него. Но его голубиная чистота в небольшом деле измучила
"великого публициста" и мирового философа...»*.
"к "к -к
Для понимания психологического «подтекста» этого важнейшего
для русской философии спора необходимо, однако, проследить,
хотя бы кратко, личные отношения двух этих мыслителей, начавшиеся
в 1873 г. В русской философии ярких личностей в то время (да и всегда)
было не слишком много, и когда появился Соловьев — несомненный
молодой талант (философу было всего 20 лет), явный идеалист и
критик западного рационализма, — Страхов сразу выделил его из общей
массы, отметив у него задатки гения. Да и как было не выделить, если
заявленная им тема магистерской диссертации — «Кризис западной
философии. Против позитивистов» — почти страховская: она
перекликалась со многими положениями славянофилов и сочинений Страхова,
вошедших позже в его сборники «Борьба с Западом в нашей литературе».
Не удивительно, что 24 ноября 1874 г. Страхов присутствовал
в Санкт-Петербургском университете на диспуте при защите юным
московским дарованием магистерского звания и опубликовал о нем
в двух столицах небольшие статьи — в петербургском «Гражданине»
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 110.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»...
445
и в «Московских ведомостях»*, написанные с симпатией к
«диспутанту» и, конечно, со знанием дела.
С этих пор и Страхов, и Соловьев не могли, конечно, не обращать друг
на друга пристального внимания. Страхов очень надеялся тогда, что
изрядно обедневший славянофильски-почвеннический лагерь получит в
лице Соловьева не просто достойное подкрепление, а исключительно яркую
философскую индивидуальность. В переписке Страхова с Толстым тут
и там мелькает обмен мнениями о прочитанных сочинениях Соловьева,
о его характере и опасения за его болезненную внешность.
На тему книги Соловьева Страхов написал статью «Гартман
и Шопенгауэр» (1875). Он с одобрением воспринял критику Соловьевым
западноевропейского рационализма и отметил в его сочинении
наметившийся «высший синтез философского познания и религиозной веры» **,
который молодой философ, понятно, намеревался осуществить сам.
Страхов пристально и не без менторской строгости следил за
развитием деятельности молодого философа. Почти с самого начала далеко
не все устраивало его в философских сочинениях Соловьева. Об этом
свидетельствует, в частности, его замечания о книге Соловьева «Кризис
западной философии». Прошедший школу Гегеля Страхов
обнаруживает в «синтетизме» Соловьева скрытое влияние завершителя
немецкого классического идеализма: «...хоть он явно и отрицается от Гегеля,
но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана на этом».
Страхова это, конечно, не слишком пугает — он и сам по-прежнему
опирается на гегелевский диалектический метод. Плохо другое — Страхов
ощущает сильнейший уклон Соловьева к мистицизму дурного толка:
«Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что нашел
метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу
и расположен к вере в спиритизм1. Притом он так болезнен, так будто
истощен — за него можно очень опасаться, — не добром кончит. А книжка
его, чем больше читаю, тем более мне кажется мне талантливою. Какое
мастерство в языке, какая связь и сила! Непременно напишу об ней»***.
5 апреля 1877 г. Страхов пишет Толстому : «Вчера, т.е. 4-го, приходил
ко мне Вл. Соловьев, и, кажется, мы заведем с ним дружбу»****. Публичная
библиотека, где работает в это время Страхов, способствует сближению.
Через две недели он продолжает ту же тему: «С Вл. Соловьевым мы
* Страхов Н. Философский диспут 24 ноября // Гражданин. 1874. № 48. 2 дек.
С. 1211-1212; то же: Страхов H. Философские очерки. Киев, 1902. С. 346-349.
Еще о диспуте Вл.С. Соловьева // Московские ведомости. 1874. N° 308. 9 дек.
Подп.:Н.С.
** Страхов H. H. Философские очерки. Киев, 1906. С. 339.
*** Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Переписка. Т. 1. С. 189-190.
**** Там же. С. 325.
446
В. А. ФАТЕЕВ
видаемся чуть не каждый день в библиотеке, и я надеюсь, что мы очень
сойдемся. Он, действительно, хороший, как вы пишете, но я так
медленно понимаю людей»*. А 18 мая он заключает: «С Вл. Соловьевым
я наконец подружился и надеюсь, что прочно. Он очень мил, и кажется,
я ему понравился» **.
Из писем Соловьева к Страхову (ответные, к сожалению,
утрачены), видно, насколько тесными более десяти лет были их отношения.
Соловьев не стеснялся в эти годы обременять холостяка Страхова
(подобно, кстати, Толстому и Достоевскому, да и прочим друзьям и
приятелям) самыми разными поручениями: «получить», «переслать»,
«взять в Департаменте мое жалованье» и т.п., как это принято между
друзьями. В одном из недатированных писем, точнее записок, Соловьев
благодарит Страхова за квартиру — он останавливался там в отсутствии
хозяина, находившегося за границей***. Любопытно, что Соловьев нашел
в квартире один «недостаток»: «...жил в ней прекрасно, только большое
искушение от многокнижия — в нем же нет спасения».
В первом же письме, относящемся, видимо, к 1877 г., Соловьев
сообщает, что дал адрес Страхова для доставки своих книг и, извиняясь
за «злоупотребление», признается в теплых к нему чувствах: «Простите,
что так вами злоупотребляю, но в Петербурге вы для меня самый
интимный человек, и я на Вас смотрю как на родного дядюшку» ****. А в 1883 г.
Соловьев прямо объясняется Страхову в любви: «Я Вас очень люблю
и мне всегда бывает очень хорошо с вами» *****.
Д. И. Стахеев, 18 лет деливший со Страховым квартиру у Театральной
площади, описывает посещения Соловьевым холостяцкого жилища
Страхова «в месяц раз или два», отмечая, что «он иногда, посетив нашу
квартиру, вместо беседы, погружался в чтение подвернувшейся под руку
книги и погружался, бывало, настолько глубоко, что даже не слышал
обращенных к нему вопросов» 6*. И. Е. Репин пишет о Страхове в
воспоминаниях: «Я познакомился с ним через Толстых и потому полюбил
всецело простоту его ясных больших глаз, и доброе, всегда бодрое
настроение, писал с него портрет и удостоился посещать его уютные
вечера, на которых очень большою приманкою был B.C. Соловьев.
Он также любил H. H. Страхова и имел к нему сердечное влечение; в бе-
* Там же. С. 329.
** Там же. С. 335.
*** Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 7.
**** Там же. С. 1.
***** Там же. С. 15.
6* Стахеев Д. И. Группы и портреты. (Листочки воспоминаний) // Исторический
вестник. 1907. № 1. С. 88-89.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 447
седах о литературе и науке они тепло сближались, имея много общих
вопросов <...> И Владимир Сергеевич чувствовал себя, как дома» *.
Страхов опекает Соловьева по праву опыта и старшинства,
оценивает его сочинения, посещает его лекции. Его беспокоит нарастание
сомнительных мистических тенденций в творчестве Соловьева. 15 марта
1878 г., после очередной соловьевской лекции, где шла речь о Софии,
он отмечает в письме к Толстому уклон философа в гностицизм и
характеризующее его тяготение к слиянию разнородных духовных
элементов: «Учение о софии по справкам оказалось гностическим, так же как
и о божественном Христе, отличном от человека Иисуса. Но я слишком
мало знаю, чтобы говорить об этом, да и лекции Соловьева
представляют амальгаму уже существующих учений, — вернее, существовавших.
Он a priori выводит то, что узнал a posteriori» **.
Ближе к концу лекций усиливаются негативные впечатления
Страхова: «Соловьева осталось дослушать только две лекции. Мне
приходит в голову, что это об мертвом предмете мертвым языком говорит
мертвый человек. Такой холод! Из немецкого идеализма он взял все
приемы и все недостатки — общие формулы, решение дела нахрапом,
отвлеченность. Между тем, немецкий идеализм отжил, и вот является
в подобных воскрешениях, как Шопенгауэр в виде Гартмана» ***.
9 апреля 1878 г., после последней лекции Соловьева, Страхов
делает окончательный вывод об эклектизме и пантеизме воззрений
философа: «Эта лекция была очень эффектна. С большим жаром
он сказал несколько слов против гнусного догмата о вечных мучениях.
Конечно, готов был проповедывать многие другие ереси, но очевидно
не смел, и выбрал этот догмат для того, чтобы вполне ясно
высказаться. Соображая теперь все его лекции, я вижу, что он хотел произвести
синтез востока и запада, слить в одну систему атомизм, дарвинизм,
пантеизм, христианство и т.д. Дать всему свое место — задача хоть
куда, но, во-первых, она не исполнена, а, во-вторых, не видишь и тени
того оригинального приема, который бы давал надежду, что ее можно
исполнить. <...> Выходит пантеизм, совершенно похожий на
гегелевский, только с вторым пришествием впереди. Каббала, гностицизм
и мистицизм — внесли тут свою долю» ****. Таким образом, пантеизм,
который к этому времени преодолел сам Страхов, он обнаруживает
в иной форме во взглядах Соловьева.
* Репин И. Е. Случайные впечатления от Владимира Сергеевича Соловьева // РГБ.
Записки отдела рукописей. М., 2004. Вып. 52. С. 161.
* Н. Толстой и H. H. Страхов. Переписка. Т. 1. С. 414.
* Там же. С. 419.
* Там же. С. 425-426.
448
В. А. ФАТЕЕВ
Но несмотря на скептическую оценку теургических фантазий
Соловьева, страховские впечатления были отрицательными далеко
не всегда. Так, о выступлении Соловьева в университете в ноябре 1880 г.
он пишет: «И вчерашняя лекция была блистательна» *. Редкая
одаренность молодого философа и общая идеалистическая направленность
его взглядов делают его одним из самых интересных современников
для Страхова.
В эти годы многое сближало их. Оба принадлежали к избранному
философскому кругу, которым в 1879 г. было принято решение об
образовании Философского общества. В 1877-1881 гг. Страхов и Соловьев
вместе состояли в Петербурге членами Ученого комитета и встречались
на заседаниях. У них был большой круг общих знакомых, включавший
Толстого, Грота, Фета. В 1880 г. они вместе побывали в Пустыньке
под Петербургом у вдовы поэта С. А. Толстой. Страхов с Соловьевым
настолько сблизились и так часто встречались у Страхова, что несколько
раз писали Фету совместные письма — Соловьев делал свои приписки
своим размашистым почерком к аккуратным письмам Страхова.
6 апреля 1880 г. Страхов присутствовал на защите Соловьевым
докторской диссертации «Критика отвлеченных начал»: «Через
неделю, вчера, совершилось наконец великое торжество — был диспут
Вл. Соловьева на доктора философии. Сам он был великолепен; так
спокоен, прост, так мастерски говорил. К несчастью, сильных
возражений не было...» **.
В начале 1880-х гг. Соловьев и Страхов «встретились» на страницах
аксаковской «Руси». Это было время их интенсивного общения. В 1881 г.
Соловьев с интересом прочел в «Руси» страховские письма о нигилизме;
в 1883 г., после выхода «Борьбы с Западом в нашей литературе» (Кн. 2),
выражает благодарность за «прекрасную книжку» ***; выделив статью
о Дарвине, нахваливает статью о Тургеневе и о «Вечерних огнях» Фета,
да и вообще «с большим удовольствием» читает все, что выходит из-
под пера Страхова. Никакого «брюшного патриотизма» в сочинениях
Страхова Соловьев тогда не обнаруживал. В одном из писем он назвал
даже Страхова «первейшим литературным критиком»****.
Но подспудные расхождения становились все более заметными.
В 1881 г., после убийства царя, Соловьев произнес свою знаменитую
речь о смертной казни, в конце которой убеждал, что царю, в силу
высшей правды, следует простить убийц. Присутствовавший на лек-
* Там же. Т. 2. С. 684.
* Л.Н. Толстой и С.А. Толстая. Переписка с H.H. Страховым. С. 150.
* Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 15.
* Там же. С. 21.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 449
ции Страхов, найдя ее холодной, отозвался о ней отрицательно. Дело
было прежде всего в тональности: одновременно Страхов обнаружил
в письме Толстого к царю на аналогичную тему «столько чувства и
горячего желания добра», что согласился ходатайствовать о передаче
письма императору.
5 ноября 1882 г. Страхов не без сожаления писал Данилевскому
о Соловьеве по поводу его гегельянского «примирительства» и
мистицизма с оттенком гностической ереси: «Бесподобные силы, хорошая
натура; но я все думаю, что он идет ложным путем. Он все примиряет
и все объясняет. Я уже говорил ему, что это дело старое, что так делал
Гегель <...> и что известно, куда это ведет. В сущности его писания
(то есть Соловьева) еретические; для меня это ничего, но для него очень
дурно, потому что он не хочет быть еретиком. Мир Божественный
для нас есть тайна, вот настоящее православное учение. Часть этой
тайны нам открыта, и мы поэтому знаем, что своим умом никогда
не могли бы знать. А он все это хочет разгадать и привести в систему» *.
Ту же тему он развивал в 1884 г. в письме к И. С. Аксакову,
подвергая критике тяготение философа к отвлеченным теософским схемам:
«Соловьев называет себя мистиком; но он не мистик, а теософ. Он
предается всяким построениям божественного мира и судеб человечества.
По-моему, это радость обманчивая, хотя и очень увлекательная»**.
При этом, однако, Страхов заявляет: «Соловьев мне очень дорог, потому
что разъяснил мне понятие Церкви. Он один настоящий церковник,
т.е. не только утверждает, что вне церкви нельзя спастись, но и ясно
понимает, почему это так».
Верный дружбе, Страхов долгое время был еще достаточно
терпим к Соловьеву и после ставшего очевидным тяготения его к
католицизму. Он продолжал помещать статьи Соловьева в «Известиях
С.-Петербургского Славянского благотворительного общества», где
состоял редактором, даже после ссоры философа со славянофилами
и ухода из аксаковской «Руси», хотя И. С. Аксаков был в эти годы один
из духовно наиболее близких Страхову людей. Впрочем, и сам Аксаков
все еще благоволил к закусившему удила Соловьеву — он был готов
публиковать его статьи, но «только без известной тенденции, не о Риме,
который он почитает быть вечным, не о феократии...»***. Именно
Страхов опубликовал ряд важных полемических статей Соловьева.
Со взглядами Соловьева Страхов согласен не был, и поэтому
сопровождал его публикации, в которых уже явно звучали прокатолические
* Русский вестник. 1901. Февраль. С. 460-461.
** И.С. Аксаков — H.H. Страхов. Переписка. М.; Оттава, 2007. С. 120.
*** Там же. С. 145.
450
В. А. ФАТЕЕВ
симпатии, обширными замечаниями от редакции, собственными или
A.A. Киреева. Страхов объяснял свою редакторскую позицию тем,
что вопрос о католичестве подлежит не замалчиванию, а обсуждению:
«Мы дали место статье г. Соловьева уже и потому, что она, во всяком
случае, принадлежит к числу статей, расширяющих кругозор,
приучающих читателей к важному вопросу, разрывающих заколдованный
круг молчания. Католичество жестоко ославило себя; мы справедливо
его чуждаемся. Но неужели до такой степени, что не можем уж и
рассуждать спокойно?» *.
Однако проявленная Страховым широта взглядов была
воспринята более ортодоксально настроенными членами Совета Славянского
общества как редакторский «либерализм» и решительно пресечена.
Соловьев в 1885 г. сообщал брату, что Страхов был вынужден покинуть
редакторское место за помещение его статьи: «Страхов приехал: его
выгнали из редакторов "Слав. Извест." за мой ответ Д<анилевско>му.
Ламанскии объявил ему: или вы выходите из редакторов, или мы все
выйдем из Совета общества»**. Итак, Страхов даже пострадал из-за
сочувствия Соловьеву (вернее, конечно, из-за широты своих взглядов).
Подобной широты или даже терпимости со стороны Соловьева во время
их приближающейся «сшибки» мы не увидим.
Нарастающее увлечение Соловьева католичеством пока не
препятствует их дружескому общению, хотя Страхову оно, конечно, очень
не нравится. 2 января 1885 г. Страхов пишет Фету: «Сегодня зашел
Соловьев, бодрый, веселый, так что я порадовался. Впрочем, он сидит
рядом со мною каждый день в Библиотеке — что мне очень приятно. Читает
он акты Вселенских соборов, к нему часто заходит католик Гезен — и все
это мне представляется чем-то опасным. — Часто вспоминаем и об Вас,
и читаем друг другу Ваши письма» ***. О встречах с Соловьевым в
библиотеке писал он также С. А. Толстой и Н. Я. Данилевскому.
•к * *
Но разногласия во взглядах, существовавшие всегда, доходят,
наконец, и до открытой полемики. Серьезная размолвка произошла между
философами в начале 1887 г. из-за книги Страхова «О вечных истинах.
(Мой спор о спиритизме)». Страхов доказывал невозможность явлений
* Известия С.-Петербургского Славянского благотворительного общества. 1884.
Март. С. 27.
** Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 104.
*** ОР ИРЛИ. П. III. On. I. № 2072. Л. 54 б.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 451
медиумизма, так как они противоречат законам механической физики
и математики, действующим в пределах природы. Спиритические духи
не могут отменить непреложных физических истин. Дух ошибочно
представляется спиритам «в виде тонко-материального, но одушевленного
существа»* и сам спиритизм есть «грубейшее овеществление
духовных явлений». Соловьев, однако, посчитал, что рационалистическая
аргументация Страхова не выдерживает критики, так как отвергает
возможность религиозного чуда и обвинил его в... механистическом
материализме: «Ваша аргументация имеет силу против всяких чудес...
т.е. против религии. Религии без ангелов и чертей не бывает»**. Страхов
за это очень обиделся: Соловьев, прекрасно знавший его
идеалистические взгляды, выставил его адептом вульгарного механистического
материализма, не вникая в суть его философского обоснования
антиспиритизма. Внешне аргументация Соловьева по поводу христианских
чудес выглядит весьма убедительной, но подлинная причина такого
демонстративного непонимания крылась в том, что сам Соловьев,
увлекавшийся, как известно, в молодости, спиритизмом, имел слабость
к оккультной практике вполне материалистического «ощупывания»
запредельного.
В 1887 г., окончательно обосновавшись в западническом
либеральном «Вестнике Европы» М.М. Стасюлевича, Соловьев к концу года
начинает против своего «друга» идейную «войну». Готовя нападение
на Данилевского, сочинения которого издавал Страхов, он, конечно,
понимал, что затевает, но почему-то надеялся при этом сохранять
прежние добрые отношения. Стасюлевичу он пишет: «Приятель
мой Страхов готовит 4-е издание "России и Европы" Данилевского.
Мой взгляд на это сочинение диаметрально противоположен взгляду
Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор "России и Европы", с
присоединением некоторых замечаний и о "Дарвинизме", того же автора.
Я хотел было назвать свою статью "Философия пустых претензий",
но из уважения к памяти Данилевского, который в других отношениях
был почтенный и разумный человек, переменю заглавие. Когда этот
разбор будет готов, пришлю его Вам...»***. Чтобы не портить отношений,
Соловьев намеревается послать Страхову корректуру для устранения
самых резких высказываний и сообщает ему об этом, однако потом,
по решению Стасюлевича, отказывается от этого намерения. В
феврале выходит в свет статья «Россия и Европа», положив начало спора.
Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1890. Кн. 2. Изд. 2-е.
С 290.
* Розанов В. В. Около народной души. М., 2002. С. 387.
* Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 32.
452
В. А. ФАТЕЕВ
Страхов отвечает в июне большой статьей «Наша культура и всемирное
единство».
А вскоре Соловьев из Загреба поясняет Стасюлевичу, почему он
намерен «изобличать восточные грехи» Страхова: «...я нашел в одном
журнале известие об ответе Страхова на мою "Россию и Европу"».
Это меня очень интересует, а отчасти и Вас касается, ибо за
невозможностью писать прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас
о грехах Страхова, что в сущности все равно, так как в Страхове я вижу
миниатюру современной России»*. Аргументация выступления
против Страхова та же, что и против Данилевского: «...в последнее время
и в известных кругах Страхов стал пользоваться чуть ли не
авторитетом, и изобличить его восточные грехи дело по-моему не бесполезное,
хотя и очень скучное» **.
У Соловьева было очень своеобразное представление о дружбе
и не менее странное чувство юмора. 16 декабря 1888 г. он высказывает
брату Михаилу в присущем ему полушутливом тоне странные и
самоуверенные предположения: «Например, Страхов, которого я люблю,
но которого всегда считал свиньей порядочной (?! — Б. Ф.), нисколько
меня не озадачил своей последней мазуркой, и хотя я в печати
поругал его как последнего мерзавца, но это нисколько не изменит наших
интимно-дружеских и даже нежных отношений» ***.
Соловьев намеревался и дальше «дружить» со Страховым. А сам
из Загреба писал брату Михаилу в 1888 г.: «...нашел между прочим
1) известие о какой-то статье старого кота Страхова против меня» ****.
Напомню, однако, что помимо угасающей дружбы, на продолжение
которой рассчитывает Соловьев, его критический пыл могло бы
поумерить хотя бы то обстоятельство, что «старому коту» было уже 60,
а ему в январе 1888 г. исполнилось лишь 35, и по возрасту он годился
Страхову в сыновья. Розанов, между прочим, высказывал даже весьма
правдоподобное предположение о психологической первооснове такого
поведения Соловьева при разрыве: «Со Страховым он разошелся жестко,
неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело, что
ранее состоял в застенчивом положении ученика» *****.
В конце 1888 г. Соловьев пишет Стасюлевичу из Загреба о замысле
статьи, которая станет известной под названием «Славянофильство
* Там же. Т. IV. С. 39.
** Там же. С. 39-40.
*** Там же. С. 118.
**** Там же. С. 117.
**** Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе. М., 1996. С. 476.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 453
и его вырождение» : « ...у меня есть в мысли еще другая статья — вполне
цензурная: о распадении славянофильства. На мой взгляд, старое
славянофильство было смешеньем нескольких разнородных элементов, и
главным образом трех: византизма, либерализма и брюшного патриотизма
<...> брюшной патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси,
широко разлился по всем нашим низинам, а из писателей
индивидуальных представителем его выступил мой друг Страхов, который головою
всецело принадлежит "гнилому Западу" и лишь живот свой возлагает
на алтарь отечества»*. Таким образом, «приятель» или даже «друг»
Страхов становится постепенно для Соловьева главным и чуть ли не
единственным представителем враждебного ему «брюшного патриотизма».
Характерно, что не только Соловьев, но даже и Страхов, узнав об
очередном полемическом уколе оппонента, еще надеется на сохранение
добрых отношений: «Отвечать едва ли нужно, и думаю, что эта
полемика нас не поссорит навсегда» **.
Но когда-то такие странные отношения «дружбы-вражды» должны
были закончиться. В августе 1890 г., когда Страхов возвращался с юга
через Москву, состоялась их вполне дружеская встреча с Соловьевым
и Цертелевым, и добродушный Страхов несколько растаял от
теплого общения. В том году Страхов выпустил переиздание второго тома
«Борьбы с Западом», включив в нее без купюр свои первые
полемические статьи, и Соловьев, восприняв это как вызов, написал новую,
крайне резкую статью «Мнимая борьба с Западом». Испытав шок
от неожиданного нападения «друга», Страхов, естественно, посчитал
статью коварным и неблаговидным поступком. Оправдательное
письмо Соловьева несколько запоздало: «Я хотел и не успел перед Вашим
отъездом сказать Вам о своей полемической статье, которая на этих
днях должна появиться (или уже появилась) в "Русской Мысли", если
только не вмешалась цензура. Хотя мне пришлось многое у вас
одобрить, а за кое-что и горячо похвалить, но в общем, конечно, Вы будете
недовольны. Что ж делать?» *** <...>
<...> Не удивительно, что после такой велеречивой декларации
возмущенный до глубины души Страхов также не мог не принять
на себя «обязанность» выступить на защиту дорогих ему идей, хотя
продолжения спора ему очень не хотелось.
С. Франк в статье «Письма Вл. Соловьева» восторгается
«историческим чутьем» Соловьева****, приводя эту же выразительную цитату,
* Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 40-41.
г* Л. Н. Толстой и С.А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. М.; Оттава, 2000. С. 216.
* Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 59.
г* Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 379-380.
454
В.А.ФАТЕЕВ
напоминающую замысел какой-то полицейской карательной операции,
и не замечает очевидной пошлости этого типичного проявления
нетерпимости воинствующего либерализма. Доводы о «полезности» и тем
более о «богочеловеческом деле», приводимые Соловьевым, не слишком
убедительны ни в научном, ни в нравственном отношении. Вообще-
то, стремление к «выжиганию леса» из-за несогласия с «неприятелем»
в духовной сфере во все времена считалось занятием антикультурным.
Страхов не случайно писал: «Вопрос, как видите, превосходный;
Соловьев, как пророк, его решил, и, конечно, как инквизитор, сжег бы
меня и все экземпляры России и Европы»*.
К началу века в России в среде символистов сложился
своеобразный культ «теурга» Владимира Соловьева. И молодой тогда Андрей
Белый, с придыханием прослеживая «мистический путь» Соловьева
«под знаком ему светивших зорь», освященный явлением
таинственной музы, вторит своему гуру, сохраняя «танатологическую» окраску
его образности в полемике с Страховым: «Этот голос ему шептал: "Будь
в Египте". Но этот же голос шептал ему: "Полемизируй со Страховым,
ибо Страхов — эмблема смерти"» **.
Если вернуться к Страхову, то его возмутил даже не сам псевдо-
«боговдохновенный» тон объяснения Соловьевым своих
антипатриотических эскапад, а то коварство, с каким был нанесен этот
новый удар. «Хотел и не успел», как писал ему Соловьев — это,
конечно, не оправдание: при личной встрече, когда за беседой была
выпита даже бутылка вина, у Соловьева не нашлось времени (или
силы духа) сообщить Страхову о печатающейся враждебной статье.
Это был момент окончательного разрыва. Примечательно, что даже
и тут Страхова, в отличие от оппонента в споре, особенно беспокоит
не своя победа, а нравственная репутация оппонента: «Но дурень
он, дурень. Что ж он сделает плохими журнальными статейками!
Только себя осрамит! А между тем, он уже заранее торжествует
в этом самом письме» ***.
Без ответа, конечно, Соловьев не остался. Начался новый виток
полемики. Статья Страхова «Новая выходка против книги Данилевского»
была не менее резка. В октябре 1890 г. Соловьев просит у Стасюлевича
оставить место для своего ответа «помешавшемуся со злобы Страхову»
и добавляет: «Вы меня очень обяжете, напечатавши у себя, так как
оставить кажущуюся победу за моим другом-скорпионом было бы мне
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 836.
* Белый Андрей. Владимир Соловьев. Из воспоминаний // Белый Андрей. Арабески.
М., 1911. С. 389-390.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Переписка. Т. 2. С. 836.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 455
неудобно»*. Соловьев всегда отличался экстравагантностью выражений,
но «друг-скорпион» — это, пожалуй, слишком. Эту ответную статью,
«Счастливые мысли H. H. Страхова»**, Соловьев назвал в одном из писем
в своем привычном стиле «зуботычиной Страхову» ***.
•к "к -к
Признанный эрудит Страхов мимоходом упомянул в одной из
полемических статей книгу Рюккерта как пример того, что и европейским
ученым не чужда идея, развернутая Данилевским. Это был, конечно,
тактический промах: в споре с таким «другом-скорпионом» Страхову
следовало все время быть начеку. Не упомяни он о «зачатках мысли
о типах» у Рюккерта — не нажил бы себе новых проблем. И вот Соловьев
в декабре 1890 г. разразился статьей-открытием,
статьей-разоблачением: «Немецкий подлинник и русский список». Оказывается,
Данилевский ничего нового не придумал, а просто переложил на свой
лад заимствованную у немецкого ученого теорию.
Вообще-то в России с обычным для нашей интеллигенции
преклонением перед Западом всегда было наоборот — если уж есть аналог
в Европе, то это свидетельство философии самой высокой пробы.
Но не таков наш великий Соловьев — теперь он обвиняет Данилевского
в отсутствии «научной самобытности» и чуть не в плагиате. В споре
все средства хороши.
Изворотливый ум Соловьева подсказал ему новый поворот темы,
пополнивший истощившиеся аргументы против книги Данилевского —
он стал оспаривать ее оригинальность. Ученые вечно заимствуют что-то
друг у друга, развивая и дополняя — таков естественный ход науки.
Но это не аргумент для Соловьева: ему же во что бы то ни стало надо
победить в споре!
После нелепого обвинения Соловьевым Данилевского в плагиате
Страхову, убежденному, что «эти две книги не имеют ничего общего»,
писать подробное доказательство очевидного не хотелось и он почел бы
«великой радостью» «если бы кто взял на себя определить отношение
книги Рюккерта к книге Данилевского» ****. Единственным человеком,
который с сочувствием Страхову переживал весь ход спора и мог бы
написать такое опровержение, был Розанов, но тот не знал немецкого
* Письма B.C. Соловьева. Т. IV. С. 45-46.
* Вестник Европы. 1890. Ноябрь.
* Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 105.
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 126.
456
В. А. ФАТЕЕВ
языка. Так что Страхову пришлось погружаться в книги и вести
нудное доказательство на цитатах, что у Рюккерта были только намечены
самые общие контуры того грандиозного плана истории, который
развернул Данилевский.
Он стал оправдываться, что Данилевский, мол, и не читал вовсе
Рюккерта, да и сочетание слов «культурно-исторический тип»
немецкий ученый не употребляет. Соловьев накинулся коршуном: читал —
не читал, кто теперь разберет?! Взял в библиотеке книгу, о которой
прежде, до упоминания о ней Страхова, явно не ведал, и нашел-таки
у Рюккерта не только термин, но и «все существенное содержание
"России и Европы"» *. Соловьев торжествовал: ясное дело — типичный
плагиат! В пылу полемики он мимоходом обвинил даже в плагиате
у Гегеля и западной науки вообще и самого автора «Борьбы с Западом».
Страхов, удивленный своим просмотром термина у немецкого
философа, принялся сравнивать тексты и был поражен: «Подчеркнутых слов
<...> нет в тексте Рюккерта; слова эти вставлены переводчиком, как
будто бы для пояснения текста, но в сущности для того, чтобы придать
ему другой смысл»**. Возмущению добродушного Страхова не было
предела: «...взять термин Данилевского и вставить его в самый текст
Рюккерта — это переходит всякие границы»***. Как ни удивительно,
но на это разоблачение «фокуса» почти никто не обратил внимание:
Страхова мало кто и читал, а о победах Соловьева гремели все
либеральные издания. «Победителем» же в злополучном споре Соловьев
только и мог стать по этой ловкости престижидатора. Но кто же
судьи?! Конечно, общественное мнение. Розанов писал в 1913 г. в
примечаниях к письму Страхова: «Между тем до сих пор многие верят
Влад. Соловьеву, будто Данилевский "украл" у Рюккерта его мысли,
и "Россия и Европа" есть плагиат с немецкого. Соловьев мог бы понять,
что самый ум Данилевского был не компилятивный» ****.
У Розанова тогда, кстати, возникла крамольная мысль, что
хорошо бы «проверить со справочниками на руках» на предмет компиляции
самого Соловьева, но самому ему это, конечно, не по силам. Собственное
творчество Соловьева соткано из тысячи разных источников, и если бы
тот же Страхов в качестве контрудара захотел бы уличить склонного
к эклектизму оппонента в заимствованиях, скажем, у Конта или Гегеля,
он без труда бы сделал это. Но благородному Страхову это даже не
пришло в голову.
* Соловьев В. С. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 588.
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1896. Кн. 3. С. 212.
* Там же. С. 213.
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 126-127.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»... 457
В мире все-таки есть справедливость: нашелся исследователь,
который подтвердил мнение Страхова, что, сопоставляя тексты Рюккерта
и Данилевского, наше философское «все» совершило не совсем
нравственный поступок. Много лет спустя тщательный разбор этой темы
был сделан американским ученым P.E. Мак-Мастером, и вывод
его категоричен: ни о каком плагиате речи быть не может. Мак-Мастер,
американский автор книги о Данилевском, которого, конечно, в
сочувствии философу, которого он считал «тоталитарным» *, и тем более
русскому «брюшному патриотизму» никак не заподозришь, оказался,
не в пример отечественным исследователям, человеком дотошным.
Зная немецкий язык, он сверил перевод цитат из Рюккерта со статьей
Соловьева и обнаружил, что тот «неожиданно повел себя легкомысленно
и для доказательства собственной правоты пошел даже при переводе
на русский язык на некоторое "редактирование" текстов Г. Рюккерта,
что сильно меняло их смысл»**. Таким образом, говоря попросту,
Соловьев совершил подлог ради достижения своих «высоких» целей
борьбы с теорией культурно-исторических типов, а в более широком
плане — с русским национальным самосознанием.
Полемика продолжалась еще некоторое время, но ход ее был уже
предопределен. Об ее итогах можно сказать словами Розанова: « ...в
споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина победы была на
стороне Страхова. Но Страхов писал в "Русском Вестнике", которого никто
не читал, а Соловьев — в "Вестнике Европы", который был у каждого
профессора и у каждого чиновника на столе» ***.
Хотелось бы еще обратить внимание на некоторые соловьев-
ские эпистолярные перлы, относящиеся к Страхову. Так, по
поводу кончины консервативного философа П. Е. Астафьева (7 апреля
1893 г.), при жизни резко критиковавшего Соловьева (как, впрочем,
и Страхова) и находившего в религиозно-мистических
построениях оппонента отчетливое влияние позитивизма, Соловьев написал
Н. Я. Гроту такие кощунственные слова: «Мир праху Астафьева!
Теперь философия этого рода имеет только двух представителей:
Страхова и Розанова — мир и их праху! » ****. Не говоря о
непочтительно-двусмысленном отзыве о покойном, это же и недвусмысленное
пожелание смерти живым людям\
* MacMaster R. Е. Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge, Mass.,
1967.
** MacMaster R. E. The Question of Heinrich Rückert's Influence on Danilevsky //
American Slavic and East European Review. Feb. 1955. Pp. 59-66.
*** Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 14.
**** Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 72.
458
В. А. ФАТЕЕВ
Выражения Соловьева по поводу его полемики со Страховым не
выдерживают никакой критики с нравственной точки зрения. Сообщения
о своих «ударах» Страхову, написанные в каком-то
шутливо-самодовольном и одновременно панибратском тоне, Соловьев, не стесняясь,
рассылал в самые разные адреса, в том числе, например, их «общему
приятелю» К.Н. Леонтьеву: «Посылаю Вам, дорогой Константин
Николаевич, эти палочные удары по спине (! — В.Ф.) нашего общего
приятеля, дабы Вы видели, что я в либерализме не педант <...> Брань
моя со Страховым кажется еще не закончилась, и я решил оставить
последнее слово за собой» *.
А 30 июля 1893 г. Соловьев пишет брату об очередной статье
против Страхова: «Завтра или послезавтра пошлю тебе обещанную
статью из "Вестника Европы" <...> Я возобновил дружеские
отношения с Кутузовым, которые были прерваны четыре года тому назад.
Примирение же со Страховым я видел только во сне. Когда увижу
наяву, то подумаю, не наступил ли мой смертный час» **.
Уже в 1895 г. (если нет ошибки в датировке письма) Соловьев
шлет своему другу Э. Л. Радлову, будущему издателю его переписки,
такое «шутливое» послание: «Пишу некролог (курсив мой. — В. Ф.)
Н. Н. Страхова — воображаю — как он теперь удивлен и сконфужен.
Вот бранить-то его буду, когда увижу, не отхихикается» ***. Не совсем
ясно, о чем речь, но «некролог» здесь — скорее, образ, шутка в прежнем
роде, хотя такой юмор на большого любителя. Любопытно, что одна
из мемуаристок считает, что некролог писался Соловьевым после
кончины Страхова и приводит эти слова как проявление веры Соловьева
в миры иные****.
Как бы то ни было, некоторое время спустя Соловьев узнал о
неизлечимой болезни Страхова и попросил Розанова организовать встречу
с ним для примирения. Об этой встрече Розанов писал С. А. Рачинскому
в начале 1896 г.: «В пятницу на той неделе, т.е. 5-го января, по
убедительной просьбе Соловьева Вл., я упросил Страхова помириться
с ним: Соловьев приехал прямо из Царского Села, в 10 ч. вечера ко мне,
и Страхов тут же приехал. Соловьев вошел к нему и протянул руку —
поцеловал его в голову; 2 часа просидели они, мирно разговаривая. —
Страхов ужасно не уважает Соловьева: "Нет ни настоящих мыслей
у этого человека, ни настоящих чувств", — сказал он; и "только для вас
я это делаю и без всякого ожидания какого-нибудь толка", — сказал
* Там же. Т. IV. С. 265.
** Там же. С. 127.
*** Там же. Т. I. С. 255.
*** Ельцова К. М. Сны нездешние // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 139.
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»...
459
он мне, когда, получив в четверг телеграмму от Соловьева, я пошел
приглашать его. Он убежден, что Соловьев — весь фальшивый...»*.
Итак, примирение произошло, как ранее Соловьев и писал Толстому,
«во имя евангельской заповеди и личного чувства без всякой
солидарности во взглядах и стремлениях» **.
Что касается некролога, то Соловьев действительно писал его для
мартовского номера «Вестника Европы» в 1896 г., однако так и не закончил.
Из содержания некролога, который до недавнего времени оставался
неизданным***, видно, почему он так и не появился тогда в печати.
Сконцентрировав в нем свое внимание на противоречии во взглядах
Страхова, отстаивавшего почти одновременно контрастные до
непримиримости идеи Данилевского и Толстого, Соловьев, по существу,
продолжил полемику с уже отшедшим в мир иной «врагодругом »****.
Для некролога такой подход был, конечно, неприемлем. Если же
упомянутое выше мистическое толкование соловьевского «некролога»
действительно относится к данному наброску (в чем есть большие
сомнения), то это не может не вызвать ничего, кроме чувства неловкости
за автора — ничего такого, что могло бы «сконфузить» покойника и тем
более заставить его «хихикать», в этом некрологе не наблюдается.
Ф. Э. Шперк как-то заявил Розанову: «Соловьев в высшей степени
эстетическая (т.е. в нем все красиво) натура, но совершенно не
этическая» *****. Хотелось бы надеяться, что эти заметки убедят кого-нибудь
из читателей, что некоторые основания для такого, казалось бы, резкого
вывода у критика были.
* ОР РНБ. Ф. 631. Ед. хр. 85. № 20. Л. 50.
* Письма B.C. Соловьева. Т. IV. Прил. С. 258.
* Соловьев В. С. Некролог Н. Н. Страхова / Публ. Н. В. Котрелева // Соловьевские
исследования. Период, сб. научных трудов. Иваново, 2005. Вып. 11. С. 158-167.
* Письма B.C. Соловьева. Т. I. С. 130.
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 20.
В. К. КАНТОР
Владимир Соловьев
о соблазне национализма
Стоит заметить, что русские грехи и соблазны почти всегда
принимались с восторгом Западом как русская духовность, ибо греховное
ближе человеческой натуре, нежели простота правды. В русских
видели (и видят до сих пор) националистов, ненавистников петровской
реформы, поклонников таинственной народной души, враждебных
просвещению и т.п. Эти идолы, бесспорно, присутствовали в сознании,
не скажу народном, но в сознании публицистов, говоривших вроде бы
от лица народа и страны. Однако в России, как и в других культурах,
всегда находились избранные — пророки, мыслители, писатели, —
выступавшие против национальных грехов, против национальных идолов,
за что были нелюбимы своими современниками. Одним из таких
пророков, как мы знаем, был Владимир Соловьев. Е. Н. Трубецкой писал:
«Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство.
Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим
что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия
сказывался в нем с особой страстностью. В особенности жестоко
доставалось от него наиболее вредным из всех идолов — идолам
политическим» *. В основе русского идолопоклонства лежал заимствованный
из Европы (прежде всего из Германии), но удивительно обрусевший
идол национализма. А поскольку следом за немцами основу
национального пафоса искали в простом народе, то народопоклонство,
нелюбовь к городам, к Петру Великому, к интеллигенции (по тогдашней
терминологии — к образованному обществу) и связанный с нелюбовью
к интеллигенции, студенчеству, Европе, инородцам антисемитизм
стали как бы естественным следствием национализма. Забывалось
* Трубецкой Е. Н. Миросозерцание B.C. Соловьева. Т. 1. М.: Московский
философский фонд «Медиум», 1995. С. 37.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
461
главное, что в отличие от Германии Россия, по крайней мере, с Петра
Великого — империя, а потому полиэтническая страна, что русские —
явление многосоставное, возникшее из скрещения многих народов.
О возникновении великороссов из разных этносов писали многие
историки-западники: от Осипа Сенковского до Василия Ключевского.
Но существеннее другое. Историки «государственной школы»
(К. Д. Кавелин, СМ. Соловьев) в противовес славянофилам брали
за основу развития России государство (что прекрасно усвоил от своего
отца Владимир Соловьев), а не национально-племенные особенности.
Скажем, СМ. Соловьев писал «Историю России», а не «Историю
Русского народа», как близкий славянофильским воззрениям Николай
Полевой. Следом за Пушкиным, не принявшим идей Полевого,
они противопоставляли мифологической созидательности народа
реальную преобразующую деятельность Петра Великого. Чаадаев
в своих «Философических письмах» тоже говорил о России как некоей
культурно-исторической общности, не принимая славянофильских
«племенных перегородок» (Чаадаев). Себя от России при этом он не
отделял. Постоянное его слово в рассказе о русских проблемах — «мы»
(«мы никогда не шли об руку с другими народами; мы не
принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода...» *). Такая
позиция была расценена правительством и обществом, как безумие.
Вообще, как ни странно, в российских самокритических по
отношению к культуре текстах часто используется это патриотическое
местоимение, но с негативно-аналитическим оттенком, вплоть до романа
Замятина «Мы». Соответственно, возникала и ярость соплеменников,
мол, мы не такие.
Соловьев вроде бы избегает провоцирующего «мы», он пишет
лично-заинтересованно, но как бы со стороны, либо как философ,
с «точки зрения вечности». Россия рассматривается им не как «мы»,
а как проблема. Что же вменяли ему в вину его оппоненты? Не
надо долго гадать, чтобы понять: речь шла о нем как блудном сыне
России. Стоит, пожалуй, привести фразу H.H. Страхова, в которой
отношение к Владимиру Соловьеву наших националистов
выражено наиболее внятно: «Много у меня предметов смущения, уныния
и стыда, но за русский народ, за свою великую родину я не могу,
не умею смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться России?
Сохрани нас Боже! Это было бы для меня неизмеримо ужаснее, чем
если бы я должен был стыдиться своего отца и своей матери. Иные
* Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.:
Современник, 1987. С. 35. В этих словах уже очевидны подступы к идеям
всемирной теократии Вл. Соловьева.
462
В. К. КАНТОР
речи г. Соловьева об России кажутся мне просто непочтительными,
дерзкими»*. Бердяев, правда, как-то заметил, разумеется, спустя
многие годы после смерти противников, сравнивая Вл. Соловьева
и Л. Толстого, что философ говорил о России во всех ее проявлениях
чрезвычайно положительно. При этом известно, многие критики
писали, что в нем нет любви к родному очагу и отеческим гробам
(Страхов упрекал его даже, что он не ценит своего великого отца).
Но, казалось бы, что по-иному, без жесткости, даже жестокости,
и нельзя противостоять идолопоклонству. Ницше, писавший
примерно в те же годы, что и Соловьев, о том, как надо бороться с
кумирами, в предисловии к своей знаменитой книге говорил о своей
злости: «В мире больше кумиров, нежели настоящих героев; таков
мой "злой взгляд" на этот мир»**. Приведу все же слова Бердяева:
«Толстой анархически отрицает все историческое, органическое,
кровное, почвенное, отказывается от наследия предков, бросает вызов
тому, что рождается из недр родной земли. Соловьев все оправдывает
и обосновывает, всему находит место: и государству, и
национальности, и войне, и всему, всему. Он принимает заветы предков, хочет
быть верным этим заветам, ни против чего не бунтует, ни с чем не
порывает. В "Оправдании добра" он доходит до виртуозности в этом
оправдании всего, что органически создано историей, в охранении
всех исторических тел. И остается загадкой, почему такой
воздушный, не почвенный, не земляной человек оправдывает и охраняет все
историческое, из почвы выросшее, с землей связанное» ***. Загадки,
однако, никакой. Достаточно посмотреть на его посвящение деду-
священнику и отцу-историку в трактате «Оправдание добра», чтобы
понять чувство глубокой духовной преемственности с тем высшим,
что было создано Россией. Лев Толстой таких предков не имел,
достаточно перечитать его «Детство», рассказ о распавшейся семье.
«Война и мир» — мечта и тоска по таким предкам. Когда же от мечты
он переходил к реальности, ничего кроме отрицания и нигилизма
он в себе не находил, ибо опирался только на себя.
Вместе с тем еще Е. Н. Трубецкой отметил, как особенность
Вл. Соловьева, его постоянную интеллектуальную
оппозиционность. В годы торжества позитивизма в России он выступает против
* Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство // Страхов H.H. Борьба
с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 439.
'* Ницше Ф. Падение кумиров. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 8.
* Бердяев Н. А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева.
URL: http://readr.ru/nikolay-berdyaev-problema-vosroka-i-zapada-v-religioznom-
soznanii-vl-soloveva.html?page=2
Владимир Соловьев о соблазне национализма
463
позитивизма, зато потом воздает должное Конту, когда позитивизм
утратил свое абсолютное господство. Всякие кумиры были для
него неприемлемы. К псевдо-святыням он испытывал что-то вроде
идиосинкразии. Когда, уйдя от либеральных ценностей эпохи
великих реформ, Александр III начинает ориентироваться на ценности
патриархально-консервативные, используя националистическую
фразеологию и идеи о нации как основе государства, пришедшие
с Запада, русский европеец Соловьев начинает свой, можно сказать,
«крестовый поход» против национализма, проблематизируя ситуацию
и фразеологию. Вместо расплывчатых, идущих от романтизма
понятий о русских, идущих на смену германским племенам, о славянах
как антитезе германцам и т.п. идеях, сохранившиеся от ранних
славянофилов и перешедших в мессианический панславизм у Бакунина
и Герцена, он поднимает полемику до уровня философско-категори-
ального аппарата, говоря о нации, национальности, национализме как
разрушительных идеях. В каком-то смысле едва ли не единственный
из современников его идею поддержал Константин Леонтьев как автор
цикла писем (1888 г.) «Национальная политика как орудие
всемирной революции» (в своей тетради Леонтьев употребил позже слово
«племенная»). Надо сказать, что с этим связана и попытка Соловьева
перевести православие как «племенную религию», по определению
Чаадаева, на уровень европейского всеединства. Я имею в виду
его концепцию всемирной теократии*. Не вдаваясь в изложение
этой достаточно известной концепции о преодолении церковного
разъединения под духовным руководством римского папы и русского
императора, заметим только, что исходил мыслитель из понимания
христианства как наднационального учения, преодолевающего
национализм. В этом, кстати, он вполне был близок своему отцу,
великому историку, писавшему: «Христианство, отрекаясь от временных
политических форм, доступно всем векам, всем народам, на какой бы
степени развития они ни находились, и ведет их к взаимному
совершенствованию, не насилуя их»**. Самобытность России философ,
конечно, более чем признавал, возлагая на нее миссию спасения
европейско-христианского мира.
Ницше в своей борьбе с кумирами философствовал молотом,
поскольку нес в себе нигилистический пафос тотального разрушения христи-
* См.: Кантор В. К Владимир Соловьев: имперские проблемы всемирной
теократии // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 126-144. Далее она вошла: Кантор В. К.
Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса. М.: РОССПЭН,
2009. С.372-397.
** Соловьев С. М. Прогресс и религия // Соловьев СМ. Соч.: в 18 кн. Кн. XVI. М.:
Мысль, 1995. С. 684.
464
В. К. КАНТОР
анского и европейского мира. В России можно найти аналог подобному
философствованию в текстах Д. И. Писарева. Соловьев — бесконечный
полемист, начиная с первых его работ. Но полемист не отрицающий,
а защищающий традиционные ценности, а потому — удивительный
полемист, так резко отличающийся своей утонченной вежливостью как
от современников, типа Писарева и Ницше, так тем более и от более
поздних публицистов революционной закваски, в споре пытающихся
уничтожить противника... Несмотря на всем известную его склонность
к усмешке, язвительности, он всегда свой спор начинает с попытки
встать на точку зрения противника, а потом, исходя из его позиции,
пояснить, что противник своими высказываниями как бы подтверждает
то, что говорит сам Владимир Соловьев. Это, конечно, стиль
обращения не к массам, а к образованному обществу. И пропаганда им своих
взглядов ориентировалась не на эмоции, не на магическое сознание
масс, как, скажем, у Ленина, не на заклинания, а на рацио, это всегда
обращение к разуму.
Приведем пример из его полемики с И. С. Аксаковым: «Вы полагаете
любовь к народу главным образом в привязанности к своему родному.
Ко всему ли, однако, своему? <...> Вы не требуете ни от кого любви
и привязанности к расколу; напротив, из любви к России и к самим
раскольникам вы должны желать, чтобы они не привязывались, а
поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового,
отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть
вместе с тем худое, недолжное. Значит, и по-вашему любить нужно
не все свое, а только хорошее. Значит, во всяком деле не о том нужно
спрашивать, свое или не свое, а о том, хорошо или худо» *.
У больших мыслителей бывают часто к концу жизни тексты, в
которых внятно и ясно они проясняют задачу, пафос и смысл своих
писаний, своих действий. Они адресованы не только
интеллектуалам, а как бы всем, но тем самым и интеллектуалам, которые часто
пытаются увидеть сложность не в глубине и простоте мысли, а в
привходящих обстоятельствах. Для Владимира Соловьева таким текстом
стали «Воскресные письма», опубликованные им в 1897 г. Там им была
напечатана и маленькая статья «О соблазнах», как бы камертон всей
его публицистики. С. Н. Трубецкой называл публицистику Соловьева,
имея в виду, прежде всего, его полемику с русским национализмом,
практической этикой. Статья из «Воскресных писем» ясно формулирует
установку его этической публицистики.
* Соловьев В. С. Любовь к народу и русский народный идеал (открытое письмо
к И.С. Аксакову) // Соловьев B.C. Национальный вопрос в России. М.: ACT,
2007. С.54-55.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
465
Все факты жизни должны пройти через философское сомнение, ибо
их мнимость весьма вероятна. Его позиция сродни позиции Декарта,
писавшего о возможности предположения, что не всеблагой Бог,
являющийся верховным источником истины, но какой-нибудь злой
гений употребил все свое искусство, чтоб обмануть человека. Отсюда,
конечно, путь к глобальному скептицизму и неверию. Противопоставить
этому можно только силу разума, который способен отделить ложную
полуистину, соблазн, напущенный злым гением, от истины, по мысли
Соловьева, от христианской истины.
Поэтому все соблазны, как полагал Соловьев, рождаются из
отрицания разума как главной регулирующей силы человеческого сознания.
Он находил порой удивительно остроумные возражения против
противопоставления народного духа и разума образованного общества. Возражая
интеллектуалу Каткову, сделавшему ставку на борьбу с интеллигенцией,
он писал: «Знаменитому редактору "Московских ведомостей" не раз
приходилось выражать странную мысль, что тело России, т.е. низшие
классы населения, пользуется полным здоровьем и что только голова
этого великого организма, т.е. высший и образованный класс, страдает
тяжким недугом. Вот удивительное здоровье, много обещающее в
будущем! Московский публицист не заметил, что он сравнивал свое отечество
с теми неизлечимо умалишенными, которым полнота физических сил
не мешает страдать безнадежным слабоумием» *.
Но в маленькой статье он не иронизирует, а рассуждает вполне
серьезно, хотя соловьевская ирония, еле заметная, чувствуется в интонации:
«Весь этот ложный и недобрый взгляд держится, конечно, на одной
соблазнительной полуистине, дающей ему благовидность и
обманывающей слабые и поверхностные умы. Полуистина состоит здесь в том,
что сердечная вера и чувство противополагаются умственному
рассуждению вообще. Сказать, что такое противоположение ложно — нельзя.
Ведь в самом деле сердце и ум, чувство и рассуждение, вера и мышление
суть силы не только всегда различные, но иногда и несогласные между
собой. Но ведь этот несомненный факт выражает только половину
истины, и какое доброе побуждение, какой нравственный, сердечный или
религиозный мотив заставляет нас останавливаться на этой половине
и выдавить ее за целое? Ведь согласие сердца и ума, веры и разума лучше,
желательнее их противоречия и вражды, это согласие есть норма, идеал »**.
И далее поясняет: «Бывают бессердечные умствования о жизненных
вопросах, бывают мысли, чуждые и враждебные вере. Но, во-первых,
* Соловьев В. Россия и Европа // Соловьев В. Национальный вопрос в России. М.:
ACT, 2007. С. 114.
г* Соловьев В. С. О соблазнах //Соловьев B.C. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. СПб., [б.г.] С. 20.
466
В. К. КАНТОР
по какой логике можно заключить, что всякое действие ума,
обращенное на живые предметы, непременно отрешается от сердечных чувств,
что всякое мышление должно противополагаться вере, а во-вторых,
если бывают бессердечные умствования, то ведь бывают и безумные
движения сердца, если встречается мышление противное вере, то ведь
можно еще чаще встретить бессмысленные чувства и слепую, темную
веру, и какая же из этих двух односторонностей лучше?»*. Именно
пафос интеллектуального прочтения «русских вопросов» вызвал к
жизни одну из знаменитых его книг «Национальный вопрос в России»,
составленную из статей 70-х и 80-х гг. и в значительной степени
посвященную разбору взглядов Данилевского. Неслучайно центральная
статья первого выпуска соловьевского сборника называлась «Россия
и Европа».
Рассуждая об этой статье Соловьева, Страхов начинает с
иронической фразы, указывающей Соловьеву его «невысокий шесток»:
«Как бы нам не ошибиться? Как бы нам не придать этой статье г. Влад.
Соловьева больше значения, чем он сам ей придает? В самом деле,
несмотря на свой громкий и решительный тон, эта статья просто
неуловима по зыбкости своих рассуждений, по разнообразию и
неопределенности своих точек зрения. Недаром она так удобно нашла себе
место в "Вестнике Европы"**. Надо сказать, удар был точный, журнал
Стасюлевича у нелиберально настроенных русских мыслителей
вызывал неприязнь. О месте публикации сожалеет, скажем, и Леонтьев,
считавший Соловьева гениальным мыслителем: «Не скрою, что видеть
имя Соловьева на страницах г. Стасюлевича мне было тяжело» ***.
При этом Леонтьев, как мало кто, понимал высшую цель построений
Соловьева, которую даже сторонники его поняли только после «Трех
разговоров», когда сам мыслитель разочаровался в осуществимости
позитивной части своих умопостроений. А Леонтьев так определял
главную духовную цель учения Соловьева: «Спасти посредством
воссоединения церквей наибольшее количество христианских душ
и приготовить христианское общество к эсхатологической борьбе,
к пришествию антихриста и страшному последнему Суду Божию»****.
Конечно, в этой оценке стоит учесть эсхатологическое понимание
самим Леонтьевым трагизма человеческого бытия, но существенно,
* Там же.
:* Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство // Страхов H. H. Борьба
с Западом. М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 387.
г* Леонтьев К. Н. Владимир Соловьев против Данилевского // Леонтьев К. Н.
Избранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 199.
:* Леонтьев К. Н. Владимир Соловьев против Данилевского. С. 200.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
467
что он увидел это у Соловьева, когда и сам мыслитель это не
чувствовал, а про антихриста догадка вообще удивительная. До соловьевской
«Краткой повести об Антихристе» оставалось еще 10 лет, Леонтьеву
прочитать ее не удалось, как мы знаем. То, что Леонтьев прозрел,
Бердяев констатировал почти как эмпирический факт: «"Повесть
об Антихристе" означала крах иллюзий Вл. Соловьева, всех обманных
образов и прежде всего обманного образа теократии» *.
Страхов высшего пафоса Соловьева не понимал. Он пытался увидеть
основу идей философа в его личном тщеславии**. Впрочем, он и в
прозе Достоевского находил сладострастие личного опыта, приписав ему
(в письме Льву Толстому) насилие над малолетней (откуда, мол, эта тема
во всех романах писателя), а положительный момент его творчества-
де лишь в том, что Достоевский боролся с нигилизмом и принадлежал
славянофильской партии. Такая узкая партийность никогда не
позволяла увидеть истинное величие идеи и человека.
«Г. Соловьев, конечно, провинился непростительно своими
задорными и небрежными выходками*** (курсив мой. — В. К). <...> Все
признали, кажется, единогласно, что заметки его отличаются более
недоброжелательством, чем остроумием и меткостью****; вообще можно
надеяться, что за справками о состоянии русской науки и русского
искусства никто не пойдет в статью г. Соловьева» *****, — иронизировал
Страхов. Однако Соловьев был сам русской философской наукой,
* Бердяев H.A. Владимир Соловьев и мы. URL: http://www.vehi.net/berdyaev/
mochulsky.html.
** «Бывает в человеческой душе какое-то странное ожесточение. Когда другие
думают и действуют не по-нашему, мы приходим к мысли и желанию —
отнять у них всякую силу и жизненность, обезличить их, обратить в бесцветную
и бездейственную массу — и тогда заставить их делать и думать, как мы того
желаем. Отсюда высокомерие и недоброжелательство, отсюда слепота и глухота
к явлениям жизни. Помешали г. Соловьеву разные русские книги, русское
искусство, русская литература, ну он и стал в них сомневаться, чтобы себя потешить;
может быть, даже ему нужно себя утешить, и тогда нам следует пожалеть его»
(Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство. С. 388).
*** Страхов позволяет себе не спорить, а бранить Соловьева как нашкодившего и
«непростительно провинившегося» мальчишку.
**** сТоит сравнить это высказывание со словами Леонтьева об этом же тексте
Соловьева: «Его своеобразное освещение всем известных фактов священной
и церковной истории, изумительная прелесть его изящного изложения, местами
его тонкое, философское остроумие — все это невыразимо освежает наш ум»
(Леонтьев К. Н. Владимир Соловьев против Данилевского. С. 201).
***** Страхов Н. Н. Наша культура и всемирное единство. С. 389. А вот свидетельство
реального читателя, и не рядового. Бердяев писал: «Его "Национальный
вопрос" читался больше других его книг и приобрел ему большую популярность»
(Бердяев H.A. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева).
468
В. К. КАНТОР
да и русским искусством тоже, под влиянием которого вырос, к
примеру, русский символизм. Но лицом к лицу лица не увидать. И Страхов
пишет, что г. Соловьев «на этот раз явился печальным образчиком
немощи русского просвещения» *.
Выступление против соблазнов всегда вызывает гнев соблазненных
или соблазнителей. Что же это был за соблазны, против которых так резко
выступал Соловьев. Стоит уточнить. 1. Это преклонение перед
невежеством народа, или народничество. 2. Рыночный патриотизм, приводящий
к ненависти к инородцам, еврейским погромам и т.п. 3. Обнимающий
и как бы санкционирующий два предыдущих соблазн национализма.
Соловьев писал: «Мое порицание национализма вы относите то к целой
России и к русскому народу, то к славянофилам. Отчего же бы, однако,
не отнести его туда, куда оно по справедливости относится, именно к
национализму как дурному направлению народного духа? <...> Но важно
вовсе не то, кто и в какой мере грешил или грешит национальным
эгоизмом, а то, чтобы этот грех не возводился в праведность» **.
Ссылка оппонентов на то, что их поддерживает народное мнение,
не принимается Соловьевым. «Пусть откроют нам секрет, каким
образом помимо развития сознания, помимо умственной просветительной
работы можно воздействовать на сердце народа верующего, но
темного, и по темноте своей способного совершать злые дела, принимая
их за добрые? А пока этого секрета не откроют, приходится думать,
что противоположение ума сердцу есть только соблазн лживого ума
и испорченного сердца для обманчивого оправдания духовной немощи
и умственной лени» ***.
Интересно, что противники старались как раз соловьевскому фило-
софизму приписать, так сказать, его «промахи». Скажем, Данилевский,
рассуждая о теократической идее Соловьева, требовавшей от России
известной силы самоотречения, даже высказывал предположение,
уж не подкуплен ли мыслитель. Но тут же сам себя окорачивал,
замечая, что он имеет в виду, что Соловьев был подкуплен складом своего
ума: «Г. Соловьев человек, без сомнения, с философским
направлением ума. Качество довольно редкое и очень ценное, но, однако же,
как и всякое умственное и даже как и всякое нравственное качество,
имеющее и свои слабые стороны, заставляющие впадать в пороки своих
добродетелей. Опыт нам показывает, что главный недостаток или порок
философствующих умов, т.е. метафизически философствующих, есть
склонность к симметрическим выводам. При построении мира по логи-
* Там же. С. 390.
* Соловьев В. Любовь к народу и русский народный идеал. С. 66-67.
* Соловьев В. С. О соблазнах. С. 21.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
469
ческим законам ума, является схематизм, и в этих логических схемах
все так прекрасно укладывается по симметрическим рубрикам» *.
Но Соловьев как раз принимает книгу Данилевского именно за
известную научность, поскольку видит в его тексте способность к
рассуждению, а не простые, пользуясь выражением Герцена, «завывания
патриотического шакала». Герцен был резок, Соловьев толерантен:
«Данилевский имеет несомненное преимущество в выражении
национальной идеи. Для прежних славянофилов эта идея была по
преимуществу предметом поэтического, пророческого и ораторского вдохновения.
Они ее воспевали и проповедовали. С другой стороны, в последние
годы та же идея стала предметом рыночной торговли, оглашающей
своими полуживотными криками все грязные площади, улицы и
переулки русской жизни. Против поэзии и красноречия спорить нельзя.
Бесполезно также препираться с завывающим и хрюкающим
воплощением национальной идеи. Но, кроме этих двух крайностей, мы имеем,
благодаря книге Данилевского, спокойное и трезвое, систематическое
и обстоятельное изложение этой идеи в ее общих основах и в ее
применении к России»**. Соловьев угадал опасность этого соблазна, хотя
и не мог предвидеть, к чему приведет «завывающий» и «рыночный»
патриотизм. Увидели это его последователи. Рыночный характер
патриотизма стал, по мысли Е. Трубецкого, одной из причин
появления большевизма: «В дореволюционной России было сколько угодно
образчиков <...> делового, коммерческого патриотизма. Патриотизм
был связан с разнообразными выгодами для господствующего
племени — с привилегиями по службе, со всякого рода экономическими
преимуществами; на нем делали карьеру, им же пользовались, чтобы
наживаться на счет инородцев, скупать по дешевой цене польские
имения и брать взятки с евреев. Нередко в форму шовинистических
еврейских погромов облекались те самые социальные инстинкты и
аппетиты, которые потом нашли себе удовлетворение в большевизме»***.
* Данилевский Н. Я. Владимир Соловьев о православии и католицизме //
Данилевский Н.Я. Горе победителям. Политические статьи. М.: АЛИР, ГУЛ
«ОБЛИЗДАТ», 1998. С. 338-339.
* Соловьев В. Россия и Европа. С. 108-109.
* Трубецкой Евгений. Великая революция и кризис патриотизма // Трубецкой Е.
Смысл жизни. М.: АСТ-ФОЛИО, 2000. С. 559. И далее Трубецкой пояснял:
«Вообще говоря, большевистское понимание "социалистического отечества"
представляет собою естественное превращение корыстного "патриотизма" низшего
сорта, ибо для него "отчество там, где выгодно". "Социалистическое отечество" —
это то государство, которое отдает рабочему фабрику, крестьянину — землю,
а "бедноте" — все прочее достояние имущих классов. Это — отечество для тех,
кому оно дает щедрые подарки» (Там же).
470
В. К. КАНТОР
Идеальные структуры мысли редко реализуются в реальности. Тема
корысти, выгоды, прикрытых идеологическими построениями, весьма
ясно прозвучала в двух страшных революциях XX в. — большевистской
и нацистской. Эта же тема корыстолюбия народных масс объясняет
отчасти и неуспех соловьевской теократической идеи. Идея христиан-
ско-имперской теократии Соловьева осталась утопией. Стоит
сослаться на формулу П. Б. Струве: «Христианство, когда рухнула его вера
в близкое наступление Царства Божия, психологически потускнело,
стало более внутренним и более трудным. <...> Что бы ни говорили
идеалисты материального Царства Божия (из школы Соловьева), толпа
утратила или все более и более утрачивает способность верить в его
материализацию, а для религии внутренней необходимо перевоспитание
человека, утончение всей его духовной личности. Носить и творить
Бога в своей душе гораздо труднее, чем ожидать от него материальных
чудес» *. Христианское всеединство тем более не было принято. Всегда
легче объявить часть народонаселения врагами, разрешить их
уничтожение — с целью обогащения. И здесь большевистский пафос, когда
было объявлено, что «все позволено» (ленинский лозунг «грабь
награбленное»), мало чем отличался от площадного, корыстного национализма
нацистов, да и сопровождался со стороны красных, как написал Бунин
в «Окаянных днях», тоже еврейскими погромами.
Для Соловьева и его последователей националистический
патриотизм был еще и потому немыслим, что они видели не русскую нацию,
а Российскую империю. Страхов и Данилевский, по сути дела,
выступают не только против идеи империи, но и против бытия реально
существующей империи, закладывая в ее основание идею национализма
как своего рода мину: «Для государства все равно, к какой народности
принадлежит тот или другой его подданный; но мы теперь знаем, что
для подданных это не бывает и не может быть все равно. И вот, в начале
нынешнего века стала возникать сознательная идея (причем и
знаменитый Фихте отличился), что наилучший порядок тот, когда пределы
государства совпадают с пределами отдельного народа. <...> Европа
ищет для себя самого естественного порядка и все тверже и спокойнее
укладывается в свои естественные разделы; не будь великого
интернационального зла, социализма, начало народности, исповедываемое
Европой, обещало бы ей успокоение»**.
Здесь очевидно абсолютное нечутье к географическому трагизму
геополитики, который очень понимал Соловьев, поэтому предлагал
* Струве П. Б. Facies Hippocratica. К характеристике кризиса в современном
социализме // Струве П. Б. Patriotica. M., 1997. С. 315.
* Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство. С. 395-396.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
471
идею всеединства, всемирную теократию. Страхов словно не
видел внутренних расколов внутри европейских государств (Пруссия
и Бавария в Германии, Ирландия и Уэльс в Великобритании, Судеты,
Чехия и Германия, освобождение Польши из-под власти России,
Германии и Австрии, распад Австро-Венгерской империи, баски
и Испания и т.д.). Немыслимо совпадение пределов отдельного
государства с пределами одного народа, вспомним хотя бы Гердера,
говорившего о невероятной смеси народов в Европе.
Европа после периода империй, начала строить национальные
государства. Стоит вспомнить лозунг Французской революции: «Vive
la nation!».
Неслучайно Соловьев ничего оригинально русского в национальном
принципе не видел: «После наполеоновских войн принцип
национальностей сделался ходячею европейскою идеей» *. Беда в том, что Россия
заимствовала эту идею без серьезной рефлексии. А для России это было
чревато катастрофой. У Запада долгое общее прошлое, поэтому до конца
обособиться западноевропейские нации друг от друга не могут. Хотя
со времен Петра Россия тоже европейская держава, но ее исторический
опыт знал и уединенный непродуктивный период существования.
Поэтому Соловьев тревожится: «Утверждаясь в своем национальном
эгоизме, обособляясь от прочего христианского мира, Россия всегда
оказывалась бессильною произвести что-нибудь великое или хотя бы
просто значительное. Только при самом тесном, внешнем и внутреннем
общении с Европой русская жизнь производила действительно великие
явления (реформа Петра Великого, поэзия Пушкина)» **.
Когда мы и сегодня говорим, что возникновение наций —
продуктивный процесс, мы в отличие от Соловьева имеем и больше ста лет
размышлений о том, что это такое. Слово «нация» (nation), которые
мы используем, в Европе означает государство, а не только нацию.
Достаточен ряд словарных отсылок: 1. to build, establish a nation —
создать, основать государство, 2. civilized nation — цивилизованное
государство, 3. friendly nation — дружественное государство, 4. independent
nation — независимое государство. И т.д. И, наконец, всем
известная Организация Объединенных Наций. Здесь речь о государствах,
а не о валлийцах, шотландцах, афроамериканцах, мордве, чукчах и т.д.
У нас совершенно другая коннотация слова «нация». Простой пример.
Знаменитый Петр Бернгардович Струве пытался утвердить идею
русской нации в России наподобие английской, ведь и Великобритания —
* Соловьёв В. Россия и Европа // Соловьев В. Национальный вопрос в России.
С. 106-107.
** Там же. С. 131.
472
В. К. КАНТОР
империя. У Струве ничего не получилось. Но когда в России заговорили
о русской нации как основе государства, Российская империя рухнула.
Потому что в Англии нация — это не шотландцы, валлийцы, кельты,
а прежде всего государство. Струве удивлялся, как же это большевики
назвали свою партию не Русская, а Российская
социал-демократическая партия большевиков? Они что, считают себя империей? Но так
оно и получилось. Именно большевики восстановили, пусть в форме
деспотии, но восстановили структуру Российской империи. Дело в том,
что в народном сознании жили в перверсном соединении два
соблазна — национализма и империализма. Это соединение, совмещение
и дало вариант восточной деспотии с государственным национализмом,
заменившим идею «площадного», «корыстного» интернационализма.
Что в результате дало «яркое применение этого псевдонационального
начала — в антисемитизме» *, как и предвидел Соловьев.
Попытка Соловьева соединить Римскую церковь с Российской
империей была попыткой спасти Россию и Европу от ужасов национализма
(которые он предощущал) и вытекала из его понимания Римской
империи (не без влияния Данте): «Римская империя (которой нельзя же
отказать в названии всемирной на том основании, что она не
простиралась на готтентотов и ацтеков) вместе с новым культурным элементом,
латинским, ввела в общее движение истории всю Западную Европу
и Северную Африку, соединив с ними весь захваченный Римом мир
восточно-эллинской культуры. Итак, вместо простой смены культурно-
исторических типов древняя история представляет нам постепенное
их собирание чрез подчинение более узких и частных образовательных
элементов началам более широкой и универсальной культуры. Под
конец этого процесса вся сцена истории занимается единою Римскою
империей»**.
У России был шанс стать новым Римом. Как-то Герцен заметил,
что Европа породила два огромных образования, в которых
заключено, быть может, будущее европейского человечества, — Северо-
Американские Штаты и Россию. Блок в 1913 г. опубликовал в журнале
«Русское слово» стихотворение под названием «Новая Америка».
Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!
* Соловьев В. Идолы и идеалы // Соловьев В. Национальный вопрос в России.
С. 487.
* Соловьев В. Россия и Европа. С. 134-135.
Владимир Соловьев о соблазне национализма
473
Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!
12 декабря 1913
Н. Валентинов увидел в этих строках противопоставление
американизирующейся России старой Руси-Московии, «убогой финской
Руси». Для него это был символ европеизации России, когда «в самых
глубоких, доселе плохо или совсем не затронутых недрах появились
и укреплялись элементы европеизма»*. Для Валентинова
американизация была равна европеизации, поскольку «европейская
культура — и только она одна — есть культура мировая, как это утверждает
Политик в "Трех разговорах" Вл. Соловьева»**. Но Россия проиграла.
Рима, европеизирующего мир, несущего цивилизацию, право и свободу,
из нее не вышло. После Октября «Россия под Сталиным превратилась
в тоталитарную Московию» ***.
Разумеется (и здесь нельзя не согласиться с Яном Красицким),
«выстраивая свою политическую модель, Соловьев явно следовал курсом,
когда-то обозначенным П. Чаадаевым, принадлежал к течению
западников, которые будущность России видели в единении с культурой
латинского Запада. Однако голос Соловьева <...> был заглушён "воплями
националистов" в России и мало кто слышал его. В общественном
масштабе несравненно более сильный отзвук и сочувствие находили
популистские теории Н. Данилевского и Н. Страхова»****. Данилевский
и Страхов курили фимиам кумиру национализма. А служба кумиру
дело антихристианское и разрушающее основы нравственности.
Но именно поэтому и дело побеждающее: зло легче собирает своих
сторонников. А кумиры «крови» и «почва» всегда влиятельнее доводов
разума. Национализм побеждал и в Германии. Как написал Шпенглер
в начале 1930-х гг., «кровь снова стала сильнее духа» *****. Попытка
создать всемирную теократию, конечно, была утопична, в отличие
* Валентинов H. (H. Вольский). Александр Блок и «Русское Слово» //
Валентинов Н. (Н. Вольский). Два года с символистами. М.: Изд. дом XXI век —
Согласие, 2000. С. 368.
* Валентинов H. (H. Вольский). Почему я об этом пишу? // Там же. С. 25.
* Там же.
г* Красицкий Ян. Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира
Соловьева / Под ред. Е.Б. Рашковского. Пер. с польск. СМ. Червонной. М.:
Прогресс-Традиция, 2009. С. 217.
* Шпенглер О. Годы решений. Германия и всемирно-историческое развитие / Пер.
с нем. и послесловие С. Е. Вершинина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 52.
474
В. К. КАНТОР
от реалистичности националистов. Об утопизме соловьевской идеи
говорили многие (П. И. Новгородцев, Е. Н. Трубецкой и др.). Да и сам
мыслитель изобразил ее иронически в своих «Трех разговорах»,
точнее, в «Краткой повести об Антихристе». Там антихрист
перехватывает все великие идеи Вл. Соловьева о единстве церквей и пр.
Но стоит привести фразу трагического мыслителя XIX в. Константина
Леонтьева: «Церковность — культурна, созидательна; голый
племенной национализм разрушительно плоек»*. Можно, конечно, сказать,
что в реальности теократическая идея русского мыслителя осталась
как слабый отсвет в движении экуменизма. Но Соловьев хотел,
конечно, другого, он мечтал о преображении мира. Мир преобразился,
но на иных основаниях.
* Леонтьев К. Н. Владимир Соловьев против Данилевского. С. 257. Примерно
об этом же писал Шпенглер: «Современный национализм заменяет народ массой.
Он является насквозь революционным» (Шпенглер О. Годы решений. С. 45).
IV
ДОСТОЕВСКИЙ —
СТРАХОВ — ТОЛСТОЙ
*
CONTRA
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
<0 H. H. Страхове>
H. H. С<трахов>. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина
в балладе «Жених», об которой говорится:
Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.
Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух
видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил
обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная
карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы.
Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим
столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь
ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому
становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже
вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем
в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом славолюбии играют роль
не столько литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких
брошюрок и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то
и когда-то, но и два казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая
семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого
гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь
гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго
нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную
грубо-сладострастную пакость готов предать всех и всё, и гражданский
долг, которого не ощущает, и родину, до которой ему все равно, и идеал,
которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-
за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще
больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо
обличать и обнаруживать неустанно»1.
а
А.Г.ДОСТОЕВСКАЯ
Воспоминания
и
Ответ Страхову
Вот и теперь, уж перед близким концом, приходится мне выступить
в защиту светлой памяти моего незабвенного мужа против гнусной
клеветы, взведенной на него человеком, которого муж мой, я и вся
наша семья десятки лет считали своим искренним другом. Я говору
о письме Н. Н. Страхова к графу Л. Н. Толстому (от 28 ноября 1883 г.),
появившемся в октябрьской книжке «Современного мира» за 1913 год1.
В ноябре этого же года, вернувшись после лета в Петроград и
встречаясь с друзьями и знакомыми, я была несколько удивлена тем, что
почти каждый из них спрашивал меня, читала ли я письмо Страхова
к графу Толстому? На мой вопрос, где оно было напечатано, мне
отвечали, что читали в какой-то газете, но в какой — не помнят.
Я не придавала значения подобной забывчивости, не особенно
заинтересовалась известием, так как что, кроме хорошего (думала я),
мог написать H.H. Страхов о моем муже, который всегда выставлял
его как выдающегося писателя, одобрял его деятельность, предлагал
ему темы, идеи для работы? Только потом я догадалась, что никому
из «забывчивых» моих друзей и знакомых не хотелось огорчить
меня смертельно, как сделал это наш фальшивый друг своим письмом.
Прочла я это злосчастное письмо только летом 1914 года, когда стала
разбирать бесчисленные вырезки из газет и журналов,
доставленных мне агентством для пополнения московского «Музея памяти
Ф. М. Достоевского».
Привожу это письмо:
«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя
тема у меня богатейшая. Но и нездоровится, и очень долго было бы
вполне развить эту тему. Вы, верно, уже получили теперь Биографию
Достоевского2 — прошу Вашего внимания и снисхождения —
скажите, как Вы ее находите. И поэтому-то случаю хочу исповедаться перед
Воспоминания
479
Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся
во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство.
Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского
ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает).
Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких
волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы
он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал
себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии
я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, так помыкал
слугою, что тот обиделся и выговорил ему: "Я ведь тоже человек!"
Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано
проповедником гуманности и что тут отозвались понятия вольной
Швейцарии о правах человека.
Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог
удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые
он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне
случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется,
в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными
людьми и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда
не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям,
и он хвалился ими. Висковатов3 стал мне рассказывать, как он
похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему
гувернантка. Заметьте при этом, что при животности сладострастия у него
не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и
прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, —
это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении
и наказании" и Ставрогин в "Бесах". Одну сцену из Ставрогина
(о растлении и пр.) Катков не хотел печатать4, а Достоевский здесь
ее читал многим.
При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантименталь-
ности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его
направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все
его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке
могут ужиться с благородством всякие мерзости.
Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что
не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую? Желаю
ему зла? Нисколько: я только готов плакать, что это воспоминание,
которое могло бы быть светлым, — только давит меня!
Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо
нас знают, естественно, не любят нас. Но это бывает и иначе. Можно
при близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему
потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра
480
А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего
раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь
подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался бы на него.
Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и
литературная гуманность — боже, как это противно!
Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал
себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Так как я про
себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение и научился понимать
и прощать в других это чувство, то я думал, что найду выход и по
отношению к Достоевскому. Но не нахожу и не нахожу!
Вот маленький комментарий к моей Биографии; я бы мог записать
и рассказать и эту сторону в Достоевском, много случаев рисуются мне
гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо
правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною
лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!
...Я послал Вам еще два сочинения (дублеты), которые очень
сам люблю и которыми, как я заметил, бывши у Вас, Вы
интересуетесь. Pressensé — прелестная книга, перворазрядной учености5,
a Joly, — конечно, лучший перевод М. Аврелия, восхищающий меня
мастерством»6.
Приведу ответ графа Л. Н. Толстого.
«Книгу Пресансе я тоже прочитал, но вся ученость пропадает
от загвоздки. Бывают лошади-красавицы: рысак — цена 1000 рублей,
и вдруг заминка — и лошади-красавице, и силачу цена — грош. Чем
я больше живу, тем больше ценю людей без заминки. Вы говорите, что
помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И забавно, — за то, что
он был без заминки и свезет, а тот рысак, да никуда на нем не уедешь,
если еще не завезет в канаву. И Пресансе и Достоевский — оба с
заминкой. И у одного вся ученость, у другого — ум и сердце пропали
ни за что. Ведь Тургенев и переживет Достоевского — и не за
художественность, а за то, что без заминки»7.
Приведу и ответное письмо H. H. Страхова от 12 декабря 1883 года.
«Если так, то напишите же, бесценный Лев Николаевич, о Тургеневе.
Как я жажду прочесть что-нибудь с такою глубокою подкладкою, как
Ваша! А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия,
которую мы играем для других. В своих Воспоминаниях я все налегал
на литературную сторону дела, хотел написать страничку из Истории
литературы, но не мог вполне победить своего равнодушия. Лично
о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качеств,
которых у него не было, я ему не приписывал. Мой рассказ о
литературных делах, вероятно, мало Вас занял. Сказать ли, однако, прямо?
И Ваше определение Достоевского хотя многое мне прояснило, все-
Воспоминания
481
таки мягко для него. Как может совершиться в человеке переворот,
когда ничто не может проникнуть в его душу дальше известной черты?
Говорю — ничто, в точном смысле этого слова; так мне представляется
его душа. О, мы, несчастные и жалкие создания! И одно спасение —
отречься от своей души»8.
Письмо H.H. Страхова возмутило меня до глубины души. Человек,
десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего
мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе
взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою
доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом
недостойном человеке.
Меня удивило в письме H.H. Страхова, что «все время писанья
(Воспоминаний) он боролся с подымавшимся в нем отвращением».
Но зачем же, чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно,
не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от
этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек?
Не потому ли, что не желал поставить меня, издательницу, в
затруднительное положение в деле приискания биографа? Но ведь биографию взял
на себя писать Ор.Ф. Миллер, да и имелись в виду другие литераторы
(Аверкиев, Случевский), написавшие ее для дальнейших изданий9.
Страхов говорит в своем письме, что Достоевский был зол, и в
доказательство приводит глупенький случай с кельнером, которым он будто бы
«помыкал». Мой муж, из-за своей болезни, был иногда очень
вспыльчив, и возможно, что он закричал на лакея, замедлившего подать ему
заказанное кушанье (в чем другом могло бы выразиться «помыкание»
кельнера?), но это означало не злость, а лишь нетерпеливость. И как
неправдоподобен ответ слуги: «Я ведь тоже человек!» В Швейцарии
простой народ так груб, что слуга, в ответ на обиду, не ограничился бы
жалостными словами, а сумел и посмел бы ответить сугубою дерзостью,
вполне рассчитывая на свою безнаказанность.
Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что
Федор Михайлович был «зол» и «нежно любил одного себя»? Ведь
Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба
брата Достоевские были поставлены запрещением «Времени»,
происшедшим благодаря неумело написанной статье («Роковой вопрос»)
самого же Страхова10. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи,
журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после
смерти M. M. Достоевского, на плечи моего мужа не упали бы все долги
по журналу и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так
мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине
можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа не только
при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти. Страхов
482
А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
был очевидцем и того, что Федор Михайлович долгое время помогал
семье своего умершего брата M. M. Достоевского, своему больному
брату Николаю Михайловичу и пасынку П. А. Исаеву. Человек со злым
сердцем, любивший одного себя, не взял бы на себя трудно выполнимых
денежных обязательств, не взял бы на себя и заботу о судьбе родных.
И вот, зная мельчайшие подробности жизни Федора Михайловича,
сказать про него, что он был «зол» и «нежно любил одного себя», было
со стороны Страхова полною недобросовестностью.
Со своей стороны, я, прожившая с мужем четырнадцать лет, считаю
своим долгом засвидетельствовать, что Федор Михайлович был человеком
беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь
близких ему лиц, но и всех, о несчастии, неудаче или беде которых ему
приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своею
помощью. Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова,
И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь
чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни,
скольких детей устроил в приюты, скольких неудачников определил
на места! А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих
рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы
в самых интимных делах. Он не жалел ни своего времени, ни своих сил,
если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами,
а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился
за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами
нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр,
но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него
представляет возможность сделать какое-либо доброе дело.
Страхов пишет, что Достоевский был «завистлив». Но кому же
он завидовал? Все, интересующиеся русскою литературой, знают,
что Федор Михайлович всю жизнь благоговел пред гением Пушкина
и лучшею статьею, возвеличившею великого поэта, была Пушкинская
речь, произнесенная им в Москве при открытии ему памятника.
Трудно допустить в Федоре Михайловиче зависть к таланту графа
Л. Толстого, если припомнить, что говорил о нем мой муж в своих
статьях «Дневник писателя». Возьму, для примера, «Дневник» за 1877 год:
в январском номере, говоря о герое «Детства и Отрочества», Федор
Михайлович выразился, что это «чрезвычайно серьезный
психологический этюд над детской душой, удивительно написанный»*. В
февральском выпуске муж называет Толстого «необыкновенной высоты
художником»**. В «Дневнике» за июль-август Федор Михайлович выста-
* «Дневник писателя», 1877, изд. 1883 г., с. 34й.
* Там же, с. 55.
Воспоминания
483
вил «Анну Каренину» как «факт особого значения, который бы мог
отвечать за нас Европе, на который мы могли бы указать Европе» *. Далее
(там же) говорит: «он гениально намечен поэтом в гениальной сцене
романа, в сцене смертельной болезни героини романа»**. В заключение
статьи муж говорит: «Такие люди, как автор Анны Карениной, — суть
учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их» ***.
В знаменитом романисте Гончарове Федор Михайлович не только
ценил его «большой ум» ****, но высоко ставил его талант, искренно любил
его и называл своим любимейшим писателем*****.
Отношения моего мужа к Тургеневу в юности были восторженные.
В письме к брату от 16 ноября 1845 года он пишет про Тургенева:
«Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в
него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован,
25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец, характер
неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе»6*.
Впоследствии Федор Михайлович разошелся с ним в убеждениях,
но Тургенев в письме своем от <28 марта (9 апреля) 1877 года писал:
«Я решился написать Вам это письмо, несмотря на возникшие между
нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения
прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что
недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем
первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву
занимаете в нашей литературе»>7*. В 1880 году на московском
празднестве, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал:
«Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже
не повторялся в нашей художественной литературе — кроме, разве,
образа Лизы в "Дворянском гнезде" Тургенева» 8*.
Говорить ли об отношении Федора Михайловича к поэту Некрасову,
который всегда был дорог ему по воспоминаниям юности и которого
он называл великим поэтом, создавшим великого «Власа»?9* Статья
по поводу смерти Некрасова, в которой Федор Михайлович сказал, что
«он, в ряду поэтов (т.е. приходивших с «новым словом») должен прямо
* Там же, с. 230.
* Там же, с. 234.
* Там же, с. 258.
г* «Биография и письма», с. 31812.
* «Дневник писателя», 1877, изд. 1883 г., с. 229, 230.
'* «Биография и письма», стр. 4214.
* Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1885, с. (315)15.
** «Биография. Воспоминания», с. 31016.
'* «Дневник писателя», 1877, изд. 1883 г., с. (390).
484
А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым» *, эта статья, по
признанию знатоков русской литературы, могла считаться лучшею из статей,
написанных по поводу кончины поэта.
Вот каковы были отношения моего мужа к талантам и
произведениям наших выдающихся писателей, и слова Страхова, что Достоевский
был завистлив, были жестокою к нему несправедливостью.
Но еще более вопиющею несправедливостью были слова Страхова,
что мой муж был «развратен», что «его тянуло к пакостям, и он хвалился
ими». В доказательство Страхов приводит сцену из романа «Бесы»,
которую «Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим».
Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая
Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо
позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно
не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был
огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова,
читал эту главу своим друзьям: К. П. Победоносцеву, А.Н. Майкову,
H. H. Страхову и др., но не для похвальбы, как объясняет Страхов,
а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что
сцена «чересчур реальна», то муж стал придумывать новый варьянт этой
необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены.
Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное
происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал)13. В сцене этой
принимала преступное участие «гувернантка», и вот ввиду этого, лица,
которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их
совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки
Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в
подобном бесчестном деле «гувернантку» и идет таким образом против так
называемого «женского вопроса», как когда-то упрекали Достоевского,
что он, выставив убийцей студента Раскольникова, будто бы тем самым
обвиняет в подобных преступлениях наше молодое поколение, студентов.
И вот этот варьянт романа, эту гнусную роль Ставрогина, Страхов,
в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу,
забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших
издержек и доступно лишь для очень богатых людей, а мой муж всю
свою жизнь был в денежных тисках. Ссылка Страхова на профессора
П. А. Висковатова для меня тем поразительнее, что профессор никогда
у нас не бывал; Федор же Михайлович имел о нем довольно
легковесное мнение, чему служит доказательством приведенный в письме
к А. Н. Майкову рассказ о встрече в Дрездене с одним русским**.
* Там же, с. 387.
* «Биография и письма», с. 17117.
Воспоминания
485
С своей стороны, я могу засвидетельствовать, что, несмотря на
иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев
своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым
«развращенности». Очевидно, большому художнику благодаря таланту
не представляется необходимым самому проделывать преступления,
совершенные его героями, иначе пришлось бы признать, что Достоевский
сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно
изобразить убийство двух женщин Раскольниковым.
С глубокою благодарностью вспоминаю я, как относился Федор
Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных
романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему
слышанный от кого-либо скабрезный анекдот. В своих разговорах муж
мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений.
С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.
Прочитав клеветническое письмо Страхова, я решила протестовать.
Но как это сделать? Для возражения против письма было упущено
время: появилось оно в октябре 1913 года, я же узнала о нем почти
через год. Да и что такое значит возражение, помещенное в газетах?
Оно затеряется в текущих новостях, забудется, да и многими ли
будет прочтено? Я стала советоваться с моими друзьями и знакомыми,
из которых некоторые знавали моего покойного мужа. Мнения их
разделились. Одни говорили, что к этим гнусным клеветам надо отнестись
с презрением, которое они заслуживают. Говорили, что значение Федора
Михайловича в русской и всемирной литературе настолько высоко, что
клеветы не повредят его светлой памяти; указывали и на то, что
появление письма не вызвало даже никаких толков в текущей литературе,
до того большинству пишущих была ясна клевета и понятен
клеветник. Другие говорили, что, напротив, мне необходимо протестовать,
помня пословицу: «Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque
chose!»18 Говорили, что из того обстоятельства, что я, посвятившая
всю свою жизнь служению мужу и его памяти, не нашла возможным
опровергнуть клевету, могут вывести, что в ней заключалось что-нибудь
верное. Мое молчание явилось бы как бы подтверждением клеветы.
Многие, возмущенные письмом Страхова, находили, однако, что
одно мое опровержение недостаточно. Что следует друзьям и лицам,
с добрым чувством помнящим Федора Михайловича, написать протест
против взведенных на него Страховым клевет. Некоторые лица взяли
на себя труд составления протеста и собирание подписей. Другие лица
захотели выразить свое возмущение отдельными письмами. Многие
из друзей моих высказали мнение, что, в противовес клевете,
следовало бы приложить к протесту статьи (воспоминания), которые
разновременно были напечатаны в журналах и рисуют Федора Михайловича,
486 А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
как необычайно доброго и отзывчивого человека. Следуя совету друзей,
присоединяю как протест, так и статьи к моим воспоминаниям.
Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так
омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они
представляют себе, — что побудило Страхова написать его письмо? Большинство
склонялось к тому, что это было «jalousie de métier»19, столь обычное
в литературном мире; что, вероятно, Федор Михайлович по своей
искренности, а может быть, и резкости, обидел Страхова (последний
и сам говорит об этом), и вот явилось желание отомстить, хотя бы
и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так
как знал, что вызовет против себя слишком много защитников памяти
Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова.
Одно из лиц, близко знавшее Страхова, высказало мне мысль, что
своим письмом он хотел «очернить, принизить» Достоевского в глазах
Толстого. Когда я усомнилась в этом предположении, мой собеседник
высказал свое мнение о Страхове довольно оригинальное:
«Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее
время тип "благородного приживальщика", каких было много в старину.
Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского,
а по зимам ходит по определенным дням обедать к знакомым и
переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало
кому интересен, но он был всюду желанный гость, так как всегда мог
рассказать что-нибудь новое о Толстом, другом которого он считался.
Дружбою этою он очень дорожил, и, будучи высокого о себе мнения,
возможно, что считал себя опорою Толстого. Каково же могло быть
возмущение Страхова, когда Толстой, узнав о смерти Достоевского,
назвал усопшего своей "опорой", и высказал искреннее сожаление,
что не встречался с ним20. Возможно, что Толстой часто восхищался
талантом Достоевского и говорил о нем, и это коробило Страхова, и, чтоб
пресечь это восхищение, он решил взвести на Достоевского ряд клевет,
чтобы его светлый образ потускнел в глазах Толстого. Возможно, что
у Страхова была и мысль отомстить Достоевскому за нанесенные когда-
то обиды, очернив его пред потомством, так как, видя, каким обаянием
пользуется его гениальный друг, он мог предполагать, что впоследствии
письма Толстого и его корреспондентов будут напечатаны, и хоть чрез
много-много лет злая цель его будет достигнута».
Не разделяя исключительное мнение моего собеседника, я закончу
этот тяжелый эпизод моей жизни словами письма Страхова: «в человеке
могут ужиться с благородством всякие мерзости». <...>21
С.Н.БУЛГАКОВ
Русская трагедия
<Фрагмент>
<...> Популярным писателем наших дней недавно было заявлено,
что Достоевский хотя и гений, но злой гений, который должен быть
взят под надзор полиции нравов. В этом понятии «злой гений» я вижу
contradictio in adjecto и в свидетели призову Пушкина, устами Моцарта
определившего непорочность гения:
Он же гений,
Как ты да я, а гений и злодейство
Две вещи несовместные.
И действительно, истинный гений, тот, который имеет родиной
«отчизну пламени и слова», не может быть злым, не может быть
лживым в своей естественной боговдохновенности. Конечно, носитель гения
может иметь и пороки, и страсти, вообще гениальность не предполагает
необходимо личной святости, но поскольку он творит гениально, он
поднимается над личной своей ограниченностью, и поэтому
приравнивание Достоевского как гения одному из его созданий есть просто
суждение дурного вкуса. К сожалению, эта точка зрения нашла и вполне
серьезного выразителя в лице биографа Достоевского H.H. Страхова;
в недавно опубликованном письме к Л.Н. Толстому1 Страхов дает
самую уничтожающую характеристику личности Достоевского, которая
производит особенно тяжелое влечатление в устах человека правдивого
и к нему близкого. Отдавая должное моральным качествам Страхова, я все-
таки нахожу в ней признаки неоспоримой ограниченности и близорукости:
несложному и рациональному Страхову была слишком чужда и
несимпатична вся противоречивая сложность личности Достоевского с ее
провалами, подпольем, эпилепсией не только в нервах, айв моральном
характере, но и с ее солнечными озарениями и пророческими прозрениями.
Плохо ощущая последнее, Страхов отталкивался от первого, оттого
изображение Достоевского, сделанное к тому же в письме к прямолинейно
488
С. H. БУЛГАКОВ
морализирующему Толстому, и носит столь неприятный привкус.
В этом письме Достоевский приравнивается своим героям. "Лица,
наиболее на него похожие, это герой "Записок из подполья", Свидригайлов
в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах"»3. Когда Страхов
характеризует Достоевского по личным впечатлениям, с ним трудно
спорить, потому что лично мы уже не можем знать Достоевского; однако
вправе находить эту характеристику музыкально детонирующей. Но, когда
наряду с этим применяется и только что указанный прием, мы можем
уже судить и протестовать против неверности и близорукости этого
утверждения, и даже более того, этот прием делает сомнительной ценность
и всего остального рассуждения. Нет сомнений, что всеми «бесами»,
о которых рассказывает Достоевский в своем романе, был одержим
он сам, и все его герои, в известном смысле, суть тоже он сам, во всей
антиномичности его духа. И ту духовную борьбу, которая раздирает
Россию, он изживал в своем всеобъемлющем духе. Но поскольку он
художественно понимал и объективировал ее, он уже освобождался
и возвышался над нею; когда говорят, что сам Достоевский — это Федор
Карамазов или Ставрогин, или Свидригайлов, забывают, что каждый
из них, исчерпываясь и ограничиваясь данным своим устремлением, себя
не видит и не может написать ни своего художественного автопортрета,
ни всего остального содержания романов. Достоевский не был святым
или праведником, в его душе шла ужасная борьба Бога с дьяволом,
но, верю, он вышел из нее не побежденным, а победителем. Ведь уж
если приравнивать Достоевского его героям, то отчего же не сказать, что
в нем есть не только Федор Карамазов или Свидригайлов, но и Идиот,
и Хромоножка, и Алеша, и Зосима, а главное, Тот, Кому зажигал
лампаду Кириллов и Кого заточил в темницу Великий Инквизитор.
Ведь коли давать веру художественному гению и его правдивости, то
надо давать ее до конца. А это значит, что душа Достоевского не была
в том мраке, в котором находится Ставрогин, или в том гниении, в каком
живет Федор Карамазов, хотя она знала эти состояния как свою болезнь
и спасалась от нее «у ног Иисусовых». «Не здоровые имеют нужду во враче,
но больные», «не к праведникам пришел Я, но к грешникам», — говорил
Тот, Кто был окружен блудниками, грешниками и мытарями, Кто исцелял
бесноватых, и Он приходил вечерять к той многострадальной душе,
в которой жил «легион», ее сотрясавший. И, чувствуя Его приближение,
больной начинал видеть свою болезнь, понимать свою одержимость и тем
уже освобождался от нее. Этот предрассветный час в жизни исполинской
русской души и запечатлен в романе «Бесы».
5
Л.М. РОЗЕНБЛЮМ
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
В тетради 1876-1877 гг. рядом с «Критическими замечаниями»
Достоевского о романе Золя «Чрево Парижа» в нижней части листа
и на полях мелким, бисерным почерком сделана большая запись.
Она касается одного из близких к Достоевскому людей, но при этом
имеет отнюдь не только личное, а существенное литературное значение.
Это запись о Николае Николаевиче Страхове.
Многое в отношениях Достоевского со Страховым хорошо известно.
Не говоря уже о книжках «Времени» и «Эпохи», которые отражают
их совместную деятельность в течение пяти лет, напечатаны письма
Достоевского к Страхову и Страхова к Достоевскому, их отзывы друг
о друге в письмах к другим лицам (особое место среди них занимают
письма Достоевского к А. Г. Достоевской и письма Страхова к Толстому).
В 1883 г. вышли в свет и до сих пор (несмотря на неточности и
умолчания) сохраняют ценность биографического источника «Воспоминания»
Страхова о Достоевском. Тем не менее характер дружбы-вражды
Достоевского со Страховым, причины постоянно возникавших между
ними глубоких разногласий далеко еще не выяснены.
Начнем с 60-х годов. A.C. Долинин, автор статьи «Достоевский
и Страхов», считал, что «период существования "Времени" и "Эпохи" <...>
был периодом наибольшей близости между Достоевским и Страховым» *.
Сравнительно с 70-ми годами это, конечно, справедливо, но даже и здесь
вряд ли можно говорить о единомыслии Достоевского со Страховым, тем
более о том, что страховское гегельянство укрепило «веру Достоевского
в свой реализм», так как дало ему «философское подтверждение».
В архиве Страхова, который находится в Библиотеке Украинской
академии наук (Киев), сохранился очень интересный документ —
Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л.: Сов. писатель, 1963.
С.325 и 327.
490
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
незаконченная рукопись его статьи «Наблюдения. Посвящается
Ф. М. Достоевскому» *. <...> Статья написана в эпистолярном жанре,
излюбленном авторами «Времени» и «Эпохи», над чем немало
иронизировали публицисты «Современника». Поводом для статьи был
большой принципиальный спор Достоевского со Страховым летом
1862 г., когда они вместе жили во Флоренции.
Даже в первом своем заграничном путешествии Достоевский, как
известно, был менее всего туристом. В Европе его занимали характеры
людей, социальные отношения, политическая жизнь, что ярко
отразилось в публицистическом цикле «Зимние заметки о летних
впечатлениях» . Будучи в Лондоне, Достоевский встретился с Герценом, их беседа
оставила доброе впечатление у обоих. «Вчера был Достоевский, —
сообщал Герцен Огареву 17 июля 1862 г., — он наивный, не совсем ясный,
но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ»**.
Страхов отмечает, что тогда Достоевский к Герцену «относился очень
мягко и его "Зимние заметки" отзываются несколько влиянием этого
писателя»***. Мысли о России не оставляют Достоевского. Он уехал
из Петербурга в тревожные дни, сразу после пожаров. Две редакционные
статьи «Времени» о пожарах были запрещены цензурой. (Их текст будет
опубликован в томе «Литературного наследства» «Ф. М. Достоевский.
Новые материалы и исследования».) «Современник» и «Русское слово»
приостановлены на восемь месяцев. Журналу Достоевских удалось
избегнуть этой участи; как было сказано в сообщении министра
внутренних дел министру народного просвещения: « ...Государь император
соизволил разрешить не прекращать ныне издания журнала "Время",
но с тем, чтобы за ним иметь надлежащее наблюдение» ****. 7 июля был
арестован Чернышевский. Все эти факты нужно иметь в виду, чтобы
понять, в каком состоянии душевного напряжения находился Достоевский
во время флорентийских бесед со Страховым.
Еще накануне отъезда из Парижа в Лондон Достоевский в теплом
дружеском письме звал Страхова за границу, жалуясь на одиночество:
«Тоскливое, тяжелое ощущенье. <...> чувствуешь, что как-то отвязался
от почвы и отстал от насущной родной канители, от текущих
собственных семейных вопросов»*****. Судя по «Воспоминаниям» Страхова, его
долгие беседы с Достоевским за границей и, в частности во Флоренции,
* Сообщено Л. Р. Ланским.
** Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР. Т. XXVII. Кн. 1. С. 247.
*** Достоевский Ф. М. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб.,
1883. С. 240.
**** «Жизнь и труды Достоевского». С. 115.
***** «Письма». П. С. 311.
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно» 491
где они пробыли неделю, происходили в очень приятных, мирных
тонах: «Но всего приятнее были вечерние разговоры на сон грядущий
за стаканом красного местного вина»*. Так писал Страхов через
много лет после смерти Достоевского. Но то, что написал он, обращаясь
к самому Достоевскому, сразу же после одного из таких разговоров,
и, по-видимому, наиболее важного, воссоздает картину совсем иную.
«В одну из наших прогулок по Флоренции, — пишет Страхов, когда
мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и
остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, — вы
объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей
недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете
преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг другу руку
и разошлись». (Подчеркнутые нами слова перекликаются с той
характеристикой Страхова, которую даст Достоевский в записной тетради
почти через полтора десятилетия.)
Страхов отмечает далее, что его радует точность и определенность
идейных разногласий с Достоевским: «Знаете ли? Ведь это очень
хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать невозможно.
<...> Мы нашли точку, на которой расходимся». В чем же эта точка?
Страхов доказывает, что существуют идеологи, убежденные, что 2x2 = 4
и иначе быть не может; те, кто считает, что 2x2 = 5, заслуживают
безоговорочного осуждения, поскольку их увлечения не имеют ничего общего
с истиной. По словам Страхова, Достоевский выступил непримиримым
противником такого взгляда, с его точки зрения безнадежно
ограниченного, ибо нет людей, которые сознательно стремятся к ошибке, и нередко
те, кто приходит к неверным выводам, искренне ищут истину. Страхов
следующим образом передает рассуждение Достоевского: «По самой
сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание,
всякая мысль, как широкая и глубокая, так и мелкая и узкая, движется
по одним и тем же логическим законам и, следовательно, самое грубое
заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять
кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо».
Нет сомнения, что в таком изложении Страхова есть полемические
передержки, присущая ему способность доводить любой аргумент
до «логического конца», в данном случае — до абсурда. «Ив самом
деле, — продолжает он, — смотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь
вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому,
кто только ни вздумает открыть рот, потому что что бы он ни сказал
и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он
хочет сказать, и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного
* «Биография...». С. 244.
492
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
основания». Страхов считает, что Достоевский предписывает ему такой
взгляд на тех, кто не прав: «Хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться».
Вряд ли Достоевский считал, что нельзя обвинять в нелепости
«кого бы то ни было». Но существо его позиции Страхов передает точно.
Да, действительно, Достоевский был убежден, что нельзя судить
идеолога, да и вообще человека по одним лишь последним выводам,
к которым он пришел, необходимо понять человека в целом,
почувствовать его пафос, внутренний смысл его исканий, найти их «тайное
основание». Спор во Флоренции затронул один из главнейших вопросов
мировоззрения Достоевского и его творчества. Еще не был написан
ни один из великих романов-диспутов, где Достоевский стремился
отыскать «зерно истины», некую субъективную правду в жизненной
позиции героев, выступающих идейными противниками, но теоретически
его художественный метод, как видим, был полностью подготовлен.
И не благодаря Страхову, а вопреки ему и в резкой полемике с ним.
Судя по контексту статьи Страхова, в дискуссии между ним и
Достоевским вопрос об отношении к «инакомыслящим» стоял вовсе не
абстрактно. Речь шла, конечно, о журнальной полемике и прежде
всего с лагерем революционной демократии, поскольку «Время»
и «Современник» вели ее из номера в номер, и основным теоретиком
почвенничества выступал Страхов. В «Воспоминаниях» Страхов
отмечал стремление Достоевского в начале 60-х годов не обострять
полемики, но приписывал это лишь тактическим соображениям. Статья
«Наблюдения» говорит о большем. Достоевский, исходя из глубоких
и принципиальных своих убеждений, хотел вести идейную полемику
в ином русле, именно так, как он ее начал в статье «Г. Д-бов и вопрос
об искусстве». Совершенно очевидно, что до лета 1862 г. Достоевского
не покидало желание вернуться к тому тону полемики, который
существовал при жизни Добролюбова и который заметно изменился, когда
главными ее участниками стали Антонович и Страхов. Страхов же стоял
на своем. Продолжая рассказ о разногласиях с Достоевским, он пишет
в той же статье: «Часто возбуждала неудовольствие и недоумение
ожесточенная полемика, которую у нас так охотно ведут журналы. Одна
из самых чистых и явственных струй в том мутном потоке, без сомнения,
та, которую я указываю, то есть, с одной стороны, увлечение до 2x2 = 5,
а с другой стороны, — вражда против всякого 2x2 — не 4. Среди многих
разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое
разделение. Оно должно было образоваться, и столкновение между
двумя его сторонами было неизбежно и неизбежно будет повторяться».
Однако не нужно думать, что последующий переход самого
Достоевского к ожесточенной полемике есть результат влияния Страхова.
Процесс борьбы захватывал Достоевского, и в полемическом гневе
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
493
он доходил до таких крайностей, которые уравновешенному Страхову
были неведомы. «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком
страстная, — признавался Достоевский А. Н. Майкову в письме
28/16 августа 1867 г. — Везде-то и во всем я до последнего предела
дохожу, всю жизнь за черту переходил» *. Конечно, полемический азарт
Достоевского объяснялся не только его темпераментом, он был
продиктован тревогой, как бы ошибочные теории не принесли непоправимого
вреда общественному движению, русскому народу. Но и в тех случаях,
когда Достоевский писал в стиле памфлета, его властно тянуло заняться
другим — глубоким психологическим исследованием. Об этом, на наш
взгляд, выразительно свидетельствует творческая история «Бесов» **.
Внимательного читателя Достоевского не может удивлять его переход
от «Бесов» к «Подростку», от изображения нечаевцев в романе к тому,
что написано на эту тему в «Дневнике писателя» 1873 г. Страхова
раздражала эта двойственность, он видел в ней лишь дурное противоречие
и даже желание подыграть молодому поколению. Салтыков и вслед
за ним вся редакция «Отечественных записок» в начале 70-х годов
поняли Достоевского лучше, увидев, что главный смысл его
произведений заключается в поисках истины, «сущности вещей» и что
негодование часто мешает ему «отделить сущность вещей от тех внешних
и не всегда приятных для глаз потуг, которыми всегда сопровождается
нарождение нового явления»***. Салтыков отмечал, что «дешевое
глумление над нигилизмом» противоречит главной «творческой силе»
Достоевского — «высокой художественной прозорливости».
Обязанность писателя обладать такой прозорливостью, внимательно
изучать логику чужой мысли, ища и в ней зерно истины, отстаивал
Достоевский перед Страховым как основу своего творческого метода.
Страхов прекрасно понял, что суть разногласий между ним и
Достоевским восходит к самой краеугольной и, как сказал бы Достоевский,
капитальной проблеме: об отношении к природе человека. Здесь Страхов
высказался весь и тем самым очень точно определил
противоположное убеждение Достоевского. «Разве хорош человек? — восклицает
Страхов. — Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли!
Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе,
в нас невольно отзовутся глубокие струны, с младенчества настроенные
известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане,
* «Письма». II. С. 29.
г* Этот вопрос рассмотрен нами в статье «Творческая лаборатория Достоевского-
романиста» вт. 77 «Литературного наследства» (С. 29-32).
* Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. Т. 9. М.: Художественная литература,
1970.С.413.
494
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал
прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть
в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами
развернут картину современного человечества и спросят нас, хорош ли
человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: "Нет, гнусен до
последней степени"». «Остается сказать еще одно, — заявляет Страхов
в заключение, — я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще
ни в одну сторону цивилизации, потому что я не верю в человека*.
Вот самая важная причина, заставившая Достоевского объявить,
что есть в убеждениях Страхова нечто, что он будет ненавидеть,
презирать и преследовать всю свою жизнь. Христианство без веры в
человека представлялось Достоевскому жестоким и оскорбительным, что
он позднее покажет в системе Великого инквизитора. Достоевский был
художником, который в своих произведениях постоянно развертывал
«картину современного человечества» ; в отличие от Страхова на вопрос
«хорош ли человек» он затруднялся ответить «тотчас». Но с самой
юности, вдохновленной идеалами утопического социализма, и до конца
дней Достоевский сохранял веру в человека. Иначе, говоря словами
его героя, он бы «истребил себя».
Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был
идейным антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем
революционные демократы, хотя он выступал в качестве его
союзника. От рассуждений Страхова веяло ненавистным Достоевскому
схематизмом отвлеченной мысли, пренебрежением к живым интересам
человека. Такие взгляды и некоторые неприятные психологические
черты (честолюбие, завистливость и одновременно поклонение славе)
Достоевский обычно приписывал «семинаристам». «Семинаристом»
впоследствии назовет он и Страхова.
Страхов, не верящий в человека, а значит и в народ, должен был
казаться Достоевскому почвенником без почвы.
Разногласия Достоевского и Страхова не повлияли на их
сотрудничество, оно продолжалось. Вероятно, уступая редактору журнала, Страхов
в статье «Тяжелое время» («Время», 1862, № 10) пишет о человеческой
природе совершенно в его духе: « ...Тот оскорбляет человеческую
природу, кто воображает, что можно устроить благополучное человеческого
общества без содействия его сознания и свободы» *.
Страхов писал в «Воспоминаниях», что впервые разошелся с
Достоевским из-за денежных неприятностей после закрытия «Эпохи». На
самом деле отношения еще задолго до этого стали трудными. 25 июня
* Страхов H. H. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865. СПб., 1890.
С. 167.
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
495
1864 г. Страхов писал брату: «С Достоевскими я чем дальше, тем больше
расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя и не замечает
этого» *. Дружеские связи оживились, как считал Достоевский, после
выхода в свет «Преступления и наказания».
В годы пребывания Достоевского за границей (1867-1871) Страхов
и Аполлон Майков были самыми регулярными и идейно близкими
его корреспондентами. Однако по возвращении писателя на родину
многое изменилось. Первоначальная причина расхождения между
Достоевским и Страховым не вполне ясна, но сам Страхов
свидетельствует об этом разладе недвусмысленно: «Редакция "Гражданина"
была предложена Федору Михайловичу князем Вл. П. Мещерским.
<...> Со своей стороны, несмотря на несколько охладившиеся
отношения, я считал долгом усердно писать тогда в "Гражданине", в котором,
впрочем, был сотрудником с самого его начала» **.
Очевидно, в это время духовное общение между Достоевским
и Страховым прекратилось совсем, поскольку даже об
обстоятельствах, при которых Достоевский стал редактором «Гражданина»,
Страхов принужден был узнавать от третьих лиц: «Судя по рассказам,
он принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши», — сообщал
Страхов Н. Я. Данилевскому 11 июня 1873 г.*** А вот письмо тому же
адресату 6 января 1874 г.: «Несчастный Достоевский совсем измучился.
Я его очень ценю и многое ему прощаю, но при его теперешней
раздражительности просто избегаю с ним видеться» ****. Некоторые причины
недовольства Достоевского названы в письме к нему Страхова 30 января
1874 г.: «...Не вздумайте винить меня в лености, бессердечии апатии
и неблагодарности; право, я стараюсь вести себя хорошо и остаюсь
вашим искренне преданным и глубоко уважающим. Н. Страхов»*****.
В это же время Достоевский внес в тетрадь едкую характеристику
Страхова как «затолстевшего человека»: «Если не затолстеет, как
Страхов» (стр. 312).
Решение Достоевского передать новый роман («Подросток») в
«Отечественные записки» Некрасова и Салтыкова, в журнал, по адресу
которого он изливал столько злой иронии в своих письмах из-за границы,
еще более отдалило его от Страхова. Но здесь Страхов почувствовал
возможность «взять реванш» и выразить Достоевскому свою
неприязнь как отступнику. Осуждал Достоевского и Майков.
* ЦНБ АН УССР, III, 19095. Сообщено Л. Р. Ланским.
** «Биография...». С. 299.
*** «Русский вестник» 1901. № 1. С. 130.
**** Там же.
***** ЦНБ АН УССР, III, 19007.
496
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
6 февраля 1875 г. Достоевский так описывал жене свои впечатления
от визита к Майкову: «Он же встретил меня по-видимому радушно, но
сейчас же увидал я, что сильно со складкой. Вышел и Страхов. Об романе
моем ни слова и, видимо, не желая меня огорчать. Об романе Толстого
тоже говорили немного, но то, что сказали — выговорили до смешного
восторженно. Я было заговорил насчет того, что если Толстой напечатал
в "Отечественных записках", то почему же обвиняют меня, но Майков
сморщился и перебил разговор, но я не настаивал. Одним словом, я вижу,
что тут что-то происходит и именно то, что мы говорили с тобой, т.е. Майков
распространял эту идею обо мне. Когда я уходил, то Страхов стал
говорить, что, вероятно, я еще зайду к Майкову и мы увидимся, но Майков,
бывший тут, ни словом не выразился, что ему бы приятно видеть меня.
Когда я Страхову сказал, чтоб он приходил ко мне в Знаменскую
гостиницу вечером чай пить в пятницу, то он сказал: вот мы с Аполлоном Ник.
и придем, но Майков тотчас отказался...»*. В другом письме, 11 февраля,
Достоевский продолжает: «был <...> вечером у Страхова. Страхов знает
о моем неудовольствии на Майкова, и, кажется, передал ему, потому что
Майков прислал мне письмо и приглашает сегодня во вторник к себе
обедать. Но я еще вчера вечером его видел у Страхова. Было очень дружелюбно,
но не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам Страхов, они оба
со складкой»**. На следующий день Достоевский опять возвращается
к этой неприятной теме: «Я Страхову у Корнилова выразил часть моей
мысли, что Майков встретил меня слишком холодно, так что я думаю,
что он сердится, ну а мне все равно. — Страхов тогда же пригласил меня
к себе в понедельник, а пригласительное письмо Майкова было вследствие
того, что Страхов ему передал обо мне. Майков, Анна Ивановна (жена
Майкова. — Л. Р.) и все были очень милы, но зато Страхов был почему-то
со мной со складкой. Да и Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове
и когда я рассказал комплименты мне Некрасова, — сделал грустный
вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня, это скверный семинарист
и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением
"Эпохи", и прибежал только после успеха "Преступления и наказания".
Майков несравненно лучше, он подосадует, да и опять сблизится и все же
хороший человек, а не семинарист»***. Эта характеристика Страхова
отдаленно предвосхищает то, что Достоевский написал почти через два года.
Отзыв о Страхове в записной тетради касается не только личных
его качеств, но и литературной деятельности. Отзыв желчный,
презрительный, уничтожающий.
* «Письма». III. С. 148.
** Там же. С. 154.
*** Там же. С. 155.
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
497
«H. H. С. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе
"Жених", об которой говорится:
Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.
Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух
видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил
обиняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная
карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы.
Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом.
В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не
сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся
необычайно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще
немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю
жизнь» (стр. 619-620). «Кушать сладко и сидеть на мягком» — на
языке Достоевского — привычная формула для обозначения буржуазной
сытости и душевной успокоенности. Ср. в той же «Записной тетради»:
«Развлечен<ие>: Жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком»
(стр. 610). В декабрьском выпуске «Дневника писателя» Достоевский,
говоря о людях, чьи главные интересы сводятся к удовлетворению
плотских потребностей, буквально повторяет эти слова: «О, жрать, да спать,
да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будут привлекать
человека к земле, но не в высших типах его».
Достоевский утверждает, что главный двигатель тщеславия
Страхова — это воспоминания о четырех скучненьких брошюрках и многих
«обиняковых критиках», да еще два казенные места. Достоевский
как будто вовсе забыл, как высоко отзывался он об этих
брошюрках и «критиках» Страхова в письмах к нему несколько лет назад:
«Вы в эти два-три года почти молчания вашего сильно выиграли,
Николай Николаевич. (Имеется в виду период после закрытия "Эпохи"
до появления журнала "Заря", который редактировал Страхов. — Л. Р.)
Это мое мнение, судя по вашим "Бедность" (брошюра "Бедность нашей
литературы", 1867. — Л. Р.) и статье в "Заре". Я всегда любовался на
ясность вашего изложения и на последовательность; но теперь, по-моему,
вы стоите несравненно крепче. Жаль, что не "Бедностью" вы начали
в "Заре", т.е. жалею, что "Бедность" была напечатана раньше. <...>
Кстати, заметили вы один факт в нашей русской критике? Каждый
замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще
непременно как бы опираясь на передового писателя, т.е. как бы
посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя <...>. Белинский
заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьею
498
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще
в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя Островского и сражаясь
за него. У вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому
с тех самых пор, как я вас знаю. Правда, прочтя статью вашу в "Заре",
я первым впечатлением моим ощутил, что она необходима и что вам,
чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать, как
с Льва Толстого, т.е. с его последнего сочинения*.
Некоторый элемент заведомого преувеличения в этих словах,
конечно, чувствуется. Достоевский хочет быть беспристрастным, заглушить
свое ревнивое отношение и к Страхову, и к автору «Войны и мира»,
которого он вовсе не считал представителем «нового слова» в той мере,
каким был Гоголь. Достоевский упрекает Страхова за некоторую
пассивность, отсутствие интереса к полемике, но в целом горячо хвалит
его как критика; «Ясно, логично, твердо сознанная мысль,
написанная изящно до последней степени. <...> В конце концов я считаю вас
за единственного представителя нашей теперешней критики, которому
принадлежит будущее. <...> Вы должны непременно написать в год три
или четыре большие статьи...» *. И, наконец, Достоевский признается
Страхову: «Вы один из людей, насильнейше отразившихся в моей
жизни, и я вас искренно люблю и вам сочувствую» **.
В характере Достоевского не удивляют такие поистине
поразительные контрасты. Достаточно вспомнить, как резко менялось на
протяжении трех десятилетий его отношение к Белинскому, не только
к идеям Белинского, что нетрудно понять в свете эволюции самого
Достоевского, но именно к его личности. Охваченный враждебным
отношением к Страхову, Достоевский как бы зачеркивает все доброе
в прошлом как нелепость, как заблуждение. Вот его заключительные
слова о Страхове в записи 1877 г.:
«Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь.
Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-
нибудь гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне
сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов
предать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и родину,
до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому,
что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может
ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных
типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (стр. 620).
Значит, у Достоевского было намерение изобличить Страхова — как
некий литературный тип, общественную фигуру, поговорить о подобных
* «Письма». И. С. 166-167.
** Там же. С. 366.
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
499
лицах в «Дневнике писателя». Желание это высказано весьма энергично.
Трудно не заметить, что кое-что в этой оценке напоминает слова Страхова
о Достоевском в печально-памятном письме его к Толстому: «Все время
писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением,
старался подавить в себе это дурное чувство. <...> Заметьте при этом,
что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса,
никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах.
Лица, наиболее на него похожие,— это герой "Записок из подполья",
Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах";
одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать,
но Д. здесь ее читал многим» *.
Вполне вероятно, что именно в то время, когда Катков, ссылаясь
на соображения моральные, отказался печатать в «Русском вестнике»
десятую главу «Бесов» («исповедь Ставрогина») из-за эпизода с
растлением малолетней девочки, а Достоевский, несогласный с обвинением
в безнравственности, «читал ее многим», возникла версия об
автобиографичности этого сюжета. По уверению Страхова, Висковатов
будто бы слышал признание самого Достоевского. А вместе с тем в той же
записной тетради Достоевский сделал заметки, свидетельствующие
о желании выступить в печати с объяснением характера Ставрогина,
указать на связь его духовной опустошенности с самым тяжким из
преступлений. Говоря о «грязном поступке» Ставрогина, Достоевский
решительно отвергает рассуждения о «грязи» самого автора, которую якобы
«поправляет "Русский вестник"». «В "Подростке" находил Ав(сеенко)
грязь. Это в рассказе-то матери. Неправдоподобность, но это снято с
истинного происшествия. Это после-то сыщика и двух девиц. Это после-
то повторившейся в Москве истории с дамой, на Сенной две дамы.
Возвестил, что "Русский вестник" поправлял мою грязь. Я не отвечал.
Этого не было. Из каких источников. Ставрогин (неверующий, и
торжество новой жизни, укор одного грязного поступка)» (стр. 555-556).
Если Достоевскому довелось узнать (а это вполне могло случиться),
что в разговорах о «грязи» принимал участие и Страхов, его недавний
друг, то становятся понятными гневные слова писателя: «он и сам делает
гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне
сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов
предать всех и всё». Отзыв Достоевского звучит пророчески, как бы
предостерегая каждого, кто захочет довериться будущим наветам Страхова.
Можно предположить, что Страхов видел эту запись Достоевского.
В то время, когда готовился первый том посмертного собрания со-
Переписка Л.Н. Толстого с H.H. Страховым. Изд. Об-ва Толстовского музея.
СПб., 1914. С. 307-308.
500
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ
чинений писателя, Анна Григорьевна Достоевская предоставила ему
и О. Ф. Миллеру возможность ознакомиться со многими материалами
архива писателя. Было решено издать большую часть последней
тетради Достоевского, просматривались, видимо, и другие тетради. Об этом
косвенно говорит и следующая фраза из «Воспоминаний» Страхова:
«В одной из его (Достоевского. — Л. Р.) записных книг сохранился
листок...»* и т.д. Страхов, который был далек от Достоевского в
последние годы жизни, вероятно, особенно интересовался его записями,
сделанными для себя. То, что А. Г. Достоевская не заметила
антистраховской записи Достоевского ни в то время, ни даже впоследствии, —
совершенно очевидно, иначе она каким-нибудь образом упомянула бы
о ней в заявлении по поводу письма Страхова Толстому. Но как знать,
не попалась ли эта страница на глаза самому Страхову и не потому ли,
в частности, он писал «Воспоминания» о Достоевском, борясь с
«подымавшимся отвращением», стараясь «подавить в себе дурное чувство»?
То, что письмо к Толстому написано Страховым не в порыве горького
чувства, а было результатом заранее продуманного намерения,
доказывает запись, сделанная им на отдельном листе под заглавием: «Для себя».
Она почти текстуально совпадает с началом письма к Толстому: «Во все
время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал
приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни
и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение,
побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели,
для которой пишу. Для себя мне хочется, однако, формулировать ясно
и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием» **.
Страхов, конечно, понимал, что со временем не только последняя
тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал
он также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого.
Быть может, и эту мысль отчасти имел он в виду, направляя письмо
Толстому, своеобразный «ответ» Достоевскому.
Рассматривая запись Достоевского о Страхове, важно подчеркнуть,
что ее «личное» содержание неуклонно возводится к общественному.
Страхов изображен как тип литератора-семинариста, как явление
почти нарицательное. С этой темой внутренне связаны и следующие
наброски Достоевского о психологии семинариста (стр. 622).
*э
* «Биография...». С. 30.
** ЦНБ АН УССР. I. 5239а.
Э-
В.Н.ЗАХАРОВ
Факты против легенды
Вряд ли в истории мировой литературы найдется писатель, перед
исследователями жизни и творчества которого не стояла бы проблема
создания научной биографии.
Достоевский и здесь в особом ряду.
Одна из предпосылок создания научной биографии писателя —
критика так называемых «биографических легенд». Об одной такой легенде
(слухе о ставрогинском преступлении Достоевского) пойдет речь в этой
главе. Когда-то по разным причинам этой легендой не занимались
всерьез. Между тем слух этот существовал в литературных кругах в
дореволюционное время, широко распространен в зарубежном
литературоведении, а недавно разговор о нем был неудачно поднят в журнальном
варианте книги Б. И. Бурсова «Личность Достоевского» (1969). С тех
пор сложилась сомнительная ситуация, когда к биографической легенде
привлечено внимание миллионов читателей «Звезды», «Литературной
газеты», «Невы», «Нового мира», «Русской литературы», «Вопросов
литературы» — изданий, где в течение 1971-1975 годов легенда так или
иначе обсуждалась всеми писавшими о книге Б. И. Бурсова, но нет
научного опровержения этой далеко не безобидной сплетни о Достоевском.
Есть и другой источник выхода легенды в «тираж» — публикации
литературных архивов начала XX века, устанавливающих факт бытования
этой сплетни в литературных кругах. Ничего предосудительного в них
нет, появления аналогичных публикаций следует ожидать, но
совершенно недопустимо давать их без комментариев по существу.
Окончательное научное опровержение биографической легенды
отсутствует, главным образом, потому, что исследователям не известны
ее печатные источники и отражения в дореволюционной журналистике
(а во всех поздних пересказах фактическая сторона «первоисточников»
502
В. Н. ЗАХАРОВ
легенды искажена). Установление их позволяет наконец разобраться
в этой истории.
Источник поздних слухов о мнимом «злодействе» Достоевского —
скандал в русской прессе летом 1908 года. Тогда в сообщении
«Петербургской газеты» от 5 июня 1908 года о финале суда над неким
растлителем Дю-Лу совершенно неожиданно прозвучало имя Достоевского.
Репортер этой газеты, откровенно рассчитанной на обывательские
вкусы и не брезгавшей в погоне за подписчиками сплетнями,
сомнительными сенсациями и прочими новостями «желтой прессы»,
сообщил о заявлении, якобы сделанном судебным экспертом московским
психиатром Н. Баженовым, в котором профессор говорил об исповеди
Достоевского Тургеневу в аналогичном преступлении. На следующий
день со слов И. Баженова отповедь репортеру «Петербургской газеты»
дало московское «Русское слово»: «В своих объяснениях перед судом
H.H. Баженов ни слова о Достоевском не говорил. Только в перерыве,
беседуя с прокурором, сообщил, как о слухе, передававшемся в старое
время и литературных кругах, о покаянном визите Достоевского
к Тургеневу. Все прочее — собственность репортера, очевидно, плохо
подслушавшего»*. В «Петербургской газете» факт исповеди Достоевского
Тургеневу поставил под сомнение некто, скрывшийся под
псевдонимом «Старый». Он очень хорошо знал подоплеку личных отношений
Достоевского и Тургенева, чтобы поверить сплетне: «Тут произошло
очевидное увлечение пересудами, на которые так щедро наше общество
в отношении своих знаменитостей». Приоткрыв завесу над личными
отношениями Достоевского и Тургенева, «Старый» обратил внимание,
что «при таких условиях не отправишься с исповедью даже в маленьких
прегрешениях» **.
С подробным разъяснением источников слуха выступил А. И. Фаре-
сов. Он тоже не поверил сплетне, только, по его мнению, известие о ней
«должно быть проверено тщательно теми, кому дорога память нашего
гениального писателя». Многое из того, что сообщает А. Фаресов,
заслуживает внимания. Выясняется, в частности: «В литературных кружках
об этом говорилось всего чаще по рассказу И. С. Тургенева, большого
любителя "красного словца" и врага Достоевского». Выяснилось также,
что было печатное отражение рассказа Тургенева: «В "Новом
времени", помню, был также фельетон по тому же сюжету с обольщенной
%J щ1тщ1» щ1т
гимназисткой» ***.
* К делу Дю-лу (без подписи) // Русское слово. 1908. N° 130. 6 июня. С. 4.
г* Старый. Достоевский и Дю-Лу // Петербургская газета. 1908. № 153. 6 июня. С. 2.
* Фаресов А. И. Достоевский перед судом проф. Баженова // Петербургская газета.
1908. №156. 9 июня. С. 1.
Факты против легенды
503
Новое лицо в скандале — И. И. Ясинский! По представлению А. Фа-
ресова, самое компетентное: не только слышал, но и фельетон по
тому же сюжету написал. Скажем сразу, в авторстве своем И. Ясинский
в конце концов сознался. Сделал он это через 18 лет в своей мемуарной
книге «Роман моей жизни». Тогда же, боясь скомпрометироваться
в скандале, так «уточнил» А. И. Фаресова: «А. И. ссылается — в числе
источников гнусного слуха о Достоевском — на рассказ мой,
напечатанный в "Новом времени" двадцать два года тому назад (1886 г.).
Во избежание недоразумений, считаю долгом заявить, что в рассказе
этом действует совсем не Достоевский, а некий вымышленный мною
композитор (и под фамилией), рассказывающий о себе ужасные гадости,
с целью почтить своего соперника и отравить этим художественную
ясность его души». Вроде бы и не солгал, но и правды всей не сказал.
Рассказ, исходивший от Тургенева, представлен в скандале в двух
вариантах своего бытования в литературных кружках: как
сообщение об исповеди Достоевского Тургеневу и как анекдот об отношении
Достоевского к Тургеневу. Первый вариант критиковали все
дававшие объяснения во время скандала. Не тот характер отношений был
между ними, чтобы Достоевскому исповедоваться перед Тургеневым.
Позже будет доказано, что слух о покаянном визите Достоевского
к Тургеневу — «упрощенный» вариант анекдота, утративший в
«бытовании» тонкости подлинного рассказа Тургенева.
Из всех вариантов рассказ Тургенева в передаче И. Ясинского
наиболее авторитетен. И. Ясинский не раз слышал его из уст Тургенева.
Только он один называет источником своего знания рассказы писателя.
<...> В своей мемуарной книге он подробно излагает детали того, что
слышал не раз: Достоевский «внезапно» пришел к Тургеневу,
«который только что приехал из Парижа, остановился в гостинице Демут
и лежал в лонгшезе больной подагрою» и завтракал; пришел, «дабы
высотою ваших эстетических взглядов измерить бездну моей
низости», по словам персонажа анекдота. Подробен в описании
«исповеди»: «случилось вчера», «в шестом часу», гувернантка-француженка
с воспитанницей в Летнем саду, «дерзкое предложение» гувернантке,
нуждавшейся в двухстах рублях на возвращение в Швейцарию, — 500
из 600 рублей, полученных «утром» от Вольфа. Перечисление
«наиболее возмутительнейших подробностей» останавливает крик Тургенева:
«Федор Михайлович, уходите! — А Достоевский быстро повернулся,
пошел к двери и, уходя, посмотрел на Тургенева не только счастливым,
а даже каким-то блаженным взглядом. — А ведь это я все изобрел-с,
Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего
развлечения». Рассказывая об этом свидании, Тургенев заключал всегда
504
В. Н. ЗАХАРОВ
с уверенностью, что, конечно, «старый сатир» и ханжа (?! — В. 3.)
все это, действительно, выдумал, да, вероятно, и про иеромонаха»*.
Есть два подтверждения точности И. Ясинского в пересказе
анекдота Тургенева. Первое — печатное: в варианте легенды, исходившей
от Д. В. Григоровича. Г. М. Редор говорит о Тургеневе, «тогда только
что вернувшемся из Парижа». Второе — неопубликованное: запись
из дневника Б. А. Лазаревского за три года до скандала 1908 года. В
записи от 26 октября 1905 года, возмущаясь сплетнями о Лермонтове,
Некрасове, Л. Толстом, Чехове, Л. Андрееве, Горьком,
Гарине-Михайловском и перечисляя их, Б. А. Лазаревский называет и такую:
«Достоевский. Чуть не растлитель и ханжа (курсив мой. — В. 3.)» **.
Ценность этого неопубликованного свидетельства не только в
подтверждении точности интерпретации И. Ясинского рассказа Тургенева («чуть
не...»), но и дословном совпадении «вывода» рассказчика («ханжа»?!).
Это дает нам право фактической проверки варианта И. Ясинского.
Разрыв произошел в 1867 году, возникавшие «недоразумения»
только укрепляли вражду двух писателей. Вскоре после Висбадене кого спора
возникло «недоразумение» по поводу анонимно (как теперь
установлено Л. Р. Ланским, Н. П. Барсуковым)*** отправленной в Чертковскую
библиотеку копии письма Достоевского А. Н. Майкову с
изложением его спора с Тургеневым. Даже после разъяснений на этот счет
П. И. Бартеньева Тургенев продолжал считать, что Достоевский был
причастен к отправке копии письма «для потомков», хотя он не имел
никакого отношения к этой передаче. В 1871-1872 годах Достоевский
вывел в «Бесах» едкую карикатуру на Тургенева — шаржированный
образ «великого писателя» Кармазинова. Тургенев перенес этот
выпад Достоевского очень болезненно. В марте 1876 года был заочный
инцидент в связи с висбаденским долгом Тургеневу 1865 года —
по вине Тургенева, ошибшегося в сумме своей ссуды: долг в 50
талеров Достоевский через Анненкова передал Тургеневу в 1875 году,
Тургенев же ошибся, решив, что Достоевский выплатил только
половину долга, и поручил А. Ф. Отто затребовать у Достоевского еще
50 талеров. «Недоразумение» через несколько недель выяснилось,
но инцидент оставил в душе Достоевских слишком неприятный след —
* Ясинский И. И. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.; Л.: ГИЗ, 1926.
С. 168-169.
* Дословно оценка записанных слухов звучит так: «Я не слыхал еще никогда
биографии ни одного великого человека, который бы не был оклеветан или не
вымазан грязью свиньями...» (Лазаревский Б. А. Дневник 1905 г. // Рукописный
отдел ИРЛИ. Ф. 145. Оп. 1. С. 146).
* Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 411.
Факты против легенды
505
запрос поступил, по словам А.Ф. Отто, «в тяжелую материальную
минуту» жизни писателя.
Примирения за эти десять лет не было, «личные отношения
прекратились», и у нас нет оснований не верить объяснению Тургеневым
их отношений, да еще в личном письме.
<...> Реального визита просто не могло быть. <...>
Отсутствуют не только «прямые», но и «косвенные» свидетельства
встречи Достоевского и Тургенева. Нет их в записных книжках
писателя, а это чуткий сейсмограф внутренней жизни Достоевского <...>.
«Визита» не было, но не могло быть еще и поступка по отношению
к Тургеневу — по любому из вариантов анекдота. Не тот настрой
духовной жизни Достоевского в то время, чтобы унижаться в мстительной
злобе, топтать перед своим врагом «знамя чести» литератора, которое
было для него дорого и свято.
В записных тетрадях и в «Дневнике писателя» за апрель-июнь
1876 года есть одна сквозная тема — размышления Достоевского
о «знамени чести» литератора. В апреле ему пришлось вступиться
за честь брата — М.М. Достоевского, опровергая сплетню о нем (XI,
278-281). К разговору о том, что «литература — знамя чести», он
собирался снова вернуться в «Дневнике писателя», поэтому в записных
тетрадях появилась такая заготовка: «О том, что литературе (в [нашем
веке] наше время) надо высоко держать знамя чести. Представить себе,
что бы было, если бы Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными?
Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут:
"если уж эти, то... и т.д." То же и наука» *. Насколько несовместим
духовный облик Достоевского с поведением персонажа анекдота — в этом
нетрудно убедиться, если свести факты с легендой, истину со сплетней.
Ведь тогда надо говорить о Достоевском, заступавшемся за «деток»
по делу Кронеберга в феврале, — в мае кощунственно глумящемся
над своим «знаменем чести». Именно в мае, когда он снова пишет о детях
в «Дневнике писателя» — на этот раз из воспитательного дома, о тех,
кто по скорбной и горькой иронии в адрес ханжеской морали общества
живет «не по праву, а, так сказать, из гуманности». Именно в мае, когда
Достоевский возмущен и потрясен появившимся в «Новом времени»
от 16 мая 1876 года сообщением об убийстве в Киеве двух девочек
10 и 11 лет: сестры найдены в университетском саду задушенными,
одна из них изнасилована. На этот раз самое ужасное, по Достоевскому,
преступление на земле не стало темой публичного выступления
писателя, но в записных книжках появилась резкая оценка входившей тогда
в моду теории аффекта, оправдывавшей в общественном мнении многие
* Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 544-545.
506
В. Н. ЗАХАРОВ
преступления. «Убийство двух девочек в Киеве в университетском
ботаническом саду. Аффект, девочки. Аффект, ребенок, столкнутый из окна.
Что ж, твердо вы уверены, что не существует такой черты, за которую
нельзя переходить в аффекте. Все от среды. Милосердие — другое дело,
но не развращайте народ, не называйте зла нормальным состоянием.
Для чего не изнасиловать девочек и т.д. Еще теперь стыдятся и
отговариваются аффектом, но скоро перестанут стыдиться. Присяжные
поверенные, как Утин, намекают на будущее. Прав, права, так и
следует»*. Насколько несовместима эта оценка аффекта у Достоевского
с моралью тех, от кого исходили слухи о ставрогинском преступлении
писателя, и кто в теории аффекта видел объяснение случившегося!
Достоевский в этих теориях видел поощрение подобным преступлениям.
Представляется, что эти факты — неодолимое препятствие для любых
попыток выдвижения обвинения против Достоевского.
В отношении страховского обвинения. В общеизвестном письме
Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 года есть такие
строки: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне
рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой,
которую привела ему гувернантка». Вот собственно, и все, что сказано,
что лежит в основании страховского обвинения. Нетрудно заметить
явно спровоцированный характер откровения Висковатова в беседе
его со Страховым, состоявшейся, как видно, накануне написания
письма: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне
рассказывать (курсив мой. — В.З.), как он похвалялся...»
П. А. Висковатов — одна из одиозных фигур в окружении
Достоевского, человек, постоянно домогавшийся внимания писателя.
Профессор Дерптского университета. Занимался изучением биографии
Лермонтова и изданием его произведений, писал хрестоматийные
книжки о русско-французской войне 1812 года, посылал Достоевскому
в бытность его редактором «Гражданина» стихи собственного
сочинения, которые Достоевский относил к разряду «стишков» и без своей
основательной правки в печать не пропускал. Особенной близости
между ними не было, но вот во время Пушкинских праздников 1880
года в письмах-отчетах Достоевского к жене, которые Достоевский
называл «бюллетенями», можно часто встретить его имя: «приходили
Сухомлинов (который здесь), Гатцук, Висковатов и другие», «приходят
Григорович и Висковатов», «пришел Гайдебуров, и вдруг затем Майков,
а затем Висковатов» и т.п. (Достоевский Ф.М. Письма. Т. 4. М.; Л.,
ГИЗ — «Academia» — ГИХЛ, 1928-1959. 149, 157, 159, 162, 163,
* Литературное наследство. Т. 83. С. 537.
Факты против легенды
507
164, 165, 168). О Григоровиче, Майкове Достоевский находит слова,
о беседах с Висковатовым предпочитал не отзываться.
Приходится только удивляться психологической
проницательности Достоевского. Поражает сбывшееся пророчество Достоевского
о Страхове: «несмотря на свой строго нравственный вид, втайне
сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость
готов предать всех и всё...» и, действительно, «предал» его,
пересказывая в письме Л. Толстому недоказанное и, значит, клеветническое
сообщение П. Д. Висковатова*. То, что поверил сплетне Страхов, тем
хуже для него — оправдал пророческую характеристику Достоевского.
Но «оправдал» нелюбовь и нерасположенность Достоевского к себе
и Висковатов: Достоевский не ошибся в чувствах Висковатова к нему
(«изъяснялся в любви, спрашивал, отчего я его не люблю? и проч.
Все-таки был лучше, чем всегда»). Нет ничего удивительного в том,
что в определенной ситуации, когда Страхов стал разбираться в своих
недобрых чувствах к Достоевскому, Висковатов поддакнул ему
сплетней. «Рассказ» Висковатова Страхов передал скупо, но из него ясно, что
Достоевский вовсе не исповедовался перед Висковатовым, а
«похвалялся», а. так в минуту неприязненного чувства к Достоевскому могло быть
воспринято пробное чтение одного из вариантов исповеди Ставрогина,
на котором, как лицо, написавшее Достоевскому восторженное письмо
о «Бесах»**, судя по его рассказу, присутствовал П. А. Висковатов.
Висковатов поддакнул Страхову сплетней, но слова его ничего не значат:
во-первых, не содержат аргументированного обвинения (ну, что это
голословное «похвалялся»?)у во-вторых, то, что сказано, не заслуживает
доверия и, в-третьих, не выдерживает критики — характер отношения
Достоевского к Висковатову, как и к Тургеневу и Григоровичу,
исключает возможность подобных признаний и откровений. Но Висковатов
на эту роль и не претендует.
На роль очевидца публичной исповеди Достоевского
претендует К. В. Назарьева. В архиве Достоевского есть следы знакомства
ее с писателем, правда, к февралю 1877 года — заочного: два
письма ее Достоевскому от 4 и 7 февраля 1877 года, опубликованные
И. Волгиным***. Первое письмо (письмо по поводу, где можно купить
* Литературное наследство. Т. 83. С. 620. Подробно об отношениях Достоевского
и Страхова см.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского //
Литературное наследство. Т. 83. С. 16-23. Ср.: Литературное наследство. Т. 86.
С.560-564.
г* Отрывок из этого письма опубликован Л. Р. Ланским // Литературное наследство.
Т. 86. С. 420.
г* Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 179-181.
508
В. Н. ЗАХАРОВ
его «Бедных людей») — попытка завязать переписку, а может быть,
и знакомство с «самым симпатичным, самым глубоким нашим
писателем», так как содержание письма (отзыв о «Дневнике писателя»)
выходит за рамки повода обращения. Хотя себя К. В. Назарьева
представляет во втором письме так: «Не сочтите меня за экзальтированную
институтку или искательницу приключений. Я — 29 лет. Разводка.
Живу редакционной работой и имею 3 детей», — именно
экзальтацией заканчивается ее письмо: «Можно мне еще когда-нибудь написать
к Вам? скажите да! Глубоко, рабски Вас уважающая К. Назарьева».
Очевидна «двойная мысль» в этом письме. Отметим также, что по
автохарактеристике К. В. Назарьева принадлежит к тому типу читателей
Достоевского, которых «перевертывают» его произведения,
«заставляют со страхом смотреть в себя». И еще — до 7 февраля 1877 года
К. В. Назарьева не знакома лично с Достоевским: «Если когда-нибудь
судьба столкнет нас..., то я буду самым счастливым человеком».
К. В. Назарьева рассказывала Фаресову, как однажды «в
присутствии многих лиц возник разговор о возможности для порядочного
человека совершить несомненно постыдные деяния». В ее рассказе
превратно истолкован и искажен смысл публичного выступления
Достоевского. Искажение начинается с изложения представления
писателя о природе человека — своеобразной увертюры к ее рассказу:
«Своей умственной горделивостью они сильно взволновали
присутствовавшего тут же Достоевского, всегда признававшего человека
существом слабым, не умеющим чувствовать самого себя ("Преступление
и наказание") и поэтому нуждающегося в снисхождении». То, что
это не так, доказывать не приходится. В требовательности к человеку,
к его нравственным качествам вряд ли кто превосходил Достоевского.
Подлое, бесчеловечное в человеке Достоевский отрицал в поисках
утраченной человечности даже в самом безнадежном, отпавшем
от общества преступнике. Для Достоевского был важен не суд общества
над преступником (юридическое наказание), а суд преступника над
самим собой (наказание нравственное). Можно показать суд общества
над преступником — это проще; но показать нравственный самосуд
преступника — значит уничтожить идею преступления вообще. Вот
почему у Достоевского самые страшные преступники — самоубийцы.
Пробуждение нравственного чувства в Свидригайлове (в его любви-по-
единке с Дуняшей Раскольниковой), в Ставрогине (сон о «золотом веке»
в его исповеди) не возрождает их к жизни, а осуждает их на казнь —
«истребить себя». Их вина (насилие над малолетней) — неискупимое,
по мысли Достоевского, преступление.
Вот якобы выступление Достоевского: «— Я знал очень порядочного
человека, который однажды познакомился на улице с гувернанткой
Факты против легенды
509
и увлек не только ее самую, но и несовершеннолетнюю девочку, к
которой гувернантка была приставлена. Как назвать этого господина?
Ну, конечно, мерзавцем...— Ну, так этим мерзавцем, — перебил
Достоевский, — был я сам! Я был мерзавцем... Все могут быть
мерзавцами под влиянием обстоятельств и настроений, но придя в спокойное
состояние духа, не следует черное называть белым...»
Здесь все сфальсифицировано настолько, насколько пошло
сочиненное резюме, да еще с претензией на дидактизм. Точка зрения
Достоевского нам известна: он даже в теории аффекта видел
развращение нравственных понятий и поощрение подобных преступлений <...>.
Искажение начинается с интонаций. К. В. Назарьева произносит
всерьез: «знал очень порядочного человека». Красноречивее всего
насчет этого «очень» I часть романа Достоевского «Идиот». Там двух
людей Достоевский язвительно чествует «порядочными людьми»:
генерала Епапчина, возжелавшего через подставное лицо Ганю Иволгина
купить наложницу — Настасью Филипповну, которую торгуют все,
и Афанасия Ивановича Тоцкого, «человека высшего света, с высшими
связями и необыкновенного богатства», «изящного характера, с
необыкновенною утонченностью вкуса», «ценителя красоты
чрезвычайного», растлившего некогда шестнадцатилетнюю Настю — будущую
«фантастическую» Настасью Филипповну Барашкову.
. В этой версии нет даже внешнего правдоподобия лжи. Рассказана
история фантастическая и нелепая до крайности. Представим себе
на минуту, что Достоевский на самом деле покаялся «в присутствии
многих лиц». На следующий день от этих «многих лиц» об «исповеди»
узнало бы столько людей, что трудно предположить, во что бы, в
какой бы скандал все это вылилось. Допустим, что кое-что из того, что
сообщает К. В. Назарьева, отчасти передает содержание публичного
выступления Достоевского. Хотя бы это сообщение: «Я знал...» и т.д.
В своем «Ответе Страхову» А. Г. Достоевская рассказала о поисках
Достоевским приемлемого варианта исповеди Ставрогина: «Вариантов
было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное
происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал)» *. Но передает только
отчасти: версия К. В. Назарьевой существенно отличается от этого
варианта исповеди Ставрогина, ставшего «бродячим сюжетом»
сплетни о Достоевском. Увлеченная сочинением своей версии сплетни,
она впадает в такие преувеличения, что искажает даже
«канонический» сюжет сплетни. В ее воображении создастся картина уже
не сладострастия, а сластобесия персонажа сплетни: «увлек не только
ее самую, но и несовершеннолетнюю девочку, к которой гувернантка
* Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1971. С. 403.
510
В. Н. ЗАХАРОВ
была приставлена». О низком качестве исполнения сплетни лучше
всего говорит это «преувеличение от увлечения».
Все это значит одно: достаточно тому, чем возмущался
Достоевский, придать автобиографическое значение — и необходимый
«нюанс» в выступление внесен, «недостающие» слова в уста
писателя вложены: «я сам! Я был мерзавцем»... Одна реплика — и смысл
выступления писателя безнадежно искажен. Кто внес эту
реплику, сама ли К. В. Назарьева, заподозрившая и перетолковавшая
выступление Достоевского в своей сплетне, или А. И. Фаресов,
«художественно» передавший сплетню в «лицах», сказать трудно.
Но определенный вывод из разбора этой версии «легенды» сделать
следует: из «многих лиц», присутствовавших при этом разговоре,
одна только К. В. Назарьева превратно истолковала смысл
публичного выступления Достоевского.
Итак — четыре «легенды» — четыре версии одного и того же
события. Одинаково голословные и неубедительные. Не просто
разноречивые — противоречащие друг другу, хотя каждый из рассказчиков этих
«слухов» претендует на то, что именно так «все было в
действительности». Но истина одна, и разительные противоречия четырех версий
исключают возможность выдвижения какого бы то ни было обвинения
против Достоевского. Как было сказано в свое время, «разнообразные
об этом толки множества людей подрывают доверие к самому
происшествию в жизни Достоевского»*. Критическая проверка фактов,
изложенных в «слухах», позволяет утверждать большее: такого
«происшествия» в жизни Достоевского не было и не могло быть. Поэтому-то
нет в этих «толках» главного — нет Достоевского. <...>
<...> Генезис этой «легенды» о Достоевском поддается
рациональному объяснению. Восходит она к одной ситуации — к конфликту
Достоевского с редакцией «Русского вестника» из-за главы «У Тихона»
в «Бесах». <...> По воспоминаниям А. Г. Достоевской, H.H. Страхов,
присутствовавший на чтении первого варианта главы «У Тихона»,
отвергнутой Катковым, писал Л. Толстому: «Катков не хотел печатать,
а Достоевский здесь ее читал многим» **. <...>
Со всей определенностью следует сделать вывод о генезисе этой
легенды о Достоевском: момент ее зарождения — семидесятые
годы, ситуация возникновения — конфликт Достоевского с редакцией
«Русского вестника» в 1872 году и связанные с этим конфликтом слухи
Фаресов А. И. Достоевский перед судом проф. Баженова // Петербургская газета.
1908. № 156. 9 июня. С. 1.
Цит. по кн.: Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 397.
Факты против легенды
511
и домыслы. Факты опровергают эту легенду о мнимом «злодействе»
Достоевского.
«Гений и злодейство две вещи несовместные».
Дважды в пушкинском «Моцарте и Сальери» звучит эта фраза:
первый раз — это доверчивое обращение Моцарта к Сальери,
второй — сомнение Сальери в собственной гениальности, охватившее
его по совершении злодейства. Уже сам по себе контекст фразы —
ответ: да, несовместны. «Когда строку диктует чувство» (а именно такой
ответ «диктовало чувство» Пушкину наперекор легендам, сплетням,
слухам, которым кое-кто не прочь был верить), так в откровении
высшей правды гений говорит о гении, о творцах искусства говорит само
искусство, и это исполнение, может быть, самого важного в назначении
искусства. «И тут, — по бессмертным стихам Б. Пастернака, —
кончается искусство, / И дышат почва и судьба» : искусство входит в жизнь,
становится самой жизнью — жизнью, управляемой уже эстетическими
законами. И, в первую очередь, для творца искусства...
Факты не только против легенды, они убеждают о справедливости
этой истины.
&
В.Я.КИРПОТИН
Достоевский, Страхов —
и Евгений Павлович Радомский
<Фрагменты>
1
Хвалебная биография и пасквильное письмо
Достоевский умер 28 января 1881 года. В том же году Анна
Григорьевна Достоевская обратилась к Николаю Николаевичу Страхову
с предложением написать биографию писателя для полного собрания
его сочинений. Предложение не являлось случайным. Страхов был
еще со «Времени» и «Эпохи» литературным товарищем Достоевского
и считался его другом.
В 1883 году в томе первом, имеющем подзаголовок «Биография,
письма и заметки из записной книжки», были опубликованы
«Материалы для жизнеописания Ф.М. Достоевского» Ореста Миллера
и «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» H.H.
Страхова. «Материалы» Ор. Миллера, охватывающие период от рождения
писателя до возвращения из Сибири, особой роли в «достоевиане»
не сыграли и давно утратили значение. Иная судьба пришлась на долю
«Воспоминаний» Страхова.
Это больше чем воспоминания. Работа Страхова, подкрепленная
публикацией многих тогда неизвестных или забытых документов,
содержит в себе связное и последовательное (хотя и неравномерное)
описание жизни и творчества Достоевского после Сибири, с итоговыми
оценками его личности, его наследия, его места в русской
литературе. Она до сих пор сохранила ценность свидетельства много знавшего
современника, до сих пор является одним из источников для
биографов Достоевского. Несмотря на неясные и даже скользкие оговорки,
«Воспоминания» в целом выдержаны в положительном и даже высоком
тоне. Страхов с уважением и преклонением говорит о мужестве и
выдержке Достоевского, о победе его над самыми неблагоприятными
обстоятельствами, о единой линии, соединяющей «Бедных людей»
с «Братьями Карамазовыми». «Это не простой литератор,— писал
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 513
он о Достоевском, — а настоящий герой литературного поприща».
В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он,
как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший
столько тягостей и волнений, достоин умиления » *.
Умиление Страхова вызывали способность Достоевского видеть «бо-
жию искру» в самом падшем и извращенном человеке, умение находить
проблески душевной красоты за самою безобразной и отвратительной
оболочкой, всегдашняя готовность прощать и любить. «...Нежная и
высокая гуманность может быть названа его музою... в Достоевском муза
и человек сливались необыкновенно тесно» (227).
Сказанные Страховым слова взвешены и обдуманы, произнесены
«со всей искренностью и точностью». Они не вырвались в минуту
скорби, под впечатлением свежей могилы писателя. Страхов
подкрепляет их ссылкой на близкое знакомство не только с деятельностью
и творчеством Достоевского, но и с его скрытым для других
внутренним миром.
«Я был довольно долгое время очень близок к нему, — писал он, —
особенно когда работал в журналах, которых он был руководителем...
Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать
его мысли и чувства...» (179). С авторитетом человека, имевшего
возможность многократно проверить свои оценки, Страхов, завершая
воспоминания, все сильней и сильней убеждает: о Достоевском
нельзя судить по мелочам и слабостям, которым придают такое большое
значение обыватели. «Дело в том, что вся эта внешность, вся сила
этих наружных мелочей и слабостей почти вовсе не имели влияния
на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда сохранявший
благородство и высоту. Он был строг к себе и даже щепетилен; его
великодушие не могло помириться не только с темным или недобрым
поступком, но и с темным или недобрым чувством. Он трудился и жил,
постоянно воспитывая в себе наилучшие чувства и действуя не только
безукоризненно и бескорыстно, а часто самоотверженно» (318).
Свою меморативную монографию о Достоевском Страхов немедленно
по выходе ее в свет послал Льву Николаевичу Толстому, сопроводив
свой подарок письмом от 28 ноября 1883 года, содержание которого
перечеркивало все только что приведенные его собственные слова. <...>
Страхов назвал свое письмо к Толстому «маленьким комментарием»
к написанной им биографии. В другом письме ко Льву Николаевичу,
от 12 декабря того же 1883 года, он уверял: «Лично о Достоевском
* Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Том первый. Биография, письма
и заметки из записной книжки. СПб., 1883. С. 321. В первой главе этой статьи
ссылки на страницы из названной книги даются в тексте, после цитаты.
514
В. Я. КИРПОТИН
я старался только выставить его достоинства, но качеств, которых у
него не было, я ему не приписывал»*. Фраза эта должна означать, что
противоречий между «маленьким комментарием» и комментируемым
сочинением нет. Но в утверждении Страхова концы не связаны с
концами; чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить его беспощадно
осудительное письмо с безоговорочным отождествлением в биографии
гуманной музы Достоевского с самой личностью писателя, с его
действиями, поступками и чувствами, сравнить отвращение, выраженное
в письме, с умилением, выраженным в биографии.
Добровольно, по собственному почину, Страхов одновременно
дал два разных отзыва о Достоевском, во втором опровергая первый
как намеренную ложь. Между тем именно письмо Страхова не
выдерживает самой элементарной критики. Нельзя плохие нервы,
раздражительность, вспыльчивость, объясняемые трудной биографией,
эпилепсией и эмфиземой легких, — нельзя болезнь противопоставлять
гуманизму. Страхов бывал как свой человек в семье Достоевского,
он не мог не видеть любви Достоевского к жене, к детям, не мог не
заметить трогательного отношения его не только к своим, но и к детям
вообще, — он лгал, когда писал, что Федор Михайлович «нежно любил
одного себя». Страхов отрицал у Достоевского хотя бы искру сердечной
теплоты — он не мог не знать о заботливости писателя по отношению
к своему пасынку П. Исаеву, к семье умершего брата Михаила. Федор
Михайлович юридически не обязан был брать на себя изнурительные
долги по закрытому «Времени», по прогоревшей «Эпохе» —
журналы числились за покойным. Он, однако, возложил на себя это бремя
по честности, по благородству души, ревнуя о добром имени Михаила
Михайловича, заботясь об интересах многих литераторов, оставшихся
после банкротства «Эпохи» без средств.
Сколько «гуманистов», в их числе и сам Страхов, не могли скрыть
своей брезгливости к убогому, нищему, грязному человеку, к
проститутке, к уголовнику — гуманизм Достоевского выдержал и это последнее
страшное испытание, он на деле отнесся к самым униженным, самым
«последним» людям как к братьям.
Странно читать уверения, что у Достоевского не было «никакого
вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести», — слова эти
объясняются, скорее всего, мещанскими вкусами самого Страхова. Что же
касается приписывания Достоевскому «ставрогинского» преступления,
то оно носит все признаки трусливой клеветы. Человек, убежденный
в справедливости выдвинутого обвинения, взял бы ответственность
* Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. 1870-1894. С предисловием и
примечаниями Б. Л. Модзалевского. СПб., 1914. С. 307.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 515
на себя — он бы написал Толстому: я знаю, что Достоевский повинен
в таком-то и таком-то грехе. Страхов же спрятался за спину биографа
Лермонтова Висковатова, не принадлежавшего к кругу Достоевского,
свидетельство которого, между прочим, нигде более не зафиксировано.
Если бы Страхова «приперли к стене», он бы ответил: ничего не знаю,
мне передавал другой, на него и падает ответственность*.
Подавляющее большинство исследователей Достоевского проходили
и проходят мимо письма Страхова как не заслуживающего доверия2.
Однако, несмотря на всю бросающуюся в глаза шаткость обвинений
Страхова, нашлись люди, которые ушли от первого же
напрашивавшегося вопроса: что представляет собой сам Страхов, который мог
одновременно, одной и той же рукой, одним и тем же пером написать
и хвалу, и грязный пасквиль в адрес Достоевского? И почему Страхов
совершил столь необычный, столь неблаговидный поступок, так
не вяжущийся со званием литератора, корреспондента Достоевского
и Толстого? Вместо этого они стали выяснять, виновен ли Достоевский,
автобиографична ли исповедь Ставрогина. Не подвергая проверке
источник клеветы, стали обсуждать самую клевету как непреложный факт.
При таком необъективном «расследовании» Достоевский в лучшем
случае освобождался от «наказания», от обвинительного приговора,
за недостаточностью улик, — впрочем, вполне удовлетворяющих
фрейдистов или экзистенциалистов из «очернительской» ветви этих
философских направлений, — но оставлялся, согласно терминологии
старой юриспруденции, под сильным подозрением.
И в наши дни к этой «проблеме» вновь обратился Б. Бурсов в
журнальном варианте своего «романа-исследования» «Личность
Достоевского»**. В отдельном издании «романа-исследования» Б. Бурсов
опустил рассуждение об автобиографическом характере исповеди
Ставрогина. Однако он все же сохранил сказанное в виде намека:
« ...сочиненное в жизни человека чуть ли не равноценно случившемуся
Впрочем, в тех случаях, когда речь шла об угодных ему людях и
единомышленниках, Страхов готов был замалчивать любые пороки. В. В. Розанов написал Страхову
о гомосексуализме Константина Леонтьева. Розанов относился к пороку Леонтьева
снисходительно и даже с оправданием, Страхов — с отвращением. Однако он
ответил: «Об Леонтьеве я все очень хорошо знал, но не хотел говорить вам; знаете:
de mortuis etc.» (то есть — о покойниках говорят только хорошее или молчат).
И в другом письме: «Грехи К. Н. Леонтьева его личное дело, и не в них важность.
Кто же свят, кто может бросить камни в других» (Розанов В. В. Литературные
изгнанники. Т. I. СПб., 1913. С. 232, 329). Реальный грех Леонтьева Страхов
замалчивал; мало того, — он принимал меры, чтобы и другие о нем не говорили.
О мнимом же «грехе» Достоевского Страхов трубил во все трубы1.
Звезда. 1969. № 12. С. 134-138.
516
В. Я. КИРПОТИН
с ним. Это правило он (Достоевский. — В. К.) распространяет и на
самого себя»*.
Мы не согласны с этим замечанием Б. Бурсова. Такие авторитетные
знатоки Достоевского, как В. Комарович и С. Булгаков, отрицали
возводимые Страховым на Достоевского вины и преступления, все равно,
делалось ли это прямым образом или намеком.
В. Комарович был совершенно прав и снисходителен, добавим, когда
прошел мимо аргументации Страхова, указывавшего на грех персонажа
как на доказательство преступления автора. В. Комарович коснулся
самой сути дела: исповедь Ставрогина нужна была Достоевскому
для того, чтобы художественно показать наипоследнюю ступень
падения своего героя.
В 1876 году Достоевский в «Дневнике писателя» дал
уничтожающую оценку критической деятельности писателя В. Г. Авсеенко,
лакейски преклонявшегося перед «культурными типиками», для которых
культура начиналась с разврата, и разражавшегося по адресу всего
того, что ему не нравилось, «самыми презрительными плевками» (XI,
249). Авсеенко нашел грязь и в «Подростке». Отвечая ему, Достоевский
вспомнил и страховскую клевету. Авсеенко, читаем мы в черновиках
Достоевского, «возвестил, что «Русский вестник» поправлял мою
грязь. Я не отвечал. Этого не было. Из каких источников. Ставрогин
(неверующий, и торжество живой жизни, укор одного грязного
поступка)» (НД, 555-556). Достоевский и в этом случае счел ниже своего
достоинства реагировать в печати на злобный слух. Но черновая запись
совершенно ясно и недвусмысленно указывает: того, о чем
клеветнически болтал Страхов, не было, рассказ о «грязном поступке» нужен
был Достоевскому как художнику, чтобы показать, что Ставрогину уже
нет и не может быть ни прощения, ни воскрешения. Именно для того,
чтобы показать истинный смысл не пропущенной Катковым главы
«Бесов», Достоевский и читал ее неоднократно другим литераторам.
Разбираясь в обвинительном процессе, поднятом Страховым
против Достоевского, надо прежде всего решить, является ли
взаимоисключающая двойственность приговоров Достоевскому случайностью
для Страхова, не было ли вообще в характере Страхова, в его житейских
правилах, в его поведении двойственности, неискренности, диктуемых
не выражаемыми вслух целями. Не было ли в самой личности Страхова
какого-то недоброго лукавства, своеобразного приспособленчества,
при котором он мог говорить об одном и том же факте или
обстоятельстве, об одном и том же человеке разно, в зависимости от того, что он
считал нужным или выгодным для себя или приятным для собеседника?
* Бурсов Б. Личность Достоевского. Роман-исследование. Л., 1974. С. 129.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 517
«Нет на свете писателя, который бы так старался и так умел скрыть
от читателя свою мысль, как Страхов, — воскликнул как-то один
тонкий и глубокий знаток русской словесности, — сообщает биограф
Страхова Б. В. Никольский. — Он вежлив и деликатен с мыслями
и мнениями, как с людьми, — пишет Никольский уже от собственного
имени, — не обнаруживая при этом ни тоном, ни отношением к ним
своего согласия или несогласия; он писал как будто не теми
словами, какими думал». Все это говорится величайшим доброжелателем
Страхова, оправдывающим его «извороты» как «учтивость мысли».
«Критико-биографический очерк» жизни и деятельности Страхова
написан Никольским в панегирических тонах. В нем чрезвычайно,
чрезмерно высоко оцениваются и литературная и философская,
и общественная деятельность Страхова и его роль в истории русской
образованности, личные же качества явно приукрашиваются и
идеализируются. И тем не менее Б. В. Никольский проговаривается, что
семинарско-монастырское воспитание и обучение отложили
неизгладимую печать на личность Страхова (учившегося в Костромской
семинарии, при костромском Богоявленском монастыре). И в
обхождении, и в строе его жизни, рассказывает Никольский, полагая, что
хвалит, «и во всей его биографии было... много знакомого каждому,
кто хоть поверхностно наблюдал характер и особенности
православного монашества. Всегда неизменно деликатный и благодушный,
мягкий и вежливый, но уклончивый, такой же скупой на выражение
своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения
и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не
высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий
во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не
направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим
собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий
себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым
словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично
знал Страхова» *.
Никольский всем восторгается в Страхове, он старается все в нем
оправдать. Ему вторит В. Розанов: «...беседа Страхова всегда очищала
и просветляла». Он никогда не касался «фривольных» тем, не шутил
"бесстыдно", даже нескромно»**. Однако если снять лак, то из слов био-
* Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический
очерк // Исторический вестник. 1896, апрель.
* Розанов В. Вечная память // Русское обозрение. 1896, октябрь. С. 634. Не
касался фривольных, нескромных тем, — а письмо с непечатными выражениями
к Толстому написал!
518
В. Я. КИРПОТИН
графов Страхова объективно вырисовывается человек неискренний,
способный сказать и написать одно, а думать другое, развивающий
перед одним собеседником одну версию, а перед другим другую, и все
об одном и том же «сюжете». Любопытно отметить, что и Розанов
отмечает в Страхове, уже как философе, манеру, одновременно и
«привлекающую», и «раздражающую», — «не договаривать своих мыслей
до конца»*.
Все эти качества, столь снисходительно охарактеризованные
Никольским и Розановым, находят подтверждение при анализе
собственных, автобиографических текстов Страхова.
Устав иезуитов позволял и даже требовал в иных случаях, в
соответствии с поставленной «благой» целью, словесного согласия
с тем, с чем внутренне они не могли или не хотели соглашаться,
под условием, однако, мысленной оговорки, молчаливого
отмежевания от выраженного согласия или даже совершенного поступка (что
называлось reservatio mentalis). Страхов подчас проговаривается,
и тогда выясняется, что в отношениях к Достоевскому он прибегал
к этому иезуитскому правилу.
В. К. Истомин рассказывает о споре Толстого с Вл. Соловьевым
при участии Страхова в феврале 1881 года: «Лев Николаевич
решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал
их и доводил до возможного конца. Страхов играл несимпатичную,
двуличную роль; следя восторженным взором за своим кумиром,
он как бы беспрекословно признавал его своим учителем и в области
философии, одобряя и поддерживая все, что отвечало его собственным
мнениям, и обходя молчанием возбуждавшее в нем сомнение и
неизбежное противоречие» **.
Злополучное письмо Страхова к Толстому со всеми содержащимися
в нем клеветами не было случайностью. Двуличие делало возможным
появление этого или подобного документа при первом же достаточно
побудительном мотиве. К тому же Страхов сознавался, что его злит
«непомерное самодовольство и самовозношение. Вот почему, —
добавлял он, — для меня составляет некоторое удовольствие... вот
почему я и радуюсь, когда найду место, обличающее тех, кто так гордо
признает себя светильниками правды и добра» ***.
* Русский вестник. 1892. Книга 8. С. 220.
* Истомин В. К. На закате // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников в двух
томах. Т. 1. М., 1978. С. 246.
* Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (186-1885).
Изд. 2-е. СПб., 1887. С. 92.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 519
Слова эти сказаны вообще, но в то же время уж очень точно
обрисовано в них психологическое состояние, в котором могло быть написано
страховское письмо. <...>
К двуличию, к злопыхательству и злорадству в отношениях к
Достоевскому у Страхова присоединилась еще кружковая близорукость
и кружковая бесцеремонность. У него не было чувства дистанции по
отношению к Достоевскому. В тесных и несколько замкнутых
коллективах, литературных и иных, иногда создают себе божков. Но бывает
и иначе: самолюбивый, честолюбивый неудачник не может разглядеть
и в особенности примириться с превосходством своего приятеля, своего
соратника.
«Для меня, близко знавшего Достоевского, — признавался
Страхов, — субъективность его изображений была очень ясна, и потому
всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые
на других читателей действовали поразительно, как совершенно
объективные образы». Страхов нигде и никогда не назвал Достоевского
гением, он отказывал ему вправе именоваться реалистом. Размеры
общественной популярности Достоевского, выразившейся в
грандиозных его похоронах, удивили, даже изумили его. Литературный
неудачник, губивший один за другим журналы, которые
редактировал или в которых принимал участие*, Страхов тешил себя
мыслью, будто Достоевский был более проповедником,
публицистом, журналистом, чем художником. Для Достоевского, писал
он в «Воспоминаниях», «главное было подействовать на читателей,
заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону...
В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого
искусства» (216).
Страхов снижал значение творчества Достоевского. В своих
«Воспоминаниях» он вскользь, но постоянно подчеркивает
«несовершенства созданий» Достоевского (227), а подводя итоги, приходит к
выводу, что Достоевскому так и не удалось создать шедевра. Романы
«Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Страхов, по-видимому,
считал неудачами. Во всяком случае, он исключает их из перечня
* «Припомните, — писал сам Страхов Достоевскому 4 мая 1871 года, — пал
"Светоч", закрыто было "Время", пала "Эпоха". Пала "Библиотека для чтения",
выскользнули из рук "Отечественные записки", не удалась "Заря"». Сюда
следует добавить другое признание, сделанное несколько раньше, 22 февраля
1871 года: «...за мной прочно утвердилась слава писателя туманного,
непонятного, неудобочитаемого. Даже люди, расположенные ко мне, спрашивали
иногда меня: зачем, для кого я пишу свои статьи? И что я хочу сказать? Что
они значат?» (Шестидесятые годы / Ред. Н. К. Пиксанова и О. Н. Цехновицера.
1940. С. 272. С. 270).
520
В. Я. КИРПОТИН
«подъемов» Достоевского, которых насчитывает четыре: «Первый —
"Бедные люди", второй — "Мертвый дом", третий — "Преступление
и наказание", четвертый — "Дневник писателя". Конечно, всюду
это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что он вполне
высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы и не дала
нам увидеть, может быть, гораздо более гармонических и ясных
произведений» (275).
В личном общении и в письмах Страхов, видимо, смягчал свои
приговоры. «Ваш "Идиот", — писал он Достоевскому в марте 1868
года, — интересует меня лично чуть ли не больше всего, что Вы писали.
Какая прекрасная мысль!.. Вы идете блистательно»*. Не следует,
однако, забывать, что слова эти относятся не ко всему роману, а
только к первой части, в которой еще не фигурирует Евгений Павлович
Радомский. По поводу «Бесов» (которые Страхов очень одобрял как
памфлет против революции) он, однако, не удержался и написал
Достоевскому (12 апреля 1871 года):
«Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей
Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами
однообразен...
Но очевидно же... Вы загромождаете Ваши произведения, слишком
их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы
действовали сильнее. Например, "Игрок", "Вечный муж" произвели
самое ясное впечатление, а все, что Вы вложили в "Идиота", пропало
даром. Этот недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими
достоинствами. Ловкий француз или немец, имей он десятую долю
Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы
первостепенным светилом в Историю Всемирной Литературы.
И весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить
творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни
сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Простите, Федор
Михайлович, но мне все кажется, что Вы до сих пор не управляете
Вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию
на публику...» **.
Но как бы то ни было, в конце концов Достоевский раскусил
Страхова — и лицемерие, и ханжество, и двуличие, и неискренность
его, постиг в нем много больше, чем нам известно, потому что не все
из частных и сложно переплетенных личных взаимоотношений
отражается в документе, оставляет след на бумаге. Достоевский добивался
* Шестидесятые годы. С. 258, 259.
** Там же. С. 271.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 521
постоянного сотрудничества Страхова в «Гражданине», но и терзал
себя сомнениями: «Да и что может сказать этот сухощавый духом...
но не телом человек? Хотя и толстый телом человек?» (НД, 371).
Итоговый приговор Страхову Достоевский произнес в записной тетради
1876-1877 года, не подбирая и не шлифуя слов, как пишут для себя,
в дневнике, не рассчитанном на публикацию. <...>3
Что-то произошло еще добавочное во взаимоотношениях между
Достоевским и Страховым; Достоевский, видимо, еще что-то узнал,
что окончательно раскрыло ему глаза на его друга-завистника, друга-
недруга. «Он у меня обедал, я его кормил...» *, — так пишут, узнав
об измене, о предательстве человека, считавшегося или
прикидывавшегося другом. Страхов как тип встал перед Достоевским в новом,
более обнажающем свете. Все прежние несогласия, споры, критики,
расхождения показались ему недостаточными, у него возникла
потребность по-новому «вгрызться» в тип, представляемый Страховым.
Намерение «...больше потом поговорить об этих литературных типах
наших» содержит в себе не только самообязательство перед будущим,
здесь есть и некая неудовлетворенность уже сделанным — на что не
обращалось до сих пор внимания.
2
Страхов
как прототип Евгения Павловича Радомского
В первый раз Достоевский воспользовался личностью Страхова
как прототипом литературного образа в 1868 году, в романе «Идиот».
Николай Николаевич Страхов — прототип Евгения Павловича
Радомского, как это и будет доказано в дальнейшем изложении. Пока лишь
отметим: «их надо обличать и обнаруживать неустанно» означает,
что Достоевский с течением времени решил, что в «Идиоте» он был
слишком сдержан, что тип, знаменуемый именем Страхова, требует
более резкого обозначения, более ясного осудительного, сатирического
отношения.
Евгений Павлович Р., Евгений Павлович Радомский появляется
в романе Достоевского «Идиот» довольно поздно. Его вводит в круг
действующих лиц князь Щ., жених Аделаиды Ивановны Епанчиной.
Это был, представляет его Достоевский, «человек еще молодой, лет
двадцати восьми, флигель-адъютант», писаный красавец собой,
«знатного рода», человек остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного
образования и какого-то уж слишком неслыханного богатства». Евгений
* Неизданный Достоевский. С. 371.
522
В. Я. КИРПОТИН
Павлович заинтересовался Аглаей. Он стал одним из претендентов
на ее руку — настолько серьезным, что Епанчины отложили из-за него
предположенную было поездку за границу.
Евгений Павлович относится к числу второстепенных персонажей
романа.
В «Идиоте», как и в других романах Достоевского, сюжет, да и все
повествование держится на исключительных персонажах, на «типах,
чрезвычайно редко встречающихся в действительности целиком»,
но которые зато «почти действительнее самой действительности».
В одном месте Достоевский счел себя вынужденным объясниться,
почему он все же при этом вводит в повествование людей обыкновенных:
ординарные люди — необходимое звено в связи житейских
обстоятельств; они придают правдоподобие всему рассказываемому. Однако
бывают второстепенные персонажи, которые несут на себе
значительную смысловую нагрузку. Во всяком случае, добавлял он, «писателю
надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже
и между ординарностями».
Прагматически-фабульное значение Евгения Павловича в цепи
«житейских событий» романа раскрывается довольно просто. Настасья
Филипповна считает себя недостойной стать женой Мышкина. Сердцем
уловила она все растущее влечение князя к Аглае. Вообразив, что
Евгений Павлович стал препятствием для Мышкина, она в порыве
бесконечного самоотвержения решилась на компрометирующий скандал,
который сделал бы невозможным сватовство Радомского. Отрекаясь
от всего личностного, она отдает душу свою на позор, лишь бы
устранить соперника, вставшего будто бы между князем и Аглаей. В
эпизоде этом роль Евгения Павловича ограничена: он дает Достоевскому
возможность глубже и реальней раскрыть картину смятенных чувств
Настасьи Филипповны.
Однако значение Евгения Павловича в романе не исчерпывается
этой служебной функцией. Достоевский нашел интересные и
поучительные оттенки, вводящие образ Евгения Павловича в более глубокие
смысловые пласты романа. Он и сам подчеркивал «насущное» значение
истории с флигель-адъютантом.
Перечень достоинств, свойств, признаков, которыми Достоевский
наградил Евгения Павловича, кажется, проводит непроходимую
границу между этим персонажем и реальным Николаем Николаевичем
Страховым, литератором из семинаристов, чиновником по ведомству
просвещения, не отличавшимся ни особым достатком, ни особой
красотой и тем более великосветскими манерами и привычками.
Однако все определения, которыми Евгений Павлович
рекомендован читателю, остаются как бы висеть в воздухе, кроме одного:
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 523
для его сюжетной роли особый вес приобретают слова: «Человек...
чрезмерного образования» (заметим, что А. Долинин подчеркивает
«обширную эрудицию» Страхова, а его самого называет «эрудитом»*).
Евгений Павлович участвует в важных идеологических обсуждениях
и спорах, характеризующих его самого и помогающих определить
идейные позиции других действующих лиц, в первую очередь князя
Мышкина, Евгений Павлович начинает охотно и много
высказываться, когда возникают эпизоды с Бурдовским и в особенности
с Ипполитом Терентьевым, когда в действие романа вступает
«нигилистическая» молодежь. «Нигилизм» — его конек. Причиной всех
отрицательных явлений, всех бед и несчастий современной русской
действительности Евгений Павлович считает «нигилизм». Он явно
повторяет в этом кардинальном вопросе Страхова, который с
завидной последовательностью с начала шестидесятых годов и до конца
жизни, о чем бы ни писал и о чем бы ни говорил, всегда поворачивал
против нигилизма. «Корень зла — нигилизм...» — твердил он всю
жизнь, — «зараза безумных и вредных понятий, проникающая всю
нашу умственную и нравственную атмосферу» **.
Евгений Павлович, как и Страхов, считает первоучителями
нигилизма в России Чернышевского, Писарева и их сторонников. По
условиям цензурным и по условиям такта Достоевский в романе,
печатавшемся в 1868 году, не мог назвать имени Чернышевского. Однако
его Евгений Павлович в довольно ясном намеке соотносит взгляды
Ипполита со взглядами сосланного на каторгу Чернышевского:
«— Я только хотел спросить вас... господин Терентьев, —
обращается Евгений Павлович к Ипполиту, — правду ли я слышал, что
вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с
народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же
за вами пойдет?
— Очень может быть, что говорил... — ответил Ипполит, как бы
что-то припоминая... — Что же из этого?
— Ничего ровно: я только к сведению, чтобы дополнить».
Завершающая реплика сказана как бы следователем или даже
прокурором, уточняющим обвинительный акт против молодежи, «перво-
совратителями» которой были Чернышевский, «Современник», вся
его партия. На Чернышевского намекают слова о четверти часа,
достаточных, чтобы увлечь за собой народ, — его-то и припоминает
Ипполит.
* Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 308.
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. СПб., 1883.
С. 210, 206.
524
В. Я. КИРПОТИН
Об этих пятнадцати или десяти минутах всю жизнь помнил Страхов.
Он не забыл упомянуть о них в своей итоговой статье о нигилизме (так
и озаглавленной «Нигилизм»), написанной в 1881 году: «Мужикам,
которым (как было напечатано лет двадцать назад в одном журнале)
в десять минут разговора умный человек мог надеяться вполне
раскрыть их истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми
и упорными...»*.
Евгений Павлович, как и Страхов, causeur — он легко овладевает
разговором («проклятый... болтун», — называет его в сердцах Лизавета
Прокофьевна), но разговоры его иногда становятся в тягость, потому
что о кровных, о роковых вопросах он «говорит слишком весело,
говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как
будто и шутит». Манера эта точно воспроизводит манеру Страхова:
вспомним приведенную раньше характеристику Б. В. Никольского:
уклончивый Страхов старался скрасить свои высказывания «шуткой
и смехом», охотно «подтрунивая» над обсуждаемой темой.
Евгений Павлович, как и Страхов, как и славянофилы, относится
отрицательно к русским либералам западнического толка и русским
социалистам из разночинцев, к системам идей, как он выражается,
«помещичьим или семинарским». Методология его критики, честь
открытия которой он приписывает себе и которой он часто
пользовался, состоит в различении частных случаев от общих оснований, или
частных авторитетов от авторитетов общих. Мысль его сводится к
следующему: существуют ценности, которые в реальной действительности
иногда подвергаются помрачнению, порче; кто признает авторитет
незыблемой ценности, тот может критиковать то, что ее искажает,
при одном, однако, условии, что не будет затрагивать первоначального
авторитарного принципа.
В первый раз к различению авторитетов частных и авторитетов
общих Страхов прибегнул в софистических целях в разгар полемики
1861-1862 годов, дабы «посрамить» ненавистных ему Чернышевского
и Писарева. «...Одна из отличительных черт настоящей (то есть
теперешней. — В. К.) литературы есть именно отрицание общих
авторитетов, — утверждал он. — Например, отвергается не просто Пушкин
или другой поэт, а отвергается поэзия вообще; отвергается не
просто Гегель, а философия вообще; отвергается не просто Гизо, а вся
история и т. д. Разница между таким отрицанием общего авторитета
и отрицанием какого-нибудь частного авторитета чрезвычайно
большая. Частный авторитет если отвергается, то должен быть отвергаем
не иначе, как во имя будущего... но у нас, в литературе, дело идет
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. С. 224.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский 525
совершенно наоборот. Частный авторитет не признается потому, что
отвергается общий».
По софистическим выкладкам Страхова Чернышевский,
Добролюбов, Писарев и их сторонники не имели ни общих идеалов, ни общего
миросозерцания. В своем «мрачном и жестоком» азарте они-де
разрушали «в самом корне величайшее счастье нашей человеческой
жизни» — «добро», «истину», «красоту»*. Они отрицали, уверял
Страхов, не определенный переживший себя строй, а историю вообще;
они ненавидели не самодержавие, не крепостничество, а Россию как
таковую и т.д., и т.д.
Придавая своей тактике борьбы с революционными демократами
преувеличенное значение, Страхов неоднократно хвастал. «Я
убежден...— писал он, — что я открыл корень заблуждений "Современника"
и "Русского слова" и позволяю себе гордиться открытием, столь
важным в истории современной отечественной словесности»; «... Я указал
на то, что "Современник", поддерживая свои идеи, доходит до
отрицания общих авторитетов, например, поэзии, истории, философии,
литературы» и т. д. **
Когда Евгений Павлович «приписывает себе и даже одному себе»
открытие основного заблуждения «русских либералов», в том числе,
значит, и Чернышевского, Писарева и их лагеря вообще, то он явно
повторяет похвальбу Страхова. «Я вам, господа, скажу факт, —
разглагольствует Евгений Павлович прежним тоном, то есть как будто
с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время чуть не смеясь,
может быть, над своими же собственными словами, — факт,
наблюдение и даже открытие которого я имею честь приписывать себе, и даже
одному себе; по крайней мере об этом не было еще нигде сказано или
написано». Об этом было, однако, сказано, написано и напечатано
Страховым во «Времени», и тирада эта становится оправданной и
приобретает свой истинный смысл лишь в том случае, если именно Страхов
послужил прототипом для Евгения Павловича.
Страхов очень гордился своим «открытием». И Достоевский
использовал это «открытие» для характеристики созданного им персонажа,
включая чувство самоудовлетворения и гаерское шутовство,
долженствующие прикрыть возможное замечание, что предложенный тезис
является общим местом и если и есть в нем что-либо новое, так только
софистическое применение.
* Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865. СПб., 1890.
С. 21,22.
** Там же. С. 23, 144.
526
В. Я. КИРПОТИН
В романе «Идиот» в отношении к Ипполиту, в оценке ищущей
молодежи князем Мышкиным и Евгением Павловичем отразились разные
позиции Достоевского и Страхова.
Страхов вслед за славянофилами отрицал и осуждал борьбу за право:
это, мол, на Западе люди искали прав, русские же все свои упования
возлагали-де на любовь, на добровольную и индивидуальную
милостыню богатых бедным. И князь у Достоевского учил «единичному
добру», придавая огромное, быть может, решающее значение
конкретной помощи каждому отдельному страдальцу; но князь понимал
под единичным добром («милостыней») ничем не ограниченное
самопожертвование, доходящее до отвержения во имя другого самой личности
своей. Страхов же и соответственно Евгений Павлович в романе — оба
они как тот христианин, который дает милостыню в два рубля, когда
надо раздать все имущество («Братья Карамазовы»), их душевная
щедрость — это щедрость того сердобольного чиновника, который подал
безнадежно погибавшей Катерине Ивановне три рубля («Преступление
и наказание»).
«Как западный человек вообще, — критиковал Страхов Дж.-С. Милля, —
тот придает правам гораздо больше значения, чем мы, русские. Для него
право — главный, существенный вопрос, которому подчиняется все
остальное. На всякое дело он смотрит с этой стороны; лишение права для него
есть высшее зло, какими бы выгодами это лишение ни сопровождалось,
а обладание правом есть высшее благо, к которому должны сводиться все
цели и способности человека». Логическое завершение всякой борьбы
за право, продолжает Страхов, это насилие, индивидуальное или
общественное, это революция: «Революция 1789 года была совершена во имя
прав человека» *, как почти столетием позже Парижская коммуна.
В «Идиоте» Евгений Павлович, отчитывая Ипполита, который
поддерживал искавшего своих прав Бурдовского, полностью повторяет
эту аргументацию Страхова: «...все, что я выслушал от ваших
товарищей, господин Терентьев, и все, что вы изложили сейчас... сводится,
по моему мнению, к теории восторжествования права, прежде всего
и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть,
прежде исследования, в чем и право-то состоит?.. От этого дело может
прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака
и личного захотения... Остановился же Пру дон на праве силы... От права
силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского4
недалеко». Точно так в «Письмах о нигилизме», написанных после
1 марта 1881 года, Страхов подводил итоги: «Нигилизм есть движе-
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая. СПб., 1882.
С. 178, 179, 217.
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский
527
ние, которое, в сущности, ничем не удовлетворяется, кроме полного
разрушения... Самые смелые и ожесточенные нигилисты давно стали
выходить... на путь злодейств» *.
3
Отношение Достоевского к Страхову
Понимал ли Страхов, что в образе Евгения Павловича Радомского
отразился он сам с его «почти» совпадающими взглядами с
Достоевским и с непреодолимым в то же время средостением между
ними? Не мог не понимать, хотя, может быть, и делал вид, что
ничего не замечает. Напомним еще раз: похвала «Идиоту»
прозвучала в письмах и вообще в писаниях Страхова один раз — в марте
1868 года. Но Страхов знал тогда только первые главы романа,
напечатанные в январе и в феврале. Последующие главы поднимали
все выше и выше и художественное, и философское, и общественное
значение нового произведения Достоевского. С чего же это Страхов
вдруг изменил свое отношение к «Идиоту», вычеркнув его из списка
«подъемов», достижений Достоевского? Да потому, что он узнал себя
в Евгении Павловиче. Достоевский щадил своего мнимого
единомышленника. Достоевский трансформировал в художественный образ
преимущественно черты мировоззрения Страхова, он давал
сюжетную жизнь столкновениям идей и почти не воспользовался
характерными особенностями Страхова как бытового человека. Искусный
художник, Достоевский придал образу Евгения Павловича черты
внешней привлекательности, избегая карикатуры, прямой сатиры
(однако маскирующие, украшающие черты, которые Достоевский
придал образу Евгения Павловича, — знатность, красота,
сердцеедство — могли быть восприняты Страховым по некоторым
особенностям его личности как скрытая, но обидная ирония). Как нужно
вдумываться и вживаться в образ Мышкина, чтобы понять, что за ним
стоит Христос (князь-Христос), так нужно вдумываться и вживаться
в образ Евгения Павловича, чтобы понять, что это современный,
XIX века, книжник и фарисей, самодовольный, благополучный
духовный мещанин.
Мещанство Радомского выразилось в его «разумной и ясной» («с
чрезвычайной — даже психологией»), снижающей трактовке грандиозной
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. СПб., 1883.
С. 215, 224.
528
В. Я. КИРПОТИН
и трогательной эпопеи Мышкина. Радомский использован в романе
для показа преломления мирообъемлющего, философско-этического
содержания «Идиота» в обыденном и даже пошлом сознании. В
самодовольной критике Евгения Павловича, «как по пальцам»
разбирающего князя Мышкина, князя-Христа, великий смысл романа-трагедии
снижен, вульгаризован и — утрачен*. Мещанство Евгения Павловича
сквозит и в его благополучной судьбе в неблагополучном мире; у него есть
«сердце», у него много «хороших черт», он ищет для себя честного и
уютного счастья, и кончит он (уже за пределами романного времени) после
неудачных притязаний на руку Аглаи — со всем своим
флигель-адъютантством, богатством, красотой, образованностью и умом — женитьбой
на хорошенькой и молоденькой, непритязательной Вере Лебедевой.
Достоевский писал «Идиота» после того, как прерванные было
после крушения «Эпохи» отношения его со Страховым
возобновились. Страхов был шафером на его свадьбе. Живучи за границей
в одиночестве, Достоевский начал довольно интенсивную переписку
со Страховым. В этих письмах Достоевский говорит много приятного
Страхову о нем самом, о его статьях, укрепляет в нем веру в его силы.
Но все-таки преобладают в них деловые — денежные и бытовые —
поручения. Наибольшей степени похвальные выражения Достоевского
в адрес Страхова достигают в период писания «Бесов», когда перед ним,
как больная совесть, мучительно вставал образ Белинского, от которого
он пытался освободиться пароксическими усилиями. Нужда, вечные
поиски денег все сильнее связывали Достоевского с «Русским
вестником» Каткова. «Я-то уж нигде и ничем не связан, кроме долгов», —
горестно отмечал он {Достоевский Ф. М. Письма. Т. П. М.; Л.: ГИЗ, 1930.
С. 335). Страхов сотрудничал тогда в «Заре», недолговечном журнале,
издававшемся В. В. Кашпиревым. Достоевский надеялся, что «Заря»
возобновит и укрепит направление усопшего «Времени». Он наставляет
Страхова, как вести журнал, уговаривает, несмотря ни на какие
трудности, не расставаться с «Зарей». Словом, переписка поддержала и даже
укрепила отношения между Достоевским и Страховым. Она сделала
возможным возобновление довольно интенсивного личного общения
между ними после возвращения Достоевского из-за границы.
Как же возникла тогда столь резко негодующая, столь беспощадная
запись в тетради 1876-1877 годов?
* Достоевский и вообще-то любил оттенять высокое значение своих повествований
толкованиями, свойственными эмпирическому сознанию. См. об этом в книге
«Разочарование и крушение Родиона Раскольникова» (М., 1970. С. 429-431).
Он прибегал к этому приему уже в сороковых годах в «Хозяйке» (см. книгу
В.Я. Кирпотина «Ф.М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859)» (М., 1960.
С. 306-307)).
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский
529
В Страхове ничего не изменилось, он остался таким же уклончивым
и двуличным, каким был, так и не сумев оценить гения Достоевского,
его значения для русской и всемирной литературы. Он мог представить
то, чего не было, как непреложный факт, и мог умолчать о том, что
было, если последнее почему-либо не соответствовало его
умонастроениям. Он мог говорить в глаза одно, за глаза другое. По-видимому,
до Достоевского дошло, что Страхов распространяет о нем гадости.
Какого рода были эти гадости, можно представить себе из самой записи
Достоевского. Напомним: «...несмотря на свой строго нравственный
вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную
грубо-сладострастную пакость готов предать всех и всё, и гражданский долг,
которого не ощущает, и родину, до которой ему все равно, и идеал, которого
у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой
коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать».
Слова эти вполне могли быть вызваны сплетней, которую Страхов
приписывал Висковатову. Распространяя ее, Страхов не щадил не только
своего друга Достоевского, он делал невозможной их совместную работу,
он чернил идеал, который, на словах по крайней мере, он с ним разделял.
Достоевский был поражен. Достоевский понял, что ханжество
Страхова, его «почти согласие» с идеалом более опасно, чем
открытая вражда. С фарисейскими оговорками, сводящими сущность дела
на нет, со скрытым и трусливым предательством труднее бороться,
чем с открытой ненавистью. Достоевского взорвало. И он внес в свою
рабочую тетрадь известную нам запись о Страхове. Это была не просто
дневниковая запись для памяти; она была сделана художником,
вознамерившимся переосмыслить тип, воплощенный в Евгении Павловиче,
изобразить его без смягчающих красок, с той беспощадно
концентрированной правдивостью, на которую он только был способен.
Анна Григорьевна Достоевская предоставила в распоряжение
H. H. Страхова, работавшего над биографией покойного писателя, все
его бумаги. В какое-то время он, конечно же, натолкнулся на эту запись.
Опытный литератор, он понял, какое значение она имеет для его
репутации, для памяти о нем в потомстве. Запись наслаивалась на образ
Евгения Павловича Радомского и придавала ему значительно более
зловещий смысл, чем это представлялось ему при первоначальном
чтении романа. Страхов забеспокоился. Он решил принять свои меры
и написал письмо к Толстому, отлично понимая, что оно не пропадет,
займет свое место в истории.
Страхов зафиксировал в письме к Толстому то, о чем сплетничал
устно. Все же по опубликовании оно произвело впечатление шока.
Поступок Страхова нуждался в объяснениях.
530
В. Я. КИРПОТИН
<...> Местью, личной обидой объясняет письмо Страхова к Толстому
и Г. М. Фридлендер*.
Однако Страховым руководила страсть большая, чем простая обида
и простая месть. Как литератор он чрезвычайно беспокоился о своем
влиянии, о своем имени, о своей репутации в потомстве. Как ни
недооценивал он Достоевского, он все-таки понимал, что значит в веках
свидетельство Достоевского. Он и постарался «подмочить», ослабить
или даже парализовать его клеветническим письмом, адресовавшись
через Льва Толстого к будущим поколениям. Странно, однако, что
некоторые историки литературы считают слова Страхова более
достоверными, чем свидетельство Достоевского!
История взаимоотношений Достоевского со Страховым и
правильное в связи с этим осмысление образа Евгения Павловича Радомского
имеют большое значение для изучения и творчества и биографии
великого писателя.
* Фридлендер Г. М. Наука о Достоевском сегодня // Русская литература. 1971.
№3. С. 16.
«
И.Л.ВОЛГИН
Еще одно обвинение против Страхова
<Фрагмент>
10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу
молодого Владимира Соловьева (это была седьмая из цикла в одиннадцать
лекций — «Чтения о Богочеловечестве»*), Достоевский, как
вспоминает Анна Григорьевна, спросил ее:
«— А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай
Николаевич (Страхов)? И сам не подошел, как подходил всегда, а когда
в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то
заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?
— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. —
Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: "Не забудьте
воскресенья", — он ответил: "Ваш гость"».
Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено
обоими супругами.
«Меня несколько тревожило, — продолжает Анна Григорьевна, —
не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для
нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень
дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я
запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу».
Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа
любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, она могла чем-то
обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим
собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности
* Опубликовано: Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 97-112. На лекцию
Л. Н. Толстой был приглашен H. H. Страховым. Впечатление от нее было
безотрадным: «Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть...
и удрал» (цит. по: Эверлинг С. Н. Три вечера у Льва Толстого // Дни. Берлин,
1923. № 190. 24 июля).
532
И.Л.ВОЛГИН
удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует
подкреплять хорошим столом*.
...Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришел обедать,
Анна Григорьевна прямо спросила его, в чем дело.
«— Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не
только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев
Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему
я ото всех и сторонился.
— Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением
воскликнул Федор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал!
Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек
этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть
посмотрел на него!
— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай
Николаевич.
— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело
увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть
человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай
Николаевич, что вы его мне не указали!»
Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьева (тема
которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать
первый толчок их беседе) Толстой предпочел сохранить инкогнито.
Это вполне правдоподобно**. Но вот вопрос: сказал ли Страхов
Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит
ли, что после этого сообщения Толстой отказался от знакомства?
Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с
автором «Войны и мира» (это была их единственная встреча). «Я всегда
жалею, — заметил Толстой, — что никогда не встречался с вашим
мужем...»
«А как он об этом жалел! — воскликнула в свою очередь Анна
Григорьевна. — А ведь была возможность встретиться — это когда
* Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужим хлебом-солью, если бы этот
момент не был обыгран в указанной записи Достоевского. Ср. приводимый Анной
Григорьевной отзыв о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в
сущности, был Страхов? Это... тип "благородного приживальщика", каких было много
в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского,
а по зимам ходит по определенным дням обедать к знакомым и переносит слухи
и сплетни из дома в дом » 1.
г* Не совсем ясно, был ли Толстой на лекции с одним Страховым. Ср. его письмо
к A.A. Толстой: «Я вспомнил, что нынче лекция Соловьева, и лекция, как мне
говорили, самая важная, и я еду на нее. Мне кажется, что вы хотели послушать
его. Не поедете ли вы?» (письмо от 10 марта 1878 года, Петербург).
Еще одно обвинение против Страхова
533
вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном городке. Помню,
Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему,
что вы на лекции. «Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой
муж, — если уж не пришлось бы побеседовать».
Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна
Григорьевна так передает его слова:
«Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай
Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был
для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого
я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить! »
Толстой удивлен и огорчен одновременно. Его трудно заподозрить
в неискренности. Страхов, видевший Достоевского (и холодно с ним
поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже
если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого,
он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы
«переиграл» саму судьбу — и уготованная ею (надо думать, не без усилий!)
встреча в последний момент сорвалась.
Чем же руководствовался Страхов?
Знакомство (тем более дружба) с Толстым — немалый моральный
капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал
ему вес и в собственных глазах, и в глазах окружающих. Страхов как бы
представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При
отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был
единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы
какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить)
эту монополию. Вместо страховских рассказов стал бы возможен
прямой диалог (личные встречи, переписка и т.д.). Страхов утратил бы все
те почти неощутимые, но не лишенные приятности выгоды, которые
он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы
обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего
Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную
и не вполне «адекватную» информацию.
Этого Страхов боялся и не желал. Но только ли по его милости не
состоялось свидание двух самых значительных людей России?
К этому вопросу нам еще предстоит вернуться.
В.А. ТУНИМАНОВ
Достоевский, Страхов, Толстой
(лабиринт сцеплений)*
Статья первая
От Достоевского к Толстому
Критик и философ Николай Николаевич Страхов начиная с 70-х
годов и вплоть до смерти в 1896-м был преданным другом и
незаменимым литературным (в широком смысле) помощником и
советником Льва Николаевича Толстого, который высоко ценил острый ум
и эстетическое чутье соратника Достоевского и Аполлона Григорьева
по почвенническим журналам середины века «Время» и «Эпоха».
Незадолго до ухода из Ясной Поляны Толстой записывает в своем
дневнике 26 октября 1910 года: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы,
Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет»**.
Никакого отношения эта запись к другим горестным заметам,
отражающим кульминационный момент семейной драмы, равно и к
проектам злободневных, неизбежно тенденциозных статей не имеет.
Грушенька — это, видимо, Аграфена Александровна Светлова, героиня
романа «Братья Карамазовы» (ее фамилию, появляющуюся где-то
в конце, читатель вполне мог и не заметить, она воспринимается как
приложение к ласковому и возбуждающему чувственность
уменьшительно-ласковому имени)***. Удивительное, странное сочетание фамилии
* В тексте статьи даются ссылки на Полное собрание сочинений
Достоевского в 30-ти т. (1972-1990) и юбилейное издание сочинений Л. Толстого
в 90 т. (1935-1958).
* В тот же день Толстой писал В. Г. Черткову о разных сновидениях, среди которых
было и «прелестное нынешнее, художественное», и о намерении их записать.
* Впервые высказал предположение о связи Грушеньки дневниковой записи
Толстого и героини романа Достоевского А. П. Сергеенко, попытавшийся и
реконструировать замысел Толстого: «"Грушенька" — по всей вероятности, имя
будущей героини, взятое из романа Достоевского "Братья Карамазовы", который
Лев Николаевич в те дни продолжал читать <...> Возможно, что содержание
рассказа состояло бы в том, что Грушенька повлияла бы на Страхова своей
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 535
публициста и критика достаточно строгих консервативных взглядов,
с антинигилистических и позитивистских позиций освещавшего,
в частности, так называемый женский вопрос, и имени
обольстительной мещанки с весьма сомнительной репутацией — с точки зрения
Катерины Ивановны, Ракитина, Миусова, большинства обитателей
Скотопригоньевска она развратная и наглая («царица наглости»)
«гадина», «мерзавка», «тварь», «эта женщина», «скверного поведения
женщина», «публичная девка», «шельма», «тигр», «беспутная девка»,
«содержанка купца Самсонова».
Как свидетельствует А. П. Сергеенко, сразу же после ухода Толстого
из Ясной Поляны он в гостиничном номере монастыря Оптиной
пустыни на узеньком листке бумаги записал четыре художественных
сюжета, которыми предполагал заняться в будущем. Среди них и этот
«чудный» сюжет: «РоманСтрахова. Грушенька — экономка»*.
Собственно, это в самом общем, неразвернутом виде набросанная
мысль произведения — только чуть-чуть обозначенный замысел
Толстого-художника; уже не оставалось времени обдумать его, очень
скоро Толстому будет совсем не до «художества». Сюжет и
неожиданный, и загадочный. И почему этот, как сказал бы Достоевский,
«фантастический» сюжет представлялся Льву Николаевичу «чудным»,
мы не знаем; по сути, ведь не рассказано содержание сна — названы
лишь его персонажи. Но ясно, что сюжет такого сна не был случайным,
что в подноготной сна долгие и очень разные по мыслям и
тональности размышления о Достоевском, Страхове, их необыкновенно
сложных отношениях, об исповедальных признаниях критика в письмах
Толстому, о романе «Братья Карамазовы», который Толстой читал
дважды, в последний раз незадолго до ухода и смерти, почти на одре.
Возможно, это последнее чтение и разбудило воспоминания о Страхове
и его бесконечной тяжбе с Достоевским, неоднократно захлестывавшей
любовью к жизни, веселостью, эмоциональностью, широтой натуры, а Страхов
облагораживающе воздействовал бы на нее своими умственными запросами»
(Сергеенко А. П. Последние сюжеты // Литературное наследство. Лев Толстой.
1961. Т. 69. Кн. 2. С. 288). Вполне резонное предположение о влиянии совсем
свежего чтения романа Достоевского на замысел Толстого, хотя вряд ли сюжет
произведения представлялся писателю столь идиллическим и «головным».
* Сергеенко дает такую расшифровку записи: «Очевидно, теперь предполагалось
сделать Грушеньку заведующей всем домом одинокого Страхова и на этой почве
показать возникновение и развитие их каких-то взаимоотношений, что и
должно было составить, по словам Льва Николаевича, "прелестное" художественное
произведение» (Там же. С. 291). Ничего очевидного в записи нет — можно лишь
предположить, что основой рассказа стала какая-то история, рассказанная
Страховым Толстому, соединившаяся с сюжетом сна и впечатлением от чтения
романа Достоевского. И это, разумеется, всего лишь гипотеза.
536
В. А. ТУНИМАНОВ
письма критика тошнотворной волной запоздалых, диких, больных
обвинений-признаний; само собой вспомнились и собственные суждения
о Достоевском — писателе и частном человеке. И все это причудливо
отразилось в октябрьском сне Толстого. Небольшие записи, но за ними
сумасшедший лабиринт сцеплений разных сюжетов — литературных
и житейских.
В сознании Толстого неразрывно переплелись Достоевский и
Страхов. Этому активно способствовал критик, довольно регулярно
сообщавший Толстому не только о литературных занятиях и замыслах
Достоевского, но и о событиях в семейной жизни писателя — о ней
Страхов был хорошо информирован, находясь в добрых отношениях
с Анной Григорьевной. В несохранившемся письме от конца
августа — начала сентября 1871 года Страхов передавал Толстому какие-
то тревожные новости о Достоевском. Но уже в следующем письме
(от 12 сентября) он постарался развеять тревоги: «Повидавшись с ним
несколько раз, я увидел, что он вовсе не ослабел, и что перемена,
которая мне показалась страшною, в сущности имеет какой-то очень
хороший характер. Теперь у него прекрасная семья, двое маленьких
детей; есть при том надежда, что он, может быть, избавится от житья
заработком. Словом — будущее очень светло, и я, вместо того чтобы
жалеть о нем, стал радоваться»*. Но о романе, над которым тогда
усердно работал Достоевский, как и вообще о художественной манере
писателя, Страхов отзывается с какой-то кислой гримасой,
недвусмысленно давая понять, что многое в произведениях Достоевского
ему чуждо: «"Бесы", очевидно, представляют все его достоинства
и все его недостатки, возведенные в квадрат, если не в куб. Он работает
над этим романом добросовестнейшим образом; а выйдет, кажется,
чудище, которого никто не поймет»**. О том же, но гораздо деликатнее
и тоньше писал Страхов и Достоевскому; письмо содержало и весьма
лестные для автора «Бесов» слова: «Очевидно — по содержанию и
разнообразию идей Вы у нас первый человек и сам Толстой сравнительно
с Вами однообразен».
Эпистолярный, составивший два больших тома, диалог «Толстой —
Страхов» начался несколько раньше. 18 марта 1870 года Толстой
под впечатлением только что прочитанной статьи H.H. Страхова
«Женский вопрос» (Заря. 1870. № 2), представляющей собой
подробный, с сильным, но не фельетонным полемическим уклоном,
аналитический разбор книги английского философа-позитивиста
* Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки / Ред. A.A. Донсков.
Составители Л. Д. Громова, Т. Г. Никифорова. Ottava, 2003. Т. 1. С. 10-11.
** Там же. С. 11.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 537
Д.С. Милля «О подчиненности женщин», пишет ему по поводу этой
явно взволновавшей его критической работы. Некоторые положения
статьи вызвали возражения Толстого, но многое показалось важным
и значительным. Видимо, особенно привлекло внимание Толстого
следующее место в статье, близкое его видению вопроса: «Отношения
между полами, эти таинственные и многозначительные отношения, —
источник величайшего счастья и величайших страданий, воплощение
всякой прелести и всякой гнусности, настоящий узел жизни, от
которого существенно зависит ее красота и ее безобразие, — эти
отношения упущены из виду Миллем и не внесены им в женский вопрос.
Это значит — философ выпустил из рассматриваемого явления самую
существенную его сторону и думал, однако же, понять и объяснить
явление. <...> Все рассуждения Милля ходят только вокруг да около;
его скептицизм и неправильные попытки приложения
экспериментального метода всего больше и яснее свидетельствуют об одном — о слепоте
к самым ясным явлениям, о глухоте к самым громким требованиям
человеческой природы. Женский вопрос, так, как понимает его Милль,
вытекает не из сущности отношений между женщинами и мужчинами,
а из источников совершенно посторонних» *.
Толстой, отчасти возражая Страхову, а заодно корректируя и
дополняя его статью, оспаривает существование фантастических,
придуманных критиком «бесполых женщин» и пишет о необходимости
в современном обществе «несчастных блядей»: «Эти несчастные всегда
были и есть и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать,
что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос,
объявив прощение одной из них. <...> Допустить свободную перемену жен
и мужей (как этого хотят пустобрехи либералы) — это тоже не входило
в цели Провидения по причинам ясным для нас — это разрушало семью.
И потому по закону экономии сил явилось среднее — появление магда-
лин, соразмерное усложнению жизни. <...> Мне кажется, что этот класс
женщин необходим для семьи, при теперешних усложненных формах
жизни»**. Взгляд парадоксальный, но не столь уж оригинальный —
H.H. Гусев справедливо полагал, что эти суждения заимствованы
из сочинения Артура Шопенгауэра «О женщинах».
Позднее Толстой от точки зрения на магдалин как на специфическое
сословие, исполняющее полезные функции в обществе, отказался.
Да и Страхову это письмо не отослал, возможно почувствовав, что
несколько неудобно и экстравагантно начинать переписку с разговора
о пользе для семейной жизни «несчастных блядей». Примечательно,
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. С. 200.
* Л. Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 2.
538
В. А. ТУНИМАНОВ
однако, что именно статья «Женский вопрос», а не критический анализ
«Войны и мира», привлекла внимание Толстого, прямо или косвенно
отразившись в целом ряде художественных и публицистических
произведений, особенно в повести «Крейцерова соната», до которой, впрочем,
тогда еще было далеко (далеко даже до «Анны Карениной»). В
частности, уже в зародыше здесь присутствует один из мотивов повести: «Тот,
кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что для женщины,
рожающей в продолжение 10,15 лет, бывает период, в котором она подавлена
трудом. Она носит или кормит; старших надо учить, одевать, кормить,
болезни, воспитание, муж и вместе с тем темперамент, который должен
действовать, ибо она должна рожать. В этом периоде женщина бывает,
как в тумане напряжения, она должна выказать упругость энергии
непостижимую, если бы мы не видали ее. <...> В этом-то периоде
представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы
неженатых кобелей, у которых нет магдалин...» *.
Обратил внимание на статью «Женский вопрос» и постоянный
читатель сочинений Страхова, журнальный коллега Достоевский.
Через шесть лет книгу Милля (и, разумеется, яркую статью Страхова)
вспомнит герой повести «Кроткая», которая невольно в нашем сознании
рифмуется с «Крейцеровой сонатой».
Достоевский в толстовском письме-прологе к эпистолярному диалогу
со Страховым не упомянут, но он, так сказать, незримо присутствует,
а по мере развертывания переписки начнет периодически мелькать.
Долгое время в письмах Страхова преимущественно как будто
случайная и не очень обязательная информация: мелочи
литературно-журнальной жизни, отчасти факты, отчасти сплетни, до которых, надо
сказать, Страхов был охоч.
Это естественно: с Достоевским Страхова связывали давние
приятельские и литературные отношения, хотя они то и дело
осложнялись и портились — вот и в середине 70-х годов произойдет
очередное охлаждение, вызванное публикацией Достоевским романа
«Подросток» в «Отечественных записках», что было воспринято
Страховым и Майковым как измена. Толстого это, однако, никоим
образом не касалось: он был далек от журнальных партий и баталий,
не сочувствовал направлению как радикальных «Отечественных
записок», так и почвеннической, консервативной «Зари» (другое дело,
что фактический редактор журнала Страхов чрезвычайно хлопотал
об участии в «Заре» Достоевского и Толстого, в чем и преуспел), а роман
Достоевского ему положительно не нравился.
* Там же. С. 2-3.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 539
Чрезвычайно важно тут сказать об одном обстоятельстве. Страхов
не только отстаивает свое право быть литературным критиком, но и
выражает обиду на то, что Толстой демонстративно не замечает цикл
его статей о «Войне и мире». А ведь он несколько раз подчеркивал
в письмах к «бесценному» и «несравненному» Льву Николаевичу:
«Лучшим своим делом я считаю все-таки мою критическую поэму в
четырех песнях — Критический разбор "Войны и мира"»*. О «поэме»
Страхова Толстой промолчал — неудобно было выражать одобрение
тому пафосу, тем восторженным эмоциональным оценкам, которые
содержались в статьях обычно сдержанного и суховатого, крайне
скупого на комплименты критика**. А по поводу литературной критики
Толстой вновь отозвался неодобрительно, но в изящно-парадоксальной
форме: «Но критика ваша любимая — это ужасное дело. Одно ее
значение и оправдание, это — руководить общественным мнением; но тут
и выходит каламбур — когда критика мелет околесную, она руководит
общественным мнением, но как только критика, как ваша, исходит
из искренней и (ernst) серьезной мысли, она не действует, и как будто
ее не было»***.
Получив такой остроумный и дипломатичный ответ, Страхов,
похоже, несколько растерялся, но, конечно, остался при своих
убеждениях, лишь на время отложив диалог о критике. Он был человеком
обстоятельным, с большим упорством и изобретательностью
умевшим отстаивать свои взгляды. В диалоге с Толстым Страхов к одним
и тем же вопросам (особенно если речь шла о щекотливых и сугубо
личных материях) возвращался и через двадцатилетний промежуток
(памятью обладал феноменальной). Толстой высоко ценил эти качества
Страхова, независимость суждений и умение деликатно, но твердо их
отстаивать. Вот и к разговору о критике Страхов вернется в 1876 году,
выслав Толстому только что изданный им том сочинений Аполлона
Григорьева. Толстой умысел Страхова, конечно, понял, но к критике
отнюдь не стал относиться лучше. С некоторым неудовольствием из-
за того, что его время хотят занять всякими пустяками, выговаривал:
«Я прочел предисловие, но — не рассердитесь на меня — чувствую,
что, посаженный в темницу, никогда не прочту всего. Не потому, что
не ценю Григорьева — напротив, но критика для меня скучнее всего,
что только есть скучного на свете. В умной критике искусства всё
* Там же. С. 138.
г* По свидетельству С. А. Толстой, статьи Страхова о «Войне и мире» (Толстой
их читал в журнале «Заря», который регулярно высылался в Ясную Поляну)
радовали писателя (Толстая CA. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 497, 498).
г* Л. Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 151.
540
В. А. ТУНИМАНОВ
правда, но не вся правда, а искусство потому только искусство, что оно
всё». Памятуя о «критической поэме» Страхова, Толстой обращается
к нему с просьбой не хвалить роман «Анна Каренина»: «Покажите
мне искреннюю дружбу: или ничего не пишите мне про мой роман,
или напишите мне только всё, что в нем дурно». И присовокупил
к просьбе грустное и резкое обобщение: «Мерзкая наша писательская
должность — развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера
хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь
понятия о своем значении и о времени упадка» *.
Страхов ответил Толстому бесподобно: «Искусство — всё, Вы
пишете; да так именно и думал Ап. Григорьев, и он один так думал.
Можно сказать, что его книга написана против критики»**. Толстой
оценил тонкость и остроумие ответа и указал на типичную ошибку
критиков вообще и тем более «близоруких», разозливших его
самоуверенными разборами романа «Анна Каренина»: «Во всем, почти
во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей,
сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль,
выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно
понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится.
Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим,
и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак
нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы,
действия, положения» ***. Этот своеобразный эстетический закон и
объясняет равнодушие Толстого к статьям великого критика Григорьева,
деятельность которого для просвещения читателей он готов признать
полезной: «...вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало
интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем критики,
то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы
излишни. Теперь же, правда, что когда 9/10 всего печатанного есть
критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали
бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении;
а постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте
сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам,
которые служат основанием этих сцеплений».
Сказано отчасти косноязычно, но точно: Толстой, так сказать,
«отступает», заодно четко формулируя главную задачу литературной
критики. И подкупающим образом извиняется перед Страховым,
уличая себя в невольной неискренности и авторской слабости: «Когда
* Там же. С. 259.
** Там же. С. 265.
*** Там же. С. 267.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 541
я перечел свое последнее унылое и смиренное письмо, я понял, что
я, в сущности, прошу похвалы, и вы мне прислали ее. И она, ваша
похвала — я знаю, искренная, хотя, боюсь, охотницкая — мне очень,
очень дорога»*.
<...> Начавшая было возникать напряженность снята. Толстой,
ценя искренность и высоту эстетических критериев Страхова, по сути,
попросил его быть постоянным советчиком и беспристрастным
рецензентом (время от времени он возобновлял свои просьбы, и тот охотно
и добросовестно исполнял эту работу). Драгоценное обстоятельство
как для Толстого, так и для русской литературы. Многие письма
Страхова к Толстому — жемчужины русской литературной критики
XIX века.
Посылал такого рода литературные письма с критическими
разборами произведений и советами Страхов и Достоевскому, но далеко
не так регулярно и с годами все реже. Достоевскому мнения опытного
и глубокого критика были весьма необходимы. Радовался, получив
одобрительные слова о «Вечном муже»: «С жадностию прочел... ваши
несколько строк одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и
приятно; читателям, как вы, я и всегда желал бы угодить и желаю угодить».
Он с плохо скрываемой обидой и ревнивым чувством наблюдал
явственно обозначившийся поворот Страхова к Толстому — ожидаемый,
но, пожалуй, слишком уж резкий. В письме к Страхову от 26 февраля
1869 года Достоевский оценивает этот уже для всех ставший очевидным
факт сдержанно и спокойно, характеризуя статьи о «Войне и мире»:
«...у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку
с писателем, приводящим его в восторг. <...> У Вас бесконечная,
непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас
знаю. Правда, прочтя статью Вашу в "Заре", я первым впечатлением
моим ощутил, что она необходима и что Вам, чтоб по возможности
высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то есть
с его последнего сочинения. <...> Ясно, логично, твердо-сознанная
мысль, написанная изящно до последней степени» (29, кн. 1, 16-17)**.
О несогласиях пока глухо, между прочим, почти в скобках: «Но кой
в чем в подробностях я не согласился». Чуть-чуть позже, в письме
от 6 апреля, похвала несколько поблекла. Выясняется, что критическая
* Там же. С. 268.
г* В дальнейшем особая расположенность Страхова к Толстому перерастет в
поклонение и обожествление. «Страхов действительно стал чем-то вроде особого
критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом,
для Толстого и о Толстом», — пишет H.H. Скатов, автор предисловия к
собранию литературных статей критика (Страхов Н. Н. Литературная критика. М.,
1984. С. 42).
542
В. А. ТУНИМАНОВ
работа Страхова «Бедность русской литературы» ему «понравилась
больше, чем статья о Толстом. Она шире будет. Но зато первая
половина статьи о Толстом — ни с чем несравнима: это идеал критической
постановки. По-моему, в статье есть и ошибки, но, во 1-х, это только
по-моему, а во 2-х, и ошибки такие хороши. Эта ошибка называется
излишнее увлечение, а это всегда делу спорит, а не вредит. Но, в
конце концов, я еще не читывал ничего подобного в русской критике»
(там же, с. 35-36).
Немного туманно, с непременными уточнениями, оговорками,
недомолвками. Вскоре Достоевский выскажется определеннее и с плохо
скрытым раздражением. Возмутили Достоевского слова Страхова:
«"Война и мир" есть произведение гениальное, равное всему лучшему
и истинно-великому, что произвела русская литература». Достоевский
готов был признать Толстого первым из современных русских
писателей, о чем еще в декабре 1868 года писал Страхову, не разделяя,
впрочем, чрезмерных его восторгов: «Вы очень уважаете Льва Толстого,
я вижу; я согласен, что тут есть и свое; да мало. А впрочем, он, из всех
нас у по моему мнению, успел сказать наиболее своего и потому стоит,
чтоб поговорить о нем» (28, кн. 2, 334). Но на этот раз Достоевский
восстал, послав гневный реприманд Страхову: «Две строчки о Толстом,
с которыми я не соглашаюсь вполне, это — когда Вы говорите, что
Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это
решительно невозможно». Гении, согласно концепции Достоевского,
Ломоносов и Пушкин, особенно Пушкин, «явившийся с гениальным
новым словом*у но никак не Толстой, «как бы далеко и высоко ни
пошел» он «в развитии уже сказанного в первый раз...» (29, кн. 1, 114).
Страхов, нисколько не оспаривая общий, незыблемый для всех
почвенников авторитет Пушкина, придерживался все-таки другого
мнения. Подчеркивал именно «безмерную высоту» эпопеи Толстого.
С пафосом, обычно чуждым ему, он писал (и кажется, впервые так было
сказано о русском романе): «Если теперь иностранцы спросят у нас
о нашей литературе, то мы не скажем им в ответ, что она подает
прекрасные надежды, что она заключает великолепные задатки, не станем
пускаться в оговорки и приводить разные смягчающие обстоятельства,
чтобы объяснить уродливость и односторонность современных наших
литературных авторитетов; мы прямо укажем на "Войну и мир", как
на зрелый плод нашего литературного движения, как на
произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого
и важно не за неимением лучших, а потому, что оно принадлежит
к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только
знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время
не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений)
543
к тому, чем мы обладаем»*. Несколько лет спустя, по поводу «Анны
Карениной», Достоевский и сам выскажется в том же духе. Но тогда
он был задет восторгами Страхова. Возможно, был задет и мыслями
критика о «составе наших художественных писателей», который
с 1868 года, после появления «Войны и мира» «получил иной вид
и иной смысл» : «Гр. Л. Н. Толстой занял первое место в этом составе,
место неизмеримо высокое, поставившее его далеко выше уровня
остальной литературы. Писатели, бывшие прежде первостепенными,
обратились теперь во второстепенных, отошли на задний план»**.
Толстой превзошел как своих сверстников, так и близких по времени
предшественников: «Он выступил на свое поприще вместе с Островским
и Писемским: он явился со своими произведениями немногим позже
Тургенева, Гончарова, Достоевского. Но между тем, как все его
сверстники по литературе давно уже высказались, давно обнаружили
наибольшую силу своего таланта, так что можно было вполне судить
о его мере и направлении, — гр. Л. Н. Толстой все продолжал упорно
работать над своим дарованием и вполне развернул его силу только
в "Войне и мире"» ***. Достоевский, Тургенев и другие вдруг
превратились в «меньшие светила, озаряющие нашу жизнь таким слабым
и неровным, а часто даже совершенно неправильным светом» ****.
Достоевский не мог не испытывать чувства горечи и обиды на
близкого литературного приятеля (и друга семьи, так сильно опечалившего
позднее Анну Григорьевну своим оскорбительным письмом Толстому)*****.
Отзывы Страхова о произведениях Достоевского в печати (да и в
письмах) были редкими и сдержанными. Исключением, пожалуй, была
только большая критическая работа о романе «Преступление и
наказание» (1867), одобренная, согласно воспоминаниям самого рецензента,
* Страхов H. H. Литературная критика. С. 351.
** Там же. С. 350.
*** Там же. С. 307.
**** Там же. С. 351. Правда, позднее в статье «Поминки по Аполлоне Григорьеве» (1889)
Страхов «уравнял» Достоевского с Толстым: «...два писателя» Достоевский
и Л. Н. Толстой, только после смерти Григорьева вполне раскрыли свои силы,
приобрели значение, можно сказать, отодвинувшее на второй план всех предыдущих»
(Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 248). И несколько раньше
в статье «Взгляд на текущую литературу» (1883) он писал накануне выхода
первого тома собрания сочинений Достоевского: « ...только теперь эти сочинения
получают наибольшее свое распространение и действие», «это целая туча самых
живых и разнообразных задач» (Страхов H. H. Литературная критика. С. 394).
***** Q вдовой Достоевского Страхов сохранял дружеские отношения и после
публикации «Воспоминаний». Книгу «Воспоминания и отрывки» подарил ей с такой
надписью: «Анне Григорьевне Достоевской в знак давней приязни и душевного
уважения от Н. Страхова. 9 дек. 1892. СПб. ».
544
В. А. ТУНИМАНОВ
Достоевским: «Ф. М., прочитавши ее, сказал мне очень лестное слово:
"вы одни меня поняли"» (Страхов старательно воспроизвел все
положительные отзывы Достоевского о своих литературно-критических
и философских работах и в письмах к Толстому)*. Но надо отдать
должное Страхову: он сам признавался, что разбор романа написан
«сдержанным и сухим тоном», что «был виноват именно в том, что
холодно и вяло говорил о таком поразительном литературном явлении» **.
Но и у Достоевского имелись серьезные основания так отзываться
о статьях Страхова — они, несомненно, самая глубокая и значительная
работа современника о романе Достоевского. Уверенно и остроумно
полемизирует Страхов с разными критическими разборами романа.
Отдавший так много сил и времени борьбе с нигилизмом, критик
увидел в произведении Достоевского виртуозный и всесторонний анализ
этого болезненного явления и коренное отличие Родиона Раскольникова
от стандартных и клишированных образов нигилистов в романах и
повестях других русских писателей: «Это не фразер без крови и нервов,
это — настоящий человек» ***. Достоевский, как великолепно
формулирует Страхов, «взял натуру более глубокую, приписал ей более глубокое
уклонение от жизни, чем другие писатели, касавшиеся нигилизма.
Цель его была — изобразить страдания, которые терпит живой
человек, дойдя до такого разрыва с жизнью. Совершенно ясно, что автор
изображает своего героя с полным состраданием к нему. Это не смех
над молодым поколением, не укоры и обвинения, это — плач над ним».
Страхов подчеркивает, что «в первый раз перед нами изображен
нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий» ****.
Страхов прямо связывает Раскольникова с героем романа Тургенева
«Отцы и дети» (связь очевидная и хорошо чувствуемая Достоевским,
достаточно вспомнить сказанное писателем о Базарове): «...это не есть
тип нигилистический, но видоизменение того типа настоящего
нигилиста, который всем более или менее знаком и который всех раньше
и всех метче был угадан Тургеневым в его Базарове» *****.
О романе Тургенева Страхов писал пятью годами раньше в журнале
«Время». Это один из самых содержательных критических отзывов
об «Отцах и детях» и одна из самых удачных, вдохновенно написанных
* Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С. 290.
Привел он и такие слова Достоевского, обрадовавшие самолюбивого философа:
♦Да половина моих взглядов — ваши взгляды» (Там же. С. 238).
** Там же.
*** Страхов H. H. Литературная критика. С. 100.
**** Там же. С. 101.
***** Там же. С. 110.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 545
статей Страхова, во всяком случае, о вялости, холодности, скупости
и сдержанности здесь не может быть и речи. В «Преступлении и
наказании» Страхов находил «значительные недостатки, которые мешают
художественной ясности образов, а следовательно, и препятствуют
их ясному пониманию», «...автор... описывает нам всевозможные
изменения одних и тех же чувств. Это сообщает монотонность всему
роману, хотя не лишает его занимательности. Но роман томит и мучает
читателя, вместо того, чтобы поражать его. Поразительные моменты,
которые переживает Раскольников, теряются среди его постоянных
мучений, то ослабевающих, то снова поражающих. Нельзя сказать,
чтобы это было неверно; но можно заметить, что это неясно. Рассказ
не сосредоточен около известных точек, которые бы вдруг озаряли
для читателя всю глубину душевного состояния Раскольникова» *. <...>
Симпатия к содержанию романов Достоевского (что
естественно — общее «почвенническое» направление) сосуществовала рядом
с неприятием его поэтики, того, что представлялось Страхову
чрезмерным, хаотичным, утрированным. Почти все реплики Страхова
о Достоевском-художнике в письмах к Толстому прохладные или
отрицательные. Это относится и к отдельным произведениям, и к стилю,
и к героям. Страхов аккуратно сообщал Толстому об успехе романа
«Анна Каренина» в петербургских читательских кругах. <...>
<...> В апрельском письме Толстому за 1876 год он с восторгом
заявляет, что не знает таких описаний «любви как страсти ни у кого,
кроме разве Мюссе, немножко Жорж Занда, и немножко Тургенева.
Почти непонятно, каким образом Достоевский, столько
волочившийся и дважды женатый, не может выразить ни единой черты страсти
к женщине, хотя и описывает невероятные сплетения и увлечения
таких страстей»**. Занятное, спонтанно вырвавшееся мнение
убежденного холостяка*** Страхова о Достоевском — художнике и человеке,
* Там же. С. 99, 117-118.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 265.
:* Понятно, что и родня, и знакомые усиленно его «толкали жениться». К
добровольным свахам присоединилась и Софья Андреевна, говорившая ему, «что это
вовсе не трудно». Для графини специально Страхов рассказывает анекдотичную
историю об одной из тех, кого прочили ему в жены (в письме Толстому от 12
сентября 1871 года), дабы прекратить эти, неприятные для него разговоры. Иногда
Страхов писал Толстому о горькой участи бобыля, но, похоже, то были вошедшие
в привычку жалобы; к семейной жизни он давно перестал стремиться, в пору
знакомства с Толстым был уже закоренелым, убежденным холостяком. Толстой
со свойственной ему деликатностью этого сюжета в переписке не касался.
Однажды, впрочем, он невольно обидел Страхова. Сообщая о смерти сына Пети,
между прочим, Толстой заметил: «Значение этой смерти несемейный человек
понять не может» (Там же. С. 132).
546
В. А. ТУНИМАНОВ
предстающем вопреки всем фактам и свидетельствам современников
в облике многоопытного ловеласа, который позднее больная фантазия
Страхова трансформирует в образ злого и извращенного развратника*.
Недоброжелательное чувство вдруг стало изливаться, но было тут же
подавлено. Неприятие же художественного мира Достоевского
очевидно. И такова постоянная позиция Страхова; он промолчит о романах
«Идиот» и «Подросток», а «Бесов» упомянет мельком, в связи с
нигилизмом и борьбой с ним — общей, как ему представлялось, борьбой**.
Не в восторге Страхов и от последнего романа Достоевского «Братья
Карамазовы», хотя и пишет о своеобразной силе Достоевского и
читательском успехе: «По обыкновению автора весь роман имеет несколько
фантастический колорит, состоящий в том, что события и встречи
следуют друг за другом с ненатуральною быстротою и отчасти
произвольно, но еще более в том, что все действующие лица исполнены
* Поразительно и такое признание Страхова, не очень уместное и странное, в письме
Толстому от 11 марта 1879 года, должно быть, неприятно поразившее того
болезненным тоном: «Я Тургенева и Достоевского, простите меня, не считаю людьми;
но Вы — человек, и не поверите, как отрадно такому смутному и колеблющемуся
существу, как я, увериться, что он встретил настоящего человека» (Л. Н. Толстой
и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 502).
** Эту борьбу Страхов неизменно выделял. В статье «Взгляд на текущую литературу»
он в самую большую заслугу Достоевскому ставил талантливое исследование
болезней русского общества, благотворное влияние на «заблудшую» молодежь
(«Вот пример и поучение для всех наших партий»): «Молодые люди, именно те,
которые искали выхода из своих мрачных и страшных убеждений, не только
охотно читали Достоевского, но и обращались к нему частным образом, ожидая
опоры и руководства. Достоевский, однако, не был ни мыслителем, ни
публицистом в настоящем смысле слова; больше всего он был художником, и своим
художническим чутьем он различал правду и заблуждение, добро и зло. Он
проповедовал не столько логически, сколько психологически, и в своих романах
он всего полнее выразил свои стремления и свои взгляды на состояние русских
умов и душ. Никто с такою верностью и глубиною не изображал всякого рода
нигилистов, и при этом он обнаруживал в отношении к одним презрение и
негодование, но в отношении к другим — участие и сострадание. Он понимал то, что
совершается в людях, сбившихся с прямого пути. Главною темою его был —
раскаявшийся нигилист; таковы: Раскольников, Шатов, Карамазов и пр.»
(Страхов H. H. Литературная критика. С. 393). Кульминацией темы, считал
Страхов, стала «поэмка» Ивана Карамазова: «В Легенде об великом
инквизиторе нигилизм возведен на свою высшую точку, до мыслей грандиозных в своей
кощунственности; чувствуется, что этот Иван Карамазов должен повернуть
и, если повернет, с такою же силою уйдет в противоположную сторону» (Там же.
С. 406). И позднее писал в статье «Поминки по Аполлоне Григорьеве»: «Были-
люди отзывчивые, схватившиеся с нигилизмом грудь с грудью и осветившие
глубочайшие припадки этой болезни — таков был Достоевский» (Страхов Н.
Воспоминания и отрывки. С. 249).
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений)
547
слишком сложных и слишком быстро сменяющихся чувств. Любовь
и ненависть, подозрение и вера, радость и отчаяние и т.д. говорят в душе
каждого лица почти в одно время; при взаимных сношениях эти лица
почти не могли бы понимать друг друга, если бы все не имели равно
этого особенного душевного строя. Хотя, таким образом, внутренние
и внешние элементы рассказа сочетаются ненормально и, сверх того,
беспрерывно повторяются в новых вариациях, но сами по себе эти
элементы глубоко реальны, в чем и состоит сила Достоевского и на чем
основано было его собственное убеждение в реализме создаваемых
им картин. Внутренняя правда душевных движений, которые он
выставлял напоказ, неотразимо увлекала читателей, несмотря на все
внешние недостатки рассказа»*.
Осторожный и стремящийся к несколько обтекаемым и почти всегда
сбалансированным суждениям, Страхов видит сильные стороны в
своеобразии, «фантастическом» реализме Достоевского, но явно
предпочитает реалистическое искусство Толстого с культом Простоты, Добра
и Правды и даже «нормальный» и поэтический реализм Тургенева
в «Записках охотника» и «Отцах и детях» **.
В значительно большей степени Страхов ценил публицистику
Достоевского — особенно «Дневник писателя» и Пушкинскую речь,
которой Страхов посвятил немало патетических страниц как в
воспоминаниях, так и в других своих сочинениях 80-х годов. <...>
В наиболее концентрированном и очищенном от разных
посторонних мотивов виде Страхов сказал о «Дневнике писателя»
и Пушкинской речи в статье «Взгляд на текущую литературу».
Никогда так торжественно и с пафосом Страхов не писал о
Достоевском: это «явление», которое «в нашей литературе занимало
большое, даже огромное место»; он «был главным деятелем и
представителем некоторого петербургского славянофильства,
составившего совершенно особую струю в потоке петербургской
журналистики, струю, расширявшуюся с каждым годом. Его "Дневник",
его речь на Пушкинском празднике, его публичные чтения были
рядом истинных побед над публикою; когда он умер, уважение
и любовь к нему вспыхнули ярким пламенем, которого не забудет
никто из видевших» ***. Апофеоз Достоевского — его триумфальная
речь, взволнованное слово писателя ко всем слоям раздираемого
противоречиями русского общества: «Огромное влияние Достоевского
нужно причислить, конечно, к самым отрадным явлениям, и в нем
* Страхов H. H. Литературная критика. С. 404-405.
* Там же. С. 392.
:* Там же.
548
В. А. ТУНИМАНОВ
есть одна черта, заслуживающая величайшего внимания. Эта
черта — отсутствие злобы в постановке нашей великой распри между
западной и русской идеею. Эта черта поразила всех в пушкинской
речи Достоевского, но она же характеризует собою и его "Дневник",
и его романы. При всей резкости, с какою он писал, при всей
вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не чувствовать, что он
стремится найти выход и примирение для самых крайних заблуждений,
против которых ратует. "Смирись, гордый человек, потрудись,
праздный человек!" Эти слова, которые с такой неизобразимою
силою прозвучали в Москве над толпою, эти слова звучали не угрозой,
не ненавистью, а задушевным, братским увещанием»*.
Многое, очень многое изменилось за эти восемь лет. Радикально
изменилось и отношение Страхова к Достоевскому. Теперь,
возможно, ему неприятно было вспоминать то, что он писал о Пушкинской
речи Достоевского, понятней стала критику и скептическая позиция
Толстого, бойкотировавшего торжества. Это и выразилось в
элегическом послесловии к статье. Но тогда, в 1880-м и в самые первые годы
нового десятилетия настроения были совсем другие, праздничные и
мажорные. Понемногу сглаживались недоразумения между Страховым
и Достоевским. Выступил Страхов и посредником между писателями.
Первый шаг к сближению сделал сам Толстой: в сентябрьском письме
1880 года он необыкновенно лестно отозвался о «Мертвом доме» и
просил Страхова передать Достоевскому, что он его любит. Страхов охотно
исполнил просьбу Толстого, передав при встрече с Достоевским его
«похвалу и любовь». Сообщил он и Толстому о реакции Достоевского,
ошеломленного тем, что Толстой поставил его, в сущности, выше
Пушкина: «Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему
листок из Вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко
его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено
("лучше всей нашей литературы, включая Пушкина"). "Как, —
включая?" — спросил он. Я сказал, что Вы и прежде были, а теперь особенно
стали большим вольнодумцем» **.
Чувствуется, какое удовольствие получает Страхов от
доверительного и дружеского общения с Толстым и Достоевским. Недолго, однако,
довелось Страхову исполнять функции посредника между ними. Смерть
Достоевского, наступившая вскоре, навсегда сделала невозможной
встречу писателей, о чем неоднократно сожалел Толстой. О смерти
Достоевского известил Толстого Страхов, писавший ему о «чувстве
* Там же.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 579.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений)
549
ужасной пустоты, которая не оставляет его с той минуты, когда узнал
об этом». Письмо органично вылилось в некролог, отчасти
использованный критиком в воспоминаниях и поминальных речах и очерках:
«В одно из последних свиданий я высказал ему, что очень удивляюсь
и радуюсь его деятельности. В самом деле, он один равнялся (по
влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди
литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что
давно было признано за соблазн и безумие... Он затмил Тургенева
и наконец сам затмился. Но ему нужен был успех, потому что он был
проповедник, публицист еще больше, чем художник» *.
Тон высшего почтения к литературному подвигу Достоевского
Страхов сохранял почти неизменно вплоть до прозвучавшего, как гром
с безоблачного неба, исповедально-обличительного письма критика
Толстому от 28 ноября 1883 года. Не было никаких признаков вдруг
разразившейся бури. Более того, огорченный равнодушным, а точнее,
неодобрительным отношением Толстого к статьям «Письма о
нигилизме», печатавшимся в еженедельнике «Русь», Страхов просит прочесть
их внимательнее и прислать отзыв, вспоминая при этом, каким чутким
и усердным читателем его критики был покойный Достоевский: «Как
живо мне вспомнился при этом Достоевский! Он был мой усерднейший
читатель, очень тонко все понимал и не прочитал только Писем о
спиритизме, потому что был в этом вопросе так раздражен, что не в силах
был читать», — пишет он Толстому в мае 1881 года**.
В конце июля 1882 года Страхов сообщает Толстому, что приступает
к работе над биографией Достоевского. <...>
Статья вторая
Отречение от Достоевского. Попытки исповеди
О совсем близком окончании работы над биографией Достоевского
Страхов сообщает Толстому в середине августа 1883 года. И здесь
впервые, пока еще в очень мягком и общем виде, прозвучали
критические нотки: «Опять я оторвался от письма к Вам, но зато почти
кончил свою "биографию". Не ожидал я, что это так меня увлечет,
и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтется
с интересом. Какое странное явление этот человек! И отталкивающее,
и привлекательное»***. Неожиданный поворот, которого, кажется,
* Там же. С. 591.
* Там же. С. 603.
* Там же. С. 647.
550
В. А. ТУНИМАНОВ
испугался «биограф», отступивший в конце письма: «И простите
меня. Я прибранил Достоевского, а сам, верно, хуже». Умирают
сослуживцы и приятели, но никакого смятения в душе Страхова
нет — большой труд близится к концу, и он им доволен, с мыслью
о неизбежной и, возможно, скорой смерти смирился, уютно
обустроился для новых литературных занятий: «Я купил новый стол, новую
лампу, построил три новых шкапа для книг, и усердно сижу дома.
Все готово, ничего больше не нужно; кажется, никогда я не был так
счастлив, в таком ровном и ясном духе»*. Толстой, опечаленный
смертью Тургенева и уставший от работы над статьей «В чем моя
вера?», никаких чрезвычайностей от спокойного и счастливого Страхова
не предвидел, а биографию Достоевского после туманно-загадочных
слов корреспондента стал ждать с вполне оправданным нетерпением:
«Жду вашу биографию. Хоть вы и браните ее, я знаю, что там будет
много хорошего» **.
Тем временем Страхов работу над биографией продолжил,
столкнувшись, должно быть, с какими-то серьезными внутренними трудностями.
О задержке 16 сентября пишет Толстому: «Началось печатание моих
Воспоминаний о Достоевском. Я все еще в этой работе, но через месяц
мечтаю быть совершенно свободным» ***. Страхов тогда не предполагал,
что и напечатав воспоминания, он никогда не освободится от них —
будет все время тревожить тени прошлого, не желавшего становиться
прошлым, будет каяться и обвинять, так и не обретя внутреннего
спокойствия. Но пока лишь легкая рябь на ровной поверхности и
размышления скептика и пессимиста Страхова о вечной театрализованной
людской суете сует по поводу смерти и похорон Тургенева, на которого
он «перестал... сердиться»: «Вы видите, бесценный Лев Николаевич,
как жадно люди хватаются за имя, за гроб, за минуту опускания этого
гроба в землю. Людям нужно нечто совершенно определенное и
индивидуальное. Так им нужна церковь, алтарь, минута произнесения
известных слов» ****. И что-то гнетет Страхова, что-то уничтожившее
недавнюю ясность и спокойствие духа, о чем он все еще не решается
поведать Толстому: «Тупость и черствость, неподвижность умственная
и сухость сердечная — вот что находит на меня, и то я бьюсь против
этого, то опускаюсь, отдаюсь этому. Но Вам я верен и остаюсь верен,
дорогой Лев Николаевич» *****.
* Там же.
** Там же. С. 649.
*** Там же. С. 650.
**** грам же
***** Там же. С. 651.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 551
Естественно предположить, что разительная душевная перемена
как-то связана с заключительной стадией работы над
воспоминаниями о Достоевском, которому он перестает быть «верен» (да и был ли
«верен» когда-либо в полном смысле?). Возникает потребность в
исповеди, в уяснении причин и сути душевной смуты. Тогда-то и
создается запись «Для себя» и вслед за ней кошмарное письмо Толстому
от 28 ноября 1883 года (корреспонденция между ними, кстати,
прерывается более чем на два месяца — и мы не располагаем прямыми
или косвенными сведениями о каких-то пропавших в этот временной
промежуток письмах) — акт не освобождения, а, пожалуй, отречения,
один из самых больных и тягостных литературных документов XIX
века. В записи сказано лаконично, без детализации: «Во все время,
когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы
того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни
и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение,
побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той
цели, для которой пишу. Для себя мне хочется однако формулировать
ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием»*.
Сознание, похоже, мало помогало, а добрые чувства улетучились
бесследно. Страхов в письме текст «для себя» превращает в признание
«для Толстого»; он давно уже его выбрал своим исповедником: «Все
время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне
отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите
мне найти от него выход» **.
В письме Страхова просто потрясают неистовая злоба,
клокочущая ненависть и исключительная резкость определений ведущих
черт характера Достоевского: «Он был зол, завистлив, развратен,
и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его
жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так
умен <...> он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях.
Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. <...> При животном
сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской
красоты и прелести» ***. Ни одной доброй черты, ни одного искреннего
душевного движения Страхов не обнаруживает в Достоевском,
«истинно несчастном и дурном человеке», представляя его, так сказать,
нравственным Квазимодо: «Движение истинной доброты, искра
настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего
раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь
* Лит. наследство. 1973. Т. 86. С. 564.
** Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.
*** Там же.
552
В. А. ТУНИМАНОВ
подобное у Д<остоевского>, я бы простил его и радовался бы на него.
Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная
и литературная гуманность — Боже, как это противно!» *
Страхов упорно повторяет и ранее уже прозвучавшую мысль о том,
что Достоевский любил только «одного себя». Утверждает — и это
странно читать у автора блестящих и глубоких критических статей, — что
в парадоксалисте повести «Записки из подполья», Свидригайлове
и Ставрогине он изобразил самого себя, и даже что «все его романы
составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться
с благородством всякие мерзости» **.
Кое-какие из этих обвинительных заключений мелькают и в
биографии, но именно мелькают, в другом контексте и другой тональности,
необыкновенно далекой от обличительной. Страхов резко обозначает
в биографии: «Достоевский — субъективнейший из романистов, почти
всегда создававший лица по образу и подобию своему» ***. А далее идут
уточнения, смягчения, биографические приемы, если не скрывающие,
то, несомненно, затемняющие истину, превращающие правду в
полуправду. Страхов в биографии гибко использует одно антропологическое
свойство, о котором счел необходимым прямо сказать: «Но каждый
человек имеет, как известно, не только недостатки своих достоинств,
но иногда и достоинства своих недостатков». И вот уже субъективность,
оказывается, имеет огромные преимущества, равно как и гуманность,
названная в письме «головной»: «Эта нежная и высокая гуманность
может быть названа его музою, и она-то давала ему мерило добра
и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны.
Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен,
так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный
реализм»****. Многие страницы воспоминаний Страхова звучат иначе
после знакомства с его письмами Толстому, отбрасывающими на них
густую и зловещую тень.
Хотя сравнительно легко можно определить, что вызывало
неприятие в личности и творчестве Достоевского у Страхова, что разделяло
их, по воспоминаниям, письмам, другим литературным документам
(особенно значительна введенная в научный оборот Л. М. Розенблюм
статья Страхова «Наблюдения»), все-таки остается необъяснимым
(во всяком случае рационально) неожиданно возникший на самом
последнем этапе работы над воспоминаниями этот всплеск ненави-
* Там же. С. 653.
** Там же. С. 652, 653.
*** Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 226.
**** Там же. С. 226-227.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 553
сти, это низвержение в самое грязное болото «приятеля», которому
только что была сочинена торжественная и прочувствованная осанна.
Опровергать обвинения Страхова нет нужды — конкретные
примеры или нелепы («глупенький случай с кельнером», по определению
Анны Григорьевны), или являются низкой и злонамеренной сплетней,
а обобщения опираются лишь на личный опыт общения с Достоевским,
интерпретированный в самом мрачном свете — и Страхов не
«истинного» Достоевского, а собственные душевные потемки проецирует
на большой экран. Трудно определить, что послужило толчком и как
протекал этот, видимо длительный, процесс отречения. Существует
гипотеза, и она вполне закономерна, что поводом к столь резкой
перемене настроения послужила одна пространная черновая запись
Достоевского (приблизительно датируемая концом 1876 — началом
1877 года) о Страхове — литераторе и человеке, с которой тот мог
ознакомиться в период работы над воспоминаниями.
В черновых записях к выпуску «Дневника писателя» за июль-август
1876 года часто мелькает имя Страхова в связи с предпочтением,
отданным им английской женщине перед русской в запомнившейся как
Толстому, так и Достоевскому статье критика «Женский вопрос».
Записи — черновой набросок к главке (нечто среднее между очерком
и фельетоном) «Один из облагодетельствованных современной
женщиной», где человек «старого покроя» (двойник автора), коснувшись
«щекотливой» женской темы, цитирует «брошюру» (говорится, что
в ней «есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей»)
Страхова, — одну фразу, совсем сбившую его «с толку» : «И однако же,
всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип
женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не
могут равняться наши русские женщины...» (23, 88)*. Легкомысленное
мнение, всеконечно, страстно опровергается (явственно звучит один
из мотивов будущей Пушкинской речи — указывается на «идеалы
наших поэтов» — героинь Пушкина, Тургенева, Льва Толстого),
предполагается даже, что «должен существовать такой естественный закон
в народах и национальностях, по которому каждый мужчина должен
по преимуществу искать и любить женщин в своем народе и в своей
национальности» (23, 89). Имя автора брошюры не называется, но
говорится, что он «холостой человек» — иронический укол и фельетонный
прием: в сущности, имя автора секрет полишинеля.
Достоевский круто прерывает цитату, может быть, не желая приводить особенно
задевших его слов критика: «Что будет из русской женщины? Даст ли она миру
новый образец красоты человеческой природы или же останется примером
бесцветности и, пожалуй, какой-нибудь нравственной уродливости?»
554
В. А. ТУНИМАНОВ
Сюжет, казалось бы, исчерпан, мнение опровергнуто, русская
женщина возведена на пьедестал. Однако гнев Достоевского только
еще начал пробуждаться. Он перебирает в памяти другие
высказывания и поступки Страхова, раздражавшие его черты личности
критика. И вот уже набросан весьма нелестный портрет Страхова как
литератора-семинариста.
Это памфлетный портрет, начертанный в резкой обличительной
манере раздраженной рукой. <...>
В портрете много несправедливого, карикатурного,
преувеличенного*. Правда, Достоевский в письмах (и, разумеется, в разговорах)
неоднократно отзывался с неудовольствием о стиле критических
работ Страхова, но никогда не делал этого с такой резкостью. В письме
к жене в феврале 1875 года Достоевский назвал Страхова «скверным
семинаристом». Но ведь это в период самого сильного охлаждения
отношений Достоевского со Страховым (и Майковым) из-за печатания
романа «Подросток» в «Отечественных записках», в особую минуту
вырвавшееся. «Происхождение» Страхова сомнения не вызывает,
в семинарии он формировался как личность и как литератор, и
«семинарские» черты, присущие ему, Достоевским не без основания
отмечены, хотя и оценены отрицательно, что представляется
предвзятой и односторонней точкой зрения (кстати, о «семинаризме» и сам
Страхов иногда отзывался неодобрительно**). К «семинаристам», как
Так, Б. В. Никольский пишет об аскетизме и равнодушии Страхова к комфорту:
«Комфорт, удовольствия и удобства жизни для него, можно сказать, не
существовали; он заменял их только редкой чистотой, аккуратностью и порядком.
В его дом вы входили как в келлию какого-нибудь монастырского библиотекаря:
портреты хозяина, подаренные ему на память художниками, портреты и бюсты
двух, трех писателей, две-три картинки, дорогие, как воспоминания детства,
и полки с книгами: вот вся его обстановка. Несколько стульев предназначалось
для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для помещения книг»
(Никольский Б. В. Биография H. H. Страхова // Исторический вестник. 1896.
№4. С. 218-219).
В письме Толстому от 25 мая 1881 года Страхов, коротко пересказывая
историю многолетней борьбы с нигилизмом, вспоминает и «семинарский дух»:
«Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший
нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. —
главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их развитие,
следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать
шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и
литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела —
и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда
вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только
это может надеяться на будущность, а все другое глохнет и чахнет» (Л. Н. Толстой
и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 606).
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 555
очевидно, Достоевский должен был отнести и многих представителей
своего рода (в том числе деда по отцовской линии), а, следовательно,
отчасти и себя. Вне сомнения, однако, настороженное и
скептическое отношение Достоевского к духовному сословию. Это сказалось
и в эпиграмме на Лескова, и в ряде записей в его тетрадях, одна из
которых находится в близком соседстве с приведенным ранее портретом
Страхова: «Это была натура русского священника в полном смысле,
то есть матерьяльная выгода на первом плане и за сим — уклончивость
и осторожность» (24, 243).
Новая запись, безусловно, связана с размышлениями о Страхове
в другой заметке, где речь идет о семинаристе, типизированном,
и не только «литературном», и не только современном — проект
будущей главки очередного выпуска «Дневника писателя»: «Семинарист,
сын попа, составляющего status in statu, a теперь уж и отщепенца
от общества, а казалось бы, надо напротив. Он обирает народ, платьем
различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается
с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к
другим сословиям не пристал, несмотря на всё желание. Он образован,
но в своем университете (в Духовной академии). По образованию
проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям,
которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни
гражданской он многого внутренне, жизненно не понимает, потому
что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь
гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное
отвлеченно. Сперанскому ничего не стоило проектировать создание
у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию и проч.
С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился и
наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей
и текущего» (24, 241).
Можно сказать, обычный для Достоевского метод творчества —
прослеживаются все стадии развития темы, кроме последней: очерк о
семинаристе, как типе, не будет осуществлен, но и бесследно не исчезнет:
пригодится при создании образа Ракитина в «Братьях Карамазовых».
Страхов с такими приемами (он их называл фельетонными,
«французскими») творчества Достоевского был хорошо знаком, но столь
бесцеремонное и язвительное обращение с его персоной, вне сомнения,
не могло самым болезненным образом не задеть крайне самолюбивого
и мнительного литератора. Вот тут и логично предположить причину
вдруг наступившего перелома, побудившего Страхова взяться за перо
и превратить заметки «для себя» в исповедь «для Толстого». Пусть,
мол, потомки их рассудят. Нечто вроде мести Страхова глубоко
оскорбившему его литературному «приятелю» ; он понимал, что все рукописи
556
В. А. ТУНИМАНОВ
Достоевского и переписка Льва Толстого рано или поздно будут
напечатаны. Но так ли уж Страхов был в этом уверен: ведь и рукописи горят,
и письма бесследно пропадают (вот и значительная часть переписки
Страхова и Толстого утрачена) или перлюстрируются и подчищаются
вдовами (а то и предаются огню); если уж Страхов был так встревожен,
он, пожалуй, принял бы более надежные меры — сделал бы, к примеру,
копии некоторых материалов, сдал бы их в архив той библиотеки, где
работал, написал новые воспоминания. Но он этого не сделал, доверив
потаенное одному Толстому. К тому же мы не располагаем какими-
либо доказательствами, что Страхов эти записи читал и даже что был
знаком с записной тетрадью Достоевского 1876-1877 годов. Гипотеза
еще не факт и вряд ли когда-нибудь станет фактом. Причины тут,
похоже, сугубо внутренние и лежат глубоко.
Далеко не всегда тайное становится явным. Есть вечные тайны
и загадки. Немало сказано о дружбе-вражде Достоевского и Страхова
Б. И. Бурсовым, Л. М. Розенблюм и другими. Кое-что тут удалось
выяснить. Убедительно пишет о постоянных и фундаментальных
разногласиях между коллегами-почвенниками Л. М. Розенблюм
в монографии «Творческие дневники Достоевского». И все-таки
остается загадкой резкая перемена отношения к Достоевскому, так
злобно и неудержимо выразившаяся в письмах Страхова Толстому.
Эти письма удостоились самых резких эпитетов, на которые не
скупились ошеломленная предательством «друга» семьи вдова
писателя и историки литературы (не только исследователи биографии
и творчества Достоевского). И вдову и всех почитателей творчества
писателя нетрудно понять: они с порога отвергали наветы и
«клевету». Это их законное право. Тем не менее многое в сложнейших,
запутанных отношениях Достоевского и Страхова остается непонятным,
нелогичным, загадочным.
Письму предшествовала наконец-то высланная биография, по поводу
чего следовала и обычная просьба критика: «...прошу Вашего
внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите» *. Письмо же —
это и своеобразная исповедь воспоминателя и «маленький
комментарий» к биографии, сильно озадачивший Толстого. Свое мнение
о биографии Толстой откровенно высказать не мог, так как
затруднительно было высказаться о книге, представляющей собой в лучшем
случае полуправду; комментарий в самом неприглядном свете выставлял
как главного героя книги, так и ее автора, признававшегося, что решил
подобно всем пожертвовать правдой: «...много случаев рисуются мне
гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 557
правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною
лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем! » *.
Что мог Толстой сказать о таких удивительных и больных
признаниях «биографа» и «приятеля» Достоевского? Они противоречили всем
основным принципам и убеждениям Толстого — художника, учителя,
человека, главным божеством которого была Правда, считавшего, что
ложь и умолчания особенно нетерпимы в литературе, о чем он, кстати,
писал критику в январе 1877 года: «В жизни ложь гадка, но не
уничтожает жизнь, она замазывает ее гадостью, но под ней все-таки правда
жизни, потому что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-
нибудь больно или радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь
между явлениями, порошком все рассыпается» **.
Вот он и ограничился фразой: «Книгу вашу прочел». Мнение
о Достоевском в основном не изменил; воспоминания Страхова лишь
укрепили его: «Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума.
Чрезвычайно умен и настоящий. И я все так же жалею, что не знал
его». И высказал крайне неблагоприятное мнение о «маленьком
комментарии» к биографии: «Письмо ваше очень грустно
подействовало на меня, разочаровало меня» ***. Довольно прямо сказано в глаза
Страхову, что Толстой именно им разочарован, его состоянием души
опечален. Терзания запутавшегося в своих чувствах биографа Толстой
объяснил общим, к сожалению, распространенным, предрассудком,
требующим непременного и слепого поклонения. Вот и Страхов стал
«жертвой ложного, фальшивого отношения» к Достоевскому,
«преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения
в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе
внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но
поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который
весь борьба»****. Толстой не только объясняет причины литературного
«двойничества» Страхова, но и полемизирует с содержанием его
письма, брезгливо обходя примеры и подробности, не желая опускаться
до уровня грязных сплетен. Но письмо на него все же повлияло, породив
рассуждение о людях с «заминкой» и без «заминки». С «заминкой»
Достоевский — хоть и «рысак», «да никуда на нем не уедешь, если еще
не завезет в канаву». Так что, полагает Толстой, у Достоевского «весь
ум и сердце пропали за ничто» и его «переживет» Тургенев — только
потому, что без заминки. Сравнение остроумное, но несправедливое,
* Там же. С. 653.
** Там же. Т. 1.С. 306.
*** Там же. Т. 2. С. 655.
**** Там же.
558
В. А. ТУНИМАНОВ
навеяно письмом Страхова — позднее Толстой самым радикальным
образом переменит свое представление о Достоевском.
Страхова разочаровал ответ Толстого: он ожидал гораздо более
сильной и определенной реакции. Страхов высказал Толстому несогласие
с его представлением о Достоевском, добавив своего рода надрывную
и больную сентенцию, которая могла только покоробить Толстого:
«Сказать ли, однако, прямо? И Ваше определение Достоевского, хотя
многое мне прояснило, все-таки мягко для него. Как может
совершиться в человеке переворот, когда ничто не может проникнуть в его душу
дальше известной черты? Говорю — ничто — в точном смысле этого
слова; так мне представляется эта душа. О, мы несчастные и жалкие
создания! И одно спасение — отречься от своей души»*. Сентенцию
Толстой, видимо, не понял и не принял.
Молчание Толстого о биографии задело Страхова, и он предпринял
робкую и непоследовательную попытку самооправдания: «В своих
Воспоминаниях я все налегал на литературную сторону дела, хотел
написать страничку из Истории литературы; но не мог вполне
победить своего равнодушия. Лично о Достоевском я старался только
выставить его достоинства; но качеств, которых у него не было, я ему
не приписывал. Мой рассказ о литературных делах, вероятно, мало
Вас занял?»**. Объяснения-оправдания плохо согласуются со
словами в биографии о Достоевском — человеке, достойном умиления,
«наружные мелочи» и «слабости» которого «почти вовсе не имели
влияния на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда
сохранявший благородство и высоту. Он был строг к себе и даже
щепетилен; его великодушие не могло помириться не только с темным
или недобрым поступком, но и с темным или недобрым чувством.
Он трудился и жил, постоянно воспитывая в себе наилучшие
чувства и действуя не только безукоризненно и бескорыстно, а часто
самоотверженно» ***. Противоречат запоздалые примечания и
обещаниям, данным Страховым во вступлении к «Воспоминаниям»:
«Постараюсь... со всею искренностию и точностию указать его
личные свойства и отношения, какие мне довелось узнать» ****. Толстому
противоречия запутавшегося в чувствах и мыслях автора были видны
как на ладони.
По-видимому, Толстой обладал ключами и к внутренней жизни
Страхова, который постоянно и эмоционально исповедовался перед
* Там же. С. 660.
** Там же.
*** Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 318.
**** Там же. С. 169.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 559
ним, обнажая язвы души с максимальной для такого закрытого
человека откровенностью. <...>
Далее Толстой, вспоминая беседы со Страховым, стремится
опровергнуть его веру в объективность, стремление всегда и во всем быть
объективным, хладнокровным, застегнутым на все пуговицы: «Вы всегда
говорите, думаете, пишете об общем — объективны. И все мы это
делаем, но ведь это только обман, законный обман, обман приличия,
но обман, вроде одежды. Объективность есть приличие,
необходимое для масс, как и одежда. Венера Мил осекая может ходить голая,
и Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Но если
Венера пойдет голая и старуха-кухарка тоже, будет гадко. Поэтому
решили, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка будет
менее безобразна. Этот компромисс мне кажется и в умственных
произведениях. И крайности, уродства, surcharge1 одежды часто вредит;
а мы привыкли. И вы слишком одеваетесь объективностью и этим
портите себя, для меня по крайней мере. Какие критики, суждения,
классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием
смысла своей жизни?» *
Письмо Толстого задело и взволновало Страхова. Более двадцати
лет он будет в беседах и разговорах отвечать Толстому, то полемизируя
с ним, то пытаясь попасть в сердечно-исповедальный тон или, говоря
иначе, «раздеться». <...>
Весной 1878 года во взаимоотношениях Толстого и Страхова чуть
не наступил кризис. Толстой в письме от 8 апреля, наставляя на
истинный путь Страхова, допустил неосторожные выражения, сильно
огорчившие критика. Толстой попытался в несколько догматичной
манере объяснить Страхову, почему тот не видит «настоящей дороги» :
«Когда я думаю о вас, взвешиваю вас по вашим писаньям и разговорам,
я по известному мне вашему направлению и скорости и силе всегда
предполагаю, что вы уже очень далеко ушли туда, куда вы идете; но почти
всегда при свидании с вами и по письмам (некоторым) к удивлению
нахожу вас на том же месте. Тут есть какая-нибудь ошибка. И я жду
и надеюсь, что вы исправите ее и я потеряю вас из вида, — так далеко
вы уйдете. С другой стороны то же самое: в молодости мы видим людей,
притворяющихся, что они знают. И мы начинаем притворяться, что
мы знаем, и как будто находимся в согласии с людьми и не замечаем
того большего и большего несогласия с самими собою, которое при этом
испытываем. Приходит время (и оно для вас уже пришло с тех пор, как
я вас зазнал), что дороже всего согласие с самим собою. Ежели вы
установите, откинув смело всё людское притворство знания, из которого
* Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1.С. 211.
560
В. А. ТУНИМАНОВ
злейшее — наука, это согласие с самим собой, вы будете знать дорогу.
И я удивляюсь, что вы можете не знать ее» *.
Страхов уязвлен в самое сердце, самолюбие его задето так
глубоко, что он обращается к Толстому с просьбой разъяснить мысль,
показавшуюся ему оскорбительной, нисколько при этом не желая
красоваться или оправдываться, признавая слабые стороны своей
натуры: «...я ничего Вам не принес и ни в чем Вам не пособил; я все
тот же колеблющийся, отрицательный, неспособный к твердой вере
и сильному увлечению какою-нибудь мыслью. Да, таков я. С
недоумением перебираю я всякие взгляды людей, древние и новые, с упорным
вниманием ищу, на чем бы можно остановиться, и ничего не нахожу.
Я мог бы насказать о себе много и очень печальных вещей; мысли мои
о себе — самые горькие. Но все-таки я не могу понять Вашего упрека
в каком-то притворстве и в несогласии с самим собою. Так как дело
идет о моей драгоценной особе, то оно очень меня, очень
заинтересовало, и я прошу Вас, как большого одолжения, объяснить мне Вашу
мысль. Не бойтесь меня уколоть. Вы же видите какой-то выход, тогда
как я выхода не вижу» **.
Толстой в тщательно продуманном ответном письме признал, что
«неясно и резко выразился», сожалея, что невольно огорчил Страхова,
столь ему дорогого человека (и он не скупится на комплименты и
выражения сердечных чувств): «Нет человека, которого [бы] я больше
уважал, чем вас, и которому бы желал быть более приятным, и вдруг
я огорчил вас»; «Вся моя вина в том, что я слишком люблю ваш ум,
вашу душу, жду от нее слишком многого и слишком поспешно решил
причину, по которой вы не удовлетворяете моим требованиям от вас» ***.
Затем Страхов сравнивает себя с Достоевским (и с А. Майковым),
что пока еще выглядит невинно, но позднее выльется в злобный
шарж, отказ от только что им завершенной биографии Достоевского.
Здесь это, правда, всего лишь отдаленное ворчание грома, просто
размышление о контрасте натур: «Я не люблю жизни так, как ее любит
Майков, и я не люблю самого себя так, как Достоевский; как же я
стану писать? Я стараюсь уйти от себя и от жизни; как же я стану с этим
возиться? Рассказывать просто, не судя, с тем, чтобы другие судили,
я не хочу и не могу; я непременно буду и хочу сам судить, и мне
недостает для этого спокойствия. Всего охотнее я бы стал ругать самого
себя, как я внутренно это делаю. Но для Вас я готов бы это написать,
* Там же. С. 423.
** Там же. С. 428.
*** Там же. С. 429, 430.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений)
561
а для других — не вижу цели, нахожу скорее вредным, чем полезным» *.
И отодвигает «пока» этот «трудный предмет» в сторону.
Страхов колеблется, не решаясь быть откровенным с Толстым,
дорожа его расположением: «...на меня все еще иногда нападает страх,
что Вы меня, гадкого, как-нибудь разлюбите»**. Да и на вопросы, ясно
и неумолимо поставленные Толстым, он не знает, как ответить —
они неизбежно рождают другие, препятствуя правдивому рассказу
о душевном состоянии, как следует из «отчета» о проделанной работе
24 октября 1878 года: «Спрашивается, чем же я живу? Чего от себя
добиваюсь и в чем полагаю то хорошее, без стремления к которому
мне было бы стыдно жить? Мне представляется, можно написать
любопытный этюд, только очень грустный. Да, вот причина, почему
мне трудно писать воспоминания: нужно держать известный тон,
а я не найду настоящего. Душа у меня так расшатана, что я мог бы
написать в торжественном, в светлом, в комическом, в отчаянном —
но в простом не сумею»***. Толстой не ждал от Страхова ни
торжественного, ни комического, ни отчаянного. Он хотел простоты, ясности,
правды — вершин, достичь которых Страхов никак не мог. Только
начнет восхождение — и срывается.
О своей внутренней жизни Страхов пишет, как правило, скупо
и «объективно». Немного неожиданно он вдруг (через год) в
октябре 1879 года вновь заговорил о намерении написать (не для всех,
а для Толстого) свою автобиографию-исповедь: «Перед Вами я
всегда как перед исповедником чист в своих намерениях и помыслах.
Несколько раз мне приходило в голову изложить Вам свое духовное
настроение и хоть в общих чертах свою историю. Но это требует
большого труда, и мне слишком больно за него достается» ****.
Толстой, разумеется, замысел Страхова тут же поддержал:
«Напишите свою жизнь; я всё хочу то же сделать. Но только надо поставить —
возбудить к своей жизни отвращение всех читателей» *****.
Страхов беспощаден к себе, вынося свою душу на суд Толстого,
которого он, как и многие другие современники (в том числе
«коварный» Лесков), сильно идеализировал. «Думаю, что я не какой-
нибудь гадкий или преступный, или отчаянно-грешный человек.
Я в известном отношении хуже — я человек безжизненный, в котором
* Там же. С. 463.
** Там же. С. 467.
*** Там же. С. 473.
**** Там же. Т. 2. С. 538.
***** Там же. С. 540.
562
В. А. ТУНИМАНОВ
мало души, нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах
неудавшийся, ни в чем не сформировавшийся, ни в какую форму
не отлившийся человек, потому что во мне не было настолько
формующей силы, притяжения к жизни. Ни один инстинкт не говорил
во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ жизни.
Я правильно сделал, отказавшись наконец вовсе от жизни; я не умею
жить и не хочу за это браться». Коснулся Страхов, не слишком
погружаясь в подробности, и «женского вопроса» в сугубо приватном
смысле: «Я ни за одною не волочился в настоящем смысле пристрастия
и никогда не собирался жениться. Две мои связи произошли оттого,
что того хотели эти женщины, а не я. Это стыдно сказать мужчине,
и я за это наказан больше, чем стою» *.
Вот в каком «хаотическом и печальном свете», изо всех сил стараясь
быть правдивым, представил Страхов свою «внутреннюю» биографию
Толстому, сильно удивив того отчаянным «спуском в ад». Он пишет
пространный ответ, но не посылает его. Толстой так поступал часто,
хорошо зная, что неосторожное, неловкое слово может больно ранить
и нанести непоправимый ущерб отношениям. Неотправленные письма
потому-то и важнее посланных: они откровеннее, острее,
содержательнее, свободны от дипломатических приправ. И в
неотправленном письме к Страхову Толстой без обиняков высказал свои чувства:
«Вы пишете мне, как бы вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите
моим мнением, как я вашим, и потому скажу всё, что думаю. <...>
Чужое виднее. И мне вы ясны. Письмо ваше очень огорчило меня.
Я много перечувствовал и передумал о нем. По-моему, вы больны
духовно» **. А потом Толстой дает превосходное определение болезни,
весьма распространенной, но протекающей с характерными
индивидуальными отличиями у разных людей: «И ваша болезнь вот какая.
В нас две природы — духовная и плотская. Есть люди, живущие
одной плотью и не понимающие того, как можно центр тяжести свой
переносить в духовную жизнь. Я называю переносить центр тяжести
в духовную жизнь то, чтобы вся деятельность руководилась
духовными целями. Есть люди счастливые — наш народ, буддисты, помните,
о которых вы говорили, которые до 50 лет живут полной плотской
жизнью и потом вдруг переступают на другую ногу, духовную, и стоят
на ней. Есть еще более счастливые, для которых творить волю Отца
есть истинный хлеб и истинное питье и которые смолоду стали на эту
ногу духовную. Но есть такие несчастные, как мы с вами, у которых
центр тяжести в середине и они разучились ходить и стоять. Всё в том
* Там же. С. 543.
* Там же. С. 545.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений)
563
мире, в котором мы жили, так перепутано — всё плотское так одето
в духовный наряд, всё духовное так облеплено плотским, что трудно
разобрать. Я хуже вас и потому счастливее в этом горе. Во мне
плотские страсти были сильны и мне легче раскачнуться и разобрать, где
то, где другое, но вы совсем спутаны. Вы хотите добра, а жалеете, что
в вас мало зла, что в вас нет страстей. Вы хотите истины, а жалеете
и как будто завидуете, что у вас нет ничего хищного. Да что же хорошо,
что дурно? Вы очевидно не знаете так, чтобы не бояться ошибиться,
делая добро»*.
Толстого глубоко разочаровала исповедь Страхова, его застарелая
духовная болезнь, поразительная спутанность всех чувств и понятий
(примечательно и то, что многие черты характера, столь выпукло
очерченные в ней, перекликаются с «семинаристскими» чертами в
ироническом и памфлетном портрете критика, в раздраженном настроении,
набросанном Достоевским). <...>
Содержит письмо и духовное наставление, — пастырское,
учительское, как будто с Синая провозглашаемое: «Верьте, перенесите центр
тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все желания ваши
выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела
Божий, исполняйте волю Отца, и тогда вы увидите свет и поймете.
Признак истины не в разуме, а в истинности истины всей жизни.
Переносите усиленно, сознательно свою жизнь на духовную, одну
духовную сторону, и вы найдете покой душам вашим, и бремя
пресыщения и перегрузка свалится с вас, и вам станет легко» **.
Страхов смущен и растерян, отчасти потому, что согласился
исповедаться, но одновременно и удовлетворен: избавился от
«печальных чувств», излил душу, тем самым очистив ее. Оправился от груза
неожиданных признаний и Толстой, голос которого звучит ласковее
и задушевнее. О болезни ни слова, и все сильнее проступает жалость
к несчастному человеку: «Я рад был заглянуть вам в душу, так как
вы открыли; но меня огорчило то, что вы так несчастливы, неспокойны.
Я не ожидал этого. — И признаюсь, никак не могу помириться с
мыслью, что вы не знаете, зачем вы живете и что хорошо и что дурно. Мне
не только кажется, но я уверен, что Вы всё это на себя выдумываете.
Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное». Как бы
то ни было, но Толстой вновь отговаривает Страхова от
автобиографических сочинений, настойчиво отговаривает: «Но писать свою жизнь вам
нельзя. Вы не сумеете». И — что уж совсем удивительно — радуется
Там же. С. 545-546.
Там же. С. 546.
564
В. А. ТУНИМАНОВ
тому, что Страхов пишет статью: «Вот это вы умеете» *. Ранее Толстой
все сожалел о газетно-журнальной работе Страхова, неодобрительно
отзываясь о критиках и критике.
<...> Сравнительно спокойная реакция Толстого на
«обличающее» Достоевского письмо Страхова становится понятна в контексте
всего диалога между писателем и критиком. Наверняка в письме
Страхова Толстой увидел еще одно и необыкновенно сильное
проявление душевной болезни, которая лежит в «подноготной» его отречения
от Достоевского.
Время от времени Страхов будет возвращаться к исповеди,
напоминая о ней и ответах Толстого, дорожа возможностью посылать ему
своего рода духовные репортажи. <...>
Казалось бы, все более или менее устоялось или «образовалось»,
и по знакомой уже колее продолжилась переписка между Толстым
и Страховым, в основном деловая, профессиональная, с довольно
редкими и однообразными, становящимися постепенно почти
формальными личными признаниями критика, смиренно и с
благодарностью воспринимавшего все (или, точнее, многое — неоднократно
он и осторожно полемизировал), что писал и говорил Толстой. Но
смирения явно не было в вечно рефлектирующей, темной, интровертной
натуре Страхова, самолюбие которого бунтовало против того, что
навязывалось извне. Он болезненно воспринимал мнения о себе
современников. Больно задели Страхова слова Василия Розанова, с
которым у него были добрые отношения (Розанова не жаловали в Ясной
Поляне), в рецензии на книгу «Мир как целое», в которой Розанов
упрекал автора в том, что тот «не договаривает своих мыслей до
конца», не желает «обнаруживать самые заветные из своих убеждений
перед толпою». Эту и другую, большую цитату из рецензии Страхов
приводит в письме Толстому от 24 августа 1892 года: «У г. Страхова
есть, по-видимому, некоторое недоверие к своим читателям, и, желая
влиять на них, говоря все, что могло бы наилучше образовать их ум
и сердце, он не говорит еще самого интересного, что они могли бы
узнать от него. То, что вызывалось в давние годы необходимостью,
потом стало уже привычкой. Но для читателя сочинений его, для
понимающего их смысл и значительность, всегда остается печальным,
что между ним и множеством людей никогда не будет совершенно
отброшена разделяющая завеса, что некоторая пленка благоразумия
всегда будет удерживать и его, и других на почтительном расстоянии
от того, к кому они и могли бы, и хотели бы быть гораздо ближе» **.
* Там же. С. 550.
** Там же. С. 909.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 565
Слова Розанова похожи на то, что говорится в опубликованных
уже и, конечно, знакомых ему суждениях Достоевского в письмах
Страхову (портрета Страхова в записной книжке Достоевского, где
о тех же «семинарских» чертах Страхова — литератора и человека
сказано несравненно резче, естественно, Розанов не знал). Однако
Страхов в письме вспоминает не эти суждения Достоевского, а один
совет Толстого, прозвучавший семнадцать лет назад, и
поразительно, как четко, огненными словами запечатлелся он в душе критика:
«Не правда ли, что это сходится с Вашим советом — рассказывать себя,
выйти перед читателем без мундира и без орденов? » *
Впрочем, Страхов вспомнит и Достоевского, свои слова о нем
в письмах Толстому. Еще раз подчеркнет отличие своей «скромной»
натуры от себялюбивой и надменно-самоуверенной, как ему
представлялось, натуры Достоевского (тот почти неизменно был своего
рода ориентиром, точкой отсчета в
исповедально-автобиографических признаниях Страхова). Совет Толстого (равно и пожелания
Достоевского, Розанова и других) Страхов вежливо, но убежденно
отклоняет: «Об Вашем совете я прилежно думал и наконец сказал
себе: Как странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою!
Ведь моя объективность и есть выражение моего ума, моей натуры.
Я не могу говорить о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно,
стыдно заниматься собою и занимать других своею личностью. Мне
кажется всегда, что это не может быть для других занимательно, и
потому я берусь за их дела, за их интересы, или рассуждаю об общих,
объективных вопросах. Или еще иначе: у меня есть
действительное расположение к скромности; я не считаю себя, как Руссо или
Достоевский, образцами людей — напротив, я очень ясно вижу свою
слабость и скудость, и потому высоко ценю всякую силу и
способность других, а главное — ищу всегда общей мерки чувств и мыслей,
а не увлекаюсь своими мгновенными расположениями, не считаю
своих мнений и волнений за норму, за пример и закон» **.
Вновь Страхов, отличавшийся большим упорством и постоянством,
повторил высказанное ранее в биографии (в мягкой форме) и в
письме Толстому 1883 года (с обличительными и раздраженными
интонациями) свое крайне субъективное и недоброжелательное мнение
о Достоевском — писателе и человеке: «Достоевский, создавая свои
лица по своему образу и подобию, написал множество
полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с
действительности и что такова именно душа человеческая. К такой ошибке
* Там же.
* Там же. С. 909-910.
566
В. А. ТУНИМАНОВ
я неспособен, я не могу не объективировать самого себя, я слишком
мало влюблен в себя и вижу хотя отчасти свои недостатки» *.
Достоевский просто пришелся к слову и месту. Страхов поглощен
почти всецело мыслями о себе, о своей индивидуальности, о своей
«физиономии», о своем литературном стиле, органично связанном
с характерными свойствами натуры. В сущности, он предпринимает
энергичную попытку отстоять свою объективную позицию, несколько
преувеличивая свои привлекательные стороны (то, что выгодно
отличает его от влюбленных в себя Руссо и Достоевского): «Теперь возьмите
все это вместе; мою стыдливость, деликатность, скромность — ведь
это моя душа, положительная сторона моего существа, которую я сам
ценю и всячески стараюсь поддерживать. Если она выразилась в моих
писаниях, то тем лучше — у меня, значит, есть настоящее своеобразие,
определенная физиономия и я готов радоваться упрекам Розанова» **.
Мундир объективности он снимать решительно отказывается, так
как это не внешняя одежда, а суть его натуры, часть души, утратить
которую равносильно смерти. С эмоциональным подъемом он
повторяет Толстому в письме то, что бесчисленное количество раз
произносил в воображаемом внутреннем монологе, превосходно описывая
подноготную своего литературного труда: «Вы желаете, чтобы я снял
мундир и ордена; но этот мундир есть моя собственная кожа и я
выскочить из нее не могу. Разве я не правдивый и добросовестный писатель?
Когда пишу и не нахожу надлежащего слова или не вижу правильного
развития мысли, я просто не могу писать, останавливаюсь. <...> Все
ведь можно преувеличивать, и свои достоинства, и свои недостатки,
и свое самодовольство, и свое раскаяние, и радость и муки. Я боюсь
этой фальши. Я слишком раздражителен и впечатлителен, и потому
ищу всегда покоя и равновесия. Я пропитан скептицизмом, и потому
крепко держусь за ясные, твердые истины. А что я не высказываюсь
до конца, то ведь потому, что это гораздо труднее, чем полагают те,
кто этого требует. Есть знаменитый пример — Платон; его разговоры
не имеют окончательных выводов. Главное дело в том, чтобы
рассуждать, мыслить; а поприще мысли мне всегда казалось безбрежным
океаном»***.
Не забыл Страхов и о другой, оборотной стороне своей души,
напомнив Толстому, что уже раньше писал об этом, кратким перечнем
отрицательных свойств натуры («скрытность, гордость, сухость,
недоверие, отсутствие живых отношений к людям»), тесно, по диалектиче-
* Там же. С. 910.
** Там же.
*** Там же. С. 911.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 567
ским законам, слитых с положительными, находящимися с первыми
в состоянии перманентной войны, в которой нет победителей. Этой
сугубо частной, личной военной хроникой он с читателем делиться
не собирается: «Я подавляю эти недостатки сколько могу, стараюсь
дать им наилучший смысл, обратить в соответствующие им
достоинства. Кроме того, всегда я жажду любви, доверия, нежности, но мое
самолюбие и гордость меня коробят и отталкивают.
Но зачем же и для кого я стану рассказывать эти обыкновеннейшие
истории? Я очень ясно отличаю мое личное, случайное, от того, что
имеет общий интерес; когда пишу, то стараюсь возводить свои
мысли до общеинтересного, для всех законного и убедительного: тогда
я уверен, что меня не обманывает свойство моей души и случай моей
жизни»*.
Рассуждения Страхова интересны, хорошо знакомят с приемами
литературного труда критика и философа, в какой-то степени
справедливы, но и уязвимы. Субъективное и случайное, общее и личное
он пытается разграничить, разделить, создав преграды, возведя
прочные стены. Однако такого можно достичь только в теории и в идеале.
В действительности, как особенно ярко показывает нарисованный
им портрет художника и частного человека Достоевского, он неизбежно
стирает грань между объективным и субъективным, общим и
случайным, личным, не только не достигая объективных результатов, но
превышая всякую меру субъективного, опускаясь до карикатуры, низких
сплетен и клеветы, да еще и с маниакальным упрямством настаивая
на своей абсолютной правоте, на объективной точности своих суждений.
Конечно, Толстой не мог не заметить, что Страхов вновь
навязывает ему свое видение личности и творчества Достоевского, которое
он оспаривал ранее. Теперь он счел необходимым высказаться резче
и определеннее, поставив точку в затянувшемся разговоре: «Вы
говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все
люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных
лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают
себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее
и роднее. — Не только в художественных, но в научных философских
сочинениях, как бы он ни старался быть объективен — пускай Кант,
* Там же. С. 910. В «биографических сведениях» Страхов так формулировал свою
остававшуюся неизменной позицию: «Внутренняя моя жизнь, т.е. мои грехи,
покаяния, радости и горести, всегда казалась мне трудным предметом (каким
тоном ее писать?) и едва ли стоящим того труда, который нужно бы на нее
положить» (Никольский Б. В. Биография H. H. Страхова. С. 262).
568
В. А. ТУНИМАНОВ
пускай Спиноза, — мы видим, я вижу только ум, характер человека
пишущего»*.
Гениальный и исчерпывающий ответ. <...>
В последние годы страдающего от неизлечимой болезни Страхова
Толстой стремился «облегчить, успокоить», оказывал ему посильную
духовную помощь, очень советовал не впадать в грех уныния: «Уныние,
вы знаете, что грех, и потому, верно, боретесь с ним, а одиноким не
может быть никто, у кого есть общение с Богом. Если открыт путь на эту
главную станцию, то оттуда уже беспрепятственное и бесконечное
общение со всем истинно живым. А у вас должно быть это общение
с главной станцией, с Богом» **.
Утешение как утешение, несколько, кажется, холодноватое, особенно
если сравнить его с ответным плачем Страхова, еще раз
исповедующегося Толстому и сравнивающего себя с героями «Хозяина и
работника»: «Да, я свой грех знаю, и думаю о нем каждый день. Словами
я выражаю это так: нужно обратиться к Богу. И вот, хочу исповедаться
перед Вами: мне становится страшно от этой мысли; я чувствую себя
таким ничтожным, слабым, порочным, я начинаю ставить для
обращения к Богу такие высокие требования, желать в себе такой глубокой
перемены, что теряю всякую решимость, не могу приступить к делу.
Так со мною было всегда, всю жизнь. Я не женился и не собирался
жениться только потому, что дело мне казалось сложным, трудным,
ответственным. Я всегда очень боялся вмешательства в чужую жизнь
со своей стороны, и старался не брать на себя никаких обязательств,
пугаясь того, что не могу выполнить их как следует. Боже мой! Какая
уродливость, какая безжизненность! Вероятно, отец родил меня в
минуту несчастного раздумья. Все мне представляется в отвлеченном виде,
и потому сложным и трудным; чувство никогда не бывает настолько
живо, чтобы увлечь меня и порвать сеть мыслей. Я только избегаю
дурного и только желаю хорошего, но делать хорошее не делаю по слабости
стремления. <...> В последнее время я много каюсь, много усиливаюсь
понять себя и свою жизнь настоящим образом. И я постоянно ловлю
себя на самолюбивых мыслях; рассказывая о Василии Андреевиче,
Вы обо мне написали. Я все тешу себя похвалами, которые заслужил
и еще надеюсь заслужить, или обижаюсь иногда невниманием и
высокомерием, которое встретил. И эти пустяки составляют ежедневную
пищу моей души! Как бы мне вытравить свой эгоизм, как бы приобрести
добродушие и спокойствие Никиты?» ***
* Там же. С. 913.
* Там же. С. 992. Письмо от 26 апреля 1895 года.
* Там же. С. 994-995.
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 569
До Никиты умирающему Страхову, очевидно, весьма далеко.
Он кается Толстому спустя полтора месяца в самом большом своем
грехе — созерцательном и «спасительном» эгоизме: «Да, я счастлив,
что как-то спасся от сутолоки жизни. Но ведь я оттерпелся,
отмолчался, отлежался... Не дай Боже никому тех пакостей, которые я перенес!
Другие опасности, другие горести я считаю лучше моих, даже не
стоящих названия опасностей и горестей» *.
В январе 1896 года Страхов умер, так и не прочитав последнего
письма к нему Толстого, которое должны были доставить Борис Русанов
и Павел Щеголев. Толстой записал в дневнике: «Я жив, но не живу.
Страхов. Нынче узнал об его смерти». Они последнее время часто
писали друг другу о смерти, не ведая, кого изберет слепой жребий
первым. Он пал на Страхова, что опечалило Толстого — ушел старый друг
и Толстого, и всей семьи писателя**, постоянный гость Ясной Поляны,
с которым он привык вести долгие литературные и философские беседы
(эпистолярные и устные). Заменить Страхова было некем. Ушел, так
и не сняв с себя «мундира», унеся с собой много тайн и загадок, и среди
них — тайну так бурно выплеснувшейся ненависти к Достоевскому.
* Там же. С. 1008-1009.
:* Страхов неоднократно писал в письмах к Толстому, Софье Андреевне, Татьяне
Львовне о своей любви ко всей толстовской семье и к Ясной Поляне. И он был всегда
там желанным и дорогим гостем (см. об этом: Толстой С. Л. Николай Николаевич
Страхов / Публикация Н. П. Лузина // Яснополянский сборник. 1982. Тула, 1984.
С. 128-135; Л.Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с H.H. Страховым / Ред.
A.A. Донсков. Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa, 2000.
PRO
H.H. СТРАХОВ - Л. H. ТОЛСТОМУ
3 февраля 1881 г. Санкт-Петербург
Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не
оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского1. Как
будто провалилось пол-Петербурга, или вымерло пол-литературы. Хоть
мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение
он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим,
и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря
на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого.
Ах, как грустно! Не хочется ничего делать, и могила, в которую
придется лечь, кажется вдруг близко подступила и ждет. Все суета, все суета!
В одно из последних свиданий я высказал ему, что очень удивляюсь
и радуюсь его деятельности. В самом деле, он один равнялся (по
влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди
литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что
давно было признано за соблазн и безумие. Зрелище было такое, что
я изумлялся, несмотря на все свое охлаждение к литературе.
Но, кажется, именно эта деятельность сгубила его. Ему показался
очень сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении,
и в последнее время не проходило недели, чтобы он не являлся перед
публикою. Он затмил Тургенева и наконец сам затмился. Но ему нужен
был успех, потому что он был проповедник, публицист еще больше,
чем художник.
Похороны были прекрасные; я внимательно смотрел и
расспрашивал — почти ничего не было напускного, заказного, формального. Из
учебных заведений было столько венков, что казалось их принесли по общему
приказу; а между тем все это делалось по собственному желанию.
Бедная жена не может утешиться, и мне ужасно грустно было,
что я не сумел ей ничего сказать. «Если б еще у меня была горячая
вера...» — сказала она.
Я. Я. СТРАХОВ — Л. Я. ТОЛСТОМУ
571
Теперь мне задали трудную задачу, вынудили, взяли слово, что
я скажу что-нибудь о Достоевском в Сл[авянском] комитете 14-го
февраля2. По счастию, мне пришли кой-какие мысли, и я постараюсь
попроще и пояснее отбыть свой долг перед живыми и перед мертвым.
Прошу у Вас позволения сослаться на Ваше письмо3, где Вы говорите
о Мертвом доме. Я стал перечитывать эту книгу и удивился ее
простоте и искренности, которой прежде не умел ценить.
Простите, дорогой Лев Николаевич; не забывайте, не покидайте
меня.
Ваш душевно
Н. Страхов
P. S. A что же требование книги? Его можно устроить так:
Многоуважаемый H.H.
Прошу Вас, пришлите мне, если можно, из Публичной
библиотеки сочинения Филона Иудея в подлиннике и пр., и пр.; я возвращу
их через два месяца.
1881 Зфевр. СПб.
s
Н.Н.СТРАХОВ
Воспоминания
о Федоре Михайловиче Достоевском
Считаю своим долгом записать все сколько-нибудь важное и
интересное, что сохранила мне память о Федоре Михайловиче Достоевском.
Я был довольно долгое время очень близок к нему, особенно когда
работал в журналах, которых он был руководителем. Поэтому от меня
больше всего можно требовать и ожидать изложения его мнений и
настроений во время этой его публичной деятельности. Близость наша
была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и
чувства, и я постараюсь изложить их, как умею, насколько помню и
насколько успел понять. Судьбу этих журналов, историю их превратностей
едва ли кто другой может теперь рассказать с такою полнотой, как я;
а эта история имела важное значение в жизни Федора Михайловича
и составляет важную сторону его писательства. Постараюсь также
со всею искренностию и точностию указать его личные свойства и
отношения, какие мне довелось узнать. Но главным моим предметом
будет все же литературная деятельность нашего писателя. В истории
литературы он останется памятным не только как художник, как автор
романов, но и как журналист; и всего удобнее мне начать свои
воспоминания именно с указания на его журналистику.
I
Первые встречи
Но, твердо держась <...> служения минуте, беспрестанно
вдумываясь в современные явления и гордясь их уловлением в своих
произведениях, Федор Михайлович в то же время готов был ставить выше
всего строгие требования искусства и был почти безукоризненно чист
от всякой исключительности. Хотя он всегда искал в произведениях
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
573
искусства какого-нибудь современного или национального
значения, но художество само по себе восхищало его без всяких условий,
и под конец жизни он прямо стал твердить знаменитую формулу
искусства для искусства. Это противоречие постоянно жило в нем,
как и многие другие противоречия в мыслях и действиях, конечно,
находившие себе примирение в глубине его души и во многих
случаях, очевидно, спасавшие его от ложных и ненормальных путей;
подымаясь над этими противоречиями, он восходил на те высоты,
которые дали такое прекрасное настроение всей его деятельности.
В настоящем случае это как нельзя яснее: постоянное стремление к
настоящей художественности дало произведениям Федора Михайловича
ту ширину и глубину, которой никогда бы в них не было при узком
понимании задачи.
Здесь кстати вообще сказать, что читатель в этих и следующих
заметках не должен видеть попытки вполне изобразить покойного
писателя; прямо и решительно отказываюсь от этого. Он слишком
для меня близок и непонятен. Когда я вспоминаю его, то меня
поражает именно неистощимая подвижность его ума, неиссякающая
плодовитость его души. В нем как будто не было ничего сложившегося,
так обильно нарастали мысли и чувства, столько таилось неизвестного
и непроявившегося под тем, что успело сказаться. Поэтому и
литературная деятельность его растет и расширяется какими-то порывами,
не подходящими под обыкновенную форму развития. После ровного
ее течения, и даже как будто ослабления, он вдруг обнаруживал новые
силы, показывался с новой стороны. Таких подъемов можно насчитать
четыре: первый — «Бедные люди», второй — «Мертвый дом»,
третий — «Преступление и наказание», четвертый — «Дневник писателя».
Конечно, всюду это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что
он вполне высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы
и не дала нам увидеть, может быть, гораздо более гармонических и
ясных произведений.
С чрезвычайной ясностию в нем обнаруживалось особенного рода
раздвоение, состоящее в том, что человек предается очень живо
известным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся
и неколеблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои
мысли и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл
его рефлексиею. Следствием такого душевного строя бывает то, что
человек сохраняет всегда возможность судить о том, что наполняет
его душу, что различные чувства и настроения могут проходить в душе,
не овладевая ею до конца, и что из этого глубокого душевного центра
исходит энергия, оживляющая и преобразующая всю деятельность
и все содержание ума и творчества.
574
H. H. СТРАХОВ
Как бы то ни было, Федор Михайлович всегда поражал меня широ-
костию своих сочувствий, уменьем понимать различные и
противоположные взгляды. При первом знакомстве он оказался
величайшим поклонником Гоголя и Пушкина и безмерно восхищался ими
с художественной стороны. Помню до сих пор, как в первый раз
услышал я его чтение стихов Пушкина. Его заставил читать Михаил
Михайлович, очевидно благоговевший перед братом и с наслаждением
его слушавший. Федор Михайлович читал два удивительных отрывка:
«Только что на проталинах весенних» и «Как весенней теплою порою»,
которые ценил очень высоко и из которых последний потом выбрал
для чтения и на Пушкинском празднике. В первый раз я их услышал
от него за двадцать лет до этого праздника, и помню мое
разочарование: Федор Михайлович читал очень хорошо, но тем несколько
подавленным, пониженным голосом, которым обыкновенно читают
стихи неопытные чтецы. Помню и другие его чтения стихов и прозы:
положительно он не был тогда вполне искусным чтецом. Упоминаю
об этом потому, что в последние годы жизни он читал удивительно
и совершенно справедливо приводил публику в восхищение своим
искусством.
II
Основание «Времени»
Весь 1860 год мы только почти у А. П. Милюкова виделись с Федором
Михайловичем. Я с уважением и любопытством слушал его
разговоры и едва ли сам что говорил; но в «Светоче» шел ряд небольших
моих статей натурфилософского содержания, и они обратили на себя
внимание Федора Михайловича. Достоевские уже собирали тогда
сотрудников: в следующем году они решились начать издание толстого
ежемесячного журнала «Время» и заранее усердно приглашали меня
работать в нем. Хотя я уже имел маленький успех в литературе и
обратил на себя некоторое внимание М. Н. Каткова и Ап. А. Григорьева,
все-таки я должен сказать, что больше всего обязан в этом отношении
Федору Михайловичу, который с тех пор отличал меня, постоянно
ободрял и поддерживал и усерднее, чем кто-нибудь, до конца стоял
за достоинства моих писаний. Читатели могут, конечно, смотреть
на это как на ошибку с его стороны, но я должен был упомянуть об этом
факте, хотя бы как образчике его литературных пристрастий, и охотно
сознаюсь, что, несмотря на подшептывания самолюбия, часто сам
видел преувеличение в важности, которую придавал Федор Михайлович
моей деятельности.
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
575
В сентябре 1860 года при главных газетах и при афишах было
разослано объявление об издании «Времени». Так как это объявление
несомненно писано Федором Михайловичем и так как оно представляет
изложение самых важных пунктов его тогдашнего образа мыслей,
то мы приведем его целиком.
С января 1861 года будет издаваться
«ВРЕМЯ»
журнал литературный и политический ежемесячно,
книгами от 25 до 30 листов большого формата
Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем
нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем
несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий
момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и
направления нашего журнала.
Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую.
Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения,
на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно
заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем
указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время...
Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому
предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя
он и равносилен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей
истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие
образованности и ее представителей с началом народным* и приобщение
всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей
жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад
и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно,
своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.
Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них
есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи,
а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои
свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий,
победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание
развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет
и не должно быть победителей и побежденных.
Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила:
она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее
отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались
ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору.
* Курсива нет в подлиннике; здесь печатаются курсивом места, которые, по
моему мнению, всего яснее выражают главные мысли объявления. (Примеч.
H. H. Страхова.)
576
H. H. СТРАХОВ
Он называл их немецкими, последователей великого царя —
иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием,
с его вожатаями и предводителями, показывает, какою дорогою ценою
досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ
не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял
ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему
было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой
дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе
воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты,
искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более
отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли,
как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам
себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем
старых допетровских форм, тупого старообрядства.
Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы,
были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них
было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая.
После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один
только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ
заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает
и не понимает.
Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа,
продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла, наконец, до последних своих
пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена.
Все, последовавшие за Петром, узнали Европу, примкнули к европейской
жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за
неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь,
что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть
себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою
из собственных своих национальных начал, нам чуждых и
противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое
не по нашей мерке. Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная
национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача —
создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы
нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную
почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от
нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа
раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение
наше в великой семье всех народов.
Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от
человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что
характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени
общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех
тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает
Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском 577
враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие
в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали
все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа,
понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром
заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев.
Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества,
не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее
и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак
величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое
есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень
немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших
бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.
И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение
последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью.
Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним
раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении
цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны,
наконец, понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых
накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно
и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь.
Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие
пожертвования, и возможно скорейшее — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.
Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг
к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть
разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит
его счастием. А счастие его — счастие наше. Разумеется, что первый шаг
к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ
никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен.
Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего
нового. Но, пока за образованным сословием остается еще первый шаг,
оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться
усиленно. Распространение образования, усиленное, скорейшее и во что бы
то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой
деятельности.
Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала,
намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем
и другую причину, — побудившую нас основать новый независимый
литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике,
в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость,
подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем
нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде
в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими
убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других
единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но, заметим,
однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать
578
H. Я. СТРАХОВ
себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха
прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая
посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями,
установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело,
дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость
доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему
воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу
чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей
стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую
заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное
рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной
власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже
старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую
неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет
соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство
в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в половине
девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще,
и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит
и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор
несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей
самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно
потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика
пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей,
боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины.
Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом
прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения
подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже
и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе,
обращает иные периодические издания в дело преимущественно
коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда
о ней и не мыслится.
<...> Как я уже заметил, направление его было своего рода
славянофильством; и в подтверждение этого можно сослаться в объявлении
на признание разрыва между народом и интеллигенцией,
произведенного реформою Петра, на заявление, что нам, русским, суждено
особое, самобытное развитие, на требование вернуться к своей почве,
к народным началам. Но читатели, знакомые с образом мыслей наших
литературных партий, легко заметят, что это, однако, еще не
настоящее славянофильство. Во-первых, исходная точка, очевидно, другая.
Мысль Достоевского состоит в том, что нужно примирить образованные
классы с народом, объединить их, причем ни образованные классы
не должны отказываться от начал своей образованности, ни народ
от своих почвенных начал. Требуется совершить некоторый синтез,
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
579
который совместил бы в себе те и другие начала. В возможности
этого синтеза Достоевский нимало не сомневался; он пошел еще далее:
он предполагал, что русскому народу даны духовные силы, с которыми
он может совершить всемирный синтез, то есть найти исход и
примирение для всех противоречий, какие обнаружились в историческом
человечестве. Мысль о таком свойстве и предназначении русского
народа составляет содержание Пушкинской речи Федора Михайловича,
и, следовательно, исповедовалась им до конца.
Мысль эта для него очень характерна. Она свидетельствует о той
ширине симпатий, которою он отличался. Он не отказывался от
сочувствия к самым разнородным и даже, по-видимому, противоречащим
явлениям, как скоро раз сочувствие к ним успело в нем возникнуть.
Он не сумел бы логически согласовать свои сочувствия, усмотреть
противоречия, к которым они могут повести в дальнейших выводах,
и найти формулу, устраняющую эти противоречия; но он мирил в себе
свои сочувствия психологически и эстетически. Такого рода настроение
играло большую роль в его деятельности и было для нее очень
благоприятно. Общею чертою этой деятельности, чрезвычайно важною, нужно
считать — отсутствие злобы и презрения в постановке нашей великой
распри между западною и русскою идею. Эта черта составляла сущность
того электрического действия, которое произвела речь Достоевского
на Пушкинском празднике; она же, как мы увидим, характеризует
собою его романы и «Дневник».
Другая черта, которой нельзя не заметить в объявлении, есть
неопределенность тех начал, принципов, на которые оно ссылается.
Так и следовало этому быть при исходной точке и умственном
настроении Достоевского. Мысль его явилась ему пока только в самом общем
своем виде. Между тем как славянофилы прямо заявляли некоторые
определенные религиозные, философские, политические понятия,
Достоевский еще только ищет тех начал, которые поведут к
желаемому им примирению. Тем не менее он говорит об этих искомых началах
с большою твердостию и настойчивостию. Это также одно из его
отличительных свойств. Мысли самые общие и отвлеченные нередко
действовали на него с большою силою, и он воодушевлялся ими
чрезвычайно. Вообще он был человек в высокой степени восторженный
и впечатлительный. Простая мысль, иногда давно известная и
обыкновенная, вдруг зажигала его, являясь ему во всей своей
значительности. Он, так сказать, необыкновенно живо чувствовал мысли. Тогда
он высказывал ее в различных видах, давал ей иногда очень резкое,
образное выражение, хотя и не разъяснял логически, не развертывал
ее содержания. Прежде всего, он был все-таки художник, мыслил
образами и руководился чувствами.
580
H. H. СТРАХОВ
Третья знаменательная черта «Объявления» есть, конечно, та живая
надежда на скорость и возможность достижения поставленных целей,
которая в нем высказывается. Это также нужно отнести к живости
чувства, наполнявшего Достоевского. Между тем как славянофилы,
поставивши свою задачу во всей ее глубине, видели трудность ее
исполнения и, чем громче был шум литературного и общественного
движения, тем яснее видели, что исполнение заветных их желаний
отодвигается самым этим движением, — Достоевский, увлекаясь сам
господствующим возбуждением и не видя в нем элементов, вполне
враждебных своему идеалу, смело поднял знамя и думал, что
увлечет за собою эту волнующуюся массу. Эта способность горячей веры
и надежды не оставляла его до последних дней. Всегда он увлекался
стремительностью своих мыслей и готов был думать, что неминуемо
и скоро совершится то, что так ясно видел его умственный взор.
IV
Болезнь. Писательский труд
Скажу здесь и о манере писания, о которой с невольной жалобой
упоминает Федор Михайлович в начале «Примечания».
Обыкновенно ему приходилось торопиться, писать к сроку, гнать
работу и нередко опаздывать с работою. Причина состояла в том, что
он жил одною литературою и до последнего времени, до последних
трех или четырех лет, нуждался, поэтому забирал деньги вперед, давал
обещания и делал условия, которые потом и приходилось выполнять.
Распорядительности и сдержанности в расходах у него не было в той
высокой степени, какая требуется при житье литературным трудом,
не имеющим ничего определенного, никаких прочных мерок. И вот
он всю жизнь ходил, как в тенетах, в своих долгах и обязательствах
и всю жизнь писал, торопясь и усиливаясь. Но была еще причина,
постоянно увеличивавшая его затруднения и гораздо более важная. Федор
Михайлович всегда откладывал свой труд до крайнего срока, до
последней возможности; он принимался за работу только тогда, когда оставалось
уже в обрез столько времени, сколько нужно, чтобы ее сделать, делая
усердно. Это была леность, доходившая иногда до крайней степени,
но не простая, а особенная, писательская леность, которую с большою
отчетливостию пришлось мне наблюдать на Федоре Михайловиче. Дело
в том, что в нем постоянно совершался внутренний труд, происходило
нарастание и движение мыслей, и ему всегда трудно было оторваться
от этого труда для писания. Оставаясь, по-видимому, праздным, он,
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
581
в сущности, работал неутомимо. Люди, у которых эта внутренняя работа
не происходит или очень слаба, обыкновенно скучают без внешней работы
и со сластью в нее втягиваются. Федор Михайлович с тем обилием
мыслей и чувств, которое он носил в голове, никогда не скучал праздностию
и дорожил ею чрезвычайно. Мысли его кипели; беспрестанно создавались
новые образы, планы новых произведений, а старые планы росли и
развивались. «Кстати, — говорит он сам на первой странице "Униженных
и оскорбленных", где вывел на сцену самого себя, — мне всегда приятнее
было обдумывать мои сочинения и мечтать, как они у меня напишутся,
чем в самом деле писать их, и, право, это было не от лености. Отчего же?».
Попробуем отвечать за него. Писание было у него почти всегда
перерывом внутренней работы, изложением того, что могло бы еще
долго развиваться до полной законченности образов. Есть писатели,
у которых расстояние между замыслом и выполнением чрезвычайно
мало; мысль у них является почти одновременно с образом и словом;
они могут дать выражение только вполне сложившимся мыслям, и, раз
сказавши что-нибудь, они сказать лучше не могут. Но большинство
писателей, особенно при произведениях крупного объема, совершают
долгую и трудную работу; нет конца поправкам и переделкам,
которые все яснее и чище открывают возникший в тумане образ. Федор
Михайлович часто мечтал о том, какие бы прекрасные вещи он мог
выработать, если бы имел досуг; впрочем, как он сам рассказывал,
лучшие страницы его сочинений создались сразу, без переделок, —
разумеется, вследствие уже выношенной мысли.
Писал он почти без исключения ночью. Часу в двенадцатом, когда
весь дом укладывался спать, он оставался один с самоваром и, попивая
не очень крепкий и почти холодный чай, писал до пяти и шести часов
утра. Вставать приходилось в два, даже в три часа пополудни, и день
проходил в приеме гостей, в прогулке и посещениях знакомых.
На Федоре Михайловиче можно было ясно наблюдать, какой великий
труд составляет писание для таких содержательных писателей, как он.
В свои произведения он вкладывал только часть той непрерывной
работы, которая совершалась в его голове. Читатели, как известно, иногда
питают легкомысленное мнение, что писание ничего не стоит
даровитым людям, и обманываются в этом случае тою легкостию, с которою
течет стих или проза готового произведения. Но, в сущности, читатели
редко ошибаются в оценке авторского труда, потому что обыкновенно
их занимает или трогает только то, что занимало или трогало самого
автора, и насколько души и труда он вложил в свое произведение,
настолько оно и действует на читателей.
Что касается до поспешности и недоделанности своих произведений,
то Федор Михайлович, как видно из «Примечания», очень ясно видел
582
H. Н. СТРАХОВ
эти недостатки и без всяких околичностей сознавался в них. Мало того;
хоть ему и жаль было этих «недовершенных созданий», но он не только
не каялся в своей поспешности, а считал ее делом необходимым и
полезным. Для него главное было подействовать на читателей, заявить
свою мысль, произвести впечатление в известную сторону. Важно было
не самое произведение, а минута и впечатление, хотя бы и неполное.
В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого
искусства. Так как планам и замыслам у него не было конца, то он всегда
носился с несколькими темами, которые мечтал обработать до полной
отделки, но когда-нибудь после, когда будет иметь больше досуга, когда
времена будут спокойнее. А пока он писал и писал полуобработанные
вещи у — с одной стороны, чтобы добывать средства для жизни, с другой
стороны, чтобы постоянно подавать голос и не давать публике покоя
своими мыслями. <...>
V
Успех «Времени». — Сотрудники
Наша тогдашняя дружба хоть имела преимущественно умственный
характер, но была очень тесна. Близость между людьми вообще зависит
от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит
известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту,
за которую никого не допускает, или — лучше — не может никого
допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших
душевных свойствах, причем я вовсе не думаю брать на себя меньшую
долю этого препятствия. На Федора Михайловича находили иногда
минуты подозрительности. Тогда он недоверчиво говорил: «Страхову
не с кем говорить, вот он за меня и держится». Это минутное сомнение
показывает только, как твердо мы вообще верили в наше взаимное
расположение. В первые годы это было чувство, переходившее в
нежность. Когда с Федором Михайловичем случался припадок падучей, он,
опомнившись, находился сперва в невыносимо тяжелом настроении.
Все его раздражало и пугало, и он тяготился присутствием самых
близких людей. Тогда брат его или жена посылали за мной — со мной ему
было легко, и он понемножку оправлялся. Вспоминая об этом, я
возобновляю в своей памяти некоторые из лучших своих чувств и думаю,
что я, конечно, был тогда лучше, чем теперь.
Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры,
какие мне достались на долю в жизни. Он говорил тем простым, живым,
беспритязательным языком, который составляет прелесть русских
разговоров. При этом он часто шутил, особенно в то время; но его остро-
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
583
умие мне не особенно нравилось — это было часто внешнее остроумие,
на французский лад, больше игра слов и образов, чем мыслей. Читатели
найдут образчики этого остроумия в критических и полемических
статьях Федора Михайловича. Но самое главное, что меня пленяло
и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с
которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой
легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда
можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать
и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение
делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что
его просишь, и нет никаких недоумений и неясностей. Так мне
представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня
и большую радость, и гордость. Главным предметом их были, конечно,
журнальные дела, но, кроме того, и всевозможные темы, очень часто
самые отвлеченные вопросы. Федор Михайлович любил эти вопросы,
о сущности вещей и о пределах знания, и помню, как его забавляло,
когда я подводил его рассуждения под различные взгляды философов,
известные нам из истории философии. Оказывалось, что новое
придумать трудно, и он, шутя, утешался тем, что совпадает в своих мыслях
с тем или другим великим мыслителем.
VI
Федор Михайлович как романист и журналист
<...> Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда
создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности
он редко достигал. Для меня, близко его знавшего, субъективность
его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало
впечатление от произведений, которые на других читателей действовали
поразительно, как совершенно объективные образы.
Часто я даже удивлялся и боялся за него, видя, что он
описывает иные темные и болезненные свои настроения. Так, например,
в «Идиоте» описаны приступы падучей, тогда как доктора
предписывают эпилептикам не останавливаться на этих воспоминаниях,
которые могут повести к припадку, как приводит к нему зрелище
чужого припадка. Но Достоевский не останавливался ни перед чем,
и, что бы он ни изображал, он сам твердо верил, что возводит свой
предмет в перл создания, дает ему полную объективность. Не раз
мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным
реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные
извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов,
суть постоянное и обыкновенное явление в действительности и что
584
H. Н. СТРАХОВ
мы только пропускаем их без внимания. В таком убеждении он смело
пускался рисовать мрачные картины; никто так далеко не заходил
в изображении всяких падений души человеческой. И он достигал
своего, то есть успевал давать своим созданиям настолько реальности
и объективности, что читатели поражались и увлекались. Так много
правды, психологической верности и глубины было в его картинах,
что они становились даже понятными для людей, которым сюжеты
их были совершенно чужды.
Часто мне приходило в голову, что если бы он сам ясно видел,
как сильно окрашивает субъективность его картины, то это
помешало бы ему писать; если бы он замечал недостаток своего творчества,
он не мог бы творить. Таким образом, известная доля самообольщения
тут была необходима, как почти у всякого писателя.
Но каждый человек имеет, как известно, не только недостатки своих
достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков. Достоевский
потому так смело выводил на сцену жалкие и страшные фигуры,
всякого рода душевные язвы, что умел или признавал за собою уменье
произносить над ними высший суд. Он видел Божию искру в самом
падшем и извращенном человеке; он следил за малейшею вспышкою
этой искры и прозревал черты душевной красоты в тех явлениях,
к которым мы привыкли относиться с презрением, насмешкою или
отвращением. За проблески этой красоты, открываемые им под
безобразною и отвратительною внешностью, он прощал людей и любил
их. Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музою,
и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым он спускался в самые
страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот
почему был так искренен, так легко принимал даже свою
субъективность за вполне объективный реализм.
Как бы то ни было, зная его по его личным чувствам и мыслям,
я могу свидетельствовать, что он питал своих читателей лучшею
кровью своего сердца. Так поступают призванные, настоящие писатели,
и в этом заключается их неотразимое действие на читателей, хотя
публика часто и воображает, что писатели только хорошо
выдумывают и сочиняют, а критика иногда готова предписывать им даже
какую-нибудь свою цель, а не ту, какую указывает им их собственное
сердце. Поэтому мне думается, что Достоевский, несмотря на
несовершенства своих созданий, долго останется глубоко интересным
писателем, гораздо долее тех, чья муза представляет, по-видимому,
больше гармонии и стройности, но зато не имеет такой
искренности, такого своеобразия и сердечного порыва. Под музою я разумею
тот идеализированный характер, тот склад ума и сердца, который
принимает человек, когда начинает писать и творить. Муза и сам
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
585
человек — два существа различные, хотя они и выросли из одного
и того же корня, хотя и срослись теснее сиамских близнецов. Из
того, что я сказал, видно, что в Достоевском муза и человек сливались
необыкновенно тесно.
Обращаюсь к чисто личным чертам. Никогда не было заметно
в нем никакого огорчения или ожесточения от перенесенных им
страданий, и никогда ни тени желания играть роль страдальца. Он был
безусловно чист от всякого дурного чувства по отношению к власти;
авторитет, который он старался поддержать и увеличить, был только
литературный; авторитет же пострадавшего человека никогда не
выступал, кроме тех случаев, когда во имя его нужно было требовать
свободы мысли и слова, доказывать, что его мысли о
правительстве никто не имеет права считать потворством или угодливостью.
Федор Михайлович вел себя так, как будто в прошлом у него ничего
особенного не было, не выставлял себя ни разочарованным, ни
сохраняющим рану в душе, а, напротив, глядел весело и бодро, когда
позволяло здоровье. Помню, как одна дама, в первый раз попавшая
на редакционные вечера Михаила Михайловича (кажется, они были
по воскресеньям), с большим вниманием вглядывалась в Федора
Михайловича и наконец сказала: «Смотрю на вас и, кажется,
вижу на вашем лице те страдания, какие вы перенесли...» Ему были
видимо досадны эти слова. «Какие страдания!..» — воскликнул
он и принялся шутить о совершенно посторонних предметах. Помню
также, как, готовясь к одному из литературных чтений, бывших
тогда в большой моде, он затруднялся, что ему выбрать. «Нужно что-
нибудь новенькое, интересное»,— говорил он мне. «Из "Мертвого
дома"?» — предложил я. «Я уж часто читал, да и не хотелось бы
мне. Мне все тогда кажется, как будто я жалуюсь перед публикою,
все жалуюсь... Это нехорошо».
Вообще он не любил обращаться к прошлому, как будто желая вовсе
его откинуть, и если пускался вспоминать, то останавливался на чем-
нибудь радостном, как будто хвалился им. Вот почему из его разговоров
трудно было составить понятие о случаях его прежней жизни.
В отношении к власти он всегда твердо стоял на той точке, которая
так ясна и тверда у всех истинно русских людей. Он давал полную
строгость своему суждению, но откладывал всякую мысль о непокорности.
Ни сплетничества, ни охоты злословить у него не было, хотя ему
случалось с великою горечью и негодованием говорить об иных лицах
и распоряжениях. На себе же он переносил и неудобные
существующие порядки не только беспрекословно, но часто с совершенным
спокойствием, как дело не его лично касающееся, а составляющее
общее условие, свойство которого не зависит от этого частного случая.
586
H. H. СТРАХОВ
Так, например, я не помню, чтобы он когда-нибудь сильно раздражался
против цензуры. Тогда существовала предварительная цензура, то есть
каждая статья в корректуре подвергалась исключениям и поправкам
цензора. Цензора, конечно, делали при этом много лишнего, по тому
естественному побуждению, что им хотелось исполнять долг,
совершать некоторый труд, то есть непременно делать поправки и
исключения, — если нельзя больших, то хоть маленькие. С другой стороны,
они были вообще люди очень любезные, обыкновенно смотревшие
с уважением на литературу и очень доступные для авторов. Каждый
автор, получивши корректуру с помарками красных чернил, нередко
отправлялся с нею к цензору и торговался, отстаивая свои строчки
и выражения. Такие случаи были беспрерывны, и тут было поприще
для всяких раздражений. Но я не помню, чтобы Федор Михайлович
когда-нибудь особенно негодовал на подобные случаи. Вообще мы вовсе
не старались в нашем журнале о том, чтобы произвести какой-нибудь
скандал, обойти цензуру. Что же касается, в частности, до Федора
Михайловича, то он принадлежал к числу тех писателей, которые
обыкновенно остаются в пределах цензуры, нимало об ней не думая,
а только потому, что слишком серьезны, чтобы позволить себе резкости
и личности, останавливающие внимание цензоров.
<... >
XVII
Годы за границею
Через два месяца после свадьбы, именно 14-го апреля 1867 года,
молодые уехали за границу, где им суждено было пробыть гораздо
дольше, чем они предполагали и желали. Они вернулись в Петербург
только 8-го июля 1871 года, следовательно, провели вне России четыре
года с большим лишком. За это время у меня не может быть никаких
воспоминаний, кроме заочных. Но зато к этому времени относятся
два длинные ряда писем, один к А. Н. Майкову, другой ко мне. <...>
Скажу несколько слов вообще об этих письмах. В них постоянно
слышится чистота намерений, искренность, прямота. Не забудем, что
автор их был человек, в котором непрерывно совершались очень
сильные и сложные душевные движения; но из писем ясно, что он легко
становился выше этих движений и с этой высоты умел судить свои дела
и отношения, себя и других, судить беспристрастным, великодушным
судом. Он рассказывает свои слабости и затруднения, он волнуется
и просит, жалуется и кается, но везде видно, что он никогда не теряет
совершенно ни твердости, ни правильного взгляда на обстоятельства
и людей.
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
587
Письма эти составляли большую отраду тех, к кому они были
писаны. Скажу, по крайней мере, про себя, что чем далее шло
время, тем наши заочные отношения становились все лучше и теплее,
тем оживленнее шла переписка. Всякие мелочи, случайности,
посторонние чувства отбрасываются в сторону, когда мы обращаемся
к отсутствующему, и потому тут люди сближаются лучшими своими
сторонами, и сближаются иногда теснее, чем при свиданиях и
разговорах. Но, кроме того, я совершенно убежден, что эти четыре с
лишним года, проведенные Федором Михайловичем за границею, были
лучшим временем его жизни, то есть таким, которое принесло ему
всего больше глубоких и чистых мыслей и чувств. Он очень усиленно
работал и часто нуждался; но он имел покой и радость счастливой
семейной жизни, и почти все время жил в совершенном уединении,
то есть вдали от всяких значительных поводов оставлять прямой
путь развития своих мыслей и глубокой душевной работы. Рождение
детей, забота об них, участие одного супруга в страданиях другого,
даже самая смерть первого ребенка, — всё это чистые, иногда высокие
впечатления. Нет сомнения, что именно за границей, при этой
обстановке и этих долгих и спокойных размышлениях, в нем совершилось
особенное раскрытие того христианского духа, который всегда жил
в нем. В его письмах под конец вдруг раздались звуки этой струны;
она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки
для себя одного, как это делал прежде. Об этой существенной
перемене, однако же, письма не дают полного понятия. Но она очень ясно
обнаружилась для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся
из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные
темы. Мало того; он переменился в обращении, получившем большую
мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица
его носили след этого настроения, и на губах появлялась нежная
улыбка. Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы входили
вместе, и с нами поздоровался И.И. Петров. «Кто это?» — спросил
меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как
он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречался.
Я сказал ему и прибавил: «какой чудесный, чудеснейший человек!»
Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с большою
любовью поглядел на других присутствовавших и потихоньку сказал мне:
«Да, все люди — существа прекрасные!» Искренность и теплота так
и светились в нем при этих словах.
Лучшие христианские чувства, очевидно, жили в нем, те чувства,
которые все чаще и яснее выражались и в его сочинениях. Таким
он вернулся из-за границы.
588
H. H. СТРАХОВ
XXI
Последние дни. — Впечатлительность. — Герой литературы
Эта смерть, наступившая так быстро, имела характер довольно
ясный для тех, кто знал Федора Михайловича в последнее его время.
Он был необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся, он страдал
от своей эмфиземы. Он жил, очевидно, одними нервами, и все
остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог
разрушить первый, даже небольшой толчок. Всего поразительнее была
при этом неутомимость его умственной работы. Он был чрезвычайно
занят. Он писал 25 или 30 печатных листов в год, а работа, как он сам
мне говорил, стала ему труднее. «Теперь мне нужно вдвое, втрое больше
времени, чтобы написать столько же, как прежде». Жизнь, спокойная
и правильная с внешней стороны, без переездов и помех, давала ему
больше времени, но тем усерднее он отдавал это время своему
призванию. Потом, в последние годы, особенно с начала «Дневника писателя»,
он был завален перепиской и замучен посетителями. К нему писали
и шли люди совершенно незнакомые, со всех концов Петербурга и краев
России. Приходили с просьбами о помощи, так как он усердно
помогал бедным и принимал участие в чужих затруднениях и несчастиях;
но также беспрерывно приходили с выражением своего поклонения,
с вопросами, с жалобами на других и с возражениями против него.
Такого же рода были и письма. Нужно было разговаривать,
расспрашивать, отписываться, объяснять. Популярность его радовала; много
он встретил заявлений, которые показывали, что слова его не пропали
даром; много узнал людей, принесших ему отраду своими душевными
качествами. Эти сношения он считал прямым долгом поддерживать
и направлять в хорошую сторону. Особенно он был внимателен к
молодым людям, к студентам, к курсисткам.
Затем — сыпались приглашения на заседания всяких обществ,
на обеды по разным случаям, на литературные чтения с
благотворительной целью. Нужно было сговариваться о времени, выбирать, что
прочесть, готовиться и читать. Но нельзя было вовсе забросить и
знакомых и хоть изредка да не побывать у них в заведенные среды или
субботы. И все это помимо домашних, и семейных, и родственных дел
и забот, тоже бравших время и силы. А когда же было думать и читать?
То есть когда было совершать дело, требующее очень много времени
и не поддающееся никакому сокращению? Понятно, что он жил в
постоянном напряжении, что внутри его кипела непрерывная работа,
о которой не имеют понятия люди, не занимавшиеся писательством.
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
589
Писателю нельзя, как профессору, из году в год повторять одно и то же;
а писателю творческому приходится напрягать все силы своей души,
отдаваться вдохновению до высшего полета, к какому оно способно.
Вот почему писатель, погружающийся в свою работу, часто бывает
совершенно другим человеком, чем в то время, когда не занимается
писанием. Напряжение отзывается во всем, и в подъеме самолюбия,
и в повышенной чуткости ко всем впечатлениям. «Нельзя писать
хорошие вещи, — говорил мне один первостепенный и знаменитый
своею искренностию писатель, — не будучи убежденным в это время,
что делаешь самое важное дело, какое есть на свете». Такова
причина того глубокого обращения внутрь себя, той щекотливости и даже
раздражительности, которые были заметны в Федоре Михайловиче,
особенно в последние годы. В эти годы он почти уже не приходил
в расположение духа, свойственное людям, спокойно и просто идущим
по житейской дороге. Внутреннее напряжение почти не оставляло его.
Это одно из тех бедствий, которыми сопровождается литературная
карьера, бедствие иногда очень тяжелое и составляющее теневую сторону
радостей творчества.
Мне хотелось объяснить здесь нормальную сторону той
чрезвычайной впечатлительности, которую обнаруживал Федор Михайлович.
Но ведь он сверх того был человек больной; припадки «священной
болезни», так часто совмещающейся с высокими нервными
организациями, отнимали у него память, приводили его в мрачное настроение
и удвоивали его мнительность и щекотливость. Здесь было бы у
места привести анекдоты о его забывчивости, неожиданных вспышках
и резкостях, те анекдоты, из которых иные, конечно, сохранились
в памяти множества людей, приходивших в соприкосновение с
замечательным человеком. Не останавливаясь на этих случаях, замечу
только, что соль подобных анекдотов состоит не только в противоречии
между теми признаками раздражения, которые иногда обнаруживал
Федор Михайлович, и тем большим и всеобщим уважением, которое
его окружало в последнее время, но также в уме и меткости, которые
пробивались и в этих, вовсе ненужных и странных выходках.
Я сам очень обижался на Федора Михайловича, тем более
обижался, чем ближе мы когда-то были. Непобедимая мнительность иногда
заставляла его смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему
что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень
огорчало меня. «Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать
мои чувства и верить в них». Я старался победить в себе
раздражение, вероятно, чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы
к большему сближению и до последнего времени все мечтал, как
о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше
590
H. H. СТРАХОВ
прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя виновным,
что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, я уверен, было
такое же желание.
Дело в том, что вся эта внешность, вся сила этих наружных мелочей
и слабостей почти вовсе не имели влияния на его поступки, на его
образ чувств и действий, всегда сохранявший благородство и высоту.
Он был строг к себе и даже щепетилен; его великодушие не могло
помириться не только с темным или недобрым поступком, но и с темным
или недобрым чувством. Он трудился и жил, постоянно воспитывая
в себе наилучшие чувства и действуя не только безукоризненно и
бескорыстно, а часто самоотверженно.
Но тяжесть его положения и той деятельности, которой он
предавался всеми силами, была так велика, что он невольно сгибался под нею.
Он умер в самый разгар своей деятельности, как будто эта тяжесть
вдруг и неожиданно сломила его, когда он стоял на своем посту, когда
боролся и напрягался, как того требовало его призвание. И нельзя
отказать ему в нашем умилении и удивлении, если мы вспомним, сколько
этот человек вынес труда и горя и сколько он сделал.
С низменной, пошлой точки зрения на Достоевского можно смотреть,
как на заурядного литератора. Иные, пожалуй, скажут так: «Он шел
самым обыкновенным путем, торною дорогою этого поприща. Еще
в школе он почувствовал страсть писать, — очень обыкновенное
явление в поре самолюбивой молодости. По выходе из школы он бросает
профессию, к которой готовился, не продолжает своего образования,
а весь отдается литературе. Он скоро увлекается
противуправительственными мнениями и подвергается ссылке в каторгу. По
возвращении он получает, в силу этого, особенный вес в либеральной публике
и пользуется этим. Он пишет как можно больше и эффектнее, берется
за различные литературные предприятия, обыкновенно неудачные,
но усиленно и постоянно хлопочет об успехе. Он очень высокого
мнения о себе, беспорядочен в делах, вечно в долгах и нуждается, и вечно
погружен в литературные дрязги. Критики, газетные отзывы,
соперники по ремеслу, полемика — вот чем он занят постоянно и усердно.
Нападки на него его раздражают, как будто он только что начинающий
фельетонист. Пишет он, вечно торопясь, не успевая ни вполне обдумать,
ни вполне обделать свои произведения, потому что он живет одною
только литературою. Так он достигает шестидесяти лет, написавши
очень много; понятно, что его вещи далеко не равного достоинства,
и лишь некоторые действительно замечательны».
Так могут сказать иные. Но вспомним, что литература имеет две
стороны и что мы ничего не поймем в ней, если станем смотреть не с того
конца. Писание, конечно, есть дело пустое и даже презренное, когда
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
591
оно делается из попугайства, по глупости, по самолюбию или из
расчета. Но оно есть очень высокое дело, когда человек видит в нем свое
действительное призвание. Федор Михайлович не только всегда был
что называется завзятым литератором, но был, можно сказать,
урожденным литератором. Может быть, еще мальчиком, но лет с пятнадцати
наверное, он стал питать в себе и горячую веру в себя как писателя
и горячую веру в литературу как великое и прекрасное поприще.
И он до конца не изменил своей вере, и она оправдалась блистательным
образом. Он был очень высокого мнения о своих дарах, но ведь он же
имел на это и немалые права, да и без уверенности в себе нельзя было
выступать на поприще проповедничества, к которому он чувствовал
такое влечение. По правилу поэта
Стрела тогда летит далеко,
Когда здорова тетива.
Он должен был сознавать свои силы. Но, хотя он и считал себя богато
одаренным, хотя готов был в минуту вдохновения видеть в своих мыслях
и чувствах нечто высшее, почти пророческое, он, при этом, с самого
начала и до конца признавал своим поприщем только одну литературу,
не литературу вообще, а именно нашу текущую литературу; он никогда
не желал и не искал никаких других успехов, кроме успехов в нашей
читающей публике и среди нашей пишущей братии. Он принимал
литературу как она есть, со всеми ее условиями, никогда не становился
от нее в стороне и не бросал на нее взглядов свысока. Это отсутствие
малейшего литературного аристократизма есть в нем черта
прекрасная и даже трогательная. Русская литература была как будто тоже
почвою у на которой вырос Федор Михайлович, от которой он никогда
не отрывался, к которой питал кровную любовь и преданность. Мне уже
приходилось в начале указывать, что он был даже прямым питомцем
петербургской литературы, разделял ее вкусы и употреблял ее приемы.
Все литературные формы, от фельетонного дурачества до высшего
художественного творчества, имели в его глазах свою законность, свое место,
и он готов был упражняться во всяких родах. Все чисто литературные
способы действовать на публику, возбуждать ее внимание и иметь в ней
успех он считал делом хорошим, так как это были условия его ремесла,
и уже одно распространение чтения было в его глазах великою пользою.
Журнал, который бы вечно блестел новизною, который бы и смешил,
и развлекал, и серьезно наставлял читателя, был его постоянною
мечтою. Он хорошо знал, что, выступая в публику и в литературную сферу,
он выходит на базар, на площадь, и нимало не думал стыдиться ни своего
ремесла, ни своих собратий по ремеслу. Напротив, он гордился этим
592
H. H. СТРАХОВ
делом, считал его великим, священным, — и вот где истинный смысл
всего его поведения, всех его стараний и приемов.
Дело в том, что он нес на площадь свою мысль, свою душу. Он с самого
начала выступил как новый писатель, глядящий на вещи с своей, с
особенной стороны. Это тотчас поняли и признали Белинский и Некрасов,
хотя и не вся глубина и ширина этой новости была им доступна. Сам
Достоевский всю жизнь рвался выразить тот рой мыслей и чувств,
которым полна была его голова, и все не успевал вполне высказаться, все
оставался недоволен тем, что писал. Итак, не из подражания или
расчета он писал, а, напротив, он был от начала твердо уверен, что другие
должны ему подражать и что драгоценности, которые он предлагает
читателям, несравненно выше всяких денег, всякой цены. Успех его был,
однако же, медленный и очень трудный, отчасти потому, что талант
его хотя и значительно обнаружился с первого же раза, но продолжал
медленно зреть до полной силы, отчасти потому, что он не умел вести
своих дел, а между тем брался за разные литературные предприятия,
воображая, что может соперничать с иными из самых практичных своих
собратий по профессии. Но наконец он все-таки достиг своего; после
долгой и тяжкой борьбы он достиг огромной известности, достиг
распространения в публике своих чувств и мыслей и, наконец, достатка,
если не богатства, которого, конечно, стоил, хоть и не желал.
Если, таким образом, взять в целом эту жизнь и эту карьеру, то
нельзя не быть пораженным. Ему досталась на долю тяжкая кара со стороны
власти, которая не без причины подозрительно смотрит на иные кружки
интеллигенции, но на этот раз была чересчур строга, да и потом
ошибалась по отношению к нему. Ему досталось на долю разоренье, то есть
не только потеря всякого имущества, но еще большие долги и
обязанность поддерживать большую семью покойного брата. Ему, наконец,
досталось на долю все неустройство литературной жизни, десятки
лет неверного, непостоянного заработка, забиранья денег вперед, вы-
жиданья, выпрашиванья, нерасчетливых трат и сиденья без копейки.
Все он перенес, все победил, не изменяя своей цели, не покидая своего
поприща, не теряя ни бодрости, ни пламенного желания высказаться,
оставаясь себе верным от «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых».
Это не простой литератор, а настоящий герой литературного поприща.
В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он,
как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший
столько тягостей и волнений, достоин умиления.
Д.И.ЧИЖЕВСКИЙ
Чёрт Ивана Карамазова
и Николай Николаевич Страхов1
Многократно указывалось на то, что чёрт Ивана Карамазова
предвосхищает идеи Ницше о вечном возвращении. Чёрт так формулирует
эти мысли: «Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз
повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась,
разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом
опять комета, опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие,
может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде,
до черточки. Скучища неприличнейшая!..» (Книга 11, гл. 9)2.
Достоевский прочитал об идее вечного возвращения в статье Страхова
(псевдоним «Н. Косица»), усерднейшего сотрудника обоих издаваемых
братьями Достоевскими журналов: «Время» и «Эпоха». Страхов был,
как мы знаем, например, из переписки Достоевского, своего рода
доверенным лицом писателя в области философии. Указанную статью «О
жителях планет» Достоевский упоминает и позднее (Сочинения, издание
Гроссмана, дополнительный том 23, с. 45)3. Для Страхова поставленный
тогда (1860) вопрос о жителях других планет — это типично
просветительская тема, которая характерна для всей эпохи: таким образом,
происходит отказ от мысли о центральном положении человека в мире.
Однако Страхов упорно защищает идею о центральном месте человека
(в основном с опорой на философию Гегеля). В конце статьи он приходит
к выводу, что если отказываться от центрального места человека в
космосе, то нужно смириться и с идеей вечного возвращения (я цитирую
книгу Страхова «Мир как целое»4, Петербург, 1892, в которой были
собраны статьи Страхова шестидесятых годов; упомянутое место — с. 273
и далее). Страхов доводит обе идеи до абсурда, показывая, что на других
планетах органическая жизнь могла развиться только в точно такие же
формы, в какие она развилась на Земле. И что верно для пространства,
верно также для времени, для будущего. Представим себе, что развитие
594
Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ
жизни на земле прекратилось, и тогда с дальнейшим течением времени
может только начаться с начала то же самое развитие (274). В качестве
примера Страхов приводит учение о вечном возвращении у стоиков,
а именно переводит цитату из Немесия*: «Стоики говорят, что когда
планеты по широте и долготе придут в те созвездия, в которых они
находились сначала при творении мира, то произойдет всемирный пожар
и разрушение, а потом из сущности восстановится мир в прежнем виде.
А так как звезды должны вращаться подобным прежнему образом, то все
бывшее в предыдущем периоде повторится без перемены. Снова явятся
Сократ и Платон, снова явится каждый человек с теми же друзьями
и согражданами. Те же настанут поверья, те же встречи, те же
предприятия, те же построятся города и деревни. И такое восстановление
всего произойдет не один раз, но будет происходить многократно, или,
лучше сказать, без конца» (275). Как известно, учение Ницше
связано и с античной традицией, может быть, в том числе и с этим местом
из Немесия5. Однако Страхов приводит эту цитату не для того, чтобы
обновить излагаемое в ней учение, но чтобы сделать очевидной
ошибочность просветительского мировоззрения. Принимая это мировоззрение,
человек теряет «связь между явлениями, единство мира» (275). Вечное
возвращение оказывается «бессмысленным» (276), учение о вечном
возвращении противоречит «сущности человеческого ума», особенно если
его распространять на явления духовной жизни человека (275 и далее).
Достоевский вкладывает в уста чёрта Ивана Карамазова слова
из этого учения только для того, чтобы показать, в какой тупик зашла
мысль просветителя Ивана. Чёрт высказывает идеи просветительского
мировоззрения, выводы, которые сам Иван не осмеливался развивать
всерьез. В мире без Бога полное страданий существование человека
оказывается бессмысленным, человек теряет свое достоинство, свое
значение, свое центральное положение в мире. Чтобы выявить это
основное настроение мировоззрения Ивана, Достоевский, вероятно,
обращался к трудам своих ранних соратников и знатоков философии.
А Страхов уже в 1860 году предвидел, что европейская философия
придет к учению о вечном возвращении (ср. также некоторые строки
в другой статье Страхова за тот же год — там же, с. 126)6.
Философия Ивана Карамазова и Страхов7
Сам Иван Карамазов в отдельные моменты предсказывает идеи или
даже формулировки Ницше. Самая бросающаяся в глаза параллель —
в идее «любви к дальним» (у Достоевского в «Братьях Карамазовых»,
* Nemesius De nat. hom. 38, 147 (309, M.).
Чёрт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов
595
V, 4, изданы 1879-1880; у Ницше впервые — 1883 году, позднее
Ницше читал Достоевского по-французски, но «Братья Карамазовы»
остались ему неизвестны; ср. Ch. Andler «Nietzsche et Dostojewsky»
в «Mélanges d'histoire littéraire generate et comparée offerts à Fernand
Baldensperger», Париж, 1930,1, 4); это объясняется одинаковым
логическим развитием одного и того же ряда суждений у обоих (см. мою
статью в изданном мной сборнике «Dostojevskij-Studien», Reichenberg,
1931, с. 54)8, но с тем отличием, что Достоевский высказывает эти идеи
только как немыслимые следствия из просветительского
мировоззрения, а Ницше — как свои собственные мысли.
Но Ивана мучает и другая проблема, которая является основной
для Ницше,— проблема «высшего человека», то есть существа,
которое было бы выше, чем человек (ср. мою вышеупомянутую статью
в «Zeitschrift», VI, 1 и далее9). Достоевский хочет показать в образе
Ивана (ранее ряд родственных мотивов уже возникал в «Преступлении
и наказании»), к каким немыслимым следствиям можно прийти, если
в пользу сверхчеловека отказываться от конкретных живых людей.
Такую постановку вопроса мы находим еще раньше в статьях
Страхова шестидесятых годов. Четче всего Страхов сформулировал свое
отношение к проблеме «высшего человека» в статье о Фейербахе (1864,
издано в собрании статей Страхова «Борьба с Западом в русской
литературе», т. И, Петербург, 1883, с. 78 и далее, и в «Философских
очерках» , Петербург, 1895, с. 51 и далее10). Страхов в этой статье дает обзор
развития современной философии. Больше всего его, как гегельянца,
интересуют представители левого гегельянства. Функцию этого
современного направления Страхов видит в отрицании. Фейербах отрицает
теоретическую мысль и вообще философию, Пруд он — возможность
материального благосостояния, Герцен — саму возможность счастья
(там же, с. 104 и далее, ср. и другие статьи Страхова в том же собрании,
и в других его томах под тем же названием, где он говорит в том числе
о Ренане, Карлейле, Д. Штраусе, Дарвине): «<...> После этих глубоких
отрицаний, не заменяющих отрицаемое ничем положительным <...>
оставалось сделать еще одно последнее отрицание; и оно действительно
приходило на языке западных мыслителей. Именно, остается только
отрицать человека. Пусть цивилизация гибнет, пусть не спасает нас
политическая экономия, пусть нужно отвергнуть и философию, и
религию; можно все-таки думать, что после всей этой гибели останется
человечество, которое пойдет к новым идеалам, к новым формам жизни
и мысли. Отрицать это — вот конец отрицания. И до него дошел Запад
в силу неизбежной логики. Не раз было сказано, что человек есть
неудавшееся создание, попытка природы, вроде тех странных ископаемых
творений, которые были переходными ступенями к формам нынешних
596
Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ
земных тварей. Если так, то нужно ждать нового геологического
переворота, в котором погибнет человечество. Тогда новое создание, которое
займет место человека, может быть, представит ту красоту и то
достоинство жизни, которое для нас, людей, невозможно»11 (там же; ср. т. III
того же издания, Петербург, 1896, с. 17 и далее, статья за 1891 год12).
Те же мысли развивает Страхов и в натурфилософской статье в
журнале Достоевского. Он считает, что можно доказать, что человек «не только
высшее животное, но и что выше его и быть не может, что он не есть
просто вершина животного царства, что дальнейшее биологическое развитие
непредставимо» (Мир, 19)13. Эта же проблема является и главной темой
упомянутой статьи о жителях планет (ср. 204 и далее, 211, 266, 279).
Центральное место человека должно быть сохранено. Существо,
биологически более развитое, чем человек, для него бессмыслица. Но Страхов
придерживается мнения, что для просветительского мировоззрения
представление о таком «высшем» существе совершенно естественно (204
и далее, «Борьба с Западом» III, 17 и далее). И здесь Страхов приписывает
просветителям идеи, которые впоследствии с особой силой были
выражены Ницше. Однако Страхов в основном рассматривает только один
аспект учения о «высшем существе», а именно биологический аспект,
который у Ницше, конечно, присутствует («сверхчеловек» является в том
числе и биологически высшим существом), но ни в коем случае не
является главным. Страхов к тому же приводит учение о «высшем существе»
только с той целью, чтобы остро атаковать его со своей позиции*.
У Достоевского мы находим не только проблему «высшего
существа», но даже и те же выражения, которые использовал Страхов.
В приведенной выше цитате из работы Страхова мы читали о
возможном «геологическом перевороте» (Борьба с Западом, II, 105). Также
и в другом месте у Страхова идет речь о «геологическом перевороте»:
«Но представьте, говорят иногда, что теперь, завтра же произойдет
геологический переворот; люди погибнут, и, по аналогии, вероятно, земля
заселится новыми животными, высшими, нежели человек» (Мир, 16.
Написано в 1858 году). «Помню, — пишет Страхов (там же, 204 и далее,
написано в 1860 году), — в одном многолюдном ученом заседании зашла
речь о том, что, может быть, после нашей геологической эпохи, после
нового переворота, явятся на земле существа, более совершенные, чем
люди. Один из членов собрания отвергал возможность такого события,
но другой, весьма известный профессор, и притом профессор
зоологии, утверждал, что это легко может быть. «Почему вы знаете, —
наконец спросил он, — что после нас на земле не явятся, например, люди
с крыльями? Они будут летать, а не ходить, а летать гораздо лучше,
* Ср. «Urgestalt der Brüder Karamasoff ». München 1928. S. 245. Рукопись. С. 2.
Чёрт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов 597
чем ходить!» (там же, 204 и далее). Страхов отмечает, что упомянутым
профессором зоологии был С. С. Куторга14. Даже внешне этот
«геологический переворот» напоминает «поэму» молодого Ивана. Чёрт Ивана
Карамазова (сущность чёрта, по Достоевскому, заключается в
отрицании, а его функция в романе состоит в том, чтобы представлять
негативные идеи Ивана, а значит, и идеи Просвещения*); поскольку Иван
является представителем высшей формы просвещения (ср. мою статью
в «Zeitschrift», стр. 34 и далее15), Иван вспоминает о стихотворении («по-
эмке») «Геологический переворот», которое он, по-видимому, написал
в молодости. Ивана интересует не столько «геологический (и
биологический) переворот» в буквальном смысле слова, сколько возможность
«духовного переворота» («параллель геологическому перевороту»).
Сущность этого духовного переворота должна состоять в том, чтобы
«человечество отреклось поголовно от Бога», на котором держится «все
прежнее мировоззрение... вся прежняя нравственность, и наступит все
новое...» «Надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот
с чего надо приняться за дело»16. Когда исчезает идея Бога, возникает
новый род человеческого (или, лучше сказать, «сверхчеловеческого»)
существа: поскольку люди теперь являются только «недоделанными
пробными существами, созданными в насмешку»17 (это высказывание
Достоевский в разговоре Ивана с Алешей ставит в кавычки, как будто
это цитата, но цитата это из «Геологического переворота» Ивана или же
из статьи Страхова? — ср., например, «Мир» с. 15 и далее18). «Человек
возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится че-
ловекобог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею
и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение
столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования
наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения,
и примет смерть гордо и спокойно, как бог...»19. Этим новым людям «все
позволено». Они хотя и не подобны ангелам (не крылаты), как
сверхлюди профессора зоологии, описанного Страховым, но они еще выше,
это человекобог... Свое стихотворение Иван вспоминает также и на суде**.
Достоевский также открыто использовал тему Страхова, однако
придал ей несколько иной смысл, превратив ее в этическую
проблему. Тема «сверхчеловека» (это слово хорошо подходит к человекобогу
Достоевского) уже только поэтому имеет больше общего с постановкой
вопроса у Ницше, чем с биологическими гипотезами Страхова.
Еще одно место в философии Ивана напоминает нам о Страхове.
Иван рассуждает об «эвклидовском уме», которому, вероятно, должен
* Ср. «Urgestalt ...» 245.
г* Ср. также «Преступление и наказание», III, 5.
598
Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ
противопоставляться «неэвклидов», с иными, чем наши, законами
рассуждения. То, что Достоевский при этом думал о «неэвклидовой
геометрии», ясно из текста романа (V З)20. Неэвклидова геометрия
была тогда малоизвестна в России. Здесь мы не можем решить вопрос,
откуда Достоевский узнал о неэвклидовой геометрии (Страхов
упоминает Римана21 в статье 1890 года, «Мир» с. 575 и далее22). Однако
мы считаем, что здесь нашли отзвук идеи Страхова и его полемика
с русскими спиритами (спириты также упоминаются в «Дневнике
писателя» — 1876, I, III, IV, а также упоминаются чёртом Ивана
Карамазова*). Один из тезисов русских спиритов заключался в том,
что эвклидова геометрия охватывает только область эмпирической
действительности. Страхов защищает априорный характер
геометрии (в сочинении «О жителях планет» — 212 и далее, 265 и далее,
и в ряде полемических статей, первые три из которых были изданы
еще при жизни Достоевского, в 1876 году; они были перепечатаны
в собрании статей Страхова «О вечных истинах», Петербург, 1887;
страницы 23-36 специально посвящены вопросу об априорном
характере математики23). Априорные законы геометрии действительны
не только для нашего, но и для любого возможного мира (эта постановка
вопроса, однако, не решает вопроса о неэвклидовой геометрии — ср.,
например, в современной философии математики полемику между
Гансом Рейхенбахом24 и Оскаром Беккером25). Для Страхова этот тезис
снова становится характеристикой просветительского мировоззрения,
которое приписывает геометрии и математике только эмпирическую
действительность. А русские спириты стоят именно на почве
просветительского мировоззрения.
Достоевскому была близка идея сделать просветителя Ивана
представителем просветительского мировоззрения и в этом вопросе: «ум
человеческий», как подчеркивает Иван, создан «с понятием лишь о трех
измерениях пространства»26. Разум для него имеет только
ограниченную, случайную сферу действия. Если Иван отказывается от
центрального места человека в космосе и, таким образом, от единства природы,
то он отказывается и от единства человеческой природы (что обозначает
единство человеческого ума) и от единства идеального и чувственного
мира. Достоевский, с христианской точки зрения, видит в этом
отпадение от христианства, то есть от веры, от самого Бога... Не случайно
этот отказ от сознания единства человеческого существа Ивана роднит
его со Смердяковым (ср. мою статью, «Zeitschrift», VI, с. 36)27.
* В набросках Достоевского упоминается о знакомстве чёрта со статьей Страхова
(«И как пишет критик Страхов...») — «Urgestalt...» 244 (Рукопись С. 1)ср. здесь же.
С. 543 (из другой рукописи).
Чёрт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов
599
Достоевский и Страхов
К плодам чтения № 10-1129 я также хотел бы добавить, что в
«Легенде о великом инквизиторе» в одном из фрагментов имеется цитата
(в кавычках!), источник которой неясен; люди в ней определены как
«недоделанные пробные существа, созданные в насмешку» (I, 400)30.
Это место непосредственно связано с обсуждаемой нами мыслью
о «высших людях». Она указывает на Страхова. Хотя она и не
является точной цитатой, некоторые мысли Страхова переданы довольно
точно: для тех мыслителей, которые не считают человека высшим
существом, только «новое» высшее существо «займет место
человека» (сверхчеловек) и «представит ту красоту и то достоинство жизни,
которое для нас, людей, невозможно» (Страхов, Борьба с Западом,
II, 10531). Эти мыслители Просвещения, однако, часто говорили, что
«человек есть неудавшееся создание, попытка природы, вроде тех
странных ископаемых творений, которые были переходными
ступенями к формам нынешних земных тварей. Если так, то нужно ждать
нового геологического переворота, в котором погибнет человечество»
(там же). Эти идеи находятся в очевидной связи с мыслями, которые
мы изложили под № 10-11.
А.В.ТОИЧКИНА
«И как пишет критик Страхов...»
(Тема спиритизма в публицистике Достоевского,
H.H. Страхова и в романе «Братья Карамазовы»)
Тема «Достоевский и Страхов» в современном достоевсковедении
обычно рассматривается сквозь призму исторически непростых
отношений писателя и философа, особенно ярко выразившихся в
скандальном письме Страхова Л. Н. Толстому и последовавших за этим
письмом оценках А. Г. Достоевской*. При таком подходе Страхов
и его наследие оцениваются, как правило, негативно**. В результате
выпадает целый пласт историко-литературного материала, важного
для понимания позитивного значения отношений двух деятелей,
важности идей и трудов Страхова для понимания произведений,
эволюции Достоевского как писателя и мыслителя. Представляется более
плодотворным обратиться к тому подходу к данной теме, который был
предложен еще в 30-е гг. XX в. Д. И. Чижевским, который, будучи сам
религиозным философом, высоко оценивал деятельность и научное
наследие Страхова. Рассматривая отношения Достоевского и Страхова,
Чижевский неоднократно отмечал, что Страхов на протяжении ряда лет
был для Достоевского «философским информатором»***. Исследователь
справедливо писал и о том, что Достоевский и Страхов, несмотря на мно-
* См., например, исключительно негативную оценку Страхова в популярном
издании: СараскинаЛ.И. Достоевский. М., 2011. С. 543-544, 546, 550-551.
:* Так, С. С. Шаулов, который вроде бы пытается иначе взглянуть на тему отношений
Страхова и Достоевского, приходит к выводу, что «диалог Страхова с Достоевским
не состоялся» (Шаулов С. С. H. H. Страхов как творец и персонаж литературных
контекстов. Уфа, 2011. С. 12). Из известных мне работ иная точка зрения
представлена польским исследователем Анджеем де Лазари в его книге «В кругу
Федора Достоевского» (М., 2004). В этой монографии автор исследует как раз
общий ряд философских ценностей, сложившейся в общении Достоевского,
Страхова и Ап. Григорьева.
* Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007. С. 302.
«И как пишет критик Страхов...
601
гие личные несогласия, составляли единый лагерь в идеологической
борьбе своего времени, в частности, в сражениях с просвещенцами.
Для них обоих главный вопрос — вопрос о ценности человеческой
личности — был непосредственно связан с вопросом о вере в Бога.
Напряженный диалог и общение со Страховым, безусловно, являются
одним из важных источников произведений Достоевского. Об этом же
писал в свое время и A.C. Долинин в известной статье «Достоевский
и Страхов». По его наблюдениям, воздействие Страхова проникало
«вглубь философских воззрений Достоевского, освещая в его сознании
самый метод его художественного творчества» *. Долинин рассматривает
основные идеалистические установки Страхова: примат духа над
материей, проблему субъективизма в познании, соотнося их с установками
Достоевского-художника: строение образа героя в соответствии с идеей,
формирующей его психический склад, равно и реальную обстановку,
его окружающую**. Психологический метод Достоевского, его
постоянный «обратный ход» — от внешнего мира к внутреннему — тоже
находится в соответствии с дуализмом Страхова и его методом внутреннего
наблюдения***. «Природа есть непрерывное создание духа, как и тело
человека — создание и выражение его души. Такова основа
страховского идеализма. Душа, идея — единственная активная, творящая
сила в окружающей действительности. В этом смысле "жизнь не только
самоудовлетворение, но и саморазрушение, самонедовольство" <...>.
Герои Достоевского выражают эту же мысль на своем языке: кто сказал,
что человек непременно стремится к счастью? » ****. Как на один из
многочисленных примеров единомыслия между Страховым и Достоевским
в области философии и этики указывает Долинин на мысль Страхова:
«...тот оскорбляет человеческую природу, кто воображает, что можно
устроить благополучное человеческое общество без содействия его
сознания и свободы»*****. Именно на этой мысли, как пишет далее Долинин,
основана книга пятая «Pro и Contra» в «Братьях Карамазовых»6*.
На современном этапе (несмотря на общий оценочный негативизм)
исследователи отмечают важность эпизодов биографического общения
Достоевского и Страхова. Так, В. Н. Захаров указывает на важность
«арифметической» полемики Достоевского со Страховым для «Записок
* Долинин А. С. Достоевский и другие. Л., 1989. С. 252.
** Там же. С. 254.
*** Там же. С. 256.
**** Там же. С. 257.
:**** fj Косица [Страхов H. H.] Тяжелое время (Письмо в редакцию «Времени») //
Время. 1862. № 10. <Отд.> Современное обозрение. С. 194-216.
6* Долинин А. С. Достоевский и другие. С. 259.
602
А. В. ТОИЧКИНА
из подполья»*. В. А. Туниманов, анализируя «нелестный портрет
Страхова как литератора-семинариста», набросанный Достоевским
в черновиках к «Дневнику писателя» за июль-август 1876 г. (см.: 24;
240-241), прослеживает судьбу этого фельетонного эскиза: «очерк о
семинаристе как типе не будет осуществлен, но и бесследно не исчезнет:
пригодится при создании образа Ракитина в "Братьях Карамазовых"»**.
Представляется, что было бы важно рассмотреть корпус
сочинений Страхова как один из очень важных источников произведений
Достоевского 1860-1870-х гг. Такая работа позволила бы и выявить
новые цитатные отсылки в произведениях писателя, и в целом обозначить
важнейшую сторону его творчества: взаимоотношения с русской
религиозно-философской мыслью второй половины XIX в., взаимовлияния,
притяжения и отталкивания (что как раз нашло свое воплощение в сюжете
непростых личных отношений писателя и философа). Конечно, эта тема
монографического плана, ибо она охватывает два важнейших десятилетия
в жизни и творчестве как Достоевского, так и Страхова, этапы
сотрудничества во «Времени» и «Эпохе», издания «Гражданина». В рамках данной
статьи предполагается рассмотреть «Письма о спиритизме» H. H. Страхова
как один из важных источников главы «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича»
в «Братьях Карамазовых». Но прежде чем перейти собственно к анализу
«Писем о спиритизме», необходимо кратко обозначить вехи изучения
вопроса о трудах Страхова как источнике последнего романа писателя.
Известно, что сочинения Страхова имелись в библиотеке
Достоевского***. Как пишут составители ценного издания «Библиотека
* Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в
поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 111. Ср.: Шаулов С. С.
H.H. Страхов как творец и персонаж литературных контекстов. С. 16-17.
* Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений. СПб., 2013. С. 273.
:* Библиотека Ф.М. Достоевского: Опыт реконструкции: научное описание. СПб.,
2005. С. 145. Надо сказать, что в библиотеке Достоевского находился ряд работ
H. H. Страхова: «Женский вопрос: разбор сочинения Джона Стюарта Милля "О
подчинении женщины". СПб., 1871 (Там же); сборники «Природа: Популярный есте-
ственноисторический сборник» (М., 1874) со статьей H. H. Страхова «О развитии
организмов: Попытка точно поставить вопрос» (Там же. С. 182, 192) и «Братская
помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины» (СПб., 1876) с очерком
Страхова «Из поездки в Италию» (Там же. С. 255-256); переводы Страхова: Тэн И.
Об уме и познании / Пер. с фр. под ред. и с предисл. H.H. Страхова. СПб., 1872
(Там же. С. 145); Франциск Бекон Веруламский. Реальная философия и ее век:
сочинения Фишера / Пер. Н. Страхова. СПб., 1867 (Там же. С. 146); часть
рецензированных Страховым изданий (например: Дарвин Ч. Происхождение человека
и подбор по отношению к полу Чарльза Дарвина: в 2 т. СПб., 1871-1872 — Там же.
С. 165). Кроме того, в библиотеке Достоевского хранились номера журнала
«Заря», редактором которого был Страхов (Там же. С. 203). Связывал Достоевского
и Страхова и общий круг чтения, который тоже ждет своего исследования.
«И как пишет критик Страхов...»
603
Ф.М. Достоевского», «комментаторы ПСС усматривают отражение
некоторых идей книги Страхова "Мир как целое" в романе "Братья
Карамазовы"; рассказах "Бобок" и "Сон смешного человека" (см.: ПСС,
15, 444-445; 17, 406; 25, 400)»*. Тем не менее в реальном
комментарии к «Братьям Карамазовым» в 15-м томе ПСС отсылок к работам
Страхова нет**. Д. И. Чижевский же еще в 1930-е гг. указал на
сочинения H. H. Страхова «Мир как целое» и «Три письма о спиритизме» как
на источники романа***, в том числе в связи с названием поэмы Ивана
и образом чёрта. Кроме того, в круге его работ о Достоевском и Страхове
анализируется значение философских идей Страхова для религиозно-
философского содержания художественного мира Достоевского. В
частности, он намечает ряд проблем, волновавших и философа, и писателя.
В небольших заметках «Чёрт Ивана Карамазова и H.H. Страхов»,
«Философия Ивана Карамазова и Страхова», «Достоевский и Страхов»,
в русском и немецкоязычном вариантах статьи «К проблеме бессмертия
у Достоевского (Страхов — Достоевский — Ницше)»**** Чижевский обозна-
* Там же. С. 145.
** Правда, в новом, 18-томном Полном собрании сочинений Достоевского, которое
вышло под редакцией В. Н. Захарова, в реальном комментарии В. Е. Ветловской
к «Братьям Карамазовым» сочинение Страхова «Мир как целое» упомянуто в
ряду возможных источников названия поэмы Ивана «Геологический переворот».
Комментатор рассматривает как источники выражения «геологический
переворот» книгу Кювье о «геологических переворотах» «Discours sur les révolutions
de la surface du globe par le Baron G. Cuvier» (Paris, 1825), упоминаемую Герценом
в «Былом и думах»; «Жизнь Иисуса» Э. Ренана и книгу Страхова «Мир как
целое» (Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 18 т. М., 2004. Т. 14. С. 380-381).
Контекст эпохи, безусловно, указывает на содержательность темы «поэмки»
Ивана Карамазова. В. Е. Ветловская, правда, не ссылается на работы Чижевского,
который, видимо, первый указал на книгу Страхова как источник названия
поэмы. Но это понятно: достоевсковедческие работы Чижевского в отечественном
литературоведении до сих пор очень мало введены в научный оборот.
*** Перечислю ряд работ Чижевского, посвященных Достоевскому и Страхову:
1) Literarische Lesefrüchte И: (10) Der Teufel Ivan Karamazovs und N.N. Stra-
chov // Zeitschrift für slavische Philologie. 1933. X (3/4). S. 388-390; 2)
Literarische Lesefrüchte II: (11) Die Philosophie Ivan Karamazovs und Strachov //
Ibid. S. 390-396; 3) Literarische Lesefrüchte IV: (37) Dostojevskij und Strachov //
Zeitschrift für slavische Philologie. 1936. XIII (1/2). S. 70-72; 4) К проблеме
бессмертия у Достоевского (Страхов — Достоевский — Ницше) // Жизнь и смерть:
сб. памяти д-ра Николая Евграфовича Осипова: в 2 т. / под ред. А. Л. Бема,
Ф.Н. Досужкова и Н.О. Лосского. Прага, 1936. Т. 2. С. 26-38; 5) Dostojevskij
und Nietzsche: Die Lehre von der ewigen Wiederkunft. Kleine Schriften aus der
Sammlung «Deus et anima». 1. Schriftenreihe. Bd. 6. 1947.
**** См. примеч. ***. Я писала об этом в моей статье «Достоевский, Страхов, Ницше
в "истории духа" Д. И. Чижевского» (Вестник Русской христианской
гуманитарной академии. 2012. № 13 (2). С. 145-153).
604
А. В. ТОИЧКИНА
чает принципиальную важность и для Достоевского, и для Страхова
мысли «о центральном положении человека в мире — в природе и в истории.
Эта мысль — основа христианского мировоззрения. Страхов, поскольку
он сознает, что пишет для неверующих или скептических читателей,
обосновывает ее научно и философски; много в его аргументации взято
из арсенала немецкого идеализма, недаром он был и остался навсегда
гегельянцем»*. Именно с этой отправной точкой отсчета связан круг
отсылок к работам Страхова в «Братьях Карамазовых» Достоевского.
Чижевский указывает на связь идеи вечного повторения (известные
слова чёрта «Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз
повторялась» — 15; 79) со статьей Страхова «О жителях планет». <...>
С вопросом о центральном положении человека в мире связана
проблема «высшего человека» («то есть существа, которое было бы
выше, чем человек»), которая мучит Ивана Карамазова в романе
Достоевского. Чижевский пишет: «Достоевский хочет показать в образе
Ивана (ранее ряд родственных мотивов уже возникал в "Преступлении
и наказании"), к каким немыслимым следствиям можно прийти, если
в пользу сверхчеловека отказываться от конкретных живых людей.
Такую постановку вопроса мы находим еще раньше в статьях Страхова
шестидесятых годов. Четче всего Страхов сформулировал свое
отношение к проблеме "высшего человека" в статье о Фейербахе (1864,
изданной в собрании статей Страхова "Борьба с Западом в русской
литературе", т. II, Петербург, 1883, с. 78 и далее, и в "Философских
очерках", Петербург, 1895, с. 51**)»***.
Достоевский использует для своих художественных целей
философские разработки идей Страхова. Так, понятие «геологического
переворота» возникает у него (по мысли Чижевского) именно с подачи
Страхова <...>.
Достоевский, конечно, переосмысляет тему Страхова, переводя ее
из биологической в собственно духовную систему координат.
Тема спиритизма в последнем романе Достоевского тесно связана,
по наблюдениям Чижевского, с темой «высшего человека» и «эвклидов-
ского ума». «Так Иван рассуждает об "эвклидовском уме", которому,
вероятно, должен противопоставляться "неэвклидов", с иными, чем наши,
Чижевский Д. К проблеме бессмертия у Достоевского (Страхов — Достоевский —
Ницше). С. 37.
Страхов Н.:\) Борьба с Западом в нашей литературе: исторические и критические
очерки. Книжка вторая. СПб., 1883; 2) Философские очерки. СПб., 1895.
Öyzevskyj D. Literarische Lesefruchte II: (11) Die Philosophie Ivan Karamazovs
undStrachov. S.391.
«И как пишет критик Страхов... »
605
законами рассуждения. То, что Достоевский при этом думал о
"неэвклидовой геометрии", ясно из текста романа» (V, 3)*. Неэвклидова геометрия
была тогда малоизвестна в России. Здесь мы не можем решить вопрос,
откуда Достоевский узнал о неэвклидовой геометрии (Страхов упоминает
Римана в статье 1890 года, «Мир». С. 575 и далее**). Однако мы считаем,
что здесь нашли отзвук идеи Страхова и его полемика с русскими
спиритами (спириты также упоминаются в «Дневнике писателя» — 1876,1,
III, IV, а также упоминаются чёртом Ивана Карамазова). Один из тезисов
русских спиритов заключался в том, что эвклидова геометрия
охватывает только область эмпирической действительности. Страхов защищает
априорный характер геометрии (в сочинении «О жителях планет» — 212
и далее, 265 и далее, и в ряде полемических статей, первые три из которых
были изданы еще при жизни Достоевского, в 1876 году; они были
перепечатаны в собрании статей Страхова «О вечных истинах», Петербург,
1887; страницы 23-36 специально посвящены вопросу об априорном
характере математики). Априорные законы геометрии действительны
не только для нашего, но и для любого возможного мира (эта постановка
вопроса, однако, не решает вопроса о неэвклидовой геометрии <...>).
Для Страхова этот тезис снова становится характеристикой
просветительского мировоззрения, которое приписывает геометрии и математике
только эмпирическую действительность. А русские спириты стоят именно
на почве просветительского мировоззрения. <...> Если Иван отказывается
от центрального места человека в космосе и, таким образом, от единства
природы, то он отказывается и от единства человеческой природы (что
обозначает единство человеческого ума) и от единства идеального и
чувственного мира. Достоевский, с христианской точки зрения, видит в этом
отпадение от христианства, то есть от веры, от самого Бога. Не случайно
этот отказ от сознания единства человеческого существа Ивана роднит
его со Смердяковым...» ***.
•к * *
Тема спиритизма была чрезвычайно популярна в русском обществе
в 70-е гг. XIX в. О спиритизме писал Достоевский в январском,
мартовском и апрельском выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. В том же
* Отсылка к книге пятой «Pro и Contra», главе III «Братья знакомятся».
* В четвертой части книги «О законе сохранения энергии», в главке 10 «Механика
как априорная наука» Страхов критически оценивает гипотезы Римана. (Примеч.
Д. Чижевского.)
'* Öyzevskyj D. Literarische Lesefrüchte II:(11) Die Philosophie Ivan Karamazovs
und Strachov. S. 395-396.
606
А. В. ТОИЧКИНА
году на популярную тему откликнулся и Страхов. В еженедельнике
«Гражданин» он опубликовал «Три письма о спиритизме» (1876.
№ 41-44). Позднее, в 1884 г., Страхов снова вернулся к этой теме,
опубликовав в «Новом времени» «Еще письмо о спиритизме». В
дальнейшем он собрал материалы своих выступлений по поводу спиритизма
и полемики вокруг него в своей книге «О вечных истинах (мой спор
о спиритизме)» (СПб., 1887).
Страхов позднее писал Толстому, что Достоевский «не прочитал
только Писем о спиритизме, потому что был в этом вопросе так раздражен,
что не в силах был читать»*. Страхова в его «Письмах...» интересовал
вопрос о «непреложных истинах» и «границе познания». Достоевский же
в «Дневнике писателя» указывал на явление спиритизма как на один
из симптомов трагического отпадения современного человека и общества
в целом от веры в Бога. Приятие и неприятие Достоевским «Писем...»
нашло свое отражение в шуточном стихотворении 1876 г. «Крах
конторы Баймакова...»: «И уж пишет критик Страхов / В трех статьях
о спиритизме, / Из которых две излишних, / О всеобщем ерундиз-
ме / И о гривенниках лишних» (17; 23). В романе «Братья Карамазовы»
тема спиритизма получила своеобразное художественное преломление
в теме болезни Ивана и образе чёрта. Цитаты из «Писем...» Страхова
неслучайно возникают в главе «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича».
В публицистике Страхова и Достоевского спиритизм определен
как заблуждение. Они оба видели духовные причины популярности
этого сомнительного увлечения в русском обществе. Оба
размышляли над причинами его распространения и проблемой познания как
таковой. Возникает вопрос: что так сильно рассердило Достоевского
в «Письмах о спиритизме», если он не смог их даже дочитать** (хо-
* Переписка Л. Н. Толстого с H.H. Страховым: 1870-1894. СПб., 1914. С. 273
(письмо от 4 мая 1881 г.).
* Необходимо, однако, сделать поправку к письму Страхова. Судя по
стихотворению «Крах конторы Баймакова», Достоевский «Письма о спиритизме» все-таки
дочитал: речь о «гривенниках лишних» идет в третьем заключительном письме.
И еще одно важное замечание. В «Дневнике писателя» за январь 1876 г. в статье
«Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это
черти» (Глава третья, § II) тема чёрта оказывается связана с темой будущего «Великого
инквизитора», то есть темой Ивана. Конечно, речь не идет о том, что уже в 1876 г.
у Достоевского был замысел образа Ивана. Скорей всего, речь идет о творческой
лаборатории писателя, о стадии разработки некоторых тем, которые со временем,
на определенном этапе работы над произведением, воплощаются в целом образе
героя. В этом смысле знаковым является тот факт, что черновой вариант
стихотворения «Крах конторы Баймакова» записан на том же листочке черновых заметок,
что и наброски к «Братьям Карамазовым» (см.: Ф.М. Достоевский: материалы
и исследования. Л., 1935. С. 95).
«И как пишет критик Страхов...»
607
тя читал все сочинения Страхова)? Понятно, что для Достоевского
спиритизм — это «идея мистическая», и тут «самые
математические идеи — ровно ничего не значат». «Вера и математические
доказательства — две вещи несовместные. Кто захочет поверить —
того не остановите» (22; 100-101)*. Для Страхова же вопрос о
математических доказательствах оказывается непосредственно связан с
вопросом о рационализме как пути познания. В отдельном издании
писем он пишет, что спиритуалисты — враги рационализма. Именно
на рационалистической логике построены полемические письма
Страхова. Так, в первом письме он очень логично опровергает все
опорные тезисы спиритов (наука, авторитет ученых, прогресс
человеческого знания, эмпирический метод, свобода
исследования, позитивизм). «Те способы рассуждения, те приемы мысли,
те руководящие принципы, которые употребляются защитниками
спиритизма, не представляют ни одной черты правильного метода,
а состоят сплошь только из заблуждений, свойственных ученым
натуралистам, и именно современным. Это поразительно. И мало
того: чтобы спасти спиритизм, натуралисты принуждены доводить
эти свои заблуждения до последней их крайности и изо всей силы
держаться за эту крайность. Они хотят опытом узнать то, чего опыт
дать не может; хотят метафизику сделать позитивною; обещают
нам науку, не подчиненную никакому методу, никаким законам,
и прогресс, не имеющий ни пути ни пределов. Это, конечно,
чудеса, большие чудеса, но скорее всего — это ошибки, следовательно,
очень простые, хоть и печальные явления!»**. Во втором письме
Страхов делает ставку на разум, на человеческую мысль. Он
предлагает решить, что такое спиритические явления: <1) Или это —
естественные явления, образующие только новую область, подобно
тому, как некогда новою областью были явления магнетические,
электрические, волосность, эндосмос и т.д. 2) Или — это явления
сверхъестественные, чудеса, то есть действия мира
сверхчувственного, который стоит выше природы и имеет силу изменять ее
законы» ***. Страхов выступает против эмпиризма доводов сторонников
спиритизма. «Удивительно при этом, однако же, то, что для наших
ученых как-нибудь неизвестно и непонятно существование
совершенно иного учения о человеческом познании, учения очень
распространенного, имеющего большую силу и составляющего неодолимое
* «Дневник писателя». Март 1876. Глава вторая, § III. «Словцо об отчете ученой
комиссии о спиритических явлениях».
"* Страхов Н. О вечных истинах (мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 12.
* Там же. С. 19.
608
А. В. ТОИЧКИНА
препятствие к признанию спиритизма»*. Речь идет об априорных
«вечных истинах». И тут Страхов переходит (уже в рамках третьего
письма) к «чистой математике». Письмо третье называется «Границы
возможного». «Верите ли вы в непреложность чистой математики?
Убеждены ли вы в том, что дважды два четыре, что эти и подобные
истины справедливы всегда и везде, и что сам Бог, как говорили в
старые времена, не мог бы сделать дважды два пять, не мог бы изменить
ни одной из таких истин?»**. В доказательствах спиритов Страхов
видит противоречие математическим законам, то есть априорным
законам этого мира. Он пишет: «...я не только признаю
непогрешимость математики, но и убежден непоколебимо, что таких вещей
и явлений, о которых говорит или хотел говорить профессор Вагнер,
нет, что они невозможны. <...> В математике, например, существуют
положения: "две величины равные порознь третьей равны между
собою"; "две стороны треугольника вместе взятые больше третьей".
<...> ...И не только спириты, но сам Бог не мог бы создать таких
величин, для которых эти положения оказались бы ложными» ***.
И дальше Страхов переходит к опытам: вначале с палочками (тот же
принцип «дважды два четыре»), а затем с гривенниками, которые,
видимо, так запали в память Достоевского, что он упомянул о них
в шуточном стихотворении: «Крах конторы Баймакова...»****. Приведу
цитату: «Вот у меня две кучки монет, положим — гривенников;
в одной — 11, в другой — 19 гривенников. Смотрите, я их
смешиваю в одну кучку, и считаю, сколько вышло. Вы думаете, конечно,
тридцать; оказывается тридцать один, т.е. один гривенник лишний.
Второй эксперимент. Беру палочку и разбиваю эту общую кучку
гривенников на две кучки. Считаю, нахожу в одной 7, в другой 23;
* Там же. С. 21.
* Там же. С. 22.
* Там же. С. 25.
* Приведу целиком стихотворение, текст которого очень интересен: «Крах конторы
Баймакова, / Баймакова и Лури, / В лад созрели оба кова, / Два банкрутства —
будет три! / Будет три, и пять, и восемь, / Будет очень много крахов / И на лето,
и под осень, / И уж пишет критик Страхов / В трех статьях о спиритизме, / Из
которых две излишних, / О всеобщем ерундизме / И о гривенниках лишних» (17; 23).
Конечно, сама рифма «крахов / Страхов» свидетельствует о трудностях в
отношениях (как и ирония по поводу лишних статей и гривенников). Но что касается
гривенников, то в данном случае любопытен момент полемики со Страховым.
В стихотворении Достоевский отождествляет денежные махинации (в
банковской сфере) с махинациями в сфере духовной (спиритизм). Для него лишние
гривенники — овеществленное сравнение: лишний гривенник воплощает смысл
духовных махинаций эпохи. Для Страхова опыт с гривенниками — демонстрация
априорности физических и математических законов этого мира.
«И как пишет критик Страхов...»
609
следовательно, один гривенник пропал. Третий эксперимент.
Эти две новые кучки соединяю в одну. Считаю, и нахожу 31. И т.д.»*.
Страхов подводит читателя к заключению, что «это невозможно» **.
И далее берется объяснить (при установке опять же на работу
аналитического разума), «что же значит невозможно? Откуда у нас является
такое непобедимое упорство?» ***. Он переносит предмет
рассмотрения с объекта на субъект: «Еще Платон учил, что есть познание,
подобное воспоминанию у то есть не почерпаемое из предметов, нас
окружающих, а существующее в самой душе и как будто
усвоенное ею в каком-то прежнем существовании, раньше ее соединения
с телом. Попробуем же и мы вспомнить, какие вещи по сущности
своей возможны, и какие невозможны» ****. То есть «нужно иногда
только хорошенько вспомнить, как выражается Платон, основания,
хранящиеся в нашей душе, и мы без наблюдений заранее найдем,
каких результатов следует ожидать. В математике это всего легче;
вещественная же природа, очевидно, постоянно нас чем-то
развлекает, чем-то мешает нам вспомнить ясно и отчетливо. Мало-помалу
дело, однако же, подвигается вперед, и истинный успех физических
наук заключается именно в том, что истины физические получают
характер математической непреложности»*****. Дальше идут опыты
с водой: «Если у меня два стакана и в каждом некоторое количество
воды, и если я вылью воду из одного стакана в другой, то в каком
отношении количество соединенной воды будет к количествам, бывшим
отдельно в стаканах? Конечно, соединенное количество будет сумма
прежних отдельных количеств»6*. Страхов видит в этом тот же закон
сложения и вычитания чисел, а не закон сохранения вещества,
вечности/бессмертия материи. И тут он переходит к размышлению о том,
что «наши истины тогда и потому только ясны и непреложны, когда
из них выключается сердцевина дела, когда в них обходится сущность
вещей» 7*. Дальше следуют примеры смерти Сократа и как кошка
съедает мышь (отсылка к Гегелю). «Случай с Сократом мы никак
не можем оценивать с позиций только физических и математических
законов мира, т.к. речь идет о Сократе, о личности, ценность которой
безмерна. Что касается кошки с мышкой, из двух существ получается
* Страхов Н. О вечных истинах... С. 27.
** Там же. С. 29.
*** Там же.
**** Там же.
**** Там же. С. 30-31.
6* Там же. С. 31.
7* Там же. С. 33.
610
А. В. ТОИЧКИНА
одно вопреки законам математики», но «закон сложения соблюден
строжайшим образом»*. Вывод Страхова: понятие сущности вещи
тесно связано с коренными вопросами о нашем познании.
Конечно, Достоевского не могли не раздражать рационализм и
субъективизм Страхова. Писателю был свойственен интуитивный тип
познания. Для него математические доказательства мало что значили
в вопросах веры. И путь веры был связан с открытием (в частности,
христианством) преодолимости физических законов этого самого мира.
И тем не менее многие из тем писем о спиритизме оказались
значимы для образа Ивана Карамазова. В главе «Чёрт. Кошмар Ивана
Федоровича» тема Страхова возникает, возможно, уже в описании
чёрта — «вроде как бы приживальщика хорошего тона, скитающегося
по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый
складный характер, да еще и ввиду того, что все же порядочный
человек, которого даже и при ком угодно можно посадить за стол, хотя,
конечно, на скромное место. Такие приживальщики, складного
характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты
и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают,
обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы» (15; 71)**.
Поддерживает эту гипотезу и тема спиритизма, возникающая следом
за описанием персонажа. Чёрт развивает тезис Страхова, изложенный
им во втором письме о спиритизме (о неприменимости законов тварного
мира к миру сверхъестественному). И опять же вопрос о
доказательствах оказывается неразрывно связан с вопросом о вере: «Притом же
в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные.
Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому,
что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты. Я их очень
люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что
им черти с того света рожки показывают. "Это, дескать,
доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет". Тот свет и
материальные доказательства, ай-люли! И наконец, если доказан чёрт,
* Там же. С. 35.
:* Речь не идет о прототипе (как и в случае с Ракитиным, для поэтики образа которого
был использован эскиз о Страхове-семинаристе; см.: Туниманов В. А. Лабиринт
сцеплений. СПб., 2013. С. 273). Но отдельно взятые черты, часто упоминаемые
современниками (складной характер, умение порассказать, холостяк,
скитающийся по добрым старым знакомым), могли вполне быть взяты у Страхова.
См. характеристику Страхова, данную одним из современников: Достоевская А. Г.
Воспоминания. М., 1971. С. 405. См. также реплики Ивана чёрту: «не
философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое.
Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай» (15; 72); «Не философствуй,
осел!» (15; 76); «Опять в философию въехал!» (15; 76).
«И как пишет критик Страхов...»
611
то еще неизвестно, доказан ли Бог?» (15; 71-72). Тема математики
тоже восходит к Страхову: «Тут у вас все очерчено, тут формула, тут
геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения!» (15; 73).
Отсылка к Льву Толстому («Лев Толстой не сочинит» — 15; 74) тоже
указывает на Страхова, который гордился дружбой с Толстым и часто
про него рассказывал. Само рассуждение чёрта, как он простудился
в неземном пространстве — «ведь это такой мороз» (15; 74),
пародирует перенесение спиритами законов тварного мира на мир
сверхъестественный, что так возмущало Страхова и вызывало иронический
отклик у Достоевского*.
Стержневая для образа Ивана тема ума оказывается одной из
центральных в диалоге Ивана и чёрта: «Вот ты поминутно мне, что я глуп.
Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! <...>
Ты вечно сердишься, тебе бы все только ума...» (15; 77). Это тоже тема
диалога Страхова и Достоевского: о рационализме как пути познания,
об уме как опоре в различении истинного и ложного. Чёрт приводит
известное изречение Декарта, на котором строится его философия:
«"Je pense donc je suis"**, это я знаю наверно, остальное же все, что
кругом меня, все эти миры, Бог и даже сам сатана — все это для
меня не доказано, существует ли оно само по себе или есть только моя
эманация, последовательное развитие моего я, существующего до-
временно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты,
кажется, сейчас драться вскочишь» (15; 77). И именно Декарта очень
ценил Страхов. Как пишет A.C. Долинин, «уже современники
отметили с достаточным основанием, что из "всех учений, примиренных
в гегельянстве", Страхов ставит превыше всего учение Декарта. <...>
Для Страхова бытие всегда является чем-то косным; по отношению
к "субъекту", к идее действительность пребывает в положении
покорного раба. Человек, его разум — вот "центр и мера вселенной, во всем
ее прошлом, настоящем и будущем" — так твердит он постоянно
в своих работах» ***. Установка на субъект познания ярко проявилась
в «Письмах о спиритизме» (особенно в акценте на познание сущности
вещей с опорой на Платона). А Достоевский прекрасно видел опасности
такой установки на субъективизм в познании. И в словах чёрта довел эту
установку до логического предела: установка на ум ставит под сомнение
* Ср. пассажи чёрта: «Ведь это биллион лет ходу? — Даже гораздо больше, вот только
нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно» (15; 79); «А только что
ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд — и это по часам,
по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на
составные элементы у него в кармане дорогой)» (Там же).
г* «Je pense donc je suis» — Я мыслю, следовательно, я существую (фр.).
г* Долинин А. С. Достоевский и другие. С. 253.
612
А. В. ТОИЧКИНА
существование мира и Бога (что в полной мере и осуществится в истории
философии). В попытке защититься от чёрта, который давит на Ивана
его же аргументами, герой кричит: «Ты сон и не существуешь!» (15; 79),
на что получает чрезвычайно логичный ответ: «По азарту, с каким
ты отвергаешь меня, — засмеялся джентльмен, — я убеждаюсь, что
ты все-таки в меня веришь» (Там же).
Далее в словах чёрта возникает опять же страховская тема « вечного
возвращения», на которую указывает Чижевский. Ироническое
замечание чёрта по поводу анекдота о пасторе и блондинке: « ...природа-то,
правда-то природы взяла свое!» — тоже может быть прочитано как
полемическая реплика в контексте естественнонаучных работ Страхова
(в «Мире...» человек рассматривается как центр целого с точки зрения
естественнонаучной, хотя, несомненно, Страхов никогда не
рассматривал человека только как явление биологического порядка).
Присутствует, конечно, в тексте и полемика с Гегелем (а Страхов
был гегельянцем): в частности, вопрос о необходимом «минусе», без
которого не будет «плюса». «Каким-то там довременным назначением,
которого я никогда разобрать не мог, я определен "отрицать", между
тем я искренно добр и к отрицанию совсем не способен» (15; 77). Далее
чёрт говорит: «Мы эту комедию понимаем: я, например, прямо и
просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя
ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы
и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтоб
были происшествия. Вот и служу скрепя сердце, чтобы были
происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту
комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме.
В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут,
живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь»
(Там же). И в анекдоте чёрта об осанне (когда «здравый смысл» не дал
чёрту ее пропеть): «Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что
не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем
дело, рявкну "осанну", и тотчас исчезнет необходимый минус и
начнется в мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему <...>.
Нет, пока не открыт секрет, для меня существует две правды: одна
тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще
неизвестно, какая будет почище...» (15; 82).
Затем в диалоге возникает тема «геологического переворота»
(проанализированная Д. Чижевским в контексте книги Страхова «Мир как
целое»). И в завершении разговора с чёртом Иван запускает в него
стаканом воды (отсылка к известному эпизоду с чернильницей Лютера).
От стука Алеши Иван приходит в себя: «Обе свечки почти догорели,
стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял перед ним
«И как пишет критик Страхов...»
613
на столе, а на противоположном диване никого не было» (15; 84). Этот
самый стакан на столе, пожалуй, последняя отсылка в рамках
данной главы к «Письмам о спиритизме» Страхова. Именно на примере
со стаканами с водой он демонстрировал в третьем письме априорность
и незыблемость физических законов этого мира. И эта последняя
отсылка, кроме всего прочего, указывает на тезис Страхова,
принципиально важный и для Достоевского, — утверждение незыблемости
правды земного мира и законов природы. В художественном мире
«Братьев Карамазовых» правда земная обретает глубоко позитивный
религиозно-философский смысл*.
В данной статье перед автором стояла задача указать на значимость
философских трудов Страхова для творческой лаборатории и поэтики
произведений Достоевского. Предпринятое исследование значения
«Писем о спиритизме» H. H. Страхова для главы «Чёрт. Кошмар Ивана
Федоровича» в последнем романе писателя подтверждает необходимость
дальнейшей разработки этой темы.
* ТоичкинаА.В. Религиозно-философский смысл образа природы в «Братьях
Карамазовых» Достоевского // Достоевский и мировая культура. 2009. М° 25.
С.313-323.
Д. ОРВИН
«Мир как целое» Н. Страхова:
недостающее звено
между Достоевским и Толстым
Русскую мысль XIX века продолжают критиковать как излишне
антропоцентричную и сосредоточенную на вопросах этики. Это можно
объяснить тем, что своей целью русские мыслители ставили
практическую задачу определения современной личности (антропология)
и ее отношений с обществом (этика)*. В то время как государственные
мужи занимались реформированием различных институтов,
писатели и художники созидали новую русскую реальность, основанную
на современных принципах, обсуждая и моделируя ее в своих книгах.
Одним из тех, кто трудился на этом поприще, был Николай Николаевич
Страхов (1828-1896), плодотворный писатель и замечательный
публицист. За свою почти 40-летнюю деятельность он опубликовал
множество статей и 12 книг, четыре из которых выдержали не одно
издание. (Большинство книг представляло собой собрание очерков, ранее
опубликованных в различных журналах.) После его кончины за ним
сохранилась слава литературного критика**, другие же труды были
преданы забвению, хотя современники высоко ценили его популярные
статьи и по иным темам. Обладая широкой эрудицией, Страхов очертил
* Zenkovsky V. V. History of Russian Philosophy. 2 vols. George Kline (tr). New York:
Columbia University Press, 1955. V. 1. С 6.
* В 1899 г. Василий Розанов опубликовал статью «Литературная личность H. H.
Страхова» в своих «Литературных очерках». Первоначально публикация мыслилась
как отклик на переиздание в 1890 г. работы Страхова «Борьба с Западом в нашей
литературе» и имела другое название: «О борьбе с Западом, в связи с
литературной деятельностью одного из славянофилов». В данной статье используется
библиография трудов Страхова, составленная Розановым. Полный свод публикаций
работ Страхова см. у Будиловской и Егорова (Будиловская А. Л., Егоров Б. Ф.
Библиография печатных трудов H. H. Страхова // Труды по русской и славянской
филологии. Ученые записки Тартуского государственного университета. 9:184.
1966. С. 213-219).
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 615
русскому читателю горизонты европейской философской и научной
мысли и тем самым поставил вопрос о взаимоотношениях личности
и общества на самом высоком уровне сложности.
В 1871 г. Страхов познакомился со Львом Толстым, дружеские
отношения с которым продолжались вплоть до кончины первого в 1896 г.
В течение десяти лет, до смерти Достоевского в 1881 г., Страхов был
в близких отношениях с обоими писателями, и их равноценный
интерес к его идеям был между ними связующей нитью, хотя оба писателя
никогда не встречались и не переписывались*. Рассмотрение одного
из этих связующих звеньев, являющееся предметом данного
исследования, помогает объяснить, в каком смысле роман «Анна Каренина»
можно считать в большей степени близким по духу Достоевскому, чем
роман «Война и мир».
«Содержание человеческой жизни»
В 1872 г. Страхов опубликовал книгу, названную им «Мир как
целое». Толстой сообщал своему новому другу, что прочитал ее, не
выпуская карандаша из рук, а в письме, датированном 12 ноября и 17 декабря
1872 г., изложил Страхову подробный критический разбор**. Именно
это сочинение Толстой держал в памяти, спустя несколько месяцев
начиная работу над «Анной Карениной», и именно его перечитал с тем же
воодушевлением в конце 1875 г., когда работа над романом шла полным
ходом и его первые части уже появились в печати***.
«Мир как целое» можно считать тем не замеченным ранее звеном,
которое соединяет Толстого с Достоевским. Книга вышла из печати
О близких и сложных отношениях между Страховым и Достоевским см.:
Долинин А. С. Ф.М. Достоевский и H.H. Страхов // Шестидесятые годы:
материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: Изд.
Академии наук, 1940. С. 238-254.; Jackson, Robert Louis «A View from the
Underground: On Nikolai Nikolayevich Strakhov's Letter About his Good Friend Fyodor
Mikhailovich Dostoevsky and on Leo Nikolayevich Tolstoy's Cautious Response
to It» // Dialogues With Dostoevsky: The Overwhelming Questions. Stanford:
Stanford University Press, 1993. C. 104-120; Розенблюм Л. М. Творческие
дневники Достоевского // Лит. наследство. Т. 83. М.: ИМЛИ, 1971. С. 16-23;
Скатов Н. H.H. Страхов (1828-1896) // Страхов H.H. Литературная
критика. М.: Современник, 1984. С. 40-41. О Толстом и Страхове см.: Orwin, Donna.
Tolstoy's Art and Thought, 1847-1880. О Достоевском, Толстом и Страхове см.:
Бурсов Б. Личность Достоевского. Роман-исследование. Л.: Советский писатель,
1974; Orwin D. Did Tolstoy or Dostoevsky Believe in Miracles?
Толстой Л. Н. ПСС 61. С. 345-349.
Толстой Л. Н. ПСС 62. С. 235-236.
616
Д. ОРВИН
в 1872 г., но все ее главы, за исключением введения, были написаны
в период между 1858 и 1866 гг. В отдельных статьях, написанных
за эти восемь лет, Страхов пояснял и комментировал бытовавшие
в то время представления об органической и неорганической природе.
Достоевский познакомился со Страховым в 1860 г., и независимо от
того, читал он или не читал его статьи, написанные в 1850-е гг. и позже
вошедшие в труд «Мир как целое», можно определенно утверждать, что
он обсуждал заключенные в них идеи со своим новым другом. Что
касается статей 1860-х гг., то работы, написанные в 1861-1863 гг., вполне
могли быть представлены Страховым во время чтений, о которых он
сообщает в биографии Достоевского. Остальные сочинения могли быть
хорошо известны человеку, который в 1873 г. считал, что половиной
своих идей он обязан Страхову*. Это были те статьи, в которых делались
выкладки «научных данных», так охотно воспринятых Достоевским.
В письме, написанном из-за рубежа в 1868 г. и адресованном их
общему другу поэту А. Н. Майкову, Достоевский с ностальгией вспоминает
беседы о науке и литературе со Страховым**. За все время
существования журнала «Время» (1861-1863) Страхов и Достоевский, по словам
первого, встречались по меньшей мере ежедневно и вели «бесконечные
беседы... лучшие беседы в моей жизни». Встречаясь со Страховым,
Достоевский неизменно просил его прочитать вслух что-либо из его
новых очерков, настаивал на том, чтобы Страхов продолжал чтение,
и, по словам Страхова, только один раз выразил несогласие с одной
из его работ***. Беседы вращались также вокруг тех абстрактных вопросов
о «сущности вещей», которые так завораживали Достоевского. Ответы,
предлагаемые Страховым, были выдержаны в гегельянском духе. Как
он пишет в предисловии к книге «Мир как целое» (1872), «подлинная
сущность вещей состоит в различных стадиях духа по мере его
воплощения» ****. Вопрос о том, что значит быть человечным, который более
всего волновал и Достоевского, и Страхова, является главной темой
последней главы первого раздела первой части труда «Мир как целое».
Первоначально этот текст был опубликован в журнале «Светоч» как де-
* Биография. С. 224, 225, 228.
** Достоевский Ф. М. ПСС 28. (2). С. 327-328. В письме, на которое отвечал
Достоевский, Майков сообщал о беседе со Страховым: «Наши беседы всё —
большей частью объяснение фактов психологических, научных, литературных»
(Д-ПСС 28. (2). С. 488).
*** Биография. С. 224-225.
**** g своей биографии Достоевского Страхов пишет, что Достоевский любил
беседовать «на самые отвлеченные темы... о сущности вещей и о пределах знания,
и помню, как его забавляло, когда я подводил его рассуждения под различные
взгляды философов, известные нам из истории философии» (Там же. С. 225).
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 617
вятое из «Физиологических писем» Страхова. Датированное февралем
1861 г., оно, без сомнения, было известно Достоевскому еще до
появления его в печати, и, возможно, именно на Достоевского как на
идеального читателя Страхов и ориентировался при написании работы.
Глава имеет название «Содержание человеческой жизни». Следуя
за главой «Содержание органической жизни», это исследование было
сосредоточено на определении «сущности» человеческой природы или
того, что отделяет ее от всего иного — и органического, и
неорганического. При этом выявилась ее «неопределяемость»: «Человек есть самое
неопределенное из всех существ; в нем нет особенностей, которые бы
составили его природу; и в этом, как легко согласиться, состоит его
величайшая особенность»*. Человек есть «все в возможности»**.
Это означает, говорит Страхов, что в любой момент времени
человеческое существо есть не что иное, как «мясо, кровь и кости»***, тогда как
в другие моменты, достойные внимания художника, человек может
быть «всем самим собою*****. Рассуждая о том, что есть человек, нам
следует всмотреться в его поступки: «Вместо сущности нужно взять
деятельность, вместо постоянного — переменное, вместо души —жизнь
<...> нет существа более разнообразного, менее подчиненного каким бы
то ни было ограничениям, более общего и, следовательно,
совмещающего в себе более противоречий, чем человек» *****.
Развиваясь от низшего состояния к высшему, организмы, как
пишет Страхов, становятся менее единообразными, а потому более
динамичными. Человек, самое высокоорганизованное существо,
проявляет свою сущность в том, что Страхов называет «деятельностью»6*.
Именно по этой причине из всех организмов человеческие существа
в наибольшей степени открыты внешним влияниям. Страхов дает
в высшей степени поэтическое описание многих явлений природы
и человеческой цивилизации, которые привлекают человека и
формируют его. В сущности, их число настолько велико, что ни одно из них
не может быть принято в качестве того единственного фактора,
который формирует характер личности. Более того, личность находит свое
спасение от чрезмерной зависимости от какого-либо одного фактора
именно в своей восприимчивости к остальным. Будущее всегда открыто,
согласно этому сценарию, и изменение всегда возможно.
* Там же. С. 158-159.
** Там же. С. 159.
*** Там же.
*** Выделено Страховым. Там же. С. 160.
г*** Выделено Страховым. Там же. С. 160-161.
6* Там же. С. 161.
618
Д. ОРВИН
В отличие от низшего животного мира, «неопределяемый» человек
свободен в созидании своей собственной судьбы, поэтому свобода —
это первая определяющая характеристика подлинно человеческого.
Вторая — это поиски и следование цели. Для человека жизнь как
таковая не является самоцелью. Становясь взрослым, ребенок недолго
покоится на лаврах совершеннолетия; вскоре он начинает
осматриваться в поисках чего-то нового. По этой причине «жизнь не только
есть самоудовлетворение, но и саморазрушение, самонеудовольство»*.
«Пока есть задача, которая не разрешена, пока есть замысел,
который не исполнен, пока есть цель, которая не достигнута, — до тех пор
возможна деятельность. И следовательно, муки души побуждают нас
вперед, к неразгаданному и несовершенному. Они суть муки рождения.
То новое, что приходит в мир, — то таинственное будущее, которое
наступает, — оно приходит не помимо нас; мы сами его рождаем» **.
А. С. Долинин проводит параллель между этим рассуждением
и заявлением человека из подполья Достоевского, который убежден,
что при определенных обстоятельствах он предпочел бы страдание
счастью***. Здесь, как и в образе сотворенного Франкенштейном
чудовища, открывается не одушевленный еще характер — весь в будущем,
в возможности, в свободе, но неосознанно жаждущий обрести цель.
Когда Страхов советовал художнику изобразить человеческую личность
в тот момент, когда она раскрывает свою подлинную природу, под
художником он мог подразумевать своего друга Федора Достоевского.
Вся глава, написанная Страховым, представляет собой философское
основание некоторых основных направлений творчества Достоевского,
которые сложились у него как у зрелого писателя. Страхов
придерживается того мнения, что человек по самой своей природе противоречив:
он легко попадает под влияние другой среды и при этом одержим
мыслью о свободе и жаждой сохранить ее далее ценой собственной
жизни; он признан природой к «самоудовлетворению» и при этом
влеком во имя свободы к «саморазрушению». Страхов применяет
гегелевский диалектический метод по отношению к психологии, чтобы
объяснить процесс роста и познания, интегрирующий в себе
противоположно направленные внутренние импульсы одной и той же личности.
Выражением этой диалектики является целая серия противоположных
движений, рождающихся в душе человека из подполья: желание
дружбы перемежается с желанием иметь свободу от друзей, любовь к Лизе
замещается ненавистью к ней.
Там же. С. 173.
Выделено Страховым. Там же. С. 175.
Долинин. С. 247.
«Миркакцелое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 619
Вторая часть рассуждений Страхова должна была в равной
степени произвести впечатление на Достоевского — и сказанным, и тем,
что осталось несказанным. Как считает Страхов, содержание жизни
(в противоположность ее форме, которая является диалектичной)
состоит в стремлении к цели, но не в самой цели. Причина, по которой
мы нуждаемся в цели, заключается в том, чтобы находиться в
постоянном движении, хотя Страхов не говорит об этом явно, чтобы
двигаться целенаправленно. Этот второй фундаментальный принцип
нашего существования отражает тот факт, что мы обладаем рассудком,
требующим от нас разумной деятельности. Здесь, как и во всех своих
ранних статьях, Страхов утверждает, что всякий человек является
неисправимым идеалистом, который алчет не хлеба, но цели, к которой
он мог бы стремиться. Начиная с «Записок из подполья», страховское
положение о потребности в идеальном становится частью философской
системы Достоевского, читаемое во всех его трудах и особенно ярко
выраженное в поучениях Зосимы в «Братьях Карамазовых»*. Страхов,
однако, не дает определения цели, в направлении которой движется
человек; эта тема оставлена христианину Достоевскому, который
с 1864 г. начал разрабатывать свой собственный взгляд на
диалектическое противопоставление и примирение «я» и «все» **. В то же время
в герое из подполья Достоевский блестяще представляет человека,
который, не имея осознанной цели, становится пленником диалектики.
В отличие от личности, которую представлял себе Страхов, человек
из подполья идет в никуда. Он знает, против чего он: против законов
природы, которым он подчинен; но он не знает, за что он. Он знает
лишь, что он за ту бесконечную свободу, которая не позволяет ему
полностью отдаться своей цели.
В образе человека из подполья отражается коренное отличие
Достоевского от Страхова. В своей первой книге («О методе естественных
наук и значении их в общем образовании», 1865) Страхов
придерживается гегелевского положения, согласно которому сущностью человека
* Там же. С. 247-248.
г* Я имею в виду заметки, сделанные Достоевским в 1864 году, начинающиеся
со слов «Маша лежит на столе...» (Д-ПСС 20, 172-175). Следует обратить
внимание на то, что мысли Страхова о роли человека в формировании собственной
судьбы напоминают известное высказывание Герцена о роли личности в истории.
Эти рассуждения записаны Герценом в «Роберте Оуэне» (Былое и думы. Ч. 6,
гл. 9 «Роберт Оуэн») и опубликованы первоначально в шестом номере «Полярной
звезды» в 1861 г., т.е. после того, как Страхов опубликовал свое письмо в феврале.
Обоим писателям было свойственно динамичное, шеллингианское понимание
человеческой натуры, но в своей статье Герцен объявляет себя атеистом, в то время
как Страхов, позитивист и ученый, оставляет открытым вопрос о небесном или
земном характере целей, которые преследует человек.
620
Д. ОРВИН
является разум, а целью человечества — обретение совершенного
разума. Достигнув такого положения, мир обретет свое совершенство.
Страхов уравнивает самость человека и его разум и полагает, что
(кантианские) категории теоретического разума, благодаря которым
мы познаем физический мир, фактически соответствуют тем
метафизическим категориям, к которым мы не имеем прямого доступа*. Во
время своей поездки во Флоренцию в 1862 г. Достоевский и Страхов вели
дружеский спор относительно рационализма. Страхов записал и сам
их разговор, и свои мысли по этому поводу в дневнике, обнаруженном
в 1973 г. в его киевском архиве. Как записано в дневнике, незадолго
до этого Достоевский сказал Страхову, что в направлении мыслей
последнего имеется неадекватность, которую он, Достоевский,
«ненавидел, презирал и будет преследовать всю свою жизнь» **. Указывая
в дневнике причины их разногласия, Страхов пишет, что он хотел бы
разделить весь интеллектуальный мир России на правильное и
неправильное, к последнему из которых относятся и те глупцы, которые
безрезультатно пытаются доказать, что «дважды два три или пять».
Достоевский, как отмечает Страхов, считал, что в каждой позиции
непременно имеется зерно истины, независимо от того, насколько
слабой или нелогичной эта позиция представляется. Поэтому и дважды
два может иногда не равняться четырем, по крайней мере, по
человеческим меркам. Страхов принимал точку зрения Достоевского как
возможную, но продолжал считать, что подобное оправдание всякой
позиции придает ей относительную ценность, но закрывает всякую
возможность в обнаружении истины***. <...>
Друзья, которые расстались, тепло пожав друг другу руки, спорили
об относительности достоинств индивидуальной и обобщающей точек
зрения. <...> Достоевский отвергает материализм, представления
о котором он почерпнул, в частности, и у Страхова, соответственно
и его герой из подполья восстает против механических законов природы.
Однако против своей воли и в согласии с собственным рационализмом
он оказывается исполнителем законов внутренней логики,
диалектики свободы, которая не позволяет ему отдаться любви по отношению
к другой личности. Такого рода диалектика проявляется
психологически в отношениях с другими людьми. Человек из подполья не может
не желать сочувствия, дружбы и любви; но ему свойственно начинать
ненавидеть тех, кто его привлекает, так как всякую привязанность
он воспринимает как форму рабства.
* «О методе естественных наук...». С. 10, 15-16, 19.
** H.H. Страхов о Достоевском. С. 560.
*** Там же. С. 561.
« Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 621
Его отношение к читателю развивается по той же схеме:
доверительный тон сменяется оскорбительным, декларируются независимость
и убежденность в том, что и пишет он для самого себя, а не для
читателя. Единственное, что может освободить героя из подполья от его
внутреннего рабства по отношению к этой диалектике, — это цель,
которой он мог бы подчиниться неосознанно и всем сердцем. По
мнению Достоевского, без этой цели — иррациональной и христианской —
диалектика остается не решением, но источником проблем человека.
Соглашаясь со Страховым, что человек есть сущность, а не «кровь,
мясо и кости», Достоевский не видит этой сущности в человеческом
разуме, который оперирует средствами диалектики, но не может сам
по себе выработать нравственную цель.
Толстой и «Мир как целое»
Письмо Толстого Страхову, датированное 1872 г., дает понять, что
Толстой проявил к труду «Мир как целое» такой же живой интерес,
как и Достоевский, когда тот десятью годами ранее читал отдельные
статьи либо в рукописях, либо в журнальных публикациях и горячо
обсуждал их с автором. <...>
В своей книге Страхов дает системное представление о современном
ему научном и философском понимании природы и человека; именно
так он готовился ранее к своим беседам и статьям и для Достоевского.
Подобный подход был оценен Толстым, подчеркнувшим
«глубину и ясность», с которой его новый друг ставит вопросы и отвечает
на них, — те вопросы, которые ранее казались Толстому «смутными».
Однако, несмотря на общую положительную оценку, Толстой частично
критикует направленность и содержание книги. Позже в своем
письме, детально анализируя книгу, он выделяет в этом отношении главу
«Содержание человеческой жизни», которая, возможно, оказала
влияние на Достоевского; эту главу он просто «разложил». И тем не менее
из всей книги именно эта глава, с ее радикально новым
определением человека, на мой взгляд, является главным объектом внимания
Толстого во всей книге. В отличие от Достоевского ему, вероятно,
было неприятно определение человека как по сути своей
«неопределяемого», и мне думается, именно поэтому содержание главы вызвало
у него однозначное отторжение при первом чтении. Однако, подобно
Достоевскому, представление Страхова о разделенной душе могло
быть воспринято им как проливающее свет на многие проблемы: такой
подход мог прояснить психологический дуализм, наличествующий
в «Войне и мире». (Вспоминается Пьер с его любовью к жизни, с
одной стороны, и потребностью обретения смысла — с другой.) Подобно
622
Д. ОРВИН
Достоевскому, Толстой был не вполне удовлетворен страховским
объяснением дуализма, и подобно Достоевскому, он критически отнесся
к его пониманию рационализма*.
Отношения Страхова с Толстым, которого Страхов признавал
выше себя в сфере нравственности, отличались от его отношений
с Достоевским, которого Страхов считал художественным гением,
но при этом нравственно равным себе. Этим объясняется
совершенно иной тон писем, которые Страхов адресует Толстому. В письмах
к обоим писателям он твердо отстаивает свои идеи, и, без сомнения,
его честность в этом отношении была дорога для адресатов. Отвечая
Толстому на его оценку «Мира как целое», Страхов соглашается, что
легкий тон, избранный им для изложения отдельных положений,
оказался неудачен, и обещает в будущем избегать шутливости в
вопросах глубоких и утонченных. Он признает также, что в его
утверждениях о необходимости выбора цели есть уязвимые места; Толстой
сразу заметил, «что я слишком легко трактую о недовольстве жизнью
и не упоминаю о религии»**. Главным местом в труде «Мир как целое»,
где Страхов рассуждает о «неудовлетворенности жизнью», является
глава «Содержание человеческой жизни»: это свидетельствует о том,
что Толстой тщательно прочитал ее и подверг отдельному анализу.
Несмотря на высказывания и Толстого, и самого Страхова в их
переписке о «неудовлетворенности» и потребности, которая питает эту
неудовлетворенность, Страхов нигде в своей книге не осуждает этого
чувства. Можно сделать вывод, что, с точки зрения Толстого, Страхов
находится на верном пути, но идет по нему, исходя из неверных
суждений. Я бы предположила, что в последующие годы Толстой
отнес эти рассуждения к одним из самых запоминающихся.
В главе «Содержание человеческой жизни», которая, повторюсь,
могла быть написана в расчете на Достоевского, Страхов открыто
призывает художника творить образ человека таким, каков он есть
в реальности***. Развивая свое положение, он приводит обильные
цитаты из поэзии, и даже вносит в свой текст небольшой художественный
фрагмент. Сделав краткий обзор литературных произведений, Страхов
вводит героя, который читателям Толстого представляется смутно
знакомым. Создавая этот образ, Страхов пытается выделить и
обрисовать само качество неопред ел яемости, свойственное, по его словам,
человеческой личности.
* Об отношении Толстого к рационализму Страхова см.: Orwin Donna. Tolstoy's
Art and Thought, 1847-1880. S. 166-170.
* Лев Толстой и Николай Страхов. Полное собрание переписки. I. С. 92.
* Страхов Н. Н. Мир как целое. М.: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2007. С. 196.
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 623
«Человек идет. Идти, двигаться — это ведь значит чего-нибудь
достигать, приближаться к какой-нибудь цели. Но философ очень бы
ошибся, если бы стал задавать себе вопрос — куда и зачем идет этот
человек. Он никуда и ни зачем не идет; он вовсе не хочет куда-нибудь
прийти; он идет просто для того, чтобы идти.
На человеке шляпа. Философ, пожалуй, подумает, что она надета
с какою-нибудь целью, и станет рассматривать ее с этой точки зрения.
По-видимому, даже нет сомнения, что она служит для защиты головы
от холоду, так что голова — цель, а шляпа — средство. Ничуть не
бывало; во-первых, у этого человека прегустые волосы, так что для головы
не нужна другая защита, а во-вторых, совершенно наоборот — не шляпа
служит для головы, а голова служит поддержкою шляпы. Шляпа
куплена для того, чтобы ее носить во время прогулок, и если этот человек
несет на своей голове шляпу, то именно для того, чтобы нести ее.
Точно так же напрасно мы бы стали ломать себе голову, если бы
подумали объяснить себе форму этой шляпы. Форма ее также не имеет
никакого внутреннего значения. Шляпе дана такая форма ради самой
этой формы.
То же должно сказать и об остальном костюме. Великолепное пальто
великолепно само по себе, а не потому, что особенно удобно защищало
тело гуляющего от атмосферных явлений. Тело этого человека служит
только подставкою, на которую он надевает свой костюм. Посмотрите
на дорогой воротник. Эта мягкая, серебристая шерсть, про которую
телеологи говорят, что она именно назначена для согревания зверей
среди льдов и морозов, — эта шерсть выставлена прямо на мороз,
навстречу ветру и снегу; модному барину не придет и в голову, что
воротник можно отворотить, чтобы прикрыть лицо.
Подойдем ближе. — У барина орлиный нос, большие блестящие
глаза, величавое выражение лица, превосходные бакенбарды. Казалось бы,
здесь можно подозревать какое-нибудь содержание, какое-нибудь более
глубокое значение. А между тем нет; и здесь все наружу, все
существует само для себя. Этот нос и эти глаза не дают никакого права судить,
что за ними скрывается что-нибудь им соответствующее. Природа,
кажется, любит красивые формы за самую их красоту и создала этот
нос и эти глаза — так, ради самого носа и глаз, а вовсе не для
соответствия с внутренними свойствами человека. Что касается до
бакенбард, то уже не может быть и сомнения, что они сами себе служат
целью. Величественное выражение лица имеет не больше значения,
чем бакенбарды. На основании его вы не имеете ни малейшего права
предполагать какое бы то ни было величие в этом барине, не имеете
права предполагать даже стремления к некоторому величию. Барину
до величия нет никакого дела; он добивался исключительно только
624
Д. ОРВИН
величественного выражения лица. Теперь вы видите это выражение;
он его вам показывает; больше ничего здесь и не ищите. Явление жизни
совершается открыто, явно, прямо перед вашими глазами.
Но вот навстречу нашему барину идет другой, отчасти похожий;
они встречаются и разговаривают. Не узнаем ли мы тут чего-нибудь,
не выйдет ли чего-нибудь из этого? По строгому рассмотрению
оказывается, однако же, что ничего не выходит. Вы думаете, что они
сообщают друг другу свои мысли, что разговор имеет цель, стремится
к разъяснению какого-нибудь вопроса? Нисколько. Слова говорятся
единственно для того, чтобы быть сказанными. По тону, по жестам
вы угадываете все наслаждение, которое чувствуется при произнесении
фраз. Один вовсе не хочет передать другому свое суждение — он хочет
только его сказать; ему и суждение нужно не само по себе, а только
для того, чтобы можно было его выразить. Другой вовсе не старается
усвоить себе мысль собеседника: он слушает его только для того,
чтобы отвечать, т.е. насладиться собственной речью. В этом состоит вся
цель разговора: она достигается совершенно, а затем разговор не имеет
ни малейшего следствия: из него ничего не выходит.
Я мог бы продолжить этот разбор очень далеко. Барин смотрит:
из этого вовсе не следует, что он что-нибудь рассматривает и что
из этого что-нибудь выйдет. Он смотрит — просто чтобы смотреть.
Он смеется не для того, чтобы что-нибудь осмеять, а просто, чтобы
посмеяться. Он читает книгу не для того, чтобы что-нибудь вычитать,
а просто, чтобы читать. И словом, он живет не для того, чтобы что-
нибудь выжить, а просто для того, чтобы прожить. Так что из жизни
у него действительно ничего не выходит, кроме жизни. <...>»*.
Кого напоминает этот самоуверенный и самодовольный барин с
блестящими глазами и превосходными бакенбардами? Безусловно,
Страхов очерково представил своим читателям — в том числе и Толстому —
прообраз Стивы Облонского, который выбирает для себя идеи так же,
как он выбирает одежду, в особенности шляпы. Для Стивы — «живя
в определенном обществе, имея потребности в определенной
деятельности мысли, что обычно развивается к зрелому возрасту, иметь
суждения было так же необходимо, как иметь шляпу» **. Именно таким
образом Стива реализует «потребность в деятельности», которая в ином
случае могла бы привести к «саморазрушению», находящемуся в
состоянии напряженного сосуществования с «самоудовлетворением»,
как пишет Страхов.
* Выделено Страховым. Страхов H. H. Мир как целое. С. 202-203.
* Анна Каренина. Ч. 1, гл. 3.
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 625
В «Анне Карениной» любящий жизнь, но суховатый Константин
Левин, литературный потомок Андрея Болконского, вытесняет Пьера
с центральных позиций, в то время как наследник Пьера Стива остается
на ведущих ролях, хотя и не является главной фигурой. В сцене в столовой
предметом спора Левина со Стивой является вопрос, ради чего следует
жить: ради целей или ради калачей? Этот конфликт (исход которого в
романе ясно так и не очерчен) также зарождается еще в «Войне и мире» и в
статье «Содержание человеческой жизни», к которой мы и возвращаемся.
Развивая свою идею, Страхов обращается к Пушкину, чтобы описать
противоборствующие движения души. С одной стороны, человек ищет
удовольствий жизни, под которыми подразумевает любовь и
искусство, а с другой стороны, неизменно жаждет «чего-то», что заставляет
его критично относиться к человеку «со шляпой».
«Так смотрим мы не только на эти пустые радости, но и вообще на все
радости жизни. Жизнь человека богата. У нас есть любовь — сродство
душ, блаженство, заставляющее нас все забывать.
Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши;
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал*.
У нас есть науки, искусства; преданность им награждается
высокими радостями. Тот же поэт рассказывает их:
Никому
Отчета не давать; себе лишь одному
Служить и угождать. Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!**
Пушкин. ПСС 3. 1, 316. Стихотворение 1833 г., известное по первой строке.
Пушкин. ПСС 3. 1, 420. Из Пиндемонти (1836). Приводимый Страховым текст
отличается от текста академического издания.
626
Д. ОРВИН
И все это, всю нашу прекрасную жизнь мы непременно желаем
принести в жертву, мы во что бы то ни стало хотим превратить ее целиком
только в средство, только в пособие для чего-то другого.
Нас вечно движет
Смутное влеченье
Чего-то жаждущей души *.
Мы неутолимы, ненасытимы; мы презираем самодовольство, в
каком бы отношении оно ни выражалось; мы требуем работы, движения,
вперед и вперед — куда же это, наконец?
Идти вперед значит — иметь впереди цель, значит — быть
недовольным настоящим и стремиться к будущему, значит бороться с тем,
что не согласно с этими стремлениями, и приводить в исполнение
то, что сообразно с нашими идеалами. Одним словом, значит —
действовать , к сущности человека принадлежит не только то, что он
познаёт и чувствует, но также и то, что он действует. Жизнь не только
есть самоудовлетворение, но и саморазрушение, самонеудовольство»**.
Должно быть, это и было тем фрагментом, в котором, по мысли
Толстого, Страхов слишком легко рассуждал о неудовлетворенности.
Этот отрывок определенно мог раздражать Толстого элементами
гедонизма и аскетизма. Да и сам Страхов испытал смятение, перечитывая
этот отрывок спустя десять лет после его написания, глядя на него
глазами своего нового друга — Льва Николаевича. Более того, хотя
Страхов говорит о целях как о том, что присуще человеческой
природе, он не называет этих целей, и это тоже могло поразить Толстого,
как поражало и Достоевского, который считал это явной
недоработкой всей книги. Несомненно, Толстой в письме Страхову ссылается
именно на эту проблему, когда в пункте третьем говорит, что многие
вопросы в книге остались нерешенными и читатель (под которым
он имел в виду самого себя) опасается, что конечные выводы автора
могут увести не в ту сторону***". Страхов не называет религию в
качестве первоисточника целей, и, отвечая в 1873 г. на критику Толстого
и признавая, что вопрос о «неудовлетворенности жизнью» решается
им слишком поверхностно, понимает это как ошибку****.
* Заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина «Не дорого ценю а громкие
права» (Из Пиндемонти). Современная редакция отличается от цитаты Страхова:
во второй строке «самому» (вместо «одному») и в предпоследней строке («Трепеща
радостно») вместо («Безмолвно утопать»).
** Выделено Страховым. Страхов H. H. Мир как целое. С. 205-206.
*** Т-ПСС61.С. 346.
**** Т-ПСС61.С. 347.
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 627
<...> Хотя в книге «Мир как целое» Страхов убедительно опровергает
материалистов, недостаточно доверяющих «способности сознания»,
его собственные объяснения «не дают определения смысла жизни»*,
который имеет религиозную природу по мысли как Толстого, так
и Достоевского. Первую ошибку Страхов совершает, оценивая
чувственное и эстетическое удовольствия как само по себе благо. Вторая
его неудача заключается в неспособности объяснить (а не просто
заявить) неудовлетворенность своей сущностью, которая увлекает
человека прочь от этих удовольствий. Могу высказать
предположение, что в «Анне Карениной» Толстой восполняет пробелы, и делает
он это в сцене спора Стивы и Левина в столовой.
Левин появляется в романе, увлеченный тем самым «смутным
влеченьем»; его «чего-то жаждущая душа» не позволяет ему
находиться в состоянии покоя, даже когда он достигает семейного
счастья. По словам Стивы, он «очень цельный человек», который хочет,
чтобы жизнь имела нравственную цель**. При этом Стива убежден:
удовольствие является конечной целью человеческого существования.
Разумеется, он сенсуалист: любитель тех самых «ножек», о которых
пишет Пушкин и которые стали часто повторяемой цитатой не
только у Страхова. Стива отстаивает свою точку зрения относительно
любви и красоты: «Да, брат, женщины — это винт, на котором все
вертится... ты очень цельный человек. Это твое качество и твой
недостаток... Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека
всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно.
А этого не бывает. Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни
слагается из тени и света» ***.
Тема спора кажется прямо заимствованной из книги Страхова:
говоря о деятельности и целях, Стива обозначает позицию Левина
именно языком книги «Мир как целое». Стива хочет сказать, что
«самоудовлетворение», основанное на любви и эстетике,
является главным принципом человеческой жизни; Левин же убежден
в неразрывности принципов «саморазрушения» и особенно «само-
неудовольства». Соглашаясь со Страховым, что человек жаждет
и удовольствия, и целей, Толстой вносит поправку в то, что кажется
* Там же.
** Толстой художественно осмыслил тот факт, что слова «цель» и «цельность» в
русском языке являются однокоренными. См. об этом: Orwin Donna. Tolstoy's Art
and Thought, 1847-1880. S. 166-167, 173. Medzhibovskaya рассматривает
использование Толстым слова «цель» в повести «Смерть Ивана Ильича» (Medzhibovskaya
Inessa. «Teleological Striving and Redemption in The Death of Ivan IHch"». Tolstoy
Studies Journal XII (2000): 35-49).
*** 4. 1,гл. 11.
628
Д. ОРВИН
ему легковесным и недостаточно религиозным, заставляя Стиву —
человека со шляпой — отстаивать жизнь, основанную скорее на
эстетических, а не на моральных принципах, а Левина, неудовлетворенного
человека, — искать религиозной цельности. Для Стивы потребность
в цели является чисто механическим явлением, не имеющим
морального подтекста, что читается и у Страхова в «Содержании жизни»;
при этом Стива способен подчинить эту потребность своему чувству
удовлетворенности и любви к удовольствиям.
Комментарии Достоевского
по поводу «нового человека» Толстого
Отклик Толстого на статьи Страхова имел много общего с
реакцией Достоевского; и эта встреча двух умов в поле осмысления одного
и того же текста позволяет объяснить некоторую схожесть двух очень
отличающихся друг от друга работ, написанных этими авторами.
В 1860-х гг. в «Записках из подполья» Достоевский, вдохновленный
Страховым, создал образ, для которого свобода значит больше, чем
счастье, и который ищет цели, не зная, какой она может быть. В 1875 г.
в записках, относящихся к его роману «Подросток», Достоевский
говорит о том же герое, что он знает, что есть добро, но не может творить
его*. Спустя десятилетие после написания «Записок из подполья»,
отвечая, по крайней мере частично, на те же тексты Страхова, Толстой
создает образ Константина Левина, который также стремится к благу,
но не может быть просто хорошим человеком. В феврале 1877 г. в своем
«Дневнике писателя» Достоевский выделяет диалог между Левиным
и Стивой (Анна Каренина. Ч. 6, гл. 11), который в чем-то повторяет
содержание их спора в столовой относительно вопроса о том, насколько
удовольствие или нравственность могут быть целями жизни. Нет
ничего удивительного, что он одобряет Левина и безоговорочно осуждает
Стиву. Достоевский, в отличие от Толстого, не мог чувствовать никаких
симпатий к человеку со шляпой.
В этом диалоге, который разворачивается во время охоты, Стива
подвергает сомнению правильность жизни Левина. Для Стивы доста-
* Д-ПСС 16, 329. Он чувствует себя потерянным, так как верит, что окружающие
подобны ему в этом отношении. Хорошо известно, что из рукописи был
вычеркнут фрагмент, в котором христианство виделось как цель, как идеал, который
человек из подполья мог принять всем сердцем. И если Достоевский не
восстановил этого фрагмента в более поздних изданиях (что он мог бы сделать, так как
это были не журнальные издания), то это значит, что он понял: неповторимость
человека из подполья заключается именно в том, что он не имеет цели, и в том,
как это сказывается на его психике.
« Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 629
точно лишь признать неправедность собственной жизни и продолжать
жить по-прежнему. По отношению к себе он применяет расхожее
представление о том, что жизнь состоит из света и тьмы,
следовательно, нужно наслаждаться жизнью и не осуждать ее. Левин же
говорит о том, что он не может жить согласно принципам, которые
он считает несправедливыми. Как он сам говорит, чтобы продолжать
жить в его нынешнем положении, он должен сказать самому себе:
«Я не виноват».
Касаясь этого фрагмента в своем «Дневнике писателя»,
Достоевский изображает Стиву как беспринципного человека, как эгоиста,
этакого «тонкого эпикурейца»*, который живет по правилу «après
moi le déluge (после меня потоп)» ** и не задумывается не только о
будущем, но о том, как в настоящем живут его близкие, включая жену
и детей. Достоевскому Стива напоминает барина, который во времена
крепостничества не раздумывая продал бы своих крепостных в солдаты,
чтобы расплатиться с долгами. Стива есть олицетворение злого и даже
демонического начала; Гарри Сол Морсон, соглашаясь с Достоевским
в его оценке Стивы, высказывает предположение, что этого героя можно
представить как Мефистофеля современности***.
<...> Диалог в шестой части «Анны Карениной» выглядит
слегка по иному, с точки зрения Толстого 1870-х гг. Он согласился бы
с Достоевским, что Стива — эгоист, занимающийся
самооправданием. Но в «Анне Карениной» эта позиция представляется более
жизнеспособной, чем в книгах Достоевского. Левин осознаёт, что
со Стивой у него есть что-то общее. После того как Стива
присоединяется к Весловскому, Левин, оставшись наедине с собой, вновь
задается тем же вопросом: «Неужели только отрицательно можно
быть справедливым? » (он имеет в виду свои старания не увеличить
разницы положения между собой и своими крестьянами). На этот
вопрос он отвечает: «Ну и что ж? Я не виноват» ****. Частично он
перешел на позиции Стивы (сцена в столовой, ч. 1). В разумных пределах
удовлетворяя свои законные потребности, человеку следует лишь
избегать самых страшных грехов. Человек нравственно ограничен,
но и нравственно оправдан своей животной природой, своей
непобедимой привязанностью к самому себе.
Представляется важным, что и сама беседа, и внутренний диалог
Левина разворачиваются на фоне охоты. Охота — это деятельность,
* Д-ПСС25, 53.
** Там же. С. 56.
*** Morson G. S. Prosaics in Anna Karenina. Tolstoy Studies Journal I (1988): P. 6.
**** 4.6, гл. 11.
630
Д. ОРВИН
подчиненная животному инстинкту, естественное исполнение этого
инстинкта, требующего посягательства на чужую жизнь, даже убийства,
ради утверждения собственной силы. Компаньонами Левина по охоте
становятся Стива и Весловский — оба в этом смысле ближе к природе,
чем Левин. А на следующее утро Левин отправляется на охоту с Лаской,
своей собакой. Для охотничьей собаки не существует нравственных
дилемм, ее не беспокоят вопросы о том, правильно она поступает
или нет. Для нее существуют только «они», и ее цель — загнать «их»
и убить. Лишь человеческому существу свойственно задаваться
вопросами о справедливости или даже самопожертвовании, об отношении
«меня» к «ним». Когда Левин задается своим вопросом, он, по сути,
спрашивает, заключается ли в нравственности нечто большее, чем
сведение своей личности к естественным потребностям. Во время охоты
этот вопрос снимается.
Но Толстой не просто оправдывает животную, эгоистическую
сторону человеческой натуры. Как ему представляется, Левина удерживает
не только «что-то твердое, прямое и реальное» или не полностью только
это. Левин оправдывает свою жизнь помещика следующим: «Я,
напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности
и к земле и к семье»*. Во время выборов Левин встречает
консервативно настроенного помещика, с которым он познакомился у Свияж-
ского. Левин объясняет ему свой образ жизни: «...так мы без расчета
и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь
какой-то» **. Левин посвящает себя семье.
И одной из главных мыслей «Анны Карениной» является то, что
именно семьей держится русское общество***.
* Там же.
** Ч. 6, гл. 29.
"** Возможно, «мысль семейная» обязана своим происхождением тому, что Страхов
касается этой темы в книге «Мир как целое». Страхов пишет о двух силах,
действующих в человеческой жизни. Одна — механическая, поддерживающая жизнь;
вторая — органическая, питающая развитие жизни. Главными моментами этого
органического развития являются рождение и смерть, которые, как считает
Страхов, не могут быть объяснены научно. Что касается «явления развития»,
«все здесь непонятно, все таинственно, и наука не видит даже пути, по которому
она могла бы дойти до решения представляющихся вопросов. ...Исследования
показали, что эти чудеса, которые авторами теории относились к первому
обнаружению творческого всемогущества, происходят теперь, здесь, перед нашими
глазами. С этой точки зрения весьма справедливо сказать, что Божественное
творчество не прекращается ни на минуту, что великая тайна создания мира
совершается пред нами до сих пор» (78-79, 82). Это суть главные тайны мира,
благодаря которым повседневная жизнь поднимается над механическим своим
течением и, конечно, придает семейным отношениям священное измерение.
«Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым 631
Что касается Достоевского, то он мог бы видеть в Стиве Облонском
душу, родственную герою его «Петербургской летописи» 1847 г.,* —
человеку «доброго сердца». Воплощенная искренность, он действует,
следуя только своим побуждениям, нередко раня этим своих ближних.
Достоевский не мог простить Стиве отсутствия в нем чувства
социальной ответственности. Подлинно хороший человек рано или поздно
должен сразиться с приступами самолюбия, а не просто предаваться
их течению. Толстой же представляет Стиву в более благоприятном
свете: как естественно противоречивого, естественно себялюбивого
человека, который любит других людей, но не пожертвует ради них
своими удовольствиями. В сцене в столовой Стива очень удачно
объясняет свою любовь к чистому удовольствию, приводя следующие стихи:
Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber noch wenn's nicht gelungen,
Hatt'ich auch recht hübsch Plaisir!**
Стиву нельзя назвать грубым по натуре, но он обладает животной
природой в той степени, в какой он не обращается к собственному
разуму и совести. В «Анне Карениной» Толстой все еще надеется
примирить животную и духовную стороны человеческой природы. Стива,
наделенный пониманием себя самого и других, может кое-чему научить
Левина: например, предупредить своего друга о проявлениях
непостоянства по отношению к «цельности», к которой Левин так стремится,
и в этом смысле Стива говорит от имени Толстого.
Достоевский порицает Стиву не за его себялюбие, но за то, что он
гордится этим качеством. Когда в 1875 г. Достоевский с гордостью заявил,
что он «впервые вывел» в литературе тип человека из подполья, он
объяснил это следующим образом: «Только я один вывел трагизм подполья,
состоящий в страдании, с самоказни, в сознании лучшего и в
невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных,
что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться» ***. Внутри него
борются самые разные чувства — качество, увиденное Толстым в самом
* Петербургская летопись. Д-ПСС 18, 13-15.
** Чудесно, что я поборол
Свою земную страсть;
Но даже если это не удалось,
Я все же испытал блаженство!
Ч. 1,гл. 11.
*** Д-ПСС 16, 329.
632
Д. ОРВИН
Достоевском*, с которым он никогда не встречался и которого знал
только по его произведениям. Высказав эту мысль уже после смерти
Достоевского в письме к Страхову, Толстой в «Анне Карениной» уже сам
сделал шаг в том же направлении, в котором шел Достоевский. В конце
романа Левин так и не нашел ответа на вопрос, как быть добрым; вместо
этого он обнаружил, что при должных обстоятельствах принцип добра
сам откроется в его жизни, не становясь в ней Абсолютом. Достоевский,
безусловно, узнал в этой идее свою собственную мысль, и в «Дневнике
писателя» назвал Толстого мастером психологического реализма именно
потому, что Толстой сумел изобразить Левина в неуловимый момент
между порывами самолюбия и самоотвержения. В то же время он
обратился к своим читателям с открытым призывом посвятить свою жизнь
созданию идеального общества, подобия Царствия Небесного, которое,
как он убеждал, не является невозможной мечтой**.
Толстой дал отрицательную оценку главе «Содержание жизни» в
книге «Мир как целое», но именно эта глава помогла ему сформулировать
свое собственное отношение к данной проблеме в «Анне Карениной».
Сама мысль о том, что сущность человека «неопределима», должна
была быть чужда ему, но, как и Достоевский, он мог ощутить и
потребность в этой неопред ел яемости, поскольку ею утверждается
возможность нравственной свободы. Как и Достоевский, он мог в большей
мере, чем Страхов, сконцентрировать свое внимание на вопросе о
потребности в цели, которую жаждет человек, и природе этой цели. Вот
почему в письме Страхову относительно его труда «Мир как целое»
Толстой воздает ему должное за саму постановку вопросов, но
отмечает, что многие из них «не решены» и что книга страдает
некоторой легкостью тона. Отвечая на письмо Толстого, Страхов признает
эти ошибки, объясняя их недостаточной религиозностью, но в целом
все же не отказывается от того объяснения сути человеческой
природы, которое так поразило Толстого в книге глубиной и ясностью».
С временной разницей в десять лет Толстой и Достоевский в равной
степени приняли это объяснение и сделали его темой величайших
произведений литературы.
* В письме Страхову от 6 декабря 1883 г. Толстой определил покойного Достоевского
как «человека, который весь борьба». Лев Толстой и Николай Страхов. Полное
собрание переписки в 2-х т. II. С. 655.
** Д-ПСС 25. С. 63.
А.С.ДОЛИНИН
Достоевский и Страхов
1
В 1894 году, когда Страхова, одновременно с его ровесником
Львом Толстым, избирали в почетные члены популярного в то
время Московского психологического общества, ему дана была такая
характеристика :
«Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель
тонкий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, H.H. Страхов
представляет и как личность выдающиеся черты — стойкостью своих
убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствующих
в науке и литературе течений, восставать против увлечений минуты
и выступать на защиту тех крупных философских и литературных
явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и осмеянию» *.
Московским психологическим обществом руководил тогда Н. Грот,
во многом единомышленник Страхова, тоже идеалист, последователь
Шопенгауэра, метафизику его пытавшийся использовать для
обновления старой, реакционной, христиански-славянофильской «этики
отречения». То, что Страхов шел «против господствующих течений»
(разумеется, против материализма и позитивизма), боролся с
демократическим крылом в литературе второй половины прошлого
века, с Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, Некрасовым
и Салтыковым, — ставилось ему при избрании, очевидно, в
особенную заслугу. В его характеристике дальше так и сказано: «Как
политический мыслитель H.H. Страхов всегда писал в духе и в защиту
славянофильства».
Страхов действительно был человек разносторонне и широко
образованный: философ, историк, литературовед, физиолог и психолог.
Он был естественник по образованию; окончил физико-математический
* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2 (32). С. 299-300.
634
А. С. ДОЛИНИН
факультет и представил магистерскую диссертацию по зоологии («О
костях запястья млекопитающих», 1857). Его философские труды: «О
методе естественных наук и их значении в общем образовании» (1865),
«Мир как целое» (1872), «Философские очерки» (1895),
многочисленные статьи по психологии, в частности книга «Об основных понятиях
психологии и физиологии» (1886), три книги по философии культуры
(«Борьба с Западом в нашей литературе», 1882-1887, первоначально
в «Заре» 1870 г.), в которых для того времени (семидесятые годы)
дается оригинальная по тону, нарочито «спокойная» оценка
философским и историческим воззрениям таких с точки зрения «правых»
одиозных мыслителей, как Герцен, Ренан, Тэн. Во всех этих работах
видна обширная эрудиция автора.
Эрудитом является Страхов и в своих литературных статьях,
отличающихся прозрачностью языка и ясностью изложения. Тон осторожного
исследователя, наукообразной убедительности стремился он соблюдать
в своих оценках и приговорах. И это давалось ему тем легче, что
навыки, им приобретенные в занятиях естественными науками, вполне
соответствовали его крайне уравновешенному характеру, вследствие
которого он никогда не играл роли застрельщика.
«Один из трезвых между угорелыми» — так, говорил Страхов,
можно будет написать на его могиле. «Угорелыми» были для него не одни
«нигилисты», последователи идей «Современника» и «Отечественных
записок». Он мог бы так называть и «защитников православия», грубо
выступавших против Толстого. «Они стоят за веру, — иронизировал
он, — а потому разрешают себе всякое извращение и неуважение чужих
мнений, они стоят за нравственность, а потому считают долгом быть
резкими и грубыми» *.
Подобие «либерализма» в вопросах морали, позиция как бы
несколько со стороны, позволявшая ему в какой-то мере свободно относиться
к «своим» же, подвергать их, хотя бы изредка, критике и осуждению,
и в особенности широта кругозора, охватывавшего самые разнообразные
стороны человеческого творчества, — вот что давало Страхову право
на расположение таких людей, как Толстой и Достоевский.
2
Говорим о расположении у но не о настоящей духовной и душевной
близости. Были отношения весьма приятельские. Страхову они
порою казались даже «нежными». Страхов принимал активное участие
в журналах Достоевского «Время» и «Эпоха», часто встречался с ним
* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2 (32). С. 304.
Достоевский и Страхов
635
на редакционных собраниях, бывал у Достоевского и дома. Хлопотал
об устройстве его денежных дел, когда тот находился за границей.
А в области идей был у них, безусловно, ряд точек соприкосновения:
в вопросах прежде всего философских, одно время — и
общественно-политических и литературных. Казалось совершенно законным
стремление Страхова использовать для подтверждения своих взглядов
силу и авторитет Достоевского. На самом же деле, за исключением
разве периода «Бесов», они, в сущности, часто расходились по самым
жгучим, волнующим вопросам эпохи: о движении среди молодежи,
о круге Чернышевского и Добролюбова, о понимании задач литературы
и критики. Страхов пытается всеми доступными ему мерами ослабить
впечатление от целого ряда фактов, которые сам же сообщает в своих
воспоминаниях, если эти факты не умещаются в его схему; он говорит
о них тогда лишь туманными намеками и в таком контексте, что почти
исчезает их подлинньтй-смысл. Так скажет он мельком о тех поправках,
которые вносил Достоевский в его статьи, резко меняя их тон и
характер, в частности — в его статью о «Свистке» Добролюбова*.
С оттенком явной иронии, в которой звучит и насмешка,
рассказывается Страховым о «студентской истории», о сочувствии
арестованным со стороны передовой части петербургского общества, в том числе
и редакции журнала Достоевского «Время» **.
В 1865 году, упоминает вскользь Страхов, происходит у него
размолвка с Достоевским, и до самой свадьбы Достоевского (в 1867 году)
они не встречаются. В чем была размолвка, из-за чего разошлись —
Страхов умалчивает, надо думать — из-за вопросов характера не
бытового. Об отношениях с Достоевским в письмах к Толстому имеются такие
строки: «Достоевским я очень недоволен: он стареет видимо с каждым
днем»***. «Я <...> не люблю самого себя так, как Достоевский...»****.
«Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми;
но Вы — человек» *****, — добавляется дальше в адрес Толстого, что
звучит несколько льстиво. Достоевский в письмах к Анне Григорьевне
несколько раз упоминает об отрицательном отношении к нему Страхова;
в последний раз поводом к этому был роман «Подросток»6*.
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. СПб., 1883. С. 235.
** Там же. С. 231-234.
** Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым // Толстовский музей. Т. 2. СПб.,
1914. С. 27 (Письмо от 15 марта 1873 г.).
'** Там же. С. 185 (Письмо от 14 сентября 1878 г.).
** Там же. С. 214 (Письмо от 11 марта 1879 г.).
6* См.: Достоевский Ф.М. Письма. Т. 3. М.; Л., 1934. С. 148 (Письмо от 6 февраля
1875 г.).
636
А. С. ДОЛИНИН
Само помещение романа в журнале Некрасова и Салтыкова-
Щедрина, очевидно, было крайне враждебно принято не только
Страховым, но и Майковым. «Не нравятся они мне оба, а пуще не нравится
мне и сам Страхов; оба они со складкой» *, — писал Достоевский Анне
Григорьевне 11 февраля 1875 года. После «Подростка» в письмах
Достоевского Страхов не упоминается ни разу. Очевидно, они не
встречаются в последние пять лет жизни Достоевского (исключая, конечно,
случайные и официальные встречи).
Разбираясь, уже после смерти Достоевского, в своих отношениях
с ним, Страхов писал, подводя, по своему обыкновению, частный
случай под некое обобщение: «Близость между людьми вообще зависит
от их натуры и при самых благоприятных условиях не переходит
известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту,
за которую никого не допускает, или лучше — не может никого
допустить. Так и наше сближение встречало себе препятствие в наших
душевных свойствах» **.
Сразу же после смерти Достоевского Страхов, взволнованный
и огорченный, писал Толстому о чувстве «ужасной пустоты», но и здесь
он не мог не прибавить: «мы не ладили все последнее время» ***. Особенно
показательно его откровенное признание об отношении к Достоевскому,
свидетельствующее не только об их чуждости друг другу, но и о
резко отрицательном отношении, почти ненависти к Достоевскому.
И это не в минуту гнева или обиды, а результат всей жизни; точно
исповедаться хочет он перед Толстым, «носителем правды», о том, что
лгал о Достоевском не только в своих воспоминаниях, где была цель
создать ему апофеоз, а, в сущности, всю жизнь: рисовал образ его
идеальным, с точки зрения своих же нравственных понятий и убеждений,
и сам же сознается, что лгал намеренно, что все выдумано. Посылая
Льву Толстому биографию Достоевского, которую только что закончил,
он пишет ему свою «покаянную» <...>.
В конце своих «Воспоминаний» А. Г. Достоевская должным
образом оценивает Страхова как человека, приводит достаточно фактов,
изобличающих его во лжи по отношению к нравственному облику
Достоевского****.
Возникает поэтому для установления истины крайняя необходимость
подойти к фактам, которые Страхов сообщает, как можно осторожнее.
Не поддаваться прежде всего соблазну заостренной логики Страхова,
* Там же. С. 154.
:* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 224.
:* Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. С. 266 (Письмо от 3 февраля 1881 г.).
* Достоевская А. Г. Воспоминания. М.; Л., 1925. С. 285-292.
Достоевский и Страхов
637
резко разграничить факты с точки зрения достоверности, когда они
касаются социально-политических убеждений Достоевского. И дело
даже не столько в самих фактах, сколько в своеобразном их освещении
с определенной целью. Это нужно особенно иметь в виду, когда речь
идет о первых главах воспоминаний Страхова — об истории журналов
Достоевского первой половины шестидесятых годов. Тем более что здесь
Страхов — почти единственный из сверстников Достоевского, который
отлично знает и помнит обо всем, что творилось в общественной жизни
той эпохи, и о своеобразном ее отражении в журнальной деятельности
писателя. Знает как ближайший сотрудник, принимавший
деятельнейшее участие в борьбе литературных течений того времени. Было бы
его свидетельство весьма ценным, если бы он не задавался целью
представить Достоевского во всем своим единомышленником —
славянофилом, верноподданным, борцом против нигилизма, материализма и т.д.
Иным должно быть отношение к тому, что пишет Страхов о
материальном положении Достоевского в тот или другой период, о двух
его поездках за границу (в 1862 и 1863 гг.), об обращении к
издателям с предложением своих романов и повестей, только что
задуманных, и т.д. и т.п. Касаясь жизни Достоевского преимущественно лично-
бытового характера, Страхов становится более точным, соответственно,
возрастает и значение его сообщений.
Но, повторяем, не в этом, в сущности, основной интерес материалов,
освещающих творчество Достоевского, которые мы находим у Страхова.
Ценность их выявляется особенно с того момента, когда перед нами
Страхов не столько мемуарист, сколько мыслитель-философ,
решающий задачи глубоко принципиальные, в размерах очень широких,
в пределах которых творчество отдельного человека, как бы он ни был
велик, кажется частностью.
Страхов с Достоевским познакомился в начале 1860 года, вскоре
по возвращении Достоевского из Сибири. Они оба бывали у довольно
популярного в то время писателя и педагога, «преподававшего
литературу по Белинскому», — А. П. Милюкова, с которым братья Достоевские
состояли в дружеских отношениях еще с сороковых годов как с
петрашевцем, членом кружка Дурова. У Милюкова, фактического редактора
только что основанного (в январе 1860 г.) журнала «Светоч», собирались
по вторникам разные литераторы: поэт Аполлон Майков, Достоевские,
фельетонист и поэт Д. Минаев, молодой Вс. Крестовский; приглашен
был и Страхов, напечатавший в первой книжке «Светоча» свою
первую большую статью, с которой он выступил в петербургской большой
прессе, — «Значение Гегелевой философии в настоящее время» *.
* Светоч. 1860. Кн. 1. Отд. И. С. 3-51.
638
А. С. ДОЛИНИН
3
Они встретились вначале как люди резко противоположных
интересов и направлений, как представители двух разных эпох и культур.
Страхов, по его собственным словам, занимаясь философией и
зоологией, «прилежно сидел за немцами и в них видел вождей
просвещения»*. Понимать Гёте было для него верх образования; он поклонялся
«науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке» — словом, совсем идеалист
тридцатых годов, подобно Аполлону Григорьеву, который тоже вскоре
появится и в окружении Достоевского.
В то же время литераторы из кружка Милюкова, и прежде всего сам
Достоевский, среди них «первенствовавший не только по своей
известности, но и по обилию мыслей и горячности, с которой их высказывал», —
наоборот, немцев совсем не уважали; они «очень усердно читали французов,
политические и социальные вопросы были у них на первом плане и
поглощали чисто художественные интересы». Достоевский, по
утверждению Страхова, был тогда «вполне проникнут этим публицистическим
направлением». Он придерживался «теории среды», ставил своей задачей
«наблюдать и рисовать различные типы людей, преимущественно низкие
и жалкие, и показывать, как они сложились под влиянием окружающих
обстоятельств»; суждения свои о человеческих свойствах и действиях
высказывал «не с высоты нравственных требований, не по мерилу
разумности, благородства, красоты, а с точки зрения неизбежной власти
различных влияний и неизбежной податливости человеческой природы».
Немецкая субъективно-идеалистическая эстетика с ее теорией
«свободного искусства», ставившей художника над жизнью, вне «идеалов
и забот сегодняшнего дня», столкнулась, в лице Страхова, с «теорией
французской», материалистической и просветительской,— с
теорией, требовавшей, как ее определяет Страхов, «служения современной
минуте», уловления и отражения в образах «последней и новейшей
черты в общественной жизни» **. Так утверждается категорически столь
авторитетным свидетелем Страховым, что не в Сибири, не под
влиянием пережитого на каторге началось «перерождение убеждений»
Достоевского. Продолжается, по-видимому, все та же линия, которая
привела его к петрашевцам, к самому левому крылу их, к тем, которые
группировались возле Спешнева***.
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 172.
г* Там же. С. 174.
г* См.: Долинин А. С. Достоевский среди петрашевцев // Звенья. Т. VI. М.; Л., 1936.
С.512-545.
Достоевский и Страхов
639
И все же были, очевидно, в воззрениях Достоевского уже в то время
какие-то стороны, которые не укладывались в господствующую «теорию
среды»; начались какие-то колебания. Страхов говорит об этом неясно,
словами отвлеченными: «Был он мне слишком непонятен»; «поражал
неистощимой подвижностью своего ума»; порою казалось, что «в нем
как будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли
и чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем,
что успело сказаться». И в другом месте — о раздвоении Достоевского,
о том, что сам Достоевский называл «рефлексией», — о способности
его очень живо предаваться известным мыслям и чувствам и в то же
время смотреть на них со стороны, с некоей непоколебимой точки
душевного центра. Она сказывалась, эта рефлексия, в необычайной
широкости его сочувствий, в умении «понимать различные и
противоположные взгляды**.
Было не только понимание, но уже и некое сочувствие
противоположным взглядам, стал обнаруживаться начавшийся процесс
«перерождения убеждений». И пример конкретный — отношение Достоевского
к статьям Страхова натурфилософического содержания, на которые
он уже тогда обратил особое внимание.
Как ни осторожен был Страхов в первых своих выступлениях,
его приверженность к немецкой идеалистической философии и в связи
с-этим, в области вопросов нравственности, его отрицание теории среды
были высказаны в этих статьях с достаточной ясностью.
В 1860 году печатается целый ряд статей Страхова под заглавием
«Письма о жизни» **; в них речь об основных свойствах органического
мира. И вот утверждается им, что в организме происходят два
противоположных ряда явлений или процессов: одни, «явления круговорота»,
«служат только для возобновления организмов в прежнем виде» —
это ряд механический; другие же связаны с развитием организма как
с основным его признаком, с его «постепенным совершенствованием*.
Развитие, таким образом, есть процесс, как бы из самого себя
проистекающий, из некоей таинственной сущности, в организме заключенной,
то есть из начала духовного, из идеи. Страхов так и говорит: «переход
в высшие формы зависит не столько от внешних условий, сколько
от самого организма».
Дальше будет указано, какое влияние окажет на строящееся
мировоззрение Достоевского эта страховская натурфилософическая
концепция. Применительно к вопросам нравственности, в смысле
влияния окружающей действительности на поведение человека
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 175-176.
* Светоч. 1860. Кн. 3. С. 1-40; Кн. 5. С. 1-23; Кн. 8. С. 1-23.
640
А. С. ДОЛИНИН
в обществе, она не так уже явно оборачивается против «теории
среды», чего добивается Страхов уже в одной из первых своих статей*,
в разборе книги П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической
философии».
Страхов, полемизируя с Лавровым, утверждает, что «истинным
двигателем истинно человеческой деятельности всегда были и будут
идеи», что на поведение человека среда не должна оказывать и не
оказывает никакого влияния. «Существенным, необходимым образом
воля подчинена только одному — именно идее своей свободы, идее
неподчинения, самобытного и сознательного самоопределения».
На этой идее будут вскоре построены «Записки из подполья» **,
где герой сплошь и рядом подпадает под влияние среды, как бы
он ни сопротивлялся ей.
Страхов рассказывает, что эти-то статьи его в «Светоче» за 1860 год,
направленные против «реализма» Чернышевского и Лаврова, и
«обратили на себя внимание Достоевского». Решившись начать с будущего
года издание толстого ежемесячного журнала «Время» и подбирая
для него сотрудников, Достоевские «заранее усердно приглашали его»
Страхова, гегельянца, идеалиста, работать в журнале***.
4
Лицо журнала Достоевского «Время» определялось в значительной
мере Страховым. Родоначальником идеологии «почвенничества»,
которую журнал разрабатывал, был Аполлон Григорьев; страстно
проповедовал ее Достоевский. Но Григорьев крайне сложен; свою мысль
он никогда не мог довести до ясности. Те взгляды, которые он пытался
высказывать на каком-то особом, своем языке, представляли собою
для читателя не столько систему, сколько сплав, состоявший из самых
разнородных и противоречивых элементов. Достоевский,
«необыкновенно живо чувствовавший мысль», обладавший исключительной
способностью вдруг зажигаться какой-нибудь идеей, самой простой,
иногда давно известной, и давать ей резкое, образное выражение, —
тоже логически никогда ее не разъяснял, как он сам часто жаловался
на этот недостаток, «не умел развертывать содержания своих мыслей».
Один только Страхов умел быть понятным и в меру убедительным
для тех, кто искал в журнале ответа на вопрос: в чем же заключается
сущность этого направления — «почвенничества»?
* Светоч. 1860. Кн. 7. С. 1-13.
* Впервые напечатаны в 1864 г. в «Эпохе».
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 177.
Достоевский и Страхов
641
Как «почвенники», Аполлон Григорьев и Достоевский все время
твердили, что они не западники и не славянофилы. Хотя они тоже, как
славянофилы, выдвигают главной своей мыслью, что интеллигенция
«оторвалась от своей почвы» и что «следует искать своей почвы» в
народных началах, но их «почва» совсем другая, не славянофильская,
и другое они понимают под «народными началами». Были здесь
возможны два пути: путь к Герцену, противопоставление России Европе
в свете истории и вопросов современности, — подобно Герцену тоже
стать на ту точку зрения, что только русский народ способен
осуществить идею, которой «беременна Европа», идею социализма, русский
народ к этому подготовило своеобразие его исторических судеб,
сохранившийся до сих пор его общинный строй, — или уж прямо скатиться
к славянофильству, признать, что русский народ — «народ-богоносец»,
истинное христианство, православие определяет его душевный строй.
Достоевский решил идти по первому пути*. Страхов
объясняет это тем, что со славянофилами «он был тогда почти незнаком».
А то малое, что знал о них, — надо думать, не из первоисточников —
вряд ли разделял. Это, конечно, неверно; как будет дальше показано,
статья Достоевского против славянофильского журнала «День» — одна
из первых во «Времени».
Про этот начальный период сближения с идеями Герцена Страхов
и говорит: «Некоторое время я расходился с направлением "Времени",
причем не могу сказать, чтобы я горячо проповедовал или отстаивал свое
расхождение» ; очевидно, Страхову уже тогда хотелось верить, что по
первому пути Достоевский далеко не пойдет. Слова Страхова о себе здесь очень
показательны: «Мысль о новом направлении, однако же, сперва занимала
меня <...> но очень скоро, по своему нерасположению к
неопределенности, я порешил, что нужно прямо признать себя славянофилом»**.
И дальше Страхов ведет свой рассказ так, что дело, которое хоть
«и без того шло своим естественным путем к необходимому
выводу», к славянофильству, пришло к нему сравнительно скоро, — роль
его была очень большая. Она сказалась прежде всего в той борьбе,
которую он повел во «Времени» против нигилистов и «теоретиков» —
против Чернышевского, Добролюбова и Писарева. И здесь он говорит
полную правду, но вряд ли выгодную для себя: именно он, Страхов,
а вовсе не Достоевский, положил начало борьбе с нигилистическим
направлением***.
См. об этом подробно в работе «Последняя вершина» {Долинин А. С. Последние
романы Достоевского. М.; Л., 1963. С. 289-293).
Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 205.
Там же. С. 235.
642
А. С. ДОЛИНИН
«Но мне, — говорит Страхов, — не терпелось и хотелось скорее
стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим
учениям». В статье «Еще о петербургской литературе» в июньской книжке
«Времени» за 1861 год он и стал впервые в это прямое,
решительное и враждебное отношение и дальше продолжал в этом роде чуть
не в каждой книжке журнала. «Рассказываю обо всем этом
потому, — читаем мы тут же у Страхова, — что дело это имело чрезвычайно
важные последствия: оно повело к совершенному разрыву "Времени"
с "Современником", а затем к общей вражде против "Времени" всей
петербургской журналистики».
Нарочитая скромность была свойственна Страхову. Свою роль
он никогда явно не преувеличивал. На этот раз «скромность»
изменила ему: разрывом своим с «Современником» «Время» в большей
мере действительно ему обязано, но вовсе не потому, что он открыл
эту полемику и повел ее в слишком резком тоне, — статьи его
справедливо воспринимались как более ясное выражение некоей идеологии,
которая стремится стать определяющей по отношению к журналу
в целом, идеологии еще не оформившейся, еще в тенденции. В свете
статей Страхова воспринимался смысл статей и других авторов,
которые почему-либо не хотели или не могли быть столь же понятными.
5
Процесс «перерождения убеждений» у Достоевского, если
говорить о явных его признаках, длился очень долго. В «Зимних заметках
о летних впечатлениях», напечатанных в первой книжке «Времени»
за 1863 год, колебания его между путем Герцена и путем славянофилов
отнюдь не склоняются в сторону славянофилов. Стал он ясным, этот
процесс, в 1864 году в «Эпохе». Это были годы наибольшей близости
со Страховым. Позднее, в 1873 году, во времена редактирования
«Гражданина», Достоевский так прямо и сказал Страхову: «половина
моих взглядов — ваши взгляды»*. Страхов объясняет эту «большую
похвалу» тем, что «люди с художественным складом ума часто видят
большое достоинство в логическом развитии мыслей, к которому
сами они мало расположены, и когда в основах есть совпадение...
то художникам бывает очень приятна отвлеченная формулировка
их идей и чувств» **.
Психологически это, может быть, в известной степени и верно.
И то вряд ли. Мы знаем, как Толстого раздражал перевод на язык
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 238.
** Там же. С. 238-239.
Достоевский и Страхов
643
логический художественных его идей*. Но дело здесь не в
психологии, а в самом факте признания Достоевским, как многим он обязан
Страхову в своих взглядах; сказано это в период именно «Гражданина»,
действительно наиболее реакционный в деятельности Достоевского.
Страхов пытается объяснить причины и обстоятельства
установившегося единомыслия: «Когда обмен мыслями происходит в виде
личных бесед, это особенно действенно». Страхов так вспоминает
об этом периоде, об этих первых шестидесятых годах, когда дружба
его с Достоевским, которая «имела преимущественно умственный
характер, была очень тесна»: «Разговоры наши были бесконечны,
и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни.
<...> Самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был
его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую
мысль по одному слову и намеку. В этой легкости понимания
заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться
течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда
на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против
центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет
никаких недоумений и неясностей. Так мне представляются тогдашние
бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость,
и гордость»**.
<...> По Страхову, кроме петербургских «бесконечных разговоров»,
их сблизило еще совместное заграничное путешествие летом 1862 года,
когда они в течение месяца с небольшим были неразлучны; никого
не было знакомых — ни из русских, ни из иностранцев; на осмотр
исторических памятников, произведений искусства, окрестностей
итальянских городов, по словам Страхова, тратили времени очень мало.
Так и остались от этого путешествия особенно памятными «вечерние
разговоры за стаканом красного местного вина» ***.
Здесь невольно напрашивается следующее сопоставление фактов.
Страхову запомнилось своеобразие интересов Достоевского за
границей: «все его внимание было устремлено на людей, и он схватывал
только их природу и характеры»****, как они проявлялись в уличной
жизни и в общественных местах. Россия и Европа; западная культура,
в чем ее сущность — не в прошлом, а в настоящем, в свете русской
действительности, — вот тот вопрос, с которым Достоевский
приехал в Европу, чтобы решать его не отвлеченно, не по-книжному,
* Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: в 90 т. (Юбилейное изд.). М., 1953. Т. 62. С. 269.
** Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 225.
*** Там же. С. 244.
**** Там же. С. 243.
644
А. С. ДОЛИНИН
а на основании собственных наблюдений. Отсталая Италия, где
он отдыхал вместе со Страховым,— это история, прошлое Европы.
Париж и Лондон — вот высочайшие вершины тогдашней буржуазной
цивилизации. Достоевский был в этих столицах до Италии, и там
он впервые не то что понял, а почувствовал, глубочайшим образом
пережил современную проблему Европы: непримиримость классовых
противоречий, когда на одном полюсе — неслыханные богатства,
звериная жестокость эксплуатации, а на другом — ужасающая
нищета, голодная смерть и гибель, физическая и нравственная, ни в чем
не повинных детей. В «Зимних заметках о летних впечатлениях»
все это передано с такой болью за человека и с такой потрясающей
силой, с какой до сих пор еще никто не говорил в русской
литературе. В Лондоне были встречи с Герценом. И конечно, не воздействие
Герцена в смысле только литературном имеет в виду Страхов,
когда утверждает, что к Герцену Достоевский «тогда относился очень
мягко, и его "Зимние заметки" отзываются несколько влиянием
этого писателя» *. В личных беседах — когда «возражение делается
прямо против центральной мысли, когда на вопрос сейчас
получается ответ и нет никаких недоумений и неясностей» — сопоставляет
Достоевский свои взгляды со взглядами Герцена по теме, одинаково
их волновавшей, — о России и Европе, и вот, по-видимому, о чем были
«вечерние разговоры» со Страховым в Италии, во Флоренции — все
о той же теме, и как Герцен ее ставит и решает. Россия, ее история,
ее роль в грядущих судьбах человечества — по Герцену или по
славянофилам? Страхов, который, как он сам говорил о себе, «не любил
неопределенности», давно уже твердил, что «надо прямо признать
себя славянофилом». И теперь ему, наверное, казалось, что победа
уже окончательно осталась за ним. Основная тема в «Зимних
заметках» — из восьми глав ей посвящено семь — современное положение
Западной Европы. <...>
Страхов не мог услышать голос славянофила в той же главе в
следующих жестоких словах, в которых Достоевский характеризует
современного «прогрессиста»-западника: «Теперь мы с такою
капральскою самоуверенностью, такими фельдфебелями цивилизации
стоим над народом, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд
с задором, смотрим фертом, — смотрим, да только поплевываем: "Чему
у тебя, сипа-мужик, нам учиться, когда вся национальность-то, вся
народность-то в сущности одно ретроградство да раскладка податей,
и ничего больше"» **.
* Страхов Н. Материалы для жизнеописания Достоевского. С. 240.
* Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М., 1956. Т. 4. С. 80.
Достоевский и Страхов
645
Но так приблизительно пародировал умеренного «прогрессиста»
из категории западников любой народник шестидесятых —
семидесятых годов.
«Зимние заметки», где «русские начала» провозглашены уже явно
как единственное средство спасения человечества от гибели, были
напечатаны в январе 1863 года. Тогда же началось польское
восстание, на отношении к которому ясно определились классовые позиции
борющихся социальных сил в России. Славянофильский «День»
Аксакова и недавно еще «англизировавшие» «Московские ведомости»
Каткова сразу и резко повернули на путь свирепейшей реакции,
поддерживая все решения самодержавного правительства. Петербургская
демократически-левая пресса по цензурным условиям почти сплошь
молчала; журнал же Достоевских «Время» решил занять особую
позицию — ставить польский вопрос не в плоскости конкретных
политических действий, а, как выражается Страхов, «возвести его в общую
и отвлеченную формулу». Страхову и поручено было это дело; за
подписью «Русский» он написал статью под заглавием «Роковой вопрос»,
из-за которой журнал был закрыт.
<...> Это те же мысли, что в «Зимних заметках», та же
антитеза — Россия и Европа. Когда же в «Московских ведомостях» некиим
Петерсоном был напечатан на «Время» донос и пошли тревожные
слухи, что журналу грозит смертельная опасность, Достоевский написал
ответ, в котором подчеркнул свой сдвиг в сторону славянофильства*.
<...> В «Эпохе» Страхов продолжал свою «борьбу с нигилизмом»
с еще большей решительностью. Достоевский выступил со своими
«Записками из подполья» **, этим своеобразным прологом ко всей его
литературной деятельности второго периода, когда борьба с революцией
стала одной из главных его тем, по крайней мере до второй половины
семидесятых годов. Ниже будет показано подробно, как в «Записках
из подполья», написанных против романа Чернышевского «Что
делать?», взгляды Достоевского — действительно наполовину взгляды,
высказанные раньше Страховым.
По причинам внешним и внутриредакционным «Эпоха»
просуществовала только год***; никто ее не закрывал: она уже была вполне
благонамеренной; «Эпоха» сама закрылась за отсутствием достаточного
количества читателей. Мы знаем, что тогда наступило между Достоевским
и Страховым охлаждение, но вряд ли по причинам идеологического
характера. Позднее, в период «Подростка», когда в их отношения
* Там же. С. 249-254.
* Напечатано в «Эпохе». Кн. 1-2 и 4.
* Закрылась на мартовской книге 1865 г.
646
А. С. ДОЛИНИН
действительно вмешается — в значительной мере — несогласие в
идеологии, Достоевский скажет о Страхове суровые слова: «это скверный
семинарист, и больше ничего; он <...> прибежал только после успеха
"Преступления и наказания"»*. Характеристика, безусловно,
неверная, продиктованная минутным раздражением. Письма Страхова
за 1867-1871 годы, в сопоставлении с письмами к нему Достоевского,
ясно показывают, что идейно они были единомышленниками в
охватываемый этой перепиской заграничный период Достоевского. Страхов
говорит об основной идее «Идиота», воплощенной в образе князя
Мышкина, как о самой дорогой ему и близкой. Страхов редактирует
(в годы 1867-1870) славянофильствующую «Зарю» и совершенно
искренне пишет Достоевскому, что в «Заре» он, Достоевский, будет
чувствовать себя свободно, как и в своем собственном журнале. «Бесы»
приводят Страхова в восторг. Во время редактирования Достоевским
«Гражданина» Страхов опять сотрудничает с ним. Книга Данилевского,
бывшего фурьериста, петрашевца, ставшего потом одним из самых
главных эпигонов славянофильства, реакционную сущность
которого он выразил с наибольшей резкостью, его книга, написанная
в 1869-1870 годы, «Россия и Европа» воспринимается обоими как
«капитальное событие».
В некоем покаянном состоянии, в одном из писем к
Данилевскому же, с которым он был всю жизнь особенно дружен, идейно
и лично, но за что-то на него рассердился, Страхов, между прочим, так
пишет о своих отношениях с Достоевским во вторую половину
семидесятых годов**: «Я становлюсь все больше и больше молчальником.
С Достоевским все последние годы я был в разладе, все собирался
помириться, да так и проводил его в могилу. На вас я тоже, как
вы знаете, сердился. И отчего это все происходит? Мне кажется, что
я прав, что другие виноваты; но, наконец, я прихожу к мысли, что есть,
должно быть, во мне какой-то недостаток, вызывающий других, так
сказать, соблазняющий их на несправедливости. Все это очень, очень
грустно, потому что приходит старость и тоска растет с каждым годом».
6
Период существования «Времени» и «Эпохи», как указывалось
выше, был периодом наибольшей близости между Достоевским и
Страховым. Страховым велась главная «борьба с нигилизмом», его статьи
определяли в большей мере общественно-политическое лицо этих
* Достоевский Ф.М. Письма. Т. 3. С. 155.
* Русский вестник. 1901. № 1. С. 458 (Письмо от 12 мая 1882 г.).
Достоевский и Страхов
647
журналов. Но воздействие шло гораздо дальше, оно проникало — в той
области, в которой он действительно мог быть для Достоевского
авторитетом, — вглубь философских воззрений Достоевского, освещая
в его сознании самый метод его художественного творчества.
Это была философия, которую сам Страхов определял как
«правоверно гегельянскую». Так писал он Н. Гроту в апреле 1893 года*,
почти за три года до смерти: «Я гегельянец, и чем дольше живу, тем
тверже держусь диалектического метода». И о том же, о преклонении
его перед совершенством гегелевской философии, читаем в первой
его статье 1860 года — «О значении Гегелевой философии в
настоящее время»**: «Вместе с Гегелем кончен раздор между философами;
он возвел философию на степень науки, поставил ее на незыблемом
основании...». И дальше: «В самой сущности Гегелева взгляда лежит
примирение всех взглядов, учений, их взаимное понимание, их
слияние воедино». Подтверждает Страхов свою преданность гегелевской
философии и в ряде других статей и писем; во имя же Гегеля он ведет
свою полемику с Антоновичем***.
Но уже современники отметили с достаточным основанием, что
из «всех учений, примиренных в гегельянстве», Страхов ставит
превыше всего учение Декарта. Утверждается Страховым, казалось бы
совсем по Гегелю, тождество мышления и действительности, «знания
и бытия», «субъекта и объекта» : «Мысль и то, что не есть мысль (то есть
бытие), — совпадают, тождественны». А на деле «мир духовный, мир
сознательный, непротяженный» слишком уж резко
противопоставляется им миру материальному, «протяженному и несознательному».
Для Страхова бытие всегда является чем-то косным; по отношению
к «субъекту», к идее действительность пребывает в положении
покорного раба. Человек, его разум — вот «центр и мера вселенной, во всем
ее прошлом, настоящем и будущем» — так твердит он постоянно
в своих работах.
И здесь особенно для нас важна та область, в которой Страхов чаще
и яснее всего применяет свою философию. Занимаясь главным образом
вопросами о взаимоотношении физиологии и психологии, он придает
разуму безграничную творческую силу больше всего в деле познания
душевных явлений — того «загадочного», «темного» в человеке, что
особенно трудно поддается постижению. Иллюстрируется эта
безграничная сила разума басней о том, как солнце пошло осматривать землю,
* См.: Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2. С. 308. Умер Страхов 24
января 1896 г.
** Светоч. 1860. Кн. 1. С. 3-51.
** См. его статью «Об индюшках и о Гегеле» (Время. 1861. Кн. 9. С. 69-79).
648
А. С. ДОЛИНИН
когда ему донесли, что на земле во многих местах в некоторые часы дня
и времена года темно. И вот, куда оно ни являлось, все оказывалось
ярко освещенным; тогда «солнце не поверило доносу, успокоилось
и стало светить по-прежнему». Так и человеческий разум: стоит только
указать ему на что-нибудь «темное», как «самый взгляд разума будет
уже озарением этого темного»*. На «темное» в человеческой душе,
до того необычное, что многим оно казалось сплошной фантастикой,
и направлял Достоевский свой творческий разум. В страховском
толковании отвлеченнейшего из положений о тождественности
мышления и бытия — у всякого мышления и мышления образами — было
достаточно основания для укрепления веры Достоевского в свой
реализм. Говорю: «укрепление»; нет надобности думать, что страховское
гегельянство определило в основе творческий метод Достоевского;
речь идет только об осознании им своего метода, о философском
подтверждении его законности.
В этой именно плоскости особенно важным является для нас вопрос:
как смотрел Страхов, идеалист, правый гегельянец, на
взаимоотношение тех начал, к которым восходят у него мышление и бытие, —
на взаимоотношение духа и материи? В эстетических воззрениях
Достоевского этот вопрос занимает место центральное, сливаясь
с вопросом об отношении искусства и действительности, а в строении
образа, особенно центрального героя, — с вопросом об идее, которой
герой проникнут, об идее как о силе, формирующей его психический
склад, равно и реальную обстановку, им создаваемую. Так, например,
идея «все позволено» определяет полностью Раскольникова и Ивана
Карамазова — их душевные переживания, их быт, их отношения
к людям. То же и Ставрогин, Шатов, Кириллов, князь Мышкин,
Алеша Карамазов — все они и во всем претворение определенных идей
в действительности.
В «Предисловии» ко второму изданию «Об основных понятиях
психологии и физиологии» Страхов останавливается на обычном,
наивном представлении религии об отношении души и тела: душа
«есть некоторое существо, заключенное внутри тела, как бы в
оболочке... в минуту смерти она покидает тело, вылетает из какого-то
внутреннего места тела». Это представление, говорит Страхов,
«чисто механическое», о душе мыслят как о «каком-то тонком
вещественном предмете», окруженном предметом более грубым — телом.
На самом же деле «различие между душой и телом <...> не во
внешней отдельности, а в существенной противоположности», и связь
между ними «гораздо глубже, чем простое соприкосновение одного
* Страхов Н. Философские очерки. СПб., 1895. С. 20-21.
Достоевский и Страхов
649
вещественного предмета с другим, в котором он заключен». «Тело —
не есть существо, чуждое душе, в которое она как бы насильственно
вложена, а составляет некоторое непрерывное ее создание, или, как
говорится, воплощение*. Душа и тело, идея и природа, дух и
материя — это разные выражения все того же двучлена, в котором первый
член является активным, творчески созидающим по отношению
ко второму. В одном из писем к Н. Гроту* Страхов выражает эту же
мысль следующим сравнением: «Материя, по-моему, есть только
поприще духовных явлений, их поле, те леса и лестницы, по которым
дух движется. Параллельность выходит так же, как ступени лестницы
параллельны шагам поднимающегося или спускающегося человека.
Ступени не только не производят этого движения, но даже должны
быть совершенно неподвижны». Материя и по Страхову, конечно,
подвижна, как и дух, ее движущий, — каждый новый момент в
становлении духа находит свое воплощение в формируемой им материи;
но сравнение это отлично подчеркивает подчиненность материи духу,
как и тела — человеческой душе.
Эта родственность страховского дуализма с философскими
воззрениями Достоевского, которые мы улавливаем и в художественных
его построениях, идет еще дальше и глубже. Мир материальный и мир
духовный резко противоположны, с точки зрения Страхова. В мире
материальном все «наружное, познаваемое»; к нему могут быть
приложены все наши познавательные силы и способности, для которых
нет никаких пределов в смысле познания законов внешней природы.
В мире же духовном все внутреннее, закрытое для чужого глаза; «душа
есть область темная и таинственная* **; если она и поддается
познаванию, то приемы, во всяком случае, должны быть совершенно другие.
Так как здесь, по Страхову, возможно только внутреннее наблюдение,
«устремление взора внутрь себя», то, очевидно, мы должны сделать
усилие, дать нашим мыслям непривычный ход, обратный их
обыкновенному ходу, уединить себя, для целей внутреннего наблюдения,
от мира внешнего. «Главное, — продолжает Страхов, — здесь
заключается не в старании закрыть себя от внешнего мира, а в том особенном
повороте мысли, который Декарт выражает словами: «Буду считать все
образы вещественных предметов пустыми и ложными, буду смотреть
на свои ощущения и образы только как на виды своего мышления.
Очевидно, я могу и должен уметь это сделать и не закрывая глаз и не
затыкая ушей» ***. Это положительно точное описание психологического
* Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 2. С. 314.
г* Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1894. С. 36.
* Там же. С. 39-40.
650
А. С. ДОЛИНИН
метода Достоевского, его постоянного «обратного хода» — от внешнего
мира к внутреннему, и именно не затыкая ушей и не закрывая глаз,
смотрят у него люди «на свои ощущения и образы как на виды своего
мышления» — в основе у него ведь всегда идея.
Когда же перед Страховым стоит вопрос, в чем же сущность души,
истинная ее природа, то на это он так отвечает: «Истинная ее природа
обнаруживается, конечно, при полном ее раскрытии <...> и в те
минуты полной душевной энергии, которые иногда испытывает человек.
Рассматривая эту полную душевную жизнь, мы видим, что признание
истины, блага и свободы <...> составляет то необходимое условие,
при котором только и можем мы жить, без которого мы видим перед
собою пустоту, ничтожество и бессмыслие. <...> Без этих понятий,
которых ниоткуда нельзя вывести <...> нельзя иметь представления
о душе и ее жизни» *.
Так замыкается идеалистическая система, в центре которой
человек, его душа как высшая ступень духовного. В книге своей «Мир
как целое» спокойный, уравновешенный Страхов поднимается почти
до поэзии, когда мыслит о месте человека в природе, устанавливает,
по выражению Толстого, «иерархию существ и явлений»**. «Наука,—
говорит Страхов в своей книге "О вечных истинах", — не объемлет
того, что для нас всего важнее, всего существеннее, — не объемлет
жизни. Вне науки находится главная сторона нашего бытия, то, что
составляет нашу судьбу, то, что мы называем Богом, совестью,
нашим счастьем и достоинством... <...> Поэтому не только созерцание
этих предметов в действительности, не только высокие отражения
их у великих мыслителей и художников, а даже иной плохой роман,
иная грубо придуманная сказка могут заключать в себе более
общедоступный и сильный интерес, чем превосходнейший курс физики
или химии. Каждый из нас — не простое колесо в огромной машине;
каждый, главным образом, есть герой той комедии или трагедии,
которая называется его жизнью» ***.
Так проводится резкая грань между философией и искусством,
с одной стороны, и естественными науками, изучающими внешний
мир, природу, — с другой. Искусство не то что истиннее науки, у
искусства задачи совершенно другие, более сложные ri более высокие
и, в сущности, от внешнего мира даже не зависящие, как не зависит
от этого внешнего мира человек, его душа. Природа есть непрерывное
создание духа, как и тело человека — создание и выражение его души.
Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 85.
Страхов Н. Мир как целое. Изд. 2-е. СПб., 1892. С. X-XI.
Страхов Н. О вечных истинах. СПб., 1887. С. 54-55.
Достоевский и Страхов
651
Такова основа страховского идеализма. Душа, идея — единственная
активная, творящая сила в окружающей действительности. Человек
ставит себе задачи и цели. И «пока есть задача, которая не решена, пока
есть замысел, который не исполнен, пока есть цель, которая не
достигнута, — до тех пор возможна деятельность». В этом смысле «жизнь
не только самоудовлетворение, но и саморазрушение,
самонедовольство**. Герои Достоевского выражают эту же мысль на своем языке:
кто сказал, что человек непременно стремится к счастью? «Может быть,
он ровно настолько же любит страдание?» «Муки души, — продолжает
Страхов, — побуждают нас вперед, к неразгаданному, несовершенному.
Они суть муки рождения».
7
Страхов, исходя из своей идеалистической философии, так
иронизирует по адресу «утилитаристов», в том числе и Чернышевского:
«Но бросим и историю, и философию, и поэзию, и все искусства. Одна
будет у нас цель — и притом кто не будет для нее работать! —
материальное благосостояние. И действительно, мы, вероятно,
прекрасно устроимся, как скоро бросим заниматься пустяками. У каждого
будет работа; все мы будем сыты, одеты, не будем терпеть ни голода,
ни нищеты, будем здоровы, а заболеем — найдем всегда докторов
и лекарства. И тогда — тогда, конечно, можно будет позволить себе
иногда позабавиться музыкою или поэзиею или пофилософствовать
на сытый желудок» **; эти слова мы читаем у Страхова в первой статье,
направленной против «Современника», в майской книжке «Времени»
за 1861 год.
<...> «Отнять у человечества идеализм значит совершенно то же,
что отнять у человека голову на том основании, что она у него болит».
«Мир управляется идеализмом <...> власть и господство принадлежит
той силе, которая всех крепче и одна непобедима — идеализму. <...>
Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир нельзя ни хлебом,
ни порохом и ничем другим, кроме благой вести*.
Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей
степени неоригинальны; любой «батюшка» произносил подобные речи
с церковного амвона не один раз. Но они связаны с целостной
философской системой, соответствующей определенному историческому
моменту в общественных отношениях. Сходные мысли можно найти
у Достоевского чуть ли не во всех его произведениях второго периода —
* Страхов Н. Мир как целое. С. 186-188.
* Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865. СПб., 1890. С. 37.
652
А. С. ДОЛИНИН
начиная с «Записок из подполья» и кончая «Карамазовыми». В
«Дневнике писателя», в особенности в «Поучении старца Зосимы», он
повторяет их почти дословно.
То же в статье Страхова «Тяжелое время», напечатанной в
октябрьской книжке «Времени» за 1862 год, — по вопросу о нравственной
ответственности человека и об общественном благополучии. Когда
Страхов говорит, что «тот оскорбляет человеческую природу, кто
воображает, что можно устроить благополучное человеческое общество
без содействия его сознания и свободы» *, предпочитая развитие
«благополучия» в обществе развитию нравственности, то и эта мысль близка
Достоевскому; книга пятая — «Pro и Contra» в «Братьях Карамазовых»
целиком на ней основана.
И таких примеров единомыслия между ними в области философии
и этики можно привести много. Колоссально разнится, конечно,
размах мысли, способ ее выражения, эмоциональная окраска. Бесконечно
вялым кажется прежде всего стиль Страхова в сравнении со страстной
взволнованностью речи Достоевского. Но это уже тема другая.
Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861-1865. С. 167.
V
ФИЛОСОФИЯ,
НАУКА, РЕЛИГИЯ
Ю.Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
Итоги века.
По поводу статьи H.H. Страхова
«Итоги современного знания»
I
Я с особым вниманием прочел статью H. H. Страхова. Этот писатель,
автор замечательной, но мало кому у нас известной книги «Мир как
целое»1, редко дарит нас своими произведениями. Но каждая новая
его статья возбуждает глубокий интерес. Можно с ним соглашаться
или не соглашаться, но нельзя не быть затронутым тем, что он говорит:
он писатель оригинальный. Еще двадцать лет назад, в самый разгар
нашего преклонения пред новейшим научным движением в Европе,
он издал книгу «Мир как целое», в которой настойчиво указывал,
что это новейшее научное движение идет не по надлежащей дороге,
и с поразительною ясностью предсказывал, к чему оно должно
привести. Эта книга, не только оцененная по достоинству немногими,
но и прочтенная немногими, навсегда останется свидетельством того,
что русский ум и среди самых неблагоприятных обстоятельств способен
противостоять временным, все себе подчиняющим влияниям, как бы
ни были они сильны и продолжительны, — способен отыскивать
самостоятельные пути...
H.H. Страхов как писатель имеет свои особенности. Он ничего
не «проводит», у него нет никакого «направления». Он наблюдает
и констатирует факты. Это его любимый прием. Он не освещает
их с той или иной точки зрения, он лишь раскрывает их смысл или,
лучше сказать, заставляет их, эти факты, раскрыть свой внутренний
смысл. Вот почему его писания требуют чрезвычайно внимательного
чтения, несмотря на свою ясность. Он пишет ясно, отчетливо, но
ничего не подчеркивает, ни на чем не настаивает: он уважает своего
читателя. Он не желает учить его, он просто делится с ним своими
мыслями и наблюдениями. Но, уважая своего читателя, он требует
уважения и к своему писательскому труду. Он рассчитывает на
внимание и на понимание.
656
Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
Таков этот писатель, — с такими же приемами написана и его
вышеупомянутая статья. Он озаглавил ее слишком скромно. В подзагла-
вии он поставил: «По поводу книги Ренана "L'Avenir De La science"»2.
Содержание статьи шире ее заглавия. Книга Ренана дает автору лишь
материал для оригинальных сопоставлений и выводов. Я не имею
намерения, да и не мог бы в этих своих заметках исчерпать содержание
статьи H.H. Страхова: оно слишком обширно и вызывает на многие
соображения. Я хочу остановиться лишь на некоторых высказанных
в этой статье мыслях.
Одна из главных ее мыслей — это старая мысль H.H. Страхова
о том, что современное научное европейское движение свидетельствует
не о прогрессе науки, как думают почти все у нас и в Европе, а скорее
об ее упадке. Автор опять-таки не настаивает на своей мысли, не
предлагает ее: она сама собою раскрывается из сопоставления фактов,
из анализа тех идей, которые господствуют в европейском мире.
H.H. Страхов останавливается на заявлении одного из европейских
ученых, итальянского профессора Ферриери3.
Наш век есть век научного обновления, — пишет Ферриери. — Науки
естественные, философские и нравственные, освобожденные от
религиозного догмата и метафизики, нашли свой рациональный метод, определили
новое понятие о мире, о жизни, о человеческих судьбах4.
Кстати сказать, у нас в так называемых образованных кругах
распространен совершенно такой же взгляд на значение современного
европейского научного движения. Так думают у нас «все» ; иначе думают
у нас немногие, и между этими немногими H. H. Страхов.
Заметив, что в этом «обновлении» «иные готовы признать упадок»,
и оставляя этот вопрос как бы спорным, H.H. Страхов говорит, что
очевидно только одно, это — «что начиная с половины нашего века
научное движение действительно изменило свой ход, пошло в другую
сторону, в которую и продолжает идти с нарастающею силой».
По какому же пути пошло оно, куда направляется его ход?
На это дает ответ книга Ренана.
Ренан — поклонник современной науки, он в восторге от ее
завоеваний. В чем же заключаются эти завоевания по свидетельству такого
авторитетного свидетеля, как Ренан?
В мире «ив человеческой природе все делается, творению нет места
в ряду следствий и причин»5.
Вот что выяснила современная наука, по мнению Ренана, — вот
в чем главное ее завоевание.
Развивая свою мысль, он прибавляет:
Итоги века. По поводу статьи H. H. Страхова «Итоги современного знания» 657
Предмет нашего познания есть некоторое громадное развитие, коего
первые, едва уловимые звенья даются нам космологическими науками,
а последние пределы представляет собою так называемая история.
Такое воззрение может привести только к одному выводу, и Ренан
делает его с бестрепетною последовательностью.
Подобно Гегелю, — пишет он, — я ошибался в том, что слишком
утвердительно приписывал человечеству центральную роль в мироздании.
Между тем возможно, что все человеческое развитие имеет столь же мало
значения, как плесень или лишаи, которыми покрывается всякая влажная
поверхность.
К такому выводу приводит — не кого-нибудь, а Ренана —
современное естествознание. С этой точки зрения «значение человека равняется
значению плесени и лишаев, заводящихся везде, где есть сырость».
Ренан совершенно прав. Ибо если раз стать на эту точку зрения,
если раз поверить, что мир произошел сам собой, случайно, и сам
собой развивается, что человек есть всего только результат бесконечной
«эволюции», то, оставаясь последовательным, нельзя утверждать
существенной разницы между ним, человеком, и плесенью...
Однако, быть может, другие отрасли современной науки приводят
к каким-либо иным, более отрадным результатам?
Посмотрим.
II
Ренан, как известно, главным образом прославился своими
изысканиями по истории религий. Но, по его мнению, все это широкое
движение нашего века, направленное к изучению истории религий,
и лишь одним из представителей которого был Ренан, все это движение
дало только один результат.
Если ему (Ренану) поверить, — пишет Н. Н. Страхов, — то новейшее
изучение религий важно лишь потому, что будто бы доказало, что ни в каком
веке, доступном науке, не было ни откровения, ни сверхъестественных
событий6.
«Немного же мы узнали! » — восклицает по этому поводу H. H. Страхов.
Так немного, прибавлю я, что если бы действительно изучение
истории религий дало только этот результат, то все это научное движение
не только не имело бы никакого значения, но не имело бы никакого
658
Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
смысла. Всякому понятно, что никакие исторические исследования,
никакой «разбор свидетельств» не могут ни отвергнуть, ни подтвердить
существование откровения и «сверхъестественных событий»: это —
дело веры. Вот почему совершенно прав H. H. Страхов, когда говорит:
Нет сомнения, что отрицание так называемого сверхъестественного
вовсе не выводится из «разбора свидетельств», а, напротив, вносится в этот
разбор; что исследователи, какой бы век они ни исследовали, приступают
к нему уже с этим готовым отрицанием, а потому, разумеется, и все века
у них оказываются одинаковыми в этом отношении.
Такова правильная постановка вопроса. А из этой правильной
постановки можно сделать и правильный вывод. Его и делает H. H. Страхов.
К счастью, — пишет он, — дело стоит иначе. Какой-то глубокий и
важный поворот умов, может быть мало сознательный, обнаруживается в том
внимании, которое обратил наш век на религию и ее историю. <...> Со всех
сторон, замечает он далее, и верующие, и неверующие принялись писать
«Жизнь Иисуса»; и пишут до сих пор, и успели написать много истинно
превосходного, хотя бы и в большой смеси со слабым и неверным. Никогда
пресловутый XVIII век, век философии, не мог думать, что умы
просвещенных людей через сто лет будут так упорно и неотвратимо обращены
на Божественного Учителя из Назарета. Красота несравненного образа
Христа победила, она прошла через всю тьму и через весь свет прошлых
веков и до сих пор сияет пред нами и согревает нас.
Но Ренан смотрит иначе, — и вот какой вывод делает он из
современных научных построений, которым он сочувствует и которые считает
непоколебимыми.
Очень возможно, — пишет он, — что за падением верований в
сверхъестественное должно последовать падение идеалистических верований и что
мы будем считать действительное положение нравственности человечества
с того времени, когда оно усмотрело действительность вещей. Посредством
некоторых химер удалось добиться от доброго гориллы поразительных
нравственных усилий, но когда химеры будут отняты, та часть поддельной
энергии, которую они возбуждали, пропадет».
«Но откуда эти химеры, — спрашивает H.H. Страхов, — посредством
которых удалось сделать этого гориллу нравственным? Кому это удалось?
Каким-нибудь помешанным гориллам?7
Но пусть, пусть кому-нибудь «удалось». Однако теперь, когда
«добрый горилла освободится окончательно от химер», во что ему предстоит
Итоги века. По поводу статьи H. H. Страхова «Итоги современного знания» 659
обратиться? В злого гориллу — потому что ведь больше не во что, и нет
никакого иного исхода. Такая судьба предуготовляется человечеству,
когда оно окончательно «усмотрит действительность вещей» и
окончательно освободится от «химер»...
Итак, вот к каким выводам приводит нас та всесильная современная
наука, пред которою преклоняется Ренан.
Если таков итог успехов естествознания, — замечает Н. Н. Страхов, —
то, как мы видим, он весь содержится в том, что идея развития заменила
собою идею творения. Но, — продолжает он, — развитие само по себе
должно иметь и направление, и цель. Почему нам не скажут, нашло ли
их естествознание? По крайней мере, искало ли оно их и ищет ли теперь? 8
Если же нет, если не нашло, не искало и не ищет, то каков же
окончательный вывод естествознания, каково его значение?
Окончательный вывод этот заключается только в отрицании, но не дает
никакого положительного утверждения. Потому что если неизвестны
ни цель, ни смысл, ни значение «некоторого громадного развития»,
о котором говорит Ренан, — то, значит, ровно ничего неизвестно
и для человечества наступают потемки, такие потемки, каких еще
никогда не бывало.
Сам Ренан признает это. Рассмотревши науки естественные,
юридические, исторические, он говорит в заключение:
В итоге, если вследствие неутомимых трудов XIX века познание фактов
возросло удивительно, то назначение человека покрыто мраком более, чем
когда бы то ни было.
Какие жалкие успехи! — восклицает H.H. Страхов, приведя эти слова
Ренана. — Наш век оказывается безмерно богатым фактами и до нищенства
скудным идеями9.
III
Итак, вот где разгадка. Та современная наука, пред которою
преклоняется Ренан, вовсе не есть наука в строгом и серьезном смысле
слова: она пошла по ложной дороге и заблудилась.
Можно сказать, что он (Ренан) представил нам, — замечает H.H.
Страхов, — собственно не успехи наук, а только успехи материализма в
науках. Картина его верна, но мы думаем, что этот общераспространенный
склад научных убеждений есть лишь очень одностороннее отражение
сущности науки; мы верим, что и теперь истинное содержание наук гораздо
660
Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК
значительнее и что вообще научные начала имеют несравненно больше
внутренней силы и глубины. Ренан есть раб современности. Он
преклоняется пред авторитетом наиболее популярных нынешних ученых так же
покорно, как прежде преклонялся перед католическим учением10.
В чем же дело? Почему же вместо успехов науки мы имеем только
успехи материализма в науках?
В начале своей статьи H.H. Страхов поставил эпиграфом следующие
стихи Хомякова:
И сынов твоих покинет
Мысли ясной благодать...11
Это было пророчество, обращенное к Европе. И оно все более
сбывается. «Мысли ясной благодать» покидает Запад. Оскудение философской
мысли повело и к успехам материализма в науках. Теория развития,
эволюции, которою так гордится современная наука, оторванная
от глубоких философских основ, обращается в какую-то странную, хотя
и грандиозную бессмыслицу — в бессмыслицу, противопоставляемую
бытию творческого начала. Противопоставление это делается безо
всякого философского основания, ибо развитие, понятое в широком
философском смысле, нисколько не противоречит бытию творческого
начала, а, напротив, обусловливается им.
Покорствуя старым, еще не окончательно умершим в его душе
религиозным влияниям, Ренан в противоречие всему, что он написал,
неожиданно замечает:
Но если бы даже небо на нас обрушилось, то мы все-таки уснули бы
спокойно с такою мыслью: Существо, которого мы были преходящим
проявлением, всегда существовало, всегда будет существовать12.
По поводу этого неожиданного замечания Ренана H. H. Страхов
говорит:
Конечно, подобная мысль о Боге и о наших отношениях к Нему может
быть очень утешительна; но где же хоть малейший след этой мысли в той
науке, которую Ренан поставил целью своей жизни и успехи которой
он нам только что излагал? Если мироздание и человек есть произведения
Божественной силы, то на всем должна лежать некоторая печать этой силы.
Стремится ли наука распознать эту печать? Научает ли она нас уменью
ее видеть? Если процесс, совершающийся в мироздании и в истории, есть
некоторая эволюция, то показывает ли наука, что направление и цель
этой эволюции не случайны, а так или иначе находятся в зависимости
от Божественного ума и Божественной воли?
Итоги века. По поводу статьи H. H. Страхова «Итоги современного знания» 661
Вот точка зрения, — прибавляет Н. Н. Страхов, — с которой видно, что
то, что Ренан считает великим успехом, составляет, может быть, великий
упадок...
В начале своей статьи, в первой главе ее, так и озаглавленной —
«Мирное время», H.H. Страхов проводит ту мысль, что для Европы
и для всего мира наступает «мирное время».
Можно надеяться, — пишет он, — что скоро земной шар станет
повсюду безопасным и удобным жилищем людей и поприщем всякой
их деятельности.
Этот «мир» наступит вследствие равнодушия ко всему: к
религии, к патриотизму, ко всем идеям, когда-то волновавшим людей.
H.H. Страхов приводит целый ряд остроумных соображений и
доказательств этому положению. Вряд ли это так, и я думаю, что
почтенный автор ошибается; на этом интереснейшем пункте его статьи
я остановлюсь в другой раз подробнее. Но если это так, то тем хуже.
Ввиду всего вышесказанного, ввиду совершенного оскудения идеалов
в европейском человечестве, ввиду того, что лучшие тамошние умы,
как Ренан, как покойный Гюйо, утешают и ободряют себя тем, что
человечество придет же наконец к какой-то цели, — ввиду всего этого
невольно приходит в голову изречение: «И когда будут говорить: мир
и утверждение — тогда настигнет их погибель...»13.
А. де ЛАЗАРИ
В кругу Федора Достоевского.
Почвенничество
<Фрагменты>
Состояние изучения проблемы
Крупнейшим современным знатоком Григорьева является Борис
Егоров, который более сорока лет публикует сборники его произведений
с критическими статьями, письмами, стихотворениями, а также
разнообразные архивные материалы, и пишет о нем интересные статьи*.
Весьма ценна библиография критики и прозы «последнего
романтика», составленная Егоровым**. Его ученики — авторы всех наиболее
значительных монографий о Григорьеве***.
Егоров также соавтор выверенной библиографии произведений
Николая Страхова****. Я говорю «выверенной», ибо до сих пор не все
исследователи русской культуры знают, что во второй половине XIX в.
в России творили двое H. H. Страховых. <...>
<...> наши современники весьма скромно знают мыслителя,
которого в конце XIX в. почитали в России одним из важнейших
авторитетов в философии. Немного о нем написано и до сих пор. Сразу после
смерти Страхова его друг Борис Никольский опубликовал в журнале
«Исторический вестник» большую биографическую статью. В 1913 г.
* Егоров Б. Григорьев-критик // Учен. зап. Тартуского университета. Вып. 98. Тарту,
1960. С. 194-214; Вып. 104. 1961. С. 58-83; Он же: Материалы об А. Григорьеве
из архива H. H. Страхова // Там же. 1963, вып. 139. С. 343-350.
* Егоров Б. Библиография критики и художественной прозы Ап. Григорьева // Учен,
зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1960. Вып. 98. С. 215-246.
* Wittaker R. A. Grigor'ev and the Evolution of «Organic Criticism». Indiana: Univ.
press, 1970; Носов С. Аполлон Григорьев — судьба и творчество. М., 1990;
Dowler W. An Unnecessary Man: The Life of Apollon Grigor'ev. Toronto, 1995.
Я также многим обязан Б. Егорову. См.: Lazari A. «Ostatni romantyk» Apollon
Grigorjew. Katowice, 1996.
* Будиловская А., Егоров Б. Библиография печатных трудов Н. Н. Страхова // Учен,
зап. Тартуского ун-та. Тарту, 1966. Вып. 184. С. 213-229.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
663
Василий Розанов опубликовал статьи о Страхове, его письма к себе
(с подробным комментарием) и несколько некрологов других авторов.
В 1914 г. вышла переписка Льва Толстого со Страховым. Единственную
монографию о Страхове написала американская исследовательница
Линда Герштейн*. Из советских работ заслуживают внимания книги
Веры Нечаевой, посвященные журналам братьев Достоевских «Время»
и «Эпоха», где Страхов был основным публицистом. Другие советские
публикации о творчестве и деятельности Страхова, как правило,
слишком идеологизированы. Мыслитель подается в них «воинствующим
идеалистом, антинигилистом и последовательным консерватором»**,
его обвиняют в антиисторизме, «воинствующем консерватизме» и т. п.***
Типично противопоставление «консерватора» Страхова
«революционному» Достоевскому****. Любой ценой авторы пытаются доказать,
что Страхов был «злым духом» Федора Достоевского и Льва Толстого
(и даже Аполлона Григорьева*****), и если бы не он, то все эти писатели
чуть ли не готовы были встать во главе большевистской революции.
Страхов знаниями и интеллектом был на голову выше многих
русских публицистов. Дискутировать с ним было необычайно трудно, ибо
любого он мог загнать в угол, и мало кто отваживался вступить с ним
в серьезную, по существу дела, дискуссию (обычно дело кончалось
руганью и «освистанием»6*. Так могли ли с ним дискутировать
советские «образованцы» («образованщина» — термин А. Солженицына)?
Исследователи, ценившие творчество и деятельность Страхова, или
вообще о нем не писали, или ограничивались историческими фактами,
библиографией, избегая оценок. Иные судили Страхова в соответствии
с обязательной идеологией, как правило, вообще его не читая (или
оперируя текстами другого Страхова, которого читать значительно легче!).
Я вовсе не хочу сказать, что сам прочитал и понял все труды Страхова
(его уровня я никогда не достигну; утешаюсь, что не только я). В
данной своей работе я опустил много проблем, не чувствуя себя в них
компетентным. Прежде всего это касается естествознания (критики
дарвинизма, методологии естественных наук и т.д.). Я сосредоточился
* Gerstein L. Nikolai Strakhov: Philosopher, Man of Letters, Social Critic. Cambridge,
19711.
г* Горбачев H. Литературная критика H.H. Страхова: Текст лекции. Махачкала,
1988. С. 5.
г* Гуральник У. H. H. Страхов — литературный критик // Вопросы литературы.
1972. №7.
:* См.: Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1986, и др.
г* Горбачев Н. Аполлон Григорьев и H. H. Страхов // Филологические науки. 1988.
№ 1.С. 19-25.
;* В «Свистке», сатирическом приложении к «Современнику».
664
A. de ЛАЗАРИ
на научно-публицистической деятельности Страхова, на его
сотрудничестве с Достоевским, на историософских проблемах и его дискуссии
с Владимиром Соловьевым о панславизме Николая Данилевского, а
также на литературно-критических вопросах. Вопросы эти по-прежнему
актуальны, так как гуманитарные науки не устаревают (по сравнению
с науками естественными и техническими). В гуманитарных науках
«консервативный» мыслитель может оказаться очень даже
«прогрессивным» и «революционным» (в России таких мыслителей было и есть
много — начиная с Петра Чаадаева до Александра Солженицына).
Наверняка в новой российской действительности имя Николая Страхова
тоже приобретет новое значение. Быть может, из символа
«консерватизма» и «реакционности» он превратится в авторитет научности и
солидного подхода к творческому труду. Первые проявления таких сдвигов
в оценке его творчества уже существуют, и что знаменательно — среди
русских философов, имеющих, как Страхов, естественнонаучное
образование. Химик и физик Николай Мальчевский признал Страхова одним
из первых творцов настоящей русской философии (наряду с Лопатиным,
Козловым, Астафьевым, Дебольским и Павлом Бакуниным). По
мнению Мальчевского, русскую философию до сих пор ассоциируют либо
с «революционностью» (Чернышевский, Писарев и др.), либо с
«религиозной философией» (Владимир Соловьев и «религиозное возрождение»
начала XX в.), совершенно забывая об истинной рационалистической
философии, независимой от идеологических требований и от «publicity
на рынке западной культуры». Именно Страхов для Мальчевского —
«один из первых представителей независимой русской философии»,
«аутентичный патент» на благородство русской культуры и русского
интеллигента вообще*.
<...> Интерес к мыслителю возрастал по мере появления
очередных томов академического собрания сочинений Достоевского. Особый
интерес вызвала у исследователей переписка Страхова с Достоевским,
Толстым и Владимиром Соловьевым, со всеми их взаимными
симпатиями и антипатиями**. <...>
Выше я упоминал, что Страхов был человеком, лишенным
слабостей. Одного не учел: он был заядлым библиофилом. Он жил в до-
* Мальчевский Н. К истории русской философии // Логос: С.-Петерб. чтения
по филос. культуры. Кн. 2: Русский духовный опыт. СПб., 1992. С. 3, 4, 14.
* См., напр.: Захаров В. Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978;
Allain L. Dostoïevski et l'Autre. Lille, 1984; Он же. Достоевский и Бог. СПб.,
1993; Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1986; Przebinda G. Wlodzimierz
Solowjew wobec historii. Krakow, 1992; Борисов Л. Этюды о русской философской
культуре. Саратов, 1996. Ч. 1-3; Bohun M. F. Dostojewski i idea upadku cywilizacji
europejskiej. Katowice, 1996.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
665
ме, напоминающем огромный книжный шкаф. Книги были везде:
на полках, на полу, на тахте, на столах и стульях. Когда он
умирал, его библиотека насчитывала более двенадцати тысяч томов*.
Наследники передали в дар Министерству просвещения 65 ящиков
с книгами, которые пополнили библиотеку Петербургского
университета (8500 томов, в их числе настоящие раритеты XV-XVIII вв.).
А вот архив Страхова (письма, рукописи, документы) был перевезен
в Киев и ныне находится в Центральной библиотеке Украинской
академии наук**.
Финансовые проблемы неоднократно вынуждали Страхова браться
за работу государственного чиновника. В 1873 г. он работал в
Публичной библиотеке в Петербурге, а в 1874 г. одновременно исполнял
обязанности члена Ученого совета в Министерстве просвещения (в
библиотеке он проработал до 1885 г., членом Ученого совета до конца
жизни). В 1890 г. Страхов стал членом-корреспондентом Академии наук.
В поисках заработка Страхов не раз делал попытки издания
своих трудов. <...> Книги Страхова не находили читателя и
годами лежали в книжных лавках. Ситуация изменилась в 80-е гг.
В 1881 г. философ издал «Критические статьи об И. С. Тургеневе
и Л.Н. Толстом (1862-1885)», в 1882 г. — первый том «Борьбы с
Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки»,
в. 1883 г. — второй том, а с 1886 г. почти ежегодно издавал и
переиздавал свои очередные произведения. Этот успех пришел благодаря
книге Николая Данилевского «Россия и Европа», которая в 80-х гг.
пользовалась огромной популярностью у читателей и выдержала
несколько изданий (с предисловием Страхова). Не без значения
для широкой популярности философа у читателей стало и его
участие в издании «Биографии, писем и заметок из записной книжки
Ф.М. Достоевского» (1883)***, а также все более известная дружба
См.: Стахеев Д. Станислав первой степени и енотовая шуба (Из воспоминаний
о H.H. Страхове) // Исторический вестник. 1904. N° 2. С. 442-443; Розанов В.
Литературные изгнанники. Лондон, 1992. С. 344.
См.: Горфинкель А., Николаева Н. Неотчуждаемая ценность. Рассказы о
книжных редкостях университетской библиотеки. Л., 1984. С. 166; Белов С,
Белодубровский Е. Библиотека H.H. Страхова // Памятники культуры. Новые
открытия. Письменность, искусство, археология. М., 1977. С. 134-140.
Страхов выпустил также том литературно-критических статей А. Григорьева
{Страхов Н. «Сочинения Аполлона Григорьева». Т. 1. СПб., 1876); сборник:
Он же. Политические и экономические статьи Н. Данилевского (СПб., 1890),
а также — при активном участии князя Константина Константиновича (см.:
Кузьмина Л. Переписка К. Р. с Н. Н. Страховым // Рус. литература. 1993. N° 2.
С. 148-187) — посмертный том лирики Фета (Фет А. Лирические стихотворения:
в 2 ч. СПб., 1894).
666
A. de ЛАЗАРИ
с Л. Н. Толстым. С 80-х гг. можно говорить об авторитете Страхова —
философа, критика, публициста и издателя. С большим уважением
о нем говорили В. Розанов, Б. Никольский, Ю. Говоруха-Отрок и др.
Для Розанова Страхов был мыслителем, который в своем «Я»
объединял философа-аналитика, биолога, литературного критика и
публициста. Он отличался особенной скромностью. Много размышляя
«о Боге, о правде, о душе», почти никогда не высказывался на эти темы.
Как философ Страхов, по мнению Розанова, сосредоточился на двух
идеях: «идее рационального естествознания» и «идее органических
категорий». Здесь он чувствовал себя уверенно и был компетентным.
Идею рационального естествознания он обосновал в книге «Мир как
целое». Свои соображения об «идее органических категорий» он изложил
вначале в небольшой работе «О методе естественных наук и значении
их в высшем образовании» ; затем полностью развил их в своей лучшей
работе «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1886).
«Нужно прочитать обе эти книги, чтобы понять всю глубину мысли,
которая заложена в них, чтобы дать себе ясно отчет во всей
гениальности догадок, которые здесь высказаны, но, к сожалению, не развиты*.
Розанов считал самой большой заслугой Страхова —
ученого-естественника и философа решительную критику вульгарного
материализма. В отличие от «инженерских философов», которые заняли
университетские кафедры и научные журналы, в отличие от Чернышевского
«с его девицами по "Что делать?"»**, только Страхов, утверждал
Розанов, имел мужество выступить в защиту биологии и психологии
как самостоятельных областей науки, в защиту независимости
категорий биологии и психологии от категорий механики.
Научная независимость Страхова импонировала Розанову, но он
ценил и его дружбу. В 1913 г. он писал: «Поистине, Бог наградил меня
как учителем Страховым, и дружба с ним, отношения к нему всегда
составляли какую-то твердую стену, о которую я чувствовал — что всегда
могу на нее опереться или вернее к ней прислониться. И она не уронит
и согреет. К молодежи я сказал бы эти слова: старайтесь среди стариков,
среди пожилых вовремя запастись вот таким другом, и он сохранит вас
как «талисман» Пушкина:
...от клеветы, от непогоды...
и проч. и проч. » ***.
Страхов умер 26 января 1896 г.
* Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М., 2000.
С. 14.
** Там же. С. 15.
*** Там же. С. 141.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
667
«За ним никто не шел, — пишет Розанов, — да и трудно было за ним
идти, ибо он сам никуда не шел. Он стоял около "вечных истин"*
(название одной из работ Страхова) <...> «Нет, — он "звал", нет — он "шел
вперед". Стоял на одном месте, как неподвижные звезды среди
блуждающих комет» **.
Категория народности в полемике Николая Страхова
с Владимиром Соловьевым
<...> Русские панслависты в своих концепциях опирались прежде
всего на категорию народности, разработанную романтической мыслью,
вводя в употребление, кроме понятия «русская народность», понятие
«славянская народность», и то в большей, то в меньшей степени впадая
в национализм. Расцвет панславизма в 1870-1880 гг. свидетельствует
о том, что народность вновь стала по преимуществу политической
категорией, используемой для поддержки российского самодержавия.
Если русские романтики противопоставляли народность официальной
государственной (якобы «немецкой») идеологии, то во второй половине
XIX в. с отходом от романтизма эта категория все чаще служила
основой солидаризации с официальной точкой зрения. Это в полной мере
подтверждает полемика Николая Страхова с Владимиром Соловьевым.
Когда Владимир Соловьев в 1874 г. опубликовал свою диссертацию
«Кризис западной философии. Против позитивистов», русофил ьско-
панславистские круги могли увидеть, что этот мыслитель им
близок. Так вскоре и произошло. Вернувшись из-за границы в 1876 г.,
философ тесно сблизился и с Иваном Аксаковым, и с Достоевским,
и со Страховым. «В Петербурге, — писал он Страхову, — Вы для меня
самый интимный человек, и я на Вас смотрю как на родного дядюшку»***.
«Славянофильский» период в идейной эволюции Соловьева
продолжался, однако, недолго****. В 1883 г. философ прекратил сотрудничество
с газетой «Русь» Ивана Аксакова и стал писать для западнического
журнала «Вестник Европы», в котором напечатал большинство статей
из цикла «Национальный вопрос в России»*****, представляющих собой
* Страхов H. H. О вечных истинах. СПб., 1887. С. 45.
** Розанов В. В. Литературные изгнанники... С. 7.
*** Соловьев В. С. Письма. СПб., 1908. Т. 1. С. 1.
*** См.: Walicki A. W krçgu... S. 460; Przebinda G. Wtodzimierz Solowjow wobec histo-
rii. Krakow, 1992.
*** Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. СПб., 1891. Т. 1-2. (Первое
издание — 1888 г.)
668
A. de ЛАЗАРИ
полемику с Николаем Данилевским и с единственным из оставшихся
почвенников — Николаем Страховым.
«Национальный вопрос, — писал Соловьев, — для многих народов
есть вопрос об их существовании. В России такого вопроса быть не
может... Россия как единая, независимая и великая держава. Это есть дело
сделанное, никакому вопросу не подлежащее. Но чем прочнее
существует Россия, тем настоятельнее является вопрос: для чего и во имя чего
она существует? Дело не идет о материальном факте, а об идеальной
цели. Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании,
а о достойном существовании» *.
Далее, развивая утопическую идею объединения христианских
церквей и установления на земле теократического Царства Божьего,
философ выдвигает следующие требования.
1. Подчинение государственной политики христианской этике
(глава «Нравственность и политика. Исторические обязанности
России»).
2. Отказ русских от «национального эгоизма» во имя идеи
солидарности со всем человечеством (глава «О народности и народных делах
России»).
3. Признание, что национальный эгоизм противоречит русскому
народному характеру и идеалу «святой Руси» (глава «Любовь к народу
и русский народный идеал»).
4. Признание, что культура Западной Европы — столь же ценная
христианская культура, как и культура православных народов, которое
дало бы нравственное основание для будущего единения с
неправославными славянскими народами (глава «Славянский вопрос»).
5. «Духовное освобождение» России, которое бы основывалось
на полной свободе веры и мысли и вело бы к воплощению идеала
христианской любви, якобы заключенного в русском народном характере
(глава «Что требуется от русской партии?»)
6. Признание того, что русский антиевропеизм бессмыслен и не
способствует благоприятному развитию России и что России необходимо
перенять от Западной Европы «общечеловеческие формы жизни и
знания» (глава «Россия и Европа»).
По мнению Соловьева, народность до сих пор была силой
дифференцирующей и разделяющей, что выразилось, например, в разделениях
Церкви. «Такое разделяющее и обособляющее действие народности
противоречит всеединящим нравственным началам христианства,
а также истинному назначению самих христианских народов, которые
призваны к всестороннему осуществлению богочеловеческого единства,
* Там же. Т. 1.С. 5.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
669
а не к разделению человечества». «Если христианский народ, — пишет
Соловьев, — может поддаться духу национального эгоизма и в процессе
обособления перейти божественные пределы, то тот же народ может
сам начать обратный процесс интеграции или исцеления разделенного
человечества». Такую «позитивную реформацию» как раз и должны
начать русские*.
Работа Николая Данилевского «Россия и Европа» теоретически
узаконивала разделение мира на национальные типы, обосновывала
русский панславизм и национализм, предоставляла теоретическую
базу шовинистам всех мастей. Переиздания этой книги подтверждали,
что в России у нее множество благосклонных читателей. Соловьев,
выдвигая идею всеобщего христианского единения, не мог равнодушно
пройти мимо работы Данилевского, а поскольку издателем и автором
предисловия к ней был Николай Страхов, антизападнический настрой
которого с такой силой выразился к тому времени в двух первых томах
«Борьбы с Западом в нашей литературе» (1882-1883), философ
выступил одновременно против Данилевского и Страхова.
Для Соловьева национальная идея была завоеванием начала XIX в.
По его словам, теоретические основы этой идеи содержались в «Речах
к немецкой нации» Иоганна Фихте, а наполеоновские войны
способствовали ее распространению в Европе**. Тогда национальная идея
заслуживала, по мнению философа, всяческого уважения и симпатии,
так как во имя ее защищались и освобождались народности слабые
и угнетенные, и она полностью совпадала с «истинной
справедливостью». «Всякая народность имеет право жить и свободно развивать
свои силы, не нарушая таких же прав других народностей», —
подчеркивает Соловьев. По его мнению, этот принцип вносит в политику
высшую нравственную идею, которой должно подчиняться
«национальное себялюбие». В этом случае все народы солидаризируются
и «человечество уже не есть пустое слово» ***.
Иначе дело обстоит, когда сильная нация, обладающая
государственной независимостью, возводит национальную идею в историософский
принцип. Это ведет к развитию национального эгоизма, или
национализма, и выражается в формуле: «Наш народ есть самый лучший
изо всех народов, и потому он предназначен так или иначе покорить
себе все другие народы, или во всяком случае занять первое, высшее
место между ними» ****.
* Там же. С 8-9.
** Там же. С. 115.
*** Там же.
**** Там же.
670
A. de ЛАЗАРИ
Такой формулой оправдываются насилие, бесконечные войны, все
злое в истории мира. В России, по мнению Соловьева, национальную
идею возвели в ведущий историософский принцип славянофилы
1840-х гг. под влиянием философии Гегеля. Поскольку они
отстаивали прежде всего самостоятельность русской культуры, не отвергая
мировой истории и идеи христианской солидарности, их концепции
не были внутренне противоречивы и не заключали в себе зла, тем
более что народность была для них «предметом поэтического,
пророческого и ораторского вдохновения». Иначе дело обстоит с
концепциями Данилевского. В них уже нет поэзии, нет даже «площадного
патриотизма», зато есть систематическое изложение
эмпирика-естествоиспытателя и политического публициста-практика, который
разрабатывает и обосновывает «обдуманную и наукообразную систему
национализма» *.
Осуждая национализм Данилевского, Соловьев одновременно
закладывает теоретические основы для своей утопической модели
объединения человечества под духовной властью римского папы
и светской — российского императора**. Разделению человечества
на культурные типы и отделению русской культуры от западной,
характерным как для Данилевского, так и для Страхова, не было места
в этой модели. Для Соловьева европейская культура была христианским
целым, а Россия составляла только часть этой культуры***.
Статьи Соловьева задели Страхова за живое, что отразилось в его
письмах Льву Толстому: «Какой зыбкий ум! — делился с Толстым
Страхов. — Еще раз я убеждаюсь, что он неспособен понимать
действительность и даже понимать книгу, которую разбирает. Он всегда
носится на сто верст выше того предмета, о котором говорит, и ничего
в нем не видит. Он написал несколько статей о Достоевском****, в которых
нет ни одного слова, относящегося к действительному Достоевскому
и его действительным писаниям. Но теперь, кроме того, он (Соловьев)
написал такую бестолковщину, которая даже понизила мое уважение
к его уму. "Россия — европейская нация" — в одном месте, а в другом:
"Русские — один из полудиких народов востока". Да вообще, разве
можно доказывать темы [чисто] общеотрицательные? — Буду писать
ему, хотя о книге Данилевского чувствую, что столковаться нет почти
возможности» *****.
* Там же. С. 116-118.
** См.: Walicki A. W krçgu... T. 1.S.464.
*** Соловьев В. С. Национальный вопрос... Т. 1. С. 140-141.
**** Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. М., 1884.
***** Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. СПб., 1913. С. 365-366.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
671
Статья Соловьева появилась в февральском и апрельском номерах
журнала «Вестник Европы» за 1888 г. Страхов опубликовал свой ответ
в июньском номере «Русского вестника» за этот же год. Статья Страхова
называлась «Наша культура и всемирное единство». Эпиграфом к ней
послужили слова из Катехизиса: «Чти отца твоего и матерь твою,
и благо ти будет, и долголетен будеши на земли».
Напоминание о четвертой заповеди говорит о том, что Страхов
решил не столько спорить с Соловьевым, сколько выругать его за
отсутствие должного почтения к России-матушке. Страхов полностью
пренебрег большинством аргументов Соловьева против национализма
Данилевского как «языческого принципа» и поставил под сомнение
порядочность Соловьева — не только философа, но и человека и
гражданина. Зачастую, не находя рациональных аргументов, он использовал
доводы типа: «Ну как можно подумать, что человек с таким светлым
умом и такой истинный христианин, как Н. Я. Данилевский, стал
проповедовать "языческий принцип?"»*.
Соловьев выступил против Данилевского с экуменистических
позиций, и тут Страхов оказался беспомощен. Он пытался
защищать «Россию и Европу», отстаивая «начало народности». Это
начало, по его мнению, имеет силу как дополнение идеи государства.
Государство есть понятие юридическое и теоретически может
существовать без национального самосознания, однако история XIX в.
свидетельствует, что идеальное государство то, пределы которого
совпадают с пределами отдельного народа. Современность требует, чтобы
государство не было лишь сухой, мертвой формой — оно должно иметь
живую душу. Подданных должен объединять не только закон, но также
мысли и желания, физические и нравственные узы. В пользу этого
свидетельствуют освобождение Греции, Сербии, Болгарии, объединение
Германии и Италии: «...и, даст Бог, эти освобождения и соединения
пойдут и дальше. <...> Европа ищет для себя самого естественного
порядка и все тверже и спокойнее укладывается в свои естественные
разделы; не будь великого интернационального зла, социализма,
начало народности, исповедуемое Европой, обещало бы ей успокоение» **.
Может показаться, что Страхов выступает здесь по меньшей мере
как либерал, которого не устраивает только социализм из-за идеи
интернационализма, якобы препятствующей освобождению народов.
Не стоит, однако, забывать, что он защищает самодержавную
позицию Данилевского, для которого не существует, например, свободы
Польши, единственной истиной является «русская точка зрения»,
* Страхов H. H. Борьба с Западом... Т. 2. С. 184.
г* Там же. С. 188-189.
672
A. de ЛАЗАРИ
а единственным политическим законом — принцип «око за око, зуб
за зуб». Эту аморальность взглядов Данилевского Соловьев уловил
и резко раскритиковал, Страхов же пытался любой ценой ее сгладить.
Это отразилось, в частности, в суждениях Страхова о войне. Соловьев,
так же как и Толстой, отрицал всякий смысл войны вообще. Любая
война для него противоречила идеалу христианской любви. Зато
Страхов (подобно, впрочем, Достоевскому), отстаивая точку зрения
Данилевского, оправдывал «справедливые» войны. Применительно
к российской действительности это было оправдание во имя
национально-государственного единства великодержавности и шовинизма,
русификации Польши и еврейских погромов. Поэтому с большой долей
скептицизма следует воспринимать высказывания Страхова, подобные
следующему: «Национализм нашего века вовсе не похож на
национализм древнего мира. У язычников, можно сказать, всякий народ хотел
завладеть всеми другими народами; у христиан явилось правило, что
никакой народ не должен владеть другим народом. Современное
учение о народности, очевидно, примыкает к учению любви и свободы» *.
Следует полностью согласиться с Уэйном Даулером, который
утверждает, что почвенничество Страхова в конце концов перешло
в «тупой национализм»**. Влияние Данилевского на Страхова здесь
не подлежит сомнению. Нужно быть совершенно ослепленным, чтобы
утверждать: «Книга Данилевского дышит истинно славянским
благодушием, отсутствием всякой народной ненависти и, говоря о будущем,
дает России только одни справедливые и великодушные задачи. Этот
дух книги есть и дух теории, которая в ней излагается» ***.
Ответом Соловьева на предъявленные Страховым обвинения в
отсутствии любви к России-матушке была статья «О грехах и болезнях»,
напечатанная в январском номере журнала «Вестник Европы» за 1889 г.
С большим чувством юмора и остротой смелого полемиста философ
направил против Страхова его собственное оружие. «Не послушествуй
на друга твоего свидетельства ложна», — пишет он, напоминая восьмую
заповедь****. В качестве эпиграфа он выбирает два высказывания
самого Страхова: «Много болезней точат безмерное тело России» и «Мне
стыдно — за наше общество» *****.
По мнению Соловьева, Страхов не хочет понять, что «различие
между национальностью и национализмом» «то же самое, что раз-
* Там же. С. 189.
** DowlerW. Dostoevsky...S. 168.
*** Страхов H. H. Борьба с Западом... Т. 2. С. 191-192.
**** Соловьев В. С. Национальный вопрос... Т. 2. С. 159.
***** Там же. С. 152.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
673
личие между личностью и эгоизмом» *. В категории национальности,
понимаемой как индивидуальность нации, нет ничего
безнравственного — безнравственен национальный эгоизм, который появляется тогда,
когда национальность отождествляют с национализмом, как это делает
Данилевский в своей работе. Национализм — это полное искажение
национальной идеи, это болезнь, которая точит часть русского общества.
Почему эта болезнь поразила автора «Рокового вопроса» — работы,
в которой национальный эгоизм, казалось бы, был развенчан, остается
для Соловьева загадкой**.
Эта ссылка на «Роковой вопрос» в статье Соловьева имеет свои
основания и говорит о том, что философ по-разному оценивал Страхова
60-х и 70-х годов. В «Роковом вопросе» Страхов еще отстаивал
самобытность и автономность русской культуры, выступление же на
стороне Данилевского однозначно ставило его в один ряд с русскими
националистами.
Крайне интересно, что в статье «О грехах и болезнях» Страхов
противопоставлен славянофилам и прямо назван западником. Борьба
Страхова с Западом для Соловьева — явление «загадочно-нелепое»,
поскольку как философа Страхова сформировала западная, а не русская
общественная мысль, и его концепции — не что иное как
одностороннее и плохое подражание***. Эту мысль Соловьев развивает в рецензии
на второй том работы Страхова «Борьба с Западом в нашей
литературе», назвав свою статью «Мнимая борьба с Западом» («Русская
мысль». 1890. № 8)****. «Борьба между Западом и Востоком, между
Европой и Азией, давно уже перешла у нас из области чистой
литературы на совершенно иную почву, где дело решается не аргументами
мыслителей, а инстинктами толпы, и где Запад потерпел очевидное
поражение, а начала восточные, именно китайские, достигли полного
торжества. Тем не менее, почтенный H. H. Страхов опять возобновляет
свою Борьбу с Западом в нашей литературе* *****.
Все, что пишет Страхов, уже давно, по мнению Соловьева, сказано
и разработано в Западной Европе, и русский мыслитель является
не кем иным, как консерватором западного типа. О какой же борьбе
с Западом может идти речь?
То же самое можно сказать и о Николае Данилевском. Он также
лишь подражает консервативному течению западноевропейской мысли
* Там же. С. 157.
** Там же. С. 159-161.
*** Там же. С. 174.
**** Там же. С. 181-215.
***** Там же. С. 181.
674
A. de ЛАЗАРИ
как в критике дарвинизма, так и в противопоставлении так
называемых культурных типов. Страхов ошибается, говоря, что Данилевский
открыл что-то самостоятельно. Даже его теория культурных типов,
утверждает Соловьев, заимствована из работы немецкого
консерватора Генриха Рюккерта «Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer
Darstellung» (1857)*.
На этом дискуссия Соловьева со Страховым не закончилась. На статьи
«О грехах и болезнях» и «Мнимая борьба с Западом» Страхов
отреагировал «Последним ответом г. Соловьеву» («Русский вестник». 1890. № 2),
а затем статьей «Новая выходка против книги Н.Я. Данилевского»
(«Новое время». 1890. № 5231), на что Соловьев в свою очередь ответил
статьями «Счастливые мысли H.H. Страхова» («Вестник Европы».
1890. № 11) и «Немецкий подлинник и русский список» (там же. № 12).
Лев Толстой несколько раз советовал Страхову прекратить эту
полемику**. Писатель быстро понял, что мыслители не придут к согласию,
а лишь подогреют взаимную неприязнь. Сам он не занял определенной
позиции в этом споре, хотя и видел превосходство Соловьева. В декабре
1890 г. Толстой писал Страхову: «Что с Соловьевым ваша полемика
кончилась, очень радуюсь за вас и еще больше за то, что он поймал
вас и вы осрамлены» ***.
Страхов, однако, решил, что последнее слово должно остаться
за ним, и в 1894 г. опубликовал обстоятельную работу «Исторические
взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» ****. Но ничего нового он
в ней не сказал.
Дискуссия Страхова с Соловьевым на последнем этапе свелась
к одной теме: представляет ли собой работа Данилевского что-то
оригинальное или же это просто «список» и повторение мыслей Рюккерта.
Сначала Страхов пытался утверждать, что Данилевский вовсе не знал
работы немецкого ученого, а Рюккерт не пользовался терминами «тип»
и «культурно-исторический тип» и что, вообще похоже, сам Соловьев
не читал внимательно работы Рюккерта*****.
Ответ Соловьева был разгромным (отсюда слова Толстого, что
Страхов «осрамлен»). Философ не только доказал, широко
цитируя работу немецкого ученого, что тот использует понятия «тип»
и «культурно-исторический тип», но и указал на то, что Данилевский
* Там же. С. 182-185.
** Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. С. 393, 413, 419.
*** Там же. С. 419.
'*** Русский вестник. 1894. № 10. См. также: Страхов Н. Н. Борьба с Западом... Т. 3.
С. 153-188.
*** Страхов H. H. Борьба с Западом... Т. 3. С. 130-131.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
675
заимствовал у него как противопоставление православно-славянского
мира западной культуре, так и многие другие идеи. В глазах Соловьева
это было еще одно доказательство несамостоятельности русской
мысли, ее тесной связи с мыслью западной. По его мнению, всякая
«борьба с Западом» есть зло, ибо это борьба с собственной
христианской культурой. Консерватизм Данилевского и Страхова — это всего
лишь разновидность европейского консерватизма, а не что-то чисто
русское*.
Интересно, что последний почвенник XIX в. в конце 1890 г.
вернулся к терминологии 60-х годов и в пылу полемики обвинил Соловьева
в «оторванности от почвы», а затем и в непонимании великой миссии
России, которая, укрепив свою мощь, «водворит спокойствие на Западе
и благоустройство на Востоке». «Пусть чистые нравственные начала,
составляющие самую душу нашего народа, проникнут, наконец, в
наше сознание и найдут себе полное и ясное для всего мира выражение
и воплощение; тогда новая лучшая жизнь может проснуться в старых
народах и сбудется предсказание Хомякова о могучем и светлом
источнике, сокрытом в груди России»**.
«Россия велика, — отвечал Соловьев, — и разных почв в ней много:
от иной почвы быть оторванным дай Бог всякому»***. Было время, когда
«сросшиеся с почвой» требовали сохранить крепостное право, а
«оторвавшиеся» от нее осуществили реформу 1861 г. Сейчас, вместо того,
чтобы с помощью ложных аргументов поддерживать необоснованные
претензии России на величие, следует очистить этот «источник живой
воды» от грязи и тины, которых в нем полно. Этой грязью в глазах
Соловьева является национализм Данилевского и Страхова****.
В мае 1890 г. Лев Толстой писал Страхову: «Мне всегда душевно
больно, когда я вижу в Вас эти черты умышленного принижения
своего духовного Я, во имя чего-то такого мелкого, ничтожного, как
привычка, семья, народ...»*****.
По мнению Толстого, если кто-либо утверждает, что думает и
верит, как народ, «как мужик», он тем самым доказывает, что думает
и верит совершенно иначе. «И если брать уроки у народа, то не в том,
чтобы верить в то, во что он верит, а в том, чтобы уметь избирать
предмет своей веры...». Именно поэтому Толстой полностью отвергает
* Соловьев В. С. Национальный вопрос... Т. 2. С. 216-228.
** Страхов H. H. Борьба с Западом... Т. 3. С. 151-152. (Страхов цитирует здесь
стихотворение А. Хомякова «Ключ».)
*** Соловьев В. С. Национальный вопрос... Т. 2. С. 226.
**** Там же. С. 226-227.
■**** Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. С. 402-403.
676
A. de ЛАЗАРИ
«славянофильские» труды Страхова. Для него они представляют
собой шаг назад*.
Нельзя не признать, что Толстой прав. Почвенничество 1880-1890-х гг.,
если вообще можно о таком говорить, было уже только теорией, абсолютно
«оторванной от почвы»**.
Религиозность Н. Страхова
...не знаю, как Вы напишете о религиозности у меня,
но, конечно, Вы правы, ибо все серьезное в конце концов
сводится к религии.
Из письма Н. Страхова В. Розанову
В творчестве Н. Страхова, и особенно в его письмах к Л. Н. Толстому,
можно найти много высказываний, ставящих под сомнение его
религиозность. Резко критикуя русский перевод Исаака Сирина, философ
заявлял: «Для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло
благочестием. Они в бессмыслице плавают, как рыба в воде, и скорее
им противно все ясное и определенное» ****.
В другом месте он утверждал: «В религии сильнейшим образом
действуют — консерватизм и синкретизм. Верование, имеющие
определенный смысл, сохраняется несмотря на то, что смысл утрачен, или
совершенно изменился... Христианство все в себе совместило — и
буддизм, и иудейство, и язычество; оно отозвалось на все вопросы
сердцем, — за то понимать его уже вовсе невозможно. Как мне горько иногда,
что воспитанный на Евангелии, я теперь не могу читать его с ясной
мыслию. Буддизм или магометанство понятнее — Вы сами это знаете» *****.
Приведенный фрагмент письма Н. Страхова к Л. Н. Толстому
относится к началу 1878 г., т.е. к периоду, когда автор «Войны и мира»
приступил к своей «Исповеди». Поэтому необходимо учесть явное взаимное
влияние обоих мыслителей. Оба были своеобразными рационалистами
и не принимали догматы христианских церквей. Отбрасывали их как
абсурдные и ложные, сковывающие волю как отдельных личностей,
Там же.
Там же.
Письмо Страхова В. Розанову № XXXIII от 26 августа 1890 г. // Розанов В. В.
Литературные изгнанники. М., 2000. С. 152.
Письмо Страхова Толстому N° 163 // Переписка Н. Страхова и Л. Толстого. М.,
1914. С. 143.
Письмо Страхова Толстому № 65 // Там же. С. 148.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
677
так и человеческих сообществ. Бесспорно, Л. Н. Толстой оказался более
последовательным и мужественным, но его беспощадная критика
привела к тому, что русская церковь предала его анафеме*. Н. Страхов был
более осторожен. Ни в одной из своих работ он не выступал открыто
против официального православия, только в письмах к друзьям
позволял себе иногда высказывания такого рода: «Церковный фанатизм
есть проказа, искажающая все в душе человека!» **.
Отвержение церковных догматов ни в коей мере не вело, однако,
ни Л. Н. Толстого, ни H. H. Страхова к отказу от веры как таковой. Оба
мыслителя искали свой путь к Богу, и толстовский анархизм, и
почвеннический рационализм Н. Страхова были мировоззрениями если
и не религиозными, то так или иначе связанными с религией. В одном
из немногочисленных поэтических произведений Страхов признавался:
Мне мир непонятный тревожит
Всю душу мою изумленьем,
И сердце затихнуть не может,
Конца не найду размышленьям.
И рвется душа — поделиться
Таинственным чувством и словом,
Что Бог весть откуда родится,
Что кажется вечным и новым.
И знаю, куда ни пойду я,
И сколько жить небо не судит,
Мир дивный все тот же найду я,
Все сердцу покоя не будет.
Ужели — незримой тропою,
Безмолвно тая изумленье,
Задумавшись мыслью живою,
Пройду я до гроба и тленья?
Или — эту мысль без границы
И всю изумленья тревогу
На белые бросить страницы,
Как жертву незримому Богу.
(Мир, 1855)***
* См.: Булгаков С. Толстой и церковь // Булгаков С. Тихие думы. М., 1996.
** Письмо Страхова Толстому // Переписка Н. Страхова и Л. Толстого. М., 1914.
С. 360.
*** Страхов Н. Мир // Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 304.
678
A. de ЛАЗАРИ
А в следующем письме Л. Н. Толстому он писал: «Конец и цель
всякого развития есть Бог, то самое, что есть и его источник. Все это у меня
еще не совсем ясно, хотя крайние точки уже стали для меня совершенно
незыблемыми. Все из Бога исходит и все к Богу ведет и в Боге
завершается. Мы в нем живем и движемся и существуем» *.
Утверждение, что Н. Страхов был неверующим человеком,
безосновательно в той же мере, в какой беспочвенны попытки определить
мировоззрение Л. Толстого как нехристианское, предпринимаемые
некоторыми православными теологами**. Л. Толстой отрицал только
Церковь как институт принуждения, но этические ценности
христианского учения он разделял безоговорочно. В отличие от него Н. Страхов
отвергал все религиозные догматы во имя рационализма, но во имя
того же рационализма он отстаивал идею о «начале» и «конце» всего в Боге.
Взгляды Л. Толстого и Н. Страхова существенно отличаются, когда
речь заходит об их практическом воплощении. Насколько христианство
Л. Толстого вело прежде всего к идее непротивления злу насилием, т.е.
имело этические последствия, настолько Богу Н. Страхова необходимо было
понимание «мира как целого», и на этом основании философ строил свою
историософию и методологию. Насколько мировоззрение Л. Толстого было
лишено националистических элементов, настолько же почвенничество
так и не позволило Н. Страхову отвергнуть националистическое
понимание истории России и мира. Это отразилось в его споре с В. Соловьевым
и в его взглядах на роль религии в обществе. «Мы должны искренно
желать...— писал критик в фельетоне "Русские немцы", — чтобы все, кто
говорит по-русски, исповедовали и русскую, православную веру»***.
В своей вере в Бога Н. Страхов отличался от православного
верующего обывателя, но официально всегда поддерживал «русскую точку
зрения» **** по этому вопросу.
Несколько иначе интерпретировал позицию Н. Страхова Василий
Розанов. По его мнению, Н. Страхов принадлежал к тем
немногим и редким философам (В. Розанов в их числе называет Платона,
а из русских — религиозного мыслителя масона Александра Лаб-
зина (1766-1825)), для которых «религиозное составляет ни разу
не названный центр постоянного тяготения... мысли»*****. Они являются
* Письмо Страхова Толстому № 199 // Переписка Н. Страхова и Л. Толстого. М.,
1914. С. 341.
** См.: Булгаков С. Толстой и церковь.
*** Страхов Н. Из истории литературного нигилизма... С. 413.
**** Там же. С. 417.
•**** розанов ßm в. Литературная личность Н. Н. Страхова // Розанов В. В.
Несовместимые контрасты жития. М., 1990. С. 312.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
679
неустанными искателями истины и если вообще отваживаются
написать труд религиозного содержания, то осуществляют это лишь
«под конец жизни» *.
Н. Страхов был ученым, и его веру, его религиозность
переполняли «интеллектуальные» конфликты. «Вы верно поняли,— писал
он В. Розанову, — что при истинном христианстве никакая
политическая жизнь невозможна, — и не видите, что и монархия равно не
основывается на Евангелии, как и республика... Роль христианства у вас
только разрушение, и ничего иного, как разрушение. И тогда монархия
есть диктатура, есть учреждение высшей и всемогущей безусловной
полиции над людьми, над хаосом личностей, — есть наименьшее и
неизбежное зло. <...> Нет, не созреть нам в смысле истинных граждан.
Идеал наш чересчур высок, и мы будем только плакать о его
недостижимости и услаждать себя терпением и всякими нежными мечтами
и чувствами. Мы слепы, решительно слепы, не можем видеть
действительности; мы века останемся угорелыми, мечущимися куда попало.
"Бородатые дети", говорят о нас англичане» **.
Вместо заключения
Был ли Страхов позитивистом?
Этот вопрос возник по поводу необычной для советских
исследований книги Павла Шкуринова «Позитивизм в России XIX века»***. <...>
<...> данный раздел будет посвящен только мировоззрению
Страхова, который в работе советского исследователя определяется то как
«близкий позитивизму» (с. 171, 227), то как последователь
«позитивистских доктрин» (с. 202), или как ортодоксальный сторонник
Конта (с. 254) и глашатай собственно позитивистской науки (с. 368).
В работе Шкуринова понятие позитивизма, согласно советской
традиции, выступает как бы в двух значениях: в широком — «позитивизм
означает совокупность доктрин субъективного идеализма новейшего
времени», и в узком — «позитивизм выражает систему философских
и социологических взглядов своего основателя [Конта], а также
воззрения его непосредственных учеников и популяризаторов» (с. 9). Я
говорю «как бы», потому что советский исследователь, что совершенно
* Там же. С. 312-313.
* Письмо Н. Страхова В. Розанову № LX от 23.02.1891 // Розанов В. Литературные
изгнанники. М.,2000.С.226-228.
г* Шкуринов П. Позитивизм в России XIX века. М., 1980.
680
A. de ЛАЗАРИ
понятно, не мог эти определения (особенно первое) последовательно
развить до конца. Определение позитивизма как субъективного
идеализма (постановка вопроса с ног на голову) методологически непригодно
и вместо того, чтобы разъяснить картину, лишь усложняет ее, так как
в принципе позитивизм столь же антиидеалистичен, сколь и
антиматериал истичен. Идеализм и материализм трактуются позитивистами
как метафизика; позитивизм требует постановки таких вопросов,
на которые возможен лишь поддающийся проверке ответ. Итак, не
принимая дефиниций Шкуринова, в дальнейших рассуждениях я стану
руководствоваться, с одной стороны, определением Барбары Скарги:
позитивизм — это «широкое течение в культуре и философии,
которое во второй половине XIX века проникло во многие области жизни
и творчества и отразилось не только в философии, но и в литературе,
историософии, а также в общественно-политических концепциях.
Позитивизм повлиял и на взгляды людей, которые не признавали
его и критиковали. Следует, однако, помнить, что течение это никогда
не создало единой монолитной системы, постоянно подвергалось
метаморфозам, и существовали многочисленные его варианты»*.
С другой стороны, я использую мысль Лешека Колаковского:
«Позитивизм — определенная философская позиция по отношению
к человеческому знанию; в самой этой позиции не предопределены,
говоря точно, вопросы о способе овладения знаниями (в смысле
психологическом или историческом). Позитивизм — собрание правил и
критериев оценок, относящееся к человеческому познанию; он сообщает
о том, какого рода сущности, заключающиеся в наших высказываниях
о мире, заслуживают имени знания, а также дает нормы, позволяющие
отличить то, что является объектом возможного вопроса, от того, о чем
разумно спрашивать невозможно. Итак, позитивизм есть нормативная
позиция, регулирующая способ употребления таких терминов, как
"знание", "познание", "информация"; тем самым позитивистские
правила различают определенным образом философские и научные
споры, которые стоит вести, от тех, которые не имеют шансов решения
и потому не заслуживают внимания» **.
Считал ли себя сам Страхов позитивистом?
Конечно, нет. Ведь он был мыслителем, всю свою жизнь
посвятившим борьбе за самостоятельность и независимость русской культуры
(поэтому его часто называют славянофилом), что нашло убедительное
* Skarga В. Polska my si filozoficzna w epoce pozytywizmu // Filozofia i my si spoteczna
w latach 1865-1895. Warszawa, 1980. T. 1. S. 9.
r* Kotakowski L. Filozofia pozytywistyczna [od Hume'a do Kola Wiederîskiego].
Warszawa, 1966. S. 10-11.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
681
выражение в его большой трехтомной работе «Борьба с Западом в нашей
литературе». Позитивизм он рассматривал как одно из проявлений
кризиса западноевропейской мысли, как доказательство обязательного
и окончательного падения цивилизации Запада.
«Не коммунисты, не материалисты и позитивисты суть
истинные представители современного просвещения; это лишь уродства
им порожденные, имеющие силу лишь потому, что они столько же
исполнены метафизики, фанатизма, слепой веры, как и самые
древние учения. Просвещенный, умственно развитый человек ясно видит
противоречие, которое заключается в этих вольнодумствах, видит, что
они опираются на некоторой узкой вере. Как он может признать, что
все существующее есть вещество? Или, что цель человеческой жизни
есть материальное благосостояние? Или, что философия есть одно
из заблуждений человечества? » *
Означал ли термин «позитивизм» для Страхова то же самое, что
ныне для нас? Во вступлении к своим «Философским очеркам» (1895)
Страхов писал: «Из философских учений читатель почти ничего не
найдет здесь о позитивизме и об эволюционизме (учение Спенсера),
имевших огромную силу в последние десятилетия. Всегда представлялись
мне эти теории некоторого рода конгломератами, в которых внутреннюю
связь частей нельзя выводить из определенных начал, а нужно было
угадывать психологически, или же исторически. Перед таким трудом
я невольно отступал, причем предполагал, что это — порождения
времени, которые вместе с временем и пройдут, так как не содержат
в себе долговечных принципов» **.
В другом месте Страхов явственно отмежевывается от позитивизма,
как от концепции Клода Бернара, так и от так называемого чистого
эмпиризма, характерного, по его мнению, главным образом для
английской мысли (Милль)***. Для русского мыслителя позитивизм, будучи
явлением «чисто французским »****, ограничивается, собственно, лишь
«школой Конта» ***** и в качестве такового всегда трактуется им
недоброжелательно. Шкуринов, по-моему, не имеет никаких оснований
называть Страхова «ортодоксальным сторонником Конта».
А что свидетельствует в пользу позиции, рассматривающей
мировоззрение Страхова в духе позитивизма? По образованию Страхов был
естественником, ценил точные науки, был к тому же одним из немногих
* Страхов Н. Борьба с Западом... Т. 1. С. 241.
** Страхов Н. Философские очерки... С. X-XI.
*** Там же. С. 148-150, 378-379.
*** Страхов Н. Борьба с Западом... Т. 3. С. 97.
*** Страхов Н. Философские очерки... С. 378.
682
A. de ЛАЗАРИ
методологов науки в русской мысли. Его заслуги в этой области ныне
явно недооцениваются, а ведь неслучайно во второй половине XIX в.
неоднократно переиздавались его работы: «О методе естественных
наук и значении их в общем образовании», «Об основных понятиях
психологии и физиологии», «Мир как целое. Черты из науки о
природе». Как я уже писал, Страхов много переводил, был прекрасным
популяризатором и критиком западноевропейской мысли.
Однако это лишь внешние проявления интереса к
западноевропейской философии. Попытаемся углубиться в мировоззрение Страхова
и извлечь все «за» и «против» определения его как позитивиста.
Лешек Колаковский различает четыре самых важных принципа,
которых, по доктрине позитивистов, надлежит придерживаться*.
Это — принцип феноменализма, номинализма, принцип, отрицающий
познавательные возможности оценочных суждений и нормативных
высказываний, а также вера в единство метода знания.
Феноменализм основан на отсутствии различия между «сущностью»
и «явлением». Он отбрасывает, считая их безосновательными, все
бытия, выходящие за пределы опыта, например «материю» и «дух».
Страхов, соглашаясь с позитивистами в том, что «материализм есть
самая легкая метафизика», отбрасывал одновременно эмпиризм как
«самую легкую теорию познания»**. Его идеал — априорное познание,
субъектом коего является человек с душой и телом. Дуализм Страхова
вел к формулировкам типа «жизнь души есть для нас непосредственней-
шая действительность» ***, что с принципом феноменализма находилось
в явном противоречии.
Дуализм Страхова не согласуется и с принципом номинализма,
не допускающего, чтобы какое-либо знание, сформулированное в
общих терминах, имело в действительности иные эквиваленты, нежели
единичные конкретные предметы. Страхов весьма часто вводил в свои
размышления бытие, которые позитивисты трактовали как
метафизические иллюзии. Для него было характерно говорить о «Жизни»
как о некоем абсолюте, познание которого эмпирически невозможно****.
Страховская «живая жизнь»*****, бытие, столь часто встречающееся
и в творчестве Аполлона Григорьева и Федора Достоевского, для
позитивиста не имеет какого-либо реального обоснования (зато является
интересным предвосхищением более поздних «философий жизни»).
* См.: Koiakowski L. Filozofia pozytywistyczna... S. 11-18.
** Страхов H. Философские очерки... С. VIII-X.
*** См.: Страхов Н. Об основных понятиях... С. 74-87.
**** Страхов Н. Из истории... С. 99-100.
***** Страхов Н. Борьба... Т. 2. С. 170.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
683
По мнению Страхова, наука не охватывает самого важного для нас —
жизни. За пределами науки оказывается принципиально важная
сторона нашего бытия — наша судьба, то, что человек называет Богом,
совестью, счастьем и достоинством. Видение этого в действительности,
отражение этого в произведениях великих мыслителей и художников
и даже в произведениях заурядных писателей может иметь больший
общедоступный смысл, нежели самый лучший курс физики и химии*.
В понимании знания Страхов не стоял на позициях феноменализма
или номинализма, он не придерживался и принципа, отрицающего
познавательное значение оценивающих суждений и нормативных
высказываний. Это связано с его религиозными взглядами. Например,
истина, добро, свобода были для него понятиями, превышающими
обыкновенные формы познания, требующими особого рода мышления,
и в то же время изначально присущими в нас и составляющими главное
содержание нашей духовной жизни**. Такой подход, не находящий
подтверждения в опыте, разумеется, противоречил позитивистской
философии. Да и псевдонаучный национализм Страхова,
утверждающий ценности «русской почвы», не имеет никакого обоснования
в позитивистской доктрине.
Из фундаментальных идей позитивизма, перечисленных Лешеком
Колаковским, к Страхову можно отнести лишь веру в принципиальное
единство метода знания. Однако у русского мыслителя основа такого
единства — не эмпиризм, а априорность, рациональное познание в духе
правого гегельянства. Поэтому и здесь трудно говорить о позитивизме***.
Таким образом, если исходить из определения Лешека Колаков-
ского, Страхов не мог быть позитивистом — слишком много
метафизических элементов в его мировоззрении.
Упомянутая выше защита гегелевского рационализма ни в
малейшей степени не мешала Страхову верить в личностного Бога и резко
критиковать материализм и эмпиризм. Именно с рационалистических
позиций он выступает в полемике 60-х годов против вульгарного
материализма, против взглядов Молешотта, Фогта и Бюхнера, а также
против антропологического материализма Фейербаха, Чернышевского
и Лаврова. Фейербаховскому материализму Страхов противопоставлял
свой антропоцентризм. Мир есть целое, утверждал он, однако это целое
одухотворено и в этой одухотворенности нет ничего случайного. Все
органично связано и создает иерархическую структуру, центром которой
* Страхов Н. О вечных истинах. СПб., 1887. С. 54-55.
г* Страхов Н. Об основных понятиях... С. 84.
:* Страхов Н. О методе естественных наук... С. V-VI; Переписка... С. 357-358.
684
A. de ЛАЗАРИ
является человек: «Человек есть вершина истории, узел бытия. В нем
заключается величайшая загадка и величайшее чудо мироздания.
Он занимает центральное место по всем направлениям связей,
соединяющих мир в одно целое; он есть главная сущность и главное явление
и главный орган мира» *.
Человека, однако, не удовлетворяет этот факт, и он то и дело
пытается порвать нити, связывающие его с органическим единством творения.
Он ищет центр в ином месте, в иных мирах, ищет решений в познании
нерациональном, в чем-то далеком, а не в самом себе.
Выступая против материализма, Страхов вместе с тем отрицает
концепцию спиритистов: «Самые глупые — спиритисты, уже
переделали мир по-своему и наслаждаются беседою с жителями планет» **.
Для человека наивысшей ценностью и выходом ко всем размышлениям
о мире должен быть он сам, и только в себе, а не вне себя, в иных мирах,
он должен искать решения тайны своего бытия.
На первый взгляд, казалось бы, Страхов в своих рассуждениях,
пусть в некоторой степени, является учеником Фейербаха, так же как
Чернышевский и Лавров. Нет ничего более ошибочного (хотя именно
здесь следует искать причину того, что Страхову приписывают левое
гегельянство). Отстаивая идею антропоцентризма, Страхов никогда
не отрицал ни существования личностного Бога, ни дуализма души
и тела. Человек был для него центром органического мира, ибо сотворен
по образу и подобию Бога, и в этом его совершенство. Естественные
науки, доказывая превосходство человека над другими
организмами, только подтверждают эту истину. Материализм никогда не будет
в состоянии уразуметь понятие Бога, ибо стремится к тому, чтобы
все представить себе, вообразить, а ведь Бог как абсолют недоступен
человеческому воображению. Понятием Бога можно овладеть только
через мышление, и потому разум играет самую существенную роль
в человеческом познании. В конце жизни, подтверждая свои более
ранние суждения, философ скажет, что материализм для него — «самая
легкая метафизика», а эмпиризм — «самая легкая теория познания»
и что «материя и опыт не позволят понять природу и наше познание»***.
Насчет национализма Страхова я уже упоминал. До конца жизни
он защищал категорию народности как основу всех исторических
и эстетических размышлений; своим авторитетом он поддерживал
панславистско-русофильские концепции Николая Данилевского и
«боролся с Западом» в русской литературе.
* Страхов Н. Мир как целое... С. VII-XII.
** Там же. С. IX-XII.
'** Страхов Н. Философские очерки... С. 37-44.
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
685
Осталось решить только проблему возможной генетической
трактовки Страховым литературного произведения. Следует признать, что как
раз здесь русский мыслитель ближе всего к позитивизму. Эта близость
возникала, однако, из близости между теорией факторов,
составляющих генетизм Тэна (раса, среда и время), и гегелевским историзмом*.
Страхов сам видел эту близость, и хотя основные принципы эстетики
Тэна критиковал, генетический подход в рассмотрении литературы
не был ему чужд**. Естественно, на него сильнее влиял Гегель, нежели
Тэн, что, однако, не меняет факта: в методологических концепциях
литературы и ее истории он во многих моментах соглашался с «духом
эпохи».
Страхов рассматривал литературное произведение прежде всего как
общественное явление, обусловливал возникновение того или иного
произведения теми же факторами, что и Тэн, только «раса» была у него
«народностью», а «среда» — «почвой». Да и его концепцию
литературных и общественных типов можно было бы сравнить с эстетикой Тэна.
Итак, мои размышления дают негативный ответ на поставленный
в заголовке вопрос. Страхова нельзя назвать позитивистом. В конце
концов, и со многими оговорками, можно говорить лишь о некоторых
элементах позитивизма, повлиявших на его мировоззрение. Ошибку
Павла Шкуринова я объясняю, с одной стороны, скромными
достижениями советской науки в исследованиях позитивизма, а с другой —
весьма слабым знанием наследия Страхова.
«Россия не воспользовалась его мыслями и не взяла его мыслей.
Для России он есть молчание. Между тем он есть первоклассный
мыслитель, и в жизни и во всех человеческих отношениях»***, — писал
о Страхове Розанов. Причину этого Розанов видел в «попорченном
образовании» россиян, в плохом обучении в школах и университетах,
в отсутствии собственных, не заимствованных идеалов, в поисках
авторитетов за пределами России, или «в кабаке Некрасова-Щедрина
и "Современника"» (т.е. среди «нигилистов»), а не у мудрецов типа
Серафима Саровского или Страхова (кстати, Розанов сравнивает
Страхова с Сократом****). Другая причина — Страхов был «вечным
педагогом». «Ах, этот старик вечно учит!.. И молодежь пробежала
мимо него» *****.
* Ср.; Mitosek Z. Teorie badarî literackich. Warszawa, 1983. S. 80-81.
** Страхов H. Борьба... Т. 3. С. 104-108.
'** Розанов В. Литературные изгнанники. Лондон, 1992. С. 211.
'** Там же. С. 211-212, 222; по мнению Розанова, труд Страхова «Мир как целое»
следует внести в программу VIII класса русской гимназии.
'** Розанов В. Литературные изгнанники... М., 2000. С. 161.
686
A. de ЛАЗАРИ
«С ужасом вижу, что русские умы движутся и управляются
громкими словами, сладкими чувствами, всякими соблазнами красивых
и восторженных чувств и форм, но что серьезно мыслить они не
способны. <...> Нет, не созреть нам в смысле истинных граждан! Идеал
наш чересчур высок, и мы будем только плакать о его недостижимости
и услаждать себя терпением и всякими нежными мечтами и
чувствами» *, — писал Страхов Розанову в 1891 г.
В другом месте Страхов утверждал, что он, как правило, пишет
«холодно и сухо» **. Он был преимущественно ученым,
популяризатором знания, даже и тогда, когда писал публицистику. В публицистике
он был слишком научен («холодный и сухой»), чтобы привлечь
внимание широких масс читателей. В науке же он не был «открывателем»,
а лишь «систематизатором» и методологом. Он не создал никакой
философской системы (в России, собственно, никто не создал системы),
а лишь переводил, объяснял и критиковал системы западных
философов. Идеальным местом работы для него была бы, пожалуй,
университетская кафедра, где он мог бы читать историю человеческой мысли —
никто, однако, ее не предложил, да и сам он, пожалуй, не стремился
ее получить. Насколько Страхов-ученый останется лишь крошечной
частью истории русской науки (кто из ученых-естественников станет
сегодня читать его труды?), настолько Страхов — интеллектуальный
собеседник Достоевского, Толстого, Соловьева и Розанова будет всегда
фигурой недюжинной, постоянно интригующей исследователей и
интерпретаторов истории идей в России.
* Там же. С. 225-228.
* Там же. С. 247.
H.B. CHETOBA
Исследования и оценки
философского творчества H.H. Страхова
Исследования и оценки творчества петербургского философа
Николая Николаевича Страхова (1828-1896) в отечественной истории
философской мысли имеют свою историю. При жизни он играл заметную
роль в развитии отечественной культуры второй половины XIX в.
При изучении страховских философских взглядов становится ясно,
что его отношение к Гегелю и разработанному им диалектическому методу
нельзя назвать однозначным. Сам себя мыслитель называл приверженцем
Гегеля. В предисловии к своей лучшей книге «Мир как целое» он
утверждает, что источником своих взглядов считает, во-первых, математические
и естественные науки, во-вторых, гегелевскую философию, именно
ее «методу», которую признает «полным выражением научного духа»*.
Русский философ понимает диалектику как анализ понятий, как
логику. Но понимает своеобразно. Основным приемом диалектического
метода, по его мнению, является триада: положение, противоположение
и примирение в синтезе. Однако Страхов тут же оговаривается, что это,
собственно говоря, «одни слова, незаконные отвлечения». С его точки
зрения, определить, что такое диалектический способ рассмотрения
категорий, то есть, согласно Страхову, подвести приемы диалектики
под какие-либо категории невозможно, так как логика Гегеля
заключает в себе всевозможные категории. Диалектический подход у него
во многом — результат «органического взгляда» на действительность
и познание. Страхов нигде не упоминает о законах диалектики;
фактически при анализе не пользуется диалектическими гегелевскими
категориями: противоположность, внутреннее противоречие,
тождество, различие, единство и борьба противоположностей, диалектиче-
* См.: Страхов H. H. Мир как целое. СПб., 1892. — 2-е изд. С. V, VI.
688
H. В. СНЕТОВА
ское отрицание и т.д. Тем не менее, судя по отдельным замечаниям,
он знаком с ними.
К тому же отношение к гегелевскому учению у Страхова менялось.
В письме к Л. Н. Толстому от 8 января 1873 г. читаем признание:
«В статье о Дарвине и о Парижской Коммуне я уже отрекся от Гегеля,
уже отрицаю тот непременный, строго-законный прогресс, который
он находил в умственном движении человечества, отрицаю и то, что
ум руководит историею, что она есть развитие идеи»*. Тем не менее
во многих работах, посвященных философу, авторы не критично
следуют страховской самооценке, характеризуя его как гегельянца.
Если о влиянии немецкого мыслителя на его философское творчество
можно говорить, то причислить к представителям левого
гегельянства невозможно. Страхов, например, дал сокрушительную критику
Фейербаху-левогегельянцу**.
Творчество петербургского мыслителя проходило в сложную
переходную эпоху, для которой было характерно обострение социальных
противоречий, появление новых идейных направлений, политических
объединений и движений. Он принимал активное участие, как
отмечалось в выше приведенной характеристике, в острой полемике между
славянофилами и западниками, твердо занимая славянофильскую
позицию. В 60-70 годах им велась полемика с Писаревым, Лавровым,
Антоновичем, Чернышевским, в 80-90-х он выступал против
спиритизма, полемизировал с дарвинистами, с В. Соловьевым, с
противниками Л. Толстого. Понятно, что в публицистике того времени
оценки его взглядов были часто противоположными, что определялось
взглядами дававших оценку. Философ посчитал необходимым «прямо
признать себя славянофилом, когда признаешь существенные начала
этого учения» ***. Однако следует иметь в виду, что он в данном случае
широко трактовал славянофильство — как убеждение в самобытности
России и необходимости развивать ее самобытные начала. Он считал,
что славянофильство не выдуманная и оторванная от жизни теория,
а «естественное явление, с положительной стороны — как
консерватизм, то есть приверженность к давнишним началам русской жизни,
с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить
умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом»****. Вероятно,
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1-2. Оттава, 2003.
С. 93.
** См.: Снетова Н. В. Николай Страхов: западная и русская философия в
интерпретации органициста. Пермь, 2013. С. 58-101.
*** Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском //
Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. СПб., 1883. Т. 1. С. 205.
**** Там же. С. 204.
Исследования и оценки философского творчества H. H. Страхова 689
правильнее было бы назвать и Страхова, и других представителей
почвенничества — Достоевского, и Григорьева — неославянофилами,
как это и принято в отечественной историко-философской литературе.
В леворадикальной среде он оценивался как реакционер,
консерватор. По своим социально-политическим воззрениям Страхов может
быть назван умеренным консерватором. Михаил Протопопов в статье,
посвященной критическому анализу книги «Борьба с Западом»,
охарактеризовал страховскую философию как кладбищенскую по своему
духу. В книге Страхов выразил свое отрицательное отношение к идее
социального прогресса. Вера в прогресс называется им верой
религиозной. Протопопов отвечает, что вся история есть история сплошной
борьбы, которая совершенно невозможна «без веры в те или другие
благотворные результаты ее, т.е. в прогресс». «Признать законность
и целесообразность борьбы г. Страхов, как чистокровный Филарет,
решительно не в состоянии»*. Без борьбы невозможно добиться
каких-либо изменений в жизни к лучшему. Будучи человеком
честным, согласно Протопопову, философ играет на руку обскурантам.
Философские взгляды Страхова подвергались критике при его жизни
не только со стороны противоположного идейного лагеря, но и со
стороны, например, В. С. Соловьева, ведшего полемику со Страховым
по поводу книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
. После смерти философа о его творчестве появились как сугубо
положительные, так и отрицательные отзывы, что является свидетельством того,
что страховское философское наследие представляет трудность для
объективного исследования и таких же объективных оценок. Так, в
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона Страхову были посвящены две
статьи, одна — как литературному критику. Ее автором был С. Венгеров.
Другая статья характеризует его как философа. Она написана товарищем
Страхова, коллегой по работе — Э. Радловым. В статье Венгерова
фактически дается негативная оценка страховской литературно-критической
деятельности: «В общем значительная часть критических статей Страхова
производит впечатление листков из записной книжки или программы
будущих статей» **. С нашей точки зрения, оценку Венгерова
опровергло время. Венгеров утверждает также, что ряд поклонников
философа — Говоруха-Отрок (Юрий Николаев), В. В. Розанов, Ф.Э. Шперк,
Б. В. Никольский и др. — стараются создать Страхову репутацию одного
из крупнейших русских мыслителей. Согласно Венгерову, получается,
что фигура H. H. Страхова совершенно «дутая».
* Протопопов М. Кладбищенская философия // Дело. 1882. N° 6. С. 6.
* Венгеров С. Страхов // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб.,
1900. Т. 62. С. 784.
690
HB. СНЕГОВ А
Товарищ, коллега по работе Э. Радлов в этом же энциклопедическом
словаре дает менее жесткую, но не слишком высокую оценку Страхову
как философу. «В Страхове, — предполагал он, — по-видимому,
соединились все данные для того, чтобы написать крупное философское
произведение: обширное и разностороннее образование, критическое
дарование, вдумчивость и методическое мышление, которое он
чрезвычайно высоко ценил; ему не хватало лишь истинного творчества,
благодаря которому создается новое. Поэтому именно с точки зрения
философии, к которой Страхов чувствовал всегда склонность, труднее
всего характеризовать его: слишком разнообразны влияния,
отразившиеся на мышлении Страхова и вызывавшие в нем сочувствие» *.
В статье Радлов четко формулирует основные принципы, которые
отстаивались Страховым. Специалисту, по мнению Радлова,
незачем обращаться к его философскому наследию с целью поучения.
Оно имеет лишь педагогическое значение: «для введения в круг
философских понятий, для обучения правильному методическому
мышлению, анализу понятий, книги Страхова могут оказать весьма
существенную помощь». На наш взгляд, во-первых, и это уже не мало,
во-вторых, значимость именно его философского творчества Радловым
явно недооценена.
Резкое несогласие с такой оценкой выразил В. В. Розанов, которого
Страхов ввел в отечественную литературу. В книге «Литературные
изгнанники», почти полностью посвященной мыслителю, дается очень
высокая оценка философу. Он, с точки зрения Розанова, является
недооцененным мыслителем, «литературным изгнанником». Николай
Грот также высоко оценивал страховское философское наследие.
В статье, посвященной памяти умершего философа, утверждалось:
«несомненно, что философские произведения Страхова останутся одним
из самых прочных и прекрасных памятников русского философского
писательства в XIX веке» **. По мнению Грота, заслуга Страхова в том,
что он одним из первых особенно энергично призывал русских людей
мыслить самостоятельно, но при этом не был узким славянофилом.
Б. В. Никольский в биографическом очерке, посвященном Страхову,
называет философа человеком, «вполне равным своему веку
просвещением и далеко превосходящим его шириной и глубиною взгляда»***.
Радлов Э. Л. Страхов // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 62.
С. 785.
Грот Н. Памяти Страхова // Вопросы философии и психологии. 1896. Март-
апрель. Кн. 2. С. 308.
Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк.
СПб., 1896. С. 56.
Исследования и оценки философского творчества H. H. Страхова 691
Но и Николай Грот, и Борис Никольский, Александр и Алексей
Введенские в своих статьях, посвященных памяти ушедшего
философа, отмечали, что Страховым не было создано философской системы,
что он был в основном критиком, но не творцом. Как справедливо
отмечал В. В. Зеньковский, русская мысль во время, когда проходила
его творческая деятельность, была на «пороге» систем. Можно целиком
согласиться с замечанием известного историка отечественной
философии, который писал: «если Чернышевский и Лавров, Михайловский
и Страхов не создали настоящей системы, то причину этого надо видеть
не в недостатке дарования, а в том, что философское дарование
"распылялось", уходило в конкретную жизнь и злобу дня. Сколько
философского раздумья и подлинного философского творчества уходило,
например, в публицистику» *.
Затем на несколько десятилетий в нашей стране мыслитель
оказался забыт. За рубежом вышло две публикации, представляющие
интерес для изучающих философское наследие Страхова. В книге
Д. И. Чижевского «Гегель в России» (Париж, 1939) обращалось
внимание, в частности, на влияние философа на Ф. М. Достоевского.
Он высказал мысль, что раньше других в России развивал идею
вечного возвращения Страхов, а Ф. Достоевский ее от него перенял**.
Известный автор выражал удивление, что русская интеллигенция так
мало интересовалась Страховым. Он писал о намерении написать книгу
о Страхове. Намерение так и не было реализовано. Страхову посвятил
отдельную статью историк русской философии С. Левицкий. Страхов
не был гением, согласен со всеми предыдущими авторами Левитский,
«но он был "учитель" в лучшем смысле этого слова». На наш взгляд,
к его оценке отечественного мыслителя стоит прислушаться, ибо
он определил место Страхова в истории нашей философской мысли.
По его мнению, «Страхов явился одним из деятелей конца прошлого
века, которые подготовили и расчистили почву для расцвета русской
религиозно-философской мысли в начале двадцатого века» ***. Успеху
Страхова, можно в данном случае присоединиться к Левитскому,
мешало то, что он был чересчур сложен для одних и казался чересчур
прост для других.
Советские историки философии, если и уделяли внимание
Страхову, то ориентировались, прежде всего, на оценки идейных против-
* Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Л., 1991. Т. П. Часть 1. С. 7.
r* Chizheusky D. I. Literaturische Lesefrüchte (IV). Dostoevskiy und Strachov //
Zeitschrift für Slawische Philologie. Leipzig, 1936. Bd. XIII. S. 70.
r* Левицкий С. H. H. Страхов: (Очерк его философского пути) // Новый журнал.
Нью-Йорк, 1958. № 54. С. 184.
692
H. В. СНЕТОВА
ников мыслителя, которые давались в леворадикальной публицистике
XIX в. В. Я. Кирпотин, исследователь творчества Ф. М. Достоевского,
зачислял Страхова в то направление, которое стояло в оппозиции
к разуму. (Имеется в виду, вероятно, религиозное мировоззрение.)
При этом литературовед писал: «Страхов переводит Куно Фишера
и в известной мере становится одним из проводников
неокантианства, сочетавшегося у него с интуитивизмом Шеллинга»*. Оценка,
на наш взгляд, неадекватная, вероятно, простительная для
человека, не имевшего профессионального отношения к философии
и не занимавшегося изучением страховского наследия. Как это часто
бывает, к сожалению, при интерпретации философских воззрений
мыслителя оценки даются без обоснования, серьезной
аргументации, предполагающей опору на источники. В учебниках по истории
русской философии (далеко не во всех) ему в лучшем случае
отводилось две-три странички, в которых оценки давались на основе
анализа его предисловия к книге «Мир как целое» и основной идеи
работы «Об основных понятиях психологии и физиологии». Вместе
с тем в советской критической литературе можно отметить в целом
объективную оценку философского творчества мыслителя в
интересной работе литературоведа A.C. Долинина «Ф.М. Достоевский
и H. H. Страхов» **.
Если до начала 90-х годов прошлого века можно было говорить
о Страхове как фактически о забытом философе, то начиная с 90-х
появлялось все большее число работ, в которых упоминается его имя.
Однако эти статьи часто юбилейного характера, или взгляды Страхова
рассматриваются в связи с проблемой, которая является предметом
анализа автора. Следует отметить, что интерес к мыслителю в
настоящее время связан в основном с его разработкой проблемы самобытности
России, русской идеи. В настоящем он известен читающей публике,
историкам и философам как почвенник, славянофил, представитель
русского консерватизма. Об идеологизации его творчества
свидетельствует то, что Лигой консервативной журналистики вручается премия
имени Николая Страхова. В публицистике мыслитель представляется
как сугубо религиозный защитник устоев православия. На наш взгляд,
наиболее оригинальные, глубокие идеи были представлены им в
философских работах. Но именно его философское наследие оказалось
недостаточно изученным. Среди исследований по философии можно
отметить работы Н. П. Ильина и Е. А. Антонова.
* Кирпотин В. Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966. С. 428.
* См.: Долинин А. С. Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов // Шестидесятые годы. М.;
Л., 1940.
Исследования и оценки философского творчества Н. И. Страхова 693
Историки философии отмечают, что исследование творчества
мыслителя как целого представляет определенную сложность.
Сложность и существующие ошибки в его анализе вызваны рядом
причин. Одна из них в том, что фактически одновременно с
трудами петербургского философа, Страхова, о котором в данном случае
идет речь, выходили труды полного тезки, младшего
современника — Николая Николаевича Страхова (1852-1928), преподавателя
Харьковской духовной семинарии. Несмотря на то, что в словаре
Брокгауза и Эфрона дается библиография «младшего» Страхова,
исследователи (при поверхностном знакомстве с творчеством
петербургского философа) часто приписывают его труды по
философии «старшему» Страхову. Так, в библиографию работ последнего
очень часто включают работу его младшего современника «Учение
о Боге по началам разума». В частности, это произошло в
библиографии к статье «Страхов» в словаре «Русская философия», в
словаре «Философы России XIX-XX столетий» (М., 1999). В словаре
«Русские философы», автором которого является СВ. Корнилов,
Страхову в библиографию попала работа «Опыт систематического
изложения начальных оснований философии»*. В недавней статье
(в связи с очередным юбилеем мыслителя) в перечне его основных
работ фигурируют три статьи однофамильца: «Философское учение
о познании и достоверности познаваемого», «Опыт
систематического изложения начальных оснований философии» и «Учение о Боге
по началам разума»**. (Попутно отметим, что, к сожалению, в данной
публикации в перечне трудов Страхова сделана еще ошибка: ему
приписаны 1-3 тома «Славянского сборника», хотя Страховым написано
только предисловие к первому тому данного издания.)
Вероятно, при жизни философа происходила такая же путаница
произведений двух Страховых, что вынудило его, человека известного
среди образованной публики, специально написать статью «О
задачах истории философии. "Очерк истории философии" Н. Страхова»
(Харьков, 1893); «"Чтение о Боге по началам разума" Н. Страхова»
(М., 1893) по поводу работ своего тезки***. В каталогах всех библиотек
работы обоих Страховых обычно не вычленяются, что вводит
читателей и писателей в заблуждение. На ошибки в оценках философии
* Корнилов С. В. Русские философы. Словарь. СПб., 2001. С. 327.
г* Маслобоева О.Д. H.H. Страхов и отечественная философия науки // Вопросы
философии. 2009. № 5. С. 107.
г* Страхов H. H. О задачах истории философии. «"Очерк истории философии"
Н. Страхова» (Харьков, 1893); «"Чтениео Боге по началам разума" Н. Страхова».
М., 1893 // Вопросы философии и психологии. 1894. Книга 1.
694
H. В. СНЕТОВА
петербургского философа, являвшихся следствием смешения работ
однофамильцев обращалось внимание в публикациях Н. В. Снетовой*.
У Страхова, которому посвящена данная работа, в отличие от
«младшего» однофамильца, более сложные отношения с религией. Вспомним
оценку Э. Радлова, который хорошо знал своего сослуживца. Радлов
писал: «Не всегда легко установить основные понятия в миросозерцании
H. H. Страхова, и это потому, что о религиозных своих убеждениях,
занимающих весьма видное место в его мышлении, он не говорил или говорил
лишь попутно, ad hoc» **. Солидарен с ним В. В. Розанов, писавший, что
Страхов скорее подводит к религии, нежели ее проповедует, обосновывает.
Мыслителя, на наш взгляд, нельзя однозначно назвать религиозным
философом, хотя он, безусловно, религиозный человек по семейному
воспитанию и начальному образованию. Можно согласиться с самим
Страховым, который характеризовал свои взгляды в онтологии как
пантеизм. В письме к Л. Н. Толстому от 8 января 1873 г. он с
сожалением констатировал: «До сих пор, однако же, я приписываю пантеизму
величайшую важность, как прямо противохристианскому движению,
которым воодушевлено все умственное [движение] развитие Запада,
которое составляет душу немецкой литературы, которое дало немцам
силу, недавно ими обнаруженную, и произведет еще огромные
последствия. Корень пантеизма глубок неизмеримо. Нам неизвестна другая
наука, кроме науки пантеистической. Все привычки нашего ума
сложились в этом направлении, и я не вижу выхода, — тут моя беда» ***.
Отметим еще одну проблему, с которой сталкиваются
исследователи,— стиль мыслителя. Этот «уклончивый стиль» Страхова, его
манеру «сначала как будто вполне сочувственно изложить критикуемую
систему с тем, чтобы потом ее тем вернее разбить», отмечал С. Венгеров
в статье в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона. Причем
тонкий переход от сочувственного изложения к собственному
противоположному подходу (при уклончивости в изложении своей точки зрения)
оказывается часто почти незаметным, что может привести читающего
к ошибочным выводам относительно взглядов русского мыслителя.
О сложности историко-философского анализа творчества русского
мыслителя свидетельствует существующее среди специалистов в об-
* Снетова Н. В. H. H. Страхов как предтеча философии серебряного века // XXI век:
будущее России в философском измерении. Материалы второго Российского
философского конгресса (7-11 июня 1999 г.): в 4 т. Екатеринбург, 1999. Т. 4, часть 1.
С. 183-184; Ошибки в исследовании творчества H. H. Страхова // Рационализм
и культура на пороге третьего тысячелетия. Ростов-на-Дону, 2002. Т. 2. С. 110-111.
г* Радлов Э. Л. Несколько замечаний о философии H. H. Страхова. СПб., 1900. С. 6.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1-2. Оттава, 2003.
С. 93.
Исследования и оценки философского творчества H. H. Страхова 695
ласти истории русской философии мнение, что Страхова как философа
вообще нельзя отнести к какому-либо направлению. Так, например,
в словаре «Русская философия» утверждается, что «Страхова нельзя
безоговорочно зачислить ни в какой философский или
мировоззренческий лагерь» *. Подобная точка зрения высказывается А. Н. Арининым
и В.М. Михеевым в книге «Прошлое. Настоящее. Будущее. (Историко-
философская мысль России XIX-XX вв.). По их мнению, «нельзя
категорически относить Страхова к какой-либо школе (например,
славянофилов) или направлению общественно-политической мысли
(почвенничество), хотя родственного с ними у философа достаточно.
Однако, на наш взгляд, проблематика Страхова гораздо шире, глубже
и разнообразнее» **. Думается, с такой оценкой можно согласиться.
Но, как справедливо замечает Е. А. Антонов, «вопрос продолжает
оставаться и сегодня на повестке дня, поскольку от его решения зависит
соответствующая оценка философии H. H. Страхова» ***.
По нашему мнению, несмотря на разнообразие проблематики,
отрывочность в изложении идей, некоторую эволюцию взглядов и оценок,
в его философии можно заметить целостность. Состоит она в
предлагаемом Н. Страховым органическом понимании всех явлений,
существующих в мире. В 1860 году свое мировоззренческое,
методологическое кредо Страхов высказал в небольшой статье «Органические
категории». Таким образом, его философское творчество вполне
вписывается в то сквозное направление в русской философии, на которое
первым обратил внимание A.A. Галактионов, верно констатируя:
«...органическая теория в России имеет длинную историю, захватив
весь XIX в. — от Д. Велланского до В. Вернадского в философии и науке,
от Н. Надеждина до М. Ковалевского в истории, социологии, эстетике.
Варианты этой теории многообразны, порой неожиданны» ****. Это
органическое понимание, «идея организма» проводится мыслителем
фактически во всех разделах философского знания, к которым он обращается.
* Русская философия. Словарь / Под общ. ред. М. А. Маслина. М., 1999. С. 489.
:* Аринин А. Н., Михеев В. Н. Прошлое. Настоящее. Будущее.
(Историко-философская мысль России XIX-XX вв.). М., 1995. С. 19.
* Антонов Е.А. H. H. Страхов и русская философия XXI столетия» // Творческое
наследие H. H. Страхова и современная социально-гуманитарная мысль. Материалы
всероссийской научной конференции. Белгород, 2003. С. 5.
г* Галактионов А. А. «Органицизм» и социализм М.В. Буташевича-Петрашевского //
Социальная революция: вопросы теории. Л., 1989. С. 110.
С.М.КЛИМОВА
На пороге диалогики культуры
(на примере философских исканий H. H. Страхова)
Как известно, Россия и Европа в 1910-х — начале 20-х гг. пережила
интеллектуальное состояние, названное «десятилетним столетием»
(Е. Замятин), возникновения гуманитарного мышления. Ярким
проявлением этого процесса стала деятельность Невельского кружка,
основанного Михаилом Михайловичем Бахтиным и Матвеем Исаевичем
Каганом [1, с. 15, 31]. Как весьма убедительно показал В. С. Библер,
новая культурная парадигма (поэтика, в его терминологии), как
сопряжение (и вместе с тем преодоление этого сопряжения)
эстетики, этики и логики, позволяет открыть мир другого как целостный
и независимый от познающего субъекта. Единственно возможным
способом такого поэтического осознания является выстраивание
диалогического (синоним творческого) пространства между личностями,
культурами, эпохами. И в этом, по словам Библера, проявляется
«феномен мышления "гуманитарно-филологического", — как знамения
нового разума (общения разумов), возникающего в XX в.» [1, с. 23].
Новая гуманитарная парадигма обозначила момент всеобщего
сдвига мышления от полюса «науки» (гносеологии) к полюсу культуры
(культурологии).
С нашей точки зрения, истоки данного процесса следует искать
в предшествующей этому десятилетию «классической» эпохе XIX в.,
заложившей основы диалогического мышления/культуры века
грядущего; в то же время многие аспекты гуманитарно-филологического
сознания оказались хорошо опознаваемы уже в переходный к началу
XX в. период интеллектуальной истории Европы и России. Начиная
со второй половины XIX в. русская культура оказалась в переходном
состоянии от классических стилей и направлений, развивавшихся
главным образом в искусстве, к новационным процессам не только
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 69 7
в художественной, но и научной, и политической жизни. О
переходности этих процессов можно рассуждать, рассматривая общие
тенденции трансформаций подобного рода, а можно, изучая судьбу
и творчество конкретных людей. На примере переходности в жизни
даже одной личности можно уловить предпосылку и момент
всеобщего изменения. Это обстоятельство позволяет «схватить нить судьбы»
философа H.H. Страхова, обратившись к теме переходности эпохи,
в которой он жил, и переходности того типа философствования,
который олицетворял.
Чаще всего в современной «философской памяти» H.H. Страхов
представлен как философ «второго эшелона», и его имя окружено
«ореолом» других — знаменитых имен: о нем вспоминают в связи
с Ф. Достоевским, Л. Толстым, Н. Данилевским, Ап. Григорьевым,
Вл. Соловьевым, А. Фетом, В. Розановым. Он зачастую предстает как
фоновая фигура, как философ-тень других — великих. Но в «той»
реальной жизни его роль и место определялись по-иному. Он был,
скорее всего, не тенью, но «проявителем» ряда интеллектуальных
процессов, которые способствовали рождению русской философии
Серебряного века.
Важной чертой описываемого нами состояния органической
переходности является характеристика специфического диалога, который
складывался у представителей разных философских направлений
и традиций и обнажал специфику переходности как мышления
различными способами «одновременно». Огромное любопытство
вызывает не столько разглядывание людей, живших в одно время, но как
будто в разные эпохи, сколько попытка проникнуть в природу того
уникального диалога, который состоялся между ними и по-своему
прояснял специфику философского (диалогического) мышления
начала XX в. в целом. В частности, эти диалоги обрели уникальное
звучание в жизни Николая Николаевича Страхова, представлявшего
классический/традиционный тип философа в череде разнообразных
философствующих личностей и типажей того времени. Традиционно
мыслящий философ в России обречен на забвение, и для нашего героя
оно было бы предрешено, если бы он не оказался в экзистенциальной
«близости» к уникальным мыслителям, создававшим собственные,
ни с чем не соотносимые (или соотносимые с чем угодно)
художественно-философские тексты и мифо-поэтические философские системы.
Можно выделить диалоги Страхова с «ближним кругом»: Ап.
Майковым, Данилевским, Толстым и Достоевским, то есть с людьми,
связанными одной культурой и судьбой; с другой стороны, совершенно
нетривиально на этом фоне выглядят его диалоги с молодыми
философами «новой формации»: Соловьевым, Леонтьевым, Розановым,
698
С. М. КЛИМОВА
Фетом и др., с теми, кому было суждено представлять русскую
философию в духовном пространстве Европы, закладывать основы новой
гуманитарной парадигмы XX в.
Эти диалоги рассмотрены нами как метаоснование в осмыслении
специфики глобального перехода от монологически-авторитарного
нововременного философского рационализма к диалогическому
полифонизму эпохи Серебряного века и «десятилетнего столетия». Страхов
оказался в эпицентре многих переходных процессов: от литературно-
критического (классического) к религиозно-философскому
(модернистскому) сознанию, от консервативного к радикально-политическому
реконструированию реальности. Он, подобно аристотелевской точке
на линии (здесь также уместен и образ песочных часов истории, в точке
пересечения которых как бы расположена его фигура), замыкал собой
одно культурно-мыслительное пространство и синхронно открывал
другое. Особенность судьбы философа в том, что он олицетворял собой
ситуацию перехода, но не испытал события перехода, своей
индивидуальной жизнью не был вовлечен в «постравновесное пространство»
истории [2, с. 171].
В судьбе Страхова не менее важно понять отражение и другого
аспекта переходности: эпохального слома классического
рационалистического (логоцентристского) мышления и начало рождения новой
культурной парадигмы, для которой состояние переходности станет
перманентным принципом существования культуры на протяжении
всего XX в. «Изживание логоцентристской культурной парадигмы»,
когда «последовательно имманентизируемый европейским
антропоцентризмом Бог в конце концов преобразовался в Культуру» [3, с. 13],
станет, пожалуй, самым глобальным и фундаментальным
основанием этого состояния и в России в период Серебряного века получит
ярчайшую реализацию. Хотя его начало связано с именами великих
ниспровергателей рационализма — Ницше и Достоевского, идеи
подобного преобразования повсеместно носились в воздухе. Критика
европейского рационализма как следствие кризиса всей классической
(средневековой) системы религиозных ценностей стала всеобъемлющей
и в русской мысли от славянофилов и фактически до окончания эпохи
религиозно-философского ренессанса.
Не чужда она и Страхову — ярому борцу с западным «просве-
щенством» и бессмысленной логоцентричностью (просим прощения
за не соответствующий эпохе термин). «Помешались они на логике!
Не содержание им важно, а силлогистическая форма, и им и в
голову не приходит, что эта бедная форма не может вместить и сотой
доли истины!.. Холодные, бессмысленные и наконец ужасно-грубые
и логически-то построения!» [4, п. 47 от 15 марта 1873, с. 99].
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 699
Владимир Соловьев в своей знаменитой речи, посвященной памяти
Ф. М. Достоевского, указал на симметричность двух
противоположных путей развития русской истории в описываемый переходный
период: один вел к радикальной (революционной/идеологической)
перестройке реальности, другой — к Богу и Церкви. «Европейские
социалисты требуют насильственного низведения всех к одному
чисто материальному уровню сытых и самодовольных рабочих,
требуют низведения государства и общества на степень простой
экономической ассоциации. "Русский социализм", о котором говорит
Достоевский, напротив, возвышает всех до нравственного уровня
Церкви как духовного братства, хотя и с сохранением внешнего
неравенства социальных положений, требует одухотворения всего
государственного и общественного строя через воплощение в нем
истины и жизни Христовой» [5, И, 300].
Страхов прекрасно предощутил в деятельности нигилистов,
радикалов, социалистов, заполонивших все ниши русской общественной
мысли, грядущий кризис эпохи и показал, что их дело прежде всего
в разрушении «четырехсотлетнего стояния христианства» в России,
которое составляет основу общественного устройства и которое мало-
помалу начинает исчезать из новых реалий жизни. Вера, патриотизм,
нравственность — все это обречено уйти вместе с христианством,
да и оно само обречено было стать лишь историческим осколком того
фундаментального аксиологического основания, на котором строилась
история в веках. «Все новые принципы — прямое признание мирской,
земной жизни — и вот отчего так пышно ныне развилась жизнь...
Нынешняя жизнь носит противоречия внутри себя... Я давно смотрю
и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала» [4. п. 288 от 31 марта 1882.
С. 631-632]. При этом культурный консерватизм Страхова был,
пожалуй, фундаментальнее, чем у Достоевского и Толстого — духовных
лидеров эпохи. Он очень точно почувствовал, что у общества нет
других «спасителей» ценностных основ культуры от всепоглощающей
«поступи» мирского/цивилизации, кроме наличного государства
и традиционной церкви, в то время как Достоевский занимался
бесконечной апологией сложной противоречивой человеческой души,
а Толстой неистово разрушал устои государства и церкви во имя
«чистоты Христового дела».
Но при этом Страхов ни разу не «выкинул знамени», не пошел
ни по одному из «путей», описанных Соловьевым, за что и был осужден
всеми и многими не понят. Он не сделал этого не потому, что был
беспринципен, как считали, например, Достоевский или Соловьев. Просто
ни один из «предложенных» путей не оказался ему близок духовно,
хотя его причисляли и к рационалистам, и к славянофилам, и к кон-
700
С. М. КЛИМОВА
серваторам. И в этом заключался трагизм мыслителя H.H. Страхова,
который, подобно многим тогдашним философам, не имел
оригинального учения, не провозгласил своей философии. Как оказалось,
в России даже способ философствования лежит в плоскости выбора
политических обязательств мыслителя.
Страхов же был далек и от тех, кто требовал перестроить жизнь
на манер теурга (Соловьев), и от тех, кто звал к Христовым истинам
и Церкви (Достоевский). «Мне часто бывает очень грустно, когда
подумаю, в каком фальшивом положении я стою. Когда я говорю против
Дарвина, то думают, что я стою за катехизис; когда против нигилизма,
то считают меня защитником государства и существующего в нем
порядка; если говорю против вредного влияния Европы, то думают, что
я сторонник цензуры и всякого обскурантизма и т.д. О, Боже мой, как
это тяжело! И что же делать? Иногда приходит на мысль, что лучше
молчать... Все серьезные люди терпят ту же беду и часто принуждены
молчать. Таково положение России, что между революционерством
и ретроградством нет прохода; эти два течения все душат. Поэтому
то, что Вы (Толстой. — С. К.) сделали, Ваше заявление самобытной
религиозной мысли — я считаю великим делом...» [4, п. 375 от 21 мая
1890. С. 819].
Трагизм Страхова и в том, что, разделяя пафос критического
отношения к западному рационализму, он, будучи олицетворением человека
переходной эпохи, теоретически непротиворечиво совмещал в своем
мировоззрении противоположные и несовместимые гегельянско-ра-
ционалистические, шеллингианско-органические, пантеистические,
почвеннические и консервативные и пр. идеи, не создав никакой
самобытной философской системы. При этом, в отличие от многих своих
знаменитых соратников и оппонентов, он практически всегда оставался
верен почве классического философствования. Критикуя европейский
рационализм, он оставался рационалистом западного толка и не
предполагал ни его слома, ни тем более гибели.
Более того, обсуждая с Толстым в начале 1873 г. свою книгу «Мир
как целое», он в принципе так и не увидел никакой другой
философской альтернативы гегелевскому/немецкому «пантеизму»,
приверженцем которого оставался до конца жизни. <...> «Борясь с Западом»,
он по большому счету оказался пропагандистом его идей, после этой
«борьбы» ставших еще более привлекательными для молодых
интеллектуалов. Преодоление кризиса он рассматривал как усовершенствование
логики европейской философской мысли, а не ее ниспровержение.
Он видел в рационализме ядро классического философского
мышления, а в Абсолюте — трансцендентный надмирный центр европейской
метафизики, в то время как философы поколения 80-90-х уже весьма
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 701
успешно начали «трансформировать Бога в культуру». Они «алгебру
поверяли музыкой»; соединяли вербальные и невербальные средства
для изложения мысли и строгое рациональное мышление обосновывали
религиозными, художественными, поэтическими, мифологическими,
агиографическими, мистическими и даже невербально-образными или
фотографическими «аргументами» [6, с. 94].
Диалоги Страхова с молодыми философами устанавливались с
большим трудом. Он — на правах старшего и «по-немецки образованного»
учителя — выдвигал категорическое требование изучать классиков
немецкой мысли, которое настоятельно предъявлял молодым
«классически необразованным» мыслителям, например, в известной переписке
с В. В. Розановым [7]. Если Розанов был его любимым молодым другом
и в какой-то мере действительно учеником (в мере дружеских связей
и всяческой поддержки, которую оказывал ему Страхов), то гораздо
жестче и «бессердечнее» он высказывался об опыте философствования
Вл. Соловьева, Н. Грота, Д. Цертелева и других молодых
«проповедников всяческих ересей» «недоучившихся гимназистов», «юных
выскочек». Вот что он писал по этому поводу Л. Толстому: «Соображая
теперь все его (Вл. Соловьева. — С. К.) лекции, я вижу, что он хотел
произвести синтез Востока и Запада у слить в одну систему атомизм,
дарвинизм, пантеизм, христианство и т.д. <...> Выходит пантеизм,
совершенно похожий на гегелевский, только с вторым пришествием
впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм внесли тут свою долю.
Но все это разлетелось как дым, и ни одной мысли не осталось у меня
от всех лекций. Был я и на лекции кн. Д. Н. Цертелева, очень милого
юноши, приятеля Соловьева. Этот мне показался просто недоучившимся
гимназистом, который не умеет еще и правильно строить фразы. Он
читал очень самоуверенно и приятно; очень быстро переходил от одного
предмета к другому, ничего не заканчивая, пил воду, как Соловьев,
и точно так же кончил несколькими стихами, встал и поклонился. Мне
было немало совестно (курсив мой. — С. üf.)» [4, п. 187 от 9 апреля
1878. С. 426-427]. Хотелось бы привести аналогичную ироническую
фразу, высказанную Толстым, но уже по поводу увлеченности самого
Страхова Гегелем: «Менее всего понимаю, как с вашей ясностью может
уживаться этот сумбур» [4, п. 44 от 12 ноября, 17 декабря 1872 г. С. 88].
Симптоматичен сам факт попадания в одну «сумбурную» корзину таких
разных мыслителей одной переходной эпохи.
Чувство стыда у испытываемое Страховым-«мэтром» от посещения
лекций «молодых», обнажает и его самолюбие, и научный педантизм,
и в то же время противоположность культур уже явно разных поколений
философов, живущих в одном историческом времени. При кажущейся
правомерности его сетований и иронии по поводу забвения классических
702
С. М. КЛИМОВА
образцов философствования, интуитивно уловив нарождение новых
проблем философствования, способов анализа и аргументации, Страхов,
однако, не заметил начавшейся в это время принципиальной смены
философских установок с классических на неклассические. И дело вовсе
не в том, что строгость и методичность рационалистической философии
сменились эклектикой и дискурсивной «болтовней-белебердяевщиной»
будущих модернистов. Изменилась эпоха, и Страхов, уже создавший
к тому моменту учение о целостности, не заметил в «многоязычии»
чужих текстов новационного процесса, связанного со специфической
закономерностью состояния органической переходности,
возникшего в 70-80-е годы XIX столетия не только в Европе, но и в России.
Способность «молодых» мыслить «всеми способами сразу»
воспринималась им как эклектичная, разрушительно-безответственная и
бестолковая, а главное — «малограмотная», то есть не научная. Как точно
заметил С. Вайман, по сути, лишь «в ситуации именно органической
переходности гений захватывает предельную полноту «всей массы»
мировых литературных (философских. — CK.) накоплений и
синтезирует все потенциальные ее ресурсы в универсальный протеический
способ художественной самореализации» [2, с. 173]. Такими гениями
оказались Толстой, Соловьев, Розанов, многие «титаны Серебряного
века», те, чья эпоха, однако, еще не была угадана даже такими
выдающимися интеллектуалами, как Страхов.
Всю жизнь он опирался на немецкую фундаментальность
философских идей, тождественных константности философского сознания,
открывавшего «вечные истины». А жить ему пришлось среди тех, кто
презрел всякий академизм, авторитеты и искал опору лишь в
собственной мыслительной самобытности, которую Страхов (и ему подобные)
принимал за дилетантизм, хлестаковщину, творческую отсебятину
«самых фантастических людей на земле». «Это самые фантастичные
люди в мире, люди, принимающие самую свою жизнь, то есть свои
чувства и мысли за призрак, за игру. Поэтому они так охотно
сочиняют. <...> Только теперь я вполне понял... его (Соловьева. — С. К.)
высокопарность, туманность, софистичность, его твердое убеждение,
что сравнение есть доказательство, а симметрия признак
безусловной истины... С такими людьми (о Фете и Вл. Соловьеве. — С. К.)
можно ли вести серьезный обмен мнениями?» [4, п. 339 от 25
апреля 1887. С. 736]. Любопытно, что под «жизнью» Страхов понимает
«чувства и мысли», то есть вполне рационалистическую категорию,
не выходящую за пределы классических характеристик. То, что он
называет «фантазиями фантастичных людей», вполне укладывается
в характеристики базовых черт русской неклассической философии:
слитность с русской литературой, интуитивное постижение проблем,
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 703
мистицизм, отсутствие строгой верифицируемой аргументации, ее
метафоричность, символизм. Именно так позже будет охарактеризована
специфика русской философии в знаменитых строках А.Ф. Лосева:
«Она (русская философия. — С. К.) представляет собой чисто
внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых
глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения
к логическим понятиям и определениям, а только в символе, в образе
посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности
(Lebens Dynamik)» [8, с. 71].
Гносеологическая ориентированность разума, рефлексия,
априоризм рационального знания лежат в основе классического
(новоевропейского) миросозерцания, представителем которого стал Страхов,
тогда как интуиция, творчество, интеллектуальный прорыв
определили облик новой нарождающейся эпохи модернизма. В одной
из бесед с В. Розановым его неназванный визави изрек: «Какое же
может быть сомнение, — Страхов, конечно, гораздо умнее Соловьева.
...Но у Страхова, конечно, нет и малой доли того, великолепного
творчества, какое есть у Соловьева. Две эти фразы, в обоих изгибах верные,
вполне и до конца исчерпывают «взаимное отношение» этих двух лиц,
в которых в сущности ничего не было сходного, ни — умственно, ни —
морально» [7, с. 13-14]. В этих словах — экзистенциальная разница
не просто людей, но уже эпох. С другой стороны, дискуссии с молодыми
философами обнажают реальное противоречие переходного времени.
Люди, которым было предназначено открыть многоголосие, поэтику
и диалогику культуры начала XX в., были весьма монотонны в своих
изложениях, закрыты для персонального диалога друг с другом, не
желали обсуждения тем «на равных» с оппонентами различного уровня.
Внутренне они были как бы монологичны, слышали и слушали только
самих себя (и лишь себя почитали за гениев), не стремясь и не желая
обрести других — собеседников — голосов, особенно среди тех, кто,
подобно Страхову, стремился быть объективным и аналитичным,
а не популярно-политичным, как того требовало время.
Отсюда понятно и непримиримое «отталкивание» друг от друга
этих двух эпох, весьма наглядно отраженное в известной полемике
Соловьева со Страховым. Взаимно-неприязненная дискуссия длилась
довольно долго <...>.
Полемика носила обоюдоострый характер, и Соловьев обвинял
Страхова абсолютно в тех же грехах, в чем обвинял и его оппонент.
Оставив в стороне нюансы, заметим, однако, что в пылу взаимных
обвинений и тот и другой хотят от философского стиля оппонента одного
и того же: строгости формулировок, ясности понятий, обоснованности
теории, корректности цитирования и истинности высказываемого.
704
С. M. КЛИМОВА
В этой словесной борьбе оказалось очень много «личного»: взаимные
обиды, обвинения в неспособности хорошо писать, в слабости
аргументов и, главное — в нежелании слушать друг друга: так столкнулись две
логики/эпохи в непримиримой схватке времени.
Страхов прекрасно понял, что началась борьба поколений и
мировоззрений, и оружие молодых отличается новизной и нетрадиционностью:
например, уже упомянутые публичные лекции создавали
представления о философе совершенно иного типа, нежели являл собой тип Homo
Legens — книжного человека, образцом которого был H. H. Страхов.
Здесь не последнюю роль играл внешний облик выступающего,
манерность, ораторские способности. Философ становится обо-зримым>
доступным и в то же время публично притягательным как актер или
певец. Публичное (агитационное слово) — это слово-интонация, слово-
призыв, требующее и сравнения, и символизации, и поэзии в качестве
эмоциональных аргументов (тех самых «аргументов-сравнений»,
которые так раздражали Страхова), как нельзя лучше согласуемых
с новым мироощущением глашатаев и пророков. Такое слово мгновенно
«уводит» от монополии монолитного печатного слова-идеи, системы,
логики и аргументации в эмоцию, интонацию, жест, образ. Слушателем
руководит симпатия к оратору, зачастую вырастающая не из того,
о чем он говорит, а как, в какой манере излагает свои идеи. Страхов
чрезвычайно чуток к печатному слову, он хорошо улавливает и новые
невербальные интонации, обогащающие или даже меняющие
смыслы давно известных понятий, а также уникальную художественную
стилистику: «меня подкупает остроумие и тонкость слов и плетение
кружев мысли новых философов» [4, п. 405 от 24 ноября 1891. С. 891].
Далее придет газетное слово, публичные письма, рецензии,
комментарии, ритмизованная проза и белые стихи, рисунки и фотографии,
«шершавый язык плакатов», которые молодые оппоненты «старых
классиков» будут использовать как аргументацию своих
многообразных идей.
Позже, когда Страхова уже не будет в этом мире, Василий Розанов
создаст свою гениально-уникальную форму «опавших листьев»,
молодой Владимир Маяковский придумает язык плакатно-стихотворных
лозунгов-слоганов, остро буравящих сознание плохо образованных
советских людей, Велимир Хлебников сотворит рваную рифму рваных
слов-идей, Виктор Шкловский подарит гуманитарной науке слово
«остранение», а Даниил Хармс обнажит абсурдную природу известных
литературных и философских (классических) штампов в форме своей
абсурдной же прозы.
Но пока кажется, что еще можно предотвратить «развал
классической» культуры, и Страхов пишет Л.Н. Толстому: «Нечего делать,
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 705
нужно готовиться к борьбе и пошире расставить ноги» [4, п. 339
от 25 апреля 1887. С. 737].
Однако между Страховым и теми, с кем он бесконечно
полемизировал, оказался и общий «русский» философский момент. Их рус-
скость — в одинаковой невписанности в классическую традицию.
Страхов с его приверженностью к классике был непритворно раздражен
требованиями молодых примкнуть к тому или иному
философскому мировоззрению. Характерно, что Соловьев, бросивший ему этот
упрек публично, высказал общую всей русской философии мысль:
«Никто, конечно, не требовал от г. Страхова, чтобы он приписался
исключительно к какой-нибудь одной философской или
политической категории. Без сомнения, ни одна из них не исчерпывает живой
истины... Ничто не препятствует г. Страхову объявить себя (курсив
мой. — С. К.) сторонником какой угодно синтетической системы,
хотя бы своей собственной... Наверное, множество недоумевающих
читателей было бы в высшей степени довольно, если бы г. Страхов,
не приписываясь ни к одному из существующих измов, мог бы указать
им на свое собственное (курсив мой. — С. К.), хотя бы очень сложное,
но определенное и положительное решение главных философских и
социальных вопросов» [9,1, с. 529]. Молодые не могли простить мэтру
безжизненной аполитичности и объективной нейтральности суждений.
Постепенно по мере культурно-исторического развития то, что
представлялось бредовым и эклектичным собранием разных форм и способов
мышления обретает свою завершенность в мировоззрении начала XX в.
Русская мысль оказалась в пограничной зоне одновременного общения
различных исторически определенных форм разумения. Это значит,
что рационализм воспринимался ими уже не как главный принцип
анализа, а как один из приемов изучения тех или иных процессов, наряду
с другими, может быть, и диаметрально противоположными. Не менее
важно, что отношения оказались организованы по типу диалогических
и в таком «виде» были включены в состав органической переходности.
Это был имманентный обстоятельствам и новым идеям органический
переход, «трансформация логики мышления ("трансдукцйя") в форму
разума культуры, логики культуры, или иначе... актуализация
бесконечно-возможного бытия в план произведения» [1, с. 9]. Произведение
становится результатом бесконечного диалогизирования
многообразных способов мышления как внутри одного текста, так и между самыми
разными позициями и подходами.
Но самое интересное, что в ситуации творцов произведения
подобного типа оказались и «монологист» Толстой (оценка М. Бахтина),
и «классический» философ Страхов. Примером произведения подобного
рода стал уникальный документ: их двадцатишестилетняя переписка,
706
С. M. КЛИМОВА
ставшая достоянием современной культуры. В ней мы обнаруживаем
процесс создания нового типа философии, приведший к открытию
природы творческого мышления как сплава художественного,
философского, критического, бытового и др. способов осмысления проблем,
не связанных ни с «путями» Соловьева-Достоевского, ни с темами
шумящей радикальной и политизированной России.
«Обыкновенный философ» и литературный критик Страхов из
сонма своих знаменитых современников оказался ближе всех великому
Толстому. И эта близость была не чисто интеллектуальной,
политической или даже религиозной, но экзистенциальной и
духовно-творческой. «Знаете ли, что меня поразило более всего? — писал
гениальный физиономист Лев Толстой после одного из первых посещений
Страховым Ясной Поляны. — Это — выражение вашего лица, когда
вы раз, не зная, что я в кабинете, вышли из сада в балконную дверь.
Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое объяснило мне вас...
Я уверен, что вы предназначены к чисто философской деятельности.
Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности; но не говорю
чисто в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения
вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное
произведение; а ни греки — Платон, ни Шопенгауэр, ни русские
мыслители не понимали ее так» [4, п. 5 от 13 сентября 1871. С. 15].
В этом высказывании зашифрован, во-первых, принцип
философского дела: отрешенность от современности. Надо дополнить, что
для Толстого — это, по сути, неприятие суетливости и погруженности
людей в «больших городах» в журнальные, издательские и пр.
светские дела (коими была наполнена внешняя жизнь Страхова при
внутренней уединенности), уводящие от Дела, от духовной внутренней
работы, смысл которой очень точно передает слово Творчество [10].
Но никому из русских, в том числе и самому Толстому, не удавалось
убежать от современности, не реагировать на ее бесконечные
вызовы, не ставить свое Слово в служение будущим преобразованиям
и спасению этой самой современности, не зависеть от редакторов
и издательств. В этом заключалось требование самой жизни и
одновременно противоречивый характер писателя. С другой стороны,
требование «отрешенности» при одновременной «включенности»
в современность — характерно для русской философской мысли,
коей они оба оказались близки. Толстой как бы вписывает русскую
философию в неклассическую традицию познания, развивающуюся
в стороне от западного рационализма и немецкой классики, для
которой важнейшим является поиск истины в единстве естественного
и сверхъестественного, человеческого и божественного, сознательного
и мистического, рационального и иррационального. Истина как сплав
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 707
знания и мистического переживания, данного Богом, свойственна
и Платону, и Шопенгауэру, и самому Толстому. В своих теоретических
установках Толстой предугадывает экзистенциально-диалогический
аспект будущего типа философствования, присущего эпохе раннего
Бахтина, который, по словам Библера, «возникает в очаге
становления иной, вне-гносеологической культуры "общающегося разума",
а не разума познающего» [1, с. 26]. Переписка наглядно
демонстрирует процесс рождения философии «общающегося разума», обнажает
природу и элементы творческого (диалогического) мышления, ярко
проявившегося в гуманитарной парадигме начала XX в.
То, что для Толстого Страхов был философом номер один в России,
следует из его собственных признаний, двадцатишестилетней
переписки и дружбы «на равных». При этом столь же очевидно, что Толстой
воспринимал Страхова не как авторитетнейшего философа-классика,
но скорее как доверительного собеседника, равного ему по
возможностям понимания и аргументации важнейших философских проблем.
Четвертьвековой диалог «на вечные темы» великого писателя с
признанным философом обнажает размытость и стертость
принципиального различения философской и литературной проблематики, способов
аргументации, логики изложения, всего того, что сегодня принято
называть «дискурсом».
Толстовская аргументация зачастую провоцировала Страхова на
новое понимание собственных философских идей и была поднята им до
непревзойденных высот. «Вас очень прошу, — пишет Страхов, — если
не читали еще моей книги, — прочтите и скажите мне Ваше суждение.
Уверяю Вас, оно будет мне одним из главнейших указаний, как идти
вперед (курсив мой. — С. К.)... Вы видите, что я Вас слушаюсь —
занимаюсь философией, Вы как раз угадали меня...» [4, п. 42 от 4 декабря
1872. С. 83]. В ходе их общения сформировался особый тип
философствования (как результат создания диалогического мыслительного
пространства), который вполне сопоставим с тем, что представляла
собой нарождающаяся неклассическая русская философия. По сути,
мышление разными способами одновременно охватывало, в ходе
совместного обсуждения идей и взаимопроникновения в обсуждаемую
проблематику, соединение логики и эмоций в единое целое мысли,
сочетание художественных, религиозных, философских аргументов
в «творческое» самобытное начало общего диалогического пространства.
Их диалог — это и есть наглядная демонстрация Lebens Dynamik русской
философии, наглядная иллюстрация «метода сцепления» Толстого.
Толстой-собеседник обладает одним заведомо определенным
качеством: он гений, чья гениальность и следующие отсюда черты пророка,
теурга, мессии и т.д., были очевидны Страхову. Страхов — классический
708
С. М. КЛИМОВА
мыслитель и интеллектуальный посредник между Толстым и эпохой.
Эта его роль не случайна и требует объяснения. Он осуществлял свой
анализ происходящего не как пророк, идеолог, политик или активный
участник действий. Он не был самобытным (наподобие Соловьева)
философом, уникальным ученым или известным писателем,
революционером или человеком действия. Его обычность и уникальность
в том, что он был гениальным слушателем, имел способность чутко
слышать чужие голоса, вникать и понимать чужие позиции и
погружаться в чужое как в собственный мир — глубоко и прочно. Толстой
называл эту способность «готовностью понимать другого» [4, п. 396
от 6 июля 1891. С. 869], а не слушать лишь самого себя, как это чаще
всего бывает. Бахтин подобную способность называл сущностью
субъекта, «смысл бытия» которого — «внимать другому, воспринимать
в себя его «друговость» (термин Бахтина. — В. Б.). Эта способность
демонстрирует нам бахтинское «быть — это общаться»... уже означает,
что мыслить «о человеке» невозможно (тогда будешь мыслить о вещи);
возможно мыслить лишь к человеку... К другому человеку обращаясь»
[цит. 1,с. 122].
И в конечном итоге Страхов умел, как никто другой, адекватно
понимать всю суть чужих идей, преломляя их в контексте научного
видения проблемы. В его понимании/интерпретации любая идея
обретала некую завершенность, целостность, что позволяло прояснять
все смутные и, может быть, не ясные самим творцам особенности
их концепций и теорий. Эту способность Розанов назвал талантом
строить из всего чужого свою «внешне неяркую мыслительную вязь»,
«рассматривать чужие труды в отношении к самим писателям, как
показатели их внутреннего настроения» [11, с. 13, 17].
В способности диалогизировать с другими — чужими текстами
и создавать в ходе этих диалогов целостное понимание и был выражен
его индивидуальный творческий талант.
Несмотря на статус литературного критика, Страхов преодолевал
в своих размышлениях монологизм объяснения и выходил главным
образом на философский концепт понимания, лежащий в основе
диалогического построения смыслов.
Список литературы
1. Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры. М., 1991.
2. Вайман С. Т. Размышления о художественном переходе // Переходные
процессы в русской художественной культуре. М., 2003.
3. Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории.
М.,2007.
На пороге диалогики культуры (на примере философских исканий H. H. Страхова) 709
4. Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1 и 2.
Государственный музей им. Л. Н. Толстого, Оттава, 2003. Цитируется по
томам, нумерации писем, дате и странице.
5. Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1988.
6. Климова С. М. К проблеме понимания, или Опыт прочтения
«Уединенного» В. В. Розанова // Человек. № 6. 2003. С. 86-100.
7. Розанов В. В. Литературные изгнанники. Переписка В. В. Розанова
с H.H. Страховым. М., 2001.
8. Лосев А. Ф. Русская философия // Введенский А. И., Лосев А. Ф.,
Радлов Э. Л., Шпет Г. Г.: Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991.
9. Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. Т. 1. Национальный вопрос в России. Вып. 2.
М., 1989.
10. Граф Толстой игнорировал тот факт, что в России быть «чистым»
философом — большая роскошь во все времена. Борьба за элементарное выживание
была вечной спутницей жизни H. H. Страхова, вынужденного, как поденщик,
работать в различных журналах и издательствах за самые скромные гонорары,
в том числе и «на графа Толстого» [1, п. 8 от 10 марта 1872, с. 23].
11. Розанов В. В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма.
М.,2000.
еэ
Н.П.ИЛЬИН
H.H. Страхов как метафизик
Жребий Николая Николаевича Страхова оказался <...>
особенно трудным — ибо он был, по сути дела, первым, кто повел борьбу
за философию как таковую; отстаивал не философию «религиозную»
и не философию «научную» (в смысле расцветавшего как раз в его время
позитивизма), а просто философию, или, если угодно, «философскую
философию». Вот самый общий ответ на вопрос «что такое Страхов» как
философ, в чем его философское «знамя». И когда он поднял это знамя
в самом начале 60-х годов XIX века, у него фактически не было
единомышленников; в те годы даже лучшие русские мыслители (в том числе
и старшие славянофилы) замечали, в первую очередь, «прикладное»
значение философского знания — для защиты религии, для «синтеза
наук», для решения тех или иных социально-политических проблем,
для этики и эстетики. Сразу уточним: творчество того же Страхова
ясно говорит, что философия, осознавшая свое собственное
достоинство, не ищущая опоры во внешнем авторитете, вовсе не обязана
замыкаться в круг своих специальных проблем — она способна быть
самой открытой философией, вносить свет понимания в вопросы
науки и искусства, религиозной и общественной жизни. Но при этом
все те опыты прикладной философии, которыми так богато наследие
H. H. Страхова, группируются вокруг основного, собственно
философского, метафизического ядра.
Я далек от мысли, что моя попытка охарактеризовать это ядро
будет сколь-нибудь исчерпывающей. Возможно, что даже слово
«ядро» здесь не вполне уместно; я попробую только очень бегло
проследить определенную нить, которая соединяет его самые первые
и самые последние работы, если угодно, извлечь эту нить из общей
ткани его творчества. Название этой нити у Страхова — человеческая
субъективность, то, что отличает человека от всех вещей, от всякого
H. H. Страхов как метафизик
711
объективного, природного или, по другому выражению Страхова,
предметного бытия. Замечу во избежание недоразумений: я никоим
образом не буду «модернизировать» Страхова, буду по возможности
пользоваться его собственными понятиями и выражениями, среди
которых встречаются и такие, как «внутренняя форма» (при
характеристике духа), или «временность» (при характеристике человеческого
существования). И если философский язык Страхова покажется нам
вполне современным, то это — его собственное качество, а не результат
моей интерпретации *.
Проблема субъективности как сугубо философская проблема была
ясно поставлена Страховым еще в статье «Главная черта мышления»,
написанной в 1866 году. Дата эта не случайна; в том же году появилась
известная работа П. Д. Юркевича «Разум по учению Платона и опыт
по учению Канта», и статья Страхова написана в форме отклика на эту
работу (кстати, единственного в тогдашней философской литературе).
Страхов совершенно верно угадал, что работа Юркевича — это
своеобразный манифест, и ответил не столько разбором взглядов этого
мыслителя, сколько своеобразным контр-манифестом, написанным,
однако, в чисто страховской, лишенной полемического задора манере.
Но сначала два слова о сути философского «манифеста» Юркевича,
оказавшего немалое влияние на определенную линию в русской
философии.
Для мышления субъект есть ничто — таков основной тезис
Юркевича; весь смысл мышления — в познании объектов, тех «общих
и неизменных» структур, которые он называет, вслед за Платоном,
«идеями». Назад к объектам, прочь от топкого болота субъективности,
от того, что верная себе античность понимала совершенно правильно:
не просто как помеху познанию, но как некий цтоу, то есть не-сущее**.
Весьма характерно, что Страхов принимает этот вызов, брошенный
философии Нового времени, на условиях, поставленных Юркевичем.
Поясню, что я имею в виду. Страхов ведь мог ответить Юркевичу
его собственными словами, тем признанием, которое делает сам
Юркевич в сочинении, ставшим его последним философским трудом,
за восемь лет до смерти. А именно, познание мира объективных идей
ничего не дает, по словам Юркевича, для познания «индивидуальных,
Мы вообще очень плохо знаем язык русской философии. Недавно мне
пришлось доказывать (с текстом в руках) одному недоверчивому слушателю, что
термин «усмотрение» постоянно встречался у русских философов (например,
у П. Е. Астафьева и Л. М. Лопатина) еще в прошлом веке, а не был «заимствован
у Гуссерля», как свято верил мой оппонент.
Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 478.
712
H. П. ИЛЬИН
живых и разумных существ»; «откровение, содержащееся в идеях
о том, что есть», оставляет нас «в полном неведении относительно того,
кто есть» *. Такое познание, мог бы сказать Страхов, есть что угодно,
но только не философия, верная завету своего, кстати, тоже античного
основателя: «Познай самого себя». И впоследствии Страхов говорил
об этом неоднократно; но сейчас он решает задачу более сложную:
а так ли прав Юркевич и там, где, казалось бы, весь смысл познания
заключается именно в актах объективации, тех актах, которые, по словам
Страхова, составляют «самую простую и обыкновенную деятельность
мышления»**. И вот, при внимательном отношении к делу,
выясняется, что и здесь субъективность мышления, тот факт, что мышление
не просто «совершается», но «само себя мыслит», выступает в качестве
онтологической основы познания, основы той свободы, которой
обладает человеческое мышление по отношению к своим собственным
законам. Три понятия — субъективности, истины и свободы —
изначально вступают у Страхова в неразрывную связь, характерную
именно для философии христианской эпохи. Присмотримся к этому
ключевому моменту внимательнее.
Страхов приводит типичный упрек Юркевича, адресованный Канту:
последний, мол, не понял того, «что законы деятельности познающего
субъекта так же не суть законы субъективные, как законы движения
света и масс не суть светлые и массивные»***. Такое сопоставление,
помещение на одну доску законов мышления и законов природы Страхов
считает абсолютно неверным. Законы природы есть, действительно,
нечто существенно иное, чем «подзаконная» им реальность;
напротив, «законы мысли суть также мысли; тело, падающее но закону
тяжести, не знает закона, которому повинуется; но мысль знает закон,
по которому действует, и только потому ему и повинуется, что знает
его» ****. Это положение Страхов уточняет чуть ниже; но уже сейчас
можно выделить главное. Именно потому, что на почве человеческой
субъективности совпадает реальность мышления и его идеальная,
«внутренняя форма», или закон, становится возможным познание
истины. За мышлением, подчеркивает Страхов, «нужно признать
абсолютную способность исправлять самого себя, следовательно,
не подчиняться ни одному из своих законов, не зная вполне, как
он действует, где может дать истину и где ложь. Если этого нет, если
есть закон, которому мышление подчинено слепо и беспрекословно,
* Там же. С. 489.
* Страхов H. H. Философские очерки. Изд. 2-е. Киев, 1906. С. 86.
* Юркевич П. Д. Указ. соч. С. 122.
* Страхов H. H. Философские очерки. С. 86.
H. Н. Страхов как метафизик
713
то мы не можем ручаться, чтобы когда-нибудь достигли посредством
него истины»*.
Уже из этих слов ясно, что речь у Страхова идет не о статике мысли,
не о состоянии, но акте мышления, с присущей именно акту
диалектикой действительности и возможности, то есть развитием. «В самом
деле, — пишет Страхов, — если бы мышление не было в возможности
абсолютно свободным, если бы оно было подчинено законам, данным
ему извне, то для него было бы невозможно то, что составляет его
действительную жизнь, то есть познание истины. Повинуясь внешним
законам, оно было бы слепою силою, произведения которой не могли бы
иметь притязания на значение истины» **.
Отметим, что эти суждения Страхова было бы весьма интересно
сопоставить с позднейшими взглядами Франца Брентано (с которым
Страхов обнаруживает замечательную близость не только здесь,
но и в ряде других моментов) или Гуссерля периода «Логических
исследований» (с которым он формально совпадает в жестком
разграничении законов мышления и законов природы, но радикально
расходится в истолковании онтологического смысла этого разделения).
Однако сейчас нас интересует только имманентное развитие
философских идей Страхова, расширение и углубление его метафизической
проблематики.
Итак, основа познания в том, что мышление, по словам Страхова,
«может вполне владеть собою», «отдать себе отчет во всех своих
формах и движениях», может «свободно подчиняться своим собственным
законам». Но понять это основное качество мышления нельзя,
игнорируя или «вынося за скобки» его субъективность, рассматривая
мышление, а шире — человеческий дух как «вещь среди вещей»,
что, кстати, и делал Юркевич, постоянно используя понятие «вещи»
и «субъекта» как синонимы (в стиле средневековой схоластики).
Страхов отмечает и другой важный момент: видимость правдоподобия,
которую имеют все философские концепции, игнорирующие
онтологию субъективности, обусловлена простым обстоятельством — рисуя
ту или иную картину мирау будь то мир материальной природы
или «мир идей», эти концепции молчаливо предполагают зрителя
данной картины. «Самая удивительная загадка, — пишет Страхов, —
заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть
зритель»; «только в этой точке мы прикасаемся к истинной загадке
бытия и мышления»***.
* Там же. С. 88.
** Там же. С. 87.
** Там же. С. 93.
714
H. П. ИЛЬИН
Однако выражение «зритель мира» не должно вводить нас в
заблуждение; дело не обстоит так, что настоящая жизнь происходит в мире
объектов и вещей, а человек только созерцает эту жизнь. Напротив,
настоящая жизнь совершается в самом человеке, в его свободном
стремлении к истине, в его духе. Но для того, чтобы раскрыть это положение
полнее, требовалось раскрыть и понятие духа, и понятие истины,
выйдя за рамки чисто интеллектуализма, в каком-то смысле навязанного
Страхову условиями спора с Юркевичем. И Страхов совершает такой
выход в работе «Об основных понятиях психологии и физиологии»,
написанной уже в конце 70-х годов; и одновременно, что весьма
примечательно, он как бы выходит из круга идей германского идеализма,
возвращаясь к первоисточнику философии Нового времени, к Декарту
и его принципу самодостоверности души.
В указанной работе (которая, на мой взгляд, остается лучшим
введением в проблематику «cogito, ergo sum» на русском языке)
Страхов говорит уже не о мышлении, а о переживании в широком
смысле слова, о том, что называется душевным или «внутренним»
миром. И вот этот мир оказывается тем единственным, что
выдерживает проверку систематическим сомнением — выдерживает именно
в силу свой субъективности. Заметим, что Страхов не считает эту
проверку каким-то искусственным приемом, впервые придуманным
кабинетной философией. Корень картезианского сомнения, считает
Страхов, — в нашей реальной жизни, в живом и, если угодно,
обыденном сознании, различающем, еще до всякой философии, два своих
состояния: сна и бодрствования, или яви. Именно то в сознании, что
не зависит от этого различия — мои переживания, взятые именно как
переживания, как акты субъекта, — и составляет содержание «моей
души», моего «внутреннего мира». Напротив, онтологический статус
«внешнего мира» всецело покоится на различии сна и яви; здесь важно
не существование переживаний, но их объективное значение, которое
не гарантируется их простым и несомненным существованием. Таков,
по Страхову, основной парадокс теории сознания: в последнем
абсолютно достоверно именно то, что абсолютно субъективно. Напротив,
всё то, что служит выражением не субъекта, а чего-то другого (или
понимается как такое выражение), оказывается тем самым
проблематичным. Проблематичность — коренная черта «внешнего мира»;
последний, пишет Страхов, есть «совокупность того, в существовании
чего мы можем усомниться» *. Но это только одна сторона вопроса. Есть
* Страхов H. H. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1886. С. 22.
Раздел «Об основных понятиях психологии» был напечатан в 1878 г. в «Журнале
Министерства народного просвещения» (май-июнь).
H. Н. Страхов как метафизик
715
и другая, о которой Страхов говорит так: «Признав, что внешний мир
может быть для нас сомнителен, мы тем самым приписали ему... все
свойства настоящего объекта, настоящего предмета познания. Этот
предмет может быть познаваем всеми, но его познание будет различно...
может быть правильное и неправильное, полное или неполное... может,
наконец, вовсе не существовать. Субъективный же мир, будучи
неизбежно и вполне известен своему обладателю, для него не составляет
предмета сомнения, но и ни для кого другого не составляет предмета
познания» *. Иными словами, достоверность души есть именно само-
достоверность, и эту «самостную» приставку нельзя отнять, не отняв
самой достоверности. «Дух не имеет в себе ничего общедоступного,
подлежащего такому же познанию, как объективный мир; всё в нем
внутреннее, закрытое для чужого взгляда» **.
Таким образом, Страхов с полной ясностью устанавливает
диалектическую природу принципа, сформулированного Декартом.
Парадоксальным образом именно предмет сомнения оказывается настоящим
предметом познания; «это свойство, сомнительности, мы всегда
приписываем настоящему познанию», отмечает Страхов. Напротив,
предмет очевидного, непосредственного знания оказывается недоступен
традиционным приемам познания именно потому, что это не предмет
или «вещь» — но субъект, или существо. Он требует, подчеркивает
Страхов, «каких-то обратных приемов и особенных усилий,
необычайной постановки нашей мысли»***. И такими приемами еще не овладела
философия, хотя она и приблизилась к своей настоящей проблеме:
проблеме познания субъекта, а не объекта, существа, а не вещества,
того, кто есть, а не того, что есть. <...>
При внимательном взгляде на русскую философию XIX века, его
последних десятилетий, становятся совершенно очевидны те нити,
которые идут от затронутых выше работ H.H. Страхова к таким
выдающимся произведениям, как «Основы веры и знания» П. А. Бакунина,
«Наука о человеке» В. И. Несмелова, к творчеству П.Е. Астафьева,
Л.М. Лопатина, Н.Г. Дебольского и других мыслителей. Конечно,
эти нити возникали чаще не из личного влияния Страхова, а из
существа дела, из освоения русскими мыслителями настоящей области
философской проблематики; хотя и личное влияние, несомненно,
имело место. Так или иначе, в русской философии Страхов был, по-
видимому, первым, кто опознал, на теоретико-философском уровне,
ключевой для понятия истины момент ее уникальности, момент,
* Там же. С. 25.
** Там же. С. 26.
*** Там же. С. 33.
716
H. Л. ИЛЬИН
который нельзя подчинять моменту универсальности, или
общезначимости: понял то, чего до конца жизни так и не понял В. С. Соловьев,
да и большинство его последователей. Истина не только конкретна;
она всегда уникальна, открывает свою бытийственную достоверность
в единичности человеческого существования — как самодостоверность,
как истину самобытия у или саморазумения (если использовать
выражения, характерные для Несмелова, Павла Бакунина и других).
Но те же мыслители, и Страхов в первую очередь, ясно сказали
и о другом: о бесплодности замыкания на этой уникальной истине,
о естественности стремления перейти от субъективной
достоверности истины к ее объективной значимости. Другой вопрос, как верно
осуществить это стремление.
Прежде чем затронуть эту проблему, отмечу: Николай Страхов,
этот «русский гегельянец», питал величайшее отвращение к
созиданию каких-либо всеохватных систем, к тому идеалистическому
конструктивизму у который расцвел в «философию всеединства».
Хотя Страхов и определял философию как искусство «ставить и
развивать понятия», он никогда не верил в «саморазвивающееся
понятие» Гегеля или в «живые идеи» B.C. Соловьева и его эпигонов.
Понятия — инструменты познающего духа; идеи — выражения
его «внутренней формы»; но в отрыве от духа, в отрыве от своей
почвы в реальной душевной жизни и понятия, и идеи превращаются
в фикции — интересно, что Страхов употреблял это слово, как позже
Ф. Брентано при характеристике «значимостей», «смыслов» и прочего,
что якобы существует в отрыве от живого субъекта, или от той среды,
которая необходима для взаимодействия живых субъектов. Именно
поэтому Страхов, обладая глубоким и сильным теоретическим умом,
подчеркнуто избегал философии «вообще», придавал особое значение
рассмотрению конкретных явлений и фактов. Из таких «частных»
исследований составлена его замечательная книга «Мир как целое»,
которую мы не умеем читать именно потому, что смутно понимаем
призыв Страхова: «внимательно всматриваться» в себя и в окружающий
мир. Призыв, который и составляет суть подлинной феноменологии,
суть, выраженную Страховым в другом месте так: «для полного
понимания — нужно открыть глаза, нужно отогнать от себя все, мешающее
простому, прямому зрению» *.
В заключение повторю еще раз: настоящее значение Страхова как
философа можно вполне оценить только в верной ретроспективе русской
философии. Теория сознания и самосознания, диалектика субъекта
* Страхов H. H. О вечных истинах. СПб., 1887. С. XXXVII.
H. H. Страхов как метафизик
717
и объекта, переходящая в диалектику личности и вещи, онтология
самобытия, проблема чужого сознания, или «другого», метафизика духа
как субстанции и творческой силы — эти и другие вопросы,
поставленные Страховым, пусть только поставленные, но поставленные всегда
глубоко и точно, нашли развитие в творчестве мыслителей, о которых
я лишь упомянул и которые остаются, к сожалению, «белым пятном»
в историографии русской философии. А коль так, то, конечно, легко
доказывать, что русская философия якобы и не ведала о ключевых
проблемах человеческого существования, а занималась бесплодным
конструированием вавилонской башни «всеединства». Тогда легко
культивировать и суеверный трепет перед современной западной
мудростью, трепет, который, как отмечал Страхов, «отнимает от нас
веру в собственное разумение». И сегодня пора, наконец, стряхнуть
этот трепет окончательно и стать на твердую почву собственной
мысли — почву, которая существует, как бы ни убеждали нас в противном.
а
И. А. МАЙ ДАН С КАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
Философская антропология Страхова
Философское творчество Н. Страхова началось в пору триумфа
гегелевской диалектики, а завершалось, когда умами европейцев
прочно завладела философия неклассическая — начавшая с
отречения от вековых философских проблем и приоритетов, с констатации
ущербности разума и храбрых деклараций о «смерти философии».
По изначальной сути своей, in integrum, философия Страхова чужда
этим новациям. Сам он считал себя гегельянцем и действительно был,
по характеристике Н. Грота, «светлым рационалистом». Однако в его
исследованиях просматривается довольно глубокое влияние разных
школ и идей неклассической философии. А кое в чем Страхову удалось
и предвосхитить последующее развитие неклассической философской
мысли — и, в частности, «антропологический поворот» мировой
философии начала XX века.
I
Проблема человека наиболее глубоко исследована Страховым в
книге «Мир как целое». Мир как единое, связное, стройное целое имеет
свою вершину и средоточие в мыслящем человеке. Человек является
непосредственным выражением и наглядным свидетельством
цельности мира утверждает Страхов, тем самым выводя свою философию
на антропологическую орбиту.
В размышлениях о месте человека во Вселенной интонации Страхова
идут резко вверх, становясь порой патетическими: «Мир есть целое,
имеющее центр, именно, он есть сфера, средоточие которой составляет
человек. Человек есть вершина природы, узел бытия. В нем
заключается величайшая загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает
центральное место по всем направлениям связей, соединяющих мир
Философская антропология Страхова
719
в одно целое; он есть главная сущность и главное явление и главный
орган мира»*.
Таким образом, вопрос о человеке превращается в вопрос о мире
в целом: определяя человека, мы тем самым определяем и мир,
центром которого человек является**. Обычная логика в реконструкции
целостных предметов предлагает восходить от простого к сложному —
Страхов и сам не раз строит свое исследование именно как такое
восхождение. Однако чертить образ «мира как целого» он все же начинает
с «центра», с человека.
В чем же видится Страхову центральное место, занимаемое
человеком в природе? Ответ на этот вопрос составляет, безусловно, наиболее
интересный и важный пункт рисуемой Страховым картины мира,
да и, пожалуй, всей его философии. Главные свои усилия он
сосредотачивает на доказательстве «предельности» человеческого бытия.
И даже не только бытия, если понимать под «бытием» характер
жизнедеятельности человека в природе, но и структуры человеческого тела,
морфологии этого тела.
Для ответа на вопрос о месте человека в природе требуется выйти
за рамки естественных наук, так как ни одна из них не занимается
природой в целом, — каждая имеет дело с каким-то одним, качественно
ограниченным «слоем» природного бытия. Судя по всему, Страхов
держится мнения, что «мир как целое» — предмет философии. Таково
в ту эпоху было главенствующее представление о соотношении
философии и «частных наук». В наиболее ясной форме это представление
высказал в начале XIX столетия О. Конт.
Итак, ответ на занимающий нас вопрос о месте человека в мире
должен быть философским. При этом он обязан, конечно,
опираться на данные естественных наук, в известном смысле «обобщать»
их, органически встраивать в философскую картину мира. Страхов
чрезвычайно далек от обычного позитивистского пиетета перед
естествознанием как эталоном научности, на который философ обязан
равняться также и в своих собственных исследованиях. Напротив,
на протяжении всей книги Страхов обнаруживает весьма и весьма
критическое отношение к понятиям, теориям и методам естественных
наук, и даже некоторую философскую назидательность, стремление
с высоты понимания «мира как целого» рассудить частные споры
* Страхов Н. Н. Мир как целое. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 67.
* Подобным суждением открывает свою «Антропологию» Кант: «Знание родовых
признаков людей как земных существ, одаренных разумом, особенно
заслуживает название мироведения, несмотря на то, что человек только часть земных
созданий» (Кант И. Сочинения. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 351).
720
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
естествоиспытателей, — что явственно выдает в нем, так сказать,
природного гегельянца.
В свое время Гегель любил насмехаться над грубым эмпиризмом
англичан, которые чувственный образ собаки готовы именовать «идеей»,
и «философией» называют что угодно, вплоть до искусства сохранения
волос у лысеющих джентльменов (примеры из гегелевской «Логики»).
Страхов вполне разделяет это гегельянское настроение, насколько
можно судить по его ироническим репликам в адрес «классической
страны эмпиризма, где и химия и физика слывут за философию» *.
Будучи хорошо знаком с состоянием современного естествознания
и в особенности с его историей, Страхов без всякой робости оспаривает,
а нередко и отвергает мощные и широко распространенные в эту эпоху
научные концепции. Особенно наглядно это обнаруживается в главах,
посвященных критике атомистических теорий, древних и современных,
физических и метафизических.
Мы не можем здесь далеко следовать за ним в эту область, поэтому
ограничимся лишь указанием на краеугольный камень
натурфилософских штудий Страхова, который многое может прояснить и в его
антропологических построениях. Таковым является понятие деятельности
как сущности каждой отдельной вещи и всего мира в целом:
«Все, что существует, существует настолько, насколько действует;
самая сущность вещей состоит в деятельности» — так категорически
формулирует эту мысль Страхов.
Нельзя назвать это какой-то философской новацией, перед нами
весьма древний и почтенный постулат, идущий еще от Аристотеля
и далее через Спинозу — к Фихте и Гегелю. А вот естествоиспытатели
руководствовались им чрезвычайно редко, и Страхов объясняет
причину такого положения дел: деятельность — нечто такое, что нельзя
«представлять», т.е. вообразить наглядно само по себе. Мы не имеем
перед глазами самое «деятельность» подобно каким-нибудь
телесным вещам. Чтобы все-таки как-то примирить понятие деятельности
с чувственным представлением, ученым приходится прибегать к
органической метафоре — сравнению с «силой» животного. Но откуда
этой силе взяться в мертвом веществе? — этот вопрос ставил в тупик
величайшие умы человечества по той простой причине, что никакого
рационального ответа на него дать нельзя. Ложна сама посылка,
лежащая в его основе, — представление об изначальной пассивности,
«несамодеятельности» вещества, как выражается Страхов.
Поскольку же в области естественных наук со времен Ньютона
господствовало неприязненное или по меньшей мере отстраненное
* Там же. С. 319.
Философская антропология Страхова
721
отношение к философской «метафизике», вопрос этот, давно и хорошо
продуманный лучшими философскими умами, надолго сделался
камнем преткновения для естествознания. Страхов стремится показать,
как готовится, вызревает в современной науке «деятельностное»
понятие вещества.
«Дело в том, что вещество действует, что оно есть нечто
деятельное»*. Страхов кладет этот принцип в основу «мира как целого»,
начиная — с человека, существа, в котором цельность мира достигает
высшего предела. Человек есть то, что он делает. «Вместо того чтобы
исследовать, из чего состоит человек, мы должны рассмотреть, что
бывает с человеком. Вместо сущности нужно взять деятельность...» **.
Что же собой представляет человеческая деятельность, в чем состоит
ее своеобразие? На этот вопрос Страхов отвечает совершенно в духе
гуманистов Возрождения: человек — абсолютно пластичное существо,
он может действовать как угодно, по любой схеме, и способен сделать
своей личной силой любую силу природы. У человеческой
жизнедеятельности нет никакой заранее данной, ограниченной мерки, как у всех
других живых и неживых существ.
«Человек весь в возможности... Сказать, чем непременно бывает
человек, невозможно; он может быть бесконечно высоким и бесконечно
разнообразным существом; но точно так же он может быть и
существом ничтожным, куском живого мяса, в котором нет даже животных
достоинств» ***.
Одним словом, своеобразие человеческое деятельности состоит в
отсутствии всякого своеобразия. Человек абсолютно свободен в своих
действиях, он уже больше не раб природной необходимости, а
«вольноотпущенник природы» (Гердер). Во что выльется эта его свобода —
наперед знать нельзя, это от бесчисленных причин и обстоятельств
зависит.
Однако, отважившись встать на эту радикально-гуманистическую
точку зрения, Страхов не решается проводить ее неуклонно до самого
конца. Отвергнув раз навсегда предопределенную «природу человека»,
философ встает перед вопросом: чем, какими причинами обусловлено
развитие человеческой личности? Почему одни люди делаются
«благодетелями человечества», а другие остаются ничем,
«совершенными ничтожествами»? Если никакой природной предопределенности
в формах человеческой жизнедеятельности быть не может, чем тогда
обусловлен характер развития личности?
* Там же. С. 123.
** Там же. С. 196.
*** Там же. С. 195.
722
И. А. МАЙДАНСКАЯ,А.Д. МАЙДАНСКИЙ
Классический ответ дал столетием раньше К.-А. Гельвеций в
книгах «Об уме» и «О человеке»: абсолютно все человеческое в человеке
воспитывается теми общественными условиями, в которых он живет
и действует. «Наставниками каждого являются, если смею так
выразиться, и форма правления, при которой он живет, и его друзья,
и его любовницы, и окружающие его люди, и прочитанные им книги,
и, наконец, случай»*.
Природа поровну разделила между нами свои дары. Людей она
создала равными, не дав никому из них преимущества по части «природных
талантов». Каждый человек получил от нее превосходный инструмент
разума — мозг, но лишь общественное воспитание доставляет ему
умение разумно пользоваться этим инструментом. И все люди
сделались бы умными и талантливыми, если бы общество могло предоставить
им необходимые для того условия.
Страхов решительно отказывается поддержать это воззрение
просветителей: «Жестоко ошибаются те, которые дальше такого взгляда
ничего не видят. Не из обстоятельств проистекает величие и достоинство
человека» **. Приводимый им контраргумент — чисто эмпирического
свойства, со ссылкой на «ежедневный опыт», — то и дело повторяется
и сегодня: в самой благоприятной общественной среде часто рождаются
пустые люди, и наоборот.
Под благоприятной средой Страхов имеет в виду доступ к
сокровищнице духовной культуры, открываемый материальным «достатком».
Но далеко не во всяком человеке книги рождают мысли, а «картины
природы» — тонкие чувства. Бывает, что самое лучшее воспитание дает
обратный эффект, вспомнить хотя бы воспитанника Сенеки Нерона.
Просветители, конечно, принимали в расчет лежащие на
поверхности факты такого рода. Помимо книг и картин для воспитания ума и
таланта надобен внутренний импульс, потребность в развитии. «Ум — сын
нужды и интереса», — гласит знаменитая максима Гельвеция. Отнюдь
не «достаток», а напротив, «нужда» есть главный источник энергии
саморазвития личности, — вот что поняли просветители и что не смог
или не пожелал понять Страхов. Такие «общественные
обстоятельства» , как нужда и интерес, он просто не принимает в расчет. Страхов,
разумеется, совершенно прав, говоря, что «достаток» открывает лишь
абстрактную возможность совершенствования индивида, но разве
из этого следует, что «воспитание, образование, собственно, не
производят развития?»***. Смотря какое воспитание, возразил бы, наверное,
* Гельвеций К. А. Сочинения. М.: Мысль, 1973. Т. 1. С. 327.
** Страхов H. H. Мир как целое. С. 159.
*** Там же. С. 160.
Философская антропология Страхова
723
Гельвеций. Доступ к книгам и «картинам природы» — факторы далеко
не достаточные. Тут многое зависит от действий воспитателя, а еще
от того, насколько остра — здесь и сейчас — общественная потребность
в уме и таланте. Обществу требуются ведь не одни умники-книгочеи,
но и масса тупиц, способных выполнять чисто механическую работу.
Они должны получить от общества соответствующее воспитание. Иначе
скрипачам и врачам придется собирать лук и картошку.
Отвергнув «общественно-воспитательную» теорию возникновения
личности, Страхов ставит себя в практически безвыходное положение.
Откуда же берутся ум и талант, если не из общественных
«обстоятельств» и не от природы? От прямого ответа Страхов уходит, лишь
бросая курсивом туманную фразу: «божественное пламя таланта*.
Надо ли понимать ее буквально? Трудно сказать. Если да, то какая,
в сущности, разница — вдыхает в людей это «пламя» Бог или природа?
Оба ответа практически равноценны, поскольку ни в том, ни в другом
случае у нас нет ни малейшего понятия о том, как конкретно возникает
«величие человека». Впрочем, если апелляция к природе еще оставляет
призрачный шанс когда-нибудь это выяснить средствами биологии или
химии, то отсылка к Богу делает бессмысленными и бесполезными
всякие попытки научно исследовать данный вопрос.
Имел ли, на самом деле, Страхов в виду божественное руководство
раздачей талантов, или прибег к аллегории — не столь уж и важно.
Так или иначе, ясно, что никакого удовлетворительного решения
он найти не сумел. Не потому, что плохо искал или способностей
не хватило. Просто это тот самый пункт, в котором яснее всего
обнаруживается главный изъян антропологического метода
исследования — его полная непригодность для решения общественно-
исторических проблем. К числу последних, вне всяких сомнений,
и относится проблема воспитания умной и талантливой человеческой
личности.
Совсем не случайно в книге, притязающей охватить «мир как целое»,
не нашлось места для человеческого общества и мировой истории.
Травяным вшам и головастикам, Микромегасу и гомункулу места
хватило, об инопланетянах — три главы. А на долю общества, в котором
формируемся и живем мы, люди земные, не пришлось ни страницы,
словно наше общество лишнее в «мире как целом».
Но, говоря о человеке, миновать понятие общества попросту
невозможно. Имеется такое понятие и у Страхова, и его нетрудно
эксплицировать, вникнув в ход страховских рассуждений о саморазвитии
человеческой личности.
Доказывая ту очевидную истину, что человек делает себя сам, «идет
вперед на собственных ногах», — что, в общем-то, никто и не оспаривал,
724
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
кроме немногих закоренелых фаталистов, — Страхов обходит стороной
главную проблему: откуда берутся у людей «собственные ноги»?
Сам Страхов декларировал выше, что человек тем отличается от
животных, что у него нет никакой наперед заданной схемы действий, что
«человек весь в возможности». А теперь утверждает, что в процессе
воспитания человека природа «берет свое» *. О каких же бесконечных
возможностях и свободе личности может вестись речь, если характер
человека предопределен природой, Богом или чем угодно иным, кроме
самих людей?
Если дарованные природой задатки и есть те «собственные ноги»,
на которых мы «идем вперед», то принципиальное отличие человека
от животного немедленно исчезает. Животное, даже самое
примитивное, тоже имеет свои природные задатки, предопределяющие его
жизнедеятельность. Чем же в таком случае человек принципиально выше
животного?
Ответ Гельвеция: природа человека — не естественная, а
общественная. Общество с помощью «книг, друзей и любовниц» ставит
человека на собственные ноги (как в переносном смысле, так и в самом
прямом — физиологическом), преобразуя тело и душу ребенка в
самодеятельную человеческую личность.
Страхов же видит в обществе всего-навсего внешнюю среду, какой
для растений и животных являются почва и атмосфера. Посему задача
человека заключается не в том, чтобы развивать и совершенствовать
общество, в котором он живет, а в том, чтобы вырваться, освободиться
от общества:
«Истинно человеческие, истинно жизненные явления состоят
не в слепом подчинении среде, а в выходе из-под ее влияний, в
развитии высшей жизни на ступенях низшей. Таков характер человеческой
жизни, таков характер жизни вообще, жизни всех организмов» **.
Следовательно, свою свободу человек обретает лишь вне общества,
где-то по ту сторону своей общественной жизни. Где же именно? Что там,
по ту сторону общества? Либо опять Бог, либо — нечто принципиально
непознаваемое, о чем нельзя сказать ничего вразумительного. Второй
ответ рационалиста Страхова не устраивает, ну а первый смущает его как
ученого, поскольку является богословским, никак не научным. В итоге
он так не смог сказать что-либо конкретное в ответ, ограничившись
парой фраз о «берущей свое природе» и «божественном пламени».
Лишь позднее, ближе к концу своего творческого пути Страхов более
откровенно обозначит границы научного познания, выведя за эти гра-
* Там же. С. 160.
** Там же. С. 161.
Философская антропология Страхова
725
ницы по сути все высшие человеческие ценности. «Наука, — напишет
он, — не объемлет того, что для нас всего важнее, всего
существеннее — не объемлет жизни. Вне науки находится главная сторона нашего
бытия — то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем Богом,
совестью, нашим счастьем и достоинством» *.
Из дальнейшего явствует, что «жизнь» есть исключительно предмет
религиозной веры, нравственного и художественного чувства. Таким
образом сфера человеческого бытия, «жизни», в изображении Страхова
выглядит чем-то принципиально недоступным рациональному
постижению, наподобие кантовской вещи в себе.
Из открывшегося науке, разуму «мира как целого» выпало в
конечном итоге наше собственное бытие, «жизнь». А ведь человек
для Страхова — центр мироздания, «вершина природы, узел бытия».
Без научного познания человека понятие о мире как целом никак
не возможно. Будучи мыслителем честным, Страхов не стал
затушевывать это противоречие, напротив, прямо высказал
«недовольство» своим собственным утверждением цельности мира. Отметив
в Предисловии к книге, что «человек постоянно ищет выхода из этого
целого, стремится разорвать связи, соединяющие его с этим миром,
порвать свою пуповину» **.
Данное противоречие — индивида и «мира» — спустя полвека
сделается главным предметом рефлексии в философской антропологии
М. Шелера и X. Плеснера, а также у экзистенциалистов М. Хайдеггера,
Ж. П. Сартра и А. Камю. Знаменитый образ «человека бунтующего»
Камю отчасти близок со страховским образом человека, сознательно
вырывающего себя, свое бытие из общего мира: «Люди мечутся, ища
выхода, ищут страдания и почитают за стыд быть довольными этой
жизнью, как она есть» ***. Только у Камю это бунт против абсурдности
бытия, тогда как у Страхова человек восстает против логичности и
рациональности мира: «Человек постоянно почему-то враждует против
рационализма... Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая
задача мысли»****.
Таким образом, не только некоторые положительные философ-
ско-антропологические идеи Страхова, но также и ее нерешенные
противоречия можно расценить как предвестие и запрос философии
нового типа, если не сказать больше — как один из первых проблесков
философского самосознания грядущего века.
* Страхов H. H. О вечных истинах (мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 54.
* Страхов H. H. Мир как целое. С. 68.
* Там же.
* Там же.
726
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
II
Коль скоро мы не признаем общественную природу человека,
последний предстает перед нами просто как живое существо в ряду прочих
живых существ. В таком ракурсе человека исследует антропология.
Страхов воспользовался данными антропологии как ключами к
решению коренных философских проблем. Такой подход, конечно, не нов —
популярным его сделали французские материалисты XVIII столетия.
С тех пор антропология ушла далеко вперед, и Страхов со знанием
дела пользуется ее новейшими достижениями. Ему не нравится, однако,
историческое родство антропологии с материализмом, и он
прикладывает массу усилий, с тем чтобы показать возможность
нематериалистической — но при этом и не «спиритуалистической» — антропологии.
Немалая часть «Мира как целого» отведена критике материализма.
Правда, Страхов оговаривается, что имеет в виду лишь
общепринятый материализм, «как теоретическое убеждение, существующее
во многих умах и связанное с изучением природы». Сделать эту
оговорку ему пришлось, чтобы обойти стороной материализм Л. Фейербаха,
открывший «антропологическую сущность религии» и получивший
в те годы широкую известность. Для Страхова «материализм» —
это воззрения Бюхнера, Фохта и их сторонников, свидетельствующих
о «крайнем упадке философского мышления» *.
Между тем у этих — на самом деле вульгарных —
материалистических учений есть одна общая черта со страховской антропологией:
в обоих случаях человек мыслится как организм. Выражение
«органическое целое», успевшее уже в те времена превратиться в клише,
Страхов предлагает толковать не иносказательно, а буквально: живой,
деятельный индивид.
В ряду живых существ налицо «совершенствование», по сути ряд
этот демонстрирует нам последовательное развитие единой
организации. А человек есть предел органического совершенства, утверждает
Страхов. Речь не только о духе и уме, но и о самом человеческом
организме, о дарованном человеку природой органическом теле.
«Человек есть совершеннейшее животное не потому, что в нем
проявляется дух, который подавляет животные свойства; нет, человек,
и просто как животное, представляет нам осуществление высочайшего
развития животности»**.
* Страхов Н. Очерк истории философии. Харьков: Типография Губернского
Правления, 1894. С.154-160.
* Страхов H. H. Мир как целое. С. 89.
Философская антропология Страхова
727
Доказательству этого положения посвящена значительная часть
«Мира как целого». Человеческое тело превосходит прочих животных
и в плане механической свободы движений, и в плане кровообращения
и обмена веществ, и в способности ощущений, утверждает Страхов.
Ну а то, в чем человек уступает прочим животным, является
следствием и оборотной стороной гораздо более весомых органических
преимуществ.
Антропологический метод здесь оборачивается чистейшей
телеологией, что открыто признает и сам Страхов, предлагая читателю
«несколько общих рассуждений, принадлежащих к числу тех, которые
называются телеологическими»*. Скверную репутацию
телеологических доводов среди ученых-натуралистов он объясняет тем, что доводы
эти часто бывали сопряжены с недостаточно строгими понятиями.
Повинна в этом не сама телеология, а лишь неумение правильно с нею
обращаться — «дурные приложения», как выражается Страхов.
Свой взгляд на телеологию он основывает на Кантовой дистинк-
ции относительной (внешней) и внутренней целесообразности, как
она формулируется в «Критике способности суждения». В науке нет
места лишь внешней целесообразности и телеологии «финальных
причин», когда организму приписываются цели, никак не вытекающие
из его собственной природы. В то время как внутренняя, имманентная
целесообразность в науке не только уместна, но без нее вообще
невозможно было бы понять ни одну вещь как целое.
Принципом внутренней телеологии является стремление каждого
существа реализовать все, что заложено в нем природой. Природные
задатки выступают одновременно и как цель развития, достигая
которой, организм превращается в завершенное целое (мы называем
это его «зрелостью»). Это стремление к целостности и есть сама жизнь.
Всякое целое является целью своего развития, является самоцелью,
и существование каждого отдельного элемента целого подчинено этой
цели. Это действительно так. В этом месте Страхову стоило бы задаться
вопросом: элементом какого конкретного целого является человеческий
организм? Страхов проходит мимо этой проблемы. Он много и
охотно исследует человеческого индивида как целое, но ровным счетом
ничего не говорит о том целом, частицей которого является данный
индивид, — о человечестве.
Вследствие этого, как нам кажется, ему и не удается дать в книге
ответ на вопрос, к чему человек стремится и какой конкретно «выход»
из живого мира обнаружили первые люди. Почему животное, в отличие
от человека, не стремится «разорвать связи с миром»? Просто потому,
* Там же. С. 192.
728
И. А. МАЙДАНСКАЯ,А.Д. МАЙДАНСКИЙ
что животное — органическая часть этого мира, а человек является
частицей еще и иного мира — социального.
Человек, в полном соответствии с формулируемым в книге Страхова
«законом телеологии», подчиняет свою органику общественным целям.
Нередко в ущерб для своего органического тела, а подчас и с риском
для жизни. Если же человек, наоборот, подчиняет свою
жизнедеятельность в обществе целям органическим, животным, — он перестает быть
полноценным человеком, деградирует как личность.
Разница между животным и человеком наглядно выступает уже
в характере передвижения их органических тел. Взглянем поближе
на соответствующее рассуждение Страхова все в том же Письме VIII —
«Содержание органической жизни». Здесь с большим остроумием
доказывается, что, в согласии с «законом телеологии», развитие животного мира
приводит к появлению существ, передвигающихся на четырех ногах.
«Простейшая и при большой массе единственно возможная форма
опоры для животного будет четыре ноги. У низших животных мы
находим больше четырех ног: у насекомых шесть, у пауков восемь, у рака
десять. Совершенно ясно, однако же, что такое обилие ног нисколько
не способствует им хорошо двигаться. У высших животных..., таких,
у которых главное отправление движений есть передвижение с места
на место, мы находим четыре ноги» *.
Эволюция «мира как целого» идет в направлении наивысшего
возможного совершенства процесса перемещения живых тел в
пространстве. Это факт. Ну а что же человек? Зачем ему было менять столь
эффективный способ перемещения на более медленный, при этом теряя еще
и в устойчивости. Ответ Страхова: ради «большей свободы движений***.
Допустим, свобода движений в вертикальном положении
действительно возрастает — тогда почему другие высшие животные
не стремятся двигаться вертикально? Разве им не требуется свобода
движений? Отчего в случае с животными «закон телеологии» перестает
действовать? Да и человеческий ребенок вовсе не стремится двигаться
вертикально на двух конечностях, его искусственно, иногда с трудом
и даже насильственно, выпрямляют другие люди.
«Для организма ребенка научиться ходить — это мучительно
трудный акт, ибо никакой необходимости, диктуемой ему в том "изнутри",
нет, а есть насильственное изменение врожденной ему морфо-физио-
логии, производимое «извне»***.
* Там же. С. 188.
:* Там же.
г* Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается личность. М.:
Политиздат, 1984. С. 334.
Философская антропология Страхова
729
Дальше — больше: добрая половина человечества обувает ноги
в туфли на каблуке, часто высоком и тонком, словно в насмешку
над «законом телеологии». Да и одежда наша, прямо скажем, далеко
не всегда способствует «большей свободе движений»...
Так антропологический угол зрения может делать невидимыми
для теоретика вещи самые простые и очевидные. Целями органической
жизни человек сплошь и рядом пренебрегает, и даже если нет, он как
правило облекает животные функции своего тела в
культурно-исторические формы, откровенно абсурдные или вредные с «органической»
точки зрения. К таковым относится и способ передвижения людей,
«совершенством» которого восхищался Страхов. Медики утверждают,
что прямохождение послужило причиной возникновения огромного
количества патологий, в первую очередь заболеваний позвоночника
и родовых травм.
Подобно всем без единого исключения специфически человеческим
формам деятельности, целесообразность ходьбы на двух ногах
диктуется не органическим, а общественным «целым». Это прямо вытекает
из основоположения, которое отстаивал сам Страхов: «человек весь
в возможности». Людьми не рождаются, ими делаются. Разумеется,
для этого необходим труд самого индивида. Одних «обстоятельств»
мало, — тут Страхов прав. Но формирование человека всегда протекает
в заданных обществом, культурных формах, и стимулируется (либо,
напротив, замедляется и прекращается) другими людьми, а не
механикой и «органикой» нашего тела.
Спору нет, человеческое тело — одно из совершеннейших творений
природы, но как много в нем есть искусственного (и чем дальше, тем
больше, увы). Высшей, специфически человеческой мерой его
совершенств (и несовершенств — их тоже хватает, хоть Страхов предпочел
о них умолчать) является соответствие данного тела тем или иным
стандартам культуры. От последней целиком зависит и наша
«свобода движений»: станет ли человек передвигаться на своих двоих,
на лошади или верблюде, на лодке или велосипеде.
III
Два утверждения Страхова: что совершенствование есть «закон
жизни» и что человек есть высший предел совершенствования, — взятые
вместе дают нам сильную версию антропного принципа: все дороги
эволюции ведут к человеку. Причем именно к человеку земной модели,
а не просто к подобному — универсально действующему и
мыслящему — живому существу, стремящемуся объять своими делами и
мыслями целый мир, «мир в целом».
730
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
Человек есть «центр, к которому сходятся все лучи мироздания», —
так формулирует антропный принцип сам Страхов*.
Прямую противоположность антропному принципу составляет
взгляд, согласно которому человек — всего лишь пылинка в
бесконечной Вселенной, и все дела наши, и сам человеческий разум,
ничтожны в сравнении с этой бесконечностью. Естественно, Страхов всеми
силами противится такому уничижительному взгляду на человека.
Он пространно и страстно спорит с «защитниками человеческого
ничтожества», подробно разбирая аргументы Вольтера, Лапласа, Ивана
Киреевского и особенно Конта. В последнем Страхов не без оснований
усматривает «полного представителя того воззрения, которого очень
часто держатся натуралисты. По его мнению, мир представляет
бесконечное разнообразие, и человек есть одно из бесчисленных существ
природы, в отношении к целому миру совершенно ничтожное и по своим
размерам, и по своему содержанию» **.
Причину подобных взглядов на человека Страхов видит в природе
нашего языка. В «мире слов» властвуют абстракции, часто
выдаваемые за реальные сущности. Так, по сравнению с «умом вообще»
человеческий ум выглядит лишь некой частностью, имеющей
бесконечно меньший объем и силу. Меж тем достаточно понять, что «ум
вообще» — нечто всего лишь воображаемое, не реальное, как «мираж
слов» рассеется и конкретное будет восстановлено в своих правах.
Таким оборотом мысли Страхов сокрушает «самый главный софизм
человечества».
Думается, Киреевского едва ли имело смысл ставить на одну доску
с Контом. В критикуемом Страховым отрывке под «высшим
нравственным порядком», в сравнении с которым человеческий ум чувствует
свою «ничтожность», Киреевский, вероятнее всего, имел в виду Дух
Божий или нечто подобное, а не абстрактный «ум вообще'. Но, может
быть, и Бог тоже — абстракция и словесный «мираж»? На сей счет
Страхов счел за лучшее не распространяться. При чтении «Мира как
целого» складывается впечатление, что Бога автор решил вынести
куда-то за пределы этого мира, по примеру Эпикура, сославшего своих
богов в «интермундии».
Один из обычных доводов в пользу незначительности
человеческого бытия в мире — констатация смертности человека. О каком
совершенстве человеческой организации можно вести речь, если люди
живут куда меньше, чем обыкновенное дерево? В решении Страховым
этой проблемы за версту чувствуется школа гегелевской диалекти-
* Страхов H. H. Мир как целое. С. 198.
* Там же. С. 256.
Философская антропология Страхова
731
ки — умение «смотреть в лицо негативному», как изъяснялся автор
«Феноменологии духа».
На взгляд поверхностный смерть выглядит лишь утратой жизни,
недостатком, изъяном; в сущности же смерть — «одно из совершенств
организмов, одно из преимуществ их над мертвою природою. Смерть —
это финал оперы, последняя сцена драмы; как художественное
произведение не может тянуться без конца, но само собою обособляется
и находит свои границы, так и жизнь организмов имеет пределы. В этом
выражается их глубокая сущность, гармония и красота, свойственная
их жизни»*.
Читая эти строки, кто-то может опрометчиво решить, что смерть —
ни своя, ни ближнего своего — Страхова ни капли не печалит,
он ее только приветствует. Это не так, разумеется. Он имеет в виду
смерть естественную у как внутреннее завершение жизни, а не смерть
преждевременную, наступившую, когда человек не успел еще на деле
выразить свою личность. Страхов специально этого не оговаривает,
но внимательный читатель без особого труда сумеет понять его мысль.
Несвоевременный финал так же портит «оперу» жизни, как и
театральную оперу.
Смысл смерти всецело определяется характером жизни. Эта мысль
ясно прочитывается в завершающем пассаже данной главы: «Смерть
есть великое благо. Жизнь наша ограничена именно потому, что мы
способны дожить до чего-нибудь, что можем стать вполне человеком,
смерть же не дает нам пережить себя» **.
Осмыслить мир в целом на основе антропного принципа пытался,
примерно в одно время со Страховым, и Николай Федоров. Вряд ли
Страхов был знаком с его взглядами (учитывая, что Федоров не желал
печатать свои сочинения), хотя тезис «смерть — великое благо» звучит
как перистрофа к федоровскому проекту «преодоления смерти».
В западноевропейской философии антропный принцип лучше
других обоснует Макс Шел ер полвека спустя. Страхов мог бы без
колебаний подписаться под шелеровской формулировкой антропного
принципа:
«Человек — мы это еще увидим — соединяет в себе все сущностные
ступени наличного бытия вообще, а в особенности — жизни, и, по
крайней мере, в том, что касается сущностных сфер, вся природа приходит
в нем к концентрированному единству своего бытия» ***.
* Там же. С. 169.
** Там же. С. 177.
** Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной
философии. М.: Прогресс, 1988. С. 37.
732
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
Однако стремление Страхова прочертить прямую «линию жизни»
от инфузории к человеку, понять человека как наивысший предел
совершенствования живой природы оказалось чуждым для
позднейшей философской антропологии. Не отвергая саму возможность
такого подхода, Шелер выдворяет его, вместе с лежащим в его основе
понятием человека, из философии — в область «естественнонаучной
систематики».
В философии, постулирует Шелер, «слово «человек» должно
означать совокупность вещей, предельно противоположную понятию
«животного вообще» *. В шелеровской антропологии человек обращается
в чистый «дух», противостоящий «жизни» и вместе с тем стремящийся
вобрать ее в себя**.
Совсем не встретила сочувствия страховская «линия жизни» у
религиозных философов. Даже Лев Толстой, дружески настроенный
по отношению к Страхову и высоко оценивший отдельные места «Мира
как целого», в своем письме к нему раскритиковал попытку вывести
совершенство человека напрямую из «зоологического»***. Стандарт
совершенства мира, который отстаивал сам Толстой,— «абсолютное
Добро», — навряд ли можно научно дедуцировать из флоры и фауны.
Страхов в качестве главной меры совершенства жизни —
«образца, чистейшего и высочайшего вида развития вообще» — избрал
тип психической деятельности и попытался наметить основные
ступени развития психики. Интересно, что точно так же поступит
и Шелер, с той разницей, что он пользуется новейшими данными
психологии, которые Страхову, естественно, не могли быть
известны. Но сам «психогенетический» подход к определению качества
жизни у них общий.
«Я исхожу при этом из ступеней психических сил и способностей,
постепенно выявленных наукой. Что касается границы психического,
то она совпадает с границей живого вообще» ****, — постулирует Шелер.
Того же мнения держался и Страхов. Нам предстоит далее обратиться
к его работе «Об основных понятиях психологии», в которой получает
свое продолжение и развитие антропологическое исследование
душевной жизни, начатое в «Мире как целом».
* Там же. С. 32-33.
* В таком «оживотворении духа» Шелеру видится «цель и предел (Ende) конечного
бытия и процесса» (Там же. С. 76).
г* Разбор переписки Толстого и Страхова о «Мире как целом» дала Донна Орвин:
Orwin D. Т. Tolstoy's Art and Thought, 1847-1880. Princeton: Princeton University
Press, 1993, p. 167-168.
:* Шелер М. Положение человека в Космосе. С. 33.
Философская антропология Страхова
733
IV
Психологическое исследование Страхова начинается с критики
скрытого догматизма представителей «эмпирических наук». Однако
при чуть более внимательном прочтении читатель с удивлением
обнаруживает, что та же самая критика может адресоваться... Гегелю.
«Мы невольно принимаем на себя такой вид и начинаем держать такой
тон, как будто мы вполне владеем предметом, как будто наше изучение
его достигло окончательных результатов» *, — что это, как не описание
типично гегелевской манеры философствования?
На следующей странице удивление наше удваивается. Страхов
предлагает, в качестве «одного из самых изящных приемов»,
метод исследования прямо обратный, как минимум по своей
логической форме, диалектике Гегеля: «начинать не с общих положений
и определений, а с частного факта, с отдельного примера, и потом
восходить анализом до общих понятий». При этом Страхов
апеллирует к авторитету Ньютона, которого тот же Гегель третировал как
«ein vollkommener Barbar an Begriffen» (полного варвара в части
понятий), имея в виду как раз учение Ньютона о методе формирования
понятий ex phaenomenis — «из явлений».
Впрочем, реальный метод, которым Страхов воспользовался
в своем исследовании душевных явлений, едва ли можно назвать
индуктивным. Страхов не столько сравнивает и обобщает, сколько
анализирует психологические факты, — что, конечно, было бы делом
невозможным без содействия тех самых «общих понятий», к которым
он намеревается «восходить». В ходе анализа фактов у Страхова
понятие о душе не формируется, но эксплицируется, выступая на
поверхность явлений и обогащаясь при этом разнообразным эмпирическим
содержанием.
Отлично сознавая чреватость подобного рода экспликаций
«догматизмом», Страхов прибегает, в качестве противоядия от догмати-
зации исследования, к Декартову методическому сомнению.
«Сомнительность» для Страхова не является недостатком теории — напротив,
это ее достоинство и характерный признак «настоящего познания».
Нетрудно узнать в этой формулировке фундаментальное
основоположение попперовского «фальсификационизма»: теория, которая
не может быть поставлена под сомнение никаким мыслимым явлением
опыта, является ненаучной. То самое, что Поппер станет именовать
Страхов H. H. Об основных понятиях психологии и физиологии. 2-е изд. СПб.:
Типография бр. Пантелеевых, 1894. С. 3.
734
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
«рискованностью» или «опровержимостью» (falsifiability) подлинно
научных положений, Страхов, пользуясь классической декартовской
лексикой, называл «сомнительностью».
Надо полагать, Поппер охотно согласился бы с утверждением
Страхова: «Как скоро мы убедимся, что какое-нибудь познание
принадлежит к числу несомнительных... так тотчас же это познание теряет
для нас свою цену». На том же самом основании «несомнительности»
Поппер отказывал в научной ценности марксистской и фрейдистской
доктринам. Научное познание представляет собой вечный процесс
преодоления сомнений. Потому там, где нет места сомнению в
первоосновах, нет места и самой науке.
И призыв Страхова к равнению на «приемы естественных наук»,
как наилучшие «образцы» научного исследования, вряд ли мог вызвать
одобрение Гегеля, но, безусловно, пришелся бы по нраву Попперу,
да и современникам Страхова из многолюдного лагеря «контистов».
При этом Страхов, в отличие от Поппера, не склонен
абсолютизировать критерий сомнения и представлять реальность «болотом»,
в которое разум вбивает сваи теорий, в итоге лишь увязая все глубже
и глубже в «высоконаучных» сомнениях. Его никак не назовешь
логическим релятивистом. Понятие истины Страхов причисляет
к условиям самой возможности познания, это понятие, пишет он,
«не выводится ни из каких познаний и соображений, а напротив того
предполагается ими»*.
Критерий истинности знания Страхов, как подобает гегельянцу,
усматривает в его цельности, или, что то же самое, конкретности
мысли. По всей вероятности, название главного сочинения Страхова
«Мир как целое» восходит к знаменитой сентенции из Предисловия
к «Феноменологии духа»: «Das Wahre ist das Ganze» — истинное есть
целое.
Этот логический маяк — принцип цельности мира и, в той же
мере, конкретности знания о мире — Страхов по мере сил старается
держать в виду и в своем исследовании «основных понятий
психологии». Альтернативное же понимание истины, как сходства понятия
с вещами самими по себе, Страхов критически взвешивает и отвергает
как приводящее нас к «бессмыслице».
Насколько удается Страхову добиться конкретной цельности
исследования душевной жизни, — это тема, заслуживающая отдельного
* В «Мире как целом» говорится еще определеннее: «Наука имеет постоянно одно
и то же содержание, одну и ту же неизменную цель — истину. Наука не может
существовать ни одного дня без уверенности, что она может достигать истины,
что она даже заключает ее в себе в некоторой степени» (С. 315).
Философская антропология Страхова
735
разговора. Не вдаваясь в нее глубоко, констатируем лишь, что в плане
методологии исследование Страхова весьма, если так можно
выразиться, гетерогенно. Гегель, Ньютон, Гельмгольц и Шопенгауэр —
мыслители чрезвычайно далекие друг от друга, а то и прямо враждующие
между собой, — в работах Страхова словно бы заключили перемирие.
При этом ни в какой в видимый читателю «диалог» они не вступают.
Каждый действует сам по себе, привлекаемый в качестве советника
по тому или иному вопросу в разных пунктах исследования.
Н. Грот утверждал, что Страхов «стремился сам своеобразно
осуществить последнюю задачу мысли — синтез» *. В принципе то же самое
можно сказать и о самом могучем оппоненте Страхова — Вл. Соловьеве,
стремившемся, по его собственным словам, к «универсальному
синтезу науки, философии и религии» **, да и о большинстве светил
отечественной философии, в особенности религиозной. Подобная
«синтетичность» составляет типичную черту русской философской мысли.
Кому-то видится в этом преимущество последней, широта взгляда,
другим — «эклектическое стремление слепить воедино несколько чужих
мыслей»***. В действительности бывало и так, и этак. Страхову лучше
многих других удавалось отыскивать конкретные формулы синтеза.
Хотя подчас предлагаемые им решения философских проблем выглядят
довольно поверхностными.
. В пример можно привести рассуждение Страхова о свободе воли,
в котором он, идя по стопам Шопенгауэра, трактует волю как
«произвол» — способность избирать то или иное действие или же
воздерживаться от него по «моему соизволению». Автор относит такую
свободу к исходным понятиям психологии, которые «ниоткуда нельзя
вывести», как если бы ни Спиноза, ни Дидро, ни любимый им Гегель
и не пытались «вывести» иное понимание человеческой свободы — как
целесообразного действия в соответствии с природой вещей.
В своем исследовании Страхов не делает ни малейшей попытки
культурно-исторического анализа душевных явлений по примеру
гегелевской «Феноменологии духа». Его исследование протекает всецело
в плоскости декартовых координат — где cogito служит и «архимедовой
точкой опоры», и последним итогом психологической науки, — не
выходя за рамки абстрактной интроспекции «я», в богатый историческим
содержанием мир «объективного духа», т.е. в культуру.
* Грот Н. Памяти Страхова. К характеристике его философского мировоззрения.
М.: Кушнерев и К0, 1896. С. 40.
** Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. 2-е изд. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 122.
** Яковенко Б. В. Очерки русской философии. Берлин: Русское универсальное
издательство, 1922. С. 125.
736
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
Но все же и в этой ограниченной координатной плоскости Страхову
удаются нестандартные решения и ходы мысли. В частности,
взаимоотношение души и тела определяется им не как причинно-следственная
связь, но как отражение, или выражение одного в другом: «Тело есть
та часть объективного мира, которая в своих явлениях постоянно
отражает явления нашей души и помимо которой душа ничего не может
выразить и не может воспринять никакого чужого выражения. Только
в таком смысле нужно разуметь связь души и тела» *.
Перед нами — решение Спинозы, но, так сказать, в обратной
перспективе: не душа есть идеальное выражение тела, «идея тела», а
тело — материальное выражение внутренней жизни души. Аналогичное
решение предложил в свое время Лейбниц, однако оно не получило
в психологии надлежащей теоретической разработки, и Страхов,
похоже, пришел к нему самостоятельно, своим собственным путем. Кроме
того, отсюда при желании может быть протянута логическая нить
к «экспрессионизму» Ж. Делёза, начавшемуся именно с анализа
категории выражения (expressio) в одной из ранних его книг — «Спиноза
и проблема выражения» **.
Преимущество категории выражения для решения
психофизической проблемы состоит в том, что она позволяет сохранить
независимость выражаемого от выражающего — души и тела. «Эти два мира
остаются строго разграниченными; но один служит для выражения
другого подобно тому, как буквы выражают звуки, и звуки выражают
мысли»***.
Мысль может выражаться в самых разных телесных,
«вещественных» формах, нисколько от этого не меняясь по существу. И наоборот,
тела не теряют и не меняют своих физических свойств оттого, что
становятся формами выражения идей, мыслей. Если же отношение
души и тела понимается как причинно-следственное и, тем более,
как отношение субъекта к предикату (у вульгарных материалистов
мысль — свойство, функция тела; у Беркли и Фихте, напротив,
телесное есть форма деятельности духа, Я), одна из сторон — либо дух,
либо тело — утрачивает свою «самость».
Судя по примеру с буквами, звуками и мыслями, Страхов склонен
толковать отношение души и тела по образу и подобию отношения
семантического — как взаимосвязь значения и знака. И это тоже роднит
Страхова, при всем его рационализме, с современными течениями
* Страхов H. H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 29.
* Deleuze G. Spinoza et le problème de l'expression. Paris: Les Éditions de Minuit,
1968.
* Страхов H. H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 13.
Философская антропология Страхова
737
постструктурализма. Да и вообще, Декартово ego sum, этот «стоящий
на себе субъект» (М. Хайдеггер), есть подлинный исток и корень всей
неклассической философии двух последних столетий. Возврат
гегельянца Страхова в области психологии от Гегеля к Декарту, с полной
утратой исторической методологии исследования душевных явлений,
можно расценивать как один из продромов грядущего пришествия
«экзистирующей субъективности».
Эта тенденция ясно видна уже в определении « духа», которое дает
Страхов: «Дух, напротив, есть чистый субъект, то есть, нечто
познающее, но ни мало не доступное для объективного познания. Дух не имеет
в себе ничего общедоступного, ничего внешнего, подлежащего такому
познанию, как объективный мир; в нем все внутреннее, закрытое
для чужого взгляда» *.
Гегелевское понятие объективного духа данной дефиницией не
просто упускается из виду, а скорее сознательно уничтожается,
«аннигилируется». Сомнительно, чтобы Страхов мог не заметить или позабыть
жесточайшую критику, которой Гегель подверг понятие «чистого
субъекта» (die reine Subjektivität), лишенного всякой объективности
и потому «закрытого для чужого взгляда». Страхов, кажется, никогда
не ввязывался в открытый спор с Гегелем, однако трудно не видеть
его кардинальных расхождений с учителем в самых что ни на есть
принципиальных вопросах философского знания, — ив наибольшей
мере это касается как раз «философии духа».
О любых «субъективных явлениях других духовных существ»,
продолжает Страхов, мы «догадываемся» по их вещественным
выражениям, «как по знакам и символам». Внешнее выражение духовного
в телесном для Страхова — процесс семантический, он всегда в той
или иное мере искажает «внутреннее». Другому субъекту остается
лишь догадываться о значении данного выражения, «стараясь
подобрать в нашем внутреннем мире такие явления, которые подходили бы
к этим словам и движениям, и приписывая эти явления тому, кого
наблюдаем»**.
В то время как у Гегеля объективация духа, напротив,
выявляет его истину — очищает подлинно всеобщее, субстанциальное
содержимое духовной жизни от шелухи «чистой субъективности».
Самовыражение духа в форме слова и жеста для Гегеля есть всего
лишь первичная, поначалу еще неадекватная форма его объективации.
На смену ей приходит более высокая, более конкретная форма —
практическое действие, поступок, обнаруживающий истинную цену
* Там же. С. 12.
* Там же.
738
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
наших намерений и слов. Страхов эту предметно-деятельную форму
выражения мыслей вообще не рассматривает, как не видел ее и Декарт,
по чьим стопам Страхов старается следовать в области психологии.
В то же время Страхова не назовешь и правоверным картезианцем.
Он доказывает невозможность научного познания «субъективного
мира», казавшегося Декарту самым близким и понятным для каждого
человека. «Только чисто объективный мир есть настоящее поприще
человеческого познания», — настаивает Страхов, прибавляя, что
человечество смогло достичь настоящих успехов в науке так поздно, лишь
в последние три столетия, как раз потому, что прежде «было очень
занято своею внутреннею, субъективною жизнью» *.
И в психологии Страхов предлагает «следовать методам
натуралистов», т.е. стремиться к эмпирическому знанию души. Для этого
необходимо «объективировать» свои душевные явления, сделаться
«посторонним» для самого себя. Но ровно в той мере, в какой кому-либо
удается предстать для себя в качестве объекта, он перестает быть
субъектом: «убивает в себе способность мыслить и действовать». Нельзя,
невозможно быть одновременно субъектом и объектом мышления,
считает Страхов.
Впрочем, неверно было бы и думать, будто каждый из нас —
полноправный субъект своих душевных состояний. Во всяком случае,
многое в наших душах происходит такого, что от нашей воли не
зависит, т.е. является вполне объективным. Перечислив случаи, когда
мы бываем не властны над собственными ощущениями или мыслями,
Страхов приходит к выводу, что «не мы сами делаем нашу душевную
историю, а она делается в значительной мере помимо нас», а чуть
ниже формулирует ту же мысль еще категоричнее: «Ростом души,
развитием и изменением коренных сил ума и сердца, мы также мало
управляем, как развитием нашего тела и теми переменами, которым
оно подвержено от младенчества до дряхлости» **.
Данный вывод давным-давно и самым обстоятельным образом
обосновали стоики, затем Спиноза,— о чем Страхов, то ли не знал, то ли
позабыл упомянуть (не только в своих психологических работах, но
даже в «Очерке истории и философии»). Эти предшественники Страхова
доказывали, что в душевной жизни вообще не бывает никакого
«произвола» , что все душевные явления связаны столь же необходимыми
связями, как и явления физические. А представление о «чистом
субъекте», создающем идеи исключительно по своему хотению, есть чистая
фикция, обязанная своим существованием полнейшему неведению
* Там же.
* Там же. С. 22.
Философская антропология Страхова
739
того «субъекта» относительно причин, заставляющих его мыслить
так, а не иначе.
Страхов оставляет без внимания этот ход мысли, несмотря на то, что
он представляет собой лишь последовательное развитие выставленного
самим Страховым положения о неуправляемой объективности «роста
души». Впрочем, стоики и Спиноза не лучше Страхова представляли
себе, где надлежит искать причины, управляющие высшими,
специфически человеческими функциями и состояниями души. Первым
решение проблемы нащупал Гегель, обративший внимание на
«объективный дух», или, выражаясь прозаичнее, на сферу культуры. Именно
в ней, а не в органике человеческого тела скрываются те силы, которые
незаметно для нас с самых первых дней жизни диктуют условия и
законы формирования человеческой души, «личности».
Как мы уже отмечали выше, Страхов прошел мимо этого
открытия Гегеля. В области психологии он, по собственному признанию,
переходит от Декартовых «Размышлений» на позиции эмпиризма,
«преимущественно шотландского произрастания»*. Надо сказать,
что в его время наука психология находилась на стадии собирания
эмпирического материала, и это был шаг вперед по сравнению с
умозрительными психологическими теориями прошлого. Неудивительно,
что Страхов, как и почти все его современники, принял это занятие
за психологическую теорию. Альтернативы-то не было. Настоящая
наука о душе еще только зарождалась.
К заслугам Страхова мы должны отнести уже то, что он не во всем
пошел на поводу у психологов-эмпириков и постарался сохранить
и обосновать «факт сознания», несводимый и невыводимый из
чувственных восприятий и «ассоциаций». Ключевой довод Страхова
звучит следующим образом: «Первоначальный прием всякого
объективирования есть различение и расположение объектов во
времени, следовательно, в некоторый ряд или некоторую нить. Поэтому
условие всякого временного ряда заключается в некотором
безвременном я. Для того, чтобы время было вне нас, мы сами должны
поставить себя вне времени. Но в сущности, тот же самый процесс
повторяется в каждом, самом простом, ощущении. Мы не сливаемся
с этим ощущением, не поглощаемся им, если не теряем сознания
и, следовательно, мы ставим себя вне его, и не только ощущаем,
но и знаем, что ощущаем» **.
* Епископа Беркли, который был англичанином ирландского происхождения,
Страхов назвал первым в «ряду знаменитых Шотландце». Позднее, в очерке
истории философии ошибка будет исправлена.
** Там же. С. 31.
740
И. А. МАЙДАНСКАЯ, А. Д. МАЙДАНСКИЙ
Это «безвременное я», стоящее позади ощущений и форм
чувственности и само чувствами не воспринимаемое, очень напоминает
кантовского «трансцендентального субъекта». Страхов, опять-таки,
о Канте ни словом не упоминает, а вот Вл. Соловьев считал различение
трансцендентального и эмпирического субъекта настолько важным,
что без него вся критическая философия превращается «в сплошной
абсурд». — «Только чрез надлежащее развитие идеи о
трансцендентальном субъекте основная мысль Канта, что все познаваемые нами
предметы и явления суть представления или мысли ума, может получить
свой истинный разумный смысл — иначе она сама себя разрушает» *.
С другой стороны, тот же Кант убедительно показал, что затея
отделения субъекта от объекта в науке, в том числе и в психологии,
обречена на неудачу. Несмотря на это, и не затрудняя себя полемикой
с Кантом, Страхов объявляет такое отделение главной задачей
научной психологии. — «Что касается до психологии, то различие между
субъектом и объектом, и далее, — различие между субъективным
и реальным значением явлений, суть главные черты ее предмета, и кто
не понял этого различия как следует, тот, сколько бы ни рассуждал,
будет мыслить и говорить лишь о вещах, касающихся души, но не о
самой душе»**. Этими словами и завершается его статья об основных
понятиях психологии.
V
Н. Грот с полным основанием делает вывод о том, что «Страхов был,
несомненно, идеалистом, но совершенно своеобразного вида». Его
решительный рационализм в науке граничит со столь же решительным
мистицизмом в вопросах «жизни». Кантианские настроения смыкаются
здесь у Страхова с мотивами православного «миросозерцания». Еще
один «синтез», на сей раз не особенно гармоничный и не оригинальный.
В данной связи примечательно одобрение, с каким встретил уход
Страхова от «мертвящего рационализма в область живой и высшей
действительности» православный неокантианец А. И. Введенский***.
На основании слов Страхова о невозможности охватить «чистым
разумом» мир в целом, Введенский делает вывод об отсутствии у того
«законченной системы», приводя всяческие резоны, в силу которых
для Страхова создание философской системы оказалось делом
невыполнимым. На это следует заметить, что противоречия в основаниях
* Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 472.
* Страхов H. H. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 40.
* Введенский А. И. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. С. 3.
Философская антропология Страхова
741
философских, и вообще научных, теорий — вещь самая обычная
и вполне нормальная. Вот только не все творцы «систем» эти
противоречия способны самостоятельно обнаружить и, тем более, откровенно
признать их наличие. «Законченных систем», о которых толкует
Введенский, не бывает на свете. Что вскоре наглядным образом и
продемонстрирует «почтеннейшему профессору» Вл. Соловьев, выявив
в учении Введенского о Боге массу логических противоречий разного
сорта, вплоть до самых элементарных*.
В чем Введенский прав, так это в том, что в стиле мышления
Страхова есть «нечто сократовское». Сам процесс и методы исследования
интереснее и ценнее созданной им системы, а его аналитика выглядит
явно предпочтительнее «синтетики». В принципе, то же самое можно
сказать и в целом о характере русской философии той эпохи. В данном
плане Страхов — философ типично русский. В личности и творчестве
Страхова, быть может, полнее и чище, чем в ком-либо из его
современников, нашел свое выражение наш национальный философский
«архетип» XIX столетия, от православного вершка до гегельянского
корешка.
Подводя итог, можно сказать, что учение Н. Страхова о человеке,
о нашем бытии в «мире как целом», представляет собой оригинальный
опыт философской антропологии, во многом предвосхитивший
исследования М. Шелера и персоналистов о «положении человека в космосе».
При этом исходные основания антропологии Страхова совершенно
иные — методы гегельянской диалектики плюс догматы православия.
Творческая биография русского мыслителя по сути повторила тот же
самый путь, что продела вся европейская философия в XIX веке:
переход через Эверест гегелевской системы к новому, некпассическому
типу философствования. Заслугу Страхова можно видеть в том, что
в его философии этот переход осуществился более органично, с
удержанием ряда ценных идей из наследия классики, а не как тотальное
отрицание на позитивистский или ницшеанский манер.
е*
* Соловьев Вл. Понятие о Боге (в защиту философии Спинозы) // Вопросы
философии и психологии. 1897. Кн. 38. С. 383-414.
Е.А.АНТОНОВ
Понимающая философия H. H. Страхова
<...> По своей природе Страхов обладал врожденной способностью
к рассуждениям. Для него были характерны как интеллектуальная
углубленность, так и тонкое эстетическое чувство, своеобразно
дополняющие друг друга. Ап. А. Григорьев в одном из своих писем Страхову
назвал его — «мой всепонимающий философ»*. Именно поэтому
его концепция понимания важна для нашего времени, поскольку в ней
содержится ряд положений не только весьма значимых самих по себе,
но и перспективных с точки зрения тех задач, которые стоят перед
современной теорией понимания и эпистемологией.
Склонность Страхова к метафизике неоднократно отмечал
Л.Н. Толстой. <...>
I
Проблема понимания
Своеобразие творческой деятельности Страхова было неразрывно
связано с его самобытной способностью к пониманию. Через все
философское творчество Страхова последовательно проходит идея
понимания. Поэтому его философию можно с полным основанием назвать
«понимающей», поскольку для нее конструирующим признаком является
субъективный смысл, имеющий экзистенциальный характер. При этом
феномены понимающей философии относятся к иному плану
реальности, чем явления объективной реальности. Понимающая философия
исходит из предпосылки, согласно которой познание есть
одновременно созидание нового, осуществляющееся через формирование
диалоговой «вопрос-ответной» системы. И в этом плане совершенно прав
* Григорьев Ап. Письма. М., 1999. С. 261.
Понимающая философия H. H. Страхова
743
H. П. Ильин, который планомерно занимается реабилитацией Страхова
как творца в интеллектуальной области. Он, одним из первых, обратил
на это внимание исследователей. «Довольно настойчиво, — пишет он, —
Скатов повторяет мысль о том, что Страхов «не был творцом», но лишь
проявлял «знаменитую страховскую способность понимания» русской
словесности. Мысль эта нуждается, на наш взгляд, в существенном
уточнении. Дело в том, что понимание является, по сути, особым
видом творчества, творит духовное бытие в собственном смысле слова.
Не увенчанное пониманием, ясным и глубоким самоосмыслением,
стихийное творчество остается, можно сказать, «святыней под спудом».
В книге «Бедность нашей литературы» (1868) мыслитель отмечал,
«первая наша бедность есть бедность сознания нашей духовной
жизни». Имея великих художников, мы бедны их пониманием; да и сами
они порою плохо понимали себя, не умели верно оценить настоящие
«средства своего таланта». Пусть H.H. Страхов и не был «творцом»
в привычном для нас смысле слова — он был одним из первых, кто
сумел понять историю русской литературы как историю «постепенного
развития нашей самобытности», понять ту преемственность, которая
соединяла в одну «золотую цепь» Ломоносова, Державина, Карамзина,
Пушкина и т.д.»*. <...>
Такая трактовка творческой деятельности Страхова созвучна
современным достижениям в области теории понимании.
«"Понимание", — пишет В. Н. Порус, подводя определенный итог
многочисленным дискуссиям по этой проблеме, — должно трактоваться как процесс
порождения и усвоения смыслов в ходе исторически обусловленной
практики. Смыслы не предшествуют пониманию (будь то в постигаемых
объектах-текстах, будь то в кладовых субъективных "фондов" смысло-
образования), они порождаются самим пониманием». И далее он
заключает: «Таким образом, понимание является творчеством. Процесс
смыслопорождения детерминируется духовным потенциалом субъекта,
его целями, жизненными ориентирами, степенью его активности,
социальнокультурными предпосылками осмысления реальности. Этот
процесс требует определенной духовной автономности субъекта: чтобы
творить, нужно быть свободным» **. И таким свободным и независимым
человеком в философии и литературе был Страхов. «Самым
независимым человеком в литературе, — писал В. В. Розанов, — я чувствовал
Страхова, который никогда даже о "правительстве" не упоминал,
* Ильин Н. Понять Россию. О жизни и творчестве Николая Страхова (1828-1896) //
Молодая гвардия. 1997. № 4. С. 225-226.
г* Порус В. Н. Искусство и понимание: сотворение смысла // Заблуждающийся
разум?: Многообразие вненаучного знания. М., 1990. С. 261, 262-263.
744
Е.А.АНТОНОВ
и жил, мыслил... имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье
вовсе не интересоваться "правительством". ...Он счел бы унижением
думать даже о министре внутренних дел,— имея в думах лишь века
и историю»*.
Концепция понимания у Страхова, например, в отличие от И. Канта,
существует в эксплицитном виде. Она не содержится в какой-то одной
работе и не изложена в строго систематическом виде, а разбросана
по статьям, рецензиям, книгам, содержится в эпистолярном наследии.
Корни страховской концепции понимания уходят к идеям И. В. Гёте,
Ф. Шлейермахера и других философов, историков, культурологов,
литературоведов, которые подчеркивали отличие социального мира, мира
культуры от природы и отмечали необходимость выработки особых
методов гуманитарного познания. Это происходило в условиях, когда
развитие западной, а вслед за ней и российской философии и
социально-гуманитарной науки шло в русле позитивизма, не делающего с
теоретико-познавательной точки зрения различия между социальными,
культурными и природными образованиями. Неудивительно поэтому,
что, утверждая необходимость понимающего подхода, русский
философ чаще всего оказывался на обочине основного интеллектуального
течения. Так произошло в русской культуре со Страховым. Этим
объясняется и сравнительно малое внимание, которое уделяли историки
философии «понимающей» стороне в творчестве философов и других
представителей социально-гуманитарных наук. Все это убедительным
образом свидетельствует о том, что само возникновение понимающей
философии оказалось непосредственным образом связано с анти-на-
туралистической и антипозитивистской реакцией.
Уже во времена Страхова существовали различные подходы к
решению проблемы понимания. Как отмечал один из основателей
герменевтики, Ф. Шлейермахер, главная задача исследователя
состоит в том, чтобы «суметь исходя из собственных умонастроений,
проникнуть в умонастроение автора, которого собираешься понять,
более того, суметь понять автора лучше, чем он сам себя понимал» **.
По его мнению, понять исторический текст — это значит проникнуть
в духовный мир творца этого текста и повторить его творческий акт.
Последователи Ф. Шлейермахера и В. Дильтея до сих пор склонны
говорить о понимании как о «вчувствовании в духовный мир другого
человека». При таком подходе понимание в философии и литературной
критике можно осуществить путем отказа от рефлексии и принятия
Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 414.
Цит. по: Гусев С. С, Тульчинский Г. Л. Проблема понимания в философии:
Философско-гносеологический анализ. М., 1985. С. 27.
Понимающая философия H. H. Страхова
745
совершенно другой позиции, способа и метода работы с текстом. Если
мы хотим понять другого человека, писателя, то мы должны занять
определенную внутреннюю позицию, увидеть мир глазами этого
писателя. Вопрос состоит в том, как нам войти в эту внутреннюю позицию,
и что это вообще означает для человека, который в нее входит? Ответ
может быть получен через обращение к тому, как сам Страхов относился
к проблеме понимания.
Вопрос о диапазоне понимания и его выразительных возможностях
чрезвычайно интересовал Страхова. Он отмечал, что «то понимание,
которое приписывается Гёте, представляет сродство скорее с чувством,
чем с знанием» *. К такому гетевскому пониманию природы может быть
способен и натуралист, обладающий знанием, но при этом он живее
может чувствовать то, что еще не улеглось ни в какие формы знания.
Согласно диалектической методологии, которой придерживался Страхов,
понимание всегда глубже и точнее, чем вчувствование, поскольку оно
тесно связано с имеющимся знанием. Поэтому «познание» и «понимание»
для него представляют собой тесно взаимосвязанные и в то же время
различные категории. Понимание, считал он, отличается от познания
на основании того, что «оно обнимает свой предмет вполне, в целости,
тогда как познание овладевает им по частям или только с известной
стороны. Познание движется медленно и постепенно, тогда как понимание
стремится прямо захватить глубину предмета и прозирать в его сущность,
хотя бы неполным и не вполне ясным образом. Однако же одно другому
не противоречит; исследуя предметы по частям, медленно, шаг за
шагом, натуралисты идут к той же цели, которой как бы непосредственно
достигает человек, одаренный живым чувством природы» **.
По мнению Гегеля, « понимать для рассудочной рефлексии — значит
познавать ряд посредствующих звеньев между каким-либо явлением
и другим наличным бытием, с которым это явление находится в связи,
значит усмотреть так называемый естественный ход явлений,
определяемый законами и отношениями рассудка (например, причинности,
достаточного основания и т.д.)»***. В полной мере сюда относится
и высказывание К. Маркса, утверждавшего, что «понимание состоит...
в том, чтобы постигать специфическую логику специфического
предмета»****. В логическом плане понимание — это умение воспроизвести
ход мысли автора произведения или собеседника, связать новую мысль
с другими, усвоенными ранее.
* Страхов Н. Н. Мир как целое. М., 2007. С. 271.
:* Там же.
:* Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., 1977. С. 148.
* Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 325.
746
Е.А.АНТОНОВ
Страхов стремился рационализировать проблему понимания,
выделяя два аспекта: 1) метафизический и 2) литературоведческий.
Проблема понимания текста того или иного произведения всегда
опирается на предварительные общие знания, хранящиеся в человеческой
памяти. Для понимания различных смыслов необходимо заранее
представить, о чем идет речь, т.е. иметь адекватные общие сведения
о социокультурном контексте.
Во многих работах Страхова прослеживается настойчивое
стремление утвердить свое понимание основных вопросов философии, науки,
общественного и литературного развития. Причем делается это
последовательно и с некоторой педантичностью в форме своеобразного
учительства. Особенно наглядно это проявлялось в его отношении к В. В.
Розанову. В своем письме к нему Страхов подчеркивал: «Нужно писать так,
чтобы и тот, кто не читал Вашей книги, понимал, что Вы говорите.
Все Ваши недостатки, т.е. Вашего писания, сказались в Вашей
статье. Отвлеченно, неопределенно, без строгого метода и твердой цели.
Вот Вам возражение, которого я не хотел поместить в свою рецензию.
Когда Вы говорите о науке, или о философии, то всем известно, о чем
Вы говорите. Но что такое Ваше понимание? Вы позабыли его
определить, — так определить, чтобы было ясно его отношение к науке
и к философии. И конечно, оно не существует, как что-то выше их,
или между ними» *. Поясняя свое отношение к феномену понимания,
Страхов писал: «Вообще, Ваши статьи, как и Ваша книга, страдают
неопределенностью предмета и неопределенностью метода... Потом,
если Вы стали рассуждать, — нужно, чтобы виден был Ваш метод, Ваши
приемы. Иначе никогда не будет видно, что Вы исчерпываете предмет,
что смотрите на него с наилучшей точки зрения. Вот у Гегеля Вы
увидите (пожалуйста, читайте его), что развитие понятий совершается
по диалектическому методу. Он и идет постоянно по линии этого
метода, а не движется наудачу, неизвестно откуда и неизвестно к чему» **.
Переписка Страхова с В. В. Розановым позволяет выявить взгляды
Страхова о понимании в структуре философского и научного познания.
В одном из примечаний к письмам Страхова В. В. Розанов писал:
«Страхов не совсем понимал книгу "О понимании", и я это
чувствовал все время знакомства с ним, и не совсем понимал так сказать
философскую часть моего духовного организма, накладывая на него
некоторые свои схемы a priori, взятые из этого германского идеа-
* Розанов В. В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники: H. H. Страхов,
К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 44-45.
** Там же. С. 37, 38.
Понимающая философия H. H. Страхова
747
лизма. Он во мне искал Гегеля или части Гегеля, тогда как во мне
не было ничего этого и вообще никакой части немца* *. По мнению
В. В. Розанова, «вообще по отношению ко всей русской
действительности и действительному содержанию русской духовной
жизни, русской умственной жизни,— книга "О понимании" была
колоссальным новым фактом, была совершенной перестройкой этой
жизни» **. Такова самооценка Розанова! Между тем именно Страхов
понял особенности таланта Розанова, отговорив его заниматься
собственно метафизическими проблемами, в частности, написанием
запланированной книги «О потенциальности и роли ее в мире
физическом и человеческом» и реализовывать себя в той области
творчества, к которой у него есть несомненная способность. Можно сказать,
что, наоборот, именно В. В. Розанов, несмотря на довольно тесное
сотрудничество со Страховым, не понял существа творчества своего
учителя и друга, хотя и много сделал для того, чтобы потомки могли
вернуться к страховскому наследию и переосмыслить его редкостное
дарование в контексте новых социально-культурных условий.
Можно вполне определенно утверждать, что В. В. Розанов в силу
своего мозаичного мышления и сам не до конца понял то, что написал
по проблеме понимания. Что уж тут говорить о других, не
обладавших его даром схватывания сути дела, но прекрасно умевших
философски мыслить, систематично и «по-немецки» педантично. Если
Страхов не понял В. В. Розанова, то кто же тогда понял и оценил книгу
В. В. Розанова? Пока, к сожалению, такого рода исследований в нашей
литературе нет. Правда, в связи с началом освоения в современной
России герменевтики и других философских учений возможность
адекватной оценки этой работы значительно возрастает***.
В силу сложившихся жизненных обстоятельств львиную долю своего
времени Страхов посвятил философской публицистике и литературной
критике, куда его постоянно и настойчиво тянули Ап. А. Григорьев,
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Майков, да и тот же Л. Н. Толстой. В свое
время Ап. А. Григорьев считал, что у критика, «судящая, анализирующая
сила перевешивает силу творческую» ****. В полной мере это можно
отнести к литературной деятельности Страхова. Время, в которое он жил
и работал, относилось к эпохе исторического перелома, требовавшей
* Там же. С. 16.
* Там же.
* См.: Бибихин В. В. Время читать Розанова // Сочинения Василия Васильевича
Розанова. О понимании: Опыт исслед. природы, границ и внутр. строения науки
как цельного знания. М., 1996.
г* Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 127.
748
Е.А.АНТОНОВ
пересмотра идейного наследия века Просвещения и смены
господствующего мировоззрения в России. Сама логика умственного развития
России обеспечила торжество анализа над синтезом. Это было
связано с тем, что XIX век в России был веком преимущественно анализа
и критики во всех областях творчества. Подход Страхова к различным
философским и литературным произведениям, будучи органической
частью этого процесса, являлся зачастую критикой критики, а его
анализ имел созидательный характер. Критикуя одни и отстаивая другие
взгляды, он способствовал их переосмыслению и включению в контекст
функционирования русской культуры.
Следует также обратить внимание на особенности самой натуры
Страхова, склонного больше к анализу, чем к синтезу,
преобладанию в нем критического дарования над синтетическим творчеством.
Как отмечал, близко его знавший, Э. Л. Радлов, «благодаря обширному
и всестороннему образованию, а также выдающемуся
критическому таланту, H.H. Страхов занимал в нашей литературе совершенно
своеобразное положение и в деле, например, литературной критики
не имеет преемника. Необходимо природное дарование, воспитанное
в строгой аналитической школе, чтобы вышел критик, равный по силе
Н. Н. Страхову»*. В свою очередь, Н. Я. Грот отмечал в Страхове его
удивительный дар понимания художественной литературы: «Он не был
сам художником-творцом, но зато — кто лучше Страхова понимал
красоты художественных произведений, красоту поэзии и
творчества? (курсив мой. — Е. А.)» **.
Суть страховской философии проявляется в рассмотрении человека
не как деятеля, а как зрителя. Не деятельность, а интеллектуальное
созерцание — вот что выступает у него на первый план. В. В. Розанов
считал, что «тайна Страхова вся — в мудрой жизни и мудрости
созерцания. Сюда-то он и звал, сюда-то он и сам пришел, — и недалеко,
всего «на Торговую улицу»; и вместе очень далеко — ибо это была
вечность» ***. И поэтому вполне правомерно некоторые современники
называли Страхова «мудрым стариком», вынесшим «всю тяжесть
созерцательного призвания». Для Страхова характерна мудрость
созерцания, «вчувствование» в философские и художественные произведения
и эстетизм высшего порядка. «Чрезвычайная вдумчивость, — писал
В. В. Розанов, — составляет, кажется, главную особенность в умствен-
Радлов Э. Несколько замечаний о философии H.H. Страхова // Журнал
Министерства народного просвещения. 1896. № 6. С. 399.
Грот Н. Я. Памяти H.H. Страхова. К характеристике его философского
миросозерцания. М., 1896. С. 5.
Розанов В. В. Литературные изгнанники: Воспоминания и письма. СПб., 2000. С. 7.
Понимающая философия H. H. Страхова
749
ных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть
его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать, и все-таки
находить еще новые мысли в них, которые или остались незамеченными
при первом чтении, или впечатление от которых закрылось
впечатлением от других, более важных мыслей»*. Страхов умело применял
сократическую иронию и обращал аргументы оппонента против него
самого. Для его философии характерна созерцательность с известной
долей скептицизма.
Для философских размышлений философа, являвшегося
носителем традиционного начала, характерен постоянный поиск центра.
И это вполне понятно, поскольку в традиционном обществе всегда
существовала апелляция к идее центра, вокруг которого вращалась
жизнь того или иного народа. Проблема центрирования человека
получила разностороннюю разработку в философии Страхова. В
своем ответе на рецензию книги «Мир как целое» он писал: «Но мысль
о центральности человека изложена мною не в виде одного общего
и отвлеченного вывода; я пояснял ее со многих и различных сторон,
с каких можно рассматривать предметы природы» **. Другие аспекты
этой проблемы рассмотрены им в книгах: «Борьба с Западом в нашей
литературе», «Об основных понятиях психологии и физиологии»,
«О методе естественных наук и значении их в общем образовании»,
а также во многих статьях по социально-гуманитарной проблематике.
II
Антропоцентризм и понимающая философия
Новоевропейский рационализм с его постижением мира в форме ло-
гоцентризма можно рассматривать «как своеобразный, перенесенный
из онтологической в гносеологическую и психологическую плоскость
антропоцентризм, ибо он разделил изменившийся для него мир на
оппозиции субъекта и объекта, сделав акцент на активном и своеобразном
субъекте в противоположность остальному пассивному объекту»***.
Следует признать, что вопрос об антропоцентризме в истории русской
философии еще не четко поставлен в современной научной литературе
и, тем более, не решен. В связи с этим различные исследователи зачастую
отождествляют антропоцентрический принцип с антропологическим.
* Там же. С. 10.
* Страхов H. H. Критические статьи: (1861-1894). Киев, 1902. Том второй. С. 428.
"* Самохвалова В. И. Человек и мир: проблема антропоцентризма // Философские
науки. 1992. №3. С. 163.
750
Е.А.АНТОНОВ
Так, по мнению В.Ф. Пустарнакова, все просвещенцы являются антро-
поцентристами. С такого рода выводами вряд ли можно согласиться,
поскольку каждый из означенных периодов в развитии культуры
обладал своей спецификой и выдвигал собственные базовые принципы.
Для понимания специфики антропоцентризма страховской
философии необходимо его рассмотрение в контексте развития просвещения
в России. В конце 90-х годов XX века на отечественных специалистов
по истории русской философии оказал сильное воздействие доклад
японского ученого Т. Симосато «Кризис русского Просвещения 1860-х
годов». В нем был четко поставлен вопрос о кризисе русского
просвещения, спровоцированный деятельностью шестидесятников. В написанной
под впечатлением этого доклада статье В. Ф. Пустарнакова
рассматривается вопрос о сущности философии русского Просвещения 1860-х
годов и впервые в нашей литературе обращается внимание на его кризис.
Осмысливая эту проблему на широком культурно-историческом фоне,
он пишет: «Все Просвещение антропоцентрично» и «как и все другие
части просветительской доктрины, просветительская философия истории
антропоцентрична»*. <...> Правда, характеризуя просветительский
антропоцентризм в России он не нашел соответствующего места
страховскому созерцательному антропоцентризму, для которого характерен
поиск центра в космологических и натурфилософских исследованиях.
Между тем, именно в философии Страхова антропоцентризм был
представлен системно и во всем его объеме, т.е. в более четкой и
последовательной форме, отличной от философского антропологизма русских
революционных демократов.
В редакционной рецензии, опубликованной в «Русском вестнике»,
отмечается, что «необходимо различать два противоположных склада
ума: ум центральный и ум периферический (или периферийный).
Вчитываясь в произведения H. H. Страхова, поражаясь обилием идейного
содержания в них, мы невольно отнесем его мышление ко второй
категории, т.е. категории периферических умов, тех, которые тяготеют
не к средоточению, а к окружности явлений: центральные умы всегда
скудны своим содержанием; ибо для них открыта в вещах только одна
точка; между тем как умам периферическим открывается бесконечное
множество точек. При всей глубине его эстетических и психологических
взглядов, в нашем авторе господствующей чертой, однако, является
обилие истинных идей. Нужно заметить, что «периферические» умы
не менее редки в людях, нежели умы «центральные». И равно далеки
от них те, что успокаиваются на поверхности вещей. Последние также
Пустарнаков В. Ф. Еще раз о сущности философии русского Просвещения
1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. М., 1998. № 4. С. 69.
Понимающая философия H. H. Страхова
751
мало знают о природе явлений (феноменов), того, что можно назвать
окружностью вещей, как мало знают о сущности, или том, что
можно назвать средоточием вещей. Для этих умов нет периферии, так как
центра. Между тем у нашего автора центр всегда чувствуется, никогда
не упускается из вида»*. Эта манера центрирования распространялась
Страховым на все области духовной деятельности людей — мифологию,
религию, философию, науку, литературу.
Страхов еще в 60-е годы XIX века выступал с
рационалистических позиций против вульгарного материализма в лице Л. Бюхнера,
Я. Молешотта и К. Фохта, а также критиковал антропологический
материализм Л. Фейербаха, Н. Г. Чернышевского и П. Л. Лаврова. При этом
«фейербаховскому материализму Страхов противопоставлял свой
антропоцентризм»**. Какой же характер имеет антропоцентризм Страхова?
На наш взгляд, ответ на него может быть получен лишь при тщательном
и скрупулезном анализе истории русской философии 2-й половины
XIX века. Действительно, в русской философии в рамках
просвещенческой тенденции отразилась и получила дальнейшее развитие традиция
понимания человека, обозначаемая как ренессансный антропоцентризм.
Первая, традиционная форма характеризуется пониманием
человека как сотворенного Богом, который тождественен природе. Это вело
к формированию антропоцентризма с пантеистическими основаниями.
Такой антропоцентризм был представлен в философии Страхова,
которая не только тесно связана с естествознанием, но и опиралась на него
в своих выводах. Вторая форма антропоцентризма в русской культуре
содержала в качестве своего основания эгоистическую активность
человека и имела утилитарный характер. В ее основе лежал здравый
смысл и теория разумного эгоизма. Эта форма антропоцентризма
получила развитие в философии русских революционных
демократов, в особенности в работах Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева
и М. А. Антоновича.
Страхов, по мнению В. В. Сапова, «опережая свое время,
совершает тот «антропологический переворот», который станет одной
из центральных тем более поздней русской религиозной философии,
а именно, проводя идею об органичности и иерархичности мира,
Страхов усматривает в человеке центральный узел мироздания» ***.
* От редакции. Критика. Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка
третья. СПб., 1896 // Русский вестник. 1896. Февраль. С. 249-250.
* Лазари Анджей де. В кругу Достоевского. Почвенничество. М., 2004. С. 181.
г* Сапов В. В. Страхов H. H. // Русская философия. Малый энциклопедический
словарь. М., 1995. С. 493.
752
Е.А.АНТОНОВ
В свете этого, как писал в свое время В. В. Зеньковский, «интересны
прежде всего (из раннего периода его творчества) его космологические
идеи, в частности, его антропоцентризм»*. И такого рода оценка
вклада этого мыслителя в разработку антропологических проблем
не является единичной и случайной. Об этом свидетельствуют не
только хорошо знавшие его люди, но и многочисленные труды Страхова,
которые, к сожалению, до сих пор еще не дошли до современного
читателя в полном объеме. К ним мы и обратимся для выяснения сути
и особенностей антропоцентрического учения Страхова и раскрытия
значимости высказанных им идей применительно к нашему времени.
Пытаясь определить центральную тему философских исканий своего
«крестного отца в литературе», В. В. Розанов утверждал, что таковой
является религиозная проблема: «Религиозное составляет ни разу
не названный центр постоянного тяготения его мысли» **. С этим
положением можно было бы согласиться, если бы не одно весьма важное
обстоятельство, а именно: эволюция взглядов Страхова свидетельствует
о том, что, отойдя от религиозного мировоззрения, он всю
последующую жизнь кружил вокруг вечных истин, неразрывно связанных
с человеком. Этот центр, на наш взгляд, лежит на поверхности, хотя
и уходит своими корнями глубоко в «почву», вглубь его творчества.
Этим центром является человек и его душа, которая включает
мышление, познание, сомнение и ощущение.
Антропологический гуманизм Страхова был тесно связан с
переосмыслением христианства, с отказом от теоцентризма, которому он
отдал дань в молодые годы и переходом к антропоцентризму, что было
связано с переносом философского интереса на проблемы морали и
эстетики. В. В. Зеньковский отмечал, что «центральное положение человека
в природном бытии, если оно не будет истолковано религиозно, ведет
к растворению человека в природе. Вне религиозного метафизического
антропоцентризма загадка человека неразрешима, бытие человека
лишается того, для чего шла природа в его развитии, — лишается
"смысла"... Страхов и в самом себе "не договорил" того, что было "центром"
его исканий»***.
В то же время важно учитывать и то, что «отстаивая идею
антропоцентризма, Страхов никогда не отрицал ни существования
личностного Бога, ни дуализма души и тела. Человек был для него центром
органического мира, ибо сотворен по образу и подобию Бога, и в этом
* Зеньковский В. В. История русской философии. М., 1998. Т. 1.4. 2. С. 219.
'* Розанов В. В. О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного
из славянофилов // Вопросы философии и психологии. М., 1890. Кн. 4. С. 36.
* Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. T.I. Часть 2. С. 220.
Понимающая философия H. H. Страхова
753
его совершенство. Естественные науки, доказывая превосходство
человека над другими организмами, только подтверждают эту истину» *.
Согласно его пониманию, антропоцентризм, во-первых, предполагает
рассмотрение человека в качестве важнейшего предмета
философского познания, а, во-вторых, человек является центральным звеном всей
цепи космического бытия. Именно на последнем моменте он и делает
акцент в своих многочисленных исследованиях. Поэтому вряд ли можно
согласиться с рассмотрением антропологического материализма в
качестве антропоцентризма, как и с тем религиозным центром, который,
по мнению В. В. Розанова и его сторонников, был для Страхова
основным. На наш взгляд, антропоцентризм Страхова дальше созерцательного
подхода не простирался, но дополнялся лишь эстетическим отношением
к действительности. В этом проявлялась его ограниченность и
игнорирование специфики преобразовательной деятельности человека.
С другой стороны, Страхов разработал оригинальную философскую
антропологию, которая является стержнем его философского учения.
Ренессансное видение человека обосновывается им с
естественнонаучных позиций. Поэтому утверждения некоторых современных
исследователей о Страхове — родоначальнике «мистического персонализма»
(Н. П. Ильин) — являются односторонними, так как не учитывается
его философское творчество как единое целое. Антропоцентрические
философские искания Страхова, осуществленные на широком
культурно-историческом поле, предоставляют нам возможность увидеть новые
грани исследования человека, связать их с проблемой понимания.
Человеческая способность к пониманию прошла долгий путь
развития как в онтогенезе, так и филогенезе. Раскрывая последовательность
духовного формирования человека, Страхов писал, что он «сперва живет,
а потом понимает свою жизнь; на эти два периода с большей или меньшей
разностью распадается полное человеческое развитие. Сперва идет
бессознательное действие и проявление, потом сознание, более и более ясное»**.
Эти периоды творческого становления человека в процессе его духовного
созревания связаны с пониманием мыслителем творчества человека.
При этом возрастание сознания в человечестве ведет его к высшей цели.
Духовная самоорганизация личности исключает чисто
механистический подход к формированию личности. Поэтому Страховым
отрицается абсолютизм социальной среды, когда человек оказывается
пассивным потребителем разнообразных влияний. Личность выступает как
* Лазари Анджей де. В кругу Достоевского. Почвенничество. М., 2004. С. 182.
г* Страхов Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. XIII.
754
Е. А. АНТОНОВ
интегратор разнообразных влияний, как неповторимая
индивидуальность, своеобразно преломляющая и воплощающая в себе эти влияния.
Именно эта индивидуализация непосредственно связана с творческим
участием личности в развитии культуры и общества. В процессе
самоорганизации индивид строит себя как единую и сложную по структуре
культурную целостность.
Важнейшим и существеннейшим условием становления и развития
личности является свобода. Свобода личности предполагает глубокую
перестройку внешнего и внутреннего мира человека. Свобода
личности — чрезвычайно сложный и многогранный феномен, который
рассматривался Страховым с разных точек зрения: философской,
психологической, нравственной, педагогической, правовой, политической и др.
Фактически свобода означает возможность и способность индивида
выбирать ту или иную линию поведения в соответствии с его
знаниями и убеждениями. Между тем, как отмечал Страхов, «человек редко
бывает последователен, и чистая свобода есть дело столь же мудреное,
как и чистый разум. Сколько у нас нелепых людей, сохранивших все
признаки, все привычки умственного рабства и, однако же,
беспрестанно хвалящихся свободой!» *. С особой наглядностью он стремился
представить такое понимание свободы у нигилистов. Дело в том, что
формирование самосознания личности было тесно связано в России
с таким сложным явлением как нигилизм, который долго и упорно
подготовлялся русской жизнью. В нем ярко и странно отразилась
наша своеобразная психология. Страхов считал, что «характер эгоизма
в высшей степени ясен у всех отрицателей, т.е. не то, что они сами
великие эгоисты, а то, что признают эгоизм священным принципом»**.
Проблема понимания в истории отечественной философии тесно
связана с проблемой перевода. Значительный отпечаток на
концепцию понимания Страхова наложил опыт перевода на русский язык
работ по философии, науке и литературе. Чрезвычайно важно было
понимание научного смысла переводимого текста. В частности, это
касается перевода «Истории новой философии» К. Фишера с немецкого
языка и Ренана с французского языка. Большое влияние на теорию
понимания оказала работа Страхова в качестве литературного критика
и литературоведа. Прежде всего, это относится к анализу творчества
Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, A.A. Фета.
Важно также иметь в виду, что научиться понимать совсем не просто.
Для этого требуется не только определенная способность, но и искусство
* Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические
очерки. Киев, 1897. Книжка первая. С. 108.
* Л. Н. Толстой и H. H. Страхов. Полное собрание переписки. Т. II. С. 635.
Понимающая философия H. H. Страхова
755
понимания, приобретаемое длительной работой мысли. То или иное
понимание возникает не просто как субъективная позиция
исследователя, а определяется более широкой системой культурно-исторических
традиций. Каждая культура вырабатывает свою форму понимания,
некий «канон смыслообразования». Понимание органически вплетено
в структуру человеческого мышления, являясь важнейшим атрибутом
человеческого разума. M. M. Бахтин отмечал, что «безоценочное
понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку: они
одновременны и составляют единый целостный акт» *.
Понимание является постижением смысла явления или текста.
«Понимание идет дальше воспроизведения наличного бытия, раскрывая
его бесконечные смысловые глубины и перспективы. Понимание всегда
является сотворчеством, оно активно, диалогично... В результате такого
диалога всегда происходит приращение знания»**. Однако даже полное
и глубокое понимание того или иного явления далеко не всегда
сопровождается принятием смысловой структуры, признанием ее своей. Нельзя
сводить понимание к осмыслению языковых образований, поскольку
«понимание как осмысление есть более общая процедура, связанная
с нормативно-ценностными системами общественной практики»***.
Неприятие нормативно-ценностной системы, характерной для
Страхова, привело западников к недопониманию его позиции. Ярким
примером стал конфликт с Вл.С. Соловьевым. Как тонко подметил
А. С. Левицкий, «успеху Страхова мешало то обстоятельство, что он был
мало доступен для людей, лишенных религиозного слуха и утонченной
культуры. "К нему прислушивались лишь люди с трансцендентной
закваской" — успел сказать про него Аполлон Григорьев»****.
Весьма глубокую и содержательную характеристику жизни и
творчества Страхова дал кн. В. Мещерский: «По количеству познаний, по
ясности и силе ума, по дару владения мыслями и их изложения, по яркости
и убедительности своего творчества в литературе, Страхов вряд ли имел
за последние 30 лет соперника; но между тем никого не знали меньше
Страхова, никого не читали меньше Страхова, ни с кем там мало не
церемонились в литературе, как со Страховым; а было из-за чего
церемониться, если принять в соображение, какими пигмеями были все, писавшие
в литературе, и каким гигантом ума и исполином критики бы одинокий
* Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1976. С. 346.
** Коршунов А. М., Мантатов В. В. Гуманитарное знание и понимание //
Философские науки. 1986. № 5. С. 39.
*** Гусев С. С, Тульчинский Г. Л. Проблема понимания в философии: Философско-
гносеологический анализ. М., 1985. С. 65.
**** девицКий С. H. H. Страхов (Очерк его философского пути) // Новый журнал.
1958. №54. С. 184.
756
Е.А.АНТОНОВ
Страхов. <...> Страхов как будто слишком много предъявлял собою
требований к нашей мысли, к нашему просвещению, к нашим мозгам,
и мы предпочитали от него ускользнуть, чем его читать, им наслаждаться
и им просвещаться. Главная ошибка Страхова, мне представляется, была
та, что он родился русским. Родись он и создай умом и знаниями все, что
создал, в Англии, Германии, во Франции даже, при всей ее
легкомысленности, его имя давно бы гремело и славилось во всемирной науке.
Он сделался бы авторитетом в умственном руководстве образованными
поколениями, в храмах науки и литературы и, в особенности, во всех
высших школах» *. Такое глубинное проникновение в суть жизни и
творческой деятельности Страхова, а также осознание его подлинного места
в истории мировой культуры сегодня только начинается.
Действительно, философская позиция Страхова может быть понята
только в контексте всей русской и западноевропейской
интеллектуальной традиции. Он был самобытным русским мыслителем, в творчестве
которого своеобразным образом преломлялись ведущие идеи как
западноевропейской, так и русской культуры второй половины XIX в.
Будучи глубоким мыслителем и сильнейшим аналитическим умом
своего времени, он поставил ряд принципиально новых проблем,
органично вошедших в контекст антропологических устремлений русской
философии второй половины XIX — начала XX в.
Диалог, который вел Страхов на протяжении почти четырех
десятилетий с ведущими идеологами (течениями) России и Запада,
неотделим от процесса понимания. Именно понимание обеспечивает диалог
культур. Страхов может быть правильно понят и оценен только во всей
полноте его наследия, являющегося выражением его
энциклопедической натуры, а философия Страхова может быть определена как
«философия органического понимания» **. Только поняв философию
Страхова, можно адекватно понять и русскую философию, науку,
литературу, искусство в целом, осознать место и роль России в
историческом процессе.
Страхов не сформулировал систематической концепции понимания,
но он вплотную подвел исследователей к осознанию ее необходимости.
Поэтому можно вполне определенно сказать, что антропоцентрическая
философия Страхова лежит в основе русской традиции понимающей
философии.
еэ
* Страхов H. H. Некролог. СПб., 1896. С. 4.
* Снетова Н.В.Н.Н. Страхов как философ // Вестник ОГУ. 2005. № 4. С. 11.
И.А. ПАПЕРНО
Л. H. Толстой в переписке
с H.H. Страховым (1875-1879):
философский диалог о вере
В огромном корпусе писем Толстого особое место занимает его
переписка с Николаем Николаевичем Страховым в 1875-1879 годах*. И как
литературный критик, и как автор популярных трудов по философии,
Страхов принимал заметное участие в интеллектуальных дебатах своего
времени. В частной жизни ему не раз пришлось выступать в качестве
собеседника, редактора и конфидента — проводника идей и посредника
между различными мнениями и различными людьми. (Так, он был
связующим звеном между Толстым и Достоевским, которые никогда
не встречались**.) Страхов рад был содействовать Толстому своей
обширной эрудицией в вопросах философии и богословия. (Используя свое
служебное положение библиотекаря в Санкт-Петербургской Публичной
библиотеке, он также снабжал Толстого книгами.) Более того, он
рекомендовал себя как человека, обладающего особой способностью
и потребностью искренне входить в интересы и мысли другого
человека (Ш: 207)***. Толстой отвечал тем же. Весной 1875 годе (после четырех
лет дружбы) Страхов признался Толстому, что давно уже мучительно
* О переписке Толстого и Страхова см. : Донское А. А. Л. Н. Толстой и H. H. Страхов:
Эпистолярный диалог о жизни и литературе. Ottawa; Moscow: Slavic Research
Group at the University of Ottawa; the State L. N. Tolstoy Museum, 2008.
г* Об этом см.: Orwin D. T. Strakhov's World as a Whole: A Missing Link between
Dostoevsky and Tolstoy // Poetics. Self. Place. Essays in Honor of Anna Lisa
Crone I Ed. by Catherine O'Neil et al. Bloomington, Ind.: Slavica, 2007. P. 473-493.
r* Переписка Толстого и Страхова цитируется в этой главе и далее по изданию:
Толстой Л. Н., Страхов Н. Н. Полное собрание переписки: в 2 т. / Ред. А. Донсков;
Сост. Л. Д. Громова и Т. Г. Никифорова. Ottawa; Moscow: Slavic Research Group;
the University of Ottawa and the State L. N. Tolstoy Museum, 2003. В тексте в
круглых скобках после аббревиатуры П (Переписка) указаны том и страница этого
издания. Другие тексты Толстого, как и по всей книге, цитируются по Полному
собранию сочинений в 90 томах с указанием тома и страницы.
758
И.А.ПАПЕРНО
искал «дела» в жизни (П1: 207, 22 апреля 1875). Толстой откликнулся:
«Немножко мне открылось Ваше душевное состояние, но тем более
мне хочется в него проникнуть дальше» (П1: 211,5 мая 1875). Он
подозревал, что оба они искали веры. (Оба давно хотели посетить Оптину
пустынь и говорить со старцами.) В сентябре они встретились в Ясной
Поляне, и Толстой почувствовал душевное родство между ними. Оба
они не могли слиться ни с «верующими христианами», ни с
«отрицающими материалистами». В письме от 26 октября 1875года Толстой
советовал Страхову «уяснить и изложить» его «религиозное
мировоззрение», чтобы «помочь тем, которые в том же бедственном одиночном
состоянии». Со своей стороны, Толстой чувствовал, что в этом состоял
и его «долг», и его «влечение сердца» (Ш: 221-222). Страхов ответил,
что последует совету и сделает, что сможет (П1: 224, 4 ноября 1875).
В ответном письме Толстой бросил своему собеседнику вызов:
«вызываю на переписку». Он добавил: «Боже мой, если бы кто-нибудь
за меня кончил А. Каренину!» (Ш: 226, 8-9 ноября 1875). (Работа
над романом шла туго, с большими перерывами.) <...>
Философский диалог
По просьбе Толстого Страхов начал диалог. Опираясь на свое
философское образование (что явно привлекало Толстого), он использовал
три вопроса Канта, сформулированные в «Критике чистого разума»:
что я могу узнать? что я должен делать? на что я могу надеяться?
(А 805/В 833). Для Страхова главным вопросом был второй: «что
делать», или, «в переводе на христианский язык: как спасти свою душу»
(П1: 228, 16 ноября 1875). Однако для него это был вопрос не о
религиозном спасении, а о возможности активной деятельности.
Толстой ответил, что его всегда занимал один последний вопрос:
«На что я могу надеяться?» Для него это был в первую очередь вопрос
о будущей жизни, о бессмертии души. Он также полагал, что все три
вопроса нераздельно связаны в один: «что такое моя жизнь, что я
такое?» (П1: 210, 30 ноября 1875).
Добавив, что может показаться странным и легкомысленным
отвечать на этот вопрос «на двух почтовых листиках бумаги», Толстой
заявил, что тем не менее может и должен это сделать и сделал бы,
если бы писал не письмо «близкому человеку», но «свою profession
de foi, зная, что меня слушает все человечество» (Ш: 230).
Затем он сделал длинное отступление о методе. Есть научный
метод, убеждающий путем логического изложения результатов знания,
но только одна философия — настоящая философия, имеющая задачей
ответить на вопросы Канта, — действует не логическими выводами,
Л. Н. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 759
а чем-то иным и только гармоничность соединения в одно целое таких
нелогических понятий может убедить, и при этом «убедительность
достигается мгновенно, без выводов и доказательств». Толстой писал
длинно, сумбурно, надеясь, что его собеседник поможет разобраться
«в этом сумбуре» (П1: 234-235, 30 ноября 1875). Как кажется, перед
Толстым стояла задача не столько поисков веры, сколько поисков
методов определения своей веры.
К этому письму был приложено (написанное рукой переписчика)
предисловие к философскому сочинению, озаглавленное «Для чего
я пишу?». Толстой начал от первого лица и в биографическом ключе:
«Мне 47 лет. <...> я чувствую, что для меня наступила старость».
Он писал аллегорическим языком духовной автобиографии: как
путник, он поднимался выше и выше «на таинственную гору»,
но не нашел того, что искал, и начал спуск туда, откуда он вышел.
Теперь он вступал в старость, и пред ним была смерть. Отвергнув
мысль, что жизнь — это «пустая и глупая шутка» («то сознание,
из которого Декарт пришел к доказательству существования Бога»),
он стал отыскивать иной взгляд на жизнь, «при котором
уничтожилась бы кажущаяся бессмыслица жизни». Итак, «рассказать о том,
каким образом из состояния безнадежности и отчаянья я перешел
к уяснению для себя смысла жизни — составляет цель и содержание
того, что пишу» (П1: 236-237, 30 ноября 1875). (Через несколько
лет в «Исповеди» Толстой воспользуется тем же языком, теми же
метафорами.)
Здесь рукопись прерывается. Толстой продолжал свое письмо:
«Я не мог дать переписать всего». Он опасался, что «то, что следует,
привело бы во искушение переписчика». В том, что следовало, он
рассуждал, что удовлетворительный ответ на такие вопросы может дать
только религия, но «нам невозможно с нашими знаниями верить в
положения религий» (Ш: 237).
Толстой с нетерпением ждал ответа — он ждал от своего собеседника
возражений, чтобы «вам и себе показать <...> гармоничность и
законность сопоставления понятий моего религиозного (философского
воззрения)» (П1: 239, 30 ноября 1875).
Страхов ответил, что в своем отступлении о методе Толстой, как
кажется, говорит, что наука использует «анализ» (деление целого
на составные части), в то время как метод философии — «синтез»
(Ш: 240-241, 25 декабря 1875). Толстой не согласился с
подставлением слов «анализ» и «синтез» под то, что он хотел сказать. Он
добавил, что эти «злодейские слова», вместе со словами «субъективный»,
«объективный», «индуктивный», «дедуктивный», «наделали много
бед» (П1: 243, 1-2 января 1876). В их философской переписке затем
760
И.А.ПАПЕРНО
наступил перерыв (обмен обычными, «дружескими» письмами
продолжался). Толстой вынужден был вернуться к корректуре «Анны
Карениной».
Толстой отправил свое второе философское письмо только 15
февраля 1876 года, приложив к нему очерк «О душе и жизни ее вне известной
и понятной нам жизни» *. Обратившись к другому способу изложения
(не духовной автобиографии, а философскому рассуждению), он также
начал со слова «я» в составе картезианской формулы (которую тут же
зачеркнул): «Я существую» (17: 340). (Возможно, образцом
послужили слова Руссо в «Исповедании веры савойского викария»: «Mais
qui suis-je? <...> J'existe <...>»**.) Зачеркнув написанное, Толстой
попытался подойти к проблеме с точки зрения своих антагонистов,
материалистов: «я живу и по опыту знаю, что и я умру» (17: 351-352).
За этим следовало длинное рассуждение о различии между живыми
существами и мертвым веществом (он заимствовал эту тему из
книги Страхова «Мир как целое» [1872], написанной в форме писем***).
Это рассуждение привело Толстого к необходимости определить
понятие души. Но как определить душу в категориях мышления? В конце
концов (после многих страниц) Толстой вернулся к начальной точке:
«Не знаю, в какой степени точно выражение Декарта: я мыслю, потому
я живу; но знаю, что, если я скажу: я знаю прежде всего себя: то, что
я живу, — то это не может быть не точно» (17:351, курсив Толстого).
Толстой ждал подробного ответа от Страхова.
Страхову было нелегко вести философский диалог с человеком,
которого он боготворил. После долгого промедления он ответил —
поставив попытку Толстого в широкий контекст философского знания:
«Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому
шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно так же
начинали из себя, от Cogito, ergo sum, от я, от сознания воли, — и
отсюда выводили понятие об остальном существующем» (П1: 256).
Идя по этому пути, продолжал Страхов (пути посткартезианской
философии), мы не сможем достичь того, чего оба желаем, — того,
что лежит вне разума и вне субъекта. Таким образом, всегда
окажется, что человек, от которого мы начали, или «сознательное я»,
* Инесса Меджибовская предложила другую интерпретацию очерка «О душе».
См.: Medzhibovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture of his Time: A Biography
of a Long Conversion, 1845-1887. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2008.
P. 162-163, 166-167.
r* Rousseau J.-J. Emile 11 Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. T. IV. Paris: Pléiade,
1959. P. 570.
* О реакции Толстого на книгу Страхова см.: Orwin D. Т. Strakhov's World as a Whole.
P. i66-170.
Л. H. Толстой в переписке с H. H. Страховым (1875-1879)... 761
и есть предел, до которого дошло все сущее. Страхов возлагал
огромные надежды на Толстого и его поиски ответов на главные вопросы,
но он начал сомневаться в действенности принятого Толстым
философского способа рассуждения: «Ваши попытки меня и прельщают
и пугают. Если Вы потерпите неудачи, если почувствуете сомнения,
то для меня они будут страшнее собственных неудач и сомнений.
Потому что в Вас я верю; я жду от Вас откровений, как те откровения,
которые нашел у Вас в такой силе и множестве в Ваших поэтических
произведениях. <...> Вы пытаетесь <...> привести Ваши взгляды
в формулы обыкновенного знания. Я заранее уверен, что результаты,
которые Вы получите, будут в сто раз беднее содержания Ваших
поэтических созерцаний. Посудите, например, могу ли я взгляд на жизнь,
разлитый в Ваших произведениях, не ставить бесконечно выше того,
что толкует о жизни Шопенгауэр, или Гегель, или кто Вам угодно?»
(П1: 257, 8 апреля 1876).
Высказав сомнения в способности собеседника найти откровения
вне художественной формы, он перевел разговор на «Анну Каренину» :
«Анна Каренина возбуждает такое восхищение и такое ожесточение,
какого я не помню в литературе» (П 1:258). (Главы 7-20 части пятой
вышли в свет в журнале «Русский вестник» в апреле.)
Толстой давно уже просил Страхова перестать хвалить его роман.
Что касается своих попыток философствовать, то Толстой понимал, что
он выражается неясно, но надеялся, что его собеседник поймет «и
дурно выраженное» (П1: 261). Он сделал еще одну попытку определить
тот принцип, который объемлет и живое и неживое, и «я» и «не-я»:
«Бог живой и Бог любовь» (Ш: 262, 14 апреля 1876).
Страхов немедленно сел за ответ, но отправил свое «философское
письмо» только 8 мая 1876 года (П1: 271). Он вновь предпринял
попытку поставить неясные мысли Толстого в контекст профессиональной
философии: «Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь.
Теперь мне ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что
ее можно развить логически в такие же строгие формы, какие имеют
другие философские системы. Это будет пантеизм, основным
понятием которого будет любовь, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля
мышление» (Ш: 263).
Толстой не ответил. Он вернется к философской переписке только
шесть месяцев спустя (Ш: 291, 12-13 ноября 1876). Летом 1876 года
Страхов дважды посетил Ясную Поляну, и они продолжали свое
философствование с глазу на глаз.
Эпистолярный философский диалог зашел в тупик. Другая тема
теперь заняла главное место в переписке Толстого и Страхова: «Анна
Каренина».
762
И.А.ПАПЕРНО
«Чтобы вам, вместо того,
чтобы читать Анну Каренину, кончить ее...»
В течение всего года Толстой был раздражен призывами Страхова
вернуться к «Анне Карениной». Со своей стороны, он упрекал Страхова
в том, что тот продолжал заниматься литературной критикой: «Тут
вы платите дань, несмотря на ваш огромный и независимый ум, дань
Петербургу и литтературе» (П1: 244, 1-2 января 1876; курсив
Толстого; по-видимому, от французского «littérature»). Он просил
Страхова показать истинную дружбу: или не хвалить роман, или
написать про все, что в нем дурно. В этом контексте Толстой заметил:
«Мерзкая наша писательская должность — развращающая» (Ш: 259,
8-9 апреля 1876). Мимоходом он упомянул, что думает оставить роман
без завершения (П1: 259).
Это так взволновало Страхова, что он обратился к Толстому со
страстным призывом: «Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие
и, кажется, желаете от меня совета — прекратить печатанье Анны
Карениной и оставить в самом жестоком недоумении тысячи
читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится? <...>
Вы меня привели в такое волнение, как будто мне самому приходится
писать конец романа» (П1: 264-265, апрель 1876).
Он также упрекнул Толстого за то, что тот не отвечал на
высказанные им в письмах суждения об «Анне Карениной», спрашивая,
правильно ли он понял «идею» романа (Ш: 264)*. Толстой решил
наконец принять этот вызов: «ваше суждение о моем романе верно,
но не все — т.е. все верно, но то, что высказали, выражает не все, что
я хотел сказать» (П1: 266).
Толстой затем сформулировал свое представление о том, что
составляет смысл романа:
«Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду
выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый, который
я написал, сначала. <...> Во всем, почти во всем, что я писал, мною
руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой,
для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо,
* Комментаторы полного собрания переписки Толстого и Страхова полагают, что
существовало письмо Страхова об «Анне Карениной», которое до нас не дошло.
Мне кажется возможным, что Страхов имел в виду суждения о романе,
которые он высказывал в разных письмах: от 23 июля 1874 (Ш: 171-72); 8 ноября
1876(111: 186); 1 января 1875 (Ш: 190). Замечу, что Страхов и прежде упрекал
Толстого в том, что тот не отвечал на его суждения о романе: см. письмо от 1
января 1875 (П1: 190).
Л. Н. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 763
теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того
сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено
не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого
сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только
посредственно — словами описывая образы, действия, положения» (П1: 267).
Литературоведы двадцатого века видят в этой (часто цитируемой)
формуле утверждение превосходства словесного искусства над
другими формами выражения — способности литературы создавать
неисчерпаемые смыслы и может быть даже выразить невыразимое.
Но в то самое время, когда Толстой создал эту формулу, он собирался
оставить литературу, оставить «Анну Каренину», и старался овладеть
другой формой выражения — философским рассуждением, которому
доступны другие задачи — определить сущность человека и
человеческой жизни по отношению к Богу. В этом контексте можно прочесть
слова Толстого и иначе — как признание писателя в неспособности
ясно выразить свою мысль и свою интенцию. В это время ему
хотелось не продолжать сражаться с мучительными трудностями
художественного выражения, а обратиться к другому методу — такому,
как метод истинной философии, который позволил бы ему сказать
то, что он хочет, и найти такую форму, в которой «убедительность
достигается мгновенно».
В ответ на настойчивые призывы Страхова вернуться к «Анне
Карениной» Толстой, в свою очередь, призывал его бросить
литературу и обратиться к философии: «Бросьте литературу совсем и пишите
философские книги. Кому же писать? Кто же скажет, что мы думаем?»
(П1: 293,12 ноября 1876). Но из собственного опыта Толстой знал, что
трудность состоит в том, как сказать то, что думаешь, в художественной
ли, в философской или в какой-нибудь другой форме. В то время как
Страхов умолял его не оставить в недоумении читателей, Толстой, автор,
сам не знал, что он хотел сказать и чем же это кончится. Обращаясь
к своему внимательному читателю и критику, Толстой ворчал: «Чтобы
вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее и избавить
меня от этого Дамоклова меча» (Ш: 276, 31 июля 1867).
Когда Толстой наконец закончил роман (в апреле 1877 года),
то столкнулся с трудностями при издании заключительной части.
Эта история хорошо известна — издатель и редактор «Русского
вестника» Михаил Катков отказался печатать эпилог романа (опасаясь
реакции цензуры на высказанные героями критические суждения
об участии России в Балканской войне). Вместо эпилога издатель
поместил, без ведома автора, короткую заметку от редакции: «Что
случилось по смерти Анна Карениной». Толстого это взбесило.
764
И.А.ПАПЕРНО
Эпилог, в котором его автобиографический герой Левин подошел
к невыразимой словами вере, был особенно важен для него. Толстой
поручил Страхову печатание эпилога в виде отдельной брошюры,
а в дальнейшем и заботы о публикации романа в виде отдельной книги
(в которой эпилог стал самостоятельной, восьмой, частью романа).
В этом смысле Страхов кончил-таки «Анну Каренину» за Толстого*.
После завершения романа, в июле 1877 года, Толстой и Страхов
наконец предприняли давно задуманное паломничество в Оптину
пустынь, к старцам (которые наставляли в вопросах веры и жизни
приходивших в монастырь мирян)**. Толстому особенно понравился
отец Пимен, который заснул во время ученой беседы о вере***.
Но при всем том, что было сказано и сделано, Толстой продолжал
свои отчаянные поиски веры. Левин (герой, фамилия которого
образована от имени автора) нашел веру, а именно (перефразируя последние
слова романа) то «чувство», которое «незаметно вошло страданиями
и твердо засело в душе». Но в то время как герой, Левин, принял, что
вера — это «тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая
словами», автор, Лев Толстой, продолжал свои отчаянные попытки
выразить сущность веры словами, и не только для себя, но и для
других. В самом деле, при всем, что было общего между автором и героем,
между ними есть серьезное различие: Левин не написал ни «Войны
и мира», ни «Анны Карениной» ****. И если помещик Левин мог
принять веру как нечто нужное для него одного и невыразимое словами,
то Толстой — человек, который, даже когда он писал письмо близкому
* История сериализации романа описана в работах Вильяма Тодда: Todd W. M.
1) Reading Anna in Parts // Tolstoy Studies Journal. 1995-1996. № 8. P. 125-128;
2) The Responsibilities of (Co-) Authorship: Notes on Revising the Serialized Version
of Anna Karenina // Freedom and Responsibility in Russian Literature: Essays
in Honor of Robert Louis Jackson / Ed. by Elizabeth Cheresh Allen and Gary Saul
Morson. New Haven: Yale University Press, 1995. P. 162-169.
r* О старчестве и Толстом см.: Kolsto P. Lev Tolstoi and the Orthodox Starets
Tradition // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9.
№3. P. 533-554.
'* Посещение Оптиной пустыни обсуждалось в переписке между Толстым и
Страховым: П 1: 355 и П 1: 349. См. также: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой:
Материалы к биографии с 1879 по 1881 год. М.: Изд-во Академии наук СССР,
1963. С.440-441.
* Как вспоминал Г. А. Гуковский, Б. М. Эйхенбаум любил говорить: «Левин в "Анне
Карениной" все-таки не Толстой, — между ними одно различие, всего одно,
но какое! Левин делает и думает совсем то же, что делал и думал Толстой, кроме
одного: он не написал "Войны и мира"» (Гуковский Г Изучение литературного
произведения в школе. М.; Л., 1965. С. 62-63). Лидия Гинзбург упоминала
об этом в своих записных книжках за 1928 год (Гинзбург Л. Записные книжки.
Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002. С. 43).
Л. H. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 765
человеку, чувствовал себя, как если бы он оглашал свою profession
de foi, зная, что его слушает все человечество, — этого сделать никак
не мог (П1: 230).
В катехизической форме, в форме беседы
Как Толстой знал, имеются и общепринятые формы для выражения
веры. В ноябре 1877 года, вскоре после того, как он закончил «Анну
Каренину», Толстой слышал, как священник давал урок катехизиса
его детям. Это было так «безобразно» (Толстой писал Страхову), что
он решил сам «изложить в катехизической форме то, во что я верю».
Эта попытка еще раз показала ему, как трудно говорить о вере —
и даже «невозможно» (Ш: 374, 6 ноября 1877). В бумагах Толстого
имеется незаконченный текст под названием «Христианский
катехизис» (17: 363-368). Толстой начал с формулы собственного сочинения:
«Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах
всех людей и на всей земле <...>» (17: 363). (Эти слова напоминают
«Исповеданиеверысавойскоговикария» Руссо — «религиисердца»,
не нуждающейся в догматике.) Главный вопрос, «Что нужно для
спасения души?», получил ответ: «Ясное определение того, во что мы
верим <... >». Но следующий за тем вопрос, «Что есть вера?», привел
Толстого в тупик (17: 364).
Существует черновик и другого незаконченного сочинения,
«Определение религии-веры». В этом отрывке Толстой ввел новое
понятие — «религия-вера»: «слово религия-вера есть слово
понятное и несомненное для всех верующих <...> (17: 364). Но для
неверующих или для тех, кто полагает, что не имеет религии, слово
это требует точного определения» (17: 357). Но ясное определение
явно не давалось Толстому: написав полстраницы, он оборвал и смял
листок бумаги (именно в таком виде этот текст был найден в архиве
Толстого [17: 731]*).
После этих неудач Толстой приступил к интенсивному чтению
ученых трудов по вопросам религии. Страхов, используя свое
служебное положение в Публичной библиотеке, посылал в Ясную Поляну
книги. В декабре 1877 года Толстой писал ему, что весь ушел в
книги; среди них были сочинения немецких и французских авторов,
таких как Давид Фридрих Штраус, Эрнест Ренан, Фридрих Макс
Мюллер, Эмиль Бюрнуф (который писал о индуизме и буддизме),
а также Владимир Соловьев (П1: 385). Толстой спрашивал Страхова
* Меджибовская по-другому интерпретирует выражение «религия-вера» : Medzhi-
bovskaya I. Tolstoy and the Religious Culture. P. 173.
766
И.А.ПАПЕРНО
о «Критике практического разума» Канта, а также о Лао Цзы и о
трудах о религиях Индии и Ирана. Через две недели он упомянул, что
у него так много книг, что он в них теряется (П1: 389, 3 января 1878).
20 декабря 1877 года Толстой предпринял еще одну попытку
определить сущность веры, прибегнув на этот раз к форме философского
диалога. В диалоге «Собеседники» семеро участников, занимающих
различные позиции (они соотнесены с прототипами среди друзей
Толстого или известных философов): «здоровый идеалист философ»
(«Фет — Страхов — Шопенгауэр — Кант»); «естественник» («Вирхов —
Dubois Raimond — Тиндаль — Милль»); «позитивист» («Бибиков»);
«поп умный, отрицающий знание...»; «тонкий диалектик, джентльмен,
софизмами оправдывающий веру» («Хомяков — Урусов»); «монах,
отец Пимен... (спит)» и «я» («я» носит имя «Иван Ильич»)*.
В ходе беседы собеседники рассуждают о том, можно ли обосновать
веру различными типами знания — естественной наукой, чистым
разумом (по Канту), «диалектическим разумом» и опытом. «Иван Ильич»
(«я») объясняет «различие способа передачи», объявляет
«субъективно-этические основания» главнейшим фактором, утверждает, что
сущность религии вытекает из ответа на вопрос «Что я такое?», затем
робеет и в конце концов «находится в жалком положении» (17: 371).
На этом диалог обрывается.
Толстой вернулся к своему незаконченному сочинению ровно через
год, 20 декабря 1878 года, и испробовал другую структуру —
разговор между двумя собеседниками («И.» и «К.»). Но после нескольких
страниц он вновь остановился, добавив (как бы обращаясь к самому
себе — автору, а не герою): «Хотел прямо в форме беседы высказать
пришедшую мне нынче мысль и запутался» (17: 373). Он продолжал
писать в форме дневника, датируя отдельные записи (от 20 до 23
декабря). Но и этот проект остался незаконченным.
В апреле 1878 года Толстой писал Страхову, что на Пасху после
долгого перерыва вернулся к соблюдению обрядов и предписаний
православной церкви. Но это было не все: «я нынче говел и стал читать
Евангелие и Ренана Vie de Jésus...» (Ш: 429). Но он ни в чем не находил
облегчения. Евангелие и церковь, вместо того чтобы говорить об учении
Христа, настаивали на чудесах, в которые нельзя было верить. Ренан,
напротив, представил Христа как человека, и этот человек «непре-
В Полном собрании сочинений в 90 т. прокомментированы прототипы
собеседников (см. vi 735-736). Непонятным остается, имеет ли отношение имя Иван
Ильич, прототипом которого был сам Толстой, к герою рассказа «Смерть Ивана
Ильича», написанного в 1884-1886 годах. (Принято считать, что прототипом
героя рассказа послужил умерший в 1881 году Иван Ильич Мечников, брат
известного биолога Ильи Ильича Мечникова.)
Л. Н. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 767
менно потел и ходил на час» (П1: 430). И та и другая крайность были
неприемлемы для Толстого.
Итак, в течение более трех лет Толстой пытался в разных формах
уяснить свою веру, но все его попытки — философская переписка
с другом-единомышленником, философское сочинение, катехизис,
философский диалог в литературной форме — казались ему
неудовлетворительными. Его собеседник Страхов был вовлечен во все эти
попытки, и Толстой описывал ему сомнения в своей способности
определить веру, трудности с окончанием «Анны Карениной», разочарование
в литературе и отчаянье.
Время от времени он писал о своих исканиях и другому постоянному
корреспонденту — Александре Андреевне Толстой. В течение многих
лет он обменивался с ней откровенными письмами, в которых религия
занимала большое место. В письме от 5-9 февраля 1877 года он
описал свои отношения со Страховым: «У меня есть приятель, ученый,
Страхов, и один из лучших людей, которых я знаю. Мы с ним очень
похожи друг на друга нашими религиозными взглядами; мы оба
убеждены, что философия ничего не дает, что без религии жить нельзя,
а верить не можем. И нынешний год летом мы собираемся в Оптину
пустынь. Там я монахам расскажу все причины, по которым не могу
верить» (62: 311).
. Это письмо заключает поразительное признание: и Толстой, и его
ученый собеседник, Страхов, не только не могли уяснить свои
религиозные взгляды — оба они не могли верить.
Расскажите, чем вы жили и живете
В январе 1878 года Толстой включил в письмо к Страхову своего рода
краткий отчет с подзаголовком «Об искании веры». Вновь обратившись
к кантовским вопросам (которые в ноябре 1875 года открыли их
переписку), он сделал решительное заключение о невозможности выразить
сущность человека посредством разума, то есть словами: «Разум мне
ничего не говорит и не может сказать на три вопроса, которые легко
выразить одним: Что я такое? Ответы на эти вопросы дает мне в глубине
сознания какое-то чувство. Те ответы, которые мне дает это чувство,
мутны, неясны, невыразимы словами» (П1: 399).
Толстой добавил, что не он один мучим этими вопросами, а «все
жившее человечество в каждой душе мучимо было теми же
вопросами и получало те же смутные ответы в своей душе» : «Ответы эти —
религия» (П1: 399).
«На взгляд разума», продолжал Толстой, эти ответы бессмысленны:
«Бессмысленны даже по тому одному, что они выражены словом. <...>
768
И.А.ПАПЕРНО
Как выражение, как форма они бессмысленны, но как содержание
они одни истинны» (П1: 399). В этой замечательной формуле Толстой
отвергает словесную форму выражения как таковую. Но как же
преодолеть невозможность выразить, «что я такое», в форме, понятной
разуму? Как человеку обнять истину, невыразимую словами? Толстой
переходит к форме диалога, беря на себя и роль своего собеседника:
«Но вы скажете: поэтому и ответов не может быть. Нет, вы не
скажете этого <...>». Он убежден, что его адресат знает, что «ответы есть,
что этими ответами только живут, жили все люди и вы сами живете»
(П1: 399). Но ему кажется, что Страхов не понимает вот что: «На эти
вопросы с тех пор, как существует род человеческий, отвечают люди
не словом, орудием разума <...> а всею жизнью, действиями, из
которых слово есть одна только часть» (Ш: 399).
Не надеясь больше на силу слова, в конце письма Толстой выражает
надежду, что Страхов поймет, «несмотря на неточность моих
выражений, мою мысль» (П 1:400).
Страхов ответил, что не разделяет надежды Толстого на религию
(он даже находил Евангелие неясным) (Ш: 402, 3 февраля 1878).
Толстой начал понимать разницу между ними: «вижу, что мой путь —
не ваш путь» (Ш: 405, 7 февраля 1878). Два месяца спустя Толстой
выразил свое разочарование в собеседнике, который как будто не видит
настоящей дороги (П1: 423, 8 апреля 1878). Страхов охотно согласился
с критикой: «Да, таков я» (Ш: 428,11 апреля 1878). Он также сообщил,
что, продолжая поиски, перебирает разные взгляды людей, древние
и новые, на религию. Толстой ответил, что, перебирая чужие
взгляды, «лишаешься согласия с самим собою» (Ш: 429). Затем он бросил
Страхову новый вызов: «Вы прожили 2/3 жизни. Чем вы руководились,
почему знали, что хорошо, что дурно. Ну вот это-то, не спрашивая
о том, как и что говорили другие, скажите сами себе и скажите нам»
(П1: 429, 17-18 апреля 1878).
С этим предложением Толстой, как кажется, предпринял новую
попытку определить, «что я такое». Но какую именно форму рассказа
о себе он имел в виду?
Это осталось неясным Страхову. В ответном письме он
перефразировал вопрос Толстого: «Вы спрашиваете меня: как же я прожил
до сих пор?» В ответ он писал о своей неспособности активно
участвовать в жизни: «А вот как: я никогда не жил как следует. В эпоху
наибольшего развития сил (1857-1867) я не то что жил, а поддался
жизни... <...>». Страхов закончил словами: «Вот вам моя исповедь <...>»
(П1: 432-433).
Но такой ответ не удовлетворил Толстого. Он решил отложить
объяснение до встречи, но дал понять, что речь идет о вере — вернее, неверии
Л. H. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 769
Страхова: «О предмете нашей переписки надеюсь, что переговорим.
Коротко сказать, что мне странно, почему вы неверующий. И это самое
я говорил, но, верно, неясно и нескладно» (Ш: 434, 5-6 мая 1878).
Не дожидаясь встречи, Толстой предпринял и дальнейшие попытки
добиться своего, уклоняясь, однако, от ясного изложения поставленной
задачи: «Я пристаю к вам с нелегким: дайте мне ясный ответ, откуда
вы знаете то, чем руководились и руководитесь в жизни?» (П1: 439,
23-24 мая 1878). Между собеседниками возникло «странное
недоразумение» (Ш: 439).
В следующем философском письме Толстой отозвался на недавно
вышедшую книгу Страхова «Об основных понятиях психологии» (1878).
(Слово «психология» понимается здесь буквально — изучение
душевной жизни человека.) Страхов начал с Декарта и его положения
«Ego cogito, ergo sum» (именно в этой форме)*. (Напомним, что
то же сделал Толстой в неоконченном очерке «О душе...», который
он вложил в одно из своих первых философских писем к Страхову.)
Едва ли будет преувеличением сказать, что аргумент всей книги
исходит из попытки Страхова по-другому истолковать (или даже по-
другому перевести) формулу, которая легла в основу всей западной
философии. Обыкновенно слову cogito приписывают буквальный
смысл (рассуждал Страхов), а именно «мыслю». Немецкие историки
философии особенно настаивают на этом, так как понятие мышления
играет главную роль в немецкой философской традиции. Декарт же
(продолжал Страхов) подразумевал под словом cogito всю
совокупность психических субъективных явлений, то есть то, что мы называем
душевной жизнью, или душой. Следовательно, формулу «Ego cogito,
ergo sum» можно понимать в том смысле, что мое существование есть
прежде всего моя душа.
Страхов взялся определить понятие души и (в отличие от Толстого
в его неудавшемся очерке «О душе...» ) сделал это без долгих
рассуждений: «Душой я называю здесь пока <...> просто самого себя, насколько
я обладатель дознанного мною субъективного мира <...>». Совокупность
всех психических явлений индивида «и будет моя душа, мое я».
С этой точки зрения Страхов подверг критике понятие субъекта («я»)
и в немецкой («идеалистической») философии, и в «эмпирической
психологии» (он имел в виду английскую традицию, от Локка, Беркли
и Юма до Джеймса Милля и Джона Стюарта Милля, а также и
современную физиологию). В конце книги Страхов пришел к заключению,
Трактат Страхова впервые напечатан в «Журнале министерства народного
просвещения» в мае-июне 1878 года, а затем (с дополнениями) отдельным изданием
в 1886 году.
770
И.А.ПАПЕРНО
что вся система западноевропейской философии и психологии
является неадекватной тому, что составляет подлинный объект изучения,
а именно не мысль, а душа, жизнь души, как о том учил еще Декарт*.
Толстой внимательно прочел брошюру Страхова («и не раз и не два,
а всю исшарил по всем закоулкам»). Он похвалил автора за то, что
тот впервые показал и ложность идеализма Канта и Шопенгауэра,
и ложность материализма, и, более того, «как будто нечаянно»
определил душу. И тем не менее Толстой чувствовал, что в целом Страхов
на ложном пути: «Заслуга ваша в том, что вы доказали, что
философия — мысль — не может дать никакого определения этим основам
духовной жизни, но ошибка ваша в том, что вы не признаете того, что
основы (если они — основы) необходимо существуют <...> и такие,
которых мы — по вашему же определению — разумом, вообще своей
природой, ниоткуда взять не можем, и которые поэтому даны нам.
В этом-то смысле я спрашивал вас: чем вы живете, — и вы
неправильно, шутя о важнейшем, говорите: я не живу» (П1: 447, 29 мая 1878).
Толстой вновь свел разговор на свой вопрос и снова уклонился
от того, чтобы ясно выразить, что же он имел в виду под вопросом
«чем вы живете?».
Но чего же хотел Толстой от собеседника? Заметим, что он
спрашивал, не как Страхов прожил до сих пор (как его понял Страхов),
а «чем вы жили и живете?». Эта фраза неоднократно появляется
в более поздних сочинениях Толстого. Ясный ответ на вопрос «чем
вы жили?» имеется во вступлении к переводу и изложению Евангелия
(около 1880 года): «Приведенный разумом без веры к отчаянию и
отрицанию жизни, я, оглянувшись на живущее человечество, убедился,
что это отчаянье не есть общий удел людей, но что люди жили и живут
верою» (24: 9). (В 1881 году Толстой озаглавил одну из своих притч
«Чем люди живы».) Как кажется из этих текстов, Толстой имел в виду,
что рассказать, как человек прожил свою жизнь, означает рассказать
о своей вере (и наоборот, рассказать о своей вере — это рассказать
о том, чем человек жил и живет.) Но от ясного изложения своей мысли
он пока уклонился.
Разговор между Толстым и Страховым затем продолжался при
личной встрече в августе 1878 года. По возвращении Страхов написал
* Нет сомнения, что Страхов свободно толковал Декарта. Однако следует заметить,
что некоторые современные исследователи соотносят cogito Декарта с Августином,
у которого «я» — именно «душа». См.: Matthews G. В. Thoughts Ego in Augustine
and Descartes. Ithaca: Cornell University Press, 1992. P. 29; Seigel J. The Idea
of the Self: Thought and Experience in Western Europe since the Seventeenth
Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 57.
Л. H. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 771
Толстому, что на пути из Ясной Поляны он решил принять вызов
Толстого и написать свою жизнь, но не «биографию» : «Напишу Вместо
исповеди и посвящу Вам» (П1: 458, 29 августа 1878). Через две
недели Страхов подтвердил свое намерение, высказав новые сомнения:
«А какую цену, какое значение имеет моя жизнь! <...> Мне трудно
говорить об этом предмете, и вот почему я не могу писать автобиографии.
Каким тоном ее писать? Кажется, я бы всего сильнее выразил чувство
отвращения.
И с отвращением читаю жизнь свою,
Я трепещу и проклинаю»
(П1:463).
(Страхов цитирует известные строки из стихотворения Пушкина
«Воспоминание».) Он также повторил, что думает о Толстом как
единственном адресате для своей не-биографии: «Но для Вас я готов бы
это написать, а для других — не вижу цели <...> » (Ш: 463,14 сентября
1878). Но Толстой не откликнулся на это предложение. Сам он
находился осенью 1878 года в таком состоянии, что не мог даже ответить
на письмо: «я не находился сам в себе <...>» (Ш: 475, 27 октября 1878).
Год спустя Толстой и Страхов все еще обсуждали план обменяться
определениями своей веры и своей жизни. На этот раз Толстой
прямо призывал своего корреспондента «написать свою жизнь», что
он и сам собирался сделать, и, вторя Страхову (и Пушкину), упомянул,
что отвращение и есть самый уместный модус для такого рассказа:
«Напишите свою жизнь; я все хочу то же сделать. Но только надо
поставить — возбудить к своей жизни отвращение всех читателей»
(П2: 540, 1-2 ноября 1879). Как кажется, он имел в виду не только
рассказ о вере, но и исповедание в грехах.
В ответ Страхов вновь поделился с Толстым чувством
неуверенности: «О жизни своей мне судить очень трудно, не только о ближайших,
но и о самых далеких событиях. Иногда жизнь моя представляется
мне пошлою, иногда героическою, иногда трогательною, иногда
отвратительною, иногда несчастною до отчаянья, иногда радостною. <...>
Эти колебания составляют для меня самого немалое огорчение: я сам
от себя не могу добиться правды! И это бывает со мною не только в
воспоминаниях, но и каждый день во всяких делах. Я ничего не чувствую
просто и прямо, а все у меня двоится» (П2: 541, 17 ноября 1879).
Толстой ответил резко. Он принял амбивалентные суждения
Страхова о себе за неспособность различать между добром и злом
и, возможно, за признание в неверии: «Вы пишете мне, как бы
вызывая меня. Да я и знаю, что вы дорожите моим мнением, как я вашим,
772
И.А.ПАПЕРНО
и потому скажу все, что думаю. <...> Чужое виднее. И вы мне ясны.
Письмо ваше очень огорчило меня. Я много перечувствовал и
передумал о нем. По-моему, вы больны духовно. <...> И вам писать свою
жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо
знать» (П2: 545-546, 19-22 ноября 1879).
Но он понял, что зашел слишком далеко, и добавил, обращаясь как
будто к самому себе: «Должно быть не пошлю это» (Там же).
Это письмо действительно осталось неотосланным. (Вместо этого
22 или 23 ноября Толстой послал короткую записку; о ней — ниже.)
Около четырех лет прошло с тех пор, как Толстой, которому
«немножко открылось» душевное состояние своего друга, написал, что
вызывает его на переписку (Ш: 211,1: 226). В декабре 1879 года он
подверг переоценке свою надежду, что обмен между двумя родственными
душами поможет обоим определить себя и свою веру: «Я рад был
заглянуть вам в душу, так как вы открыли; но меня огорчило то, что вы так
несчастливы, неспокойны. Я не ожидал этого» (П2: 550, 11-12 декабря
1879). Он не скрывал своей уверенности в неспособности собеседника
должным образом рассказать свою жизнь, не скрывал сознания своего
превосходства (превосходства внешней точки зрения на человека):
«Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное. Нам
виднее — нам, тем, которые знают и любят вас. Но писать свою жизнь
вам нельзя. Вы не сумеете» (Там же).
Еще недавно Толстой призывал Страхова рассказать свою жизнь.
Теперь он побуждал его замолчать.
Экскурс: Руссо и его Profession de foi
Во многих отношениях позиция Толстого по отношению к религии
и вере была сходной с той, которую разработал Жан-Жак Руссо, также
искавший альтернативы и к позиции официальной религии и церкви,
и к позиции скептицизма и материализма*. В старости Толстой писал:
* О связях между религиозными воззрениями Толстого и Руссо написано
немало. Для меня особенно важна работа: McLean H. Rousseau's God and Tolstoy's
God // Idem. In Quest of Tolstoy. Boston: Academic Studies Press, 2008. P. 143-158.
Увлечение Толстого текстом Руссо «Profession de foi du vicaire savoyard»,
который он часто перечитывал, обсуждают: Галаган Г. Л. H. Толстой:
художественно-эстетические искания. Л.: Наука, 1981. С. 55-58; Orwin D. Т. Tolstoy s Art
and Thought, 1847-1880. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 39-49;
Полосина А. Н. Французские книги XVIII века яснополянской библиотеки как
источник творчества Л.Н. Толстого. С. 120-130 (Полосина изучала заметки
Толстого на полях книг Руссо); см. также: Polosina A. Leo Tolstoy and the
Encyclopédistes И Tolstoy Studies Journal. 2008. № 20. P. 56.
Л. Н. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)...
773
«Руссо и евангелие — два самые сильные и благотворные влияния
на мою жизнь»*. Главную роль здесь сыграло знаменитое
«Исповедание веры савойского викария» («Profession de foi du vicaire savoyard»,
1762). Присутствие «Profession de foi...» в переписке со Страховым
в 1875-1879 годах вполне ощутимо. Но дело не только в сознательной
ориентации Толстого на Руссо. Руссо и его «Profession de foi...» были
основополагающей частью той культурной традиции, которой
располагал человек, столкнувшийся с необходимостью уяснить свое отношение
к религии в ситуации развивающейся секуляризации.
Исследователи объясняли секрет влияния Руссо не только
силой его идей, но и мастерским использованием речевых жанров**.
«Profession de foi...», составляющая часть романа «Эмиль», показывает
повествователя в беседе с савойским викарием, которому он часто
поверял тайны своей душевной жизни. В свою очередь, викарий изливает
перед другом историю своего отношения к религии и вере. Он
рассказывает, как, придя в зрелом возрасте к неверию, оказался в отчаянном
положении. Находясь в состоянии неуверенности и сомнения, о котором
писал Декарт, он приступил к поискам истины. Он чувствовал
невозможность принимать нелепые решения религиозных вопросов, которые
предлагала церковь. Обратившись к философам, он рылся в книгах,
но понял бессилие ума человеческого. Он спросил себя: «Но кто я?»
И продолжал: «Я существую» («Mais qui suis-je? <...> J'existe <...>»)***.
В конце концов савойский викарий излагает собеседнику исповедание
своей веры («религии сердца»), и в результате их беседы молодой
человек приобщается к его вере.
В этой ситуации сакральный дискурс исповедания веры оказывается
секуляризованным, а диалог между друзьями-собеседниками
приобретает сакральный характер. Читатель романа вовлекается в этот диалог,
а также в диалог с автором, Руссо, который предлагает и читателю
принять новую веру, причем не в сакральном или церковном, а в светском,
литературном контексте. Как утверждают исследователи, заслуга
* Из письма Толстого к Bernard Bouvier, президенту Société Jean-Jacques Rousseau,
от 20 марта 1905 года (75: 234); оригинал по-французски.
* Здесь и далее, обсуждая «Profession de foi du vicaire savoyard», я пользовалась
интерпретацией, предложенной в: Mücke von D. Profession/Confession // New
Literary History. 2003. Vol. 34. № 2. P. 257-274. Я благодарна Доротее фон Мюкке
и за советы, высказанные в частном письме.
* Я перефразирую здесь «Profession de foi du vicaire savoyard». Оригинал: Rousseau
Oeuvres Complètes. T. IV. Paris: Pléiade, 1959. P. 554, 570. Перефразируя по-
русски, я использовала перевод из издания: Руссо Ж.-Ж. Педагогические
сочинения: в 2 т. / Под ред. Г. Н. Джибладзе; сост. А. Н. Джуринский. М.: Педагогика,
1981. Переводчик не указан.
774
И.А.ПАПЕРНО
Руссо в «Исповедании веры савойского викария» и последовавшей
затем истории его жизни, «Исповеди», состоит в том, что он воплотил
религиозный опыт исповеди и исповедания веры в литературной форме
(форме романа и автобиографии), сделав этим решительный шаг к
замене религии «автономной сферой искусства»*.
Толстой пишет «Исповедь»,
Страхов продолжает исповедоваться Толстому
В неотосланном письме к Страхову от 19-22 ноября 1879 года
(в котором он увещевал его: «Вам писать свою жизнь нельзя») Толстой
упоминал, что очень занят и взволнован работой «для себя, которой
никогда не напечатаю» (П2: 546); в отосланной записке от 22-23
ноября он написал, что «работа не художественная и не для печати»
(П2: 547). В декабре, когда Страхов посетил Ясную Поляну, Толстой,
по-видимому, поделился с ним своей работой. (Исследователи считают,
что это был ранний вариант «Исповеди».)
Вернувшись домой, Страхов написал Толстому торжественное письмо,
описывающее, как под влиянием этой встречи он пережил религиозное
обращение: «Меня как будто что-то вдруг озарило, и я все больше и
больше радуюсь и все вглядываюсь в этот новый свет. Скажу Вам откровенно,
что меня прежде смущало и отчего для меня так нова Ваша теперешняя
мысль. Мне всегда казалось непонятным и диким личное бессмертие
в той форме, в которой его обыкновенно представляют; точно так же
мне был всегда противен мистический восторгу до которого старались
доходить большинство религиозных людей, говоривших почти так, как
Вы. Но Вы избежали и того и другого; как ни горячи движения Вашей
души, но Вы ищете спасения не в самозабвении и замирании, а в ясном
и живом сознании. Боже мой, как это хорошо! Когда я вспоминаю Вас,
все ваши вкусы, привычки, занятия, когда вспоминаю то всегдашнее
сильнейшее отвращение от форм фальшивой жизни, которое слышится
во всех Ваших писаниях и отражается во всей Вашей жизни, то мне
становится понятным, как Вы могли наконец достигнуть Вашей теперешней
точки зрения. До нее можно было дойти только силою души, только
тою долгою и упорною работою, которой Вы предавались. Пожалуйста,
не браните меня, что я все хвалю Вас; мне нужно в Вас верить, эта вера
моя опора. Я давно называл Вас самым цельным и последовательным
писателем; но Вы сверх того самый цельный и последовательный
человек. Я в этом убежден умом, убежден моею любовью к Вам; я буду за вас
держаться и надеюсь, что спасусь» (2: 552, 8 января 1880).
* Я использую здесь аргументы и формулировки фон Мюкке, Р. 267, 270-272.
Л. Н. Толстой в переписке с H. Н. Страховым (1875-1879)... 775
Именно живой пример Толстого — услышанное им в Ясной Поляне
исповедание его веры (веры, лишенной буквального понимания
личного бессмертия) и, еще более, пример всей его жизни (вкусов,
привычек, занятий) — позволил Страхову наконец испытать
веру. В своем письме он обращался к Толстому, как если бы тот был
не близким человеком, а священным лицом или старцем, как те,
которых они посетили в Оптиной пустыни: в Толстом заключалась
его надежда на спасение*.
Что касается работы, которой был тогда занят Толстой, то Страхов
нашел способ, как говорить об этой тайной работе другим: «Я говорю
обыкновенно <...> что Вы пишете историю этих Ваших отношений
к религии, историю, которая не может явиться печатно» (2: 553, 8
января 1880). Страхов как бы нечаянно определил здесь то, что Толстой
не сумел ясно выразить в своих письмах, — как следовало писать
то, чем человек жил: написать историю своих отношений к религии.
В последовавшие затем годы Толстой и Страхов продолжали
переписываться, но после 1879 года письма Толстого потеряли
исповедальный характер. Страхов же продолжал обращать к Толстому свои
«исповеди»: «буду говорить как на исповеди» (П2: 624, 29 ноября
1881); «нужно обратиться к Богу. И вот, хочу исповедаться перед
Вами: мне становится страшно от этой мысли <...> не могу приступить
к делу. Так со мною было всю жизнь...» (П2: 994, 2 мая 1895). В одном
из таких писем, в 1892 году, пытаясь «рассказать себя», свои пороки
и проступки, Страхов описал себя как человека, который никогда
не мог доводить аргументы до окончательных выводов, и привел
знаменитый пример такого способа общения — Платон и его
«разговоры». Он умолял Толстого написать хотя бы несколько строк в ответ
на его «исповедь» (П2: 911, 24 августа 1892). Но Толстой давно оставил
их философский диалог.
В письме к другому конфиденту, Ивану Сергеевичу Аксакову,
в 1884 году Страхов выразил свое скептическое отношение к писаниям
Толстого о религии, появившимся после 1880 года. Но и в этой
ситуации (обращаясь к критику Толстого) он отделил плохо написанные
отвлеченные сочинения Толстого от самого человека, как он знал
его в непосредственном общении, и от того религиозного чувства,
которое Толстой «не умеет выразить»: «Толстой очень плохо пишет все, что
у него касается отвлеченного изложения христианства; но его чувства,
которых он вовсе не умеет выразить и которые я знаю прямо по лицу,
по тону, по разговорам, — имеют необыкновенную красоту. В нем
О том, что Толстой выполнял роль своего рода старца, см.: Kolsto P. Lev Tolstoi
and the Orthodox Starets Tradition. P. 545-549.
776
И.А.ПАПЕРНО
много всего, но я поражен и навсегда остаюсь пораженным его
натурою, христианскими чертами» * (курсив Страхова).
Страхов уяснил здесь роль и значение Толстого в его попытках
изложить собственное религиозное мировоззрение: не умея выразить веру
словами, Толстой (начиная с 1880-х годов) всей своей жизнью и своим
обликом воплотил идеал религиозного обращения — и не только для
своего непосредственного собеседника, но и для других современников.
•к "к "к
<...> В 1882 году, вопреки первоначальному плану, Толстой
выпустил из печати ту работу, которой он поделился со Страховым, под
названием «Вступление к ненапечатанному сочинению». В процессе
хождения среди первых читателей она приобрела название «Исповедь»,
принятое затем и самим автором. За вступлением — за исповедью —
должна была последовать основная часть, содержащая исповедание
новой веры Толстого. Будучи опубликованной, «Исповедь»
предоставила возможность не только непосредственному собеседнику Толстого,
но и любому современнику испытать то «озарение», о котором писал
в своем письме Страхов. Читателю (как и Страхову) предлагалась
надежда на спасение. Это уже не было тем, что Толстой презрительно
назвал «литтература».
* Письмо Страхова к И. С. Аксакову, 12 декабря 1884 года // Аксаков И. С. —
Страхов H. H. Переписка / Под ред. Марины Щербаковой. Ottawa, 2007. С. 120.
4
E.H. МОТОВНИКОВА
Славянский вопрос
в философской публицистике H.H. Страхова
В русском публицистическом процессе XIX века славянский вопрос
является сквозным и трудным для всех его участников. Никак не мог
его обойти и H.H. Страхов, один из крупнейших русских
публицистов, вступивший на поприще литературно-художественной критики
на рубеже 50-60-х гг., в то время, когда публицистическая мысль была
проникнута разного рода социально-философскими настроениями
и интенсивно развивалась именно философски. H.H. Страхов
предпочитал усматривать общие смыслы славянского вопроса в понятиях
органической диалектики, склонность к которой он особенно выказывал
в общении с философски близким ему А. А. Григорьевым*. Принимая
активное участие в борьбе за признание читающей и мыслящей публикой
почвеннического направления в развитии русской литературы и русской
философской публицистики, H. H. Страхов выступал с полемическими
статьями в журналах «Время» и «Эпоха». Статьи эти писались с
позиции самобытности органического развития прежде всего русского
* Еще в 1858 г. Ап. Григорьев настаивал на истинности шеллингианского тезиса:
«Развиваются — если можно уже употребить теперь это слово — народные
организмы, нося в себе следы более или менее отдаленной принадлежности
к первоначальному единству рода человеческого, единству не отвлеченному,
моменту необходимо существовавшему. Каждый таковой организм, так или
иначе сложившийся, так или иначе видоизменивший первоначальное предание
в своих преданиях и верованиях, вносит свой органический принцип в мировую
жизнь. Каждый таковой организм сам в себе замкнут, сам по себе необходим, сам
по себе имеет полномочие жить по законам, ему свойственным, а не обязан
служить переходною формою для другого; единство же между этими организмами,
единство неизменное, никакому развитию не подлежащее, от начала одинаковое,
есть правда души человеческой» (Григорьев А. А. Критический взгляд на основы,
значение и приемы современной критики искусства. URL: http://az.Kb.rU/g/
grigorxew_a_a/text_0390.slitml (дата обращения: 28.11.2012)).
778
E. H. МОТОВНИКОВА
славянского народа и направлялись как против европоцентричных
западников, так и против весьма авторитетных в те годы славянофилов,
в чьих взглядах вскрывались слабости и ошибки. По существу,
основания этих позиций оставались для Страхова незыблемыми всю жизнь.
« ...Искусство по самой своей сущности национально. Самое
творчество заключается главным образом в создании типов, то есть образов,
представляющих нам определенный, органически-цельный, и
следовательно носящий на себе печать известной народности, склад
душевной жизни. <...> Критику, которая рассматривает искусство в такой
тесной связи с жизнью и видит в нем не какое-то простое отражение
жизни, а ее руководящий орган, Ап. Григорьев называл органическою
Отвлеченное требование народности от литературы есть мысль очень
простая; наши славянофилы, выходя последовательно из своих начал,
давно и твердо ее заявили, и пытались с этой точки зрения
анализировать нашу литературу. Но они обыкновенно приходили к тому, что,
за немногими исключениями, отрицали самостоятельность и,
следовательно, народность наших художественных писателей. Таким
образом от глаз этих мыслителей ускользнуло именно то, что должно бы
их всего более радовать; они не видели, что борьба своего с чужим
уже давно началась, что искусство, в силу своей всегдашней чуткости
и прозорливости, предупредило отвлеченную мысль. Наша литература
есть драгоценное и высокое явление нашей жизни; поэтому разгадать
внутреннюю силу ее развития, смысл ее движения есть глубокая и
важная задача» *. Не будет преувеличением сказать, что выполнению этой
задачи H. H. Страхов посвятил всю свою жизнь, что «знамя» «борьбы
своего с чужим» в литературе, как, впрочем, и в науке, в общественной
и творческой жизни было его единственным «знаменем».
И так же верен он остался принципам григорьевской органической
критики, указывающей на бесплодную ограниченность западного
рационалистического теоретизма и на утопичность
славянофильских проектов возрождения допетровской Руси. «Бедна наша
литература, и скудно наше умственное развитие; но всего прискорбнее
то, что мы вечно, то с той, то с другой точки зрения, плюем на эту
литературу и на это развитие. Ее содержание, ее стремления и задачи
гораздо обширнее и важнее, чем думают многие ценители;
западники находят ее славянофильской, славянофилы — западнической;
но она ни то ни другое» **.
* Страхов H. H. Предисловие / / Сочинения Аполлона Григорьева. Том первый.
Изд. H.H. Страхова. СПб., 1876. С. III-IV, VIII.
* Страхов Н. Н. Бедность нашей литературы (1868). URL: http://az.lib.ru/
straliow_n_n/text_0070.slitml (дата обращения: 28.11.2012).
Славянский вопрос в философской публицистике H. H. Страхова 779
Особую сложность выполнения взятой на себя серьезной задачи
выявления специфики славянского национального духа составляли
для H. H. Страхова внешние и внутренние ограничения свободы
выражения мыслей, от чего он не мог или не хотел уклониться: жесткая
политическая цензура, статус государственного чиновника, понятийно
и логически строгое научное мышление, довольно грубые нравы
журнальных полемистов 60-70-х гг. и т.п. Писать одновременно честно,
глубоко и занимательно в таких условиях было весьма непросто.
H.H. Страхова неоднократно упрекали в неискренности,
недосказанности, избытке критики, требовали простого и ясного провозглашения
своей положительной программы. Он вполне понимал истоки этих
упреков и требований, неготовность, неумение большей части читательской
аудитории мыслить и домысливать самостоятельно, признавал свою
обреченность бьпь писателем «для немногих»: «У нас совершалась
и совершается темная и таинственная история борьбы неясных начал
с ясными, зачатков с развитыми формами. Смысл этой борьбы будет нам
вполне ясен только тогда, когда она кончится, когда наступит
примирение и в нем обнаружится, чего искали, к чему стремились борющиеся
силы»*. В отсутствие примирения, в обстановке потакания газетных
и журнальных редакций вкусам разобщенной, разбившейся на партии
публики H.H. Страхов вынужден был скрывать самые главные свои
мысли о высших духовно-религиозных началах национальной русской
и славянской самобытности, беречь их от поругания с разных сторон.
Для того чтобы высказаться хоть намеком, он использовал форму
критики, в основном, рецензии на социально-исторические статьи
и книги, выходящие в Европе и России.
Интересный случай в этом роде представляет небольшая статья
H.H. Страхова «Славянофильство и Гегель» (1864), из серии статей
в «Эпохе» под общим заглавием «Заметки летописца»**. Большую
часть объема этой статьи занимает перевод письма П. Я. Чаадаева
Фр. В. Шеллингу о том, что славянофильство в России является
производным от влияния гегельянства. Очень аккуратно Страхов замечает,
что, «конечно, верно и не подлежит никакому сомнению, именно, что
славянофильство развилось у нас под влиянием немецкой философии,
хотя может быть не исключительно под влиянием Гегеля, как полагает
Чаадаев»***. И тут же переакцентирует внимание на важное
обстоятельство такого влияния и еще более важные следствия из него: «как скоро
* Там же.
* См.: Страхов Н. Н. Заметки летописца. «Эпоха». 1864. URL: http://az.lib.ni/s/
stmhow_n_n/text_0380oldoifo.shtml (дата обращения: 28.11.2012).
г* Там же.
780
E. H. МОТОВНИКОВА
речь зайдет о народе, понимаемом не как простое скопление
человеческих неделимых, то уже по словам видно, откуда мы взяли форму
для этих мыслей. Тут непременно будет органическое целое и развитие,
самобытность и заемные формы, народный дух и его проявления и др.
Одним словом мы не можем говорить о народе иначе, как словами или
прямо немецкими, или переведенными с немецкого, т.е. мы
употребляем философские категории, выработанные и разъясненные немцами.
Своих слов у нас для этого нет. <...> Чистые голые формы, от которых
содержания нисколько не зависит, можно заимствовать с полным
правом. Поэтому философия, рассматриваемая с формальной стороны,
как метода как приемы мысли, составляет такое же общее достояние,
как и математика. Никак нельзя этого сказать о нашем расположении
понимать политическую жизнь по французским или даже по
английским образцам. Формы политической жизни тесно сливаются с самым
содержанием, с историческою индивидуальностью народа, которому
они принадлежат» *.
Много лет терпеливо и настойчиво разъяснял H.H. Страхов
необходимость и неизбежность развития национального самосознания, чаще
всего возвращаясь к популярному спорному вопросу об ученичестве
и подражательстве. Надо ли России учиться у Европы? Можем ли
мы обустроить свою жизнь по западному образцу?
«Мы ученики Запада, в этом нет сомнения. Но люди, стоящие
за прогресс и всяческое развитие... не хотят, чтобы мы когда-нибудь
перестали быть учениками. <...> Так в школе преследуется обидами
и насмешками ученик, решившийся иметь свое мнение, независимое
от того, чему учит любимый и уважаемый наставник. ...Этот спор все-
таки составляет существеннейший и важнейший вопрос самой школы;
ибо все учение напрасно, вся школа не имеет смысла, если ученикам
суждено вечно оставаться учениками, если они никогда не дорастут
до самостоятельности и зрелости. Собственно говоря, вопрос о нашей
самобытной духовной жизни, о том отношении, в которое мы должны
поставить себя к громадному и блистательному авторитету Европы,
есть самый существенный из наших вопросов. Он давно был
поднимаем, принимал различные формы, постепенно зрел и раскрывался,
и умереть и заглохнуть ему так же невозможно, как невозможно
ребенку перестать расти, хотя этого иногда и желали бы некоторые
чересчур усердные педагоги»**. «Европейское просвещение, этот
могущественный рационализм, это великое развитие отвлеченной
* Там же.
* Страхов H. H. Западничество и славянофильство // Страхов H.H. Критические
статьи (1861-1894). Том 2. Киев: Изд. И. П. Матченко, 1902. С. 156-157.
Славянский вопрос в философской публицистике H. H. Страхова 781
мысли, должно быть для нас побуждением и средством к такому
сознательному уяснению наших собственных духовных инстинктов.
<...> Гоняясь за европейским просвещением большею частью из
легкомыслия и тщеславия, мы забываем обязанность всякого разумного
человека — быть самостоятельным в своих суждениях»*.
Славянский вопрос в публицистике H.H. Страхова стал поистине
«роковым» испытанием — и по трудности его изложения, и по
проблематичности разрешения, и по последствиям прямых подступов к нему
H. H. Страхова, для жизни самого писателя. В результате публикации
«Рокового вопроса» в разгар польского восстания 1863 г. под удар
попал и остался без работы не только сам H. H. Страхов, но рухнул
весь успешный проект журнала «Время». С другой стороны, именно
попытки разобраться в обстоятельствах этой печальной истории
привели к сближению H.H. Страхова с И. С. Аксаковым, к сотрудничеству
с аксаковской «Русью», к искренней и глубоко содержательной
переписке, из которой мы получаем уникальные сведения и признания
H.H. Страхова, каких нет и не могло появиться даже в его письмах
к Л. Н. Толстому**. Именно для «Руси» написал H. H. Страхов
критический разбор «Французской статьи об Л. Н. Толстом» (1884)***, в
которой максимально ясно высказался о христианской основе русской
народной нравственности и т.д. Отдельная тема — участие Страхова
в деятельности Славянского общества. Осмысление славянского
вопроса у H. H. Страхова предполагало интенсивный диалог,
«совместное мышление» со своими старшими и младшими современниками.
Целостность и открытость страховских размышлений по славянскому
вопросу была поучительной в свое время и до сих пор остается образцом
ответственного философского мышления.
Страхов Н. Н. Предисловие к первому изданию 13 января 1882 г. // Страхов Н. Н.
Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки.
Кн. первая. 2-е изд. СПб., 1887. URL: http://az.lib.ni/s/strahow_n_ n/1887
predislovie.shtml (дата обращения: 28.11.2012).
См.: И. С. Аксаков — Н. Н. Страхов: Переписка / переписку составила М. И.
Щербакова. Группа славянских исследований при Оттавском университете и ИМЛИ
им. A.M. Горького РАН. Оттава, 2007.
См.: Страхов Н. Н. Французская статья об Л. Н. Толстом // Критические статьи
об Тургеневе и Толстом (1862-1885). 2-е изд. СПб., 1887. С. 458-484.
КОММЕНТАРИИ
В. А. Монастырева
Библиотека-музей H.H. Страхова
как культурный и научный центр:
от замысла к реализации
Впервые: Монастырева В. А. Библиотека-музей H.H. Страхова как
культурный и научный центр: от замысла к реализации // VIII Страховские
чтения: Николай Николаевич Страхов и его собеседники в мире архивов,
музеев и библиотек (к 190-летию со дня рождения H. H. Страхова): сб. науч. тр.
всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), Белгород, 21-23 нояб.
2018 г. / НИУ БелГУ, Ин-т общественных наук и массовых коммуникаций,
Научная библиотека им. H. H. Страхова (библиотека-музей H. H. Страхова);
отв. ред. П. А. Ольхов. Белгород, 2018. С. 6-13. Печатается с сокращениями
по этому изданию.
1 Колубовский Яков Николаевич (1863-1929) — историк русской
философской литературы; опубликовал «Материалы» в «Вопросах философии
и психологии» (М., 1890-1891. Год I, кн. 4. С. 1-32; год И, кн. 5. С. 33-44;
год И, кн. 6. С. 45-96).
2 История русской литературы XIX века: Библиографический
указатель / АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкин, дом); под ред. К. Д. Муратовой.
М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962. 970 с.
3 Будиловская А. Л. Библиография печатных трудов H.H. Страхова /
А. Л. Будиловская; Б.Ф. Егоров // Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 9.
Литературоведение. С. 213-229. (Уч. зап. / Тарт. ун-т; вып. 184).
4 Масалов А. Страхов // Библиотека белгородской семьи: Знаменитые
земляки / Под общ. ред. В. В. Горошникова. Рыбинск: Медиарост, 2018.
Комментарии 783
I
МЕМУАРЫ, ПИСЬМА, ОЧЕРКИ
М. И. Щербакова
«Вместо дневника — письма к вам»
(Из переписки Н. Н. Страхова с о. Иоанном Скивским)
Впервые: Щербакова М. И. «Вместо дневника — письма к вам» (Из
переписки H.H. Страхова с о. Иоанном Скивским) // Москва. 2004. № 10.
С. 186-206. Печатается с сокращениями по этому изданию. С. 186-199.
Щербакова Марина Ивановна — доктор филологических наук,
профессор, заведующая Отделом русской классической литературы ИМ ЛИ РАН.
Приоритеты в научных интересах: проблемы истории русской литературы
XIX в., текстология, архивные разыскания, подготовка к печати текстов
и комментирование.
1 Камерального.
H.H. Страхов
<Предисловие к «Воспоминаниям и отрывкам»>
Впервые: Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб.: Тип.
братьев Пантелеевых, 1892. Содерж.: Афон; Италия; Крым; Л.Н. Толстой;
Справедливость, милосердие и святость; Последний из идеалистов;
Стихотворения. Печатается по этому изданию.
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.)
Впервые: Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб.: Тип. братьев
Пантелеевых, 1892. С. 1-47. Печатается в сокращении по: URL: http://
www.hrono.info/statii/2005/strahov_afon.html#15 Комментарии авторов
публикации электронного ресурса.
1 Тимковский Егор Федорович (1790-1875) в 1820 г. сопровождал
православную духовную миссию в Пекин. По возвращении в Россию издал трехтомное
«Путешествие в Китай через Монголию в 1820 и 21 гг.».
2 Макарий (1821-1889) — архимандрит, с 1868 г. игумен русского
Пантелеймонова монастыря на Афоне (ниже Страхов связывает начало
игуменства Макария с 1875 г.).
3 H. H. Страхов совершал большое заграничное путешествие, часть
которого прошла совместно с Ф. М. Достоевским, в 1862 г. (Германия, Швейцария,
Италия, Франция); был в Италии также в 1875 г., а в Германии еще дважды,
в 1884 и 1893 гг. Впечатления от поездки в Италию помещены в той же книге
«Воспоминания и отрывки».
784
Комментарии
4 Страхов имеет в виду позицию, занятую европейскими державами после
русско-турецкой войны 1877-1878 гг.; на Берлинском конгрессе (1878),
преимущественно под давлением Англии и Австрии, было сохранено владычество
турок на юго-востоке Балканского полуострова (см. статью Н. Я. Данилевского
«Горе победителям!» в одноименном сборнике его политических статей,
изданном в Калуге, 1998 г.).
5 Свое отношение к религиозно-нравственному учению Л. Н. Толстого
Страхов высказал в статьях «Толки об Л. Н. Толстом» и «Ответ на письмо
неизвестного» (см. «Воспоминания и отрывки», с. 133 и далее).
6 16-е августа (ст. стиль) — отдание праздника Успения Пресвятой
Богородицы.
7 Всего на Афоне 20 монастырей, в иерархии которых русский монастырь
св. Пантелеймона занимает 19-е место; подробнее см., например, «Афон»
Б. К. Зайцева.
8 Фалльмерайер Якоб Филипп (Fallmerayer) (1790-1861) — немецкий
писатель, историк и публицист. Страхов в дальнейшем ссылается на его книгу
«Fragmente aus dem Orient», которая вышла (в двух томах) в 1845 г.
9 Руссик — другое название монастыря св. Пантелеймона.
10 Карея — центр управления полуостровом; у каждого монастыря есть
здесь свое подворье.
11 Симоно-Петр (или Симонопетр) — один из афонских монастырей.
12 Вогюэ Эжен Мелькиор де (1848-1910) — французский писатель и историк
литературы, иностранный член-корр. Петербургской академии наук (с 1889).
Ряд работ Вогюэ посвящен России и русской литературе («Русский роман»,
1886 и др.).
13 Святогорец — иеросхимонах Сергий, в мире Семен Авдиевич
Веснин (1814-1853). Помимо «Писем к друзьям о св. Горе Афонской» написал
«Путеводитель по Афону», «Афонский патерик» и др.
14 Калогер (др.-греч. — добрый старец) — в древности младшие монахи
так называли старших; впоследствии это слово стало применяться ко всем
монахам.
15 Диалог «Протагор», 339 b и далее; см.: Платон. Соч.: вЗт. Т. 1. М., 1968.
16 Канонарх — клирик в монастыре, руководящий церковным пением.
Комета
Впервые: Комета [Текст] / Н. Страхов // Русский вестник. 1860. Июль.
Кн. 1.С. 191-192. Печатается по: Страхов H. H. Воспоминания и отрывки.
СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1892. С. 297-299.
Данное стихотворение упоминается в письме С.А. Толстой H. H. Страхову
от 1 декабря 1892 г.: «Льву Николаевичу особенно нравится "Комета"»:
См: Л. Н. Толстой и С.А. Толстая. Переписка с H. H. Страховым. Slavic Research
Group at the University of Ottawa and State L. N. Tolstoy Museum, Moscow,
2000. Славянская исследовательская группа при Оттавском университете
и Государственный музей Л. Н. Толстого, 2000.
Комментарии
785
«В тиши моей жизни ничтожной...»
Впервые: Русский вестник. 1860. Август. Кн. 1. С. 516. Печатается
по этому изданию.
А. И. Опульский
Неизданные письма Л. Н. Толстого к H. H. Страхову
(1872-1893)
Впервые: Толстой Л. Н. Неизданные письма Л. Н. Толстого к H. H.
Страхову (1872-1893) / Публ. и коммент. А. И. Опульского // Л. Н. Толстой:
сб. ст. и материалов / Ин-т мировой лит., Гос. музей Л. Н. Толстого; ред.:
Д. Д. Благой, К.Н. Ломунов, И. Н. Успенский. М., 1951. С. 641-695.
Печатается с сокращениями по этому изданию.
Поли. собр. переписки см.: Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное
собрание переписки: в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос.
музей Л. Н. Толстого; сост. Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. Донсков A.A.
[М.; Оттава], 2003. В наст, антологии переписка не представлена.
Опульский Альберт Игнатьевич (1921-1986) — ученый секретарь музея
Л.Н. Толстого Академии наук СССР, с 1977 г. профессор канадских
университетов (Мак Гилл и Монреальском), литературовед, автор нескольких книг
о Толстом, в том числе «Вокруг имени Льва Толстого», которая вышла в Сан-
Франциско в 1981 г.
1 «Заря* — ежемесячный литературно-политический журнал,
издававшийся в Санкт-Петербурге с января 1869 по февраль 1872 г. Редактор-издатель —
Василий Владимирович Кашпирёв (1836-1875).
2 Переписка Л.Н. Толстого и H. H. Страхова продолжалась двадцать шесть
лет и насчитывала 467 писем.
3 «Эпоха* — литературно-политический журнал братьев М. М. и Ф. М.
Достоевских. Издавался в 1864-1865 гг., стал преемником журнала «Время».
4 «Гражданин* — литературно-политическая газета-журнал. Издавался
в 1872-1879 и 1882-1914 гг. в Петербурге. Основатель, издатель и главный
автор — князь В. П. Мещерский. В журнале печатались К. П. Победоносцев,
Н. Н. Страхов, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков, А. Н. Майков, Я. П. Полонский,
А. Н. Апухтин и другие.
5 «Время* — литературно-политический журнал, издававшийся в Санкт-
Петербурге М.М. Достоевским в 1861-1863 гг. Ф.М. Достоевский заведовал
художественным и критическим отделами. Печатался в типографии Э. Праца.
За годы издания всего вышло 28 книг, в 1863 г. появилось 4 номера, после
чего журнал был закрыт.
6 «Письма о нигилизме* Страхова (1881) написаны сразу после убийства
террористами императора Александра II19 марта 1881 г.; впервые напечатаны
в московской газете И. С. Аксакова «Русь» (Письма о нигилизме [Текст] // Русь.
1881. № 23. С. 5-8; № 24. С. 14-17; № 25. С. 8-10; № 27. С. 20-21).
786
Комментарии
7 Страхов H. Борьба с Западом в нашей литературе. Ист. и критич. очерки.
[В 3 кн. Кн. 1]. Герцен. Милль. Парижская коммуна. Ренан. Штраус. СПб.:
Тип. С. Добродеева, 1882. XII, 362 с.
8 Переписка не была чисто литературной. Об этом подробно см.: Паперно И.
«Кто, что Я? ». Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах.
М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 57-85. — Сост.
9 Гальперин-К амине кий Илья Даниилович (1858-1936) — переводчик
русской и французской литературы, филолог, популяризатор науки.
10 Толстая Александра Андреевна (1817-1904) — графиня, фрейлина
русского императорского двора и воспитательница царских детей, кавалер-
ственная дама (1874), камер-фрейлина (с 1881) и старейшая придворная дама
при дворе императора Николая II.
11 Урусов Сергей Семенович (1827-1897) — князь, русский шахматист XIX в.,
офицер русской армии, участвовал в Крымской войне 1853-1856 гг. Во время
обороны Севастополя познакомился с Львом Толстым. Их дружеские отношения
продолжались до смерти князя Урусова.
12 Сергеенко Петр Алексеевич (1854-1930) — русский писатель и
драматург, журналист, биограф Л. Н. Толстого.
13 Бирюков Павел Иванович (1860-1931) — русский публицист и
общественный деятель. Известен как крупнейший биограф, друг и последователь
Л.Н. Толстого.
14 Населенко Елена Панфиловна (1896-1985) — историк литературы,
музейный работник.
15 Гусев Николай Николаевич (1882-1967) — русский литературовед,
личный секретарь Л.Н. Толстого.
16 Петровский Алексей Сергеевич (1881-1959) — литературовед, редактор,
переводчик, библиотековед, библиотечный работник, библиограф.
17 Чертков Владимир Григорьевич (1854-1936) — лидер толстовства как
общественного движения, близкий друг Л.Н. Толстого, редактор и издатель
его произведений.
18 Хирьяков Александр Модестович (1863-1940) — публицист, редактор
издательства «Посредник». — Хирьякова Ефросинья Дмитриевна (1859-1938) —
мемуаристка.
H.H. Страхов — Л.Н. Толстому
17 ноября 1879 г. Санкт-Петербург
Впервые: Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное собрание переписки: в 2 т. /
Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого; сост.
Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. Донсков A.A. [М.; Оттава], 2003. Т. П.
С. 541-544. Печатается по этому изданию. Комментарии авторов издания.
1 Пс(50: 12).
2 Присяжный, присяжный заседатель — судья-непрофессионал,
участвующий в уголовном процессе. Присяжные заседатели образовывают отдельную
от профессиональных судей коллегию, которая выносит вердикт о виновности
или невиновности подсудимого.
Комментарии
787
Л. H. Толстой — H.H. Страхову
19...22 ноября 1879 г. Ясная Поляна
Впервые: Л. Н. Толстой и H. H. Страхов: Полное собрание переписки: в 2 т. /
Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого; сост.
Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. Донсков A.A. [М.; Оттава], 2003. Т. 1.
С. 545-546. Печатается по этому изданию. Комментарии авторов издания.
1 Ин(3:19).
2 Ин (6: 28-29).
H.H. Страхов
Наблюдения (Посв<ящается> Ф. М. Д<остоевско>му)
Печатается по: Автограф. ЦНБ АН УССР. 1.5236. Среди бумаг Страхова
в том же архиве находятся следующие фрагменты его рукописей,
связанные с Достоевским (шифры: 1.5236 и 1.5239а). Анализ этой
рукописи H.H. Страхова см. в работе Л.М. Розенблюм «Творческие
дневники Достоевского» (Лит. наследство. Т. 83. М.: ИМЛИ, 1971. С. 16-23).
Авторская пунктуация сохранена.
Ф. М. Достоевский — H.H. Страхову
26 февраля ( 10 марта) 1869 г. Флоренция
Впервые: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972.
Т. 29. Кн. 1. С. 14-22. Печатается с сокращением помет и сохранением
орфографии и пунктуации автора, а также уточнением комментариев
по этому изданию.
1 Первый номер «Зари» вышел в свет 8 января, второй — 18 февраля 1869 г.
Страхов был редактором «Зари» с 1869 по 1872 г.
2 «Голос* — политическая и литературная газета, выходившая в Санкт-
Петербурге ежедневно с 1863 по1883 г.; издатель-редактор A.A. Краевский.
Речь идет о фельетоне (без подписи), посвященном разбору первого номера
журнала «Заря» и помещенном в № 50 «Голоса» от 19 февраля в разделе
«Библиография и журналистика». В фельетоне ставилась под сомнение сама
необходимость нового ежемесячного издания, не отвечавшего «потребностям
минуты».
3 «Отечественные записки* — русский литературный журнал XIX в.,
оказавший значительное влияние на движение литературной жизни и развитие
общественной мысли в России; выходил в Санкт-Петербурге в 1818-1884 гг.
(с перерывами).
4 «Дело* — «учено-литературный», ас 1869 г. «литературно-политический»
журнал. Ежемесячный журнал революционно-демократического направления,
орган разночинного радикализма. Издавался в Санкт-Петербурге с середины
1866 г. по январь 1888 г.
788
Комментарии
5 * Время* — литературно-политический журнал, издававшийся в Санкт-
Петербурге М. М. Достоевским в 1861-1863 гг. Ф. М. Достоевский заведовал
художественным и критическим отделами. Печатался в типографии Э. Праца.
За годы издания всего вышло 28 книг, в 1863 г. появилось 4 номера, после
чего журнал был закрыт.
6 « Эпоха* — литературно-политический журнал братьев М. М. и Ф. М.
Достоевских. Издавался в 1864-1865 годах, стал преемником журнала «Время».
7 Речь идет о цикле статей Страхова 1867 г., опубликованных отдельной
брошюрой под полемическим заглавием «Бедность нашей литературы» (СПб.,
1868), и первой статье о «Войне и мире» Л. Н. Толстого.
8 Речь идет о цикле статей В. Г. Белинского о Пушкине, публиковавшемся
в «Отечественных записках» в 1843-1846 гг.
9 Речь идет о статье H.H. Страхова, посвященной роману «Война и мир»:
«Статья вторая и последняя» // Заря. 1869. № 2.
10 Речь идет о романе А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов»,
напечатанному в первом номере «Зари».
11 В первом номере «Зари» были напечатаны две главы труда Н. Я.
Данилевского «Россия и Европа».
12 По предположению В. С. Нечаевой (1895-1979), речь идет о Константине
Немшевиче. Он публиковался в трех последних номерах «Эпохи» (1864. № 12;
1865. №1,2).
13 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835-1889) — русский поэт-сатирик
и переводчик, журналист, критик.
Салтыков-Щедрин Михаил Ефграфович (1826-1889) — русский
писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский
и Тверской вице-губернатор.
14 «Театральные заметки» Л.Н. Антропова. На вопрос об авторе статьи
Страхов не ответил.
15 Григорьев Аполлон Александрович (1822-1864) — русский поэт,
литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, идеолог
почвенничества, автор ряда популярных песен и романсов. Критический талант
A.A. Григорьева Достоевский ценил очень высоко: «Без сомнения,— писал
он в 1864 г., — каждый литературный критик должен быть в то же время и сам
поэт; это, кажется, одно из необходимейших условий настоящего критика.
Григорьев был бесспорный и страстный поэт...» (Достоевский Ф. М. Собр. соч.:
в 30 т. Т. XX. С. 136). См. также: Туниманов В. А. Достоевский и Григорьев.
Материалы и исследования. Т. VII.
16 Sine qua non — непременное условие (лат.).
17 Достоевский Михаил Михайлович (1820-1864) — русский писатель,
переводчик, драматург, издатель журналов. Старший брат Ф. М. Достоевского.
18 Речь о статье Страхова, посвященной «Войне и миру» Л.Н. Толстого
(Заря. 1869. № 1-2; 1870. № 1).
19 Райский — герой романа И. Гончарова «Обрыв». Роман печатался
в 1869 г. в «Вестнике Европы» (№ 1-5). До этого начальные главы печатались
в «Современнике» (1860, № 2) и «Отечественных записках» (1861, № 1).
Комментарии
789
20 Имеется в виду повесть «Несчастная», напечатанная в «Русском
вестнике» (1869, N° 1). Об отношении Достоевского к Тургеневу этого периода
см.: Муратов А. Б. Повести и рассказы И. С. Тургенева 1867-1871 годов. Л.,
1980. С.118-165.
21 В письме от 29-31 января 1869 г. Страхов писал Достоевскому: «А я
обещаюсь Вам написать об "Идиоте", которого читаю с жадностью и величайшим
вниманием». Обещанного «разбора» не последовало.
22 « Русский вестник* — название трех разных российских журналов
XIX и начала XX в. М. Н. Катков — создатель и главный редактор «Русского
вестника» с 1856 по 1887 г. в сотрудничестве с П.М. Леонтьевым. Выходил
в Москве (1856-1887). После смерти M. H. Каткова журнал под руководством
Ф. Н. Берга переведен в Санкт-Петербург (1887-1906 гг.).
23 Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) — русский социолог,
культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один из основателей
цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма.
24 Кашпирёв Василий Владимирович (1836-1875) — русский издатель
и переводчик.
25 Градовский Александр Дмитриевич (1841-1889) — русский профессор
права и публицист.
26 Катков Михаил Никифорович (1818-1887) — русский публицист,
издатель, литературный критик, сторонник консервативно-охранительных
взглядов, влиятельный русский политик «вне правительства». В 1854 г.
Катков стал редактировать принадлежащую университету газету «Московские
ведомости». С 1856 г. Катков начал издавать ежемесячный журнал «Русский
вестник».
27 Имеется в виду замысел романа «Атеизм».
28 Достоевская (Дитмар) Эмилия Федоровна (Каролина) (1822-1879) —
жена старшего брата писателя М.М. Достоевского с 1842 г.; прибалтийская
немка из Ревеля.
29 Соглашение между Достоевским и «Зарей» не состоялось, поскольку
редакция не могла выслать деньги сразу. К работе над «повестью» или «романом»
Достоевский не приступил. Но в письме к Страхову от 18 (30) марта предложил
«Заре» рассказ «листа в два печатных». Это предложение было принято.
30 Майков Аполлон Николаевич (1821-1897) — русский поэт, член-
корреспондент Петербургской АН (1853). Тайный советник (с 1888).
31 М. Г. Святковская должна была внести проценты за заложенные вещи
Достоевских.
32 Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836-1905) — русский драматург,
беллетрист, театральный критик, переводчик.
33 Долгомостъев Иван Григорьевич (1836-1867) — бывший сотрудник
журналов «Время» и «Эпоха»; умер от сумасшествия. Еще в марте 1868 г.
Страхов сообщал Достоевскому о бывшем его сотруднике по журналам «Время»
и «Эпоха»: «Долгомостьев умер страшно; он сошел с ума у меня на квартире,
и я был свидетелем зрелища почти невыносимого» (Шестидесятые годы. С. 257).
34 Niente, niente — нет, нет (итал.).
790
Комментарии
H. H. Страхов — В. В. Розанову
18 мая 1888 г.
Впервые: Розанов В. В. Литературные изгнанники. H. H. Страхов.
К. Н. Леонтьев. Переписка В. В. Розанова с H. H. Страховым Переписка
B. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым // Розанов В. В. Собр. соч. / Под общ. ред.
А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2001. Печатается по этому изданию.
C. 13-15. Подстрочные примечания В. В. Розанова.
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) — русский философ,
литературный критик, публицист, постоянный корреспондент H.H. Страхова.
1 Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — философ, поэт, публицист.
Речь идет о статье В. В. Розанова «Свобода и вера (По поводу религиозных
толков нашего времени)» (Русский вестник. 1894. № 1).
2 « Русский вестник* — основан в 1808 г. Сергеем Николаевичем Глинкой.
Художественно-литературный и научно-публицистический журнал. В
основании политики журнала — идея русской государственности и охранительного
консерватизма. Название журнала является полемическим вызовом карамзин-
скому «Вестнику Европы». В вступительной статье к первому номеру Глинка
писал: «Русский Вестник посвящается Русским».
3 «Вестник Европы* — основан в 1802 г. Н.М. Карамзиным. Русский
литературно-политический ежемесячник умеренно либеральной ориентации,
выпускавшийся с 1866 по 1918 г. в Санкт-Петербурге. Редактор-издатель
М.М. Стасюлевич. С 1909 г. издатель — М.М.Ковалевский, редактор —
К. К. Арсеньев; с 1917 г. издатель-редактор — Д.Н. Овсянико-Куликовский,
редактор — Д. Д. Гримм. В журнале преимущественное внимание уделялось
истории и политике.
4 Бакунин Павел Александрович (1820-1900) — общественный деятель,
один из зачинателей земского движения, философ, брат теоретика анархизма
Михаила Александровича Бакунина (1814-1876). Речь идет о его книге «Основы
веры и знания» (СПб., 1886).
5 Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — русский мыслитель и публицист,
автор знаменитых «Философических писем».
6 «Критика отвлеченных начал » В. С. Соловьева — докторская диссертация,
защищена 6 апреля 1880 г. в Санкт-Петербургском университете.
Н. Н. Страхов — Н. Я. Гроту
СПб. 8 декабря 1895 г.
Впервые: Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах
товарищей и учеников, друзей и почитателей. Очерки и воспоминания. СПб.:
Типография Министерства путей сообщения (Товарищества И. Н. Кушне-
рев и KQ), 1911. С. 259-260. Печатается по этому изданию.
Комментарии
791
1 Грот Николай Яковлевич (1852-1899) — философ, психолог, ординарный
профессор Московского университета; действительный статский советник;
основатель первого в России журнала «Вопросы философии и психологии»,
который и возглавлял с 1889 до 1896 г., председатель Московского
психологического общества.
2 Речь о статье Н. Я. Грота «О естественной системе с логической стороны».
3 Шперк Федор (Фридрих) Эдуардович (1870/1872-1897) — философ,
публицист, критик, поэт, друг В. В. Розанова.
4 Книга H.H. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб.,
1896. Кн. третья).
А. А. Фет — H.H. Страхову
Степановка. Ноябрь < 1877 г.>
Впервые: Переписка А. А. Фета с H.H. Страховым (1877-1892) / Вступ. ст.,
публ. и коммент. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и его литературное
окружение. Книга 2 / Ред. Т.С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 244-245. Печатается
по этому изданию. Комментарии (в сокращении) Н. П. Генераловой.
Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820-1892) — русский
поэт-лирик, переводчик и мемуарист, член-корреспондент Петербургской академии
наук.
1 На полустанции Еропкино находилось почтовое отделение, через которое
шла вся переписка Фета в бытность его в Степановке.
2 Время и обстоятельства этой встречи там неизвестны.
3 Первое знакомство Фета со Страховым произошло летом 1876 г. в Ясной
Поляне <...>. Атмосфера душевного расположения и взаимопонимания,
возникшая во время этой встречи, позволила Толстому написать Фету:
«...мы родня все трое по душе» {Толстой. Переписка. Т. 1. С. 460.).
4 Летом 1877 г. Толстой привез Страхова в Степановку, где они
провели два дня — 29 и 30 июня <...>. Возвратившись оттуда, он писал Фету:
«Страхов в восхищении от поездки в вам и от вас» (Толстой. Переписка. Т. 1.
С. 477). <...>
5 В августе 1877 г. Фет решил продать Степановку и приобрести другое
имение <...>. Продажа Степановки и покупка имения Воробьевка в Курской
губ. были поручены управляющему Фета А. И. Иосту. <...> каменная
усадьба в Воробьевке с 300 дес. лесу и мельницей были приобретены за 100 тыс.,
причем Фету пришлось брать ссуду у Боткиных. <...> Как и в случае со Степа-
новкой, купчая на Воробьевку была оформлена на имя жены Фета.
6 Толстой летом 1878 г. в Воробьевку не приезжал.
7 В ночь с 5 на 6 декабря у Толстых родился сын Андрей (1877-1916).
8 С 23 декабря 1873 г., когда указом Александра II Фету было возвращено
родовое имя Шеншиных и «все права, по роду и наследству ему как Шеншину
принадлежащие», он подписывал свои письма этим именем и просил своих
корреспондентов не употреблять в написании адрес фамилии «Фет».
792
Комментарии
H.H. Страхов — А.А. Фету
Санкт-Петербург. 24 ноября 1877 г.
Впервые: Переписка A.A. Фета с Н. Н. Страховым (1877-1892) / Вступ.
ст., публ. и коммент. Н. П. Генераловой // A.A. Фет и его литературное
окружение. Книга 2. / Ред. Т. С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 245-246.
Печатается по этому изданию. Комментарии Н. П. Генераловой.
А. А. Фет — H.H. Страхову
Москва. 28 декабря <1877 г>
Впервые: Переписка А. А. Фетас H.H. Страховым (1877-1892) / Вступ. ст.,
публ. и коммент. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и его литературное
окружение. Книга 2. / Ред. Т.С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 246-247. Печатается
по этому изданию. Комментарии (в сокращении) Н. П. Генераловой.
1 <...> <Фет> провел в Ясной Поляне целый день 2 января <...>.
2 Описка Фета. У Гёте Treu. Кроме того, Фет допустил еще две описки Küss
вместо Küss'(1-я строка) и Kindlich вместо Kindliche (3-я строка).
3 Неточная цитата из стихотворения Гёте «Grenzen der Menschheit»
(«Границы человечества»): «Край его ризы / Нижний целую, / С трепетом
детским / В верной груди» (пер. Фета). <...>
4 Pium desiderium — благое пожелание (лат.).
5 « Kritik der Reinen Vernunft » Kant'a — « Критику чистого разума» Канта (нем.).
6 Amicus Plato — Платон друг (лат.).
H.H. Страхов — А.А. Фету
<С- ПетербургХ 27 января 1878 г.
Впервые: Переписка A.A. Фета с Н. Н. Страховым (1877-1892) / Вступ. ст.,
публ. и коммент. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и его литературное
окружение. Книга 2. / Ред. Т.С. Динесман. М.: ИМЛИ, 2011. С. 248-249. Печатается
по этому изданию. Комментарии (в сокращении) Н. П. Генераловой.
1 Владиславлев Михаил Иванович (1840-1890) — с 1868 г. профессор
философии в С.-Петербургском ун-те, с 1887 г. — ректор. Его перевод «Критики
чистого разума» (СПб., 1867) до 1896 г. оставался единственным русским
переводом этого классического труда И. Канта.
2 « Философия мифологии* и Философия откровения* —основные труды
немецкого философа Ф. Шеллинга (1775-1854). <...>
3 Переводом из «Науки логики» Гегеля, которую Страхов имеет в виду,
Фет, очевидно, не занимался.
4 В это время Страхов работал над статьей «Об основных понятиях
психологии». Опубл.: Журнал Министерства народного просвещения. 1878. Май
(гл. I: «Различие между душой и телом») и июнь (гл. II. «Изучение души»).
Комментарии
793
H.H. Страхов
Несколько слов памяти A.A. Фета
9 декабря 1892 г.
Впервые: Новый мир. 1892. 9 декабря. Печатается по этому изданию.
1 «Как трудно все на свете, как мучительно трудно». Б. Спиноза (лат.).
Поминки по И. С. Аксакову
Впервые: Новое время (газета). 1886. 7 марта. Перепечатано:
Страхов H. H. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические
очерки. Кн. первая. СПб., 1887. С. 459-473. Печатается по: Страхов Н. Я.
Борьба с Западом / Сост. и коммент. А. В. Белова / Отв. ред. О. Платонов. М.:
Институт русской цивилизации, 2010. С. 61-72. Комментарии А. В. Белова.
1 Именно на 7 марта 1886 г. приходился сороковой день по смерти
славянофила Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886).
2 Идея власти и отношения к ней со стороны массы управляемых ею людей
у И. С. Аксакова была такова: «Государство есть начало внешнее деятельности
внутренней, нравственной, умеряющей деятельность внешнюю, полагающей
ей нравственные пределы, — говорил он, — ...разумеется, не про то, что есть,
а что должно быть. <...> Пусть только русское государство проникнется вполне
духом русской народности — и оно получит силу жизни неодолимую и ту
крепость внутреннюю, которой не сломить извне никакому натиску ополчившегося
Запада» (Аксаков И. С. Народ. Государство. Общество // Аксаков И. Наше
знамя — русская народность. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 78,100).
3 Так, например, в одной из своих статей он писал: «В этом однообразии
такая сила быта, за этой бедностью столько богатств природных и запасов
их на целые веки, — сквозь тьму невежества светит порой такой свет
духовный, — сквозь внешние слои пошлости, уступчивости и глупости, — столько
разума, столько упорства, столько самобытности и духовной свободы, столько
веры, умеющей претерпевать до конца, столько жизненной крепости,
способной перемочь и перебыть всякие беды и напасти!» (Аксаков И. С. И любишь
Россию — и невольно спрашиваешь себя, за что ее любишь // Аксаков И. Наше
знамя — русская народность. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 269).
4 В частности, в статье «Наши нравственные отношения с Польшей»
И.С. Аксаков указывал, что «...история славянских племен еще ни разу,
сколько нам кажется, не подвергалась такого рода нравственному анализу,
а между тем, если мы не ошибаемся, только с предложенной нами точки
зрения можно понять и объяснить многие странные и непонятные явления
в жизни славянских народов» (Аксаков И. С. Наши нравственные отношения
с Польшей // Аксаков И. Наше знамя — русская народность. М.: Институт
русской цивилизации, 2008. С. 283).
5 Речь идет о статье-некрологе К. П. Победоносцева в «Гражданине» (1886. № 12).
6 Журнал Министерства народного просвещения. 1886. Февраль. С. 102.
7 Там же. 1885. Октябрь. С. 64.
794
Комментарии
Текущая минута
Впервые: Страхов Н. Н. Текущая минута // Гражданин. 1874. М° 1.
С. 22-23. Печатается по этому изданию.
1 «Складчина* — литературный сборник (СПб., 1874), составленный из
трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии.
2 « Гражданин* — политическая и литературная газета-журнал. Издавался
в 1872-1879 и 1882-1914 гг. в Петербурге. Основатель, издатель и главный
автор — князь В. П. Мещерский.
3 «Петербургская газета* — ежедневная политическая и
литературная газета, принадлежащая к так называемой «малой прессе» (1867-1918).
Основана Ильей Александровичем Арсеньевым (1820-1887).
4 «Дело* — ♦учено-литературный», ас 1869 г. «литературно-политический»
журнал. Ежемесячный журнал революционно-демократического направления,
орган разночинного радикализма. Издавался в Санкт-Петербурге с середины
1866 по январь 1888 г.
5 Самаров Грегор (наст, имя — Оскар Мединг; псевдонимы в России —
Георгий, Георг, Грегор Самаров; 1829-1903) — немецкий писатель.
6 Михайловский Николай Константинович (1842-1904) — русский
публицист, социолог и литературовед, критик, переводчик. Теоретик народничества.
7 Смирнова-Сазонова Софья Ивановна (1852-1921) — русская
писательница 70-х гг. XIX в., автор пяти крупных романов, вышедших в 1871-1879 гг.
в журнале «Отечественные записки» и получивших признание современников.
Б. В. Никольский
Николай Николаевич Страхов.
Критико-Биографический очерк
Впервые: Никольский Б. Николай Николаевич Страхов. Критико-
биографический очерк // Исторический вестник. 1896. N° 4. С. 215-268.
Печатается с сокращениями по: Никольский Б. В. Николай Николаевич
Страхов: Критико-биографический очерк // Никольский Б. В. Сокрушить
крамолу / Сост., предисл. и примеч. Д. И. Стогова / Отв. ред. O.A. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 244-266, 268-275, 278-281,
286-292, 294-297, 305-307, 311-312. Комментарии Д. И. Стогова.
Никольский Борис Владимирович (1870-1919) — русский юрист, поэт
и литературный критик.
1 Реторика (риторика) — наука по овладению ораторским искусством.
2 Философия — здесь: один из предметов (классов), преподававшихся
в духовных семинариях.
3 Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ-иррационалист.
4 Wie die Liebe, wie das Leben, Wie der Schöpfersammt der Schöpfung — Как
(словно) любовь, как жизнь, как Творец собирает (создает) творение (нем.).
Комментарии
795
5 Мир как целое. Изд. 2-е.
6 Григорьев Аполлон Александрович (1822-1864) — русский поэт,
литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист.
7 Дагон — западносемитское божество, национальный бог филистимлян
после заселения ими Ханаана. Главные храмы Дагона, согласно Ветхому
Завету, были в Газе (Суд 16: 23) и Азоте (Ашдод), куда был помещен отбитый
у евреев Кивот завета (1 Цар 5, 4).
8 Provisorisch — условно, предварительно (нем.).
9 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий философ,
один из творцов немецкой классической философии и философии романтизма.
10 Имеется в виду русский писатель-сатирик Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин (1826-1889), который в сказке «Баран-непомнящий» создал образ
барана. Персонаж сказки стал видеть неясные, волновавшие его сны,
заставлявшие подозревать, что «мир не оканчивается стенами хлева». Овцы стали
глумливо именовать его «умником» и «филозофом» и чуждаться его. Баран
захирел и умер. Объясняя случившееся, овчар Никита предположил, что
покойный «вольного барана во сне видел».
10а Имеется в виду магистерский экзамен.
11 Рулъе Карл Францевич (1814-1858) — биолог, профессор Московского
университета.
12 Лейбниц Готфрид Вильгельм фон (1646-1716) — немецкий (саксонский)
философ и математик.
13 Wissenschaftslehre — Наукоучение (нем.).
14 Фихте Иоганн Готлиб ( 1762-1814) — немецкий философ, субъективный
идеалист. В 1794-1795 гг. Фихте издает свой главный труд — «Основа общего
наукоучения» («Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre»).
15 Desiderata — пожелания, требования (лат.); в библиотеках, музеях —
книги и предметы, которые желательны для пополнения коллекций.
16 Дальнейшее изложение ведется на основании «Воспоминаний о Ф. М.
Достоевском», напечатанных в 1-м томе первого посмертного издания его
сочинений, на которые сам Страхов ссылался, как на самый лучший источник
биографических сведений о нем самом.
17 Майков Аполлон Николаевич (1821-1897) — русский поэт, член-
корреспондент Петербургской академии наук (1853).
18 Крестовский Всеволод Владимирович (1839-1895) — русский поэт
и прозаик, литературный критик; отец писательницы М. В. Крестовской.
19 Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835-1889) — русский поэт-сатирик,
журналист, переводчик, критик.
20 Яновский Степан Дмитриевич (1815-1897) — врач, близкий друг
Ф.М. Достоевского.
21 Чумиков Александр Александрович (1819-1902) — русский педагог,
писатель.
22 Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836-1905) — драматург, прозаик,
театральный критик, публицист.
23 Фишер Куно (1824-1907) — известный немецкий историк философии.
796
Комментарии
24 Краевский Андрей Александрович (1810-1889) — русский издатель,
редактор, журналист, педагог; известен как редактор-издатель журнала
«Отечественные записки».
25 Дудышкин Степан Семенович (1820-1866) — русский журналист,
литературный критик.
26 « Известия Санкт-Петербургского Славянского благотворительного
общества» — литературно-политический журнал, посвященный изучению
современного славянского мира. Выходил с октября 1883 г. ежемесячно по 1888 г.
включительно.
27 Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин; 1820-1892) — русский поэт-
лирик, переводчик, мемуарист.
28 Перефразированная цитата из произведения Гая Валерия Катулла
(ок. 87-54 гг. до Р. Хр.) «Некогда сосны, Пелейской вершиной рожденные,
плыли...»: «В песне, которой во лжи уличить векам не придется».
Н. Я. Грот
Памяти H.H. Страхова.
К характеристике его философского миросозерцания
Впервые: Вопросы философии и психологии. 1896. № 32. Печатается
с сокращениями по этому изданию. С. 3-19, 24-31, 33-34, 36, 38-40.
Грот Николай Яковлевич (1852-1899) — русский философ-идеалист,
психолог, ординарный профессор Московского университета, действительный
статский советник.
1 О судьбе библиотеки Н. Н. Страхова см: Белов С. В. Библиотека H. H.
Страхова // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство.
Археология: ежегодник 1976 / АН СССР, Науч. совет по истории мировой
культуры. М., 1977. С. 134-140; Николаев Н. И. Список важнейших коллекций,
хранящихся в научной библиотеке С.-Петербургского университета. URL: http://
www.library.spbu.ru/rus/ork/chbibl.html#47
2 Подробнее см. раздел III наст, антологии.
3 Введенский Александр Иванович (1856-1925) — русский философ
и психолог, крупнейший представитель русского неокантианства, один из
основателей первого Санкт-Петербургского религиозно-философского общества.
Ю. Н. Говоруха-Отрок
Н.Н.Страхов
Впервые: Московские ведомости. 1896. 27 января. № 27. С. 2.
Печатается по: Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?
Литературная критика и религиозно-философская публицистика. Т. И.
СПб.: ИРЛИ, 2012. С. 151-152. Комментарии А. П. Дмитриева.
Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (псевдонимы — Ю. Николаев, Юрко,
Ю. Елагин; 1851-1896) — русский писатель, публицист, литературный
критик. Фамилия часто пишется через а в окончании.
Комментарии
797
1 См. начало юбилейной статьи Ф. Э. Шперка «H. H. Страхов
(Критический этюд)»: «Осенью исполнилось сорокалетие литературной деятельности
H.H. Страхова» (Новое время. 1895. 15 декабря. N° 7112. С. 2).
2 Говоруха-Отрок цитирует начало некролога H. H. Страхову, составленного
Б. В. Никольским. <...>
Несколько слов о H. H. Страхове.
Б. В. Никольский. «Николай Николаевич Страхов.
Критико-биографический очерк»
Впервые: Московские ведомости. 1896. 20 июня. № 167. С. 3-4.
Печатается по: Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?
Литературная критика и религиозно-философская публицистика. Т. II.
СПб.:ИРЛИ, 2012.С. 153-160. Комментарии А. П. Дмитриева.
1 Речь идет о поминальной статье: Никольский Б. В. Памяти H.H.
Страхова // Русский вестник. 1896. Т. 64. С. 215-268. (См. статью в наст,
антологии. — Сост.)
2 Ср.: «...относительно Шопенгауэра следует признать, что у него
пессимизм имеет настоящий религиозный характер. Глубокая серьезность и даже
суровость нравственного настроения, могущая почти испугать читателя,
постоянно слышится в речи Шопенгауэра. <...>» (Страхов H. H. Предисловие
к переводу // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. А. Фета.
СПб., 1881. С. VII).
3 Курсив Говорухи-Отрока.
4 Предположительно речь идет об архиеп. Амвросии (Ключареве). <...>
5 Неточно процитирована строка из стихотворения Пушкина «Послание
цензору» («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой...», 1822). В оригинале
«отступать».
6 Выражение из послания «Чаадаеву» («В стране, где я забыл
тревоги прежних лет...», 1821). У Пушкина: «И в просвещении стать с веком
наравне».
7 Приведены 7-9 строки стихотворения Гёте «Завет». Скорее всего,
Говоруха-Отрок цитирует по статье Ап. Григорьева «О правде и искренности
в искусстве. По поводу одного эстетического вопроса» (1856), где они
сопровождаются авторским переводом: «Истина найдена от века: / Она связывала
всегда благородное духовное братство. / Старую истину усвой твоей душе».
8 Страхов Н. О вечных истинах. Мой спор о спиритизме. СПб., 1887. —
XXXVIII, 130 с.
9 Б. В. Никольский цитирует книгу Страхова «Воспоминания и отрывки»
(СПб., 1892. С. 211).
10 Приведена ставшая крылатым выражением строка, которой начинается
6-я строфа поэмы А. де Ламартина «Немезида» («A Némésis», 1831).
11 Слова Христа, адресованные Марфе Вифанской (Лк 10:41).
12 Цитируется начало книги Э. Ренана «Будущее науки» (1890) <...>.
798
Комментарии
В. H. Захаров
Из забытых мемуаров.
П. Матвеев о Ф. Достоевском,
Н. Страхове, Л. Толстом
Впервые: Захаров В. Н. Из забытых мемуаров. П. Матвеев о Ф.
Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом // Неизвестный Достоевский. 2016. Т. 3.
№ 1. С. 58-70. Комментарии В.Н. Захарова.
Захаров Владимир Николаевич — доктор филологических наук,
профессор, зав. кафедрой классической филологии, русской литературы и
журналистики Петрозаводского государственного университета, президент
Международного общества Ф. М. Достоевского (2013-2019); Почетный
президент Международного общества Ф. М. Достоевского (с 2019), гл. редактор
журналов «Проблемы исторической поэтики» и «Неизвестный Достоевский»,
сотрудник РФФИ.
1 Письмо П. А. Матвеева к Ф. М. Достоевскому // РО ИРЛИ. Ф. 100.
№ 29773. Л. 1 об.
2 Там же. Л. 2.
3 Там же.
4 Там же. Л. 2 об.
5 Ср. отзыв Страхова в изложении Матвеева: «Совет Амвросия говеть был
принят Толстым, который стал ходить к церковной службе, но приехал
нарочный из Ясной Поляны с известием, что один из его детей заболел, и он
поспешно собрался домой, но зашел, однако, предварительно к о. Амвросию.
Последний говорил ему, что болезнь ребенка не серьезна и, вернувшись,
он найдет его здоровым, а самого его ждет уныние и тоска, если он не будет
говеть в монастыре. Толстой обещал говеть в деревне и уехал. Дома он
действительно нашел ребенка почти совсем здоровым, а сам впал в уныние
и тоску, постепенно возраставшие. Дело доходило до того, что, когда
он уходил в лес, за ним посылали смотреть. Все это я слышал от Страхова»
{Матвеев П. А. Л. Н. Толстой и H. H. Страхов в Оптиной Пустыни //
Исторический вестник. 1907. № 4. С. 151-157. URL: http://books.e-heritage.ru/
book/10087864 (дата обращения: 10.03.2016). См. Приложение 2). <...>
6 Это свидетельство П. А. Матвеева вызвало реплику писателя и журналиста
Павла Амплиевича Россиева, который посчитал некорректным упрек Страхову
в неверии. По его мнению, философ неоднократно высказывался в пользу
религии и христианства и «даже» сочувствовал православию. Причину
подобных упреков П. А. Россиев видит в «философском христианстве» Страхова,
в том, что тот не был «церковником-ритуалистом» (см.: Россиев П. Был ли
H.H. Страхов «неверующим человеком»? // Исторический вестник. 1907.
Т. 108. Май-июнь. С. 1056).
7 В поздней публикации повести (1902) Стахеев прибавил посвящение:
«Памяти Н. Н. Страхова и Н. П. Гилярова-Платонова» (См.: Стахеев Д. И.
Комментарии
799
Пустынножитель: повесть // Стахеев Д. И. Собрание сочинений: в 12 т. СПб.;
М., 1902-1903. Т. 2. СПб.; М., 1902. С. 163-255. URL: http://dlib.rsl.ru/vie
wer/01003971025#?page=2 (12.03.2016)).
Il
ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ H. H. СТРАХОВА.
ИХ РЕЦЕПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
H.H. Страхов
Письма о философии
Впервые: Вопросы философии и психологии. 1902. Кн. 1. С. 783-793.
Печатается по этому изданию. Текст подготовлен к печати Е. А. Антоновым
и С. А. Лебедевым.
В примечании к тексту писем сказано:
«Эти письма доставлены редакции одним из наследников покойного
H.H. Страхова».
Вот предложенная автором программа «Писем о философии»:
Письма о философии
I. Философия и науки;
И. Философия во всех системах;
III. Университетская, популярная, настоящая;
IV. Шопенгауэр;
V. Эмпиризм и материализм;
VI. Чего ждут? Заранее составляются и задачи, и представления.
1 То есть для Фихте.
2 Ipso facto — самим фактом, в силу самого факта (лат.).
Мир как целое
Впервые: Страхов H. H. Мир как целое: черты из науки о природе.
СПб.: Тип. К. Замысловского, 1872. XXVI, 506 с. Печатаются предисловие
ко второму изданию, письма VI и VII по: Страхов H. H. Мир как целое.
М.: Айрис-пресс: Айрис-Дидактика, 2007. (Библиотека истории и
культуры.). С. 72-76, 145-177.
1 Галилей Галилео (1564-1642) — итальянский ученый, основоположник
классической механики.
2 Декарт Рене (1596-1650) — французский философ, математик, физик
и физиолог.
3 Дарвин Чарлз Роберт (1809-1882) — английский натуралист, создатель
теории «естественногоотбора».
800
Комментарии
4 Коперник Николай (1473-1543) — польский астроном, возродил
гелиоцентрическую систему, предложенную еще Аристархом Самосским.
5 Ньютон Исаак (1643-1727) — английский физик и математик,
сформулировал основные законы классической механики.
6 Герцен Александр Иванович (1812-1870) — русский писатель и философ-
публицист.
7 Боатар Пьер (правильнее — Буатар (Boitard); 1789-1859) —
французский ботаник и геолог, популяризатор естествознания.
8 Ван-Бенеден Пьер-Жозеф (1809-1894) — бельгийский зоолог.
9 Ламарк Жан-Батист (1744-1829) — французский натуралист, ввел
в 1802 г. термин «биология».
10 Эренберг Христиан Готфрид (1795-1876) — немецкий натуралист
и путешественник, основатель учения о микроскопических организмах.
1 1 Бюффон Жорж Луи Леклерк ( 1707-1788) — французский натуралист.
12 Бурдах Карл Фридрих (1776-1866) — немецкий анатом и физиолог,
приверженец натурфилософии Шеллинга.
13 Из стихотворения A.C. Пушкина («...Вновь я посетил»).
14 Строка из стихотворения «Эпиграмма (За что Ликаста осуждают)»
М. А. Дмитриева (1796-1866).
15 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — русский
ученый-естествоиспытатель, поэт, критик «норманнской теории».
16 Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) — русский писатель.
17 Гончаров Иван Александрович (1812-1891) — русский писатель, член-
корреспондент Петербургской АН (1860).
18 Грибоедов А. С. Горе от ума. Действие 1, явление 7.
19 Отрывок из элегии Н.П. Огарева (1813-1877) «Бываю часто я смущен
внутри души» (1846).
20 Свифт Джонатан (1667-1745) — английский писатель, политический
деятель.
21 Вольтер (Аруэ) Мари Франсуа (1694-1778) — французский писатель,
философ, историк.
22 Шлейден Маттиас Якоб (1804-1881) — немецкий ботаник, работы
которого по онтогенезу растений сыграли важную роль в обосновании
клеточной теории.
Н.П. Ильин
Последняя тайна природы. О книге «Мир как целое» и ее авторе
<Фрагменты>
Печатается по: ХРОНОС: всемирная история в Интернете / Ред.
В. Румянцев. М., 2000-2018. URL: http://www.hrono.ru/proekty/metafizik/
ilinltayna.html (дата обращения: 01.07.2019).
Ильин Николай Петрович — доктор физ.-мат. наук, почетный работник
высшего профессионального образования, председатель Русского философского
общества им. H. H. Страхова (с 1991).
Комментарии
801
H.H. Страхов
Толки о Л. H. Толстом (Психологический этюд)
Впервые: Вопросы философии и психологии. 1891. N° 9. С. 98-115,
117-122, 124-132. Печатается с сокращениями по этому изданию.
1 Мф7:16.
2 Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».
3 Катков Михаил Никифорович (1818-1887) — русский публицист,
издатель, литературный критик, сторонник консервативно-охранительных
взглядов, влиятельный русский политик «вне правительства». В 1854 г. Катков стал
редактировать принадлежащую университету газету «Московские ведомости».
С 1856 г. Катков начал издавать ежемесячный журнал «Русский вестник»,
в котором Толстой печатал «Казаков» (1863), «Войну и мир» (1865-1869),
«Анну Каренину» (1875-1877). Способствовал изданию толстовского
педагогического журнала «Ясная Поляна».
4 Строки из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».
5 Вогюэ Эжен Мелъкиор де (1848-1910) — французский писатель и историк
литературы, иностранный член-корр. Петербургской АН (с 1889). Ряд работ
Вогюэ посвящен России и русской литературе («Русский роман», 1886 и др.).
Е.А.Мирошниченко
«Толки о Л. Н. Толстом». К истории одной публикации
Впервые: Мирошниченко Е. А. «Толки о Л. Н. Толстом». К истории
одной публикации // VIII Страховские чтения: Николай Николаевич Страхов
и его собеседники в мире архивов, музеев и библиотек (к 190-летию со дня
рождения Н. Н. Страхова): сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. (с между-
нар. участием), Белгород, 21-23 нояб. 2018 г. / НИУ «БелГУ»,
Ин-тобщественных наук и массовых коммуникаций, Науч. б-ка им. H. H.
Страхова [и др.]; отв. ред. П. А. Ольхов. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ»,
2018. С. 118-122. Печатается по этому изданию.
Мирошниченко Елизавета Андреевна — научный сотрудник Центра
философских исследований ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
им. Г. Р. Державина».
В. В. Розанов
Идея рационального естествознания
(Рецензия на книгу H. H. Страхова «Мир как целое.
Черты из науки о природе». Издание второе. СПб., 1892)
Впервые: Русский вестник. 1892. N° 8. С. 196-221. Печатается
в сокращении по: Страхов Н. Н. Мир как целое. М.: Айрис-пресс:
802
Комментарии
Айрис-Дидактика, 2007. (Библиотека истории и культуры). С. 524-531,
541-548.
Розанов Василий Васильевич (1856-1919) — русский религиозный
философ, литературный критик и публицист.
Литературная личность H.H. Страхова
Впервые: Вопросы философии и психологии. Кн. № 4. 1890 под
названием «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного
из славянофилов». Перепечатано в кн.: Розанов В. В. Литературные
изгнанники. СПб., 1913. Печатается в сокращении по: Розанов В. В. Собр.
соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Лит. очерки.
0 писательстве и писателях. М.: Республика, 1996. С. 209-214.
1 Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) — естествоиспытатель,
философ, социолог, публицист.
2 Ренан Жозеф Эрнест (1823-1892) — французский филолог, историк,
писатель.
3 Штраус Давид Фридрих (1808-1874) — немецкий теолог и философ.
4 МилльДжон Стюарт (1806-1873) — английский философ, экономист,
общественный деятель.
5 Герцен Александр Иванович (1812-1870) — писатель, публицист,
философ, общественный деятель.
Л. Н. Толстой — H.H. Страхову
12 ноября, 17 декабря 1872 г. Ясная Поляна
Впервые: Л.Н. Толстой и H.H. Страхов: Полное собрание переписки:
в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого;
сост. Громова Л.Д., Никифорова Т. Г. ; ред. Донсков A.A. [М.; Оттава], 2003.
Т. 1.С. 86-91. Печатается в сокращении по этому изданию. Комментарии
составителей тома.
1 «Мир как целое. Черты из науки о природе» (СПб., 1872).
2 В «Предисловии» к книге Страхов писал: «Могу сказать, что предлагаю
читателям самую понятную из книг, посвященных философским вопросам.
Тут говорится о самых крупных, главных явлениях природы;
рассматриваются понятия и учения наиболее известные, ходячие, изложение совершенно
просто, элементарно, и я боюсь даже — оно может показаться утомительным
своею учебною отчетливостию и связностию. Притом в книге только изредка
употребляются философские термины; она почти сплошь писана языком
натуралиста, а не философа...» («Мир как целое», с. III).
3 В «Предисловии» Страхов подчеркивал, что «несмотря на то, что книга
эта писалась восемь лет и появлялась в течение этого времени в виде особых
статей, она представляет почти строгое и систематическое изложение» («Мир
как целое», с. XII). <...>
4 Сознание жизни — понятие, которого нет в книге Страхова. — Сост.
Комментарии
803
H. H. Страхов — Л. Н. Толстому
8 января 1873 г. Мшатка
Впервые: Л.Н. Толстой и H.H. Страхов: Полное собрание переписки:
в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого;
сост. Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. Донсков А. А. [М.; Оттава], 2003.
Т. 1.С. 92-94. Печатается в сокращении по этому изданию. Комментарии
составителей тома.
1 Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836-1905) — писатель, публицист
(консервативной направленности), театральный критик.
2 Майков писал Страхову из Петербурга 12 декабря 1872 г.: «...Мещерский
назначил по вторникам обеды у себя для Федора Михайловича [Достоевского],
Филиппова и меня; вы должны бы были замыкать квинтет, если бы были
налицо. Цель — после обеда прослушать готовящуюся для следующего номера
его статью и ругать ее до тех пор, пока он ее не выработает. Плодом этого всего
можете считать его статью о женском вопросе в одном из последних номеров
"Гражданина". Три раза он ее переделывал, и статья-то вышла недурна. Вы
были бы тут очень нужны, вас часто поминаем... 17 декабря. Я забыл отослать
письмо когда следует, — и вышло, что могу сообщить вам новость, которая
и до вас касается, ибо требует от вас скорейшего возвращения: Градовский
вышел из редакции "Гражданина". Место его занимает Ф. М. Достоевский.
По представлении о нем в III отделение граф Шувалов на письме Мещерского
надписал: "Отвечать, что с его стороны согласие", — так что завтра или
послезавтра дело оформится и может быть объявлено. Разумеется, рассчитывается
на вас, а именно под вашим главенством устроить библиографию, что, при
месте, если вы его не прогуляете, вам будет очень с руки. Тогда и я, пожалуй,
напрошусь к вам в сотрудники, т.е. для краткого изложения содержания книг
и замечательных статей. Вот вам новость...» (Литературное наследство. Т. 86.
Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1973. С. 420).
3 На одной из «сред» у князя Мещерского в ноябре-декабре 1872 г.
Достоевский предложил взять на себя обязанности ответственного редактора
«Гражданина». 20 декабря 1872 г. Главное управление по делам печати известило
С.-Петербургский цензурный комитет, что Достоевский утвержден редактором
«Гражданина». Сообщение об этом появилось в московских и петербургских
газетах 1 января 1873 г.
А. А. Донсков
Л.Н.Толстой и H.H. Страхов.
Эпистолярный диалог о жизни и литературе
<Фрагменты>
Впервые: Донсков A.A. Л.Н. Толстой и H.H. Страхов. Эпистолярный
диалог о жизни и литературе. М.: Группа славянских исследований при От-
тавском университете, Государственный музей Л.Н. Толстого, 2008.
Печатается по этому изданию. С. 77-89, 103-104, 109, 131.
804
Комментарии
Донское Андрей Александрович — доктор филологических наук (PhD),
действительный член Канадского королевского общества, заслуженный
профессор, директор Группы славянских исследований при Оттавском
университете в Канаде. Автор многих работ по русской литературе XIX столетия
и творчеству Л.Н. Толстого. Подготовил к печати и издал многие сборники
архивных материалов, такие как: «Л.Н. Толстой и H.H. Страхов: Полное
собрание переписки: в 2 т.» (2003) и «Моя жизнь» С.А. Толстой (в переводе
на англ. язык, 2010). Одной из недавних работ является также монография
«С.А. Толстая: литературные произведения» (2011).
И.Ф. Салманова
Переписка как исповедально-диалогическое пространство
русской культуры
Впервые: H.H. Страхов в диалогах с современниками. Философия как
культура понимания. СПб.: Алетейя, 2010. С. 116-121,126-135. Печатается
с сокращениями по этому изданию.
Салманова Ирина Федоровна — кандидат филологических наук, доцент
Белгородского института искусств и культуры.
1 Подробно теме близости и разногласий в переписке уделено внимание
в кн: Паперно И. «Кто, что Я?». Толстой в своих дневниках, письмах,
трактатах. М.: НЛО, 2018.
H.H. Страхов
Письма о нигилизме
Впервые: Русь. 1881. № 23, 24, 25, 27. Печатается с
сокращениями по: Страхов Н. Н. Борьба с Западом / Сост. и коммент. А. В. Белова.
М.: Институт русской цивилизации, 2010. С. 318-350, 352-355.
Ill
ПОЛЕМИКА:
СТРАХОВ - ДАНИЛЕВСКИЙ - СОЛОВЬЕВ:
РОССИЯ ИЛИ ЕВРОПА?
Н. Я. Данилевский
Россия и Европа
Впервые: Заря. 1869. № 1-6; 8-10. Редактор-издатель журнала —
В. В. Кашпирёв; фактическим редактором был H. H. Страхов. Печатается
вторая и третья главы с незначительными сокращениями по: Данилев-
Комментарии
805
ский H. Я. Россия и Европа / Сост. и коммент. Ю. А. Белова / Отв. ред.
О. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 32-69.
Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) — русский
естествоиспытатель, публицист, культуролог; один из основателей цивилизационного подхода
в России, идеолог панславизма.
1 Предположительно стихотворение Н.Я. Данилевского. Опубликовано
впервые в 1869 г. как эпиграф к работе «Россия и Европа».
2 Речь идет об Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова и
последующем участии России в коалиционных войнах против наполеоновской
Франции.
3 Во время революционных событий 1848-1849 гг. в Австрийской
империи венгерские войска нанесли ряд тяжелых поражений австрийцам. Венгрия
была объявлена независимым государством. По просьбе австрийского
императора Николай I направил в Венгрию армию под командованием князя
И.Ф. Паскевича; венгры были разбиты, остатки их войска капитулировали
в августе 1849 г.
4 Семилетняя война 1756-1763 гг., в ходе которой Пруссии и союзной с ней
Англии противостояла коалиция государств в составе Австрии, Франции, России,
Швеции и Саксонии; была начата по инициативе прусского короля Фридриха II,
стремившегося установить гегемонию Пруссии в Центральной Европе. В 1760 г.
русские войска после ряда одержанных побед вступили в Берлин, поставив
Фридриха II на грань катастрофы, но были отозваны в Россию после смерти
императрицы Елизаветы Петровны ее преемником Петром III.
5 Ариман (Ахриман) — в иранской мифологии верховное божество зла.
6 Данилевский придерживается распространенного в XIX в. взгляда об
этническом единстве великорусов, украинцев и белорусов, видя в них (включая
и население принадлежавших Австрии Галиции и Угорской Руси)
представителей единого русского народа.
7 Речь идет о жителях полуострова Уэльс (Великобритания), имеющих
кельтское происхождение.
8 Мирный договор, подписанный в г. Ништадте (Финляндия), подвел итог
Северной войне 1700-1721 гг. Россия, одержавшая в ней победу над Швецией,
вернула себе старинные русские земли по течению Невы. Кроме Ингрии,
Ижорской земли, она приобрела в «вечное владение» Карелию, Эстляндию
и Лифляндию с морским побережьем от Выборга до Риги.
9 Ингерманландия — другое название Ингрии.
10 Дорпат (Дерпт, эстонское название Тарту) — старинный русский город
Юрьев, основанный в XI в. киевским князем Ярославом Мудрым.
11 Лифляндский дворянин И.-Р. Паткуль служил сначала шведам, затем —
саксонцам. Будучи послом саксонского курфюрста в Москве, способствовал
заключению союза между Россией, Польшей и Саксонией против Швеции;
в 1702 г. перешел на службу к Петру I. Ничего героического на русской службе
Паткуль не совершил.
12 Различные слои русского общества по-разному встретили весть о начале
польского восстания 1863 г. Русские революционные демократы выразили свое
806
Комментарии
полное сочувствие повстанцам. ♦ Когда в Польше началась революция, — писал
П. А. Кропоткин, — все в России думали, что она примет демократический
республиканский характер и что Народный Жонд (созданное в ходе
восстания тайное польское правительство) освободит на широких демократических
началах крестьян, сражающихся за независимость родины». Этого, однако,
не произошло, и вскоре «радикальная часть русского общества с сожалением
убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления»
(Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 188).
13 25 июня 1807 г. Наполеон и Александр I встретились в Тильзите для
переговоров о мире. Заключенный мирный договор (Тильзитский мир) устанавливал
разделение сфер: в Западной и Центральной Европе господствовал Наполеон,
в Восточной Европе — русский император. Из отнятых у Пруссии польских
земель было создано Великое герцогство Варшавское, Россия получила
небольшой Белостокский округ.
14 Заседавший в Вене после крушения наполеоновской Франции конгресс
представителей европейских держав принял решение о ликвидации
созданного Наполеоном Великого герцогства Варшавского и о разделе его территории
между Россией, Австрией и Пруссией. По желанию Александра I, мечтавшего
о восстановлении Польши под царским скипетром, из отошедших к России
земель в мае 1815 г. было образовано королевство Польское (Царство Польское),
получившее название «конгрессового королевства».
15 Под «брачным союзом Литвы и Польши» Данилевский
подразумевает Кревскую унию 1385 г., заключенную в связи с браком великого князя
литовского Ягайло и польской королевы Ядвиги. Польские феодалы,
организаторы унии, использовали ее как средство порабощения и эксплуатации
Галицкой Руси и других русских земель, захваченных ранее Литвой. В 1569 г.
в Люблине между Польшей и Литвой был заключен новый унитарный договор
(Люблинская уния), провозгласивший создание единого Польско-Литовского
государства — Речи Посполитой.
16 По условиям Андрусовского перемирия 1667 г., заключенного между
Россией и Речью Посполитой, Россия удержала за собой Смоленск,
Левобережную Украину и Киев; Белоруссия и Правобережная Украина остались
под властью поляков. В 1686 г. правительство царевны Софьи заключило
«вечный мир» с Польшей, подтвердивший условия перемирия.
17 Князь А. Чарторыйский был одним из близких к Александру I лиц в
первые годы его царствования, занимал в 1804-1806 гг. пост министра
иностранных дел; надеялся добиться восстановления Польши в династической унии
с Россией. В нач. 60-х гг. XIX в. со сходной программой выступил польский
аристократ маркиз А. Велепольский. В России за «культурную автономию»
Польши выступали в то время представители либеральной бюрократии во главе
с великим князем Константином Николаевичем.
18 Полоцк в составе Восточной Белоруссии отошел к России в результате
первого раздела Польши в 1772 г.; Минск и Вильно — соответственно в 1793
и 1795 гг.
19 То есть королю Пруссии Фридриху П.
Комментарии
807
20 Бентамовский принцип утилитарности — принцип полезности как
основы и цели человеческой деятельности, сформулированный английским
философом и юристом Иеремией Бентамом (1748-1832).
21 Трактат об образовании Священного союза был подписан в Париже
в сентябре 1815 г. царем Александром I, австрийским императором
Францем I и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом III. «Перед лицом
всего мира» монархи обязались принимать за основу своих действий
«заповеди святой религии, правды, милосердия и мира». Акт Священного
союза во многом явился выражением мистического настроения, в котором
пребывал русский царь, находившийся под большим влиянием известной
проповедницы, баронессы Ю. Крюднер, предсказавшей ход ряда важных
событий в Европе.
22 Слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф 7: 2).
23 «Атеней» — литературный еженедельник, издававшийся в Москве
в 1858-1859 гг. под ред. Е. Ф. Корша.
24 На самом деле прусский министр Н. Гарденберг в течение всего хода
работы Венского конгресса (1814-1815) активно противился планам
восстановления Польши под протекторатом России.
25 Речь идет о восстании в Царстве Польском в 1830 г.
26 При всем субъективизме утверждения Данилевского об отсутствии
внутренних причин польского восстания 1830 г. оно содержит зерна
истины. Польша имела особый статус, выгодно отличавший ее от других частей
Российской империи. В ноябре 1815 г. Александр I подписал конституцию
королевства Польского, которая провозглашала равенство населения перед
законом, неприкосновенность личности и имущества, свободу печати и
вероисповеданий. Польша имела собственное правительство, двухпалатный сейм,
сохраняла свою армию. Французский историк конца XIX в. А. Рамбо, оценивая
состояние русской Польши в 1815-1830 гг., писал о том, что «впервые за
несколько веков страна процветала» (подробнее см.: История XIX века / Под ред.
Э. Лависса и А. Рамбо. В 8 т. М., 1938. Т. 3. С. 285-296.)
27 Царь Вавилонии Навуходоносор II после захвата Иерусалима и
уничтожения Иудейского царства переселил захваченных в плен иудеев в Вавилон.
Вавилонское пленение, длившееся полвека, окончилось в 538 г. до н.э.,
когда персидский царь Кир И, заняв Вавилон, разрешил иудеям вернуться
на родину.
28 Крымские татары, находившиеся в вассальной зависимости от Османской
империи, нападали на южные окраины России вплоть до второй половины
XVIII в. В 1783 г. последний крымский хан Шагин-Гирей сложил с себя власть
и Крым был присоединен к России.
29 Иранский шах Фахт-Али по наущению Англии дважды, в 1804 г.
и в 1826 г., начинал военные действия против России, но оба раза терпел
жестокое поражение.
30 В 1859 г. русские войска под командованием князя А. И. Барятинского
взяли штурмом укрепленный аул Гуниб, последний оплот имама Шамиля,
вождя кавказских горцев. Окончательно сопротивление кавказских племен
было сломлено царскими войсками в середине 60-х гг. XIX в.
808
Комментарии
31 «Кельтским государством» Данилевский называет Ирландию,
завоеванную армией Кромвеля в 1649-1652 гг. и превращенную затем в английскую
колонию.
32 О Семилетней войне см. коммент. 4 к настоящей главе. Причиной участия
России в войне было не «злоречие» прусского короля Фридриха II, а его
стремление превратить Польшу в вассальное государство, посадить своего брата
на престол герцогства Курляндского и обосноваться в Прибалтике, что грозило
русским интересам на Балтийском море.
33 Участие России в 1799 г. во второй коалиционной войне против Франции
было ознаменовано рядом побед, прославивших русское оружие. А. В. Суворов
разбил в Северной Италии французские армии Макдональда и Моро, русский
флот под командованием Ф. Ф. Ушакова освободил от французов Ионические
острова. Называя войну 1799 г. «актом рыцарства в истинно мальтийском
духе», Н. Я. Данилевский намекает на то обстоятельство, что Павел I, помимо
своего царского титула, имел еще титул гроссмейстера Мальтийского ордена,
который он получил от владевших Мальтой рыцарей ордена иоаннитов.
34 В 1810 г. Наполеон, изгнав герцога Ольденбургского, присоединил
Ольденбург к своим владениям в Германии. Это было прямым нарушением
Тильзитского мира, где независимость Ольденбургского герцогства
оговаривалась особым пунктом. Формальным поводом для подобных действий
послужило несоблюдение условий «континентальной блокады», т.е. системы
мер, направленных на экономическое удушение Англии.
35 Речь идет о разговоре, который состоялся в Вильно 17 июня 1812 г.
между Наполеоном и генерал-адъютантом А. Д. Балашовым, посланным
Александром I для вручения Наполеону письменного протеста в связи с
переходом французскими войсками Немана и началом военных действий.
36 Стремясь укрепить созданную им империю, Наполеон раздавал
европейские престолы своим родственникам и приближенным. Брата Жерома он
сделал королем Вестфалии, другого своего брата, Иосифа (Жозефа), — королем
Испании; маршал Мюратбыл возведен Наполеоном на престол Неаполитанского
королевства.
37 В 1809 г. Австрия начала новую войну против Франции. Россия, после
Тильзитского мира формально состоявшая в союзе с Францией, уклонилась
от активной помощи Наполеону, ограничившись концентрацией войск у
австрийской границы.
38 Русско-турецкая война 1828-1829 гг. едва не привела к занятию
русскими войсками Константинополя и черноморских проливов, однако условия
Адрианопольского мира неожиданно оказались легкими для Турции,
сохранившей свой протекторат над Сербией, Молдавией и Валахией.
39 Священный союз вскоре после своего возникновения в 1815 г.
превратился из соглашения трех государей (см. коммент. 20 к настоящей главе) в форум
большинства европейских монархов. Ослабление Священного союза во второй
половине 20-х гг. XIX в. произошло вследствие серьезных разногласий,
возникших среди его участников в связи с обострением восточного вопроса.
40 После разгрома наполеоновской Франции Александр I, считая
нежелательным возвращение к власти династии Бурбонов, высказывался в пользу
Комментарии
809
Ж.-Б. Бернадотта (короля Швеции, в прошлом — одного из маршалов Наполеона)
как наиболее подходящего кандидата на французский престол. Вынужденный
согласиться с кандидатурой Людовика XVIII Бурбона, царь настоял на принятии
им конституционной хартии.
41 В связи с революцией 1820 г. в Неаполе конгрессы Священного союза
в Троппау (Опава) и Лайбахе (Любляна) по инициативе Меттерниха приняли
решение о вмешательстве в неаполитанские дела. Английский министр
иностранных дел С. Кэстлри публично выступал против вмешательства, но тайно
поддерживал Меттерниха.
42 Немецкий писатель, агент русского правительства А.-Ф. Коцебу был
убит 23 марта 1819 г. в Мангейме студентом К. Зандом.
43 Circonstanus attenn antes — смягчающими обстоятельствами (фр.).
44 Имеются в виду конгрессы Священного союза в Троппау, Лайбахе
и в Вероне (1820-1822 гг.).
45 Во время Крымской войны 1853-1856 гг. Австрия сосредоточила на
границе с Россией большую армию и, угрожая вторжением, заставила Николая I
вывести войска из Молдавии и Валахии, после чего оба княжества были
оккупированы австрийцами.
46 Меттерниху действительно удалось в это время вырвать у царя заявление,
что с 1814 г. он «наделал много зла и постарается его исправить». Но показной
характер либерализма Александра I раскрылся раньше, когда царь приблизил
к себе A.A. Аракчеева, известного крепостника.
47 Речь идет о крестьянской реформе 1861 г. и других преобразованиях
эпохи Александра И.
48 Во время Гражданской войны в США Англия и Франция оказывали
поддержку рабовладельческому Югу. Россия, напротив, выражала свое сочувствие
борьбе Севера. В 1863 г. две эскадры русского флота прибыли в Нью-Йорк
и Сан-Франциско, где были восторженно встречены населением.
49 Имеется в виду антирусская кампания в Западной Европе в связи с
восстанием 1863 г. в Польше.
50 Sublâta causa tollitur effectue — если устранена причина, устранена
и болезнь (лат.).
51 Risum teneatis, amici — удержитесь ли вы от смеха, друзья? (лат.).
52 Мадзинисты — сторонники Джузеппе Мадзини (1805-1872), вождя
революционного направления в итальянском национально-освободительном
движении.
53 «Gemeiner Russe, Bartrusse» — «подлый русский, бородатый
русский» (нем.).
54 Стократе сем млувил, тедь уж кричим / К вам розкидани Словове, /
Будьме целек, а не дробмове, / Будьме анеб вщецко, анеб ничим — Сто раз
я призывал вас, сейчас кричу / Вам, раскиданные по всему миру Славяне, /
Будем единым целым, а не раздробленными, / Будем или все, или ничто.
Коллар. Slavy Dcera (чешек.). — Отрывок из поэмы Коллара «Дочь Славы»; —
Ян Коллар (1793-1852) — чешский поэт и ученый, профессор Венского
университета, автор научного исследования «О литературной взаимности славян».
55 Речь идет о Средиземном море.
810
Комментарии
56 Римская империя Карла Великого — созданное франкскими королями
из рода Каролингов государство в границах прежней Западной Римской
империи. Достигло своего наивысшего могущества при Карле Великом (768-814),
объявившем себя в 800 г. императором. После его смерти империя Каролингов
распалась на три части (в будущем — Франция, Германия и Италия).
57 Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum esse puto — я европеец,
и ничто европейское мне не чуждо (лат.).
58 Drang nach dem Osten — натиск на Восток (нем.).
59 Намек на «цивилизаторские» действия британской Ост-Индской
компании, наживавшейся на контрабандной торговле опиумом, который она ввозила
в Китай из Индии. Попытки китайцев пресечь торговлю наркотиком
послужили предлогом для первой (1840-1842) и второй (1856-1860) опиумных войн
Англии против Китая.
60 «Parturiunt montes, nascitur ridikulus mus» — «Рожают горы, а родится
смешная мышь» (лат.).
61 Jar East — Дальний Восток; здесь — вид, обзор (англ.).
62 Pur sang — чистокровной (фр.).
63 «Гражданин вселенной» маркиз ди Поза — персонаж трагедии Ф.
Шиллера «Дон Карлос».
64 Валленштейн — герой одноименной трагедии Ф. Шиллера, написанной
им в конце 90-х гг. XVIII в., когда немецкий поэт и драматург отходит от
литературного течения «Бури и натиска», обращаясь в своем творчестве от темы
бунтарства к проблеме нравственного долга.
65 Имеется в виду первое из 8-ми «Философических писем» П. Я. Чаадаева,
публикация которого в 1836 г. повлекла за собой закрытие журнала «Телескоп».
66 Corpora non aguntnisi fluida — живут только мягкие тела (лат.).
67 Шедо-Ферроти — псевдоним публициста, уроженца России барона
Ф. И. Фиркса. В конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в. опубликовал в Берлине
на французском языке ряд «Этюдов о будущности России», в которых уделял
значительное внимание крестьянскому вопросу (в частности, предлагал
постепенное, рассчитанное на 20 лет, личное освобождение крестьян без земли).
Во время польского восстания 1863 г. высказывался в поддержку поляков,
клеймя «ультрарусские идеи московской прессы».
H.H. Страхов
Спор из-за книг Н. Я. Данилевского
Впервые: Русский вестник. 1889. № 12. С. 187-203. Печатается по этому
изданию.
Библиографический обзор данной темы дан в статье E.H. Мотовниковой
«Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики H. H. Страхова»
(Вопросы философии. 2014. № 11. С. 69-79). Следует указать на достаточно
обширную библиографическую базу спора: «За шесть лет неравномерной
полемики опубликованы сотни страниц: Соловьев В. С. Россия и Европа // Вестник
Комментарии
811
Европы. 1888. N° 2, 4; Страхов H. H. Наша культура и всемирное единство.
Замечания на статью Вл. Соловьева «Россия и Европа» // Русский вестник.
1888. № 6; Соловьев В. С. О грехах и болезнях // Вестник Европы. 1889. № 1;
Страхов H. Н. Последний ответ Вл. Соловьеву // Русский вестник. 1889.
N° 2. Однако Вл. Соловьев решил продолжить борьбу: Соловьев В. С. Письмо
в редакцию // Вестник Европы. 1889. N° 3; Страхов H. H. Спор из-за книг
Н.Я. Данилевского // Русский вестник. 1889. N° 12; Соловьев В. С. Мнимая
борьба с Западом // Русская мысль. 1890. N° 8; Страхов H. H. Новая выходка
против книги Н.Я. Данилевского // Новое время, 1890 от 21 сентября и 20
ноября; Соловьев B.C. 1) Счастливые мысли H. H. Страхова // Вестник Европы.
1890. № 11; 2) Немецкий подлинник и русский список // Вестник Европы.
1890. N° 12; Страхов Н. Н. Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н.Я.
Данилевского // Русский вестник. 1894. N° 10».
Е. Н. Мотовникова
1 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843-1920) — русский
естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь
фотосинтеза, один из первых в России пропагандистов идей Дарвина об эволюции,
заслуженный профессор Московского университета.
2 Так в тексте.
В. В. Розанов — H. H. Страхову
После 19 июня 1888 г.
Впервые: Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб.: Товарищество
А. С. Суворин-Новое время, 1913. Печатается по: Розанов В. В. Собр. соч.
Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев / Под общей ред.
А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2001. С. 171-179.
1 Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826-1911) — русский историк и
публицист, редактор журнала «Вестник Европы». Действительный статский
советник.
2 [Quo] usque tandem? — Доколе будешь? {лат.).
3 « Роковой вопрос* — статья Страхова 1863 г., опубликованая в журнале
«Время» (Время. 1863. N° 4. О. И. С. 152-163). Именно эта статья послужила
поводом к закрытию журнала.
4 Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) — русский публицист, поэт,
общественный деятель, один из лидеров славянофильского движения.
5 Катков Михаил Никифорович (1818-1887) — русский публицист,
издатель, литературный критик.
6 Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник
немецкой классической философии. Точное определение категорического
императива звучит так: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь
которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим
законом» (Кант И. Основоположения метафизики нравов // Кант И. Соч.: в 8 т. Т. 4.
М.: Чорро, 1994. С. 195). Иная формулировка дана в «Критике практического
812
Комментарии
разума»: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в тоже время иметь
силу принципа всеобщего законодательства» (Кант И. Критика практического
разума // Кант И. Соч.: в 8 т. Т. 4. М.: Чорро, 1994. С. 409. — Сост.
7 Имеется в виду книга В. В. Розанова «О понимании» (1886).
8 Владиславлев Михаил Иванович (1840-1890) — философ, автор работ
по логике, психологии, истории философии, ректор Санкт-Петербургского
университета (с 1887).
9 Миллъ Джон Стюарт (1806-1873) — английский философ, экономист,
общественный деятель.
10 Архиепископ Иларион (в миру — Владимир Алексеевич Троицкий;
1886-1929) — епископ Российской православной церкви, архиепископ
Верейский, богослов, проповедник, духовный писатель.
11 Радлов Эрнест Леопольдович (1854-1928) — историк философии,
переводчик.
12 Homo sum et nihil humanum — я человек, и ничто человеческое и т.д. (лат.).
13 Речь о книге Павла Александровича Бакунина «Основы веры
и знания» (1886).
B.C. Соловьев
Данилевский Николай Яковлевич
Впервые: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона:
в 86 т. Т. 10. СПб., 1893. С. 77-80. Печатается по этому изданию.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — русский религиозный
мыслитель, поэт, мистик, публицист, сын историка — С. М. Соловьева; почетный
академик Императорской академии наук; теоретик концепции «всеединства»;
основоположник учения о Софии.
1 An und fur sich — само по себе (нем.).
2 Odium generis humani — ненависть к человеческой расе (лат.).
Счастливые мысли H.H. Страхова. 1890
Впервые: Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй
1888-1891 // Соловьев B.C. Собр. соч.: в 9 т. / Под ред. и примеч. СМ.
Соловьева и Э. Л. Радлова. Второе издание. Т. 5 (1883-1892). СПб.: Товарищество
«Просвещение», 1912. С. 312-320. Печатается поэтому изданию.
В. С. Соловьев — А. А. Фету
25 августа (6 сентября) 1888 г.
Впервые: Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством
«Скорпион». М., 1901. С. 172-174. Печатается по: Переписка A.A. Фета
с Вл. С. Соловьевым (1881-1892) / Публикация и примеч. Г. В. Петровой //
Комментарии
813
A.A. Фет. Материалы и исследования / Отв. ред. Г. В. Петрова, В. А. Лукина.
СПб.: Контраст, 2013. Вып. 2. С. 406-408. Примечания Г. В. Петрова.
1 Вирофле расположен на территории одноименного кантона, округа
Версаль департамента Ивелин в регионе Иль-де-Франс ив 14 км от центра
Парижа, восточнее Версаля. Вирофле с севера и с юга окружают лесные
массивы. Версаль — знаменитый французский дворцово-парковый ансамбль,
резиденция французских королей.
2 Леруа-БольеА. (1842-1912) — французский публицист и историк, автор
трехтомного исследования о современном государственном и общественном
строе России «L'Empire des Tsars et les Russes» (Paris, 1881-1889).
3 Сен Клу (Saint-Cloud) — город-замок во Франции, на берегу Сены, в 3 км
от Парижа. В 1870 г. замок был разрушен и остались великолепные
лесопарковые комплексы.
4 Так в подлиннике.
5 Реки, протекающие в Эдеме. Согласно книге Бытия, «из Едема выходила
река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон
(Пишон. — Г. П.): она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той
земли хорошее; там бдолах и камень оникс. Имя второй реки Тихон: она
обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею.
Четвертая река Евфрат» (Быт 2, 10-14).
6 Видимо, Соловьев вспоминает свое пребывание в Воробьевке — имении
A.A. Фета — в апреле-сентябре 1887 г.
7 Речь идет о брошюре Соловьева «L'Idée russe» (Paris, 1888; в русском
переводе Г. А. Рачинского вышла в Москве в 1911 г.). Об этой работе Соловьева
см.: Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. С. 165-166.
Revues — журналы (фр.).
8 Возможно, подобные мысли были вызваны «травлей» Соловьева, которая
развернулась в России в конце 1886 г. по возвращении его из второго
заграничного путешествия. В декабре 1886 г. он писал Ф. Рачкому: «...против меня начался
здесь настоящий штурм, причем цензура, запрещающая все мною написанное,
предоставляет моим противникам полный простор выдумывать на меня всякие
небылицы» (Соловьев Вл. Письма / Под ред. Э. Л. Радлова. Пб., 1923. Т. 1.
С. 172). В № 49 за 1886 г. в «Церковном вестнике» было опубликовано открытое
письмо Соловьева, в котором он опровергал «систематическую клевету, очевидно
рассчитанную на причинение мне практических затруднений» (Там же. Т. 3.
С. 192-194). Подробнее об этом периоде жизни Соловьева см.: Мочульский К.
Гоголь. Соловьев. Достоевский / Сост. и послесловие В. М. Толмачева; примеч.
К. А. Александровой. М., 1995. С. 163-164. В 1887-1888 гг. травля Соловьева
продолжилась. См., например: Абрамов Я. Вл. Соловьев и Россия // Неделя.
1888. 17 апреля. N° 16. С. 513-517; Скабичевский А. Г. 1) Вл. Соловьев,
произносящий роковой приговор над всеми нами и в том числе над самим
собою в статье своей «Россия и Европа» («В Евр.» № 2) // Новости и
биржевая газета. 1888. 11 февраля. № 42. С. 2; 2) Нечто по поводу второй статьи
г. Вл. Соловьева // Там же. 14 апреля. № 104. С. 2; ШостьинА. 1) Авторитеты
и факты в вопросе о развитии церковных догматов // Вера и разум. 1888.
814
Комментарии
N° 6. Кн. 1. Отдел церковный. С. 32-67; 2) Москва, 13 февраля [Передовая
статья] // Русское дело. 1888. 13 февраля. № 7. С. 5-6 и др.
9 Речь идет о продолжении полемики между Соловьевым и H. H. Страховым,
которая началась еще в 1887 г. по поводу книги H. H. Страхова «О вечных
истинах (Мой спор о спиритизме)» (СПб.: тип. бр. Пантелеевых, 1887). 9 марта
1887 г. Соловьев написал ему письмо с шутливой критикой книги о спиритизме,
где утверждал, что полемика с Бутлеровым против спиритических чудес «имеет
силу (если имеет) также и против всяких чудес и против самого существования
невидимых духовных деятелей, — т.е. против всякой религии: ибо хотя, говорят,
есть религия без Бога (буддизм), но религии без ангелов и чертей не бывало
и быть не может» (Соловьев Вл. Письма. Т. 1. С. 31). Почти одновременно Фет
писал Страхову 7-8 марта 1887 г. о том, что Соловьев и Н.Я. Грот «вскипели
негодованием» от его книги: «Соловьев прямо говорит, что это лживая, лукавая
книга, прикрывающаяся девизом — philosophari — Deum amare (заниматься
философией — любить Бога — лат.) — и проповедующая чистейший
материализм» (Переписка с H.H. Страховым (1877-1892) / Вступит, ст., публ. и ком-
мент, и Н.П. Генераловой // Литературное наследство. Т. 103. Кн. 1. С. 432).
Видимо, это и вызвало обиду Страхова, о которой пишет Соловьев Фету в письме
от 9 апреля 1887 г. Не дожидаясь отъезда в Воробьевку и встречи со Страховым,
12 апреля 1887 г. Соловьев написал ему: «Я не только верю во все
сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю» (Соловьев Вл. Письма.
Т. 1.С. 33). Страхов очень болезненно отреагировал на критику Соловьева, в чем
признавался в письме к Фету от 18-20 апреля 1887 г., отчасти пересказывая
содержание своего письма к Соловьеву: «Когда я кончил свои "Вечные истины"
и сдал их в магазин, я испытывал очень благодушное настроение. Беспрестанно
мне приходила мысль о возвышении к Богу, и я раздумывал о том, какие есть
для этого пути и как их себе уяснить и определить. Но, верно, было в моей
душе что-нибудь дурное, и вот послано мне было искушение. Два приятеля
прислали мне отзывы о моей книге, от которых я стал жестоко волноваться.
Я знал заранее, что книга моя ни тому, ни другому вполне не понравится; один
будет недоволен, что я слишком часто говорю о Боге, а другой, что слишком
усердно держусь за физику. Для обоих в моей книге должно представляться
некоторое внутреннее противоречие. И вот я думал: что они на это скажут?
Верно, они никак не согласятся со мною, что в действительности тут нет
никакого противоречия. / Но того, что случилось, я никак не ожидал. Оба приятеля
решили просто: все, что я говорю о духе и Боге, все это лукавство, притворство,
ничего этого я сам не думаю. Один готов меня за это хвалить, а другой
протестует против употребления имени Божия всуе и кричит: караул! / Я написал
Владимиру Сергеевичу горячие уверения в своей искренности; но он и
слышать не хочет. Он пишет, будто я сам признаюсь (не признаю, а признаюсь),
что "употребляю без оговорок обычные религиозные выражения для мыслей
иного рода". Подлинные его слова. Я ему писал, что все мои слова я
употребляю в точном смысле, что если не могу употребить религиозных выражений
в их точном смысле, то я молчу, никаких слов не употребляю. А он говорит,
что я говорю одно, а у меня мысли иного рода! И хоть бы он привел единое
слово, единую фразу, где бы видно было, что слово есть маска для мысли! Нет,
Комментарии
815
меня обвиняют голословно. / И вот, я принялся обижаться. Как! Они не хотят
признать меня добросовестным, правдивым, искренним писателем? Почему
они так обо мне думают? Эти самолюбивые мысли так разыгрались, что я забыл
все знаки расположения, которыми осыпают меня приятели, и стал думать, что
они, верно, ничуть меня не любят. Вот в какой грех я впал! / Конечно, дорогой
Афанасий Афанасьевич, я должен бы подумать, что вся вина ни в чем ином,
как в моей книге. Если кто находит разлад между ее выражениями и ее
мыслями, если кому не ясна связь между ее положениями, то, значит, книга дурно
написана, неубедительна, не затягивает туда, куда хочет затянуть. / Ну, будет
об этом. Из долгого опыта я знаю, что спор в письмах есть дело почти
невозможное. Уж нужно будет приехать самому в Воробьевку, если задаться мыслью
спорить о "Вечных истинах". Без сомнения, я и не миную Вашего сада, хотя
заеду не за спором» (Переписка с H. H. Страховым (1877-1892) / Вступит, ст.,
публ. и коммент. Н. П. Генераловой // Литературное наследство. Т. 103. Кн. 1.
С. 432-434). Отзыв о критике Страховым спиритизма содержится и в обширной
статье Соловьева «Россия и Европа», опубликованной в журнале «Вестник
Европы» в 1888 г. (№ 2. С. 742-761; № 4. С. 725-767), где автор отмечает:
* ..."вечные истины" г. Страхова суть не что иное, как основные положения
физико-математических наук в том безусловном и безопределенном значении, какое
они получают от так называемого механического мировоззрения. <...> Однако
научная мысль Запада далеко не исчерпывается этим мировоззрением <...>
почтенный автор "Борьбы с Западом" <...> является не только западником,
но еще западником крайним и односторонним* (Вестник Европы. 1888. № 4.
С. 762-763). Позднее эта работа Соловьева вошла в его книгу «Национальный
вопрос в России» (СПб., 1888).
10 Имеется в виду Л. Н. Толстой. В середине 1880-х гг. Соловьев
разошелся с Толстым по вопросам религиозно-нравственного порядка и
выступил его оппонентом. См.: Потехин С. Критика толстовства Владимиром
Соловьевым // Миссионерское обозрение. 1901. № 1. С. 34-43; № 2. С. 162-176.
В свою очередь, H.H. Страхов сохранил с Толстым самые теплые и глубокие
отношения. В отличие от Фета и Соловьева он высоко оценил работу Толстого
по истолкованию религиозно-нравственных основ жизни.
11 Вогюэ Эжен Мельхиор de (Vogué; 1848-1910) — маркиз, французский
дипломат, писатель-путешественник, литературный критик и историк
литературы. Был секретарем французского посольства около семи лет, основное
его произведение «Le Roman russe» («Русский роман», 1886), в котором
высоко оценивается русская литература, в частности творчество И. С. Тургенева
и Л.Н. Толстого.
12 Вероятно, речь идет о работе Л. Н. Толстого над повестью «Крейцерова
соната», которая завершится только в 1889 г. 21 июня 1889 г. H.H. Страхов
сообщал Фету из Ясной Поляны: «Теперь он (Толстой. — Г. П.) весь в писании,
именно отделывает свою "Сонату", от которой я жду больших
художественных чудес» (Переписка с H.H. Страховым (1877-1892) / Вступит, ст., публ.
и коммент. Н. П. Генераловой // Литературное наследие. Т. 103. Кн. 1. С. 481).
13 Сын Л.Н. Толстого Илья (1866-1933) в 1888 г. женился на Софье
Николаевне Философовой (1867-1934).
816
Комментарии
К. H. Леонтьев
Владимир Соловьев против Данилевского
<Фрагменты>
Впервые: Гражданин. 1888. № 99, 102, 105,107, 112, 115, 120, 128, 137,
140, 147, 152 (гл. 1-10). Печатается с сокращениями по: Леонтьев К. Н.
Поли. собр. соч. и писем: в 12 т. Т. 8. Кн. 1: Публицистика 1881-1891.
СПб.: Владимир Даль, С. 316-319, 321-325, 329-331, 334-340, 344-358,
361,386-396.
Леонтьев Константин Николаевич (1831-1891) — русский религиозный
мыслитель-эстетик, последователь органической теории; писатель, публицист,
литературный критик, в монашестве — о. Климент.
1 Intus-susceptio {лат. intus внутрь + susceptio принятие на себя) — в
биологии: разрастание оболочек растительных клеток в результате внедрения
новых молекул целлюлозы и протопектина в оболочку клетки.
2 Великий океан (устар.), т. е. Тихий океан.
A. Ф. Лосев
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов
(A.A. Фет, И.С. Аксаков, H.H. Страхов)
Впервые: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его ближайшее литературное
окружение: в 4 ч. Ч. 4: Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов
(А. А. Фет, И. С. Аксаков, H. H. Страхов) // Литературная учеба. 1987. № 4.
С. 164-168. Печатается по этому изданию.
Лосев Алексей Федорович (1893-1988) — доктор филологических наук,
профессор, философ, антиковед, переводчик, писатель; видный деятель
культуры XX в., крупный специалист по философскому наследию Вл. С. Соловьева.
Все ссылки на работы В. С. Соловьева даны А. Ф. Лосевым по: Соловьев В. С.
Собр. соч. 2-е изд. СПб., б/г. Т. 1-Х.
1 Ungeniessbar — неприемлемый {нем.).
B. А. Фатеев
«В Страхове я вижу миниатюру современной России»:
полемические заметки об отношениях
H.H. Страхова и Вл.С. Соловьева
Впервые: Вестник русской христианской гуманитарной академии.
2010. Т. 11. Вып. 1. С. 111-127. Печатается с небольшими сокращениями
по этому изданию.
Комментарии
817
Фатеев Валерий Александрович — кандидат филологических наук,
прозаик, литературный критик, известный автор работ о В. В. Розанове, H. H.
Страхове и др. русских философах.
1 Спиритизм (spiritus — душа, дух) — мистическое течение, связанное
с верой в загробное существование душ умерших и характеризующееся особой
практикой «общения» с умершими, — приемами так называемого физического
медиумизма.
В. К. Кантор
Владимир Соловьев о соблазне национализма
Впервые: Соловьевские исследования. 2010. № 4. С. 35-45. Печатается
с сокращениями по этому изданию.
Кантор Владимир Карлович — писатель, литературовед, доктор
философских наук, ординарный профессор Школы философии НИУ ВШЭ (Москва),
заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского
интеллектуального диалога. Награжден карамзинской медалью за достижения
в исторической науке, эссеистике и литературе и за многолетнее сотрудничество
с журналом «Вестник Европы».
IV
ДОСТОЕВСКИЙ - СТРАХОВ - ТОЛСТОЙ
Contra
Ф. М. Достоевский
<ОН.Н.Страхове>
Классическая запись расположена среди заметок к «Дневнику
писателя» за 1876 г. (РГАЛИ. Фонд 212. Оп. 1. № 16. С. 266). Текст записи
приводится по Поли. собр. соч. Ф. М. Достоевского с исправлением в нем
неточностей. Печатается по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т.
Т. 24. Л.: Наука, 1982. С. 239-240. Уточненный вариант данной записи
сделан Н. А. Тарасовой, восстанавливающей подлинность
первоисточника: «вместо слов "готов продать... работу" нужно читать "готов
предать... родину"» {Тарасова Н. А. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского
(1876-1877): критика текста. М.: Квадрига, 2011. С. 55).
1 Новую интерпретацию этой записи, отличной от расшифровки Л. М. Ро-
зенблюм, дал В. Н. Захаров. Подр. см: Захаров В. Н. Полемические заметки
Ф. М. Достоевского о Н. Н. Страхове // Русская литература. 2017. № 4.
С. 61-70. Также обращаем внимание на статью С. А. Кибальника «К раз-
818
Комментарии
гадке одной писательской диффамации: почему H.H. Страхов оклеветал
Ф.М. Достоевского?» (Вестник Томского государственного университета.
Филология. 2018. Т. 55. С. 191-211).
А. Г. Достоевская
Воспоминания
Целиком публикация воспоминаний А. Г. Достоевской осуществлена
СВ. Беловым и В. А. Тунимановым в 1971 г. Печатается вторая глава
12-й части «Воспоминаний» но: Достоевская А. Г. Воспоминания / Вступ.
статья, подготовка текста и примеч. СВ. Белова и В.А. Туниманова. М.:
Правда, 1987. С. 416-427.
Достоевская Анна Григорьевна (1846-1918) — жена Ф. М. Достоевского.
1 Письмо Страхова к Толстому от 28 ноября 1883 г. напечатано также в кн. :
«Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым». Т. 2. СПб., 1914. С. 307-310.
2 Речь идет о кн.: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., I. Биография,
письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. Эта «Биография» была
составлена Ор.Ф. Миллером и H. H. Страховым по просьбе Анны Григорьевны.
О работе Ор. Ф. Миллера и H. H. Страхова над этой «Биографией» Достоевского
см. их переписку с А. Г. Достоевской. Публикация С В. Белова (Байкал. 1976.
№5. С. 138-140).
3 Висковатов (Висковатый) Павел Александрович (1842-1905) —
публицист, издатель М. Ю. Лермонтова. — Примеч. сост.
4 Имеется в виду глава «У Тихона», в которой рассказывается об исповеди
Ставрогина и о его неудачной попытке искреннего покаяния, самоочищения.
По первоначальному замыслу Достоевского, эта глава должна была следовать
за главой «Иван Царевич» и была уже набрана, но редактор «Русского
вестника» М. Катков воспротивился непечатанию ее.
5 О какой книге протестантского богослова Пресансе идет речь, точно
сказать нельзя. Известно, что Толстой пользовался его книгами: «Historie
des trois premiers siècles de l'Eglise Chrétienne» (1856-1859) и «Iésus Christ,
son temps, sa vie» (1865).
6 Имеется в виду парижское издание известного философского
произведения Марка Аврелия «Наедине с собою»: «Pensées de l'empereur Marc-Auréle-
Antonin. Trad du grec. par. m. de Ioly». Paris, 1803. С 180.
7 Письмо Толстого Страхову от 5 декабря 1883 г. (Толстой Л. Н. Поли,
собр. соч. Т. 63. М., 1934. С 142). Точный текст письма впервые приводится
в кн. H. H. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881
по 1885 год» (М., 1970. С. 221).
8 Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым. Т. 2. СПб., 1914. С. 310.
9 См: Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 1. Повести и рассказы. Краткий
очерк жизни и писательства Ф. М. Достоевского, сост. Д. В. Аверкиевым. СПб.,
1885; Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. 1. Повести и рассказы. Очерк
жизни и деятельности Достоевского, сост. К. К. Случевским. СПб., 1888; очерк
Комментарии
819
Случевского см.: Мазур Т. П. Достоевский и Случевский. —Достоевский Ф. М.
Материалы и исследования. Т. 3. Л., 1978. С. 209-217.
10 В 1863 г., после апрельской книжки, журнал «Время» был прекращен
по высочайшему повелению из-за статьи «Роковой вопрос», подписанной
псевдонимом «Русский» и принадлежавшей H.H. Страхову. Эта статья
касалась польского вопроса, который рассматривался в
официально-патриотическом духе. Однако была превратно понята, в ней увидели возвеличение
польской цивилизации в ущерб русской национальности (см.: Долинин А. С.
К цензурной истории журналов Достоевского // Достоевский. Материалы
и исследования / Ред. А. С. Долинина. Т. II. Л., 1924. С. 423-430). См.
также: Нечаева В. С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». М., 1972.
11 «Дневник писателя», 1877 г., который Анна Григорьевна цитирует
в этой главе, см. также по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр.
художественных произведений / Ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Т. XII.
М.; Л, 1926-1930.
12 Из письма Достоевского к X. Д. Алчевской от 9 апреля 1876 г.
(Достоевский Ф. М. Письма / Ред. А. С. Долинина. Т. 3. М.; Л., 1934. С. 206).
13 Достоевский Ф. М. Письма / Ред. A.C. Долинина. Т. 1. М.; Л., 1928. С. 84.
14 В рукописи этой цитаты нет, однако, судя по ссылке Анны Григорьевны
на «Первое собрание писем» Тургенева (правда, год издания неточно
указан, вместо «1884» — «1885») и прежде всего, исходя из смысла цитаты,
Анна Григорьевна не дописала именно этот отрывок из письма Тургенева
к Достоевскому от 28 марта (9 апреля) 1877 г.
15 См.: Достоевский Ф.М. Собр. соч. в десяти томах. М., 1956-1958.
Т. X. С. 447.
16 Не исключено, что этот эпизод выдумал сам Достоевский, чтоб
«позлить», мистифицировать Тургенева. Во всяком случае, И. И. Ясинский
в своих мемуарах совершенно определенно рассказывает о том, как
однажды Достоевский пришел к Тургеневу, чтоб покаяться якобы в совершенном
им преступлении: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших
этических взглядов измерить бездну моей низости!» И когда Тургенев
пришел в негодование от рассказа, Достоевский, уходя, сказал: «А ведь это я все
изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего
развлечения». По словам И. И. Ясинского, Тургенев, уже после ухода Достоевского,
согласился с тем, что писатель весь этот эпизод выдумал (см.: Ясинский И. И.
Роман моей жизни. Книга воспоминаний. М.; Л., 1926. С. 168-169). По
свидетельству СВ. Ковалевской, подобный сюжет бы задуман Достоевским еще
в 1863 г. (см.: Ковалевская СВ. Воспоминания и письма. М., 1961. С. 107).
Внучка А.П. Философовой, 3. А. Трубецкая, приводит рассказ Достоевского
в конце 1870-го годов в салоне А.П. Философовой: «Самый ужасный, самый
страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, — говорил
Достоевский, — но отнять веру в красоту любви — еще более страшное
преступление». И Достоевский рассказал эпизод своего детства. Когда я в детстве
жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец
был врачом, играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это бы хрупкий,
грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся
820
Комментарии
между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой
добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту
девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский,
меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было
уж поздно. Всю жизнь эти воспоминания меня преследуют, как самое ужасное
преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть
не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина
в «Бесах» (Трубецкая З.А. Достоевский и А. П. Философова / Публикация
С. В. Белова // Русская литература. 1973. № 3. С. 117). Историю этой клеветы
Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг В. Н. Захаров в своей
книге «Проблемы изучения Достоевского» (Петрозаводск, 1978. С. 75-109).
(Отрывки публикуются в данной антологии. — Сост.).
17 Анна Григорьевна имеет в виду письмо Достоевского к А. Н. Майкову
от 16/28 августа 1867 г., где писатель рассказывает о встрече в Германии
с одним русским, который постоянно живет за границей, ненавидит Россию
и ездит на родину только для того, чтобы получить доход с имения
(Достоевский Ф.М. Письма / Ред. A.C. Долинина. Т. 2. М.; Л., 1930. С. 28).
Однако на каком основании Анна Григорьевна считает, что речь идет здесь
о П. А. Висковатове, — неизвестно.
18 «Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose!» — «Клевещите,
клевещите, что-нибудь да останется!» (фр.).
19 «Jalousie de métier» — «профессиональная зависть» (фр.).
20 Из письма Л. Н. Толстого к H. H. Страхову от начала февраля 1881 г.:
«Я никогда не видел этого человека <Достоевского> и никогда не имел прямых
отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый
близкий, дорогой, нужный мне человек. <...> Опора какая-то отскочила от
меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь
плачу» (Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 63. М., 1934. С. 43).
21 С философом и критиком H.H. Страховым Достоевский познакомился
в декабре 1859 г., сразу же после возвращения в Петербург из ссылки. С 1861 г.
Страхов был ближайшим сотрудником журналов братьев Достоевских «Время»,
а затем «Эпохи», полностью разделяя ту систему общественно-политических
взглядов Достоевского, которую обычно называют «почвенничеством».
Из философских работ Страхова, в которых он является последователем
Гегеля, наибольшую известность получили книги «Мир как целое» (изд. 2-е,
1892), «Философские очерки» (1835), «Об основных понятиях психологии
и физиологии» (изд. 2-е, 1894). Из литературно-критических работ Страхова
важнейшими являются: «Критические статьи о Тургеневе и Толстом» (изд. 2-е,
1895) и «Борьба с Западом в нашей литературе» (изд. 3-е, 1898), а также
первая большая биография Достоевского в первом томе полного
собрания сочинения писателя (1883). О жизни и деятельности Страхова см. кн.:
Никольский Б. H.H. Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896;
Белов С. В., Белодубровский Е. Б. Библиотека H. H. Страхова // Памятник
культуры. Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977. С. 134-140.
Несмотря на всю идейную близость Достоевского и Страхова и
принадлежность к лагерю «почвенников», они все же никогда по-настоящему не бы-
Комментарии
821
ли близки друг к другу. Это особенно ярко вскрылось в известном письме
Страхова к Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 г. (см.: Переписка Л. Н. Толстого
с H.H. Страховым. Т. 2. СПб., 1914. С. 307-310), перед которым Страхов
кается в том, что так односторонне обрисовал фигуру Достоевского в
своих «Воспоминаниях» о нем (см.: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. Т. 1.
Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883. С. 177-329).
Хотя в «Воспоминаниях» Страхова о Достоевском уже намечалась (правда,
очень осторожно) «обличительная» тенденция, так полно развившаяся в письме
к Толстому, но и Достоевский далеко не идеализировал Страхова. Вот что он,
например, говорит в одном своих писем: «Это скверный семинарист и больше
ничего: он уж раз оставлял меня, именно с падением "Эпохи", и прибежал
только после успеха "Преступления"» (Достоевский Ф. М. Письма / Ред.
A.C. Долинина. Т. 3. М.; Л., 1934. С. 155).
В 83-м томе «Литературного наследства» впервые приводится запись
Достоевского о Страхове, датируемая 1877 г.: «Чистейшая семинарская черта.
Происхождения никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга,
никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает
гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-
нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов предать всех и всё, и
гражданский долг, которого не ощущает, и родину, до которой ему все равно, и идеал,
которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой
коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом
поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать
неустанно» (Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 620). Комментируя эту
антистраховскую запись Достоевского, Л. М. Розенблюм справедливо
предполагает, что Страхов видел эту запись, когда А. Г. Достоевская предоставила ему
и О.Ф. Миллеру возможность ознакомиться с архивом Достоевского для
подготовки первого тома посмертного собрания сочинений писателя. Было решено
издать также большую часть последней тетради Достоевского.
Совершенно очевидно, замечает Л. М. Розенблюм, что А. Г. Достоевская
не заметила этой антистраховской записи, иначе она упомянула бы о ней
в заявлении по поводу письма Страхова к Толстому. «Страхов, конечно,
понимал, — пишет Л. М. Розенблюм, — что со временем не только последняя
тетрадь Достоевского, но и все остальные будут опубликованы. Знал он
также, что когда-нибудь будет издана и переписка Льва Толстого. Быть может,
и эти мысли отчасти имел он в виду, направляя письмо Толстому, своеобразный
"ответ" Достоевскому» (Литературное наследство. Т. 83. С. 23).
А. Г. Достоевская обратилась к целому ряду лиц, хорошо знавших
Достоевского, с просьбой подписать протест против этого письма H. H. Страхова (см.,
например, письма А. Г. Достоевской писательнице А. Н. Пешковой-Толи веровой
от 16 июля 1916 г. Публикация СВ. Белова (Байкал. 1976. № 5. С. 144). Этот
протест подписали А. В. Круглов, С. В. Аверкиева, Ж. А. Полонская, X. Д. Алчев-
ская, A.A. Штакеншнейдер, С. С. Кашпирева, академик М. А. Рыкачев и др.
«С чувством искреннего негодования, — гласит протест, — мы, лично
знавшие покойного писателя, Федора Михайловича Достоевского, прочли письмо
822
Комментарии
H. H. Страхова к гр. Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 года, напечатанного
в журнале "Современный мир", октябрь 1913 года.
В письме этом Н. Н. Страхов говорит, что Ф. М. Достоевский был "зол,
завистлив и развратен".
Не говоря уже об известном всему литературному миру факте, что Федор
Мих. взял на себя, после смерти своего брата, M. M. Достоевского, все долги
по журналу "Время", в количестве более двадцати тысяч рублей, и выплачивал
их до самой своей смерти, существуют свидетельства многих лиц, что он, сам
больной и необеспеченный, помогал своем пасынку П. А. Исаеву, больному
брату Николаю и семье умершего M. M. Достоевского.
Ни одни только близкие пользовались добротой Федора Михайловича:
существуют многочисленные свидетельства, печатные и устные, что никто из
обращавшихся к нему незнакомых ему людей не уходил от него без дружеского
совета, указания, помощи в той или другой форме. Мог ли поступать подобным
образом человек, "нежно любивший одного себя", как о нем пишет H. H. Страхов?
Федор Михайлович, по словам H. H. Страхова, был "завистлив". Но лица,
интересующиеся русской литературой, помнят и знаменитую его "Пушкинскую
речь" и восторженные и защитительные статьи и отзывы его в «Дневнике
писателя» о Некрасове, гр. Л. Толстом, Викторе Гюго, Бальзаке, Диккенсе,
Жор Занде, которым он, очевидно, не "завидовал". Подозревать Федора
Михайловича в зависти к чинам, карьере или богатству других людей было бы
странно, когда он сам, во всю свою жизнь, ничего для себя не искал и
добровольно раздавал нуждающимся все, что имел.
Но еще поразительнее для нас в письме H.H. Страхова — это обвинение
Федора Михайловича в «разврате». Лица, близко знавшие его в молодости
в Петербурге и в Сибири (А. П. Милюков, Ст. Д. Яновский, д-р Ризенкампф,
бар. А. Е. Врангель и др.), в своих воспоминаниях о Федоре Михайловиче
ни единым намеком не обмолвились о развращенности его в те отдаленные
времена. Мы же, знавшие Федора Мих. в последние два десятилетия его
жизни, можем засвидетельствовать, что знали его как человека, больного тяжкою
болезнию (эпилепсией) и вследствие ее иногда раздражительного и
неприветливого, всегда поглощенного в свой литературный труд и часто
удрученного житейскими невзгодами, но всегда доброго, серьезного и сдержанного
в выражении своих мнений. Многие из нас знают Федора Михайловича и как
прекрасного семьянина, нежно любившего свою жену и детей, о чем
свидетельствуют и его напечатанные письма.
Все сказанное H.H. Страховым в вышеупомянутом письме до того
противоречит тому представлению, которое Вы вынесли о нравственном облике
Ф. М. Достоевского, из более или менее близкого с ним знакомства, что
мы считаем нравственным долгом своим протестовать против этих ни на чем
не основанных и голословных обвинениях H. H. Страхова» (Переписка
А. Г. Достоевской с современниками / Публикация С. В. Белова // Байкал.
1976. №5. С. 144).
Этот протест не был напечатан отдельно, а был положен А. Г. Достоевской
в основу специальной главы ее «Воспоминаний» «Ответ Страхову». Об
отношениях Достоевского и Н. Н. Страхова см. статьи: А. С. Долинина в его кн. «Пос-
Комментарии
823
ледний роман Достоевского» (М.; Л., 1963. С. 307-343), Б. И. Бурсова «У свежей
могилы Достоевского (Переписка Л. Н. Толстого с H. H. Страховым)» (Ученые
записки Педагогического института им. А. И. Герцена. Т. 320. Л., 1969.
С. 254-270), В. Я. Кирпотина «Достоевский, Страхов и Евгений Павлович
Радомский» (Знамя. 1972. № 9. С. 10) <...>. Письма Страхова к Достоевскому
см. в кн.: Шестидесятые годы. М.; Л., 1940. С. 255-280.
С. Н. Булгаков
Русская трагедия
(О «Бесах» Достоевского)
<Фрагмент>
Впервые: Русская мысль. 1914. Кн. IV. С. 1-26. С подзаголовком
«О "Бесах" Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском
Художественном театре» и с пометой «Читано в Московском Религиозно-
философском обществе 2 февраля 1914 г.». Переиздание: Булгаков С. Н.
Тихие думы / Сост., подгот. текста и коммент. В. В. Сапова; послесл.
K.M. Долгова. М.: Республика, 1996. Печатается по: URL: http://www.
vehi.net/bulgakov/tragediya.html#_ednl. Комментарии В. В. Сапова.
Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) — русский философ, богослов,
православный священник, экономист, теолог, создатель учения о Софии
Премудрости Божьей.
Премьера инсценировки на сцене МХТ под названием «Николай Ставрогин»
состоялась 23 октября 1913 г. Постановка вызвала ожесточенную полемику;
в частности, ей предшествовала статья М. Горького «О «карамазовщине»
(Русское слово. 1913. 22 сент.) с протестом против ожидаемой премьеры и за ней
последовала его же статья «Еще о «карамазовщине» (Там же. 1913. 27 окт.)
с отрицательной оценкой инсценированного романа. Как значилось в извещении
Московского религиозно-философского общества, постановка послужила
непосредственным поводом для его вышеупомянутого заседания. В том же
извещении публикуются тезисы доклада Булгакова, по всей вероятности,
сформулированные самим автором:
«Достоевский как трагик. "Бесы" как религиозная трагедия русской
души, отрицательная мистерия. "Книга о Христе" как основной замысел
Достоевского, частично выполнявшийся во всех его романах, в частности
и в "Бесах". Второстепенный производный характер его политических
мотивов и литературных шаржей. Медиумичность, дурная женственность
русской души, не определившей своего духовного центра как центральная
тема "Бесов". Николай Ставрогин — медиум зла и Хромоножка — медиум
добра. Личины небытия: загадка влияния Ставрогина на Кириллова,
Шатова, Петра Верховенского. Соблазн Кириллова ("человекобог»). Соблазн
Шатова ("народ — тело Божие"). Соблазн Петра Верховенского ("Иван-
царевич", самозванец). Авантюризм жизни (Лиза) и жертвенная любовь
(Даша). В чем исцеление? — положительная идея трагедии, Достоевский
824
Комментарии
и "Бесы". По прочтении доклада состоится обсуждение его» (Отдел рукописей
Российской государственной библиотеки. Ф. 746. К. 38. Ед. хр. 56).
На обсуждении фактически с содокладом выступил Вяч. И. Иванов. Выразив
удовлетворение «благоговейным отношением к Достоевскому», окрасившим
доклад, оратор упрекнул Булгакова за схематичность в подходе к сложному
внутреннему миру героев «Бесов». В особенности это касается Ставрогина
и Хромоножки как главных мужского и женского персонажей. Вяч. Иванов дал
христианизированное истолкование отношения Хромоножки к «Матери-Земле»,
которое у Булгакова соотносилось с языческой, «природной мистикой». Критике
подвергся также тезис о медиумичности как «дурной женственности» русской
души, принципиальный для Булгакова (см. его письма к Андрею Белому (Новый
мир, 1989. С. 10)); взят был под защиту и Шатов, обрисованный Булгаковым
как носитель националистического соблазна. Ставрогин был переопределен как
«богоносец-отступник» (а не просто идейный провокатор). В ответном слове
Булгаков признал, что, «задав себе в некотором роде сочинение на гимназическую
тему» (имеется в виду «характеристика Ставрогина»), он «до известной степени
<...> схематизировал материал и делал чертежи там, где нужен был рисунок».
Однако, не согласившись с оппонентом, заметил: «Хромоножка, хотя она
действительно существует в послехристианскую эпоху, но она по своему сознанию
принадлежит к дохристианской или, вернее, к внехристианской эпохе». Точно так
же Булгаков остался при своей трактовке Шатова ( « ...не случайно же Достоевский
утверждает, что Шатов не верит в Бога, веря в народ-богоносец...»). В своем
выступлении С. Н. Дурылин поделился наблюдением, что в романе «Бесы» —
«не один мрак» (как это показалось докладчику), ибо в нем присутствует
«мистический хор»,«народный Христов клир». В ответной реплике Булгаков
возразил, что в «Бесах» присутствует и «хор иного характера <...> там есть
шпигулинские, которые действуют во время пожара». Таким образом, главные
участники обсуждения оказались более горячими неославянофилами, чем
докладчик, и упрекали Булгакова за чрезмерную мрачную оценку русской психеи
и ее «соблазнов» (стенограмму заседания см.: Отдел рукописей Российской
Государственной библиотеки. Ф. 10 д. К. 4. Ед. хр. 50).
Речь Вяч. Иванова легла в основу его статьи «Основной миф в романе
"Бесы"», опубликованной в том же номере «Русской мысли», что и «Русская
трагедия» с примечанием: «Нижеследующие рассмотрения вызваны докладом
С.Н. Булгакова <...> в Московском Религиозно-философском обществе
и служат дополнением к моей статье "Достоевский и роман-трагедия"...»,
которая затем вошела в его сб. «Борозды и межи» (1916), на который Булгаков
откликнулся рецензией «Сны Геи» («Тихие думы». С. 134-135).
Тема «Достоевский и русская трагедия» была также поставлена
Максимилианом Волошиным: «...русский роман XIX века стал средоточием всех
трагических переживаний славянской души. Войдите в мир Достоевского:
вся ночная душа России вопит через его уста множеством голосов. Это не
художник — это бесноватый, в котором поселились все бесы русской жизни.
Во всей европейской литературе нет ни одного писателя, который бы давал
более трагически-насыщенную атмосферу... в Достоевском русская трагедия
уже включена целиком, и нужен только удар творческой молнии, чтобы она
Комментарии
825
возникла для театра. <...> в "Бесах" есть трагическая насыщенность "Семи
против Фив"...» («Русская трагедия возникнет из Достоевского» // Русская
молва. 1913. 15 марта. № 93. С. 3; цит. по кн.: Волошин М. Лики творчества.
М.,1988. С. 363, 364).
1 Современный мир. Октябрь 1913 г. С. 307-309.
2 Здесь же имеется и такое суждение, неверность которого ясна для всякого,
проникавшего в творчество Достоевского: «При животном сладострастии
у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести»
(много ли его было у произносящего этот суд?). Рассказ Достоевского Виско-
ватому (представляющий аналогию с рассказом Тургеневу) о растлении
девочки, во всяком случае, требует проверки, ибо мог быть «надрывом»
самоуничижения, — при болезненной сложности характера Достоевского
возможна и прямая клевета на себя.
Л. М. Розенблюм
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно»
Впервые: Розенблюм Л. М. « ...Их надо обличать и обнаруживать
неустанно» // Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. /
АН СССР, Ин-т мировой лит.; гл. ред. В. Р. Щербина. М., 1971. С. 16-23.
(Литературное наследство. Т. 83. М., 1971). Печатается глава «Творческие
дневники Достоевского» по этому изданию.
Розенблюм Лия Михайловна (1922-2011) — доктор филологических
наук, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, заслуженный деятель науки
России, член редакционной коллегии и старейший сотрудник «Литературного
наследства».
В.Н. Захаров
Факты против легенды
Впервые: Захаров В. Н. Проблемы изучения Достоевского. Учебное
пособие по спецкурсу. Петрозаводск, 1978. Печатается с сокращениями в
новой авторской редакции. С. 75-81, 84-87, 95-100, 104-106, 109.
В. Я. Кирпотин
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский
<Фрагменты>
Впервые: Кирпотин В. Я. Мир Достоевского: этюды и исследования. М.:
Советский писатель, 1980. Печатается с сокращениями по: Кирпотин В. Я.
Мир Достоевского. Статьи. Исследования. 2-е изд., доп. М.: Советский
писатель, 1983. С. 113-121, 123-134, 141-142, 153-157. Комментарии
ред. антологии.
826
Комментарии
Кирпотин Валерий Яковлевич (1898-1997) — доктор филологических
наук, советский литературовед, критик, заслуженный деятель науки РСФСР,
исследователь творческого наследия Ф.М. Достоевского.
1 Данное утверждение выглядит явно полемическим преувеличением.
2 Это не совсем так. К моменту выхода данного текста уже была
опубликована аналитическая работа В.Н. Захарова, отрывок из которой приведен
в наст, антологии.
3 См. в наст, антологии в 4 разделе.
4 Данилов и Горский — убийцы, персонажи сенсационной уголовной
хроники шестидесятых годов.
И. Л. Волгин
Еще одно обвинение против Страхова
<Фрагмент>
Впервые: Волгин И. Л. Еще одно обвинение против Страхова //
Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М., 2017. Печатается по этому
изданию. С. 250-252.
Волгин Игорь Леонидович — доктор филологических наук, профессор
факультета журналистики МГУ и Литинститута им. А. М. Горького,
действительный член РАЕН. Поэт, историк, литературовед, достоевист. Основатель
и президент Фонда Достоевского и вице-президент Международного общества
Ф. М. Достоевского (с 2010).
1 См. «Воспоминания А. Г. Достоевской» в наст, антологии.
В. А. Туниманов
Достоевский, Страхов, Толстой
(Лабиринт сцеплений)
Впервые: Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт
сцеплений) // Русская литература. 2006. № 3. Печатается с сокращениями
по этому изданию. С. 38-41, 43-47, 49-65, 68-77, 79-80.
Туниманов Владимир Артемович (1937-2006) - главный научный
сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) и заведующий Группой по изданию сочинений
И. А. Гончарова, доктор филологических наук, президент Российского общества
Достоевского. Участник издания полного собрания сочинений Достоевского,
член редколлегии сборника «Достоевский. Материалы и исследования», член
редакционного совета альманаха «Достоевский и мировая культура». Автор
книг «Творчество Достоевского. 1854-1862» (Л., 1980), «Ф.М. Достоевский
и русские писатели XX века» (СПб., 2004).
1 Surcharge — излишек (фр.).
Комментарии
827
Pro
H.H. Страхов — Л.Н. Толстому
3 февраля 1881 г. Санкт-Петербург
Впервые: Л.Н. Толстой и H.H. Страхов: Полное собрание переписки:
в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян, исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого;
сост. Громова Л. Д., Никифорова Т. Г.; ред. Донсков А. А. [М.; Оттава], 2003.
Т. 2. С. 591. Печатается по этому изданию. Комментарии авторов издания.
1 Ф. М. Достоевский скончался в 8 часов 38 минут вечера 28 января 1881 г.
О его смерти Страхов узнал в тот же день из записки А. Н. Майкова: «28 января
1881 г. Любезнейший Николай Николаевич, Я сообщаю вам ужасную новость:
Федор Михайлович скончался! Анна Григорьевна [Достоевская] и Софья
Сергеевна [Кашнирева] просят вас, если вы дома, приехать к ним, т.е. к Достоевским.
Передаю поручение...» (Литературное наследство. Т. 86. С. 532).
2 Речь Страхова была напечатана в газете «Русь» (1881. № 16).
3 Письмо Толстого к Страхову от 25...26 сентября 1880 г.
H.H. Страхов
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском
Впервые: Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. /
Сост. К. Тюнькин. М.: Художественная литература, 1990. Т. 1. С. 375-532.
Печатается с сокращениями по этому изданию. С. 375, 381-388, 391-393,
413-415,423-427, 495-497, 518-524.
Д. И. Чижевский
Черт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов
Печатается по: Вопросы философии. 2014. N° 5. С. 110-115. Перевод
с нем. М. Кармановой. Публикация и комментарии А. В. Тоичкиной.
Чижевский Дмитрий Иванович (1894-1977) — известный славист, философ
и историк философии, историк церкви, литературовед; автор работ о
Достоевском, Гоголе, Сковороде, Гегеле, Страхове и др.
1 Опубликовано: Literarische Lesefrüchte II: (10) Der Teufel Ivan Karama-
zovs und N.N. Strachov // Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig 1933.
Band X (3/4). S. 388-390.
2 Достоевский 1976, 79.
3 Полное собрание сочинений Ф. M. Достоевского с многочисленными
приложениями. Том двадцать третий (дополнительный). Забытые и неизвестные
828
Комментарии
страницы. Собрал и комментировал Л. Гроссман. Петроград: Просвещение,
1918. С. 45. Речь идет о статье Достоевского «Ответ "Русскому вестнику"»
(Время. 1861. №5).
4 Страхов H.H. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1892.
(Первое издание — СПб., 1872.)
5 Немезийу или Немесий Эмесский (2-я пол. V в.— нач. VI в.) — ранне-
византийский ученый, автор сочинения «О природе человека», в котором он
свел воедино физиологические, психологические и философские взгляды
различных школ Античности. Пытался согласовать их с христианским учением.
6 Имеется в виду «Письмо VII. Значение смерти» (с. 123-144). На с. 126
Страхов пишет: «Таким образом, мы видим, что явлений настоящего,
чистого круговорота в жизни не бывает; точного, неизменного повторения жизнь
не терпит; она есть непрерывное обновление. Поэтому понимание жизни только
как круговорота — в высшей степени ошибочно».
7 Опубликовано: Literarische Lesefrüchte II: (11) Die Philosophie Ivan
Karamazovs und Strachov // Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig 1933.
Band X (3/4). S. 390-396.
8 Страница указана ошибочно. Имеется, скорей всего, в виду статья
Д. И. Чижевского «Zum Doppelgängerproblem bei Dostojevskij. Versuch einer
philosophischen Interpretation», опубликованная в изданном им сборнике:
«Dostojevskij-Studien. Gesammelt und herausgegeben von D. Cyzevskyj»
(Reichenberg 1931. S. 19-50).
9 Schiller und die «Brüder Karamazov» // Zeitschrift für slavische Philologie.
Leipzig 1929. Band VI (1/2). S. 1-42.
10 [Страхов 1893].
11 [Страхов 1895]; [Страхов 1895, 104-105].
12 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка третья. СПб.,
1896. Имеется в виду статья Страхова «Итоги современного знания (По поводу
книги Ренана «L'avenir de la science»)» за 1891 г. (Борьба с Западом. Т. III. С. 1-46).
13 Цитата приведена Чижевским неточно: «Без сомнения, естественные
науки гораздо более удовлетворили бы нашу жажду знания, если бы они
сумели доказать, что человек не только высшее животное, но что выше его и быть
не может, что он не есть просто вершина животного царства, верхний камень
в пирамиде, но что в нем заключается цель и стремление всего этого царства,
которое бы не имело бы смысла без этого последнего и главного члена, все
равно как лестница без храма, в который она ведет. Тогда бы и ясно было,
что земные перевороты не пойдут далее, то есть, что не будет земных существ
высших, нежели человек».
14 Куторга Степан Семенович (1805-1861) — профессор, доктор
медицины, преподавал зоологию, палеонтологию, анатомию человека. Занимался
геологией: в 1852 г. издал «Геологическую карту С.-Петербургской
губернии». Его университетские публичные курсы и популярные сочинения
пользовались успехом, служили делу распространения интереса к
естественным наукам. Основные труды посвящены одноклеточным, насекомым
и анатомии птиц.
Комментарии
829
15 Schiller und die «Brüder Karamazov» // Zeitschrift für slavische Philologie.
Leipzig 1929. Band VI (1/2). S. 1-42.
16 [Достоевский 1976, 83].
17 Достоевский Ф. M. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972-1990.
Т. 14. С. 238.
18 В Письме первом «Человек есть животное» Страхов пишет: «Человек,
по Блюменбаху, есть только самое ловкое, самое хитрое и потому самое сильное
между животными» («Мир как целое». С. 15).
19 [Достоевский 1883].
20 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972-1990.
Т. 14. С. 214.
21 Риман Георг Фридрих Бернхард (1826-1866) — немецкий математик.
Преобразовал сразу несколько разделов математики. В частности, в своем
докладе 1854 г. «О гипотезах, лежащих в основании геометрии» высказал
предположение, что геометрия в микро- и макромире может отличаться
от трехмерной Евклидовой.
22 В четвертой части книги «О законе сохранения энергии», в 10 главке
«Механика как априорная наука» Страхов критически оценивает гипотезы
Римана.
23 «Три письма о спиритизме» Н. Страхова впервые были
опубликованы в 41-42, 43, 44 номерах «Гражданина» за 1876 г. от 15, 22 и 29 ноября
(журнал выходил под редакцией Ф. М. Достоевского). Затем они были
перепечатаны в книге: Страхов Н. О вечных истинах (мой спор о спиритизме).
СПб., 1887.
24 Рейхенбах Ганс (1891-1953) — немецко-американский философ,
представитель логического позитивизма, основатель Берлинского общества научной
философии. Основными его темами стали критика рационализма, трактовка
значения, возможные способы построения знания и типов объектов знания,
интерпретация понятий вероятности и индукции.
25 Беккер Оскар (1889-1964) — немецкий философ, логист, математик,
занимался историей математики. Представитель феноменологического метода,
внес вклад в философию «параэкзистенции». В 20-е гг., будучи ассистентом
Гуссерля, редактировал ежегодник «Феноменологические исследования»;
публиковал в нем свои работы, вызывавшие полемические отклики.
26 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972-1990.
Т. 14. С. 214.
27 Schiller und die «Brüder Karamazov» // Zeitschrift für slavische Philologie.
Band VI (1/2). Leipzig 1929. S. 1-42.
28 Опубликовано: Literarische Lesefrüchte IV: (37) Dostojevskij und Stra-
chov // Zeitschrift für slavische Philologie. Band XIII (1/2). Leipzig 1936.
S. 70-72.
29 Имеются в виду заметки Д. И. Чижевского «Чёрт Ивана Карамазова
и H. H. Страхов» и «Философия Ивана Карамазова и Страхов».
30 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972-1990.
Т. 14. С. 238.
31 [Страхов 1893].
830
Комментарии
А.В.Тоичкина
«И как пишет критик Страхов...»
(Тема спиритизма в публицистике Достоевского,
H.H. Страхова и в романе «Братья Карамазовы»)
Впервые: Достоевский и журнализм / Под ред. В. Н. Захарова, К. А. Сте-
паняна, Б. Н. Тихомирова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013. — (DOSTOEVSKY
MONOGRAPHS; вып. 4). Печатается с сокращениями по этому изданию.
С.299-315.
Тоичкина Александра Витальевна — кандидат филологических наук,
доцент кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета.
Д. Орвин
«Мир как целое» Н. Страхова:
недостающее звено между Достоевским и Толстым
Печатается с сокращениями по: Толстой. Новый век: журнал
размышлений о Толстом, о мире, о себе / Гос. мемор. и природ, заповедник
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Ясная Поляна, 2006. № 2.
С. 197-221. Перевод с англ. Donna Orwin. Strakhov's World as a Whole: A
Missing Link between Dostoevsky and Tolstoy. Редакция журнала «Толстой. Новый
век» выражает признательность издательству Slavica Publishers за
предоставленное право публикации русского перевода данной статьи. Автор статьи
благодарит русского переводчика Марину Михалёву и ассистента Аркадия
Ключанского за оказанную помощь в подготовке данной публикации.
Донна Орвин (Donna Tussing Orwin) — профессор русской литературы,
руководитель кафедры славянских языков и литературы университета Торонто
(Канада), толстовед, член Королевского общества Канады с 2012 г., обладатель
медали Пушкина за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур,
наций и народностей, изучение и популяризацию русского языка и русской
культуры.
А. С. Долинин
Достоевский и Страхов
Впервые: Долинин А. С. Достоевский и Страхов // Долинин А. С.
Достоевский и другие: статьи и исследования о русской классической литературе.
Ленинград, 1989. С. 234-270. Печатается с сокращениями по этому
изданию. Впервые опубликовано: Шестидесятые годы. М.-Л., 1940. С. 239-254.
Долинин {Искоз) Аркадий Семенович (1880-1968) — литературовед,
критик, педагог, достоевист.
Комментарии
831
V
ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, РЕЛИГИЯ
Ю. Н. Говоруха-Отрок
Итоги века. По поводу статьи H.H. Страхова
«Итоги современного знания»
Впервые: Московские ведомости. 1892. 11 января. № 11. С. 3-4.
Печатается по: Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?
Литературная критика и религиозно-философская публицистика. Т. II /
подгот. А.П. Дмитриев, Е.В. Иванова. СПб.: Росток, 2012. С. 95-102.
1 Страхов H. H. Мир как целое. СПб., 1892. 2-е изд. XXX, 582 с.
2 Книга Ренана «L'Avenir De la science» («Будущее науки») была написана
в конце 1848-1849 гг., но опубликована только в 1890 г.
3 Пио Ферриери — профессор Павианского университета , главным
образом был известен в России своей книгой «Лекции по теории искусства вообще
и поэзии в частности» (СПб., 1888), переведенной В. А. Яковлевым.
4 Цитируется «Руководство к критическому изучению литературы» П.
Ферриери (Ferrieri P. Guida alio studio critic della literature. 2-da. Ed. Torino, 1885.
P. 156) в переводе Страхова по гл. Ill («Суждение итальянского профессора»)
его статьи «Итоги современного знания».
5 Здесь и ниже не совсем точные цитаты из книги Э. Ренана («L'Avenir
De La science», p. XIII); приведены в главе V («Науки естественные») той же
статьи Страхова.
6 Здесь и ниже неточно цитируется гл. VI («Науки исторические и
филологические») той же статьи Страхова.
7 Не совсем точные цитаты из книги Э. Ренана («L'Avenir De La science»,
p. XVIII) и комментария к ней Страхова; приведены в главе VIII («новейший
образ мысли по Вогюэ») той же статьи Страхова.
8 Неточно цитируется глава V («Науки естественные») той же статьи
Страхова.
9 Не совсем точные цитаты из книги Э. Ренана («L'Avenir De La science»,
p. XVIII) и комментария к ней Страхова; приведены в гл. VII («Науки
политические и социальные») той же статьи Страхова.
10 Не совсем точно цитируется глава VII («Науки политические и
социальные») той же статьи Страхова.
11 Строки из стихотворения А. Хомякова «Остров» (1859).
12 Цитата из книги Ренана («L'Avenir De La science», p. XX) и ниже
комментарий к ней; приведены гл. VII («Науки политические и социальные»)
той же статьи Страхова.
13 Неточная цитата из послания ап. Павла (1 Фес 5:3).
832
Комментарии
А. де Лазари
В кругу Достоевского.
Почвенничество
<Фрагменты>
Впервые на польском языке: Andrzej De Lazari. W krçgu Fiodora Dos-
tojewskiego. "Poczwiennictwo". Ibidem, Lôdz 2000, 189 s. Печатается по:
Лазари A. В кругу Федора Достоевского. Почвенничество / Пер. с польск.;
отв. ред. В. А. Хорев. М.: Наука, 2004. С. 15-20, 43-46, 101-110, 129-132,
175-179,181-184.
Анджей де Лазари — польский историк идей, филолог, эссеист, переводчик,
профессор-эмеритус, преподавал в Лодзинском университете и в университете
Коперника в Торуни. Автор многочисленных публикаций по истории России
и ее культуры и польско-русских отношений. Ученик Анджея Валицкого.
Созданный им единственный в Польше балалаечный оркестр отпраздновал
в прошлом году свое 50-летие.
1 На данный момент появился ряд новых монографий о Страхове: см.
работы Е. А. Антонова, Н.В. Снетовой, E.H. Мотовниковой и др.
Н.В. Снетова
Исследования и оценки
философского творчества H.H. Страхова
Впервые: Вече. Санкт-Петербургское философское общество. СПб.:
Изд-воСПГУ, 2015. Вып. 2. С. 64-74. Печатается с сокращениями по этому
изданию.
Снетова Нина Васильевна — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии философско-социологического факультета Пермского
государственного научного исследовательского университета (Пермь, ПГНИУ).
СМ. Климова
На пороге диалогики культуры
(на примере философских исканий H. H. Страхова)
Впервые: Вопросы философии. 2010. № 5. С. 115-125. Печатается
в новой редакции в новой авторской редакции.
Климова Светлана Мушаиловна — доктор философских наук,
профессор Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ (Москва).
Комментарии
833
H. П. Ильин
H.H. Страхов как метафизик
В основу этого этюда положен доклад, прочитанный на совместном
заседании Русского философского общества и кафедры русской философии
Петербургского университета 22 февраля 1996 г. Печатается с сокращениями
по: Русское самосознание. Философско-исторический журнал. 3, 1996. URL:
http://russamos.narod.ru/03.htm.
И. А. Майданская, А. Д. Майданский
Философская антропология Страхова
Впервые: H. H. Страхов в диалогах современников. Философия как
культура понимания. СПб: Алетейя, 2010. С. 39-63. Печатается по этому изданию.
Майданская Ирина Александровна — кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»; специалист в области
русской философии.
Майданский Андрей Дмитриевич — доктор философских наук, профессор
кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»; специалист в области
философии Нового времени, спинозист, издатель архивов Э. В. Ильенкова.
Е. А. Антонов
Понимающая философия H.H. Страхова
Впервые: H. H. Страхов в диалогах современников. Философия как
культура понимания. СПб: Алетейя, 2010. С. 63-78. Печатается с
сокращениями по этому изданию. С. 63-78, 82-85.
Антонов Евгений Алексеевич — доктор философских наук, профессор
кафедры философии Белгородского юридического института.
И. А. Паперно
Л. H. Толстой в переписке с H. H. Страховым ( 1875-1879):
философский диалог о вере
Данная публикация основана на статье: Рарегпо I. Leo Tolstoy's
Correspondence with Nikolai Strakhov: The Dialogue on Faith» // Anniversary
Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010. P. 96-119. Печатается с разрешения издательства
Cambridge University Press (through PLSclear). Перевод с английского автора.
834
Комментарии
При переводе на русский язык использован текст из кн.: Паперно И. «Кто,
что я?». Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах:
НЛО, 2018. С. 57-85. Текст переработан автором.
Паперно Ирина Ароновна — доктор философии (PhD), литературовед,
историк культуры, профессор кафедры Славянских языков и литератур
Калифорнийского университета в Беркли.
Е. Н. Мотовникова
Славянский вопрос в философской публицистике H.H. Страхова
Впервые: Проблемы гармонизации многонациональных отношений
на постсоветском пространстве: Сб. материалов VIII междунар. науч.-практ.
конф., Харьков, 19 дек. 2013 г. / Рус. нац.-культ, о-во Харьк. обл., Харьк.
центр этнополитики. Харьков, 2013. С. 97-101.
Мотовникова Елена Николаевна — доктор философский наук, профессор
кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ» (Белгород), защитила
докторскую диссертацию на тему «Герменевтические стратегии в философской
публицистике Н. Н. Страхова (историко-философский анализ)» в 2016 г.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абеляр П. 281
Абрамов Я. В. 813
Августин Аврелий 281-283,480,
770,818
АверкиевД.В. 27,78,129,267,
481, 789,795,803,818
Авсеенко В. Г. 516
Аксаков И. С. (Аксаковы) 27,
96-101,103-104,226,273,
377,405,419-420,423-424,
429,431-432, 449, 464, 645,
667, 775-776, 781, 785, 793,
811,816
Алчевская X. Д. 819,821
Амвросий, свящ. (Ключарев)
167-169,171-172, 797-798
Амвросий Оптинский (Гренков)
171,173
Анненков П. В. 504
Анохина О. А. 22
Антонове. А. 18,23,174,692,
695, 742, 799, 832-833
Антонович М. А. 140, 492, 554,
647, 688, 751
Антропов Л. Н. 788
Апухтин А. Н. 785
АрининА. Н. 695
Аристотель 148, 155, 200, 720
АрсеньевИ.А. 794
АрсеньевК.К. 790
Астафьев П. Е. 231,457,664,711,
715
Баженов H.H. 502,510
Бакунин М. А. 790
Бакунин П. А. 80-81,384,463,
664,715-716,790,522
Бальзак О. 822
Барсуков Н. П. 504
Бартеньев П. П. 504
Барятинский А. И. 807
Бахтин М.М. 696,705,707-708,
755
БеккерО. 598,529
БелинскийВ.Г. 10,17,71-73,75,
159,497-498, 528, 592, 637,
788
Белов А. В. 793,804
Белов С. В. 665, 796, 818, 820-822
Белодубровский Е. Б. 665, 820
Белый А. 454
БемА.Л. 603
БентамИ. 327,507
Бердяев H.A. 11,172,462,467
836
Указатель имен
Беркли Дж. 736, 739, 769, 834
БернадоттЖ.-Б. 809
БернарК. 681
Бернхард Р. Г. Ф. 829
Бетховен Л. В. 248
Бибиков П. А. 766
БибихинВ.В. 747
БиблерВ.С. 282,696,707-708
Бирюков П. И. 57, 786
Бисмарк О. 221,391
БлаватскаяЕ.П. 239
Благосветлов Г. Е. 554
Блок А. А. 472-473
Боатар П. (Буатар) (Boitard)
189-190,800
Богданов А. П. 123
Богданович М. И. 335
БокльГ.Т. 304
Бондарева Г. H. 18
Борисов А. Г. 664
БрандтФ.Ф. 123
БрентаноФ. 713, 716
Брокгауз Ф. А. 689-690,693-694,
812
БросоваН.З. 8, 18
БрэмА. 144
Бувье Б. (Bouvier Bernard) 773
БудиловскаяА.Л. 23,614,662,
782
Булгаков С. Н. 487, 516, 677-678,
823-824
Бунин И. А. 470
Бурдах К. Ф. (Burdach К. F.) 194,
800
БурсовБ.И. 272,275,278,501,
515-516,556,615,523
Буташевич-Петрашевский М. В.
695
Бутлеров A.M. 149, 814
Бэкон (Бекон) Фр. 183, 602
Бэр К. 385-386
БюрнуфЭ. 765
БюффонЖ.Л.Л. 194,500
БюхнерЛ. 683,726,751
Вагнер Р. 376,608
Валентинов Н. В. (Вольский) 473
Валицкий A. (Walicki) 667,670,
832
Введенский Александр И. 154,
691, 709, 740, 796
Введенский Алексей И. 691
Велепольский А. 329, 806
Велланский Д.М. 695
ВенгеровС.А. 689,694
Вергилий 35,429
Вернадский В. И. 695
Веснин С. А. (Святогорец) 784
Ветловская В. Е. 603
Вильгельм II 221,413
ВирховР. 766
Висковатов (Висковатый) П. А.
479, 484, 499, 506-507,515,
818, 820
ВладиславлевМ.И. 89, 380, 792,
812
ВогюэЭ.М. 45,47, 784, 801,815,
831
ВолгинИ.Л. 507,531,663-664,
826
Волошин М. А. 824-825
ВольтерФр. 169,209,221,252,
730, 800
Врангель А. Е. 822
Вышнеградский И. А. 482
Гайдебуров П. А. 506
ГалаганГ.Я. 772
Галактионов A.A. 695
Галилей Г. 185, 799
Гальперин-Каминский И. Д. 56,
786
Указатель имен
837
ГарденбергН. 329,507
Гарибальди Дж. 391
Гарин-Михайловский Н. Г. 504
Гартман Н. 216,239,445, 447
ГатцукА.А. 506
Гегель Г. В. Ф. 8, 15, 80, 89,
120,127,145-147,155,264,
266-267,445, 449, 456, 524,
593, 600, 609, 612, 647, 657,
670,685,687-688,691,701,
716, 720, 733-735, 737, 739,
745-747, 760-761, 779, 792,
795,820,827
ГезенА.М. 450
Гелен А. 216
Гельвеций К.-А. 722-724
ГельмгольцГ. 735
Генералова Н. П. 791-792,
814-815
Генрих VIII 413
Гераклит 152
ГервинусГ.Г. 338
ГердерИ.Г. (Herders) 216,219,
471,721
Геродот 349
Герцен А. И. 27,140,189, 260, 278,
303, 423, 463, 469, 472, 490,
595, 603,619, 634, 641-642,
644, 786, 800, 802, 823
Герштейн Л. (Gerstein) 663
Гёте И. В. 87, 92, 160, 430, 638,
744-745, 792, 797
Гиляров-ПлатоновН.П. 172,795
Гинзбург Л. Я. 8,283,764
Гладких Л. Г. 243
ГладстонУ. 391
Глинка М. И. (Пушкин) 136, 638
Глинка С. Н. (Русский Вестник)
790
Говоруха-Отрок Ю. Н. 156,655,
666, 689, 796-797, 831
Гоголь Н. В. 72,168,196, 201, 239,
276, 281, 498, 574,800,813,827
Годунов Борис 331
ГолохвастовП.Д. 27
Гомер 349, 416
Гончаров И. А. 75, 201,483,505,
$№,788,800,826
Гораций 415
ГорбаневН.А. 663
Горин Д. Ф. 20
Горфинкель А. X. 665
Горький A.M. 504, 781, 823, 826
ГрадовскийА.Д. 76,789,803
Григорович Д. В. 504,506-507
Григорьев An. A. (Grigorjew
Apollon) 11,21,53,71-72,118,
129, 131, 141,219,272,276,
278, 366, 424, 497-498,534,
539-540, 543, 546, 574, 600,
638, 640-641, 662-663,665,
682, 689, 697, 742, 747, 755,
777-778, 788, 795, 797
Гримм Д. Д. 790
Грозный Иван 331
Громова Л. Д. 174,277,536,569,
757, 785-787, 802-803, 827
Гроссман Л. П. 593,828
Грот Н. Я. 27-28, 82-83, 138,
272, 448, 457, 633, 647, 649,
690-691, 701, 718, 735, 740,
748, 790-791, 796,814
Гужон В. 169
Гуковский Г. А. 764
ГуральникУ.А. 272,663
Гусев H.H. 57-58, 537, 764, 786,
818
Гусев С. С. 744,755
Гуссерль Э. 711, 713, 829
Гюго В. (Hugo V.) 310, 313, 822
Гюйгенс Ф. 252,422
ГюйоМ. 661
838
Указатель имен
Добролюбов H.A. 10
ДурылинС.Н. 824
Данилевский Н. Я. (Danilevsky)
16, 27-28, 53, 73-75, 131,
143-144,146, 155, 256-257,
264,271,278,315,317-318,
361-364, 366, 368-369,
372-373,375, 377,385-386,
393-397, 401, 404-407,
412-423, 425-427, 433, 435,
440-443,449-452, 454-457,
459, 466-470, 473-474,
486, 495,532, 646,664-665,
668-675, 684, 689, 697, 784,
788-789, 802, 804-808,
810-812,816
Данте А. 472
Дарвин Ч. 186,257,266,278,
362-364, 366, 368-369,
372-374,386, 448, 595, 602,
688,700,799,52/
ДаулерУ. 672
Дебольский Н. Г. 664,715
Декарт (Descartes) 145,148,177,
185, 249, 465, 611, 647, 649,
714-715, 737-738,759-760,
769-770,773,799
Делёз Ж. (Deleuze) 736
Демченко А. А. 9
Державин Г. Р. 743,801
Джибладзе Г. Н. 773
Джуринский А.Н. 773
Дидро Д. 735
Диккенс Ч. 822
ДильтейВ. 744
ДинесманТ.С. 791-792
ДмитриевА.П. 172-173,790-797,
800,831
Добролюбов H.A. 10,17, 423, 492,
525,554,633,635,641
ДолгомостьевИ.Г. 78,789
Долинин A.C. 17,271-272,275,
489,523,601,611,615,618,
633, 638, 641, 692,819-822,830
ДонсковА.А. 174,269,275,277,
284, 536, 569, 757, 785-787,
802-804, 827
Достоевская А. Г. 478,489,500,
509-510,512,529,531-533,
536, 543, 553, 600, 610, 636,
818,821-822,826-827
Достоевская (Дитмар) Э. Ф. 789
Достоевский M. M. 11, 53, 129,
481-482,505,574,637,640,
785, 788-789,819,822
Достоевский Ф. M. (Dostoevskiy,
Dostoevsky, Dostoïevski,
Dostoiewsky, Dostojevskij,
Dostojewski, Dostojewsky) 8,
10-11, 13-15, 17,27,53, 78,
110, 113, 129-131, 165-166,
171-173,255,268-269,271-273,
275-276, 278, 293,377,409-410,
423, 441, 446, 467, 478-482,
484-516, 518-523, 525-536,
538,541-558, 560, 563-567,
569,571-574,578-580, 583-585,
590,592-608,610-611,613-622,
626-629, 631-653, 662-664,
666-667,670,672,682,686,
688-689,691-692,697-700,706,
709, 747, 751, 753-754, 757, 783,
785, 787-789, 795, 798,802-803,
813,817-830,832
ДосужковФ.Н. 603
ДудышкинС.С. 131,424,796
Дюбуа де Монпере Ф. 348
Егоров Б. В. 23,614,662,752
Екатерина II (Catherine, Karenina)
325,328-329,333,337
Елизавета Английская 413
Указатель имен
839
Елизавета Петровна, императрица
333,805
Ергольская Т. А. (Ёргольская) 284
Ефрон И. А. 689-690,693-694,
812
Жуковский В. А. 28
Жюсье Бернар де 423
Зайцев Б. К. 784
Замятин Е. И. 461,696
ЗандерЛ.А. 172
Засулич В. И. 54
Захаров В. Н. 14-15,18,165,501,
601-603,664, 798, 817', 820,
825-826,830
Зеньковский В. В. (Zenkovsky)
172,691,752
ЗоляЭ. 489
Иванов Вяч. И. 824
Ильенков Э. В. 728,533
Ильин Н. П. (Мальчевский) 15,
18, 215, 692, 710, 743, 753, 800у
833
Истомин В. К. 518
Камю А. 725
Кант И. 89, 118, 230, 378, 567,
711-712, 719, 740, 744, 758,
766,770,792,811-812
Кантор В. К. 10,460,463,52 7
Карамзин Н.М. 59, 278, 743, 790
КареевН.И. 363,392
КарлУ 413
КарлейльТ. 595
Карпинский А.П. 386
КатковМ.Н. 75-77,129,131,141,
226,377,405,419,422-424,438,
465,479,484,499, 510, 516, 528,
574, 645, 763, 789,801,811,818
КатуллаГ.В. 796
КашниреваС.С. 827
Кашпирев В. В. (Кашпирёв) 75-76,
131, 528, 785, 789, 804, 821
Кеплер И. 252
Керулларий Мих. 409
КибальникС.А. Ы,817
КиреевА.А. 450
Киреевский И. В. 405, 433, 730
КирпотинВ.Я. 14,512,528,692,
823,825-826
Климент, свящ. (Зедергольм) 167,
169,526
Климова С. М. 7, 242, 696, 709,
832
Ключарев — см. Амвросий, свящ.
Ключевский В. И. 10,461
Ковалевская С. В. 819
Ковалевский M. M. 695,790
Козлов А. А. 664
Колаковский Л. (Kolakowski) 680,
682-683
КолларЯ. 345,509
Колсто П. (Kolsto) 764, 775
КолубовскийЯ.Н. 22-23,141,
143, 752
Колумб X. 200,415
Комарович В. Л. 516
Константин Константинович,
вел. кн. 329,430,665
Константин Николаевич, вел. кн.
806
Константинов Н. 106
Конт О. 252,365,456,463,679,
681, 719, 730
КонцевичИ.М. 172
Коперник Н. 187, 368, 800, 832
Корнилов С. В. 496,693
Коровин В. П. 273
Короленко В. Г. 23
КоршЕ.Ф. 807
840
Указатель имен
Коршунов A. M. 755
Котельников В. А. 167,173
КотрелевН.В. 459
Коцебу А.-Ф. 339-340, 809
КочетковаН.Д. 283
Краевский A.A. 131, 424, 787', 796
Кранихфельд В. П. 272, 275
КрасицкийЯ. 473
Крестовский В. В. 129, 637, 795
Кропоткин П. А. 806
КругловА.В. 821
Крылов И. А. 300
КрюднерЮ. 807
Кузьмина Л. И. 665
КуницинА.П. 10
Куприянов (вольный помещик)
376-377
Кутузов М.И. 317,336,458
КэстлриС. 809
Кювье Ж. 422,603
Лавров П. Л. 15, 140, 640,
683-684,688,691,751
Лавуазье А. 422
Лазаревский Б. А. 504
Лазари А. Де (Lazari A.) 18, 600,
662,751,753,532
ЛазарчукР.Л. 284
Лазурский В. Ф. 272,275
Ламанский В. И. 450
ЛамаркЖ.-Б. 188,190,500
Ламартин А. де. 797
ЛангеФ.А. 144
Ланской Л. Р. 490,495,504,507
ЛаоЦзы 766
Лаплас П. С. 252, 730
Лебедев С. А. 799
Левитский (Левицкий) 691
Левицкий С. Н. 14,691,755
Лейбниц Г. В. 124,183,210,230,
736, 795
Ленин В. И. 54,464
ЛеонтьевК.Н. 27,165,171-173,
392, 401, 440, 458, 463,
466-467,474,515,697,746,
789-790,811,816
Лермонтов М.Ю. 484, 504, 506,
515,818
Леруа-Больё А. 399,813
ЛесковН. С. 24, 555, 561, 785
Ликург 413
ЛоккДж. 769
Ломоносов М. В. 152, 201, 542,
743,800
ЛомуновК.Н. 785
ЛопатинЛ.М. 664,711,715
Лоренц К. 217
Лосев А. Ф. 429, 703, 709, 816
ЛосскийН.О. 603
Лукин В. А. 813
Лурье В. М. 172
Людовик XIV 317,413
Магницкий М. Л. 340
МадзиниДж. 809
Майданская И. А. 12, 718, 833
Майданский А. Д. 12,18,718,
833
Майков An. H. 27, 76, 129,
158-159,268,272, 484,493,
495-496,504, 506-507, 538,
554,560,586, 616, 636-637,
697, 747, 785, 789, 795, 803,
820, 827
Макарий, арх. 19, 39, 226, 783
Македонский А. 103,414
Макиавелли Н. 327, 441
МаклейнХ. (McLean H.) 772
Макмастер P. (MacMaster R. Е.)
457
Мамардашвили М. К. 16
Мантатов В. В. 755
Указатель имен
841
Маркс К. 745
МасаловА.Г. 18,23,752
Маслин М. А. 695
Маслобоева О. Д. 693
Матвеев П. А. 165-169,171,
173-174, 798
Маттеус Г. (Matthews G. В.) 770
МатченкоИ.П. 28,780
Маяковский В. В. 704
Меджибовская И. (Medzhibovskaya
Inessa) 627, 760, 765
Менделеев Д. И. 185
Мережковский Д. С. 239
Меттерних К. 338-340, 809
Мечников И. И. 766
Мещерский В. П. 134, 495, 755,
785, 794, 803
Миллер О. Ф. 481,500,512,515,
821
МилльД.С. 260, 380, 526,
537-538, 602, 681, 766, 769,
786,802,812
Милюков А. П. 129, 574, 637, 822
Милюков П. Н. 13,392
Мирошниченко Е. А. 242, 801
Михайловский Н. К. 106,154,
691, 794
Михеев В. Н. 695
Модзалевский Б. Л. 56, 243, 514
МолешоттЯ. 683, 751
МонастыреваВ.А. 18-19,752
Моррис Д. 216
Морсон Г. С. (Morson G. S.) 629,
764
МотовниковаЕ.Н. 18,810-811,
832, 834
МочульскийК. 172,813
Муратова К. Д. 23, 272, 782, 789
Мюллер Ф.М. 409,765
МюратИ. 334,505
МюссеА. 545
Надеждин Н. И. 10, 695
Назарьева К. В. 507-510
Наполеон Б. 317, 324, 328,
333-337, 357, 391, 506,
808-809
НаселенкоЕ.П. 57,756
Нафанаил, свящ. (Савченко Н. И.)
10,29,31,37,108
Негели К. В. 368-370,372,374,
386
Некрасов H.A. 53,131,272,483,
495-496,504,592,633,636,
685,822
Немезий (Немесий) Эмесский 594,
525
НемшевичК. 788
Нерон 722
Несмелое В. И. 715-716
НечаеваВ.С. 663,755,519
Никифорова Т. Г. 174,277,536,
569, 757, 785-787, 802-803,
827
Николаев Н. И. 18, 174, 689, 796
Никольский Б. В. 108,157-162,
272-274, 277, 517-518,524,
554, 567, 662, 666, 689-691,
794, 797, 820
НиколюкинА.Н. 790,811
Ницше Ф. (Nietzsche) 462-464,
593-597,603-604,698
Новгородцев П. И. 474
Ньютон И. 187, 248, 720, 733,
735,800
Оболенская М. Л. 57
Овсянико-Куликовский Д. Н.
790
Огарев Н. П. 490,500
Ольхов П. А. 18, 782, 801
ОпочининЕ.Н. 13
ОпульскийА.И. 53,755
842
Указатель имен
Орвин Донна (Orwin Tussing
Donna) 17,273,614-615,622,
627, 732, 757, 760, 772, 830,
833
Осипов H. E. 603
Островский А. Н. 72, 276, 498,
543
Павлов И. П. 10
Паперно И. A. (Paperno I.) 10,
17-18,786, 804, 833-834
ПаскевичИ.Ф. 805
Пастернак Б. Л. 511
ПаткульИ.-Р. 323,505
Пелипенко А. А. 708
Петр III 805
Петров И. И. 587
Петров М. К. 9
Петрова Г. В. 812-813
Петровский А. С. 67,786
Пешкова-Толиверова А. Н. 821
Пжебинда Г. (Przebinda G.) 664,
667
ПиксановН.К. 272,519
Писарев Д. И. 53, 140, 423, 464,
523-525,633, 641,664,688,
751
ПисемскийА.Ф. 24,73-74,172,
543, 785, 788
Платон 49, 93,139,145, 148-149,
412-413,420,566,594,609,
611, 678, 706-707, 711, 775,
784, 792
Платонов О. А. 793-794, 805
ПлеснерХ. 725
Победоносцев К. П. 437-438, 482,
484, 785, 793
Полевой H.A. 461
Полонская Ж. А. 821
Полонский Я. П. 27,785
Полосина А. Н. (Polosina) 772
Помяловский H. Г. 9-10
ПопперК. 733-734
ПорусВ.Н. 743
Потехин С. 815
ПрокопчукЮ.В. 243
Прометей 348
Протагор 49, 784
Протопоповы.А. 689
Прудон П. Ж. 303, 526, 595
ПружининБ.И. 239
Птоломей 200
Пустарнаков В. Ф. 750
Пушкин А. С. 21,24,27,121,136,
139, 144, 159, 195, 202, 278,
461, 471, 477, 482, 484, 487,
497-498,511,524,542,548,
553, 559, 574, 625-627, 638,
666, 743, 771, 782, 788, 797,
800-801,830
Рабинович В. Л. 281-282
РадловЭ.Л. 27-28,272,382,
458, 689-690, 694, 709, 748,
812-813
Ранке Л. 413
Рафаэль С. 248
РачинскийГ.А. 458,523
Рашковский Е.Б. 473
РейхенбахГ. 698,829
Ренан Э. 163-164,228,260,278,
595,603, 634, 656-661,754,
765-766, 786, 797, 802, 828,
831
РепинИ.Е. 13,446-447
Ризенкампф А.Е. 822
Риккерт Г. 219
Розанов В. В. 10,27-28,54,
171, 244, 269, 272, 278, 286,
376, 384, 436, 440-441,444,
451-452, 455-459, 515,
517-518, 564-566, 614,
Указатель имен
843
663, 665-667, 676, 678-679,
685-686, 689-690, 694, 697,
701-704,708-709, 743-744,
746-748,752-753, 790-791,
801-802,811-812,817
РозенблюмЛ.М. 489,507,552,
556,615, 787,817,821,825
РоссиевП.А. 798
Русанов Б. Г. 569
Руссо Ж.-Ж. (Rousseau) 283, 479,
565-566,760,765, 772-774
РыкачевМ.А. 821
РюккертГ. 16,387,392-394,397,
455-457,674,511
Салманова И. Ф. 243, 280, 804
Салтыков-Щедрин М.Е. 121,159,
493, 495, 636, 788, 795
Сальери А. 511,501
Самарин Ю. Ф. 405, 419, 423
Самаров Г. 106, 794
Самохвалова В. И. 749
Сапов В. В. 751,523
Сараскина Л. И. 600
Сартр Ж.-П. 725
Сватковская М. Г. 76
Свифт Дж. 209,500
Святогорец (Веснин С. А.) — см.
Веснин С. А. (Святогорец)
СеменовН. П. 143
Сенека Л. 722
Сенковский О. (Юлиан) 461
Сергеенко А. П. 534-535
Сергеенко П. А. 56-57,271,
786
Сизиф 104
Скабичевский А. Г. 513
Скатов H.H. 18,272,275,541,
615, 743
Скивский Иоанн, свящ. 11, 27-30,
32-34, 36, 269, 273, 783
СлучевскийК.К. 481,818-819
Смирнова-Сазонова С. И. 107,
794
СнетоваН.В. 17-18,687-688,
694, 756,832
Сократ 420,594,609,685
Солженицын А. И. 663-664
Соловьев B.C. (Solowjew, Solowjow)
8, 13, 16, 27-28, 140, 173,
239-240, 242,269, 363-367,
376, 392, 400-403,410,419,
426, 429-440, 442-443,
445-446, 448, 451, 453-454,
456, 458-469, 473-474,
531, 664, 667, 670, 672, 675,
689, 699, 701-702, 709, 716,
735, 740-741, 755, 765, 790,
810-813,816-817
Соловьеве.M. 461,512
Соломон 202
Сорокин П. A. (Sorokin) 273,
275
Софокл 420
Спенсер Г. 278, 365, 681
Сперанский M. M. 10,555
СпешневН.А. 638
Спиноза Б. (Spinoza) 183, 568,
720, 735-736, 738-739,741,
793
Стасов В. В. 24
СтасюлевичМ.М. 80,376,401,
435,438,451-452, 454, 466,
790,811
Стахеев Д. И. 167,170-171,
173-174, 446, 665, 798-799
Стогов Д. И. 794
Страбон 348
Струве П. Б. 470-472
Суворин А. С. 811
Суворов А. В. 337,505,505
Сухомлинов М. И. 506
844
Указатель имен
Сухотина Т. Л. 57,438
Тимирязев К. А. 361-364,366,
368-374,386,522
ТимковскийЕ.Ф. 38,753
ТиндальД. 766
Тихомиров Б. Н. 830
ТоичкинаА.В. 14, 18, 600, 613,
827, 830
Толстая A.A. 56,271,284,532,
786
ТолстаяС.А. 57,168,174,270,
274-275,448,450,453,539,
569, 784, 804
Толстой Л. Н. (Tolstoi,
Tolstoy) 10-17, 20, 27-28,
31, 53, 55-58, 63, 72, 116,
131,138-144, 165-169,171,
174,221-222, 224,228-231,
236-243,259, 262, 269-278,
281-282, 284-285, 287-288,
290-291, 409, 440, 443,
445-448,453-454,459,462,
467,478,480, 482,486-487,
489,498-500,504, 506-507,
510, 513-515, 517-518,
529-537, 539-546,548-554,
556,558-560, 562,564-566,
568-569,600, 606, 611, 615,
621-622,624, 627, 629, 633,
635-636,643, 663, 665-666,
670,674-678,688, 694, 701,
704, 706-707, 709, 732,
742, 747, 754, 757, 760, 762,
764-765, 771-772,774-775,
781, 783-788, 791, 798,
801-804, 815, 818, 820-823,
827, 830, 833
Толстой С. Л. 277
Троицкий В. А. (Иларион, арх.)
380,522
Трубецкая 3. А. 819-820
Трубецкой Е. Н. 460, 462, 469,
474
Трубецкой С. Н. 464
ТульчинскийГ.Л. 744,755
ТунимановВ.А. 14-15, 17, 273,
534, 602,610, 788,826
Тургенев И. С. 20, 27, 41, 53,
74-75, 139, 144, 259, 376, 448,
480,483,502-505,507,518,
543-547,549-550, 553, 557,
570, 635, 665, 781, 789, 815,
819-820
Тынянов Ю.Н. 283
ТэнИ. 21,144,602,634,685
ТюнькинК. 827
Тютчев Ф. И. 27,289,410
УрусовС.С. 56,271,766,756
Успенский И. Н. 53,755
Ушаков Ф.Ф. 808
Фалес 349
ФалльмерайерЯ.Ф. 44,46,754
ФаминцынА.С. 366,386
Фаресов А. И. 502-503,508,
510
Фатеев В. А. 17-18,439,526-52 7
ФединаВ.С. 431
Федоров Н.Ф. 22, 731
Фейербах Л. 595,604,683-684,
688,726,751
Феоктист, свящ. 167,241,243
Фердинанд II 317 .
Ферриери Пио (Ferrieri) 656,
831
Фет А. А. (Шеншин) 15,27,84-89,
91-95, 131, 143, 158, 269, 278,
399,429-431,436,448,450,
486, 532, 665, 697-698,702,
754, 766, 791-793, 796-797,
812-816
Указатель имен
845
Филиппов Т. И. 482,503
Филон Иудей 397,571
ФилософоваА.П. 815,819-820
Фихте И. Г. 15, 162,180, 470, 669,
720, 736, 760, 795, 799
Фишер К. 131, 144-145, 602, 692,
754, 795
Фотий патриарх 409
ФохтГ. (Фогт) 683, 726, 751
Франк С. Л. 453
Франциск I 413
ФридлендерГ.М. 530
Фридрих II 326, ггг, 805-806, 808
Фридрих-Вильгельм III 807
Фукидид 420
Фурье Ш. 30, 114, 309, 385
Хайдеггер М. 725, 737
ХармсД. 704
ХирьяковА.М. 67,786
ХирьяковаЕ.Д. 57,786
Хлебников В. В. 704
Хомяков А. С. 405,419,423,660,
675,766,831
ХоревВ.А. 832
Цертелев Д.Н. 239-243, 453, 701
ЦехновицерО.Н. 519
Чаадаев П. Я. 80, 356, 461, 463,
473,664,779,790,797,520
Чарторыйский А., кн. 325, 806
ЧенслерВ. 353
ЧерныпевскийН.Г. 9-11,15, 53,
140, 269, 436, 490, 523-525,
554, 633, 635, 640-641, 645,
651, 664, 666, 683-684, 688,
691,751
Чертков В. Г. 57,196,243,534,
786
Чехов А. П. 504
Чижевский Д. И. (Cyzevskyj,
Chizhevsky) 14, 593, 600,
603-605,612,691, 827-829
ЧумиковА.А. 129,795
ШауловС.С. 600,602
Шедо-Ферроти (Фиркс Ф. И.) 357,
810
ШекспирУ. 200,416
ШелерМ. 216,725,731-732,741
Шеллинг Ф. 15,80,89,180,692,
760, 779, 792,800
Шеншин А. А. (Фет) — см. Фет А. А.
(Шеншин)
Шиллер Ф. (Schiller) 99,311,355,
810
Шишков А. А. 21
Шишков А. С. 340
ШкуриновП.С. 679-681,685
ШлейденМ. Я. (Schieiden M.) 202,
210-211,500
Шлейермахер Ф. 744
Шопенгауэр А. 46,62,116-118,
158,266-267, 430, 445, 447,
537, 633, 706-707, 735,
760-761, 766, 770, 794, 797,
799
ШостьинА.П. 813
Шпенглер О. 473-474
ШперкФ.Э. 83, 459, 689, 791, 797
Штакеншнейдер А. А. 821
Штраус Д. Ф. 106,260,595,765,
786,802
Шувалов П. И. 803
ЩебальскийП.К. 392,405
ЩеголевП.Е. 569
Щедрина Т. Г. 53, 239, 243, 636,
685
Щербакова М. И. 11,27,269,273,
277,776,781, 783
846
Указатель имен
ЭверлингС.Н. 531
Эвклид 200
Эйхенбаум Б. М. 287,764
Энгельс Ф. 745
Эпикур 374,730
ЭренбергХ.Г. 192,800
Юм Д. 769
ЮркевичП.Д. 239,711-714
ЯковенкоБ.В. 735
Яновский С. Д. 129, 795, 822
Ясинский И. И. 503-504, 819
СОДЕРЖАНИЕ
От издателя 5
СМ. Климова. «Мир» H.H. Страхова,
или «Чем может быть человек?» 7
В. А. Монастырева. Библиотека-музей H.H. Страхова
как культурный и научный центр: от замысла к реализации 19
I
МЕМУАРЫ, ПИСЬМА, ОЧЕРКИ
М. И. Щербакова
«Вместо дневника — письма к вам»
(Из переписки H. H. Страхова с о. Иоанном Скивским) 27
H.H. Страхов
<Предисловие к «Воспоминаниям и отрывкам»> 38
Воспоминание о поездке на Афон (1881 г.) 38
Комета 51
«В тиши моей жизни ничтожной...» 52
А. И. Опульский
Неизданные письма Л. Н. Толстого к H. H. Страхову 53
Я. Н. Страхов — Л. Н. Толстому
17 ноября 1879 г. Санкт-Петербург 59
Л. Н. Толстой — H. H. Страхову
19...22 ноября 1879 г. Ясная Поляна 63
H. H. Страхов
Наблюдения (Посв<ящается> Ф. М. Д<остоевско>му) 65
Ф. М. Достоевский — H. H. Страхову
26 февраля (10 марта) 1869 г. Флоренция 70
Я. Я Страхов — В. В. Розанову
18 мая 1888 г 79
848
Содержание
Я. Я. Страхов — Я. Я. Гроту
СПб. 8 декабря 1895 г 82
А. А. Фет — Я. Я. Страхову
Степановка. Ноябрь <1877 г.> 84
Я. Я. Страхов — А. А. Фету
Санкт-Петербург. 24 ноября 1877 г 86
A. А. Фет — Я. Я. Страхову
Москва, 28 декабря 1877 г 87
Я. Я. Страхов — А. А. Фету
<С-Петербурга 27 января 1878 г 89
Я. Я. Страхов
Несколько слов в память Фета.
9 декабря 1892 г 91
Поминки по И. С. Аксакову 96
Текущая минута 104
Б. В. Никольский
Николай Николаевич Страхов.
Критико-биографический очерк 108
Я. Я. Грот
Памяти H.H. Страхова.
К характеристике его философского миросозерцания 138
Ю. Н. Говору ха-Отрок
H.H. Страхов 156
Несколько слов о H. H. Страхове.
Б. В. Никольский. «Николай Николаевич Страхов.
Критико-биографический очерк» 157
B. Я. Захаров
Из забытых мемуаров.
П. Матвеев о Ф. Достоевском, Н. Страхове, Л. Толстом 165
II
ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ H.H. СТРАХОВА.
ИХ РЕЦЕПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Я. Я. Страхов
Письма о философии 177
Мир как целое 184
Я. Я. Ильин
Последняя тайна природы.
О книге «Мир как целое» и ее авторе <Фрагменты> 215
Я. Я. Страхов
Толки о Л. Н. Толстом (Психологический этюд) 221
Е. А. Мирошниченко
«Толки о Л. Н. Толстом».
К истории одной публикации 239
Содержание
849
В. В. Розанов
Идея рационального естествознания
(Рецензия на книгу H.H. Страхова «Мир как целое.
Черты из науки о природе». Издание второе. СПб., 1892) 244
Литературная личность H. H. Страхова 256
Л. Я. Толстой — Я. Я. Страхову
12 ноября, 17 декабря 1872 г. Ясная Поляна 262
Я. Я. Страхов — Л. Я. Толстому
8 января 1873 г. Мшатка 265
A. А. Донское
Л. Н. Толстой и H. H. Страхов.
Эпистолярный диалог о жизни и литературе <Фрагменты> 269
И. Ф. Салманова
Переписка как исповедально-диалогическое
пространство русской культуры 280
Я. Я. Страхов
Письма о нигилизме 293
III
ПОЛЕМИКА:
СТРАХОВ — ДАНИЛЕВСКИЙ — СОЛОВЬЕВ:
РОССИЯ ИЛИ ЕВРОПА?
Я. Я. Данилевский
Россия и Европа 317
Я. Я. Страхов
Спор из-за книг Н.Я. Данилевского 361
B. В. Розанов — Я. Я. Страхову
<После 19 июня 1888 г.> 376
В. С. Соловьев
Данилевский Николай Яковлевич 385
Счастливые мысли H.H. Страхова. 1890 392
В. С. Соловьев — А. А. Фету
25 августа (6 сентября) 1888 г. Вирофле 399
К. Я Леонтьев
Владимир Соловьев против Данилевского <Фрагменты> 401
A. Ф. Лосев
Вл. Соловьев и литературные деятели 80-х годов
(A.A. Фет, И.С. Аксаков, H.H. Страхов) 429
B. А. Фатеев
«В Страхове я вижу миниатюру современной России» :
полемические заметки об отношениях
Н. Н. Страхова и Вл. С. Соловьева 439
В. К. Кантор
Владимир Соловьев о соблазне национализма 460
850
Содержание
IV
ДОСТОЕВСКИЙ — СТРАХОВ — ТОЛСТОЙ
Contra
Ф. М. Достоевский
<0 H. H. Страхове> 477
A. Г. Достоевская
Воспоминания 478
С. Н. Булгаков
Русская трагедия <Фрагмент> 487
Л. М. Розенблюм
«...Их надо обличать и обнаруживать неустанно» 489
B. Н. Захаров
Факты против легенды 501
В. Я. Кирпотин
Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский
<Фрагменты> 512
И. Л. Волгин
Ещё одно обвинение против Страхова <Фрагмент> 531
В. А. Туниманов
Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) 534
Pro
H. H. Страхов — Л. H. Толстому
3 февраля 1881 г. Санкт-Петербург 570
H. H. Страхов
Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском 572
Д. И. Чижевский
Чёрт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов 593
A.B. Тоичкина
«И как пишет критик Страхов...»
(Тема спиритизма в публицистике Достоевского,
H. H. Страхова и в романе «Братья Карамазовы») 600
Д. Орвин
«Мир как целое» Н. Страхова:
недостающее звено между Достоевским и Толстым 614
А. С. Долинин
Достоевский и Страхов 633
V
ФИЛОСОФИЯ, НАУКА, РЕЛИГИЯ
Ю. Н. Говоруха-Отрок
Итоги века. По поводу статьи H.H. Страхова
«Итоги современного знания» 655
Содержание
851
А. Де Лазари
В кругу Федора Достоевского. Почвенничество
<Фрагменты> 662
Н.В. Снетова
Исследования и оценки
философского творчества H.H. Страхова 687
С. М. Климова
На пороге диалогики культуры
(на примере философских исканий H.H. Страхова) 696
Я. П. Ильин
H. H. Страхов как метафизик 710
И. А. Майданская, А. Д. Майданский
Философская антропология Страхова 718
Е. А. Антонов
Понимающая философия H. H. Страхова 742
И. А. Паперно
Л. Н. Толстой в переписке с H. H. Страховым (1875-1879):
философский диалог о вере 757
Е. Н. Мотовникова
Славянский вопрос
в философской публицистике H.H. Страхова 777
Комментарии 782
Указатель имен 835
Научное издание
H.H. СТРАХОВ: PRO ET CONTRA
Антология
Составитель
Светлана Мушаиловна Климова