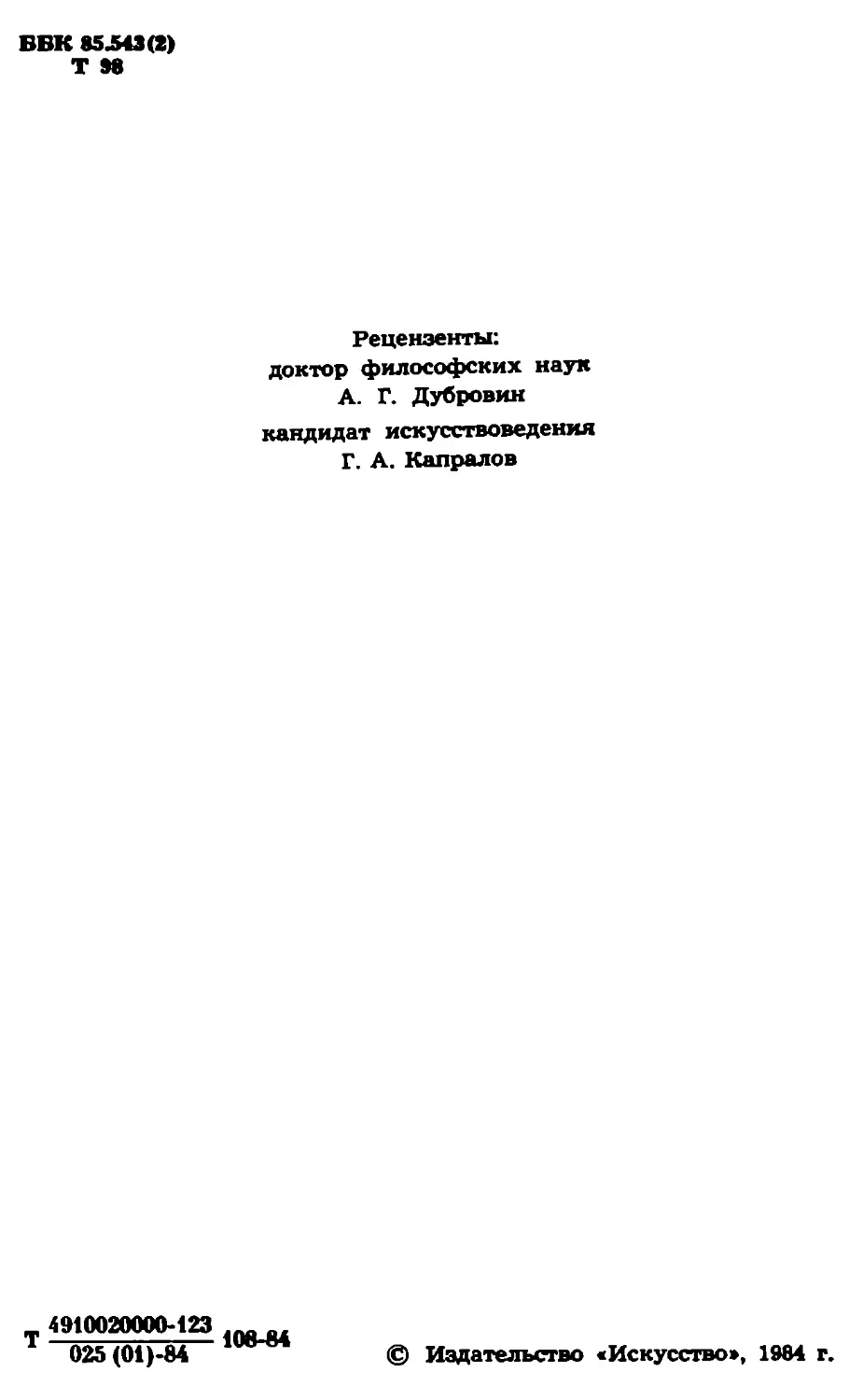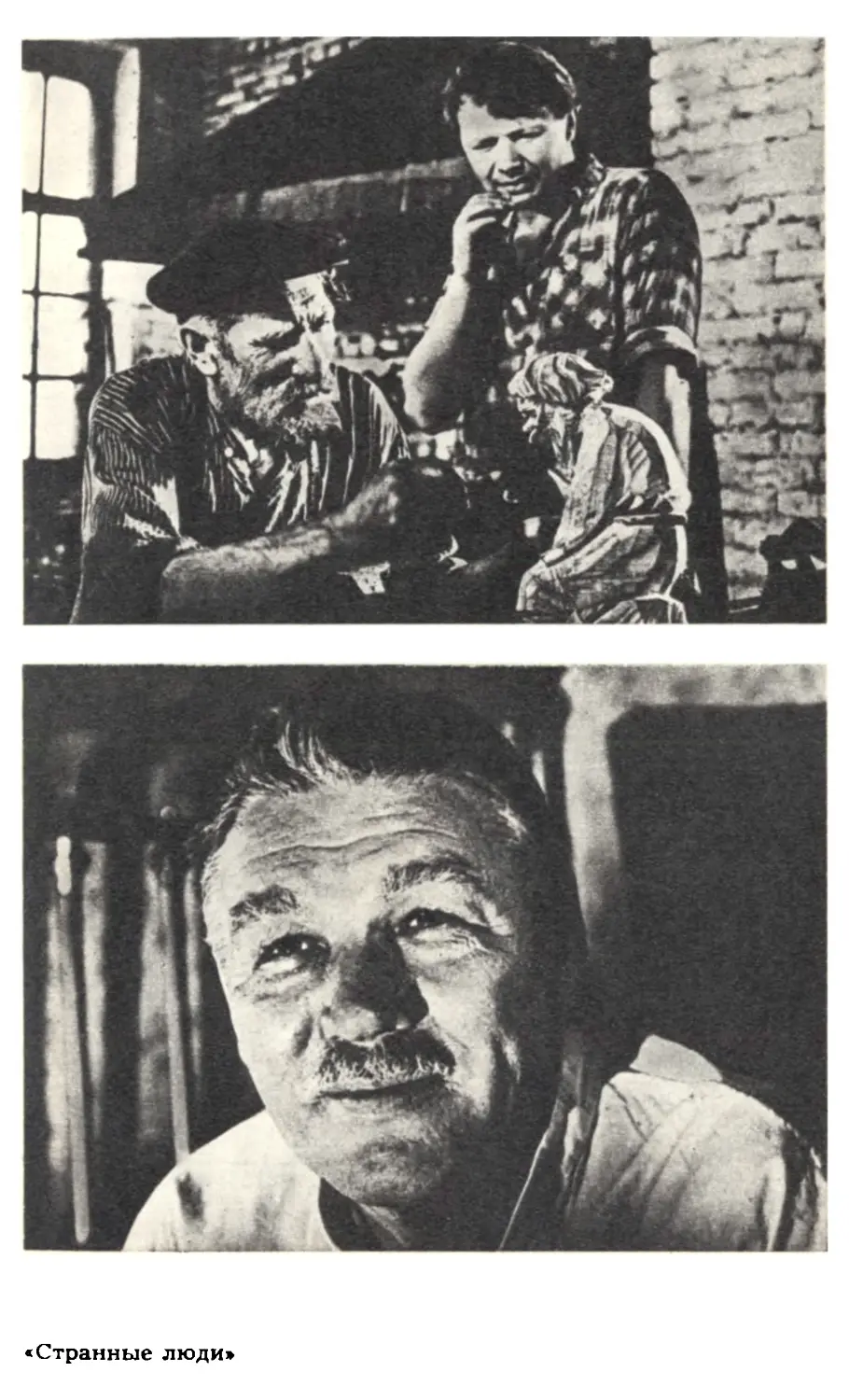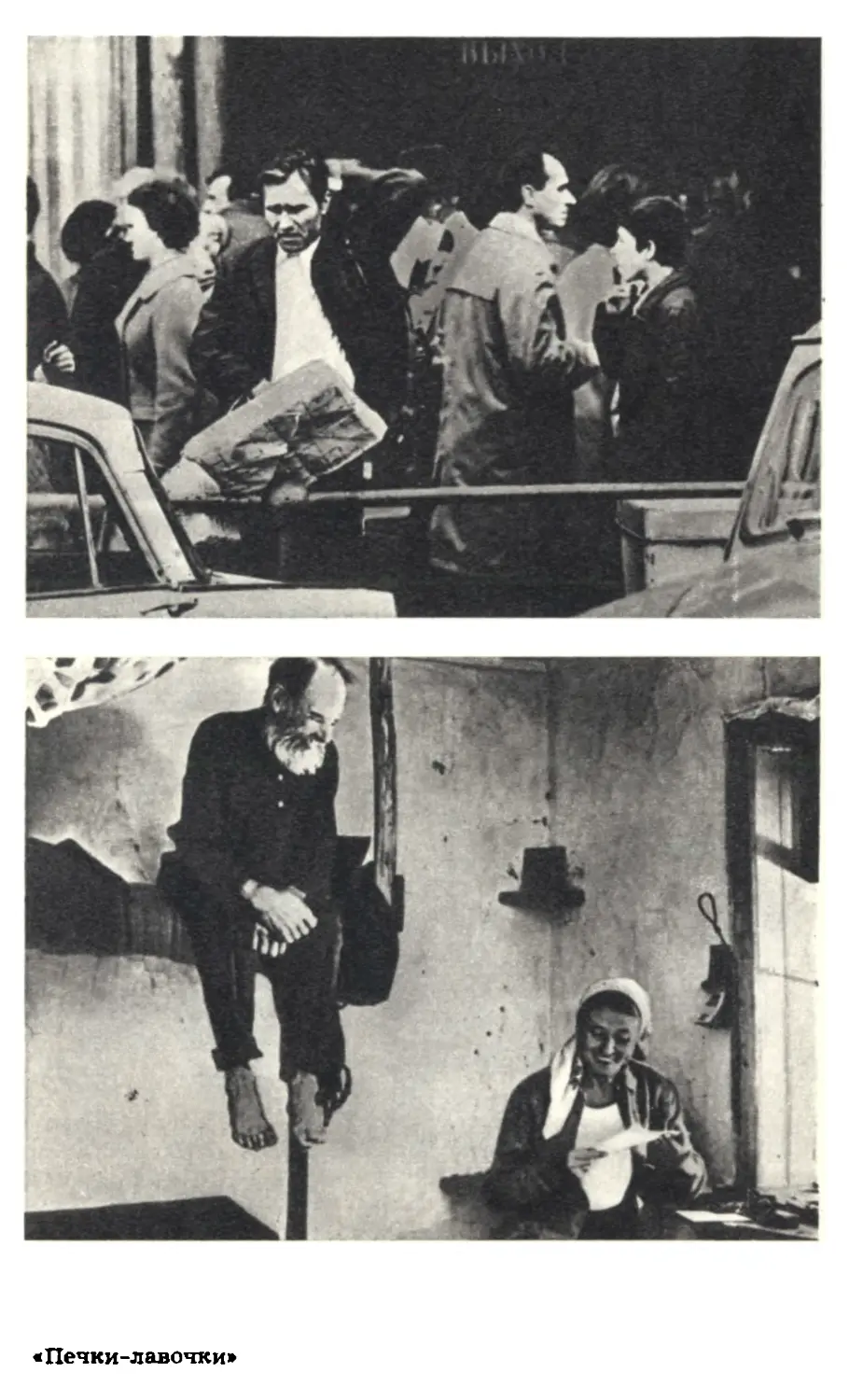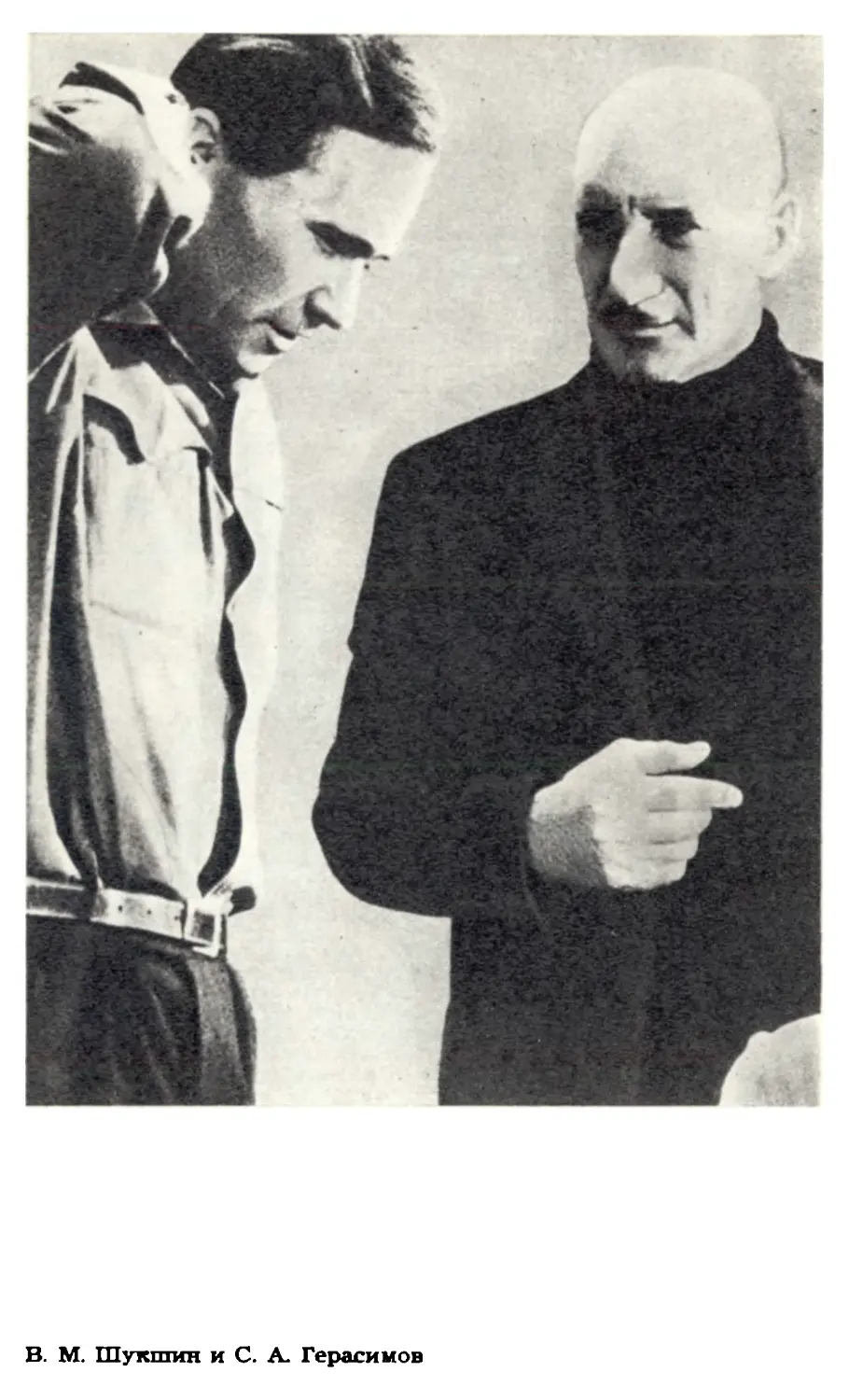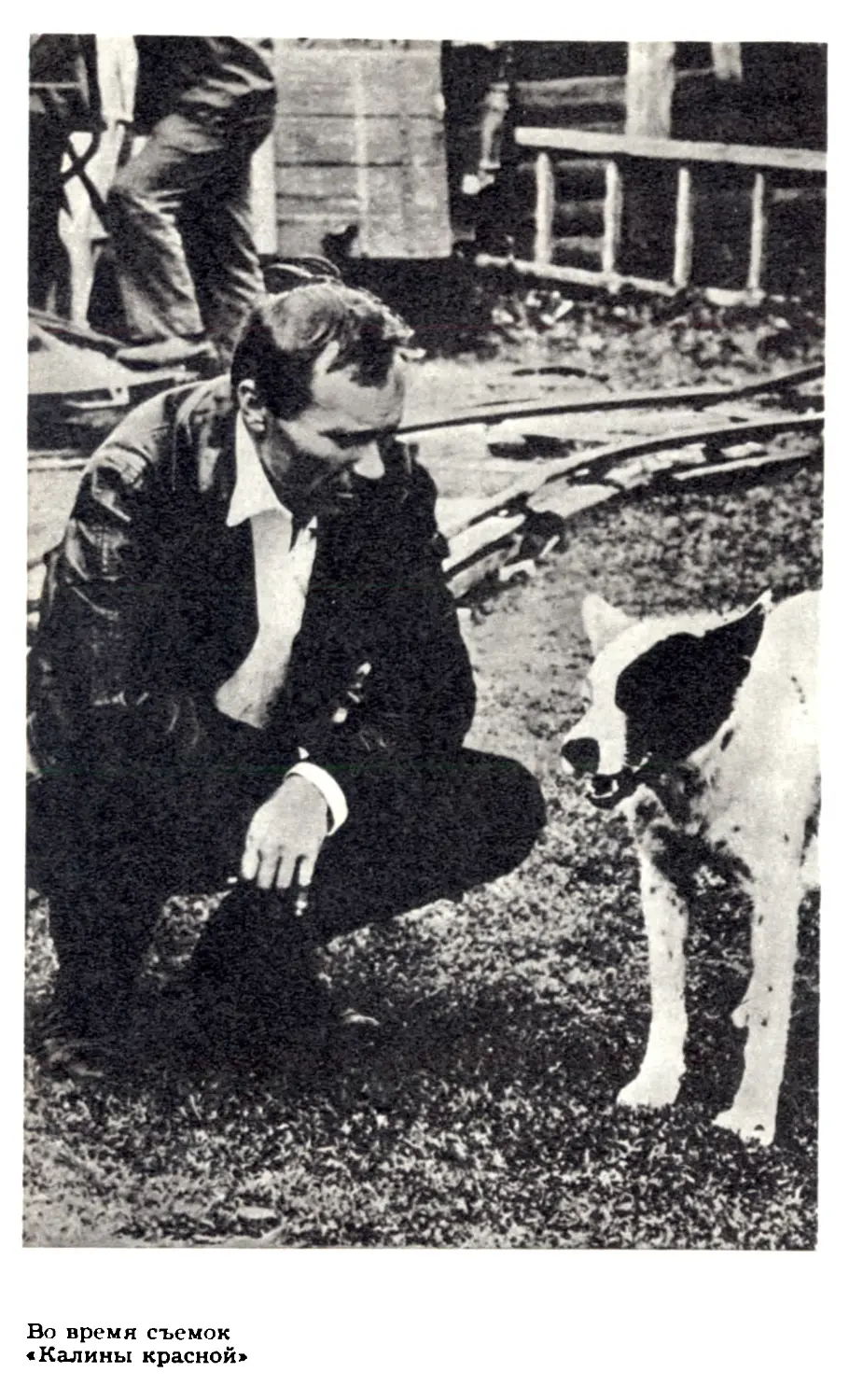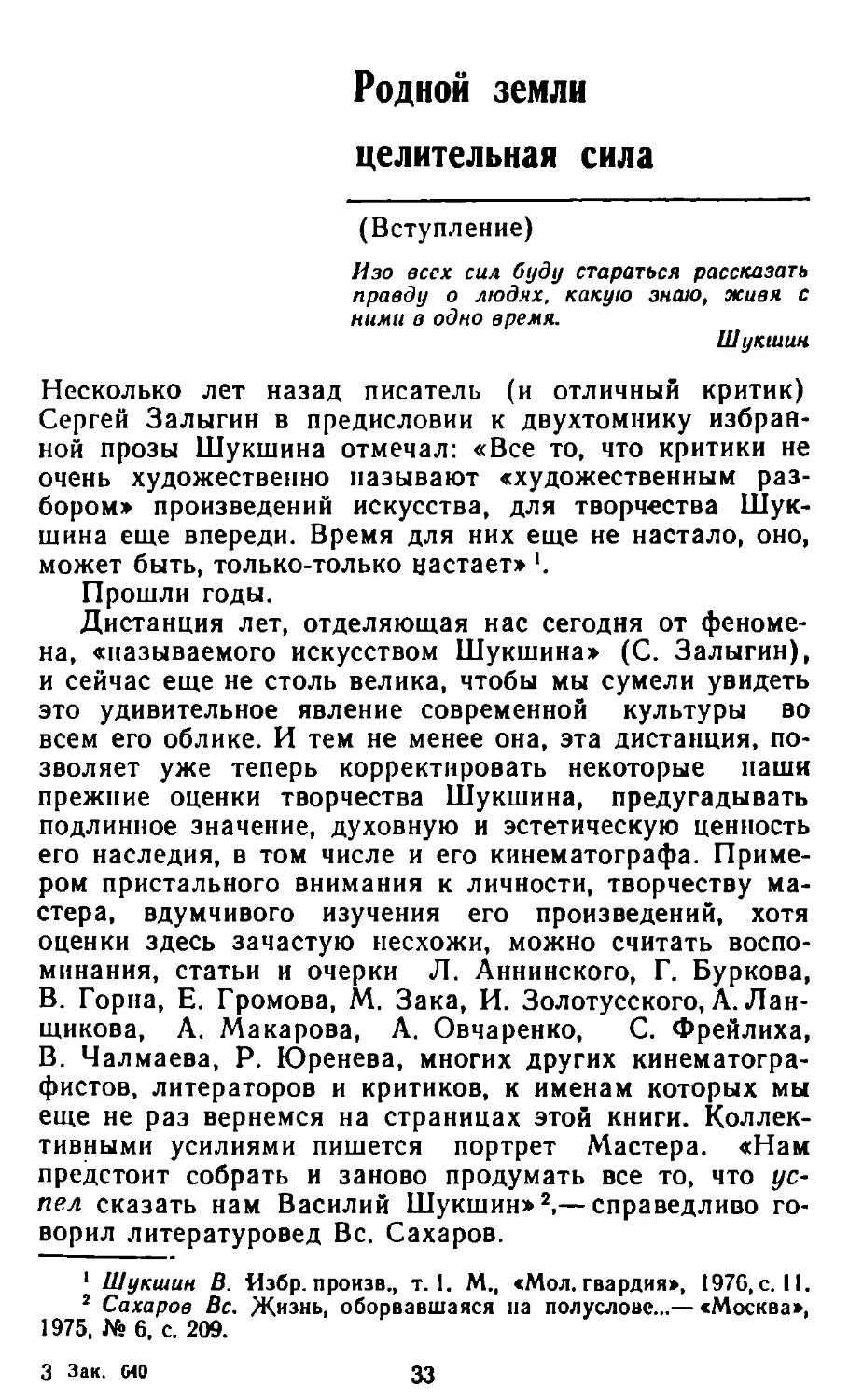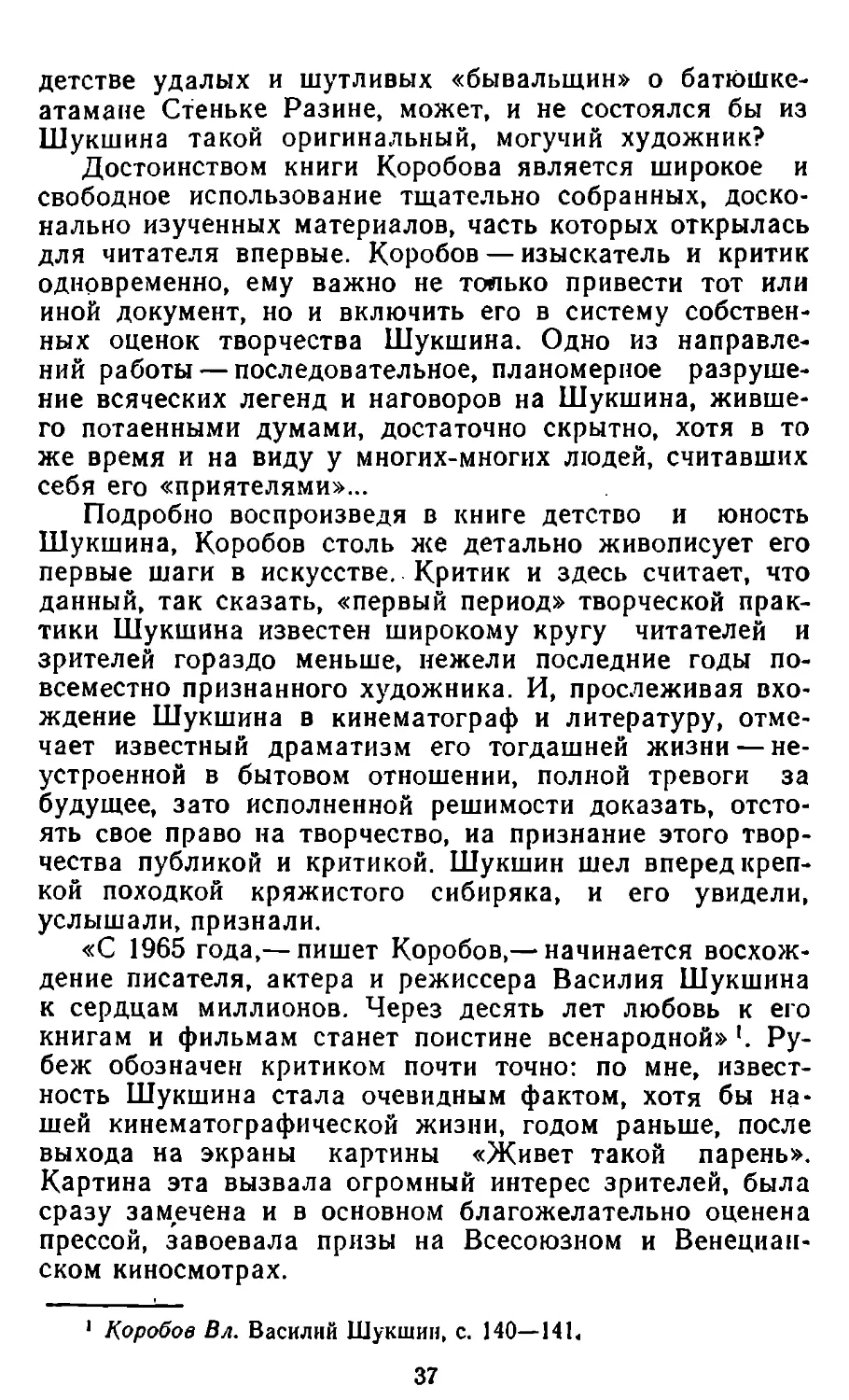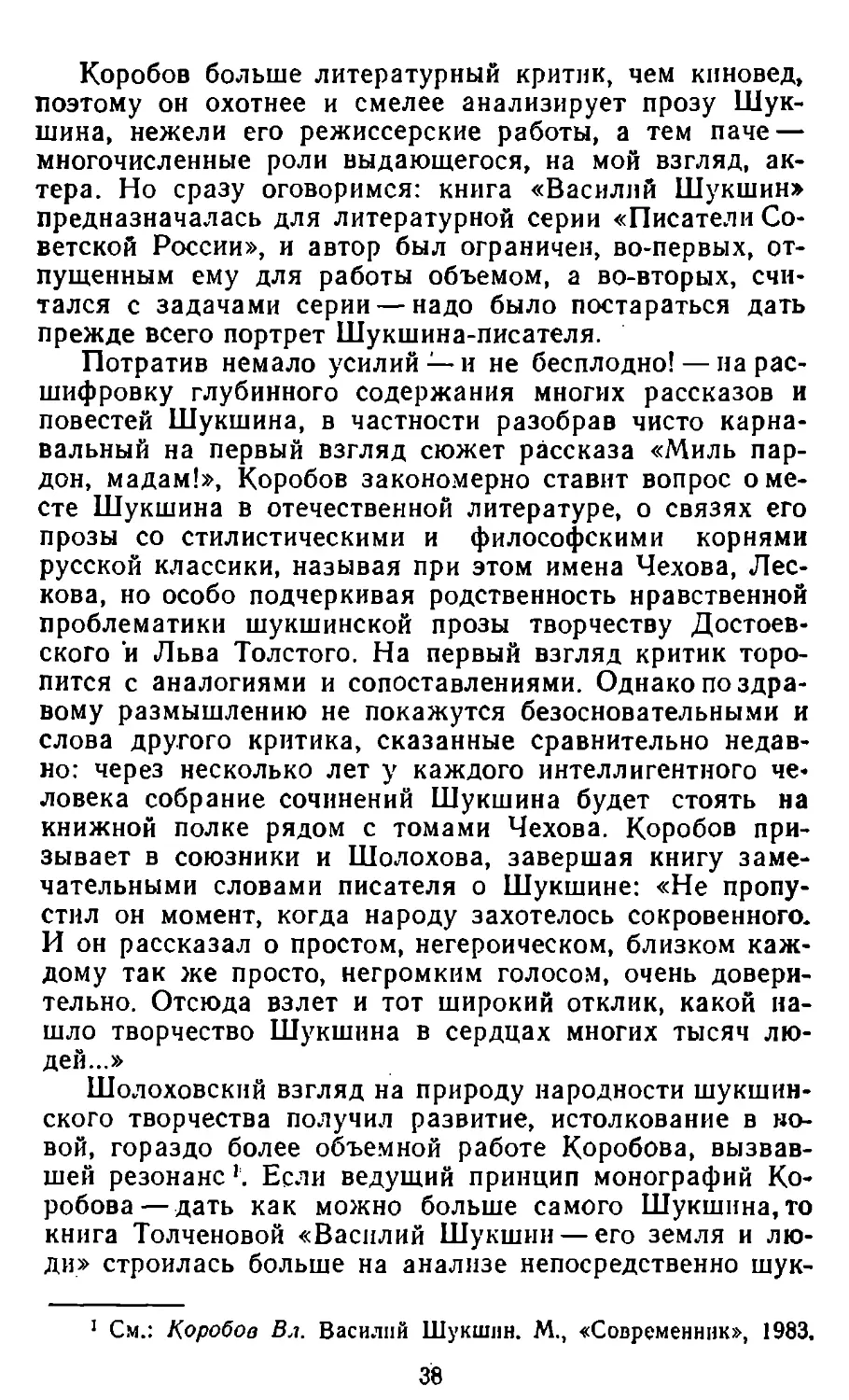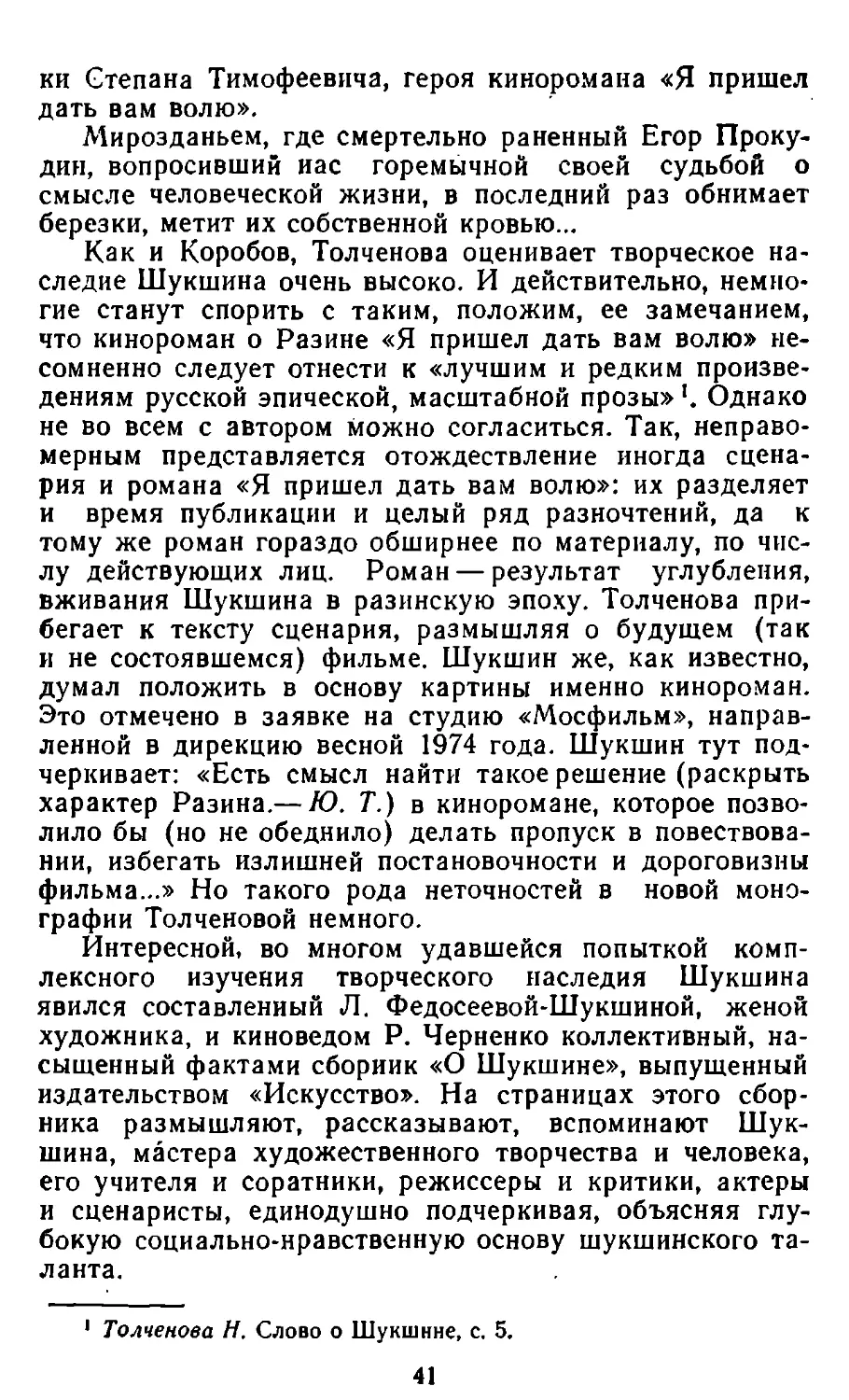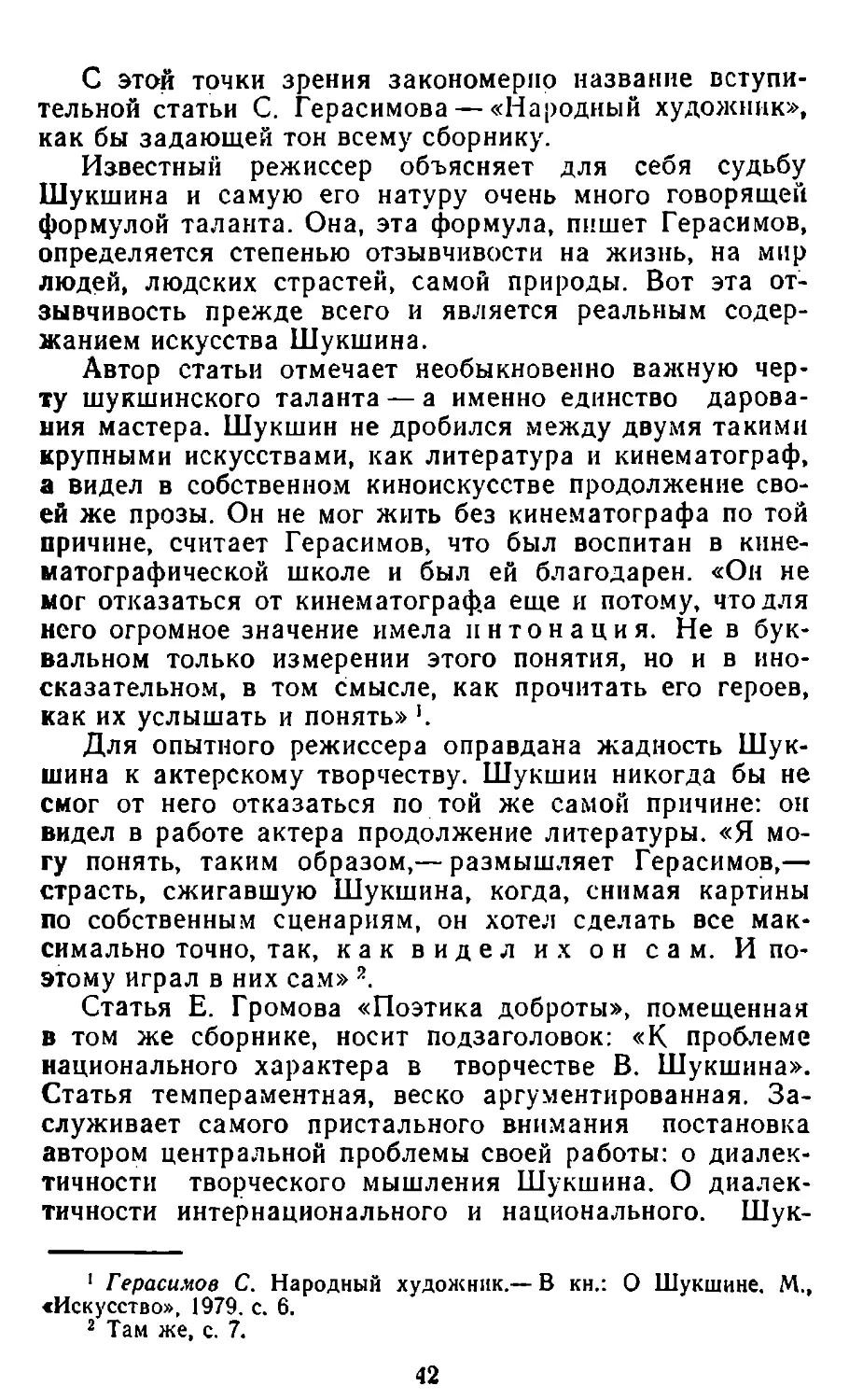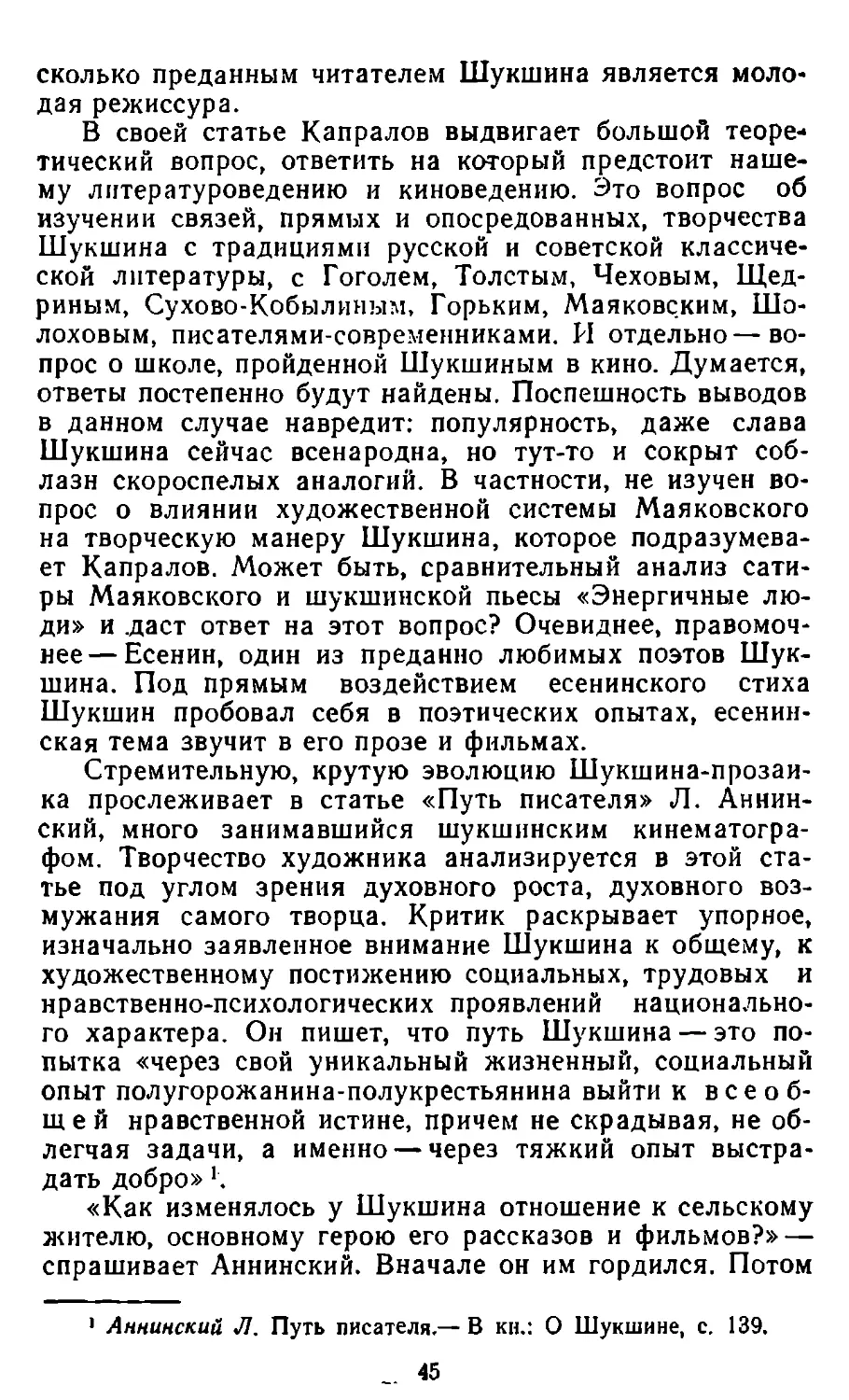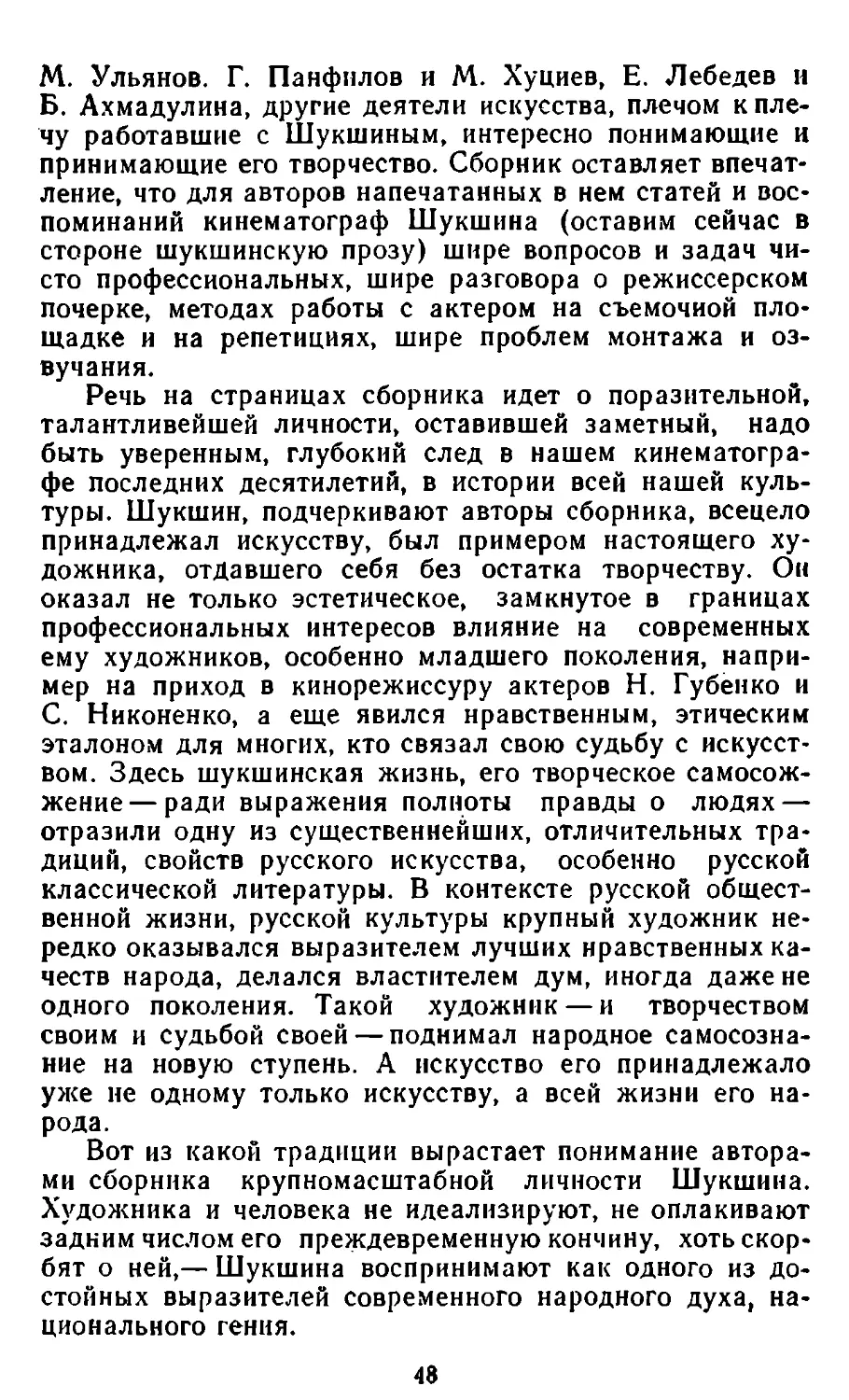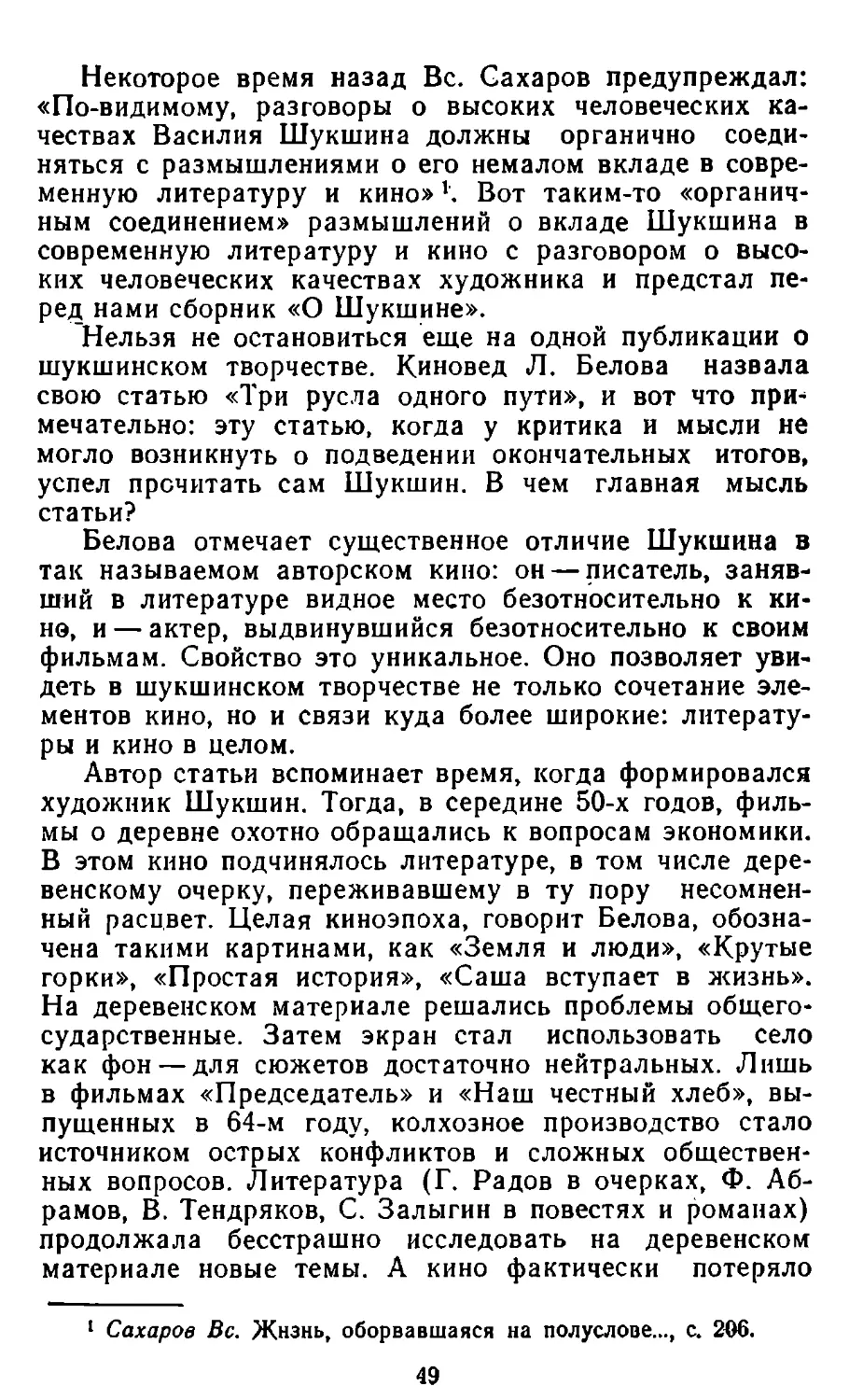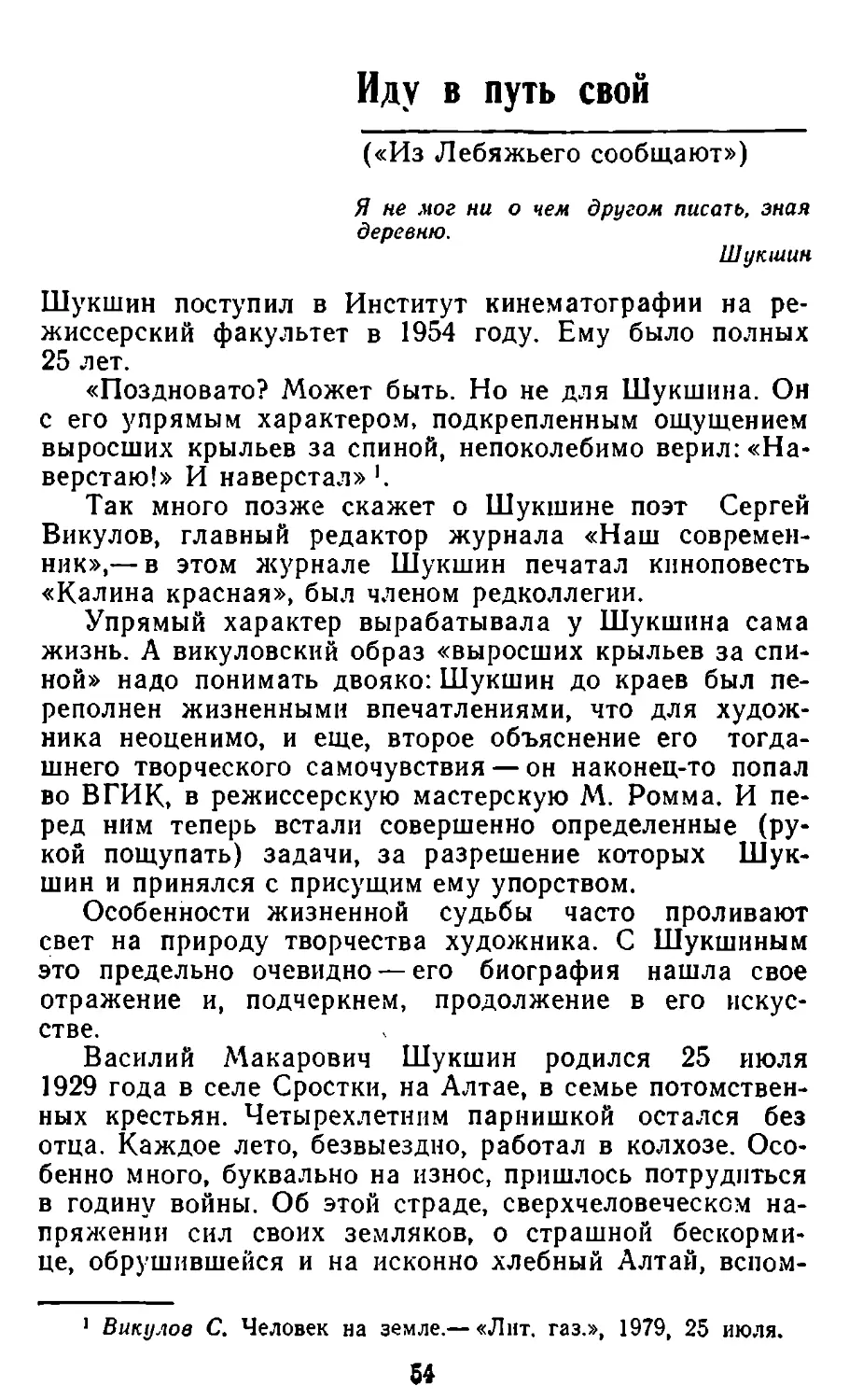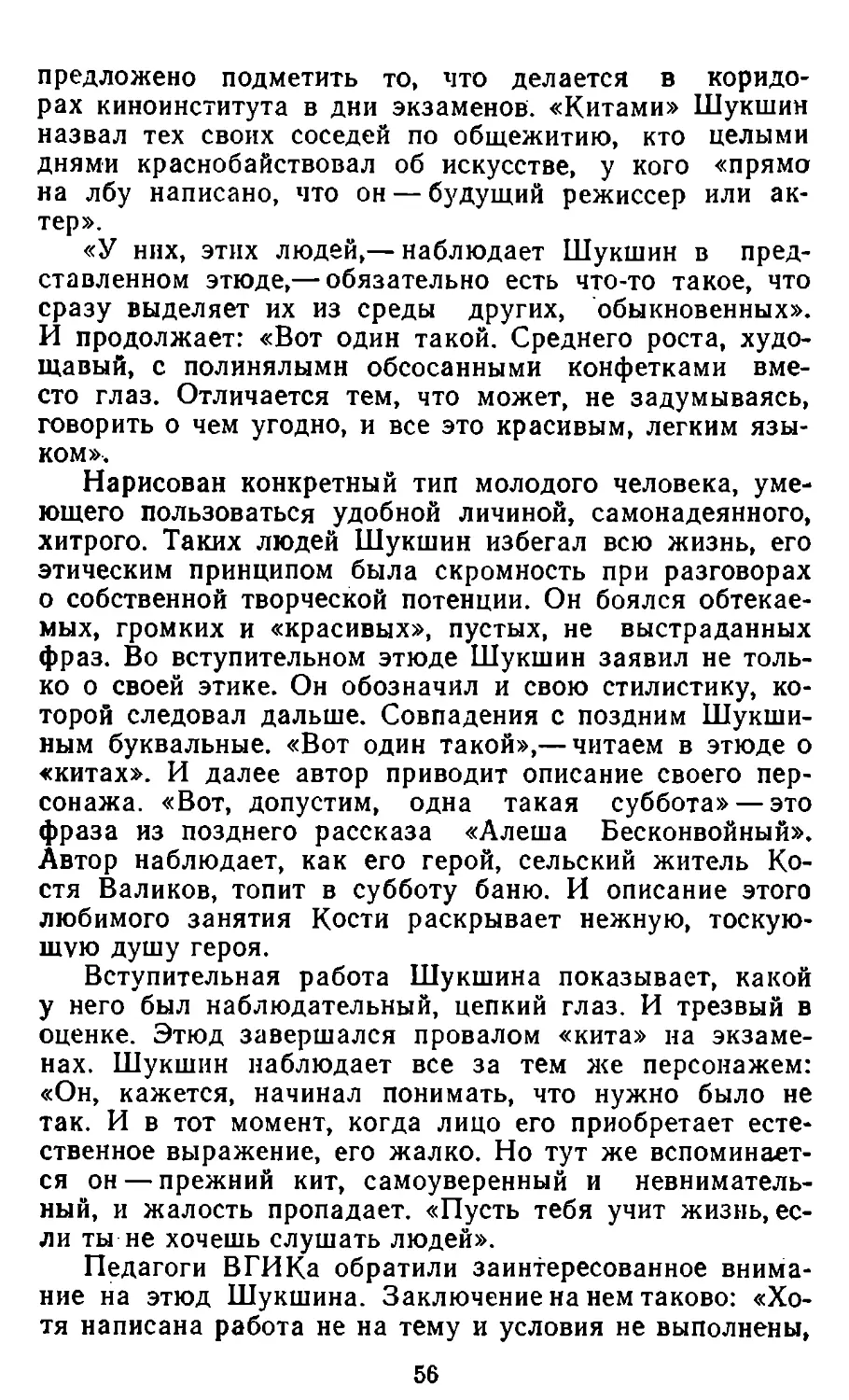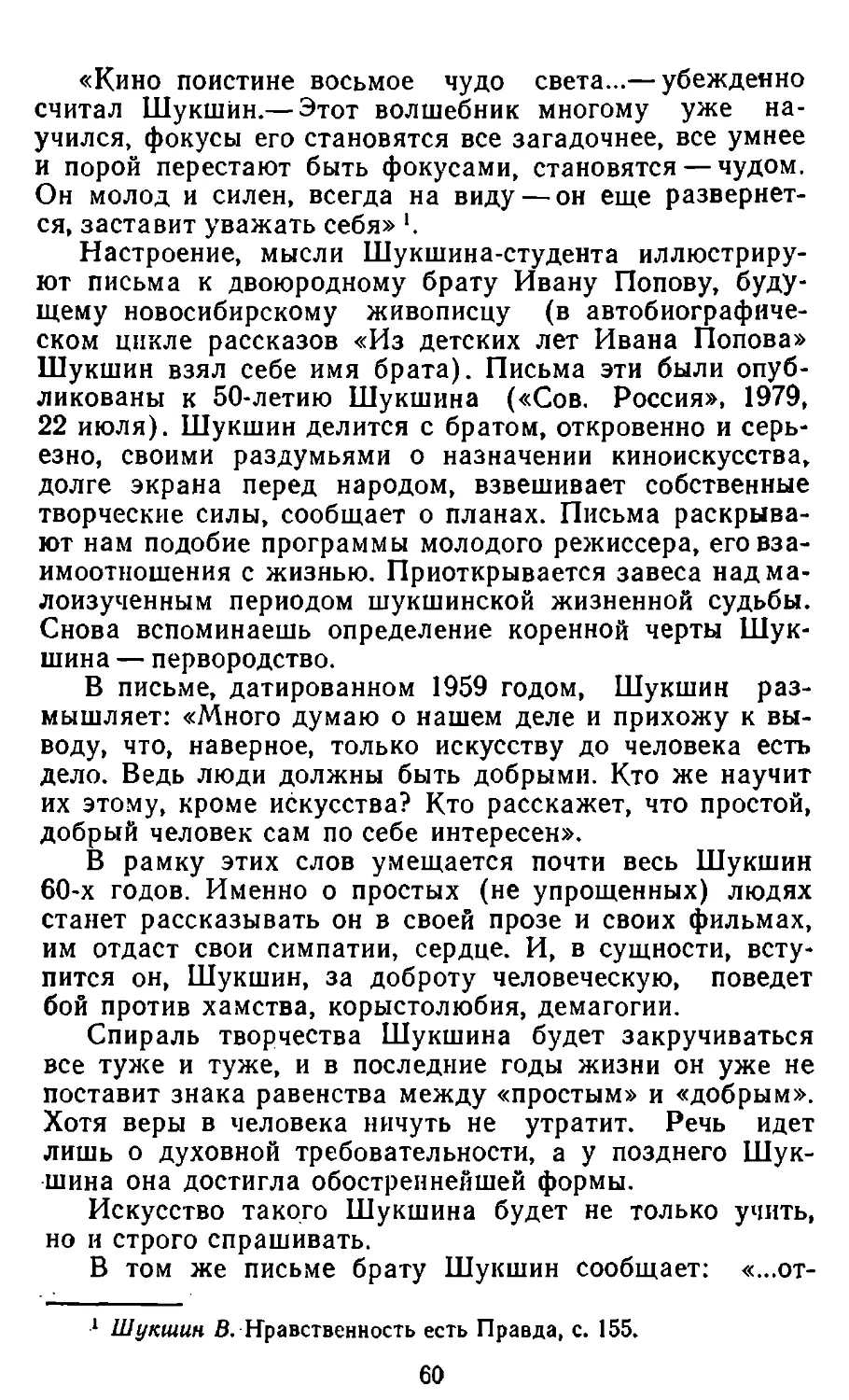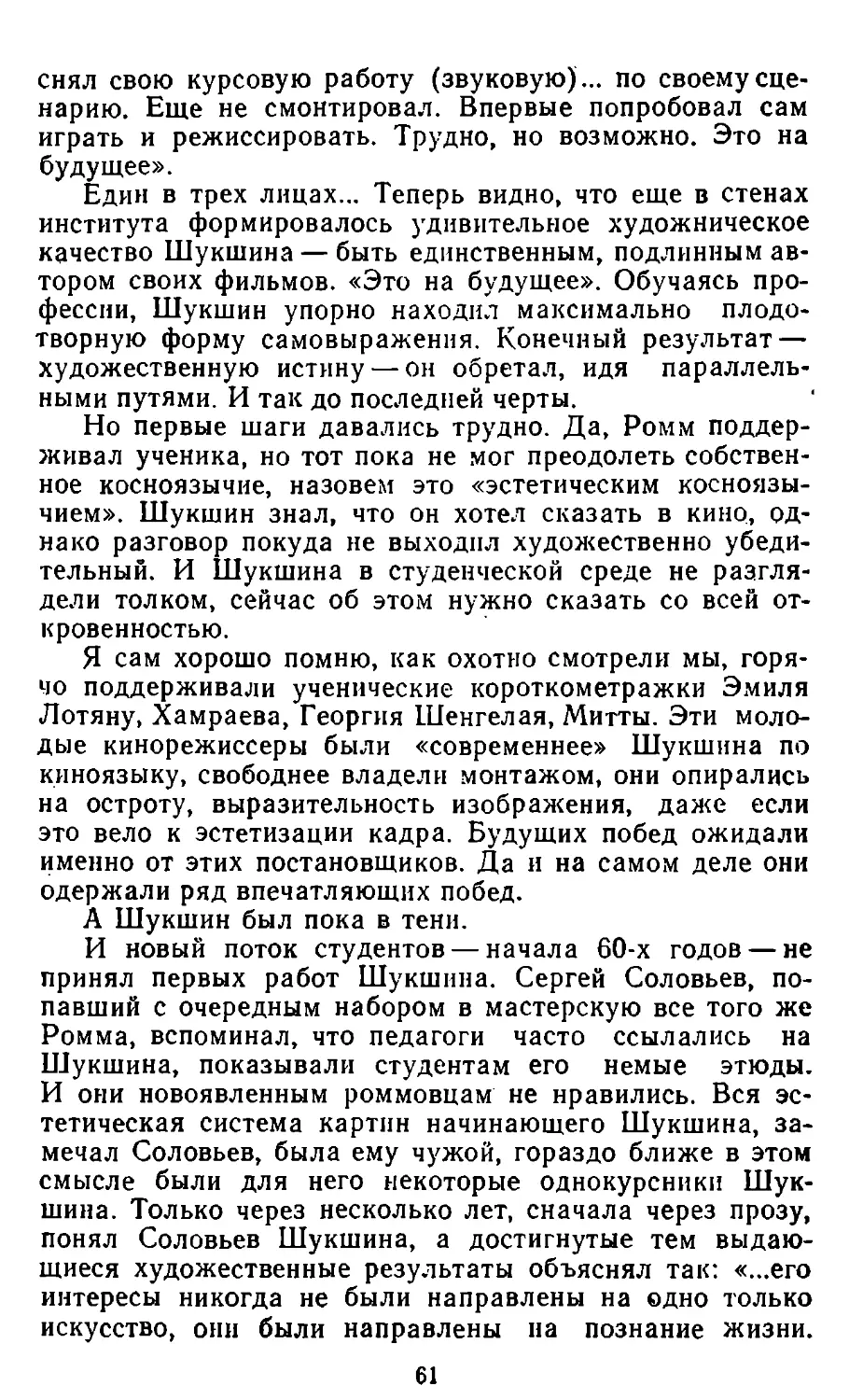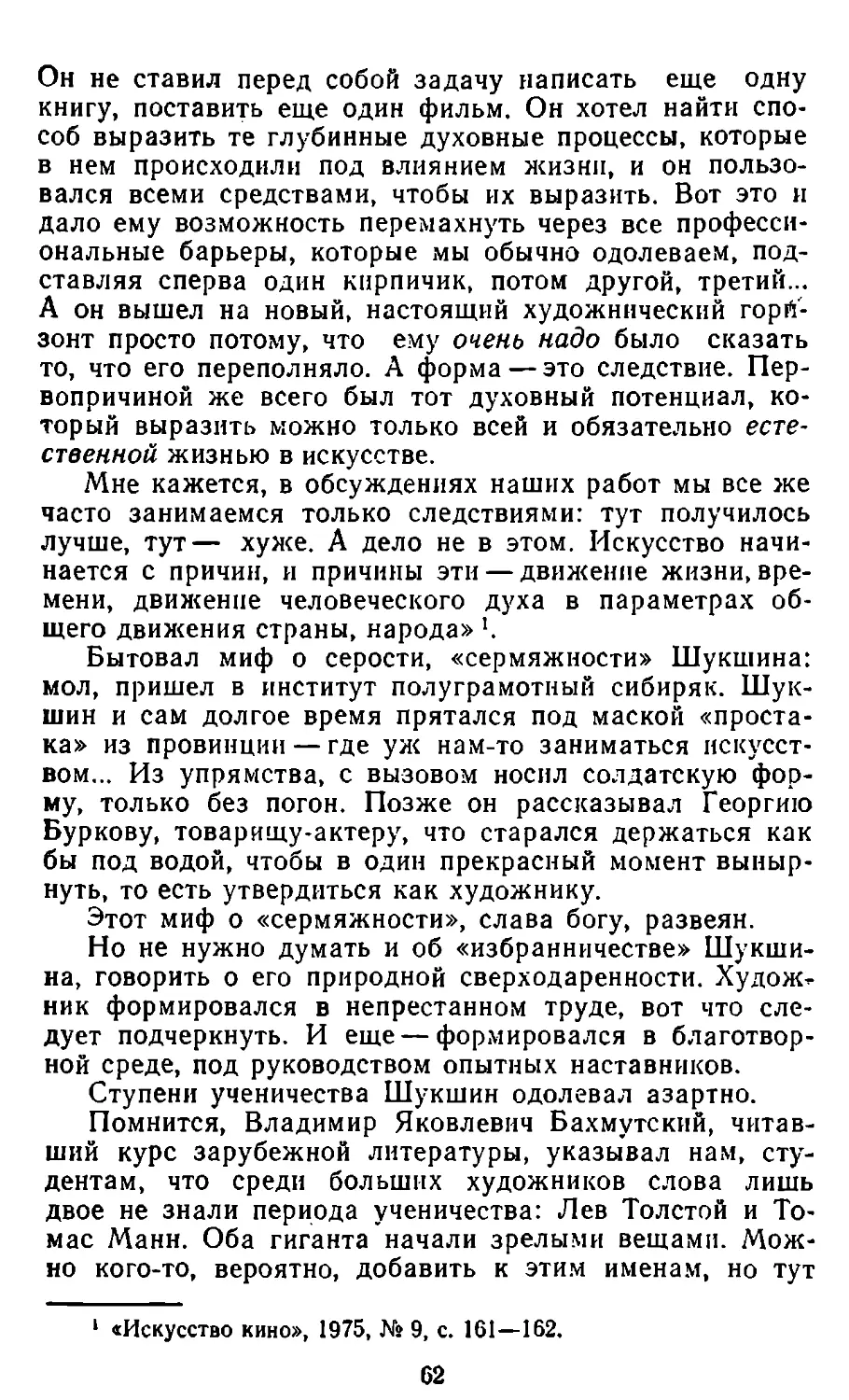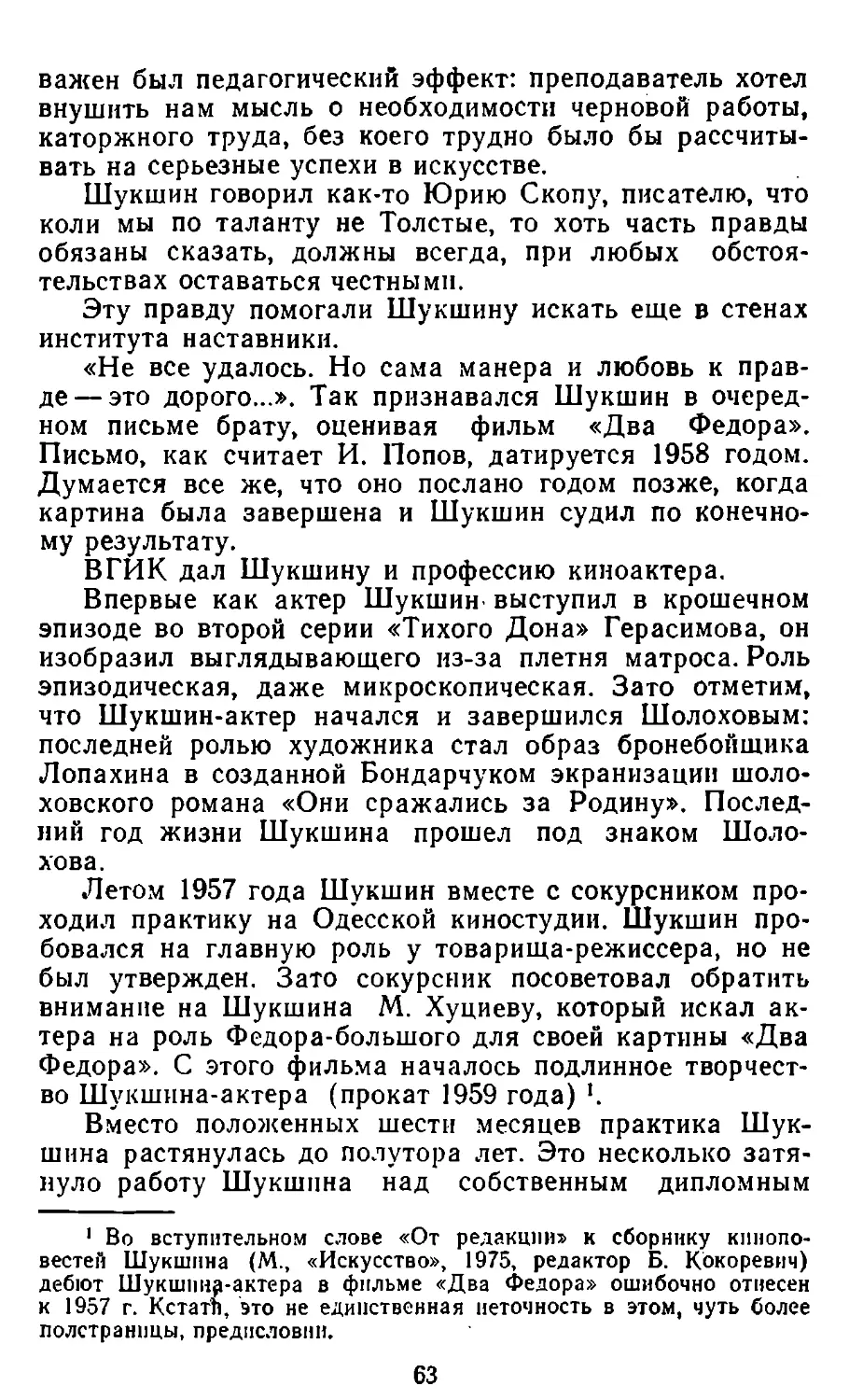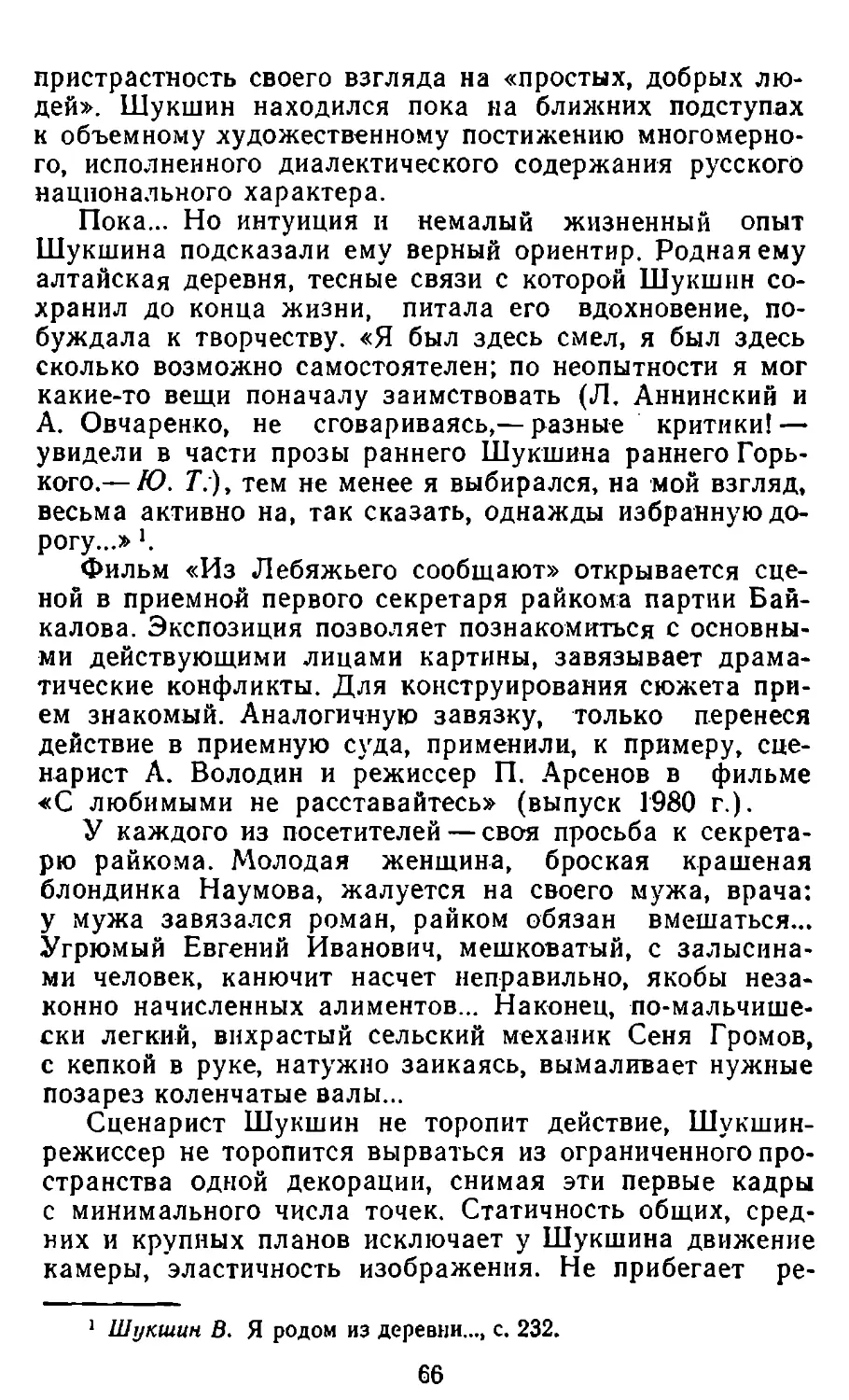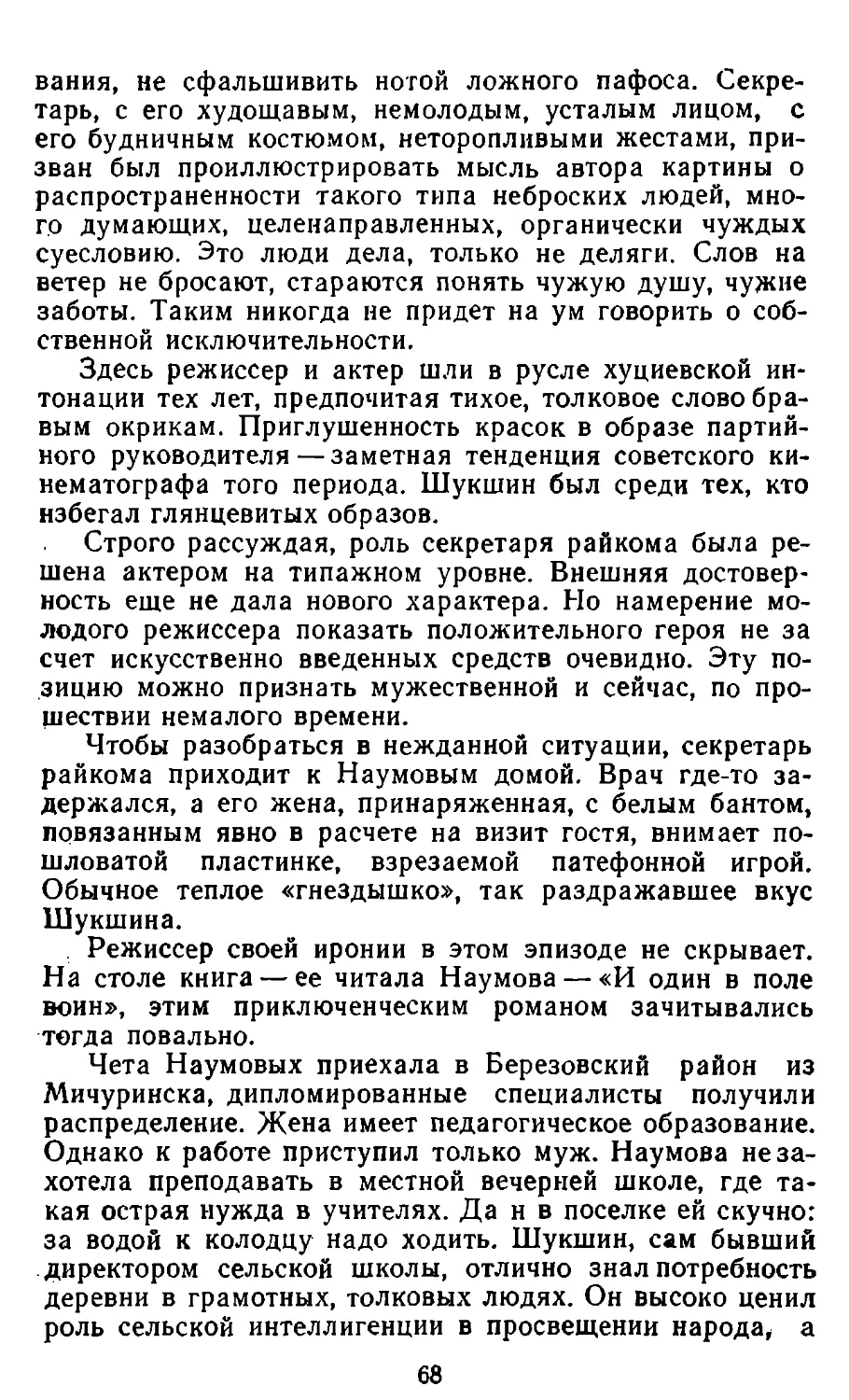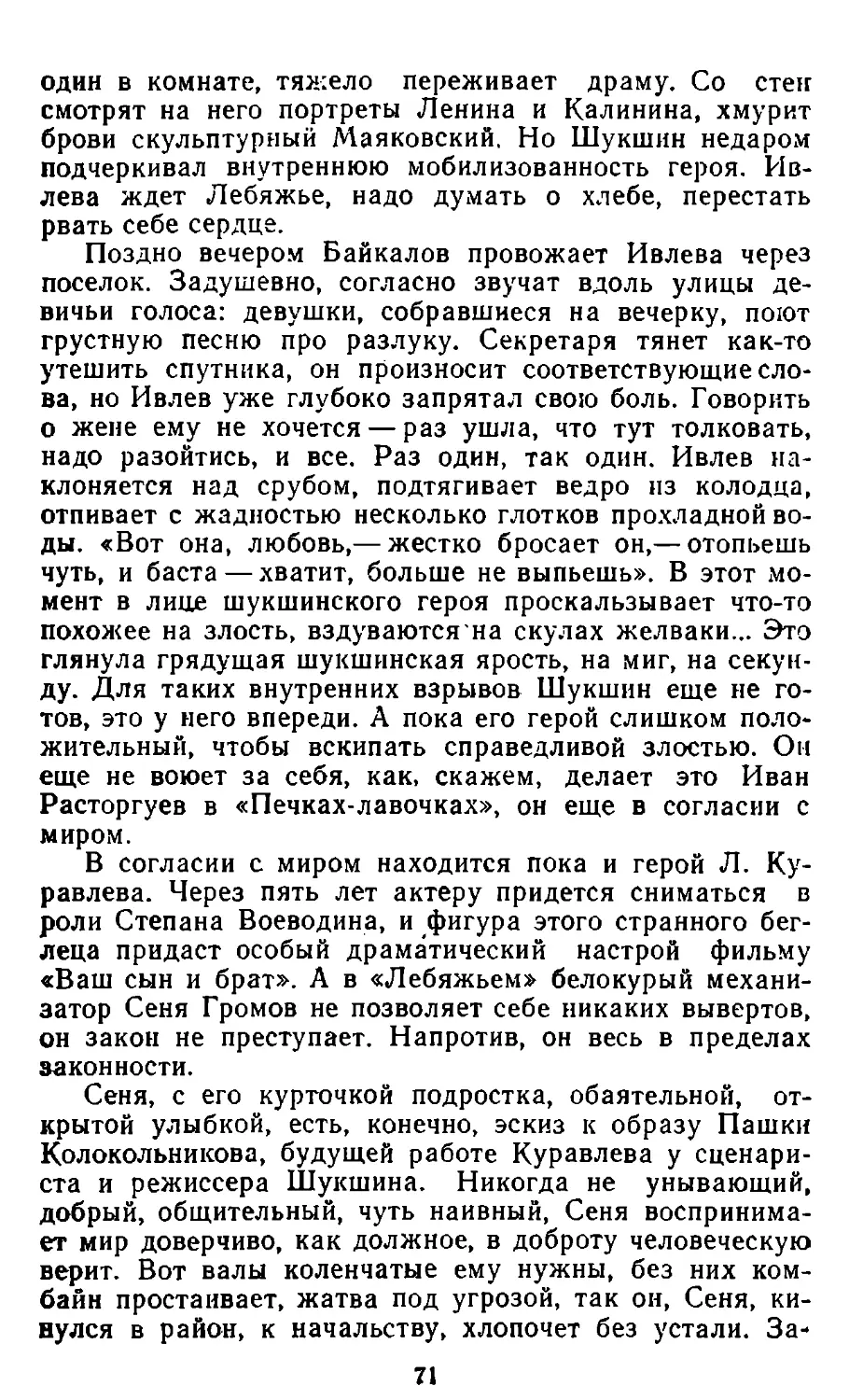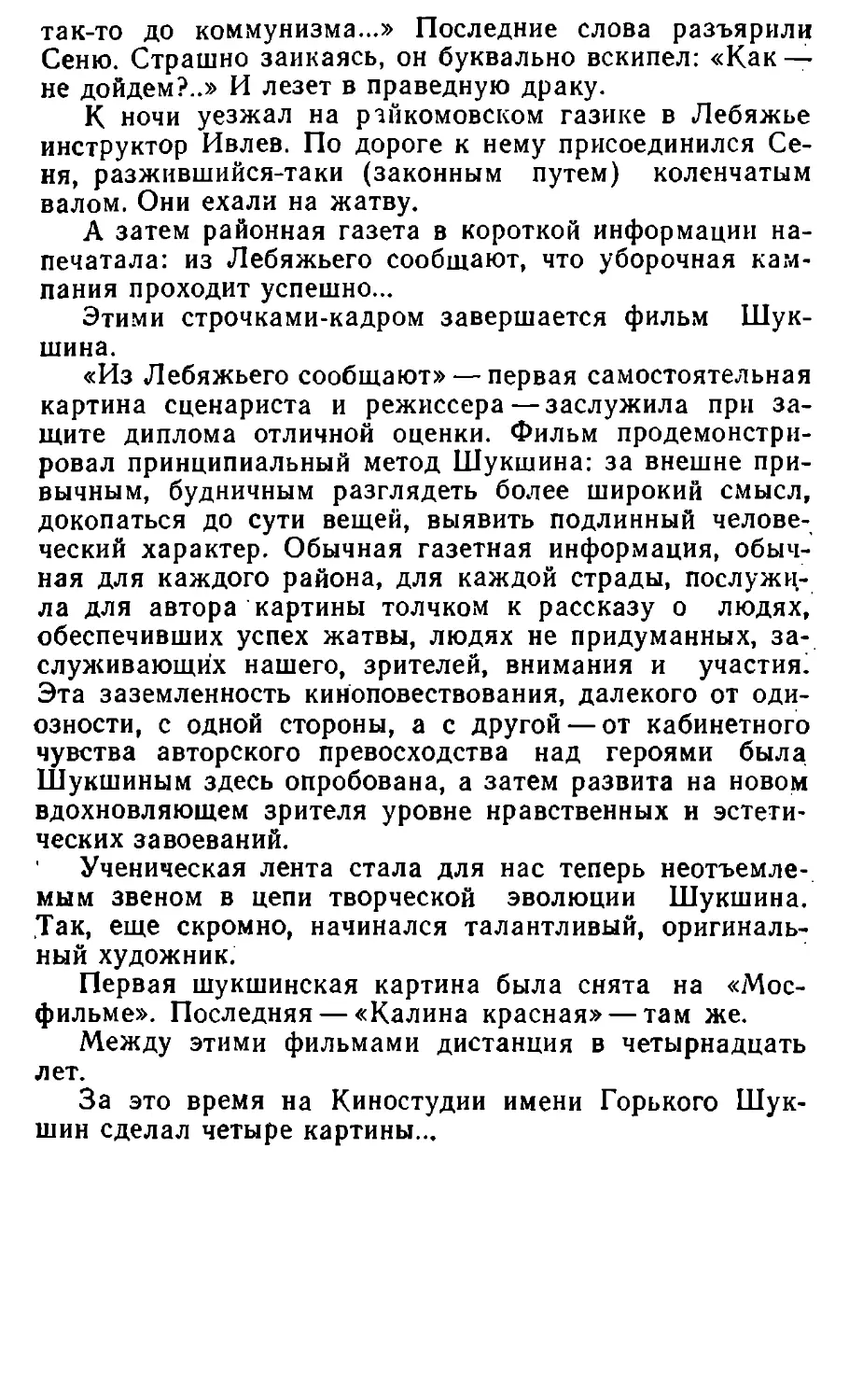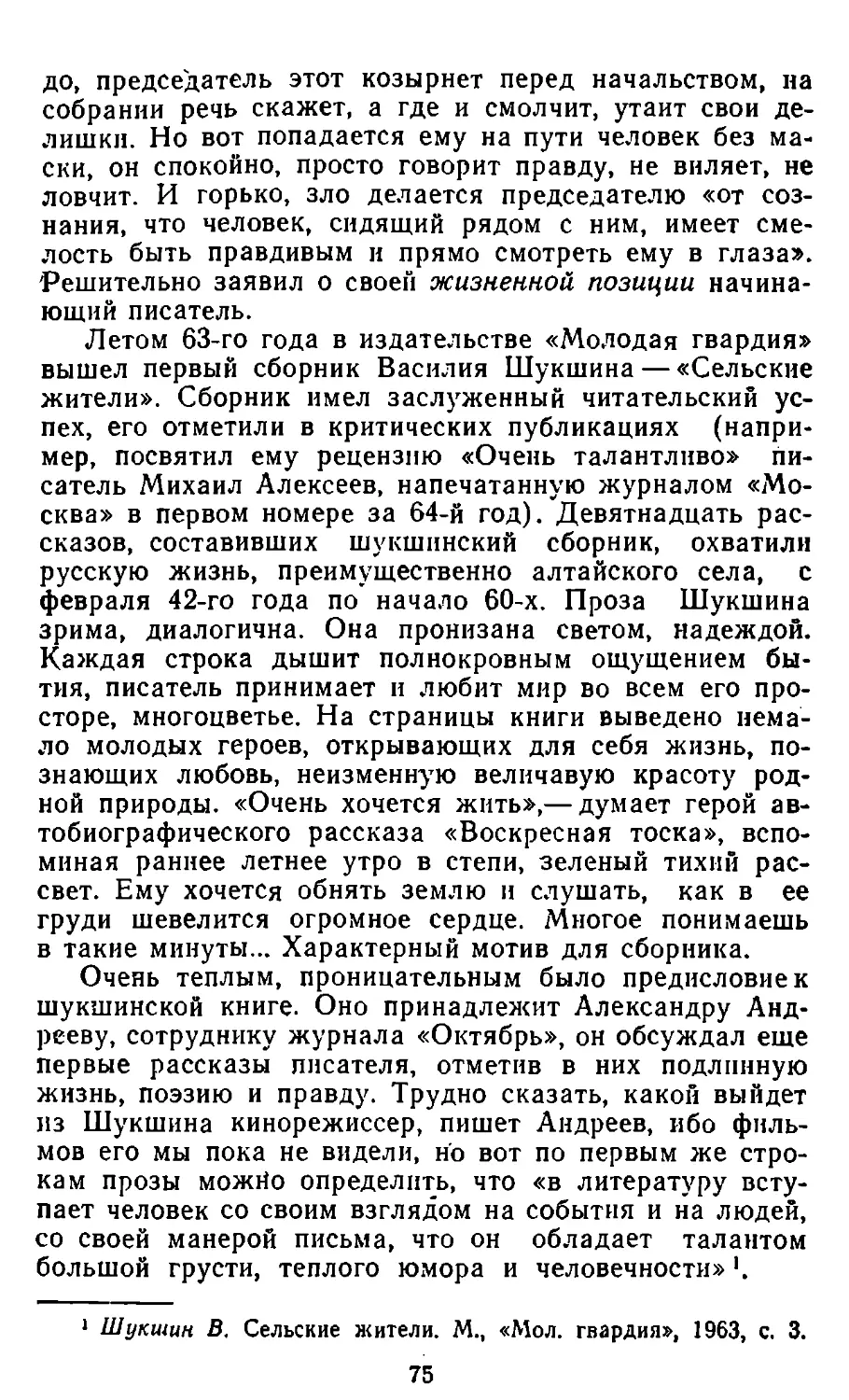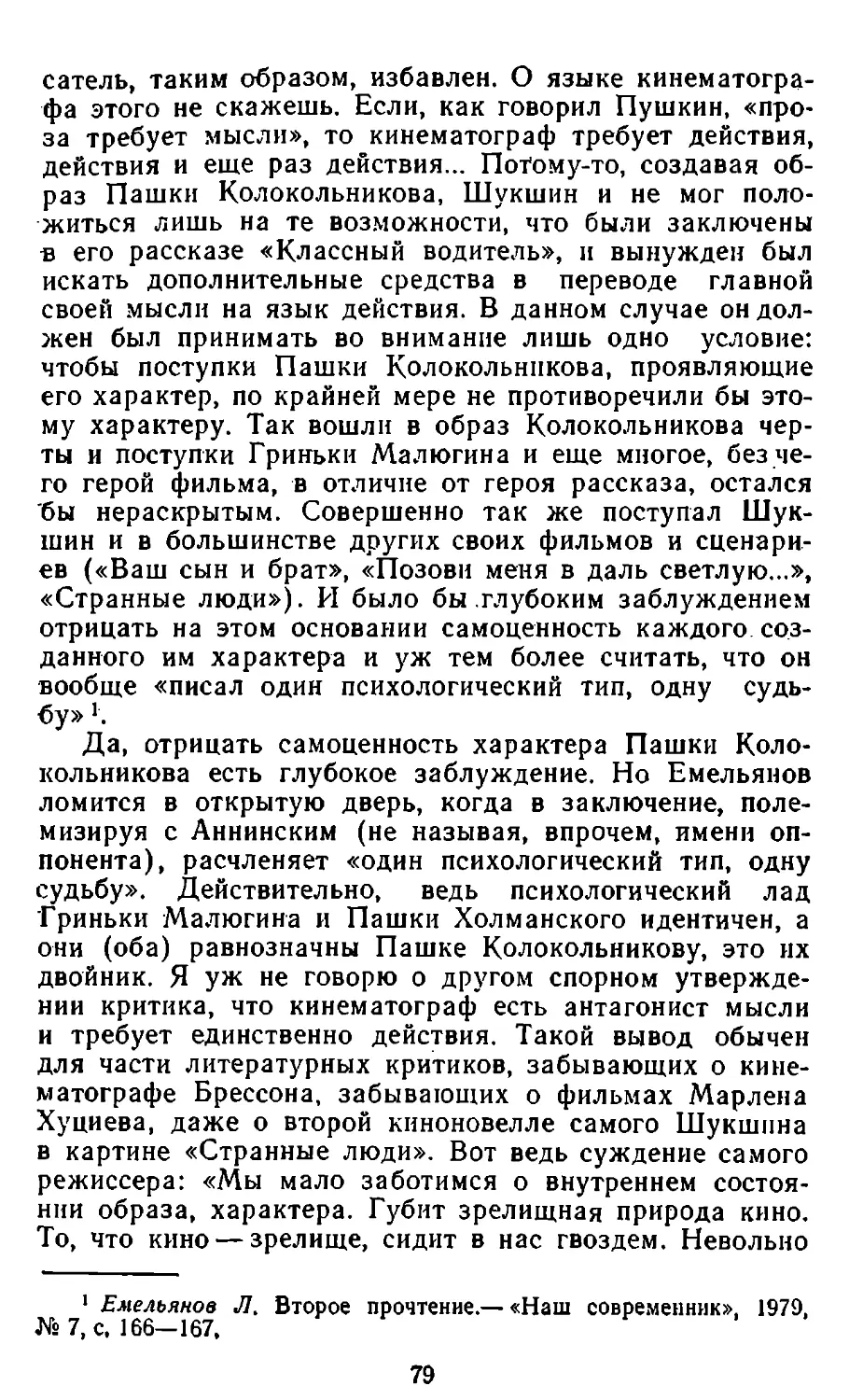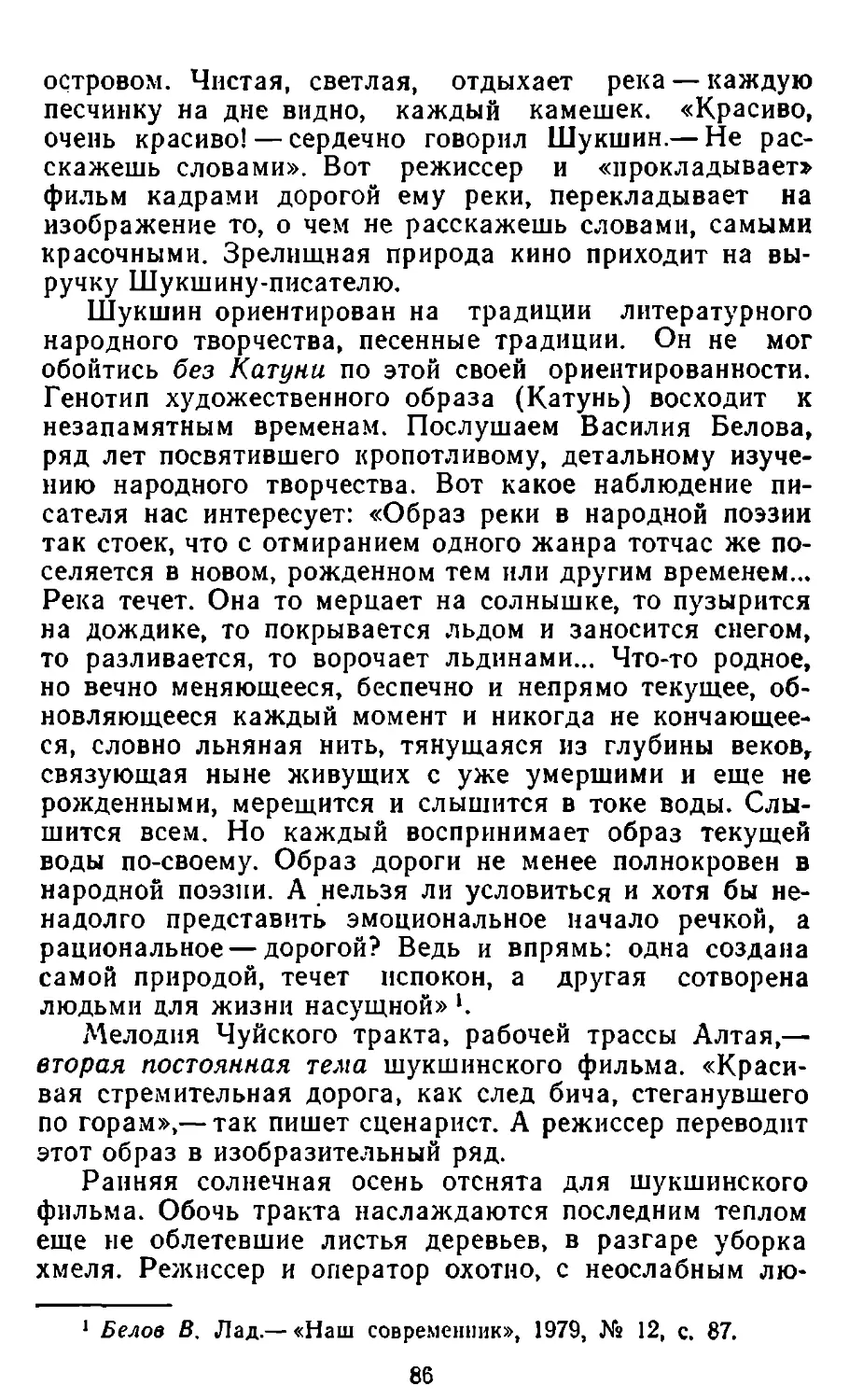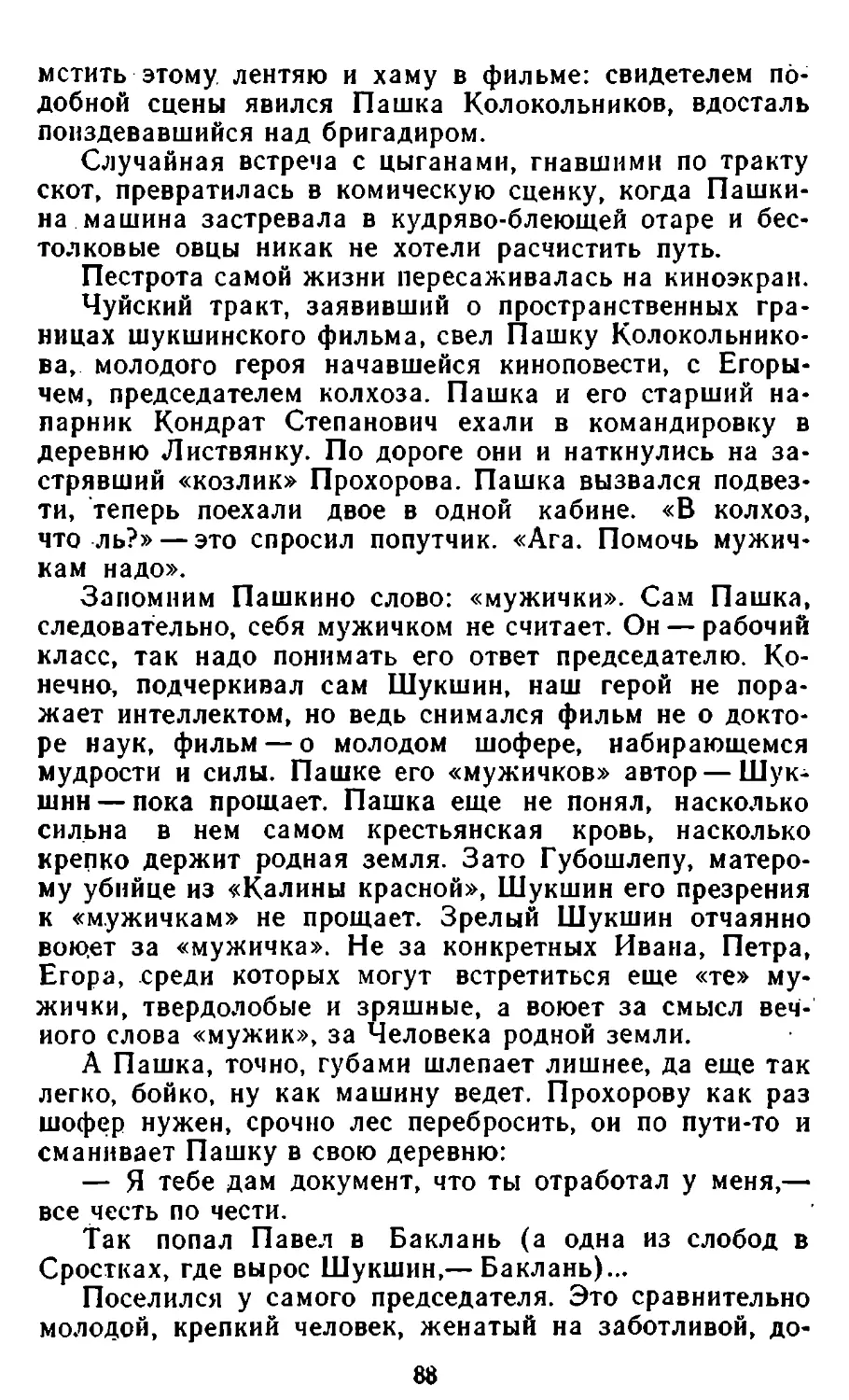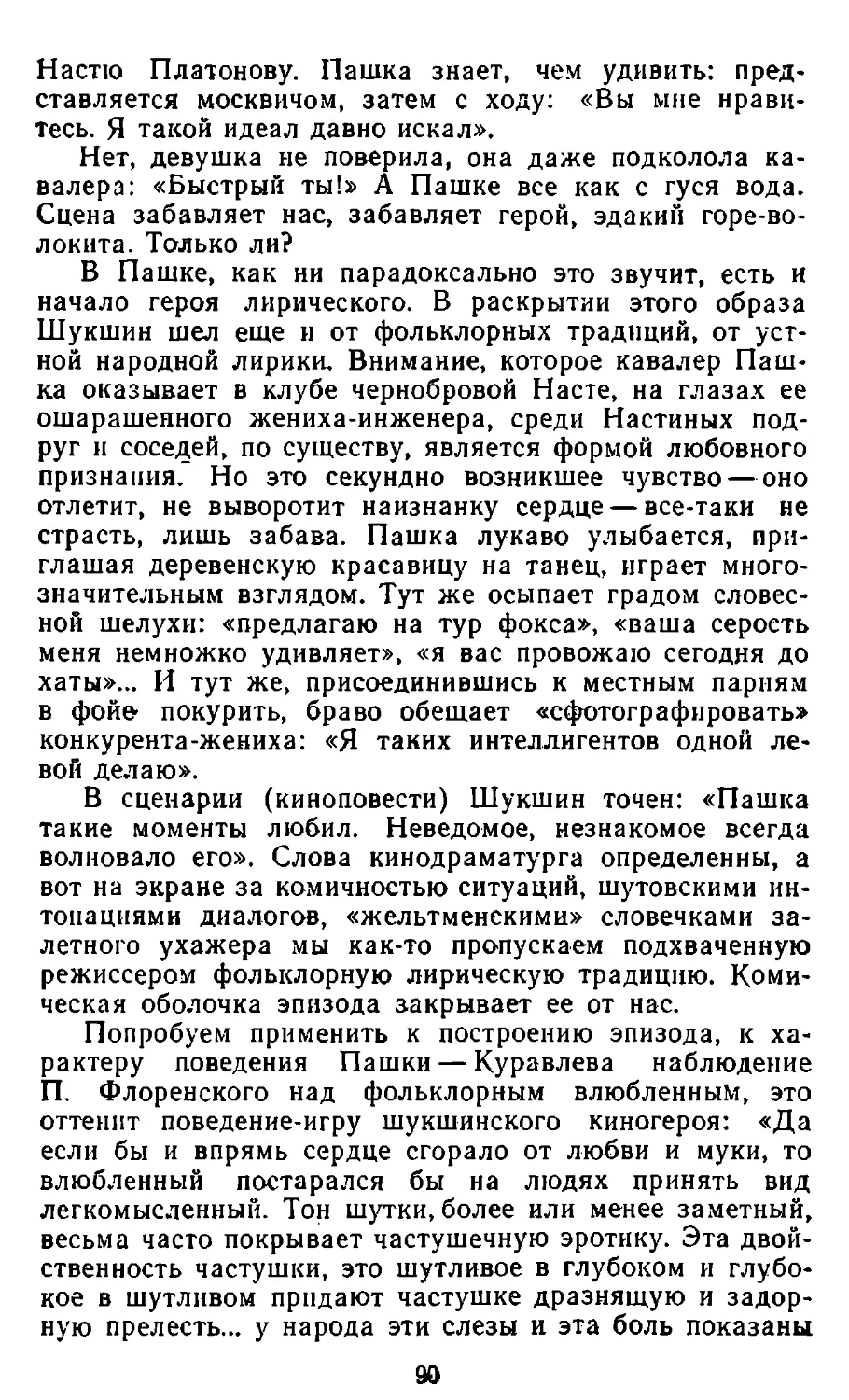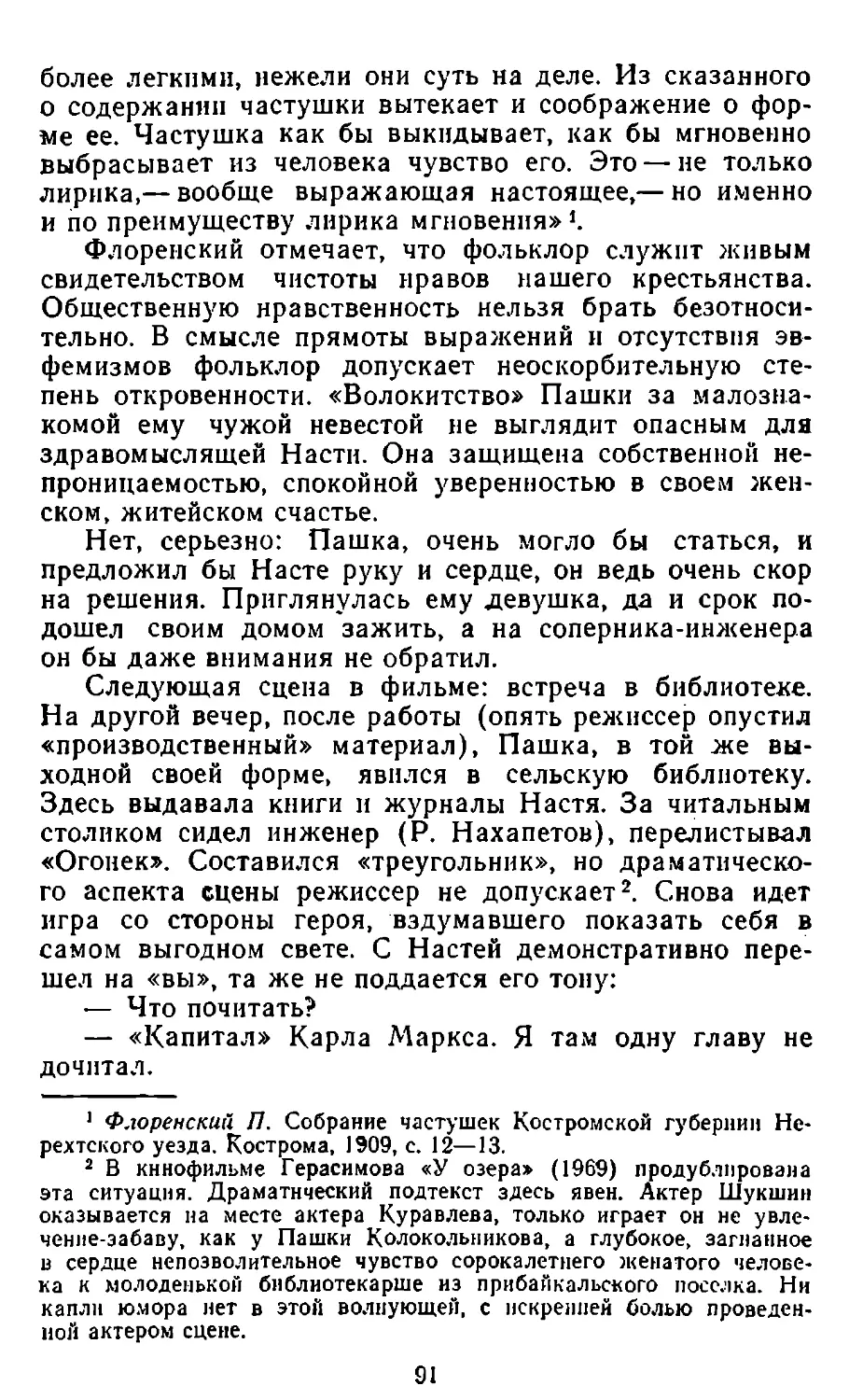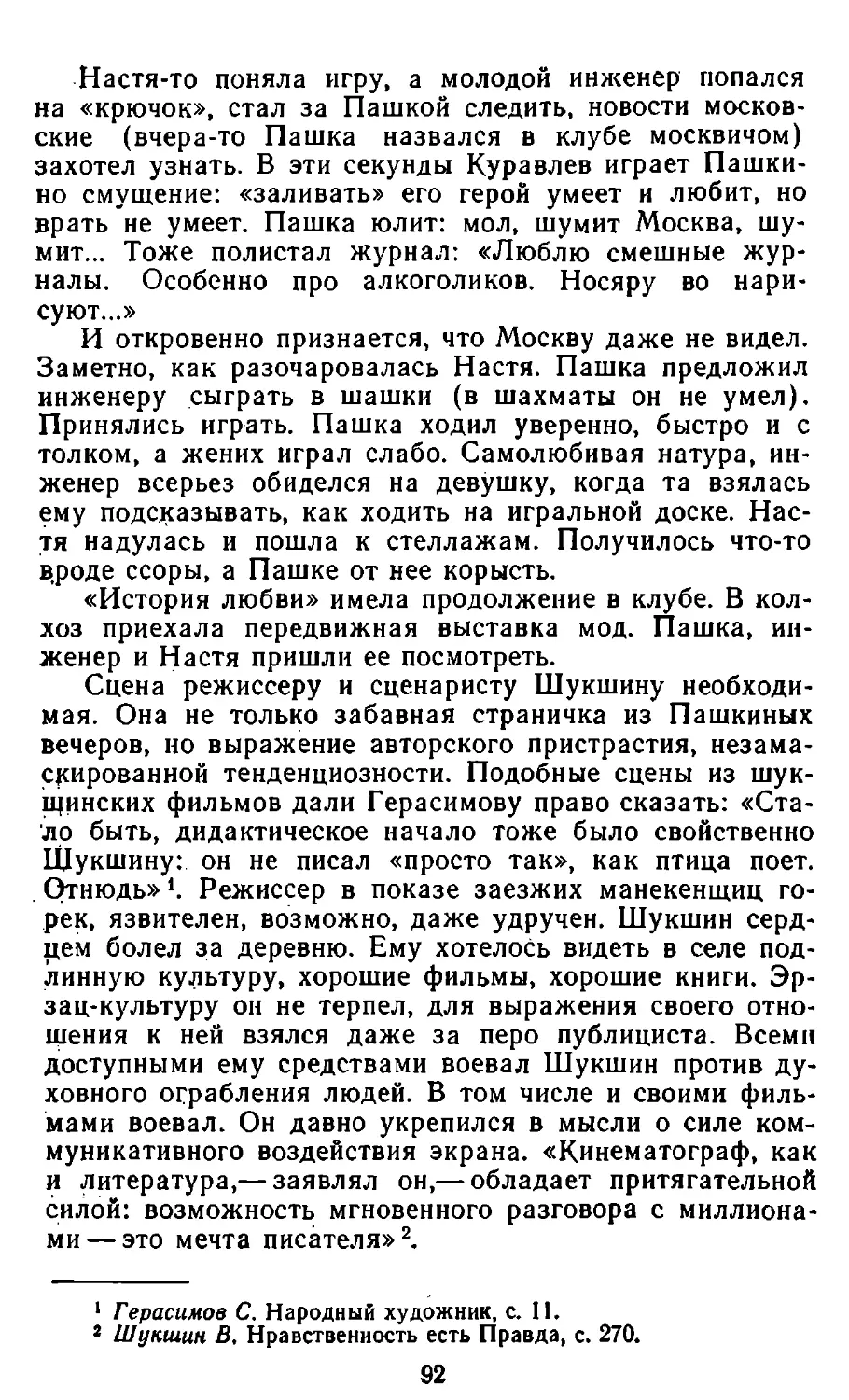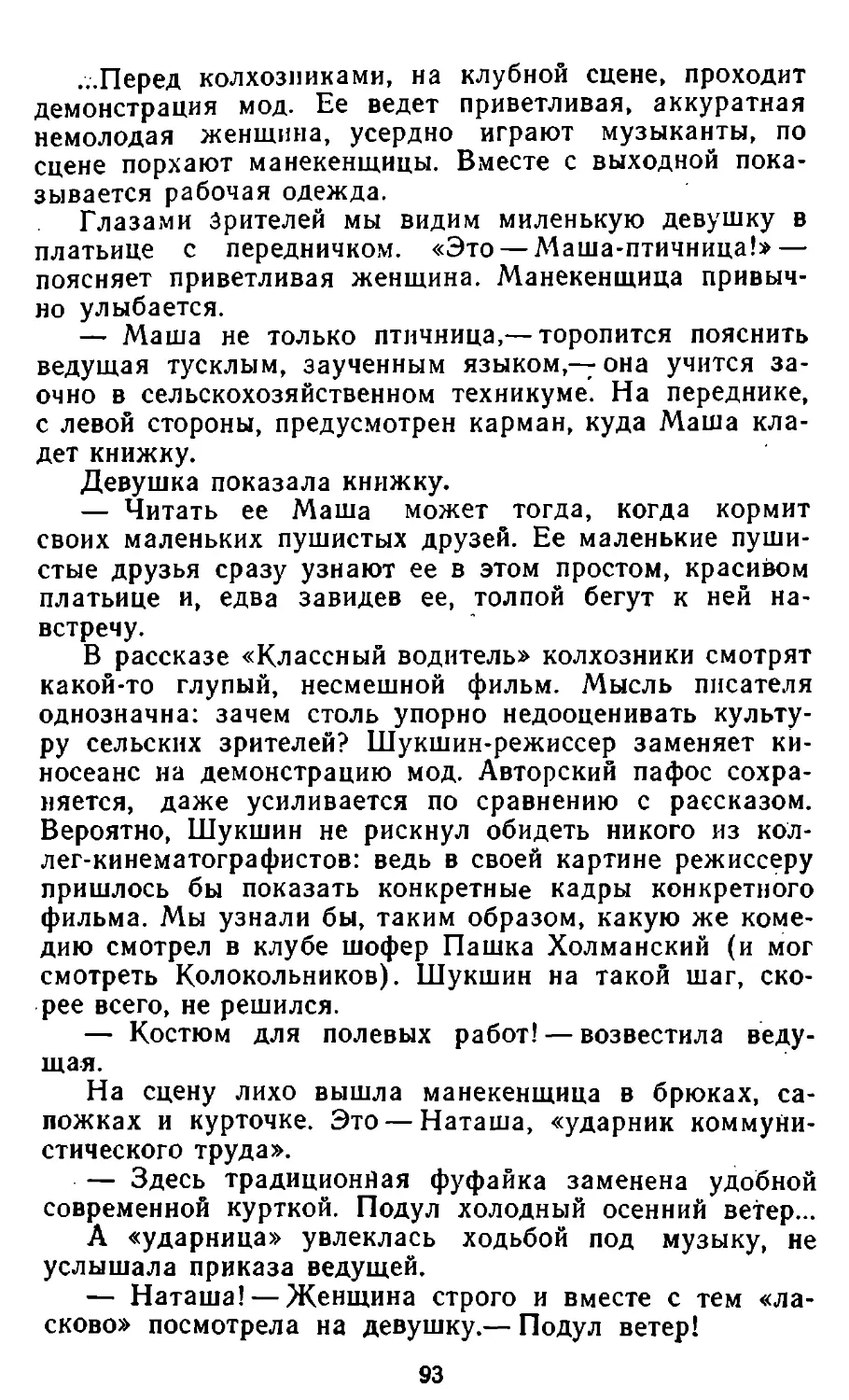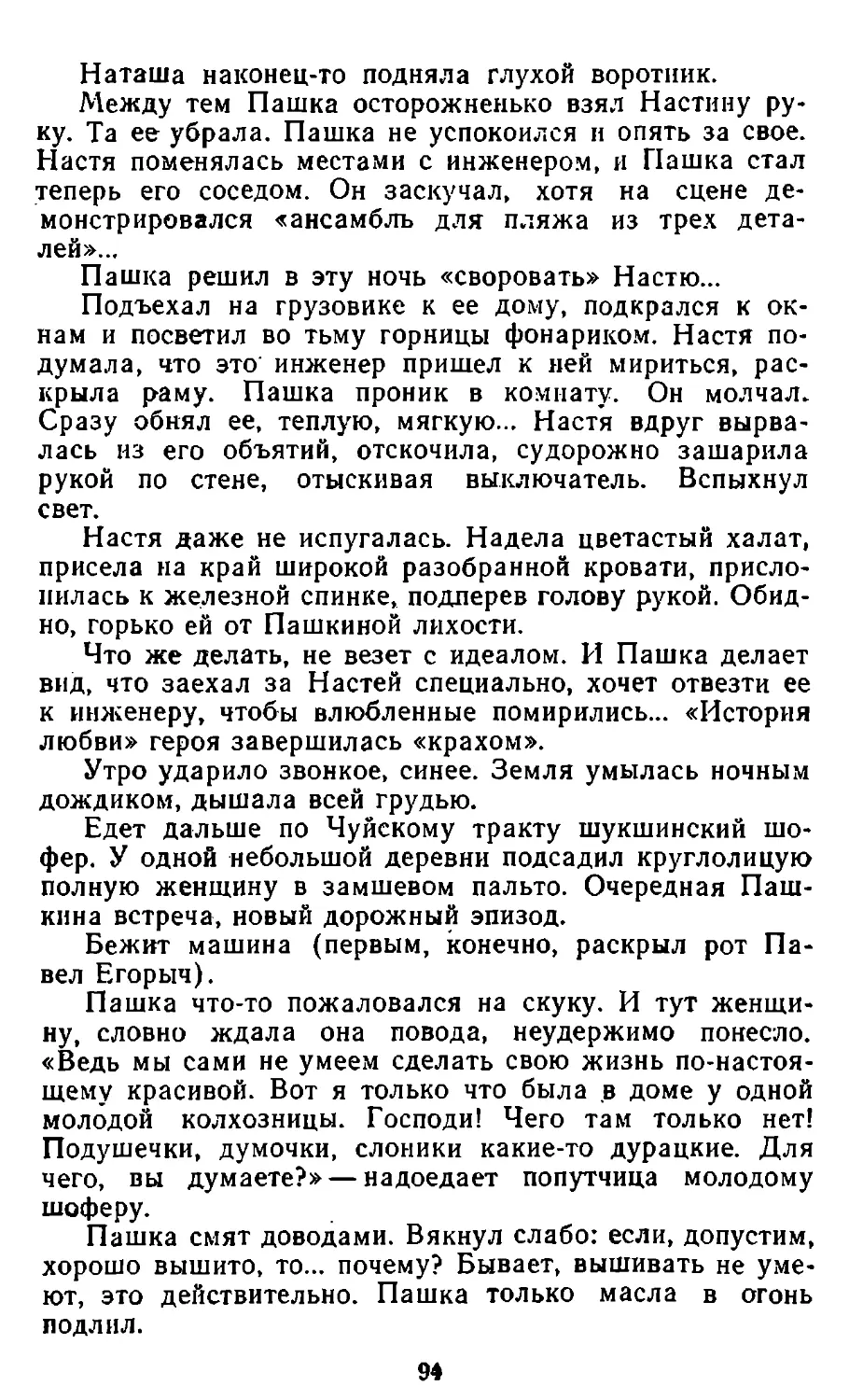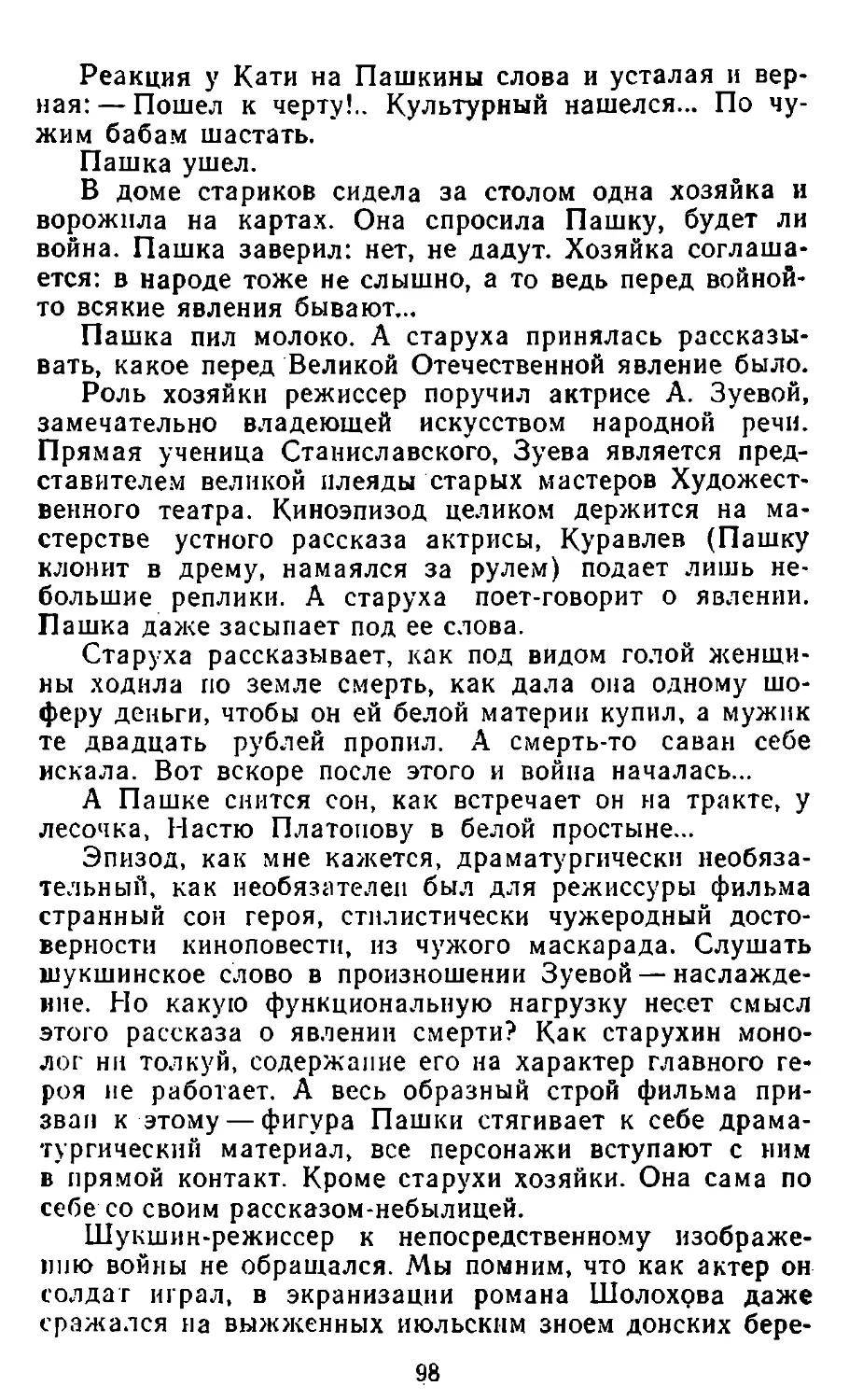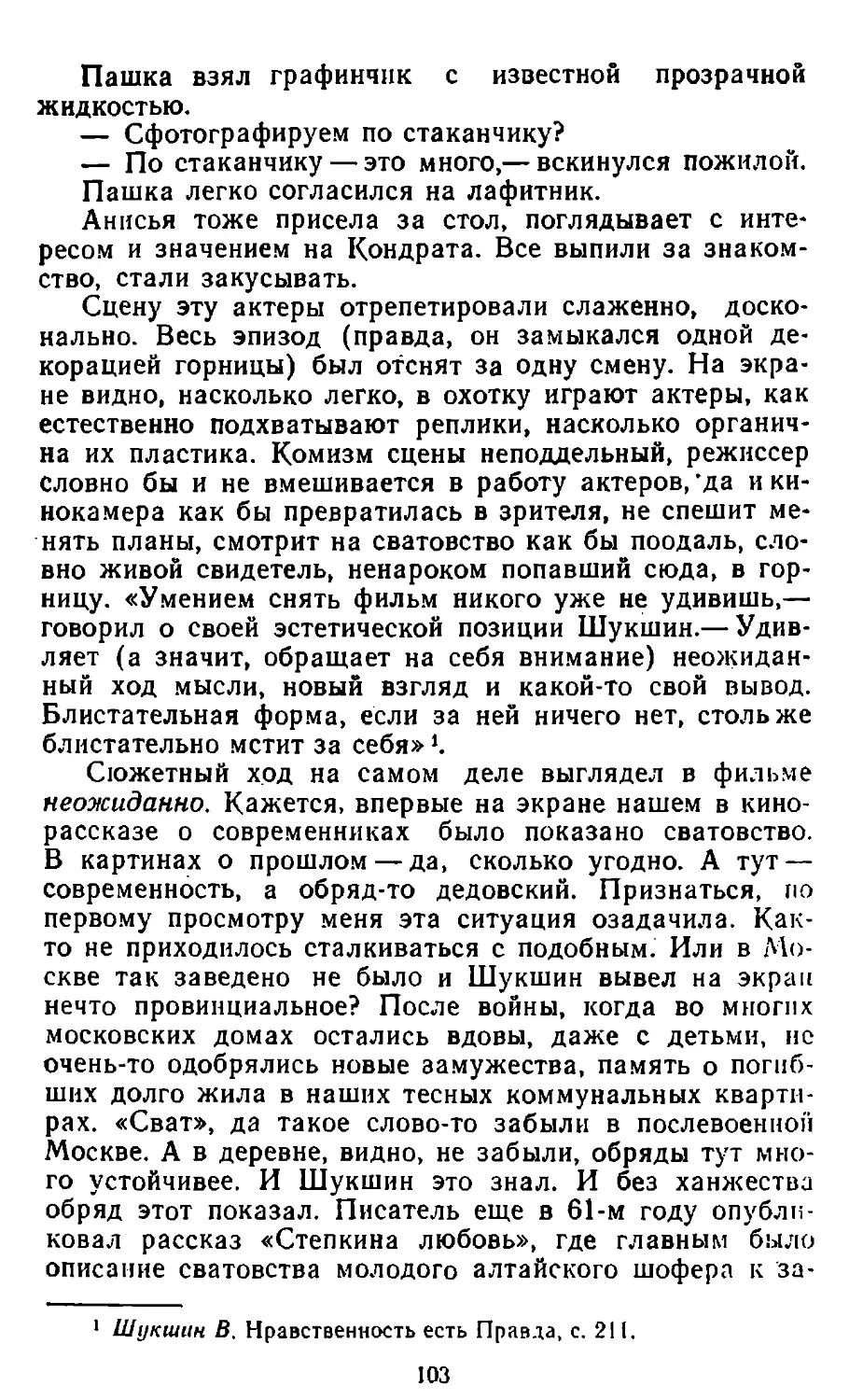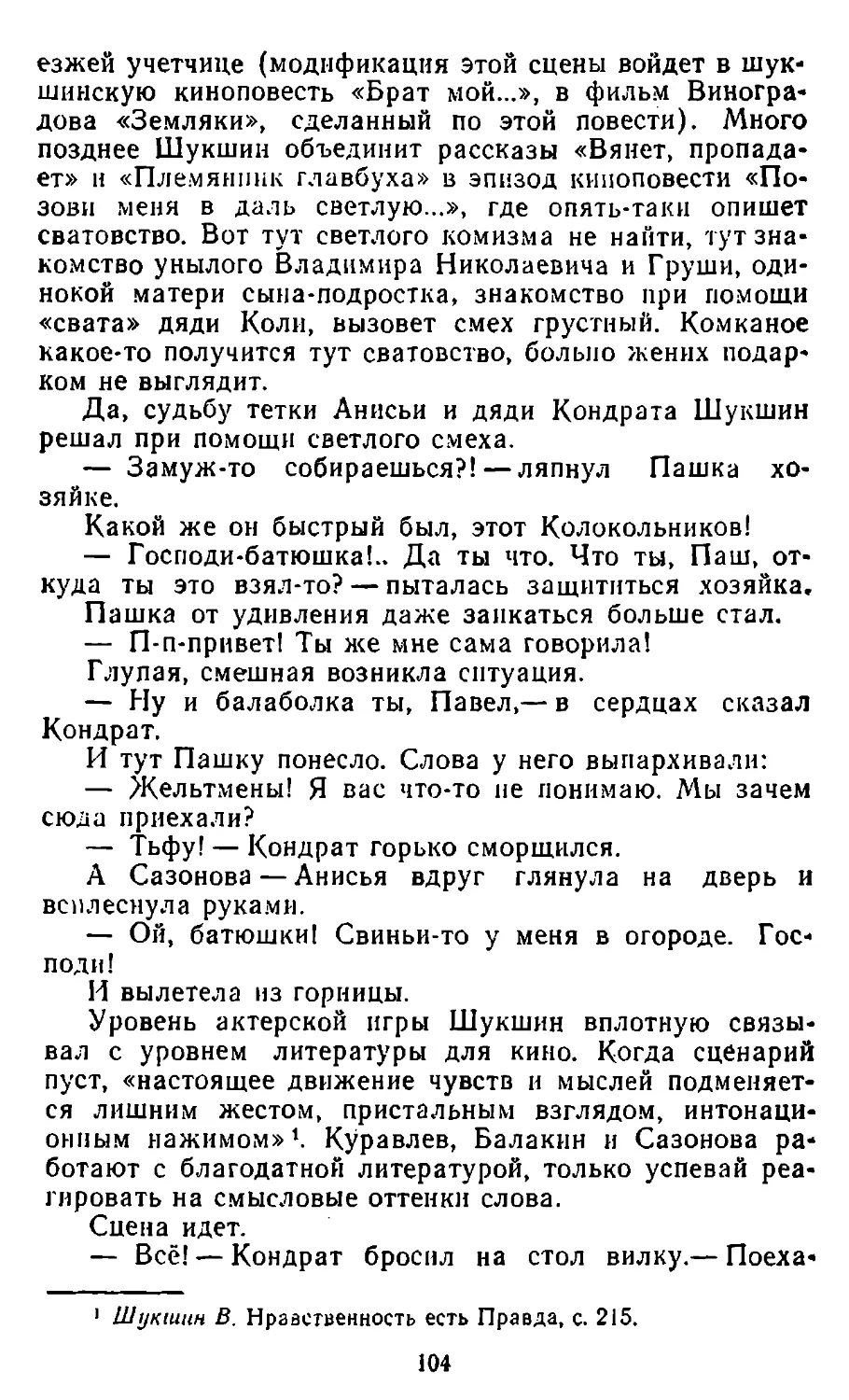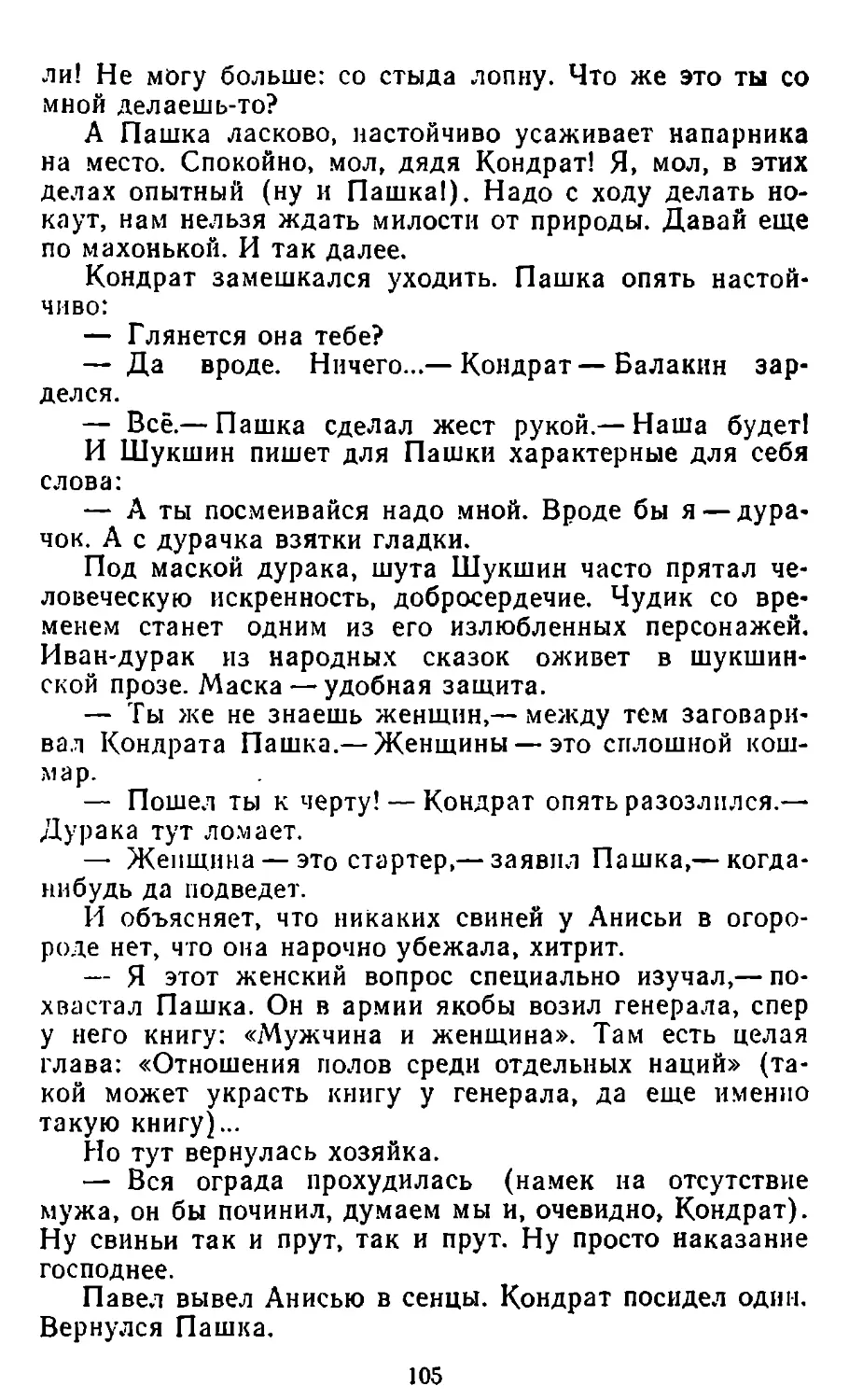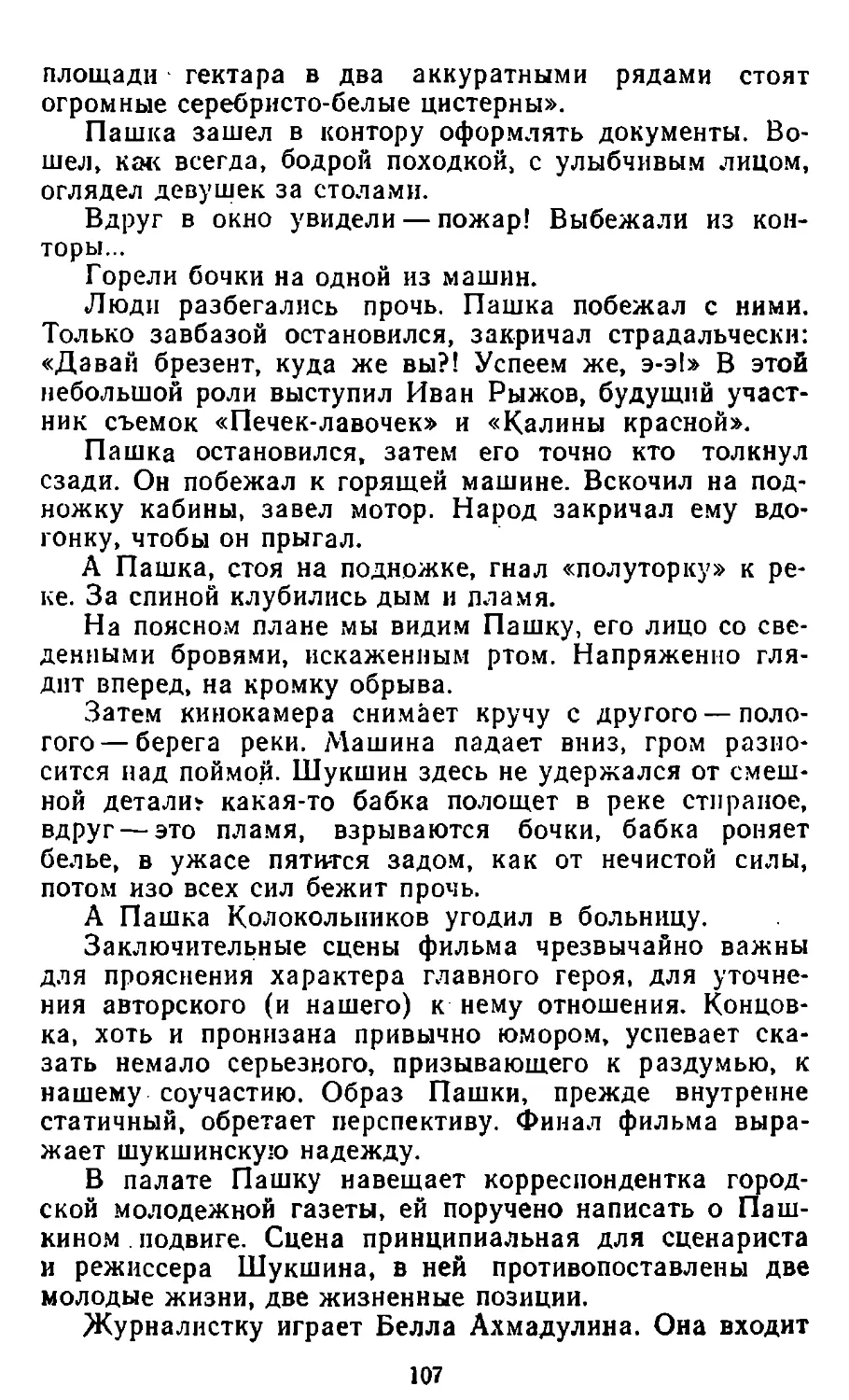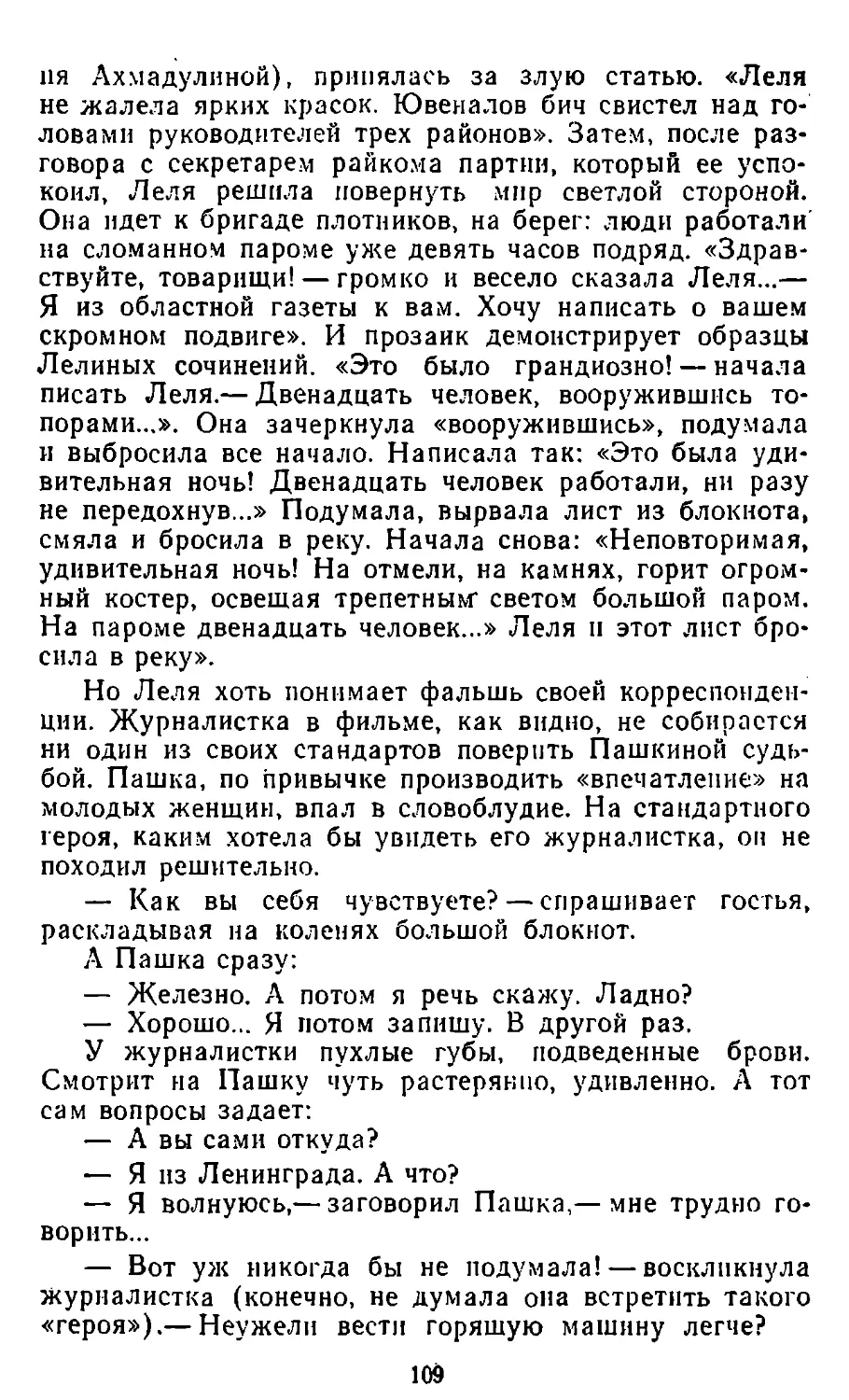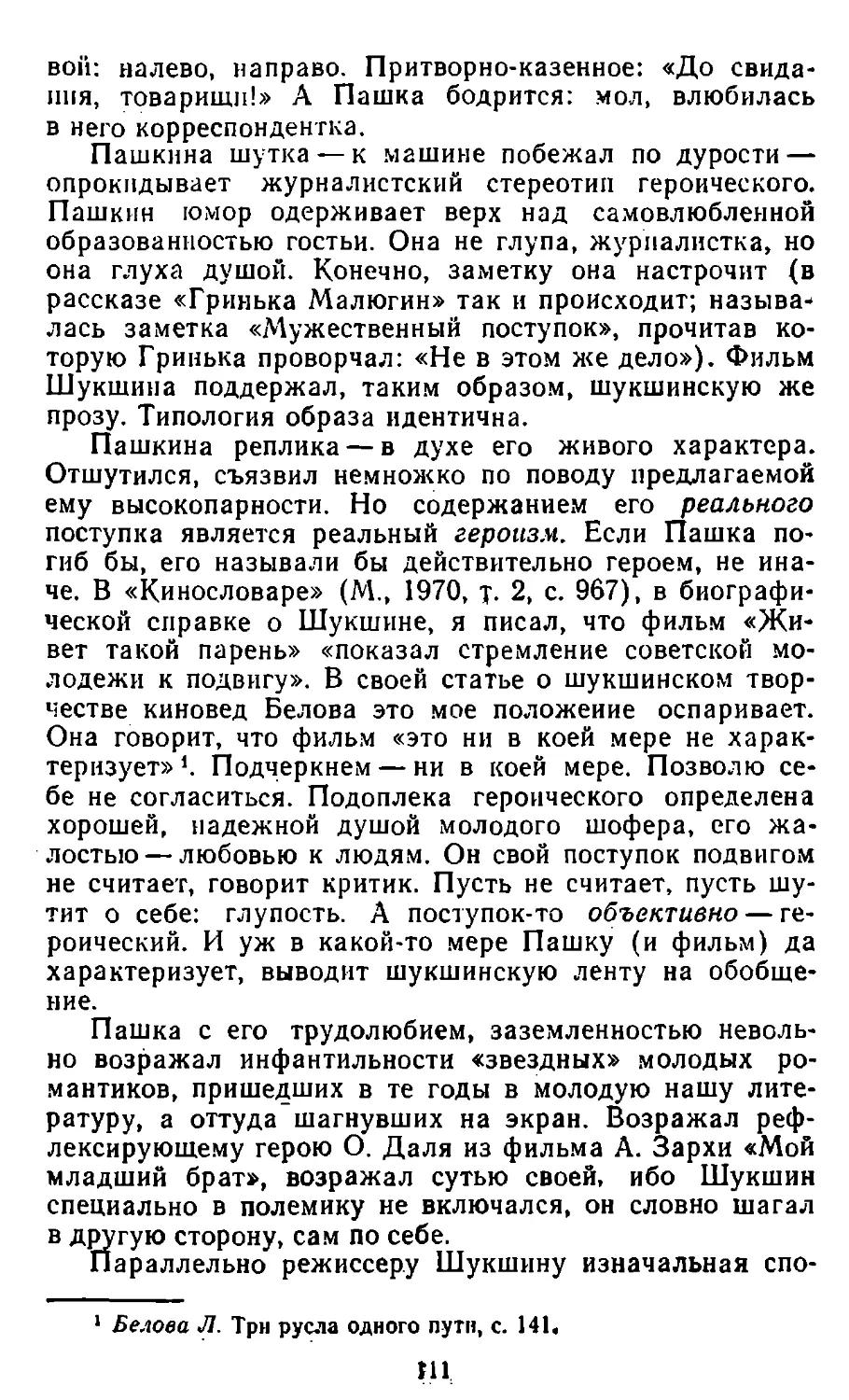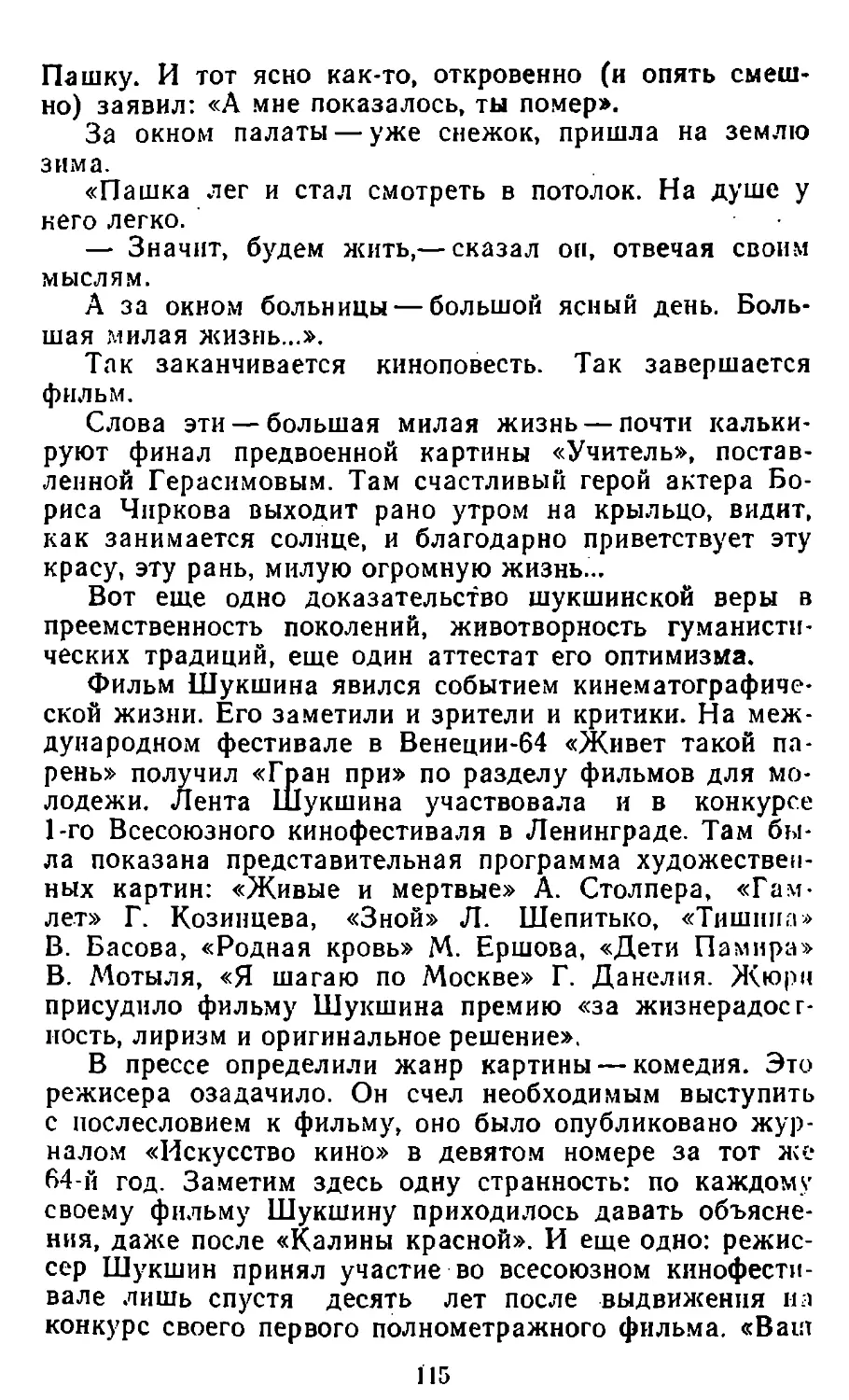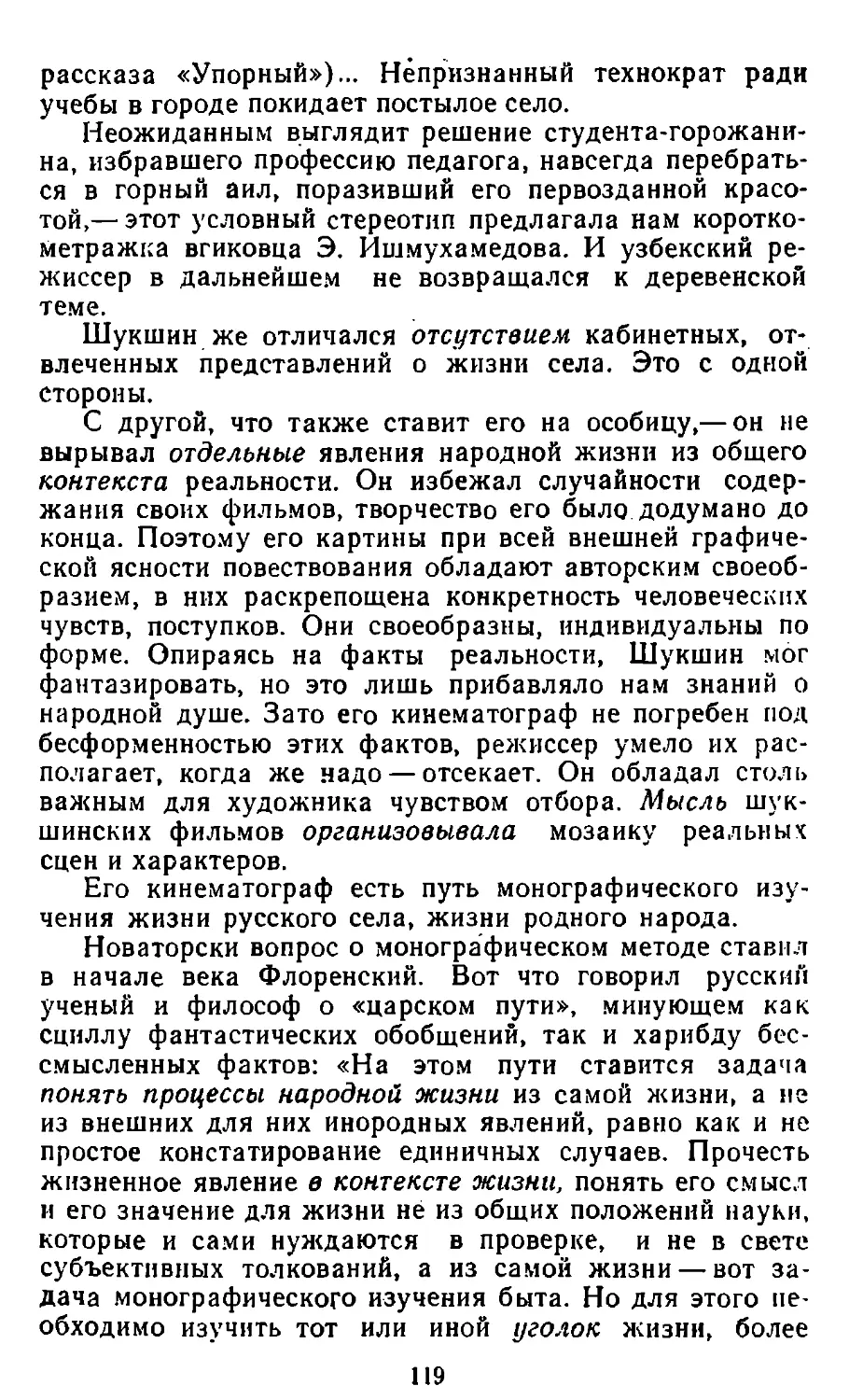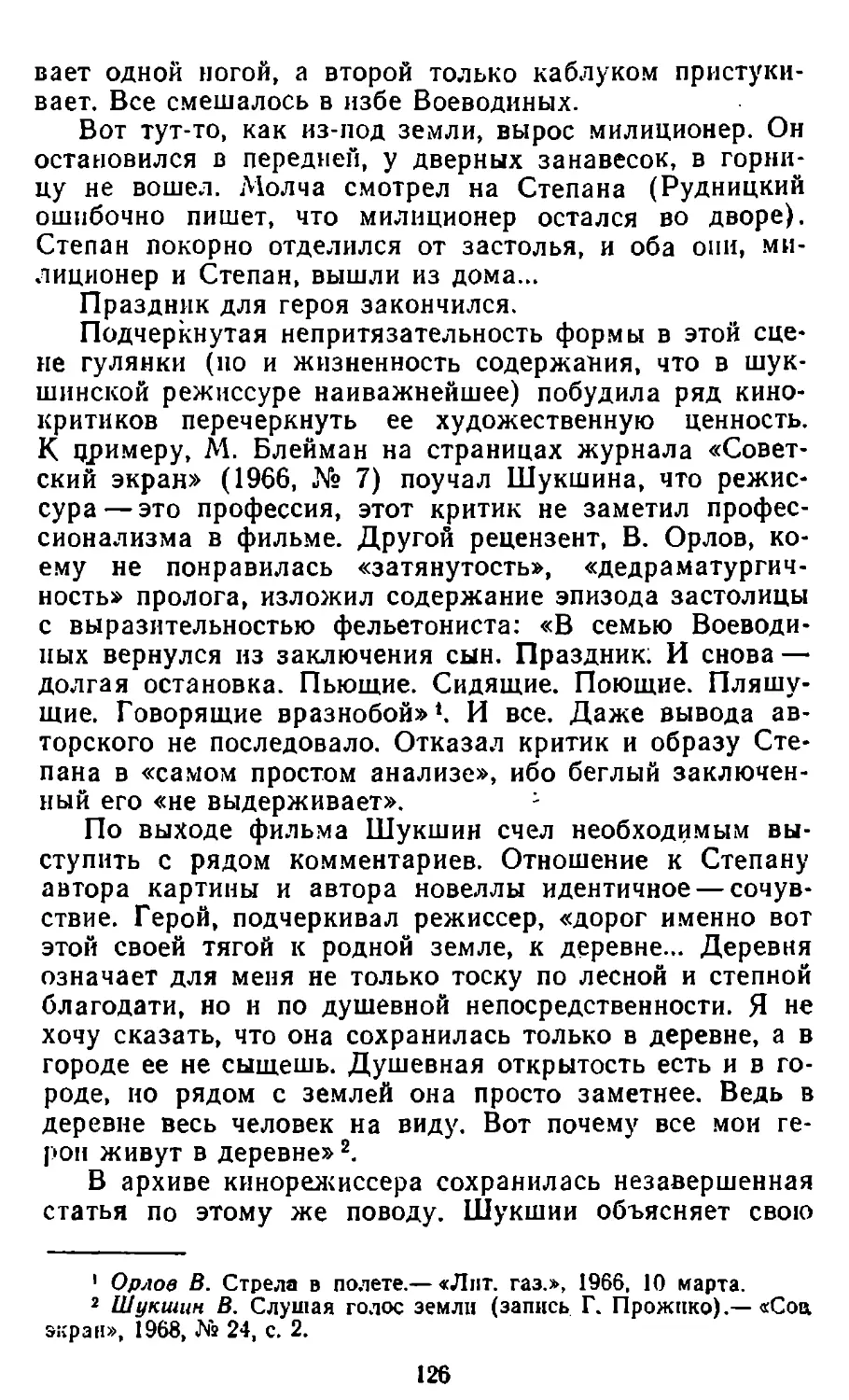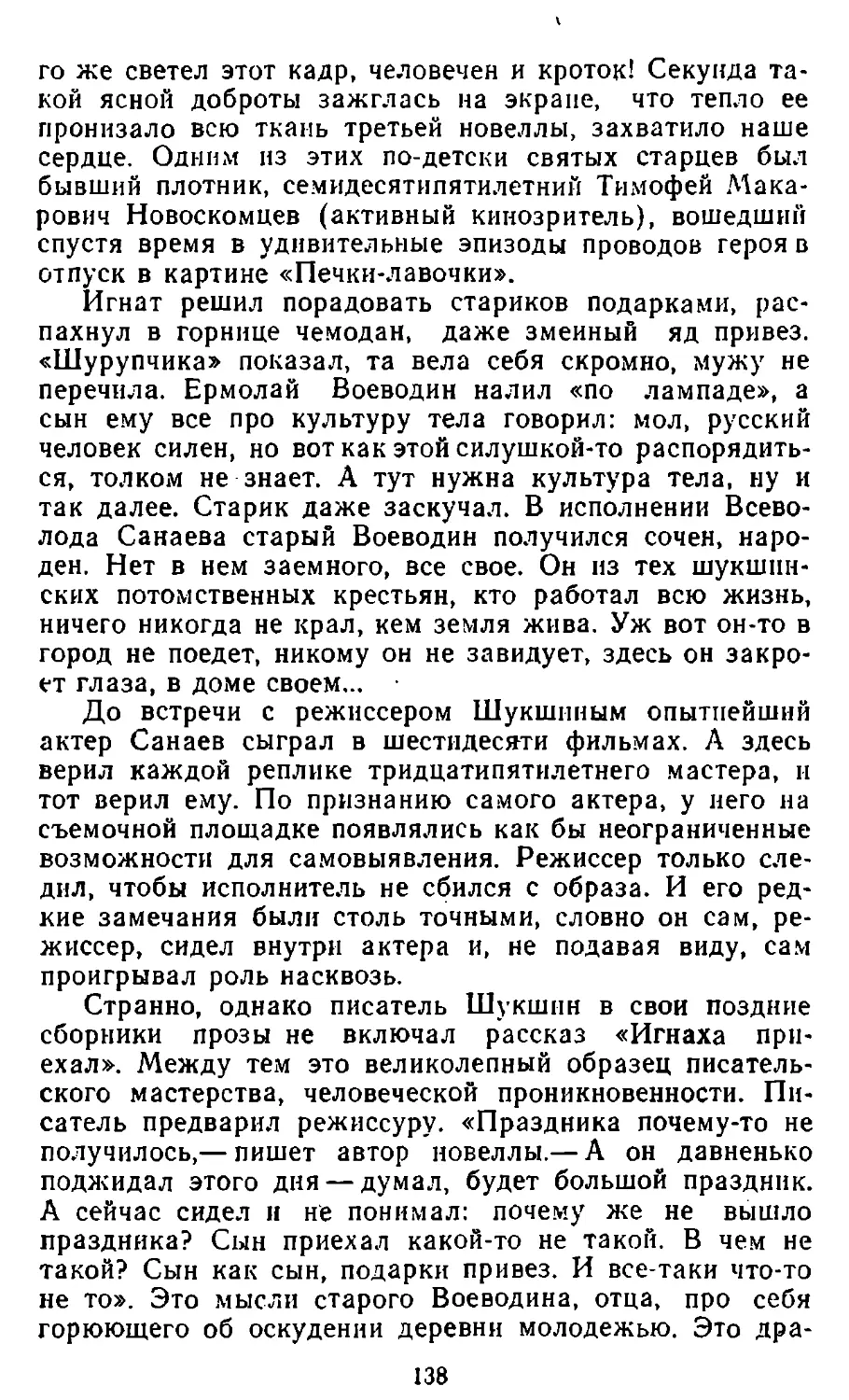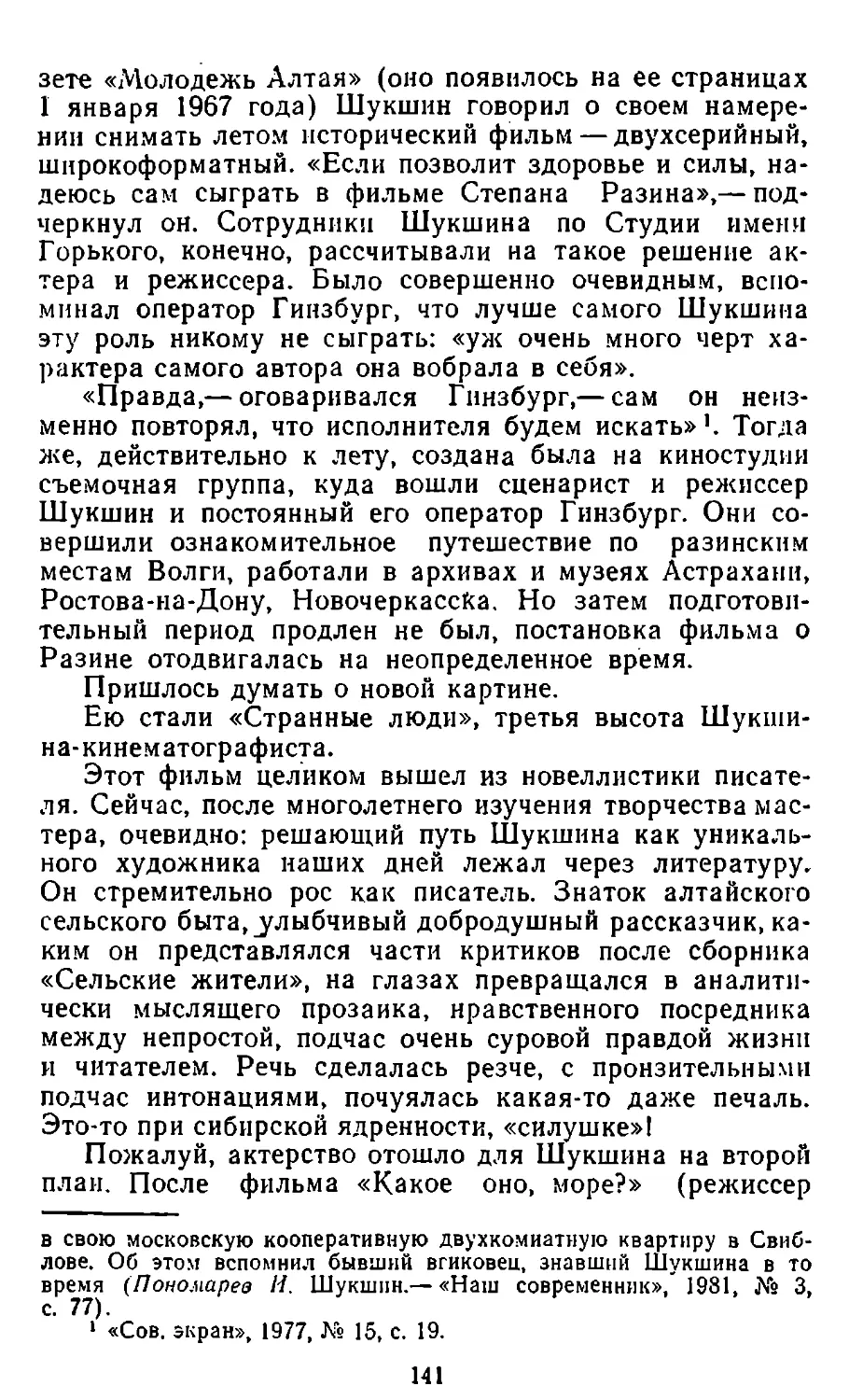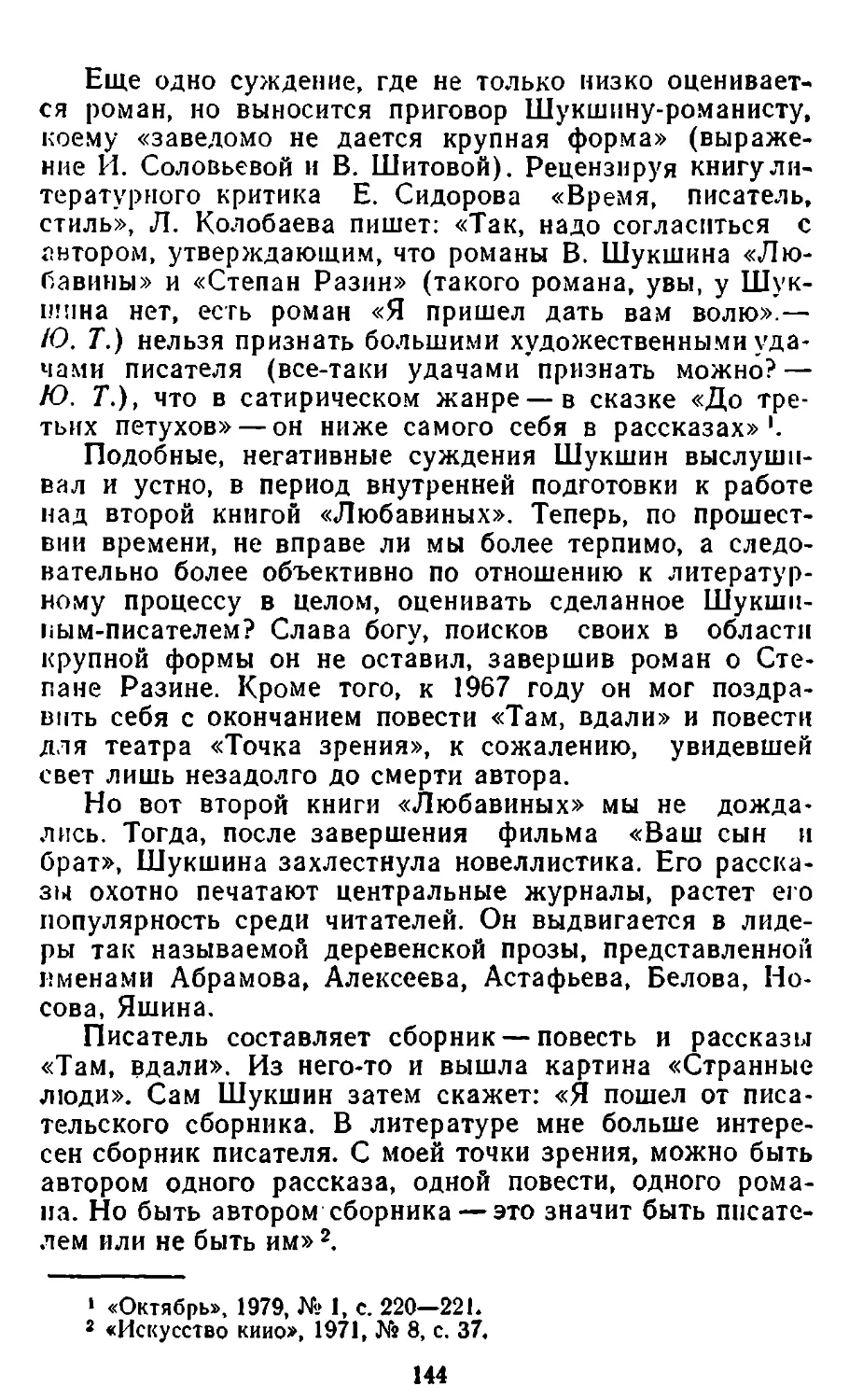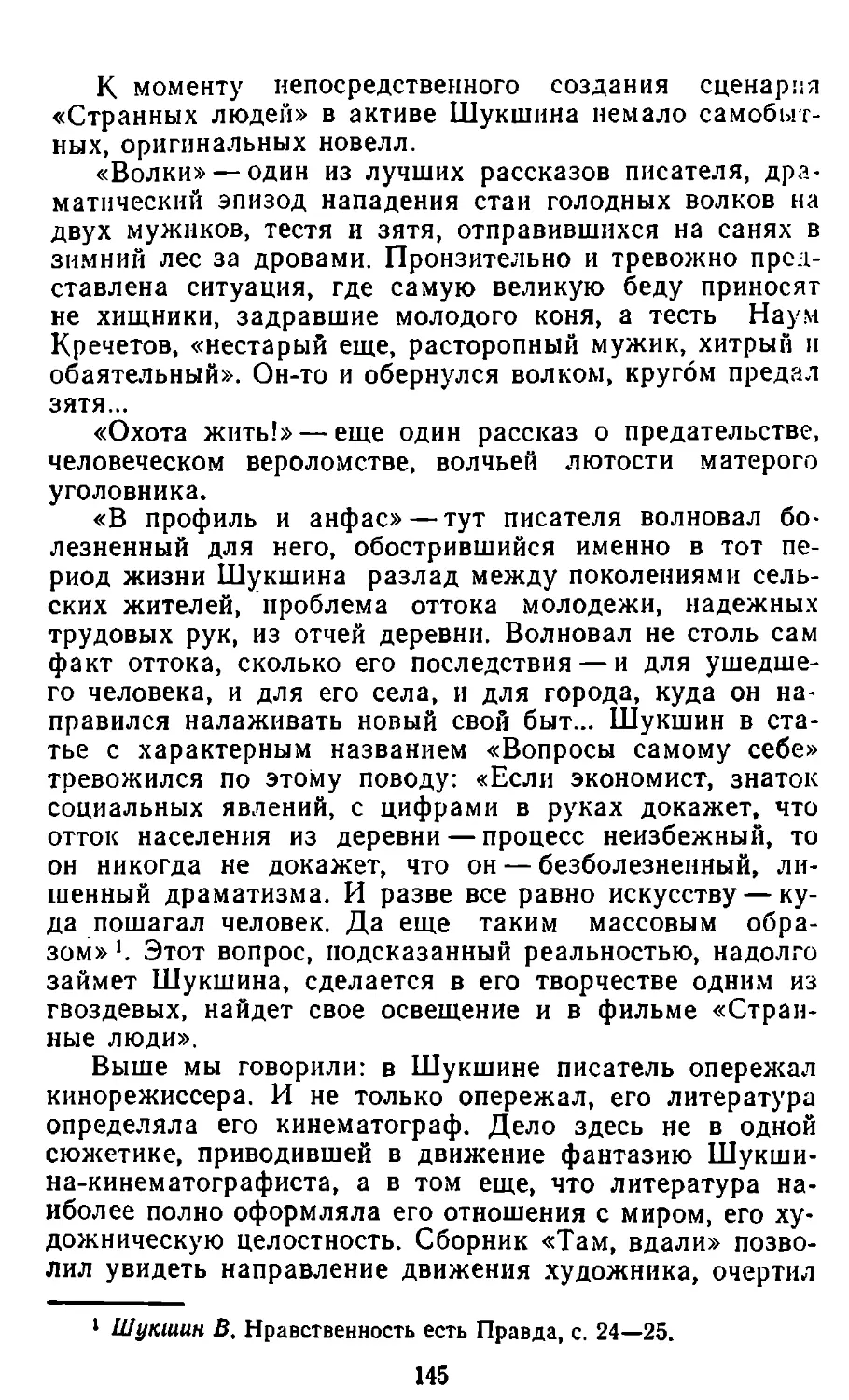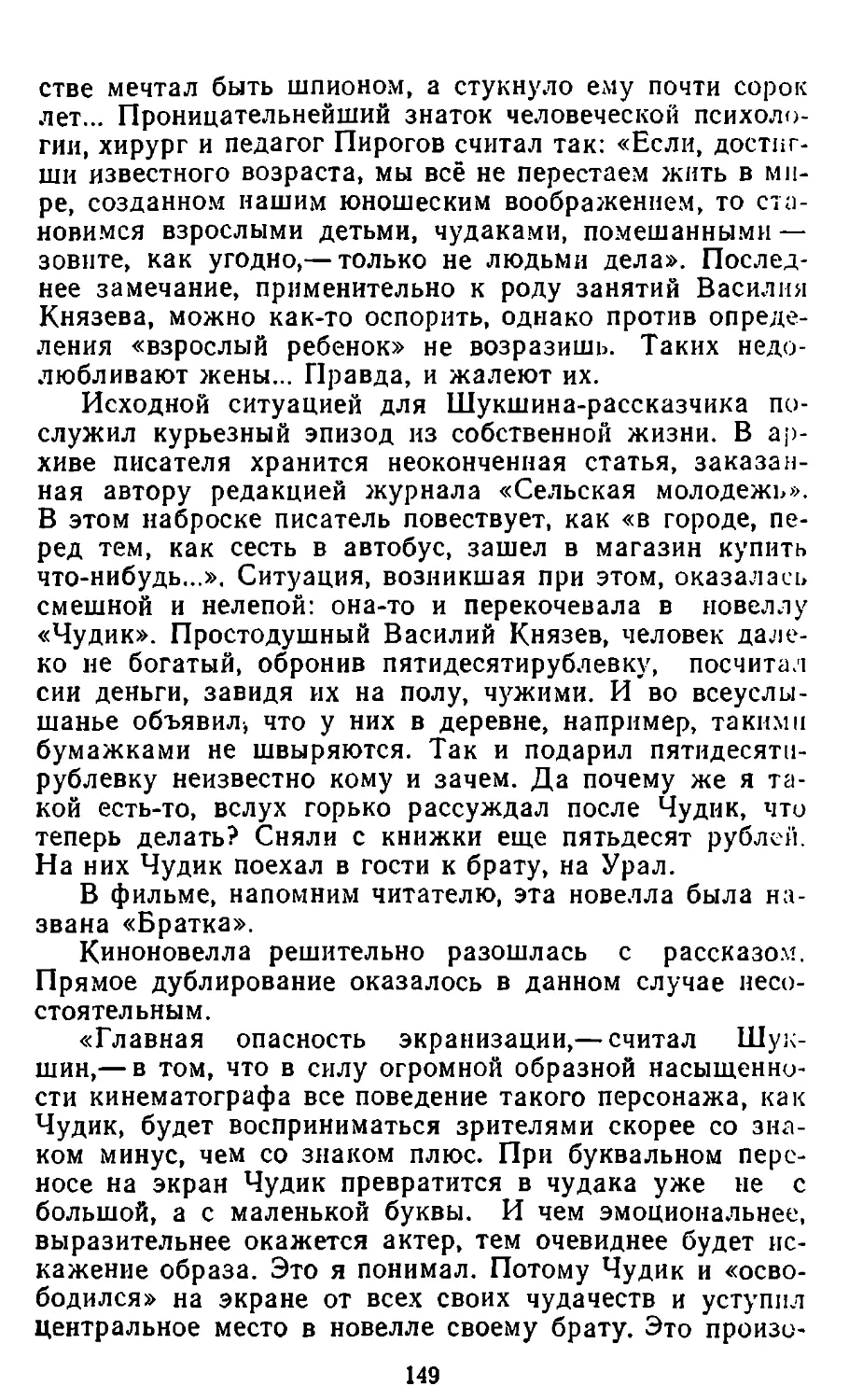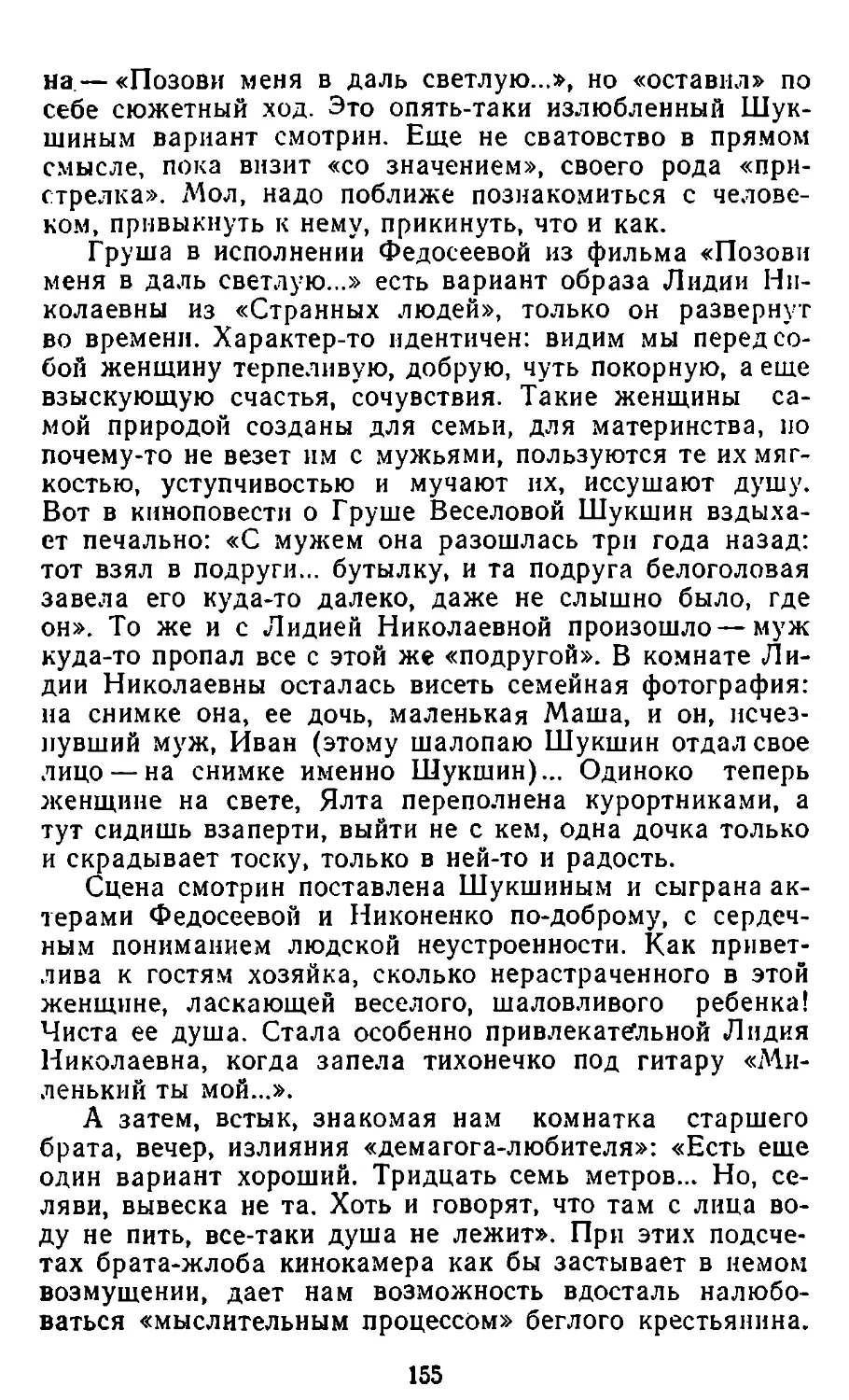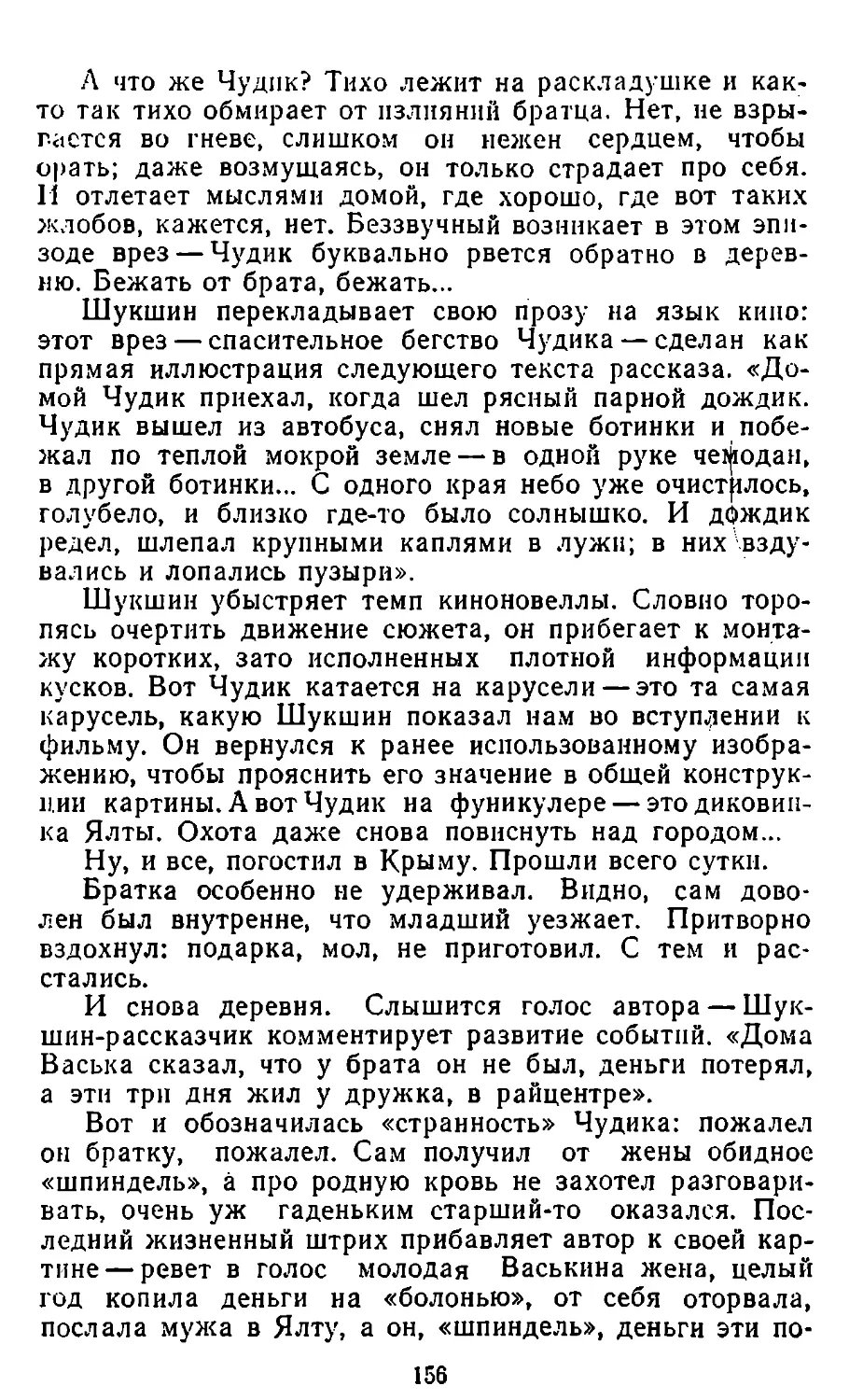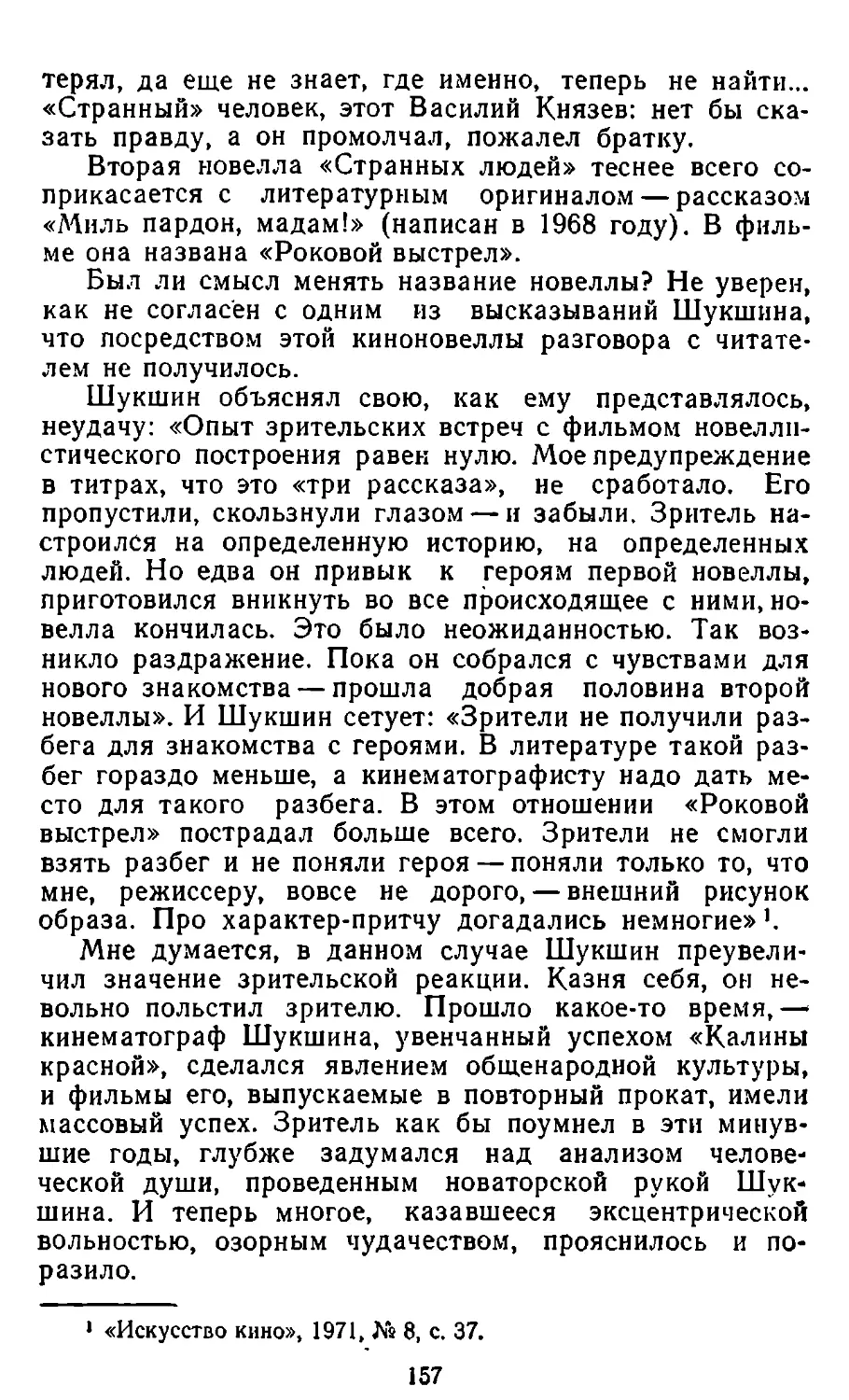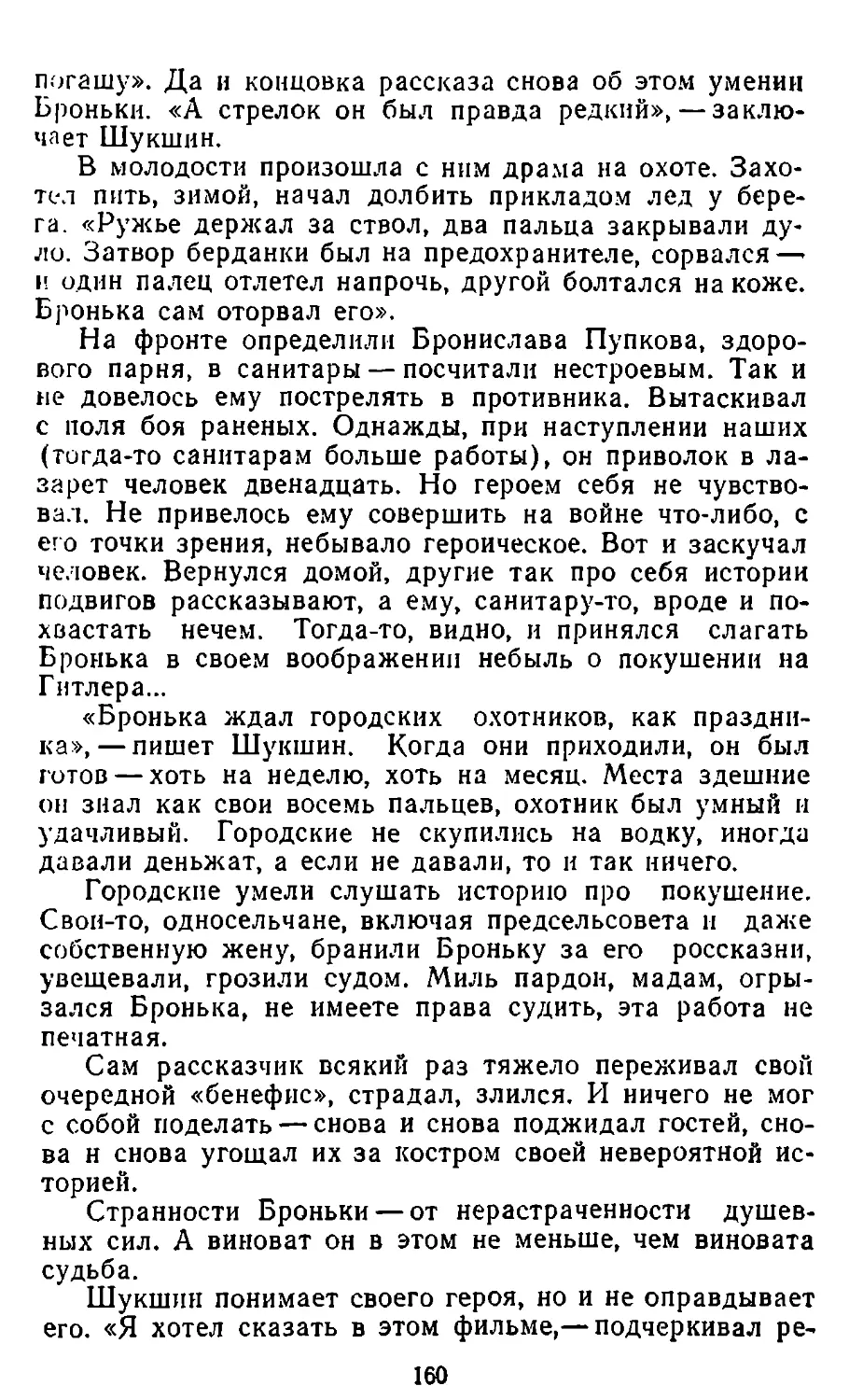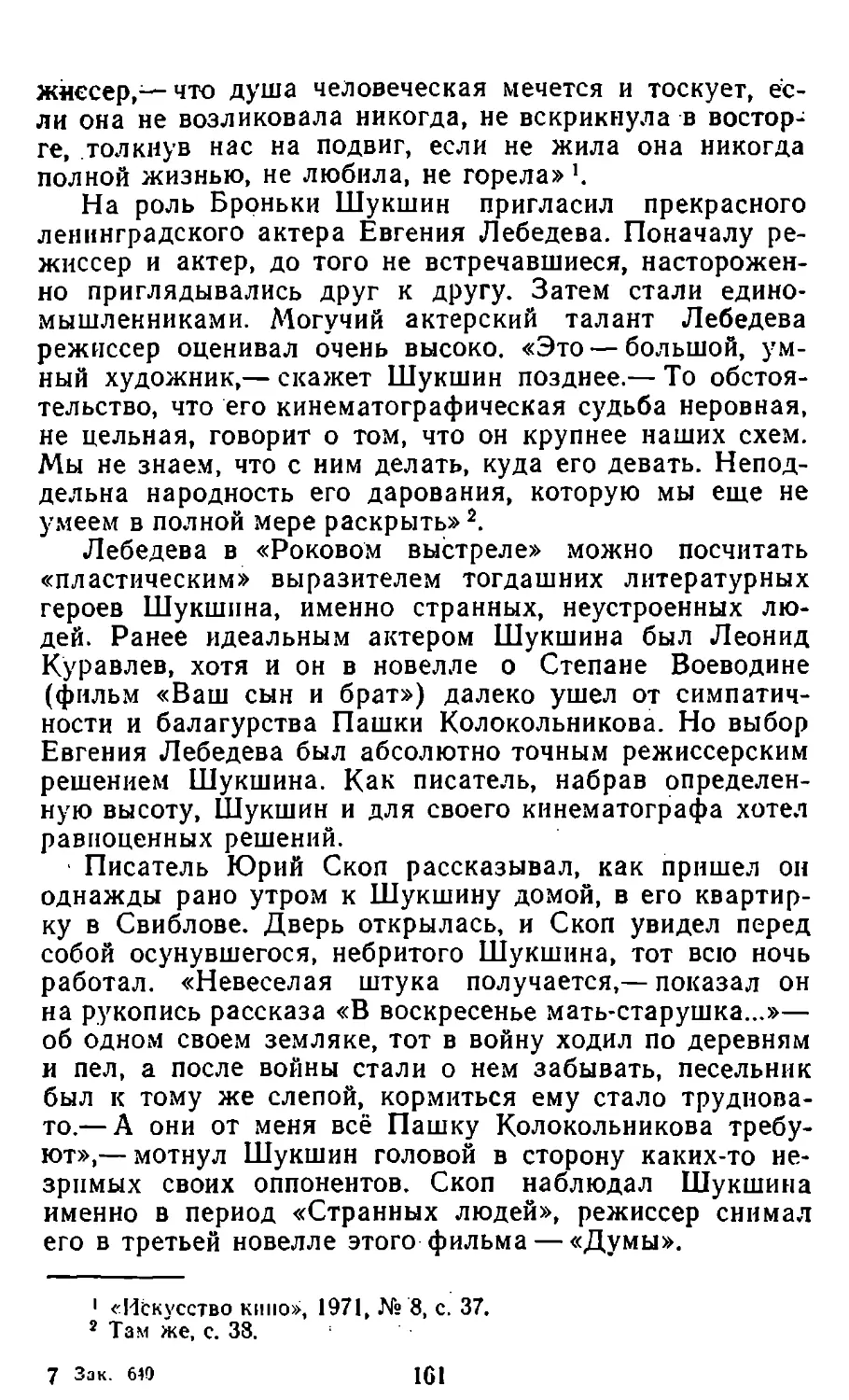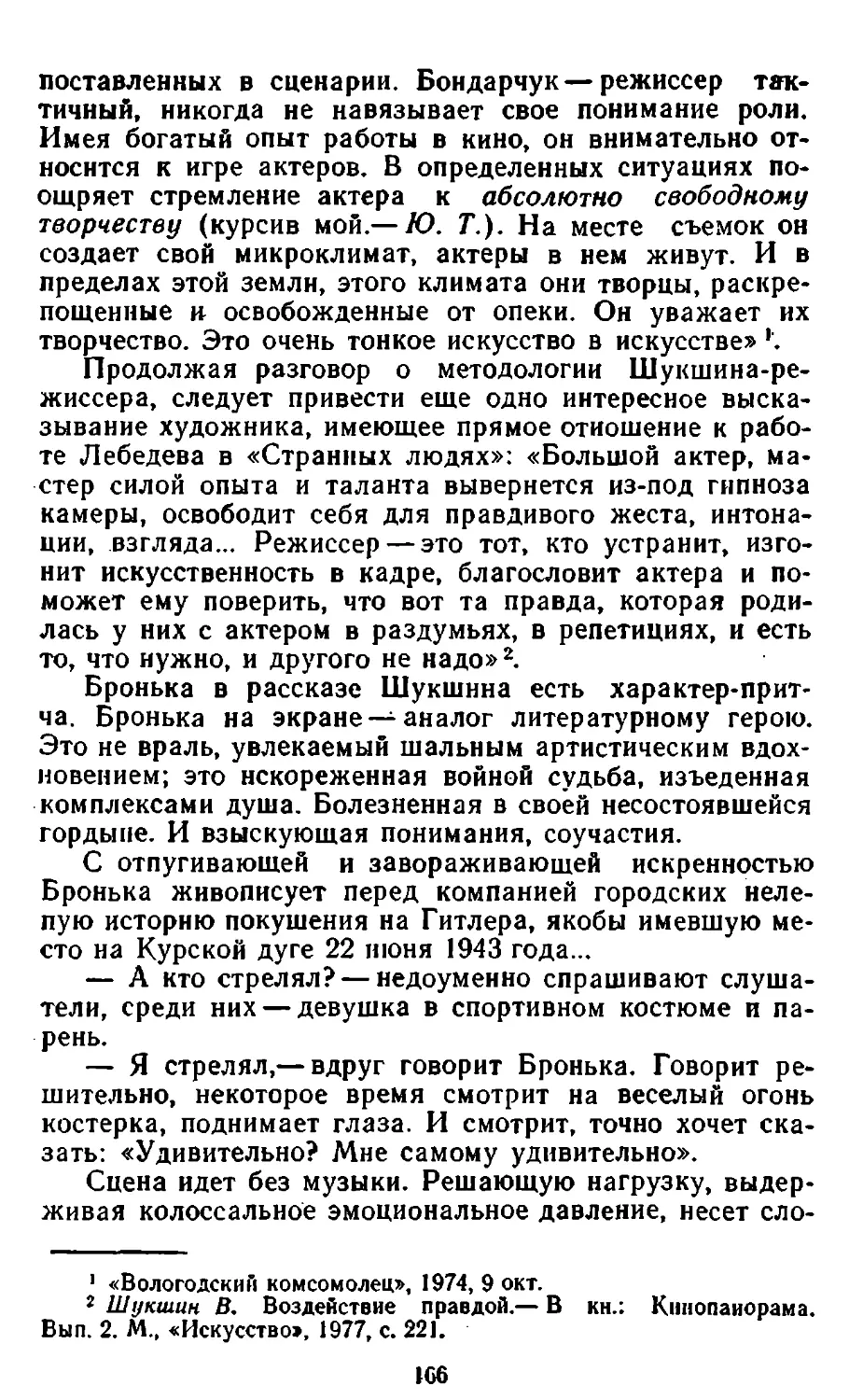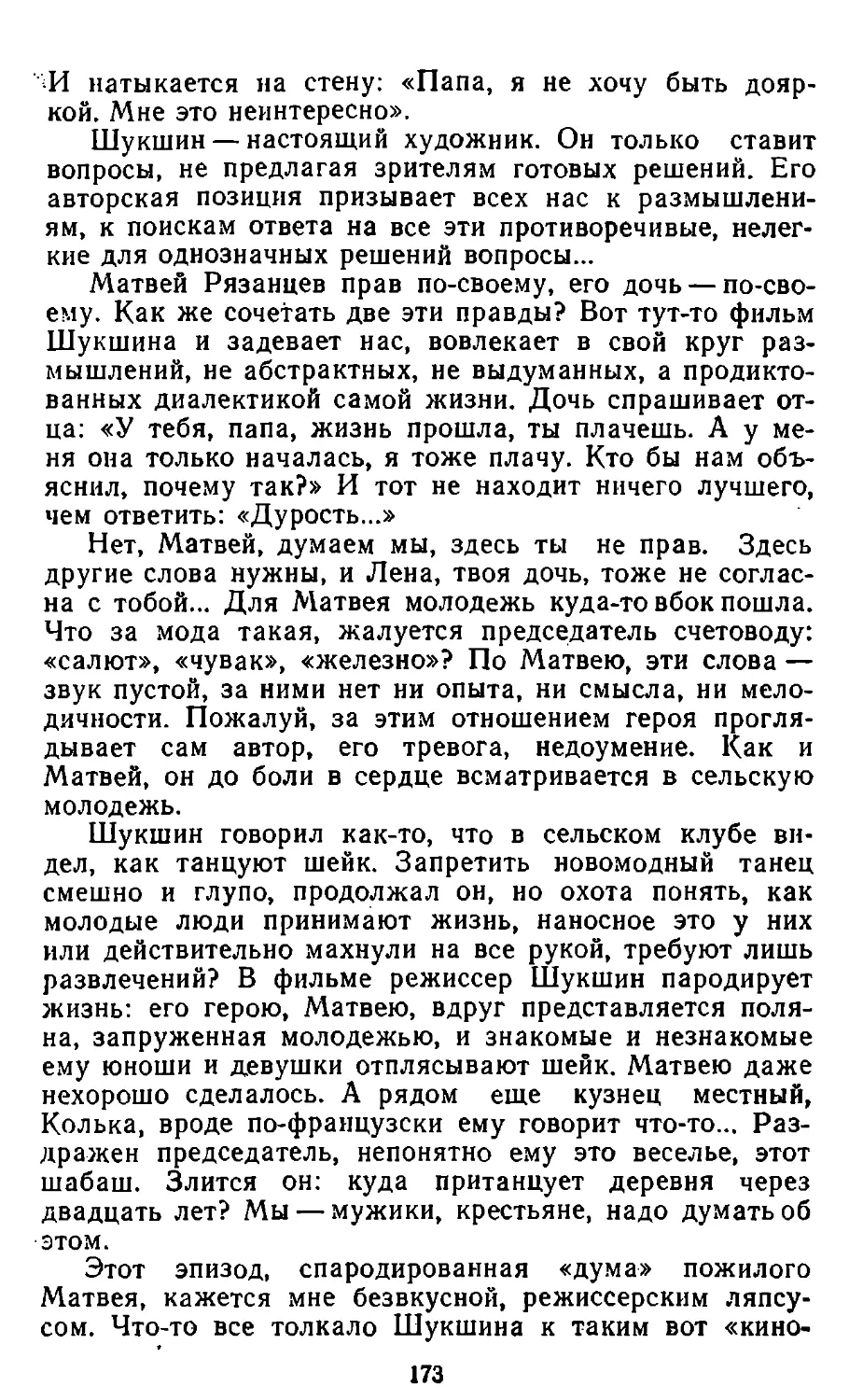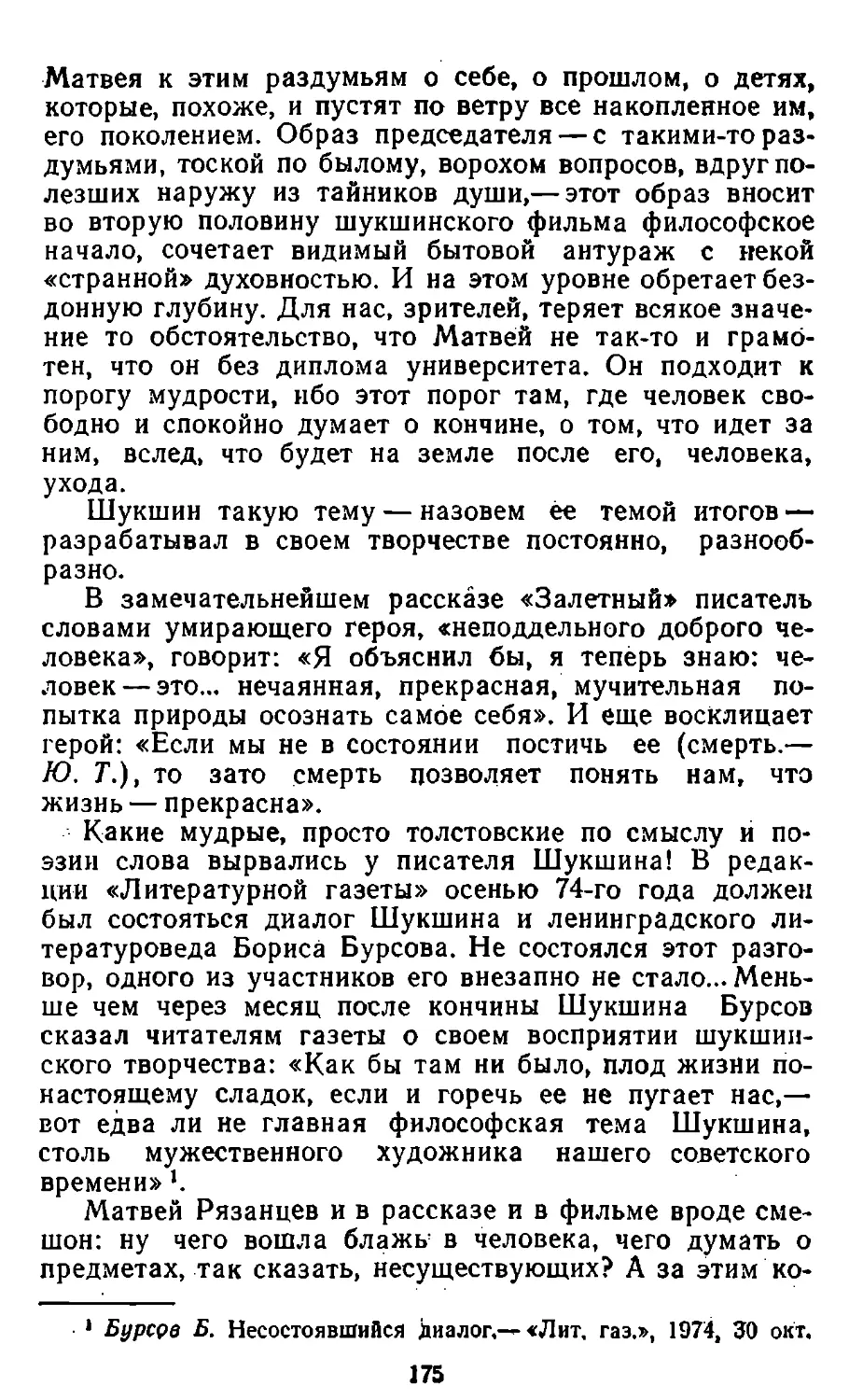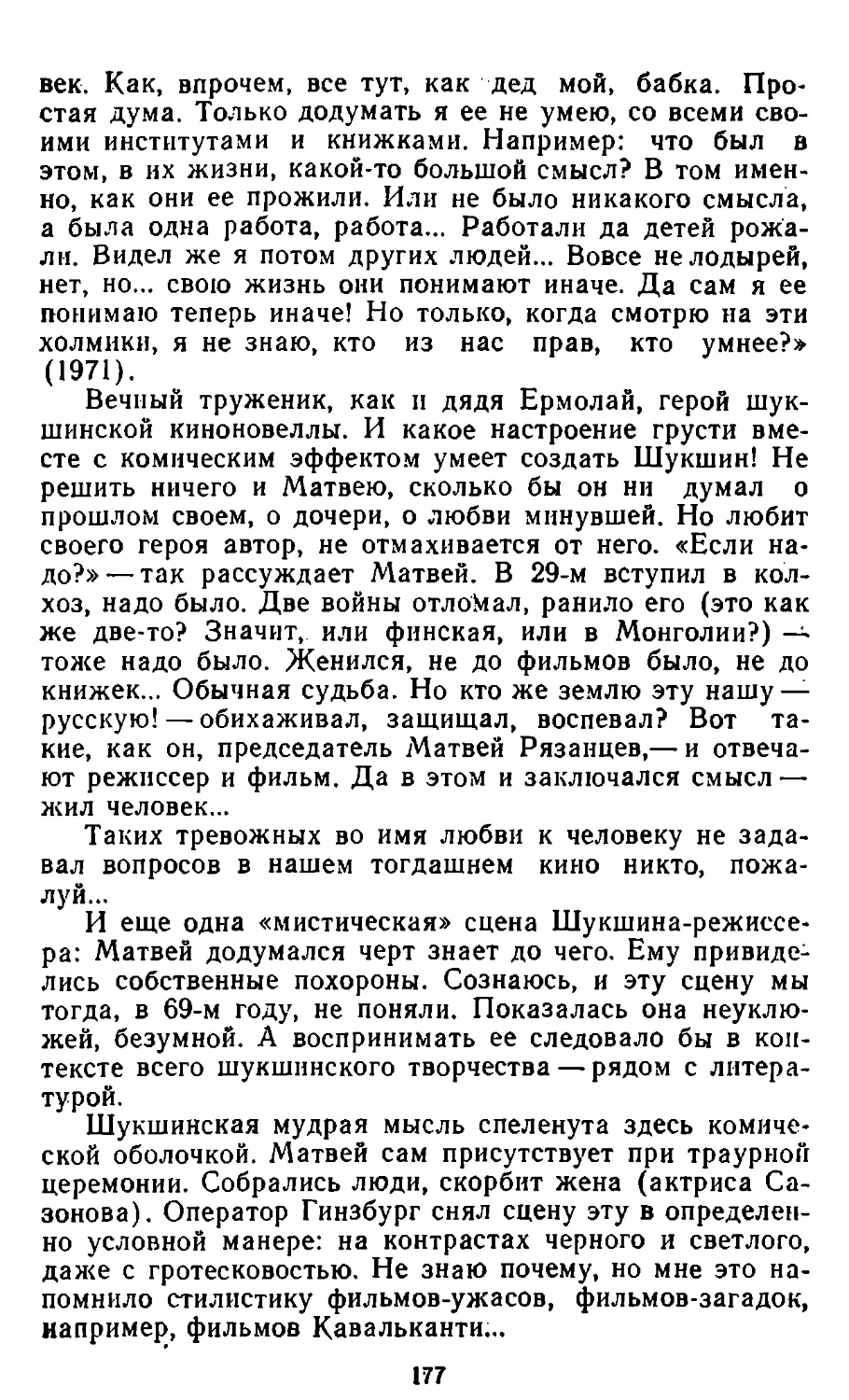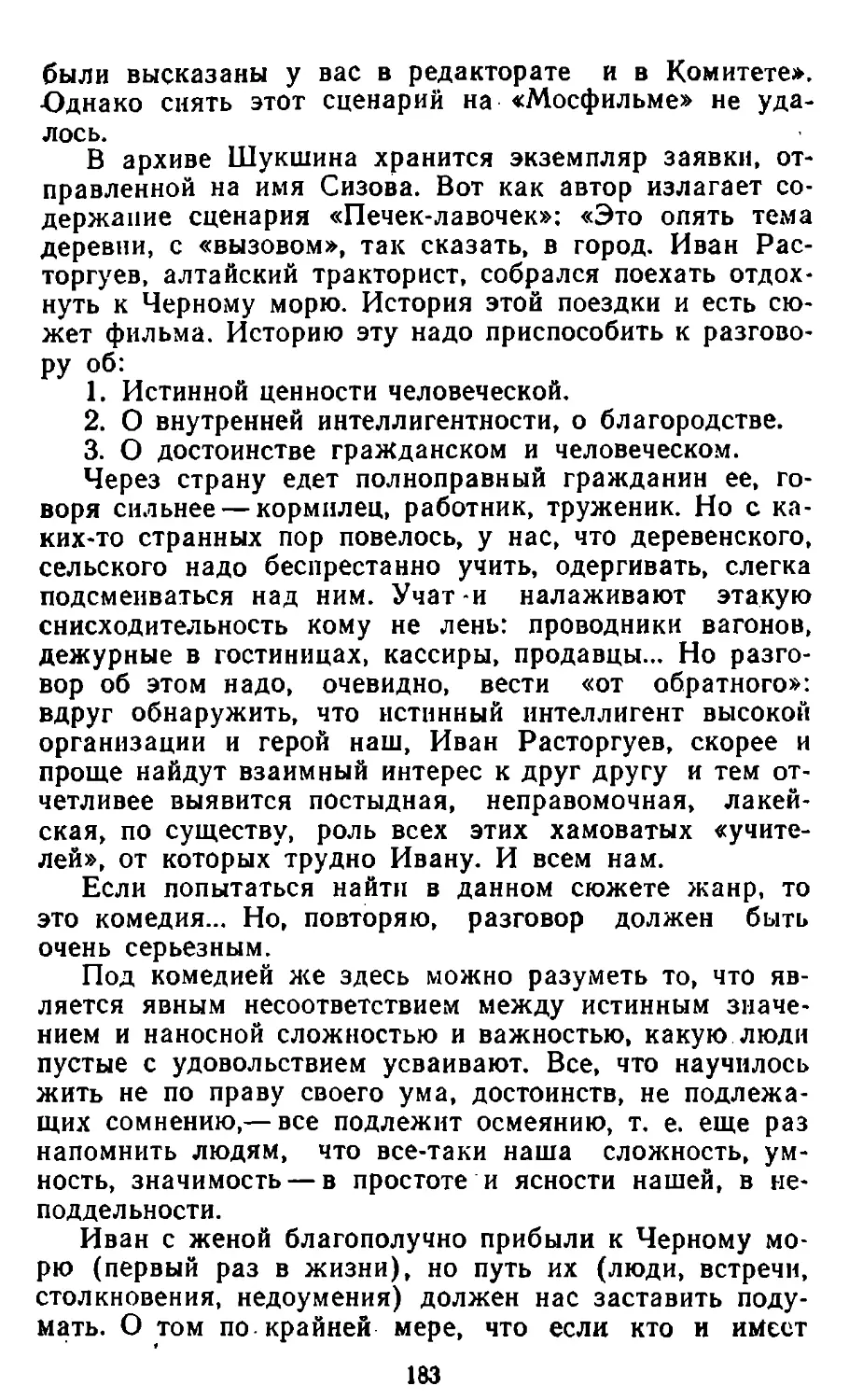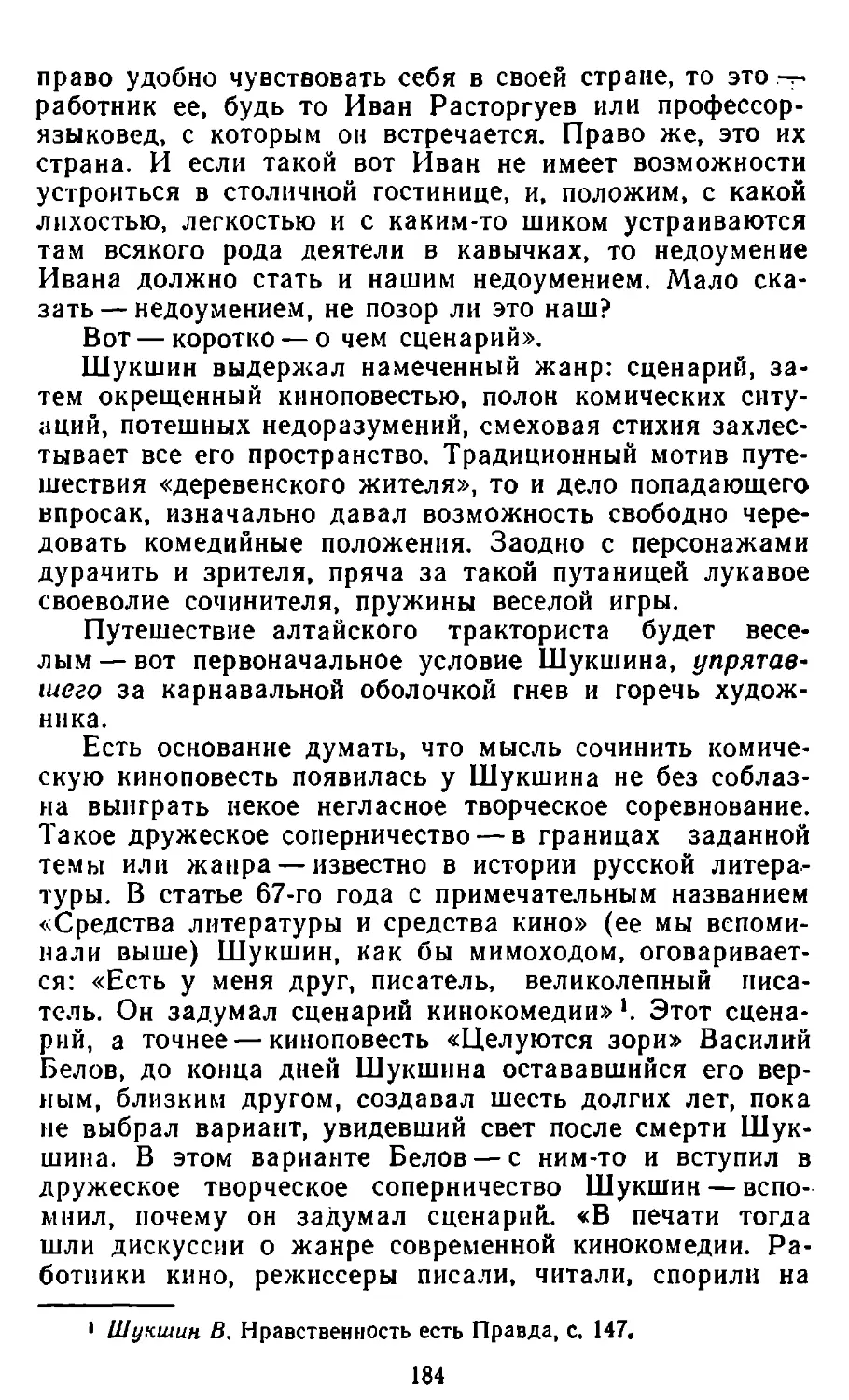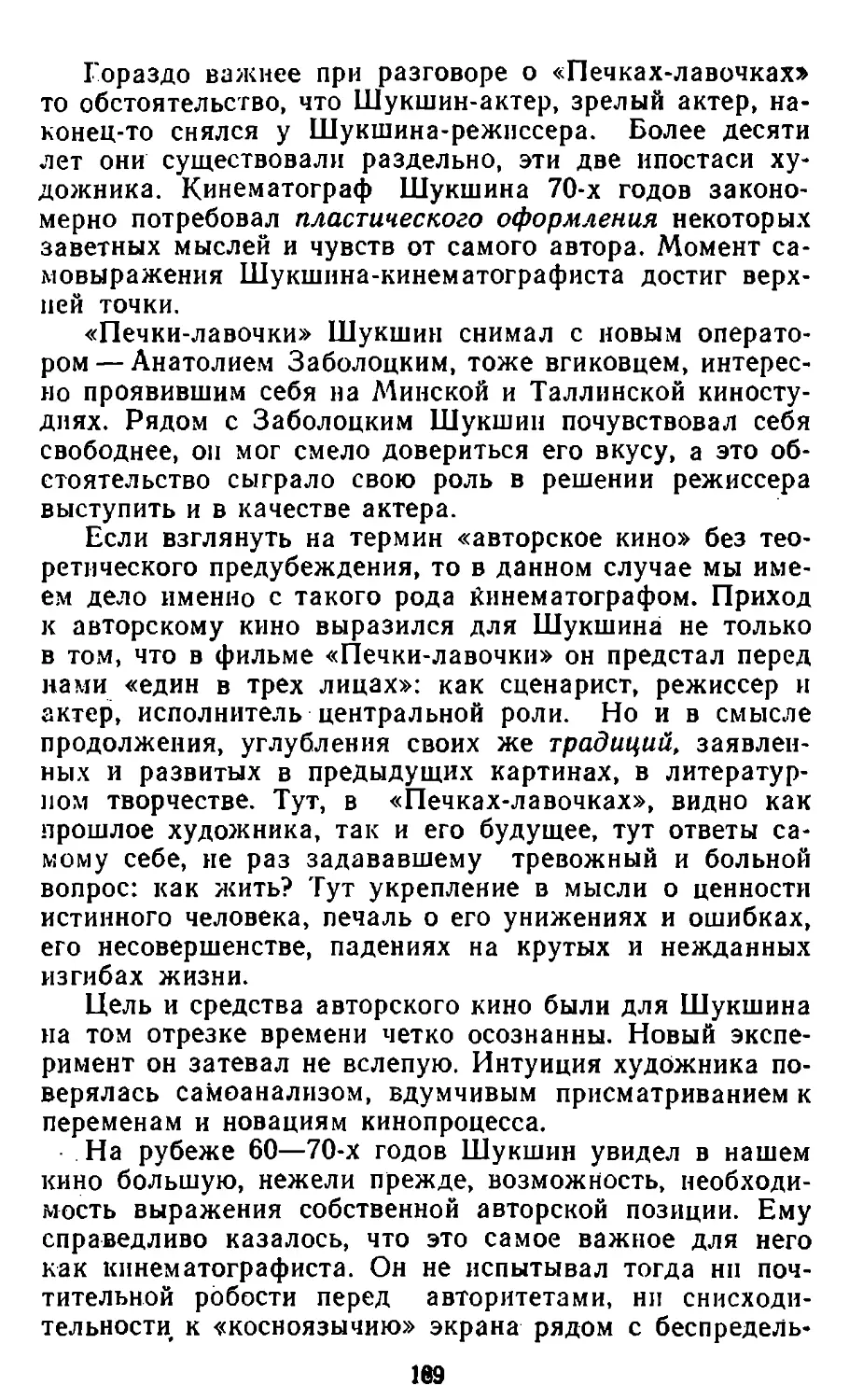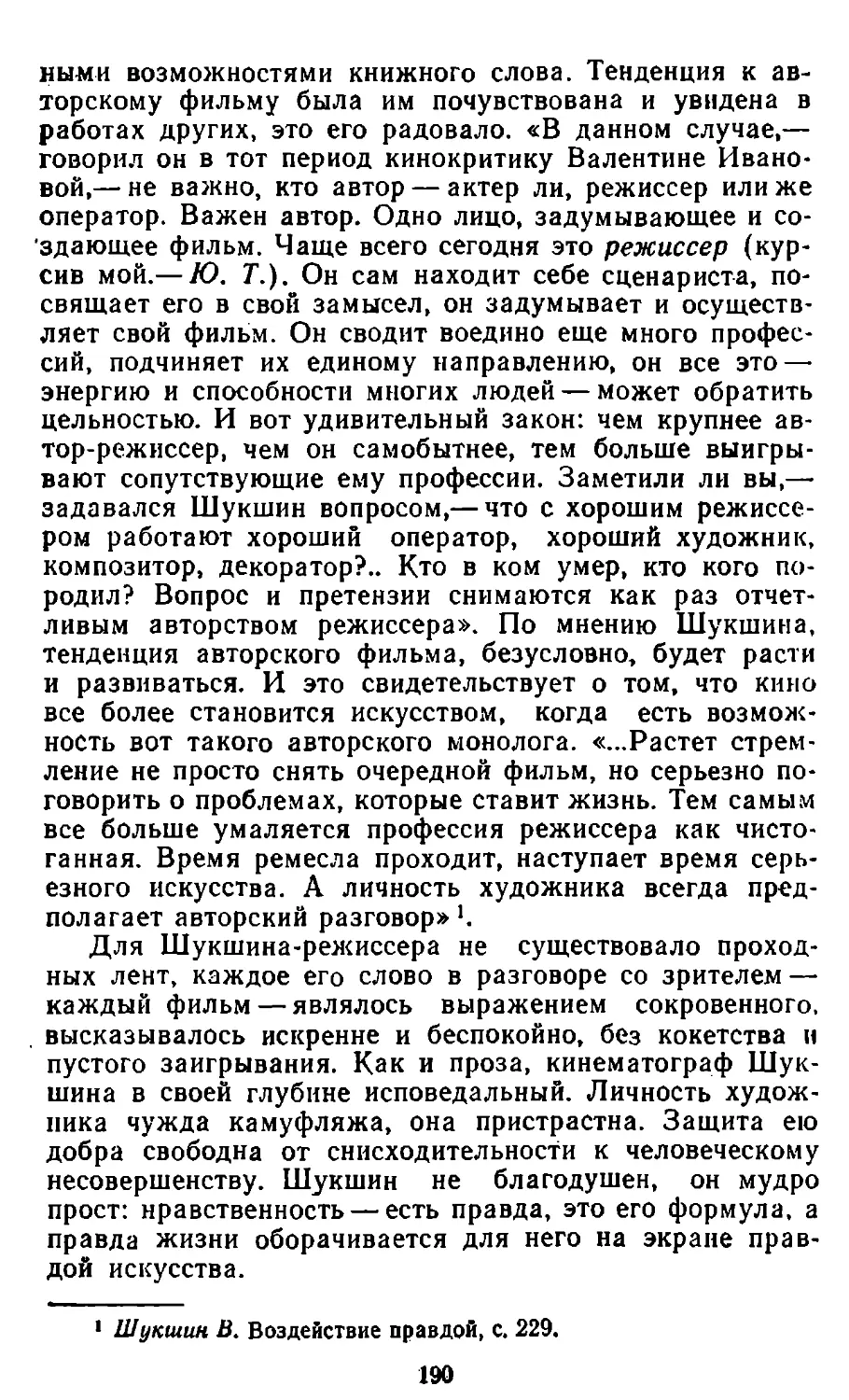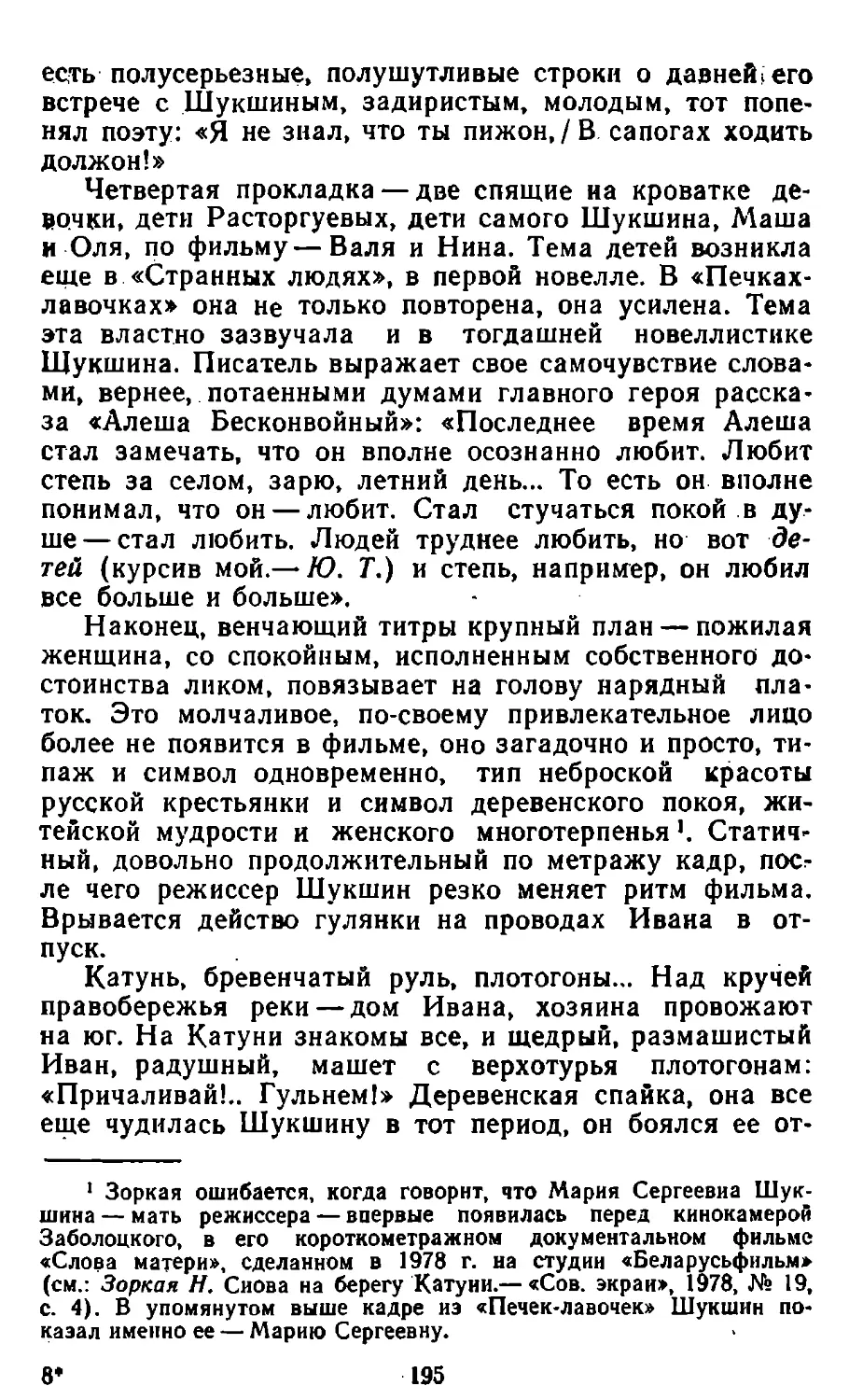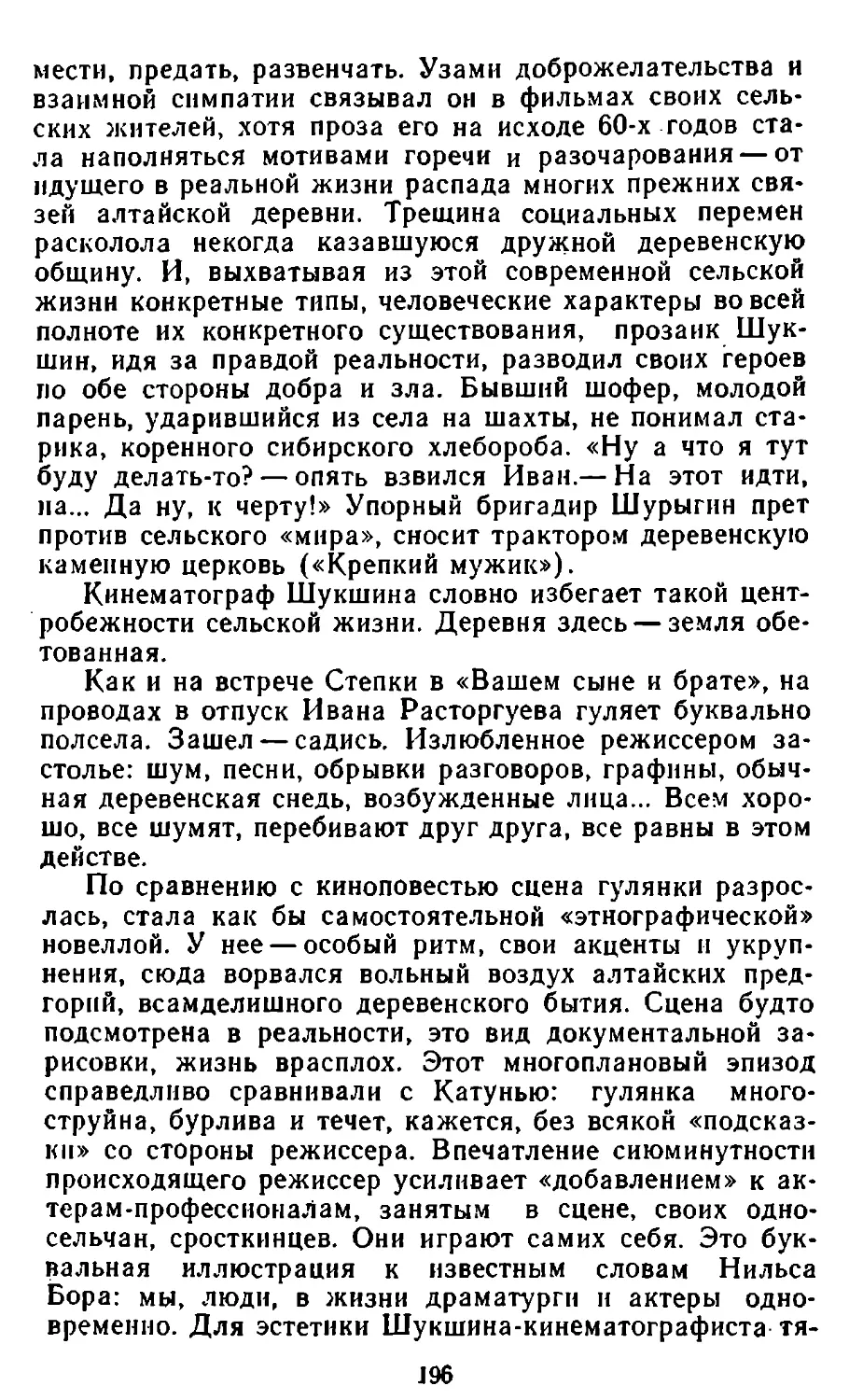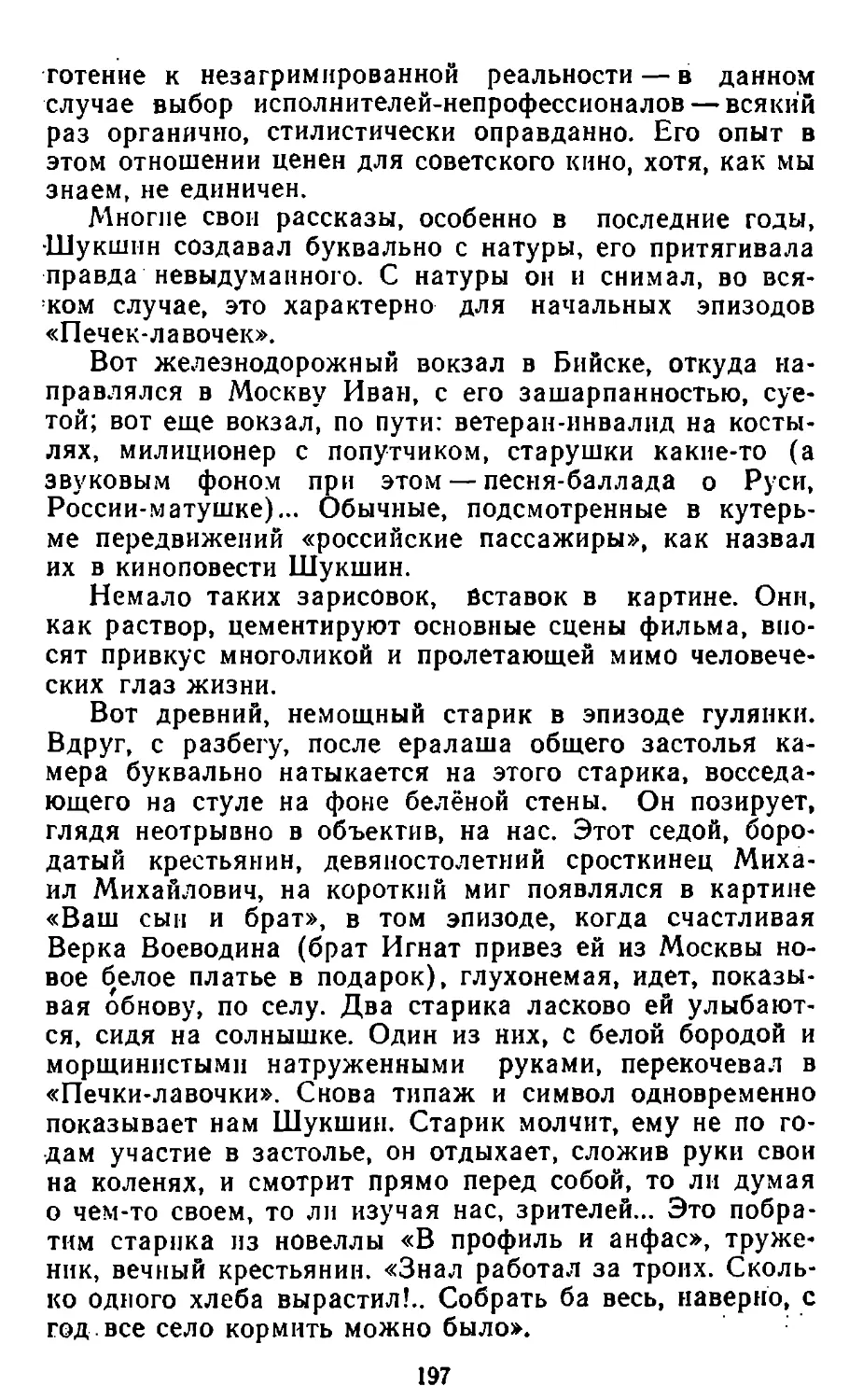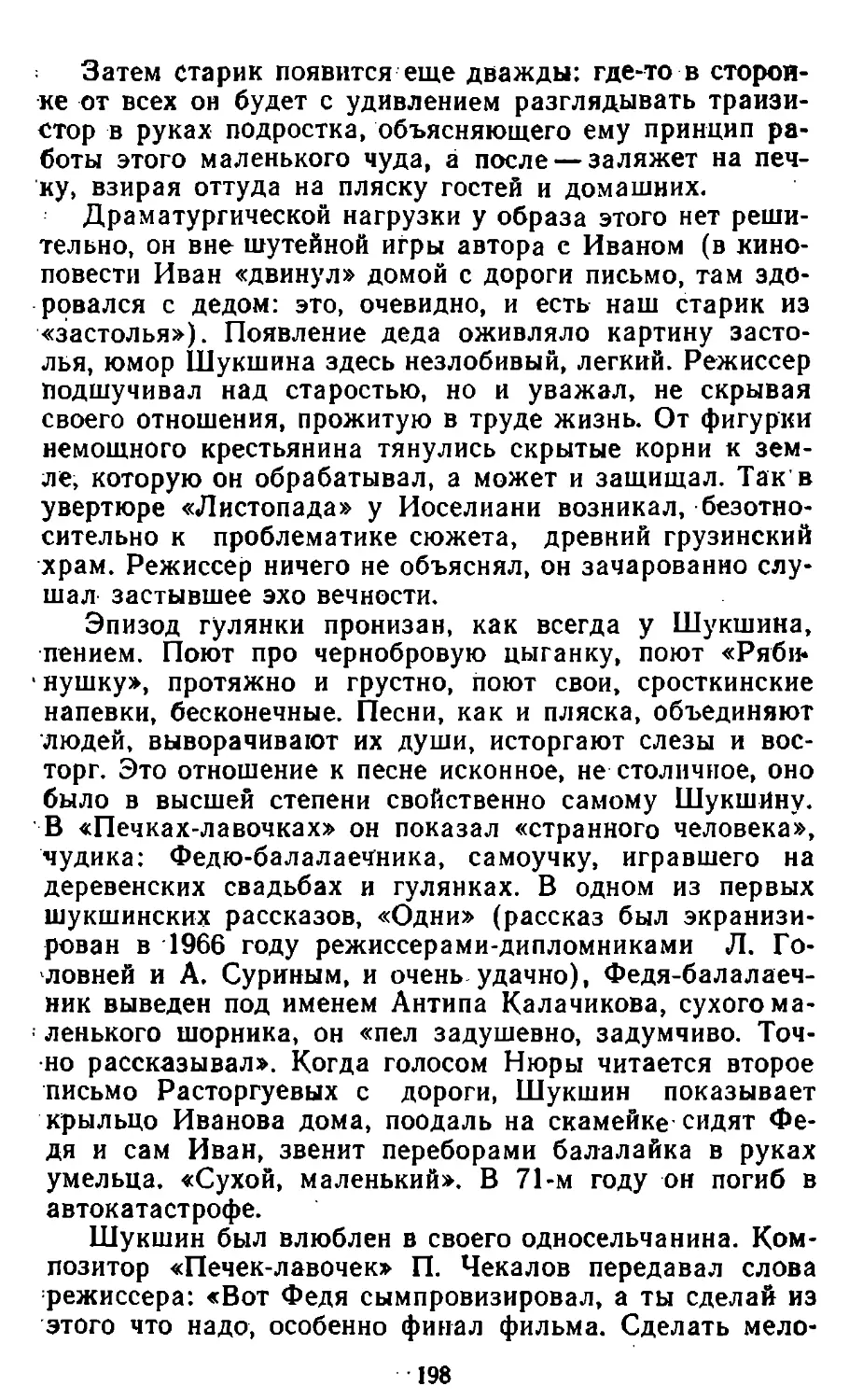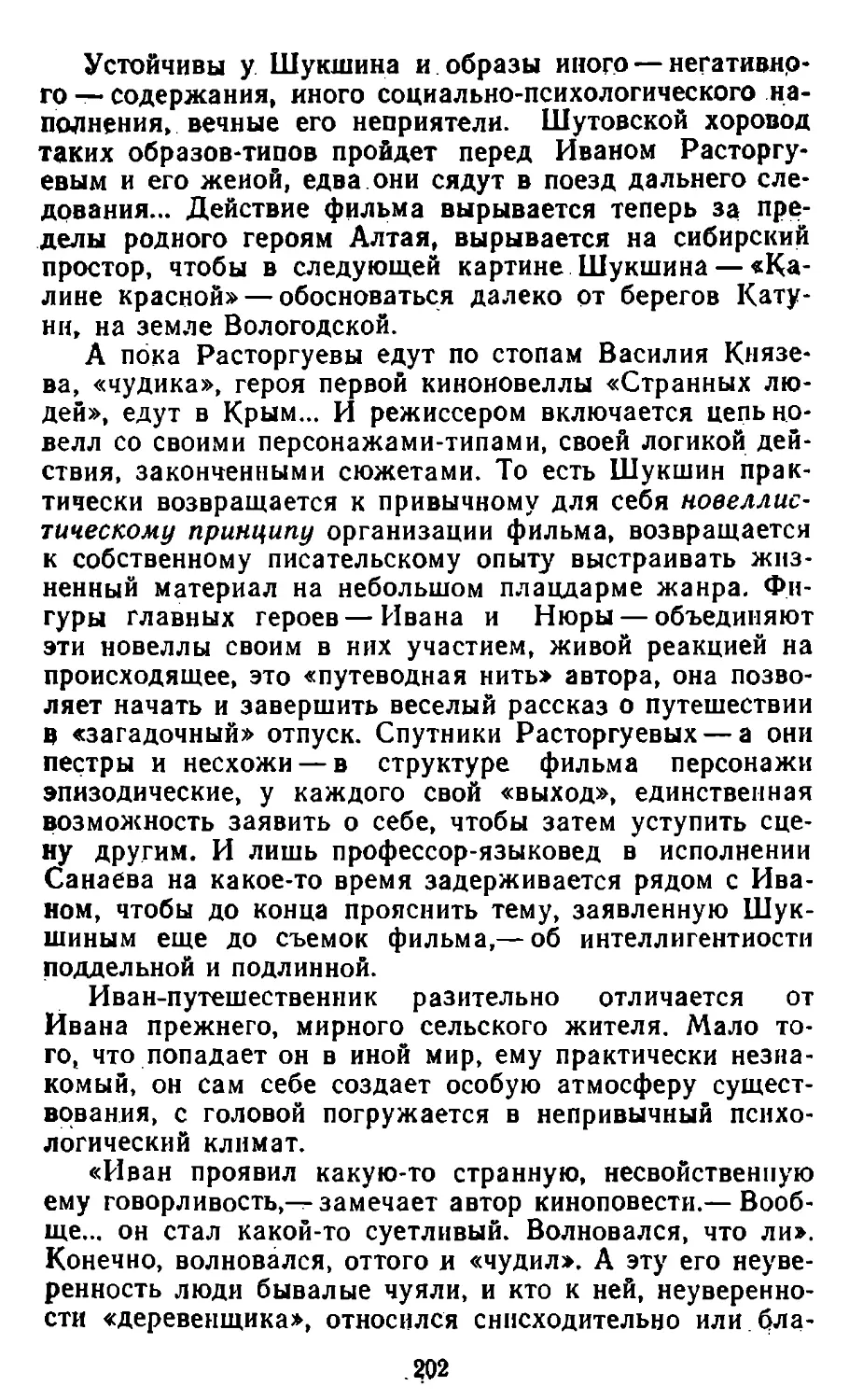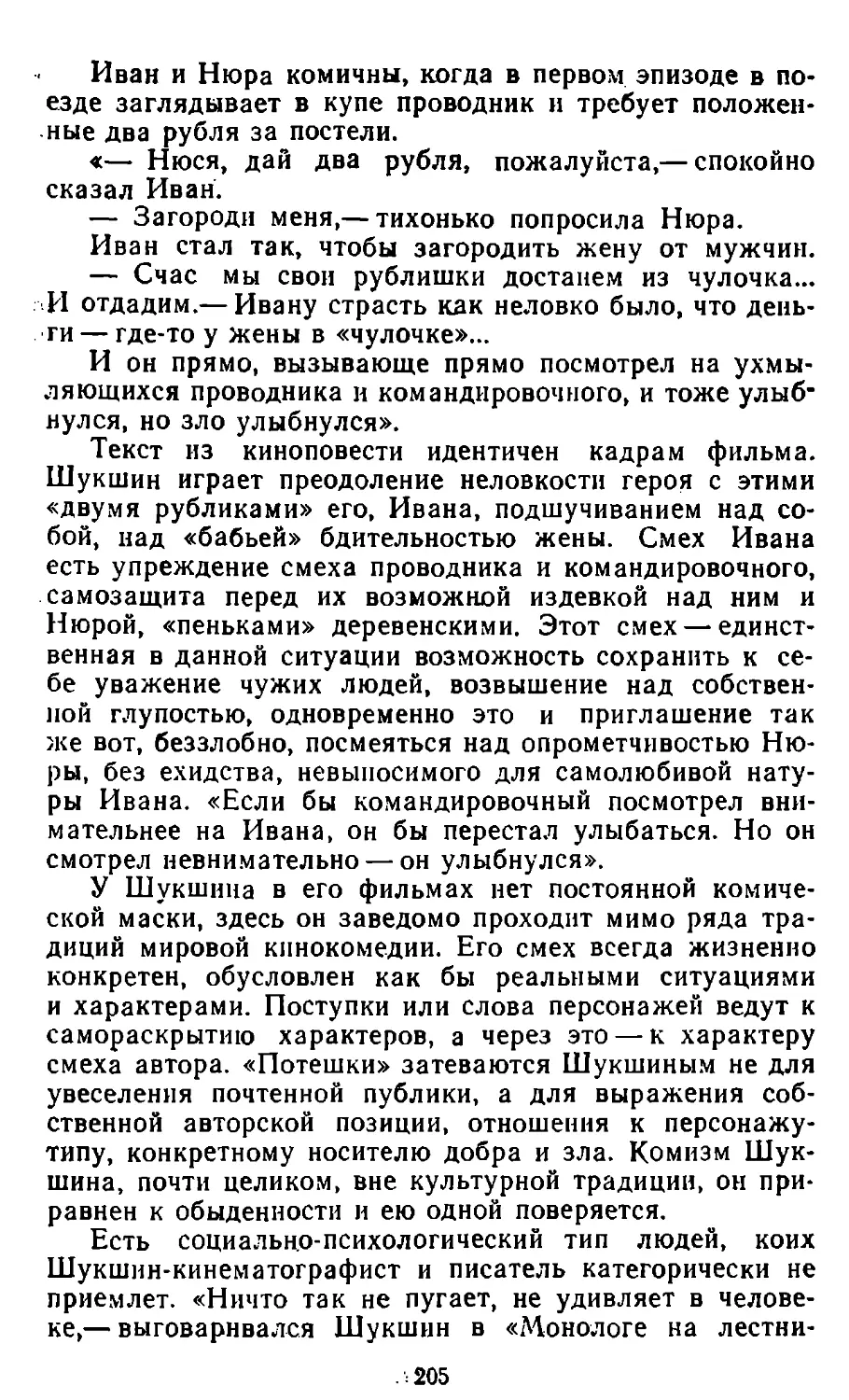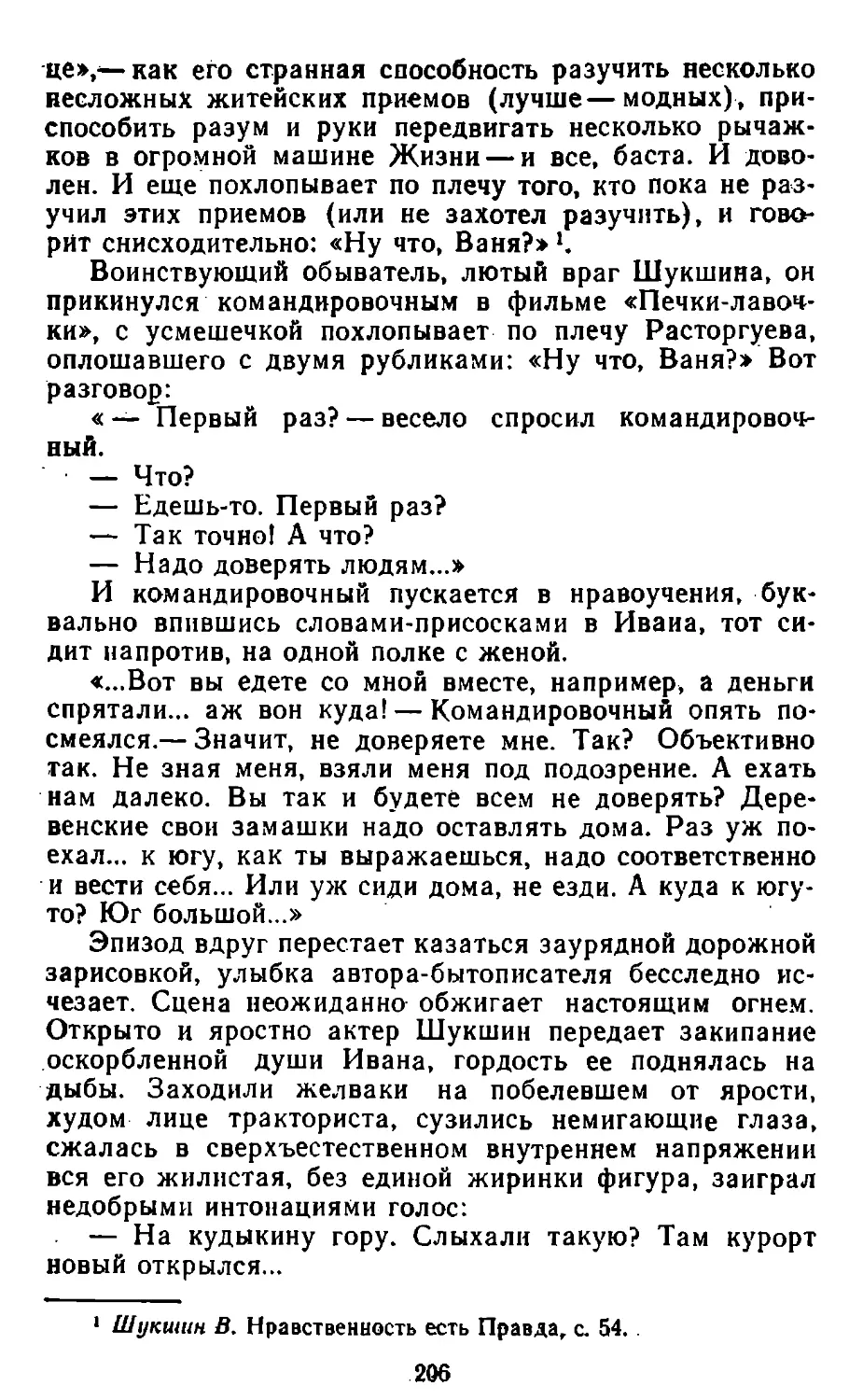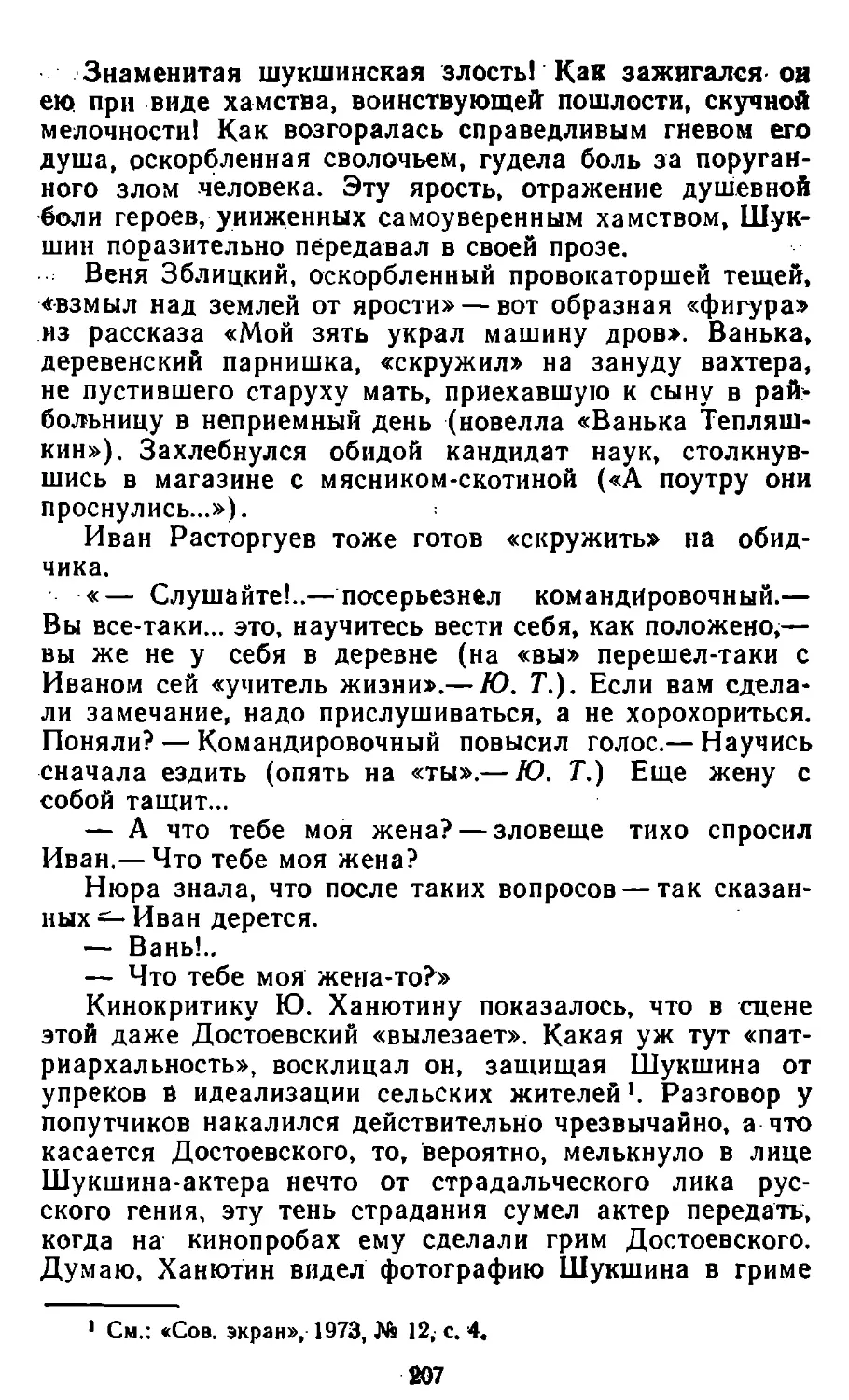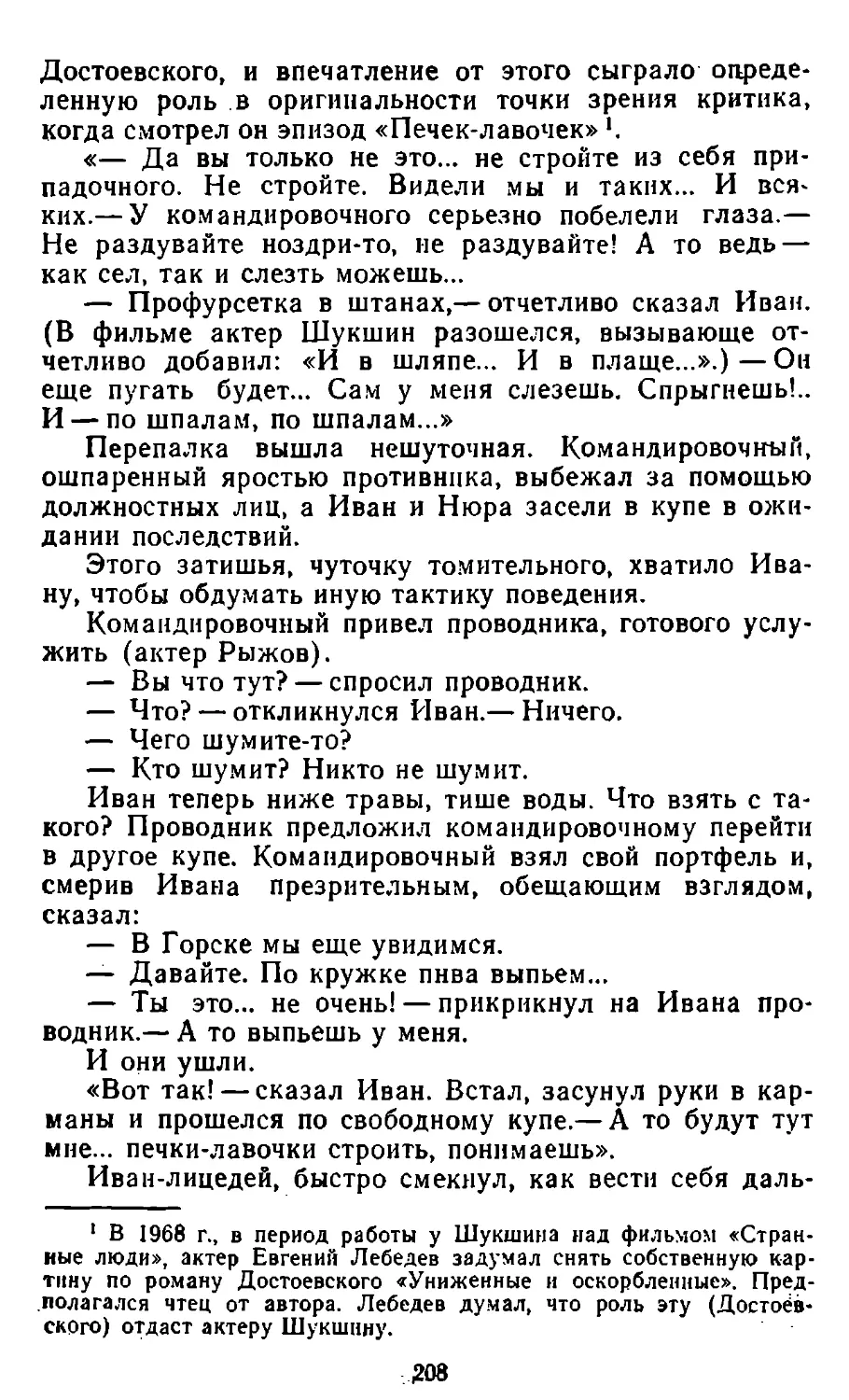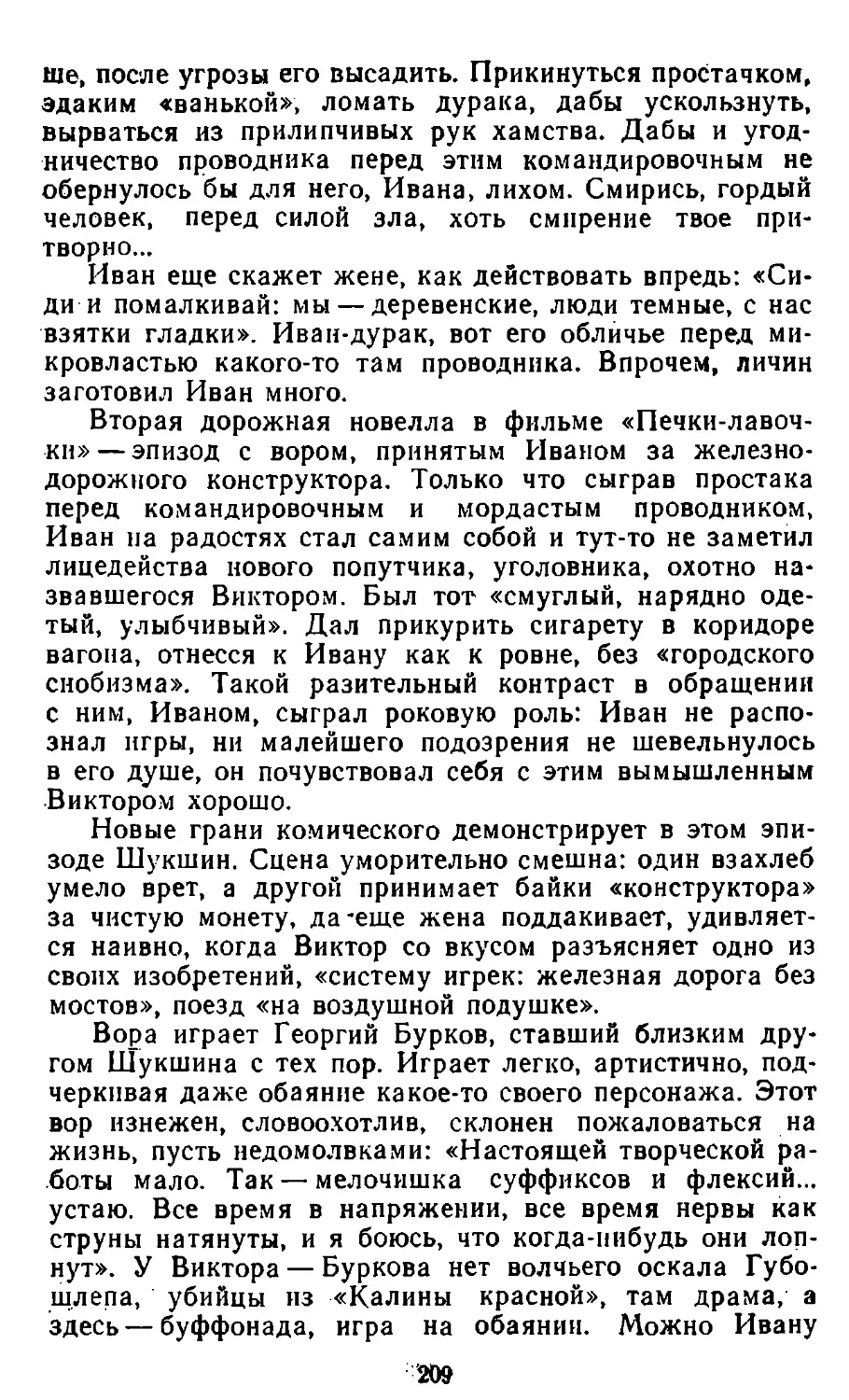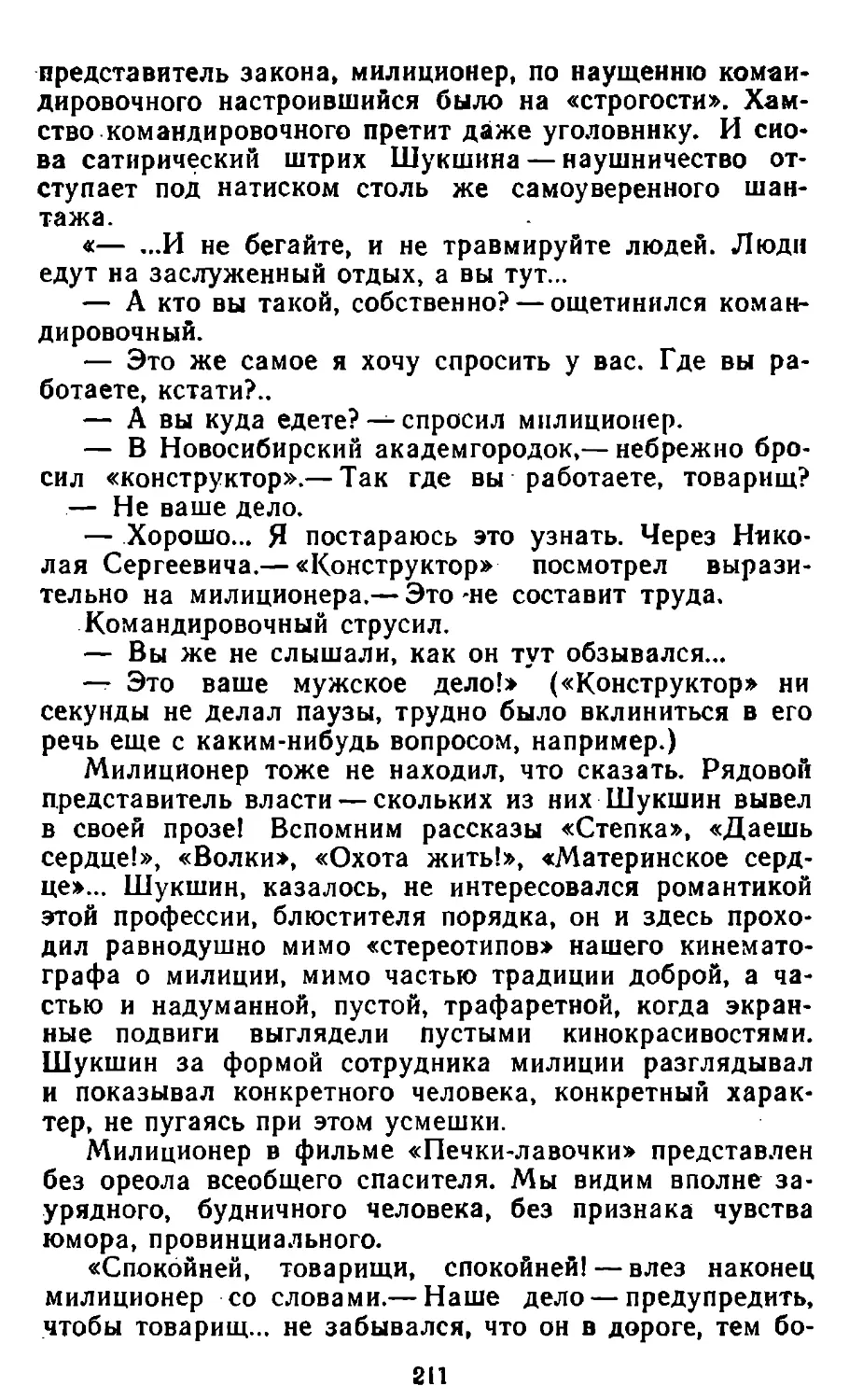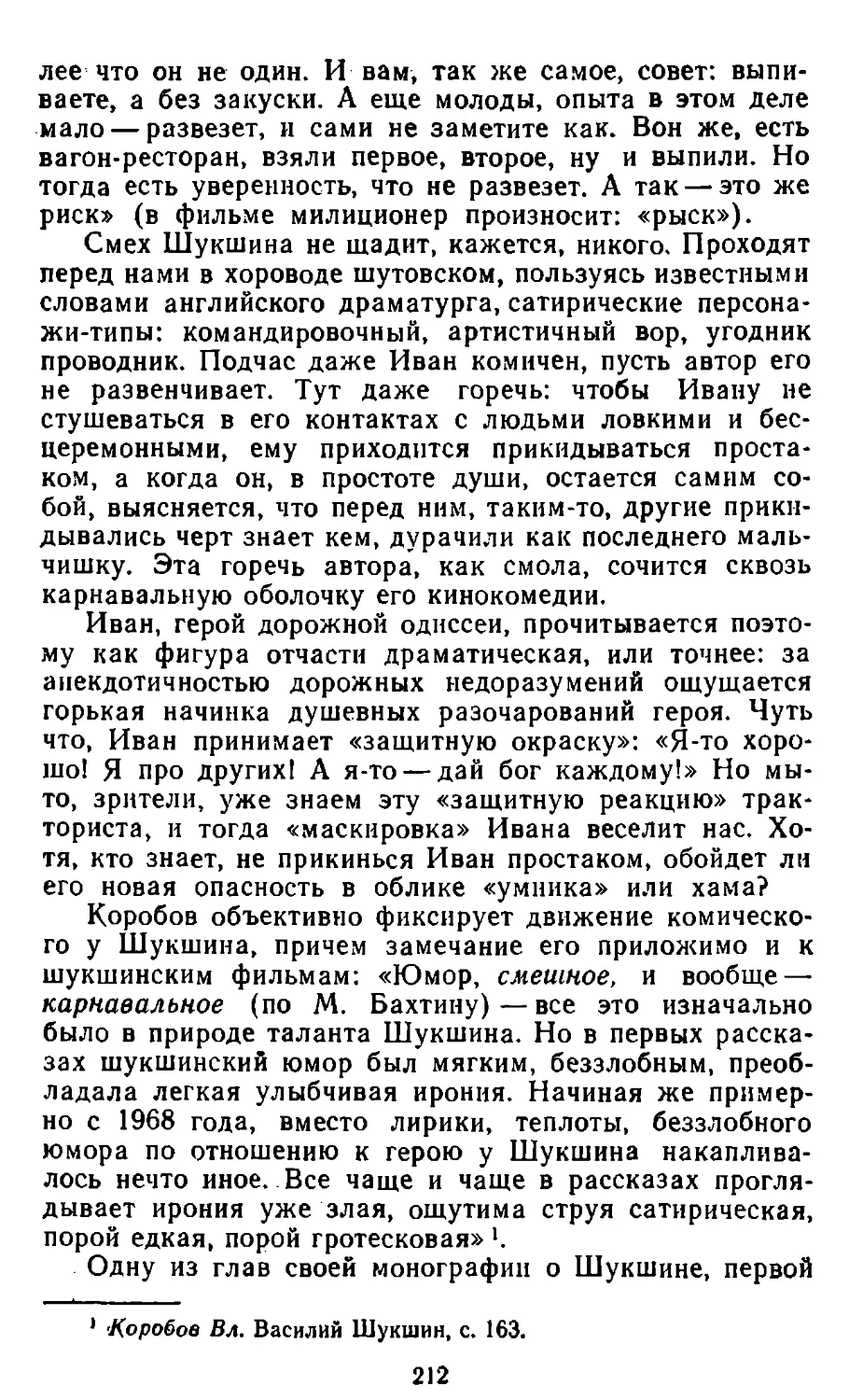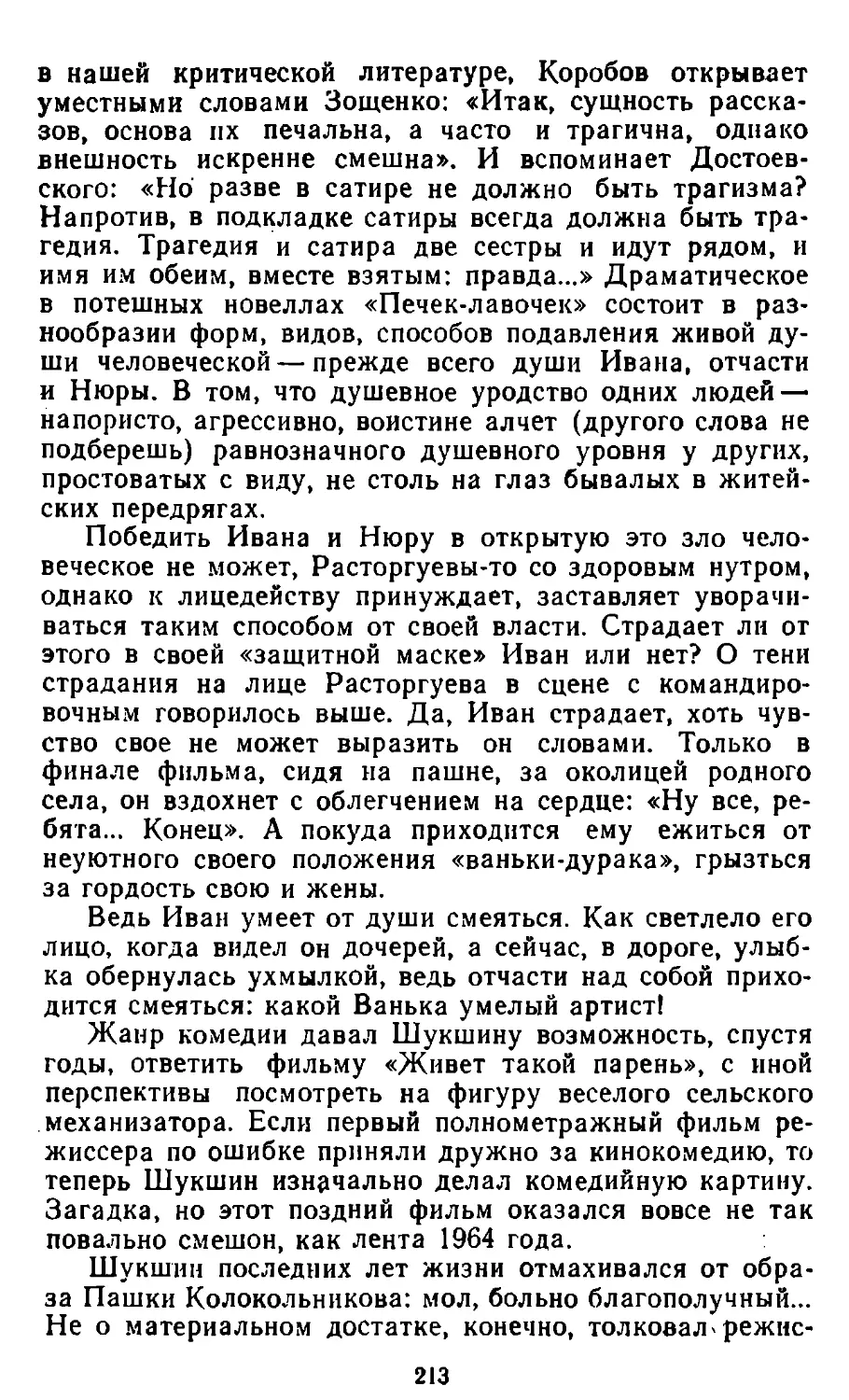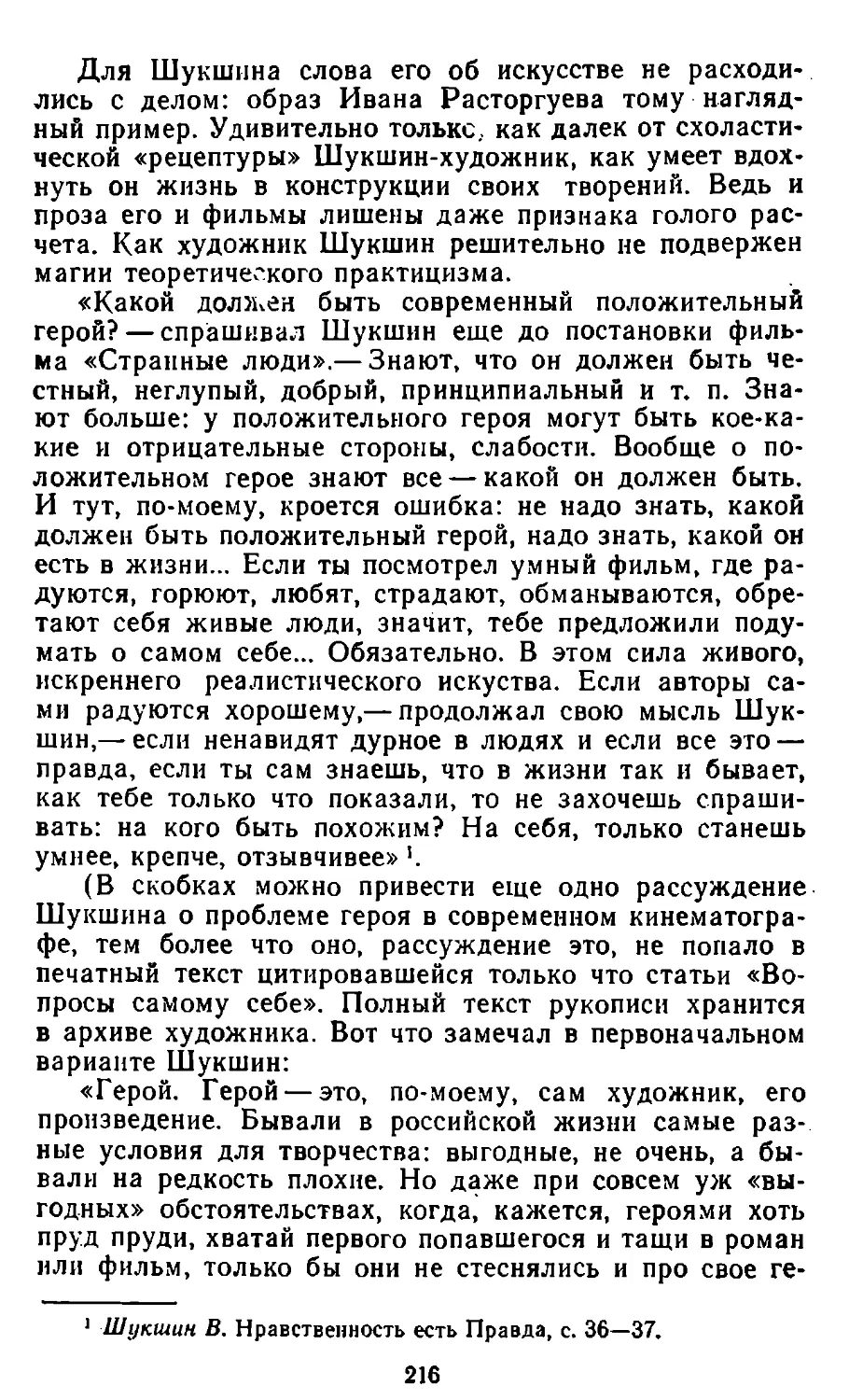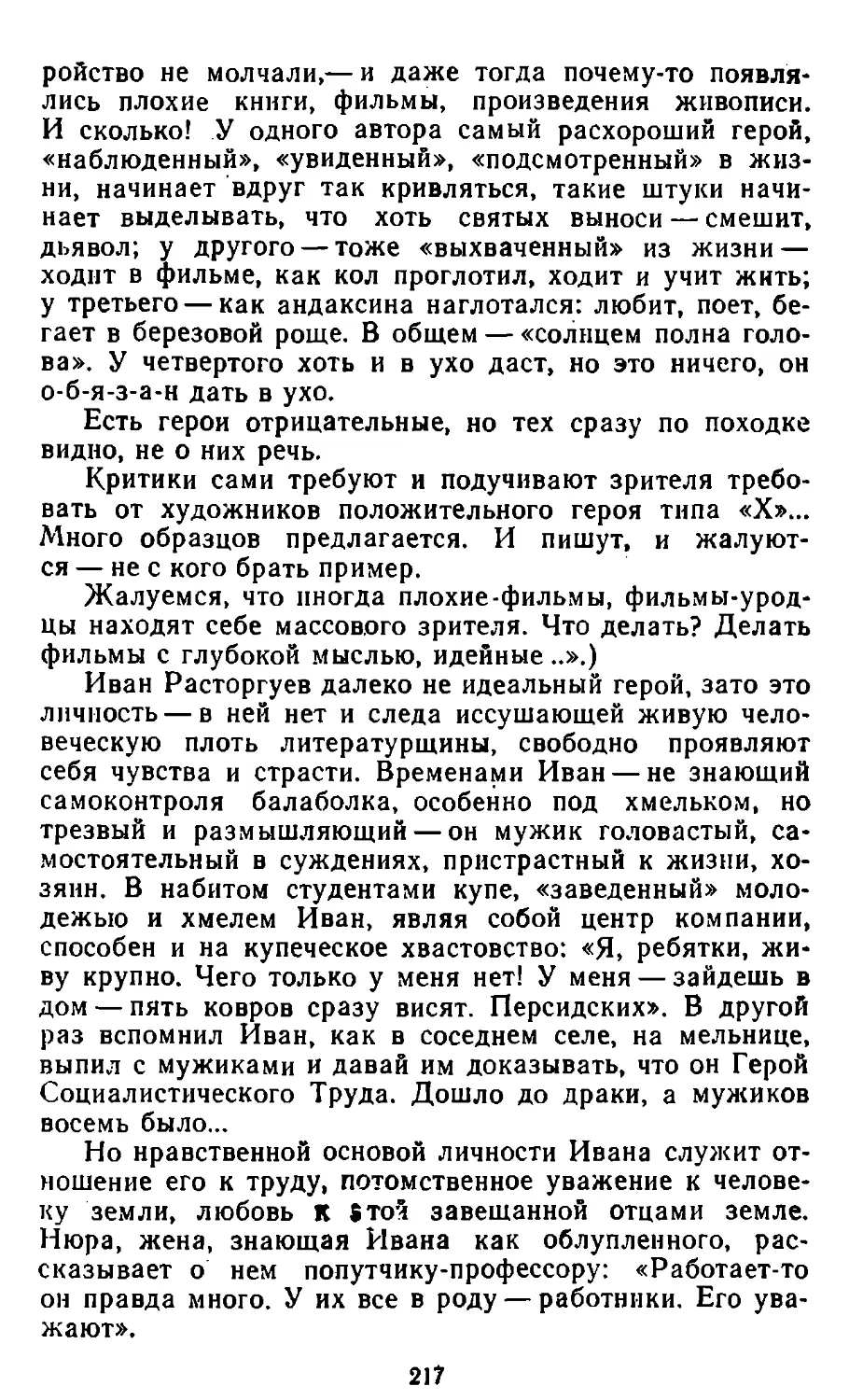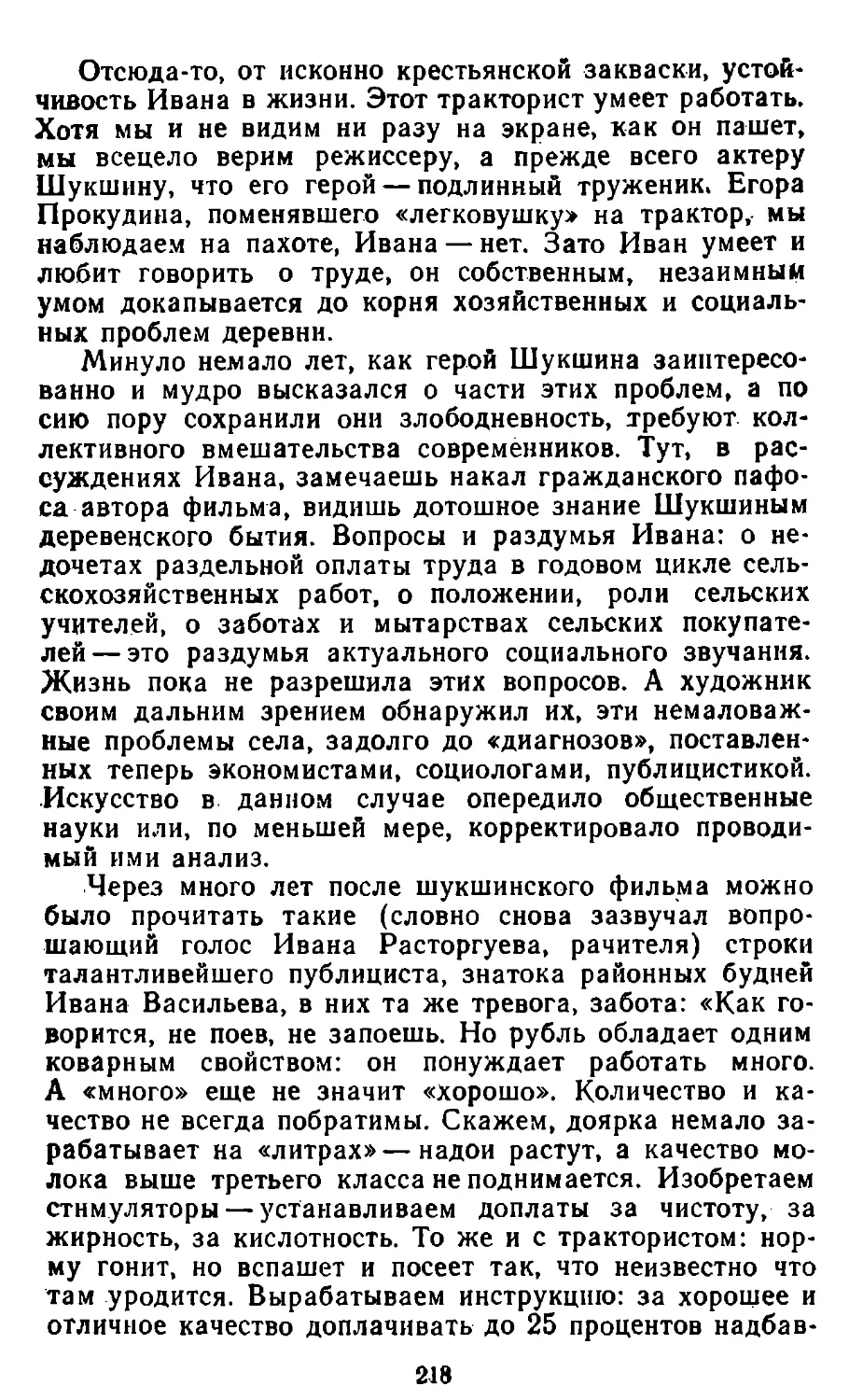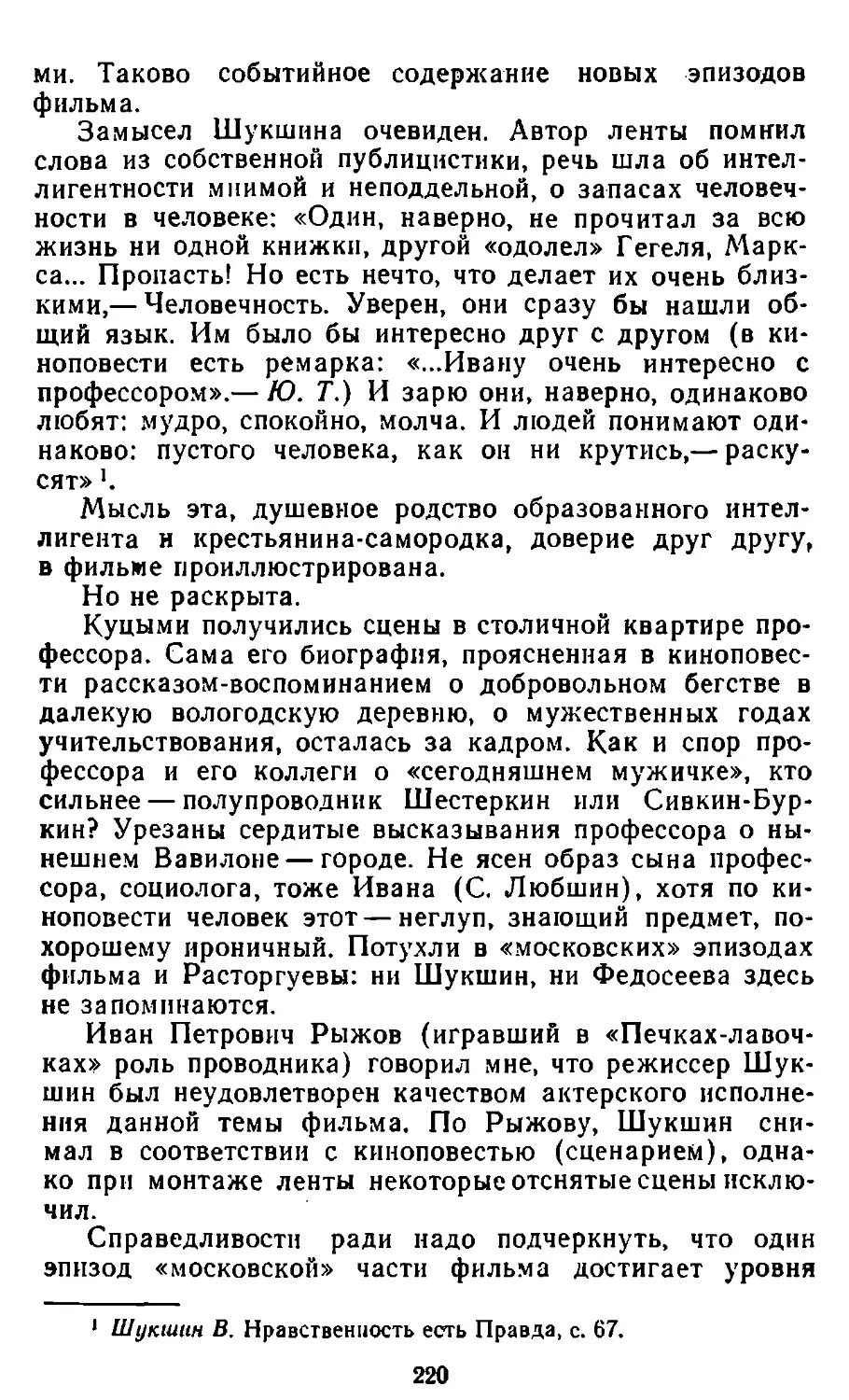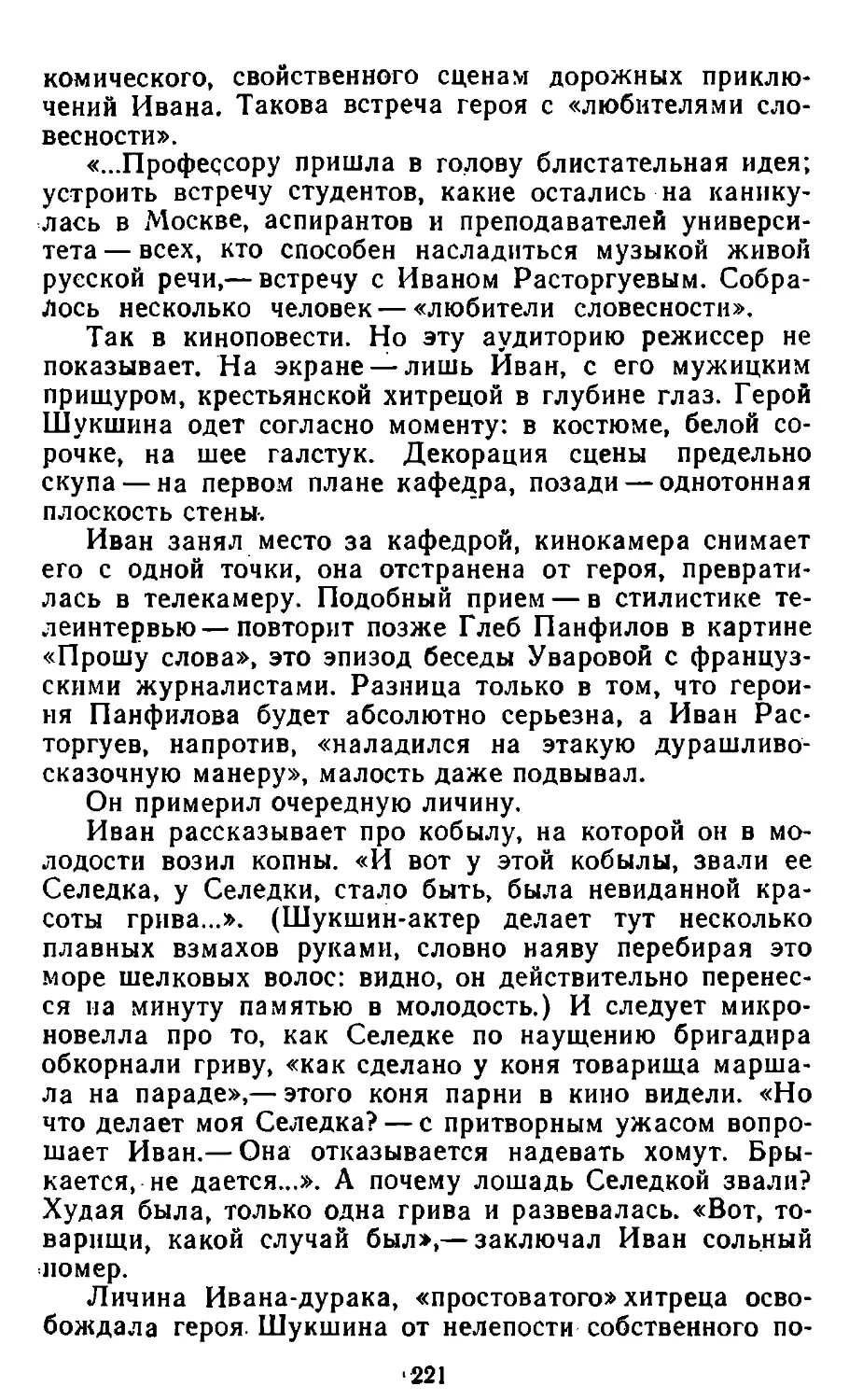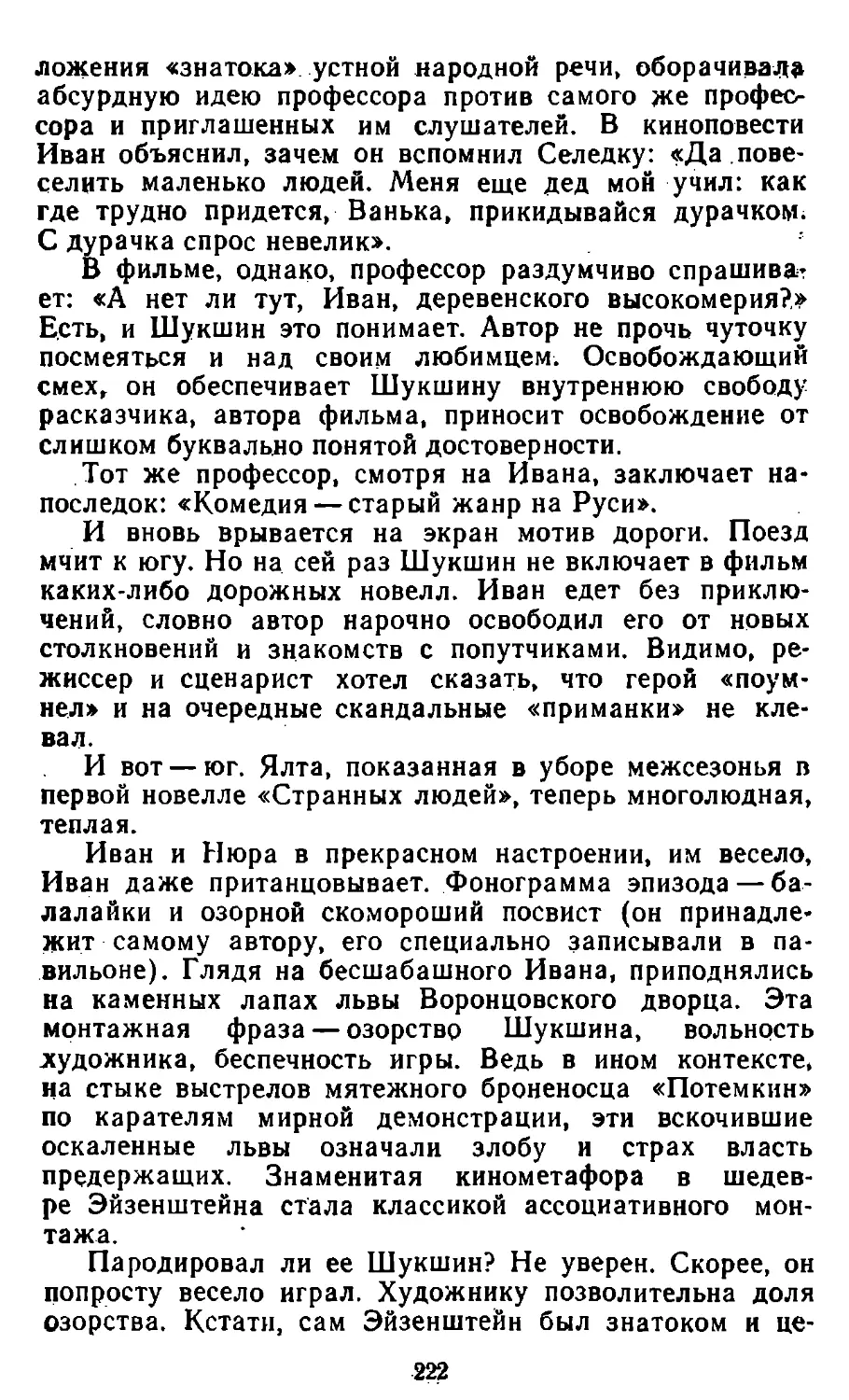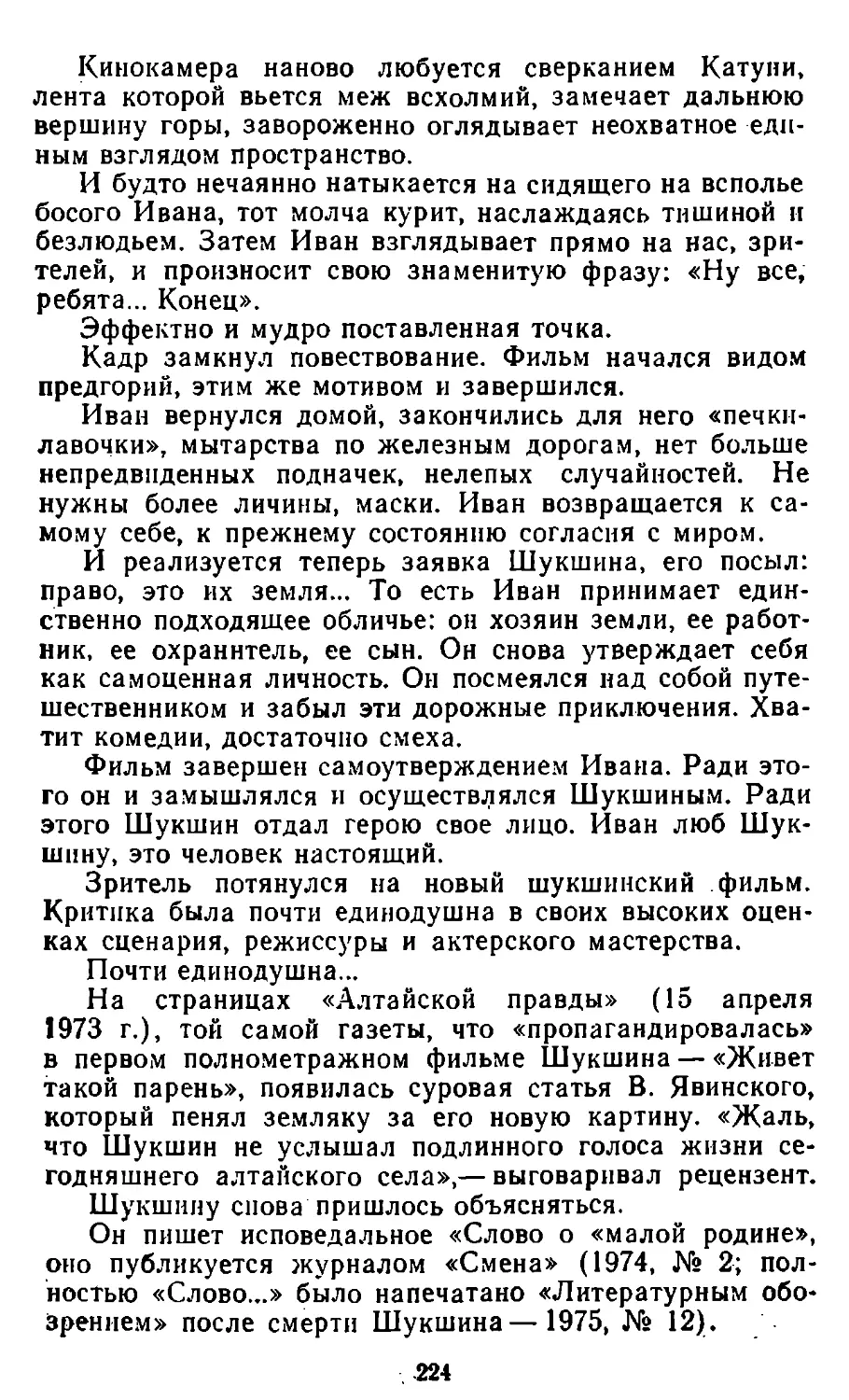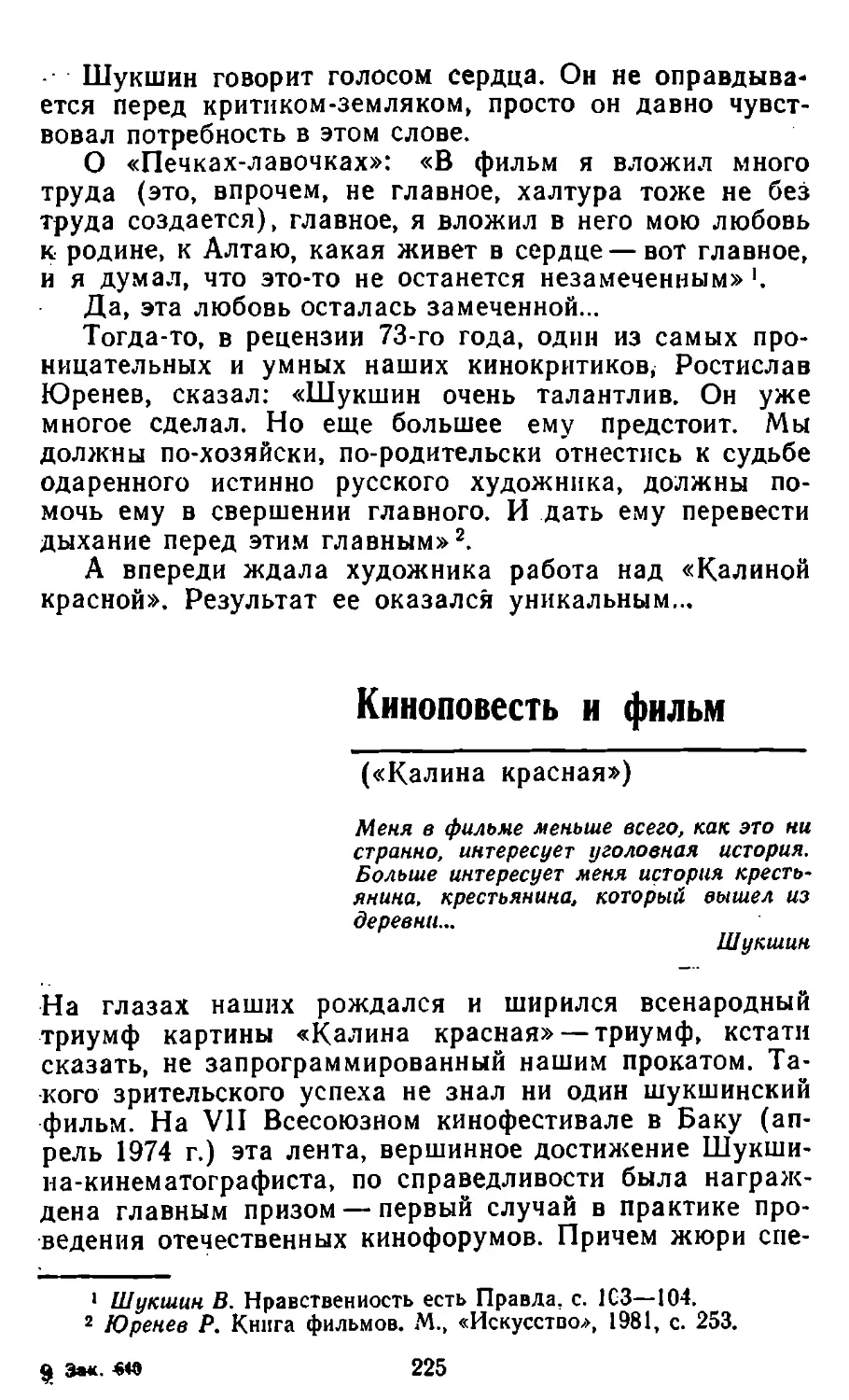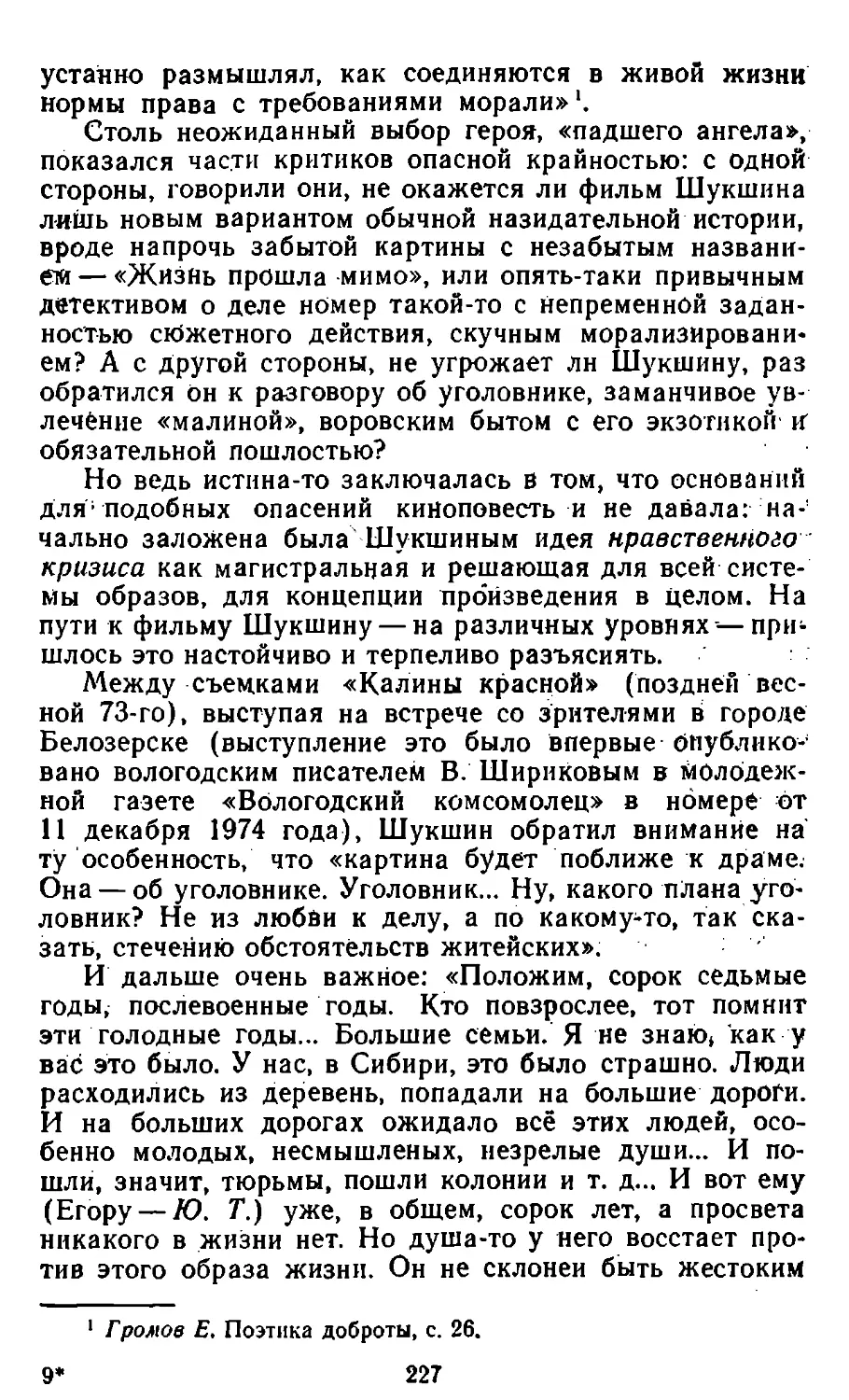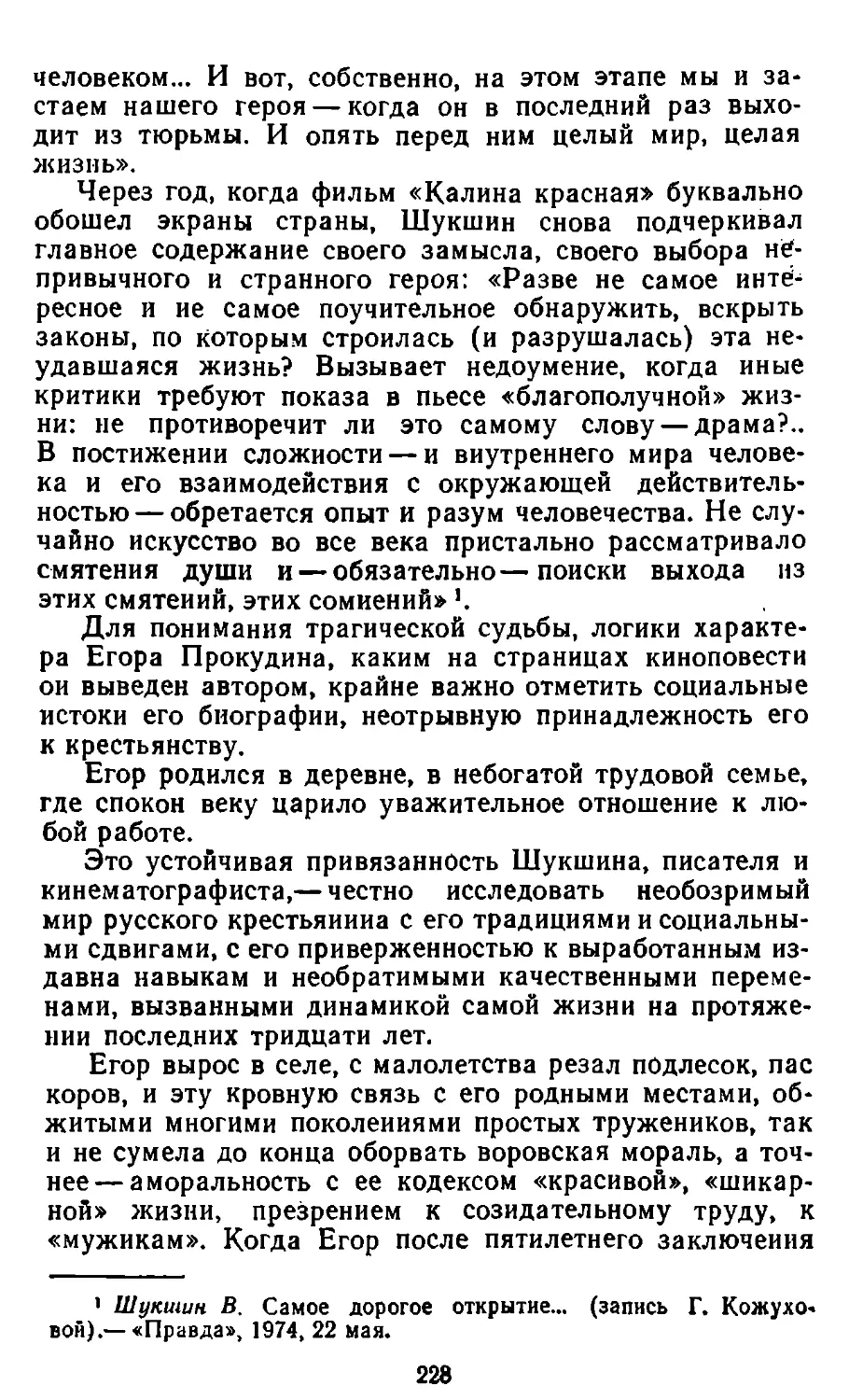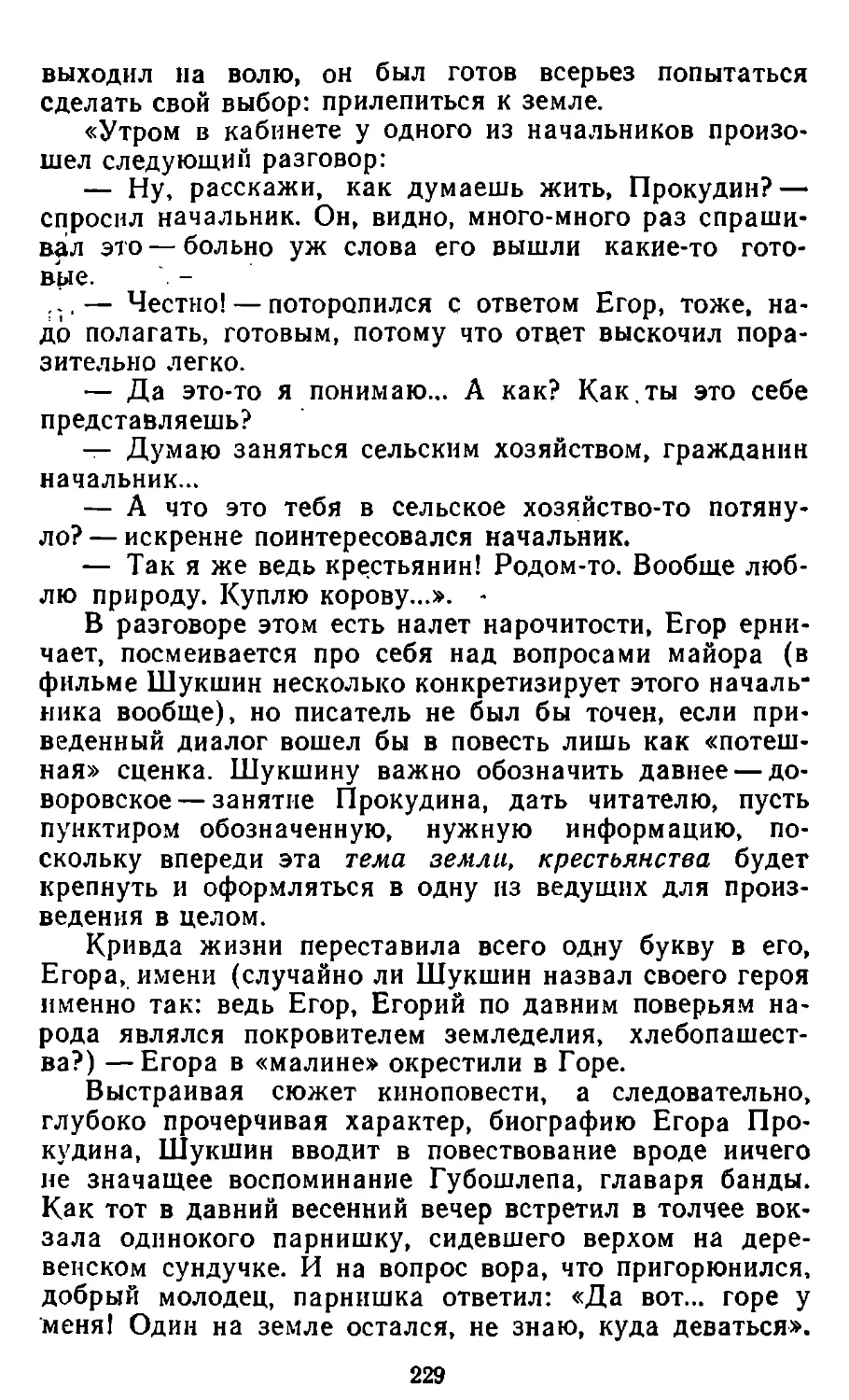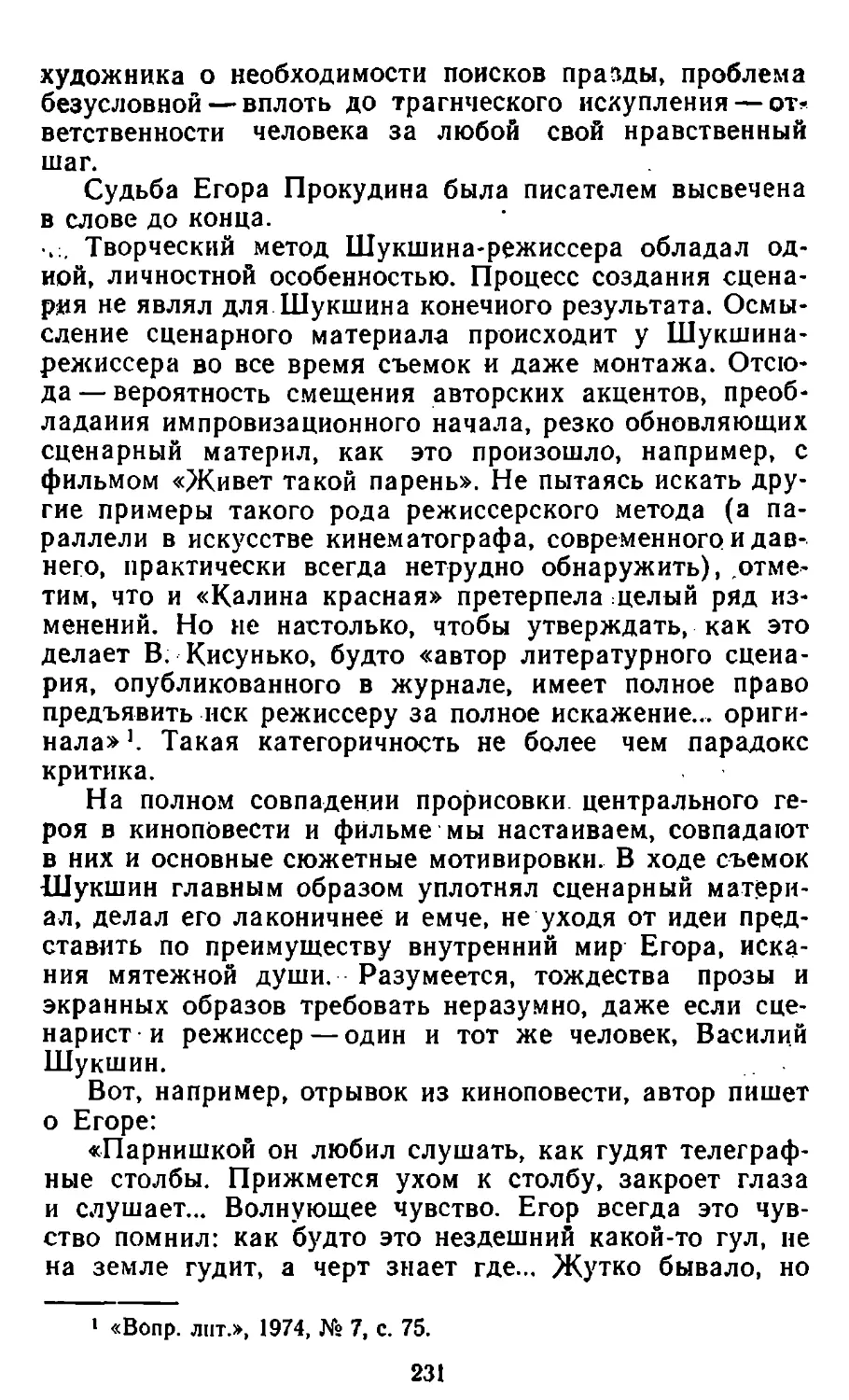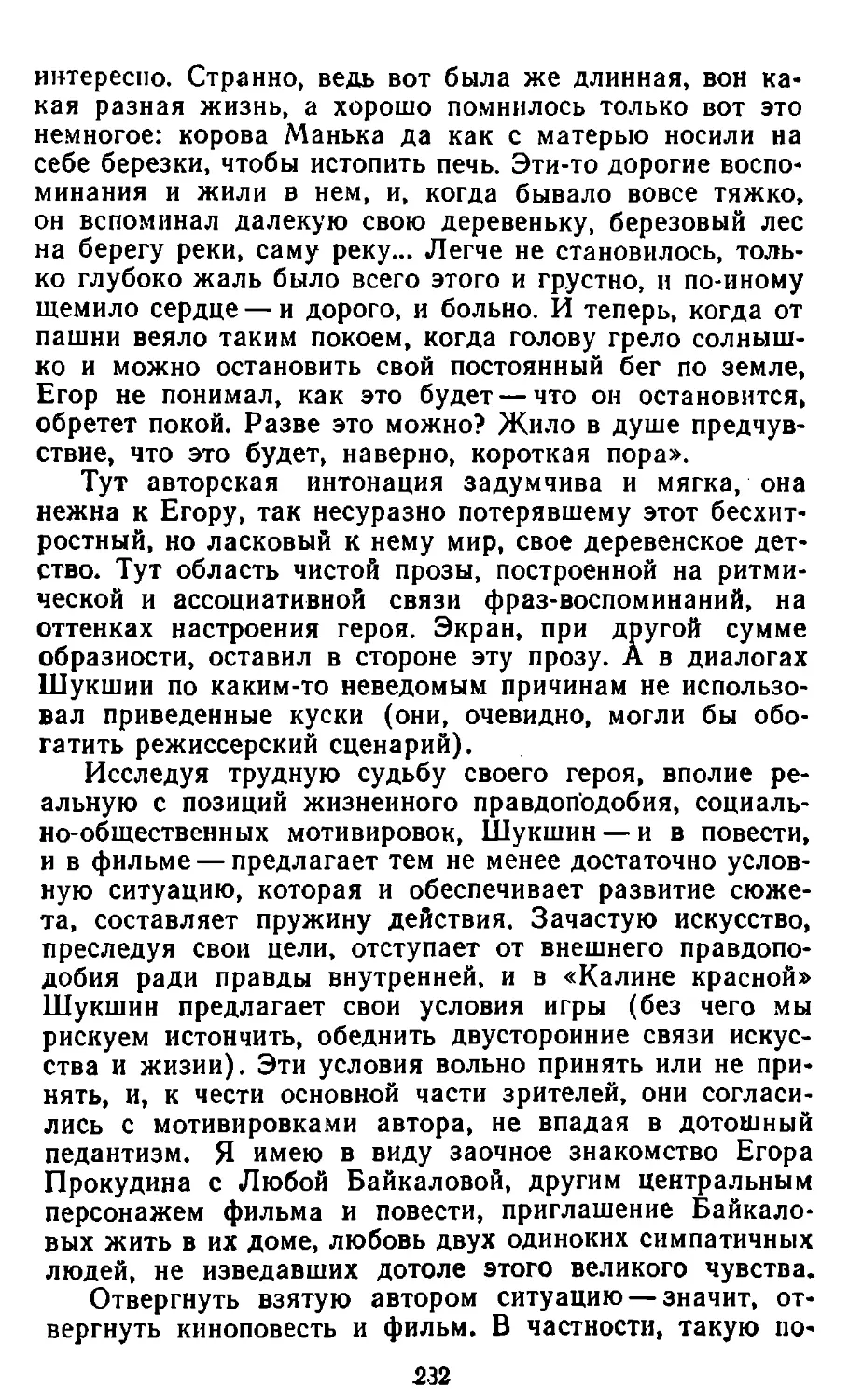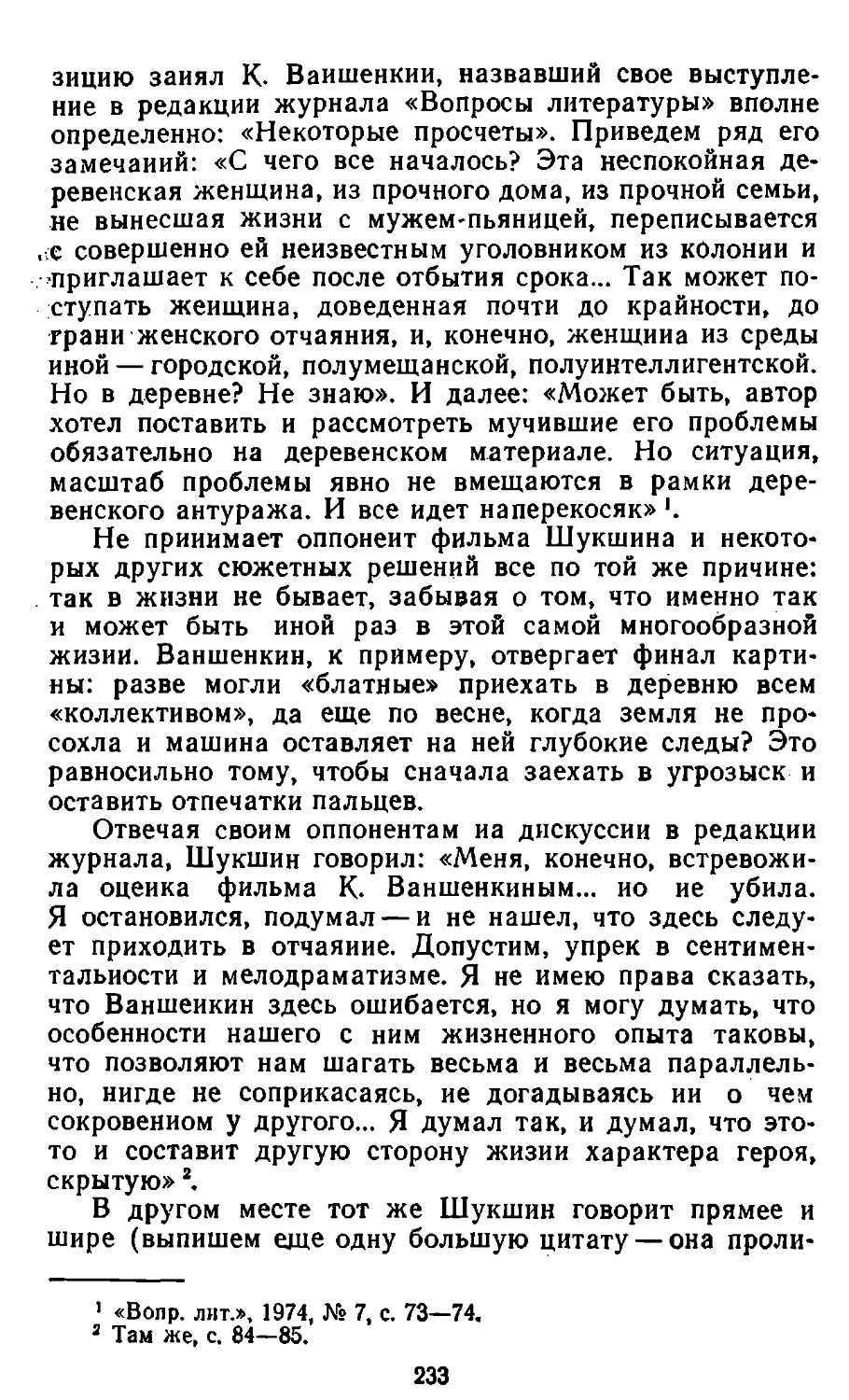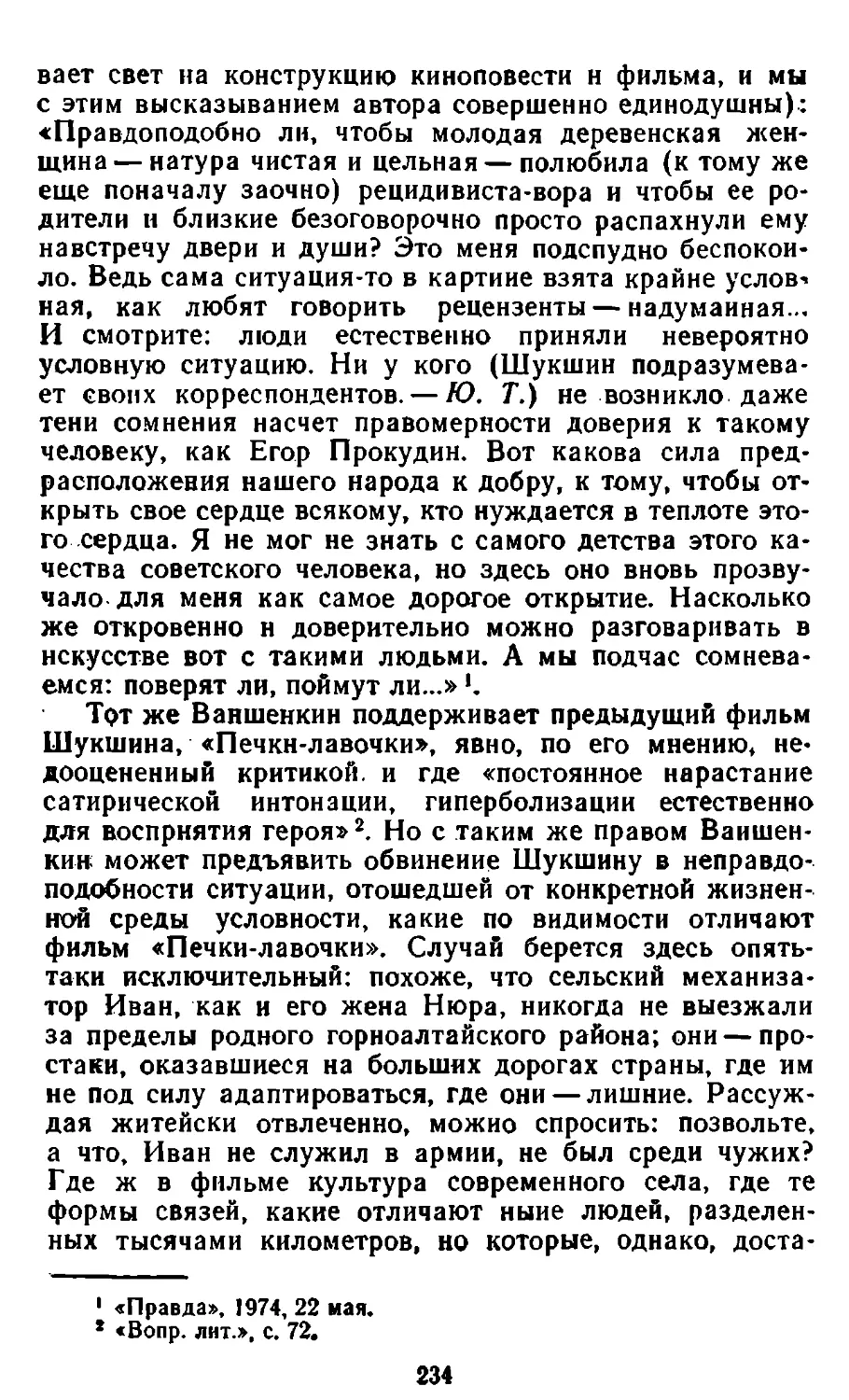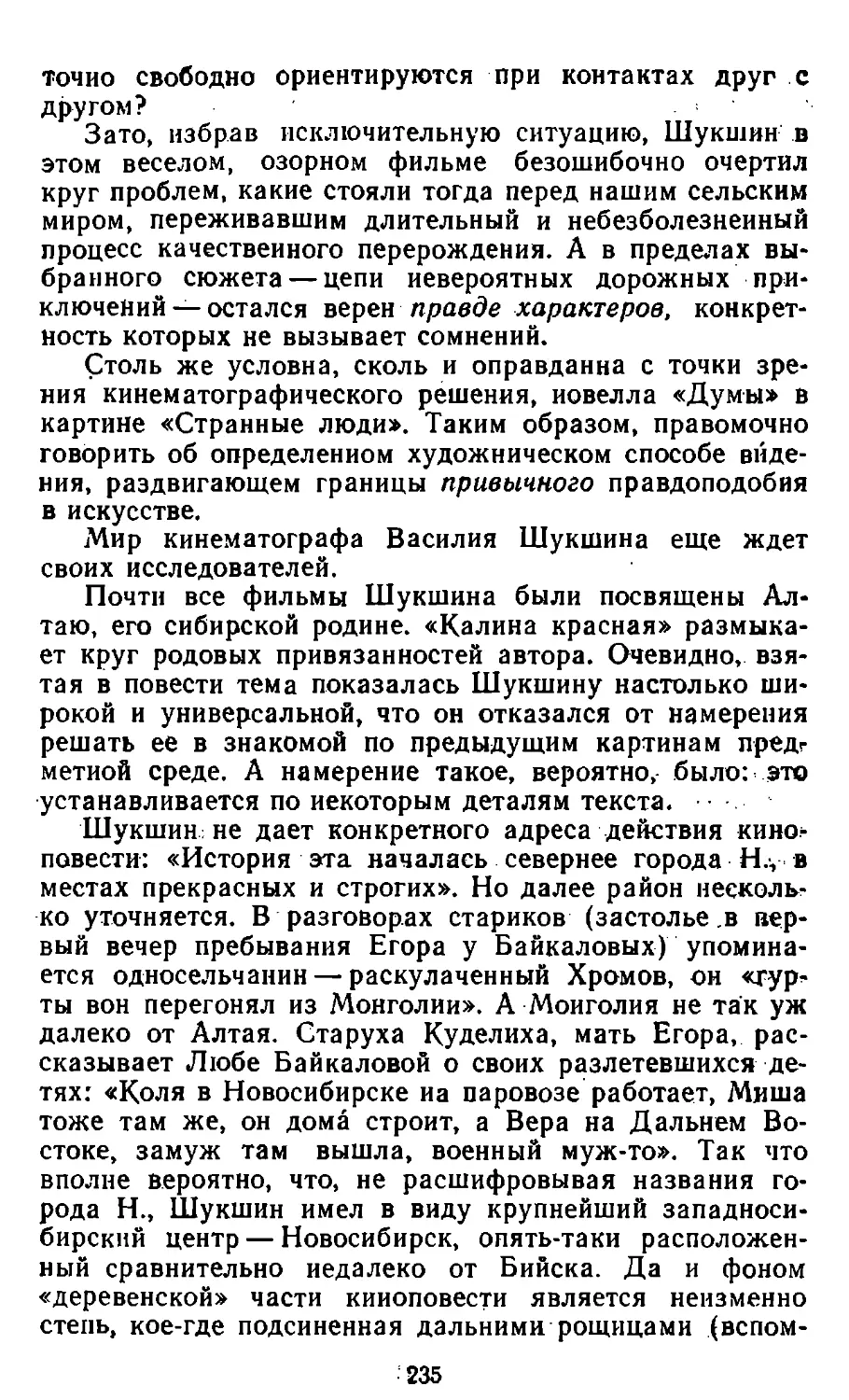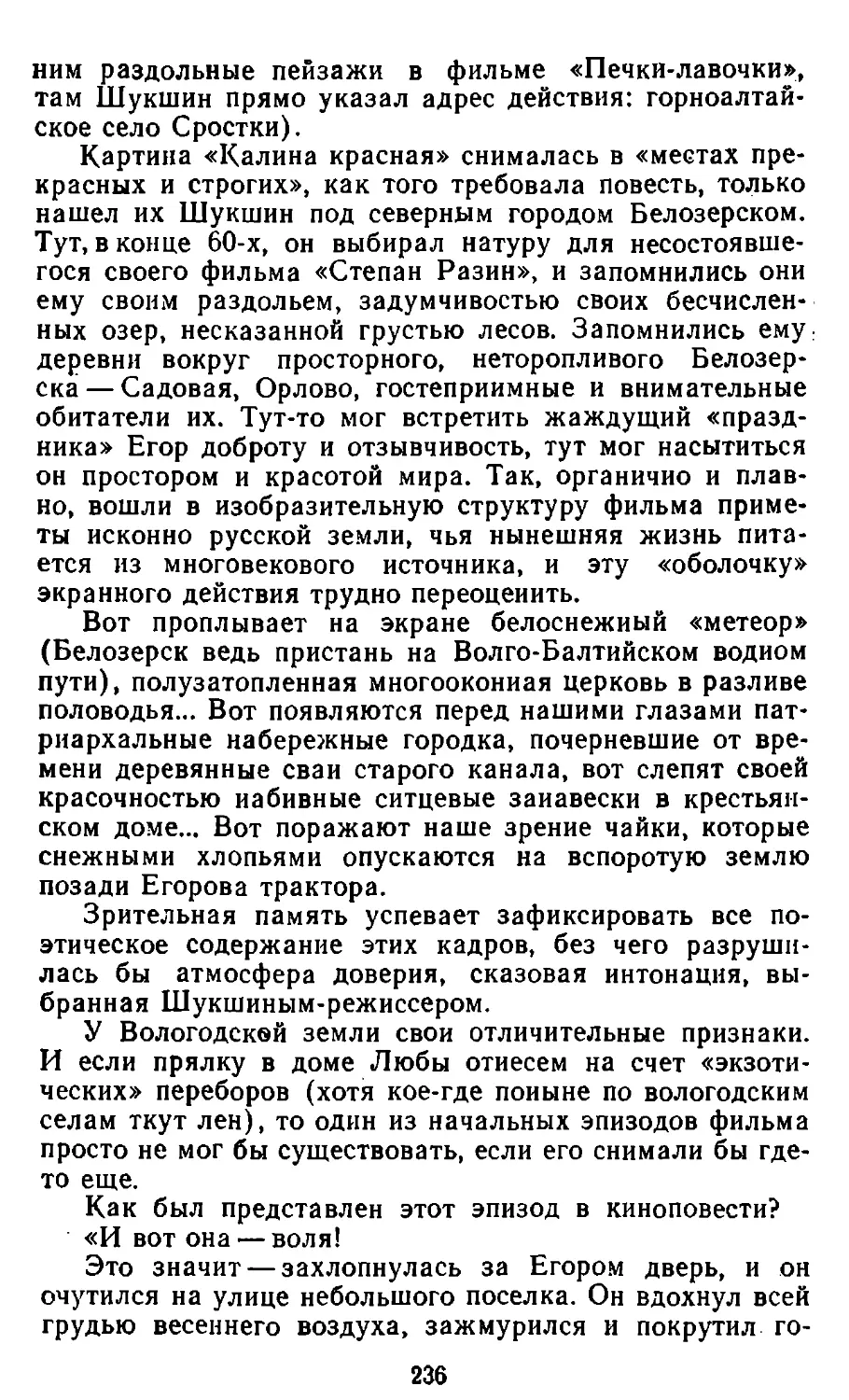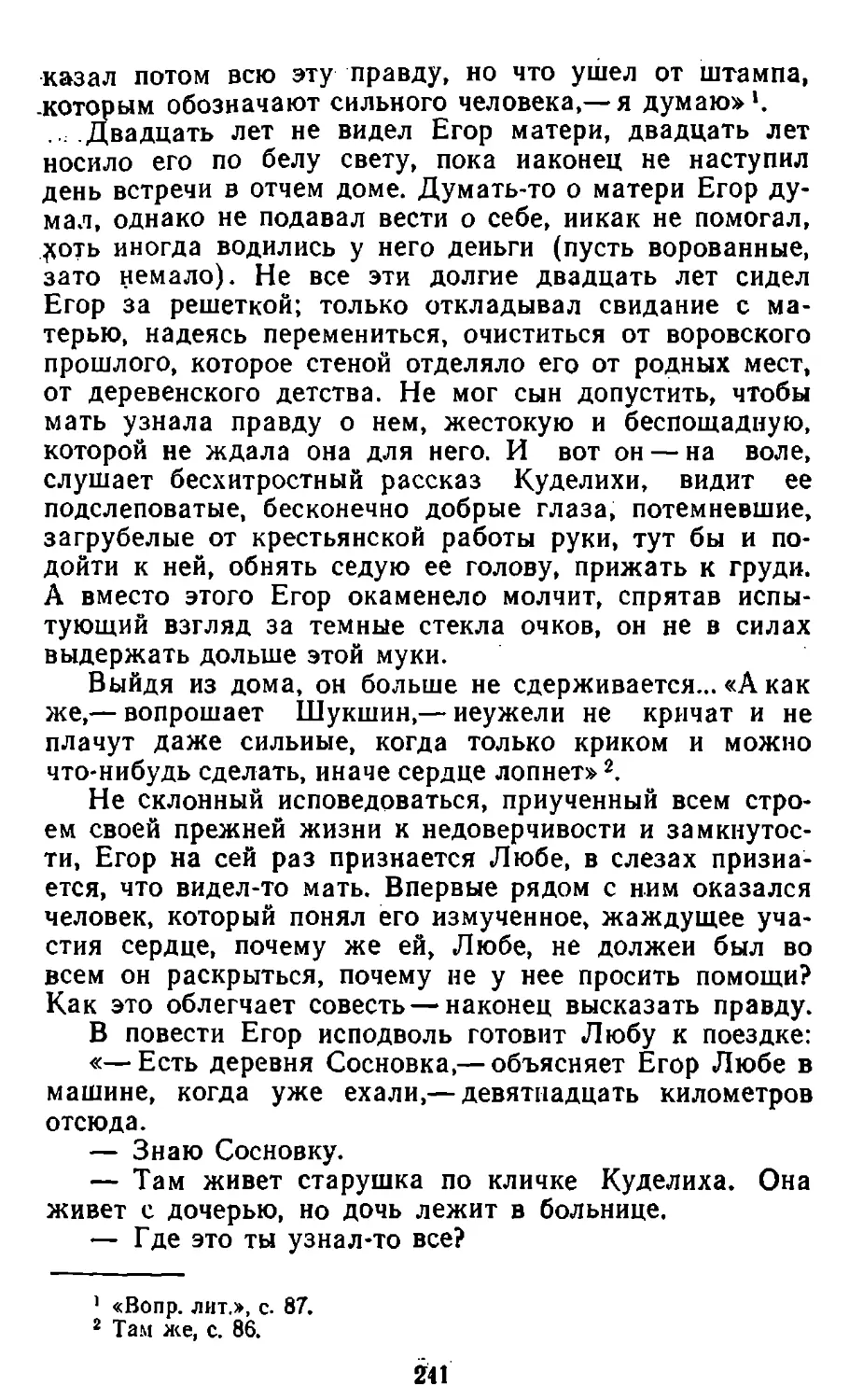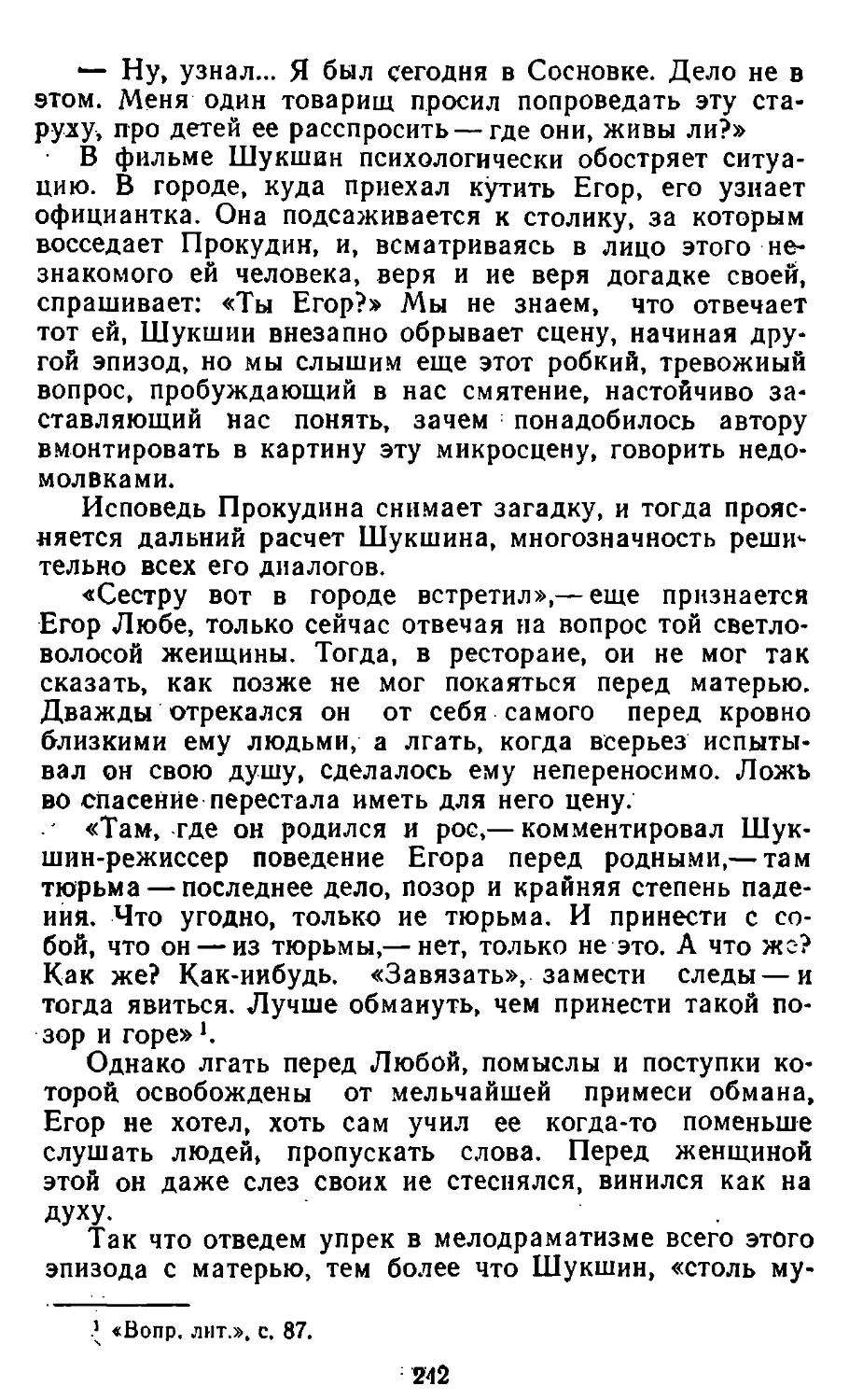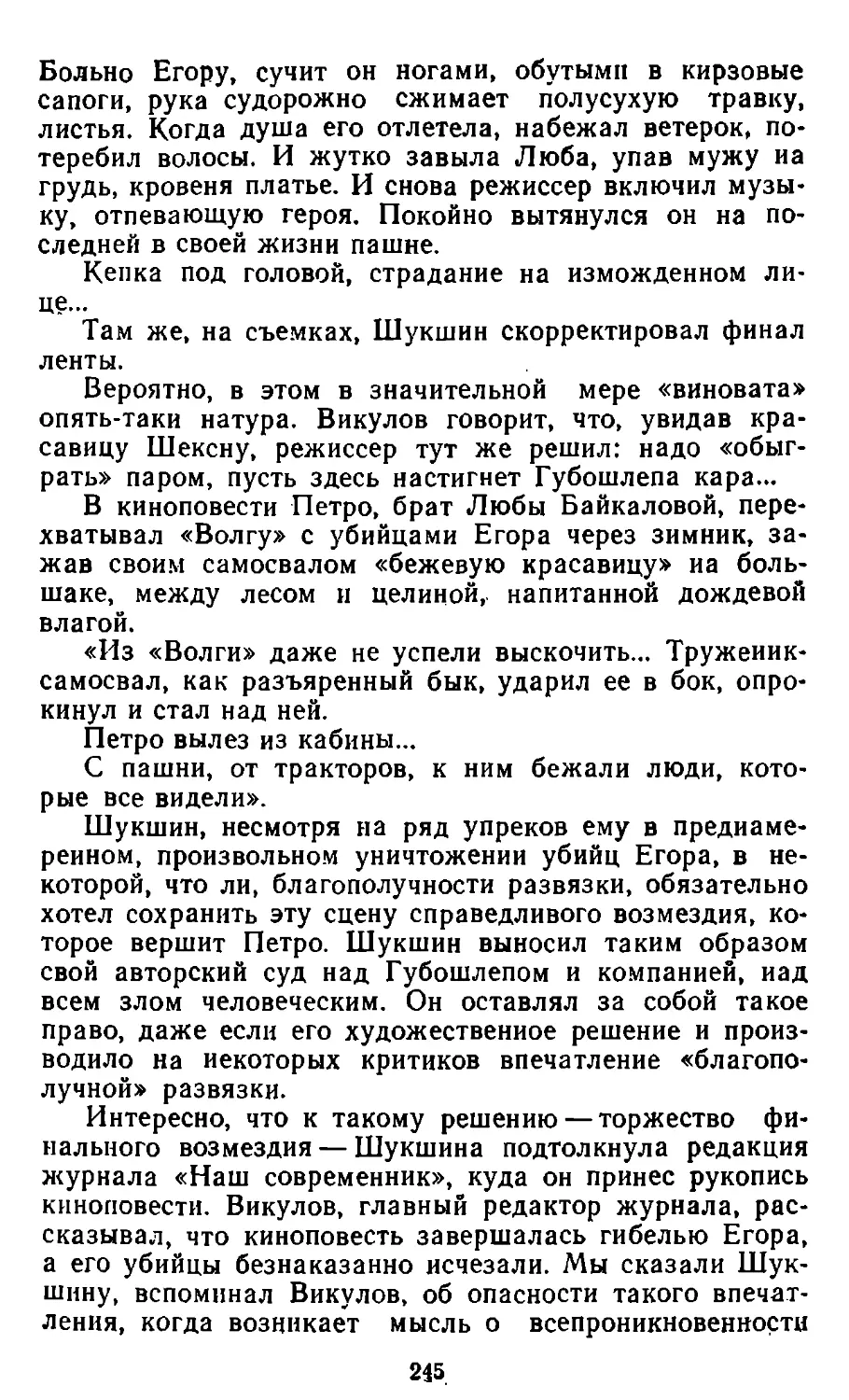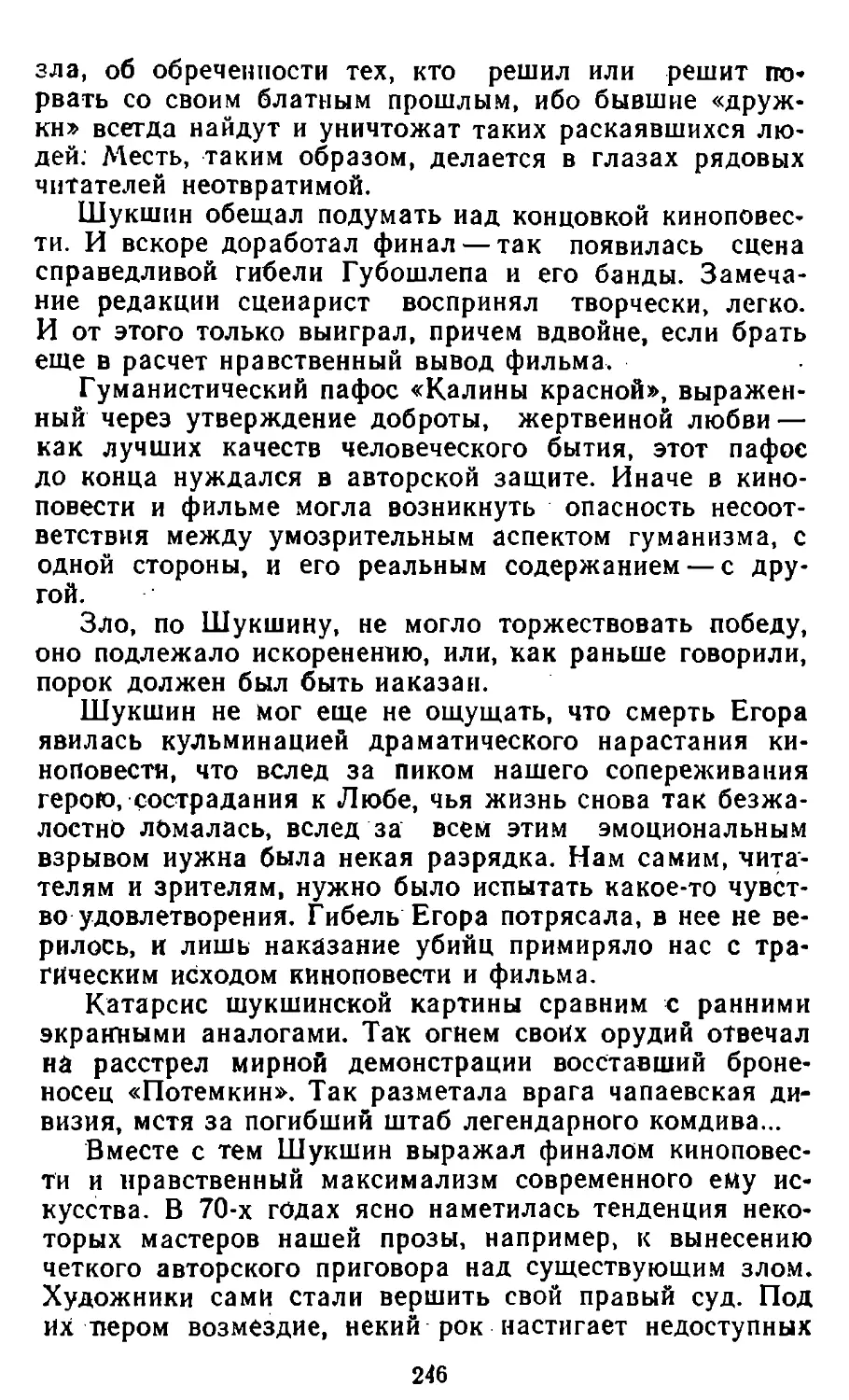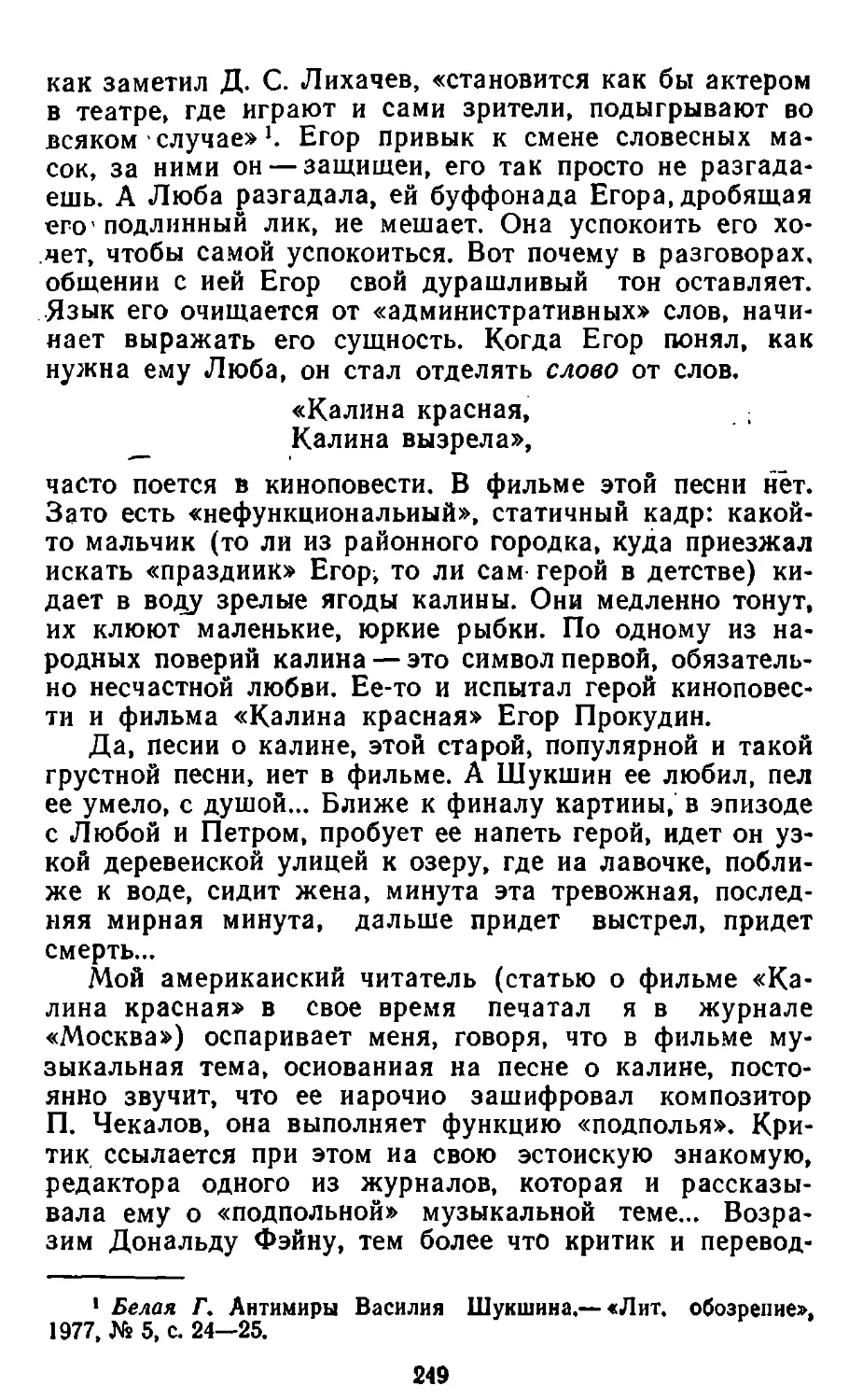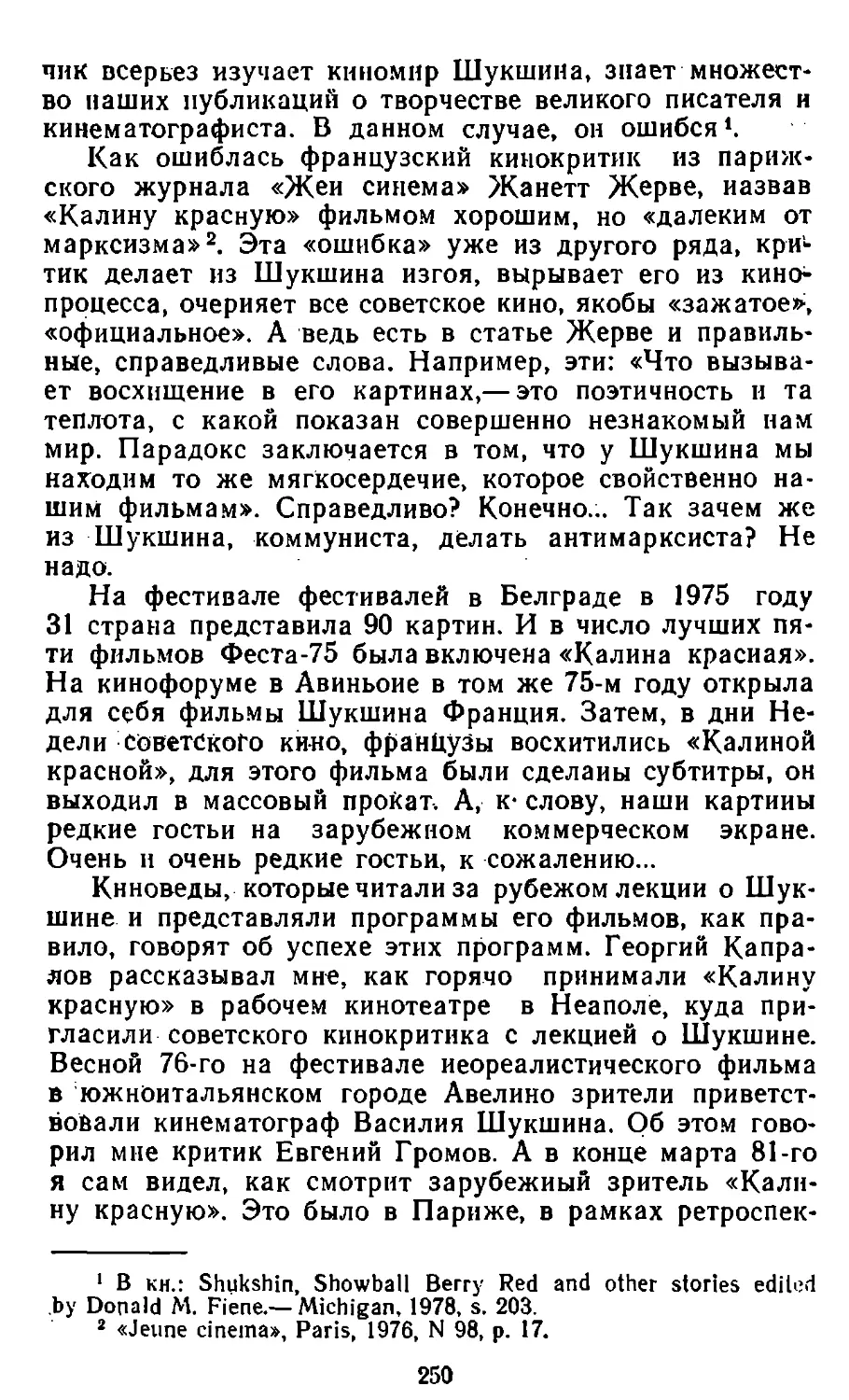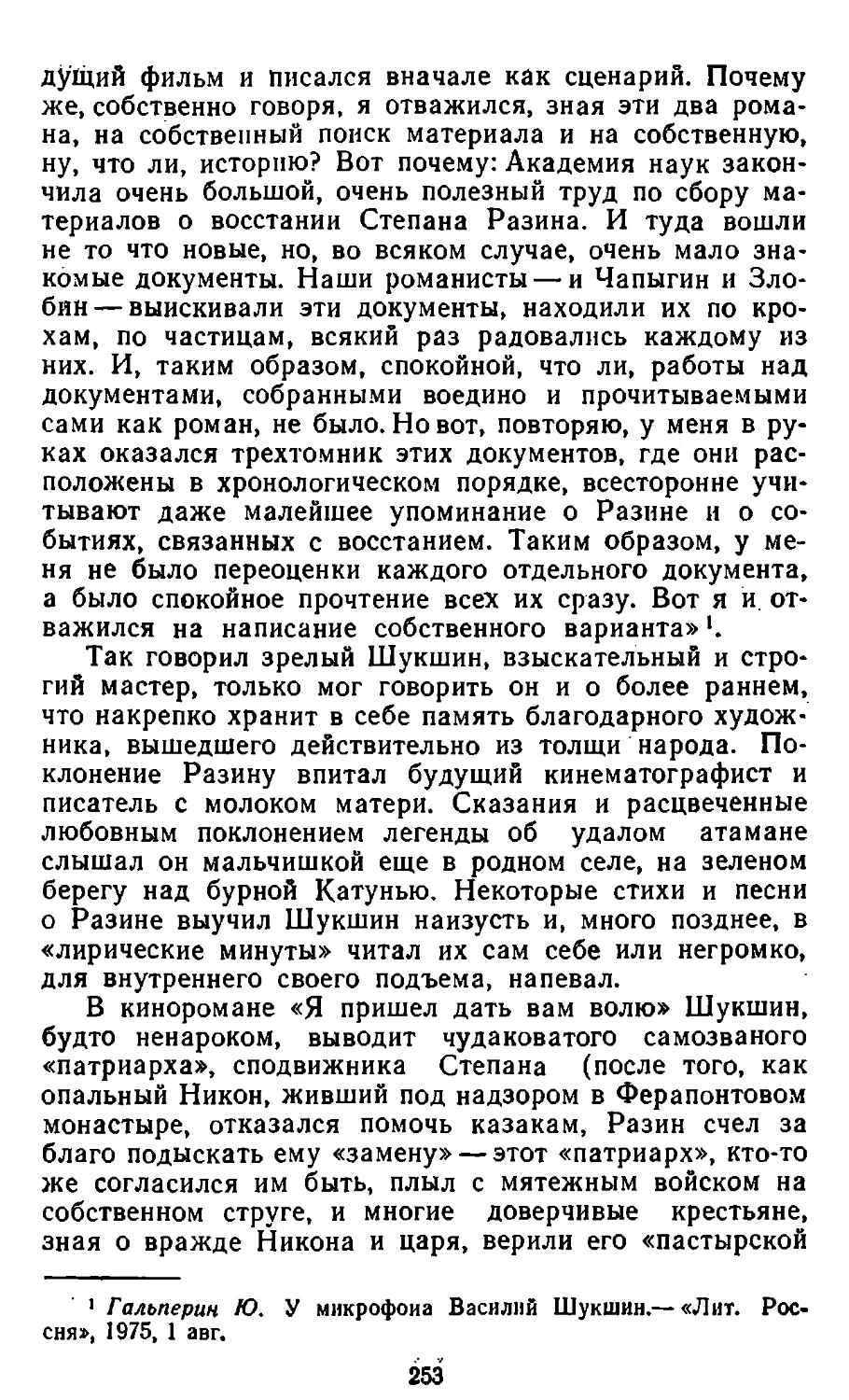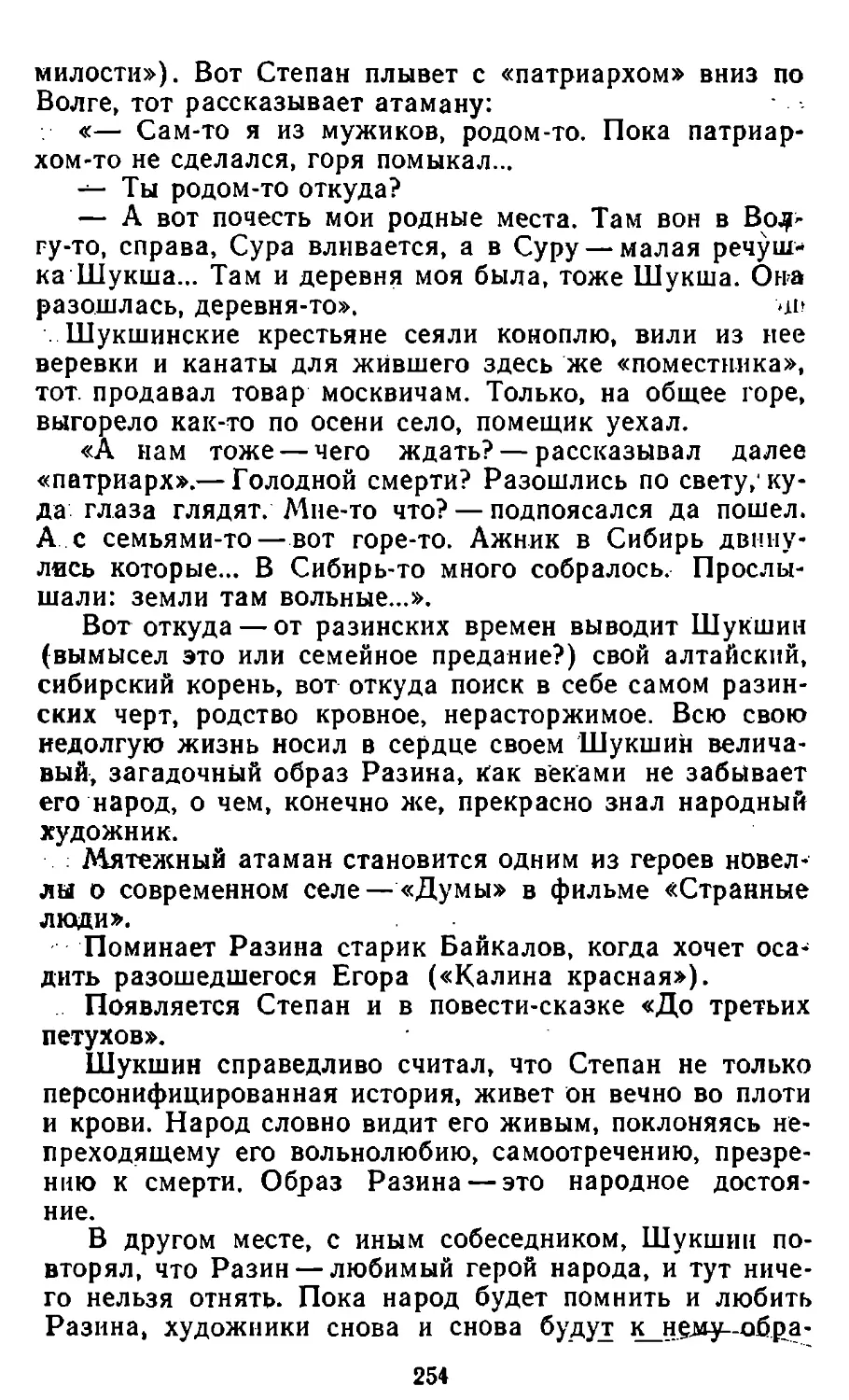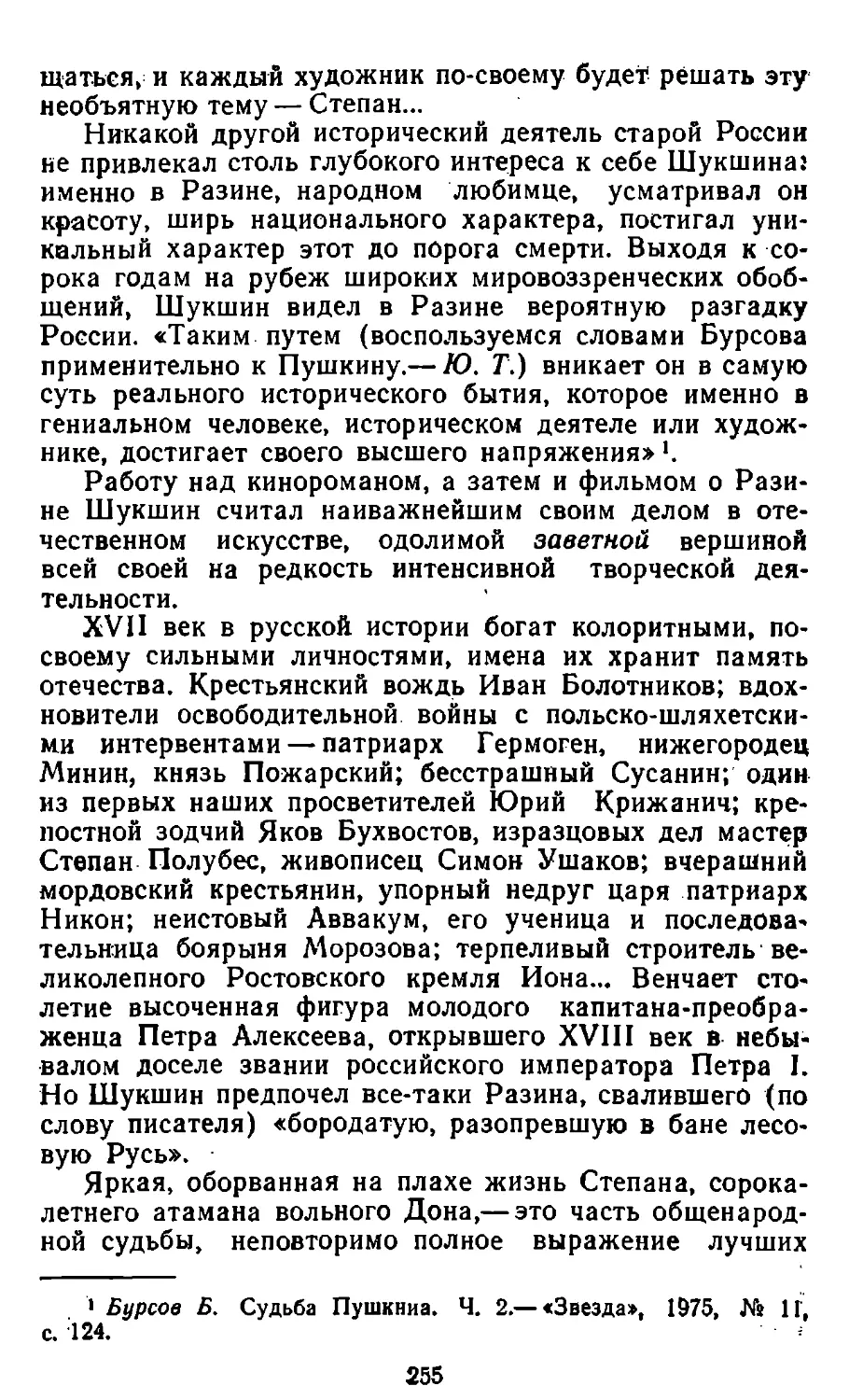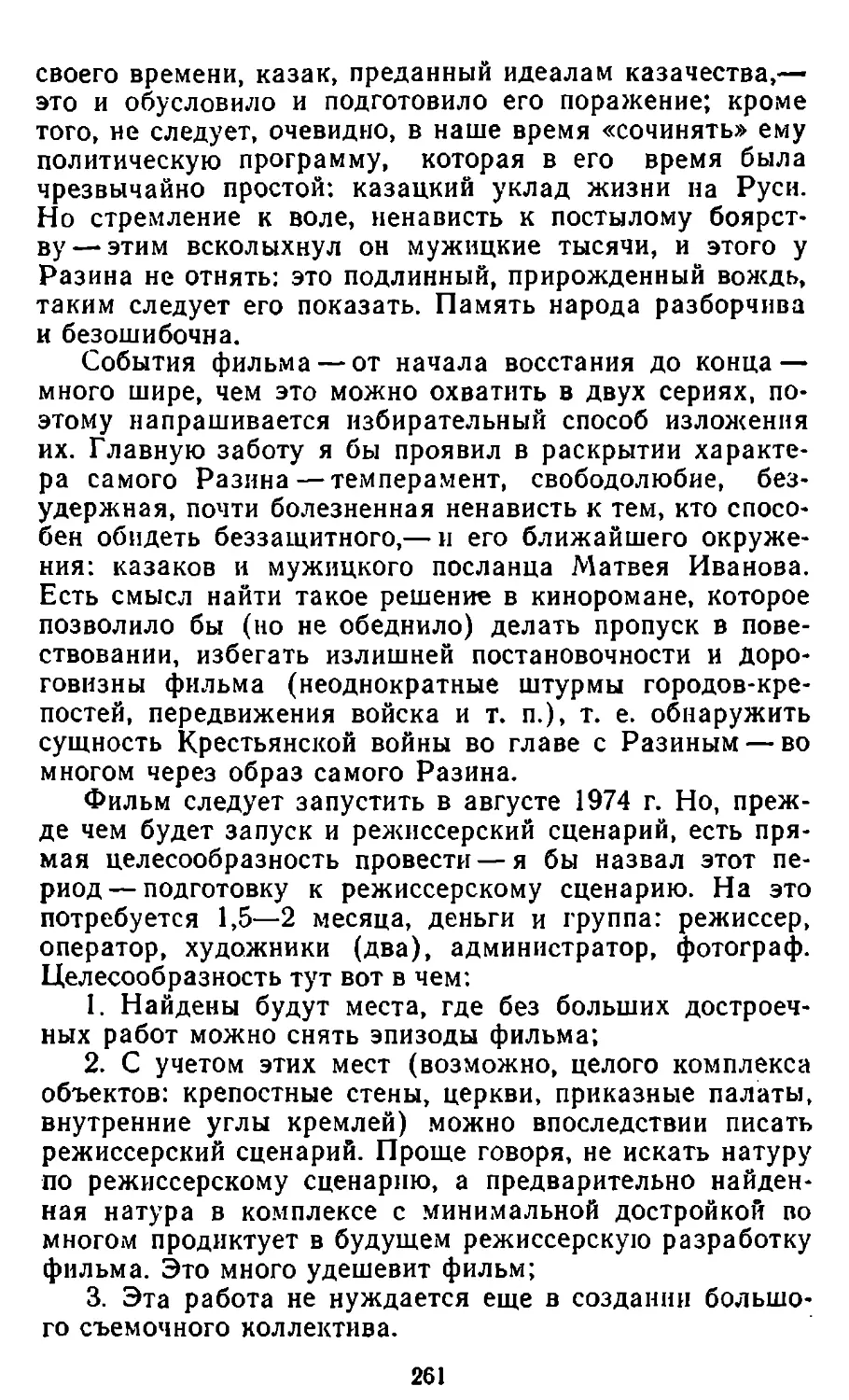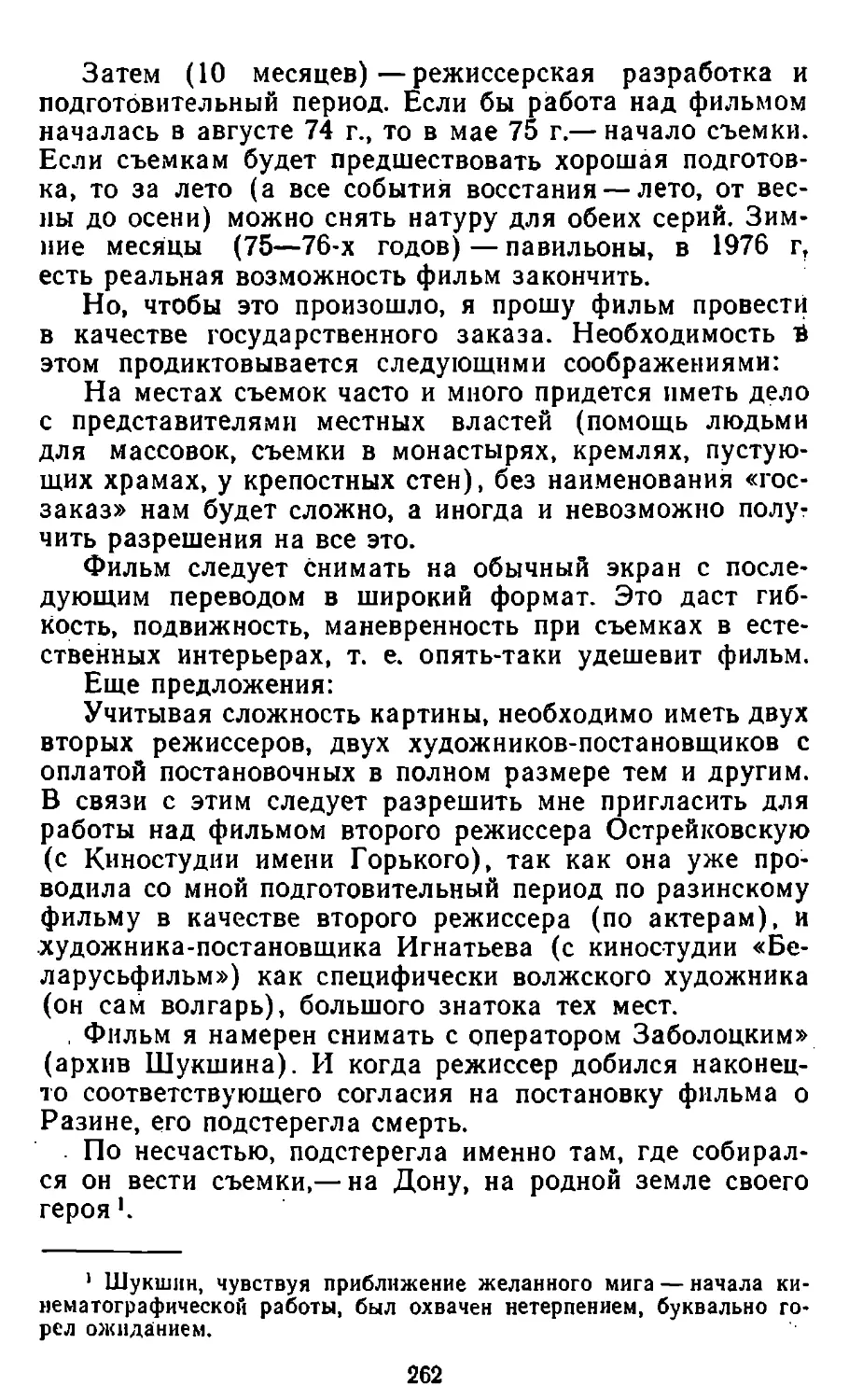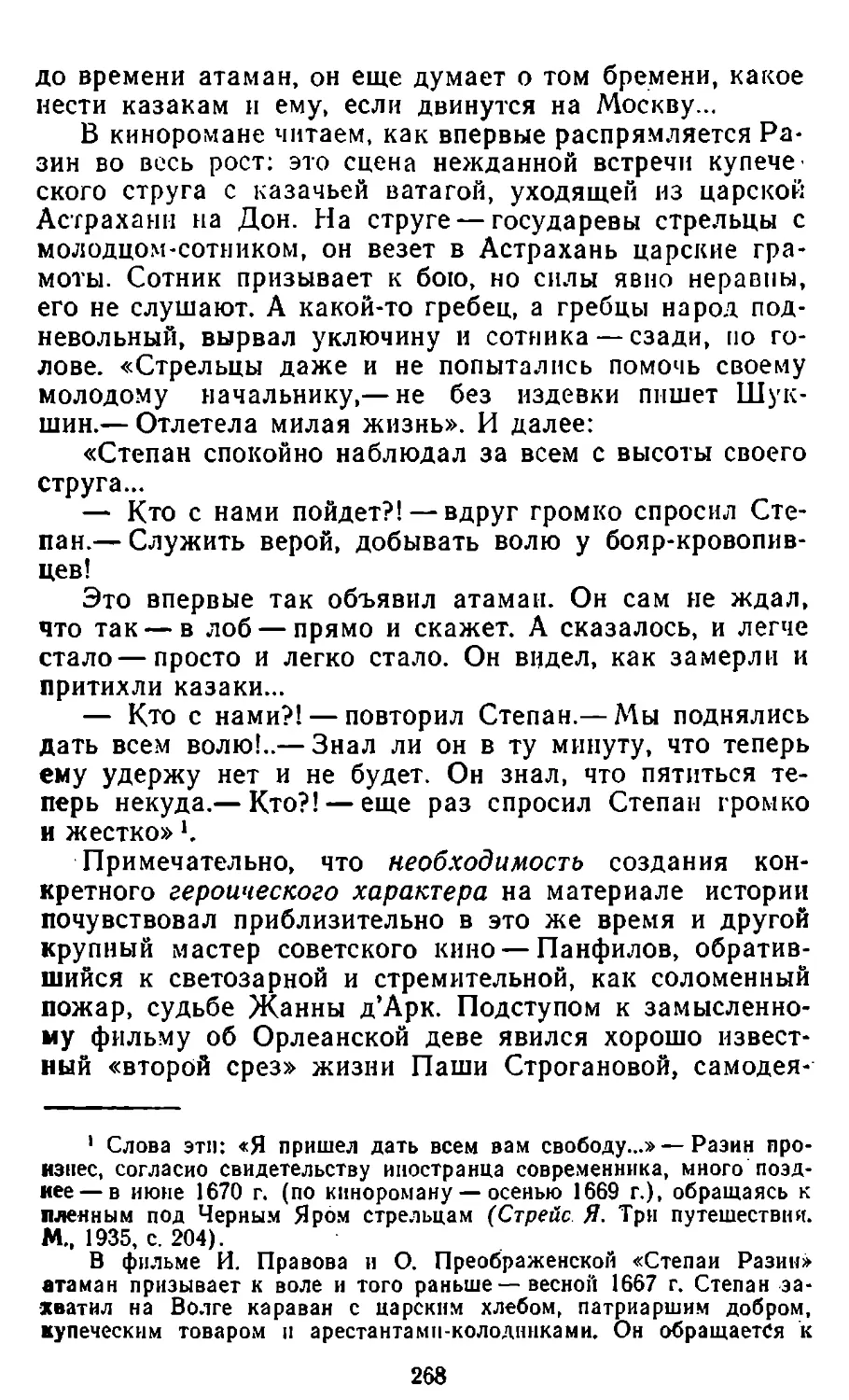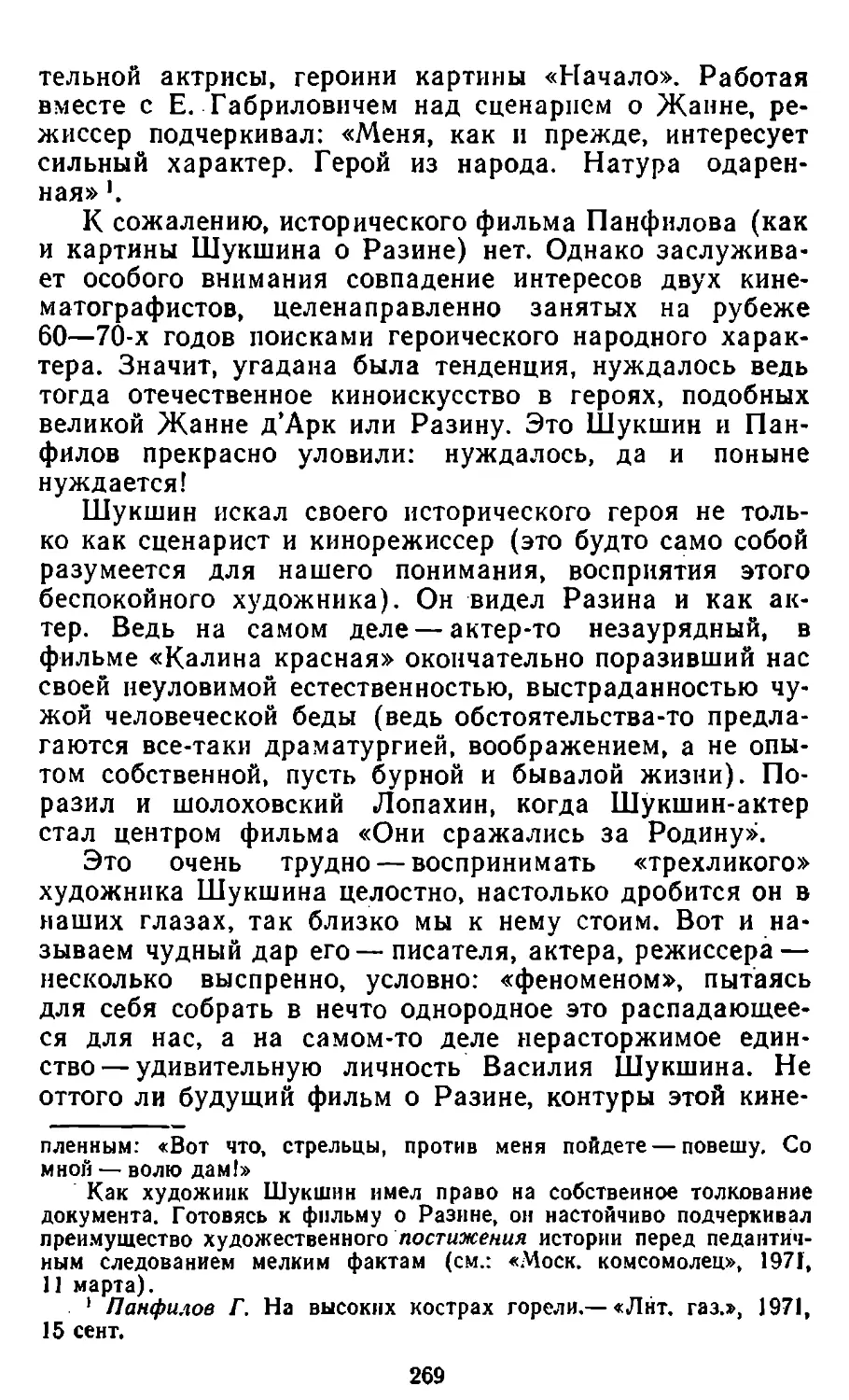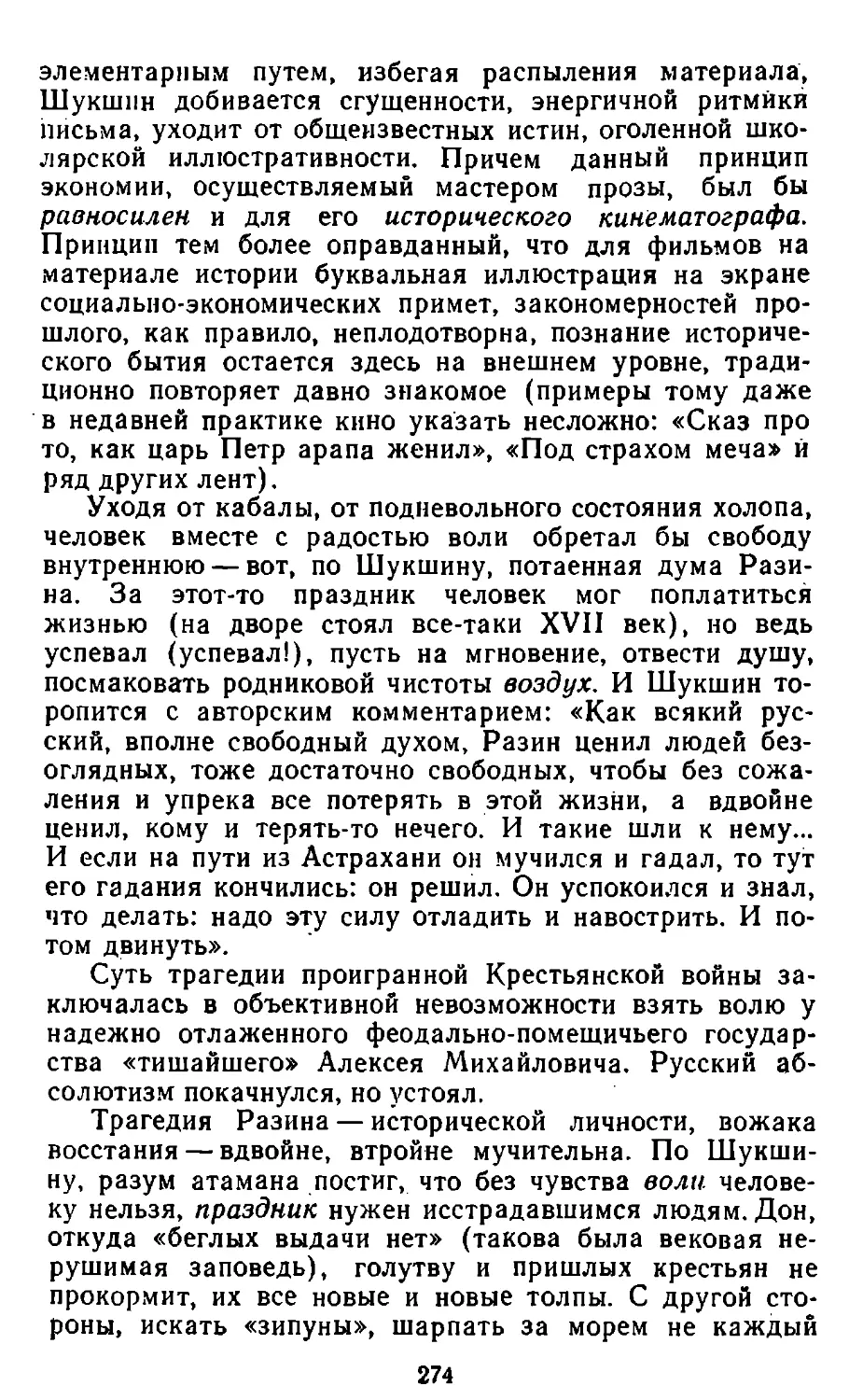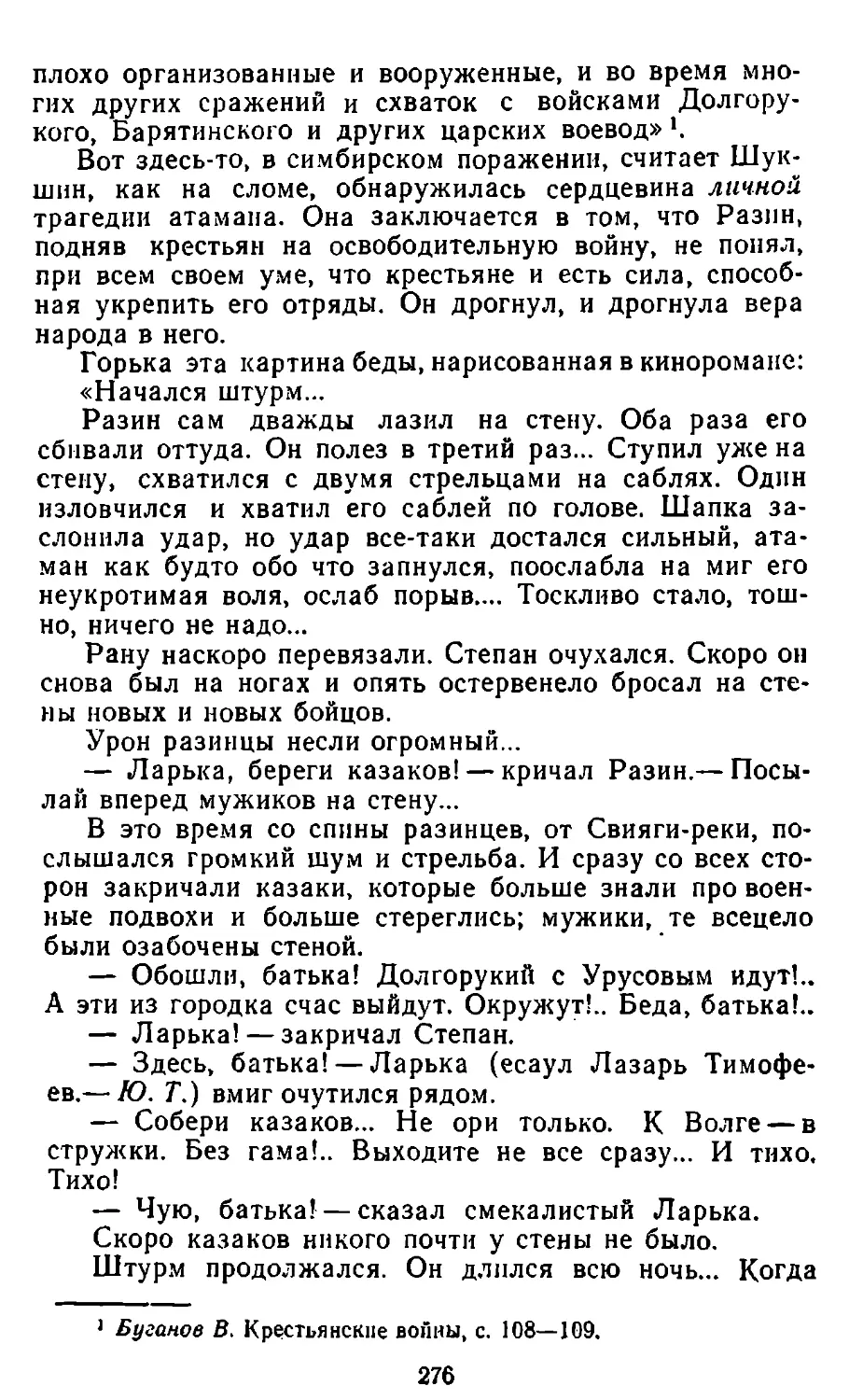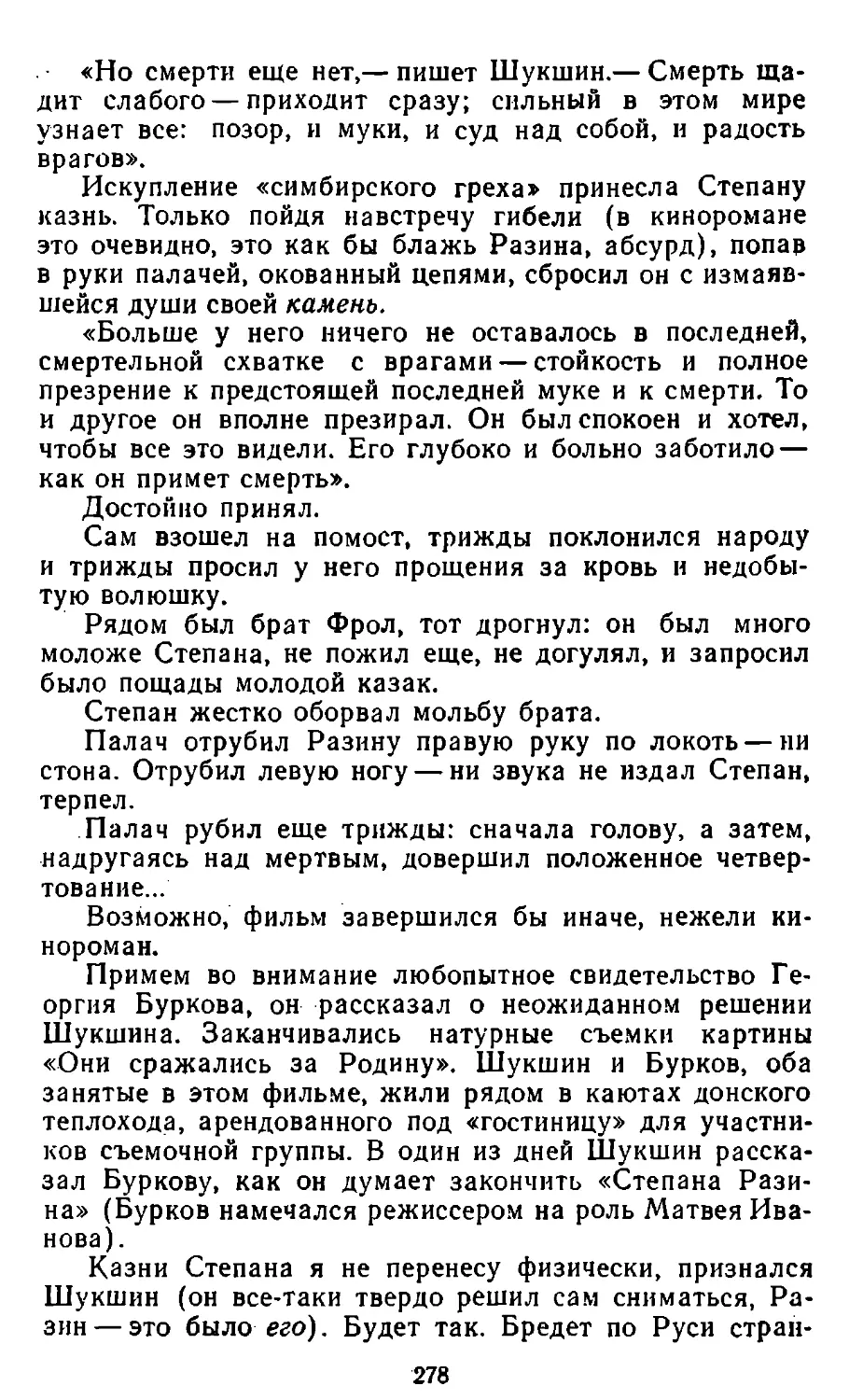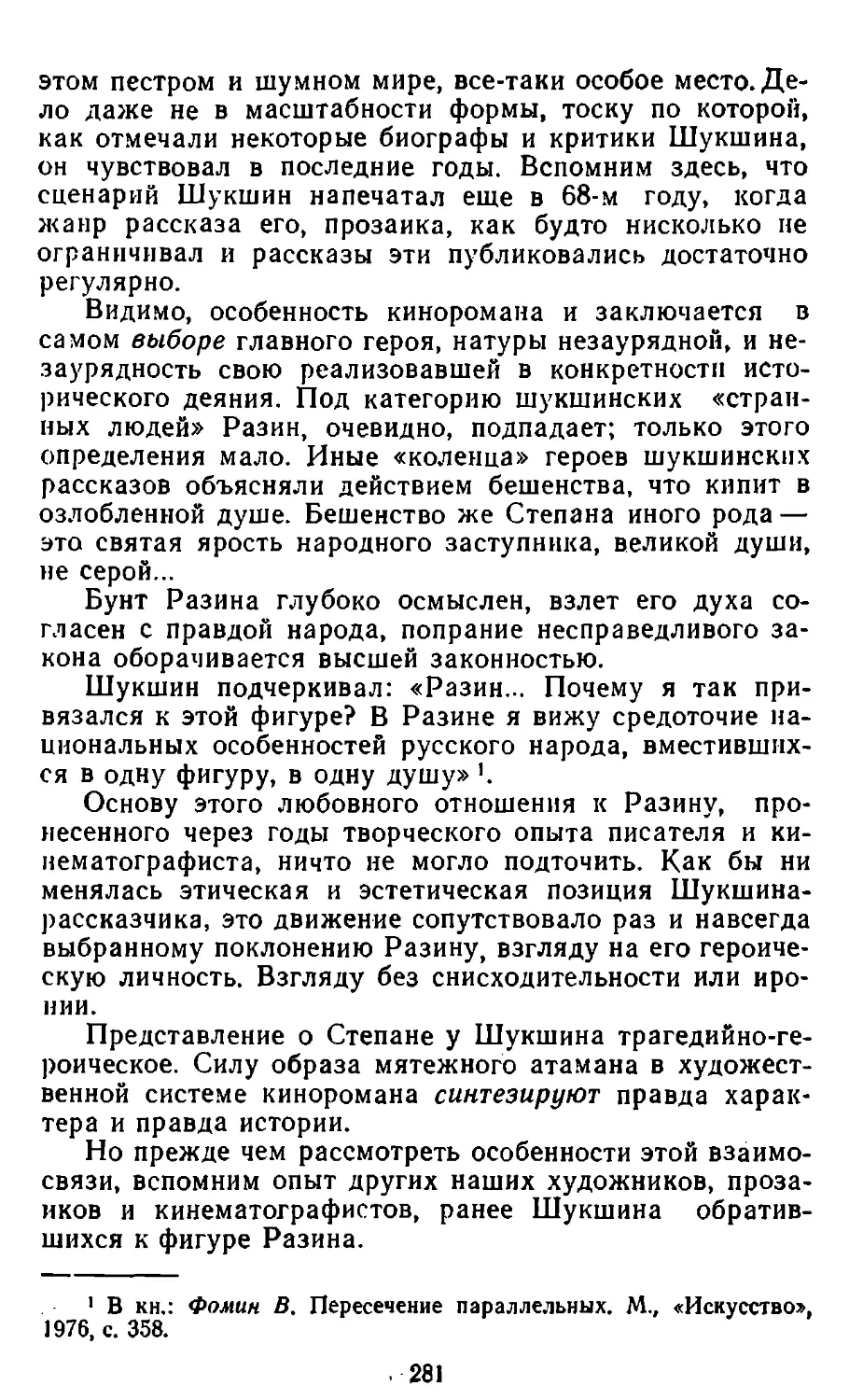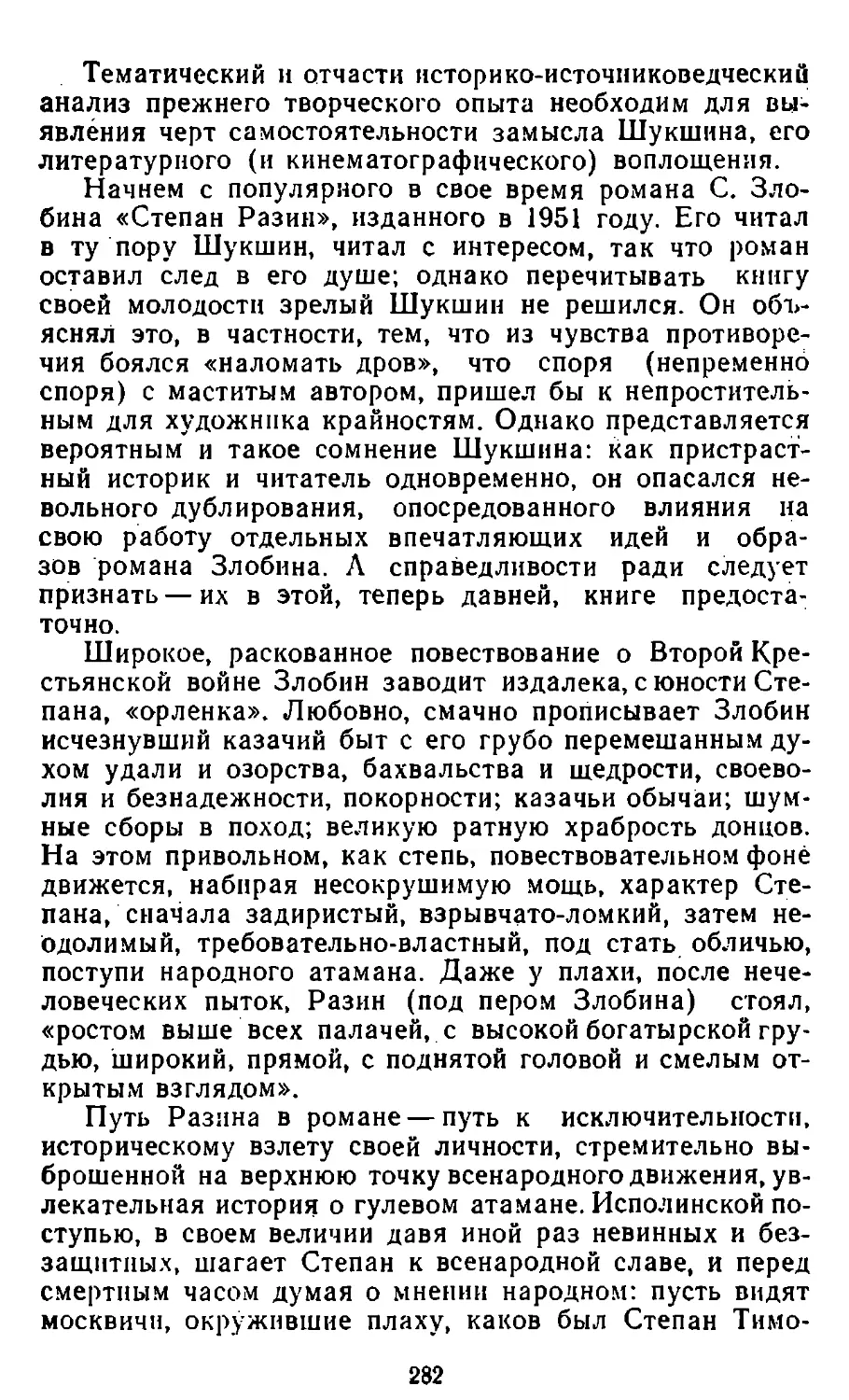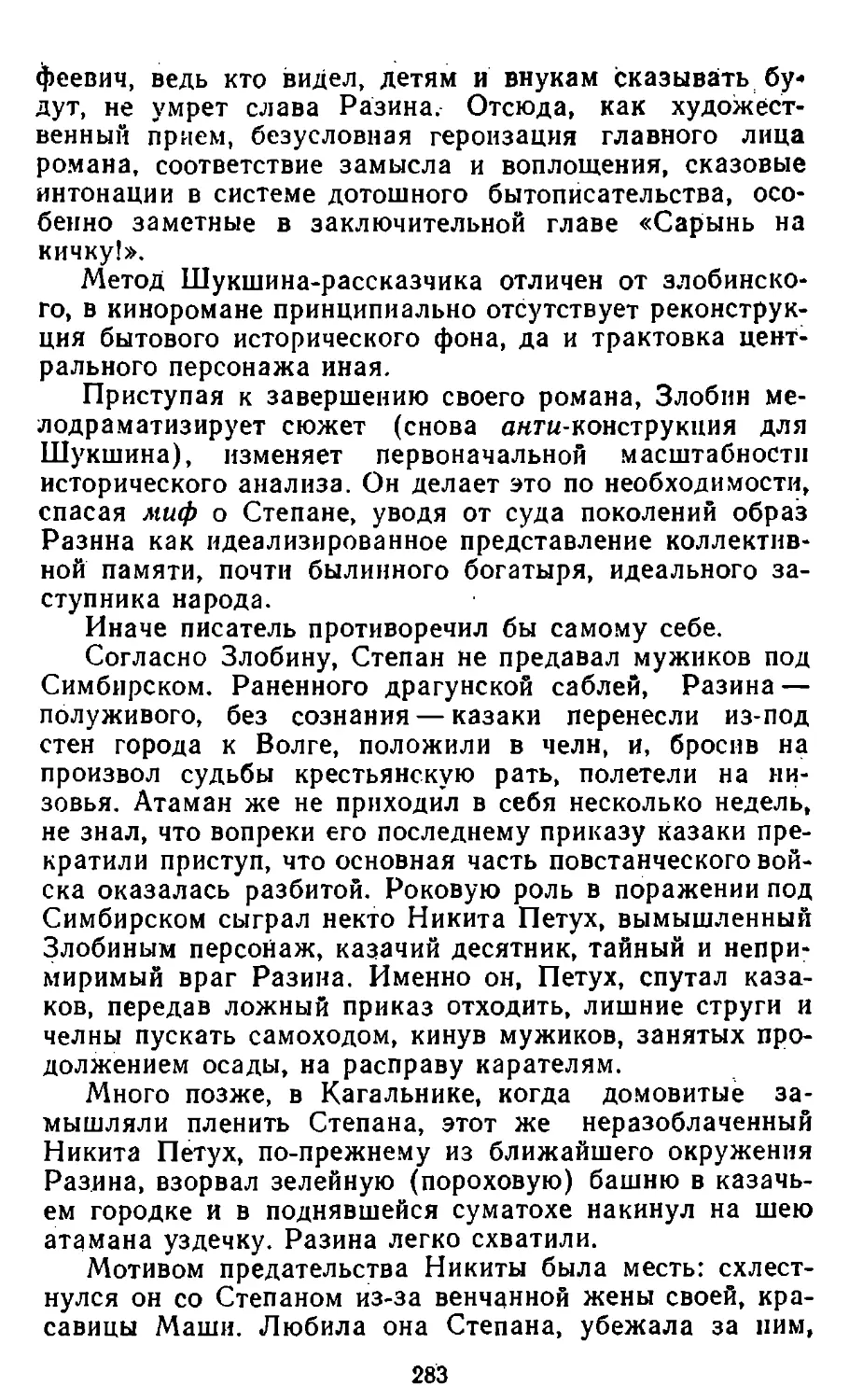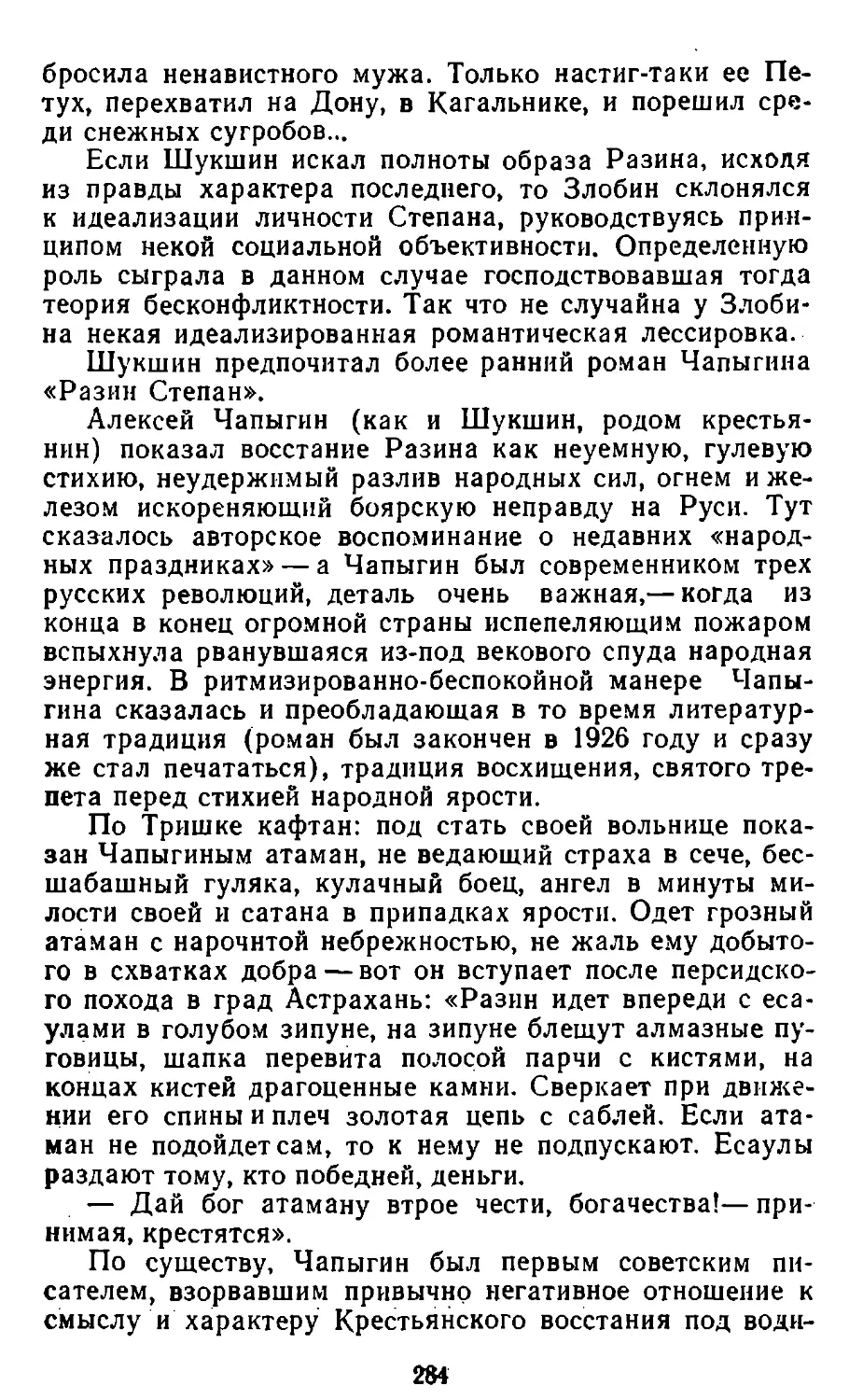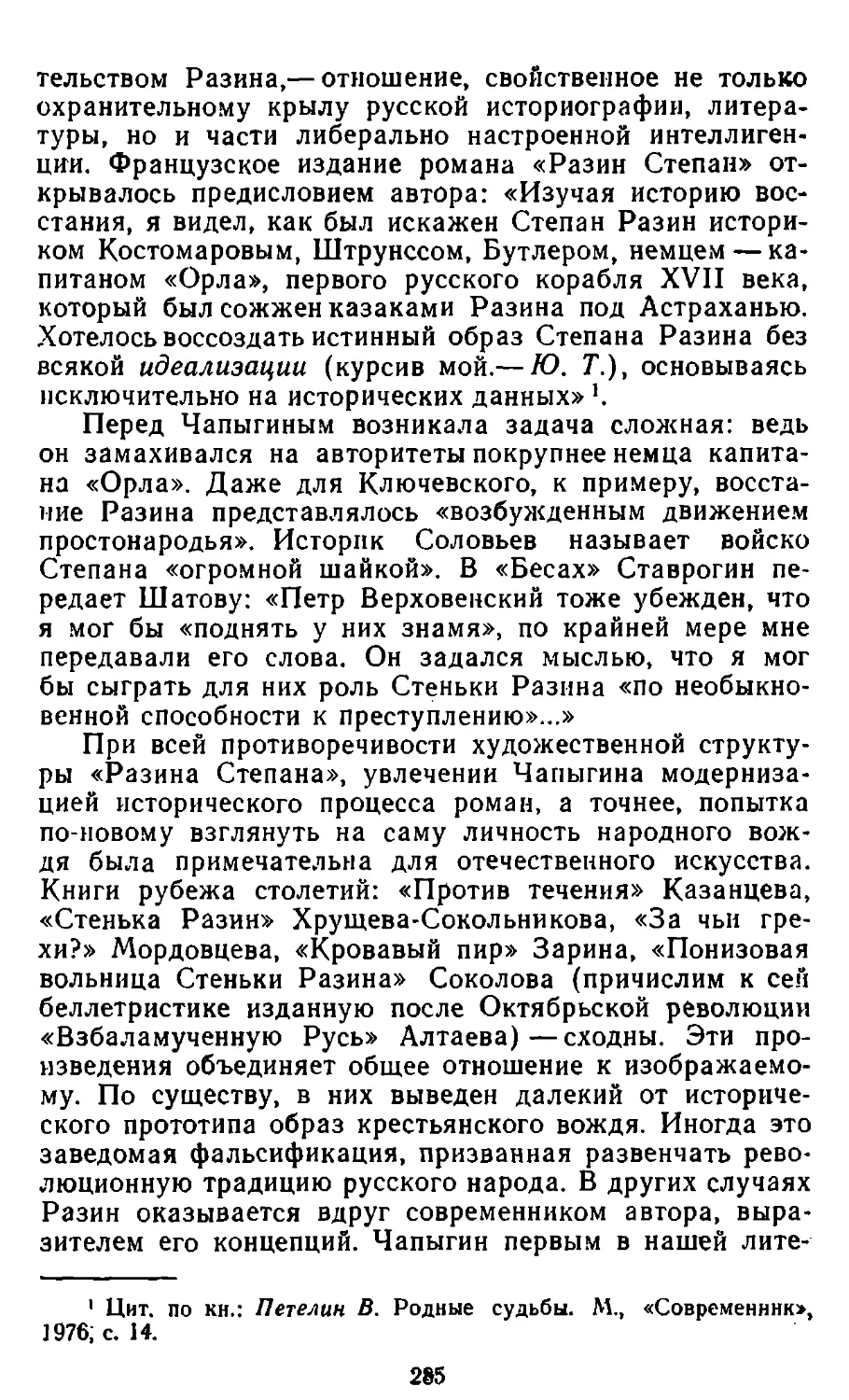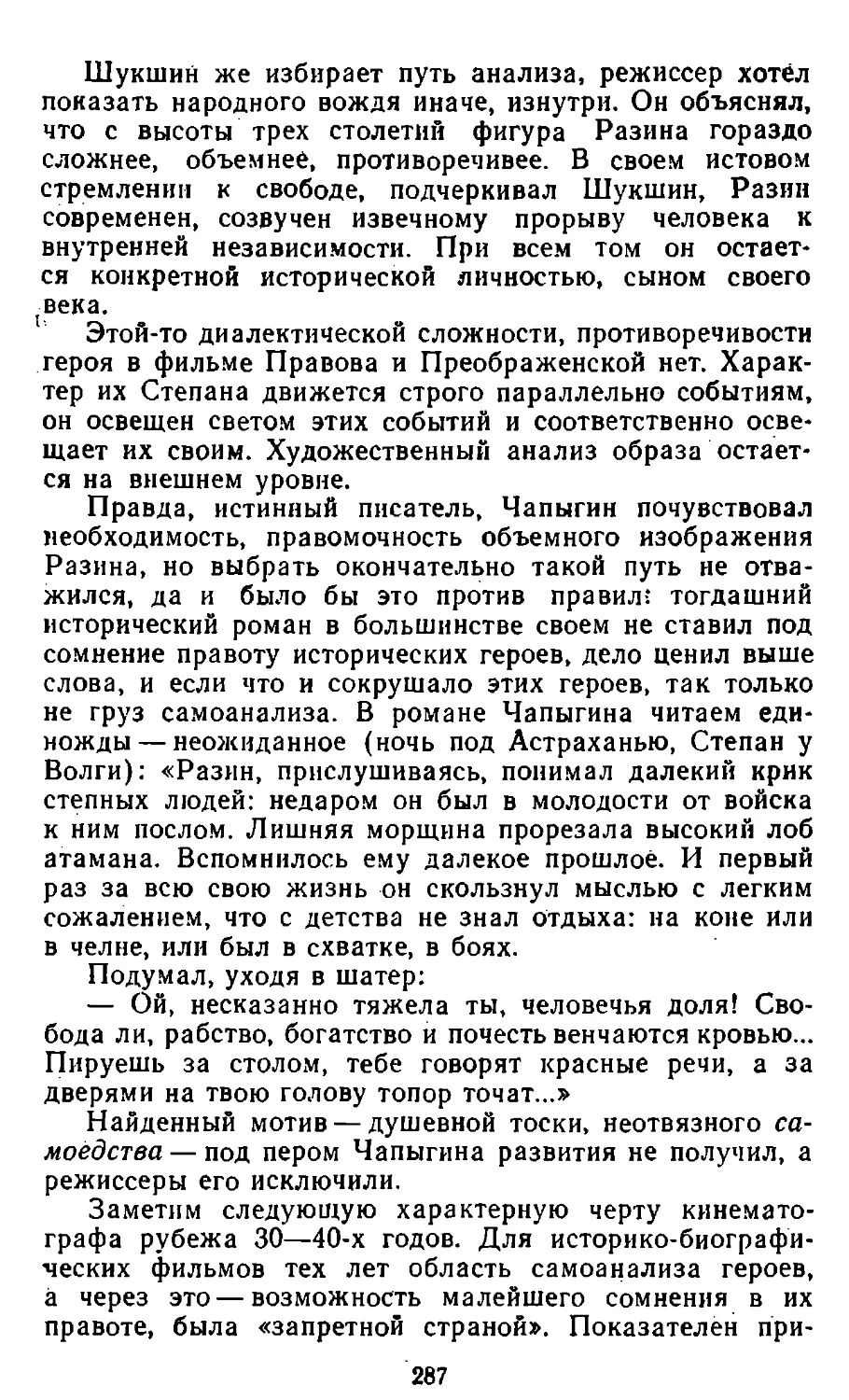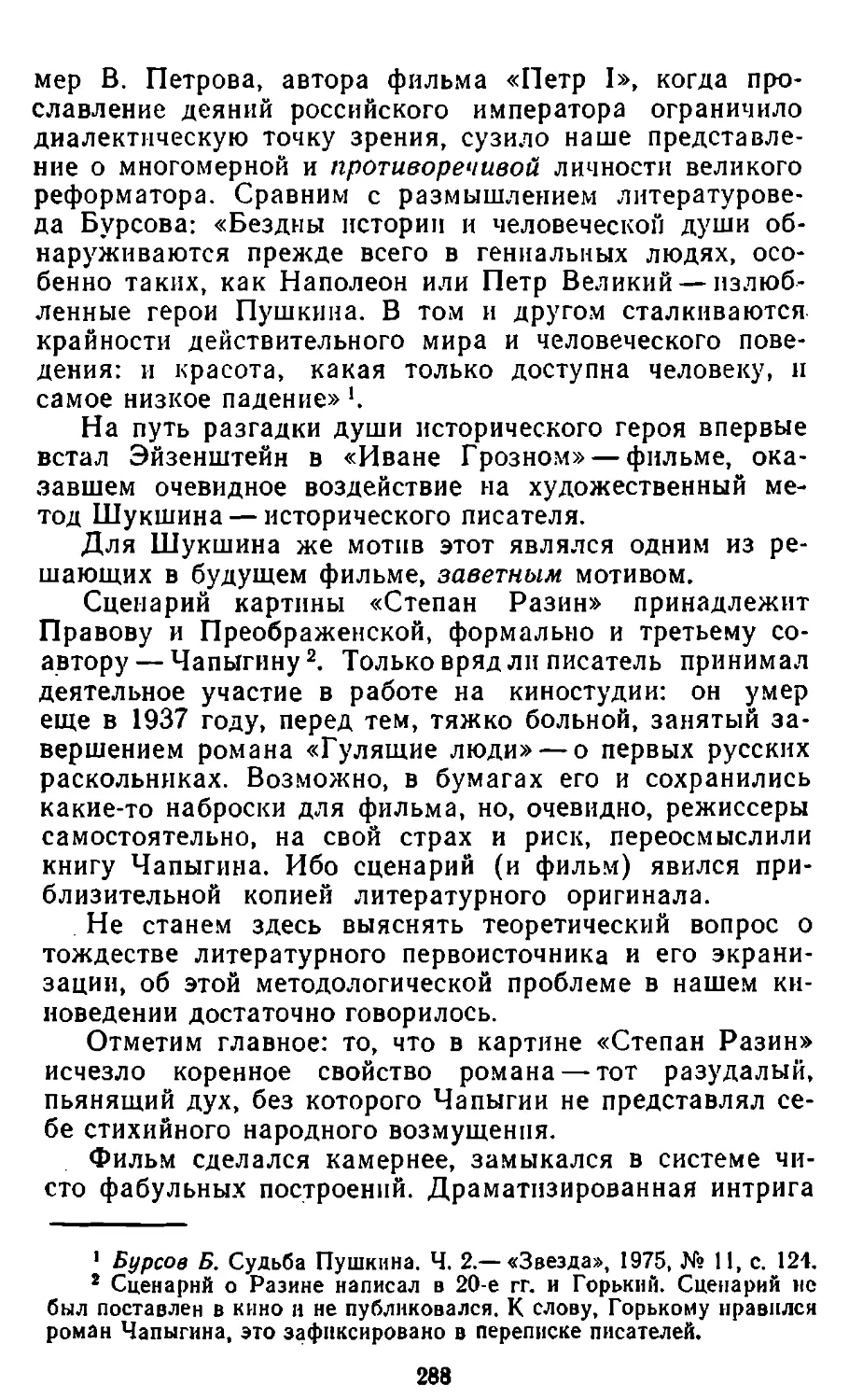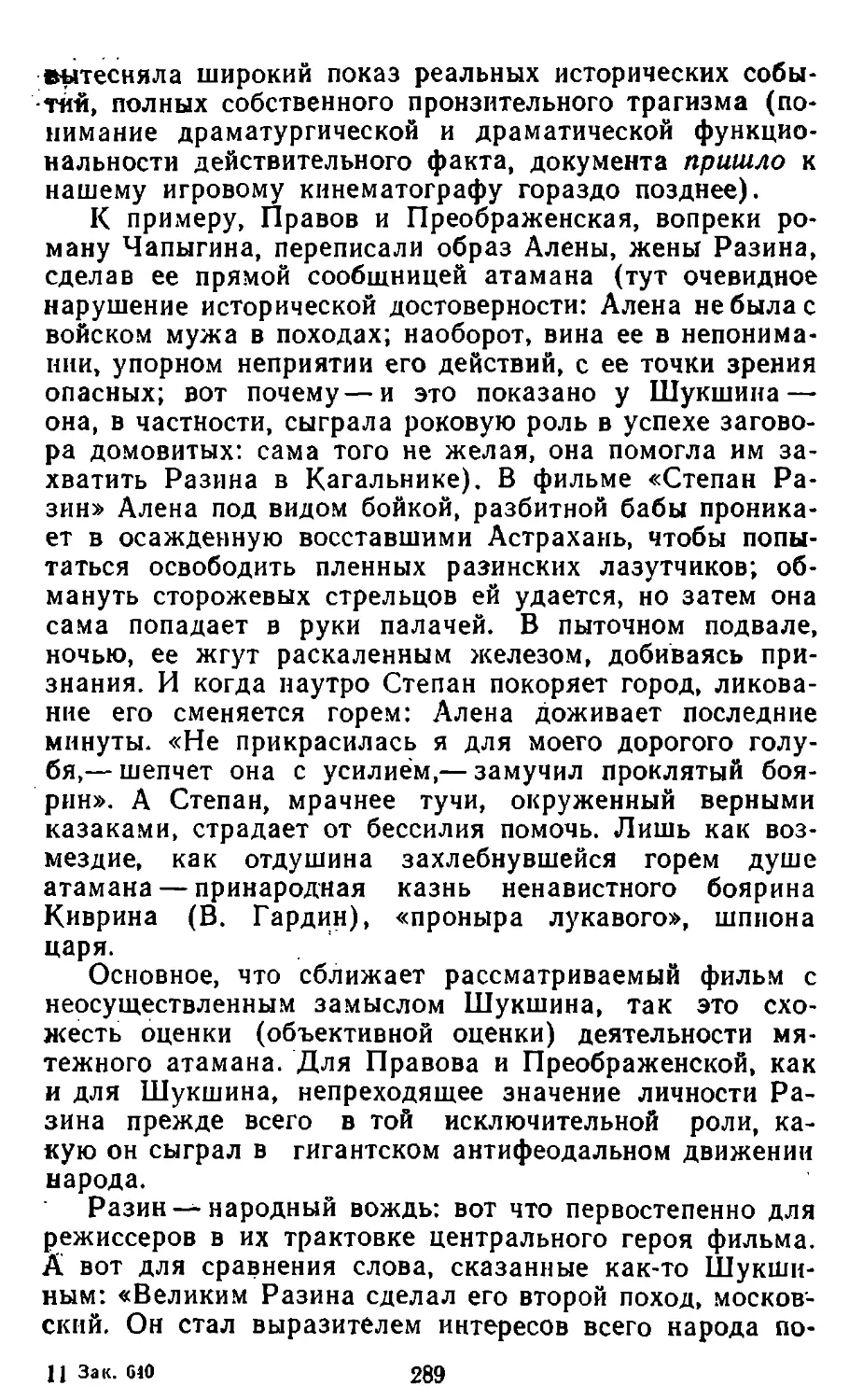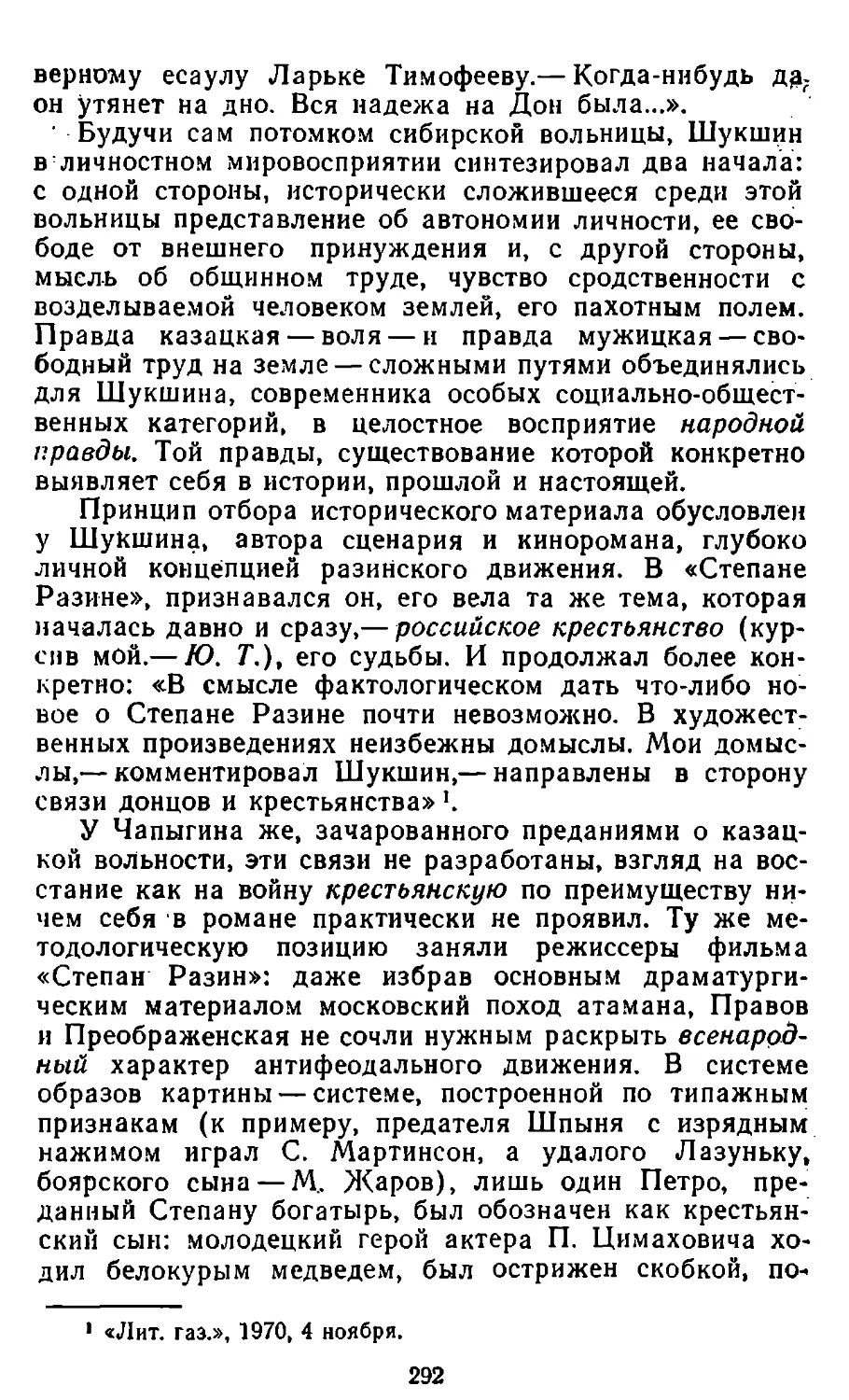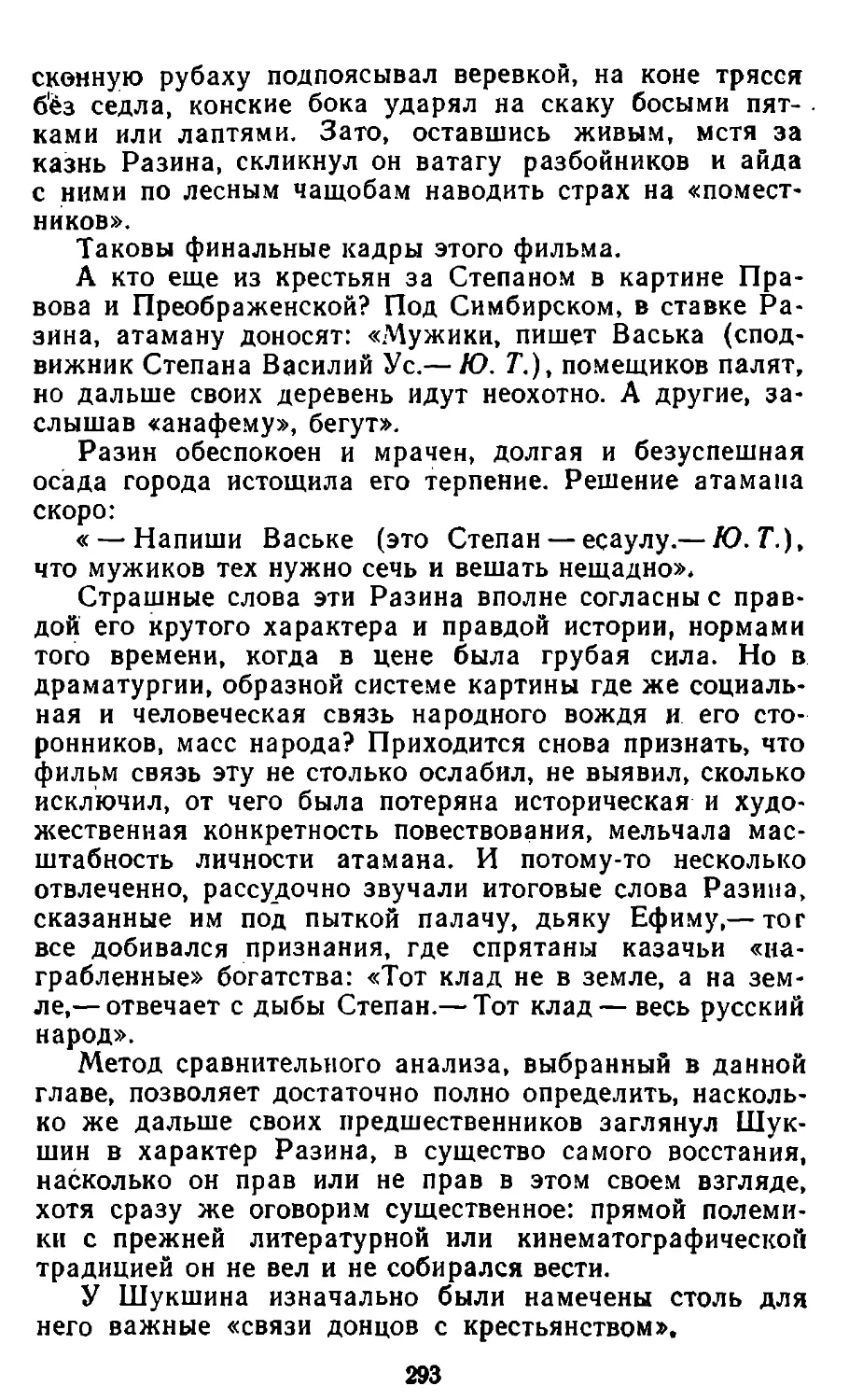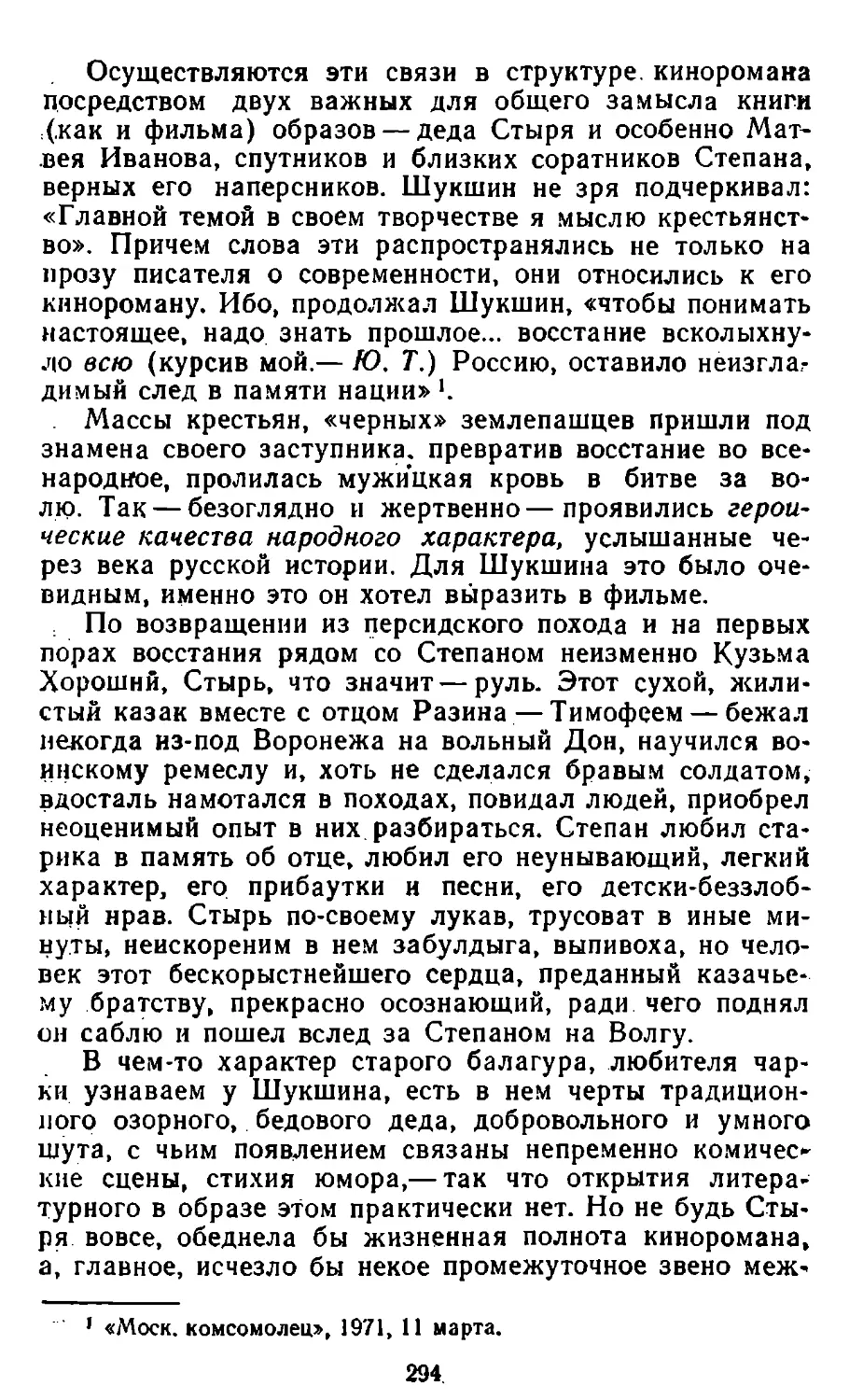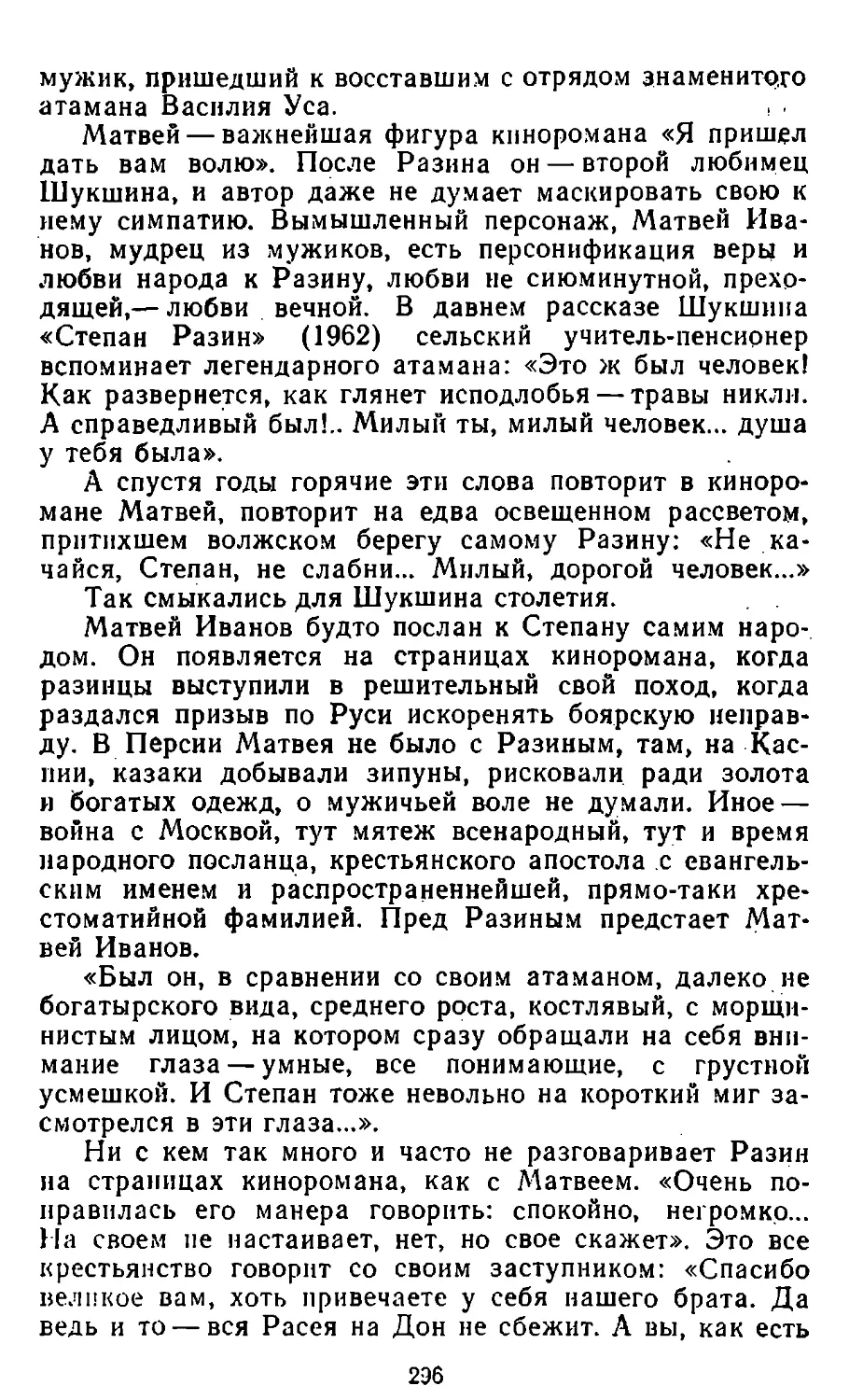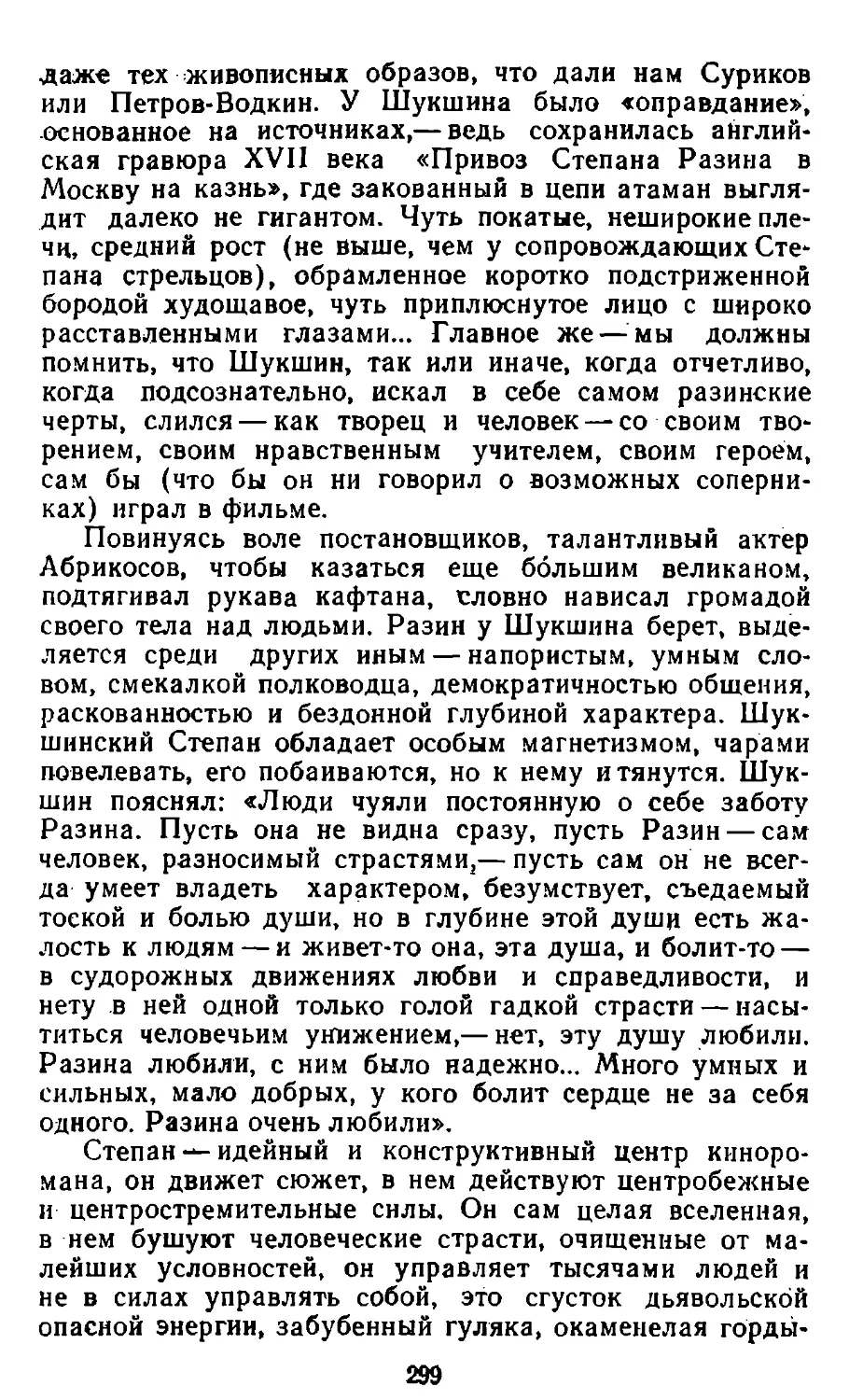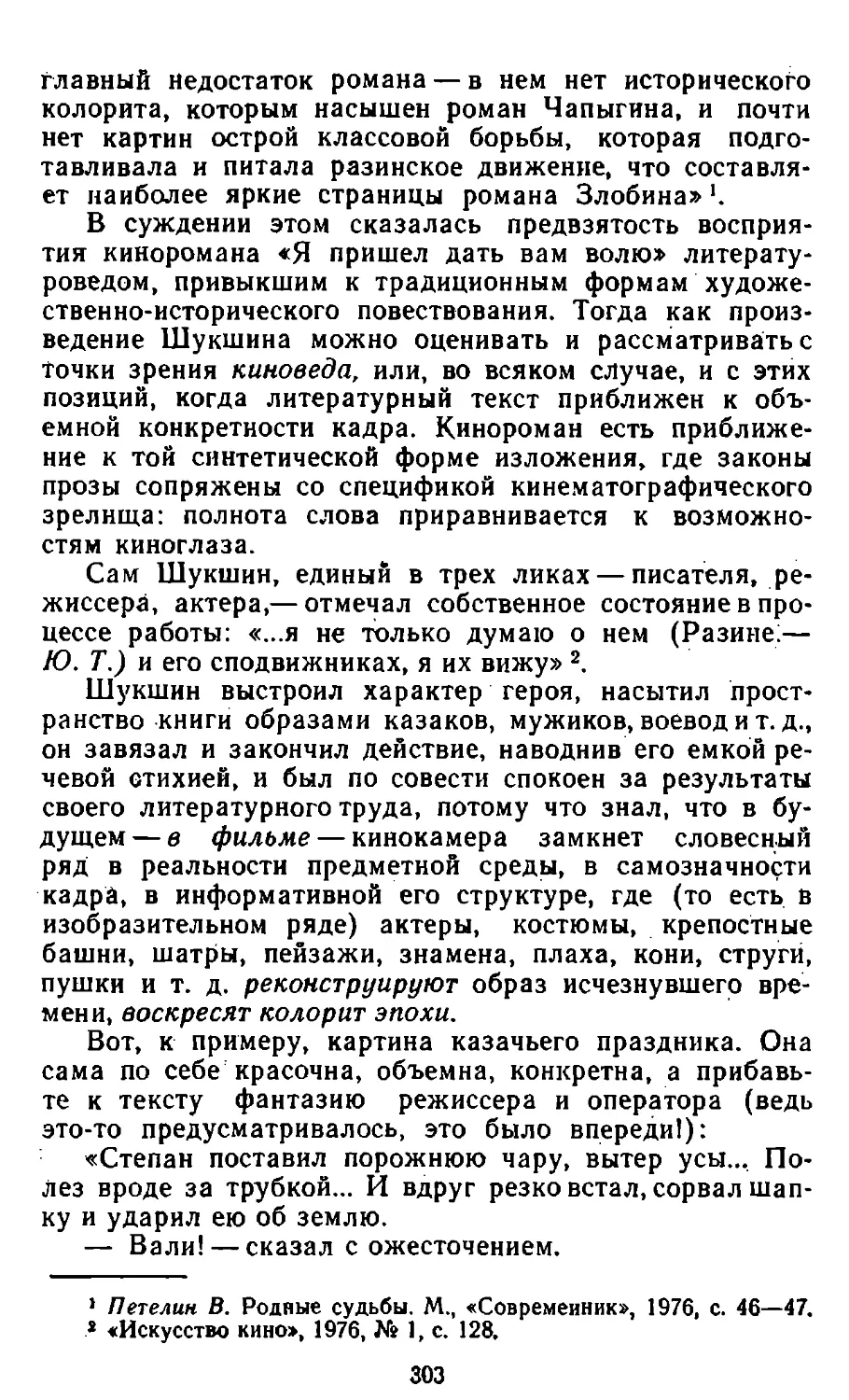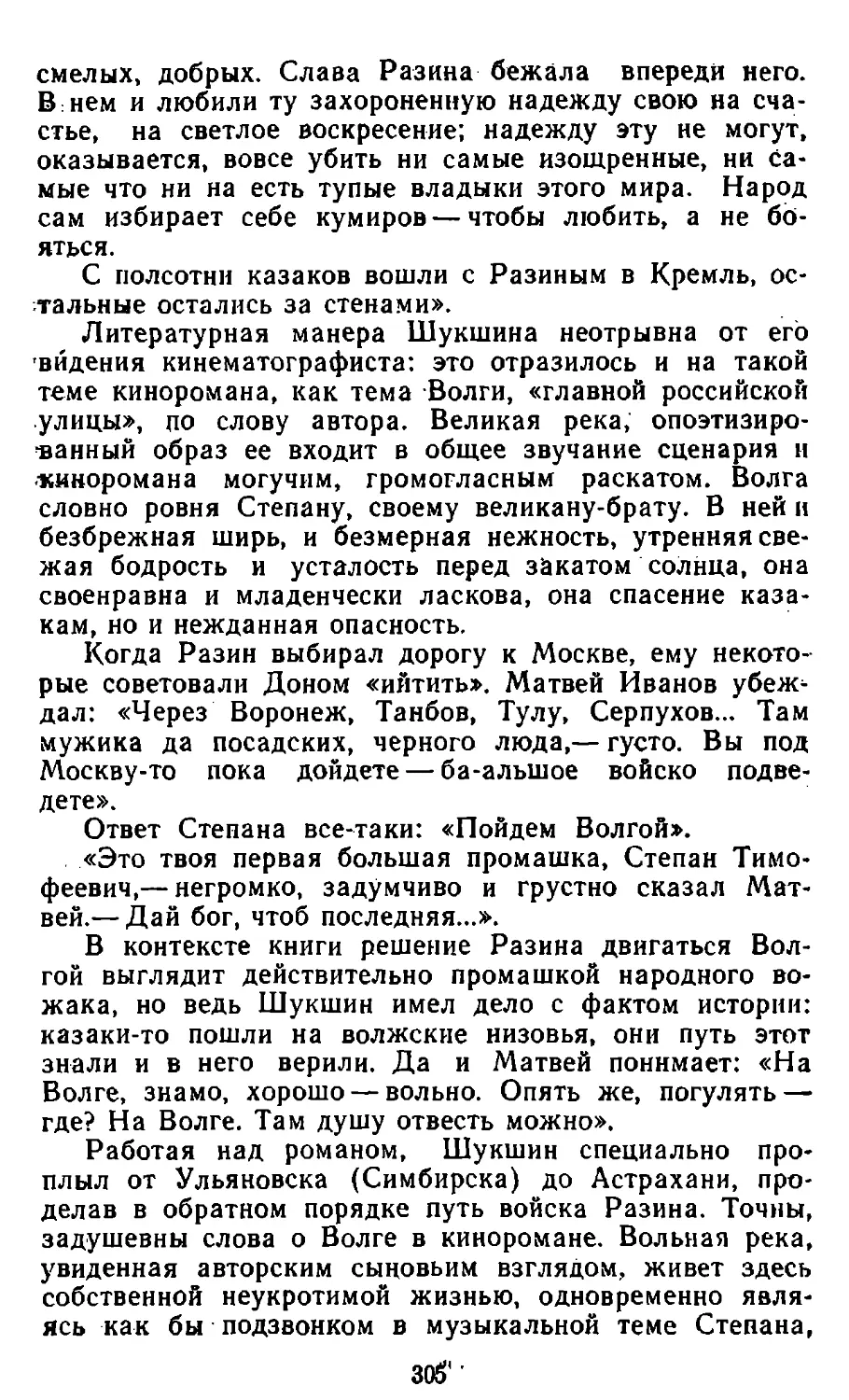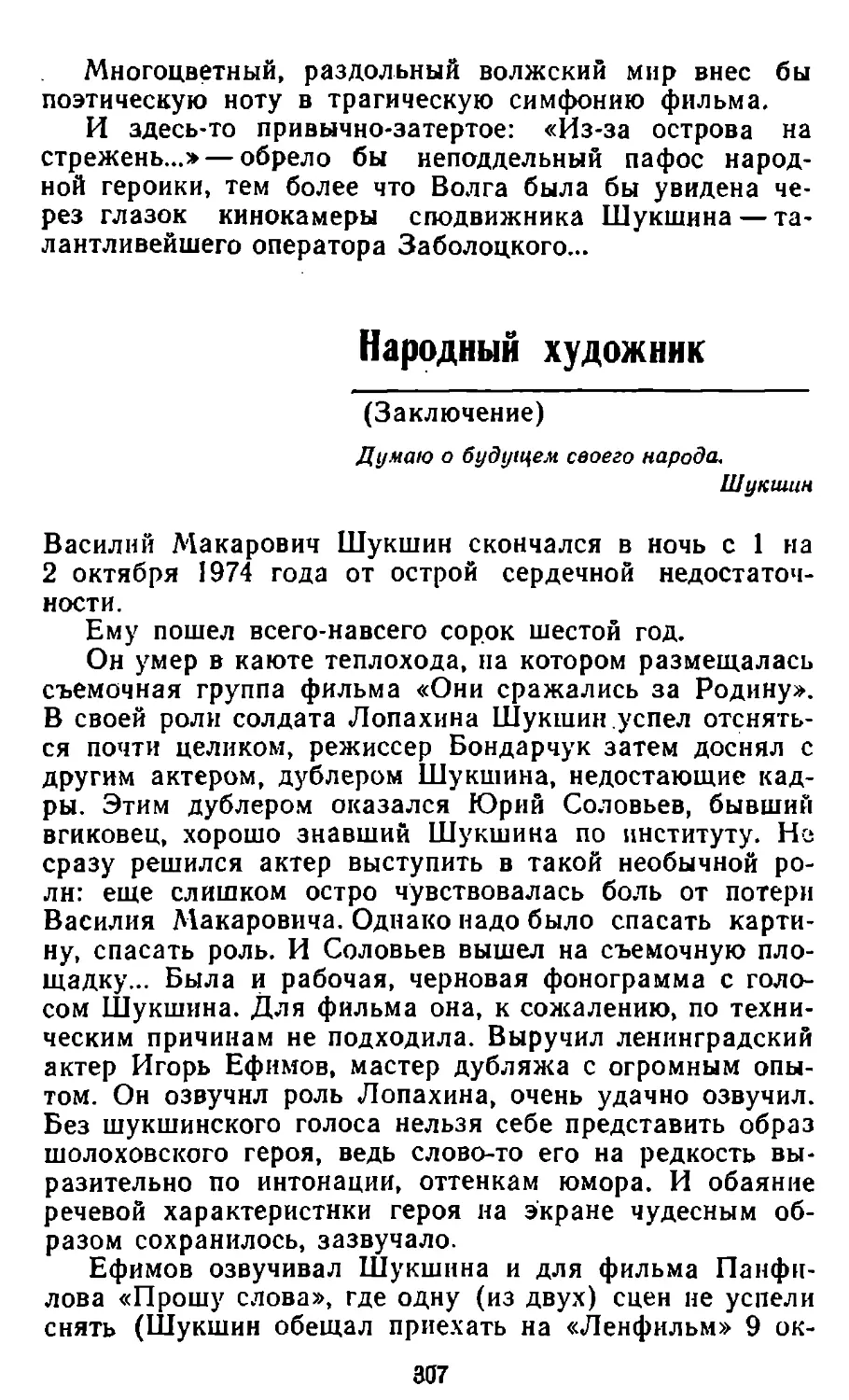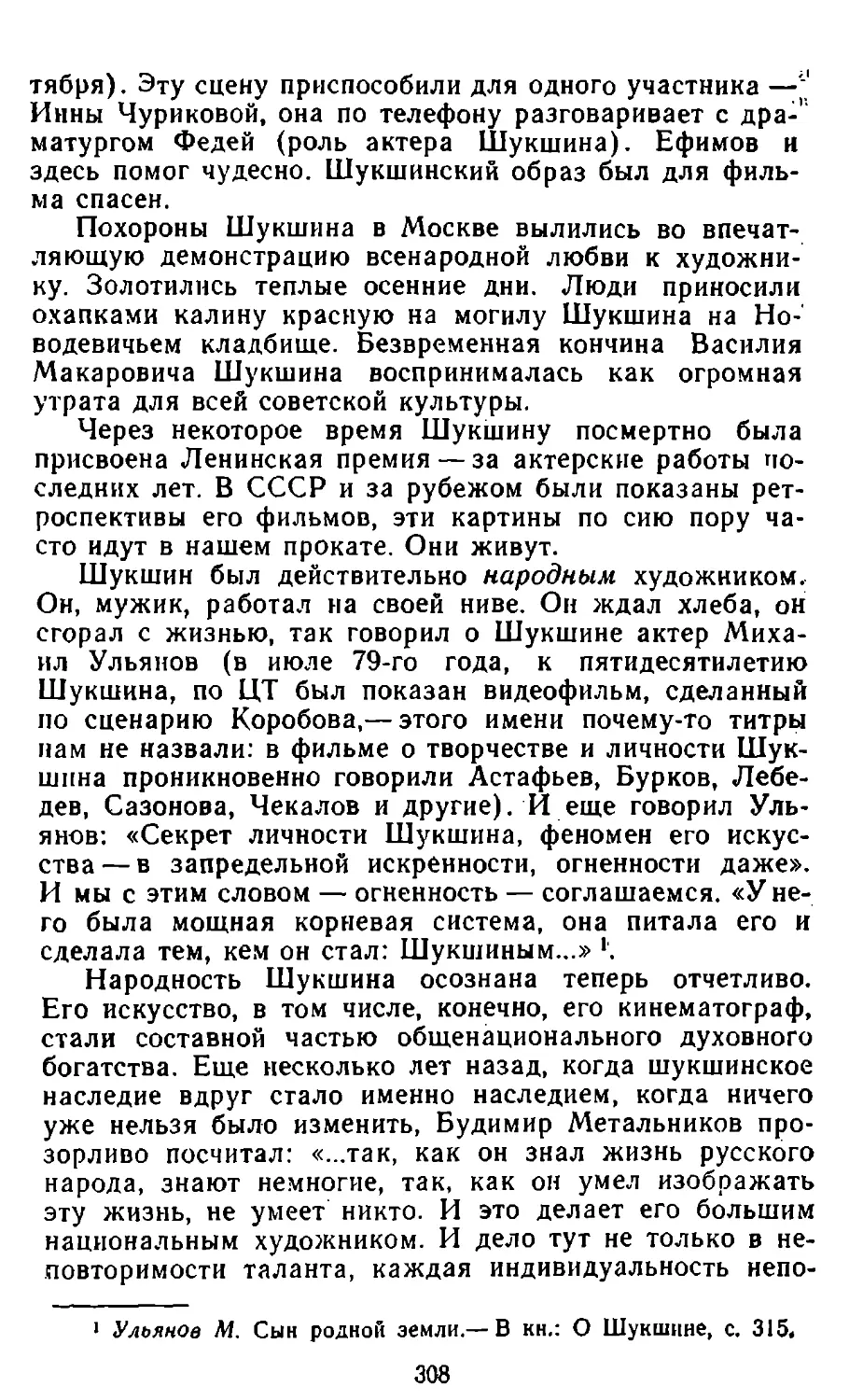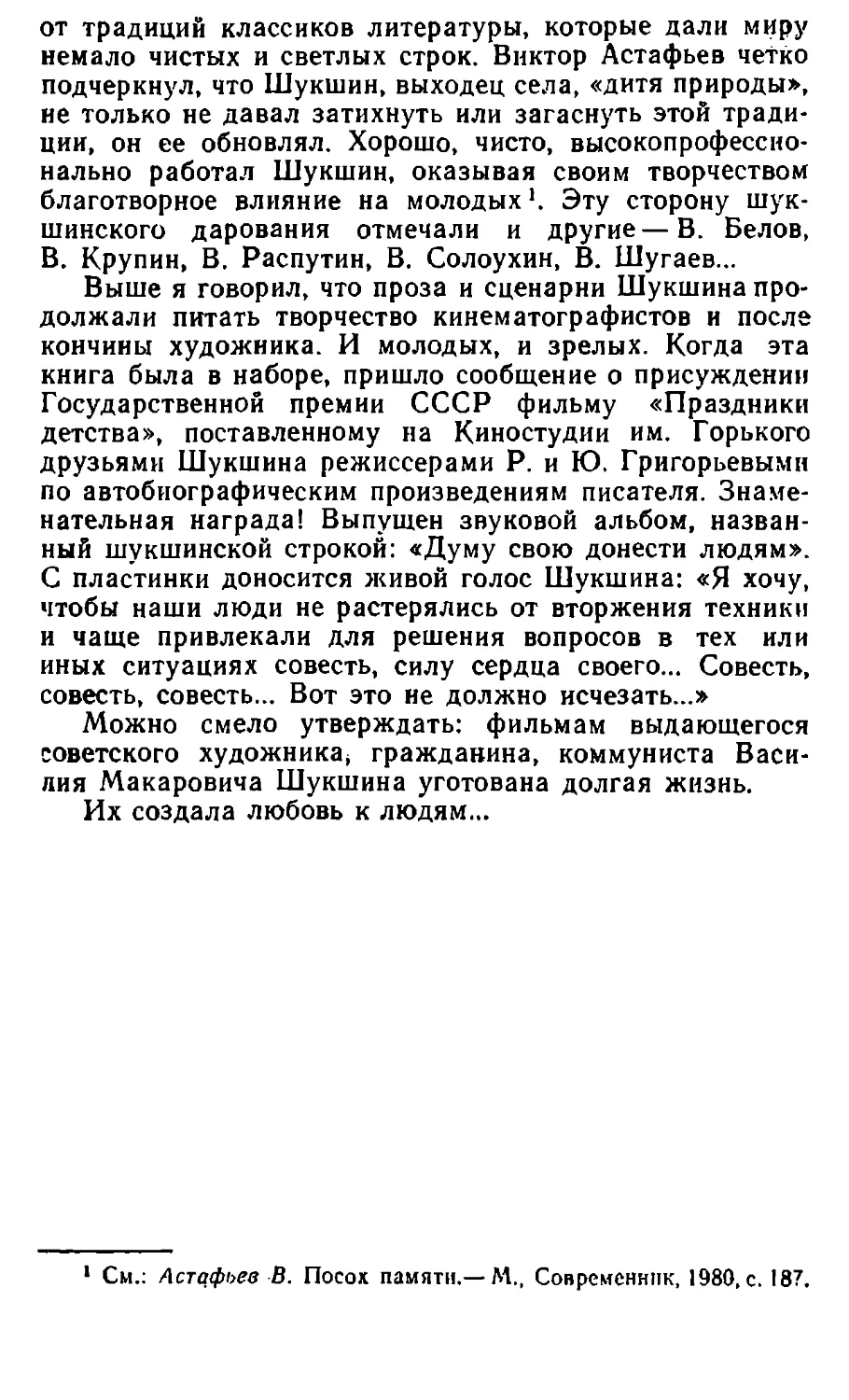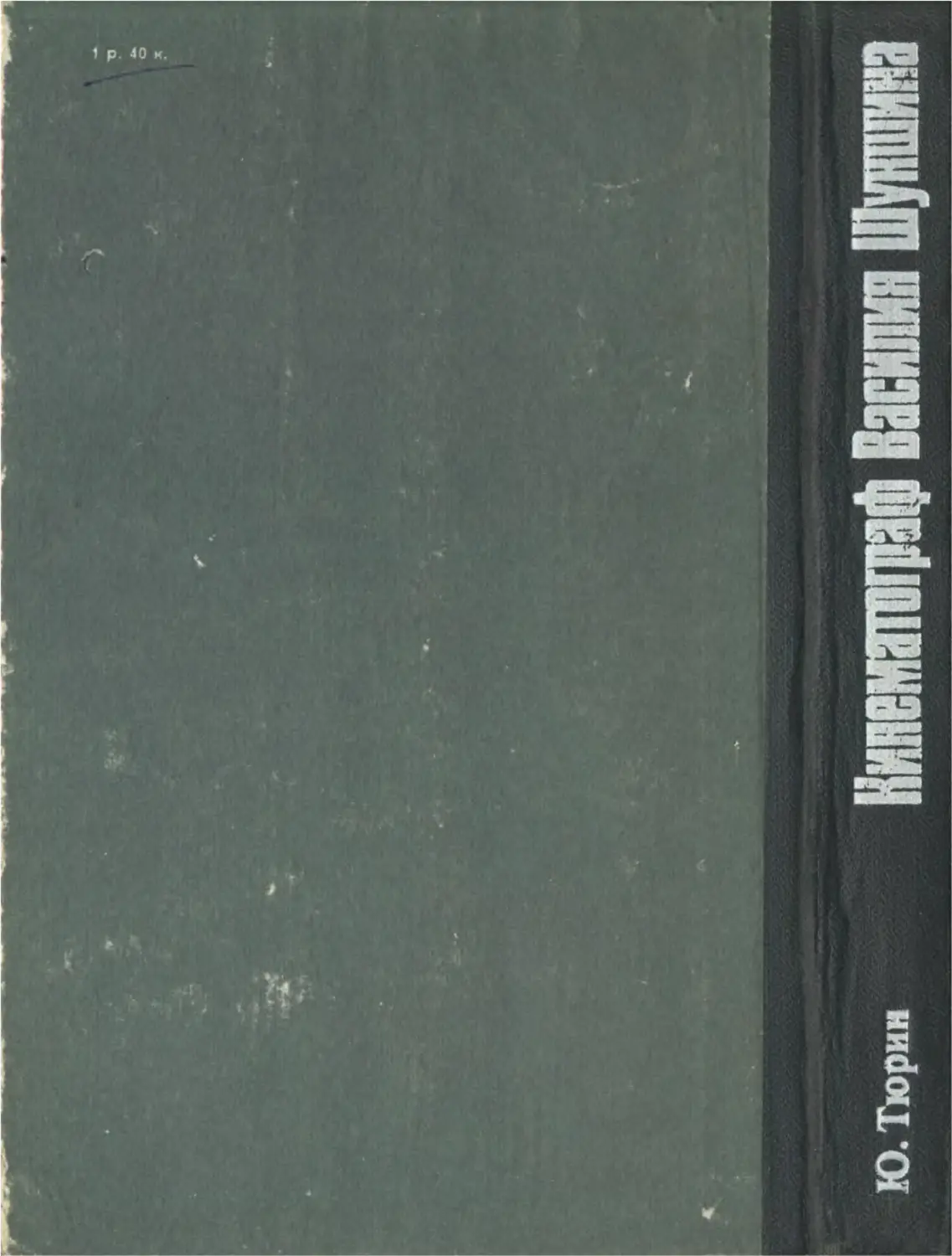Текст
Всесоюзный
научно-исследовательский
институт киноискусства
Ю.Тюрин
Кинематограф
Василия
Шукшина
Москва
«Искусство»
1984
ВВК 85.543(2)
Т 98
Рецензенты:
доктор философских наук
А. Г. Дубровин
кандидат искусствоведения
Г. А. Капралов
4910020000-123
025 (01)-84 © Издательство «Искусство», 1984 г.
«Из Лебяжьего сообщают»
«Живет такой парень»
«Ваш сын и брат»
«Ваш сын и брат»
«Ваш сын и брат»
«Странные люди»
«Странные люди»
«Странные люди»
«Странные люди»
«Печки-лавочки»
« Печки-лавочки »
«Печки-лавочки»
« Печки-лавочки»
« Печки-лавочки»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
«Калина красная»
В. М. Шукшин и С. А. Герасимов
В. М. Шукшин и оператор
А. Д. Заболоцкий
на съемках фильма
«Калина красная»
Во время съемок
«Калины красной»
В. М. Шукшин — режиссер.
Снимается
«Калина красная»
Родной земли
целительная сила
(Вступление)
Изо всех сил буду стараться рассказать
правду о людях, какую знаю, живя с
ними в одно время.
Шукшин
Несколько лет назад писатель (и отличный критик)
Сергей Залыгин в предисловии к двухтомнику
избранной прозы Шукшина отмечал: «Все то, что критики не
очень художественно называют «художественным
разбором» произведений искусства, для творчества
Шукшина еще впереди. Время для них еще не настало, оно,
может быть, только-только настает» '.
Прошли годы.
Дистанция лет, отделяющая нас сегодня от
феномена, «называемого искусством Шукшина» (С. Залыгин),
и сейчас еще не столь велика, чтобы мы сумели увидеть
это удивительное явление современной культуры во
всем его облике. И тем не менее она, эта дистанция,
позволяет уже теперь корректировать некоторые паши
прежние оценки творчества Шукшина, предугадывать
подлинное значение, духовную и эстетическую ценность
его наследия, в том числе и его кинематографа.
Примером пристального внимания к личности, творчеству
мастера, вдумчивого изучения его произведений, хотя
оценки здесь зачастую несхожи, можно считать
воспоминания, статьи и очерки Л. Аннинского, Г. Буркова,
В. Горна, Е. Громова, М. Зака, И. Золотусского, А. Лан-
щикова, А. Макарова, А. Овчаренко, С. Фрейлиха,
В. Чалмаева, Р. Юренева, многих других
кинематографистов, литераторов и критиков, к именам которых мы
еще не раз вернемся на страницах этой книги.
Коллективными усилиями пишется портрет Мастера. «Нам
предстоит собрать и заново продумать все то, что
успел сказать нам Василий Шукшин»2,— справедливо
говорил литературовед Вс. Сахаров.
1 Шукшин В. Избр. произв., т. 1. М., сМол. гвардия», 1976, с. II.
2 Сахаров Вс. Жизнь, оборвавшаяся па полуслове...— «Москва»,
1975. № 6, с. 209.
3 Зак. 040
33
Число газетных и журнальных публикаций о
фильмах, книгах и актерских работах Шукшина быстро
растет. Это свидетельство посмертной славы художника,
это отражение всенародной любви к нему. И все-таки...
Есть настоятельная потребность в монографическом
изучении творчества Шукшина. Первыми, с небольшим
сравнительно интервалом, вышли из печати книги о
Шукшине Вл. Коробова и Н. Толченовой. Здесь
восприятие шукшинского наследия хоть и не отделено и не
отдалено от личности художника, но достаточно
«критически автономно», соотнесено с параметрами
современного кинематографа, с динамикой литературного
процесса. Особенно характерна эта «автономность» разбора
для работы Толченовой. Но о ней позже...
Книге Коробова, тогда критика практически нового,
предпослана была статья Залыгина, который обращал
наше внимание на ее специфику — она была очищена от
педантичного литературоведения. Коробов шел на это
сознательно. «И правильно делает: научное
литературоведение уже немало сказало о Шукшине, а чего не
сказано, с тем необязательно торопиться, книги
Шукшина будут лежать перед исследователем и через
десять и через двадцать лет, а вот факты его творческой
биографии могут и утеряться, и с ними надо
поспешить»1. Здесь, в приведенных словах писателя,— ключ
к чтению книги Коробова, объяснение метода,
выбранного критиком для создания целостного образа
Шукшина, для верной ориентации в его обширном творчестве.
Через портрет Шукшина, каким он дан в книге, через
малые и большие события его жизни мы постигаем
существенный смысл творческой биографии художника,
разгадываем тайны его судьбы, причудливой в своих
изломах и драматической по глубинной своей сути.
Затруднительно причислить труд Коробова к
разряду какого-либо «чистого» жанра. Это и не
документальная повесть, и не развернутый критический очерк, и не
научное исследование. Я назвал бы работу Коробова
коллажем, свободным и, подчеркну, органическим
сочетанием разнородных, казалось бы, стилистических и
жанровых блоков. И сначала подспудно, а затем
определенно осознаешь первоочередную задачу автора —
подготовить читателя к точному прочтению и восприя-
1 Коробов Вл. Василий Шукшин. М., «Сов. Россия», 1977, с. 6.
34
тию произведений Шукшина, где сплошь и рядом
жанровые каноны нарушаются, а то и вовсе взрываются
своеволием художника, склонного к безграничной
внутренней свободе, в том числе и к свободе от
литературных шор, от «литературщины».
Главный ее принцип, говорил о своей работе
Коробов, можно сформулировать так: как можно больше
«самого Шукшина». Со страниц книги к нам обращаются
не только бесчисленные герои писателя, но также взгляд
и голос их создателя — искренний и мучительно
вопрошающий, голос человека с растревоженными душой и
совестью, доверительный, рассчитанный на участие,
внимание. Образ этого человека, дробящийся в сознании
читателя и зрителя гранями необычайно
разностороннего дарования, Коробов пытается, исходя из природы
таланта Шушкина, свести к определенной, схваченной
с детских еще лет целостности, нарисовать фигуру
самобытную, незаурядную в любых своих творческих и
человеческих проявлениях.
Шукшин преданно любил свою «малую родину»—>
алтайское село Сростки: здесь он родился, здесь
научился крестьянствовать, ценить красоту природы,
отсюда вывел на страницы книг и на киноэкран большую
часть своих персонажей. Искренность
Шукшина-художника шла от истинности его переживаний. Судьба его
перед тем, как выбрал он профессию
кинематографиста, была в общих чертах обычной судьбой его
сверстников из тысяч российских сел. С малолетства работал
в колхозе, после войны был унесен на далекие от
родного гнезда стройки, служил на флоте, вернулся
учительствовать домой...
И все же, откуда зародилась в душе крестьянского
сына страсть к сочинительству, к творческому
оформлению своего восприятия жизни, какие впечатления не
ожесточили, а, напротив, просветлили его душу?
Прежде всего, отмечает Коробов, надо помнить, что
Сростки — знаменитое на Катуни-реке старинное
большое село — никогда не представлялось Шукшину
забытой богом глухоманью, эдаким поросшим «травой
забвенья» медвежьим углом. С гордостью осознавая себя
потомком тех, кто столетия назад пришел на Алтай с
севера Руси, с Волги, с Дона, Шукшин склоняется
перед памятью далеких предков, ибо «они обрели — себе
и нам, и после нас — прекрасную родину. Красота ее,
3*
35
ясность ее поднебесная — редкая на земле»1.
Напитавшись в детстве этой поднебесной ясностью, Шукшин
помнил и тосковал о ней до смертного часа. Каким
подчеркнуто неразрывным единством крестьянина и его
земли— сенокосных и пахотных алтайских предгорий —
отмечены вступительные и финальные кадры фильма
сорокатрехлетнего Шукшина «Печки-лавочки»! Вольный
край наиболее полно воплощал для художника красоту
Сибири, красоту народа. Наполненность его творчества
музыкой отчего края очевидна. И все же никакой
фатальности, никакого «избранничества» в судьбе срост-
кинского парнишки автор книги о Шукшине не видит,
никто из посторонних к письменному столу или
кинокамере его не подталкивал. Из всей картины детства и
юности, отмечает Коробов, отчетливо видно одно —
Шукшин рос по-настоящему трудовым человеком.
Особенно выпукло под пером Коробова выглядит
мать Шукшина, Мария Сергеевна, оказавшая
значительное и благотворное влияние на сына. Многими
художественными впечатлениями детства обязан ей
Шукшин, автор поздних своих «Снов матери». От нее и
любовь к протяжной, чуточку грустной вечерней песне, и
вкус к забавной «бывальщине», от нее, возможно, и
сказовая манера шукшинского повествования. Коробов
нарисовал в книге портрет Марии Сергеевны с такой
теплотой, сердечным пониманием, с какой она предстает
перед нами в кадрах уже позднее появившегося
документального фильма «Слова матери», сделанного
близким другом Шукшина, оператором двух его
последних лент — «Печки-лавочки» и «Калина красная» —
Анатолием Заболоцким.
У Шукшина-студента спросили, кто у него родители.
Он ответил: «Жива мать». А образование у нее какое?
«Два класса,— снова ответил Шукшин,— но понимает
она у меня не менее министра...».
Вспоминаю эти строки из письма Шукшина домой,
чтобы лишний раз показать, сколь уважительно и
любовно относился сын, будущий кинематографист и
писатель, к матери, олицетворявшей для него ум,
смекалку, житейскую мудрость родного народа. Как знать,
родись и живи он в другой семье, не услышь в раннем
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда. М., «Сов. Россия»,
1979, с. 106.
36
детстве удалых и шутливых «бывалыцин» о батюшке-
атамане Стеньке Разине, может, и не состоялся бы из
Шукшина такой оригинальный, могучий художник?
Достоинством книги Коробова является широкое и
свободное использование тщательно собранных,
досконально изученных материалов, часть которых открылась
для читателя впервые. Коробов — изыскатель и критик
одновременно, ему важно не только привести тот или
иной документ, но и включить его в систему
собственных оценок творчества Шукшина. Одно из
направлений работы — последовательное, планомерное
разрушение всяческих легенд и наговоров на Шукшина,
жившего потаенными думами, достаточно скрытно, хотя в то
же время и на виду у многих-многих людей, считавших
себя его «приятелями»...
Подробно воспроизведя в книге детство и юность
Шукшина, Коробов столь же детально живописует его
первые шаги в искусстве. Критик и здесь считает, что
данный, так сказать, «первый период» творческой
практики Шукшина известен широкому кругу читателей и
зрителей гораздо меньше, нежели последние годы
повсеместно признанного художника. И, прослеживая
вхождение Шукшина в кинематограф и литературу,
отмечает известный драматизм его тогдашней жизни —
неустроенной в бытовом отношении, полной тревоги за
будущее, зато исполненной решимости доказать,
отстоять свое право на творчество, на признание этого
творчества публикой и критикой. Шукшин шел вперед
крепкой походкой кряжистого сибиряка, и его увидели,
услышали, признали.
«С 1965 года,— пишет Коробов,— начинается
восхождение писателя, актера и режиссера Василия Шукшина
к сердцам миллионов. Через десять лет любовь к его
книгам и фильмам станет поистине всенародной»'.
Рубеж обозначен критиком почти точно: по мне,
известность Шукшина стала очевидным фактом, хотя бы
нашей кинематографической жизни, годом раньше, после
выхода на экраны картины «Живет такой парень».
Картина эта вызвала огромный интерес зрителей, была
сразу замечена и в основном благожелательно оценена
прессой, завоевала призы на Всесоюзном и
Венецианском киносмотрах.
1 Коробов Вл. Василий Шукшин, с. 140—141.
37
Коробов больше литературный критик, чем киновед,
поэтому он охотнее и смелее анализирует прозу
Шукшина, нежели его режиссерские работы, а тем паче —
многочисленные роли выдающегося, на мой взгляд,
актера. Но сразу оговоримся: книга «Василий Шукшин»
предназначалась для литературной серии «Писатели
Советской России», и автор был ограничен, во-первых,
отпущенным ему для работы объемом, а во-вторых,
считался с задачами серии — надо было постараться дать
прежде всего портрет Шукшина-писателя.
Потратив немало усилий —и не бесплодно! — на
расшифровку глубинного содержания многих рассказов и
повестей Шукшина, в частности разобрав чисто
карнавальный на первый взгляд сюжет рассказа «Миль
пардон, мадам!», Коробов закономерно ставит вопрос
вместе Шукшина в отечественной литературе, о связях его
прозы со стилистическими и философскими корнями
русской классики, называя при этом имена Чехова,
Лескова, но особо подчеркивая родственность нравственной
проблематики шукшинской прозы творчеству
Достоевского и Льва Толстого. На первый взгляд критик
торопится с аналогиями и сопоставлениями. Однако по
здравому размышлению не покажутся безосновательными и
слова другого критика, сказанные сравнительно
недавно: через несколько лет у каждого интеллигентного
человека собрание сочинений Шукшина будет стоять на
книжной полке рядом с томами Чехова. Коробов
призывает в союзники и Шолохова, завершая книгу
замечательными словами писателя о Шукшине: «Не
пропустил он момент, когда народу захотелось сокровенного.
И он рассказал о простом, негероическом, близком
каждому так же просто, негромким голосом, очень
доверительно. Отсюда взлет и тот широкий отклик, какой
нашло творчество Шукшина в сердцах многих тысяч
людей...»
Шолоховский взгляд на природу народности
шукшинского творчества получил развитие, истолкование в
новой, гораздо более объемной работе Коробова,
вызвавшей резонанс'. Если ведущий принцип монографий
Коробова— дать как можно больше самого Шукшина, то
книга Толченовой «Василий Шукшин — его земля и
люди» строилась больше на анализе непосредственно шук-
См.: Коробов Вл. Василий Шукшин. М., «Современник», 1983.
38
шиыских вещей. Толченова предпочитала говорить о
зрелом Шукшине, о тех его произведениях, которые
создали ему еще при жизни широкую известность. При
этом новеллистика Шукшина несколько потеснилась
его практикой кинематографиста — режиссера и актера,
что также отличает книгу Толченовой от работ
Коробова (где центральное действующее лицо —
Шукшин-писатель). И тем самым дополняет их.
«Рассказ о Шукшине, о силе и человечности его
таланта, народности творчества не будет
последовательным,— пишет Толченова,— говорю это заранее»1. И
правда: начав исследование с картин алтайской земли,
воочию увиденных, автор под воздействием
«кинематографических» ассоциаций переходит к разговору о фильме
«Печки-лавочки», к осмыслению показанных
Шукшиным финальных кадров этой веселой и одновременно
грустной ленты. А дальше анализ «Печек-лавочек»
перебивается размышлениями над загадкой-судьбой
обреченного на гибель Егора Прокудина или чтением кускоз
киноповести «Брат мой...»; впечатления о
выразительнейшей лепке образа Лопахина в фильме «Они
сражались за Родину» перемежаются разговором о необычной
режиссуре «Странных людей», дополняются
страницами, ценными деталями, подробностями из
журналистского дневника, который автор вела на Дону, во время
работы Сергея Бондарчука над экранизацией
шолоховского романа.
Толченова определяла свой принцип исследования
так: «Дело в том, что все им (Шукшиным.—10. Т.)
созданное воспринимается сознанием не только горячим
читательским и зрительским, эмоциональным, мгновенно
рождающим ответный импульс, но и анализирующим.,
критическим...»2. Вот почему она соединяет в книге
свои живые, непосредственные впечатления от
общения с алтайской землей и земляками Шукшина, коих
довелось ей видеть, с подробными критическими
разборами шукшинских произведений, выявляя доминанту
его творчества: глубокую народность.
Думается, лучше всякого отзыва на книгу — письмо,
присланное автору ее из Бийска, в этом алтайском го-
1 Толченова Н. Василий Шукшин — его земля и люди. Барнаул,
Алтайское книжное изд-во, 1978, с. 3.
2 Там же, с. 3.
39
роде когда-то учился, затем частенько бывал Василий
Шукшин. Строки из этого письма с согласия адресата
я позволю себе привести: «Добрый день, уважаемая
Нина Павловна. С горячим приветом и низким
поклоном к вам совсем незнакомый человек—Шукшина
Василия Макаровича мама, Мария Сергеевна... Хочу вас
отблагодарить за книгу, за вашу правдивость.
Прочитала два раза, еще хочется... Я мать, знаю каждое его
слово...»
На основе изданной в Барнауле работы Толчепова
подготовила, уже для публикации в Москве, вторую
свою книгу о Шукшине. Заключительная глава этой
книги носит беллетристически-звучное заглавие: «Огонь над
мирозданьем». Для Толченовой, как и для многих из нас,
наследие Шукшина — целое мирозданье. Некое
сферическое пространство, внутри которого пульсирует
негасимый огонь. Поэтому вполне естественно звучат
процитированные критиком стихи Фета:
«Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть... А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет. И плачет уходя...»
«Фет заставляет нас задуматься,— размышляет Тол-
ченова и о поэте, и о Шукшине,— не только над вечной
трагедией бренности человека — конечностью
человеческого бытия. Нет, здесь — пронзительное ощущение
непоправимой общечеловеческой глобальной беды.
Утраты необратимой. Ухода из мира той творческой
личности, чья мысль для всех была откровением, поскольку
вознеслась до постижения этого мира с его бесконечной
сущностью. Однако в этих строчках в то же самое
время есть еще одна великая мысль. Не «утешающая», но
благотворная мысль об огне творца, им самим
зажженном над его рукотворным миром, собственно ему
принадлежащим, им созданным. Над мирозданьем
творчества» '.
Мирозданьем, где живет необыкновенная, радостно-
тихая душа — колхозник Алеша Бесконвойный.
Где клокочут страсти народного заступника батюш-
1 Толченова Н. Слово о Шукшине. М., «Современник», 1982,
с. 146.
40
ки Степана Тимофеевича, героя киноромана «Я пришел
дать вам волю».
Мирозданьем, где смертельно раненный Егор Проку-
дин, вопросивший нас горемычной своей судьбой о
смысле человеческой жизни, в последний раз обнимает
березки, метит их собственной кровью...
Как и Коробов, Толченова оценивает творческое
наследие Шукшина очень высоко. И действительно,
немногие станут спорить с таким, положим, ее замечанием,
что кинороман о Разине «Я пришел дать вам волю»
несомненно следует отнести к «лучшим и редким
произведениям русской эпической, масштабной прозы»'. Однако
не во всем с автором можно согласиться. Так,
неправомерным представляется отождествление иногда
сценария и романа «Я пришел дать вам волю»: их разделяет
и время публикации и целый ряд разночтений, да к
тому же роман гораздо обширнее по материалу, по
числу действующих лиц. Роман — результат углубления,
вживания Шукшина в разинскую эпоху. Толченова
прибегает к тексту сценария, размышляя о будущем (так
и не состоявшемся) фильме. Шукшин же, как известно,
думал положить в основу картины именно кинороман.
Это отмечено в заявке на студию «Мосфильм»,
направленной в дирекцию весной 1974 года. Шукшин тут
подчеркивает: «Есть смысл найти такое решение (раскрыть
характер Разина.— Ю. Т.) в киноромане, которое
позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в
повествовании, избегать излишней постановочности и дороговизны
фильма...» Но такого рода неточностей в новой
монографии Толченовой немного.
Интересной, во многом удавшейся попыткой
комплексного изучения творческого наследия Шукшина
явился составленный Л. Федосеевой-Шукшиной, женой
художника, и киноведом Р. Черненко коллективный,
насыщенный фактами сборник «О Шукшине», выпущенный
издательством «Искусство». На страницах этого
сборника размышляют, рассказывают, вспоминают
Шукшина, мастера художественного творчества и человека,
его учителя и соратники, режиссеры и критики, актеры
и сценаристы, единодушно подчеркивая, объясняя
глубокую социально-нравственную основу шукшинского
таланта.
Толченова Н. Слово о Шукшине, с. 5.
41
С этой точки зрения закономерно название
вступительной статьи С. Герасимова — «Народный художник»,
как бы задающей тон всему сборнику.
Известный режиссер объясняет для себя судьбу
Шукшина и самую его натуру очень много говорящей
формулой таланта. Она, эта формула, пишет Герасимов,
определяется степенью отзывчивости на жизнь, на мир
людей, людских страстей, самой природы. Вот эта
отзывчивость прежде всего и является реальным
содержанием искусства Шукшина.
Автор статьи отмечает необыкновенно важную
черту шукшинского таланта — а именно единство
дарования мастера. Шукшин не дробился между двумя такими
крупными искусствами, как литература и кинематограф,
а видел в собственном киноискусстве продолжение
своей же прозы. Он не мог жить без кинематографа по той
причине, считает Герасимов, что был воспитан в
кинематографической школе и был ей благодарен. «Он не
мог отказаться от кинематографа еще и потому, что для
него огромное значение имела интонация. Не в
буквальном только измерении этого понятия, но и в
иносказательном, в том смысле, как прочитать его героев,
как их услышать и понять» '.
Для опытного режиссера оправдана жадность
Шукшина к актерскому творчеству. Шукшин никогда бы не
смог от него отказаться по той же самой причине: он
видел в работе актера продолжение литературы. «Я
могу понять, таким образом,— размышляет Герасимов,—
страсть, сжигавшую Шукшина, когда, снимая картины
по собственным сценариям, он хотел сделать все
максимально точно, так, как видел их он сам. И
поэтому играл в них сам» 2.
Статья Е. Громова «Поэтика доброты», помещенная
в том же сборнике, носит подзаголовок: «К проблеме
национального характера в творчестве В. Шукшина».
Статья темпераментная, веско аргументированная.
Заслуживает самого пристального внимания постановка
автором центральной проблемы своей работы: о диалек-
тичности творческого мышления Шукшина. О диалек-
тичности интернационального и национального. Шук-
1 Герасимов С. Народный художник.— В кн.: О Шукшине. М.,
€Искусство», 1979. с. 6.
2 Там же, с. 7.
42
шин — обшечеловечен, пишет критик. Волновавшие его
проблемы смысла жизни, духовности личности, совести
и доброты внятны всем, и он сам открыт всему миру.
И в то же время, чтобы по-настоящему понять
Шукшина, настаивает Громов, надо органично проникнуться
той национально-народной стихией, которая составляет
живую материю его творчества.
Русский человек есть начальный и конечный пункт
всех размышлений и чувствований Шукшина,
продолжает Громов. Этот человек берется в самых разных
ипостасях и качествах. «Вождь крестьянского восстания
Разин и великий русский писатель Достоевский — вот
в каких измерениях билась шукшинская мысль,—
читаем в статье критика.— И одновременно — неустанный
поиск современного героя. Мир Шукшина богат и
разнообразен. В нем находится место и цельному в своей
доброте и оптимизме Пашке Колокольникову и
смятенному, изломанному Егору Прокудину; деревенским
чудикам с их недетским простодушием и молодому
следователю Ваганову с его выдуманными и невыдуманными
страданиями; деревенскому философу, тяжелодуму
Князеву и нежной и легкой, как солнечный зайчик, немой
дочери Воеводиных; старухам-матерям, хранительницам
домашнего очага, труженицам и страдалицам, и их
непутевым, но все равно любимым ими сыновьям» '.
Закономерен широкий читательский и зрительский
интерес к многоликому, подвижному миру, созданному
художническим талантом Шукшина, отмечает автор
статьи. Закономерна и потребность в научном изучении его
произведений, того весомого вклада, который сделал он
в мировую культуру. Это справедливое заключение
адресовано всему нашему киноведению, призванному
рассматривать кинематографическое наследие Шукшина в
контексте общего развития советского киноискусства
60—70-х годов.
Творчество Шукшина — всегда живой пример
никогда не кончающейся борьбы за Человека. К такому
выводу приходит Г. Капралов в своей статье, И названной-
то программно — «Борьба за Человека никогда не
кончается». Критик размышляет о Шукшине с позиций
исторической перспективы. Уже сегодня, говорит автор
статьи, обозревая творческий путь художника, ясно ви-
1 Громов Е. Поэтика доброты.— В кн.: О Шукшине, с. 18.
43
дишь, на что, используя выражение Гоголя,
«издерживалась» его жизнь. Да, Шукшина научились читать не
сразу, считая его то просто немудреным бытописателем,
то юмористом-рассказчиком из народного быта в стиле
некогда популярного импровизатора Ивана Горбунова.
Капралов вспоминает начальные шаги Шукшина в
большом искусстве. За писателем признавали умение дать
живую картину с натуры, метко передать особенности
говора, упрекая, правда, за грубость, употребление
«коробящих» слух выражений. А что касается обобщающей
мысли, философии, то в этом Шукшину порой
отказывала даже профессиональная критика. Известное
открытие, постижение Шукшина, писателя и
кинематографиста, продолжается и по сей день, считает критик.
«Мне кажется,— пишет Капралов,— что творчество
Шукшина и его оценка — один из наиболее поразительных
примеров последнего времени именно с точки зрения
такой эволюции. Потому-то внезапная смерть
художника так и поразила всех, что как раз в те самые
мгновения, когда остановилось его сердце, многим из нас
он стал впервые виден в дотоле как бы ускользавших
измерениях, в какой-то вдруг просветившейся
глубине» '.
Творчество Шукшина, продолжает Капралов, по-
прежнему питает наш театр и кинематограф, даже не
в смысле каких-то жизнестойких традиций, а буквально.
Автор статьи подчеркивает принципиальный успех
режиссеров Г. Лаврова и С. Любшина, перенесших на
киноэкран повесть Шукшина «Позови меня в даль
светлую...». Картина интонационно и стилистически
оказалась очень близкой к литературному источнику,
проникнутому светлой грустью по незадавшейся женской
судьбе, свободному от прописного дидактизма.
Новое поколение кинорежиссуры тянется к
проблемному, пластичному наследию Шукшина, выступает его
истолкователем. Пример тому — сделанный в 1979 году
на студии «Беларусьфильм» коллективный сборник
киноновелл «В профиль и анфас» по шукшинским
рассказам «Чередниченко и цирк», «Осень» и «Волки».
Правда, сборник получился неравноценным, не был
проявлен на экране шукшинский подтекст. Но видно, на-
1 Капралов Г. Борьба за Человека никогда не кончается.— В кн.:
О Шукшине, с. 32.
44
сколько преданным читателем Шукшина является
молодая режиссура.
В своей статье Капралов выдвигает большой
теоретический вопрос, ответить на который предстоит
нашему литературоведению и киноведению. Это вопрос об
изучении связей, прямых и опосредованных, творчества
Шукшина с традициями русской и советской
классической литературы, с Гоголем, Толстым, Чеховым,
Щедриным, Сухово-Кобылиным, Горьким, Маяковским,
Шолоховым, писателями-современниками. И
отдельно—вопрос о школе, пройденной Шукшиным в кино. Думается,
ответы постепенно будут найдены. Поспешность выводов
в данном случае навредит: популярность, даже слава
Шукшина сейчас всенародна, но тут-то и сокрыт
соблазн скороспелых аналогий. В частности, не изучен
вопрос о влиянии художественной системы Маяковского
на творческую манеру Шукшина, которое
подразумевает Капралов. Может быть, сравнительный анализ
сатиры Маяковского и шукшинской пьесы «Энергичные
люди» и .даст ответ на этот вопрос? Очевиднее,
правомочнее— Есенин, один из преданно любимых поэтов
Шукшина. Под прямым воздействием есенинского стиха
Шукшин пробовал себя в поэтических опытах,
есенинская тема звучит в его прозе и фильмах.
Стремительную, крутую эволюцию
Шукшина-прозаика прослеживает в статье «Путь писателя» Л.
Аннинский, много занимавшийся шукшинским
кинематографом. Творчество художника анализируется в этой
статье под углом зрения духовного роста, духовного
возмужания самого творца. Критик раскрывает упорное,
изначально заявленное внимание Шукшина к общему, к
художественному постижению социальных, трудовых и
нравственно-психологических проявлений
национального характера. Он пишет, что путь Шукшина — это
попытка «через свой уникальный жизненный, социальный
опыт полугорожанина-полукрестьянина выйти к
всеобщей нравственной истине, причем не скрадывая, не
облегчая задачи, а именно — через тяжкий опыт
выстрадать добро»'.
«Как изменялось у Шукшина отношение к сельскому
жителю, основному герою его рассказов и фильмов?» —
спрашивает Аннинский. Вначале он им гордился. Потом
1 Аннинский Л. Путь писателя.— В кн.: О Шукшине, с. 139.
45
так за него обижался. А затем это отношение
осложнилось десятками противоречивых нюансов. Деревенский
человек, к примеру, может быть смешон. Не
трогательно забавен, как герой новеллы «Чудик», а именно глупо
смешон, как тот «дебил», который, чтобы посрамить
учителя, купил дорогую шляпу, а после «назло» этому
учителю зачерпнул шляпой речной воды и напился.
Деревенский человек может быть даже зол. И не
мгновенным срывом отчаяния, как изобретатель вечного
двигателя Моня Квасов, а продуманным остервенением
«крепкого мужика» Шурыгина, назло односельчанам
свалившего трактором церковь.
Итак, по Аннинскому, Шукшин отходит от прежде
им любимых типологических контрастов, занимается
выявлением нравственных полюсов, по-новому
организующих весь дробный мир душ. «Смысл душевных
терзаний человека у позднего Шукшина: невозможность жить,
когда душа заполнена «не тем». Это чисто нравственная
максима, независимая (или почти независимая от
«прописки», столь важной Шукшину 60-х годов. Шукшин 60-х
годов болел душой за крестьянина. Шукшин 70-х
болеет за человека. Тогда он поднялся на защиту
близкого себе героя. Теперь он хочет понять
каждого. Даже далекого. Даже преступника... Какие силы
душевные нужны, чтобы понять каждого! Какое
безграничное понимание — чтобы понять...» '.
Однако Аннинский ставит знак равенства между
пониманием и прощением. При анализе рассказа-очерка
«Кляуза» — а то был буквально предупреждающий нас
«крик» Шукшина — Аннинский вдруг обнаруживает у
писателя жалость к неправому. Понять человека во
враге своем... Какой подвиг духа нужен! — восклицает
критик. И тем скрадывает выстраданность добра, сам
идеализирует неправого. Не было свойственно Шукшину
прощать зло. Постичь, понять — да. Тут Аннинский прав.
Но в своей аргументации критик увлекся, допустил
«перехлест», впрочем, единственный в его незаурядно
написанной статье.
Путь Шукшина-киноактера (24 роли за пятнадцать
лет работы — это равноценно числу ролей многих
известных профессиональных исполнителей) исследован в
обстоятельной статье критика Н. Зоркой «Актер».
1 Аннинский Л. Путь писателя.— В кн.: О Шукшине, с. 132.
46
О созданных киноактером Шукшиным образах
Ивана Расторгуева в «Печках-лавочках» и Егора Прокудина
в «Калине красной» говорит и К. Рудницкий, автор
пространной статьи «Экран и проза». Работа эта
представляет собой очерк кинематографического творчества
Шукшина, рассмотренного в тесной, взаимообогашаю-
щей связи с новеллистикой писателя. Статья вначале
появилась на страницах журнала «Искусство кино»,
затем была перепечатана — с незначительными
текстовыми изменениями — в сборнике «О Шукшине».
Критик видит встречное движение литературы и
кинематографа в шукшинском творчестве. Экран,
подчеркивает Рудницкий, открывал прозаику Шукшину свои,
малодоступные литературному слову средства
выразительности. Иначе говоря, экранные образы на
особенный лад дополняли лаконичную прозу писателя. В свою
очередь аскетическая, немногословная новеллистика
художника их, эти экранные образы, собой обнимала, из
себя выталкивала. Режиссура Шукшина — естественное,
как дыхание, прямое продолжение его же прозы.
Критик делает принципиальный вывод: «В этом вот
смысле режиссерский опыт Шукшина, пожалуй что,
уникален. Другого такого—не было (курсив мой.— Ю. Г.)»1.
Рудницкий анализирует, в контексте единого
развития Шукшина-художника, четыре фильма: «Живет
такой парень», «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки»,
«Калина красная». Почти не касается он «Странных
людей», хотя успевает сказать о напрасности стараний
Шукшина-режиссера, об отсутствии в фильме
цельности.
Дипломную работу Шукшина критик не
вспоминает, а о замысле «Степана Разина» замечает: «В
Шукшина-историка, признаться, я никогда не верил и уже
не поверю»2. Исследовательских задач Рудницкий
перед собой не ставил, зато он настойчиво вслушивался
в голос человеческой совести, и услышал, и указал, что
в скорбной тишине трагедийного финала «Калины
красной» один только этот голос и звучит.
Помимо профессиональных, авторитетных
кинокритиков на страницах сборника «О Шукшине» выступают
такие крупные мастера культуры, как С. Бондарчук и
1 Рудницкий К. Проза и экран.— В кн.: О Шукшине, с. 57.
2 Там же, с. 56.
47
М. Ульянов. Г. Панфилов и М. Хуциев, Е. Лебедев и
Б. Ахмадулина, другие деятели искусства, плечом к
плечу работавшие с Шукшиным, интересно понимающие и
принимающие его творчество. Сборник оставляет
впечатление, что для авторов напечатанных в нем статей и
воспоминаний кинематограф Шукшина (оставим сейчас в
стороне шукшинскую прозу) шире вопросов и задач
чисто профессиональных, шире разговора о режиссерском
почерке, методах работы с актером на съемочной
площадке и на репетициях, шире проблем монтажа и
озвучания.
Речь на страницах сборника идет о поразительной,
талантливейшей личности, оставившей заметный, надо
быть уверенным, глубокий след в нашем
кинематографе последних десятилетий, в истории всей нашей
культуры. Шукшин, подчеркивают авторы сборника, всецело
принадлежал искусству, был примером настоящего
художника, отдавшего себя без остатка творчеству. Он
оказал не только эстетическое, замкнутое в границах
профессиональных интересов влияние на современных
ему художников, особенно младшего поколения,
например на приход в кинорежиссуру актеров Н. Губенко и
С. Никоненко, а еще явился нравственным, этическим
эталоном для многих, кто связал свою судьбу с
искусством. Здесь шукшинская жизнь, его творческое
самосожжение— ради выражения полноты правды о людях —
отразили одну из существеннейших, отличительных
традиций, свойств русского искусства, особенно русской
классической литературы. В контексте русской
общественной жизни, русской культуры крупный художник
нередко оказывался выразителем лучших нравственных
качеств народа, делался властителем дум, иногда даже не
одного поколения. Такой художник — и творчеством
своим и судьбой своей — поднимал народное
самосознание на новую ступень. А искусство его принадлежало
уже не одному только искусству, а всей жизни его
народа.
Вот из какой традиции вырастает понимание
авторами сборника крупномасштабной личности Шукшина.
Художника и человека не идеализируют, не оплакивают
задним числом его преждевременную кончину, хоть
скорбят о ней,— Шукшина воспринимают как одного из
достойных выразителей современного народного духа,
национального гения.
48
Некоторое время назад Вс. Сахаров предупреждал:
«По-видимому, разговоры о высоких человеческих
качествах Василия Шукшина должны органично
соединяться с размышлениями о его немалом вкладе в
современную литературу и кино»'. Вот таким-то
«органичным соединением» размышлений о вкладе Шукшина в
современную литературу и кино с разговором о
высоких человеческих качествах художника и предстал
перед нами сборник «О Шукшине».
Нельзя не остановиться еще на одной публикации о
шукшинском творчестве. Киновед Л. Белова назвала
свою статью «Три русла одного пути», и вот что при*
мечательно: эту статью, когда у критика и мысли не
могло возникнуть о подведении окончательных итогов,
успел прочитать сам Шукшин. В чем главная мысль
статьи?
Белова отмечает существенное отличие Шукшина в
так называемом авторском кино: он — писатель,
занявший в литературе видное место безотносительно к
кино, и — актер, выдвинувшийся безотносительно к своим
фильмам. Свойство это уникальное. Оно позволяет
увидеть в шукшинском творчестве не только сочетание
элементов кино, но и связи куда более широкие:
литературы и кино в целом.
Автор статьи вспоминает время, когда формировался
художник Шукшин. Тогда, в середине 50-х годов,
фильмы о деревне охотно обращались к вопросам экономики.
В этом кино подчинялось литературе, в том числе
деревенскому очерку, переживавшему в ту пору
несомненный расцвет. Целая киноэпоха, говорит Белова,
обозначена такими картинами, как «Земля и люди», «Крутые
горки», «Простая история», «Саша вступает в жизнь».
На деревенском материале решались проблемы
общегосударственные. Затем экран стал использовать село
как фон — для сюжетов достаточно нейтральных. Лишь
в фильмах «Председатель» и «Наш честный хлеб»,
выпущенных в 64-м году, колхозное производство стало
источником острых конфликтов и сложных
общественных вопросов. Литература (Г. Радов в очерках, Ф.
Абрамов, В. Тендряков, С. Залыгин в повестях и романах)
продолжала бесстрашно исследовать на деревенском
материале новые темы. А кино фактически потеряло
1 Сахаров Вс. Жизнь, оборвавшаяся на полуслове..., с. 206.
49
связь с этой литературой. Вот в такой-то ситуации
важно было появление кинематографа Василия
Шукшина.
Режиссер следовал собственной прозе, пишет
критик. И не только в том, что картины его по большей
части поставлены по его же новеллам. Сравнительно
узкую сферу киносюжетов Шукшин расширил за счет
литературы, ввел новаторские элементы в сложившуюся
систему кинообразности.
Чисто производственными конфликтами Шукшин
почти не занимался. Он был таким режиссером в
советском кино, кто обращался не к экономическим вопросам
непосредственно, а к тем нравственным,
психологическим последствиям, какие вытекали из переживаемой
русской деревней гигантской перестройки. Шукшин,
отмечает Белова, постепенно даже вышел из рамок сугубо
сельских. Его литература и кинематограф —тут точка
зрения критика совпадает с мнением Аннинского —
претерпели заметную эволюцию: отношение художника к
своим персонажам сделалось взыскательнее, оценки —
строже, а манера художественного повествования —
раскованнее.
Одним путем двигался вперед писатель, режиссер и
актер Шукшин, три русла его творчества вели к единой
цели. «Шукшин-кинематографист — единственный автор
своих фильмов,— заключает свою статью Белова.— Но,
возможно, самое главное — что он писатель. И как
писатель, продолжая себя в кино, он расширял его
тематику, круг проблем, сюжетов и изобразительных
возможностей— прежде всего за счет литературы. Что для
кино было и будет первостепенно важным»'.
Итак, приведенные мною литературоведческие и
киноведческие работы о Шукшине, опубликованные за
последние годы, убедительно доказывают непреходящую
ценность творческого наследия художника, так
счастливо соединившего в себе кинематографиста и писателя.
И теперь, когда значение этого творческого наследия
бесспорно, когда «жажда» на Шукшина нисколько не
утоляется, возникает закономерная потребность,
отталкиваясь от синтетического восприятия шукшинского ис-
1 Белова Л. Три русла одного пути,— В кн.: Вопросы
киноискусства. Вып. 17. М., «Наука», 1976, с. 162.
50
кусства, попристальнее вглядеться в каждую ипостась
его «творческого лика», попытаться поглубже
исследовать каждый из видов его работы.
То есть, повторим свою мысль, возникает
потребность исследования этого творчества на
монографическом уровне. Особенно эта потребность ощутима в сфере
нашего киноведения, где покуда ни одной монографии о
Шукшине-кинематографисте не создано.
Между тем нам следует договориться: что мы
рассматриваем за понятием «кинематограф Шукшина»,
какие параметры стоят за этим, может показаться,
чересчур завышенным определением? Что принципиально
необходимого, нового — и по содержанию и по системе
эстетических координат — принесли на всесоюзный
экран шукшинские фильмы? Насколько киноискусство
Шукшина, оставаясь самим собой, вписывается в
историю советского кинематографа двух последних
десятилетий? Насколько соотносилось оно с кинопроцессом?
Наконец, как же, в каких формах протекала эволюция
Шукшина-кинематографиста, насколько поступательным
было движение кинохудожника?
Как мы старались показать, эти вопросы частично
решены нашей киноведческой мыслью. Тем не менее
попытка теоретического и конкретно-исторического
углубления, дальнейшей разработки, уточнения полученных
выводов и ответов сослужит, вероятно, добрую службу
нашему киноведению, нашему пониманию живого
шукшинского творчества. Вот единственно чем объясняется
появление предпринятой мною работы.
Сразу предупрежу о материале исследования. В его
основе — фильмы Василия Шукшина. Картины других
режиссеров, где Шукшин выступал в качестве актера,
привлекаются лишь в качестве дополнительных
источников, равно как и фильмы, сделанные по шукшинским
сценариям другими постановщиками.
В синтетическом искусстве кинематографа Шукшин
всецело (синоним сему — всевластно) реализовал свой
творческий потенциал. Художник полностью
контролировал фильм — от замысла до последней монтажной
склейки.
Все ленты Шукшина носят отпечаток его
личности. Бондарчук имел право сказать: «Василий Шукшин
был одним из ярких представителей авторского кинема-
51
тографа, причем его писательскому дару не уступали ни
режиссерский, ни актерский»'.
Прозаик Шукшин не скрывает своего отношения к
выведенным им героям. Кинорежиссер и актер Шукшин
поступает точно так же. Авторское начало шукшинских
фильмов, таким образом, сказывается еще и в
присутствии авторской интонации. Последняя — органичное
свойство искусства Шукшина. Его картины
пристрастны, они всякий раз провоцируют зрительскую реакцию,
лишь бы избежать равнодушного к себе отношения. Эти
фильмы рассчитаны на живой контакт с аудиторией.
Пусть понимание, пусть спор—только не
отстраненность: ее-то Шукшин боялся пуще дурного глаза.
Исследователь 3. Старкова подмечает
типологическую черту художника Шукшина: «И к каким бы жан-
рообразующим элементам (комедии, трагедии или
собственно драмы) он ни обращался, его авторское «я»
играет настолько активную динамизирующую роль, что
становится доминантой драматургического
контрапункта, определяющей силу художественного обаяния вещи
в целом, хотя в эстетическом использовании того или
иного приема и могут быть просчеты»2.
Шукшин был демократичным художником в том
смысле, что его отношение к жизненному материалу, к
изломам человеческих судеб не доходило до
высокомерия, до «гримасы» некого «кастово-иерархического»
превосходства. Он мог сострадать, ненавидеть или
посмеиваться над ситуациями и персонажами, в эти
ситуации по своей или чужой воле попавшими. Но как
автор удерживался на грани допустимого нравственного
суда, нравственного приговора, не вредившего
художественной полноте преображенной в искусство жизни. По
форме фильмы Шукшина жизнеподобны, они
полнозвучны и свежи, их пронизывает юмор.
А в этой чудесно приближенной к реальности
оболочке слышен искренний авторский голос, настойчиво
подталкивающий наше размышление об увиденном на
экране. Пульсация режиссерской и сценарной мысли
прочерчивается по пространству всего шукшинского
кинематографа.
Этот кинематограф изначально национален. Шук-
Бондарчук С. Первородство.—«Лит. Россия», 1977, 29 апр.
Старкова 3. Литература и кино. М., «Просвещение», 1978, с. 94.
52
шин — подлинно национальный творец. На всю жизнь
запомнил он, как самый ценный подарок родины, образ
жизни русского трудового крестьянства, нравственный
уклад этой жизни, который представлялся ему с годами
более и более прекрасным, начиная с языка, жилья.
Запомнились ясность поднебесная алтайских предгорий,
ясность пашни и труд людей, которых он любил и
помнил неизменно. Шукшин мог бы, вероятно, согласиться
со словами Виктора Астафьева из рассказа «Летит
черное перо»: «Крестьянин —он не только кормилец, он
человек оседлый, он — якорь жизни» '. Шукшин при
стремлении к сущему, к правде приходил к трезвому,
бескомпромиссному анализу крестьянского мира, он не скрывал
противоречий в его постоянном развитии. Но ведущей-
то тенденцией кинотворчества Шукшина было именно
выражение веры в целительную силу родной земли, в
творческую реализацию духовных сил русской советской
деревни.
На фоне эпизодического, спонтанного обращения к
сельскому материалу целого ряда отечественных
режиссеров тема деревни в кинематографе Шукшина
постоянна, перманентка. Он рассказывал о хорошо ему
знакомом, выражал свой жизненный опыт.
И еще очень важное — он двигался параллельно
движению самой жизни, не существовал в раз и навсегда
найденных, застывших формах. Шукшин рос как
художник вместе с видоизменением, обновлением языка
искусства, в том числе киноискусства. И этот
«деревенский»— шукшинский — кинематограф, будучи автономной
художественной структурой, при всей своей внешне
локальной по социальному статуту принадлежности
героев вышел на уровень общенародного зрительского'
интереса. Стал прочным звеном общенациональной
культуры последней трети нынешнего столетия.
Кинематограф Шукшина сумел постичь
существенные стороны правды жизни. В этом его
универсальность. В этом его новаторство.
Какую же правду?
И каким образом?
Вот и давайте это выяснять...
1 Астафьев В. Царь-рыба. М„ «Мол. гвардия», 1977, с. 371.
53
Иду в путь свой
(«Из Лебяжьего сообщают»)
Я не мог ни о чем другом писать, зная
деревню.
Шукшин
Шукшин поступил в Институт кинематографии на
режиссерский факультет в 1954 году. Ему было полных
25 лет.
«Поздновато? Может быть. Но не для Шукшина. Он
с его упрямым характером, подкрепленным ощущением
выросших крыльев за спиной, непоколебимо верил:
«Наверстаю!» И наверстал» '.
Так много позже скажет о Шукшине поэт Сергей
Викулов, главный редактор журнала «Наш
современник»,— в этом журнале Шукшин печатал кнноповесть
«Калина красная», был членом редколлегии.
Упрямый характер вырабатывала у Шукшина сама
жизнь. А викуловский образ «выросших крыльев за
спиной» надо понимать двояко: Шукшин до краев был
переполнен жизненными впечатлениями, что для
художника неоценимо, и еще, второе объяснение его
тогдашнего творческого самочувствия — он наконец-то попал
во ВГИК, в режиссерскую мастерскую М. Ромма. И
перед ним теперь встали совершенно определенные
(рукой пощупать) задачи, за разрешение которых
Шукшин и принялся с присущим ему упорством.
Особенности жизненной судьбы часто проливают
свет на природу творчества художника. С Шукшиным
это предельно очевидно — его биография нашла свое
отражение и, подчеркнем, продолжение в его
искусстве.
Василий Макарович Шукшин родился 25 июля
1929 года в селе Сростки, на Алтае, в семье
потомственных крестьян. Четырехлетним парнишкой остался без
отца. Каждое лето, безвыездно, работал в колхозе.
Особенно много, буквально на износ, пришлось потрудиться
в годину войны. Об этой страде, сверхчеловеческом
напряжении сил своих земляков, о страшной
бескормице, обрушившейся и на исконно хлебный Алтай, вспом-
Викулов С. Человек на земле.— «Лит. газ.», 1979, 25 июля.
54
нит Шукшин в ряде своих рассказов («Гоголь и
Райка», цикл «Из детских лет Ивана Попова» и др.).
колыхнется острой болью воспоминание это и в «Калине
красной» (Егор Прокудин рассказывает Любе
драматическую сцену из своего детства — как жестоко прокололи
вилами брюхо их корове Райке: она по весне зашла в
чужую ограду и, голодная, пристроилась там к стожку).
В 1943 году Шукшин закончил сельскую семилетку.
Затем переехал в город, в Бийск, и одно время учился
в Бийском автомобильном техникуме. Здесь ему было
не по душе, и он вернулся домой, в колхоз.
Подросток Шукшин мог рассчитывать только на
собственные силы. Время выпало тяжкое даже для
тылового села. Голод выгонял людей из деревни. Шукшину
шел семнадцатый год, когда ранним утром, по весне, он
один уходил из дому. В огромную неведомую жизнь,
где ни одного человека родного или просто знакомого.
А мать перекрестила на дорогу, заплакала, ей больно
было и страшно, да ведь на руках-то у нее оставалась
еще маленькая дочь, сестра Шукшина: ее, девочку, еще
прокормить надо будет.
Шукшин очутился в Калуге, на строительстве
турбинного завода, откуда попал на Владимирский
тракторный, оттуда в Подмосковье. Разнорабочий, слесарь-
такелажник, ученик маляра, грузчик — вот его
послужной список. Еще четыре года отданы были службе на
флоте. После демобилизации Шукшин вернулся в
Сростки.
Сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости,
учительствовал в местной вечерней школе рабочей
молодежи, преподавал русский язык, литературу, историю.
Одновременно исполнял обязанности директора этой
сельской школы.
«Во все времена, везде, много читал»,— отметит
Шукшин в «Автобиографии» (относимая к 1966 году,
она хранится в его архиве)'. Может быть, читал
несколько хаотично, зато взахлеб. Литература его увлекала.
Шукшин давно сам пробовал сочинять — еще до ухода
из дому в «большую жизнь» он пытается слагать стихи,
пишет юмористические сценки. На вступительных
экзаменах во ВГИКе Шукшин сдал вполне зрелый
письменный этюд, он назывался неожиданно и длинно: «Киты,
или О том, как мы приобщались к искусству». Было
55
предложено подметить то, что делается в
коридорах киноинститута в дни экзаменов. «Китами» Шукшин
назвал тех своих соседей по общежитию, кто целыми
днями краснобайствовал об искусстве, у кого «прямо
на лбу написано, что он — будущий режиссер или
актер».
«У них, этих людей,— наблюдает Шукшин в
представленном этюде,— обязательно есть что-то такое, что
сразу выделяет их из среды других, обыкновенных».
И продолжает: «Вот один такой. Среднего роста,
худощавый, с полинялыми обсосанными конфетками
вместо глаз. Отличается тем, что может, не задумываясь,
говорить о чем угодно, и все это красивым, легким
языком».
Нарисован конкретный тип молодого человека,
умеющего пользоваться удобной личиной, самонадеянного,
хитрого. Таких людей Шукшин избегал всю жизнь, его
этическим принципом была скромность при разговорах
о собственной творческой потенции. Он боялся
обтекаемых, громких и «красивых», пустых, не выстраданных
фраз. Во вступительном этюде Шукшин заявил не
только о своей этике. Он обозначил и свою стилистику,
которой следовал дальше. Совпадения с поздним
Шукшиным буквальные. «Вот один такой»,— читаем в этюде о
«китах». И далее автор приводит описание своего
персонажа. «Вот, допустим, одна такая суббота» — это
фраза из позднего рассказа «Алеша Бесконвойный».
Автор наблюдает, как его герой, сельский житель
Костя Валиков, топит в субботу баню. И описание этого
любимого занятия Кости раскрывает нежную,
тоскующую душу героя.
Вступительная работа Шукшина показывает, какой
у него был наблюдательный, цепкий глаз. И трезвый в
оценке. Этюд завершался провалом «кита» на
экзаменах. Шукшин наблюдает все за тем же персонажем:
«Он, кажется, начинал понимать, что нужно было не
так. И в тот момент, когда лицо его приобретает
естественное выражение, его жалко. Но тут же
вспоминается он — прежний кит, самоуверенный и
невнимательный, и жалость пропадает. «Пусть тебя учит жизнь,
если ты не хочешь слушать людей».
Педагоги ВГИКа обратили заинтересованное
внимание на этюд Шукшина. Заключение на нем таково:
«Хотя написана работа не на тему и условия не выполнены,
56
автор обнаружил режиссерское дарование и
заслуживает отличной оценки»'.
Шукшин пришел в институт зрелым человеком, и это
многое объясняет в его творчестве. В последний год
жизни, вспоминая первые свои шаги как художника,
Шукшин подчеркнет: «То есть от начала вступления в
самостоятельную жизнь до возможности осмысления в
институте того, что я успел увидеть,— это порядка 10—
11 лет — прошел период набора материала, напитанно-
сти им. Стало быть, мне в институте уже можно было
изъясняться на базе собственного жизненного опыта.
Отсюда, может быть, появилась более или менее
самостоятельная интонация в том, в чем нам предлагали
высказаться» 2. Отметим эти слова — «самостоятельная
интонация». Да, она сказалась в первой же письменной
работе Шукшина о «китах». Ему предложили
высказаться, и он высказался, пусть «не на тему», пусть «не
выполнив условий». Зато по-особому, серьезно, умно.
С. Бондарчук сказал о Шукшине справедливые
слова: «Его коренной чертой было первородство, которое
необычайно редко встречается». Первородство — точное
определение... Но Бондарчук, как мне кажется,
преуменьшает значение ВГИКа для формирования Шукшина-
художника. «Он мог бы,— в полемическом азарте
говорит Бондарчук о Шукшине,— вообще нигде не учиться
и представлять собой то же, что представлял»3.
О профессии кинорежиссера Шукшин думал всерьез.
Односельчанка Шукшина, библиотекарь Дарья
Ильинична Фалеева, рассказывала, как он советовался с ней
по поводу своего возможного поступления во ВГИК.
Семья его поддержала. Мать продала единственную
корову, чтобы сын мог поехать в Москву. Возможно,
Шукшин думал о киноинституте еще на флоте.
Когда Шукшин учился на втором курсе, журнал
«Советский воин» (№ 10 за 1955 год) поместил о нем за-
1 Эта работа Шукшина, хранимая в архиве ВГИКа, была
опубликована Л. Аннинским и Л. Федосеевой в сборнике «Василий
Шукшин. Нравственность есть Правда», с. 315—320.
2 Шукшин В. Я родом из деревни... 17 мая 1974 г. Шукшин дал
интервью итальянскому журналисту Бенедетти. На русском языке
оно напечатано журналом «Наш современник» (1979, № 7).
Интервью вошло в сборник «Нравственность есть Правда» (с. 231).
Цитирую здесь и далее по тексту сборника.
8 Бондарчук С. Первородство.—«Лит. Россия», 1977, 29 апр.
57
метку «Решил стать кинорежиссером». Журнал
сообщал, что на корабле, где служил Шукшин, он выступал
в концертах художественной самодеятельности, имел
успех у товарищей. Мичман посоветовал Шукшину
всерьез заняться сценическим искусством. Матросу-радисту
доверили руководство драм коллективом на корабле.
Так Шукшин впервые попробовал себя в роли
режиссера.
В заметке говорилось еще, что на студента
Шукшина возлагает определенные надежды его учитель,
известный кинорежиссер Михаил Ромм.
В числе других в мастерской М. Ромма занимались
одаренные А. Митта, В. Виноградов. Необходимость
добра и знаний, как главная принадлежность
искусства, проповедовалась Роммом своим ученикам. Надо
работать, до чего-нибудь и доработаешься, повторял он.
Шукшин это узнал по себе — отчетливо, непреложно.
Именно на студенческой скамье Шукшин попробовал
себя в прозе. Ромм просматривал литературные опыты
ученика, поддерживал его. Ромм был первым, кто
посоветовал Шукшину всерьез печататься.
Дебют Шукшина-писателя состоялся в 1958 году.
В пятнадцатом номере журнала «Смена» появился его
рассказ «Двое на телеге», неторопливое, спокойное
описание поездки старика возницы и молоденькой девушки-
фельдшера за лекарствами в дальнюю Березовку
(название это будет устойчиво у Шукшина; в частности,
поминает Березовку герой фильма «Печки-лавочки» Иван
Расторгуев). Ненастье, скоро ночь, но девушка торопит
возницу, вздумавшего было заночевать в тепле у
знакомого пасечника,— ведь это она сама вызвалась поехать
за лекарствами...
Рассказ прошел незамеченным. Мниморомантиче-
ская подкладка не заинтересовала. Впоследствии
Шукшин не включал его в свои сборники, справедливо
посчитав неудачным. После неприметного литературного
дебюта, придирчивый читатель собственных опытов,
Шукшин не печатался три года.
Зато новую публикацию — подборку рассказов в
журнале «Октябрь» запомнили, поддержали 1.
1 Осенью 1960 г. (Шукшин завершал тогда свой дипломный
фильм) сцепармст-вгиковец Леонид Корнюшнн, ныне активно
работающий писатель, привел Шукшина в отдел прозы московского
58
То же произошло с кинорежиссером Шукшиным.
Защита диплома — Шукшин представил
короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» — прошла
скромно.
Был тогда 1961 год. И снова, как писателю
Шукшину, начинающему постановщику понадобилось три года,
чтобы добиться признания. Вот после картины «Живет
такой парень» Шукшина заметили.
Но пока летели хлопотные, интересные дни
студенчества.
ВГИК в те годы представлял собой замечательное
учебное заведение. Режиссерскими мастерскими
помимо Ромма руководили опытнейшие, авторитетные
кинематографисты— Довженко, Козинцев, Герасимов.
Профессии кинорежиссера обучались будущие талантливые
мастера экрана — Шепитько, Жалакявичус, Лотяну,
Иоселиани, Смирнов, братья Шенгелая, Мансуров,
Климов, Салтыков. Горячо, заинтересованно принимались на
вгиковских просмотрах фильмы недавних выпускников
института, представителей так называемой
«послевоенной генерации»,— «Земля и люди», «Дело было в Пень-
кове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Павел
Корчагин», «Ветер»,«Мир входящему» А.Алова и
В.Наумова, «Дом, в котором я живу» Л. Кулиджанова и
Я. Сегеля, «Весна на Заречной улице» Ф. Миронера и
М. Хуциева. Именно обновлению отечественной кнно-
режиссуры — за счет вчерашних вгиковцев — в
значительной степени обязано своим подъемом советское
кино рубежа 50—60-х годов.
Не случайно фигуру режиссера Шукшин считал
ведущей в процессе создания фильма. «Без него нет
сценариста, писателя, автора, без него нет произведения
искусства. Он — художник. Вот во что надо, наконец,
искренне поверить» ',— скажет Шукшин позже в статье
«Средства литературы и средства кино».
журнала «Октябрь». Среди других переданных редакции
шукшинских рассказов был «Степан Разин». Редакторы этот рассказ
отклонили. Шукшин напечатал его спустя два года в журнале
«Москва». Первые три рассказа Шукшина — «Правда», «Светлые души»,
«Степкпна любовь» — были опубликованы в мартовском, третьем
номере «Октября» за 1961 г.
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 159. Статья была
написана для журнала «Искусство кино» в 1967 г., но не была тогда
напечатана. Опубликована в 1979 г. газетой «Советская Россия»
(в сокращении) и журналом «Искусство кино» (№ 7).
59
«Кино поистине восьмое чудо света...— убежденно
считал Шукшин.— Этот волшебник многому уже
научился, фокусы его становятся все загадочнее, все умнее
и порой перестают быть фокусами, становятся — чудом.
Он молод и силен, всегда на виду — он еще
развернется, заставит уважать себя»'.
Настроение, мысли Шукшина-студента
иллюстрируют письма к двоюродному брату Ивану Попову,
будущему новосибирскому живописцу (в
автобиографическом цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова»
Шукшин взял себе имя брата). Письма эти были
опубликованы к 50-летию Шукшина («Сов. Россия», 1979,
22 июля). Шукшин делится с братом, откровенно и
серьезно, своими раздумьями о назначении киноискусства,
долге экрана перед народом, взвешивает собственные
творческие силы, сообщает о планах. Письма
раскрывают нам подобие программы молодого режиссера, его
взаимоотношения с жизнью. Приоткрывается завеса над
малоизученным периодом шукшинской жизненной судьбы.
Снова вспоминаешь определение коренной черты
Шукшина — первородство.
В письме, датированном 1959 годом, Шукшин
размышляет: «Много думаю о нашем деле и прихожу к
выводу, что, наверное, только искусству до человека есть
дело. Ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит
их этому, кроме искусства? Кто расскажет, что простой,
добрый человек сам по себе интересен».
В рамку этих слов умещается почти весь Шукшин
60-х годов. Именно о простых (не упрощенных) людях
станет рассказывать он в своей прозе и своих фильмах,
им отдаст свои симпатии, сердце. И, в сущности,
вступится он, Шукшин, за доброту человеческую, поведет
бой против хамства, корыстолюбия, демагогии.
Спираль творчества Шукшина будет закручиваться
все туже и туже, и в последние годы жизни он уже не
поставит знака равенства между «простым» и «добрым».
Хотя веры в человека ничуть не утратит. Речь идет
лишь о духовной требовательности, а у позднего
Шукшина она достигла обостреннейшей формы.
Искусство такого Шукшина будет не только учить,
но и строго спрашивать.
В том же письме брату Шукшин сообщает: «...от-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 155.
60
снял свою курсовую работу (звуковую)... по своему
сценарию. Еще не смонтировал. Впервые попробовал сам
играть и режиссировать. Трудно, но возможно. Это на
будущее».
Един в трех лицах... Теперь видно, что еще в стенах
института формировалось удивительное художническое
качество Шукшина — быть единственным, подлинным
автором своих фильмов. «Это на будущее». Обучаясь
профессии, Шукшин упорно находил максимально
плодотворную форму самовыражения. Конечный результат —
художественную истину — он обретал, идя
параллельными путями. И так до последней черты.
Но первые шаги давались трудно. Да, Ромм
поддерживал ученика, но тот пока не мог преодолеть
собственное косноязычие, назовем это «эстетическим
косноязычием». Шукшин знал, что он хотел сказать в кино,
однако разговор покуда не выходил художественно
убедительный. И Шукшина в студенческой среде не
разглядели толком, сейчас об этом нужно сказать со всей
откровенностью.
Я сам хорошо помню, как охотно смотрели мы,
горячо поддерживали ученические короткометражки Эмиля
Лотяну, Хамраева, Георгия Шенгелая, Митты. Эти
молодые кинорежиссеры были «современнее» Шукшина по
киноязыку, свободнее владели монтажом, они опирались
на остроту, выразительность изображения, даже если
это вело к эстетизации кадра. Будущих побед ожидали
именно от этих постановщиков. Да и на самом деле они
одержали ряд впечатляющих побед.
А Шукшин был пока в тени.
И новый поток студентов — начала 60-х годов — не
принял первых работ Шукшина. Сергей Соловьев,
попавший с очередным набором в мастерскую все того же
Ромма, вспоминал, что педагоги часто ссылались на
Шукшина, показывали студентам его немые этюды.
И они новоявленным роммовцам не нравились. Вся
эстетическая система картин начинающего Шукшина,
замечал Соловьев, была ему чужой, гораздо ближе в этом
смысле были для него некоторые однокурсники
Шукшина. Только через несколько лет, сначала через прозу,
понял Соловьев Шукшина, а достигнутые тем
выдающиеся художественные результаты объяснял так: «...его
интересы никогда не были направлены на одно только
искусство, они были направлены на познание жизни.
61
Он не ставил перед собой задачу написать еще одну
книгу, поставить еще один фильм. Он хотел найти
способ выразить те глубинные духовные процессы, которые
в нем происходили под влиянием жизни, и он
пользовался всеми средствами, чтобы их выразить. Вот это и
дало ему возможность перемахнуть через все
профессиональные барьеры, которые мы обычно одолеваем,
подставляя сперва один кирпичик, потом другой, третий...
А он вышел на новый, настоящий художнический
горизонт просто потому, что ему очень надо было сказать
то, что его переполняло. А форма — это следствие.
Первопричиной же всего был тот духовный потенциал,
который выразить можно только всей и обязательно
естественной жизнью в искусстве.
Мне кажется, в обсуждениях наших работ мы все же
часто занимаемся только следствиями: тут получилось
лучше, тут— хуже. А дело не в этом. Искусство
начинается с причин, и причины эти — движение жизни,
времени, движение человеческого духа в параметрах
общего движения страны, народа»'.
Бытовал миф о серости, «сермяжности» Шукшина:
мол, пришел в институт полуграмотный сибиряк.
Шукшин и сам долгое время прятался под маской
«простака» из провинции — где уж нам-то заниматься
искусством... Из упрямства, с вызовом носил солдатскую
форму, только без погон. Позже он рассказывал Георгию
Буркову, товарищу-актеру, что старался держаться как
бы под водой, чтобы в один прекрасный момент
вынырнуть, то есть утвердиться как художнику.
Этот миф о «сермяжности», слава богу, развеян.
Но не нужно думать и об «избранничестве»
Шукшина, говорить о его природной сверходаренности.
Художник формировался в непрестанном труде, вот что
следует подчеркнуть. И еще — формировался в
благотворной среде, под руководством опытных наставников.
Ступени ученичества Шукшин одолевал азартно.
Помнится, Владимир Яковлевич Бахмутский,
читавший курс зарубежной литературы, указывал нам,
студентам, что среди больших художников слова лишь
двое не знали периода ученичества: Лев Толстой и
Томас Манн. Оба гиганта начали зрелыми вещами.
Можно кого-то, вероятно, добавить к этим именам, но тут
1 «Искусство кино», 1975, № 9, с. 161—162.
62
важен был педагогический эффект: преподаватель хотел
внушить нам мысль о необходимости черновой работы,
каторжного труда, без коего трудно было бы
рассчитывать на серьезные успехи в искусстве.
Шукшин говорил как-то Юрию Скопу, писателю, что
коли мы по таланту не Толстые, то хоть часть правды
обязаны сказать, должны всегда, при любых
обстоятельствах оставаться честными.
Эту правду помогали Шукшину искать еще в стенах
института наставники.
«Не все удалось. Но сама манера и любовь к
правде— это дорого...». Так признавался Шукшин в
очередном письме брату, оценивая фильм «Два Федора».
Письмо, как считает И. Попов, датируется 1958 годом.
Думается все же, что оно послано годом позже, когда
картина была завершена и Шукшин судил по
конечному результату.
ВГИК дал Шукшину и профессию киноактера.
Впервые как актер Шукшин выступил в крошечном
эпизоде во второй серии «Тихого Дона» Герасимова, он
изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. Роль
эпизодическая, даже микроскопическая. Зато отметим,
что Шукшин-актер начался и завершился Шолоховым:
последней ролью художника стал образ бронебойщика
Лопахина в созданной Бондарчуком экранизации
шолоховского романа «Они сражались за Родину».
Последний год жизни Шукшина прошел под знаком
Шолохова.
Летом 1957 года Шукшин вместе с сокурсником
проходил практику на Одесской киностудии. Шукшин
пробовался на главную роль у товарища-режиссера, но не
был утвержден. Зато сокурсник посоветовал обратить
внимание на Шукшина М. Хуциеву, который искал
актера на роль Федора-большого для своей картины «Два
Федора». С этого фильма началось подлинное
творчество Шукшина-актера (прокат 1959 года) '.
Вместо положенных шести месяцев практика
Шукшина растянулась до полутора лет. Это несколько
затянуло работу Шукшина над собственным дипломным
1 Во вступительном слове «От редакции» к сборнику
киноповестей Шукшина (М., «Искусство», 1975, редактор Б. Кокоревнч)
дебют Шукшина-актера в фильме «Два Федора» ошибочно отнесен
к 1957 г. Кстатп, это не единственная неточность в этом, чуть более
полстраницы, предисловии.
63
фильмом. Зато его заметили другие режиссеры, он стал
получать приглашения сниматься. «Его лицо
выделялось среди привычных лиц экранных героев,—
вспоминал Бондарчук Шукшина в «Двух Федорах».— Оно
поражало необыкновенной подлинностью. Словно это был
вовсе не актер, а человек, которого встретили на улице
и пригласили сниматься. В Шукшине не было ничего
актерского— наработанных приемов игры, совершенной
дикции и пластики, которые обычно выдают
профессионала. Меня, в ту пору уже достаточно опытного
актера, Шукшин заинтересовал...»'.
Шукшин играл солдата-фронтовика, после
демобилизации подбирающего на одном из бесчисленных
полустанков подранка, мальчишку-сироту Федора-малого.
Показал сердце, войной обожженное, но не забывшее о
доброте, сострадании. Способное к нежности, к
самоотречению. К бескорыстной любви.
В упомянутой выше «Автобиографии» Шукшин так
оценивал картину «Два Федора»: «Дело десятилетней
давности — фильм хороший, честный. Я же от начала до
конца пробыл бок о бок с человеком необычайно
талантливым, добрым (Хуциевым.— Ю. Т.). Полтора года
почти я каждый день убеждался: в искусстве надо быть
честным. И только так. И не иначе».
Летом 1960 года Шукшин приступил к съемкам
дипломного фильма «Из Лебяжьего сообщают». Своего
первого фильма.
Двумя годами раньше в очередном письме брату
Шукшин поделился своими планами: «Все дело в
сценарии. Задумал большую картину, писать сценарий
буду сам. Разве штатные сценаристы лучше меня знают
деревню? Да и мне нужно бы оживить свою память
теперь и кстати отдохнуть от Москвы. Словом, я с
некоторой бодростью смотрю вперед».
Отметим два момента в письме: «все дело в сцена^
рии» и «кто лучше меня знает деревню?». Шукшин был
выразителем опыта, он назубок знал своих героев,
сельских жителей, ему не терпелось рассказать о них с
экрана. Одновременно Шукшин понимал значение для
кинематографа добротной, правдивой сценарной
литературы. Эта прямая зависимость художественного уровня
фильма от уровня литературной первоосновы всегда бу-
1 Бондарчук С. Первородство.— «Лит. Россия», 1977, 29 апр.
64
дет приниматься Шукшиным во внимание. Его
кинематограф литературен.
«Из Лебяжьего сообщают» молодой режиссер ставил
на «Мосфильме», художественным руководителем
являлся Михаил Ромм.
Актер Л. Куравлев, одновременно с Шукшиным
закончивший ВГИК и снимавшийся в первой картине
режиссера, вспоминал о ней благодарно: «Люди, любящие
Василия Макаровича, могли увидеть и понять истоки
его творческого пути. То было брошенное в
кинематографическую ниву семя, из которого потом высоко
взметнутся сильные побеги: Шукшин-писатель,
Шукшин-режиссер, Шукшин-актер, поскольку он выступил как
автор сценария, режиссер и актер»'.
Того же мнения профессиональный кинокритик Н.
Игнатьева: «Нам недавно удалось посмотреть дипломную
работу Шукшина — «Из Лебяжьего сообщают». Там
немало профессиональных огрехов, и все-таки в фильме
уже видно все то, что впоследствии мы стали связывать
с именем Шукшина»2.
Этот скромный черно-белый фильм рассказывал об
одном будничном, рабочем дне сельского райкома
партии в жаркий период летней страды. Рассказывал без
патетики, без умиленности и парадности.
Даже ранняя проза Шукшина скупа по письму,
лишена пышнословия. Так же он начал и снимать — без
эффектных ракурсов, без зашифрованности
изобразительного ряда, без поэтической символики. Этот стиль
киноповествования был лишен эстетических новаций, вот
почему фильм не стал событием во вгиковской среде.
Традиционная, скажем так, форма картины (оператор
В. Владимиров) соответствовала содержанию самих
выбранных автором жизненных ситуаций.
Начинающий режиссер соответствовал начинающему
писателю. Тема деревни зачиналась у Шукшина
довольно, в общем, мирно. «Присутствовал юмор, были какие-
то намеки на характеры...»3 — скажет затем Шушкин
корреспонденту газеты «Унита». Автор своих первых
рассказов и первого фильма сам со временем увидел
1 Куравлев Л. Как березы...— В кн.: О Шукшине, с. 224—225.
В своих воспоминаниях Куравлев ошибочно считает дипломный
фильм Шукшина двухчастевкой. В картине три с половиной части.
2 «Искусство кино», 1975, № 9, с. 162.
3 Шукшин В. Я родом из деревни..., с. 234.
4 Зак. <И0
65
пристрастность своего взгляда на «простых, добрых
людей». Шукшин находился пока на ближних подступах
к объемному художественному постижению
многомерного, исполненного диалектического содержания русского
национального характера.
Пока... Но интуиция и немалый жизненный опыт
Шукшина подсказали ему верный ориентир. Родная ему
алтайская деревня, тесные связи с которой Шукшин
сохранил до конца жизни, питала его вдохновение,
побуждала к творчеству. «Я был здесь смел, я был здесь
сколько возможно самостоятелен; по неопытности я мог
какие-то вещи поначалу заимствовать (Л. Аннинский и
А. Овчаренко, не сговариваясь,— разные критики! —
увидели в части прозы раннего Шукшина раннего
Горького.— Ю. Т.), тем не менее я выбирался, на мой взгляд,
весьма активно на, так сказать, однажды избранную
дорогу...» '.
Фильм «Из Лебяжьего сообщают» открывается
сценой в приемной первого секретаря райкома партии
Байка лова. Экспозиция позволяет познакомиться с
основными действующими лицами картины, завязывает
драматические конфликты. Для конструирования сюжета
прием знакомый. Аналогичную завязку, только перенеся
действие в приемную суда, применили, к примеру,
сценарист А. Володин и режиссер П. Арсенов в фильме
«С любимыми не расставайтесь» (выпуск 1980 г.).
У каждого из посетителей — своя просьба к
секретарю райкома. Молодая женщина, броская крашеная
блондинка Наумова, жалуется на своего мужа, врача:
у мужа завязался роман, райком обязан вмешаться...
Угрюмый Евгений Иванович, мешковатый, с
залысинами человек, канючит насчет неправильно, якобы
незаконно начисленных алиментов... Наконец,
по-мальчишески легкий, вихрастый сельский механик Сеня Громов,
с кепкой в руке, натужно заикаясь, вымаливает нужные
позарез коленчатые валы...
Сценарист Шукшин не торопит действие, Шукшин-
режиссер не торопится вырваться из ограниченного
пространства одной декорации, снимая эти первые кадры
с минимального числа точек. Статичность общих,
средних и крупных планов исключает у Шукшина движение
камеры, эластичность изображения. Не прибегает ре-
1 Шукшин В. Я родом из деревни..., с. 232.
66
жиссер и к укрупнению деталей, монтажным
«ударениям», столь свойственным автору «Калины красной».
Видимо, стремясь к передаче естественного течения
жизни, Шукшин сознательно, может, даже внутренне
полемизируя с тенденцией «динамичного кинематографа»,
ограничивается элементарным набором выразительных
средств. Режиссер боялся потеснить сценариста, вот он
и ограничил себя функцией повествователя.
Автора «Из Лебяжьего сообщают» интересовала
нормальная работа нормальных людей.
Фильм включался в творимый Шукшиным
микромир. Он отзовется в будущих произведениях фамилиями
героев, названиями поселков и деревень. Секретарь
райкома Байкалов — эта фамилия встретится нам в
романе «Любавины», фильме «Калина красная». Лебяжье —
так будет называться деревня в рассказе «Земляки».
Да и район — Березовский, снова Березово, Березовка.
В своем дипломном фильме Шукшин-актер играет
инструктора райкома Петра Ивлева — и такое имя
попадется в шукшинских новеллах. Совпадение имен и
названий отличает многие вещи Шукшина (Расторгуевы, Про-
кудины, Лиэуновы, Колокольниковы, Любавины)...
Действительно,'в селах, когда раньше люди жили оседло,
так сказать, кустами, часто встречались сходные
фамилии, чуть ли не полдеревни приходились друг другу
какими-нибудь да родственниками. Все они были из
потомственных земледельцев, трудились на своей ниве из
поколения в поколение. Шукшин, понятно, следовал факту
жизни. Но еще, задумывая новые и новые сюжеты, он
использовал известную литературную традицию.
Писатель стремился к сгущению своего художественного
мира, как это последовательно делал, к примеру,
Фолкнер, а в нашей нынешней литературе — В. Астафьев
(«Царь-рыба»), В. Белов («Воспитание по доктору
Споку»). Шукшин угадывал перспективу своего творчества,
отсюда его склонность к повторяемости, более четкой
разработке однажды нащупанных тем, коллизий,
отсюда и упорная, осознанная повторяемость имен
персонажей, названии населенных пунктов.
Шукшинский микромир уплотнялся.
На роль секретаря райкома режиссер пригласил
В. Макарова, тогда достаточно занятого актера. Для всей
интонации фильма «Из Лебяжьего сообщают» важно
было удержать уровень спокойного, негромкого повество-
4*
67
вания, не сфальшивить нотой ложного пафоса.
Секретарь, с его худощавым, немолодым, усталым лицом, с
его будничным костюмом, неторопливыми жестами,
призван был проиллюстрировать мысль автора картины о
распространенности такого типа неброских людей,
много думающих, целенаправленных, органически чуждых
суесловию. Это люди дела, только не деляги. Слов на
ветер не бросают, стараются понять чужую душу, чужие
заботы. Таким никогда не придет на ум говорить о
собственной исключительности.
Здесь режиссер и актер шли в русле хуциевской
интонации тех лет, предпочитая тихое, толковое слово
бравым окрикам. Приглушенность красок в образе
партийного руководителя — заметная тенденция советского
кинематографа того периода. Шукшин был среди тех, кто
избегал глянцевитых образов.
Строго рассуждая, роль секретаря райкома была
решена актером на типажном уровне. Внешняя
достоверность еще не дала нового характера. Но намерение
молодого режиссера показать положительного героя не за
счет искусственно введенных средств очевидно. Эту
позицию можно признать мужественной и сейчас, по
прошествии немалого времени.
Чтобы разобраться в нежданной ситуации, секретарь
райкома приходит к Наумовым домой. Врач где-то
задержался, а его жена, принаряженная, с белым бантом,
повязанным явно в расчете на визит гостя, внимает
пошловатой пластинке, взрезаемой патефонной игрой.
Обычное теплое «гнездышко», так раздражавшее вкус
Шукшина.
Режиссер своей иронии в этом эпизоде не скрывает.
На столе книга — ее читала Наумова — «И один в поле
воин», этим приключенческим романом зачитывались
тогда повально.
Чета Наумовых приехала в Березовский район из
Мичуринска, дипломированные специалисты получили
распределение. Жена имеет педагогическое образование.
Однако к работе приступил только муж. Наумова не
захотела преподавать в местной вечерней школе, где
такая острая нужда в учителях. Да и в поселке ей скучно:
за водой к колодцу надо ходить. Шукшин, сам бывший
директором сельской школы, отлично знал потребность
деревни в грамотных, толковых людях. Он высоко ценил
роль сельской интеллигенции в просвещении народа, а
68
фигура порядочного, честного сельского учителя
неизменно выводилась им с симпатией: достаточно указать
на образ Ивана Захаровича из картины «Странные
люди». Да и в публицистике своей Шукшин объяснялся с
читателями столь же прямо и принципиально — без
сельской интеллигенции, без грамотных учителей деревня
обойтись не в состоянии.
Наумова показана режиссером и сценаристом
подчеркнуто иронически. Шукшин не прощает ей измены
своему долгу, отказа поработать на людей. И посему
оправдывает мужа, полюбившего другую женщину.
Жеманная мещанка не чета Наумову, это человек иных
жизненных устремлений.
Авторское отношение в разбираемом эпизоде четко
выявлено — когда Наумов возвращается домой,
секретарь райкома не читает ему нотаций, не грозит карой,
а по-человечески просто спрашивает: «Любишь? Ту,
другую...» И Наумов твердо отвечает: «Да». На этом
разговор и завершается.
Внутренне секретарь соглашается с врачом:
оставаться в таком «гнездышке» выше сил.
Но полюбил-то Наумов не кого-нибудь, а жену
инструктора1 райкома партии Ивлева. А в исполнении
Шукшина Ивлев — натура самоотверженная, волевая,
человек слова. Удар судьбы для него неожидан и
жесток. Жену-то он любит. Разлука с ней для него
мучительна, это подобно открытой ране, боль от которой
можно перетерпеть, но от которой нельзя избавиться.
Драмой любви Шукшин обостряет кинорассказ. Ибо
без нее образ Ивлева остался бы целиком в сфере
производственных интересов. Метеослужба прогнозирует
скорые дожди. Стало быть, выход один: ускорить
темпы уборки урожая. В Лебяжьем за оставшиеся до
непогоды три дня нужно убрать еще три тысячи гектаров.
Следовательно, нужно дополнительно мобилизовать
людей, нужно выбить у заведующего сельхозтехникой (его
называют весьма выразительно «каменным человеком»)
еще пятнадцать машин для вывозки хлеба. И
возглавить, организовать эту авральную работу райком
поручает инструктору Петру Ивлеву.
Как видим, Шукшин в дипломной картине касается
вопроса сельскохозяйственного производства. Такоевни-
мание к прямому отражению сельского труда для него
единично. Впоследствии Шукшин решительно откажется
69
от «чистого» производства, перенеся центр тяжести на
исследование внутреннего мира персонажей. Тут же, в
первом фильме, вероятно, сказалось влияние
общепринятых моделей кинематографического изображения
современной деревни, когда кадры, показывающие
колхозные заботы, непосредственно включались в конструкции
картин.
Теперь понимаешь, что роль Ивлева оказалась для
актера Шукшина проходной. Герой его относился к
разряду положительных, актеру важно было показать
деловитость, внутреннюю мобилизованность этого крепко
сбитого, земного человека, деятельного работника.
Одетый на манер красных комиссаров в кожанку, в серой
кепке, в сапогах, Ивлев ходил по экрану спокойно,
уверенно и напоминал, очевидно, самого Шукшина, когда до
института он одно время работал в Сростках секретарем
райкома комсомола. «Кстати, и потом, уже в зрелости,
ни традиционное в кино амплуа «социального героя», ни
«правильные» положительные роли Шукшину не
удавались,— трезво подмечает Н. Зоркая,— даже если в
фильмах присутствовала драма, скажем, любовная, но
не было юмора и остроты. Картина «Мужской
разговор» (1968 г.— Ю. Т.), где Шукшин играет
пожилого, благородного и сдержанного моряка, покинутого
мужа и любящего отца, может служить тому
примером» '.
Ведь и Петр Ивлев покинутый муж, он благороден
и сдержан, а вот юмора и остроты действительно в
образе этом практически нет. Да и спустя девять лет,
снимаясь у другого режиссера, Шукшин не сумел дать
второй редакции роли, предложенный драматургический
материал «не пустил» его вглубь...
В «Лебяжьем» Шукшин сострадает герою: К финалу
любовной драмы он целиком на его стороне. Жена
Ивлева, собрав веши, уходит из дому. Петр на какое-то
время растерян. Просит жену хоть повременить: «Мне,
Ася, нехорошо...» Но его не слушают. Ивлев, оставшись
1 Зоркая И. Актер.— В кн.: О Шукшине, с. 148. Кстати,
некоторые критики ошибочно считали, что сперва Шукшин-актер не
снимался у Шукшина-режиссера. Другое дело, что после дипломного
фильма Шукшин как актер в собственных лентах уходит со
съемочной площадки на двенадцать лет—до роли Ивана Расторгуева в
«Печках-лавочках». Ошибка объясняется, видимо, малой
известностью первого шукшинского фильма.
70
один в комнате, тяжело переживает драму. Со стек
смотрят на него портреты Ленина и Калинина, хмурит
брови скульптурный Маяковский. Но Шукшин недаром
подчеркивал внутреннюю мобилизованность героя. Ив-
лева ждет Лебяжье, надо думать о хлебе, перестать
рвать себе сердце.
Поздно вечером Байкалов провожает Ивлева через
поселок. Задушевно, согласно звучат вдоль улицы
девичьи голоса: девушки, собравшиеся на вечерку, поют
грустную песню про разлуку. Секретаря тянет как-то
утешить спутника, он произносит соответствующие
слова, но Ивлев уже глубоко запрятал свою боль. Говорить
о жене ему не хочется — раз ушла, что тут толковать,
надо разойтись, и все. Раз один, так один. Ивлев
наклоняется над срубом, подтягивает ведро из колодца,
отпивает с жадностью несколько глотков прохладной
воды. «Вот она, любовь,— жестко бросает он,— отопьешь
чуть, и баста — хватит, больше не выпьешь». В этот
момент в лице шукшинского героя проскальзывает что-то
похожее на злость, вздуваются на скулах желваки... Это
глянула грядущая шукшинская ярость, на миг, на
секунду. Для таких внутренних взрывов Шукшин еще не
готов, это у него впереди. А пока его герой слишком
положительный, чтобы вскипать справедливой злостью. Он
еще не воюет за себя, как, скажем, делает это Иван
Расторгуев в «Печках-лавочках», он еще в согласии с
миром.
В согласии с миром находится пока и герой Л.
Куравлева. Через пять лет актеру придется сниматься в
роли Степана Воеводина, и фигура этого странного
беглеца придаст особый драматический настрой фильму
«Ваш сын и брат». А в «Лебяжьем» белокурый
механизатор Сеня Громов не позволяет себе никаких вывертов,
он закон не преступает. Напротив, он весь в пределах
законности.
Сеня, с его курточкой подростка, обаятельной,
открытой улыбкой, есть, конечно, эскиз к образу Пашки
Колокольникова, будущей работе Куравлева у
сценариста и режиссера Шукшина. Никогда не унывающий,
добрый, общительный, чуть наивный, Сеня
воспринимает мир доверчиво, как должное, в доброту человеческую
верит. Вот валы коленчатые ему нужны, без них
комбайн простаивает, жатва под угрозой, так он, Сеня,
кинулся в район, к начальству, хлопочет без устали. За-
71
метим, что ситуация эта — поиски коленчатых валов —
перекочует в киноповесть Шукшина «Брат мой...», в
фильм Виноградова «Земляки», сделанный по этой
повести в 1975 году. Здесь, в этой картине, худощавого
простодушного Сеню похоже сыграет С. Никоненко. Да
и ранний рассказ Шукшина «Коленчатые валы»,
опубликованный в периодике в 62-м году («Октябрь» № 5),
показывает, насколько нравилась автору эта сюжетная
ситуация. Вот лишнее свидетельство пристрастия
Шукшина к однажды найденной теме, склонности к новой
редакции конфликта.
Сеня похож на Пашку Колокольникова даже
заиканием: «Из-под п-подушки к-коленчатый в-вал до-доста-
ну?» Нравится автору «Лебяжьего» Сеня — живет на
селе такой добрый парень...
Из приемной секретаря райкома Сеня направляется
в чайную угостить того самого Евгения Ивановича, что
безуспешно пытался оспорить у Байкалова якобы
незаконно начисленные на него, Евгения Ивановича,
алименты. Любитель дармовой выпивки, Евгений Иванович
пообещал Сене свое содействие. А раз валы
найдутся, Сеня готов оплатить бутылку из собственного
кармана.
Сцена в чайной сделана режиссером Шукшиным на
хорошем профессиональном уровне. Мне кажется, это
самая запоминающаяся сцена фильма. В ней полно
проявился и гражданский темперамент Шукшина, его
активное неприятие тунеядства, демагогии.
Литературно интересные образы были поддержаны
на экране актерскими работами (в роли Евгения
Ивановича снимался опытный актер Н. Граббе, он затем
сыграет милиционера в картине «Ваш сын и брат»).
Наивность Сени выглядела особенно привлекательно на
фоне мрачного опьянения его мнимого благодетеля.
Евгений Иванович захмелел быстро, привычно, глушил
зелье стаканами. Шукшин-сценарист назвал его
профессию «работник прилавка». Этих мордастых хамов из
магазинов Шукшин будет преследовать в своей прозе всю
жизнь, для него это заклятые враги, не люди.
«Жлоб, зачем тебе лично эти валы?» — допытывается
работник прилавка у Сени, который постепенно
полнится неприязнью к словесам алиментщика. А того несет:
«Сами (это о райкомовцах.— Ю. Т.) на «победах»
разъезжают, а нам на курорты съездить некогда, не дойдем
72
так-то до коммунизма...» Последние слова разъярили
Сеню. Страшно заикаясь, он буквально вскипел:
«Какие дойдем?..» И лезет в праведную драку.
К ночи уезжал на рэйкомовском газике в Лебяжье
инструктор Ивлев. По дороге к нему присоединился Се-
ня, разжившийся-таки (законным путем) коленчатым
валом. Они ехали на жатву.
А затем районная газета в короткой информации
напечатала: из Лебяжьего сообщают, что уборочная
кампания проходит успешно...
Этими строчками-кадром завершается фильм
Шукшина.
«Из Лебяжьего сообщают» — первая самостоятельная
картина сценариста и режиссера — заслужила при
защите диплома отличной оценки. Фильм
продемонстрировал принципиальный метод Шукшина: за внешне
привычным, будничным разглядеть более широкий смысл,
докопаться до сути вещей, выявить подлинный
человеческий характер. Обычная газетная информация,
обычная для каждого района, для каждой страды,
послужила для автора картины толчком к рассказу о людях,
обеспечивших успех жатвы, людях не придуманных,
заслуживающих нашего, зрителей, внимания и участия!
Эта заземленность киноповествования, далекого от
одиозности, с одной стороны, а с другой — от кабинетного
чувства авторского превосходства над героями была
Шукшиным здесь опробована, а затем развита на новом
вдохновляющем зрителя уровне нравственных и
эстетических завоеваний.
Ученическая лента стала для нас теперь
неотъемлемым звеном в цепи творческой эволюции Шукшина.
Так, еще скромно, начинался талантливый,
оригинальный художник.
Первая шукшинская картина была снята на
«Мосфильме». Последняя — «Калина красная» — там же.
Между этими фильмами дистанция в четырнадцать
лет.
За это время на Киностудии имени Горького
Шукшин сделал четыре картины...
Есть такой режиссер!
(«Живет такой парень»)
Я хотел сделать фильм о красоте
чистого человеческого сердца, способного к
добру. Мне думается, это самое дорогое
наше богатство — людское.
Шукшин
После защиты диплома во ВГИКе Шукшин не сразу
получил возможность начать съемки своей первой
полнометражной картины. Киностудия имени Горького
предоставила ему это право лишь к лету 63-го года,
разрешив запустить в производство фильм «Живет такой
парень». 11 июня сценарно-редакционная коллегия студии
(С. Герасимов, Б. Метальников и другие) обсудила и
высоко оценила литературный сценарий Шукшина.
А пока Шукшин-актер снимался у других
режиссеров: у Ильи Турина в фильме «Золотой эшелон», у Юрия
Егорова в «Простой истории», у Юрия Победоносцева
в картине «Мишка, Серега и я», у старейшего нашего
кинематографиста Бориса Барнета в «Аленке», у Льва
Кулиджанова в фильме «Когда деревья были
большими»... Имя актера Шукшина делается популярным.
Но сам-то Шукшин в этот период более всего думает
о литературе, отдает именно ей основное время. Он
пишет интенсивно: роман «Любавины», рассказы о своих
земляках-алтайцах. Эти рассказы поддерживаются
редакцией московского журнала «Октябрь». В одном из
литературных обозрений, напечатанном «Комсомольской
правдой» 16 ноября 1962 года, главный редактор
журнала Вс. Кочетов обратил внимание читателей на
молодого прозаика: «С отличными рассказами выступает
Василий Шукшин». Сотрудница редакции О. Румянцева,
приветствовавшая первые шукшинские новеллы,
вспоминает об органической способности автора этих новелл
говорить о жизни правду — эта способность останется
важнейшей для всего последующего творчества
Шукшина.
Вот первый из опубликованных на страницах
журнала шукшинских рассказов — «Правда». Писатель
выводит здесь тертого, «многоопытного» председателя
колхоза, привыкшего хитрить, изворачиваться. Где ма-
74
до, председатель этот козырнет перед начальством, на
собрании речь скажет, а где и смолчит, утаит свои
делишки. Но вот попадается ему на пути человек без
маски, он спокойно, просто говорит правду, не виляет, не
ловчит. И горько, зло делается председателю «от
сознания, что человек, сидящий рядом с ним, имеет
смелость быть правдивым и прямо смотреть ему в глаза».
Решительно заявил о своей жизненной позиции
начинающий писатель.
Летом 63-го года в издательстве «Молодая гвардия»
вышел первый сборник Василия Шукшина — «Сельские
жители». Сборник имел заслуженный читательский
успех, его отметили в критических публикациях
(например, посвятил ему рецензию «Очень талантливо»
писатель Михаил Алексеев, напечатанную журналом
«Москва» в первом номере за 64-й год). Девятнадцать
рассказов, составивших шукшинский сборник, охватили
русскую жизнь, преимущественно алтайского села, с
февраля 42-го года по начало 60-х. Проза Шукшина
зрима, диалогична. Она пронизана светом, надеждой.
Каждая строка дышит полнокровным ощущением
бытия, писатель принимает и любит мир во всем его
просторе, многоцветье. На страницы книги выведено
немало молодых героев, открывающих для себя жизнь,
познающих любовь, неизменную величавую красоту
родной природы. «Очень хочется жить»,— думает герой
автобиографического рассказа «Воскресная тоска»,
вспоминая раннее летнее утро в степи, зеленый тихий
рассвет. Ему хочется обнять землю и слушать, как в ее
груди шевелится огромное сердце. Многое понимаешь
в такие минуты... Характерный мотив для сборника.
Очень теплым, проницательным было предисловие к
шукшинской книге. Оно принадлежит Александру
Андрееву, сотруднику журнала «Октябрь», он обсуждал еще
первые рассказы писателя, отметив в них подлинную
жизнь, поэзию и правду. Трудно сказать, какой выйдет
из Шукшина кинорежиссер, пишет Андреев, ибо
фильмов его мы пока не видели, но вот по первым же
строкам прозы можно определить, что «в литературу
вступает человек со своим взглядом на события и на людей,
со своей манерой письма, что он обладает талантом
большой грусти, теплого юмора и человечности»'.
1 Шукшин В. Сельские жители. М., «Мол. гвардия», 1963, с. 3.
75
Связь между этим первым сборником прозы и
первым «большим» фильмом Шукшина самая прямая.
Она и в равноценности общего авторского настроя,
в ощущении полноты, многозвучия мира, в сыновнем
признании жизни.
Она и в выборе основного героя — молодого,
неунывающего, на поверку очень доброго.
Она и в сюжетике, синонимичности ситуаций,
выбранных для художественного моделирования.
Это станет правилом — без прозы Шукшина 60-х
годов не обойдется кинематограф Шукшина 60-х годов.
Срок между публикациями рассказов, переработкой
их в сценарий и началом съемок фильмов по этой прозе
сокращен был у Шукшина, как правило, до минимума.
Во втором номере журнала «Новый мир» за 1963 год
(теперь преимущественно в этом журнале станут
печататься шукшинские новеллы) писатель опубликовал
цикл из четырех вещей — «Они с Катуни», а той же
осенью приступил к натурным съемкам первой своей
полнометражной картины «Живет такой парень», в основу
сценария которой были взяты два рассказа из этого
«новомировского» цикла: «Классный водитель» и
«Гринька Малюгин».
То же произошло с работой над следующими
фильмами — «Ваш сын и брат» и «Странные люди». Да и
киноповесть «Калина красная», опубликованная журналом
«Наш современник» весной 73-го года, тогда же, на
исходе весны, стала превращаться усилиями автора в
одноименный фильм.
«Живет такой парень»... Само название ленты
предупреждает, что увидим мы на экране моногероя, что
герой этот молод, что он не придуман автором, а как
бы подсмотрен в жизни, что весь он земной,
деятельный— одним словом, человек из плоти и крови, один из
наших современников.
Вот он: Колокольников Павел Егорович, год
рождения 1937-й, водитель-механик второго класса, водит
машину ГАЗ-51 по Чуйскому тракту, на Алтае. Холост.
Симпатично в своей доброй улыбке чуть округлое
лицо актера Леонида Куравлева, по-детски
простодушное, но и с лукавинкой, с живыми неглупыми глазами.
Сидит за баранкой чуть небрежно, даже картинно,
откинувшись на спинку сиденья. Правая рука — на
штурвале, левая — локтем — на дверце кабины (так-то вот,
76
щеголевато, вел свою «полуторку» Пашка Холманский,
герой рассказа «Классный водитель»). Рабочая одежда
обычная — старенькая ковбойка или растянутый,
захватанный свитер, темный пиджачок или ватник, на
ногах— солдатские сапоги. А вот когда Пашка Колоколь-
ников шел в клуб на танцы или к знакомой, надевал
он светлую рубаху с узором, хромовые сапоги-вытяжки,
новенькую военную фуражку, из-под козырька которой
выпускал чуб. Любил Пашка в такие минуты малость
пофорсить. Был он бесхитростен, обаятелен и смешон.
Героя Шукшин выбрал, прямо скажем, не
идеального. Но он и не стремился к тому. Сценаристу и
режиссеру важно было показать на экране реальный,
конкретный характер, живую человеческую натуру, способную
в своей искренности на порывы и поступки деятельные,
добрые.
В шукшинском рассказе «Воскресная тоска» герою-
автору его сосед по комнате, студент, дельно
советует: «Надо писать умнее, тогда и читать будут. А то у
вас положительные герои такие уж хорошие, что
спиться можно». Таких «примерных» положительных героев
Шукшин-писатель на страницах своего первого
сборника всячески избегал. В новеллах оживают
невыдуманные кузнецы, шоферы, неспешные деревенские старики,
шорники, намаявшиеся на работе сельские женщины,
заботливые, хлопотливые матери, ребятишки. У прозаика
Шукшина нет умозрительности, нет жесткой заданно-
стн характера — чтобы реальное возвысить до
идеального.
А еще «Сельские жители» отеплены юмором, что
уравнивает персонажей шукшинских расказов со всеми
смертными, исключает патетику автора.
В сборнике новеллы «Классный водитель» и
«Гринька Малюгин» помещены писателем одна за другой. Оба
героя — шоферы, примерно однолетки: нет тридцати
Гриньке, нет тридцати и Пашке, Холманскому Павлу
Егоровичу, водителю-механику второго класса, 1935
года рождения (на два года моложе сделал режиссер
Шукшин Пашку Колокольникова). Практически
целиком материал двух этих рассказов был использован в
сценарии фильма.
В «Классном водителе» писатель с изрядной порцией
юмора живописует деревенские вечера «жуира» Пашки
Холманского, сманенного к себе в колхоз случайным
77
попутчиком — председателем. В клубе на танцах
принаряженный Пашка ухаживает за местной красавицей,
библиотекаршей Настей, затем пытается отбить ее у
приезжего инженера, за которого Настя всерьез
собралась выйти замуж, и, потерпев очередную неудачу,
буквально удирает на своем газике из колхоза. Вот и все.
Незатейливые дорожные эпизоды, привычная
обыденность. Но в чтении эта проза Шукшина обаятельна,
зрима. Писатель обладал умением преодолевать «голую»
бытопись юмором: и в авторской интонации, манере
рассказа, и в диалогах. Пашка сыпал словечками
«сфотографировано», «пирамидон», «жельтмены», был боек на
язык, как человек с восторгом в душе, но мало
учившийся. И еще — писатель убедил нас, что Пашка
действительно классный водитель, что умеет он работать.
Вот тут шукшинский герой — парень без трепа, без
напускного чуба, тут руки укорачивают не в меру
болтливый язык. За трудовую косточку-то автор своего героя
и любит, прощает ему непутевое «жениховство».
Гринька Малюгин, шофер из одноименного рассказа,
тоже шебутной и тоже влюбчивый, подобно Пашке Хол-
манскому. Но он еще проявляет себя в настоящем деле:
спасает бензохранилище от взрыва, отогнав к речному
обрыву случайно загоревшуюся машину. И не считает
свой поступок подвигом. Так и заявляет в больнице
пришедшей к нему за корреспонденцией хорошенькой
журналистке.
В сценарии Шукшин легко объединил двух
литературных героев в один образ — Пашку Колокольни-
кова.
Через пятнадцать лет после выхода фильма «Живет
такой парень» — в дни памяти пятидесятилетия Василия
Шукшина — критики, как и в момент премьеры,
продолжали добрым словом поминать первого шукшинского
киногероя. И это несмотря на его прямолинейный,
подчас просто анекдотически наивный максимализм.
Литературный критик Л. Емельянов настаивал, в частности:
«В литературе художник располагает массой всякого
рода «косвенных» средств создания художественного
образа. Литература «метонимична» по самой своей природе.
В ней подчас бывает достаточно одной удачно
найденной детали, чтобы в воображении читателя возникла
широкая и яркая картина (вспомним бунинское: «Море
пахло арбузом»), от подробного описания которой
пита
сатель, таким образом, избавлен. О языке
кинематографа этого не скажешь. Если, как говорил Пушкин,
«проза требует мысли», то кинематограф требует действия,
действия и еще раз действия... Потому-то, создавая
образ Пашки Колокольникова, Шукшин и не мог
положиться лишь на те возможности, что были заключены
в его рассказе «Классный водитель», и вынужден был
искать дополнительные средства в переводе главной
своей мысли на язык действия. В данном случае он
должен был принимать во внимание лишь одно условие:
чтобы поступки Пашки Колокольникова, проявляющие
его характер, по крайней мере не противоречили бы
этому характеру. Так вошли в образ Колокольникова
черты и поступки Гриньки Малюгина и еще многое, без
чего герой фильма, в отличие от героя рассказа, остался
бы нераскрытым. Совершенно так же поступал
Шукшин и в большинстве других своих фильмов и
сценариев («Ваш сын и брат», «Позови меня в даль светлую...»,
«Странные люди»). И было бы глубоким заблуждением
отрицать на этом основании самоценность каждого
созданного им характера и уж тем более считать, что он
вообще «писал один психологический тип, одну
судьбу» '.
Да, отрицать самоценность характера Пашки
Колокольникова есть глубокое заблуждение. Но Емельянов
ломится в открытую дверь, когда в заключение,
полемизируя с Аннинским (не называя, впрочем, имени
оппонента), расчленяет «один психологический тип, одну
судьбу». Действительно, ведь психологический лад
Гриньки Малюгина и Пашки Холманского идентичен, а
они (оба) равнозначны Пашке Колокольникову, это их
двойник. Я уж не говорю о другом спорном
утверждении критика, что кинематограф есть антагонист мысли
и требует единственно действия. Такой вывод обычен
для части литературных критиков, забывающих о
кинематографе Брессона, забывающих о фильмах Марлена
Хуциева, даже о второй киноновелле самого Шукшина
в картине «Странные люди». Вот ведь суждение самого
режиссера: «Мы мало заботимся о внутреннем
состоянии образа, характера. Губит зрелищная природа кино.
То, что кино — зрелище, сидит в нас гвоздем. Невольно
1 Емельянов Л. Второе прочтение.—«Наш современник», 1979,
№7, с. 166-167,
79
происходит насилие над сокровенной жизнью
персонажа в угоду жесту, взгляду, повороту, крупному плану.
Сумма приемов угнетает и подавляет. А ведь в
конечном счете услышан тот, кто сказал то, что хотел
сказать, искренне и серьезно, как и следует говорить» '.
Впрочем, основная мысль Емельянова, повторим,
верна: поступки Пашки Колокольникова, проявляющие
его характер, не противоречат этому характеру. И,
следовательно, новеллистика Шукшина органично вошла в
его фильм.
Мысль картины «Живет такой парень» откровенна,
не зашифрована ни единым «киноребусом». Форма этого
фильма идентична его содержанию: она совершенно
ясна, хотя волна юмора поднимается здесь выше
допустимой для этой формы отметки, захлестывает нить
добродушного, непритязательного, естественного
повествования. Шукшин-режиссер верен своему писательскому
миру— он подчеркивает уверенность в себе своего героя-
трудяги (но, симпатизируя этой «законной» уверенности
рабочего человека, он не делает секрета из его
самоуверенности «волокиты», подсмеивается над ней, передавая
это свое отношение и нам, зрителям). Для Шукшина
крайне важна эмоциональная раскрепощенность Пашки,
она делает героя не только естественным, а еще и
контактным, «легким» в общении с людьми. «Пашка
вообще в жизни «свой»,— скажет режиссер несколько
позднее2. Эмоциональная или социальная изоляция личности
не интересовала Шукшина. Его первый герой,
неунывающий работяга, светлая душа, лишен каких-либо
угнетающих комплексов. Егора Прокудина, последнего
шукшинского киногероя, склонит буквально к земле
чувство вины. Пашка же, напротив, открыт нараспашку
жизни, он ее сын, он живет без оглядки, без душевной
занозы, легко.
Сюжет фильма полностью отвечает параметрам Паш-
киного характера. Он линеен, свободно умещается в
русле заданного режиссером направления. Строго
рассуждая, это даже не сюжет: парень развозит на своем
газике доброту... Тут выбран и поставлен в центр характер,
а к нему уж, моногерою, подтягиваются
эпизоды-встречи, кои и составляют непрерывно текущее кинематогра-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 216.
2 Там же, стр. 117.
80
фическое время. Нет заинтригованности, нет тайны, нет
мелодрамы. «Несюжетное повествование более гибко,
более смело, в нем нет заданности, готовой
предопределенности» '— вот к какому выводу подошел Шукшин.
Вспомним еще раз, что на роль Пашки режиссер
пригласил хорошо знакомого ему актера Леонида
Куравлева. Немало актеров, ныне известных, хотели
сыграть эту роль. Но Шукшин даже не пробовал никого из
них. Куравлев был единственным возможным
исполнителем. Начались предварительные репетиции,
проясняющие образ разговоры, актер постоянно обыгрывал
заикание Пашки и упустил тот момент, когда нужно
было идти в павильон и снимать кинопробу. Рисунок роли
стал теряться.
И когда кинопробы все же состоялись,
художественный совет киностудии восторга не выказал. Возглавлял
совет Герасимов. Он спросил Шукшина: «Веришь этому
актеру?» — «Верю!» — «Ну, тогда снимай. Только учти:
по первой картине будут судить о тебе как о
режиссере».
В процессе работы над фильмом Шукшин сумел
снять с актера «зажатость», успокоил. После Куравлев
скажет: «Режиссер Шукшин учил меня правде...»
Постановщик и актер стали единомышленниками. В
дальнейшем Шукшин приглашал Куравлева сниматься во
все свои фильмы, и не его вина, что актер сумел
выступить лишь в картине «Ваш сын и брат» — остальные
предложения по разным причинам не были Куравлевым
приняты.
Помимо других качеств хорошего актера Куравлев
владел юмором, без чего роль Пашки попросту
расплескалась бы. Юмор согревал образ, делал его даже
обаятельным. Пашка не попадает под разряды
«положительного» или «отрицательного» героя, столь любимые
тогда кинокритиками. Он выламывается из стереотипа.
Мы, пояснит затем Шукшин, пеклись не о шофере — о
человеке. «И изо всех сил старались, чтобы был он
живой, не «киношный»2. Чтобы зритель уносил бы радость
от общения с живым человеком.
Вот какое слово услышано — радость, а ее может
вызвать контакт только с человеком по натуре добрым,
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 263.
» Там же, с. 119.
81
щедрого сердца. Аннинский назвал Пашку «придурком»,
«охламоном*, еще почему-то «плутом», но решился
признать его типом положительным. Критик примеряет к
Пашке полюбившийся ему принцип «размена типов»:
мол, Шукшин решился понять неправого'. Досталось
Пашке, хоть признал его Аннинский «положительным»!
А ведь Шукшин в киноповести, прежде чем начать
собственно рассказ о своих героях, шоферах Чуйского
тракта, предупреждал: «Я же, как сумею, хочу рассказать,
какие у них хорошие, надежные души». И сразу же
перечисляет продиктованные суровым рабочим трактом
законы, они просты, но истинны: помоги товарищу в
беде, не ловчи за счет другого, не трепись — делай,
помяни добрым словом хорошего человека. Эти-то
неумолимые законы и определяют характеры людей, отношения
между ними. «И я,— подчеркивает сценарист
Шукшин,— выбирал героя по этому признаку. Прежде всего.
И главным образом».
Какое уж тут — «придурок»... Конечно, добрая (но
не надежная) душа бывает и у придурков. Но Пашка
никоим образом не из слабоумных. Человек, владеющий
юмором, не придурок. Вот только, конечно, образование
у Пашки подкачало: всего пять классов... Хотя Шукшин
и здесь смотрит вперед. «Это еще не история,— скажет
он по завершении фильма,— это предыстория, а сама
история впереди, ибо сам Пашка не унывает, живет и
помаленьку учится»2.
Во всех случаях мы хотели бы быть правдивыми и
серьезными, подчеркивал режиссер. Нам хотелось
рассказать правду и еще — чтобы эта правда легко
понималась. И чтобы навела на какие-то размышления.
В рассказе «Классный водитель» Пашка Холманский
бежал из клуба, не досмотрев привезенный в колхоз
фильм: «Пусть эту комедию тигры смотрят». Нет,
Шукшин понимал, какого необычного, неожиданного героя
выводит на киноэкран.
«...Не выходят у нас еще так называемые простые
люди,— отмечал он в письме Ивану Попову еще в 59-м
году.— Тут происходит своеобразная переоценка
ценностей. Мы отказываем этим простым людям в уме,
сложной психологии и оставляем им лежащее поверху, вро-
1 См.: Аннинский Л. Василий Шукшин. М., БПСК, 1976.
2 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 118.
82
де «рыбьей холеры»'. Забыли, что Чапаев, Максим —
тоже простые люди»2.
Шукшин выступил решительно против упрощения в
искусстве «простых людей». В приведенном письме
брату он оговаривается специально: так называемые
простые люди. Рассказ «Артист Федор Грай» начинается не
без запальчивости: «Сельский кузнец Федор Грай играл
в драмкружке «простых» людей». Снова — явное
несогласие с неудачным определением. В согласии с волей
автора рассказа Федор Грай переживает: «Тяжело было
произносить на сцене слова вроде «сельхознаука»,
«незамедлительно», «в сущности говоря»... и т. п. Но еще
труднее, просто невыносимо трудно и тошно было
говорить всякие... «чаво», «куды», «евон», «ейный»... А
режиссер требовал, чтобы говорили так, когда речь шла
о «простых» людях».
Своему Пашке Колокольникову отказать в
природном уме Шукшин не мог. Подсмеивался над ним
иногда— это действительно, однако по-доброму
подсмеивался, не доходя до комического гротеска или гневного
сарказма. За границы юмора Шукшин и Куравлев не
выходили, иначе у них получилось бы другое кино. «Юмор,—
думается мне,— говорил Томас Манн в письме
американской журналистке Ирите ван Дорен,— это
выражение дружелюбия к людям и доброго земного
товарищества, короче, симпатии, стремящейся сделать людям
добро, научить их чувству прелестного и распространить
среди них освобождающую веселость»3. Такой
освобождающей веселостью Шукшин преодолевал Пашкино-
фанфаронство и «наркотическую» слабость к отсебятине.
Фильм «Живет такой парень» снимал опытный,
эрудированный оператор Валерий Гинзбург. Шукшин
познакомился с ним во время съемок картины «Когда
деревья были большими», в которых оба принимали
участие. С Гинзбургом Шукшин сделал три фильма.
1 Шукшин имеет в виду фильм Г. Чухрая «Сорок первый». Не
верю, пишет он брату, когда героиня-рыбачка, грубая и нежная
дочь моря, повторяет: «рыбья холера», точно перед тобой умный
человек разыгрывает шута. Заметим здесь же, как легко Шукшин
соединяет слова «грубая» и «нежная». Позднее, в статье
«Нравственность есть Правда» (1968), он скажет о собственных героях:
говорят, мои «мужики» грубые, а невдомек, что если бы они не были
бы грубыми, они не были бы нежными..,..
* «Сов. Россия», 1979, 22 июля.
3 «Вопр. лит.», 1974, № 9, с. 222.
83
Гинзбург уже знал все опубликованное Шукшиным
в журналах. Поэтому сценарий не произвел на него
неожиданного впечатления. Оператор хотел сразу же
высказать Шукшину свои соображения относительно
стилистики, изобразительного решения предстоящего
фильма, однако режиссер хотя и застенчиво, но с какой-то
нетерпеливой неприемлемостью попросил отложить этот
разговор до возвращения с ознакомительной поездки по
Чуйскому тракту, на Катунь. Потрясенный мощью,
красотой алтайской реки, Гинзбург предложил, чтобы она
вошла в картину изобразительным лейтмотивом, как бы
продолжая живую стремительность Чуйского тракта.
Шукшин сразу же согласился. Это была его
неоценимая черта как режиссера: он всегда легко, даже с
какой-то радостью трансформировал отдельные сцены
сценария, прислушивался к предложениям операторов,
актеров, художника. Шукшин не был педантом. Хороший
прозаик, он вместе с тем отчетливо понимал природу
производства фильма. «Сценарий — это законченная
повесть, позиционно совершенно ясная,— отмечал он.— И
все же импровизация не только возможна, но, по-моему,
необходима»'. И по ходу съемок готов был вносить
уточнения, изменения в сценарий, не цепляясь за его
букву.
Шукшин-прозаик владел искусством пейзажа, умело
подмечал переменчивое состояние природы. Рассказы
«Долгие зимние вечера», «Племянник главбуха»,
«Демагоги», «Светлые души» доказывают зоркость,
свежесть шукшинского глаза. Надо было и режиссеру
научиться пошире видеть родную землю. В дипломной
картине Шукшин робко использовал натурные кадры. «Из
Лебяжьего сообщают» он снимал в подмосковном
Волоколамске, старинном граде, окруженном лесистыми
холмами. А воздух древней земли в фильм не проник.
Мелькнул как-то общий план, ничем не
акцентированный: летняя оголенная площадь невысокого городка, в
глубине кадра — белый собор. Зрелый Шукшин в
«Калине красной» сельскую белую церковь не раз оглядит,
возложит на нее драматургическую, смысловую
функцию. А в дипломной работе режиссер пока не замечает
характерных примет отчей земли. Нет в
короткометражной ленте Шукшина и собственно пейзажей. Разрывать
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с.>220.
84
тесное пространство фильма художник научится именно
в работе с новым оператором.
Фильм «Живет такой парень» открывается видом
будничного рабочего поселка. Черно-белое
изображение... Грузовики, бензовозы, асфальтированная улица с
редкими, тронутыми осенью деревцами, чайная, куда
деловито заходят проголодавшиеся, намотавшиеся
шоферы. И спускаются по ступенькам чайной двое —
молодой, в кепке, и пожилой, угрюмый с виду человек с
маленькими, неожиданно добрыми глазами. Знакомить нас
с ними режиссер не спешит.
Камера приглашает вглядеться в широкий
окружающий мир. Словно новый человек, ненароком попавший в
поселок, она оглядывает дальние горы, уходящие за
окоем, степные предгорья, немолчную реку Катунь. И
только затем смотрит в спины тем двоим, что вышли из
чайной,— они шагают к своим машинам, их ждет дорога —
Чуйский тракт.
Круговая панорама, единый кусок. Шукшин и
Гинзбург повторили художественное открытие Бондарчука и
оператора В. Монахова, начавших свою картину
«Судьба человека» завораживающей панорамой донских
раздолий, оживающей по весне приречной земли. Смелый
этот прием был свеж в памяти («Судьба человека»
вышла на экран в 59-м году). Так во весь голос
зазвучала в шукшинском фильме тема Алтая. Дразнящая даль
нового для тогдашнего нашего кинематографа,
прозрачного мира образовала «раму» сюжета.
«Мое ли это — моя родина, где я родился и вырос?—
задавался вопросом Шукшин.— Мое. Говорю это с
чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу
родину в душе, люблю ее, жив ею, она придает мне силы,
когда случается трудно и горько...»'. Алтайский сын,
Шукшин помогал и нам, зрителям, увидеть утреннюю
нагую красоту гор, почувствовать целебную прохладу
поднебесной выси.
«Катунь, Катунь — свирепая река!» — воскликнул,
побывав на ее берегах, Николай Рубцов. Шукшин знает
родную реку не только белой от злости, когда она
прыгает по камням, бьет их в холодную грудь крутой
яростной волной, ревет. Он знает, какая она смирная в
долине, когда тихо; слышно, как утка в затоне пьет за
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 105.
85
островом. Чистая, светлая, отдыхает река — каждую
песчинку на дне видно, каждый камешек. «Красиво,
очень красиво! — сердечно говорил Шукшин.— Не
расскажешь словами». Вот режиссер и «прокладывает*
фильм кадрами дорогой ему реки, перекладывает на
изображение то, о чем не расскажешь словами, самыми
красочными. Зрелищная природа кино приходит на
выручку Шукшину-писателю.
Шукшин ориентирован на традиции литературного
народного творчества, песенные традиции. Он не мог
обойтись без Катуни по этой своей ориентированности.
Генотип художественного образа (Катунь) восходит к
незапамятным временам. Послушаем Василия Белова,
ряд лет посвятившего кропотливому, детальному
изучению народного творчества. Вот какое наблюдение
писателя нас интересует: «Образ реки в народной поэзии
так стоек, что с отмиранием одного жанра тотчас же
поселяется в новом, рожденном тем или другим временем...
Река течет. Она то мерцает на солнышке, то пузырится
на дождике, то покрывается льдом и заносится снегом,
то разливается, то ворочает льдинами... Что-то родное,
но вечно меняющееся, беспечно и непрямо текущее,
обновляющееся каждый момент и никогда не
кончающееся, словно льняная нить, тянущаяся из глубины веков,
связующая ныне живущих с уже умершими и еще не
рожденными, мерещится и слышится в токе воды.
Слышится всем. Но каждый воспринимает образ текущей
воды по-своему. Образ дороги не менее полнокровен в
народной поэзии. А нельзя ли условиться и хотя бы
ненадолго представить эмоциональное начало речкой, а
рациональное — дорогой? Ведь и впрямь: одна создана
самой природой, течет испокон, а другая сотворена
людьми для жизни насущной» '.
Мелодия Чуйского тракта, рабочей трассы Алтая,—
вторая постоянная тема шукшинского фильма.
«Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего
по горам»,— так пишет сценарист. А режиссер переводит
этот образ в изобразительный ряд.
Ранняя солнечная осень отснята для шукшинского
фильма. Обочь тракта наслаждаются последним теплом
еще не облетевшие листья деревьев, в разгаре уборка
хмеля. Режиссер и оператор охотно, с неослабным лю-
1 Белов В. Лад.— «Наш современник», 1979, № 12, с. 87.
86
бопыгством выносят кинокамеру на натуру. Когда
съемочная группа собиралась в киноэкспедицню па Алтай,
бабье лето вменилось затяжными дождями, и Шукшину
стали советовать перенести натурные съемки на весну.
И тогда он произнес знаменитую теперь фразу: «Неужели
моя земля меня подведет?» Куравлев тогда недостаточно
знал Шукшина, и слова его — а он-то и был их
свидетелем— показались ему выспренними. Только много
позже актер понял, что Шукшин имел на них право: он
был сыном родной земли, плоть от плоти ее. Как
березы... В трудную минуту обратился он за помощью к этой
земле, и она его не подвела. На редкость щедро вдруг
стало светить алтайское солнце. Светлость, вольность
целебного сибирского воздуха высветлили картину,
зарядили ее бодростью, силой.
В одном из кадров Шукшин оставил что-то вроде
меты времени и места действия фильма: на стене дома
метровое объявление-реклама приглашает подписаться
на газету «Алтайская правда» на 64-й год. Легко
высчитать, что вывешена эта реклама осенью 63-го...
Чуйский тракт столь же красив, сколь труден для
шоферов. Но манит он к себе, соблазняет молодые
души опасным ремеслом. Села, расположенные вдоль
тракта, замечает Шукшин в сценарии, всегда поставляли
ему ямщиков, затем шоферов. И сидят за штурвалами
чумазые внимательные парни. Осторожно огибают бо-
мы — крутые опасные повороты над кручей.
В фильме есть эпизод поминовения. Пашка и его
старший напарник Кондрат Степанович подъезжают на
тракте к невысокому могильному столбику с
пятиконечной звездой наверху. Вылезли из кабин, подошли к
надгробию. «Тут погиб Иван Перетягин. 4 мая 62 г.».
Помолчали.
— Сколько лет ему было? — спросил Пашка.
— Ивану? Лет тридцать пять — тридцать восемь.
Хороший парень был.
И еще помолчали, поминая про себя разбившегося
на горном повороте шофера Ивана Перетягина...
Жизнь, натура, тракт подсказывали создателям
фильма незапланированные детали, колоритные штрихи.
Гинзбург вспоминает: Шукшин до боли возмутился,
увидев в одной из деревень, как строится деревянный
мост. Работали женщины, а бригадир-мужчина
прохаживался поодаль да покрикивал. Шукшин решил ото-
87
мстить этому лентяю и хаму в фильме: свидетелем
подобной сцены явился Пашка Колокольников, вдосталь
поиздевавшийся над бригадиром.
Случайная встреча с цыганами, гнавшими по тракту
скот, превратилась в комическую сценку, когда
Пашкина машина застревала в кудряво-блеющей отаре и
бестолковые овцы никак не хотели расчистить путь.
Пестрота самой жизни пересаживалась на киноэкран.
Чуйский тракт, заявивший о пространственных
границах шукшинского фильма, свел Пашку Колокольнико-
ва, молодого героя начавшейся киноповести, с Егоры-
чем, председателем колхоза. Пашка и его старший
напарник Кондрат Степанович ехали в командировку в
деревню Листвянку. По дороге они и наткнулись на
застрявший «козлик» Прохорова. Пашка вызвался
подвезти, теперь поехали двое в одной кабине. «В колхоз,
что ль?» — это спросил попутчик. «Ага. Помочь
мужичкам надо».
Запомним Пашкино слово: «мужички». Сам Пашка,
следовательно, себя мужичком не считает. Он — рабочий
класс, так надо понимать его ответ председателю.
Конечно, подчеркивал сам Шукшин, наш герой не
поражает интеллектом, но ведь снимался фильм не о
докторе наук, фильм — о молодом шофере, набирающемся
мудрости и силы. Пашке его «мужичков» автор —
Шукшин — пока прощает. Пашка еще не понял, насколько
сильна в нем самом крестьянская кровь, насколько
крепко держит родная земля. Зато Губошлепу,
матерому убийце из «Калины красной», Шукшин его презрения
к «мужичкам» не прощает. Зрелый Шукшин отчаянно
воюет за «мужичка». Не за конкретных Ивана, Петра,
Егора, среди которых могут встретиться еще «те»
мужички, твердолобые и зряшные, а воюет за смысл
вечного слова «мужик», за Человека родной земли.
А Пашка, точно, губами шлепает лишнее, да еще так
легко, бойко, ну как машину ведет. Прохорову как раз
шофер нужен, срочно лес перебросить, он по пути-то и
сманивает Пашку в свою деревню:
— Я тебе дам документ, что ты отработал у меня,—
все честь по чести.
Так попал Павел в Баклань (а одна из слобод в
Сростках, где вырос Шукшин,— Баклань)...
Поселился у самого председателя. Это сравнительно
молодой, крепкий человек, женатый на заботливой, до-
88
мовитой хозяйке. В сценарии Шукшин подчеркивает:
вечером, после работы, Пашка в охотку уписывал у
Прохоровых жирную лапшу с гусятиной. Как работал
Пашка на новом месте, режиссер и сценарист не
показывает. Это за кадром, а в кадре — просторный
председательский дом, не хоромы, но прибранный, обжитой,
ничего напоказ — для услады тщеславия. Пашка же,
подбитый ветерком, словно не замечает, в какую
прочную, устроенную семью он попал, и вот словоблудит:
— Если я прихожу с работы. Так? Усталый,
грязный, то, се. Меня первым делом должна встречать
энергичная жена. Я ей, например: «Привет, Маруся!» Она
мне весело: «Здравствуй, Павлик! Ты устал?»
Хозяйка спросила:
— Она сама намотается за день. Да откуда же у нее
веселье-то возьмется?
Пашка — Куравлев задумываться над этим вопросом
не желает.
— Все равно. Так ведь если она грустная и кислая,
так? Я ей говорю: «Пирамидон!» — и меня потянет к
другим.
Слово выскочило. Для Пашки оно равносильно
окончательному решению, он с этим словечком — как с
козырным тузом. Видно, мотаясь на «полуторке» по
стоверстным алтайским дорогам, парень нахватался
каких-то верхушек, забавных словечек, но; видно, тот же
тракт научил его быстро, легко сходиться с людьми,
привил вкус к ни к чему не обязывающим разговорам,
когда интересно схохмить, «блеснуть» своей
значимостью. Шофер-холостяк, не имеющий собственного
гнезда, он, скорее всего, предощущает невечность
молодости. Мерещится ему, верно, и небывалая, нешуточная
любовь, праздник взаимного чувства, обошедший
покуда...
Режиссер и актер вглубь Пашкиных дум не
заглядывают, не заставляют его мучиться самоанализом. Все-
таки он молод, здоров, ему весело жить, так пусть
порадуется и молодости, и здоровью, и мыслям об
идеальной жене. Хорошо, что в невеселой послевоенной
русской деревне выросли веселые, раскрепощенные ребята.
А дальше Шукшин разворачивает «историю любви».
В сельском клубе Пашка, в своей «фирменной»
фуражке с лакированным козырьком, «прифрантившийся»,
как бывалый ухажер, сразу замечает местную красавицу
89
Настю Платонову. Пашка знает, чем удивить:
представляется москвичом, затем с ходу: «Вы мне
нравитесь. Я такой идеал давно искал».
Нет, девушка не поверила, она даже подколола
кавалера: «Быстрый ты!» А Пашке все как с гуся вода.
Сцена забавляет нас, забавляет герой, эдакий
горе-волокита. Только ли?
В Пашке, как ни парадоксально это звучит, есть и
начало героя лирического. В раскрытии этого образа
Шукшин шел еще и от фольклорных традиций, от
устной народной лирики. Внимание, которое кавалер
Пашка оказывает в клубе чернобровой Насте, на глазах ее
ошарашенного жениха-инженера, среди Настиных
подруг и соседей, по существу, является формой любовного
признания. Но это секундно возникшее чувство — оно
отлетит, не выворотит наизнанку сердце — все-таки не
страсть, лишь забава. Пашка лукаво улыбается,
приглашая деревенскую красавицу на танец, играет
многозначительным взглядом. Тут же осыпает градом
словесной шелухи: «предлагаю на тур фокса», «ваша серость
меня немножко удивляет», «я вас провожаю сегодня до
хаты»... И тут же, присоединившись к местным париям
в фойе- покурить, браво обещает «сфотографировать»
конкурента-жениха: «Я таких интеллигентов одной
левой делаю».
В сценарии (киноповести) Шукшин точен: «Пашка
такие моменты любил. Неведомое, незнакомое всегда
волновало его». Слова кинодраматурга определенны, а
вот на экране за комичностью ситуаций, шутовскими
интонациями диалогов, «жельтменекими» словечками
залетного ухажера мы как-то пропускаем подхваченную
режиссером фольклорную лирическую традицию.
Комическая оболочка эпизода закрывает ее от нас.
Попробуем применить к построению эпизода, к
характеру поведения Пашки — Куравлева наблюдение
П. Флоренского над фольклорным влюбленным, это
оттенит поведение-игру шукшинского киногероя: «Да
если бы и впрямь сердце сгорало от любви и муки, то
влюбленный постарался бы на людях принять вид
легкомысленный. Тон шутки, более или менее заметный,
весьма часто покрывает частушечную эротику. Эта
двойственность частушки, это шутливое в глубоком и
глубокое в шутливом придают частушке дразнящую и
задорную прелесть... у народа эти слезы и эта боль показаны
90
более легкими, нежели они суть на деле. Из сказанного
о содержании частушки вытекает и соображение о
форме ее. Частушка как бы выкидывает, как бы мгновенно
выбрасывает из человека чувство его. Это — не только
лирика,— вообще выражающая настоящее,— но именно
и по преимуществу лирика мгновения»1.
Флоренский отмечает, что фольклор служит живым
свидетельством чистоты нравов нашего крестьянства.
Общественную нравственность нельзя брать
безотносительно. В смысле прямоты выражений и отсутствия
эвфемизмов фольклор допускает неоскорбительную
степень откровенности. «Волокитство» Пашки за
малознакомой ему чужой невестой не выглядит опасным для
здравомыслящей Насти. Она защищена собственной
непроницаемостью, спокойной уверенностью в своем
женском, житейском счастье.
Нет, серьезно: Пашка, очень могло бы статься, и
предложил бы Насте руку и сердце, он ведь очень скор
на решения. Приглянулась ему девушка, да и срок
подошел своим домом зажить, а на соперника-инженера
он бы даже внимания не обратил.
Следующая сцена в фильме: встреча в библиотеке.
На другой вечер, после работы (опять режиссер опустил
«производственный» материал), Пашка, в той же
выходной своей форме, явился в сельскую библиотеку.
Здесь выдавала книги и журналы Настя. За читальным
столиком сидел инженер (Р. Нахапетов), перелистывал
«Огонек». Составился «треугольник», но
драматического аспекта сцены режиссер не допускает2. Снова идет
игра со стороны героя, вздумавшего показать себя в
самом выгодном свете. С Настей демонстративно
перешел на «вы», та же не поддается его тону:
— Что почитать?
— «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не
дочитал.
1 Флоренский П. Собрание частушек Костромской губернии Не-
рехтского уезда. Кострома, 1909, с. 12—13.
2 В кинофильме Герасимова «У озера» (1969) продублирована
эта ситуация. Драматический подтекст здесь явен. Актер Шукшин
оказывается на месте актера Куравлева, только играет он не
увлечение-забаву, как у Пашки Колокольникова, а глубокое, загнанное
в сердце непозволительное чувство сорокалетнего женатого
человека к молоденькой библиотекарше из прибайкальского поселка. Ни
капли юмора нет в этой волнующей, с искренней болью
проведенной актером сцене.
91
Настя-то поняла игру, а молодой инженер попался
на «крючок», стал за Пашкой следить, новости
московские (вчера-то Пашка назвался в клубе москвичом)
захотел узнать. В эти секунды Куравлев играет Пашки-
но смущение: «заливать» его герой умеет и любит, но
врать не умеет. Пашка юлит: мол, шумит Москва,
шумит... Тоже полистал Журнал: «Люблю смешные
журналы. Особенно про алкоголиков. Носяру во
нарисуют...»
И откровенно признается, что Москву даже не видел.
Заметно, как разочаровалась Настя. Пашка предложил
инженеру сыграть в шашки (в шахматы он не умел).
Принялись играть. Пашка ходил уверенно, быстро и с
толком, а жених играл слабо. Самолюбивая натура,
инженер всерьез обиделся на девушку, когда та взялась
ему подсказывать, как ходить на игральной доске.
Настя надулась и пошла к стеллажам. Получилось что-то
в,роде ссоры, а Пашке от нее корысть.
«История любви» имела продолжение в клубе. В
колхоз приехала передвижная выставка мод. Пашка,
инженер и Настя пришли ее посмотреть.
Сцена режиссеру и сценаристу Шукшину
необходимая. Она не только забавная страничка из Пашкиных
вечеров, но выражение авторского пристрастия,
незамаскированной тенденциозности. Подобные сцены из
шукшинских фильмов дали Герасимову право сказать:
«Стало быть, дидактическое начало тоже было свойственно
Шукшину: он не писал «просто так», как птица поет.
Отнюдь»'. Режиссер в показе заезжих манекенщиц
горек, язвителен, возможно, даже удручен. Шукшин
сердцем болел за деревню. Ему хотелось видеть в селе
подлинную культуру, хорошие фильмы, хорошие книги.
Эрзац-культуру он не терпел, для выражения своего
отношения к ней взялся даже за перо публициста. Всеми
доступными ему средствами воевал Шукшин против
духовного ограбления людей. В том числе и своими
фильмами воевал. Он давно укрепился в мысли о силе
коммуникативного воздействия экрана. «Кинематограф, как
и литература,— заявлял он,— обладает притягательной
силой: возможность мгновенного разговора с
миллионами— это мечта писателя»2.
1 Герасимов С. Народный художник, с. 11.
2 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 270.
92
...Перед колхозниками, на клубной сцене, проходит
демонстрация мод. Ее ведет приветливая, аккуратная
немолодая женщина, усердно играют музыканты, по
сцене порхают манекенщицы. Вместе с выходной
показывается рабочая одежда.
Глазами зрителей мы видим миленькую девушку в
платьице с передничком. «Это — Маша-птичница!» —
поясняет приветливая женщина. Манекенщица
привычно улыбается.
— Маша не только птичница,— торопится пояснить
ведущая тусклым, заученным языком,— она учится
заочно в сельскохозяйственном техникуме. На переднике,
с левой стороны, предусмотрен карман, куда Маша
кладет книжку.
Девушка показала книжку.
— Читать ее Маша может тогда, когда кормит
своих маленьких пушистых друзей. Ее маленькие
пушистые друзья сразу узнают ее в этом простом, красивом
платьице и, едва завидев ее, толпой бегут к ней
навстречу.
В рассказе «Классный водитель» колхозники смотрят
какой-то глупый, несмешной фильм. Мысль писателя
однозначна: зачем столь упорно недооценивать
культуру сельских зрителей? Шукшин-режиссер заменяет
киносеанс на демонстрацию мод. Авторский пафос
сохраняется, даже усиливается по сравнению с рассказом.
Вероятно, Шукшин не рискнул обидеть никого из
коллег-кинематографистов: ведь в своей картине режиссеру
пришлось бы показать конкретные кадры конкретного
фильма. Мы узнали бы, таким образом, какую же
комедию смотрел в клубе шофер Пашка Холманский (и мог
смотреть Колокольников). Шукшин на такой шаг,
скорее всего, не решился.
— Костюм для полевых работ! — возвестила
ведущая.
На сцену лихо вышла манекенщица в брюках,
сапожках и курточке. Это — Наташа, «ударник
коммунистического труда».
— Здесь традиционная фуфайка заменена удобной
современной курткой. Подул холодный осенний ветер...
А «ударница» увлеклась ходьбой под музыку, не
услышала приказа ведущей.
— Наташа! — Женщина строго и вместе с тем
«ласково» посмотрела на девушку.— Подул ветер!
93
Наташа наконец-то подняла глухой воротник.
Между тем Пашка осторожненько взял Настину
руку. Та ее убрала. Пашка не успокоился и опять за свое.
Настя поменялась местами с инженером, и Пашка стал
теперь его соседом. Он заскучал, хотя на сцене
демонстрировался «ансамбль для пляжа из трех
деталей»...
Пашка решил в эту ночь «своровать» Настю...
Подъехал на грузовике к ее дому, подкрался к
окнам и посветил во тьму горницы фонариком. Настя
подумала, что это инженер пришел к ней мириться,
раскрыла раму. Пашка проник в комнату. Он молчал.
Сразу обнял ее, теплую, мягкую... Настя вдруг
вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила
рукой по стене, отыскивая выключатель. Вспыхнул
свет.
Настя даже не испугалась. Надела цветастый халат,
присела на край широкой разобранной кровати,
прислонилась к железной спинке, подперев голову рукой.
Обидно, горько ей от Пашкиной лихости.
Что же делать, не везет с идеалом. И Пашка делает
вид, что заехал за Настей специально, хочет отвезти ее
к инженеру, чтобы влюбленные помирились... «История
любви» героя завершилась «крахом».
Утро ударило звонкое, синее. Земля умылась ночным
дождиком, дышала всей грудью.
Едет дальше по Чуйскому тракту шукшинский
шофер. У одной небольшой деревни подсадил круглолицую
полную женщину в замшевом пальто. Очередная
Пашкина встреча, новый дорожный эпизод.
Бежит машина (первым, конечно, раскрыл рот
Павел Егорыч).
Пашка что-то пожаловался на скуку. И тут
женщину, словно ждала она повода, неудержимо понесло.
«Ведь мы сами не умеем сделать свою жизнь
по-настоящему красивой. Вот я только что была в доме у одной
молодой колхозницы. Господи! Чего там только нет!
Подушечки, думочки, слоники какие-то дурацкие. Для
чего, вы думаете?» — надоедает попутчица молодому
шоферу.
Пашка смят доводами. Вякнул слабо: если, допустим,
хорошо вышито, то... почему? Бывает, вышивать не
умеют, это действительно. Пашка только масла в огонь
подлил.
94
— Неужели трудно вместо всего этого повесить две-
три современные репродукции. На стол поставить
современную красивую вазу... Купить торшер.
А мысленному Пашкиному взору под слова эти
напористые представляется скромная, незатейливая
комната его знакомой, Кати Лизуновой, утомленной
молодой женщины с усталым лицом. Есть в Катиной
комнате слоники, рукодельные салфетки (а комната Насти
Платоновой — купеческая кровать, коврик с пальмами
на стене, репродукция гиперреалистического пейзажа,
шелковый абажур).
И чудится Пашке, как меняется Катина комната,
преображается словно бы волшебством кинематографа:
возникает диван-кровать, вышивки заменяются
эстампами, сама Катя с зажженной сигаретой, нога на ногу,
с укладкой, на шее — четыре ряда искусственного
жемчуга. Пашка входит к ней в цилиндре, во фраке, гал-
стуке-«бабочке», с тростью в руке, прикладывается к
«элегантно» протянутой Катиной руке... Размечтался
Пашка о «нескучной» жизни...
Шукшин посмеялся над своим героем. Пашке не
хватает вкуса, вот ему и чудятся картины «современного»
быта. Не видит он спокойной прочности в простом, для
людей привычном и удобном. Ему подавай стереотип
«пластмассовой» эры, когда дизайн ширпотреба
объявил себя передовой нормой быта. Над Пашкой
режиссер сыронизировал, а над агитатором эрзац-культуры
посмеялся зло.
Нет, не любил Шукшин подобных напористых
горожанок. «Проездные» от попутчицы Пашка принять
отказался. Женщину встретил муж, негромко стал
выговаривать, зачем она поехала с шофером? Он хороший
парень, заговорила женщина. Откуда знать, хороший
он или плохой, загорячился муж, ты еще не знаешь
их, «они» тут не посмотрят. И Пашку взорвало от этих
«культурных». Злая, мстительная сила вытолкнула его
из кабины.
— Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену.
Побыстрей!— приказал он мужу. Муж растерялся, женщина
тоже растерялась, настолько ощетинился Пашка,
недавний добрый водитель.— Два рубля! — заорал Пашка, и
попутчица сама попросила мужа поскорее отдать
деньги. Пашка скомкал рубли в кулаке (многие шукшинские
герои, ему симпатичные, на деньги не жадны, например,
95
Егор Прокудин из «Калины красной»), вскочил в
кабину.
Понимание человеческое нужно было Шукшину, к
этому он призывал. Демагогия представлялась ему
реальной опасностью. «Не надо только учить,—
призывал он.— Надо помогать исследовать жизнь, открывать
прекрасное в жизни и идти с этим к людям. Надо
страдать, когда торжествует зло, и тоже идти к людям.
Иначе к чему все?»'.
Пашка нагнал Кондрата Степановича, тот
остановился у кума-старика. Кондрат Степанович и кум
толковали о крестьянской жизни. Шукшин-сценарист
обладал умением не только передать живую стихию
народной речи, без видимых усилий выстроить диалог, но в
этом вроде незапрограммированном, свободном диалоге
коснуться вопросов тревожных, общих, выразить свою.,
авторскую озабоченность последствиями социального
сдвига русской деревни. Старик кум рассуждает вроде
о себе, рассказывает, что один остался со старухой, а
шестеро детей, «лоботрясы», в город уехали. Крышу
теперь некому починить, самому не под силу. «Приезжал
младший сын,— рассказывает кум,— звал к себе в
город, а я ему: сопля ты такая, с домом я — хозяин, а без
дома — пес бездомный».
А за этим житейским рассказом — горестная судьба
одиноких стариков, доживающих в деревне. За этим
рассказом — проблема миграции сельских жителей,
оскудение деревень рабочей силой, молодежью. Короче —
проблема всеобщая, имеющая касательство к
миллионам крестьян. Кондрат Степанович возражает куму:
такая уж теперь жизнь пошла, ничего не поделаешь.
Шукшин понимает необратимость коренной ломки села,
усилившейся на рубеже послевоенных десятилетий. Он
принимает новое и жалеет старое, стариков домоседов
ему искренне жаль, потому-то они у него неизменно
патриархально мудры, стоически спокойны, с цепкой
памятью.
В образе старика Воеводина из фильма «Ваш сын
и брат» Шукшин доведет этого своего старика
крестьянина до обобщения, загорюет с ним пуще. Тема
разлома села сделается здесь, в следующем фильме
режиссера, центральной. Тема эта, в форме вопросов,
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 38—39.
96
размышлений, устойчиво зазвучит в публицистике
Шукшина середины 60-х годов.
Пашка Колокольников посидеть со стариками не
хочет: у него свидание. Да и скучно ему с ними, тут не
пофорсишь, не выкинешь словесное «коленце».
Рудницкий правильно пишет: «В молчании складывается перед
нами и перед Пашкой бесхитростный натюрморт на
столе у старика и старухи: пузатый луженый, давно уже
не чищенный самовар, грубые фаянсовые чашки,
стеклянная вазочка с вареньем, сахарница, белая булка.
Весь этот скромный стол говорит не о бедности, нет,
только о достоинстве: чем богаты, тем и рады. Понять
этот выразительный язык Пашка не в состоянии — что
просто, он того не видит» К
Пашка пошел к Кате Лизуновой.
Гинзбург вспомнил, как в период съемок, в
гостинице, он с Шукшиным заговорил об одном общем
знакомом. Оператор рассказал, как этот человек, пытаясь
завести знакомство с женщиной, сначала играет с ее
ребенком, а затем, вроде между прочим, спрашивает у
него имя мамы. Шукшин запомнил рассказ и обыграл
в фильме. Пашка, как же он мог бы пройти просто так,
у одной из калиток заигрывает с ребенком (рядом —
молодая мама) и будто ненароком, вкрадчиво как-то
задает «волнующий» его вопрос: а как мамку зовут?
Тут из дома выходит здоровенный отец и молча
нависает над Пашкой. Бедный ловелас робко распрямляется,
и это только подчеркивает разницу в росте и силе обоих
мужчин.
Пашка чуть ли не бегом пускается по
деревенской улице (бессловесную микророль верзилы отца
сыграл земляк Шукшина, писатель Глеб Горышин, в
будущем привлекший рассказчика Шукшина на
страницы ленинградского журнала «Аврора», где он
возглавлял отдел прозы).
Лизуновы ужинали.
Катерина, разведенка,— молодая еще, а уже
намучилась, накричалась на своем веку, устала. Пашку же
кто за язык потянул: некультурная ты, Катерина,
темнота. Очень ему хотелось повторить «лекцию» недавней
попутчицы о «культурной» жизни. К слоникам
привязался: это же элементарная пошлость.
\-
1 Рудницкий К. Проза и экран, с. 62.
5 Зак. 640
97
Реакция у Кати на Пашкины слова и усталая и
верная:— Пошел к черту!.. Культурный нашелся... По
чужим бабам шастать.
Пашка ушел.
В доме стариков сидела за столом одна хозяйка и
ворожила на картах. Она спросила Пашку, будет ли
война. Пашка заверил: нет, не дадут. Хозяйка
соглашается: в народе тоже не слышно, а то ведь перед войной-
то всякие явления бывают...
Пашка пил молоко. А старуха принялась
рассказывать, какое перед Великой Отечественной явление было.
Роль хозяйки режиссер поручил актрисе А. Зуевой,
замечательно владеющей искусством народной речи.
Прямая ученица Станиславского, Зуева является
представителем великой плеяды старых мастеров
Художественного театра. Киноэпизод целиком держится на
мастерстве устного рассказа актрисы, Куравлев (Пашку
клонит в дрему, намаялся за рулем) подает лишь
небольшие реплики. А старуха поет-говорит о явлении.
Пашка даже засыпает под ее слова.
Старуха рассказывает, как под видом голой
женщины ходила по земле смерть, как дала она одному
шоферу деньги, чтобы он ей белой материи купил, а мужик
те двадцать рублей пропил. А смерть-то саван себе
искала. Вот вскоре после этого и война началась...
А Пашке снится сон, как встречает он на тракте, у
лесочка, Настю Платонову в белой простыне...
Эпизод, как мне кажется, драматургически
необязательный, как необязателен был для режиссуры фильма
странный сон героя, стилистически чужеродный
достоверности киноповестн, из чужого маскарада. Слушать
шукшинское слово в произношении Зуевой —
наслаждение. Но какую функциональную нагрузку несет смысл
этого рассказа о явлении смерти? Как старухин
монолог ни толкуй, содержание его на характер главного
героя не работает. А весь образный строй фильма
призван к этому — фигура Пашки стягивает к себе
драматургический материал, все персонажи вступают с ним
в прямой контакт. Кроме старухи хозяйки. Она сама по
себе со своим рассказом-небылицей.
Шукшин-режиссер к непосредственному
изображению войны не обращался. Мы помним, что как актер он
солдат играл, в экранизации романа Шолохова даже
сражался на выжженных июльским зноем донских бере-
98
гах 42-го. Написал сценарий по рассказам Сергея
Антонова для фильма Н. Губенко «Пришел солдат с
фронта» (1971). Но картины о войне он так и не сделал, как
не показал на экране своего военного детства. Тема
войны в шукшинскую режиссуру вошла отраженно: в
«Странных людях», в «Калине красной». Рассказ
старухи — Зуевой можно тоже отнести к отраженному
авторскому воспоминанию о войне: может быть, Шукшину
хотелось воскресить с киноэкрана одну из
запомнившихся ему историй, ходивших в народе как одно из
«вещих» предсказаний начала страшной войны?
Не знаю...
Дальше фильм Шукшина развивается гармонически,
почти без «пробуксовок». Он набирает высоту, с которой
не обрывается до последнего кадра. Все его
выразительные средства — драматургические, изобразительные,
актерские — звучат в редком согласии.
...На каменистом берегу родной Катуни
примостились дядя Кондрат и Пашка, они держат путь в хмеле-
совхоз. Грузовики оставили на обочине. Размечтался
Кондрат (актер Н. Балакин): надоело одному на свете
жить, жениться впору. До тридцати пяти лет он
крестьянствовал, теперь вот за баранкой, до чего же
надоело по чужим квартирам болтаться, хорошо бы свой
домишко иметь.
У Пашки же на примете есть «вариант». Два года
заезжает он к тетке Анисье, та просила его
«присмотреть» ей хорошего одинокого мужика.
И ведется у шоферов ладный, тихий разговор под
лопотанье Катуни. Пашка завораживает Кондрата
картиной оседлой жизни:
— Приехал бы я к тебе в гости... Заплыли б мы с
тобой на острова. Порыбачили бы, постреляли. А вечером
разложили бы костерчик, сварили бы уху...
Кондрат улыбается.
— Ага, я тоже люблю на островах. Ночь, тихо, а ты
лежишь и об чем-нибудь думаешь. Шибко думать
люблю.
Белла Ахмадулина, сама снимавшаяся в картине
«Живет такой парень», сказала совершенно верно:
«Этот фильм, прелестно живой, добрый и остроумный,
стал драгоценной удачей многих актеров...»1. Конечно,
1 Ахмадулина Б. Не забыть.— В кн.: О Шукшине, с. 330.
5*
99
поэтесса не имела в виду собственную роль. Она
восхищалась искусством партнеров. И скорее всего,
подразумевала работу Нины Сазоновой, актрисы Центрального
театра Советской Армии. Сазонова играла тетку Анисью
в сцене сватовства Кондрата Степановича.
Употребляя театральную терминологию, эпизод этот
стал концертным. Тут словно бы фильм в фильме,
самостоятельная комическая короткометражка.
Энергия смеха этой киноновеллы докатывается до
финала фильма. Комическое сватовство врезается в
память. А Шукшину придется затем оправдываться: мы
же не комедию делали...
В комической ситуации на редкость свободно, живо
проявили себя характеры. «А кино без литературы не
живет...» ' — считал Шукшин. Свобода, естественность
диалога в сцене сватовства дали актерам оптимальную
возможность сыграть людей живых, совестливых, со
своей «изюминкой». И со стороны (из зрительного зала)
очень смешных.
Шукшин смех не педалирует. Он чужд
киноэксцентрике. Его персонажи не побегут спиной вперед, не
вскочат с земли на высоко растущий сук дерева, великан не
запищит фальцетом, кошка, проглотившая моток
шерсти, не принесет потомства в теплых свитерочках.
Комическая ситуация для Шукшина — повод для
неожиданного освещения характера. Человек делается
смешон, но при этом он приоткрывает свою душу. Мы
угадываем его тайну, а в зависимости от этого меняются
оттенки нашего смеха. Эта реакция на комическое
открывает человеческое содержание.
Скажем, вот рассказ Шукшина «Операция Ефима
Пьяных». У председателя колхоза, бывшего солдата,
неожиданно полез осколок... И надо же, ранило-то его в
ягодицу. А хирург местный — женщина.
Анекдотическая ситуация. «Разнесут теперь по селу,
пропадет авторитет»,— горюет Ефим. И решается на
самостоятельную операцию. Но осколок не вышел, только
невтерпеж стало. И Ефиму пришлось послать жену за
кем-нибудь из больницы.
Ситуация обыграна так, что герой рассказа (опять-
таки маленько недоучившийся) смешон без злости, без
горечи. Ефима ранило на Курской дуге, председатель он
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 221.
100
дельный, послевоенной генерации, чужого не тянет, хват
на работу, хоть и без институтов. Ну, длинных языков
испугался, сам себя пересудами страшит, так эта
«щепетильность» простительна. И, посмеявшись над
доморощенной «операцией» председателя, мы ему «грех»
отпускаем.
И сцена сватовства из фильма «Живет такой
парень» смешна по-доброму. В ней нет отрицания. Автор
говорит голосом сердца. Это в традиции отечественного
демократического искусства. О ней сказал даже
зарубежный наблюдатель — Томас Манн: «И если нам
дозволено говорить голосом сердца, то нет на свете
комизма, который был бы так мил и доставлял столько
счастья, как этот русский комизм с его правдивостью и
теплотой, с его фантастичностью и его покоряющей сердце
потешностью...» '.
...Тетка Анисья сидит одна у окна, шьет и напевает.
Этим кадром открывается эпизод. Сазонова, в
экспедиции, шла как-то по деревне, увидела незнакомую
женщину. Сидя у окна, та шила под какую-то свою
негромкую песню. Актриса предложила Шукшину точно также
начать сцену. Режиссер не возражал, как согласился и
с другим советом актрисы: сделать ее героиню чуть
моложе, чем в сценарии. Живет Анисья одна, скорее всего,
вдова она солдатская, муж и помощник ей нужен.
Хозяйство у нее крепкое, дом добротный. Истомилась эта
«живая бабенка» от одиночества, вот и попросила
знакомого шофера (Пашку) присмотреть кого-нибудь,
«подходящего»...
Глянула в окно тетка Анисья и всполошилась:
— Пашка-то... И вправду кого-то привез.
Деловитая, неглупая женщина эта тетка Анисья.
Крутнулась по горнице, накинула на плечи нарядный
плат, моментально подмахнула на стол парадную
скатерть. Уже виден образ — и ойкнуло ее сердце в
надежде, и стыдно, неловко хозяйке, и руки у нее ловкие, дом
прибран, и достаток она демонстрирует, бабий ум ее
хитер. Сазонова говорила о режиссере Шукшине: «Он
никогда не указывал актеру, как играть, раскрывая, что он
хотел бы от актера. Он угадывал природу актерскую,
понимал, что они своей природой живут». Шукшин
подчеркивал, что ему не важен набор средств, конмн вла-
1 Мани Т. Русская антология.—«Лит. газ.», 1975, 4 июня.
101
деет актер. Был бы умный, хороший человек, и он с ним
договорится. Он принимал способность актера к
импровизации, к сотворчеству на съемочной площадке.
«Пластическая культура в органичности, в естественности,—
настаивал Шукшин.— Чем ближе пластика актера к
естественному состоянию человека и чем меньше она
обеспокоена, например, соображениями моды, обаяния, тем
больше говорит она мне о культуре актера, о его
чуткости, уме, если хотите»'.
В горницу вошли гости. Пашка впереди, по-свойски.
— Здорово ночевала, тетка Анисья!
Хозяйка жмется к огромной печи, кисти платка
поправляет смущенно. Кондрат кашлянул в большую
рабочую ладонь, усы в испуге обвисли.
— Вот мы и приехали...— понесло Пашку, но тетка
Анисья и Кондрат оба испуганно глянули на него.
Пашка понял, что слишком скоро погнал дело.—
Заехали, значит, отдохнуть малость,— сполз он с
торжественного тона.
Решили сесть к столу. Кондрат все страдает, лицо
опускает.
— Как живешь, тетка Анисья? — Молодой снова за
свое.
— Да живем, Паша... Вроде как будто ничего.
Пашка за спиной Кондрата показал хозяйке
большой палец и кивнул на напарника: орел, мол, «жених»
хоть куда. (Этот жест Куравлева повторит Михаил
Ульянов — дядя Коля в картине «Позови меня в даль
светлую...», повторит в аналогичной комической
ситуации, только на свой манер: глаза как-то выпучит при
этом по-рачьи, поглупеет вдруг с лица.)
— Одной-то небось тяжело? — «издалека» начал
Пашка.
Кондрат — Балакин готов сквозь землю провалиться.
В кадре он — на первом плане, хозяйка и Пашка чуть
сзади. Втянул голову в сутулую спину, узко посаженные
глаза — в скатерть.
Анисья выставила на стол разносолы, радушно так,
ловко, хоть притворно поохала: шибко-то нечем
угостить.
— Ничего-о,— замялся Кондрат.— Что мы сюда,
пировать приехали?
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 212.
102
Пашка взял графинчик с известной прозрачной
жидкостью.
— Сфотографируем по стаканчику?
— По стаканчику — это много,— вскинулся пожилой.
Пашка легко согласился на лафитник.
Анисья тоже присела за стол, поглядывает с
интересом и значением на Кондрата. Все выпили за
знакомство, стали закусывать.
Сцену эту актеры отрепетировали слаженно,
досконально. Весь эпизод (правда, он замыкался одной
декорацией горницы) был отснят за одну смену. На
экране видно, насколько легко, в охотку играют актеры, как
естественно подхватывают реплики, насколько
органична их пластика. Комизм сцены неподдельный, режиссер
словно бы и не вмешивается в работу актеров, "да и
кинокамера как бы превратилась в зрителя, не спешит
менять планы, смотрит на сватовство как бы поодаль,
словно живой свидетель, ненароком попавший сюда, в
горницу. «Умением снять фильм никого уже не удивишь,—
говорил о своей эстетической позиции Шукшин.—
Удивляет (а значит, обращает на себя внимание)
неожиданный ход мысли, новый взгляд и какой-то свой вывод.
Блистательная форма, если за ней ничего нет, столь же
блистательно мстит за себя» К
Сюжетный ход на самом деле выглядел в фильме
неожиданно. Кажется, впервые на экране нашем в
кинорассказе о современниках было показано сватовство.
В картинах о прошлом — да, сколько угодно. А тут —
современность, а обряд-то дедовский. Признаться, по
первому просмотру меня эта ситуация озадачила. Как-
то не приходилось сталкиваться с подобным. Или в
Москве так заведено не было и Шукшин вывел на экран
нечто провинциальное? После войны, когда во многих
московских домах остались вдовы, даже с детьми, не
очень-то одобрялись новые замужества, память о
погибших долго жила в наших тесных коммунальных
квартирах. «Сват», да такое слово-то забыли в послевоенной
Москве. А в деревне, видно, не забыли, обряды тут
много устойчивее. И Шукшин это знал. И без ханжества
обряд этот показал. Писатель еще в 61-м году
опубликовал рассказ «Степкина любовь», где главным было
описание сватовства молодого алтайского шофера к за-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 211.
103
езжей учетчице (модификация этой сцены войдет в
шукшинскую киноповесть «Брат мой...», в фильм
Виноградова «Земляки», сделанный по этой повести). Много
позднее Шукшин объединит рассказы «Вянет,
пропадает» и «Племянник главбуха» в эпизод кипоповести
«Позови меня в даль светлую...», где опять-таки опишет
сватовство. Вот тут светлого комизма не найти, тут
знакомство унылого Владимира Николаевича и Груши,
одинокой матери сына-подростка, знакомство при помощи
«свата» дяди Коли, вызовет смех грустный. Комканое
какое-то получится тут сватовство, больно жених
подарком не выглядит.
Да, судьбу тетки Анисьи и дяди Кондрата Шукшин
решал при помощи светлого смеха.
— Замуж-то собираешься?!—ляпнул Пашка
хозяйке.
Какой же он быстрый был, этот Колокольников!
— Господи-батюшка!.. Да ты что. Что ты, Паш,
откуда ты это взял-то? — пыталась защититься хозяйка.
Пашка от удивления даже заикаться больше стал.
— П-п-привет! Ты нее мне сама говорила!
Глупая, смешная возникла ситуация.
— Ну и балаболка ты, Павел,— в сердцах сказал
Кондрат.
И тут Пашку понесло. Слова у него выпархивали:
— Жельтмены! Я вас что-то не понимаю. Мы зачем
сюда приехали?
— Тьфу! — Кондрат горько сморщился.
А Сазонова — Анисья вдруг глянула на дверь и
всплеснула руками.
— Ой, батюшки! Свиньи-то у меня в огороде.
Господи!
И вылетела из горницы.
Уровень актерской игры Шукшин вплотную
связывал с уровнем литературы для кино. Когда сценарий
пуст, «настоящее движение чувств и мыслей
подменяется лишним жестом, пристальным взглядом,
интонационным нажимом»1. Куравлев, Балакин и Сазонова
работают с благодатной литературой, только успевай
реагировать на смысловые оттенки слова.
Сцена идет.
— Всё! — Кондрат бросил на стол вилку.— Поеха-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 215.
104
ли! Не могу больше: со стыда лопну. Что же это ты со
мной делаешь-то?
А Пашка ласково, настойчиво усаживает напарника
на место. Спокойно, мол, дядя Кондрат! Я, мол, в этих
делах опытный (ну и Пашка!). Надо с ходу делать
нокаут, нам нельзя ждать милости от природы. Давай еще
по махонькой. И так далее.
Кондрат замешкался уходить. Пашка опять
настойчиво:
— Глянется она тебе?
— Да вроде. Ничего...— Кондрат—Балакин
зарделся.
— Всё.— Пашка сделал жест рукой.— Наша будет!
И Шукшин пишет для Пашки характерные для себя
слова:
— А ты посмеивайся надо мной. Вроде бы я —
дурачок. А с дурачка взятки гладки.
Под маской дурака, шута Шукшин часто прятал
человеческую искренность, добросердечие. Чудик со
временем станет одним из его излюбленных персонажей.
Иван-дурак из народных сказок оживет в
шукшинской прозе. Маска— удобная защита.
— Ты же не знаешь женщин,— между тем
заговаривал Кондрата Пашка.— Женщины — это сплошной
кошмар.
— Пошел ты к черту! — Кондрат опять разозлился.—
Дурака тут ломает.
— Женщина — это стартер,— заявил Пашка,— когда-
нибудь да подведет.
И объясняет, что никаких свиней у Анисьи в огоро-
роде нет, что она нарочно убежала, хитрит.
— Я этот женский вопрос специально изучал,—
похвастал Пашка. Он в армии якобы возил генерала, спер
у него книгу: «Мужчина и женщина». Там есть целая
глава: «Отношения полов среди отдельных наций»
(такой может украсть книгу у генерала, да еще именно
такую книгу)...
Но тут вернулась хозяйка.
— Вся ограда прохудилась (намек на отсутствие
мужа, он бы починил, думаем мы и, очевидно, Кондрат).
Ну свиньи так и прут, так и прут. Ну просто наказание
господнее.
Павел вывел Анисью в сенцы. Кондрат посидел один.
Вернулся Пашка.
105
Сообщил: все в полном порядке. Первое: хозяйка,
конечно, согласная. Хороший, говорит, мужик, сразу
видно. Второе: он, Пашка, поедет, а они останутся.
В совхозе скажет, что напарник будет к вечеру:
подшипники меняет.
И Пашка решительно вышел.
Анисья присела к столу, помолчали двое...
— Вёдро-то какое стоит! Прямо благодать
господия!— первой заговорила хозяйка.
— Да-а,— согласился Кондрат.— Погода прямо как
на заказ.
Этими словами завершался в сценарии эпизод
сватовства.
Но на съемке Шукшин не дал оператору команды
«стоп». Камера продолжала работать. Режиссер чего-то
ждал.
Актеры не знали, что делать.
Наконец Балакин — Кондрат потянулся к
графинчику, налил себе.
— Водочку-то уважаете, Кондрат Степанович? —
очень «ласково» спросила Сазонова — Анисья.
— Ага,— простодушно признался гость. И вдруг
спохватился:— По праздникам...
Анисья внимательно, по-доброму смотрела на него.
— По праздникам-то ничего... Пейте.
Так завязывался у этих немолодых одиноких людей
союз на грядущие годы.
Режисер был доволен концовкой эпизода.
Импровизация актеров его рассмешила, все вышло естественно.
Недаром Шукшину принадлежат слова: «...сценарист не
тогда сценарист (хороший или плохой), когда написал
в своем сочинении: «Конец», а когда будет написано:
«Конец фильма»1. Эти слова практика кино ничуть не
устарели, они отражают специфику кинопроизводства.
А теперь сюжетика картины «Живет такой парень»
приблизилась к материалу рассказа «Гринька
Малюгин»...
Пашку послали на нефтебазу за горючим для
совхозных машин. «Бензохранилище—целый городок,
строгий, стройный, однообразный, даже красивый в своем
однообразии,— читаем в кнноповести Шукшина.— На
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 158.
106
площади гектара в два аккуратными рядами стоят
огромные серебристо-белые цистерны».
Пашка зашел в контору оформлять документы.
Вошел, как всегда, бодрой походкой, с улыбчивым лицом,
оглядел девушек за столами.
Вдруг в окно увидели — пожар! Выбежали из
конторы...
Горели бочки на одной из машин.
Люди разбегались прочь. Пашка побежал с ними.
Только завбазой остановился, закричал страдальчески:
«Давай брезент, куда же вы?! Успеем же, э-э!» В этой
небольшой роли выступил Иван Рыжов, будущий
участник съемок «Печек-лавочек» и «Калины красной».
Пашка остановился, затем его точно кто толкнул
сзади. Он побежал к горящей машине. Вскочил на
подножку кабины, завел мотор. Народ закричал ему
вдогонку, чтобы он прыгал.
А Пашка, стоя на подножке, гнал «полуторку» к
реке. За спиной клубились дым и пламя.
На поясном плане мы видим Пашку, его лицо со
сведенными бровями, искаженным ртом. Напряженно
глядит вперед, на кромку обрыва.
Затем кинокамера снимает кручу с другого —
пологого— берега реки. Машина падает вниз, гром
разносится над поймой. Шукшин здесь не удержался от
смешной детали* какая-то бабка полощет в реке стираное,
вдруг — это пламя, взрываются бочки, бабка роняет
белье, в ужасе пятится задом, как от нечистой силы,
потом изо всех сил бежит прочь.
А Пашка Колокольников угодил в больницу.
Заключительные сцены фильма чрезвычайно важны
для прояснения характера главного героя, для
уточнения авторского (и нашего) к нему отношения.
Концовка, хоть и пронизана привычно юмором, успевает
сказать немало серьезного, призывающего к раздумью, к
нашему соучастию. Образ Пашки, прежде внутренне
статичный, обретает перспективу. Финал фильма
выражает шукшинскую надежду.
В палате Пашку навещает корреспондентка
городской молодежной газеты, ей поручено написать о Паш-
кином подвиге. Сцена принципиальная для сценариста
и режиссера Шукшина, в ней противопоставлены две
молодые жизни, две жизненные позиции.
Журналистку играет Белла Ахмадулина. Она входит
107
п палату осторожно, чуть виновато оглядываясь по
сторонам, словно извиняется за свой нежданный визит. Но
ей поручили принести очерк, поэтому она здесь. Она н
брюках (тогда женщины еще редко надевали брюки,
таких оговаривали, а они словно бы бросали вызов),
в «хемингуэевском», крупной вязки, шерстяном свитере,
какие мы носили одно время, вешая на стены своих
комнат расхожий гравированный портрет знаменитого
американского писателя.
Журналистка подсаживается к Пашкиной кровати.
До сих пор не могу освободиться от впечатления, что
вижу на экране поэта Ахмадулину, а не
исполнительницу определенной роли. Может быть, потому что рядом
с ней — профессиональный актер? Куравлев играет ярче,
свободнее, привычнее, что ли. Ахмадулина же
значительно умнее, талантливей той, кого ей надо было показать
в фильме. Она и тогда, много лет назад, была
настоящим поэтом, и популярность ее, к слову, была выше
популярности Шукшина (с точки зрения социологии
успеха фильма можно об этом вспомнить). Снималась
Ахмадулина без грима, какой мы привыкли видеть ее на
поэтической эстраде, даже эта длинная челка на лоб. Но,
может быть, мое восприятие субъективно?
Драматургия роли Шукшину важна. Ведь он не
признает стереотипов, отталкивается от жизни, как она
есть, а не от готовых клише, а именно стандартностью
нашпигована столичная журналистка. План заметки о
подвиге Пашки у нее готов. Интересуют лишь
формальные вопросы, которые приложимы к умозрительной
схеме: откуда родом Пашка, сколько ему лет, где
учился. Такую казенную журналистку Шукшин не
принимал.
У героини Ахмадулиной есть прототип. В сборник
«Сельские жители» писатель включил рассказ «Леля
Селезнева с факультета журналистики». Мысль этой
вещи проста и верна: жизнь шире загодя приготовленной
журналистской сетки. Впрочем, эта мысль легко
распространяется на все виды слова, на все искусство.
Мысль, вечно заботившая Шукшина.
Молоденькая заезжая корреспондентка приехала в
деревню на берегу Катуни, где порывом ветра сорвало
паром. «Она была курносая, с красивыми темными
глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке».
Сначала она, разложив на коленках блокнот (как герои-
108
ия Ахмадулнной), принялась за злую статью. «Леля
не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над
головами руководителей трех районов». Затем, после
разговора с секретарем райкома партии, который ее
успокоил, Леля решила повернуть мир светлой стороной.
Она идет к бригаде плотников, на берег: люди работали'
на сломанном пароме уже девять часов подряд.
«Здравствуйте, товарищи! — громко и весело сказала Леля...—
Я из областной газеты к вам. Хочу написать о вашем
скромном подвиге». И прозаик демонстрирует образцы
Лелиных сочинений. «Это было грандиозно! — начала
писать Леля.— Двенадцать человек, вооружившись
топорами...». Она зачеркнула «вооружившись», подумала
и выбросила все начало. Написала так: «Это была
удивительная ночь! Двенадцать человек работали, ни разу
не передохнув...» Подумала, вырвала лист из блокнота,
смяла и бросила в реку. Начала снова: «Неповторимая,
удивительная ночь! На отмели, на камнях, горит
огромный костер, освещая трепетным" светом большой паром.
На пароме двенадцать человек...» Леля и этот лист
бросила в реку».
Но Леля хоть понимает фальшь своей
корреспонденции. Журналистка в фильме, как видно, не собирается
ни один из своих стандартов поверить Пашкиной
судьбой. Пашка, по привычке производить «впечатление» на
молодых женщин, впал в словоблудие. На стандартного
героя, каким хотела бы увидеть его журналистка, он не
походил решительно.
— Как вы себя чувствуете? — спрашивает гостья,
раскладывая на коленях большой блокнот.
А Пашка сразу:
— Железно. А потом я речь скажу. Ладно?
— Хорошо... Я потом запишу. В другой раз.
У журналистки пухлые губы, подведенные брови.
Смотрит на Пашку чуть растерянно, удивленно. А тот
сам вопросы задает:
— А вы сами откуда?
— Я из Ленинграда. А что?
— Я волнуюсь,— заговорил Пашка,— мне трудно
говорить...
— Вот уж никогда бы не подумала! — воскликнула
журналистка (конечно, не думала она встретить такого
«героя»).— Неужели вести горяшую машину легче?
109
И тут Пашка стал самим собой. Он поманил
поближе к себе гостью, чтобы другие в палате не слышали его
слов:
— В общем-то, в чем дело? Только это не надо
писать. Я что, на самом деле подвиг совершил? Я боюсь,
вы напишете, а мне потом стыдно будет перед людьми.
Скажут: «Ой, ой, герой пошел!» Народ-то знаете
какой... Или ничего, можно?
Журналистка — Ахмадулина с интересом
посмотрела на Пашку: можно.
А Пашка снова к словоблудию: «Вы замужем?»
Пригласил прийти назавтра, он бы все письменно изложил.
Гостья замялась: ей этот материал сдавать сегодня, а
завтра она уезжает, так, может, Пашка ответит
коротко? Такой оборот дела «жуиру» Пашке неинтересен. Он
скис, отвечает скучно. Разозлился, когда пришлось
сказать, что проучился всего пять классов. И вот главное
в диалоге:
— Что вас заставило броситься к горящей машине?
— Дурость,— сморозил Пашка.
Журналистка посмотрела на него. Разве такую чушь
надо записывать в блокнот?
— Я же мог подорваться,— «наивно» объясняет
«герой».
Журналистке не по себе.
— Я приду завтра. Завтра приемный день?
Пашка приободрился, пошел напролом, на «ты»
перешел. Но журналистка прекрасно понимает, что не
придет. Но говорит обратное. А напоследок: «Мы
должны все-таки написать, почему вы побежали к этой
машине?»
Пашке хочется помочь гостье.
— А я не знаю,— говорит он и виновато смотрит.—
А ты сама напиши чего-нибудь, а? Что-нибудь такое...
(Конечно, она напишет, раз получено Пашкино
разрешение.)
— Ну, очевидно, вы подумали, что если бочки
взорвутся, то пожар распространится дальше, на
цистерны.— И подталкивает Пашку к утвердительному
ответу.— Да?
Пашка соглашается. Журналистка пишет в блокноте.
Пашка все надеется, что будет завтра новая встреча.
Все просит прийти. Гостья обещает, затем церемонно,
опять осторожно направляется к двери, поклоны голо-
110
вой: налево, направо. Притворно-казенное: «До
свидания, товарищи!» А Пашка бодрится: мол, влюбилась
в него корреспондентка.
Пашкина шутка — к машине побежал по дурости —
опрокидывает журналистский стереотип героического.
Пашкин юмор одерживает верх над самовлюбленной
образованностью гостьи. Она не глупа, журналистка, но
она глуха душой. Конечно, заметку она настрочит (в
рассказе «Гринька Малюгин» так и происходит;
называлась заметка «Мужественный поступок», прочитав
которую Гринька проворчал: «Не в этом же дело»). Фильм
Шукшина поддержал, таким образом, шукшинскую же
прозу. Типология образа идентична.
Пашкина реплика — в духе его живого характера.
Отшутился, съязвил немножко по поводу предлагаемой
ему высокопарности. Но содержанием его реального
поступка является реальный героизм. Если Пашка
погиб бы, его называли бы действительно героем, не
иначе. В «Кинословаре» (М., 1970, т. 2, с. 967), в
биографической справке о Шукшине, я писал, что фильм
«Живет такой парень» «показал стремление советской
молодежи к подвигу». В своей статье о шукшинском
творчестве киновед Белова это мое положение оспаривает.
Она говорит, что фильм «это ни в коей мере не
характеризует» К Подчеркнем — ни в коей мере. Позволю
себе не согласиться. Подоплека героического определена
хорошей, надежной душой молодого шофера, его
жалостью— любовью к людям. Он свой поступок подвигом
не считает, говорит критик. Пусть не считает, пусть
шутит о себе: глупость. А поступок-то объективно —
героический. И уж в какой-то мере Пашку (и фильм) да
характеризует, выводит шукшинскую ленту на
обобщение.
Пашка с его трудолюбием, заземленностью
невольно возражал инфантильности «звездных» молодых
романтиков, пришедших в те годы в молодую нашу
литературу, а оттуда шагнувших на экран. Возражал
рефлексирующему герою О. Даля из фильма А. Зархи «Мой
младший брат», возражал сутью своей, ибо Шукшин
специально в полемику не включался, он словно шагал
в другую сторону, сам по себе.
Параллельно режиссеру Шукшину изначальная спо-
1 Белова Л. Три русла одного пути, с. 141.
Щ
собность нашей молодежи к сверхтрудному делу, к
подвигу утверждалась фильмами о предвоенном поколении,
достойно, мужественно вступившем в страшную войну
с гитлеризмом. В контексте этого интереса
кинематографистов к природе героического, к готовности на
самопожертвование фильм Шукшина и прочитывался как
положительное выражение авторского символа веры.
Нет, не случайно тогда, в первой половине и в середине
60-х, появление на отечественных экранах фильмов
«Первый снег» В. Рослякова, Б. Григорьева и Ю. Швы-
рева, «Чистые пруды» Б. Ахмадулиной и А. Сахарова
(в основу сценария легли автобиографические
рассказы Ю. Нагибина), «Верность» Б. Окуджавы и П.
Тодоровского. Все эти картины — о вступлении молодых
предвоенных парней в подвиг, в испытания войной, о
нравственной прочности поколения. И — о
преемственности поколении, детей и отцов. Фильм Шукшина
примыкал к этому тематическому блоку.
В правомочности такого заключения надо было бы
убеждать и самого автора. Он позже заколебался в
оценке эпизода. В 68-м году Шукшин скажет: «В своем
фильме «Живет такой парень» я хотел рассказать о
хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на
своем газике доброту людям. Он не знает, как она
нужна им, он делает это потому, что добрый запас его
души большой и просит выхода. Не ахти какая мысль,
но фильм делать стоило. Ну и делай — не кричи об этом,
рассказывай... Нет, мне надо было подмахнуть парню
«геройский поступок» — он отвел и сбросил с обрыва
горящую машину, тем самым предотвратил взрыв на
бензохранилище, спас народное добро. Сработала
проклятая въедливая привычка: много видел подобных
«поступков» у других авторов и сам «поступил» так же.
Тут-то у меня и не вышло разговора с тем парнем,
таким же шофером, может быть, как мой герой, с
которым — ах как хотелось! — надо бы поговорить.
Случилось, как случается с неумной мамой, когда она берет
своего дитятку за руку и уводит со двора — чтобы
«уличные» мальчишки не подействовали на него дурно:
дитятко исключительное, на «фортепьянах» учится... Почаще
надо останавливать руку, а то она нарабатывает
нехорошую инерцию» *.
Шукшин. В. Нравственность есть Правда, с. 85—86.
112
Шукшин напрасно оговорил себя. Поступок Пашки
согласен с жертвенностью его натуры: Пашка легко
отдает себя людям, за пленкой юмора и фанфаронства
в нем сокрыта отзывчивость. Шукшин-то мог бы от
такого Пашки не отрекаться, ведь и ситуацию
исключительную— геройский поступок — он воспроизводил
повторно: сначала в рассказе, затем в фильме. Сам же
еще и говорил: «Если мы в чем-нибудь сильны и по-
настоящему умны, так это в добром поступке»'.
А Пашке снится сон, будто он генерал. И входит в
ту самую палату, где лежит сам. В палате одни
женщины: Катя Лизунова, ленинградская журналистка,
Маша-птичиица, даже тетка Анисья. И свита вокруг
Пашки — тоже из женщин. Генерал начал обход. У всех
женщин одно: болит сердце. «Кошмар»,— заключает
Пашка. Тетка Анисья смотрит на генерала и напевает
про «ретивое»:
— И у тебя сердце?
— А что же, я хуже других, что ли? — обиделась
тетка Анисья.— Смешной ты, Павел: напялит человек
мундир, так и начинает корчить из себя...
Пашка приказал выписать больной «п-пирамидону.
П-пятьсот грамм».
Комическая вставка, сон разума, который рождает
не чудовищ, а юмористическую чепуху. Шукшинский
фильм не пугает нас фантасмагориями.
Материализация на экране дремлющего человеческого сознания не
является отражением реальности. Видения Пашки —
это ирония автора, режиссера. На самопародию герой
не способен. У Пашки нет той игры ума, какой наделен
сам Шукшин. На этом уровне смеха он, Пашка, не
живет, не существует.
И еще — это видение, подобно прежним, не есть
битва сознания. В них, этих вставках, нет драмы,
внутреннего борения. Поэтому они не волнуют нас, не
задевают наше сознание через боль, через муку сомнения,
прозрение.
Рудницкий увидел в «генеральском» сне Пашки
откровенную веселую цитату из картины Феллини «в'/г»,
модификацию «гарема». Возможно. Только она
разочаровывает нас отсутствием в ней загадки. В ней лишь
необязательный комизм. Для той высоты, какую к этой
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 115.
ИЗ
сцене набрал фильм, такой комизм лишний. Да и сам
Пашка... в парадном мундире боевого, заслуженного
генерала (судя по орденам и медалям). Да еще Герой
Советского Союза, что обижает память ветеранов...
Проснулся Пашка ночью. Все спали, кроме его
соседа, пожилого учителя. Тихий серьезный разговор
состоялся у них, без посторонних. Задумался Пашка: есть ли
на свете счастливые люди? И учитель (актер Е. Тете-
рин) читает ему по ученической тетрадке сочинение
одного из своих учеников. Как ребята ходили в лес п как
«в лесу было шибко хорошо». Этот мальчуган каждый
день открывает для себя мир, поясняет учитель
недоуменному Пашке. Он умеет смеяться, плакать и
прощать. И делает это от души. Это счастье.
И говорит учитель Пашке: «Ты вот тоже
счастливый, только... учиться тебе надо. Хороший ты парень,
врешь ловко... А знаешь мало».
Точные слова, хотя и у Пашки есть защита: «Когда
же мне учиться-то? Я же работаю».
Конечно, мало разве он вкалывает? Подростком
работал, верно, в колхозе, затем подался в шоферы.
Шукшин сам видел парней, похожих на его героя, когда
учительствовал и директором был в сельской вечерней
школе. Обычная судьба у Колокольникова, не один он
страдал оттого, что надо было работать, кормить себя, а на
учебу сил и времени почти не оставалось.
Но учитель, тот все же настаивает на своем: именно
рабочему человеку и надо учиться.
И опять снится сон Пашке: видит он Настю, она
поджидает его поодаль дороги, под угором, в прореженном
перелеске. Пашка бежит к ней, рад видеть. И, как в
разговоре с учителем, находит герой утешение в Наети-
ных словах: не смерть в белом саване ходит по земле,
а любовь. «Она придет к тебе»,— обещает Настя Пашке,
А он опять за свое: «А если не придет?» Все никак
не поймет Павел, что жизнь много проще и прекраснее
сто фантазий. Что она сама научит его, откроет ему
глаза.
В здравый смысл жизни Шукшин упорно верит.
Вот Пашка проснулся, поглядел на соседа. И
показалось ему, что у того сердце остановилось.
— Братцы! — заорал он.
А учитель-то просто заснул крепко, первую ночь
спокойно уснул. Он приподнялся, взглянул вопрошающе на
114
Пашку. И тот ясно как-то, откровенно (и опять
смешно) заявил: «А мне показалось, ты помер».
За окном палаты — уже снежок, пришла на землю
зима.
«Пашка лег и стал смотреть в потолок. На душе у
него легко.
— Значит, будем жить,— сказал он, отвечая своим
мыслям.
А за окном больницы — большой ясный день.
Большая милая жизнь...».
Так заканчивается киноповесть. Так завершается
фильм.
Слова эти — большая милая жизнь — почти
калькируют финал предвоенной картины «Учитель»,
поставленной Герасимовым. Там счастливый герой актера
Бориса Чиркова выходит рано утром на крыльцо, видит,
как занимается солнце, и благодарно приветствует эту
красу, эту рань, милую огромную жизнь...
Вот еще одно доказательство шукшинской веры в
преемственность поколений, животворность
гуманистических традиций, еще один аттестат его оптимизма.
Фильм Шукшина явился событием
кинематографической жизни. Его заметили и зрители и критики. На
международном фестивале в Венеции-64 «Живет такой
парень» получил «Гран при» по разделу фильмов для
молодежи. Лента Шукшина участвовала и в конкурсе
1-го Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде. Там
была показана представительная программа
художественных картин: «Живые и мертвые» А. Столпера,
«Гамлет» Г. Козинцева, «Зной» Л. Шепитько, «Тишина»
В. Басова, «Родная кровь» М. Ершова, «Дети Памира»
В. Мотыля, «Я шагаю по Москве» Г. Данелня. Жюри
присудило фильму Шукшина премию «за
жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение».
В прессе определили жанр картины — комедия. Это
режисера озадачило. Он счел необходимым выступить
с послесловием к фильму, оно было опубликовано
журналом «Искусство кино» в девятом номере за тот же
64-й год. Заметим здесь одну странность: по каждому
своему фильму Шукшину приходилось давать
объяснения, даже после «Калины красной». И еще одно:
режиссер Шукшин принял участие во всесоюзном
кинофестивале лишь спустя десять лет после выдвижения на
конкурс своего первого полнометражного фильма. «Ваш
115
сын и брат», «Странные люди» и «Печки-лавочки» на
всесоюзных кинофестивалях не показывались.
Что же заявил Шукшин относительно жанра «Живет
такой парень»?
«Я очень серьезно понимаю комедию. Дай нам бог
побольше получить их от мастеров этого дела,—
объяснялся режиссер со своей аудиторией.— Но в комедии,
как я ее понимаю, кто-то должен быть смешон. Герой
прежде всего... Герой нашего фильма не смешон»'.
Шукшин не прав. Конечно, Пашка Колокольни ков
смешон часто. Смешон по-доброму, не зло. Так что
комедийный пласт в структуре фильма значителен. Сам
Шукшин называл свои сценарии кнноповестями, в том
числе и сценарий для картины «Живет такой парень».
Но ведь и «Печки-лавочки» автор называл
киноповестью, а фильм-то снимался и получился в жанре
комедии. Почему бы не обозначить «Живет такой парень»
жанром комедийной повести?
Таланту Шукшина всегда был свойствен юмор: и в
ситуациях и в диалогах. Но реакция на его дебют в
большом кино его напугала, очевидно. И во второй
работе, снимая ленту «Ваш сын и брат», режиссер словно
нарочно избегает юмористических красок, изгоняет из
фильма смешное. Лишь бы не вызвать у зрителей
подозрение в способности мастеровито делать комедии.
В послесловии, о котором я говорил, сам режиссер
отмечает стремление Пашки «попорхать малость». Его
герой «задет» городской культурой, именно «задет».
Потому-то в своих «порывах» он смешон.
Трудится Павел на совесть, а вот думать ему пока
не под силу. Да и проснулась ли в нем жажда знаний?
«Капитал» он якобы не дочитал. Он эту сложнейшую
огромную книгу никогда и не дочитает. Отдает себя
людям герой, этого не отнять, развивал далее свою
мысль о центральном образе фильма режиссер. Но ему
и брать надо: ум, книги.
Перспектива образа Павла, как мы увидели по
финалу картины, Шукшиным дана. Парень влюблен в
жизнь, и та кое-чему его уже учит. Он будет ей
благодарен, он поумнеет. Тем самым, оправдывая своего
героя, Шукшин утверждал на экране вполне конкретный,
реальный человеческий тип, симпатичный характер, на-
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 116.
116
дежный. Но никоим образом не серый характер.
Шукшин никогда не являлся апологетом
антиинтеллигентской тенденции в киноискусстве.
Просто он хорошо знал и понимал жизнь.
Кинокритик пишет: «9 дней одного года» (фильм
Михаила Ромма, шукшинского учителя.— Ю. Т.)
произвели на молодого Шукшина огромное впечатление. Но,
начиная свой путь в кинематографе, Шукшин никак не
оглядывается на «интеллектуального героя», хотя в то
время в сознании самых широких кругов, в особенности
молодежи, доминировал своего рода культ науки и
ученых. Можно сказать резче — он вступает с ним в
скрытую полемику» *.
Шукшин никому не подражал в выборе главного
героя, это очевидно. Он нашел его в своей же прозе и
оттуда перенес на киноэкран.
Равно он не копировал ничью кинематографическую
форму. Прав был маститый постановщик Студии имени
Горького Марк Донской, старейшина советского кино,
когда назвал свой отзыв на шукшинский дебют весьма
красноречиво: «Есть такой режиссер!» (журн.
«Искусство кино», 1964, № 9).
Впоследствии сам Шукшин сдержанно относился к
фильму, хотя и не отрицал его целиком. Но картина,
безусловно, состоялась. С позиций времени это хорошо
видно. «Сейчас «Живет такой парень», вопреки
презрительному отзыву автора, воспринимается как лента на
удивление свежая,— восхищенно замечает современный
критик.— В ней слышна легкость, непринужденность
походки Шукшина, в ней — утренняя бодрость и
энергия. Картина озадачивает, смешит, возбуждает»1.
Шукшин пришел в большое кино со своей
центральной темой, своей системой образности. И со своим
миром — миром родной алтайской земли.
В отклике на первый сборник, «Сельские жители»,
писатель Михаил Алексеев отмечал: сердце Василия
Шукшина принадлежит людям села. О них он пишет
талантливо. И даже очень талантливо! Хорошо,
замечает писатель, что Шукшин разносторонен, хорошо, что
знает он и сельских и городских жителей. «Но знать-то
можно по-разному. Одно ты знаешь разумом и сердцем,
1 Громов Е. Поэтика доброты, с. 23.
2 Рудницкий К. Проза и экран, с. 58.
117
а другое — только умом. Думается, что в творчестве
надобно отдавать предпочтение тому куску жизни, какой
близок и разуму твоему и особенно, конечно, сердцу» 1.
Вроде привычное замечание. Но для практики
искусства постоянно справедливое. Взглянем на афишу
кинопроката, когда появился первый полнометражный фильм
Шукшина. Мы увидим, что подлинного знания деревни
во многих картинах того времени попросту нет.
Режиссеры к сельскому материалу обратились или
полуслучайно, или ненадолго, или вовсе без души, без сердца,
а так, «по оказии»...
Деревенским фильмом начинал выпускник ВГИКа
П. Арсенов, экранизировав рассказ донского писателя
Виталия Закруткина «Подсолнух». Но эта заявленная
тема земли, тема памяти об отчем доме не получила
развития в практике режиссера: как профессионал, он
брался за самые различные сценарии, однако о
деревенском-то материале словно забыл, дебют был лишь
профессиональной заявкой, не творческой. Начинал
Арсенов явно не своей темой.
Обиднейшей неудачей оказался фильм опытного
мастера Бориса Барнета «Полустанок». Нравоучительная
комедия о днях академика в деревне ничего общего с
реальностью не имела, она была смоделирована по
принципу кабинетных представлений о сельской жизни,
выглядела вымученной, бескровной, ее содержание
оказалось бесформенным.
История добычи дефицитных шестеренок для
старенького комбайна деда Якушенко, решившего провести
свою заключительную жатву, послужила основой
фильма белорусского режиссера Б. Степанова «Последний
хлеб». История затянутая, лишенная драматизма,
банальная... История, оказавшаяся эпизодом в творческой
биографии постановщика.
С претензией на юмор сделана была комедия О.
Борисова и А. Войтецкого «Стежки-дорожки». Боже мой,
до чего же подкрашенной «розовым» оптимизмом
выглядела эта «комическая» лента о «страданиях»
молодого бухгалтера, который видит в себе Моню Квасова
(так зовут сельского изобретателя из шукшинского
1 Алексеев Л1. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., «Мол. гвардия»,
1077, с. 390.
Ш
рассказа «Упорный»)... Непризнанный технократ ради
учебы в городе покидает постылое село.
Неожиданным выглядит решение
студента-горожанина, избравшего профессию педагога, навсегда
перебраться в горный аил, поразивший его первозданной
красотой,— этот условный стереотип предлагала нам
короткометражка вгиковца Э. Ишмухамедова. И узбекский
режиссер в дальнейшем не возвращался к деревенской
теме.
Шукшин же отличался отсутствием кабинетных,
отвлеченных представлений о жизни села. Это с одной
стороны.
С другой, что также ставит его на особицу,— он не
вырывал отдельные явления народной жизни из общего
контекста реальности. Он избежал случайности
содержания своих фильмов, творчество его было додумано до
конца. Поэтому его картины при всей внешней
графической ясности повествования обладают авторским
своеобразием, в них раскрепощена конкретность человеческих
чувств, поступков. Они своеобразны, индивидуальны по
форме. Опираясь на факты реальности, Шукшин мог
фантазировать, но это лишь прибавляло нам знаний о
народной душе. Зато его кинематограф не погребен под
бесформенностью этих фактов, режиссер умело их
располагает, когда же надо — отсекает. Он обладал столь
важным для художника чувством отбора. Мысль
шукшинских фильмов организовывала мозаику реальных
сцен и характеров.
Его кинематограф есть путь монографического
изучения жизни русского села, жизни родного народа.
Новаторски вопрос о монографическом методе ставил
в начале века Флоренский. Вот что говорил русский
ученый и философ о «царском пути», минующем как
сцнллу фантастических обобщений, так и харибду
бессмысленных фактов: «На этом пути ставится задача
понять процессы народной жизни из самой жизни, а не
из внешних для них инородных явлений, равно как и не
простое констатирование единичных случаев. Прочесть
жизненное явление в контексте жизни, понять его смысл
и его значение для жизни не из общих положений науки,
которые и сами нуждаются в проверке, и не в свете
субъективных толкований, а из самой жизни — вот
задача монографического изучения быта. Но для этого
необходимо изучить тот или иной уголок жизни, более
119
или менее типичный,— изучить проникновенно, до
тончайших сплетений жизненной ткани, и притом
всесторонне. Эта микрология народной жизни, хотя и имеет уже
своих работников, однако, в общем, является доселе
скорее требованием науки, задачею, нежели данностью
и готовым решением»1.
Таким-то требованием, задачей — применительно к
нашему недавнему и современному киноискусству —
являлось и является художественное исследование жизни
села, крестьянина. Изучение при этом проникновенное,
до тончайших сплетений. Работником здесь был именно
Шукшин, самым умелым и полезным работником. И
теперь некому пока заменить его или сравняться с ним в
этом умении. Как не было и тогда, в середине 60-х.
В этом смысле опыт кинематографа Шукшина уникален.
Несхожие судьбы
(«Ваш сын и брат»)
Я родом из деревни, крестьянин,
потомственный, традиционный.
Шукшин
Каким-то будет новый фильм? Куда идти? Один из
собеседников позднего Шукшина свидетельствует: после
успешного дебюта в «большом» кино режиссер
намеревался перенести на киноэкран свою повесть для театра
«Точка зрения»2. Это остросатирическое произведение
Шукшина появилось на страницах журнала «Звезда»
лишь летом 74-го года, вот почему некоторые критики
увидели в этой повести все характерное для
заключительного этапа шукшинского творчества. Между тем
владение формой открыто сатирического письма
художник обнаружил гораздо раньше. Коробов доказал, что
свою повесть для театра Шукшин читал московским
писателям в Центральном Доме литераторов еще в
сезоне 66/67-го года. В связи с этим важно заметить: уже
тогда, наряду с относительно миролюбивой интонацией
1 Флоренский П. Собрание частушек, с. 3.
2 См.: Фомин В. Пересечение параллельных. М., «Искусство»,
1976, с. 325.
120
фильма «Живет такой парень», появилась у Шукшина
тема острой непримиримости к мещанству, к
собственнической психологии обывателя. Жаль, что замысел
такой сатирической экранизации режиссеру реализовать
не удалось.
Летом 1964 года Шукшин пригласил Гинзбурга
приехать к нему в Крым. В Судаке жила съемочная группа
фильма «Какое оно, море?», в этой картине Шукшин
снимался. Он прочитал Гинзбургу несколько рассказов:
один старый, «Игнаха приехал», и два новых — «Степку»
и «Змеиный яд». Из этих-то новелл родился сценарий
для фильма «Ваш сын и брат». 19 февраля 1965 года
сценарно-редакционная коллегия студии одобрила этот
сценарий.
Ранней весной того же года оператор вылетел на
Алтай— на съемку натуры для пролога фильма. Как
начинается шукшинский рассказ?
«И пришла весна — добрая и бестолковая, как
недозрелая девка.
В переулках на селе — грязь по колено. Люди ходят
вдоль плетней, держась руками за колья...
А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают
подопревшие серые снега.
А в тополях, у речки, что-то звонко лопается с
тихим ликующим звуком: пи-у.
Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины,
блестя на солнце, скребут скользкими животами
каменистую дресву; а на изгибах речных льдины вылезают
синими мордами на берег, разгребают гальку,
разворачиваются и плывут дальше — умирать».
Весна, подобрели люди. Эту-то мирную,
доподлинную картину обновления земли, освобождения
привыкшей к быстрому бегу реки и хотели показать оператор
и режиссер, открыть этой мирной темой кинорассказ.
На стыке с неторопливым безобидным прологом острее
выступила бы тема человеческой неустроенности,
тяжкой беды героя, поставленная в центр первой новеллы
фильма.
Оператор увлекся алтайской натурой, снимал «с
запасом». За монтажным столом этот обильный материал
обрел стройность. Шукшин совершенно по-детски
радовался, собирая пролог. «Он бережно сохранил все
кадры, вплоть до чирикающих воробьев на голых ветках.
Лирический настрой, всегда присутствующий в прозе
121
Шукшина-писателя, удалось передать в зрительном
воплощении» *,— вспоминал после Гинзбург.
Фильм открывается видом Катуни. Ледоход.
Весеннее солнце дробится на почерневшей воде, крапленной
белыми пятнами льдин. Снова, как и в предшествующей
ленте, прибегает автор к поэтическому образу родной
реки, снова земно кланяется отчему краю, вовлекая и
нас, зрителей, в сочувственное созерцание неспешного
деревенского мира. Возникает надпись: «Было
воскресенье». Вот вышла за калитку девушка в легком
пальто, прислонилась к забору. Три подружки, обутые в
резиновые сапожки, идут по раскисшей улице. В
фонограмме— тихая девичья песня «Что-то мне, подружки,
дома не сидится...». Девушки вышли к берегу реки,
далеко видно отсюда. Внизу, у воды, копошатся
мальчишки.
Нежится на солнышке кошка, поодаль бьет клювом
мягкую землю петух. Судачат деревенские сплетницы.
Собачонка азартно атакует поросенка, тот недоволен,
отбивается раздраженно пятачком. Во дворе чьей-то
усадьбы мужчина неумело стрижет другого, подошел к
ним третий, присел рядом, достал закурить. «Итак, было
воскресенье...». Автор снова оговаривает характер
кинопролога.
А на другом берегу реки, не застроенном домами,
темнеет одинокая фигура мужчины, в ватнике, в
сапогах, с кепкой в руке, тощим вещевым мешком.
Вглядывается человек в заречье, словно ждет чего-то, жадно
дышит сырым потеплевшим воздухом. Затем широким
шагом спускается по оттаявшему склону к воде. В лодке
сидит пожилой перевозчик, узнал человека: «А-а, Стя-
пан...» Узнали и мы Степана — это актер Куравлев.
И вот — встреча сына с отцом. Старый Ермолай
Воеводин копался в завозне, зачищал рубанком досточку.
Привычно работал: даже в выходной день тянет
старика к такому нежному делу, как фуговка, понимает он
дерево, любит запах его и цвет. Сцена прямо
перенесена из рассказа, только вот этой фразы нет,
непереводима она в киноряд: «В завозне пахло сосновой
стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами».
Привычное дело для старого Воеводина — тесать, а ведь за
1 Гинзбург В. Ученическая тетрадь в коленкоровом переплете.—
В кн.: О Шукшине, с. 218.
122
этой трудовой повадкой вековая практика. Белов пишет:
«Крестьянин не мог не быть плотником. Мы не имеем
права спрашивать, что важнее: соха или секира?
Плотницкое дело пришло к нам вместе с земледелием из
глубокой старины. Перед тем как вспахать землю, надо
было вырубить лес (та же секира оборачивалась
оружием при набегах кочевников). Когда-то избу рубили
одновременно с раскорчевкой лесной делянки. Народ
смеялся над теми мужчинами, которые не умели
плотничать, так же как над женщинами, которые плохо
пряли, не умели ни ткать, ни вышивать, ни кружева
плести»'.
За пилу плотника берется в заключительных кадрах
фильма и Василий Воеводин, брат Степана. Плотничает
и герой шукшинского сценария Иван Степанович, обес-
коривает бревна, выводит крыши домов (фильм
Губенко «Пришел солдат с фронта»). Незадолго до
постановки «Вашего сына и брата» Шукшин опубликовал
рассказ «Критики». Там подвыпивший плотник-дед
шарахнул сапогом в телевизор: актер не так топор держал...
Старого Воеводина играет Всеволод Санаев,
опытнейший мастер. Он-то с рубанком как подобает
обращается.
...Степан — Куравлев останавливается за спиной
отца. Волнуется, еле слышно позвал: «Здорово, тять».
Ермолай разогнулся, всмотрелся. «Степка, что ль?» —
«Но... Ты чего, не узнал?»
У Степана вот брызнут слезы. Посмотрели друг
другу в глаза, обнялись порывисто. «Чо-то раньше-то? Мы
осенью ждали».— «Отработал... отпустили пораньше».
Видно, как рады оба, только не знают, какие слова
первыми сказать. «Борзя-то, кобель, живой ишо»,—
сказал отец. Степан удивился: «А где ж он?» «По деревне
шалается,— заоглядывался Ермолай.— Этта в субботу
бабы бельишко вывесили сушить — всё изодрал.
Разыгрался... как начал прыгать...» (Борзей звали
любимую собаку Шукшина, он ее вспоминал в письмах из
ВГИКа).
Далее — важный вопрос отца: «Дурь-то вся вышла?»
Сыну вопрос не по душе: «Та-а... Не в этом дело, тять».
Тут у Степана какая-то своя дума, своя правда, тут и
разный язык поколений. «Понял теперь: не лезь с кула-
• Белов В. Лад.—«Наш современник», 1979, М» 10, с. 126.
123
нами куда не надо зря. Нашли время, черти полосатые,
драться». «Да не в этом дело»,— опять сказал упрямый
Степан.
Теперь ясно: сын сидел, сейчас вот вернулся домой.
Увидела брата Вера, глухонемая. Замычала от радости.
«И до того она в эту минуту была счастлива, что у
мужчин навернулись слезы»,— отмечает писатель. «Ждала
всё, крестики на стене ставила,— пояснил отец сыну.—
Любит всех, как дура».
В избе мать хлопотала у печки. Ноги ее
подломились, она обвисла на сыне, ухватив его за ватник,
завыла, запричитала. Бедный Степан, он сморщился от
страдания, а отец даже строго одернул: «Ну, мать, ты ра-
дуисся и горюешь — всё одинаково. Ну, чего ты
запричитала-то?»
Внутри у Воеводиных прибрано, чисто. Светлый
скромный дом. Пришла поглядеть на Степана Нюра,
молодая соседка (С. Жгун). И тут Степан, как многие
шукшинские герои, надевает на себя комическую маску.
Он отошел от потрясения первой встречи с родными,
пообвык в доме, для него наступило самое время выкинуть
смешное коленце, время безответственного завиранья.
Не хотелось ему, очень не хотелось говорить правду о
себе, о буднях далекого заключения. И в этом повороте
характера героя вдруг обнаруживается привычная
Шукшину стихия комического, вообще-то робко
проявленная на всем пространстве фильма, лишь бы он не был
принят зрителями и критикой за комедию. Степан на
какое-то время вдруг напомнил Пашку Колокольнико-
ва с его беззаботным трепом, добродушным шутовством.
Драматический характер на минуту прикинулся
характером комическим, страдалец обернулся сельским
балагуром. Там хорошо, стал рассказывать Степан о
колонии. Здесь раз в месяц кино. А там — в неделю два
раза. Или, чуть не искренне живописует герой, иди в
красный уголок, там тебе лекцию прочитают...
— А чего ж туда, кино смотреть собрали? —
спросила Нюра весело.
А Степана ведет. И кормили-то хорошо, и артисты
приезжали, просто замучили. В избу набивались новые
к новые люди: родные, знакомые, весело здоровались
со Степаном, слушали его байки. Сестра баньку
протопила, Степан сбрил многодневную щетину, переоделся,
Сели к столу.
124
. «И понемногу стало разгораться неяркое веселье»,—
пишет в рассказе Шукшин. Режиссер показывает
нехитрый ужин, самую заурядную сервировку — без
хрустальных рюмок, без серебряных ножей. Стаканы,
чашки, миски. Вокруг стола сидят небогато одетые люди,
много пожилых, много женщин, они приросли к деревне.
Степан во главе стола, он рад, что всем сейчас
хорошо, что он позволил им собраться вместе, поговорить,
посмеяться. И он запел: «Прости мне, мать, за все мои
поступки...» Шукшин любил эту нелепую песню, как
любил еще петь «Миленький ты мой...» и «Калина
красная, калина вызрела...».
Степана не поддержали: не знали слов. Тогда он
завел другую: «Бежал бродяга с Сахалина...» Мелодия
этой песни наметилась в фонограмме фильма еще при
первом появлении Степана в кадре, когда он стоял на
берегу Катуни. Песню подхватили. Пели с чувством,
нахмурившись, глядя в стол перед собой. Куравлев —
Степан пел, как Шукшин, скопировал режиссера. «Он
упирался кулаком в левое колено,— вспоминал актер,—
голову клонил к левому плечу, а рот кривил вправо;
волосы падали на лоб, и он кого-то бодал, кого-то
сильного, с кем спорил, кому силился доказать свою
правоту,—с ожесточением, даже со злостью. И
чувствовалось, что все это приносило ему радость» *.
«Ты меня не любишь, не жалеешь.— Степан вдруг
припечатал кулак в столешницу.— Я вас всех уважаю,
черти драные! Я сильно без вас соскучился». (Эта
«выходка» героя — из сценария.)
Справа от брата — Вера, лицо счастливое, люба ей
встреча Степана. Шукшин снимает застолицу на
поясных преимущественно планах, чтобы в кадр попали
сразу несколько человек, чтобы обузить пространство
избы, показать, насколько тесно, дружно сидят гости и
хозяева, одной крови, односельчане. Режиссеру нечего
эстетизировать, нет нужды в оригинальных
композициях. Лишь бы выглядело, как в жизни... Словно и нет
съемочной площадки, нет организации кадра, не было
репетиций.
Вот всхлипнула гармонь, родилась пляска. Втащили
в круг Ермолая. Спина его после десятилетий работы
ссутулилась, пляшет он тяжело, зато в охотку. Вколачн-
1 Куравлев Л. Как березы..., с. 229.
125
вает одной ногой, а второй только каблуком
пристукивает. Все смешалось в избе Воеводиных.
Вот тут-то, как из-под земли, вырос милиционер. Он
остановился в передней, у дверных занавесок, в
горницу не вошел. Молча смотрел на Степана (Рудницкий
ошибочно пишет, что милиционер остался во дворе).
Степан покорно отделился от застолья, и оба они,
милиционер и Степан, вышли из дома...
Праздник для героя закончился.
Подчеркнутая непритязательность формы в этой
сцене гулянки (но и жизненность содержания, что в
шукшинской режиссуре наиважнейшее) побудила ряд
кинокритиков перечеркнуть ее художественную ценность.
К примеру, М. Блейман на страницах журнала
«Советский экран» (1966, № 7) поучал Шукшина, что
режиссура— это профессия, этот критик не заметил
профессионализма в фильме. Другой рецензент, В. Орлов,
коему не понравилась «затянутость», «дедраматургич-
ность» пролога, изложил содержание эпизода застолицы
с выразительностью фельетониста: «В семью
Воеводиных вернулся из заключения сын. Праздник. И снова —
долгая остановка. Пьющие. Сидящие. Поющие.
Пляшущие. Говорящие вразнобой»1. И все. Даже вывода
авторского не последовало. Отказал критик и образу
Степана в «самом простом анализе», ибо беглый
заключенный его «не выдерживает». -
По выходе фильма Шукшин счел необходимым
выступить с рядом комментариев. Отношение к Степану
автора картины и автора новеллы идентичное —
сочувствие. Герой, подчеркивал режиссер, «дорог именно вот
этой своей тягой к родной земле, к деревне... Деревня
означает для меня не только тоску по лесной и степной
благодати, но и по душевной непосредственности. Я не
хочу сказать, что она сохранилась только в деревне, а в
городе ее не сыщешь. Душевная открытость есть и в
городе, но рядом с землей она просто заметнее. Ведь в
деревне весь человек на виду. Вот почему все мои
герои живут в деревне»2.
В архиве кинорежиссера сохранилась незавершенная
статья по этому же поводу. Шукшин объясняет свою
1 Орлов В. Стрела в полете.— «Лит. газ.», 1966, 10 марта.
2 Шукшин В. Слушая голос земли (запись Г. Прожпко).—«Соа
экран», 1968, №24, с. 2.
126
позицию: «Что я хотел?.. Вот сейчас начнется
тягомотина: что я хотел сказать своим Степаном в рассказе и
фильме. Ничего не хотел. Я люблю его. Он, конечно,
дурак, что не досидел три месяца и сбежал. Не сбежал
снова воровать и грабить. Пришел открыто в свою
деревню, чтобы вдохнуть запах родной земли, повидать
отца с матерью. Я такого дурака люблю. Могуч и
властен зов Родины, откликнулась русская душа на этот
зов — и он пошел. Не надо бояться, что он «пырнет
ножом» и, «кривя рот, поет блатные песенки». (Это слова
из статьи литературного критика Л. Крячко,
опубликованной в журнале «Октябрь», 1966, № 2,—журнале, еще
недавно печатавшем и поддерживавшем Шукшина.—
10. Т.) Я хотел показать это — что не надо бояться — в
том, как он пришел, как встретился с отцом, как рад
видеть родных, как хотел устроить им праздник, как сам
пляшет, как уберег от того, чтоб тут не сломать этот
праздник, и как больно ему, что все равно это не
праздник вышел... Не сумел я, что ли? Это горько. И все-
таки подмывает возразить. Да какой же он блатной, вы
что?! Он с пятнадцати лет работает, и в колонии
работал, и всю жизнь будет работать. А где это видно? А в
том, как он... Нет, если не видно, то и не видно...
Странно только, я думал, это видно»'.
В этом ответе режиссера прорывается раздражение,
но нравственная оценка Степановых действий показана
однозначно. Образ Степана, как и сам сюжет
шукшинского рассказа, попав на экран, оказались решительно
неожиданными для нашего кино. Хотя бы потому, что
героем своим Шукшин взломал схему: коли споткнулся
человек, стал плохим, фильм обязательно его
«перевоспитает», человек в финале картины реабилитирует себя.
Степан из такой схемы выпал. В прозе своей Шукшин
открыл новую типологию героя — фигуру «вне закона»
или на грани того, чтобы этот «закон» переступить.
Неблагополучными, «тронутыми жизнью» оказываются
помимо Степана деревенский парень Витька, жестоко
обманутый в городе и в обиде своей пошедший на
кровавую драку (рассказ «Материнское сердце»); Егор Про-
кудин (киноповесть «Калина красная»). Легко мог
«схлопотать» срок и сельский шофер Иван, герой
рассказа «В профиль и анфас». Ведь Иван-то после ста-
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 306—307.
127
кана красненького и кружки пива мог бы подраться
с директором совхоза, тот его «за алкоголь» определил
на год в скотники, вилами навоз раскидывать. Когда
Ивану говорят: ладно уж, поработай годик на
свинарнике, мать, мол, пожалей, не уходи из села, Иван
отвечает: «Не в этом дело...» Отвечает так же, как
Степан Воеводин отцу при встрече. Как и Степан, этот
разжалованный шофер доводит до хвори мать, а как
любит она его, сына своего шелапутного. Душа Ивана
ноет, рвется куда-то. Хочется чего-то... Чего? И любви,
чтоб задохнуться от чувства.
Степан Воеводин, такой-то, «вне закона», озадачил.
Фигура правонарушителя знакома была киноэкрану. Мы
видели беглого зэка в исполнении К. Лаврова («Верьте
мне, люди»), правда, этот уголовник «перерождался»,
ему соответствующие власти поверили. Был Матвей,
герой В. Тихонова из фильма «Дело было в Пенькове»;
два года отсидел Матвей, в общем-то незаслуженно.
А отличие шукшинских правонарушителей в том, что у
них остается душевный надлом, будущее они не
воспринимают как мир покоя, душевного отдыха. Внутренняя
драматичность их резче. Поступки нелогичней,
импульсивней. И герои эти озадачивают. Их жалеешь.
Пожалуй, даже участковый милиционер,
арестовавший Степана, сочувствует ему, хоть недоумевает: зачем
сбежал, ведь три месяца отбыть оставалось... А теперь
за побег два года накинут. Участкового сыграл Н. Граб-
бе, спустя время Шукшин поручит ему роль майора,
воспитателя из колонии, где сидел Егор Прокудин
(«Калина красная»). Майор будет напутствовать Егора,
полностью «отмотавшего» срок, и говорить ему казенные,
«подходящие» ситуации слова, и будет этот майор
слегка озадачен быстрыми ответами Прокудина, мгновенно
укрывшегося за маску простачка. Очередной
шукшинский правонарушитель выпадет из границ «нормальной»
логики...
В «Степке» герой рассказа шагает от дома отца до
сельсовета улицами родной деревни, узнавая в сумраке
знакомые избы, ворота, прясла. «Вдыхал знакомый с
детства терпкий весенний холодок, задумчиво
улыбался».
Вот и в фильме идут милиционер и Степан
деревенской улицей, и герой радуется своему краткому
возвращению к своим, дышит жадно родным весенним возду*
128
хом. Логика Степана «странна» участковому: сбежал
парень, чтоб пройтись разок, соскучился он по деревне,
а теперь ему за эту-то «блажь» еще пару лет
накинут.
— Ничего...— будто самому себе говорит Степка.—
Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то,
понимаешь, меня сны замучили — каждую ночь деревни,
зараза, снится...
Эмоциональная действенность этого небольшого
эпизода, точно развернутого в рассказе, подкрепляется
режиссером Шукшиным сценой в сельсовете, где
милиционер стал составлять на Степана протокол. В
построении сцены Шукшин прибегает к открытой
эмоциональности, предопределяя зрительскую реакцию на
содержание поведения героя. В сельсовет — а дверь
милиционер не запер — приходит Вера, немая. Страдая за
брата, она пытается понять, почему Степана увели, да
еще ничего не объяснив семье, отцу. Участковый стал
разъяснять, что Степка сбежал из тюрьмы и что ему
снова «эта штука» будет, два года еще...
Режиссер идентичен своей прозе. «Немая стала
понимать... И когда она совсем все поняла, глаза ее, синие,
испуганные, загорелись таким нечеловеческим
страданием, такая в них отразилась боль, что милиционер
осекся. Немая смотрела на брата. Тот побледнел и замер —
тоже смотрел на сестру».
Вера вскрикнула, бросилась к брату. Милиционер
тоже кинулся к Степке, потому что тот сорвался от
боли, заорал не своим голосом: «Убери ее!.. Убери, а то
я тебе голову расколю!»
На съемке сцены Шукшин сказал Куравлеву, что
репетиции он отменяет, что актер должен делать все,
что сочтет нужным.
Режисер подал команду, завязалась борьба за
Степана. После актер вспоминал: «Конечно, я был на
стороне родной крови — невинной сестры своей, но она
приносила мне невероятную боль — ведь я заставил ее
страдать; к тому же, если бы я забылся, потерял
контроль над собой, могло произойти непоправимое: Степан
мог даже убить милиционера. Таков был накал сцены.
Поэтому я невольно стал отдирать от себя не
милиционера, а сестру»'.
1 Куравлев Л. Как березы..., с. 228.
6 Зак. 040
129
После съемки этого дубля — первого — одна из
ассистенток Шукшина возмутилась: разве может брат так
жестоко обращаться с немой сестрой?! Режиссер
вспылил: он именно так предполагал строить сцену. И в
какой-то степени испытывал Куравлева как актера:
хотел проверить его интуицию, его органическое чувство
;:равды.
Куравлев прав — Степан, забывшись, мог бы в самом
деле хватить милиционера табуреткой по голове. Это в
>:арактере героя, он ведь и сидел-то за драку, выпил
лишнего, наверное.
С поразительной силой правды сыграла свою роль в
этой сцене Марта Грахова, актриса Театра мимики и
жеста, сама глухонемая. Режисер — обратим на этот
ого выбор внимание — не захотел искать другую
исполнительницу, из ведущих театральных коллективов: он
боялся искусственности, имитации вместо подлинности.
Одно объяснение. В рассказе «Игнаха приехал»
сестра героя походит на него статью, силой. Это крупная,
здоровая во всех отношениях девушка. В «Степке» же,
созданном через несколько лет, сестра героя — немая.
Сквозная роль Веры в фильме соответствует позднему
шукшинскому рассказу. Режиссер не увлекается
психологическими отклонениями Веры. Он не педалирует
ее аномалий. Но об эмоциональном накале
упомянутого эпизода помнит.
Немая любит Степана. И жалеет его. И выражает
эти свои чувства на уровне открытой эмоциональности.
Чувства ее прорываются через пластику — помимо
звучащего слова. И это преодоление слова действует на
зрителя с неодолимой энергией.
Лидия Николаевна Федосеева рассказывала мне в
одну из наших бесед, что дружила когда-то с
глухонемой девочкой, они вместе учились и жили по соседству,
а жила Федосеева тогда в Ленинграде. Об этой
девочке, с которой она проучилась до десятого класса,
актриса говорила и Шукшину, отмечая отсутствие в своей
подруге некой психологической ущербности,
естественное пребывание этой девочки в «состоянии доброты»,
расположенности к окружающим. Беда юного существа
побеждалась верой, добротой.
Писателю запомнился этот рассказ жены. Так
появилась литературная и кинематографическая сестра
Степки— Вера...
130
Куравлев вспоминал как-то, что для Шукшина была
эта верная, добрая девушка олицетворением самой
России. Правомерно мнение кинокритика: «Не будет
преувеличением сказать, что доброта — ключевое понятие
русского национального характера, как его трактует
Василий Шукшин. Она цементирует все остальное: и
удаль, и размах, и трудолюбие, и смекалку... Доброта —
не только этическая, но и эстетическая категория.
Добрый человек не может быть некрасивым, даже если он
физически уродлив. Доброта искупает все изъяны, она
выше красоты»'.
Эмоциональным взрывом — сценой в сельсовете —
завершается первая новелла фильма «Ваш сын и брат».
Сценарист и режиссер убирает с экрана Степку, лица
куравлевского героя мы больше не увидим. Лишь в
финале картины Шукшин вспомнит о втором заключении
Степана Воеводина: тот пришлет домой письмо,
сообщит своим, что к осени его выпустят. Письмо
закончится словами: «Ваш сын и брат "Степан». Эти слова дают
название всему фильму, ибо мы, хотя и не видим
больше воочию бедного Степку, должны о нем помнить, о
нем печалиться, жалеть его... Да, два года он
добавочных получил. В сцене застолья, в первой новелле,
режиссер показывает нам лейтенанта, он ухаживает за
Нюрой, первой пришедшей на встречу со Степаном в
воеводинский дом. А в последней новелле этот же
ухажер уже законный муж...
Шукшин развивает тип сюжетосложенпя, найденный
в своем первом полнометражном фильме.
Новеллистический принцип выявлен здесь отчетливо, законченно.
Это триптих, три кинорассказа о членах семьи
потомственного крестьянина старого Воеводина.
Новеллистика писателя питает новеллистику фильма.
Движение картины аритмично. Эпизоды не
равнозначны по эмоциональной шкале. Зато движение
авторской мысли неуклонно. Она скрепляет конструкцию
произведения, придает ей единство.
Шукшин говорил так: «С места деревня стронулась,
и вот на этом этапе, на этом своеобразном распутье,
меня деревенский человек интересует. Вот он вышел из
деревни. Что дальше?»2
1 Громов Е. Поэтика доброты, с. 22—23.
2 «Наш современник», 1979, Л"» 7, с. 171.
6*
131
«Деревня стронулась»... Сам Шукшин когда-то ушел
Г:3 сельского дома в город. Он выражал поэтому правду
жизни через собственную судьбу, соотнося свой опыт
с тысячами судеб других крестьян — его современников
по преимуществу. Шукшин признавался: «Мне вообще
хочется, чтобы сельский человек, уйдя из деревни,
ничего бы не потерял дорогого из того, что он обрел от
традиционного воспитания, что он успел понять, что он
успел полюбить; не потерял бы любви к природе»'.
Эту любовь к родной земле сохранил Степан
Воеводин, даже в заключении не стал он «отрезанным
ломтем».
Живет с памятью об отчей деревне и другой молодой
Воеводин — Максим.
Он уехал в большой город учиться. Пока холост,
живет в общежитии. Максим прямодушен и чуть
застенчив; к новым условиям существования привыкает
мучительно. Этот шукшинский герой еще не чудик, не из
страны «странных» людей — он просто еще очень молод.
С прямолинейностью пылкого сердца ищет он
справедливости, не принимая во внимание чужих доводов. Его
система аргументов — во внутреннем убеждении в
человеческой чуткости, людской солидарности. Максим
напоминает другого парня из новеллистики Шукшина —
Миньку, который приехал в Москву учиться на артиста.
Герой рассказа «И разыгрались же кони в поле»,
способный студент, все уносится мыслями к деревенской
воле, к степной шири, где летит табун. Новые
впечатления, новое дело — учеба — не растворяют его
деревенскую память, Минька даже неясно тоскует по
недавнему своему прошлому.
Оно ему дорого, оно с ним.
Действие фильма «Ваш сын и брат» переносится из
алтайской деревни в Москву, а на первый план
повествования выдвигается чубатый «наивняк» Максим в
исполнении обаятельного Леонида Реутова, тогда сту-
^ита ВГИКа. Шукшин считает нужным показать
общежитие, где обитает его новый герой. Оно здорово
напоминает подлинное вгиковское общежитие тех лет,
да что удивляться? Шукшин и после защиты диплома
некоторое время ютился здесь, пока не получил
двухкомнатную квартирку в блочной башне в Свиблове, не-
«Наш современник», с. 172.
132
подалеку от Киностудии имени Горького. Комнату
Максима режиссер населил подлинными вгиковцамн,
своими младшими товарищами,— они читают, играют в
шахматы. Шукшин оставался верен студенческому
братству.
Максим получает письмо из деревни. Отец пишет, что
мать-старуха после истории со Степкой захворала,
слегла. И закадровый голос матери просит сына: «А я,
сынок, шибко хвораю. Разломило спинушку, и ноги к
затылку подводит — радикулит, гад такой. Посоветовали
мне тут змеиным ядом, а у нас нету. Походи, сынок, гю
аптекам, поспрашивай, может, у вас есть там. Криком
кричу — больно. Походи, сынок, не поленись...»
Это из зачина новеллы «Змеиный яд». Режиссер
Шукшин шел вослед рассказу. Вся вторая часть кино-
триптиха «Ваш сын и брат» отведена мытарствам
Максима, который прилежно обходит московские аптеки и
везде на свой вопрос о змеином яде получает
угнетающий ответ: нету... Изобразительная тональность фильма
решительно меняется в сравнении с первой
киноновеллой. Степан был среди своих, его приветствовали и с
удовольствием внимали его веселым рассказам о
«пользе» заключения, с удовольствием пили и пели с ним.
Максиму в городе одиноко. Он слоняется из одной
аптеки в другую, и везде-то он никого по-настоящему не
интересует. Да и город-то показан кинокамерой
суетливым-, запруженным транспортом. По улицам спешат
толпы незнакомых друг с другом людей, не то что в
деревне, где каждый встречный с тобой здоровается.
Трудновато Максиму адаптироваться в условиях столичного
существования, ему пока не по себе в Москве. Похоже
почувствует себя в московской толпе герой позднего
Шукшина — алтайский тракторист Иван Расторгуев.
Вот так же устанет он от машин, очередей в магазинах,
вечной людской спешки. Даже с лица спадет, не в
радость ему будет эта «прогулка» по огромному городу...
Наконец, фильм подходит к сцене, которая в сво
время вызвала целую дискуссию в критике. Хотя сце*.
эта была уже в рассказе. В дальнейшем ситуация
станет обычной: проза Шукшина будет дискутироваться
меньше его фильмов, созданных по следам этой прозы.
Так произойдет с лентой «Странные люди», так отчасти
вызовет критические споры кинопремьера «Калины
красной».
133
Не достав лекарства, Максим в отчаянии толкается в
кабинет заведующего одной из аптек. Протягивает
рецепт, слышит ответ: змеиного яда нет. «А мне надо,—
упорствует Максим.— У меня мать хворает».
Заведующий повторяет, что он бессилен помочь. Максим уже не
и силах сдерживаться: «А мне надо. Понял? Ух, как я
ненавижу вас всех, гадов!»
Шукшин не поставил актера на крупный план, слова
свои горькие Максим как-то проглотил, не акцентировал
их. Но критики его «услышали». И обвинили режиссера
в «ненависти» к городу. А ведь следовало бы
повнимательнее вчитаться в рассказ хотя бы. Вот шукшинский
текст:
«Заведующий улыбнулся.
— Это уже серьезнее. Придется найти.— Он сел к
телефону и, набирая номер, с любопытством поглядывал
на Максима.
Максим успел вытереть глаза и смотрел в окно.
Ему стало стыдно, он жалел, что сказал последнюю
фразу».
Вот — стыдно, жалел... Да и. аптекарь, звоня
приятелю— нет ли у того лекарства? — аттестует Максима:
«Славный парень, хочется помочь». Понял ведь он
отчаяние сына, простил ему его грубость невольную.
Правда, сыгран заведующий как-то буднично, интерес его к
«славному парню» не выявлен пластически. Актер
Д. Масанов, профессиональный «эпизодник», не нашел
ярких красок, а ведь сцена могла прозвучать гораздо
сильнее, резче. Сравним с этой работу Льва Дурова в
«Калине красной» — там актер играет небольшую роль
официанта, которого Егор Прокудин просит, подавая
деньги, организовать «аккуратненький бардельеро».
Дуров играл этюднее, характернее. Какая точная деталь —
Егор, так сказать, барин, в «роскошном» халате,
возлагает себя на диван, а Дуров — Михайлыч, раболепный
официант, подстилает ему под ноги газету: диван все-
таки, можно испачкать... Режиссура последнего
шукшинского фильма оказалась зорче, почти все актеры
играли вдохновенно, точно.
Да, «Вашего сына и брата» часть критиков и даже
зрителей восприняли как «апологию» сельской
патриархальности. (Шукшин рассказывал о своей встрече с
молодыми учеными Обнинска, одного из научных центров
дальнего Подмосковья, и тогда, на этой встрече, режис-
134
сера «поддели» вопросом: чего же, мол, он сам-то
живет в городе, а не в деревне?)
8 апреля 1966 года фильм обсуждался в Союзе
кинематографистов, и тут Шукшин услышал упреки в
«сгущении красок» при показе им города. В архиве
режиссера сохранилась стенограмма обсуждения.
Шукшину пришлось объясняться. Мы вслепую не работали,
отмечал автор фильма. До конца понимали замысел своей
картины. Не гнались за «самобытностью», не
противопоставляли деревню городу. «И никогда по-настоящему,
наверное, в русском реалистическом., искусстве не было
такого... не отыскивали здесь знак вражды или признак
недовольства друг другом».
В период между фильмами «Ваш сын и брат» и
«Странные люди» — примерно три года — Шукшин
активно занимается публицистикой, пишет ряд статей,
разъясняя свою позицию художника и гражданина,
отстаивая правомерность своей точки зрения на сложнейшие
процессы миграции сельских жителей, своего
беспокойства за выходцев из деревни. В одиннадцатом номере
журнала «Сельская молодежь» за 66-й год — а в то
время журнал делался интересно, был популярен —
Шукшин публикует статью «Вопросы самому себе», очень
прямую, откровенную.
«Сколько ни ищу в себе «глухой злобы» к городу, не
нахожу,— заявляет здесь Шукшин.— Вызывает злость
то, что вызывает ее у любого, самого потомственного
горожанина. Никому не нравятся хамоватые продавцы,
равнодушные аптекари, прекрасные зевающие создания
в книжных магазинах, очереди, теснота в трамваях,
хулиганье у кинотеатров и т. п. Если есть что-то,
похожее на неприязнь к городу—ревность: он сманивает
из деревни молодежь. Здесь начинается боль и
тревога» '.
В статье — а она вызвала в свое время полемические
отклики — Шукшин сгоряча заявил, что в деревне нет
мещанства. Заявление изначально спорное. Ни род
занятий человека, ни его прописка — городская ли, сельская
ли — не являются панацеей, гарантом от
принадлежности к «ордену» мещан, к неистребимой разновидности
бездуховности и бездушия. Оговорки Шукшина (мол, я
намеренно упрощаю, «выпрямляю» вопрос) не защитили
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 24.
135
статью от критических стрел. Нашлись у Шукшина и
сторонники. Аннинский с присущей ему
афористичностью разъяснил: «Смысл не в том — где, а в том — как
живут»'.
Справедливо. Тот же Шукшин — практик
литературы — не показал разве, что в деревне, и не только во
времена Любавиных, обитают собственники и рвачи?
Вспомним тестя Наума, вероломного труса, из рассказа
«Волки»... Свойство честного, «некоммерческого»
художника— Шукшина неизменно тревожила судьба
вчерашнего крестьянина. Вот как напутствовал он его
незадолго до своей кончины: «...не теряй свои нравственные
ценности, где бы ты ни оказался, не принимай
суетливость и ловкость некоторых городских жителей за
культурность, за более умный способ жизни,— он, может
быть, и дает выгоды, но он бессовестный». Это из
письма в редакцию современной советской прозы
издательства «Молодая гвардия» по вопросу издания
сборника — рассказов последних лет и киноповести «Калина
красная». 21 августа 74-го...
Заключительная новелла фильма вышла из рассказа
«Игиаха приехал» и отчасти из «Змеиного яда», в
последнем бедняга Максим обращается за помощью к
односельчанину, борцу в цирке, с просьбой о лекарстве.
В фильме односельчанин превратился в старшего
брата, но смысл образа этого циркового борца на редкость
совпадал с тем, что стремился сказать режиссер. В
раннем шукшинском рассказе читаем: «Игнатий был
борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира,
были друзья, деньги, красивая жена...» Так, Максим
вполне мог прийти не к односельчанину, а брату,
который наладил в Москве связи, преуспел. Игнатий пять
лет не видел родного села, отца. Нет, он не жулик, не
хам, не злодеи. Шукшин его не чернит, он о нем
печалится. Да с чего? А с того, что сильный, самоуверенный
Игнатий фактически лишился корня в жизни, что город-
то понимает он потребительски.
Режиссер счел важным познакомить насс квартирой
Игнатия. К брату заходит Максим, его встречает
хозяйка— ухоженное, кукольное существо по имени Шура,
или, как величает ее муж, «шурупчик», одетая в редко-
1 Аннинский Л. Не в этом дело, тятя! — В кн.: Экран 1966—1967.
М., «Искусство», 1968, с. 101.
136
стный тогда летний брючным костюм, с пестрой
широкой лентой над чистым безмятежным лбом. Квартира
обставлена «шурупчиком» в соответствии с
рекомендациями специализированных журналов — стильная
мебель, этажерка с безделушками и кубками,
завоеванными мужем на былых соревнованиях, белый телефонный
аппарат, какая-то слащавая репродукция. Объясняя
дома родителям, что же такое Москва, Игнатий
восхищенно вытягивает свою громадную .руку, словно показывая
на ней облик великого города: это, к примеру,
шестнадцать золотых статуй, это красиво, имея в виду главный
фонтан на ВДНХ. Шукшин не зря подчеркивал, причем
многократно, что овладеть традиционной городской
культурой с налету нельзя, это процесс длительный,
даже вековой. Такой взгляд на адаптацию сельского
человека в городе являлся открытием Шукшина-художника,
может быть, даже и публициста. Трезвый бесстрашный
ум его увидел драматические, трудно преодолимые
последствия миграции деревни, рассмотрел эту миграцию
в контексте культуры. Теперь-то мы можем по праву
оценить казавшийся прежде достаточно эскизным образ
Игнатия. Его колоритно, со вкусом сыграл великан
Алексей Ванин, бывший известный борец, достигавший
заметных спортивных результатов. За десять с
небольшим лет до работы у режиссера Шукшина Ванин,
непрофессиональный актер, снялся в роли сельского
богатыря Ильи Громова в фильме «Чемпион мира». Под
руководством Шукшина Ванин работал свободно,
полностью .использовав свою выигрышную для роли фактуру
(затем-то Ванин с легкой руки Шукшина будет
сниматься, пусть не в главных ролях, часто; ему будет
поручена роль Петра в «Калине красной»),
Игнат с женой приезжают в деревню, на берега Ка-
тупи. Пылит по проселку светлое такси, а кто из
киногероев Шукшина разъезжает в такси по району? Лишь
Егор Прокудин, «знаток» жизни... Пашка Колокольни-
ков, Василий Князев, Бронька Пупков, даже Степка так
не «шикуют».
Старики приезду сына безмерно рады, а Вера так
просто счастлива. В подаренном братом белом
безрукавном платье радостно пробегает она по селу, беззаботно
улыбчивая, светящаяся доброта. И два старца,
вчерашние землепашцы, ветхие мудрецы с глубокими
морщинами патриархов, приветливо одобрили подарок... До че-
137
го же светел этот кадр, человечен и кроток! Секунда
такой ясной доброты зажглась на экране, что тепло ее
пронизало всю ткань третьей новеллы, захватило наше
сердце. Одним из этих по-детски святых старцев был
бывший плотник, семидесятипятилетний Тимофей
Макарович Новоскомцев (активный кинозритель), вошедший
спустя время в удивительные эпизоды проводов героя в
отпуск в картине «Печки-лавочки».
Игнат решил порадовать стариков подарками,
распахнул в горнице чемодан, даже змеиный яд привез.
«Шурупчика» показал, та вела себя скромно, мужу не
перечила. Ермолай Воеводин налил «по лампаде», а
сын ему все про культуру тела говорил: мол, русский
человек силен, но вот как этой силушкой-то
распорядиться, толком не знает. А тут нужна культура тела, ну и
так далее. Старик даже заскучал. В исполнении
Всеволода Санаева старый Воеводин получился сочен,
народен. Нет в нем заемного, все свое. Он из тех
шукшинских потомственных крестьян, кто работал всю жизнь,
ничего никогда не крал, кем земля жива. Уж вот он-то в
город не поедет, никому он не завидует, здесь он
закроет глаза, в доме своем...
До встречи с режиссером Шукшиным опытнейший
актер Санаев сыграл в шестидесяти фильмах. А здесь
верил каждой реплике тридцатипятнлетнего мастера, и
тот верил ему. По признанию самого актера, у него на
съемочной площадке появлялись как бы неограниченные
возможности для самовыявления. Режиссер только
следил, чтобы исполнитель не сбился с образа. И его
редкие замечания были столь точными, словно он сам,
режиссер, сидел внутри актера и, не подавая виду, сам
проигрывал роль насквозь.
Странно, однако писатель Шукшин в свои поздние
сборники прозы не включал рассказ «Игнаха
приехал». Между тем это великолепный образец
писательского мастерства, человеческой проникновенности.
Писатель предварил режиссуру. «Праздника почему-то не
получилось,— пишет автор новеллы.— А он давненько
поджидал этого дня — думал, будет большой праздник.
А сейчас сидел и не понимал: почему же не вышло
праздника? Сын приехал какой-то не такой. В чем не
такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то
не то». Это мысли старого Воеводина, отца, про себя
горюющего об оскудении деревни молодежью. Это дра-
138
ма, хотелось выразиться Шукшину, но она не кричит.
А что в конечном результате сделаешь? Уходят...
Один критик заявил: «И все-таки мир деревин,
изображенный в этом фильме, для меня страшен»1. Но
мир-то этот до сих пор, спустя столько лет, стоит на
вековых своих опорах, хоть и покачнулся изрядно. Так
почему же он страшен? Что старик отец патриархален
л не начитан? Мир русской деревни не так-то уж и
черен, как показалось критику. Вот недавние слова
глубокого знатока нашего районного быта, публициста
Ивана Васильева, он сам практически живет среди
крестьян: «Осмелюсь оспорить распространенное мнение о
том, что инициативные люди — это те, которые покинули
деревню, неплохо где-то устроились, а те, которые
никуда не уехали,— это приверженцы неизменного уклада,
тугодумы и вообще люди инертные. По-моему, как раз
наоборот»2. Очерками социального, нравственного
бытия современного земледельца писатель мысль свою
доказал и до сих пор доказывает..
Шукшин в фильме «Ваш сын и брат» обогнал время.
Пластически он был, возможно, не так ярок, как
некоторые другие режиссеры. Зато он знал, ради чего
снимает ленту, он говорил о важном и говорил по-своему,
думая еще не раз сказать о том же самом. Это-то и
есть признак, даже свойство исключительно цельной
художественной натуры. И он не являлся неким
предвзятым возмутителем спокойствия. Сходными
проблемами заинтересовались другие авторы тогдашнего
нашего кино. В кинопроцессе у Шукшина были союзник».
О важности для нравственного самочувствия грузинской
деревни приемств'енности поколений сказал своим
фильмом «Кто оседлает коня» Ш. Манагадзе. Все подались в
город из села, и некому теперь даже оседлать коня —
разве это дело? Так говорит внуку старик,
«патриархальный» герой этого фильма. О трудовой честности
людей земли, мужественных чабанов, полемически
заявил автор ленты «Красные поляны» поэт и режиссер
Эмиль Лотяну, младший товарищ Шукшина по ВГИКу.
Нет, Шукшин не идеализировал старину. Не восхва-
1 Кладо Н. Так в чем же дело, критик? —В кн.: Экран 1966—
1967, с. 100.
2 Васильев И. Допуск на инициативу.— «Москва», 1979, № 2,
с. 157.
139
лял превосходство деревни над городом. Он отражал
процесс общенародной значимости. Указывал на
вековые нравственные традиции народа.
Еще один сын Воеводина показан в третьей новелле
фильма — плотник Василий (его сыграл обаятельный
студент ВГИКа Виктор Шахов). Он в солдатской
одежде, этот богатырь, молчун. Значит, он вернулся в
деревню, значит, будет он работать здесь, жить. И ярится
в финале картины Катунь, вечное движение — Алтай,
родина режиссера, чистая горная вода, река жизни...
Третья высота
(«Странные люди»)
Но мне нравятся крайние ситуации.
Шукшин
Фильм «Ваш сын и брат», вызвавший немалую
полемику, заставивший автора объясняться с критикой, был
все же удостоен Государственной премии РСФСР имени
братьев Васильевых (1967). Получив поддержку,
Шукшин-режиссер почувствовал себя увереннее. К этому
времени он сильнее н сильнее зажигался темой Разина,
самой заветной и многотрудной в своем разнообразном
творчестве.
Работа над замыслом и сценарием будущего фильма
о Разине велась весьма интенсивно.
Федосеева-Шукшина рассказывала мне, как в течение всего 1965 года ее
муж настойчиво, внимательно изучал исторические
труды о Второй Крестьянской войне, конспектировал
источники, выбирал из антологий нужные себе народные
песни, интересовался обычаями середины и конца XVII
века. Как-то в Киеве, в букинистическом магазине,
Федосеева купила один из трех томов академического
новейшего издания о восстании Степана Разина, эти
сборники первоисточников стали у Шукшина настольными.
В марте 1966 года Шукшин подал заявку на
литературный сценарий «Конец Разина» (только позже придет
окончательное название) '. В интервью барнаульской га-
1 Начальный вариант киносценария Шукшин подготовил еще в
64-м г. Этот сценарий был первой вещью, которую Шукшин внес
140
зете «Молодежь Алтая» (оно появилось на ее страницах
I января 1967 года) Шукшин говорил о своем
намерении снимать летом исторический фильм — двухсерийный,
широкоформатный. «Если позволит здоровье и силы,
надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина»,—
подчеркнул он. Сотрудники Шукшина по Студии имени
Горького, конечно, рассчитывали на такое решение
актера и режиссера. Было совершенно очевидным,
вспоминал оператор Гинзбург, что лучше самого Шукшина
эту роль никому не сыграть: «уж очень много черт
характера самого автора она вобрала в себя».
«Правда,— оговаривался Гинзбург,— сам он
неизменно повторял, что исполнителя будем искать»'. Тогда
же, действительно к лету, создана была на киностудни
съемочная группа, куда вошли сценарист и режиссер
Шукшин и постоянный его оператор Гинзбург. Они
совершили ознакомительное путешествие по разинскнм
местам Волги, работали в архивах и музеях Астрахани,
Ростова-на-Дону, Новочеркасска. Но затем
подготовительный период продлен не был, постановка фильма о
Разине отодвигалась на неопределенное время.
Пришлось думать о новой картине.
Ею стали «Странные люди», третья высота
Шукшина-кинематографиста.
Этот фильм целиком вышел из новеллистики
писателя. Сейчас, после многолетнего изучения творчества
мастера, очевидно: решающий путь Шукшина как
уникального художника наших дней лежал через литературу.
Он стремительно рос как писатель. Знаток алтайского
сельского быта, улыбчивый добродушный рассказчик,
каким он представлялся части критиков после сборника
«Сельские жители», на глазах превращался в
аналитически мыслящего прозаика, нравственного посредника
между непростой, подчас очень суровой правдой жизни
и читателем. Речь сделалась резче, с пронзительными
подчас интонациями, почуялась какая-то даже печаль.
Это-то при сибирской ядренности, «силушке»!
Пожалуй, актерство отошло для Шукшина на второй
план. После фильма «Какое оно, море?» (режиссер
в свою московскую кооперативную двухкомнатную квартиру в
Свиблове. Об этом вспомнил бывший вгиковец, знавший Шукшина в то
время (Пономарев И. Шукшин.— «Наш современник», 1981, № 3,
с. 77).
1 «Сов. экран», 1977, Л% 15, с. 19.
141
Э. Бочаров), где актер, в ту пор)' достаточно известный,
напористо, зло сыграл роль бывшего уголовника,
матроса Жорку, мы Шукшина три года на экране практически
не видели... Лишь в 1967 году, по приглашению
уважаемого им режиссера Сергея Герасимова, Шукшин
появился в его ленте «Журналист», сыграв — на
срывающемся крике, на истерике — выразительнейший эпизод:
немолодой, выпивающий журналист-международник
отчитывает своего холеного, благополучного соперника.
Эти три года («безактерские»? ведь Шукшин
внутренне готовился сыграть Разина) были
преимущественно отданы напряженнейшей, плодотворной работе в
литературе (причислим сюда и литературу для кино —
сценарий «Я пришел дать вам волю»). А в литературе —
преимущественно жанру рассказа, хотя одновременно с
выходом на экран фильма «Ваш сын и брат» появилась
публикация, журнальная и отдельным изданием,
первого романа Шукшина «Любавины». Но отметим:
некоторые строки этого романа относятся еще ко временам
студенчества Шукшина. Так что главные свои заботы
он уделял именно рассказу.
Сам автор «Любавиных» так и не экранизировал.
Что-то ему помешало. Что именно? Ведь история
социального раскола Алтая, несколько кровавых эпизодов
которой писатель показал в романе, продолжала
занимать его. Шукшин думал о второй части «Любавиных».
В центр нового произведения он рассчитывал поставить
трагедию Егора Любавина, коренного алтайца,
увязавшегося за остатками армии барона Унгерна. Недобитки
осели в пограничной области Алтая, где обретались
почти до начала 30-х годов. Промышляли разбоем,
подкарауливали сельских активистов. Однако за кордон они
так и не уходили: боялись навсегда потерять родину,
хоть и назад возврата им быть не могло. Ситуация для
своего времени и обычная и крайне — для каждого из
бандитов — драматическая. «Вот эта-то трагедия
русского человека, оказавшегося на рубеже двух разных
эпох, и ляжет в основу будущего романа»,— сообщал
Шукшин корреспонденту той же газеты «Молодежь
Алтая».
К продолжению «Любавиных» писатель так и не
приступил. А тот, первый роман, спустя несколько лет
экранизировал на «Мосфильме» режиссер Леонид
Головня. Причем Шукшин не принимал участия даже в соз-
142
данин сценария: он принадлежит самому постановщику
экранизации и Л. Нехорошеву. Правда, известно
некоторое косвенное внимание Шукшина к этому фильму —
по просьбе композитора Н. Каретникова, автора музыки
картины «Конец Любавиных», писатель напел ему
несколько сибирских «разбойных» песен, пригодившихся
при работе над партитурой.
Экранизация «Любавиных» другим режиссером
выполнена была вполне профессионально. Фильм
выстроился в цепь приключенческих происшествий, хотя
драма революционной ломки села и потеснила драму
характеров. Тут изменение самого названия — вместо
«Любавиных» прямолинейное «Конец Любавиных» —
объясняет соответствующую переориентацию авторов
экранизации. Потеснилась та трагедия русского человека
на рубеже двух эпох, о которой говорил Шукшин
применительно к судьбам своих персонажей, к их
расколотым душам, к горькой участи крепких, дремучих,
невероятно трудолюбивых алтайских мужиков Любавиных,
в порошок перемолотых жерновами большой истории.
Возможно, не только занятия разинской темой, не
только подготовка к печати второго сборника прозы
помешали Шукшину приступить ко второй части
«Любавиных». Возможно, он испытал неуверенность в
собственных творческих возможностях, укрепленную в нем
отзывами некоторых критиков, посчитавших первую
книгу романа откровенной неудачей. Даже настроенная к
Шукшину благожелательно киновед Л. Ягункова,
сделавшая интересную запись одной откровенной беседы с
режиссером, подумала: «Отдал бы Шукшин другому
режиссеру свои рассказы с той же легкостью, с какой он
отдал «Любавиных»? Вряд ли. «Любавины» — из
ранних его произведений. И не из лучших. Иное дело —
шукшинские рассказы, их он экранизирует сам»'.
И позднее появлялись в печати примерно
аналогичные оценки. Известные критики И. Соловьева и В.
Шитова иронизировали: «Когда читаешь роман
«Любавины», кажется: Шукшин писал эту вещь по образцу всем
знакомого «сибирского романа», сибирского романа
вообще, где все кряжистые и звероватые и все кругом
закуржавело...»2.
1 «Искусство кино», 1971, № 8, с. 35.
2 «Нов. мир», 1974, № 3, с. 246.
143
Еще одно суждение, где не только низко
оценивается роман, но выносится приговор Шукшину-романисту,
коему «заведомо не дается крупная форма»
(выражение И. Соловьевой и В. Шитовой). Рецензируя книгу
литературного критика Е. Сидорова «Время, писатель,
стиль», Л. Колобаева пишет: «Так, надо согласиться с
автором, утверждающим, что романы В. Шукшина «Лю-
бавины» и «Степан Разин» (такого романа, увы, у
Шукшина нет, есть роман «Я пришел дать вам волю».—
10. Т.) нельзя признать большими художественными
удачами писателя (все-таки удачами признать можно? —
Ю. Т.), что в сатирическом жанре — в сказке «До
третьих петухов» — он ниже самого себя в рассказах»1.
Подобные, негативные суждения Шукшин
выслушивал и устно, в период внутренней подготовки к работе
над второй книгой «Любавиных». Теперь, по
прошествии времени, не вправе ли мы более терпимо, а
следовательно более объективно по отношению к
литературному процессу в целом, оценивать сделанное
Шукшиным-писателем? Слава богу, поисков своих в области
крупной формы он не оставил, завершив роман о
Степане Разине. Кроме того, к 1967 году он мог
поздравить себя с окончанием повести «Там, вдали» и повести
для театра «Точка зрения», к сожалению, увидевшей
свет лишь незадолго до смерти автора.
Но вот второй книги «Любавиных» мы не
дождались. Тогда, после завершения фильма «Ваш сын и
брат», Шукшина захлестнула новеллистика. Его
рассказы охотно печатают центральные журналы, растет ею
популярность среди читателей. Он выдвигается в
лидеры так называемой деревенской прозы, представленном
именами Абрамова, Алексеева, Астафьева, Белова,
Носова, Яшина.
Писатель составляет сборник — повесть и рассказы
«Там, вдали». Из него-то и вышла картина «Странные
люди». Сам Шукшин затем скажет: «Я пошел от
писательского сборника. В литературе мне больше
интересен сборник писателя. С моей точки зрения, можно быть
автором одного рассказа, одной повести, одного
романа. Но быть автором сборника — это значит быть
писателем или не быть им» 2.
' «Октябрь», 1979, № I, с. 220—221.
г «Искусство кино», 1971, № 8, с. 37.
144
К моменту непосредственного создания сценария
«Странных людей» в активе Шукшина немало
самобытных, оригинальных новелл.
«Волки» — один из лучших рассказов писателя,
драматический эпизод нападения стаи голодных волков на
двух мужиков, тестя и зятя, отправившихся на санях в
зимний лес за дровами. Пронзительно и тревожно
представлена ситуация, где самую великую беду приносят
не хищники, задравшие молодого коня, а тесть Наум
Кречетов, «нестарый еще, расторопный мужик, хитрый и
обаятельный». Он-то и обернулся волком, кругом предал
зятя...
«Охота жить!» — еще один рассказ о предательстве,
человеческом вероломстве, волчьей лютости матерого
уголовника.
«В профиль и анфас» — тут писателя волновал
болезненный для него, обострившийся именно в тот
период жизни Шукшина разлад между поколениями
сельских жителей, проблема оттока молодежи, надежных
трудовых рук, из отчей деревни. Волновал не столь сам
факт оттока, сколько его последствия — и для
ушедшего человека, и для его села, и для города, куда он
направился налаживать новый свой быт... Шукшин в
статье с характерным названием «Вопросы самому себе»
тревожился по этому поводу: «Если экономист, знаток
социальных явлений, с цифрами в руках докажет, что
отток населения из деревни — процесс неизбежный, то
он никогда не докажет, что он — безболезненный,
лишенный драматизма. И разве все равно искусству —
куда пошагал человек. Да еще таким массовым
образом» '. Этот вопрос, подсказанный реальностью, надолго
займет Шукшина, сделается в его творчестве одним из
гвоздевых, найдет свое освещение и в фильме
«Странные люди».
Выше мы говорили: в Шукшине писатель опережал
кинорежиссера. И не только опережал, его литература
определяла его кинематограф. Дело здесь не в одной
сюжетике, приводившей в движение фантазию
Шукшина-кинематографиста, а в том еще, что литература
наиболее полно оформляла его отношения с миром, его
художническую целостность. Сборник «Там, вдали»
позволил увидеть направление движения художника, очертил
Шукшин В, Нравственность есть Правда, с. 24—25.
145
основную территорию его жизненных пристрастий.
В связи с этим сборником литературный критик А.
Макаров (он рецензировал рукопись Шукшина по просьбе
издательства «Советский писатель») замечал
совершенно справедливо: «Мне представляется, что главной бо-
."ью этого писателя стала боль за человека той России,
которую когда-то называли полевой, за тех, кто живет
на периферии и появляется в литературе либо в
качестве охваченных трудовым энтузиазмом в связи с
очередной кампанией, либо в качестве «позабыт, позаброшен».
А вот он показывает их как просто людей, нередко с
очень нелегкой судьбой, заслуживающих нашего
внимания, он любит и понимает их». Макаров делает
проницательный вывод: «Может быть, даже и нет в нашей
литературе другого писателя, который так болезненно
ощущал бы за собой чувство необъяснимой вины перед
ними, вины человека, который сам-то живет в иных
условиях и в иной среде, а дума о тех, кто остался там,
неотвязно преследует его». Шукшин, продолжает критик,
хочет пробудить у читателя интерес к этим людям и их
жизни, показать, как добр и хорош простой человек,
живущий в обнимку с природой и физическим трудом.
«И в этом нет никакого ретроградства и
консерватизма, а есть своя правда, подавляющее большинство
населения страны живет такой жизнью и заслуживает не
интелдигентничающего сострадания, а понимания и
уважения, к которым, мне думается, и зовет Шукшин в
своих повестях и рассказах» '.
Для сценария «Странных людей» Шукшин отобрал
попервоначалу три рассказа — «Чудик», «Миль пардон,
мадам!» и «Вянет, пропадает». Гинзбург вспоминает, как
уговаривал он писателя взять в дело поразившую его,
оператора, новеллу «Думы». Шукшин некоторое время
упорно сопротивлялся этим уговорам, но затем
пересмотрел свое решение и третьей, заключительной
киноновеллой будущего фильма решил сделать именно
«Думы». Я пришел в полный восторг, вспоминает Гинзбург.
«■Думы», мои» Думы» превратились в поразительную по
силе философскую историю. Рассказ оброс новыми
персонажами, поднял большущий пласт проблем, вызвал
1 Макаров А. Литературно-критические работы, т. 2. М., «Ху-
дож. лит.», 1982, с. 290—291. Макаров ненадолго пережил этот
сьой отзыв: пятидесятидзухлетннй критик в 67-м г. скончался.
14В
глубокие размышления. Он естественно завершал всю
картину «Странные люди» 1.
Впрочем, и новелле отвергнутой — «Вянет,
пропадает»— позже повезло: Шукшин питал к ней особое
пристрастие и включил ее в конструкцию сценария «Позови
меня в даль светлую...» (в скобках заметим, что
занудливого жениха из этой новеллы, Владимира
Николаевича, бывшего алкоголика, а ныне скучного бухгалтера,
Шукшин, планируя поставить по своему сценарию
картину, думал сыграть сам; как известно, фильм после
смерти Шукшина сделали на «Мосфильме» режиссеры-
дебютанты Г. Лавров и С. Любшин, и фильм этот,
щемящий, печальный, получил высокую оценку
кинокритиков, он оказался действительно «шукшинским»).
Мы знаем, насколько Шукшин, взыскательный
художник, любил возвращаться к однажды сказанному.
Он словно глубже ввинчивался в затронутую прежде
тему, рассматривал ее под более выразительным
ракурсом. Начиная какой-либо разговор, писатель
рассчитывал выговориться, рассчитывал на полное читательское
внимание и понимание. Его заботил эффект понимания.
Он всегда думал о своем зрителе, о фильме
по-настоящему народном, о многомиллионной аудитории.
Недаром он любил Чаплина.
Неутомимая потребность мастера вновь и вновь
проверять свое слово принимала двоякую форму. Шукшин
сочинял свои рассказы внешне легко, иногда достаточно
было одной ночи. Зато сам жизненный материал,
переработанный искусством писателя, долго не отпускал,
требовал уточнений, дополнительного освещения.
Отсюда стилистическая и подчас смысловая «ревизия» ранее
опубликованного, новая редакция знакомых текстов.
К примеру, Шукшин, готовя очередной сборник прозы,
существенно поправляет журнальный вариант рассказа
«Сураз», казалось бы, вполне законченный, зрелый. Или
шлифует новеллу «Даешь сердце!», звучнее расставляя
психологические акценты...
Вторая форма взыскательности Шукшина к самому
себе заключается в многочисленных поправках,
комментариях, инвариантности высказанного им однажды, в
художественном, а если надо и публицистическом про-
1 Гинзбург В. Ученическая тетрадь в коленкоровом переплете,
147
яснении первоначального слова. Психологической
особенностью творчества Шукшина была его глубочайшая
искренность. Он болел тем, о чем говорил в своем'
искусстве.
Это положение наглядно иллюстрирует его практика
кинематографиста. Если фильмы Шукшина того
времени и выходили преимущественно из его новеллистики,
они не калькировали первоисточники. Система
образности этих фильмов самоценна.
Хотя тематические уровни идентичны.
Писатель продолжается в кинематографе. «Если
понимают режиссера,— считал Шукшин,— понимают и
писателя. Вынося свой рассказ на экран, я проверяю
правильность своего метода в искусстве»'.
Итак, «Странные люди»...
Три самостоятельных сюжета, три киноновеллы,
объединенных сходным, заинтересованным отношением
автора к выведенным им персонажам, заведомо
обыкновенным и заведомо странноватым, знакомым
незнакомцам, деревенским жителям. Первое, на что обращаешь
внимание при просмотре фильма,— это демократизм
Шукшина при разговоре о своих героях. Нет авторского
высокомерия в представленных эпизодах человеческой
печали и тоски по чему-то несбыточному, чему-то
зыбкому. Автор понимает суть чудачеств деревенского
человека и верит его талантливости, душевной нерастраченно-
сти. «Поэтому и вспоминают люди о Шукшине,—
подчеркивал Л. Аннинский,— потому и собирают, сводят
вместе все, что хоть как-то помогает сохранить его
живое дыхание, что не только профессиональная работа,
но вся жизнь его была освещена единым,
всепожирающим огнем, и огонь этот помогает и нам всем яснее
увидеть то, «что с нами происходит»2.
Первая киноновелла носит неодинаковое с
литературным источником, по которому она сделана,
заглавие— «Братка». Рассказ же озаглавлен «Чудик». Такое-
то словечко подбросил Шукшин своим критикам,
напечатав в сентябрьском номере журнала «Новый мир» за
1967 год новеллу о киномеханике Василии Князеве.
Деревенский этот чудик обожал сыщиков и собак, в дет-
1 «Искусство кино», 1971, № 8, с. 35.
2 Аннинский Л. И память —по труду.—«Лит. Россия», 1983,
15 апр.
148
стве мечтал быть шпионом, а стукнуло ему почти сорок
лет... Проницательнейший знаток человеческой
психологии, хирург и педагог Пирогов считал так: «Если,
достигши известного возраста, мы всё не перестаем жить в
мире, созданном нашим юношеским воображением, то
становимся взрослыми детьми, чудаками, помешанными —
зовите, как угодно,— только не людьми дела».
Последнее замечание, применительно к роду занятий Василия
Князева, можно как-то оспорить, однако против
определения «взрослый ребенок» не возразишь. Таких
недолюбливают жены... Правда, и жалеют их.
Исходной ситуацией для Шукшина-рассказчика
послужил курьезный эпизод из собственной жизни. В
архиве писателя хранится неоконченная статья,
заказанная автору редакцией журнала «Сельская молодежь».
В этом наброске писатель повествует, как «в городе,
перед тем, как сесть в автобус, зашел в магазин купить
что-нибудь...». Ситуация, возникшая при этом, оказалась
смешной и нелепой: она-то и перекочевала в новеллу
«Чудик». Простодушный Василий Князев, человек
далеко не богатый, обронив пятидесятирублевку, посчитал
сии деньги, завидя их на полу, чужими. И во
всеуслышанье объявил-, что у них в деревне, например, такими
бумажками не швыряются. Так и подарил
пятидесятирублевку неизвестно кому и зачем. Да почему же я
такой есть-то, вслух горько рассуждал после Чудик, что
теперь делать? Сняли с книжки еще пятьдесят рублен.
На них Чудик поехал в гости к брату, на Урал.
В фильме, напомним читателю, эта новелла была
названа «Братка».
Киноновелла решительно разошлась с рассказом.
Прямое дублирование оказалось в данном случае
несостоятельным.
«Главная опасность экранизации,— считал
Шукшин,— в том, что в силу огромной образной
насыщенности кинематографа все поведение такого персонажа, как
Чудик, будет восприниматься зрителями скорее со
знаком минус, чем со знаком плюс. При буквальном перс-
носе на экран Чудик превратится в чудака уже не с
большой, а с маленькой буквы. И чем эмоциональнее,
выразительнее окажется актер, тем очевиднее будет
искажение образа. Это я понимал. Потому Чудик и
«освободился» на экране от всех своих чудачеств и уступил
центральное место в новелле своему брату. Это произо-
149
шло не по прихоти кинорежиссера, а по законам того
искусства, в которое, как в новую жизнь, перешли
литературные герои. Литературный Чудик оказался в
кинематографе попросту невозможен»'.
Как в новую жизнь, перешли литературные герои...
Важнейшее замечание Шукшина. При экранизации был
отсечен эпизод с пятидесятирублевкой, Урал сменился
Крымом, абсолютно иным психологическим
содержанием наполнился образ брата. Фильм построен из другого
материала.
Шукшин открывает картину несколькими короткими
планами вертящейся карусели. Многолюдье, солнечный
лл-нь. Эти непритязательные, однозначные кадры
перемещаются титрами, а звуковым фоном идет грустная,
старая песня «Миленький ты мой, возьми меня с собой...».
Два негромких голоса, мужской и женский, тоскуют об
участи тон, которая просит любимого увезти ее в край
лалекий, а просьба остается без ответа. «Там, в краю
далеком, чужая ты мне не нужна...».
Излюбленные для Шукшина слова «кран далекий»,
«вдаль». Многие его герои взыскуют новой жизни,
думают о душевном покое, а все это где-то там, вдали.
И хочется человеку, чтобы кто-то родной, близкий,
добрый позвал его в эту даль светлую, где жизнь иная, где
душа отдохнет наконец от будничных хлопот, от
унижающей серости. Музыкальный зачин «Странных людей»
создает особое психологическое поле, определяет
интонацию авторских историй. Да и поет-то песню сам
режиссер, таким образом предупреждая нас, что сюжеты
его будут грустными, что не все сладится у его
киногероев, а подпевает Шукшину его жена, актриса Лидия
Федосеева,— она затем появится в новелле о Чудике и
споет ту же песню уже одна, повторит эту человеческую
думу о «крае далеком»...
И последний кадр киновступлення: босоногий
ребенок на цветущем лугу. Кадр-символ, кадр-намек.
Итак, «Братка» — отпочковавшаяся от рассказа
«Чудик» киноновелла.
Автор сразу знакомит нас со своим героем: Чудик,
худой шустрый мужик, с всклокоченным лихим чубом,
энергично чертыхаясь, суетливо выскакивает из
деревенской баньки. У него к жене претензии — дрова не те,
1 «Искусство кино», 1971, № 8, с. 37—38.
150
топор ие тот, да и руки ему, киномеханику, надо беречь,
ему еще сеансы надо «крутить». На роль Василия
Князева Шукшин пригласил молодого тогда актера
Никоненко, тот замечательно чувствовал юмор странных
людей, умел за ершистостью характера видеть запасы
человеческой доброты. Минует несколько лет, Шукшин
уйдет из жизни, и Никоненко вновь появится на экране
в обличье того же Чудика. На сей раз это будет Сеня
Громов, «маленький, худой парень», герой фильма
Виноградова «Земляки», сделанного на основе киноповести
Шукшина «Брат мой...» Сеня — двойник Чудика, такой
же тщедушный, шустрый, только маленько практичный.
Роль Никоненко станет главной удачей этого, в общем-
то проходного, фильма. Актер словно развернет,
азартно и эксцентрично, образ того, шукшинского, Чудика,
сполна наделит его авторской симпатией, сделает так,
что литературный Чудик окажется в кинематографе
возможен.
Влияние киноискусства Шукшина на творчество
Никоненко, особенно на его режиссуру,— тема специальной
статьи, ибо оно несомненно и значительно.
Шукшин замечал: «Душевная открытость есть и в
городе, но рядом с землей она просто заметнее. Ведь в
деревне весь человек на виду». Вот и Чудик житель
деревни, там он всех знает, многих любит, и его,
сельского киномеханика, знает каждый. Он только выскочил из
баньки, заторопился вдоль деревни, как кто-то его
окликнул, кому-то он на бегу несколько слов бросил,
короче говоря, тут, среди своих, ему привычно и просто, все
люди понятны.
«Странных людей» Шукшин снимал в самом сердце
России, на древней земле Владимирской. Мир Алтая в
эту картину не вошел. Но Шукшин верен своим
прежним структурным блокам: оставаясь певцом деревни, он
создает поэтический образ из простейших деталей, из,
казалось бы, случайных, выхваченных глазом
наблюдений. Из будничных подробностей он выстраивает
лирическую сюиту. Линейное развитие сюжета его не устра-
изает, он доверяет образной природе экрана, зачастую
идет от смысла самого изображения. Вместо слова,
литературного знака он использует смысловое содержание
самого изобразительного материала.
В каком мире живет Чудик, где ему столь привычно
и просто? Мир самый обыкновенный, зато он извечен,
151
уравновешен. Тут воздух чист, люди открыты. Режиссер
заставляет кинокамеру присмотреться к свиданию у ко*
лодца: встретились парень и девушка, что-то сказали
друг другу. По деревенской улице прошагал с удочками
рыбак. Односельчанка Чудика, молодая мать, качает
возле своей баньки ребенка. Две товарки полощут в
речке белье. Какой-то мужик — день, видно, субботний —
заскочил париться в баню. Рыбак наконец-то
пристроился с удочками на бережку... Воздух самой жизни
проникает на экран.
Из очертаний очевидности проступает поэтический
образ, а с ним начинает звучать и авторская
интонация, это объяснение в любви родной земле, милому
краю. Негромкое, но сердечное объяснение,
подтверждение верности.
В рассказе Чудик приезжал к брату Дмитрию на
Урал. Брат оставил деревню, работал в городе, но
отчий дом помнил, тосковал по селу. «А помнишь?..—
радостно спрашивал брат Дмитрий.— Хотя кого ты там
помнишь! Грудной был!» Так разговаривал он с
Чудиком.
Братка же в фильме сам прежде всего не помнит
ничегошеньки о родном селе.
Они встречаются в Ялте, здесь Князев-старший
служит в каком-то санатории. Чувствительный Чудик повис
у брата на шее. «Дед помер, Кузьма, мамин отец». «А,
все-таки помер!» — отвечает новоиспеченный житель
солнечного Крыма, явно забыв, кто такой дедушка
Кузьма. Затем бодро: «Ну, кто там еще помер? Вообще
новости какие?»
Злым весельем. предваряет Шукшин этот эпизод
встречи. В поисках брата Чудик топчется на улице, как
вдруг в зарешеченном (подробность авторского
отношения) окне полуподвала появляется облысевшая голова,
она окликает Чудика: «Брат!» Чудик торопится обойти
дом (вход со двора), а вслед ему летят слова соседки о
его братце: «Расстреливала бы я вот таких-то...»
Шукшин упорно, неизменно ратовал за престижность
русской деревни. Социальный и психологический тип
«отрезанного ломтя» его раздражал, он враждовал с ним
во всю силу своего гражданского пафоса. «Если,—
говорил он,— крестьянский парень, получившись в городе,
метит в какое-нибудь маломальское начальство, если
очертил вокруг себя круг, сделался довольный и стыдит*
152
ся • деревенских родичей,— это явно человеческая
потеря» '.
Шукшин любил строить сюжет на встрече братьев,
типов-антиподов, на разломе родственных по крови
людей. Этот мотив разлада устойчив в его творчестве.
Почти одновременно со сценарием «Странных
людей» Шукшин пишет сценарий «Брат мой...», изданный
после смерти автора в сборнике подготовленных им
самим киноповестей. Шукшин многоточием отделял от
названия сценария два других слова: «враг мой», они-то
хорошо были известны писателю по роману
американского прозаика Митчела Уилсона, переведенного на
русский язык за много лет перед тем Брат мой—враг
мой...
Отношение автора к своим героям не составляло
тайны.
«Братья не были похожи. Сеня — поджарый,
вихрастый, обычно непоседа и говорун,— выглядел сейчас
много моложе своих двадцати пяти лет. Ивану — за
тридцать, среднего роста, но широк и надежен в плечах, с
открытым крепким лицом, взгляд спокойный, твердый,
несколько угрюмый...».
После долгой разлуки они встретились в отчей
деревне, Иван приехал по вызову брата: у них умер отец.
Горе сблизило братьев, но не объединило. Недолго
побыв в селе, Иван заторопился в город. Разговор у
братьев не получился, а мечтали было дом общий на реке
поставить, рыбачить ездить на всю ночь. Иван
попросту сбежал, он уже не мог задерживаться в деревне.
Характерный для Шукшина конфликт, отчетлива н
его авторская позиция. Правды ради, надо сказать, что
Шукшин быстро охладел к мысли поставить по этому
сценарию фильм. Более того, сам разругал свое детище.
«Мысль моя была нарядная, яркая, я почувствовал
себя хорошо,— иронично по отношению к себе заявлял
он.— Смотрите: родные братья, судьба растащила их,
увела старшего далеко от дома, научила равнодушию,
жестокости, скрытности — это то, чем он расплатился за
городское благополучие. А вот младший... Ну и так
далее. Всем воздал»'.
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 24.
2 Шукшин В. Нравственность есть Правда. — В сб.: «Искусство
нравственное и безнравственное». М., «Искусство», 1969, с. 141.
153
Но в словах этих пет ли противоречия? Ведь
киноповесть-то свою Шукшин включил в сборник сценариев,
включил не сгоряча, по прошествии ряда лет после
отречения от «нарядной, яркой мысли». Да и смысл
конфликта первой новеллы «Странных людей» — именно в
духовной расплате за городское благополучие одного и
душевной неиспорченности второго, деревенского
жителя. Чудика с большой буквы. Мне кажется, Шукшин
недооценил тогда свой сценарий. А замысел и подавно.
Эта боль за человека деревни, оказавшегося заурядным
мещанином, сидела в нем занозой.
Заключительная новелла фильма «Ваш сын и брат»
намечала, намекала на неизбежный разлад братьев
Воеводиных, звучал в ней мотив будущей размолвки
самоуверенного прагматиста Игната, удобно и надежно
устроившегося в большом городе, и другого брата —
Василия, деревенского плотника, добродушного трудяги.
Собственно-то, разрыва братьев, социальных и
психологических типов-антиподов, Шукшин тогда не
показал, он лишь подвел нас, зрителей, к мысли об этом.
Теперь же, в новелле из «Странных людей», Шукшин
высказался определеннее, резче. Тут уж не трещинка в
отношениях двух несхожих по темпераменту, отношению
к жизни людей, кровных братьев, тут разлом.
В своей небогатой комнатке с коврами на конке
старший брат жалуется Чудику: «Мещане лезут на
голову». Чудик в простоте свой сочувствует
«демагогу-любителю»: так старший называет сам себя. «Дайте ж
человеку свободу опрокинуть фужерчик в ресторации!» —
с пафосом восклицает старший брат, намекая на
«притеснявшую» его бывшую жену. Режиссер Шукшин
позволяет Евстигнееву, исполнителю роли старшего брата,
играть открыто сатирически, не припрятывать густых
красок про запас. Территория киноновеллы, понимает
режиссер, слишком мала, чтобы тратить экранное время
на разгон, тут работает энергия сжатия.
Старший брат подумывает о новой женитьбе, и вот
он вместе с Чудиком отправляется на очередные
смотрины. Роль Лидии Николаевны играет Лидия
Николаевна Федосеева, она впервые выступила в кинематографе
Василия Шукшина именно в «Странных людях».
Выше мы говорили, что в первый вариант сценария
«Странных людей» попал рассказ «Вянет, пропадает».
Он хоть и перекочевал в другую киноповесть Шукши-
154
на — «Позови меня в даль светлую...», но «оставил» по
себе сюжетный ход. Это опять-таки излюбленный
Шукшиным вариант смотрин. Еще не сватовство в прямом
смысле, пока визит «со значением», своего рода
«пристрелка». Мол, надо поближе познакомиться с
человеком, привыкнуть к нему, прикинуть, что и как.
Груша в исполнении Федосеевой из фильма «Позови
меня в даль светлую...» есть вариант образа Лидии
Николаевны из «Странных людей», только он развернут
во времени. Характер-то идентичен: видим мы перед
собой женщину терпеливую, добрую, чуть покорную, а еще
взыскующую счастья, сочувствия. Такие женщины
самой природой созданы для семьи, для материнства, но
почему-то не везет им с мужьями, пользуются те их
мягкостью, уступчивостью и мучают их, иссушают душу.
Вот в кнноповести о Груше Веселовой Шукшин
вздыхает печально: «С мужем она разошлась три года назад:
тот взял в подруги... бутылку, и та подруга белоголовая
завела его куда-то далеко, даже не слышно было, где
он». То же и с Лидией Николаевной произошло — муж
куда-то пропал все с этой же «подругой». В комнате
Лидии Николаевны осталась висеть семейная фотография:
на снимке она, ее дочь, маленькая Маша, и он,
исчезнувший муж, Иван (этому шалопаю Шукшин отдал свое
лицо — на снимке именно Шукшин)... Одиноко теперь
женщине на свете, Ялта переполнена курортниками, а
тут сидишь взаперти, выйти не с кем, одна дочка только
и скрадывает тоску, только в ней-то и радость.
Сцена смотрин поставлена Шукшиным и сыграна
актерами Федосеевой и Никоненко по-доброму, с
сердечным пониманием людской неустроенности. Как
приветлива к гостям хозяйка, сколько нерастраченного в этой
женщине, ласкающей веселого, шаловливого ребенка!
Чиста ее душа. Стала особенно привлекательной Лидия
Николаевна, когда запела тихонечко под гитару
«Миленький ты мой...».
А затем, встык, знакомая нам комнатка старшего
брата, вечер, излияния «демагога-любителя»: «Есть еще
один вариант хороший. Тридцать семь метров... Но, се-
ляви, вывеска не та. Хоть и говорят, что там с лица
воду не пить, все-таки душа не лежит». При этих
подсчетах брата-жлоба кинокамера как бы застывает в немом
возмущении, дает нам возможность вдосталь
налюбоваться «мыслительным процессом» беглого крестьянина.
155
Л что же Чудик? Тихо лежит на раскладушке и как-
то так тихо обмирает от излияний братца. Нет, не взры-
гается во гневе, слишком он нежен сердцем, чтобы
орать; даже возмущаясь, он только страдает про себя.
II отлетает мыслями домой, где хорошо, где вот таких
жлобов, кажется, нет. Беззвучный возникает в этом
эпизоде врез — Чудик буквально рвется обратно в
деревню. Бежать от брата, бежать...
Шукшин перекладывает свою прозу на язык кино:
этот врез — спасительное бегство Чудика — сделан как
прямая иллюстрация следующего текста рассказа.
«Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик.
Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и
побежал по теплой мокрой земле — в одной руке чемодан,
в другой ботинки... С одного края небо уже очистилось,
голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик
редел, шлепал крупными каплями в лужи; в них
вздувались и лопались пузыри».
Шукшин убыстряет темп киноновеллы. Словно
торопясь очертить движение сюжета, он прибегает к
монтажу коротких, зато исполненных плотной информации
кусков. Вот Чудик катается на карусели — это та самая
карусель, какую Шукшин показал нам во вступлении к
фильму. Он вернулся к ранее использованному
изображению, чтобы прояснить его значение в общей
конструкции картины. А вот Чудик на фуникулере — это
диковинка Ялты. Охота даже снова повиснуть над городом...
Ну, и все, погостил в Крыму. Прошли всего сутки.
Братка особенно не удерживал. Видно, сам
доволен был внутренне, что младший уезжает. Притворно
вздохнул: подарка, мол, не приготовил. С тем и
расстались.
И снова деревня. Слышится голос автора —
Шукшин-рассказчик комментирует развитие событий. «Дома
Васька сказал, что у брата он не был, деньги потерял,
а эти три дня жил у дружка, в райцентре».
Вот и обозначилась «странность» Чудика: пожалел
он братку, пожалел. Сам получил от жены обидное
«шпиндель», а про родную кровь не захотел
разговаривать, очень уж гаденьким старший-то оказался.
Последний жизненный штрих прибавляет автор к своей
картине— ревет в голос молодая Васькина жена, целый
год копила деньги на «болонью», от себя оторвала,
послала мужа в Ялту, а он, «шпиндель», деньги эти по-
156
терял, да еще не знает, где именно, теперь не найти...
«Странный» человек, этот Василий Князев: нет бы
сказать правду, а он промолчал, пожалел братку.
Вторая новелла «Странных людей» теснее всего
соприкасается с литературным оригиналом — рассказом
«Миль пардон, мадам!» (написан в 1968 году). В
фильме она названа «Роковой выстрел».
Был ли смысл менять название новеллы? Не уверен,
как не согласен с одним из высказываний Шукшина,
что посредством этой киноновеллы разговора с
читателем не получилось.
Шукшин объяснял свою, как ему представлялось,
неудачу: «Опыт зрительских встреч с фильмом
новеллистического построения равен нулю. Мое предупреждение
в титрах, что это «три рассказа», не сработало. Его
пропустили, скользнули глазом — и забыли. Зритель
настроился на определенную историю, на определенных
людей. Но едва он привык к героям первой новеллы,
приготовился вникнуть во все происходящее с ними,
новелла кончилась. Это было неожиданностью. Так
возникло раздражение. Пока он собрался с чувствами для
нового знакомства — прошла добрая половина второй
новеллы». И Шукшин сетует: «Зрители не получили
разбега для знакомства с героями. В литературе такой
разбег гораздо меньше, а кинематографисту надо дать
место для такого разбега. В этом отношении «Роковой
выстрел» пострадал больше всего. Зрители не смогли
взять разбег и не поняли героя — поняли только то, что
мне, режиссеру, вовсе не дорого, — внешний рисунок
образа. Про характер-притчу догадались немногие»'.
Мне думается, в данном случае Шукшин
преувеличил значение зрительской реакции. Казня себя, он
невольно польстил зрителю. Прошло какое-то время,—
кинематограф Шукшина, увенчанный успехом «Калины
красной», сделался явлением общенародной культуры,
и фильмы его, выпускаемые в повторный прокат, имели
массовый успех. Зритель как бы поумнел в эти
минувшие годы, глубже задумался над анализом
человеческой души, проведенным новаторской рукой
Шукшина. И теперь многое, казавшееся эксцентрической
вольностью, озорным чудачеством, прояснилось и
поразило.
• «Искусство кино», 1971, № 8, с. 37.
157
После Всесоюзного кинофестиваля в Баку (1974),где
«Калина красная» получила Главный приз,
председатель жюри режиссер Ростоцкий сказал мне, что
Шукшин был прекрасен уже в «Странных людях». Только
мы, заметил он грустно, этого тогда не увидели. Время
действительно многое проясняет. К примеру, на
ретроспективе фильмов Шукшина в рамках Венецианского
кинофестиваля картина «Странные люди» вызвала
огромный интерес (1976).
Говорить о возмужании зрителя не высокомерие
«элитарной» критики. Адресная направленность
фильма— закономерность кинопроцесса. Точнее, одна из
закономерностей. Но Шукшин работал свободнее, шире.
Он оказался универсальным художником, и аудитория
его теперь всенародна. В этой связи послушаем слова
недавнего дебютанта режиссера Германа, они
корректируют замечания Шукшина о «Странных людях». Вот что
говорит наш современник:
«И хотя нам не грозит кассовое несчастье
Запада,— искусство у нас поощряется,— нам нужно, не идя
у зрителя на поводу, думать о нем, будущем. Фильм,
который не смотрят люди, — это парадокс. Фильм
«Двадцать дней без войны» неважно прошел в
прокате. И мне это горько. Я об этом думаю. Мне ведь
казалось: раз это мне близко, значит, должно быть близко и
другим. Но для меня — это время моих детских
воспоминаний, а для зрителя до тридцати лет — основного
контингента кинотеатров — это уже время вне его
личного опыта. Для восприятия это важно. И все же я
верю, что наш зритель эмоционально прошибаем, если мы
будем настойчивы п бескомпромиссны в нашем
движении к правде».
А опыт зрительских встреч с фильмами
новеллистического построения — разве он равен нулю, как считал
Шукшин? Сам-то он, режиссер-профессионал, хорошо
знал, насколько продуктивно мировое кино
пользовалось подобным приемом конструктирования фильмов.
Во ВГИКе, в курсе истории зарубежного кинематографа,
показывали студентам картины Жюльена Дювнвье,
мастерски снятые французским режиссером,— «Бальная
записная книжка» и «Сказки Манхэттена». Шукшину
знакома была практика Ресселлини, Мунка, Феллини —
все эти мастера опробовали жанр
«новеллистического» фильма. В нашем прокате, как раз в середине
158
60-х годов, шли ленты де Сики «Вчера, сегодня, завтра»,
Гофмана «Гангстеры и филантропы», фильмы-новеллы,
их зрительский успех был очевиден. Л новеллистика
«Баллады о солдате», «9 дней одного года», «Рассказов
о Ленине»?
В том-то и дело, и тут Шукшин прав, что
немногие догадались про характер-притчу, когда смотрели
«Странных людей», особенно вторую новеллу этого
фильма — «Роковой выстрел».
Шукшин-писатель, выработавший к тому времени
свой метод и стиль, исходил из правды характеров. Он
словно бы нашел своего героя, этого самого чудика, с
непредсказуемостью его поступков, с изломами его
психики, эксцентричностью сознания. Внутри заурядных
историй, вроде потери киномехаником Князевым
пятидесятирублевки, заурядных для самостоятельного сюжета,
писатель помещал оригинальные характеры, он
исследовал их со всем терпением сочувственного участия.
Отсюда его неподдельная боль при виде унижений или
страданий своих героев, а иногда — и неподдельная боль от
их неправоты.
Рассказ «Миль пардон, мадам!» не был сразу
оценен и литературной критикой. Его посчитали
невразумительным, даже легкомысленным. Но когда вслед за
Бронькой Пупковым, вралем и горемыкой, последовали
другие «странные» герои, вроде кузнеца Филиппа
Наседкина из рассказа «Залетный», сделалось ясным
пристрастие Шукшина к неординарным,
«неблагополучным» характерам.
«Роковой выстрел» — киноновелла о беспалом
стрелке, непутевом мужике Броньке, что одержим
навязчивым желанием каждому новому в деревне человеку
поведать о покушении на Гитлера, якобы совершенном им,
Пупковым, в июне 43-го.
Откуда же такая странность у Броньки, зачем
понадобилось ему, бывшему фронтовику, изгиляться и лгать?
В рассказе «Миль пардон, мадам!» существенное
значение для объяснения «сдвига» Броньки,
пятидесятилетнего, еще крепкого мужика, играют приводимые
писателем ремарки. Любое замечание Шукшина о
герое оправданно. За деталями биографии — драма
характера.
Прирожденный охотник, Бронька отлично стрелял.
О себе говорит: «На пятьдесят шагов свечку из винта
159
погашу». Да и концовка рассказа снова об этом умении
Броньки. «А стрелок он был правда редкий», —
заключает Шукшин.
В молодости произошла с ним драма на охоте.
Захотел пить, зимой, начал долбить прикладом лед у
берега. «Ружье держал за ствол, два пальца закрывали
дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался^
и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже.
Бронька сам оторвал его».
На фронте определили Бронислава Пупкова,
здорового парня, в санитары — посчитали нестроевым. Так и
не довелось ему пострелять в противника. Вытаскивал
с поля боя раненых. Однажды, при наступлении наших
(тогда-то санитарам больше работы), он приволок в
лазарет человек двенадцать. Но героем себя не
чувствовал. Не привелось ему совершить на войне что-либо, с
его точки зрения, небывало героическое. Вот и заскучал
человек. Вернулся домой, другие так про себя истории
подвигов рассказывают, а ему, санитару-то, вроде и
похвастать нечем. Тогда-то, видно, и принялся слагать
Бронька в своем воображении небыль о покушении на
Гитлера...
«Бронька ждал городских охотников, как
праздника»,— пишет Шукшин. Когда они приходили, он был
готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние
он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и
удачливый. Городские не скупились на водку, иногда
давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.
Городские умели слушать историю про покушение.
Свон-то, односельчане, включая предсельсовета и даже
собственную жену, бранили Броньку за его россказни,
увещевали, грозили судом. Миль пардон, мадам,
огрызался Бронька, не имеете права судить, эта работа не
печатная.
Сам рассказчик всякий раз тяжело переживал свои
очередной «бенефис», страдал, злился. И ничего не мог
с собой поделать — снова и снова поджидал гостей,
снова и снова угощал их за костром своей невероятной
историей.
Странности Броньки — от нерастраченности
душевных сил. А виноват он в этом не меньше, чем виновата
судьба.
Шукшин понимает своего героя, но и не оправдывает
его. «Я хотел сказать в этом фильме,— подчеркивал ре-
160
жнесер,—что душа человеческая мечется и тоскует,
если она не возликовала никогда, не вскрикнула в
восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила она никогда
полной жизнью, не любила, не горела»'.
На роль Броньки Шукшин пригласил прекрасного
ленинградского актера Евгения Лебедева. Поначалу
режиссер и актер, до того не встречавшиеся,
настороженно приглядывались друг к другу. Затем стали
единомышленниками. Могучий актерский талант Лебедева
режиссер оценивал очень высоко. «Это — большой,
умный художник,— скажет Шукшин позднее.— То
обстоятельство, что его кинематографическая судьба неровная,
не цельная, говорит о том, что он крупнее наших схем.
Мы не знаем, что с ним делать, куда его девать.
Неподдельна народность его дарования, которую мы еще не
умеем в полной мере раскрыть»2.
Лебедева в «Роковом выстреле» можно посчитать
«пластическим» выразителем тогдашних литературных
героев Шукшина, именно странных, неустроенных
людей. Ранее идеальным актером Шукшина был Леонид
Куравлев, хотя и он в новелле о Степане Воеводине
(фильм «Ваш сын и брат») далеко ушел от
симпатичности и балагурства Пашки Колокольникова. Но выбор
Евгения Лебедева был абсолютно точным режиссерским
решением Шукшина. Как писатель, набрав
определенную высоту, Шукшин и для своего кинематографа хотел
равноценных решений.
Писатель Юрий Скоп рассказывал, как пришел он
однажды рано утром к Шукшину домой, в его
квартирку в Свиблове. Дверь открылась, и Скоп увидел перед
собой осунувшегося, небритого Шукшина, тот всю ночь
работал. «Невеселая штука получается,— показал он
на рукопись рассказа «В воскресенье мать-старушка...»—
об одном своем земляке, тот в войну ходил по деревням
и пел, а после войны стали о нем забывать, песельник
был к тому же слепой, кормиться ему стало
трудновато.— А они от меня всё Пашку Колокольникова
требуют»,— мотнул Шукшин головой в сторону каких-то
незримых своих оппонентов. Скоп наблюдал Шукшина
именно в период «Странных людей», режиссер снимал
его в третьей новелле этого фильма — «Думы».
1 «Искусство кино», 1971, № 8, с. 37.
2 Там же, с. 38.
7 Зэк. 640
1С1
Как это ни парадоксально, в образе Броньки
проявились некоторые родовые черты устойчивого
психологического типа. Только проявление этих черт в
каждое историческое время принимает соответствующую
окраску.
Обстоятельства внешней жизни и личной судьбы
вносят свои поправки. Но генотип-то восстает от
прошлых «отклонений» национального характера. Душа
такого человеческого свойства болела и болит, но
реализовать себя во благо не умеет. Она корчится от удушья.
У Аполлона Григорьева есть наблюдение: «Любя
праздники и нередко целую жизнь прожигая в
праздношатании и кружении, мы не можем мешать дел с бездельем
и, делая дело, сладострастно наслаждаемся мыслью о
приготовлении себе посредством его известной порции
безделья.
С другой стороны, мы не можем помириться с
вечной суетней и толкотней общественно-будничной жизни,
не можем посреди ее заглушить в себе тревожного
голоса своих высших духовных интересов, но зато, скоро
уставая бороться во имя их с будничной
действительностью, впадаем нередко в хандру».
Бронька работник никудышный. Как в рассказе, так
и в фильме гоняет он по проселкам на своем мопеде, на
хлеб и одежду еле набирает. «Легко жил»,— отмечал
писатель..На голове носит мятую немыслимую шляпу с
короткими полями, свитер на нем обвислый,
захватанный, брюки — только на охоту ходить. Однако Броньке
на все наллевать, ему удобно и ладно. От людских
увещаний всегда наготове торопливое: «Да ладно!.. Да
брось ты! Ну?.. Подумаешь!..»
Аполлон Григорьев прав: скоро уставая бороться во
имя хлеба насущного с будничной действительностью,
Бронька впадает в хандру. Шукшин показывает в
фильме двор своего крестьянина. Угол теплый есть, но
порядка в нем нет. По солнышку Бронька сидит на крыше
ветхого сарая и делает вид, что занят работой. Но вот
глаза его заблестели, он весь вытянулся. Это он завидел
городскую компанию охотников, соседи направили их к
дому Броньки, зная его тягу к охоте. Работник живо
оставил свое скучное занятие, проворно спустился по
лестнице навстречу гостям. Заводите во двор свои
мотоциклы, радушен он с охотниками, никто их у вас здесь
не тронет.
162
Он уже в предвкушении стрельбы, он знает, что
снова .расскажет о своем фантастическом покушении на
фюрера...
Важна сцена с женой. Та-то угадывает состояние
мужа, умоляет его хоть на сей раз смолчать. Бронька
мотает головой, от точного ответа уходит. «Тебе всё
божья роса»,— жена искренне страдает, жалеет своего
дурака. А тому лишь бы вырваться. «Закрой свою
варежку»,— огрызается Бронька. Он и сам чуточку
совестится. Чем ответить жене? Она почти плачет. «За толь
последнюю десятку отдала»,— это она к тому, что
Бронька крышу так и не починил. Но до работы ли тому,
когда охотники нагрянули, когда впереди его «праздник»?
Выбрав на роль Бронькиной жены Любовь Соколову,
актрису какой-то умиротворяющей, «ласковой»
внешности, режиссер поправил писателя. Шукшин-новеллист
был круче. Об участливости жена Броньки в рассказе
«Миль пардон, мадам!» и не помышляет. Письмо
Шукшина в этом случае жесткое:
«Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый
выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его,
некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается:
— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..
— Пошла ты!..— вяло огрызается Бронька.— Дай
пожрать.
— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову
проломить безменом! — орет жена.— Ведь от людей уж
прохода нет!..
Бронька наводит на жену строгий злой взгляд.
Говорит негромко с силой:
— Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!..»
Соколова играет явно другой характер, здесь
Шукшин отказывается от показа тупой, звериной злобности.
Как в первой новелле, «Братка», отказывается от
подобного же образа снохи (отношения между родными
братьями в рассказе «Чудик» буксуют из-за сварливости,
неуправляемой злобы снохи: старший брат, плача от
бессилия помочь, объясняет Чудику, что жена, дура,
помешалась на «своих ответственных», а он, Чудик, никакой
не ответственный, из деревни, да и она, жена то есть,
всего-навсего буфетчица в управлении, «шишка на
ровном месте»)...
Мне кажется, сам Бронька рядом с такой женой,
какую сыграла Соколова, выглядит помягче, это не дра-
7*
163
чун и забияка, каким выведен он в рассказе. Да и его
нелепое «миль пардон, мадам!» как-то миролюбивее, а
уж чтоб «врезать» жене, так об этом и разговора в
фильме нет.
Может быть, потому и сменил название Шукшин, что
в киноновелле характер Броньки смягчен, весь
смысловой ряд переместился на территорию центрального
эпизода— враки Броньки о покушении? Убрал Шукшин
еще одно — малопривлекательный штрих из биографии
своего литературного героя. В рассказе автор поручает
Броньке сказать о себе, как он, сопровождая в 33-м
году попа деревенского в ГПУ, разок стукнул «мерина
гривастого» по голове: крести, а не называй, мол, с
похмелья людей таким именем странным, как Бронислав.
Сцены охоты в киноковелле «Роковой выстрел» столь
же информативны, как и знакомство Чудика с Ялтой.
Монтажные фразы здесь динамичны, опять работает
энергия сжатия. Но мы успеваем отметить и запомнить
сноровку Броньки, когда он расставляет охотников в
засаде, видим его привычную решительность меткого
стрелка. Покрикивает он на городских, он пока
незаменим. «Подсадную мою не подстрелите,— голосом
командира кричит он охотникам,— ваша резиновая подсадка
кому нужна!»
Гремят выстрелы, шлепаются в воду срезанные
дробью утки. И вот горит на бережку костер, Бронька
варит ушицу, справляют отвальную.
Бронька осторожно приступает: «Насчет покушения
на Гитлера слышали?»
Относительно ровное, спокойное развитие сюжета
киноновеллы внезапно взламывается режиссером.
Невзрачный герой, этот обметанный щетиной, с измятым
лицом охотник, вдруг словно вздыбливается.
Кинокамера больше никуда не торопится. С утиной
охотой покончено, изображение теперь прочно
сочетается со словом.
Теперь надо не только смотреть, но внимательно, не
пропуская ни единой интонации актера, ни единой
реплики, слушать «ненапечатанную работу», постигать
«характер-притчу».
Слом сюжета, а вместе с ним изменение авторской
интонации, неожиданное заострение ситуации оказались
в применении к прозе Шукшина незаменимыми. Резкая
смена интонации позволяла писателю, в пределах жанра
1$4
новеллы, без отвлечения на описательство, показать его
героев изнутри, зачерпнуть в них потаенное.
Эксцентрическая выходка или курьезное происшествие
применялись Шукшиным-рассказчиком не из желания
посмешить читателей, хоть стихия юмора покорялась его
творческому дару, а из желания раскрыть подспудное в
человеческой душе. Такая техника сюжетосложения
обеспечивала Шукшину экономное использование
литературного пространства.
Идентичный принцип был органичен и для
новеллистического фильма.
Эпизод «покушения Броньки» занимает двадцать
пять минут экранного времени. Кинокамера оператора
Гинзбурга снимает практически одного
Броньку—Евгения Лебедева. Монолог героя Шукшин выстраивал
большими кусками пленки — есть монтажные фразы по 38,
39 метров, а один план растянут даже на 88 метров.
Режиссер, оператор и актер работали споро. Каждый
отрывок эпизода снимался всего в двух дублях. Но
каждая деталь роли — идет ли речь о пластическом ее
выражении, манере подачи сгущенного шукшинского слова
или о характере костюма — была оговорена и проверена
репетициями. После Шукшин скажет: «...ленинградец
Евгений Лебедев — неукротимый, сильный актер,
готовый в поисках правды истязать себя...» '.
Тут следует подчеркнуть некоторые методологические
принципы режиссуры Шукшина, его взаимоотношения с
актерами на съемочной площадке. «В конце концов все
зрелищное искусство для меня — свободное проявление
союза с актером,— говорил Шукшин 70-х годов.—На
мой взгляд, внимание к актеру, опора на него в
работе— прямая дорога к зрителю. Глубочайшим образом
верю в это»2.
В своем доверии к актеру режиссер Шукшин был не
одинок. Ему было у кого учиться, чей опыт изучать!
На съемках фильма «Они сражались за Родину»
Шукшин очень точно говорил болгарскому журналисту
Спасу Попову о характере работы своего старшего коллеги:
«Бондарчук — режиссер умный, точный в выборе
актеров. А точно выбрать актеров — это, по-моему, уже
найти режиссерское решение (курсив мой.— Ю. Т.\ задач,
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 214,
2 Там же, с. 218.
165
поставленных в сценарии. Бондарчук—режиссер
тактичный, никогда не навязывает свое понимание роли.
Имея богатый опыт работы в кино, он внимательно
относится к игре актеров. В определенных ситуациях
поощряет стремление актера к абсолютно свободному
творчеству (курсив мой.— Ю. Т.). На месте съемок он
создает свой микроклимат, актеры в нем живут. И в
пределах этой земли, этого климата они творцы,
раскрепощенные и освобожденные от опеки. Он уважает их
творчество. Это очень тонкое искусство в искусстве»'.
Продолжая разговор о методологии
Шукшина-режиссера, следует привести еще одно интересное
высказывание художника, имеющее прямое отношение к
работе Лебедева в «Странных людях»: «Большой актер,
мастер силой опыта и таланта вывернется из-под гипноза
камеры, освободит себя для правдивого жеста,
интонации, взгляда... Режиссер — это тот, кто устранит,
изгонит искусственность в кадре, благословит актера и
поможет ему поверить, что вот та правда, которая
родилась у них с актером в раздумьях, в репетициях, и есть
то, что нужно, и другого не надо» 2.
Бронька в рассказе Шукшина есть
характер-притча. Бронька на экране —аналог литературному герою.
Это не враль, увлекаемый шальным артистическим
вдохновением; это искореженная войной судьба, изъеденная
комплексами душа. Болезненная в своей несостоявшейся
гордыне. И взыскующая понимания, соучастия.
С отпугивающей и завораживающей искренностью
Бронька живописует перед компанией городских
нелепую историю покушения на Гитлера, якобы имевшую
место на Курской дуге 22 нюня 1943 года...
— А кто стрелял? — недоуменно спрашивают
слушатели, среди них — девушка в спортивном костюме и
парень.
— Я стрелял,— вдруг говорит Бронька. Говорит
решительно, некоторое время смотрит на веселый огонь
костерка, поднимает глаза. И смотрит, точно хочет
сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно».
Сцена идет без музыки. Решающую нагрузку,
выдерживая колоссальное эмоциональное давление, несет сло-
1 «Вологодский комсомолец», 1974, 9 окт.
2 Шукшин В. Воздействие правдой.— В кн.: Кинопанорама.
Вып. 2. М., «Искусство», 1977, с. 221.
166
во, актер. «И если уж говорить о правде поведения
человека на экране, то никуда не уйдешь от того,
насколько он, человек, правдив в литературе для кино,—
считал Шукшин.— Она у нас неразнообразна, излишне
назидательна, внутренне пуста, она не набрала еще тот
житейски правдивый, непререкаемый уровень, который
отразил бы великую сложность нынешнего человека» '.
Вымысел Броньки — это отклонение от нормы,
перекос сознания. И, как у многих шукшинских героев,—
это недопонимание собственного «я», подмена
подлинного мнимым: без всякой себе корысти, ради позы.
— Прошу плеснуть,— время от времени повторяет
Бронька и подставляет металлический стаканчик. Но
пьянеет он от собственной выдумки, не от водки.
Мы наступали, рассказывает лебедевский герой. В тот
день Бронька приволок в лазарет в числе раненых
одного тяжелого лейтенанта. Ну, и ладно бы. Санитар так
санитар, без них на войне не обойтись. Так Броньке
почему-то мало, что санитар. И вот он всю свою черную
работу — помощь раненым, риск в настоящих боях —
подвигом не считает, это для него не почетно в ратной
профессии.
И лотому Бронька затевает «искажение истории»,
несет нелепицу.
Якобы в ту пору на фронт прибыл Гитлер.
«Инкогнито»,— добавляет Лебедев — Бронька. Видно, где-то
слышал слово мудреное лебедевский герой, ввернул его в
свою историю для «интеллекта».
И поручили Брониславу Пупкову пробраться в
бункер к Гитлеру и хлопнуть гада. «Тонкий намек на
толстые обстоятельства»,— совсем уж «простонародно»
добавляет Бронька, и глаза его сей миг излучают
неподдельную страсть, зажигаются огнем. Он выглядит не
деревенским лицедеем, а будто и впрямь рассказчиком.
Ветераном, которому трудно, больно вспоминать.
Бронька — Лебедев курит, до сердца затягивается
дымом, на компанию вроде и не смотрит, взгляд его
блуждает где-то вдали.
Потрескивает сухой костерок, кукует невидимая
кукушка— долго, тоскливо, одиноко кукует. Бронька
подсел к огню, теперь уж смотрит как бы в себя, взор его
увлажняется. Кинокамера не упускает актера из виду.
1 Шукшин б. Воздействие правдой, с. 221.
167
Изредка режиссер включает короткие перебивки с
изображением горожан: они следят за рассказчиком,
смущены и захвачены небылицей.
Камера наезжает на Броньку, укрупняет план.
Позади героя лунным лучом поблескивает озерная вода,
опять отсчитывает чьи-то сроки сиротливая кукушка.
А Бронька уж чуть не плачет, истерически
взвизгивает, размахивая руками.
Как всякий ветеран, он жгуче ненавидит Гитлера.
А тут еще, по «заданию» генерала, Бронька будто бы в
бункере фюрера. «Смеешься, гад! Дак получай за наши
страдания! За наши раны!»
Плечи героя сотрясаются от рыданий. По небритому
лицу катятся слезы, Бронька их размазывает ладонью.
— Я выстрелил. Я промазал. Промазал, дак...
Герой Лебедева в ужасе от своей промашки. Он
«подвел» свой народ, нет ему прощения... Он подавлен,
опустошен.
— Прошу плеснуть,— тихо, требовательно говорит
Бронька.
«Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу
один, измученный пережитым волнением. Вздыхает,
кашляет. Уху отказывается есть». Так в литературном
оригинале.
Этот шукшинский эпизод оказался для своего
времени во многом непонятым. Его воспринимали или как
заведомо комедию с изрядной примесью актерской
эксцентриады, или как «антикинематографическое» скучное
зрелище, испорченное влиянием литературы, с одной
стороны, а с другой — эстетикой телевидения.
В такой обстановке сам режиссер на какое-то время
заколебался в функциональной и стилистической
действенности киномодели. В те дни он вместе с Василием
Беловым зашел как-то в один из кинозалов, где должен
был показываться фильм. Кроме них, в зале никого не
оказалось. «А сколько надо купить билетов, чтобы сеанс
все же состоялся?» — спросили они у киномеханика.
«Десять»,— ответил тот. «Давайте мы купим эти десять
билетов, и вы начинайте демонстрацию картины». Но
механик и на таком условии не пожелал «крутить» фильм
лишь двум зрителям.
«Фильм «Странные люди» не принес мне
удовлетворения. Я бы всерьез, не сгоряча, назвал бы его
неудачей, если бы это уже не сделали другие. Разговор со
168
зрителем не состоялся. Фильм плохо смотрели, даже
уходили. Так работать нельзя. Это расточительство»1. '
Невеселые слова Шукшина.
На обсуждении фильма во ВГИКе, где еще девять
лет назад Шукшин сам был студентом, киноновеллу
«Роковой выстрел» осуждали особенно. В ней видели
образец телевидения, а не кинематографа и на том
основании отрицали ее новаторство. В новелле Бронька
один раз смотрит даже в объектив кинокамеры, прямо
нам, зрителям, в глаза. Это ли не из азбуки
телепередачи? Шукшин словно нарочно игнорировал
привычную культуру киномонтажа, нарушал элементарные
требования кинокадра. Ему ставили в вину минимальное
число перебивок в конструкции эпизода, говорили о
забвении режиссером зрелищной природы киноэкрана.
Но кинематограф Шукшина—теперь это делается
все более очевидным,— создавался не из
апробированных элементов сюжетостроения и усредненной
монтажной культуры,— он был дерзко независим, откровенно
полемичен. Он шел от мировоззренческой глубины
шукшинской прозы, вот что недооценивалось тогдашними
критиками фильма.
В дальнейшем Шукшин более спокойно, трезвее
оценивал результаты работы над «Странными людьми». Он
уже не употреблял слово «неудача» по отношению к
этому фильму, позитивно разбирал архитектонику «Рокового
выстрела». «Признаюсь, это решение доверить почти всю
новеллу одному актеру пришло не сразу. Поначалу был
замысел как-то проиллюстрировать рассказ Броньки
Пупкова. Была мысль показать бункер Гитлера. И
населить его карликами. Все карлики, кроме Гитлера.
И поэтому для него бункер тесен и низок, и в потолке
вырублены специальные канавы. Гитлер, как Гулливер
среди лилипутов, он всесилен, он может стрелять из
пальца. Было еще много других «костылей». И вывод:
«Но потом я понял, что это идет от недоверия к актеру,
к тому, что он один сумеет удержать зрителя в
напряжении и рассказать ему все о своем герое, о его тоске, о
его жалости и величии. И тогда я решил довериться
актеру. И если фильм в целом и не удался, если меня за
что-то и упрекала критика, то самый метод (курсив
мой.— Ю. Т.) для меня непреложен и ничто все равно
1 «Искусство кино», 1971, № 8, с. 36—37.
169
не отвратит меня от такого пути в искусстве. Я отнюдь
не утверждаю, что это единственно возможный путь.
Кино обладает величайшими и многогранными
возможностями изобразительности, и можно пользоваться ими
кому как угодно»!.
«Перед художником во весь рост встает проблема
экономии не просто времени, но энергии, читательской и
зрительской... И литературе и кино необходим лаконизм.
На первый взгляд мой собственный пример — тот,
который я приводил выше, монолог Броньки на двадцать
пять минут из «Странных людей»,— как будто
противоречит моим высказываниям. Но ведь в эти двадцать
пять минут вместилась вся судьба человека» 2.
Именно человек в кинематографе интересовал
Шукшина, а не кинематограф в кинематографе. Судьба
человеческая, часть судьбы народной.
Образная насыщенность экрана не есть обязательно
путь динамичного монтирования кадров, призванных
максимально разнообразить функциональность
изобразительного ряда. А именно в увлечении статичностью
изображения, якобы противопоказанной природе
кинозрелища, обвиняли режиссера Шукшина его молодые коллеги,
вгиковцы, отрицая опыт фильма «Странные люди». Они
пропустили, не приняли во внимание авторское,
многозначное слово, приравненное в кинематографе Шукшина
к самым действенным элементам художественной
выразительности.
Доверяя слову, звучащему с киноэкраяа в
исполнении актера-реалиста (образа-типа), Шукшин не боялся
показаться скучным. Как не боялся выглядеть
«непрофессиональным» режиссером, который будто бы не
справляется с организацией формы своих картин.
Нужно было немалое художественное и критическое чутье,
чтобы понять, объяснить кинематограф Шукшина,
создаваемый автором в нерасторжимом единстве
изображения и слова. Нужно было привыкнуть к такой — «непрн-
чесанной» — поэтике, где целеустремленно, осознанно
выражала себя мысль художника, обновляющегося в
своем постижении правды, сложности жизни.
Опыт Шукшина-кинематографиста теперь
воспринимается значительно серьезнее, внимательнее, чем то бы-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 218—219.
2 Шукшин В. Воздействие правдой, с. 230.
170
ло, когда будущие режиссеры во вгиковской аудитории
обсуждали «Странных людей». Лаконизм шукшинской
режиссуры в киноновелле «Роковой выстрел» больше,
пожалуй, не относят к издержкам эстетики телевидения.
Вчерашний превосходный оператор А. Итыгилов,
дебютируя как режиссер, пошел прямо по следам
Шукшина: его короткометражная лента «Встреча» (снята она
в 79-м году) повторяет опыт монтажа «Рокового
выстрела». В те же двадцать пять минут экранного времени
начинающий постановщик вмещает всю судьбу двух
своих немолодых героев, крестьян. Сценарий этого
лаконичного, умелого фильма написал по рассказу
Валентина Распутина Глеб Панфилов. Случайная, горькая
встреча давних знакомых, бывших односельчан —
механизатора Николая (актер С. Любшин) и доярки Ани (Н.
Русланова) — разыграна всего в одной декорации: это
тесноватый, зашарпанный номер районной гостиницы, куда
приходят герои после сведшего их вместе совещания
сельских тружеников. Они не виделись двадцать лет, с
войны: она солдатская вдова, и он, побывавший на
фронте, друг юности Аниного мужа, сам любивший ее,
обойденный счастьем, усталый человек. И вот во
встрече этой, сначала радостной, а затем ставшей
несчастьем, в разговорах о прошлом, о любви и верности, фильм
раскрывает два раненных войной характера, выносит на
крупный план две судьбы, несоединившиеся и
несоединимые. Режиссер, как в свое время Шукшин, доверяет
проникновенности и правде слова, взятого из достовер-
нейшей прозы Распутина. Кинокамера все время
снимает лица актеров, лица героев, она не рвется никуда из
тесноты гостиничного номера, ибо ей и здесь, в этих
четырех стенах, достаточно дела, ей важно разглядеть
этих людей, понять и пожалеть их. Камерность
фильма, таким образом, не обедняет его эмоционального
и эстетического воздействия, тут — особая,
расчетливая система образности, оптимальное пластическое
оформление полновесного, многозначного,
неожиданного литературного слова. Такой принцип организации
киноматериала опирается на режиссерскую традицию
Шукшина.
Третья киноновелла фильма «Странные люди» —
«Думы» — выросла из одноименного рассказа,
датированного 67-м годом. По своему метражу, смысловому
значению она — центральная в кинотриптихе.
171
Шукшин затем сетовал на сценарий: надо было, так
ему казалось, поселить всех героев, этих деревенских
странных людей, в одном селе, на одной даже улице,
чтобы таким образом связать воедино их судьбы,
сделать рассказ о них связным, не столь фрагментарным.
И главным действующим лицом был бы здесь Матвей
Рязанцев, пожилой рассудительный председатель
колхоза, наподобие отца Воеводина, так удачно
объединившего собой сюжетные линии предшествующей
шукшинской картины. Что ж, запоздалое сожаление Шукшина
выглядит оправданным: не исключено, что такой
сценарный ход уплотнил бы конструкцию фильма.
Матвей Рязанцев, герой рассказа «Думы», может
быть отнесен, хотя и не столь очевидно, как Чудик или
Бронька Пупков, к разряду странных людей.
Типологически он им близок: необоримой душевной маятой,
забвением личных материальных выгод, незатухающей
тоской по какому-то душевному празднику. Но
содержание этой натуры шире только странностей,
психологической эксцентрики.
В образе Матвея отражен дух социальной биографии
старшего поколения сельских жителей, потомственных
земледельцев. Он выражает вечно важную для
Шукшина тему коренной привязанности русского крестьянина к
отчему дому, тему терпеливого, полезного труда на
родной земле. Писатель и режиссер Шукшин вновь
вопрошал время, себя, всех нас: куда же идет современная
деревня, что ждет ее?
Матвей — ворчун. Все ему кажется, что молодежь не
так живет, не по-людски, не по-дедовски, много «волн»
себе взяла. По сравнению с рассказом Шукшин поселил
в фильм новый персонаж — дочь Матвея (актриса
Е. Санаева). Вот на дочь-то Матвей и ворчит иногда:
«Доченька, а где же вам интересно, вот ведь что
интересно?» Дочь хотела учиться в городе —то ли в
институте, то ли в техникуме (сценарист этого не уточняет,
для него важно лишь само желание Лены Рязанцевой
уехать из родного села). Но не поступила, вернулась
домой. И теперь сидит у себя в комнате (на стене —
портрет Хемингуэя в знаменитом свитере, таком же, как у
журналистки в фильме «Живет такой парень»), ничего
не делает. Матвей зовет дочь поработать в колхозе,
дояркой. По двести с лишним рублей каждая за месяц
получает, как горделивый хозяин, почти хвастает он Лене.
172
"И натыкается на стену: «Папа, я не хочу быть
дояркой. Мне это неинтересно».
Шукшин — настоящий художник. Он только ставит
вопросы, не предлагая зрителям готовых решений. Его
авторская позиция призывает всех нас к
размышлениям, к поискам ответа на все эти противоречивые,
нелегкие для однозначных решений вопросы...
Матвей Рязанцев прав по-своему, его дочь —
по-своему. Как же сочетать две эти правды? Вот тут-то фильм
Шукшина и задевает нас, вовлекает в свой круг
размышлений, не абстрактных, не выдуманных, а
продиктованных диалектикой самой жизни. Дочь спрашивает
отца: «У тебя, папа, жизнь прошла, ты плачешь. А у
меня она только началась, я тоже плачу. Кто бы нам
объяснил, почему так?» И тот не находит ничего лучшего,
чем ответить: «Дурость...»
Нет, Матвей, думаем мы, здесь ты не прав. Здесь
другие слова нужны, и Лена, твоя дочь, тоже не
согласна с тобой... Для Матвея молодежь куда-то вбок пошла.
Что за мода такая, жалуется председатель счетоводу:
«салют», «чувак», «железно»? По Матвею, эти слова —
звук пустой, за ними нет ни опыта, ни смысла, ни
мелодичности. Пожалуй, за этим отношением героя
проглядывает сам автор, его тревога, недоумение. Как и
Матвей, он до боли в сердце всматривается в сельскую
молодежь.
Шукшин говорил как-то, что в сельском клубе
видел, как танцуют шейк. Запретить новомодный танец
смешно и глупо, продолжал он, но охота понять, как
молодые люди принимают жизнь, наносное это у них
или действительно махнули на все рукой, требуют лишь
развлечений? В фильме режиссер Шукшин пародирует
жизнь: его герою, Матвею, вдруг представляется
поляна, запруженная молодежью, и знакомые и незнакомые
ему юноши и девушки отплясывают шейк. Матвею даже
нехорошо сделалось. А рядом еще кузнец местный,
Колька, вроде по-французски ему говорит что-то...
Раздражен председатель, непонятно ему это веселье, этот
шабаш. Злится он: куда пританцует деревня через
двадцать лет? Мы — мужики, крестьяне, надо думать об
этом.
Этот эпизод, спародированная «дума» пожилого
Матвея, кажется мне безвкусной, режиссерским
ляпсусом. Что-то все толкало Шукшина к таким вот «кино-
173
фокусам», к материализации того, что за гранью
реального зрения, но осуществимо посредством киноэкрана.
Шейк на летней поляне — это даже не игра авторского
воображения, тут никакой легкости, свойствоенной
действительно смешному. Комизм сцены выглядит
вымученным, странным.
Но слово здесь у Матвея — шукшинское, искреннее,
с болью. Председатель все вопрошает молодежь: а кто
же землю-то обрабатывать будет? Кто
крестьянствовать будет? А то — в город едут, не хозяева уж такие-
то...
Невеселые мысли тревожили старшего Воеводина и
тех одиноких хозяев, у которых ночевал как-то Пашка
Колокольников. Не мог отойти от мыслей этих и
Василий Шукшин, сын земли, автор. У Кольки-кузнеца дом
развалился, не унимается Матвей. А он палец о палец
не ударит. Его-то отец вот один этот дом рубил...
Дальняя память у Матвея Рязанцева. Задумался он
вдруг о своей жизни и навспоминал немало. А
задумался от бессонницы. Поздними вечерами стала его
беспокоить гармонь, разливалась она по стихшему, с
погасшими огнями селу. Холостой парень, Петька, гулял по
молодости по улице и орал:
«Ты вспомни, милка дорогая,
Как начинали мы гулять...»
Матвей поднимался с кровати, вроде попить воды,
ворчал на домашних: опять воды нет в графине... И
наплывали на председателя думы. Ныло чего-то сердце,
ламять тревожила.
Об этом — рассказ Шукшина. Об этом же —
киноновелла «Думы».
На роль Матвея режиссер пригласил актера Санаева,
удивительно точно совпавшего с образом. Крупная,
тяжеловатая фигура сеятеля, косаря, землепашца,
длинные сильные руки, въедливые вопрошающие глаза — вот
облик председателя, каким его показывает Санаев.
А еще он умеет «подать» смешинку, ему подвластен
юмор, без чего странные люди Шукшина мертвеют,
делаются со знаком минус.
Матвей Санаева и Шукшина шибко затосковал в
своих думах. Он, этот сильный еще человек, коему
вроде лет двадцать еще жить и работать, стал готовиться
к смерти. Проклятая гармонь только подтолкнула
174
Матвея к этим раздумьям о себе, о прошлом, о детях,
которые, похоже, и пустят по ветру все накопленное им,
его поколением. Образ председателя — с такими-то
раздумьями, тоской по былому, ворохом вопросов, вдруг
полезших наружу из тайников души,— этот образ вносит
во вторую половину шукшинского фильма философское
начало, сочетает видимый бытовой антураж с некой
«странной» духовностью. И на этом уровне обретает
бездонную глубину. Для нас, зрителей, теряет всякое
значение то обстоятельство, что Матвей не так-то и
грамотен, что он без диплома университета. Он подходит к
порогу мудрости, ибо этот порог там, где человек
свободно и спокойно думает о кончине, о том, что идет за
ним, вслед, что будет на земле после его, человека,
ухода.
Шукшин такую тему — назовем ее темой итогов —
разрабатывал в своем творчестве постоянно,
разнообразно.
В замечательнейшем рассказе «Залетный» писатель
словами умирающего героя, «неподдельного доброго
человека», говорит: «Я объяснил бы, я теперь знаю:
человек— это... нечаянная, прекрасная, мучительная
попытка природы осознать самое себя». И еще восклицает
герой: «Если мы не в состоянии постичь ее (смерть.—
Ю. Т.), то зато смерть позволяет понять нам, что
жизнь — прекрасна».
Какие мудрые, просто толстовские по смыслу и
поэзии слова вырвались у писателя Шукшина! В
редакции «Литературной газеты» осенью 74-го года должен
был состояться диалог Шукшина и ленинградского
литературоведа Бориса Бурсова. Не состоялся этот
разговор, одного из участников его внезапно не стало...
Меньше чем через месяц после кончины Шукшина Бурсов
сказал читателям газеты о своем восприятии
шукшинского творчества: «Как бы там ни было, плод жизни по-
настоящему сладок, если и горечь ее не пугает нас,—
еот едва ли не главная философская тема Шукшина,
столь мужественного художника нашего советского
времени»'.
Матвей Рязанцев и в рассказе и в фильме вроде
смешон: ну чего вошла блажь: в человека, чего думать о
предметах, так сказать, несуществующих? А за этим ко-
Бурсрв Б. Несостоявшийся Диалог,—«Лит, газ.», 1974, 30 окт.
175
мизмом и блажью — вопросы всеобщие, универсальные.
Их решало человечество во все времена и еще не скоро
найдет на них ответы удовлетворительные...
В знаменитой «Смерти Ивана Ильича» герой
Толстого перед смертью кричит: «У! У-у! У!» И это все. И это
потрясает. За диким воплем этим — пустая жизнь,
праздность, пошлость.
Шукшинские герои, подходя к роковому рубежу, не
кричат, не проклинают жизнь. Они думают,— спокойно
и даже как-то покорно. «Как помирал старик»,
«Осенью», «Земляки» — эти шукшинские рассказы
оставляют наедине с человеком, уходящим в небытие,
подлинные ценности: думы о прошлом, о родном селе, о
близких, о любви. А сам автор? Зачем он так пристально
смотрел за горизонт, что его беспокоило? Только то, что
им руководила любовь к людям, к жизни... В рассказе
«Жил человек...» Шукшин пишет: «Человека не стало.
Всю но-1Ь я лежал потом с пустой душой, хотел
сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не
понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог,—
почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот
следок тусклый,— чуть-чуть бы хоть высветлилось в разуме
ли, в душе ли: что же это такое было — жил человек...
Этот и вовсе — трудно жил. Значит, нужно, что ли,
чтобы мы жили? Или как? Допустим, нужно, чтобы мы
жили, но тогда зачем не отняли у нас этот проклятый
дар —вечно мучительно и бесплодно пытаться понять:
«А зачем всё?» Вон уж научились видеть, как сердце
останавливается... А зачем всё, зачем?! Жить уж, не
оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько
отмерено. Похоже, умирать-то — не страшно».
Нет, тут нет бравады. Тут любовь — к человеку, к
его труду. В литературе нашей над подобными
вопросами задумывались немногие. А в кино пока — единицы.
Шукшин, Иоселиани...
Как же поразительно диалектичен был Шукшин!
Найдет один мотив и размышляет над ним, то сам (от
автора), то через героев своих, совестливых крестьян.
Вот писатель вспоминает своего земляка, рассказ так
и называется — «Дядя Ермолай». Дума эта Шукшина
хорошо известна, однако приведем ее снова:
«Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже
поминаю —стою над могилой, думаю. И дума моя о нем
простая: вечный был труженик, добрый, честный чело-
176
век. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка.
Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми
своими институтами и книжками. Например: что был в
этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том
именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла,
а была одна работа, работа... Работали да детей
рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей,
нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее
понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти
холмики, я не знаю, кто из нас прав, кто умнее?»
(1971).
Вечный труженик, как и дядя Ермолай, герой
шукшинской киноновеллы. И какое настроение грусти
вместе с комическим эффектом умеет создать Шукшин! Не
решить ничего и Матвею, сколько бы он ни думал о
прошлом своем, о дочери, о любви минувшей. Но любит
своего героя автор, не отмахивается от него. «Если
надо?»— так рассуждает Матвей. В 29-м вступил в
колхоз, надо было. Две войны отломал, ранило его (это как
же две-то? Значит, или финская, или в Монголии?) -^
тоже надо было. Женился, не до фильмов было, не до
книжек... Обычная судьба. Но кто же землю эту нашу —
русскую! — обихаживал, защищал, воспевал? Вот
такие, как он, председатель Матвей Рязанцев,— и
отвечают режиссер и фильм. Да в этом и заключался смысл —
жил человек...
Таких тревожных во имя любви к человеку не
задавал вопросов в нашем тогдашнем кино никто,
пожалуй...
И еще одна «мистическая» сцена
Шукшина-режиссера: Матвей додумался черт знает до чего. Ему
привиделись собственные похороны. Сознаюсь, и эту сцену мы
тогда, в 69-м году, не поняли. Показалась она
неуклюжей, безумной. А воспринимать ее следовало бы в
контексте всего шукшинского творчества — рядом с
литературой.
Шукшинская мудрая мысль спеленута здесь
комической оболочкой. Матвей сам присутствует при траурной
церемонии. Собрались люди, скорбит жена (актриса
Сазонова). Оператор Гинзбург снял сцену эту в
определенно условной манере: на контрастах черного и светлого,
даже с гротесковостью. Не знаю почему, но мне это
напомнило стилистику фильмов-ужасов, фильмов-загадок,
например, фильмов Кавальканти...
177
Шукшин делает вид, что простодушен. Что снимает
реальную сцену, что условность приема ни при чем.
К Матвею подходит даже корреспондент, спрашивает:
что он, Матвей, чувствует на собственных похоронах?
И тот, ничуть не удивившись, отвечает: страха нет, но
вот удивительно — ведь отнесут, и зароют, и забудут
навсегда. Ну, лет еще десять-пятнадцать будут помнить,
кто таков Рязанцев, а после-то обязательно забудут.
А вот Степана Разина — нет... Тридцать лет (1) был
Матвей председателем колхоза, но забудут, забудут...
Комизм сцены переходит в драму.
О таком характере комического превосходно сказал
Томас Манн: «Со времен Гоголя русская литература
комедийна, комедийна из-за своего реализма, от
страдания и сострадания, по глубочайшей своей человечности,
от сатирического отчаяния, да и просто по своей
жизненной свежести; но гоголевский элемент комического
присутствует неизменно и в любом случае» •'.
Измучено, тревожно лицо Матвея... Какого дьявола,
ведь дом у него — хоромы, жена, дочь, хозяйство
крепкое. Людей в колхозе хватает, а он — думы, сердце
ноет... Шукшин вывел на киноэкран решительно
неизвестный тип человеческой психологии, опять отыскал
глубину в человеке простом, мудреце не из
интеллигентов.
Один раз Матвей — Санаев взглянул прямо на нас,
то есть посмотрел в объектив кинокамеры. Так взглянул
и Бронька — Лебедев. Как посмотрел на нас и
поздоровался, сняв кепку, какой-то старик-крестьянин,
сразу после титров киноновеллы, явно типаж, явно
житель подлинной деревни, непрофессионал... Шукшин как-
то переходил грань условности, допустимого в кино,
хотел приблизить — так, вызывающе — экран к жизни. Он
говорил, что режиссеры привыкают к штампам, к
правилам, что вот, допустим, печка, ее десятилетиями
показывают на экране справа, значит, так и надо, никто не
возражает, печка должна быть справа. Всегда актеров
учили, что нельзя смотреть в объектив. Что угодно,
только не смотри в кинокамеру. А Шукшин
демонстративно отвергает сие правило. И его киноперсонажи
(«Думы») трижды смотрят прямо на нас, глаза в глаза.
О стереотипах, например: во всех наших фильмах, где
1 Манн Т. Русская антология.— «Лит. газ.», 1975, 4 нюня.
178
показаны шоферы, они, водители, пинают ногами
шины своих машин.
Даже сам Шукшин, исполнитель главной роли в
украинском фильме «Мы, двое мужчин», своим кирзовым
сапогом бьет по шине грузовика.
А вот Пашка Колокольников ни разу сей операции —
расхожей — не проделывает.
Мелочь?
Мелочь, как и то, что Баратынский не жаловал
букву «щ»... Ради гармонии стиха, сознательно.
В киноновелле «Думы» есть второй пласт, вторая
сюжетная линия, она связана с образами кузнеца
Кольки, учителя Вениамина Захаровича. И еще — с
литературой самого Шукшина.
Первая редакция текста рассказа «Степан Разин»
относится к временам диплома Шукшина — к 60-му
году. Тогда этот рассказ Шукшин принес в журнал
«Октябрь». Если бы он принес его в 70-м, рассказ тут же
напечатали бы. А тогда решили: неестественность,
надуманность. И писатель отнес рассказ в другой
московский журнал.
В рассказе кузнеца звали —Васёка. В фильме —
Колька, а учитель из Вадима сделался Вениамином.
Зачем-то Шукшину понадобилось это. А рассказ был
зрелый, заветный.
Колька — самородок. Он скульптор, режет из дерева
Степана Разина. В рассказе Колька был тоже
странный человек. Он говорил: «Я все про людей знаю. Они
все ужасно простые». Добавлял: «На самом деле они
меня любят. И я их тоже люблю». В фильме, к
сожалению, текст этот пропал. То есть, он произносится, но он
не слышен, не запоминается,— тут режиссер Шукшин
допустил ошибку. Он снял в роли Кольки Юрия Скопа,
с которым познакомился в Иркутске, в период съемок у
Герасимова в фильме «У озера». И раньше Шукшин
снимал знакомых писателей — Горышина, Ахмадулину. Они
могли нравиться или нет, но они были на месте. Скоп
же актер оказался слабый. Курит себе папиросы и
многозначительно молчит. Когда говорит — каша во рту.
Тема крестьянского самоучки выпадает поэтому из
фильма.
Гинзбург вспоминал, как он с Шукшиным гулял по
Владимиру, был перерыв в съемках, и в каком-то
магазине Шукшин купил альбом пластинок Шаляпина. Пес-
179
ня об атамане Кудеяре потрясла его. Режиссер тут Же
захотел использовать эту песню в фильме.
Учитель Захарович зовет к себе домой кузнеца и
слушает вместе с ним песню. Шаляпин исторгает у них
слезы. Колька после такого потрясения тащит своего
деревянного Разина — а он у него связан, руки заведены
назад — в костер, в огонь. Мол, неудачная работа, не
такой был мятежный Разин. И когда горит скульптура в
огне, в ночи ревет мелодия «Есть на Волге утес»...
Паника на лице учителя — как же так, горит народная
скульптура. А Колька — бодро: я другого, не связанного
Степана сделаю.
Странного человека не получилось. Колька пропал в
хорошем фильме, а эта неудача снизила масштаб
киноновеллы. Неудача Скопа как актера смазала и
актерскую работу Санаева.
Шукшин с этой — разинской — темой сбился на
скороговорку. Видно, как волновала его судьба донского
атамана. Вот и Панфилов в ленте «Начало», а ведь как
мечтал он о картине с Жанной д'Арк, успел что-то
сказать о легендарной Орлеанской деве. И Шукшин в
«Странных людях» о Степане Разине, любимце своем,
успевает сказать. Но рассказ, напечатанный в сборнике
«Сельские жители», действительно намного лучше,
нежели его кинодвойник. Выглядит эта новелла в фильме
ненужным довеском. Обидная неудача режиссера...
А слова-то звучат иногда шукшинские, веские слова,
Захарович, как и в рассказе, говорит о Степане
прекрасно: «Не любил он, знаете ли, эту разную парчу... и
прочее. Это ж человек был! Бывало, как развернется, как
глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!..
Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили
конину. Но и конины всем не хватило. И глядит
атаман: один казак совсем уже дошел, сидит у костра,
бедный, голову свесил, ну окончательно дошел. Атаман
толкнул его и протягивает свой кусок мяса. «На, ешь».
Казак видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь
сам, батька. Тебе нужнее».— «Бери!» — «Нет». Тогда
Степан Тимофеевич выхватил саблю — аж свистнула в
воздухе: «Бери, говорит, ешь!..» Казак съел мясо. А?..
Милый ты, милый человек... душа у тебя была».
В фильме Захарович (П. Крымов)—проповедник
русской истории, русской памяти. Это он подсказал
Кольке, что его Степан — «неправильный». Это он, Ра-
160
зин, казнил бояр, а его-то показывать связанным не
нужно, это он тряхнул Романовых (мотив, развитый в
киноромане Шукшина). Шукшин заставляет учителя
говорить: «Накормить себя человек не забудет. Если б он
еще не забыл хорошую песню спеть, сказку рассказать,
черта с рогами выдумать...» Захарович — сельский
интеллигент. Учитель все помнит, обо всем расскажет.
И Колька, кузнец, из молодых, ему нет тридцати, его
слушает.
Шукшин сводит две лини:! киноновеллы — думы
Матвея Рязанцева и самодеятельность Кольки.
Председатель идет по взгорку, на траве сидит кузнец, и Матвей
на ходу словно прощает всю «непутевую» молодежь,
так ему «досадившую»: «Молодец! Режь!» Поверил он,
Матвей, в жизнь, в будущее, в новых людей, коих он не
понимал...
И последний кадр фильма: поле, лето, ребенок
босой, в белой рубашечке. Еще сказать ничего не может,
мычит, топотает. Но это жизнь, это будущее. Это
вера. Похоже завершали свои фильмы «Неоконченная
пьеса для механическ -о пианино», «Несколько дней из
жизни И. И. Обломооа» Н. Михалков, «Вишневый омут»
Головня... Дети — как любовь авторов к жизни, как
надежда на добро, на род человеческий...
Недооцененная картина Шукшина, я попытался
рассказать о ней побольше.
Освобождающий смех
(«Печки-лавочки»)
Видно, та жизнеспособность, та стойкость
духа, какую принесли туда наши предки,
живет там с людьми и поныне, и не зря
верится, что родной воздух, родная речь,
песня, знакомая с детства, ласковое
слово матери врачуют душу.
Шукшин
«Не продается вдохновенье, но можно рукопись
продать»,—■ заметил резонно Пушкин. Он мог бы добавить
слово «нужно»: не только «можно», но и «нужно»...
Путь к экрану картины «Странные люди» оказался
181
на редкость сложным. Шукшин сдавал ее целых восемь
месяцев. «Устал, изнервничался,— передавал он о себе
родным.— Может, зимой на курорт съезжу. Каждый год
предлагают поехать, мне все некогда».
В ноябре 1969 года Шукшин был в Будапеште,
снимался в венгерском фильме «Держись за облака».
Оттуда, из Будапешта, он послал матери и сестре, в
далекие Сростки, цитировавшееся выше письмо, где, в
частности, сообщал: «Ну и скоро, очевидно, начну свой
фильм. Или о Степане Разине, или современный — еще
не знаю»'.
Письмо отражает и другой чрезвычайно
драматический момент творческой судьбы Шукшина: в ту пору
разрешения на съемки картины о Разине он не добился.
Оставался единственный выход — делать фильм на
материале современности, хотя попытки получить
согласие на запуск картины о Второй Крестьянской войне
Шукшин не оставлял.
В феврале 1971 года он пишет в заявке на имя
директора Киностудии имени Горького Г. Бритикова:
«В соответствии с договоренностью с Комитетом по
кинематографии при СМ СССР... я намерен приступить к
постановке фильма на современную тему при условии
(это также было оговорено), что работа над сценарием
о Степане Разине и некоторые возможные
подготовительные работы по этому фильму (Степан Разин) мной
и моими помощниками будут проводиться. В связи с
этим я просил бы, чтобы в приказе о запуске нового
фильма это обстоятельство было оговорено как-то»2.
«Фильм на современную тему» — а им-то и
оказались «Печки-лавочки» — Шукшин снял именно на
Киностудии имени Горького. Он вышел в 73-м году,
однако еще за несколько лет до этого (1969) Шукшин
представил сценарий будущей картины на «Мосфильм» (и в
Комитет), где получил принципиальное согласие на
запуск.
В том же феврале 1971 года Шукшин ведет
переговоры с Генеральным директором киностудии
«Мосфильм» Н. Сизовым: «Моя задача сейчас переписать
сценарий заново с учетом и тех пожеланий, которые
1 Теплый свет. Письма В. М. Шукшина родным.—«Сибирские
огни», 1977, №7, с. 180.
3 Шукшин В. Нравственность1 есть Правда, с. 336.
162
были высказаны у вас в редакторате и в Комитете».
•Однако сиять этот сценарий на «Мосфильме» не
удалось.
В архиве Шукшина хранится экземпляр заявки,
отправленной на имя Сизова. Вот как автор излагает
содержание сценария «Печек-лавочек»: «Это опять тема
деревни, с «вызовом», так сказать, в город. Иван
Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать
отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть
сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к
разговору об:
1. Истинной ценности человеческой.
2. О внутренней интеллигентности, о благородстве.
3. О достоинстве гражданском и человеческом.
Через страну едет полноправный гражданин ее,
говоря сильнее — кормилец, работник, труженик. Но с
каких-то странных пор повелось, у нас, что деревенского,
сельского надо беспрестанно учить, одергивать, слегка
подсмеиваться над ним. Учат -и налаживают этакую
снисходительность кому не лень: проводники вагонов,
дежурные в гостиницах, кассиры, продавцы... Но
разговор об этом надо, очевидно, вести «от обратного»:
вдруг обнаружить, что истинный интеллигент высокой
организации и герой наш, Иван Расторгуев, скорее и
проще найдут взаимный интерес к друг другу и тем
отчетливее выявится постыдная, неправомочная,
лакейская, по существу, роль всех этих хамоватых
«учителей», от которых трудно Ивану. И всем нам.
Если попытаться найти в данном сюжете жанр, то
это комедия... Но, повторяю, разговор должен быть
очень серьезным.
Под комедией же здесь можно разуметь то, что
является явным несоответствием между истинным
значением и наносной сложностью и важностью, какую люди
пустые с удовольствием усваивают. Все, что научилось
жить не по праву своего ума, достоинств, не
подлежащих сомнению,— все подлежит осмеянию, т. е. еще раз
напомнить людям, что все-таки наша сложность, ум-
ность, значимость — в простоте и ясности нашей, в
неподдельности.
Иван с женой благополучно прибыли к Черному
морю (первый раз в жизни), но путь их (люди, встречи,
столкновения, недоумения) должен нас заставить
подумать. О том по крайней мере, что если кто и имеет
183
право удобно чувствовать себя в своей стране, то это .-г*
работник ее, будь то Иван Расторгуев или профессор-
языковед, с которым он встречается. Право же, это их
страна. И если такой вот Иван не имеет возможности
устроиться в столичной гостинице, и, положим, с какой
лихостью, легкостью и с каким-то шиком устраиваются
там всякого рода деятели в кавычках, то недоумение
Ивана должно стать и нашим недоумением. Мало
сказать— недоумением, не позор ли это наш?
Вот — коротко — о чем сценарий».
Шукшин выдержал намеченный жанр: сценарий,
затем окрещенный киноповестью, полон комических
ситуаций, потешных недоразумений, смеховая стихия
захлестывает все его пространство. Традиционный мотив
путешествия «деревенского жителя», то и дело попадающего
впросак, изначально давал возможность свободно
чередовать комедийные положения. Заодно с персонажами
дурачить и зрителя, пряча за такой путаницей лукавое
своеволие сочинителя, пружины веселой игры.
Путешествие алтайского тракториста будет
веселым— вот первоначальное условие Шукшина,
упрятавшего за карнавальной оболочкой гнев и горечь
художника.
Есть основание думать, что мысль сочинить
комическую киноповесть появилась у Шукшина не без
соблазна выиграть некое негласное творческое соревнование.
Такое дружеское соперничество — в границах заданной
темы или жанра — известно в истории русской
литературы. В статье 67-го года с примечательным названием
«Средства литературы и средства кино» (ее мы
вспоминали выше) Шукшин, как бы мимоходом,
оговаривается: «Есть у меня друг, писатель, великолепный
писатель. Он задумал сценарий кинокомедии» '. Этот
сценарий, а точнее — киноповесть «Целуются зори» Василий
Белов, до конца дней Шукшина остававшийся его
верным, близким другом, создавал шесть долгих лет, пока
не выбрал вариант, увидевший свет после смерти
Шукшина. В этом варианте Белов — с ним-то и вступил в
дружеское творческое соперничество Шукшин —
вспомнил, почему он задумал сценарий. «В печати тогда
шли дискуссии о жанре современной кинокомедии.
Работники кино, режиссеры писали, читали, спорили на
' Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 147.
184
страницах газет, негодовали из-за отсутствия хороших
кинокомедий, предлагали свои рецепты и т. д. Мой друг,
причастный к кино (читай: Василий Шукшин.— Ю. Т.),
писал из Москвы, что я обязательно должен сделать
сценарий. И вот я за три дня и три ночи написал этот
сценарий»'.
Белов любит северное слово «бухтина» — завиранье,
беззлобно лукавый рассказ. Вот и киноповесть его —
потешка, намеренно простодушный рассказ о поездке в
город трех сельских жителей, об их злоключениях,
забавных нелепостях, что произошли с ними в незнакомой
им Вологде. История поездки, будто бы выпавшей на
долю ныне постаревших героев много лет назад, полна
курьезов, непредвиденных случайностей, она словно
предоставляет простор для «завиральной» фантазии
рассказчика. А он с видом простака уверяет, что
ничегошеньки не выдумывал, только пересказал бывальщину.
Сценарий Белова светел, как сами северные зори.
Вот его проза: «Все затихает в" деревне, все засыпает,
один костер еще дымит у реки. Белый дым тонким,
прямым, очень высоким столбом уперся в зеленое небо.
Сумрак, тишина. Но я знаю, что едва успеет погаснуть
вечерняя заря, как на севере, чуть правее того места, где
она только что потухла, родится дальний, еле уловимый
отблеск утра. «Целуются зори»,— говорят в народе про
эту странную пору».
В киноповести Белова нет негодования, это смех без
отрицания. Тут смешны ситуации, но не люди. Правда,
когда на «Мосфильме» режиссер Никоненко снял
картину (1978) по этой киноповести, он попытался кое-где
усилить сатирическую ноту (например, откровенно
пародийно— не без влияния кинематографа Шукшина —
снял сцену гулянья в провинциальном ресторане; сюда
прокрался и мотив песенной пошлости, так зло и остро
поднятый Шукшиным в его творчестве). Но главная-то
интонация киноповести «Целуются зори» все-таки
смешливое завиранье, анекдотичность устного рассказа, без
желания осудить или развенчать героев, незадачливых
путешественников.
В городе они потерялись — буквально и
иносказательно: старик Егорович, мечтавший вылечить зубы и
повидать зятя, колхозный бригадир Николай Иванович
1 Белов В. Целуются зори. М., «Мол. гвардия», 1975, с. 75—76.
183
и Лешка, тракторист, еще даже не служивший в
армии... Вряд ли Белов хотел сказать свое слово в
полузабытой теперь дискуссии о противопоставлении города
и деревни. Если есть какие-то ее отголоски в
киноповести, так это универсальность приема: смело оттенить
светлые, веками сложившиеся положительные качества
коренного деревенского жителя. Но лишь полюбоваться
этим жителем, а не «опрокинуть» город, обвинив его бог
знает в чем.
Герои киноповести — из послевоенной деревни, столь
знакомой Шукшину; Белов и Шукшин — почти
ровесники. Двое из беловских путешественников воевали:
Егорович еще в первую мировую, Николай Иванович — в
Великую Отечественную. Все три героя истинные
труженики, с природным чутьем на добро. Но и живые
люди: могут выпить по маленькой, слукавить перед
богобоязненной односельчанкой, могут приобнять случайную
знакомую, которой непросто адаптироваться в городе
после короткой деревенской юности. Киноповесть не
делает из своих героев «маленьких святых», какнх-то
особенных, от «сырой земли», патриархальных странников.
Она проще и дальновиднее: тут лукавый прищур жизни,
а она течет, не выбирая гладкой дороги.
Кииоповесть «Целуются зори» прозвучала бы
гораздо сильнее тогда, когда была задумана — лет
пятнадцать назад. Вернее, гораздо сильнее выступило бы
значение этой вещи для кннопроцесса. Самое
заманчивое и, наверное, самое лучшее — быть экранизатором
собственных повестей, тут появляются предпосылки
подлинного синтеза литературы и кино, не говоря уж о
возможностях преодоления производственных
«рогаток»... Увы, такое произошло в нашем тогдашнем
киноискусстве лишь однажды...
С другом Белова — Василием Шукшиным...
Хождение «за три волока» своего любимца, Ивана
Расторгуева, Шукшин выстраивал, в принципе, схоже.
Комические приключения «деревенщика», алтайского
«пенька», возникали тоже вследствие незнакомства с
городом, его правилами, его загадками. Но внутри этих
комических ситуаций вскрывались не только законы,
кои правят городом,— обнажалась диалектика самой
жизни...
Налет элегичности, заметный у Белова в его
киноповести, почти целиком убран в «Печках-лавочках».
186
Шукшин, писатель и режиссер, как бы трезвее и
полемичнее. Нота сквозной лирической интонации,
свойственная беловской киноповести, заменена у Шукшина
акцентировкой противостоящих начал, острым
психологическим и социальным разделением типов, человеческих
характеров.
В «Печках-лавочках» примечательны не только
жанровые поиски Шукшина — комедиографа, заявка на
«чистую» комедию,— тут прочитывается его ведущая
тема, прозаика и кинематографиста: о несовпадении
ценностей истинных и поддельных, о нравственной
автономии души, пусть принадлежит она человеку на первый
взгляд рядовому, обычному.
В киноповести о приключениях Ивана Расторгуева
Шукшин двигался вослед своим собственным поискам
писателя — через по видимости смешные коллизии,
анекдотически-житейские сценки, комически-бытовые
зарисовки он утверждал самозначность человеческого
добра, мучительно страдал за его поругание.
Шукшин искренне считал свои рассказы лучше своих
первых трех фильмов. И ему очень хотелось видеть
именно литературу именно для кино. «Может быть,
когда-нибудь что-нибудь выйдет,— мечтал он в 67-м году.—
Это должна быть чрезвычайно гибкая литература,
которая не будет приспосабливать к себе
индивидуальности режиссера и исполнителей, а будет сама к ним
приспосабливаться. Но тогда она потребует: режиссер,
исполнители должны быть — художники. И так и
надо»1.
«Печки-лавочки» выглядят автономно по отношению
•к новеллистике Шукшина. Киноповесть создавалась
самостоятельно, на едином дыхании, в ней нет швов,
обычных для предыдущих сценариев и объясняемых
приспособлением для экрана шукшинских рассказов. Сам
Шукшин, вспомним, видел прокатный неуспех
«Странных людей»' в специфичности конструкции этого фильма:
зрители-де не привыкли к форме киноновелл, не
воспринимали фрагменты повествования как некий триптих,
завершенный по мысли, целостное произведение.
«Печки-лавочки» были очередным экспериментом:
связь его с новеллистикой Шукшина была не на
поверхности, как раньше, а в глубине поведанной с экрана по-
* Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 156.
187
тешной истории, хотя и здесь Шукшин «оступился» —
вмонтировал в кипоповесть куски собственного
литературного текста: из новеллы «Петька Краснов
рассказывает» (недоумение и «восторги» деревенского парня на
юге, куда он ездил лечиться от радикулита,— эта сцена,
правда, в фильм не попала). Некоторые критики
увидели в этом «освобождении» Шукшина-сденариста от
Шукшина-рассказчика новое качество, ко благу
изменившее отношение зрителей к последним двум
шукшинским фильмам. В момент появления «Печек-лавочек»
можно было так полагать. Однако надо было
чувствовать природу творческой души художника, чтобы не
закоснеть в данном предположении. Картина «Позови
меня в даль светлую...» Шукшиным задумывалась, к
примеру, после фильма «Печки-лавочки», а связь этой
киноповести с новеллистикой Шукшина очевидна: в
сценарии объединились мотивы и герои рассказов «Космос,
нервная система и шмат сала», «Вянет, пропадает»;
«Забуксовал», мелькнула едкая усмешка новеллы
«Петя» и даже повести для театра «А поутру они
проснулись...».
Так что мысль о «новом качестве»
Шукшина-кинодраматурга принадлежит своему времени. Формально в
«Печках-лавочках» Шукшин ушел от своей прозы,
затеяв очередной художнический опыт. Он искал новых
путей для контакта с широким зрителем, его огорчила
неудача в прокате «Странных людей». Но меньше всего
следует видеть в тогдашнем шаге Шукшина разлом
кинематографиста и литератора-рассказчика. От
собственной прозы режиссер Шукшин не мог, да и не собирался
отходить. Наоборот, развитие его как
кинематографиста (это наш рефрен) было обусловлено движением его
как писателя, а тут многие мотивы были для него
окончательно уяснены. Движение, характерное для
сборников шукшинских новелл, имело неукоснительную цель —
понять и защитить человека. Каждый сборник делался
явлением нашей литературы, имел значительный
читательский резонанс. Собранные в книгу, рассказы
звучали мощным многоголосием, дополняли друг друга,
варьируя основную авторскую мелодию. По смерти
Шукшина и новеллистическое построение картины «Странных
людей» стало восприниматься без лишних дискуссий,
кинотриптих вдруг сделался экранным аналогом
сборников шукшинской прозы.
188
Гораздо важнее при разговоре о «Печках-лавочках»
то обстоятельство, что Шукшин-актер, зрелый актер,
наконец-то снялся у Шукшина-режиссера. Более десяти
лет они существовали раздельно, эти две ипостаси
художника. Кинематограф Шукшина 70-х годов
закономерно потребовал пластического оформления некоторых
заветных мыслей и чувств от самого автора. Момент
самовыражения Шукшина-кинематографиста достиг
верхней точки.
«Печки-лавочки» Шукшин снимал с новым
оператором— Анатолием Заболоцким, тоже вгиковцем,
интересно проявившим себя на Минской и Таллинской
киностуднях. Рядом с Заболоцким Шукшин почувствовал себя
свободнее, он мог смело довериться его вкусу, а это
обстоятельство сыграло свою роль в решении режиссера
выступить и в качестве актера.
Если взглянуть на термин «авторское кино» без
теоретического предубеждения, то в данном случае мы
имеем дело именно с такого рода кинематографом. Приход
к авторскому кино выразился для Шукшина не только
в том, что в фильме «Печки-лавочки» он предстал перед
нами «един в трех лицах»: как сценарист, режиссер и
актер, исполнитель центральной роли. Но и в смысле
продолжения, углубления своих же традиций,
заявленных и развитых в предыдущих картинах, в
литературном творчестве. Тут, в «Печках-лавочках», видно как
прошлое художника, так и его будущее, тут ответы
самому себе, не раз задававшему тревожный и больной
вопрос: как жить? Тут укрепление в мысли о ценности
истинного человека, печаль о его унижениях и ошибках,
его несовершенстве, падениях на крутых и нежданных
изгибах жизни.
Цель и средства авторского кино были для Шукшина
на том отрезке времени четко осознанны. Новый
эксперимент он затевал не вслепую. Интуиция художника
поверялась самоанализом, вдумчивым присматриванием к
переменам и новациям кинопроцесса.
На рубеже 60—70-х годов Шукшин увидел в нашем
кино большую, нежели прежде, возможность,
необходимость выражения собственной авторской позиции. Ему
справедливо казалось, что это самое важное для него
как кинематографиста. Он не испытывал тогда ни
почтительной робости перед авторитетами, ни
снисходительности к «косноязычию» экрана рядом с беспредель-
169
нымн возможностями книжного слова. Тенденция к
авторскому фильму была им почувствована и увидена в
работах других, это его радовало. «В данном случае,—
говорил он в тот период кинокритику Валентине
Ивановой,— не важно, кто автор — актер ли, режиссер или же
оператор. Важен автор. Одно лицо, задумывающее и
создающее фильм. Чаще всего сегодня это режиссер
(курсив мой.— Ю. Т.). Он сам находит себе сценариста,
посвящает его в свой замысел, он задумывает и
осуществляет свой фильм. Он сводит воедино еще много
профессий, подчиняет их единому направлению, он все это —
энергию и способности многих людей — может обратить
цельностью. И вот удивительный закон: чем крупнее
автор-режиссер, чем он самобытнее, тем больше
выигрывают сопутствующие ему профессии. Заметили ли вы,—■
задавался Шукшин вопросом,— что с хорошим
режиссером работают хороший оператор, хороший художник,
композитор, декоратор?.. Кто в ком умер, кто кого
породил? Вопрос и претензии снимаются как раз
отчетливым авторством режиссера». По мнению Шукшина,
тенденция авторского фильма, безусловно, будет расти
и развиваться. И это свидетельствует о том, что кино
все более становится искусством, когда есть
возможность вот такого авторского монолога. «...Растет
стремление не просто снять очередной фильм, но серьезно
поговорить о проблемах, которые ставит жизнь. Тем самым
все больше умаляется профессия режиссера как чисто-
ганная. Время ремесла проходит, наступает время
серьезного искусства. А личность художника всегда
предполагает авторский разговор»'.
Для Шукшина-режиссера не существовало
проходных лент, каждое его слово в разговоре со зрителем —
каждый фильм — являлось выражением сокровенного,
высказывалось искренне и беспокойно, без кокетства и
пустого заигрывания. Как и проза, кинематограф
Шукшина в своей глубине исповедальный. Личность
художника чужда камуфляжа, она пристрастна. Защита ею
добра свободна от снисходительности к человеческому
несовершенству. Шукшин не благодушен, он мудро
прост: нравственность — есть правда, это его формула, а
правда жизни оборачивается для него на экране
правдой искусства.
1 Шукшин В. Воздействие правдой, с. 229.
190
Задаваясь вопросом о будущем кинематографа,
Шукшин — он оговаривался, что имеет в виду не далекое
время, а ближайшее будущее,— видел силу экрана в
стремлении, одновременно умении вести разговор со
зрителями сердцем, не посредством формотворческих
приемов— это было ему чуждо (хотя он не «отменял» для
других стилистики «поэтического кино»), а
исповедально, доверительным голосом. Примером безусловно
авторского фильма, проблематика и манера которого были
ему весьма симпатичны,.Шукшин называл работу Отара
Иоселиани «Жил певчий дрозд» (1970). Способность к
доверительному разговору грузинского режиссера он
высоко ценил.
«Прекрасная картина! И грустная и светлая вместе.
Повесть о несостоявшейся судьбе, в которой никто не
повинен, кроме, может быть, собственной доброты
парня. Вот к вопросу об умении вести рассказ
насыщенно: и характер, и душа, и судьба, а рассказано за
полтора часа. Внутренний сюжет, по которому сделан
фильм, требует подробности, какая немыслима на
большом отрезке времени. Заметьте, однако,— призывал
Шукшин,— что подробность здесь—не деталь быта, а
малоуловимое движение души героя, а если быт тем не
менее возникает как подробность, то цель его
служебная, вторичная»'.
Примечательно, как сам Шукшине
«Печках-лавочках» (он давал цитировавшееся выше интервью во
время съемок этого фильма) сумел объединить «движение
души героя» с «подробностями быта» родной ему
алтайской деревни,— это, кстати, было в традициях эстетики
его предыдущих картин.
Подробности быта здесь проливают дополнительный
свет на психологические портреты героев,
намагничивают силовое поле шукшинских фильмов. Умно и любовно
показал Шукшин алтайскую землю в картине «Живет
такой парень», предпослал увертюру из деревенских
пейзажей, деревенских типов первому сюжету в
«Вашем сыне и брате». Тут, в «прозаических бреднях»,
«пестром соре фламандской школы»,— и сыновнее
поклонение «малой родине», и желание удержаться от
столь раздражавшей режиссера «кино-велеречивости», и
«грань простоты», бессловесный авторский «манифест».
1 Шукщин В. Воздействие правдой, с: 230.
191
Как у Пушкина, в период его сидения в Тверской
губернии за «Путешествием Онегина»:
«Иные мне нужны картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...»
Среди алтайских приволий, бок о бок с
односельчанами, тружениками на этой земле, с рождения
протекала жизнь Ивана Расторгуева — героя фильма «Печки-
лавочки». Здесь бегал он в сельскую школу — может,
была только семилетка, вот он и не добрался до
аттестата зрелости; здесь стал трактористом, женился,
обзавелся детьми. Здесь его дом над правобережьем Кату-
ни, здесь ему хорошо и покойно душой. Он не рвется из
села на заработки в шахты, как его тезка из рассказа
«В профиль и анфас», разжалованный в скотники
шофер. Расторгуев — мужик с корнями, оседлый. Дальше
своей «малой родины» он не выбирался, его даже в
армию не призывали: на пахоте позарез нужны были
умелые трактористы. Редкая для наших суматошных
неспокойных дней нерасторжимость человека с землей, она —
по фильму—и предопределяет душевную организацию
Ивана. Ему хорошо дома, в селе, и это состояние покоя
Шукшин в картине высвечивает, ценит.
Вспомним первые кадры «Печек-лавочек»...
Режиссер открывает фильм нашим знакомством с
главным персонажем повествования — этим самым
трактористом Иваном Расторгуевым, худым, видно по всему
выносливым крестьянином; его же играет актер
Шукшин. Ракурс кинокамеры оператора Анатолия
Заболоцкого взят примерно от уровня глаз стоящего человека,
герой на укрупненном плане, приближен к нам,
зрителям.
Умело, на широком замахе, косит Иван ручной
косой добрую, выше колен степную, налитую первозданной
силой траву. «Сочно, просвистывая, сечет коса;
вздрагивает, никнет трава». Прервался на минуту перевести
дух, оперся на древко косы и засмотрелся вдруг на
степные просторы, прокаленные солнцем, бескрайние.
192
Засмотрелись вместе с Иваном и мы, задетые волей и
красотой алтайской степи, так и послышался сказочный
запах разнотравья, пчелиный гуд, «неутомимый, ровный,
сухой стрекот кузнечиков. Да с неба еще льются и
скользят серебряные жаворонки-сверлышки».
«Вольный зеленый край. Здесь издавна были
покосы». Так пишет об алтайских степных предгорьях, кучу-
турах по-местному, писатель Шукшин в рассказе
«Земляки» (он создан почти одновременно со сценарием
«Печек-лавочек» — годом раньше), такими он
показывает их в фильме — вольными, разнотравными, манящими
человеческий взор.
Косарь и земля, родина, в мире и согласии, в
сознаваемом сердцем единстве — вот заявка, экспозиция
одной из главнейших тем фильма. «Хорошо! Господи, как
хорошо!.. Редко бывает человеку хорошо, чтобы он
знал: вот — хорошо» (рассказ «Алеша Бесконвойный»).
Изображение здесь лишено звуковой дорожки — это
видение, исполненное тишины и покоя, самозначный
зрительный образ, зачарованность действом.
Долгий кадр покоса — первая прокладка,
вмонтированная режиссером в титры картины. Беспечно
тренькают балалаечные струны. На экране под стать лукаво-
простодушной мелодии — фон для титров: рисованное
изображение рубленного «в лапу» сруба, с бегунцами
трещин, иссохшего и почерневшего на ветрах и солнце.
Тут с простецкой улыбкой режиссер «настраивает» нас
на восприятие то ли кинолубка, то ли шутейной истории
с «деревенским уклоном», провоцирует откровенной
подделкой под «народную жизнь», мол, чего ждать от
картины с таким несерьезным названием... Да и что
такое, в самом-то деле, это расхожее присловье —
«печки-лавочки», родные сестры каких-нибудь «елок-палок»,
столь же расхожей бессмыслицы? Неистребимая ли
привычка к речевому абсурду, когда житейская
ситуация непередаваема обычными «содержательными»
словами?
В экспозиции Шукшин, таким образом, обыгрывает,
сталкивает, разводит две мелодии, кинозрелища —
шутейно-занимательную, балаганную, от смешинки «печек-
лавочек» идущую, и мелодию неясной, глубокой грусти,
что возникает в душе при общении с родной землей,
•обостренном чувстве любви к ней, такой красивой,
близкой.
-8 -3«к. 640
193
Вторая прокладка в титрах — появляется она; Нюра
Расторгуева, жена Ивана, героиня. Общий план, камера
снимает с верхней точки. Делянка Ивана. Длинные
ровные полосы выкошенной травы. Косарь еще машет
своей косой. А с краю делянки тихо сидит женщина с
вытянутыми на земле ногами, как жницы на картинах
Венецианова, ждет окончания работы мужа. В ногах
женщины узелок, принесла поесть Ивану. Что именно
принесла, Шукшин не показывает, его такая подроб1
ность, дотошная, не интересует, важна общая картина
привычного для обоих героев дела, важен воздух такой
мирной и пленительно заурядной композиции.
В прозе же своей Шукшин не обходил вниманием
такие вот бытовые подробности, они укрепляли
аскетические конструкции его рассказов. «Наскоро перекусив
малосольным огурцом с хлебом, старик отбил литовку, по^
вжикал камешком по жалу» («Земляки»). «Старик
расстелил на траве стиранную тряпочку, разложил огурцы,
хлеб, батунок мытый... Пошел к ключу: там в воде
стояла бутылка молока...»
Третья прокладка—снова беззвучное видение,
мирная картина отдыха. Иван полуприлег в овсах, рядом
Нюра, а мимо проходит охотник, просит огня у Ивана,
прикуривает. Разошлись, охотник в одну сторону, Иван и
Нюра в другую, к селу. Иван в кепке, ватнике и кирзовых
сапогах, шагает чуть вразвалку, широко. Так шагал по
своей последней борозде Егор Прокудин в «Калине
красной», в таких же кирзовых сапогах. Сергей Залыгин без
всякой иронии отметил несколько лет назад:
«Статистически явному большинству героев Шукшина кирзовые
сапоги принадлежали по роду их занятий и профессий,
но дело вовсе не в этом. Ведь и тех интеллигентов,
которых он показал нам, он обул в те же сапоги — модные
туфли ему совсем ни к чему, они только мешают
проникнуть в существо характера и разобраться в
поставленном вопросе, он и своего Степана Разина — мужика
в вождях—оставляет в тех же сапогах. Этому ничуть
не мешает то обстоятельство, что в разинскую пору они
еще не были изобретены»1. В кирзовых сапогах сам
Шукшин явился на приемные экзамены во ВГИК, в них
же притопал в редакцию журнала «Октябрь», когда
принес на суд первые свои рассказы. У Евгения Евтушенко
Шукшин В. Избр. произв., с. 11.
194
есть полусерьезные, полушутливые строки о давней; его
встрече с Шукшиным, задиристым, молодым, тот
попенял поэту: «Я не знал, что ты пижон, / В сапогах ходить
должон!»
Четвертая прокладка — две спящие на кроватке
девочки, дети Расторгуевых, дети самого Шукшина, Маша
и Оля, по фильму—Валя и Нина. Тема детей возникла
еще в «Странных людях», в первой новелле. В «Печках-
лавочках» она не только повторена, она усилена. Тема
эта властно зазвучала и в тогдашней новеллистике
Шукшина. Писатель выражает свое самочувствие
словами, вернее, потаенными думами главного героя
рассказа «Алеша Бесконвойный»: «Последнее время Алеша
стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит
степь за селом, зарю, летний день... То есть он вполне
понимал, что он — любит. Стал стучаться покой в
душе— стал любить. Людей труднее любить, но вот
детей (курсив мой.— Ю. Т.) и степь, например, он любил
все больше и больше».
Наконец, венчающий титры крупный план — пожилая
женщина, со спокойным, исполненным собственного
достоинства ликом, повязывает на голову нарядный
платок. Это молчаливое, по-своему привлекательное лицо
более не появится в фильме, оно загадочно и просто,
типаж и символ одновременно, тип неброской красоты
русской крестьянки и символ деревенского покоя,
житейской мудрости и женского многотерпенья'.
Статичный, довольно продолжительный по метражу кадр,
посыле чего режиссер Шукшин резко меняет ритм фильма.
Врывается действо гулянки на проводах Ивана в
отпуск.
Катунь, бревенчатый руль, плотогоны... Над кручей
правобережья реки — дом Ивана, хозяина провожают
на юг. На Катуни знакомы все, и щедрый, размашистый
Иван, радушный, машет с верхотурья плотогонам:
«Причаливай!.. Гульнем!» Деревенская спайка, она все
еще чудилась Шукшину в тот период, он боялся ее от-
1 Зоркая ошибается, когда говорит, что Мария Сергеевна
Шукшина — мать режиссера — впервые появилась перед кинокамерой
Заболоцкого, в его короткометражном документальном фильме
«Слова матери», сделанном в 1978 г. на студии «Беларусьфильм»
(см.: Зоркая Н. Снова на берегу Катуни.—«Сов. экран», 1978, № 19,
с. 4). В упомянутом выше кадре из «Печек-лавочек» Шукшин
показал именно ее — Марию Сергеевну.
8*
195
мести, предать, развенчать. Узами доброжелательства и
взаимной симпатии связывал он в фильмах своих
сельских жителей, хотя проза его на исходе 60-х годов
стала наполняться мотивами горечи и разочарования — от
идущего в реальной жизни распада многих прежних
связей алтайской деревни. Трещина социальных перемен
расколола некогда казавшуюся дружной деревенскую
общину. И, выхватывая из этой современной сельской
жизни конкретные типы, человеческие характеры во всей
полноте их конкретного существования, прозаик
Шукшин, идя за правдой реальности, разводил своих героев
по обе стороны добра и зла. Бывший шофер, молодой
парень, ударившийся из села на шахты, не понимал
старика, коренного сибирского хлебороба. «Ну а что я тут
буду делать-то? — опять взвился Иван.— На этот идти,
на... Да ну, к черту!» Упорный бригадир Шурыгин прет
против сельского «мира», сносит трактором деревенскую
каменную церковь («Крепкий мужик»).
Кинематограф Шукшина словно избегает такой цент-
робежности сельской жизни. Деревня здесь — земля
обетованная.
Как и на встрече Степки в «Вашем сыне и брате», на
проводах в отпуск Ивана Расторгуева гуляет буквально
полсела. Зашел — садись. Излюбленное режиссером
застолье: шум, песни, обрывки разговоров, графины,
обычная деревенская снедь, возбужденные лица... Всем
хорошо, все шумят, перебивают друг друга, все равны в этом
действе.
По сравнению с киноповестью сцена гулянки
разрослась, стала как бы самостоятельной «этнографической»
новеллой. У нее — особый ритм, свои акценты и
укрупнения, сюда ворвался вольный воздух алтайских
предгорий, всамделишного деревенского бытия. Сцена будто
подсмотрена в реальности, это вид документальной
зарисовки, жизнь врасплох. Этот многоплановый эпизод
справедливо сравнивали с Катунью: гулянка много-
струйна, бурлива и течет, кажется, без всякой
«подсказки» со стороны режиссера. Впечатление сиюминутности
происходящего режиссер усиливает «добавлением» к
актерам-профессионалам, занятым в сцене, своих
односельчан, сросткинцев. Они играют самих себя. Это
буквальная иллюстрация к известным словам Нильса
Бора: мы, люди, в жизни драматурги и актеры
одновременно. Для эстетики Шукшина-кинематографиста тя-
196
готение к незагримнрованной реальности — в данном
случае выбор исполнителей-непрофессионалов — всякий
раз органично, стилистически оправданно. Его опыт в
этом отношении ценен для советского кино, хотя, как мы
знаем, не единичен.
Многие свои рассказы, особенно в последние годы,
•Шукшин создавал буквально с натуры, его притягивала
правда невыдуманного. С натуры он и снимал, во
всяком случае, это характерно для начальных эпизодов
«Печек-лавочек».
Вот железнодорожный вокзал в Бийске, откуда
направлялся в Москву Иван, с его зашарпанностью,
суетой; вот еще вокзал, по пути: ветеран-инвалид на
костылях, милиционер с попутчиком, старушки какие-то (а
звуковым фоном при этом — песня-баллада о Руси,
России-матушке)... Обычные, подсмотренные в
кутерьме передвижений «российские пассажиры», как назвал
их в киноповести Шукшин.
Немало таких зарисовок, Вставок в картине. Они,
как раствор, цементируют основные сцены фильма,
вносят привкус многоликой и пролетающей мимо
человеческих глаз жизни.
Вот древний, немощный старик в эпизоде гулянки.
Вдруг, с разбегу, после ералаша общего застолья
камера буквально натыкается на этого старика,
восседающего на стуле на фоне белёной стены. Он позирует,
глядя неотрывно в объектив, на нас. Этот седой,
бородатый крестьянин, девяностолетний сросткинец
Михаил Михайлович, на короткий миг появлялся в картине
«Ваш сын и брат», в том эпизоде, когда счастливая
Верка Воеводина (брат Игнат привез ей из Москвы
новое белое платье в подарок), глухонемая, идет,
показывая обнову, по селу. Два старика ласково ей
улыбаются, сидя на солнышке. Один из них, с белой бородой и
морщинистыми натруженными руками, перекочевал в
«Печки-лавочки». Снова типаж и символ одновременно
показывает нам Шукшин. Старик молчит, ему не по
годам участие в застолье, он отдыхает, сложив руки свои
на коленях, и смотрит прямо перед собой, то ли думая
о чем-то своем, то ли изучая нас, зрителей... Это
побратим старика из новеллы «В профиль и анфас»,
труженик, вечный крестьянин. «Знал работал за троих.
Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать ба весь, наверно, с
год все село кормить можно было».
197
Затем старик появится еще дважды: где-то в
сторонке от всех он будет с удивлением разглядывать
транзистор в руках подростка, объясняющего ему принцип
работы этого маленького чуда, а после — заляжет на
печку, взирая оттуда на пляску гостей и домашних.
Драматургической нагрузки у образа этого нет
решительно, он вне шутейной игры автора с Иваном (в
киноповести Иван «двинул» домой с дороги письмо, там
здоровался с дедом: это, очевидно, и есть наш старик из
«застолья»). Появление деда оживляло картину
застолья, юмор Шукшина здесь незлобивый, легкий. Режиссер
подшучивал над старостью, но и уважал, не скрывая
своего отношения, прожитую в труде жизнь. От фигурки
немощного крестьянина тянулись скрытые корни к
земле, которую он обрабатывал, а может и защищал. Так в
увертюре «Листопада» у Иоселиани возникал,
безотносительно к проблематике сюжета, древний грузинский
храм. Режиссер ничего не объяснял, он зачарованно
слушал застывшее эхо вечности.
Эпизод гулянки пронизан, как всегда у Шукшина,
пением. Поют про чернобровую цыганку, поют «Ряби*
' нушку», протяжно и грустно, поют свои, сросткинские
напевки, бесконечные. Песни, как и пляска, объединяют
людей, выворачивают их души, исторгают слезы и
восторг. Это отношение к песне исконное, не столичное, оно
было в высшей степени свойственно самому Шукшину.
В «Печках-лавочках» он показал «странного человека»,
чудика: Федю-балалаечника, самоучку, игравшего на
деревенских свадьбах и гулянках. В одном из первых
шукшинских рассказов, «Одни» (рассказ был
экранизирован в 1966 году режиссерами-дипломниками Л.
Головней и А. Сурнным, и очень удачно),
Федя-балалаечник выведен под именем Антипа Калачикова, сухого
маленького шорника, он «пел задушевно, задумчиво.
Точно рассказывал». Когда голосом Нюры читается второе
письмо Расторгуевых с дороги, Шукшин показывает
крыльцо Иванова дома, поодаль на скамейке сидят
Федя и сам Иван, звенит переборами балалайка в руках
умельца. «Сухой, маленький». В 71-м году он погиб в
автокатастрофе.
Шукшин был влюблен в своего односельчанина.
Композитор «Печек-лавочек» П. Чекалов передавал слова
режиссера: «Вот Федя сымпровизировал, а ты сделай из
этого что надо, особенно финал фильма. Сделать мело-
198
дню надо в таком задумчивом плане, будто Ивана
Расторгуева (он вернулся с курорта на родину и сидит
на пашне) слушает сама земля, будто он разговаривает
с землей». Из наигрышей Феди-балалаечника
композитор извлек основную музыкальную тему фильма, она
вступает еще на титрах. Эта же музыка, только
драматизированная, прозвучит и в сцене покаяния (после
встречи с матерью) Егора Прокудина.
Сельским киногероям Шукшина хорошо, повторим,
когда они у себя, среди своих, в родных гнездах. Вот
течет гулянка, убрали половик, дробь каблуков стучит
об пол, а Иван присел с папиросой у раскрытого окна,
засмотрелся на улицу, и лицо его светится в
доброй, ясной улыбке. Чистое, не пьяное лицо хозяина,
мужа, покой на душе, вот Нюра наклонилась, что-то
хорошее сказала, Иван согласно кивнул — мол, хорошо
гуляем, снова повернулся к окну, затянулся...
Простенькая обстановка, крашеные половицы, цветы в горшках
на подоконнике, лебеди на черном драпе над железной
сетчатой кроватью; нет, режиссер не идеализирует своих
героев, но и не обедняет — примите их такими, как есть,
ни лучше, ни хуже. Душа у них светлая, вот главное, по
Шукшину. И живут они в согласии с самими собой — вот
условие, основание их душевного равновесия. Трудятся,
детей воспитывают, гуляют иногда на всю раскрутку —
и не подсмеивайтесь над ними, а они-то сами никого
чужого не тронут. Шукшин-актер здесь в полном согласии
с Шукшиным-режиссером, играет своего среди своих.
А поутру они проснулись... Солнце занялось над
селом, заворочался рабочий день. И в который раз
режиссер всматривается в знакомую годами картину
утренней деревни, в заведенный здесь порядок вещей и
ловит, ловит глазком кинокамеры эти подробности
неспешного незаимствованного бытия. Кошка прошмыгнула
по двору, учитель Лев Казимирович «медленно и
культурно шагает» с напарником на рыбалку, мальчики,
оббивая голыми пятками конские бока, гонят табун к реке.
Медленно, раздувая ноздри, плывут кони, дробя на воде
солнечный свет, выбираются на другой берег,
встряхивая мокрые густые гривы. Киноповесть миновала эти
подробности, фильм зафиксировал. Наутро Иван уезжал
из села, и память его как бы забирала с собой в дорогу
знакомые с детства картины. Машина въехала на
паром, автобусные дверцы раскрылись. Нюра крикнула на-
199
постедок заполошно: «Мама, ребятишек... ради
Христа!..»
«Иван маленько в автобусе принахмурился».
Впервые он с Нюрой собрался так далеко. И перед тем, как
начать одиссею своего героя, Шукшин опять снимает
посторонний сюжету кадр-план: над степью, то ли
поутру, то ли на закате, разносится дробь копыт, кто-то
скачет на лошади по светлой ленте большака, к нам.
«Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне».
Для Шукшина кони — поэзия деревни. А хорошие
стихи о лошадях — истинная поэзия. В киноповести был
эпизод: «Молоденький офицерик, от которого вкусно
пахнет маминым молоком, говорит молодой соседке по
купе», что Есенин — «сплошная чувствительность. Мы
сегодня — не те». Строка о розовом коне? «Не мужские
стихи,— проговорил жестокий лейтенант.— Розовый
конь...— это не из двадцатого века». Для фильма
Шукшин сцену эту снимать не стал, она справедливо
показалась ему лишней, а вот внутренний спор с
обвинениями в «сплошной чувствительности» он повел. И
вмонтировал в картину эту скачку неизвестного всадника.
Тут как бы последнее, что забирает с собой память
Ивана Расторгуева, степь и конь в молчаливом мире,
фонтанчики ныли позади копыт на большаке.
Первый, на проводах, монолог Ивана в фильме — не
перекличка ли с этим планом-фрагментом? «Я вон отца-
то почти не помню, а вот помню, как он меня
маленького в Березовку возил. Вот ведь что запомнилось!
Ведь тоже небось и ласкал и конфетку когда привозил,
а вот ничего же не запомнил, а запомнил, как возил с
собой на коне в Березовку...».
Деревенский человек сызмальства дружил с конем,
Шукшин такое застал и сам с малолетства подружился
с лошадьми. В рассказе 1964 года «И разыгрались же
кони в поле...» Шукшин передает ностальгию героя,
Миньки, он «учился в Москве на артиста» (Минька —
отчасти автопортрет студента Шукшина): «Минька
представил Буяна, гордого вороного жеребца, и как-то
тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как
далеко-далеко, в степи, растрепав по ветру косматую
гриву, носится в косяке полудикий красавец конь. А
заря на западе — в полнеба, как догорающий соломенный
200
пожар, и чертят ее —кругами, кругами —черные
стремительные тени, и не слышно топота коней — тихо».
Рассказу Шукшин предпослал эпиграф, для него прием
исключительно редкий. Вдвойне любопытно, что стихи-
эпнграф принадлежат самому автору рассказа. В
юности Шукшин сочинял стихи азартно, однако почти все
его «грехи молодости», стихи, были «смыты» в печке.
Эпиграф Шукшиным не подписан.
«И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони....
Тихо в поле —
Зови не зови.
В сонном озере, как в иконе,'—
Красный оклад зари».
Матвей Рязанцев из рассказа «Думы» (в метраж
третьей новеллы «Странных людей» эта «дума» героя
вошла фрагментарно) вспоминает давнюю ночь:
братишка захворал на покосе, «километрах в пятнадцати
от деревни, в кучугурах», отец велел ночью «гнать в
деревню за молоком». «Матвей слухом угадал, где
пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по
бокам волосатой путой, погнал в деревню. И вот... Теперь
уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-
тринадцать было — все помнится та ночь. Слились
воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь
летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом
трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг
обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это
было как полет — как будто оторвался он от земли и
полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба,
даже головы конской — только шум в ушах, только ночной
огромный мир стронулся и понесся навстречу».
Многие темы и образы устойчивы у Шукшина как в
прозе, так и в кинематографе, он возвращается к ним,
как завороженный, они гнездятся в сердце художника.
Это приметы его внутреннего мира, спутники жизни,
музыка деревенского детства.
201
Устойчивы у Шукшина и образы иного — негативнр-
го — содержания, иного социально-психологического
наполнения, вечные его неприятели. Шутовской хоровод
таких образов-типов пройдет перед Иваном
Расторгуевым и его женой, едва они сядут в поезд дальнего
следования... Действие фильма вырывается теперь за
пределы родного героям Алтая, вырывается на сибирский
простор, чтобы в следующей картине Шукшина —
«Калине красной» — обосноваться далеко от берегов Кату-
нн, на земле Вологодской.
А пока Расторгуевы едут по стопам Василия
Князева, «чудика», героя первой киноновеллы «Странных
людей», едут в Крым... И режиссером включается цепь
новелл со своими персонажами-типами, своей логикой
действия, законченными сюжетами. То есть Шукшин
практически возвращается к привычному для себя
новеллистическому принципу организации фильма, возвращается
к собственному писательскому опыту выстраивать
жизненный материал на небольшом плацдарме жанра.
Фигуры главных героев — Ивана и Нюры — объединяют
эти новеллы своим в них участием, живой реакцией на
происходящее, это «путеводная нить» автора, она
позволяет начать и завершить веселый рассказ о путешествии
В «загадочный» отпуск. Спутники Расторгуевых — а они
пестры и несхожи — в структуре фильма персонажи
эпизодические, у каждого свой «выход», единственная
возможность заявить о себе, чтобы затем уступить
сцену другим. И лишь профессор-языковед в исполнении
Санаева на какое-то время задерживается рядом с
Иваном, чтобы до конца прояснить тему, заявленную
Шукшиным еще до съемок фильма,— об интеллигентности
поддельной и подлинной.
Иван-путешественник разительно отличается от
Ивана прежнего, мирного сельского жителя. Мало
того, что попадает он в иной мир, ему практически
незнакомый, он сам себе создает особую атмосферу
существования, с головой погружается в непривычный
психологический климат.
«Иван проявил какую-то странную, несвойственную
ему говорливость,^ замечает автор киноповести.—
Вообще... он стал какой-то суетливый. Волновался, что ли».
Конечно, волновался, оттого и «чудил». А эту его
неуверенность люди бывалые чуяли, и кто к ней,
неуверенности «деревенщика», относился снисходительно или бла-
.202
годушно, а кто посмеивался, даже подыгрывал ей,
желая'доконать «простака». В очерке о кинематографе
Шукшина Рудницкий справедливо подмечал причину
психологического «крена» Ивана: «Поездка на морской
курорт в обычном, прежнем контексте деревенской
жизни ничуть не менее феноменальна, чем полет на Луну.
Шукшин-то понимал это прекрасно. Он сумел и нас
заставить это почувствовать и прочувствовать—прежде
Всего через поведение Ивана Расторгуева». Критик
здесь же добавлял: «Все, что сопряжено с этой идеей,
вполне обыденной для городского жителя, идет
решительно вразрез с психологией крестьянина, еще недавно
совершенно не вмещавшей в себя не только понятия
«пляж» и «курорт», но и понятие «отпуск»'. Работа не
позволяла сельскому труженику думать об отдыхе,
куда-то ехать жариться на солнышке, бросить землю.
Было заведено, что отдохнуть можно только на гулянках
после страды, даже спали урывками, когда косили сено
или хлеба. Вечно не хватало людей на полевых
работах, особенно послевоенной деревне, осиротевшей,
малосильной. Сам Иван объяснял на проводах гостям, как
проводил он редкие свои минуты свободные: «Я вон
пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке — и все, и
печки-лавочки. Отдохнул». Но тут вот колхоз выделил
Ивану, как передовому трактористу, путевку на курорт,
и герой наш, по долгому раздумью, потащил за собой
на юг жену, да еще детишек думал прихватить,
спасибо, учитель Лев Казимирович отсоветовал. Покос
вроде закончен, уборка хлеба впереди, вот Ивану и
разрешили прокатиться в теплые края.
Двустороннее зеркало: за этим частным случаем,
поездкой Ивана за тридевять земель, угадываются не
только перемены к лучшему в делах колхозных, но и
перемены диалектического характера. Ход жизни
заставляет село ворочаться, выталкивает из насиженных
гнезд тысячи и тысячи людей, подающихся в города, на
стройки, шахты. Сибирское село 60-х годов уподобилось
разворошенному муравейнику, в литературе своей
Шукшин это зафиксировал. В кинематографе же его прогро-
мыхивает эхо этого гудящего брожения деревни, а Иван
Расторгуев, герой «Печек-лавочек», есть в определенной
1 Рудницкий К. Кино и проза.— «Искусство кино», 1977, № 3,
с. 144.
203
степени шукшинский нравственный образец сельского
жителя. Этому трактористу ни сном ни духом город не
нужен. Он «до донышка души крестьянин», по слову
Ивана Васильева.
Первая встреча в поезде, первая глава одиссеи...
В купе «сидел уверенный человек, чуть даже
нагловатый, снисходительный, с легкой насмешечкой в глазу...
Записной командировочный».
«И как-то сразу понял командировочный, что с этой
парой (Иваном и его женой.— Ю. Т.) можно говорить
снисходительно, в упор их разглядывать, Нюру
особенно, только что не похлопывать».
Не по одежке встречают Ивана теперь, в
путешествии, но по уму провожают. Критика зорко отметила, как
режиссер и актер одели отпускника-героя: Иван при
шляпе, в белой сорочке, при галстуке, одет в строгий
костюм. Весь внешний облик тракториста на отдыхе
демонстрировал заявку на равенство с горожанами.
И настроен был Иван явно миролюбиво. Хотелось ему
с попутчиками поговорить, повеселей время в дороге
провести. Но вместо веселья оказалась поначалу горечь.
Иван несколько комичен в своей нескрываемой
претенциозности колхозного отпускника, но его странности,
объясняемые волнением перед необычностью
задуманного путешествия, легко прощаются Шукшиным. Как
актер он нисколько не смеется над своим персонажем,
чуть подшучивает, беззлобно, с доброй улыбкой. А
степень, характер комического зачастую определяли у
Шукшина отношение к тому или иному человеческому
характеру, степень его значимости, ничтожной или полной.
Иван комичен по-доброму. «Есть люди,— отмечал в
своей публицистике Шукшин,— в городе или на селе,
которые окружающим кажутся странными. Их зовут
«чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных
людей их отличает разве только то, что талантливы они
и красивы. Красивы они тем, что их судьбы слиты с
народной судьбой, отдельно они не живут. Их любят
особой любовью за эту их отзывчивость в радости и беде.
Они украшают жизнь, ибо с их появлением, где бы то
ни было, изгоняется скука. Мне хочется рассказать об
этих «странных людях», пример которых учит тому, что
жить интересно»'.
1 Шукшин В, Нравственность есть Правда, с. 80.
204
Иван и Нюра комичны, когда в первом эпизоде в
поезде заглядывает в купе проводник и требует
положенные два рубля за постели.
«— Нюся, дай два рубля, пожалуйста,— спокойно
сказал Иван.
— Загороди меня,— тихонько попросила Нюра.
Иван стал так, чтобы загородить жену от мужчин.
— Счас мы свои рублишки достанем из чулочка...
VI отдадим.— Ивану страсть как неловко было, что
деньги— где-то у жены в «чулочке»...
И он прямо, вызывающе прямо посмотрел на
ухмыляющихся проводника и командировочного, и тоже
улыбнулся, но зло улыбнулся».
Текст из киноповести идентичен кадрам фильма.
Шукшин играет преодоление неловкости героя с этими
«двумя рубликами» его, Ивана, подшучиванием над
собой, над «бабьей» бдительностью жены. Смех Ивана
есть упреждение смеха проводника и командировочного,
самозащита перед их возможной издевкой над ним и
Нюрой, «пеньками» деревенскими. Этот смех —
единственная в данной ситуации возможность сохранить к
себе уважение чужих людей, возвышение над
собственной глупостью, одновременно это и приглашение так
же вот, беззлобно, посмеяться над опрометчивостью Ню-
ры, без ехидства, невыносимого для самолюбивой
натуры Ивана. «Если бы командировочный посмотрел
внимательнее на Ивана, он бы перестал улыбаться. Но он
смотрел невнимательно — он улыбнулся».
У Шукшина в его фильмах нет постоянной
комической маски, здесь он заведомо проходит мимо ряда
традиций мировой кинокомедии. Его смех всегда жизненно
конкретен, обусловлен как бы реальными ситуациями
и характерами. Поступки или слова персонажей ведут к
самораскрытию характеров, а через это — к характеру
смеха автора. «Потешки» затеваются Шукшиным не для
увеселения почтенной публики, а для выражения
собственной авторской позиции, отношения к персонажу-
типу, конкретному носителю добра и зла. Комизм
Шукшина, почти целиком, вне культурной традиции, он
приравнен к обыденности и ею одной поверяется.
Есть социально-психологический тип людей, коих
Шукшин-кинематографист и писатель категорически не
приемлет. «Ничто так не пугает, не удивляет в
человеке,— выговаривался Шукшин в «Монологе на лестни-
.205
це»,— как его странная способность разучить несколько
несложных житейских приемов (лучше—модных),
приспособить разум и руки передвигать несколько
рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И
доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не
разучил этих приемов (или не захотел разучить), и
говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?»'.
Воинствующий обыватель, лютый враг Шукшина, он
прикинулся командировочным в фильме
«Печки-лавочки», с усмешечкой похлопывает по плечу Расторгуева,
оплошавшего с двумя рубликами: «Ну что, Ваня?» Вот
разговор:
«— Первый раз? — весело спросил
командировочный.
— Что?
— Едешь-то. Первый раз?
— Так точно! А что?
— Надо доверять людям...»
И командировочный пускается в нравоучения,
буквально впившись словами-присосками в Ивана, тот
сидит напротив, на одной полке с женой.
«...Вот вы едете со мной вместе, например, а деньги
спрятали... а ж вон куда! — Командировочный опять
посмеялся.— Значит, не доверяете мне. Так? Объективно
так. Не зная меня, взяли меня под подозрение. А ехать
нам далеко. Вы так и будете всем не доверять?
Деревенские свои замашки надо оставлять дома. Раз уж
поехал... к югу, как ты выражаешься, надо соответственно
и вести себя... Или уж сиди дома, не езди. А куда к югу-
то? Юг большой...»
Эпизод вдруг перестает казаться заурядной дорожной
зарисовкой, улыбка автора-бытописателя бесследно
исчезает. Сцена неожиданно обжигает настоящим огнем.
Открыто и яростно актер Шукшин передает закипание
оскорбленной души Ивана, гордость ее поднялась на
дыбы. Заходили желваки на побелевшем от ярости,
худом лице тракториста, сузились немигающие глаза,
сжалась в сверхъестественном внутреннем напряжении
вся его жилистая, без единой жиринки фигура, заиграл
недобрыми интонациями голос:
— На кудыкину гору. Слыхали такую? Там курорт
новый открылся...
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 54..
206
Знаменитая шукшинская злость! Как зажигался он
ею при виде хамства, воинствующей пошлости, скучной
мелочности! Как возгоралась справедливым гневом его
душа, оскорбленная сволочьем, гудела боль за
поруганного злом человека. Эту ярость, отражение душевной
^оли героев, униженных самоуверенным хамством,
Шукшин поразительно передавал в своей прозе.
Веня Зблицкий, оскорбленный провокаторшей тещей,
«взмыл над землей от ярости» — вот образная «фигура»
из рассказа «Мой зять украл машину дров». Ванька,
деревенский парнишка, «скружил» на зануду вахтера,
не пустившего старуху мать, приехавшую к сыну в
райбольницу в неприемный день (новелла «Ванька Тепляш-
кин»). Захлебнулся обидой кандидат наук,
столкнувшись в магазине с мясником-скотиной («А поутру они
проснулись...»).
Иван Расторгуев тоже готов «скружить» на
обидчика.
«— Слушайте!..— посерьезнел командировочный.—
Вы все-таки... это, научитесь вести себя, как положено,—
вы же не у себя в деревне (на «вы» перешел-таки с
Иваном сей «учитель жизни».— Ю. Т.). Если вам
сделали замечание, надо прислушиваться, а не хорохориться.
Поняли? — Командировочный повысил голос.— Научись
сначала ездить (опять на «ты».— Ю. Т.) Еще жену с
собой тащит...
— А что тебе моя жена? — зловеще тихо спросил
Иван.— Что тебе моя жена?
Нюра знала, что после таких вопросов — так
сказанных — Иван дерется.
— Вань!..
— Что тебе моя жена-то?»
Кинокритику Ю. Ханютину показалось, что в сцене
этой даже Достоевский «вылезает». Какая уж тут
«патриархальность», восклицал он, защищая Шукшина от
упреков в идеализации сельских жителей'. Разговор у
попутчиков накалился действительно чрезвычайно, а что
касается Достоевского, то, вероятно, мелькнуло в лице
Шукшина-актера нечто от страдальческого лика
русского гения, эту тень страдания сумел актер передать,
когда на кинопробах ему сделали грим Достоевского.
Думаю, Ханютин видел фотографию Шукшина в гриме
1 См.: «Сов. экран», 1973, № 12, с. 4.
207
Достоевского, и впечатление от этого сыграло
определенную роль в оригинальности точки зрения критика,
когда смотрел он эпизод «Печек-лавочек» '.
«— Да вы только не это... не стройте из себя
припадочного. Не стройте. Видели мы и таких... И вся-
ких.— У командировочного серьезно побелели глаза.—
Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте! А то ведь —
как сел, так и слезть можешь...
— Профурсетка в штанах,— отчетливо сказал Иван.
(В фильме актер Шукшин разошелся, вызывающе
отчетливо добавил: «И в шляпе... И в плаще...».)—Он
еще пугать будет... Сам у меня слезешь. Спрыгнешь!..
И — по шпалам, по шпалам...»
Перепалка вышла нешуточная. Командировочный,
ошпаренный яростью противника, выбежал за помощью
должностных лиц, а Иван и Нюра засели в купе в
ожидании последствий.
Этого затишья, чуточку томительного, хватило
Ивану, чтобы обдумать иную тактику поведения.
Командировочный привел проводника, готового
услужить (актер Рыжов).
— Вы что тут? — спросил проводник.
— Что? — откликнулся Иван.— Ничего.
— Чего шумите-то?
— Кто шумит? Никто не шумит.
Иван теперь ниже травы, тише воды. Что взять с
такого? Проводник предложил командировочному перейти
в другое купе. Командировочный взял свой портфель и,
смерив Ивана презрительным, обещающим взглядом,
сказал:
— В Горске мы еще увидимся.
— Давайте. По кружке пива выпьем...
— Ты это... не очень! — прикрикнул на Ивана
проводник.— А то выпьешь у меня.
И они ушли.
«Вот так! — сказал Иван. Встал, засунул руки в
карманы и прошелся по свободному купе.— А то будут тут
мне... печки-лавочки строить, понимаешь».
Иван-лицедей, быстро смекнул, как вести себя даль-
1 В 1968 г., в период работы у Шукшина над фильмом
«Странные люди», актер Евгений Лебедев задумал снять собственную
картину по роману Достоевского «Униженные и оскорбленные».
Предполагался чтец от автора. Лебедев думал, что роль эту
(Достоевского) отдаст актеру Шукшину.
208
Ше, после угрозы его высадить. Прикинуться простачком,
эдаким «ванькой», ломать дурака, дабы ускользнуть,
вырваться из прилипчивых рук хамства. Дабы и
угодничество проводника перед этим командировочным не
обернулось бы для него, Ивана, лихом. Смирись, гордый
человек, перед силой зла, хоть смирение твое
притворно...
Иван еще скажет жене, как действовать впредь:
«Сиди и помалкивай: мы — деревенские, люди темные, с нас
взятки гладки». Иван-дурак, вот его обличье перед
микровластью какого-то там проводника. Впрочем, личин
заготовил Иван много.
Вторая дорожная новелла в фильме «Печки-лавоч-
кн» — эпизод с вором, принятым Иваном за
железнодорожного конструктора. Только что сыграв простака
перед командировочным и мордастым проводником,
Иван на радостях стал самим собой и тут-то не заметил
лицедейства нового попутчика, уголовника, охотно
назвавшегося Виктором. Был тот «смуглый, нарядно
одетый, улыбчивый». Дал прикурить сигарету в коридоре
вагона, отнесся к Ивану как к ровне, без «городского
снобизма». Такой разительный контраст в обращении
с ним, Иваном, сыграл роковую роль: Иван не
распознал игры, ни малейшего подозрения не шевельнулось
в его душе, он почувствовал себя с этим вымышленным
Виктором хорошо.
Новые грани комического демонстрирует в этом
эпизоде Шукшин. Сцена уморительно смешна: один взахлеб
умело врет, а другой принимает байки «конструктора»
за чистую монету, да-еще жена поддакивает,
удивляется наивно, когда Виктор со вкусом разъясняет одно из
своих изобретений, «систему игрек: железная дорога без
мостов», поезд «на воздушной подушке».
Вора играет Георгий Бурков, ставший близким
другом Шукшина с тех пор. Играет легко, артистично,
подчеркивая даже обаяние какое-то своего персонажа. Этот
вор изнежен, словоохотлив, склонен пожаловаться на
жизнь, пусть недомолвками: «Настоящей творческой
работы мало. Так — мелочишка суффиксов и флексий...
устаю. Все время в напряжении, все время нервы как
струны натянуты, и я боюсь, что когда-нибудь они
лопнут». У Виктора — Буркова нет волчьего оскала
Губошлепа, убийцы из «Калины красной», там драма, а
здесь — буффонада, игра на обаянии. Можно Ивану
И»
плеснуть ворованного коньячишна, можно Нюру одарить
кофточкой с чужого плеча: «Носите на здоровье,—
продето сказал «конструктор»...— Это вам так к лицу!.. У нас
хватит». Но объединяет этих разных по характеру, по
замашкам, по хватке уголовников — Виктора и
Губошлепа— потребительское, «утробное» отношение к
жизни, неуважение к труженику, в частности к честной
работе крестьянина. Для Шукшина, выходца из деревни,
такое отрицание извечно ему самому близкого, родного,
кровного, особенно тяжко. «Конструктор» пока
полушутливо бросает Ивану: «пахарь»... Губошлеп скажет
резче, злее, непримиримее: убитый им Егор человеком-де
не был, он был мужик... Мужику-то и жить на свете
незачем, считает Губошлеп.
Но вор в зловещем обличье пока не нужен
Шукшину для одиссеи Расторгуевых. Отсвет будущей драмы
Егора Прокудина заметен в этой «воровской» сцене
«Печек-лавочек», однако выбран-то метод комического
рассказа. Здесь философия «конструктора» преодолевается
смехом автора, драматизировать повествование пока
рано, это для Шукшина и Буркова впереди...
Шукшин любит проявления неожиданного в
характерах персонажей, иначе он проиграл бы в жизненной
достоверности своих историй. Избегая дидактики,
Шукшин стремится подвести героев к подлинности самой
жизни с ее крайностями и тайнами. Вор из
«Печек-лавочек» неожиданно на какое-то время оказывается
человеком симпатичным, хотя и не сбрасывает маски мнимо-
конструктора. Виктор приходит на помощь
несправедливо оскорбленному Ивану.
«...Дверь в купе отодвинулась: стояли милиционер,
а за ним... командировочный...
— Вот, пожалуйста, коньяк сидит дует!—брезгливо
сказал командировочный.— Он (Иван.— Ю. Т.) до
Новосибирска не доедет. И эта — тоже... куда с таким
пьянчугой поехала. На курорт!..»
«Конструктор», очевидно рискуя, вступается за
Ивана, в дело идет все его актерское~искусство.
: «Тут недоразумение, товарищи,— спокойно, чуть
принахмурившись и негромко заговорил «железнодорожный
конструктор».— Товарища колхозника угостил коньяком
я, и выпили мы —вот, что видите ^совсем немного. До
этого он был совершенно трезв, я это утверждаю».
• Парадоксальная ситуация: прав оказывается вор, а не
210
представитель закона, милиционер, по наущению
командировочного настроившийся было на «строгости».
Хамство командировочного претит даже уголовнику. И
снова сатирический штрих Шукшина — наушничество
отступает под натиском столь же самоуверенного
шантажа.
«— ...И не бегайте, и не травмируйте людей. Люди
едут на заслуженный отдых, а вы тут...
— А кто вы такой, собственно? — ощетинился
командировочный.
— Это же самое я хочу спросить у вас. Где вы
работаете, кстати?..
— А вы куда едете? — спросил милиционер.
— В Новосибирский академгородок,— небрежно
бросил «конструктор».— Так где вы работаете, товарищ?
— Не ваше дело.
— Хорошо... Я постараюсь это узнать. Через
Николая Сергеевича.— «Конструктор» посмотрел
выразительно на милиционера,— Это -не составит труда.
Командировочный струсил.
— Вы же не слышали, как он тут обзывался...
— Это ваше мужское дело!» («Конструктор» ни
секунды не делал паузы, трудно было вклиниться в его
речь еще с каким-нибудь вопросом, например.)
Милиционер тоже не находил, что сказать. Рядовой
представитель власти — скольких из них Шукшин вывел
в своей прозе! Вспомним рассказы «Степка», «Даешь
сердце!», «Волки», «Охота жить!», «Материнское
сердце»... Шукшин, казалось, не интересовался романтикой
этой профессии, блюстителя порядка, он и здесь
проходил равнодушно мимо «стереотипов» нашего
кинематографа о милиции, мимо частью традиции доброй, а
частью и надуманной, пустой, трафаретной, когда
экранные подвиги выглядели пустыми кинокрасивостями.
Шукшин за формой сотрудника милиции разглядывал
и показывал конкретного человека, конкретный
характер, не пугаясь при этом усмешки.
Милиционер в фильме «Печки-лавочки» представлен
без ореола всеобщего спасителя. Мы видим вполне
заурядного, будничного человека, без признака чувства
юмора, провинциального.
«Спокойней, товарищи, спокойней! — влез наконец
милиционер со словами.— Наше дело — предупредить,
чтобы товарищ... не забывался, что он в дороге, тем
боги
лее что он не один. И вам, так же самое, совет:
выпиваете, а без закуски. А еще молоды, опыта в этом деле
мало — развезет, и сами не заметите как. Вон же, есть
вагон-ресторан, взяли первое, второе, ну и выпили. Но
тогда есть уверенность, что не развезет. А так — это же
риск» (в фильме милиционер произносит: «рыск»).
Смех Шукшина не щадит, кажется, никого. Проходят
перед нами в хороводе шутовском, пользуясь известными
словами английского драматурга, сатирические
персонажи-типы: командировочный, артистичный вор, угодник
проводник. Подчас даже Иван комичен, пусть автор его
не развенчивает. Тут даже горечь: чтобы Ивану не
стушеваться в его контактах с людьми ловкими и
бесцеремонными, ему приходится прикидываться
простаком, а когда он, в простоте души, остается самим
собой, выясняется, что перед ним, таким-то, другие
прикидывались черт знает кем, дурачили как последнего
мальчишку. Эта горечь автора, как смола, сочится сквозь
карнавальную оболочку его кинокомедии.
Иван, герой дорожной одиссеи, прочитывается
поэтому как фигура отчасти драматическая, или точнее: за
анекдотичностью дорожных недоразумений ощущается
горькая начинка душевных разочарований героя. Чуть
что, Иван принимает «защитную окраску»: «Я-то
хорошо! Я про других! А я-то — дай бог каждому!» Но
мыто, зрители, уже знаем эту «защитную реакцию»
тракториста, и тогда «маскировка» Ивана веселит нас.
Хотя, кто знает, не прикинься Иван простаком, обойдет ли
его новая опасность в облике «умника» или хама?
Коробов объективно фиксирует движение
комического у Шукшина, причем замечание его приложимо и к
шукшинским фильмам: «Юмор, смешное, и вообще —
карнавальное (по М. Бахтину)—все это изначально
было в природе таланта Шукшина. Но в первых
рассказах шукшинский юмор был мягким, беззлобным,
преобладала легкая улыбчивая ирония. Начиная же
примерно с 1968 года, вместо лирики, теплоты, беззлобного
юмора по отношению к герою у Шукшина
накапливалось нечто иное. Все чаще и чаще в рассказах
проглядывает ирония уже злая, ощутима струя сатирическая,
порой едкая, порой гротесковая» '.
Одну из глав своей монографин о Шукшине, первой
1 Коробов Вл. Василий Шукшин, с. 163.
212
в нашей критической литературе, Коробов открывает
уместными словами Зощенко: «Итак, сущность
рассказов, основа их печальна, а часто и трагична, однако
внешность искренне смешна». И вспоминает
Достоевского: «Но разве в сатире не должно быть трагизма?
Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть
трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом, и
имя им обеим, вместе взятым: правда...» Драматическое
в потешных новеллах «Печек-лавочек» состоит в
разнообразии форм, видов, способов подавления живой
души человеческой — прежде всего души Ивана, отчасти
и Нюры. В том, что душевное уродство одних людей —
напористо, агрессивно, воистине алчет (другого слова не
подберешь) равнозначного душевного уровня у других,
простоватых с виду, не столь на глаз бывалых в
житейских передрягах.
Победить Ивана и Нюру в открытую это зло
человеческое не может, Расторгуевы-то со здоровым нутром,
однако к лицедейству принуждает, заставляет
уворачиваться таким способом от своей власти. Страдает ли от
этого в своей «защитной маске» Иван или нет? О тени
страдания на лице Расторгуева в сцене с
командировочным говорилось выше. Да, Иван страдает, хоть
чувство свое не может выразить он словами. Только в
финале фильма, сидя на пашне, за околицей родного
села, он вздохнет с облегчением на сердце: «Ну все,
ребята... Конец». А покуда приходится ему ежиться от
неуютного своего положения «ваньки-дурака», грызться
за гордость свою и жены.
Ведь Иван умеет от души смеяться. Как светлело его
лицо, когда видел он дочерей, а сейчас, в дороге,
улыбка обернулась ухмылкой, ведь отчасти над собой
приходится смеяться: какой Ванька умелый артист!
Жанр комедии давал Шукшину возможность, спустя
годы, ответить фильму «Живет такой парень», с иной
перспективы посмотреть на фигуру веселого сельского
механизатора. Если первый полнометражный фильм
режиссера по ошибке приняли дружно за кинокомедию, то
теперь Шукшин изначально делал комедийную картину.
Загадка, но этот поздний фильм оказался вовсе не так
повально смешон, как лента 1964 года.
Шукшин последних лет жизни отмахивался от
образа Пашки Колокольникова: мол, больно благополучный...
Не о материальном достатке, конечно, толковал режис-
213
сер, он рассуждал о характере героя. По молодости
своей Пашка был неунывающ, перманентный оптимист,
душа его пела от избытка силы, сходился с людьми он
легко. Душевная организация Ивана Расторгуева
уязвимее, подвижнее, разнообразнее. Иван душевно раним,
вот его основное отличие от Пашки, а в этом моменте —
и основное различие раннего и зрелого Шукшина.
Образовательный ценз у героев остался прежним: у
Пашки пять классов за плечами, у Расторгуева шесть. Почти
сходны профессии: шофер и тракторист. Правда, Иван
много старше, женат, отец семейства. Так ведь и время
не стоит, а с возрастом пришло более сложное
восприятие жизни, произошло ее расслоение в глазах героя,
обрел он дар различать в себе самом хорошее и
наносное. Отсюда его до времени не выраженные муки,
душевная боль, незащищенность даже, хотя он талантливо
лицедействует.
Роль Ивана Расторгуева предназначалась
Куравлеву. Желание дать вторую редакцию образа Пашки было
очевидно у Шукшина, выбор режиссером исполнителя
это подтверждает. Куравлев оказался занят на съемках
другого фильма. Тогда Шукшин рискнул сыграть
главную роль сам. Но случайность данного шага
обнаруживает свою закономерность. Шукшин, несомненно, яснее
чувствовал перемену душевной организации «второго»,
возмужавшего Пашки — Ивана Расторгуева, он
соответственно задумал и воплотил его, трудового алтайского
крестьянина, как прозаик, кинодраматург. Параметры
образа Ивана четко очерчены еще в киноповести,
Шукшину оставалось пластически воплотить эту роль на
экране.
Кроме того, думая об авторском кино, о «Степане
Разине», Шукшин, снявшись в «Печках-лавочках»,
убедился, что ему вполне по силам играть в собственных
картинах, его дар актера не поглощает дара
режиссерского.
И еще: на экране появилось лицо Шукшина, которое
(после некоторого перерыва в актерской биографии
художника) врезалось в зрительскую память после
крошечной, острейшей по чувству роли в «Журналисте»,—
лицо, исполненное испепеляющей душевной муки,
способное взрывчато передать ярость этой души. Лицо
Шукшина перелома 60—70-х годов запечатлело личность
мастера-гуманиста.
214
Наконец, рядом с актером-Шукшиным легче,, ест^ст-
ственнее. работалось его жене Федосеевой, она играла
Нюру. Для практики кинематографа деталь
существенная, благо будущее подтвердило первый блестящий
результат сотворчества этих прекрасных русских
актеров.
В «Печках-лавочках», комедии, Шукшин играл,
безусловно, положительного героя, ведь свою задачу
автора он открыто изложил еще в творческой заявке. Однако
не боится он показать своего Ивана смешным,
заносчивым, чуть растерянным перед лицом смущающих его
жизненных обстоятельств. Владея великой тайной
конструировать сюжеты из подлинности самой реальности,
Шукшин научился, упорно стремясь к тому, вызывать
ощущение подлинности участников этих, зачастую внешне
простых, историй. Здесь целенаправленные,
запрограммированные поиски Шукшина соприкасались с
определенной тенденцией нашего кино исхода 60-х годов:
выбор неоднозначного по характеру героя интересовал
достаточную часть советской кинорежиссуры. И
Панфилова в фильмах «В огне брода нет» и «Начало», и
Ростоцкого в «Доживем до понедельника», и Л. Шепитько
в «Крыльях», и Иоселиани в «Листопаде» и картине
«Жил певчий дрозд», и М. Осепьяна в «Трех днях
Виктора Чернышева», и Э. Рязанова в «Берегись
автомобиля».
В контексте эволюции тогдашнего нашего
киноискусства представляют поэтому теоретический (не только
исторический) интерес ряд высказываний Шукшина о
проблеме положительного героя. Рассуждения эти
характерны для Шукшина второй половины 60-х годов,
они перерастают рамки его собственного творчества, в
достаточной мере отражая общие поиски советской
кинорежиссурой художественных путей решения одной из
вечных проблем экрана.
«Мне кажется,— тонко замечал Шукшин,— смысл
социалистического искусства не в том, чтобы силиться
создавать неких идеальных положительных героев
(даже в противоположность отрицательным), а находить,
обнаруживать положительное — суть качества добрые,
человечные — и подавать это как прекрасное в
человеке» '.
1 Шукшин В. Нравственность есть Прввда, с. 37—38
215
Для Шукшина слова его об искусстве не
расходились с делом: образ Ивана Расторгуева тому
наглядный пример. Удивительно только, как далек от
схоластической «рецептуры» Шукшин-художник, как умеет
вдохнуть он жизнь в конструкции своих творений. Ведь и
проза его и фильмы лишены даже признака голого
расчета. Как художник Шукшин решительно не подвержен
магии теоретического практицизма.
«Какой должен быть современный положительный
герой? — спрашивал Шукшин еще до постановки
фильма «Странные люди».— Знают, что он должен быть
честный, неглупый, добрый, принципиальный и т. п. Зна*
ют больше: у положительного героя могут быть
кое-какие и отрицательные стороны, слабости. Вообще о
положительном герое знают все — какой он должен быть.
И тут, по-моему, кроется ошибка: не надо знать, какой
должен быть положительный герой, надо знать, какой он
есть в жизни... Если ты посмотрел умный фильм, где
радуются, горюют, любят, страдают, обманываются,
обретают себя живые люди, значит, тебе предложили
подумать о самом себе... Обязательно. В этом сила живого,
искреннего реалистического искуства. Если авторы
сами радуются хорошему,— продолжал свою мысль
Шукшин,— если ненавидят дурное в людях и если все это —
правда, если ты сам знаешь, что в жизни так и бывает,
как тебе только что показали, то не захочешь
спрашивать: на кого быть похожим? На себя, только станешь
умнее, крепче, отзывчивее»'.
(В скобках можно привести еще одно рассуждение
Шукшина о проблеме героя в современном
кинематографе, тем более что оно, рассуждение это, не попало в
печатный текст цитировавшейся только что статьи
«Вопросы самому себе». Полный текст рукописи хранится
в архиве художника. Вот что замечал в первоначальном
варианте Шукшин:
«Герой. Герой — это, по-моему, сам художник, его
произведение. Бывали в российской жизни самые
разные условия для творчества: выгодные, не очень, а
бывали на редкость плохие. Но даже при совсем уж
«выгодных» обстоятельствах, когда, кажется, героями хоть
пруд пруди, хватай первого попавшегося и тащи в роман
или фильм, только бы они не стеснялись и про свое ге-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 36—37.
216
ройство не молчали,— и даже тогда почему-то
появлялись плохие книги, фильмы, произведения живописи.
И сколько! У одного автора самый расхороший герой,
«наблюденный», «увиденный», «подсмотренный» в
жизни, начинает вдруг так кривляться, такие штуки
начинает выделывать, что хоть святых выноси — смешит,
дьявол; у другого — тоже «выхваченный» из жизни —
ходит в фильме, как кол проглотил, ходит и учит жить;
у третьего — как андаксина наглотался: любит, поет,
бегает в березовой роще. В общем — «солнцем полна
голова». У четвертого хоть и в ухо даст, но это ничего, он
о-б-я-з-а-н дать в ухо.
Есть герои отрицательные, но тех сразу по походке
видно, не о них речь.
Критики сами требуют и подучивают зрителя
требовать от художников положительного героя типа «X»...
Много образцов предлагается. И пишут, и
жалуются — не с кого брать пример.
Жалуемся, что иногда плохие-фильмы,
фильмы-уродцы находят себе массового зрителя. Что делать? Делать
фильмы с глубокой мыслью, идейные..».)
Иван Расторгуев далеко не идеальный герой, зато это
личность — в ней нет и следа иссушающей живую
человеческую плоть литературщины, свободно проявляют
себя чувства и страсти. Временами Иван — не знающий
самоконтроля балаболка, особенно под хмельком, но
трезвый и размышляющий — он мужик головастый,
самостоятельный в суждениях, пристрастный к жизни,
хозяин. В набитом студентами купе, «заведенный»
молодежью и хмелем Иван, являя собой центр компании,
способен и на купеческое хвастовство: «Я, ребятки,
живу крупно. Чего только у меня нет! У меня — зайдешь в
дом — пять ковров сразу висят. Персидских». В другой
раз вспомнил Иван, как в соседнем селе, на мельнице,
выпил с мужиками и давай им доказывать, что он Герой
Социалистического Труда. Дошло до драки, а мужиков
восемь было...
Но нравственной основой личности Ивана служит
отношение его к труду, потомственное уважение к
человеку земли, любовь к 5то5 завешанной отцами земле.
Нюра, жена, знающая Ивана как облупленного,
рассказывает о нем попутчику-профессору: «Работает-то
он правда много. У их все в роду — работники. Его
уважают».
217
Отсюда-то, от исконно крестьянской закваски,
устойчивость Ивана в жизни. Этот тракторист умеет работать.
Хотя мы и не видим ни разу на экране, как он пашет,
мы всецело верим режиссеру, а прежде всего актеру
Шукшину, что его герой — подлинный труженик. Егора
Прокудина, поменявшего «легковушку> на трактор, мы
наблюдаем на пахоте, Ивана — нет. Зато Иван умеет и
любит говорить о труде, он собственным, незаимным
умом докапывается до корня хозяйственных и
социальных проблем деревни.
Минуло немало лет, как герой Шукшина
заинтересованно и мудро высказался о части этих проблем, а по
сию пору сохранили они злободневность, требуют
коллективного вмешательства современников. Тут, в
рассуждениях Ивана, замечаешь накал гражданского
пафоса автора фильма, видишь дотошное знание Шукшиным
деревенского бытия. Вопросы и раздумья Ивана: о
недочетах раздельной оплаты труда в годовом цикле
сельскохозяйственных работ, о положении, роли сельских
учителей, о заботах и мытарствах сельских
покупателей—это раздумья актуального социального звучания.
Жизнь пока не разрешила этих вопросов. А художник
своим дальним зрением обнаружил их, эти
немаловажные проблемы села, задолго до «диагнозов»,
поставленных теперь экономистами, социологами, публицистикой.
Искусство в данном случае опередило общественные
науки или, по меньшей мере, корректировало
проводимый ими анализ.
Через много лет после шукшинского фильма можно
было прочитать такие (словно снова зазвучал
вопрошающий голос Ивана Расторгуева, рачителя) строки
талантливейшего публициста, знатока районных будней
Ивана Васильева, в них та же тревога, забота: «Как
говорится, не поев, не запоешь. Но рубль обладает одним
коварным свойством: он понуждает работать много.
А «много» еще не значит «хорошо». Количество и
качество не всегда побратимы. Скажем, доярка немало
зарабатывает на «литрах» — надои растут, а качество
молока выше третьего класса не поднимается. Изобретаем
стимуляторы — устанавливаем доплаты за чистоту, за
жирность, за кислотность. То же и с трактористом:
норму гонит, но вспашет и посеет так, что неизвестно что
там уродится. Вырабатываем инструкцию: за хорошее и
отличное качество доплачивать до 25 процентов надбав-
218
кИ; И получается, что «узаконена» плохая работа; Это
и есть коварство рубля. Так что уповать на него ■как
на единственное средство побудить «хорошо работать»
не приходится. Остается интерес моральный. Не он
ли — при определенном материальном обеспечении —
становится первоплановым?»'.
;- Вот умное слово: «моральный». Шукшинское слово.
Расторгуева Ивана слово.
•; Иван самобытен, башковит, недаром Шукшин
постоянно подчеркивает значимость этой личности. Манера
нападать и защищаться, выбранная Иваном в дороге,
довольно комична. Однако манера еще не
манерность.
У Шукшина смысл образа спрятан под личиной эда»
кого Ивана-дурака. Иван — выражение определенного
человеческого типа, детально и смело разработанного
искусством Шукшина. Ведь в чем загадка образа
Расторгуева и иже с ним? «...Оказалось, что за напускной
бравадой, нелепицей и бестолковостью иных героев
Василия Шукшина скрываются чистые, бессребреные,
добрые души, что с улыбкой на устах художник подводил
нас к величайшей мысли: не поучать надо народ, а
учиться у народа»2.
Итак, видим: то, что Шукшин контурно очерчивал в
заявке — показать на экране человека-труженика, яркий
национальный характер, хозяина земли,— он в фильме
высветил.
А другое?
Проблему интеллигентности подлинной и мнимой?
Здесь «Печки-лавочки» уязвимы.
Тема, поставленная и раскрытая в киноповести
достаточно четко, в системе фильма оказалась
разорванной, невнятной.
На одной из станций в купе к Ивану и Нюре
подсаживается пожилой профессор-языковед, собиравший в
Сибири «золото» народной разговорной речи. По
недоразумению принятый Иваном снова за вора (после
осечки с «конструктором»), профессор затем легко и быстро
сближается с Расторгуевыми, приглашает их в свой
московский дом погостить, знакомит со своими домашни-
1 Васильев И. Допуск на инициативу.— «Москва», 1979, № 2,
с. 156.
2 Коробов Вл. Василий Шукшин, с. 156.
219
ми. Таково событийное содержание новых эпизодов
фильма.
Замысел Шукшина очевиден. Автор ленты помнил
слова из собственной публицистики, речь шла об
интеллигентности мнимой и неподдельной, о запасах
человечности в человеке: «Один, наверно, не прочитал за всю
жизнь ни одной книжки, другой «одолел» Гегеля,
Маркса... Пропасть! Но есть нечто, что делает их очень
близкими,— Человечность. Уверен, они сразу бы нашли
общий язык. Им было бы интересно друг с другом (в
киноповести есть ремарка: «...Ивану очень интересно с
профессором».— Ю. Т.) И зарю они, наверно, одинаково
любят: мудро, спокойно, молча. И людей понимают
одинаково: пустого человека, как он ни крутись,—
раскусят» '.
Мысль эта, душевное родство образованного
интеллигента и крестьянина-самородка, доверие друг другу,
в фильме проиллюстрирована.
Но не раскрыта.
Куцыми получились сцены в столичной квартире
профессора. Сама его биография, проясненная в
киноповести рассказом-воспоминанием о добровольном бегстве в
далекую вологодскую деревню, о мужественных годах
учительствования, осталась за кадром. Как и спор
профессора и его коллеги о «сегодняшнем мужичке», кто
сильнее — полупроводник Шестеркин или Сивкин-Бур-
кин? Урезаны сердитые высказывания профессора о
нынешнем Вавилоне — городе. Не ясен образ сына
профессора, социолога, тоже Ивана (С. Любшин), хотя по
киноповести человек этот — неглуп, знающий предмет, по-
хорошему ироничный. Потухли в «московских» эпизодах
фильма и Расторгуевы: ни Шукшин, ни Федосеева здесь
не запоминаются.
Иван Петрович Рыжов (игравший в
«Печках-лавочках» роль проводника) говорил мне, что режиссер
Шукшин был неудовлетворен качеством актерского
исполнения данной темы фильма. По Рыжову, Шукшин
снимал в соответствии с киноповестью (сценарием),
однако при монтаже ленты некоторые отснятые сцены
исключил.
Справедливости ради надо подчеркнуть, что один
эпизод «московской» части фильма достигает уровня
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 67.
220
комического, свойственного сценам дорожных
приключений Ивана. Такова встреча героя с «любителями
словесности».
«...Профессору пришла в голову блистательная идея;
устроить встречу студентов, какие остались на канику-
лась в Москве, аспирантов и преподавателей
университета — всех, кто способен насладиться музыкой живой
русской речи,— встречу с Иваном Расторгуевым.
Собралось несколько человек — «любители словесности».
Так в киноповести. Но эту аудиторию режиссер не
показывает. На экране —лишь Иван, с его мужицким
прищуром, крестьянской хитрецой в глубине глаз. Герой
Шукшина одет согласно моменту: в костюме, белой
сорочке, на шее галстук. Декорация сцены предельно
скупа — на первом плане кафедра, позади — однотонная
плоскость стены.
Иван занял место за кафедрой, кинокамера снимает
его с одной точки, она отстранена от героя,
превратилась в телекамеру. Подобный прием — в стилистике
телеинтервью— повторит позже Глеб Панфилов в картине
«Прошу слова», это эпизод беседы Уваровой с
французскими журналистами. Разница только в том, что
героиня Панфилова будет абсолютно серьезна, а Иван
Расторгуев, напротив, «наладился на этакую дурашливо-
сказочную манеру», малость даже подвывал.
Он примерил очередную личину.
Иван рассказывает про кобылу, на которой он в
молодости возил копны. «И вот у этой кобылы, звали ее
Селедка, у Селедки, стало быть, была невиданной
красоты грива...». (Шукшин-актер делает тут несколько
плавных взмахов руками, словно наяву перебирая это
море шелковых волос: видно, он действительно
перенесся на минуту памятью в молодость.) И следует
микроновелла про то, как Селедке по наущению бригадира
обкорнали гриву, «как сделано у коня товарища
маршала на параде»,— этого коня парни в кино видели. «Но
что делает моя Селедка? — с притворным ужасом
вопрошает Иван.— Она отказывается надевать хомут.
Брыкается, не дается...». А почему лошадь Селедкой звали?
Худая была, только одна грива и развевалась. «Вот,
товарищи, какой случай был»,— заключал Иван сольный
номер.
Личина Ивана-дурака, «простоватого» хитреца
освобождала героя. Шукшина от нелепости собственного по-
■221
ложения «знатока» устной народной речи, оборачивала
абсурдную идею профессора против самого же
профессора и приглашенных им слушателей. В киноповести
Иван объяснил, зачем он вспомнил Селедку: «Да
повеселить маленько людей. Меня еще дед мой учил: как
где трудно придется, Ванька, прикидывайся дурачком.
С дурачка спрос невелик».
В фильме, однако, профессор раздумчиво
спрашивает: «А нет ли тут, Иван, деревенского высокомерия?»
Есть, и Шукшин это понимает. Автор не прочь чуточку
посмеяться и над своим любимцем. Освобождающий
смех, он обеспечивает Шукшину внутреннюю свободу
расказчика, автора фильма, приносит освобождение от
слишком буквально понятой достоверности.
Тот же профессор, смотря на Ивана, заключает
напоследок: «Комедия — старый жанр на Руси».
И вновь врывается на экран мотив дороги. Поезд
мчит к югу. Но на сей раз Шукшин не включает в фильм
каких-либо дорожных новелл. Иван едет без
приключений, словно автор нарочно освободил его от новых
столкновений и знакомств с попутчиками. Видимо,
режиссер и сценарист хотел сказать, что герой
«поумнел» и на очередные скандальные «приманки» не
клевал.
И вот — юг. Ялта, показанная в уборе межсезонья п
первой новелле «Странных людей», теперь многолюдная,
теплая.
Иван и Нюра в прекрасном настроении, им весело,
Иван даже пританцовывает. Фонограмма эпизода —
балалайки и озорной скомороший посвист (он
принадлежит самому автору, его специально записывали в
павильоне). Глядя на бесшабашного Ивана, приподнялись
на каменных лапах львы Воронцовского дворца. Эта
монтажная фраза — озорство Шукшина, вольность
художника, беспечность игры. Ведь в ином контексте,
на стыке выстрелов мятежного броненосца «Потемкин»
по карателям мирной демонстрации, эти вскочившие
оскаленные львы означали злобу и страх власть
предержащих. Знаменитая кинометафора в
шедевре Эйзенштейна стала классикой ассоциативного
монтажа.
Пародировал ли ее Шукшин? Не уверен. Скорее, он
попросту весело играл. Художнику позволительна доля
озорства. Кстати, сам Эйзенштейн был знатоком и це-
222
иителем неожиданных шуток, «розыгрышей», веселых
переодеваний.
Как помним, Иван приехал на курорт с одной
путевкой. Директор санатория Нюру не принял. Как быть?
И- затевается новая — правда, вынужденая — игра. Иван
надумал «сунуть» директору четвертак. С глазу на глаз.
Мучается сомнениями: «...а то потянет за взятку-то.
Отдохнешь... в другом месте, елки зеленые. Будешь там
за место отдыха... печки-лавочки делать».
Не приходилось Ивану давать взяток. Шоферы, те
привычные, вздыхает он перед тем как идти в
директорский- кабинет. «Не умею я давать-то...» — втолковывает
Иван жене, подбивающей его действовать смелее. Черта
натуры самого Шукшина: в очерке-письме «Кляуза»
опытные больные советуют писателю одаривать
полтинником или шоколадкой цербера-вахтершу, дабы она
беспрепятственно впускала к нему посетителей, а
Шукшин чуть ли не кричит: «...я не умею «давать»: мне
неловко».
Не умеет «давать» и Расторгуев. Директор четвертак
возвратил, да еще пристыдил Ивана. И гадко тому и
тошно. И с отчетливым хрустом мнет он треклятую
бумажку в кулаке, будь она неладна. Деньги киногерои
Шукшина «вполне презирают», как скажет об этом Егор
Прокудин. Тот же Егор бросит в лицо «дружку» пачку
десяток, кинет на стол плату за «бордельеро». Иван
тоже без почтения относится к двадцатипятирублевке, хоть
прекрасно знает цену копейке, руками и головой надо ее
заработать, до ночи на тракторе вкалывать, а то и ночь
прихватить...
Нюра устроилась на частной квартире. Об этом Иван
сообщил в письме домой.
Шукшин (в который раз!) чуть посмеивается над
героями. Нюра поначалу стыдится снять на пляже платье,
стесняется множества курортников, буквально
заполонивших береговую кромку. Иван, похожий на журавля,
вышагивает в длиннющих черных трусах к воде,
«подкрался к шаловливой волнишке, сунул в нее ногу и
вскрикнул: «А холодная-то!» Он опять нас
«разыгрывал»: вода-то была теплой.
И вдруг после безотрадной крымской толчеи, после
ироничного кадра многолюдного «лежбища» Шукшин-
режисер включает в фильм полупанораму алтайских
предгорий.
223
Кинокамера наново любуется сверканием Катуни,
лента которой вьется меж всхолмий, замечает дальнюю
вершину горы, завороженно оглядывает неохватное
единым взглядом пространство.
И будто нечаянно натыкается на сидящего на всполье
босого Ивана, тот молча курит, наслаждаясь тишиной и
безлюдьем. Затем Иван взглядывает прямо на нас,
зрителей, и произносит свою знаменитую фразу: «Ну все,
ребята... Конец».
Эффектно и мудро поставленная точка.
Кадр замкнул повествование. Фильм начался видом
предгорий, этим же мотивом и завершился.
Иван вернулся домой, закончились для него «печки-
лавочки», мытарства по железным дорогам, нет больше
непредвиденных подначек, нелепых случайностей. Не
нужны более личины, маски. Иван возвращается к
самому себе, к прежнему состоянию согласия с миром.
И реализуется теперь заявка Шукшина, его посыл:
право, это их земля... То есть Иван принимает
единственно подходящее обличье: он хозяин земли, ее
работник, ее охранитель, ее сын. Он снова утверждает себя
как самоценная личность. Он посмеялся над собой
путешественником и забыл эти дорожные приключения.
Хватит комедии, достаточно смеха.
Фильм завершен самоутверждением Ивана. Ради
этого он и замышлялся и осуществлялся Шукшиным. Ради
этого Шукшин отдал герою свое лицо. Иван люб
Шукшину, это человек настоящий.
Зритель потянулся на новый шукшинский фильм.
Критика была почти единодушна в своих высоких
оценках сценария, режиссуры и актерского мастерства.
Почти единодушна...
На страницах «Алтайской правды» (15 апреля
1973 г.), той самой газеты, что «пропагандировалась»
в первом полнометражном фильме Шукшина — «Живет
такой парень», появилась суровая статья В. Явинского,
который пенял земляку за его новую картину. «Жаль,
что Шукшин не услышал подлинного голоса жизни
сегодняшнего алтайского села»,— выговаривал рецензент.
Шукшину снова пришлось объясняться.
Он пишет исповедальное «Слово о «малой родине»,
оно публикуется журналом «Смена» (1974, № 2;
полностью «Слово...» было напечатано «Литературным
обозрением» после смерти Шукшина—1975, № 12).
224
Шукшин говорит голосом сердца. Он не
оправдывается перед критиком-земляком, просто он давно
чувствовал потребность в этом слове.
О «Печках-лавочках»: «В фильм я вложил много
труда (это, впрочем, не главное, халтура тоже не без
труда создается), главное, я вложил в него мою любовь
к родине, к Алтаю, какая живет в сердце — вот главное,
и я думал, что это-то не останется незамеченным»'.
Да, эта любовь осталась замеченной...
Тогда-то, в рецензии 73-го года, один из самых
проницательных и умных наших кинокритиков, Ростислав
Юренев, сказал: «Шукшин очень талантлив. Он уже
многое сделал. Но еще большее ему предстоит. Мы
должны по-хозяйски, по-родительски отнестись к судьбе
одаренного истинно русского художника, должны
помочь ему в свершении главного. И дать ему перевести
дыхание перед этим главным»2.
А впереди ждала художника работа над «Калиной
красной». Результат ее оказался уникальным...
Киноповесть и фильм
(«Калина красная»)
Меня в фильме меньше всего, как это ни
странно, интересует уголовная история.
Больше интересует меня история
крестьянина, крестьянина, который вышел из
деревни...
Шукшин
На глазах наших рождался и ширился всенародный
триумф картины «Калина красная» — триумф, кстати
сказать, не запрограммированный нашим прокатом.
Такого зрительского успеха не знал ни один шукшинский
фильм. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку
(апрель 1974 г.) эта лента, вершинное достижение
Шукшина-кинематографиста, по справедливости была
награждена главным призом — первый случай в практике
проведения отечественных кинофорумов. Причем жюри спе-
1 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 1СЗ—104.
2 Юренев Р. Книга фильмов. М., «Искусством, 1981, с. 253.
^ эм. «о
225
циально оговорило свое решение: «Отмечая
самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера Василия
Шукшина, Главная премия фестиваля присуждена
фильму киностудии «Мосфильм» «Калина красная»'.
Неожиданная, столь преждевременная смерть
Василия Шукшина, его последняя крупная актерская
работа— образ Лопахина в картине Бондарчука «ОнисражЭ'-
лись за Родину», безусловно самая значительная для
данного фильма, усугубили, обострили наше восприятие
неповторимого, самобытного шукшинского киномира, с
эстетической точки зрения обладающего всеми
признаками подлинного искусства. Некоторое время назад
Залыгин мог еще призывать: «...нам пора уже отдать себе
отчет в том, что в лице Шукшина мы встречаемся с
уникальным явлением нашего искусства, когда в одном
человеке сочетаются — причем совершенно гармонически,
естественно и просто — выдающиеся дарования
прозаика, режиссера и актера»2.
Сейчас, особенно вспоминая свое впечатление от
фильма «Калина красная», мало кто. станет оспаривать
это мнение.
Публикация киноповести журналом «Наш
современник» (1973, № 4) была, как ни парадоксально,
встречена достаточно сдержанно, во всяком случае никаких
споров она в печати не вызвала, как вызвал эти споры
фильм. Между тем уже в повести были заложены все
те принципиально важные для Шукшина темы, какие
подучили свое развитие и завершение в картине
«Калина красная»;
. Прежде всего, центральная тема — нравственное
потрясение человека, претворенная во всестороннем и
тщательном показе судьбы главного героя повести (и
фильма) Егора Прокудина, бывшего уголовника,
матерого вора, через сомнения и муки уходящего от своего
прошлого. «Он настойчиво возвращался к теме личной
ответственности человека за свои поступки и судьбу,—
отмечал кинокритик особую черту Шукшина,— он не^-
1 Жюри возглавлял режиссер Станислав Ростоцкий. В
конкурсной программе кинофестиваля демонстрировались такие, например,
интересные фильмы, как «Лютый» Т. Океева, «В бой идут одни
«старики» Л. Быкова, «Мелодии Верийского квартала» Г. Шенгелая,
«Вей, ветерок» Г. Пиесиса.
5 Залыгин С. Опираясь на традицию.—«Вопр. лит.», 1974, № 1,
с. 47.
•226
устанно размышлял, как соединяются в живой жизни
нормы права с требованиями морали»'.
Столь неожиданный выбор героя, «падшего ангела»,
показался части критиков опасной крайностью: с одной
стороны, говорили они, не окажется ли фильм Шукшина
лишь новым вариантом обычной назидательной истории,
вроде напрочь забытой картины с незабытым
названием— «Жизнь прошла мимо», или опять-таки привычным
детективом о деле номер такой-то с непременной задан-
ностью сюжетного действия, скучным
морализированием? А с другой стороны, не угрожает ли Шукшину, раз
обратился он к разговору об уголовнике, заманчивое
увлечение «малиной», воровским бытом с его экзотикой »г
обязательной пошлостью?
Но ведь истина-то заключалась в том, что оснований
Для1 подобных опасений киноповесть и не давала: на-'
чально заложена была Шукшиным идея нравственного
кризиса как магистральная и решающая для всей
системы образов, для концепции произведения в целом. На
пути к фильму Шукшину — на различных уровнях — при1-
шлось это настойчиво и терпеливо разъяснять.
Между съемками «Калины красной» (поздней
весной 73-го), выступая на встрече со зрителями в городе
Белозерске (выступление это было впервые бпублйко-'
вано вологодским писателем В. Шириковым в
молодежной газете «Вологодский комсомолец» в номере от
11 декабря 1974 года), Шукшин обратил внимание на
ту особенность, что «картина будет поближе к драме.
Она — об уголовнике. Уголовник... Ну, какого плана
уголовник? Не из любви к делу, а по какому-то, так
сказать, стечению обстоятельств житейских».
И дальше очень важное: «Положим, сорок седьмые
годы, послевоенные годы. Кто повзрослев, тот помнит
эти голодные годы... Большие семьи. Я не знаю, как у
вас это было. У нас, в Сибири, это было страшно. Люди
расходились из деревень, попадали на большие дороги.
И на больших дорогах ожидало всё этих людей,
особенно молодых, несмышленых, незрелые души... И
пошли, значит, тюрьмы, пошли колонии и т. д... И вот ему
(Егору — Ю. Т.) уже, в общем, сорок лет, а просвета
никакого в жизни нет. Но душа-то у него восстает
против этого образа жизни. Он не склонен быть жестоким
Громов Е. Поэтика доброты, с. 26.
9*
227
человеком... И вот, собственно, на этом этапе мы и
застаем нашего героя — когда он в последний раз
выходит из тюрьмы. И опять перед ним целый мир, целая
жизнь».
Через год, когда фильм «Калина красная» буквально
обошел экраны страны, Шукшин снова подчеркивал
главное содержание своего замысла, своего выбора
непривычного и странного героя: «Разве не самое
интересное и не самое поучительное обнаружить, вскрыть
законы, по которым строилась (и разрушалась) эта
неудавшаяся жизнь? Вызывает недоумение, когда иные
критики требуют показа в пьесе «благополучной»
жизни: не противоречит ли это самому слову — драма?..
В постижении сложности — и внутреннего мира
человека и его взаимодействия с окружающей
действительностью — обретается опыт и разум человечества. Не
случайно искусство во все века пристально рассматривало
смятения души и — обязательно—поиски выхода из
этих смятений, этих сомнений» '.
Для понимания трагической судьбы, логики
характера Егора Прокудина, каким на страницах киноповести
он выведен автором, крайне важно отметить социальные
истоки его биографии, неотрывную принадлежность его
к крестьянству.
Егор родился в деревне, в небогатой трудовой семье,
где спокон веку царило уважительное отношение к
любой работе.
Это устойчивая привязанность Шукшина, писателя и
кинематографиста,— честно исследовать необозримый
мир русского крестьянина с его традициями и
социальными сдвигами, с его приверженностью к выработанным
издавна навыкам и необратимыми качественными
переменами, вызванными динамикой самой жизни на
протяжении последних тридцати лет.
Егор вырос в селе, с малолетства резал подлесок, пас
коров, и эту кровную связь с его родными местами,
обжитыми многими поколениями простых тружеников, так
и не сумела до конца оборвать воровская мораль, а
точнее— аморальность с ее кодексом «красивой»,
«шикарной» жизни, презрением к созидательному труду, к
«мужикам». Когда Егор после пятилетнего заключения
1 Шукшин В. Самое дорогое открытие... (запись Г. Кожухо-
вой).— «Правда», 1974, 22 мая.
228
выходил на волю, он был готов всерьез попытаться
сделать свой выбор: прилепиться к земле.
«Утром в кабинете у одного из начальников
произошел следующий разговор:
— Ну, расскажи, как думаешь жить, Прокудин? —
спросил начальник. Он, видно, много-много раз
спрашивал это — больно уж слова его вышли какие-то
готовые.
.,. — Честно! — поторопился с ответом Егор, тоже,
надо полагать, готовым, потому что ответ выскочил
поразительно легко.
— Да это-то я понимаю... А как? Как.ты это себе
представляешь?
— Думаю заняться сельским хозяйством, гражданин
начальник...
— А что это тебя в сельское хозяйство-то
потянуло? — искренне поинтересовался начальник.
— Так я же ведь крестьянин! Родом-то. Вообще
люблю природу. Куплю корову...». -
В разговоре этом есть налет нарочитости, Егор
ерничает, посмеивается про себя над вопросами майора (в
фильме Шукшин несколько конкретизирует этого
начальника вообще), но писатель не был бы точен, если
приведенный диалог вошел бы в повесть лишь как
«потешная» сценка. Шукшину важно обозначить давнее — до-
воровское— занятие Прокудина, дать читателю, пусть
пунктиром обозначенную, нужную информацию,
поскольку впереди эта тема земли, крестьянства будет
крепнуть и оформляться в одну из ведущих для
произведения в целом.
Кривда жизни переставила всего одну букву в его,
Егора, имени (случайно ли Шукшин назвал своего героя
именно так: ведь Егор, Егорий по давним поверьям
народа являлся покровителем земледелия,
хлебопашества?) — Егора в «малине» окрестили в Горе.
Выстраивая сюжет киноповести, а следовательно,
глубоко прочерчивая характер, биографию Егора
Прокудина, Шукшин вводит в повествование вроде ничего
не значащее воспоминание Губошлепа, главаря банды.
Как тот в давний весенний вечер встретил в толчее
вокзала одинокого парнишку, сидевшего верхом на
деревенском сундучке. И на вопрос вора, что пригорюнился,
добрый молодец, парнишка ответил: «Да вот... горе у
меня! Один на земле остался, не знаю, куда деваться».
229
Силой драматических жизненных обстоятельств был
вовлечен Егор, вчерашний крестьянин, в мир
уголовников, причем занял в нем, этом мире, сомнительное место
видного рецидивиста. Он почти вровень с Губошлепом
по влиянию своему в банде. Да постыло ему прятаться,
уходить от погони, заговорила на дне души совесть,
заставив выбирать между добром н злом. Позже, когда
Егор будет истекать кровью среди майских молодых
березок, Губошлеп, покуривая сигарету, равнодушно
скажет о нем: «Он человеком никогда не был. Он был
мужик. А их на Руси много» (фразы этой нет в первой
публикации повести; в фильме же она — одна из самых
поразительных).
И не за тем возвращался Егор в деревню, чтобы
возить на легковушке директора совхоза или районного
следователя — ершистую женщину. Ему нужно было
ощущение простора, воли. Он должен был почувствовать
теплый запах вспаханной им самим земли, бросить семя
в проложенную его трактором борозду, он на свой лад —
широко — воспринимал свое бытие среди чистоты и
силы неоскверненной природы.
В повести Шукшин определенно (как автор)
указывает на социальную принадлежность своего героя,
завершая круг земных его странствий: «И лежал он,
русский крестьянин, в родной степи, вблизи от дома...
Лежал, приникнув щекой к земле, как будто слушал что-
то такое, одному ему слышное. Так он в детстве
прижимался к столбам».
Итак, ядро социальной психологии героя (в скобках
заметим, что и его ближайшего окружения, то есть семьи
Байкаловых'), тема нравственного перерождения,
данная в ситуации, в конечном счете трагической для
Егора,— все это, решающее для гуманистического,
гражданского пафоса Шукшина, было точно и
недвусмысленно намечено в киноповести. А затем перешло в
фильм.
В процессе съемок менялись некоторые обстоятельст-
; ва действия, отдельные реплики и даже целые сцены,
вводились одни персонажи и, наоборот, исчезали другие,
однако неизменной оставалась беспокойная мысль
1 Шукшин пояснял свою позицию: «В «Калине красной» добро
несут те же простые люди, крестьяне, жители деревень»
(«Вологодский комсомолец», 1974, 11 дек.).
230
художника о необходимости поисков празды, проблема
безусловной — вплоть до трагического искупления — от*
ветственности человека за любой свой нравственный
шаг.
Судьба Егора Прокудина была писателем высвечена
в слове до конца.
• .;, Творческий метод Шукшина-режиссера обладал
одной, личностной особенностью. Процесс создания
сценария не являл для Шукшина конечного результата.
Осмысление сценарного материала происходит у Шукшина-
режиссера во все время съемок и даже монтажа.
Отсюда — вероятность смещения авторских акцентов,
преобладания импровизационного начала, резко обновляющих
сценарный материл, как это произошло, например, с
фильмом «Живет такой парень». Не пытаясь искать
другие примеры такого рода режиссерского метода (а
параллели в искусстве кинематографа, современного и
давнего, практически всегда нетрудно обнаружить) >
отметим, что и «Калина красная» претерпела целый ряд
изменений. Но не настолько, чтобы утверждать, как это
делает В. Кисунько, будто «автор литературного
сценария, опубликованного в журнале, имеет полное право
предъявить иск режиссеру за полное искажение...
оригинала» '. Такая категоричность не более чем парадокс
критика.
На полном совпадении прорисовки центрального
героя в киноповести и фильме мы настаиваем, совпадают
в них и основные сюжетные мотивировки. В ходе съемок
Шукшин главным образом уплотнял сценарный
материал, делал его лаконичнее и емче, не уходя от идеи
представить по преимуществу внутренний мир Егора,
искания мятежной души. Разумеется, тождества прозы и
экранных образов требовать неразумно, даже если
сценарист и режиссер — один и тот же человек, Василий
Шукшин.
Вот, например, отрывок из киноповести, автор пишет
о Егоре:
«Парнишкой он любил слушать, как гудят
телеграфные столбы. Прижмется ухом к столбу, закроет глаза
и слушает... Волнующее чувство. Егор всегда это
чувство помнил: как будто это нездешний какой-то гул, не
на земле гудит, а черт знает где... Жутко бывало, но
1 «Вопр. лит.», 1974, № 7, с. 75.
231
интересно. Странно, ведь вот была же длинная, вон
какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это
немногое: корова Манька да как с матерью носили на
себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие
воспоминания и жили в нем, и, когда бывало вовсе тяжко,
он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес
на берегу реки, саму реку... Легче не становилось,
только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному
щемило сердце — и дорого, и больно. И теперь, когда от
пашни веяло таким покоем, когда голову грело
солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле,
Егор не понимал, как это будет — что он остановится,
обретет покой. Разве это можно? Жило в душе
предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора».
Тут авторская интонация задумчива и мягка, она
нежна к Егору, так несуразно потерявшему этот
бесхитростный, но ласковый к нему мир, свое деревенское
детство. Тут область чистой прозы, построенной на
ритмической и ассоциативной связи фраз-воспоминаний, на
оттенках настроения героя. Экран, при другой сумме
образности, оставил в стороне эту прозу. А в диалогах
Шукшин по каким-то неведомым причинам не
использовал приведенные куски (они, очевидно, могли бы
обогатить режиссерский сценарий).
Исследуя трудную судьбу своего героя, вполне
реальную с позиций жизненного правдоподобия,
социально-общественных мотивировок, Шукшин — и в повести,
и в фильме — предлагает тем не менее достаточно
условную ситуацию, которая и обеспечивает развитие
сюжета, составляет пружину действия. Зачастую искусство,
преследуя свои цели, отступает от внешнего
правдоподобия ради правды внутренней, и в «Калине красной»
Шукшин предлагает свои условия игры (без чего мы
рискуем истончить, обеднить двусторонние связи
искусства и жизни). Эти условия вольно принять или не
принять, и, к чести основной части зрителей, они
согласились с мотивировками автора, не впадая в дотошный
педантизм. Я имею в виду заочное знакомство Егора
Прокудина с Любой Байкаловой, другим центральным
персонажем фильма и повести, приглашение Байкало-
вых жить в их доме, любовь двух одиноких симпатичных
людей, не изведавших дотоле этого великого чувства.
Отвергнуть взятую автором ситуацию — значит,
отвергнуть киноповесть и фильм. В частности, такую по-
232
зицию занял К. Ваншенкин, назвавший свое
выступление в редакции журнала «Вопросы литературы» вполне
определенно: «Некоторые просчеты». Приведем ряд его
замечаний: «С чего все началось? Эта неспокойная
деревенская женщина, из прочного дома, из прочной семьи,
не вынесшая жизни с мужем-пьяницей, переписывается
,с совершенно ей неизвестным уголовником из колонии и
^приглашает к себе после отбытия срока... Так может
поступать женщина, доведенная почти до крайности, до
грани женского отчаяния, и, конечно, женщина из среды
иной — городской, полумещанской, полуинтеллигентской.
Но в деревне? Не знаю». И далее: «Может быть, автор
хотел поставить и рассмотреть мучившие его проблемы
обязательно на деревенском материале. Но ситуация,
масштаб проблемы явно не вмещаются в рамки
деревенского антуража. И все идет наперекосяк» '.
Не принимает оппонент фильма Шукшина и
некоторых других сюжетных решений все по той же причине:
так в жизни не бывает, забывая о том, что именно так
и может быть иной раз в этой самой многообразной
жизни. Ваншенкин, к примеру, отвергает финал
картины: разве могли «блатные» приехать в деревню всем
«коллективом», да еще по весне, когда земля не
просохла и машина оставляет на ней глубокие следы? Это
равносильно тому, чтобы сначала заехать в угрозыск и
оставить отпечатки пальцев.
Отвечая своим оппонентам на дискуссии в редакции
журнала, Шукшин говорил: «Меня, конечно,
встревожила оценка фильма К. Ваншенкнным... но не убила.
Я остановился, подумал — и не нашел, что здесь
следует приходить в отчаяние. Допустим, упрек в
сентиментальности и мелодраматизме. Я не имею права сказать,
что Ваншенкин здесь ошибается, но я могу думать, что
особенности нашего с ним жизненного опыта таковы,
что позволяют нам шагать весьма и весьма
параллельно, нигде не соприкасаясь, не догадываясь ни о чем
сокровенном у другого... Я думал так, и думал, что это-
то и составит другую сторону жизни характера героя,
скрытую»2.
В другом месте тот же Шукшин говорит прямее и
шире (выпишем еще одну большую цитату — она проли-
1 «Вопр. лит.», 1974, № 7, с. 73—74.
1 Там же, с. 84—85.
233
вает свет на конструкцию киноповести и фильма, и мы
с этим высказыванием автора совершенно единодушны):
«Правдоподобно ли, чтобы молодая деревенская
женщина— натура чистая и цельная — полюбила (к тому же
еще поначалу заочно) рецидивиста-вора и чтобы ее
родители и близкие безоговорочно просто распахнули ему
навстречу двери и души? Это меня подспудно
беспокоило. Ведь сама ситуация-то в картине взята крайне услов--»
ная, как любят говорить рецензенты — надуманная...
И смотрите: люди естественно приняли невероятно
условную ситуацию. Ни у кого (Шукшин
подразумевает своих корреспондентов. — Ю. Т.) не возникло даже
тени сомнения насчет правомерности доверия к такому
человеку, как Егор Прокудин. Вот какова сила
предрасположения нашего народа к добру, к тому, чтобы
открыть свое сердце всякому, кто нуждается в теплоте
этого сердца. Я не мог не знать с самого детства этого
качества советского человека, но здесь оно вновь
прозвучало для меня как самое дорогое открытие. Насколько
же откровенно и доверительно можно разговаривать в
искусстве вот с такими людьми. А мы подчас
сомневаемся: поверят ли, поймут ли...»'.
Тот же Ваншенкин поддерживает предыдущий фильм
Шукшина, «Печки-лавочки», явно, по его мнению,
недооцененный критикой, и где «постоянное нарастание
сатирической интонации, гиперболизации естественно
для восприятия героя»2. Но с таким же правом
Ваншенкин может предъявить обвинение Шукшину в
неправдоподобности ситуации, отошедшей от конкретной
жизненной среды условности, какие по видимости отличают
фильм «Печки-лавочки». Случай берется здесь опять-
таки исключительный: похоже, что сельский
механизатор Иван, как и его жена Нюра, никогда не выезжали
за пределы родного горноалтайского района; они —
простаки, оказавшиеся на больших дорогах страны, где им
не под силу адаптироваться, где они — лишние.
Рассуждая житейски отвлеченно, можно спросить: позвольте,
а что, Иван не служил в армии, не был среди чужих?
Где ж в фильме культура современного села, где те
формы связей, какие отличают ныне людей,
разделенных тысячами километров, но которые, однако, доста-
1 «Правда», 1974, 22 мая.
* «Вопр. лит.», с. 72.
234
точно свободно ориентируются при контактах друг с
другом?
Зато, избрав исключительную ситуацию, Шукшин в
этом веселом, озорном фильме безошибочно очертил
круг проблем, какие стояли тогда перед нашим сельским
миром, переживавшим длительный и небезболезненный
процесс качественного перерождения. А в пределах
выбранного сюжета — цепи невероятных дорожных
приключений—остался верен правде характеров,
конкретность которых не вызывает сомнений.
Столь же условна, сколь и оправданна с точки
зрения кинематографического решения, новелла «Думы» в
картине «Странные люди». Таким образом, правомочно
говорить об определенном художническом способе
видения, раздвигающем границы привычного правдоподобия
в искусстве.
Мир кинематографа Василия Шукшина еще ждет
своих исследователей.
Почти все фильмы Шукшина были посвящены
Алтаю, его сибирской родине. «Калина красная»
размыкает круг родовых привязанностей автора. Очевидно,
взятая в повести тема показалась Шукшину настолько
широкой и универсальной, что он отказался от намерения
решать ее в знакомой по предыдущим картинам
предметной среде. А намерение такое, вероятно, было: это
устанавливается по некоторым деталям текста.
Шукшин: не дает конкретного адреса действия кино*
повести: «История эта началась севернее города Н.у в
местах прекрасных и строгих». Но далее район
несколько уточняется. В разговорах стариков (застолье .в вер-
вый вечер пребывания Егора у Байкаловых)
упоминается односельчанин — раскулаченный Хромов, он «гур^
ты вон перегонял из Монголии». А Монголия не так уж
далеко от Алтая. Старуха Куделиха, мать Егора,
рассказывает Любе Байкаловой о своих разлетевшихся
детях: «Коля в Новосибирске на паровозе работает, Миша
тоже там же, он дома строит, а Вера на Дальнем
Востоке, замуж там вышла, военный муж-то». Так что
вполне вероятно, что, не расшифровывая названия
города Н., Шукшин имел в виду крупнейший
западносибирский центр — Новосибирск, опять-таки
расположенный сравнительно недалеко от Бийска. Да и фоном
«деревенской» части киноповести является неизменно
степь, кое-где подсиненная дальними рощицами (вспом-
235
ним раздольные пейзажи в фильме «Печки-лавочки»,
там Шукшин прямо указал адрес действия:
горноалтайское село Сростки).
Картина «Калина красная» снималась в «местах
прекрасных и строгих», как того требовала повесть, только
нашел их Шукшин под северным городом Белозерском.
Тут, в конце 60-х, он выбирал натуру для
несостоявшегося своего фильма «Степан Разин», и запомнились они
ему своим раздольем, задумчивостью своих
бесчисленных озер, несказанной грустью лесов. Запомнились ему:
деревни вокруг просторного, неторопливого Белозер-
ска — Садовая, Орлово, гостеприимные и внимательные
обитатели их. Тут-то мог встретить жаждущий
«праздника» Егор доброту и отзывчивость, тут мог насытиться
он простором и красотой мира. Так, органично и
плавно, вошли в изобразительную структуру фильма
приметы исконно русской земли, чья нынешняя жизнь
питается из многовекового источника, и эту «оболочку»
экранного действия трудно переоценить.
Вот проплывает на экране белоснежный «метеор»
(Белозерск ведь пристань на Волго-Балтийском водном
пути), полузатопленная многооконная церковь в разливе
половодья... Вот появляются перед нашими глазами
патриархальные набережные городка, почерневшие от
времени деревянные сваи старого канала, вот слепят своей
красочностью набивные ситцевые занавески в
крестьянском доме... Вот поражают наше зрение чайки, которые
снежными хлопьями опускаются на вспоротую землю
позади Егорова трактора.
Зрительная память успевает зафиксировать все
поэтическое содержание этих кадров, без чего
разрушилась бы атмосфера доверия, сказовая интонация,
выбранная Шукшиным-режиссером.
У Вологодскей земли свои отличительные признаки.
И если прялку в доме Любы отнесем на счет
«экзотических» переборов (хотя кое-где поныне по вологодским
селам ткут лен), то один из начальных эпизодов фильма
просто не мог бы существовать, если его снимали бы где-
то еще.
Как был представлен этот эпизод в киноповести?
«И вот она — воля!
Это значит — захлопнулась за Егором дверь, и он
очутился на улице небольшого поселка. Он вдохнул всей
грудью весеннего воздуха, зажмурился и покрутил го-
236
ловой. Прошел немного и прислонился к забору. Мимо
шла какая-то старушка с сумочкой, остановилась.
— Вам плохо?
— Мне хорошо, мать,— сказал Егор.— Хорошо, что я
весной сел. Надо всегда весной садиться.
— Куда садиться? — не поняла старушка.
— В тюрьму».
Опять неуемный шукшинский юмор, опять через
смех — о важном. Кажется, сцена не нуждается в
коррективах, она просится на экран. Но в фильме
Шукшин первые мгновения воли Егора показал абсолютно
иначе.
...Гремят железные двери, выпуская стриженого
Егора. И видим мы молодые, чуть удивленные лица солдат
охраны (одно из них — нерусского типа, с раскосыми
глазами), видим вековые, крепкие стены, вырастающие
из озерной воды (бывший старинный Кирилло-Новоезер-
ский монастырь), деревянный настил мостков, что
соединяют монастырь с берегом, слепящий свет северного
сильного солнца. Егор на секунду закрывает глаза от
этого нестерпимого света, как бы смакуя одновременно
первый глоток свободы, и вот уже скоро, без оглядки,
он шагает вперед, к новой жизни.
Кирзовые сапоги равномерно и гулко ударяют по
настилу, стук каблуков звонко разносится по
неподвижной воде, а Егор ничего не слышит и не видит, весь
устремленный к заветному берегу.
Вот она — воля!
В фильме эти первые секунды свободы — свободы
после пятилетнего заключения — прозвучали намного
сильнее, нежели в прозе. Сравнивая сцену из
киноповести с тем, что мы увидели в картине, мы понимаем,
почему Шукшин предпочел уйти от первоначальных
юмористических тонов к суровым краскам
неподдельной драмы.
Егора сыграл сам Шукшин: его герой в этот чаянный
миг неулыбчив, в нем не уловишь и признаков слабости
(в повести-то Егора качнуло от сердечного приступа),
шаг его уверен и нетерпелив...
В этом довольно длинном по метражу куске мы не
только распознаем каменное упорство героя. Мы
предчувствуем, что человек этот на самом деле уходит от
прошлого, решение его бесповоротно. И Шукшин
намеренно хотел поселить в нас, зрителях, такое предчувст-
237
вие: ведь дальнейший ряд событий фильма к такому
исходу и подошел.
Если эмпирически сравнивать киноповесть «Калина
красная» и фильм, то легко обнаружить немалое число
«разночтений». К примеру, значительно сокращен
разговор Егора Прокудина с начальником перед
освобождением из колонии — нет ровно никакого упоминания о
коровах (а был все тот же шукшинский колкий юморок),
нет ядовитого телефонного звонка к начальнику от
преподавателя литературы (зэки сорвали урок: они
спрашивают, будут ли дети у Татьяны Лариной от старика
мужа или нет?)... Нет есенинских стихов, какие Проку-
дин читает трезвому, занудливому шоферу по выходе из
колонии... Нет кладбища, куда ночью попадает Егор,
спасаясь от погони после провала «малины»... Нет
миража — будто преследуют Егора на раздольном
молодом поле бывшие дружки, а навстречу, положив руку
в карман — там оружие,— идет, улыбаясь, Губошлеп...
Нет похоронного веселья «аккуратненького бардельеро»:
этот «забег в ширину», как назвал его сам герой, резко
в фильме сокращен... Нет, наконец, рассказа бабки Ку-
делихи в том виде, как его представил в киноповести
автор...
Взыскательный, беспокойный художник, Шукшин
прямо на съемках находил оптимальные варианты
драматургии будущего фильма, исходя при этом из более
пристального и придирчивого анализа темы, психологии
своих героев. Повторное осмысление жизни и
характера Егора Прокудина толкало его к опробованию новых
деталей, к переиначенному, рядом с киноповестью,
художественному конструированию образов.
Отчасти в этом «виновата» натура: мы попытались
это доказать на примере переосмысления сцены
освобождения Егора. Такой эпизод Шукшин и оператор
Заболоцкий, видимо, смогли «сочинить», только повидав
северные монастыри и озера.
Отчасти в этом «виноваты» законы кинематографа:
он требует известной лаконичности, жесткого отбора
материала, неумолимо мстит за растянутость диалогов и
монологов, пусть очень профессиональных. Шукшину-
кинематографисту пришлось убирать некоторые
длинноты, вероятно простительные в киноповести.
Главным же образом в «разночтениях» этих
«виноват» сам строй художественного мышления Шукшина—■
238
сценариста, режиссера и актера одновременно. Что
казалось безупречным автору киноповести — кажется
нарочитым режиссеру, что мыслилось режиссеру
интересным— оказывалось перечеркнутым актером. «Наша
художническая догадка тоже чего-нибудь
стоит»',—считал Шукшин. А в результате обозначалось
произведение еще большего качества, нежели сценарий,— это
доказывает, в частности, всенародный успех фильма
«Калина красная» (в скобках заметим, что по опросу
зрителей, проведенному редакцией журнала «Советский
экран», Шукшин за исполнение роли Егора Прокудина
был назван и лучшим актером года —1974).
Огромное значение в смысловой и эмоциональной
структуре фильма «Калина красная» приобретает сцена
встречи Егора со своей матерью. Драматическое
напряжение достигает здесь верхней точки, находя затем
выход в отчаянно-истовом признании Егора, когда он, уже
будучи не в силах совладать с собой, выскакивает из
резко затормозившей машины и, содрогаясь от рыданий,
падает на взгорке лицом в траву. Колотит руками о
землю, кричит неузнаваемо изменившимся голосом,
и камера Заболоцкого, чуть приподнимаясь над этим
кающимся «блудным сыном», включает в кадр заросший
сельский погост, чью-то безымянную могилку, такую же
ветхую, как старая мать Егора.
Режиссерская и актерская интонации очевидны.
Шукшин намеренно ставит тут ударение, играя казнь своего
героя на грани истеричности, какой-то болезненной
формы самоуничижения. Но отнюдь не преследует
мелодраматический эффект, в чем упрекали фильм его
оппоненты.
Эмоциональное наполнение сцены подсказывало —
психологически и нравственно — глубинное содержание
всего эпизода поездки Егора и Любы в Сосновку, к
старухе Куделихе. Шукшин, автор и режиссер, так
сказал про Егора: «...думаю, что когда он увидел мать,
то в эту-то минуту понял: не найти ему в жизни этого
праздника — покоя, никак теперь не замолить свой грех
перед матерью: вечно будет убивать совесть...»2.
В журнальной публикации решение сцены было
гораздо спокойнее и на первый взгляд психологически об-
1 «Вопр. лит.», с. 87.
3 Там же.
239
основаннее. Но ведь и ключ к показу реакции героя был
Несколько иной.
«Развернулись... Егор последний раз глянул на избу
и погнал машину.
Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула.
Выехали за деревню.
Егор остановил машину, лег головой на руль и
крепко зажмурил глаза.
— Чего, Егор? — испугалась Люба.
— Погоди... постоим,— осевшим голосом сказал
Егор.— Тоже, знаешь... сердце защемило. Мать это,
Люба. Моя мать.
Люба тихо ахнула».
Настоящие мужчины не плачут — это «норма»
показа героев на экране. Разве приличествует плакать
мужику— даже от радости? А вот чутье художника, тем
более такого, как Шукшин, склонного к предельно
точному выражению правды души человеческой, не
соглашается с заданностью, даже и общепринятой.
Объясняя фильм, Шукшин счел нужным специально
остановиться на перемене в своем взгляде на душевную
организацию героя: «Егор Прокудин, несомненно,
человек сильный. Мне нравятся сильные люди, я в
киноповести не без удовлетворения написал, что в минуту
наивысшей боли он только стиснул зубы и проклинает
себя, что не может — не умеет — заплакать: может,
легче бы стало»1. Итак, первоначально — на стадии
публикации киноповести — появлялся элемент заданности,
толкая сценариста к наиболее проверенному и оттого не
личному, не индивидуализированному решению. Егор
Прокудин, натура неуемная и упрямая, оставался в
границах некоей тиражированной характеристики, которая
обеспечивала (или могла обеспечить) отсутствие любых
упреков в мелодраматизме, зато, с другой стороны, и не
предполагала значительного художественного
результата.
Шукшин почувствовал вероятную опасность. «Когда
я стал день за днем разматывать жизнь этого человека,
то понял, что в литературной части рассказа о нем я
сфальшивил, отбоярился общим представлением, но еще
ле показал всей правды его души. Я не думаю, что по-
«Вопр. лит.», с. 86.
240
казал потом всю эту правду, но что ушел от штампа,
.которым обозначают сильного человека,— я думаю»1.
.-.: Двадцать лет не видел Егор матери, двадцать лет
носило его по белу свету, пока наконец не наступил
день встречи в отчем доме. Думать-то о матери Егор
думал, однако не подавал вести о себе, никак не помогал,
хоть иногда водились у него деньги (пусть ворованные,
зато немало). Не все эти долгие двадцать лет сидел
Егор за решеткой; только откладывал свидание с
матерью, надеясь перемениться, очиститься от воровского
прошлого, которое стеной отделяло его от родных мест,
от деревенского детства. Не мог сын допустить, чтобы
мать узнала правду о нем, жестокую и беспощадную,
которой не ждала она для него. И вот он — на воле,
слушает бесхитростный рассказ Куделихи, видит ее
подслеповатые, бесконечно добрые глаза, потемневшие,
загрубелые от крестьянской работы руки, тут бы и
подойти к ней, обнять седую ее голову, прижать к груди.
А вместо этого Егор окаменело молчит, спрятав
испытующий взгляд за темные стекла очков, он не в силах
выдержать дольше этой муки.
Выйдя из дома, он больше не сдерживается... «А как
же,— вопрошает Шукшин,— неужели не кричат и не
плачут даже сильные, когда только криком и можно
что-нибудь сделать, иначе сердце лопнет»2.
Не склонный исповедоваться, приученный всем
строем своей прежней жизни к недоверчивости и
замкнутости, Егор на сей раз признается Любе, в слезах
признается, что видел-то мать. Впервые рядом с ним оказался
человек, который понял его измученное, жаждущее
участия сердце, почему же ей, Любе, не должен был во
всем он раскрыться, почему не у нее просить помощи?
Как это облегчает совесть — наконец высказать правду.
В повести Егор исподволь готовит Любу к поездке:
«—Есть деревня Сосновка,— объясняет Егор Любе в
машине, когда уже ехали,— девятнадцать километров
отсюда.
— Знаю Сосновку.
— Там живет старушка по кличке Куделиха. Она
живет с дочерью, но дочь лежит в больнице.
— Где это ты узнал-то все?
1 «Вопр. лит.», с. 87.
2 Там же, с. 86.
241
— Ну, узнал... Я был сегодня в Сосновке. Дело не в
этом. Меня один товарищ просил попроведать эту
старуху, про детей ее расспросить — где они, живы ли?»
В фильме Шукшин психологически обостряет
ситуацию. В городе, куда приехал кутить Егор, его узнает
официантка. Она подсаживается к столику, за которым
восседает Прокудин, и, всматриваясь в лицо этого
незнакомого ей человека, веря и не веря догадке своей,
спрашивает: «Ты Егор?» Мы не знаем, что отвечает
тот ей, Шукшин внезапно обрывает сцену, начиная
другой эпизод, но мы слышим еще этот робкий, тревожный
вопрос, пробуждающий в нас смятение, настойчиво
заставляющий нас понять, зачем понадобилось автору
вмонтировать в картину эту микросцену, говорить
недомолвками.
Исповедь Прокуднна снимает загадку, и тогда
проясняется дальний расчет Шукшина, многозначность реши*-
тельно всех его диалогов.
«Сестру вот в городе встретил»,— еще признается
Егор Любе, только сейчас отвечая на вопрос той
светловолосой женщины. Тогда, в ресторане, он не мог так
сказать, как позже не мог покаяться перед матерью.
Дважды отрекался он от себя самого перед кровно
близкими ему людьми, а лгать, когда всерьез
испытывал он свою душу, сделалось ему непереносимо. Ложь
во спасение перестала иметь для него цену.
«Там, где он родился и рос,— комментировал
Шукшин-режиссер поведение Егора перед родными,— там
тюрьма — последнее дело, позор и крайняя степень
падения. Что угодно, только не тюрьма. И принести с
собой, что он — из тюрьмы,— нет, только не это. А что же?
Как же? Как-нибудь. «Завязать», замести следы — и
тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой
позор и горе»1.
Однако лгать перед Любой, помыслы и поступки
которой освобождены от мельчайшей примеси обмана,
Егор не хотел, хоть сам учил ее когда-то поменьше
слушать людей, пропускать слова. Перед женщиной
этой он даже слез своих не стеснялся, винился как на
духу.
Так что отведем упрек в мелодраматизме всего этого
эпизода с матерью, тем более что Шукшин, «столь му-
..' «Вопр. лит.». с. 87.
242
жественный художник нашего советского времени», по
определению Бурсова, опирался на давнюю традицию
русской классической литературы. «Заострение идеи,
может быть, при помощи несколько болезненного
сознания, с чем мы сталкиваемся на страницах Пушкина и
Гоголя, Толстого и Чехова, в наибольшей степени —
Достоевского, в сущности, не причиняет ей никакого
ущерба: напротив, только приковывает к ней интерес,
обнаруживает ее значимость»'.
Егор вершит над собой суд, клянет непутевую свою
судьбу, которую он так поздно спохватился
выпрямлять. Он судим собственной совестью — вот что
ломает его душу. Так всеохватно возникает в фильме тема
трагического, теперь свет отчаяния заставляет нас с
бесконечным участием всматриваться в нервное
истончившееся лицо шукшинского героя. Актер обжигает нас
внутренним пожаром заметавшейся в отчаянии души.
У Егора — Шукшина под глазами и на скулах даже
чернота какая-то легла. И Люба угадывает его отчаяние,
тоже всматривается в Егора, ей чего-то страшно, она
чует несчастье. Тревожно у нее на сердце. И тревога,
как мы далее убеждаемся, не напрасна.
«С неотвратимостью какого-то сурового закона
движется «Калина красная» к финалу. Здесь все
—откровение. И режиссура с ее безупречно чистым и
вдохновенным монтажом...»2—ттак пишет об этой
заключительной части фильма Зоркая. Кинорассказ о судьбе Егора
Прокудина подошел к трагической развязке.
Шукшин включает тонированную монтажную фразу:
стриженый молодой зэк, почти юноша, поет под
переборы гитары есенинское «Письмо к матери». Грустная,
рвущая сердце песня, ее, очевидно, часто пели в
колонии, где отбывал свой срок Егор. «Ты жива еще, моя
старушка» — так мог грустить в заключении
«отрезанный ломоть», блудный сын, воровская кличка «Горе»...
Только не мог он, как в есенинском письме, передать
матери сыновний привет, не мог сказать ей, что она для
него, уставшего взрослого человека, «несказанный
свет».
А далее — снова цветовое изображение, вспаханное
весеннее поле, трактор тянет за собой прицеп, засыпа-
1 Бурсов Б. Несостоявшийся диалог.— «Лит. газ.», 1974, 30 окт.
4 Зоркая Н. Актер.— В кн.: О Шукшине, с. 166.
:243
лись двое сеять. Егор с молодым напарником работают
на дальнем конце пашни.
Идет последняя, одиннадцатая часть фильма
«Калина красная»...
Светлая «Волга» сворачивает с дороги к полю,
остановилась в отдалении, вышли из машины люди. Егор их
узнал — это Губошлеп с подручными. Крупным планом
деталь: Егор засовывает в карман брюк, под ватник,
гаечный ключ. Он-то знает, что миром теперь с бывшими
«дружками» не разойтись. И еще отправляет он
напарника домой: пойди жену попроведай... А ко мне, мол,
корреспонденты приехали, мы маленько побеседуем.
Широким, твердым шагом идет Егор через пашню
навстречу своей смерти. Губошлеп о нем при этом
насмешливо говорит: «Походка-то у него стала какая-то
трудовая». «Пролетариат»,— добавляет один из
подручных— Бульдя, мордастый уголовник с тонким розовым
шрамом на сытом лице.
Камера снимает сцену на дальнем плане, со спины
Егора, как бы от оставленного там трактора. Не дойдя
до группы, Егор споткнулся, чуть не упал. Поле
северное, неплодоносное, с камушками. Плохая примета, что
оступился, да Губошлеп услужливо помог: ах, ты,
Горюшко... И пошли они, двое, прочь от группы, к лесочку.
Тихо на пашне, только вскрикнула почему-то чайка.
А тем временем Люба вернулась домой. Крупный
план — лицо Любы, глаза в испуге расширились: она
узнала от матери, что сюда, в дом, заходил Губошлеп.
«Мама! Да что же вы!» — кричит она в ужасе, понимая
цель нежданных гостей.
И вступает музыка, сумбурная, громкая. Этой
музыкой режиссер Шукшин все объясняет.
Выстрел — негромкий, какой-то игрушечный. С
криком взлетают над пашней обеспокоенные чайки. А
уголовники спешат к машине, ибо с другой стороны
березняка въезжают на грузовике Петро и Люба.
Егор обнимает, кровеня ее, березку. Пуля вошла ему
в область печени. Он зажал рану ладонью, пытается
идти, да ноги уже не слушаются...
Заговаривается Егор: сначала просит Любу
разделить его оставшиеся деньги с мамой, они в пиджаке, в
кармане, затем вспоминает какого-то старика, он
незлой. Помирает, угадывает Петро, сам штыками
проколотый на войне, знает, как приходит последняя минута.
244
Больно Егору, сучит он ногами, обутыми в кирзовые
сапоги, рука судорожно сжимает полусухую травку,
листья. Когда душа его отлетела, набежал ветерок,
потеребил волосы. И жутко завыла Люба, упав мужу на
грудь, кровеня платье. И снова режиссер включил
музыку, отпевающую героя. Покойно вытянулся он на
последней в своей жизни пашне.
Кепка под головой, страдание на изможденном
лице...
Там же, на съемках, Шукшин скорректировал финал
ленты.
Вероятно, в этом в значительной мере «виновата»
опять-таки натура. Викулов говорит, что, увидав
красавицу Шексну, режиссер тут же решил: надо
«обыграть» паром, пусть здесь настигнет Губошлепа кара...
В киноповести Петро, брат Любы Байкаловой,
перехватывал «Волгу» с убийцами Егора через зимник,
зажав своим самосвалом «бежевую красавицу» на
большаке, между лесом и целиной, напитанной дождевой
влагой.
«Из «Волги» даже не успели выскочить... Труженик-
самосвал, как разъяренный бык, ударил ее в бок,
опрокинул и стал над ней.
Петро вылез из кабины...
С пашни, от тракторов, к ним бежали люди,
которые все видели».
Шукшин, несмотря на ряд упреков ему в
преднамеренном, произвольном уничтожении убийц Егора, в
некоторой, что ли, благополучности развязки, обязательно
хотел сохранить эту сцену справедливого возмездия,
которое вершит Петро. Шукшин выносил таким образом
свой авторский суд над Губошлепом и компанией, над
всем злом человеческим. Он оставлял за собой такое
право, даже если его художественное решение и
производило на некоторых критиков впечатление
«благополучной» развязки.
Интересно, что к такому решению — торжество
финального возмездия — Шукшина подтолкнула редакция
журнала «Наш современник», куда он принес рукопись
кнноповести. Викулов, главный редактор журнала,
рассказывал, что киноповесть завершалась гибелью Егора,
а его убийцы безнаказанно исчезали. Мы сказали
Шукшину, вспоминал Викулов, об опасности такого
впечатления, когда возникает мысль о всепроникновенности
245
зла, об обреченности тех, кто решил или решит го*
рвать со своим блатным прошлым, ибо бывшие «друж*
ки» всегда найдут и уничтожат таких раскаявшихся
людей. Месть, таким образом, делается в глазах рядовых
читателей неотвратимой.
Шукшин обещал подумать над концовкой
киноповести. И вскоре доработал финал — так появилась сцена
справедливой гибели Губошлепа и его банды.
Замечание редакции сценарист воспринял творчески, легко.
И от этого только выиграл, причем вдвойне, если брать
еще в расчет нравственный вывод фильма.
Гуманистический пафос «Калины красной»,
выраженный через утверждение доброты, жертвенной любви —
как лучших качеств человеческого бытия, этот пафос
до конца нуждался в авторской защите. Иначе в
киноповести и фильме могла возникнуть опасность
несоответствия между умозрительным аспектом гуманизма, с
одной стороны, и его реальным содержанием — с
другой.
Зло, по Шукшину, не могло торжествовать победу,
оно подлежало искоренению, или, как раньше говорили,
порок должен был быть наказан.
Шукшин не мог еще не ощущать, что смерть Егора
явилась кульминацией драматического нарастания ки-
ноповестн, что вслед за пиком нашего сопереживания
герою, сострадания к Любе, чья жизнь снова так
безжалостно ломалась, вслед за всем этим эмоциональным
взрывом нужна была некая разрядка. Нам самим,
читателям и зрителям, нужно было испытать какое-то
чувство удовлетворения. Гибель Егора потрясала, в нее не
верилось, и лишь наказание убийц примиряло нас с
трагическим исходом киноповести и фильма.
Катарсис шукшинской картины сравним с ранними
экранными аналогами. Так огнем своих орудий отвечал
на расстрел мирной демонстрации восставший
броненосец «Потемкин». Так разметала врага чапаевская
дивизия, мстя за погибший штаб легендарного комдива...
Вместе с тем Шукшин выражал финалом
киноповести и нравственный максимализм современного ему
искусства. В 70-х годах ясно наметилась тенденция
некоторых мастеров нашей прозы, например, к вынесению
четкого авторского приговора над существующим злом.
Художники Сами стали вершить свой правый суд. Под
Их пером возмездие, некий рок настигает недоступных
246
земным властям самолюбцев, «ницшеанцев»,
браконьеров, неугодных богу и земле подлых людишек. Это
проявление нравственной максимы отчетливо читается, к
примеру, в прозе Виктора Астафьева, одного из тех, кто
был близок — и как литератор и как человек —
Шукшину. В самом деле:
V. У Командора, матерого хищника, гибнет от колес
пьяного шофера любимая дочь Тайка (рассказ «У
золотой карги»);
Игнатьич — «прибранный, рыбьей слизью не
измазанный, мазутом не пахнущий» наладчик на пилораме —
чуть было не утоп в поединке с пойманным на самолов
громадным осетром, прощался про себя с животом
своим («Царь-рыба»);
Гога Герцев — «независимый скиталец»,
соблазнитель и эгоист—оступился на скользком камне.'ударил-
ся затылком и захлебнулся в ледяной реке, добывая
тайменя («Сон о белых горах»).
Но сколько же добытчиков, лихоимцев, шпаны
прошли мимо и не дали ответа за содеянное зло..* Вот
почему искусство нравственной максимы есть еще
искусство щемящей боли. Оно неизменно искренне.
В фильме «Калина красная» Петро настигает
«Волгу» более мотивированно, на мой взгляд, нежели это
было показано Шукшиным-сценаристом. Убийцы ждут
-парома, они не подозревают о погоне. Тут-то, на причале,
и настигает их Петро. Самосвал с ходу сбивает
легковую машину в воду...
И финальные кадры:
«Метеор» проскакивает мимо знакомой нам
заброшенной церквушки с зияющими проемами окон: видно,
как прозрачна к краю пологого берега вода, каждый
камушек чистой этой северной речной водой обкатан.
Вот она, милая воля, оставленная навсегда Егором.
Люба разжигает баньку, вспоминая про себя письма
Егора из колонии. Лицо женщины напряженное,
мечтательное, она помнит каждое слово из этих писем.
Дружно, сухо горят поленья в каменке, которую растапливал
и Егор. Голос мужа, негромкий, ласковый, в ушах
Любы: «Надо бы только умно жить, надо жить,
Любушка...» И женщина чуть покачивает головой, словно бы
соглашаясь со словами Егора.
«Надо, это — жить». Такие вот слова говорит
шукшинский слепой плотник, фронтовик Иван Степанович,
247
Вере, молодой солдатской вдове, на руках которой
остались после войны свои и чужие дети. Для фильма
«Пришел солдат с фронта» (1971, режиссер Н. Губенко,
сценарий Шукшина по мотивам рассказов Сергея
Антонова) эта тема — человеческой стойкости, вечной
надежды— доминирующая. Шукшин верил в жизнь. Подобной
верой преодолевается драматизм жизни и многих его
героев. >
«Надо жить». Это голос сердца, такому голосу надо
верить. А Любу-то жаль не меньше, пожалуй, чем
Егора. Не задалась жизнь у этой милой, созданной для
семьи женщины. Первый муж пил, она его выгнала,
дурака. А уж как отговаривали ее от переписки с
уголовником, особенно невестка — визгливая, суетная баба —
усердствовала. Но настояла на своем Люба: привела в
родительский дом, к старикам, жить Егора, поняла его
душу, способную оттаять, жаждущую участия. За этим
поступком Любы, странным в глазах невестки,
угадывается народное отношение к преступнику как к
несчастному, как к заслуживающему милосердия. Эту
сторону народной жалости подметил еще Достоевский в своем
«Дневнике писателя». Люба добра, мягка душой, но это
далеко не альтруистка, замкнувшаяся на
благотворительности. У нее женское сердце, которому хочется
любви живой, хочется ладно жить.
В исполнении Федосеевой Люба получилась фигурой
убедительно народной, без стилизации. В ней видится
прочная нравственная основа. Только такой человек, без
маски, без рисовки, мог привязать к себе Егора. Он ведь
как?
Приехал к своей «заочнице» просто так,
поглядеть на нее, да и угла у него своего в тот момент не
было. Приехал, напустил на себя бог знает чего, со
стариками Байкаловыми поактерствовал. Сцена эта
потешна: старик (Иван Рыжов), поначалу было
побаивавшийся дочкиного гостя, потихоньку стал его
«прощупывать», а Егор возьми да сам перешел в наступление,
сбил старого с толку, запугал словесами своими
старуху: сел, мол, за то, что семерых зарезал, а восьмой
ушел... «Эта шукшинская игра словесными клише
сродни скоморошьему балагурству, его «пританцовывающей»
стилистике,— отмечает критик,— так же как вопросы
старика и реплики старухи сродни самой роли балагура:
ему подбрасывается «горючий материал», отчего он,
248
как заметил Д. С. Лихачев, «становится как бы актером
в театре, где играют и сами зрители, подыгрывают во
всяком случае»'. Егор привык к смене словесных
масок, за ними он — защищен, его так просто не
разгадаешь. А Люба разгадала, ей буффонада Егора, дробящая
его'подлинный лик, не мешает. Она успокоить его
хочет, чтобы самой успокоиться. Вот почему в разговорах,
общении с ней Егор свой дурашливый тон оставляет.
Язык его очищается от «административных» слов,
начинает выражать его сущность. Когда Егор понял, как
нужна ему Люба, он стал отделять слово от слов.
«Калина красная,
Калина вызрела»,
часто поется в киноповести. В фильме этой песни нет.
Зато есть «нефункциональный», статичный кадр: какой-
то мальчик (то ли из районного городка, куда приезжал
искать «праздник» Егор^ то ли сам герой в детстве)
кидает в воду зрелые ягоды калины. Они медленно тонут,
их клюют маленькие, юркие рыбки. По одному из
народных поверий калина — это символ первой,
обязательно несчастной любви. Ее-то и испытал герой
киноповести и фильма «Калина красная» Егор Прокудин.
Да, песни о калине, этой старой, популярной и такой
грустной песни, нет в фильме. А Шукшин ее любил, пел
ее умело, с душой... Ближе к финалу картины, в эпизоде
с Любой и Петром, пробует ее напеть герой, идет он
узкой деревенской улицей к озеру, где на лавочке,
поближе к воде, сидит жена, минута эта тревожная,
последняя мирная минута, дальше придет выстрел, придет
смерть...
Мой американский читатель (статью о фильме
«Калина красная» в свое время печатал я в журнале
«Москва») оспаривает меня, говоря, что в фильме
музыкальная тема, основанная на песне о калине,
постоянно звучит, что ее нарочно зашифровал композитор
П. Чекалов, она выполняет функцию «подполья».
Критик ссылается при этом на свою эстонскую знакомую,
редактора одного из журналов, которая и
рассказывала ему о «подпольной» музыкальной теме...
Возразим Дональду Фэйну, тем более что критик и перевод-
1 Белая Г. Антимиры Василия Шукшина.— «Лит. обозрение».
1977, № 5, с. 24—25.
249
чнк всерьез изучает киномир Шукшина, знает
множество наших публикаций о творчестве великого писателя и
кинематографиста. В данном случае, он ошибся1.
Как ошиблась французский кинокритик из
парижского журнала «Жен синема» Жанетт Жерве, назвав
«Калину красную» фильмом хорошим, но «далеким от
марксизма»2. Эта «ошибка» уже из другого ряда,
критик делает из Шукшина изгоя, вырывает его из кино-
процесса, очерняет все советское кино, якобы «зажатое»,
«официальное». А ведь есть в статье Жерве и
правильные, справедливые слова. Например, эти: «Что
вызывает восхищение в его картинах,— это поэтичность и та
теплота, с какой показан совершенно незнакомый нам
мир. Парадокс заключается в том, что у Шукшина мы
находим то же мягкосердечие, которое свойственно
нашим фильмам». Справедливо? Конечно... Так зачем же
из Шукшина, коммуниста, делать антимарксиста? Не
надо.
На фестивале фестивалей в Белграде в 1975 году
31 страна представила 90 картин. И в число лучших
пяти фильмов Феста-75 была включена «Калина красная».
На кинофоруме в Авиньоне в том же 75-м году открыла
для себя фильмы Шукшина Франция. Затем, в дни
Недели советского кино, французы восхитились «Калиной
красной», для этого фильма были сделаны субтитры, он
выходил в массовый прокат. А, к- слову, наши картины
редкие гостьи на зарубежном коммерческом экране.
Очень и очень редкие гостьи, к сожалению...
Киноведы, которые читали за рубежом лекции о
Шукшине и представляли программы его фильмов, как
правило, говорят об успехе этих программ. Георгий
Капралов рассказывал мне, как горячо принимали «Калину
красную» в рабочем кинотеатре в Неаполе, куда
пригласили советского кинокритика с лекцией о Шукшине.
Весной 76-го на фестивале неореалистического фильма
в южноитальянском городе Авелино зрители
приветствовали кинематограф Василия Шукшина. Об этом
говорил мне критик Евгений Громов. А в конце марта 81-го
я сам видел, как смотрит зарубежный зритель
«Калину красную». Это было в Париже, в рамках ретроспек-
1 В кн.: ЗНикзЫп, 5Но*Ьа11 Веггу Рей апй о1Нег 5{опе& есПЫ
Ьу ОопаЫ М. Пепе.— МкЫеап, 1978, 5. 203.
2 «Мше «пета», Рапэ, 1976, N 98, р. 17.
250
тивы фильмов Шукшина. Это был праздник кино. Вот
мнение о Шукшине Марселя Мартена, известного кино-?
веда, чьи работы выходили и на русском языке: «Васи-*
лий Шукшин был великим поэтом экрана, и его уход —
непоправимая потеря для советского кино... Его фильмы
напоминают его самого как актера, который просто
воплощал многочисленные грани своей личности вместо
игры фантазии. Он одновременно крепок и хрупок,
стремителен и нежен, он практик и идеалист».
Специально к ретроспективе Мартен написал статью.
Приведу из нее одну выдержку: «Этот поэт сумел
привести в движение наши наиболее глубоко спрятанные
нервы самыми простыми средствами. Он сумел впитать
в свое творчество все источники русской художественной
традиции, чтобы говорить нам о Советском Союзе. Он —
этот великан — разговаривает с нами своими пятью
фильмами, и он заслужил, чтобы мы вписали его имя в
достойную главу наших энциклопедий, а также и в
наши сердца».
Искренне сказано...
Героический народный
характер.
Часть 1
(Замысел «Степана Разина»)
Фильм о людях XVII века будет
адресован людям XX века.
Шукшин
Заветная работа о Разине задумывалась Шукшиным
давно — гораздо раньше, чем принято обычно считать,
основываясь лишь на очном, что ли, знакомстве с
частично оформившимися результатами этого
непрестанного, многолетнего труда выдающегося писателя и
кинематографиста.
Сценарий «Я пришел дать вам волю», основной
вестник этой работы, был опубликован в 1968 году, спустя
три года появился журнальный вариант одноименного
251
киноромана, а отдельной книгой роман увидел свет
только после кончины автора 4.
Фильм же, о котором столь страстно мечтал
художник, так и не состоялся.
Мысль о сценарии окончательно окрепла у Шукшина
приблизительно к 1963 году, когда Академия наук
СССР завершила издание фундаментального многотом^
ного сборника документов о восстании Степана Разина,,
и наша историческая наука впервые получила возмож^
ность в полном объеме исследовать крупнейшее
народное движение XVII века. На смену многим домыслам и
«белым пятнам», поневоле бытовавшим ранее, в силу
недостаточной изученности восстания, пришел
основанный на достоверных источниках научный анализ, без
которого, как известно, не может обойтись
современное искусство, имеющее дело с историческим
материалом.
Об огромном значении упомянутого многотомника
для будущей своей работы над образом Разина Шукшин
говорил не однажды2. В частности, со свойственной ему
откровенностью Шукшин признавался (в
радиопередаче «Литературные вечера» перед чтением отрывка из
романа «Я пришел дать вам волю», 21 февраля 1971
года): «Коротко мог бы сказать, как начинался роман,
почему я, зная прекрасно два великолепнейших наших
романа о Степане Разине (А. Чапыгина и С. Злобина.—
Ю. Т.), тем не менее решился писать свой. Материал о
Степане Разине у меня складывался поначалу как бу-
1 Шукшин В. Я пришел дать вам волю (киносценарий).—
«Искусство кино», 1968, № 5—6; Шукшин В. Я пришел дать вам волю
(роман).— «Сибирские огни», 1971, № 1—2; Шукшин В. Я пришел
дать вам волю. М., «Сов. писатель», 1974.
За пять с небольшим месяцев до смерти Шукшин говорил о себе:
«Продолжаю заниматься темой, которой отдал уже не один год
жизни: Степаном Разиным. Это будет и книга н, надеюсь,
кинокартина» (Рассказывает Василий Шукшин.— «Правда», 1974, 22 мая).
2 В ходе написания сценария и киноромана появились новые
исторические труды о Крестьянской войне, которые, вероятно,
внимательнейшим образом изучал Шукшин: в частности, Е. Чистяковой
«Василий Ус — сподвижник Степана Разина» (М., 1963); И. Степан
нова «Крестьянская война в России в 1670—1671 гг. Восстание
Степана Разина» (т. 1, Л., 1966); А. Манькова «Записки иностранце»
о восстании Степана Разина» (Л., 1968) и др.
Вообще уровень развития исторической науки во многом
оказался решающим для направленности интересов некоторых мастеров
искусства.
252
дущий фильм и писался вначале как сценарий. Почему
же, собственно говоря, я отважился, зная эти два
романа, на собственный поиск материала и на собственную,
ну, что ли, историю? Вот почему: Академия наук
закончила очень большой, очень полезный труд по сбору
материалов о восстании Степана Разина. И туда вошли
не то что новые, но, во всяком случае, очень мало
знакомые документы. Наши романисты — и Чапыгин и Зло-
бин — выискивали эти документы, находили их по
крохам, по частицам, всякий раз радовались каждому из
них. И, таким образом, спокойной, что ли, работы над
документами, собранными воедино и прочитываемыми
сами как роман, не было. Но вот, повторяю, у меня в
руках оказался трехтомник этих документов, где они
расположены в хронологическом порядке, всесторонне
учитывают даже малейшее упоминание о Разине и о
событиях, связанных с восстанием. Таким образом, у
меня не было переоценки каждого отдельного документа,
а было спокойное прочтение всех их сразу. Вот я и
отважился на написание собственного варианта»'.
Так говорил зрелый Шукшин, взыскательный и
строгий мастер, только мог говорить он и о более раннем,
что накрепко хранит в себе память благодарного
художника, вышедшего действительно из толщи народа.
Поклонение Разину впитал будущий кинематографист и
писатель с молоком матери. Сказания и расцвеченные
любовным поклонением легенды об удалом атамане
слышал он мальчишкой еще в родном селе, на зеленом
берегу над бурной Катунью. Некоторые стихи и песни
о Разине выучил Шукшин наизусть и, много позднее, в
«лирические минуты» читал их сам себе или негромко,
для внутреннего своего подъема, напевал.
В киноромане «Я пришел дать вам волю» Шукшин,
будто ненароком, выводит чудаковатого самозваного
«патриарха», сподвижника Степана (после того, как
опальный Никон, живший под надзором в Ферапонтовой
монастыре, отказался помочь казакам, Разин счел за
благо подыскать ему «замену» — этот «патриарх», кто-то
же согласился им быть, плыл с мятежным войском на
собственном струге, и многие доверчивые крестьяне,
зная о вражде Никона и царя, верили его «пастырской
1 Гальперин Ю. У микрофона Василий Шукшин,—«Лит.
Россия», 1975, 1 авг.
253
милости»). Вот Степан плывет с «патриархом» вниз по
Волге, тот рассказывает атаману:
«— Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока
патриархом-то не сделался, горя помыкал...
-=- Ты родом-то откуда?
— А вот почесть мои родные места. Там вон в ВоЛ'
гу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая
речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она
разошлась, деревня-то». чи
Шукшинские крестьяне сеяли коноплю, вили из нее
веревки и канаты для жившего здесь же «поместника»,
тот продавал товар москвичам. Только, на общее горе,
выгорело как-то по осени село, помещик уехал.
«А нам тоже — чего ждать? — рассказывал далее
«патриарх».— Голодной смерти? Разошлись по свету,'
куда глаза глядят. Мне-то что? — подпоясался да пошел.
Ас семьями-то —вот горе-то. Ажник в Сибирь
двинулись которые... В Сибирь-то много собралось.
Прослышали: земли там вольные...».
Вот откуда — от разинских времен выводит Шукшин
(вымысел это или семейное предание?) свой алтайский,
сибирский корень, вот откуда поиск в себе самом
разинских черт, родство кровное, нерасторжимое. Всю свою
недолгую жизнь носил в сердце своем Шукшин
величавый, загадочный образ Разина, как веками не забывает
его народ, о чем, конечно же, прекрасно знал народный
художник.
: Мятежный атаман становится одним из героев
новеллы о современном селе — «Думы» в фильме «Странные
люди».
Поминает Разина старик Байкалов, когда хочет
осадить разошедшегося Егора («Калина красная»).
Появляется Степан и в повести-сказке «До третьих
петухов».
Шукшин справедливо считал, что Степан не только
персонифицированная история, живет он вечно во плоти
и крови. Народ словно видит его живым, поклоняясь
непреходящему его вольнолюбию, самоотречению,
презрению к смерти. Образ Разина — это народное
достояние.
В другом месте, с иным собеседником, Шукшин
повторял, что Разин — любимый герой народа, и тут
ничего нельзя отнять. Пока народ будет помнить и любить
Разина, художники снова и снова будут к_нему~обра-
254
щаться, и каждый художник по-своему буде* решать эту
необъятную тему — Степан...
Никакой другой исторический деятель старой России
не привлекал столь глубокого интереса к себе Шукшина}
именно в Разине, народном любимце, усматривал он
красоту, ширь национального характера, постигал
уникальный характер этот до порога смерти. Выходя к
сорока годам на рубеж широких мировоззренческих
обобщений, Шукшин видел в Разине вероятную разгадку
России. «Таким путем (воспользуемся словами Бурсова
применительно к Пушкину.— Ю. Т.) вникает он в самую
суть реального исторического бытия, которое именно в
гениальном человеке, историческом деятеле или
художнике, достигает своего высшего напряжения»'.
Работу над кинороманом, а затем и фильмом о
Разине Шукшин считал наиважнейшим своим делом в
отечественном искусстве, одолимой заветной вершиной
всей своей на редкость интенсивной творческой
деятельности.
XVII век в русской истории богат колоритными, по-
своему сильными личностями, имена их хранит память
отечества. Крестьянский вождь Иван Болотников;
вдохновители освободительной войны с
польско-шляхетскими интервентами — патриарх Гермоген, нижегородец
Минин, князь Пожарский; бесстрашный Сусанин; один
из первых наших просветителей Юрий Крижанич;
крепостной зодчий Яков Бухвостов, изразцовых дел мастер
Степан Полубес, живописец Симон Ушаков; вчерашний
мордовский крестьянин, упорный недруг царя патриарх
Никон; неистовый Аввакум, его ученица и
последовательница боярыня Морозова; терпеливый строитель
великолепного Ростовского кремля Иона... Венчает
столетие высоченная фигура молодого капитана-преобра-
женца Петра Алексеева, открывшего XVIII век в
небывалом доселе звании российского императора Петра I.
Но Шукшин предпочел все-таки Разина, свалившего (по
слову писателя) «бородатую, разопревшую в бане лесо-
вую Русь».
Яркая, оборванная на плахе жизнь Степана,
сорокалетнего атамана вольного Дона,— это часть
общенародной судьбы, неповторимо полное выражение лучших
1 Бурсов Б. Судьба Пушкина. Ч. 2.—«Звезда», 1975, № 1Г,
с. 124.
255
черт национального характера. История сделала его
вождем огромнейшего восстания, нарекла «батюшкой»
всем обездоленным и сирым, имя его вошло в
бесчисленные песни и сказы, которые начали складываться по
берегам Волги еще при его жизни.
Поучительна его судьба. Ведь Разин не был бегльш
холопом, искавшим на Дону спасения от «поместника».
Он родился казаком, но его отец, Тимофей Разя,
умерший от старых ран, когда Степану едва исполнилось,
двадцать лет, беглым был: он принадлежал к
воронежским то ли посадским людям, то ли крестьянам.
Разины относились к зажиточному казачеству, Степана
крестил Корнила Яковлев, вождь домовитых, будущий
атаман войска Донского. Тем не менее Разин порвал со
своей средой (я имею в виду богатую часть казачества),
решительно склонился на сторону «голутвы» и беглых
мужиков. Выбор Степана, по тем временам
исключительный, красноречиво свидетельствует, что он был
человек крайностей, удивлявших и поражавших людей с их
привычными, .будничными мерками. Фигура атамана
двоилась в глазах современников, и дело не только в
том, что для одних был он «вором», а для других —
«батюшкой»; бунт Разина явил собой одну из первых
попыток прорыва к свободе внутренней, а это постигал
далеко не каждый даже среди сторонников Степана.
Были у Разина и сугубо личные причины «воевать
бояр». Старший брат Степана, Иван, командовал полком
донцов, дравшихся в составе армии князя Долгорукого
против поляков. За самовольное решение вернуться
домой— а осенью казаки всегда уходили, они не воевали
зимой — князь казнил полковника Ивана Разина (это
произошло в 1665 году, за четыре года до начала
Крестьянской войны). Смерть брата потрясла Степана:
позднее, на допросах в Москве, он показал, что
взбунтовался именно поэтому — хотел отомстить. Только
призыв Степана: «Метитесь, братья!» (так названа вторая
глава кнноромана Шукшина)—в равной степени падал
на головы всех царских воевод и бояр, это был клич к
целому народу, задавленному нуждой и голодом. И
народ поверил атаману, а поверив, сделал своим.
Размышляя о будущем фильме, о характере главного
героя, Шукшин подчеркивал, что в истории, в событиях,
в народной памяти выдвинула Разина громадная, чисто
русская любовь к простым людям,-его заступничество.
Й6
Об этом же в романе: «К сорока годам жизнь научила
атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству,
и думать он умел, и в людях вроде разбирался. Но
весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный,
несговорчивый, порой жестокий,— в таком-то, жила в нем
мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать.
Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше и после
(а рассуждение это Шукшина относится к Разину,
вернувшемуся из персидского похода, к золотому августу
1669 года.— Ю. Т.),— поступки и дела его — тому
свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая
душа на подлость людскую, так Степана точно срывало с
места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи
сам. Тогда-то он и свирепел, бывал жесток. Но эту-то
добрую, справедливую душу чуяли в нем люди, и
тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой
человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы
знали. И хоть порой томило Степана это повальное к
нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и
случилась самая его жестокая жестокость, на какую он
не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но
би и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел
успеть заступиться, но то опоздывал, то не умел, то
сильней его находились... И сердце его постоянно
сжималось жалостью и злостью».
Таков был Разин, отчаянный казак, опытный
дипломат, знающий несколько языков (секретарь шведского
посольства в Персии Кемпфер уверял, что атаман знал
восемь языков, в частности, польский, татарский и
калмыцкий). «Влияние личности Разина,— пишет
современный историк восстания,— наложило отпечаток на
большинство событий Крестьянской войны, начиная с
похода донской голытьбы и беглых крестьян на Волгу, Яик
и Каспий и кончая действиями бесчисленных отрядов
повстанцев в Поволжье и других районах страны, хотя
они нередко не были прямо связаны с руководителями
восстания. В его действиях, как военного руководителя,
немало импульсивности, порывистости, мощной и
своенравной, силы и энергии, бьющей через край. Его
богато одаренной натуре были свойственны не только
умение владеть саблей, удаль и отвага, взращенные в
воинственной вольнолюбивой среде, но н несомненные
способности в организации и проведении походов и
сражений, сметливость и хитрость, так необходимые в воен-
1$ Зак. 640
257
ном деле, целеустремленность в разработке и
осуществлении планов, умение направлять действия ^больших
масс людей. Он был настоящим народным
предводителем, который поразил воображение современников и
потомков титанической силой характера, широтой и
удалью натуры, своеобразной и противоречивой. Таков
был и народ, который выдвинул из своих рядов этого
могучего человека былинного склада»'.
Разин — это весь XVII век, это будущая Россия,
неуемная и неостановимая. Пушкин называл его
«единственным поэтическим лицом русской истории», радовался
за героя своего романа и будущего фильма Шукшин.
Вот он н хотел по истории жизни Разина воссоздать
картину всей эпохи, стремился увидеть в этом человеке те
черты русского характера, которые ему особенно были
дороги.
Талант всецело национальный, Шукшин не мог не
думать об историческом бытие нации, о тяжких ли,
славных ли путях ее становления и развития. Как
истинно большой художник, чудесно вмещающий в себя
жизнь прошедшую и грядущую, он свободно проникал в
глубь веков, находя там, в исчезнувших событиях и
лицах, истоки, зачатки многих черт современности, следуя
в этом отношении животворной традиции литературы
пушкинской поры. Отечественную историю, летопись
которой перевалила далеко за тысячелетие, Шукшин
воспринимал и принимал как процесс непрерывный, пусть
необратимый, зато поучительный, необходимый для
нынешнего самосознания народа.
«Уверуй,— призывал он в одном из последних писем,
за полтора месяца до смерти,— что все было не зря:
наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести
победы, наше страдание,— не отдавай всего этого за понюх
табаку»2.
История, утверждал некогда Чаадаев, есть ключ к
пониманию народов. Этот заветный ключ Шукшин
крепко держал в руках, современный художник соглашался
с философом, за свои взгляды объявленным полтора
века назад умопомраченным: «Народы в такой же мере
существа нравственные, как и отдельные личности. Их
1 Буганов В. Крестьянские войны в России XVII—XVIII вв. М.,
«Наука», 1976, с. 69—70.
2 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 345—346.
258
воспитывают века, как отдельных людей воспитывают
годы»'.
Самосознание нации поддерживается фундаментом
исторического опыта. Вот почему Шукшин имел право с
полной ответственностью сказать: «Русский народ за
свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень
уважения такие человеческие качества, которые не
подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость,
доброту...»2. Качества эти, ценя их в людях, воплощали
Степан Разин, любимый исторический герой Шукшина.
Период 70-х годов в отечественной культуре отмечен
явными признаками серьезного интереса к исторической
жизни народа. Об этом наглядно свидетельствует опыт
современной прозы (вспомним книги В. Личутина,
Ю. Давыдова, Г. Семенихина, Б. Васильева, Д.
Балашова, Валентина Иванова, Н. Задонского и других), об
этом же интересе свидетельствуют труды историков,
исследователей древнерусского искусства и литературы,
поразительные успехи художников-реставраторов.
Причем результаты данной работы, по мере накопления все
более впечатляющие, живо интересуют и публику,
общество: недаром феномен этот сейчас подробно
изучается. Ибо мы прекрасно знаем: интерес-то к отечественной
истории, в отличие от самой истории, прерывен — по
различным причинам, большим и ничтожным, но
прерывен.
Тогдашний же игровой кинематограф оказался
несколько в стороне от этой завидной увлеченности
духовными ценностями отечественной истории. По крайней
мере наблюдение это распространяется на продукцию
центральных студий, где историческая тематика,
похоже, на протяжении 60—70-х годов недооценивалась.
Скажем так: простительная реакция на былую
увлеченность фильмами о «великих предках» (ироничность
определения позаимствована из критических статей
некоторых наших киноведов) сменилась определенным
равнодушием, вовсе не бесспорным, если думать о широте
охвата жизни, гармонически полном развитии нашего
киноискусства.
И большой мастер (ранга Шукшина) никогда не
согласится, что художественное постижение материала ис-
Антология мировой философии, т. 4. М., «Мысль», 1972, с. 97.
Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 345.
10*
259
тории менее плодотворно, менее перспективно, чем
непосредственный творческий анализ окружающей его и
его соотечественников, то бишь зрителей,
действительности.
Вот объяснение настойчивости, упорства Шукшина, с
каким он добивался реализации заветного своего
замысла.
25 февраля 1971 года в заявке на имя директора
Киностудии имени Горького Бритикова режиссер пишет:
«Возможные подготовительные работы по фильму
«Степан Разин»:
I. Концепционные уточнения сценария с возможным
пересмотром материала на предмет производства 2-х, а
не 3-х фильмов.
II. Довыбор натуры на Волге или Днепре.
III. Дальнейший подбор иконографических
материалов.
IV. Работы по костюмам (эскизы, возможные места
заказов по пошиву, переговоры с другими студиями и
организациями о возможной временной эксплуатации
одежды). То же относится к реквизиту и оружию.
V. Продолжение подбора и переговоров с актерами и
коллективами художественной самодеятельности...»
(архив Шукшина).
Через три года, весной 74-го, режиссер обращается с
заявкой уже к генеральному директору «Мосфильма»
Сизову:
«Предлагаю студии осуществить постановку фильма о
Степане Разине.
Вот мои соображения.
Фильм должен быть двухсерийным; охват событий —
с момента восстания и до конца, до казни в Москве.
События эти сами подсказывают и определяют жанр
фильма — трагедия. Но трагедия, где главный герой ее
не опрокинут нравственно, не раздавлен, что и есть
историческая правда. В народной памяти Разин —
заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и
прекрасная,— с этим бессмысленно и бесполезно спорить.
Хотелось бы только изгнать из фильма хрестоматийную
слащавость и показать Разина в противоречии, в
смятении, ему свойственных, не обойти, например, молчанием
или уловкой его главной трагической ошибки — что он
н.е поверил мужикам, не понял, что это сила, которую
ему и следовало возглавить и повести. Разин — человек
260
своего времени, казак, преданный идеалам казачества,—
это и обусловило и подготовило его поражение; кроме
того, не следует, очевидно, в наше время «сочинять» ему
политическую программу, которая в его время была
чрезвычайно простой: казацкий уклад жизни на Руси.
Но стремление к воле, ненависть к постылому
боярству— этим всколыхнул он мужицкие тысячи, и этого у
Разина не отнять: это подлинный, прирожденный вождь,
таким следует его показать. Память народа разборчива
и безошибочна.
События фильма — от начала восстания до конца —
много шире, чем это можно охватить в двух сериях,
поэтому напрашивается избирательный способ изложения
их. Главную заботу я бы проявил в раскрытии
характера самого Разина — темперамент, свободолюбие,
безудержная, почти болезненная ненависть к тем, кто
способен обидеть беззащитного,— и его ближайшего
окружения: казаков и мужицкого посланца Матвея Иванова.
Есть смысл найти такое решение в киноромане, которое
позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в
повествовании, избегать излишней постановочности и
дороговизны фильма (неоднократные штурмы
городов-крепостей, передвижения войска и т. п.), т. е. обнаружить
сущность Крестьянской войны во главе с Разиным — во
многом через образ самого Разина.
Фильм следует запустить в августе 1974 г. Но,
прежде чем будет запуск и режиссерский сценарий, есть
прямая целесообразность провести — я бы назвал этот
период— подготовку к режиссерскому сценарию. На это
потребуется 1,5—2 месяца, деньги и группа: режиссер,
оператор, художники (два), администратор, фотограф.
Целесообразность тут вот в чем:
1. Найдены будут места, где без больших
достроечных работ можно снять эпизоды фильма;
2. С учетом этих мест (возможно, целого комплекса
объектов: крепостные стены, церкви, приказные палаты,
внутренние углы кремлей) можно впоследствии писать
режиссерский сценарий. Проще говоря, не искать натуру
по режиссерскому сценарию, а предварительно
найденная натура в комплексе с минимальной достройкой по
многом продиктует в будущем режиссерскую разработку
фильма. Это много удешевит фильм;
3. Эта работа не нуждается еще в создании
большого съемочного коллектива.
261
Затем (10 месяцев)—режиссерская разработка и
подготовительный период. Если бы работа над фильмом
началась в августе 74 г., то в мае 75 г.— начало съемки.
Если съемкам будет предшествовать хорошая
подготовка, то за лето (а все события восстания — лето, от
весны до осени) можно снять натуру для обеих серий.
Зимние месяцы (75—76-х годов) — павильоны, в 1976 г,
есть реальная возможность фильм закончить.
Но, чтобы это произошло, я прошу фильм провести
в качестве государственного заказа. Необходимость Ъ
этом продиктовывается следующими соображениями:
На местах съемок часто и много придется иметь дело
с представителями местных властей (помощь людьми
для массовок, съемки в монастырях, кремлях,
пустующих храмах, у крепостных стен), без наименования
«госзаказ» нам будет сложно, а иногда и невозможно
получить разрешения на все это.
Фильм следует снимать на обычный экран с
последующим переводом в широкий формат. Это даст
гибкость, подвижность, маневренность при съемках в
естественных интерьерах, т. е. опять-таки удешевит фильм.
Еще предложения:
Учитывая сложность картины, необходимо иметь двух
вторых режиссеров, двух художников-постановщиков с
оплатой постановочных в полном размере тем и другим.
В связи с этим следует разрешить мне пригласить для
работы над фильмом второго режиссера Острейковскую
(с Киностудии имени Горького), так как она уже
проводила со мной подготовительный период по разинскому
фильму в качестве второго режиссера (по актерам), и
художника-постановщика Игнатьева (с киностудии «Бе-
ларусьфильм») как специфически волжского художника
(он сам волгарь), большого знатока тех мест.
, Фильм я намерен снимать с оператором Заболоцким»
(архив Шукшина). И когда режиссер добился наконец-
то соответствующего согласия на постановку фильма о
Разине, его подстерегла смерть.
По несчастью, подстерегла именно там, где
собирался он вести съемки,— на Дону, на родной земле своего
героя'.
1 Шукшин, чувствуя приближение желанного мига — начала
кинематографической работы, был охвачен нетерпением, буквально
горел ожиданием.
262
Советский кинематограф рубежа 60—70-х годов, не
станем сгущать краски, знал целый ряд относительно
(да и безусловно) удачных, новаторских даже фильмов,
выстроенных на художественно претворенном
историческом материале: «Геркус Мантас», «Насими»' (я не
называю картины, снятые по классическому наследию;
например, «Войну и мир» или «Преступление и
наказание»— в русском кино; «Мольбу» или «Захара
Беркута»— в республиканском; согласимся, что
экранизация— тема специального исследования). Так что
Шукшин, работая над кинороманом и думая о будущем
своем фильме, имел возможность сравнить собственный
метод исторического повествования с замыслами и
стилистикой прочих наших исторических лент, хотя бы с
упомянутыми выше картинами.
Конечно, не следует преувеличивать значение для
Шукшина фильмов на историческую тематику, об этих
произведениях он, кажется, редко высказывался, что не
может не обращать на себя внимания — ведь Шукшин
много раз освещал процесс работы над образом
Разина, говорил о важнейшей роли первоисточников,
исторических свидетельств, отмечал опыт исторической
художественной литературы, а вот об историческом
кинематографе, повторяю, почти ни слова... Шукшин не был
плохим зрителем, он смотрел фильмы своих коллег,
иногда отмечая открытия, иногда критикуя за
неестественность, манерность, так что движение нашего
исторического кино в общих контурах было ему понятно. И он
Об исторической реке, где с победой на Куликовом поле
началась эра национального возрождения Русл, Шукшин говорил своим
собеседникам:
— Много чего здесь прошумело за историю... И сарматы, и
печенеги, и половцы...
Весной 75-го, в ста километрах выше донского хутора Мелоло-
говского, режиссер планировал приступить к съемкам «Степана
Разина».
И еще говорил Шукшин:
«Вспоминая прошлое Волги и Дона — героическое, большое,
широкое,— лучше понимаешь стойкость народа...» (Степан Разин —
легенда и быль.— «Лит. газ.», 1970, 4 ноября).
1 Следует помнить и о великолепной батальной картине
«Ватерлоо», поставленной Сергеем Бондарчуком в традициях толстовской
военной прозы. Постановка «Ватерлоо» финансировалась
итальянским продюсером Дино Де Лаурентисом, натурные съемки
происходили в Закарпатье, картина снималась при участии студни
«Мосфильм», играли С. Закариадзе, Е. Самойлов, В. Дружников.
263
со всей решимостью подлинного художника думал,
рассчитывал включиться в это движение. Поддержать и на
свой лад обогатить его.
Самораскрытие — вот что в наибольшей мере
приближает нас к замыслу Шукшина-историка. Самораскрытие
автора, обладавшего историзмом художественного
мышления, природа такого самораскрытия. Тут не обойтись
без помощи самого Шукшина, без его рассуждений,
которые оформились к периоду непосредственной
подготовки к съемкам фильма,— следовательно,
рассуждения итоговые. Вот характерные шукшинские слова:
«Почему мне хочется сделать этот фильм? Не
разъезжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю,
что нет, потому что Степан Разин — это тоже
крестьянство, но только триста лет назад. Почему эта фигура
казачьего атамана выросла в большую историческую
фигуру? Потому что он своей силой и своей неуемностью,
своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль.
Вот это обстоятельство. Были до него удачливые
атаманы, после него удачливые атаманы, были такие же
яркие... Но почему же один так прочно пойман народной
памятью? Потому что он неким образом ответил вот
той крестьянской боли... Отсюда, так сказать, он у меня
и появился как яркий, неповторимо яркий, сильный,
вольный, могучий заступник крестьянства. Он казак, это
немножко обособленное сословие русского народа, но
для меня он прежде всего крестьянский заступник, для
меня, так сказать, позднейшего крестьянина, через
триста лет. Для того чтобы мне его понять в зачине, я его
воспринимаю в одном качестве: это казак, это
ремесленник от войны, это неким образом не крестьянин... Но
дороже всего мне этот человек именно как человек,
искавший волю... Замкнувший крестьянскую боль и чаяния.
Вот отсюда — продолжение темы, а во времени — отскок
на триста лет назад в историю. Но это все то же
крестьянство» '.
У Степана, как его понимает Шукшин, великое
нетерпение, жажда немедленного, сиюминутного
душевного праздника, да не для себя только — для всех, кто
стеснен неволей.
Разин — заступник народа, вечный его герой. В
оправдание земного страдания он не верит, боль мужиц-
1 Василий Шукшин. Нравственность есть Правда.,., с. 240—241.
.264
кую, принятую от боярина, переживает как
собственную.
Когда-то Тютчев создал известные строки:
«Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!»
Шукшину мало такой картины, особенно в
исторической перспективе. Он видел иную ипостась
национального характера. Подчеркиваю — иную. Ибо способность
к бунту развита была у русского народа не менее
способности вековечно терпеть, а порыв к свободе от
внешних врагов (например, ордынцев)—нечеловеческой
способности пересилить любое страдание.
А теперь послушаем современного автора (жанр его
книги определен как «Опыт исторической
публицистики»), данное мнение многое проясняет в вопросе:
«Народ русский зело терпелив и послушен»,— говаривал
Петр I. Это терпение солдата и послушание воинской
дисциплине в самом деле вошли в национальный
характер. Но когда чаша терпения переполнялась, русский
крестьянин проявлял в борьбе против внутреннего
классового врага ту же самоотверженность, готовность идти
до конца, не считаясь ни с какими жертвами, которые
отличали русского солдата на полях битв с иноземцами.
Крестьянские армии Болотникова и Разина, Булавина и
Пугачева не посылали парламентеров к противнику, не
заключали с ним перемирий, не вступали в переговоры
относительно удовлетворения их требований. Да и о чем
договариваться? Именно потому, что русский мужик
слишком долго терпел и слишком многое выносил на
своих плечах, ему не нужны были частные уступки. Он
хотел всего: земли, воли (разрядка моя.— Ю. Т.) и
полной расплаты за перенесенные унижения. Вот
почему Болотников велит «боярским холопам побивати своих
бояр и жен их», брать себе «их вотчины и поместья».
Разницы «черных людей наговаривали, чтоб дворян и
детей боярских и в городах воевод и подьячих всех
переводили и избивали». Булавин опять зовет бить «всех
бояр и прибыльщиков». Пугачев приступает к
поголовному истреблению дворянства» \
Нестеров Ф. Связь времен. М., «Мол. гвардия», 1984, с. 140.
265
Знаменательно: когда М. Ульянов и Г. Черняховский
поставили на сцене Вахтанговского театра «Степана
Разина» (инсценировка романа «Я пришел дать вам волю»
М. Ульянова и А. Ремеза), главным в спектакле явился
показ мятежной стихии народа, показ через главного
героя по преимуществу. «Поэзия живет в неистовом
по самоотдаче исполнении Разина Михаилом
Ульяновым,— отмечал рецензент постановки.— Он многое
понял в своем атамане: его крутой, гордый нрав, его опыт
и его военную хитрость, его ум, его скоморошество, его
пружинистую хватку, его сердце — игралище бешеных
страстей, когда он, не совладав с собой, вестника
дурных вестей застрелить может, а потом истово кается:
«Братцы, срубите... не могу больше: грех замучает...
срубите!» «Ох, люди, люди!» — слышу я этот вопль,
неистовый и скорбный! Конечно же, Разин — фигура
трагическая. И потому, что был он «преждевременным
человеком», и потому, что нес он в себе трагическую вину
жестокости, которой вынужден был отвечать на
жестокость... Неистовый Разин предстал перед нами, хотя
поэзия здесь еще и не достигла своего торжества, ибо это
может произойти только тогда, когда мы увидим, что и
сама жестокость, как ни осуждает ее наше
нравственное чувство, рождается из безмерного сострадания
Разина людям, из великой доброты души его...
Потрясением должна быть минута, когда Разин погибает на
своем мученическом кресте. Потрясение еще впереди...»1.
Итак, Шукшин делал казачьего атамана
заступником крестьянства, из среды которого, в общем-то, и
выделилось вольное казачество, стихийно образовалась
боевая сила, генетическая связь которой с народом помогла
эту силу направить против «изменников бояр» и
«изменников дворян», взорваться мужичьему бунту. Такой
облик Разина, такое понимание диалектики восстания
вызвали и критику романа (допустима вероятность и
замечаний по фильму, когда бы вышел он на экран). В
частности, литературовед И. Золотусский корректировал
шукшинский взгляд на фигуру народного вождя:
«Исторический Разин, судя по всему, был иным, чем
у Шукшина. Не порыв, а ожидание видится в его опыте.
Он много раз ходил и в Соловки, и в Москву, видел ца-
1 Комиссаржевский В. Неистовое сердце Степана Разина.— «Лит.
газ.», 1979, 14 марта.
266
ря, приглядывался. Стихия стихией, но и расчет
расчетом. Исторический Разин, очевидно, знал, на что шел.
Он пешком исходил сначала пол-Руси, посмотрел на
народ, на войско, на самого себя со стороны. И решился.
А уж после этого начались походы в Персию и разбой
под Астраханью. Шукшин начинает свой сказ о Разине,
когда это прошлое его уже за ним, позади, он берет
зрелого Разина, оставляя в стороне его рост. От этого он
многое теряет, но и приобретает тоже, ибо перед ним
готовый Разин, отлившийся характер, и остается его
только развернуть, поставить лицом к последним дням
его жизни и довершить драму. При этом опять-таки не
исторический Разин интересует его, а легенда о
Разине— тот Разин, который остался в сказаниях и песнях
народа. Недаром так много и в сценарии и в романе
(особенно в сценарии) кусков, когда ватага Разина
гуляет, когда он сам и казаки его поют песни,— песня ле-'
леет шукшинского героя, отдаляя его от жестокостей,
сглаживает их, смягчает. Но история, как говорил
Карамзин, злопамятней народа. Она и о Разине судит
жестче, чем легенда. И спор Шукшина с историей есть
его поэтическая воля, которую мы тоже склонны
оценивать неоднозначно. Ибо и она мечта, и надежда, и при-
неволивание истины, что, впрочем, свойственно
всякому, судящему историю через себя»'.
О роли казачьих песен в сценарии, в романе критик
сказал верно: шукшинские герои петь любят, душу
песни чувствуют. А вот слово «ватага» применительно к
разницам у Золотусского звучит в принижающем
смысле, как и относительно штурма повстанцами Астрахани
звучит словечко «разбой». Тут критик расходится не
только с Шукшиным, но и с нынешней историографией,
далеко ушедшей от Карамзина. Да и как это Разин, по
Золотусскому, решился на выступление раньше походов
в Персию, ведь плавание казаков за добычей к
персидским берегам не носило антиправительственного,
антифеодального характера, вот тут-то сам критик
«приневоливает истину». К тому же Шукшин — автор
киноромана — показал нам и расчет героя: нет, не сразу
отдается Степан своему порыву, видится в нем и
ожидание, которое необходимо вожаку. Помалкивает до поры
1 Золотусский И. История, исповедь, легенда.— «Лит.
обозрение», 1979, № 3, с. 57.
267
до времени атаман, он еще думает о том бремени, какое
нести казакам и ему, если двинутся на Москву...
В киноромане читаем, как впервые распрямляется
Разин во весь рост: это сцена нежданной встречи купече^
ского струга с казачьей ватагой, уходящей из царской
Астрахани на Дон. На струге — государевы стрельцы с
молодцом-сотником, он везет в Астрахань царские
грамоты. Сотник призывает к бою, но силы явно неравны,
его не слушают. А какой-то гребец, а гребцы народ
подневольный, вырвал уключину и сотника — сзади, по
голове. «Стрельцы даже и не попытались помочь своему
молодому начальнику,— не без издевки пишет
Шукшин.— Отлетела милая жизнь». И далее:
«Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего
струга...
— Кто с нами пойдет?! — вдруг громко спросил
Степан.— Служить верой, добывать волю у
бояр-кровопивцев!
Это впервые так объявил атаман. Он сам не ждал,
что так — в лоб — прямо и скажет. А сказалось, и легче
стало — просто и легко стало. Он видел, как замерли и
притихли казаки...
— Кто с нами?! — повторил Степан.— Мы поднялись
дать всем волю!..— Знал ли он в ту минуту, что теперь
ему удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться
теперь некуда.— Кто?! — еще раз спросил Степан громко
и жестко»'.
Примечательно, что необходимость создания
конкретного героического характера на материале истории
почувствовал приблизительно в это же время и другой
крупный мастер советского кино — Панфилов,
обратившийся к светозарной и стремительной, как соломенный
пожар, судьбе Жанны д'Арк. Подступом к замысленно-
му фильму об Орлеанской деве явился хорошо
известный «второй срез» жизни Паши Строгановой, самодея-
1 Слова эти: «Я пришел дать всем вам свободу...» — Разин
произнес, согласно свидетельству иностранца современника, много
позднее— в июне 1670 г. (по кннороману — осенью 1669 г.), обращаясь к
пленным под Черным Яром стрельцам (Стрейс Я. Три путешествия.
М., 1935, с. 204).
В фильме И. Правова и О. Преображенской «Степан Разин»
атаман призывает к воле и того раньше— весной 1667 г. Степан
захватил на Волге караван с царским хлебом, патриаршим добром,
купеческим товаром и арестантамн-колодннками. Он обращается к
268
тельной актрисы, героини картины «Начало». Работая
вместе с Е. Габриловичем над сценарием о Жанне,
режиссер подчеркивал: «Меня, как и прежде, интересует
сильный характер. Герой из народа. Натура
одаренная» '.
К сожалению, исторического фильма Панфилова (как
и картины Шукшина о Разине) нет. Однако
заслуживает особого внимания совпадение интересов двух
кинематографистов, целенаправленно занятых на рубеже
60—70-х годов поисками героического народного
характера. Значит, угадана была тенденция, нуждалось ведь
тогда отечественное киноискусство в героях, подобных
великой Жанне д'Арк или Разину. Это Шукшин и
Панфилов прекрасно уловили: нуждалось, да и поныне
нуждается!
Шукшин искал своего исторического героя не
только как сценарист и кинорежиссер (это будто само собой
разумеется для нашего понимания, восприятия этого
беспокойного художника). Он видел Разина и как
актер. Ведь на самом деле — актер-то незаурядный, в
фильме «Калина красная» окончательно поразивший нас
своей неуловимой естественностью, выстраданностью
чужой человеческой беды (ведь обстоятельства-то
предлагаются все-таки драматургией, воображением, а не
опытом собственной, пусть бурной и бывалой жизни).
Поразил и шолоховский Лопахин, когда Шукшин-актер
стал центром фильма «Они сражались за Родину».
Это очень трудно — воспринимать «трехликого»
художника Шукшина целостно, настолько дробится он в
наших глазах, так близко мы к нему стоим. Вот и
называем чудный дар его — писателя, актера, режиссера —
несколько выспренно, условно: «феноменом», пытаясь
для себя собрать в нечто однородное это
распадающееся для нас, а на самом-то деле нерасторжимое
единство— удивительную личность Василия Шукшина. Не
оттого ли будущий фильм о Разине, контуры этой кине-
пленным: «Вот что, стрельцы, против меня пойдете — повешу. Со
мной — волю дам!»
Как художник Шукшин имел право на собственное толкование
документа. Готовясь к фильму о Разине, он настойчиво подчеркивал
преимущество художественного постижения истории перед
педантичным следованием мелким фактам (см.: «Моск. комсомолец», 1971,
11 марта).
1 Панфилов Г. На высоких кострах горели.— «Лит. газ.», 1971,
15 сент.
269
матографической работы, воспринимаются нами меньше
всего именно как труд актера? Или виновато в таком
перекосе нашего восприятия само обаяние
непосредственности актерской игры, природа живого,
сиюминутного контакта? Только сквозь замысел гигантского
фильма, сквозь кладку слов в киноромане (и, само собой, в
сценарии) проглядывает Шукшин-актер, зыбко и дробно
проглядывает, но — несомненно.
Почитатель шукшинского таланта, Залыгин
подмечает наше удивление, нашу растерянность: «Должно быть,
это надолго, так же будет и в дальнейшем, а
исключения смогут иметь место лишь при рассмотрении
того или иного отдельно взятого произведения Шукшина.
И то далеко не всегда, ведь Шукшин-кинематографист
органически проникает в Шукшина-писателя, его проза
зрима, его фильм литературен в лучшем смысле слова.
Его нельзя воспринимать «по разделам», и вот, читая
его книги, мы видим автора на экране, а глядя на
экран— вспоминаем его прозу...
Мы видим этот щедрый дар природы и
необыкновенную личность личностью, а не набором качеств и
способностей, видим, что эта личность меньше всего
заботилась о самой себе, о том, чтобы проводить в самой себе
грани: вот я — актер, а вот я — писатель, я — режиссер,
я — сценарист. Забот такого рода мы в Шукшине не
заметим, самая их возможность была ему чужда,
несвойственна, свойственна же полная естественность и
непринужденность в обращении со всеми своими
способностями, как будто только так и должно быть, как будто
удивляться этому и даже замечать это совершенно ни к
чему.
И это тоже свойство таланта и даже сам талант» '.
Я вспоминаю встречу с Шукшиным в первых днях
декабря 70-го года, когда в Болшеве, в Доме
творчества, работал он вдвоем с Заболоцким, приглашенным им
специально для съемок фильма о Разине, работал над
материалами, увы, другой картины: «Печки-лавочки».
Этот банальный вздох сожаления относится не к
собственно фильму «Печки-лавочки», по-народному
лукаво-мудрому, озорному шедевру Шукшина, а к серьезным
мечтам двух одержимых заветной думой авторов,
счастливо сведенных кинематографической судьбой.
Шукшин В. Избр. произв., т. 1, с. 5.
270
Держались режиссер и оператор почти постоянно
вместе, выглядели настороженно, хоть и молчали боль*
ше, никому ни на что не жаловались.
Следующий, то есть 1971, год рассчитывали они
посвятить съемкам первой части литературного триптиха
«Я пришел дать вам волю» (первая — «Вольные
казаки», затем упоминавшаяся мною глава «Метитесь,
братья!» и, наконец, «Казнь»'. Минувшие месяцы
Шукшин и Заболоцкий провели, намечая места будущих
натурных съемок. Объездили они, повидали немало:
Вологду, Белозерск, Ферапонтов монастырь, Кострому,
Псков, Печоры, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону.
В Новочеркасске и станице Старочеркасской (была она
главным городком донских казаков при Разине)
заинтересовали их экспозиции музеев истории донского
казачества, войсковой Воскресенский собор, увидели они
цепи, в которые закован был мятежный атаман.
Шукшин, когда я видел его той памятной, еще
теплой, дождливой зимой в Болшеве, не остыл от
постоянных дум о Разине. Я спросил его об актере на главную
роль.
— Пока не вижу такого, кто мог бы Степана моего
«вытянуть». В московских театрах со всеми, кажется,
знаком, люблю многих, а не вижу. Очевидно, сам буду
играть. Хочу очень, много думал. Или так: погляжу по
провинции, ведь мы провинциальную-то сцену нашу как
следует и не знаем. А там, может, актерище какой
играет. А не найду — так сам.
Играл бы Разина в своем фильме, конечно же, сам
Шукшин. Иначе не могло быть, ни у кого не
получилось бы лучше, выстраданнее. Дело не только в
актерской технике, виртуозной у Шукшина, не в его
молниеносной реакции на любой, тончайший поворот
драматургического действия,— слава богу, талантливых
актеров в нашем кинематографе немало. Дело в особом
отношении к образу Разина, личном, выстраданном. А уж
тут кому из посторонних-то (посторонних относительно
замысла автора) дано было проникнуть в эту бездну
души человеческой, какой была душа Степана? Душа,
разгаданная Шукшиным.
1 На базе Киностудии имени Горького. Когда же Шукшин
перешел на «Мосфильм», картина его, рассчитанная производством на
несколько лет, планировалась студней как двухсерийная.
271
Ведь не доверил сценарист и режиссер Шукшин
никому роли Прокудина, опять-таки из-за своего, личного,
выстраданного отношения к этому заблудшему,
талантливому, широкому человеку, неудачливому вору,
неудачливому крестьянину.
Итак, схема работы Шукшина выстраивалась так:
сценарий — кинороман — новый сценарий — фильм
(осуществились, как помним, два первых замысла).
Поскольку художник с самого начала задумывал все-таки
кинокартину, собранный и систематизированный им
исторический материал был претворен в сценарий «Я пришел
дать вам волю», но заметим: даже отдав сценарий этот
в печать, Шукшин не счел литературную работу
завершенной. Автор остро чувствовал: не весь он
выговорился в сценарии, новые думы овладевали, хотелось
зачерпнуть глубже. Так закономерно пришла мысль о
романе.
Сравнение заключает: кинороман «Я пришел дать
вам волю» (последнее, что досталось нам от
многолетнего труда художника) практически целиком включил
в конструкцию свою тот первый (эскизный? как трудно
в это поверить, настолько прописан каждый характер)
сценарий, который автором был напечатан в периодике
как самостоятельное произведение. Исключение
составили разве что сцены допроса Разина царем Алексеем
Михайловичем — в кинороман они не попали. Да по
совести сказать: допрос был сущей выдумкой автора, его
произволом, ибо «тишайший» (так традиционно, только
иронически, зло называл царя Шукшин) самолично
пленного атамана не допрашивал. Внимательнейше
следил за пытками, дознанием Степана, однако до очной
ставки не снисходил, ибо сидел слишком высоко для
«вора» — на московском престоле. Автор бесконечно
любит Разина, любуется им: отсюда (в сценарии) чуть
балаганный характер письма в эпизодах допроса.
«Белый царь» был Степаном, его язычком, глубоко
посрамлен. Вероятно, то была как бы месть автора
«тишайшему», запоздалая месть за своего любимца.
У Шукшина-романиста достало трезвости, здравого
смысла сцены эти решительно вычеркнуть.
С годами Шукшин, как помним, автор первого
самостоятельного фильма «Из Лебяжьего сообщают»,
добрый рассказчик, деревенский бытописец, делался круче,
пронзительнее, прозорливее. Я не только о профессио-
272
нальных качествах, мастерстве (оно возмужало
необычайно). Я говорю об остроте восприятия Шукшиным
многообразия, многоликости жизни,
социально-нравственной природы человека — будь то современный
мастеру соотечественник (сураз ли, танцующий ли Шива или
хозяин бани и огорода — это к примеру) или
подгулявший казак XVII века. Даже изначальная любовь
художника к людям, внушенная ему впечатлениями, уроками
раннего детства, сладкими минутами в ладном
сибирском доме работящего деда, даже эта любовь не
оправдывала для Шукшина любой формы идеализацию как
метод художественного исследования.
Искусство позднего Шукшина пронизано помимо
иных отчетливо трагедийными нотами. Это сказалось и
на строе киноромана «Я пришел дать вам волю».
Обретение человеком душевной свободы, приобщение
к душевному празднику — заветный мотив
литературных и кинопроизведений зрелого художника. Щемящее
чувство воли— оно неотвязно преследует Разина.
Именно о воле для тысяч и тысяч людей, обиженных и
притесняемых имущими сословиями, страстно говорит
атаман со своим осторожным и «дальновидным» есаулом
Фролом Минаевым, убеждая бывшего боевого товарища
поднять оружие за свободу простолюдинов и бедных
казаков. О воле же — слова Разина на казачьем круге,
общевойсковой сходке. Даже на праздниках после побед
Степан думает о том же, о средствах и способах добыть
эту самую волю...
Мотив духовной свободы настойчив у Шукшина, он
повторяем. Ради него по-особому выстраивает автор
свои вещи, избегая прорисовки многообразной
материальности быта.
Прекрасно известно, чем закончилось восстание
Разина. Известны, выявлены и социально-экономические
причины, что побудили десятки тысяч людей к
вооруженному выступлению: об этом читали мы в курсах
русской истории, специальных трудах. Видимо, поэтому
Шукшин — сценарист и автор романа — опускает
непосредственную, конкретно-зрительную мотивацию,
предысторию восстания, он без опаски доверяет
читательской памяти, нашей интуиции, чтобы прямо перейти к
заветной сзоей теме. Автору достаточно сказать:
«Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так:
охотников было много, нашелся и вожак». Таким внешне
273
элементарным путем, избегая распыления материала,
Шукшин добивается сгущенности, энергичной ритмики
письма, уходит от общеизвестных истин, оголенной
школярской иллюстративности. Причем данный принцип
экономии, осуществляемый мастером прозы, был бы
равносилен и для его исторического кинематографа.
Принцип тем более оправданный, что для фильмов на
материале истории буквальная иллюстрация на экране
социально-экономических примет, закономерностей
прошлого, как правило, неплодотворна, познание
исторического бытия остается здесь на внешнем уровне,
традиционно повторяет давно знакомое (примеры тому даже
в недавней практике кино указать несложно: «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил», «Под страхом меча» и
ряд других лент).
Уходя от кабалы, от подневольного состояния холопа,
человек вместе с радостью воли обретал бы свободу
внутреннюю — вот, по Шукшину, потаенная дума
Разина. За этот-то праздник человек мог поплатиться
жизнью (на дворе стоял все-таки XVII век), но ведь
успевал (успевал!), пусть на мгновение, отвести душу,
посмаковать родниковой чистоты воздух. И Шукшин
торопится с авторским комментарием: «Как всякий
русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей
безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без
сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне
ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему...
И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут
его гадания кончились: он решил. Он успокоился и знал,
что делать: надо эту силу отладить и навострить. И
потом двинуть».
Суть трагедии проигранной Крестьянской войны
заключалась в объективной невозможности взять волю у
надежно отлаженного феодально-помещичьего
государства «тишайшего» Алексея Михайловича. Русский
абсолютизм покачнулся, но устоял.
Трагедия Разина — исторической личности, вожака
восстания — вдвойне, втройне мучительна. По
Шукшину, разум атамана постиг, что без чувства воли
человеку нельзя, праздник нужен исстрадавшимся людям. Дон,
откуда «беглых выдачи нет» (такова была вековая
нерушимая заповедь), голутву и пришлых крестьян не
прокормит, их все новые и новые толпы. С другой
стороны, искать «зипуны», шарпать за морем не каждый
274
ведь раз, когда-то удача и отвернется,— значит, не тут
искать выход. На Москву, на бояр-воевод? Да, на
Москву! Еще понимал атаман (у Шукшина), что великую
ответственность он берет на себя — за судьбы
поверивших его жаркому слову, и понимание этого иногда, в
минуты сосредоточенного одиночества, страшило
Степана. Только вот без нее, воли-то, зачем жить человеку,
так или эдак петля, а добыть свободу — в этом
убеждал опыт— можно было лишь силой, ценой крови:
своей и чужой.
Костяк войска Разина составляли приученные к
походам донские казаки. Но по мере продвижения на
север, в земледельческие районы, к повстанцам,
прослышав об их успехах, прельщенные призывными
грамотами, примыкало более и более крестьян, посадских
людей, плохо оружных, неумелых в битве. Присоединились
поволжские татары, чуваши, марийцы, мордва; армия
восставших выросла до двадцати тысяч, по другим
источникам — даже больше. Дух борьбы был огромен,
однако не хватало пушек, сабель, пищалей.
4 сентября 1670 года Разин на стругах подплыл к
Симбирску, главной крепости средневолжской засечной
линии. Тут встретил его сильный четырехтысячный
гарнизон, подкрепленный полками рейтар (иностранных
наемников) и несколькими сотнями дворян. Штурм
города не удался: Разин захватил острог, расположенный
по скатам симбирского «венца» (горы), но кремль
остался за противником. Месяц безуспешно длилась осада.
В октябре к блокированному симбирскому гарнизону
подошла помощь. Разинцы и царские войска схватились
в открытом бою. К утру 4 октября — после
многочасового сражения — восставшие были разбиты. Еще до
завершения битвы Разин отплыл на Дон.
«Катастрофа под Симбирском предопределила
окончание деятельности Разина,— заключает историк
восстания Буганов. И следом добавляет: — В связи с
поражением под Симбирском некоторые исследователи
считают возможным писать о недостойном поведении Разина,
чуть ли не эгоизме и предательстве, так как он бросил-
де на произвол судьбы свое войско, спасая свою жизнь.
Но при этом в должной степени не учитывается тяжелое
положение атамана (он был ранен в бою.— Ю. Т.), та
атмосфера отчаяния и паники, которая царила среди
повстанцев. Подобное поведение отличало их отряды,
275
плохо организованные и вооруженные, и во время
многих других сражений и схваток с войсками
Долгорукого, Барятинского и других царских воевод»'.
Вот здесь-то, в симбирском поражении, считает
Шукшин, как на сломе, обнаружилась сердцевина личной
трагедии атамана. Она заключается в том, что Разин,
подняв крестьян на освободительную войну, не понял,
при всем своем уме, что крестьяне и есть сила,
способная укрепить его отряды. Он дрогнул, и дрогнула вера
народа в него.
Горька эта картина беды, нарисованная в киноромане:
«Начался штурм...
Разин сам дважды лазил на стену. Оба раза его
сбивали оттуда. Он полез в третий раз... Ступил уже на
стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один
изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка
заслонила удар, но удар все-таки достался сильный,
атаман как будто обо что запнулся, поослабла на миг его
неукротимая воля, ослаб порыв.... Тоскливо стало,
тошно, ничего не надо...
Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он
снова был на ногах и опять остервенело бросал на
стены новых и новых бойцов.
Урон разницы несли огромный...
— Ларька, береги казаков! — кричал Разин.—
Посылай вперед мужиков на стену...
В это время со спины разинцев, от Свияги-реки,
послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех
сторон закричали казаки, которые больше знали про
военные подвохи и больше стереглись; мужики, те всецело
были озабочены стеной.
— Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут!..
А эти из городка счас выйдут. Окружут!.. Беда, батька!..
— Ларька! — закричал Степан.
— Здесь, батька! — Ларька (есаул Лазарь
Тимофеев.— Ю. Т.) вмиг очутился рядом.
— Собери казаков... Не ори только. К Волге — в
стружки. Без гама!.. Выходите не все сразу... И тнхо.
Тихо!
— Чую, батька! — сказал смекалистый Ларька.
Скоро казаков никого почти у стены не было.
Штурм продолжался. Он длился всю ночь... Когда
Буганов В. Крестьянские войны, с. 108—109.
276
рассвело, осажденные и стрельцы увидели, что перед пи-
ми— только мужики с оглоблями да с теплыми
пушками, из которых нечем было стрелять».
Изменило ли Разину полководческое чутье в том
несчастном бою? Ведь тревога оказалась ложной:
Барятинский не решался атаковать открыто и послал полк
своих ратников в обход повстанцев, чтобы сбить их с
толку. Маневр воеводе удался — Степан подумал, что
противник отрезал его от реки, захватит казачьи
струги. Атаман отдал свои злополучный приказ отходить.
Недоумевает часть исследователей Крестьянской
войны и относительно затяжного «сидения» Разина под
Симбирским кремлем, зачем было целый месяц держать
большую армию у стен осажденного «крома», упуская
инициативу в общем ходе гигантского по масштабам
восстания?
Точный ответ мог дать лишь сам атаман. Однако
никакими письменными свидетельствами на этот счет мы
не располагаем. Следственное дело Разина, которое
велось после его привоза в Москву, не сохранилось. Так
что художники обладают определенным моральным
правом решать загадку поведения Разина по своему
усмотрению.
Когда-то Тынянов оправдывал собственный метод
исторического повествования: начинать там, где
кончается документ. «Я чувствую угрызения совести,—
признавался он,— когда обнаруживаю, что недостаточно
далеко зашел за документ или не дошел до него, за его
неимением»'.
Вот и Шукшин предложил свое понимание двойной
трагедии Разина. Но Шукшин-историк не был бы равен
самому себе, если отступился бы от поверженного
Степана. Автор киноромана до конца со своим героем, до
смертного часа. Пожалуй, он так и не решился осудить
Степана: жаль было. Как-никак, этот великий человек,
подчеркивал писатель, нес «великую ношу», а потом
просто устал. История знает немало примеров, подобных
этому.
По кинороману, Степан, бежав на Дон, надеялся на
подмогу казаков, мечтал возвратить воеводам удар,
тешил себя новой верой в победу. Станицы не поднялись.
А ведь казаки были воины профессиональные...
1 Тынянов Ю., М.,«Мол. гвардия», 1966, с. 197.
277
«Но смерти еще нет,— пишет Шукшин.— Смерть
Щадит слабого — приходит сразу; сильный в этом мире
узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость
врагов».
Искупление «симбирского греха» принесла Степану
казнь. Только пойдя навстречу гибели (в киноромане
это очевидно, это как бы блажь Разина, абсурд), попар
в руки палачей, окованный цепями, сбросил он с
измаявшейся души своей камень.
«Больше у него ничего не оставалось в последней,
смертельной схватке с врагами — стойкость и полное
презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То
и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел,
чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило —
как он примет смерть».
Достойно принял.
Сам взошел на помост, трижды поклонился народу
и трижды просил у него прощения за кровь и недобы-
тую волюшку.
Рядом был брат Фрол, тот дрогнул: он был много
моложе Степана, не пожил еще, не догулял, и запросил
было пощады молодой казак.
Степан жестко оборвал мольбу брата.
Палач отрубил Разину правую руку по локоть — ни
стона. Отрубил левую ногу — ни звука не издал Степан,
терпел.
Палач рубил еще трижды: сначала голову, а затем,
надругаясь над мертвым, довершил положенное
четвертование...
Возможно, фильм завершился бы иначе, нежели
кинороман.
Примем во внимание любопытное свидетельство
Георгия Буркова, он рассказал о неожиданном решении
Шукшина. Заканчивались натурные съемки картины
«Они сражались за Родину». Шукшин и Бурков, оба
занятые в этом фильме, жили рядом в каютах донского
теплохода, арендованного под «гостиницу» для
участников съемочной группы. В один из дней Шукшин
рассказал Буркову, как он думает закончить «Степана
Разина» (Бурков намечался режиссером на роль Матвея
Иванова).
Казни Степана я не перенесу физически, признался
Шукшин (он все-таки твердо решил сам сниматься,
Разин— это было его). Будет так. Бредет по Руси стран-
278
ник, направляясь в монастырь Соловецкий, на
беломорские острова, поклониться угодникам. А святой Зосима
Соловецкий был покровителем казаков, так считали.
Ведь сам Разин дважды ходил с Дона на богомолье в
Соловки. Степан этого неведомого странника встречает
как-то и дает ему в дорогу мешок с чем-то тяжелым,
круглым. Наконец добирается паломник до Соловков.
Говорит братии: просил меня помолиться за него, душу
его, Степан Тимофеевич Разин. Ему отвечают: долго же
щ шел, мил человек, коли атамана нет уже, казнен
царем. А вот от него подарок монастырю, отвечает гость
и достает из мешка золотое блюдо. Ярко блеснуло оно
среди серых каменных стен монастырской трапезной.
Оно блестело подобно солнцу. И свет этот золотистый
был весел и праздничен...
Героический народный
характер.
Часть II
(Еще раз о замысле
«Степана Разина»)
События фильма — от начала восстания
до конца — много шире, чем это можно
охватить в двух сериях, поэтому
напрашивается избирательный способ
изложения их.
Шукшин
Сценарий и кинороман «Я пришел дать вам волю»
(кинороман— термин самого автора1, он так и говорил —
я пишу кинороман) киноведческая наука правомерна
рассматривать и как факт киноискусства. Ибо итогом
многолетней, неостановимой работы над образом
Степана мыслился именно эпический, масштабный фильм.
И судим мы сейчас о замысле Шукшина с достаточной
степенью точности еще потому, что остались многочис-
1 Определение жанра «кинороман» встречается еще у Тынянова
в статье «Об основах кино», опубликованной в 1927 г. Здесь Тынянов
пишет: «...кннороман — столь же своеобразный жанр, как роман о
279
ленные высказывания о будущем фильме самого
режиссера, где он, как всегда, искренне и доказательно
объяснял свое видение характера и эпохи Разина. Ре-
не Клер как-то перефразировал известные слова
Расина: мой фильм готов, осталось только снять его на
пленку.
Вот и для Шукшина картина его о народном вожде
была в главнейших своих чертах ясна и определенна.
Разумеется, в ходе съемок Шукшин, как это не раз
бывало с ним, вносил бы в режиссерскую разработку
некоторые коррективы, что-то на ходу придумывал,
уточнял, но общее направление замысла, движение
характера Степана, развитие образов его сподвижников
было выбрано твердо, проверено было годами раздумий.
В круг размышлений Шукшина были вовлечены и его
друзья и единомышленники — оператор Заболоцкий,
актеры Санаев, Бурков, Лебедев, Рыжов, писатель Белов,
которые затем повторили все, что успел сказать о
будущем фильме Шукшин.
Несомненно: Шукшин искал в истории русской
характер сугубо героический, активный, сочный в своих
жизненных проявлениях, искал широкую,
нерастраченную душу.
И вот этот-то поиск является ценнейшим уроком для
нынешнего киноискусства, для современного
исторического фильма.
Шукшин не любил слов: «положительный герой». Но
именно подлинным положительным героем и виделся
ему Разин. Он не льстил своему любимцу. Просто он
понимал сущность характера этой крупной исторической
фигуры, олицетворявшей в жизни своего времени
героическое начало,— при всех человеческих слабостях и
недостатках Разин был реальным героем.
Кинороман «Я пришел дать вам волю», соотносясь со
всем творчеством Шукшина-писателя, занимает в нем,
стихах. Пушкин говорил же: «...пишу не роман, а роман в стихах —
дьявольская разница».
В чем же эта дьявольская разница киноромана и романа как
словесного жанра?
Не только в материале, айв том, что стиль и законы
конструкции преобразуют в кино все элементы, казалось бы, единые,
одинаково применимые ко всем видам искусств и ко всем жанрам их>
(Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука>,
1977, с. 340).
580
этом пестром и шумном мире, все-таки особое место.
Дело даже не в масштабности формы, тоску по которой,
как отмечали некоторые биографы и критики Шукшина,
он чувствовал в последние годы. Вспомним здесь, что
сценарий Шукшин напечатал еще в 68-м году, когда
жанр рассказа его, прозаика, как будто нисколько не
ограничивал и рассказы эти публиковались достаточно
регулярно.
Видимо, особенность киноромана и заключается в
самом выборе главного героя, натуры незаурядной, и
незаурядность свою реализовавшей в конкретности
исторического деяния. Под категорию шукшинских
«странных людей» Разин, очевидно, подпадает; только этого
определения мало. Иные «коленца» героев шукшинских
рассказов объясняли действием бешенства, что кипит в
озлобленной душе. Бешенство же Степана иного рода —
это святая ярость народного заступника, великой души,
не серой...
Бунт Разина глубоко осмыслен, взлет его духа
согласен с правдой народа, попрание несправедливого
закона оборачивается высшей законностью.
Шукшин подчеркивал: «Разин... Почему я так
привязался к этой фигуре? В Разине я вижу средоточие
национальных особенностей русского народа,
вместившихся в одну фигуру, в одну душу» '.
Основу этого любовного отношения к Разину,
пронесенного через годы творческого опыта писателя и
кинематографиста, ничто не могло подточить. Как бы ни
менялась этическая и эстетическая позиция Шукшина-
рассказчика, это движение сопутствовало раз и навсегда
выбранному поклонению Разину, взгляду на его
героическую личность. Взгляду без снисходительности или
иронии.
Представление о Степане у Шукшина
трагедийно-героическое. Силу образа мятежного атамана в
художественной системе киноромана синтезируют правда
характера и правда истории.
Но прежде чем рассмотреть особенности этой
взаимосвязи, вспомним опыт других наших художников,
прозаиков и кинематографистов, ранее Шукшина
обратившихся к фигуре Разина.
1 В кн.: Фомин В. Пересечение параллельных. М., «Искусство»,
1976, с. 358.
281
Тематический и отчасти историко-источниковедческий
анализ прежнего творческого опыта необходим для
выявления черт самостоятельности замысла Шукшина, его
литературного (и кинематографического) воплощения.
Начнем с популярного в свое время романа С. Зло-
бина «Степан Разин», изданного в 1951 году. Его читал
в ту пору Шукшин, читал с интересом, так что роман
оставил след в его душе; однако перечитывать книгу
своей молодости зрелый Шукшин не решился. Он
объяснял это, в частности, тем, что из чувства
противоречия боялся «наломать дров», что споря (непременно
споря) с маститым автором, пришел бы к
непростительным для художника крайностям. Однако представляется
вероятным и такое сомнение Шукшина: как
пристрастный историк и читатель одновременно, он опасался
невольного дублирования, опосредованного влияния на
свою работу отдельных впечатляющих идей и
образов романа Злобина. Л справедливости ради следует
признать — их в этой, теперь давней, книге
предостаточно.
Широкое, раскованное повествование о Второй
Крестьянской войне Злобин заводит издалека, с юности
Степана, «орленка». Любовно, смачно прописывает Злобин
исчезнувший казачий быт с его грубо перемешанным
духом удали и озорства, бахвальства и щедрости,
своеволия и безнадежности, покорности; казачьи обычаи;
шумные сборы в поход; великую ратную храбрость донцов.
На этом привольном, как степь, повествовательном фоне
движется, набирая несокрушимую мощь, характер
Степана, сначала задиристый, взрывчато-ломкий, затем
неодолимый, требовательно-властный, под стать обличью,
поступи народного атамана. Даже у плахи, после
нечеловеческих пыток, Разин (под пером Злобина) стоял,
«ростом выше всех палачей, с высокой богатырской
грудью, широкий, прямой, с поднятой головой и смелым
открытым взглядом».
Путь Разина в романе — путь к исключительности,
историческому взлету своей личности, стремительно
выброшенной на верхнюю точку всенародного движения,
увлекательная история о гулевом атамане. Исполинской
поступью, в своем величии давя иной раз невинных и
беззащитных, шагает Степан к всенародной славе, и перед
смертным часом думая о мнении народном: пусть видят
москвичи, окружившие плаху, каков был Степан Тимо-
282
феевич, ведь кто видел, детям и внукам сказывать бу«
дут, не умрет слава Разина. Отсюда, как
художественный прием, безусловная героизация главного лица
романа, соответствие замысла и воплощения, сказовые
интонации в системе дотошного бытописательства,
особенно заметные в заключительной главе «Сарынь на
кичку!».
Метод Шукшина-рассказчика отличен от злобинско-
го, в киноромане принципиально отсутствует
реконструкция бытового исторического фона, да и трактовка
центрального персонажа иная.
Приступая к завершению своего романа, Злобнн ме-
лодраматизирует сюжет (снова онтн-конструкция для
Шукшина), изменяет первоначальной масштабности
исторического анализа. Он делает это по необходимости,
спасая миф о Степане, уводя от суда поколений образ
Разина как идеализированное представление
коллективной памяти, почти былинного богатыря, идеального
заступника народа.
Иначе писатель противоречил бы самому себе.
Согласно Злобину, Степан не предавал мужиков под
Симбирском. Раненного драгунской саблей, Разина —
полуживого, без сознания — казаки перенесли из-под
стен города к Волге, положили в челн, и, бросив на
произвол судьбы крестьянскую рать, полетели на
низовья. Атаман же не приходил в себя несколько недель,
не знал, что вопреки его последнему приказу казаки
прекратили приступ, что основная часть повстанческого
войска оказалась разбитой. Роковую роль в поражении под
Симбирском сыграл некто Никита Петух, вымышленный
Злобиным персонаж, казачий десятник, тайный и
непримиримый враг Разина. Именно он, Петух, спутал
казаков, передав ложный приказ отходить, лишние струги и
челны пускать самоходом, кинув мужиков, занятых
продолжением осады, на расправу карателям.
Много позже, в Кагальнике, когда домовитые
замышляли пленить Степана, этот же неразоблаченный
Никита Петух, по-прежнему из ближайшего окружения
Разина, взорвал зелейную (пороховую) башню в
казачьем городке и в поднявшейся суматохе накинул на шею
атамана уздечку. Разина легко схватили.
Мотивом предательства Никиты была месть:
схлестнулся он со Степаном из-за венчанной жены своей,
красавицы Маши. Любила она Степана, убежала за ним,
283
бросила ненавистного мужа. Только настиг-таки ее
Петух, перехватил на Дону, в Кагальнике, и порешил
среди снежных сугробов...
Если Шукшин искал полноты образа Разина, исходя
из правды характера последнего, то Злобин склонялся
к идеализации личности Степана, руководствуясь
принципом некой социальной объективности. Определенную
роль сыграла в данном случае господствовавшая тогда
теория бесконфликтности. Так что не случайна у Злоби-
на некая идеализированная романтическая лессировка.
Шукшин предпочитал более ранний роман Чапыгина
«Разин Степан».
Алексей Чапыгин (как и Шукшин, родом
крестьянин) показал восстание Разина как неуемную, гулевую
стихию, неудержимый разлив народных сил, огнем и
железом искореняющий боярскую неправду на Руси. Тут
сказалось авторское воспоминание о недавних
«народных праздниках» — а Чапыгин был современником трех
русских революций, деталь очень важная,— когда из
конца в конец огромной страны испепеляющим пожаром
вспыхнула рванувшаяся из-под векового спуда народная
энергия. В ритмизированно-беспокойной манере
Чапыгина сказалась и преобладающая в то время
литературная традиция (роман был закончен в 1926 году и сразу
же стал печататься), традиция восхищения, святого
трепета перед стихией народной ярости.
По Тришке кафтан: под стать своей вольнице
показан Чапыгиным атаман, не ведающий страха в сече,
бесшабашный гуляка, кулачный боец, ангел в минуты
милости своей и сатана в припадках ярости. Одет грозный
атаман с нарочитой небрежностью, не жаль ему
добытого в схватках добра — вот он вступает после
персидского похода в град Астрахань: «Разин идет впереди с
есаулами в голубом зипуне, на зипуне блещут алмазные
пуговицы, шапка перевита полосой парчи с кистями, на
концах кистей драгоценные камни. Сверкает при
движении его спины и плеч золотая цепь с саблей. Если
атаман не подойдет сам, то к нему не подпускают. Есаулы
раздают тому, кто победней, деньги.
— Дай бог атаману втрое чести, богачества!—
принимая, крестятся».
По существу, Чапыгин был первым советским
писателем, взорвавшим привычно негативное отношение к
смыслу и характеру Крестьянского восстания под водн-
284
тельством Разина,— отношение, свойственное не только
охранительному крылу русской историографии,
литературы, но и части либерально настроенной
интеллигенции. Французское издание романа «Разин Степан»
открывалось предисловием автора: «Изучая историю
восстания, я видел, как был искажен Степан Разин
историком Костомаровым, Штрунссом, Бутлером, немцем —
капитаном «Орла», первого русского корабля XVII века,
который был сожжен казаками Разина под Астраханью.
Хотелось воссоздать истинный образ Степана Разина без
всякой идеализации (курсив мой.— Ю. Т.), основываясь
исключительно на исторических данных» '.
Перед Чапыгиным возникала задача сложная: ведь
он замахивался на авторитеты покрупнее немца
капитана «Орла». Даже для Ключевского, к примеру,
восстание Разина представлялось «возбужденным движением
простонародья». Историк Соловьев называет войско
Степана «огромной шайкой». В «Бесах» Ставрогин
передает Шатову: «Петр Верховенский тоже убежден, что
я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне
передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог
бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по
необыкновенной способности к преступлению»...»
При всей противоречивости художественной
структуры «Разина Степана», увлечении Чапыгина
модернизацией исторического процесса роман, а точнее, попытка
по-новому взглянуть на саму личность народного
вождя была примечательна для отечественного искусства.
Книги рубежа столетий: «Против течения» Казанцева,
«Стенька Разин» Хрущева-Сокольникова, «За чьи
грехи?» Мордовцева, «Кровавый пир» Зарина, «Понизовая
вольница Стеньки Разина» Соколова (причислим к сен
беллетристике изданную после Октябрьской революции
«Взбаламученную Русь» Алтаева)—сходны. Эти
произведения объединяет общее отношение к
изображаемому. По существу, в них выведен далекий от
исторического прототипа образ крестьянского вождя. Иногда это
заведомая фальсификация, призванная развенчать
революционную традицию русского народа. В других случаях
Разин оказывается вдруг современником автора,
выразителем его концепций. Чапыгин первым в нашей лите-
1 Цит. по кн.: Петелин В. Родные судьбы. М., «Современник»,
1976; с. 14.
285
ратуре вывел реалистический образ Степана, показал
его многомерной, противоречивой личностью. Разин —
сын своего времени н сословия, сплавились в нем как
привлекательные качества национального характера, так
и исторически объяснимые его слабости.
Спустя несколько лет после издания романа
Чапыгина— в период, объективно благоприятный для исто-
рйко-биографического кинематографа,— режиссеры
Правое н Преображенская, как помним, поставили на
«Мосфильме» картину «Степан Разин» по мотивам этой
получившей читательское признание книги.
Шукшину грандиозный по тем временам фильм этот
не нравился, он определял его как забытый зрителями,
памятный только историкам отечественного кино,—
оценка достаточно категоричная, но не позволяющая
согласиться с ним безусловно. Как современный художник,
обогащенный опытом развития исторического
кинематографа 40—60-х годов, Шукшин в существе своего
негативного суждения прав: эстетика фильма «Степан
Разин» во многом принадлежит своему времени. Только
насчет зрительской памяти неточно: картина Правова
и Преображенской имела прокатный успех, она
демонстрировалась даже в послевоенные годы (я прекрасно
помню: именно тогда мне, мальчишке, и довелось ее
увидеть на экране столичного кинотеатра «Москва»).
Этот зрительский успех фильму принесло, как
думается теперь (спустя десятилетия), тождество экранного
героя — Разина, в темпераментном исполнении А.
Абрикосова, с массовым, восходящим к фольклору
представлением о казачьем атамане. Мы, мальчишки из
московских коммуналок, простившие даже Эйзенштейну его
ненастоящие льдины в кадрах сражения на Чудском
озере, столь же легко прощали авторам «Степана
Разина» лубочно-наивные комбинированные съемки
старорусских городов (особенно неуклюже выглядит сейчас
макет Московского Кремля в сцене шествия по
деревянному мосту царских стрельцов). Прощали безвкусную
мешанину астраханского торга — всех этих верблюдов,
осликов, суетливых продавцов в немыслимых
театральных одеждах, наклеенные бороды. Прощали перебор
павильонов— ради Разина, его волевого, хищного лика,
его праведного атаманова слова.
Такого Разина, романтизированного, из легенды,
было нам тогда преизбыточно.
286
Шукшин же избирает путь анализа, режиссер хотел
показать народного вождя иначе, изнутри. Он объяснял,
что с высоты трех столетий фигура Разина гораздо
сложнее, объемнее, противоречивее. В своем истовом
стремлении к свободе, подчеркивал Шукшин, Разин
современен, созвучен извечному прорыву человека к
внутренней независимости. При всем том он
остается конкретной исторической личностью, сыном своего
,века.
Этой-то диалектической сложности, противоречивости
героя в фильме Правова и Преображенской нет.
Характер их Степана движется строго параллельно событиям,
он освещен светом этих событий и соответственно
освещает их своим. Художественный анализ образа
остается на внешнем уровне.
Правда, истинный писатель, Чапыгин почувствовал
необходимость, правомочность объемного изображения
Разина, но выбрать окончательно такой путь не
отважился, да и было бы это против правил-: тогдашний
исторический роман в большинстве своем не ставил под
сомнение правоту исторических героев, дело ценил выше
слова, и если что и сокрушало этих героев, так только
не груз самоанализа. В романе Чапыгина читаем
единожды— неожиданное (ночь под Астраханью, Степан у
Волги): «Разин, прислушиваясь, понимал далекий крик
степных людей: недаром он был в молодости от войска
к ним послом. Лишняя морщина прорезала высокий лоб
атамана. Вспомнилось ему далекое прошлое. И первый
раз за всю свою жизнь он скользнул мыслью с легким
сожалением, что с детства не знал отдыха: на коне или
в челне, или был в схватке, в боях.
Подумал, уходя в шатер:
— Ой, несказанно тяжела ты, человечья доля!
Свобода ли, рабство, богатство и почесть венчаются кровью...
Пируешь за столом, тебе говорят красные речи, а за
дверями на твою голову топор точат...»
Найденный мотив — душевной тоски, неотвязного
самоедства — под пером Чапыгина развития не получил, а
режиссеры его исключили.
Заметим следующую характерную черту
кинематографа рубежа 30—40-х годов. Для историко-биографи-
•ческих фильмов тех лет область самоанализа героев,
а через это-—возможность малейшего сомнения в их
правоте, была «запретной страной». Показателен при-
287
мер В. Петрова, автора фильма «Петр I», когда
прославление деяний российского императора ограничило
диалектическую точку зрения, сузило наше
представление о многомерной и противоречивой личности великого
реформатора. Сравним с размышлением
литературоведа Бурсова: «Бездны истории и человеческой души
обнаруживаются прежде всего в гениальных людях,
особенно таких, как Наполеон или Петр Великий —
излюбленные герои Пушкина. В том и другом сталкиваются
крайности действительного мира и человеческого
поведения: и красота, какая только доступна человеку, и
самое низкое падение»'.
На путь разгадки души исторического героя впервые
встал Эйзенштейн в «Иване Грозном» — фильме,
оказавшем очевидное воздействие на художественный
метод Шукшина — исторического писателя.
Для Шукшина же мотив этот являлся одним из
решающих в будущем фильме, заветным мотивом.
Сценарий картины «Степан Разин» принадлежит
Правову и Преображенской, формально и третьему
соавтору— Чапыгину2. Только вряд ли писатель принимал
деятельное участие в работе на киностудии: он умер
еще в 1937 году, перед тем, тяжко больной, занятый
завершением романа «Гулящие люди» — о первых русских
раскольниках. Возможно, в бумагах его и сохранились
какие-то наброски для фильма, но, очевидно, режиссеры
самостоятельно, на свой страх и риск, переосмыслили
книгу Чапыгина. Ибо сценарий (и фильм) явился
приблизительной копией литературного оригинала.
Не станем здесь выяснять теоретический вопрос о
тождестве литературного первоисточника и его
экранизации, об этой методологической проблеме в нашем
киноведении достаточно говорилось.
Отметим главное: то, что в картине «Степан Разин»
исчезло коренное свойство романа — тот разудалый,
пьянящий дух, без которого Чапыгин не представлял
себе стихийного народного возмущения.
Фильм сделался камернее, замыкался в системе
чисто фабульных построений. Драматизированная интрига
1 Бурсов Б. Судьба Пушкина. Ч. 2.—«Звезда», 1975, № 11, с. 124.
2 Сценарий о Разине написал в 20-е гг. и Горький. Сценарий не
был поставлен в кино и не публиковался. К слову. Горькому нравился
роман Чапыгина, это зафиксировано в переписке писателей.
288
вытесняла широкий показ реальных исторических
событий, полных собственного пронзительного трагизма
(понимание драматургической и драматической
функциональности действительного факта, документа пришло к
нашему игровому кинематографу гораздо позднее).
К примеру, Правое и Преображенская, вопреки
роману Чапыгина, переписали образ Алены, жены Разина,
сделав ее прямой сообщницей атамана (тут очевидное
нарушение исторической достоверности: Алена не была с
войском мужа в походах; наоборот, вина ее в
непонимании, упорном неприятии его действий, с ее точки зрения
опасных; вот почему — и это показано у Шукшина —
она, в частности, сыграла роковую роль в успехе
заговора домовитых: сама того не желая, она помогла им
захватить Разина в Кагальнике). В фильме «Степан
Разин» Алена под видом бойкой, разбитной бабы
проникает в осажденную восставшими Астрахань, чтобы
попытаться освободить пленных разинских лазутчиков;
обмануть сторожевых стрельцов ей удается, но затем она
сама попадает в руки палачей. В пыточном подвале,
ночью, ее жгут раскаленным железом, добиваясь
признания. И когда наутро Степан покоряет город,
ликование его сменяется горем: Алена доживает последние
минуты. «Не прикрасилась я для моего дорогого
голубя,— шепчет она с усилием,— замучил проклятый
боярин». А Степан, мрачнее тучи, окруженный верными
казаками, страдает от бессилия помочь. Лишь как
возмездие, как отдушина захлебнувшейся горем душе
атамана — принародная казнь ненавистного боярина
Кнврина (В. Гардин), «проныра лукавого», шпиона
царя.
Основное, что сближает рассматриваемый фильм с
неосуществленным замыслом Шукшина, так это
схожесть оценки (объективной оценки) деятельности
мятежного атамана. Для Правова и Преображенской, как
и для Шукшина, непреходящее значение личности
Разина прежде всего в той исключительной роли,
какую он сыграл в гигантском антифеодальном движении
народа.
Разин — народный вождь: вот что первостепенно для
режиссеров в их трактовке центрального героя фильма.
А вот для сравнения слова, сказанные как-то
Шукшиным: «Великим Разина сделал его второй поход,
московский. Он стал выразителем интересов всего народа по-
Н За к. 610
289
тому, что превыше всего ценил свободу и волю... И был
он силен не тем, что брал города, а тем, что они сами
ему открывались'.
В киноромане «Я пришел дать вам волю»
примечателен разговор Степана с Фролом Минаевым, умным
расчетливым есаулом, задумавшим уйти от Разина, как
только понял, что тот готовит поход на Москву. Для
Шукшина его Фрол — это воплощение прагматизма,
житейской хитрости, обыденного здравого смысла, который
предвосхищает бесполезность борьбы с царем. Бывший
близкий друг атамана, он говорит Разину:
«— Ты же умный, Степан, как ты башкой своей не
можешь понять: не одолеть тебе целый народ, Русь.
— Народ со мной пойдет: не сладко ему на Руси-то.
— Да не пойдет он с тобой! — Фрол искренно
взволновался.— Дура ты сырая!.. С какой такой радости
мужик на войну побежит? <...> Откуда они возьмут эту
веру? Ведь это ж надо, чтоб они семьи свои побросали,
детишек, жен, матерей... И за тобой бы пошли. Не
пойдут!.,»
События показали, что народ поднялся за волю,
повалил к Разину.
Преимущественным содержанием фильма Правова и
Преображенской стало как раз повествование о
московском походе Степана — аналогично тому, как поступил
•в киноромане Шукшин.
У Чапыгина перспектива образа решительно иная:
писатель начинал с того, что помещал молодого казака
Разина во главу «Соляного бунта» (это восстание
вспыхнуло в Москве летом 1648 года, Степану было
тогда приблизительно 18 лет, и об участии его, а тем более
видной роли в «солейном» бунте решительно ничего не
известно). Значительное место в композиции романа
отведено Чапыгиным и главам о первом походе атамана —
на Хвалынское море, к берегам Персии, когда
удачливые казаки захватили невиданную добычу. Чапыгину
важно показать истоки, корни народного характера
Степана, вот почему с особым усердием, подробно
живописует он казачью вольницу, пиры и шумные споры
разудалых, вскормленных вином свободы донцов. Воздухом
воли с малолетства дышал будущий атаман, сердцем
внимал урокам немощного, зато по-молодецки беспокой-
'.Един в трех лицах.— «Моск. комсомолец», 1971, 11 марта.
290
лого Тимофея Рази, ослушника и хулителя московских
богов, боярских порядков.
По Гоголю, «вся Сечь представляла необыкновенное
явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество,
бал, начавшийся шумно и потерявший конец... Оно н<:
было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но
было просто бешеное разгулье веселости». За точными,
слепящими мазками автора «Тараса Бульбы» и следовал
Чапыгин, силой своего щедрого воображения
реконструируя могучую жизнь войска Донского.
«Вольные казацкие республики, изображенные в
романе,— пишет по данному поводу исследователь
творчества Чапыгина,— это одна из возможностей русской
истории. Народная мысль часто обращалась к таким
недоступным для центральной власти общинам,
независимым друг от друга. Она видела в них осуществление
многих народных чаяний и именно в той форме, которая
только и возможна была тогда. Примитивная казацкая
республика, в которой отразилась, по словам Гоголя,
«широкая, разгульная замашка русской природы»,
воспитала (курсив мой.— Ю. Т.) Степана Разина — па-
родного героя и борца >'.
О великой казацкой республике, от Запорогов до
Яика, мечтает Разин и в романе Злобина.
Шукшин категорически уходит от «республиканских»
утопий Степана, хотя остается в русле гоголевской
традиции живописать словом казачью вольницу. Отношение
Шукшина к донцам трезвее, диалектичнее. Он,
кажется, ничуть не интересуется отмеченной выше
«возможностью русской истории». Его не волнуют судьбы
собственно казачества, изолированные от общего хода
отечественной истории. Тихий Дон для Шукшина вовсе не
столь однороден, архаично-прост, как для Чапыгина: тут,
на Дону, войсковая старшина, тут домовитые, заклятые
недруги голытьбы. Тут — что, по Шукшину, не менее
губительно для существования самого понятия
человеческой свободы — чванство казачьим званием,
неискоренимое чувство ложного превосходства над землепашцами,
черным мужиком, от этого не избавлен даже сам Разин,
свободнейший из людей, побратим воли.
«Мужики — это камень на шею...— даже в последние
вольные дни свои на земле говорил шукшинский Степан
Семенов В. Алексей Чапыгин. М., «Сов. Россия*, 1974, с. 61—62.
II*
291
верному есаулу Ларьке Тимофееву.— Когда-нибудь да.
он утянет на дно. Вся надежа на Дон была...».
' Будучи сам потомком сибирской вольницы, Шукшин
в личностном мировосприятии синтезировал два начала:
с одной стороны, исторически сложившееся среди этой
вольницы представление об автономии личности, ее
свободе от внешнего принуждения и, с другой стороны,
мысль об общинном труде, чувство сродственности с
возделываемой человеком землей, его пахотным полем.
Правда казацкая — воля — и правда мужицкая —
свободный труд на земле — сложными путями объединялись
для Шукшина, современника особых
социально-общественных категорий, в целостное восприятие народной
правды. Той правды, существование которой конкретно
выявляет себя в истории, прошлой и настоящей.
Принцип отбора исторического материала обусловлен
у Шукшина, автора сценария и киноромана, глубоко
личной концепцией разинского движения. В «Степане
Разине», признавался он, его вела та же тема, которая
началась давно и сразу,— российское крестьянство
(курсив мой.— Ю. Т.), его судьбы. И продолжал более
конкретно: «В смысле фактологическом дать что-либо
новое о Степане Разине почти невозможно. В
художественных произведениях неизбежны домыслы. Мои
домыслы,— комментировал Шукшин,— направлены в сторону
связи донцов и крестьянства» '.
У Чапыгина же, зачарованного преданиями о
казацкой вольности, эти связи не разработаны, взгляд на
восстание как на войну крестьянскую по преимуществу
ничем себя в романе практически не проявил. Ту же
методологическую позицию заняли режиссеры фильма
«Степан Разин»: даже избрав основным
драматургическим материалом московский поход атамана, Правое
и Преображенская не сочли нужным раскрыть
всенародный характер антифеодального движения. В системе
образов картины — системе, построенной по типажным
признакам (к примеру, предателя Шпыня с изрядным
нажимом играл С. Мартинсон, а удалого Лазуньку,
боярского сына — М.. Жаров), лишь один Петро,
преданный Степану богатырь, был обозначен как
крестьянский сын: молодецкий герой актера П. Цимаховича
ходил белокурым медведем, был острижен скобкой, по-
1 «Лит. газ.», 1970, 4 ноября.
292
сконную рубаху подпоясывал веревкой, на коне трясся
без седла, конские бока ударял на скаку босыми пят- .
нами или лаптями. Зато, оставшись живым, мстя за
казнь Разина, скликнул он ватагу разбойников и айда
с ними по лесным чащобам наводить страх на «помест-
ников».
Таковы финальные кадры этого фильма.
А кто еще из крестьян за Степаном в картине Пра-
вова и Преображенской? Под Симбирском, в ставке
Разина, атаману доносят: «Мужики, пишет Васька
(сподвижник Степана Василий Ус.— Ю. Т.), помещиков палят,
но дальше своих деревень идут неохотно. А другие,
заслышав «анафему», бегут».
Разин обеспокоен и мрачен, долгая и безуспешная
осада города истощила его терпение. Решение атамана
скоро:
« — Напиши Ваське (это Степан — есаулу.— Ю.Т.),
что мужиков тех нужно сечь и вешать нещадно».
Страшные слова эти Разина вполне согласны с
правдой его крутого характера и правдой истории, нормами
того времени, когда в цене была грубая сила. Но в
драматургии, образной системе картины где же
социальная и человеческая связь народного вождя и его
сторонников, масс народа? Приходится снова признать, что
фильм связь эту не столько ослабил, не выявил, сколько
исключил, от чего была потеряна историческая и
художественная конкретность повествования, мельчала
масштабность личности атамана. И потому-то несколько
отвлеченно, рассудочно звучали итоговые слова Разина,
сказанные им под пыткой палачу, дьяку Ефиму,— тог
все добивался признания, где спрятаны казачьи
«награбленные» богатства: «Тот клад не в земле, а на
земле,— отвечает с дыбы Степан.— Тот клад — весь русский
народ».
Метод сравнительного анализа, выбранный в данной
главе, позволяет достаточно полно определить,
насколько же дальше своих предшественников заглянул
Шукшин в характер Разина, в существо самого восстания,
насколько он прав или не прав в этом своем взгляде,
хотя сразу же оговорим существенное: прямой
полемики с прежней литературной или кинематографической
традицией он не вел и не собирался вести.
У Шукшина изначально были намечены столь для
него важные «связи донцов с крестьянством».
293
Осуществляются эти связи в структуре, киноромана
посредством двух важных для общего замысла книги
(как и фильма) образов — деда Стыря и особенно
Матвея Иванова, спутников и близких соратников Степана,
верных его наперсников. Шукшин не зря подчеркивал:
«Главной темой в своем творчестве я мыслю
крестьянство». Причем слова эти распространялись не только на
прозу писателя о современности, они относились к его
кннороману. Ибо, продолжал Шукшин, «чтобы понимать
настоящее, надо знать прошлое... восстание
всколыхнуло всю (курсив мой.— Ю. Т.) Россию, оставило неизгла?
димый след в памяти нации» '.
Массы крестьян, «черных» землепашцев пришли под
знамена своего заступника, превратив восстание во
всенародное, пролилась мужицкая кровь в битве за
волю. Так — безоглядно и жертвенно — проявились
героические качества народного характера, услышанные
через века русской истории. Для Шукшина это было
очевидным, именно это он хотел выразить в фильме.
По возвращении из персидского похода и на первых
порах восстания рядом со Степаном неизменно Кузьма
Хороший, Стырь, что значит—руль. Этот сухой,
жилистый казак вместе с отцом Разина—Тимофеем — бежал
некогда нз-под Воронежа на вольный Дон, научился
воинскому ремеслу и, хоть не сделался бравым солдатом,
вдосталь намотался в походах, повидал людей, приобрел
неоценимый опыт в них разбираться. Степан любил
старика в память об отце, любил его неунывающий, легкий
характер, его прибаутки и песни, его
детски-беззлобный нрав. Стырь по-своему лукав, трусоват в иные
минуты, неискореним в нем забулдыга, выпивоха, но
человек этот бескорыстнейшего сердца, преданный
казачьему братству, прекрасно осознающий, ради чего поднял
он саблю и пошел вслед за Степаном на Волгу.
В чем-то характер старого балагура, любителя
чарки узнаваем у Шукшина, есть в нем черты
традиционного озорного, бедового деда, добровольного и умного
шута, с чьим появлением связаны непременно комичес»
кие сцены, стихия юмора,— так что открытия
литературного в образе этом практически нет. Но не будь
Стыря вовсе, обеднела бы жизненная полнота киноромана,
а, главное, исчезло бы некое промежуточное звено меж-
«Моск. комсомолец», 1971, 11 марта.
294
ду прошлым и настоящим главного персонажа —
Степана, сыном вчерашнего крестьянина, беглого холопа,
мужика воронежского. Стырь не казак еще полностью, он
полулапотник, отсюда в нем и нет лютости, холодного
расчета профессионального воина. Он готов
безбоязненно умереть, но не готов убивать. И стихия для него —
вселенский загул казачий, где он краснобай и активный
участник, вольготно ему и на круге, здесь опять-таки
можно «чесать языком», потешая товарищей. И еще
потребность любить свойственна его душе — тянет его к
удалому атаману, как некогда отдавал он сердце свое
сыну, погибшему давным-давно. Страшно со Степаном,
взрывчатый и неуправляемый у него нрав, но и
отходчивый, ума палата, вот и люб атаман старику и любим
Стырь Разиным. Когда Стыря убили стрельцы,
панихидой по нему стал испепеляющий пожар павшего
Камышина, царской крепостицы на Волге.
Роль деда Стыря предназначалась Санаеву.
«Однажды,— вспоминает актер,— перед самым отъездом на
съемки фильма «Они сражались за Родину» С.
Бондарчука, мы встретились с Шукшиным в Центральном
Доме актера, и он повел разговор о своем замысле
картины о Степане Разине. Он еще раз подтвердил тогда
свое желание дать мне в ней замечательную роль
представителя казачьей вольницы — Стыря, старика, который
имел особое влияние на Степана Разина, мог уговорить
его, даже утихомирить в гневе. Стырь был когда-то
близок к отцу Степана, а при самом Степане стал как бы
его негласным советчиком. Человек удивительного
характера, жизнелюбивый, он был написан с тонким
пониманием и глубокой любовью, народным юмором, на
который был так щедр Шукшин.
Помню, он рассказал мне о таком задуманном
эпизоде: когда в одной из кровавых стычек Стырь погиб,
Разин усадил мертвого за стол вместе с живыми, одев
его в длинную холщовую рубаху, тем самым как бы
отдав дань мужеству и Мудрости этого простого человека
из народа, достойного такой необычной почести (эпизод
этот есть в киноромане.— Ю. Т.)» '.
После гибели старого казака самым близким для
Степана человеком сделался Матвей Иванов, рязанский
1 Санаев В. Три жизни Василия Шукшина.— «Искусство кино»,
1976. № 6, с. 88-89.
295
мужик, пришедший к восставшим с отрядом знаменитого
атамана Василия Уса.
Матвей — важнейшая фигура кпноромана «Я пришел
дать вам волю». После Разина он — второй любимец
Шукшина, и автор даже не думает маскировать свою к
нему симпатию. Вымышленный персонаж, Матвей
Иванов, мудрец из мужиков, есть персонификация веры и
любви народа к Разину, любви не сиюминутной,
преходящей,— любви вечной. В давнем рассказе Шукшина
«Степан Разин» (1962) сельский учитель-пенсионер
вспоминает легендарного атамана: «Это ж был человек!
Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли.
А справедливый был!.. Милый ты, милый человек... душа
у тебя была».
А спустя годы горячие эти слова повторит в
киноромане Матвей, повторит на едва освещенном рассветом,
притихшем волжском берегу самому Разину: «Не
качайся, Степан, не слабни... Милый, дорогой человек...»
Так смыкались для Шукшина столетия.
Матвей Иванов будто послан к Степану самим
народом. Он появляется на страницах киноромана, когда
разницы выступили в решительный свой поход, когда
раздался призыв по Руси искоренять боярскую
неправду. В Персии Матвея не было с Разиным, там, на
Каспии, казаки добывали зипуны, рисковали ради золота
и богатых одежд, о мужичьей воле не думали. Иное —
война с Москвой, тут мятеж всенародный, тут и время
народного посланца, крестьянского апостола с
евангельским именем и распространеннейшей, прямо-таки
хрестоматийной фамилией. Пред Разиным предстает
Матвей Иванов.
«Был он, в сравнении со своим атаманом, далеко не
богатырского вида, среднего роста, костлявый, с
морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя
внимание глаза — умные, все понимающие, с грустной
усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг
засмотрелся в эти глаза...».
Ни с кем так много и часто не разговаривает Разин
на страницах киноромана, как с Матвеем. «Очень
понравилась его манера говорить: спокойно, негромко...
На своем не настаивает, нет, но свое скажет». Это все
крестьянство говорит со своим заступником: «Спасибо
великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да
ведь и то — вся Расея на Дон не сбежит. А вы, как есть
2Э6
донские казаки, про свой Дон только и печалитесь.
Поприжал вас маленько царь, вы — на дыбошки: не трожь
вольного Дона! А то и невдомек: несдобровать и
вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками да
за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой
всю Расею. Вы на ногу легкие... Наш мужик пока
раскачается, язви его в душу, да пока побежит себе кол
выламывать — тут его сорок раз пристукнут. Ему бы —
за кем-нибудь, он пойдет. А вы — эвон какие!.. За вами
только и ходить. За кем же?»
Матвей еще меньше деда Стыря воин, это, скорее,
духовник Степана, тот нет-нет да и откроет мужику
этому» «думному дьяку» своему, изболевшуюся, мятежную
душу в ответ на теплое, верное слово. А слово то
частенько приходится даже не по нраву Разину, гордому
атаману, упрямому. И, наконец, вовсе расходятся их
судьбы: после симбирского поражения, весной, в
донском курене, где Степан отлеживался с перевязанной
головой, Матвей уговаривал Разина вернуться на
Волгу— там уж, сказывают, не тридцать, а триста тыщ
поднялось. «Во как! А атаманушка тут без войска. И они
там, милые, без атамана». Но Степан упорно ищет
поддержки на Дону, среди казачества. «Опять за свой
Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!..— Матвей
искренне не мог понять атамана и казаков: что за сила
держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он
этого понять, страдал.—Триста тыщ, Степан!..»
Вот, по Шукшину, главный промах руководителя
восстания, трагический промах, предрешивший
неудачный исход борьбы,— недоверие Степана к мужикам;
лапотникам, не умеющим, с его точки зрения, грамотно
драться в бою. «Матвей... как тебе растолковать... К
мужикам явиться надо... радость им привезть,— так же
искренне, страдая, втолковывал свою думу Разин.—
Одно дело — я один, другое — я с казаками. Все ихнее
войско без казаков — не войско».
Сошлись в споре два характера, два мировосприятия,
две правды — мужицкая и казацкая, иллюстрируя этим
«тупиковым» спором правду истории: внутреннюю
противоречивость народного движения, обреченного, по
слову Шукшина, на поражение. Трагичен финал
Крестьянского восстания, трагичны и личные судьбы героев
киноромана: реального Степана Разина, казненного
принародно, и вымышленного Матвея Иванова, воровски
297
убитого последним из разинских есаулов, завистливым
и ревнивым к атаману Ларькой...
Образ Матвея, душа которого истекала кровью при
думах о народном горе, заметно мифологизирован
Шукшиным в киноромане, где остальные персонажи, прежде
всего сам Разин, люди во плоти, первозданных страстей,
импульсивные и скорые на любой, самый крайний
поступок. Матвей же — резонер, говорун, умница,
печальник о народной душе. В нем заложена жертвенность,
сквозит она в его печальных, всепонимающих очах
мученика, богоискателя и богоотступника, отданного на
заклание Степану, дикой казачьей вольности. Как
евангельский Иосиф, рязанский мудрец — плотник, не
имеющий богатства, вечный скиталец на земле, тихо
принявший смерть от руки убийцы. Со свечечкой в
руке пал он на колени в своей землянке, простив перед
кончиной казаков — обманули людей, может, и не
хотели того, но много на них, донцах, невинной крови.
Матвей— это извечная вера народа в добро, в «солнышко
для всех».
Суровый реализм Шукшина включал в себя и
элементы мифотворчества, органичные тем не менее для
структуры киноромана. В фильме, возможно, данный
ассоциативный ряд был бы занижен: на роль Матвея
планировался режиссером Бурков — актер конкретно-
бытовой природы, идущий от конкретной жизненной
достоверности и мало склонный к символико-отвлеченному
мышлению.
Таким образом, правомочно думать, что роль
Матвея несколько проиграла бы литературному прообразу в
философско-мифологическом наполнении, зато
выиграла бы в жизненной убедительности, заиграла бы
красками безошибочно определенной типажности, что столь
важно для полноты контакта со зрителями. Роль эта
даже репетировалась актером и режиссером.
Многое от природы актерских данных Шукшина в
Степане — таком, как он выведен в киноромане.
Сценарист подчеркивает его крестьянское происхождение,
корень его: у Разина простое мужицкое лицо, рябое от
перенесенной когда-то оспы, тяжелая, неторопкая
обычно походка, ноги чуть враскорячку (тут еще и намек на
ремесло Разина — всю жизнь на коне). Степан вовсе не
богатырского сложения и роста, обычный, хоть и плотно
сбитый мужик, отличный от фольклорных описаний и
298
■даже тех живописных образов, что дали нам Суриков
или Петров-Водкин. У Шукшина было «оправдание»,
основанное на источниках,— ведь сохранилась
английская гравюра XVII века «Привоз Степана Разина в
Москву на казнь», где закованный в цепи атаман
выглядит далеко не гигантом. Чуть покатые, неширокие
плечи, средний рост (не выше, чем у сопровождающих
Степана стрельцов), обрамленное коротко подстриженной
бородой худощавое, чуть приплюснутое лицо с широко
расставленными глазами... Главное же — мы должны
помнить, что Шукшин, так или иначе, когда отчетливо,
когда подсознательно, искал в себе самом разинские
черты, слился — как творец и человек —со своим
творением, своим нравственным учителем, своим героем,
сам бы (что бы он ни говорил о возможных
соперниках) играл в фильме.
Повинуясь воле постановщиков, талантливый актер
Абрикосов, чтобы казаться еще большим великаном,
подтягивал рукава кафтана, словно нависал громадой
своего тела над людьми. Разин у Шукшина берет,
выделяется среди других иным — напористым, умным
словом, смекалкой полководца, демократичностью общения,
раскованностью и бездонной глубиной характера.
Шукшинский Степан обладает особым магнетизмом, чарами
повелевать, его побаиваются, но к нему и тянутся.
Шукшин пояснял: «Люди чуяли постоянную о себе заботу
Разина. Пусть она не видна сразу, пусть Разин — сам
человек, разносимый страстямиг— пусть сам он не
всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый
тоской и болью души, но в глубине этой души есть
жалость к людям — и живет-то она, эта душа, и болит-то —
в судорожных движениях любви и справедливости, и
нету в ней одной только голой гадкой страсти —
насытиться человечьим унижением,— нет, эту душу любили.
Разина любили, с ним было надежно... Много умных и
сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя
одного. Разина очень любили».
Степан — идейный и конструктивный центр
киноромана, он движет сюжет, в нем действуют центробежные
и центростремительные силы. Он сам целая вселенная,
в нем бушуют человеческие страсти, очищенные от
малейших условностей, он управляет тысячами людей и
не в силах управлять собой, это сгусток дьявольской
опасной энергии, забубённый гуляка, окаменелая горды-
299
ня. Сила и смелость реализма Шукшина в
проницательности и беспощадности анализа бездн человеческой
души, гениальной души — свободной в своих
проявлениях и потому неукротимой, временами даже страшной. Но
души, отданной без остатка людям, завораживающей.
Шукшину не свойственна описательность, очерковость
повествования, он рассказчик, действие для него на
первом месте, и потому так разнообразно, ярко проявляет
себя сам Разин. Степан постоянно в гуще событий;
собственно-то, без него события и не происходят, а если и
происходят, то как-то мельком, вразнобой (выезд царя
на соколиную охоту, арест Макси в Астрахани, налет
Фрола Минаева на стрельцов-караульщиков, патриарх
Никон диктует письмо царю, сговор Корнея с
домовитыми и так далее — сцены-мозаики, вполне допустимые
в жанре романа и, скорее всего бы, не вошедшие в
метраж фильма).
Разин дан крупным планом, автор не отводит от него
глаз, и есть все основания считать, что будущая картина
была бы победой Шукшина-актера, как были ею
«Печки-лавочки» и «Калина красная».
Природа героического в личности Степана Разина
выявлена Шукшиным на двух уровнях — внешнем,
когда автор повествует о полном воинских приключений
прошлом атамана, с малолетства приученного к сабле,
коню, ратной хитрости, ежесекундной осторожности,
развившего в себе поразительную реакцию на опасность, и
уровне внутреннем, глубинном. Героизм Степана,
отважившегося дать народу волю, покоится на бесконечной
вере его в права человека, силою несправедливых
обстоятельств загнанного в кабалу. В недрах народного
духа дремлют силы, которые должно пробудить
примером, не только призывом, но и делом, собственным твоим
смертным риском. Представляется поэтому
односторонним замечание одного критика относительно мотивов ра-
зинского решения взбунтоваться. Вот одна из форм
заполнения духовной полости, говорит он,— праздники
души. Вдуматься, так ведь и Степан Разин у Шукшина
не столько о народном праве думает, продолжает этот
критик, сколько о народной душе, которой надо же
распрямиться, разгуляться хоть разок за все обиды.
Нет «праздника» при бесправии. «Праздник»
соседствует с волей — хотя бы казацкие «праздники» рядом с
казацкой волей. Вернулись с добычей из Персии, обма-
300
нули астраханских воевод, прошли в устье Волги без
боя, высадились на берег с торгом — и вот уж праздник
колышется, бурлит, гогочет. Разин же потому сделался
помазанником народным, что первым рванулся со всей
горячностью своей гениально одаренной натуры к воле
всеобщей, не сословной, а поголовной. Пусть
представлял он будущее России туманно, пусть думы его носили
отпечаток стихийности, не было у него, говоря
современным языком, программы действия, программы
политических преобразований, да ведь и до поры
революционеров-республиканцев, революционеров из образованных
слоев общества было еще очень далеко.
Удало погулять для Степана мало, надо всех
супостатов народных в воду посадить или со стены за ноги
свесить, тогда только придет воля желанная. И недаром
говорит Разину Матвей Иванов: «...горе да злосчастье
нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить
собаками век свой — вот горе-то. И то ишо не горе —
прожил бы, да помер — дети наши тоже на собачью
жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и они
тоже. Вот горе-то!.. Это счастье наше, что выискался ты
такой — повел. И веди, и не думай худо. Только сам-то
не шатайся. Нету ведь у нас никого боле — ты нам и
царь и бог. И начало. И вож. Авось, бог даст, и
выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди,
ночь-то?»
Тут речь не о том, чтобы разок разгуляться, отвести
душу, скрученную насильниками, тут—о вековой
правде речь, тоска по вечной воле, нескончаемому
празднику народному.
Оставляя за собой право художника на
переосмысление части исторических документов и свидетельств,
Шукшин — при всей тяге его к внутренней творческой
свободе— не хотел изымать неуемный характер своего героя
из границ исторической правды, искал и находил
полноту проявления его человеческих качеств в контексте
реального исторического процесса. Праздник души — да,
о нем шукшинские герои постоянно мечтают, ищут его
страстно и упорно. Однако применительно к Разину
недостаточно констатировать лишь эту черту характера.
Личность Степана у Шукшина многомернее, крупнее,
трагедия же круче, больше, чем, к примеру, у того же
Егора Прокудина или Степана Воеводина, которые тоже
о празднике думали и ради него шли напролом. Разин
301
в истории русской не только жертва, он герой,
соединивший свою личную судьбу с народной судьбой.
Документы свидетельствуют: еще в начале похода, в
мае 1670 года, на круге в Паншинском городке Степан
призывал «изменников из Московского государства вы-
весть и чорным людям дать свободу»!. Это ли не дума
о народном праве? Совершенно определенную картину
конечных намерений повстанцев рисует иностранный
наемник Фабрициус, офицер-артиллерист астраханского
гарнизона, попавший в плен к разницам. Часть царских
ратников, пишет он, добровольно перешла к
мятежникам, «они стали целоваться и обниматься и
договорились стоять друг за друга душой и телом, чтобы,
истребив изменников-бояр и сбросив с себя ярмо рабства
(курсив мой.— Ю, Т.), стать вольными людьми»2. Мимо
этих фактов Шукшин не мог пройти равнодушным, они
в серьезной степени влияли на его понимание как самой
личности атамана, так и задач, которые тот выдвигал
перед собой и войском. Только тогда полнота
исторической правды работала на многомерность и, в
конечном счете, на правду образа Степана Разина — героя
народных легенд и преданий.
Задержимся теперь на суждении еще одного
комментатора романа, поскольку оно, суждение это, также
касается вопроса о соотношении у Шукшина характера
его Разина с правдой истории. В очерке «Степан
Разин— личность и образ» Петелин справедливо пишет:
«Василий Шукшин по-настоящему влюблен в своего
героя. Но эта влюбленность не переходит в любование. Он
сжился со своим героем и настолько проник в его
характер, помыслы и мечтания, что все тайное и,
казалось бы, недоступное становится явным и зримым.
Й это,— замечает критик,— понятно и естественно: ведь
у Шукшина сначала возникла мысль поставить фильм
о Разине и сыграть заглавную роль. А играть роль
можно, только хорошо зная характер героя. Отсюда и
детальность в разработке характера».
. Затем автор делает неожиданный, парадоксальный
вывод. «Но отсюда же,— пишет Петелин,— возникает и
1 Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
Сб. документов, т. 1. М„ АН СССР, 1954, с. 235—236.
2 Маньков А. Записки иностранцев о восстании Степана Разина.
Л:, «Наука», 1968, с. 50.
302
главный недостаток романа — в нем нет исторического
колорита, которым насыщен роман Чапыгина, и почти
нет картин острой классовой борьбы, которая
подготавливала и питала разинское движение, что
составляет наиболее яркие страницы романа Злобина»'.
В суждении этом сказалась предвзятость
восприятия киноромана «Я пришел дать вам волю»
литературоведом, привыкшим к традиционным формам
художественно-исторического повествования. Тогда как
произведение Шукшина можно оценивать и рассматривать с
Точки зрения киноведа, или, во всяком случае, и с этих
позиций, когда литературный текст приближен к
объемной конкретности кадра. Кинороман есть
приближение к той синтетической форме изложения, где законы
прозы сопряжены со спецификой кинематографического
зрелища: полнота слова приравнивается к
возможностям киноглаза.
Сам Шукшин, единый в трех ликах — писателя,
режиссера, актера,— отмечал собственное состояние в
процессе работы: «...я не только думаю о нем (Разине:—
Ю. Т.) и его сподвижниках, я их вижу» 2.
Шукшин выстроил характер героя, насытил
пространство книги образами казаков, мужиков, воевод и т. д.,
он завязал и закончил действие, наводнив его емкой
речевой стихией, и был по совести спокоен за результаты
своего литературного труда, потому что знал, что в
будущем— в фильме — кинокамера замкнет словесный
ряд в реальности предметной среды, в самозначности
кадра, в информативной его структуре, где (то есть в
изобразительном ряде) актеры, костюмы, крепостные
башни, шатры, пейзажи, знамена, плаха, кони, струги,
пушки и т. д. реконструируют образ исчезнувшего
времени, воскресят колорит эпохи.
Вот, к примеру, картина казачьего праздника. Она
сама по себе красочна, объемна, конкретна, а
прибавьте к тексту фантазию режиссера и оператора (ведь
это-то предусматривалось, это было впереди!):
«Степан поставил порожнюю чару, вытер усы...
Полез вроде за трубкой... И вдруг резко встал, сорвал
шапку и ударил ею об землю.
— Вали! — сказал с ожесточением.
1 Петелин В. Родные судьбы. М., «Современник», 1976, с. 46—47.
.* «Искусство кино, 1976, Я* 1, с. 128.
303
Это было то, чего ждали.
Сильно прокатился над водой радостный вскрик
захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристы, сколько их
было, сели в ряд, дернули струны. И пошла, родная...
Плясали все. Свистели, ревели, улюлюкали...
Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман,
слегка притопывал. Скалился по-доброму. Тоже
дорогой миг: все жизни враз сплелись и сцепились в одну
огромную жизнь, и она ворочается и горячо дышит —
радуется. Похоже на внезапный боевой наскок или на
безрассудную женскую ласку.
Земля вздрагивала; чайки, кружившие у берегов,
шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов».
Думается, по приведенному отрывку видно, каков же
реально был колорит казачьей вольницы, казачьей
походной жизни, когда тяготы войны сменялись минутами
праздника, общего гулянья, радости, когда загул сотен
людей дарил ощущение свободы, волюшки.
Теперь о втором замечании Петелина —
относительно картин «острой классовой борьбы», что составляли
«наиболее яркие страницы романа Злобина».
Да сам-то поход Разина к Москве, разве это не
острая классовая борьба?
Острейшая, смертная борьба, только показана она
в киноромане не в иллюстративных формах, к чему
очень был склонен Злобин и власть которых сказалась
на суждении критика, а показана через центральный
образ по преимуществу, через сознание Степана, и
затем уж —через сознание Матвея Иванова, Василия Уса,
Семки-скомороха, других действующих лиц.
Короче говоря, зачастую опосредованно, не
впрямую, что, во-первых, освобождало Шукшина от
повторов традиционного исторического повествования, а во-
вторых, нисколько не лишало кинороман (и сценарий)
ни глубины социального анализа эпохи, ни подлинной
художественности.
Наконец, вспомним и такой (ради примера)
обнаженный в своей социальной основе текст, как этот:
«Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто
притерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь
позором, кому и стон-то в горло забили, все, с
малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно
радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх
и рабство. Они-то и радуются! Любит народ вождей
Щ->
смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него.
В нем и любили ту захороненную надежду свою на
счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут,
оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни
самые что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ
сам избирает себе кумиров — чтобы любить, а не
бояться.
С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль,
остальные остались за стенами».
Литературная манера Шукшина неотрывна от его
видения кинематографиста: это отразилось и на такой
теме киноромана, как тема Волги, «главной российской
улицы», по слову автора. Великая река,
опоэтизированный образ ее входит в общее звучание сценария и
«иноромана могучим, громогласным раскатом. Волга
словно ровня Степану, своему великану-брату. В ней и
безбрежная ширь, и безмерная нежность, утренняя
свежая бодрость и усталость перед закатом солнца, она
своенравна и младенчески ласкова, она спасение
казакам, но и нежданная опасность.
Когда Разин выбирал дорогу к Москве, ему
некоторые советовали Доном «ийтить». Матвей Иванов убеж^
дал: «Через Воронеж, Танбов, Тулу, Серпухов... Там
мужика да посадских, черного люда,— густо. Вы под
Москву-то пока дойдете — ба-альшое войско
подведете».
Ответ Степана все-таки: «Пойдем Волгой».
«Это твоя первая большая промашка, Степан
Тимофеевич,— негромко, задумчиво и грустно сказал
Матвей.— Дай бог, чтоб последняя...».
В контексте книги решение Разина двигаться
Волгой выглядит действительно промашкой народного
вожака, но ведь Шукшин имел дело с фактом истории:
казаки-то пошли на волжские низовья, они путь этот
знали и в него верили. Да и Матвей понимает: «На
Волге, знамо, хорошо — вольно. Опять же, погулять —
где? На Волге. Там душу отвесть можно».
Работая над романом, Шукшин специально
проплыл от Ульяновска (Симбирска) до Астрахани,
проделав в обратном порядке путь войска Разина. Точны,
задушевны слова о Волге в киноромане. Вольная река,
увиденная авторским сыновьим взглядом, живет здесь
собственной неукротимой жизнью, одновременно
являясь как бы подзвонком в музыкальной теме Степана,
ЗОЙ"
дыханием своим согревает образ мятежного, а порой и
смятенного атамана.
«Тихо говорили между собой у костра есаулы. И
поглядывали в сторону берега: там все сидел атаман и
все тихо покачивался, покачивался, как будто молился
богу своему—могучему, древнему — Волге. Иногда он
бормотал что-то и тихо, мучительно стонал.
Луна поднялась выше над крутояром; середина
реки обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в
вымоины медленные волны, шипели, отползая,
кипели... И кто-то большой, невидимый осторожно вздыхал».
Анализируя «Калину красную», критика отметила
рефрен фильма — березовый лес, чистый белый мир
Шукшина, белое свечение, сказав, что это и самая
обыкновенная реальность северных мест и образ, рожденный
осознанной, бесконечной, захлестывающей сердце
авторской любовью.
«Калина красная» позволила с очевидностью
проследить эволюцию одного из элементов творческого
метода Шукшина — писателя и кинематографиста. «В
суховатой, деловой шукшинской прозе пейзаж поначалу
лишь место действия, так сказать, ландшафт.
Постепенно пейзажные образы, не теряя своей функции
жизненной среды, окружающей героя, обретают
самодовлеющее значение, как бы сращиваются с внутренней
темой произведения, поэтизируются»'.
В фильме о Разине, эпическом фильме,. Волга
была бы — в этом нет ни малейших сомнений — еще
большей «авторской любовью», нежели «белое свечение» в
«Калине красной». В народной памяти могучий атаман,
великие дела его навеки соединились с образом
славной реки. Донской казак, Степан Тимофеевич в песнях
и сказах обручен все-таки с Волгой. История упрекает
вождя восстания в неправильном выборе пути на
Москву — водой, а не сушей, через верховья Дона — к
Воронежу и Туле. История осуждает, а предание славит.
Даже у Есенина вырвалось: мне нужна в Жигулях
песня да костер Стеньки Разина.
1 Зоркая Н. Режиссеры и фильмы.— В кн.: Проблемы
современного кино. М., «Искусство», 1976, с. 111. Здесь же автор пишет:
«...осознание любви и поэтизировало шукшинский пейзаж, породило
пейзажный «крупный план», который имеет в «Калине красной» тот
самый двуединый смысл, о котором говорилось применительно к
картине в целом».
306
Многоцветный, раздольный волжский мир внес бы
поэтическую ноту в трагическую симфонию фильма.
И здесь-то привычно-затертое: «Из-за острова на
стрежень...» — обрело бы неподдельный пафос
народной героики, тем более что Волга была бы увидена
через глазок кинокамеры сподвижника Шукшина —
талантливейшего оператора Заболоцкого...
Народный художник
(Заключение)
Думаю о будущем своего народа.
Шукшин
Василий Макарович Шукшин скончался в ночь с 1 на
2 октября 1974 года от острой сердечной
недостаточности.
Ему пошел всего-навсего сорок шестой год.
Он умер в каюте теплохода, на котором размещалась
съемочная группа фильма «Они сражались за Родину».
В своей роли солдата Лопахина Шукшин успел отснять-
ся почти целиком, режиссер Бондарчук затем доснял с
другим актером, дублером Шукшина, недостающие
кадры. Этим дублером оказался Юрий Соловьев, бывший
вгиковец, хорошо знавший Шукшина по институту. На
сразу решился актер выступить в такой необычной
роли: еще слишком остро чувствовалась боль от потери
Василия Макаровича. Однако надо было спасать
картину, спасать роль. И Соловьев вышел на съемочную
площадку... Была и рабочая, черновая фонограмма с
голосом Шукшина. Для фильма она, к сожалению, по
техническим причинам не подходила. Выручил ленинградский
актер Игорь Ефимов, мастер дубляжа с огромным
опытом. Он озвучил роль Лопахина, очень удачно озвучил.
Без шукшинского голоса нельзя себе представить образ
шолоховского героя, ведь слово-то его на редкость
выразительно по интонации, оттенкам юмора. И обаяние
речевой характеристики героя на экране чудесным
образом сохранилось, зазвучало.
Ефимов озвучивал Шукшина и для фильма
Панфилова «Прошу слова», где одну (из двух) сцен не успели
снять (Шукшин обещал приехать на «Ленфильм» 9 ок-
307
тября). Эту сцену приспособили для одного участника —'"'
Инны Чуриковой, она по телефону разговаривает с дра-'
матургом Федей (роль актера Шукшина). Ефимов и
здесь помог чудесно. Шукшинский образ был для
фильма спасен.
Похороны Шукшина в Москве вылились во
впечатляющую демонстрацию всенародной любви к
художнику. Золотились теплые осенние дни. Люди приносили
охапками калину красную на могилу Шукшина на
Новодевичьем кладбище. Безвременная кончина Василия
Макаровича Шукшина воспринималась как огромная
утрата для всей советской культуры.
Через некоторое время Шукшину посмертно была
присвоена Ленинская премия — за актерские работы
последних лет. В СССР и за рубежом были показаны
ретроспективы его фильмов, эти картины по сию пору
часто идут в нашем прокате. Они живут.
Шукшин был действительно народным художником.
Он, мужик, работал на своей ниве. Он ждал хлеба, он
сгорал с жизнью, так говорил о Шукшине актер
Михаил Ульянов (в июле 79-го года, к пятидесятилетию
Шукшина, по ЦТ был показан видеофильм, сделанный
по сценарию Коробова,— этого имени почему-то титры
нам не назвали: в фильме о творчестве и личности
Шукшина проникновенно говорили Астафьев, Бурков,
Лебедев, Сазонова, Чекалов и другие). И еще говорил
Ульянов: «Секрет личности Шукшина, феномен его
искусства— в запредельной искренности, огненности даже».
И мы с этим словом — огненность— соглашаемся. «Уне-
го была мощная корневая система, она питала его и
сделала тем, кем он стал: Шукшиным...» '.
Народность Шукшина осознана теперь отчетливо.
Его искусство, в том числе, конечно, его кинематограф,
стали составной частью общенационального духовного
богатства. Еще несколько лет назад, когда шукшинское
наследие вдруг стало именно наследием, когда ничего
уже нельзя было изменить, Будимир Метальников
прозорливо посчитал: «...так, как он знал жизнь русского
народа, знают немногие, так, как он умел изображать
эту жизнь, не умеет никто. И это делает его большим
национальным художником. И дело тут не только в
неповторимости таланта, каждая индивидуальность непо-
1 Ульянов М. Сын родной земли.—В кн.: О Шукшине, с. 315,
308
вторим а (хотя нередко можно обнаружить сходство!),—
дело в происхождении и, я бы сказал, в назначении
таланта. Шукшин прошел огромный путь от глубин
русской народной жизни до самых больших высот
искусства. И сумел на этом пути не потерять и не оборвать
животворные связи с теми, от кого и от чего начинался
он — Василий Макарович Шукшин» '.
В рабочих записях Шукшина есть слова: «Рассказчик
всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его
потом, когда роман дописан и автор умер»2. Вот так, как
единое целое, мы можем и должны оценивать
кинематограф Шукшина. Все шукшинские фильмы убедительно
свидетельствуют о цельности художника. Режиссер не
снимал по чьему-либо заказу и не по воле случая. Он
творил по собственной воле. Все эти фильмы — о
русской деревне, все они — о наших современниках.
На киноэкране Шукшин продолжал свою прозу. Это
было естественным проявлением единства его личности.
Именно единства личности, а не единства профессий,
хотя профессионалом Шукшин был отменным. Как
писатель Шукшин обогащал киноискусство новыми
темами, новыми сюжетами. Он был проблемен, он доверял
слову, диалогу. «Россия разговаривающая, Россия
спорящая, иронизирующая, вырабатывающая всякого рода
живописные словесные формулы — таков главный герой
Шукшина»3. Материализация сознания (например, в
киноновелле «Думы») ему не всегда удавалась, как
удавалась она Довженко, Бергману, Рене, может, из-за
документальности его киностиля. Но Шукшин дал
экрану неоценимое — человеческие характеры.
В прозе своей Шукшин считал ведущей тему
душевных поисков. Он перенес ее и в кинематограф, тем самым
обогатив искусство кино животворной традицией
классической русской литературы. «Яростная жажда высокого
смысла, последнего смысла — она у Шукшина объясняет
все, всю стилистику, весь пафос; этой жаждой пронизаны
у него все тексты и роли, до последнего словечка, все
высказывания, до любого вскользь брошенного словца, бе-
1 Метальников Б. Благодарность.— «Сов. экран», 1974, № 23,
с. 20.
2 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 291.
3 Чалмаев В. Обновление перспективы. М., «Современник», 1978,
с. 119.
309
режно реставрируемого теперь слышавшими его
людьми» '. :.
О своеобразии шукшинской прозы точно сказал
Залыгин. «Все просто. Все обыденно. И все — серьезно.
И восстановлено утерянное было умение русской прозы
говорить о малом факте жизни, как о Жизни.
Чеховское, бунинское умение. Для классического русского
рассказчика первостепенное значение имел сам факт
жизни, а себя самого он ощущал как некий инструмент,
как средство выражения все той же жизни»2.
Мы не знаем, есть ли в нашем кино Чехов, Бунин.
Хотя есть традиция говорить о современной жизни в
формах самой этой жизни. Она проявлена в отдельных
фильмах Герасимова, Ростоцкого, Хуциева, Иоселиани,
других мастеров. Заслуга Шукшина в сознательном,
последовательном утверждении этой традиции — на
классическом уровне. Шукшин не выпячивал свое
режиссерское «я». Жизнь была для него не поводом для
профессионального самовыражения, она была важна для него
сама по себе.
А ведь в конечном счете услышан тот, кто сказал то,
что хотел сказать, а люди не заметили, как он это
сделал, считал Шукшин. В этом магия искусства. Он, по
крайней мере в своих актерских опытах, всегда
чувствовал удовлетворение, когда удавалось хоть немножко
пожить в кадре независимо от камеры. Когда он не знал,
где она стоит.
Шукшин понял: «Нравственность есть Правда. Не
просто правда, а — Правда. Ибо это мужество,
честность, это значит — жить народной радостью и болью,
думать, как думает народ, потому что народ всегда
знает Правду»3.
Замечательные слова... Как другое шукшинское при»
знание: «Любовь и сострадание, только они наводят
на... пронзительную правду» \ Особенно приложимо это
признание к последнему фильму режиссера — «Калине
красной». У Шукшина был замысел: после «Степана
Разина» снять картину о любви, «жанр». Все-таки ки-
1 Аннинский Л. И память — по труду.— «Лит. Россия», 1983,
15 апр.
2 Залыгин С. Несколько слов о современной русской прозе,—
«Красный Север», 1979, 27 марта.
3 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 80—81.
4 Там же, с. 168.
310
нематограф притягивал к себе писателя Шукшина,
режиссер думал с далекой перспективой. «Слушай,—
говорил он незадолго до смерти Евгению Лебедеву,— вот
еще что: нам надо сделать с тобой фильм».
— Какой? — спросил актер.
— Мы его втроем сделаем: я, ты и Лида
(Федосеева.— Ю. Т.). Это тайга, там в избушке живет охотник.
Приезжает муж с женой, начинается роман, ревность...
Понимаешь? Потом он его убивает.
«Мне предназначалась роль охотника,— вспоминал
актер,— но кто кого должен был убить — забыл...»1.
Об этом замысле Шукшин разговаривал и с
Ульяновым. «Подробности уже забылись, но помню, что
действие должно было разворачиваться в сибирской тайге,
где живут таежный охотник и его жена; к ним
приезжает гость, и с этого все начинается. История на первый
взгляд детективная: любовь, ревность, стрельба и
прочее. Но, думается, Шукшина здесь интересовала не
детективная фабула, а нравственная сторона истории:
разговор о праве на любовь и выбор в любви, о праве на
свободное человечье общение, не связанное какими-то
условиями»2.
Кинематограф Шукшина нравственно ориентирован.
В этом его гуманизм, в этом же — этический урок
бескомпромиссной жизни в искусстве. Режиссура — это
«большое и умное искусство. Оно предполагает
огромный опыт. И режиссерский и собственный актерский»3.
Так считал Шукшин. Оно же предполагает диалектич-
ность художественного мышления.
«Для Шукшина диалектика была первым законом
творчества,— подчеркивал Герасимов.— Он видел мир
таким, как он есть. Он понимал, что все движется, все
меняется, все существует в постоянном столкновении.
Такая диалектика присутствует у него в каждом образе,
в каждой строке, в каждом слове, и это есть главная
ценность его художественного труда»4.
Кинематограф Шукшина открывался изображением
стихийного человека. Выведя на экран Пашку Колоколь-
никова, режиссер показал его доброту и душевную от-
1 Лебедев Е. Чувствовал он человека. — В кн.: О Шукшине,
с. 244.
2 Ульянов М. Сын родной земли, с. 314.
8 Шукшин В. Нравственность есть Правда, с. 273—274.
4 Герасимов С. Народный художник.— В кн.: О Шукшине, с. 9.
311
крытость. Он же показал, какой огромный, вольный мир
окружает молодого шофера — эта алтайская ширь, эта
горная красивая река, дальние горизонты. Он показал
других алтайцев — братьев Воеводиных, этих сложных
простых людей, с их заблуждениями и обретениями, он
призвал нас всмотреться в их отца, потомственного
крестьянина, исконно трудового человека, с его душевной
тревогой, накопленной за многие годы жизни
мудростью.
Кинематограф Шукшина открыл и еще один
человеческий тип — странных людей, с их потребностью в
«празднике» души, с их презрением к самодовлеющему
материальному достатку. Этот кинематограф нащупал
неожиданные проявления национального характера,
странности странных людей, ион, этот шукшинский кино-
мир, ощутил потребность в исторической перспективе. Так
начался поиск героического народного характера, так
задумывался фильм о русской истории, о Степане Разине.
И еще: фильмы Шукшина увидели отрицательные черты
того же простого человека, когда он вдруг превращался
в хама, демагога, обывателя, жулика, убийцу. Но
сильна была вера в Человека у этого кинематографиста, он
нес нравственное исцеление добротой. Он показал
прекрасные женские характеры — Веру Воеводину, Любу
Байкалову, отчасти Нюру Расторгуеву. За ними были
терпение, трудолюбие, горячее к добру сердце.
Благодарно склонился Шукшин перед материнской памятью.
Шукшин-режиссер не был педагогом, он никогда не
преподавал во ВГИКе. Но создал свою актерскую
школу. Его фильмы позволили утвердиться в кинематографе
Нине Сазоновой, Леониду Куравлеву, Георгию Буркову.
С его киноискусством связаны лучшие актерские
работы Всеволода Санаева, Ивана Рыжова, Алексея Ванина,
Лидии Федосеевой. Шукшин работал в коллективе
единомышленников, его авторитет художника был
необычайно велик. Собственным примером служения кино,
цельностью личности он воспитывал тех, кто трудился
рядом с ним, кто также причастен к созданию этого
феномена — кинематографа Шукшина.
Лидия Николаевна Федосеева недавно вот как
проникновенно говорила: «На днях, после почти
десятилетнего перерыва, решилась снопа посмотреть «Калину
красную». Меня часто спрашивают: «Что было, что
прошло, что осталось?» Вот это было и прошло. И осталось.
312
Такого в моей жизни больше не было и не будет — я это
■^прекрасно сознаю. Но осталась картина. Я думаю, она
надолго останется».
Затем актриса добавила: «Жизнь с Шукшиным...
Работа с Шукшиным... Смешно говорить, что он был для
меня «своим режиссером» — он меня сделал, вылепил,
сформировал — назовите, как хотите. Не только как
актрису— как человека. Он знал меня прекрасно. Знал,
что я могу сыграть, что не могу. Все женские роли в
сценариях (кроме «Живет такой парень»), в пьесах он
примерял на меня и собирался делать со мной не только
Любу, Нюру, Груню, но и «невесту» в «Точке зрения»,
дочь Бабы Яги в сказке «До третьих петухов». Был
придуман сценарий про глухонемую... Вообще у Василия
Макаровича было очень много задумок, причем именно
для кино — не только «Разин». Я убеждена, что никогда
бы он режиссуру не бросил, хотя желание это сделать
появлялось у него после сдачи каждой картины. Но
«киношный зуд» сидел в нем постоянно, и, я думаю, никогда
бы он от него не избавился».
Да, Шукшин знал о коллективной «природе» кино, он
стремился работать с единомышленниками и работал с
коллективом единомышленников, заражая их своим
чувством правды и непридуманной страстью к истине.
Федосеева-Шукшина вспоминала еще: «Когда снималась в
«Печках-лавочках» или в «Калине», у меня иногда даже
сдвиги какие-то происходили: где я? Шукшин до того
все по-настоящему делал, до такой степени с ним все
по-настоящему происходило, вот здесь, сейчас, сию
минуту, что иногда даже страшно становилось. С таким
партнером играть — счастье».
Настоящим Шукшин оставался и в режиссуре, не
только в актерском творчестве. Это-то настоящее,
подлинное и передавалось зрителям его картин, заставляло
их думать и волноваться, делало их нравственнее и
духовно богаче. И вызывало любовь к ним, этим
невыдуманным фильмам, таким боеспособным, борющимся за
правду, неохватным по широте жизненного материала.
Задачу сохранения и упрочения нравственных
традиций советского народа Шукшин считал одной из
ведущих для нашего общества. Он, художник и учитель,
твердо и прямо устанавливал, что есть нравственность в
нынешнем понимании нынешнего человека. В понимании
этой задачи — извечной, отечественной — Шукшин шел
313
от традиций классиков литературы, которые дали миру
немало чистых и светлых строк. Виктор Астафьев четко
подчеркнул, что Шукшин, выходец села, «дитя природы»,
не только не давал затихнуть или загаснуть этой
традиции, он ее обновлял. Хорошо, чисто,
высокопрофессионально работал Шукшин, оказывая своим творчеством
благотворное влияние на молодых1. Эту сторону
шукшинского дарования отмечали и другие—В. Белов,
В. Крупин, В. Распутин, В. Солоухин, В. Шугаев...
Выше я говорил, что проза и сценарии Шукшина
продолжали питать творчество кинематографистов и после
кончины художника. И молодых, и зрелых. Когда эта
книга была в наборе, пришло сообщение о присуждении
Государственной премии СССР фильму «Праздники
детства», поставленному на Киностудии им. Горького
друзьями Шукшина режиссерами Р. и Ю. Григорьевыми
по автобиографическим произведениям писателя.
Знаменательная награда! Выпущен звуковой альбом,
названный шукшинской строкой: «Думу свою донести людям».
С пластинки доносится живой голос Шукшина: «Я хочу,
чтобы наши люди не растерялись от вторжения техники
и чаще привлекали для решения вопросов в тех или
иных ситуациях совесть, силу сердца своего... Совесть,
совесть, совесть... Вот это не должно исчезать...»
Можно смело утверждать: фильмам выдающегося
советского художника* гражданина, коммуниста
Василия Макаровича Шукшина уготована долгая жизнь.
Их создала любовь к людям...
См.: Астафьев В. Посох памяти,— М., Современник, 1980, с. 187.
Фильмография
«Из Лебяжьего сообщают»
«Мосфильм». 1960. Худож.
руководитель М. Ромм. Сценарий и
постановка В. Шукшина. Гл.
оператор В. Владимиров. Гл. худож.
И. Новодережкин. В ролях:
В.Шукшин (Ивлев), Л. Куравлев
(Сеня), В. Макаров (секретарь
райкома) и другие.
«Живет такой парень»
Центр, киност. дет. и юнош.
фильмов им. М. Горького. 1964.
Сценарий и постановка В. Шукшина.
Гл. оператор В. Гинзбург. Ху-
дож.-пост. А. Вагичев. Комп.
П. Чекалов. В ролях: Л.
Куравлев (Пашка), Л. Александрова
(Настя), Л. Буркова (Катя),
Р. Григорьева (городская
женщина), Н. Сазонова (Анисья),
А. Зуева (Марфа), Б. Ахмадули-
на (журналистка), Б. Балакин
(Кондрат), И. Рыжов (зав.
нефтебазой), Е. Тетерин (учитель) и
другие.
«Ваш сын и брат»
Центр, киност. дет. и юнош.
фильмов им. М. Горького. 1965.
Сценарий и постановка В. Шукшина.
Гл. оператор В. Гинзбург. Ху-
дож.-пост. И. Бахметьев. Комп.
П. Чекалов. В ролях: В. Санаев
(отец), А. Филиппова (мать),
М. Грахова (Вера), А. Ванин
(Игнат), Л. Куравлев (Степан),
315
Л. Реутов (Максим), В. Шахов
(Василий). В остальных ролях:
Н. Граббе, А. Дорохина, С. Жгун,
В. Захарченко и другие.
«Странные люди»
Центр, киност. дет. и юнош.
фильмов им. М. Горького. 1969.
Сценарий и постановка В. Шукшина.
Гл. оператор В. Гинзбург. Гл. ху-
дож. И. Бахметьев. Комп. К.
Хачатурян. В ролях: С. Никоненко
(Васька-чудик), Е. Евстигнеев
(братка), Л. Федосеева (Лида),
Е. Лебедев (Бронька), Л.
Соколова (жена Броньки), В. Санаев
(Матвей), Е. Санаева (дочь
Матвея), Н.Сазонова (жена Матвея),
Ю. Скоп (Колька), П. Крымов
(учитель).
«Печки-лавочки»
Центр, киност. дет. и юнош.
фильмов им. М. Горького. 1972.
Сценарий и постановка В. Шукшина.
Оператор-пост. А. Заболоцкий.
Худож.-пост. И. Бахметьев. Комп.
П. Чекалов. В ролях:
Л.Федосеева (Нюра), В. Шукшин (Иван),
В. Санаев (профессор), 3. Гердт
(второй профессор), С. Любшин
(сын профессора), И. Рыжов
(проводник), Л. Соколова
(проводница), В. Захарченко
(командировочный), Г. Бурков (вор) и
другие.
316
«Калина красная»
«Мосфильм». 1974. Сценарий и
постановка В. Шукшина. Худож.-
пост. И. Новодережкин.
Оператор-пост. А. Заболоцкий. Комп.
П. Чекалов. В ролях: Л.
Федосеева (Люба), В.Шукшин (Егор),
И. Рыжов (отец), М. Скворцова
(мать), А. Ванин (Петр), М.
Виноградова (Зоя), О. Быстрова
(мать Егора), Л. Дуров
(официант), Н. Граббе (нач. колонии),
Г. Бурков (Губошлеп) и другие.
Родной земли
целительная сила
33
(Вступление)
Иду в путь свой
(«Из Лебяжьего сообщают»)
Есть такой режиссер! 74
(«Живет такой парень»)
Несхожие судьбы
(«Ваш сын и брат»)
Третья высота
(«Странные люди»)
Освобождающий смех
(«Печкн-лавочкп»)
Киноповесть и фильм
(«Калина красная»)
Героический народный
характер. Часть 1
(Замысел «Степана Разина»)
Героический народный
характер. Часть II
(Еще раз о замысле
«Степана Разина»)
Народный художник
120
140
181
225
251
279
307
(Заключение)
Фильмография 315
Тюрин Юрий Петрович.
Т98 Кинематограф Василия Шукшина.— М.:
Искусство, 1984.—319 с, 16 л. ил., портр.— В надзаг.:
ВНИИ киноискусства.
Книга является первой в отечественном киноведении монографией
о творчестве Шукшина-режиссера. Автор подробно прослеживает
процесс становления Шукшина-кинематографиста, обстоятельно
анализирует философский и художественный мир его фильмов.
Исследование не замыкается в рамках традиционного искусствоведения, оно
тесно связывает произведения Шукшина с жизнью.
Для широких кругов читателей.
4910020000-123 ББК 85.543(2)
Т 108-84 778С
025(01)-84 "ВС
Юрий Петрович Тюрин
Кинематограф
Василия Шукшина
Редактор Д. С. Шацилло. Художник В. М. Вовнобой.
Художественный редактор Г. К. Александров. Технический редактор Н. С.
Еремина. Корректоры М. Л. Лебедева и Н. -Н. Прокофьева
ИБ. 1882
Сдано в набор 09.09.83. Подписано в печать 20.04.84. А 09664.
Формат издания 84Х108/з2. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 17,323. Изд. № 15&24.
Тираж 50 000. Заказ 640. Цена 1 р. 40 к. Издательство «Искусство»-,
103009 Москва, Собиновский пер., 3. Тульская типография Союзпо-
лиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина,
109. Иллюстрации отпечатаны во 2-й московской типографии.
Москва, проспект. Мира, 105.