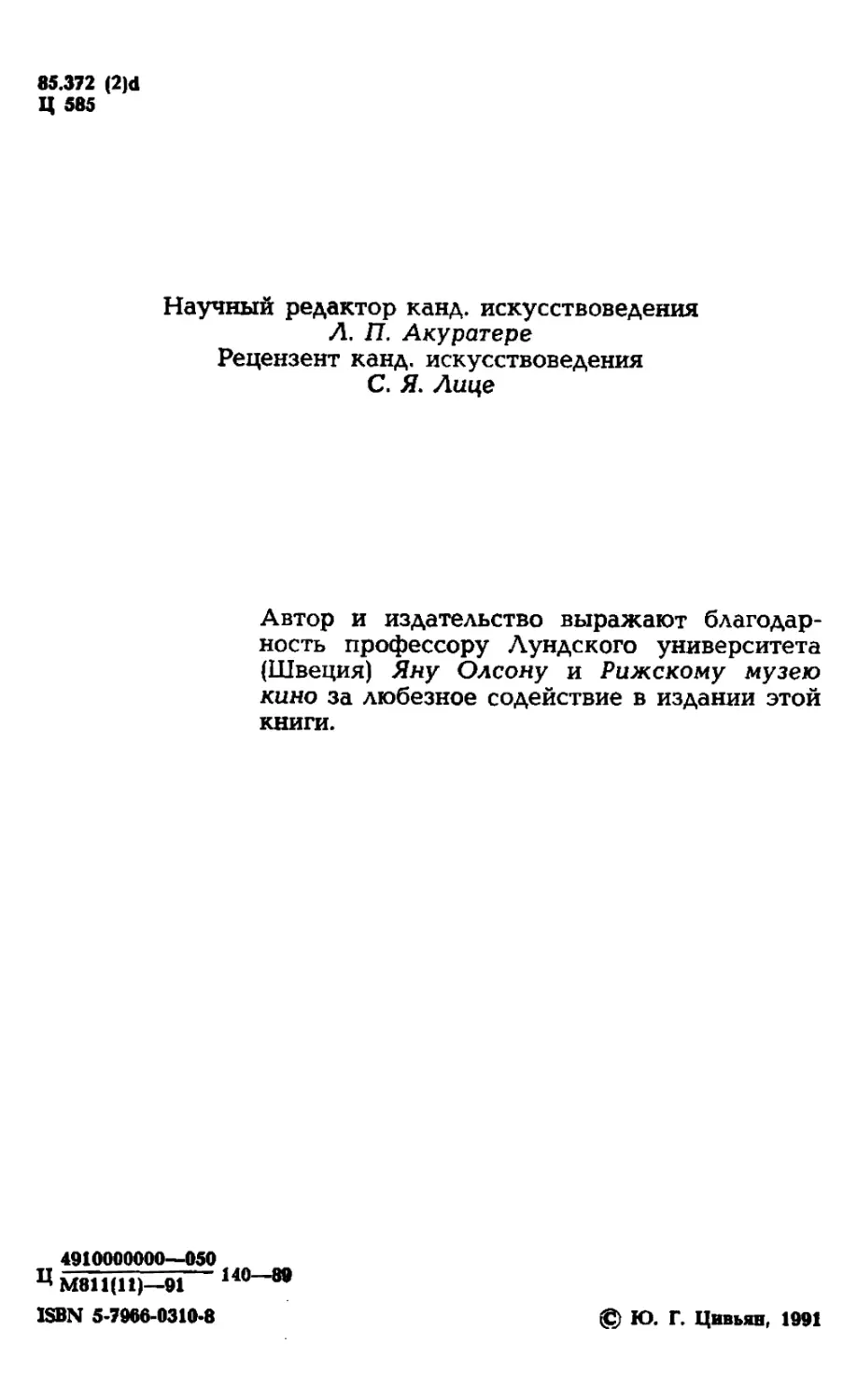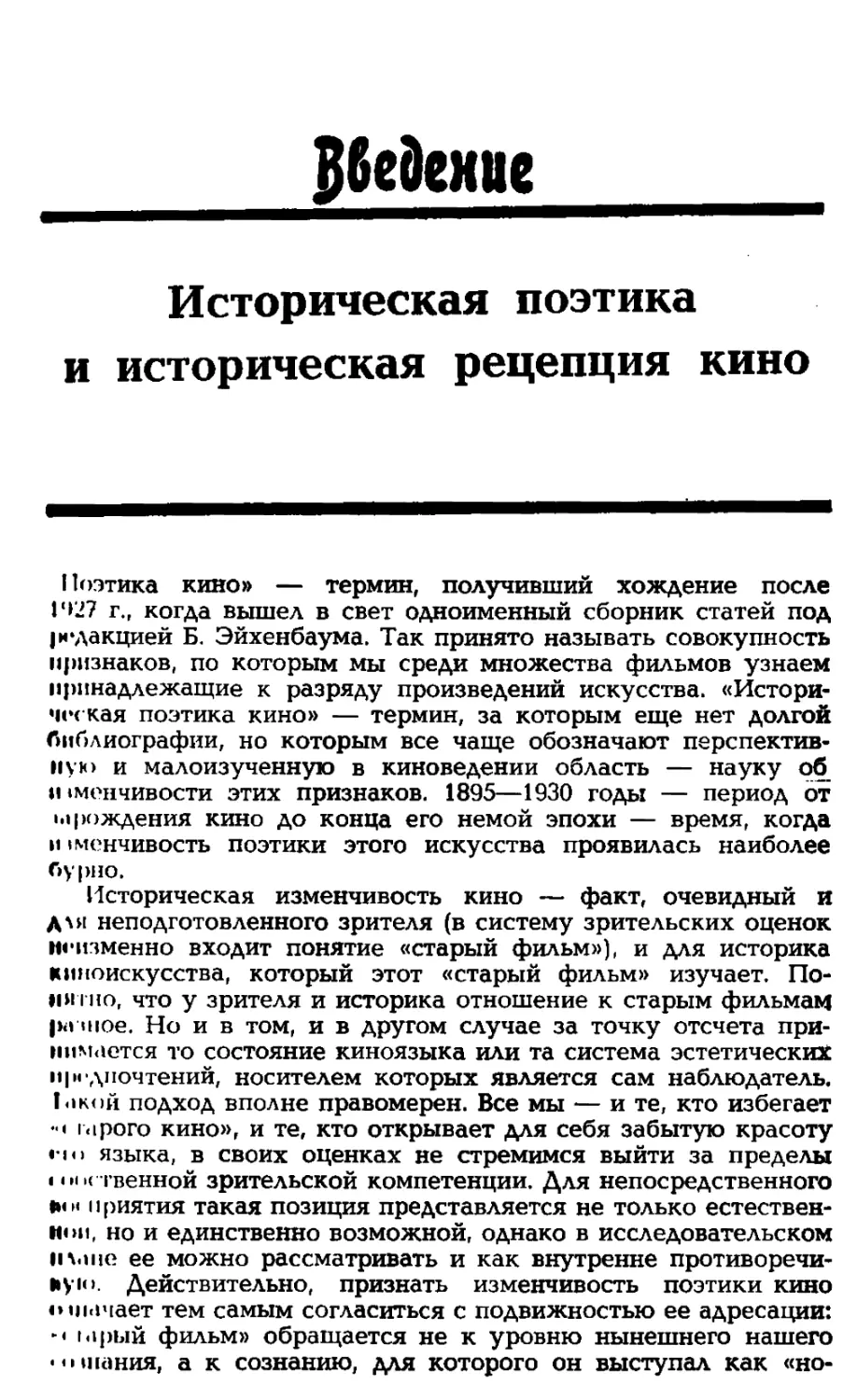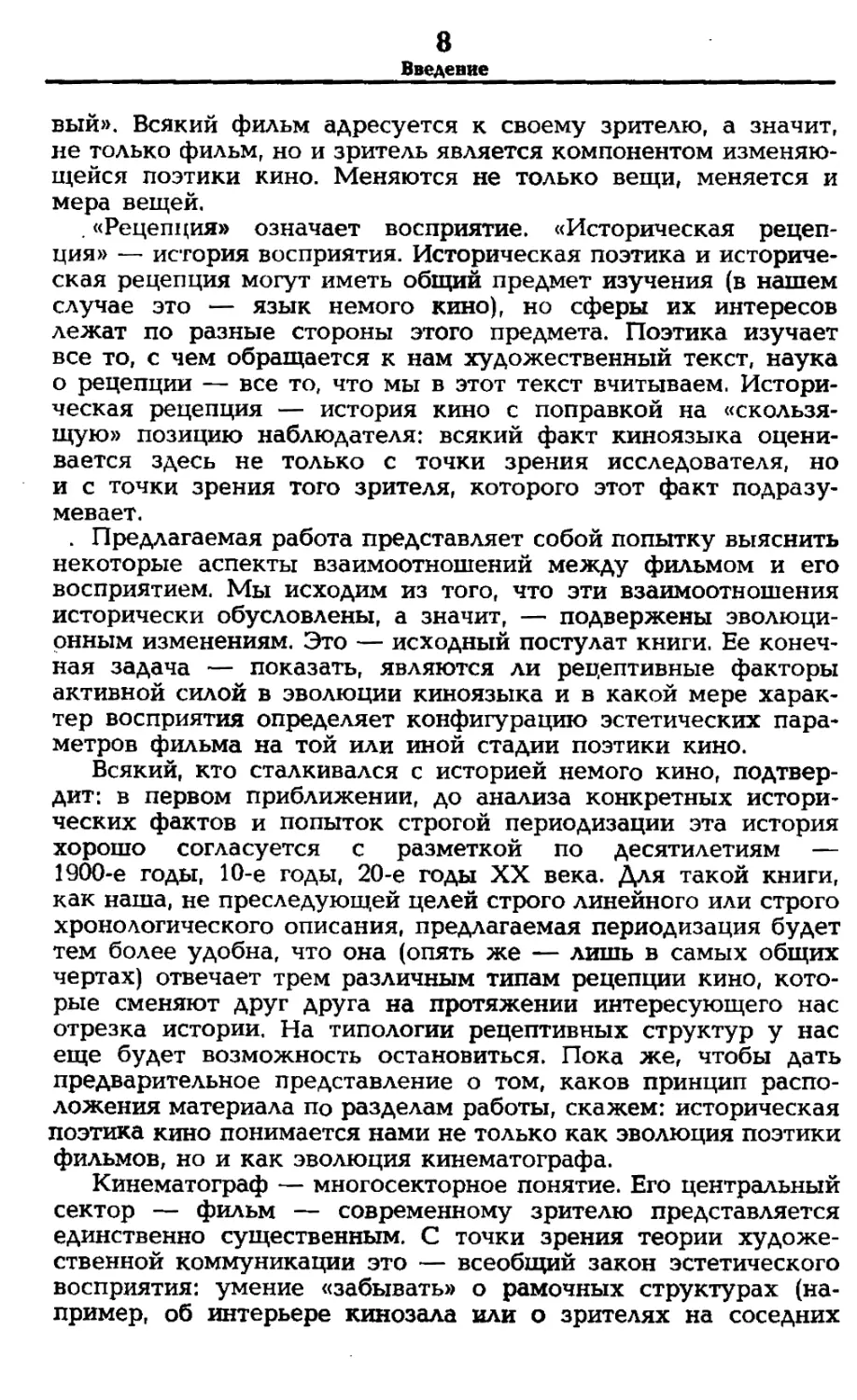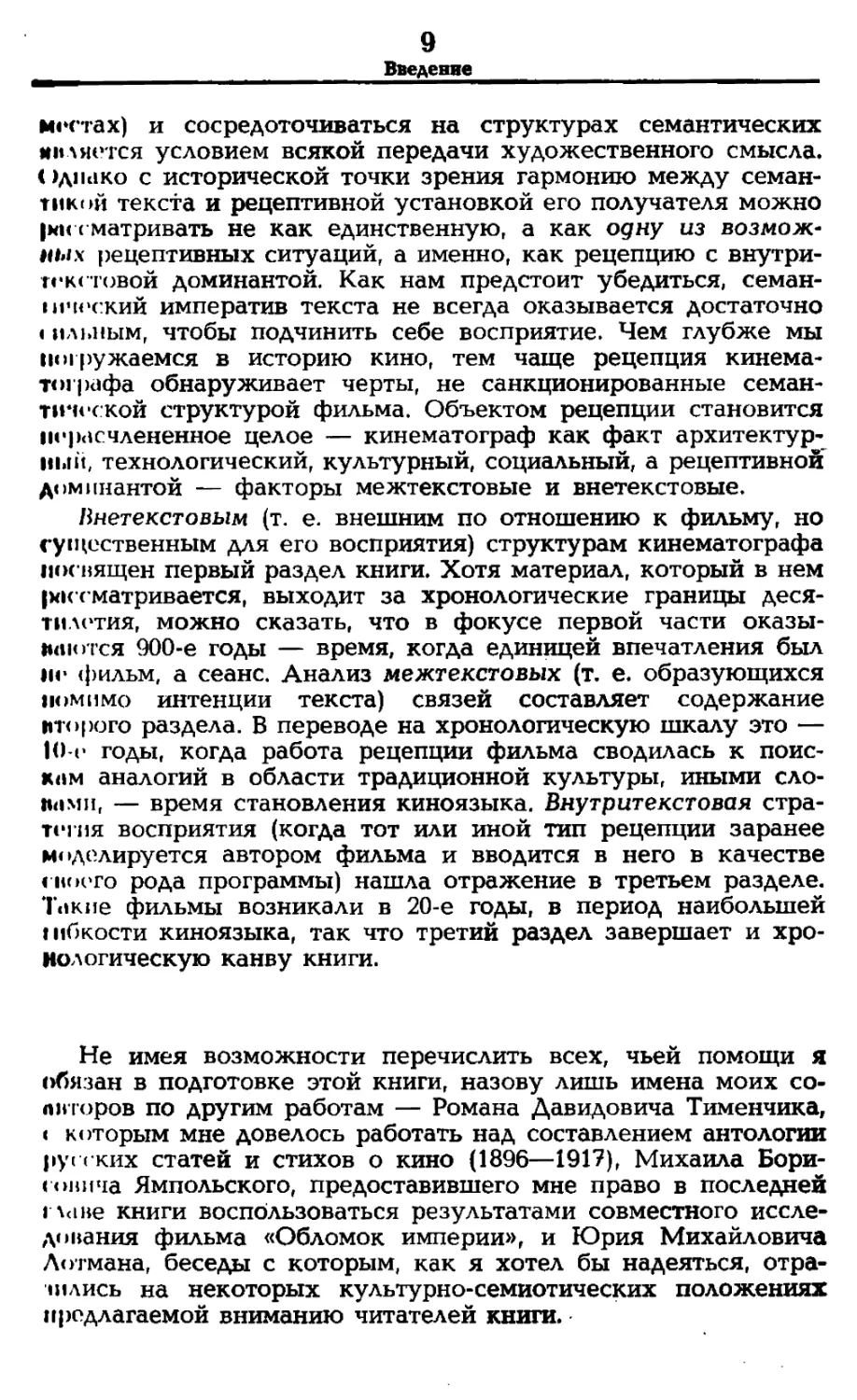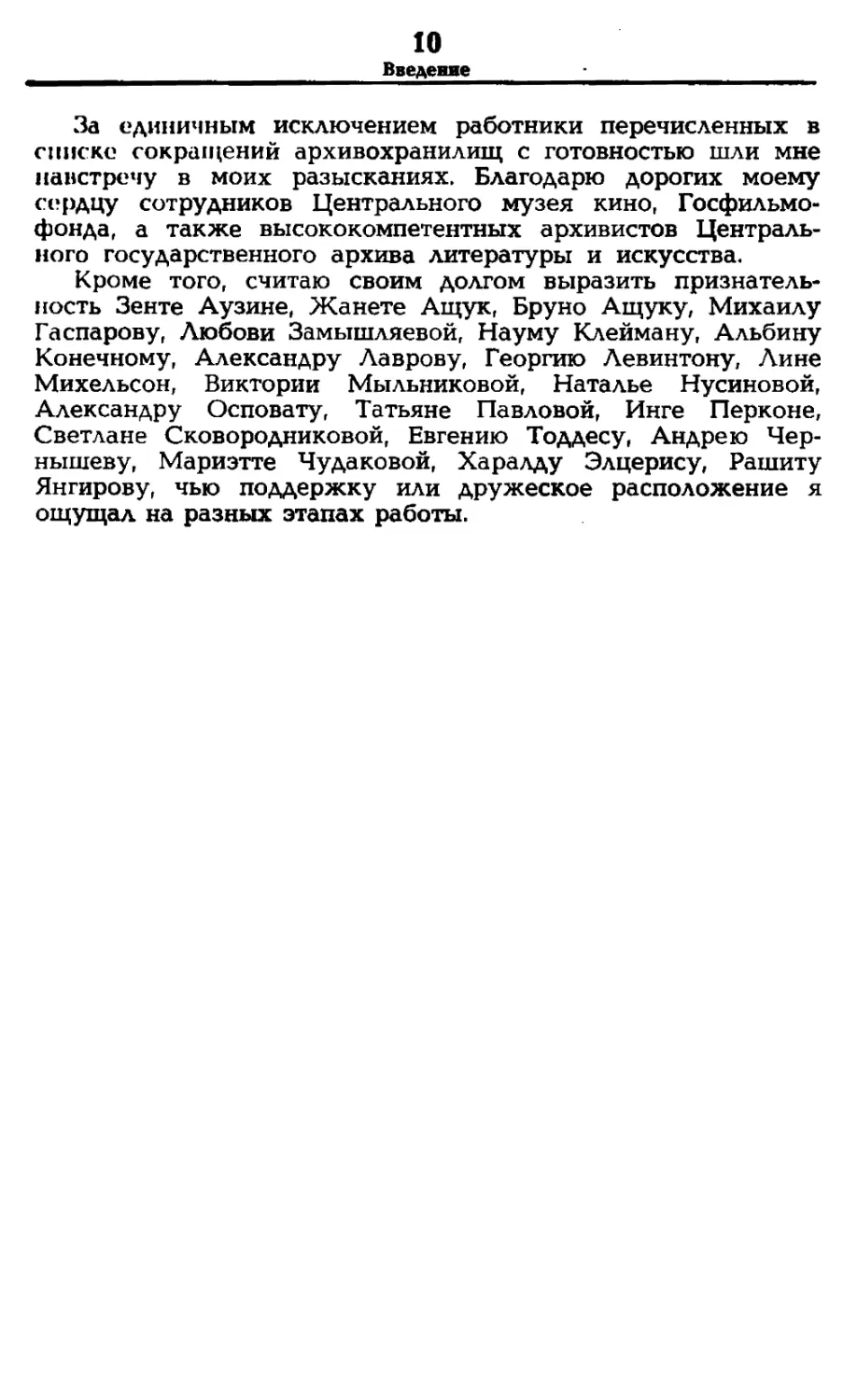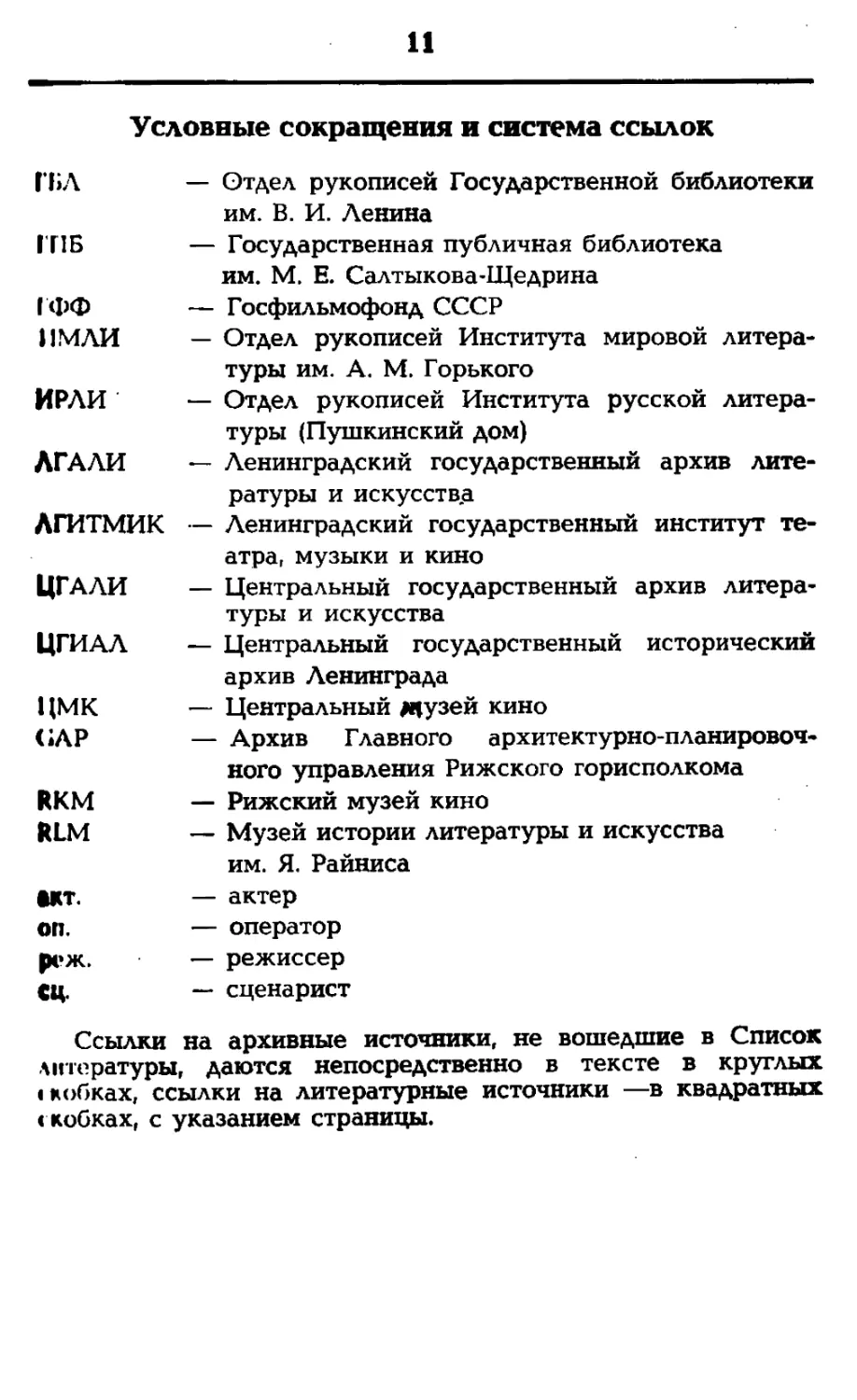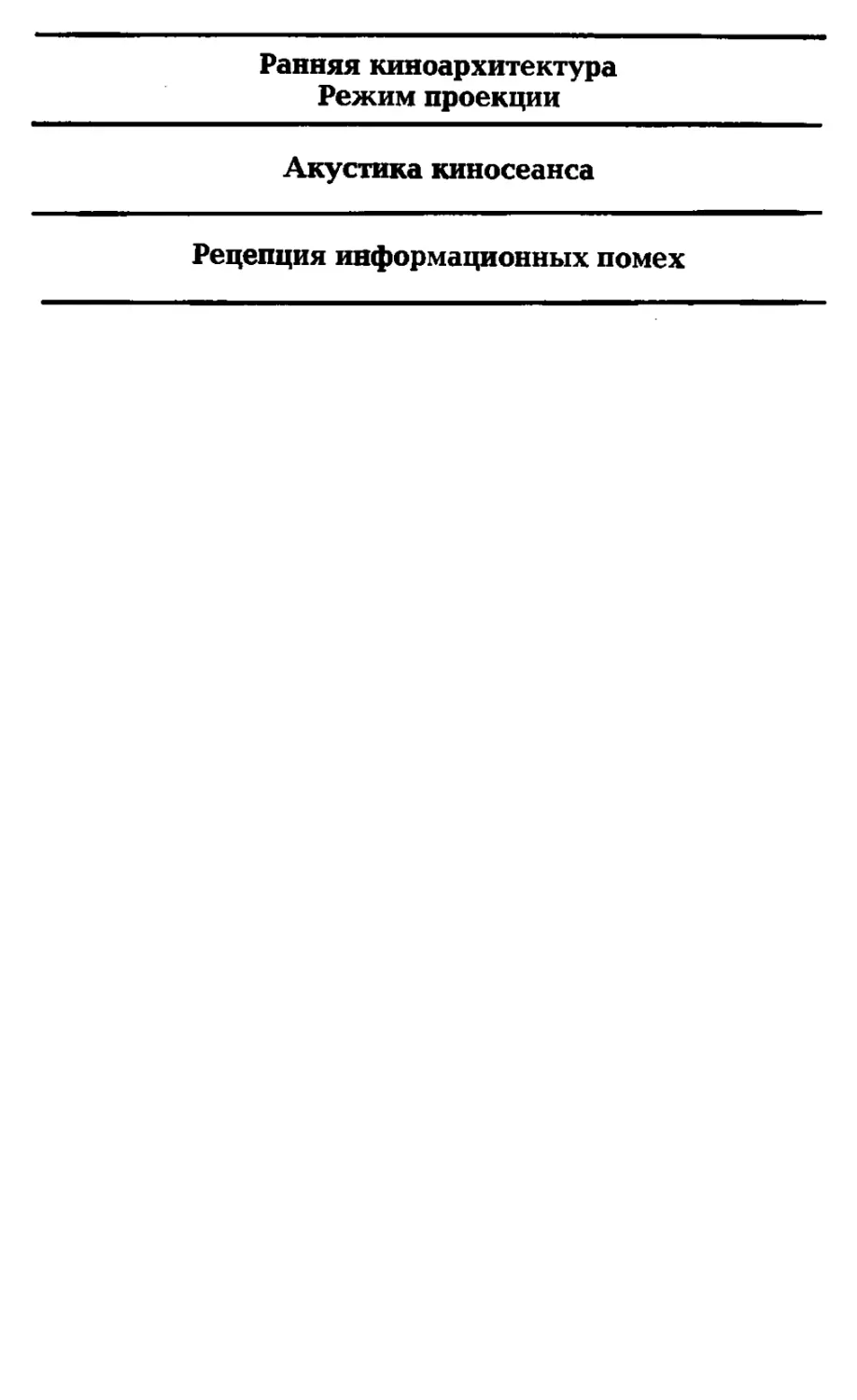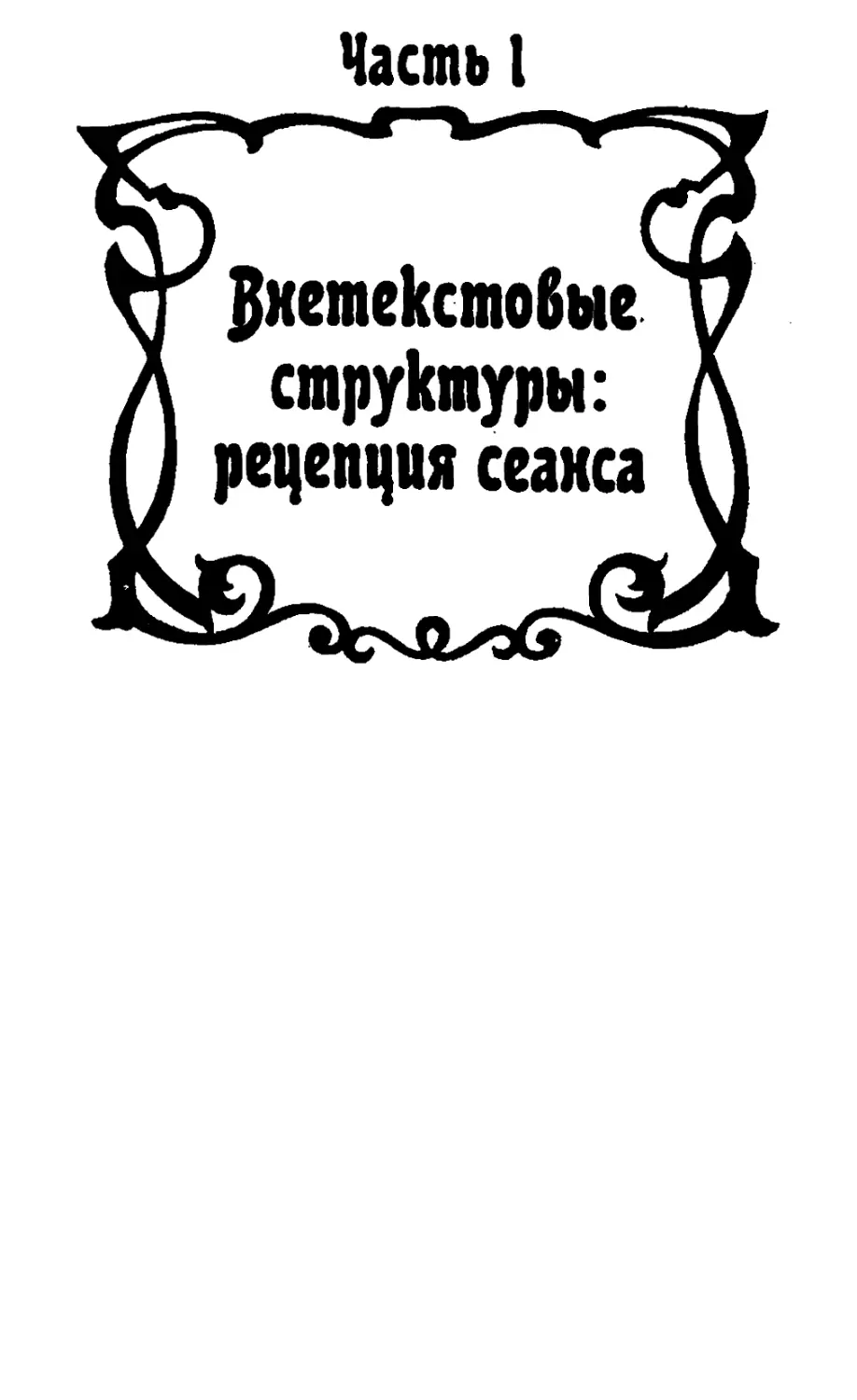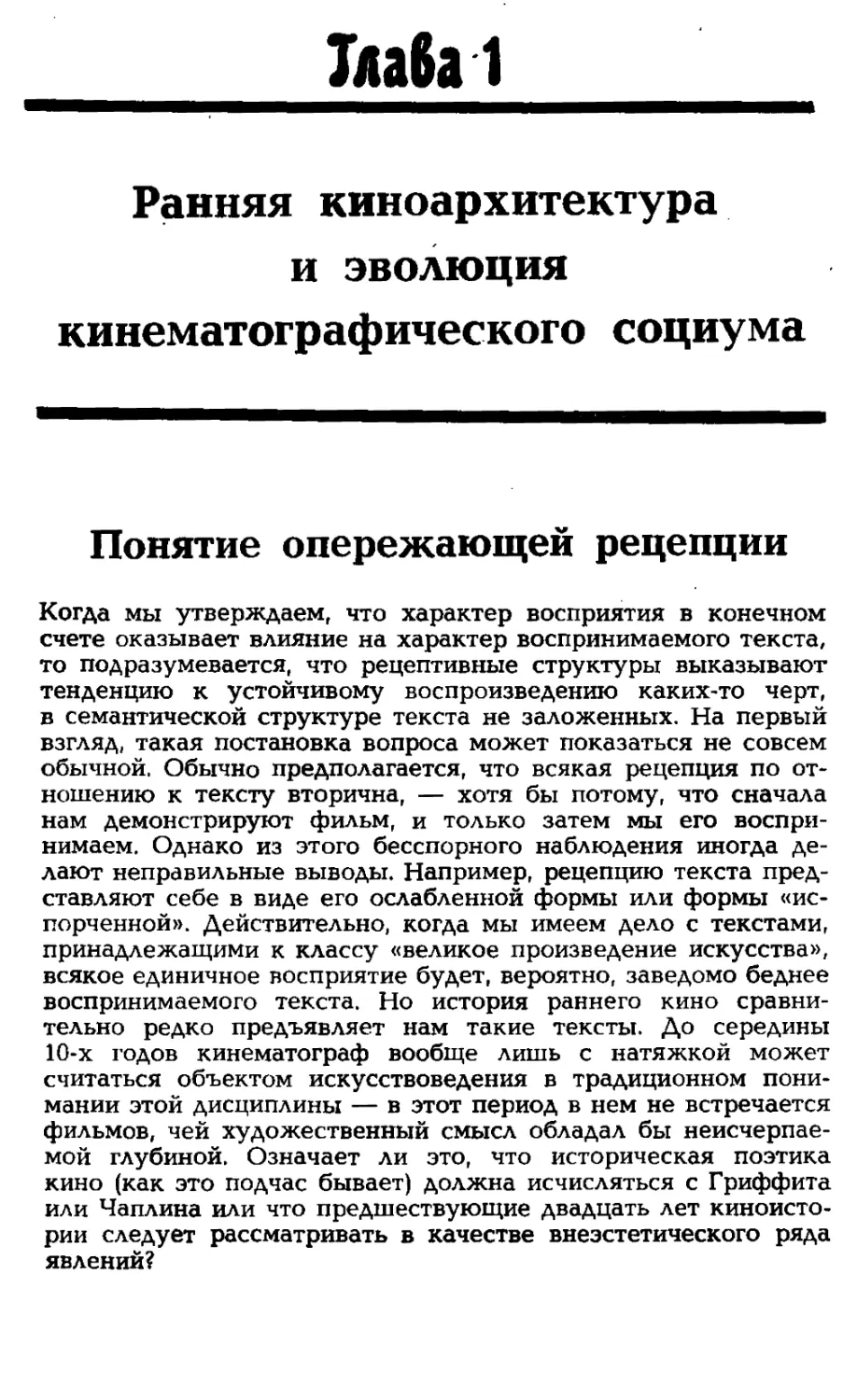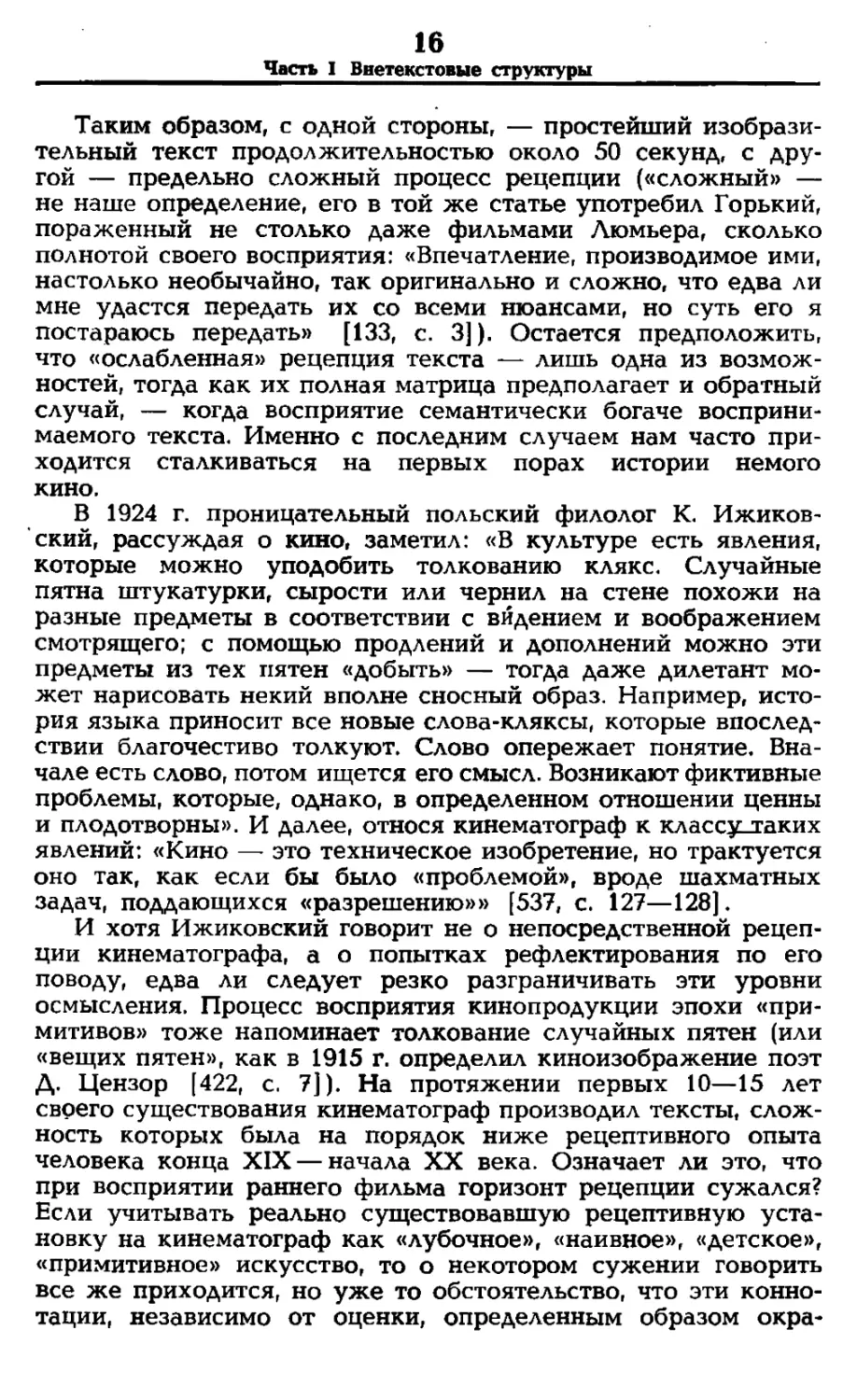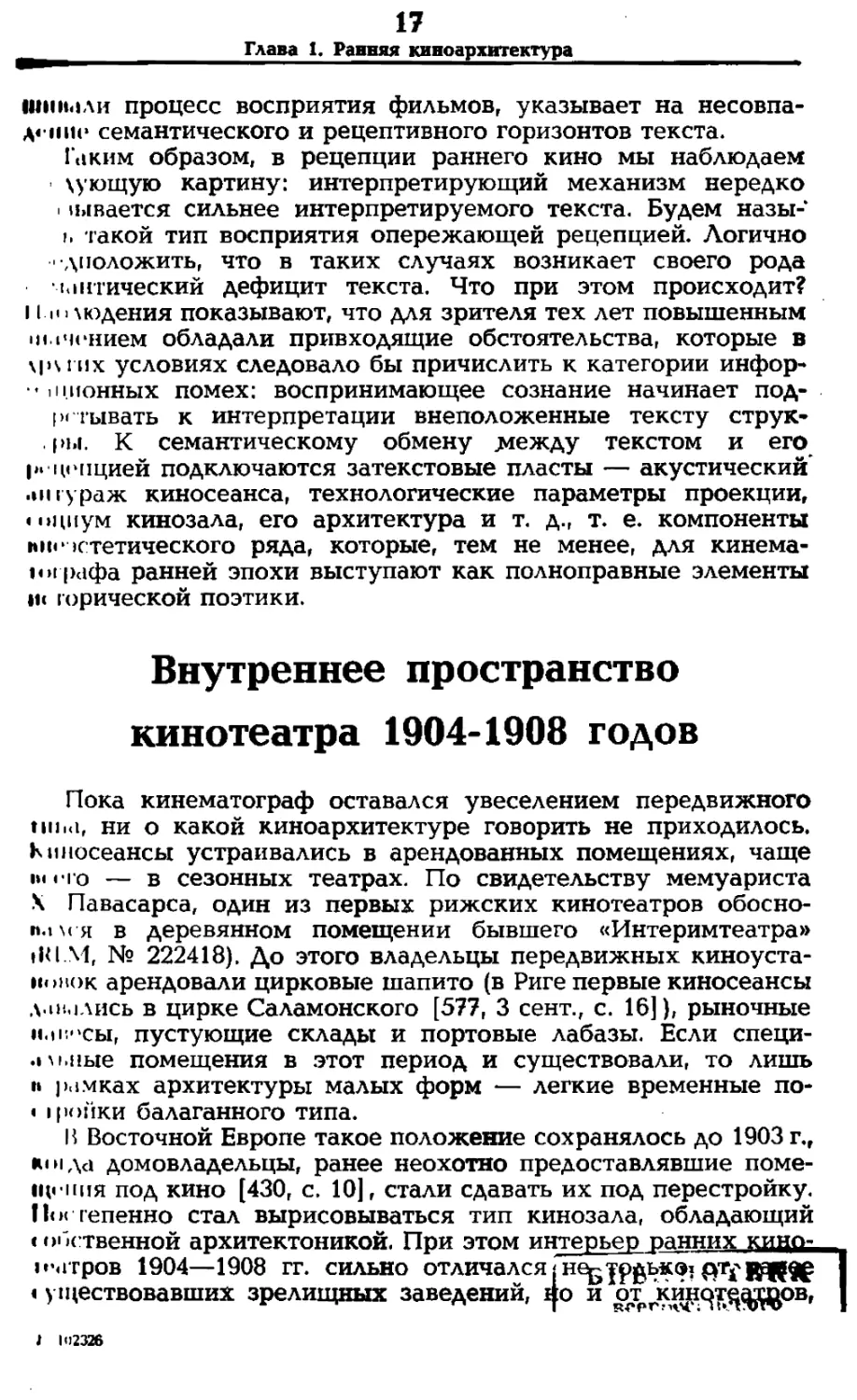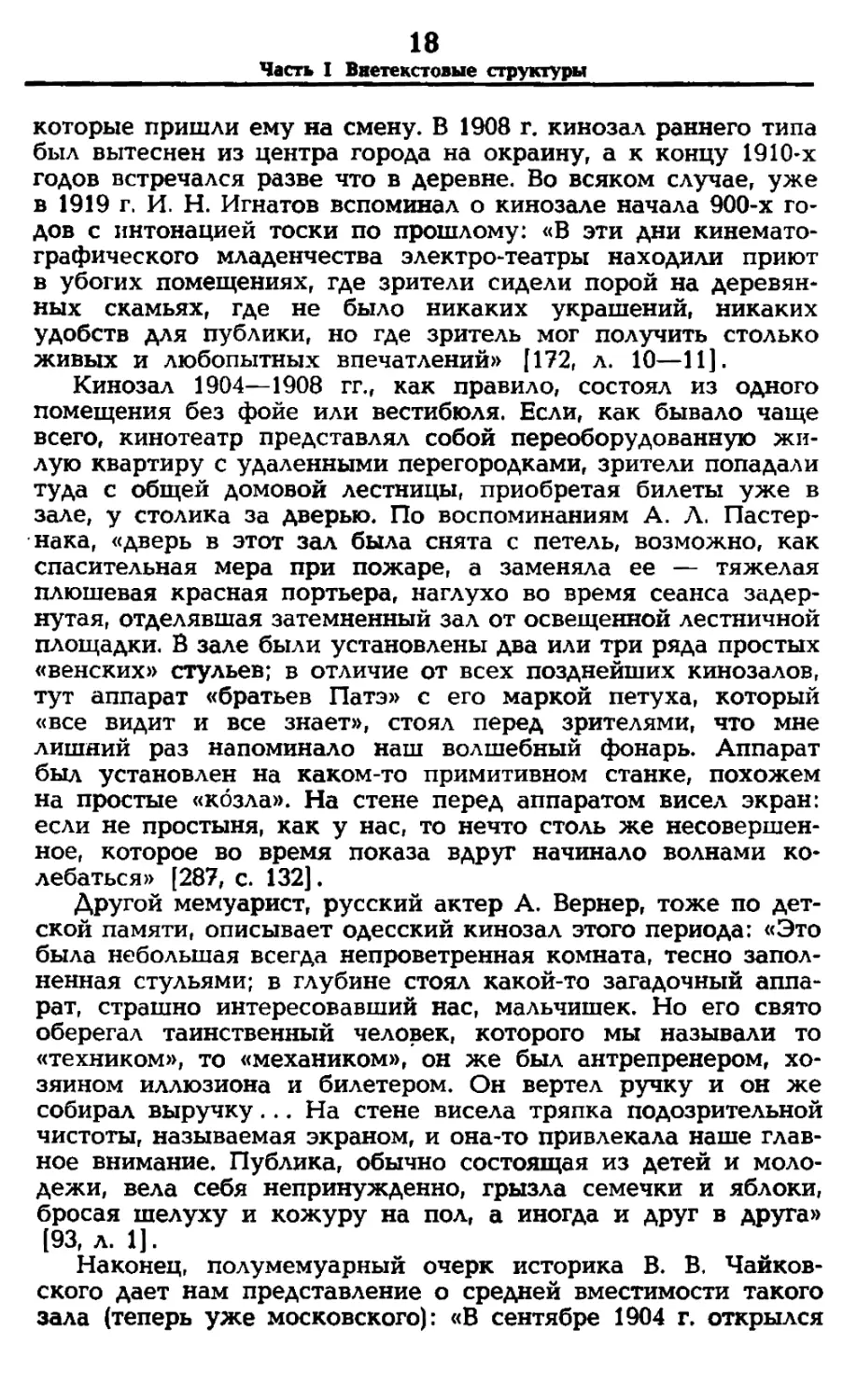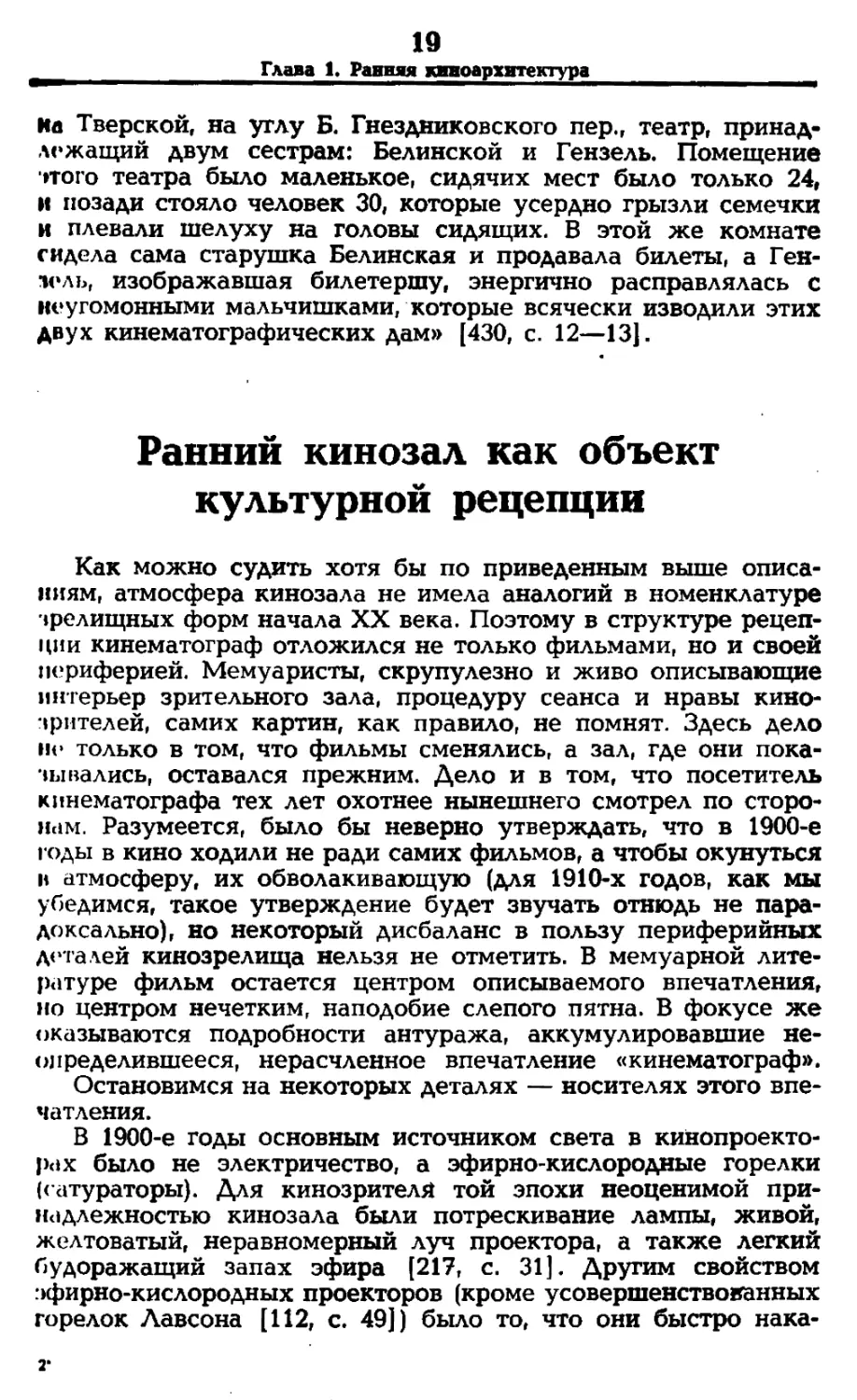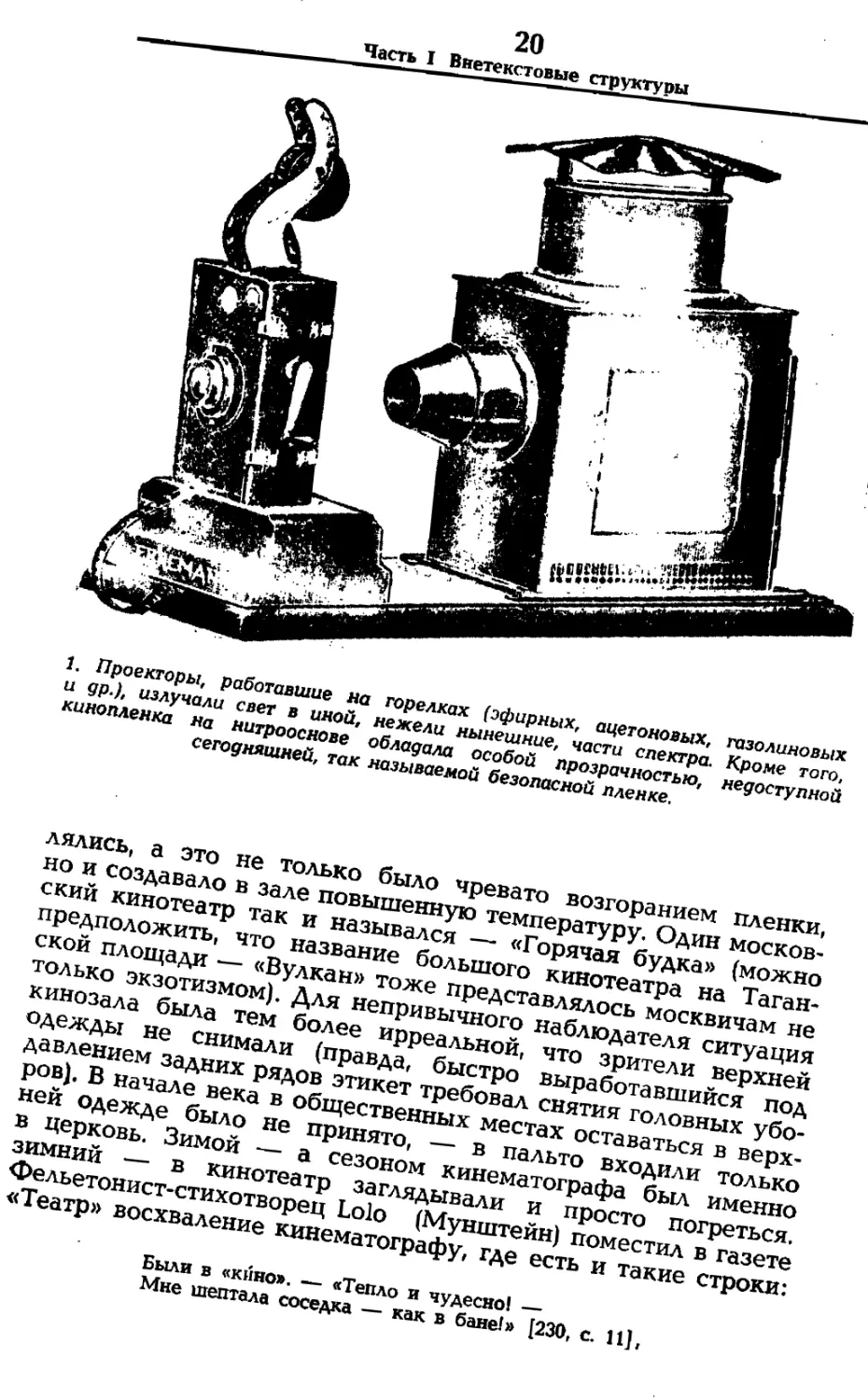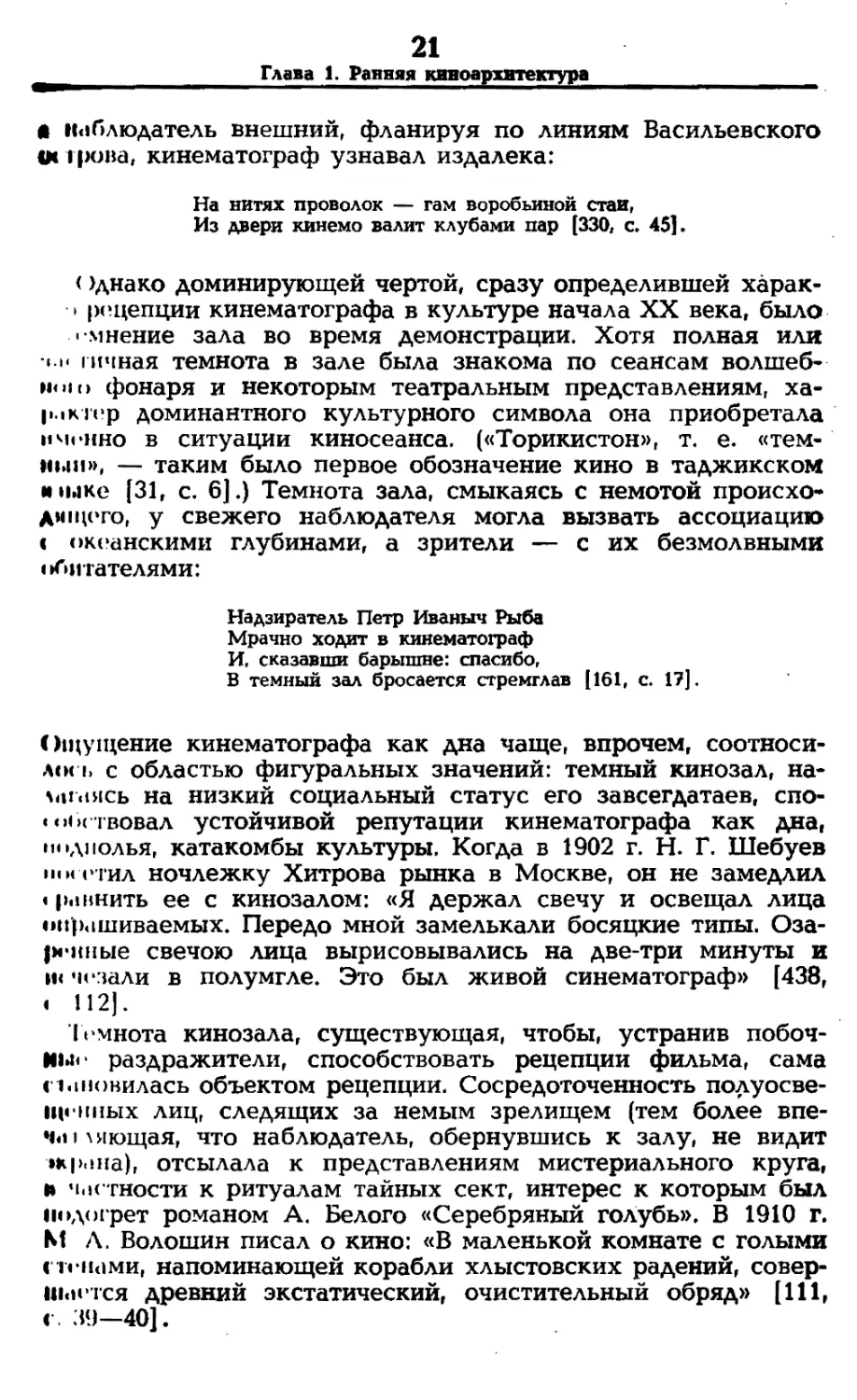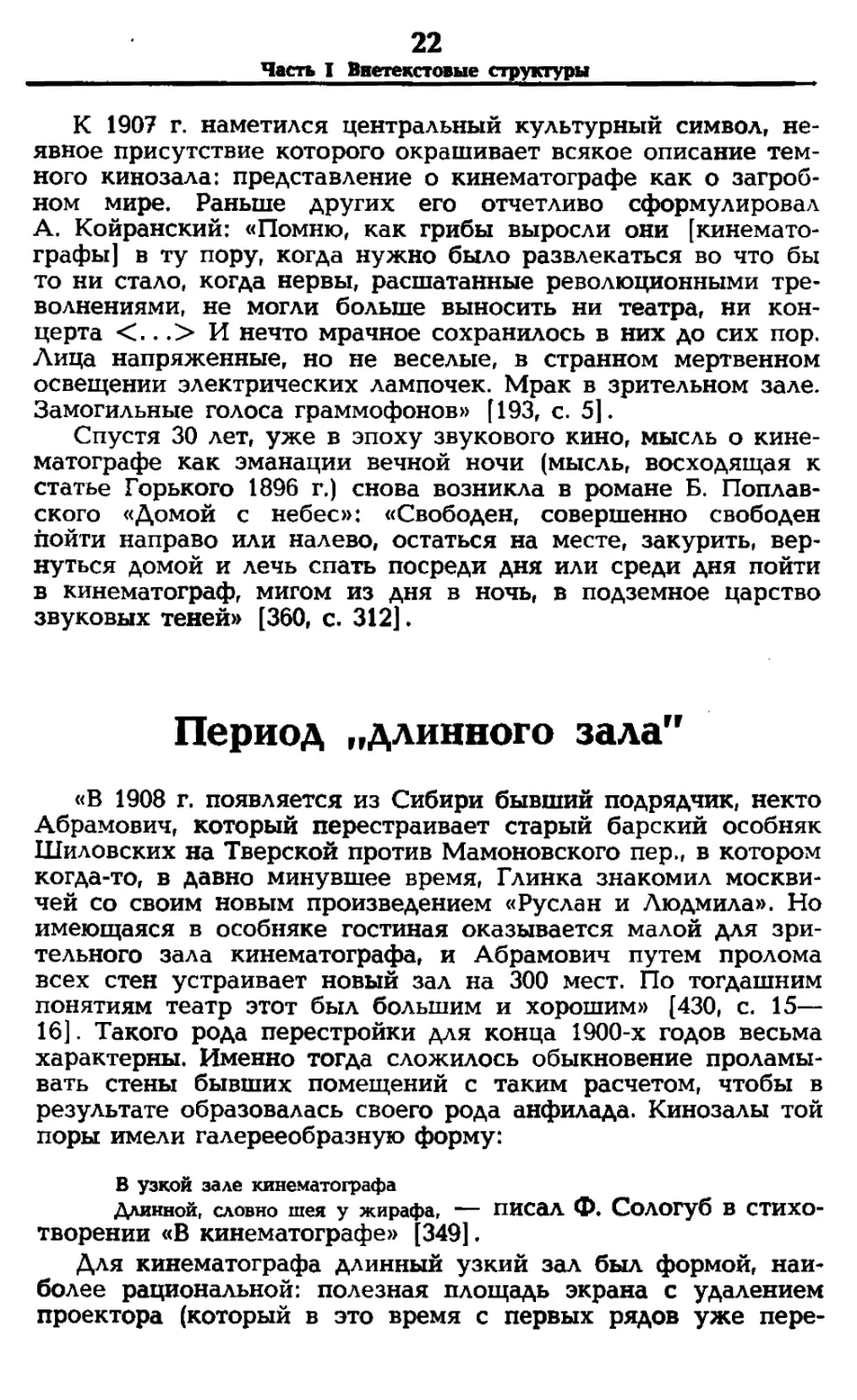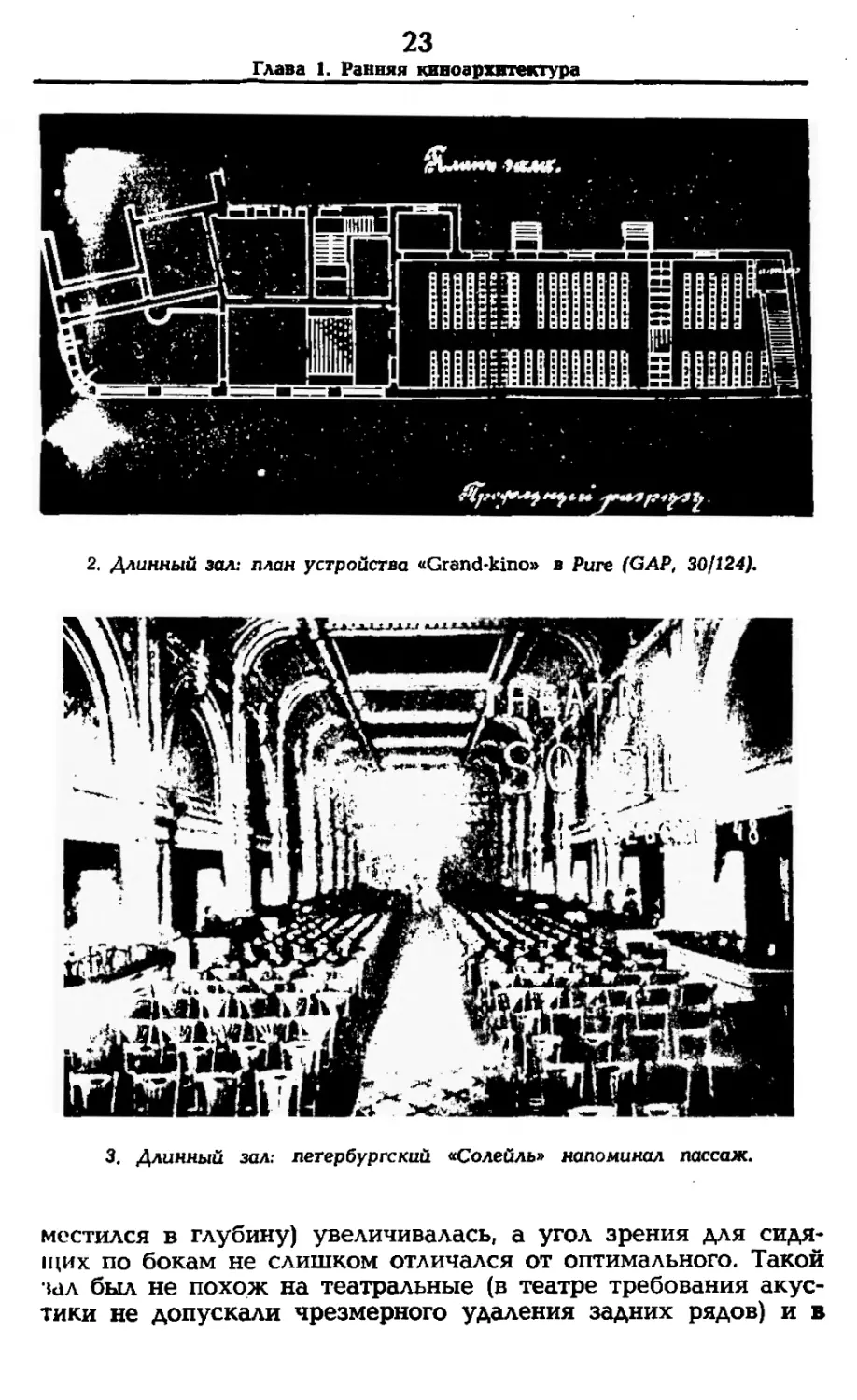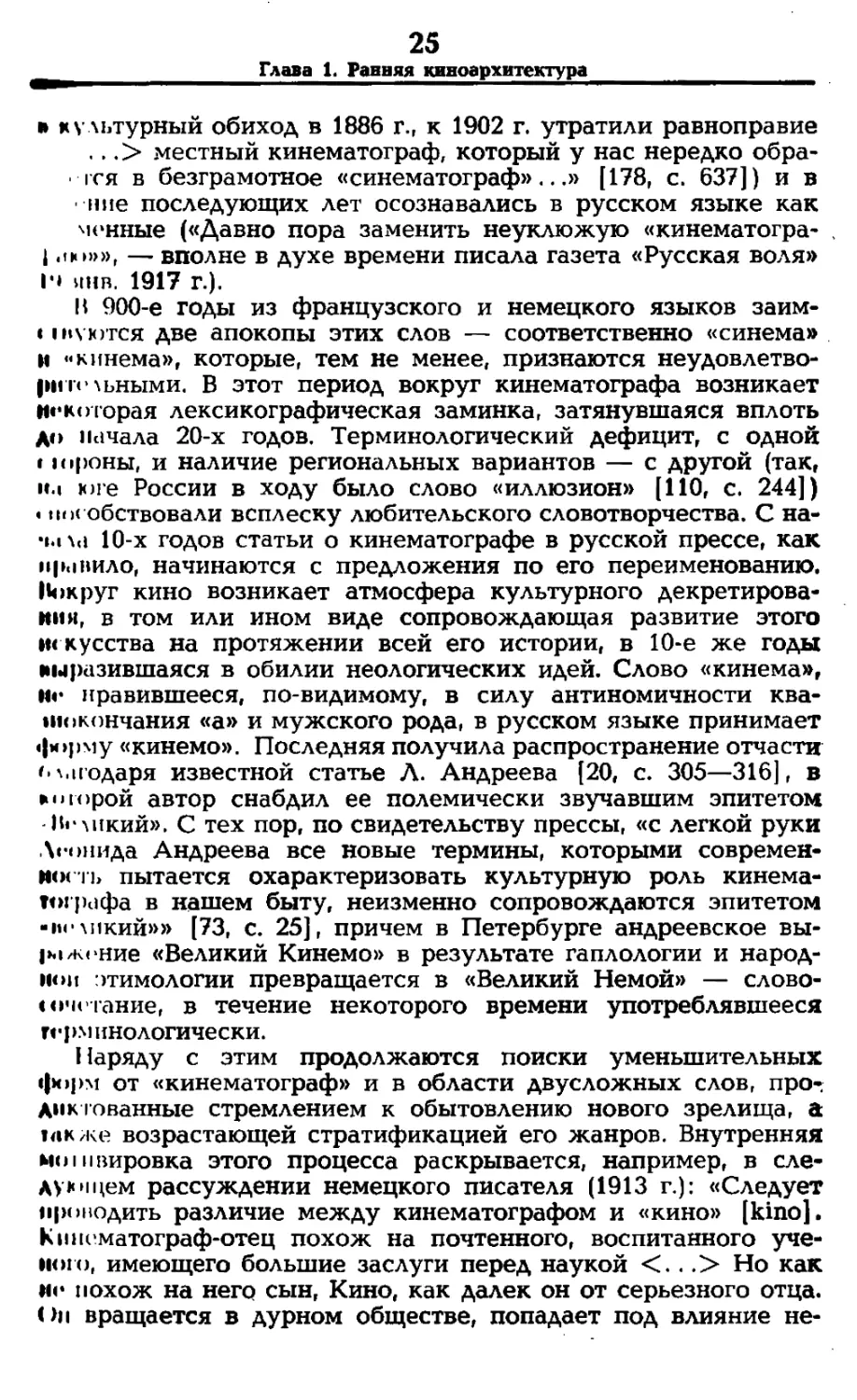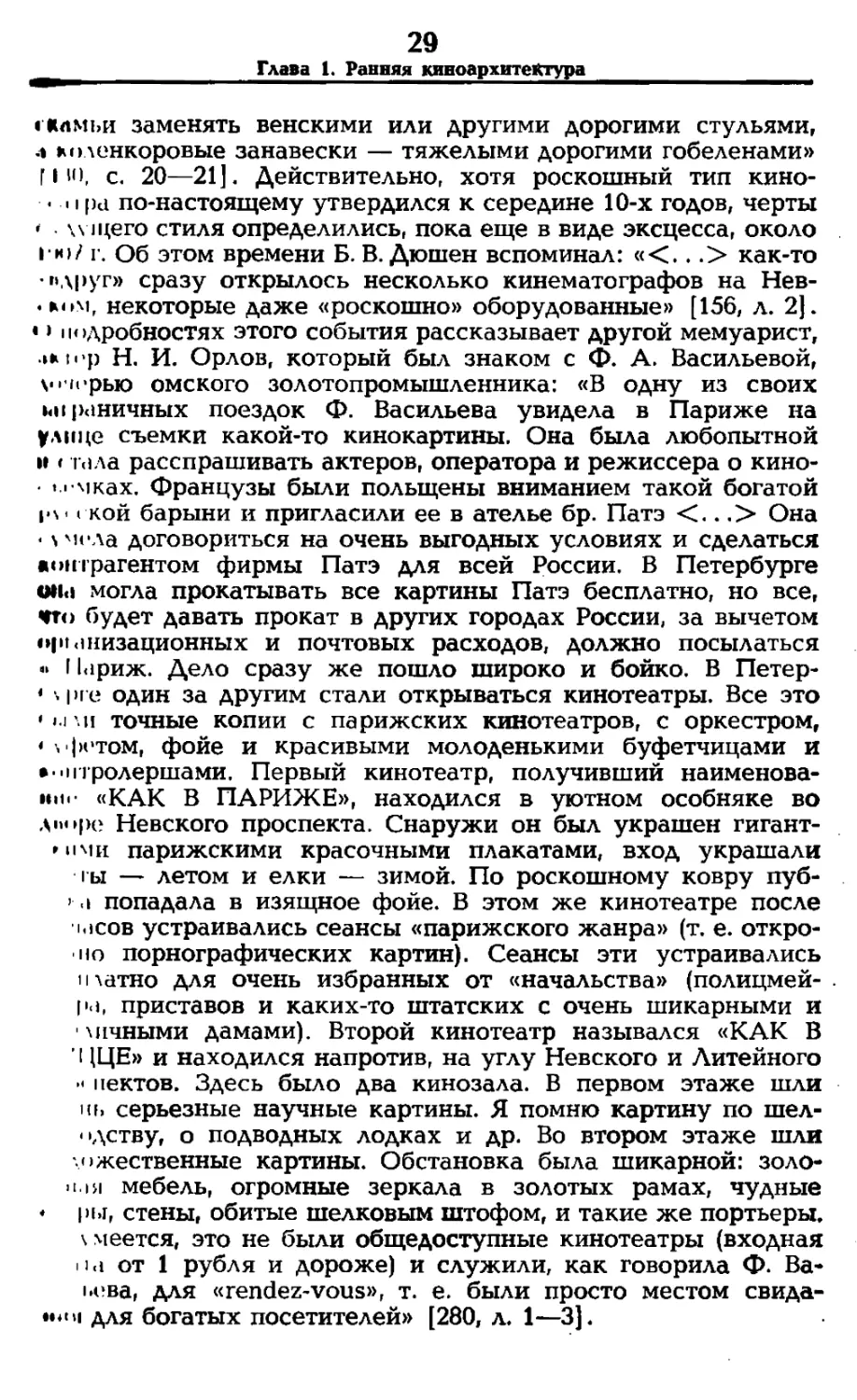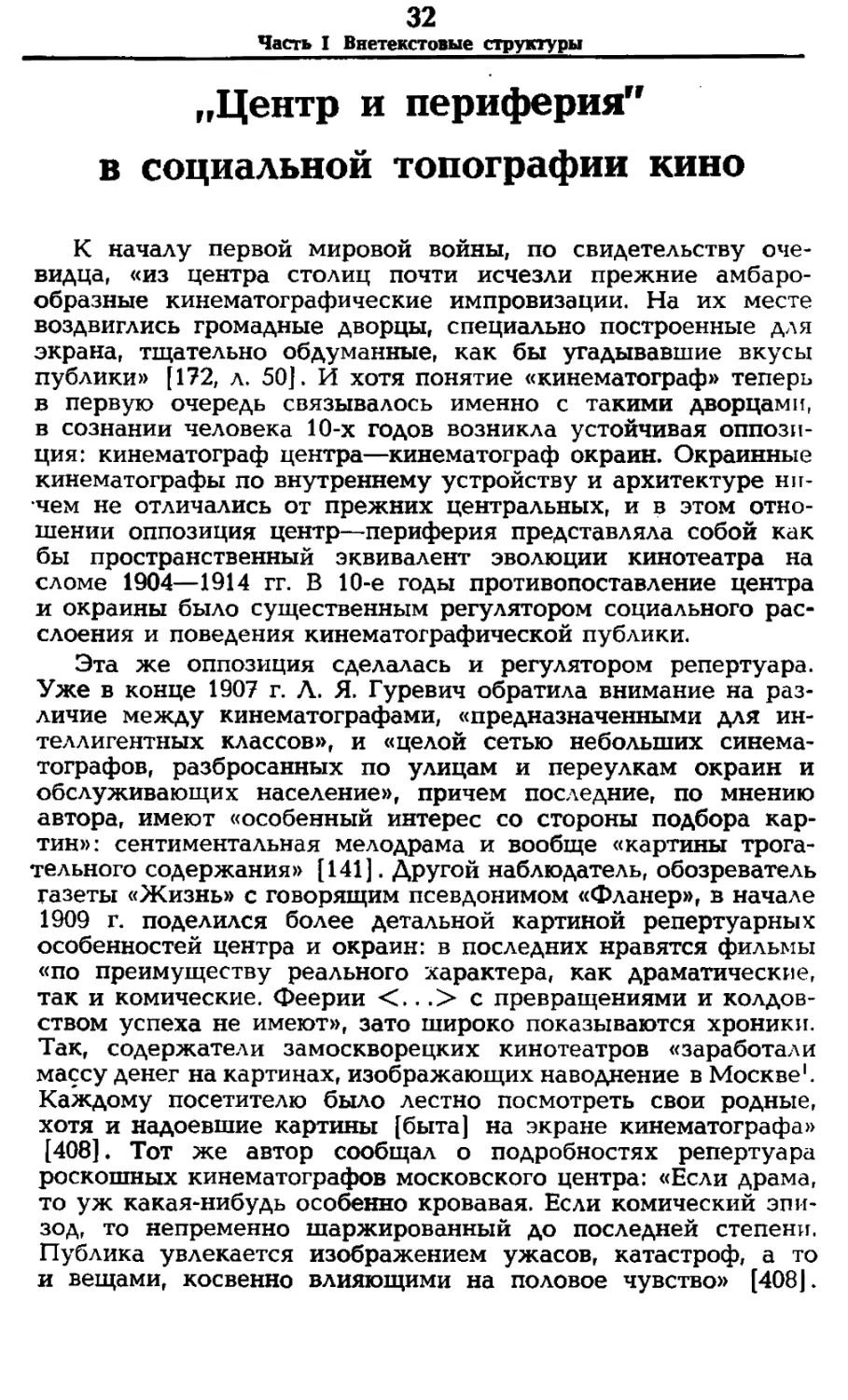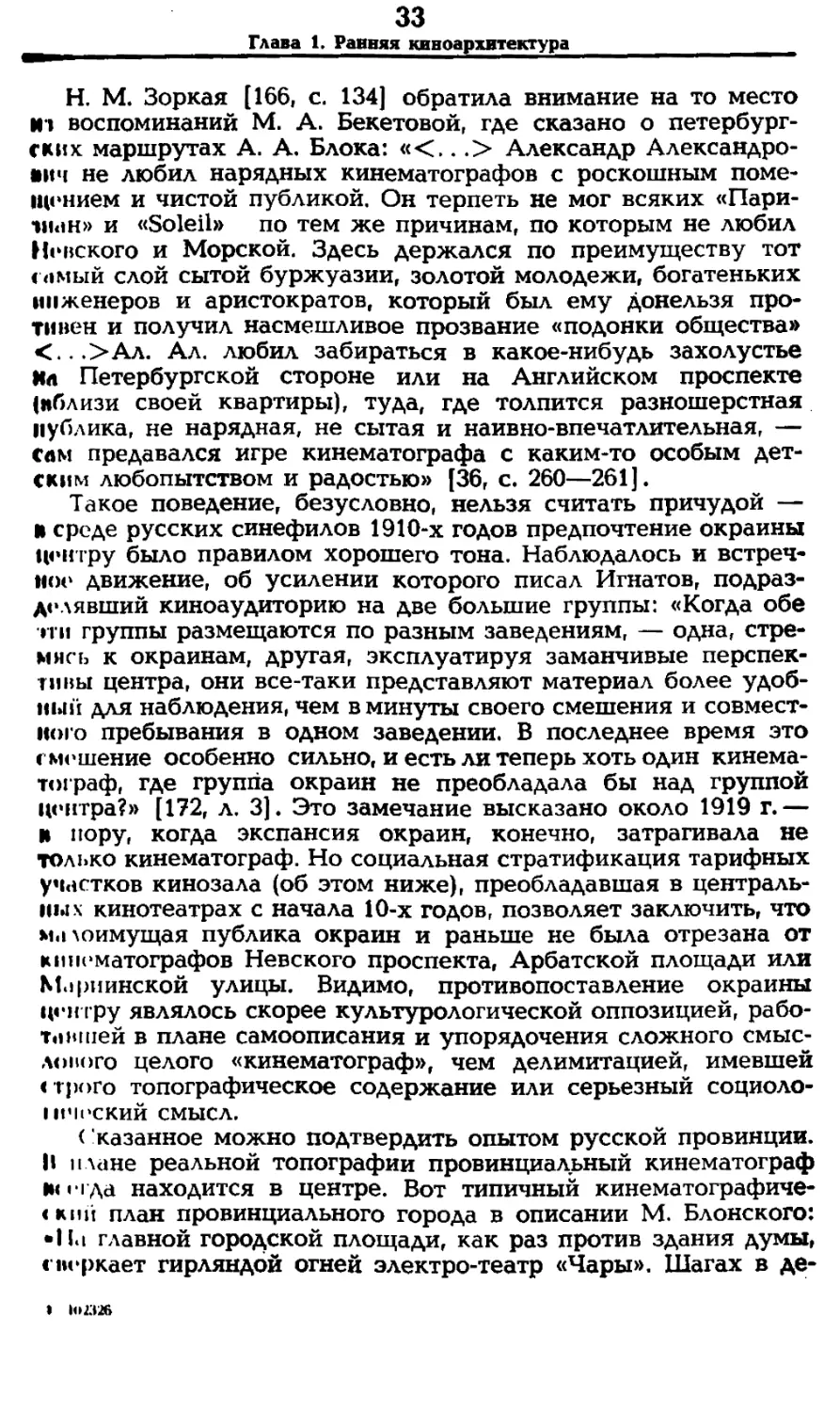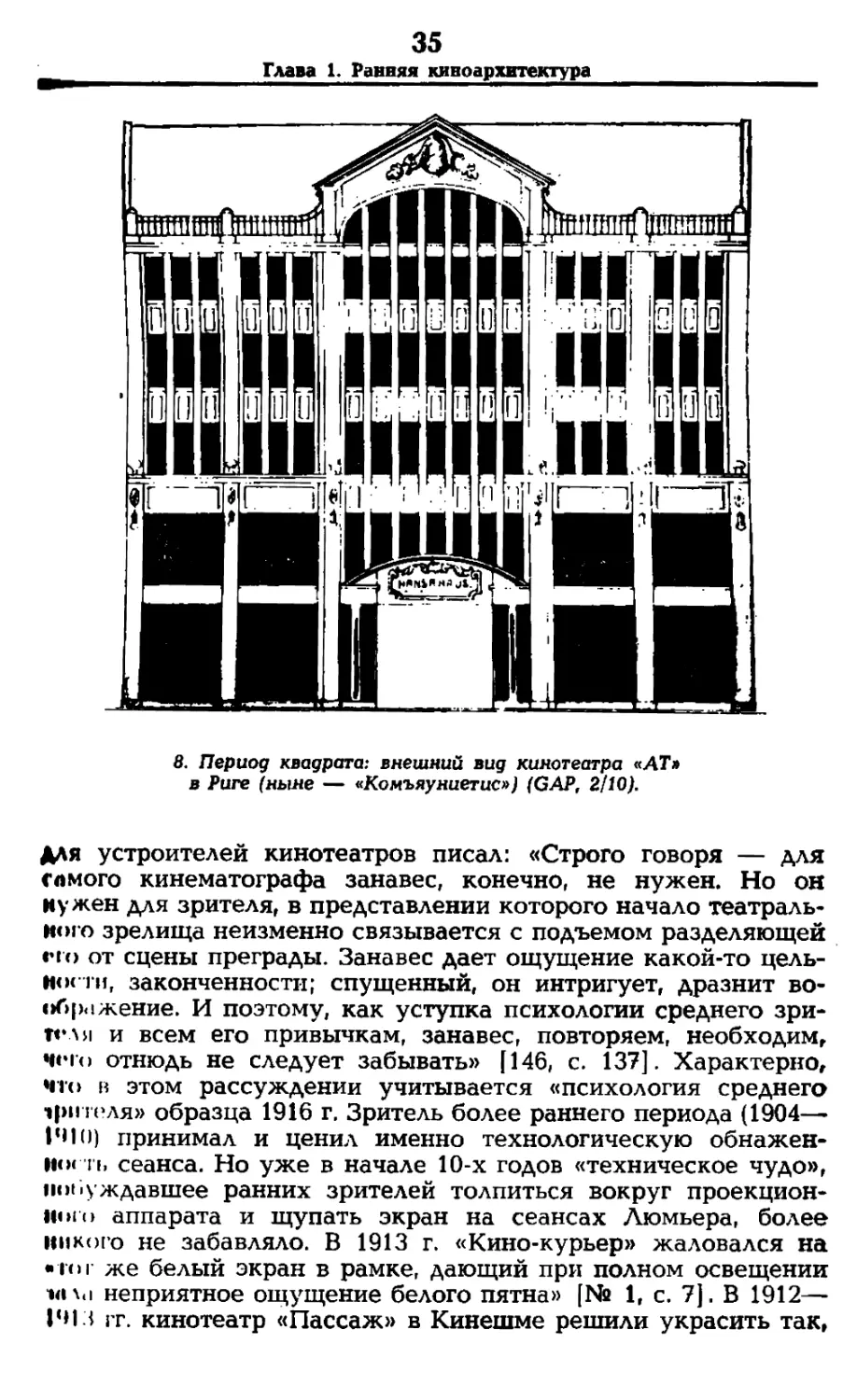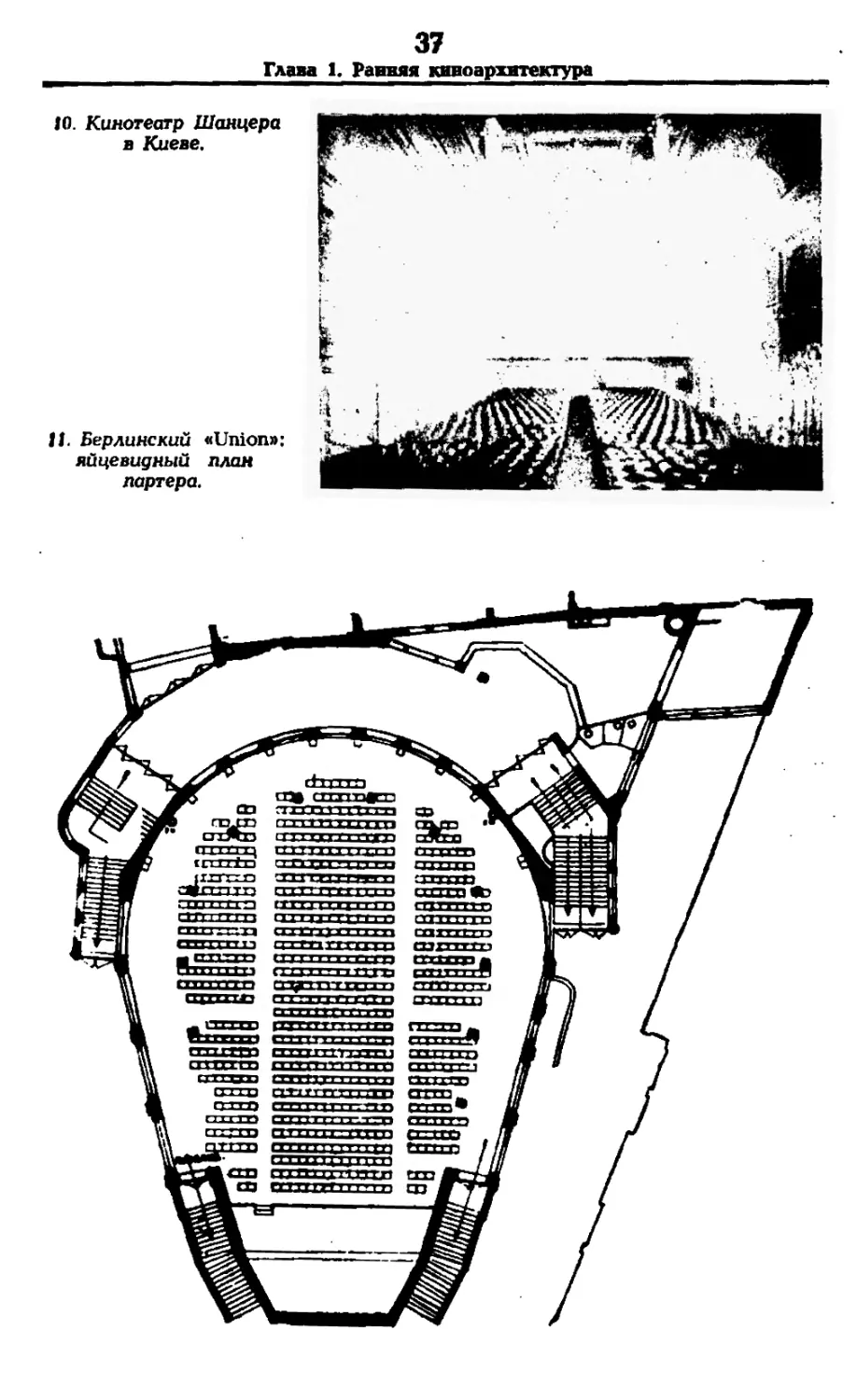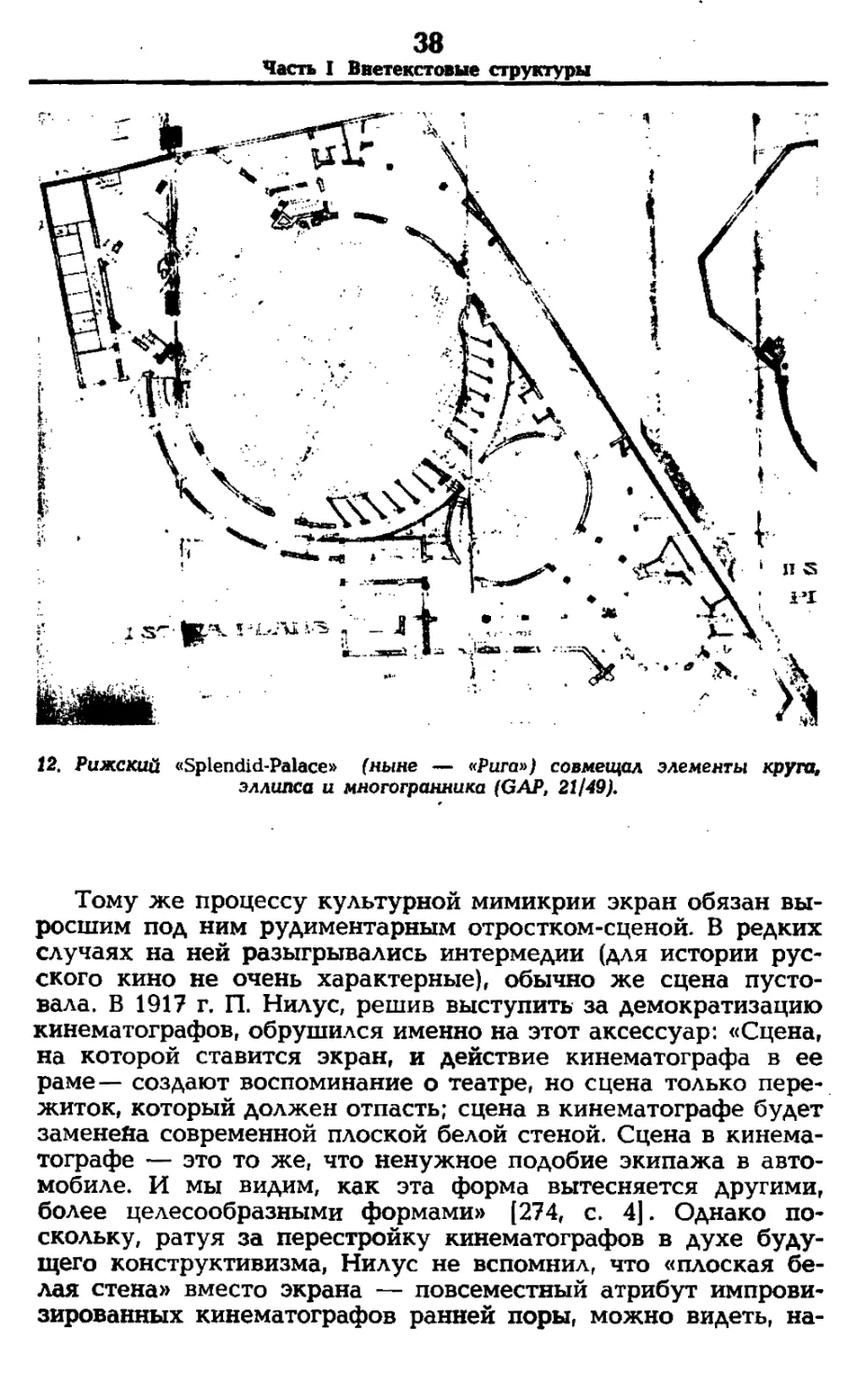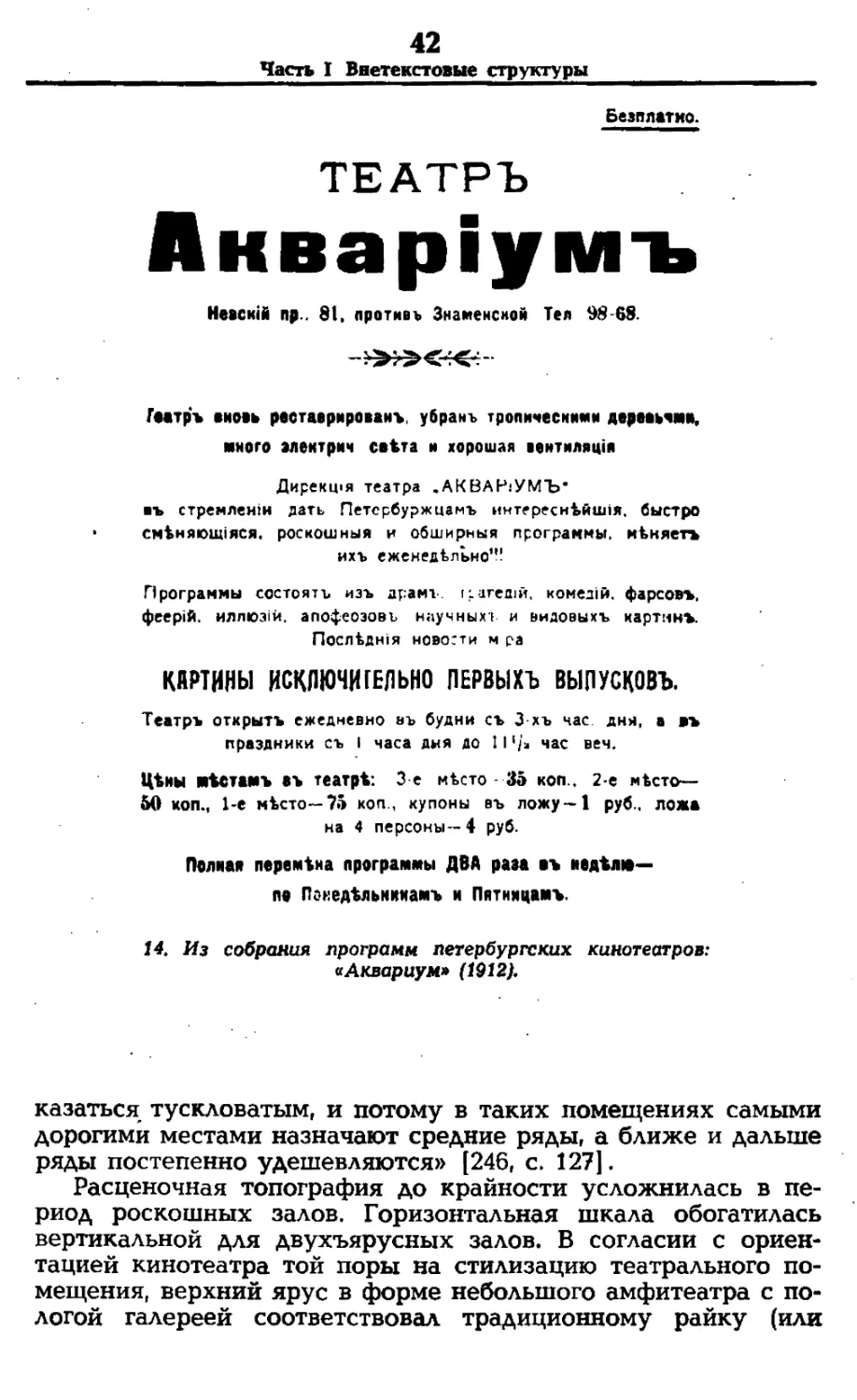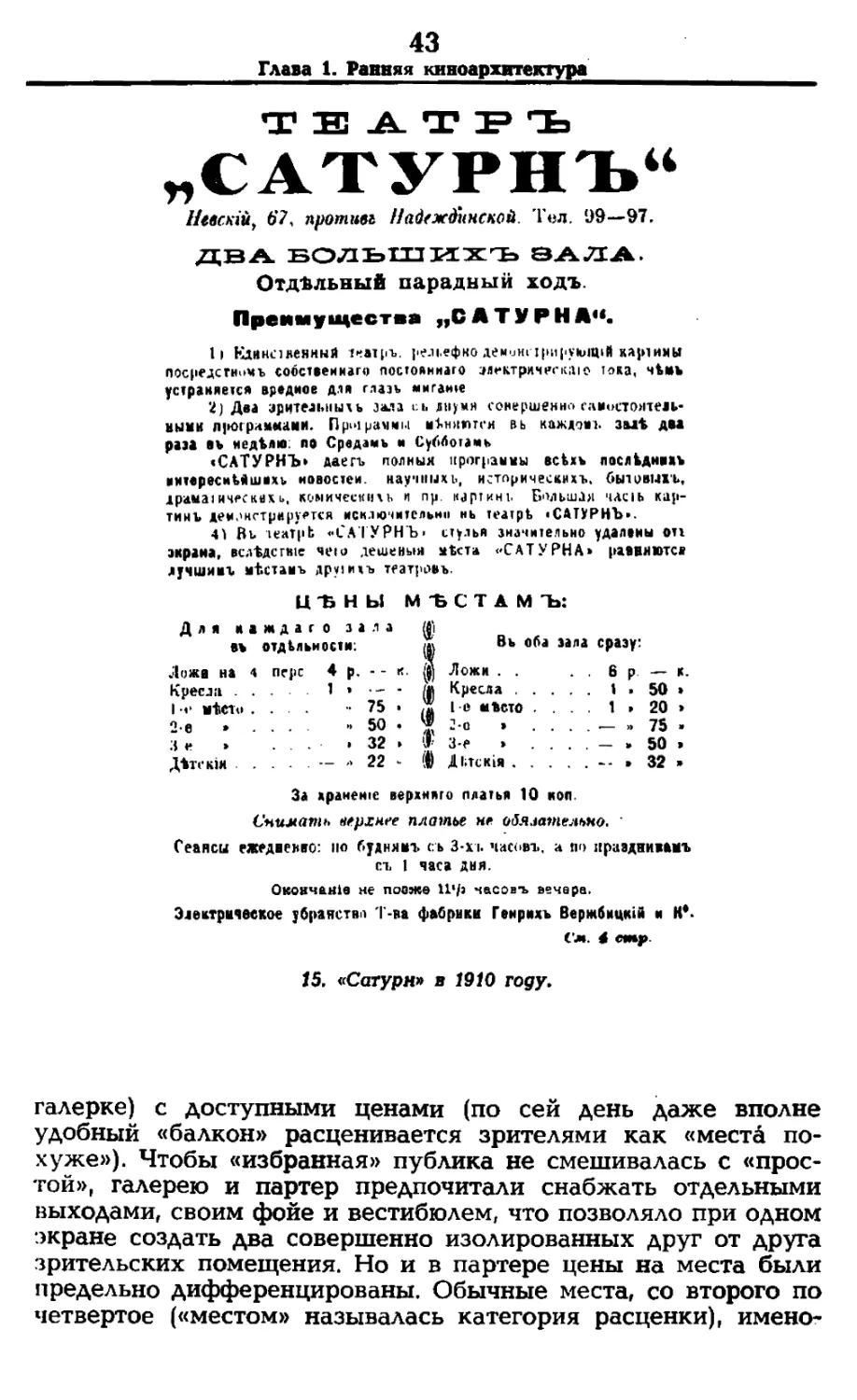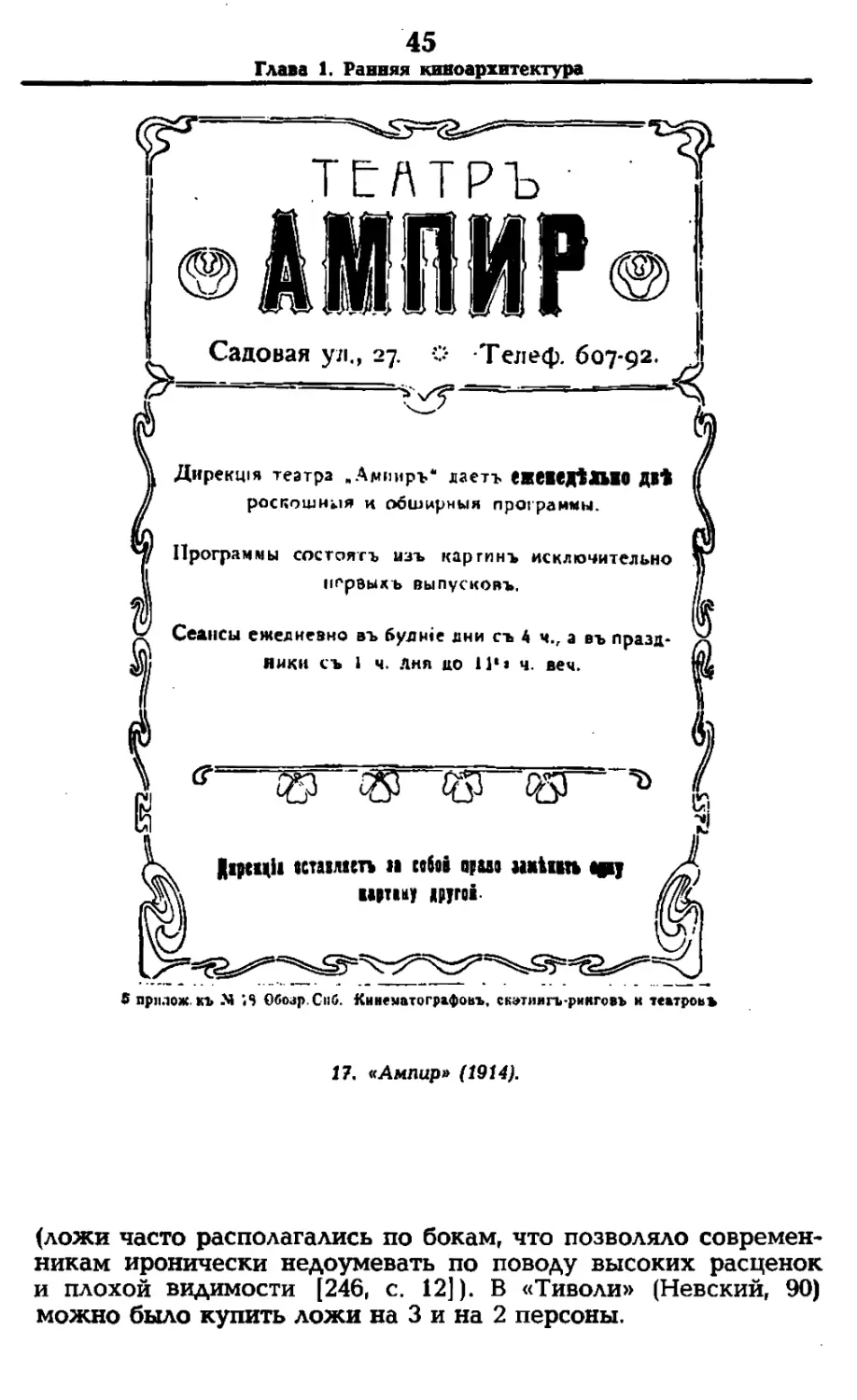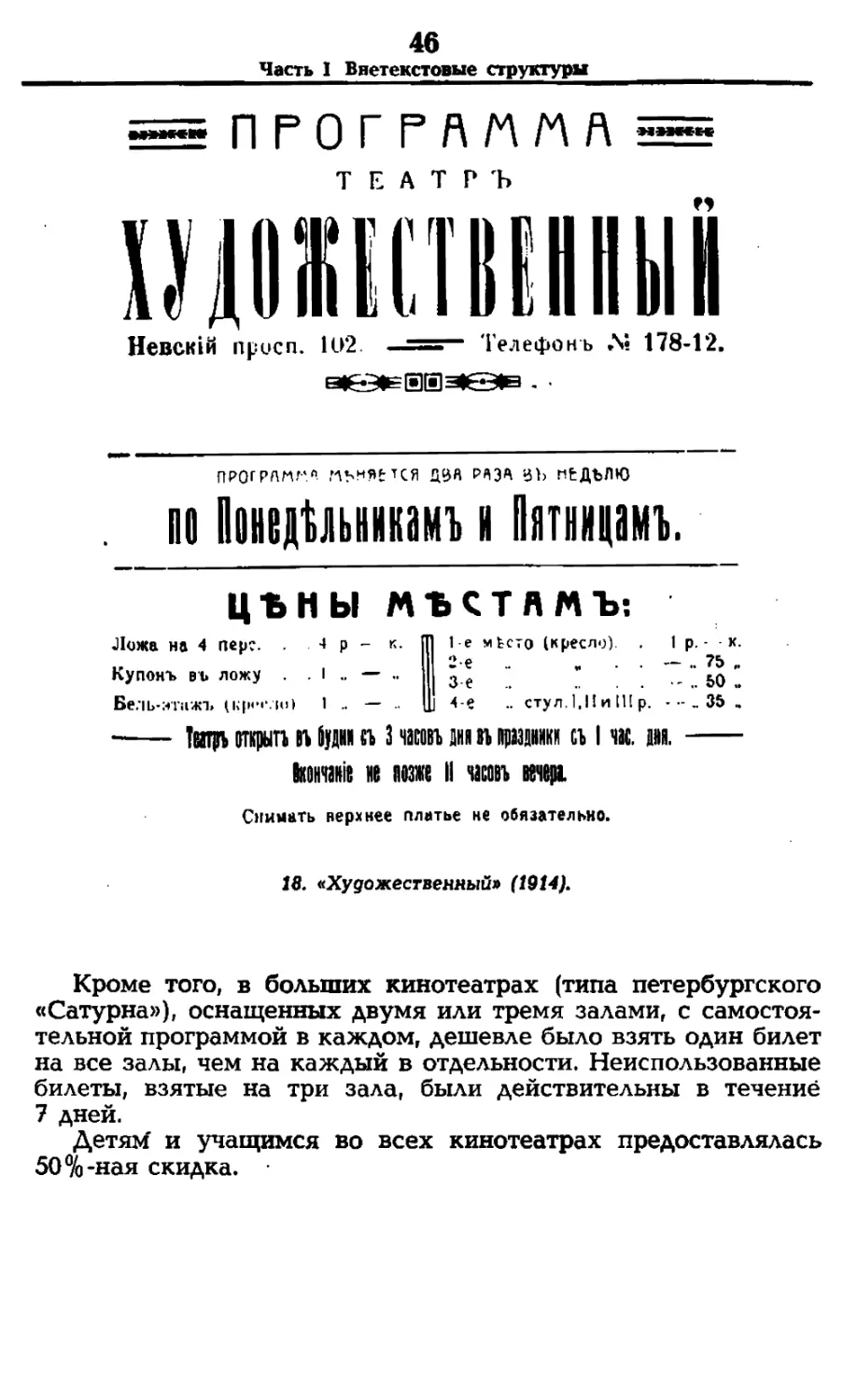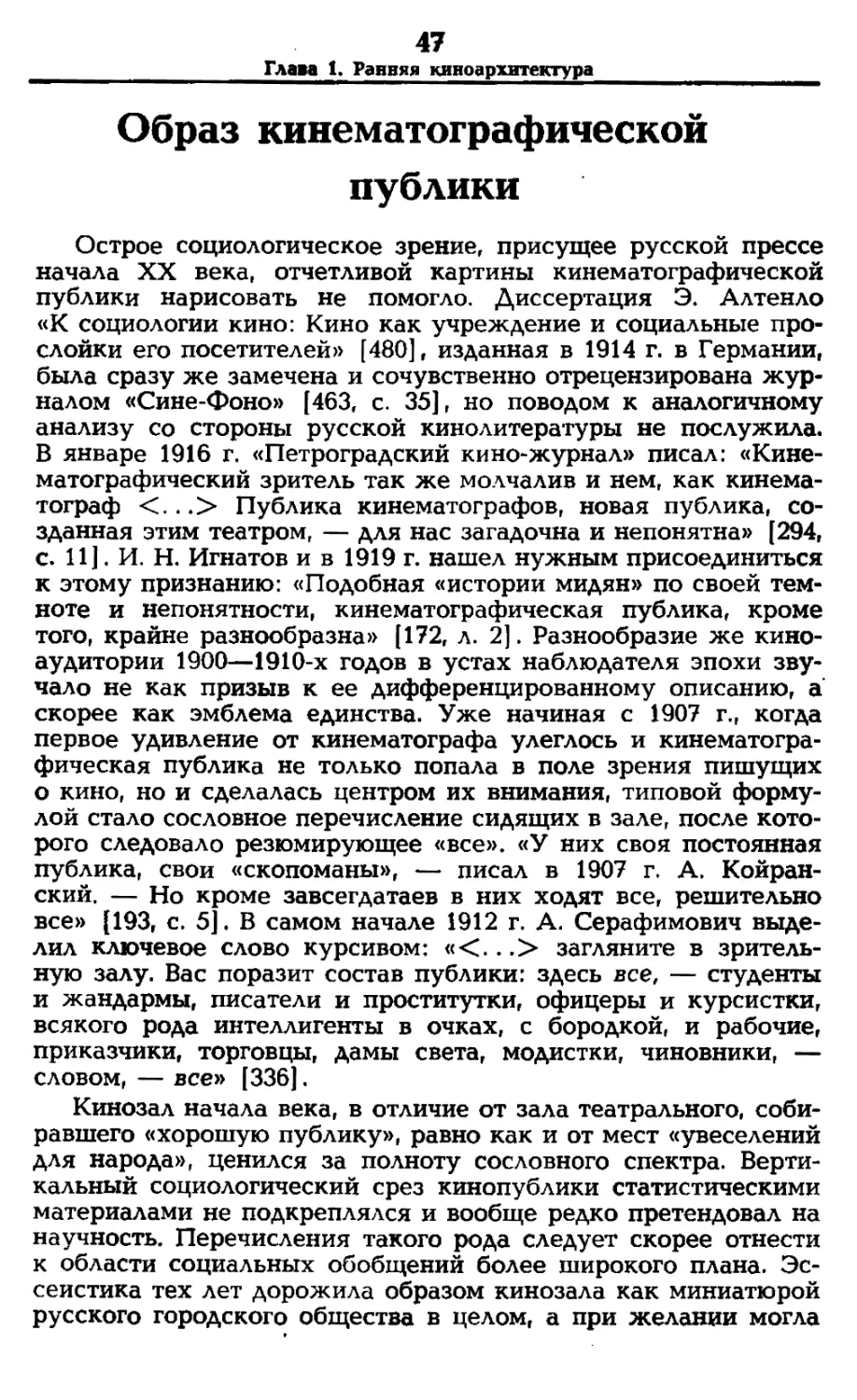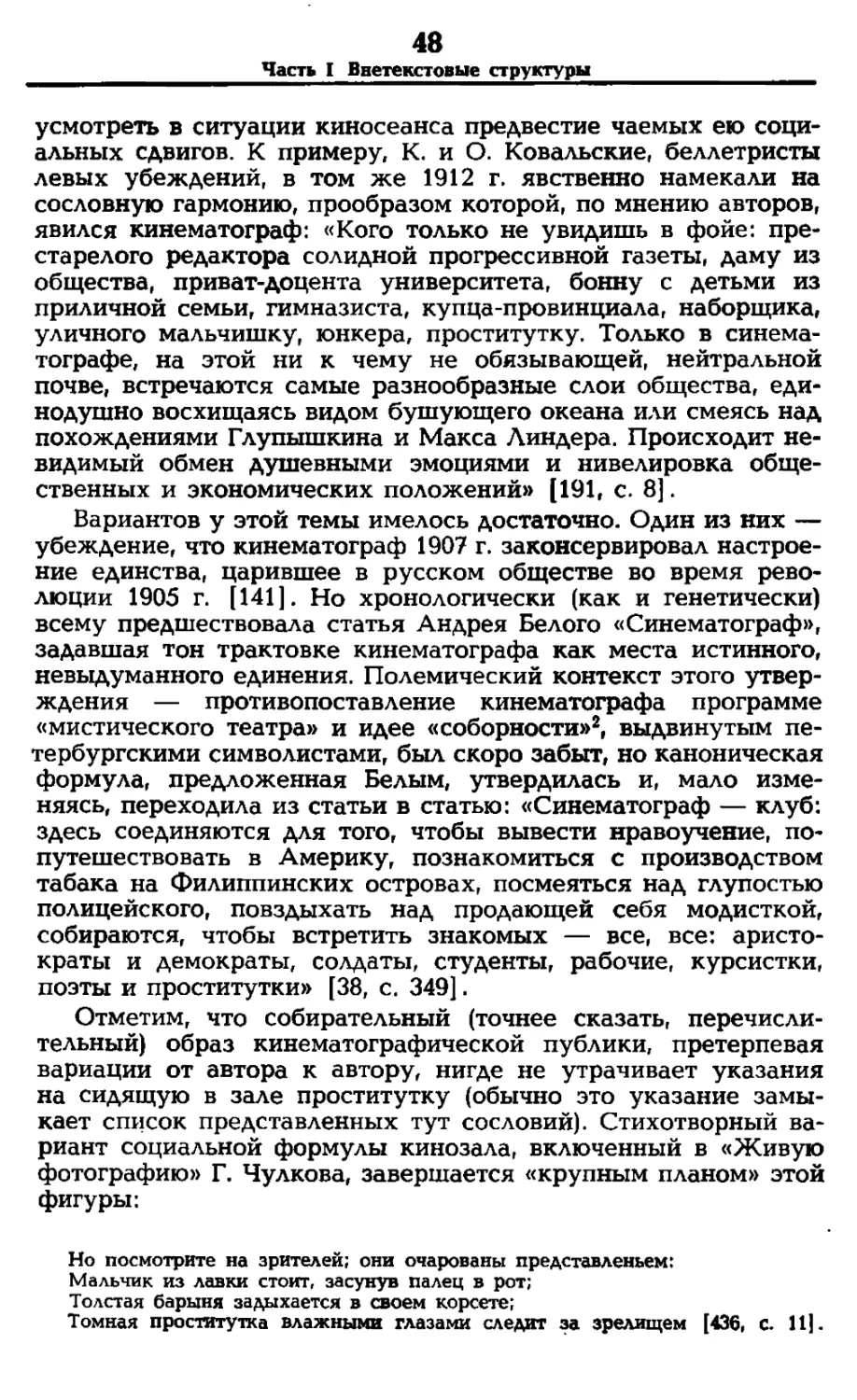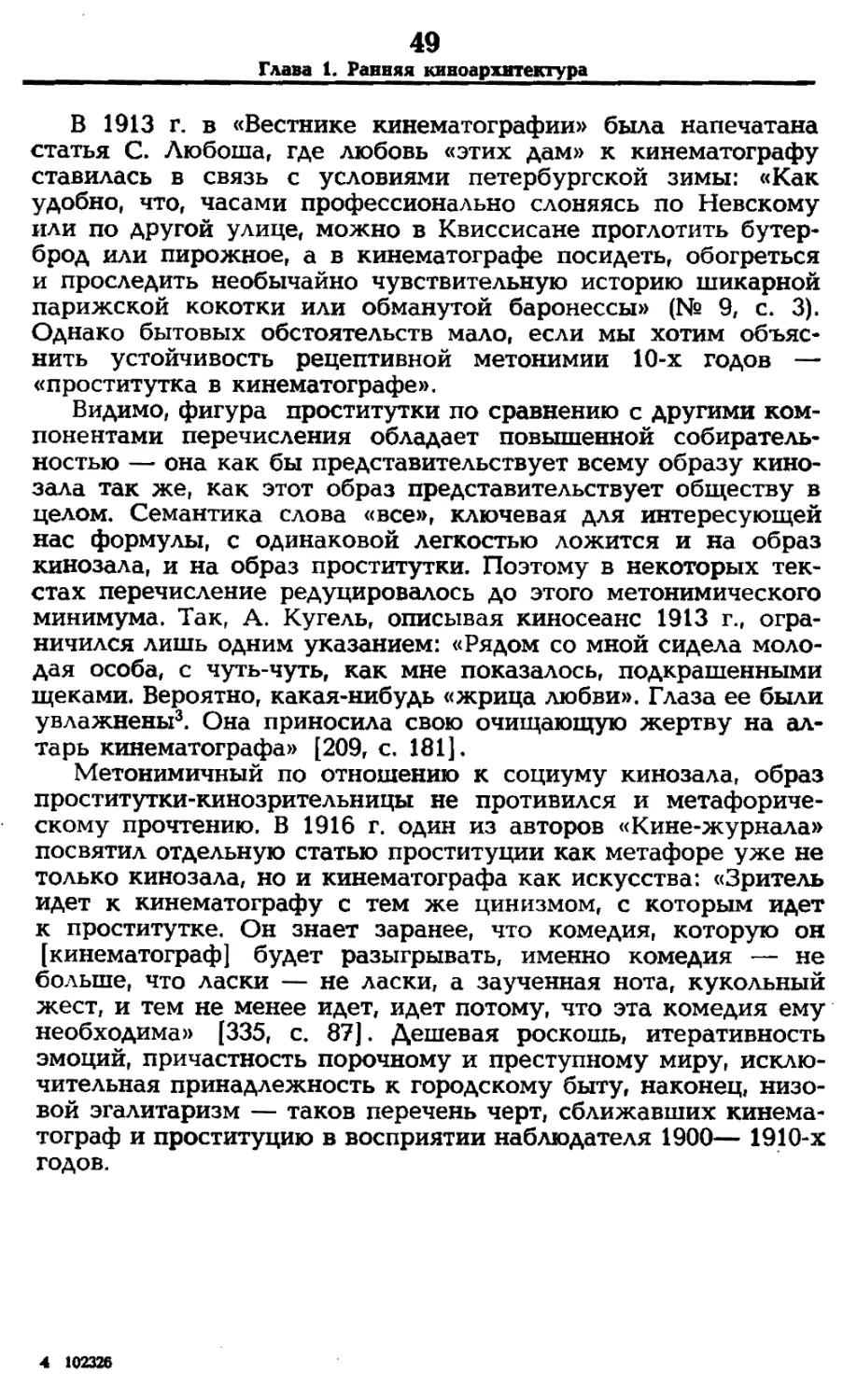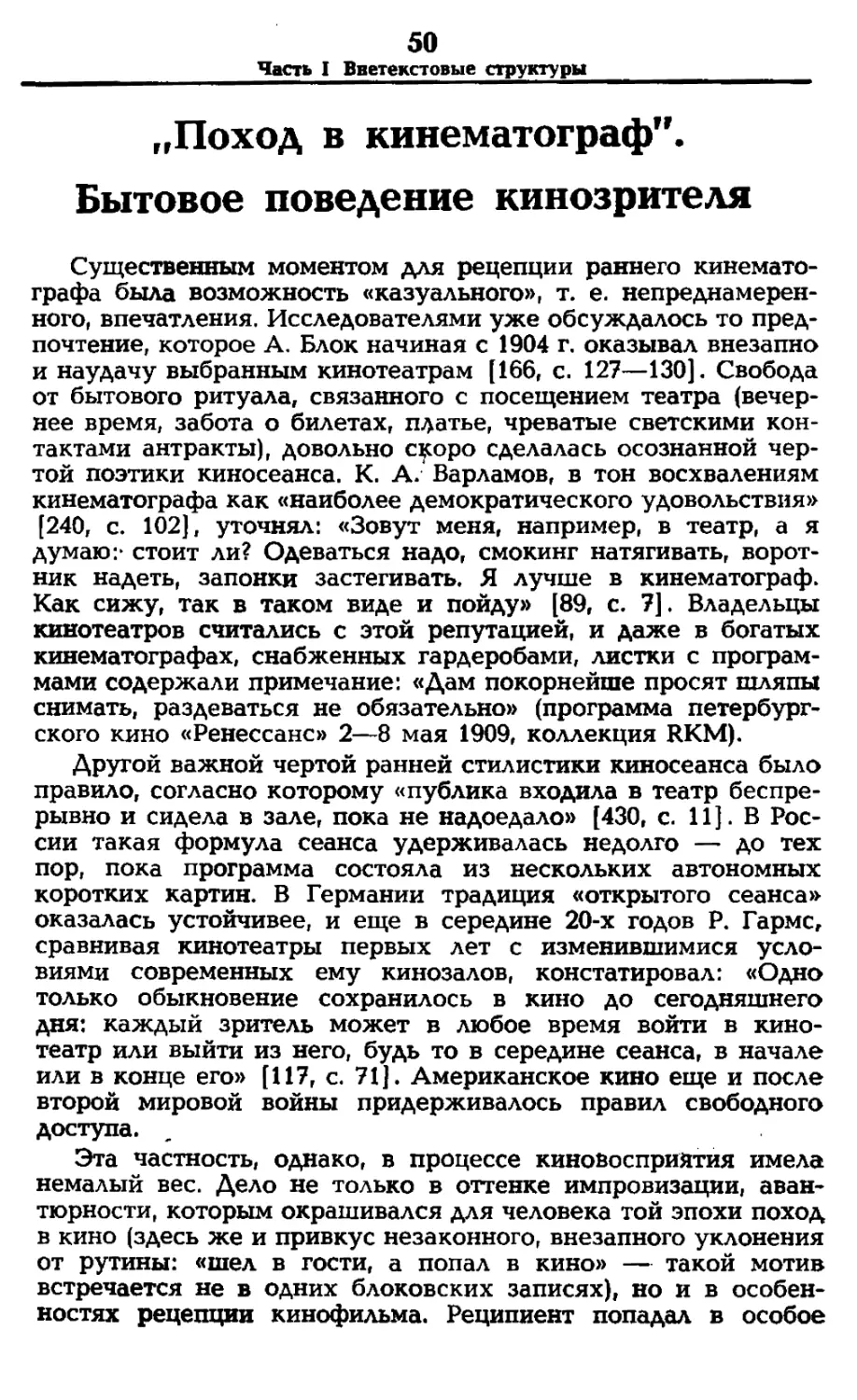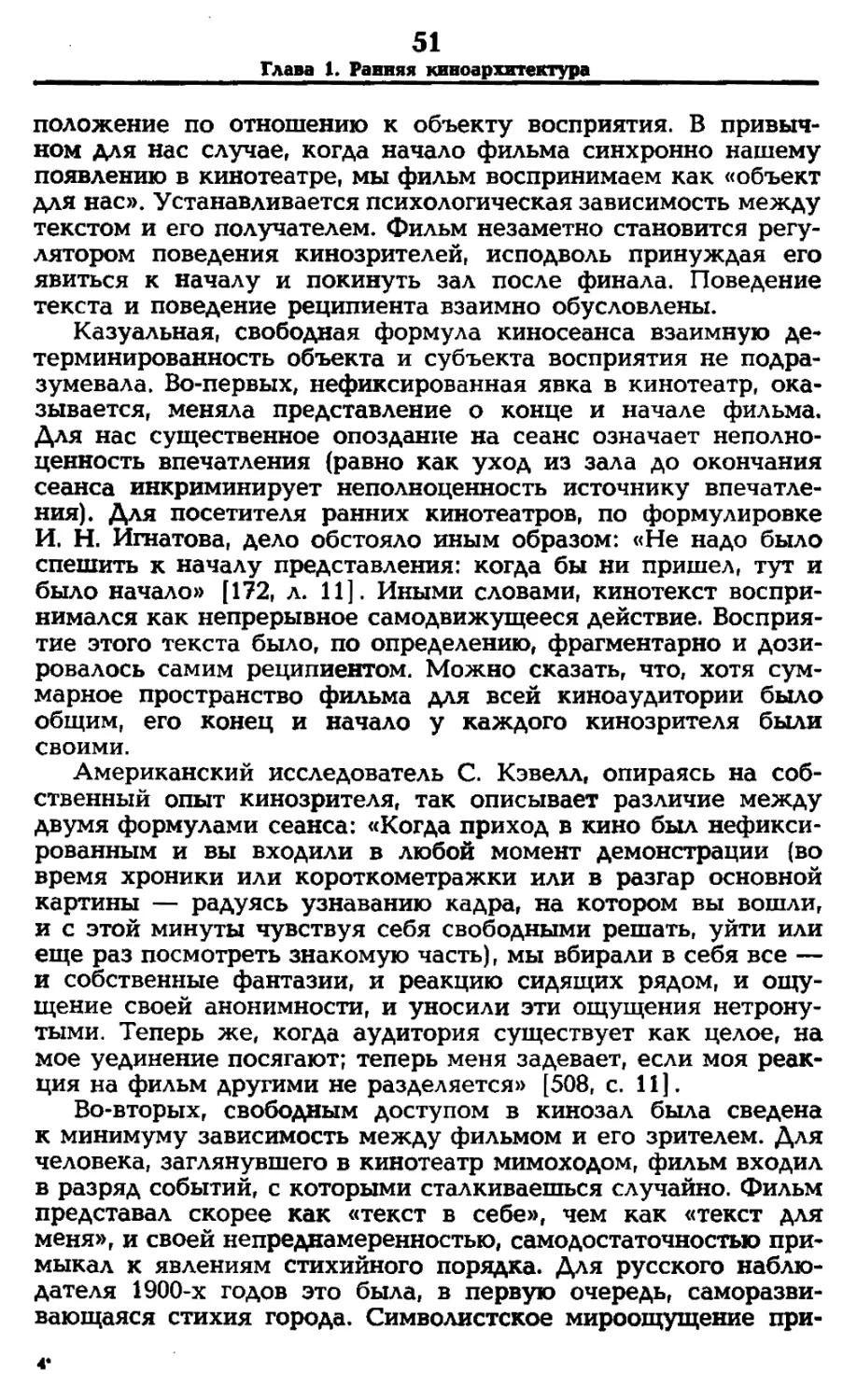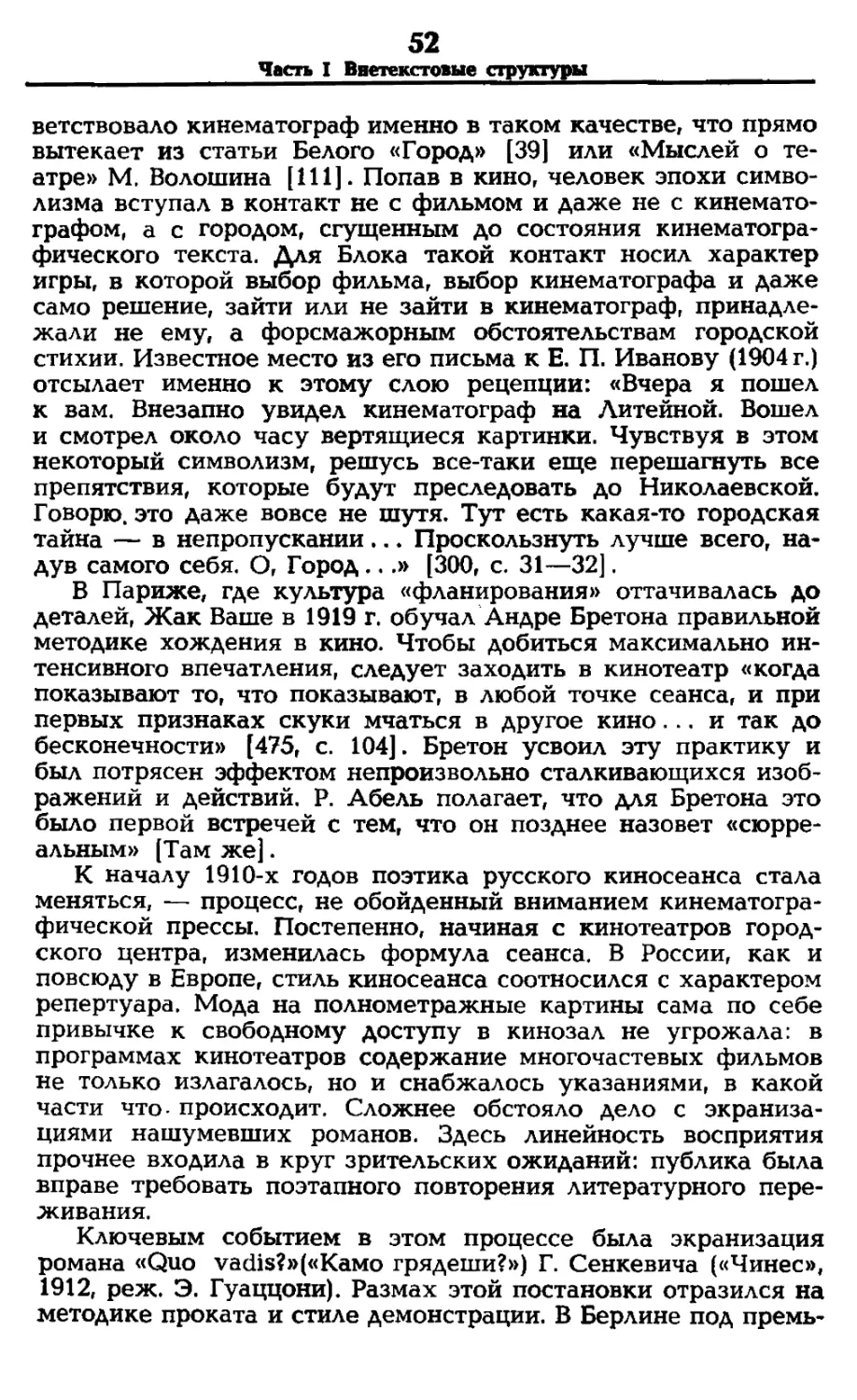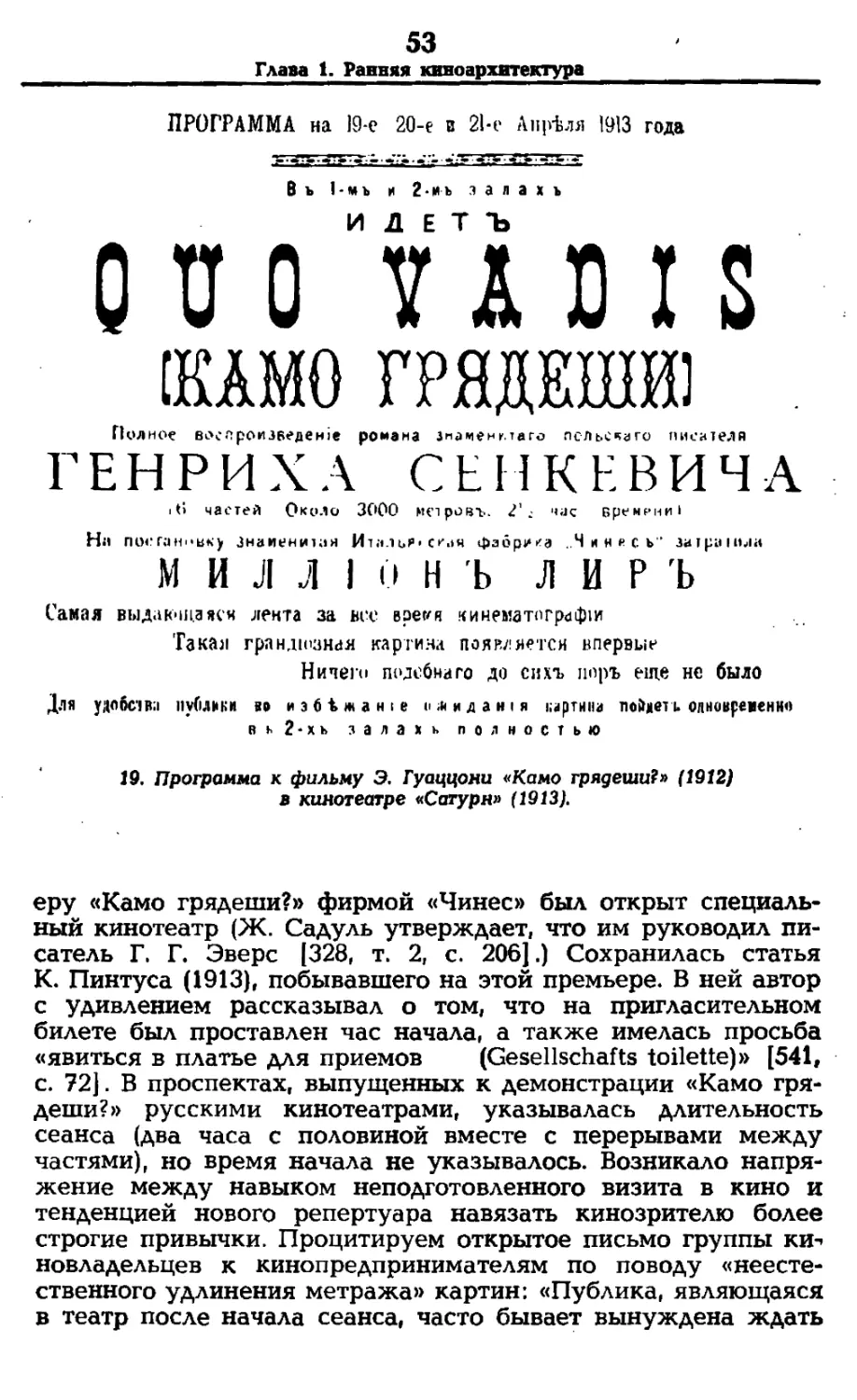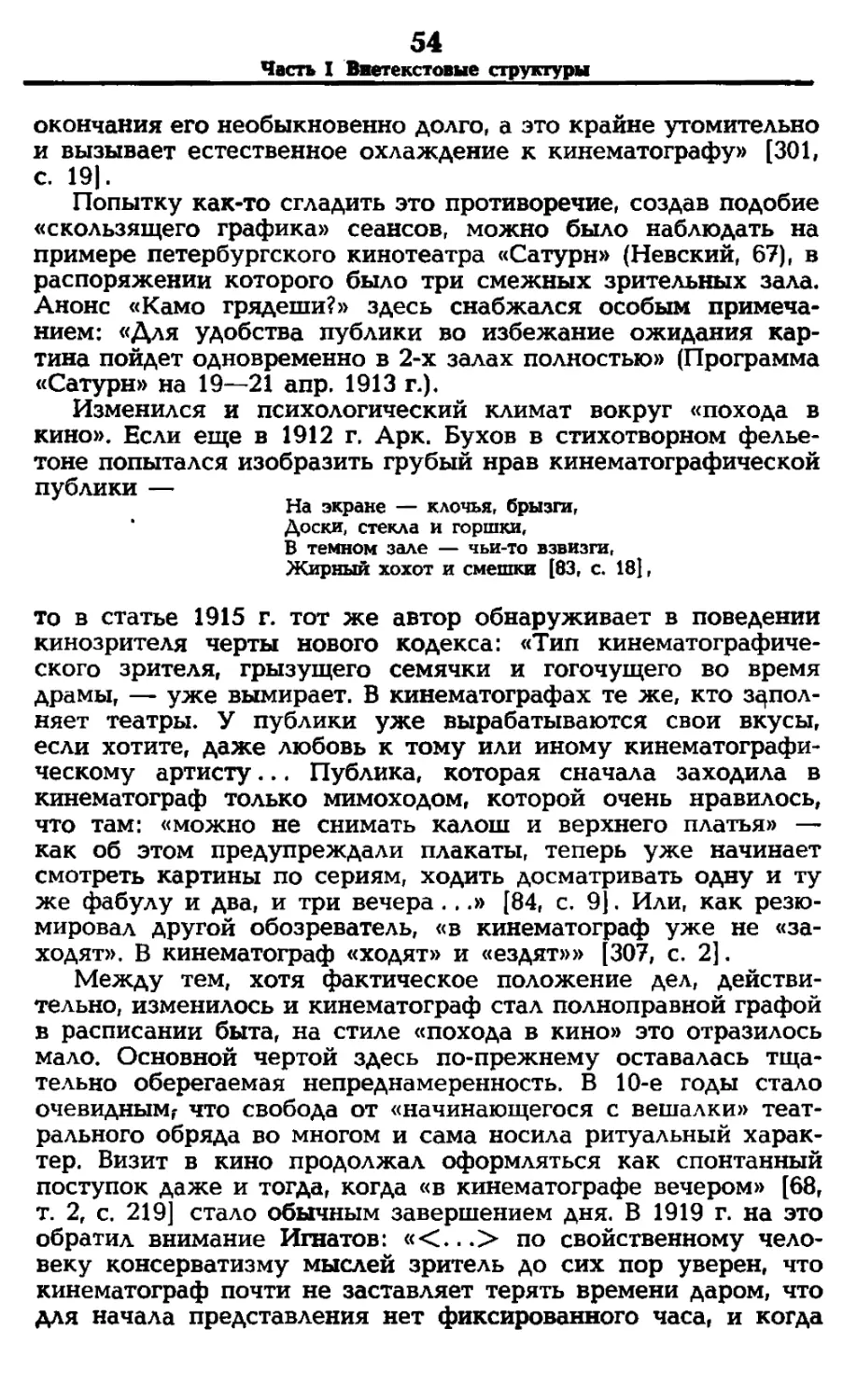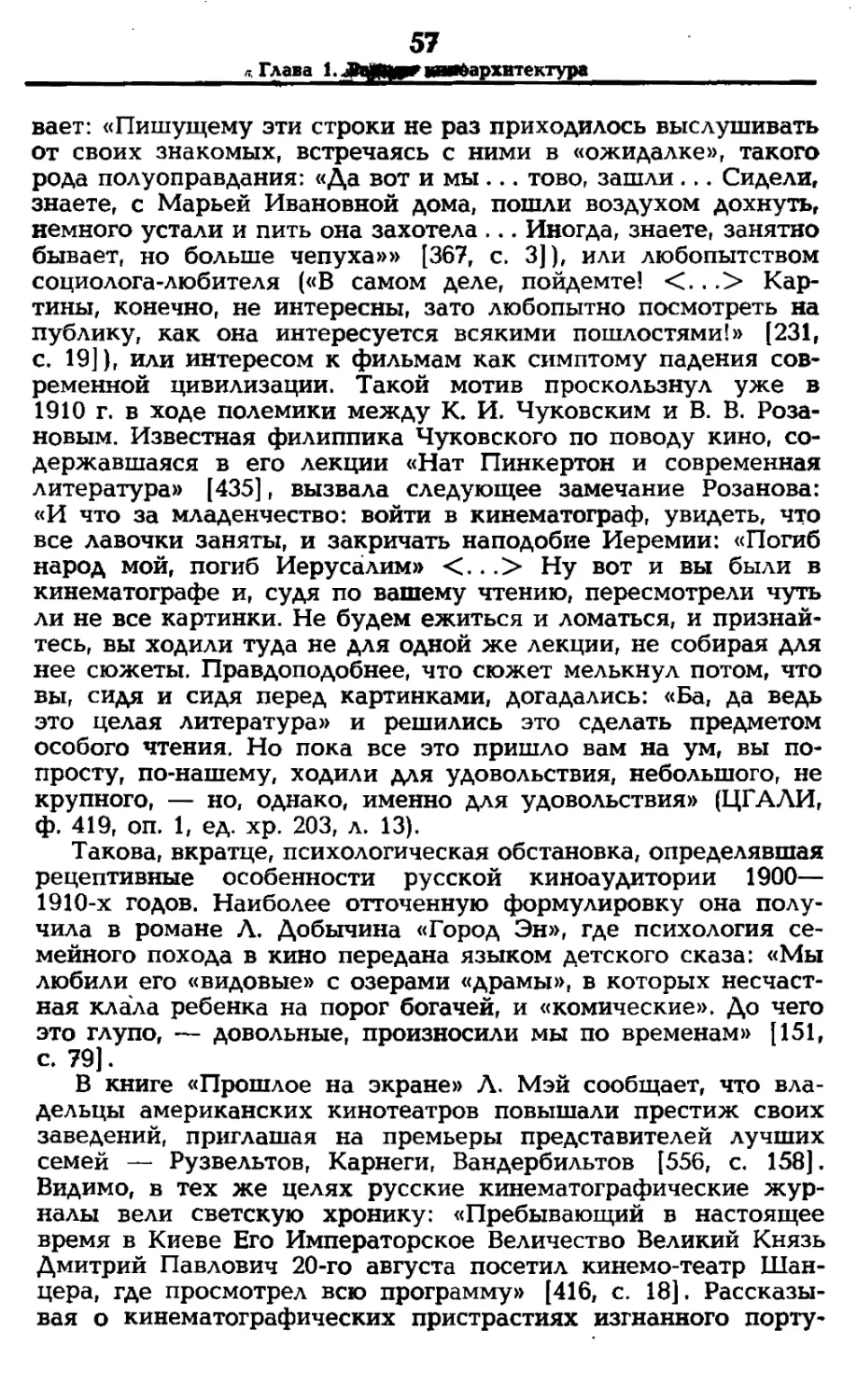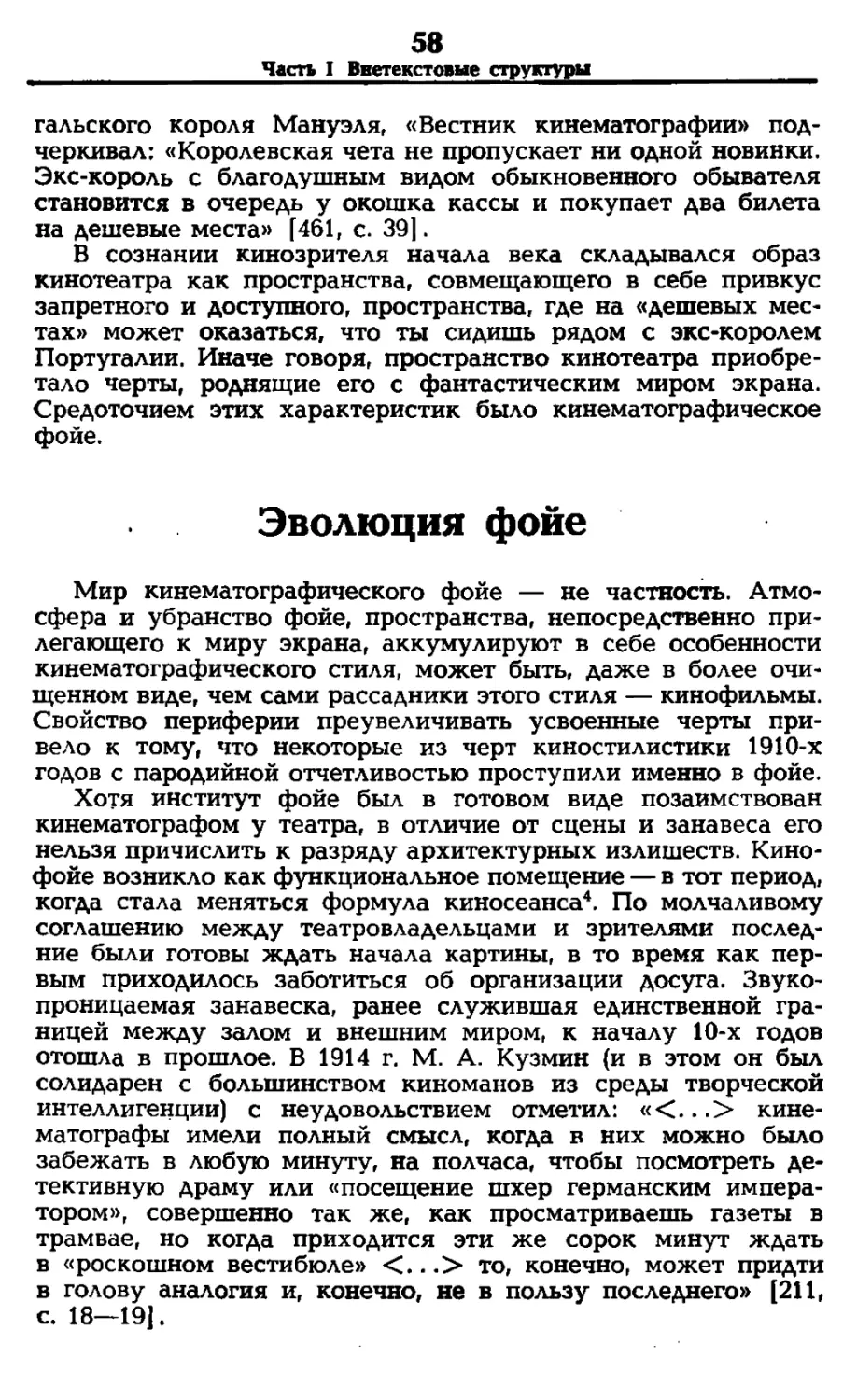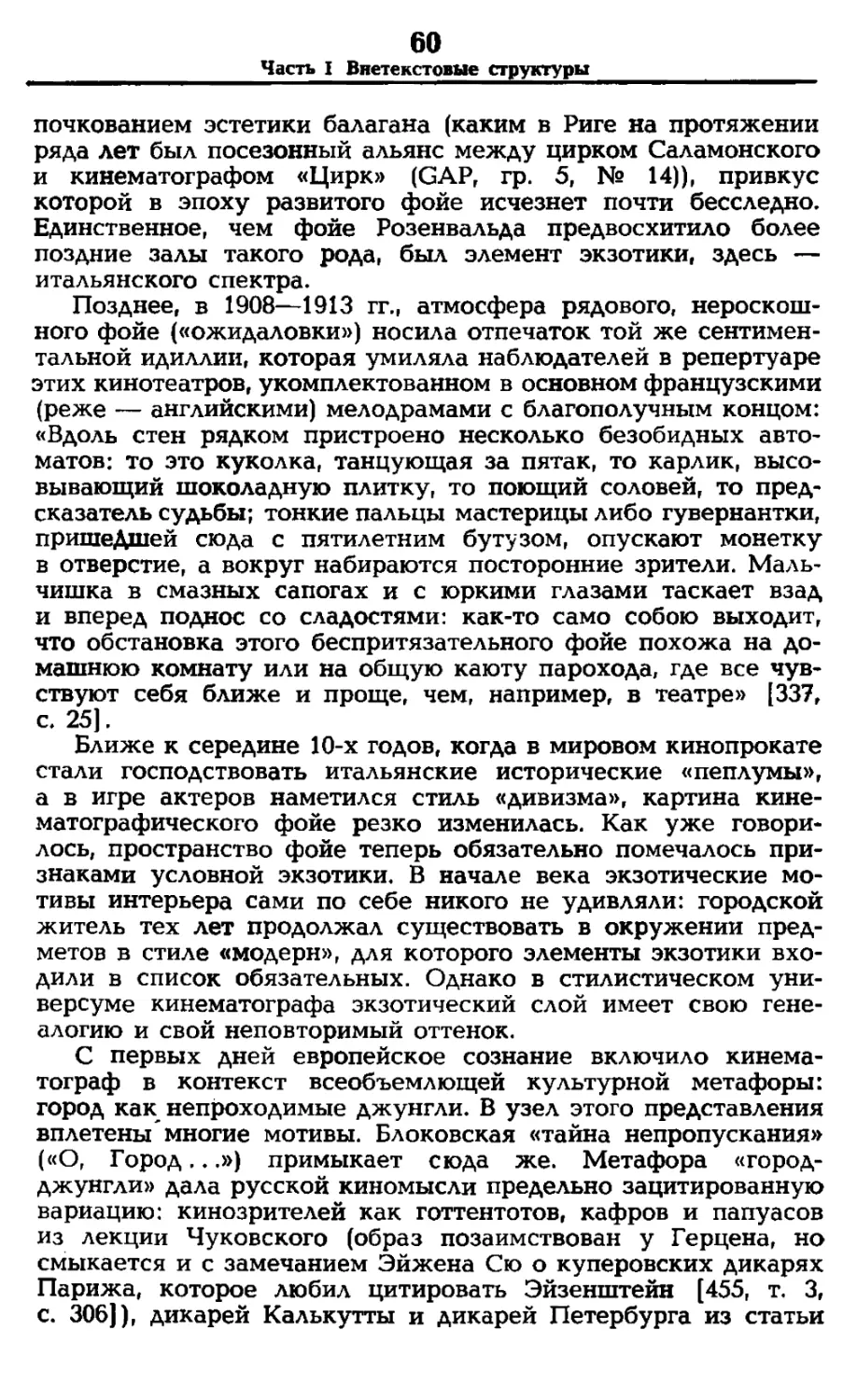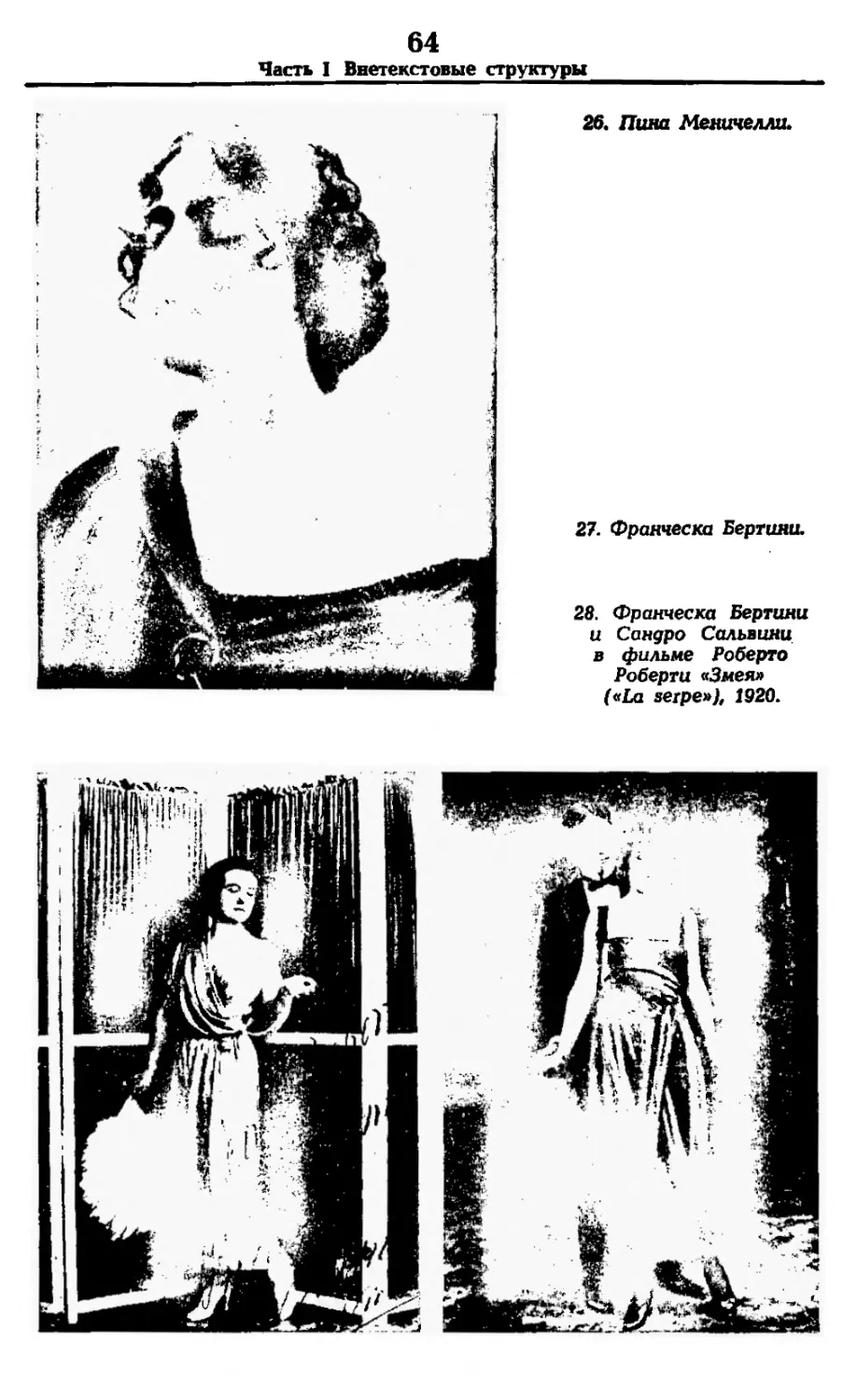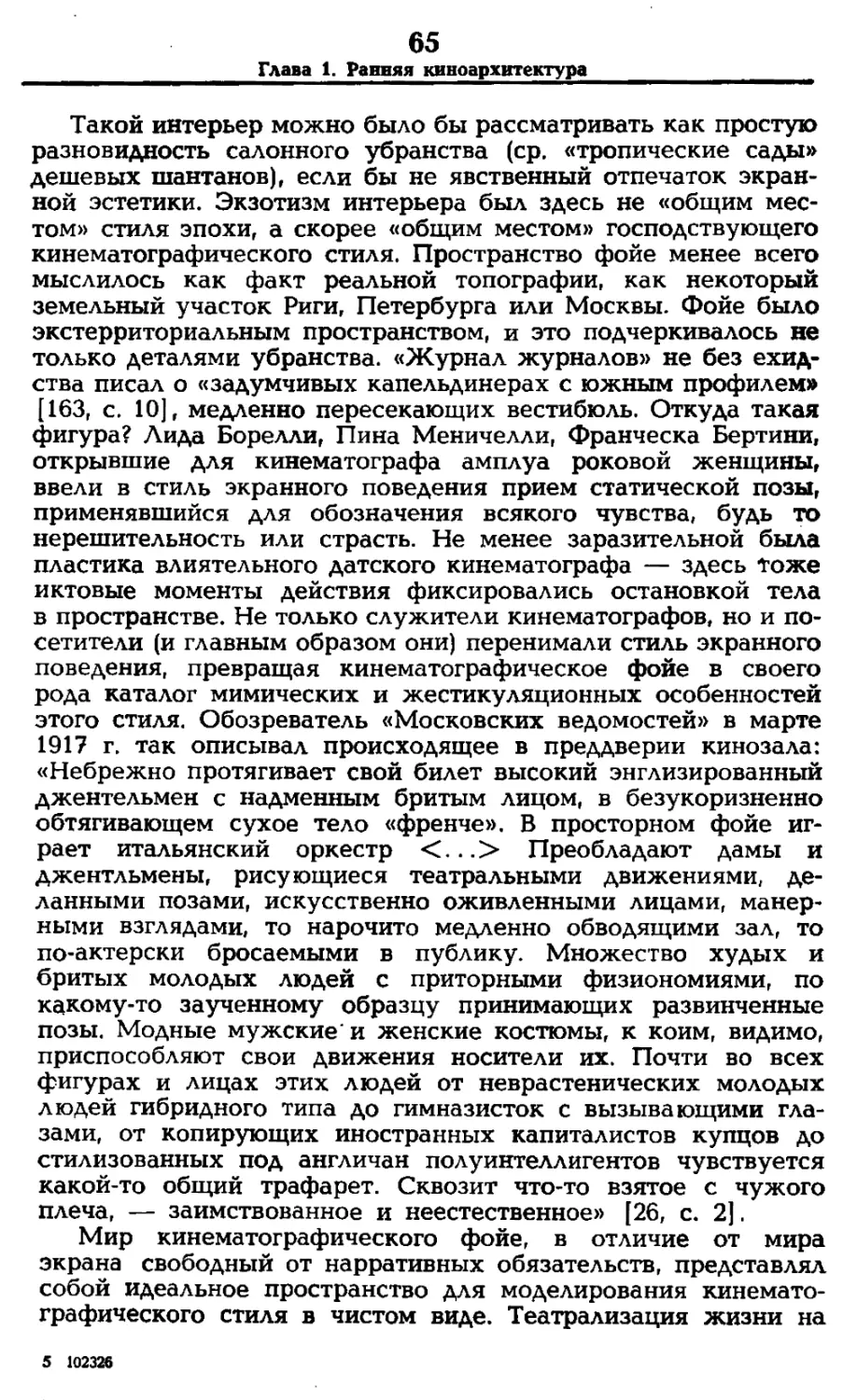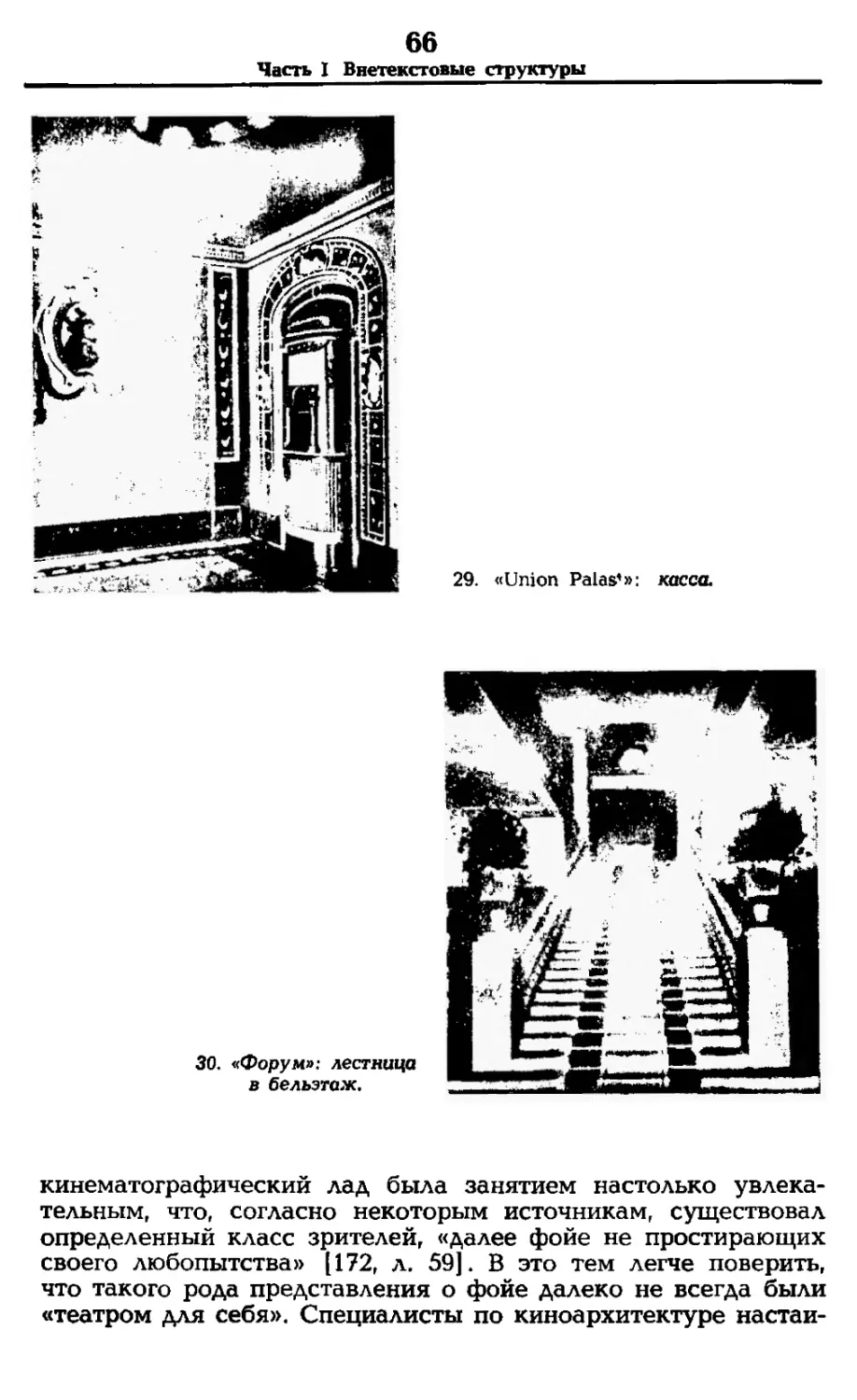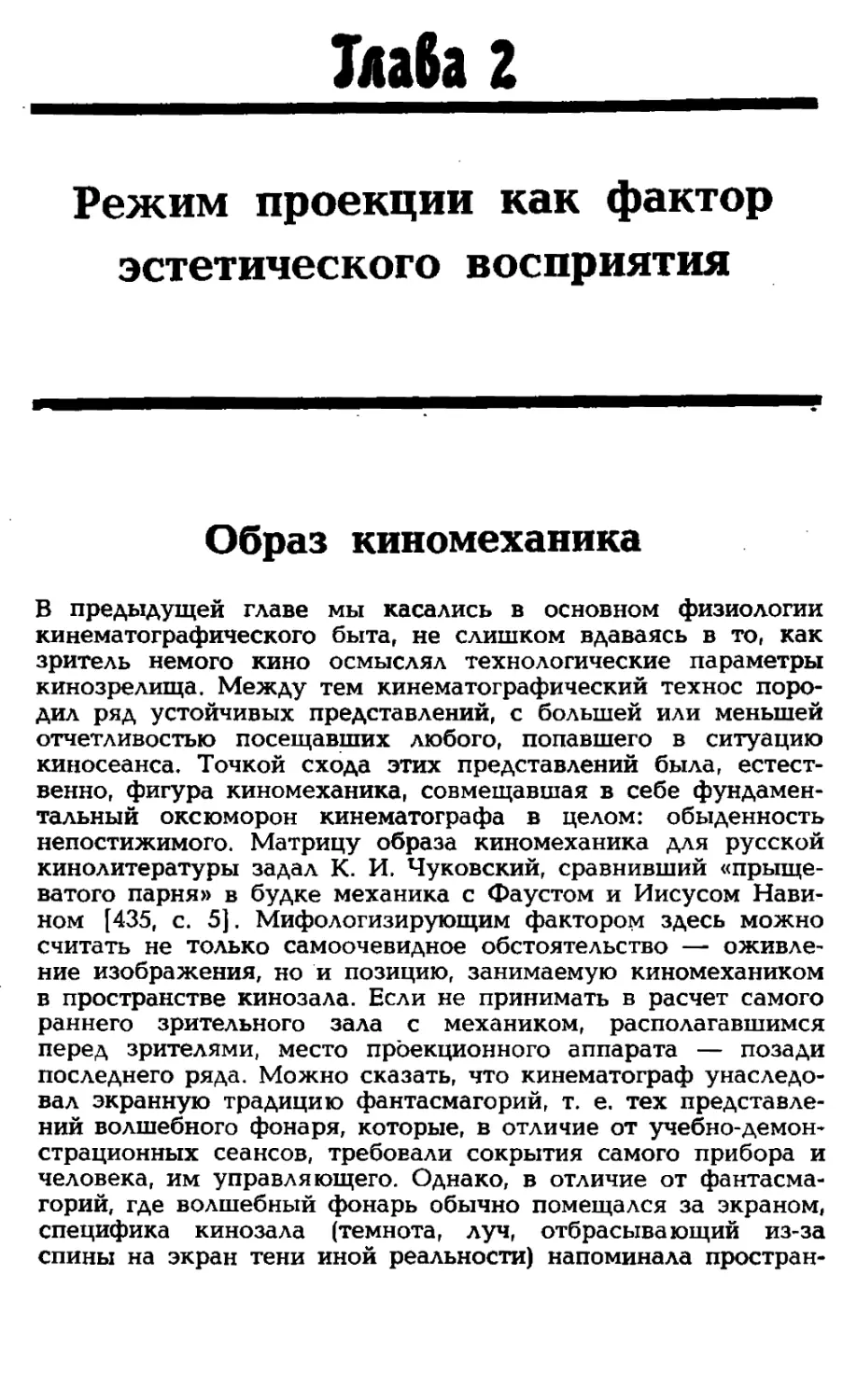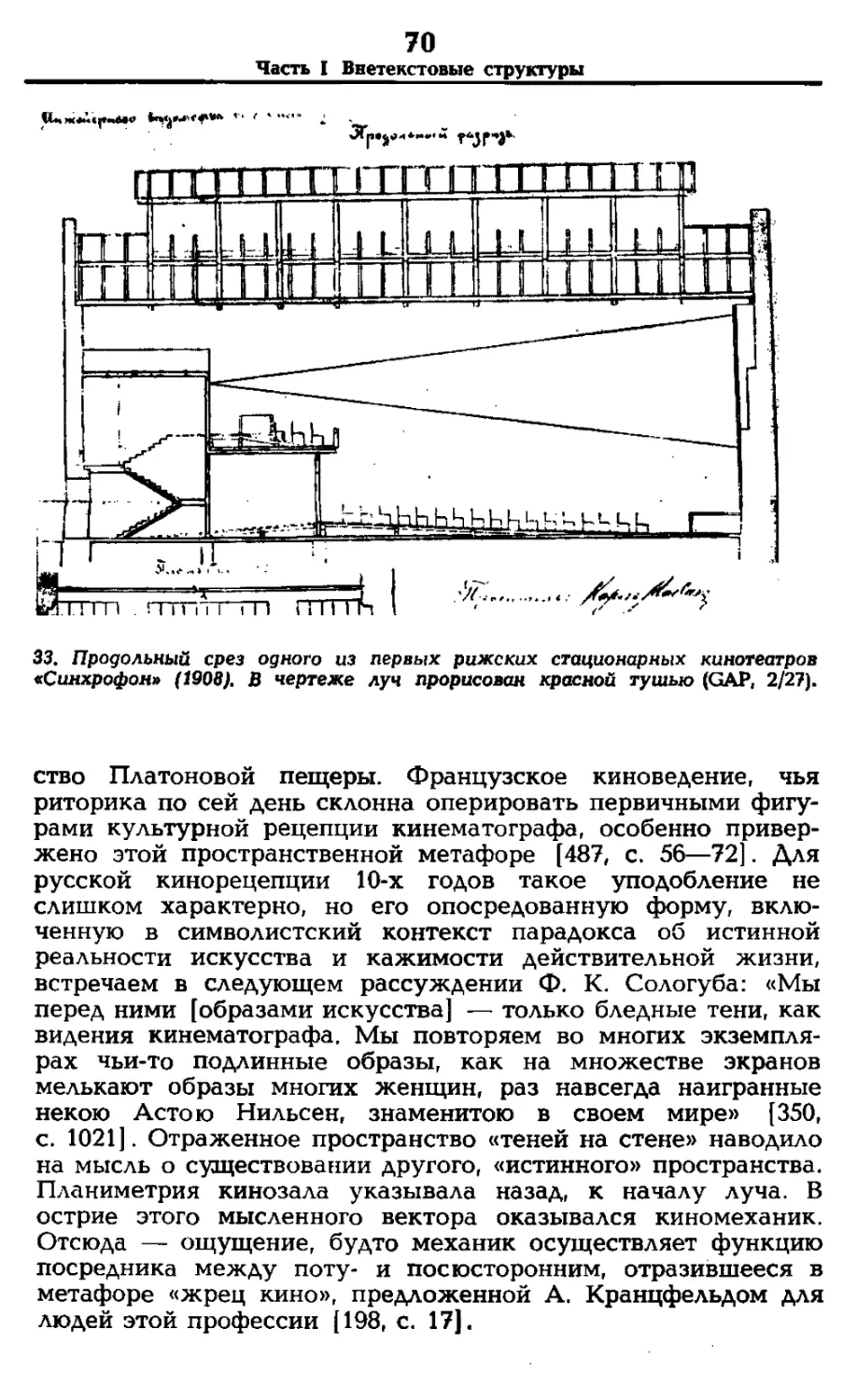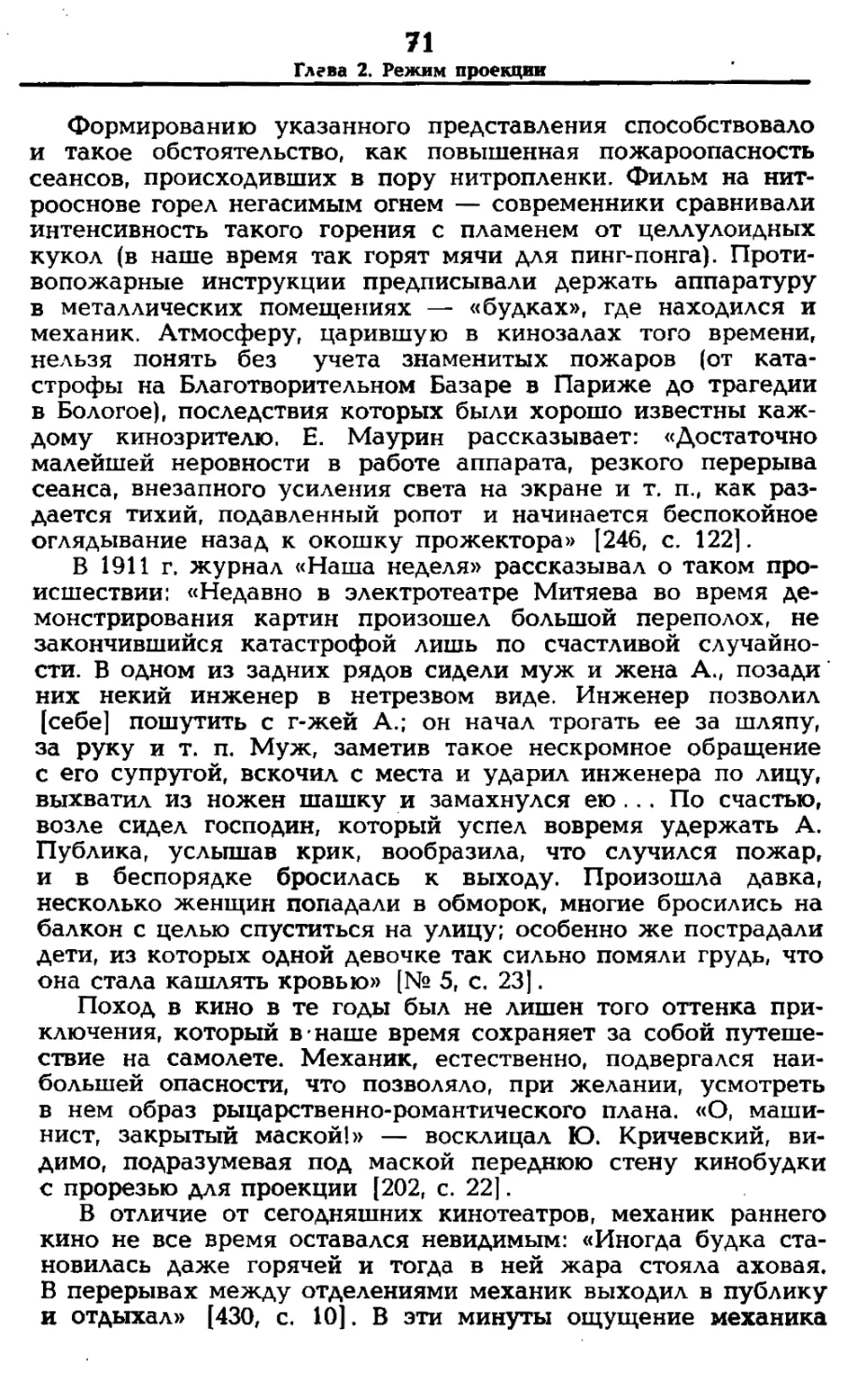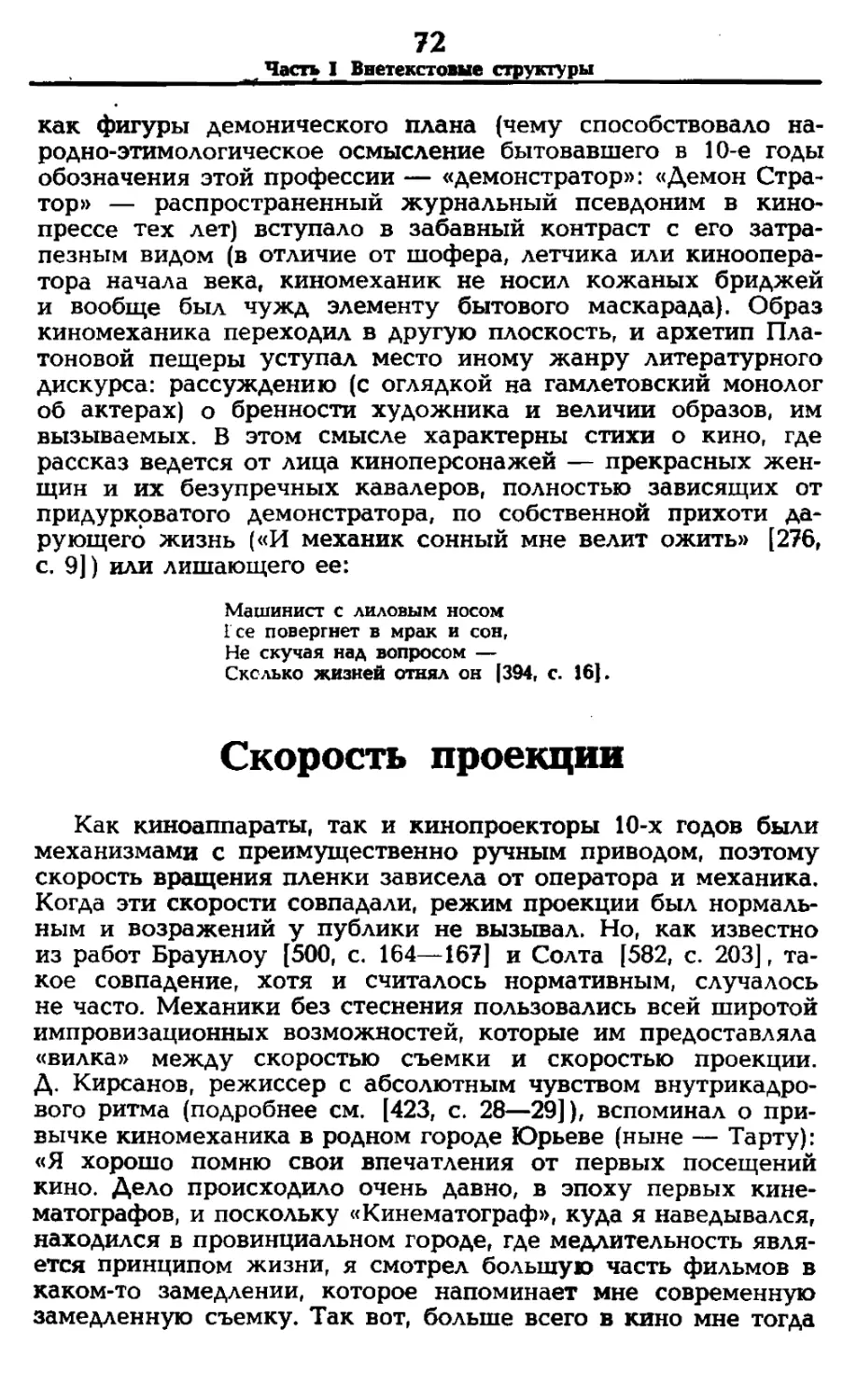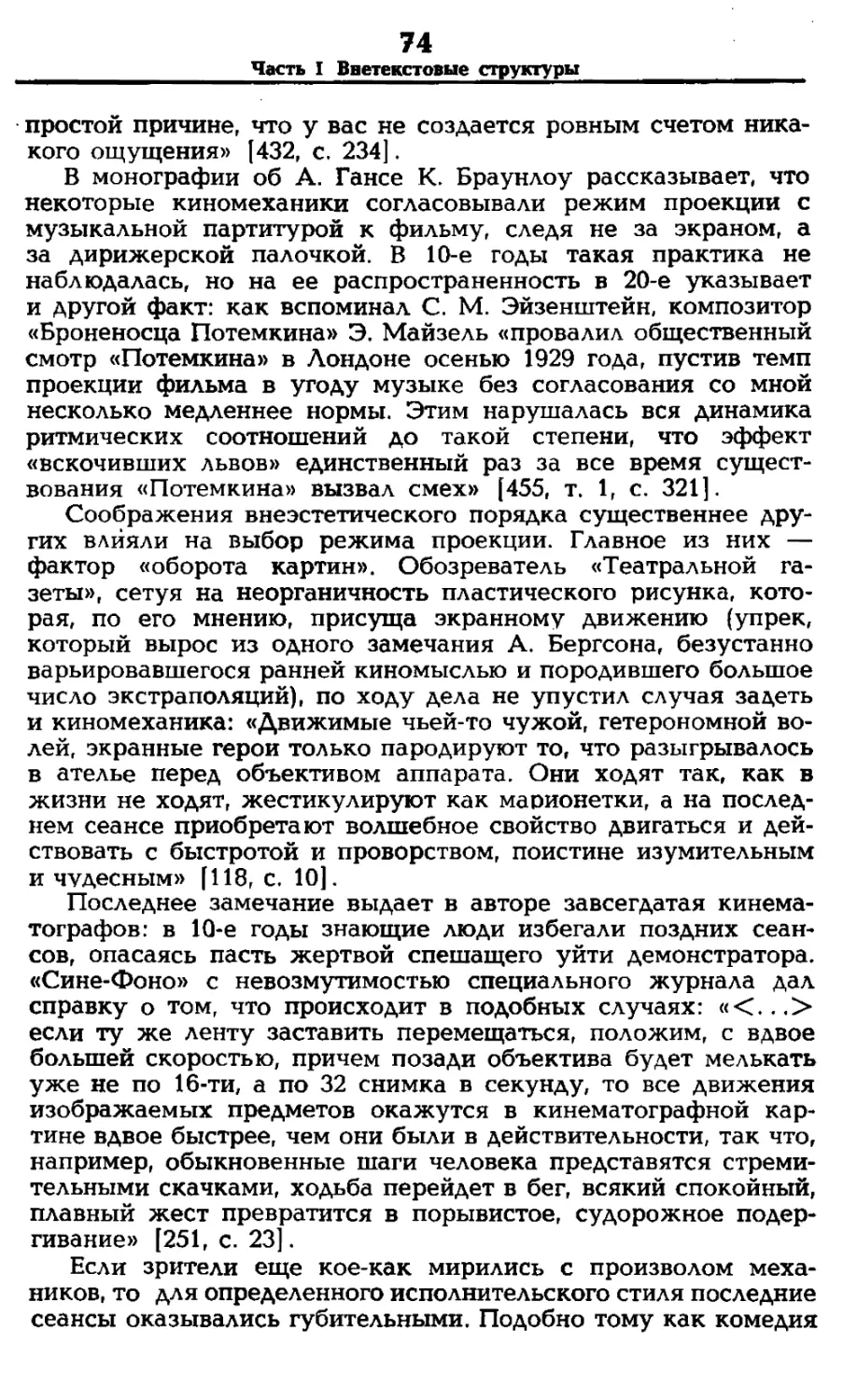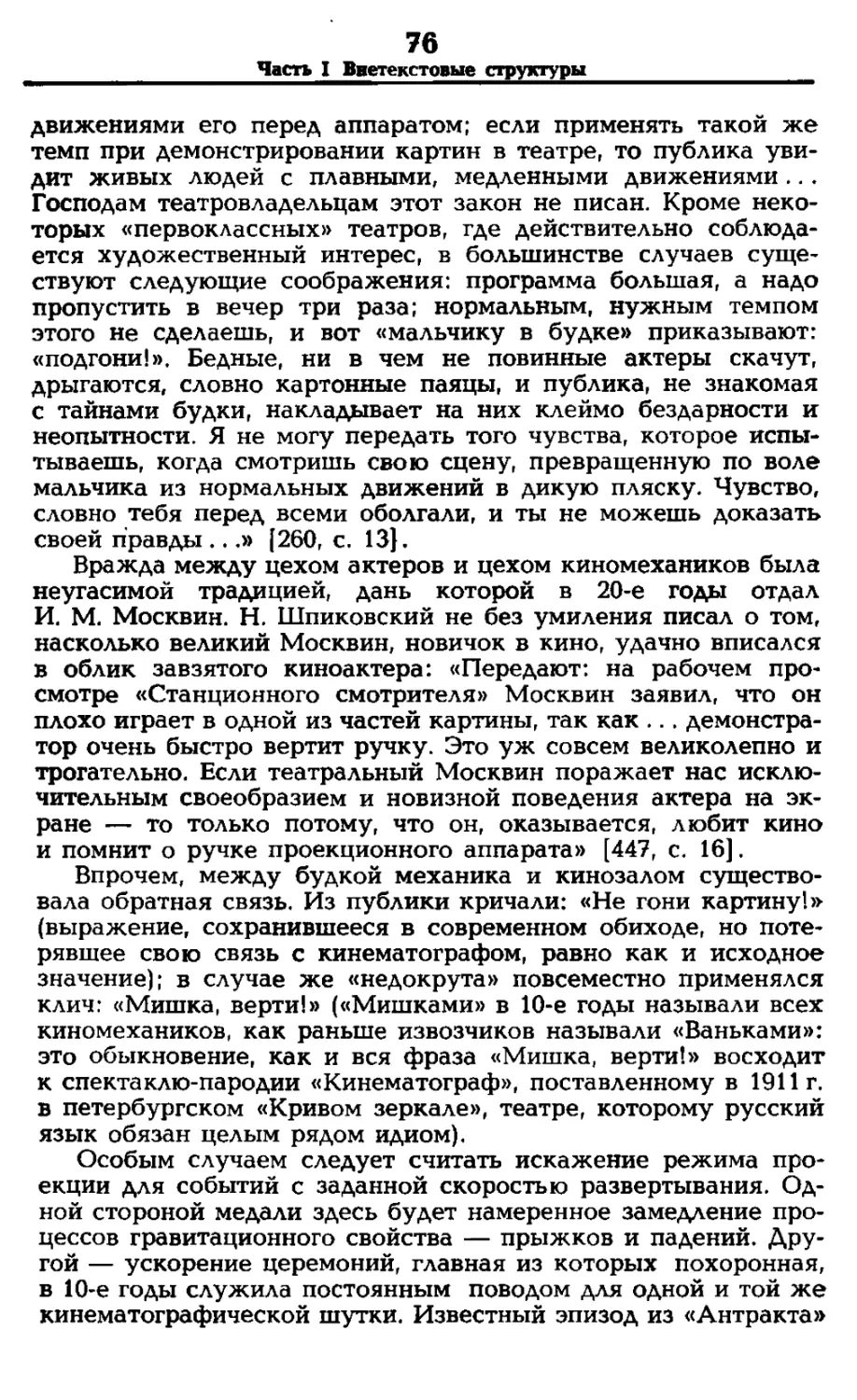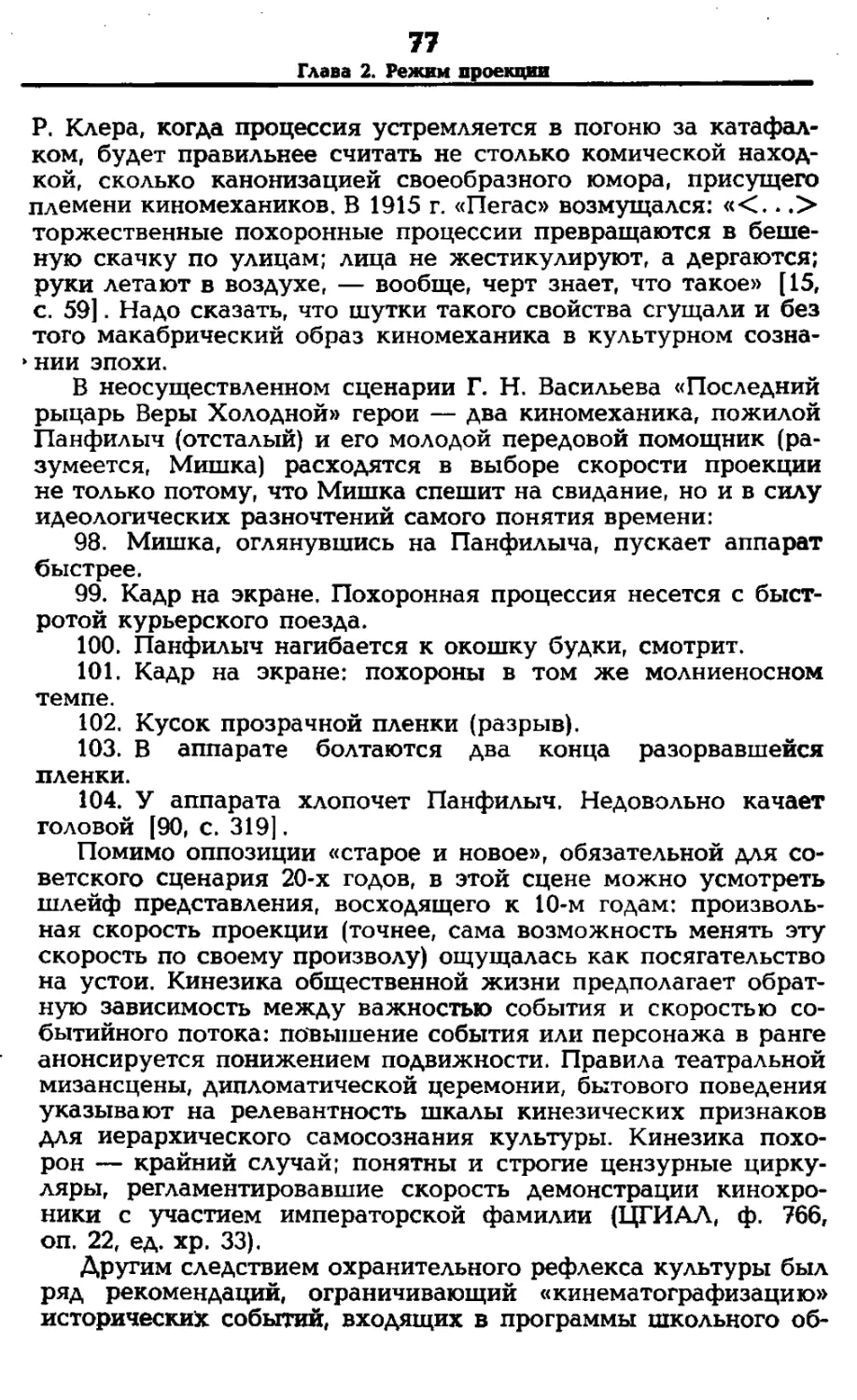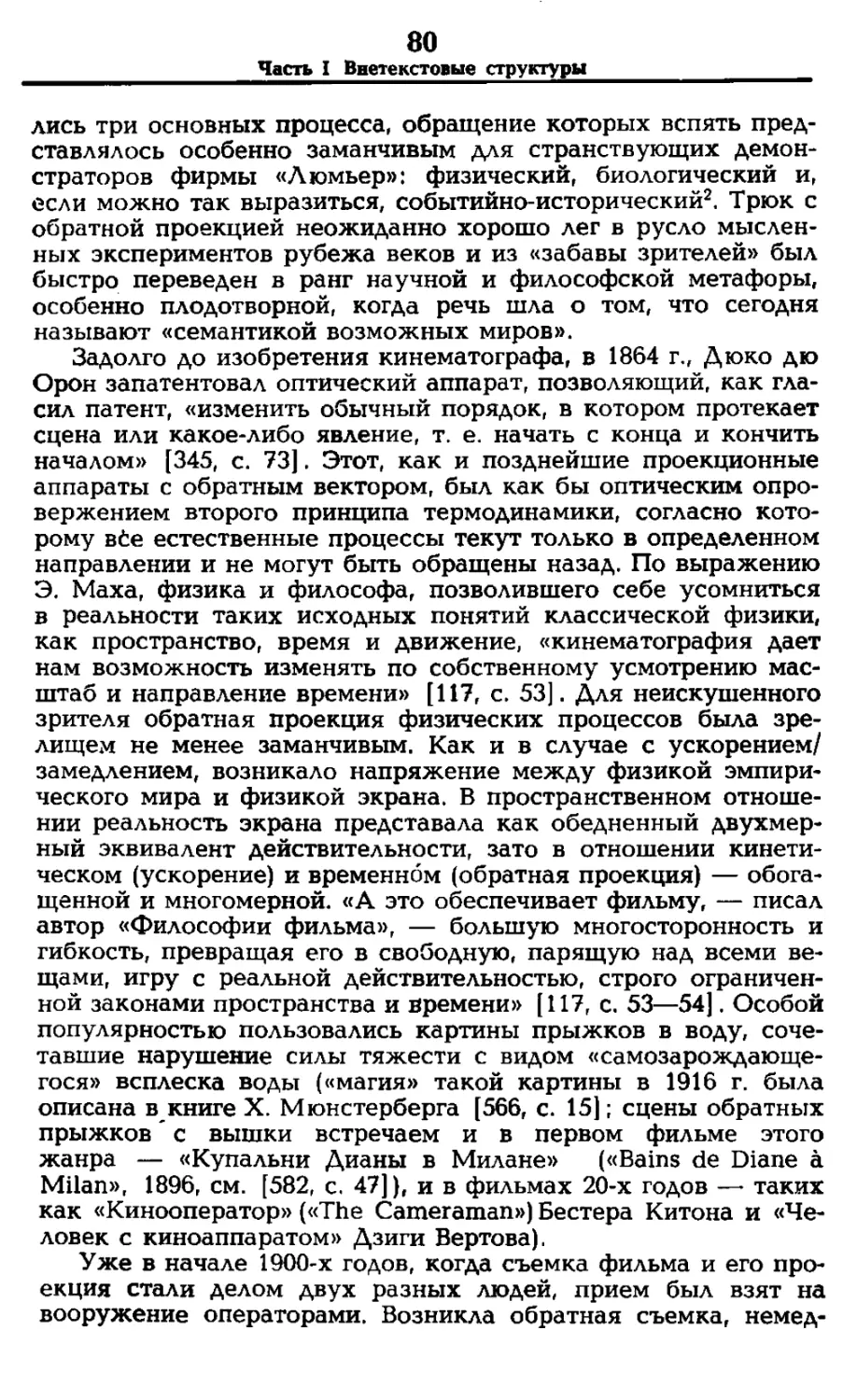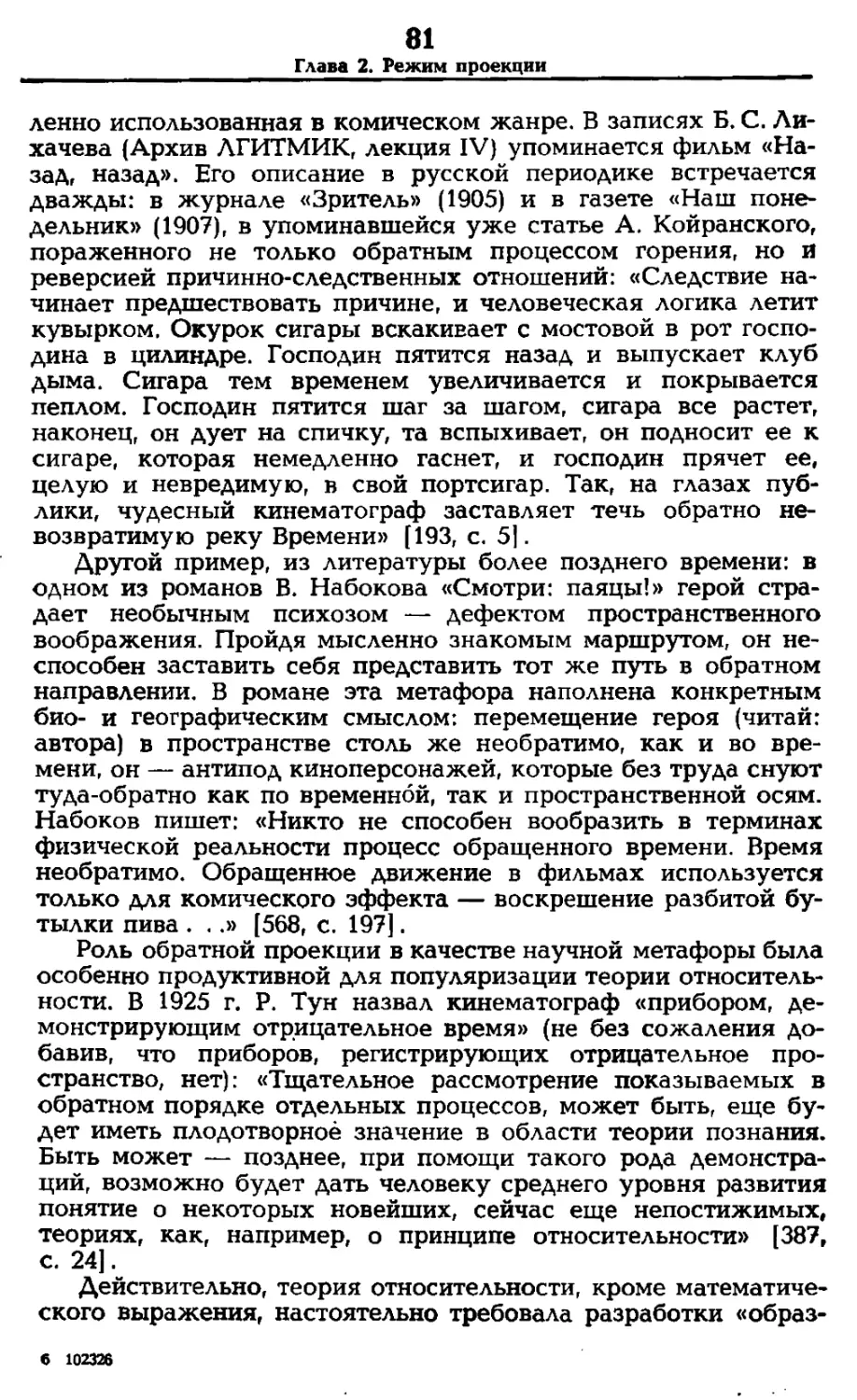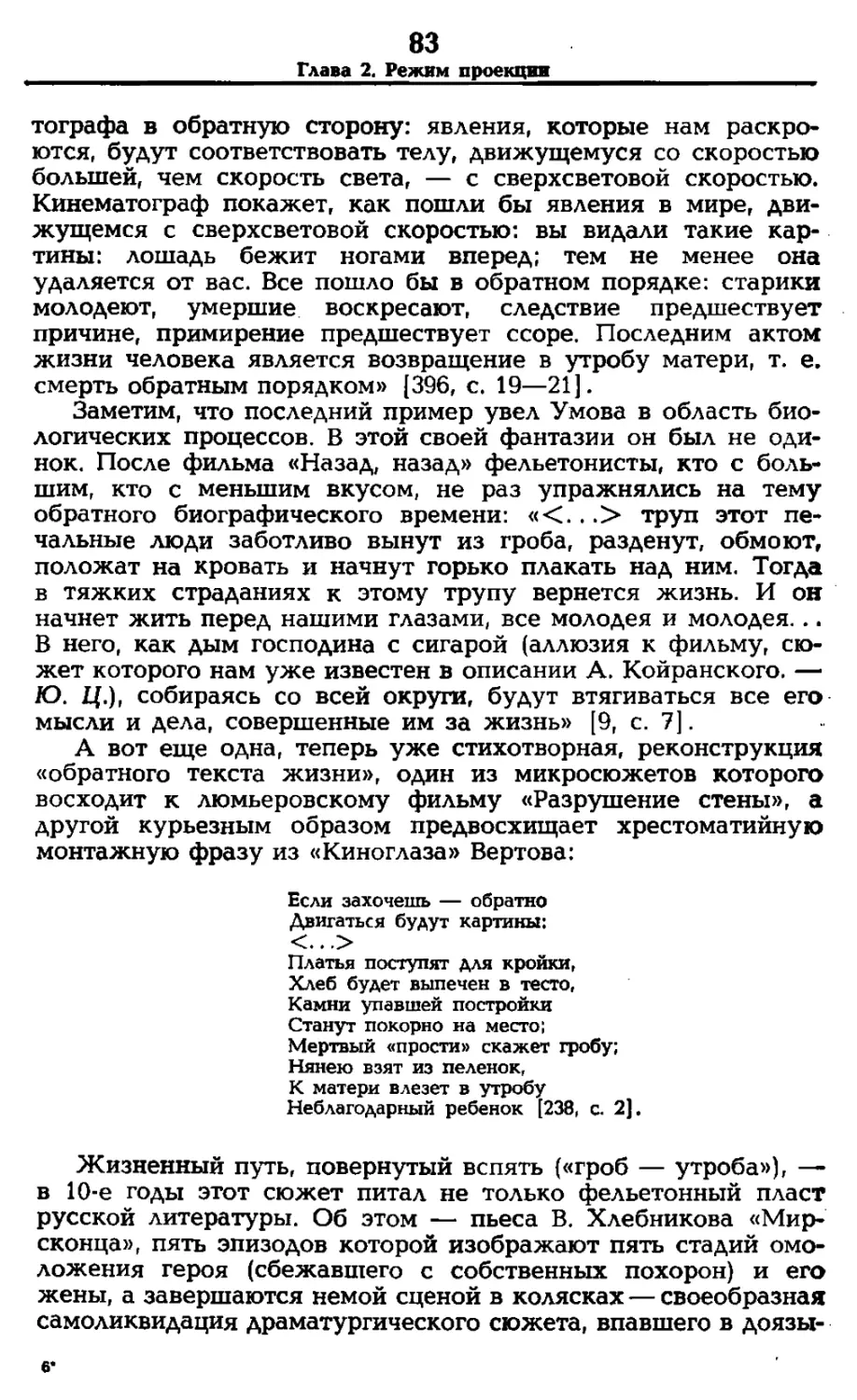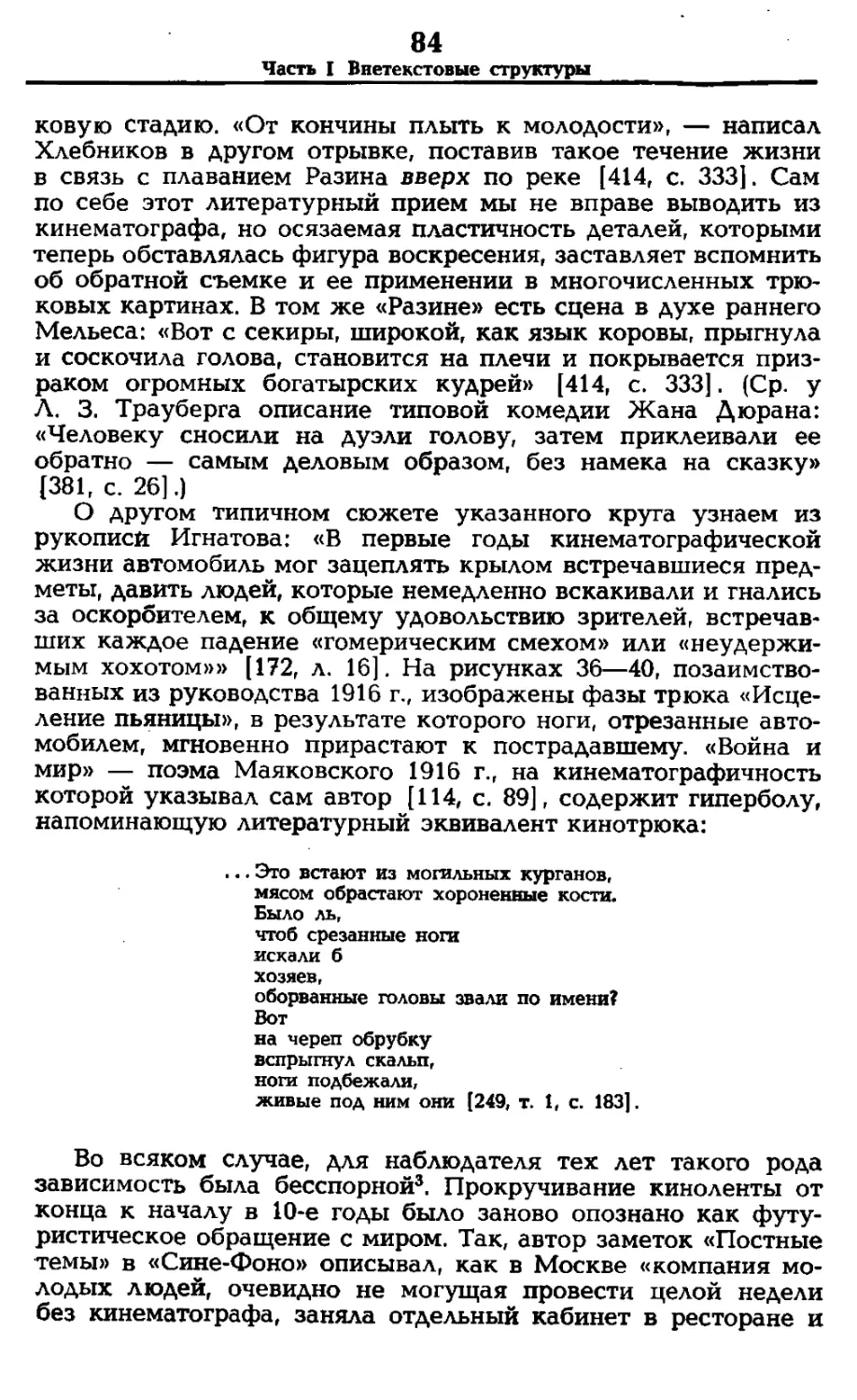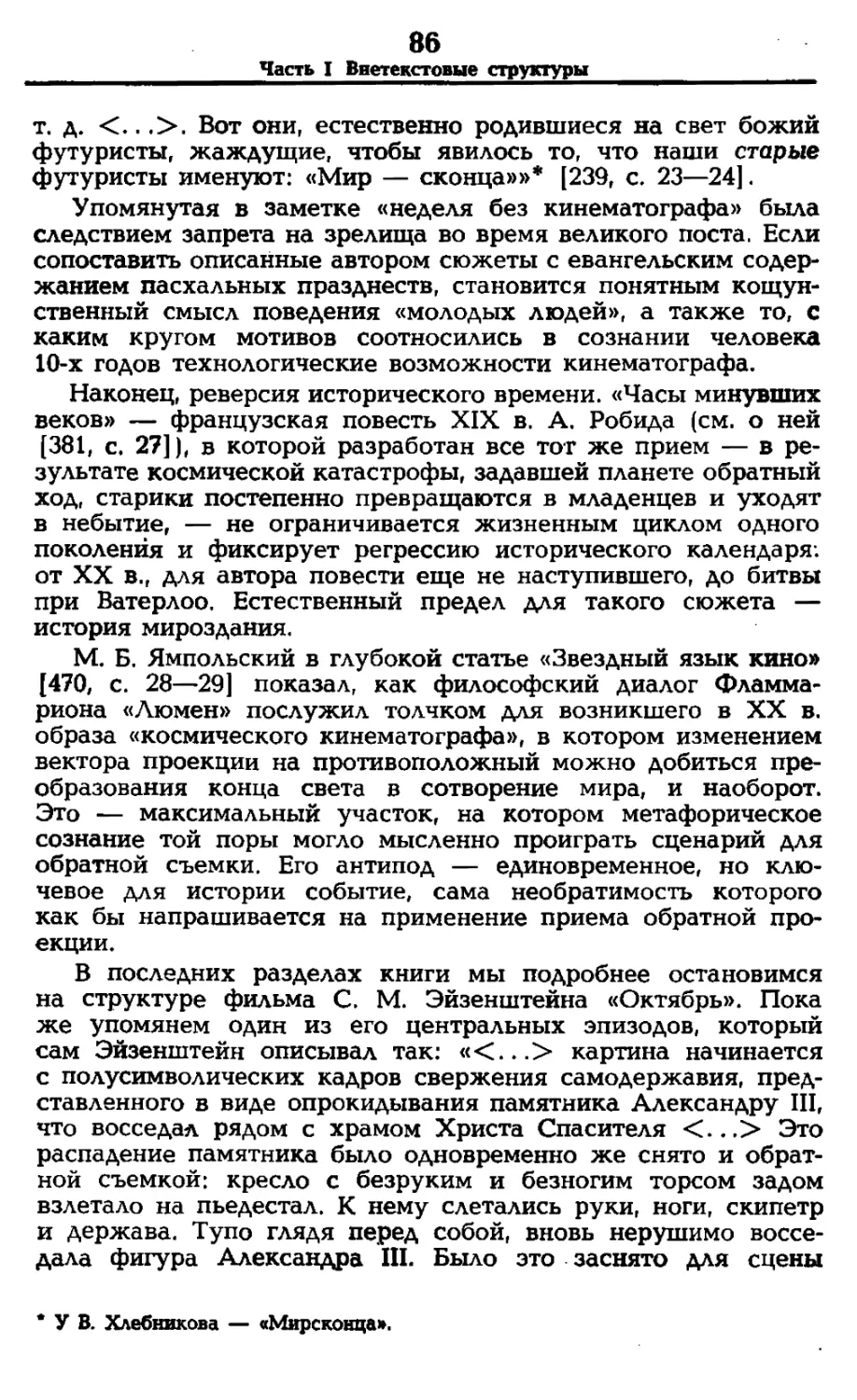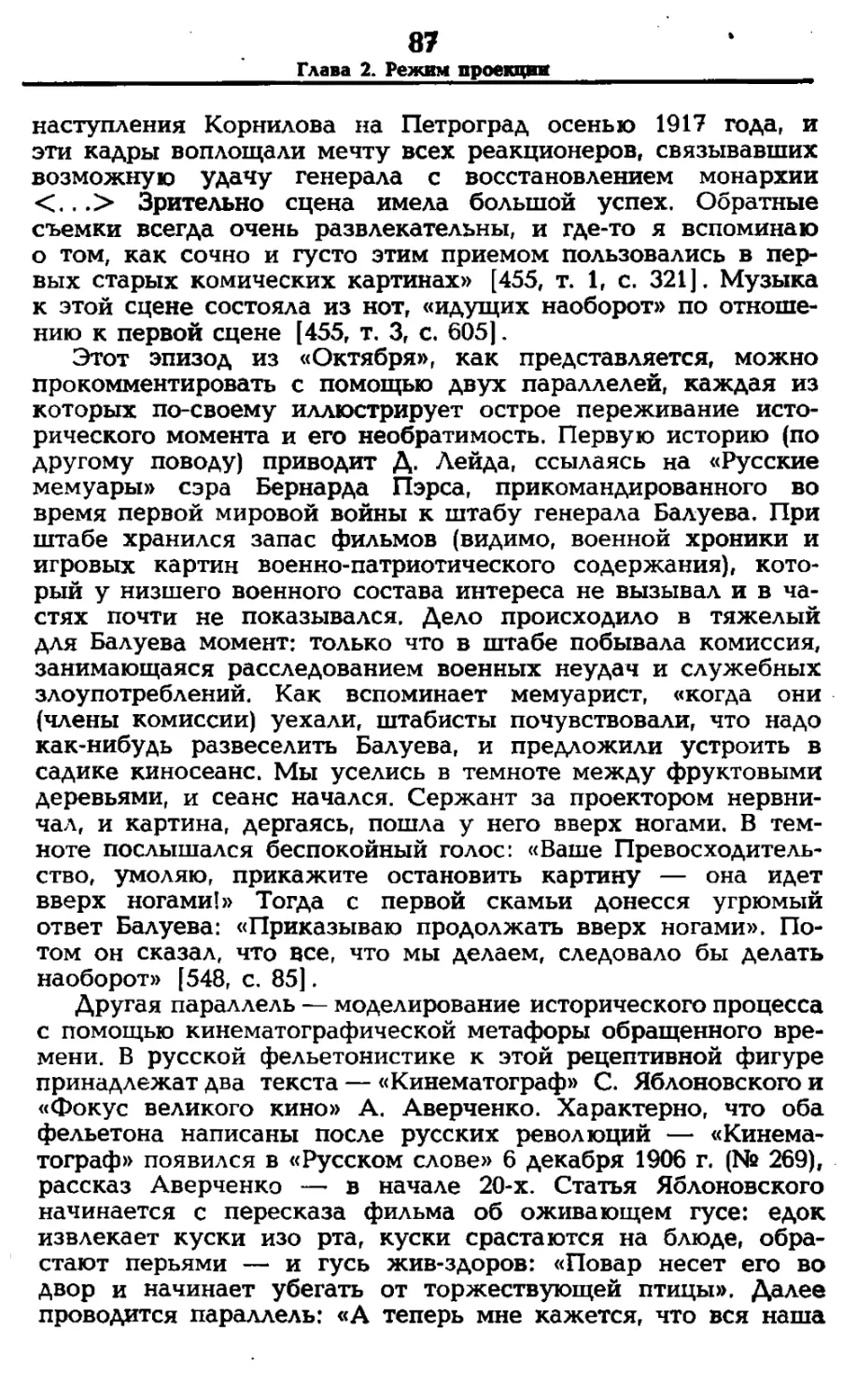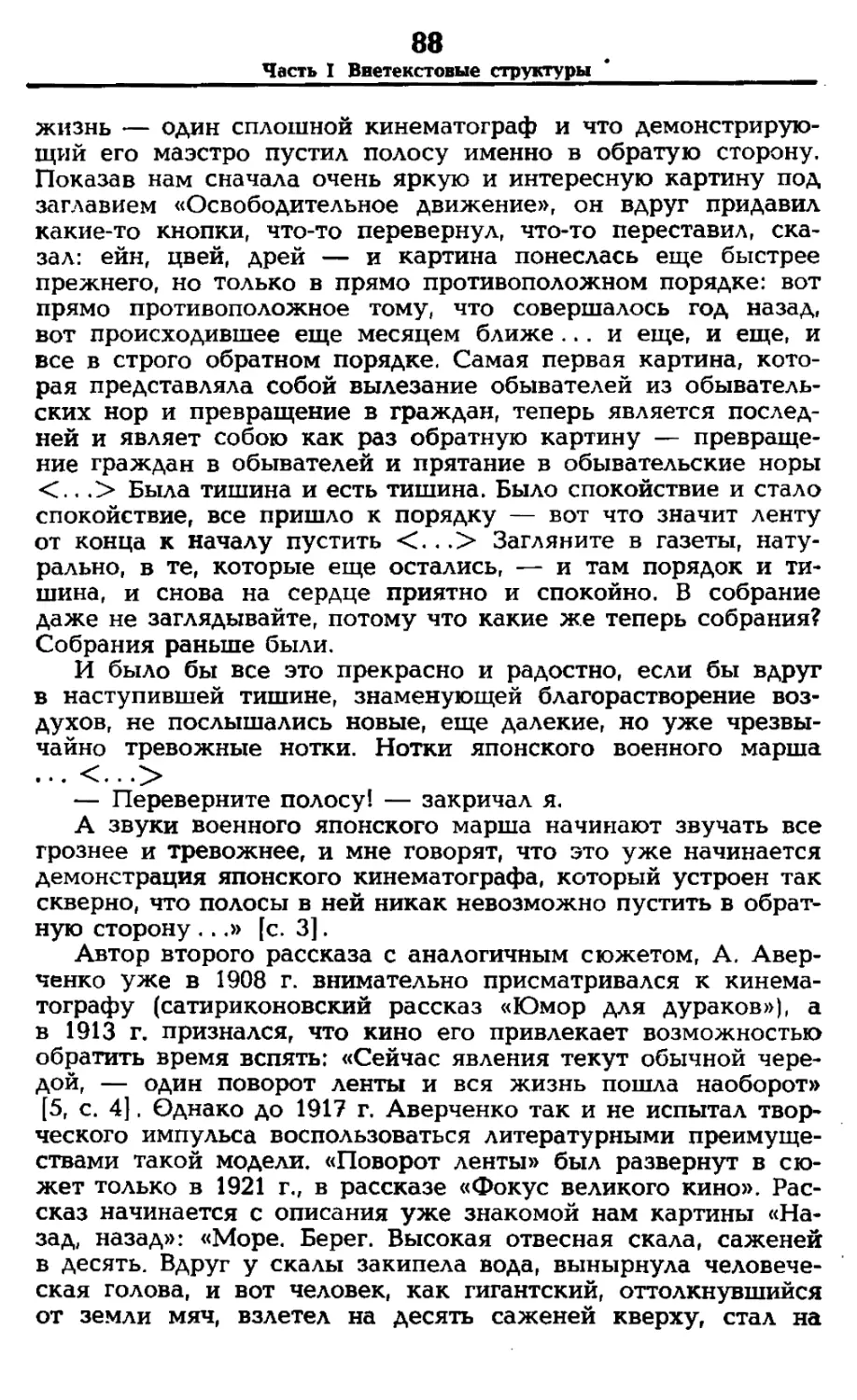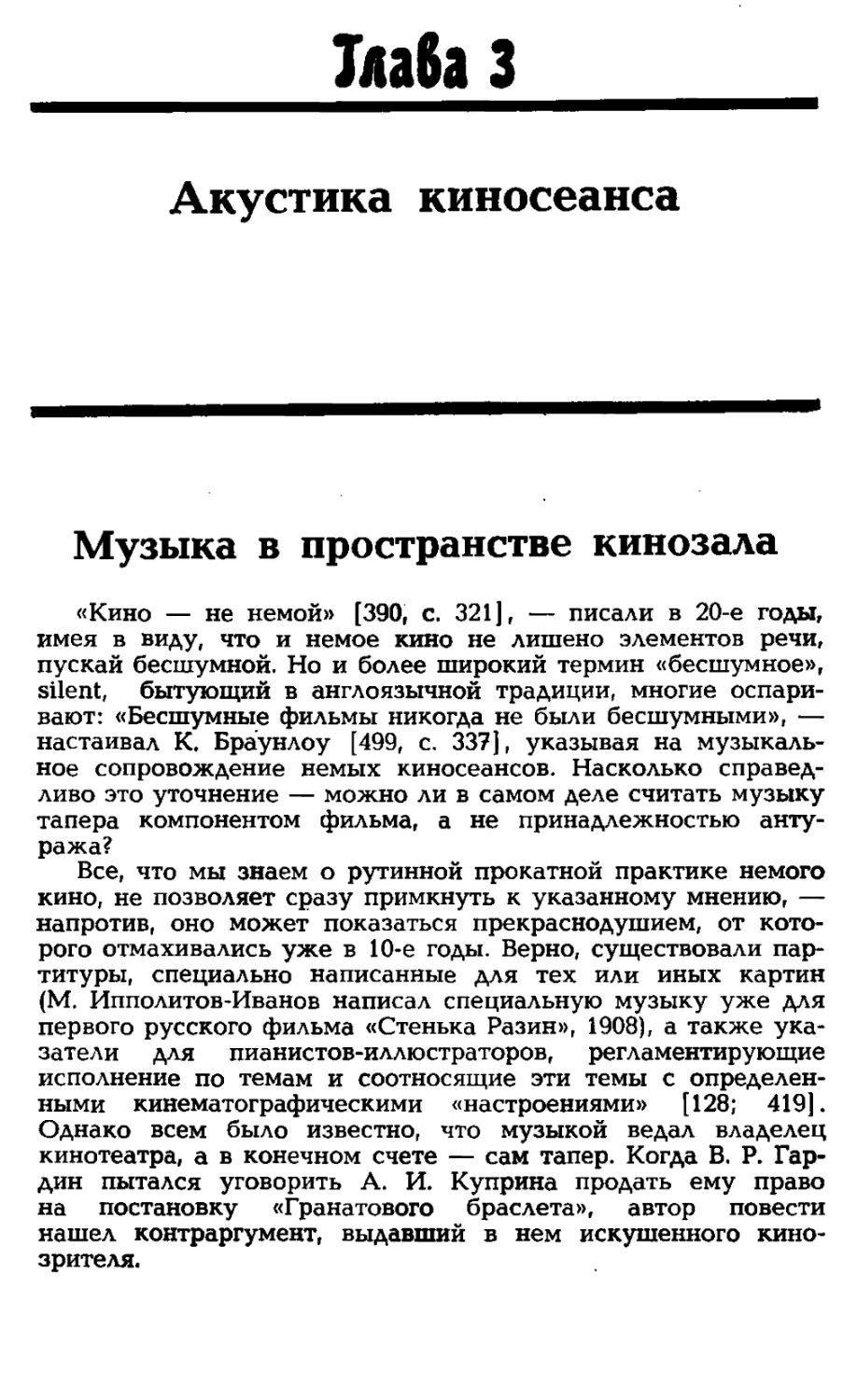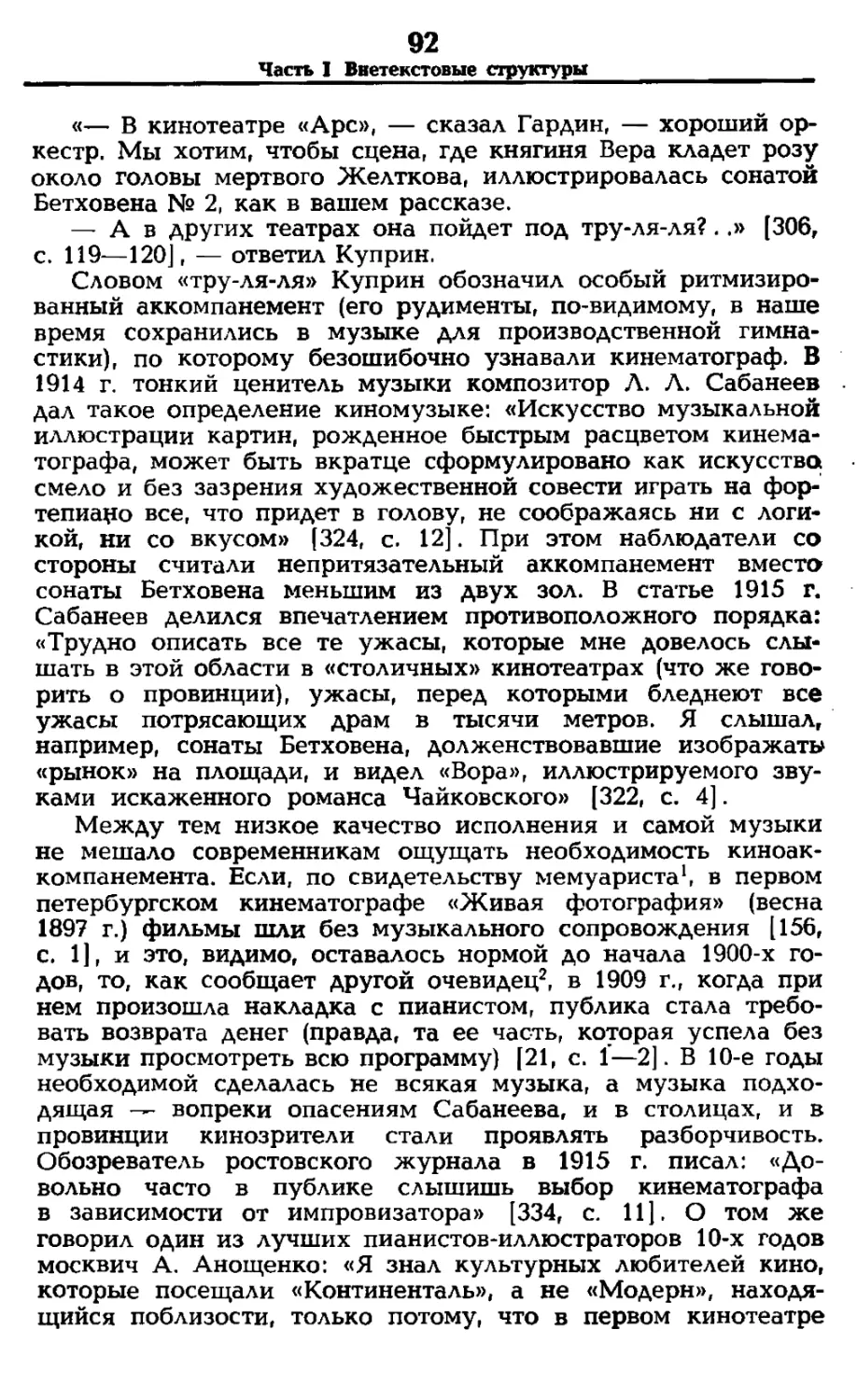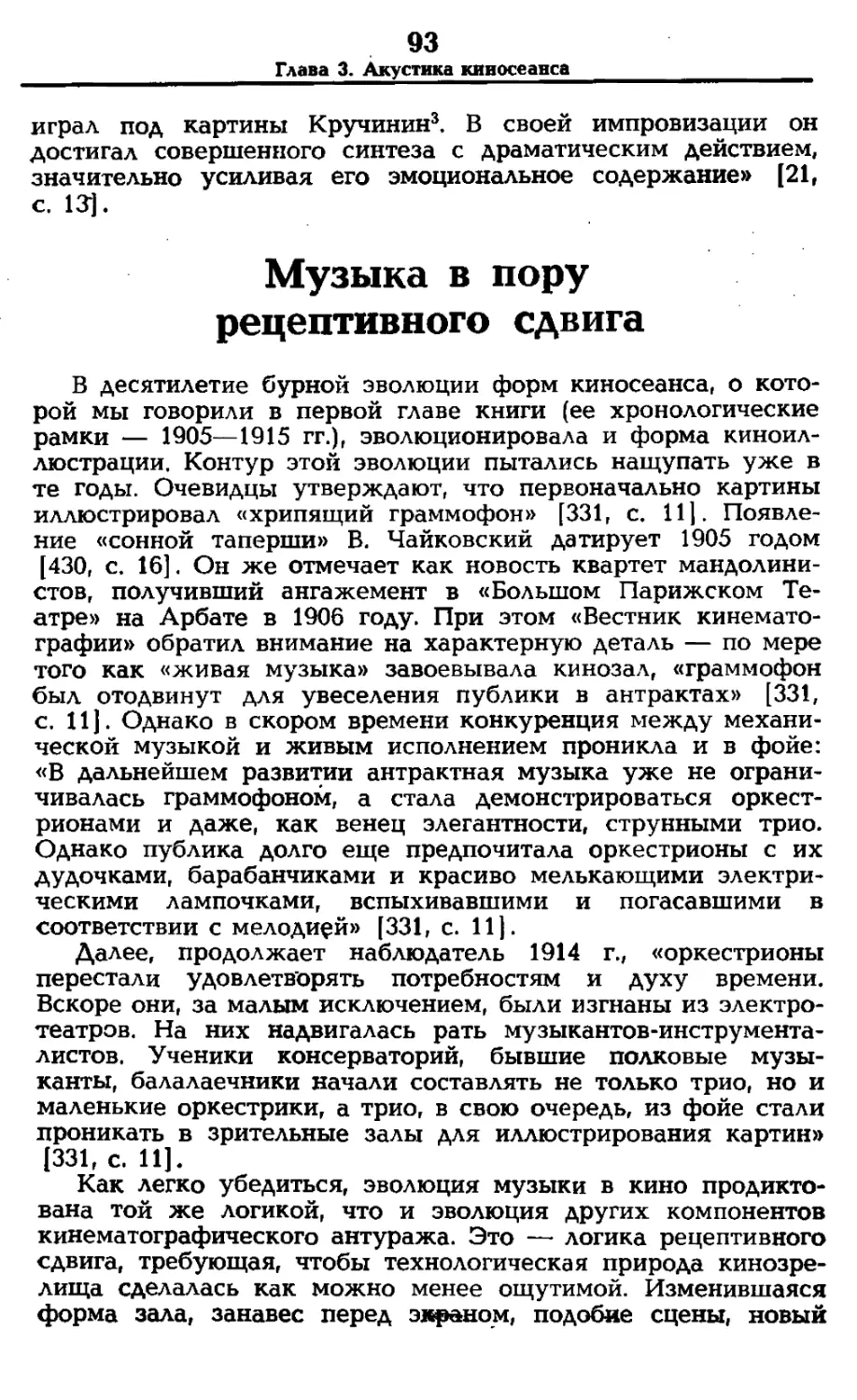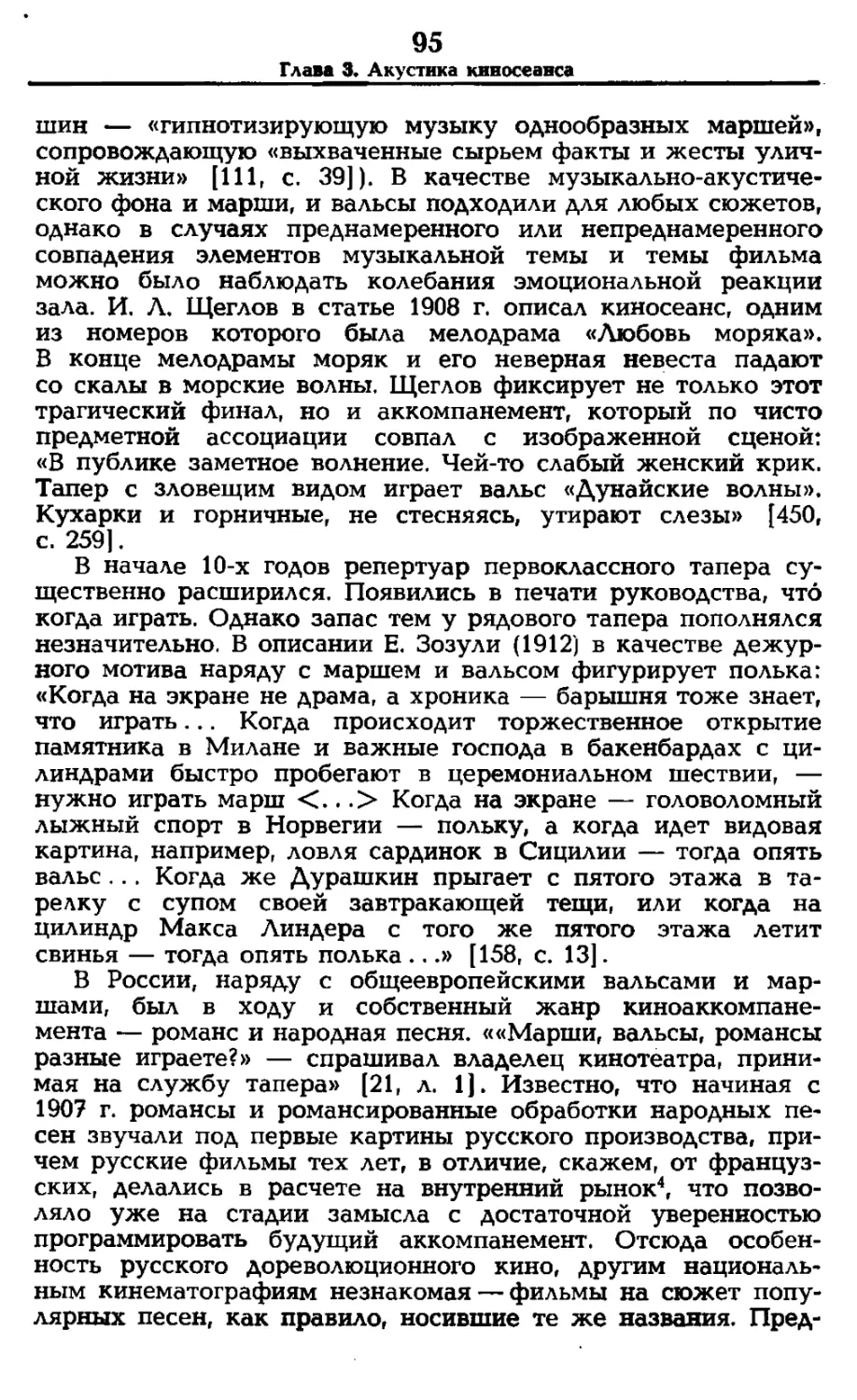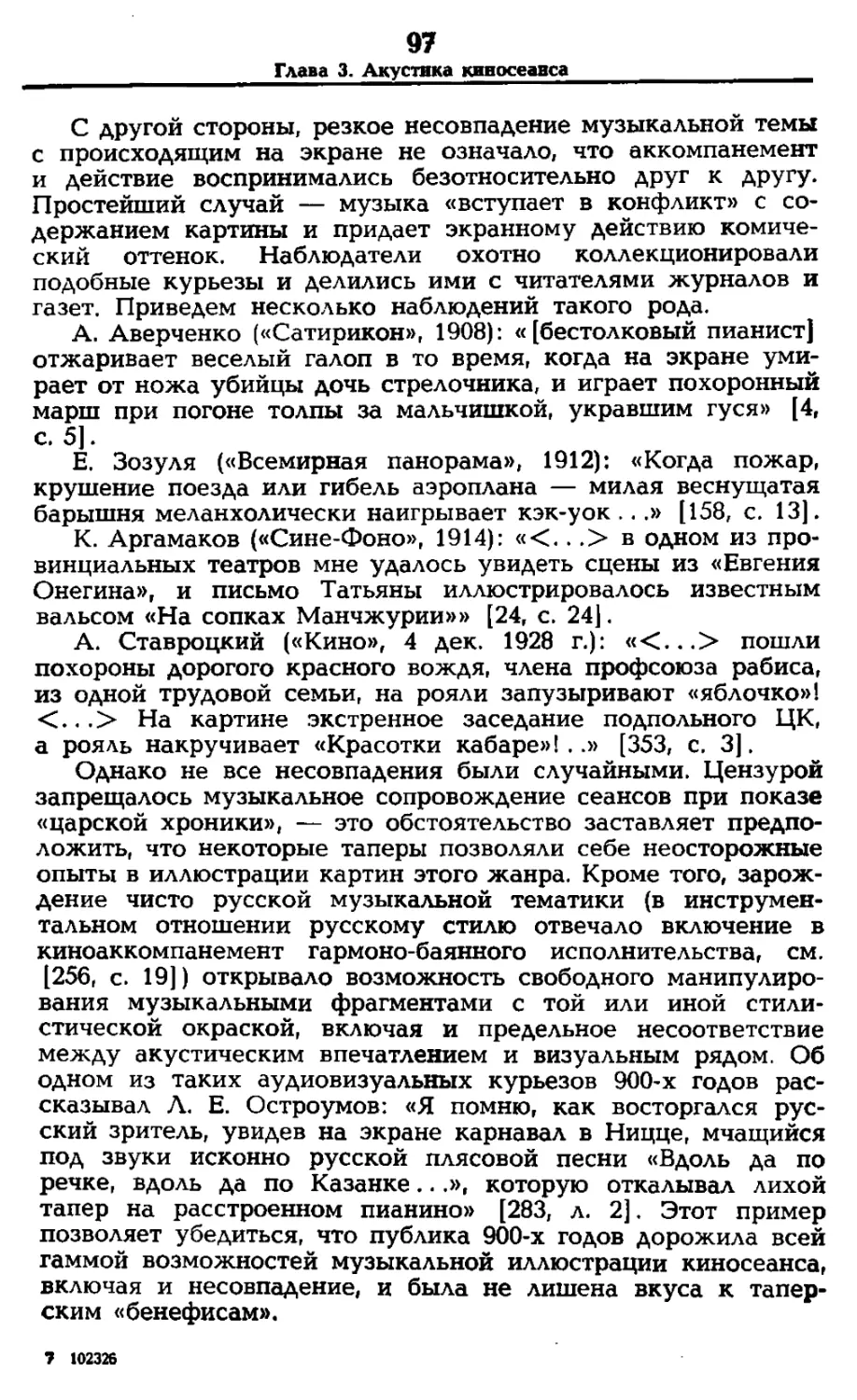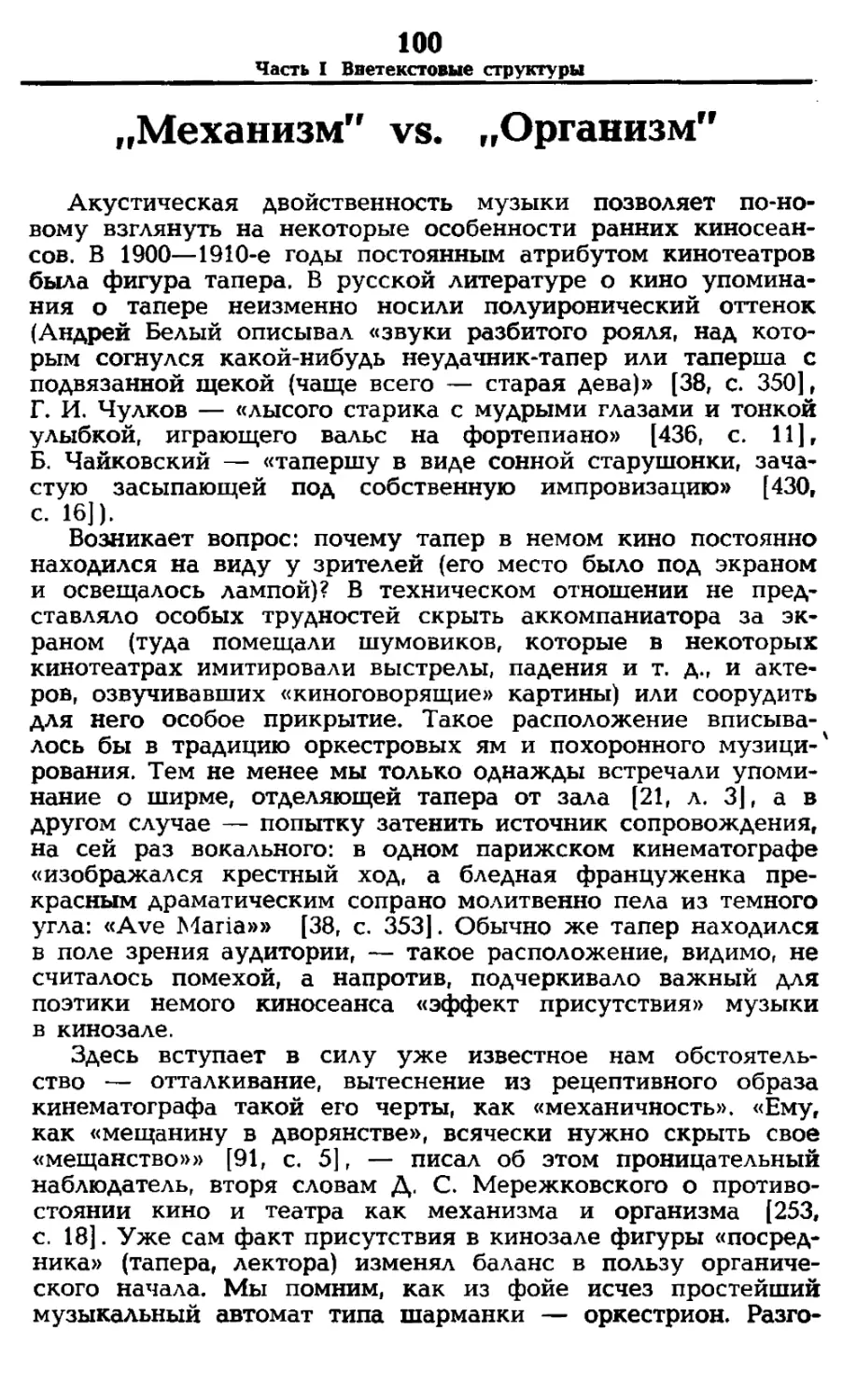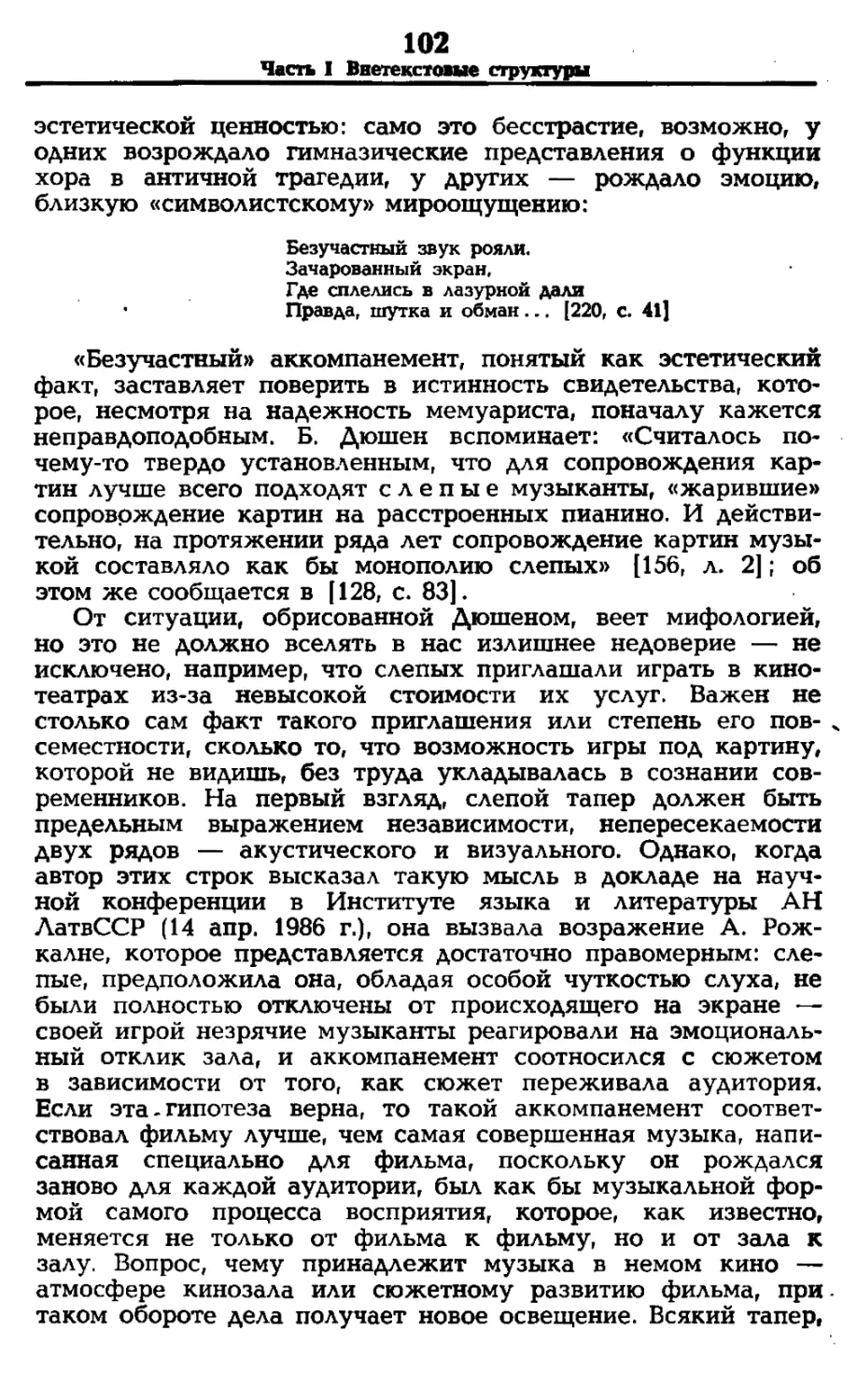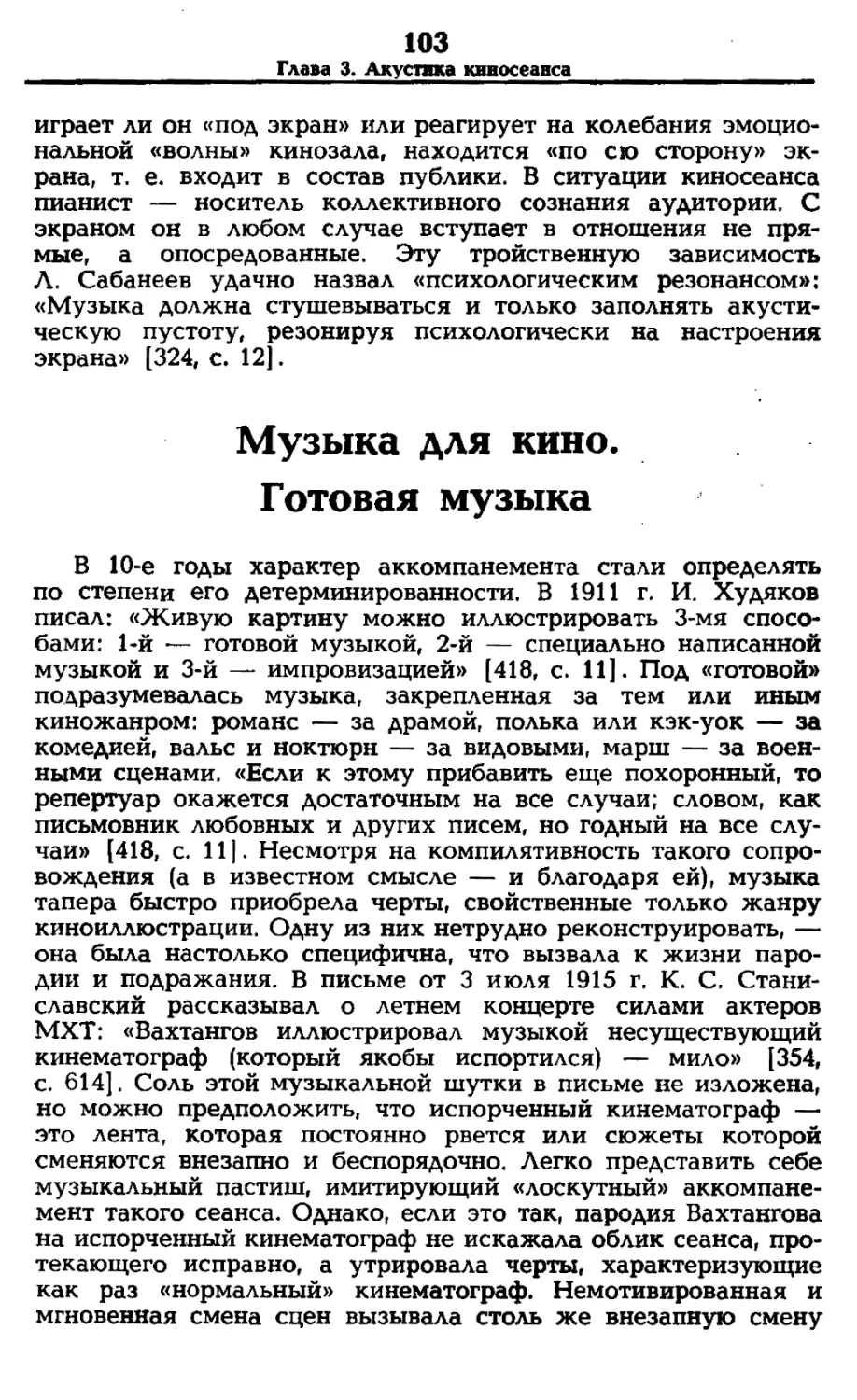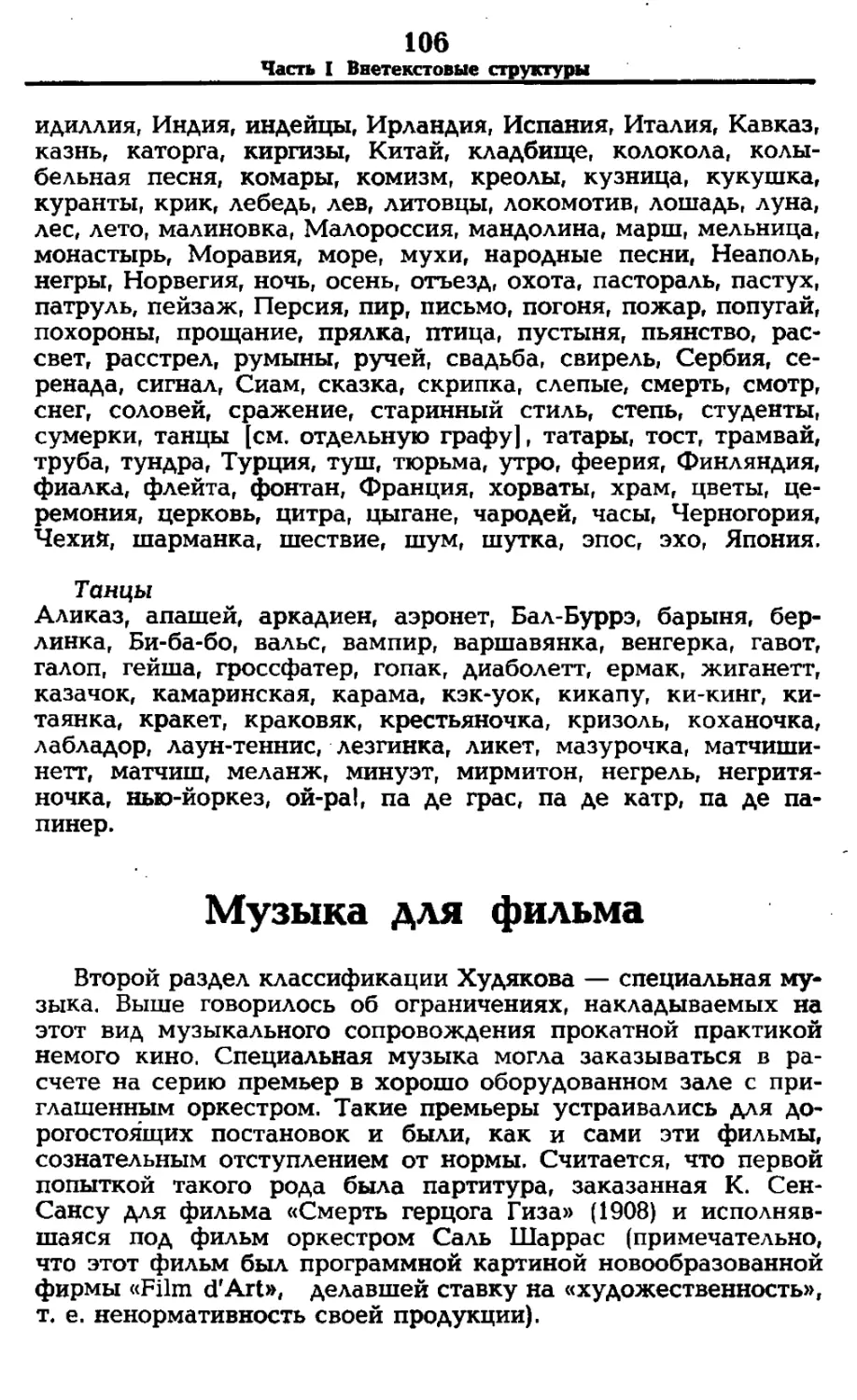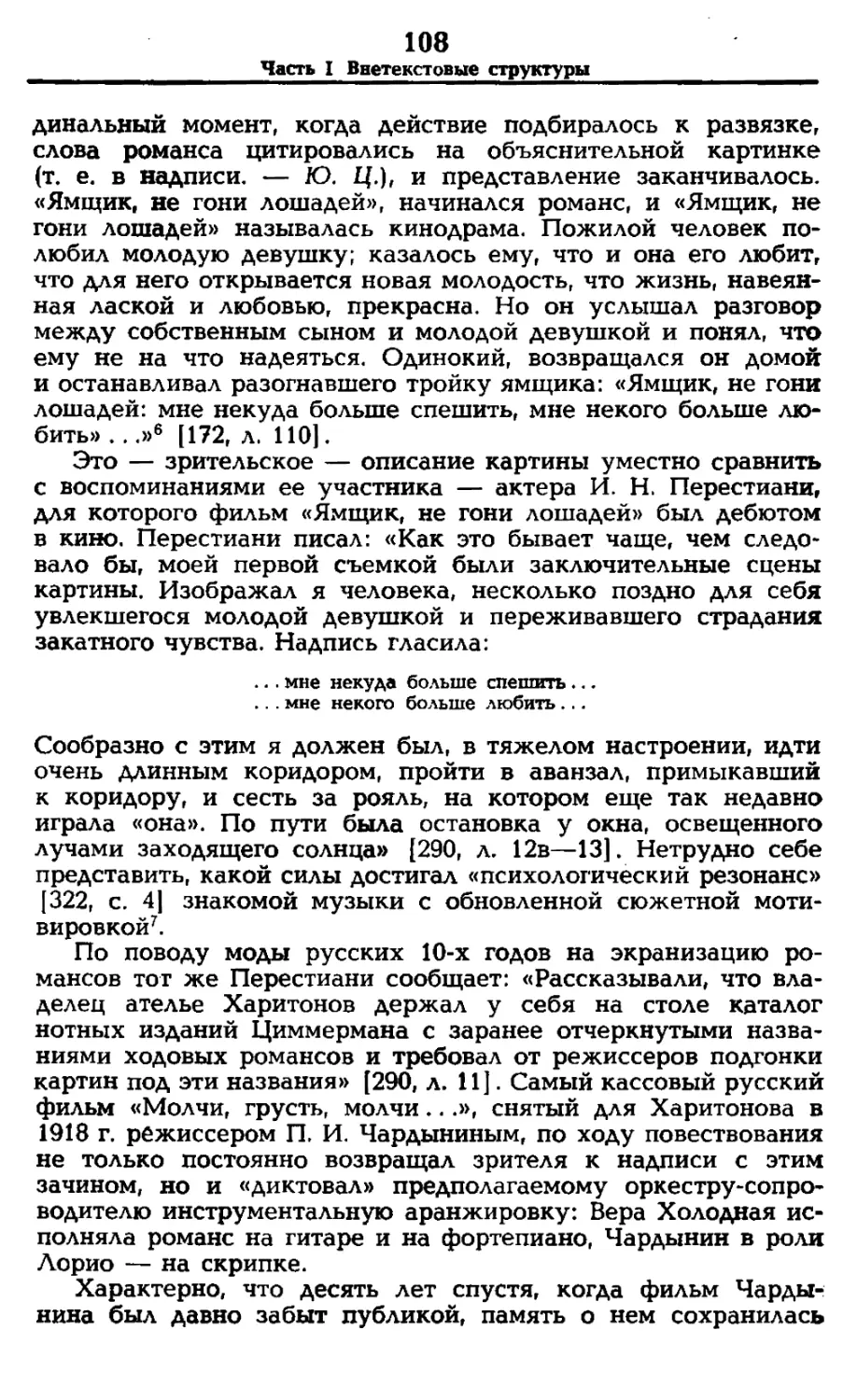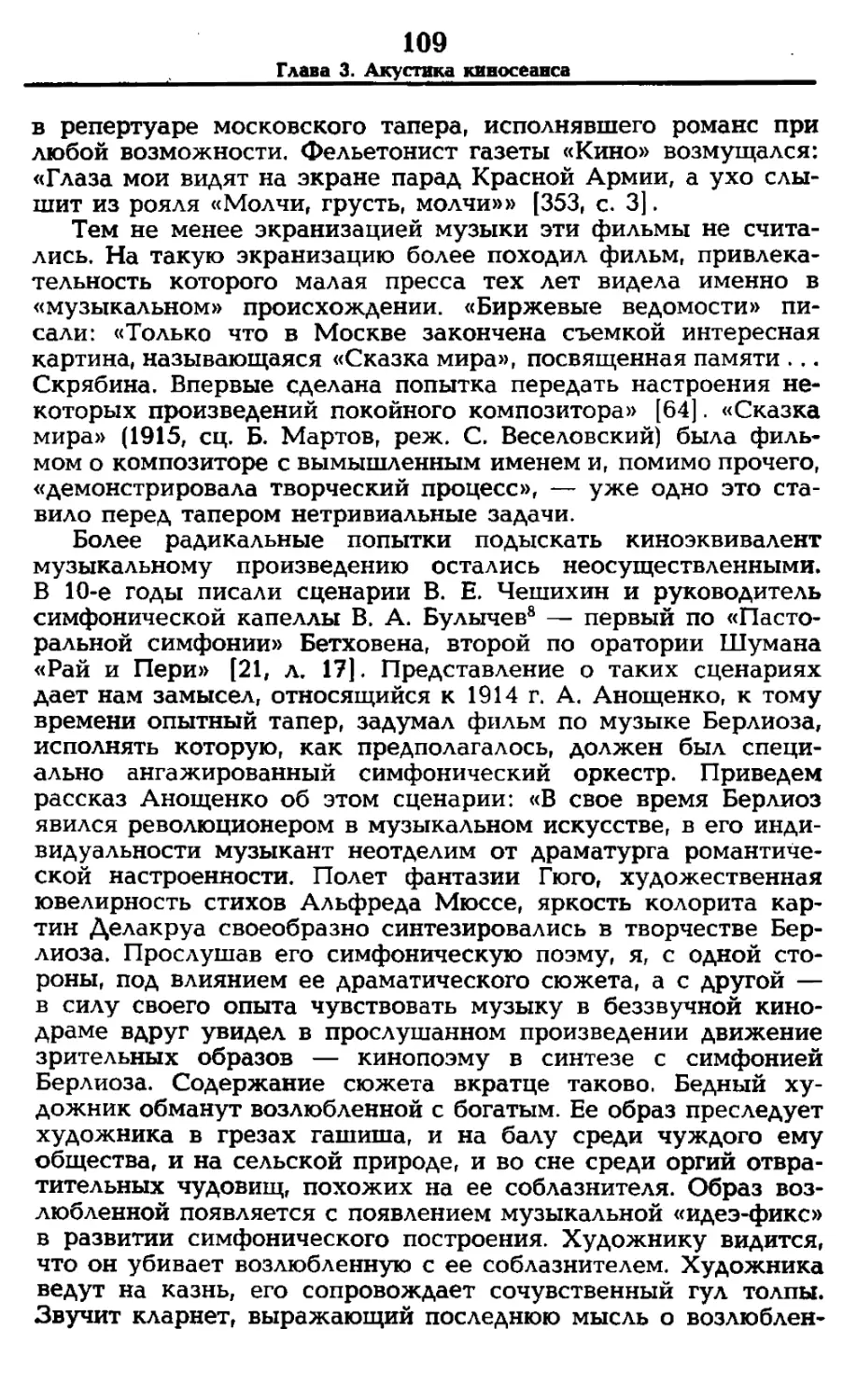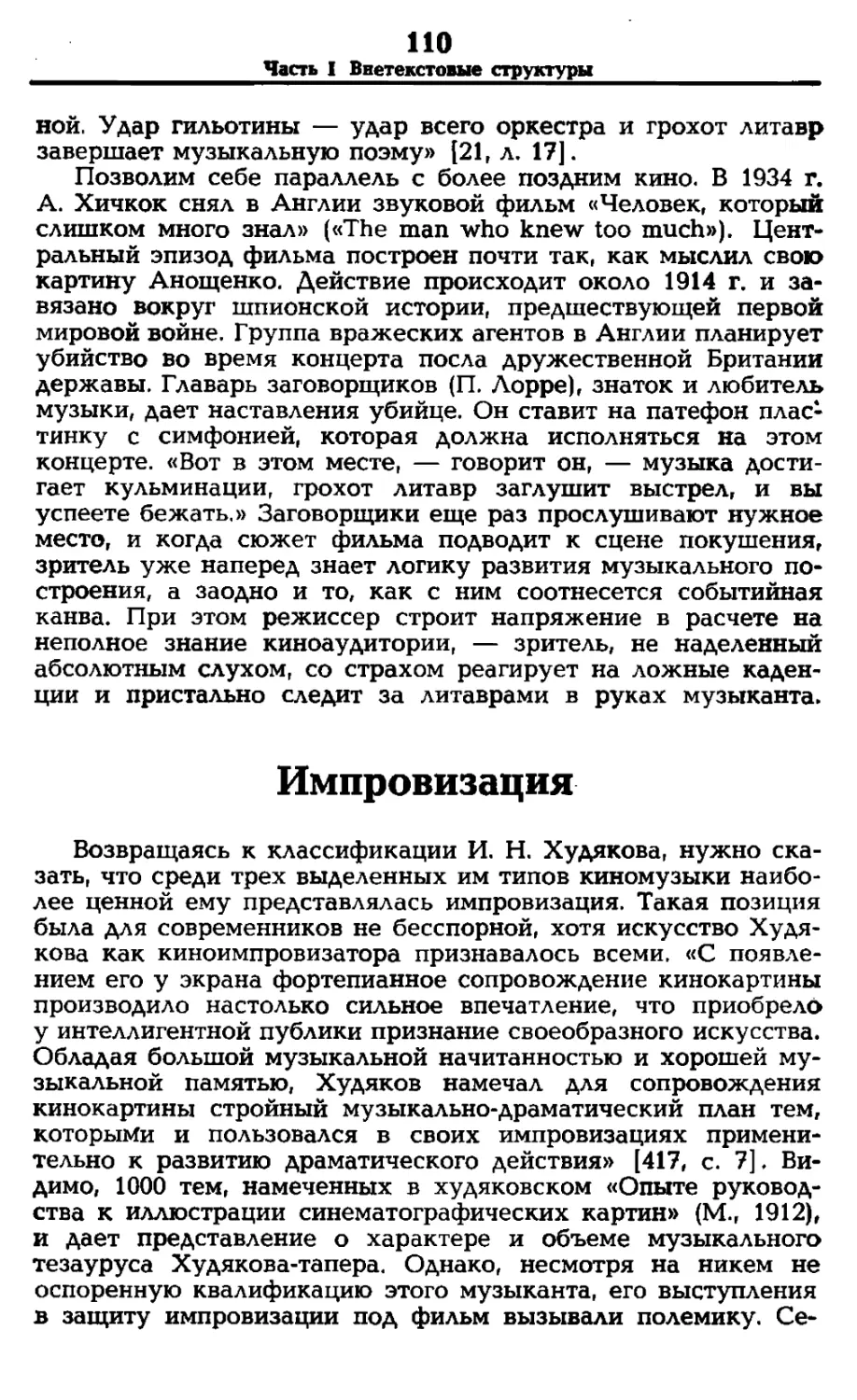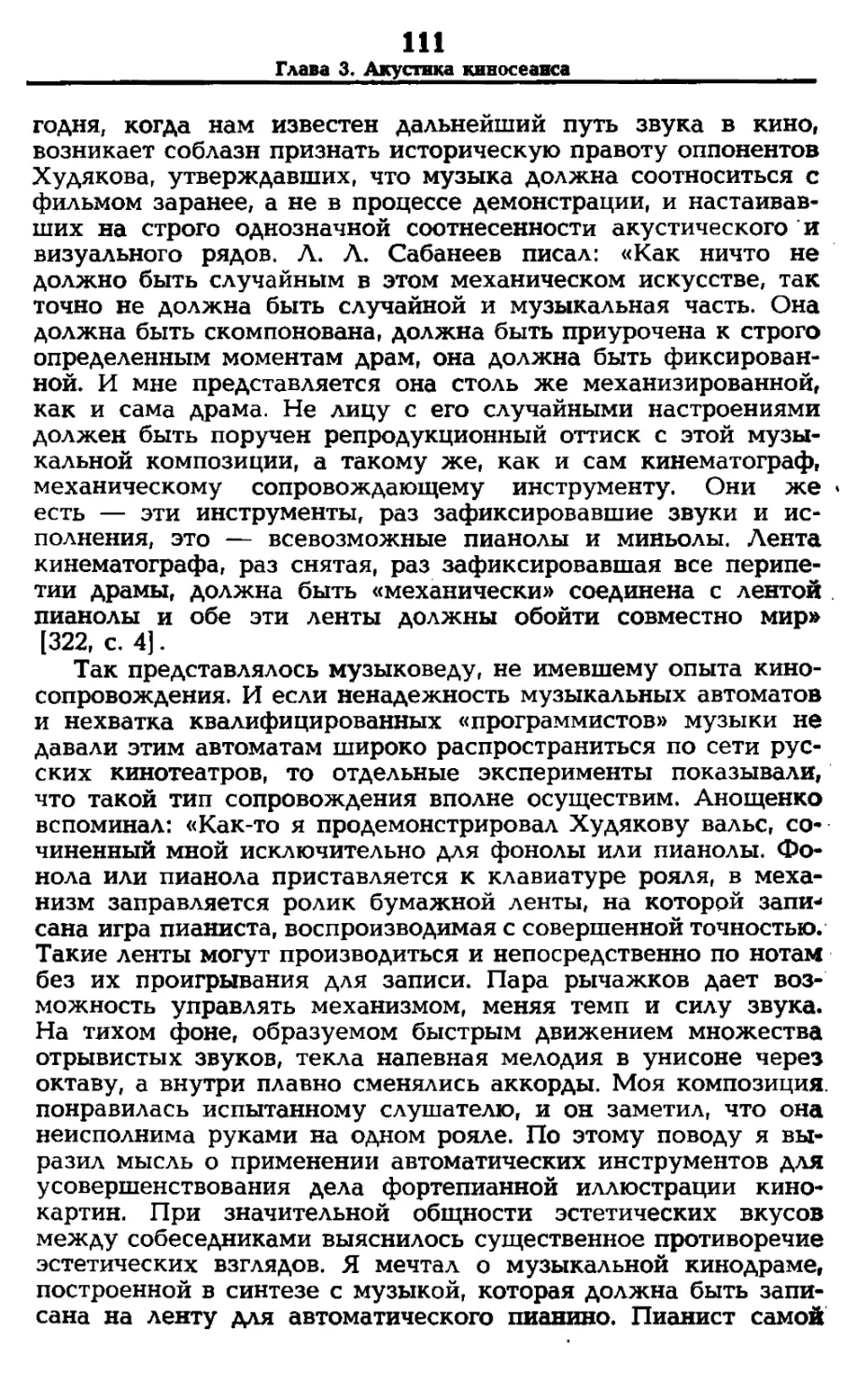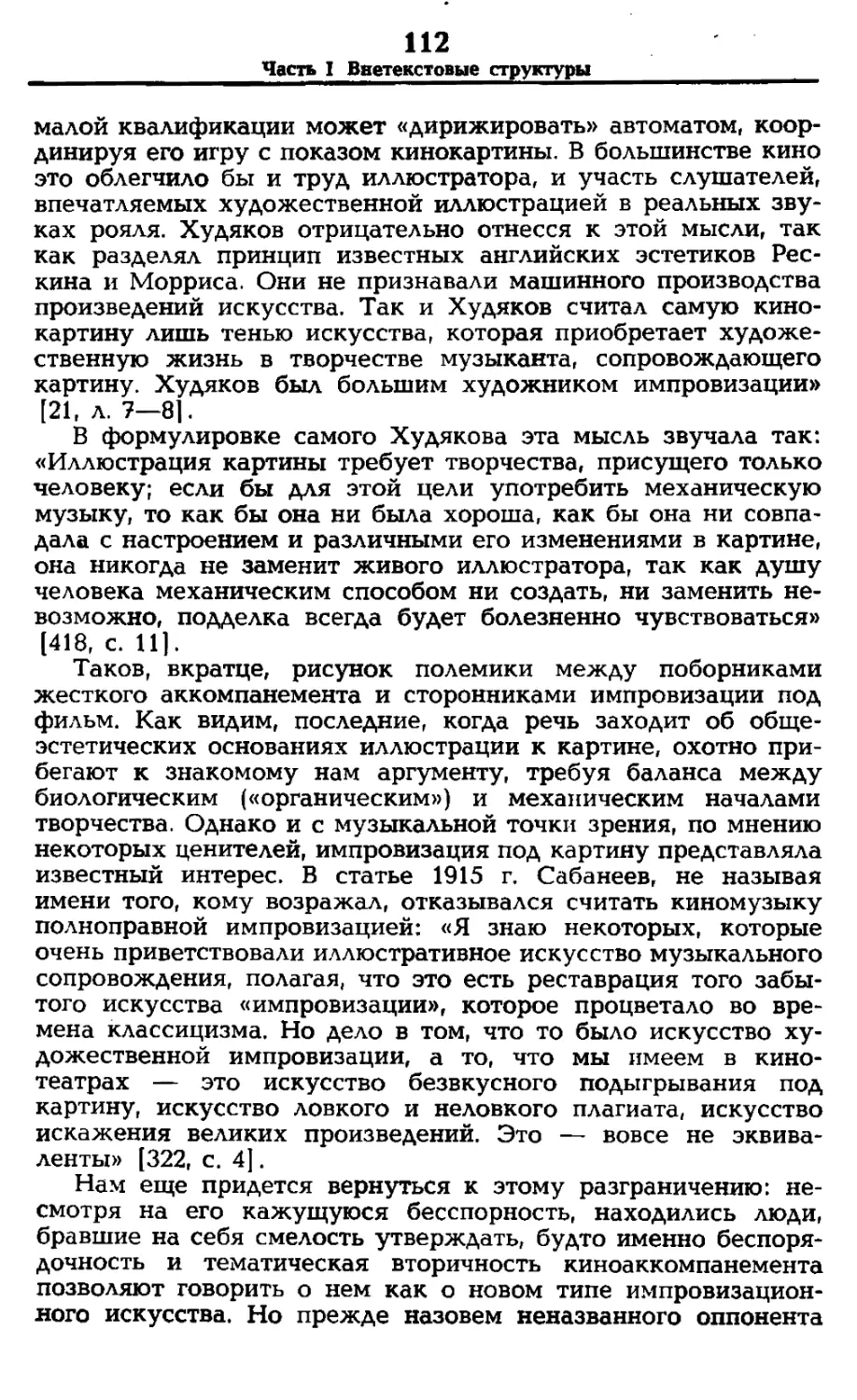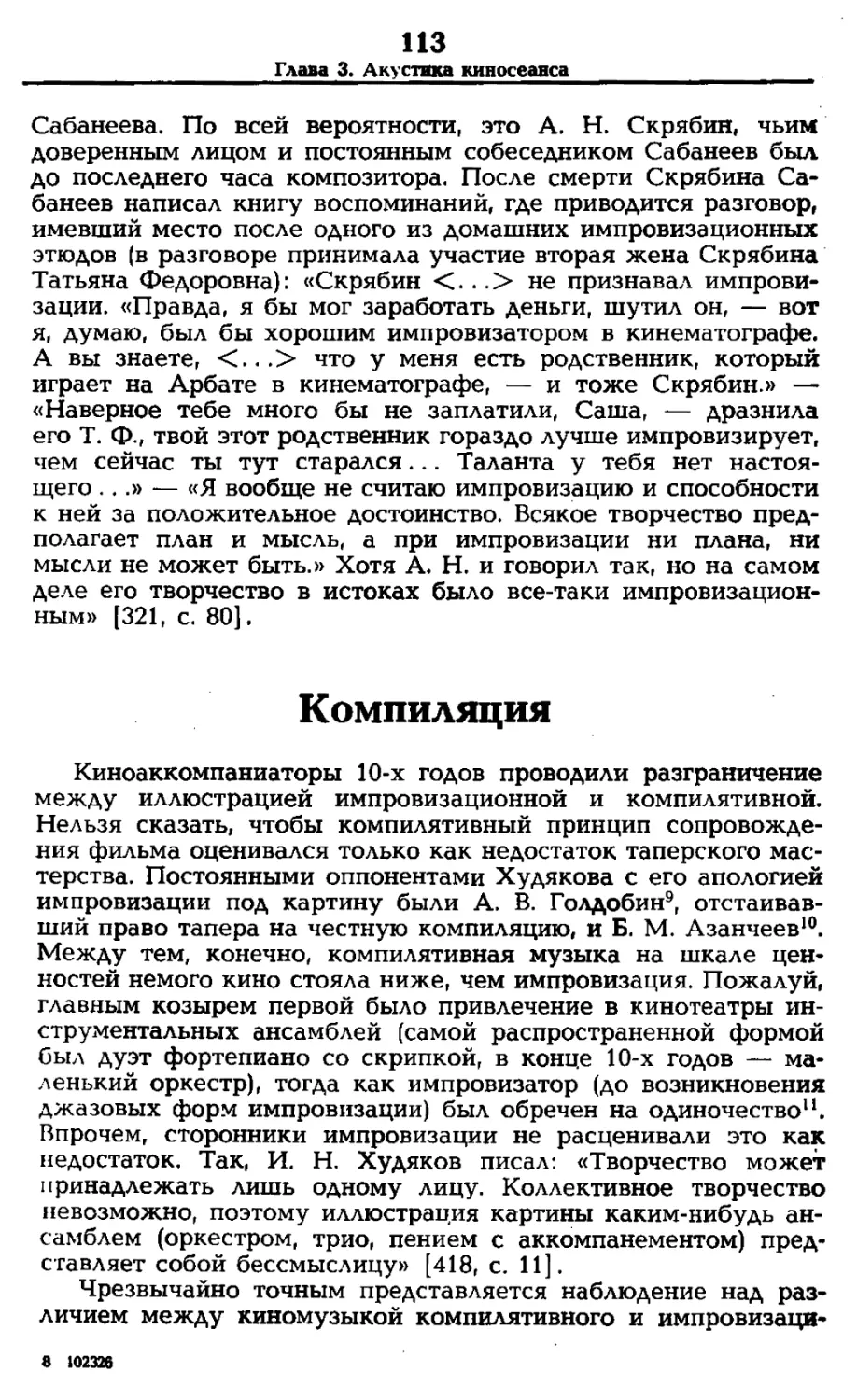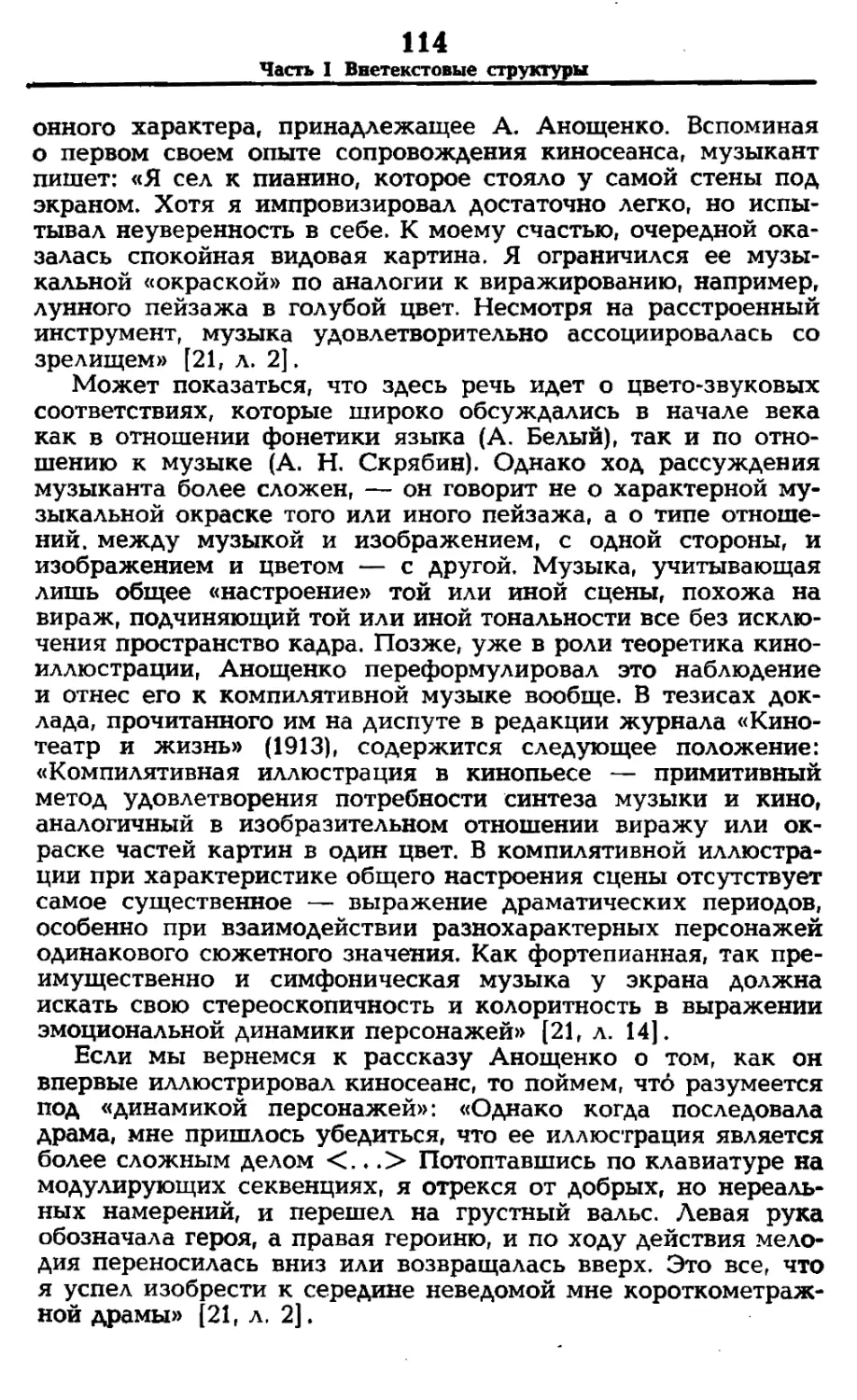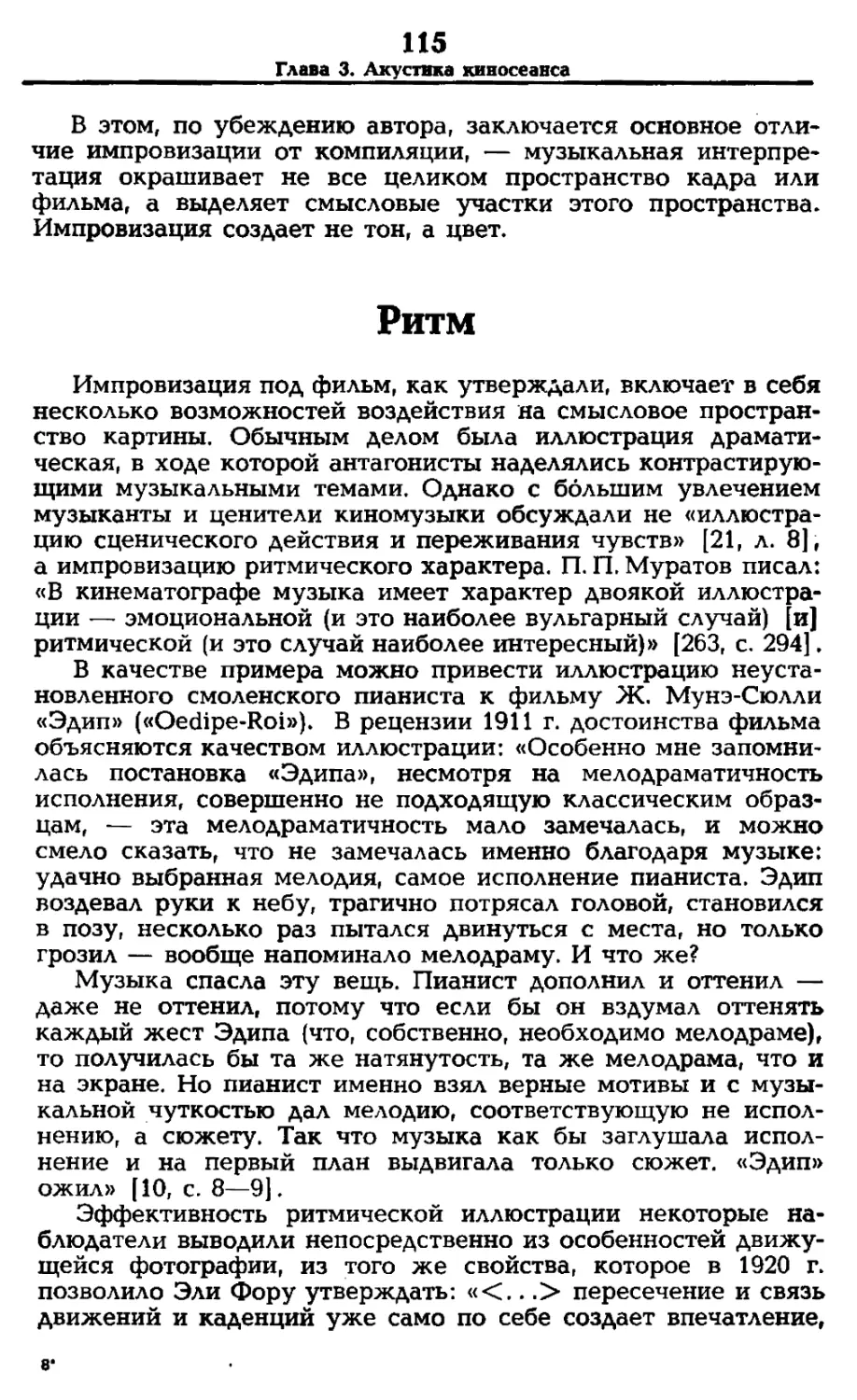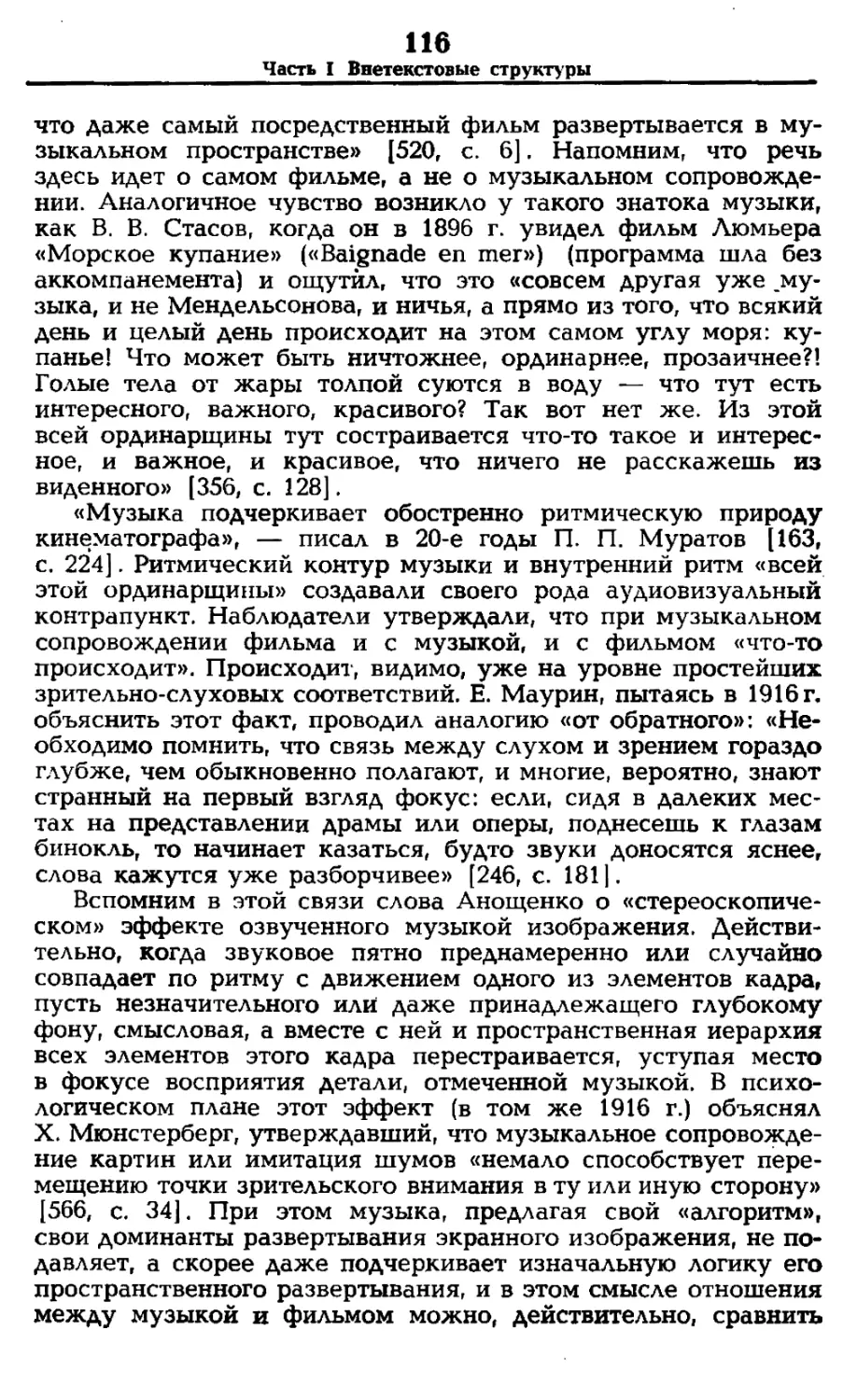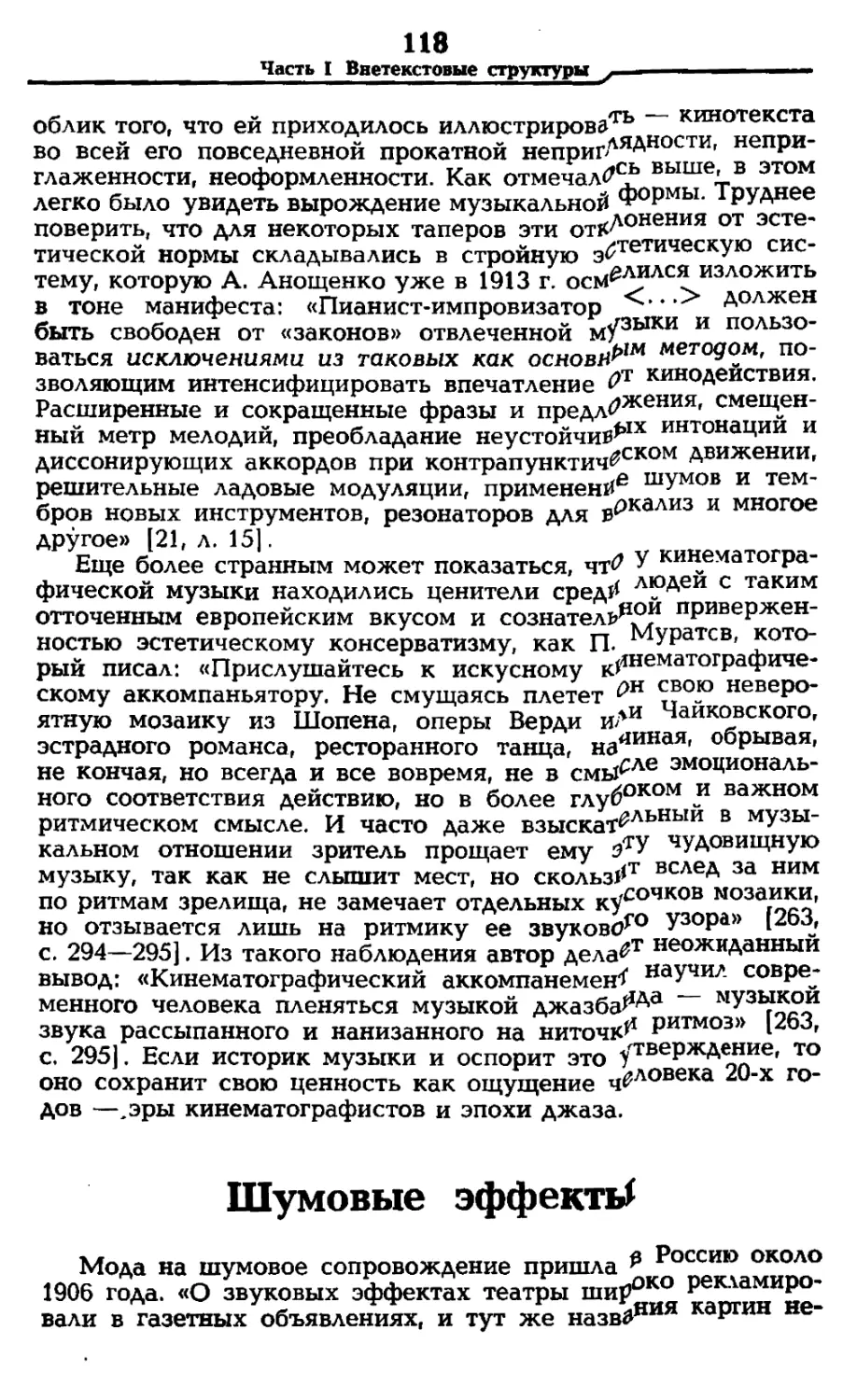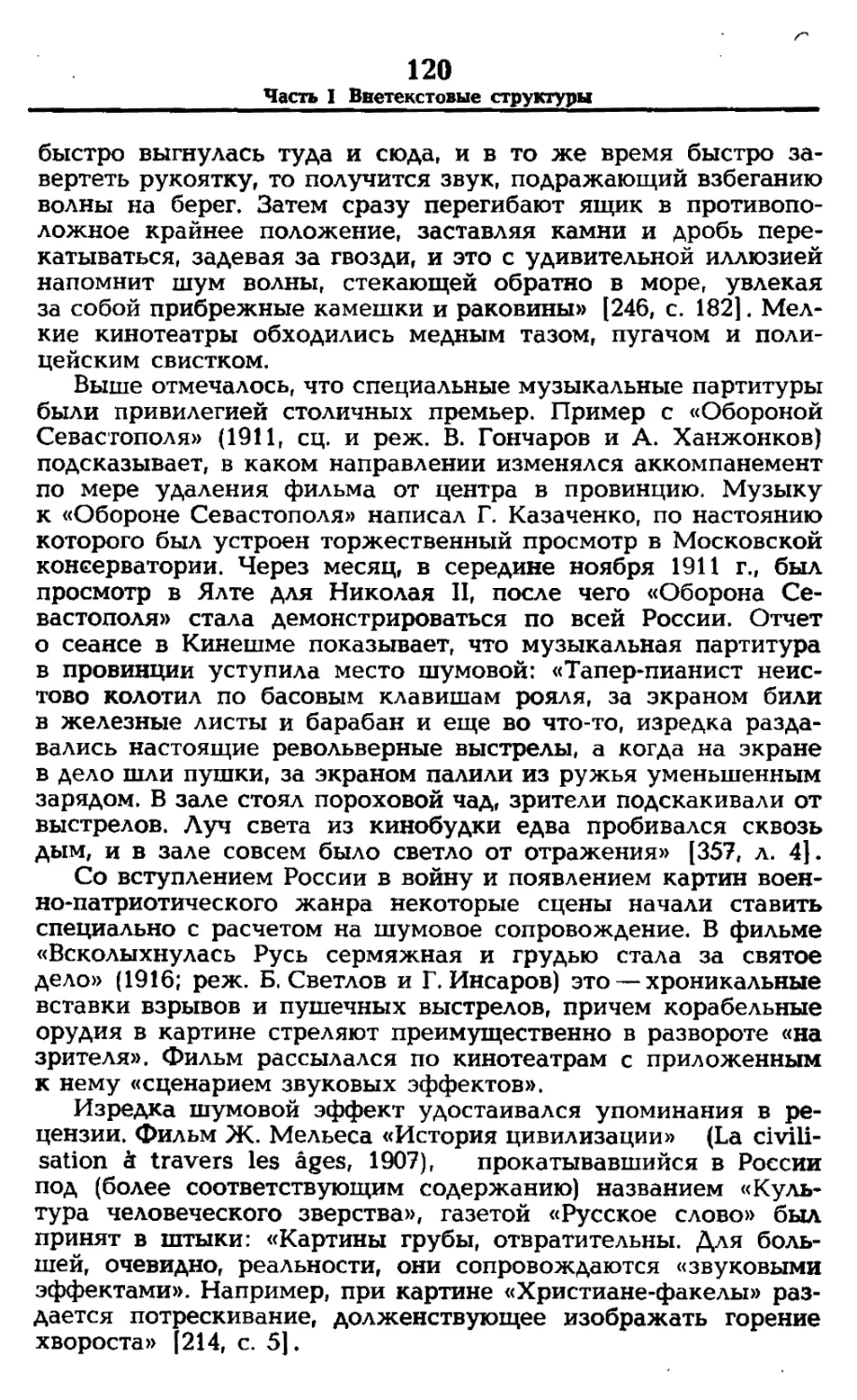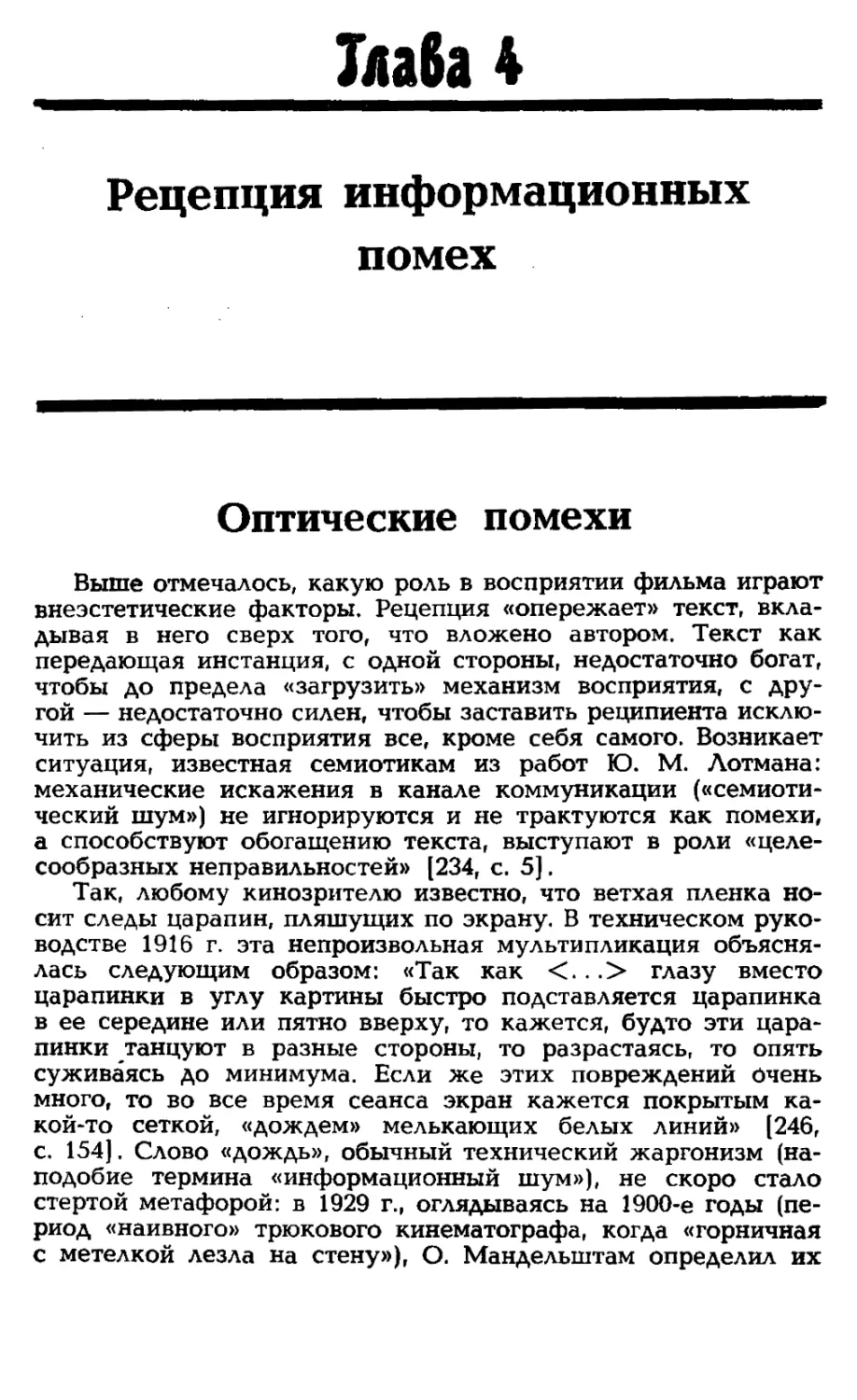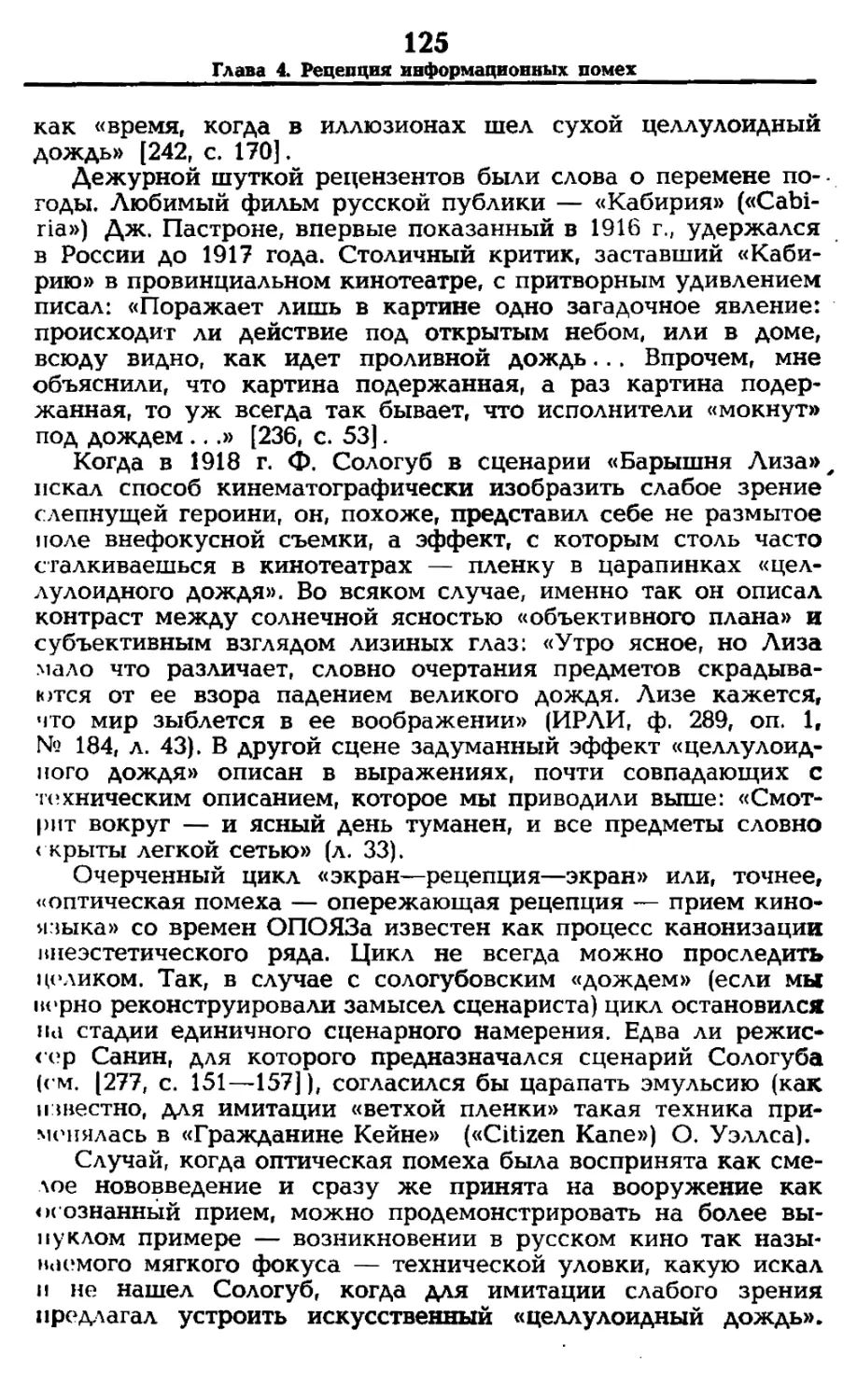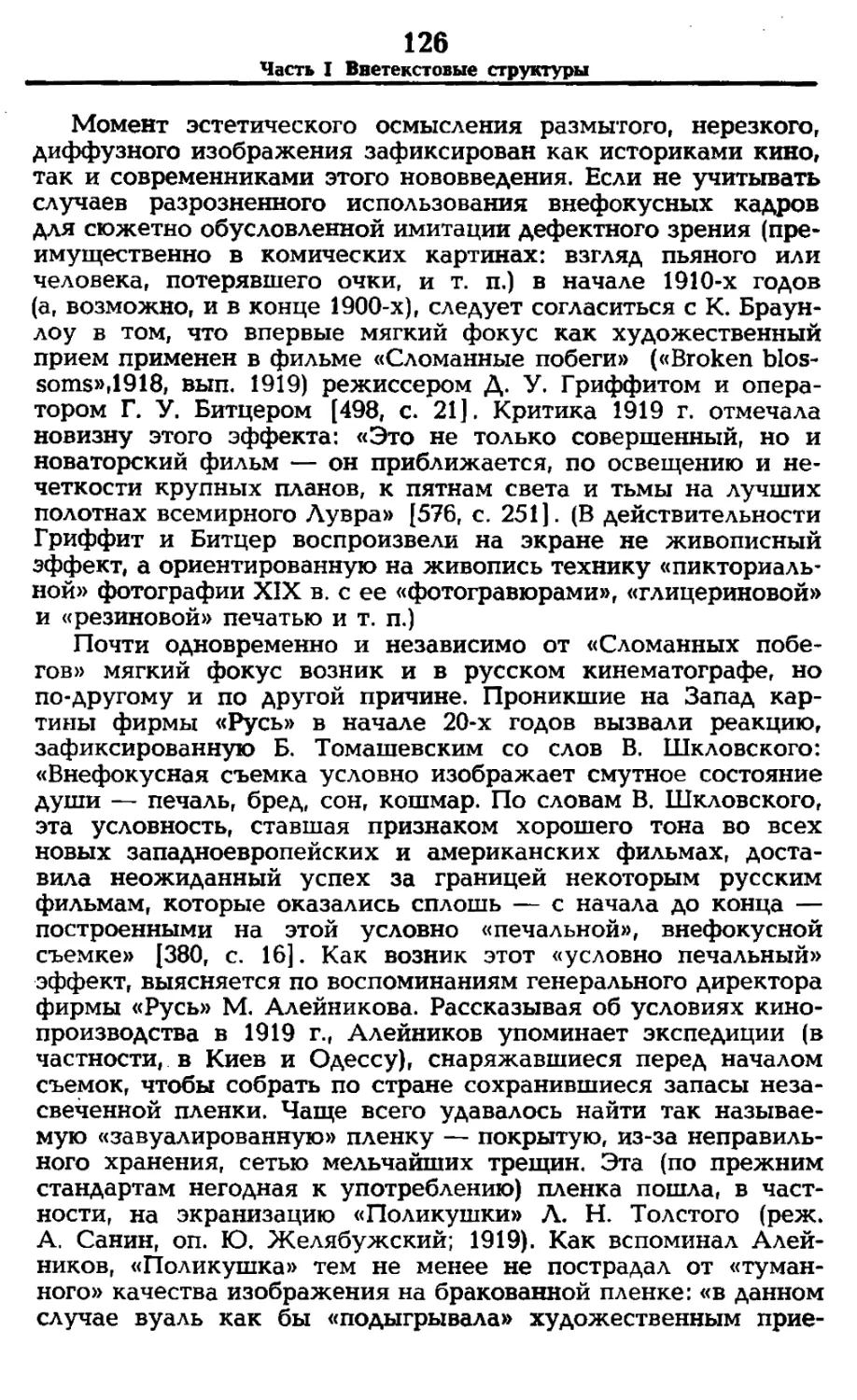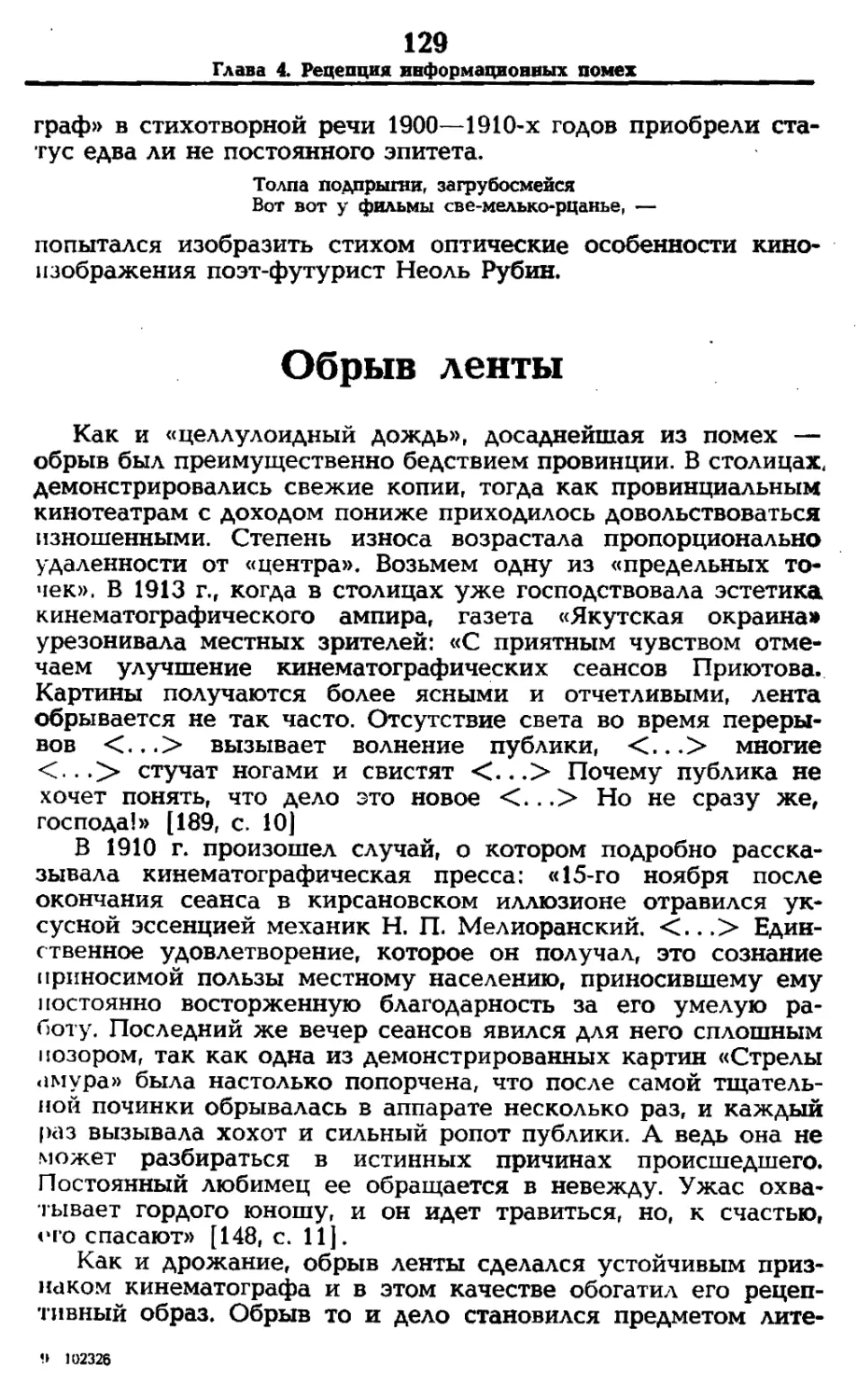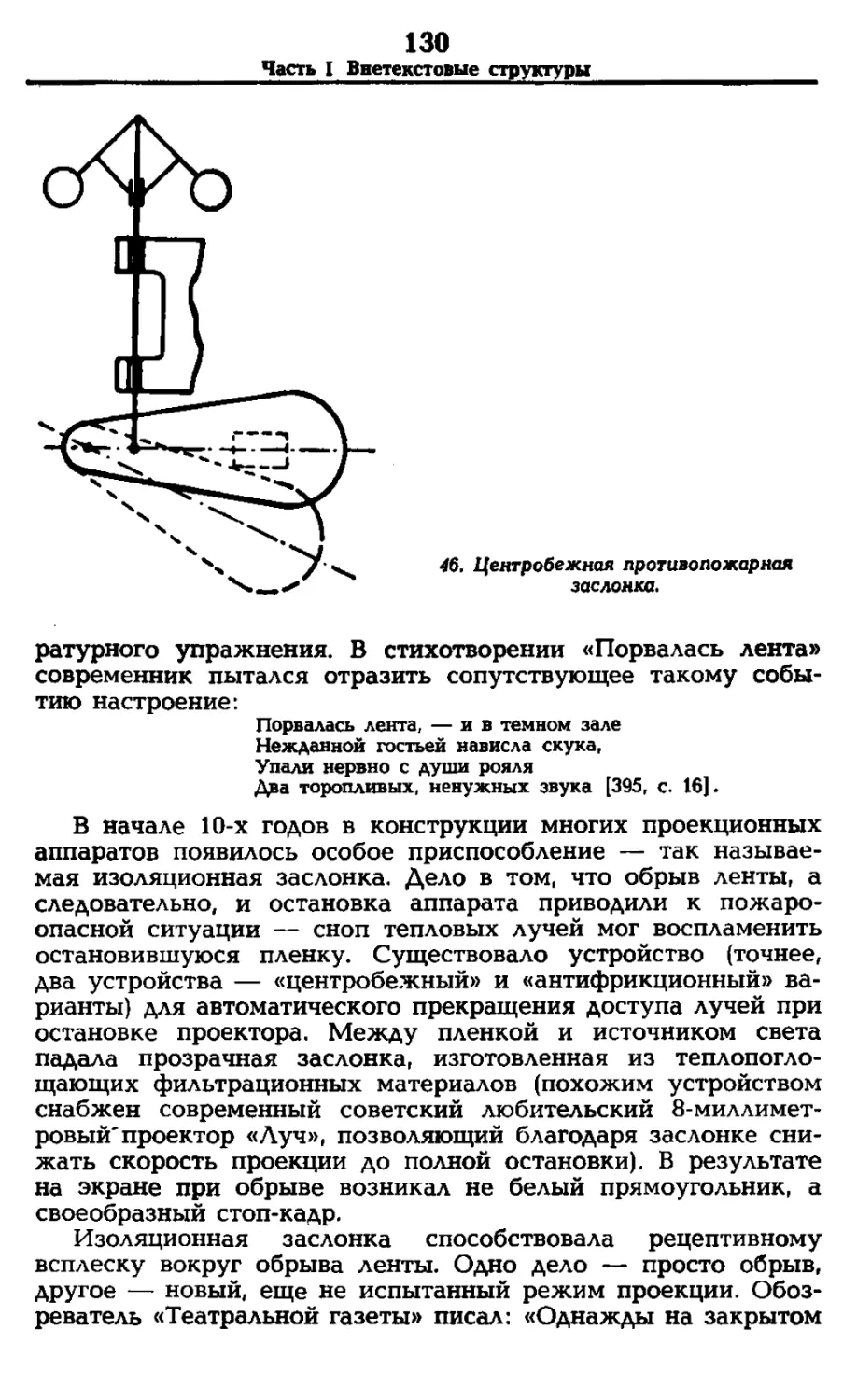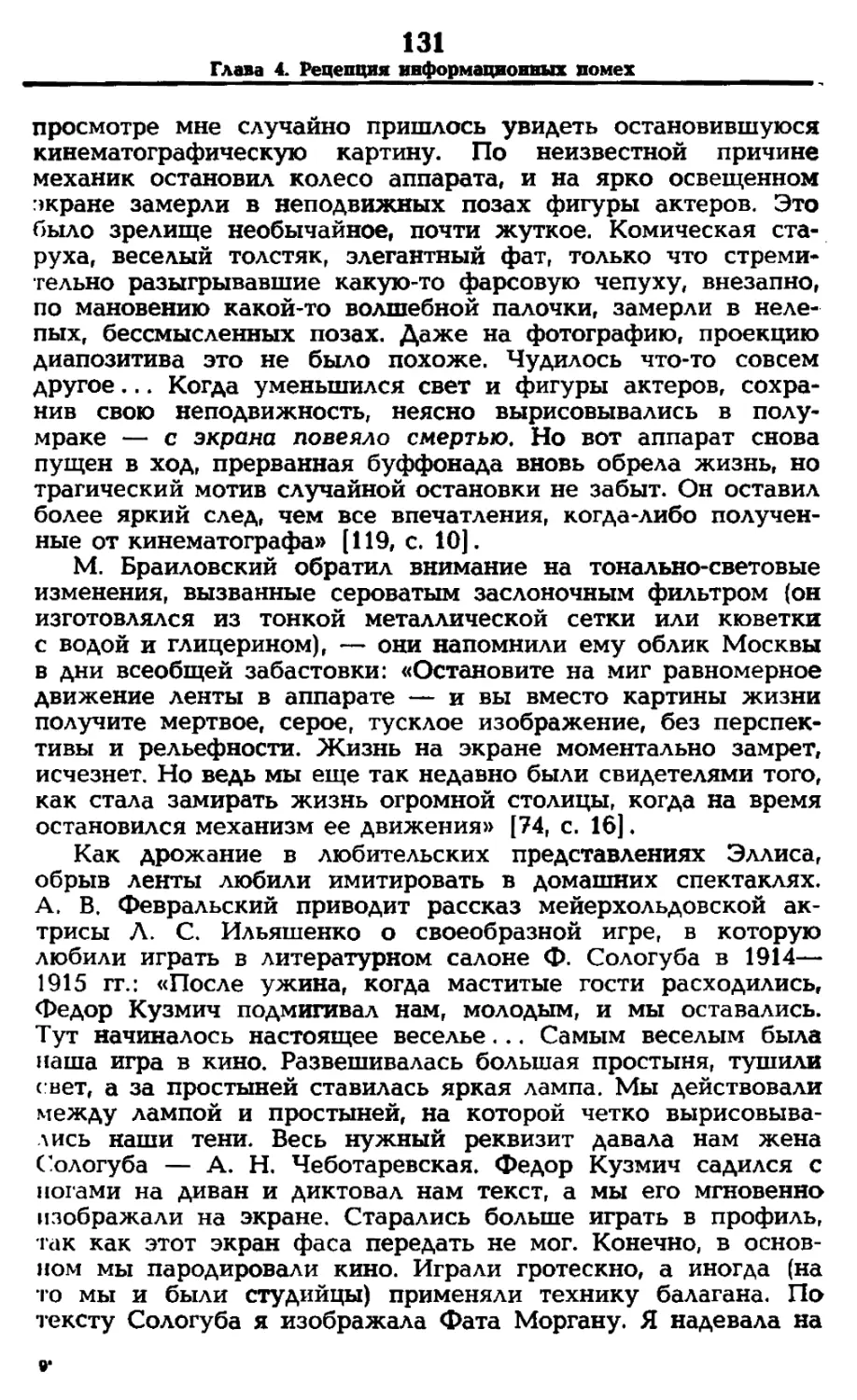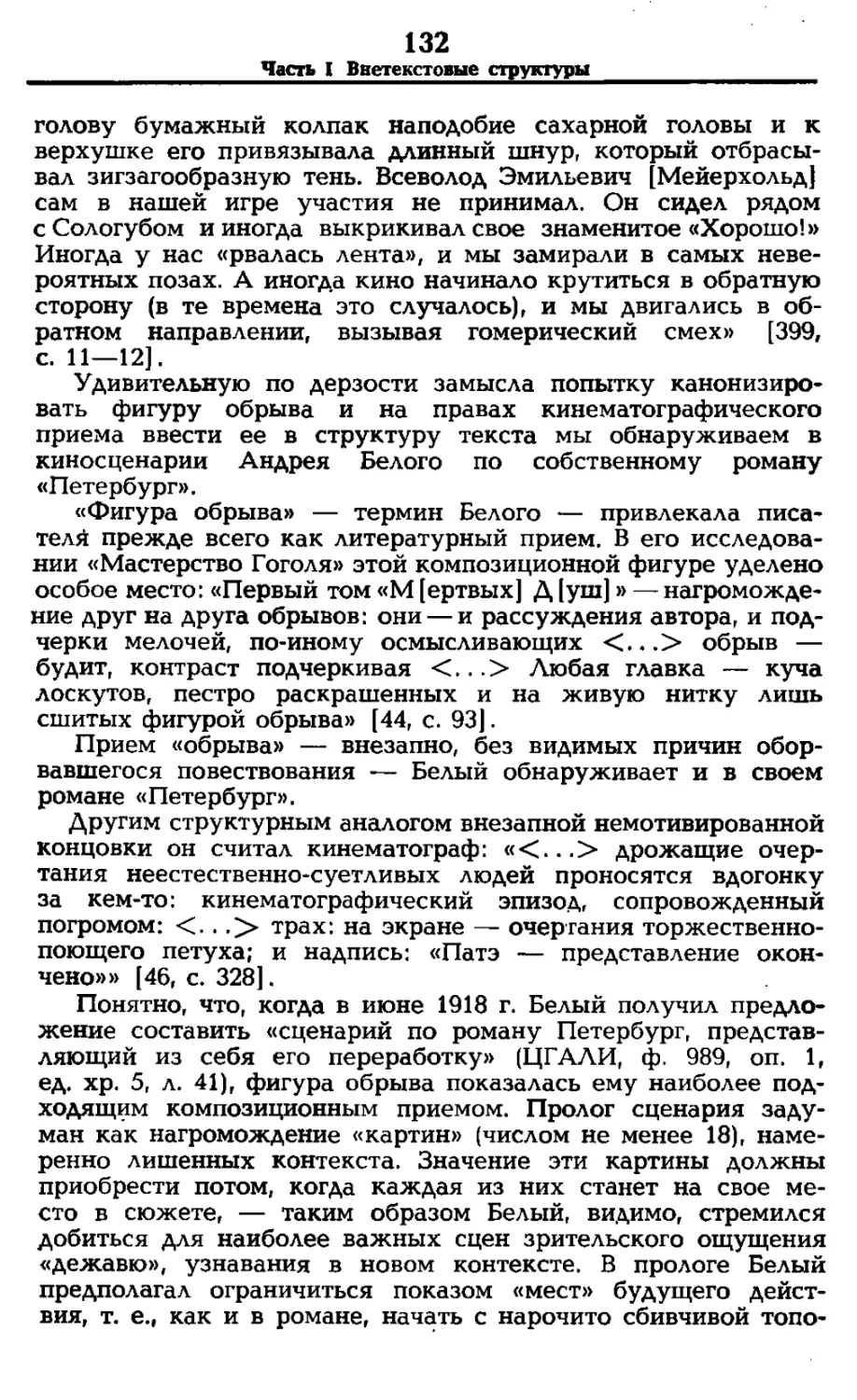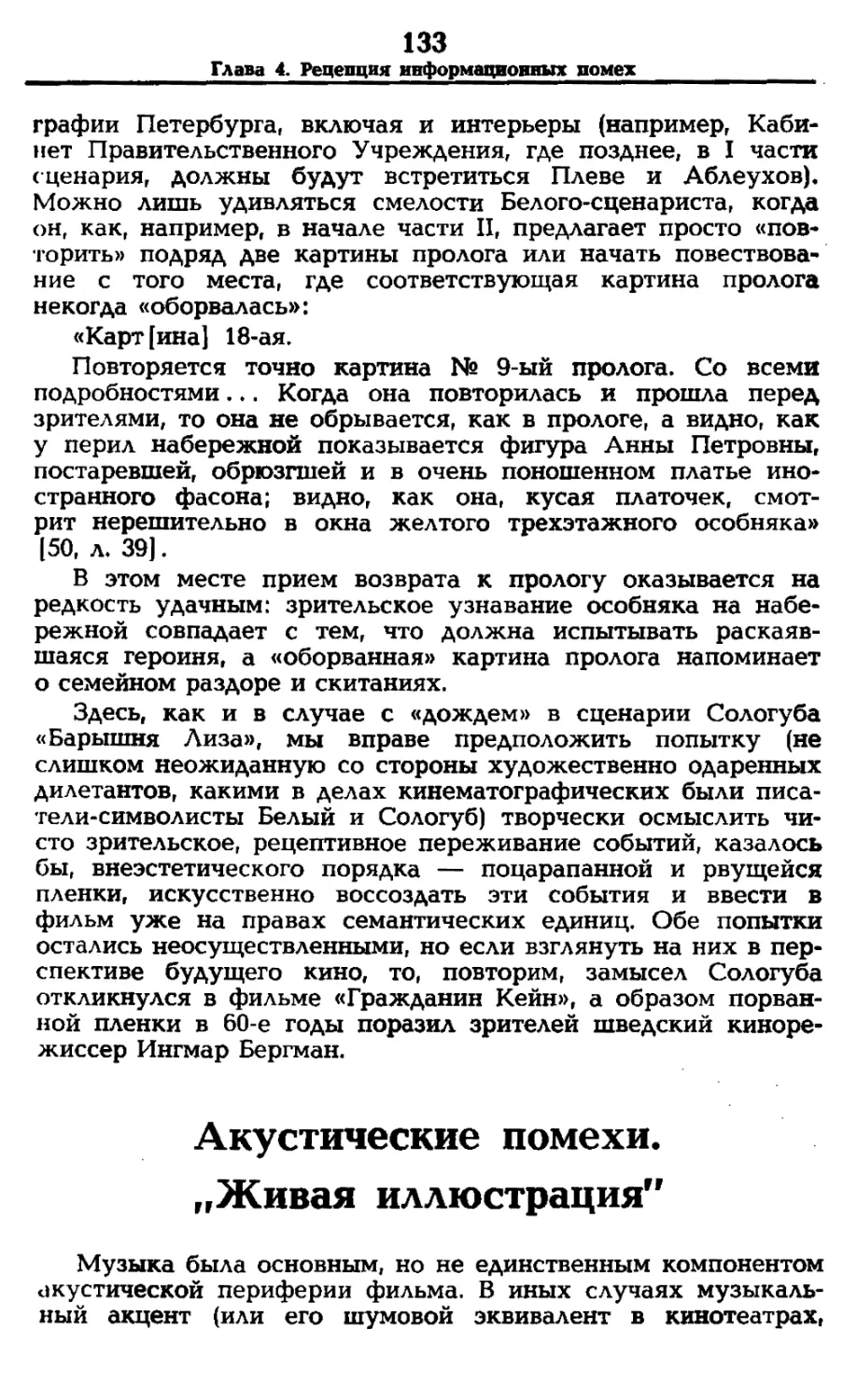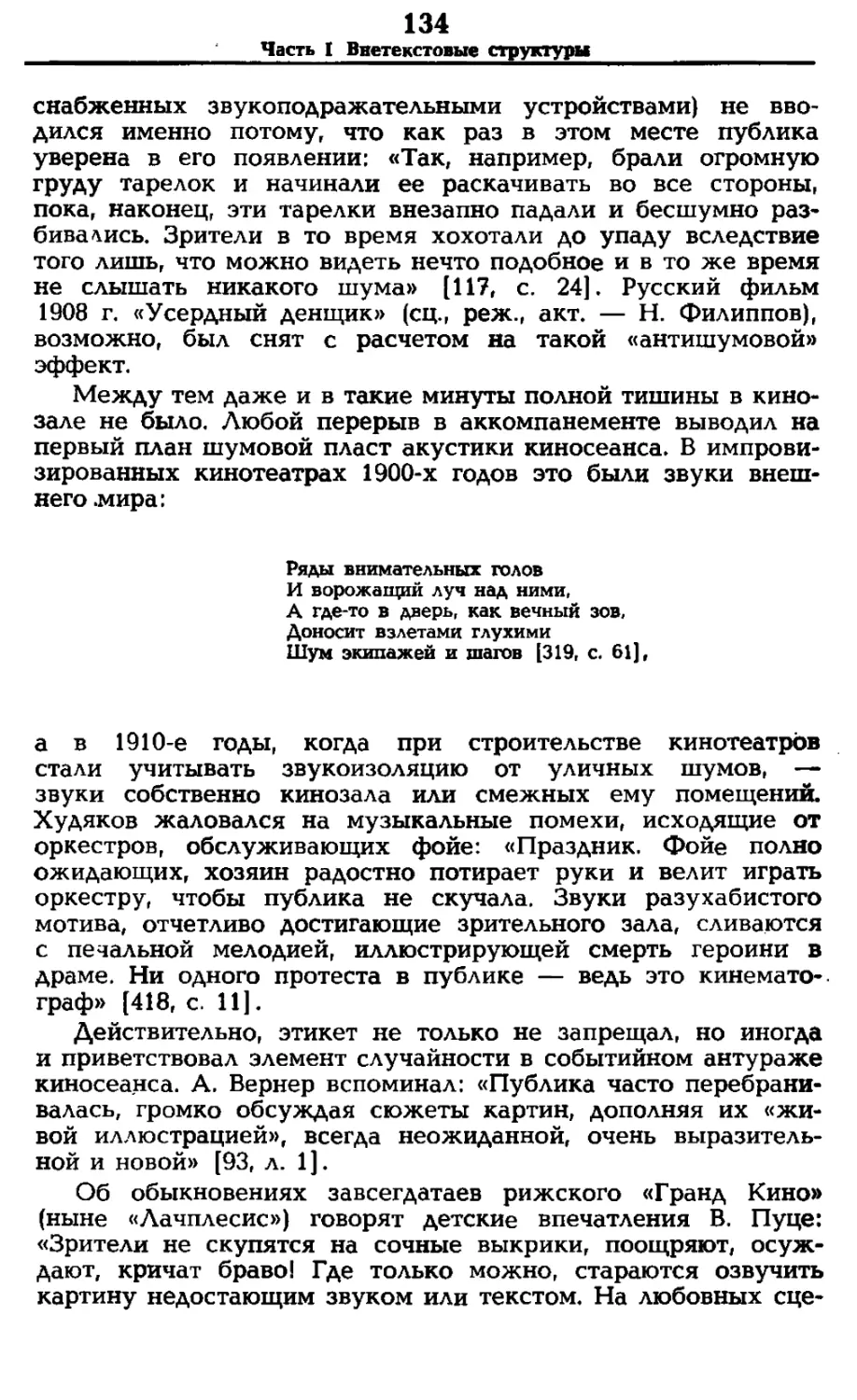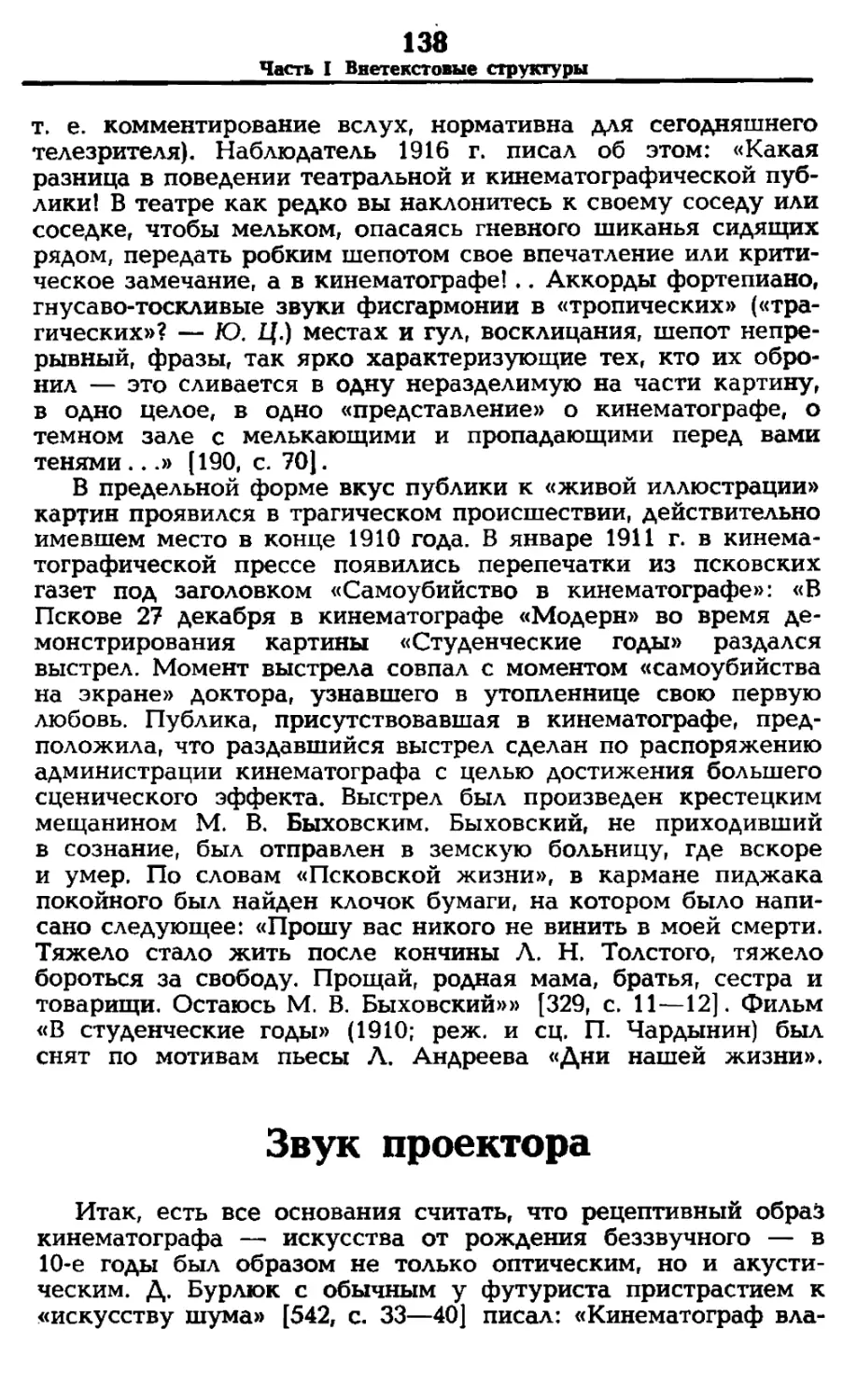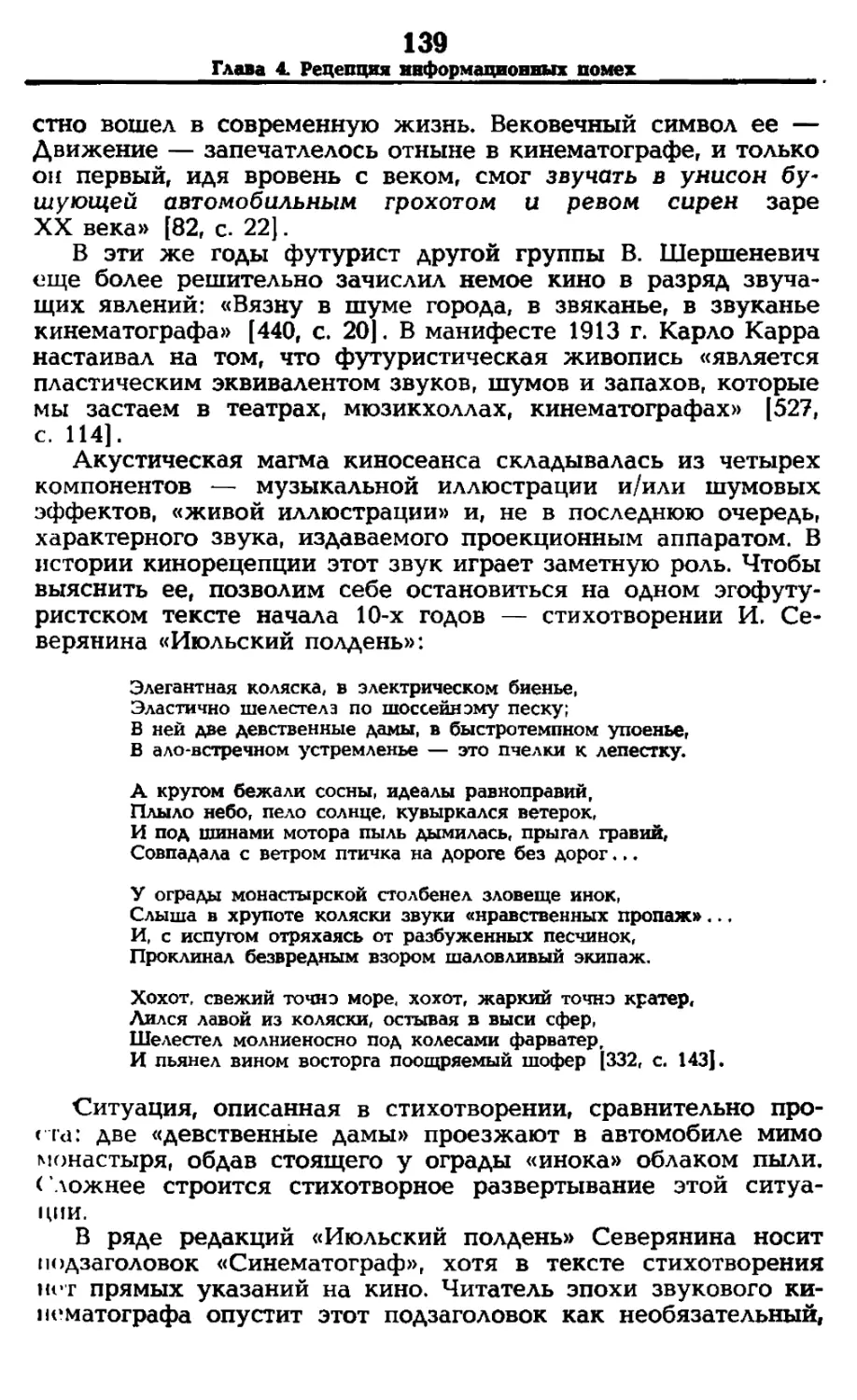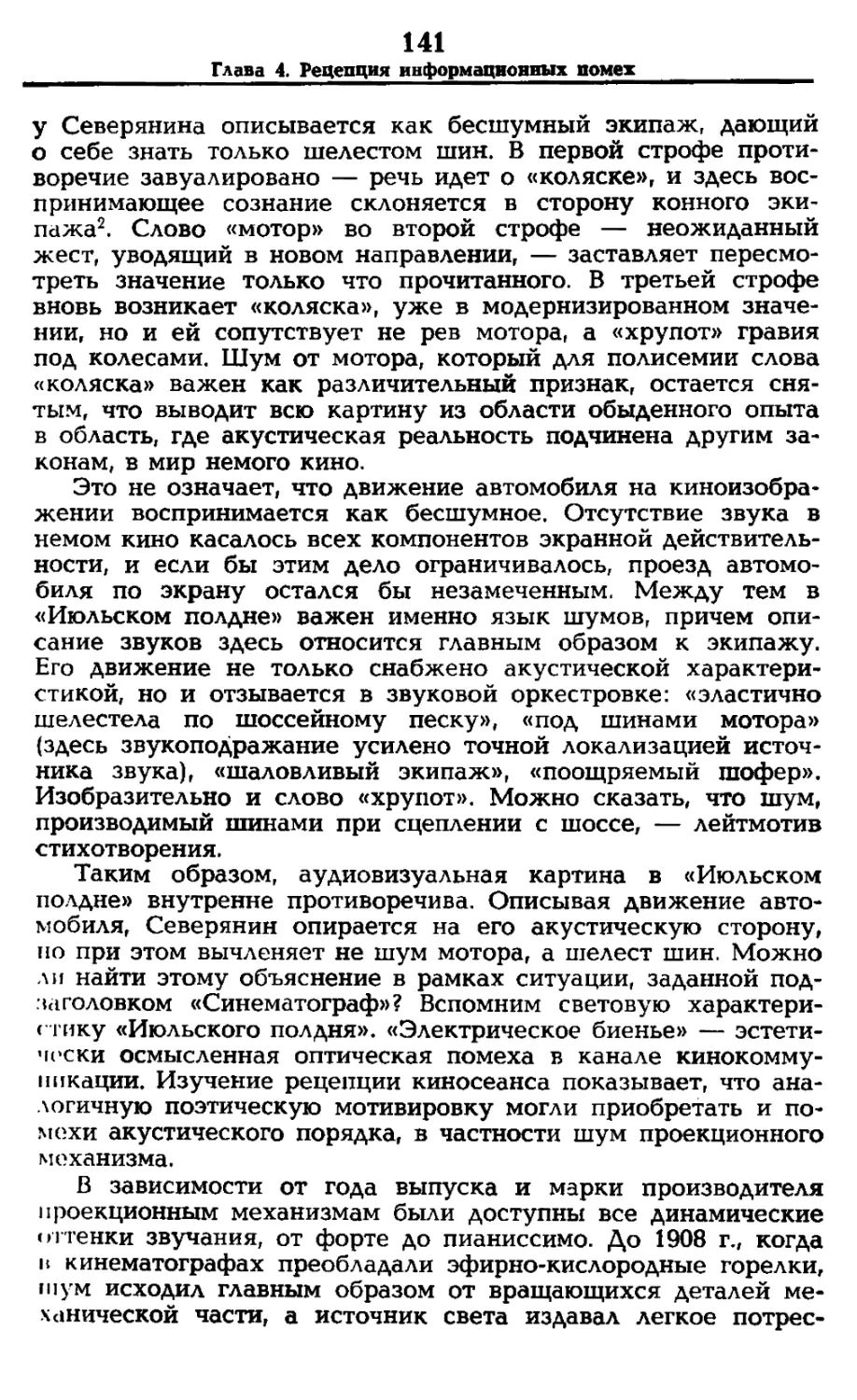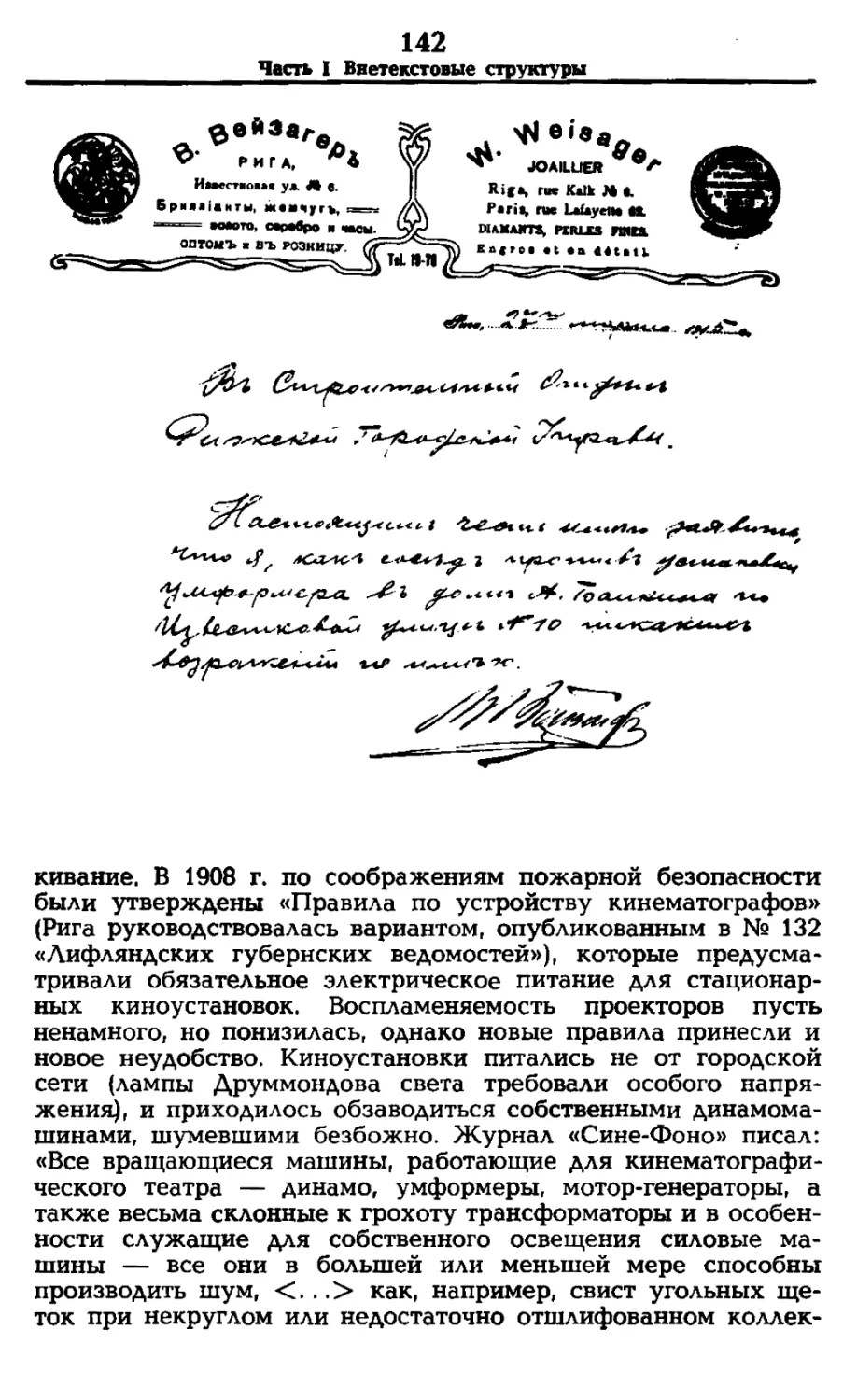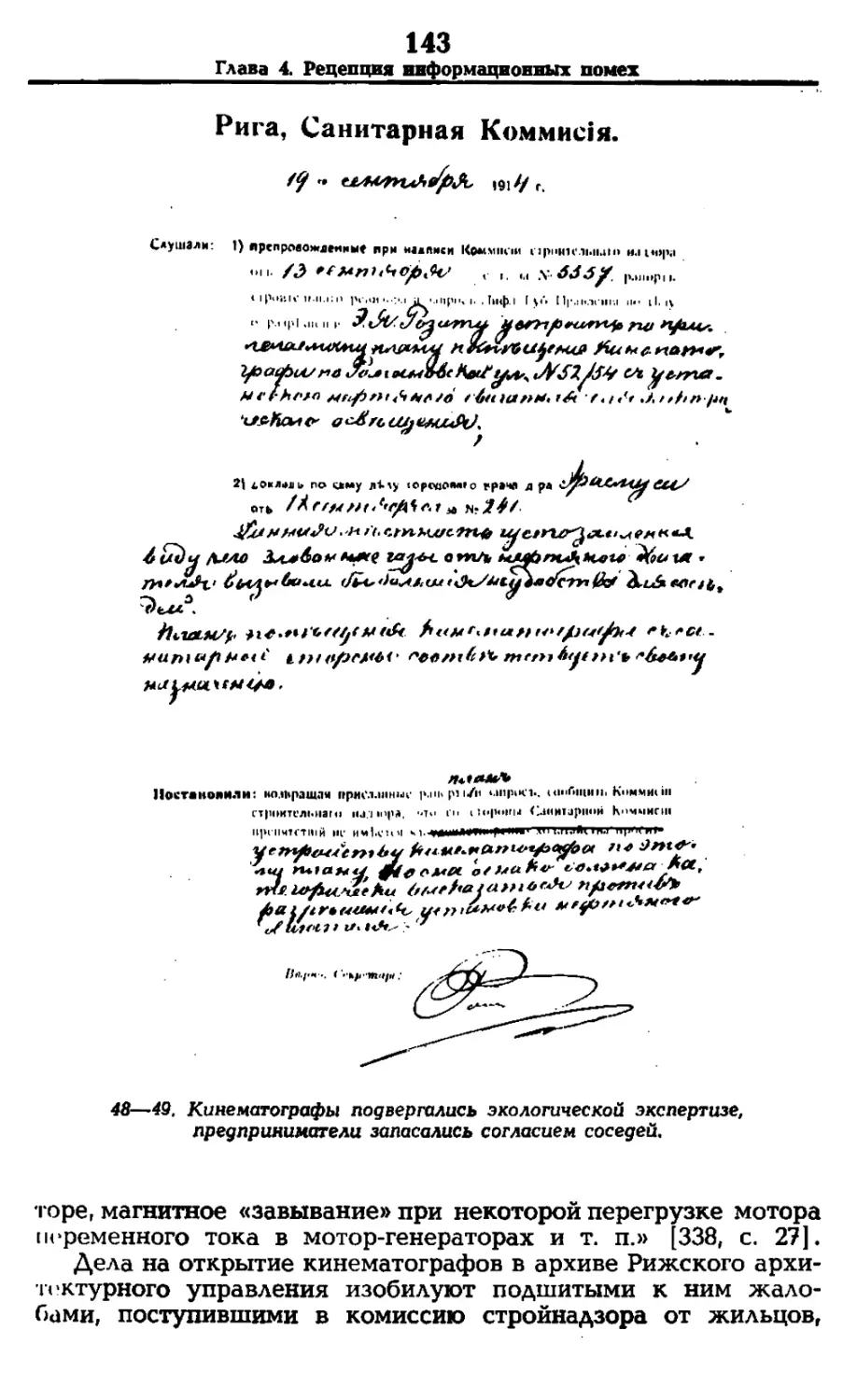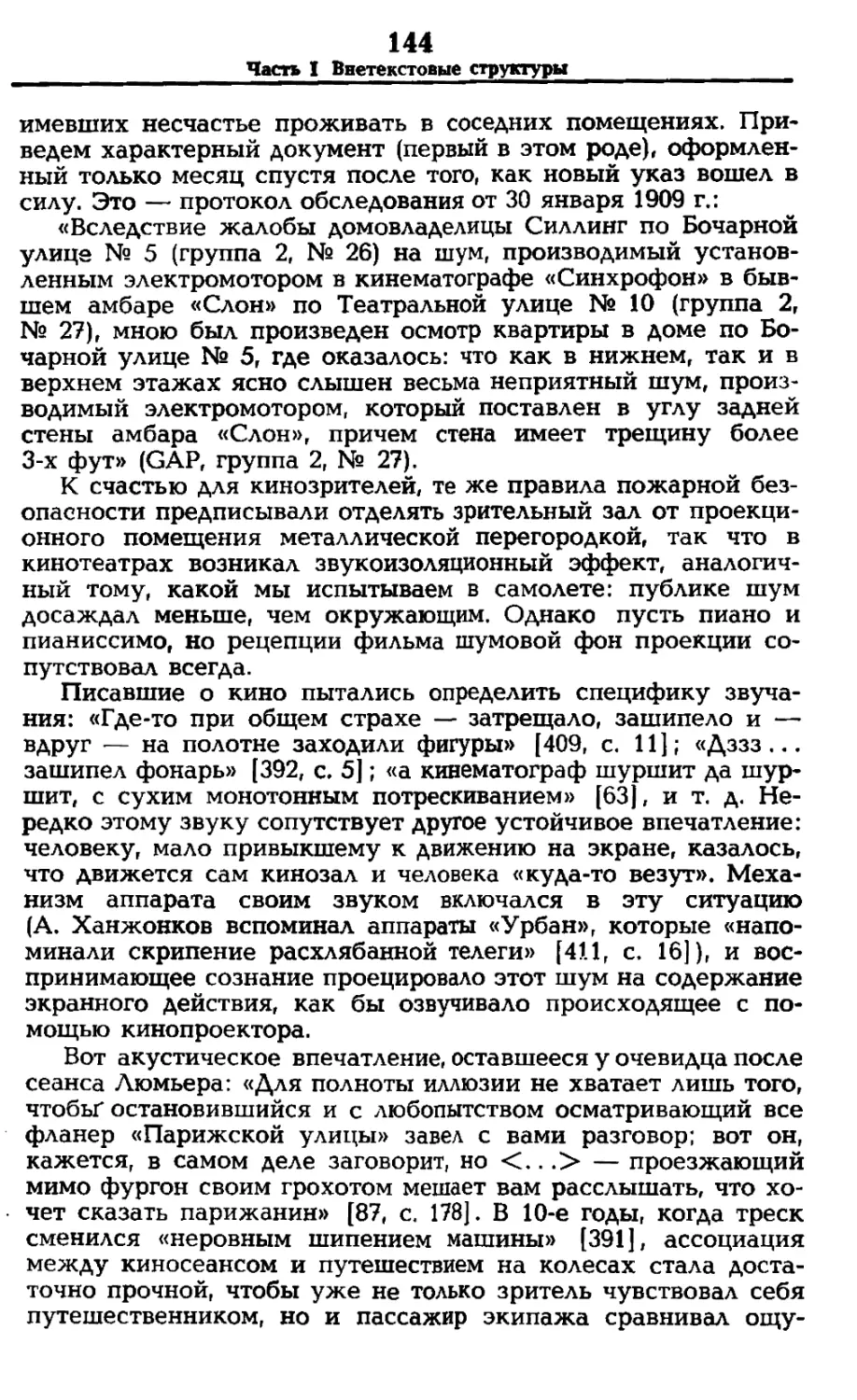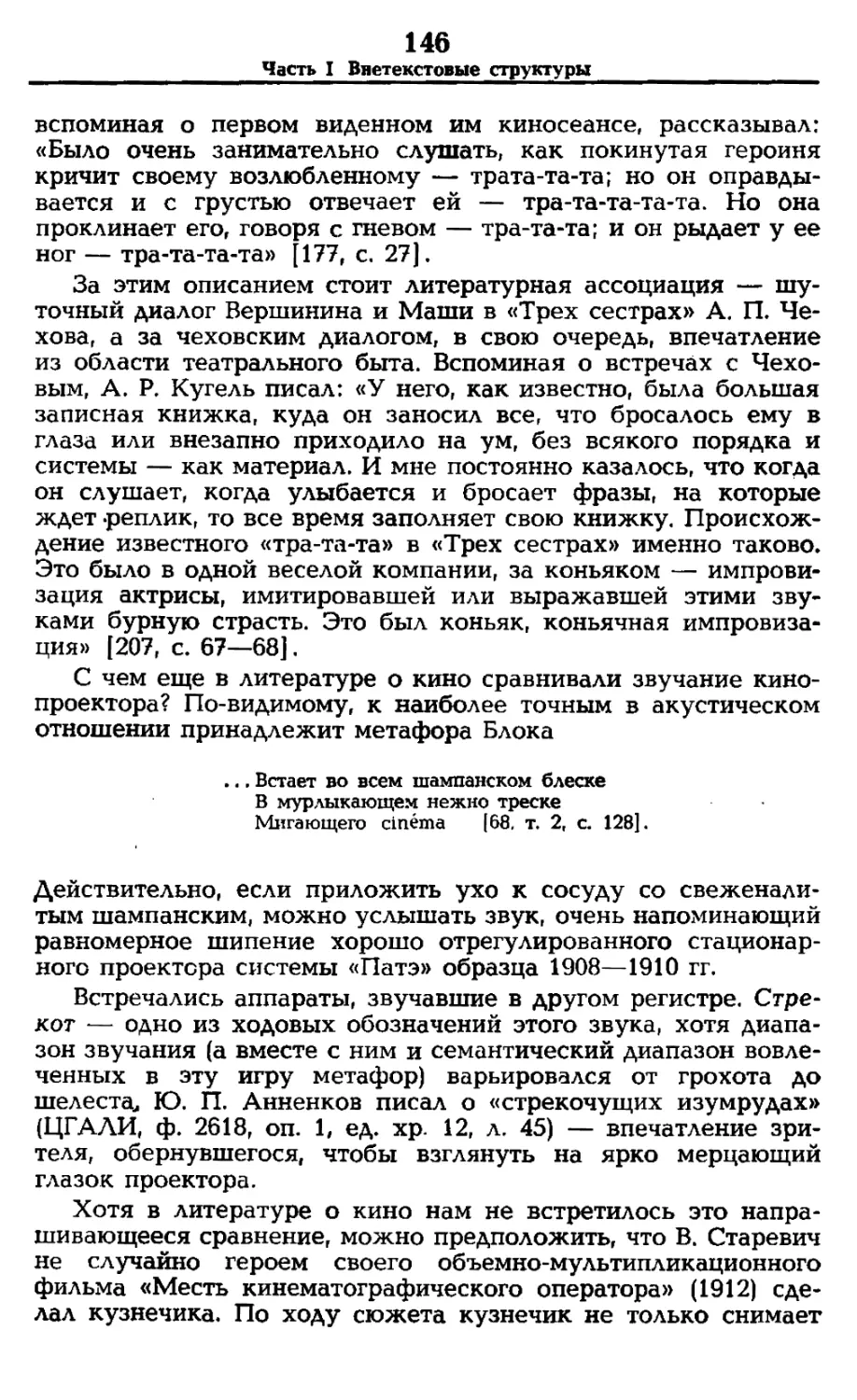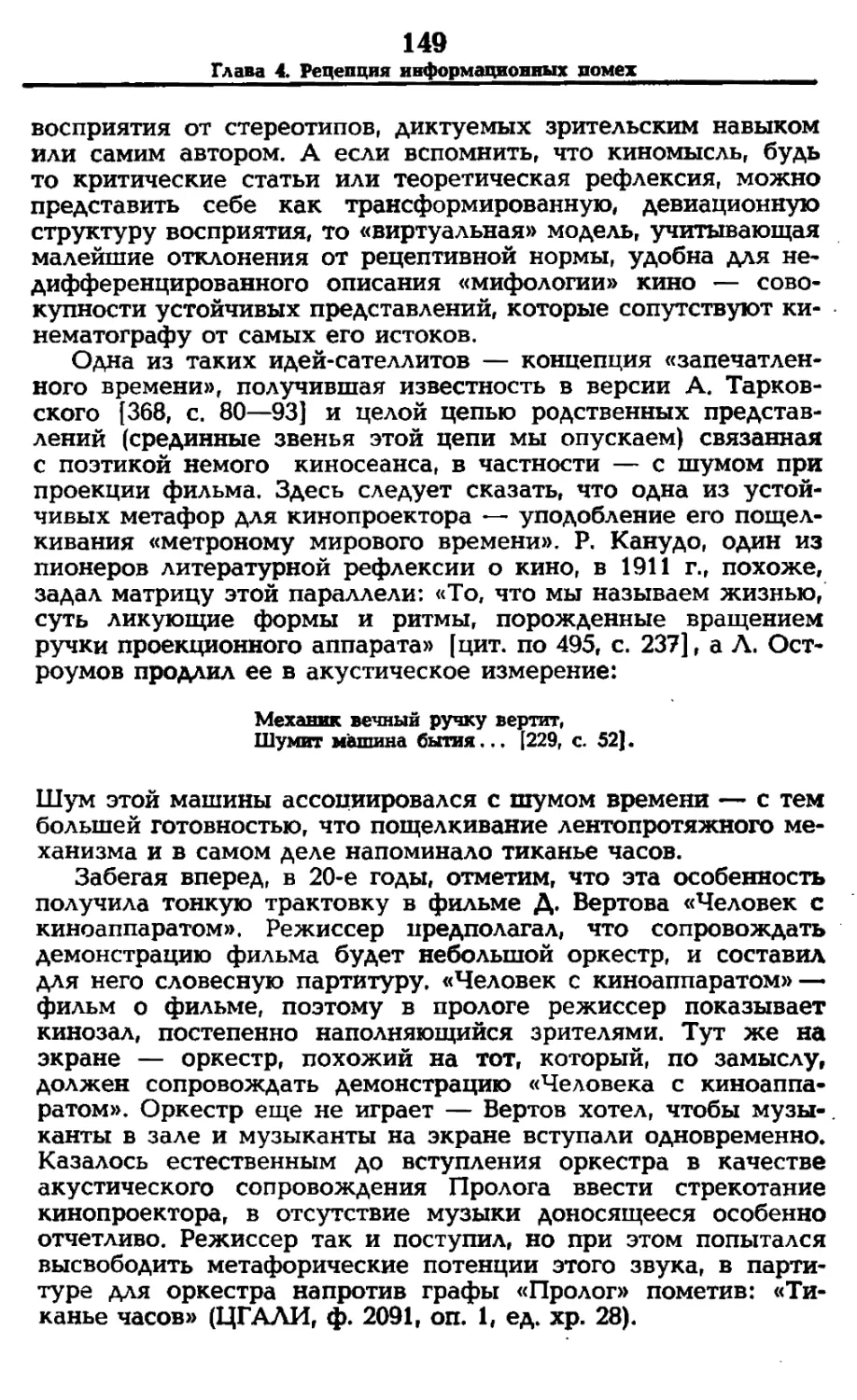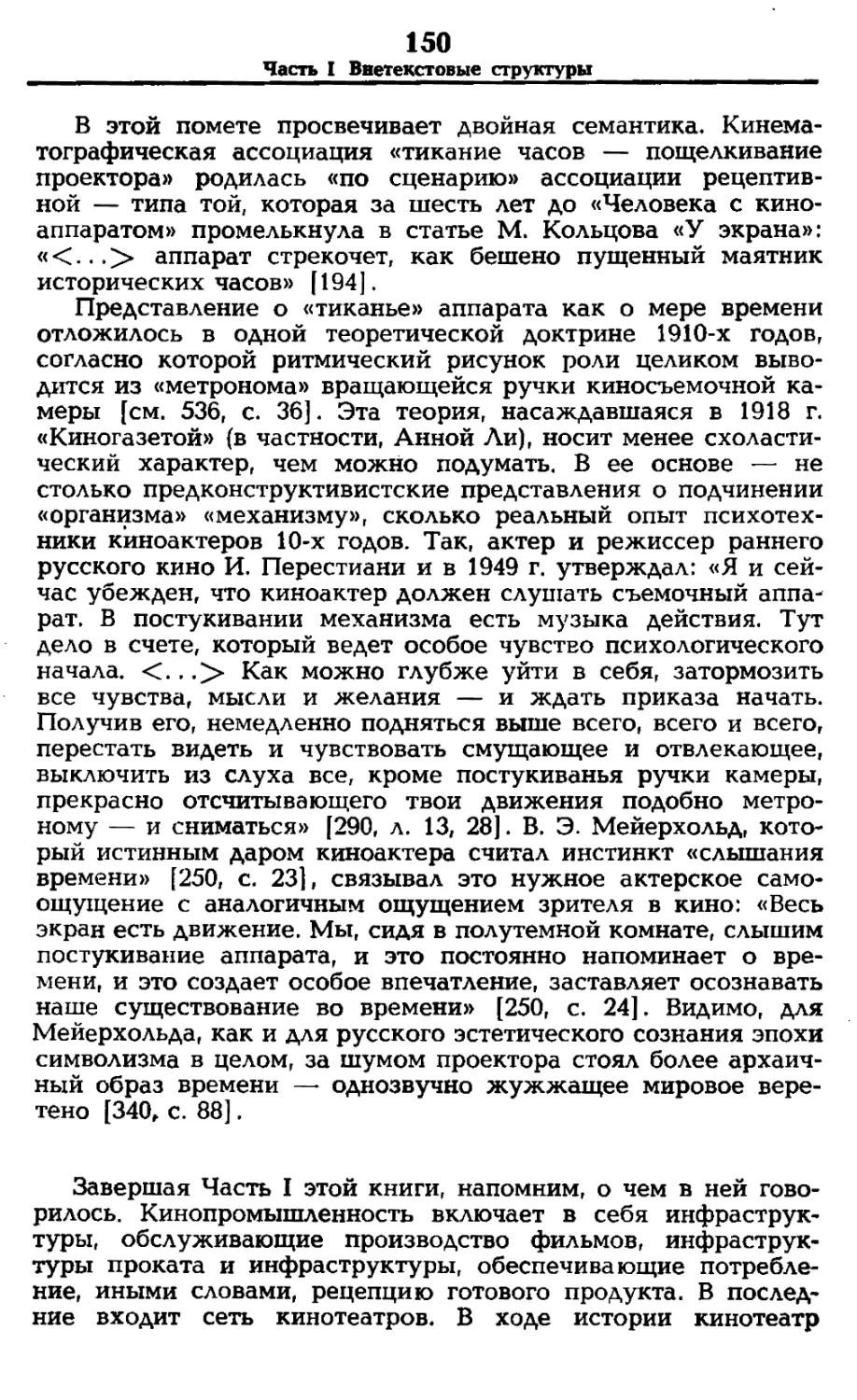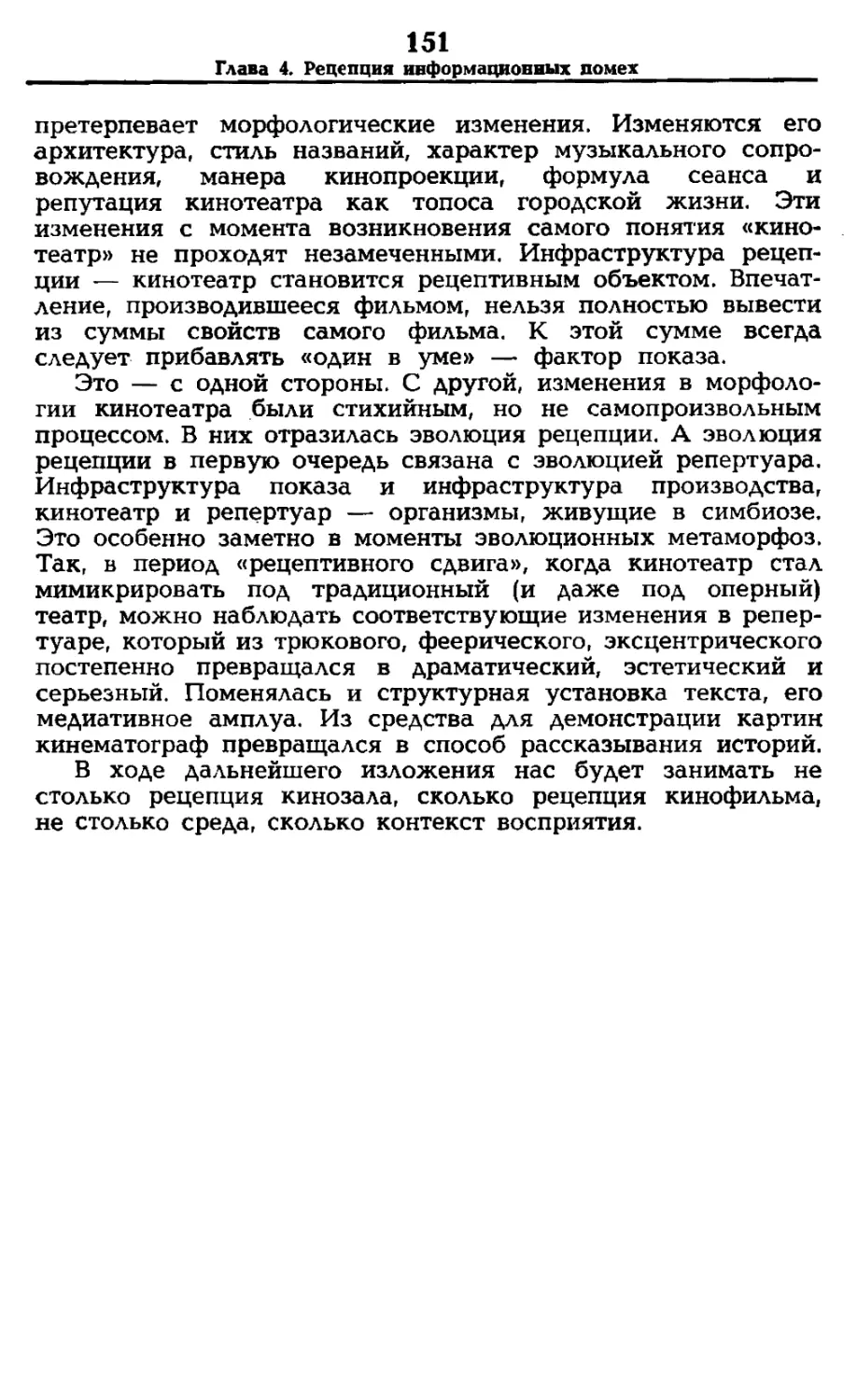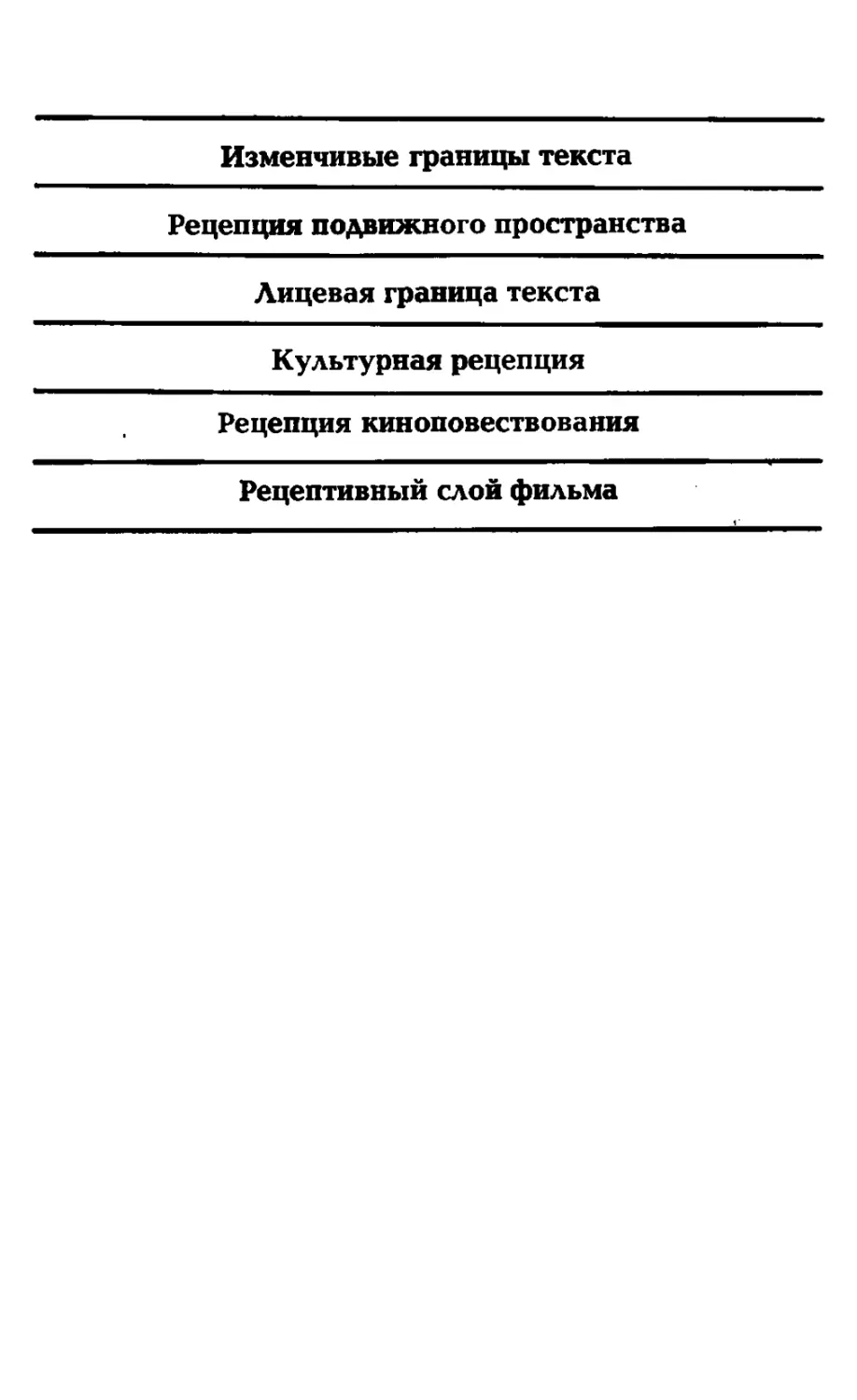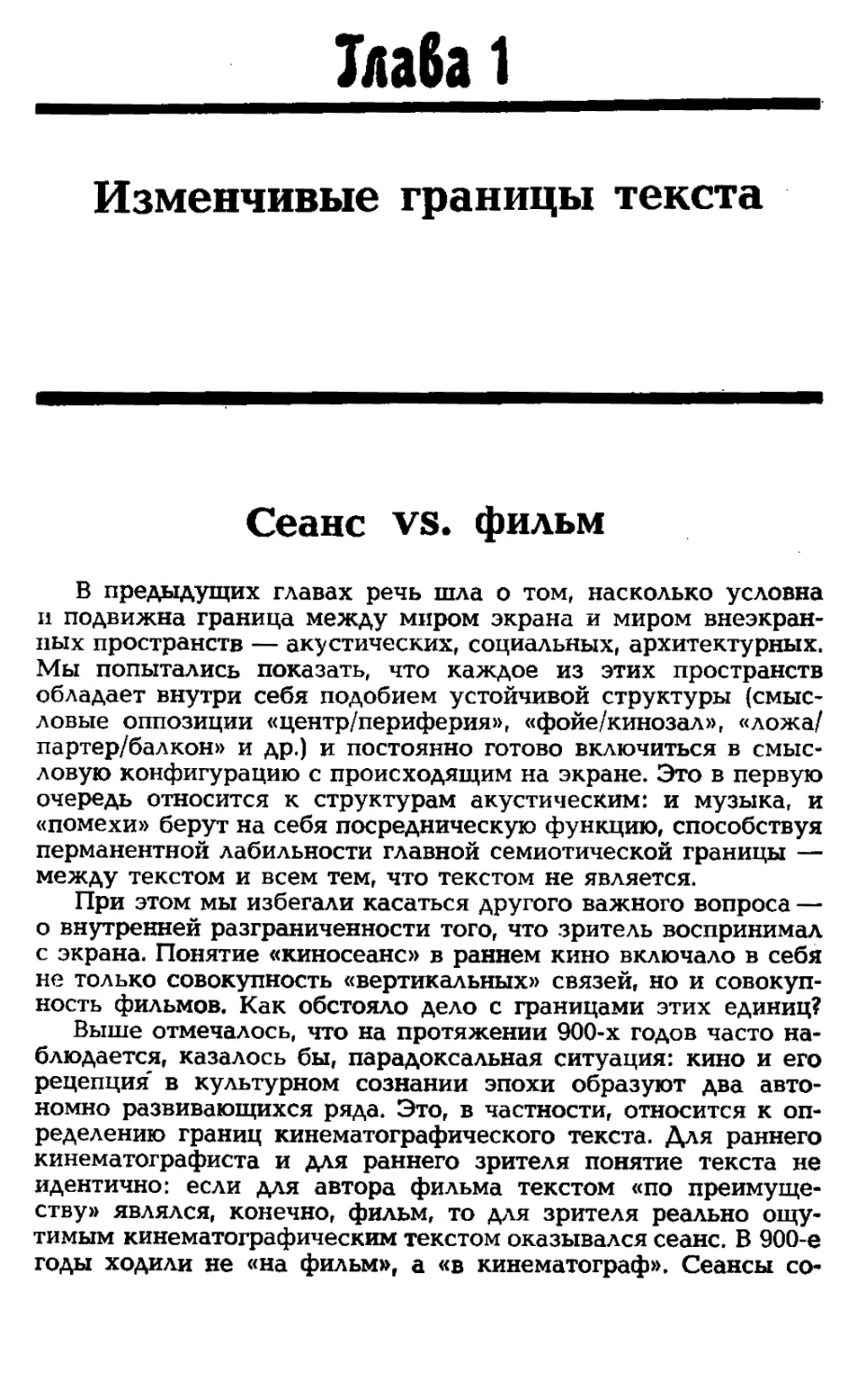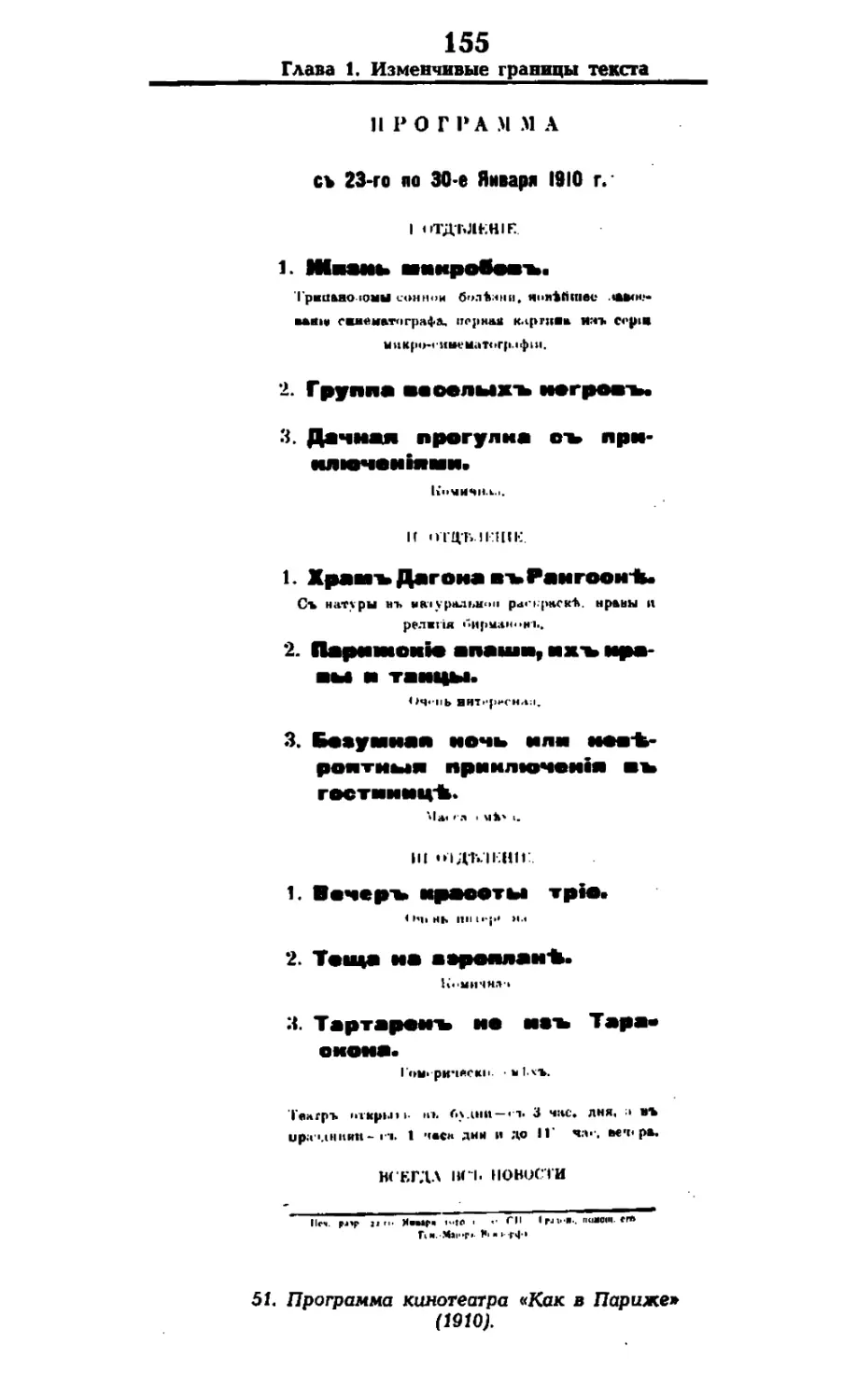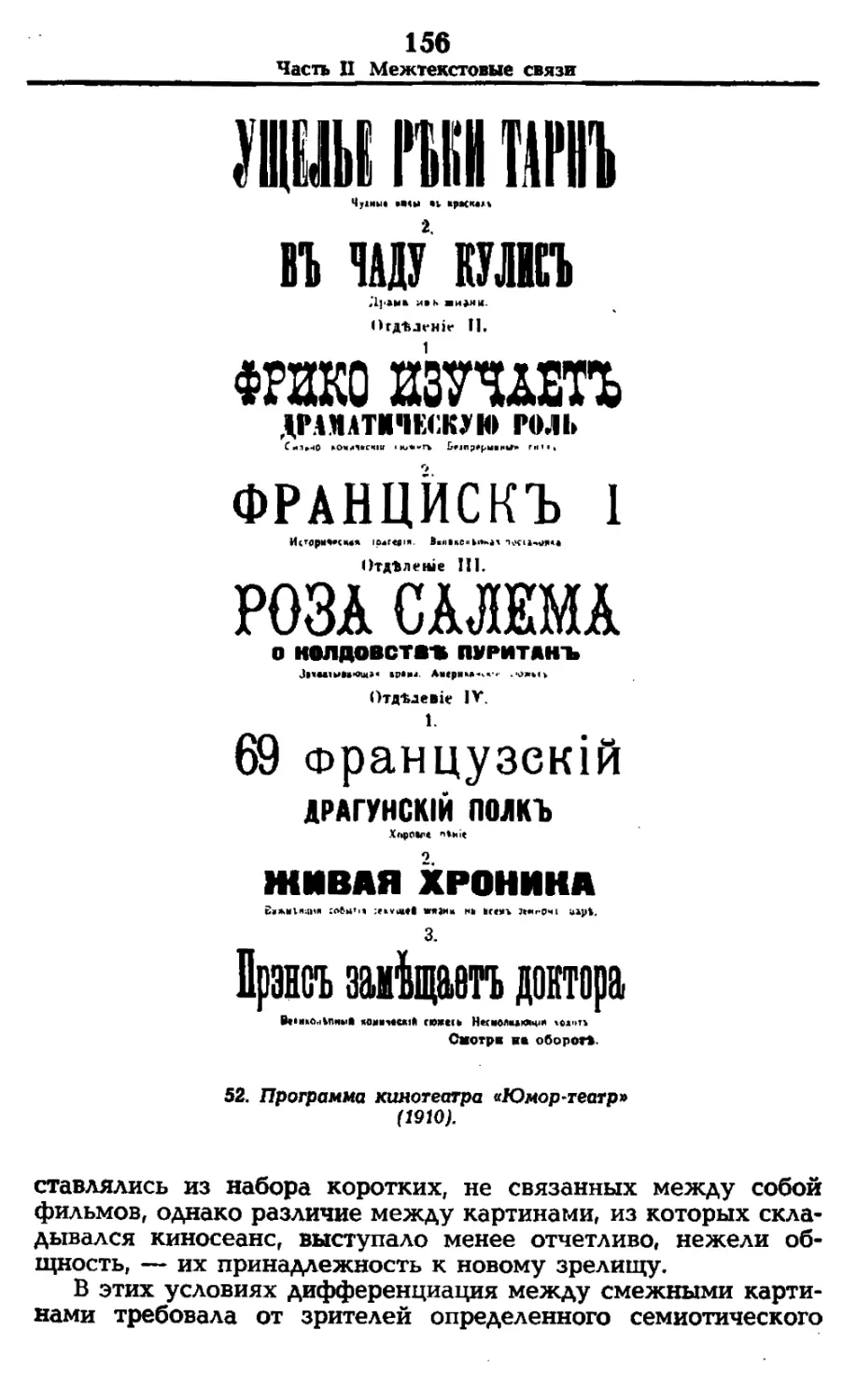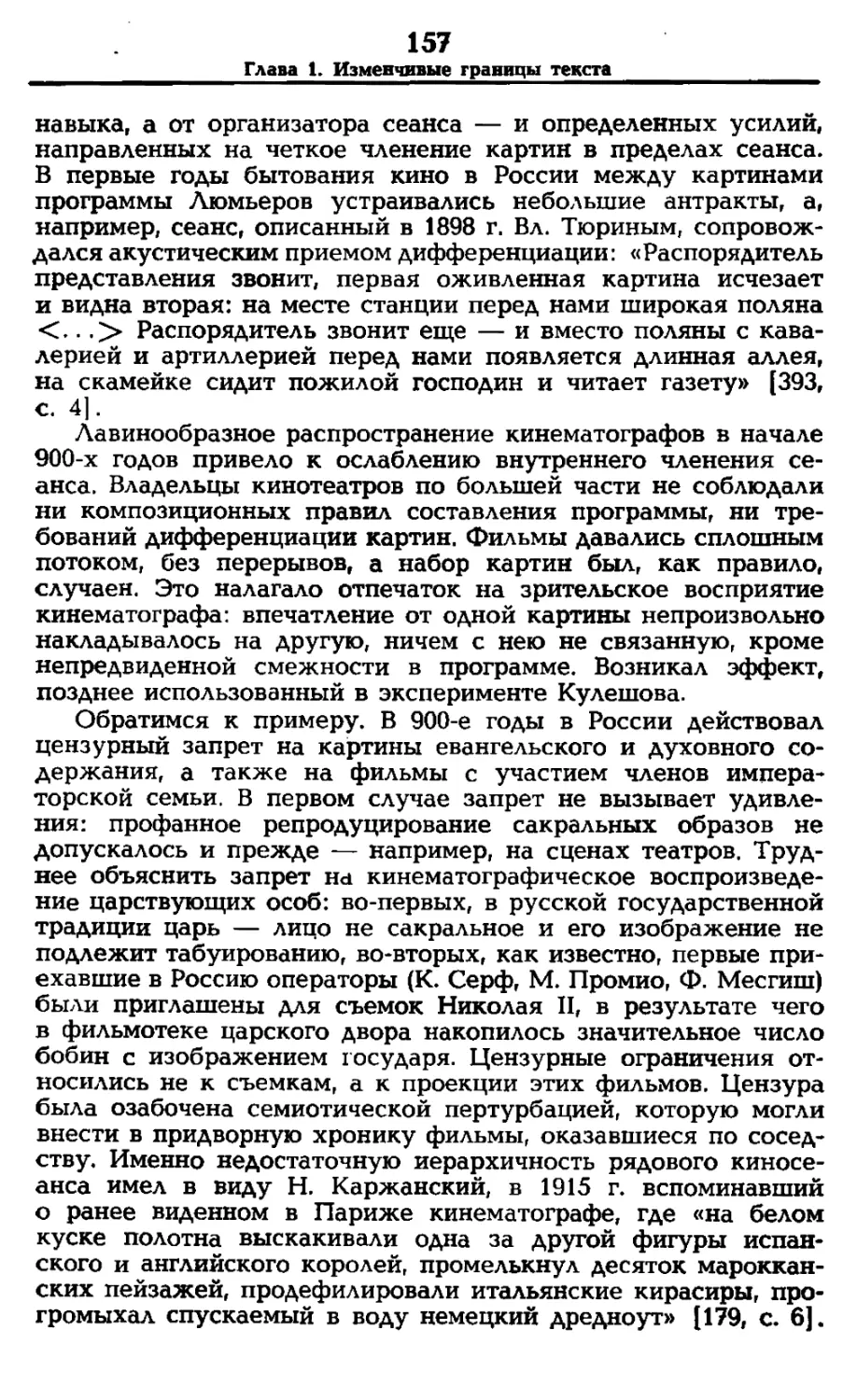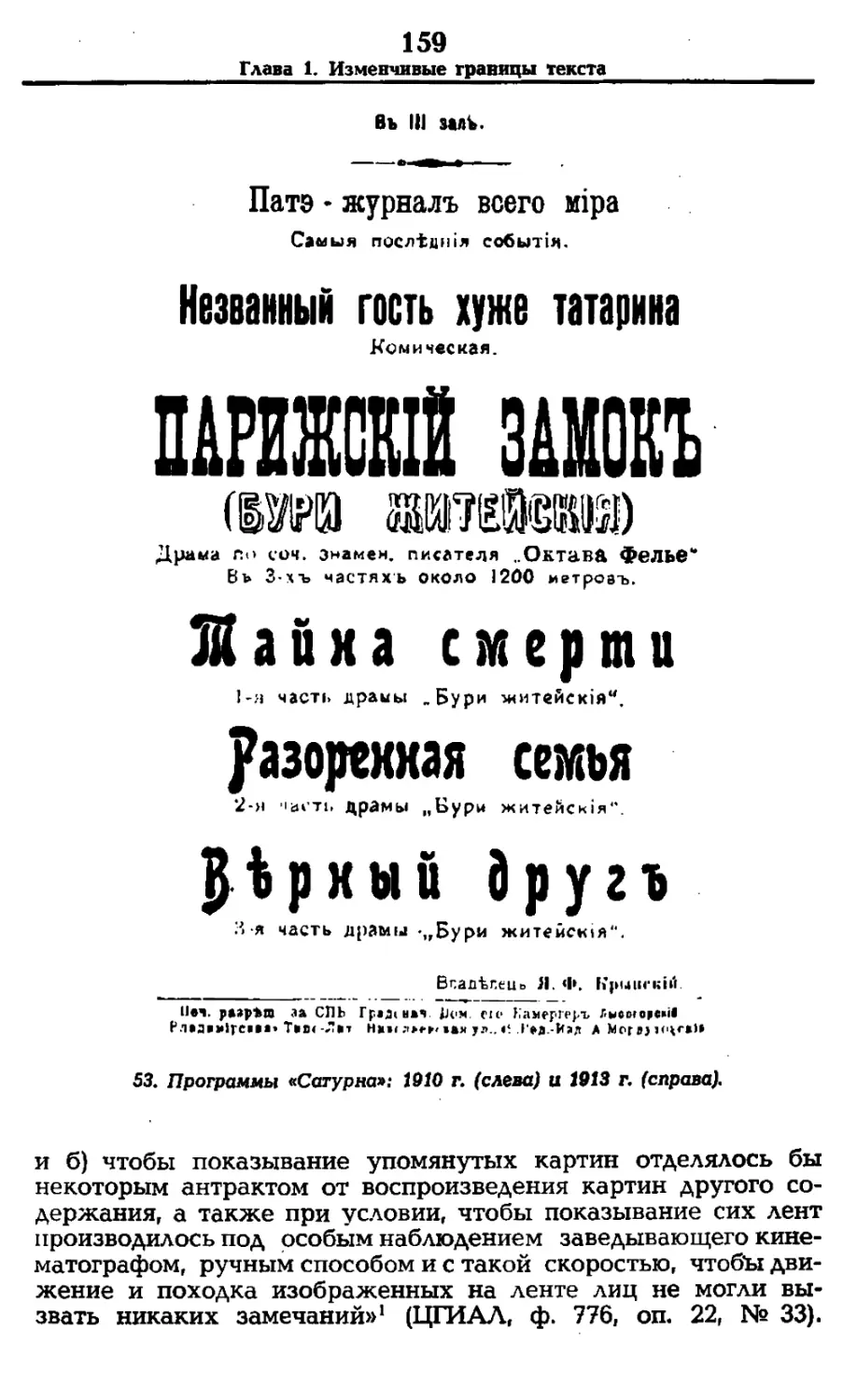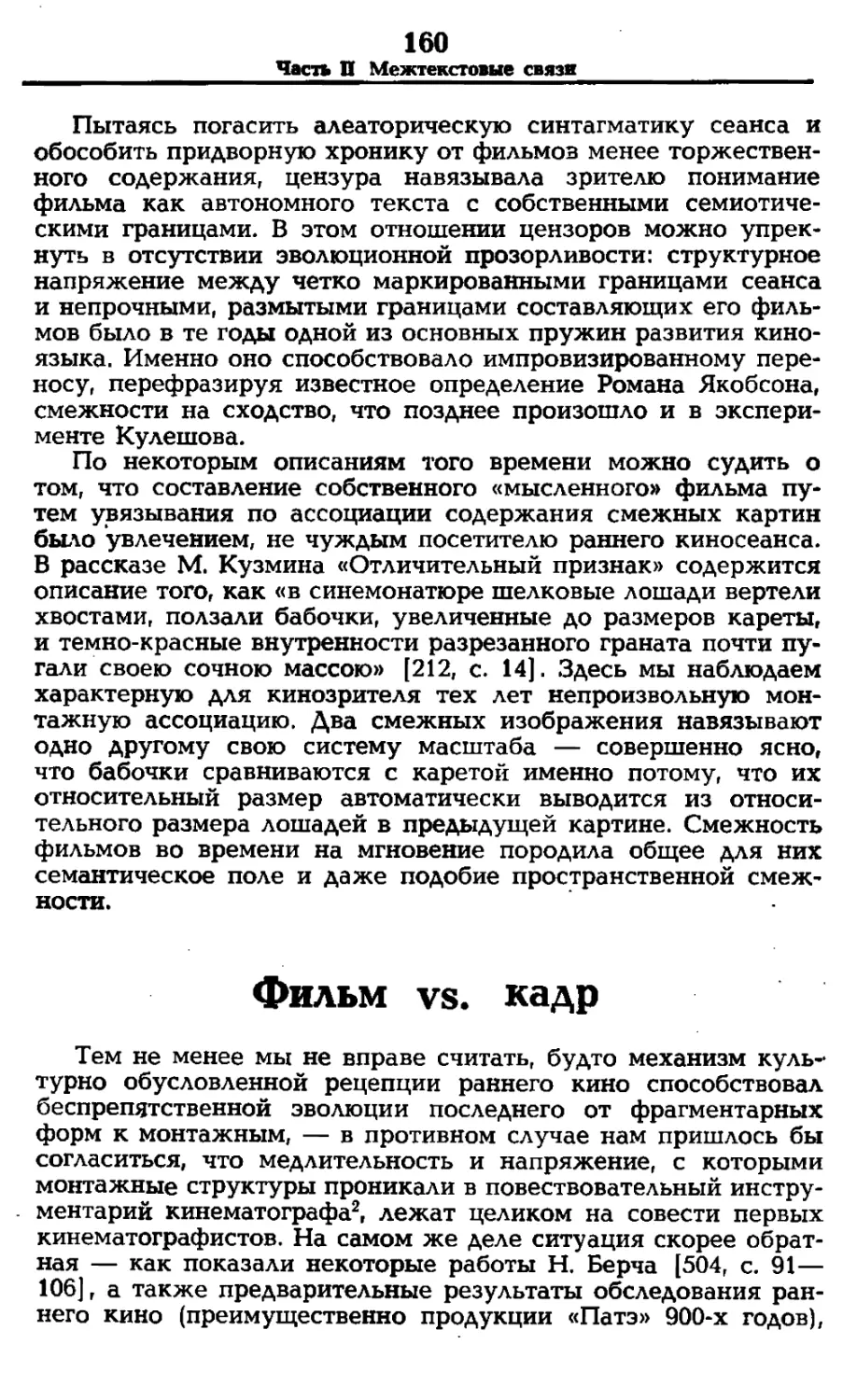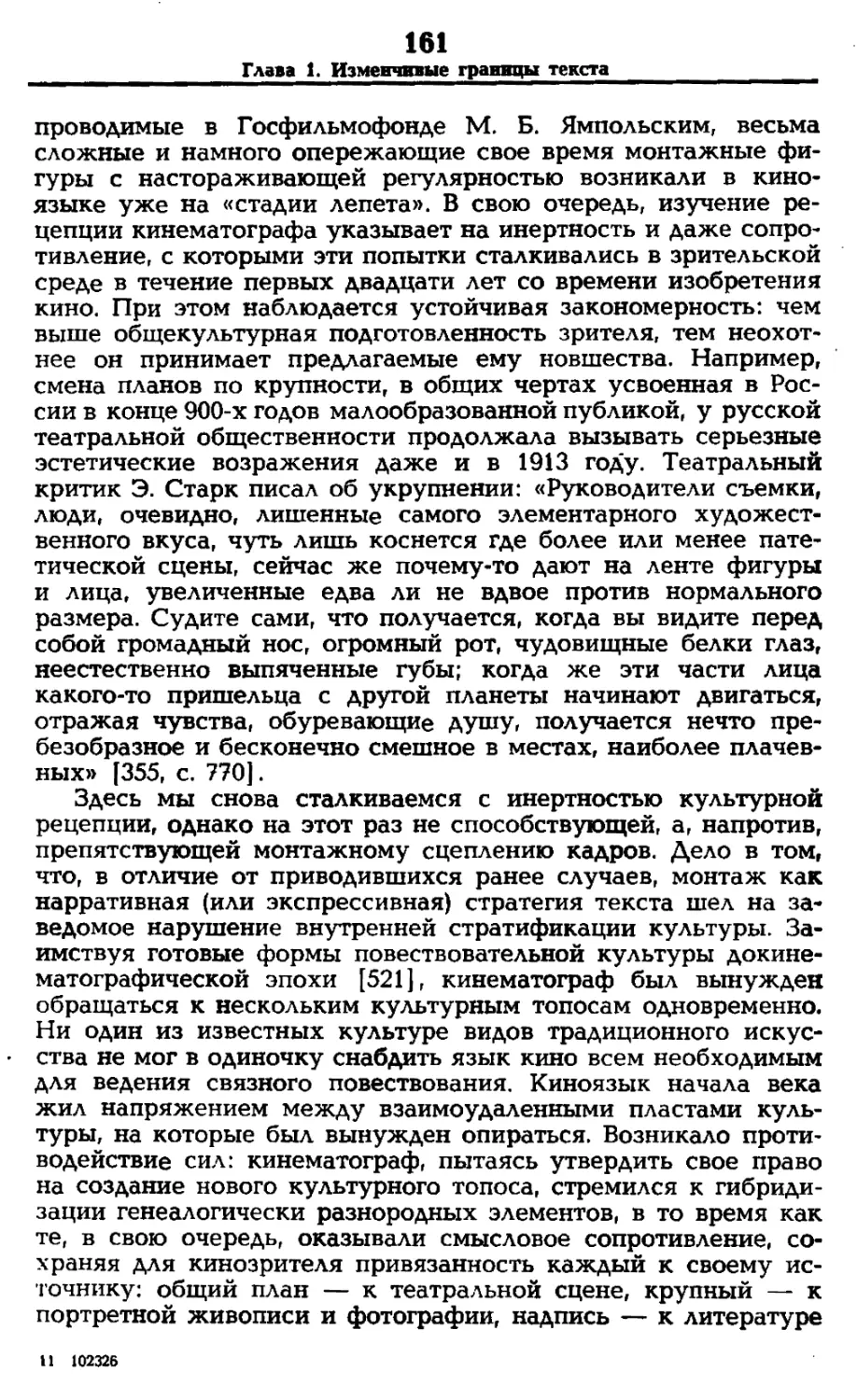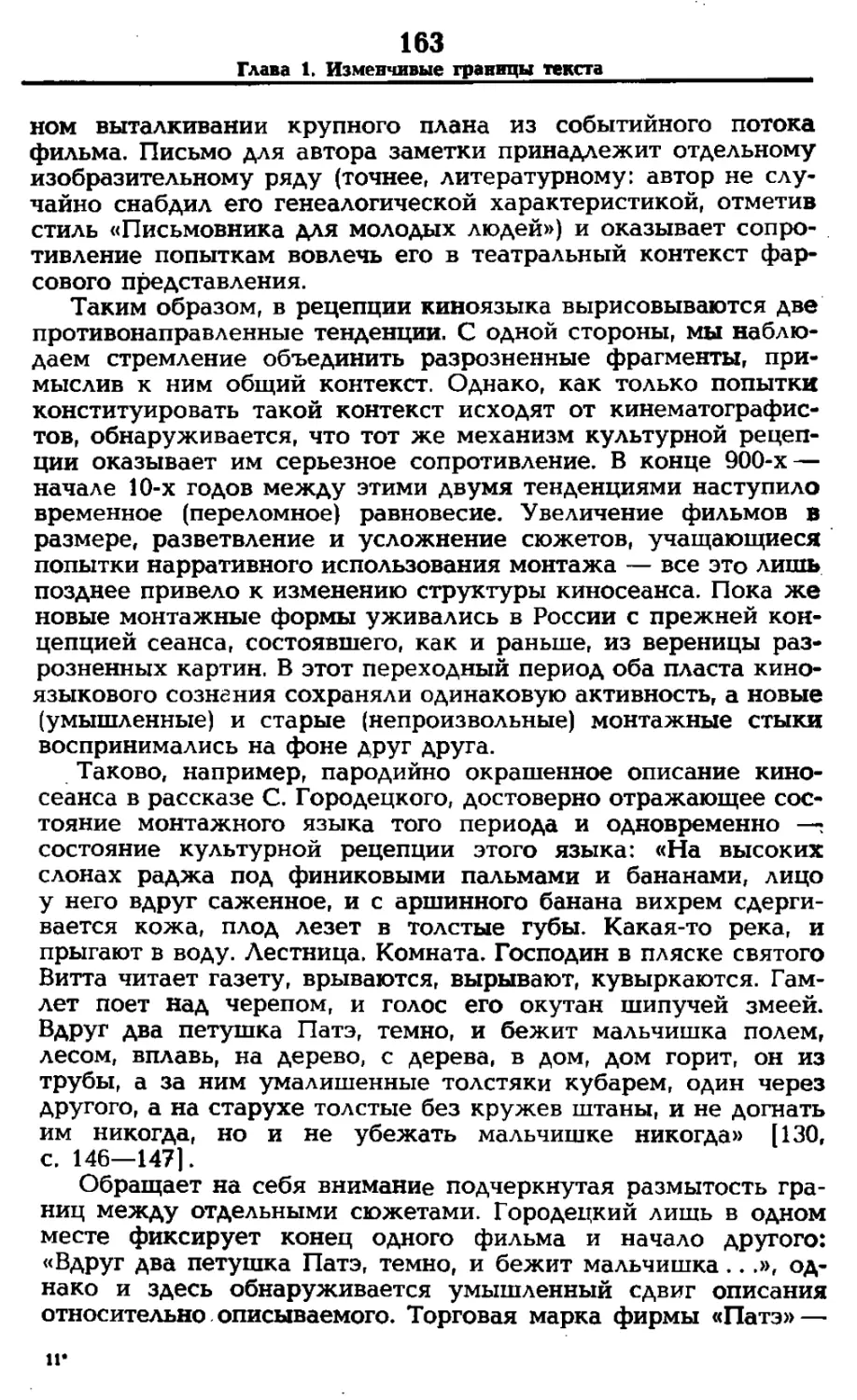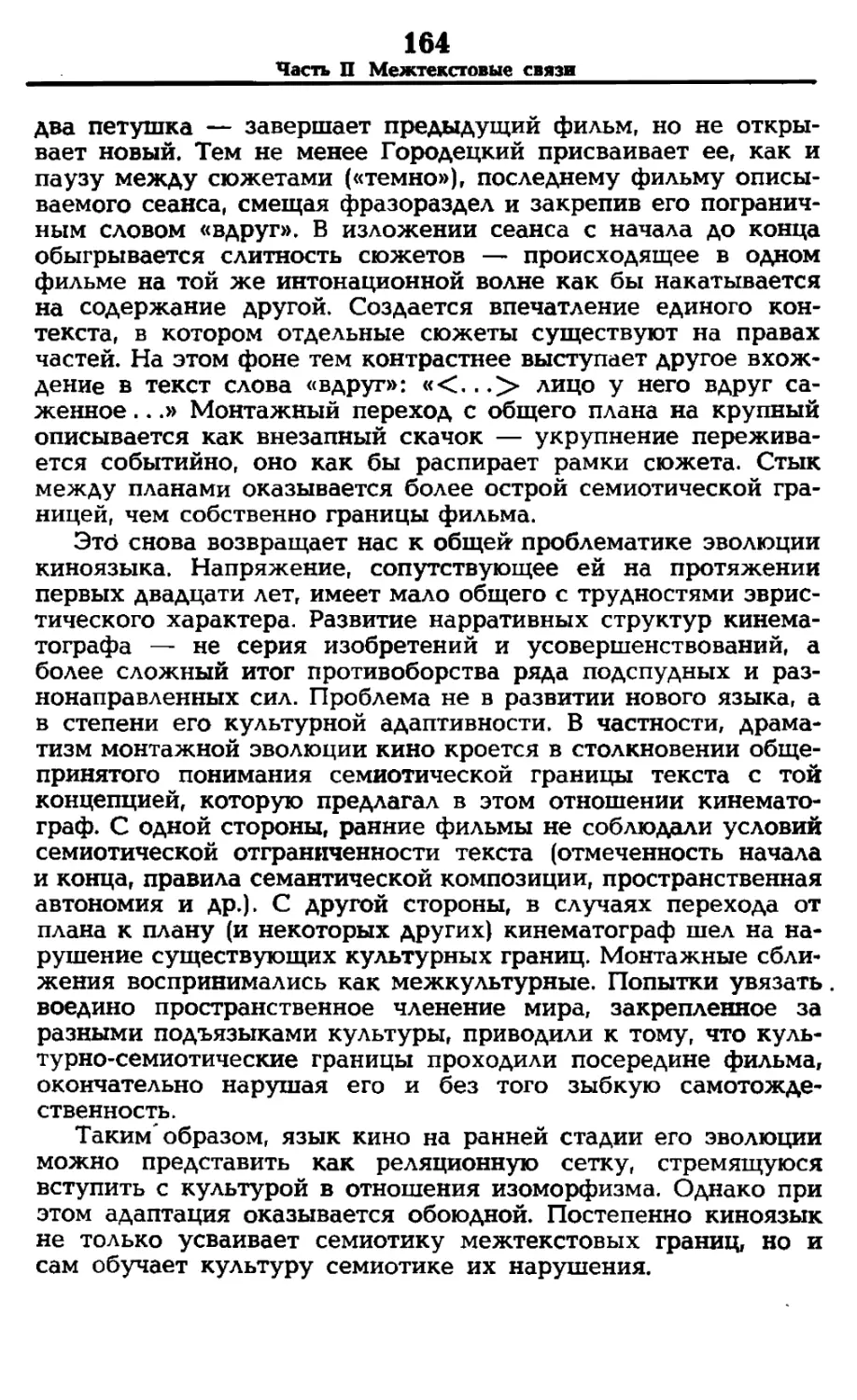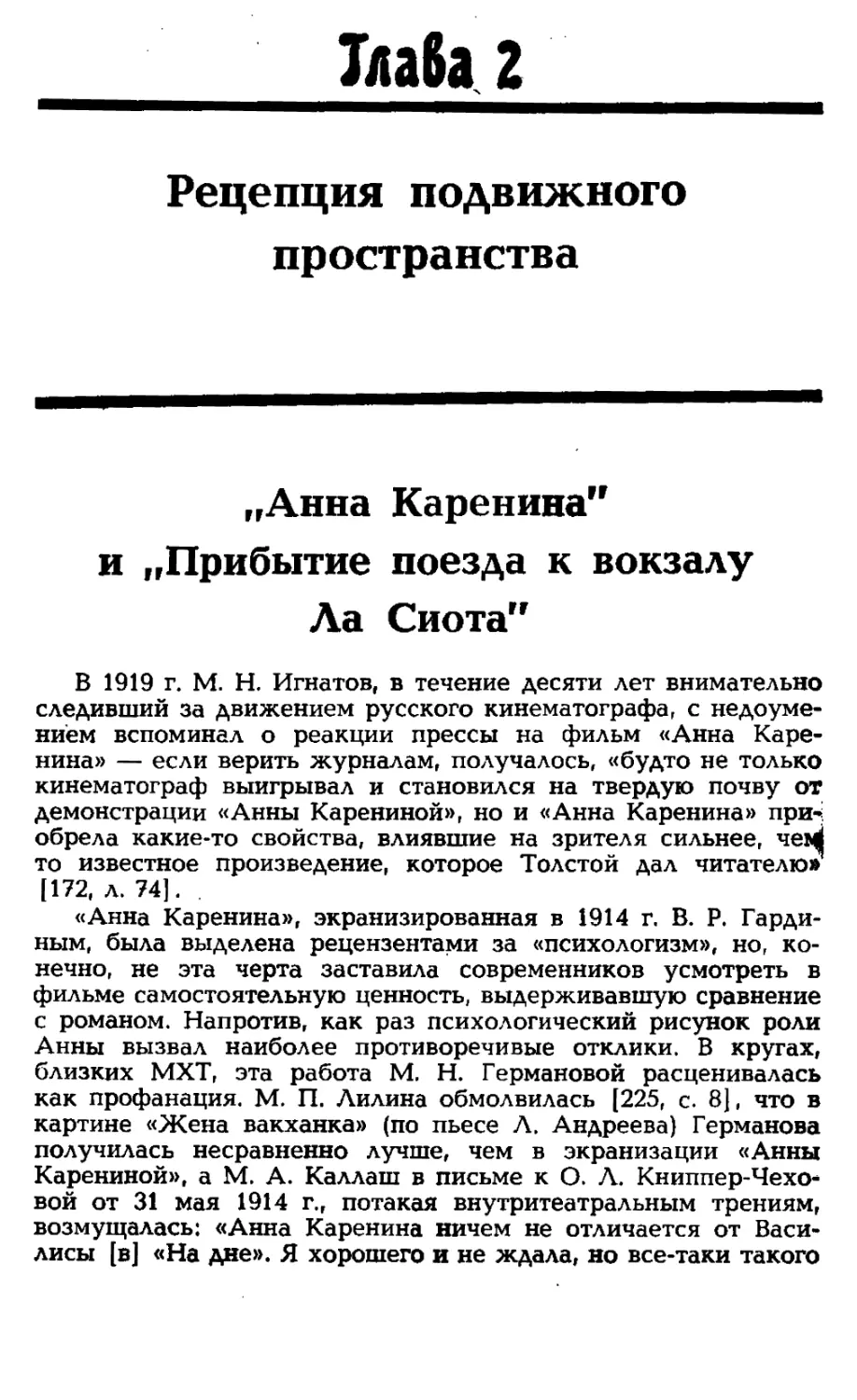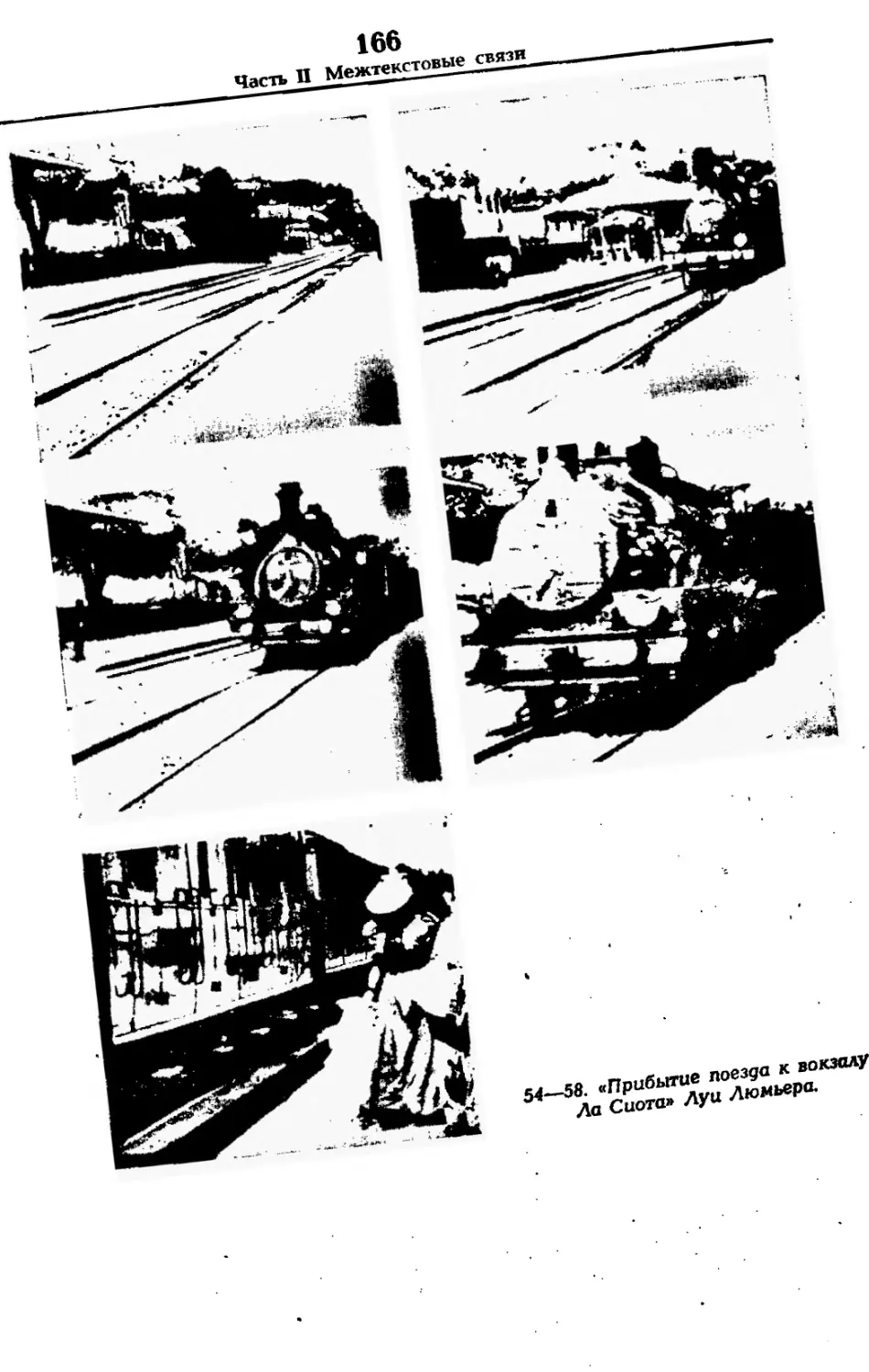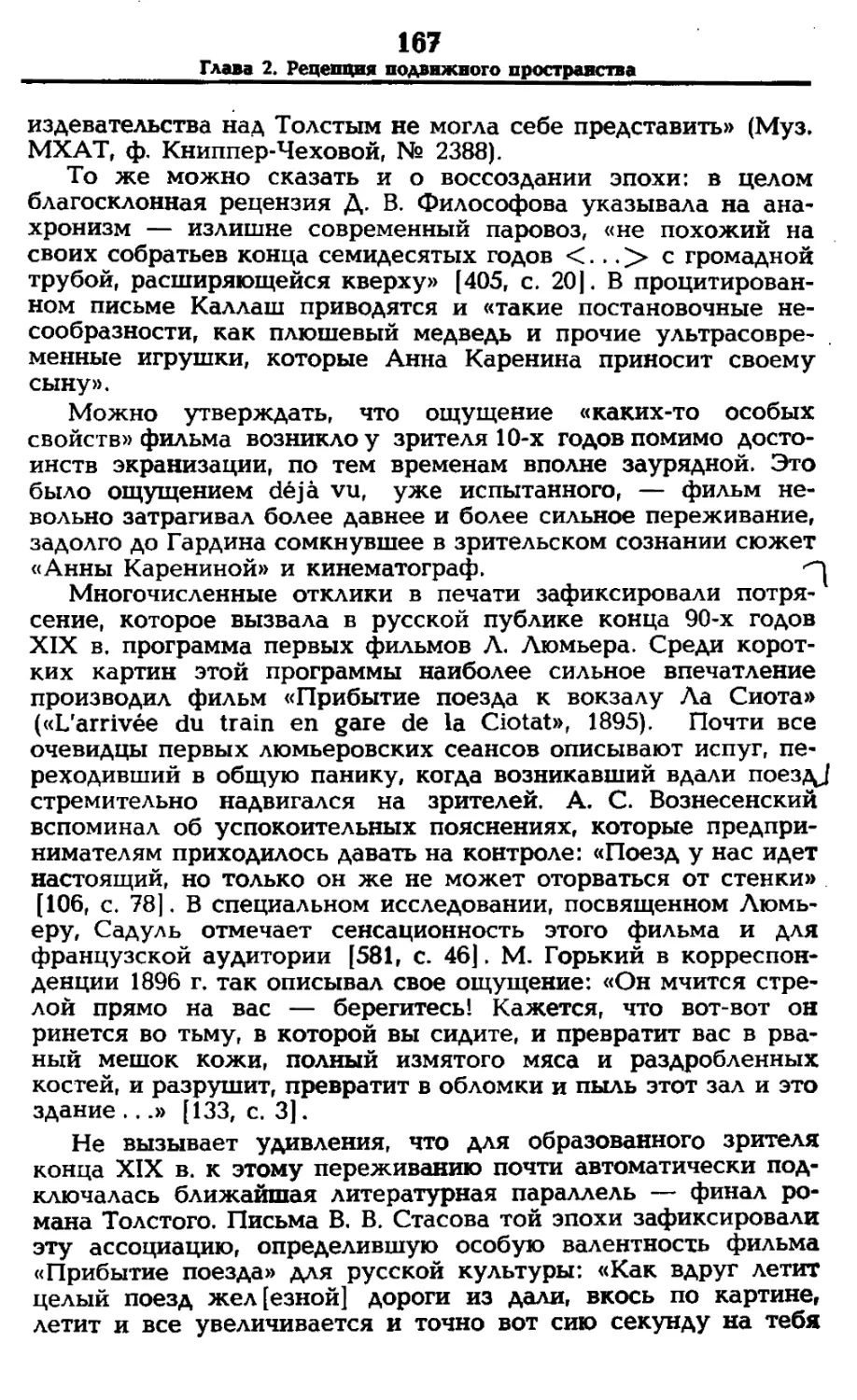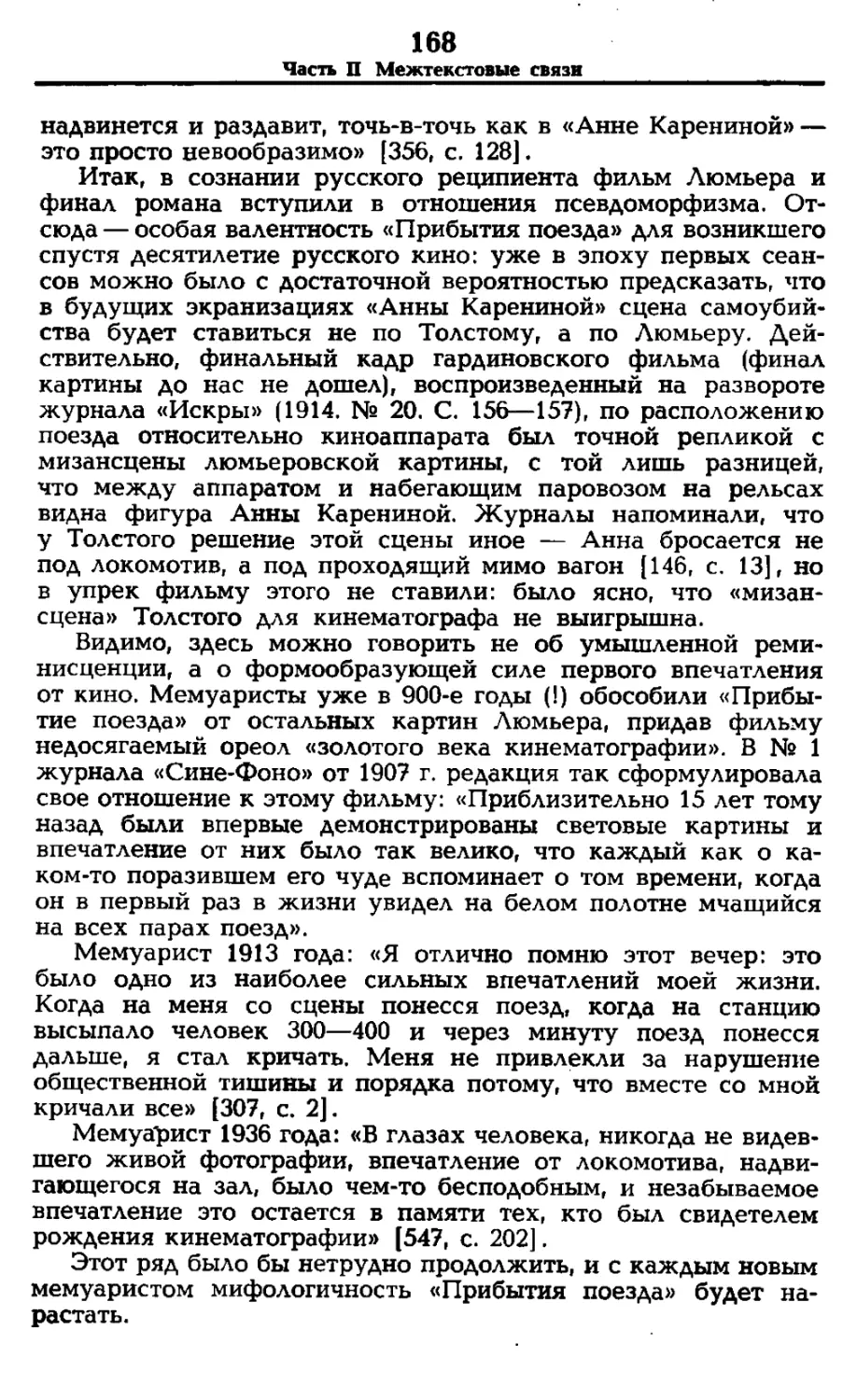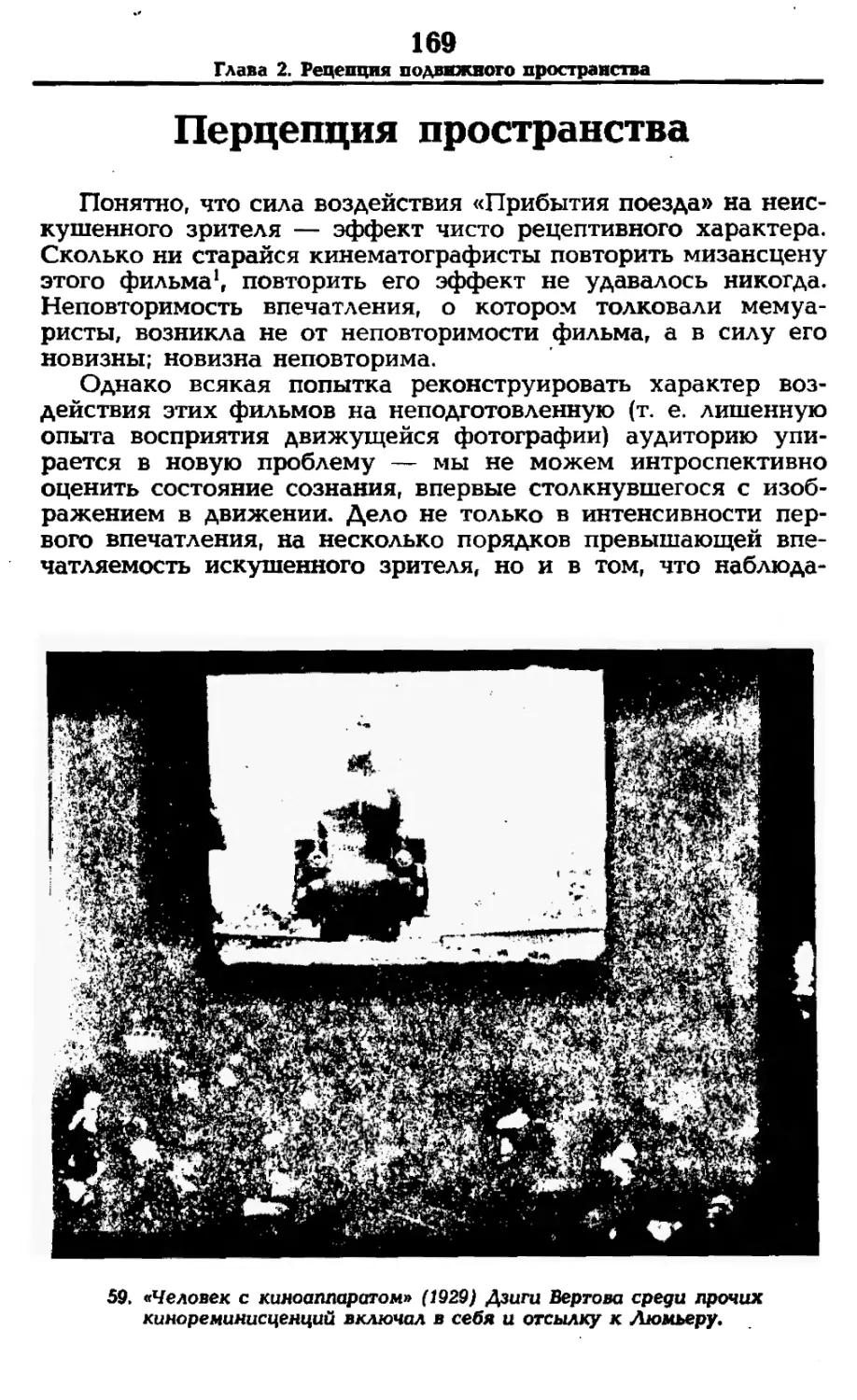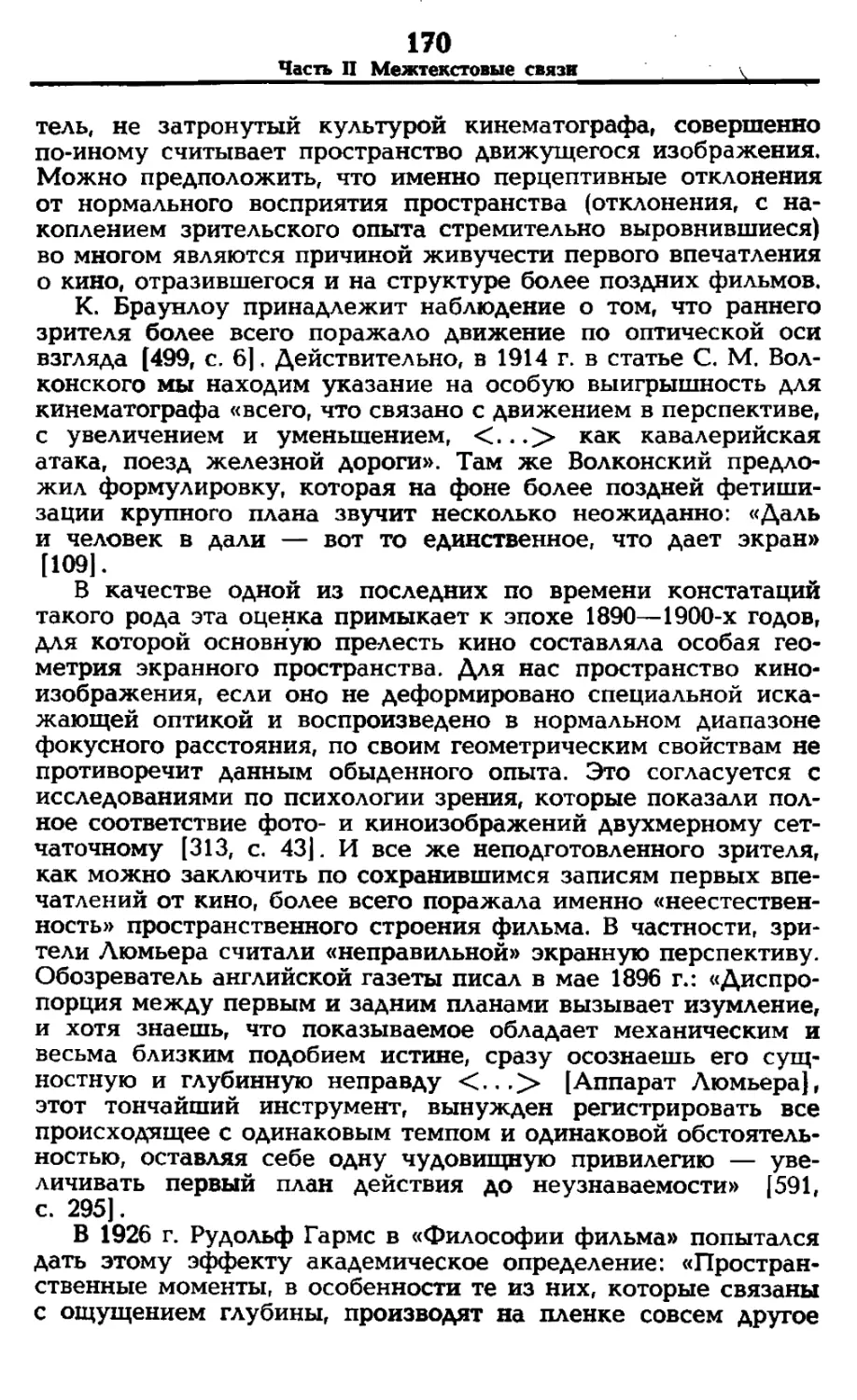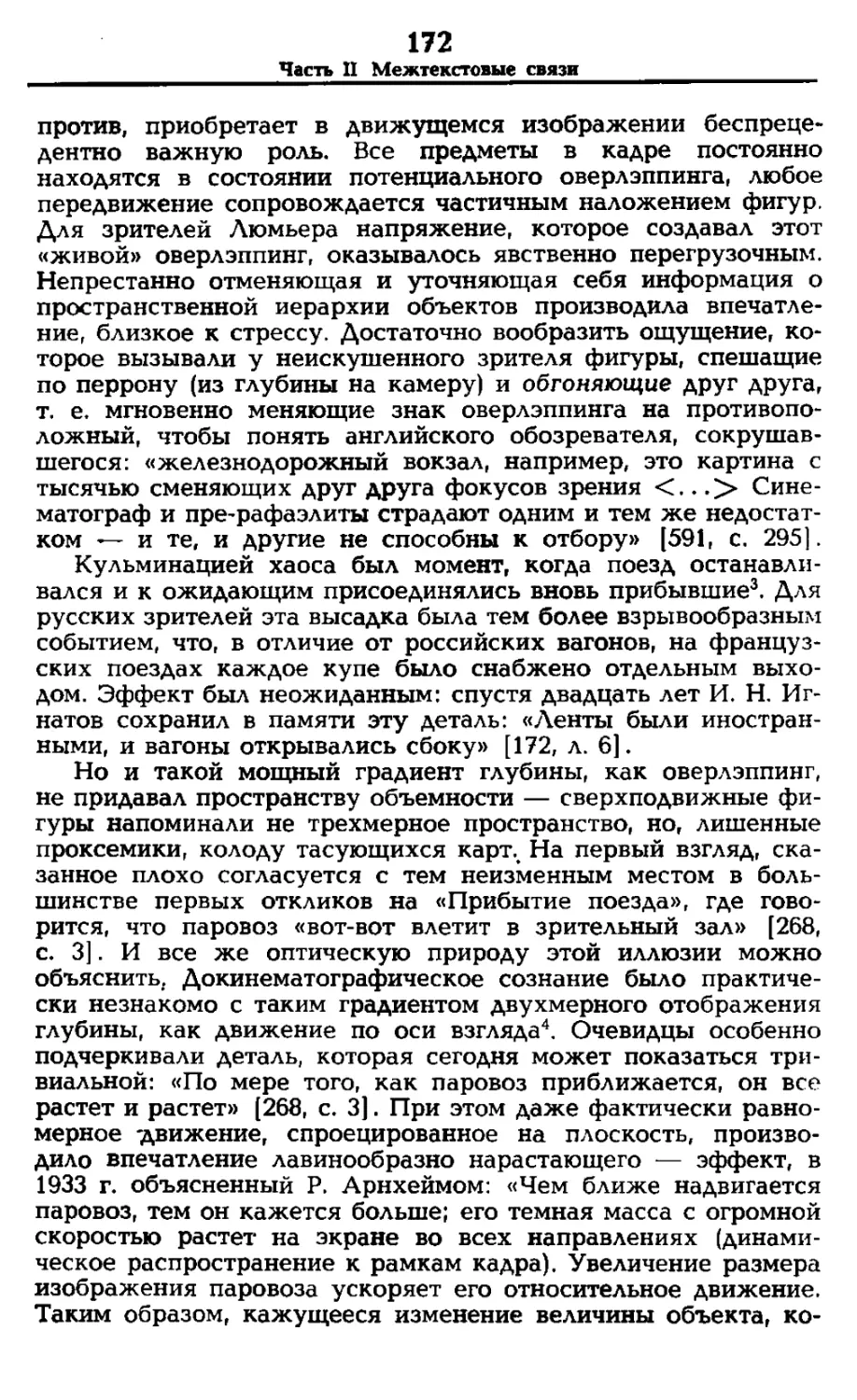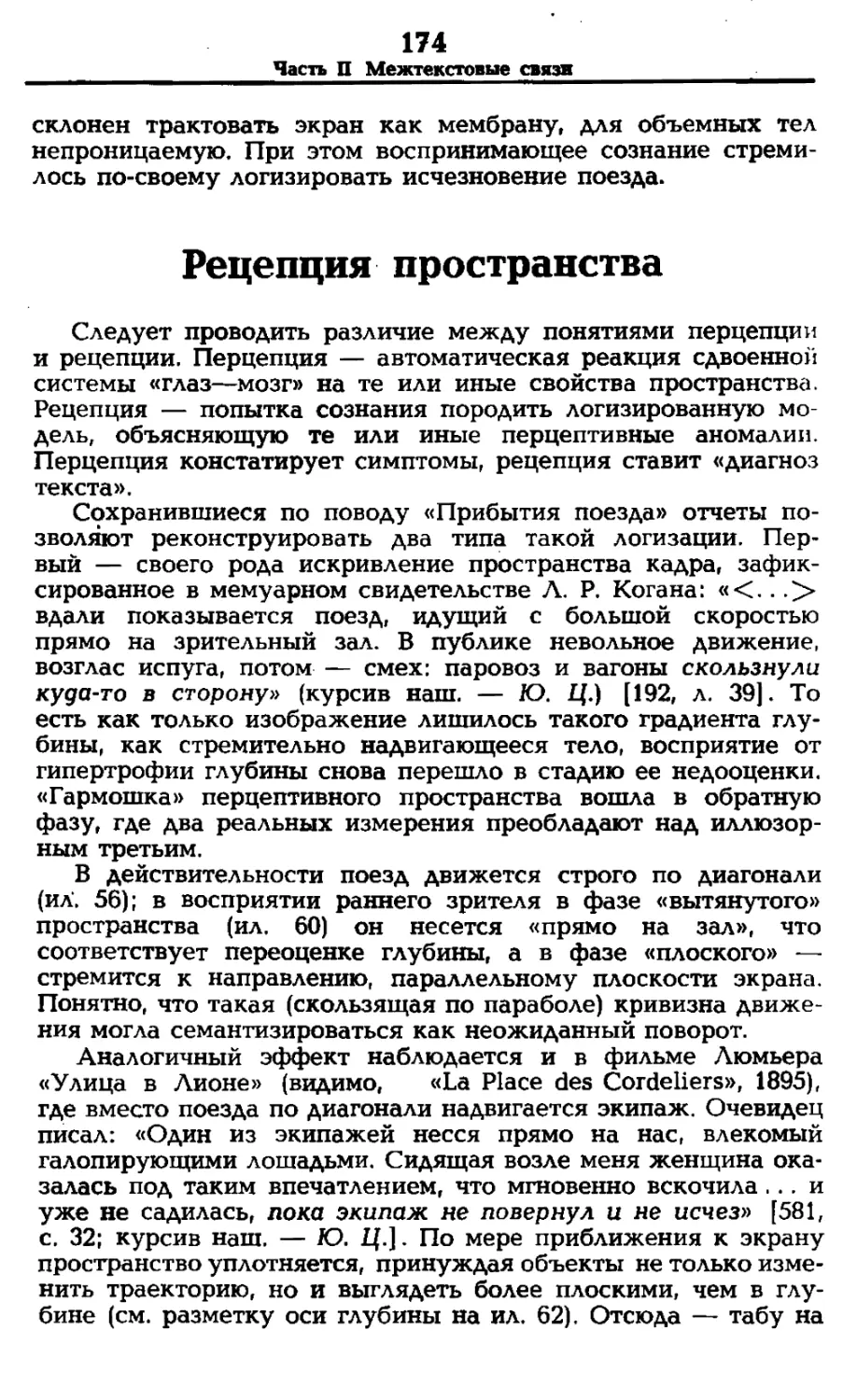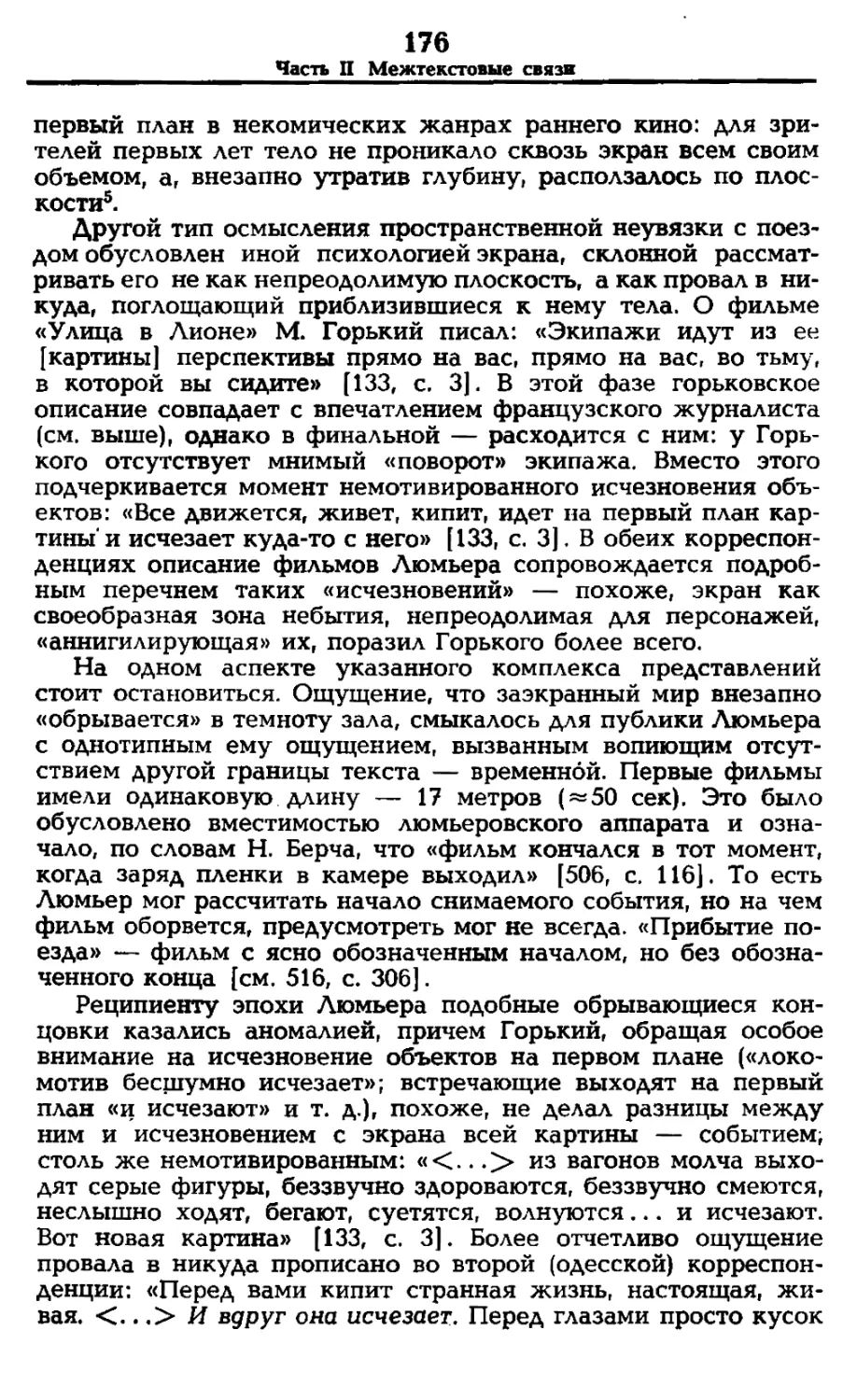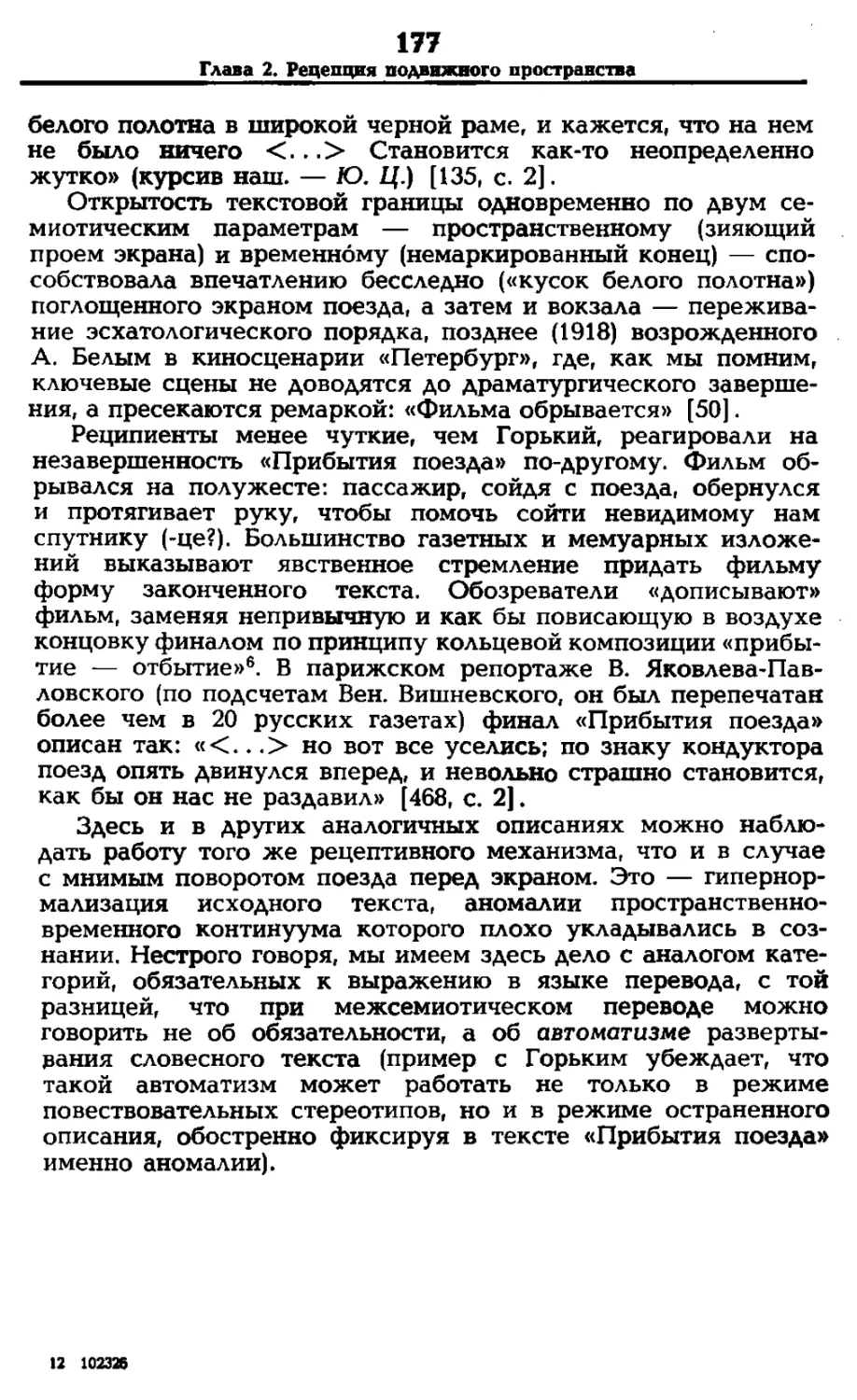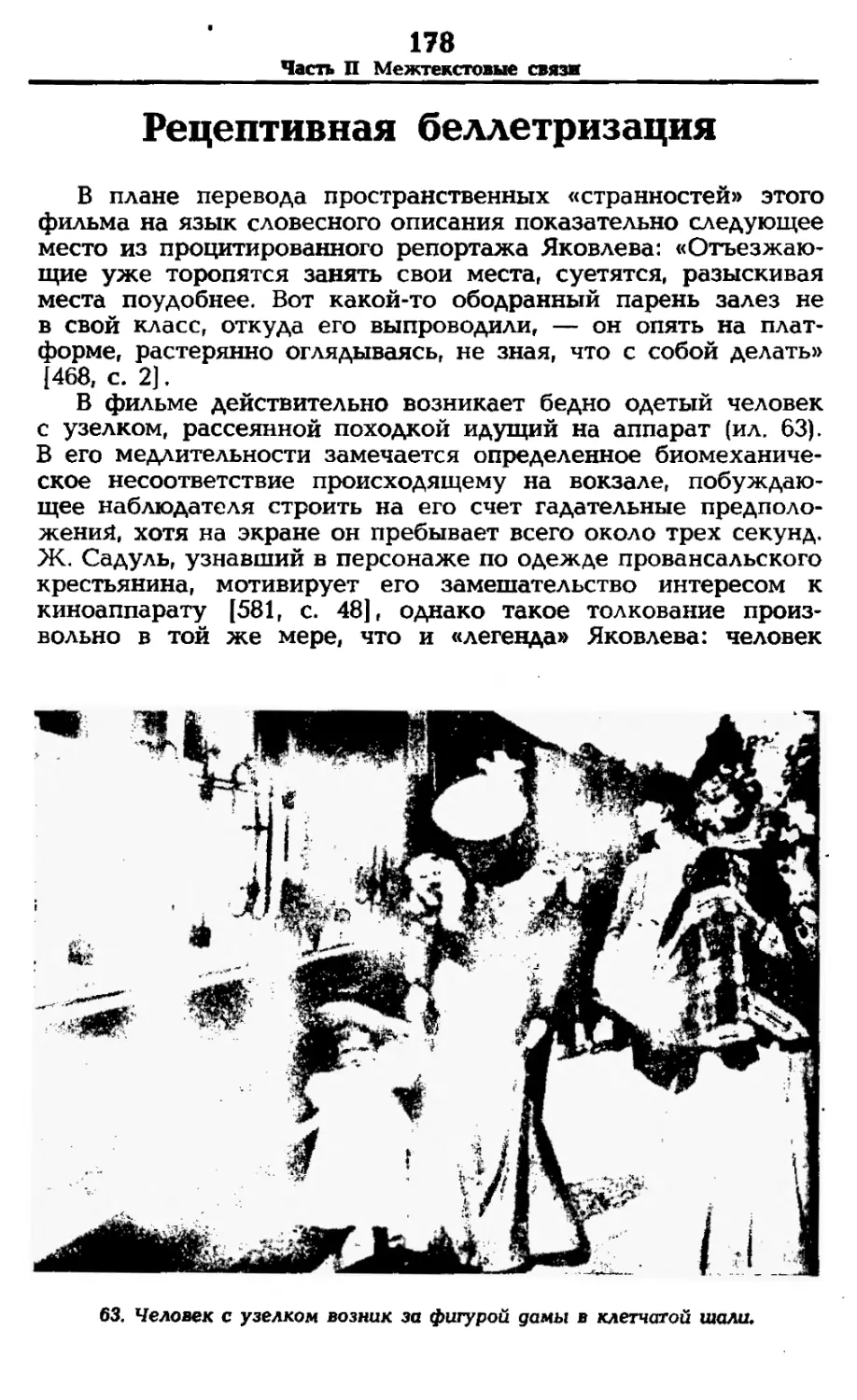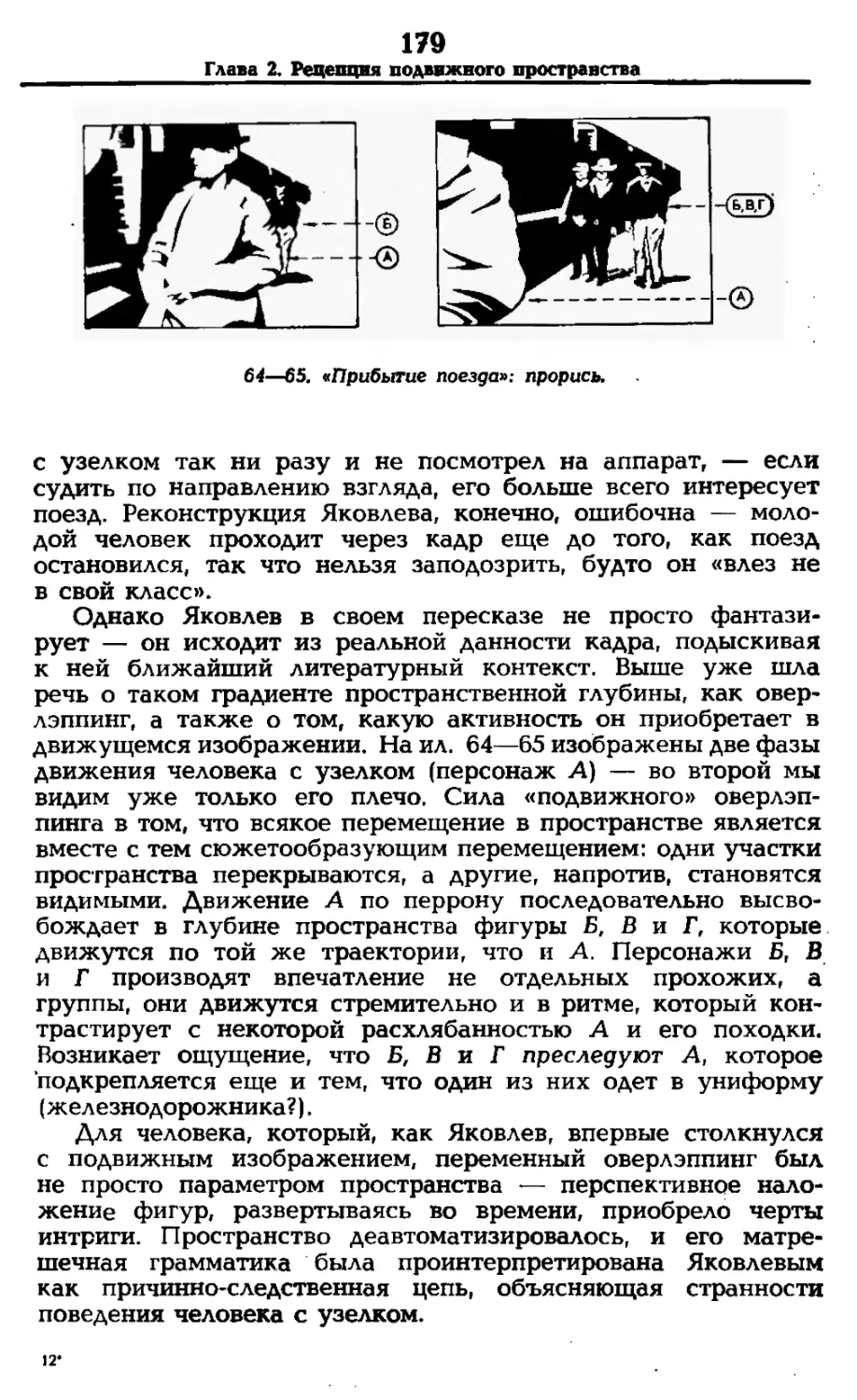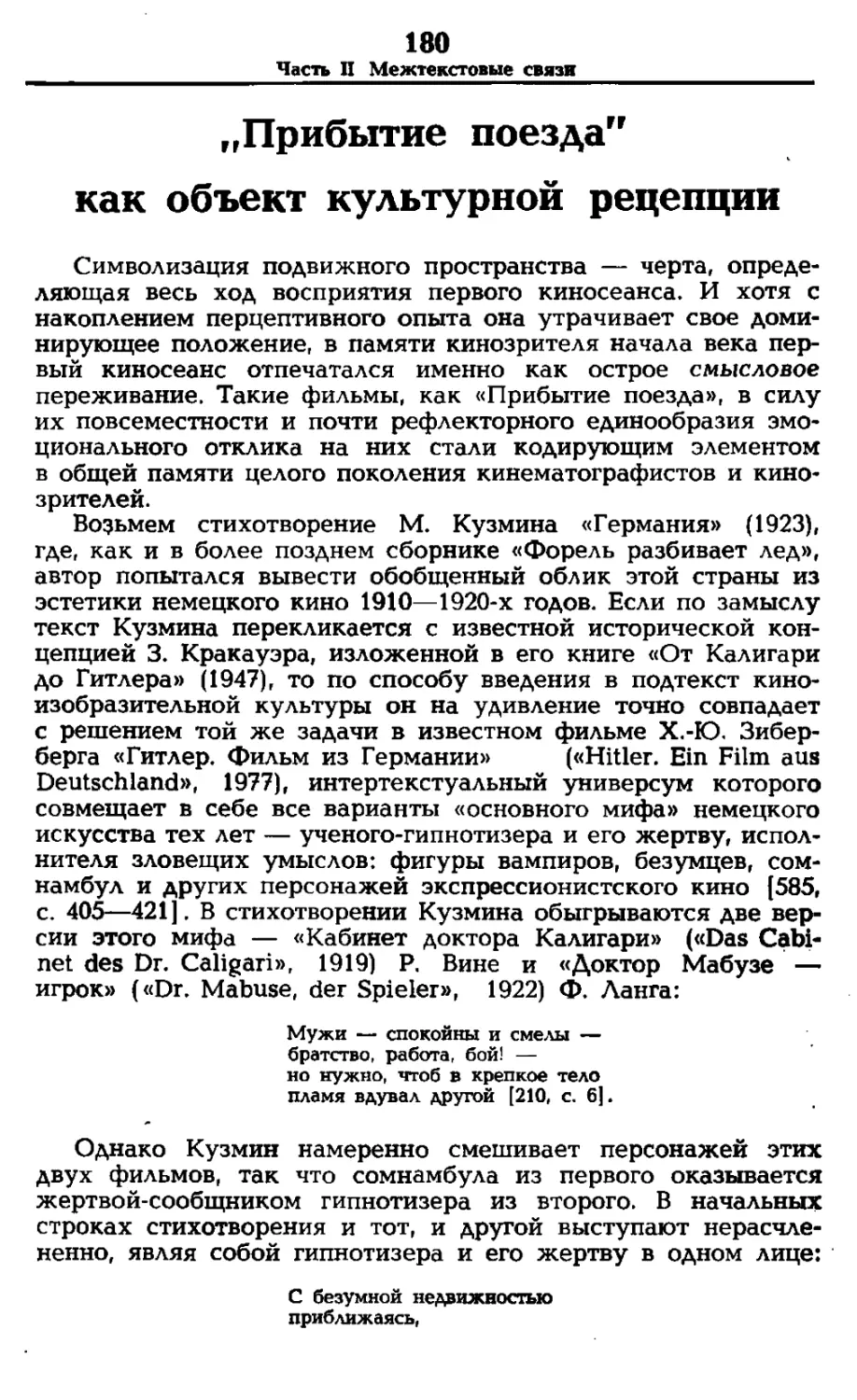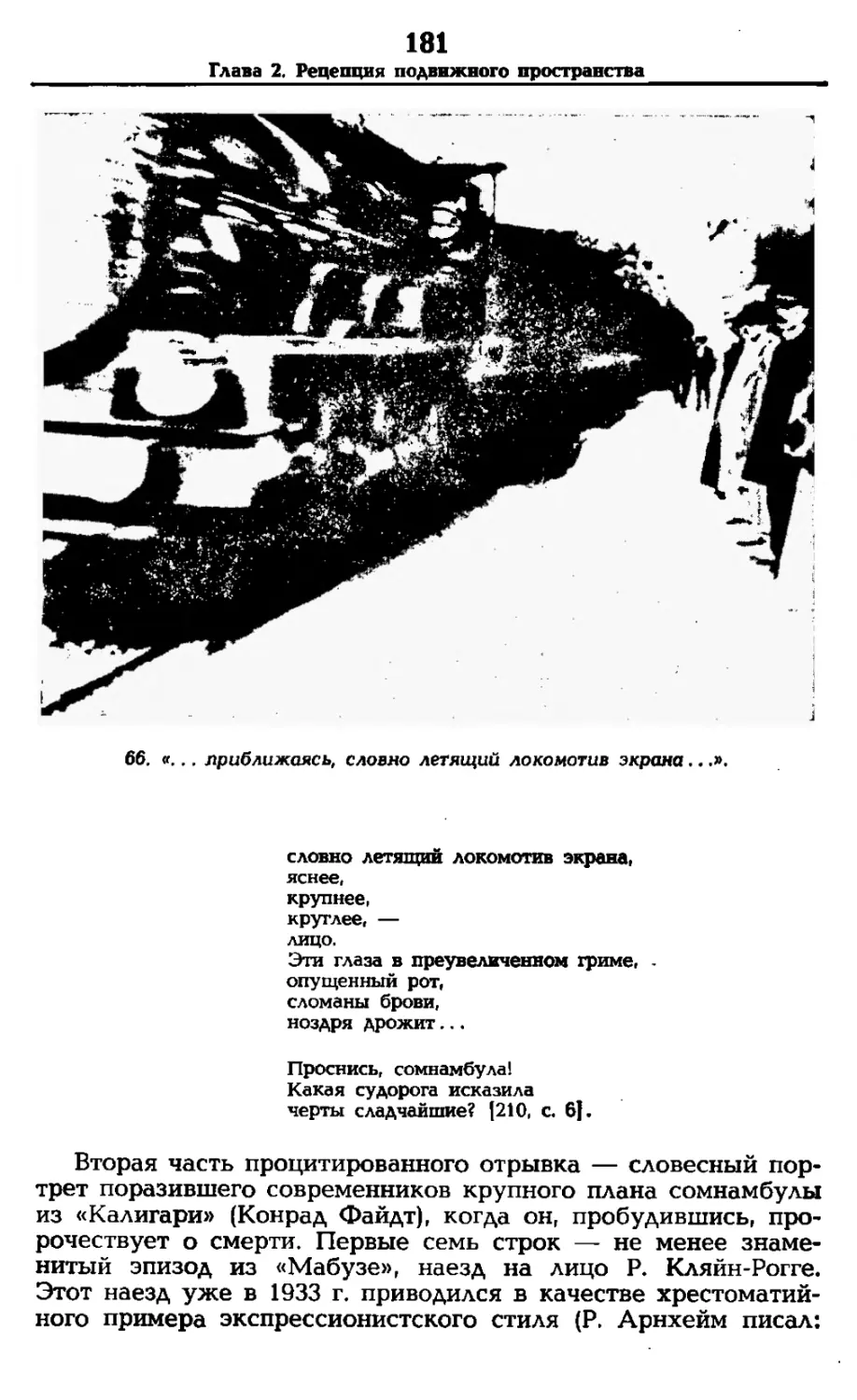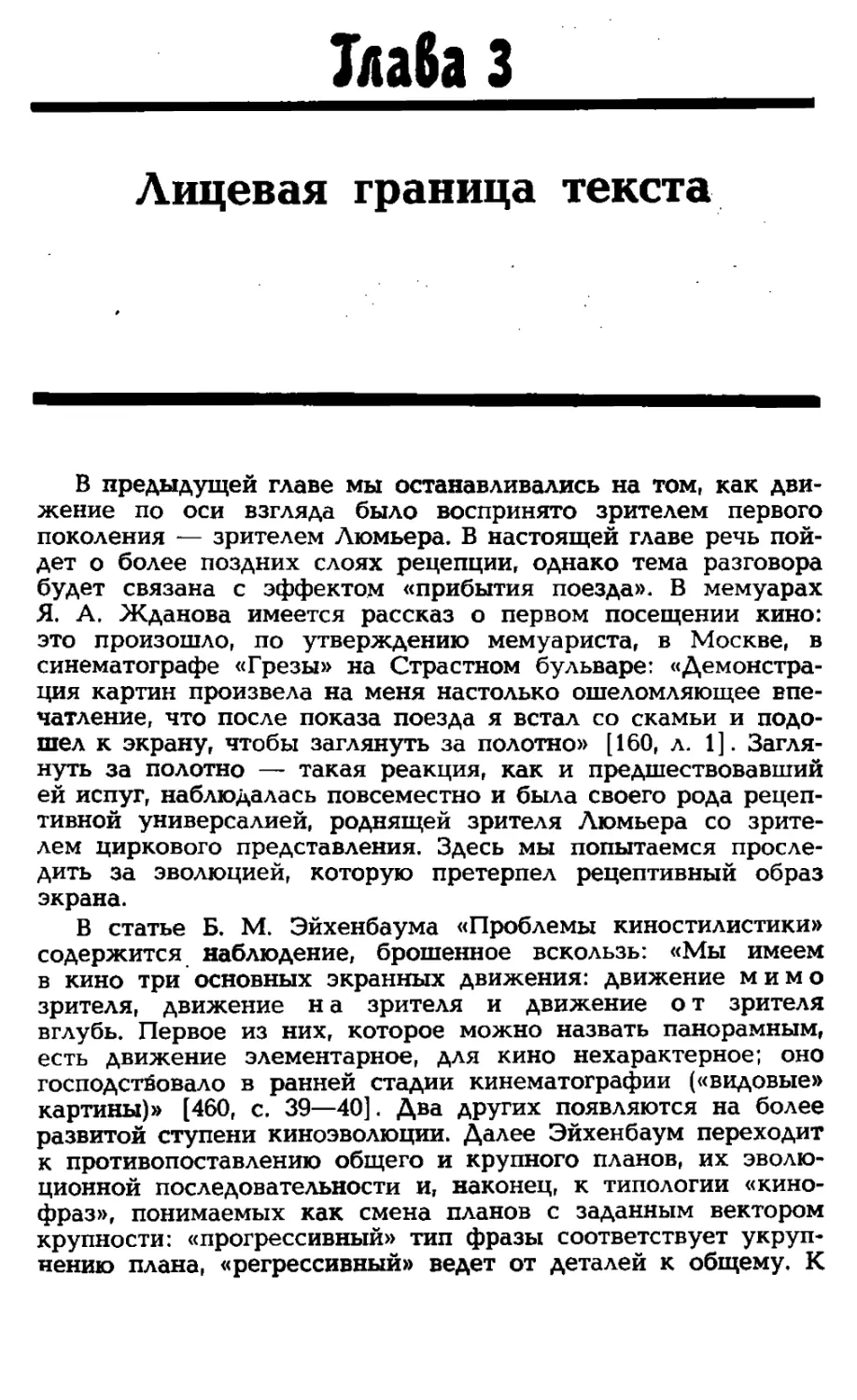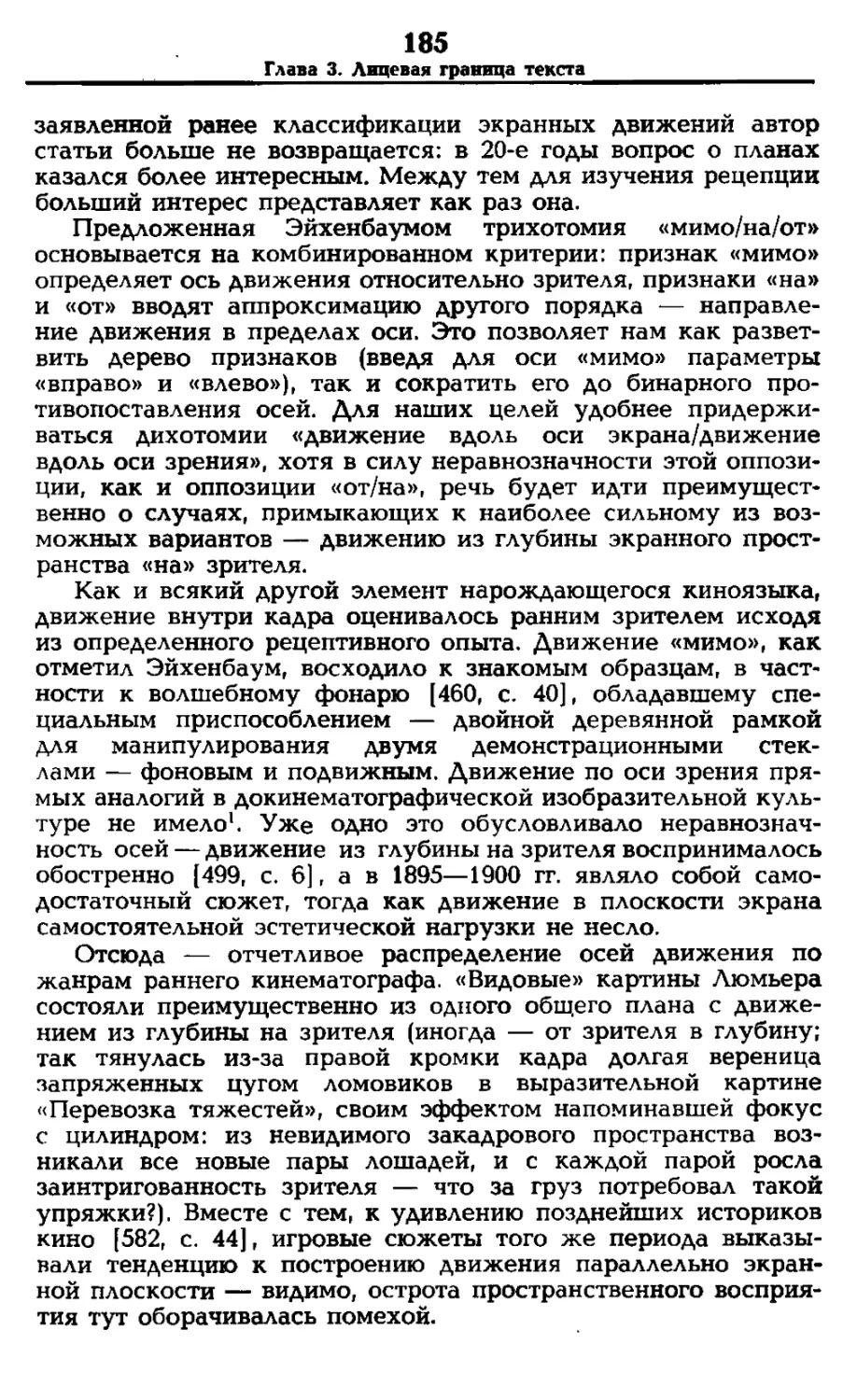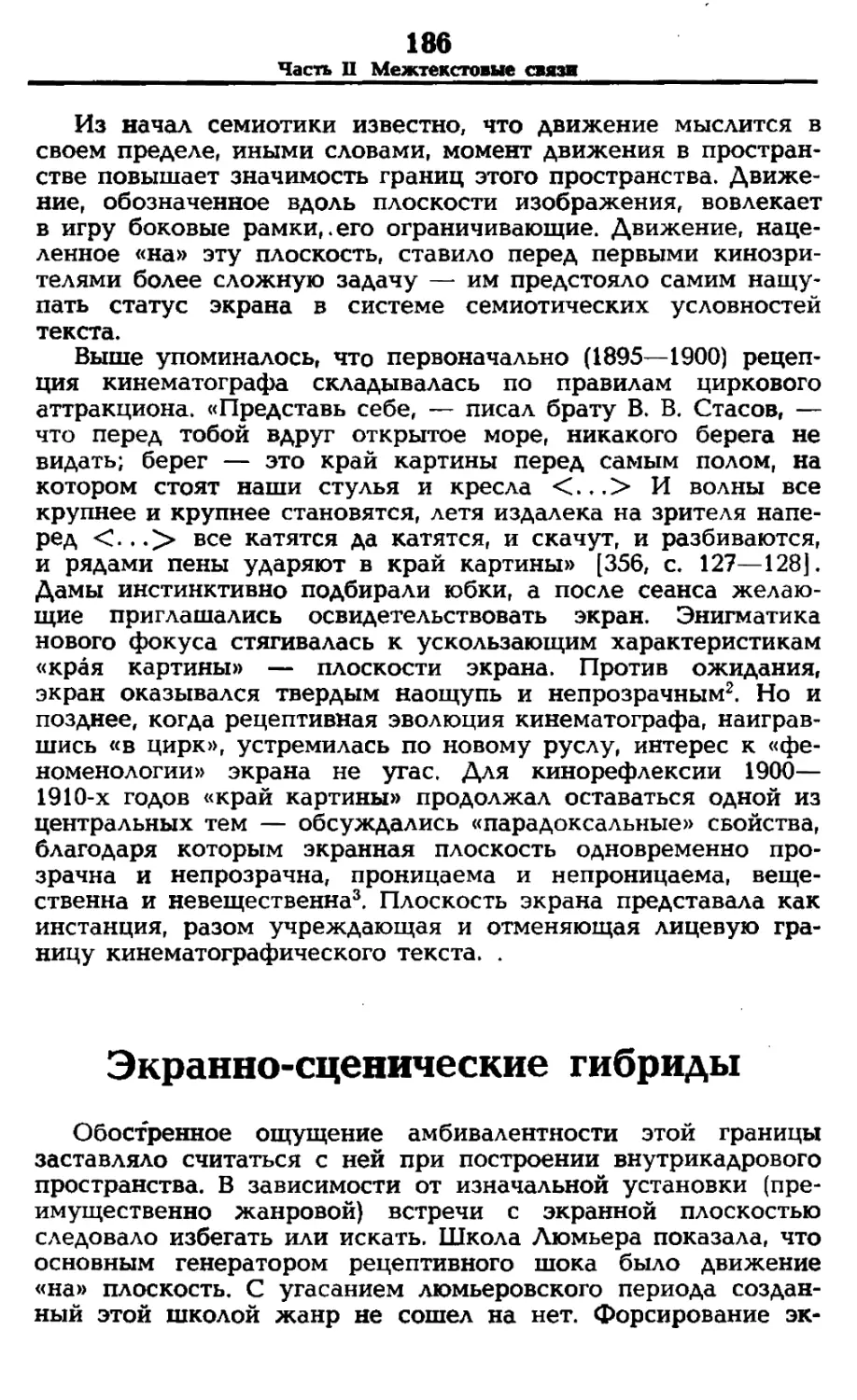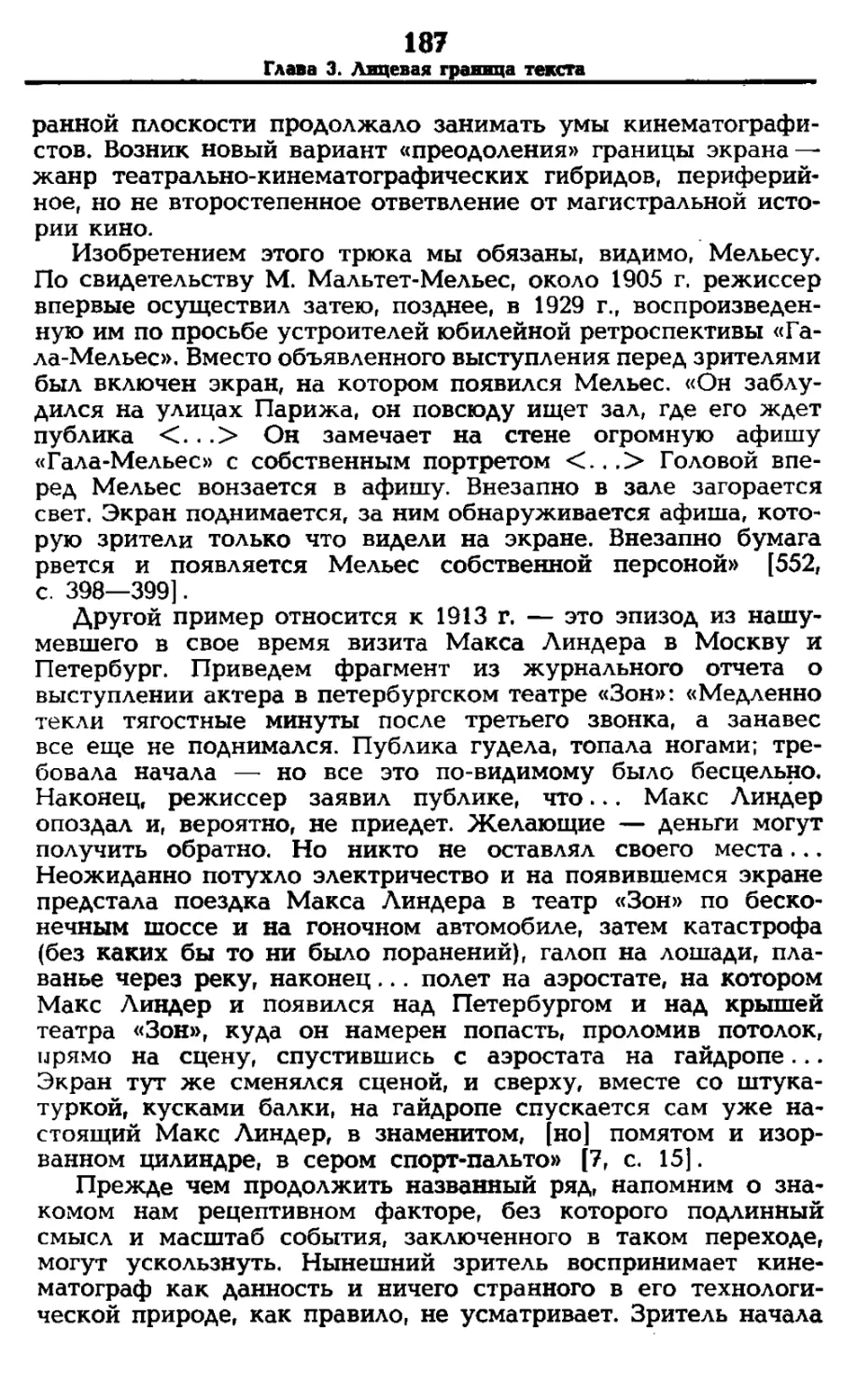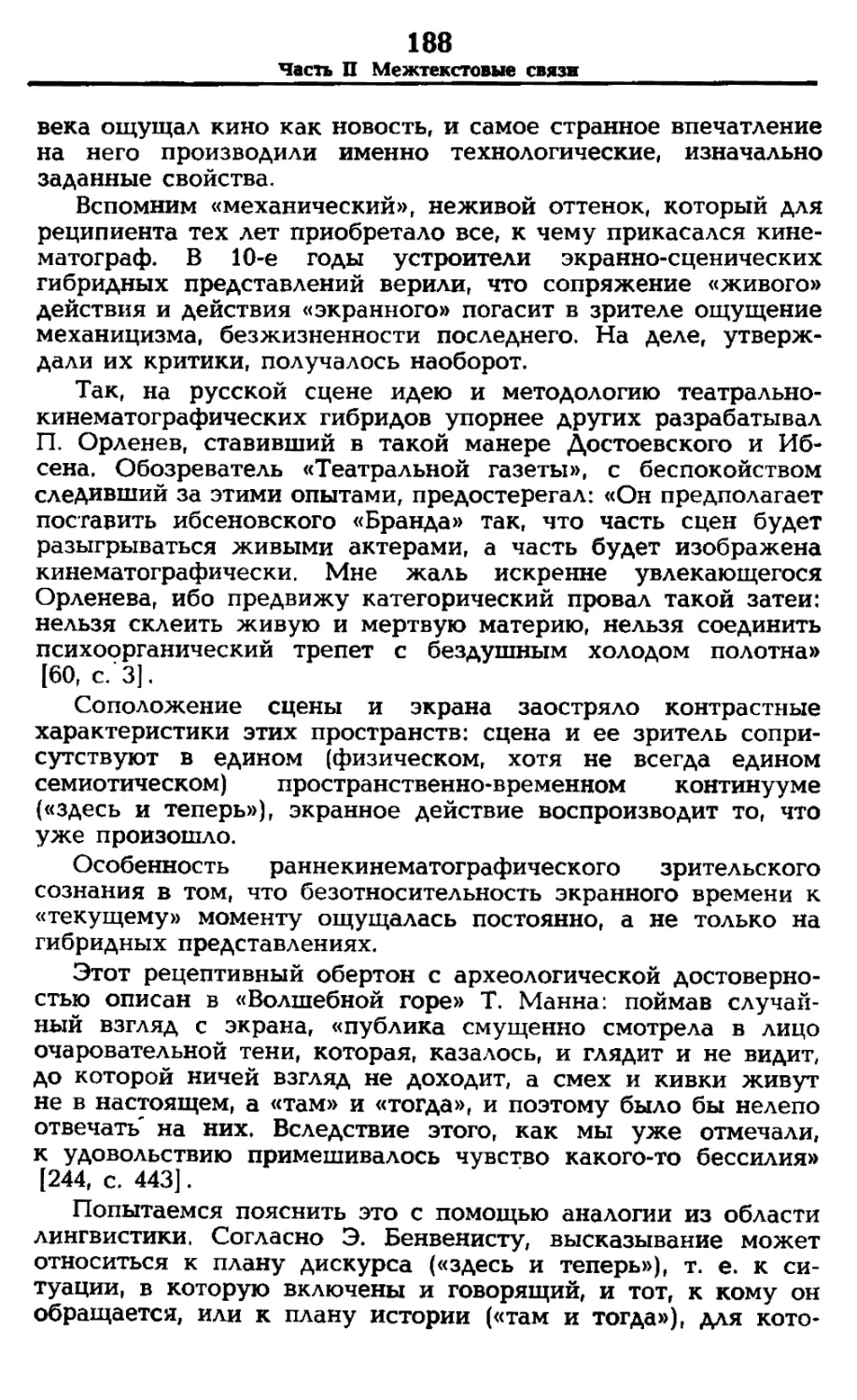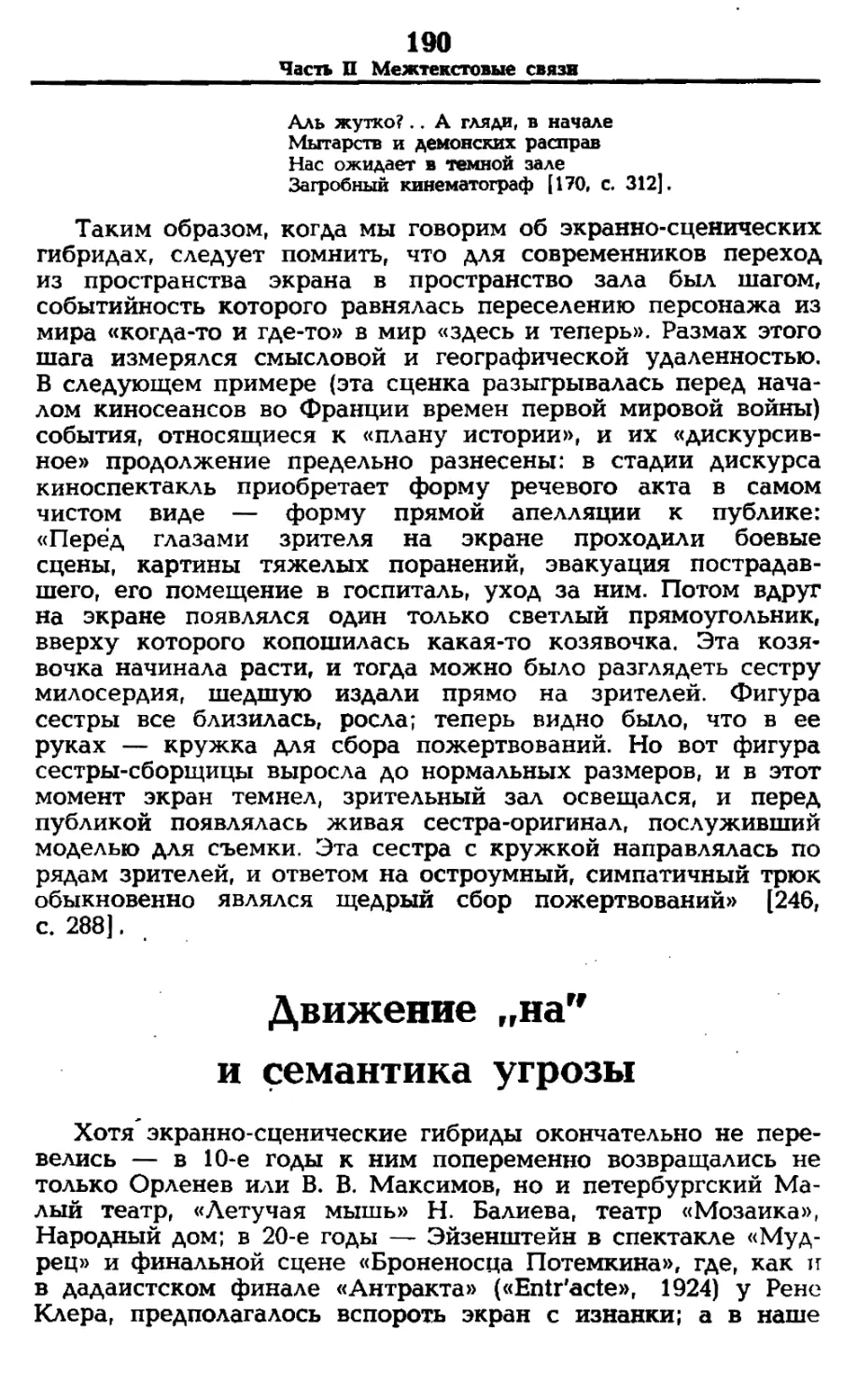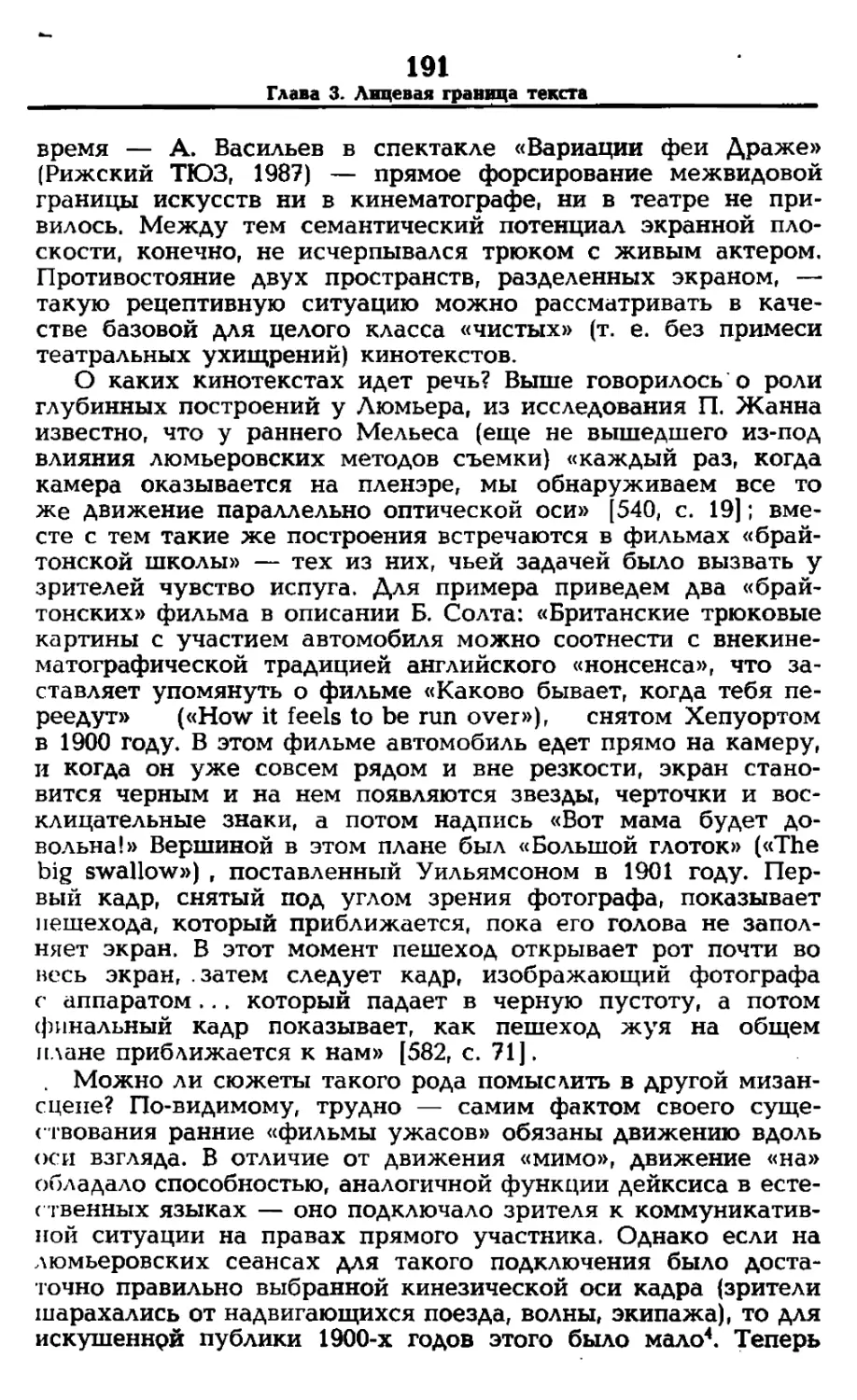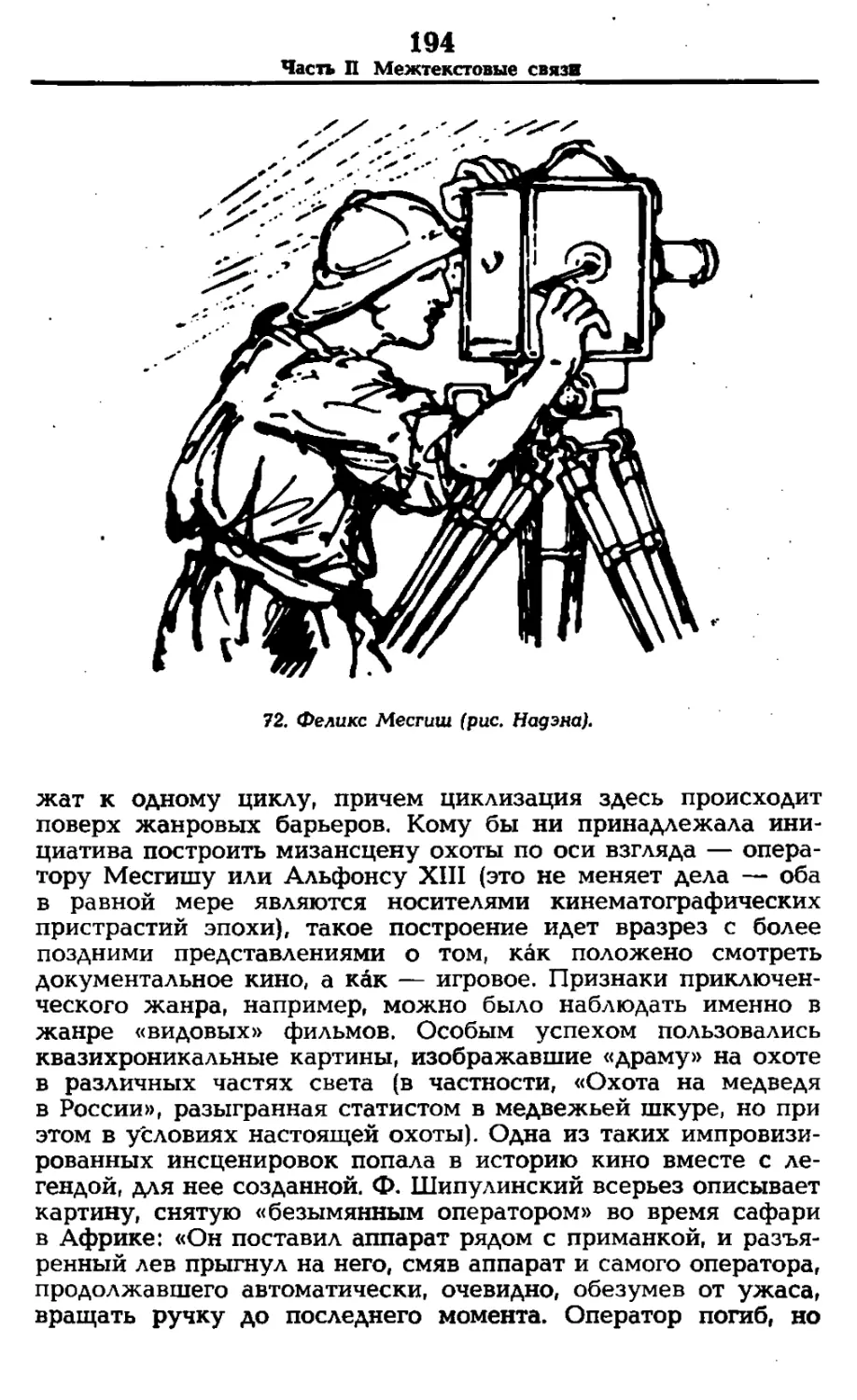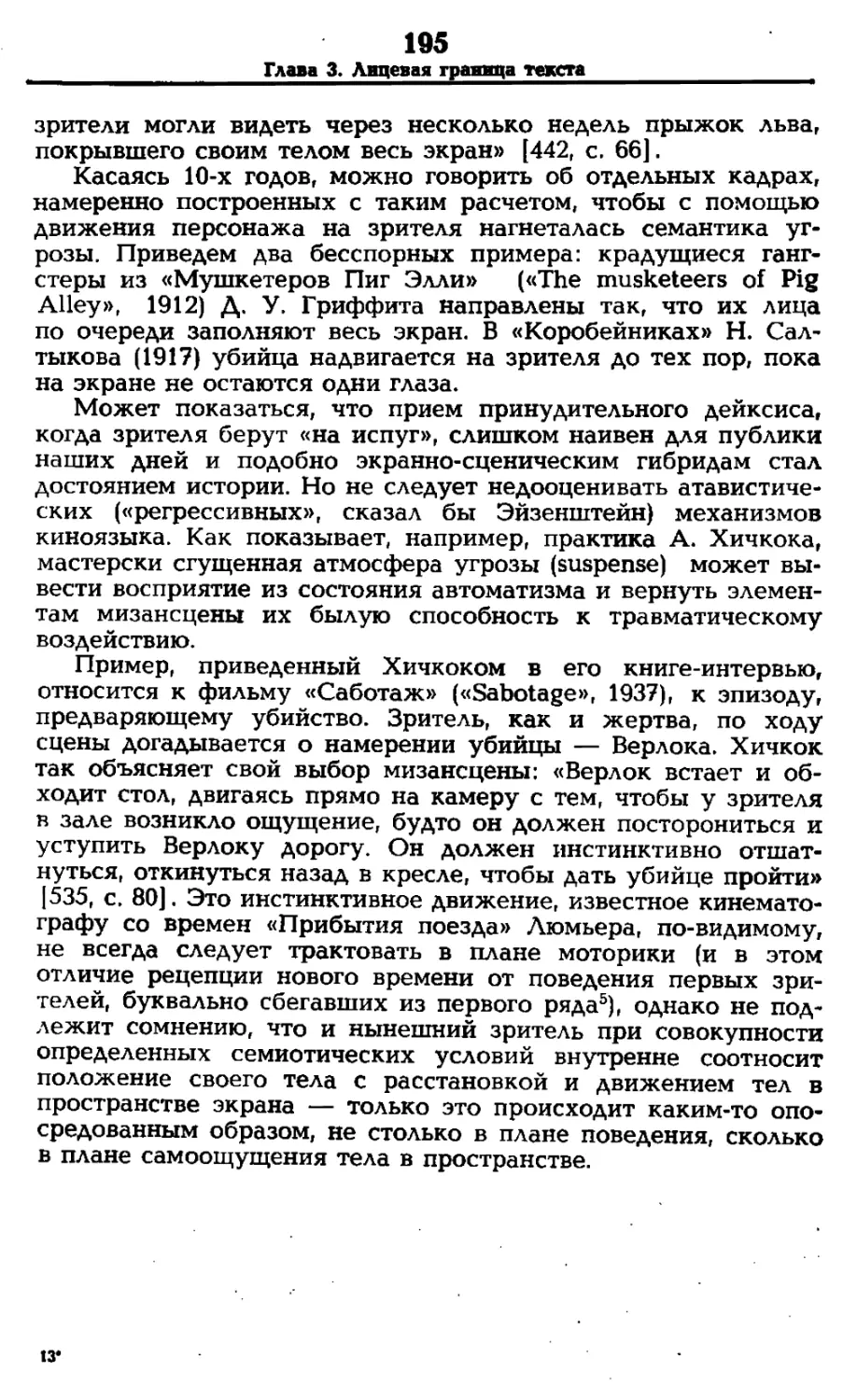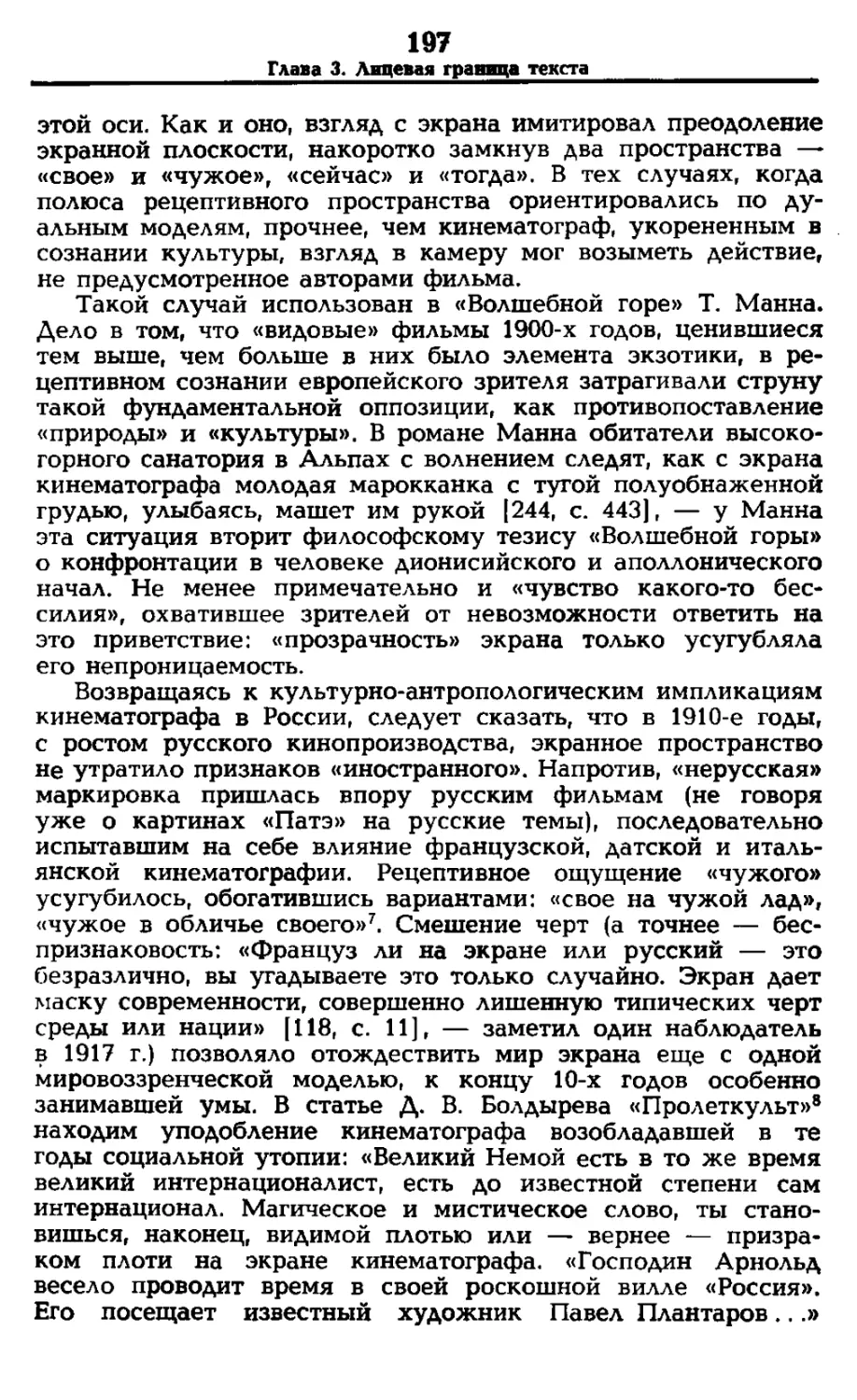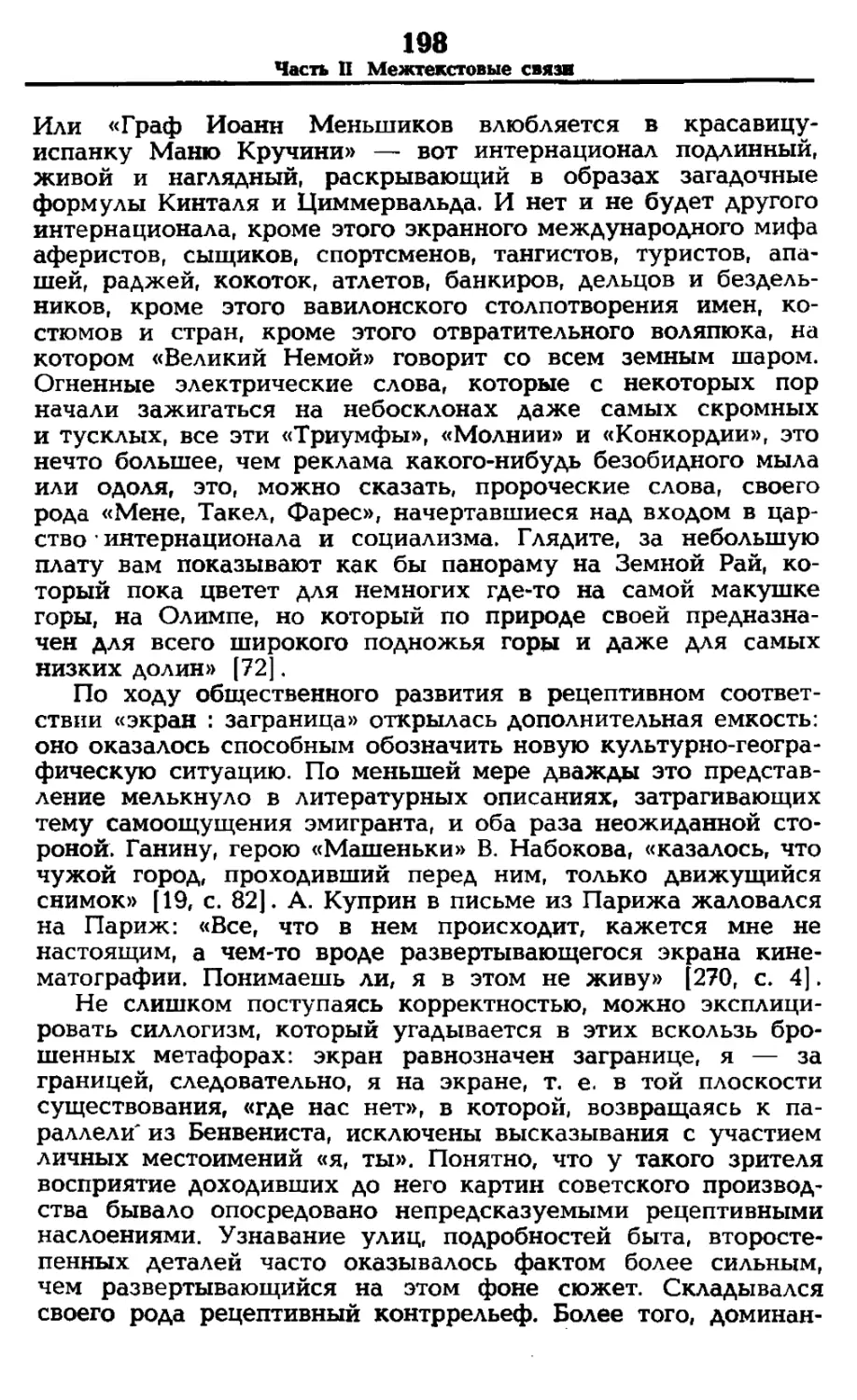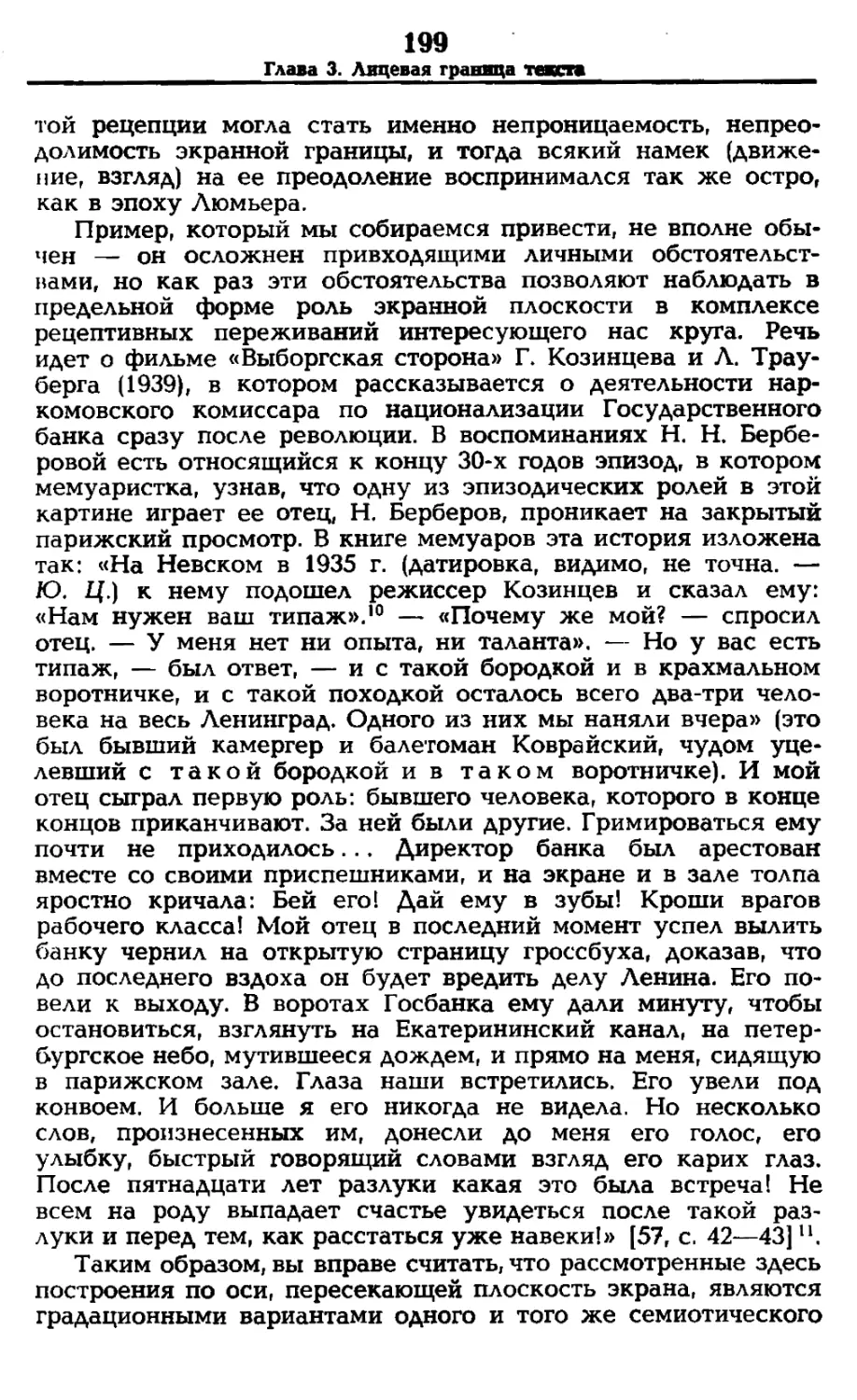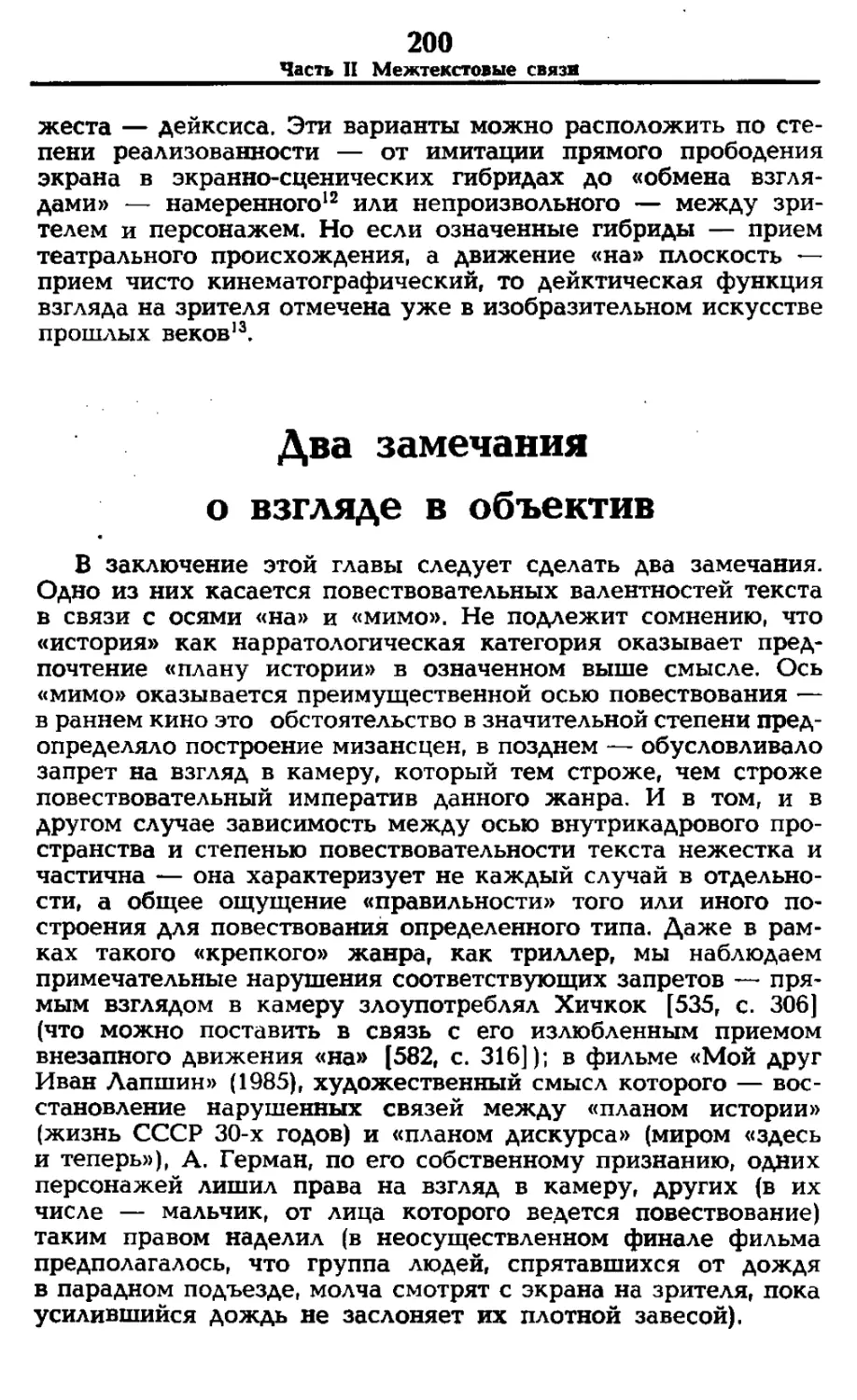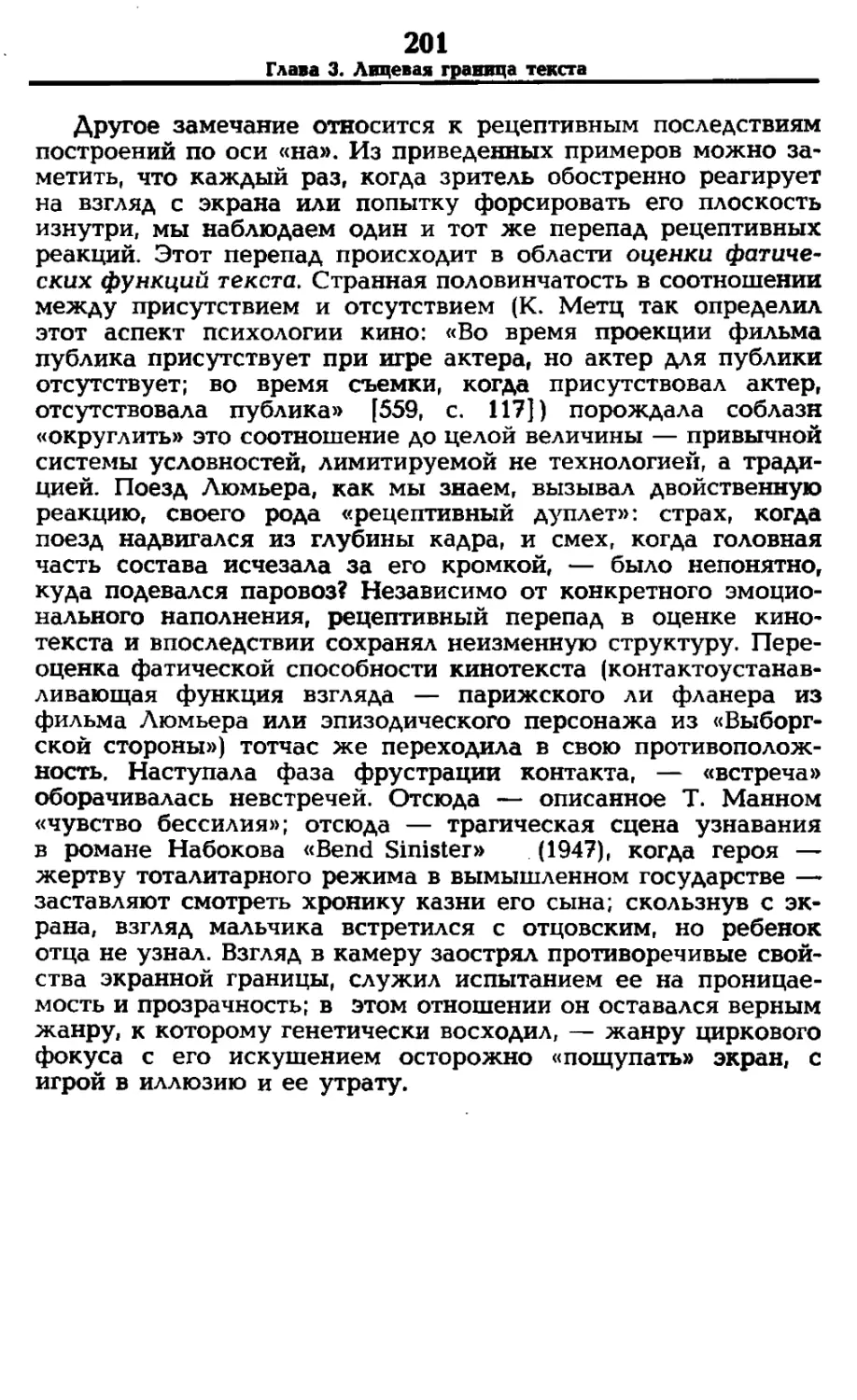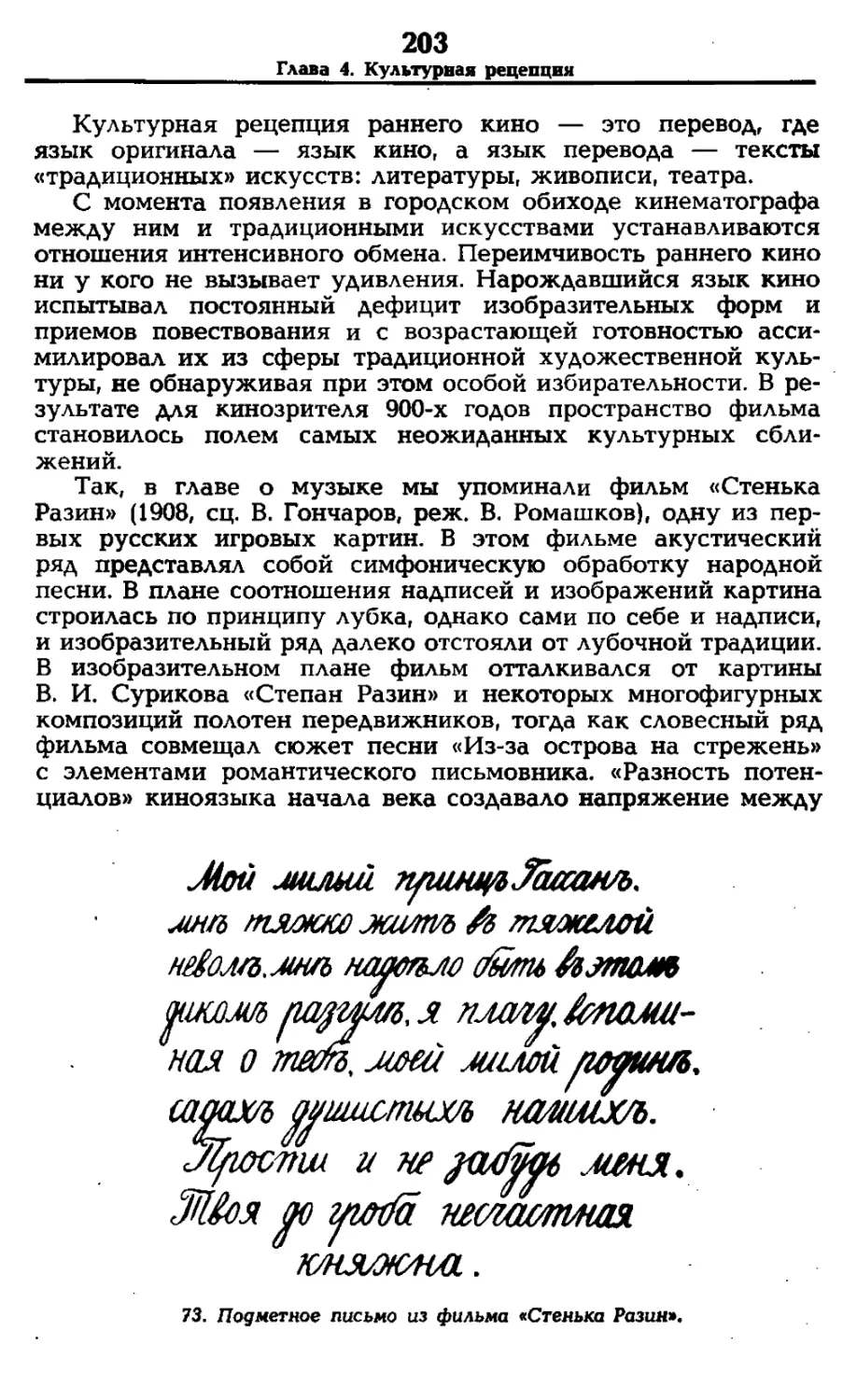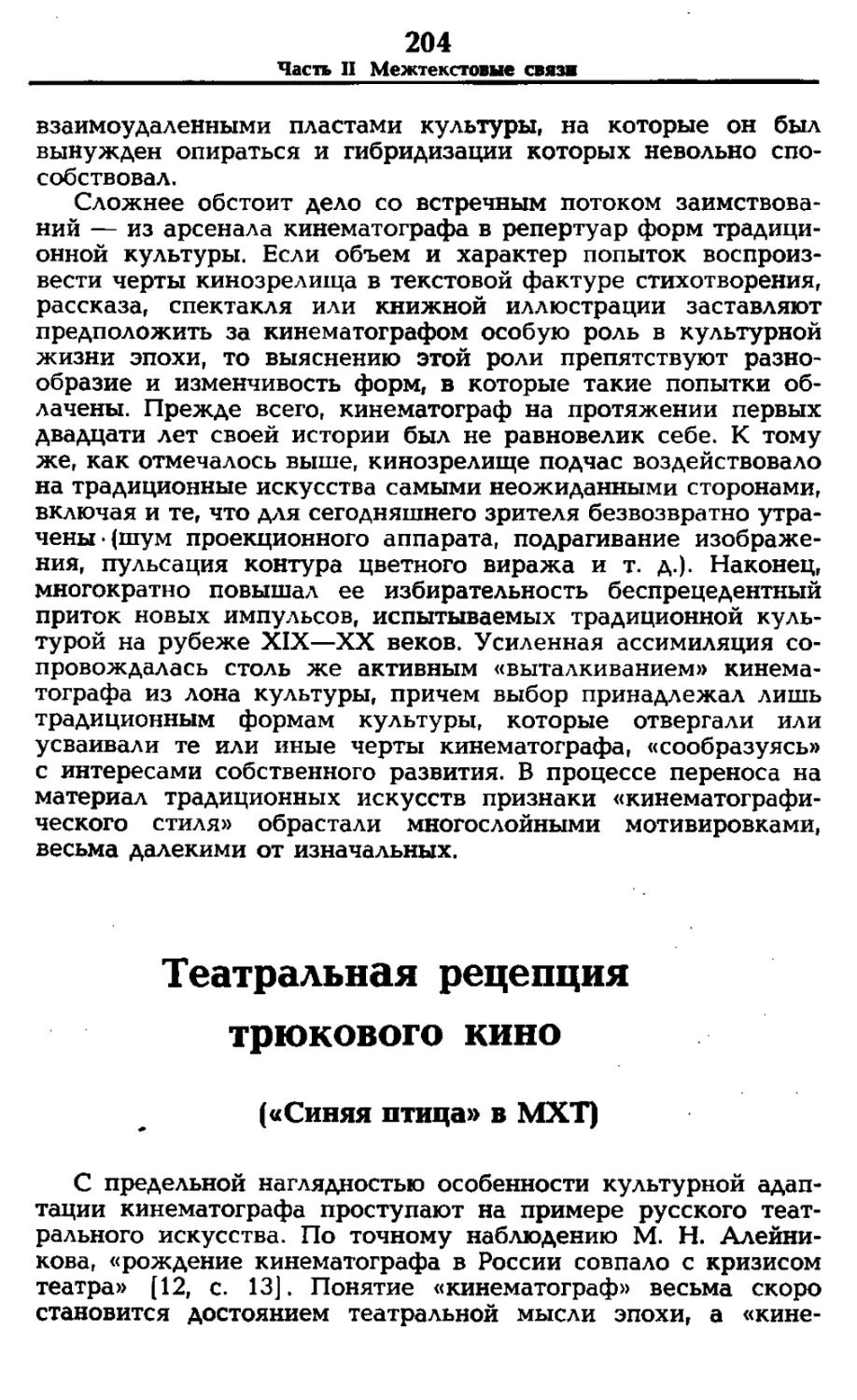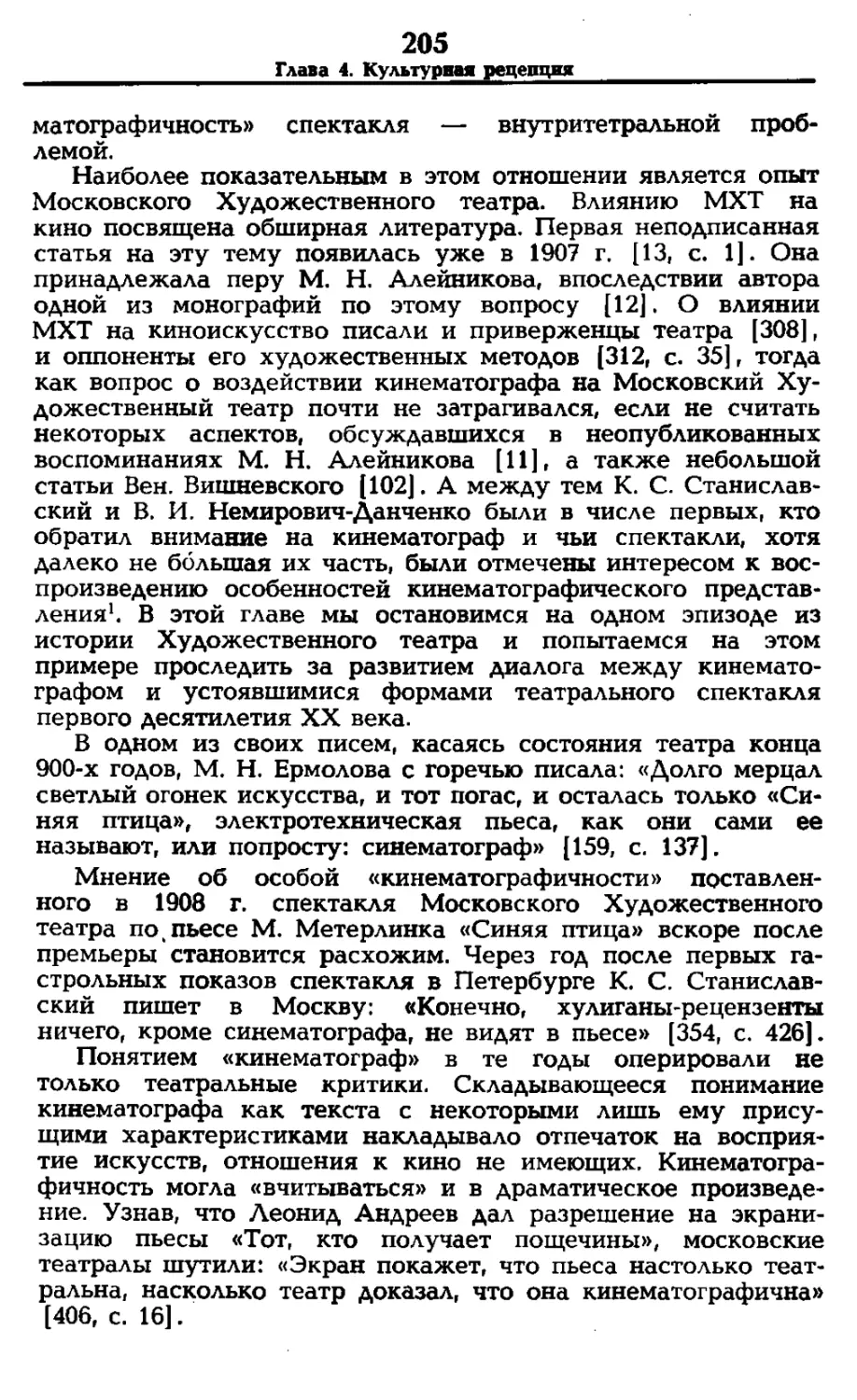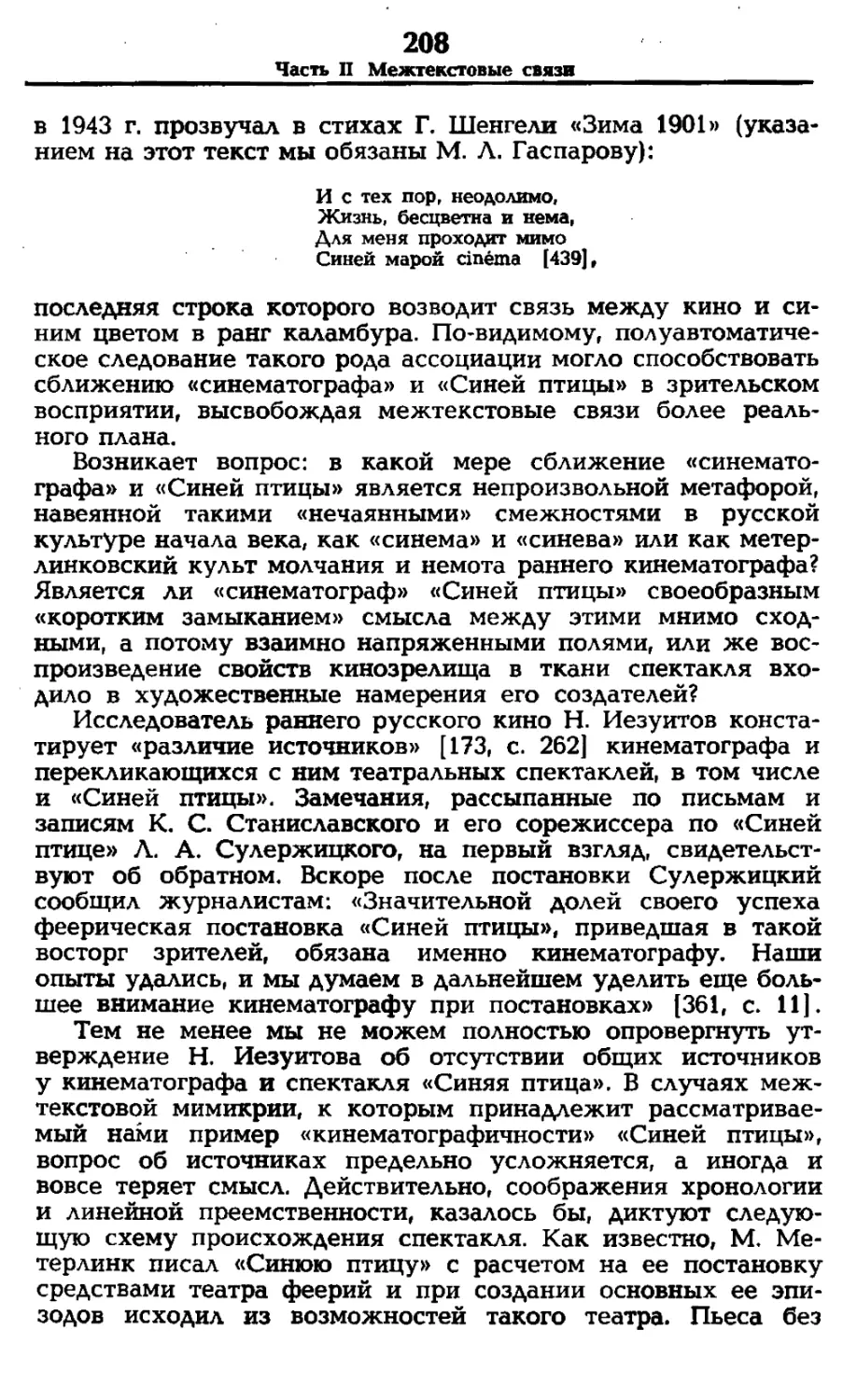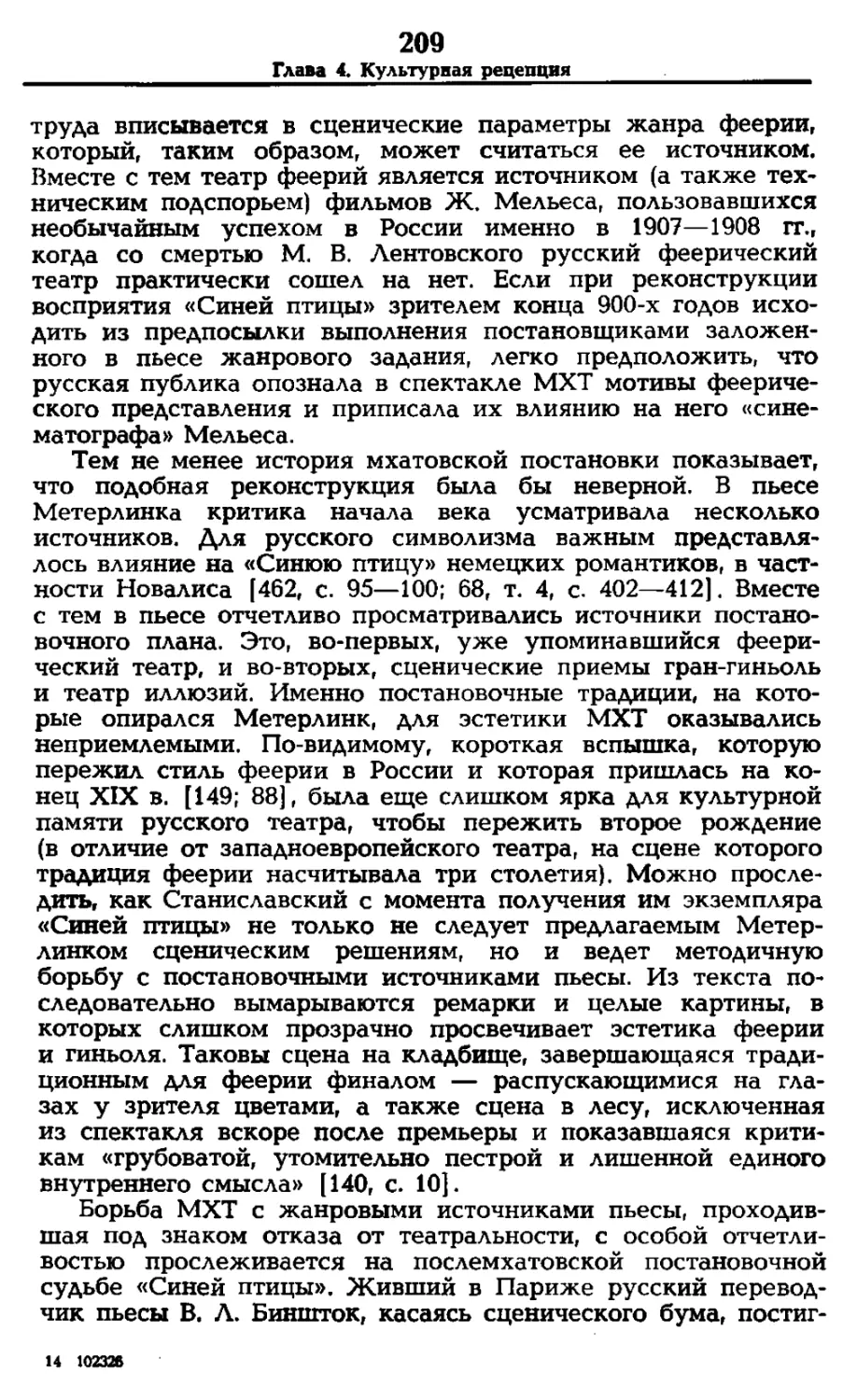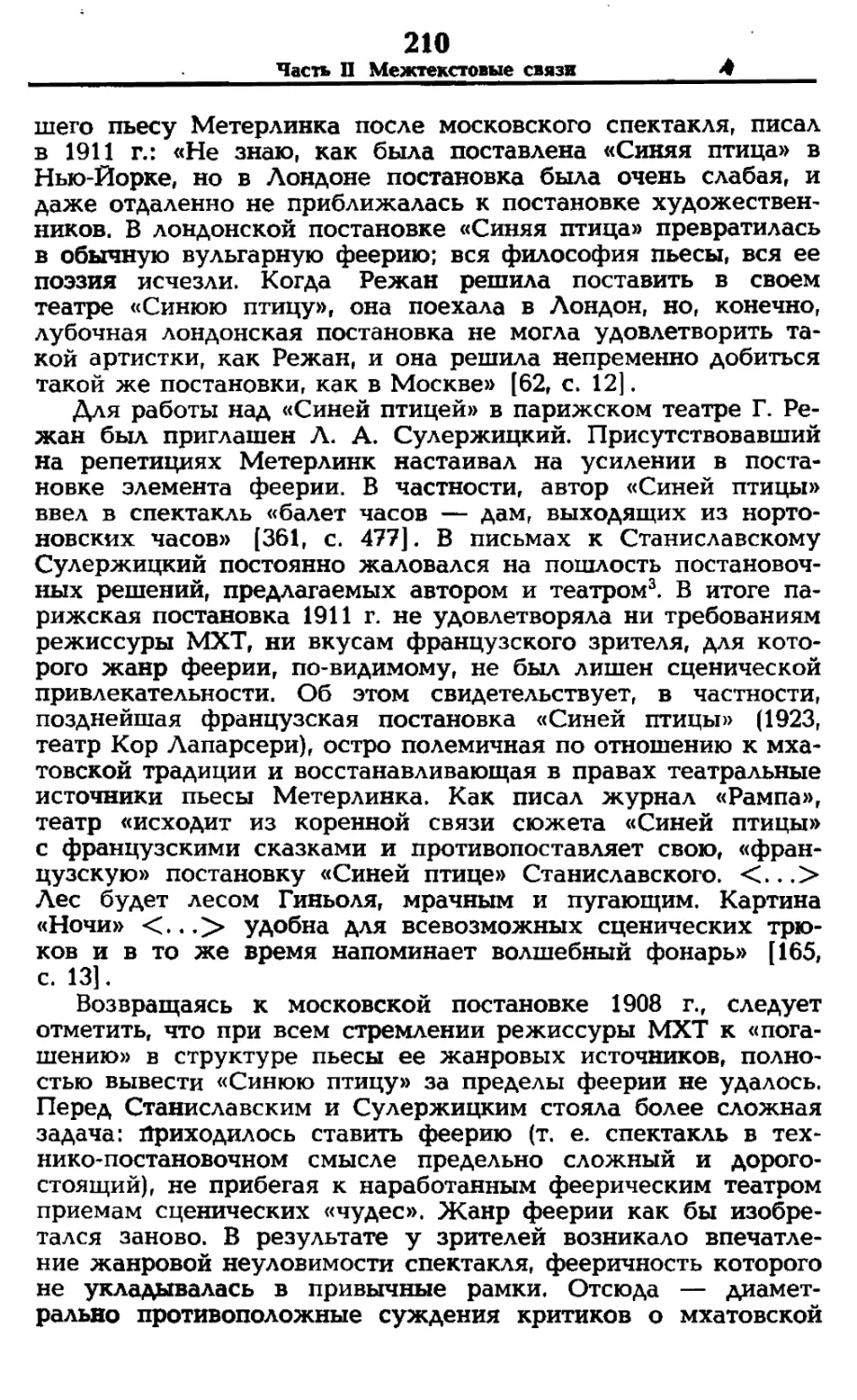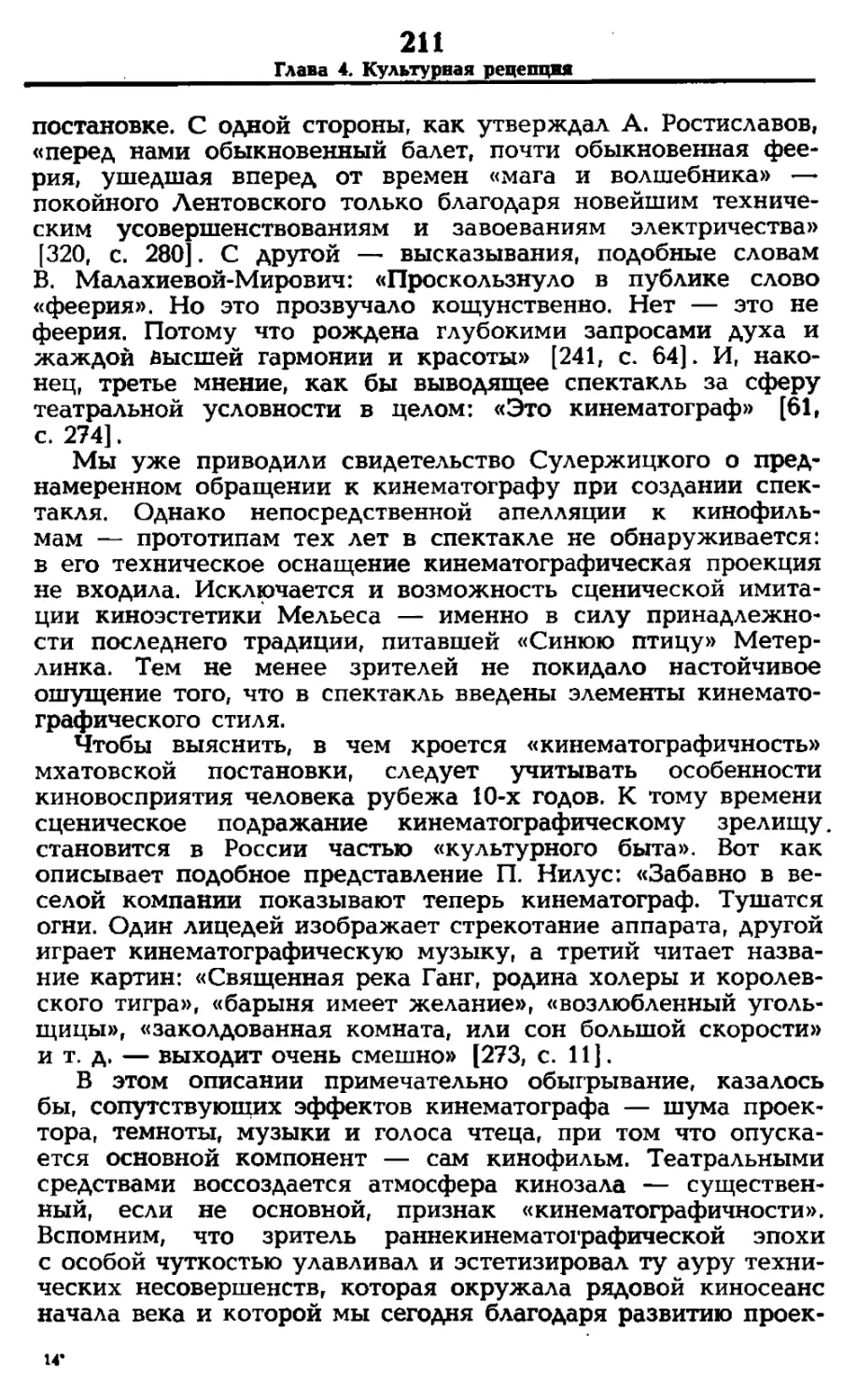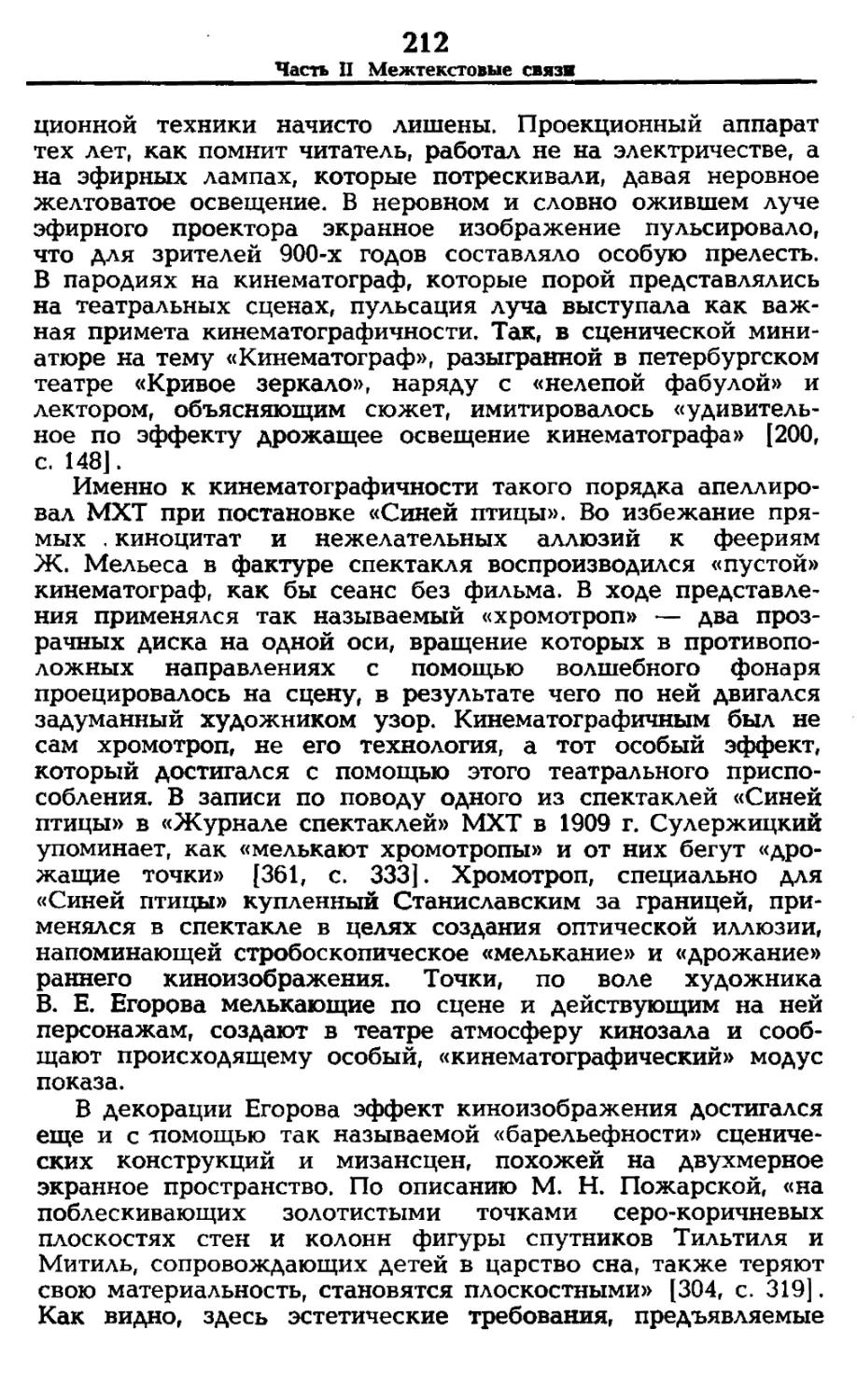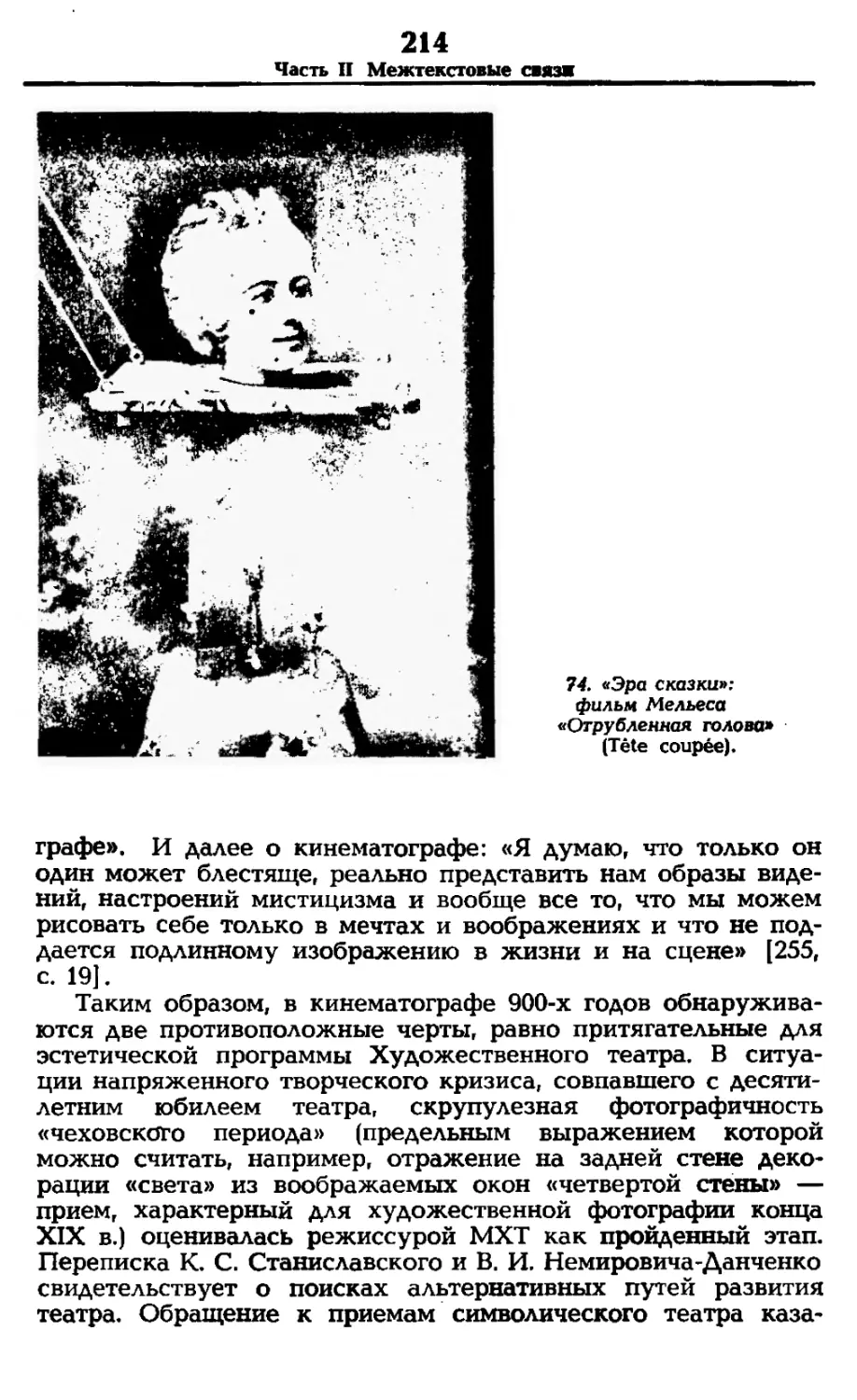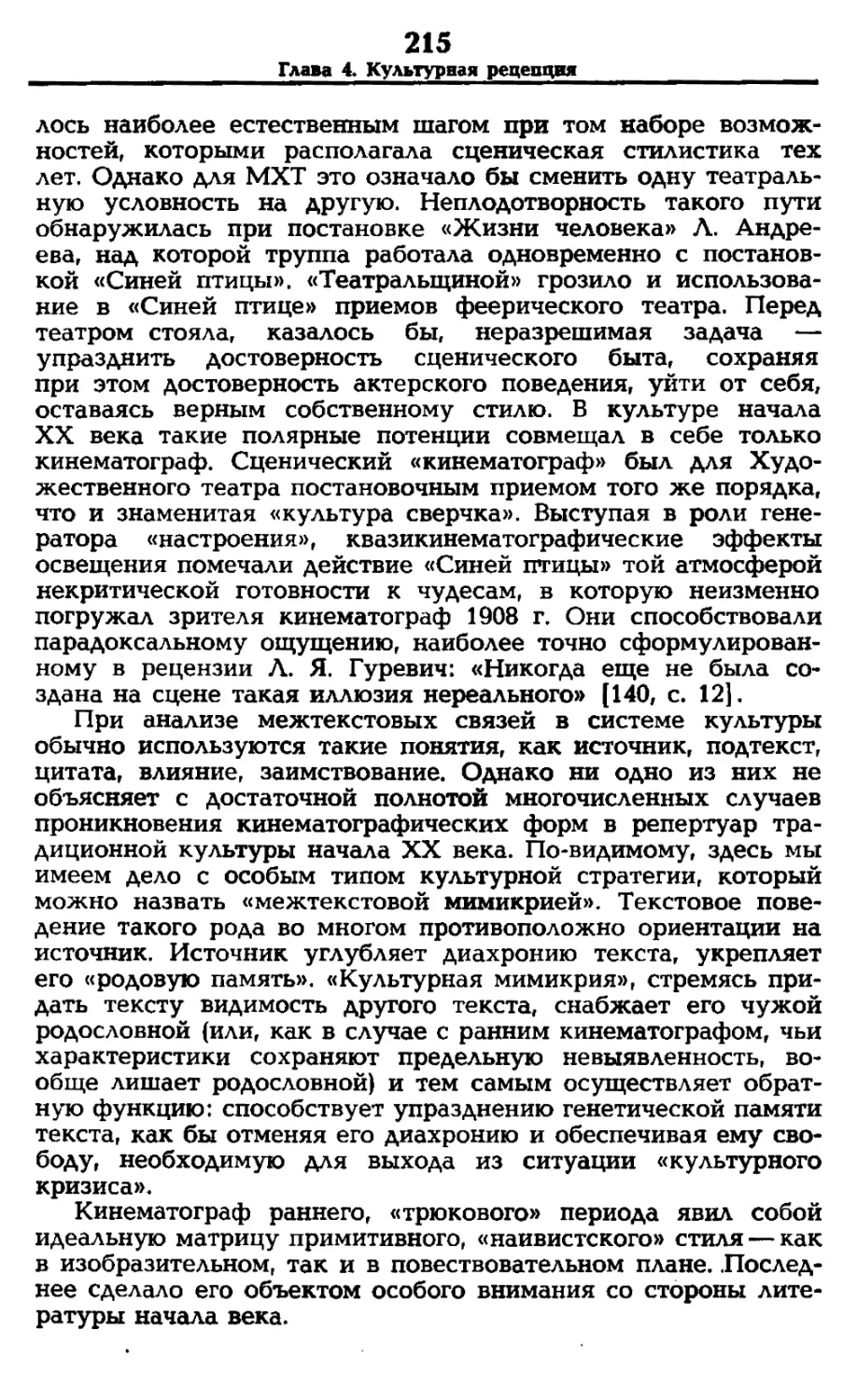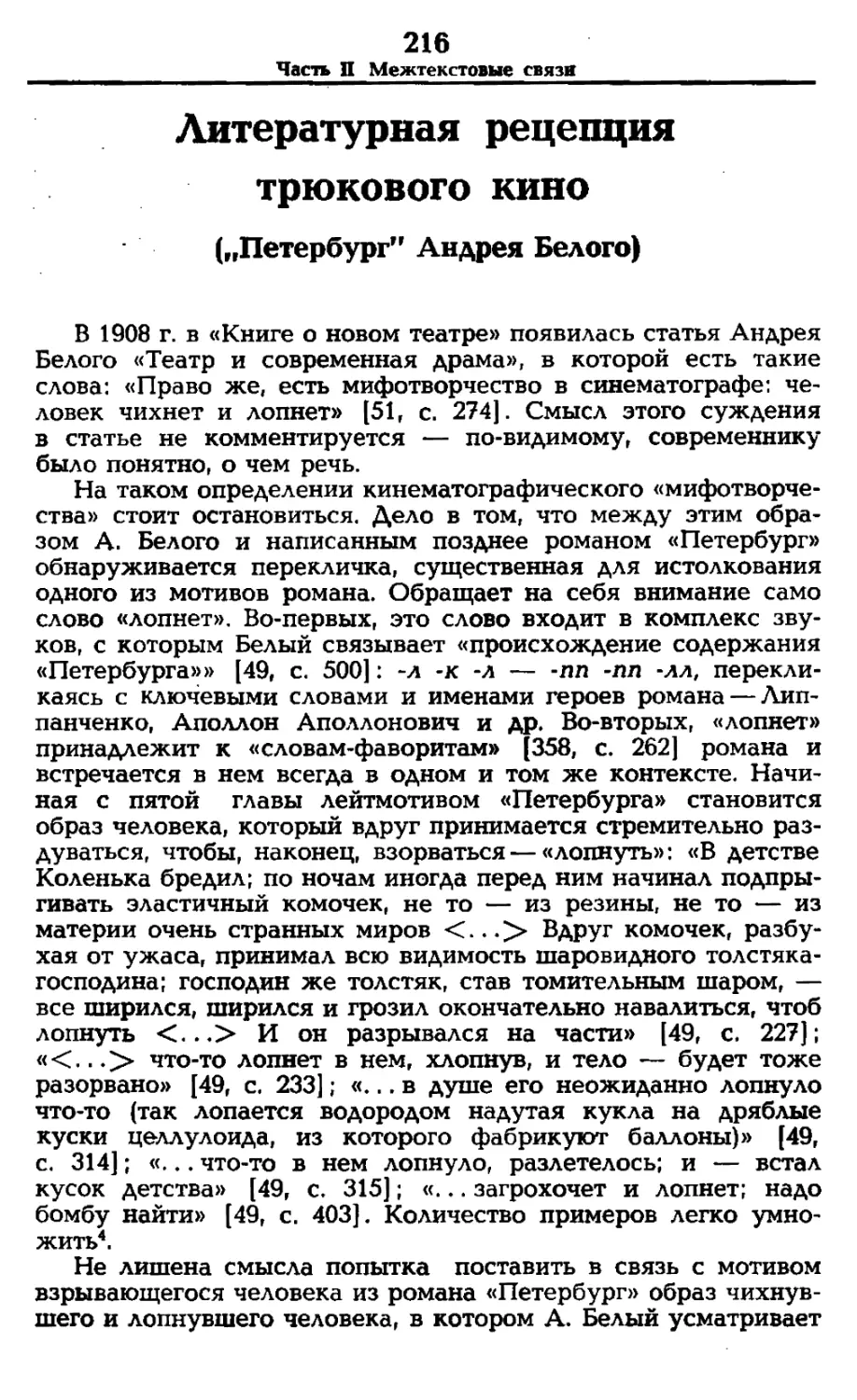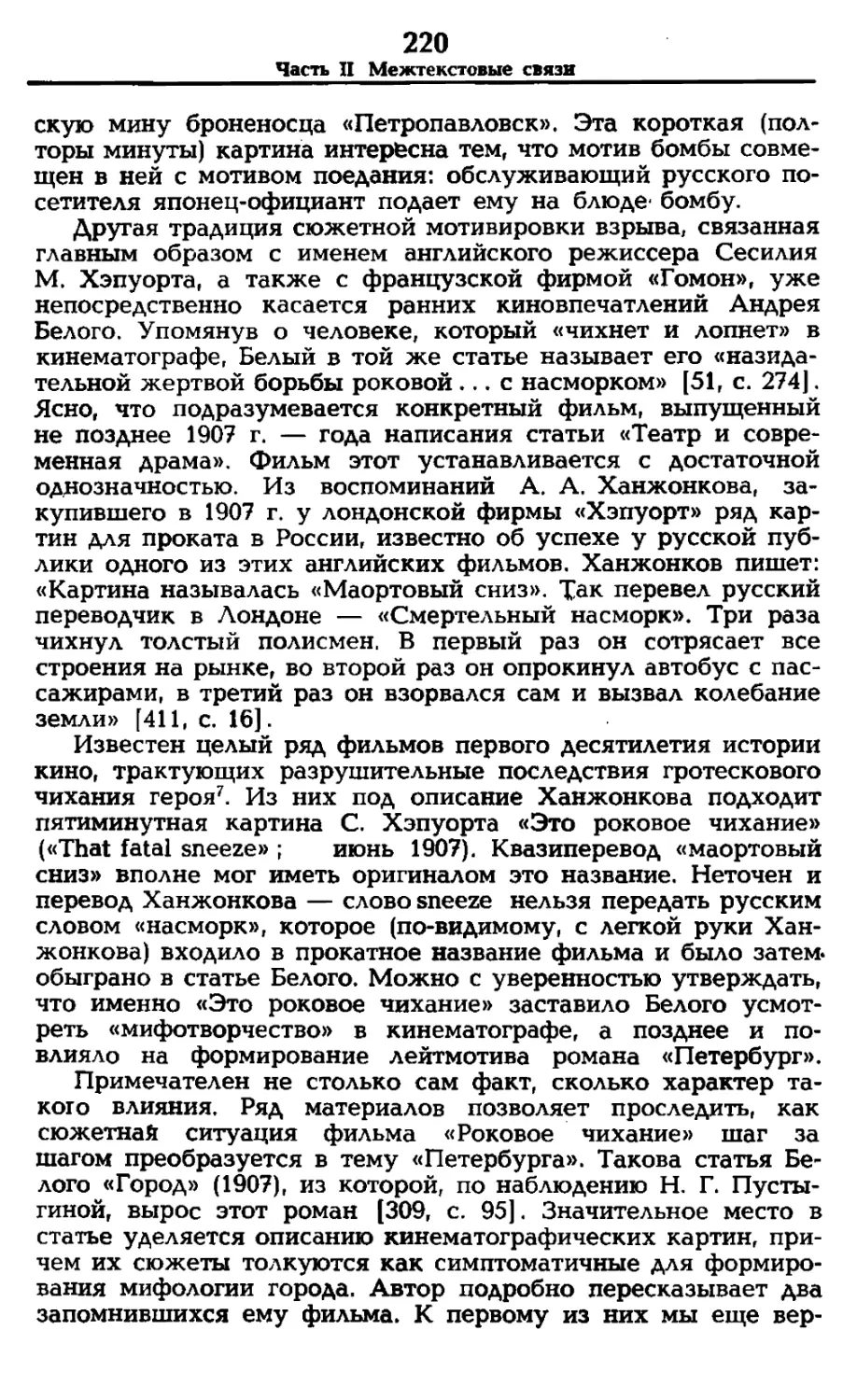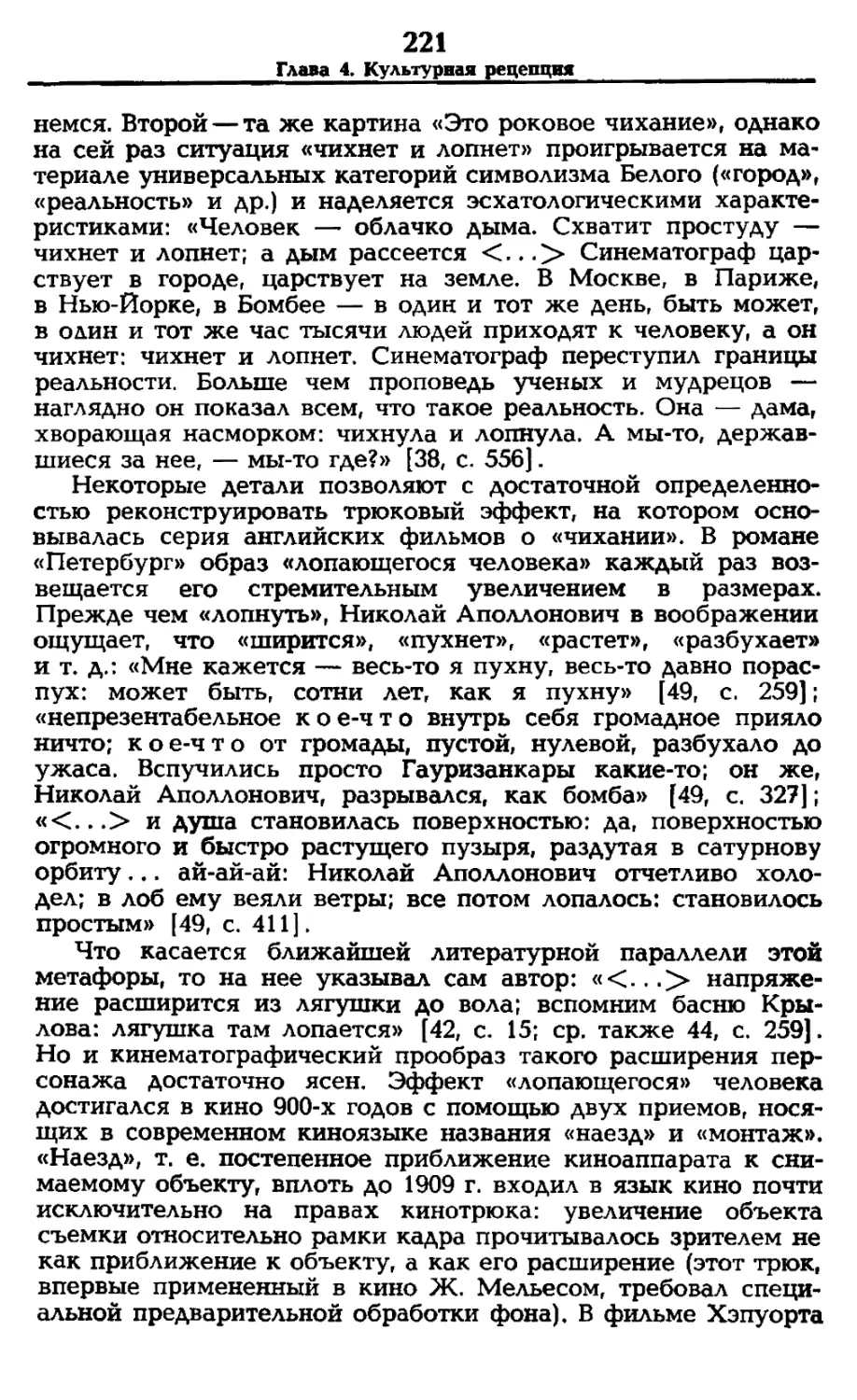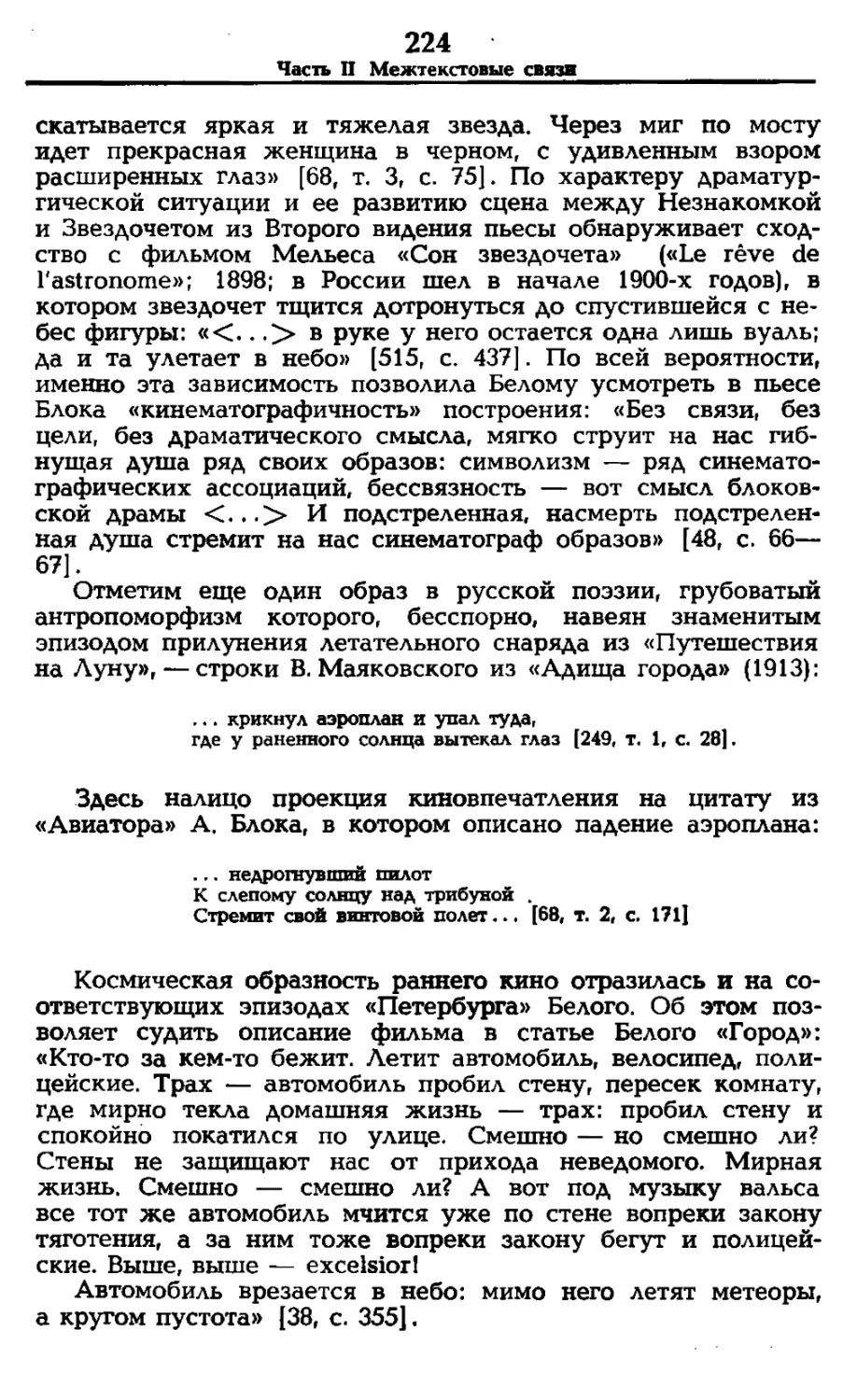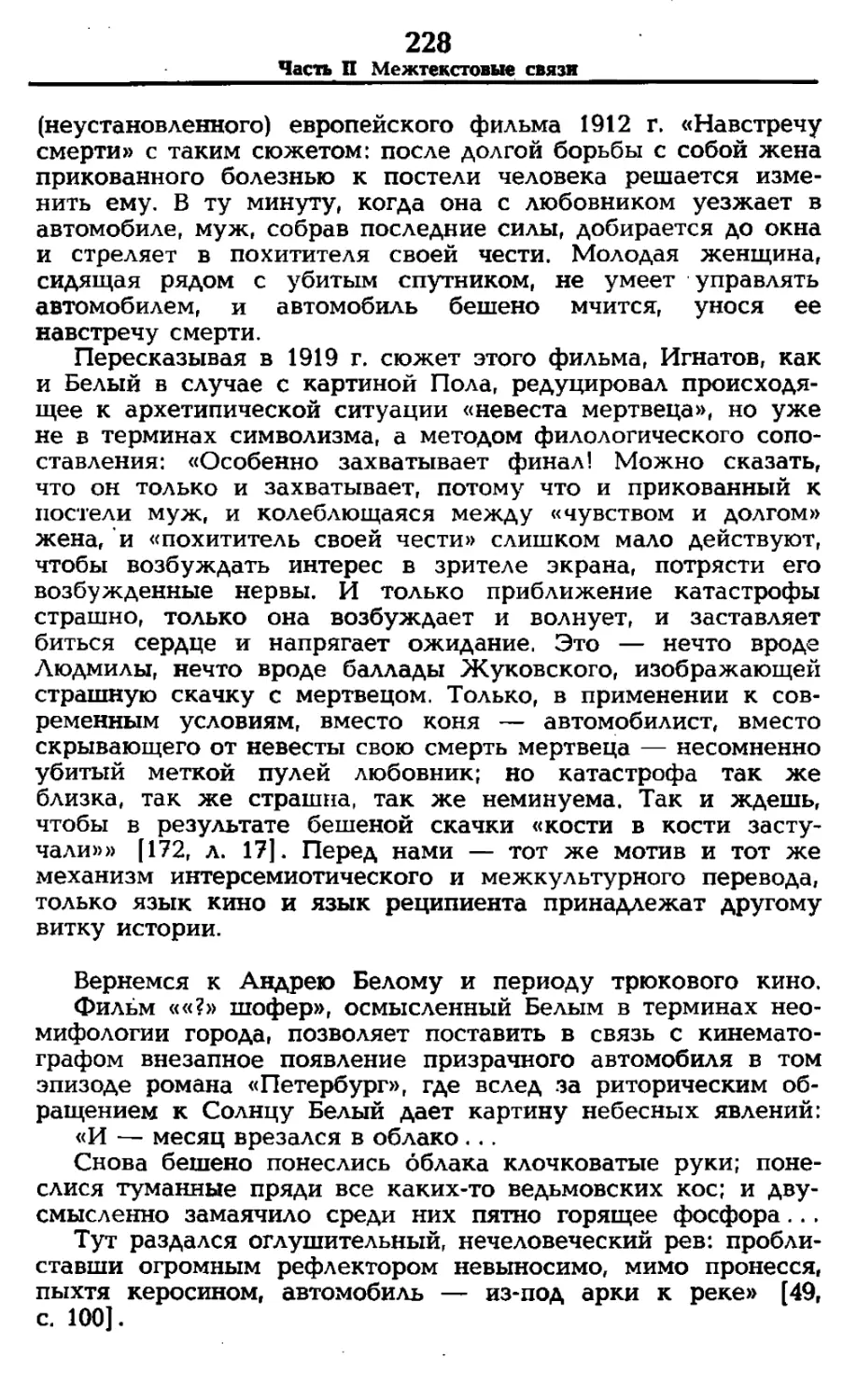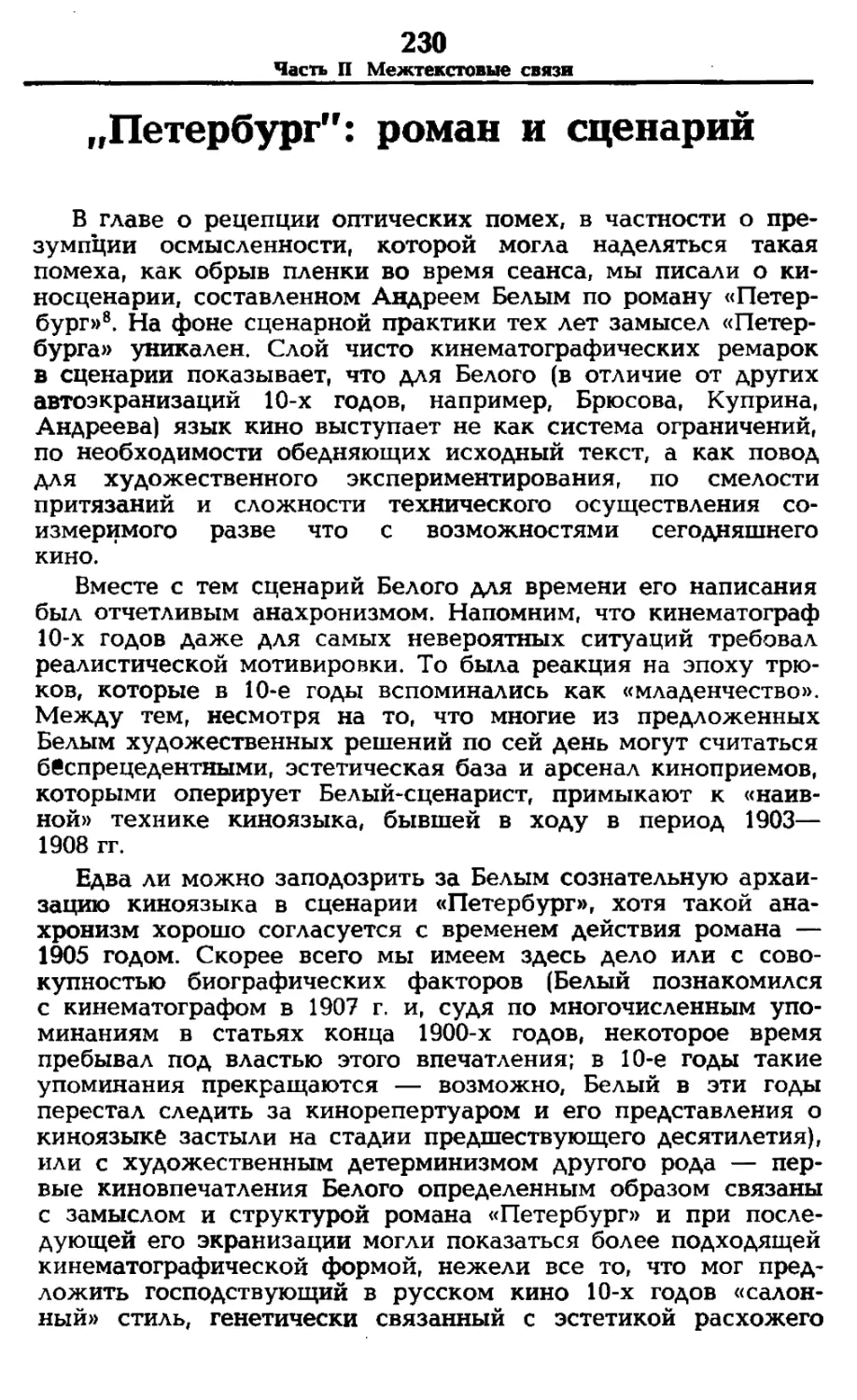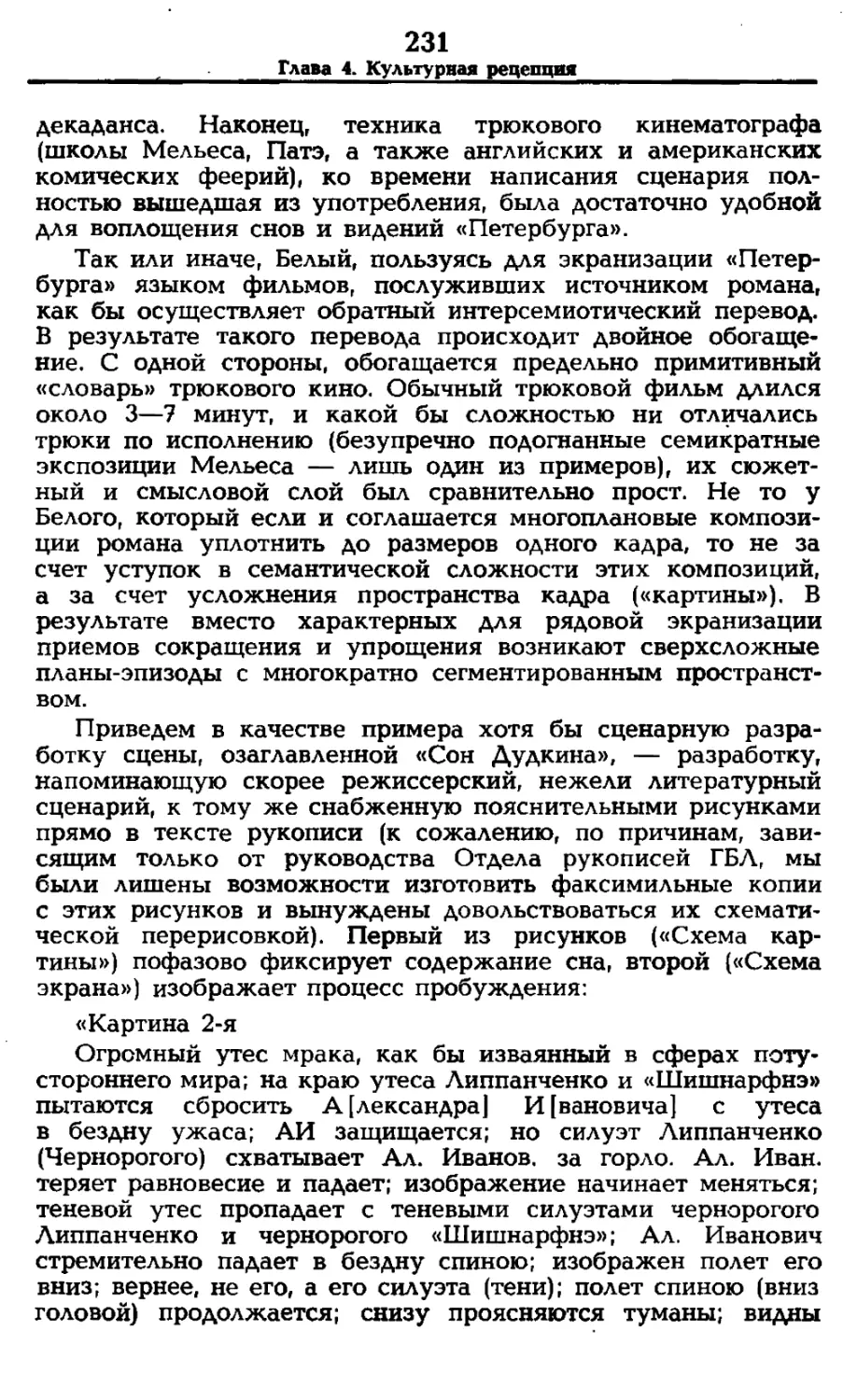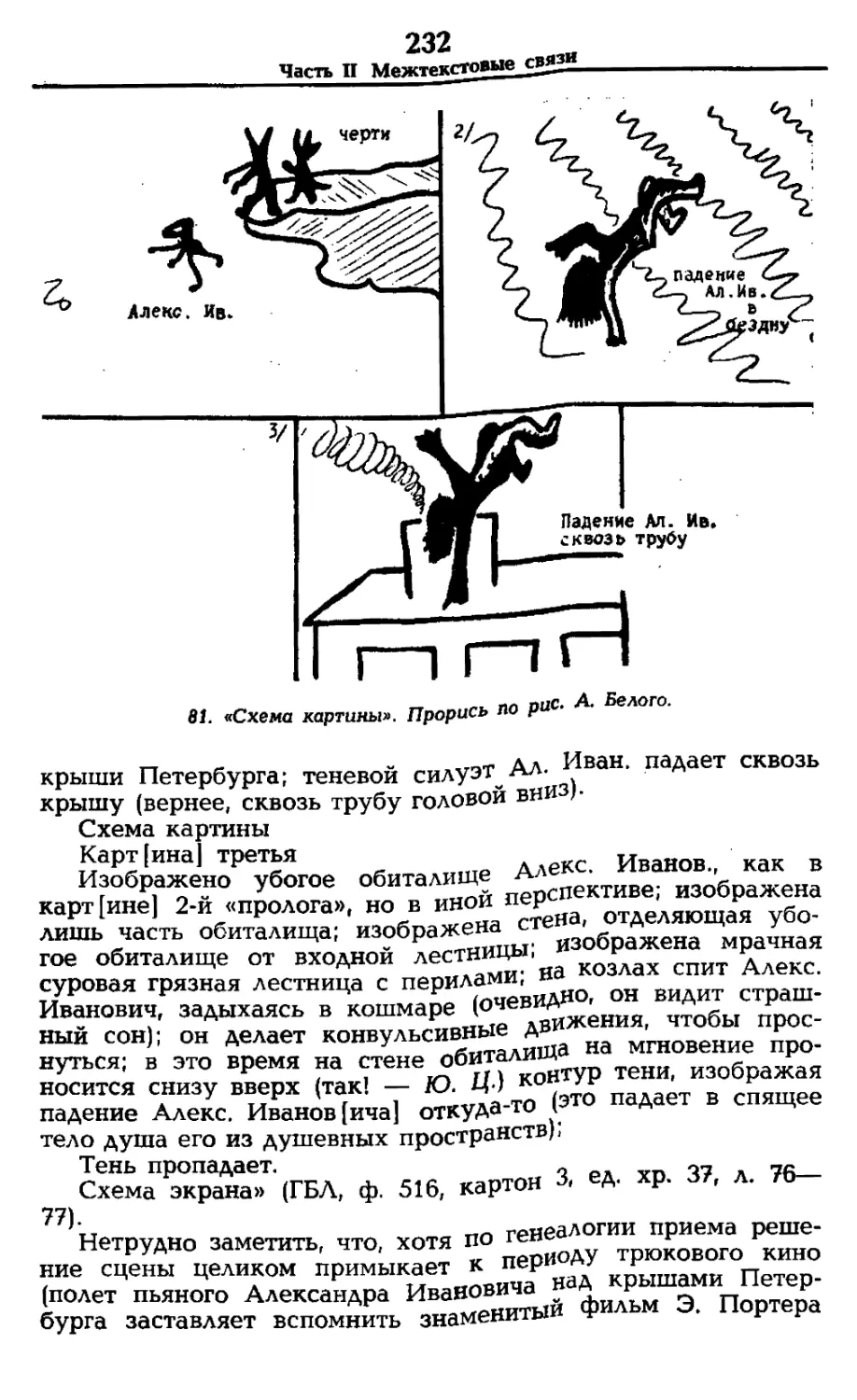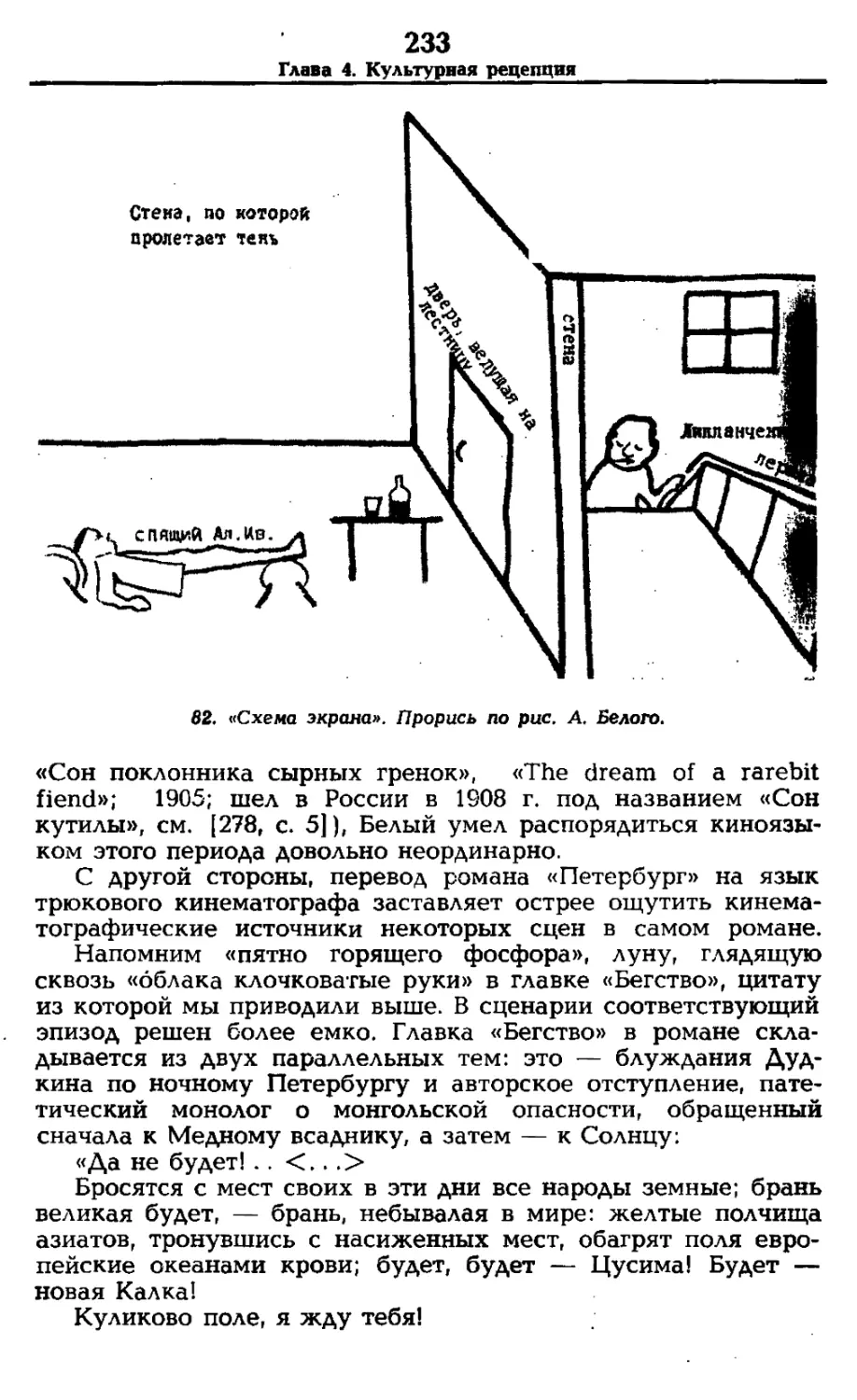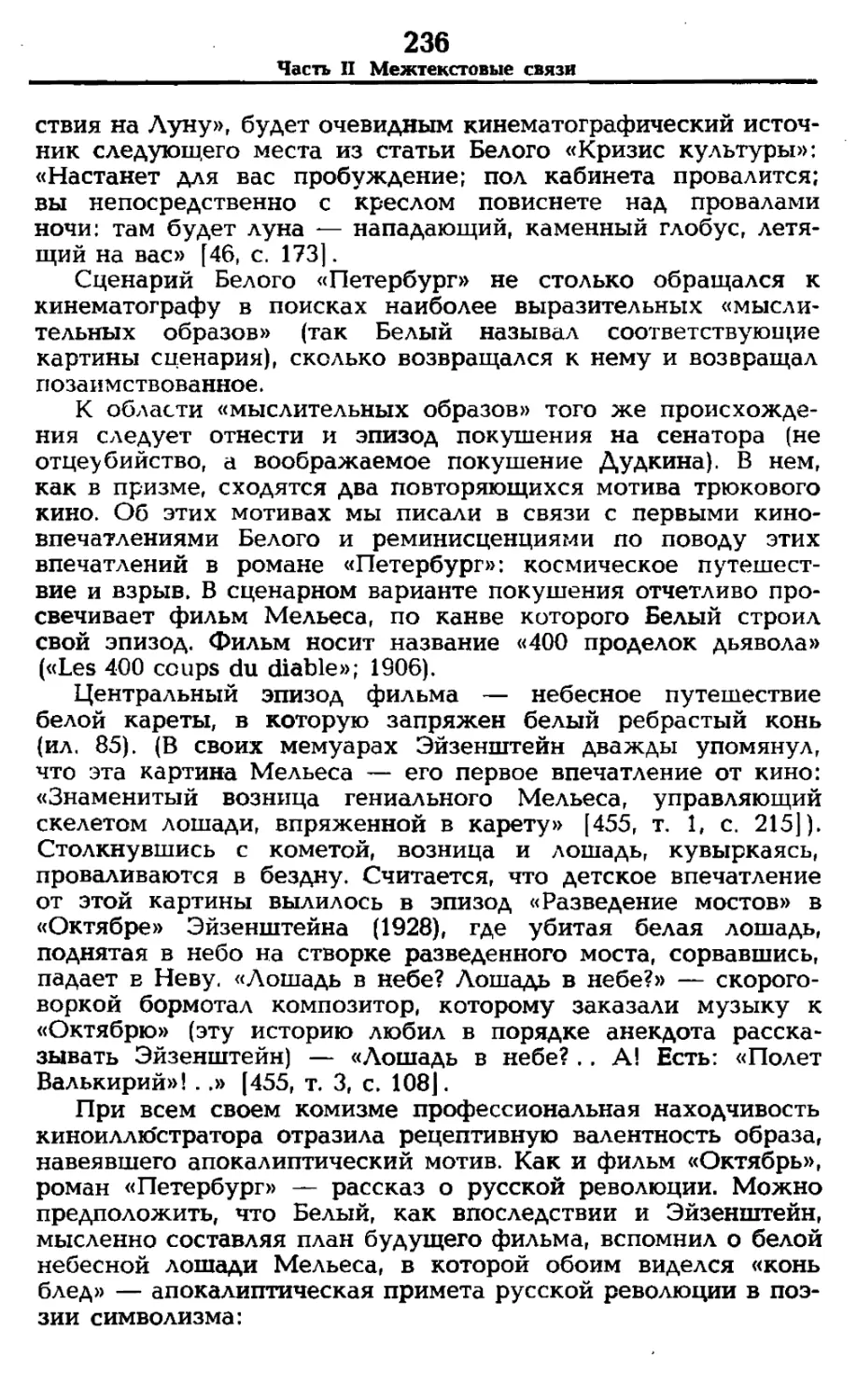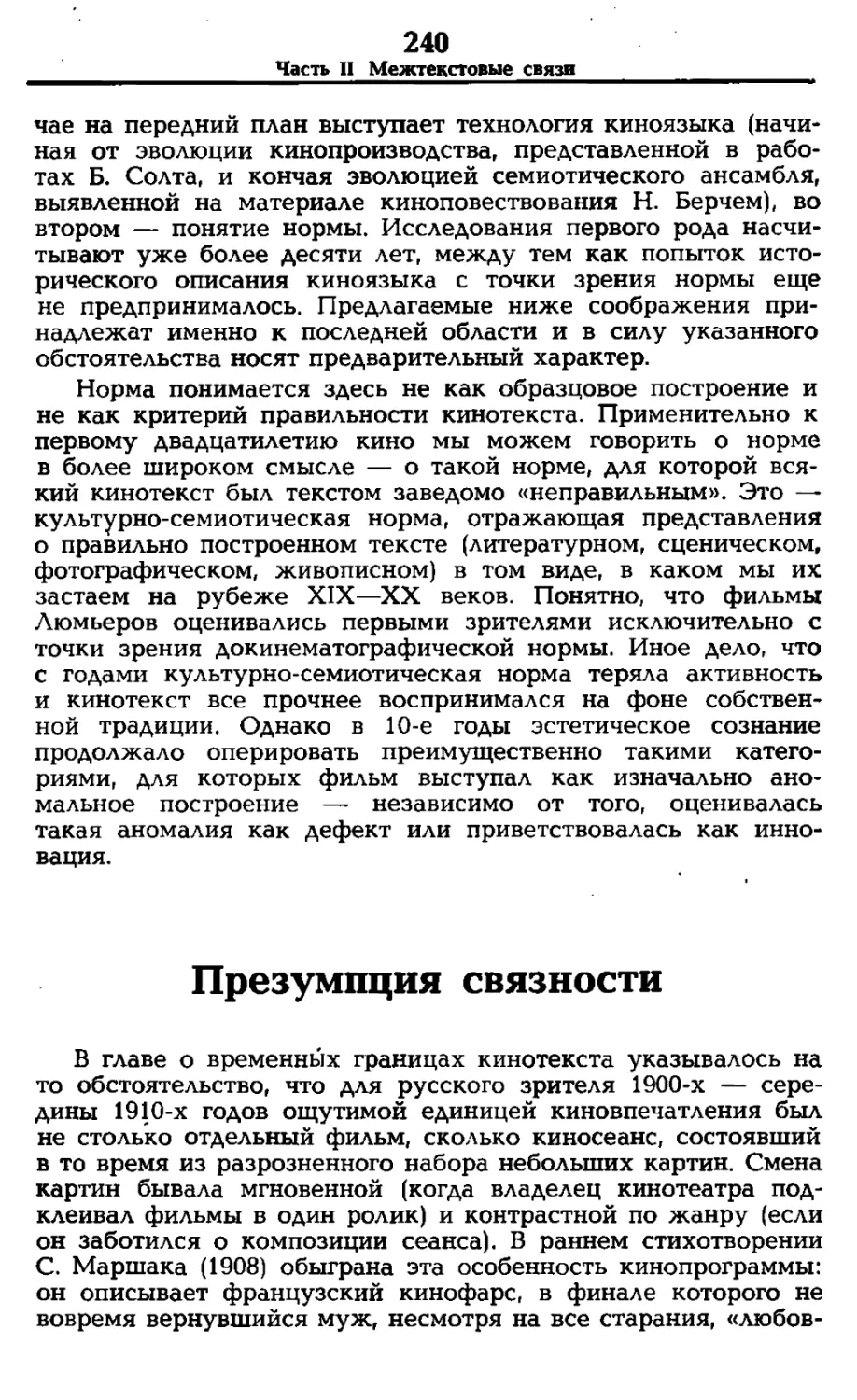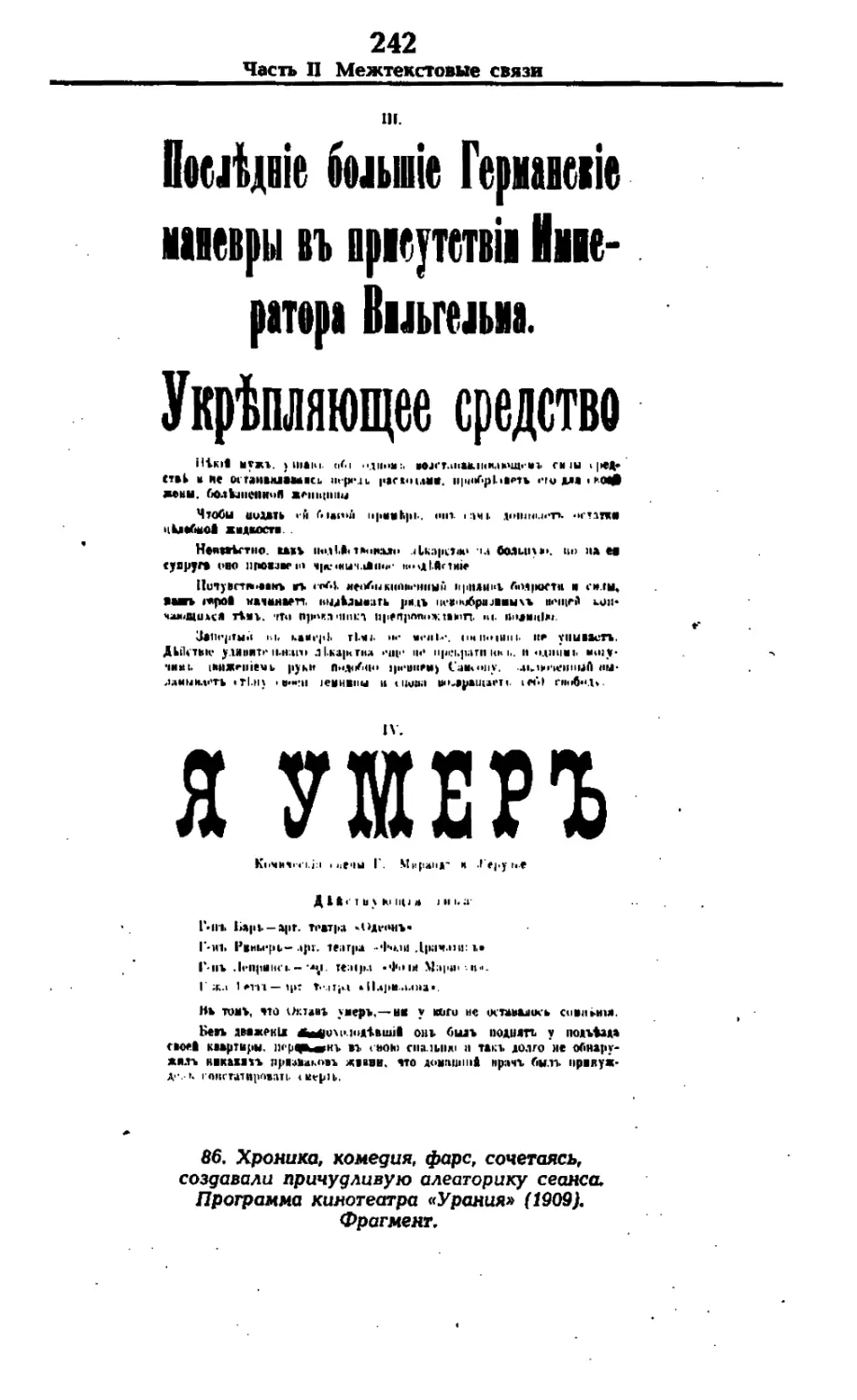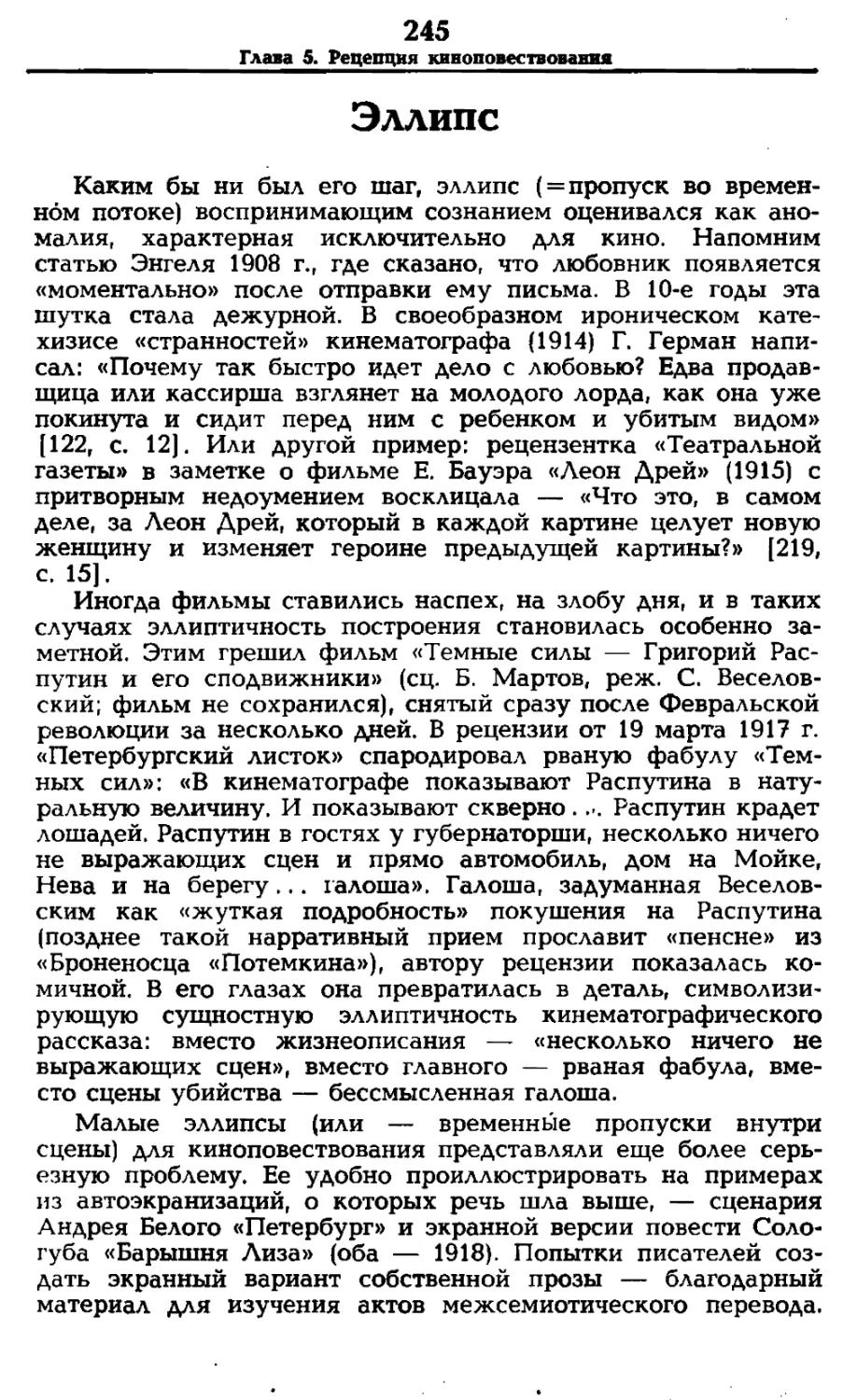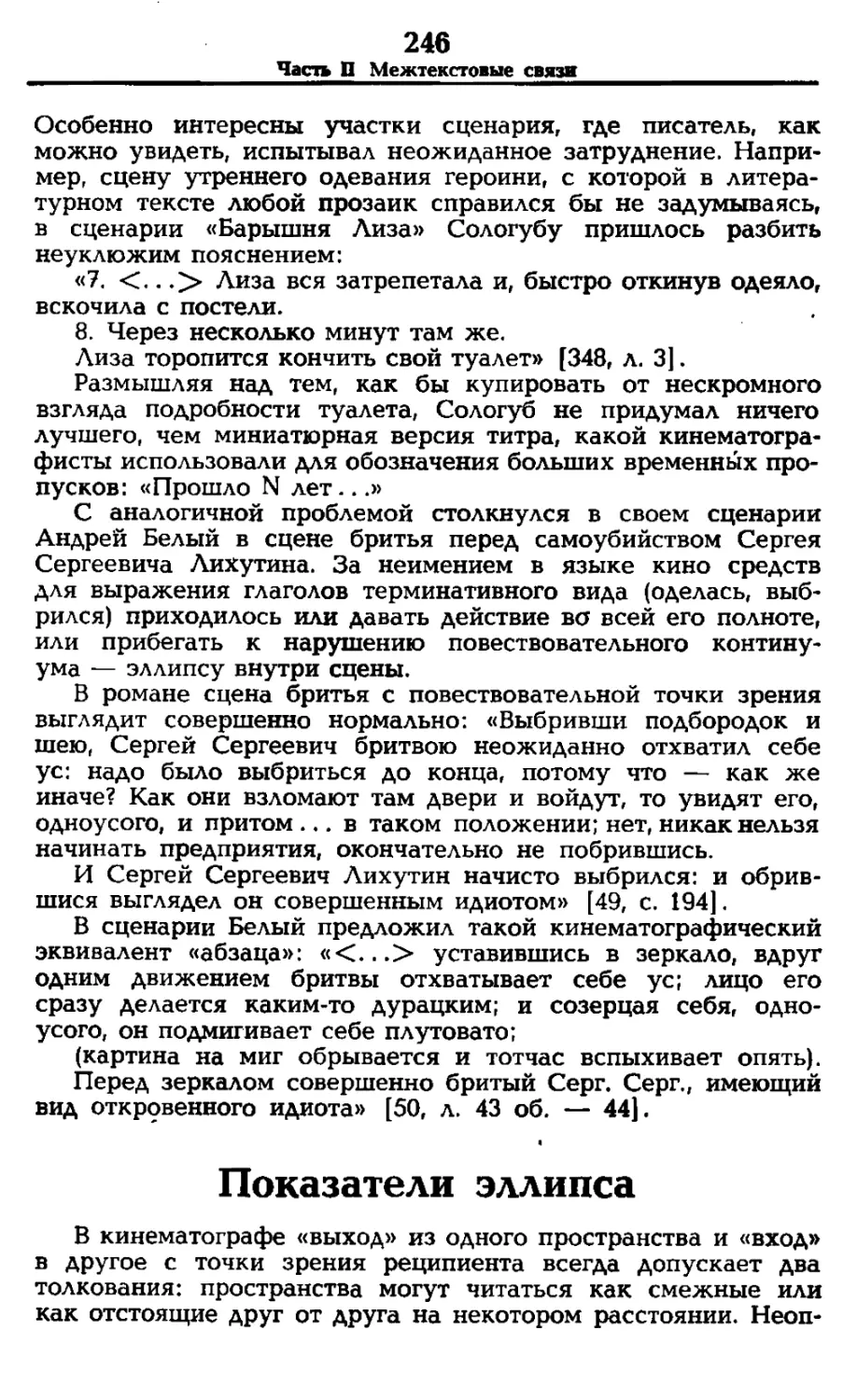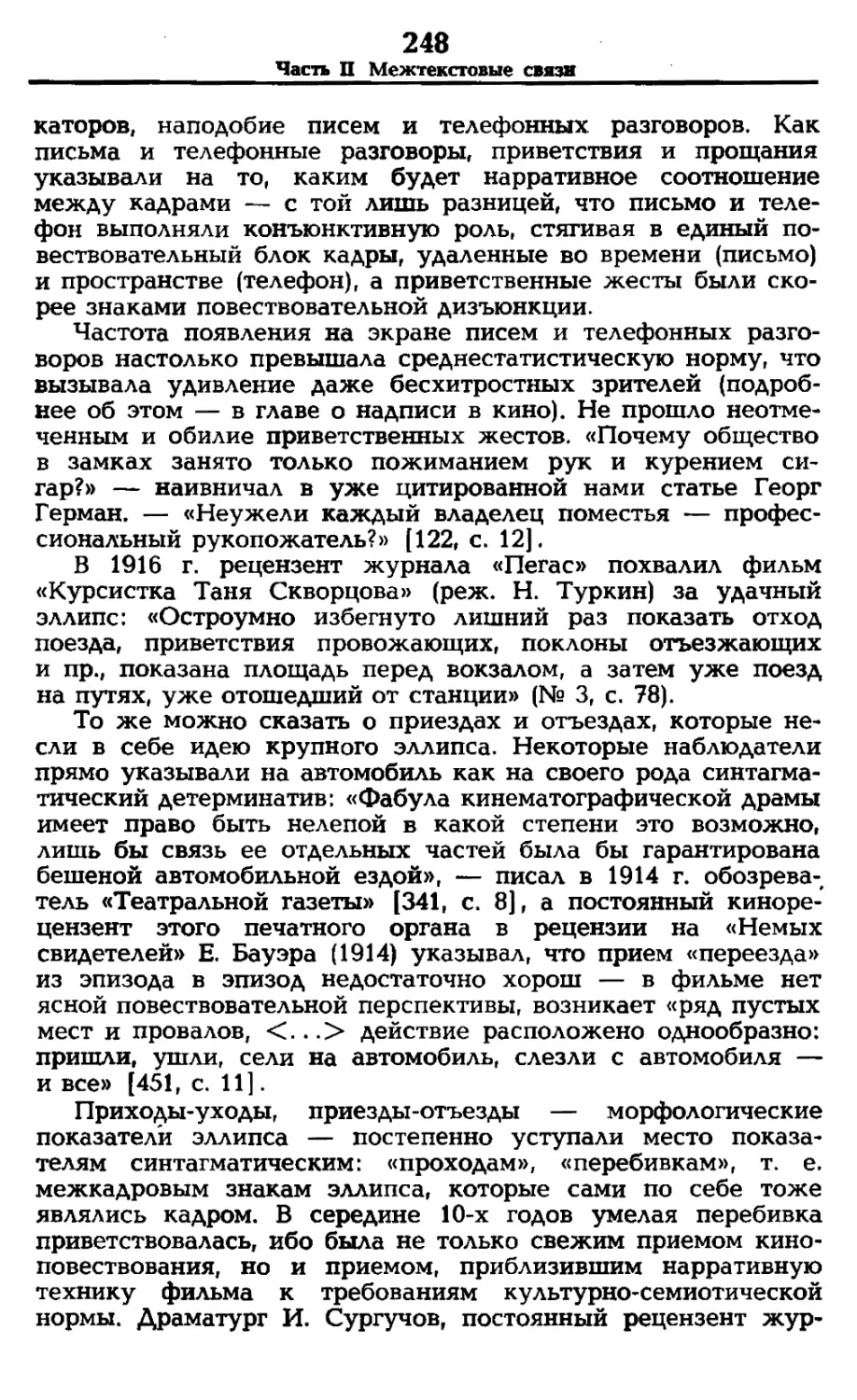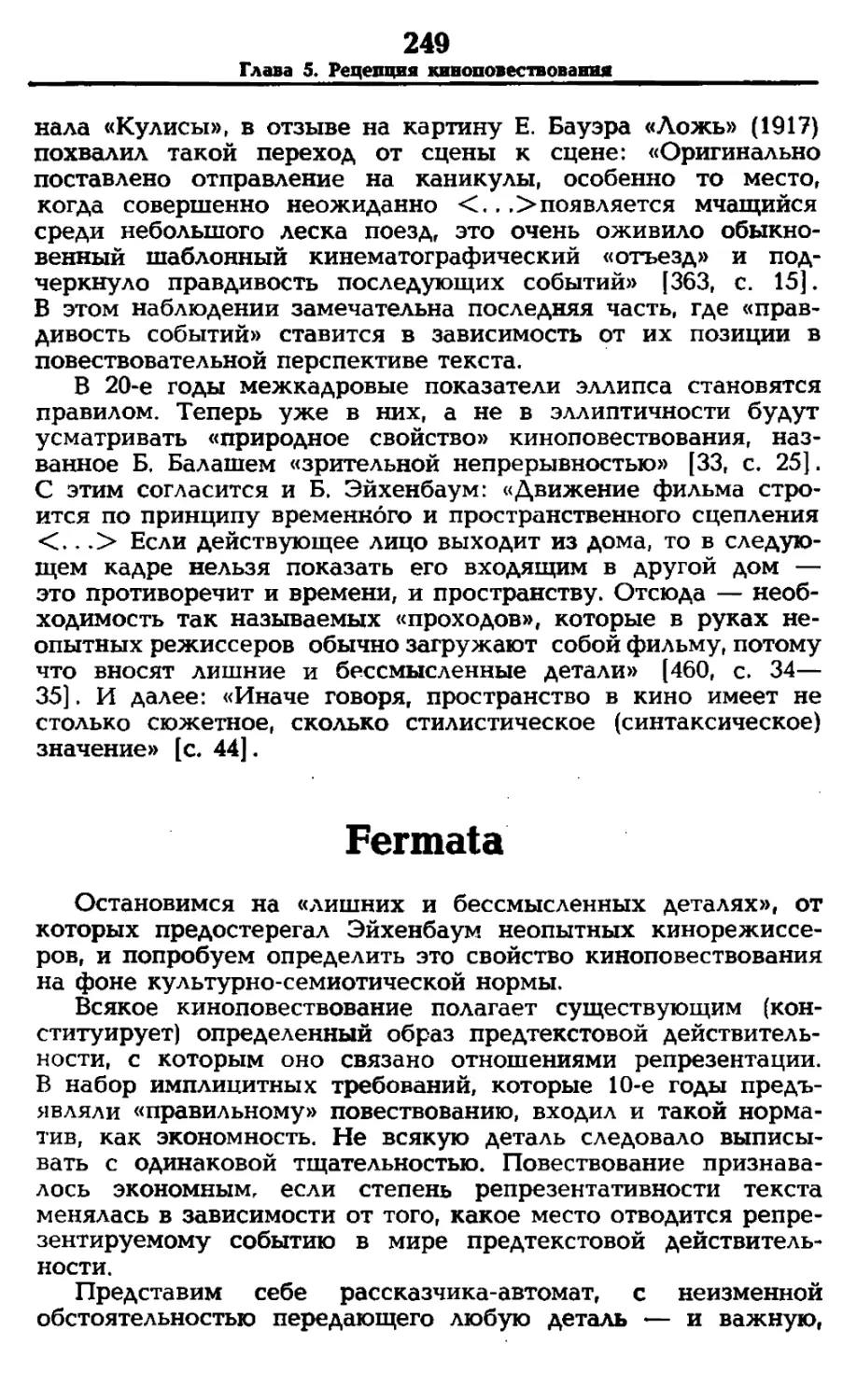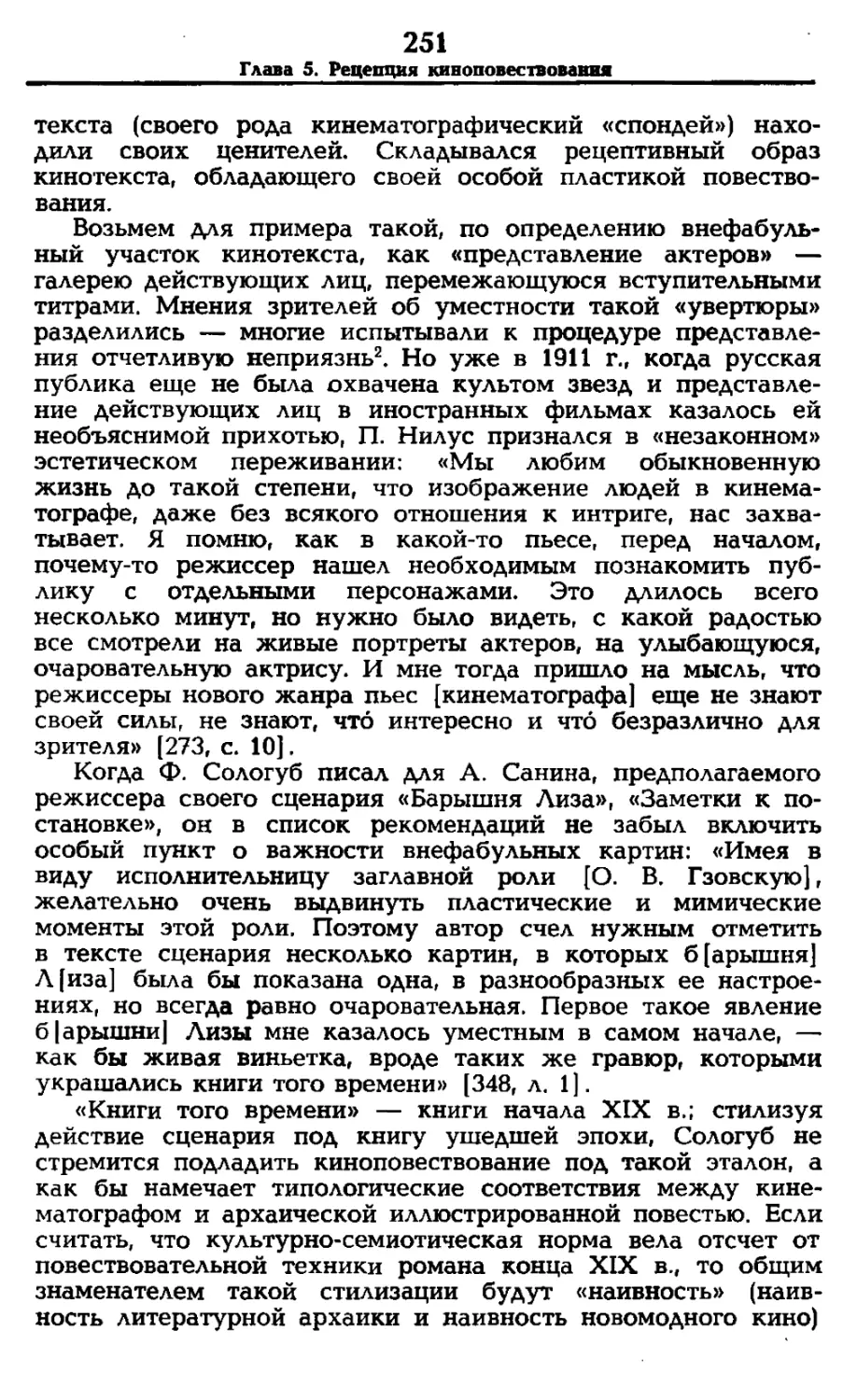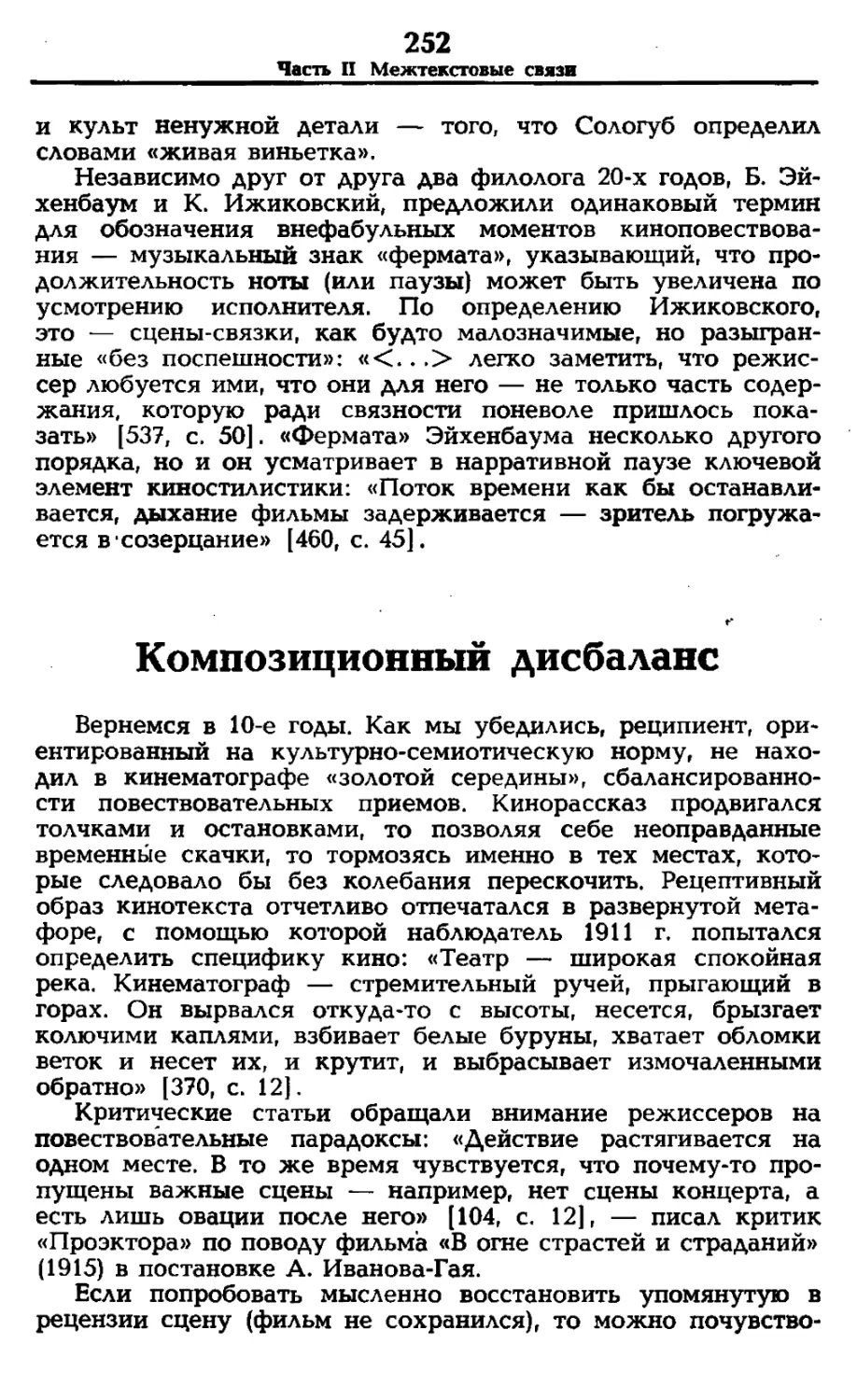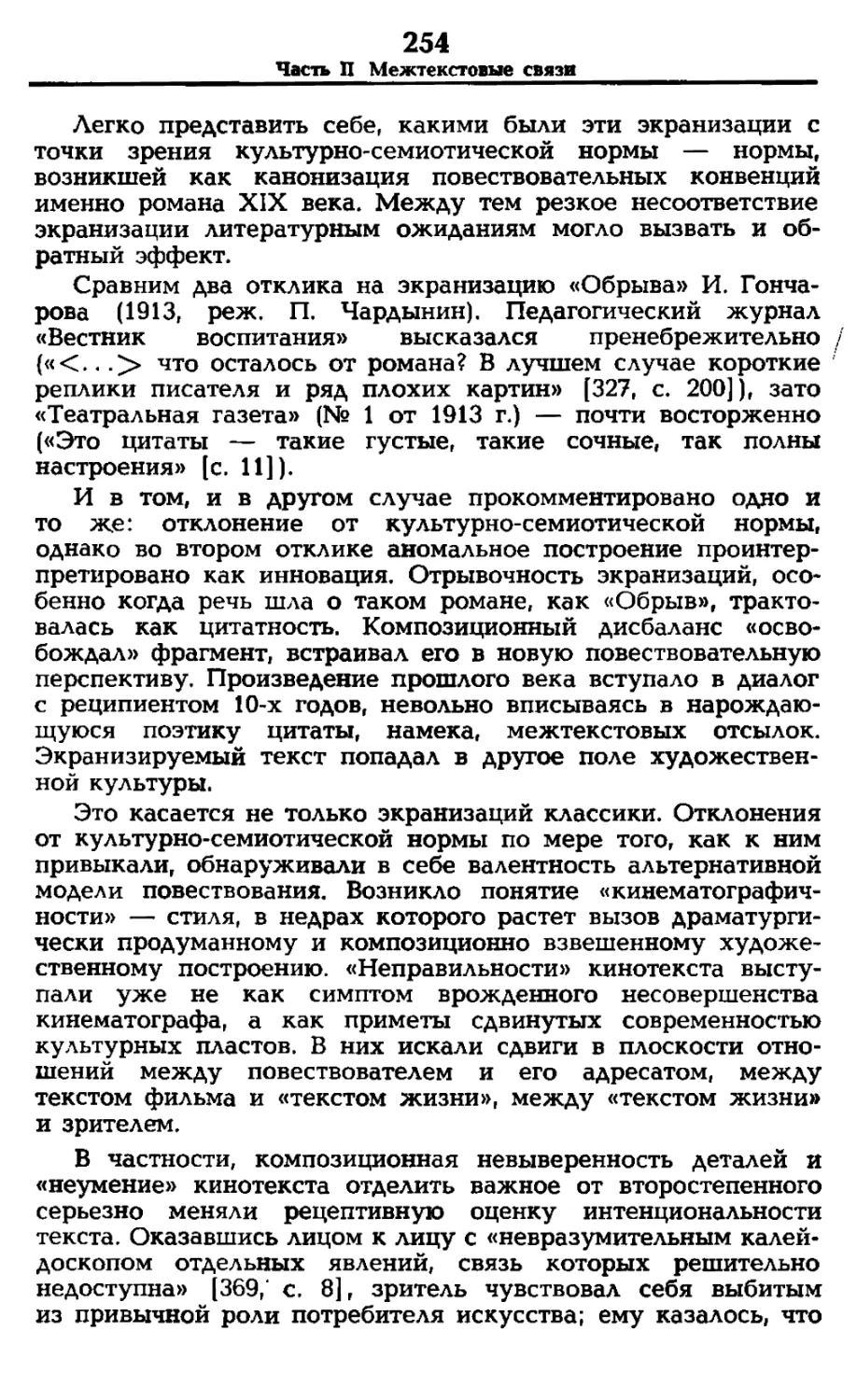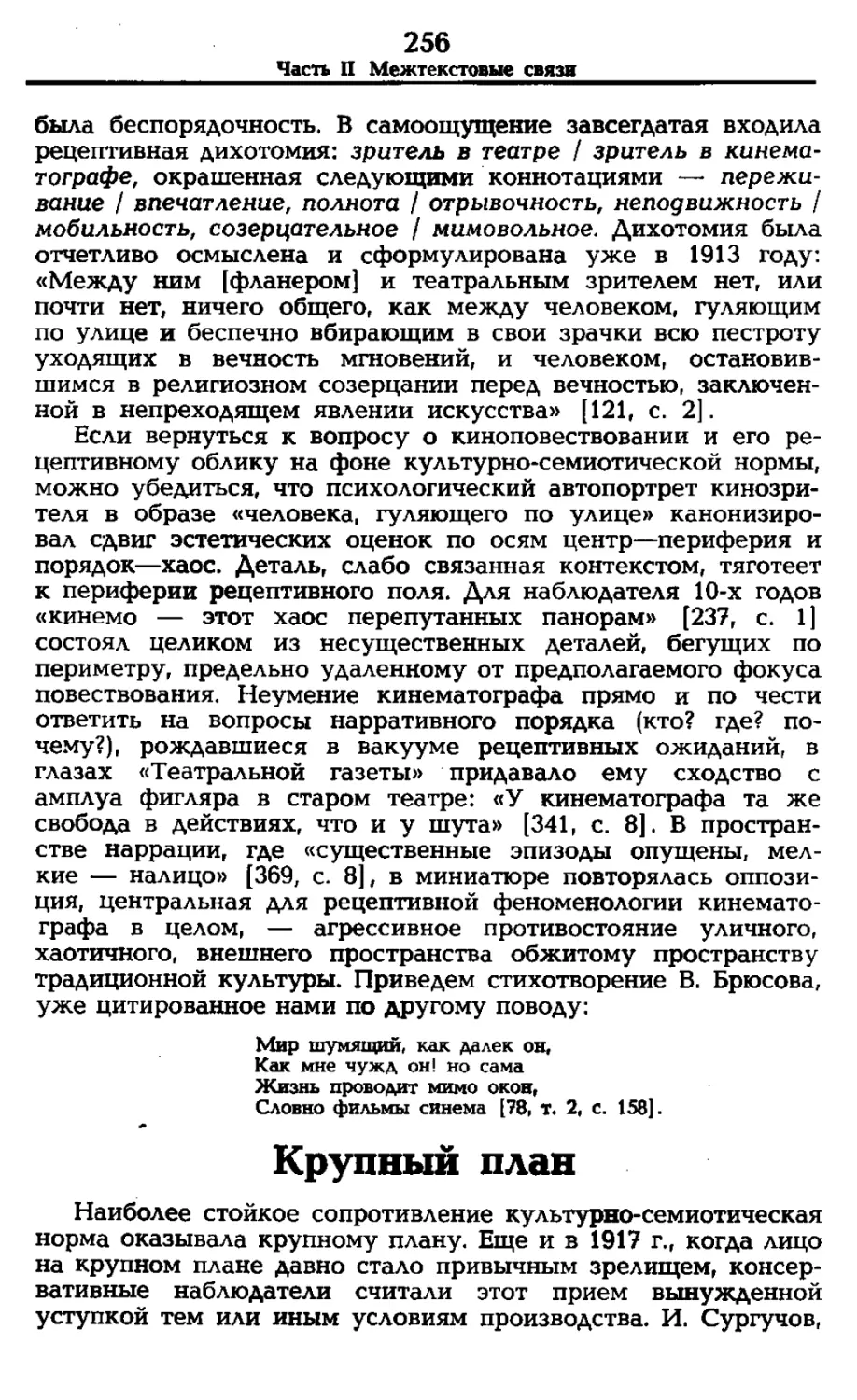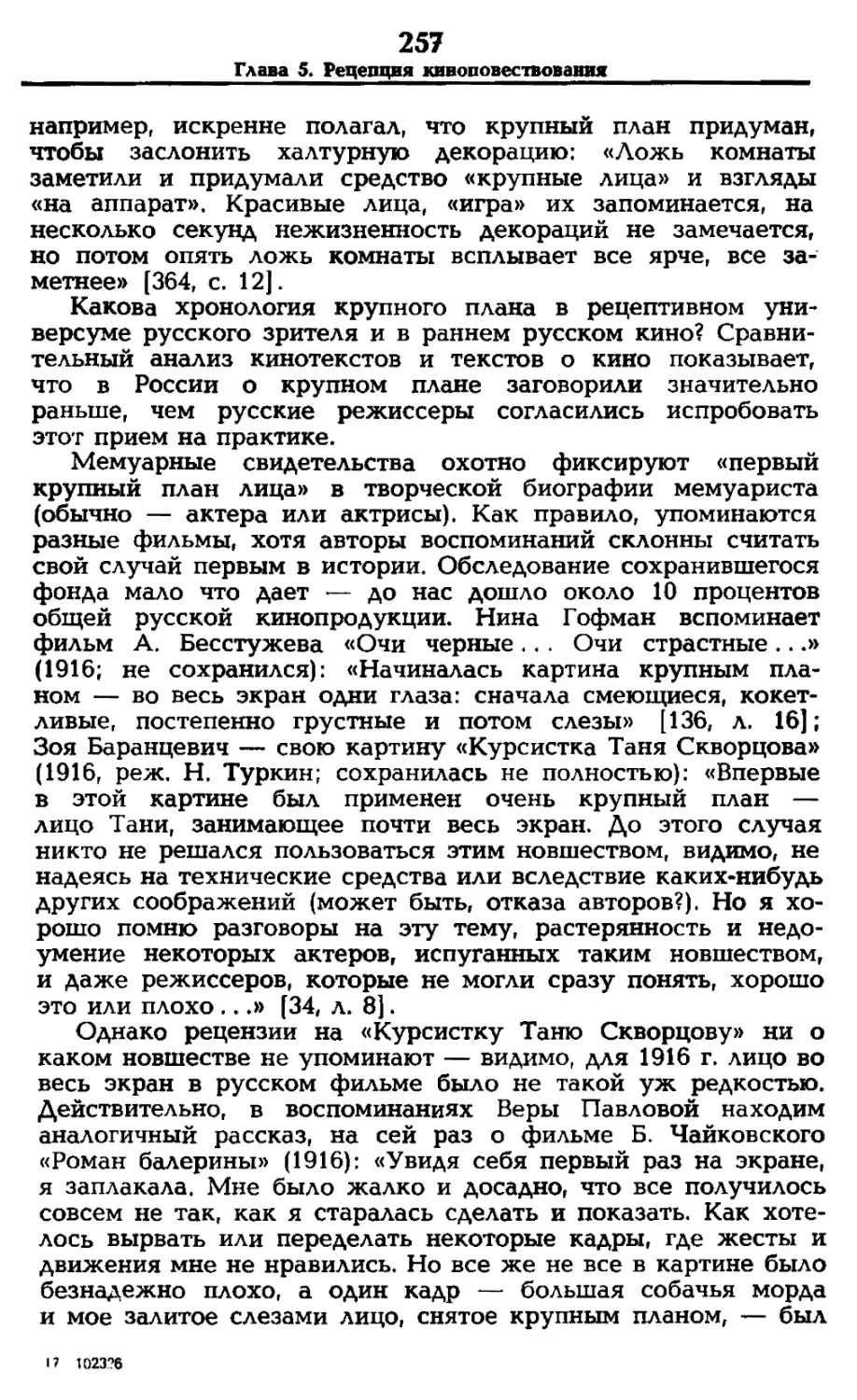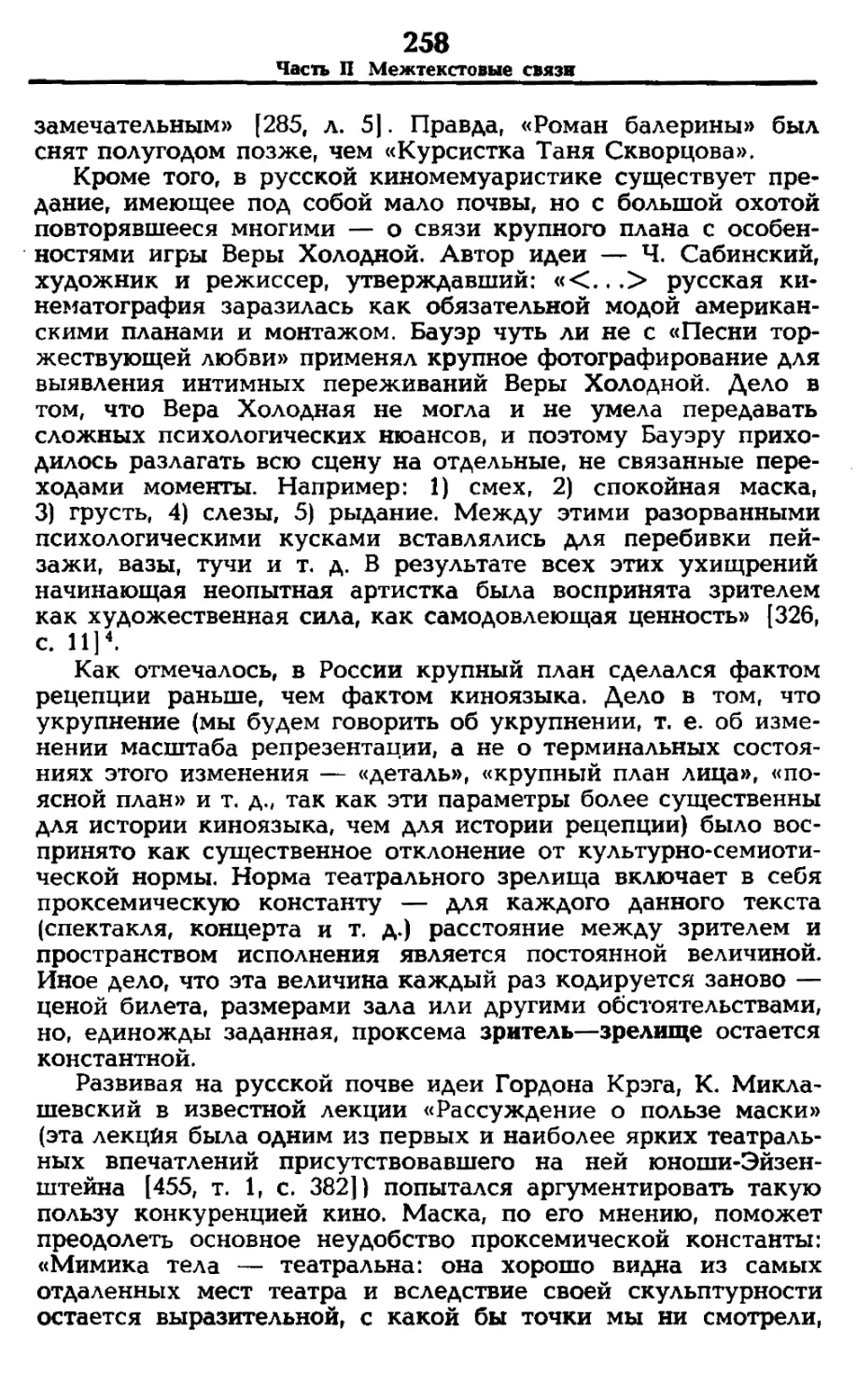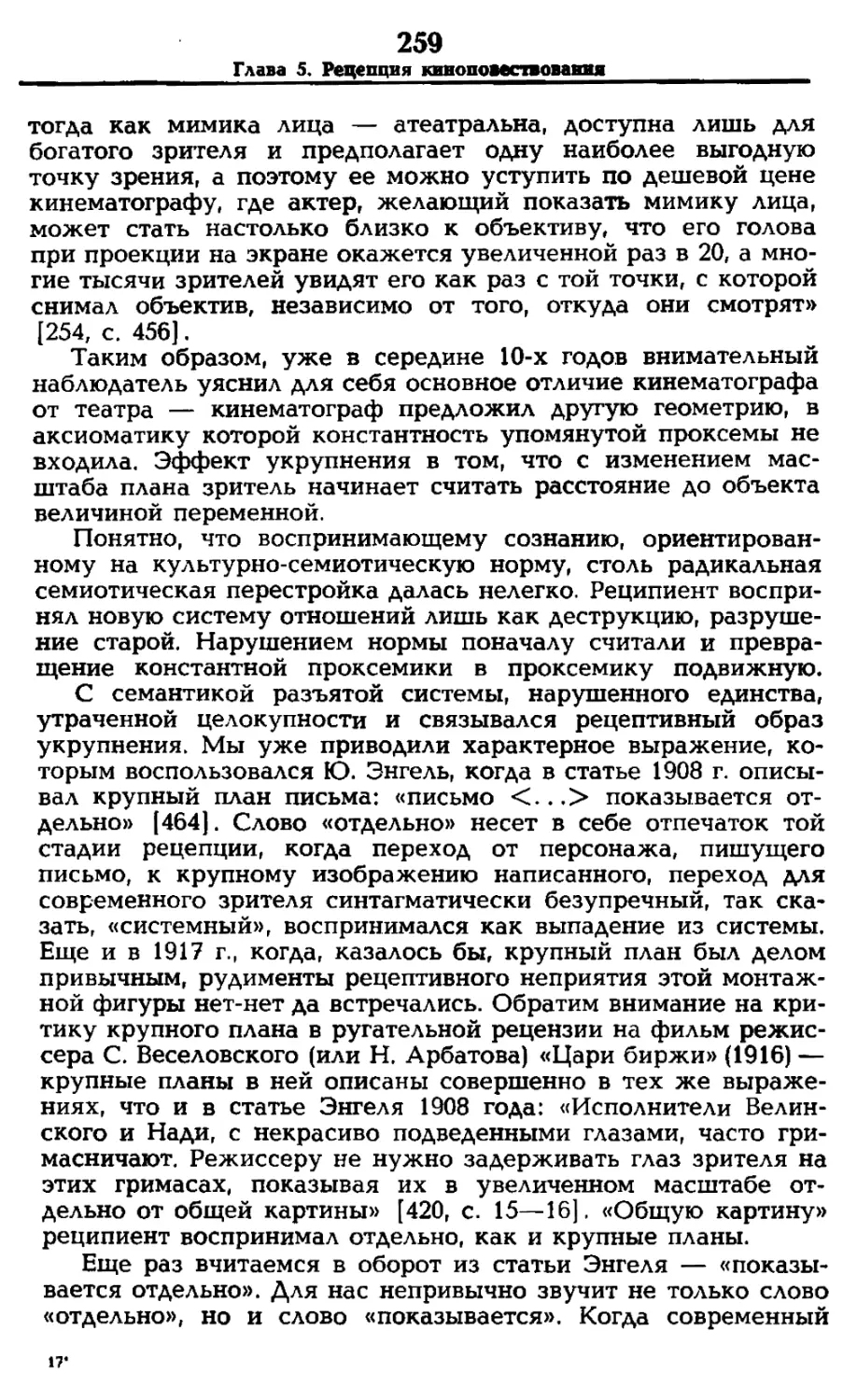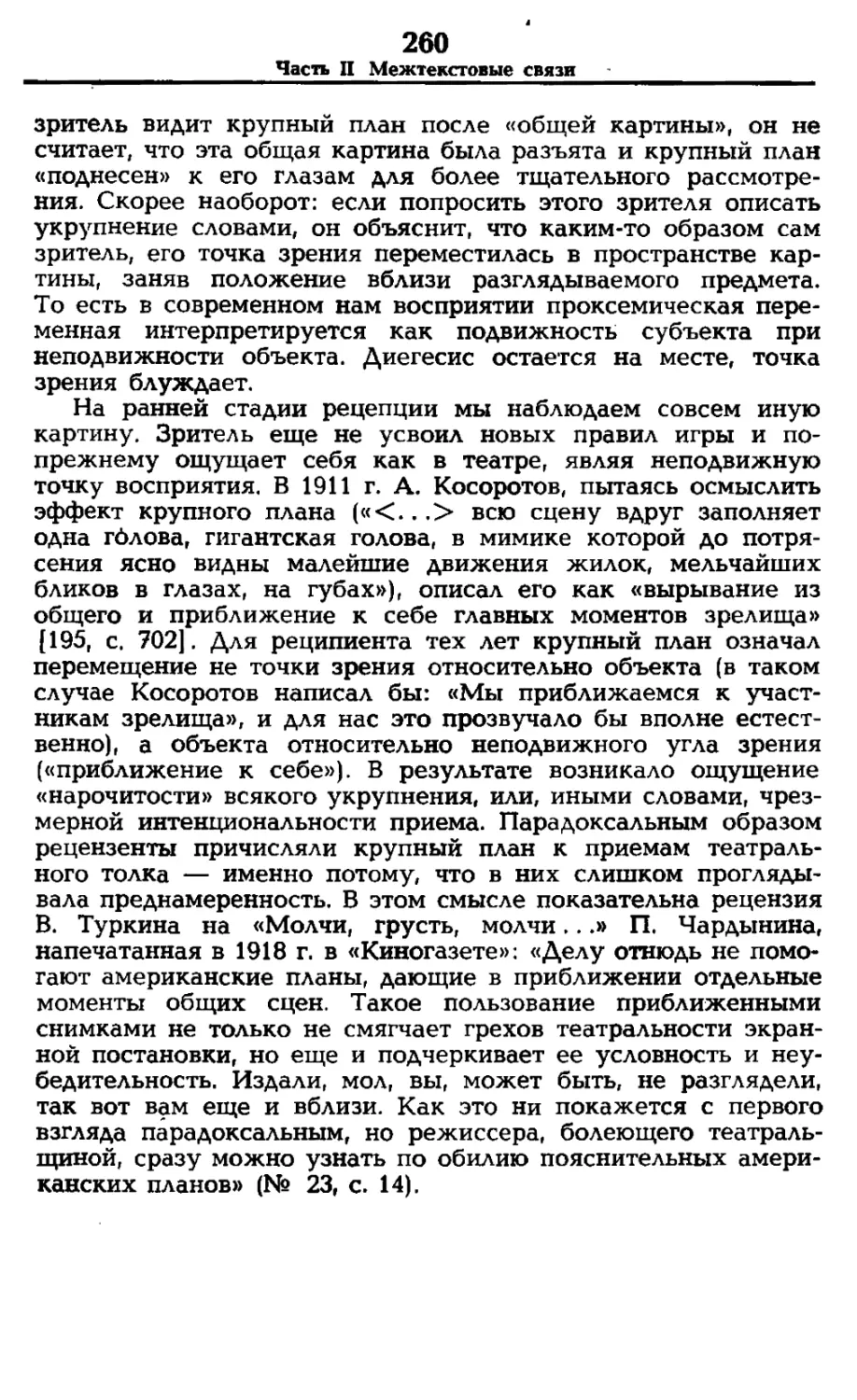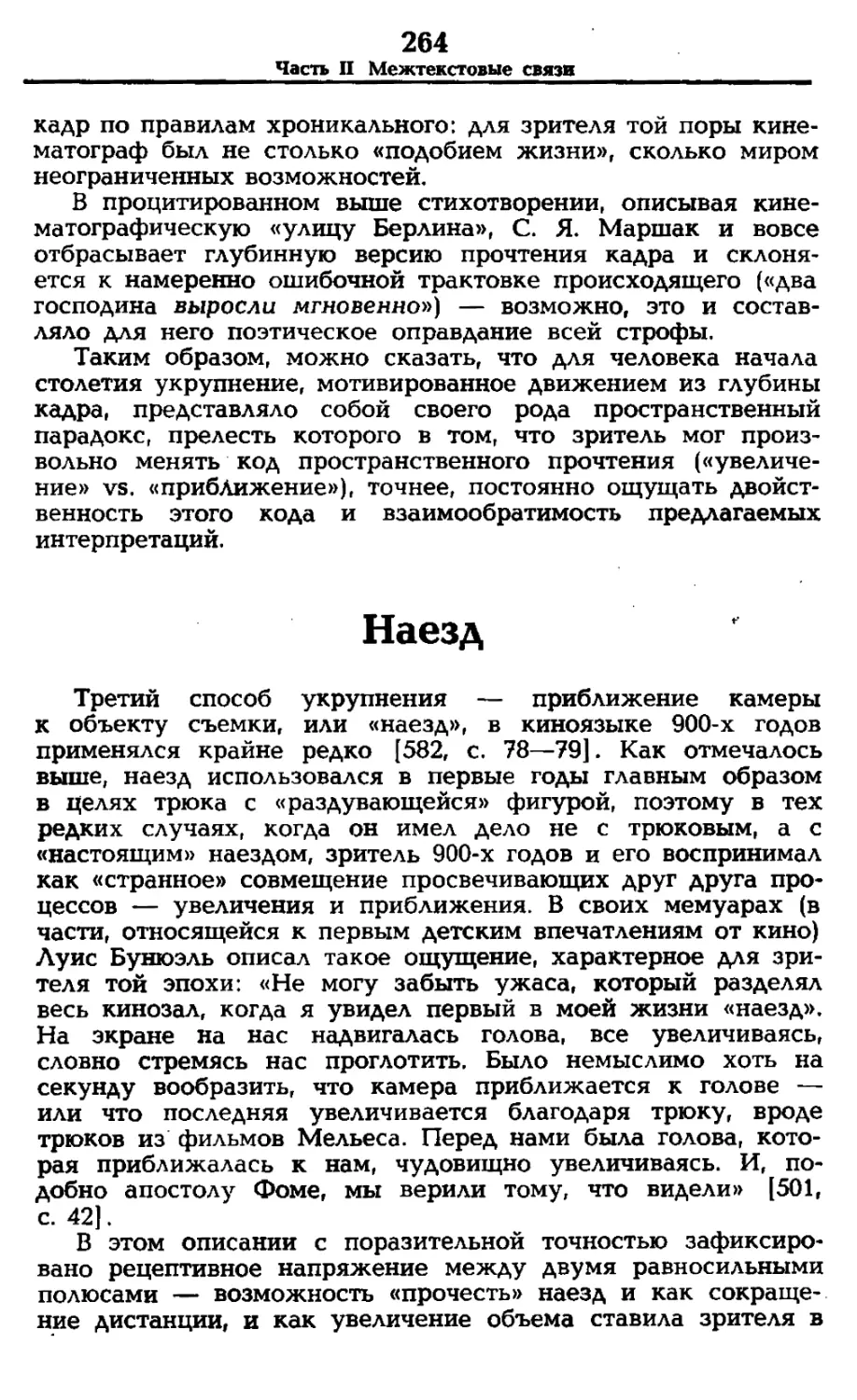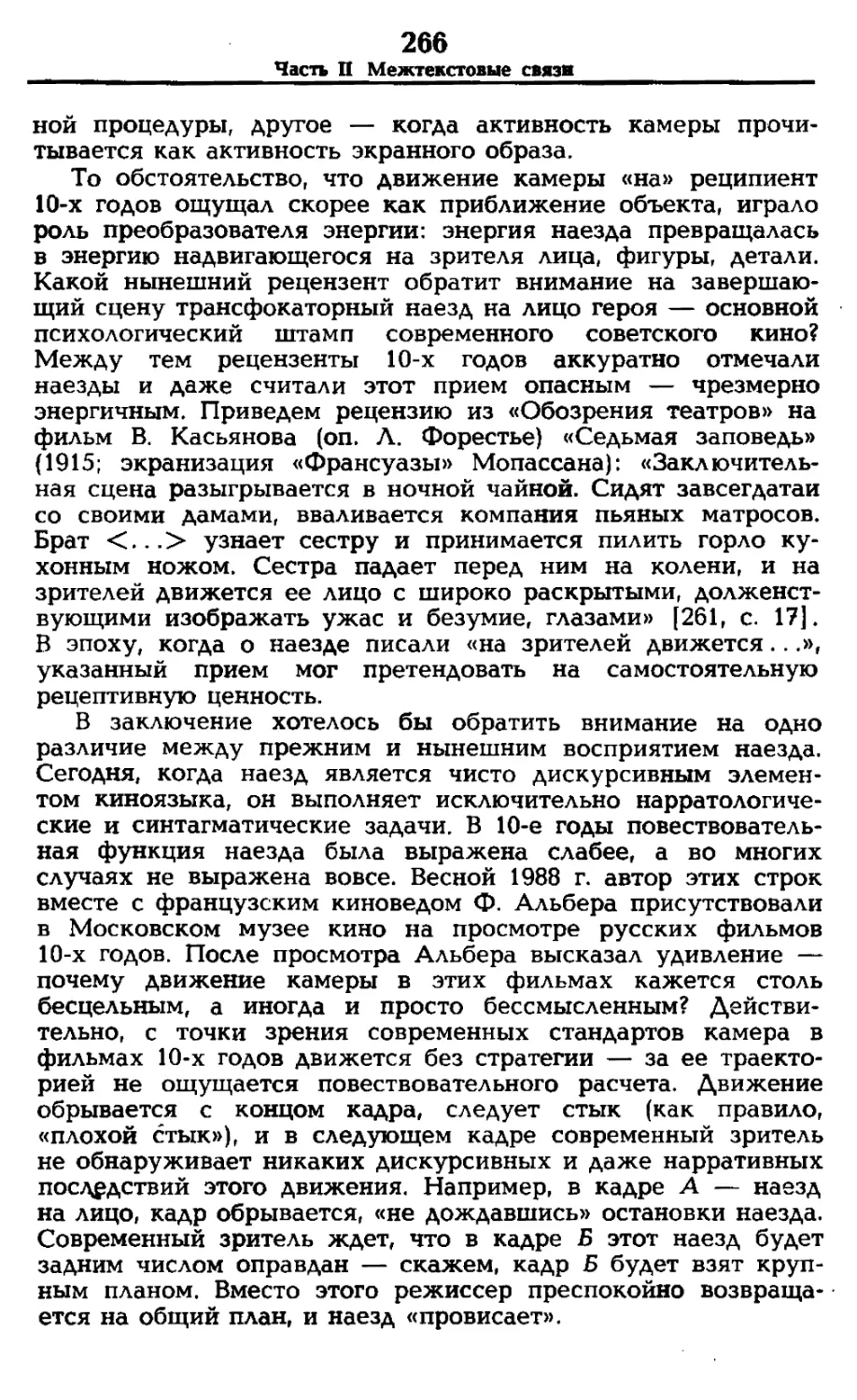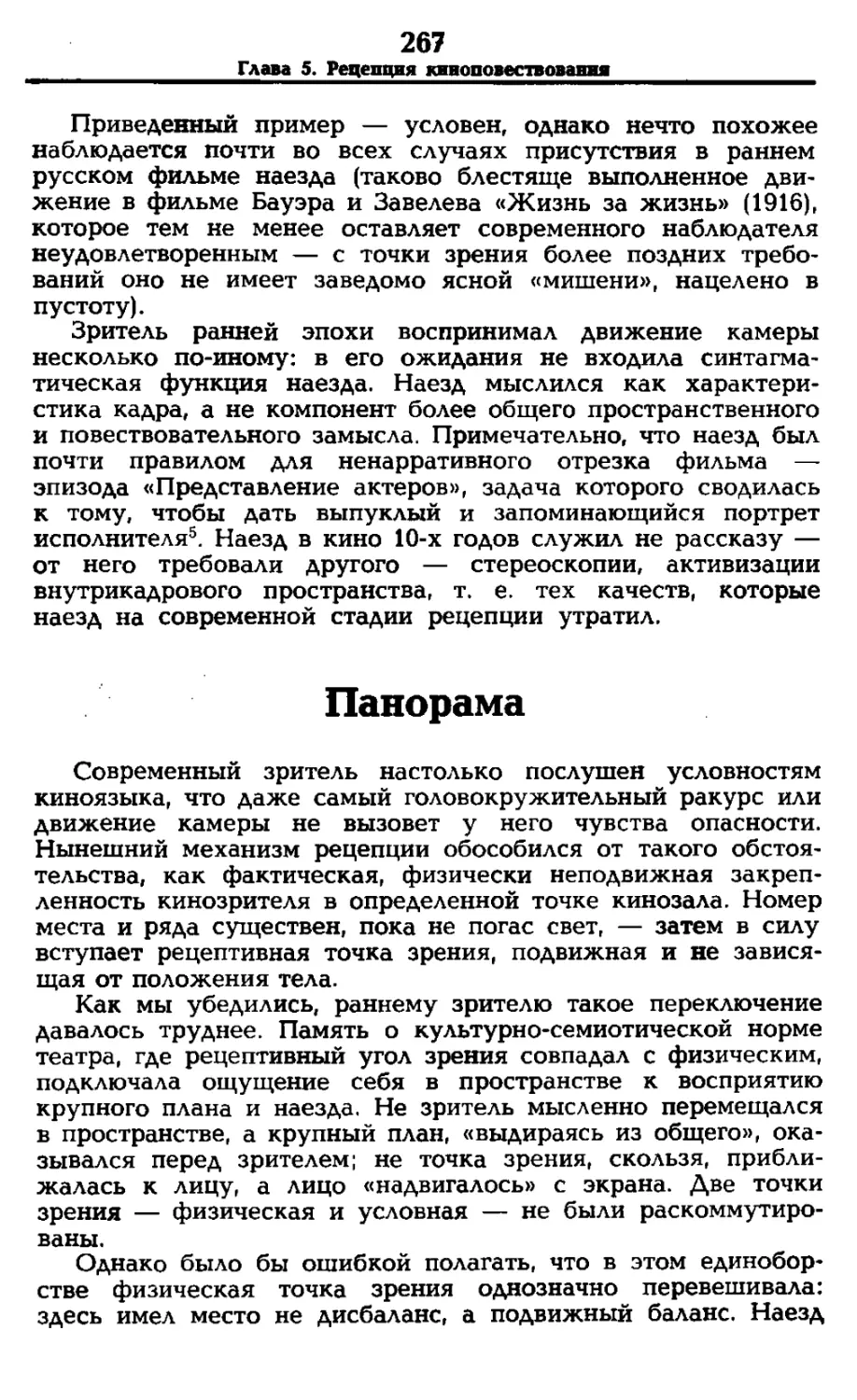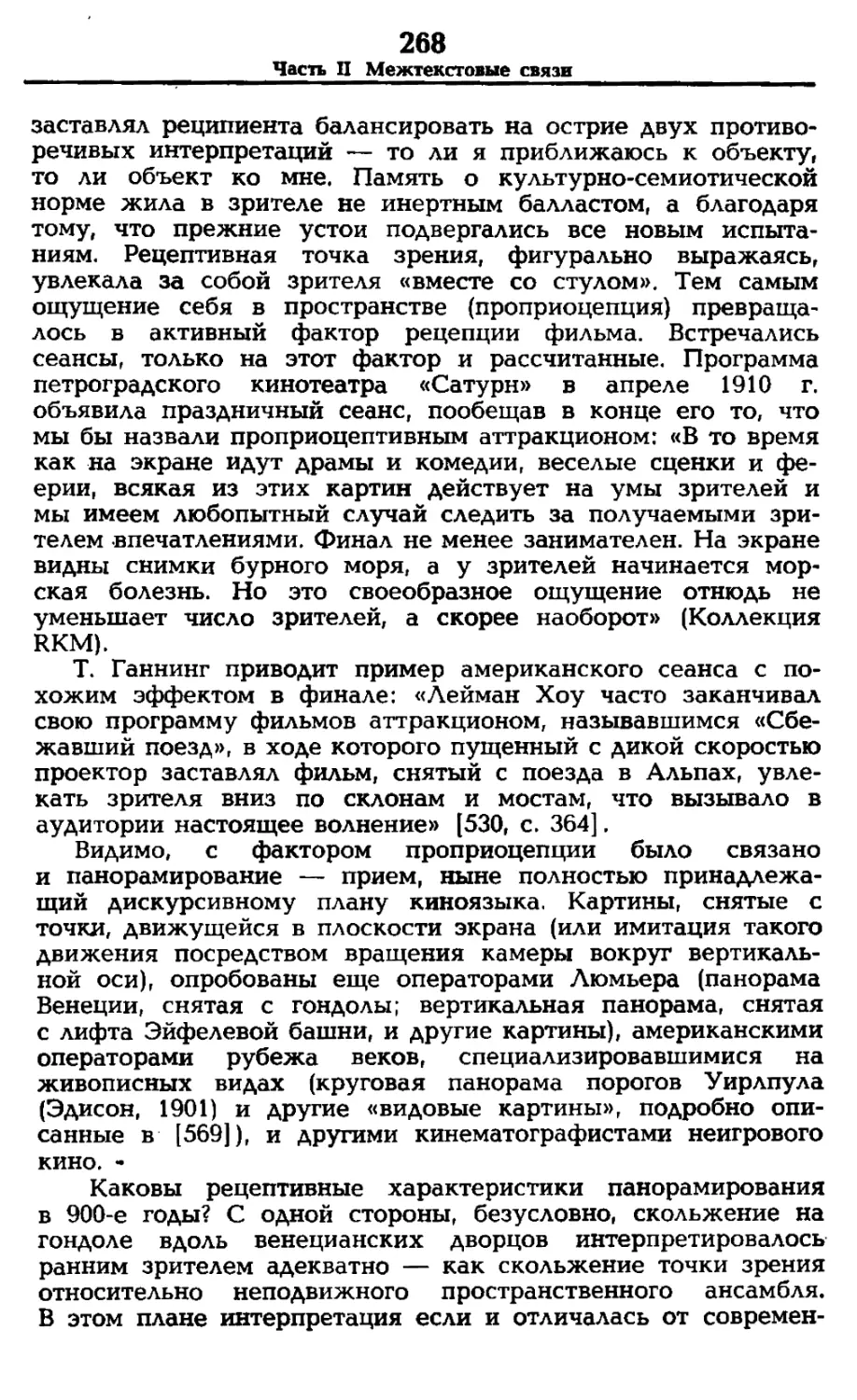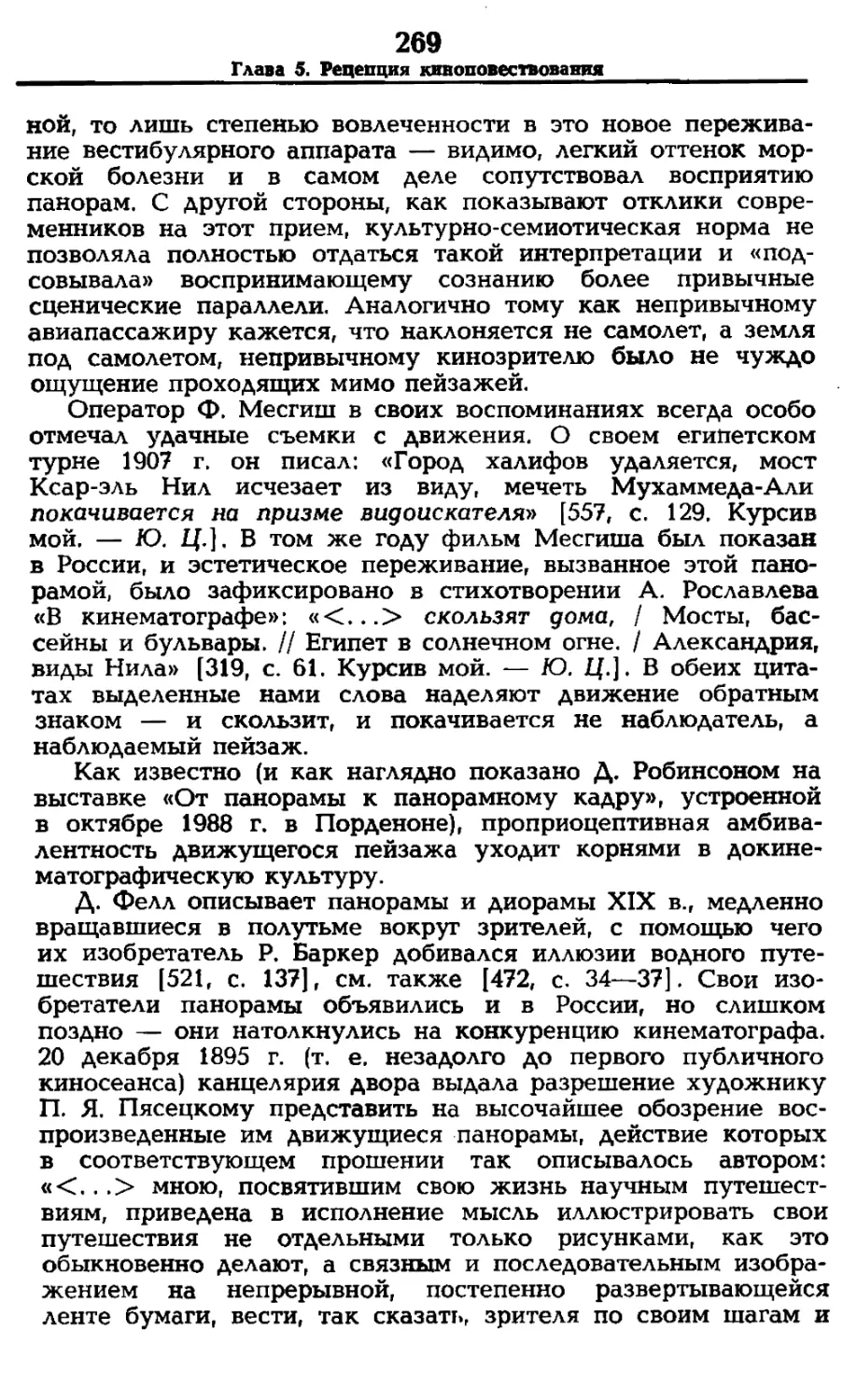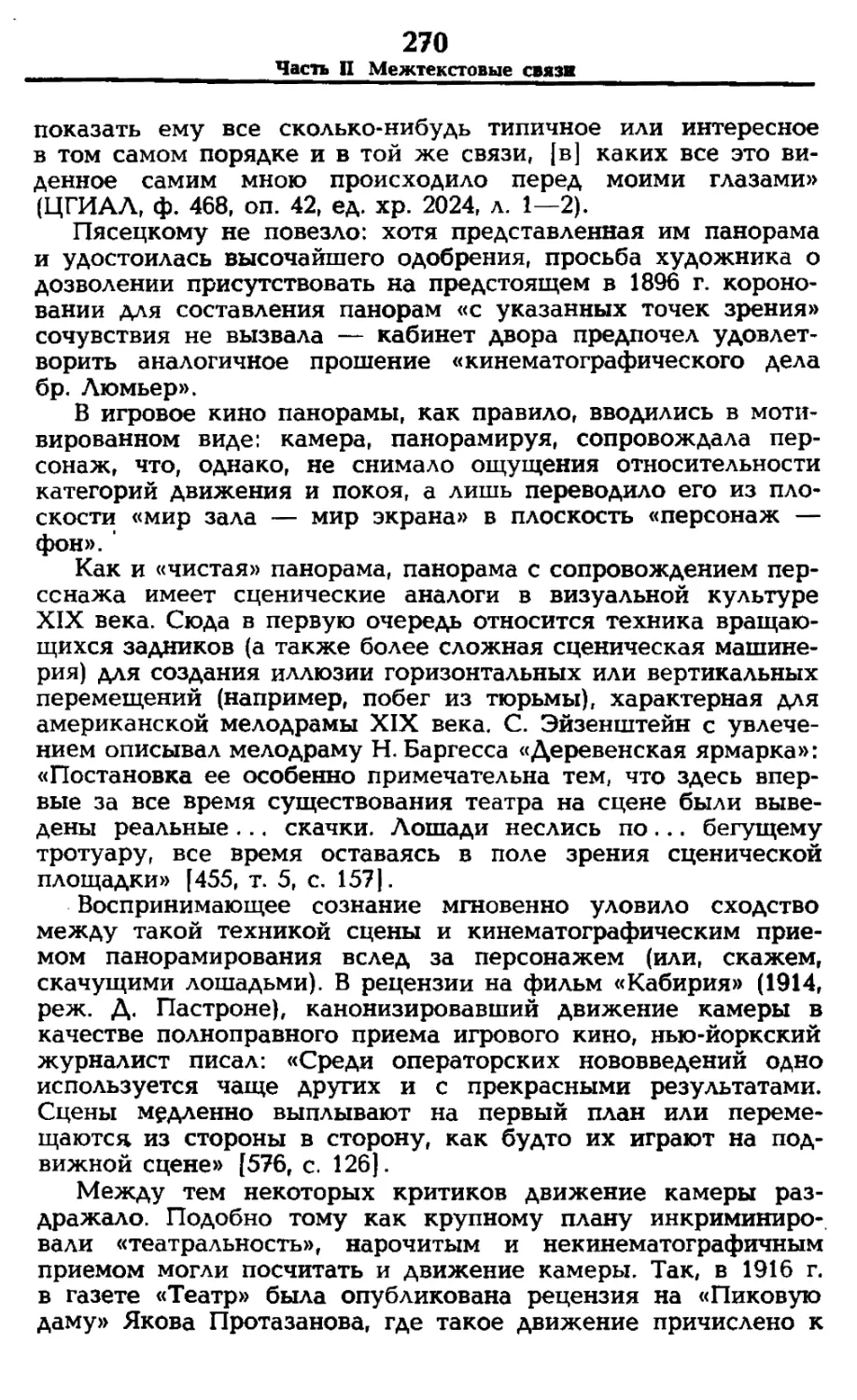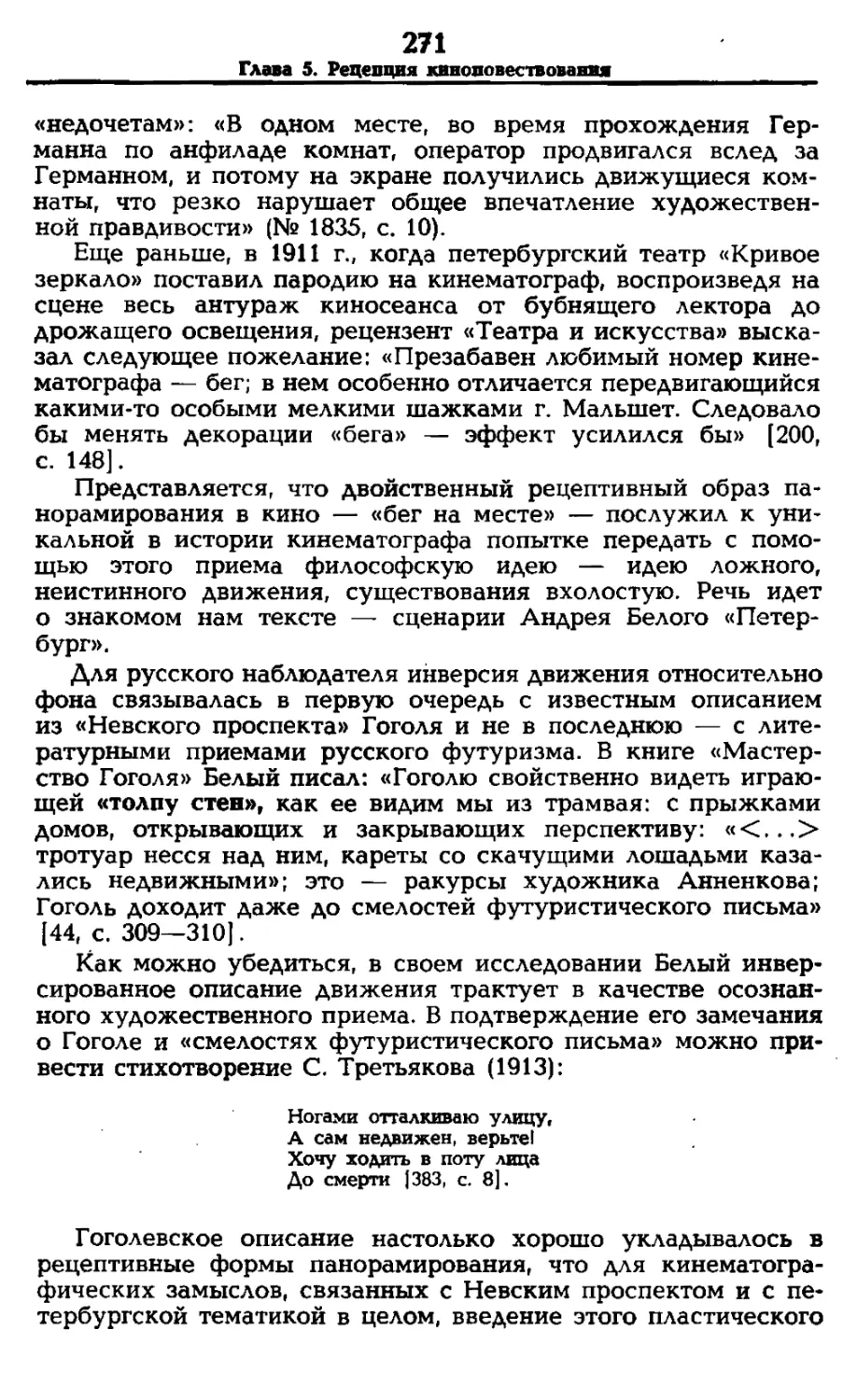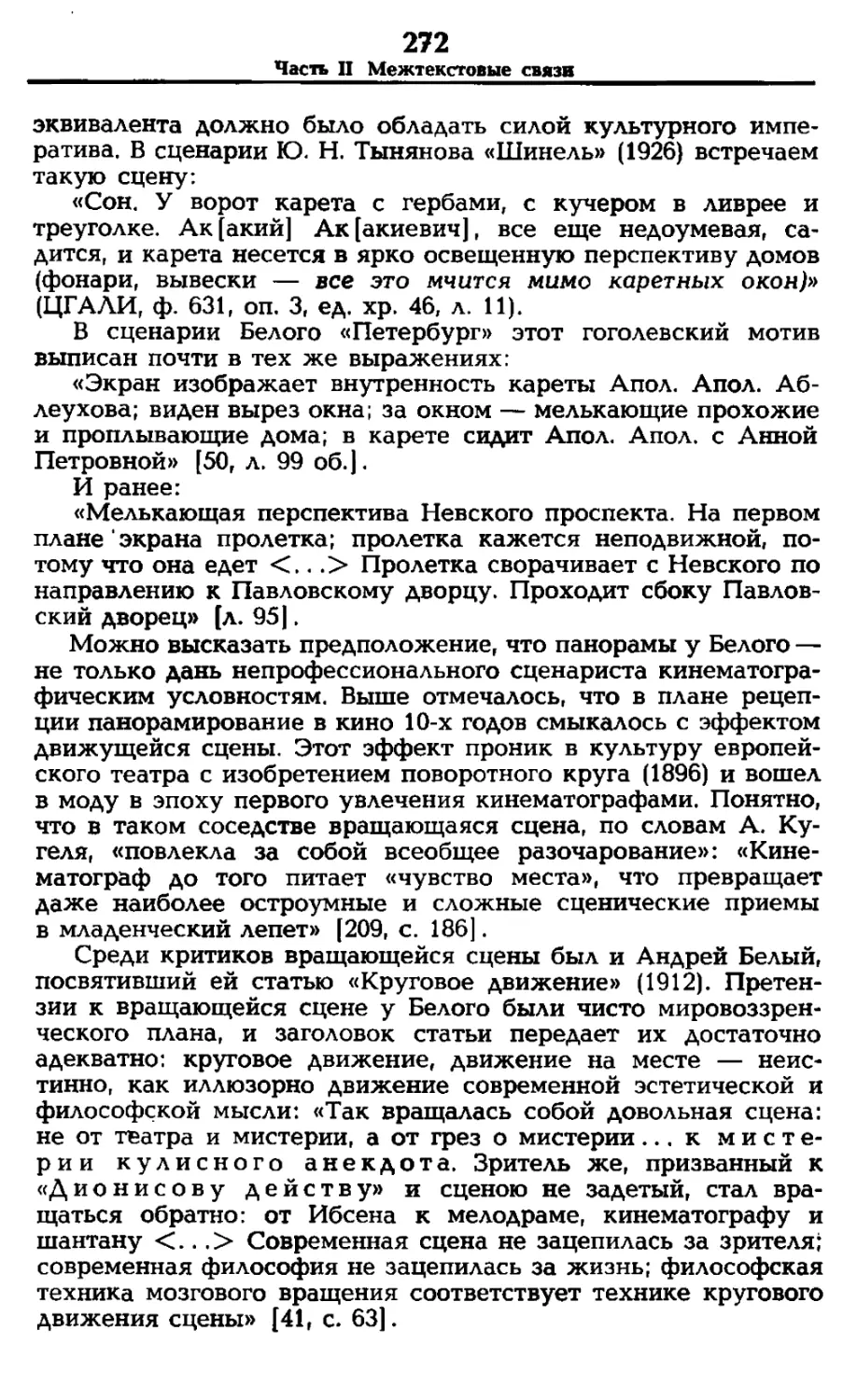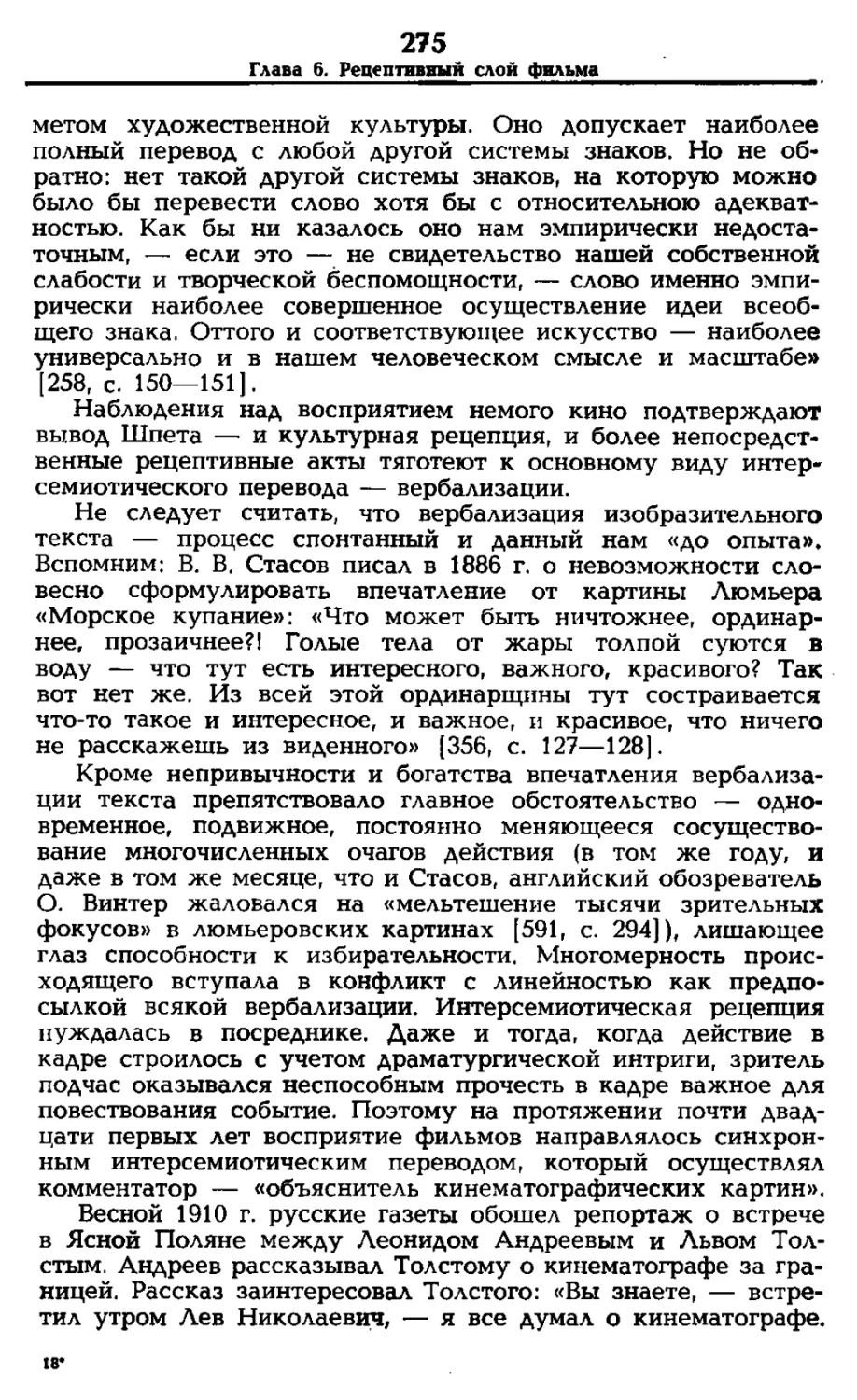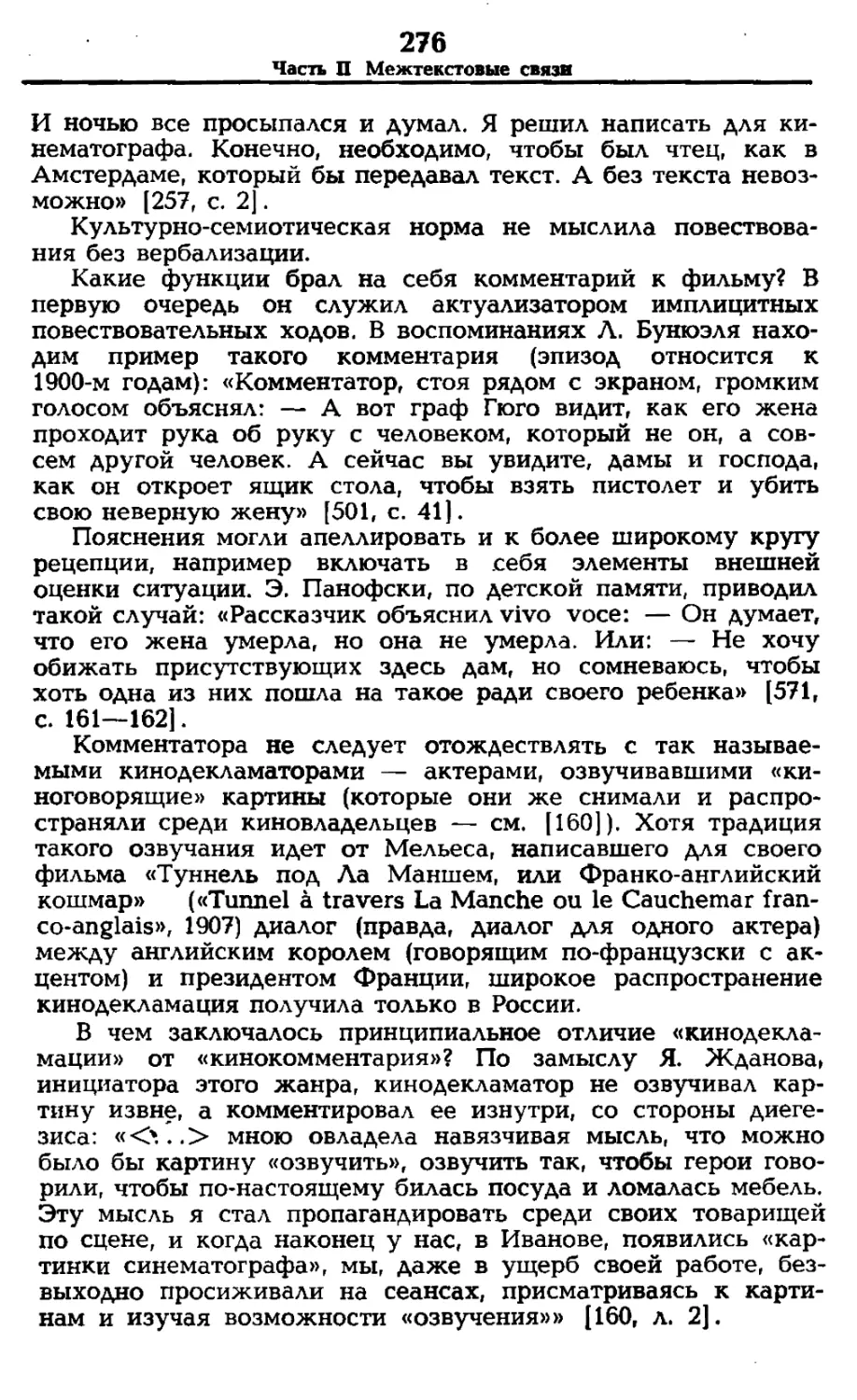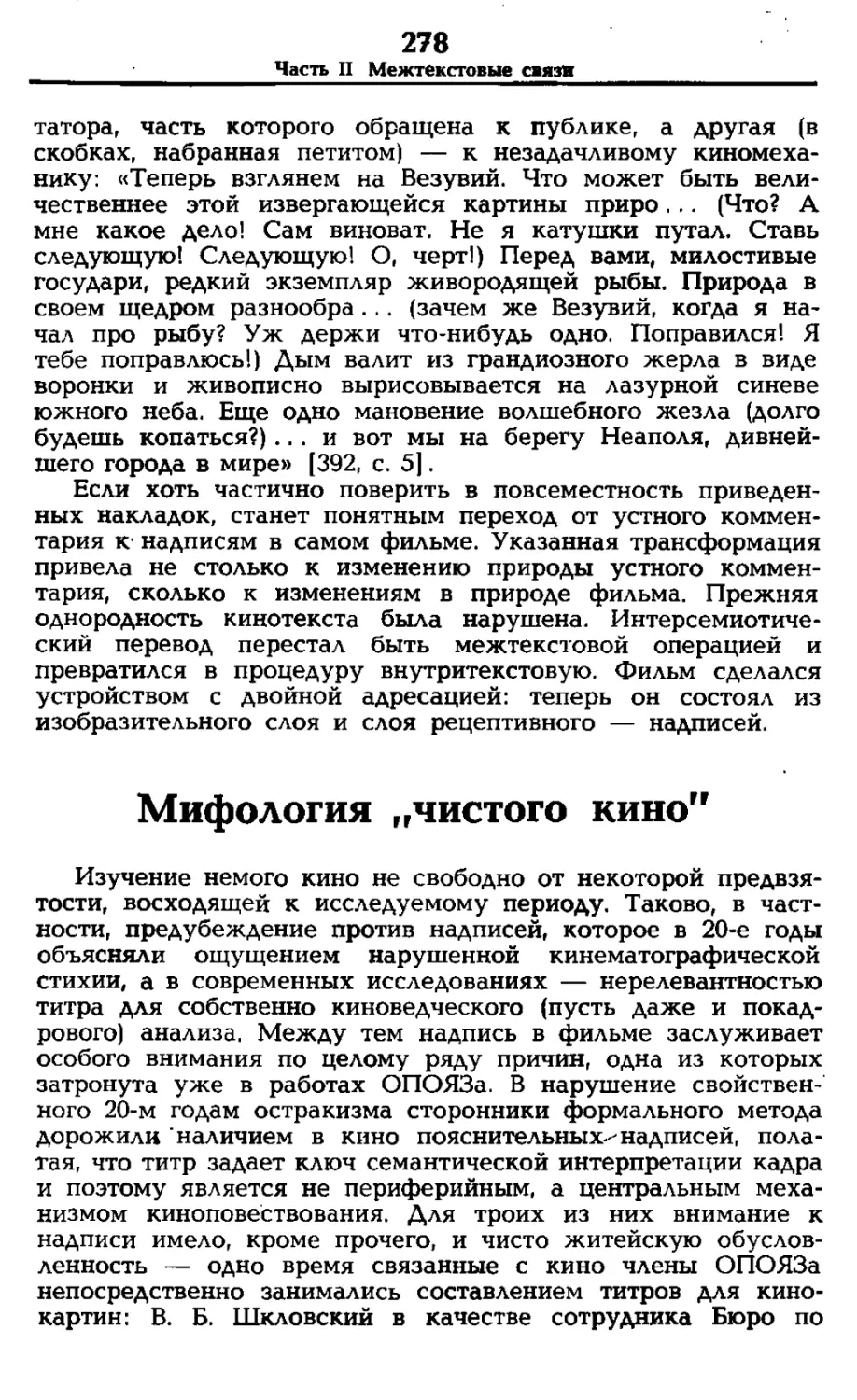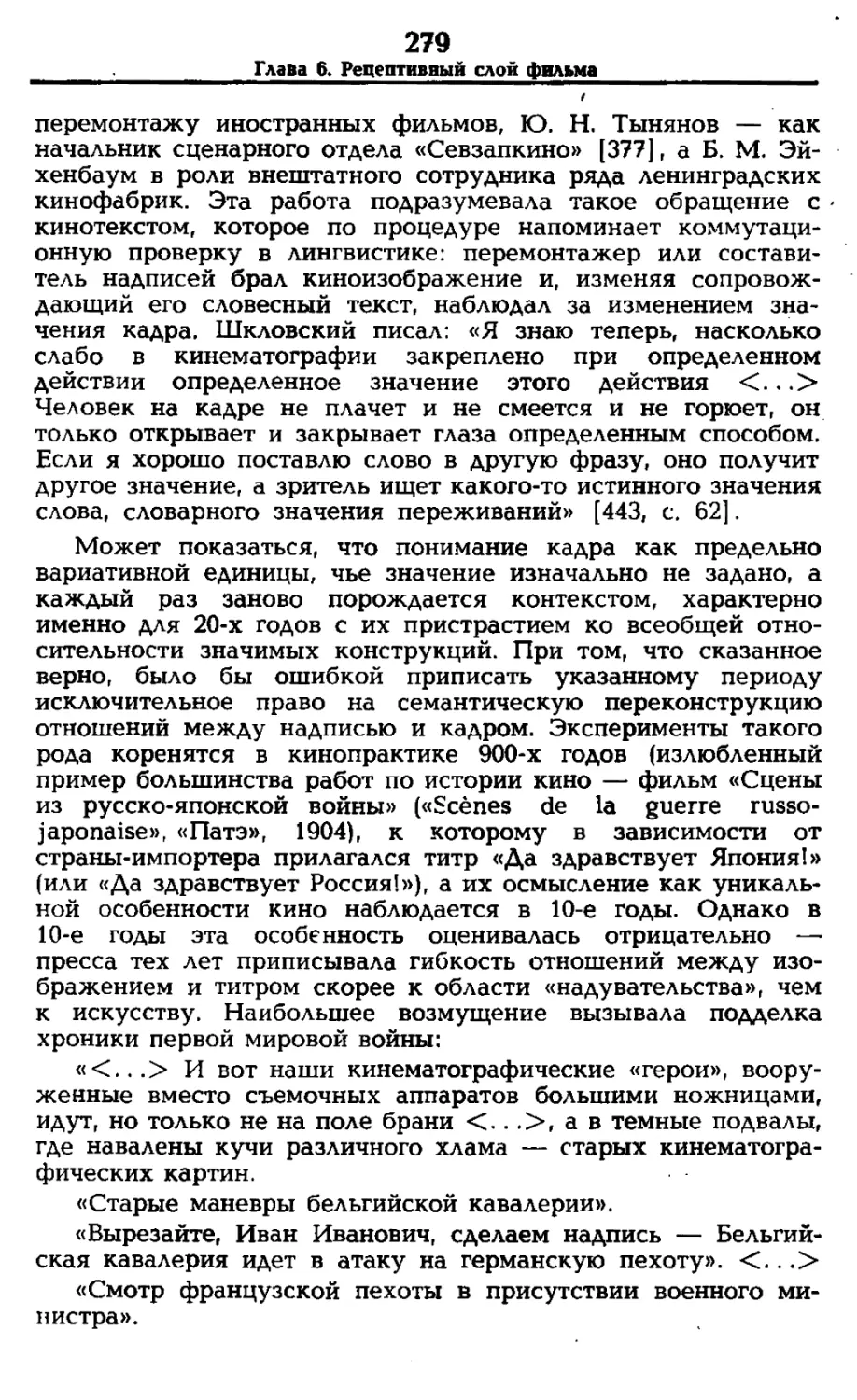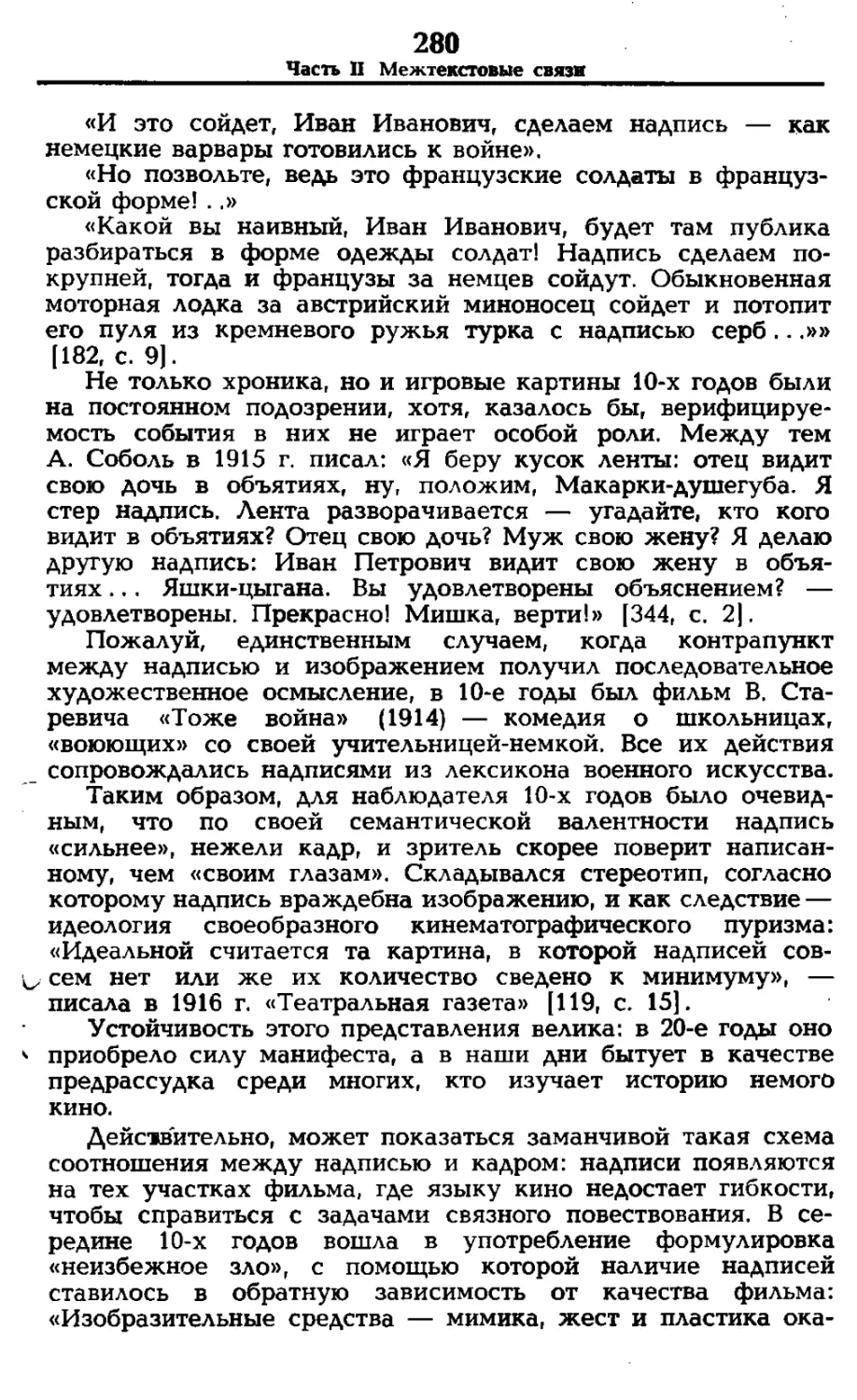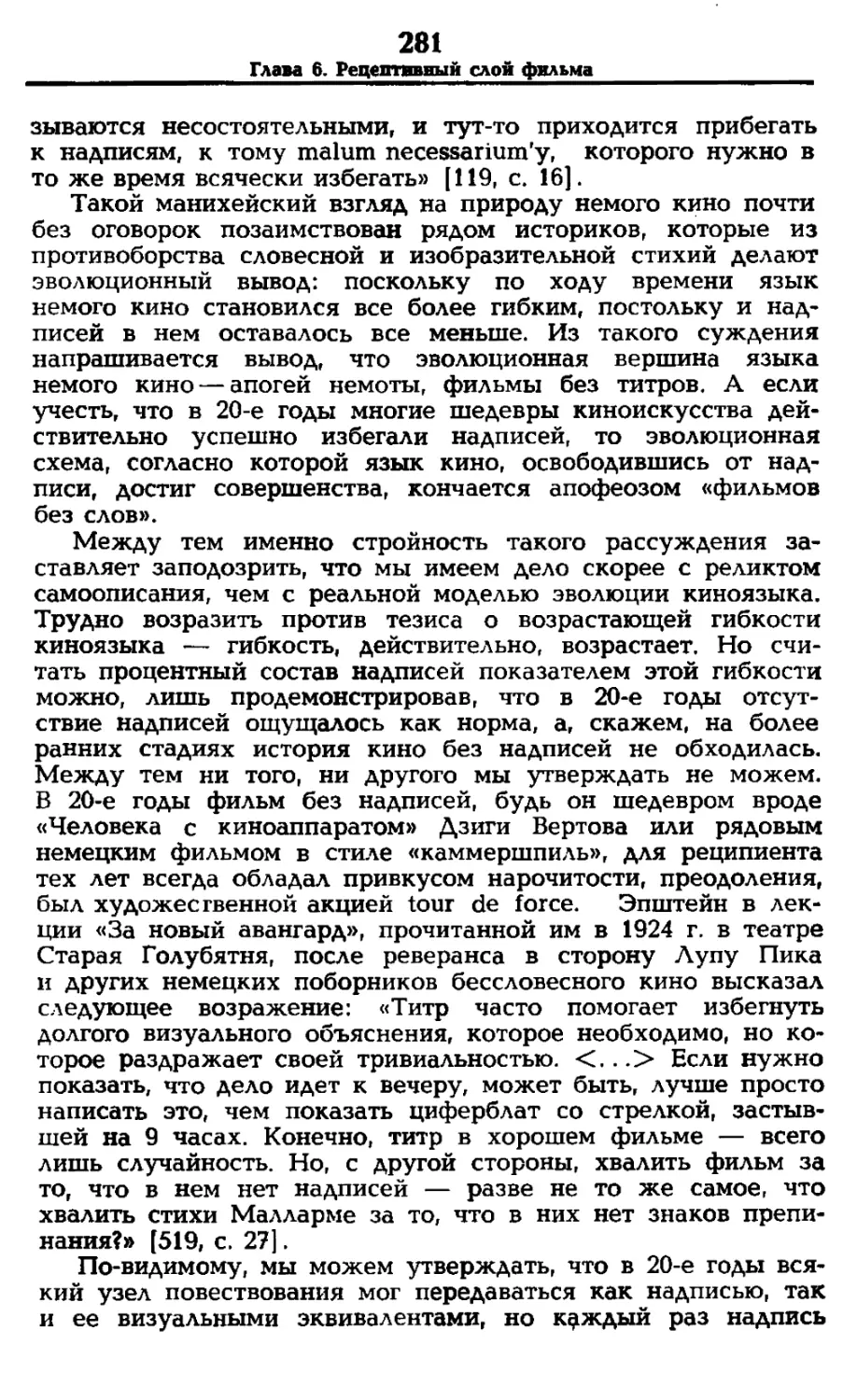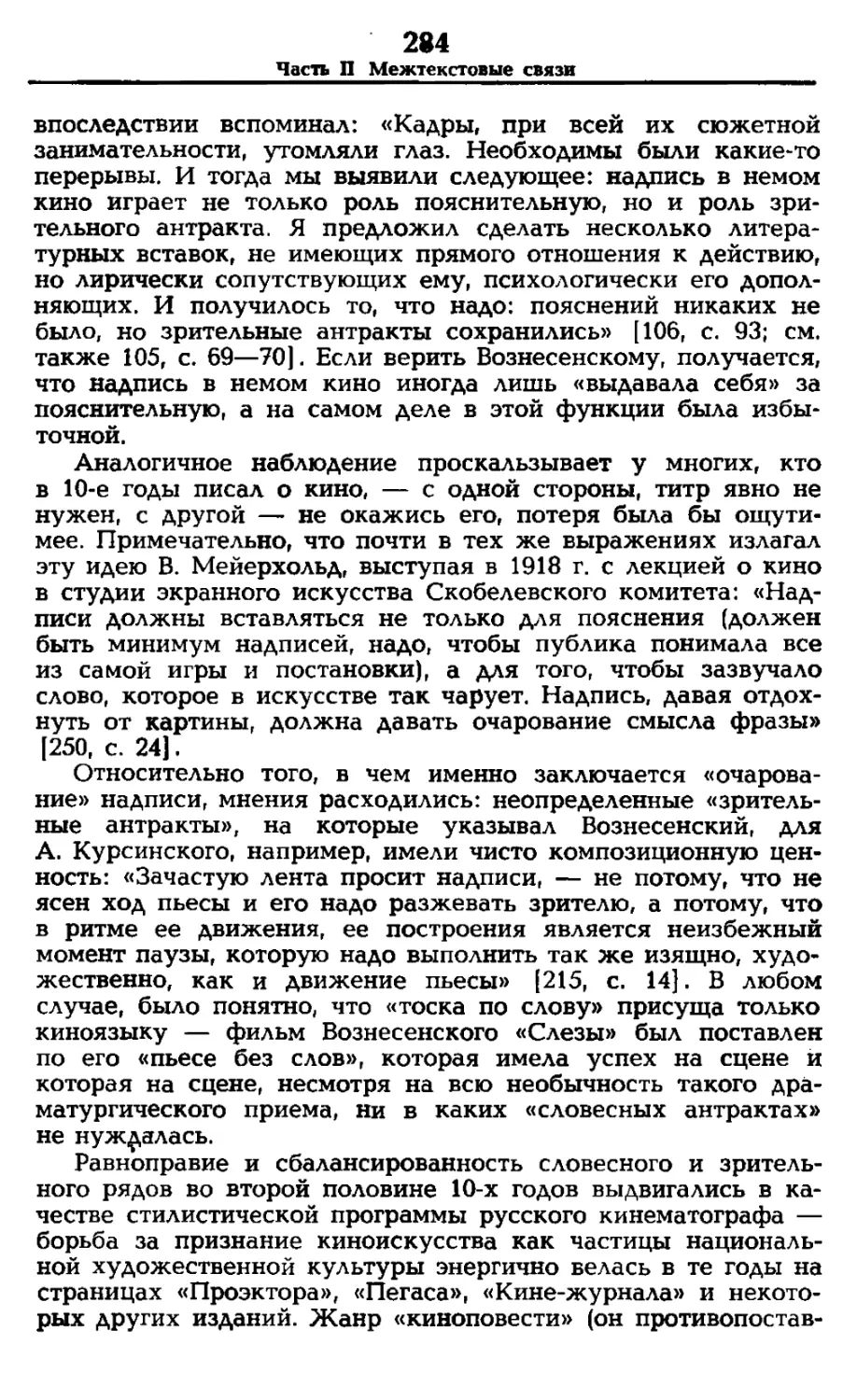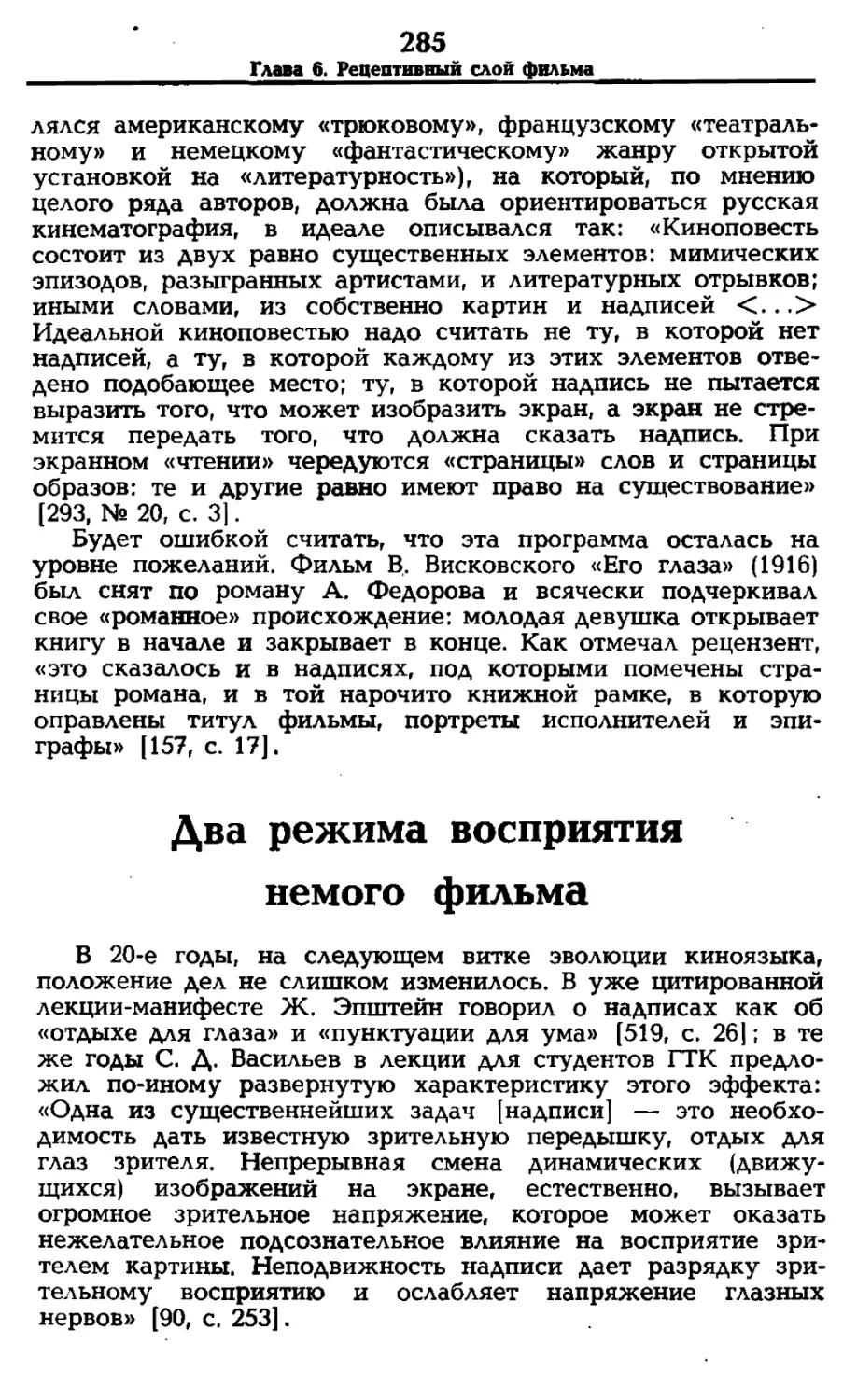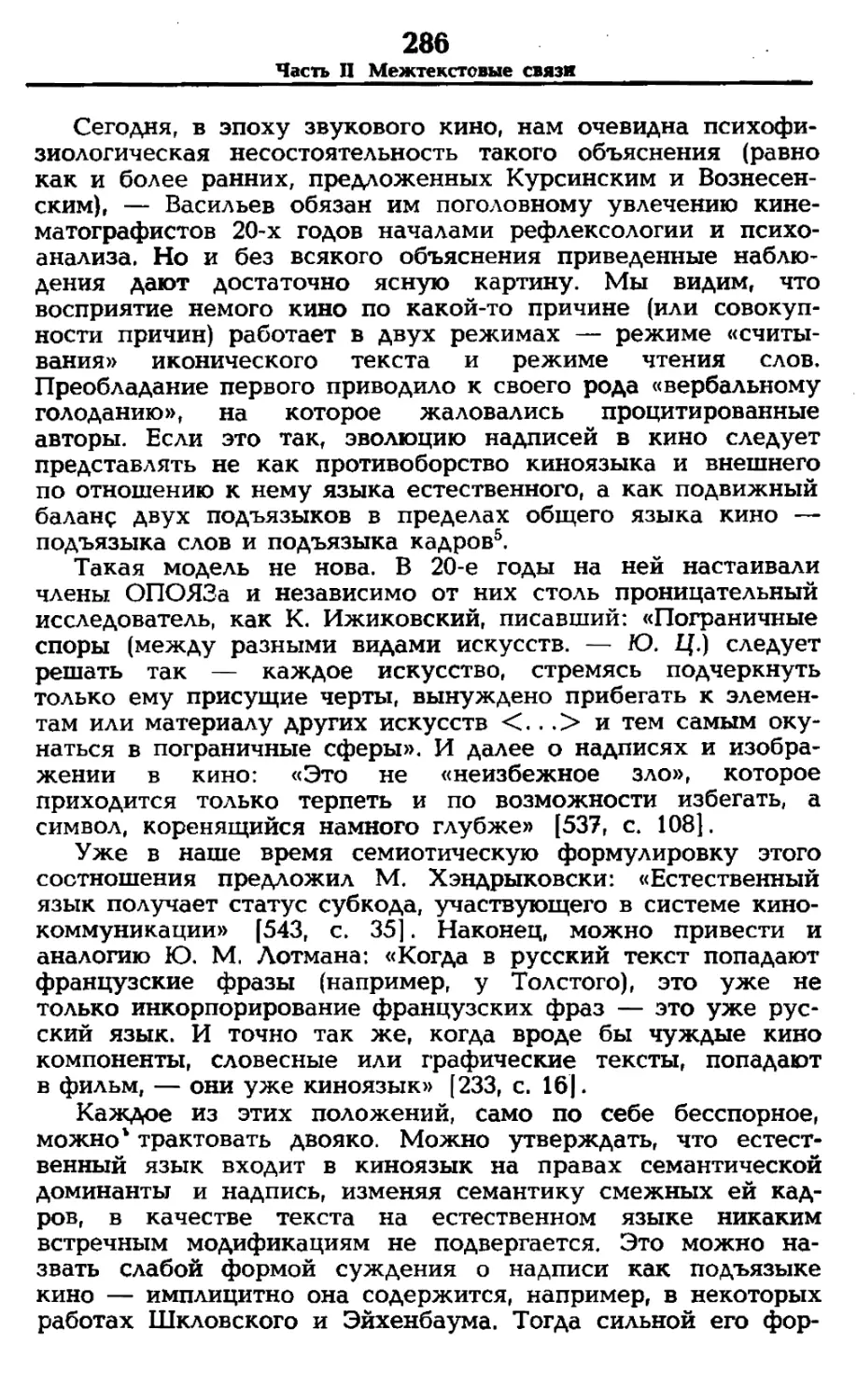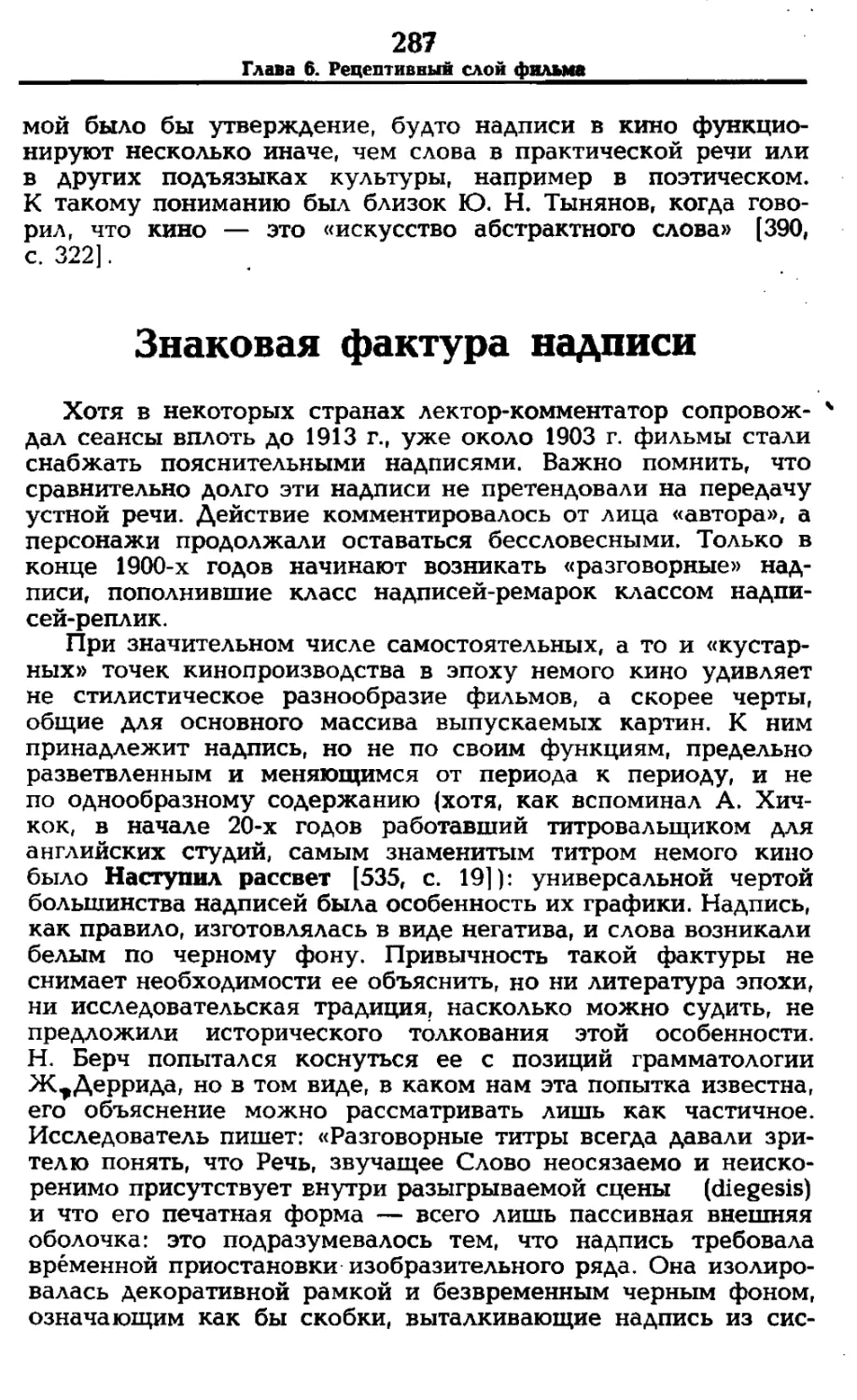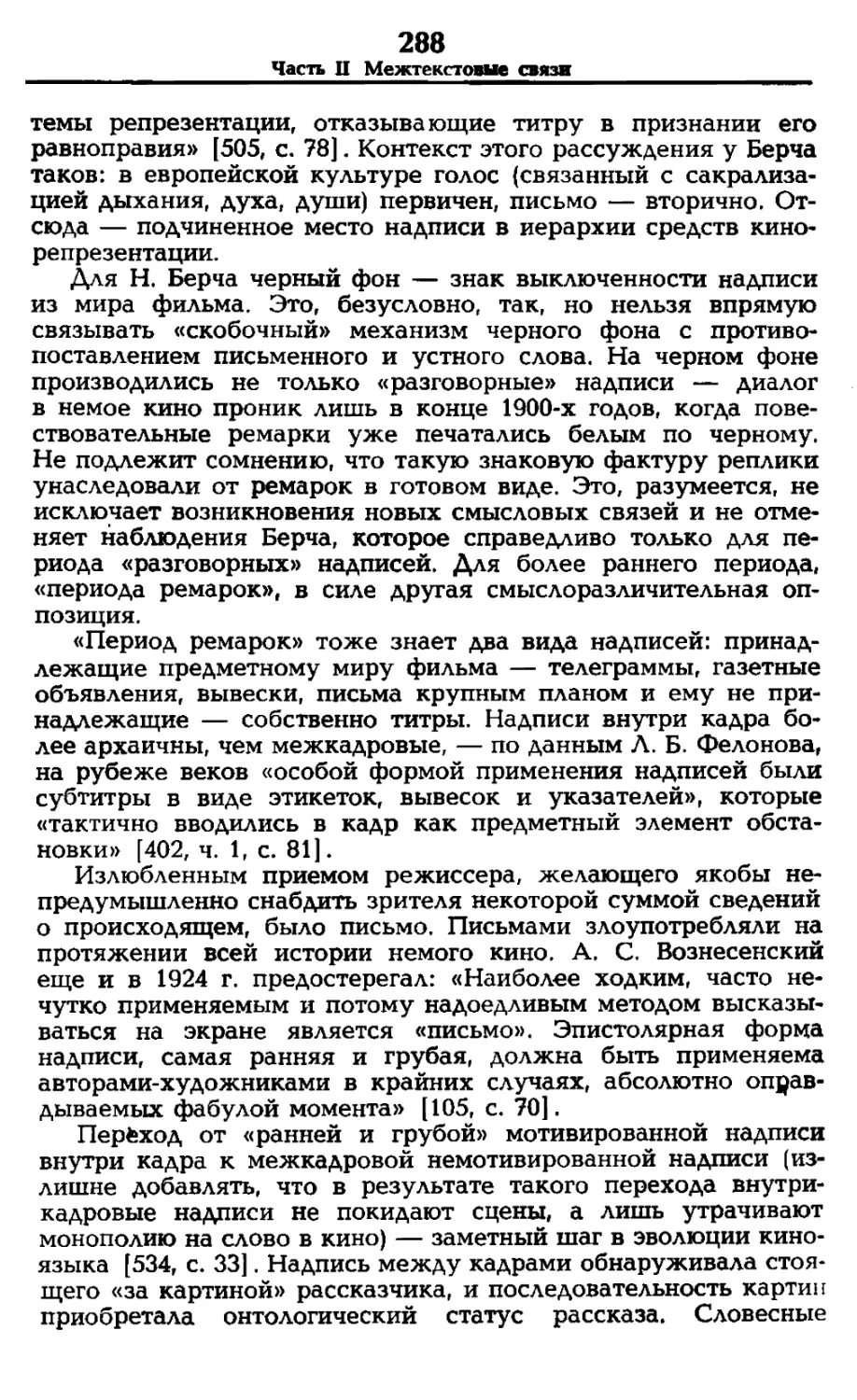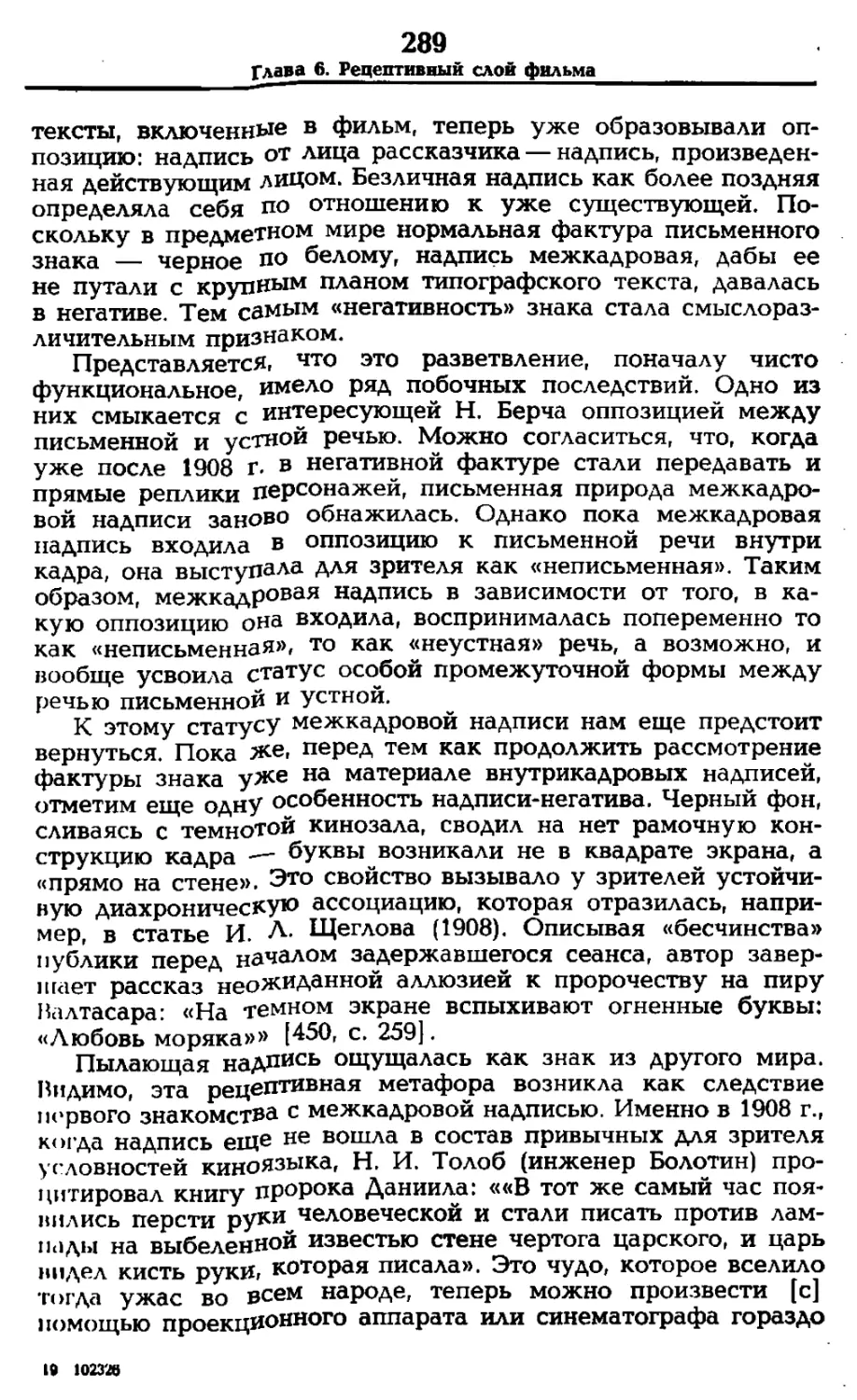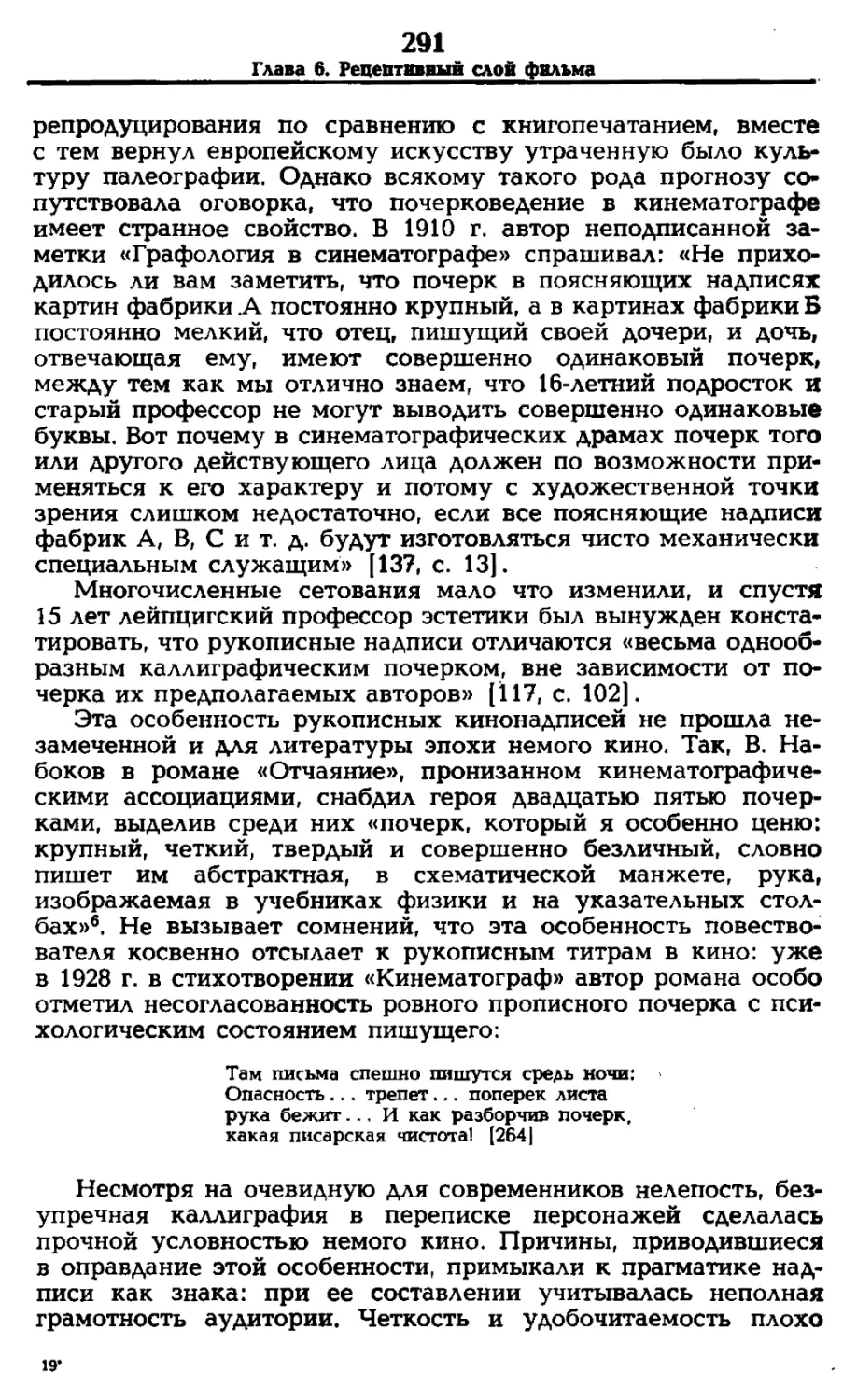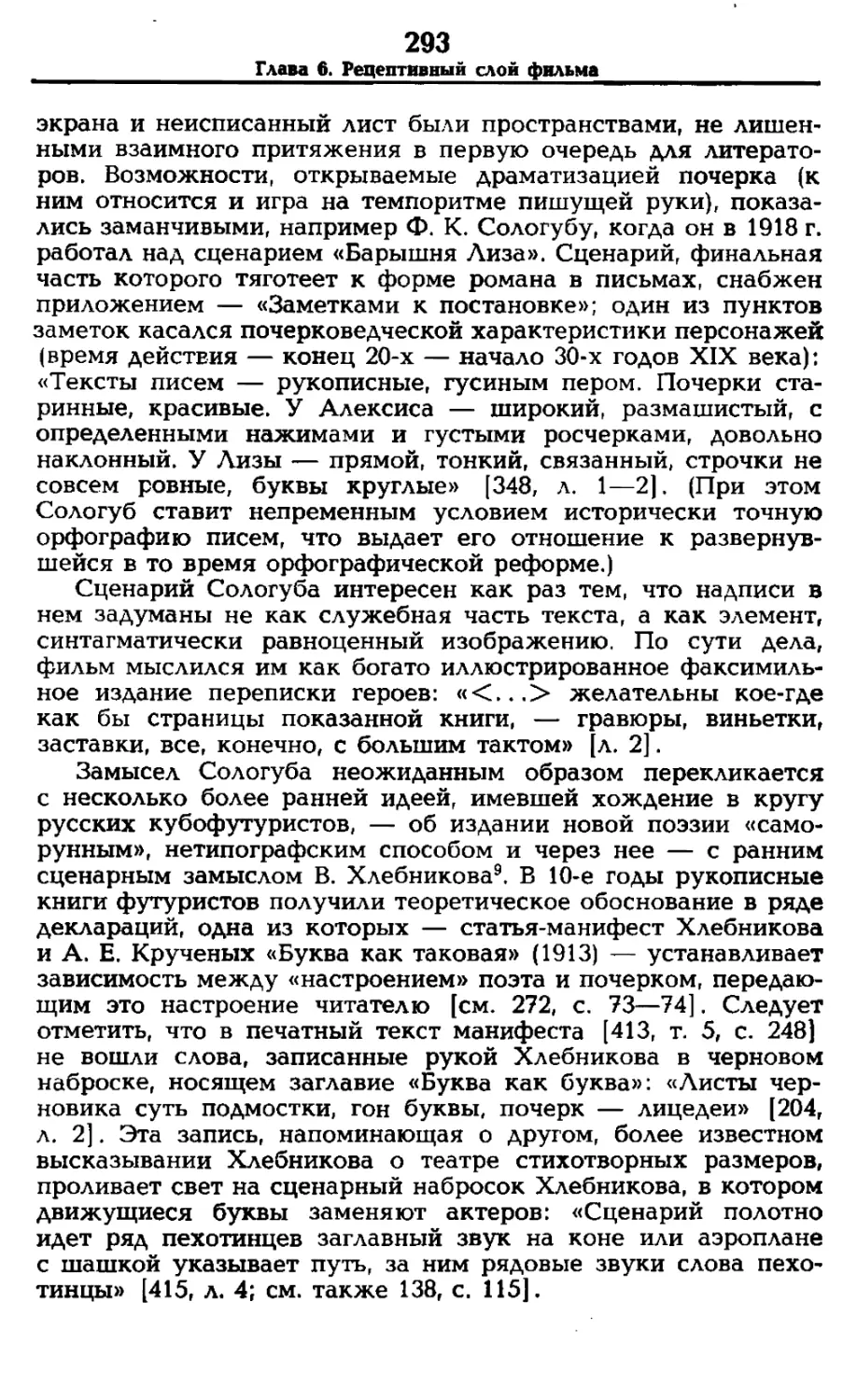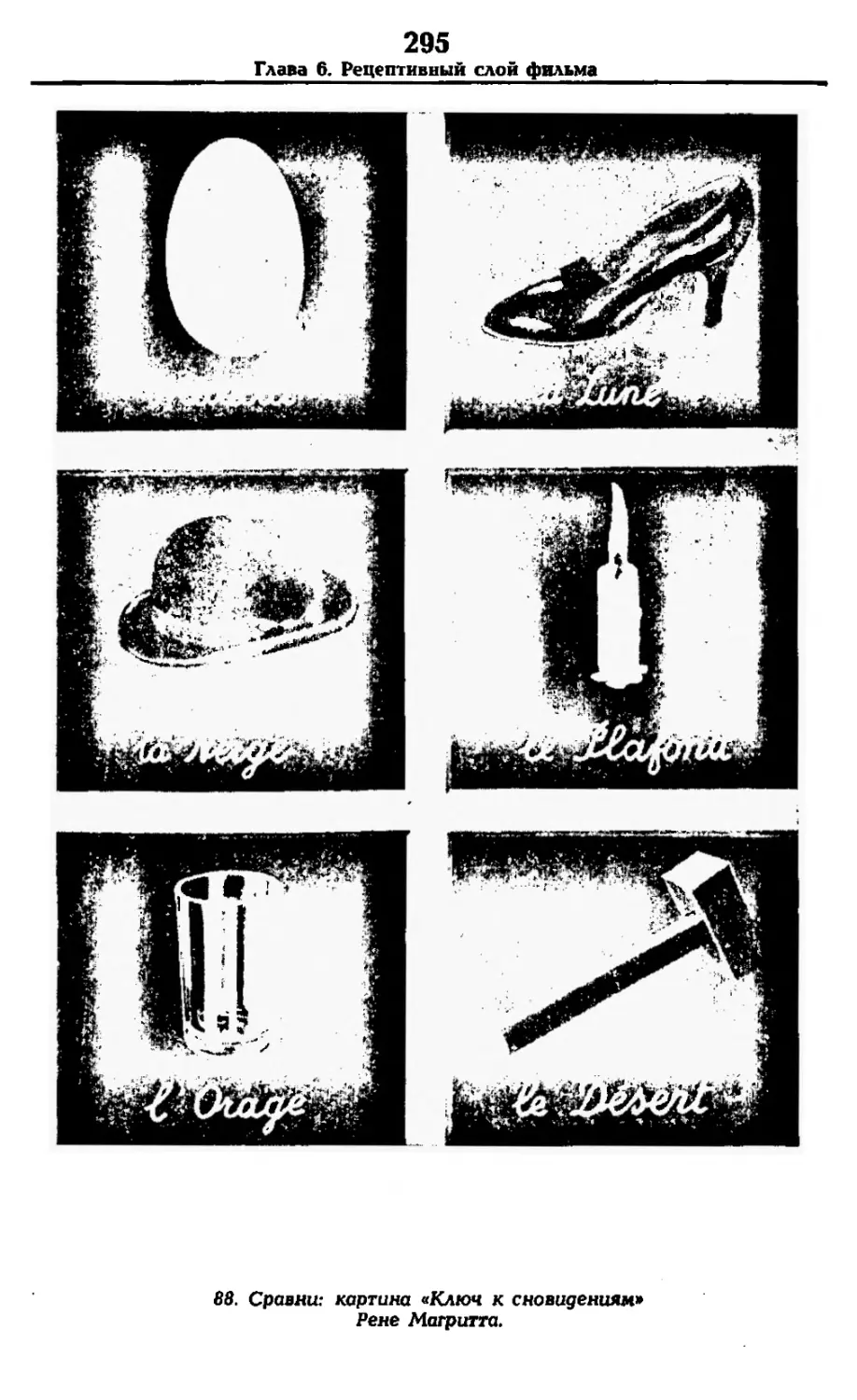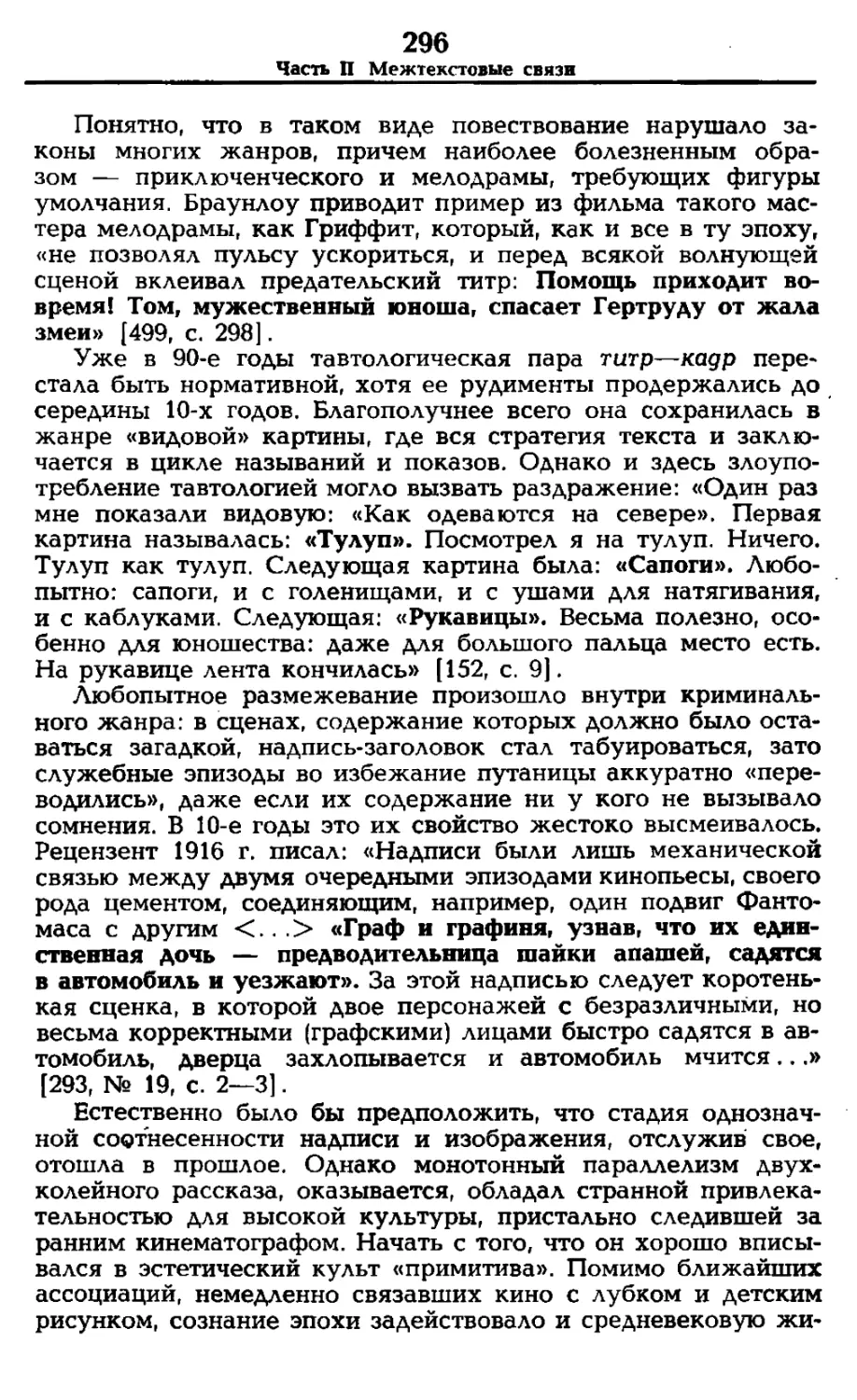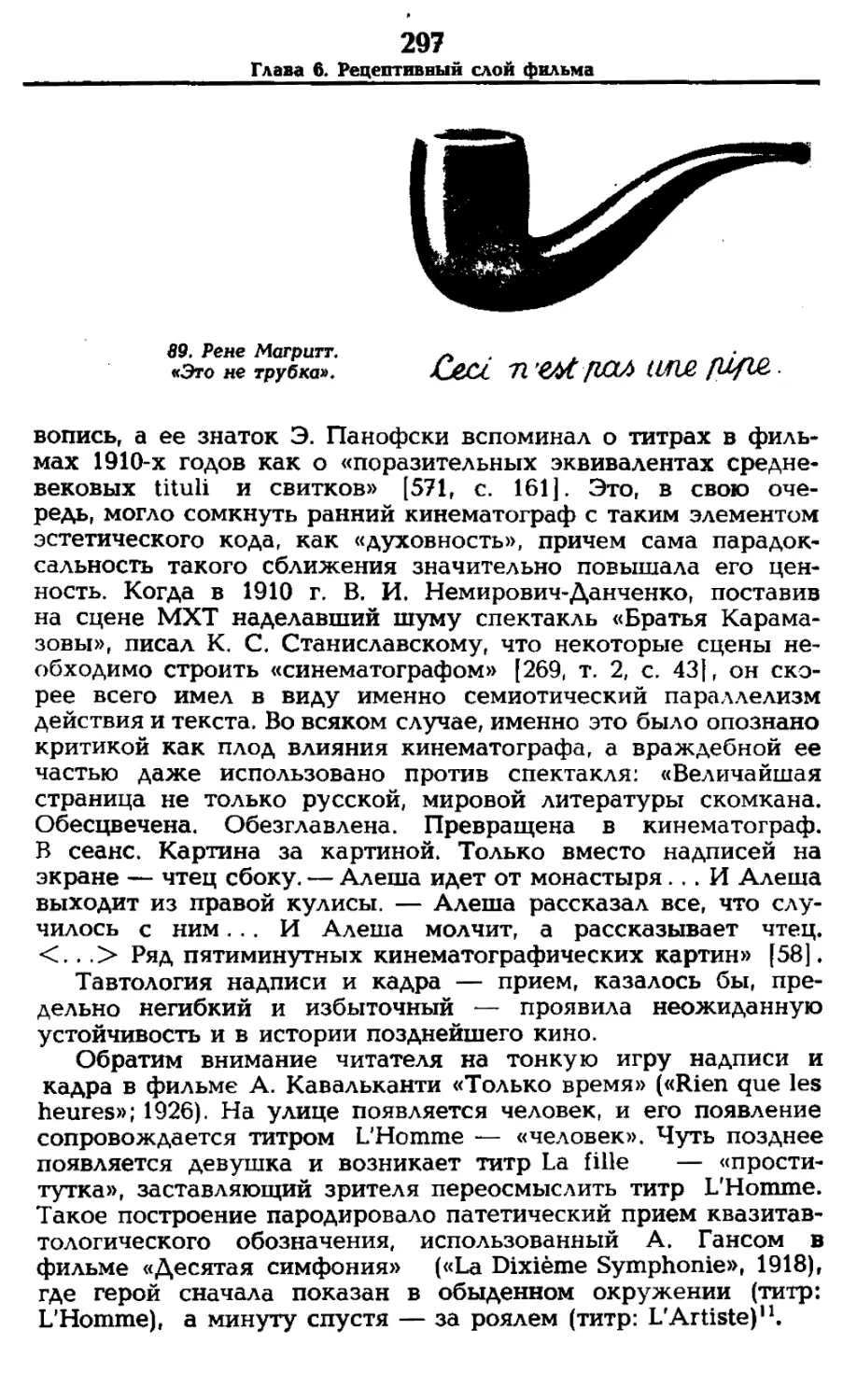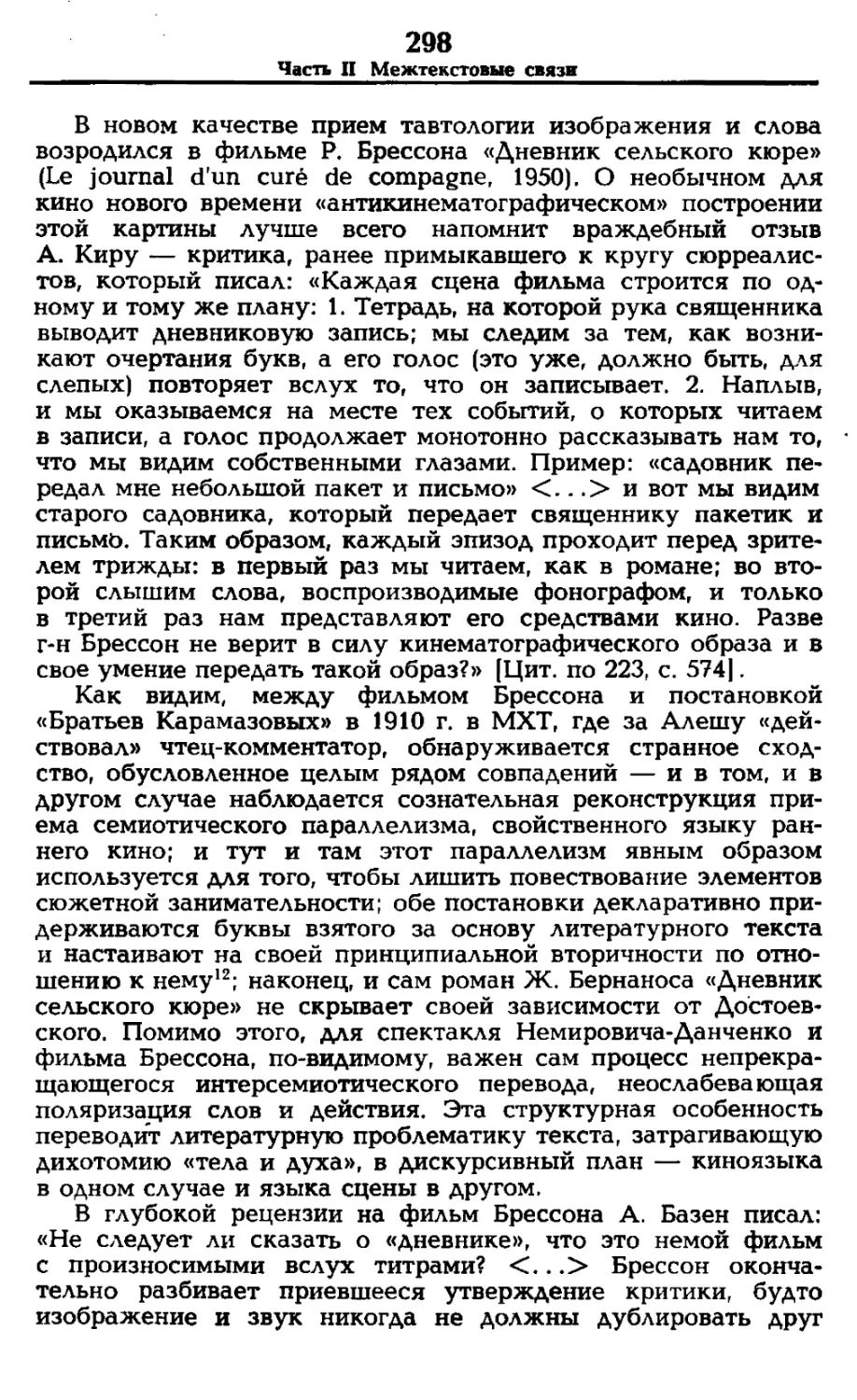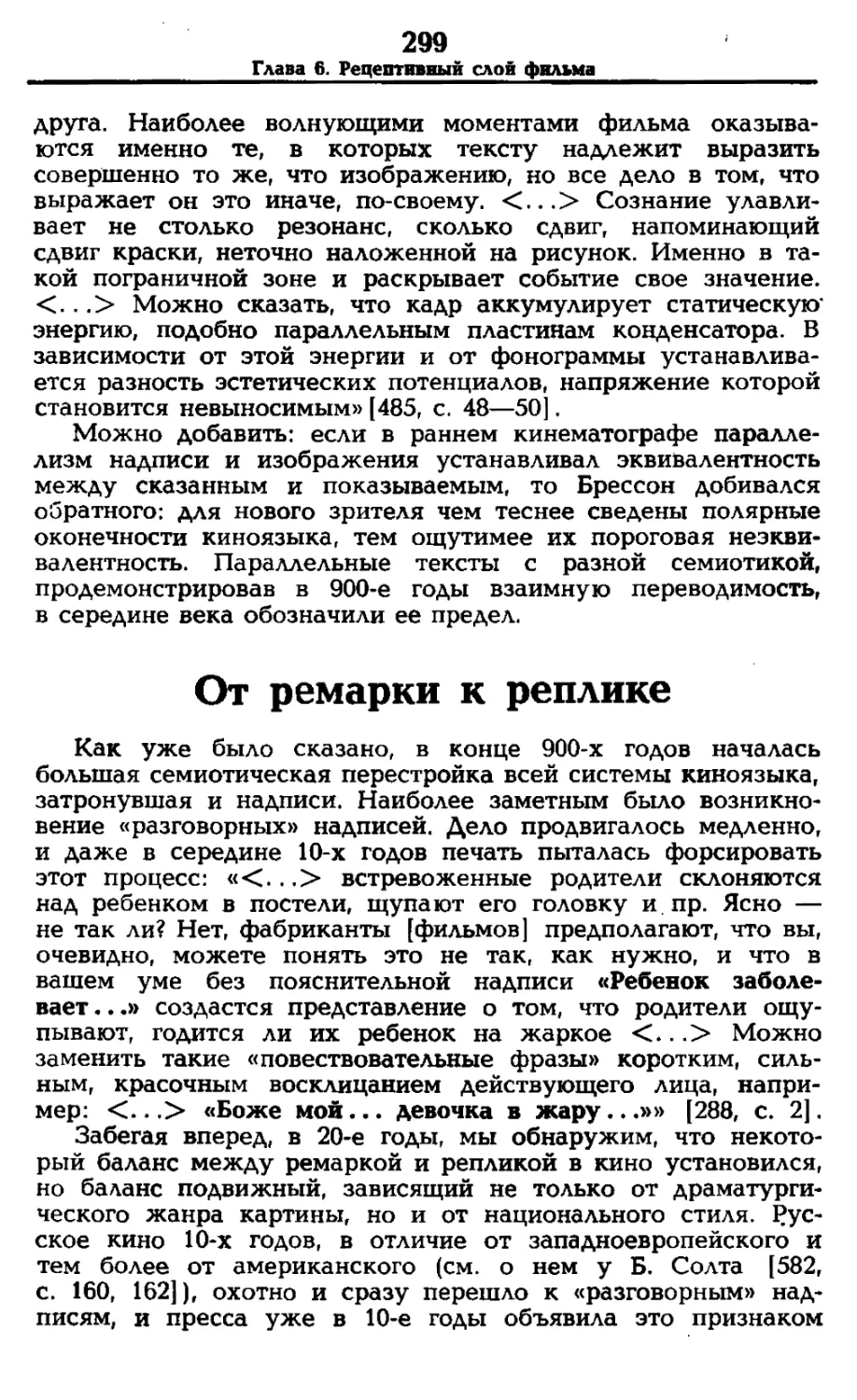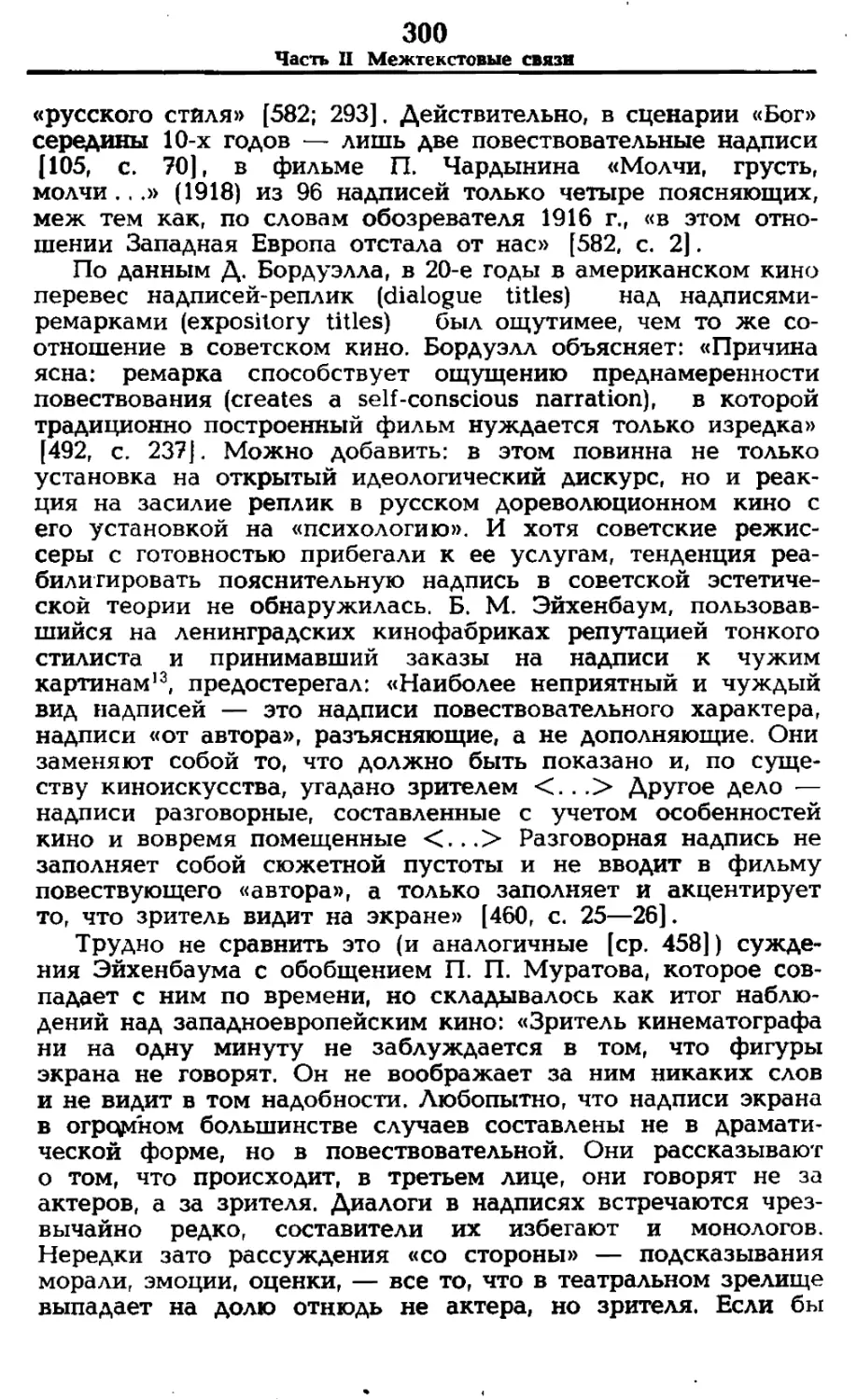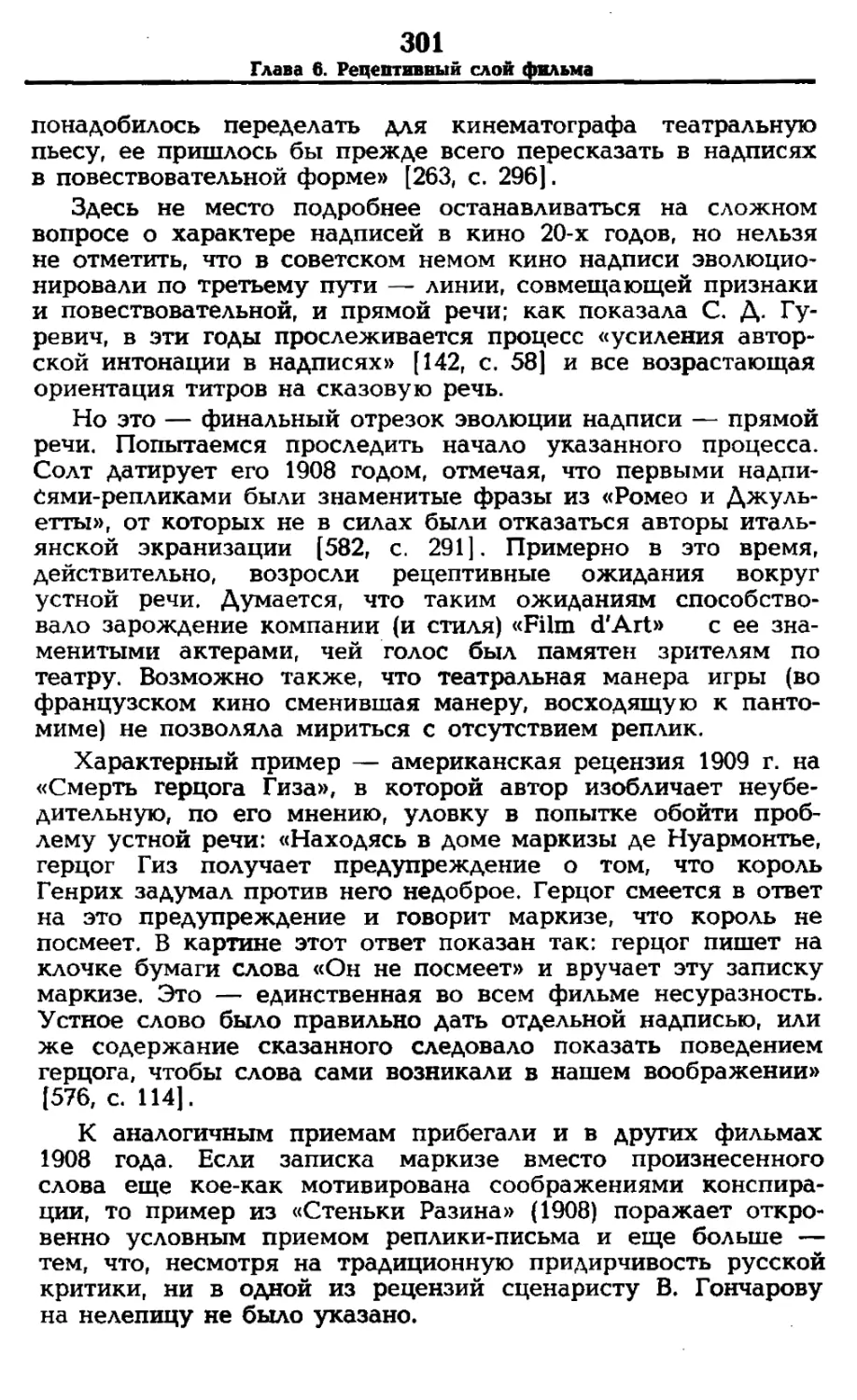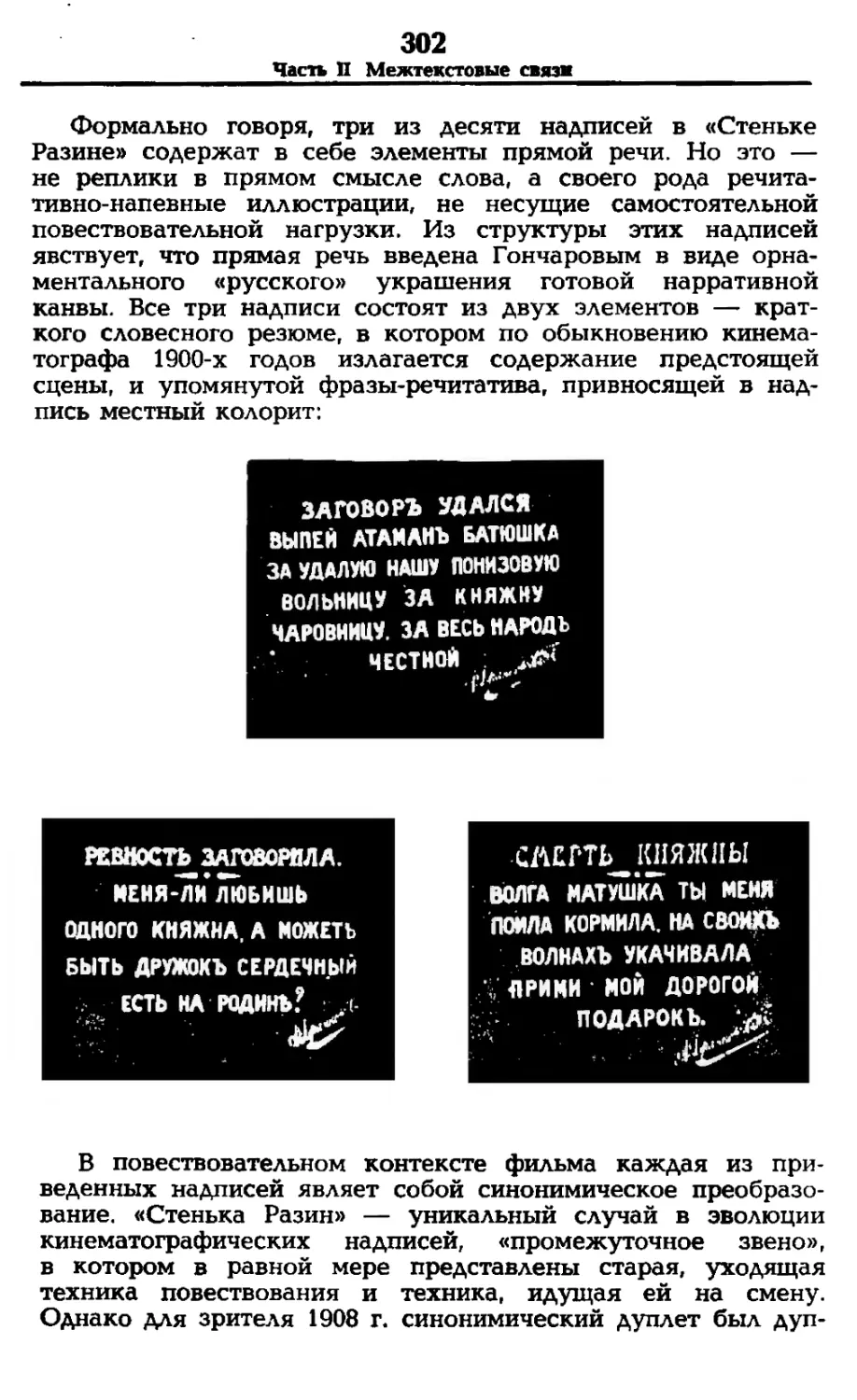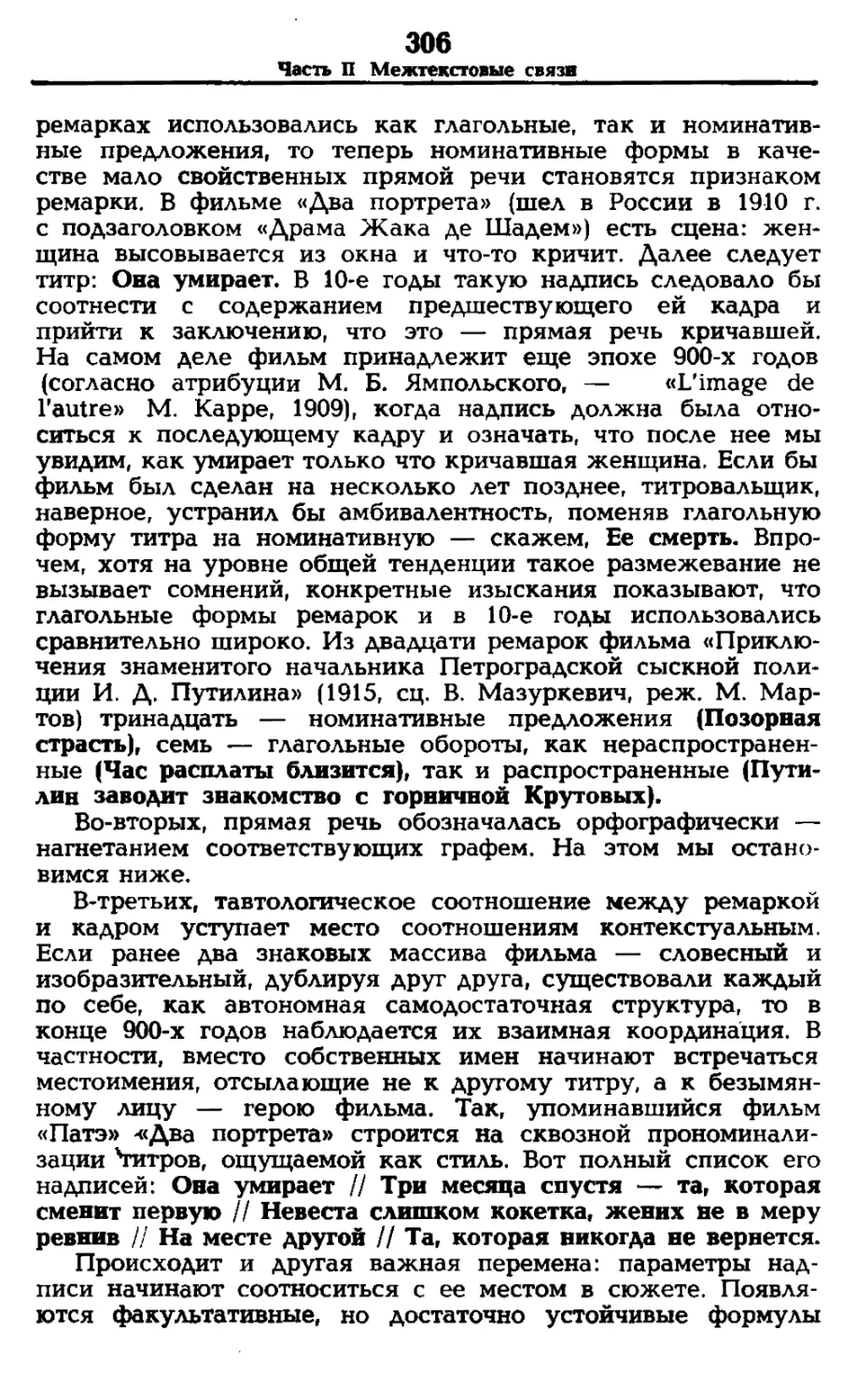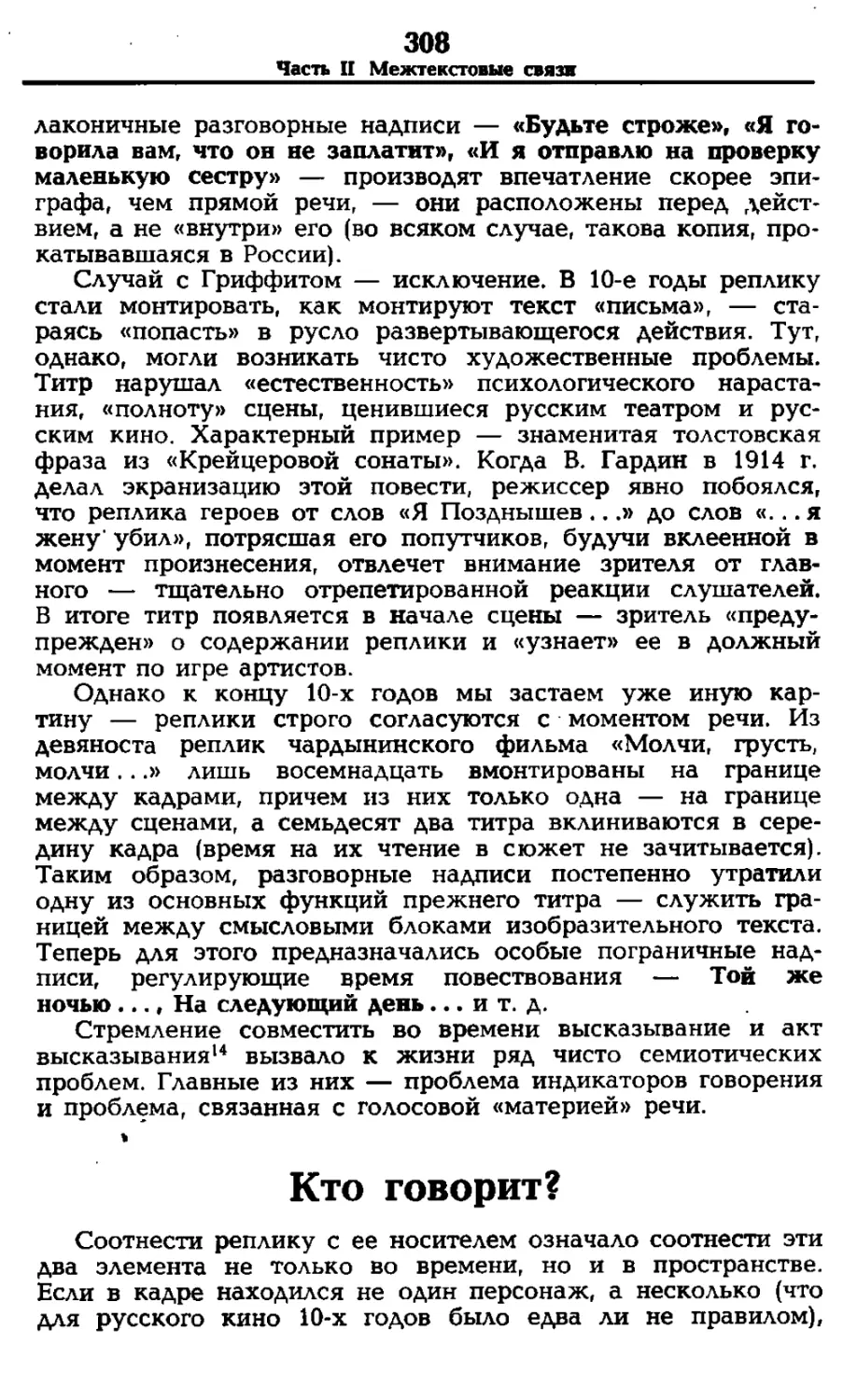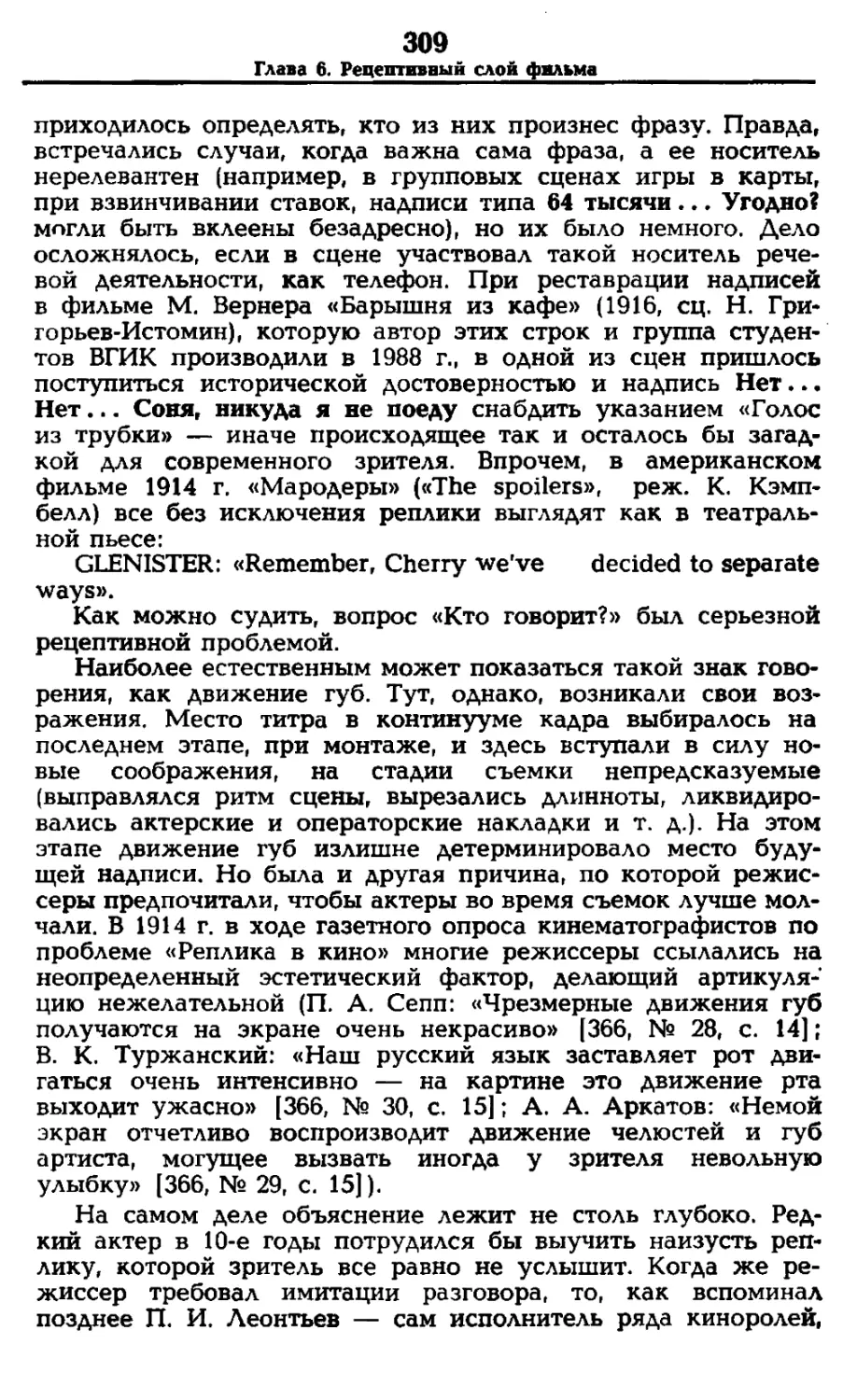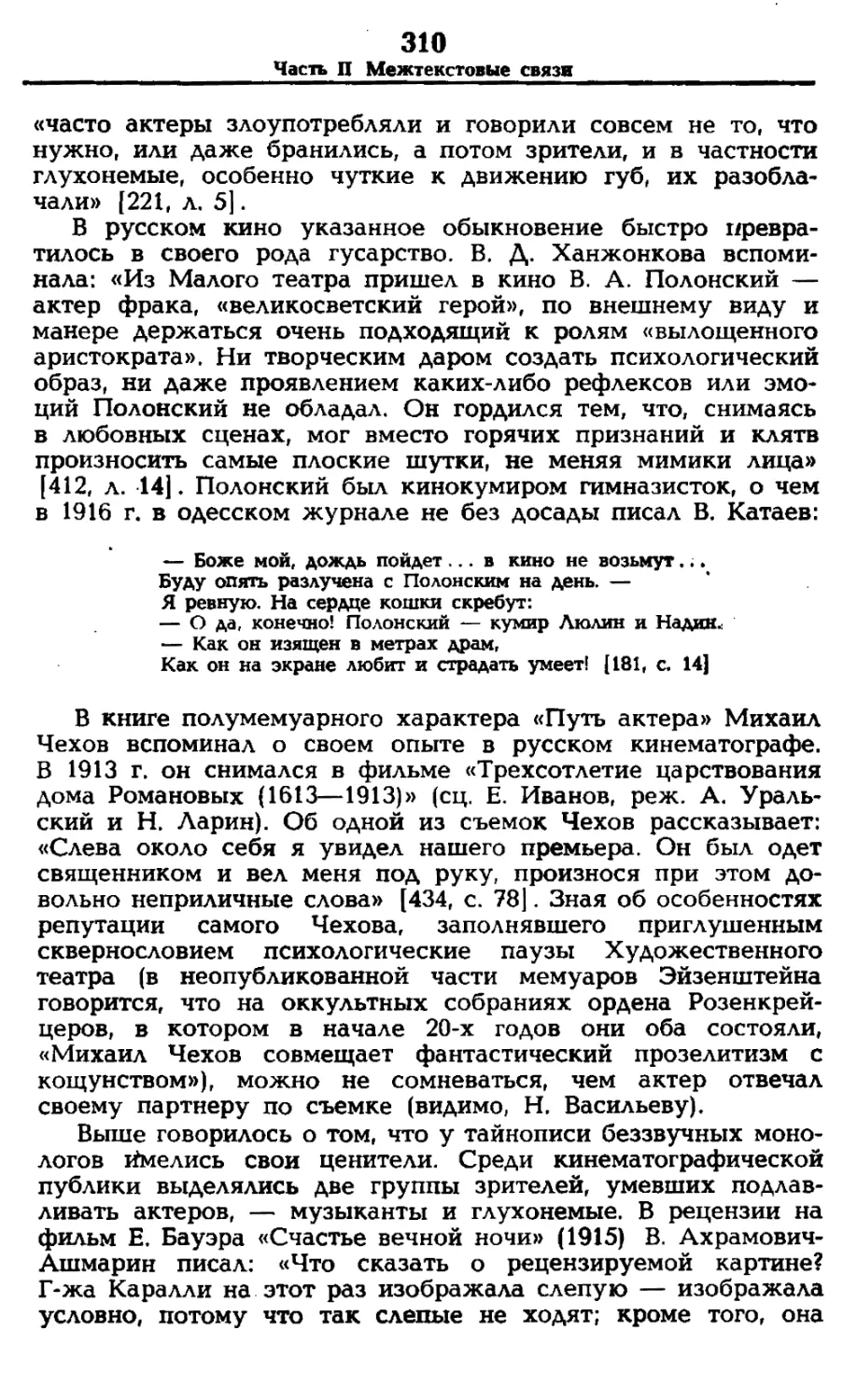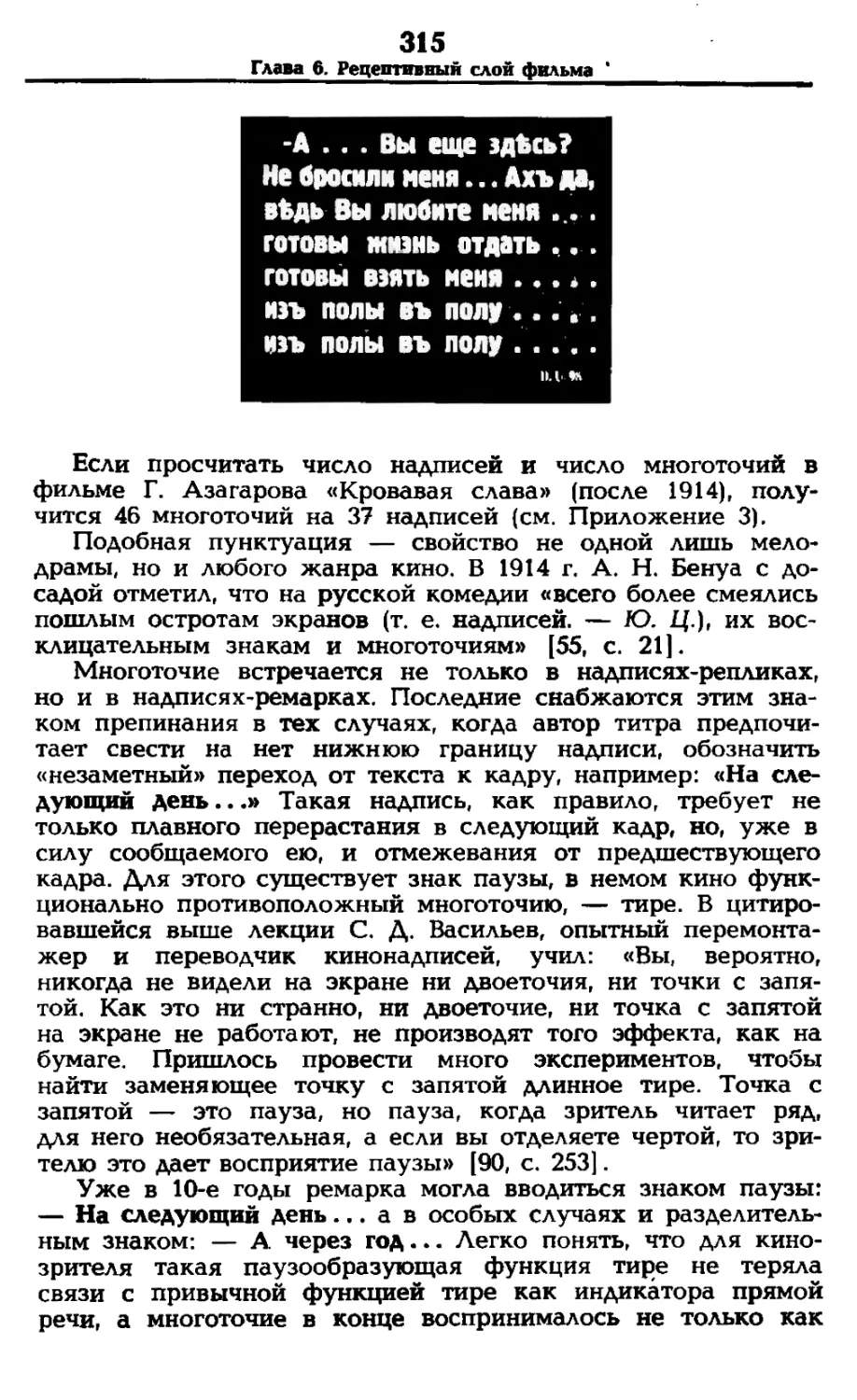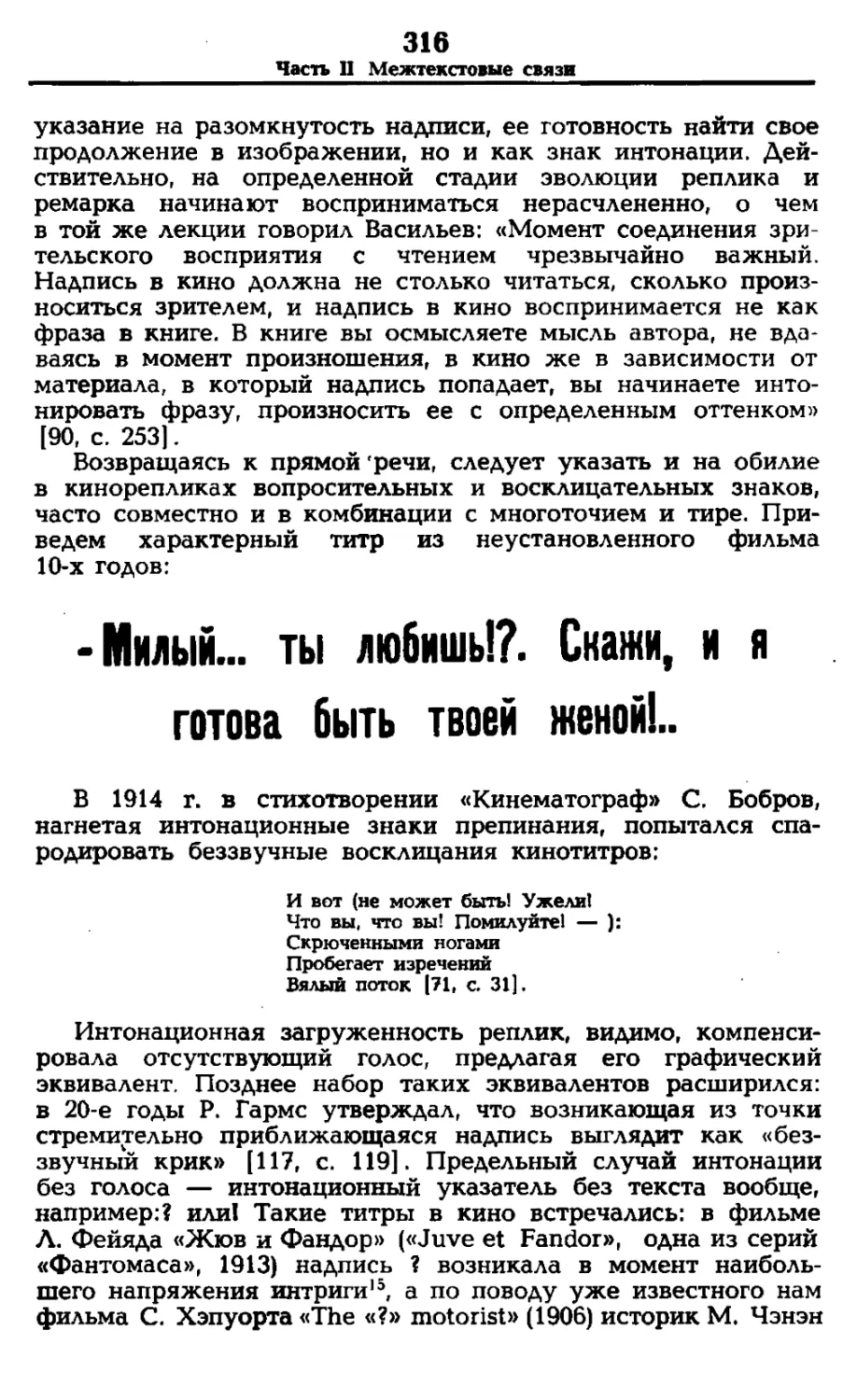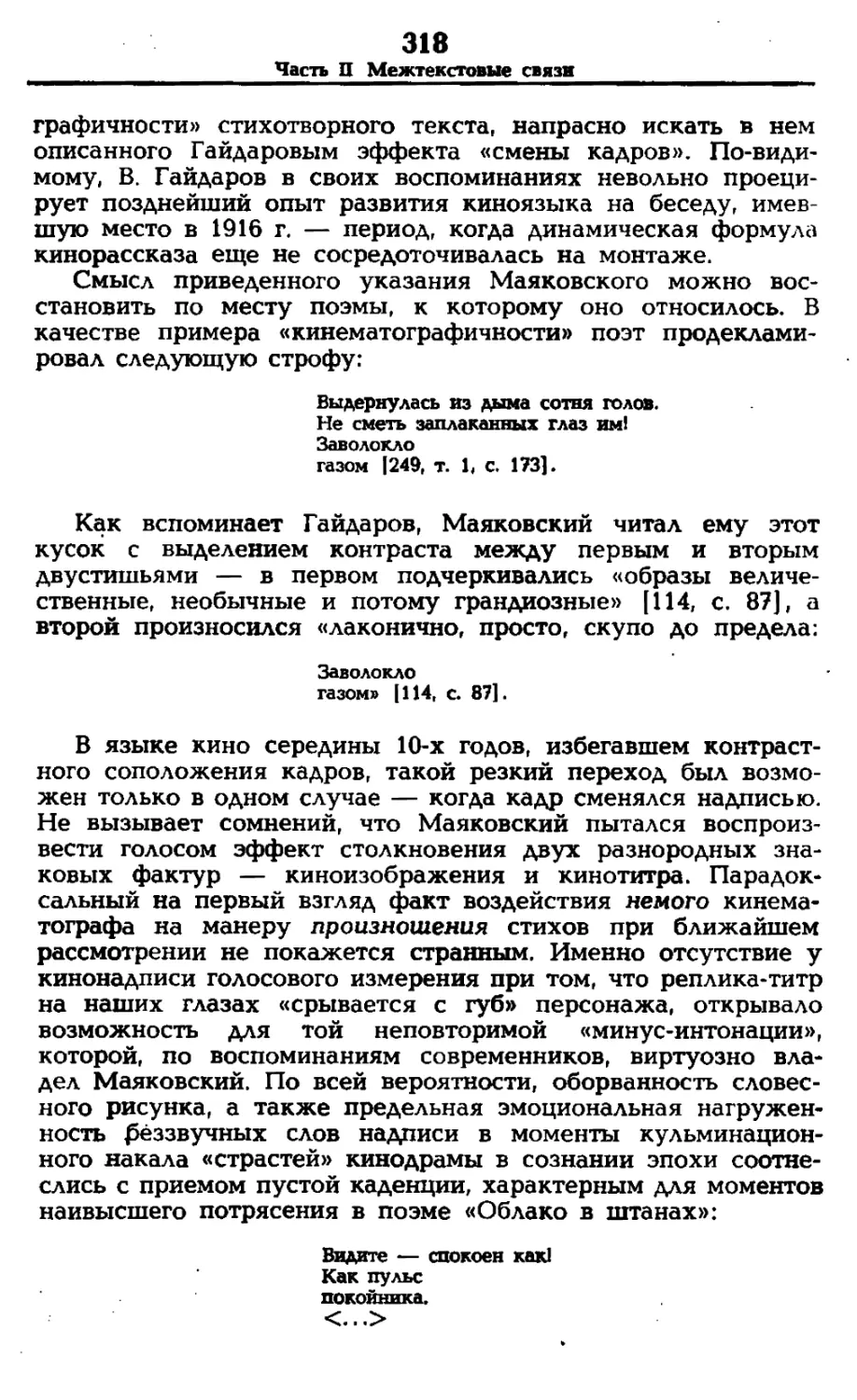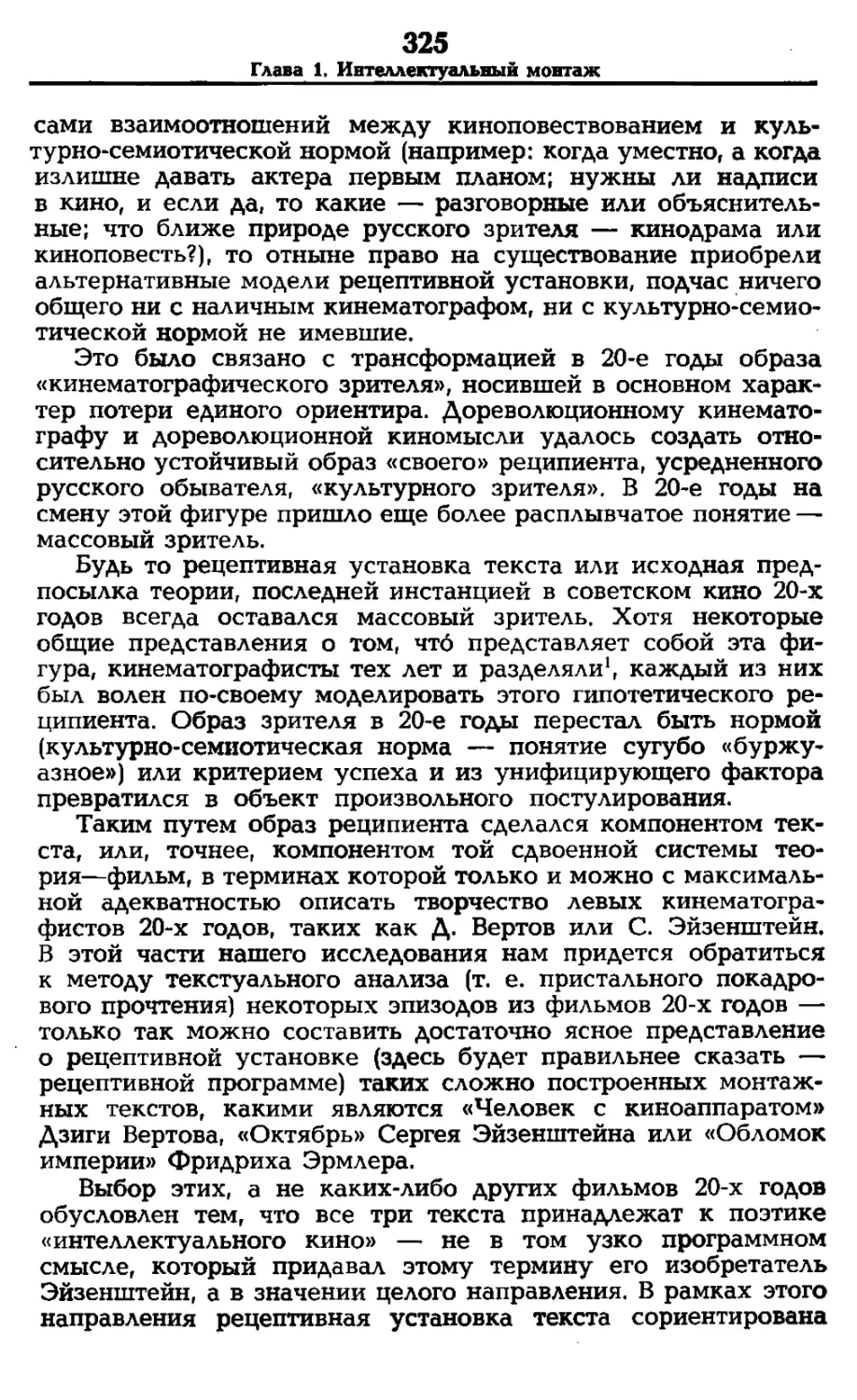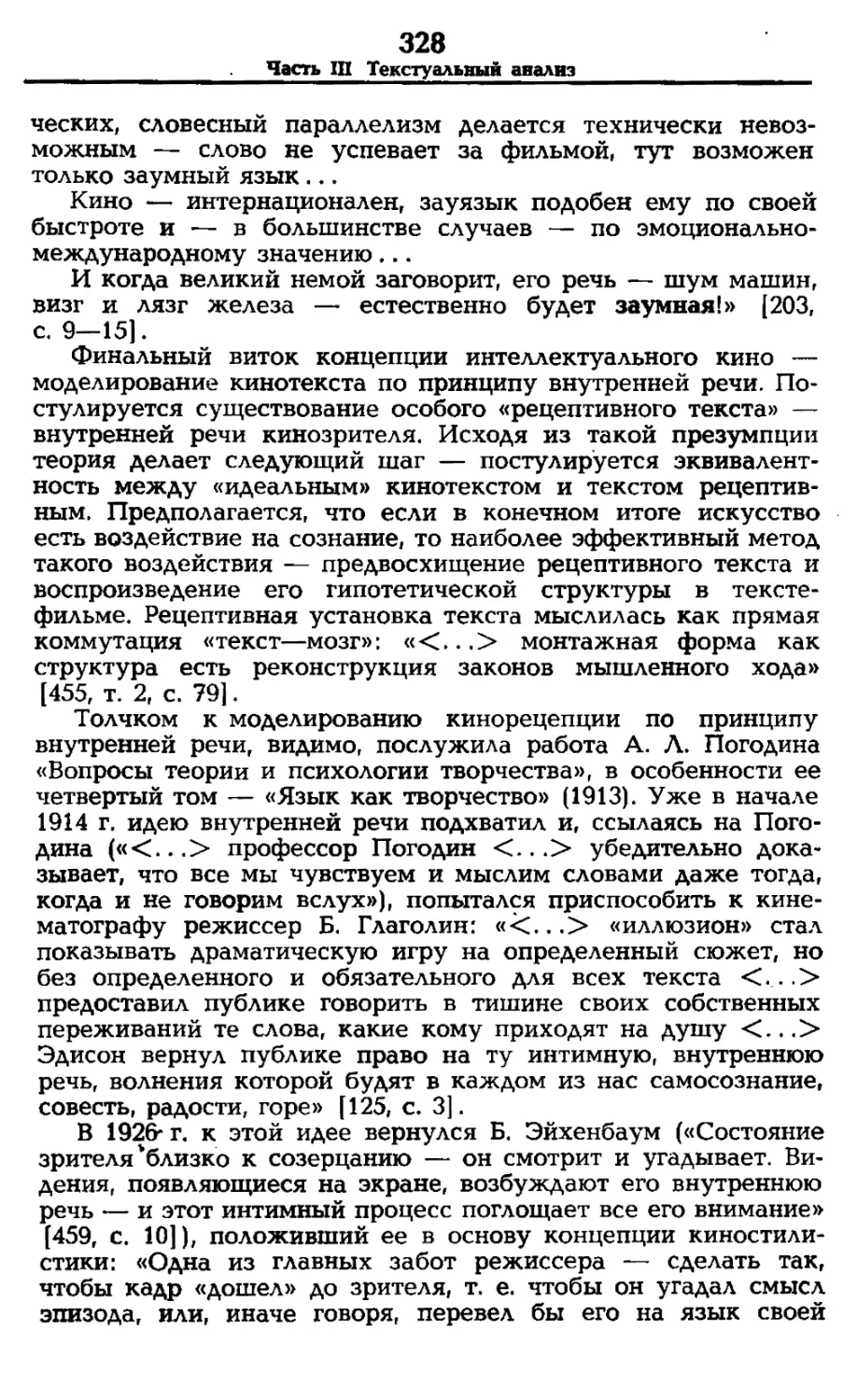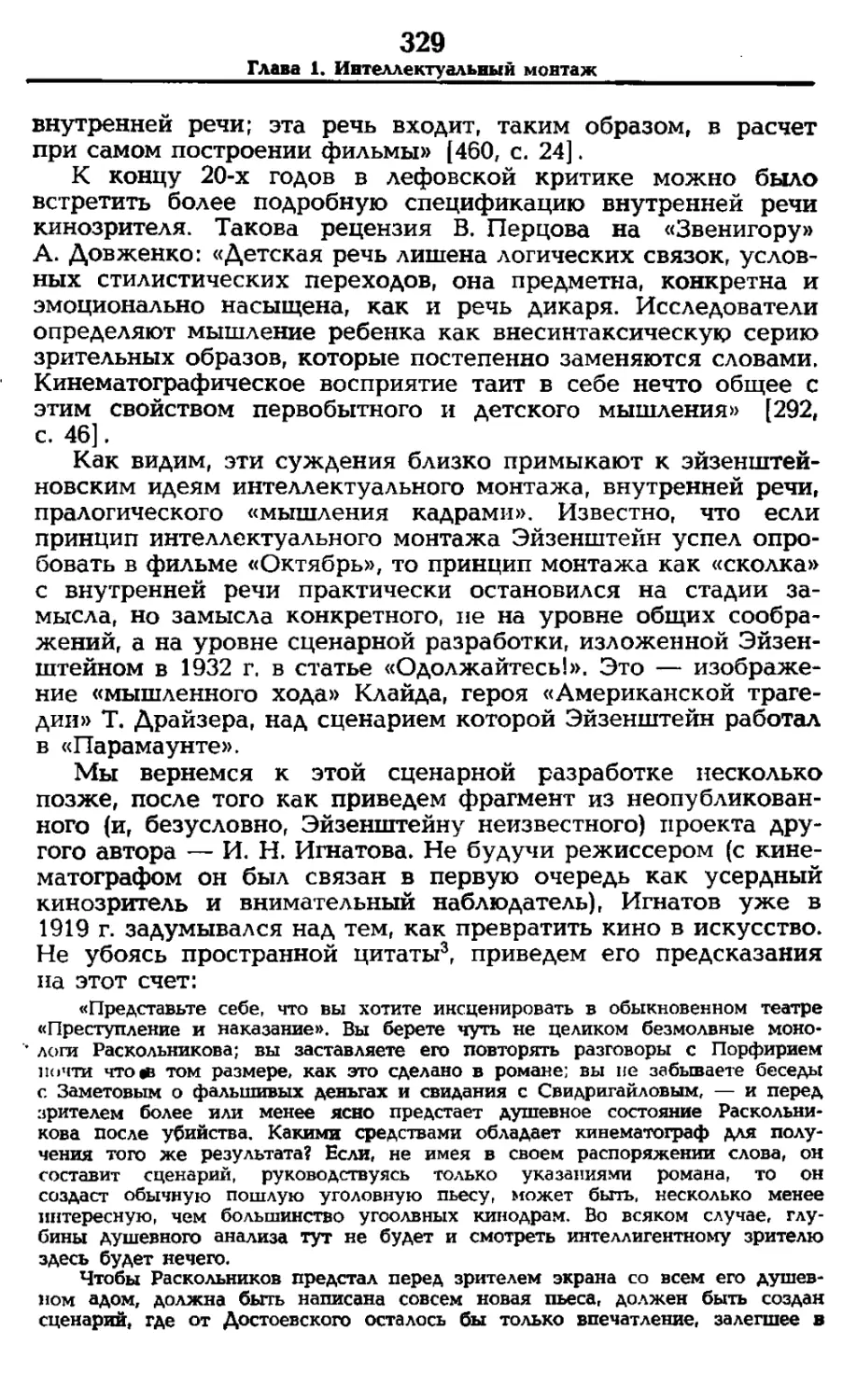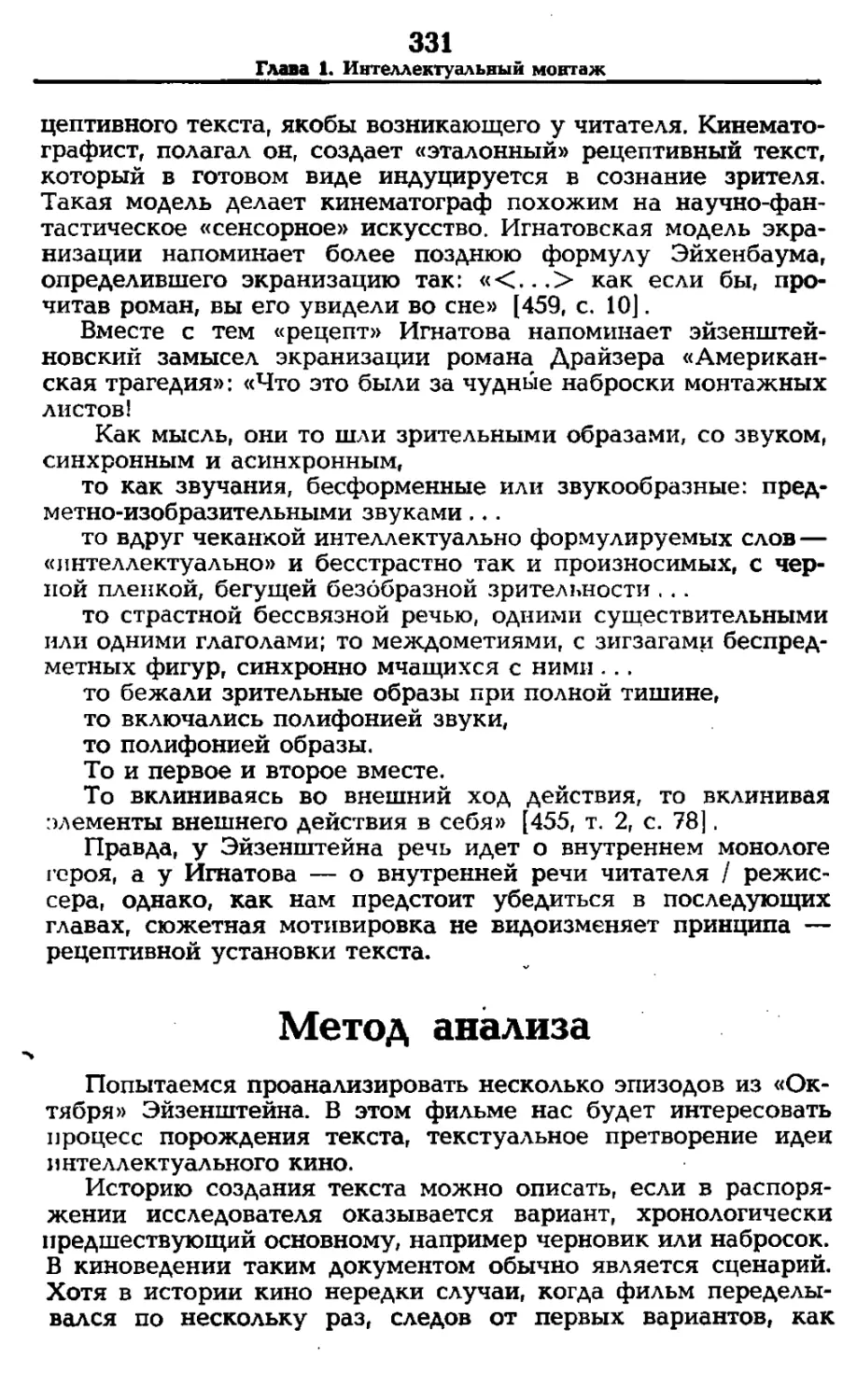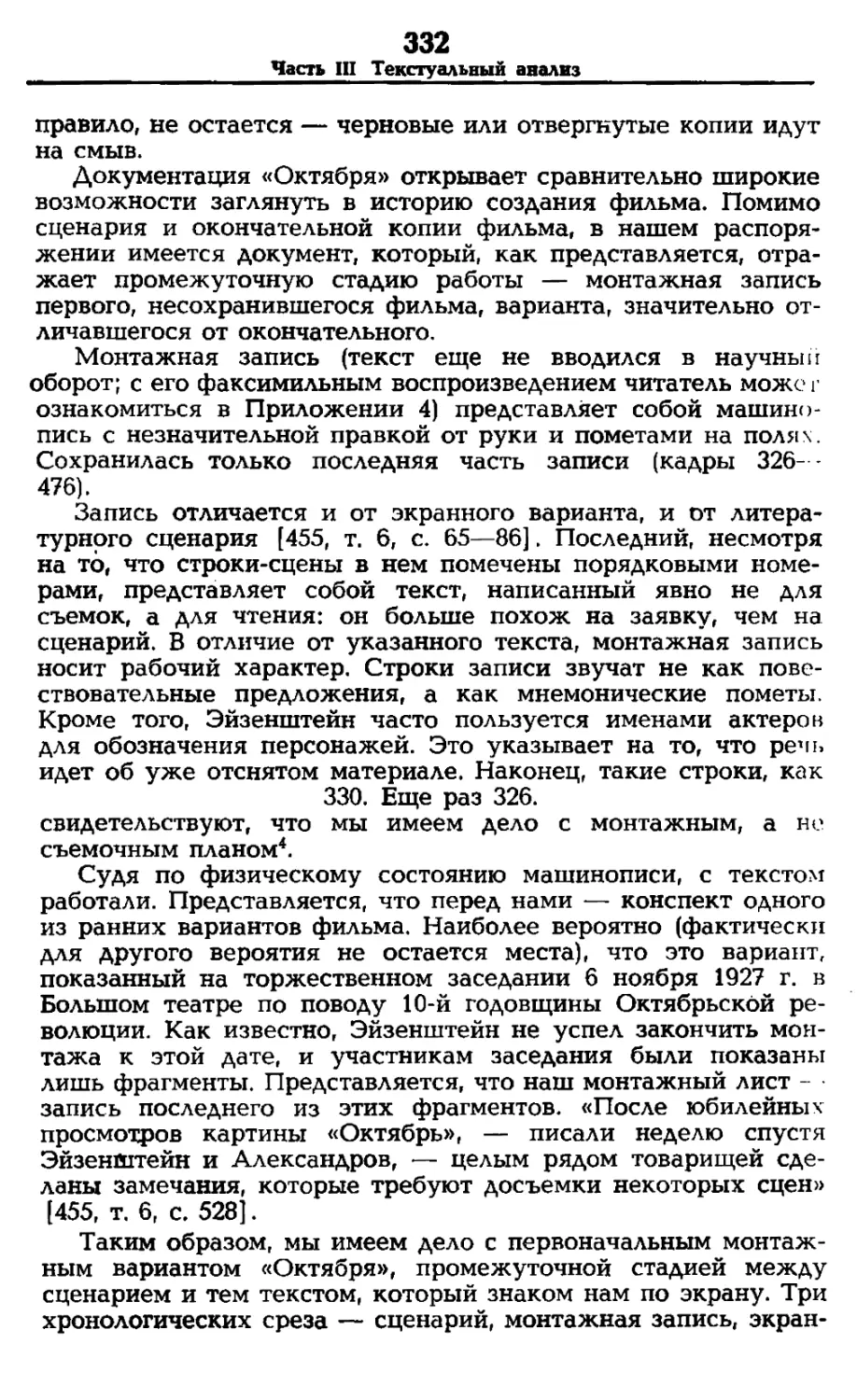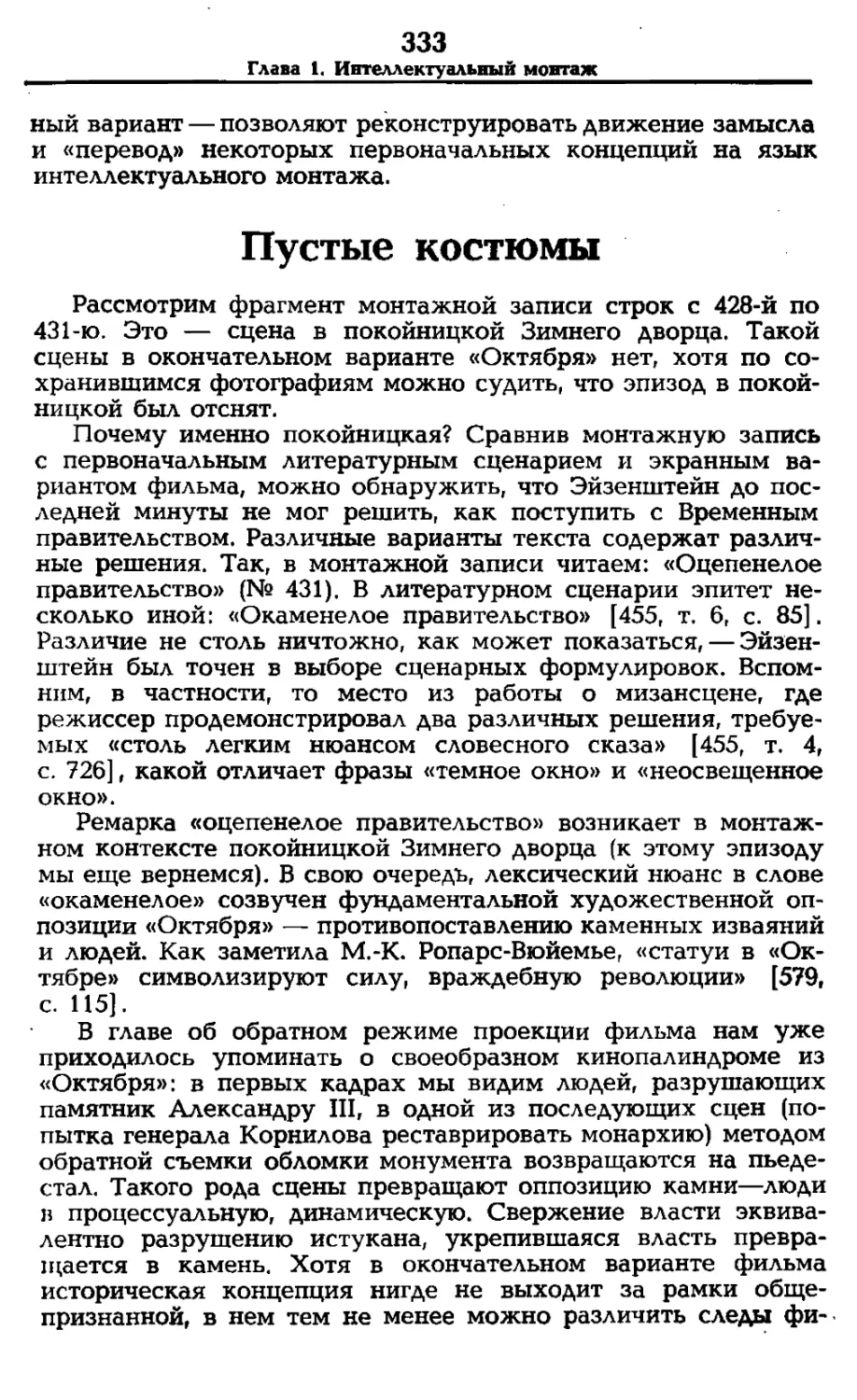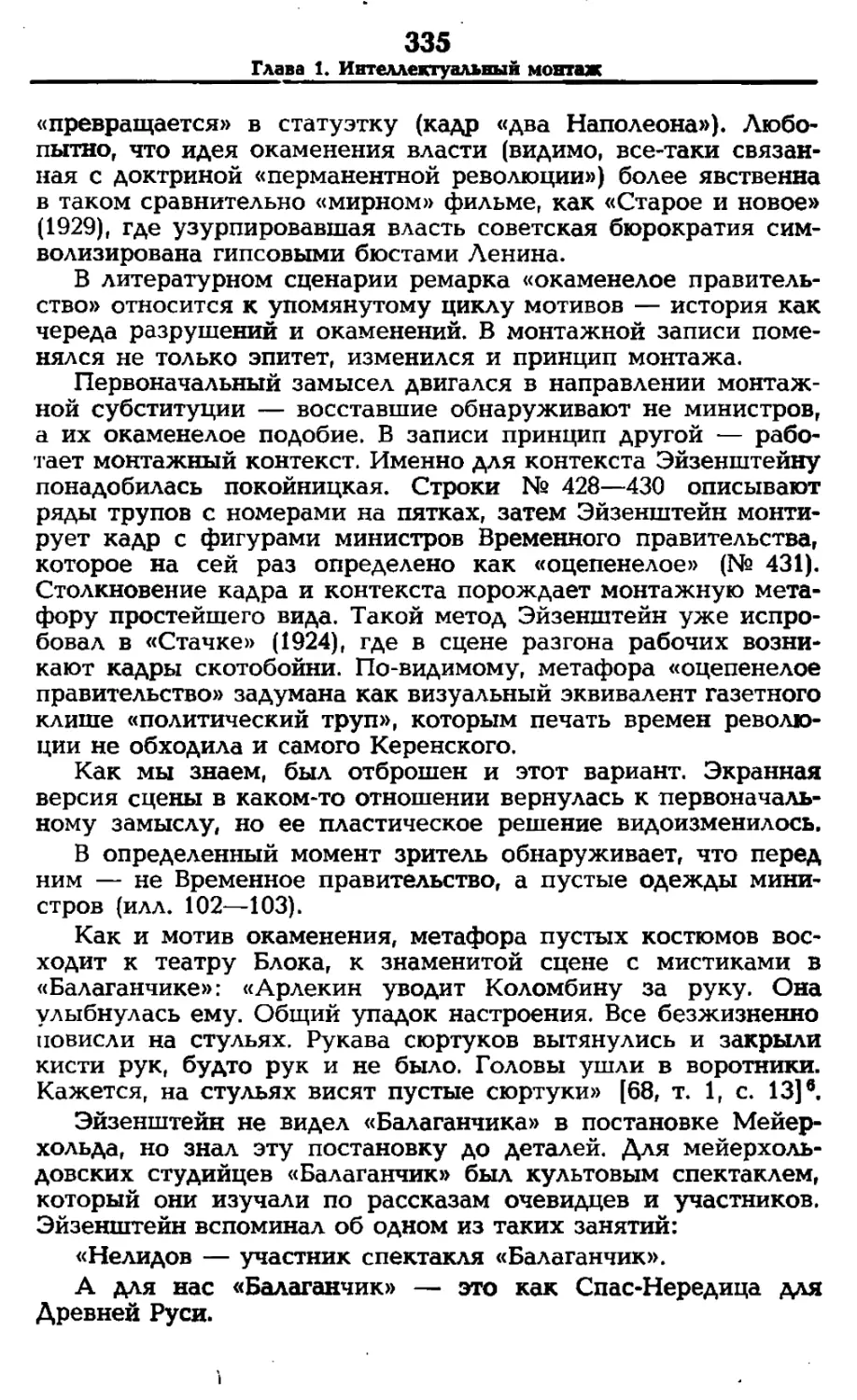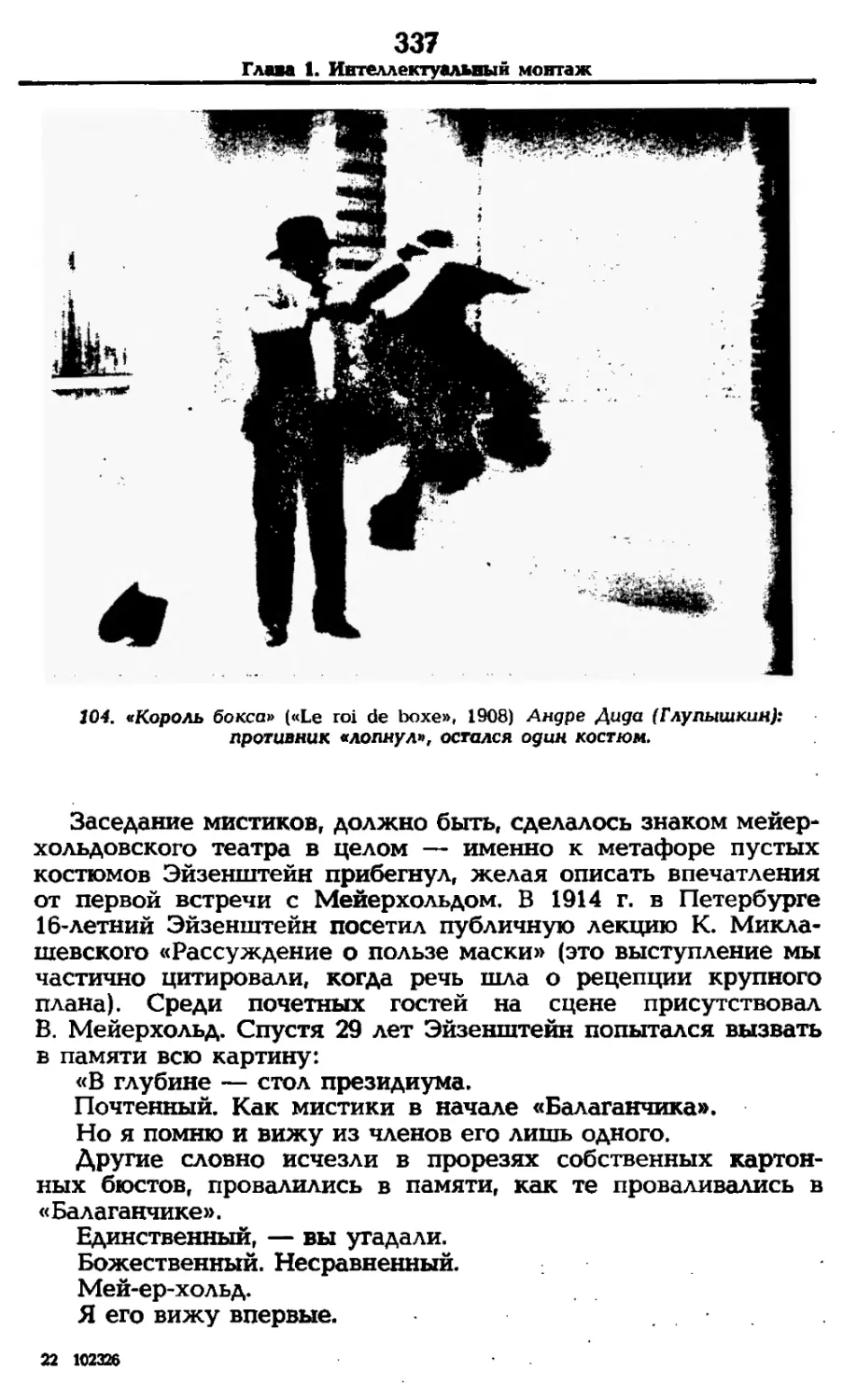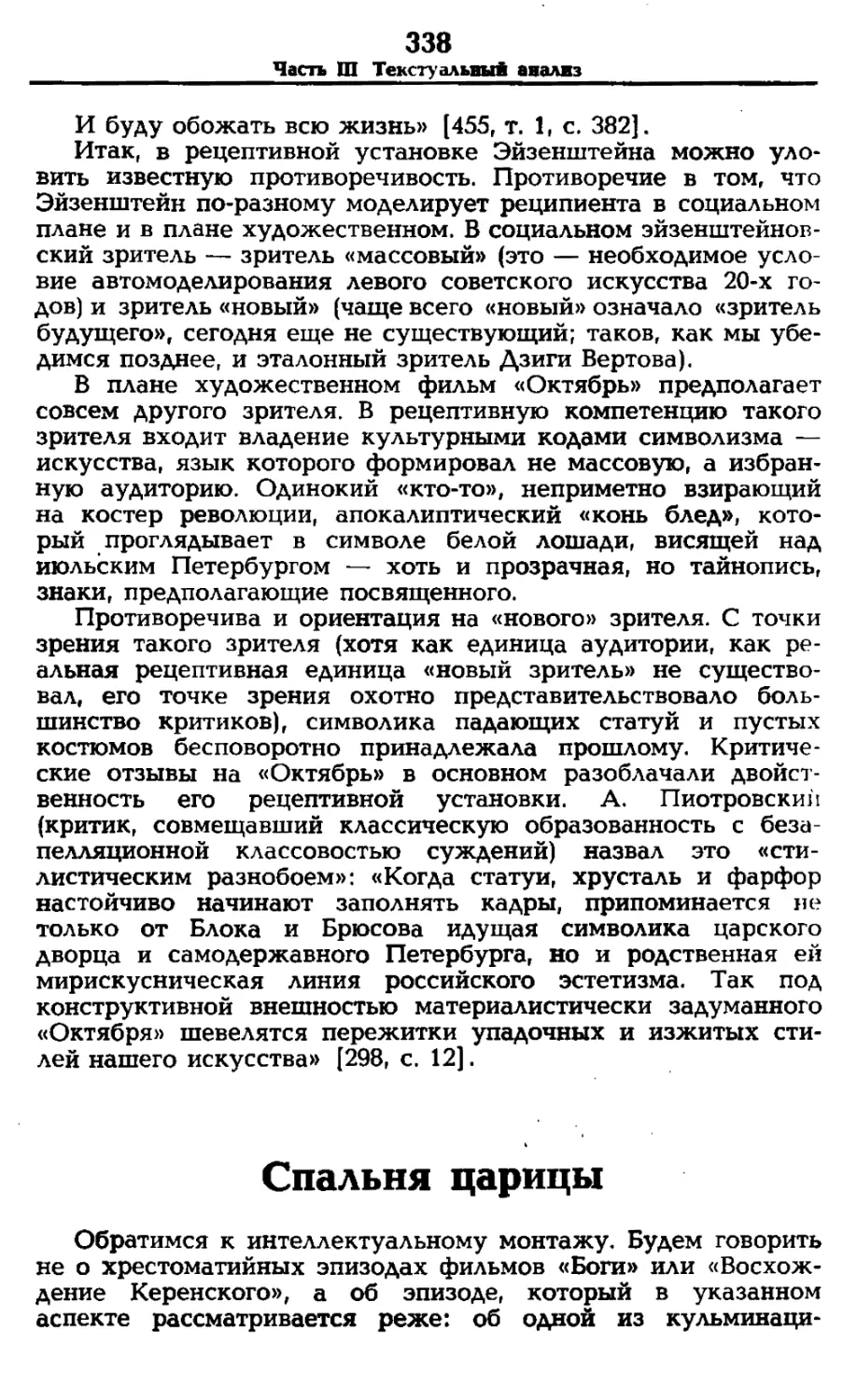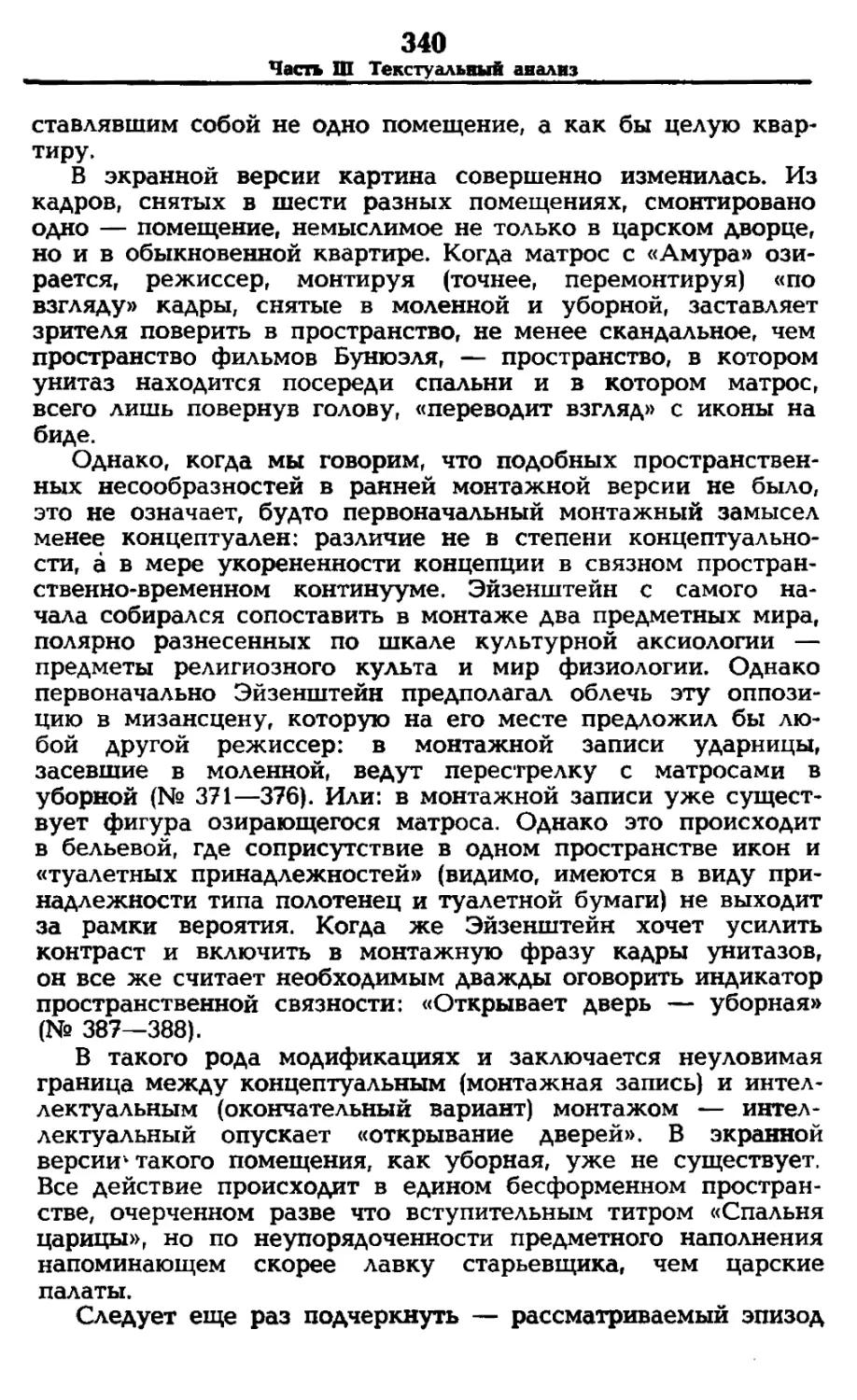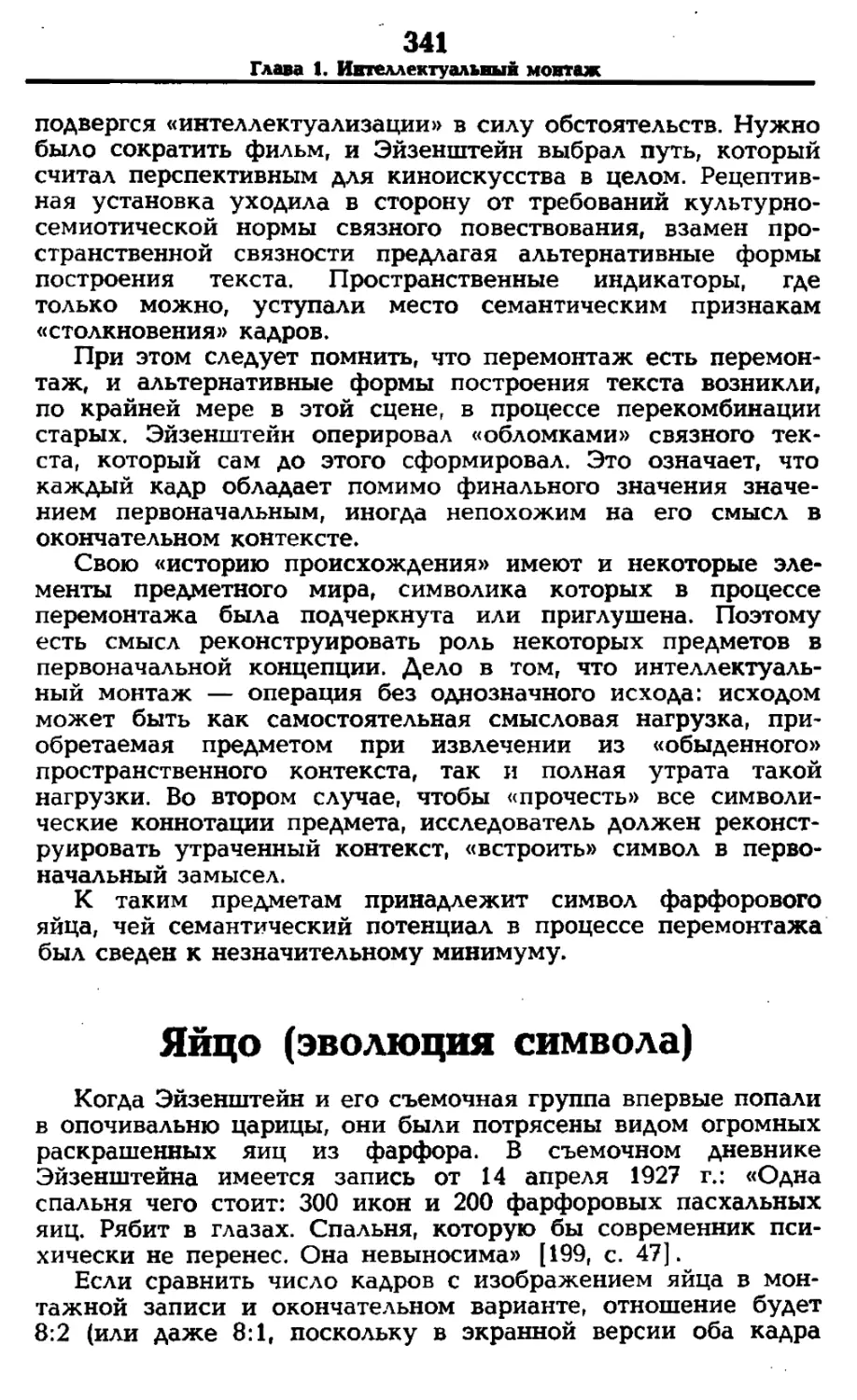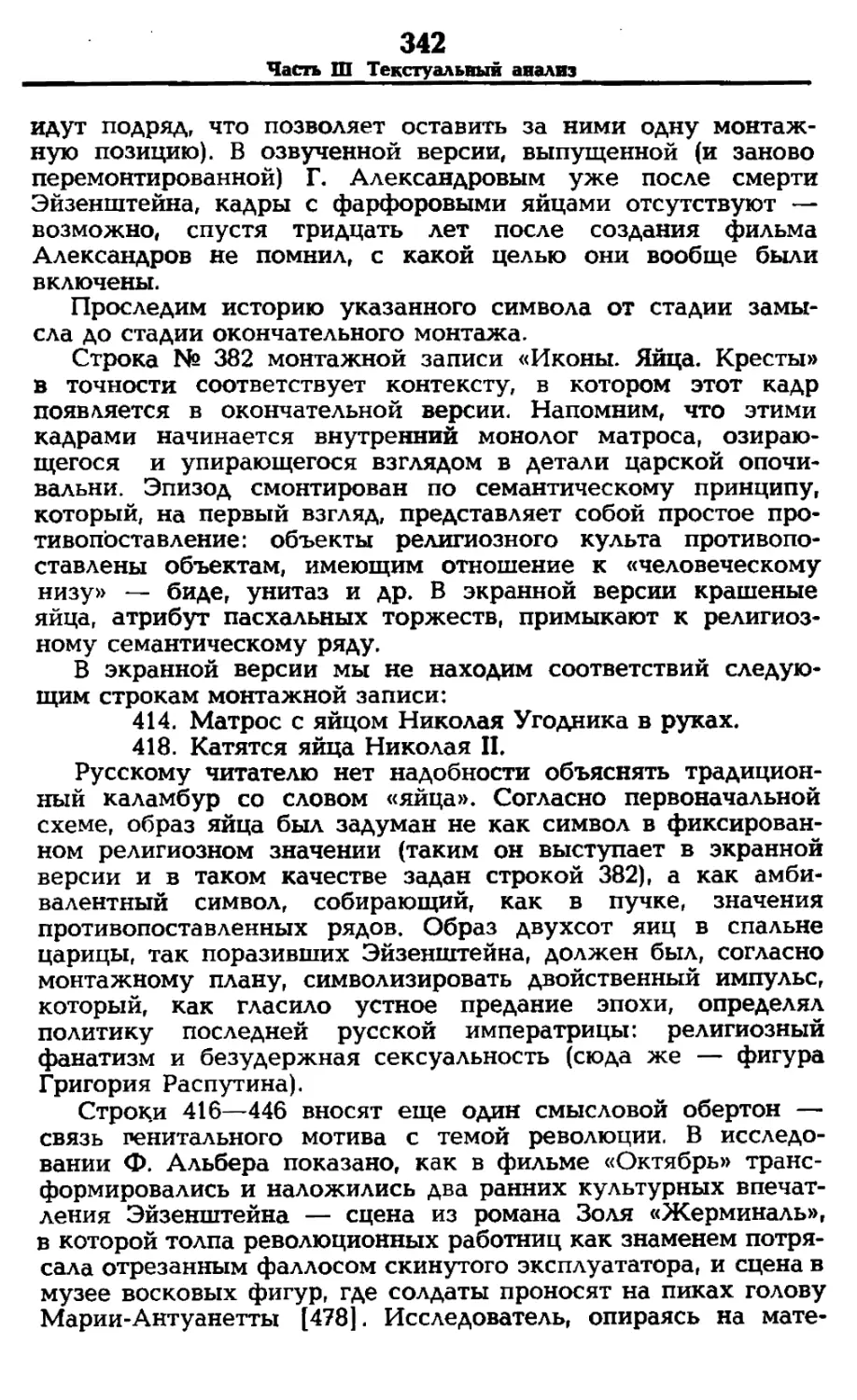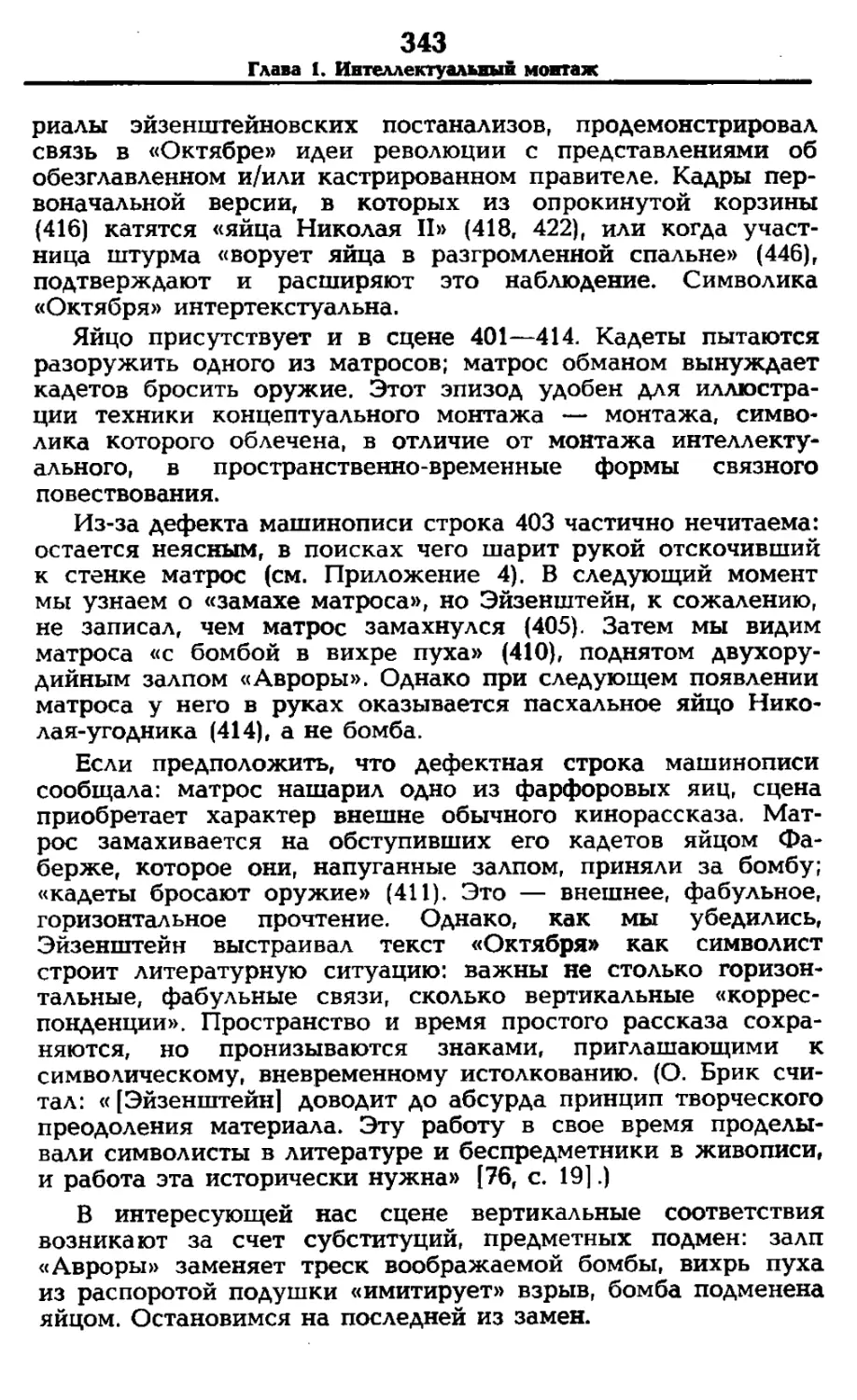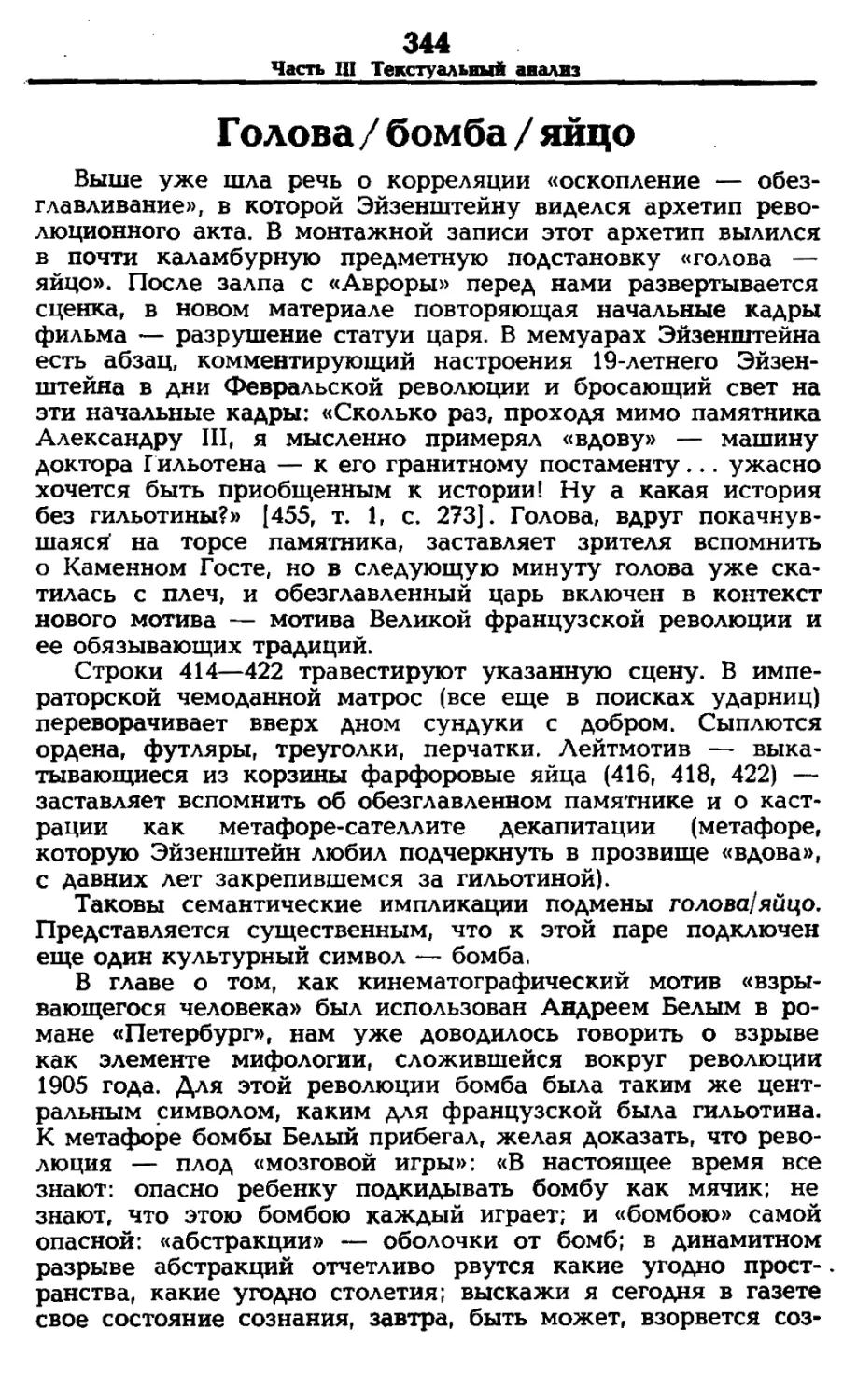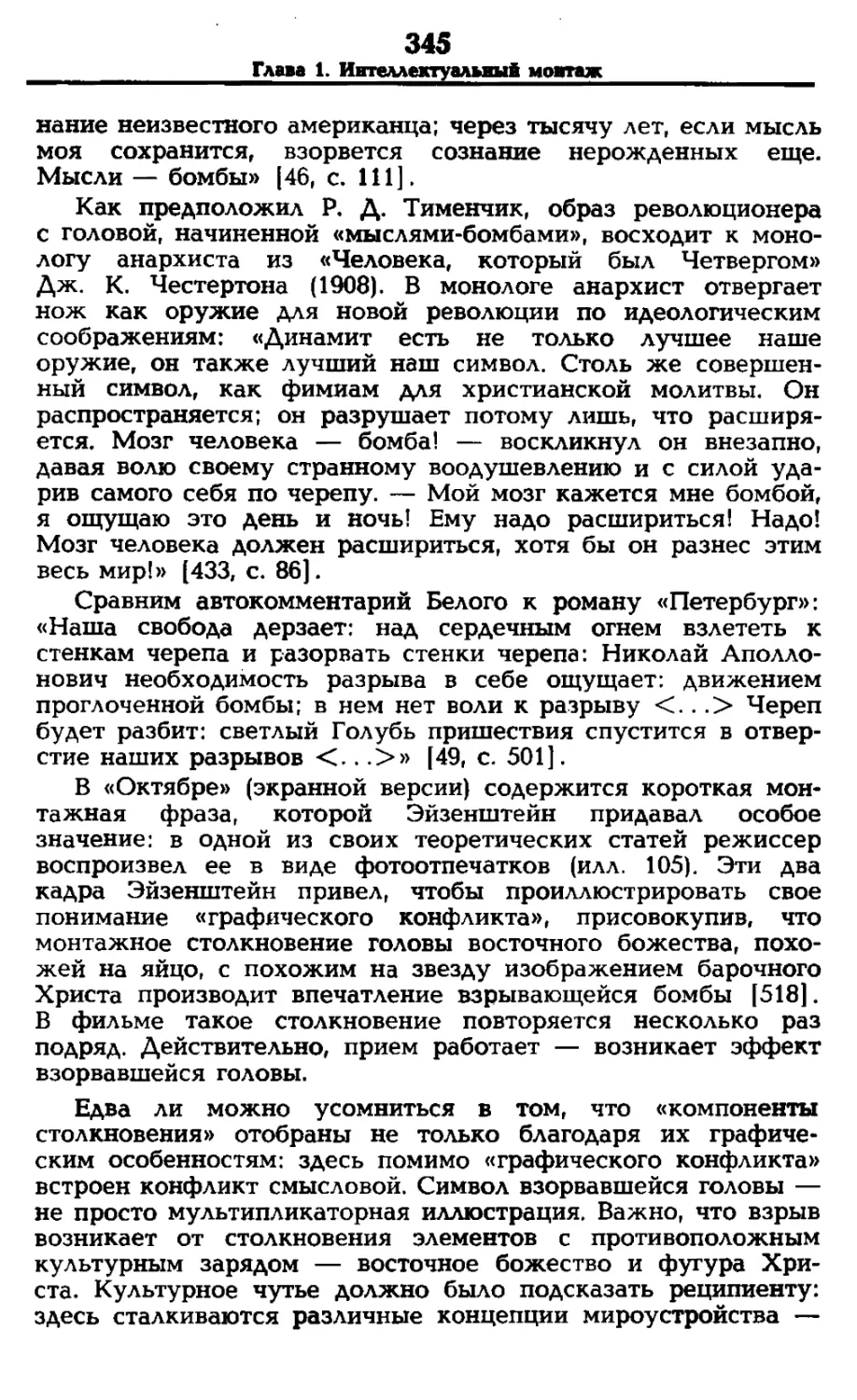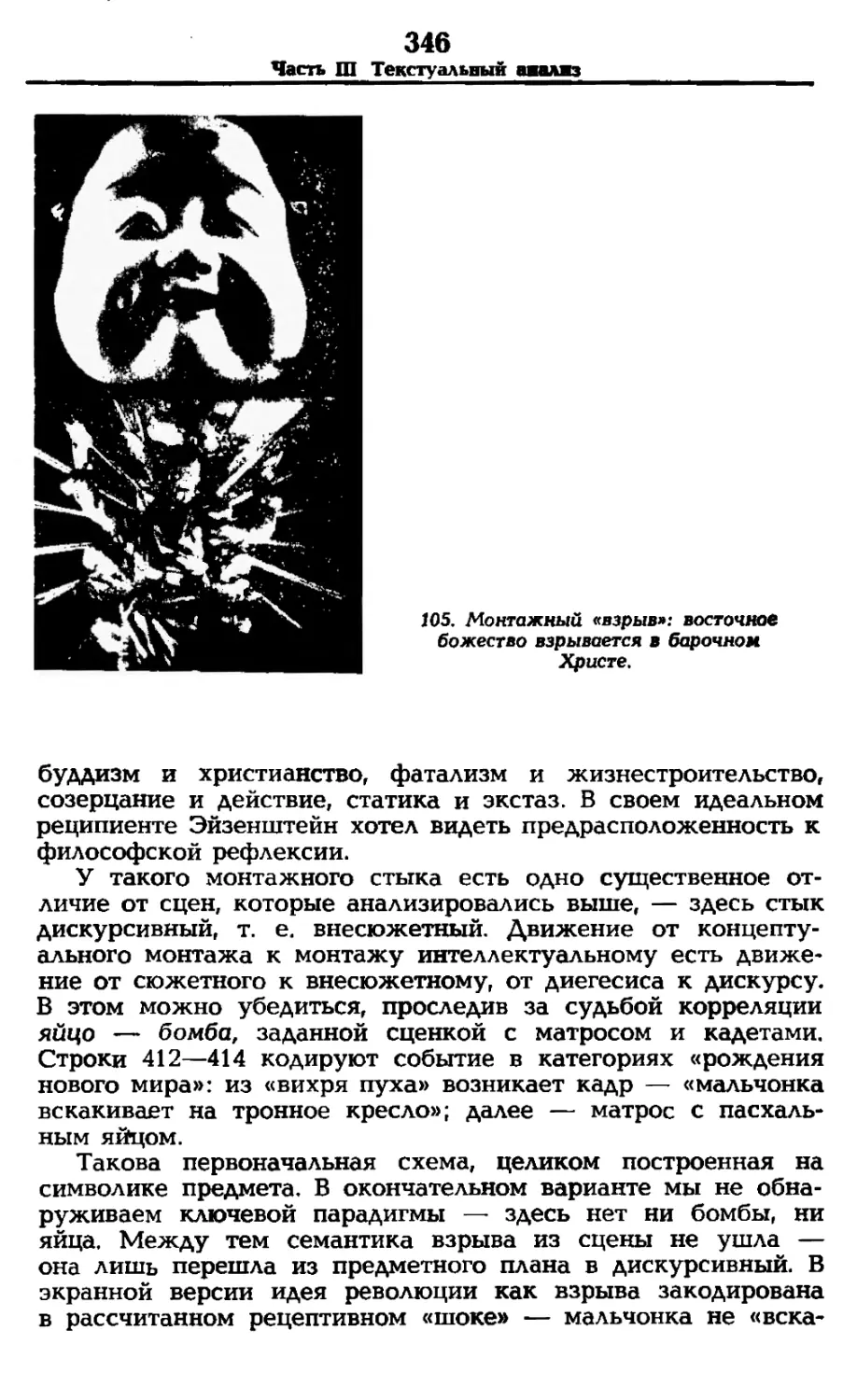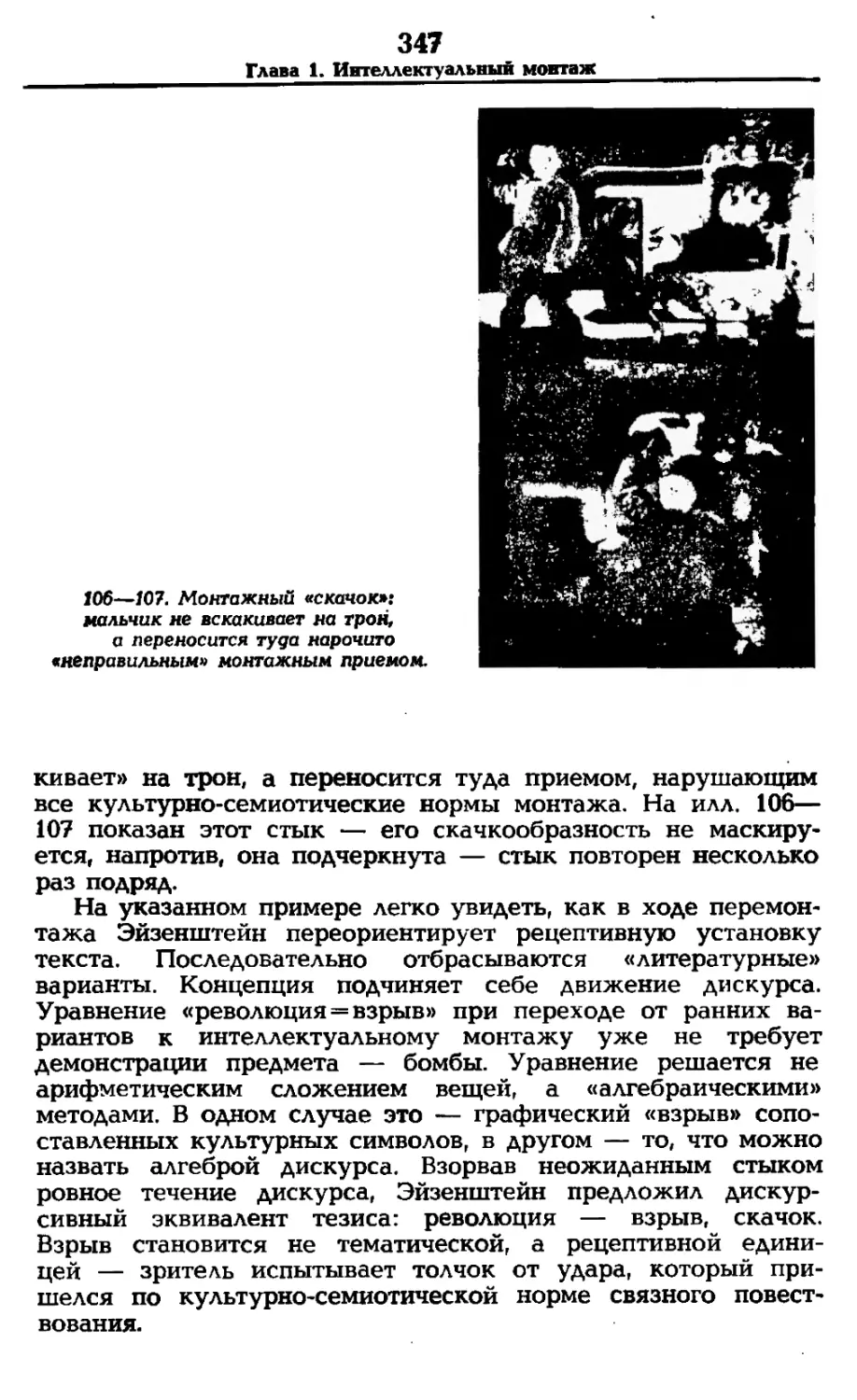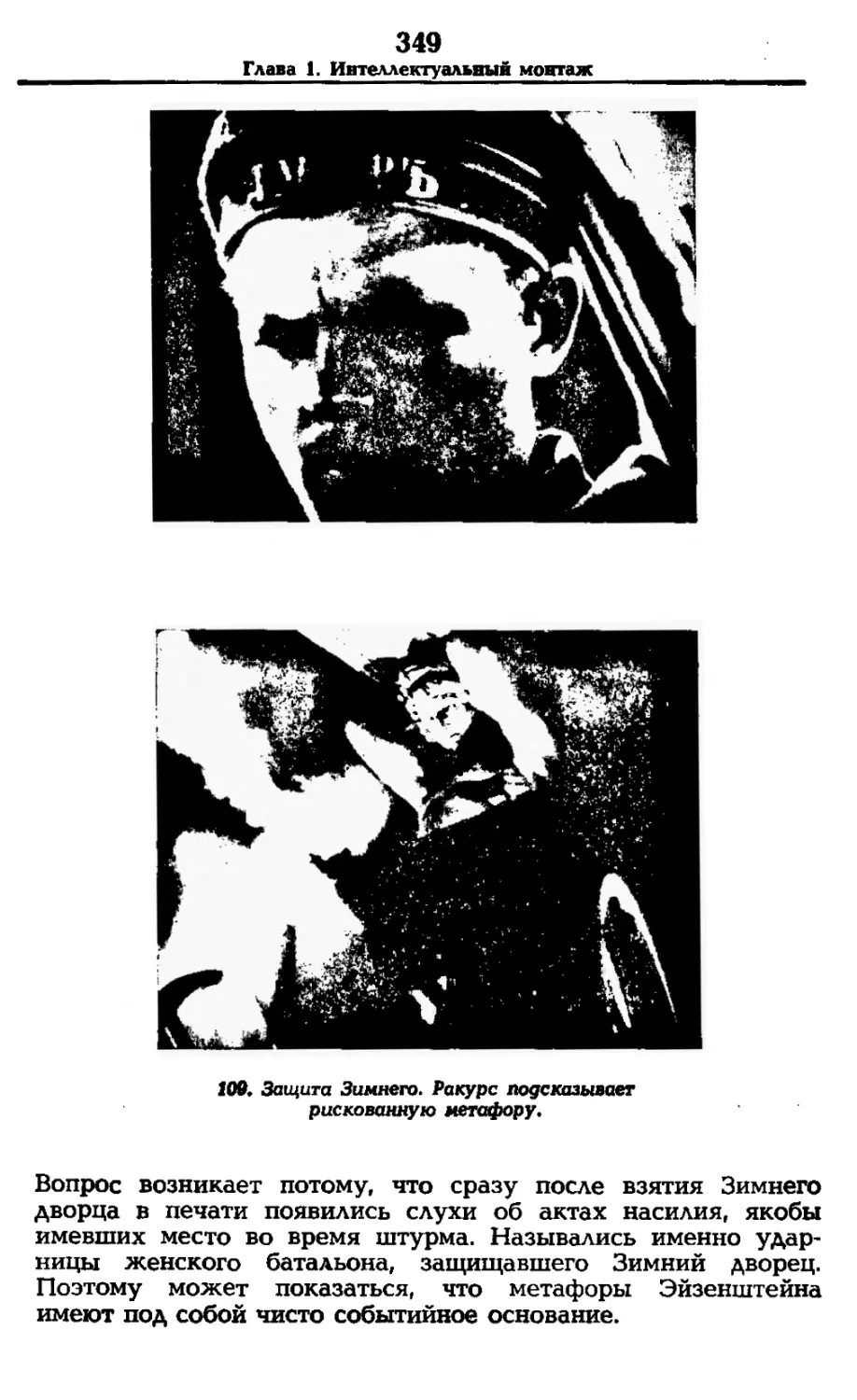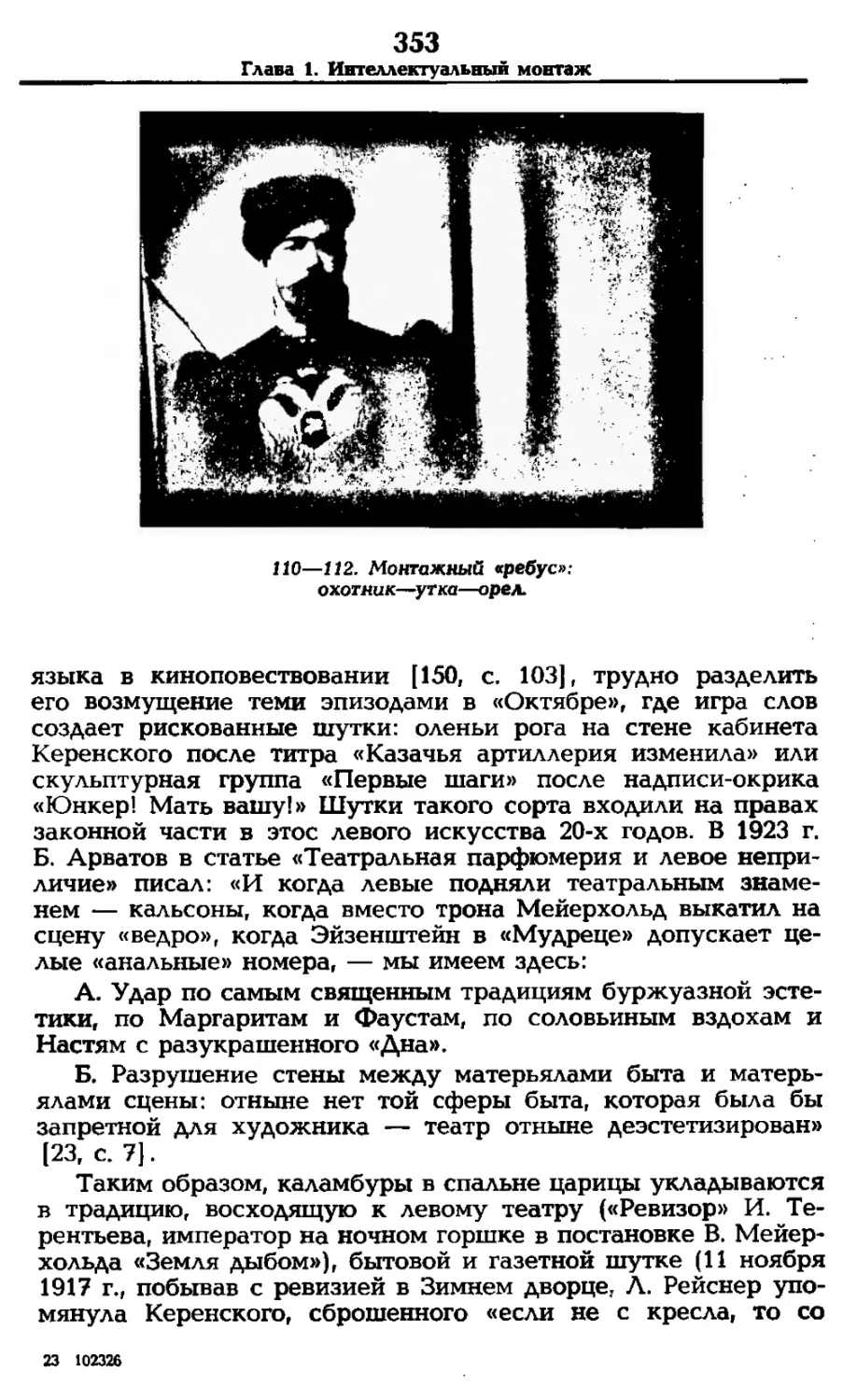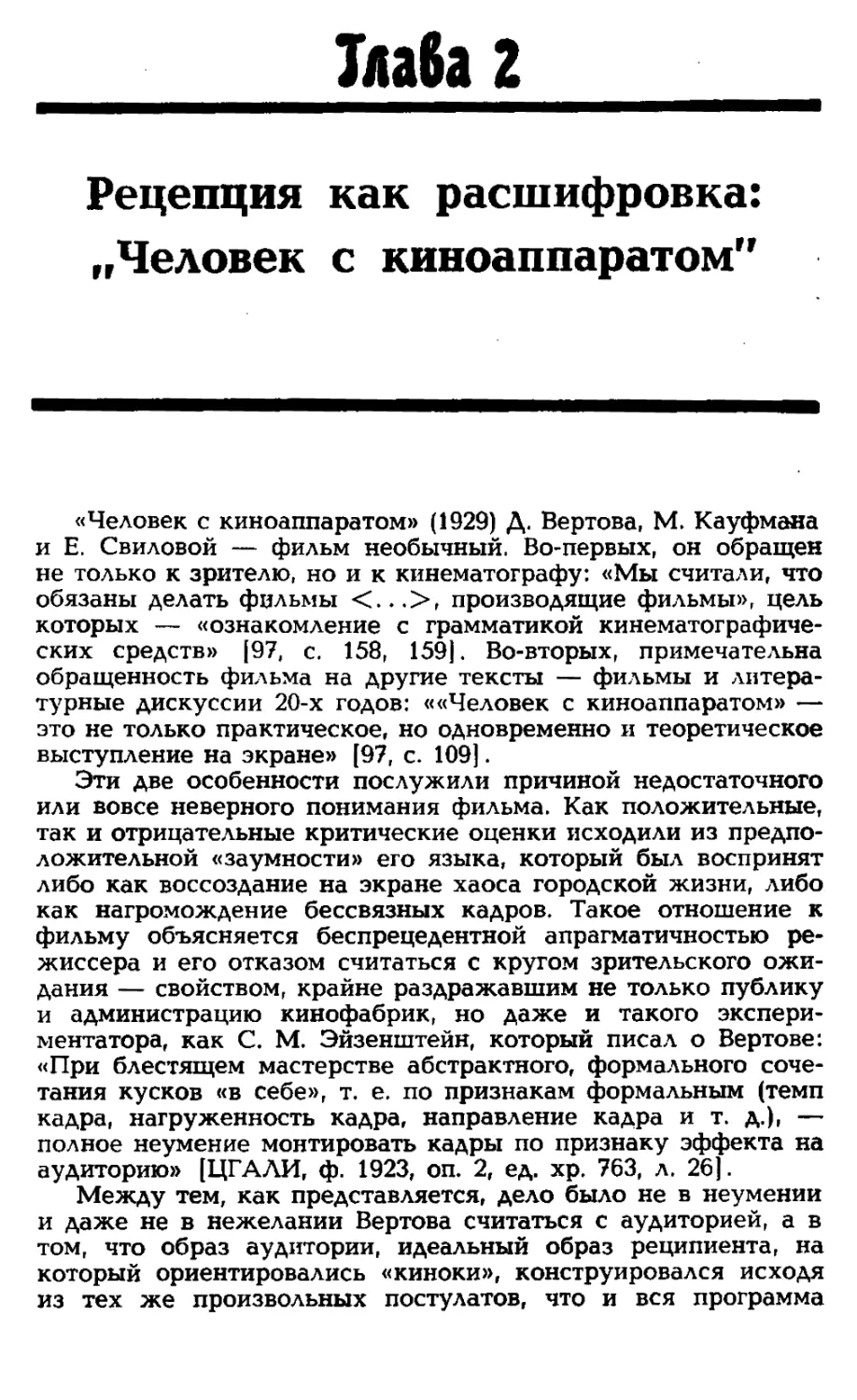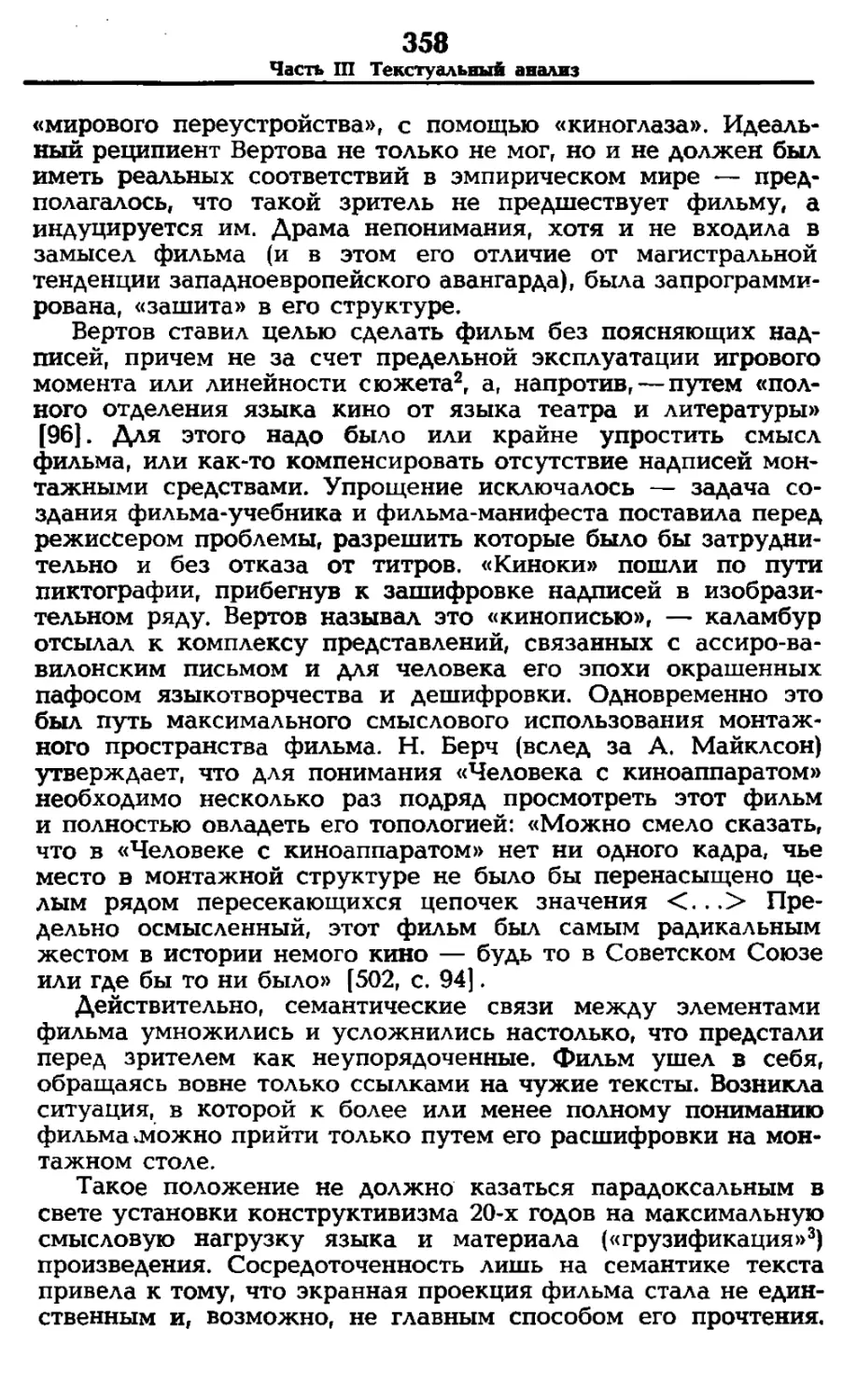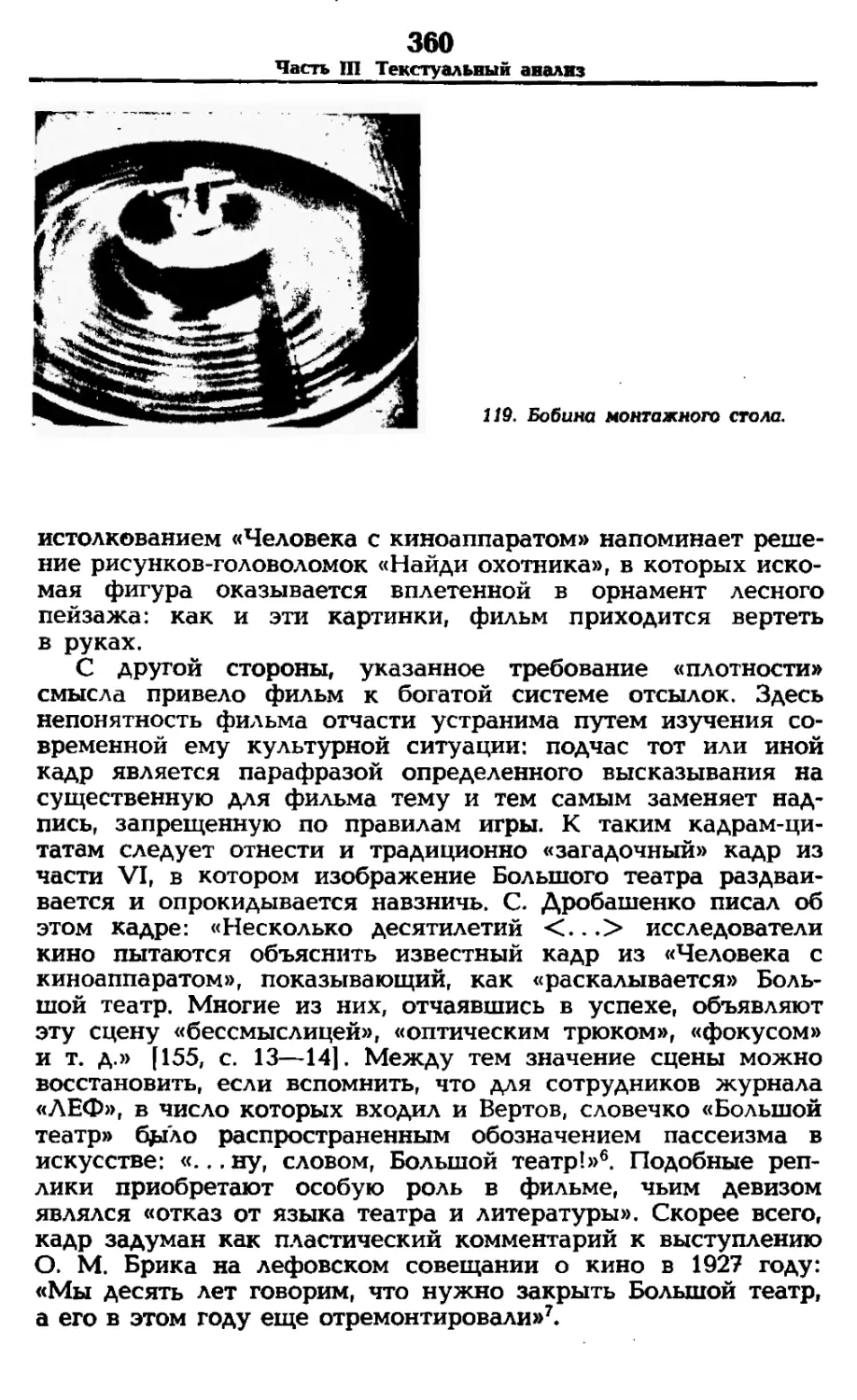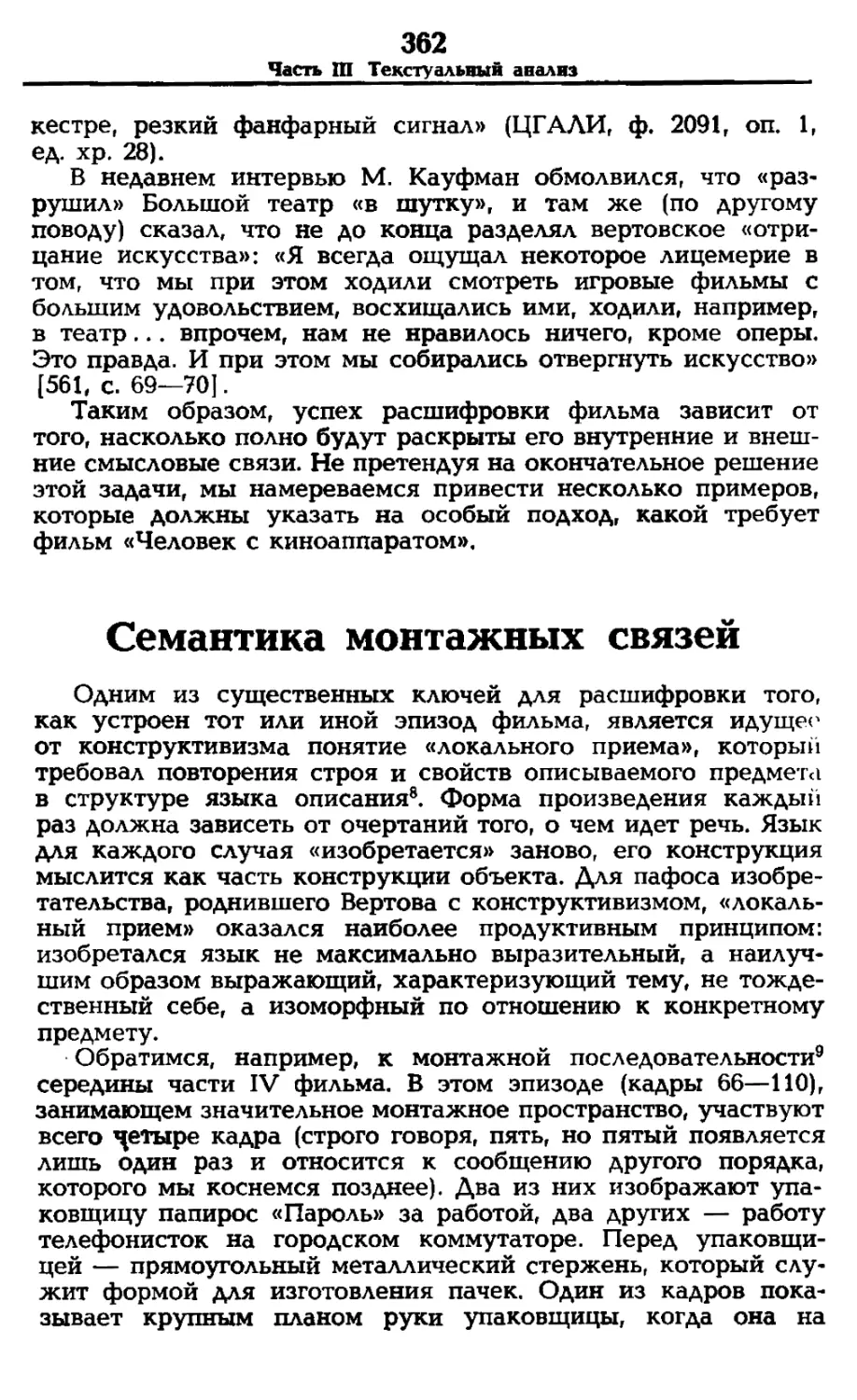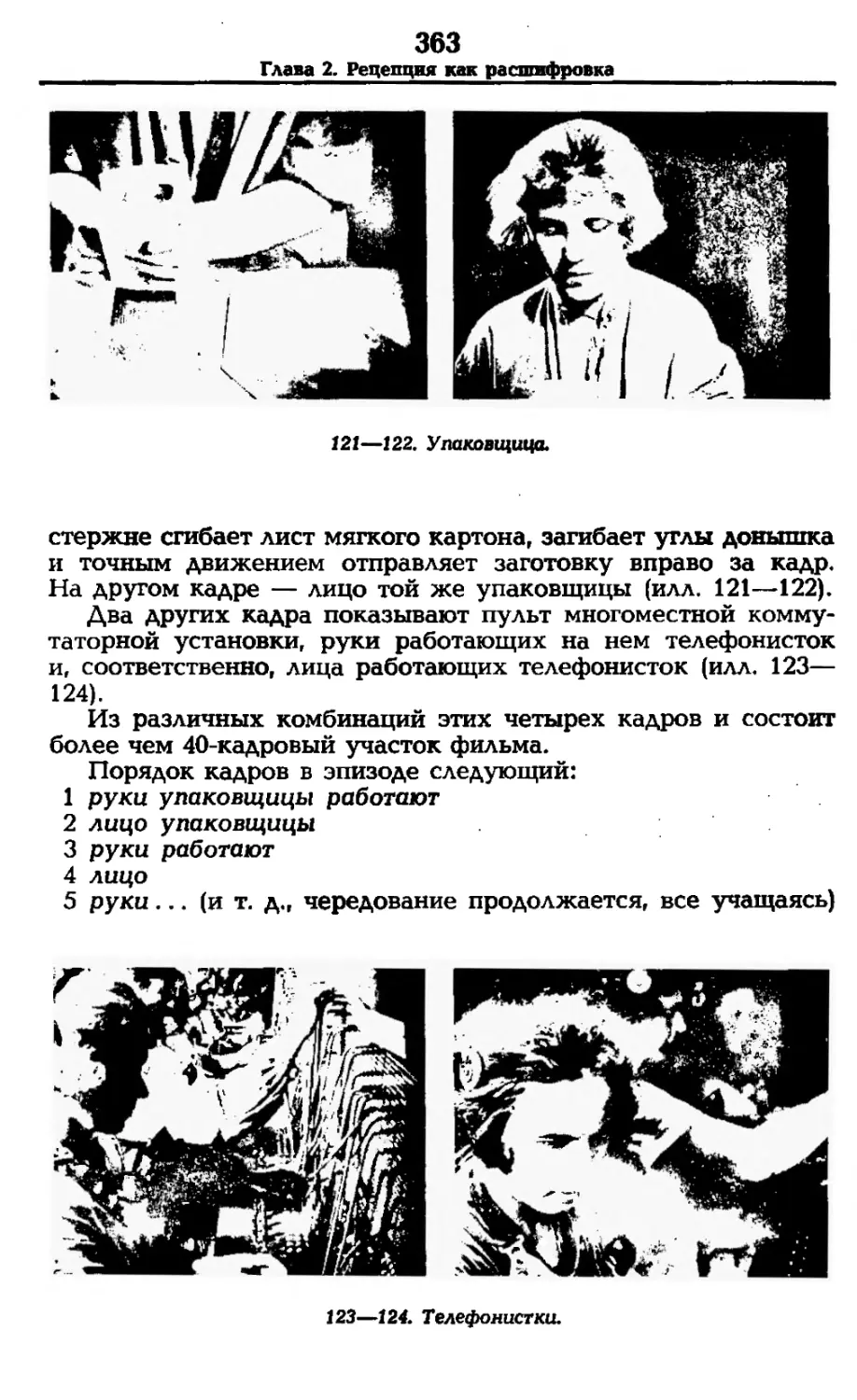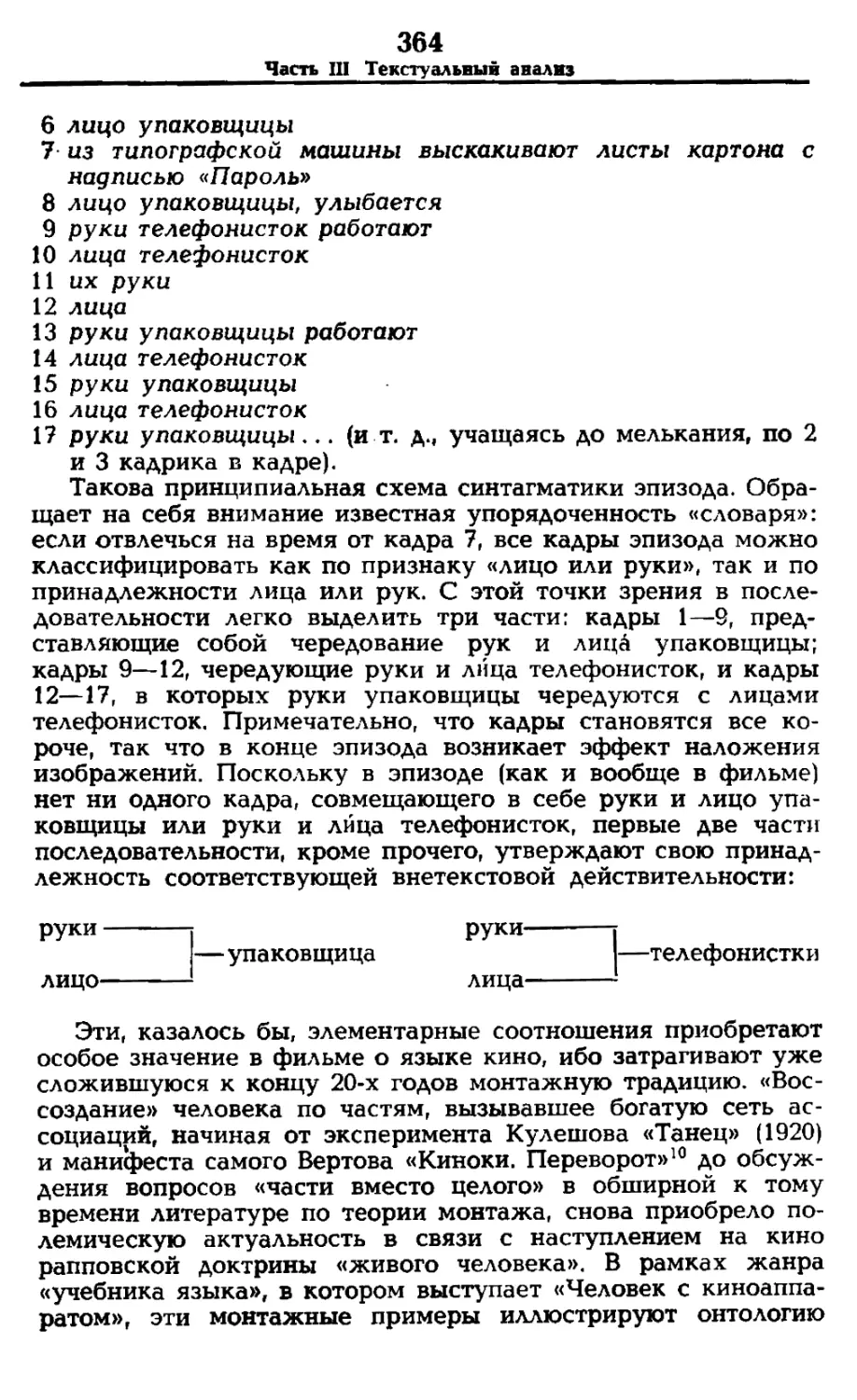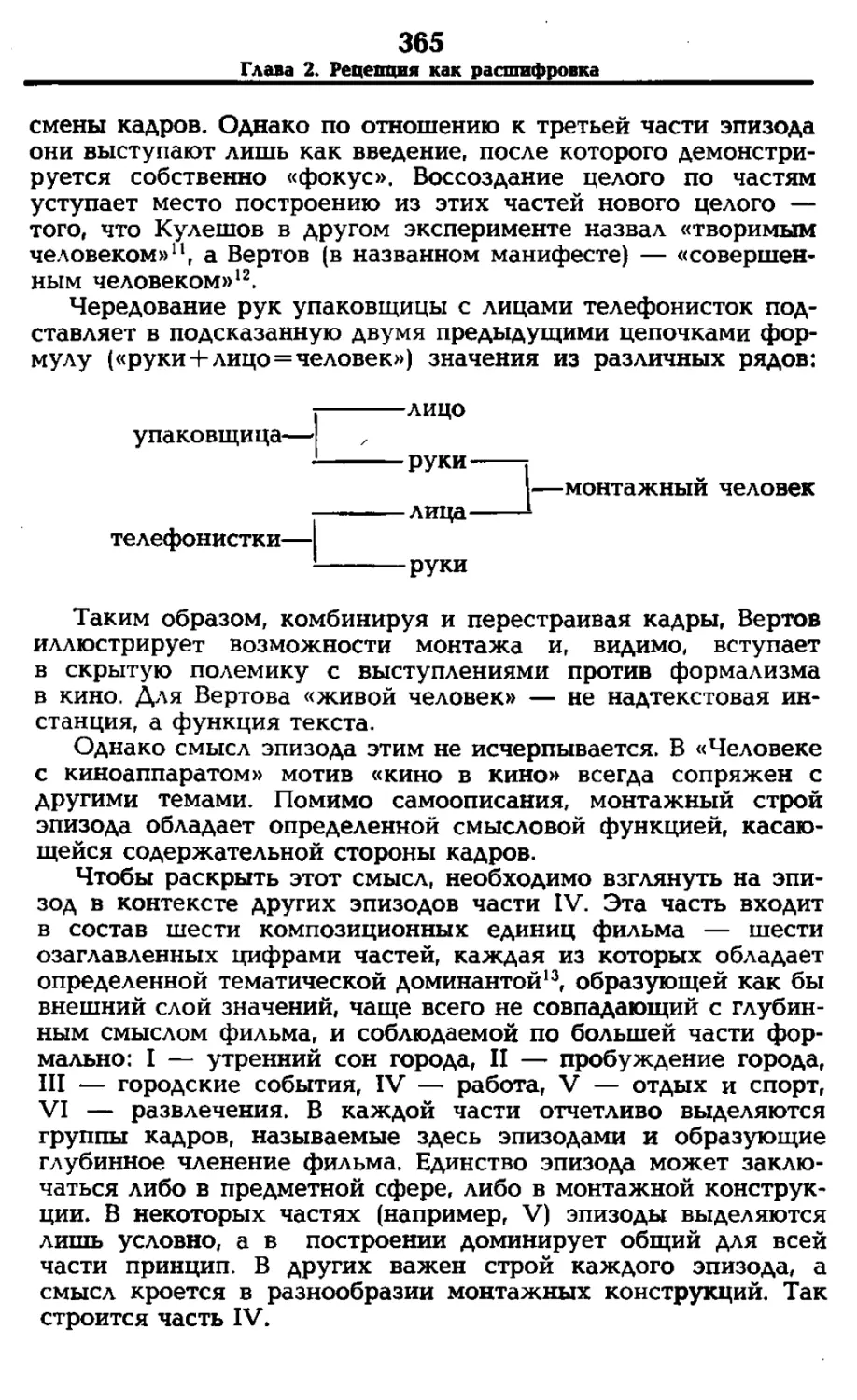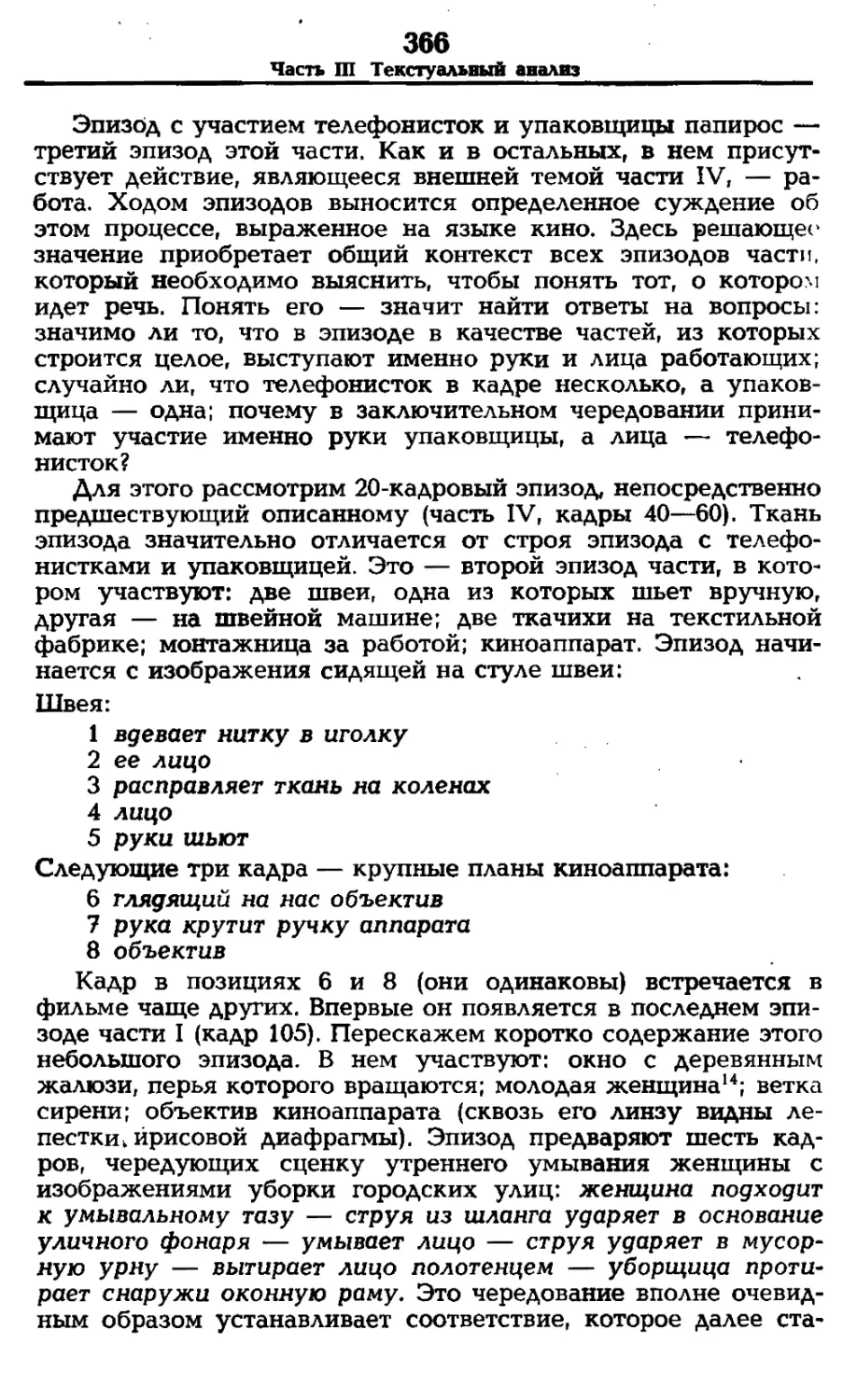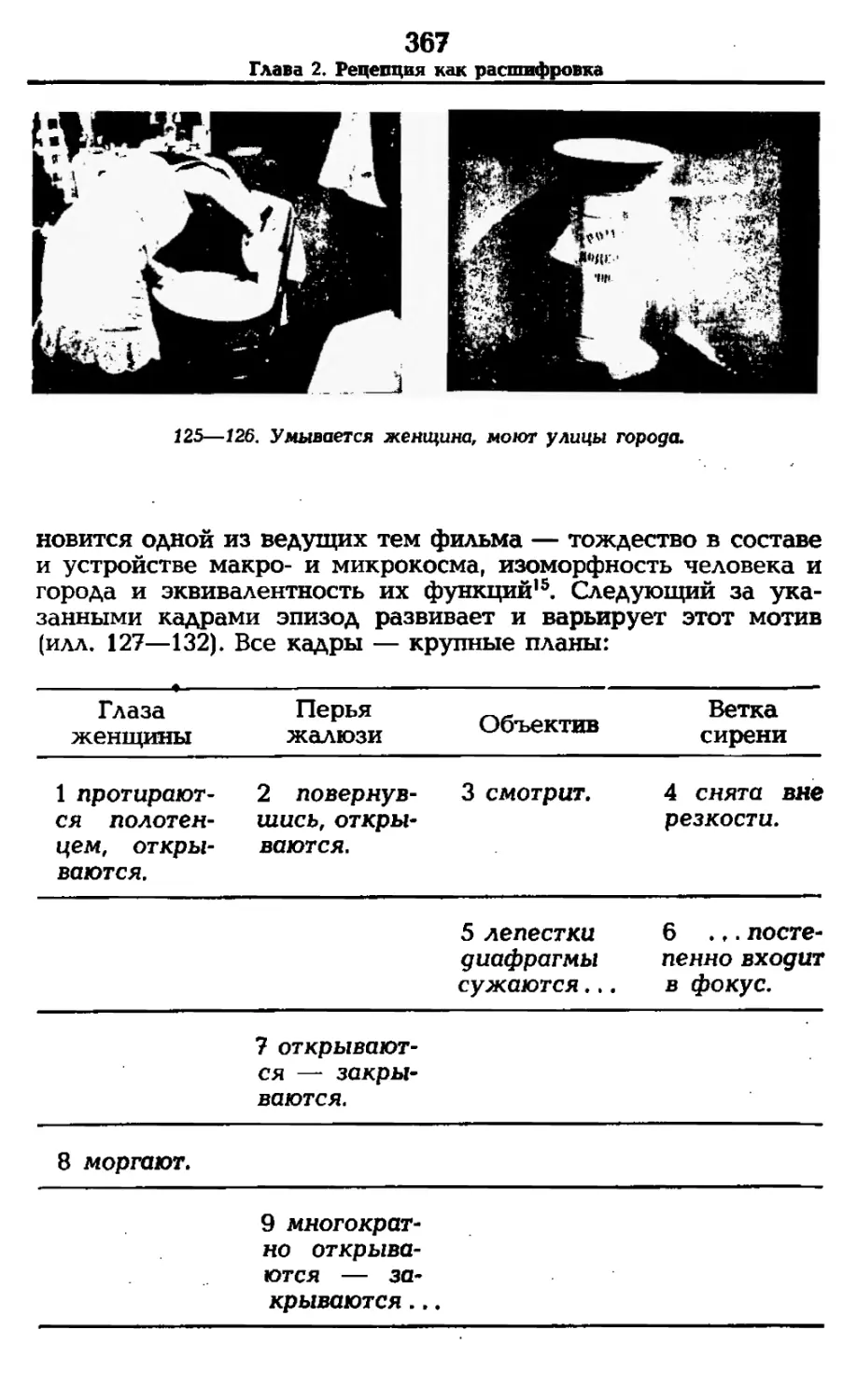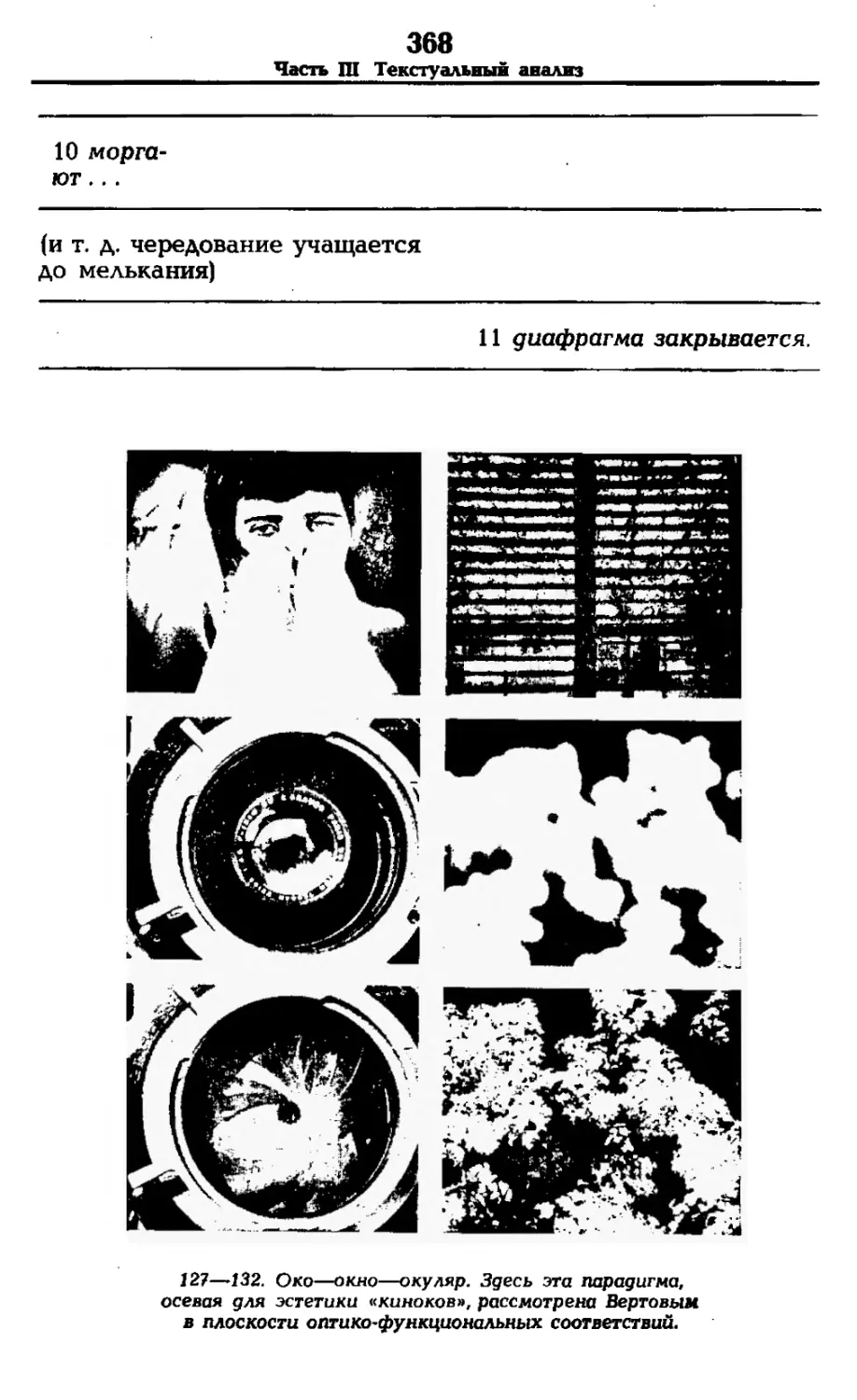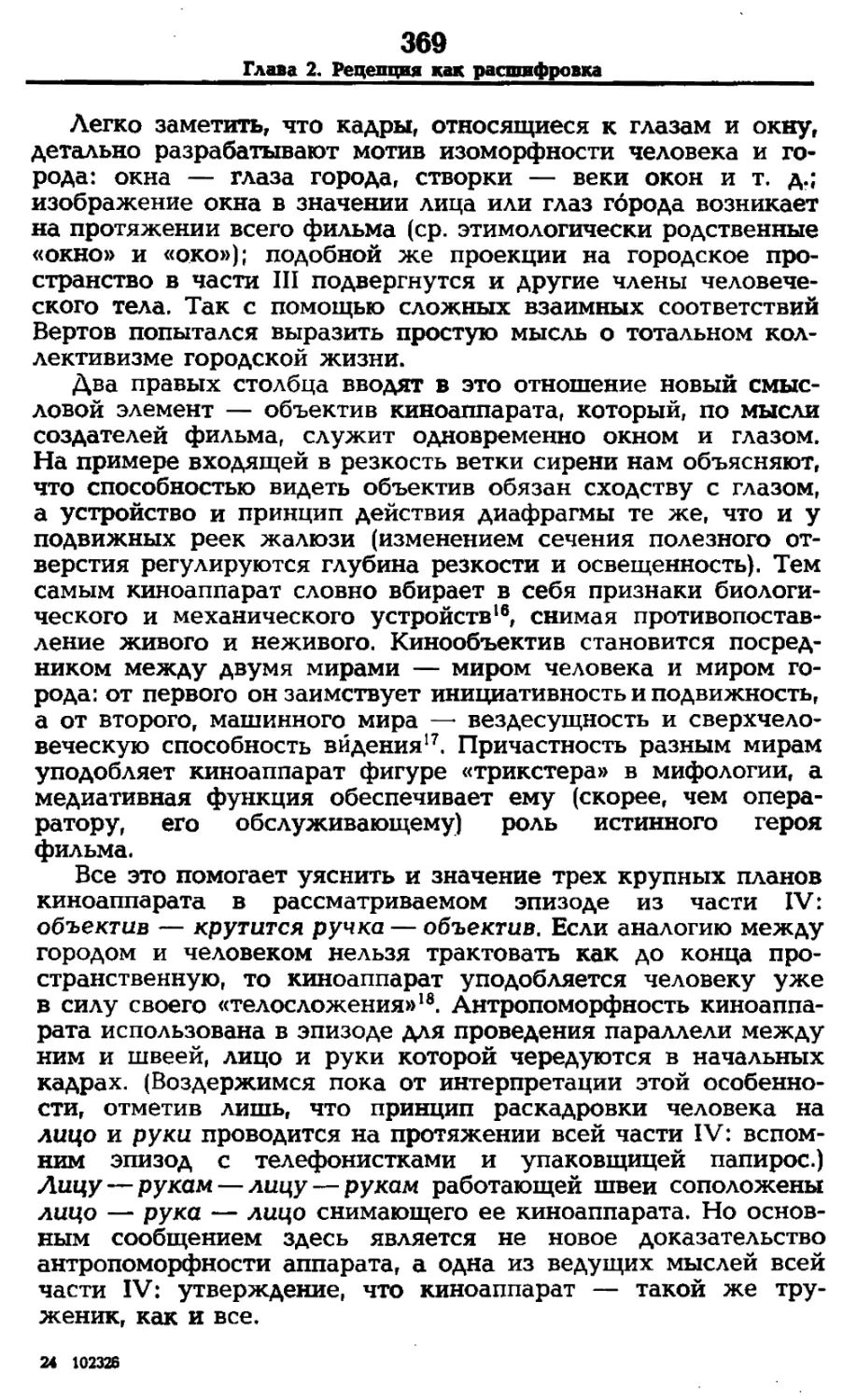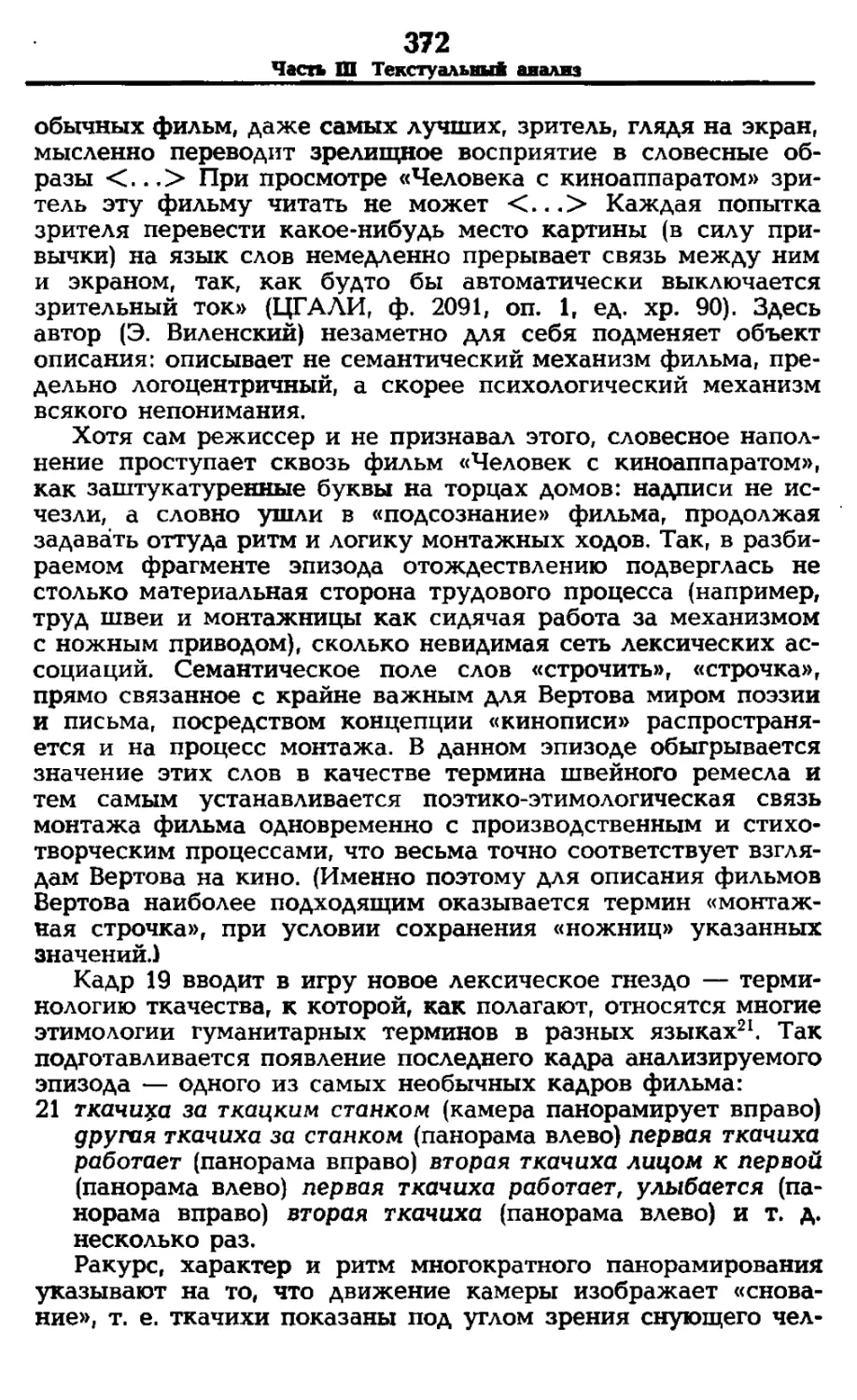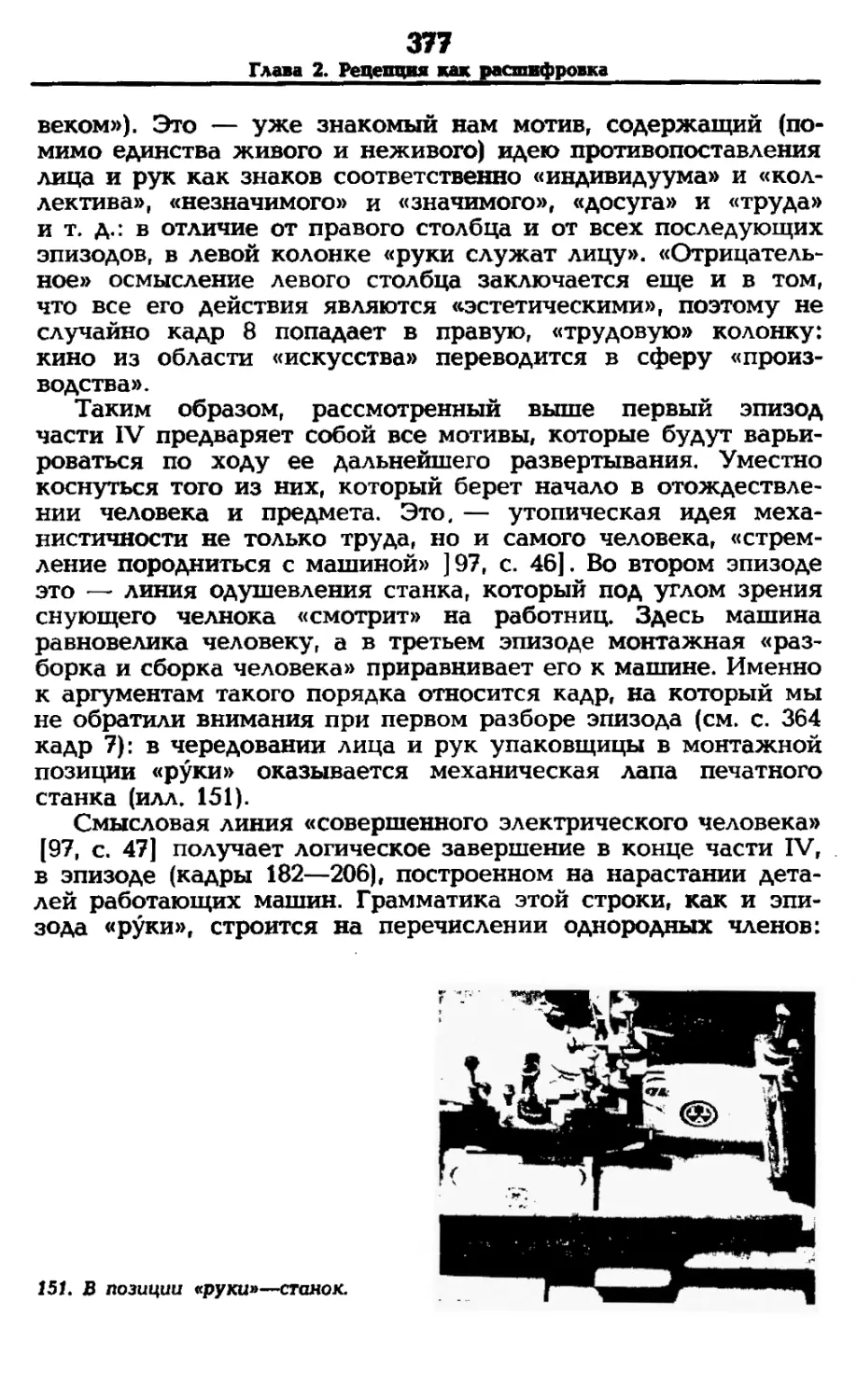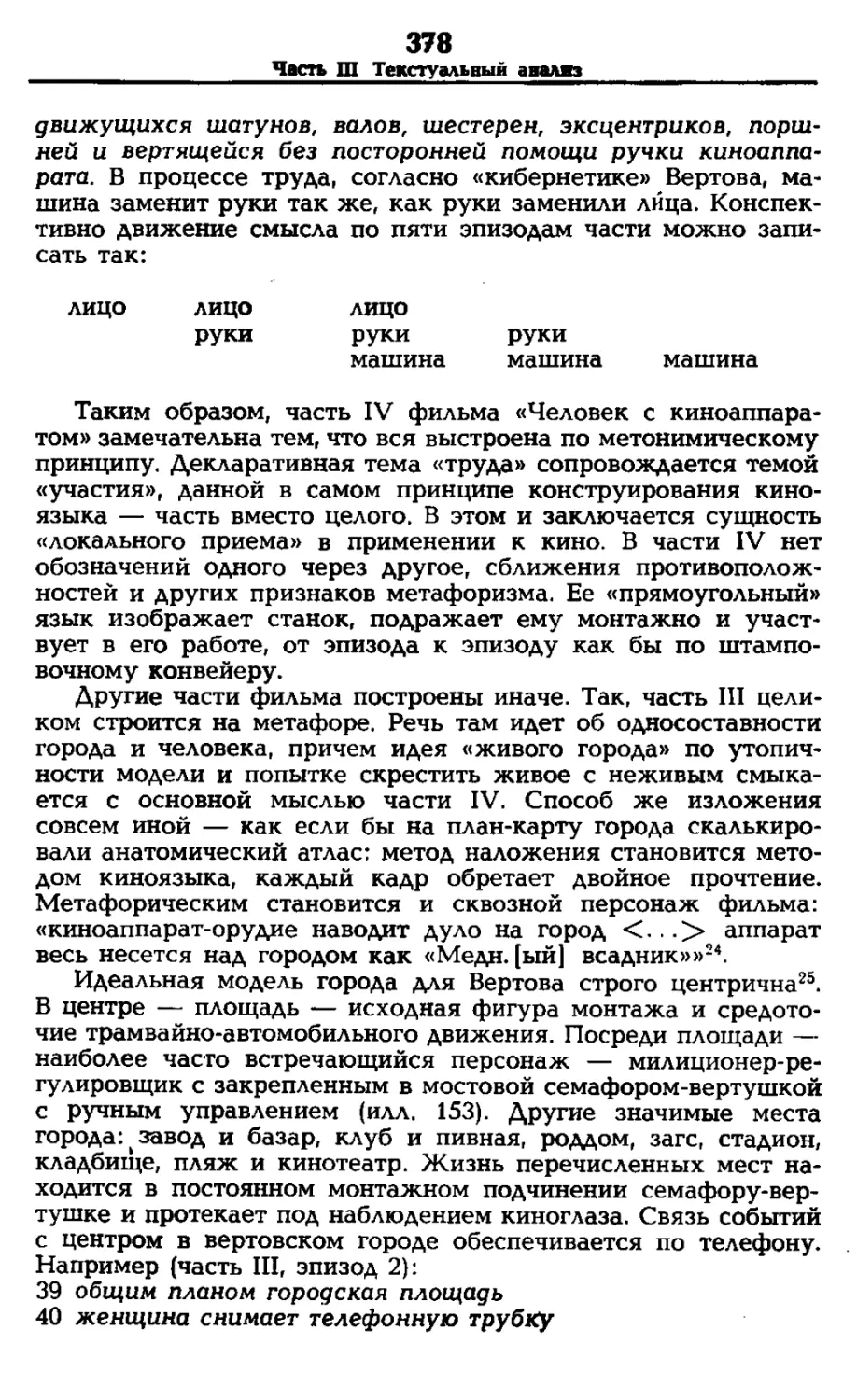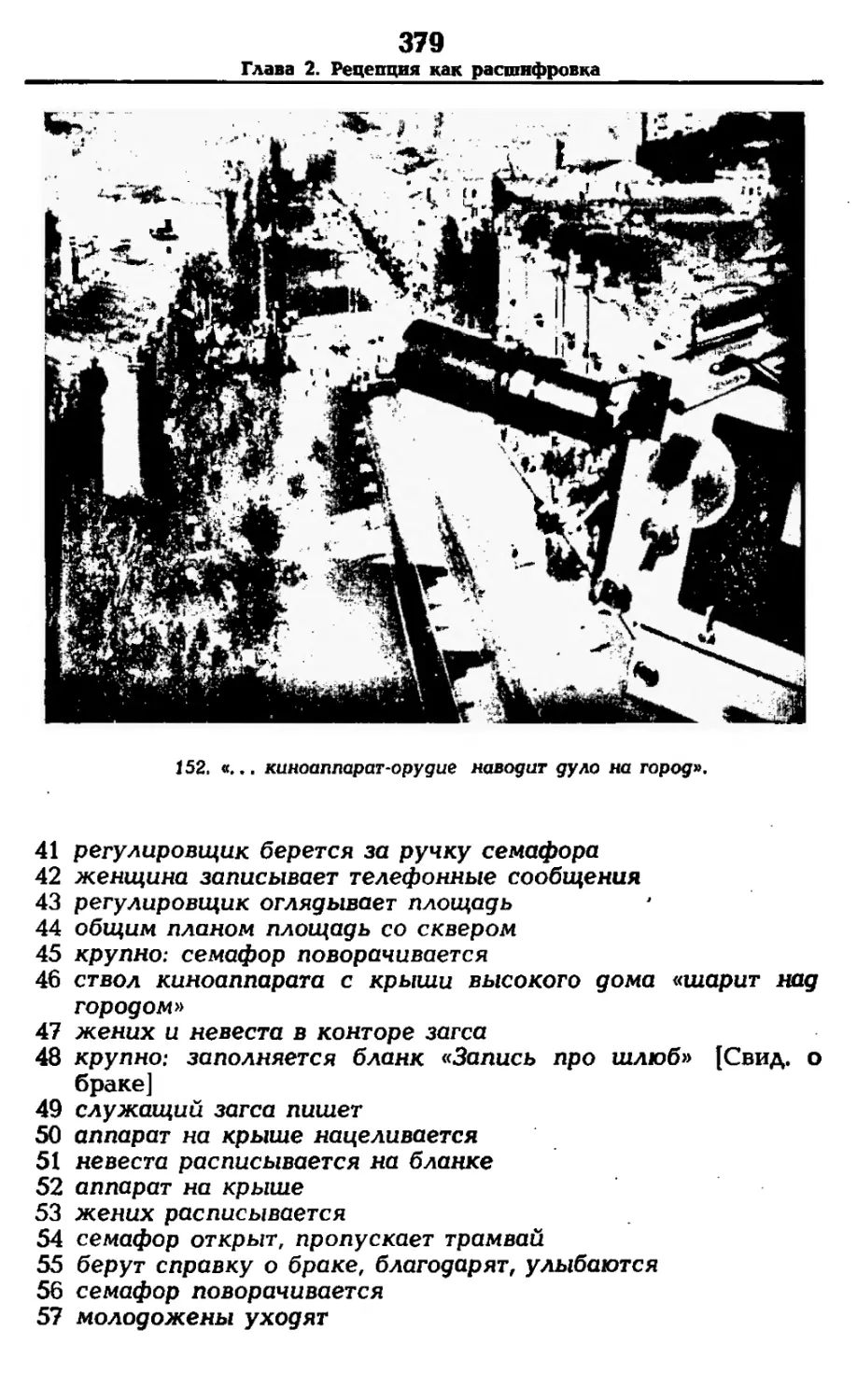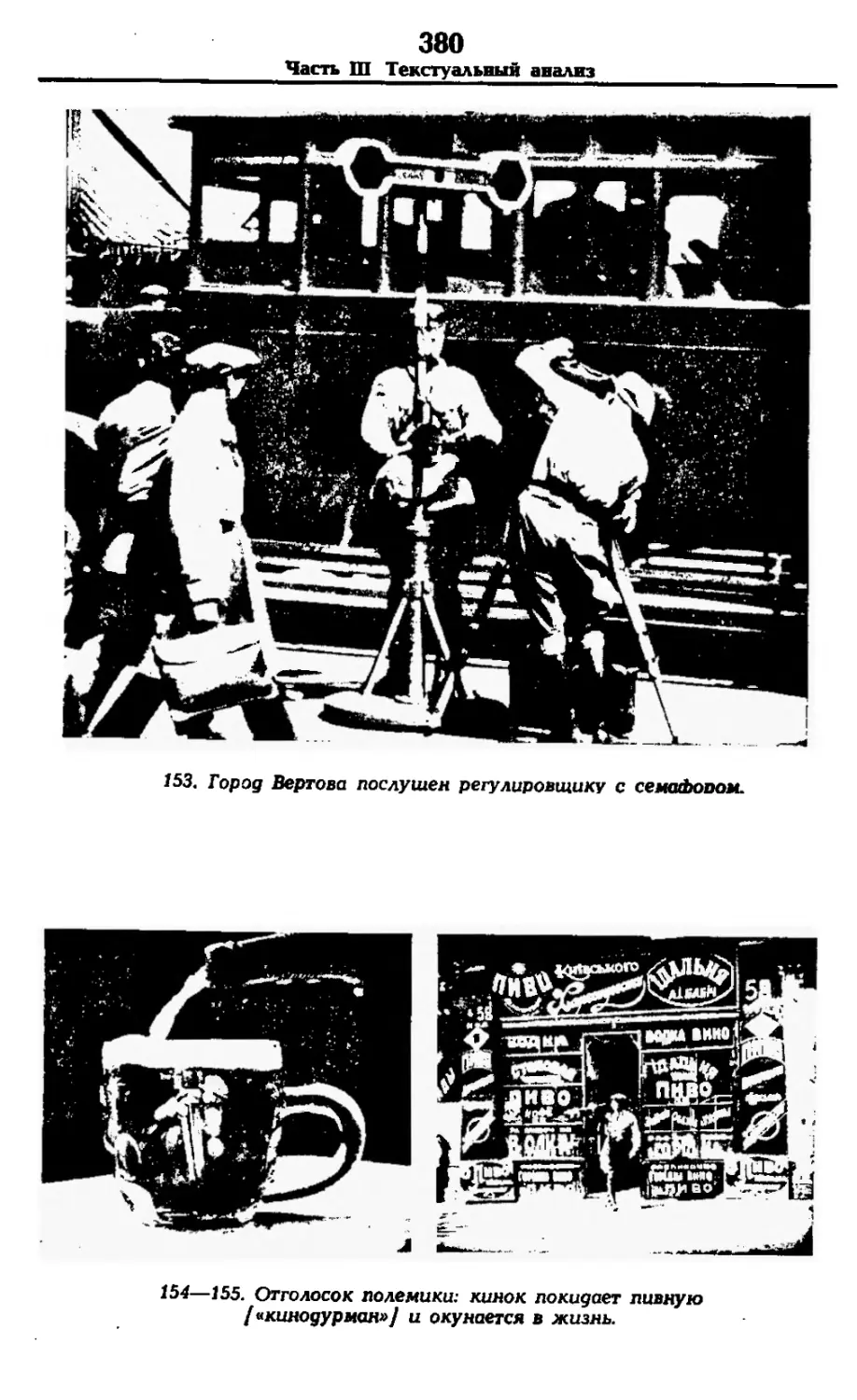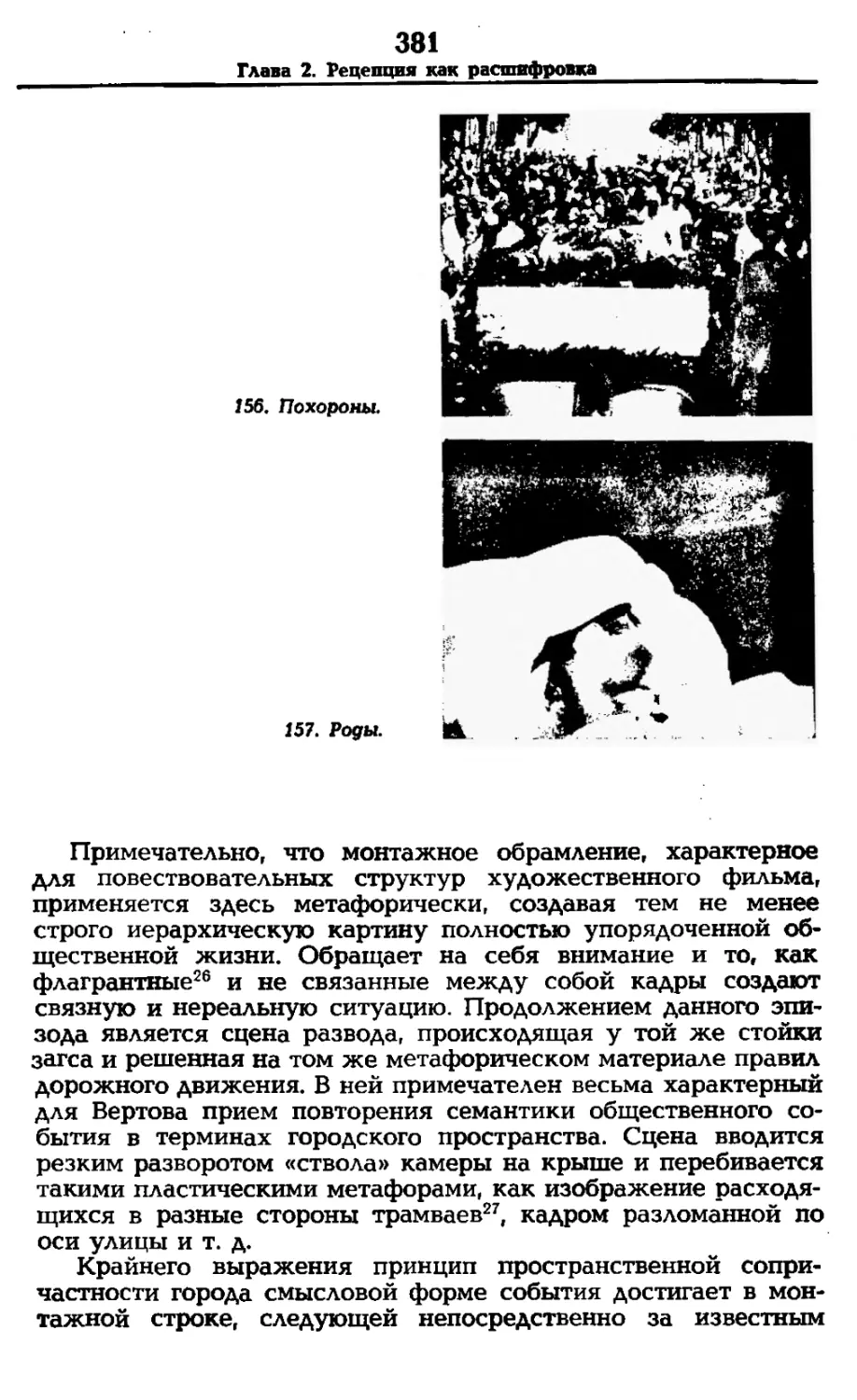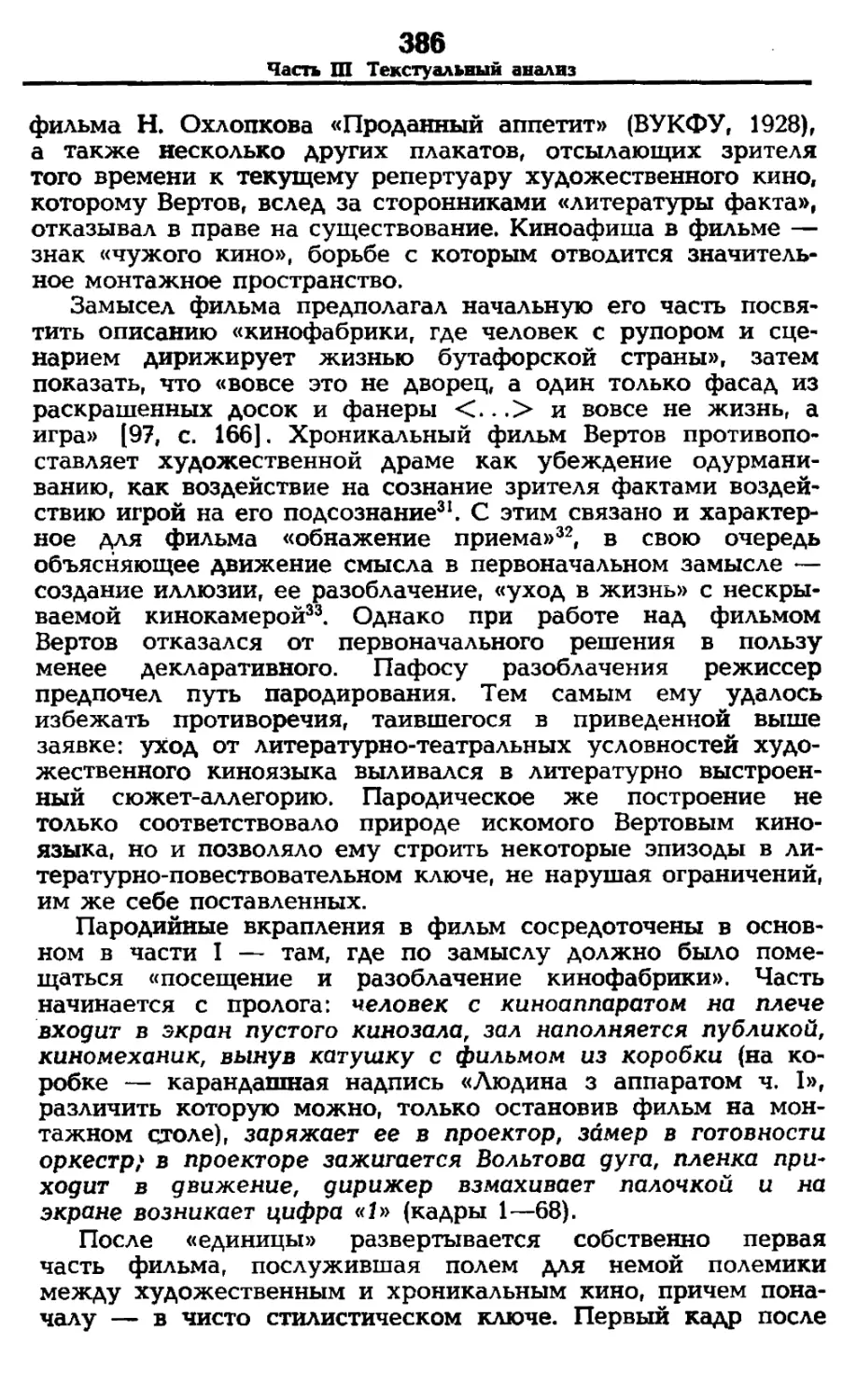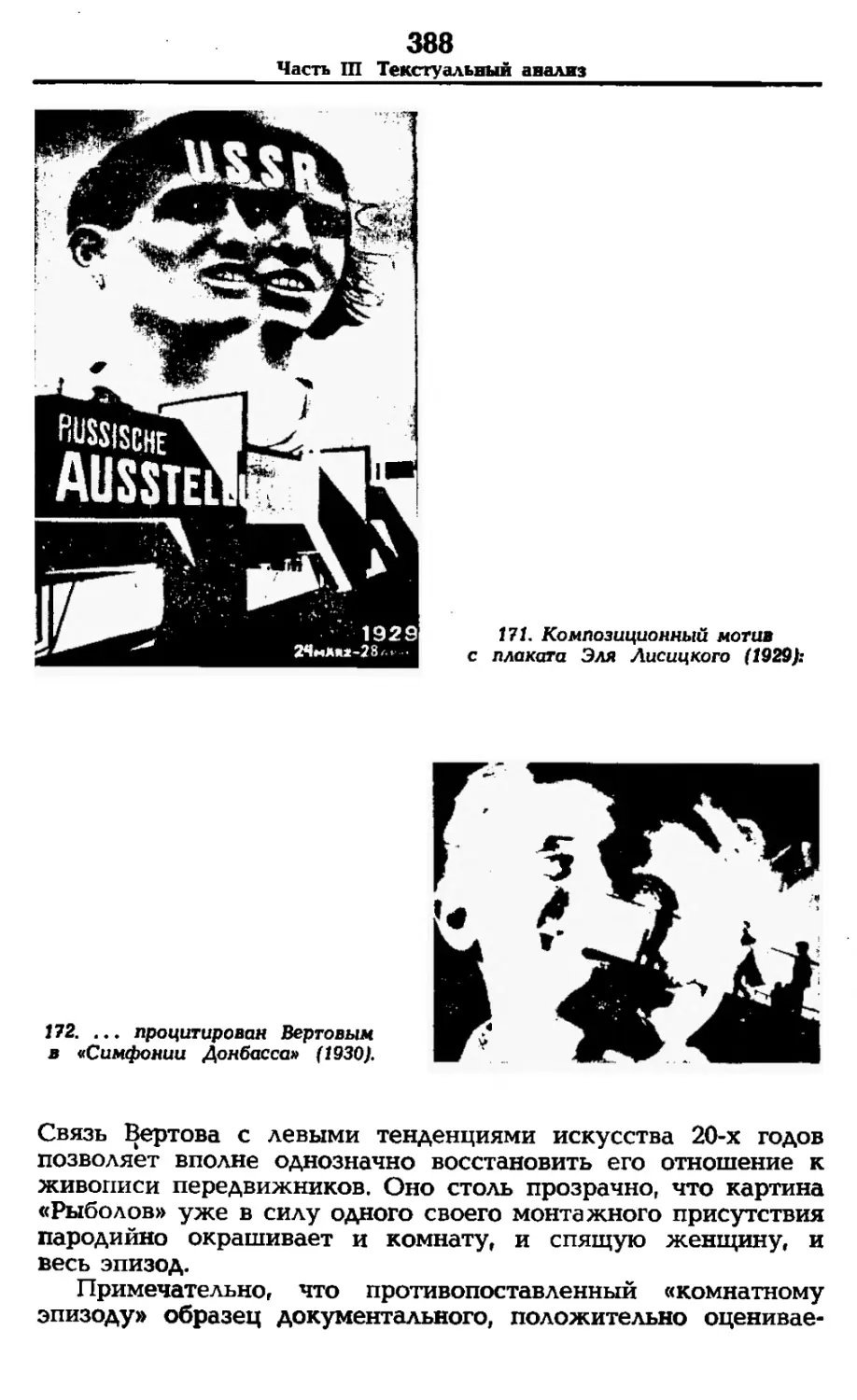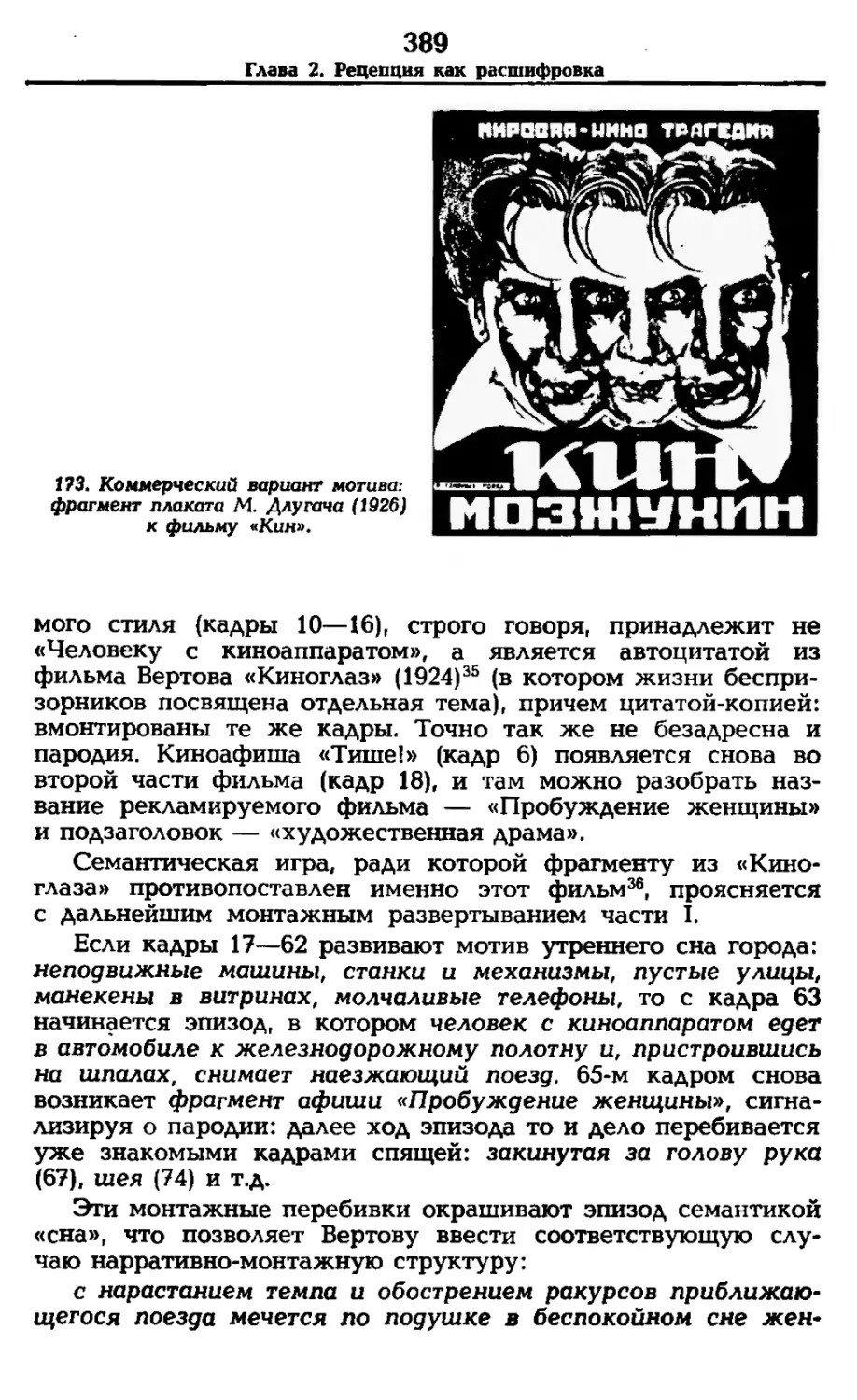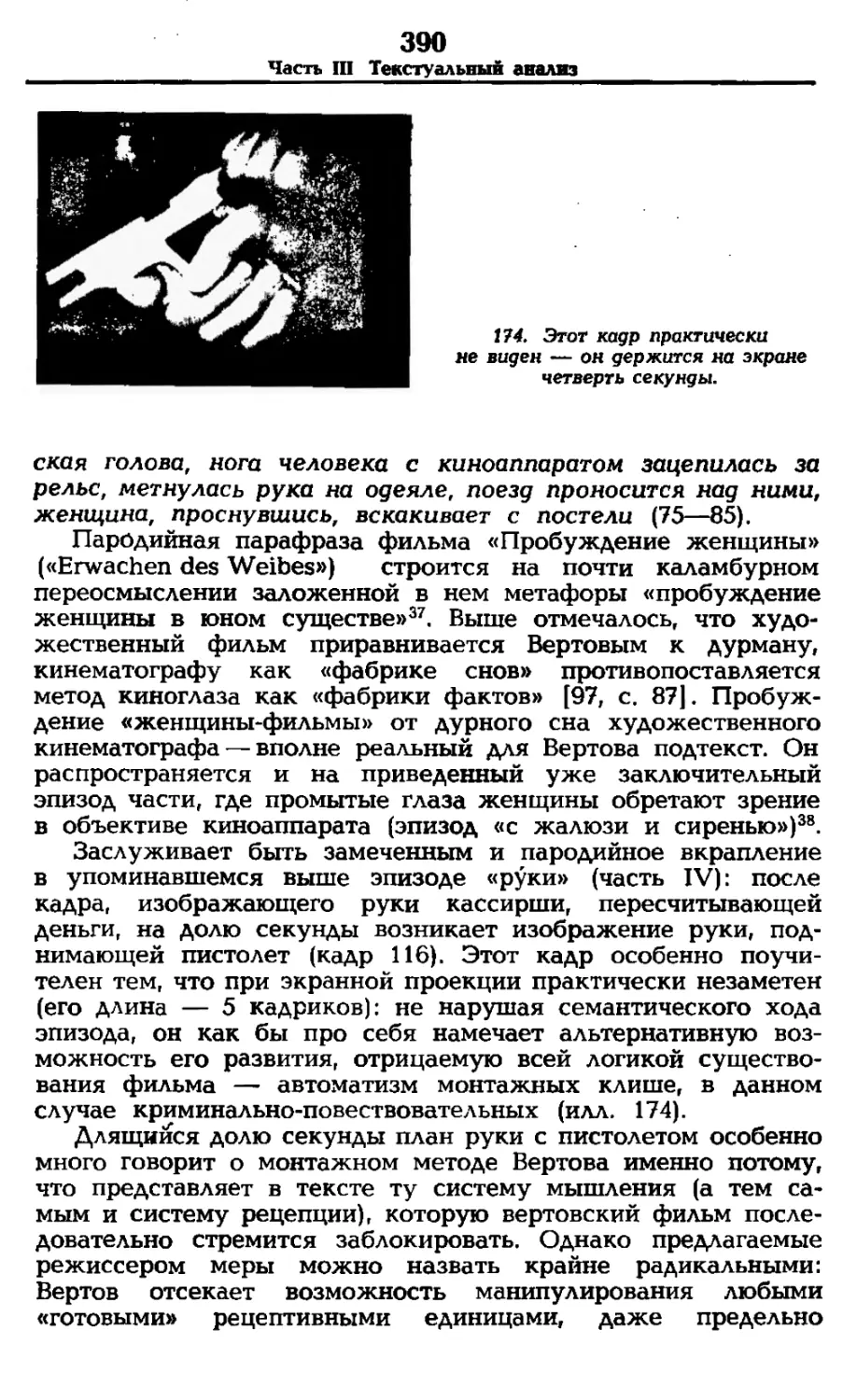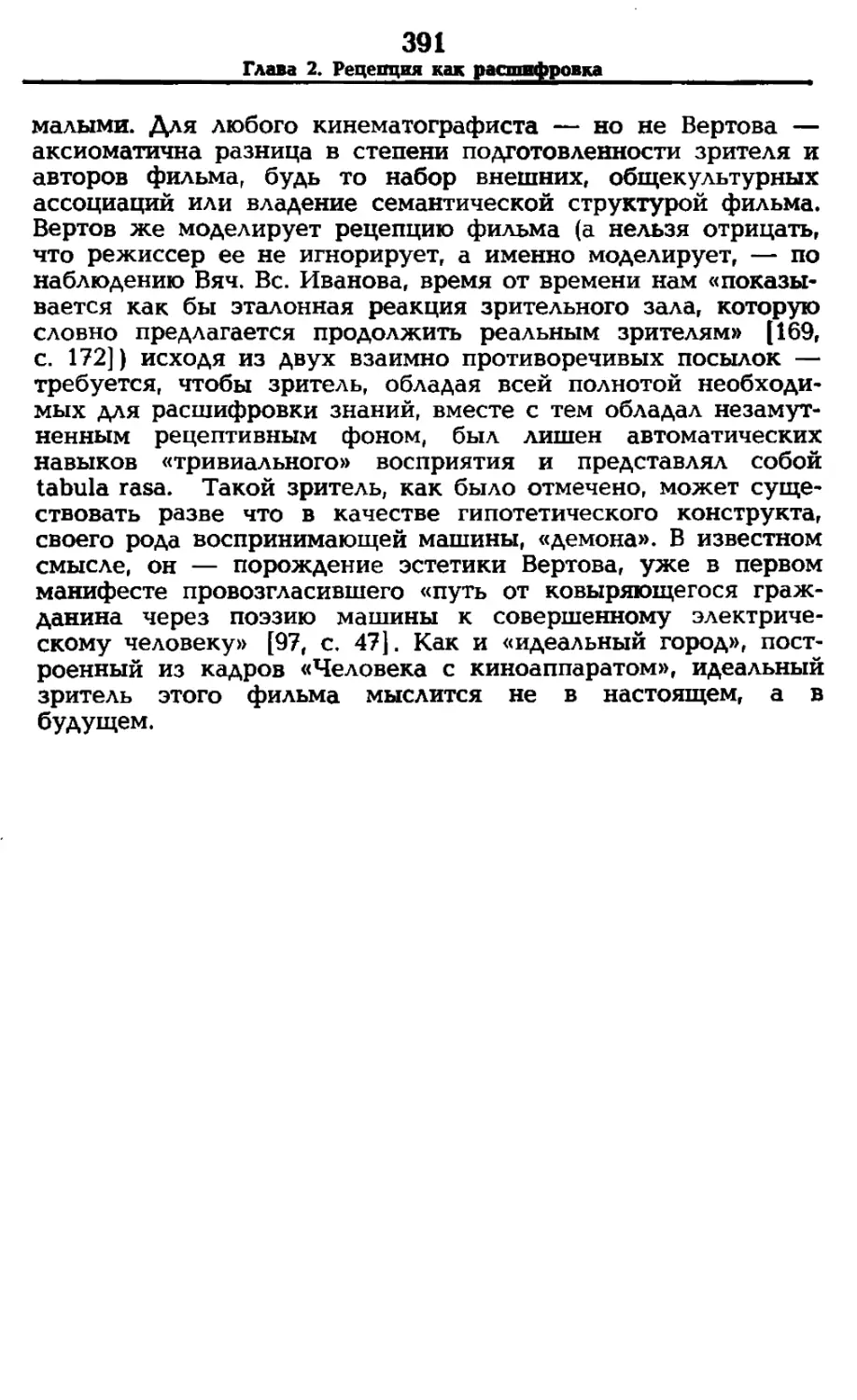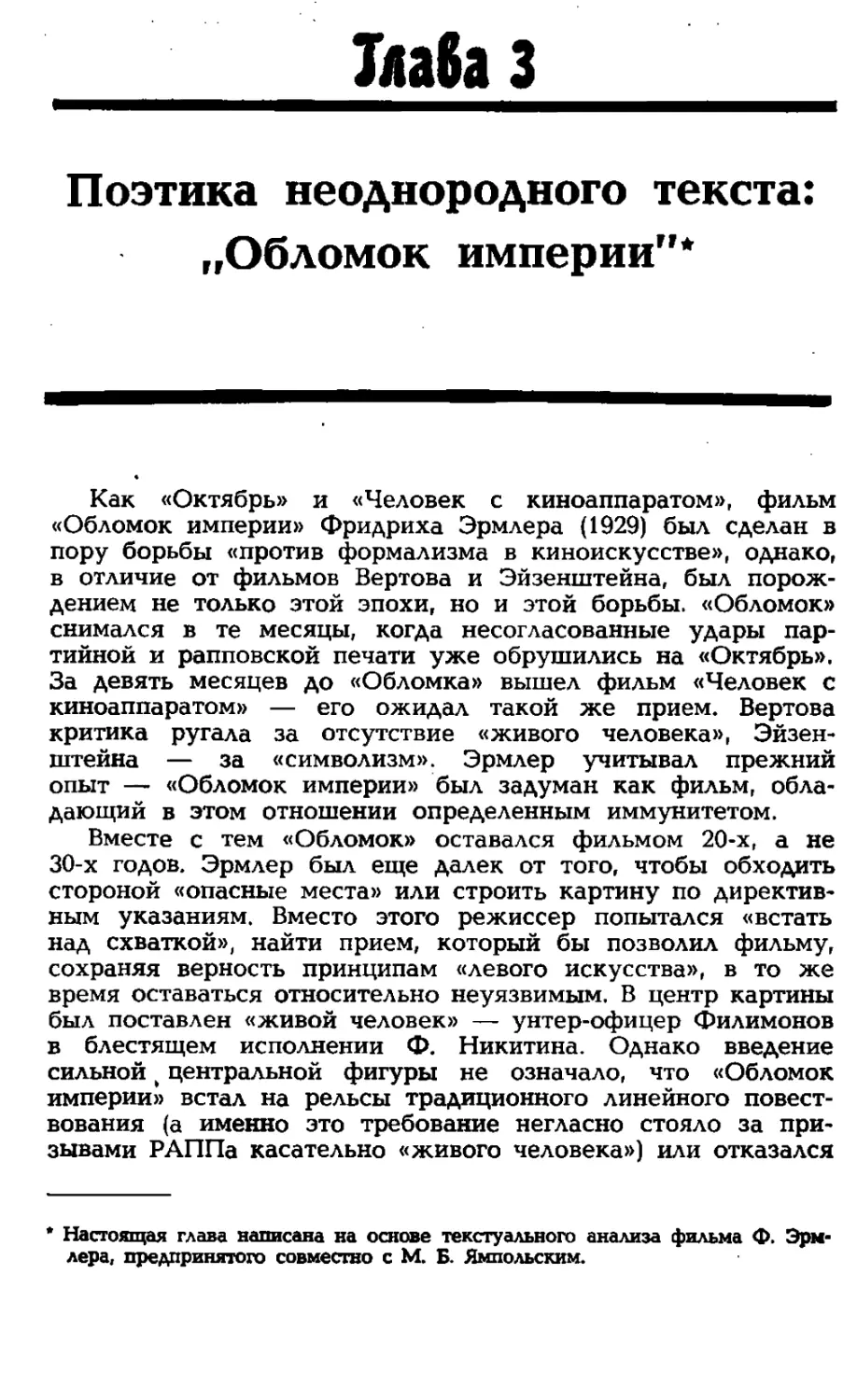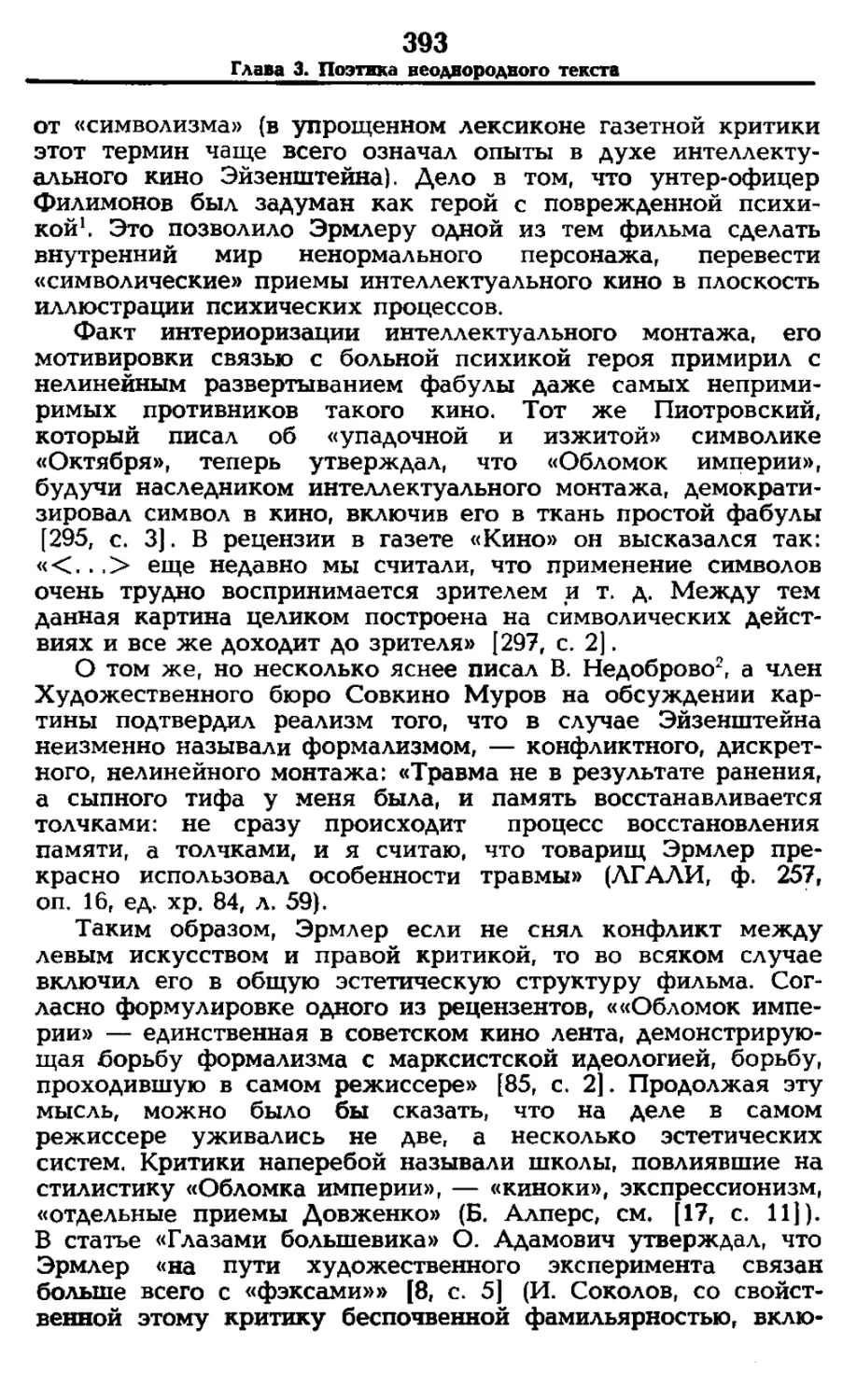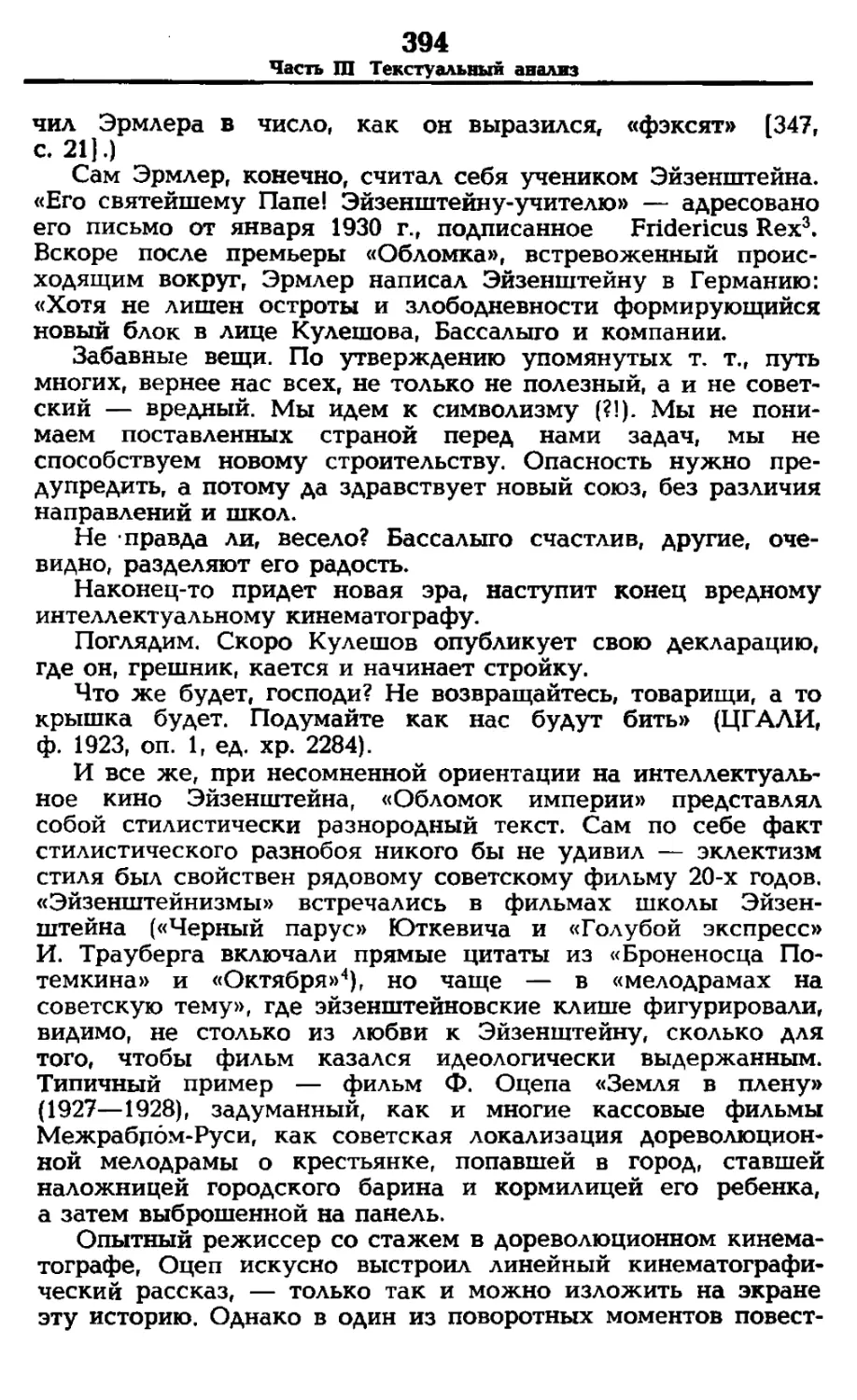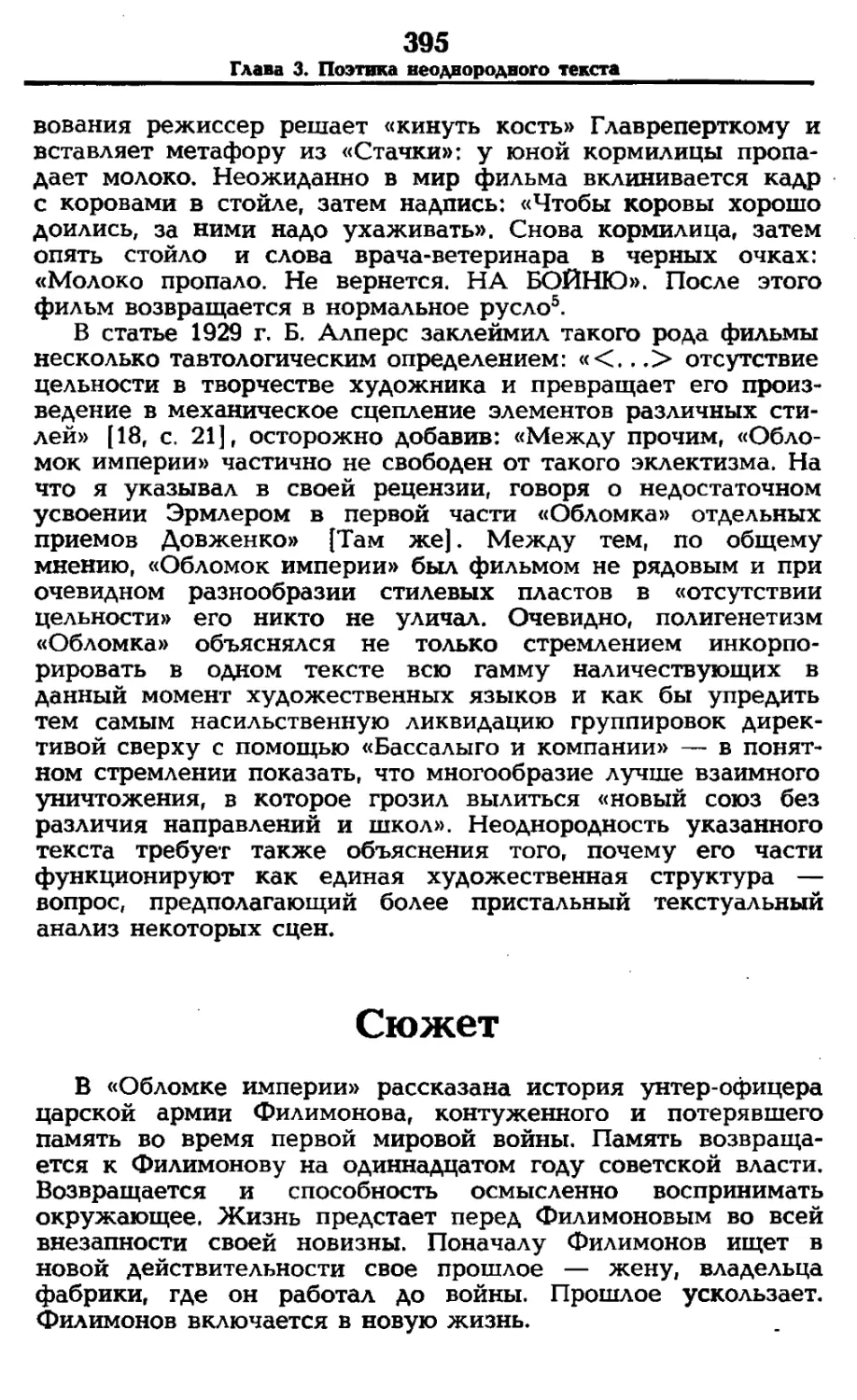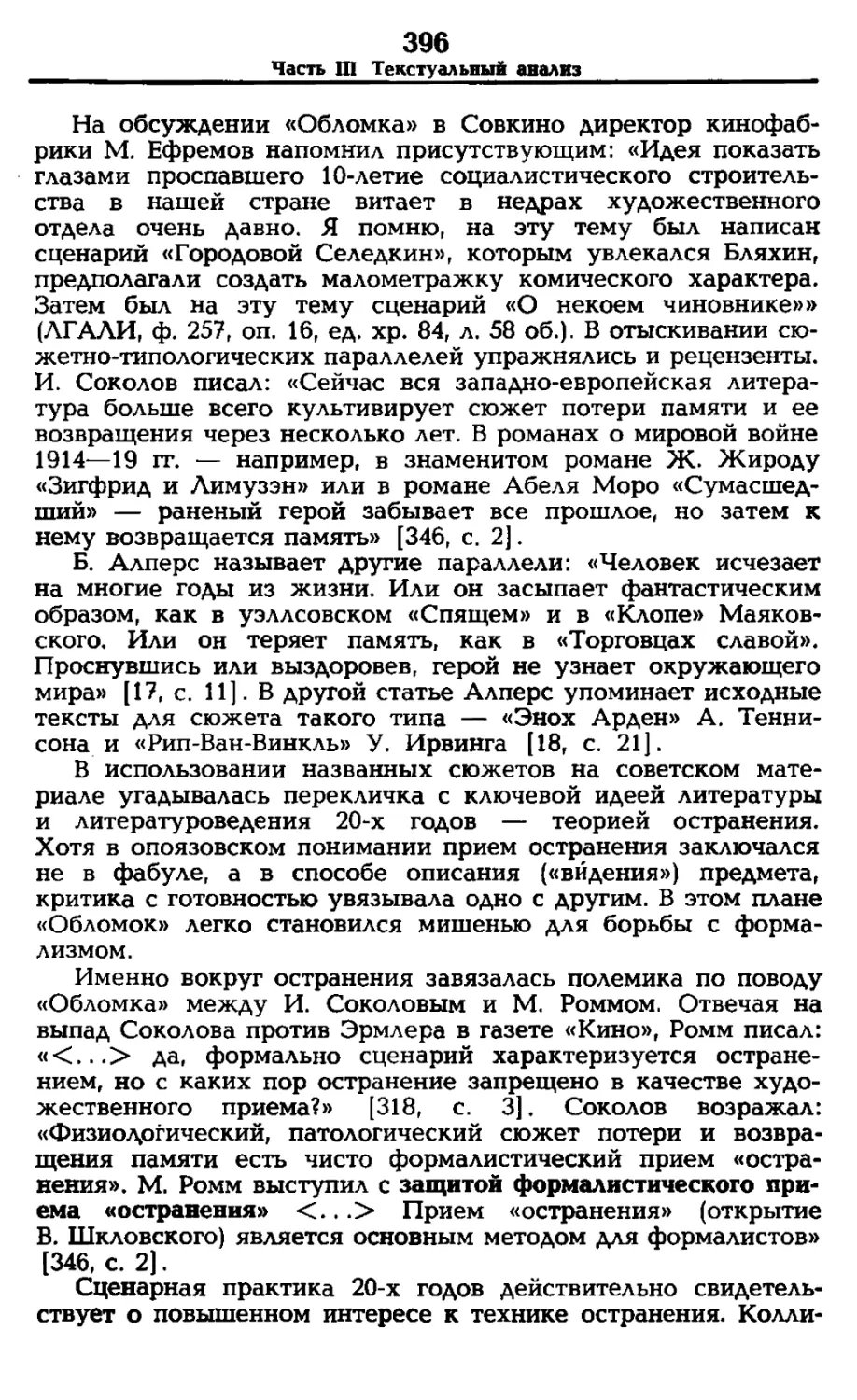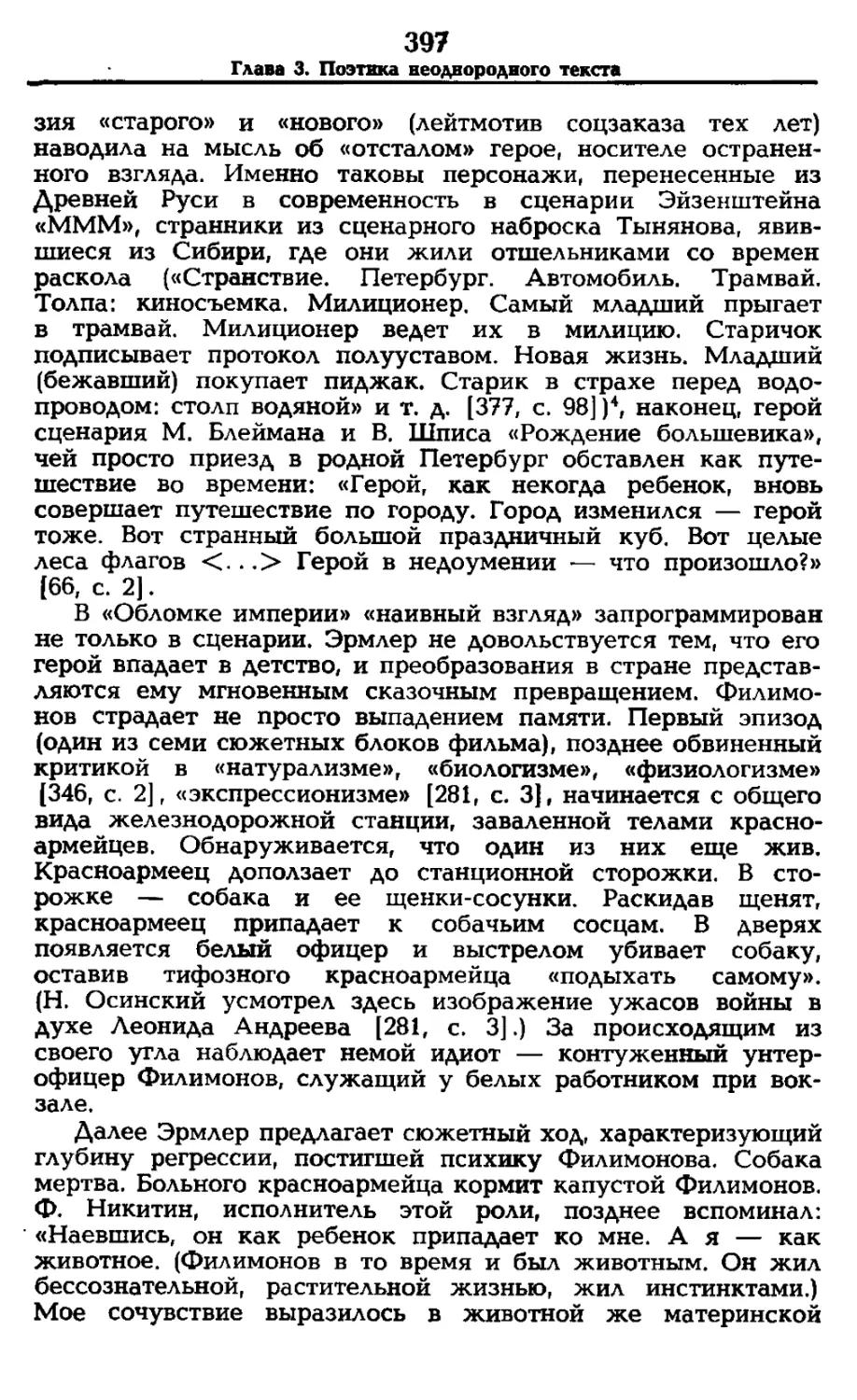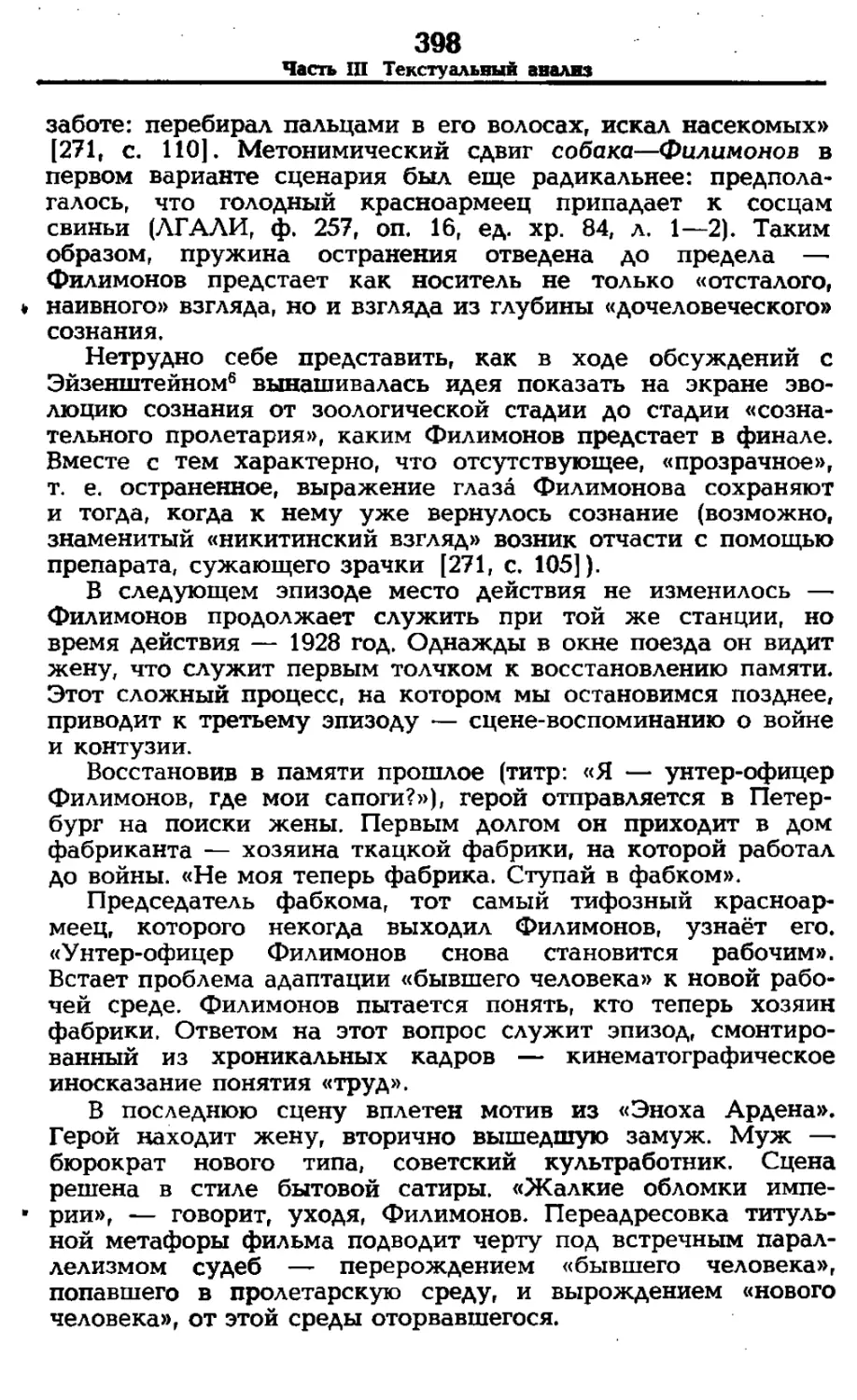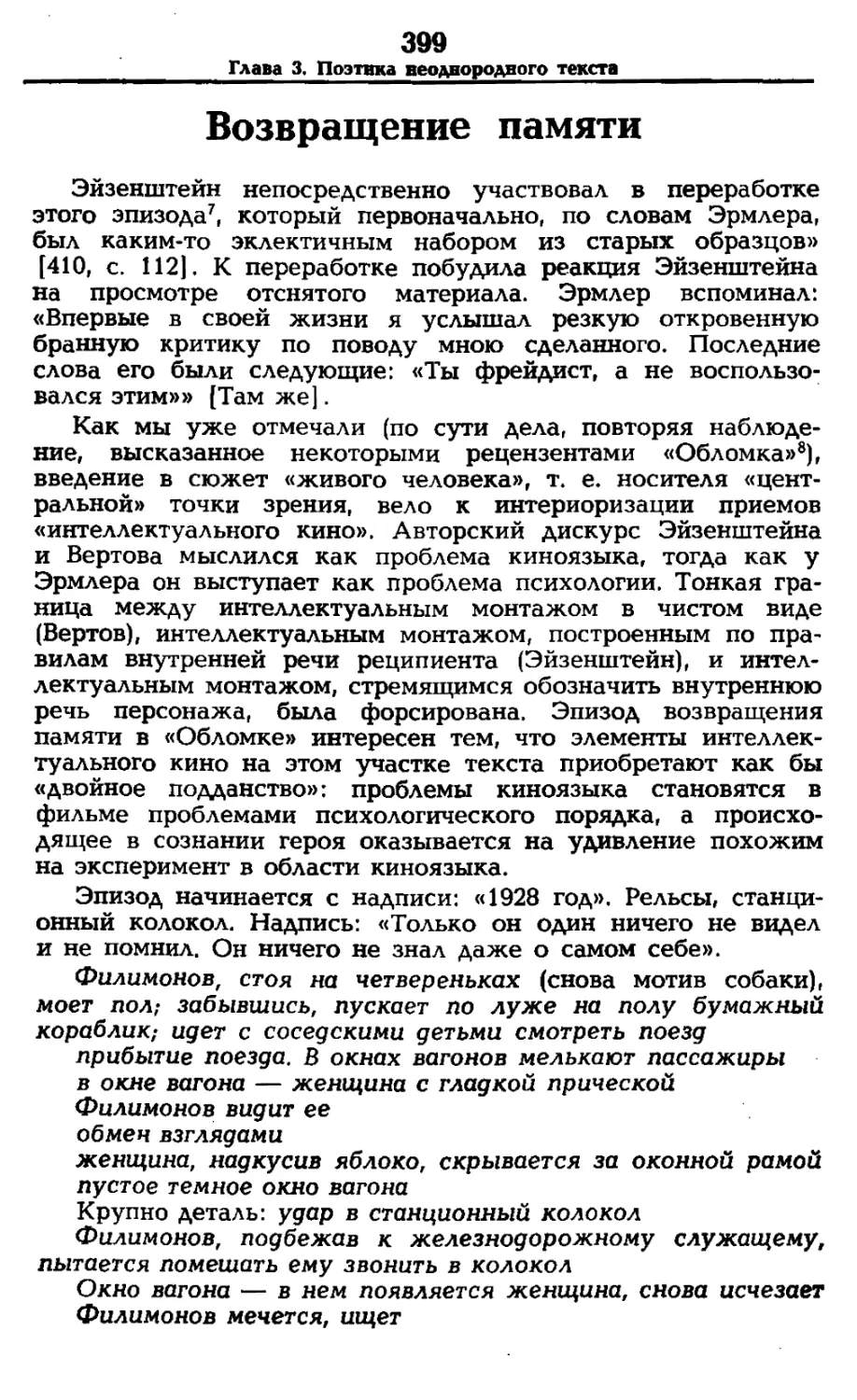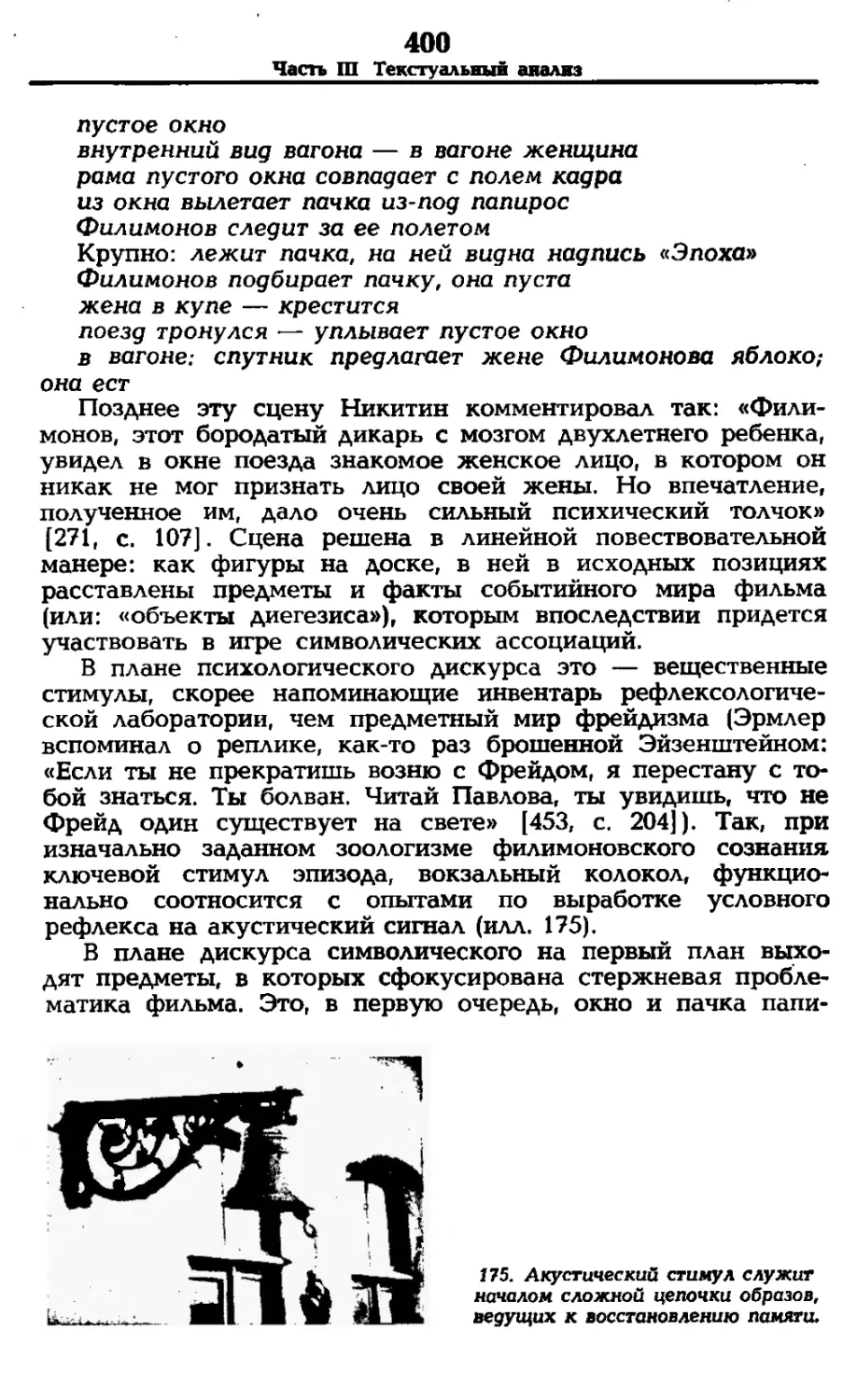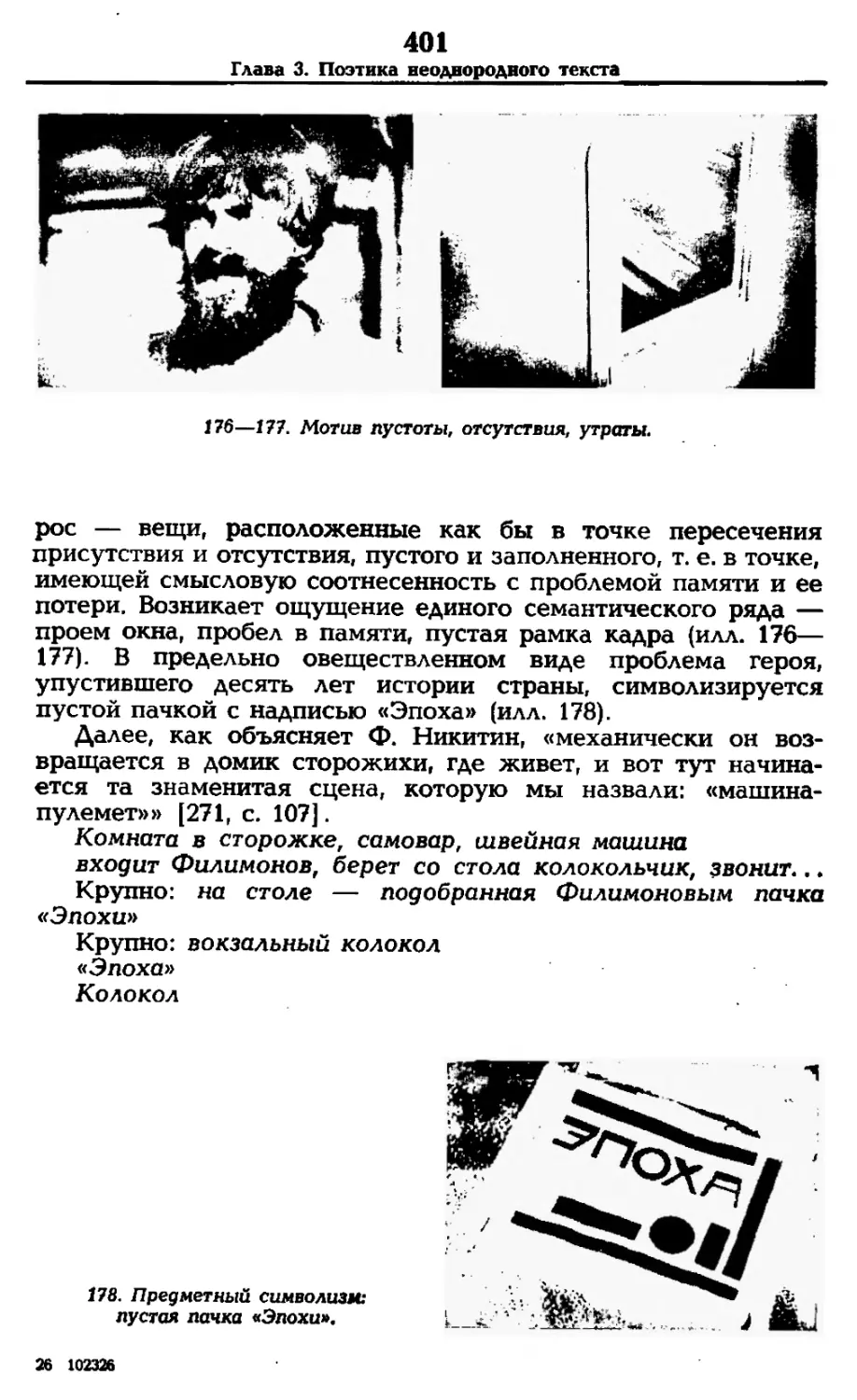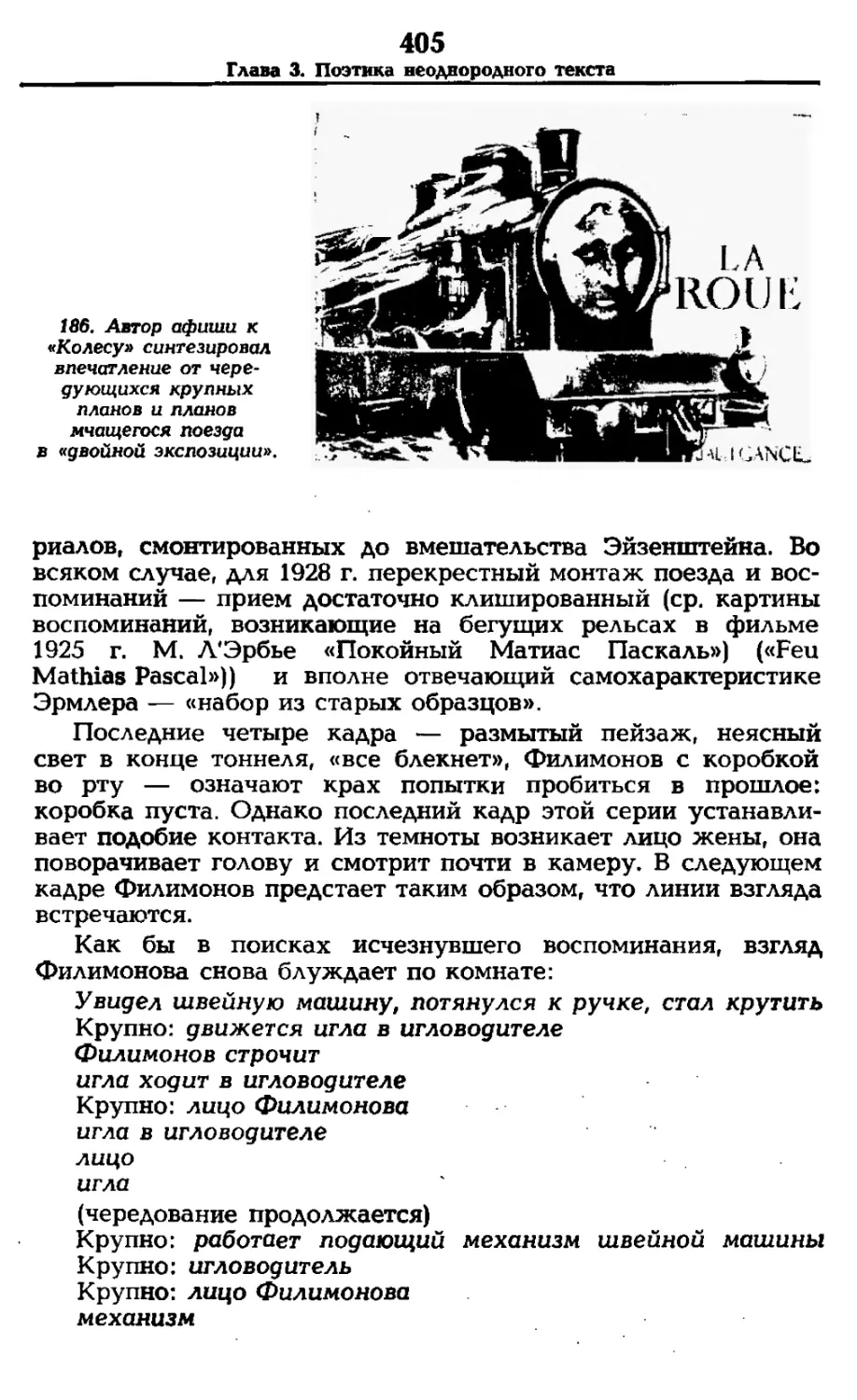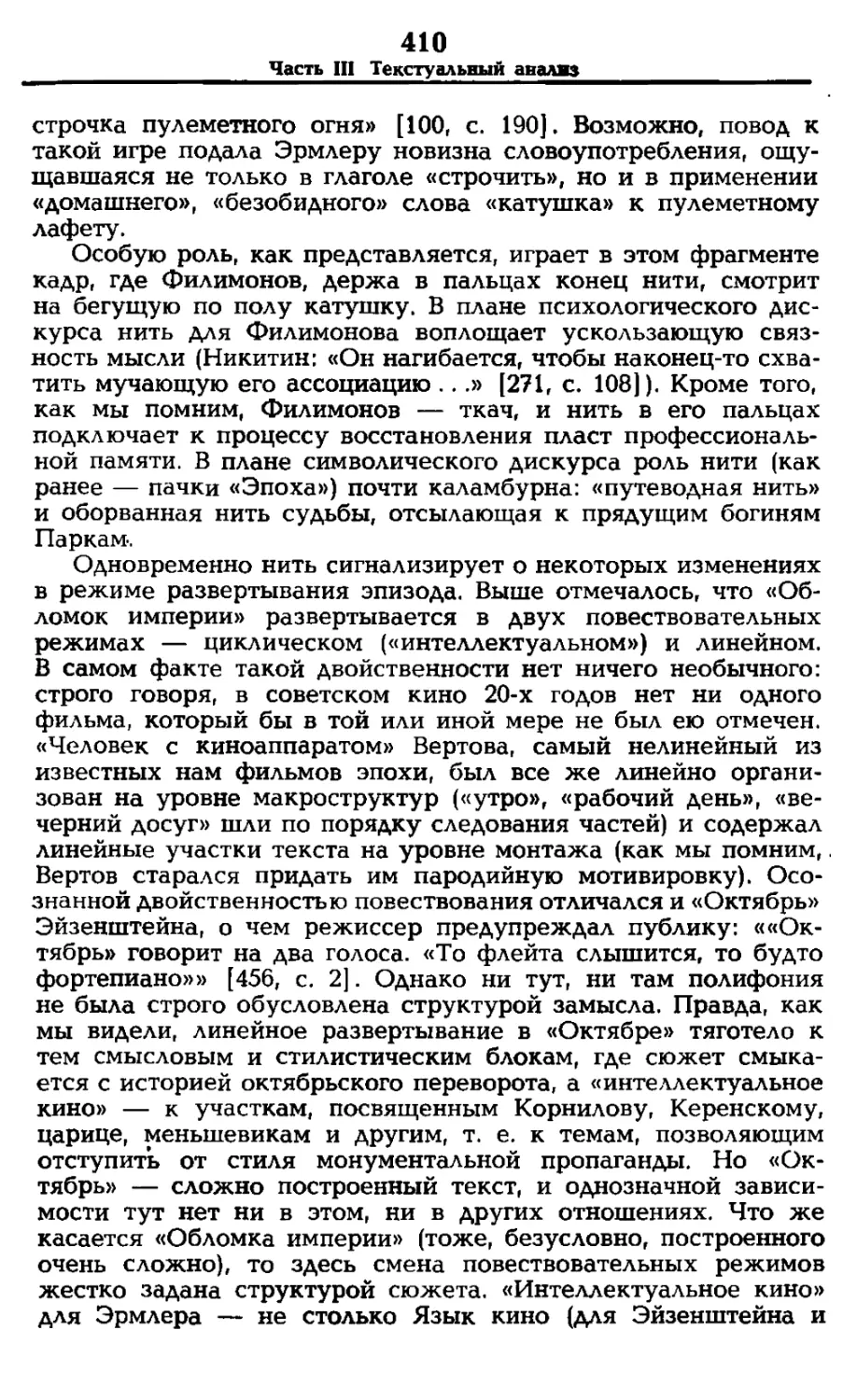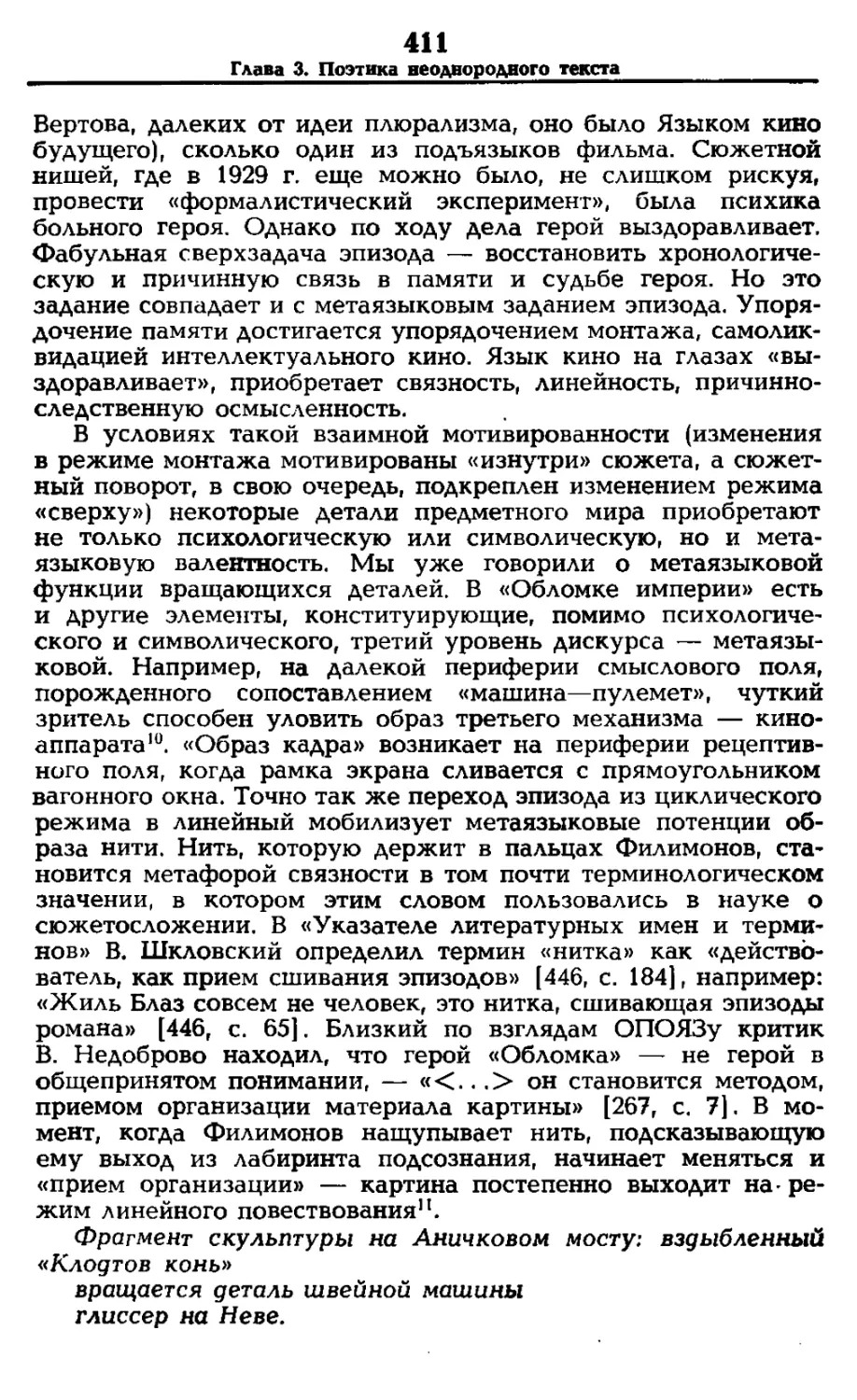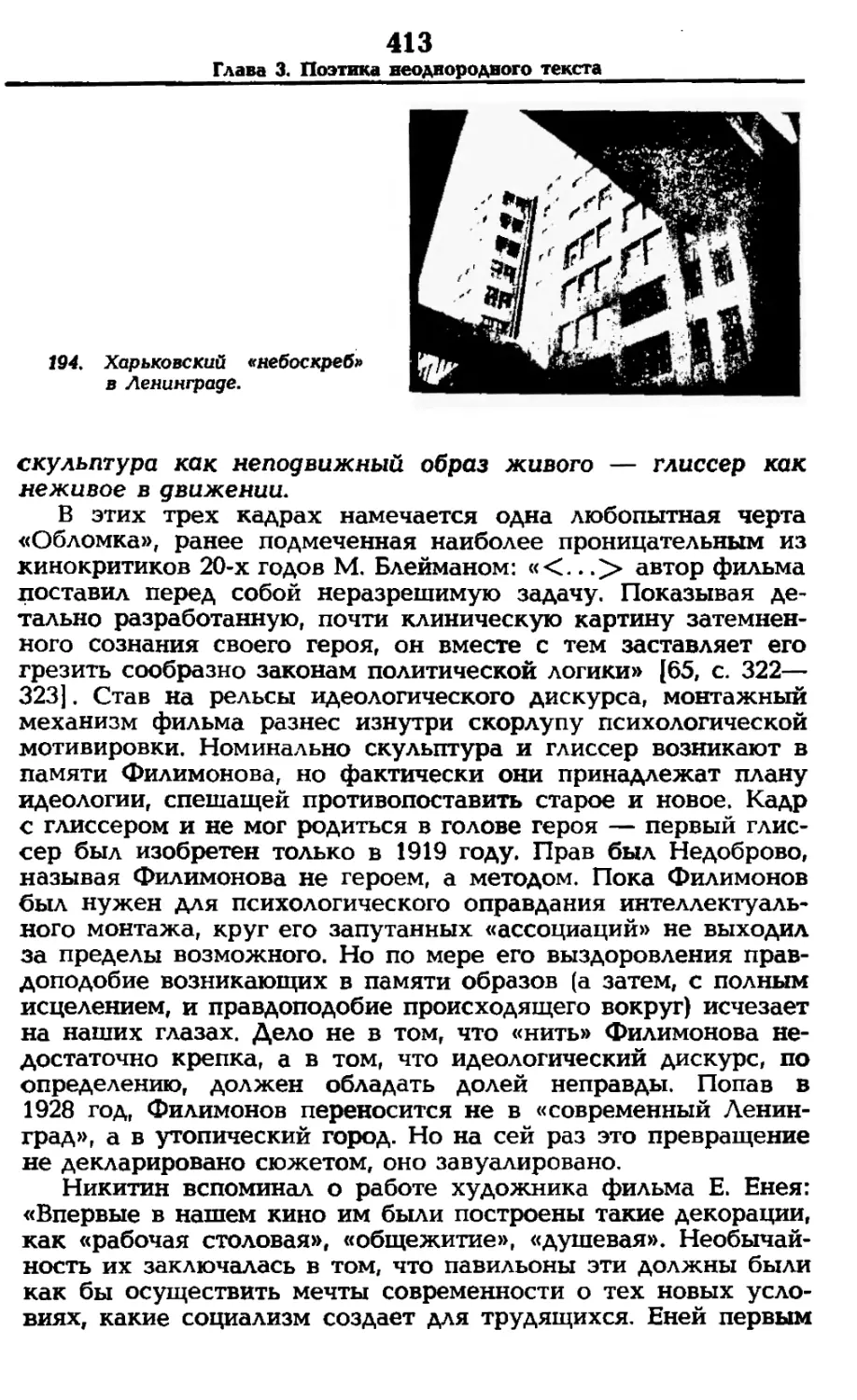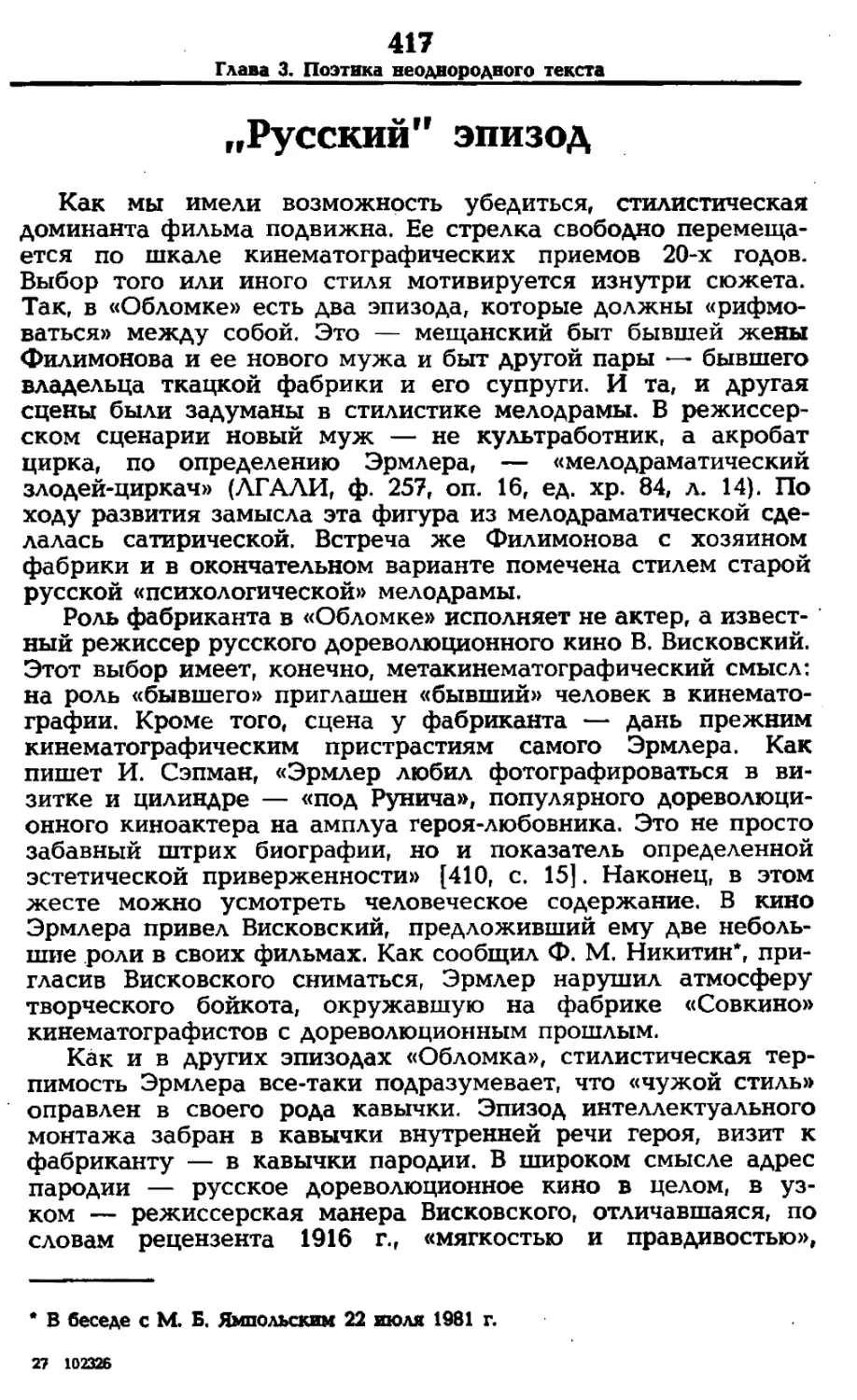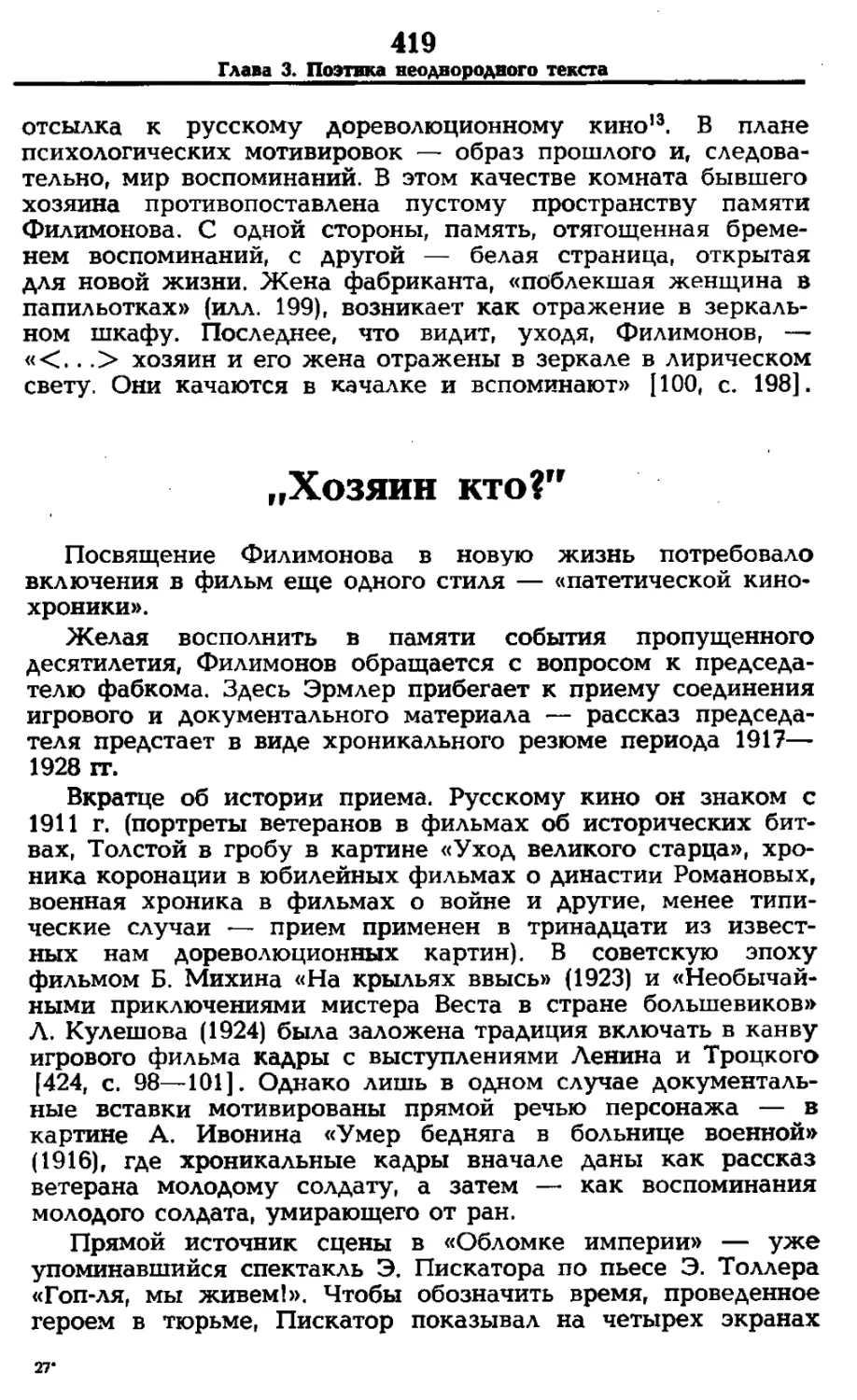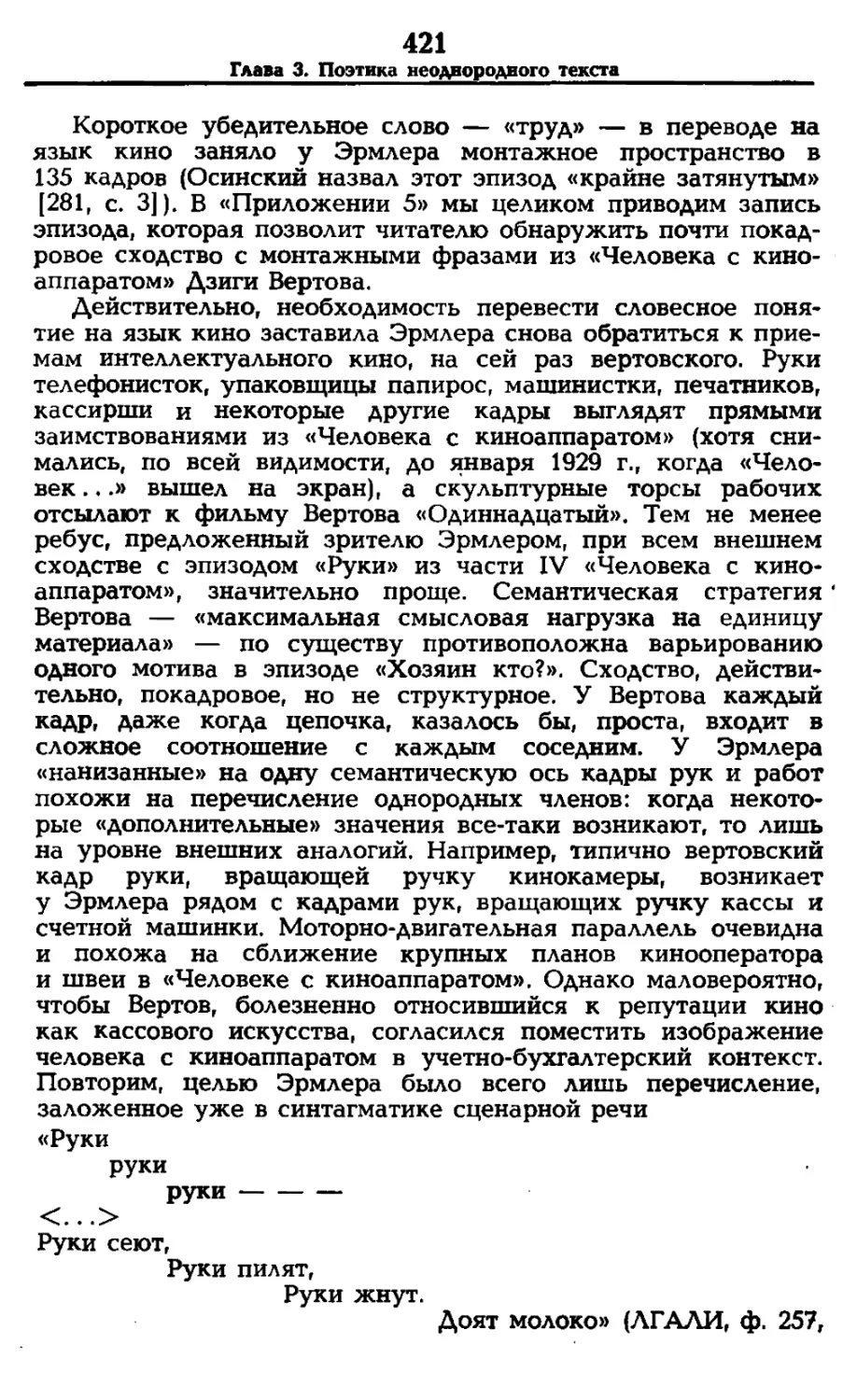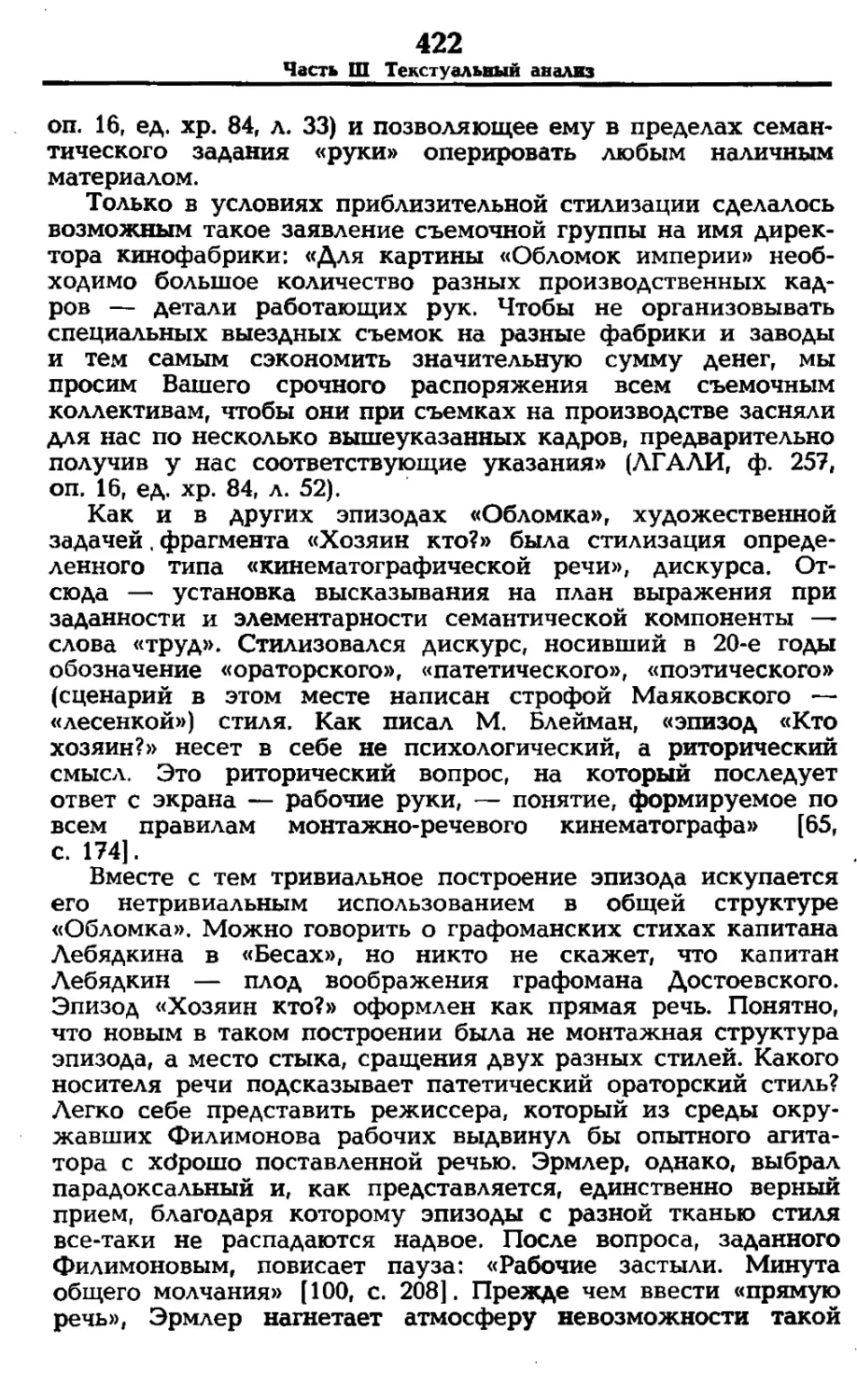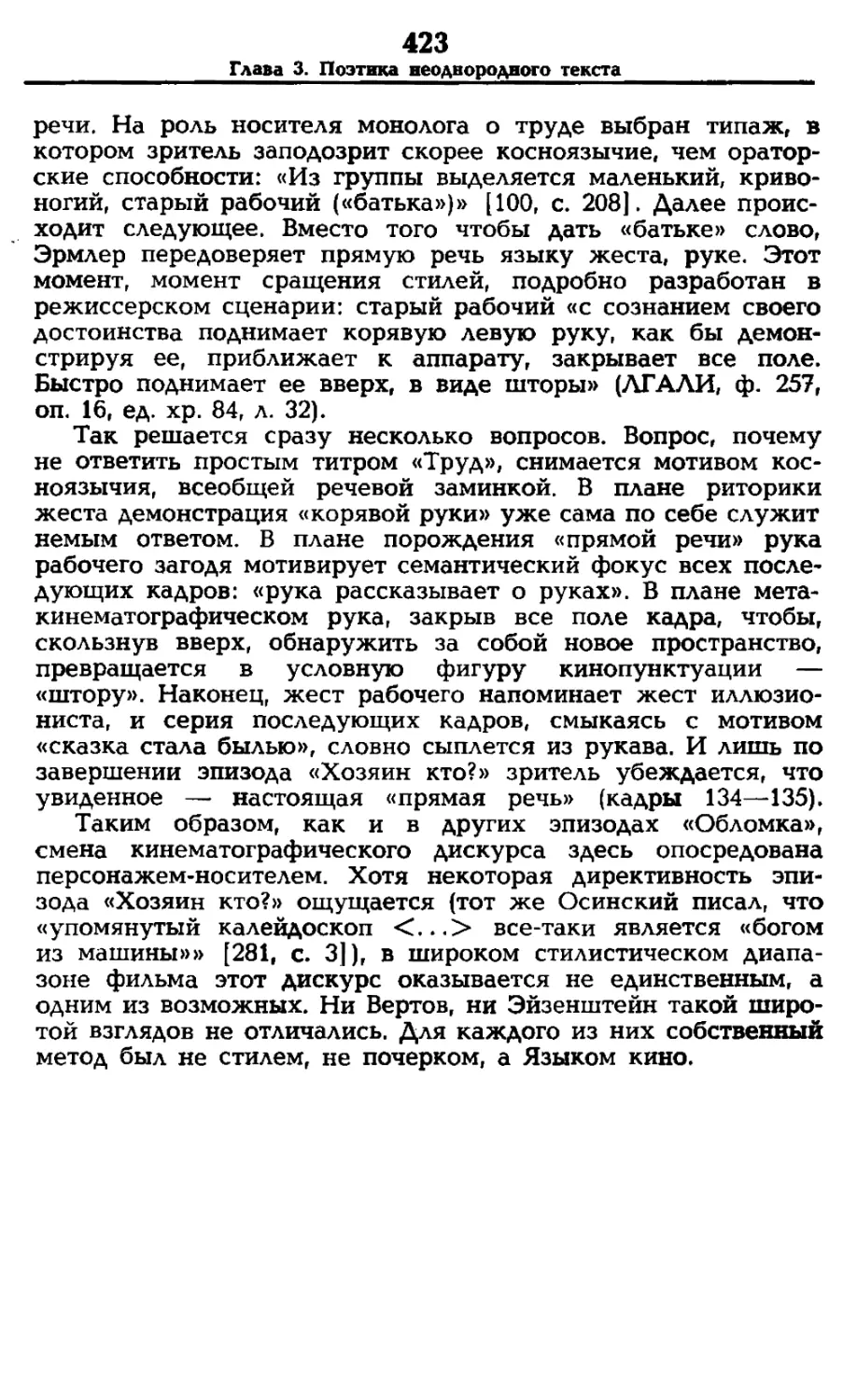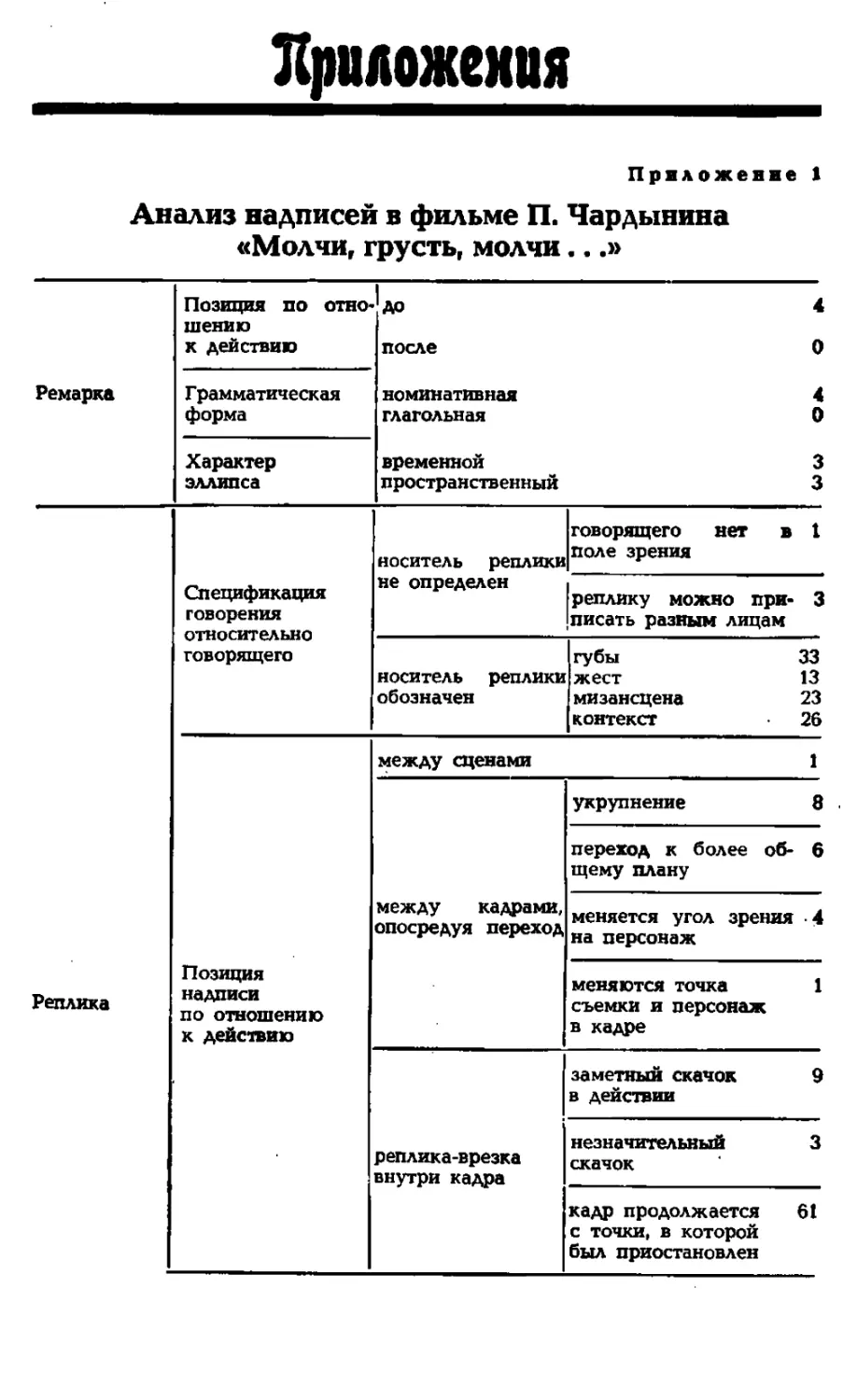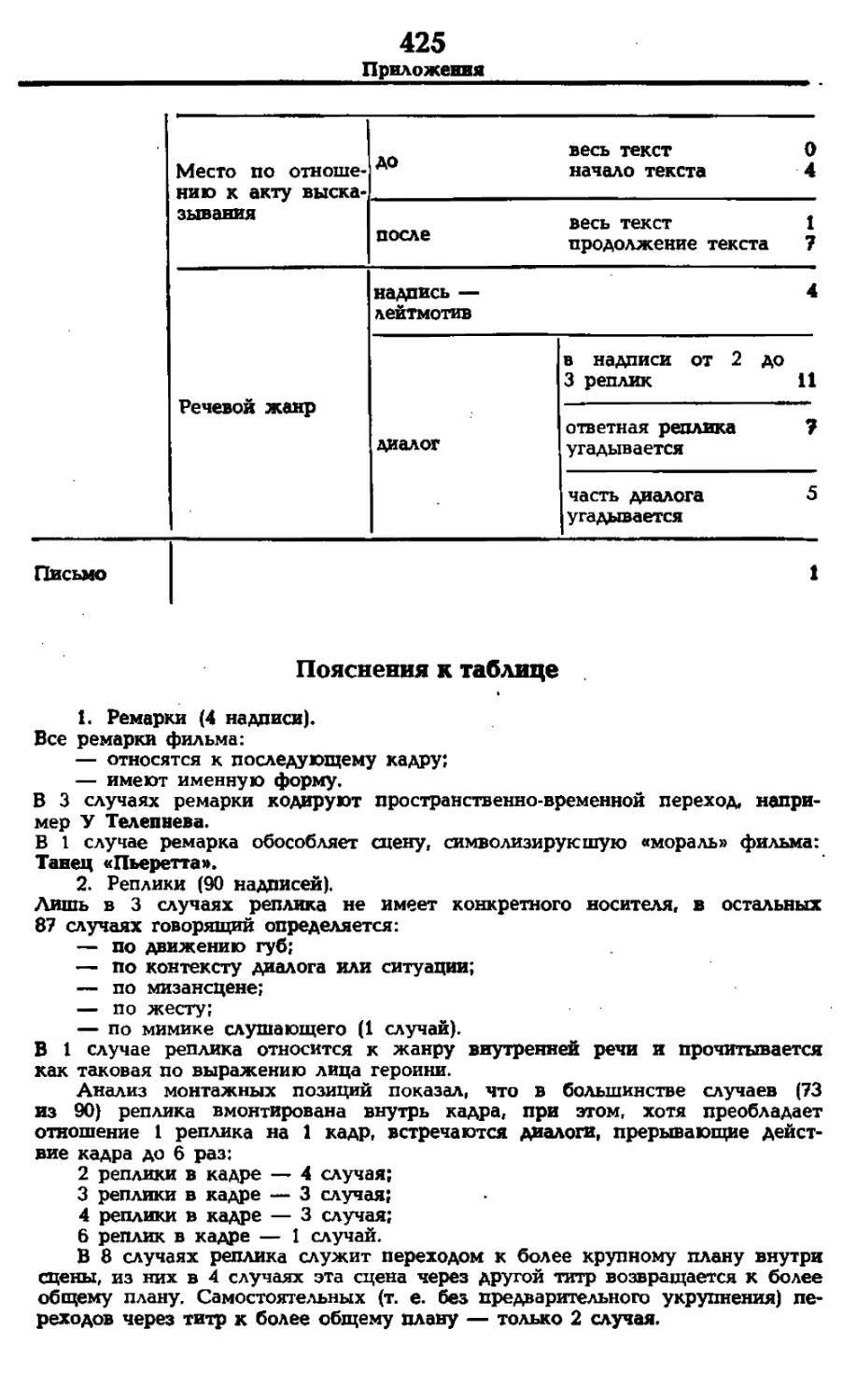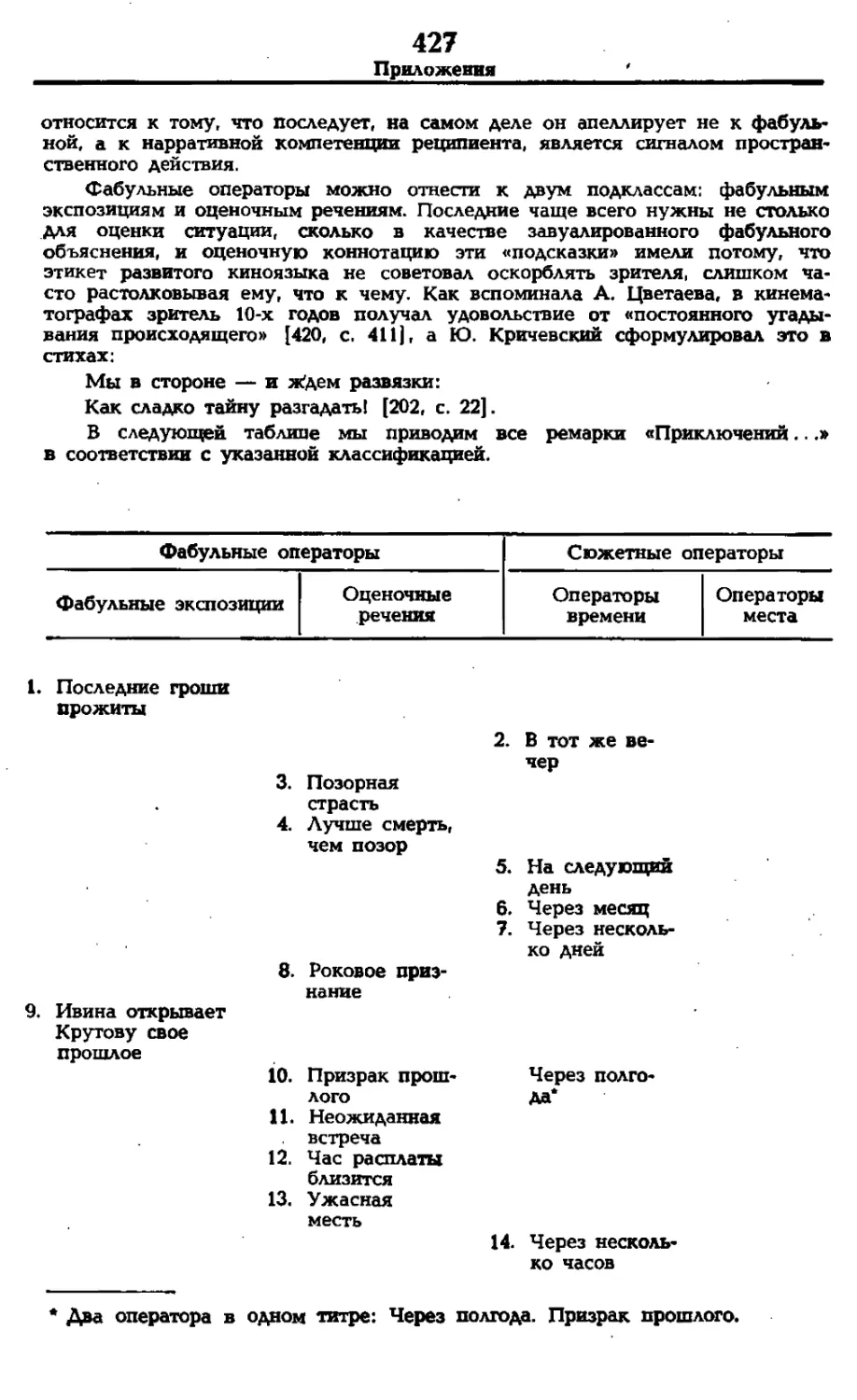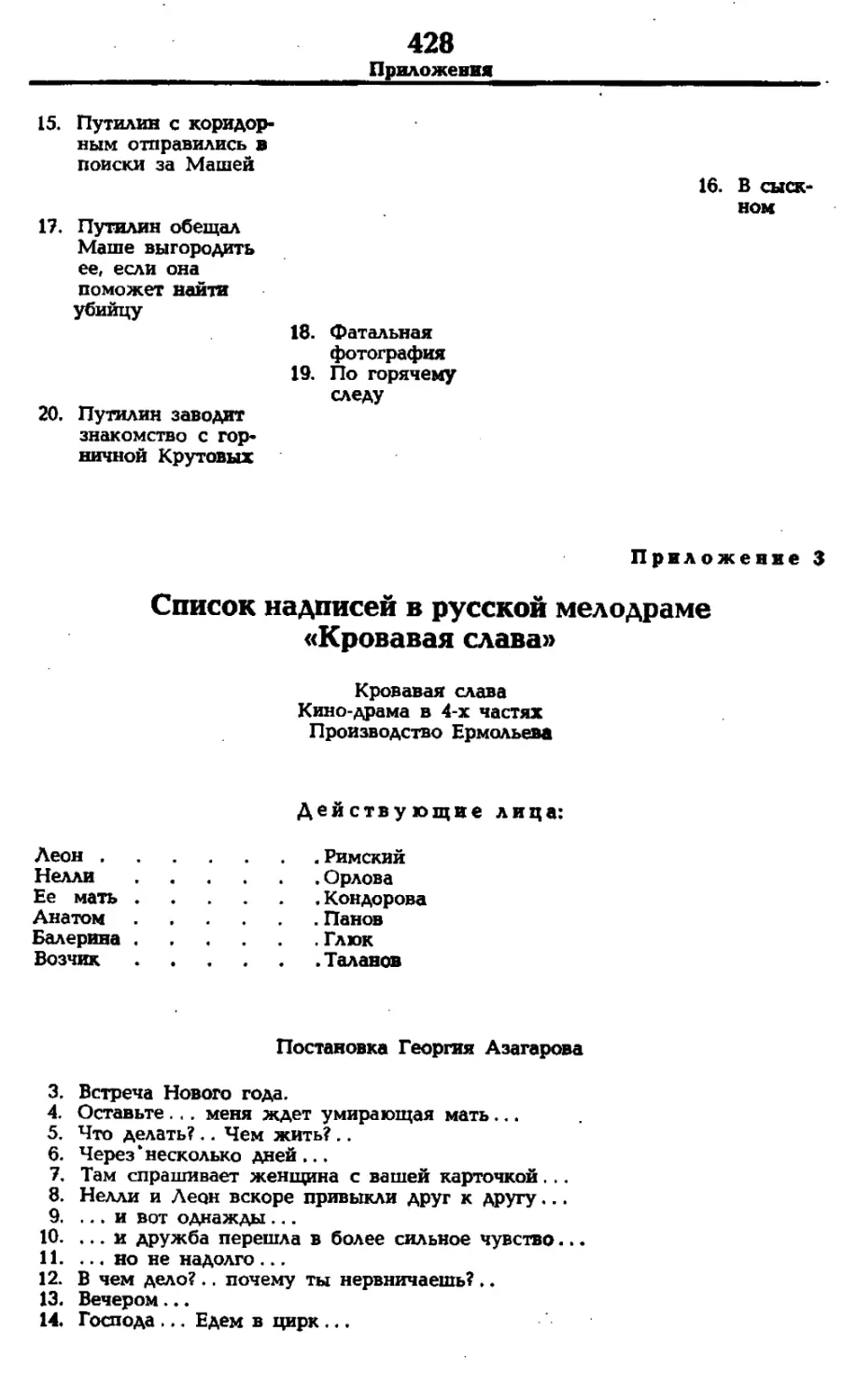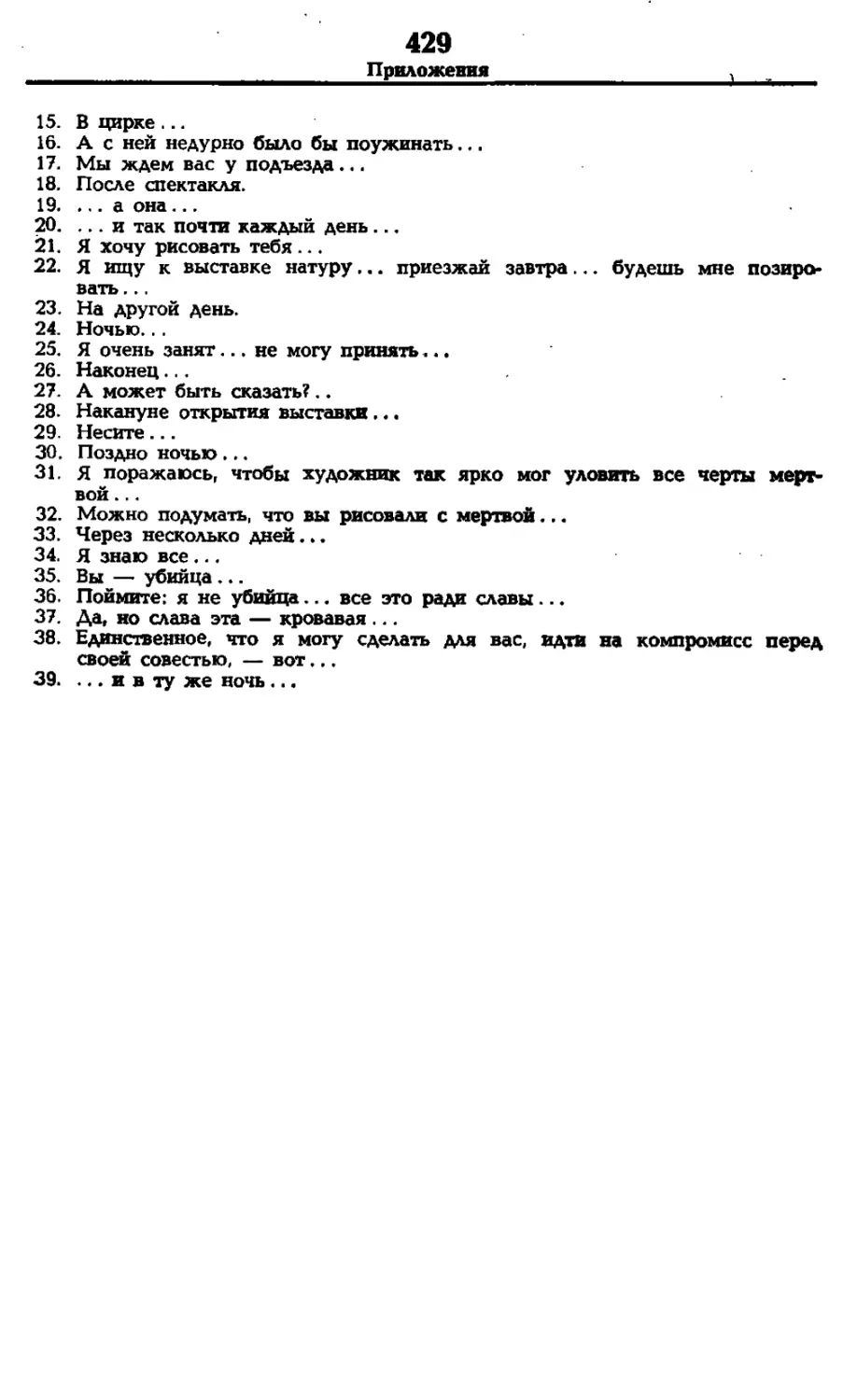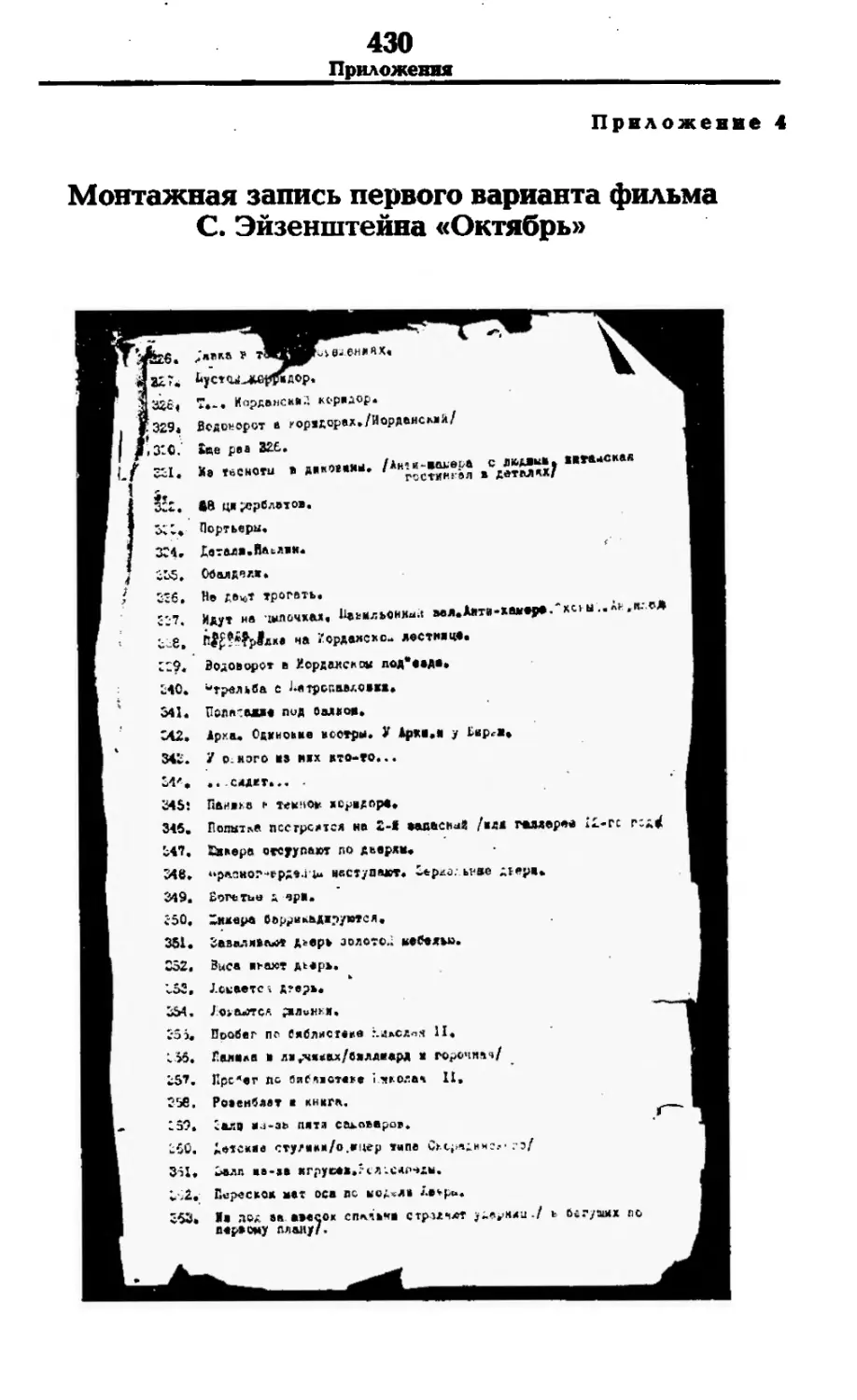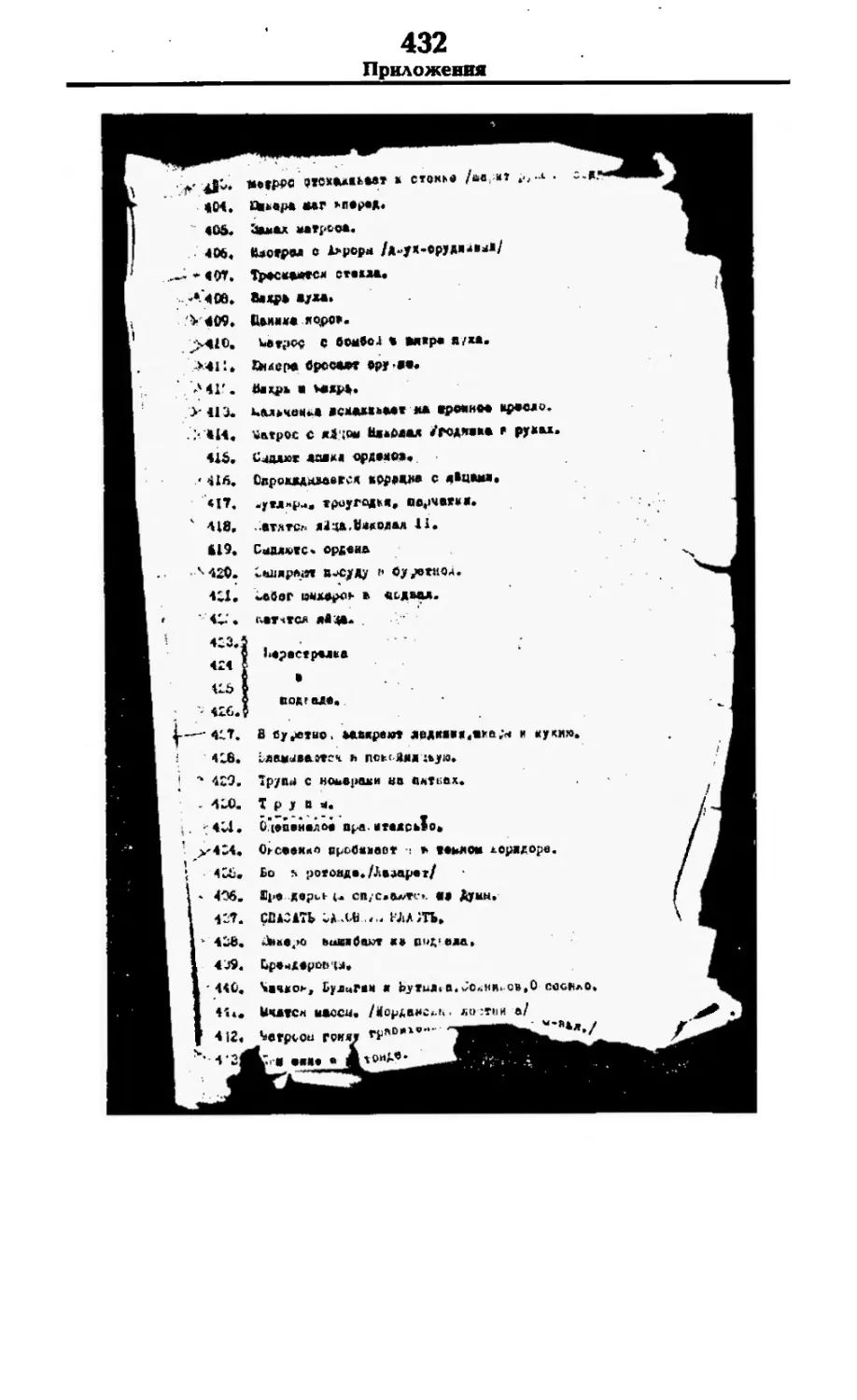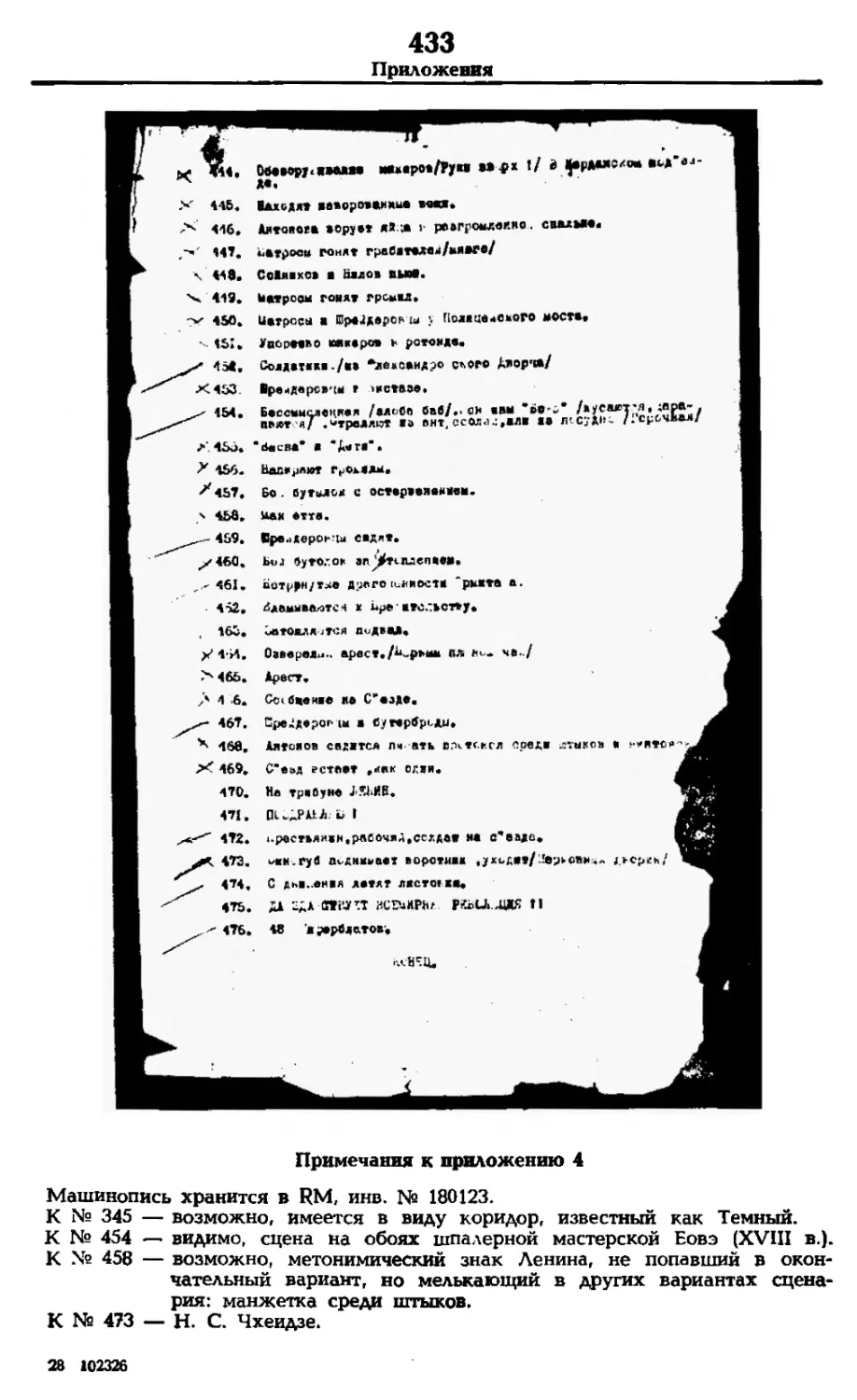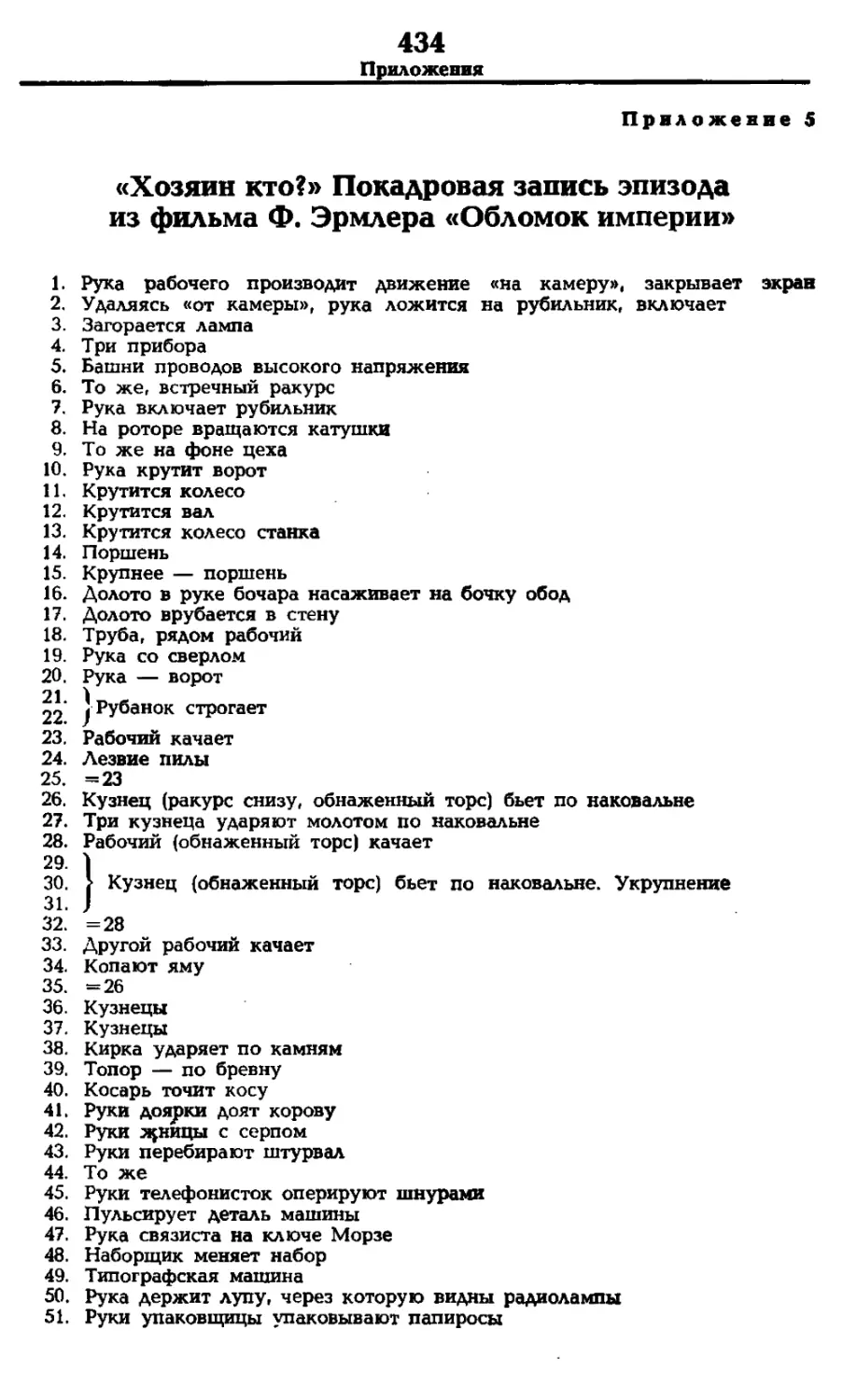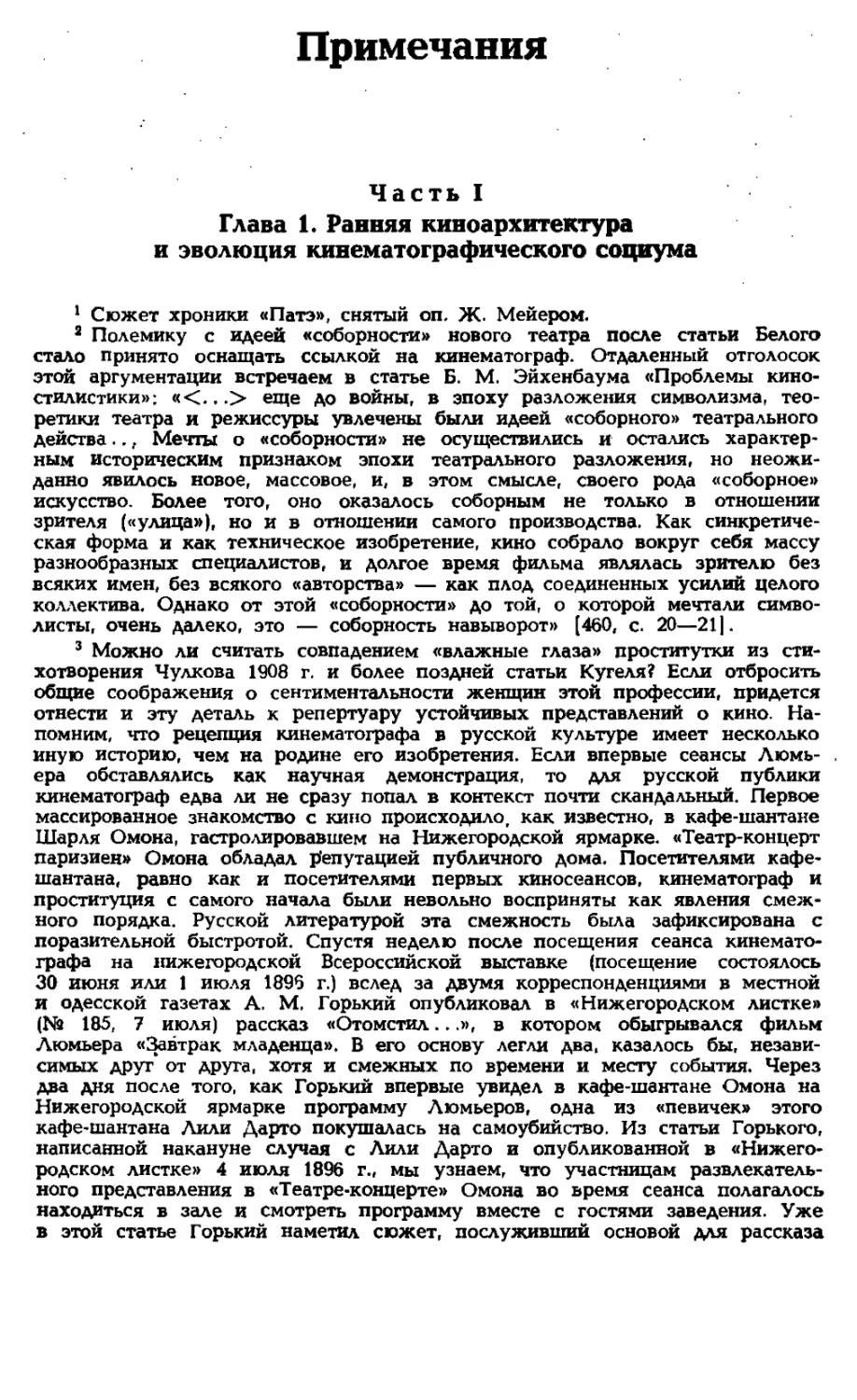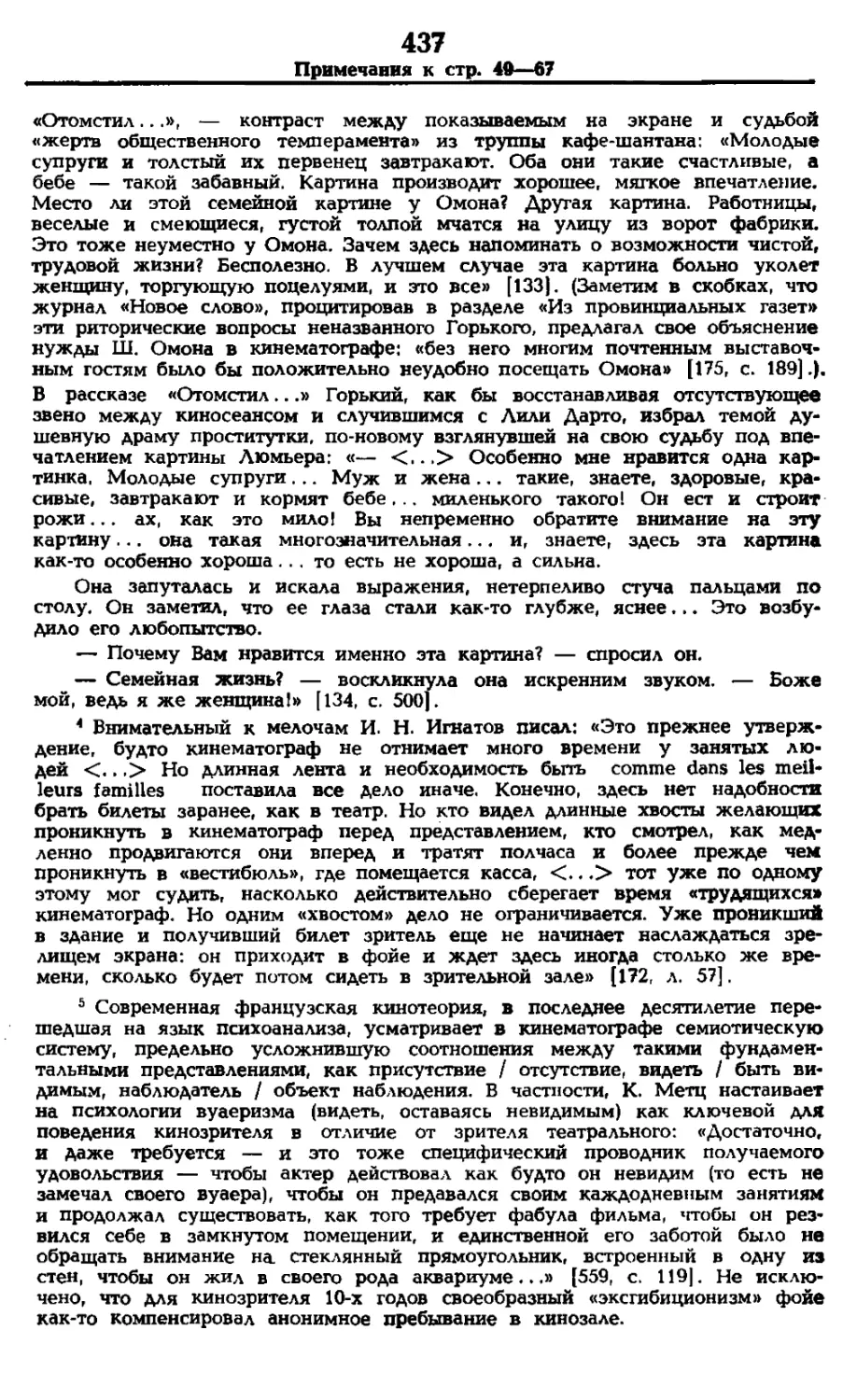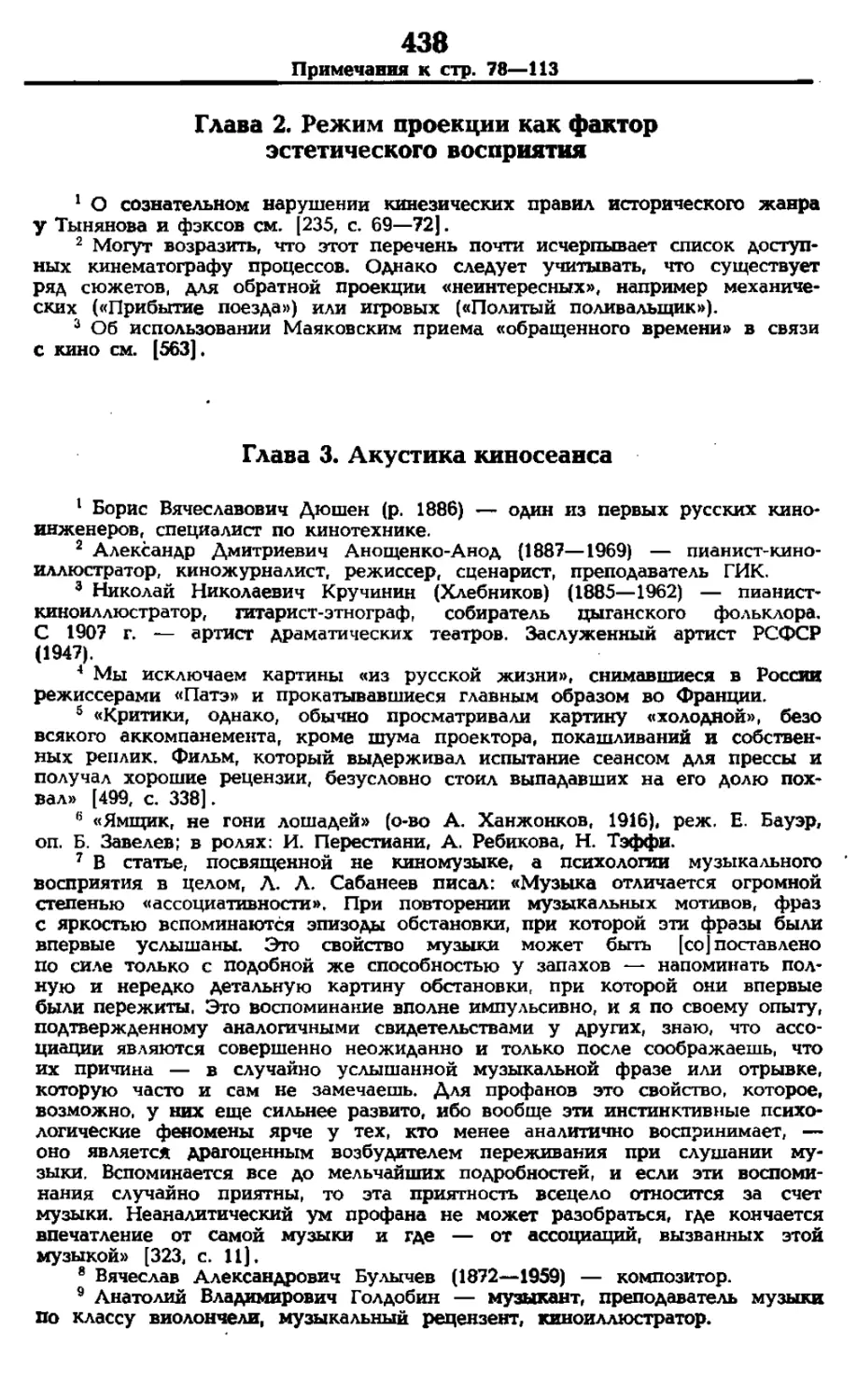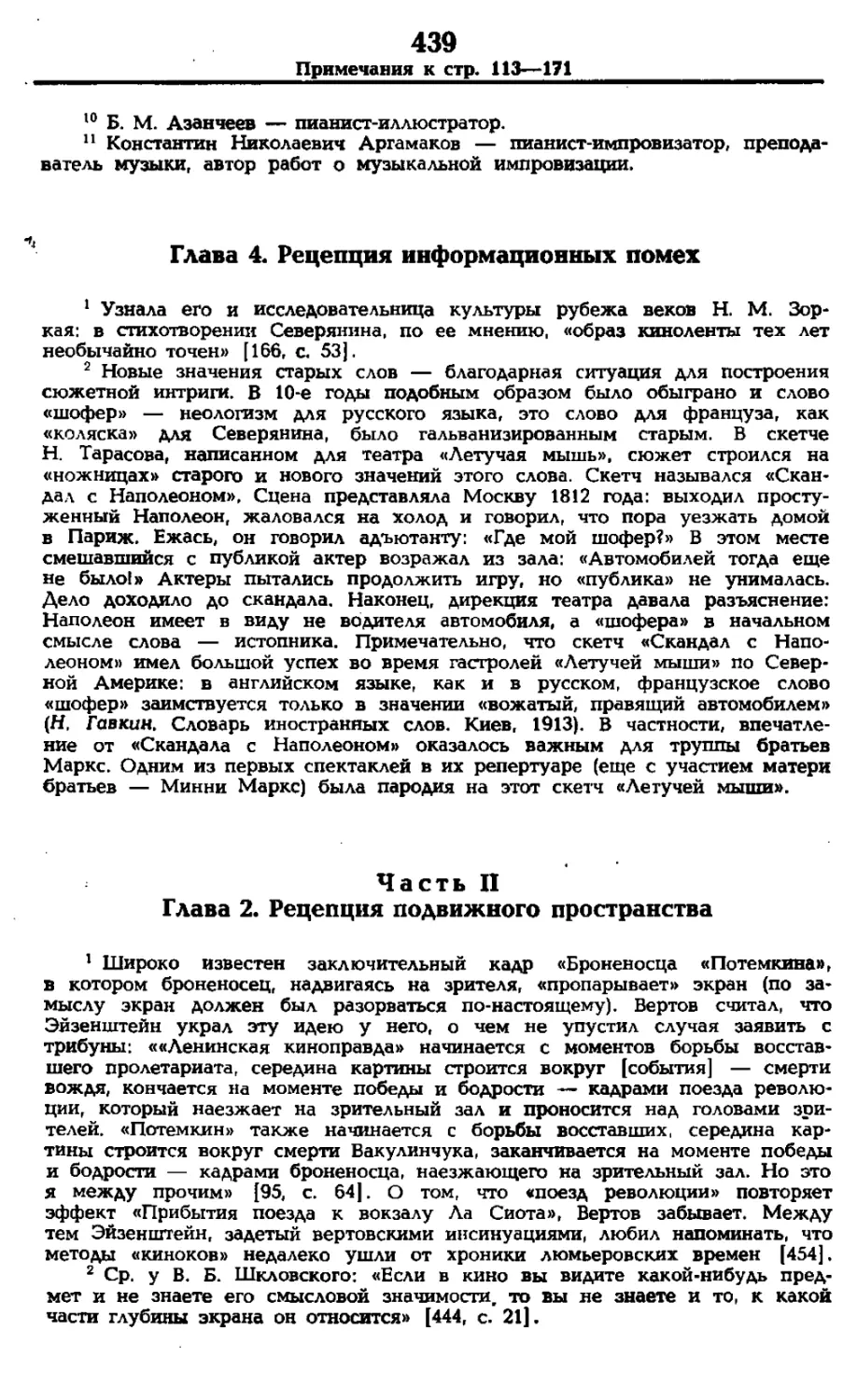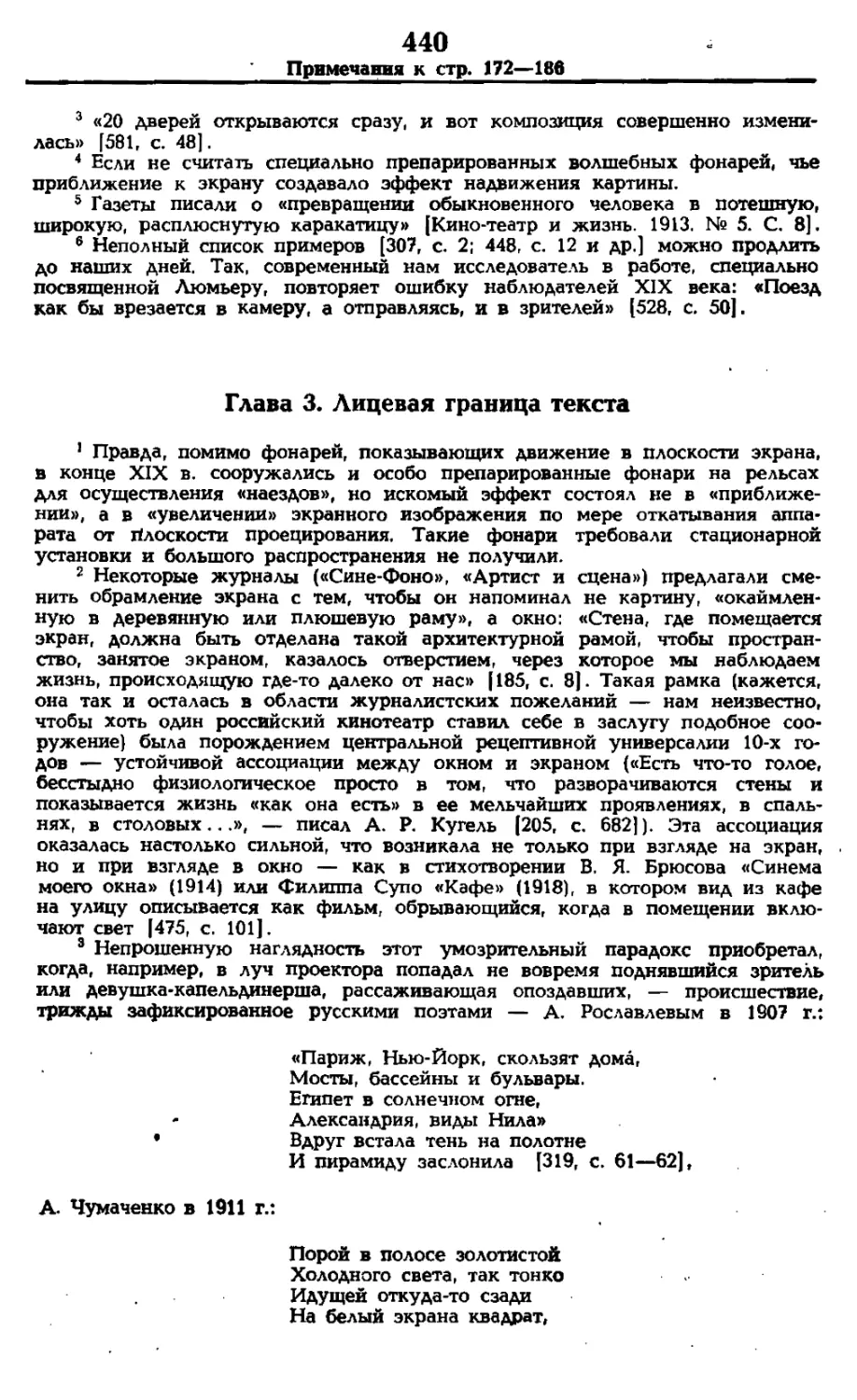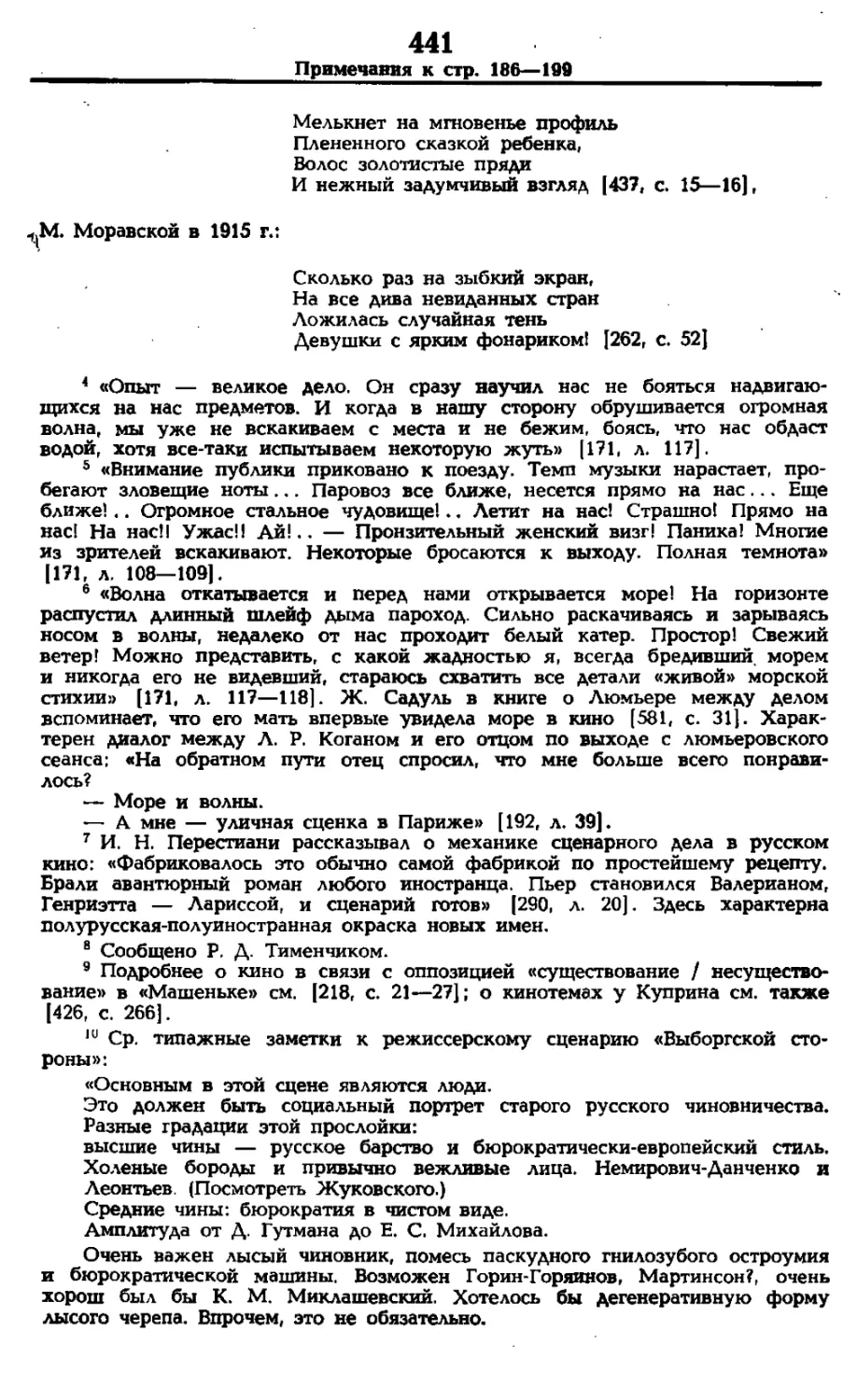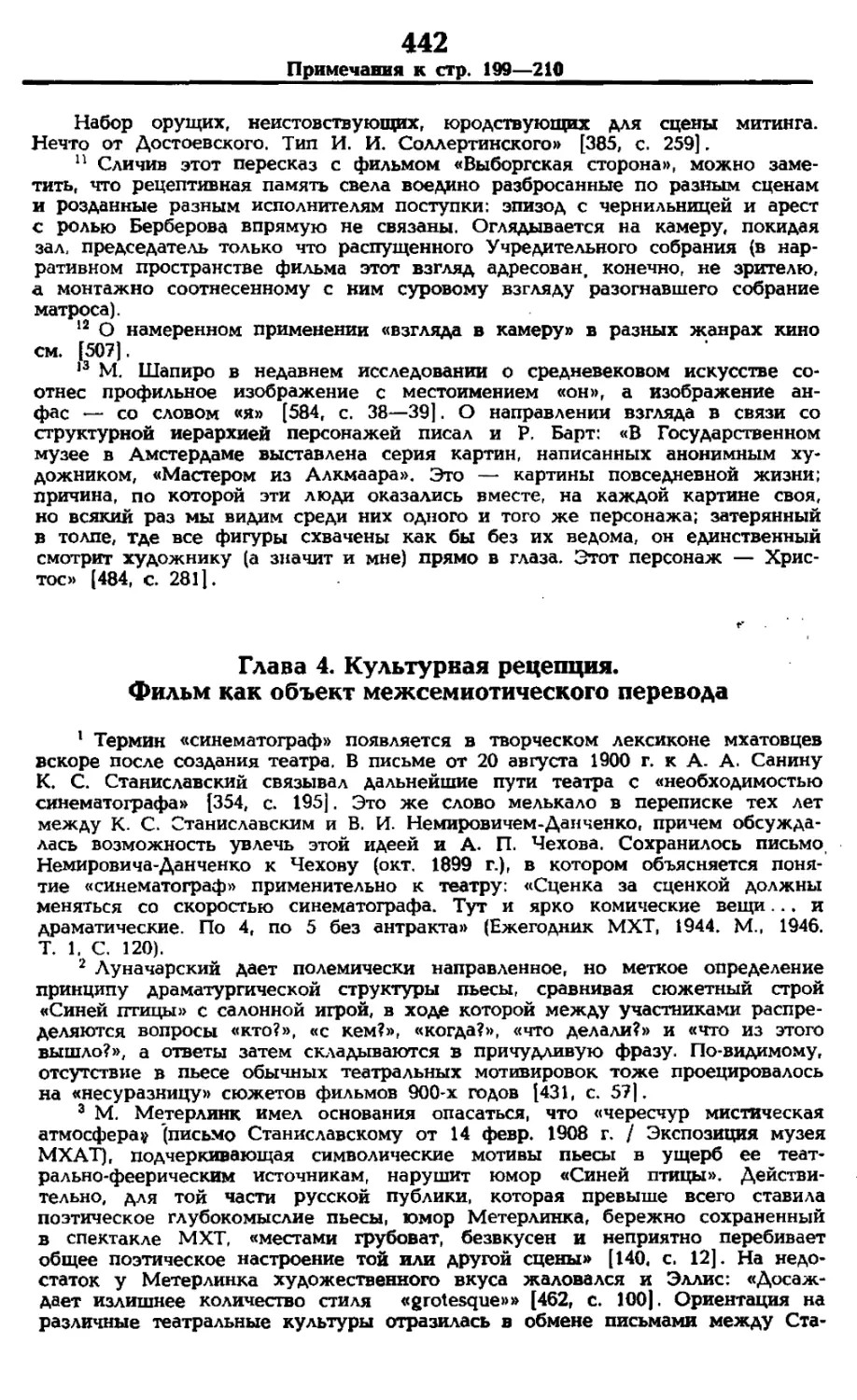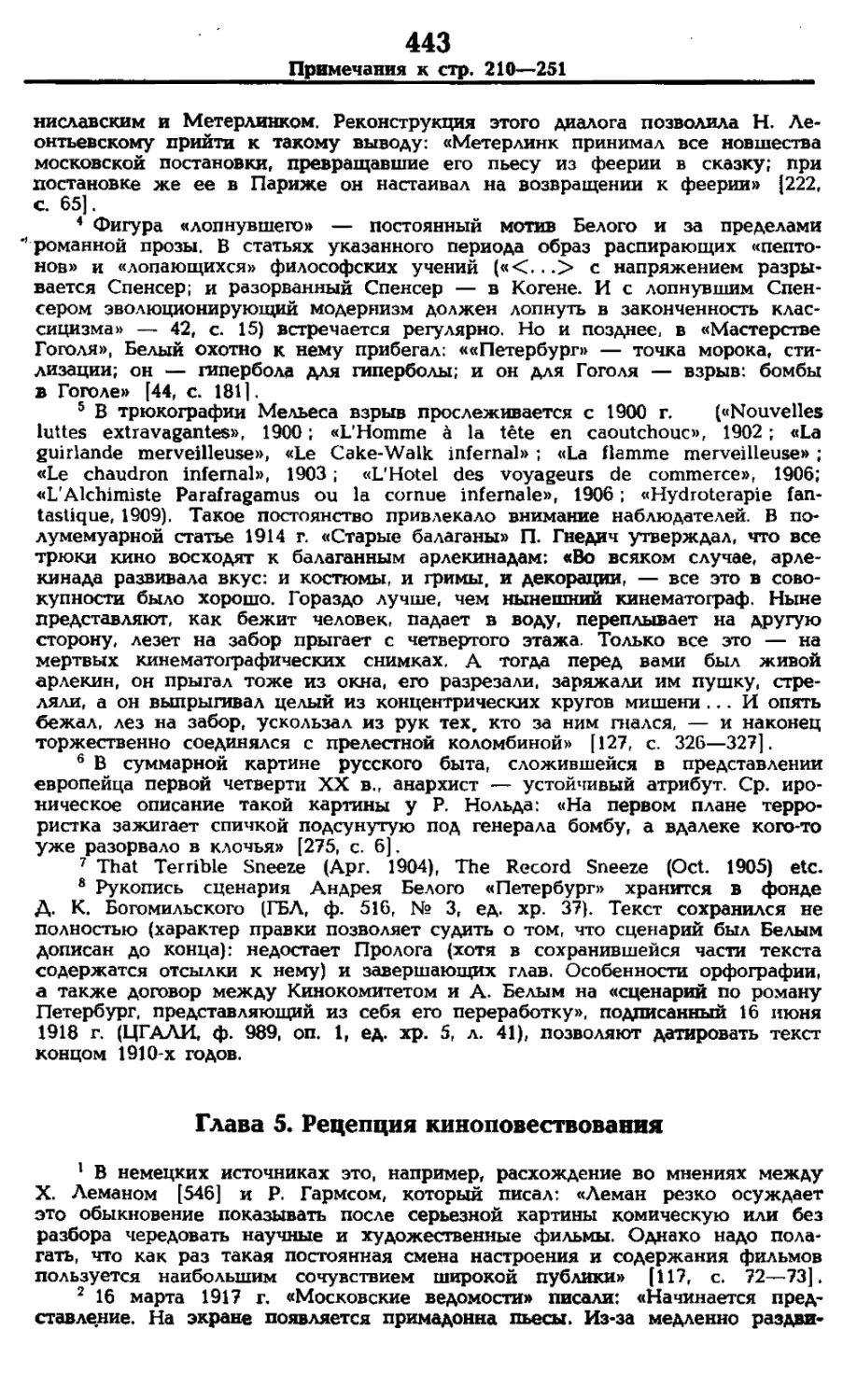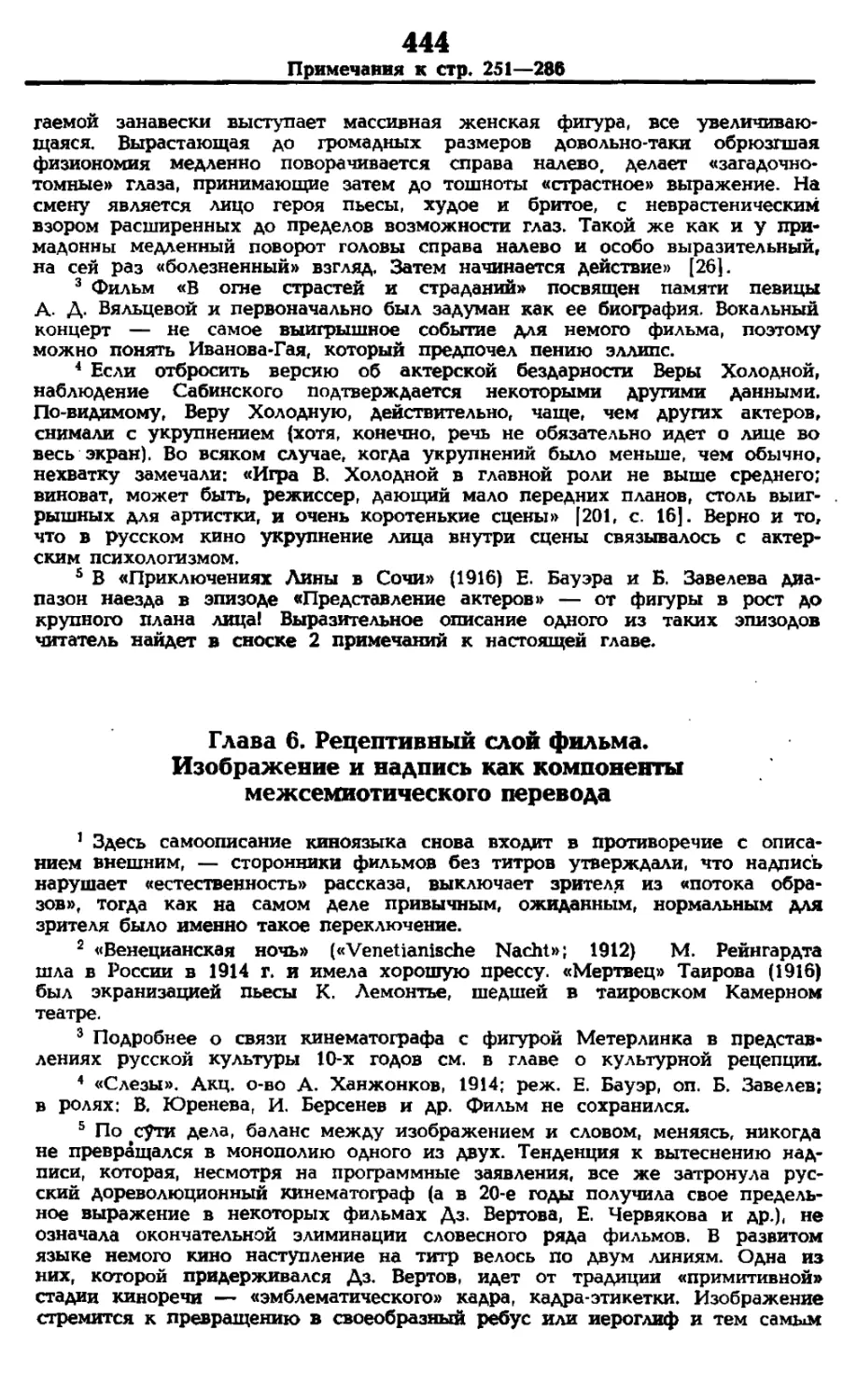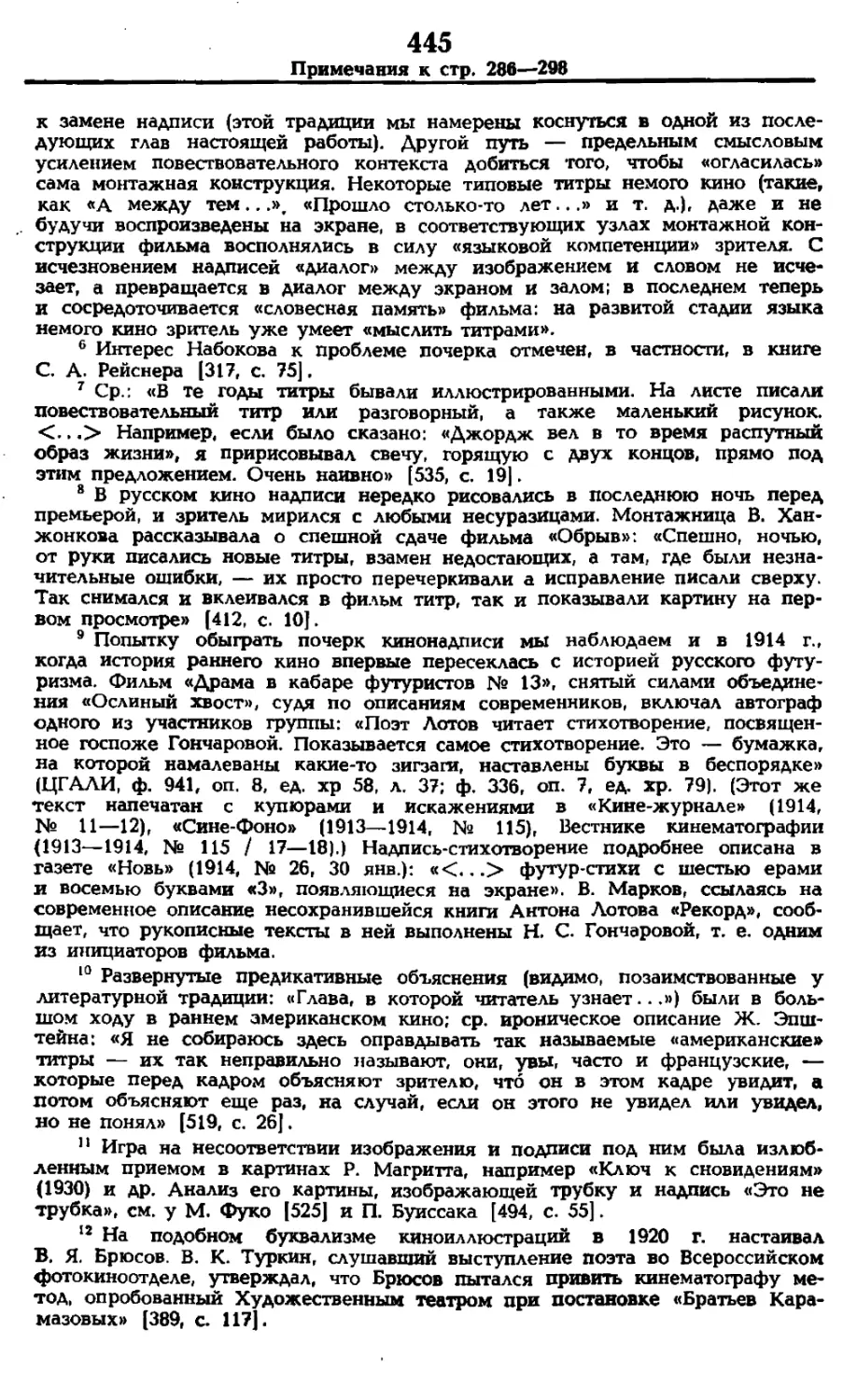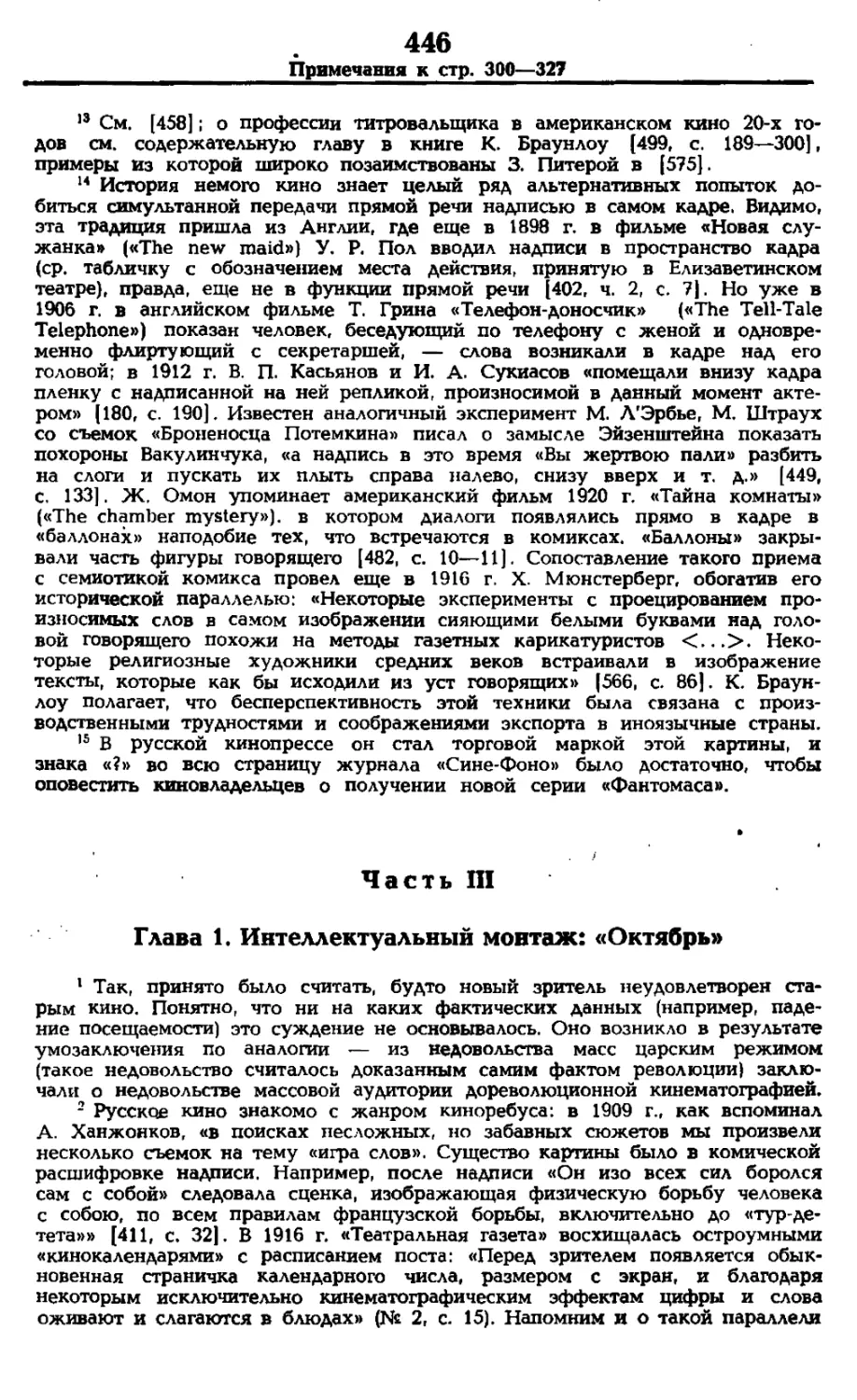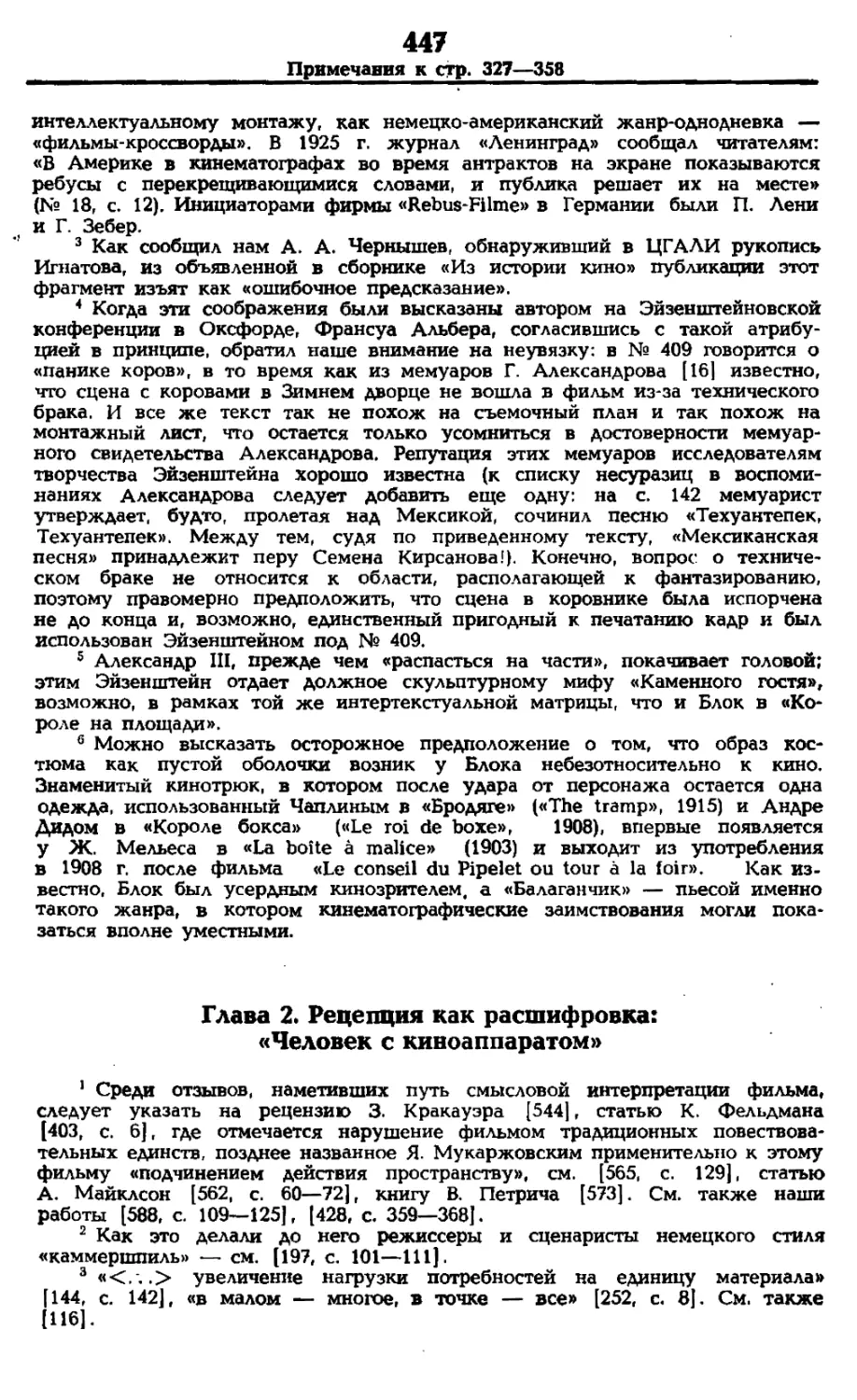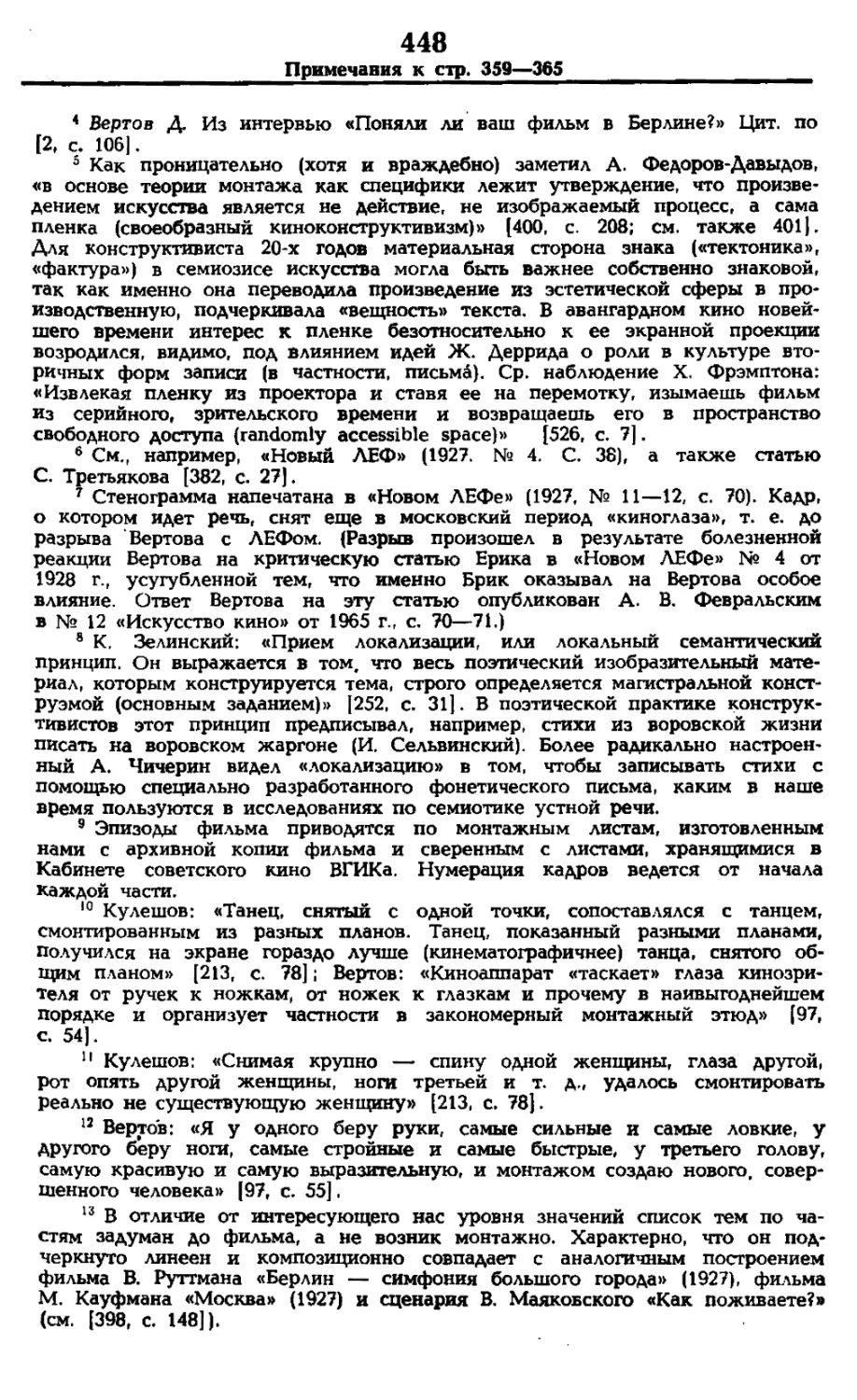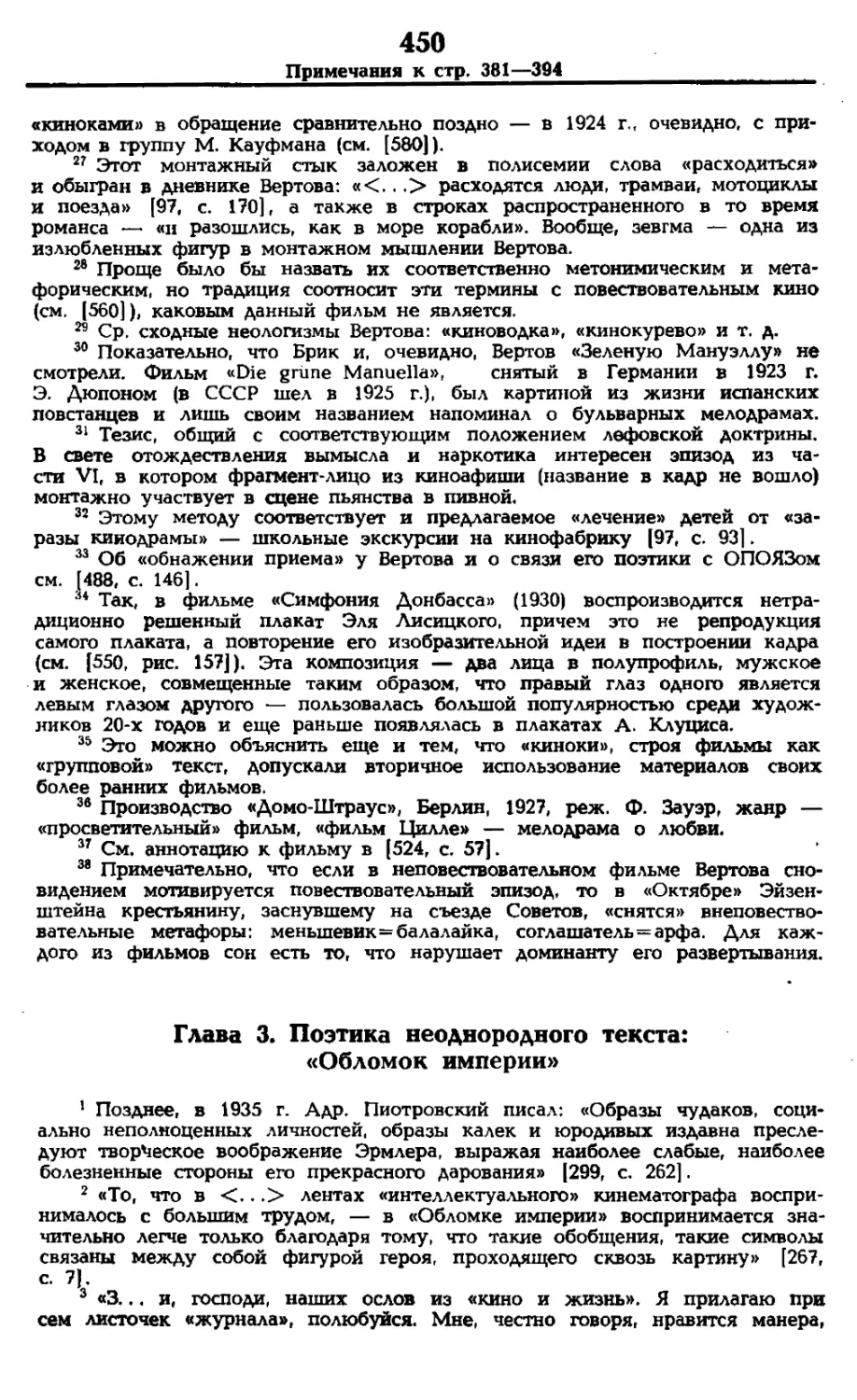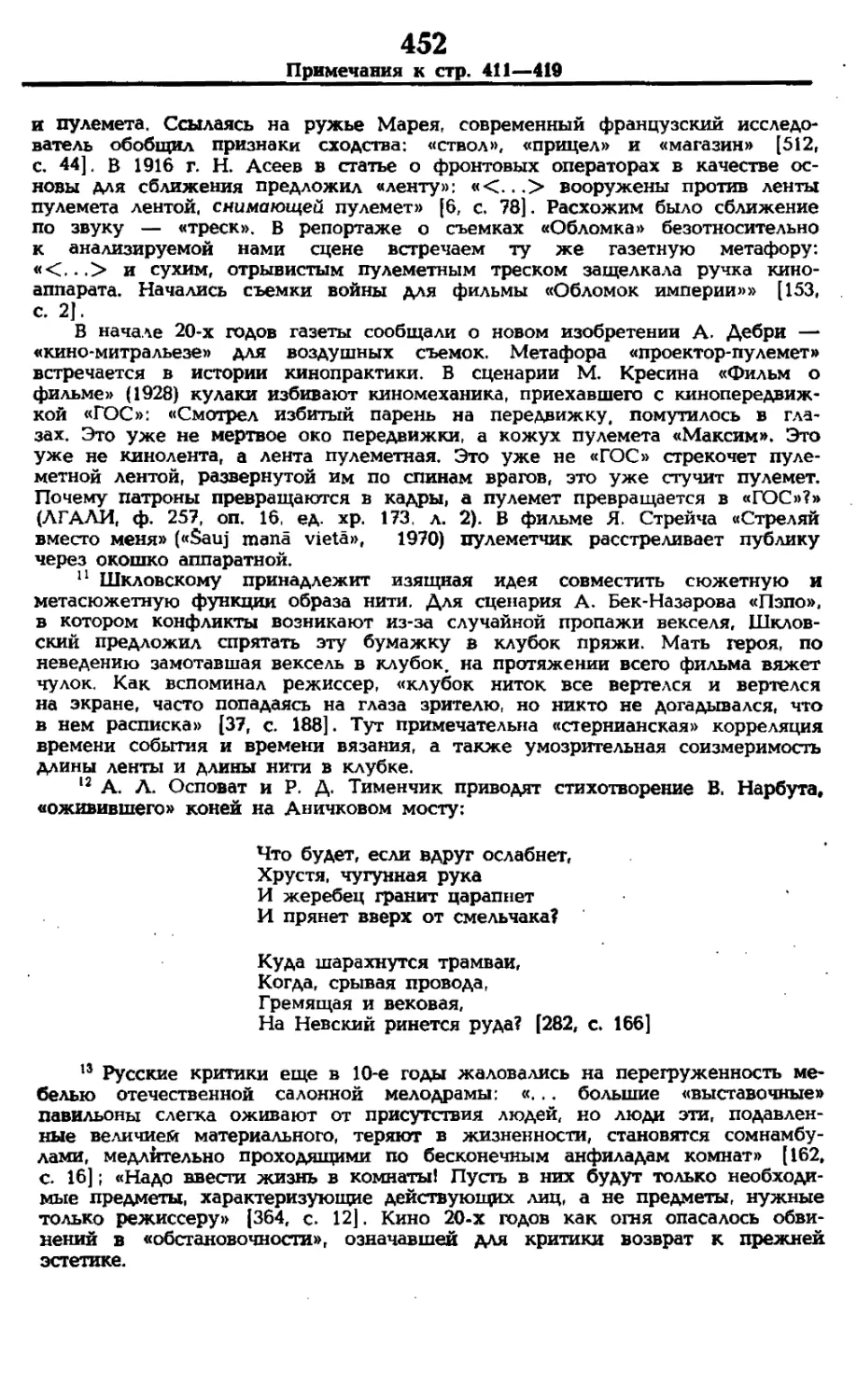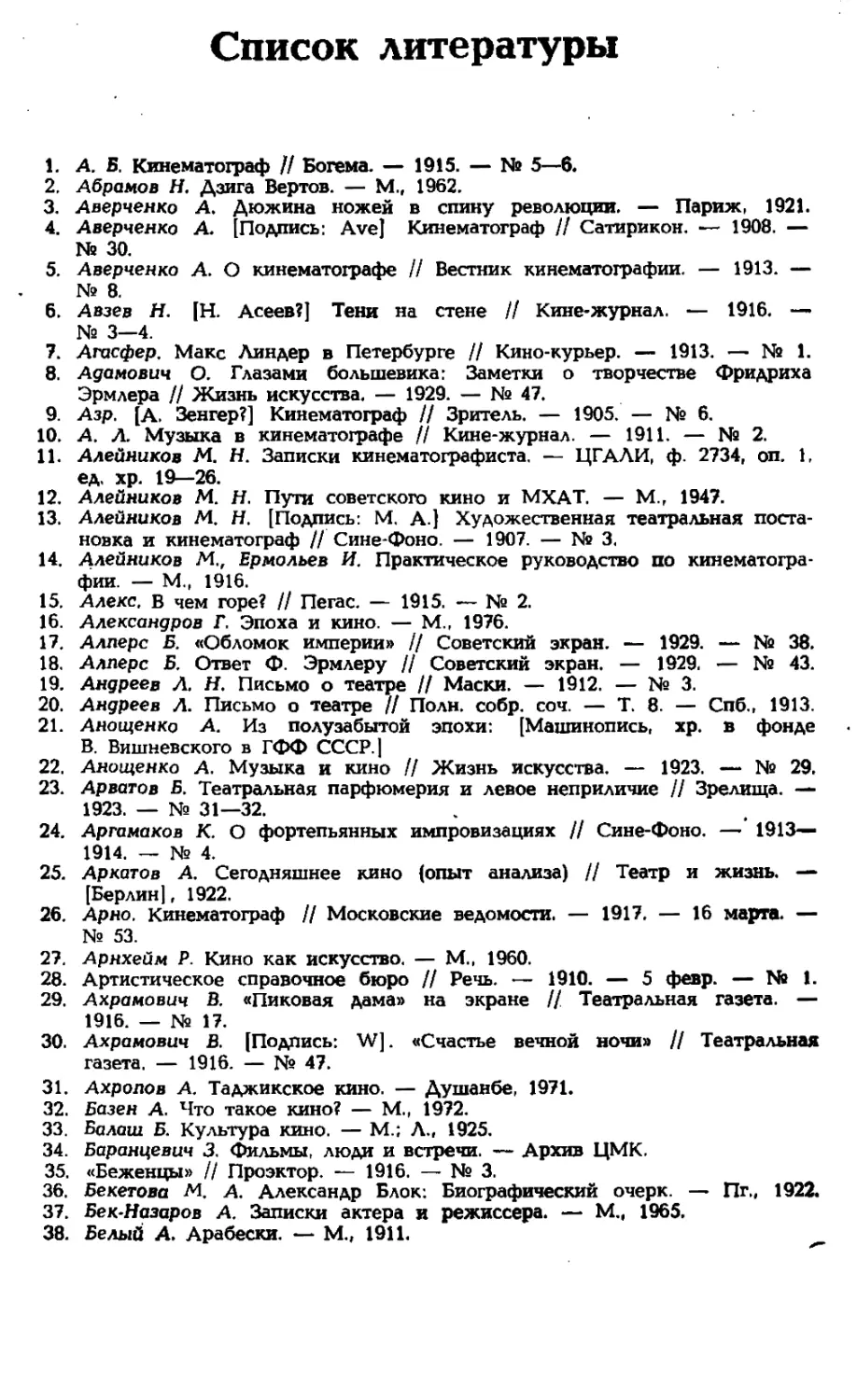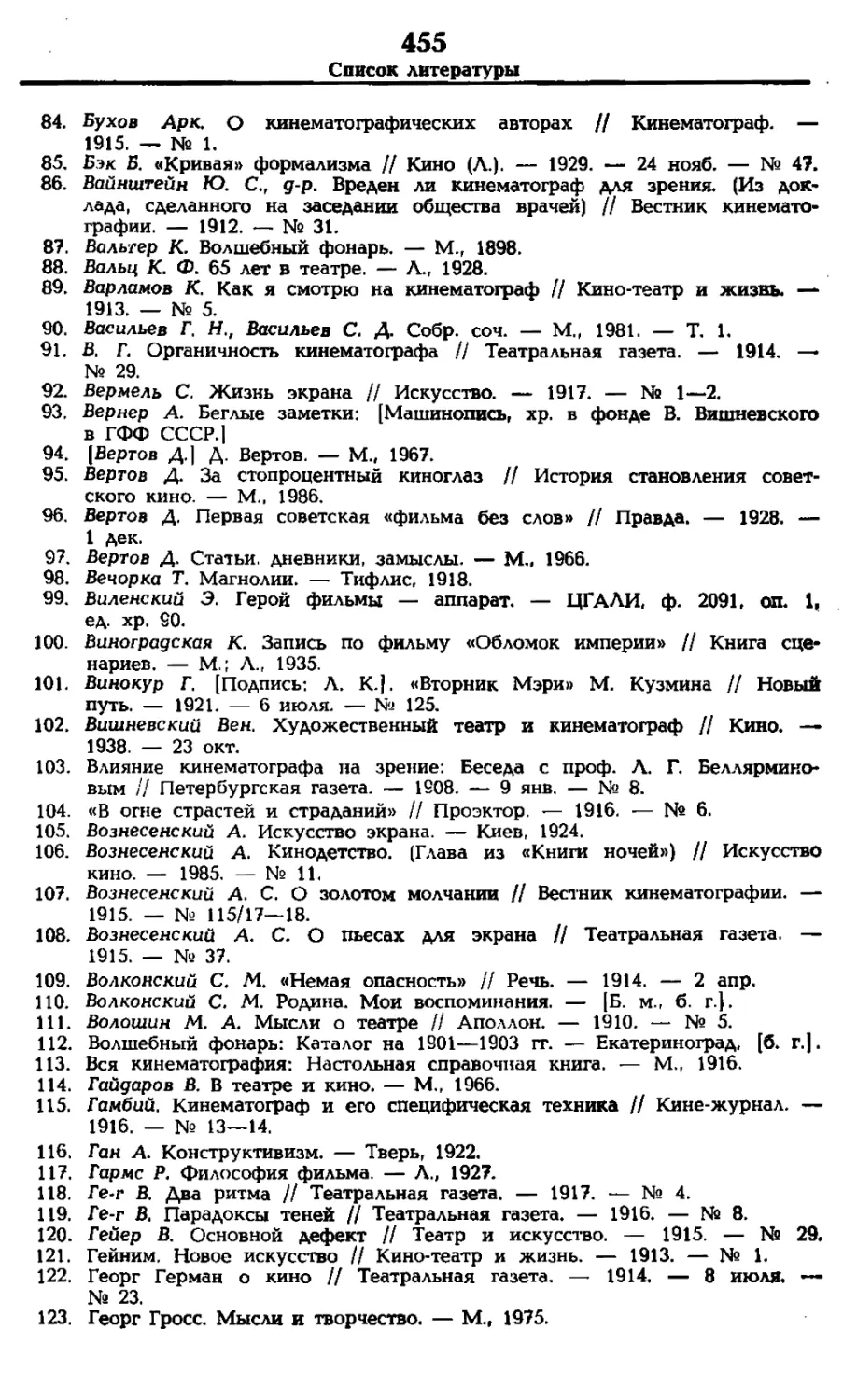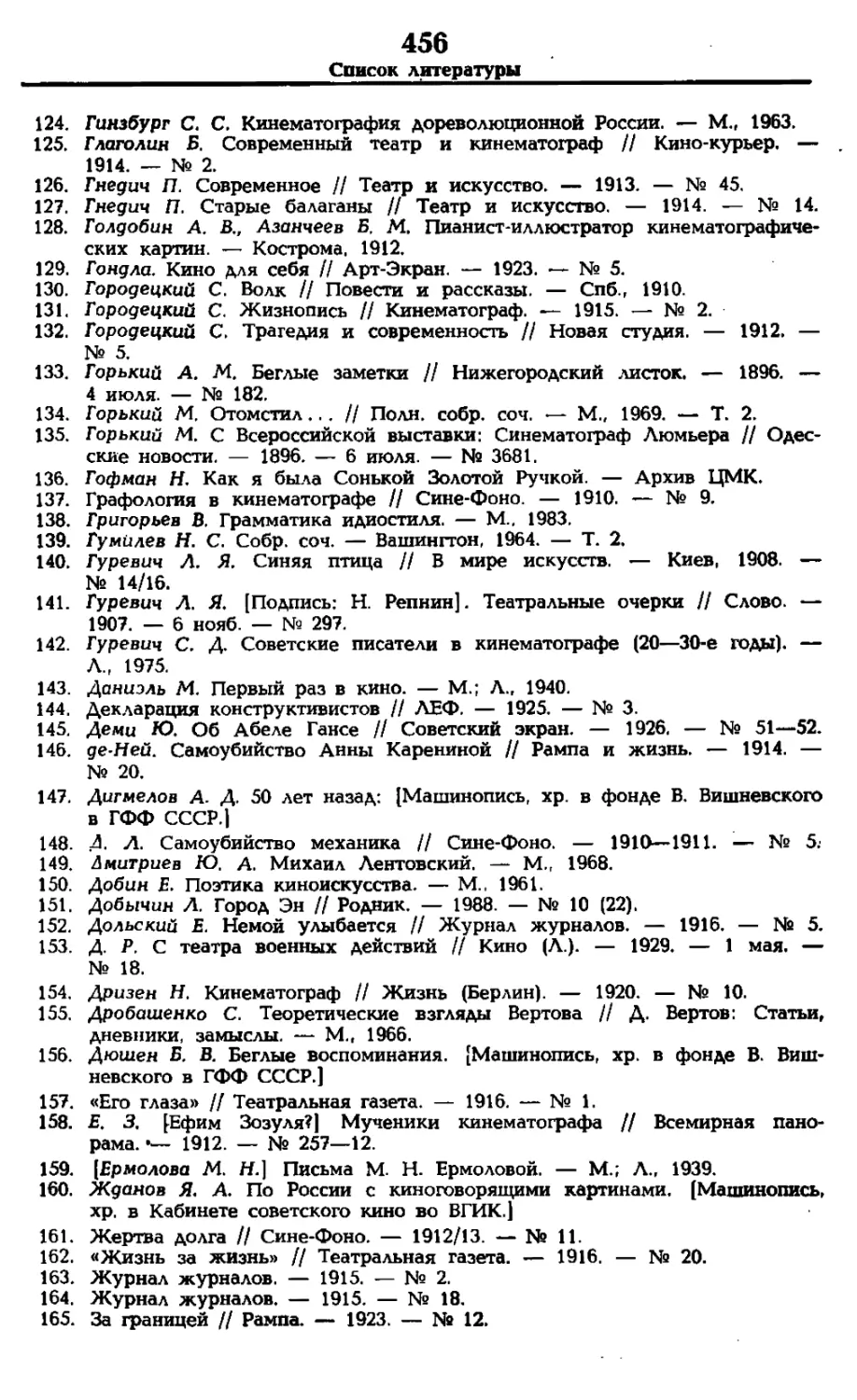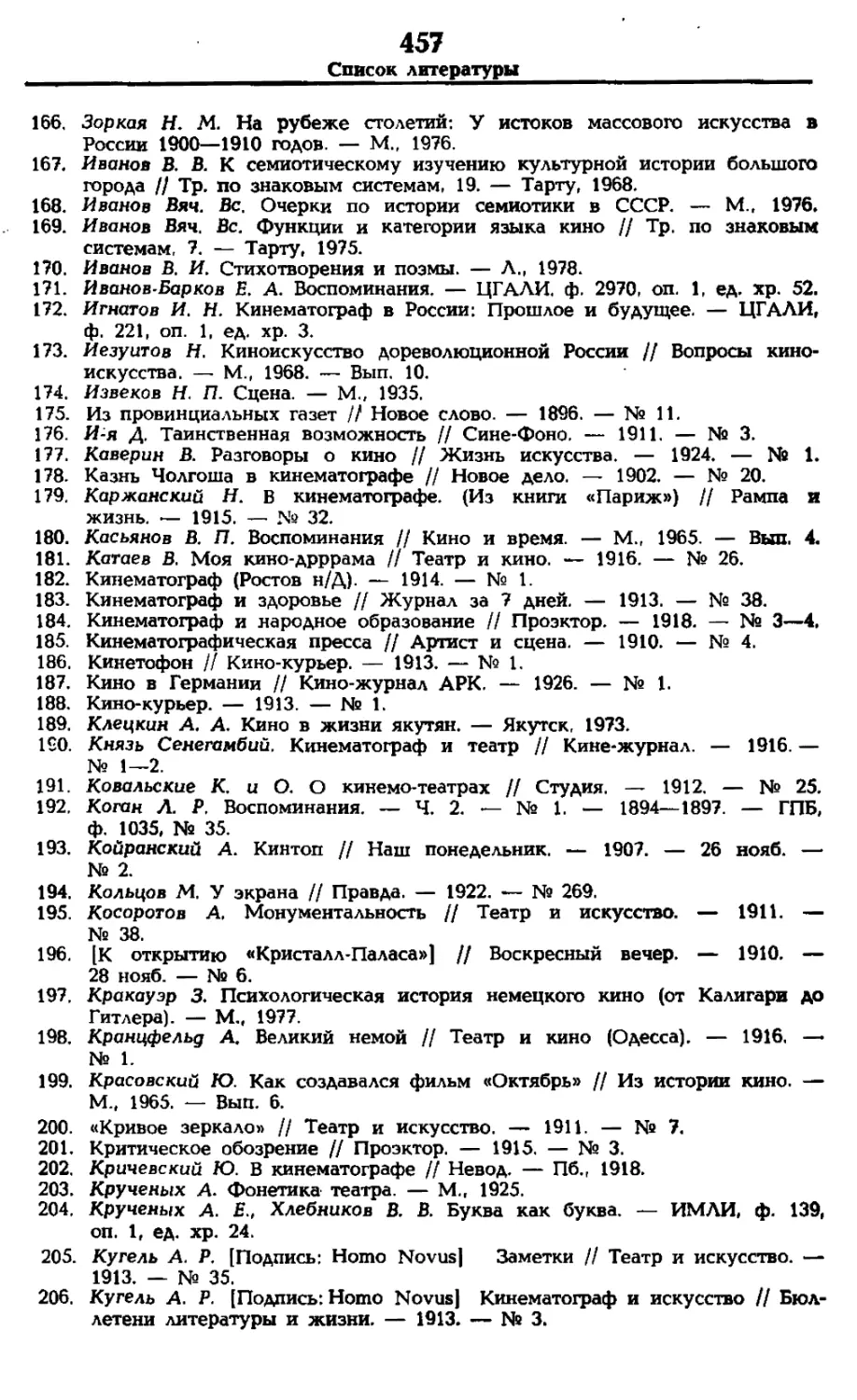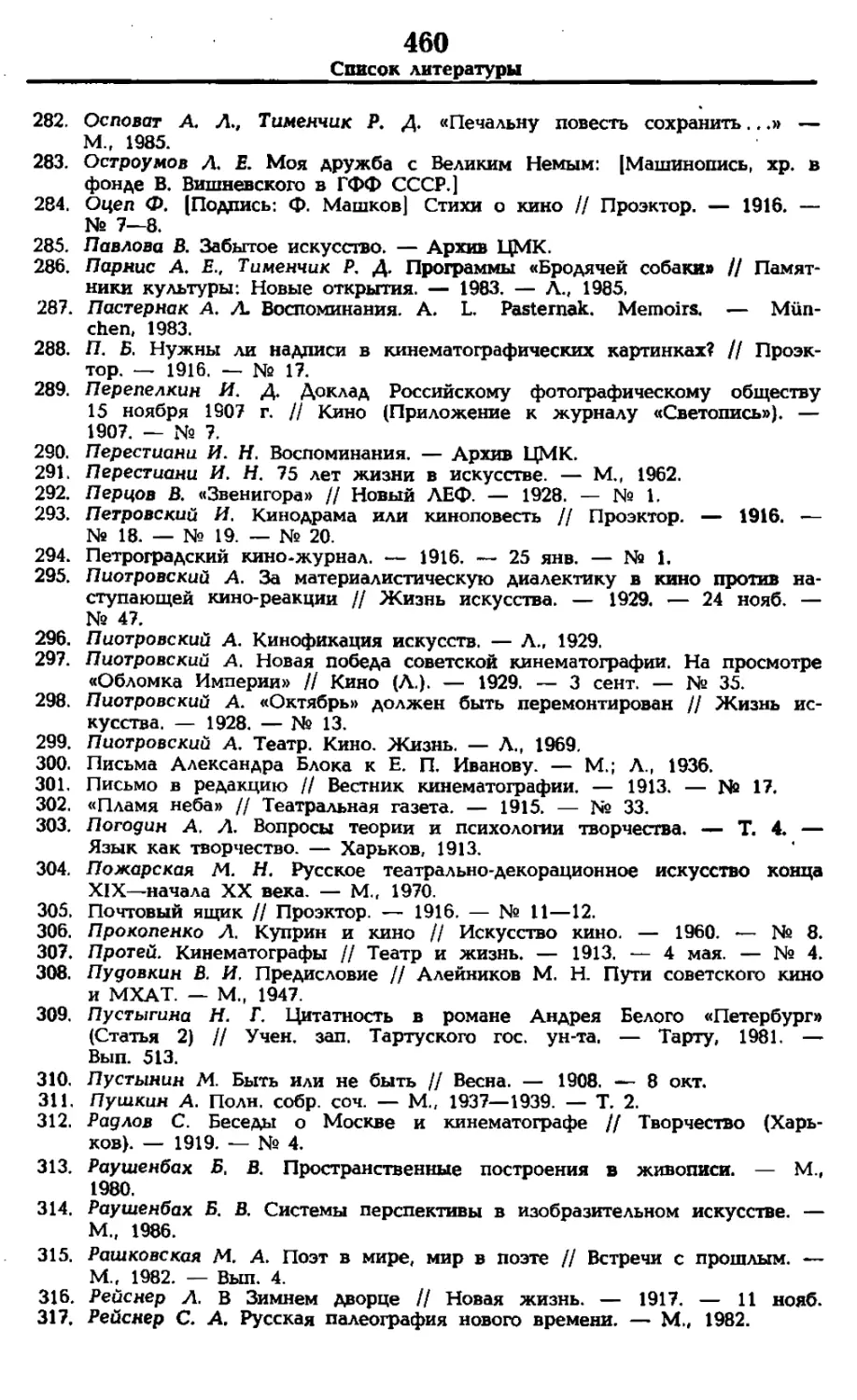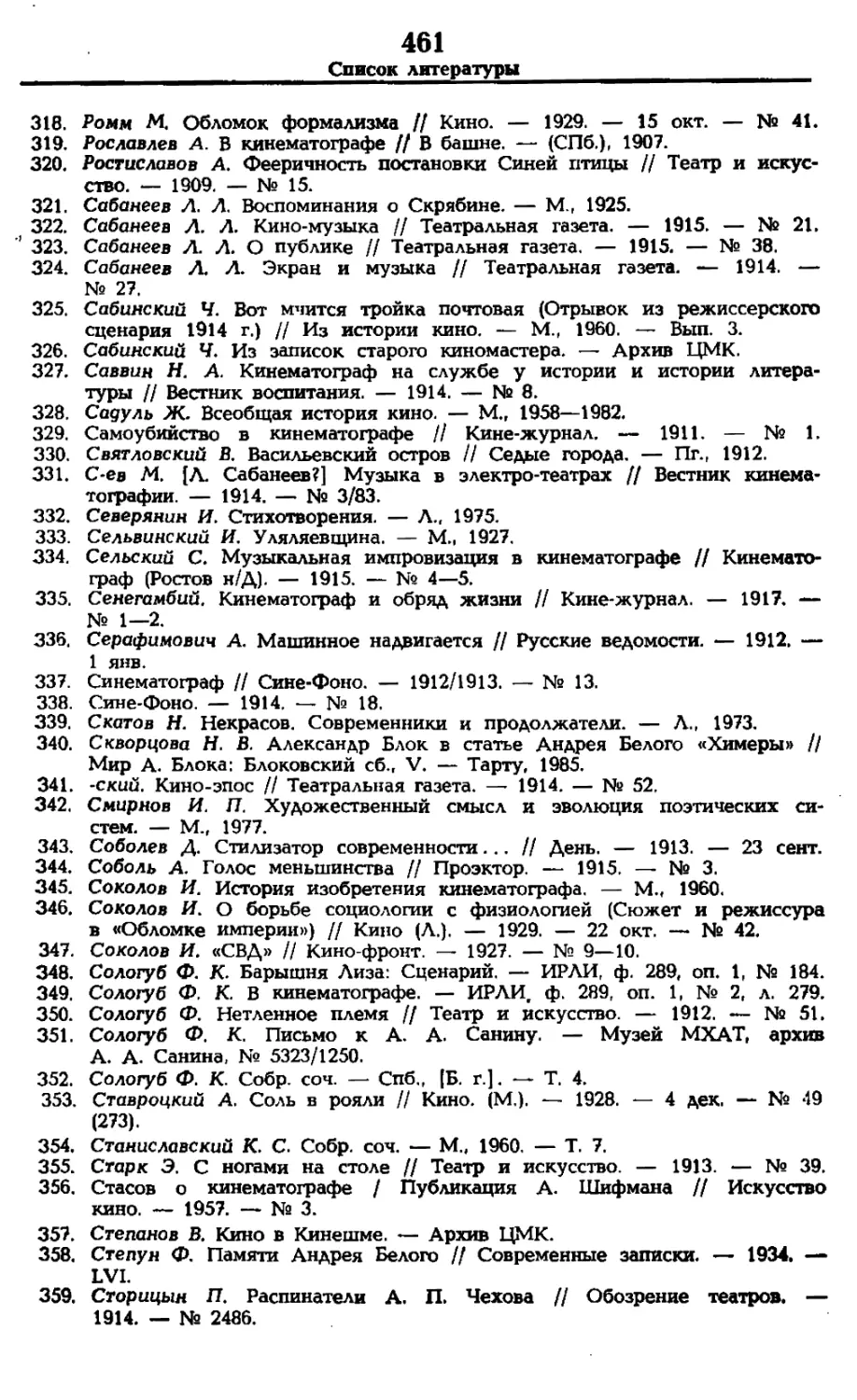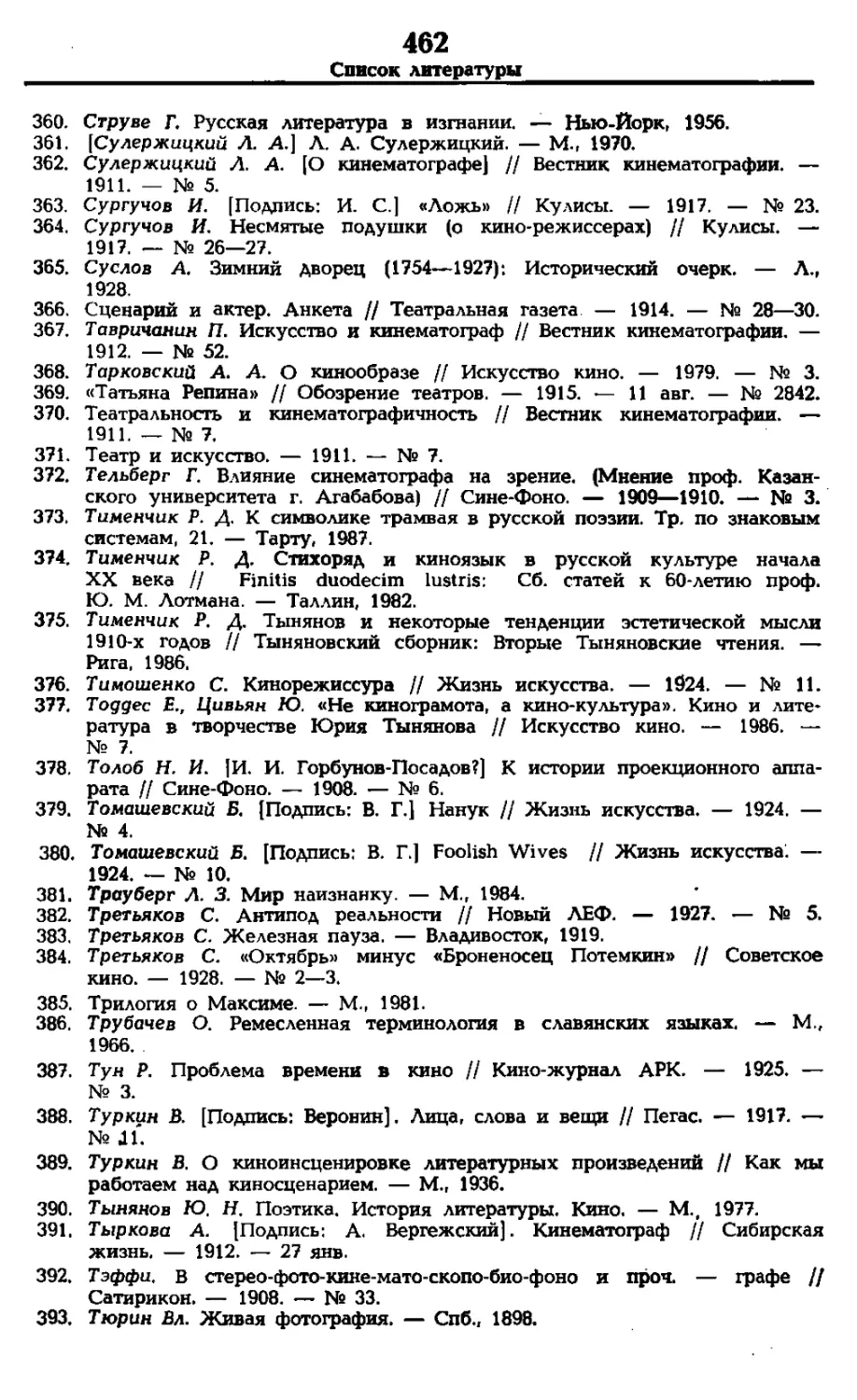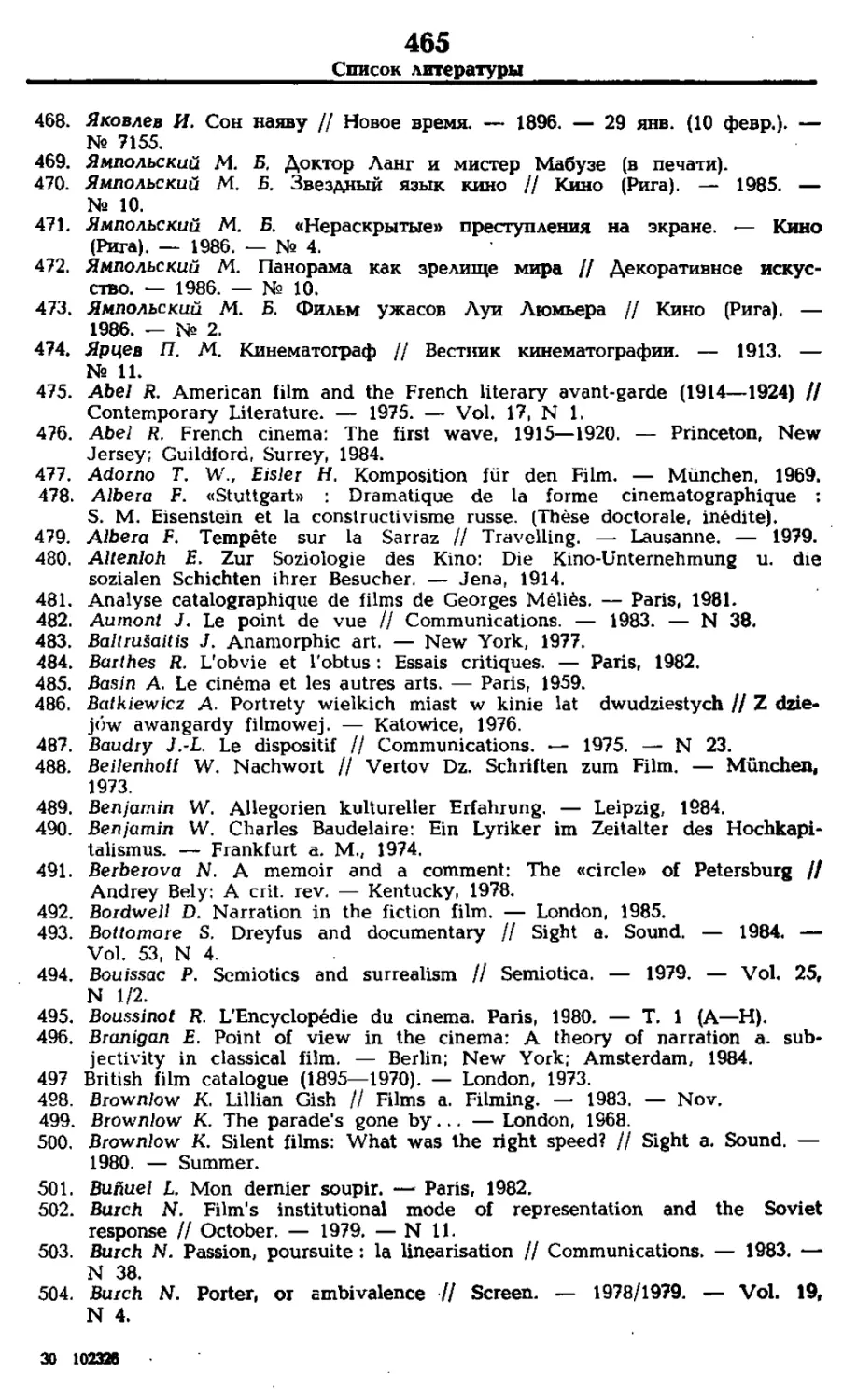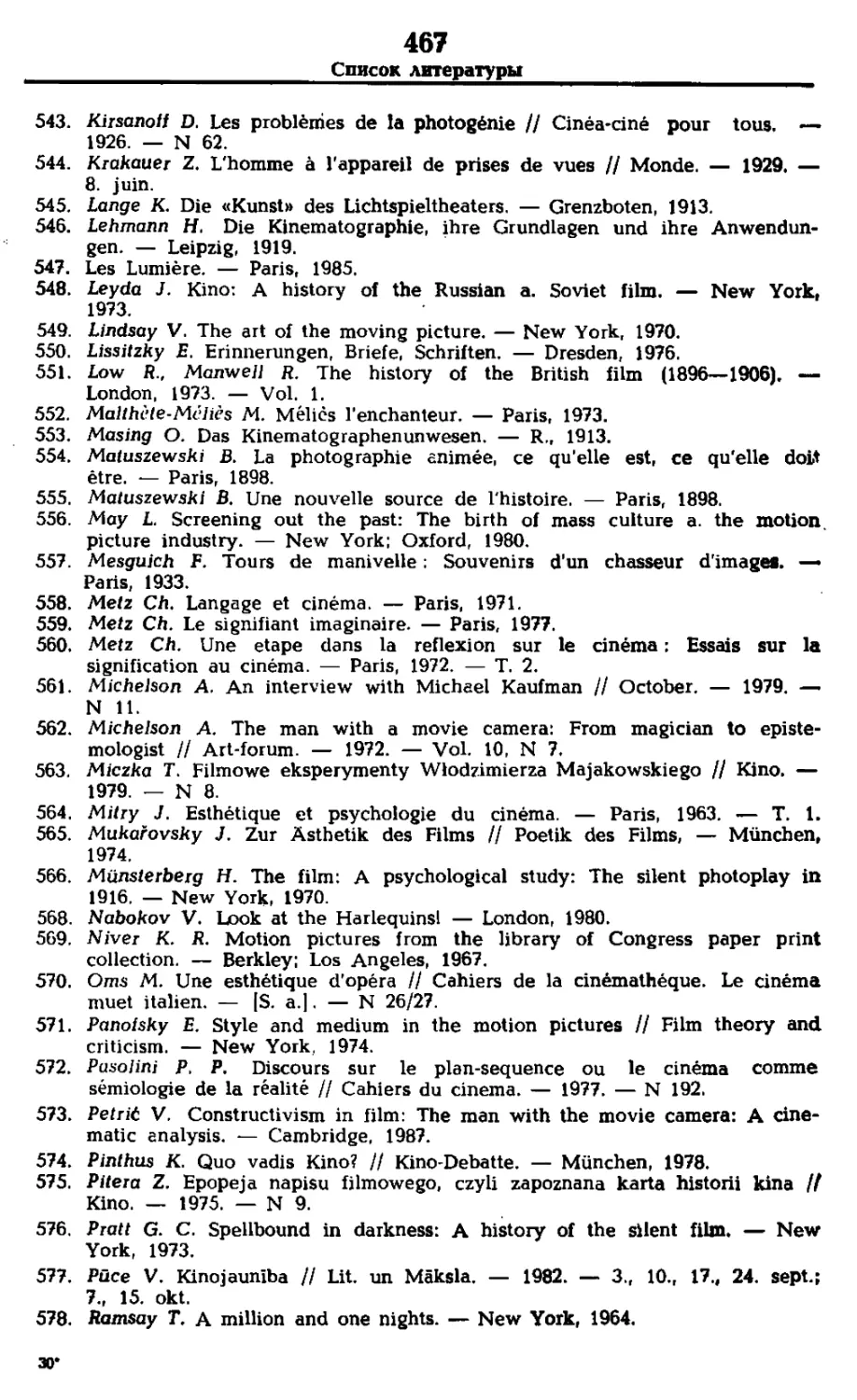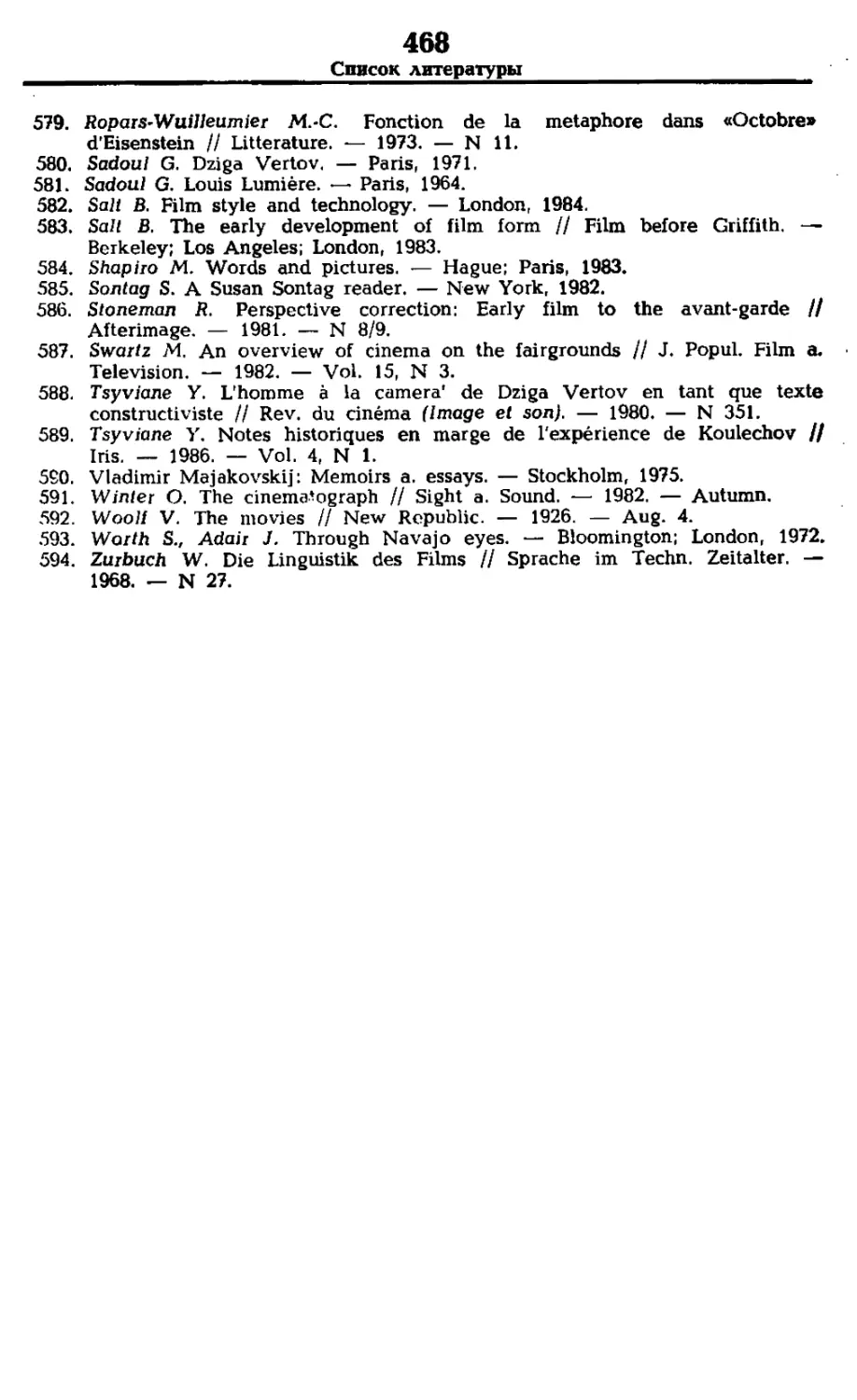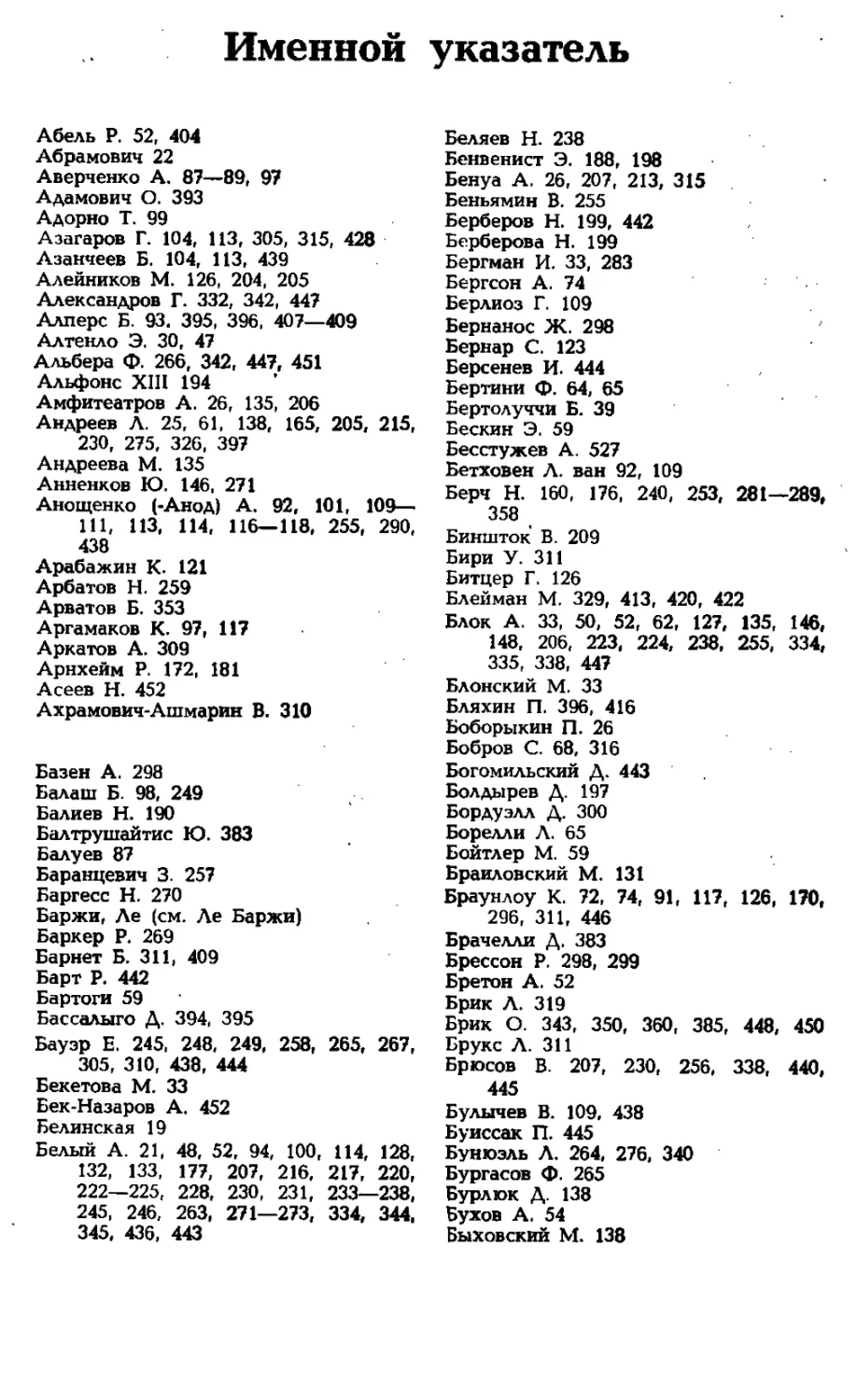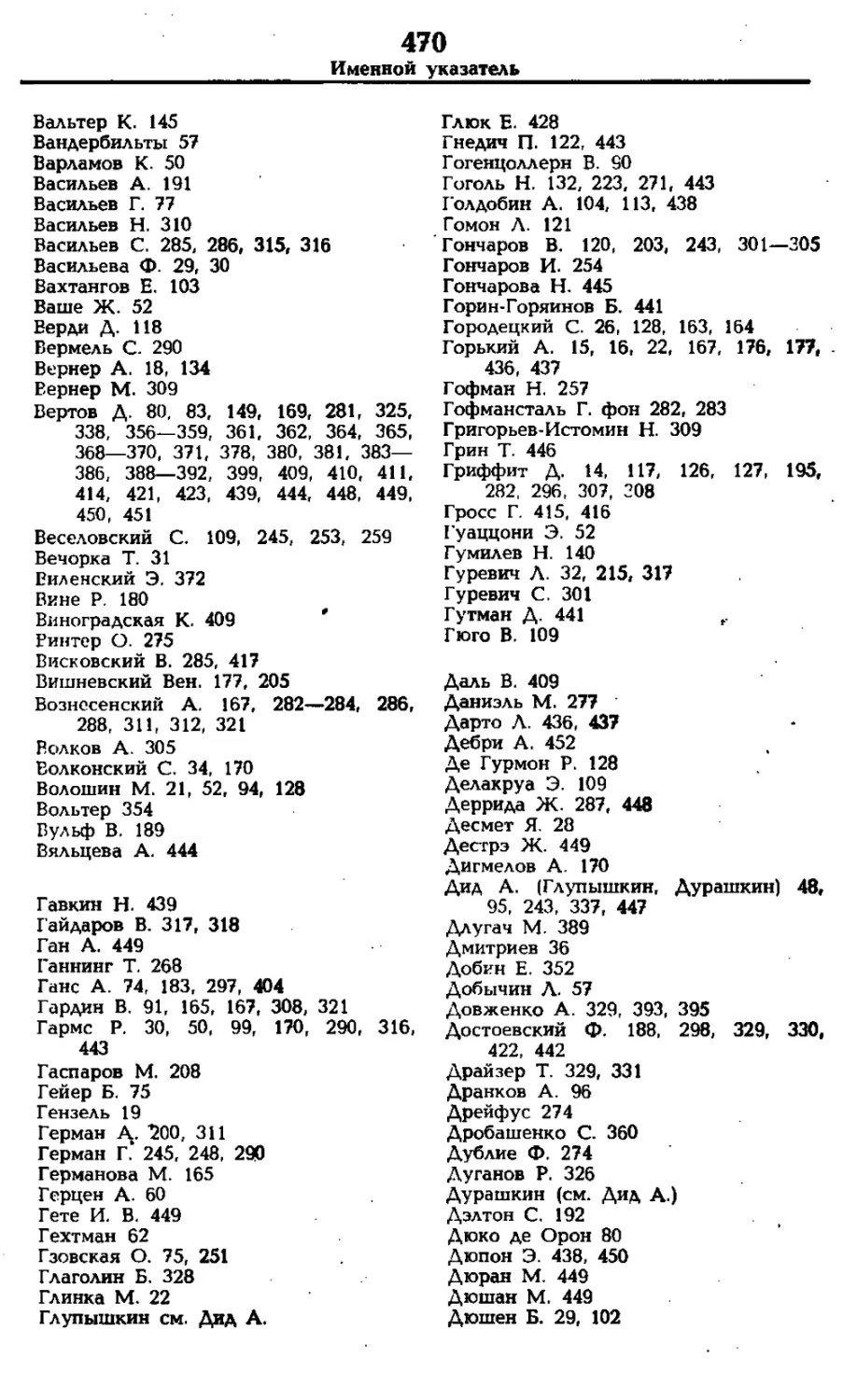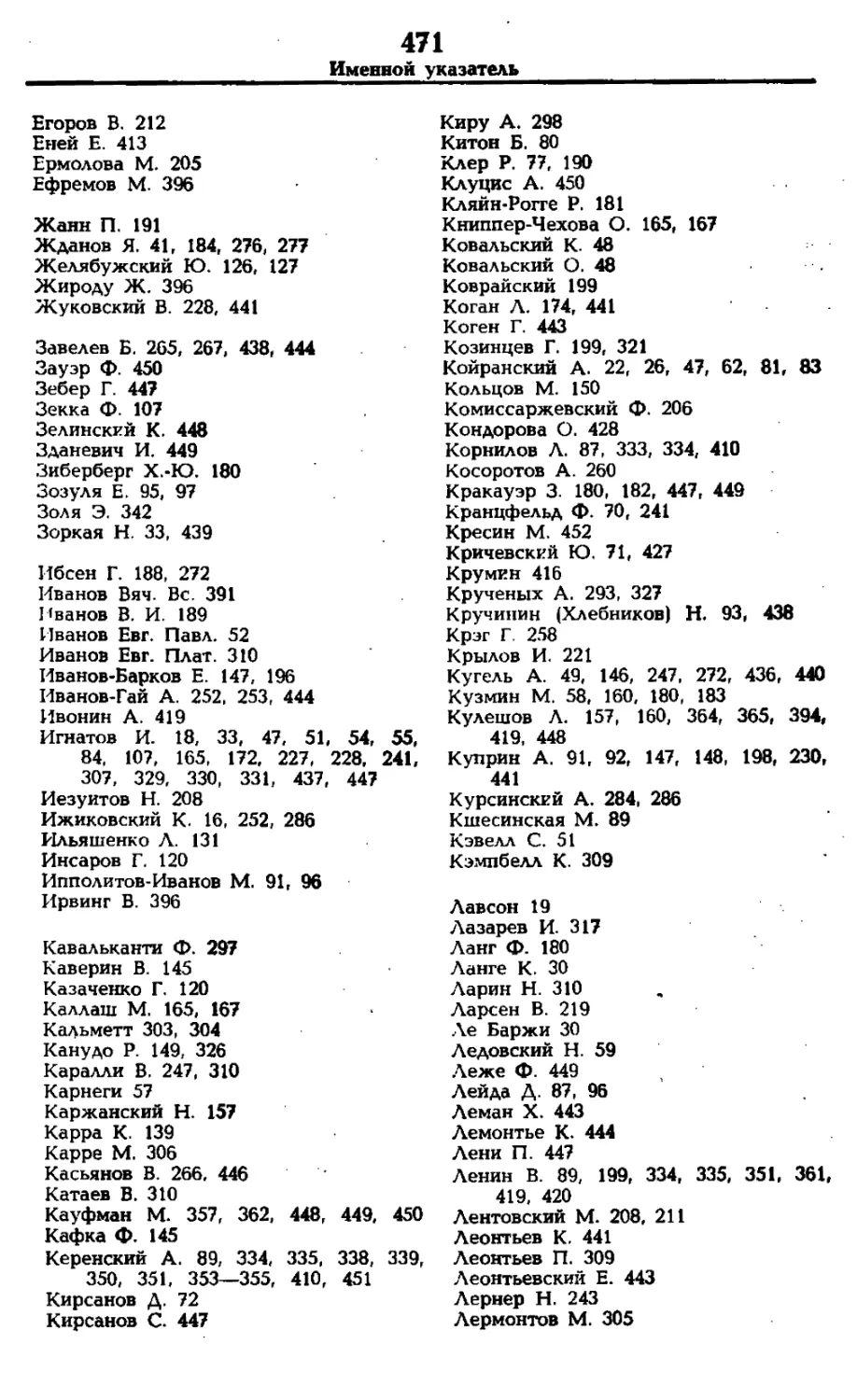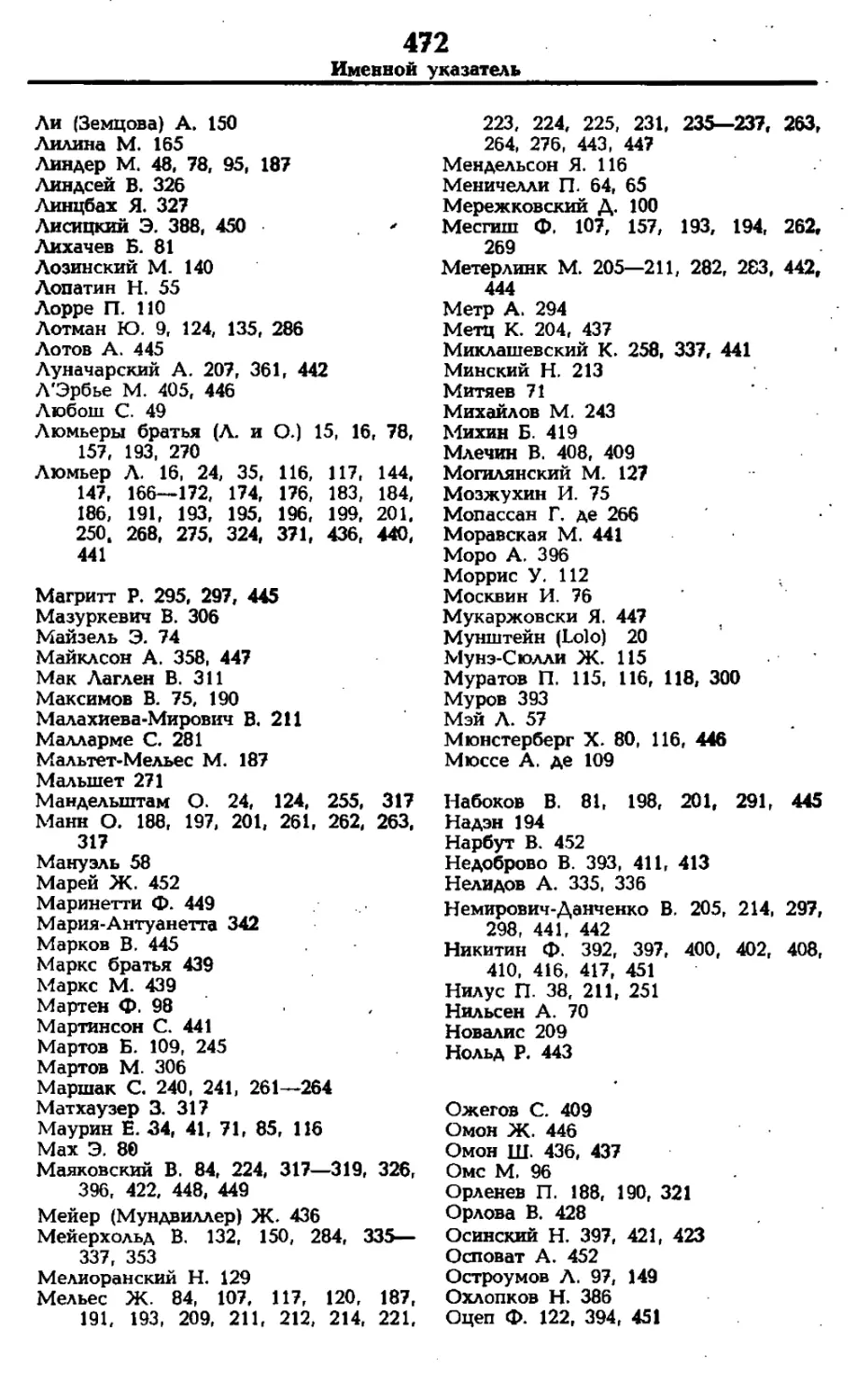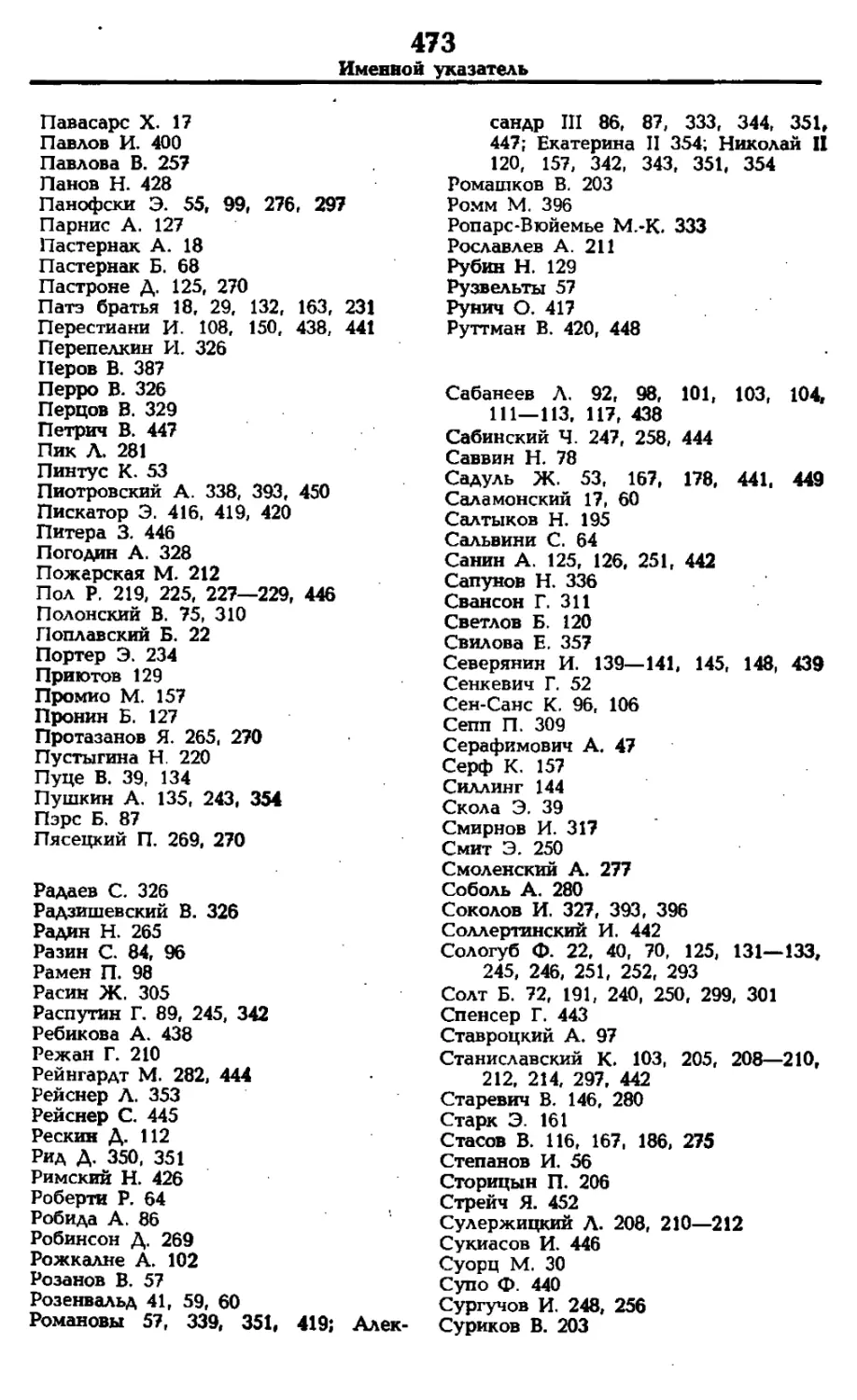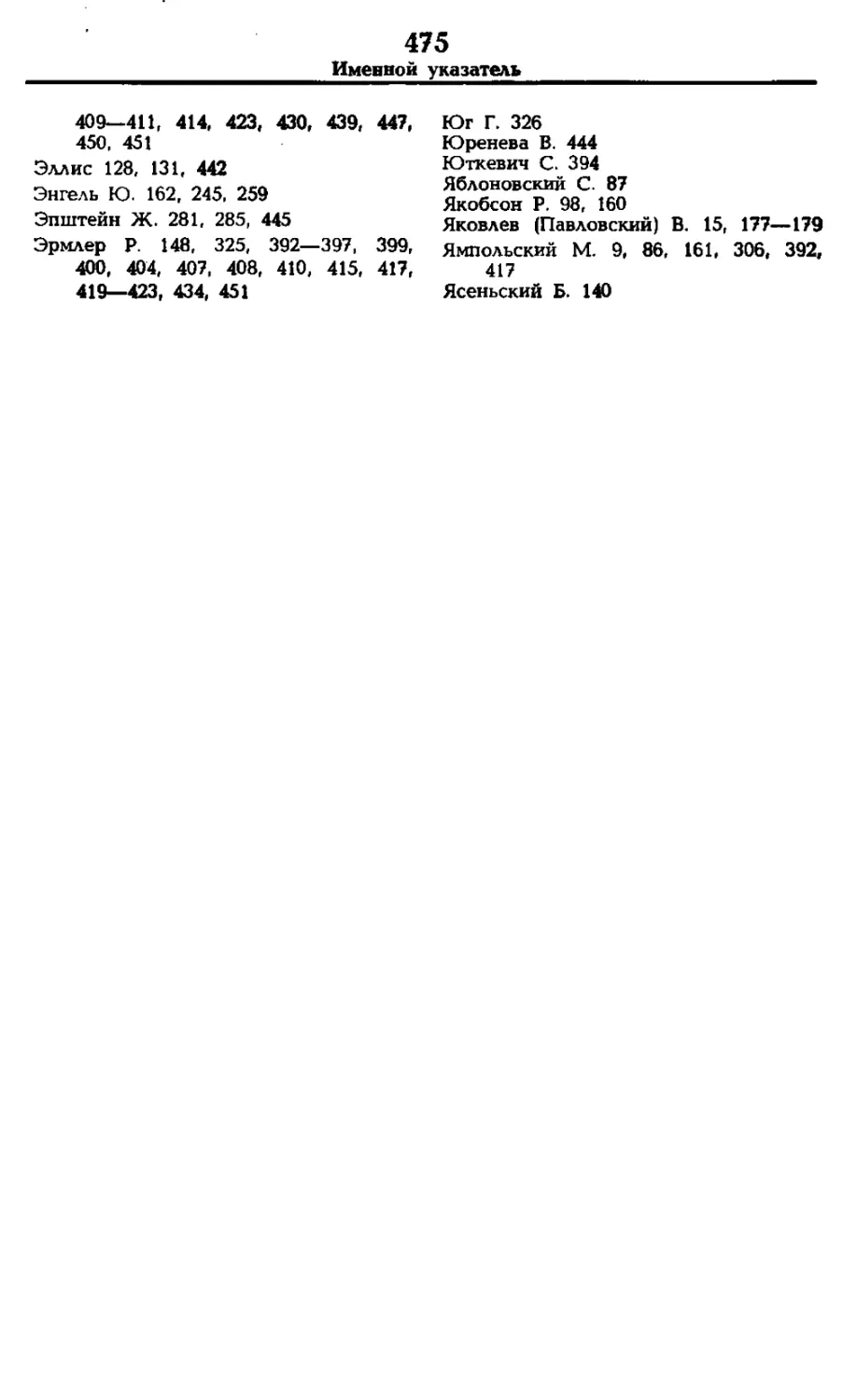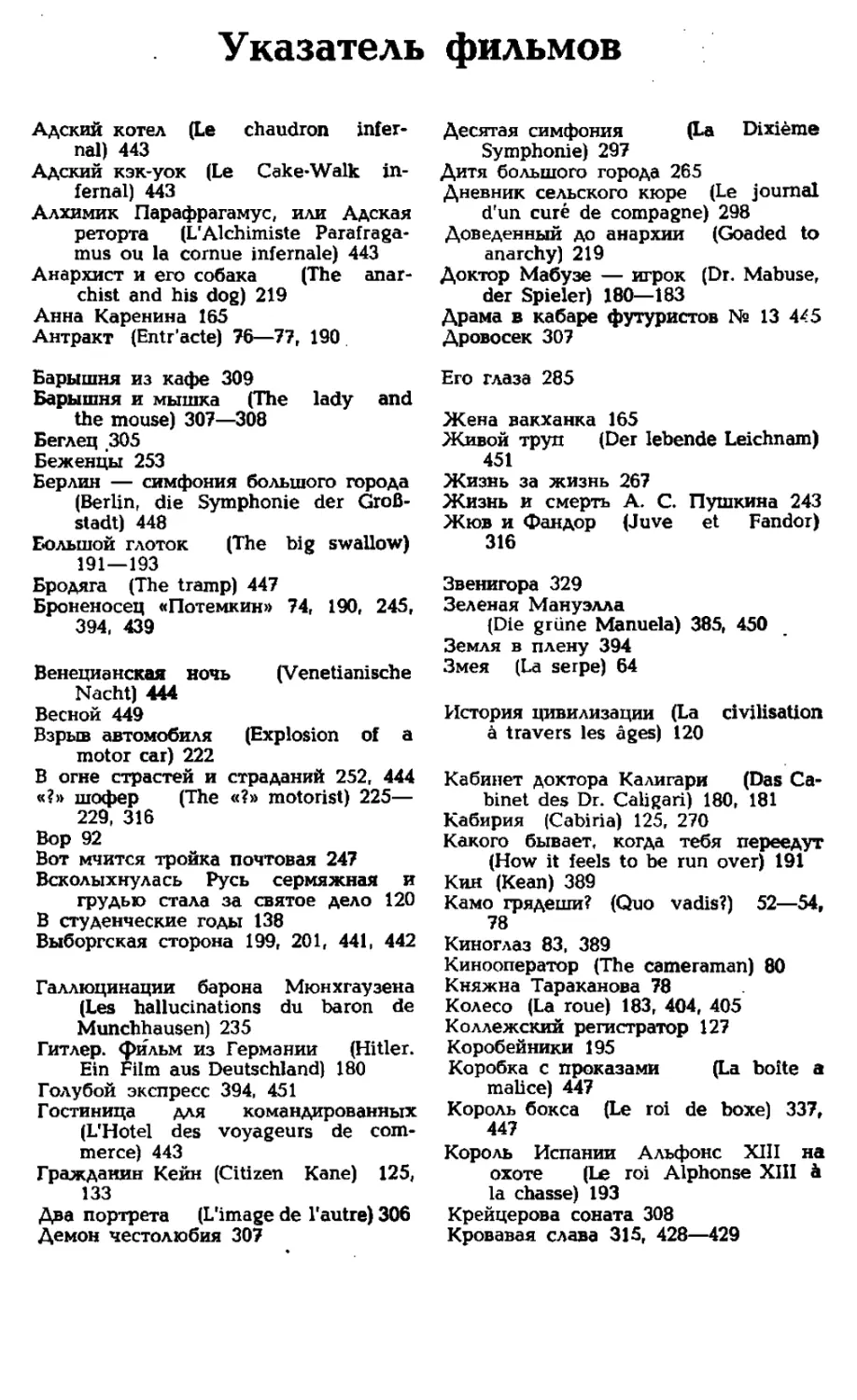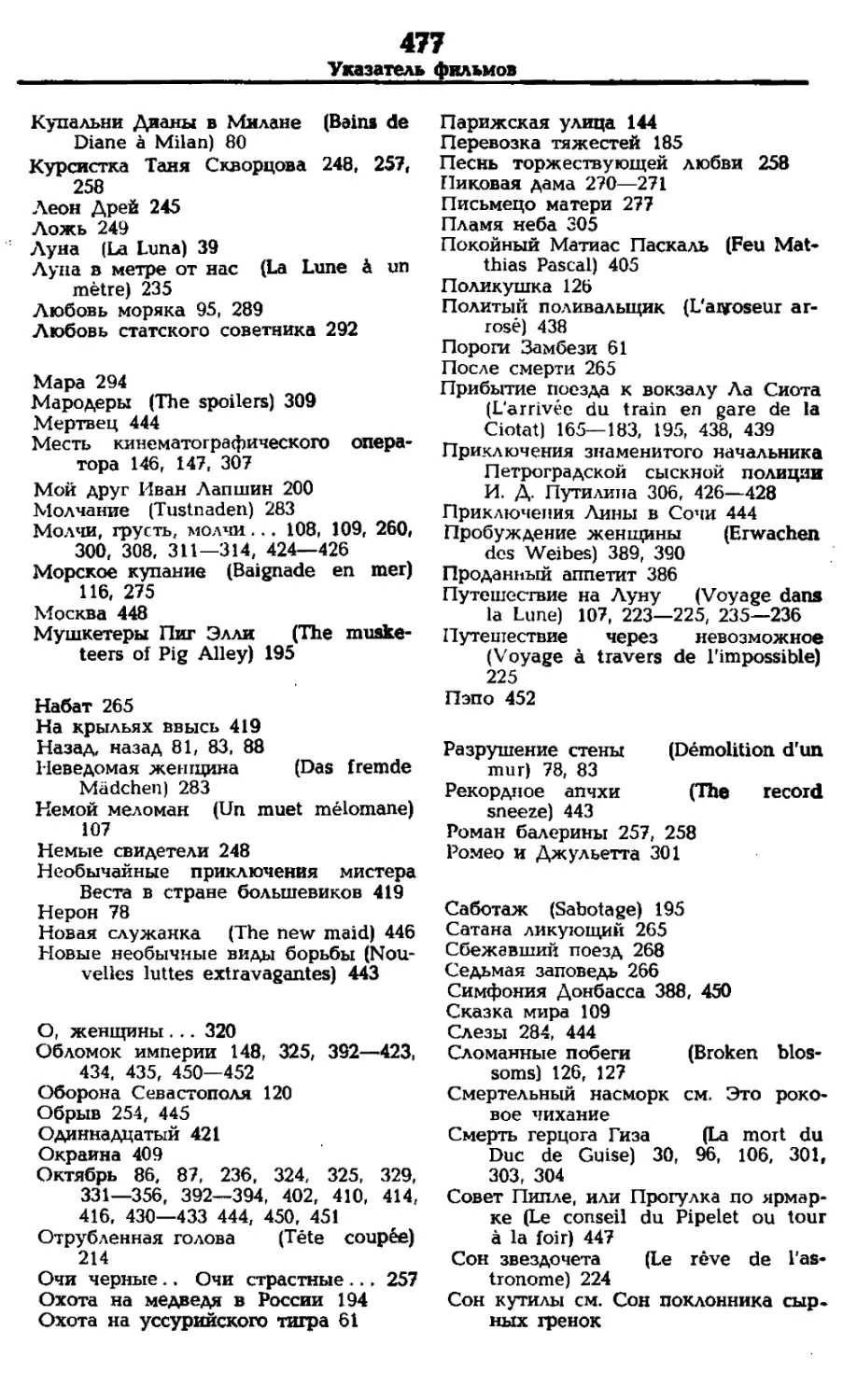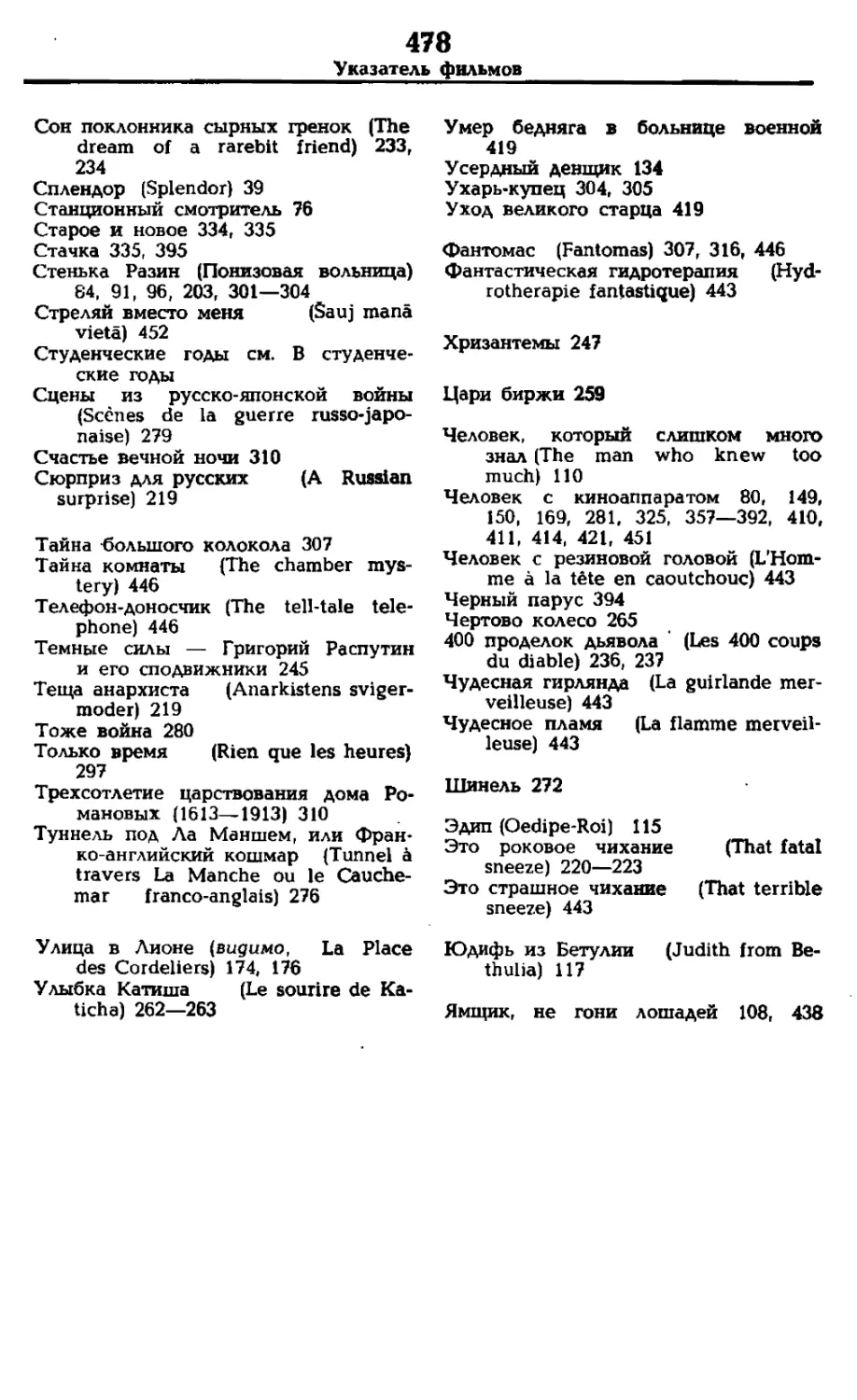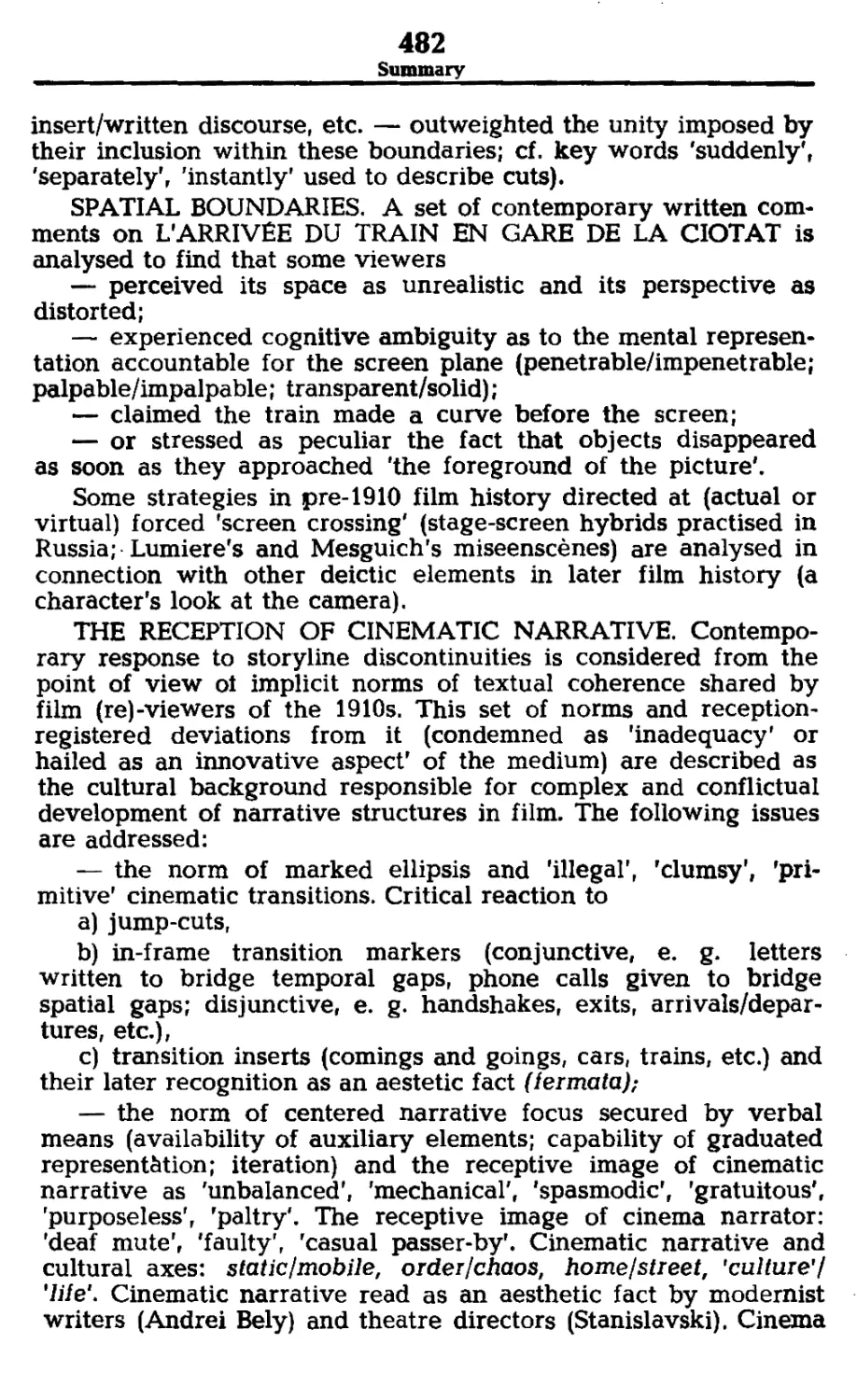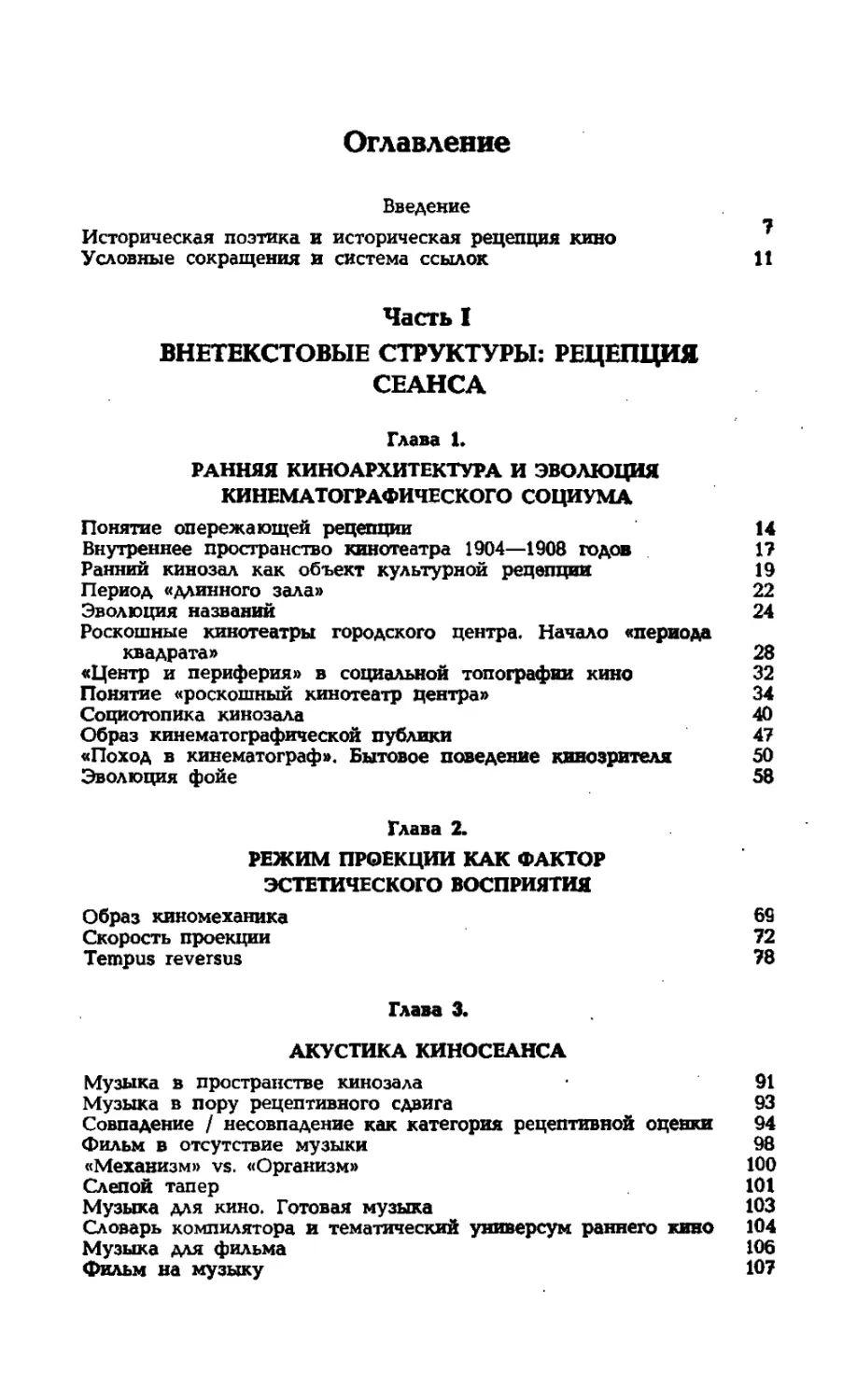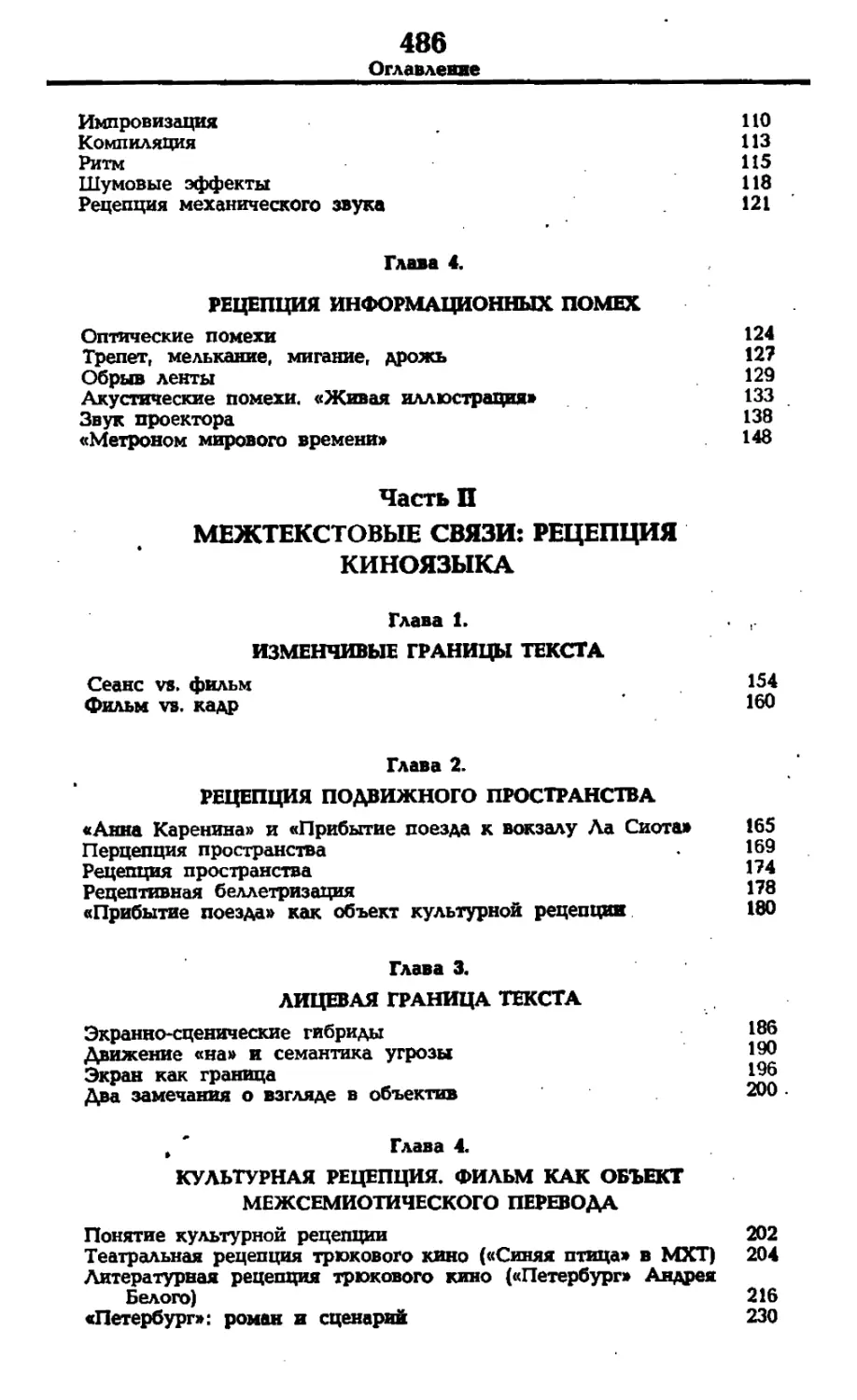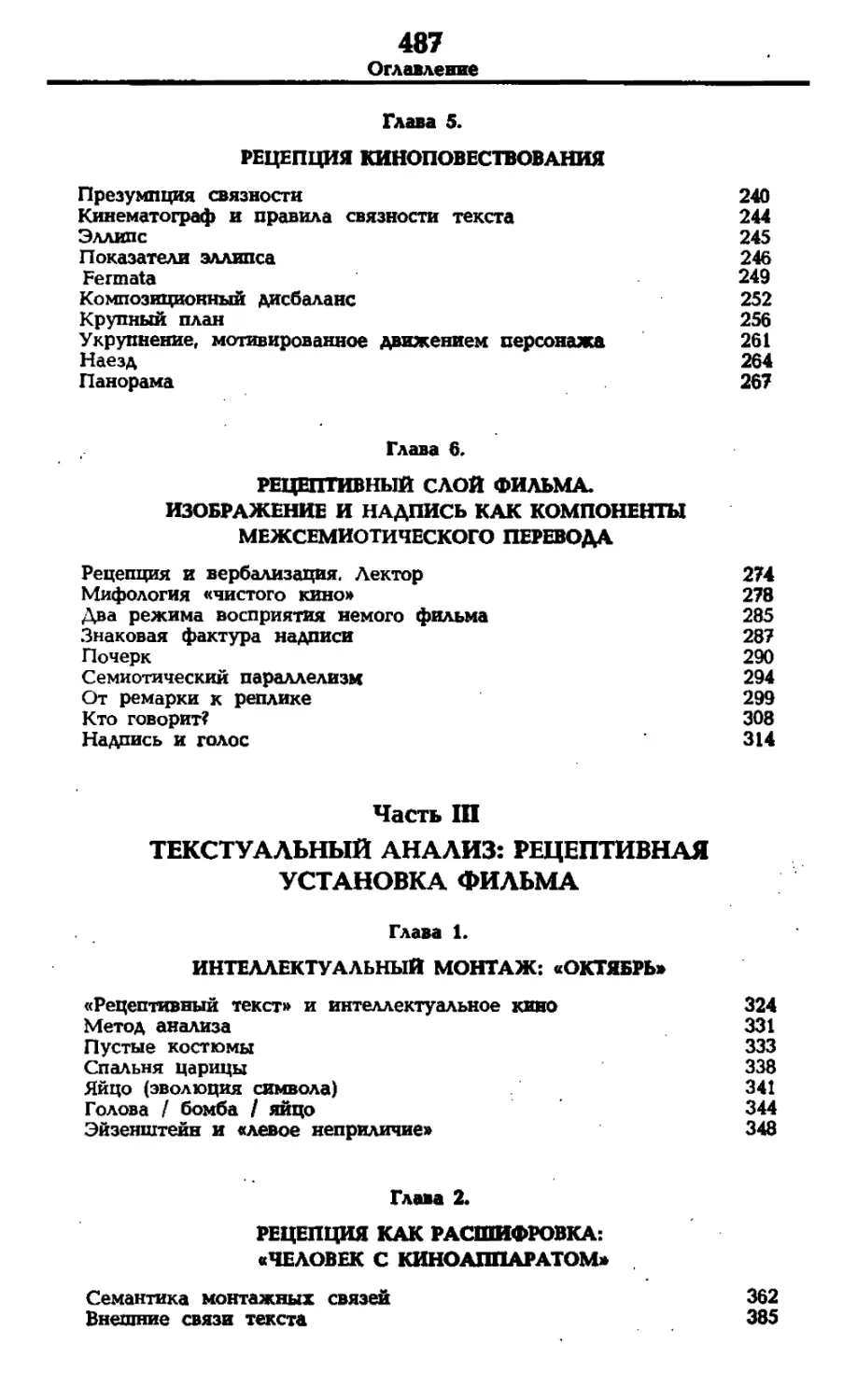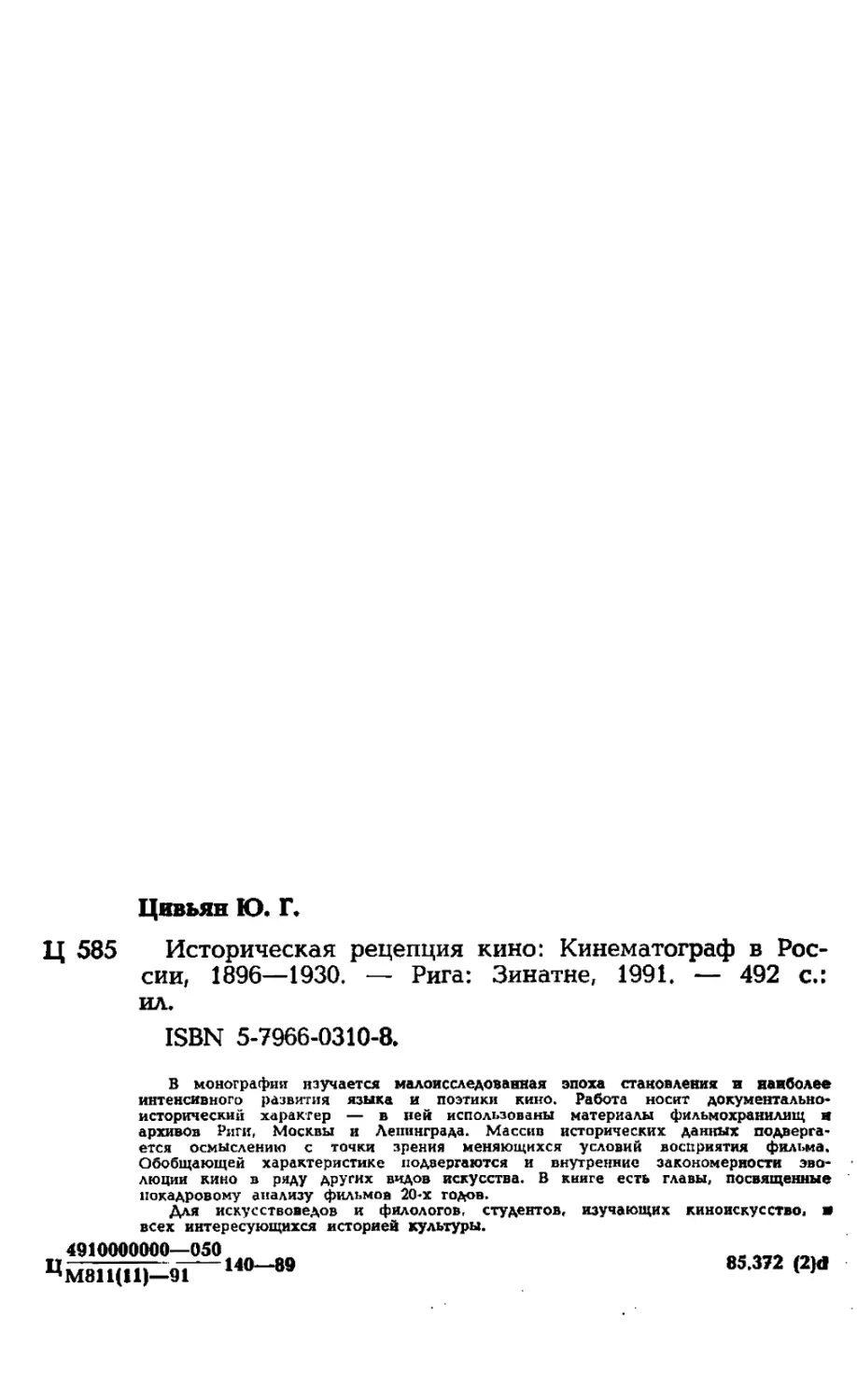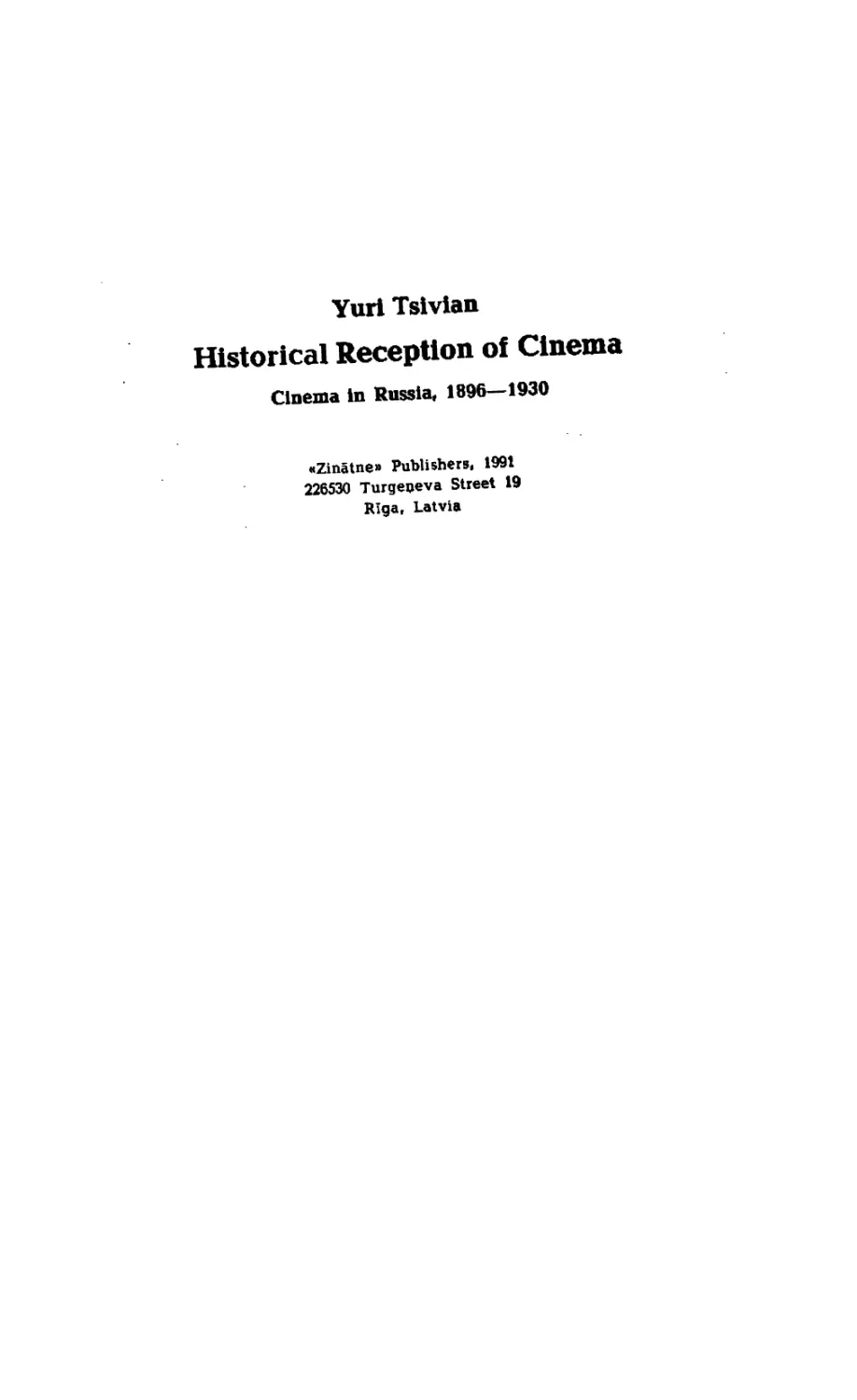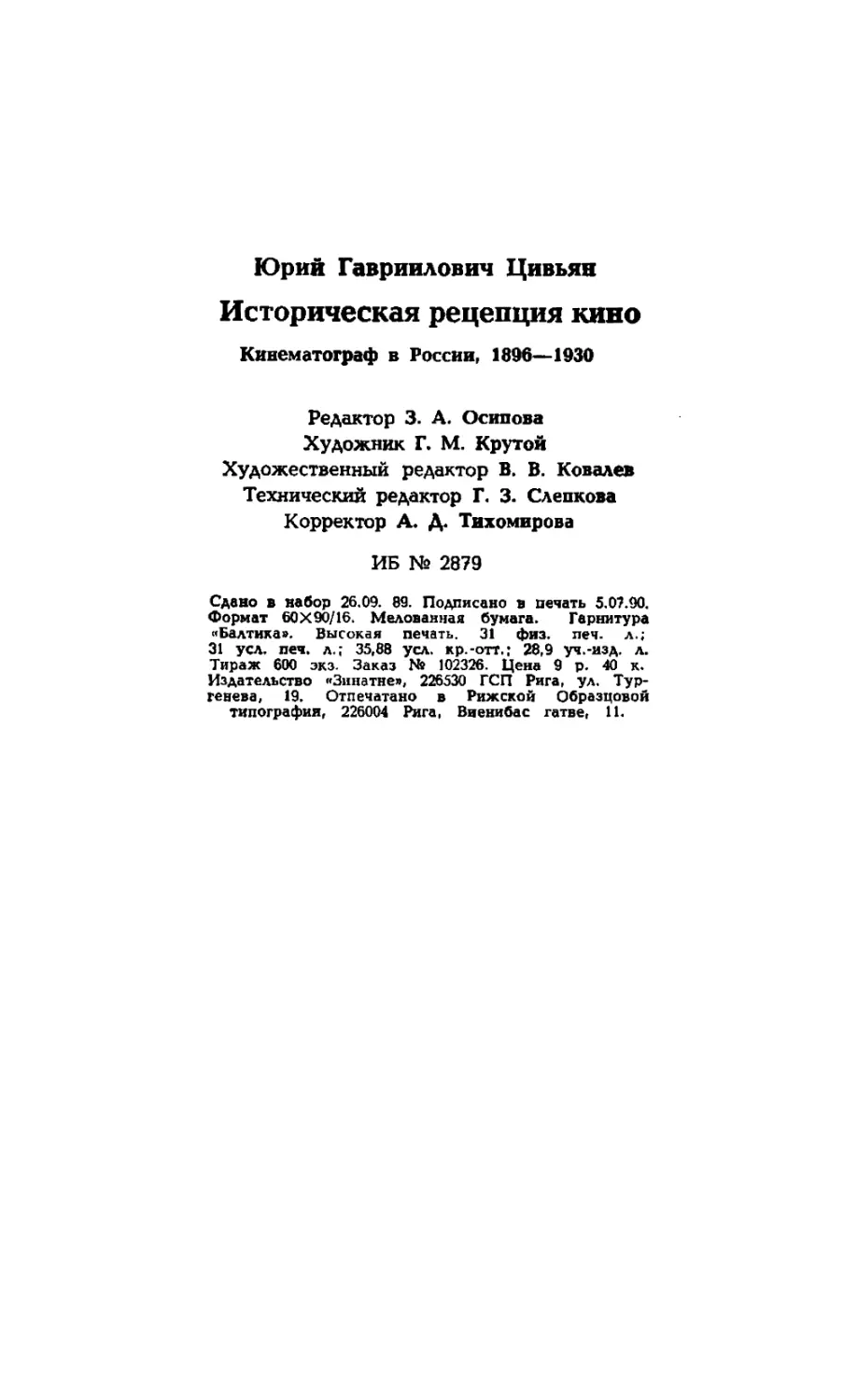Текст
Латвийская академия наук
Институт языка и литературы
Ю. Г. Цивьян
Историческая
рецепция кино
Кинематограф
6 России
. 1896-1930
Рига «Зинатне» 1991
85.372 (2)d
Ц 585
Научный редактор канд. искусствоведения
Л. П. Акуратере
Рецензент канд. искусствоведения
С. Я. Лице
Автор и издательство выражают благодар-
ность профессору Лундского университета
(Швеция) Яну Олсону и Рижскому музею
кино за любезное содействие в издании этой
книги.
4910000000—050
Ц МОП (11)—91 14°—8®
ISBN 5-7966-0310-8
© Ю. Г. Цивьян, 1991
ВбеЛемие
Историческая поэтика
и историческая рецепция кино
Поэтика кино» — термин, получивший хождение после
1‘>27 г., когда вышел в свет одноименный сборник статей под
|и*дакцией Б. Эйхенбаума. Так принято называть совокупность
признаков, по которым мы среди множества фильмов узнаем
принадлежащие к разряду произведений искусства. «Истори-
ческая поэтика кино» — термин, за которым еще нет долгой
библиографии, но которым все чаще обозначают перспектив-
ную и малоизученную в киноведении область — науку об
и (менчивости этих признаков. 1895—1930 годы — период от
i.i рождения кино до конца его немой эпохи — время, когда
и (менчивость поэтики этого искусства проявилась наиболее
бурно.
Историческая изменчивость кино — факт, очевидный и
дчя неподготовленного зрителя (в систему зрительских оценок
неизменно входит понятие «старый фильм»), и для историка
киноискусства, который этот «старый фильм» изучает. По-
нятно, что у зрителя и историка отношение к старым фильмам
р<«зное. Но и в том, и в другом случае за точку отсчета при-
ми мается то состояние киноязыка или та система эстетических
предпочтений, носителем которых является сам наблюдатель.
1<>кой подход вполне правомерен. Все мы — и те, кто избегает
< гарого кино», и те, кто открывает для себя забытую красоту
« н> языка, в своих оценках не стремимся выйти за пределы
...ственной зрительской компетенции. Для непосредственного
цо< п риятия такая позиция представляется не только естествен-
ной, но и единственно возможной, однако в исследовательском
и чане ее можно рассматривать и как внутренне противоречи-
вую. Действительно, признать изменчивость поэтики кино
«»шамает тем самым согласиться с подвижностью ее адресации:
ч гарый фильм» обращается не к уровню нынешнего нашего
•• ипа ния, а к сознанию, для которого он выступал как «но-
8
Введение
вый». Всякий фильм адресуется к своему зрителю, а значит,
не только фильм, но и зритель является компонентом изменяю-
щейся поэтики кино. Меняются не только вещи, меняется и
мера вещей.
. «Рецепция» означает восприятие. «Историческая рецеп-
ция» — история восприятия. Историческая поэтика и историче-
ская рецепция могут иметь общий предмет изучения (в нашем
случае это — язык немого кино), но сферы их интересов
лежат по разные стороны этого предмета. Поэтика изучает
все то, с чем обращается к нам художественный текст, наука
о рецепции — все то, что мы в этот текст вчитываем. Истори-
ческая рецепция — история кино с поправкой на «скользя-
щую» позицию наблюдателя: всякий факт киноязыка оцени-
вается здесь не только с точки зрения исследователя, но
и с точки зрения того зрителя, которого этот факт подразу-
мевает.
. Предлагаемая работа представляет собой попытку выяснить
некоторые аспекты взаимоотношений между фильмом и его
восприятием. Мы исходим из того, что эти взаимоотношения
исторически обусловлены, а значит, — подвержены эволюци-
онным изменениям. Это — исходный постулат книги. Ее конеч-
ная задача — показать, являются ли рецептивные факторы
активной силой в эволюции киноязыка и в какой мере харак-
тер восприятия определяет конфигурацию эстетических пара-
метров фильма на той или иной стадии поэтики кино.
Всякий, кто сталкивался с историей немого кино, подтвер-
дит: в первом приближении, до анализа конкретных истори-
ческих фактов и попыток строгой периодизации эта история
хорошо согласуется с разметкой по десятилетиям —
1900-е годы, 10-е годы, 20-е годы XX века. Для такой книги,
как наша, не преследующей целей строго линейного или строго
хронологического описания, предлагаемая периодизация будет
тем более удобна, что она (опять же — лишь в самых общих
чертах) отвечает трем различным типам рецепции кино, кото-
рые сменяют друг друга на протяжении интересующего нас
отрезка истории. На типологии рецептивных структур у нас
еще будет возможность остановиться. Пока же, чтобы дать
предварительное представление о том, каков принцип распо-
ложения материала по разделам работы, скажем: историческая
поэтика кино понимается нами не только как эволюция поэтики
фильмов, но и как эволюция кинематографа.
Кинематограф — многосекторное понятие. Его центральный
сектор — фильм — современному зрителю представляется
единственно существенным. С точки зрения теории художе-
ственной коммуникации это — всеобщий закон эстетического
восприятия: умение «забывать» о рамочных структурах (на-
пример, об интерьере кинозала или о зрителях на соседних
9
Введение
местах) и сосредоточиваться на структурах семантических
является условием всякой передачи художественного смысла.
Однако с исторической точки зрения гармонию между семан-
тикой текста и рецептивной установкой его получателя можно
|м< сматривать не как единственную, а как одну из возмож-
ных рецептивных ситуаций, а именно, как рецепцию с внутри-
текстовой доминантой. Как нам предстоит убедиться, семан-
пгюский императив текста не всегда оказывается достаточно
< ильным, чтобы подчинить себе восприятие. Чем глубже мы
погружаемся в историю кино, тем чаще рецепция кинема-
тографа обнаруживает черты, не санкционированные семан-
тической структурой фильма. Объектом рецепции становится
не рас. члененное целое — кинематограф как факт архитектур-
ный, технологический, культурный, социальный, а рецептивной
доминантой — факторы межтекстовые и внетекстовые.
Внетекстовым (т. е. внешним по отношению к фильму, но
существенным для его восприятия) структурам кинематографа
посвящен первый раздел книги. Хотя материал, который в нем
|Х1сгматривается, выходит за хронологические границы деся-
тилетия, можно сказать, что в фокусе первой части оказы-
ваются 900-е годы — время, когда единицей впечатления был
иг фильм, а сеанс. Анализ межтекстовых (т. е. образующихся
помимо интенции текста) связей составляет содержание
второго раздела. В переводе на хронологическую шкалу это —
Юг годы, когда работа рецепции фильма сводилась к поис-
кам аналогий в области традиционной культуры, иными сло-
вами, — время становления киноязыка. Внутритекстовая стра-
тегия восприятия (когда тот или иной тип рецепции заранее
моделируется автором фильма и вводится в него в качестве
«•моего рода программы) нашла отражение в третьем разделе.
Такие фильмы возникали в 20-е годы, в период наибольшей
«нбкости киноязыка, так что третий раздел завершает и хро-
нологическую канву книги.
Не имея возможности перечислить всех, чьей помощи я
обязан в подготовке этой книги, назову лишь имена моих со-
авторов по другим работам — Романа Давидовича Тименчика,
< которым мне довелось работать над составлением антологии
русских статей и стихов о кино (1896—1917), Михаила Бори-
совича Ямпольского, предоставившего мне право в последней
главе книги воспользоваться результатами совместного иссле-
дования фильма «Обломок империи», и Юрия Михайловича
Лотмана, беседы с которым, как я хотел бы надеяться, отра-
зились на некоторых культурно-семиотических положениях
предлагаемой вниманию читателей книги.
10
Введете
За единичным исключением работники перечисленных в
списке сокращений архивохранилищ с готовностью шли мне
навстречу в моих разысканиях. Благодарю дорогих моему
сердцу сотрудников Центрального музея кино, Госфильмо-
фонда, а также высококомпетентных архивистов Централь-
ного государственного архива литературы и искусства.
Кроме того, считаю своим долгом выразить признатель-
ность Зенте Лузине, Жанете Ащук, Бруно Ащуку, Михаилу
Гаспарову, Любови Замышляевой, Науму Клейману, Альбину
Конечному, Александру Лаврову, Георгию Левинтону, Лине
Михельсон, Виктории Мыльниковой, Наталье Нусиновой,
Александру Осповату, Татьяне Павловой, Инге Перконе,
Светлане Сковородниковой, Евгению Тоддесу, Андрею Чер-
нышеву, Мариэтте Чудаковой, Харалду Элцерису, Рашиту
Янгирову, чью поддержку или дружеское расположение я
ощущал на разных этапах работы.
и
Условные сокращения и система ссылок
п;л
ГПБ
ГФФ
11МЛИ
ИРАН
ЛГАЛИ
Лгитмик
ЦГАЛИ
ЦГИАЛ
цмк
GAP
RKM
RLM
•кт.
оп.
реж.
сц.
— Отдел рукописей Государственной библиотеки
им. В. И. Ленина
— Государственная публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
— Госфильмофонд СССР
— Отдел рукописей Института мировой литера-
туры им. А. М. Горького
— Отдел рукописей Института русской литера-
туры (Пушкинский дом)
— Ленинградский государственный архив лите-
ратуры и искусства
— Ленинградский государственный институт те-
атра, музыки и кино
— Центральный государственный архив литера-
туры и искусства
— Центральный государственный исторический
архив Ленинграда
— Центральный музей кино
— Архив Главного архитектурно-планировоч-
ного управления Рижского горисполкома
— Рижский музей кино
— Музей истории литературы и искусства
им. Я. Райниса
— актер
— оператор
— режиссер
—- сценарист
Ссылки на архивные источники, не вошедшие в Список
литературы, даются непосредственно в тексте в круглых
скобках, ссылки на литературные источники —в квадратных
с кобках, с указанием страницы.
Ранняя киноархитектура
Режим проекции
Акустика киносеанса
Рецепция информационных помех
Часть 1
Внетекстовые
структуры:
рецепция сеанса
Глава 1
Ранняя киноархитектура
и эволюция
кинематографического социума
Понятие опережающей рецепции
Когда мы утверждаем, что характер восприятия в конечном
счете оказывает влияние на характер воспринимаемого текста,
то подразумевается, что рецептивные структуры выказывают
тенденцию к устойчивому воспроизведению каких-то черт,
в семантической структуре текста не заложенных. На первый
взгляд, такая постановка вопроса может показаться не совсем
обычной. Обычно предполагается, что всякая рецепция по от-
ношению к тексту вторична, — хотя бы потому, что сначала
нам демонстрируют фильм, и только затем мы его воспри-
нимаем. Однако из этого бесспорного наблюдения иногда де-
лают неправильные выводы. Например, рецепцию текста пред-
ставляют себе в виде его ослабленной формы или формы «ис-
порченной». Действительно, когда мы имеем дело с текстами,
принадлежащими к классу «великое произведение искусства»,
всякое единичное восприятие будет, вероятно, заведомо беднее
воспринимаемого текста. Но история раннего кино сравни-
тельно редко предъявляет нам такие тексты. До середины
10-х годов кинематограф вообще лишь с натяжкой может
считаться объектом искусствоведения в традиционном пони-
мании этой дисциплины — в этот период в нем не встречается
фильмов, чей художественный смысл обладал бы неисчерпае-
мой глубиной. Означает ли это, что историческая поэтика
кино (как это подчас бывает) должна исчисляться с Гриффита
или Чаплина или что предшествующие двадцать лет киноисто-
рии следует рассматривать в качестве внеэстетического ряда
явлений?
15
Глава!. Равняя киноархитектура
Возьмем крайний по времени случай — рецепцию первых
опытов братьев Люмьер. Как известно, их программы по-
им кли за собой широкую полосу газетных откликов, авторы
которых довольно подробно описывали свои ощущения по
но иоду нового зрелища. Сличим несколько таких суждений —
। кажем, о световых особенностях киноизображения. Хотя
•и рно-белое изображение у наблюдателя XIX века не должно
бы хо вызывать удивления (к монохронизму XIX век приучила
фотография), следует помнить, что одно дело — фотографи-
ческая карточка, а другое — экранная проекция. Современ-
ники, приученные к цветным картинам волшебного фонаря,
отмечали странное чувство, охватывавшее публику при виде
бесцветного мира: как писал в 1896 г. корреспондент «Нового
обозрения», бросалось в глаза «отсутствие солнечного тепла
и < вета, живого, яркого колорита» [147,л. 3].Но работа рецеп-
। и иного механизма, как правило, не ограничивалась подобной
констатацией. В том же году парижский обозреватель «Нового
времени» И. Яковлев (-Павловский) так характеризовал про-,
исходящее на экране: «Освещение его не вполне натуральное,
кино при ярком лунном свете» [468, с. 2].
Обратим внимание на отличие этих двух описаний: в пер-
вом случае восприятие адекватно визуальному тексту, кото-
рый выступает как дефектный и описывается через категорию
•отсутствие», во втором — обнаруживает стремление к содер-
жательной интерпретации технических параметров изобра-
жения, опознав бесцветность как характеристику изображен-
ною мира («лунный свет»). Первый вариант в истории раннего
кино встречается крайне редко, второй — распространен no-
во местно. Изобразительный текст поставляет рецепции не
ммантику, а повод для семантизирования, создает презумпцию
< численности. На основе этой презумпции воспринимающее
мание конструирует своего рода «рецептивный текст», вос-
'•хняющий то, что это сознание ощущает как «нехватку».
Например, та же бесцветность люмьеровских фильмов (по-
множенная на другое значимое отсутствие — беззвучность)
ы< га вила А. М. Горького прибегнуть к лексикону литератур-
ною символизма (в чем автор тут же иронически признается),
•о|да он в 1896 г. так сформулировал свое впечатление от
мерного просмотра: «Как странно там быть, если бы вы знали.
1ам звуков нет и нет красок. Там все — земля, деревья,
'•»лп, вода и воздух — окрашены в серый, однотонный цвет;
ма < < ром небе — серые лучи солнца; на серых лицах — серые
• »'а, и листья деревьев серы, как пепел... Безмолвно ко-
••‘•м’тся под ветром пепельно-серая листва дерев, беззвучно
• •»»м,зят по серой земле серые, тенеобразные фигуры людей,
iu’iho проклятые проклятием молчания и жестоко наказанные
IWM, что у них отняли все цвета, все краски жизни» [133, с. 3].
16
Часть I Внетекстовые структуры
Таким образом, с одной стороны, — простейший изобрази-
тельный текст продолжительностью около 50 секунд, с дру-
гой — предельно сложный процесс рецепции («сложный» —
не наше определение, его в той же статье употребил Горький,
пораженный не столько даже фильмами Люмьера, сколько
полнотой своего восприятия: «Впечатление, производимое ими,
настолько необычайно, так оригинально и сложно, что едва ли
мне удастся передать их со всеми нюансами, но суть его я
постараюсь передать» [133, с. 3]). Остается предположить,
что «ослабленная» рецепция текста — лишь одна из возмож-
ностей, тогда как их полная матрица предполагает и обратный
случай, — когда восприятие семантически богаче восприни-
маемого текста. Именно с последним случаем нам часто при-
ходится сталкиваться на первых порах истории немого
кино.
В 1924 г. проницательный польский филолог К. Ижиков-
ский, рассуждая о кино, заметил: «В культуре есть явления,
которые можно уподобить толкованию клякс. Случайные
пятна штукатурки, сырости или чернил на стене похожи на
разные предметы в соответствии с видением и воображением
смотрящего; с помощью продлений и дополнений можно эти
предметы из тех пятен «добыть» — тогда даже дилетант мо-
жет нарисовать некий вполне сносный образ. Например, исто-
рия языка приносит все новые слова-кляксы, которые впослед-
ствии благочестиво толкуют. Слово опережает понятие. Вна-
чале есть слово, потом ищется его смысл. Возникают фиктивные
проблемы, которые, однако, в определенном отношении ценны
и плодотворны». И далее, относя кинематограф к классуигаких
явлений: «Кино — это техническое изобретение, но трактуется
оно так, как если бы было «проблемой», вроде шахматных
задач, поддающихся «разрешению»» [537, с. 127—128].
И хотя Ижиковский говорит не о непосредственной рецеп-
ции кинематографа, а о попытках рефлектирования по его
поводу, едва ли следует резко разграничивать эти уровни
осмысления. Процесс восприятия кинопродукции эпохи «при-
митивов» тоже напоминает толкование случайных пятен (или
«вещих пятен», как в 1915 г. определил киноизображение поэт
Д. Цензор [422, с. 7]). На протяжении первых 10—15 лет
своего существования кинематограф производил тексты, слож-
ность которых была на порядок ниже рецептивного опыта
человека конца XIX — начала XX века. Означает ли это, что
при восприятии раннего фильма горизонт рецепции сужался?
Если учитывать реально существовавшую рецептивную уста-
новку на кинематограф как «лубочное», «наивное», «детское»,
«примитивное» искусство, то о некотором сужении говорить
все же приходится, но уже то обстоятельство, что эти конно-
тации, независимо от оценки, определенным образом окра-
17
_ Глава 1. Ранняя киноархитектура
шикали процесс восприятия фильмов, указывает на несовпа-
дение семантического и рецептивного горизонтов текста.
Таким образом, в рецепции раннего кино мы наблюдаем
Хующую картину: интерпретирующий механизм нередко
। «ывается сильнее интерпретируемого текста. Будем назы-
ь такой тип восприятия опережающей рецепцией. Логично
•дположить, что в таких случаях возникает своего рода
чантический дефицит текста. Что при этом происходит?
Hui модения показывают, что для зрителя тех лет повышенным
«и. 1‘И‘нием обладали привходящие обстоятельства, которые в
xpxrux условиях следовало бы причислить к категории инфор-
•• и «.ионных помех: воспринимающее сознание начинает под-
|и гывать к интерпретации внеположенные тексту струк-
. ры. К семантическому обмену ;между текстом и его
Рецепцией подключаются затекстовые пласты — акустический
ап гураж киносеанса, технологические параметры проекции,
социум кинозала, его архитектура и т. д., т. е. компоненты
кис эстетического ряда, которые, тем не менее, для кинема-
пи рафа ранней эпохи выступают как полноправные элементы
и< горической поэтики.
Внутреннее пространство
кинотеатра 1904-1908 годов
Пока кинематограф оставался увеселением передвижного
tnii«i, ни о какой киноархитектуре говорить не приходилось.
Киносеансы устраивались в арендованных помещениях, чаще
imi'I'o — в сезонных театрах. По свидетельству мемуариста
X Павасарса, один из первых рижских кинотеатров обосно-
пам'я в деревянном помещении бывшего «Интеримтеатра»
«К1.М, № 222418). До этого владельцы передвижных киноуста-
М11ЖЖ арендовали цирковые шапито (в Риге первые киносеансы
давались в цирке Саламонского [577, 3 сент., с. 16]), рыночные
ii.h? сы, пустующие склады и портовые лабазы. Если специ-
ам.ные помещения в этот период и существовали, то лишь
п рамках архитектуры малых форм — легкие временные по-
« «ройки балаганного типа.
В Восточной Европе такое положение сохранялось до 1903 г.,
скида домовладельцы, ранее неохотно предоставлявшие поме-
щения под кино [430, с. 10], стали сдавать их под перестройку.
Постепенно стал вырисовываться тип кинозала, обладающий
собственной архитектоникой. При этом интерьер ранних кино-
пмтров 1904—1908 гт. сильно отличался!
< у «чествовавших зрелищных заведений, но и от гкинс^т^^^рв,
I 102326
18
Часть I Внетекстовые структуры
которые пришли ему на смену. В 1908 г. кинозал раннего типа
был вытеснен из центра города на окраину, а к концу 1910-х
годов встречался разве что в деревне. Во всяком случае, уже
в 1919 г. И. Н. Игнатов вспоминал о кинозале начала 900-х го-
дов с интонацией тоски по прошлому: «В эти дни кинемато-
графического младенчества электро-театры находили приют
в убогих помещениях, где зрители сидели порой на деревян-
ных скамьях, где не было никаких украшений, никаких
удобств для публики, но где зритель мог получить столько
живых и любопытных впечатлений» [172, л. 10—11].
Кинозал 1904—1908 гг., как правило, состоял из одного
помещения без фойе или вестибюля. Если, как бывало чаще
всего, кинотеатр представлял собой переоборудованную жи-
лую квартиру с удаленными перегородками, зрители попадали
туда с общей домовой лестницы, приобретая билеты уже в
зале, у столика за дверью. По воспоминаниям А. Л. Пастер-
нака, «дверь в этот зал была снята с петель, возможно, как
спасительная мера при пожаре, а заменяла ее — тяжелая
плюшевая красная портьера, наглухо во время сеанса задер-
нутая, отделявшая затемненный зал от освещенной лестничной
площадки. В зале были установлены два или три ряда простых
«венских» стульев; в отличие от всех позднейших кинозалов,
тут аппарат «братьев Патэ» с его маркой петуха, который
«все видит и все знает», стоял перед зрителями, что мне
лишний раз напоминало наш волшебный фонарь. Аппарат
был установлен на каком-то примитивном станке, похожем
на простые «козла». На стене перед аппаратом висел экран:
если не простыня, как у нас, то нечто столь же несовершен-
ное, которое во время показа вдруг начинало волнами ко-
лебаться» [287, с. 132].
Другой мемуарист, русский актер А. Вернер, тоже по дет-
ской памяти, описывает одесский кинозал этого периода: «Это
была небольшая всегда непроветренная комната, тесно запол-
ненная стульями; в глубине стоял какой-то загадочный аппа-
рат, страшно интересовавший нас, мальчишек. Но его свято
оберегал таинственный человек, которого мы называли то
«техником», то «механиком», он же был антрепренером, хо-
зяином иллюзиона и билетером. Он вертел ручку и он же
собирал выручку... На стене висела тряпка подозрительной
чистоты, называемая экраном, и она-то привлекала наше глав-
ное внимание. Публика, обычно состоящая из детей и моло-
дежи, вела себя непринужденно, грызла семечки и яблоки,
бросая шелуху и кожуру на пол, а иногда и друг в друга»
[93, л. 1].
Наконец, полумемуарный очерк историка В. В. Чайков-
ского дает нам представление о средней вместимости такого
зала (теперь уже московского): «В сентябре 1904 г. открылся
19
Глава 1. Ранняя киноархитектура
На Тверской, на углу Б. Гнездниковского пер., театр, принад-
лежащий двум сестрам: Белинской и Гензель. Помещение
этого театра было маленькое, сидячих мест было только 24,
и позади стояло человек 30, которые усердно грызли семечки
и плевали шелуху на головы сидящих. В этой же комнате
сидела сама старушка Белинская и продавала билеты, а Ген-
!м*ль, изображавшая билетершу, энергично расправлялась с
неугомонными мальчишками, которые всячески изводили этих
двух кинематографических дам» [430, с. 12—13].
I
I
Ранний кинозал как объект
культурной рецепции
Как можно судить хотя бы по приведенным выше описа-
ниям, атмосфера кинозала не имела аналогий в номенклатуре
зрелищных форм начала XX века. Поэтому в структуре рецеп-
ции кинематограф отложился не только фильмами, но и своей
периферией. Мемуаристы, скрупулезно и живо описывающие
интерьер зрительного зала, процедуру сеанса и нравы кино-
зрителей, самих картин, как правило, не помнят. Здесь дело
не только в том, что фильмы сменялись, а зал, где они пока-
зывались, оставался прежним. Дело и в том, что посетитель
кинематографа тех лет охотнее нынешнего смотрел по сторо-
нам. Разумеется, было бы неверно утверждать, что в 1900-е
годы в кино ходили не ради самих фильмов, а чтобы окунуться
в атмосферу, их обволакивающую (для 1910-х годов, как мы
убедимся, такое утверждение будет звучать отнюдь не пара-
доксально), но некоторый дисбаланс в пользу периферийных
деталей кинозрелища нельзя не отметить. В мемуарной лите-
ратуре фильм остается центром описываемого впечатления,
но центром нечетким, наподобие слепого пятна. В фокусе же
оказываются подробности антуража, аккумулировавшие не-
он ределившееся, нерасчленное впечатление «кинематограф».
Остановимся на некоторых деталях — носителях этого впе-
чатления.
В 1900-е годы основным источником света в кинопроекто-
рах было не электричество, а эфирно-кислородные горелки
(с атураторы). Для кинозрителя той эпохи неоценимой при-
надлежностью кинозала были потрескивание лампы, живой,
желтоватый, неравномерный луч проектора, а также легкий
будоражащий запах эфира [217, с. 31]. Другим свойством
эфирно-кислородных проекторов (кроме усовершенствованных
горелок Лавсона [112, с. 49]) было то, что они быстро нака-
2*
20
Часть I Внетекстовые структуры
1. Проекторы, работавшие на горелках (эфирных, ацетоновых, газолиновых
и др.), излучали свет в иной, нежели нынешние, части спектра. Кроме того,
кинопленка на нитрооснове обладала особой прозрачностью, недоступной
сегодняшней, так называемой безопасной пленке.
лялись, а это не только было чревато возгоранием пленки,
но и создавало в зале повышенную температуру. Один москов-
с кий кинотеатр так и назывался — «Горячая будка» (можно
предположить, что название большого кинотеатра на Таган-
ской площади — «Вулкан» тоже представлялось москвичам не
только экзотизмом). Для непривычного наблюдателя ситуация
кинозала была тем более ирреальной, что зрители верхней
одежды не снимали (правда, быстро выработавшийся под
давлением задних рядов этикет требовал снятия головных убо-
ров). В начале века в общественных местах оставаться в верх-
ней одежде было не принято, — в пальто входили только
в церковь. Зимой — а сезоном кинематографа был именно
зимний — в кинотеатр заглядывали и просто погреться.
Фельетонист-стихотворец Lolo (Мунштейн) поместил в газете
«Театр» восхваление кинематографу, где есть и такие строки:
Были в «кино». — «Тепло и чудесно! —
Мне шептала соседка — как в бане!» [230, с. 11},
21
Глава 1. Ранняя киноархитектура
• н<|Плюдатель внешний, фланируя по линиям Васильевского
ос грова, кинематограф узнавал издалека:
На нитях проволок — гам воробьиной стаи,
Из двери кинемо валит клубами пар [330, с. 45].
< )днако доминирующей чертой, сразу определившей харак-
> рецепции кинематографа в культуре начала XX века, было
' мнение зала во время демонстрации. Хотя полная или
« н гичная темнота в зале была знакома по сеансам волшеб-
ном» фонаря и некоторым театральным представлениям, ха-
рактер доминантного культурного символа она приобретала
именно в ситуации киносеанса. («Торикистон», т. е. «тем-
ный», — таким было первое обозначение кино в таджикском
милке [31, с, 6].) Темнота зала, смыкаясь с немотой происхо-
дящего, у свежего наблюдателя могла вызвать ассоциацию
< океанскими глубинами, а зрители — с их безмолвными
обитателями:
Надзиратель Петр Иваныч Рыба
Мрачно ходит в кинематограф
И, сказавши барышне: спасибо,
В темный зал бросается стремглав [161, с. 17].
Ощущение кинематографа как дна чаще, впрочем, соотноси-
лось с областью фигуральных значений: темный кинозал, на-
чщнясь на низкий социальный статус его завсегдатаев, спо-
«<>(>( твовал устойчивой репутации кинематографа как дна,
подполья, катакомбы культуры. Когда в 1902 г. Н. Г. Шебуев
посетил ночлежку Хитрова рынка в Москве, он не замедлил
«раннить ее с кинозалом: «Я держал свечу и освещал лица
опрашиваемых. Передо мной замелькали босяцкие типы. Оза-
|м*нные свечою лица вырисовывались на две-три минуты и
и< чезали в полумгле. Это был живой синематограф» [438,
< 112].
Темнота кинозала, существующая, чтобы, устранив побоч-
ны* • раздражители, способствовать рецепции фильма, сама
становилась объектом рецепции. Сосредоточенность полуосве-
щенных лиц, следящих за немым зрелищем (тем более впе-
чамяющая, что наблюдатель, обернувшись к залу, не видит
•жрана), отсылала к представлениям мистериального круга,
и частности к ритуалам тайных сект, интерес к которым был
подогрет романом А. Белого «Серебряный голубь». В 1910 г.
М Л. Волошин писал о кино: «В маленькой комнате с голыми
( генами, напоминающей корабли хлыстовских радений, совер-
шается древний экстатический, очистительный обряд» [111,
< 39—40].
22
Часть I Внетекстовые структуры
К 1907 г. наметился центральный культурный символ, не-
явное присутствие которого окрашивает всякое описание тем-
ного кинозала: представление о кинематографе как о загроб-
ном мире. Раньше других его отчетливо сформулировал
А. Койранский: «Помню, как грибы выросли они [кинемато-
графы] в ту пору, когда нужно было развлекаться во что бы
то ни стало, когда нервы, расшатанные революционными тре-
волнениями, не могли больше выносить ни театра, ни кон-
церта <.. .> И нечто мрачное сохранилось в них до сих пор.
Лица напряженные, но не веселые, в странном мертвенном
освещении электрических лампочек. Мрак в зрительном зале.
Замогильные голоса граммофонов» [193, с. 5].
Спустя 30 лет, уже в эпоху звукового кино, мысль о кине-
матографе как эманации вечной ночи (мысль, восходящая к
статье Горького 1896 г.) снова возникла в романе Б. Поплав-
ского «Домой с небес»: «Свободен, совершенно свободен
пойти направо или налево, остаться на месте, закурить, вер-
нуться домой и лечь спать посреди дня или среди дня пойти
в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство
звуковых теней» [360, с. 312].
Период „длинного зала"
«В 1908 г. появляется из Сибири бывший подрядчик, некто
Абрамович, который перестраивает старый барский особняк
Шиловских на Тверской против Мамоновского пер., в котором
когда-то, в давно минувшее время, Глинка знакомил москви-
чей со своим новым произведением «Руслан и Людмила». Но
имеющаяся в особняке гостиная оказывается малой для зри-
тельного зала кинематографа, и Абрамович путем пролома
всех стен устраивает новый зал на 300 мест. По тогдашним
понятиям театр этот был большим и хорошим» [430, с. 15—
16]. Такого рода перестройки для конца 1900-х годов весьма
характерны. Именно тогда сложилось обыкновение проламы-
вать стены бывших помещений с таким расчетом, чтобы в
результате образовалась своего рода анфилада. Кинозалы той
поры имели галерееобразную форму:
В узкой зале кинематографа
Длинной, словно шея у жирафа, — писал Ф. СоЛОГуб В стихо-
творении «В кинематографе» [349].
Для кинематографа длинный узкий зал был формой, наи-
более рациональной: полезная площадь экрана с удалением
проектора (который в это время с первых рядов уже пере-
23
Глава 1. Ранняя киноархитектура
2. Длинный зал: план устройства «Grand-kino» в Риге (GAP, 30/124).
3. Длинный зал: петербургский «Солейль» напоминал пассаж.
мостился в глубину) увеличивалась, а угол зрения для сидя-
щих по бокам не слишком отличался от оптимального. Такой
зал был не похож на театральные (в театре требования акус-
тики не допускали чрезмерного удаления задних рядов) и в
24
Часть I Внетекстовые структуры
сознании человека 1908—1915 гг. закрепился как отличитель-
ный признак нового зрелища.
Период «длинного зала» не продолжался и десятилетие:
в хронологии киноархитектуры он занимает место между пе-
риодами импровизированных кинозалов временной аренды и
роскошных кинотеатров 10-х годов. Немногие кинотеатры, из-
бежавшие существенной реконструкции, эту архаическую
форму (неожиданно совпавшую с планиметрией нефов в като-
лических и протестантских церквах) донесли нетронутой до
наших дней. Таков, например, кинотеатр «Лачплесис» в Риге,
ранее известный под названием «Гранд Кино».
Коридор, тоннель, вагон — кинотеатр периода «длинного
зала» слишком напоминал эти функциональные пространства,
чтобы строгий рационализм продолговатого интерьера мог со-
храниться в период кинематографического ампира, господ-
ствовавшего на протяжении последующего десятилетия, на
исходе которого об эволюции кинотеатра можно будет ска-
зать: «Здание его сначала было узким и удлиненным, затем
оно стало приближаться к квадратной форме и сейчас стре-
мится стать настоящим квадратом» [117, с. 70].
Эволюция названий
Прежде чем перейти от описания периода «длинного зала»
к «периоду квадрата», остановимся на другой метаморфозе,
которая произошла в те же годы и, как представляется, по
тем же причинам, что и упомянутая эволюция архитектурных
форм. Это — волна переименований кинотеатров, пришедшаяся
на рубеж 1900—1910 годов.
Как отмечалось выше, появление кинематографа в поле
зрения русской культуры всколыхнуло пласт ассоциаций, от-
ложившийся в статьях и стихах на тему «кинематограф».
Семантический анализ этих ассоциаций мы и называем изуче-
нием рецепции кино. Не менее прочно, чем в статьях и стихах,
рецептивные ассоциации вокруг кинематографа отразились в
чисто лексикографическом материале — названиях кинотеат-
ров и словах, предложенных в качестве замены, синонима
или русификата запатентованного Люмьером термина «сине-
матограф». Простейший пример <— бесконечный извив кино-
пленки, побудивший О. Мандельштама назвать кино «мета-
морфозой ленточного глиста», в 90-е годы запечатлился в на-
звании французского ярмарочного кинотеатра: «Lentielectro-
plasticromomimocoliserpentograph» [515, т. 2, с. 185].
Обратимся сначала к истории терминов. Слова «синема-
тограф» и «кинематограф», на равных основаниях вошедшие
25
Глава 1. Равняя киноархнтектура
в культурный обиход в 1886 г., к 1902 г. утратили равноправие
.. .> местный кинематограф, который у нас нередко обра-
гся в безграмотное «синематограф»...» [178, с. 637]) и в
••ние последующих лет осознавались в русском языке как
менные («Давно пора заменить неуклюжую «кинематогра- ,
I ию»», — вполне в духе времени писала газета «Русская воля»
Г* чнв. 1917 г.).
В 900-е годы из французского и немецкого языков заим-
t П1уются две апокопы этих слов — соответственно «синема»
и «кинема», которые, тем не менее, признаются неудовлетво-
ппьными. В этот период вокруг кинематографа возникает
некоторая лексикографическая заминка, затянувшаяся вплоть
до начала 20-х годов. Терминологический дефицит, с одной
11 ороны, и наличие региональных вариантов — с другой (так,
и.| юге России в ходу было слово «иллюзион» [110, с. 244])
< нос обствовали всплеску любительского словотворчества. С на-
ч.1 \а 10-х годов статьи о кинематографе в русской прессе, как
привило, начинаются с предложения по его переименованию.
Иокруг кино возникает атмосфера культурного декретирова-
нии, в том или ином виде сопровождающая развитие этого
искусства на протяжении всей его истории, в 10-е же годы
иыразившаяся в обилии неологических идей. Слово «кинема»,
иг нравившееся, по-видимому, в силу антиномичности ква-
шокончания «а» и мужского рода, в русском языке принимает
форму «кинемо». Последняя получила распространение отчасти
<>\.иодаря известной статье Л. Андреева [20, с. 305—316], в
»< норой автор снабдил ее полемически звучавшим эпитетом
Нгаикий». С тех пор, по свидетельству прессы, «с легкой руки
Леонида Андреева все новые термины, которыми современ-
ность пытается охарактеризовать культурную роль кинема-
тографа в нашем быту, неизменно сопровождаются эпитетом
-МГМ1КИЙ»» [73, с. 25], причем в Петербурге андреевское вы-
|мжение «Великий Кинемо» в результате гаплологии и народ-
ной этимологии превращается в «Великий Немой» — слово-
еочотание, в течение некоторого времени употреблявшееся
герм инологически.
11 а ряду с этим продолжаются поиски уменьшительных
форм от «кинематограф» и в области двусложных слов, про-;
дик то ванные стремлением к обытовлению нового зрелища, а
также возрастающей стратификацией его жанров. Внутренняя
монтировка этого процесса раскрывается, например, в сле-
дующем рассуждении немецкого писателя (1913 г.): «Следует
проводить различие между кинематографом и «кино» [kino].
Кннсматограф-отец похож на почтенного, воспитанного уче-
ного, имеющего большие заслуги перед наукой <.. .> Но как
ио похож на него сын, Кино, как далек он от серьезного отца.
Он вращается в дурном обществе, попадает под влияние не-
26
Часть I Внетекстовые структуры
образованных людей» [533, с. 69—70]. В том же году в кор-
респонденции из Германии, где, по его словам, «кинема-
тограф называется уже не «кинема», а еще сокращеннее:
«кино»», П. Боборыкин предлагает русским «взять это слово,
как самое упрощенное» [70, с. 2]. Хотя термин «кино» к тому
времени в русском языке уже встречался, в качестве основ-
ного он выдвинулся только в 20-е годы. В начале 10-х «кино»
без особого успеха конкурировало с заимствованием из не-
мецкого, впервые предложенным в 1907 г. А. Койранским:
«Кинтоп! Это слово понравилось мне. Это короче и звучнее
парижского кинемо-хромо-фоно-мега-скопо-графа. Кинтоп!
Вот прекрасное название! Рекомендую его вам» [193, с. 5].
По-русски слово «kientopp» («kintopp») принимало форму
существительного среднего рода, ср. стихотворение 1916 г.:
«В мерцаньи призрачном «кинто» <.. .> Где нас не выследит
никто» [229, с. 52]. Любопытной представляется и безуспеш-
ная попытка А. Бенуа, в 1917 г. признавшегося в «преступной
слабости к кинематографу, или, как теперь принято выра-
жаться, к синеме, или еще проще — к «кики»» [56, с. 108],
ввести в русский язык эту образованную по французской мо-
дели детских слов редупликацию, отсутствующую среди фран-
цузских кинотерминов и, по всей видимости, явившуюся пло-
дом словотворчества самого художника.
Среди ласкательных наименований, действительно быто-
вавших в разговорном обиходе 10-х годов, можно упомянуть
«кинемушу», «кинемошку» и дожившую до нашего времени
«киношку».
Со вступлением России в войну возрастает недовольство
заимствованными названиями, и терминологические поиски
перемещаются в область русификатов. А. Амфитеатровым
была предложена калька слова «кинематограф» — «двиго-
пись», которая в 1916—1917 гг. насаждалась журналом «Пе-
гас», выходившим в Москве. В Петрограде С. Городецкий
предлагает слово «жизнопись» [131, с. 3], возможно, возник-
шее как перевод американского термина «biograph», извест-
ного в России по торговой марке одной из кинофирм. Пере-
водом американского слова «photoplay» или немецкого «Licht-
spiel» можно считать и термин «светотворчество», изобре-
тенный Н. и В. Туркиными.
Как видно из приведенных примеров, в эволюции термина
ощущается отталкивание от первоначальной наукообразной,
«греческой» формы слова. Реформаторы все как один предла-
гали или обытовленный, обиходный термин типа «кики», или
«окультуренный» типа «двигопись».
В области названий аналогичный процесс происходил
проще и нагляднее, чем в области наименований. Первона-
чально владельцы кинозалов давали своим театрам имена,
27
Глава 1. Ранняя киноархитектура
Витрины и вывески начала 1900-х годов: завлекательностью обладают
ученые слова и детали неведомых механизмов (Германия, 1903).
।«и и ветствующие модели приобретенного проекционного ап-
•».||мта. В 1900-е годы в Москве кинотеатры назывались «Био-
.•-•п», «Тауматограф», «Патэграф» и т. д.г а в Петербурге,
• >ме того, работали «Местер-Театр» и «Эдисон-театр». Tex-
in змов и наукообразия не только не стеснялись, но и вся-
••« •> к и этот аспект зрелища подчеркивали. В ход шли ученые
« хона, изобретенные самими владельцами, — «Электробио-
• |мф» и «Примавивограф» в России, в Европе — «Велограф»,
• к осмограф», «Синеограф» и др. [587, с. 105].
Эта тенденция соответствовала ярмарочному, балаганному
периоду, когда кинематограф был привлекателен в качестве
Научно-технического аттракциона. Однако на сломе 900-х и
|о х годов в рецепции кинематографа произошел резкий сдвиг.
1и,1 дельцы кинотеатров принялись тщательно маскировать тех-
«••ми ическую природу нового зрелища. Если сравнить списки
действующих кинематографов середины и конца 1900-х годов
с такими же списками начала 1910-х годов, мы убедимся, что
Место сциентизмов занимает «блестящая» лексика. Характер-
ный пример: в 1910 г. владелец первого в Риге стационарного
• мнотеатра «Синхрофон» сообщил в Строительную комиссию
«• < ноем намерении переименовать свой театр в «Северное
«мнние». Типичными названиями кинотеатров становятся «Зер-
«ииьный Паласт», «Всемирный», «Ренессанс», «Ниагара», «Эк-
28
Часть I Внетекстовые структуры
5. Зарождение нового стиля: передвижной кинотеатр Десмета
(Голландия, 1908).
ватор», «Алебастра», «Лира», «Мираж», «Гелиус», «Идеал» и
даже «Цеппелин».
Как отмечено выше, мода на «блестящие» названия совпала
с не менее резким сдвигом в области киноархитектуры. Функ-
циональная архитектура «длинного зала» уступила место залу,
похожему не столько на кинематограф, сколько на оперный
театр. Технологическую природу зрелища в новый период
стремятся забыть, подавить, вытеснить из поля рецепции.
Роскошные кинотеатры
городского центра.
Начало „периода квадрата"
Переход от раннего зала к архитектуре излишеств неко-
торые наблюдатели относят к концу 1900-х годов: «Переде-
ланные вначале магазинные помещения уже не удовлетворяли
театровладельцев и публику, почему нанимателям театров
приходилось, по мере наживы, вновь проламывать подчас ка-
питальные стены и этим самым расширять свои помещения,
29
Глава 1. Ранняя киноархитектура
скамьи заменять венскими или другими дорогими стульями,
4 коленкоровые занавески — тяжелыми дорогими гобеленами»
Г Hi), с. 20—21]. Действительно, хотя роскошный тип кино-
• • । ра по-настоящему утвердился к середине 10-х годов, черты
* wiijero стиля определились, пока еще в виде эксцесса, около
гк» / г. Об этом времени Б. В. Дюшен вспоминал: «<.. .> как-то
•«друг» сразу открылось несколько кинематографов на Нев-
* м»м, некоторые даже «роскошно» оборудованные» [156, л. 2].
«। подробностях этого события рассказывает другой мемуарист,
.»atop Н. И. Орлов, который был знаком с ф. А. Васильевой,
v •чирью омского золотопромышленника: «В одну из своих
ьнраничных поездок Ф. Васильева увидела в Париже на
улице съемки какой-то кинокартины. Она была любопытной
н < тала расспрашивать актеров, оператора и режиссера о кино-
• м-мках. Французы были польщены вниманием такой богатой
р\« ( кой барыни и пригласили ее в ателье бр. Патэ <.. .> Она
«\ мела договориться на очень выгодных условиях и сделаться
контрагентом фирмы Патэ для всей России. В Петербурге
мм могла прокатывать все картины Патэ бесплатно, но все,
что будет давать прокат в других городах России, за вычетом
«»|и<п1изационных и почтовых расходов, должно посылаться
«► 11<1риж. Дело сразу же пошло широко и бойко. В Петер-
‘ . |хе один за другим стали открываться кинотеатры. Все это
* »। и точные копии с парижских кинотеатров, с оркестром,
< . фетом, фойе и красивыми молоденькими буфетчицами и
• •птролершами. Первый кинотеатр, получивший наименова-
ние «КАК В ПАРИЖЕ», находился в уютном особняке во
Л’»‘»ре Невского проспекта. Снаружи он был украшен гигант-
»пми парижскими красочными плакатами, вход украшали
гы — летом и елки — зимой. По роскошному ковру пуб-
>попадала в изящное фойе. В этом же кинотеатре после
idCOB устраивались сеансы «парижского жанра» (т. е. откро-
но порнографических картин). Сеансы эти устраивались
шатно для очень избранных от «начальства» (полицмей-
|м, приставов и каких-то штатских с очень шикарными и
• алчными дамами). Второй кинотеатр назывался «КАК В
’ I [ЦЕ» и находился напротив, на углу Невского и Литейного
•< пектов. Здесь было два кинозала. В первом этаже шли
ш, серьезные научные картины. Я помню картину по шел-
идству, о подводных лодках и др. Во втором этаже шли
жественные картины. Обстановка была шикарной: золо-
’t. i я мебель, огромные зеркала в золотых рамах, чудные
♦ 1>ы, стены, обитые шелковым штофом, и такие же портьеры,
\ меется, это не были общедоступные кинотеатры (входная
। i«i от 1 рубля и дороже) и служили, как говорила Ф. Ва-
ы»ва, для «rendez-vous», т. е. были просто местом свода-
ми я для богатых посетителей» [280, л. 1—3].
30
Часть I Внетекстовые структуры
б. Курьезная деталь: имитация
«церковнославянского» ифифта
в названии кинотеатра
Васильевой.
Такого рода побочная специализация кинематографов
центра в 10-е годы начала вызывать некоторое беспокойство.
В Германии этих лет Э. Алтенло и К. Ланге выступали против
полного затемнения кинозала. Р. Гармс приводил в этой связи
рекламный проспект одного маннгеймского кинотеатра: «При-
ходите ко мне, мой кинематограф самый темный во всем
городе» [117, с. 67]. М. Суорц считает, что в США из-за
темного зала в кино ходили преимущественно мужчины [587,
с. 108].
В России дело обставлялось благопристойнее. На програм-
мке упомянутого кинематографа «Как в Париже» можно про-
честь мотто: «Неизменный принцип дирекции: идти впереди
всех и идеализация синематографа». В этом же кинотеатре
(«La mort du Due de
ильма «Смерть герцога Гиза»
анонс
Guise», 1908) Ле Баржи сопровождался припиской: «Все кар-
тины строго приличные».
На архитектуре кинотеатров русских столичных центров
новые веяния сказались сооружением особых помещений —
лож (ложи могли абонироваться, а также арендоваться на
день и на сеанс целиком или покупонно). Признаком ложи-
31
Глава 1. Равняя киноархитектура
7. Ложи в кинотеатре «Раlast».
а» же считался телефон (телефоны были проведены в ложи
петербургских кинотеатров «Ампир» (см. [156, л. 2]) и «Пари-
шана» [172, л. 50]). Психологию завсегдатаев кинематографи-
ческой ложи зафиксировала в стихотворении 1916 г. Т. Ве-
черка:
Кинематограф мыслью пленной
я вспоминаю как в бреду.
С улыбкой нежной и надменной
я в ложу темную иду.
Он ждет давно, не скинув шубы,
сжимая нервно стебли роз,
и в темноте так ищут губы
моих надушенных волос.
Так вкрадчиво и так упорно
ласкает темные меха.
Гляжу с улыбкой непокорной
глазами полными греха.
Мелькают тени на экране
и скрипка ласково поет
и снова в розовом тумане
забота утра уплывет [98, с. 9].
32
Часть I Внетекстовые структуры
„Центр и периферия"
в социальной топографии кино
К началу первой мировой войны, по свидетельству оче-
видца, «из центра столиц почти исчезли прежние амбаро-
образные кинематографические импровизации. На их месте
воздвиглись громадные дворцы, специально построенные для
экрана, тщательно обдуманные, как бы угадывавшие вкусы
публики» [172, л. 50]. И хотя понятие «кинематограф» теперь
в первую очередь связывалось именно с такими дворцами,
в сознании человека 10-х годов возникла устойчивая оппози-
ция: кинематограф центра—кинематограф окраин. Окраинные
кинематографы по внутреннему устройству и архитектуре ни-
чем не отличались от прежних центральных, и в этом отно-
шении оппозиция центр—периферия представляла собой как
бы пространственный эквивалент эволюции кинотеатра на
сломе 1904—1914 гг. В 10-е годы противопоставление центра
и окраины было существенным регулятором социального рас-
слоения и поведения кинематографической публики.
Эта же оппозиция сделалась и регулятором репертуара.
Уже в конце 1907 г. Л. Я. Гуревич обратила внимание на раз-
личие между кинематографами, «предназначенными для ин-
теллигентных классов», и «целой сетью небольших синема-
тографов, разбросанных по улицам и переулкам окраин и
обслуживающих население», причем последние, по мнению
автора, имеют «особенный интерес со стороны подбора кар-
тин»: сентиментальная мелодрама и вообще «картины трога-
тельного содержания» [141]. Другой наблюдатель, обозреватель
газеты «Жизнь» с говорящим псевдонимом «Фланер», в начале
1909 г. поделился более детальной картиной репертуарных
особенностей центра и окраин: в последних нравятся фильмы
«по преимуществу реального характера, как драматические,
так и комические. Феерии <.. .> с превращениями и колдов-
ством успеха не имеют», зато широко показываются хроники.
Так, содержатели замоскворецких кинотеатров «заработали
массу денег на картинах, изображающих наводнение в Москве1.
Каждому посетителю было лестно посмотреть свои родные,
хотя и надоевшие картины [быта] на экране кинематографа»
[408]. Тот же автор сообщал о подробностях репертуара
роскошных кинематографов московского центра: «Если драма,
то уж какая-нибудь особенно кровавая. Если комический эпи-
зод, то непременно шаржированный до последней степени.
Публика увлекается изображением ужасов, катастроф, а то
и вещами, косвенно влияющими на половое чувство» [408].
33
Глава 1. Равняя киноархитекгура
Н. М. Зоркая [166, с. 134] обратила внимание на то место
•п воспоминаний М. А. Бекетовой, где сказано о петербург-
ских маршрутах А. А. Блока: «<.. .> Александр Александро-
вич не любил нарядных кинематографов с роскошным поме-
щением и чистой публикой. Он терпеть не мог всяких «Пари-
тан» и «Soleil» по тем же причинам, по которым не любил
Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу тот
самый слой сытой буржуазии, золотой молодежи, богатеньких
инженеров и аристократов, который был ему донельзя про-
тивен и получил насмешливое прозвание «подонки общества»
<...>Ал. Ал. любил забираться в какое-нибудь захолустье
На Петербургской стороне или на Английском проспекте
(вблизи своей квартиры), туда, где толпится разношерстная
публика, не нарядная, не сытая и наивно-впечатлительная, —
сем предавался игре кинематографа с каким-то особым дет-
ским любопытством и радостью» [36, с. 260—261].
Такое поведение, безусловно, нельзя считать причудой —
в среде русских синефилов 1910-х годов предпочтение окраины
цонтру было правилом хорошего тона. Наблюдалось и встреч-
ное движение, об усилении которого писал Игнатов, подраз-
делявший киноаудиторию на две большие группы: «Когда обе
•»ти группы размещаются по разным заведениям, — одна, стре-
мясь к окраинам, другая, эксплуатируя заманчивые перспек-
тивы центра, они все-таки представляют материал более удоб-
ный для наблюдения, чем в минуты своего смешения и совмест-
ного пребывания в одном заведении. В последнее время это
смешение особенно сильно, и есть ли теперь хоть один кинема-
тограф, где группа окраин не преобладала бы над группой
центра?» [172, л. 3]. Это замечание высказано около 1919 г.—
и пору, когда экспансия окраин, конечно, затрагивала не
только кинематограф. Но социальная стратификация тарифных
участков кинозала (об этом ниже), преобладавшая в централь-
ных кинотеатрах с начала 10-х годов, позволяет заключить, что
махоимущая публика окраин и раньше не была отрезана от
кинематографов Невского проспекта, Арбатской площади или
Мариинской улицы. Видимо, противопоставление окраины
цен тру являлось скорее культурологической оппозицией, рабо-
тавшей в плане самоописания и упорядочения сложного смыс-
лового целого «кинематограф», чем делимитацией, имевшей
< гро го топографическое содержание или серьезный социоло-
Ш'В'СКИЙ смысл.
< казанное можно подтвердить опытом русской провинции.
И плане реальной топографии провинциальный кинематограф
•когда находится в центре. Вот типичный кинематографиче-
<кнй план провинциального города в описании М. Блонского:
•I l*i главной городской площади, как раз против здания думы,
« воркает гирляндой огней электро-театр «Чары». Шагах в де-
> 102326
34
Часть I Внетекстовые структуры
сяти от него через улицу приютился иллюзион «Экспресс».
За углом следующего квартала сияют два больших матовых
фонаря — это третий кинематограф «Ампир». И, наконец, на
самом конце главной улицы, там, где начинается базар, белеет
светлое пятно театра «Гигант». Такова одна из обычных картин
среднего провинциального городка. На двадцать пять, тридцать
тысяч жителей приходится, по меньшей мере, четыре электро-
театра, которые все почему-то сгруппировались на одной цент-
ральной улице города» [69, с. 2].
Тем не менее оппозиция центра и окраины, первоначально
чисто столичное явление, не замедлила перенестись на кине-
матографы провинциальных городов России и даже тех насе-
ленных пунктов, которые на название города претендовать не
могли. Достаточно было двух кинематографов (обычно именуе-
мых по образцу знаменитых столичных), чтобы в сознании
населения один из них закрепился как центральный, а дру-
гой — как окраинный. С. М. Волконский, которому в 1917 г.
пришлось некоторое время прожить в казачьей станице Урю-
пино, позднее вспоминал: «Когда я спросил моего хозяина
[квартиры] псаломщика, который из кинематографов, или, как
у нас там называли, который из иллюзионов лучше — Худо-
жественный или Модерн, — то он ответил, что оба хороши,
но только публику разве можно сравнить: «Ведь в Художе-
ственном только смотрите какая публика! Ведь это сплошь —
шляпки, горжетки, шляпки, горжетки...»» [110, с. 244].
Понятие
„роскошный кинотеатр центра"
В кинотеатре нового поколения неожиданно обнаружились
рудиментарные органы, единственной функцией которых было
напомнить о его родовой принадлежности к залу театральному.
Если переход от длинного зала к квадратному еще можно
объяснить рациональными соображениями (удлинять зал бес-
конечно было нельзя — следовало считаться с силой проекци-
онного луча, и дальнейшее расширение залов пошло в
ширину), — теми же, которые в конечном счете привели кино-
владельцев к оптимальной планиметрии кинозала — яйцеобраз-
ной [146, с. 134], с экраном, примыкающим к острой оконеч-
ности яйца, то сооружение отросткообразной сцены и занавеса
было чисто символическим жестом в сторону родословной.
О втором из этих аксессуаров Е. Маурин в руководстве
35
Глава 1. Равняя киноархитектура
8. Период квадрата: внешний вид кинотеатра «АТ»
в Риге (ныне — «Комъяуниетис») (GAP, 2/10).
для устроителей кинотеатров писал: «Строго говоря — для
самого кинематографа занавес, конечно, не нужен. Но он
нужен для зрителя, в представлении которого начало театраль-
ного зрелища неизменно связывается с подъемом разделяющей
г го от сцены преграды. Занавес дает ощущение какой-то цель-
ное ги, законченности; спущенный, он интригует, дразнит во-
ображение. И поэтому, как уступка психологии среднего зри-
теля и всем его привычкам, занавес, повторяем, необходим,
чего отнюдь не следует забывать» [146, с. 137]. Характерно,
что в этом рассуждении учитывается «психология среднего
три-геля» образца 1916 г. Зритель более раннего периода (1904—
1’ИО) принимал и ценил именно технологическую обнажен-
ней ть сеанса. Но уже в начале 10-х годов «техническое чудо»,
понуждавшее ранних зрителей толпиться вокруг проекцион-
ного аппарата и щупать экран на сеансах Люмьера, более
никого не забавляло. В 1913 г. «Кино-курьер» жаловался на
•к>г же белый экран в рамке, дающий при полном освещении
•*<»\<i неприятное ощущение белого пятна» [№ 1, с. 7]. В 1912—
1‘Н З гг. кинотеатр «Пассаж» в Кинешме решили украсить так,
36
Часть I Внетекстовые структуры
ZQ.
9. План кинотеатра «АТ».
чтобы по возможности скрыть эту рамку. «Перед экраном
была сделана сцена с художественно оформленной портальной
аркой в виде плакучих берез. На одной из берез была нарисо-
вана табличка с надписью, гласившей, что роспись и прочее
оформление сделаны художником Дмитриевым» [357, л. 6].
В 10-е годы техники стали стыдиться, тело экрана начали
прикрывать занавесом. Технологическая данность постепенно
погружалась в нижние слои рецепции, теряя в ощутимости.
Это было процессом рецептивной адаптации кинематографа
к привычным формам культуры.
37
Глава 1. Равняя киноархитектура
10. Кинотеатр Шанцера
в Киеве.
11. Берлинский «Union»:
яйцевидный план
партера.
38
Часть I Внетекстовые структуры
12. Рижский «Splendid-Palace» (ныне — «Рига») совмещал элементы круга,
эллилса и многогранника (GAP, 21(49).
Тому же процессу культурной мимикрии экран обязан вы-
росшим под ним рудиментарным отростком-сценой. В редких
случаях на ней разыгрывались интермедии (для истории рус-
ского кино не очень характерные), обычно же сцена пусто-
вала. В 1917 г. П. Нилус, решив выступить за демократизацию
кинематографов, обрушился именно на этот аксессуар: «Сцена,
на которой ставится экран, и действие кинематографа в ее
раме— создают воспоминание о театре, но сцена только пере-
житок, который должен отпасть; сцена в кинематографе будет
заменена современной плоской белой стеной. Сцена в кинема-
тографе — это то же, что ненужное подобие экипажа в авто-
мобиле. И мы видим, как эта форма вытесняется другими,
более целесообразными формами» [274, с. 4]. Однако по-
скольку, ратуя за перестройку кинематографов в духе буду-
щего конструктивизма, Нилус не вспомнил, что «плоская бе-
лая стена» вместо экрана — повсеместный атрибут импрови-
зированных кинематографов ранней поры, можно видеть, на-
39
Глава 1. Равняя киноархитектура
13. Проект экрана «Splendid-Palace».
сколько прочно в сознании реципиента понятие «кинемато-
граф» слилось с понятием роскоши интерьера.
Не вызывает удивления, что, ориентируясь на театр как
► галон архитектуры, центральные кинотеатры 10-х годов по
богатству убранства этот образец превзошли. При всем своем
демонстративном архаизме интерьер кинозала тяготел к архи-
тектурно-техническим трюкам, рассчитанным на то, чтобы по-
разить воображение эффектами освещения и машинерии. Так,
современники вспоминают звездное небо, которое, на манер
планетария, возникало в некоторых кинотеатрах при затемне-
нии зала (по свидетельству В. Пуце, так был оборудован глав-
ный рижский кинотеатр «Палладиум» [577, 17 сент., с. 16]).
«П признана», наиболее комфортабельный кинотеатр на Нев-
< ком, с залом высотой более 15 аршин, был оснащен громад-
ным потолком, способным автоматически раскрываться на обе
« троны (по-видимому, наподобие разводного моста). Такой
кинотеатр фигурирует в фильмах Б. Бертолуччи «Луна» (La
tuna, 1979) и «Splendor» (1989) Э. Скола.
Убранство кинотеатра в обиходе начала века стало сино-
нимом расхожей роскоши. В фонде Госкино (ЦГАЛИ, ф. 989,
<>п. 1, ед. хр, 153) сохранился мандат кинокомитета на передачу
кинотеатра «Амур» под клуб пананархистов. Спустя десять
лет, в 1927 г., когда партия анархистов в России уже давно
Нс существовала, отзвук этой метонимии нашел место в поэме
я
40
Часть I Внетекстовые структуры
И. Сельвинского, там, где идет речь о «выезде» анархистской
банды:
Прянишная тройка, измазанная в охре,
Айда по тротуару в бубенцах цепей.
На парнях галифэ из портьер кинематографа,
На ямщике горжетка — голубой песец [333, с. 83].
Впрочем, надо признать, что роскошный кинотеатр город-
ского центра был знаком и с такими формами обслуживания
населения, об исчезновении которых можно лишь пожалеть.
Программы «Премьер-театра» (1913, Невский, 78) содержали
уведомление: «Лица, желающие получать программу на дом,
благоволят оставлять свой адрес в кассе театра». Некоторые
театры, например «Комик» (1912, Невский, 53), сообщали в
своих программах: «Даем сеансы на дому, по соглашению».
Социотопика кинозала
В 10-е годы ходил анекдот о том, как отличить дорогие
места в кино от недорогих и совсем дешевых: идешь, пока под
ногами не кончатся бутоньерки, проходишь зону разбросанных
по полу программ и вступаешь в полосу шелухи из-под под-
солнухов [172, л. 90]. Социальная стратификация кинозала,
в наши дни малозаметная и совпадающая разве что с возраст-
ной шкалой, в те годы выступала настолько отчетливо, что
одно это для многих было зрелищем, достойным того, чтобы
сходить в кино. Характерно, что в стихотворении, посвященном
кинематографу (его начальные строки приведены на с. 22),
Ф. К. Сологуб описал именно эту картину, ни словом не об-
»молвившись о фильме:
Несуразный злит собравшихся антракт.
В третьем месте шум, и стук, и ропот,
Во втором — смешно на этот топот,
В первом чинно ждут, когда начнется акт [349].
Хотя различие в ценах на билеты существовало практи- •
чески всегда, участки повышенного или пониженного тарифа
определялись произвольно и их расположение менялось. При-
нятое по сей день удорожение мест по мере их удаления от
экрана носит чисто традиционный характер и никаких перцеп-
тивных или других оснований не имеет. В 10-е годы, когда
в результате полицейских мер пожароопасность кинотеатров
значительно уменьшилась, возник новый повод для кинофо-
41
Глава 1. Ранняя кнноарптектура
бии — некоторые газеты, ссылаясь на специалистов-окулистов
[103, с. 2; 266, с. 9; 372, с. 12; 86, с. 18—20; 183, с. 817—818],
распространили версию «кинематофтальмии» — о порче глаз,
чреватой слепотой для целого поколения кинематографических
завсегдатаев. Реакцией кинопредпринимателей (столь же про-
извольной, как и сам слух о порче глаз) стало утверждение,
будто зрению вредит лишь пребывание в первых рядах, зад-
ние же, где места подороже, практически безопасны. Так за-
крепился уже существовавший в 10-е годы прейскурант.
Не следует полагать, будто миф о грозящей слепоте послу-
жил причиной такого тарифного принципа, — силой магиче-
ской логики это представление лишь увековечило его, но
настолько прочно, что еще в 50-е годы автор этих строк, с
детства предпочитающий первые ряды, узнал о нем как о
«последнем открытии медицины».
Кинотеатры первых лет довольствовались дихотомией цен.
Например, в «Тауматографе» Розенвальда (60 мест) «дорогие
места были около экрана — первые ряды. Позади же нахо-
дились стоячие места по 15 копеек» [430, с. 10]. С расшире-
нием зала категория стоячих мест постепенно сошла на нет,
и перепад цен пришелся на места сидячие. Скорее всего, стан-
дарт «задние — дорогие, передние — дешевле» установился
более или менее стихийно: завсегдатаи из малоимущих и дети,
просиживавшие по нескольку сеансов кряду, занимали ряды
поближе к экрану. Более платежеспособная публика доволь-
ствовалась задними рядами, что, возможно, не противоречило
проксемическому инстинкту обеспеченного (т. е. более «кон-
фузливого», стремящегося к анонимности, придерживающегося
внутренней дистанции по отношению к изображаемому) зри-
теля. Видимо, киновладельцам оставалось только мотивировать
существующий порядок общими соображениями о «лучшей
видимости» с задних мест и назначить соответствующие
цены.
Такое предположение можно аргументировать поведением
прослойки, обеспеченной, но не обремененной интеллигент-
скими привычками, — купечества. Я. А. Жданов, в течение
ряда лет выступавший с группой «кинодекламаторов» по кино-
театрам России, вспоминал: «Купцы приходили в кино как к
себе домой, приносили с собой закуску и выпивку, занимали
целыми семьями первые ряды и никакими убеждениями нельзя
было внушить им, что с дальних мест лучше видно» [160,
л 9).
В рациональный период «длинного зала» рациональную
окраску приобрела и тарифная сетка: «<...> при очень
длинных залах, — писал Е. Маурин, — с самых задних
рядов изображение на экране (благодаря слишком большому
пути, который приходится пробегать световым лучам) будет
42
Часть I Внетекстовые структуры
Безплатно.
ТЕАТРЪ
АкварЕумъ
Неясшй пр.. 81. противъ Знаменской Тел 98 68.
ГеатрЧ вновь реставрирована, убранъ тропическими деревьями,
много электрич свЪта и хорошая вентилящи
Дирекщя театра ,АКВАНУМЪв
ъ стремлении дать Петсрбуржцамъ интереснейшая, быстро
сменяющаяся. роскошны» и обширны» программы, мЬняеть
ихъ еженедельно”!
Программы состоять изъ драмт г;агед!й, комед1й, фарсовъ,
феер|й. иллюз1й, апофеозовъ научныхг и видоэыхъ картннъ.
ПослЪдн1я новости м ра
КАРТИНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЕРВЫХЪ ВЫПУСКОВЪ.
Театръ открыть ежедневно въ будни съ 3-хъ час дня, а въ
праздники съ I часа дня до 11Ч» час веч.
Ц!иы м!стамъ въ театр!: З е мЪсто - 35 коп.. 2-е мЪсто—
50 коп., 1-е м!сто—75 коп., купоны въ ложу—1 руб., ложа
на 4 персоны—4 руб.
Полная перемена программы ДВА раза въ иедХлю—
по ПгкедШтамъ и Пятияцамъ.
14. Из собрания программ петербургских кинотеатров:
«Аквариум» (1912).
казаться тускловатым, и потому в таких помещениях самыми
дорогими местами назначают средние ряды, а ближе и дальше
ряды постепенно удешевляются» [246, с. 127].
Расценочная топография до крайности усложнилась в пе-
риод роскошных залов. Горизонтальная шкала обогатилась
вертикальной для двухъярусных залов. В согласии с ориен-
тацией кинотеатра той поры на стилизацию театрального по-
мещения, верхний ярус в форме небольшого амфитеатра с по-
логой галереей соответствовал традиционному райку (или
43
Глава 1. Равняя киноархитектура
ИСАТУРНЪ“
Нмскш, 67, противь Надеждинской. 'Гол. 99—97.
ДВА БОДЬШИХЪ ЗАДА.
Отдельный парадный ходъ.
Преимущества „САТУРНА**.
1) Eihhciвеяний театръ. ре.п.ефно демиН11ри|<уыц1Й казнимы
лосредсгиимъ собственна™ постоянна™ мектричегкаю тока, ч!мъ
устраняется вредное для глазъ мигами»
2) Два эрител»ныхь зала сь двумя совершенно слыистоятеаь-
ными программами. При!раммы меняются вь каждомъ зыЪ два
раза въ неделю; по Срвдамъ и Субботамь
«САТУРНЪ» даегь полных программы вскхъ л ос л tдня а ъ
нитореснМшвхи новостей, научим* ь, истпричесшхъ» бытишлъ,
храма 1 и чес не х ь, кимическихъ и пр. карт ин ъ Большая час1Ь кар-
тинъ демонстрируется исключительно нь театр!» САТУРНЬ**
41 Вь icaTpt «САТУРНЪ’ стулья значительно удалены on
экрана, всл'Ьдсгше че™ дешевым ate та «САТУРНА» равняются
лучшммъ мЪстамъ друтихъ театровъ.
Ц Ъ Н Ы М Ъ С Т А М Ъ:
Для наждаго зала
В¥ отдельности:
Ложа на 4 перс 4 р. - - к.
Кресла...........1 • -
I г wier<....... * 75 •
2-е » . , ►> 50 •
Зе > • 32 »
ДЪтсктм............ л 22 -
Ж Въ оба зала сразу:
ДО Ложи . . ..6р. — к
до Кресла............1 » 50 »
Ж 1-е мЪсто .... 1 » 20 >
. . - » 75 -
к! 3-е » » 50 >
(# Детская...........— » 32 »
За хранена верхнего платья 10 коп.
Снимать верхнее платье не обязательно.
Сеансы ежедневно: по буднимъ сь 3-х ь часовъ. а !ю ираэдниввмъ
съ 1 часа дня.
Окончан1е не позже 111/з насовъ вечера»
Электрмчеекое убраяствп Т-ва фабрики Генрихъ Вержбищбй и К€.
См. 4 стр-
15. «Сатурн» в 1910 году.
галерке) с доступными ценами (по сей день даже вполне
удобный «балкон» расценивается зрителями как «места по-
хуже»). Чтобы «избранная» публика не смешивалась с «прос-
той», галерею и партер предпочитали снабжать отдельными
выходами, своим фойе и вестибюлем, что позволяло при одном
экране создать два совершенно изолированных друг от друга
зрительских помещения. Но и в партере цены на места были
предельно дифференцированы. Обычные места, со второго по
четвертое («местом» называлась категория расценки), имено-
44
Часть I Внетекстовые структуры
№ 439.06o3ptHieKiH«MTorp., скетипг1>-ринкпм.,увес.м Спорта. Апр. 1913 г.
БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ
Невсюй пр. 67, прот. Надежди некой. Tel. 99-97 и 199-33.
11111111111111М,
3 зрнтельныхъ зала. 3 больш1я программы.
IHMIM
Только въ „САТУРНЪ" при трек ь разныхь про-
граммахъ можно видЬть ВСВ НОВЪЙППЯ ИЗбрЯН-
ВЫЗ картины кинематографа.
Программы меняются въ каждомь зал! 2 разя въ кедклю
по лоиед1яьникамъ и пятницаиь.
HMHiMiiiiMi
*
Обширное фойе. Зимши садъ.
2 входа съ Невскаго проси.
Въ саду ежедневные концерты струххаго оркестра.
Первоклассный чайный и фруктовый буфетъ,
Театръ открыть въ будше дни съ 3 часовт. и по
праздниками съ часу дня.
‘Окончявю сеансовъ не позже 11 ’/, ч. вечера.
За х ранен te керхняго платья 10 коп.
— Снимать верхнее платье необязательно. —
16. «Сатурн», каким он стал к 1913 году.
вались «стульями» и их цена, по курсу 1914 г., варьировалась
от 35 до 75 копеек. Первое место называлось «креслами» и
стоило рубль. Ложа на 4 персоны в кинотеатре «Художествен-
ный» (Невский, 102) стоила 4 рубля, купон в ложу — 1 рубль
45
Глава 1. Ранняя киноархитектура
Садовая ул., 27
Тепеф. 607-92.
Дирекц1я театра „Амимръ* лаетъ ежеВСД^ШО ДВ*
рос кош имя и обширный программы.
Программы состоять изъ каргпнъ исключительно
ИПрВЫКЪ выпусковъ.
Сеансы ежедневно въ буднее дни съ 4 ч., а въ празд-
ники съ I ч. Дня цо 11*1 ч. веч.
5 прллож къ >4 <5 Обозр.Снб. Кинематографов!», ск^тиигь-рикговъ и театровъ
Ripmii аставляетъ » кебов адш нмЬшь вру
иртну другой
17. «Ампир» (1914).
(ложи часто располагались по бокам, что позволяло современ-
никам иронически недоумевать по поводу высоких расценок
и плохой видимости [246, с. 12]). В «Тиволи» (Невский, 90)
можно было купить ложи на 3 и на 2 персоны.
46
Часть I Внетекстовые структуры
™ ПРОГРАММА ™
ТЕАТРЪ
ШIIЖ111II I II II и *
Невский присп. 102. — 1елефонъ Ле 178-12.
ПРОГРАМЛ'". ИЬ.ИЯЬКЯ ДУЯ РАЗА ЗЪ ПЕгДЪЛЮ
по ПонедЪльникамъ и Пятницамъ.
ЦЪНЫ МЪСТЯМЪ:
Ложа на 4 пер?. . 4 р - к.
Купонт» въ ложу . . I — ..
Ве;|ь-:«П1ЖЪ ........ 1 .. — ..
1-е Mtcvo (кресло) . 1 р. - к.
2 е „ . . — 75 „
З е .. •-50 „
JJ 4-е .. стул. 1,1! и II! р. --,.35 ..
ТйГрЪ (И1фЫТ1 В! будни съ 3 часовъ ш п праздники СЪ I Ш. АЙЯ.
Вкончавю № и II часовъ вечер!
Снимать верхнее платье не обязательно.
18. «Художественный» (1914).
Кроме того, в больших кинотеатрах (типа петербургского
«Сатурна»), оснащенных двумя или тремя залами, с самостоя-
тельной программой в каждом, дешевле было взять один билет
на все залы, чем на каждый в отдельности. Неиспользованные
билеты, взятые на три зала, были действительны в течений
7 дней.
Детям' и учащимся во всех кинотеатрах предоставлялась
50%-ная скидка.
47
Глава 1. Ранняя киноархитектура
Образ кинематографической
публики
Острое социологическое зрение, присущее русской прессе
начала XX века, отчетливой картины кинематографической
публики нарисовать не помогло. Диссертация Э. Алтенло
«К социологии кино: Кино как учреждение и социальные про-
слойки его посетителей» [480], изданная в 1914 г. в Германии,
была сразу же замечена и сочувственно отрецензирована жур-
налом «Сине-Фоно» [463, с. 35], но поводом к аналогичному
анализу со стороны русской кинолитературы не послужила.
В январе 1916 г. «Петроградский к и но-журнал» писал: «Кине-
матографический зритель так же молчалив и нем, как кинема-
тограф <...> Публика кинематографов, новая публика, со-
зданная этим театром, — для нас загадочна и непонятна» [294,
с. 11]. И. Н. Игнатов и в 1919 г. нашел нужным присоединиться
к этому признанию: «Подобная «истории мидян» по своей тем-
ноте и непонятности, кинематографическая публика, кроме
того, крайне разнообразна» [172, л. 2]. Разнообразие же кино-
аудитории 1900—1910-х годов в устах наблюдателя эпохи зву-
чало не как призыв к ее дифференцированному описанию, а
скорее как эмблема единства. Уже начиная с 1907 г., когда
первое удивление от кинематографа улеглось и кинематогра-
фическая публика не только попала в поле зрения пишущих
о кино, но и сделалась центром их внимания, типовой форму-
лой стало сословное перечисление сидящих в зале, после кото-
рого следовало резюмирующее «все». «У них своя постоянная
публика, свои «скопоманы», — писал в 1907 г. А. Койран-
ский, — Но кроме завсегдатаев в них ходят все, решительно
все» [193, с. 5]. В самом начале 1912 г. А. Серафимович выде-
лил ключевое слово курсивом: «<...> загляните в зритель-
ную залу. Вас поразит состав публики: здесь все, — студенты
и жандармы, писатели и проститутки, офицеры и курсистки,
всякого рода интеллигенты в очках, с бородкой, и рабочие,
приказчики, торговцы, дамы света, модистки, чиновники, —
словом, — все» [336].
Кинозал начала века, в отличие от зала театрального, соби-
равшего «хорошую публику», равно как и от мест «увеселений
для народа», ценился за полноту сословного спектра. Верти-
кальный социологический срез кинопублики статистическими
материалами не подкреплялся и вообще редко претендовал на
научность. Перечисления такого рода следует скорее отнести
к области социальных обобщений более широкого плана. Эс-
сеистика тех лет дорожила образом кинозала как миниатюрой
русского городского общества в целом, а при желании могла
48
Часть I Внетекстовые структуры
усмотреть в ситуации киносеанса предвестие чаемых ею соци-
альных сдвигов. К примеру, К. и О. Ковальские, беллетристы
левых убеждений, в том же 1912 г. явственно намекали на
сословную гармонию, прообразом которой, по мнению авторов,
явился кинематограф: «Кого только не увидишь в фойе: пре-
старелого редактора солидной прогрессивной газеты, даму из
общества, приват-доцента университета, бонну с детьми из
приличной семьи, гимназиста, купца-провинциала, наборщика,
уличного мальчишку, юнкера, проститутку. Только в синема-
тографе, на этой ни к чему не обязывающей, нейтральной
почве, встречаются самые разнообразные слои общества, еди-
нодушно восхищаясь видом бушующего океана или смеясь над
похождениями Глупышкина и Макса Линдера. Происходит не-
видимый обмен душевными эмоциями и нивелировка обще-
ственных и экономических положений» [191, с. 8].
Вариантов у этой темы имелось достаточно. Один из них —
убеждение, что кинематограф 1907 г. законсервировал настрое-
ние единства, царившее в русском обществе во время рево-
люции 1905 г. [141]. Но хронологически (как и генетически)
всему предшествовала статья Андрея Белого «Синематограф»,
задавшая тон трактовке кинематографа как места истинного,
невыдуманного единения. Полемический контекст этого утвер-
ждения — противопоставление кинематографа программе
«мистического театра» и идее «соборности»2, выдвинутым пе-
тербургскими символистами, был скоро забыт, но каноническая
формула, предложенная Белым, утвердилась и, мало изме-
няясь, переходила из статьи в статью: «Синематограф — клуб:
здесь соединяются для того, чтобы вывести нравоучение, по-
путешествовать в Америку, познакомиться с производством
табака на Филиппинских островах, посмеяться над глупостью
полицейского, повздыхать над продающей себя модисткой,
собираются, чтобы встретить знакомых — все, все: аристо-
краты и демократы, солдаты, студенты, рабочие, курсистки,
поэты и проститутки» [38, с. 349].
Отметим, что собирательный (точнее сказать, перечисли-
тельный) образ кинематографической публики, претерпевая
вариации от автора к автору, нигде не утрачивает указания
на сидящую в зале проститутку (обычно это указание замы-
кает список представленных тут сословий). Стихотворный ва-
риант социальной формулы кинозала, включенный в «Живую
фотографию» Г. Чулкова, завершается «крупным планом» этой
фигуры:
Но посмотрите на зрителей; они очарованы представленьем:
Мальчик из лавки стоит, засунув палец в рот;
Толстая барыня задыхается в своем корсете;
Томная проститутка влажными глазами следит за зрелищем [436, с. 11].
49
Глава 1. Ранняя киноархнтектура
В 1913 г. в «Вестнике кинематографии» была напечатана
статья С. Любоша, где любовь «этих дам» к кинематографу
ставилась в связь с условиями петербургской зимы: «Как
удобно, что, часами профессионально слоняясь по Невскому
или по другой улице, можно в Квиссисане проглотить бутер-
брод или пирожное, а в кинематографе посидеть, обогреться
и проследить необычайно чувствительную историю шикарной
парижской кокотки или обманутой баронессы» (№ 9, с. 3).
Однако бытовых обстоятельств мало, если мы хотим объяс-
нить устойчивость рецептивной метонимии 10-х годов —
«проститутка в кинематографе».
Видимо, фигура проститутки по сравнению с другими ком-
понентами перечисления обладает повышенной собиратель-
ностью — она как бы представительствует всему образу кино-
зала так же, как этот образ представительствует обществу в
целом. Семантика слова «все», ключевая для интересующей
нас формулы, с одинаковой легкостью ложится и на образ
кинозала, и на образ проститутки. Поэтому в некоторых тек-
стах перечисление редуцировалось до этого метонимического
минимума. Так, А. Кугель, описывая киносеанс 1913 г., огра-
ничился лишь одним указанием: «Рядом со мной сидела моло-
дая особа, с чуть-чуть, как мне показалось, подкрашенными
щеками. Вероятно, какая-нибудь «жрица любви». Глаза ее были
увлажнены3. Она приносила свою очищающую жертву на ал-
тарь кинематографа» [209, с. 181].
Метонимичный по отношению к социуму кинозала, образ
проститутки-кинозрительницы не противился и метафориче-
скому прочтению. В 1916 г. один из авторов «Кине-журиала»
посвятил отдельную статью проституции как метафоре уже не
только кинозала, но и кинематографа как искусства: «Зритель
идет к кинематографу с тем же цинизмом, с которым идет
к проститутке. Он знает заранее, что комедия, которую он
[кинематограф] будет разыгрывать, именно комедия — не
больше, что ласки — не ласки, а заученная нота, кукольный
жест, и тем не менее идет, идет потому, что эта комедия ему
необходима» [335, с. 87]. Дешевая роскошь, итеративность
эмоций, причастность порочному и преступному миру, исклю-
чительная принадлежность к городскому быту, наконец, низо-
вой эгалитаризм — таков перечень черт, сближавших кинема-
тограф и проституцию в восприятии наблюдателя 1900— 1910-х
годов.
4 102326
50
Часть I Внетекстовые структуры
„Поход в кинематограф".
Бытовое поведение кинозрителя
Существенным моментом для рецепции раннего кинемато-
графа была возможность «казуального», т. е. непреднамерен-
ного, впечатления. Исследователями уже обсуждалось то пред-
почтение, которое А. Блок начиная с 1904 г. оказывал внезапно
и наудачу выбранным кинотеатрам [166, с. 127—130]. Свобода
от бытового ритуала, связанного с посещением театра (вечер-
нее время, забота о билетах, пдатье, чреватые светскими кон-
тактами антракты), довольно скоро сделалась осознанной чер-
той поэтики киносеанса. К. А. Варламов, в тон восхвалениям
кинематографа как «наиболее демократического удовольствия»
[240, с. 102], уточнял: «Зовут меня, например, в театр, а я
думаю? стоит ли? Одеваться надо, смокинг натягивать, ворот-
ник надеть, запонки застегивать. Я лучше в кинематограф.
Как сижу, так в таком виде и пойду» [89, с. 7]. Владельцы
кинотеатров считались с этой репутацией, и даже в богатых
кинематографах, снабженных гардеробами, листки с програм-
мами содержали примечание: «Дам покорнейше просят шляпы
снимать, раздеваться не обязательно» (программа петербург-
ского кино «Ренессанс» 2—8 мая 1909, коллекция RKM).
Другой важной чертой ранней стилистики киносеанса было
правило, согласно которому «публика входила в театр беспре-
рывно и сидела в зале, пока не надоедало» [430, с. 11 ]. В Рос-
сии такая формула сеанса удерживалась недолго — до тех
пор, пока программа состояла из нескольких автономных
коротких картин. В Германии традиция «открытого сеанса»
оказалась устойчивее, и еще в середине 20-х годов Р. Гармс,
сравнивая кинотеатры первых лет с изменившимися усло-
виями современных ему кинозалов, констатировал: «Одно
только обыкновение сохранилось в кино до сегодняшнего
дня: каждый зритель может в любое время войти в кино-
театр или выйти из него, будь то в середине сеанса, в начале
или в конце его» [117, с. 71]. Американское кино еще и после
второй мировой войны придерживалось правил свободного
доступа.
Эта частность, однако, в процессе киновосприятия имела
немалый вес. Дело не только в оттенке импровизации, аван-
тюрности, которым окрашивался для человека той эпохи поход
в кино (здесь же и привкус незаконного, внезапного уклонения
от рутины: «шел в гости, а попал в кино» — такой мотив
встречается не в одних блоковских записях), но и в особен-
ностях рецепции кинофильма. Реципиент попадал в особое
51
Глава 1. Ранняя киноархитектура
положение по отношению к объекту восприятия. В привыч-
ном для нас случае, когда начало фильма синхронно нашему
появлению в кинотеатре, мы фильм воспринимаем как «объект
для нас». Устанавливается психологическая зависимость между
текстом и его получателем. Фильм незаметно становится регу-
лятором поведения кинозрителей, исподволь принуждая его
явиться к началу и покинуть зал после финала. Поведение
текста и поведение реципиента взаимно обусловлены.
Казуальная, свободная формула киносеанса взаимную де-
терминированность объекта и субъекта восприятия не подра-
зумевала. Во-первых, нефиксированная явка в кинотеатр, ока-
зывается, меняла представление о конце и начале фильма.
Для нас существенное опоздание на сеанс означает неполно-
ценность впечатления (равно как уход из зала до окончания
сеанса инкриминирует неполноценность источнику впечатле-
ния). Для посетителя ранних кинотеатров, по формулировке
И. Н. Игнатова, дело обстояло иным образом: «Не надо было
спешить к началу представления: когда бы ни пришел, тут и
было начало» [172, л. 11]. Иными словами, кинотекст воспри-
нимался как непрерывное самодвижущееся действие. Восприя-
тие этого текста было, по определению, фрагментарно и дози-
ровалось самим реципиентом. Можно сказать, что, хотя сум-
марное пространство фильма для всей киноаудитории было
общим, его конец и начало у каждого кинозрителя были
своими.
Американский исследователь С. Кэвелл, опираясь на соб-
ственный опыт кинозрителя, так описывает различие между
двумя формулами сеанса: «Когда приход в кино был нефикси-
рованным и вы входили в любой момент демонстрации (во
время хроники или короткометражки или в разгар основной
картины — радуясь узнаванию кадра, на котором вы вошли,
и с этой минуты чувствуя себя свободными решать, уйти или
еще раз посмотреть знакомую часть), мы вбирали в себя все —
и собственные фантазии, и реакцию сидящих рядом, и ощу-
щение своей анонимности, и уносили эти ощущения нетрону-
тыми. Теперь же, когда аудитория существует как целое, на
мое уединение посягают; теперь меня задевает, если моя реак-
ция на фильм другими не разделяется» [508, с. 11].
Во-вторых, свободным доступом в кинозал была сведена
к минимуму зависимость между фильмом и его зрителем. Для
человека, заглянувшего в кинотеатр мимоходом, фильм входил
в разряд событий, с которыми сталкиваешься случайно. Фильм
представал скорее как «текст в себе», чем как «текст для
меня», и своей непреднамеренностью, самодостаточностью при-
мыкал к явлениям стихийного порядка. Для русского наблю-
дателя 1900-х годов это была, в первую очередь, саморазви-
вающаяся стихия города. Символистское мироощущение при-
52
Часть I Внетекстовые структуры
ветствовало кинематограф именно в таком качестве, что прямо
вытекает из статьи Белого «Город» [39] или «Мыслей о те-
атре» М. Волошина [111]. Попав в кино, человек эпохи симво-
лизма вступал в контакт не с фильмом и даже не с кинемато-
графом, а с городом, сгущенным до состояния кинематогра-
фического текста. Для Блока такой контакт носил характер
игры, в которой выбор фильма, выбор кинематографа и даже
само решение, зайти или не зайти в кинематограф, принадле-
жали не ему, а форсмажорным обстоятельствам городской
стихии. Известное место из его письма к Е. П. Иванову (1904 г.)
отсылает именно к этому слою рецепции: «Вчера я пошел
к вам. Внезапно увидел кинематограф на Литейной. Вошел
и смотрел около часу вертящиеся картинки. Чувствуя в этом
некоторый символизм, решусь все-таки еще перешагнуть все
препятствия, которые будут преследовать до Николаевской.
Говорю, это даже вовсе не шутя. Тут есть какая-то городская
тайна — в непропускании... Проскользнуть лучше всего, на-
дув самого себя. О, Город...» [300, с. 31—32].
В Париже, где культура «фланирования» оттачивалась до
деталей, Жак Ваше в 1919 г. обучал Андре Бретона правильной
методике хождения в кино. Чтобы добиться максимально ин-
тенсивного впечатления, следует заходить в кинотеатр «когда
показывают то, что показывают, в любой точке сеанса, и при
первых признаках скуки мчаться в другое кино... и так до
бесконечности» [475, с. 104]. Бретон усвоил эту практику и
был потрясен эффектом непроизвольно сталкивающихся изоб-
ражений и действий. Р. Абель полагает, что для Бретона это
было первой встречей с тем, что он позднее назовет «сюрре-
альным» [Там же].
К началу 1910-х годов поэтика русского киносеанса стала
меняться, — процесс, не обойденный вниманием кинематогра-
фической прессы. Постепенно, начиная с кинотеатров город-
ского центра, изменилась формула сеанса. В России, как и
повсюду в Европе, стиль киносеанса соотносился с характером
репертуара. Мода на полнометражные картины сама по себе
привычке к свободному доступу в кинозал не угрожала: в
программах кинотеатров содержание многочастевых фильмов
не только излагалось, но и снабжалось указаниями, в какой
части что- происходит. Сложнее обстояло дело с экраниза-
циями нашумевших романов. Здесь линейность восприятия
прочнее входила в круг зрительских ожиданий: публика была
вправе требовать поэтапного повторения литературного пере-
живания.
Ключевым событием в этом процессе была экранизация
романа «Quo vadis?»(«KaMo грядеши?») Г. Сенкевича («Чинес»,
1912, реж. Э. Гуаццони). Размах этой постановки отразился на
методике проката и стиле демонстрации. В Берлине под премь-
53
Глава 1. Ранняя киноархитектура
ПРОГРАММА на )9-е 20-е и 2Ьс Апреля 1913 года
И Д Е Т Ъ
[КАМО ГРЯДЕШИ!
!> ПА 1/1 п а ы , А яч л маио 1 м л м А ы и т а г .-к плГ> k ,'ir-j rrs n .
Полное воспроизведение романа знамен пего псльсчзго писателя
i6 частей Около 3000 метровъ. 21 г час времени!
Ни
посганмвк) Знаменитая ИтальЯ’С^ая фабрика „Чинясь" затраныа
М И Л Л I I) Н Ъ л и р ъ
Самая выдающаяся лента за все врег/я кинематаграфш
Такал грандиозная картина появляется впервые
Ничего подебмаго до сихъ лоръ еще не было
Для удобс! ви публики во иэ61жан!е ил ид а и i я и^ртина поймет и одновременно
в ь 2 * х ъ залах*, полностью
19. Программа к фильму Э. Гуаццони «Камо грядеши?» (1912)
в кинотеатре «Сатурн» (1913).
еру «Камо грядеши?» фирмой «Чинес» был открыт специаль-
ный кинотеатр (Ж. Садуль утверждает, что им руководил пи-
сатель Г. Г. Эверс [328, т. 2, с. 206].) Сохранилась статья
К. Пинтуса (1913), побывавшего на этой премьере. В ней автор
с удивлением рассказывал о том, что на пригласительном
билете был проставлен час начала, а также имелась просьба
«явиться в платье для приемов (Gesellschafts toilette)» [541,
с. 72]. В проспектах, выпущенных к демонстрации «Камо гря-
деши?» русскими кинотеатрами, указывалась длительность
сеанса (два часа с половиной вместе с перерывами между
частями), но время начала не указывалось. Возникало напря-
жение между навыком неподготовленного визита в кино и
тенденцией нового репертуара навязать кинозрителю более
строгие привычки. Процитируем открытое письмо группы ки->
новладельцев к кинопредпринимателям по поводу «неесте-
ственного удлинения метража» картин: «Публика, являющаяся
в театр после начала сеанса, часто бывает вынуждена ждать
54
Часть I Внетекстовые структуры
окончания его необыкновенно долго, а это крайне утомительно
и вызывает естественное охлаждение к кинематографу» [301,
с. 19).
Попытку как-то сгладить это противоречие, создав подобие
«скользящего графика» сеансов, можно было наблюдать на
примере петербургского кинотеатра «Сатурн» (Невский, 67), в
распоряжении которого было три смежных зрительных зала.
Анонс «Камо грядеши?» здесь снабжался особым примеча-
нием: «Для удобства публики во избежание ожидания кар-
тина пойдет одновременно в 2-х залах полностью» (Программа
«Сатурн» на 19—21 апр. 1913 г.).
Изменился и психологический климат вокруг «похода в
кино». Если еще в 1912 г. Арк. Бухов в стихотворном фелье-
тоне попытался изобразить грубый нрав кинематографической
публики —
На экране — клочья, брызги,
* Доски, стекла и горшки,
В темном зале — чьи-то взвизги,
Жирный хохот и смешки [83, с. 18},
то в статье 1915 г. тот же автор обнаруживает в поведении
кинозрителя черты нового кодекса: «Тип кинематографиче-
ского зрителя, грызущего семячки и гогочущего во время
драмы, — уже вымирает. В кинематографах те же, кто запол-
няет театры. У публики уже вырабатываются свои вкусы,
если хотите, даже любовь к тому или иному кинематографи-
ческому артисту... Публика, которая сначала заходила в
кинематограф только мимоходом, которой очень нравилось,
что там: «можно не снимать калош и верхнего платья» —
как об этом предупреждали плакаты, теперь уже начинает
смотреть картины по сериям, ходить досматривать одну и ту
же фабулу и два, и три вечера ...» [84, с. 9]. Или, как резю-
мировал другой обозреватель, «в кинематограф уже не «за-
ходят». В кинематограф «ходят» и «ездят»» [307, с. 2].
Между тем, хотя фактическое положение дел, действи-
тельно, изменилось и кинематограф стал полноправной графой
в расписании быта, на стиле «похода в кино» это отразилось
мало. Основной чертой здесь по-прежнему оставалась тща-
тельно оберегаемая непреднамеренность. В 10-е годы стало
очевидным? что свобода от «начинающегося с вешалки» теат-
рального обряда во многом и сама носила ритуальный харак-
тер. Визит в кино продолжал оформляться как спонтанный
поступок даже и тогда, когда «в кинематографе вечером» [68,
т. 2, с. 219] стало обычным завершением дня. В 1919 г. на это
обратил внимание Игнатов: «<...> по свойственному чело-
веку консерватизму мыслей зритель до сих пор уверен, что
кинематограф почти не заставляет терять времени даром, что
для начала представления нет фиксированного часа, и когда
55
Глава 1. Ранняя киноархитектура
бы ни пришел, все пришел к началу. Это давно не так, и тем
не менее посетители продолжают утверждать, будто кинемато-
граф имеет для занятых людей то неоценимое преимущество
перед театром, что он не зовет зрителей к представлению
в определенное время и позволяет устанавливать начало не
автору, не режиссеру, не администрации театра, а каждому
отдельному зрителю» [172, л. И].
«Консерватизм» в стиле поведения (точнее сказать, эта-
лона, на который ориентировался этот стиль), видимо, имеет
отношение к области социальных стереотипов. Наблюдатели,
склонные к самоанализу, замечали в психологии кинозрителя
элемент фарисейства. Тот же Игнатов выделял среди кино-
публики большую группу «конфузливых»: «Конфузится и
стыдится она своего пребывания в кинематографе; смеется
над трагическими переживаниями героев экрана и над соб-
ственным своим посещением привлекательного места» [172,
л. 3]. Хотя многие обозреватели были склонны относить эту
двойственность за счет особенностей отечественной культуры,
нерусские источники подтверждают ее универсальный харак-
тер. В ЗО-е годы об этом сказал Э. Панофски: «Не приходится
удивляться, что «обеспеченные классы», когда они понемногу
стали захаживать в эти ранние кинотеатры, поступали так
не в поисках нормального и, возможно, серьезного развле-
чения, но с характерным чувством смущения и снисхождения,
с которым мы, бывает, с веселой компанией погружаемся
в фольклорные глубины Кони-Айленда или европейской яр-
марки» [571, с. 152]. Реплика Н. Лопатина облекала аналогич-
ное наблюдение в форму журнального афоризма: «Как ис-
кренне любим мы кинематограф и как серьезно уверяем
самих себя, будто презираем этот пошлый, бульварный вид
развлечения!» [231, с. 19].
Примирить эту двойственность помогал подчеркнуто не-
формальный ритуал, которым обставлялся поход в кино. Ка-
ковы его признаки? Наблюдатели эпохи выделяли в поведении
кинозрителя:
— непреднамеренность. Аккуратное соблюдение этого ус-
ловия снимало подозрения в киномании. Обозреватель 1916 г.,
указывая на различие между театральными и кинематографи-
ческими сборами, подчеркнул условный характер и тех и дру-
гих: «<...> не думайте, что психологическую разницу в том
и другом случае создают бытовые условия. Очень редко в
театр вы идете «с налету» — собрались и пошли. Так только
женихи с невестами ходят в театр. Обычно, если вы идете
в театр, то собираетесь задолго, может быть, за несколько
дней, назначаете день, выбираете пьесу, «примериваетесь» к
«исполнителям» и т. д., а в кинематограф вы отправляетесь,
часто за полчаса до этого и не предполагая, что отправитесь.
56
Часть I Внетекстовые структуры
20. Карикатурист
И. Степанов изобразил
«конфузливого» зрителя,
неузнанным прокрадываю-
щегося в «электротеатр»
(Наша неделя, 1913,
№ 20—21. С. 20).
не чувствуя тяги и желания. «Господа, пойдемте в кинемато-
граф! — Пойдемте!»» |190, с. 69—70];
— групповой характер. Поход в кинематограф «всей ком-
панией» способствовал атмосфере коллективной ответствен-
ности и лишал этот поступок оттенка тайного пристрастия;
— систему колебаний: «И вот компанией отправляются,
часто не зная еще, в какой же именно кинематограф пойдут.
Увлекаемые уличным движением, пройдут мимо одного ярко
освещенного, разукрашенного плакатами входа, мимо другого,
поколеблются — пойдут дальше и, наконец, куда-нибудь да
зайдут, потолкутся в фойе, прямо так, не раздеваясь, в шубах,
в калошах' ..» {190, с. 70];
— притворную неискушенность, которая оборачивается
своей противоположностью: «<...> у всех этих людей, так
искренне презирающих кинематограф, вдруг оказываются
обильные, точные сведения по вопросу о том, где картины
разнообразнее, где аппарат меньше мигает» [231, с. 19];
— систему ложных мотивировок. Аддикция прикрывалась
или ссылкой на волю обстоятельств (П. Тавричанин рассказы-
57
к Глава 1. jWBW мийархитекгура
вает: «Пишущему эти строки не раз приходилось выслушивать
от своих знакомых, встречаясь с ними в «ожидалке», такого
рода полу оправ дания: «Да вот и мы ... тово, зашли ... Сидели,
знаете, с Марьей Ивановной дома, пошли воздухом дохнуть,
немного устали и пить она захотела ... Иногда, знаете, занятно
бывает, но больше чепуха»» [367, с. 3]), или любопытством
социолога-любителя («В самом деле, пойдемте! <.. .> Кар-
тины, конечно, не интересны, зато любопытно посмотреть на
публику, как она интересуется всякими пошлостями!» [231,
с. 19]), или интересом к фильмам как симптому падения сов-
ременной цивилизации. Такой мотив проскользнул уже в
1910 г. в ходе полемики между К. И. Чуковским и В. В. Роза-
новым. Известная филиппика Чуковского по поводу кино, со-
державшаяся в его лекции «Нат Пинкертон и современная
литература» [435], вызвала следующее замечание Розанова:
«И что за младенчество: войти в кинематограф, увидеть, что
все лавочки заняты, и закричать наподобие Иеремии: «Погиб
народ мой, погиб Иерусалим» <.. .> Ну вот и вы были в
кинематографе и, судя по ва
II
ему чтению, пересмотрели чуть
ли не все картинки. Не будем ежиться и ломаться, и признай-
тесь, вы ходили туда не для одной же лекции, не собирая для
нее сюжеты. Правдоподобнее, что сюжет мелькнул потом, что
вы, сидя и сидя перед картинками, догадались: «Ба, да ведь
это целая литература» и решились это сделать предметом
особого чтения. Но пока все это пришло вам на ум, вы по-
просту, по-нашему, ходили для удовольствия, небольшого, не
крупного, — но, однако, именно для удовольствия» (ЦГАЛИ,
ф. 419, on. 1, ед. хр. 203, л. 13).
Такова, вкратце, психологическая обстановка, определявшая
рецептивные особенности русской киноаудитории 1900—
1910-х годов. Наиболее отточенную формулировку она полу-
чила в романе Л. Добычина «Город Эн», где психология се-
мейного похода в кино передана языком детского сказа: «Мы
любили его «видовые» с озерами «драмы», в которых несчаст-
ная клала ребенка на порог богачей, и «комические». До чего
это глупо, — довольные, произносили мы по временам» [151,
с. 79].
В книге «Прошлое на экране» Л. Мэй сообщает, что вла-
дельцы американских кинотеатров повышали престиж своих
заведений, приглашая на премьеры представителей лучших
семей — Рузвельтов, Карнеги, Вандербильтов [556, с. 158].
Видимо, в тех же целях русские кинематографические жур-
налы вели светскую хронику: «Пребывающий в настоящее
время в Киеве Его Императорское Величество Великий Князь
Дмитрий Павлович 20-го августа посетил кинемо-театр Шан-
цера, где просмотрел всю программу» [416, с. 18]. Рассказы-
вая о кинематографических пристрастиях изгнанного порту-
58
Часть I Внетекстовые структуры
гэльского короля Мануэля, «Вестник кинематографии» под-
черкивал: «Королевская чета не пропускает ни одной новинки.
Экс-король с благодушным видом обыкновенного обывателя
становится в очередь у окошка кассы и покупает два билета
на дешевые места» [461, с. 39].
В сознании кинозрителя начала века складывался образ
кинотеатра как пространства, совмещающего в себе привкус
запретного и доступного, пространства, где на «де
евых мес-
тах» может оказаться, что ты сидишь рядом с экс-королем
Португалии. Иначе говоря, пространство кинотеатра приобре-
тало черты, роднящие его с фантастическим миром экрана.
Средоточием этих характеристик было кинематографическое
фойе.
Эволюция фойе
Мир кинематографического фойе — не частность. Атмо-
сфера и убранство фойе, пространства, непосредственно при-
легающего к миру экрана, аккумулируют в себе особенности
кинематографического стиля, может быть, даже в более очи-
щенном виде, чем сами рассадники этого стиля — кинофильмы.
Свойство периферии преувеличивать усвоенные черты при-
вело к тому, что некоторые из черт киностилистики 1910-х
годов с пародийной отчетливостью проступили именно в фойе.
Хотя институт фойе был в готовом виде позаимствован
кинематографом у театра, в отличие от сцены и занавеса его
нельзя причислить к разряду архитектурных излишеств. Кино-
фойе возникло как функциональное помещение — в тот период,
когда стала меняться формула киносеанса4. По молчаливому
соглашению между театровладельцами и зрителями послед-
ние были готовы ждать начала картины, в то время как пер-
вым приходилось заботиться об организации досуга. Звуко-
проницаемая занавеска, ранее служившая единственной гра-
ницей между залом и внешним миром, к началу 10-х годов
отошла в прошлое. В 1914 г. М. А. Кузмин (и в этом он был
солидарен с большинством киноманов из среды творческой
интеллигенции) с неудовольствием отметил: «<...> кине-
матографы имели полный смысл, когда в них можно было
забежать в любую минуту, на полчаса, чтобы посмотреть де-
тективную драму или «посещение шхер германским импера-
тором», совершенно так же, как просматриваешь газеты в
трамвае, но когда приходится эти же сорок минут ждать
в «роскошном вестибюле» <...> то, конечно, может придти
в голову аналогия и, конечно, не в пользу последнего» [211,
с. 18—19].
59
Глава 1. Ранняя киноархитектура
Между тем для другой части публики «роскошное фойе»
было не залом ожидания, а пространством, не лишенным
собственной притягательности. Э. Бескин в 1916 г. писал, что
в толпе у электротеатров — «не только маньякальные при-
верженцы экрана, [но и просто люди], устроившие возле
кинематографа нечто вроде фойе, вроде клуба. Здесь прогу-
ливаются, шутят, по-своему флиртуют, выслушивают впечат-
ления «отсеансившихся» и т. п. Кинематограф охотно освещает
эту толпу, манит ее нарядным
гой роскошью наряда»» [59, с. 8].
вейцаром и всей прочей «убо-
Неудивительно, что в конце 20-х годов в среде художни-
ков-конструктивистов раздавались голоса, требующие упразд-
нения фойе. В 1928 г. архитектор Н. Дедовский опубликовал
в журнале «Кино» проект «кинотеатра будущего», снабдив
его таким комментарием: «Фойе является пережитком и
должно отмереть. Этого требует организационная логика и
экономические соображения — экономия пространственная
и временная. Последняя — учитывая психологию потреби-
теля, который тяготится ожиданием начала сеанса, как бы
это ожидание ни было удачно сокращено» (№ 39, с. 3). Через
неделю в той же газете появился ответ Дедовскому — статья
«Каким должен быть идеальный кинотеатр?», подписанная
М. Бойтлером, владельцем одного из лучших кинотеатров
Москвы (в начале 20-х годов в кинотеатр Бойтлера ежедневно
хаживал Сергей Эйзенштейн). Высмеивая невежественную
утопию Дедовского, Бойтлер, в частности, писал: «Фойе —
поучает он — существует для ожидания, ожидание неприятно
и бесполезно, ожидание надо упразднить и фойе исчезнет».
Но Дедовский не знает, как уничтожить и ожидание. Он ду-
мает, что это можно сделать, нагородив много маленьких
залец, куда и напускать публику через 10 минут. Зал будет
десять <... > Идеал проф. Дедовского — старейший и при-
митивнейший кинозальчик с пианистом (10 оркестров — вещь
немыслимая), с одним аппаратом в будке и без уборной, гар-
дероба и теплового выхода. Вот что он хочет заставить при-
знать «идеалом, ведущим вперед», но, как ни фантазируй
он вокруг своего воспоминания о древних временах кино,
малейшее сравнение со скромной действительностью оказы-
вается смертельным для всех его построений» (№ 40, с. 3).
В Москве первое фойе появилось довольно рано — в конце
1904 г. при кинотеатре Розенвальда, обосновавшемся в пассаже
Солодовникова. По замыслу владельца, этот кинотеатр должен
был привлекать зрителей симбиозом искусств, что оговарива-
лось в его названии: «Синемо-театр и выставка открытых
писем, акварелей и картин» [430, с. 13—14]. Кроме выставки
в фойе Розенвальда демонстрировался «феномен» — безрукий
художник синьор Бартоги. В сущности, такое фойе было от-
60
Часть I Внетекстовые структуры
почкованием эстетики балагана (каким в Риге на протяжении
ряда лет был посезонный альянс между цирком Саламонского
и кинематографом «Цирк» (GAP, гр. 5, № 14)), привкус
которой в эпоху развитого фойе исчезнет почти бесследно.
Единственное, чем фойе Розенвальда предвосхитило более
поздние залы такого рода, был элемент экзотики, здесь —
итальянского спектра.
Позднее, в 1908—1913 гг., атмосфера рядового, нероскош-
ного фойе («ожидаловки») носила отпечаток той же сентимен-
тальной идиллии, которая умиляла наблюдателей в репертуаре
этих кинотеатров, укомплектованном в основном французскими
(реже — английскими) мелодрамами с благополучным концом:
«Вдоль стен рядком пристроено несколько безобидных авто-
матов: то это куколка, танцующая за пятак, то карлик, высо-
вывающий шоколадную плитку, то поющий соловей, то пред-
сказатель судьбы; тонкие пальцы мастерицы либо гувернантки,
пришедшей сюда с пятилетним бутузом, опускают монетку
в отверстие, а вокруг набираются посторонние зрители. Маль-
чишка в смазных сапогах и с юркими глазами таскает взад
и вперед поднос со сладостями: как-то само собою выходит,
что обстановка этого беспритязательного фойе похожа на до-
машнюю комнату или на общую каюту парохода, где все чув-
ствуют себя ближе и проще, чем, например, в театре» [337,
с. 25].
Ближе к середине 10-х годов, когда в мировом кинопрокате
стали господствовать итальянские исторические «пеплумы»,
а в игре актеров наметился стиль «дивизма», картина кине-
матографического фойе резко изменилась. Как уже говори-
лось, пространство фойе теперь обязательно помечалось при-
знаками условной экзотики. В начале века экзотические мо-
тивы интерьера сами по себе никого не удивляли: городской
житель тех лет продолжал существовать в окружении пред-
метов в стиле «модерн», для которого элементы экзотики вхо-
дили в список обязательных. Однако в стилистическом уни-
версуме кинематографа экзотический слой имеет свою гене-
алогию и свой неповторимый оттенок.
С первых дней европейское сознание включило кинема-
тограф в контекст всеобъемлющей культурной метафоры:
город как непроходимые джунгли. В узел этого представления
вплетены многие мотивы. Блоковская «тайна непропускания»
(«О, Город...») примыкает сюда же. Метафора «город-
джунгли» дала русской киномысли предельно зацитированную
вариацию: кинозрителей как готтентотов, кафров и папуасов
из лекции Чуковского (образ позаимствован у Герцена, но
смыкается и с замечанием Эйжена Сю о куперовских дикарях
Парижа, которое любил цитировать Эйзенштейн [455, т. 3,
с. 306]), дикарей Калькутты и дикарей Петербурга из статьи
61
Глава 1. Равняя киноархитектура
21. Московский «Вулкан».
22. Петербургский «Форум».
23. Берлинский «Lichtspiele Wittelsbach».
Андреева [19, с. 14], и т. д. Кинематографический репертуар,
обычно включавший в себя видовую картину экзотического
содержания («Пороги Замбези», «Охота на уссурийского
тигра»), вливал свежую кровь в это устоявшееся представ-
ление.
С возникновением кинематографа маршрут рядового сто-
личного фланера обогатился возможностью овеществить ме-
тафору «город-джунгли», заглянув в любой кинотеатр. Это
62
Часть I Внетекстовые структуры
24. Рижский «Splendid-Palace».
же представление определило черты ранних кинофасадов.
Так, к середине 1900-х годов относится следующее наблюдение
В. В. Чайковского: «Если театр помещался на втором этаже,
то все его окна затягивались грубо размалеванным полотни-
щем, на котором было изображено все, что угодно, кроме
относящегося к кинематографу. Так, например, фасад «Боль-
шого Парижского Электротеатра» на Арбате, на углу Боль-
шого Афанасьевского переулка (ныне этот дом сломан),
принадлежащего Гехтману, был весь украшен декорацией,
изображающей пустыню, пирамиды и львов» [430, с. 20].
(Встречный пример: во Франции один держатель ярмарочного
кинотеатра украсил фасад сценами русско-японской войны
[587, с. 104].) Позднее, в 10-е годы, элемент фасадной экзотики
переместился из изобразительного плана в лексический —
таковы петербургская «Ниагара» (любимый кинотеатр Блока
[228, с. 172]), московский «Вулкан», рижский «Северный
полюс».
Тяготение к экзотике и стремление соответствовать услож-
нившейся'стилистике репертуара — эти два фактора опреде-
лили лицо русского кинофойе 10-х годов. Условием комфор-
табельного фойе было наличие в нем тропических растений,
лучше всего пальмы. Уже в 1907 г. Койранский как новость
отметил появление в кинотеатрах фойе с лавровыми деревьями
[193, с. 5], а в 1913 г. программа петербургского «Сатурна»
анонсировала наличие в кинотеатре целого зимнего сада, в ко-
тором ежедневно даются концерты струнного оркестра.
63
Глава 1. Ранняя киноархнтектура
25, Парижский «Стёта-Pathe», послуживший образцом для
рижского «Splendid-Palace».
64
Часть I Внетекстовые структуры
26. Пина Меничелли.
27. Франческа Бертини.
28. Франческа Бертини
и Сандро Сальвини
в фильме Роберто
Роберти «Змея»
(«La serpe»), 1920.
65
Глава 1. Ранняя киноархитектура
Такой интерьер можно было бы рассматривать как простую
разновидность салонного убранства (ср, «тропические сады»
дешевых шантанов), если бы не явственный отпечаток экран-
ной эстетики. Экзотизм интерьера был здесь не «общим мес-
том» стиля эпохи, а скорее «общим местом» господствующего
кинематографического стиля. Пространство фойе менее всего
мыслилось как факт реальной топографии, как некоторый
земельный участок Риги, Петербурга или Москвы. Фойе было
экстерриториальным пространством, и это подчеркивалось не
только деталями убранства. «Журнал журналов» не без ехид-
ства писал о «задумчивых капельдинерах с южным профилем»
[163, с. 10], медленно пересекающих вестибюль. Откуда такая
фигура? Лида Борелли, Пина Меничелли, Франческа Бертини,
открывшие для кинематографа амплуа роковой женщины,
ввели в стиль экранного поведения прием статической позы,
применявшийся для обозначения всякого чувства, будь то
нерешительность или страсть. Не менее заразительной была
пластика влиятельного датского кинематографа — здесь тоже
иктовые моменты действия фиксировались остановкой тела
в пространстве. Не только служители кинематографов, но и по-
сетители (и главным образом они) перенимали стиль экранного
поведения, превращая кинематографическое
ойе в своего
рода каталог мимических и жестикуляционных особенностей
этого стиля. Обозреватель «Московских ведомостей» в марте
1917 г. так описывал происходящее в преддверии кинозала:
«Небрежно протягивает свой билет высокий энглизированный
джентельмен с надменным бритым лицом, в безукоризненно
обтягивающем сухое тело «френче». В просторном фойе иг-
рает итальянский оркестр <... > Преобладают дамы и
джентльмены, рисующиеся театральными движениями, де-
ланными позами, искусственно оживленными лицами, манер-
ными взглядами, то нарочито медленно обводящими зал, то
по-актерски бросаемыми в публику. Множество худых и
бритых молодых людей с приторными физиономиями, по
какому-то заученному образцу принимающих развинченные
позы. Модные мужские и женские костюмы, к коим, видимо,
приспособляют свои движения носители их. Почти во всех
фигурах и лицах этих людей от неврастенических молодых
людей гибридного типа до гимназисток с вызывающими гла-
зами, от копирующих иностранных капиталистов купцов до
стилизованных под англичан полуинтеллигентов чувствуется
какой-то общий трафарет. Сквозит что-то взятое с чужого
плеча, — заимствованное и неестественное» [26, с. 2].
Мир кинематографического фойе, в отличие от мира
экрана свободный от нарративных обязательств, представлял
собой идеальное пространство для моделирования кинемато-
графического стиля в чистом виде. Театрализация жизни на
5 102326
66
Часть I Внетекстовые структуры
29. «Union Palas’»: касса.
30. «Форум»: лестница
в бельэтаж.
кинематографический лад была занятием настолько увлека-
тельным, что, согласно некоторым источникам, существовал
определенный класс зрителей, «далее фойе не простирающих
своего любопытства» [172, л. 59]. В это тем легче поверить,
что такого рода представления о фойе далеко не всегда были
«театром для себя». Специалисты по киноархитектуре настаи-
67
Глава 1. Равняя киноархитектура
3/. «Театр Шанцера»:
верхнее фойе.
32. «Мраморный
дворец»; зал ожидания.
вали на том, что настоящее фойе должно быть видно с улицы:
«Залитое светом, обставленное мягкой мебелью и украшенное
растениями фойе создает в дни дурной погоды или мороза
для прохожего впечатление особого манящего уюта и как бы
приглашает зайти в театр» (246, с. 124]. Такими окнами (разу-
меется!) был оборудован кинотеатр «Аквариум» (Невский, 81),
убранный тропическими деревьями и залитый светом. Для
завсегдатая фойе прямоугольник витрины, выходящий на ноч-
ную улицу, был уже тем привлекательнее двухмерного
экрана, что здесь действующим лицом оказывался он сам5.
Соотношение двух фокусов кинематографического
стиля — очагового (экран) и отраженного (фойе) возвращает
нас к более общему вопросу о соотнесенности понятий центра
5*
68
Часть I Внетекстовые структуры
и периферии в нерасчлененном для наблюдателя начала века
смысловом комплексе — кинематограф. В недавно опублико-
ванном письме Б. Пастернака к С. Боброву (1913) содержится
противопоставление «драматического ядра» и «плазмы», кото-
рая это ядро окружает, причем театр, согласно рассуждению
адресанта, призван выражать именно ядро, а кинематограф —
периферию драмы (понимаемую в самом широком смысле):
«Ты поймешь меня, если я назову действительность, и дейст-
вительность города предпочтительно-лирической сценой как
раз в том смысле, о котором я говорил. Именно: город как
сцена состязается и входит в трагическое соотношение с по-
жирающей нас аудиторией Слова и Языка <...> Кинемато-
граф должен оставить в стороне ядро драмы и лиризма — он
извращает их смысл: мне уже ясно, почему, скажу ниже.
Но только кинематограф и способен отразить и запечатлеть
окружную систему ядра, его происхожденье и туманность,
и его ореол; а только что мы видели, что эта оболочка зерна
и есть центральная драма сцены. И следовательно, кинемато-
граф может схватить первостепенное в ней потому, что вто-
ростепенное ему доступно, и это последнее есть то первое.
К счастью, кинема извращает ядро драмы потому, что он приз-
ван выражать ее истинное — окружную плазму. Пусть он
только фотографирует не повести, а атмосферы повестей»
1315, с. 144].
Здесь, видимо, речь идет о таком всеобъемлющем свойстве
поэтики кино, как меональность: отраженная фиксация слова
через надпись, целого посредством фрагмента, причины через
следствие. Но парадоксальное утверждение о первостепенно-
сти ореола, а не собственно ядра можно распространить и на
кинематограф как объект изучения, в котором такие пары,
как центр и периферия, экран и фойе, фильм и его рецепция,
не обязательно влекут за собой перепад в оценочном плане:
важное — второстепенное.
Глава 2
Режим проекции как фактор
эстетического восприятия
Образ киномеханика
В предыдущей главе мы касались в основном физиологии
кинематографического быта, не слишком вдаваясь в то, как
зритель немого кино осмыслял технологические параметры
кинозрелища. Между тем кинематографический технос поро-
дил ряд устойчивых представлений, с большей или меньшей
отчетливостью посещавших любого, попавшего в ситуацию
киносеанса. Точкой схода этих представлений была, естест-
венно, фигура киномеханика, совмещавшая в себе фундамен-
тальный оксюморон кинематографа в целом: обыденность
непостижимого. Матрицу образа киномеханика для русской
кинолитературы задал К. И. Чуковский, сравнивший «прыще-
ватого парня» в будке механика с Фаустом и Иисусом Нави-
ном [435, с. 5]. Мифологизирующим фактором здесь можно
считать не только самоочевидное обстоятельство — оживле-
ние изображения, но и позицию, занимаемую киномехаником
в пространстве кинозала. Если не принимать в расчет самого
раннего зрительного зала с механиком, располагавшимся
перед зрителями, место проекционного аппарата — позади
последнего ряда. Можно сказать, что кинематограф унаследо-
вал экранную традицию фантасмагорий, т. е. тех представле-
ний волшебного фонаря, которые, в отличие от учебно-демон-
страционных сеансов, требовали сокрытия самого прибора и
человека, им управляющего. Однако, в отличие от фантасма-
горий, где волшебный фонарь обычно помещался за экраном,
специфика кинозала (темнота, луч, отбрасывающий из-за
спины на экран тени иной реальности) напоминала простран-
70
Часть I Внетекстовые структуры
33. Продольный срез одного из первых рижских стационарных кинотеатров
«Синхрофон» (1908). В чертеже луч прорисован красной тушью (GAP, 2/27).
ство Платоновой пещеры. Французское киноведение, чья
риторика по сей день склонна оперировать первичными фигу-
рами культурной рецепции кинематографа, особенно привер-
жено этой пространственной метафоре [487, с. 56—72]. Для
русской кинорецепции 10-х годов такое уподобление не
слишком характерно, но его опосредованную форму, вклю-
ченную в символистский контекст парадокса об истинной
реальности искусства и кажимости действительной жизни,
встречаем в следующем рассуждении Ф. К. Сологуба: «Мы
перед ними [образами искусства] — только бледные тени, как
видения кинематографа. Мы повторяем во многих экземпля-
рах чьи-то подлинные образы, как на множестве экранов
мелькают образы многих женщин, раз навсегда наигранные
некою Астою Нильсен, знаменитою в своем мире» [350,
с. 1021]. Отраженное пространство «теней на стене» наводило
на мысль о существовании другого, «истинного» пространства.
Планиметрия кинозала указывала назад, к началу луча. В
острие этого мысленного вектора оказывался киномеханик.
Отсюда — ощущение, будто механик осуществляет функцию
посредника между поту- и посюсторонним, отразившееся в
метафоре «жрец кино», предложенной А. Кранцфельдом для
людей этой профессии [198, с. 17].
71
Глева 2, Режим проекции
Формированию указанного представления способствовало
и такое обстоятельство, как повышенная пожароопасность
сеансов, происходивших в пору нитропленки. Фильм на нит-
рооснове горел негасимым огнем — современники сравнивали
интенсивность такого горения с пламенем от целлулоидных
кукол (в наше время так горят мячи для пинг-понга). Проти-
вопожарные инструкции предписывали держать аппаратуру
в металлических помещениях — «будках», где находился и
механик. Атмосферу, царившую в кинозалах того времени,
нельзя понять без учета знаменитых пожаров (от ката-
строфы на Благотворительном Базаре в Париже до трагедии
в Бологое), последствия которых были хорошо известны каж-
дому кинозрителю. Е. Маурин рассказывает: «Достаточно
малейшей неровности в работе аппарата, резкого перерыва
сеанса, внезапного усиления света на экране и т. п., как раз-
дается тихий, подавленный ропот и начинается беспокойное
оглядывание назад к окошку прожектора» [246, с. 122].
В 1911 г, журнал «Наша неделя» рассказывал о таком про-
исшествии: «Недавно в электротеатре Митяева во время де-
монстрирования картин произошел большой переполох, не
закончившийся катастрофой лишь по счастливой случайно-
сти. В одном из задних рядов сидели муж и жена А., позади
них некий инженер в нетрезвом виде. Инженер позволил
[себе] пошутить с г-жей А.; он начал трогать ее за шляпу,
за руку и т. п. Муж, заметив такое нескромное обращение
с его супругой, вскочил с места и ударил инженера по лицу,
выхватил из ножен шашку и замахнулся ею... По счастью,
возле сидел господин, который успел вовремя удержать А.
Публика, услышав крик, вообразила, что случился пожар,
и в беспорядке бросилась к выходу. Произошла давка,
несколько женщин попадали в обморок, многие бросились на
балкон с целью спуститься на улицу; особенно же пострадали
дети, из которых одной девочке так сильно помяли грудь, что
она стала кашлять кровью» [№ 5, с. 23].
Поход в кино в те годы был не лишен того оттенка при-
ключения, который в наше время сохраняет за собой путеше-
ствие на самолете. Механик, естественно, подвергался наи-
большей опасности, что позволяло, при желании, усмотреть
в нем образ рыцарственно-романтического плана. «О, маши-
нист, закрытый маской!» — восклицал Ю. Кричевский, ви-
димо, подразумевая под маской переднюю стену кинобудки
с прорезью для проекции [202, с. 22].
В отличие от сегодняшних кинотеатров, механик раннего
кино не все время оставался невидимым: «Иногда будка ста-
новилась даже горячей и тогда в ней жара стояла аховая.
В перерывах между отделениями механик выходил в публику
и отдыхал» [430, с. 10]. В эти минуты ощущение механика
72
Часть I Внетекстовые структуры
как фигуры демонического плана (чему способствовало на-
родно-этимологическое осмысление бытовавшего в 10-е годы
обозначения этой профессии — «демонстратор»: «Демон Стра-
тор» — распространенный журнальный псевдоним в кино-
прессе тех лет) вступало в забавный контраст с его затра-
пезным видом (в отличие от шофера, летчика или киноопера-
тора начала века, киномеханик не носил кожаных бриджей
и вообще был чужд элементу бытового маскарада). Образ
киномеханика переходил в другую плоскость, и архетип Пла-
тоновой пещеры уступал место иному жанру литературного
дискурса: рассуждению (с оглядкой на гамлетовский монолог
об актерах) о бренности художника и величии образов, им
вызываемых. В этом смысле характерны стихи о кино, где
рассказ ведется от лица киноперсонажей — прекрасных жен-
щин и их безупречных кавалеров, полностью зависящих от
придурковатого демонстратора, по собственной прихоти да-
рующего жизнь («И механик сонный мне велит ожить» [276,
с. 9]) или лишающего ее:
Машинист с лиловым носом
I ce повергнет в мрак и сон,
Не скучая над вопросом —
Сколько жизней отнял он [394, с. 16].
Скорость проекции
Как киноаппараты, так и кинопроекторы 10-х годов были
механизмами с преимущественно ручным приводом, поэтому
скорость вращения пленки зависела от оператора и механика.
Когда эти скорости совпадали, режим проекции был нормаль-
ным и возражений у публики не вызывал. Но, как известно
из работ Браунлоу [500, с. 164—167] и Солта [582, с. 203], та-
кое совпадение, хотя и считалось нормативным, случалось
не часто. Механики без стеснения пользовались всей широтой
импровизационных возможностей, которые им предоставляла
«вилка» между скоростью съемки и скоростью проекции.
Д. Кирсанов, режиссер с абсолютным чувством внутри кадро-
вого ритма (подробнее см. [423, с. 28—29]), вспоминал о при-
вычке киномеханика в родном городе Юрьеве (ныне — Тарту):
«Я хорошо помню свои впечатления от первых посещений
кино. Дело происходило очень давно, в эпоху первых кине-
матографов, и поскольку «Кинематограф», куда я наведывался,
находился в провинциальном городе, где медлительность явля-
ется принципом жизни, я смотрел большую часть фильмов в
каком-то замедлении, которое напоминает мне современную
замедленную съемку. Так вот, больше всего в кино мне тогда
73
Главги ?, проекция
34. Проектор системы «Гомон»: источником света служит вольтова дуга,
но лентопротяжный механизм приводится в действие вручную.
нравились медленные, неестественные движения актерской
игры. Разумеется, тогда мне казалось, что способность так
двигаться является следствием особого артистического дара,
и я безрезультатно старался подражать неподражаемому дви-
жению кино ...» [543, с. 9—10]. Тотальное замедление всего
фильма в целом было, конечно, делом редким. Обыкновенно
механики, хорошо знавшие картину и реакцию публики на
те или иные ее места, меняли скорость проекции в зависи-
мости от развертывания сюжета: длинноты крутились быст-
рее, трогательные сцены — медленнее. Устойчивее других
была зависимость между скоростью проекции и жанром:
погони и комедии, и без того снимавшиеся с расчетом на уско-
рение, в аппаратной получали дополнительный разгон. В од-
ном из своих эссе Г. К. Честертон выражал неудовольствие
по поводу такого обыкновения: «Для того, чтобы создалось
впечатление, что человек быстро скачет на лошади, прежде
всего необходимо увидеть, как он скачет на лошади. Если он
молнией промчится мимо, вам не оценить быстрой езды ли-
хого всадника. У вас не создается ощущения скорости по той
74
Часть I Внетекстовые структуры
простой причине, что у вас не создается ровным счетом ника-
кого ощущения» [432, с. 234].
В монографии об А. Гансе К. Браунлоу рассказывает, что
некоторые киномеханики согласовывали режим проекции с
музыкальной партитурой к фильму, следя не за экраном, а
за дирижерской палочкой. В 10-е годы такая практика не
наблюдалась, но на ее распространенность в 20-е указывает
и другой факт: как вспоминал С. М. Эйзенштейн, композитор
«Броненосца Потемкина» Э. Майзель «провалил общественный
смотр «Потемкина» в Лондоне осенью 1929 года, пустив темп
проекции фильма в угоду музыке без согласования со мной
несколько медленнее нормы. Этим нарушалась вся динамика
ритмических соотношений до такой степени, что эффект
«вскочивших львов» единственный раз за все время сущест-
вования «Потемкина» вызвал смех» [455, т. 1, с. 321].
Соображения внеэстетического порядка существеннее дру-
гих влйяли на выбор режима проекции. Главное из них —
фактор «оборота картин». Обозреватель «Театральной га-
зеты», сетуя на неорганичность пластического рисунка, кото-
рая, по его мнению, присуща экранному движению (упрек,
который вырос из одного замечания А. Бергсона, безустанно
варьировавшегося ранней киномыслью и породившего большое
число экстраполяций), по ходу дела не упустил случая задеть
и киномеханика: «Движимые чьей-то чужой, гетерономной во-
лей, экранные герои только пародируют то, что разыгрывалось
в ателье перед объективом аппарата. Они ходят так, как в
жизни не ходят, жестикулируют как марионетки, а на послед-
нем сеансе приобретают волшебное свойство двигаться и дей-
ствовать с быстротой и проворством, поистине изумительным
и чудесным» [118, с. 10].
Последнее замечание выдает в авторе завсегдатая кинема-
тографов: в IQ-е годы знающие люди избегали поздних сеан-
сов, опасаясь пасть жертвой спешащего уйти демонстратора.
«Сине-Фоно» с невозмутимостью специального журнала дал
справку о том, что происходит в подобных случаях: «<...>
если ту же ленту заставить перемещаться, положим, с вдвое
большей скоростью, причем позади объектива будет мелькать
уже не по 16-ти, а по 32 снимка в секунду, то все движения
изображаемых предметов окажутся в кинематографией кар-
тине вдвое быстрее, чем они были в действительности, так что,
например, обыкновенные шаги человека представятся стреми-
тельными скачками, ходьба перейдет в бег, всякий спокойный,
плавный жест превратится в порывистое, судорожное подер-
гивание» [251, с. 23].
Если зрители еще кое-как мирились с произволом меха-
ников, то для определенного исполнительского стиля последние
сеансы оказывались губительными. Подобно тому как комедия
75
Глава 2. Режим проекции
максеннетовского типа не могла существовать без ускоренного
движения, статуарная пластика русского актера требовала
если не замедленного, то уж во всяком случае не ускоренного
режима проекции. Мы уже упоминали (по другому поводу)
итальянский стиль «дивизма», строящий траекторию актерского
поведения как последовательность переходов от одной зна-
чимой позы к другой. Русский кинематограф 10-х годов не без
влияния школы театральной паузы МХТ возвел такой тип дви-
жения в ранг осознанной эстетической программы, с той су-
щественной разницей, что пауза здесь понималась не как кар-
тинная поза, а как «психология». Последнее обстоятельство
еще основательнее замедлило действие фильмов. По некото-
рым фильмам можно заметить, что наиболее последовательные
адепты русского стиля в дореволюционном кинематографе в
ударных сценах предпочитали вообще не двигаться, предостав-
ляя заботы по перемещению в пространстве персонажам, за-
нимающим в иерархии образов подчиненное положение.
Медленный стиль, опознанный как достояние русского
кино, сопровождался и попытками теоретического обоснова-
ния. Одно время его усиленно насаждали журналы «Проэк-
тор» и «Пегас». Первый из них писал: «Как это ни звучит
парадоксом для искусства кинемо (получившего свое наиме-
нование от греческого слова, означающего «движение»), но
игра в нем лучших актеров сводится к возможно большей
медленности движений. В искусстве экрана говорят мимикой
точно так же, как в театре — словами. И, как в театре ста-
раются говорить внятно, четко, следовательно, не торопясь,
так тем паче на экране необходимо мимировать ясно, отчет-
ливо, а потому как можно медленнее. У каждого из лучших
наших актеров вы найдете свой стиль мимики: стальной, гип-
нотизирующий взгляд у Мозжухина; нежную, бесконечно раз-
нообразную лирику «лица» у Гзовской; нервную напряжен-
ность мимики у Максимова и изящно-грациозную — Полон-
ского. Но у всех — при необычайной скупости жеста — вся
игра подчиняется особому медленно вздымающемуся и опус-
кающемуся ритму ...» [293, с. 2—3].
Нетрудно представить себе, сколько претензий возникало
у кинематографистов к киномеханикам. Этому конфликту по-
священо, в частности, открытое письмо И. И. Мозжухина в
«Театральную газету» (1914), где актер решительно отмел все
обвинения в неверном ритмическом рисунке роли, возложив
вину (в глазах широкой публики всякое искажение кинемато-
графического облика роли ложилось подозрением на опера-
тора — см. статью Б. Гейера «Основной дефект» [120]) исклю-
чительно на механиков: «Существует точно установленный
темп верчения ручки аппарата во время съемки; она воспро-
изводит движения на экране совершенно тождественными с
76
Часть I Внетекстовые структуры
движениями его перед аппаратом; если применять такой же
темп при демонстрировании картин в театре, то публика уви-
дит живых людей с плавными, медленными движениями ...
Господам театровладельцам этот закон не писан. Кроме неко-
торых «первоклассных» театров, где действительно соблюда-
ется художественный интерес, в большинстве случаев суще-
ствуют следующие соображения: программа большая, а надо
пропустить в вечер три раза; нормальным, нужным темпом
этого не сделаешь, и вот «мальчику в будке» приказывают:
«подгони!». Бедные, ни в чем не повинные актеры скачут,
дрыгаются, словно картонные паяцы, и публика, не знакомая
с тайнами будки, накладывает на них клеймо бездарности и
неопытности. Я не могу передать того чувства, которое испы-
тываешь, когда смотришь свою сцену, превращенную по воле
мальчика из нормальных движений в дикую пляску. Чувство,
словно тебя перед всеми оболгали, и ты не можешь доказать
своей правды ...» [260, с. 13}.
Вражда между цехом актеров и цехом киномехаников была
неугасимой традицией, дань которой в 20-е годы отдал
И. М. Москвин. Н. Шпиковский не без умиления писал о том,
насколько великий Москвин, новичок в кино, удачно вписался
в облик завзятого киноактера: «Передают: на рабочем про-
смотре «Станционного смотрителя» Москвин заявил, что он
плохо играет в одной из частей картины, так как ... демонстра-
тор очень быстро вертит ручку. Это уж совсем великолепно и
трогательно. Если театральный Москвин поражает нас исклю-
чительным своеобразием и новизной поведения актера на эк-
ране — то только потому, что он, оказывается, любит кино
и помнит о ручке проекционного аппарата» [447, с. 16].
Впрочем, между будкой механика и кинозалом существо-
вала обратная связь. Из публики кричали: «Не гони картину!»
(выражение, сохранившееся в современном обиходе, но поте-
рявшее свою связь с кинематографом, равно как и исходное
значение); в случае же «недокрута» повсеместно применялся
клич: «Мишка, верти!» («Мишками» в 10-е годы называли всех
киномехаников, как раньше извозчиков называли «Ваньками»:
это обыкновение, как и вся фраза «Мишка, верти!» восходит
к спектаклю-пародии «Кинематограф», поставленному в 1911г.
в петербургском «Кривом зеркале», театре, которому русский
язык обязан целым рядом идиом).
Особым случаем следует считать искажение режима про-
екции для событий с заданной скоростью развертывания. Од-
ной стороной медали здесь будет намеренное замедление про-
цессов гравитационного свойства — прыжков и падений. Дру-
гой — ускорение церемоний, главная из которых похоронная,
в 10-е годы служила постоянным поводом для одной и той же
кинематографической шутки. Известный эпизод из «Антракта»
77
Глава 2. Режим проект
.г.
Р. Клера, когда процессия устремляется в погоню за катафал-
ком, будет правильнее считать не столько комической наход-
кой, сколько канонизацией своеобразного юмора, присущего
племени киномехаников. В 1915 г. «Пегас» возмущался: «<.. .>
торжественные похоронные процессии превращаются в беше-
ную скачку по улицам; лица не жестикулируют, а дергаются;
руки летают в воздухе, — вообще, черт знает, что такое» [15,
с. 59]. Надо сказать, что шутки такого свойства сгущали и без
того макабрический образ киномеханика в культурном созна-
нии эпохи.
В неосуществленном сценарии Г. Н. Васильева «Последний
рыцарь Веры Холодной» герои — два киномеханика, пожилой
Панфилыч (отсталый) и его молодой передовой помощник (ра-
зумеется, Мишка) расходятся в выборе скорости проекции
не только потому, что Мишка спешит на свидание, но и в силу
идеологических разночтений самого понятия времени:
98. Мишка, оглянувшись на Панфилыча, пускает аппарат
быстрее.
99. Кадр на экране. Похоронная процессия несется с быст-
ротой курьерского поезда.
100. Панфилыч нагибается к окошку будки, смотрит.
101, Кадр на экране: похороны в том же молниеносном
темпе.
102. Кусок прозрачной пленки (разрыв).
103. В аппарате болтаются два конца разорвавшейся
пленки.
104. У аппарата хлопочет Панфилыч. Недовольно качает
головой [90, с. 319].
Помимо оппозиции «старое и новое», обязательной для со-
ветского сценария 20-х годов, в этой сцене можно усмотреть
шлейф представления, восходящего к 10-м годам: произволь-
ная скорость проекции (точнее, сама возможность менять эту
скорость по своему произволу) ощущалась как посягательство
на устои. Кинезика общественной жизни предполагает обрат-
ную зависимость между важностью события и скоростью со-
бытийного потока: повышение события или персонажа в ранге
анонсируется понижением подвижности. Правила театральной
мизансцены, дипломатической церемонии, бытового поведения
указывают на релевантность шкалы кинезических признаков
для иерархического самосознания культуры. Кинезика похо-
рон — крайний случай; понятны и строгие цензурные цирку-
ляры, регламентировавшие скорость демонстрации кинохро-
ники с участием императорской фамилии (ЦГИАЛ, ф. 766,
оп. 22, ед. хр. 33).
Другим следствием охранительного рефлекса культуры был
ряд рекомендаций, ограничивающий «кинематографизацию»
исторических событий, входящих в программы школьного об-
78
Часть I Внетекстовые структуры
учения. Дело не только в произвольной трактовке содержания
этих событий (хотя, конечно, основным аргументом была все-
таки она), но и в кинезических характеристиках: негласно
предполагалось, что события, апробированные историей, раз-
вертывались в медленном темпе, кинематографу недоступном1.
В «Заключении постоянной комиссии народных чтений по воп-
росам о применении кинематографической демонстрации в
школьном деле и народных аудиториях» от 11 ноября 1915 г.
особым пунктом стояло: «<...> в кинематографическом из-
ображении движения действующих лиц являются вследствие
технических условий ускоренными, а поэтому иногда комич-
ными, что при иллюстрировании исторических событий совер-
шенно неуместно» (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 182, ед. хр. 166,
л. 31 об.).
Н. А. Саввин, деятель в области образования, за год до
этого документа поднимал тревогу в «Вестнике воспитания»:
«В «Кн'яжне Таракановой» гонцы отвешивают такие уморитель-
ные поклоны императрице, что невольно хочется рассмеяться
<.. .> Актер-Нерон (в пьесе «Нерон» последнего выпуска),
быстро бегающий по огромному залу, или Наполеон, семеня-
щий ногами, какой-нибудь Петроний в «Камо грядеши» с угло-
ватыми движениями <... > как все это далеко от жизни»
[327, с. 195—196]. А журнал «Жизнь и суд», прослышав о
готовящейся серии постановок из ветхозаветной истории, за-
беспокоился: «<.. .> лента, на которой начертана история
еврейского народа, прошедшая на экране всего мира в течение
шести тысяч лет, свидетельствует, что «Великий» Макс Линдер
на ней не появлялся» [164, с. 15].
Tempus re versus
По сравнению с нынешними проекционные аппараты немого
кино принадлежали к классу автоматов с повышенной сте-
пенью свободы: они допускали, помимо ускорения и замедле-
ния скорости демонстрации, вращение механизма в обратном
направлении. Такая возможность была эстетически осознана
еще в эпоху Люмьеров. В репертуар люмьеровских сеансов
входила обратная проекция «Разрушения стены» («Demolition
d'un mur»). О другом опыте подобного рода извещала амери-
канская газета в феврале 1897 г.: «На одном из предстоящих
сеансов кинематографа машина будет пущена назад. Сцена,
отобранная для этого любопытного эксперимента, представляет
собой преодоление реки Соны верховыми французскими дра-
гунами. Как только отряд достигнет другого берега, показы-
вающий механизм будет повернут вспять и люди и кони не-
79
Глава 2. Режим проекции
35. Вектор времени в фильме зависел от того, в какую
сторону вращали ручку.
медленно пойдут задним ходом через реку и кончат тем, что
задом поднимутся по тому же отвесному берегу, по которому
спустились незадолго до этого» [576, с. 18|.
Через год аналогичным впечатлением делился русский обо-
зреватель: «Для забавы зрителей иногда поступают таким об-
разом: показывают оживленные картины сначала как следует,
а потом наоборот, от конца к началу, так что сначала зрители
видят, например, господина, обедающего в гостинице, которому
подают на тарелке жареного цыпленка. Он отрезает себе
кусок, подносит вилкой ко рту и съедает, потом отрезает еще
кусок и опять съедает и т. д., пока на тарелке не останется
ничего. Потом вдруг все идет «шиворот-навыворот»: он подно-
сит ко рту пустую вилку, вынимает ее, и на ней оказывается
кусочек цыпленка; он опускает вилку, и этот кусочек слезает
с вилки и ложится на тарелке. Господин опять подносит
пустую вилку ко рту и вынимает ее оттуда с новым куском
цыпленка и т. д. и т. д. Й через некоторое время на тарелке
вновь лежит цыпленок...» [393, с. 5]. Сличив эти три примера,
можно убедиться, что уже в кинематографе XIX в. определи-
80
Часть I Внетекстовые структуры
лись три основных процесса, обращение которых вспять пред-
ставлялось особенно заманчивым для странствующих демон-
страторов фирмы «Люмьер»: физический, биологический и,
если можно так выразиться, событийно-исторический2. Трюк с
обратной проекцией неожиданно хорошо лег в русло мыслен-
ных экспериментов рубежа веков и из «забавы зрителей» был
быстро переведен в ранг научной и философской метафоры,
особенно плодотворной, когда речь шла о том, что сегодня
называют «семантикой возможных миров».
Задолго до изобретения кинематографа, в 1864 г„ Дюко дю
Орон запатентовал оптический аппарат, позволяющий, как гла-
сил патент, «изменить обычный порядок, в котором протекает
сцена или какое-либо явление, т. е. начать с конца и кончить
началом» [345, с. 73]. Этот, как и позднейшие проекционные
аппараты с обратным вектором, был как бы оптическим опро-
вержением второго принципа термодинамики, согласно кото-
рому вёе естественные процессы текут только в определенном
направлении и не могут быть обращены назад. По выражению
Э. Маха, физика и философа, позволившего себе усомниться
в реальности таких исходных понятий классической физики,
как пространство, время и движение, «кинематография дает
нам возможность изменять по собственному усмотрению мас-
штаб и направление времени» [117, с. 53]. Для неискушенного
зрителя обратная проекция физических процессов была зре-
лищем не менее заманчивым. Как и в случае с ускорением/
замедлением, возникало напряжение между физикой эмпири-
ческого мира и физикой экрана. В пространственном отноше-
нии реальность экрана представала как обедненный двухмер-
ный эквивалент действительности, зато в отношении кинети-
ческом (ускорение) и временном (обратная проекция) — обога-
щенной и многомерной. «А это обеспечивает фильму, — писал
автор «Философии фильма», — большую многосторонность и
гибкость, превращая его в свободную, парящую над всеми ве-
щами, игру с реальной действительностью, строго ограничен-
ной законами пространства и времени» [117, с. 53—54]. Особой
популярностью пользовались картины прыжков в воду, соче-
тавшие нарушение силы тяжести с видом «самозарождающе-
гося» всплеска воды («магия» такой картины в 1916 г. была
описана в книге X. Мюнстерберга [566, с. 15]; сцены обратных
прыжков с вышки встречаем и в первом фильме этого
жанра — «Купальни Дианы в Милане» («Bains de Diane а
Milan», 1896, см. [582, с. 47]), и в фильмах 20-х годов —• таких
как «Кинооператор» («The Cameraman») Бестера Китона и «Че-
ловек с киноаппаратом» Дзиги Вертова).
Уже в начале 1900-х годов, когда съемка фильма и его про-
екция стали делом двух разных людей, прием был взят на
вооружение операторами. Возникла обратная съемка, немед-
81
Глава 2. Режим проекции
денно использованная в комическом жанре. В записях Б. С. Ли-
хачева (Архив ЛГИТМИК, лекция IV) упоминается фильм «На-
зад, назад». Его описание в русской периодике встречается
дважды: в журнале «Зритель» (1905) и в газете «Наш поне-
дельник» (1907), в упоминавшейся уже статье А. Койранского,
пораженного не только обратным процессом горения, но и
реверсией причинно-следственных отношений: «Следствие на-
чинает предшествовать причине, и человеческая логика летит
кувырком. Окурок сигары вскакивает с мостовой в рот госпо-
дина в цилиндре. Господин пятится назад и выпускает клуб
дыма. Сигара тем временем увеличивается и покрывается
пеплом. Господин пятится шаг за шагом, сигара все растет,
наконец, он дует на спичку, та вспыхивает, он подносит ее к
сигаре, которая немедленно гаснет, и господин прячет ее,
целую и невредимую, в свой портсигар. Так, на глазах пуб-
лики, чудесный кинематограф заставляет течь обратно не-
возвратимую реку Времени» [193, с. 5].
Другой пример, из литературы более позднего времени: в
одном из романов В. Набокова «Смотри: паяцы!» герой стра-
дает необычным психозом — дефектом пространственного
воображения. Пройдя мысленно знакомым маршрутом, он не-
способен заставить себя представить тот же путь в обратном
направлении. В романе эта метафора наполнена конкретным
био- и географическим смыслом: перемещение героя (читай:
автора) в пространстве столь же необратимо, как и во вре-
мени, он — антипод киноперсонажей, которые без труда снуют
туда-обратно как по временной, так и пространственной осям.
Набоков пишет: «Никто не способен вообразить в терминах
физической реальности процесс обращенного времени. Время
необратимо. Обращенное движение в фильмах используется
только для комического эффекта — воскрешение разбитой бу-
тылки пива . ..» [568, с. 197].
Роль обратной проекции в качестве научной метафоры была
особенно продуктивной для популяризации теории относитель-
ности. В 1925 г. Р. Тун назвал кинематограф «прибором, де-
монстрирующим отрицательное время» (не без сожаления до-
бавив, что приборов, регистрирующих отрицательное про-
странство, нет): «Тщательное рассмотрение показываемых в
обратном порядке отдельных процессов, может быть, еще бу-
дет иметь плодотворное значение в области теории познания.
Быть может — позднее, при помощи такого рода демонстра-
ций, возможно будет дать человеку среднего уровня развития
понятие о некоторых новейших, сейчас еще непостижимых,
теориях, как, например, о принципе относительности» [387,
с. 24].
Действительно, теория относительности, кроме математиче-
ского выражения, настоятельно требовала разработки «образ-
6 102326
82
Часть I Внетекстовые структуры
ного языка», способного дать о ней пространственное или чув-
ственное представление. Русский физик-теоретик Н. А. Умов
в речи, обращенной к участникам Второго Менделеевского
съезда, в качестве нематематической модели эйнштейновской
вселенной уже в 1911 г. предложил именно кинематограф.
В этом докладе Умов говорил о кризисе современного научного
сознания: «Число по-прежнему остается законодателем при-
роды, но, неспособное быть изображенным, оно ускользнуло
из области мировоззрения, полагавшего возможным изобра-
зить мир механическими моделями. Открытое новое дает до-
статочное количество образов для построения мира, но они
ломают его прежнюю знакомую нам архитектуру и могут уло-
житься лишь в новый стиль, далеко убегающий своими знако-
мыми линиями за пределы не только старого внешнего мира,
но и основных форм нашего мышления».
Далее ученый предложил объяснять новое не с помощью
старого, а с помощью нового же — кинематографа с его не-
постоянным режимом движения ленты в кинопроекторе: «На
ленте кинематографа изображены люди в разных позах, часы,
на циферблате которых стрелки указывают разное время, из-
ображены различные фазы движения, которое должно совер-
шаться. Но пока лента стоит, нет ни движений, ни времени,
ни действия. Это — соответствует системе, движущейся со
скоростью света. Лента кинематографа приходит в движение;
картины сменяются на экране с определенной скоростью и вы,
находящиеся в покое, получаете впечатление жизни, действия.
Люди двигаются, страдают, разыгрывается драма, часы идут.
Для вас темп этого действия, ход часов, быстрота поступков
людей, а следовательно, и быстрота их суждений зависит от
скорости движения ленты, но люди на ленте не замечают ни-
какой перемены; они не могут определить, быстрее или мед-
леннее текут явления. Кинематограф показывает вам чрезвы-
чайно медленно развертывающуюся драму. Вы удивляетесь,
как слабы страсти у действующих лиц. Но они слабы для вас,
для них они так же сильны, как наши. Явления мира — это
картины кинематографа. Не замечаете ли вы, что утрачивается
представление о времени как о чем-то абсолютном, утрачи-
вается представление об абсолютном темпе явлений природы.
На земле, движущейся с определенной скоростью, явления —
это лента кинематографа, движущаяся с определенной ско-
ростью, для другой планеты — другой кинематограф с другой
скоростью. <... > Если мы будем замедлять движение ленты
кинематографа, начиная с той скорости, которая соответствует
темпу явлений земли, то постепенно будем приближаться к
темпу явлений в телах, в своем движении приближающихся
к скорости света; наконец, лента остановилась — достигнута
скорость света. Теперь мы начинаем вращать ленту кинема-
83
Глава 2. Режим проекции
тографа в обратную сторону: явления, которые нам раскро-
ются, будут соответствовать телу, движущемуся со скоростью
большей, чем скорость света, — с сверхсветовой скоростью.
Кинематограф покажет, как пошли бы явления в мире, дви-
жущемся с сверхсветовой скоростью: вы видали такие кар-
тины: лошадь бежит ногами вперед; тем не менее она
удаляется от вас. Все пошло бы в обратном порядке: старики
молодеют, умершие воскресают, следствие предшествует
причине, примирение предшествует ссоре. Последним актом
жизни человека является возвращение в утробу матери, т. е.
смерть обратным порядком» [396, с. 19—21].
Заметим, что последний пример увел Умова в область био-
логических процессов. В этой своей фантазии он был не оди-
нок. После фильма «Назад, назад» фельетонисты, кто с боль-
шим, кто с меньшим вкусом, не раз упражнялись на тему
обратного биографического времени: «<.. .> труп этот пе-
чальные люди заботливо вынут из гроба, разденут, обмоют,
положат на кровать и начнут горько плакать над ним. Тогда
в тяжких страданиях к этому трупу вернется жизнь. И он
начнет жить перед нашими глазами, все молодея и молодея...
В него, как дым господина с сигарой (аллюзия к фильму, сю-
жет которого нам уже известен в описании А. Койранского. —
Ю. Ц.), собираясь со всей округи, будут втягиваться все его
мысли и дела, совершенные им за жизнь» [9, с. 7].
А вот еще одна, теперь уже стихотворная, реконструкция
«обратного текста жизни», один из микросюжетов которого
восходит к люмьеровскому фильму «Разрушение стены», а
другой курьезным образом предвосхищает хрестоматийную
монтажную фразу из «Киноглаза» Вертова:
Если захочешь — обратно
Двигаться будут картины:
Платья поступят для кройки,
Хлеб будет выпечен в тесто,
Камни упавшей постройки
Станут покорно на место;
Мертвый «прости» скажет гробу;
Нянею взят из пеленок,
К матери влезет в утробу
Неблагодарный ребенок [238, с. 2].
Жизненный путь, повернутый вспять («гроб — утроба»), —-
в 10-е годы этот сюжет питал не только фельетонный пласт
русской литературы. Об этом — пьеса В. Хлебникова «Мир-
сконца», пять эпизодов которой изображают пять стадий омо-
ложения героя (сбежавшего с собственных похорон) и его
жены, а завершаются немой сценой в колясках — своеобразная
самоликвидация драматургического сюжета, впавшего в доязы-
в*
84
Часть I Внетекстовые структуры
ковую стадию. «От кончины плыть к молодости», — написал
Хлебников в другом отрывке, поставив такое течение жизни
в связь с плаванием Разина вверх по реке [414, с. 333]. Сам
по себе этот литературный прием мы не вправе выводить из
кинематографа, но осязаемая пластичность деталей, которыми
теперь обставлялась фигура воскресения, заставляет вспомнить
об обратной съемке и ее применении в многочисленных трю-
ковых картинах. В том же «Разине» есть сцена в духе раннего
Мельеса: «Вот с секиры, широкой, как язык коровы, прыгнула
и соскочила голова, становится на плечи и покрывается приз-
раком огромных богатырских кудрей» [414, с. 333]. (Ср. у
Л. 3. Трауберга описание типовой комедии Жана Дюрана:
«Человеку сносили на дуэли голову, затем приклеивали ее
обратно — самым деловым образом, без намека на сказку»
(381, с. 26].)
О другом типичном сюжете указанного круга узнаем из
рукописи Игнатова: «В первые годы кинематографической
жизни автомобиль мог зацеплять крылом встречавшиеся пред-
меты, давить людей, которые немедленно вскакивали и гнались
за оскорбителем, к общему удовольствию зрителей, встречав-
ших каждое падение «гомерическим смехом» или «неудержи-
мым хохотом»» [172, л. 16]. На рисунках 36—40, позаимство-
ванных из руководства 1916 г., изображены фазы трюка «Исце-
ление пьяницы», в результате которого ноги, отрезанные авто-
мобилем, мгновенно прирастают к пострадавшему. «Война и
мир» — поэма Маяковского 1916 г., на кинематографичность
которой указывал сам автор [114, с. 89], содержит гиперболу,
напоминающую литературный эквивалент кинотрюка:
... Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.
Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп,
ноги подбежали,
живые под ним они [249, т. 1, с. 183].
Во всяком случае, для наблюдателя тех лет такого рода
зависимость была бесспорной3. Прокручивание киноленты от
конца к началу в 10-е годы было заново опознано как футу-
ристическое обращение с миром. Так, автор заметок «Постные
темы» в «Сине-Фоно» описывал, как в Москве «компания мо-
лодых людей, очевидно не могущая провести целой недели
без кинематографа, заняла отдельный кабинет в ресторане и
85
Глава 2. Режим проекции
36—40. Чудесное исцеление безногого.
«Объяснение трюка» из книги Е. Мау-
рино «Кинематограф в практической
жизни» (Пг., 1914).
пригласила кинематографического механика с аппаратом и та-
пера <...>. Кому-то из присутствующих пришла в голову
мысль пустить только что просмотренную комедию с конца.
Получилось невероятно забавное зрелище: мертвые оживали,
герой сначала тонул, но для этого выбрасывался из воды, и
86
Часть I Внетекстовые структуры
т. д. <...>. Вот они, естественно родившиеся на свет божий
футуристы, жаждущие, чтобы явилось то, что наши старые
футуристы именуют: «Мир — сконца»»* [239, с. 23—24].
Упомянутая в заметке «неделя без кинематографа» была
следствием запрета на зрелища во время великого поста. Если
сопоставить описанные автором сюжеты с евангельским содер-
жанием пасхальных празднеств, становится понятным кощун-
ственный смысл поведения «молодых людей», а также то, с
каким кругом мотивов соотносились в сознании человека
10-х годов технологические возможности кинематографа.
Наконец, реверсия исторического времени. «Часы минувших
веков» — французская повесть XIX в. А. Робида (см. о ней
[381, с. 27]), в которой разработан все тог же прием — в ре-
зультате космической катастрофы, задавшей планете обратный
ход, старики постепенно превращаются в младенцев и уходят
в небытие, — не ограничивается жизненным циклом одного
поколения и фиксирует регрессию исторического календаря;
от XX в., для автора повести еще не наступившего, до битвы
при Ватерлоо. Естественный предел для такого сюжета —
история мироздания.
М. Б. Ямпольский в глубокой статье «Звездный язык кино»
[470, с. 28—29] показал, как философский диалог Фламма-
риона «Люмен» послужил толчком для возникшего в XX в.
образа «космического кинематографа», в котором изменением
вектора проекции на противоположный можно добиться пре-
образования конца света в сотворение мира, и наоборот.
Это — максимальный участок, на котором метафорическое
сознание той поры могло мысленно проиграть сценарий для
обратной съемки. Его антипод — единовременное, но клю-
чевое для истории событие, сама необратимость которого
как бы напрашивается на применение приема обратной про-
екции.
В последних разделах книги мы подробнее остановимся
на структуре фильма С. М. Эйзенштейна «Октябрь». Пока
же упомянем один из его центральных эпизодов, который
сам Эйзенштейн описывал так: «<...> картина начинается
с полусимволических кадров свержения самодержавия, пред-
ставленного в виде опрокидывания памятника Александру III,
что восседал рядом с храмом Христа Спасителя <... > Это
распадение памятника было одновременно же снято и обрат-
ной съемкой: кресло с безруким и безногим торсом задом
взлетало на пьедестал. К нему слетались руки, ноги, скипетр
и держава. Тупо глядя перед собой, вновь нерушимо воссе-
дала фигура Александра III. Было это заснято для сцены
У В. Хлебникова — «Мирсконца».
87
Глава 2. Режим проекции
наступления Корнилова на Петроград осенью 1917 года, и
эти кадры воплощали мечту всех реакционеров, связывавших
возможную удачу генерала с восстановлением монархии
<.. .> Зрительно сцена имела большой успех. Обратные
съемки всегда очень развлекательны, и где-то я вспоминаю
о том, как сочно и густо этим приемом пользовались в пер-
вых старых комических картинах» [455, т. 1, с. 321]. Музыка
к этой сцене состояла из нот, «идущих наоборот» по отноше-
нию к первой сцене [455, т. 3, с. 605].
Этот эпизод из «Октября», как представляется, можно
прокомментировать с помощью двух параллелей, каждая из
которых по-своему иллюстрирует острое переживание исто-
рического момента и его необратимость. Первую историю (по
другому поводу) приводит Д. Лейда, ссылаясь на «Русские
мемуары» сэра Бернарда Пэрса, прикомандированного во
время первой мировой войны к штабу генерала Балуева. При
штабе хранился запас фильмов (видимо, военной хроники и
игровых картин военно-патриотического содержания), кото-
рый у низшего военного состава интереса не вызывал и в ча-
стях почти не показывался. Дело происходило в тяжелый
для Балуева момент: только что в штабе побывала комиссия,
занимающаяся расследованием военных неудач и служебных
злоупотреблений. Как вспоминает мемуарист, «когда они
(члены комиссии) уехали, штабисты почувствовали, что надо
как-нибудь развеселить Балуева, и предложили устроить в
садике киносеанс. Мы уселись в темноте между фруктовыми
деревьями, и сеанс начался. Сержант за проектором нервни-
чал, и картина, дергаясь, пошла у него вверх ногами. В тем-
ноте послышался беспокойный голос: «Ваше Превосходитель-
ство, умоляю, прикажите остановить картину — она идет
вверх ногами!» Тогда с первой скамьи донесся угрюмый
ответ Балуева: «Приказываю продолжать вверх ногами». По-
том он сказал, что все, что мы делаем, следовало бы делать
наоборот» [548, с. 85].
Другая параллель — моделирование исторического процесса
с помощью кинематографической метафоры обращенного вре-
мени. В русской фельетонистике к этой рецептивной фигуре
принадлежат два текста — «Кинематограф» С. Яблоновского и
«Фокус великого кино» А. Аверченко. Характерно, что оба
фельетона написаны после русских революций — «Кинема-
тограф» появился в «Русском слове» 6 декабря 1906 г. (Ns 269),
рассказ Аверченко — в начале 20-х. Статья Яблоновского
начинается с пересказа фильма об оживающем гусе: едок
извлекает куски изо рта, куски срастаются на блюде, обра-
стают перьями — и гусь жив-здоров: «Повар несет его во
двор и начинает убегать от торжествующей птицы». Далее
проводится параллель: «А теперь мне кажется, что вся наша
88
Часть I Внетекстовые структуры
жизнь — один сплошной кинематограф и что демонстрирую-
щий его маэстро пустил полосу именно в обратую сторону.
Показав нам сначала очень яркую и интересную картину под
заглавием «Освободительное движение», он вдруг придавил
какие-то кнопки, что-то перевернул, что-то переставил, ска-
зал: ейн, цвей, дрей — и картина понеслась еще быстрее
прежнего, но только в прямо противоположном порядке: вот
прямо противоположное тому, что совершалось год назад,
вот происходившее еще месяцем ближе... и еще, и еще, и
все в строго обратном порядке. Самая первая картина, кото-
рая представляла собой вылезание обывателей из обыватель-
ских нор и превращение в граждан, теперь является послед-
ней и являет собою как раз обратную картину — превраще-
ние граждан в обывателей и прятание в обывательские норы
<.. .> Была тишина и есть тишина. Было спокойствие и стало
спокойствие, все пришло к порядку — вот что значит ленту
от конца к началу пустить <.. .> Загляните в газеты, нату-
рально, в те, которые еще остались, — и там порядок и ти-
шина, и снова на сердце приятно и спокойно. В собрание
даже не заглядывайте, потому что какие же теперь собрания?
Собрания раньше были.
И было бы все это прекрасно и радостно, если бы вдруг
в наступившей тишине, знаменующей благорастворение воз-
духов, не послышались новые, еще далекие, но уже чрезвы-
чайно тревожные нотки. Нотки японского военного марша
— Переверните полосу! — закричал я.
А звуки военного японского марша начинают звучать все
грознее и тревожнее, и мне говорят, что это уже начинается
демонстрация японского кинематографа, который устроен так
скверно, что полосы в ней никак невозможно пустить в обрат-
ную сторону ...» [с. 3].
Автор второго рассказа с аналогичным сюжетом, А. Авер-
ченко уже в 1908 г. внимательно присматривался к кинема-
тографу (сатириконовский рассказ «Юмор для дураков»), а
в 1913 г. признался, что кино его привлекает возможностью
обратить время вспять: «Сейчас явления текут обычной чере-
дой, — один поворот ленты и вся жизнь пошла наоборот»
[5, с. 4}. Однако до 1917 г. Аверченко так и не испытал твор-
ческого импульса воспользоваться литературными преимуще-
ствами такой модели. «Поворот ленты» был развернут в сю-
жет только в 1921 г., в рассказе «Фокус великого кино». Рас-
сказ начинается с описания уже знакомой нам картины «На-
зад, назад»: «Море. Берег. Высокая отвесная скала, саженей
в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человече-
ская голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся
от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на
89
Глава 2. Режим проекции
площадку скалы — совершенно сухой и сотворил крестное
знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча,
потом правого, потом груди, и, наконец, лба» [3, с. 9]. Далее
идет подробное (и, надо сказать, очень пластичное) описание
эпизода с «обратным» курением и поеданием цыпленка. После
этого Аверченко предлагает то же проделать с историческими
событиями последних лет:
«Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную
кинематографическую ленту! ..
Повернул ручку назад — и пошло-поехало...
Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого
фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто
соскабливая написанное, и когда передо мной — чистая бу-
мага. я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...
Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.
Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд
дает задний ход и мчится в Петербург.
В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои то-
вары, — селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие
солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты,
как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты
и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле зад-
ним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!
Крути, Митька, живей!
Въехал он в Зимний Дворец, а там, глядишь, все новое и
новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий вышли, пятясь, из
особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели
в распломбированный вагон, тут же его запломбировали —
и укатили все задним ходом в Германию.
А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед
вылетает из Зимнего Дворца — давно пора, — вскакивает на
стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас
покину — вы можете убить меня своими руками! До самой
смерти я с вами».
Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в об-
ратную сторону!
Быстро промелькнула февральская революция. Забавно
видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих лю-
дей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскаки-
вали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.
Крути, Митька, крути!
Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе
в Тюмень. Лента-то ведь обратная.
Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба,
мяса и всякого съестного дрязгу.
А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскален-
ной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на
90
Часть I Внетекстовые структуры
носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро прев-
ращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцол-
лерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные
слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не
вылетают из уст, а наоборот, глотает он их, ловя губами в
воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!,.
Митька, крути, крути, голубчик!
Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вто-
рая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жут-
кие подробности октябрьских погромов.
Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают
свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают,
летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврей-
ские перины, и все принимает прежний вид. <...>
Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому оста-
новись, .что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти
юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и
как нас любили...» [3, с. 10—12].
Глава 3
Акустика киносеанса
Музыка в пространстве кинозала
«Кино — не немой» [390, с. 321], — писали в 20-е годы,
имея в виду, что и немое кино не лишено элементов речи,
пускай бесшумной. Но и более широкий термин «бесшумное»,
silent, бытующий в англоязычной традиции, многие оспари-
вают: «Бесшумные фильмы никогда не были бесшумными», —
настаивал К. Браунлоу [499, с. 337], указывая на музыкаль-
ное сопровождение немых киносеансов. Насколько справед-
ливо это уточнение — можно ли в самом деле считать музыку
тапера компонентом фильма, а не принадлежностью анту-
ража?
Все, что мы знаем о рутинной прокатной практике немого
кино, не позволяет сразу примкнуть к указанному мнению, —
напротив, оно может показаться прекраснодушием, от кото-
рого отмахивались уже в 10-е годы. Верно, существовали пар-
титуры, специально написанные для тех или иных картин
(М. Ипполитов-Иване в написал специальную музыку уже для
первого русского фильма «Стенька Разин», 1908), а также ука-
затели для пианистов-иллюстраторов, регламентирующие
исполнение по темам и соотносящие эти темы с определен-
ными кинематографическими «настроениями» [128; 419].
Однако всем было известно, что музыкой ведал владелец
кинотеатра, а в конечном счете — сам тапер. Когда В. Р. Гар-
дин пытался уговорить А. И. Куприна продать ему право
на постановку «Гранатового браслета», автор повести
нашел контраргумент, выдавший в нем искушенного кино-
зрителя.
92
Часть I Внетекстовые структуры
«— В кинотеатре «Арс», — сказал Гардин, — хороший ор-
кестр. Мы хотим, чтобы сцена, где княгиня Вера кладет розу
около головы мертвого Желткова, иллюстрировалась сонатой
Бетховена № 2, как в вашем рассказе.
— Ав других театрах она пойдет под тру-ля-ля?..» [306,
с. 119—120], — ответил Куприн.
Словом «тру-ля-ля» Куприн обозначил особый ритмизиро-
ванный аккомпанемент (его рудименты, по-видимому, в наше
время сохранились в музыке для производственной гимна-
стики), по которому безошибочно узнавали кинематограф. В
1914 г. тонкий ценитель музыки композитор Л. Л. Сабанеев
дал такое определение киномузыке: «Искусство музыкальной
иллюстрации картин, рожденное быстрым расцветом кинема-
тографа, может быть вкратце сформулировано как искусство^
смело и без зазрения художественной совести играть на фор-
тепиано все, что придет в голову, не соображаясь ни с логи-
кой, ни со вкусом» (324, с. 12]. При этом наблюдатели со
стороны считали непритязательный аккомпанемент вместо
сонаты Бетховена меньшим из двух зол. В статье 1915 г.
Сабанеев делился впечатлением противоположного порядка:
«Трудно описать все те ужасы, которые мне довелось слы-
шать в этой области в «столичных» кинотеатрах (что же гово-
рить о провинции), ужасы, перед которыми бледнеют все
ужасы потрясающих драм в тысячи метров. Я слышал,
например, сонаты Бетховена, долженствовавшие изображать»
«рынок» на площади, и видел «Вора», иллюстрируемого зву-
ками искаженного романса Чайковского» (322, с. 4].
Между тем низкое качество исполнения и самой музыки
не мешало современникам ощущать необходимость киноак-
компанемента. Если, по свидетельству мемуариста1, в первом
петербургском кинематографе «Живая фотография» (весна
1897 г.) фильмы шли без музыкального сопровождения [156,
с. 1], и это, видимо, оставалось нормой до начала 1900-х го-
дов, то, как сообщает другой очевидец2, в 1909 г., когда при
нем произошла накладка с пианистом, публика стала требо-
вать возврата денег (правда, та ее часть, которая успела без
музыки просмотреть всю программу) [21, с. 1—2]. В 10-е годы
необходимой сделалась не всякая музыка, а музыка подхо-
дящая —* вопреки опасениям Сабанеева, и в столицах, и в
провинции кинозрители стали проявлять разборчивость.
Обозреватель ростовского журнала в 1915 г. писал: «До-
вольно часто в публике слышишь выбор кинематографа
в зависимости от импровизатора» [334, с. 11]. О том же
говорил один из лучших пи ан истов-иллюстраторов 10-х годов
москвич А. Анощенко: «Я знал культурных любителей кино,
которые посещали «Континенталь», а не «Модерн», находя-
щийся поблизости, только потому, что в первом кинотеатре
93
Глава 3. Акустика киносеанса
играл под картины Кручинин3. В своей импровизации он
достигал совершенного синтеза с драматическим действием,
значительно усиливая его эмоциональное содержание» [21,
с. 13-].
(
Музыка в пору
рецептивного сдвига
В десятилетие бурной эволюции форм киносеанса, о кото-
рой мы говорили в первой главе книги (ее хронологические
рамки — 1905—1915 гг.), эволюционировала и форма киноил-
люстрации. Контур этой эволюции пытались нащупать уже в
те годы. Очевидцы утверждают, что первоначально картины
иллюстрировал «хрипящий граммофон» [331, с. 11]. Появле-
ние «сонной таперши» В. Чайковский датирует 1905 годом
[430, с. 16]. Он же отмечает как новость квартет мандолини-
стов, получивший ангажемент в «Большом Парижском Те-
атре» на Арбате в 1906 году. При этом «Вестник кинемато-
графии» обратил внимание на характерную деталь — по мере
того как «живая музыка» завоевывала кинозал, «граммофон
был отодвинут для увеселения публики в антрактах» [331,
с. 11]. Однако в скором времени конкуренция между механи-
ческой музыкой и живым исполнением проникла и в фойе:
«В дальнейшем развитии антрактная музыка уже не ограни-
чивалась граммофоном, а стала демонстрироваться оркест-
рионами и даже, как венец элегантности, струнными трио.
Однако публика долго еще предпочитала оркестрионы с их
дудочками, барабанчиками и красиво мелькающими электри-
ческими лампочками, вспыхивавшими и погасавшими в
соответствии с мелодией» [331, с. И].
Далее, продолжает наблюдатель 1914 г., «оркестрионы
перестали удовлетворять потребностям и духу времени.
Вскоре они, за малым исключением, были изгнаны из электро-
театров. На них надвигалась рать музыкантов-инструмента-
листов. Ученики консерваторий, бывшие полковые музы-
канты, балалаечники начали составлять не только трио, но и
маленькие оркестрики, а трио, в свою очередь, из фойе стали
проникать в зрительные залы для иллюстрирования картин»
[331, с. И].
Как легко убедиться, эволюция музыки в кино продикто-
вана той же логикой, что и эволюция других компонентов
кинематографического антуража. Это — логика рецептивного
сдвига, требующая, чтобы технологическая природа кинозре-
лища сделалась как можно менее ощутимой. Изменившаяся
форма зала, занавес перед экраном, подобие сцены, новый
94
Часть I Внетекстовые структуры
стиль названий, изгнание граммофонов и оркестрионов сна-
чала из зрительного зала, а затем и из фойе — все это сви-
детельствует о стремлении изъять из обращения фактор,
прежде доминировавший в рецепции кинематографа, — соз-
нание того, что перед тобой — «механизм». Убежденность,
что механический процесс не может участвовать в порожде-
нии культурных ценностей, была одной из аксиом в системе
представлений человека 10-х годов.
Совпадение/ несовпадение
как категория рецептивной оценки
Вернемся к проблеме, касающейся того, к какому прост-
ранству принадлежит киноаккомпанемент — смысловому
пространству кинофильма или обрамляющему — кинозала?
В раннюю «эпоху граммофонов» несовпадение музыки к
фильма было заложено уже в самом способе иллюстрации:
«На экране — драма, и сиплый тенор словами из «Фауста»
поясняет безмолвные страдания графини Монтиньяк» [331,
с. 11]. К 1914 г. возник идеальный образ пианиста, полностью
растворяющегося в экранном действии: «Ранее пианист еще4
призывал себе на подмогу в иллюстрировании, например,
скрипача, но теперь царство случайной мелодии окончилось
и пианист стал единоличным хозяином иллюстрирования,
заменяя иногда струнный инструмент фисгармонией» [331,
с. 11]. Однако, как уже отмечалось, пианист был «хозяином
иллюстрирования» только в «своем» зале. Сам факт циркули-
рования фильма по разнооснащенным кинотеатрам сводил на
нет попытки снабдить картину сопровдждением, рассчитан-
ным специально на нее.
Логично было бы предположить, что в случаях удачного»
совпадения музыкального сопровождения с действием фильма
зритель воспринимал музыку как принадлежность фильма, а
в случаях несовпадения — как компонент внеэкранного прост-
ранства, пространства кинозала. Однако на деле рецептивный
аппарат раннего кинозрителя был устроен сложнее.
Замена граммофона «живым тапером» во второй половине
1900-х годов не привела к немедленному сдвигу по шкале
совпадения — несовпадения действия и музыкального сопро-
вождения. В эти годы общепринятыми жанрами были вальс
и марш (А. Белый отмечал «меланхолический вальс», под
который развертываются киносюжеты [38, с. 352], М. Воло-
95
Глава 3. Акустика киносеанса
шин — «гипнотизирующую музыку однообразных маршей»,
сопровождающую «выхваченные сырьем факты и жесты улич-
ной жизни» [111, с. 39]). В качестве музыкально-акустиче-
ского фона и марши, и вальсы подходили для любых сюжетов,
однако в случаях преднамеренного или непреднамеренного
совпадения элементов музыкальной темы и темы фильма
можно было наблюдать колебания эмоциональной реакции
зала. И. Л. Щеглов в статье 1908 г. описал киносеанс, одним
из номеров которого была мелодрама «Любовь моряка».
В конце мелодрамы моряк и его неверная невеста падают
со скалы в морские волны. Щеглов фиксирует не только этот
трагический финал, но и аккомпанемент, который по чисто
предметной ассоциации совпал с изображенной сценой:
«В публике заметное волнение. Чей-то слабый женский крик.
Тапер с зловещим видом играет вальс «Дунайские волны».
Кухарки и горничные, не стесняясь, утирают слезы» [450,
с. 259].
В начале 10-х годов репертуар первоклассного тапера су-
щественно расширился. Появились в печати руководства, что
когда играть. Однако запас тем у рядового тапера пополнялся
незначительно. В описании Е. Зозули (1912) в качестве дежур-
ного мотива наряду с маршем и вальсом фигурирует полька:
«Когда на экране не драма, а хроника — барышня тоже знает,
что играть... Когда происходит торжественное открытие
памятника в Милане и важные господа в бакенбардах с ци-
линдрами быстро пробегают в церемониальном шествии, —
нужно играть марш <.. •> Когда на экране — головоломный
лыжный спорт в Норвегии — польку, а когда идет видовая
картина, например, ловля сардинок в Сицилии — тогда опять
вальс... Когда же Дурашкин прыгает с пятого этажа в та-
релку с супом своей завтракающей тещи, или когда на
цилиндр Макса Линдера с того же пятого этажа летит
свинья — тогда опять полька ...» [158, с. 13].
В России, наряду с общеевропейскими вальсами и мар-
шами, был в ходу и собственный жанр киноаккомпане-
мента — романс и народная песня. ««Марши, вальсы, романсы
разные играете?» — спрашивал владелец кинотеатра, прини-
мая на службу тапера» [21, л. 1]. Известно, что начиная с
1907 г. романсы и романсированные обработки народных пе-
сен звучали под первые картины русского производства, при-
чем русские фильмы тех лет, в отличие, скажем, от француз-
ских, делались в расчете на внутренний рынок4, что позво-
ляло уже на стадии замысла с достаточной уверенностью
программировать будущий аккомпанемент. Отсюда особен-
ность русского дореволюционного кино, другим националь-
ным кинематографиям незнакомая — фильмы на сюжет попу-
лярных песен, как правило, носившие те же названия. Пред-
96
Часть I Внетекстовые структуры
полагалось, что не только тапер будет знать соответствую-
щую мелодию, но и публика подтянет «Из-за острова на стре-
жень», «Ваньку-ключника» или «Ухаря-купца».
Действительно, невероятный успех «первого русского
фильма» «Стенька Разин» (1908) объяснялся не столько рус-
ской темой («русские фильмы», очень добротно сделанные и
не столь уж «псевдоисторические», как о них принято писать,
снимала в России и фирма «Патэ»), сколько песенным жан-
ром, апеллирующим к хоровому инстинкту («соборному на-
чалу», сказал бы человек той эпохи) русской киноаудитории.
В рекламном объявлении Дранков особенно упирал на исклю-
чительную популярность первоисточника: «По преданию всем
нам знакомая и родная песня «Вниз по матушке по Волге»
сложена товарищами Стеньки Разина. Прошло с тех пор два
столетия, и эта песня стала народной и тесно связалась с
именем волжского ушкуйника. Песню эту знает всякий рус-
ский человек, ее поют в концертах, бомонде и бедной семье
крестьянина» [227, с. 51].
Вдохновись примером «Смерти герцога Гиза», идущего под
специально написанную музыку Сен-Санса, Дранков заказал
для «Разина» музыкальную партитуру — «увертюру» к
фильму. Однако, в отличие от Сен-Санса, М. Ипполитов-Ива-
нов не стал писать полностью новой музыкальной пьесы, а
воспользовался музыкальной темой народной песни. По
достоверному свидетельству Дж. Лейды (единственного исто-
рика кино, имевшего возможность личной беседы с Дранко-
вым), публика подхватывала мелодию и на протяжении всей
картины хором подпевала экрану [548, с. 35].
Таким образом, мы можем убедиться, что в немом кино
отношения между аккомпанементом и экранным действием
не столь однозначны, как может показаться на первый
взгляд. Совпадение музыкального и визуального рядов не
обязательно означает, что внеэкранное пространство, прост-
ранство кинозала «выходит из игры» и аккомпанемент «сли-
вается» с действием. В случае со «Стенькой Разиным» музы-
кальный ряд апеллировал частью к экранному действию,
частью — к активной памяти аудитории, хранящей слова
песни. Возникал цикл: словесный ряд—музыкальный ряд—
визуальный ряд; цикл, объединявший в себе экран, тапера
(или оркестр) и аудиторию.
Аналогичный эффект можно наблюдать только в ранней
истории итальянского кино, ставившего популярные оперы —
«Трубадур», «Риголетто», «Манон Леско». Как сообщает
М. Оме, в ту пору возник специфически итальянский жанр
«ореге sincronizzate», позволявший публике участвовать
в показе, подхватывая знаменитые арии, звучавшие в памяти
[570, с. 133].
97
__________________Глава 3. Акустика киносеанса
С другой стороны, резкое несовпадение музыкальной темы
с происходящим на экране не означало, что аккомпанемент
и действие воспринимались безотносительно друг к другу.
Простейший случай — музыка «вступает в конфликт» с со-
держанием картины и придает экранному действию комиче-
ский оттенок. Наблюдатели охотно коллекционировали
подобные курьезы и делились ими с читателями журналов и
газет. Приведем несколько наблюдений такого рода.
А. Аверченко («Сатирикон», 1908): «[бестолковый пианист)
отжаривает веселый галоп в то время, когда на экране уми-
рает от ножа убийцы дочь стрелочника, и играет похоронный
марш при погоне толпы за мальчишкой, укравшим гуся» [4,
с. 5].
Е. Зозуля («Всемирная панорама», 1912): «Когда пожар,
крушение поезда или гибель аэроплана — милая веснущатая
барышня меланхолически наигрывает кэк-уок ...» [158, с. 13].
К. Аргамаков («Сине-Фоно», 1914): «<...> в одном из про-
винциальных театров мне удалось увидеть сцены из «Евгения
Онегина», и письмо Татьяны иллюстрировалось известным
вальсом «На сопках Манчжурии»» [24, с. 24].
А. Ставроцкий («Кино», 4 дек. 1928 г.): «<...> пошли
похороны дорогого красного вождя, члена профсоюза рабиса,
из одной трудовой семьи, на рояли запузыривают «яблочко»!
<... > На картине экстренное заседание подпольного ЦК,
а рояль накручивает «Красотки кабаре»!..» [353, с. 3].
Однако не все несовпадения были случайными. Цензурой
запрещалось музыкальное сопровождение сеансов при показе
«царской хроники», — это обстоятельство заставляет предпо-
ложить, что некоторые таперы позволяли себе неосторожные
опыты в иллюстрации картин этого жанра. Кроме того, зарож-
дение чисто русской музыкальной тематики (в инструмен-
тальном отношении русскому стилю отвечало включение в
киноаккомпанемент гармоно-баянного исполнительства, см.
[256, с. 19]) открывало возможность свободного манипулиро-
вания музыкальными фрагментами с той или иной стили-
стической окраской, включая и предельное несоответствие
между акустическим впечатлением и визуальным рядом. Об
одном из таких аудиовизуальных курьезов 900-х годов рас-
сказывал Л. Е. Остроумов: «Я помню, как восторгался рус-
ский зритель, увидев на экране карнавал в Ницце, мчащийся
под звуки исконно русской плясовой песни «Вдоль да по
речке, вдоль да по Казанке...», которую откалывал лихой
тапер на расстроенном пианино» [283, л. 2]. Этот пример
позволяет убедиться, что публика 900-х годов дорожила всей
гаммой возможностей музыкальной иллюстрации киносеанса,
включая и несовпадение, и была не лишена вкуса к тапер-
ским «бенефисам».
7 102326
98
Часть I Внетекстовые структуры
Фильм в отсутствие музыки
Совпадение и несовпадение — крайние точки в диапазоне
взаимоотношений музыки и изображения. Между ними ле-
жит обширная область взаимного нейтралитета обоих рядов.
Об этом подчас забывают, когда сравнивают функцию музыки
в звуковом и немом кинематографе. При всем музыкальном
разнообразии звукового кино мы едва ли вправе сказать, что
музыка здесь выступает в роли акустического норматива.
Даже в тех случаях, когда, по формулировке Р. Якобсона,
«музыка указывает в кино на отключение от акустической
реальности» [467, с. 28], это отключение для звуковых филь-
мов не основная, маркированная позиция. В немаркирован-
ной позиции (в роли семиотической нормы) музыка выступала
только в немом кино. Эта позиция во многом выводила
аккомпанемент за пределы возможной эстетической оценки.
Сам музыкант и ценитель, Л. Л. Сабанеев удивлялся некри-
тичности музыкально подготовленных зрителей: «Центр вни-
мания не в музыке, а в картине, и что это так, легко доказы-
вается хотя бы тем простым фактом, что самая «убийствен-
ная» в художественном смысле музыкальная иллюстрация
часто не заставляет сильно реагировать зрителя-музыканта,
погруженного в рассматривание картины. Мне приходилось
иногда отвлекаться от созерцания экрана и слушать музыку;'
что это такое бывало иногда!» [324, с. 12]. Фильм освобож-
дает сопровождение от эстетической функции; если исклю-
чить случаи непроизвольных или намеренных контрастов
и наложений (в большинстве своем аномальных), фильм де-
лает сопровождение незаметным (можно сказать: выводит
его на периферию восприятия); вместе с тем было бы непра-
вомерно утверждать, будто музыка в немом кино нефунк-
циональна.
Прежде чем коснуться частных функций музыкального
сопровождения, остановимся на функции музыки как компо-
нента киносеанса. Р. Якобсон, ссылаясь на наблюдения Б. Ба-
лаша, П. Рамена и Ф. Мартена, назвал ее «нейтрализующей
функцией» [467, с. 28], имея в виду, что музыка снимает воп-
рос об акустической субстанции как таковой. Ю. Тынянов
был склонен считать музыку скорее субститутом звука,
нежели инстанцией, его отменяющей: «она дает речи актеров
последний элемент, которого ему не хватает, — звук <...>
Музыка дает богатство и тонкость звука, неслыханные в
человеческой речи. Она дает возможность довести речи ге-
роев до хлесткого, напряженного минимума» [390, с. 321—
322].
Различие названных позиций в нюансе — Якобсон рассма-
99
Глава 3. Акустика киносеанса
тривает музыку немого кино по отношению к «акустической
реальности», Тынянов — к акустической ситуации киносе-
анса: «Как только музыка в кино умолкает, — наступает
напряженная тишина. Она жужжит (если даже не жужжит
аппарат), она мешает смотреть. И это вовсе не потому, что
мы привыкли к музыке в кино. Лишите кино музыки — оно
опустеет, оно станет дефектным, недостаточным искусством.
Когда нет музыки, ямы открытых, говорящих ртов прямо
мучительны5. Всмотритесь тогда в движение на полотне: как
тяжело скачут лошади в пустоте!» [390, с. 322].
Это описание не единично — оно примыкает к целому
ряду наблюдений, складывающихся в стройную феноменоло-
гию кинозала, в котором прекратилась музыка. Всякий раз
в ситуации такого рода мы встречаем указания на «тишину»
и «пустоту»: происходит как бы реактуализация простран-
ства кинозала. Примечательно, что Э. Панофски, кроме про-
чего, в этом акустическом вакууме заново ощутил темноту
(«<...> все мы помним таинственное и призрачное чувство,
охватывавшее нас, когда пианист на несколько минут поки-
дал свой пост и фильм шел, предоставленный самому себе,
в темноте, в которой, как привидение, громыхал аппарат»
[571, с. 156]). Психологию фильма без музыки выразительно
описал и Р. Гармс: «Зрителя охватывает тогда сразу ужасная,
пугающая пустота, какое-то голое, холодное, чуждое, беско-
нечное пространство, которое не имеет никакой связи с
внешним миром, с нами. Непроходимая пропасть зияет тогда
между нами и фильмом. Создается такое впечатление, будто
сотни нас заперты в одном помещении, в котором мы часами
безмолвно смотрим друг на друга. Жутко!» [117, с. 79].
С учетом такой особенности восприятия не покажется
странным глубокое замечание Т. Адорно, который сравнил
инструментальный аккомпанемент в немом кино с ребенком,
поющим в темноте, чтобы отогнать страх [477, с. 333]. Му-
зыка обживает пространство кинозала, и в этом отношении
она, безусловно, принадлежит поэтике киносеанса, и лишь
затем — поэтике кинофильма. Для воспринимающего созна-
ния эпохи кинозал не был однородным пространством, обрам-
ляющим экран. Именно двойная принадлежность киномузыки,
которая исполнялась тут, в зале, но при этом находилась в
постоянном взаимодействии с происходящим на экране
(взаимодействии в широком смысле, включающем в себя и
отсугствие видимых соответствий), наделяло ее чертами
посредника, превращая киноаккомпанемент в геометрически
нелокализованное семантическое пространство с двойствен-
ными характеристиками, пространство, в равной мере принад-
лежавшее миру фильма и миру кинозала.
7*
100
Часть I Внетекстовые структуры
„Механизм" vs. „Организм"
Акустическая двойственность музыки позволяет по-но-
вому взглянуть на некоторые особенности ранних киносеан-
сов. В 1900—1910-е годы постоянным атрибутом кинотеатров
была фигура тапера. В русской литературе о кино упомина-
ния о тапере неизменно носили полуиронический оттенок
(Андрей Белый описывал «звуки разбитого рояля, над кото-
рым согнулся какой-нибудь неудачник-тапер или таперша с
подвязанной щекой (чаще всего — старая дева)» [38, с. 350],
Г. И. Чулков — «лысого старика с мудрыми глазами и тонкой
улыбкой, играющего вальс на фортепиано» [436, с. 11],
Б. Чайковский — «тапершу в виде сонной старушонки, зача-
стую засыпающей под собственную импровизацию» [430,
с. 16]).
Возникает вопрос: почему тапер в немом кино постоянно
находился на виду у зрителей (его место было под экраном
и освещалось лампой)? В техническом отношении не пред-
ставляло особых трудностей скрыть аккомпаниатора за эк-
раном (туда помещали шумовиков, которые в некоторых
кинотеатрах имитировали выстрелы, падения и т. д., и акте-
ров, озвучивавших «киноговорящие» картины) или соорудить
для него особое прикрытие. Такое расположение вписыва-
лось бы в традицию оркестровых ям и похоронного музици-'
рования. Тем не менее мы только однажды встречали упоми-
нание о ширме, отделяющей тапера от зала [21, л. 3], а в
другом случае — попытку затенить источник сопровождения,
на сей раз вокального: в одном парижском кинематографе
«изображался крестный ход, а бледная француженка пре-
красным драматическим сопрано молитвенно пела из темного
угла: «Ave Maria»» [38, с. 353]. Обычно же тапер находился
в поле зрения аудитории, — такое расположение, видимо, не
считалось помехой, а напротив, подчеркивало важный для
поэтики немого киносеанса «эффект присутствия» музыки
в кинозале.
Здесь вступает в силу уже известное нам обстоятель-
ство — отталкивание, вытеснение из рецептивного образа
кинематографа такой его черты, как «механичность». «Ему,
как «мещанину в дворянстве», всячески нужно скрыть свое
«мещанство»» [91, с. 5], — писал об этом проницательный
наблюдатель, вторя словам Д. С. Мережковского о противо-
стоянии кино и театра как механизма и организма [253,
с. 18]. Уже сам факт присутствия в кинозале фигуры «посред-
ника» (тапера, лектора) изменял баланс в пользу органиче-
ского начала. Мы помним, как из фойе исчез простейший
музыкальный автомат типа шарманки — оркестрион. Разго-
101
Глава 3. Акустика киносеанса
воры о том, что сложные музыкальные автоматы со смен-
ными программами должны заменить тапера (эту идею
настойчиво проводили профессиональные музыканты —
Анощенко и Сабанеев), постоянно наталкивались на однотип-
ное возражение: кинематограф и без того слишком «меха-
низм», чтобы его иллюстрировала механическая музыка. Уже
известный нам автор из «Театральной газеты» в 1914 г. пи-
сал: «Музыка, сопровождающая картины, это отказ кинема-
тографа от самого себя, стремление забыть механичность и
стать органичным. Все эти рояли, пианино, фисгармонии,
которые стоят в электротеатрах около экрана, все они хором
кричат: он (кинематограф) не хочет быть мертвым, не хочет
быть призраком. Разве нам не нужны в кинематографе зву-
ки фортепиано?! Хотя бы неумелые, несовершенные, диле-
тантски-однообразные и музыкально элементарные, а подчас
и безграмотные, но всегда более живые, чем самая «боевая»
картина на экране < .. .> Музыка всегда будет служить
к тому, чтобы скрыть механичность кинематографа» [91,
с. 5]. Сниженная фигура таперши — «старой девы с подвя-
занной щекой» — была как бы гарантом человечности, неме-
ханистичности исполнения уже хотя бы потому, что это
исполнение было плохим.
Слепой тапер
Та функция киномузыки, которая в глазах современников
уравновешивала и сглаживала механистическое начало
в кино, подводит и к вопросу об искусстве импровизации «под
картину». Однако прежде чем касаться импровизации, остано-
вимся еще на одной особенности киноаккомпанемента, имею-
щей отношение к его двойному статусу. Очевидцы вспоми-
нают таперов, чьи глаза были неотрывно прикованы к экрану
[571, с. 156], но вспоминают и таких, которые играли вслейую,
«себе под нос». Естественно предположить, что вторая раз-
новидность — те же «первые», но уже выучившие программу
сеанса наизусть. Однако такое заключение было бы поспеш-
ным. В немом киноаккомпанементе преобладали два стиля —
подлаживание под картину (такой стиль господствовал в
10-е годы) и более архаичный, выражавшийся в том, что пиа-
нист на фильм внимания не обращал. От такой игры историк
не должен отмахиваться, как от «халтуры», хотя в резуль-
тате нередко случался «кэк-уок под похороны, а похоронный
марш под свадьбу» [418, с. 11]. Для многих автономный музы-
кальный ряд, «надмирный» акустический фон, на котором
развивались «роковые» события кинодрамы, был ощутимой
102
Часть I Внетекстовые структуры
эстетической ценностью: само это бесстрастие, возможно, у
одних возрождало гимназические представления о функции
хора в античной трагедии, у других — рождало эмоцию,
близкую «символистскому» мироощущению:
Безучастный звук рояли.
Зачарованный экран.
Где сплелись в лазурной дали
' Правда, шутка и обман... [220, с. 41]
«Безучастный» аккомпанемент, понятый как эстетический
факт, заставляет поверить в истинность свидетельства, кото-
рое, несмотря на надежность мемуариста, поначалу кажется
неправдоподобным. Б. Дюшен вспоминает: «Считалось по-
чему-то твердо установленным, что для сопровождения кар-
тин лучше всего подходят слепые музыканты, «жарившие»
сопровождение картин на расстроенных пианино. И действи-
тельно, на протяжении ряда лет сопровождение картин музы-
кой составляло как бы монополию слепых» [156, л. 2]; об
этом же сообщается в [128, с. 83].
От ситуации, обрисованной Дюшеном, веет мифологией,
но это не должно вселять в нас излишнее недоверие — не
исключено, например, что слепых приглашали играть в кино-
театрах из-за невысокой стоимости их услуг. Важен не
столько сам факт такого приглашения или степень его пов-
семестности, сколько то, что возможность игры под картину,
которой не видишь, без труда укладывалась в сознании сов-
ременников. На первый взгляд, слепой тапер должен быть
предельным выражением независимости, непересекаемости
двух рядов — акустического и визуального. Однако, когда
автор этих строк высказал такую мысль в докладе на науч-
ной конференции в Институте языка и литературы АН
ЛатвССР (14 апр. 1986 г.), она вызвала возражение А. Рож-
калне, которое представляется достаточно правомерным: сле-
пые, предположила она, обладая особой чуткостью слуха, не
были полностью отключены от происходящего на экране •—
своей игрой незрячие музыканты реагировали на эмоциональ-
ный отклик зала, и аккомпанемент соотносился с сюжетом
в зависимости от того, как сюжет переживала аудитория.
Если эта «гипотеза верна, то такой аккомпанемент соответ-
ствовал фильму лучше, чем самая совершенная музыка, напи-
санная специально для фильма, поскольку он рождался
заново для каждой аудитории, был как бы музыкальной фор-
мой самого процесса восприятия, которое, как известно,
меняется не только от фильма к фильму, но и от зала к
залу. Вопрос, чему принадлежит музыка в немом кино —
атмосфере кинозала или сюжетному развитию фильма, при
таком обороте дела получает новое освещение. Всякий тапер,
103
Глава 3. Акустика киносеанса
играет ли он «под экран» или реагирует на колебания эмоцио-
нальной «волны» кинозала, находится «по сю сторону» эк-
рана, т. е. входит в состав публики. В ситуации киносеанса
пианист — носитель коллективного сознания аудитории. С
экраном он в любом случае вступает в отношения не пря-
мые, а опосредованные. Эту тройственную зависимость
Л. Сабанеев удачно назвал «психологическим резонансом»:
«Музыка должна стушевываться и только заполнять акусти-
ческую пустоту, резонируя психологически на настроения
экрана» [324, с. 12].
в
Музыка для кино.
Готовая музыка
В 10-е годы характер аккомпанемента стали определять
по степени его детерминированности. В 1911 г. И. Худяков
писал: «Живую картину можно иллюстрировать 3-мя спосо-
бами: 1-й — готовой музыкой, 2-й — специально написанной
музыкой и 3-й — импровизацией» [418, с. И]. Под «готовой»
подразумевалась музыка, закрепленная за тем или иным
киножанром: романс — за драмой, полька или кэк-уок — за
комедией, вальс и ноктюрн — за видовыми, марш — за воен-
ными сценами. «Если к этому прибавить еще похоронный, то
репертуар окажется достаточным на все случаи; словом, как
письмовник любовных и других писем, но годный на все слу-
чаи» [418, с. 11 ]. Несмотря на компилятивность такого сопро-
вождения (а в известном смысле — и благодаря ей), музыка
тапера быстро приобрела черты, свойственные только жанру
киноиллюстрации. Одну из них нетрудно реконструировать, —
она была настолько специфична, что вызвала к жизни паро-
дии и подражания. В письме от 3 июля 1915 г. К. С. Стани-
славский рассказывал о летнем концерте силами актеров
МХТ: «Вахтангов иллюстрировал музыкой несуществующий
кинематограф (который якобы испортился) — мило» [354,
с. 614]. Соль этой музыкальной шутки в письме не изложена,
но можно предположить, что испорченный кинематограф —
это лента, которая постоянно рвется или сюжеты которой
сменяются внезапно и беспорядочно. Легко представить себе
музыкальный пастиш, имитирующий «лоскутный» аккомпане-
мент такого сеанса. Однако, если это так, пародия Вахтангова
на испорченный кинематограф не искажала облик сеанса, про-
текающего исправно, а утрировала черты, характеризующие
как раз «нормальный» кинематограф. Немотивированная и
мгновенная смена сцен вызывала столь же внезапную смену
104
Часть I Внетекстовые структуры
музыкальных фрагментов. Синтаксис такого сопровождения
описывал Сабанеев: «Требование быстрого и точного следо-
вания музыки за изменяющимися настроениями картины
часто выражается в «непосредственном» переходе одной му-
зыки в другую, даже без попыток применения всех тех му-
зыкальных ресурсов, которыми в музыке обычно обставля-
ются хотя бы для приличия подобные переходы» [324, с. 12].
Словарь компилятора
и тематический универсум
раннего кино
В 1912 г. таперы-компиляторы А. Голдобин и Б. Азанчеев
выпустили руководство, в котором расписаны по темам и
снабжены соответствующими музыкальными рекомендациями
«общие места» кинематографа эпохи [128]. Ценность этой
редкой книги (издана в Костроме) для историка кино оче-
видна. Помимо знания репертуара, которым пользовались
(точнее, могли пользоваться) киноиллюстраторы тех лет, она
дает представление о предметах, эмоциях и темах, достойных,
по мнению тапера, особого музыкального выделения. Музы- 4
кально-тематическая карта — чрезвычайно содержательный
срез рецепции кинематографа начала 10-х годов. Срез рецеп-
ции, хотя и опосредованный чисто музыкальными предпочте-
ниями авторов руководства и наличным фондом мелодий
(едва ли, не будь под рукой литовских народных песен, они
бы выделили в отдельную графу кинематографическую тему
«литовцы»), но тем более верный: ведь до зрителя мир фильма
доходил уже препарированным компиляцией тапера.
Одно из достоинств списка тем — его полнота и замкну-
тость. Полнота не в том смысле, что в нем отражен весь
предметно-тематический универсум кино, а в какой-то мере
в противоположном: мы ощущаем, что список полон, и вместе
с тем не теряем из виду имеющиеся в нем лакуны. Полнота
списка есть полнота изнутри, лакуны же придают ей опреде-
ленную форму. Рецепция не энциклопедична: ее конфигурация
состоит из «слепых» пятен и неправдоподобно увеличенных
деталей. Таков словник Голдобина и Азанчеева.
В силу сказанного мы намерены привести целиком пере-
чень кинематографических тем, которые вошли в названное
руководство. Ниже приводится только словник, — музыкаль-
ные рекомендации, представляющие более частный интерес,
опущены.
105
Глава 3. Акустика киносеанса
41. Танец апашей —
привычная сцена в филь-
мах 1910-х годов.
Явления внутренние
Беззаботность, беспокойство, болезнь, веселье, воспоминание,
воодушевление, вражда, гнев, гордость, горе, грезы, грусть,
жалоба, желание, задумчивость, заносчивость, испуг, клятва,
любовь, меланхолия, месть, мечты, молитва, наслаждение, на-
стойчивость, одиночество, одушевление, отвага, плач, покая-
ние, презрение, радость, раздумье, раскаяние, ревность, реши-
мость, скромность, слезы, смех, сон, спокойствие, страдание,
страсть, страх, сумасшествие, тоска, удовлетворение, ужас,
упрек, храбрость, экстаз.
Явления внешние
Австрия, Америка, арабы, армяне, арфа, Африка, балалайка,
балет, бабочка, библия, битва, Болгария, борьба, брань, бунт,
буря, буры, былина, бег, вальс, Венгрия, верблюд, Венеция,
весна, вечер, видение, водопад, Волга, волны, волшебство, вос-
ток, восход, война, ворон, выслеживание, выстрел, Германия,
гибель, гимн, гитара, Голландия, Греция, гроза, Дания, дикари,
диавол, Днепр, детство, евреи, Египет, жаворонок, жемчуг,
жужжание, журчание, заговор, закат, заклинание, засада, зима,
106
Часть I Внетекстовые структуры
идиллия, Индия, индейцы, Ирландия, Испания, Италия, Кавказ,
казнь, каторга, киргизы, Китай, кладбище, колокола, колы-
бельная песня, комары, комизм, креолы, кузница, кукушка,
куранты, крик, лебедь, лев, литовцы, локомотив, лошадь, луна,
лес, лето, малиновка, Малороссия, мандолина, марш, мельница,
монастырь, Моравия, море, мухи, народные песни, Неаполь,
негры, Норвегия, ночь, осень, отъезд, охота, пастораль, пастух,
патруль, пейзаж, Персия, пир, письмо, погоня, пожар, попугай,
похороны, прощание, прялка, птица, пустыня, пьянство, рас-
свет, расстрел, румыны, ручей, свадьба, свирель, Сербия, се-
ренада, сигнал, Сиам, сказка, скрипка, слепые, смерть, смотр,
снег, соловей, сражение, старинный стиль, степь, студенты,
сумерки, танцы [см. отдельную графу], татары, тост, трамвай,
труба, тундра, Турция, туш, тюрьма, утро, феерия, Финляндия,
фиалка, флейта, фонтан, Франция, хорваты, храм, цветы, це-
ремония, церковь, цитра, цыгане, чародей, часы, Черногория,
Чехия, шарманка, шествие, шум, шутка, эпос, эхо, Япония.
Танцы
Аликаз, апашей, аркадиен, аэронет, Бал-Буррэ, барыня, бер-
линка, Би-ба-бо, вальс, вампир, варшавянка, венгерка, гавот,
галоп, гейша, гроссфатер, гопак, диаболетт, ермак, жиганетт,
казачок, камаринская, карама, кэк-уок, кикапу, ки-кинг, ки-
таянка, кракет, краковяк, крестьяночка, кризоль, коханочка,
лабладор, лаун-теннис, лезгинка, ликет, мазурочка, матчиши-
нетт, матчиш, меланж, минуэт, мирмитон, негрель, негритя-
ночка, ныо-йоркез, ой-pal, па де грае, па де катр, па де па-
пинер.
Музыка для фильма
Второй раздел классификации Худякова — специальная му-
зыка. Выше говорилось об ограничениях, накладываемых на
этот вид музыкального сопровождения прокатной практикой
немого кино. Специальная музыка могла заказываться в ра-
счете на серию премьер в хорошо оборудованном зале с при-
глашенным оркестром. Такие премьеры устраивались для до-
рогостоящих постановок и были, как и сами эти фильмы,
сознательным отступлением от нормы. Считается, что первой
попыткой такого рода была партитура, заказанная К. Сен-
Сансу для фильма «Смерть герцога Гиза» (1908) и исполняв-
шаяся под фильм оркестром Саль Шаррас (примечательно,
что этот фильм был программной картиной новообразованной
фирмы «Film d'Art», делавшей ставку на «художественность»,
т. е. ненормативность своей продукции).
107
Глава 3. Акустика киносеанса
Можно указать и на более раннюю кинопартитуру (1902),
о которой рассказывает в своих мемуарах один из первых
операторов Феликс Месгиш. Речь идет о Фоно-Синема-Театре,
сконструированном для Всемирной выставки в Париже (1900)
и по окончании выставки совершавшем европейские турне с
программой аудиовизуальных номеров: «Там я демонстрирую
знаменитое «Путешествие на Луну» («Voyage dans la Lune»)
Жоржа Мельеса <... > Когда я получил копию этой фанта-
зии, мне пришло в голову сопроводить ее музыкальной парти-
турой, аранжированной капельмейстером зала Олимпии. Это,
может быть, первая музыкальная интерпретация немого
фильма. Нововведение так понравилось публике, что новую
моду стали называть «а ля люн». <.. .> По требованию дирек-
торов мне удается даже заставить луну плакать — кинемато-
графическую, конечно... Да что там! Не только плакать, но
вот она вдруг перестает всхлипывать, успокаивается и вот,
проглотив слезы, исчезает под приступ смеха» (557, с. 34].
Самому факту, изложенному Месгишем, нет оснований не
доверять, в отличие от менее достоверной попытки приписать
себе приоритет. Можно заподозрить, что на эффект музы-
кального «озвучания» были рассчитаны фильм «Немой ме-
ломан» («Un muet melomane»), поставленный Шарлюсом
(Патэ, 1900), в котором Ф. Зекка играл роль немого, отве-
чающего на вопросы судьи с/ помощью корнет-а-пистона, а
также и большинство других ранних киносюжетов с исполь-
зованием музыкальных инструментов.
Фильм на музыку
Специальная музыка для фильма — наиболее разработан-
ный аспект проблемы «музыка и кино», поскольку по основ-
ным параметрам отношения между картиной и сопровожде-
нием здесь те же, что и в звуковом кинематографе. Суще-
ствует ряд киноведческих работ, подробно рассматривающих,
как музыка рождается из фильма. Менее изучен зеркальный
вариант этих отношений, — когда фильм создается на задан-
ную музыку. По понятным причинам в немом кино таких
картин единицы, однако это не означает, что музыканты не
вынашивали подобных замыслов или что идея не обладала
привлекательностью для публики. Выше упоминались фильмы
по мотивам песен и романсов, имевшие хождение в русском
кино. Однако «по мотивам» здесь, конечно, означало мотивы
не музыкальные, а литературные. В рукописи 1919 г. И. Н. Иг-
натов объяснил технику таких экранизаций: «Брались два-три
стиха и отвечающая их настроению сочинялась фабула; в кар-
108
Часть I Внетекстовые структуры
динальный момент, когда действие подбиралось к развязке,
слова романса цитировались на объяснительной картинке
(т. е. в надписи. — Ю. Ц.), и представление заканчивалось.
«Ямщик, не гони лошадей», начинался романс, и «Ямщик, не
гони лошадей» называлась кинодрама. Пожилой человек по-
любил молодую девушку; казалось ему, что и она его любит,
что для него открывается новая молодость, что жизнь, навеян-
ная лаской и любовью, прекрасна. Но он услышал разговор
между собственным сыном и молодой девушкой и понял, что
ему не на что надеяться. Одинокий, возвращался он домой
и останавливал разогнавшего тройку ямщика: «Ямщик, не гони
лошадей: мне некуда больше спешить, мне некого больше лю-
бить» .. .»6 [172, л. 110].
Это — зрительское — описание картины уместно сравнить
с воспоминаниями ее участника — актера И. Н. Перестиани,
для которого фильм «Ямщик, не гони лошадей» был дебютом
в кино. Перестиани писал: «Как это бывает чаще, чем следо-
вало бы, моей первой съемкой были заключительные сцены
картины. Изображал я человека, несколько поздно для себя
увлекшегося молодой девушкой и переживавшего страдания
закатного чувства. Надпись гласила:
... мне некуда больше спешить...
... мне некого больше любить...
Сообразно с этим я должен был, в тяжелом настроении, идти
очень длинным коридором, пройти в аванзал, примыкавший
к коридору, и сесть за рояль, на котором еще так недавно
играла «она». По пути была остановка у окна, освещенного
лучами заходящего солнца» [290, л. 12в—13]. Нетрудно себе
представить, какой силы достигал «психологический резонанс»
[322, с. 4] знакомой музыки с обновленной сюжетной моти-
вировкой7.
По поводу моды русских 10-х годов на экранизацию ро-
мансов тот же Перестиани сообщает: «Рассказывали, что вла-
делец ателье Харитонов держал у себя на столе каталог
нотных изданий Циммермана с заранее отчеркнутыми назва-
ниями ходовых романсов и требовал от режиссеров подгонки
картин под эти названия» [290, л. 11]. Самый кассовый русский
фильм «Молчи, грусть, молчи...», снятый для Харитонова в
1918 г. режиссером П. И. Чардыниным, по ходу повествования
не только постоянно возвращал зрителя к надписи с этим
зачином, но и «диктовал» предполагаемому оркестру-сопро-
водителю инструментальную аранжировку: Вера Холодная ис-
полняла романс на гитаре и на фортепиано, Чардынин в роли
Дорио — на скрипке.
Характерно, что десять лет спустя, когда фильм Чарды-
нина был давно забыт публикой, память о нем сохранилась
109
Глава 3. Акустика киносеанса
в репертуаре московского тапера, исполнявшего романс при
любой возможности. Фельетонист газеты «Кино» возмущался:
«Глаза мои видят на экране парад Красной Армии, а ухо слы-
шит из рояля «Молчи, грусть, молчи»» [353, с. 3].
Тем не менее экранизацией музыки эти фильмы не счита-
лись. На такую экранизацию более походил фильм, привлека-
тельность которого малая пресса тех лет видела именно в
«музыкальном» происхождении. «Биржевые ведомости» пи-
сали: «Только что в Москве закончена съемкой интересная
картина, называющаяся «Сказка мира», посвященная памяти ...
Скрябина. Впервые сделана попытка передать настроения не-
которых произведений покойного композитора» [64]. «Сказка
мира» (1915, сц. Б. Мартов, реж. С. Веселовский) была филь-
мом о композиторе с вымышленным именем и, помимо прочего,
«демонстрировала творческий процесс», — уже одно это ста-
вило перед тапером нетривиальные задачи.
Более радикальные попытки подыскать киноэквивалент
музыкальному произведению остались неосуществленными.
В 10-е годы писали сценарии В. Е. Чешихин и руководитель
симфонической капеллы В. А. Булычев8 — первый по «Пасто-
ральной симфонии» Бетховена, второй по оратории Шумана
«Рай и Пери» [21, л. 17]. Представление о таких сценариях
дает нам замысел, относящийся к 1914 г. А. Анощенко, к тому
времени опытный тапер, задумал фильм по музыке Берлиоза,
исполнять которую, как предполагалось, должен был специ-
ально ангажированный симфонический оркестр. Приведем
рассказ Анощенко об этом сценарии: «В свое время Берлиоз
явился революционером в музыкальном искусстве, в его инди-
видуальности музыкант неотделим от драматурга романтиче-
ской настроенности. Полет фантазии Гюго, художественная
ювелирность стихов Альфреда Мюссе, яркость колорита кар-
тин Делакруа своеобразно синтезировались в творчестве Бер-
лиоза. Прослушав его симфоническую поэму, я, с одной сто-
роны, под влиянием ее драматического сюжета, а с другой —
в силу своего опыта чувствовать музыку в беззвучной кино-
драме вдруг увидел в прослушанном произведении движение
зрительных образов — кинопоэму в синтезе с симфонией
Берлиоза. Содержание сюжета вкратце таково. Бедный ху-
дожник обманут возлюбленной с богатым. Ее образ преследует
художника в грезах гашиша, и на балу среди чуждого ему
общества, и на сельской природе, и во сне среди оргий отвра-
тительных чудовищ, похожих на ее соблазнителя. Образ воз-
любленной появляется с появлением музыкальной «идеэ-фикс»
в развитии симфонического построения. Художнику видится,
что он убивает возлюбленную с ее соблазнителем. Художника
ведут на казнь, его сопровождает сочувственный гул толпы.
Звучит кларнет, выражающий последнюю мысль о возлюблен-
110
Часть I Внетекстовые структуры
ной. Удар гильотины — удар всего оркестра и грохот литавр
завершает музыкальную поэму» [21, л. 17].
Позволим себе параллель с более поздним кино. В 1934 г.
А. Хичкок снял в Англии звуковой фильм «Человек, который
слишком много знал» («The man who knew too much»). Цент-
ральный эпизод фильма построен почти так, как мыслил свою
картину Анощенко. Действие происходит около 1914 г. и за-
вязано вокруг шпионской истории, предшествующей первой
мировой войне. Группа вражеских агентов в Англии планирует
убийство во время концерта посла дружественной Британии
державы. Главарь заговорщиков (П. Лорре), знаток и любитель
музыки, дает наставления убийце. Он ставит на патефон плас-
тинку с симфонией, которая должна исполняться на этом
концерте. «Вот в этом месте, — говорит он, — музыка дости-
гает кульминации, грохот литавр заглушит выстрел, и вы
успеете бежать.» Заговорщики еще раз прослушивают нужное
место, и когда сюжет фильма подводит к сцене покушения,
зритель уже наперед знает логику развития музыкального по-
строения, а заодно и то, как с ним соотнесется событийная
канва. При этом режиссер строит напряжение в расчете на
неполное знание киноаудитории, — зритель, не наделенный
абсолютным слухом, со страхом реагирует на ложные каден-
ции и пристально следит за литаврами в руках музыканта.
Импровизация
Возвращаясь к классификации И. Н. Худякова, нужно ска-
зать, что среди трех выделенных им типов киномузыки наибо-
лее ценной ему представлялась импровизация. Такая позиция
была для современников не бесспорной, хотя искусство Худя-
кова как киноимпровизатора признавалось всеми, «С появле-
нием его у экрана фортепианное сопровождение кинокартины
производило настолько сильное впечатление, что приобрело
у интеллигентной публики признание своеобразного искусства.
Обладая большой музыкальной начитанностью и хорошей му-
зыкальной памятью, Худяков намечал для сопровождения
кинокартины стройный музыкально-драматический план тем,
которыми и пользовался в своих импровизациях примени-
тельно к развитию драматического действия» [417, с. 7]. Ви-
димо, 1000 тем, намеченных в худяковском «Опыте руковод-
ства к иллюстрации синематографических картин» (М., 1912),
и дает представление о характере и объеме музыкального
тезауруса Худякова-тапера. Однако, несмотря на никем не
оспоренную квалификацию этого музыканта, его выступления
в защиту импровизации под фильм вызывали полемику. Се-
Ill
Глава 3. Акустика киносеанса
годня, когда нам известен дальнейший путь звука в кино,
возникает соблазн признать историческую правоту оппонентов
Худякова, утверждавших, что музыка должна соотноситься с
фильмом заранее, а не в процессе демонстрации, и настаивав-
ших на строго однозначной соотнесенности акустического и
визуального рядов. Л. Л. Сабанеев писал: «Как ничто не
должно быть случайным в этом механическом искусстве, так
точно не должна быть случайной и музыкальная часть. Она
должна быть скомпонована, должна быть приурочена к строго
определенным моментам драм, она должна быть фиксирован-
ной. И мне представляется она столь же механизированной,
как и сама драма. Не лицу с его случайными настроениями
должен быть поручен репродукционный оттиск с этой музы-
кальной композиции, а такому же, как и сам кинематограф,
механическому сопровождающему инструменту. Они же *
есть — эти инструменты, раз зафиксировавшие звуки и ис-
полнения, это — всевозможные пианолы и миньолы. Лента
кинематографа, раз снятая, раз зафиксировавшая все перипе-
тии драмы, должна быть «механически» соединена с лентой
пианолы и обе эти ленты должны обойти совместно мир»
[322, с. 4].
Так представлялось музыковеду, не имевшему опыта кино-
сопровождения. И если ненадежность музыкальных автоматов
и нехватка квалифицированных «программистов» музыки не
давали этим автоматам широко распространиться по сети рус-
ских кинотеатров, то отдельные эксперименты показывали,
что такой тип сопровождения вполне осуществим. Анощенко
вспоминал: «Как-то я продемонстрировал Худякову вальс, со-
чиненный мной исключительно для фонолы или пианолы. Фо-
нола или пианола приставляется к клавиатуре рояля, в меха-
низм заправляется ролик бумажной ленты, на которой запи-
сана игра пианиста, воспроизводимая с совершенной точностью.
Такие ленты могут производиться и непосредственно по нотам
без их проигрывания для записи. Пара рычажков дает воз-
можность управлять механизмом, меняя темп и силу звука.
На тихом фоне, образуемом быстрым движением множества
отрывистых звуков, текла напевная мелодия в унисоне через
октаву, а внутри плавно сменялись аккорды. Моя композиция,
понравилась испытанному слушателю, и он заметил, что она
неисполнима руками на одном рояле. По этому поводу я вы-
разил мысль о применении автоматических инструментов для
усовершенствования дела фортепианной иллюстрации кино-
картин. При значительной общности эстетических вкусов
между собеседниками выяснилось существенное противоречие
эстетических взглядов. Я мечтал о музыкальной кино драме,
построенной в синтезе с музыкой, которая должна быть запи-
сана на ленту для автоматического пианино. Пианист самой
112
Часть I Внетекстовые структуры
малой квалификации может «дирижировать» автоматом, коор-
динируя его игру с показом кинокартины. В большинстве кино
это облегчило бы и труд иллюстратора, и участь слушателей,
впечатляемых художественной иллюстрацией в реальных зву-
ках рояля. Худяков отрицательно отнесся к этой мысли, так
как разделял принцип известных английских эстетиков Рес-
кина и Морриса. Они не признавали машинного производства
произведений искусства. Так и Худяков считал самую кино-
картину лишь тенью искусства, которая приобретает художе-
ственную жизнь в творчестве музыканта, сопровождающего
картину. Худяков был большим художником импровизации»
[21, л. 7—8].
В формулировке самого Худякова эта мысль звучала так:
«Иллюстрация картины требует творчества, присущего только
человеку; если бы для этой цели употребить механическую
музыку, то как бы она ни была хороша, как бы она ни совпа-
дала с настроением и различными его изменениями в картине,
она никогда не заменит живого иллюстратора, так как душу
человека механическим способом ни создать, ни заменить не-
возможно, подделка всегда будет болезненно чувствоваться»
[418, с. 11].
Таков, вкратце, рисунок полемики между поборниками
жесткого аккомпанемента и сторонниками импровизации под
фильм. Как видим, последние, когда речь заходит об обще-
эстетических основаниях иллюстрации к картине, охотно при-
бегают к знакомому нам аргументу, требуя баланса между
биологическим («органическим») и механическим началами
творчества. Однако и с музыкальной точки зрения, по мнению
некоторых ценителей, импровизация под картину представляла
известный интерес. В статье 1915 г. Сабанеев, не называя
имени того, кому возражал, отказывался считать киномузыку
полноправной импровизацией: «Я знаю некоторых, которые
очень приветствовали иллюстративное искусство музыкального
сопровождения, полагая, что это есть реставрация того забы-
того искусства «импровизации», которое процветало во вре-
мена классицизма. Но дело в том, что то было искусство ху-
дожественной импровизации, а то, что мы имеем в кино-
театрах — это искусство безвкусного подыгрывания под
картину, искусство ловкого и неловкого плагиата, искусство
искажения великих произведений. Это — вовсе не эквива-
ленты» [322, с. 4].
Нам еще придется вернуться к этому разграничению: не-
смотря на его кажущуюся бесспорность, находились люди,
бравшие на себя смелость утверждать, будто именно беспоря-
дочность и тематическая вторичность киноаккомпанемента
позволяют говорить о нем как о новом типе импровизацион-
ного искусства. Но прежде назовем неназванного оппонента
из
Глава 3. Акустика киносеанса
Сабанеева. По всей вероятности, это А. Н. Скрябин, чьим
доверенным лицом и постоянным собеседником Сабанеев был
до последнего часа композитора. После смерти Скрябина Са-
банеев написал книгу воспоминаний, где приводится разговор,
имевший место после одного из домашних импровизационных
этюдов (в разговоре принимала участие вторая жена Скрябина
Татьяна Федоровна): «Скрябин <...> не признавал импрови-
зации. «Правда, я бы мог заработать деньги, шутил он, — вот
я, думаю, был бы хорошим импровизатором в кинематографе.
А вы знаете, <...> что у меня есть родственник, который
играет на Арбате в кинематографе, — и тоже Скрябин.» —
«Наверное тебе много бы не заплатили, Саша, — дразнила
его Т. Ф., твой этот родственник гораздо лучше импровизирует,
чем сейчас ты тут старался... Таланта у тебя нет настоя-
щего ...»— «Я вообще не считаю импровизацию и способности
к ней за положительное достоинство. Всякое творчество пред-
полагает план и мысль, а при импровизации ни плана, ни
мысли не может быть.» Хотя А. Н. и говорил так, но на самом
деле его творчество в истоках было все-таки импровизацион-
ным» [321, с. 80].
Компиляция
Киноаккомпаниаторы 10-х годов проводили разграничение
между иллюстрацией импровизационной и компилятивной.
Нельзя сказать, чтобы компилятивный принцип сопровожде-
ния фильма оценивался только как недостаток таперского мас-
терства. Постоянными оппонентами Худякова с его апологией
импровизации под картину были А. В. Голдобин9, отстаивав-
ший право тапера на честную компиляцию, и Б. М. Азанчеев10.
Между тем, конечно, компилятивная музыка на шкале цен-
ностей немого кино стояла ниже, чем импровизация. Пожалуй,
главным козырем первой было привлечение в кинотеатры ин-
струментальных ансамблей (самой распространенной формой
был дуэт фортепиано со скрипкой, в конце 10-х годов —- ма-
ленький оркестр), тогда как импровизатор (до возникновения
джазовых форм импровизации) был обречен на одиночество11.
Впрочем, сторонники импровизации не расценивали это как
недостаток. Так, И. Н. Худяков писал: «Творчество может
принадлежать лишь одному лицу. Коллективное творчество
невозможно, поэтому иллюстрация картины каким-нибудь ан-
самблем (оркестром, трио, пением с аккомпанементом) пред-
ставляет собой бессмыслицу» [418, с. И].
Чрезвычайно точным представляется наблюдение над раз-
личием между киномузыкой компилятивного и импровизаци-
8 102326
114
Часть I Внетекстовые структуры
онного характера, принадлежащее А. Анощенко. Вспоминая
о первом своем опыте сопровождения киносеанса, музыкант
пишет: «Я сел к пианино, которое стояло у самой стены под
экраном. Хотя я импровизировал достаточно легко, но испы-
тывал неуверенность в себе. К моему счастью, очередной ока-
залась спокойная видовая картина. Я ограничился ее музы-
кальной «окраской» по аналогии к виражированию, например,
лунного пейзажа в голубой цвет. Несмотря на расстроенный
инструмент, музыка удовлетворительно ассоциировалась со
зрелищем» [21, л. 2].
Может показаться, что здесь речь идет о цвето-звуковых
соответствиях, которые широко обсуждались в начале века
как в отношении фонетики языка (А. Белый), так и по отно-
шению к музыке (А. Н. Скрябин). Однако ход рассуждения
музыканта более сложен, — он говорит не о характерной му-
зыкальной окраске того или иного пейзажа, а о типе отноше-
ний. между музыкой и изображением, с одной стороны, и
изображением и цветом — с другой. Музыка, учитывающая
лишь общее «настроение» той или иной сцены, похожа на
вираж, подчиняющий той или иной тональности все без исклю-
чения пространство кадра. Позже, уже в роли теоретика кино-
иллюстрации, Анощенко переформулировал это наблюдение
и отнес его к компилятивной музыке вообще. В тезисах док-
лада, прочитанного им на диспуте в редакции журнала «Кино-
театр и жизнь» (1913), содержится следующее положение:
«Компилятивная иллюстрация в кинопьесе — примитивный
метод удовлетворения потребности синтеза музыки и кино,
аналогичный в изобразительном отношении виражу или ок-
раске частей картин в один цвет. В компилятивной иллюстра-
ции при характеристике общего настроения сцены отсутствует
самое существенное — выражение драматических периодов,
особенно при взаимодействии разнохарактерных персонажей
одинакового сюжетного значения. Как фортепианная, так пре-
имущественно и симфоническая музыка у экрана должна
искать свою стереоскопичность и колоритность в выражении
эмоциональной динамики персонажей» [21, л. 14].
Если мы вернемся к рассказу Анощенко о том, как он
впервые иллюстрировал киносеанс, то поймем, что разумеется
под «динамикой персонажей»: «Однако когда последовала
драма, мне пришлось убедиться, что ее иллюстрация является
более сложным делом <.. .> Потоптавшись по клавиатуре на
модулирующих секвенциях, я отрекся от добрых, но нереаль-
ных намерений, и перешел на грустный вальс. Левая рука
обозначала героя, а правая героиню, и по ходу действия мело-
дия переносилась вниз или возвращалась вверх. Это все, что
я успел изобрести к середине неведомой мне короткометраж-
ной драмы» [21, л. 2].
115
Глава 3. Акустика киносеанса
В этом, по убеждению автора, заключается основное отли-
чие импровизации от компиляции, — музыкальная интерпре-
тация окрашивает не все целиком пространство кадра или
фильма, а выделяет смысловые участки этого пространства.
Импровизация создает не тон, а цвет.
Ритм
Импровизация под фильм, как утверждали, включает в себя
несколько возможностей воздействия на смысловое простран-
ство картины. Обычным делом была иллюстрация драмати-
ческая, в ходе которой антагонисты наделялись контрастирую-
щими музыкальными темами. Однако с большим увлечением
музыканты и ценители киномузыки обсуждали не «иллюстра-
цию сценического действия и переживания чувств» [21, л. 8],
а импровизацию ритмического характера. П. П. Муратов писал:
«В кинематографе музыка имеет характер двоякой иллюстра-
ции — эмоциональной (и это наиболее вульгарный случай) [и]
ритмической (и это случай наиболее интересный)» [263, с. 294].
В качестве примера можно привести иллюстрацию неуста-
новленного смоленского пианиста к фильму Ж. Мунэ-Сюлли
«Эдип» («Oedipe-Roi»). В рецензии 1911 г. достоинства фильма
объясняются качеством иллюстрации: «Особенно мне запомни-
лась постановка «Эдипа», несмотря на мелодраматичность
исполнения, совершенно не подходящую классическим образ-
цам, — эта мелодраматичность мало замечалась, и можно
смело сказать, что не замечалась именно благодаря музыке:
удачно выбранная мелодия, самое исполнение пианиста. Эдип
воздевал руки к небу, трагично потрясал головой, становился
в позу, несколько раз пытался двинуться с места, но только
грозил — вообще напоминало мелодраму. И что же?
Музыка спасла эту вещь. Пианист дополнил и оттенил —
даже не оттенил, потому что если бы он вздумал оттенять
каждый жест Эдипа (что, собственно, необходимо мелодраме),
то получилась бы та же натянутость, та же мелодрама, что и
на экране. Но пианист именно взял верные мотивы и с музы-
кальной чуткостью дал мелодию, соответствующую не испол-
нению, а сюжету. Так что музыка как бы заглушала испол-
нение и на первый план выдвигала только сюжет. «Эдип»
ожил» [10, с. 8—9].
Эффективность ритмической иллюстрации некоторые на-
блюдатели выводили непосредственно из особенностей движу-
щейся фотографии, из того же свойства, которое в 1920 г.
позволило Эли Фору утверждать: «<,..> пересечение и связь
движений и каденций уже само по себе создает впечатление,
8*
116
Часть I Внетекстовые структуры
что даже самый посредственный фильм развертывается в му-
зыкальном пространстве» [520, с. 6]. Напомним, что речь
здесь идет о самом фильме, а не о музыкальном сопровожде-
нии. Аналогичное чувство возникло у такого знатока музыки,
как В. В. Стасов, когда он в 1896 г. увидел фильм Люмьера
«Морское купание» («Baignade еп тег») (программа шла без
аккомпанемента) и ощутил, что это «совсем другая уже .му-
зыка, и не Мендельсснова, и ничья, а прямо из того, что всякий
день и целый день происходит на этом самом углу моря: ку-
панье! Что может быть ничтожнее, ординарнее, прозаичнее?!
Голые тела от жары толпой суются в воду — что тут есть
интересного, важного, красивого? Так вот нет же. Из этой
всей ординарщины тут состраивается что-то такое и интерес-
ное, и важное, и красивое, что ничего не расскажешь из
виденного» [356, с. 128].
«Музыка подчеркивает обостренно ритмическую природу
кинематографа», — писал в 20-е годы П. П. Муратов [163,
с. 224]. Ритмический контур музыки и внутренний ритм «всей
этой ординарщины» создавали своего рода аудиовизуальный
контрапункт. Наблюдатели утверждали, что при музыкальном
сопровождении фильма и с музыкой, и с фильмом «что-то
происходит». Происходит, видимо, уже на уровне простейших
зрительно-слуховых соответствий. Е. Маурин, пытаясь в 1916 г.
объяснить этот факт, проводил аналогию «от обратного»: «Не-
обходимо помнить, что связь между слухом и зрением гораздо
глубже, чем обыкновенно полагают, и многие, вероятно, знают
странный на первый взгляд фокус: если, сидя в далеких мес-
тах на представлении драмы или оперы, поднесешь к глазам
бинокль, то начинает казаться, будто звуки доносятся яснее,
слова кажутся уже разборчивее» [246, с. 181].
Вспомним в этой связи слова Анощенко о «стереоскопиче-
ском» эффекте озвученного музыкой изображения. Действи-
тельно, когда звуковое пятно преднамеренно или случайно
совпадает по ритму с движением одного из элементов кадра,
пусть незначительного или даже принадлежащего глубокому
фону, смысловая, а вместе с ней и пространственная иерархия
всех элементов этого кадра перестраивается, уступая место
в фокусе восприятия детали, отмеченной музыкой. В психо-
логическом плане этот эффект (в том же 1916 г.) объяснял
X. Мюнстерберг, утверждавший, что музыкальное сопровожде-
ние картин или имитация шумов «немало способствует пере-
мещению точки зрительского внимания в ту или иную сторону»
[566, с. 34]. При этом музыка, предлагая свой «алгоритм»,
свои доминанты развертывания экранного изображения, не по-
давляет, а скорее даже подчеркивает изначальную логику его
пространственного развертывания, и в этом смысле отношения
между музыкой и фильмом можно, действительно, сравнить
117
Глава 3. Акустика киносеанса
с техникой контрапункта. «Беззвучная музыкальность» движе-
ния в кадре находит в музыке тапера не прямые эквиваленты,
а «своеобразный ритмический орнамент» [21, л. 15], переак-
центирующий действие и усложняющий его ритмическое чле-
нение.
Примечательно (и замечено еще в 10-е годы), что внутрен-
няя ритмичность и музыкальность ранних хроник Люмьера с
появлением актерского кино заметно упали. В 1914 г. Л. Саба-
неев замечал: «Музыка к кино не может быть уже сымпрови-
зированной столь примитивно, как до сих пор, подобно тому,
как и самая кинодрама теперь уже не так просто, «импро-
визационно» снимается с живой натуры» [324, с, 13]. Упадок
пластического ритма был вовремя замечен кинопроизводите-
лями, многие из которых сделали правилом аккомпанировать
игре актеров на съемочной площадке. Этот аспект достаточно
подробно разобран К. Браунлоу [499, с. 338—341]. К его ис-
черпывающему обзору можно добавить лишь одно уточнение:
еще до фильма Д. У. Гриффита «Юдифь из Бетулии» («Judith
from Bethulia», 1913) аккомпанемент применялся на съемках
у Ж. Мельеса, приглашавшего для этого студентов консерва-
тории [481, с. 121], Это дополнение представляется важным
потому, что если в русской и американской мелодраме музыка
служила созданию у актера соответствующего сцене «настрое-
ния» (Анощенко сравнивал этот метод с порезанным луком,
вызывающим у исполнителей слезный рефлекс), то свободная
от психологизма игра мельесовских актеров заставляет уви-
деть в музыке на площадке чисто ритмическое подспорье.
Между тем некоторые аритмия, сбивчивость, бездарная
игра и режиссура, наконец, чисто технический брак склей-
щика или перебои в работе проектора, а также внутренние
препятствия ритмичному развитию повествования, — такие
как, например, надписи, никак не укладывавшиеся в музы-
кальную форму и представлявшие для тапера «сущее про-
клятье» [21, л. 2], — все это ставило киноимпровизатора в
менее идеальные условия, чем это может показаться сегодняш-
нему историку. Импровизация под фильм отличалась от кон-
цертной импровизации уже тем, что во время последней
музыкант, получив задание, позволял себе небольшую паузу,
чтобы затем при полном внимании аудитории и не торопя
событий строить музыкальную композицию. Так, во всяком
случае, описывают игру известного концертного импровизатора
10-х годов К. Н. Аргамакова11. Импровизация же тапера не
могла развиваться по имманентным законам музыкальной
формы. Музыка в кино, постоянно сообразуясь с данностью
экрана и настроением кинозала, исподволь усваивала черты,
отличающиеся от музыки в ее привычном понимании и позво-
лявшие все отчетливее угадывать в музыкальной иллюстрации
118
Часть [ Внетекстовые структуры
облик того, что ей приходилось иллюстрирован кинотекста
во всей его повседневной прокатной неприРЛЯАН0СТИ’ непРи~
глаженности, неоформленности. Как отмечал*^ выше, в этом
легко было увидеть вырождение музыкальной Ф°РМЬ1- РУД1166
поверить, что для некоторых таперов эти отКл
тической нормы складывались в стройную э£тетическУю сис"
тему, которую А. Анощенко уже в 1913 г. ос^^лился изложить
в тоне манифеста: «Пианист-импровизатор Должен
быть свободен от «законов» отвлеченной м/зыки и польз°"
ваться исключениями из таковых как основном методом, по-
зволяющим интенсифицировать впечатление кин°Аеиствия’
Расширенные и сокращенные фразы и предл<?жения' смеи£ен'
ный метр мелодий, преобладание неустойчив^1* инт°иации и
диссонирующих аккордов при контрапунктич^ском Авижении»
решительные ладовые модуляции, применен^6 ШУМОВ и тем-
бров новых инструментов, резонаторов для рРкализ и многое
другое» [21, л. 15].
Еще более странным может показаться, чт<? У кинематогра-
фической музыки находились ценители средй л?Аеи с таким
отточенным европейским вкусом и сознательно*1 привержен-
ностью эстетическому консерватизму, как П. мУРатсв' яото"
рый писал: «Прислушайтесь к искусному к0нематогРаФиче~
скому аккомпаньятору. Не смущаясь плетет невеР°"
ятную мозаику из Шопена, оперы Верди иАи Чаик°вского'
эстрадного романса, ресторанного танца, на4ИНая' оорывая,
не кончая, но всегда и все вовремя, не в смЫ^ле эм°Циональ“
ного соответствия действию, но в более глубоком J1 важном
ритмическом смысле. И часто даже взыскат^льныи в МУЗЫ"
кальном отношении зритель прощает ему этУ чудовищную
музыку, так как не слышит мест, но скользйт вслеА за ним
по ритмам зрелища, не замечает отдельных кусочков мозаики,
но отзывается лишь на ритмику ее звуков^0 У30Ра>>
с. 294—295]. Из такого наблюдения автор дела^т неожиАанныи
вывод: «Кинематографический аккомпанемент наУчи? совре-
менного человека пленяться музыкой джазба^3
звука рассыпанного и нанизанного на ниточк*1 Ритмоз>>
с. 295]. Если историк музыки и оспорит это то
оно сохранит свою ценность как ощущение ч^ловека ^и-х го“
дов —,эры кинематографистов и эпохи джаза.
Шумовые эффект^
> , в Россию около
Мода на шумовое сопровождение пришла *
1906 года. «О звуковых эффектах театры шир^_ ₽ _ Р
вали в газетных объявлениях, и тут же назв0ии р
119
Глава 3. Акустика киносеанса
42. Универсальная звуковая машина.
редко помещались самым обыкновенным шрифтом» [430, с. 17].
В ходу была «универсальная звуковая машина», умеющая
имитировать: гром и пушечный выстрел, топот лошадей, пых-
тение автомобиля, его сигнальные рожки, барабанный бой,
колокольный звон, водопад и дождь, битье стекла, детский
плач, собачий лай, мяуканье, ржанье, блеяние. В отсутствие
такой машины шли в ход приспособления попроще. Гром вос-
производился сотрясением железных листов, а также катанием
пустотелого цилиндра, наполненного металлическими обруб-
ками. Вой ветра достигался трением барабана на оси о натя-
нутый шелк, дождь и град — пересыпанием сухого гороха
по оберточной бумаге. Для шума прибоя перекатывали ка-
мушки в ящике, утыканном гвоздями. «Если же в тот момент,
когда по картине волна должна обрушиться на береговые
скалы, сжать двумя руками полоску жести так, чтобы она
120
Часть I Внетекстовые структуры
быстро выгнулась туда и сюда, и в то же время быстро за-
вертеть рукоятку, то получится звук, подражающий взбеганию
волны на берег. Затем сразу перегибают ящик в противопо-
ложное крайнее положение, заставляя камни и дробь пере-
катываться, задевая за гвозди, и это с удивительной иллюзией
напомнит шум волны, стекающей обратно в море, увлекая
за собой прибрежные камешки и раковины» [246, с. 182]. Мел-
кие кинотеатры обходились медным тазом, пугачом и поли-
цейским свистком.
Выше отмечалось, что специальные музыкальные партитуры
были привилегией столичных премьер. Пример с «Обороной
Севастополя» (1911, сц. и реж. В. Гончаров и А. Ханжонков)
подсказывает, в каком направлении изменялся аккомпанемент
по мере удаления фильма от центра в провинцию. Музыку
к «Обороне Севастополя» написал Г. Казаченко, по настоянию
которого был устроен торжественный просмотр в Московской
консерватории. Через месяц, в середине ноября 1911 г., был
просмотр в Ялте для Николая II, после чего «Оборона Се-
вастополя» стала демонстрироваться по всей России. Отчет
о сеансе в Кинешме показывает, что музыкальная партитура
в провинции уступила место шумовой: «Тапер-пианист неис-
тово колотил по басовым клавишам рояля, за экраном били
в железные листы и барабан и еще во что-то, изредка разда-
вались настоящие револьверные выстрелы, а когда на экране
в дело шли пушки, за экраном палили из ружья уменьшенным
зарядом. В зале стоял пороховой чад, зрители подскакивали от
выстрелов. Луч света из кинобудки едва пробивался сквозь
дым, и в зале совсем было светло от отражения» [357, л. 4].
Со вступлением России в войну и появлением картин воен-
но-патриотического жанра некоторые сцены начали ставить
специально с расчетом на шумовое сопровождение. В фильме
«Всколыхнулась Русь сермяжная и грудью стала за святое
дело» (1916; реж. Б. Светлов и Г. Инсаров) это — хроникальные
вставки взрывов и пушечных выстрелов, причем корабельные
орудия в картине стреляют преимущественно в развороте «на
зрителя». Фильм рассылался по кинотеатрам с приложенным
к нему «сценарием звуковых эффектов».
Изредка шумовой эффект удостаивался упоминания в ре-
цензии. Фильм Ж. Мельеса «История цивилизации» (La civili-
sation 4 travers les ages, 1907), прокатывавшийся в России
под (более соответствующим содержанию) названием «Куль-
тура человеческого зверства», газетой «Русское слово» был
принят в штыки: «Картины грубы, отвратительны. Для боль-
шей, очевидно, реальности, они сопровождаются «звуковыми
эффектами». Например, при картине «Христиане-факелы» раз-
дается потрескивание, долженствующее изображать горение
хвороста» [214, с. 5].
121
Глава 3. Акустика киносеанса
В этом, как и в ряде других случаев современники замечали
рецептивную избирательность шумовых эффектов. Словарь му-
зыкальной компиляции был уже того практически бесконеч-
ного множества объектов, которые могут появиться на экране.
()днако мелодия не столь тесно связана с предметом иллюстри-
рования, как шум. Словарь же звуковых эффектов был и вовсе
мал. На собственный вопрос «следует ли сопровождать де-
монстрацию картин звуковыми эффектами?» симбирский чи-
татель «Проэктора» отвечал: «Не следует, ибо иначе получится
режущее глаз и ухо несоответствие: человек на экране шеве-
лит губами, но звука его слов мы не слышим, а вот пощечину,
которую он даст своему партнеру, или выстрел из револьвера
мы слышим, да еще, пожалуй, в утрированном масштабе
<... > Что касается звуков человеческих шагов, передвигаю-
щихся небольших предметов, шороха и пр., то все это не будет
учтено. Если, поэтому, говорить о воспроизведении звуковых
эффектов при демонстрировании картин, то такое воспроизве-
дение должно быть построено на принципе «говорящих кар-
тин», как «кинетофон» и пр.» [305, с. 17].
Рецепция механического звука
Кинетоскопы и кинетофонографы Эдисона продавались
в Москве уже в 1895 г., но откликов на их работу разыскать
не удалось. 8 октября 1906 г. в Москве впервые демонстриро-
вался «хрономегафон» Гомона, получивший распространение
в 1908—1910 годы. В 1908 г. «Сине-Фоно» высказал претен-
зию, которая станет лейтмотивом рецепции звукового кино
в начале 1930-х годов: «Особенно плохое впечатление полу-
чается главным образом от того, что звуковые волны, созда-
ющие эффект, направляются не с того места, где находится
полотно, а с другого места театра» [№ 1, с. 11].
В 10-е годы компании Эдисона и Гомона, усовершенство-
вав свои аппараты, предприняли еще одно рекламное турне
по Европе.
Парадоксальным образом к «кинетофону» некоторые на-
ймодатели предъявляли, по сути дела, ту же претензию, что
и к шумовым партитурам. Когда в России были показаны
первые экспериментальные ролики звуковых картин (первый
такой сеанс состоялся 23 сентября 1913 г. в Петербурге), среди
множества откликов попадались и критические. Известный
театрал профессор Арабажин сказал, что больше всего ему
понравился собачий лай [186, с. 14]. Ростовский наблюдатель
(в Ростов-на-Дону «кинетофон» Эдисона приехал два года
спустя) остался недовольным избирательностью механического
122
Часть I Внетекстовые структуры
43. Граммофон, спаренный с проектором.
звука, аналогичной избирательности шумовых эффектов:
«<.. .> отсутствие шума при передвижении артистов мешает
полноте иллюзии: собака бегает как бесплотный дух без
ума,
но собачий лай раздается слишком громко; поют и танцуют —
пение раздается громко, а шума танцев не слышно» [279, с. 6].
Звук «рисовал» отдельные объекты, но отказывался «рисо-
вать» пространство.
Большей частью «кинетофону» предъявляли претензии тем-
брового характера. Корреспондент московского «Раннего утра»
по поводу петербургского сеанса высказался так: «Пение и
музыка передаются еще сравнительно недурно, но человече-
ская речь вызывает невольный смех» [186, с. 13]. Дело идет
о неестественном тембре, особенно заметном в звучании есте-
ственной речи. Голос «кинетофона» сравнивали с голосом чре-
вовещателя [154, с. 24] и с голосом кукловода. «Звуки эти
скорее могут вызывать смех или отвращение, чем волновать
зрителей. Они похожи на те гортанно-носовые звуки речи, что
слышатся из-за ширм при представлении «Петрушки», иногда
они напоминают голос дрессированного попугая», — писал
П. Гнедич в журнале «Театр и искусство» [126, с. 911].
123
Глава 3. Акустика киносеаяса
44. Начиная с 1913 г. в России давались передвижные сеансы
«говорящего кино» Леона Гомона.
Еще одно акустическое свойство — шипение иглы — по-
родило рецептивный образ невидимой змеи: «Гамлет поет над
черепом, и голос его окутан шипучей змеей» [130, с. 147]. Или,
как в юношеских стихах о кино написал яростный противник
звукового кинематографа, будущий режиссер Федор Оцеп:
И яркой страсти не потушит
Змеиный свист змеиных слов,
Безмолвья смерти не нарушит
Хрип лицемерных голосов! [284, с. 16/17, вкладка].
И в том, и в другом текстах змея — образ акустического
происхождения, побочный эффект «звуков типично граммо-
фонных, глухих и шипящих» [186, с. 13]. (Что касается пер-
вой из цитат, можно предположить, что в ней кроется вос-
поминание об одном из самых ранних опытов звукового
кино — кинофонозаписи сцены из «Гамлета» в исполнении
Сары Бернар.) Это подводит нас к особой теме — теме того,
какой след в рецептивном слепке с кинематографа 1900—
1410-х годов оставили те или иные технические несовершен-
ства кинопроекции.
Глава 4
Рецепция информационных
помех
Оптические помехи
Выше отмечалось, какую роль в восприятии фильма играют
внеэстетические факторы. Рецепция «опережает» текст, вкла-
дывая в него сверх того, что вложено автором. Текст как
передающая инстанция, с одной стороны, недостаточно богат,
чтобы до предела «загрузить» механизм восприятия, с дру-
гой — недостаточно силен, чтобы заставить реципиента исклю-
чить из сферы восприятия все, кроме себя самого. Возникает
ситуация, известная семиотикам из работ Ю. М. Лотмана:
механические искажения в канале коммуникации («семиоти-
ческий шум») не игнорируются и не трактуются как помехи,
а способствуют обогащению текста, выступают в роли «целе-
сообразных неправильностей» [234, с. 5].
Так, любому кинозрителю известно, что ветхая пленка но-
сит следы царапин, пляшущих по экрану. В техническом руко-
водстве 1916 г. эта непроизвольная мультипликация объясня-
лась следующим образом: «Так как <.. .> глазу вместо
царапинки в углу картины быстро подставляется царапинка
в ее середине или пятно вверху, то кажется, будто эти цара-
пинки танцуют в разные стороны, то разрастаясь, то опять
суживаясь до минимума. Если же этих повреждений Очень
много, то во все время сеанса экран кажется покрытым ка-
кой-то сеткой, «дождем» мелькающих белых линий» [246,
с. 154). Слово «дождь», обычный технический жаргонизм (на-
подобие термина «информационный шум»), не скоро стало
стертой метафорой: в 1929 г., оглядываясь на 1900-е годы (пе-
риод «наивного» трюкового кинематографа, когда «горничная
с метелкой лезла на стену»), О. Мандельштам определил их
125
Глава 4. Рецепция информационных помех
как «время, когда в иллюзионах шел сухой целлулоидный
дождь» [242, с. 170].
Дежурной шуткой рецензентов были слова о перемене по-
годы. Любимый фильм русской публики — «Кабирия» («Cabi-
ria») Дж. Пастроне, впервые показанный в 1916 г., удержался
в России до 1917 года. Столичный критик, заставший «Каби-
рию» в провинциальном кинотеатре, с притворным удивлением
писал: «Поражает лишь в картине одно загадочное явление:
происходит ли действие под открытым небом, или в доме,
всюду видно, как идет проливной дождь... Впрочем, мне
объяснили, что картина подержанная, а раз картина подер-
жанная, то уж всегда так бывает, что исполнители «мокнут»
под дождем ...» [236, с. 53].
Когда в 1918 г. Ф. Сологуб в сценарии «Барышня Лиза»,
искал способ кинематографически изобразить слабое зрение
слепнущей героини, он, похоже, представил себе не размытое
поле внефокусной съемки, а эффект, с которым столь часто
сталкиваешься в кинотеатрах — пленку в царапинках «цел-
лулоидного дождя». Во всяком случае, именно так он описал
контраст между солнечной ясностью «объективного плана» и
субъективным взглядом лизиных глаз: «Утро ясное, но Лиза
мало что различает, словно очертания предметов скрадыва-
ются от ее взора падением великого дождя. Лизе кажется,
что мир зыблется в ее воображении» (ИРЛИ, ф. 289, on. 1,
№ 184, л. 43). В другой сцене задуманный эффект «целлулоид-
ного дождя» описан в выражениях, почти совпадающих с
техническим описанием, которое мы приводили выше: «Смот-
рит вокруг — и ясный день туманен, и все предметы словно
« крыты легкой сетью» (л. 33).
Очерченный цикл «экран—рецепция—экран» или, точнее,
«оптическая помеха — опережающая рецепция — прием кино-
языка» со времен ОПОЯЗа известен как процесс канонизации
внеэстетического ряда. Цикл не всегда можно проследить
целиком. Так, в случае с сологубовским «дождем» (если мы
верно реконструировали замысел сценариста) цикл остановился
на стадии единичного сценарного намерения. Едва ли режис-
сер Санин, для которого предназначался сценарий Сологуба
(см. [277, с. 151—157]), согласился бы царапать эмульсию (как
известно, для имитации «ветхой пленки» такая техника при-
менялась в «Гражданине Кейне» («Citizen Капе») О. Уэллса).
Случай, когда оптическая помеха была воспринята как сме-
лое нововведение и сразу же принята на вооружение как
ос ознанный прием, можно продемонстрировать на более вы-
пуклом примерю — возникновении в русском кино так назы-
наемого мягкого фокуса — технической уловки, какую искал
и не нашел Сологуб, когда для имитации слабого зрения
предлагал устроить искусственный «целлулоидный дождь».
126
Часть I Внетекстовые структуры
Момент эстетического осмысления размытого, нерезкого,
диффузного изображения зафиксирован как историками кино,
так и современниками этого нововведения. Если не учитывать
случаев разрозненного использования внефокусных кадров
для сюжетно обусловленной имитации дефектного зрения (пре-
имущественно в комических картинах: взгляд пьяного или
человека, потерявшего очки, и т. п.) в начале 1910-х годов
(а, возможно, и в конце 1900-х), следует согласиться с К. Браун-
лоу в том, что впервые мягкий фокус как художественный
прием применен в фильме «Сломанные побеги» («Broken blos-
soms»,1918, вып. 1919) режиссером Д. У. Гриффитом и опера-
тором Г. У. Битцером [498, с. 21]. Критика 1919 г. отмечала
новизну этого эффекта: «Это не только совершенный, но и
новаторский фильм — он приближается, по освещению и не-
четкости крупных планов, к пятнам света и тьмы на лучших
полотнах всемирного Лувра» [576, с. 251]. (В действительности
Гриффит и Битцер воспроизвели на экране не живописный
эффект, а ориентированную на живопись технику «пикториаль-
ной» фотографии XIX в. с ее «фотогравюрами», «глицериновой»
и «резиновой» печатью и т. п.)
Почти одновременно и независимо от «Сломанных побе-
гов» мягкий фокус возник и в русском кинематографе, но
по-другому и по другой причине. Проникшие на Запад кар-
тины фирмы «Русь» в начале 20-х годов вызвали реакцию,
зафиксированную Б. Томашевским со слов В. Шкловского:
«Внефокусная съемка условно изображает смутное состояние
души — печаль, бред, сон, кошмар. По словам В. Шкловского,
эта условность, ставшая признаком хорошего тона во всех
новых западноевропейских и американских фильмах, доста-
вила неожиданный успех за границей некоторым русским
фильмам, которые оказались сплошь — с начала до конца —
построенными на этой условно «печальной», внефокусной
съемке» [380, с. 16]. Как возник этот «условно печальный»
эффект, выясняется по воспоминаниям генерального директора
фирмы «Русь» М. Алейникова. Рассказывая об условиях кино-
производства в 1919 г., Алейников упоминает экспедиции (в
частности, в Киев и Одессу), снаряжавшиеся перед началом
съемок, чтобы собрать по стране сохранившиеся запасы неза-
свеченной пленки. Чаще всего удавалось найти так называе-
мую «завуалированную» пленку — покрытую, из-за неправиль-
ного хранения, сетью мельчайших трещин. Эта (по прежним
стандартам негодная к употреблению) пленка пошла, в част-
ности, на экранизацию «Поликушки» Л. Н. Толстого (реж.
А. Санин, оп. Ю. Желябужский; 1919). Как вспоминал Алей-
ников, «Поликушка» тем не менее не пострадал от «туман-
ного» качества изображения на бракованной пленке: «в данном
случае вуаль как бы «подыгрывала» художественным прие-
127
Глава 4. Рецепция информационных помех
мам оператора, следовавшего общему стилевому замыслу
фильма. Критика расценивала эту вуаль как желание опера-
тора придерживаться мягкой тональности, в которой выдер-
жана была вся постановка» [12, с. 90]. В следующем своем
фильме «Коллежский регистратор» (1925) оператор Ю. Желя-
бужский, располагая высококачественной немецкой пленкой,
гем не менее пытался просимулировать нечаянный эффект
«вуали» и снимал целые сцены сквозь тюль.
Здесь канонизация нечаянного эффекта произошла благо-
даря тому, что оптическая помеха — «вуаль» легла на подго-
товленную почву. Подготовленную в двух отношениях —
«Сломанными побегами» Гриффита и условно-литературным
представлением о «смутной русской душе», позволившим за-
падному зрителю усмотреть эстетическую корреляцию между
оптическим обликом фильма и образом «душевного чело-
века» — нравственно возрожденного Поликушки.
Трепет, мелькание,
мигание, дрожь
Рецептивная канонизация оптических помех,е конечно, не
всегда сопровождается их канонизацией в качестве кинема-
тографического приема. Чаще всего перед нами — полуцикл:
побочный фактор экранного изображения, отражаясь в неко-
тором множестве словесных текстов, становится, если можно
гак сказать, микроскопическим литературным фактом.
Одна из наиболее назойливых помех раннего кино — вибра-
ция изображения, возникавшая в силу ряда причин (скорость
проекции, тип обтюратора, подогнанность перфорации и др.),
вызывала множество нареканий как среди публики, так и в
печати. Вместе с тем литературным сознанием эпохи симво-
'изма пульсирующее изображение могло восприниматься по
правилам прочтения «эстетического факта». («Aesthetik des
l iebcrs» — «эстетикой лихорадки» назвал в 1910 г. этот
аффект немецкий писатель [541, с. 7].) А. Е. Парнис и Р. Д. Ти-
менчик, рассказывая о Б. Пронине, инициаторе петербургского
кабаре «Бродячая собака», отмечают: «<.. .> его больше всего
привлекали «новые ощущения», урбанистические чаяния «на-
чала века», тот культ «городской тайны», которому отдали
дань Блок и его ближайшее окружение» [286, с. 162], приводя
в подтверждение цитату из воспоминаний М. Могилянского:
«Приглашал всех отправиться, на Николаевский мост — при-
128
Часть I Внетекстовые структуры
45. В попытках умень-
шить «мигание» приме-
няли трехкрылый затвор
перед объективом.
Третье крыло «ударяло»
по изображению, при-
глушая чрезмерную
яркость импульса.
слониться спиной к его ограде, дрожание моста дает ощуще-
ния необыкновенные!» [Там же).
Вибрация киноизображения попала в резонанс этим ощу-
щениям. С. Городецкий указал на «очень странный факт
альянса» между символистами «от Андрея Белого до Максими-
лиана Волошина» и кинематографом и на «совпадение методов
изображения: суетливо-импрессионистского у декадентов и
лихорадочно-дрожащего у кинематографа» [132, с. 9].
Особенное кинематографическое переживание трепета,
«tremblotis», описано Реми де Гурмоном после того, как он
в 1907 г. увидел в «видовом» фильме о Замбези колеблемый
потоком куст: «<.. .> его подрагивание, дошедшее до меня
из такой далекой страны, вселило в меня чувство, которое я
затрудняюсь определить» [513, с. 142]. По воспоминаниям
Андрея Белого, поэт Эллис, мастерски подражавший кинема-
тографу, «изучал кино, чтобы изображать эти сцены <...>
передавая движением дрожание экрана кино» [47, с. 49]. «Ми-
гающий», «мелькающий», «дрожащий» при слове «кинемато-
129
Глава 4. Рецепция информационных помех
граф» в стихотворной речи 1900—1910-х годов приобрели ста-
тус едва ли не постоянного эпитета.
Толпа подпрыгни, загрубосмейся
Вот вот у фильмы све-мелько*рцанье, —
попытался изобразить стихом оптические особенности кино-
изображения поэт-футурист Неоль Рубин.
Обрыв ленты
Как и «целлулоидный дождь», досаднейшая из помех —
обрыв был преимущественно бедствием провинции. В столицах,
демонстрировались свежие копии, тогда как провинциальным
кинотеатрам с доходом пониже приходилось довольствоваться
изношенными. Степень износа возрастала пропорционально
удаленности от «центра». Возьмем одну из «предельных то-
чек». В 1913 г., когда в столицах уже господствовала эстетика
кинематографического ампира, газета «Якутская окраина»
урезонивала местных зрителей: «С приятным чувством отме-
чаем улучшение кинематографических сеансов Приютова.
Картины получаются более ясными и отчетливыми, лента
обрывается не так часто. Отсутствие света во время переры-
вов <... > вызывает волнение публики, <... > многие
<...> стучат ногами и свистят <.. .> Почему публика не
хочет понять, что дело это новое <.. .> Но не сразу же,
господа!» [189, с. 10]
В 1910 г. произошел случай, о котором подробно расска-
зывала кинематографическая пресса: «15-го ноября после
окончания сеанса в кирсановском иллюзионе отравился ук-
сусной эссенцией механик Н. П. Мелиоранский. <...> Един-
ственное удовлетворение, которое он получал, это сознание
приносимой пользы местному населению, приносившему ему
постоянно восторженную благодарность за его умелую ра-
боту. Последний же вечер сеансов явился для него сплошным
позором, так как одна из демонстрированных картин «Стрелы
амура» была настолько попорчена, что после самой тщатель-
ной починки обрывалась в аппарате несколько раз, и каждый
раз вызывала хохот и сильный ропот публики. А ведь она не
может разбираться в истинных причинах происшедшего.
Постоянный любимец ее обращается в невежду. Ужас охва-
тывает гордого юношу, и он идет травиться, но, к счастью,
его спасают» [148, с. 11].
Как и дрожание, обрыв ленты сделался устойчивым приз-
наком кинематографа и в этом качестве обогатил его рецеп-
тивный образ. Обрыв то и дело становился предметом лите-
9 102326
130
Часть I Внетекстовые структуры
46. Центробежная противопожарная
заслонка.
ратурного упражнения. В стихотворении «Порвалась лента»
современник пытался отразить сопутствующее такому собы-
тию настроение:
Порвалась лента, — ив темном зале
Нежданной гостьей нависла скука,
Упали нервно с души рояля
Два торопливых, ненужных звука [395, с. 16].
В начале 10-х годов в конструкции многих проекционных
аппаратов появилось особое приспособление — так называе-
мая изоляционная заслонка. Дело в том, что обрыв ленты, а
следовательно, и остановка аппарата приводили к пожаро-
опасной ситуации — сноп тепловых лучей мог воспламенить
остановившуюся пленку. Существовало устройство (точнее,
два устройства — «центробежный» и «антифрикционный» ва-
рианты) для автоматического прекращения доступа лучей при
остановке проектора. Между пленкой и источником света
падала прозрачная заслонка, изготовленная из теплопогло-
щающих фильтрационных материалов (похожим устройством
снабжен современный советский любительский 8-миллимет-
ровый* проектор «Луч», позволяющий благодаря заслонке сни-
жать скорость проекции до полной остановки). В результате
на экране при обрыве возникал не белый прямоугольник, а
своеобразный стоп-кадр.
Изоляционная заслонка способствовала рецептивному
всплеску вокруг обрыва ленты. Одно дело — просто обрыв,
другое — новый, еще не испытанный режим проекции. Обоз-
реватель «Театральной газеты» писал: «Однажды на закрытом
131
Глава 4. Рецепция информационных помех
просмотре мне случайно пришлось увидеть остановившуюся
кинематографическую картину. По неизвестной причине
механик остановил колесо аппарата, и на ярко освещенном
экране замерли в неподвижных позах фигуры актеров. Это
было зрелище необычайное, почти жуткое. Комическая ста-
руха, веселый толстяк, элегантный фат, только что стреми-
тельно разыгрывавшие какую-то фарсовую чепуху, внезапно,
по мановению какой-то вол:
ебной палочки, замерли в неле-
пых, бессмысленных позах. Даже на фотографию, проекцию
диапозитива это не было похоже. Чудилось что-то совсем
другое... Когда уменьшился свет и фигуры актеров, сохра-
нив свою неподвижность, неясно вырисовывались в полу-
мраке — с экрана повеяло смертью. Но вот аппарат снова
пущен в ход, прерванная буффонада вновь обрела жизнь, но
трагический мотив случайной остановки не забыт. Он оставил
более яркий след, чем все впечатления, когда-либо получен-
ные от кинематографа» [119, с. 10].
М. Браиловский обратил внимание на тонально-световые
изменения, вызванные сероватым заслоночным фильтром (он
изготовлялся из тонкой металлической сетки или кюветки
с водой и глицерином), — они напомнили ему облик Москвы
в дни всеобщей забастовки: «Остановите на миг равномерное
движение ленты в аппарате — и вы вместо картины жизни
получите мертвое, серое, тусклое изображение, без перспек-
тивы и рельефности. Жизнь на экране моментально замрет,
исчезнет. Но ведь мы еще так недавно были свидетелями того,
как стала замирать жизнь огромной столицы, когда на время
остановился механизм ее движения» [74, с. 16].
Как дрожание в любительских представлениях Эллиса,
обрыв ленты любили имитировать в домашних спектаклях.
А. В. Февральский приводит рассказ мейерхольдовской ак-
трисы Л. С. Ильяшенко о своеобразной игре, в которую
любили играть в литературном салоне Ф. Сологуба в 1914—
1915 гг.: «После ужина, когда маститые гости расходились,
Федор Кузмич подмигивал нам, молодым, и мы оставались.
Тут начиналось настоящее веселье... Самым веселым была
паша игра в кино. Развешивалась большая простыня, тушили
свет, а за простыней ставилась яркая лампа. Мы действовали
между лампой и простыней, на которой четко вырисовыва-
лись наши тени. Весь нужный реквизит давала нам жена
Сологуба — А. Н. Чеботаревская. Федор Кузмич садился с
ногами на диван и диктовал нам текст, а мы его мгновенно
изображали на экране. Старались больше играть в профиль,
так как этот экран фаса передать не мог. Конечно, в основ-
ном мы пародировали кино. Играли гротескно, а иногда (на
то мы и были студийцы) применяли технику балагана. По
тексту Сологуба я изображала Фата Моргану. Я надевала на
132
Часть I Внетекстовые структуры
голову бумажный колпак наподобие сахарной головы и к
верхушке его привязывала длинный шнур, который отбрасы-
вал зигзагообразную тень. Всеволод Эмильевич [Мейерхольд]
сам в нашей игре участия не принимал. Он сидел рядом
с Сологубом и иногда выкрикивал свое знаменитое «Хорошо!»
Иногда у нас «рвалась лента», и мы замирали в самых неве-
роятных позах. А иногда кино начинало крутиться в обратную
сторону (в те времена это случалось), и мы двигались в об-
ратном направлении, вызывая гомерический смех» [399,
с. 11—12].
Удивительную по дерзости замысла попытку канонизиро-
вать фигуру обрыва и на правах кинематографического
приема ввести ее в структуру текста мы обнаруживаем в
киносценарии Андрея Белого по собственному роману
«Петербург».
«Фигура обрыва» — термин Белого — привлекала писа-
теля прежде всего как литературный прием. В его исследова-
нии «Мастерство Гоголя» этой композиционной фигуре уделено
особое место: «Первый том «М [ертвых] Д [уш]» — нагроможде-
ние друг на друга обрывов: они — и рассуждения автора, и под-
черки мелочей, по-иному осмысливающих <...> обрыв —
будит, контраст подчеркивая <.. .> Любая главка — куча
лоскутов, пестро раскрашенных и на живую нитку лишь
сшитых фигурой обрыва» [44, с. 93].
Прием «обрыва» — внезапно, без видимых причин обор-
вавшегося повествования — Белый обнаруживает и в своем
романе «Петербург».
Другим структурным аналогом внезапной немотивированной
концовки он считал кинематограф: «<...> дрожащие очер-
тания неестественно-суетливых людей проносятся вдогонку
за кем-то: кинематографический эпизод, сопровожденный
погромом: <.. .> трах: на экране — очертания торжественно-
поющего петуха; и надпись: «Патэ — представление окон-
чено»» [46, с. 328].
Понятно, что, когда в июне 1918 г. Белый получил предло-
жение составить «сценарий по роману Петербург, представ-
ляющий из себя его переработку» (ЦГАЛИ, ф. 989, on. 1,
ед. хр. 5, л. 41), фигура обрыва показалась ему наиболее под-
ходящим композиционным приемом. Пролог сценария заду-
ман как нагромождение «картин» (числом не менее 18), наме-
ренно лишенных контекста. Значение эти картины должны
приобрести потом, когда каждая из них станет на свое ме-
сто в сюжете, — таким образом Белый, видимо, стремился
добиться для наиболее важных сцен зрительского ощущения
«дежавю», узнавания в новом контексте. В прологе Белый
предполагал ограничиться показом «мест» будущего дейст-
вия, т. е., как и в романе, начать с нарочито сбивчивой топо-
133
Глава 4. Рецепция информационных помех
графин Петербурга, включая и интерьеры (например, Каби-
нет Правительственного Учреждения, где позднее, в I части
сценария, должны будут встретиться Плеве и Аблеухов).
Можно лишь удивляться смелости Белого-сценариста, когда
он, как, например, в начале части II, предлагает просто «пов-
торить» подряд две картины пролога или начать повествова-
ние с того места, где соответствующая картина пролога
некогда «оборвалась»:
«Карт [ина] 18-ая.
Повторяется точно картина № 9-ый пролога. Со всеми
подробностями... Когда она повторилась и прошла перед
зрителями, то она не обрывается, как в прологе, а видно, как
у перил набережной показывается фигура Анны Петровны,
постаревшей, обрюзгшей и в очень поношенном платье ино-
странного фасона; видно, как она, кусая платочек, смот-
рит нерешительно в окна желтого трехэтажного особняка»
[50, л. 39].
В этом месте прием возврата к прологу оказывается на
редкость удачным: зрительское узнавание особняка на набе-
режной совпадает с тем, что должна испытывать раскаяв-
шаяся героиня, а «оборванная» картина пролога напоминает
о семейном раздоре и скитаниях.
Здесь, как и в случае с «дождем» в сценарии Сологуба
«Барышня Лиза», мы вправе предположить попытку (не
слишком неожиданную со стороны художественно одаренных
дилетантов, какими в делах кинематографических были писа-
тели-символисты Белый и Сологуб) творчески осмыслить чи-
сто зрительское, рецептивное переживание событий, казалось
бы, внеэстетического порядка — поцарапанной и рвущейся
пленки, искусственно воссоздать эти события и ввести в
фильм уже на правах семантических единиц. Обе попытки
остались неосуществленными, но если взглянуть на них в пер-
спективе будущего кино, то, повторим, замысел Сологуба
откликнулся в фильме «Гражданин Кейн», а образом порван-
ной пленки в 60-е годы поразил зрителей шведский киноре-
жиссер Ингмар Бергман.
Акустические помехи.
„Живая иллюстрация"
Музыка была основным, но не единственным компонентом
акустической периферии фильма. В иных случаях музыкаль-
ный акцент (или его шумовой эквивалент в кинотеатрах,
134
Часть I Внетекстовые структуры
снабженных звукоподражательными устройствами) не вво-
дился именно потому, что как раз в этом месте публика
уверена в его появлении: «Так, например, брали огромную
груду тарелок и начинали ее раскачивать во все стороны,
пока, наконец, эти тарелки внезапно падали и бесшумно раз-
бивались. Зрители в то время хохотали до упаду вследствие
того лишь, что можно видеть нечто подобное и в то же время
не слышать никакого шума» [117, с. 24]. Русский фильм
1908 г. «Усердный денщик» (сц., реж., акт. — Н. Филиппов),
возможно, был снят с расчетом на такой «антишумовой»
эффект.
Между тем даже и в такие минуты полной тишины в кино-
зале не было. Любой перерыв в аккомпанементе выводил на
первый план шумовой пласт акустики киносеанса. В импрови-
зированных кинотеатрах 1900-х годов это были звуки внеш-
него .мира:
Ряды внимательных голов
И ворожащий луч над ними,
А где-то в дверь, как вечный зов,
Доносит взлетами глухими
Шум экипажей и шагов [319, с. 61],
а в 1910-е годы, когда при строительстве кинотеатров
стали учитывать звукоизоляцию от уличных шумов, —
звуки собственно кинозала или смежных ему помещений.
Худяков жаловался на музыкальные помехи, исходящие от
оркестров, обслуживающих фойе: «Праздник. Фойе полно
ожидающих, хозяин радостно потирает руки и велит играть
оркестру, чтобы публика не скучала. Звуки разухабистого
мотива, отчетливо достигающие зрительного зала, сливаются
с печальной мелодией, иллюстрирующей смерть героини в
драме. Ни одного протеста в публике — ведь это кинемато-
граф» [418, с. И].
Действительно, этикет не только не запрещал, но иногда
и приветствовал элемент случайности в событийном антураже
киносеанса. А. Вернер вспоминал: «Публика часто перебрани-
валась, громко обсуждая сюжеты картин, дополняя их «жи-
вой иллюстрацией», всегда неожиданной, очень выразитель-
ной и новой» [93, л. 1].
Об обыкновениях завсегдатаев рижского «Гранд Кино»
(ныне «Лачплесис») говорят детские впечатления В. Пуце:
«Зрители не скупятся на сочные выкрики, поощряют, осуж-
дают, кричат браво! Где только можно, стараются озвучить
картину недостающим звуком или текстом. На любовных сце-
135
Глава 4. Рецепция информационных помех
нах меткой репликой приободряют робкого, решительному
выражают одобрение. Многоголосое чмоканье в зале, целую-
щиеся пытаются «попасть» звуком в экранный поцелуй, и
когда удается добиться синхронности, по залу пробегают смех
и аплодисменты» [577, 10 сент., с. 16].
Исследователи обращали внимание на случай, когда «жи-
вая иллюстрация» кинокартины стала предметом обсуждения
в кругу А. Блока. Для блоковского окружения, вообще склон-
ного к символическому истолкованию обыденного поведения,
посещение кинематографа приобретало оттенок обрядовости.
Частью этого обряда было прикосновение к толще народного
сознания, для которого киносеанс начала века был одним из
самых мощных катализаторов. В этом смысле кинематограф
представлял собой еще одну границу — между культурой
городских низов и высокоизбирательной культурой русского
Парнаса. Однако эта граница почти не затрагивала экранного
действия, проходя по пространству кинозала. Кинозал
1900-х годов представлял собой лабораторное по чистоте поле
для наблюдения за реакцией публики на ту или иную сюжет-
ную ситуацию: с одной стороны, он максимально способство-
вал словесному и эмоциональному проявлению этой реакции,
с другой — обеспечивал полную анонимность наблюдателю,
не требуя от него не только участия, но и вообще опреде-
ленного отношения к происходящему, будь то на экране или
в аудитории.
В записной книжке Блока 6-м марта 1908 г. помечено
такое событие: «На полотне кинематографа тореадор дерется
с соперником. Женский голос: «Мужчины всегда дерутся»»
[67, с. 103]. Эта реплика надолго врезалась в память поэта —
спустя десятилетие он упомянул ее в письме к М. Ф. Андре-
евой; «Однажды девица в кинематографе сделала кокетливое
замечание: «Мужчины всегда дерутся»» [67, с. 525]. В письме,
в отличие от дневниковой записи, это наблюдение не лишено
контекста: в нем речь идет о пьесе А. В. Амфитеатрова, «пол-
ной драк и безобразий». Видимо, Блока в «подслушанной»
реплике заинтересовало истолкование рафинированной куль-
туры поединка на рапирах (фильм, видимо, принадлежал к
одной из ранних экранизаций «Кармен») в терминах «мордо-
бойной правды» [Там же].
Ю. М. Лотман, сопоставив блоковскую запись с тем, что
«смотреть драки любил Пушкин» [232, с. 24], причислил реп-
лику женщины к поведению фольклорной аудитории [232,
с. 10]. Действительно, киноаудиторию 1900-х годов можно
рассматривать как близкую миру городского фольклора. На
Блоковском семинаре в Тарту в 1980 г. Р. Д. Тименчик обра-
тил внимание участников на то, что запись Блока буквально
136
Часть I Внетекстовые структуры
СПОРЪ ТЕАТРА СЪ КИНЕМАТОГРАФОМЪ.
Театр»; в» театр!
можно вив!ть красивыя
плечи
Кинем. А въ кинемвя
тограф!, пользуясь темно|
той, можно их» обнимать.
Театр». В» театр!
слушаешь хорош!е голоса.
Кинем. А в» кинема*
тограф! вы можете саме
беседовать.
повторяется в стихотворении Г. Чулкова «Живая фотогра
фия», на которое мы уже ссылались:
Вон дерутся на рапирах два тореадора Из-за
прекрасной испанки.
О как вы смешны, черномазые соотечественники Сервантеса!
Ио посмотрите на зрителей; они очарованы представленьем:
Мальчик из лавки стоит, засунув палец в рот;
Толстая барыня задыхается в своем корсете;
Томная проститутка влажными глазами следит за зрелищем;
А тореадоры, пламенея от страсти, скрещивают шпаги.
И женский голос в публике произносит внятно:
«Мужчины всегда дерутся» [436, с. И].
137
Глава 4. Рецепция информационных помех
Театръ. Театр*, мсъ Кинам. А в* жимема-
ммрно баюкает*. тограф* вы можете спать.
Театр*. Если вы продолжаете упорствовать, то ска*
жите—ато бывает* в* кинематограф*!
47. Карикатура из журнала «Театр и искусство»
(1914. № 14. С. 326).
Однако, если в 1900-е годы экспансивность аудитории
можно вывести из ее социального и возрастного состава, то
для более позднего времени эта зависимость прослеживается
слабее. В 1910-е годы кинематограф перестал быть прерога-
тивой городских низов, однако норма поведения во время
сеанса существенно не изменилась. Фольклорный по своему
генезису, «демократический» тип поведения закрепился за
кинозалом как особым пространством городской культуры.
Один и тот же человек, как многократно указывала пресса
и юхи, в кино и в театре вел себя по-разному (это различие
нетрудно представить себе, сравнив нынешнюю норму пове-
дения в кино и на футбольном матче; «живая иллюстрация»,
138
Часть I Внетекстовые структуры
т. е. комментирование вслух, нормативна для сегодняшнего
телезрителя). Наблюдатель 1916 г. писал об этом: «Какая
разница в поведении театральной и кинематографической пуб-
лики! В театре как редко вы наклонитесь к своему соседу или
соседке, чтобы мельком, опасаясь гневного шиканья сидящих
рядом, передать робким шепотом свое впечатление или крити-
ческое замечание, а в кинематографе!.. Аккорды фортепиано,
гнусаво-тоскливые звуки фисгармонии в «тропических» («тра-
гических»? — Ю. Ц.) местах и гул, восклицания, шепот непре-
рывный, фразы, так ярко характеризующие тех, кто их обро-
нил — это сливается в одну неразделимую на части картину,
в одно целое, в одно «представление» о кинематографе, о
темном зале с мелькающими и пропадающими перед вами
тенями...» (190, с. 70].
В предельной форме вкус публики к «живой иллюстрации»
картин проявился в трагическом происшествии, действительно
имевшем место в конце 1910 года. В январе 1911 г. в кинема-
тографической прессе появились перепечатки из псковских
газет под заголовком «Самоубийство в кинематографе»: «В
Пскове 27 декабря в кинематографе «Модерн» во время де-
монстрирования картины «Студенческие годы» раздался
выстрел. Момент выстрела совпал с моментом «самоубийства
на экране» доктора, узнавшего в утопленнице свою первую
любовь. Публика, присутствовавшая в кинематографе, пред-
положила, что раздавшийся выстрел сделан по распоряжению
администрации кинематографа с целью достижения большего
сценического эффекта. Выстрел был произведен крестецким
мещанином М. В. Быховским. Быховский, не приходивший
в сознание, был отправлен в земскую больницу, где вскоре
и умер. По словам «Псковской жизни», в кармане пиджака
покойного был найден клочок бумаги, на котором было напи-
сано следующее: «Прошу вас никого не винить в моей смерти.
Тяжело стало жить после кончины Л. Н. Толстого, тяжело
бороться за свободу. Прощай, родная мама, братья, сестра и
товарищи. Остаюсь М. В. Быховский»» [329, с. 11—12]. Фильм
«В студенческие годы» (1910; реж. и сц. П. Чардынин) был
снят по мотивам пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни».
Звук проектора
Итак, есть все основания считать, что рецептивный образ
кинематографа — искусства от рождения беззвучного — в
10-е годы был образом не только оптическим, но и акусти-
ческим. Д. Бурлюк с обычным у футуриста пристрастием к
«искусству шума» [542, с. 33—40] писал: «Кинематограф вла-
4
139
Глава 4. Рецепция информационных помех
стно вошел в современную жизнь. Вековечный символ ее —
Движение — запечатлелось отныне в кинематографе, и только
он первый, идя вровень с веком, смог звучать в унисон бу-
шующей автомобильным грохотом и ревом сирен заре
XX века» [82, с. 22J.
В эти же годы футурист другой группы В. Шершеневич
еще более решительно зачислил немое кино в разряд звуча-
щих явлений: «Вязну в шуме города, в звяканье, в звуканье
кинематографа» [440, с. 20]. В манифесте 1913 г. Карло Карра
настаивал на том, что футуристическая живопись «является
пластическим эквивалентом звуков, шумов и запахов, которые
мы застаем в театрах, мюзикхоллах, кинематографах» [527,
с. 114].
Акустическая магма киносеанса складывалась из четырех
компонентов — музыкальной иллюстрации и/или шумовых
эффектов, «живой иллюстрации» и, не в последнюю очередь,
характерного звука, издаваемого проекционным аппаратом. В
истории кинорецепции этот звук играет заметную роль. Чтобы
выяснить ее, позволим себе остановиться на одном эгофуту-
ристском тексте начала 10-х годов — стихотворении И. Се-
верянина «Июльский полдень»:
Элегантная коляска, в электрическом биенье,
Эластично шелестела по шоссейному песку;
В ней две девственные дамы, в быстротемпном упоенье,
В ало-встречном устремленье — это пчелки к лепестку.
А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок,
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...
У ограды монастырской столбенел зловеще инок,
Слыша в хрупоте коляски звуки «нравственных пропаж»...
И, с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок,
Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж.
Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точнэ кратер.
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер,
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел вином восторга поощряемый шофер [332, с. 143].
Ситуация, описанная в стихотворении, сравнительно про-
ста: две «девственные дамы» проезжают в автомобиле мимо
монастыря, обдав стоящего у ограды «инока» облаком пыли.
( ложнее строится стихотворное развертывание этой ситуа-
ции.
В ряде редакций «Июльский полдень» Северянина носит
подзаголовок «Синематограф», хотя в тексте стихотворения
нот прямых указаний на кино. Читатель эпохи звукового ки-
нематографа опустит этот подзаголовок как необязательный!
140
Часть I Внетекстовые структуры
читатель 10-х годов, как представляется, по ему лишь понят-
ным приметам кино в «Июльском полдне» узнавал1.
В строках польского футуриста Бруно Ясеньского
Eleganckie, otwarte landau
Z fantazyjnie filmowg szybkosciQ
Elastycznie tanczx'lo po nierownym bruku [539, c. 119],
звучащих как парафраза из начала «Июльского полдня»:
Элегантная коляска, в электрическом биенье,
Эластично шелестела по шоссейному песку
как бы восстановлено опущенное Северяниным уточнение —
эпитет filmowa соотнесен с характеристикой, которую Северя-
нин в той же строфе определил словом «быстротемпное». Од-
нако «кинематографическая» семантика «Июльского полдня»
этим не исчерпывается. Подзаголовок, не находя немедленного
подтверждения в тексте, настраивает на дешифровку. Самая
внятная подсказка — «электрическое биенье»: исключив мало-
вероятное предположение, что речь идет о электромобиле, эти
слова легко принять за указание на «электротеатр» как опосре-
дующее звено описываемой сцены. «Электрическое биенье» (за-
ложенная в семантике этого словосочетания итеративность
подчеркнута многократно повторяющимся в первой строфе
«эл» и «ел») могло отсылать к упоминавшейся выше области
оптических помех — пульсации проецирующего луча (в
1912 г. этот оптический дефект объясняли так: «При кинемато-
графных проекциях каждое из последующих светлых изобра-
жений появляется на экране и начинает действовать на глаз
в тот момент, когда зрительный след от предшествующего
изображения успел в большей или меньшей степени потуск-
неть, утратить свою первоначальную свежесть и яркость. При
таких условиях <... > кинематографная картина все время
меняется в световом отношении, т. е. кажется то более, то
менее светлой» [251, с. 23].
Если не искать в сочетании «шинами мотора» анаграммы
слова «синематограф» (слово «инок» вне подозрений: в рус-
ском обиходе 1910 г. слово «кино» почти не появлялось), на
поверхности текста других кинематографических отсылок не
обнаруживается. Однако настораживает акустическая семан-
тика стихотворения. Автомобиль эпохи — «новейшее уличное
чудовище, мечущееся, ревущее и испускающее скверный за-
пах» [87, с. 5], шумовые характеристики которого дали повод
к шуточному стихотворению-панторифме, приписываемому
Н. Гумилеву и М. Лозинскому:
Первый гам и вой локомобилей...
Дверь в вигвам мы войлокэм обили... [139, с. 261], —* .
141
Глава 4. Рецепция информационных помех
у Северянина описывается как бесшумный экипаж, дающий
о себе знать только шелестом шин. В первой строфе проти-
воречие завуалировано — речь идет о «коляске», и здесь вос-
принимающее сознание склоняется в сторону конного эки-
пажа2. Слово «мотор» во второй строфе — неожиданный
жест, уводящий в новом направлении, — заставляет пересмо-
треть значение только что прочитанного. В третьей строфе
вновь возникает «коляска», уже в модернизированном значе-
нии, но и ей сопутствует не рев мотора, а «хрупот» гравия
под колесами. Шум от мотора, который для полисемии слова
«коляска» важен как различительный признак, остается сня-
тым, что выводит всю картину из области обыденного опыта
в область, где акустическая реальность подчинена другим за-
конам, в мир немого кино.
Это не означает, что движение автомобиля на киноизобра-
жении воспринимается как бесшумное. Отсутствие звука в
немом кино касалось всех компонентов экранной действитель-
ности, и если бы этим дело ограничивалось, проезд автомо-
биля по экрану остался бы незамеченным. Между тем в
«Июльском полдне» важен именно язык шумов, причем опи-
сание звуков здесь относится главным образом к экипажу.
Его движение не только снабжено акустической характери-
стикой, но и отзывается в звуковой оркестровке: «эластично
шелестела по шоссейному песку», «под шинами мотора»
(здесь звукоподражание усилено точной локализацией источ-
ника звука), «шаловливый экипаж», «поощряемый шофер».
Изобразительно и слово «хрупот». Можно сказать, что шум,
производимый шинами при сцеплении с шоссе, — лейтмотив
стихотворения.
Таким образом, аудиовизуальная картина в «Июльском
полдне» внутренне противоречива. Описывая движение авто-
мобиля, Северянин опирается на его акустическую сторону,
но при этом вычленяет не шум мотора, а шелест шин. Можно
ли найти этому объяснение в рамках ситуации, заданной под-
заголовком «Синематограф»? Вспомним световую характери-
стику «Июльского полдня». «Электрическое биенье» — эстети-
чески осмысленная оптическая помеха в канале кинокомму-
никации. Изучение рецепции киносеанса показывает, что ана-
логичную поэтическую мотивировку могли приобретать и по-
мехи акустического порядка, в частности шум проекционного
механизма.
В зависимости от года выпуска и марки производителя
проекционным механизмам были доступны все динамические
оттенки звучания, от форте до пианиссимо. До 1908 г., когда
в кинематографах преобладали эфирно-кислородные горелки,
шум исходил главным образом от вращающихся деталей ме-
ханической части, а источник света издавал легкое потрес-
142
Часть I Внетекстовые структуры
кивание. В 1908 г. по соображениям пожарной безопасности
были утверждены «Правила по устройству кинематографов»
(Рига руководствовалась вариантом, опубликованным в № 132
«Лифляндских губернских ведомостей»), которые предусма-
тривали обязательное электрическое питание для стационар-
ных киноустановок. Воспламеняемость проекторов пусть
ненамного, но понизилась, однако новые правила принесли и
новое неудобство. Киноустановки питались не от городской
сети (лампы Друммондова света требовали особого напря-
жения), и приходилось обзаводиться собственными динамома-
шинами, шумевшими безбожно. Журнал «Сине-Фоно» писал:
«Все вращающиеся машины, работающие для кинематографи-
ческого театра — динамо, умформеры, мотор-генераторы, а
также весьма склонные к грохоту трансформаторы и в особен-
ности служащие для собственного освещения силовые ма-
шины — все они в большей или меньшей мере способны
производить шум, <... > как, например, свист угольных ще-
ток при некруглом или недостаточно отшлифованном коллек-
143
Глава 4. Рецепция информационных помех
Рига, Санитарная Коммишя.
>91>/ с.
I) препровожденные при ИДвПИСИ Комм mill ll pullll'.II.IU»I» IM luip.l
mi. /3 'Ow^obSt' ,• >. <.< .vdtt/ lun.mu.
I' р.1 Ip I JH II р
Uawbcwa
I'c.qi >. ?.i ii «лdpi|г I. , Гиф.I [$<► [ ||*.:И.Л Н1-.1 н«> il. iv
'4iUW44
2| LOMiwib no uiwy jrMy topcuoM'o грача д pa
QTb ///•Z/Z/x/'lJlSlfor^ N;///
HUm&l’l ('(НММ&И nitrn I'fatrt'U
HdtLfAOVitMbjA.
п^мл
Носта кол ИЛ и: но.шращач присыпные р.п при/и ыпр^кч., khiAiiimiii Коммион
ст|шительиаго hj.j tnpa, ,jT*' i" i U'|wn Санитарной кнчмипи
I ipv 11 Ml i'T III Й НГ И M 1 iC H 'I 4 b ^Ьм*Л^ФН»*р^1Жт^ТПТГГЛОТ<*1’ nji^rf rrf-
ушан<£ &AA01 о/
£ai/trtf^h^
1 uf ?1 tf * 1Л - >
48—49. Кинематографы подвергались экологической экспертизе,
предприниматели запасались согласием соседей.
горе, магнитное «завывание» при некоторой перегрузке мотора
i к‘ременного тока в мотор-генераторах и т. п.» [338, с. 27].
Дела на открытие кинематографов в архиве Рижского архи-
тектурного управления изобилуют подшитыми к ним жало-
бами, поступившими в комиссию стройнадзора от жильцов,
144
Часть I Внетекстовые структуры
имевших несчастье проживать в соседних помещениях. При-
ведем характерный документ (первый в этом роде), оформлен-
ный только месяц спустя после того, как новый указ вошел в
силу. Это — протокол обследования от 30 января 1909 г.:
«Вследствие жалобы домовладелицы Силлинг по Бочарной
улице № 5 (группа 2, № 26) на шум, производимый установ-
ленным электромотором в кинематографе «Синхрофон» в быв-
шем амбаре «Слон» по Театральной улице № 10 (группа 2,
№ 27), мною был произведен осмотр квартиры в доме по Бо-
чарной улице № 5, где оказалось: что как в нижнем, так и в
верхнем этажах ясно слышен весьма неприятный шум, произ-
водимый электромотором, который поставлен в углу задней
стены амбара «Слон», причем стена имеет трещину более
3-х фут» (GAP, группа 2, № 27).
К счастью для кинозрителей, те же правила пожарной без-
опасности предписывали отделять зрительный зал от проекци-
онного помещения металлической перегородкой, так что в
кинотеатрах возникал звукоизоляционный эффект, аналогич-
ный тому, какой мы испытываем в самолете: публике шум
досаждал меньше, чем окружающим. Однако пусть пиано и
пианиссимо, но рецепции фильма шумовой фон проекции со-
путствовал всегда.
Писавшие о кино пытались определить специфику звуча-
ния: «Где-то при общем страхе — затрещало, зашипело и —
вдруг — на полотне заходили фигуры» [409, с. И]; «Дззз...
зашипел фонарь» [392, с. 5]; «а кинематограф шуршит да шур-
шит, с сухим монотонным потрескиванием» [63], и т. д. Не-
редко этому звуку сопутствует другое устойчивое впечатление:
человеку, мало привыкшему к движению на экране, казалось,
что движется сам кинозал и человека «куда-то везут». Меха-
низм аппарата своим звуком включался в эту ситуацию
(А. Ханжонков вспоминал аппараты «Урбан», которые «напо-
минали скрипение расхлябанной телеги» [411, с. 16]), и вос-
принимающее сознание проецировало этот шум на содержание
экранного действия, как бы озвучивало происходящее с по-
мощью кинопроектора.
Вот акустическое впечатление, оставшееся у очевидца после
сеанса Люмьера: «Для полноты иллюзии не хватает лишь того,
чтобы остановившийся и с любопытством осматривающий все
фланер «Парижской улицы» завел с вами разговор; вот он,
кажется, в самом деле заговорит, но <.. .> — проезжающий
мимо фургон своим грохотом мешает вам расслышать, что хо-
чет сказать парижанин» [87, с. 178]. В 10-е годы, когда треск
сменился «неровным шипением машины» [391], ассоциация
между киносеансом и путешествием на колесах стала доста-
точно прочной, чтобы уже не только зритель чувствовал себя
путешественником, но и пассажир экипажа сравнивал ощу-
145
Глава 4. Рецепция информационных помех
щение от езды с пребыванием в кино. Так, в 1911 г. Ф. Кафка
сделал запись: «Шины шелестят по влажному асфальту как
аппарат в кинематографе» [538, с. 355]. Можно предположить,
что акустический лейтмотив «Июльского полдня» — шелест
шин по шоссе — результат ассоциации того же порядка: не-
произвольное наложение шума кинопроектора на изображение
бегущего по шоссе автомобиля привело звук и изображение в
состояние взаимной мотивированности. Шум приобрел валент-
ность знака: шины автомобиля зашелестели, а это, в свою
очередь, придало ощутимую парадоксальность бесшумности,
безмоторности его движения. Не вполне «коляска» и не совсем
«мотор», «шаловливый экипаж» в заключительной строфе при-
обрел у Северянина черты экипажа призрачного, не то небес-
ного, не то морского:
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел вином восторга поощряемый шофер.
Таким образом, к наиболее устойчивым ассоциациям между
шумовым фоном кинозала и семантикой экранного изображе-
ния следует отнести ощущение «езды» и ее звуковой оркест-
ровки. В качестве очередного варианта этой темы можно при-
вести литературную реминисценцию Ф. Шипулинского (1919),
которому звук кинопроектора напомнил скольжение саней по
снегу: «Жужжание развертывающейся кинематографической
ленты, это — скрип полозьев мчащейся по дороге жизни через
ухабы тройки, в которой сидит поэт нашего воображения,
глядящий, как
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах» [441, с. 20].
К рецептивному комплексу, связавшему зрителя в кинозале
с самоощущением ездока, путешественника, пассажира, нам
еще предстоит вернуться. Пока же коснемся некоторых других
семантических обертонов звучащего проектора.
Один из них, конечно, смыкается с впечатлением К. Валь-
тера, будто парижский фланер вот-вот заговорит. На этом
сеансе шум проектора «оттянул» на себя «проезжающий мимо
фургон». Между тем случалось, что голос проекционного ап-
парата, наложившись на соответствующий кадр, создавал в
воображении зрителя образ говорящего человека. В. Каверин,
10 102326
146
Часть I Внетекстовые структуры
вспоминая о первом виденном им киносеансе, рассказывал:
«Было очень занимательно слушать, как покинутая героиня
кричит своему возлюбленному — трата-та-та; но он оправды-
вается и с грустью отвечает ей — тра-та-та-та-та. Но она
проклинает его, говоря с гневом — тра-та-та; и он рыдает у ее
ног — тра-та-та-та» [177, с. 27].
За этим описанием стоит литературная ассоциация — шу-
точный диалог Вершинина и Маши в «Трех сестрах» А. П. Че-
хова, а за чеховским диалогом, в свою очередь, впечатление
из области театрального быта. Вспоминая о встречах с Чехо-
вым, А. Р. Кугель писал: «У него, как известно, была большая
записная книжка, куда он заносил все, что бросалось ему в
глаза или внезапно приходило на ум, без всякого порядка и
системы — как материал. И мне постоянно казалось, что когда
он слушает, когда улыбается и бросает фразы, на которые
ждет реплик, то все время заполняет свою книжку. Происхож-
дение известного «тра-та-та» в «Трех сестрах» именно таково.
Это было в одной веселой компании, за коньяком — импрови-
зация актрисы, имитировавшей или выражавшей этими зву-
ками бурную страсть. Это был коньяк, коньячная импровиза-
ция» [207, с. 67—68].
С чем еще в литературе о кино сравнивали звучание кино-
проектора? По-видимому, к наиболее точным в акустическом
отношении принадлежит метафора Блока
... Встает во всем шампанском блеске
В мурлыкающем нежно треске
Мигающего cinema [68, т. 2, с. 1281.
I
Действительно, если приложить ухо к сосуду со свеженали-
тым шампанским, можно услышать звук, очень напоминающий
равномерное шипение хорошо отрегулированного стационар-
ного проектора системы «Патэ» образца 1908—1910 гг.
Встречались аппараты, звучавшие в другом регистре. Стре-
кот — одно из ходовых обозначений этого звука, хотя диапа-
зон звучания (а вместе с ним и семантический диапазон вовле-
ченных в эту игру метафор) варьировался от грохота до
шелеста, Ю. П. Анненков писал о «стрекочущих изумрудах»
(ЦГАЛИ, ф. 2618, on. 1, ед. хр. 12, л. 45) — впечатление зри-
теля, обернувшегося, чтобы взглянуть на ярко мерцающий
глазок проектора.
Хотя в литературе о кино нам не встретилось это напра-
шивающееся сравнение, можно предположить, что В. Старевич
не случайно героем своего объемно-мультипликационного
фильма «Месть кинематографического оператора» (1912) сде-
лал кузнечика. По ходу сюжета кузнечик не только снимает
147
Глава 4, Рецепция информациовных помех
50. Система цепей и ше-
стерен превращала
кинопроектор в своего
рода шумовую машину.
фильм, но и демонстрирует его. Возможно, при демонстрации
«Мести» на проекторе образца 10-х годов возникало много-
слойное акустико-семантическое наложение стрекота кузне-
чика, стрекотания вращаемого им кукольного аппарата и стре-
кочущего звука настоящего проектора, демонстрирующего
фильм.
Случалось, звук аппарата для проекции наводил на мысль
о других механизмах со сходной конструкцией. Сюда в первую
очередь относится швейная машина, скачковому механизму
которой киноаппарат обязан своим происхождением. Отсюда —
родственные голоса. Е. А. Иванов-Барков вспоминал, как шес-
тилетним мальчиком он с приятелем впервые приблизился
к балагану, где демонстрировались «картины Люмьера»: «Слы-
шим монотонный стрекот какого-то неизвестного нам аппа-
рата, напоминающий отдаленно стрекот швейной машины»
[172, л. 102|.
В 1914 г. в это семантическое поле включился и пулемет:
«Сквозь «таканье» пулеметов в военных рассказах читатель
вдруг различил только треск кинематографического аппарата»
[1, с. 54]. Похожая ассоциация, но по другому акустическому
признаку, улавливается в словах А. И. Куприна о русских
фронтовых операторах — «съемщики жужжащих пуль»
(ЦГАЛИ, ф. 2517, on. 1, ед. хр. 48, л. 111).
w
148
Часть I Внетекстовые структуры
„Метроном мирового времени"
Прежде чем продолжить описание рецептивного образа
звучащего кинопроектора, хотелось бы упредить одно возмож-
ное возражение. Его прагматическая сторона могла бы про-
звучать так: в книге идет речь об исторической поэтике кино;
какое значение для поэтики кино может иметь ответ на вопрос
о том, на что походил треск проектора — на швейную ма-
шину или на пулемет?
Ответом на такое возражение, надеемся, послужит глава,
где речь пойдет о фильме Ф. Эрмлера «Обломок империи»
(1929). Людей нельзя делить на две непересекающиеся катего-
рии — зрителей и кинематографистов. Ассоциативные ряды
рецепции часто оказываются изоморфными рядами, возникаю-
щими в процессе творчества. Так, на примере «Обломка импе-
рии» нам предстоит увидеть, как ассоциация «киноаппарат—
швейная машина—пулемет» становится семантическим стерж-
нем центрального эпизода — возвращения памяти, потерянной
на войне.
Другая, теоретическая сторона возможного возражения ка-
сается роли далеких ассоциативных ходов в процессе восприя-
тия фильма. В наших примерах мы апеллируем к Блоку,
Северянину, Куприну. Может показаться, что такие детали
носят периферийный, необязательный характер и при восприя-
тии фильма решающего значения не имеют. Однако для исто-
рической реконструкции восприятия важность того или иного
элемента определяется тем, на какого реципиента мы ориен-
тируемся при описании рецепции. Структуру восприятия
можно описывать как вероятностно наиболее правдоподобную,
и тогда мы опишем усредненного получателя художественного
сообщения. Можно выбрать и такой образ реципиента, чут-
кость и компетенция которого соизмеримы с авторской. Струк-
тура восприятия такого «идеального зрителя» будет в прин-
ципе эквивалентна интенциональной структуре фильма. Но не
исключен и подход, когда восприятие описывается как макси-
мальный набор возможностей, не усеченный ни статистиче-
ской вероятностью, ни авторским замыслом. «Виртуальный
реципиент» такого рода будет похож на человека, читающего
художественное произведение на неродном языке и, как след-
ствие, переоценивающий семантическую нагруженность слу-
жебных единиц текста.
Подобная гипертрофия смысла будет мало походить на
восприятие как реальный психологический процесс, но эта мо-
дель обладает тем преимуществом, что в ее рамках найдется
возможность объяснить всякую аномалию, любое отклонение
149
Глава 4. Рецепция информационных помех
восприятия от стереотипов, диктуемых зрительским навыком
или самим автором. А если вспомнить, что киномысль, будь
то критические статьи или теоретическая рефлексия, можно
представить себе как трансформированную, девиационную
структуру восприятия, то «виртуальная» модель, учитывающая
малейшие отклонения от рецептивной нормы, удобна для не-
дифференцированного описания «мифологии» кино — сово-
купности устойчивых представлений, которые сопутствуют ки-
нематографу от самых его истоков.
Одна из таких идей-сателлитов — концепция «запечатлен-
ного времени», получившая известность в версии А. Тарков-
ского [368, с. 80—93] и целой цепью родственных представ-
лений (срединные звенья этой цепи мы опускаем) связанная
с поэтикой немого киносеанса, в частности — с шумом при
проекции фильма. Здесь следует сказать, что одна из устой-
чивых метафор для кинопроектора “ уподобление его пощел-
кивания «метроному мирового времени». Р. Канудо, один из
пионеров литературной рефлексии о кино, в 1911 г., похоже,
задал матрицу этой параллели: «То, что мы называем жизнью,
суть ликующие формы и ритмы, порожденные вращением
ручки проекционного аппарата» [цит. по 495, с. 237], а Л. Ост-
роумов продлил ее в акустическое измерение:
%
Механик вечный ручку вертит,
Шумит машина бытия... [229, с. 52].
Шум этой машины ассоциировался с шумом времени — с тем
большей готовностью, что пощелкивание лентопротяжного ме-
ханизма и в самом деле напоминало тиканье часов.
Забегая вперед, в 20-е годы, отметим, что эта особенность
получила тонкую трактовку в фильме Д. Вертова «Человек с
киноаппаратом». Режиссер предполагал, что сопровождать
демонстрацию фильма будет небольшой оркестр, и составил
для него словесную партитуру, «Человек с киноаппаратом» —
фильм о фильме, поэтому в прологе режиссер показывает
кинозал, постепенно наполняющийся зрителями. Тут же на
экране — оркестр, похожий на тот, который, по замыслу,
должен сопровождать демонстрацию «Человека с киноаппа-
ратом». Оркестр еще не играет — Вертов хотел, чтобы музы-.
канты в зале и музыканты на экране вступали одновременно.
Казалось естественным до вступления оркестра в качестве
акустического сопровождения Пролога ввести стрекотание
кинопроектора, в отсутствие музыки доносящееся особенно
отчетливо. Режиссер так и поступил, но при этом попытался
высвободить метафорические потенции этого звука, в парти-
туре для оркестра напротив графы «Пролог» пометив: «Ти-
канье часов» (ЦГАЛИ, ф. 2091, on. 1, ед. хр. 28).
150
Часть I Внетекстовые структуры
В этой помете просвечивает двойная семантика. Кинема-
тографическая ассоциация «тикание часов — пощелкивание
проектора» родилась «по сценарию» ассоциации рецептив-
ной — типа той, которая за шесть лет до «Человека с кино-
аппаратом» промелькнула в статье М. Кольцова «У экрана»:
«<...> аппарат стрекочет, как бешено пущенный маятник
исторических часов» [194].
Представление о «тиканье» аппарата как о мере времени
отложилось в одной теоретической доктрине 1910-х годов,
согласно которой ритмический рисунок роли целиком выво-
дится из «метронома» вращающейся ручки киносъемочной ка-
меры [см. 536, с. 36]. Эта теория, насаждавшаяся в 1918 г.
«Киногазетой» (в частности, Анной Ли), носит менее схоласти-
ческий характер, чем можно подумать. В ее основе — не
столько предконструктивистские представления о подчинении
«организма» «механизму», сколько реальный опыт психотех-
ники киноактеров 10-х годов. Так, актер и режиссер раннего
русского кино И. Перестиани и в 1949 г. утверждал: «Я и сей-
час убежден, что киноактер должен слушать съемочный аппа-
рат. В постукивании механизма есть музыка действия. Тут
дело в счете, который ведет особое чувство психологического
начала. <...> Как можно глубже уйти в себя, затормозить
все чувства, мысли и желания — и ждать приказа начать.
Получив его, немедленно подняться выше всего, всего и всего,
перестать видеть и чувствовать смущающее и отвлекающее,
выключить из слуха все, кроме постукиванья ручки камеры,
прекрасно отсчитывающего твои движения подобно метро-
ному — и сниматься» [290, л. 13, 28]. В. Э. Мейерхольд, кото-
рый истинным даром киноактера считал инстинкт «слышания
времени» [250, с. 23], связывал это нужное актерское само-
ощущение с аналогичным ощущением зрителя в кино: «Весь
экран есть движение. Мы, сидя в полутемной комнате, слышим
постукивание аппарата, и это постоянно напоминает о вре-
мени, и это создает особое впечатление, заставляет осознавать
наше существование во времени» [250, с. 24]. Видимо, для
Мейерхольда, как и для русского эстетического сознания эпохи
символизма в целом, за шумом проектора стоял более архаич-
ный образ времени — однозвучно жужжащее мировое вере-
тено [340^ с. 88].
Завершая Часть I этой книги, напомним, о чем в ней гово-
рилось. Кинопромышленность включает в себя инфраструк-
туры, обслуживающие производство фильмов, инфраструк-
туры проката и инфраструктуры, обеспечивающие потребле-
ние, иными словами, рецепцию готового продукта. В послед-
ние входит сеть кинотеатров. В ходе истории кинотеатр
151
Глава 4. Рецепция информационных помех
претерпевает морфологические изменения. Изменяются его
архитектура, стиль названий, характер музыкального сопро-
вождения, манера кинопроекции, формула сеанса и
репутация кинотеатра как топоса городской жизни. Эти
изменения с момента возникновения самого понятия «кино-
театр» не проходят незамеченными. Инфраструктура рецеп-
ции — кинотеатр становится рецептивным объектом. Впечат-
ление, производившееся фильмом, нельзя полностью вывести
из суммы свойств самого фильма. К этой сумме всегда
следует прибавлять «один в уме» — фактор показа.
Это — с одной стороны. С другой, изменения в морфоло-
гии кинотеатра были стихийным, но не самопроизвольным
процессом. В них отразилась эволюция рецепции. А эволюция
рецепции в первую очередь связана с эволюцией репертуара.
Инфраструктура показа и инфраструктура производства,
кинотеатр и репертуар — организмы, живущие в симбиозе.
Это особенно заметно в моменты эволюционных метаморфоз.
Так, в период «рецептивного сдвига», когда кинотеатр стал
мимикрировать под традиционный (и даже под оперный)
театр, можно наблюдать соответствующие изменения в репер-
туаре, который из трюкового, феерического, эксцентрического
постепенно превращался в драматический, эстетический и
серьезный. Поменялась и структурная установка текста, его
медиативное амплуа. Из средства для демонстрации картин
кинематограф превращался в способ рассказывания историй.
В ходе дальнейшего изложения нас будет занимать не
столько рецепция кинозала, сколько рецепция кинофильма,
не столько среда, сколько контекст восприятия.
Изменчивые границы текста
Рецепция подвижного пространства
Лицевая граница текста
Культурная рецепция
Рецепция киноповествования
Рецептивный слой фильма
Часть П
ежтекстобые
связи:
рецепция
киноязыка
Тлаба 1
Изменчивые границы текста
Сеанс vs. фильм
В предыдущих главах речь шла о том, насколько условна
и подвижна граница между миром экрана и миром внеэкран-
ных пространств — акустических, социальных, архитектурных.
Мы попытались показать, что каждое из этих пространств
обладает внутри себя подобием устойчивой структуры (смыс-
ловые оппозиции «центр/периферия», «фойе/кинозал», «ложа/
партер/балкон» и др.) и постоянно готово включиться в смыс-
ловую конфигурацию с происходящим на экране. Это в первую
очередь относится к структурам акустическим: и музыка, и
«помехи» берут на себя посредническую функцию, способствуя
перманентной лабильности главной семиотической границы —
между текстом и всем тем, что текстом не является.
При этом мы избегали касаться другого важного вопроса —
о внутренней разграниченности того, что зритель воспринимал
с экрана. Понятие «киносеанс» в раннем кино включало в себя
не только совокупность «вертикальных» связей, но и совокуп-
ность фильмов. Как обстояло дело с границами этих единиц?
Выше отмечалось, что на протяжении 900-х годов часто на-
блюдается, казалось бы, парадоксальная ситуация: кино и его
рецепция' в культурном сознании эпохи образуют два авто-
номно развивающихся ряда. Это, в частности, относится к оп-
ределению границ кинематографического текста. Для раннего
кинематографиста и для раннего зрителя понятие текста не
идентично: если для автора фильма текстом «по преимуще-
ству» являлся, конечно, фильм, то для зрителя реально ощу-
тимым кинематографическим текстом оказывался сеанс. В 900-е
годы ходили не «на фильм», а «в кинематограф». Сеансы со-
155
Глава 1. Изменчивые границы текста
II 1» О Г РА М М А
съ 23-го яо 30-е Января 1910 г.'
I ОТДТ.ЛЕН1Г
1- Жяяиь Ш1КрО0МЪ|
Гркц&ао юмы сонной бол^кин, Hunitiniec .ш<н>
выпи сшемато графа, порнак клргивк мнъ сс|НВ
м икро-i1 ине мат< * г р. i ф i и.
2. Группа ваоелыхъ мгроаъ.
3. Дачная прогулка оъ лрм-
шночоитии'
к'кМИЧНА.!.
И •» ГЦЪ. IHIIE.
1. Храм*ъ Дагоиа в-ьРамгоонНК.
Съ натуры нъ валуральион раскрасив, нравы и
релвпя Г»ириам<»н1.№
1>4< пь НИТРриСНЛ;!,
3. Бааумнаа
ронтиыя
ГОСТНМИЦ'Ь.
М», < я < мк- I.
lit «ПД-МЕНП:
1. Вачер'ъ красоты Tpte.
1 Но нь пн I *‘j»* Н>1
2. Тоаца на а ароила н*К.
ОИОМ.
l ow ркчлскн tal vb.
Генгръ мгкрьи I- нъ будни —< i. 3 час» дня, ;* въ
upa uiutirtt - г*1» 1 часа дин и до 1Г в«гг< рв»
ВСЕГДА ВГ1. НОВОСТИ
Псч. 2J г" Иеиярч । < CH IpjifB-. палет, ггй
П и.-Марф*- К -гФ1
51. Программа кинотеатра «Как в Париже»
(1910).
156
Часть П Межтекстовые связи
>И|Щ М ТУ'НЪ
Чудные ввды ev краСКА**
П ШУ КУШ
Драив ив ь аиани.
Огд1МГН)Г II,
ФРИКО ИЗУШТЬ
ЛГАЧАТИЧЕСКУК» РОЛЬ
СиЛгЧО 1Ю*“ГЬ Jj'lfl рРрыинЫ* Г И 1 I «
ФРАНЦЙСКЪ 1
Исчфммсцв* loareiiiB. Ввлаксн
ОтдЪлеше III.
РОЗА САЛЕМА
о нелдовстд-в пуританъ
Звчвв1ЫВвкпм»4 врана. Ашернм-чч .'О»и>
ОтдЪдевн IV,
69 французскш
АРАГУНСК1Й ПОЛКЪ
Хороеге nth it
ЖИВАЯ ХРОНИКА
Ё»ам1н:(мя ;etvu!f| wwjMi* на йсемг myfc,
3.
Прэнсъ эам^щаетъ доктора
В<*ИкОгАПМЫА «ОИИМСК1Й ПОИСКЬ Несиол«>кяцлк ходить
Смотра жа оборогШ.
52. Программа кинотеатра «Юмор-театр»
(1910).
ставлялись из набора коротких, не связанных между собой
фильмов, однако различие между картинами, из которых скла-
дывался киносеанс, выступало менее отчетливо, нежели об-
щность, — их принадлежность к новому зрелищу.
В этих условиях дифференциация между смежными карти-
нами требовала от зрителей определенного семиотического
157
Глава 1. Изменчивые границы текста
навыка, а от организатора сеанса — и определенных усилий,
направленных на четкое членение картин в пределах сеанса.
В первые годы бытования кино в России между картинами
программы Люмьеров устраивались небольшие антракты, а,
например, сеанс, описанный в 1898 г. Вл. Тюриным, сопровож-
дался акустическим приемом дифференциации: «Распорядитель
представления звонит, первая оживленная картина исчезает
и видна вторая: на месте станции перед нами широкая поляна
<... > Распорядитель звонит еще — и вместо поляны с кава-
лерией и артиллерией перед нами появляется длинная аллея,
на скамейке сидит пожилой господин и читает газету» [393,
с. 4].
Лавинообразное распространение кинематографов в начале
900-х годов привело к ослаблению внутреннего членения се-
анса. Владельцы кинотеатров по большей части не соблюдали
ни композиционных правил составления программы, ни тре-
бований дифференциации картин. Фильмы давались сплошным
потоком, без перерывов, а набор картин был, как правило,
случаен. Это налагало отпечаток на зрительское восприятие
кинематографа: впечатление от одной картины непроизвольно
накладывалось на другую, ничем с нею не связанную, кроме
непредвиденной смежности в программе. Возникал эффект,
позднее использованный в эксперименте Кулешова.
Обратимся к примеру. В 900-е годы в России действовал
цензурный запрет на картины евангельского и духовного со-
держания, а также на фильмы с участием членов импера-
торской семьи. В первом случае запрет не вызывает удивле-
ния: профанное репродуцирование сакральных образов не
допускалось и прежде — например, на сценах театров. Труд-
нее объяснить запрет на кинематографическое воспроизведе-
ние царствующих особ: во-первых, в русской государственной
традиции царь — лицо не сакральное и его изображение не
подлежит табуированию, во-вторых, как известно, первые при-
ехавшие в Россию операторы (К. Серф, М. Промио, Ф. Месгиш)
были приглашены для съемок Николая II, в результате чего
в фильмотеке царского двора накопилось значительное число
бобин с изображением государя. Цензурные ограничения от-
носились не к съемкам, а к проекции этих фильмов. Цензура
была озабочена семиотической пертурбацией, которую могли
внести в придворную хронику фильмы, оказавшиеся по сосед-
ству. Именно недостаточную иерархичность рядового киносе-
анса имел в виду Н. Каржанский, в 1915 г. вспоминавший
о ранее виденном в Париже кинематографе, где «на белом
куске полотна выскакивали одна за другой фигуры испан-
ского и английского королей, промелькнул десяток мароккан-
ских пейзажей, продефилировали итальянские кирасиры, про-
громыхал спускаемый в воду немецкий дредноут» [179, с. 6].
158
Часть П Межтекстовые связи
ПРОГРАММА 1-го вала.
Съ 13-го по 16 е Ноября 1910 г. (включит.).
ОТД+>ЛЕН1Е 1.
Въ странЪ ееребряныхъ каскад» въ
Видонам
МОДНИЦА
Ком Й’ГГ/ЛЯ
ОГЛ КН ЕН IE II.
ПОКИНУТАЯ ВЪ НЕСЧАСТЬЯ
ОТДЕЛЕН IE III
УБ1ЙСТВ0
ВЪ МОНАСТЫРЬ
Драна.
Маису прописали
водол*ЬченВе
Коми чес юя сц?йы Макса Линдера-
В начале 10-х годов (циркуляр от 21 марта 1911 г.), когда
русские кинофирмы добились разрешения на показ членов
императорской фамилии, цензура попыталась блокировать
смысловую интерференцию смежных фильмов с помощью осо-
бого циркуляра, оговаривающего условия публичной проекции
и требующего, «чтобы: а) демонстрирование проходило не под
музыку и каждый раз в особом отделении программы не в
связи и не в перемешку с показыванием отдельных видов (т. е.
чтобы перед началом появления картины того или другого
события опускали занавес, затем показывались одни лишь
эпизоды этих событий, после чего опять опускали бы занавес)
159
Глава 1. Изменчивые границы текста
8ъ 111 sant.
Патэ • журналъ всего Mipa
Саиыя посл1цн!я собьтя.
Незванный гость хуже татарина
Комическая.
ШИШ ЗШЕ1
Драма п<* соч. знамен, писателя „Октава Фелье**
Въ 3-хъ частяхь около 1200 метроаъ.
Вайна смерти
!-я часть драмы „Бури житейск1ям.
разоренная семья
2-я часть драмы „Бури житейская*'.
Зорный Лругъ
З я часть драмы «„Бури житемс«4я\
Впад^пець Я. Ф. Крмнгкмг
разрЪш за СЛЬ Грв^снвч. Дем. сто Камергсръ Лысюгорсм!
Р л ал Нреия» Т*о<-Л вт Нм»< ллев»/ »ая ул., it Ред.-Va/t A К! сг в у кцг*и
53. Программы «Сатурна»: 1910 г. (слева) ц 1913 г. (справа).
и б) чтобы показывание упомянутых картин отделялось бы
некоторым антрактом от воспроизведения картин другого со-
держания, а также при условии, чтобы показывание сих лент
производилось под особым наблюдением заведывающего кине-
матографом, ручным способом и с такой скоростью, чтобы дви-
жение и походка изображенных на ленте лиц не могли вы-
звать никаких замечаний»1 (ЦГИАА, ф. 776, оп. 22, № 33).
160
Часть П Межтекстовые связи
Пытаясь погасить алеаторическую синтагматику сеанса и
обособить придворную хронику от фильмов менее торжествен-
ного содержания, цензура навязывала зрителю понимание
фильма как автономного текста с собственными семиотиче-
скими границами. В этом отношении цензоров можно упрек-
нуть в отсутствии эволюционной прозорливости: структурное
напряжение между четко маркированными границами сеанса
и непрочными, размытыми границами составляющих его филь-
мов было в те годы одной из основных пружин развития кино-
языка. Именно оно способствовало импровизированному пере-
носу, перефразируя известное определение Романа Якобсона,
смежности на сходство, что позднее произошло и в экспери-
менте Кулешова.
По некоторым описаниям того времени можно судить о
том, что составление собственного «мысленного» фильма пу-
тем увязывания по ассоциации содержания смежных картин
было увлечением, не чуждым посетителю раннего киносеанса.
В рассказе М. Кузмина «Отличительный признак» содержится
описание того, как «в синемонатюре шелковые лошади вертели
хвостами, ползали бабочки, увеличенные до размеров кареты,
и темно-красные внутренности разрезанного граната почти пу-
гали своею сочною массою» [212, с. 14]. Здесь мы наблюдаем
характерную для кинозрителя тех лет непроизвольную мон-
тажную ассоциацию. Два смежных изображения навязывают
одно другому свою систему масштаба — совершенно ясно,
что бабочки сравниваются с каретой именно потому, что их
относительный размер автоматически выводится из относи-
тельного размера лошадей в предыдущей картине. Смежность
фильмов во времени на мгновение породила общее для них
семантическое поле и даже подобие пространственной смеж-
ности.
Фильм vs. кадр
Тем не менее мы не вправе считать, будто механизм куль-
турно обусловленной рецепции раннего кино способствовал
беспрепятственной эволюции последнего от фрагментарных
форм к монтажным, — в противном случае нам пришлось бы
согласиться, что медлительность и напряжение, с которыми
монтажные структуры проникали в повествовательный инстру-
ментарий кинематографа2, лежат целиком на совести первых
кинематографистов. На самом же деле ситуация скорее обрат-
ная — как показали некоторые работы Н. Берча [504, с. 91—
106], а также предварительные результаты обследования ран-
него кино (преимущественно продукции «Патэ» 900-х годов),
161
Глава 1. Изменчивые границы текста
проводимые в Госфильмофонде М. Б. Ямпольским, весьма
сложные и намного опережающие свое время монтажные фи-
гуры с настораживающей регулярностью возникали в кино-
языке уже на «стадии лепета». В свою очередь, изучение ре-
цепции кинематографа указывает на инертность и даже сопро-
тивление, с которыми эти попытки сталкивались в зрительской
среде в течение первых двадцати лет со времени изобретения
кино. При этом наблюдается устойчивая закономерность: чем
выше общекультурная подготовленность зрителя, тем неохот-
нее он принимает предлагаемые ему новшества. Например,
смена планов по крупности, в общих чертах усвоенная в Рос-
сии в конце 900-х годов малообразованной публикой, у русской
театральной общественности продолжала вызывать серьезные
эстетические возражения даже и в 1913 году. Театральный
критик Э. Старк писал об укрупнении: «Руководители съемки,
люди, очевидно, лишенные самого элементарного художест-
венного вкуса, чуть лишь коснется где более или менее пате-
тической сцены, сейчас же почему-то дают на ленте фигуры
и лица, увеличенные едва ли не вдвое против нормального
размера. Судите сами, что получается, когда вы видите перед
собой громадный нос, огромный рот, чудовищные белки глаз,
неестественно выпяченные губы; когда же эти части лица
какого-то пришельца с другой планеты начинают двигаться,
отражая чувства, обуревающие душу, получается нечто пре-
безобразное и бесконечно смешное в местах, наиболее плачев-
ных» [355, с. 770].
Здесь мы снова сталкиваемся с инертностью культурной
рецепции, однако на этот раз не способствующей, а, напротив,
препятствующей монтажному сцеплению кадров. Дело в том,
что, в отличие от приводившихся ранее случаев, монтаж как
нарративная (или экспрессивная) стратегия текста шел на за-
ведомое нарушение внутренней стратификации культуры. За-
имствуя готовые формы повествовательной культуры докине-
матографической эпохи [521], кинематограф был вынужден
обращаться к нескольким культурным топосам одновременно.
Ни один из известных культуре видов традиционного искус-
• ства не мог в одиночку снабдить язык кино всем необходимым
для ведения связного повествования. Киноязык начала века
жил напряжением между взаимоудаленными пластами куль-
туры, на которые был вынужден опираться. Возникало проти-
водействие сил: кинематограф, пытаясь утвердить свое право
на создание нового культурного топоса, стремился к гибриди-
зации генеалогически разнородных элементов, в то время как
те, в свою очередь, оказывали смысловое сопротивление, со-
храняя для кинозрителя привязанность каждый к своему ис-
точнику: общий план — к театральной сцене, крупный — к
портретной живописи и фотографии, надпись — к литературе
11 102326
162
Часть П Межтекстовые связи
и т. д. Эта борьба велась на «территории» каждого фильма,
причем конфликт разных подъязыков культуры сосредоточи-
вался в местах монтажных стыков. Этим, по крайней мере
отчасти, объясняется нерасположенность культурного созна-
ния к принятию некоторых правил киноязыка. Как в обучении
иностранному языку трудность усвоения определяется не низ-
ким уровнем интеллекта, а степенью активности интерфери-
рующих структур родного языка, так нерасположенность ран-
некинематографической публики к восприятию монтажа объ-
яснялась не косностью, а, наоборот, тонкостью культурного
чутья кинозрителя начала века, для которого центробежная
тенденция разнородных по происхождению планов превышала
единство, навязываемое ему фактом совмещения в пределах
одного текста — кинофильма.
Трудности рецепции усугублялись еще и тем, что русская
культура была практически не знакома с такой развитой пред-
кинематографической формой изобразительной наррации, как
комикс. Отсутствие культуры комикса препятствовало адапта-
ции в России, например, тех базовых элементов монтажа, ко-
торыми свободно оперировали режиссеры фирмы «Патэ». Возь-
мем статью о кинематографе из газеты 1908 г., принадлежа-
щую, по-видимому, перу музыковеда Ю. Энгеля. В ней, в
частности, излагается сюжет французского фарса: «Выпрово-
див мужа, «она» шлет пригласительное письмо Полю. Письмо
это со всеми амурными прелестями «Письмовника для молодых
людей» тут же демонстрируется на экране отдельно. Поль
появляется моментально» [464].
Можно без труда реконструировать монтажную структуру
описываемого эпизода:
1. «Она» на среднем плане пишет письмо.
2. Крупный план: текст письма Полю.
3. Средний (или общий) план: Поль входит в «ее» комнату.
Однако при взгляде на газетное изложение этой монтажной
фразы становится ясно, что его автор слабо владеет кодами
нарративного монтажа. Обращают на себя внимание слова
«отдельно» и «моментально». Оба они относятся к местам
монтажных стыков, кодирующих простейшие нарративные
переключения: пространственное — от пишущей к письму
( = укрупнение) и временное — опущены такие действия, как
отсылка письма, получение письма Полем и т. д. (= эллипс).
Обозначая эллипс словом «моментально», Энгель описывает
скорее дискурсивный, чем содержательный уровень монтаж-
ного стыка, хотя, безусловно, окончательно не теряет понима-
ния происходящего.
Еще более показателен оборот «демонстрируется на экране
отдельно», относящийся к крупному плану письма. Он свиде-
тельствует о культурной несовместимости тканей, своеобраз-
163
Глава 1. Изменчивые границы текста
ном выталкивании крупного плана из событийного потока
фильма. Письмо для автора заметки принадлежит отдельному
изобразительному ряду (точнее, литературному: автор не слу-
чайно снабдил его генеалогической характеристикой, отметив
стиль «Письмовника для молодых людей») и оказывает сопро-
тивление попыткам вовлечь его в театральный контекст фар-
сового представления.
Таким образом, в рецепции киноязыка вырисовываются две
противонаправленные тенденции. С одной стороны, мы наблю-
даем стремление объединить разрозненные фрагменты, при-
мыслив к ним общий контекст. Однако, как только попытки
конституировать такой контекст исходят от кинематографис-
тов, обнаруживается, что тот же механизм культурной рецеп-
ции оказывает им серьезное сопротивление. В конце 900-х —
начале 10-х годов между этими двумя тенденциями наступило
временное (переломное) равновесие. Увеличение фильмов в
размере, разветвление и усложнение сюжетов, учащающиеся
попытки нарративного использования монтажа — все это лишь
позднее привело к изменению структуры киносеанса. Пока же
новые монтажные формы уживались в России с прежней кон-
цепцией сеанса, состоявшего, как и раньше, из вереницы раз-
розненных картин. В этот переходный период оба пласта кино-
языкового сознания сохраняли одинаковую активность, а новые
(умышленные) и старые (непроизвольные) монтажные стыки
воспринимались на фоне друг друга.
Таково, например, пародийно окрашенное описание кино-
сеанса в рассказе С. Городецкого, достоверно отражающее сос-
тояние монтажного языка того периода и одновременно —;
состояние культурной рецепции этого языка: «На высоких
слонах раджа под финиковыми пальмами и бананами, лицо
у него вдруг саженное, и с аршинного банана вихрем сдерги-
вается кожа, плод лезет в толстые губы. Какая-то река, и
прыгают в воду. Лестница. Комната. Господин в пляске святого
Витта читает газету, врываются, вырывают, кувыркаются. Гам-
лет поет над черепом, и голос его окутан шипучей змеей.
Вдруг два петушка Патэ, темно, и бежит мальчишка полем,
лесом, вплавь, на дерево, с дерева, в дом, дом горит, он из
трубы, а за ним умалишенные толстяки кубарем, один через
другого, а на старухе толстые без кружев штаны, и не догнать
им никогда, но и не убежать мальчишке никогда» [130,
с. 146—147].
Обращает на себя внимание подчеркнутая размытость гра-
ниц между отдельными сюжетами. Городецкий лишь в одном
месте фиксирует конец одного фильма и начало другого:
«Вдруг два петушка Патэ, темно, и бежит мальчишка...», од-
нако и здесь обнаруживается умышленный сдвиг описания
относительно описываемого. Торговая марка фирмы «Патэ» —
и*
164
Часть П Межтекстовые связи
два петушка — завершает предыдущий фильм, но не откры-
вает новый. Тем не менее Городецкий присваивает ее, как и
паузу между сюжетами («темно»), последнему фильму описы-
ваемого сеанса, смещая фразораздел и закрепив его погранич-
ным словом «вдруг». В изложении сеанса с начала до конца
обыгрывается слитность сюжетов — происходящее в одном
фильме на той же интонационной волне как бы накатывается
на содержание другой. Создается впечатление единого кон-
текста, в котором отдельные сюжеты существуют на правах
частей. На этом фоне тем контрастнее выступает другое вхож-
дение в текст слова «вдруг»: «<...> лицо у него вдруг са-
женное ...» Монтажный переход с общего плана на крупный
описывается как внезапный скачок — укрупнение пережива-
ется событийно, оно как бы распирает рамки сюжета. Стык
между планами оказывается более острой семиотической гра-
ницей, чем собственно границы фильма.
Это снова возвращает нас к общей проблематике эволюции
киноязыка. Напряжение, сопутствующее ей на протяжении
первых двадцати лет, имеет мало общего с трудностями эврис-
тического характера. Развитие нарративных структур кинема-
тографа — не серия изобретений и усовершенствований, а
более сложный итог противоборства ряда подспудных и раз-
нонаправленных сил. Проблема не в развитии нового языка, а
в степени его культурной адаптивности. В частности, драма-
тизм монтажной эволюции кино кроется в столкновении обще-
принятого понимания семиотической границы текста с той
концепцией, которую предлагал в этом отношении кинемато-
граф. С одной стороны, ранние фильмы не соблюдали условий
семиотической отграниченное™ текста (отмеченность начала
и конца, правила семантической композиции, пространственная
автономия и др.). С другой стороны, в случаях перехода от
плана к плану (и некоторых других) кинематограф шел на на-
рушение существующих культурных границ. Монтажные сбли-
жения воспринимались как межкультурные. Попытки увязать.
воедино пространственное членение мира, закрепленное за
разными подъязыками культуры, приводили к тому, что куль-
турно-семиотические границы проходили посередине фильма,
окончательно нарушая его и без того зыбкую самотожде-
ственность.
Таким образом, язык кино на ранней стадии его эволюции
можно представить как реляционную сетку, стремящуюся
вступить с культурой в отношения изоморфизма. Однако при
этом адаптация оказывается обоюдной. Постепенно киноязык
не только усваивает семиотику межтекстовых границ, но и
сам обучает культуру семиотике их нарушения.
Тлаба 2
Рецепция подвижного
пространства
„Анна Каренина"
и „Прибытие поезда к вокзалу
Ла Сиота"
В 1919 г. М. Н. Игнатов, в течение десяти лет внимательно
следивший за движением русского кинематографа, с недоуме-
нием вспоминал о реакции прессы на фильм «Анна Каре-
нина» — если верить журналам, получалось, «будто не только
кинематограф выигрывал и становился на твердую почву от
демонстрации «Анны Карениной», но и «Анна Каренина» при-
обрела какие-то свойства, влиявшие на зрителя сильнее, чей
то известное произведение, которое Толстой дал читателю»
[172, л. 74].
«Анна Каренина», экранизированная в 1914 г. В. Р. Гарди-
ным, была выделена рецензентами за «психологизм», но, ко-
нечно, не эта черта заставила современников усмотреть в
фильме самостоятельную ценность, выдерживавшую сравнение
с романом. Напротив, как раз психологический рисунок роли
Анны вызвал наиболее противоречивые отклики. В кругах,
близких МХТ, эта работа М. Н. Германовой расценивалась
как профанация. М. П. Лилина обмолвилась [225, с. 8J, что в
картине «Жена вакханка» (по пьесе Л. Андреева) Германова
получилась несравненно лучше, чем в экранизации «Анны
Карениной», а М. А. Каллаш в письме к О. Л. Книппер-Чехо-
вой от 31 мая 1914 г., потакая внутритеатральным трениям,
возмущалась: «Анна Каренина ничем не отличается от Васи-
лисы [в] «На дне». Я хорошего и не ждала, но все-таки такого
166
связи
Часть
В* e?pU^AyS°^«^pfl-
да Сиота» ау«
167
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
издевательства над Толстым не могла себе представить» (Муз.
МХАТ, ф. Книппер-Чеховой, № 2388).
То же можно сказать и о воссоздании эпохи: в целом
благосклонная рецензия Д. В. Философова указывала на ана-
хронизм — излишне современный паровоз, «не похожий на
своих собратьев конца семидесятых годов <... > с громадной
трубой, расширяющейся кверху» [405, с. 20]. В процитирован-
ном письме Каллаш приводятся и «такие постановочные не-
сообразности, как плюшевый медведь и прочие ультрасовре-
менные игрушки, которые Анна Каренина приносит своему
сыну».
Можно утверждать, что ощущение «каких-то особых
свойств» фильма возникло у зрителя 10-х годов помимо досто-
инств экранизации, по тем временам вполне заурядной. Это
было ощущением deja vu, уже испытанного, — фильм не-
вольно затрагивал более давнее и более сильное переживание,
задолго до Гардина сомкнувшее в зрительском сознании сюжет
«Анны Карениной» и кинематограф.
Многочисленные отклики в печати зафиксировали потря-
сение, которое вызвала в русской публике конца 90-х годов
XIX в. программа первых фильмов Л. Люмьера. Среди корот-
ких картин этой программы наиболее сильное впечатление
производил фильм «Прибытие поезда к вокзалу Ла Сиота»
(«L’arrivee du train en gare de la Ciotat», 1895). Почти все
очевидцы первых люмьеровских сеансов описывают испуг, пе-
реходивший в общую панику, когда возникавший вдали поезд^
стремительно надвигался на зрителей. А. С. Вознесенский
вспоминал об успокоительных пояснениях, которые предпри-
нимателям приходилось давать на контроле: «Поезд у нас идет
настоящий, но только он же не может оторваться от стенки»
[106, с. 78]. В специальном исследовании, посвященном Люмь-
еру, С ад ул ь отмечает сенсационность этого фильма и для
французской аудитории [581, с. 46]. М. Горький в корреспон-
денции 1896 г. так описывал свое ощущение: «Он мчится стре-
лой прямо на вас — берегитесь! Кажется, что вот-вот он
ринется во тьму, в которой вы сидите, и превратит вас в рва-
ный мешок кожи, полный измятого мяса и раздробленных
костей, и разрушит, превратит в обломки и пыль этот зал и это
здание...» [133, с. 3].
Не вызывает удивления, что для образованного зрителя
конца XIX в. к этому переживанию почти автоматически под-
ключалась ближайшая литературная параллель — финал ро-
мана Толстого. Письма В. В. Стасова той эпохи зафиксировали
эту ассоциацию, определившую особую валентность фильма
«Прибытие поезда» для русской культуры: «Как вдруг летит
целый поезд жел[езной] дороги из дали, вкось по картине,
летит и все увеличивается и точно вот сию секунду на тебя
168
Часть П Межтекстовые связи
надвинется и раздавит, точь-в-точь как в «Анне Карениной» —
это просто невообразимо» [356, с. 128].
Итак, в сознании русского реципиента фильм Люмьера и
финал романа вступили в отношения псевдоморфизма. От-
сюда— особая валентность «Прибытия поезда» для возникшего
спустя десятилетие русского кино: уже в эпоху первых сеан-
сов можно было с достаточной вероятностью предсказать, что
в будущих экранизациях «Анны Карениной» сцена самоубий-
ства будет ставиться не по Толстому, а по Люмьеру. Дей-
ствительно, финальный кадр гардиновского фильма (финал
картины до нас не дошел), воспроизведенный на развороте
журнала «Искры» (1914. № 20. С. 156—157), по расположению
поезда относительно киноаппарата был точной репликой с
мизансцены люмьеровской картины, с той лишь разницей,
что между аппаратом и набегающим паровозом на рельсах
видна фигура Анны Карениной. Журналы напоминали, что
у Толстого решение этой сцены иное — Анна бросается не
под локомотив, а под проходящий мимо вагон [146, с. 13], но
в упрек фильму этого не ставили: было ясно, что «мизан-
сцена» Толстого для кинематографа не выигрышна.
Видимо, здесь можно говорить не об умышленной реми-
нисценции, а о формообразующей силе первого впечатления
от кино. Мемуаристы уже в 900-е годы (!) обособили «Прибы-
тие поезда» от остальных картин Люмьера, придав фильму
недосягаемый ореол «золотого века кинематографии». В Ns 1
журнала «Сине-Фоно» от 1907 г. редакция так сформулировала
свое отношение к этому фильму: «Приблизительно 15 лет тому
назад были впервые демонстрированы световые картины и
впечатление от них было так велико, что каждый как о ка-
ком-то поразившем его чуде вспоминает о том времени, когда
он в первый раз в жизни увидел на белом полотне мчащийся
на всех парах поезд».
Мемуарист 1913 года: «Я отлично помню этот вечер: это
было одно из наиболее сильных впечатлений моей жизни.
Когда на меня со сцены понесся поезд, когда на станцию
высыпало человек 300—400 и через минуту поезд понесся
дальше, я стал кричать. Меня не привлекли за нарушение
общественной тишины и порядка потому, что вместе со мной
кричали все» [307, с. 2].
Мемуарист 1936 года: «В глазах человека, никогда не видев-
шего живой фотографии, впечатление от локомотива, надви-
гающегося на зал, было чем-то бесподобным, и незабываемое
впечатление это остается в памяти тех, кто был свидетелем
рождения кинематографии» (547, с. 202].
Этот ряд было бы нетрудно продолжить, и с каждым новым
мемуаристом мифологичноеть «Прибытия поезда» будет на-
растать.
169
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
Перцепция пространства
Понятно, что сила воздействия «Прибытия поезда» на неис-
кушенного зрителя — эффект чисто рецептивного характера.
Сколько ни старайся кинематографисты повторить мизансцену
этого фильма1, повторить его эффект не удавалось никогда.
Неповторимость впечатления, о котором толковали мемуа-
ристы, возникла не от неповторимости фильма, а в силу его
новизны; новизна неповторима.
Однако всякая попытка реконструировать характер воз-
действия этих фильмов на неподготовленную (т. е. лишенную
опыта восприятия движущейся фотографии) аудиторию упи-
рается в новую проблему — мы не можем интроспективно
оценить состояние сознания, впервые столкнувшегося с изоб-
ражением в движении. Дело не только в интенсивности пер-
вого впечатления, на несколько порядков превышающей впе-
чатляемость искушенного зрителя, но и в том, что наблюда-
59. «Человек с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова среди прочих
кинореминисценций включал в себя и отсылку к Люмьеру,
170
Часть П Межтекстовые связи
тель, не затронутый культурой кинематографа, совершенно
по-иному считывает пространство движущегося изображения.
Можно предположить, что именно перцептивные отклонения
от нормального восприятия пространства (отклонения, с на-
коплением зрительского опыта стремительно выровнившиеся)
во многом являются причиной живучести первого впечатления
о кино, отразившегося и на структуре более поздних фильмов.
К. Браунлоу принадлежит наблюдение о том, что раннего
зрителя более всего поражало движение по оптической оси
взгляда (499, с. 6]. Действительно, в 1914 г. в статье С. М. Вол-
конского мы находим указание на особую выигрышность для
кинематографа «всего, что связано с движением в перспективе,
с увеличением и уменьшением, <... > как кавалерийская
атака, поезд железной дороги». Там же Волконский предло-
жил формулировку, которая на фоне более поздней фетиши-
зации крупного плана звучит несколько неожиданно: «Даль
и человек в дали — вот то единственное, что дает экран»
[109].
В качестве одной из последних по времени констатаций
такого рода эта оценка примыкает к эпохе 1890—1900-х годов,
для которой основную прелесть кино составляла особая гео-
метрия экранного пространства. Для нас пространство кино-
изображения, если оно не деформировано специальной иска-
жающей оптикой и воспроизведено в нормальном диапазоне
фокусного расстояния, по своим геометрическим свойствам не
противоречит данным обыденного опыта. Это согласуется с
исследованиями по психологии зрения, которые показали пол-
ное соответствие фото- и киноизображений двухмерному сет-
чаточному [313, с. 43]. И все же неподготовленного зрителя,
как можно заключить по сохранившимся записям первых впе-
чатлений от кино, более всего поражала именно «неестествен-
ность» пространственного строения фильма. В частности, зри-
тели Люмьера считали «неправильной» экранную перспективу.
Обозреватель английской газеты писал в мае 1896 г.: «Диспро-
порция между первым и задним планами вызывает изумление,
и хотя знаешь, что показываемое обладает механическим и
весьма близким подобием истине, сразу осознаешь его сущ-
ностную и глубинную неправду <... > [Аппарат Люмьера],
этот тончайший инструмент, вынужден регистрировать все
происходящее с одинаковым темпом и одинаковой обстоятель-
ностью, оставляя себе одну чудовищную привилегию — уве-
личивать первый план действия до неузнаваемости» {591,
с. 295].
В 1926 г. Рудольф Гармс в «Философии фильма» попытался
дать этому эффекту академическое определение: «Простран-
ственные моменты, в особенности те из них, которые связаны
с ощущением глубины, производят на пленке совсем другое
171
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
впечатление, чем при непосредственном зрительном восприя-
тии. Объектив кинематографического аппарата просто не мо-
жет в каждом отдельном случае приспособляться к восприятию
определенного предмета, как это делает глаз, сообщая хрус-
талику большую или меньшую выпуклость с помощью глазного
мускула. Вследствие этого относительная величина предметов
при съемке значительно скорее убывает на заднем плане и
возрастает на переднем» (117, с. 61].
Линейная для нас, перспектива кадра воспринималась пер-
выми зрителями как усиленно сходящаяся, что, в принципе,
совпадает с многократно описанным эффектом мнимого иска-
жения перспективы на фотографиях (классический пример —
вытянутая по направлению к объективу рука, отражая реаль-
ные пропорции перспективного сокращения размеров, все же
воспринимается как чудовищно увеличенная по сравнению с
головой) и может быть объяснено ослаблением у раннего ки-
нозрителя перцептивного механизма константности. Хотя на
сеансах Люмьера изображение сначала появлялось в статиче-
ской проекции и зрители успевали предварительно ознако-
миться с его смысловым («что есть что?») пространством, ори-
ентация в геометрии этого пространства давалась не сразу.
Сознание отказывалось компенсировать уменьшение фигур по
мере их удаленности, поскольку сама предпосылка такой ком-
пенсации — семантическое распознавание движущихся объек-
тов2 — представляла серьезную проблему. Отсюда — двой-
ственное ощущение гипертрофированного сокращения разме-
ров при отсутствии «реальной» глубины [см. 566, с. 34—35].
Отсутствие глубины для современников Люмьера связыва-
лось с другой особенностью киноизображения. В воспомина-
ниях А. Д. Дигмелова приводится один из откликов прессы
1896 г„ автор которого сетовал на «недостаток воздушной пер-
спективы, отчего фигуры на задних планах кажутся несоизме-
римо малыми, впереди же, наоборот, карикатурно увеличен-
ными, — если бы не эти досадные обстоятельства, синемато-
граф Люмьера мог бы ввести в заблуждение самый
изощренный глаз» [147, л. 2].
Действительно, воздушная перспектива, имитирующая в
картинах неидеальную прозрачность воздушной массы, аппара-
том Люмьера не воспроизводилась. Мало того, камера прояв-
ляла своего рода дальнозоркость: неуместно четкое в глубине,
изображение теряло резкость по мере приближения объектов
на расстояние порядка 3—4 метров (зона z на ил. 61), что созда-
вало обратно-перспективный эффект. Как отмечал В. Б. Шклов-
ский, «ощущение большей удаленности предмета благодаря
неясности его очертания в кино тоже искажено» [444, с. 20].
Другой важный признак глубины — перекрытие (оверлэп-
пинг) относительно удаленных объектов более близкими, на-
172
Часть II Межтекстовые связи
против, приобретает в движущемся изображении беспреце-
дентно важную роль. Все предметы в кадре постоянно
находятся в состоянии потенциального оверлэппинга, любое
передвижение сопровождается частичным наложением фигур.
Для зрителей Люмьера напряжение, которое создавал этот
«живой» оверлэппинг, оказывалось явственно перегрузочным.
Непрестанно отменяющая и уточняющая себя информация о
пространственной иерархии объектов производила впечатле-
ние, близкое к стрессу. Достаточно вообразить ощущение, ко-
торое вызывали у неискушенного зрителя фигуры, спешащие
по перрону (из глубины на камеру) и обгоняющие друг друга,
т. е. мгновенно меняющие знак оверлэппинга на противопо-
ложный, чтобы понять английского обозревателя, сокрушав-
шегося: «железнодорожный вокзал, например, это картина с
тысячью сменяющих друг друга фокусов зрения <...>• Сине-
матограф и пре-рафаэлиты страдают одним и тем же недостат-
ком — и те, и другие не способны к отбору» [591, с. 295].
Кульминацией хаоса был момент, когда поезд останавли-
вался и к ожидающим присоединялись вновь прибывшие3. Для
русских зрителей эта высадка была тем более взрывообразным
событием, что, в отличие от российских вагонов, на француз-
ских поездах каждое купе было снабжено отдельным выхо-
дом. Эффект был неожиданным: спустя двадцать лет И. Н. Иг-
натов сохранил в памяти эту деталь: «Ленты были иностран-
ными, и вагоны открывались сбоку» [172, л. 6].
Но и такой мощный градиент глубины, как оверлэппинг,
не придавал пространству объемности — сверхподвижные фи-
гуры напоминали не трехмерное пространство, но, лишенные
проксемики, колоду тасующихся карт.. На первый взгляд, ска-
занное плохо согласуется с тем неизменным местом в боль-
шинстве первых откликов на «Прибытие поезда», где гово-
рится, что паровоз «вот-вот влетит в зрительный зал» [268,
с. 3]. И все же оптическую природу этой иллюзии можно
объяснить, Докинематографическое сознание было практиче-
ски незнакомо с таким градиентом двухмерного отображения
глубины, как движение по оси взгляда4. Очевидцы особенно
подчеркивали деталь, которая сегодня может показаться три-
виальной: «По мере того, как паровоз приближается, он все
растет и растет» [268, с. 3]. При этом даже фактически равно-
мерное 'движение, спроецированное на плоскость, произво-
дило впечатление лавинообразно нарастающего — эффект, в
1933 г. объясненный Р. Арнхеймом: «Чем ближе надвигается
паровоз, тем он кажется больше; его темная масса с огромной
скоростью растет на экране во всех направлениях (динами-
ческое распространение к рамкам кадра). Увеличение размера
изображения паровоза ускоряет его относительное движение.
Таким образом, кажущееся изменение величины объекта, ко-
173
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
торая фактически остается прежней, усиливает его собствен-
ную активность» [27, с. 49—50]. Опытный зритель делает
скидку на такого рода оптический обман, неискушенный, как
нам известно, вскакивал на ноги. Иллюзия третьего измерения
была более чем налицо.
Остается предположить, что противоречащие друг другу
ощущения — ощущение реальной глубины и ощущение без-
объемности пространства каким-то образом уживались, не по-
гашая одно другого. Видимо, мы можем говорить о пульсации
восприятия, колеблющегося между трехмерной и двухмерной
интерпретациями киноизображения, как это бывает при рас-
сматривании специальных рисунков-тестов «фигура-фон», ко-
торые встречаются в работах по психологии зрения, с той раз-
ницей, что амбивалентность «Прибытия поезда» разрешается
в ту или иную сторону не в силу предрасположенности вос-
принимающего сознания, а по воле меняющихся импульсов
изнутри самой картины.
Можно предположить, что в момент появления поезда
сравнительно плоское пространство кадра с малоубедительной
(подтянутой к первому плану и безвоздушной) перспективой
вытягивалось прямо на глазах, как если бы кто-то повернул
ручку наводки глубинных координат. Ранее не испытанный
эффейт неудержимо нарастающей массы (мнимое ускорение
не погашалось от того, что на самом деле поезд тормозил)
оказался столь мощным градиентом глубины, что на время
подавил противоречащие ему индикаторы, превратив простран-
ство кадра в живое воплощение третьего измерения. В таких
условиях опасения первых зрителей, что экран, быть может,
порождает пространство не только позади, но и перед собой,
и что поезд, пройдя сквозь экранную плоскость, устремится
в зал, нельзя считать полностью беспочвенными.
Указанный момент отмечен всеми; реже сообщают о том,
что происходило на люмьеровских сеансах, когда напряжение
разрешалось. Между тем с исчезновением головной части сос-
тава за левой кромкой кадра замешательство аудитории пере-
ходило в новую фазу. Зрителям предстояло разрешить геомет-
рический парадокс — куда подевался паровоз?
Действительно, наше понимание экранной плоскости наде-
ляет ее свойствами условной границы текста: локомотив, про-
шедший «сквозь» экран, мы мысленно помещаем в тополо-
гически двойственное пространство, которое ощущаем одно-
временно у себя «за спиной» (сигнал, поступающий из поля
зрения камеры) и перед нами, в предэкранном пространстве
(проприоцептивный сигнал о том, что позиция зрителя и поле
зрения камеры совпадают не полностью). Ранний зритель, не
приученный к структурному маневрированию между диспа-
ратными углами зрения, убедившись, что поезд миновал, был
174
Часть П Межтекстовые связи
склонен трактовать экран как мембрану, для объемных тел
непроницаемую. При этом воспринимающее сознание стреми-
лось по-своему логизировать исчезновение поезда.
Рецепция пространства
Следует проводить различие между понятиями перцепции
и рецепции. Перцепция — автоматическая реакция сдвоенной
системы «глаз—мозг» на те или иные свойства пространства.
Рецепция — попытка сознания породить логизированную мо-
дель, объясняющую те или иные перцептивные аномалии.
Перцепция констатирует симптомы, рецепция ставит «диагноз
текста».
Сохранившиеся по поводу «Прибытия поезда» отчеты по-
зволяют реконструировать два типа такой логизации. Пер-
вый — своего рода искривление пространства кадра, зафик-
сированное в мемуарном свидетельстве Л. Р. Когана: «<.. .>
вдали показывается поезд, идущий с большой скоростью
прямо на зрительный зал. В публике невольное движение,
возглас испуга, потом — смех: паровоз и вагоны скользнули
куда-то в сторону» (курсив наш. — Ю. Ц.) [192, л. 39]. То
есть как только изображение лишилось такого градиента глу-
бины, как стремительно надвигающееся тело, восприятие от
гипертрофии глубины снова перешло в стадию ее недооценки.
«Гармошка» перцептивного пространства вошла в обратную
фазу, где два реальных измерения преобладают над иллюзор-
ным третьим.
В действительности поезд движется строго по диагонали
(ил‘. 56); в восприятии раннего зрителя в фазе «вытянутого»
пространства (ил. 60) он несется «прямо на зал», что
соответствует переоценке глубины, а в фазе «плоского» —
стремится к направлению, параллельному плоскости экрана.
Понятно, что такая (скользящая по параболе) кривизна движе-
ния могла семантизироваться как неожиданный поворот.
Аналогичный эффект наблюдается и в фильме Люмьера
«Улица в Лионе» (видимо, «La Place des Cordeliers», 1895),
где вместо поезда по диагонали надвигается экипаж. Очевидец
писал: «Один из экипажей несся прямо на нас, влекомый
галопирующими лошадьми. Сидящая возле меня женщина ока-
залась под таким впечатлением, что мгновенно вскочила ... и
уже не садилась, лоха экипаж не повернул и не исчез» [581,
с. 32; курсив наш. — Ю. Ц.]. По мере приближения к экрану
пространство уплотняется, принуждая объекты не только изме-
нить траекторию, но и выглядеть более плоскими, чем в глу-
бине (см. разметку оси глубины на ил. 62). Отсюда — табу на
175
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
60—61. «Прибытие поезда»:
прорисъ.
Г г -I
Ось глубины
Плоскость экрана
62. В восприятии некоторых зрителей
траектория поезда представала
искривленной.
176
Часть П Межтекстовые связи
первый план в некомических жанрах раннего кино: для зри-
телей первых лет тело не проникало сквозь экран всем своим
объемом, а, внезапно утратив глубину, расползалось по плос-
кости5.
Другой тип осмысления пространственной неувязки с поез-
дом обусловлен иной психологией экрана, склонной рассмат-
ривать его не как непреодолимую плоскость, а как провал в ни-
куда, поглощающий приблизившиеся к нему тела. О фильме
«Улица в Лионе» М. Горький писал: «Экипажи идут из ее
[картины] перспективы прямо на вас, прямо на вас, во тьму,
в которой вы сидите» (133, с. 3]. В этой фазе горьковское
описание совпадает с впечатлением французского журналиста
(см. выше), однако в финальной — расходится с ним: у Горь-
кого отсутствует мнимый «поворот» экипажа. Вместо этого
подчеркивается момент немотивированного исчезновения объ-
ектов: «Все движется, живет, кипит, идет на первый план кар-
тины'и исчезает куда-то с него» [133, с. 3]. В обеих корреспон-
денциях описание фильмов Люмьера сопровождается подроб-
ным перечнем таких «исчезновений» — похоже, экран как
своеобразная зона небытия, непреодолимая для персонажей,
«аннигилирующая» их, поразил Горького более всего.
На одном аспекте указанного комплекса представлений
стоит остановиться. Ощущение, что заэкранный мир внезапно
«обрывается» в темноту зала, смыкалось для публики Люмьера
с однотипным ему ощущением, вызванным вопиющим отсут-
ствием другой границы текста — временной. Первые фильмы
имели одинаковую длину — 17 метров ( — 50 сек). Это было
обусловлено вместимостью люмьеровского аппарата и озна-
чало, по словам Н. Берча, что «фильм кончался в тот момент,
когда заряд пленки в камере выходил» [506, с. 116]. То есть
Люмьер мог рассчитать начало снимаемого события, но на чем
фильм оборвется, предусмотреть мог не всегда. «Прибытие по-
езда» — фильм с ясно обозначенным началом, но без обозна-
ченного конца [см. 516, с. 306].
Реципиенту эпохи Люмьера подобные обрывающиеся кон-
цовки казались аномалией, причем Горький, обращая особое
внимание на исчезновение объектов на первом плане («локо-
мотив бесщумно исчезает»; встречающие выходят на первый
план «и исчезают» и т. д.), похоже, не делал разницы между
ним и исчезновением с экрана всей картины — событием;
столь же немотивированным: «<...> из вагонов молча выхо-
дят серые фигуры, беззвучно здороваются, беззвучно смеются,
неслышно ходят, бегают, суетятся, волнуются... и исчезают.
Вот новая картина» [133, с. 3]. Более отчетливо ощущение
провала в никуда прописано во второй (одесской) корреспон-
денции: «Перед вами кипит странная жизнь, настоящая, жи-
вая. <.. .> И вдруг она исчезает. Перед глазами просто кусок
177
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
белого полотна в широкой черной раме, и кажется, что на нем
не было ничего <... > Становится как-то неопределенно
жутко» (курсив наш. — Ю. Ц.) [135, с. 2].
Открытость текстовой границы одновременно по двум се-
миотическим параметрам — пространственному (зияющий
проем экрана) и временному (немаркированный конец) — спо-
собствовала впечатлению бесследно («кусок белого полотна»)
поглощенного экраном поезда, а затем и вокзала — пережива-
ние эсхатологического порядка, позднее (1918) возрожденного
А. Белым в киносценарии «Петербург», где, как мы помним,
ключевые сцены не доводятся до драматургического заверше-
ния, а пресекаются ремаркой: «Фильма обрывается» [50].
Реципиенты менее чуткие, чем Горький, реагировали на
незавершенность «Прибытия поезда» по-другому. Фильм об-
рывался на полу жесте: пассажир, сойдя с поезда, обернулся
и протягивает руку, чтобы помочь сойти невидимому нам
спутнику (-це?). Большинство газетных и мемуарных изложе-
ний выказывают явственное стремление придать фильму
форму законченного текста. Обозреватели «дописывают»
фильм, заменяя непривычную и как бы повисающую в воздухе
концовку финалом по принципу кольцевой композиции «прибы-
тие — отбытие»6. В парижском репортаже В. Яковлева-Пав-
ловского (по подсчетам Вен. Вишневского, он был перепечатан
более чем в 20 русских газетах) финал «Прибытия поезда»
описан так: «<...> но вот все уселись; по знаку кондуктора
поезд опять двинулся вперед, и невольно страшно становится,
как бы он нас не раздавил» [468, с. 2].
Здесь и в других аналогичных описаниях можно наблю-
дать работу того же рецептивного механизма, что и в случае
с мнимым поворотом поезда перед экраном. Это — гипернор-
мализация исходного текста, аномалии пространственно-
временного континуума которого плохо укладывались в соз-
нании. Нестрого говоря, мы имеем здесь дело с аналогом кате-
горий, обязательных к выражению в языке перевода, с той
разницей, что при межсемиотическом переводе можно
говорить не об обязательности, а об автоматизме разверты-
вания словесного текста (пример с Горьким убеждает, что
такой автоматизм может работать не только в режиме
повествовательных стереотипов, но и в режиме остраненного
описания, обостренно фиксируя в тексте «Прибытия поезда»
именно аномалии).
12 10232Б
178
Часть П Межтекстовые связи
Рецептивная беллетризация
В плане перевода пространственных «странностей» этого
фильма на язык словесного описания показательно следующее
место из процитированного репортажа Яковлева: «Отъезжаю-
щие уже торопятся занять свои места, суетятся, разыскивая
места поудобнее. Вот какой-то ободранный парень залез не
в свой класс, откуда его выпроводили, — он опять на плат-
форме, растерянно оглядываясь, не зная, что с собой делать»
[468, с. 2].
В фильме действительно возникает бедно одетый человек
с узелком, рассеянной походкой идущий на аппарат (ил. 63).
В его медлительности замечается определенное биомеханиче-
ское несоответствие происходящему на вокзале, побуждаю-
щее наблюдателя строить на его счет гадательные предполо-
жения, хотя на экране он пребывает всего около трех секунд.
Ж. Садуль, узнавший в персонаже по одежде провансальского
крестьянина, мотивирует его замешательство интересом к
киноаппарату [581, с. 48J, однако такое толкование произ-
вольно в той же мере, что и «легенда» Яковлева: человек
63. Человек с узелком возник за фигурой дамы в клетчатой шали.
179
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
64—65. «Прибытие поезда»: прорись.
с узелком так ни разу и не посмотрел на аппарат, — если
судить по направлению взгляда, его больше всего интересует
поезд. Реконструкция Яковлева, конечно, ошибочна — моло-
дой человек проходит через кадр еще до того, как поезд
остановился, так что нельзя заподозрить, будто он «влез не
в свой класс».
Однако Яковлев в своем пересказе не просто фантази-
рует — он исходит из реальной данности кадра, подыскивая
к ней ближайший литературный контекст. Выше уже шла
речь о таком градиенте пространственной глубины, как овер-
лэппинг, а также о том, какую активность он приобретает в
движущемся изображении. На ил. 64—65 изображены две фазы
движения человека с узелком (персонаж А) — во второй мы
видим уже только его плечо. Сила «подвижного» оверлэп-
пинга в том, что всякое перемещение в пространстве является
вместе с тем сюжетообразующим перемещением: одни участки
пространства перекрываются, а другие, напротив, становятся
видимыми. Движение А по перрону последовательно высво-
бождает в глубине пространства фигуры Б, В и Г, которые
движутся по той же траектории, что и А. Персонажи Б, В
и Г производят впечатление не отдельных прохожих, а
группы, они движутся стремительно и в ритме, который кон-
трастирует с некоторой расхлябанностью А и его походки.
Возникает ощущение, что Б, В и Г преследуют А, которое
подкрепляется еще и тем, что один из них одет в униформу
(железнодорожника?).
Для человека, который, как Яковлев, впервые столкнулся
с подвижным изображением, переменный оверлэппинг был
не просто параметром пространства — перспективное нало-
жение фигур, развертываясь во времени, приобрело черты
интриги. Пространство деавтоматизировалось, и его матре-
шечная грамматика была проинтерпретирована Яковлевым
как причинно-следственная цепь, объясняющая странности
поведения человека с узелком.
12‘
180
Часть П Межтекстовые связи
„Прибытие поезда"
к
как объект культурной рецепции
Символизация подвижного пространства — черта, опреде-
ляющая весь ход восприятия первого киносеанса. И хотя с
накоплением перцептивного опыта она утрачивает свое доми-
нирующее положение, в памяти кинозрителя начала века пер-
вый киносеанс отпечатался именно как острое смысловое
переживание. Такие фильмы, как «Прибытие поезда», в силу
их повсеместности и почти рефлекторного единообразия эмо-
ционального отклика на них стали кодирующим элементом
в общей памяти целого поколения кинематографистов и кино-
зрителей.
Возьмем стихотворение М. Кузмина «Германия» (1923),
где, как и в более позднем сборнике «Форель разбивает лед»,
автор попытался вывести обобщенный облик этой страны из
эстетики немецкого кино 1910—1920-х годов. Если по замыслу
текст Кузмина перекликается с известной исторической кон-
цепцией 3. Кракауэра, изложенной в его книге «От Калигари
до Гитлера» (1947), то по способу введения в подтекст кино-
изобразительной культуры он на удивление точно совпадает
с решением той же задачи в известном фильме Х.-Ю. Зибер-
берга «Гитлер. Фильм из Германии» («Hitler. Ein Film aus
Deutschland», 1977), интертекстуальный универсум которого
совмещает в себе все варианты «основного мифа» немецкого
искусства тех лет — ученого-гипнотизера и его жертву, испол-
нителя зловещих умыслов: фигуры вампиров, безумцев, сом-
намбул и других персонажей экспрессионистского кино [585,
с. 405—421]. В стихотворении Кузмина обыгрываются две вер-
сии этого мифа — «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabi-
net des Dr. Caligari», 1919) P. Вине и «Доктор Мабузе —
игрок» («Dr. Mabuse, der Spieler», 1922) Ф. Ланга:
Мужи — спокойны и смелы —
братство, работа, бой! —
но нужно, чтоб в крепкое тело
пламя вдувал другой [210, с. 6].
Однако Кузмин намеренно смешивает персонажей этих
двух фильмов, так что сомнамбула из первого оказывается
жертвой-сообщником гипнотизера из второго. В начальных
строках стихотворения и тот, и другой выступают нерасчле-
ненно, являя собой гипнотизера и его жертву в одном лице:
С безумной недвижностью
приближаясь,
181
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
66, «,,, приближаясь, словно летящий локомотив экрана..
словно летящий локомотив экрана,
яснее,
крупнее,
круглее, —
лицо.
Эти глаза в преувеличенном гриме, -
опущенный рот,
сломаны брови,
ноздря дрожит. . .
Проснись, сомнамбула!
Какая судорога исказила
черты сладчайшие? (210, с. 6].
Вторая часть процитированного отрывка — словесный пор-
трет поразившего современников крупного плана сомнамбулы
из «Калигари» (Конрад Файдт), когда он, пробудившись, про-
рочествует о смерти. Первые семь строк — не менее знаме-
нитый эпизод из «Мабузе», наезд на лицо Р. Кляйн-Рогге.
Этот наезд уже в 1933 г. приводился в качестве хрестоматий-
ного примера экспрессионистского стиля (Р. Арнхейм писал:
182
Часть П Межтекстовые связи
67. «... яснее, крупнее,
круглее, — лицо».
«Чтобы показать могущество этого таинственного человека,
его лицо дается сначала мелко на темном фоне, затем быстро
надвигается на зрителя, становясь все более крупным, и,
наконец, заполняет весь экран» [27, с. 81]), а несколько позд-
нее — 3. Кракауэром в качестве узлового образа тираниче-
ского режима («Лицо Мабузе маленьким ярким пятном
вспыхивает на черном экране, потом со страшной быстротой •
летит на зрителя, разрастаясь и заполняя экран до рамки;
жестокие, властные глаза Мабузе пристально смотрят в зри-
тельный зал. Мабузе в этом кадре — порождение тьмы,
пожирающее мир, подвластный ему» [197, с. 88]).
Нашему современнику трудно усмотреть в приведенном
кадре-наезде что-либо общее с документальными миниатю-
183
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
’•»
68. Фигуративная параллель к метафоре Кузмина — французский плакат
к фильму Абеля Ганса «Колесо» (подробнее об этом см.
в последней главе книги).
рами Люмьера — для нас эти стили не сравнимы ни по
содержанию, ни по интенсивности впечатления. Кузмин же
принадлежал к поколению, для которого наиболее сильным
кинопереживанием оставался поезд Люмьера. Подключая
этот фильм к чужеродному, казалось бы, ряду экспрессио-
нистских картин и сравнивая надвигающееся лицо Мабузе с
«летящим локомотивом экрана», Кузмин воспользовался не
только своим поэтическим, но и культурно-историческим
правом. Воплощенная обыденность для нас, фильм Люмьера
людям этой эпохи запомнился как картина с искаженной
перспективой, исчезающими людьми и поездом, вырастающим
до пугающих размеров [ср. 473, с. 23].
На фоне такого опыта фильмы экспрессионистов должны
были не столько поражать новизной, сколько напоминать
нечто, уже испытанное. Как ни трудно в это поверить, для
чуткого зрителя 20-х годов такие приемы, как наезд, надви-
жение, приближение, подключали к восприятию эмоциональ-
ную память о фильме «Прибытие поезда к вокзалу Ла Сиота».
Тлаба з
Лицевая граница текста
л
»
В предыдущей главе мы останавливались на том, как дви-
жение по оси взгляда было воспринято зрителем первого
поколения — зрителем Люмьера. В настоящей главе речь пой-
дет о более поздних слоях рецепции, однако тема разговора
будет связана с эффектом «прибытия поезда». В мемуарах
Я. А. Жданова имеется рассказ о первом посещении кино:
это произошло, по утверждению мемуариста, в Москве, в
синематографе «Грезы» на Страстном бульваре: «Демонстра-
ция картин произвела на меня настолько ошеломляющее впе-
чатление, что после показа поезда я встал со скамьи и подо-
п
ел к экрану, чтобы заглянуть за полотно»
[160, л. 1 ]. Загля-
нуть за полотно — такая реакция, как и предшествовавший
ей испуг, наблюдалась повсеместно и была своего рода рецеп-
тивной универсалией, роднящей зрителя Люмьера со зрите-
лем циркового представления. Здесь мы попытаемся просле-
дить за эволюцией, которую претерпел рецептивный образ
экрана.
В статье Б. М. Эйхенбаума «Проблемы киностилистики»
содержится наблюдение, брошенное вскользь: «Мы имеем
в кино три основных экранных движения: движение мимо
зрителя, движение н а зрителя и движение о т зрителя
вглубь. Первое из них, которое можно назвать панорамным,
есть движение элементарное, для кино нехарактерное; оно
господствовало в ранней стадии кинематографии («видовые»
картины)» [460, с. 39—40]. Два других появляются на более
развитой ступени киноэволюции. Далее Эйхенбаум переходит
к противопоставлению общего и крупного планов, их эволю-
ционной последовательности и, наконец, к типологии «кино-
фраз», понимаемых как смена планов с заданным вектором
крупности: «прогрессивный» тип фразы соответствует укруп-
нению плана, «регрессивный» ведет от деталей к общему. К
185
Глава 3. Лицевая гравнца текста
заявленной ранее классификации экранных движений автор
статьи больше не возвращается: в 20-е годы вопрос о планах
казался более интересным. Между тем для изучения рецепции
больший интерес представляет как раз она.
Предложенная Эйхенбаумом трихотомия «мимо/на/от»
основывается на комбинированном критерии: признак «мимо»
определяет ось движения относительно зрителя, признаки «на»
и «от» вводят аппроксимацию другого порядка — направле-
ние движения в пределах оси. Это позволяет нам как развет-
вить дерево признаков (введя для оси «мимо» параметры
«вправо» и «влево»), так и сократить его до бинарного про-
тивопоставления осей. Для наших целей удобнее придержи-
ваться дихотомии «движение вдоль оси экрана/движение
вдоль оси зрения», хотя в силу неравнозначности этой оппози-
ции, как и оппозиции «от/на», речь будет идти преимущест-
венно о случаях, примыкающих к наиболее сильному из воз-
можных вариантов — движению из глубины экранного прост-
ранства «на» зрителя.
Как и всякий другой элемент нарождающегося киноязыка,
движение внутри кадра оценивалось ранним зрителем исходя
из определенного рецептивного опыта. Движение «мимо», как
отметил Эйхенбаум, восходило к знакомым образцам, в част-
ности к волшебному фонарю [460, с. 40], обладавшему спе-
циальным приспособлением — двойной деревянной рамкой
для манипулирования двумя демонстрационными стек-
лами — фоновым и подвижным. Движение по оси зрения пря-
мых аналогий в докинематографической изобразительной куль-
туре не имело1. Уже одно это обусловливало неравнознач-
ность осей — движение из глубины на зрителя воспринималось
обостренно [499, с. 6], а в 1895—1900 гг. являло собой само-
достаточный сюжет, тогда как движение в плоскости экрана
самостоятельной эстетической нагрузки не несло.
Отсюда — отчетливое распределение осей движения по
жанрам раннего кинематографа. «Видовые» картины Люмьера
состояли преимущественно из одного общего плана с движе-
нием из глубины на зрителя (иногда — от зрителя в глубину;
так тянулась из-за правой кромки кадра долгая вереница
запряженных цугом ломовиков в выразительной картине
«Перевозка тяжестей», своим эффектом напоминавшей фокус
с цилиндром: из невидимого закадрового пространства воз-
никали все новые пары лошадей, и с каждой парой росла
заинтригованность зрителя — что за груз потребовал такой
упряжки?). Вместе с тем, к удивлению позднейших историков
кино [582, с. 44], игровые сюжеты того же периода выказы-
вали тенденцию к построению движения параллельно экран-
ной плоскости — видимо, острота пространственного восприя-
тия тут оборачивалась помехой.
186
Часть U Межтекстовые связи
Из начал семиотики известно, что движение мыслится в
своем пределе, иными словами, момент движения в простран-
стве повышает значимость границ этого пространства. Движе-
ние, обозначенное вдоль плоскости изображения, вовлекает
в игру боковые рамки,.его ограничивающие. Движение, наце-
ленное «на» эту плоскость, ставило перед первыми кинозри-
телями более сложную задачу — им предстояло самим нащу-
пать статус экрана в системе семиотических условностей
текста.
Выше упоминалось, что первоначально (1895—1900) рецеп-
ция кинематографа складывалась по правилам циркового
аттракциона. «Представь себе, — писал брату В. В. Стасов, —
что перед тобой вдруг открытое море, никакого берега не
видать; берег — это край картины перед самым полом, на
котором стоят наши стулья и кресла <... > И волны все
крупнее и крупнее становятся, летя издалека на зрителя напе-
ред <... > все катятся да катятся, и скачут, и разбиваются,
и рядами пены ударяют в край картины» [356, с. 127—128].
Дамы инстинктивно подбирали юбки, а после сеанса желаю-
щие приглашались освидетельствовать экран. Энигматика
нового фокуса стягивалась к ускользающим характеристикам
«края картины» — плоскости экрана. Против ожидания,
экран оказывался твердым наощупь и непрозрачным2. Но и
позднее, когда рецептивная эволюция кинематографа, наиграв-
шись «в цирк», устремилась по новому руслу, интерес к «фе-
номенологии» экрана не угас. Для кинорефлексии 1900—
1910-х годов «край картины» продолжал оставаться одной из
центральных тем — обсуждались «парадоксальные» свойства,
благодаря которым экранная плоскость одновременно про-
зрачна и непрозрачна, проницаема и непроницаема, веще-
ственна и невещественна3. Плоскость экрана представала как
инстанция, разом учреждающая и отменяющая лицевую гра-
ницу кинематографического текста. .
Экранно-сценические гибриды
Обостренное ощущение амбивалентности этой границы
заставляло считаться с ней при построении внутрика дров ого
пространства. В зависимости от изначальной установки (пре-
имущественно жанровой) встречи с экранной плоскостью
следовало избегать или искать. Школа Люмьера показала, что
основным генератором рецептивного шока было движение
«на» плоскость, С угасанием люмьеровского периода создан-
ный этой школой жанр не сошел на нет. Форсирование эк-
187
Глава 3. Л
(евая граница текста
; »1
ранной плоскости продолжало занимать умы кинематографи-
стов. Возник новый вариант «преодоления» границы экрана—•
жанр театрально-кинематографических гибридов, периферий-
ное, но не второстепенное ответвление от магистральной исто-
рии кино.
Изобретением этого трюка мы обязаны, видимо, Мельесу.
По свидетельству М. Мальтет-Мельес, около 1905 г. режиссер
впервые осуществил затею, позднее, в 1929 г., воспроизведен-
ную им по просьбе устроителей юбилейной ретроспективы «Га-
ла-Мельес». Вместо объявленного выступления перед зрителями
был включен экран, на котором появился Мелье с. «Он заблу-
дился на улицах Парижа, он повсюду ищет зал, где его ждет
публика <.. .> Он замечает на стене огромную афишу
«Гала-Мельес» с собственным портретом <.. .> Головой впе-
ред Мельес вонзается в афишу. Внезапно в зале загорается
свет. Экран поднимается, за ним обнаруживается афиша, кото-
рую зрители только что видели на экране. Внезапно бумага
рвется и появляется Мельес собственной персоной» [552,
с. 398—399].
Другой пример относится к 1913 г. — это эпизод из нашу-
мевшего в свое время визита Макса Линдера в Москву и
Петербург. Приведем фрагмент из журнального отчета о
выступлении актера в петербургском театре «Зон»: «Медленно
текли тягостные минуты после третьего звонка, а занавес
все еще не поднимался. Публика гудела, топала ногами; тре-
бовала начала — но все это по-видимому было бесцельно.
Наконец, режиссер заявил публике, что... Макс Линдер
опоздал и, вероятно, не приедет. Желающие — деньги могут
получить обратно. Но никто не оставлял своего места...
Неожиданно потухло электричество и на появившемся экране
предстала поездка Макса Линдера в театр «Зон» по беско-
нечным шоссе и на гоночном автомобиле, затем катастрофа
(без каких бы то ни было поранений), галоп на лошади, пла-
ванье через реку, наконец... полет на аэростате, на котором
Макс Линдер и появился над Петербургом и над крышей
театра «Зон», куда он намерен попасть, проломив потолок,
прямо на сцену, спустившись с аэростата на гайдропе...
Экран тут же сменялся сценой, и сверху, вместе со штука-
туркой, кусками балки, на гайдропе спускается сам уже на-
стоящий Макс Линдер, в знаменитом, [но] помятом и изор-
ванном цилиндре, в сером спорт-пальто» [7, с. 15].
Прежде чем продолжить названный ряд, напомним о зна-
комом нам рецептивном факторе, без которого подлинный
смысл и масштаб события, заключенного в таком переходе,
могут ускользнуть. Нынешний зритель воспринимает кине-
матограф как данность и ничего странного в его технологи-
ческой природе, как правило, не усматривает. Зритель начала
188
Часть П Межтекстовые связи
века ощущал кино как новость, и самое странное впечатление
на него производили именно технологические, изначально
заданные свойства.
Вспомним «механический», неживой оттенок, который для
реципиента тех лет приобретало все, к чему прикасался кине-
матограф. В 10-е годы устроители экранно-сценических
гибридных представлений верили, что сопряжение «живого»
действия и действия «экранного» погасит в зрителе ощущение
механицизма, безжизненности последнего. На деле, утверж-
дали их критики, получалось наоборот.
Так, на русской сцене идею и методологию театрально-
кинематографических гибридов упорнее других разрабатывал
П. Орленев, ставивший в такой манере Достоевского и Иб-
сена, Обозреватель «Театральной газеты», с беспокойством
следивший за этими опытами, предостерегал: «Он предполагает
поставить ибсеновского «Бранда» так, что часть сцен будет
разыгрываться живыми актерами, а часть будет изображена
кинематографически. Мне жаль искренне увлекающегося
Орленева, ибо предвижу категорический провал такой затеи:
нельзя склеить живую и мертвую материю, нельзя соединить
психоорганический трепет с бездушным холодом полотна»
[60, с. 3].
Соположение сцены и экрана заостряло контрастные
характеристики этих пространств: сцена и ее зритель сопри-
сутствуют в едином (физическом, хотя не всегда едином
семиотическом) пространственно-временном континууме
(«здесь и теперь»), экранное действие воспроизводит то, что
уже произошло.
Особенность раннекинематографического зрительского
сознания в том, что безотносительность экранного времени к
«текущему» моменту ощущалась постоянно, а не только на
гибридных представлениях.
Этот рецептивный обертон с археологической достоверно-
стью описан в «Волшебной горе» Т. Манна: поймав случай-
ный взгляд с экрана, «публика смущенно смотрела в лицо
очаровательной тени, которая, казалось, и глядит и не видит,
до которой ничей взгляд не доходит, а смех и кивки живут
не в настоящем, а «там» и «тогда», и поэтому было бы нелепо
отвечать на них. Вследствие этого, как мы уже отмечали,
к удовольствию примешивалось чувство какого-то бессилия»
[244, с. 443].
Попытаемся пояснить это с помощью аналогии из области
лингвистики. Согласно Э. Бенвенисту, высказывание может
относиться к плану дискурса («здесь и теперь»), т. е. к си-
туации, в которую включены и говорящий, и тот, к кому он
обращается, или к плану истории («там и тогда»), для кото-
189
Глава 3. Лицевая граница текста
рого ситуация высказывания безразлична, а излагаемые со-
бытия требуют только прошедших времен. План истории
исключает личные местоимения «я» и «ты», план дискурса
предполагает, что «я» и «ты» в высказывании задействованы
[53, с. 270—272[.
В культуре 1900—1910-х годов, в отличие от нынешней,
театр и кинематограф соотносились не как автономные
области, а, скорее, по принципу дополнительности, и если в
сценическом действии, выражаясь по-нынешнему, виделись
признаки единовременно речевого акта, то кинофильм расце-
нивался как текст, который уже по способу существования
принадлежит плану истории. И поскольку реципиент тех лет
воспринимал кино не как теперь, т. е. не как совокупность
(более или менее) художественных текстов, а в качестве
системы, чьи семиотехнологические параметры могут обла-
дать самостоятельной ценностью, исключительная принадлеж-
ность кинотекста к плану истории оборачивалась существен-
ным эстетическим фактором. Так, предметом особого
переживания была отсеченность, отрешенность экранного
действия от зрительского «я». В одном из эссе Вирджинии
Вульф мы находим выразительный интроспективный анализ
этого ощущения. По сравнению с фотографиями кинокадры
«более прекрасны — не тем, чем прекрасны картины, а тем,
что они, так сказать (наш запас слов до жалости ничтожен),
более реальны, или реальны другой реальностью, чем та,
которую мы воспринимаем повседневно. Мы видим, как
бывает, когда нас нет. Мы наблюдаем жизнь, в которой не
участвуем. Наблюдая ее, мы ощущаем, что сами изъяты из
мелочного потока повседневного существования. Лошадь нас
не сшибает. Король не пожмет нам руки. Волна не омоет
II
Русскому зрителю это ощущение самоустранеиного «я»
могло напомнить о посмертном взгляде на земные дела («Как
будто душа покинула тело и смотрит, как это тело, механи-
чески копируя, повторяя жесты, символизирует пребывание
души» [335, с. 69], — писал о кино корреспондент «Кине-
журнала» в 1917 г.), и именно такая ассоциация сделалась
темой одного из поздних стихотворений В. И. Иванова:
I
Так, вся на полосе подвижной
Отпечатлелась жизнь моя
Прямой уликой, необлыжной
Мной сыгранного жития.
Но на себя, на лицедея,
Взглянуть разок из темноты,
Вмешаться в действие не смея,
Полюбопытствовал бы ты?
190
Часть П Межтекстовые связи
Аль жутко? .. А гляди, в начале
Мытарств и демонских расправ
Нас ожидает в темной зале
Загробный кинематограф [170, с. 312].
Таким образом, когда мы говорим об экранно-сценических
гибридах, следует помнить, что для современников переход
из пространства экрана в пространство зала был шагом,
событийность которого равнялась переселению персонажа из
мира «когда-то и где-то» в мир «здесь и теперь». Размах этого
шага измерялся смысловой и географической удаленностью.
В следующем примере (эта сценка разыгрывалась перед нача-
лом киносеансов во Франции времен первой мировой войны)
события, относящиеся к «плану истории», и их «дискурсив-
ное» продолжение предельно разнесены: в стадии дискурса
киноспектакль приобретает форму речевого акта в самом
чистом виде — форму прямой апелляции к публике:
«Перёд глазами зрителя на экране проходили боевые
сцены, картины тяжелых поранений, эвакуация пострадав-
шего, его помещение в госпиталь, уход за ним. Потом вдруг
на экране появлялся один только светлый прямоугольник,
вверху которого копошилась какая-то козявочка. Эта козя-
вочка начинала расти, и тогда можно было разглядеть сестру
милосердия, шедшую издали прямо на зрителей. Фигура
сестры все близилась, росла; теперь видно было, что в ее
руках — кружка для сбора пожертвований. Но вот фигура
сестры-сборщицы выросла до нормальных размеров, и в этот
момент экран темнел, зрительный зал освещался, и перед
публикой появлялась живая сестра-оригинал, послуживший
моделью для съемки. Эта сестра с кружкой направлялась по
рядам зрителей, и ответом на остроумный, симпатичный трюк
обыкновенно являлся щедрый сбор пожертвований» [246,
с. 288].
Движение „на"
и семантика угрозы
Хотя экранно-сценические гибриды окончательно не пере-
велись — в 10-е годы к ним попеременно возвращались не
только Орленев или В. В. Максимов, но и петербургский Ма-
лый театр, «Летучая мышь» Н. Валиева, театр «Мозаика»,
Народный дом; в 20-е годы — Эйзенштейн в спектакле «Муд-
рец» и финальной сцене «Броненосца Потемкина», где, как и
в дадаистском финале «Антракта» («Entr’acte», 1924) у Рене
Клера, предполагалось вспороть экран с изнанки; а в наше
191
Глава 3. Лицевая граница текста
время — А. Васильев в спектакле «Вариации феи Драже»
(Рижский ТЮЗ, 1987) — прямое форсирование межвидовой
границы искусств ни в кинематографе, ни в театре не при-
вилось. Между тем семантический потенциал экранной пло-
скости, конечно, не исчерпывался трюком с живым актером.
Противостояние двух пространств, разделенных экраном, —
такую рецептивную ситуацию можно рассматривать в каче-
стве базовой для целого класса «чистых» (т. е. без примеси
театральных ухищрений) кинотекстов.
О каких кинотекстах идет речь? Выше говорилось о роли
глубинных построений у Люмьера, из исследования П. Жанна
известно, что у раннего Мельеса (еще не вышедшего из-под
влияния люмьеровских методов съемки) «каждый раз, когда
камера оказывается на пленэре, мы обнаруживаем все то
же движение параллельно оптической оси» [540, с. 19]; вме-
сте с тем такие же построения встречаются в фильмах «брай-
тонской школы» — тех из них, чьей задачей было вызвать у
зрителей чувство испуга. Для примера приведем два «брай-
тонских» фильма в описании Б. Солта: «Британские трюковые
картины с участием автомобиля можно соотнести с внекине-
матографической традицией английского «нонсенса», что за-
ставляет упомянуть о фильме «Каково бывает, когда тебя пе-
реедут» («How it feels to be run over»), снятом Хепуортом
в 1900 году. В этом фильме автомобиль едет прямо на камеру,
и когда он уже совсем рядом и вне резкости, экран стано-
вится черным и на нем появляются звезды, черточки и вос-
клицательные знаки, а потом надпись «Вот мама будет до-
вольна!» Вершиной в этом плане был «Большой глоток» («The
big swallow») , поставленный Уильямсоном в 1901 году. Пер-
вый кадр, снятый под углом зрения фотографа, показывает
пешехода, который приближается, пока его голова не запол-
няет экран. В этот момент пешеход открывает рот почти во
весь экран, затем следует кадр, изображающий фотографа
с аппаратом ... который падает в черную пустоту, а потом
финальный кадр показывает, как пешеход жуя на общем
плане приближается к нам» [582, с. 71].
Можно ли сюжеты такого рода помыслить в другой мизан-
сцене? По-видимому, трудно — самим фактом своего суще-
ствования ранние «фильмы ужасов» обязаны движению вдоль
оси взгляда. В отличие от движения «мимо», движение «на»
обладало способностью, аналогичной функции дейксиса в есте-
ственных языках — оно подключало зрителя к коммуникатив-
ной ситуации на правах прямого участника. Однако если на
люмьеровских сеансах для такого подключения было доста-
точно правильно выбранной кинезической оси кадра (зрители
шарахались от надвигающихся поезда, волны, экипажа), то для
искушенной публики 1900-х годов этого было мало4. Теперь
192
Часть II Межтекстовые связи
69—71. Сэм Дэлтон
в фильме
«Большой глоток».
193
Глава 3. Л1
(евая граница текста
движение «на» должно было носить определенную семантиче-
скую окраску.
Если рассматривать все фильмы, кинематографический эф-
фект которых построен на движении по оси взгляда «на нас»,
как класс однотипных текстов, легко заметить, что на разных
участках эволюции киноязыка они примыкают к разным жан-
рам: в кинематографе Люмьеров — к жанру «видовых» (т. е.
хроникальных) картин, у раннего Мельеса — к жанру истори-
ческих реконструкций (т. е. к картинам квазихроникальным),
в рамках «брайтонской школы» — к трюковым постановкам
(напомним, что трюковые фильмы Мельеса, напротив, после-
довательно придерживались оси «мимо»).
Помимо того, в середине 1900-х годов к оптической оси
примыкали все построения в жанре «погони» (кроме, опять
же, «погонь» у Мельеса, курьезным образом напоминающих
«мизансцены» в современных компьютерных играх: и тут и там
преследование разматывается не линейно — из кадра в кадр,
а в пределах неизменного пространства; мельесовские погони
цикличны — исчезнувший за боковой рамкой персонаж может
тотчас появиться из-за противоположной), а также, что менее
известно, в «видовых» картинах постлюмьеровского периода.
Следует заметить, что при достаточной изученности ран-
него игрового кино видовой кинематограф первых десятилетий
не изучен совсем — сказывается (ошибочная) презумпция од-
нородности этого жанра и неструктурное™ его единиц. Между
тем есть основания полагать, что в массиве ранних видовых
фильмов существуют свои жанровые подразделения и свои
формулы монтажа и мизансцены. Во всяком случае, таковые
прослеживаются в корпусе картин, снятых в середине 1900-х
годов странствующим оператором Ф. Месгишем и описанных
в его мемуарах. Выученик школы Люмьера, Месгиш понимал
действенность движения по оси взгляда и умело пользовался
этим приемом. Вот один из целого ряда подобных друг другу
примеров (речь идет о хроникальном фильме «Король Испании
Альфонс XIII на охоте» («Le Rot Alphonse XIII a la chasse»):
«<...> Я слежу, как он целится из ружья прямо в мой
аппарат. Не дрогнув, я продолжаю снимать. Он [король] все
ближе и ближе, вот его глаз в упор смотрит в объектив. Не
имея возможности двигаться дальше, он останавливается и
говорит мне: «Надеюсь, я не промахнулся?» <...> Публика
заметно оживлялась по мере того, как ее суверен увеличивался
на экране, пока тридцати квадратных метров не переставало
хватать, чтобы уместить на них сначала лицо короля, потом
его глаза и рот, выросший до невероятных размеров»
[577, с. 84].
Не вызывает сомнений, что видовые картины такого рода
и игровые наподобие «Большого глотка» Уильямсона принадле-
13 102326
194
Часть П Межтекстовые связи
72. Феликс Месгиш (рис. Надэна).
жат к одному циклу, причем циклизация здесь происходит
поверх жанровых барьеров. Кому бы ни принадлежала ини-
циатива построить мизансцену охоты по оси взгляда — опера-
тору Месгишу или Альфонсу XIII (это не меняет дела — оба
в равной мере являются носителями кинематографических
пристрастий эпохи), такое построение идет вразрез с более
поздними представлениями о том, как положено смотреть
документальное кино, а как — игровое. Признаки приключен-
ческого жанра, например, можно было наблюдать именно в
жанре «видовых» фильмов. Особым успехом пользовались
квазихроникальные картины, изображавшие «драму» на охоте
в различных частях света (в частности, «Охота на медведя
в России», разыгранная статистом в медвежьей шкуре, но при
этом в условиях настоящей охоты). Одна из таких импровизи-
рованных инсценировок попала в историю кино вместе с ле-
гендой, для нее созданной. Ф. Шипулине кий всерьез описывает
картину, снятую «безымянным оператором» во время сафари
в Африке: «Он поставил аппарат рядом с приманкой, и разъя-
ренный лев прыгнул на него, смяв аппарат и самого оператора,
продолжавшего автоматически, очевидно, обезумев от ужаса,
вращать ручку до последнего момента. Оператор погиб, но
195
Глава 3. Лицевая граница текста
зрители могли видеть через несколько недель прыжок льва,
покрывшего своим телом весь экран» [442, с. 66].
Касаясь 10-х годов, можно говорить об отдельных кадрах,
намеренно построенных с таким расчетом, чтобы с помощью
движения персонажа на зрителя нагнеталась семантика уг-
розы. Приведем два бесспорных примера: крадущиеся ганг-
стеры из «Мушкетеров Пиг Элли» («The musketeers of Pig
Alley», 1912) Д. У. Гриффита направлены так, что их лица
по очереди заполняют весь экран. В «Коробейниках» Н. Сал-
тыкова (1917) убийца надвигается на зрителя до тех пор, пока
на экране не остаются одни глаза.
Может показаться, что прием принудительного дейксиса,
когда зрителя берут «на испуг», слишком наивен для публики
наших дней и подобно экранно-сценическим гибридам стал
достоянием истории. Но не следует недооценивать атавистиче-
ских («регрессивных», сказал бы Эйзенштейн) механизмов
киноязыка. Как показывает, например, практика А. Хичкока,
мастерски сгущенная атмосфера угрозы (suspense) может вы-
вести восприятие из состояния автоматизма и вернуть элемен-
там мизансцены их былую способность к травматическому
воздействию.
Пример, приведенный Хичкоком в его книге-интервью,
относится к фильму «Саботаж» («Sabotage», 1937), к эпизоду,
предваряющему убийство. Зритель, как и жертва, по ходу
сцены догадывается о намерении убийцы — Верлока. Хичкок
так объясняет свой выбор мизансцены: «Верлок встает и об-
ходит стол, двигаясь прямо на камеру с тем, чтобы у зрителя
в зале возникло ощущение, будто он должен посторониться и
уступить Верлоку дорогу. Он должен инстинктивно отшат-
нуться, откинуться назад в кресле, чтобы дать убийце пройти»
[535, с. 80). Это инстинктивное движение, известное кинемато-
графу со времен «Прибытия поезда» Люмьера, по-видимому,
не всегда следует трактовать в плане моторики (и в этом
отличие рецепции нового времени от поведения первых зри-
телей, буквально сбегавших из первого ряда5), однако не под-
лежит сомнению, что и нынешний зритель при совокупности
определенных семиотических условий внутренне соотносит
положение своего тела с расстановкой и движением тел в
пространстве экрана — только это происходит каким-то опо-
средованным образом, не столько в плане поведения, сколько
в плане самоощущения тела в пространстве.
13*
196
Часть П Межтекстовые связи
Экран как граница
В рецептивном универсуме немого кино неидентичность
«истории» и «дискурса» облекалась в привычные культурно-
антропологические формы. В России 1910-х годов противопо-
ставление мира экрана («там и тогда») миру, в котором раз-
вертывается процесс восприятия («здесь и теперь»), с готов-
ностью выливалось в противопоставление «чужого» и «своего»,
«иностранного» и «русского». Характеристика «иностранное»
закрепилась за кинематографом прежде всего исторически —
первые десять лет русский зритель знал кино только по
фильмам заграничного производства. Но и сам образ «загра-
ницы» для многих складывался исключительно из кинемато-
графических впечатлений. Повторяющийся мотив мемуарных
свидетельств о первом посещении кино — первая в жизни
встреча с морем и первое свидание с Парижем6. Характерен
посвященный этому фрагмент воспоминаний Е. А. Иванова-
Баркова, мальчиком посетившего кинобалаган в родной Ко-
строме: «Полная темнота и тишина — все насторожились.
Сзади начинает стрекотать аппарат. Внезапно перед нами
вспыхивает синеватым трепетным светом прямоугольник, на
нем появляется надпись белыми буквами: Большой пожар в
Париже. И вслед за этим происходит невиданное чудо! Стена
балагана мгновенно исчезает. Прямоугольник становится боль-
шим настежь распахнутым окном — прямо на улицу города
мировой славы — Парижа! Как?! Что такое?! Потрясающе!!
Улица полна движения! А люди! люди! Подумать только!
Живые люди! идут, шагают, спешат во всех направлениях!
Один остановился перед нами, что-то говорит, машет нам ру-
кой, спешит дальше ...» (171, л. 105].
Ошарашивающее внезапностью вторжение европейского
быта приводило к тому, что мембрана экранной плоскости
оказывалась последней границей между сблизившимися до
напряжения полями культурно-антропологических представ-
лений «свое» и «иностранное». Рецепция кино вступала в резо-
нанс с более глубокими пластами национального сознания.
Какие свойства приобретал экран в этой ситуации? Почти
осязаемая близость «чужого» подчеркивала непроницаемость
и беззвучность, «немоту» границы. В репертуаре рецептивных
аллегорий экран, действительно, чаще всего приравнивался
к чудом возникшему окну, хотя и не «настежь распахну-
тому», — экранная плоскость представала пусть прозрачным,
но занавесом. Упомянутый Ивановым-Барковым пешеход, ко-
торый «что-то говорит, машет нам рукой», — персонаж не
случайный. Реципиент эпохи Люмьера обостренно реагиро-
вал не только на движение по оси взгляда, но и на взгляд по
197
Глава 3. Лицевая граница текста
этой оси. Как и оно, взгляд с экрана имитировал преодоление
экранной плоскости, накоротко замкнув два пространства —
«свое» и «чужое», «сейчас» и «тогда». В тех случаях, когда
полюса рецептивного пространства ориентировались по ду-
альным моделям, прочнее, чем кинематограф, укорененным в
сознании культуры, взгляд в камеру мог возыметь действие,
не предусмотренное авторами фильма.
Такой случай использован в «Волшебной горе» Т. Манна.
Дело в том, что «видовые» фильмы 1900-х годов, ценившиеся
тем выше, чем больше в них было элемента экзотики, в ре-
цептивном сознании европейского зрителя затрагивали струну
такой фундаментальной оппозиции, как противопоставление
«природы» и «культуры». В романе Манна обитатели высоко-
горного санатория в Альпах с волнением следят, как с экрана
кинематографа молодая марокканка с тугой полуобнаженной
грудью, улыбаясь, машет им рукой [244, с. 443], — у Манна
эта ситуация вторит философскому тезису «Волшебной горы»
о конфронтации в человеке дионисийского и аполлонического
начал. Не менее примечательно и «чувство какого-то бес-
силия», охватившее зрителей от невозможности ответить на
это приветствие: «прозрачность» экрана только усугубляла
его непроницаемость.
Возвращаясь к культурно-антропологическим импликациям
кинематографа в России, следует сказать, что в 1910-е годы,
с ростом русского кинопроизводства, экранное пространство
не утратило признаков «иностранного». Напротив, «нерусская»
маркировка пришлась впору русским фильмам (не говоря
уже о картинах «Патэ» на русские темы), последовательно
испытавшим на себе влияние французской, датской и италь-
янской кинематографии. Рецептивное ощущение «чужого»
усугубилось, обогатившись вариантами: «свое на чужой лад»,
«чужое в обличье своего»7. Смешение черт (а точнее — бес-
признаковость: «Француз ли на экране или русский — это
безразлично, вы угадываете это только случайно. Экран дает
маску современности, совершенно лишенную типических черт
среды или нации» [118, с. И], — заметил один наблюдатель
в 1917 г.) позволяло отождествить мир экрана еще с одной
мировоззренческой моделью, к концу 10-х годов особенно
занимавшей умы. В статье Д. В. Болдырева «Пролеткульт»8
находим уподобление кинематографа возобладавшей в те
годы социальной утопии: «Великий Немой есть в то же время
великий интернационалист, есть до известной степени сам
интернационал. Магическое и мистическое слово, ты стано-
вишься, наконец, видимой плотью или — вернее — призра-
ком плоти на экране кинематографа. «Господин Арнольд
весело проводит время в своей роскошной вилле «Россия».
Его посещает известный художник Павел Плантаров...»
198
Часть П Межтекстовые связи
Или «Граф Иоанн Меньшиков влюбляется в красавицу-
испанку Маню Кручини» — вот интернационал подлинный,
живой и наглядный, раскрывающий в образах загадочные
формулы Кинталя и Циммервальда. И нет и не будет другого
интернационала, кроме этого экранного международного мифа
аферистов, сыщиков, спортсменов, тангистов, туристов, апа-
шей, раджей, кокоток, атлетов, банкиров, дельцов и бездель-
ников, кроме этого вавилонского столпотворения имен, ко-
стюмов и стран, кроме этого отвратительного воляпюка, на
котором «Великий Немой» говорит со всем земным шаром.
Огненные электрические слова, которые с некоторых пор
начали зажигаться на небосклонах даже самых скромных
и тусклых, все эти «Триумфы», «Молнии» и «Конкордии», это
нечто большее, чем реклама какого-нибудь безобидного мыла
или одоля, это, можно сказать, пророческие слова, своего
рода «Мене, Такел, Фарес», начертавшиеся над входом в цар-
ство • интернационала и социализма. Глядите, за небольшую
плату вам показывают как бы панораму на Земной Рай, ко-
торый пока цветет для немногих где-то на самой макушке
горы, на Олимпе, но который по природе своей предназна-
чен для всего широкого подножья горы и даже для самых
низких долин» [72].
По ходу общественного развития в рецептивном соответ-
ствии «экран : заграница» открылась дополнительная емкость:
оно оказалось способным обозначить новую культурно-геогра-
фическую ситуацию. По меньшей мере дважды это представ-
ление мелькнуло в литературных описаниях, затрагивающих
тему самоощущения эмигранта, и оба раза неожиданной сто-
роной. Ганину, герою «Машеньки» В. Набокова, «казалось, что
чужой город, проходивший перед ним, только движущийся
снимок» [19, с. 82]. А. Куприн в письме из Парижа жаловался
на Париж: «Все, что в нем происходит, кажется мне не
настоящим, а чем-то вроде развертывающегося экрана кине-
матографии. Понимаешь ли, я в этом не живу» [270, с. 4].
Не слишком поступаясь корректностью, можно эксплици-
ровать силлогизм, который угадывается в этих вскользь бро-
шенных метафорах: экран равнозначен загранице, я — за
границей, следовательно, я на экране, т. е. в той плоскости
существования, «где нас нет», в которой, возвращаясь к па-
раллели' из Бенвениста, исключены высказывания с участием
личных местоимений «я, ты». Понятно, что у такого зрителя
восприятие доходивших до него картин советского производ-
ства бывало опосредовано непредсказуемыми рецептивными
наслоениями. Узнавание улиц, подробностей быта, второсте-
пенных деталей часто оказывалось фактом более сильным,
чем развертывающийся на этом фоне сюжет. Складывался
своего рода рецептивный контррельеф. Более того, доминан-
199
Глава 3. Лицевая граница теиста
гой рецепции могла стать именно непроницаемость, непрео-
долимость экранной границы, и тогда всякий намек (движе-
ние, взгляд) на ее преодоление воспринимался так же остро,
как в эпоху Люмьера.
Пример, который мы собираемся привести, не вполне обы-
чен — он осложнен привходящими личными обстоятельст-
вами, но как раз эти обстоятельства позволяют наблюдать в
предельной форме роль экранной плоскости в комплексе
рецептивных переживаний интересующего нас круга. Речь
идет о фильме «Выборгская сторона» Г. Козинцева и Л. Трау-
берга (1939), в котором рассказывается о деятельности нар-
комовского комиссара по национализации Государственного
банка сразу после революции. В воспоминаниях Н. Н. Бербе-
ровой есть относящийся к концу 30-х годов эпизод, в котором
мемуаристка, узнав, что одну из эпизодических ролей в этой
картине играет ее отец, Н. Берберов, проникает на закрытый
парижский просмотр. В книге мемуаров эта история изложена
так: «На Невском в 1935 г. (датировка, видимо, не точна. —
Ю. Ц.) к нему подошел режиссер Козинцев и сказал ему:
«Нам нужен ваш типаж».10 — «Почему же мой? — спросил
отец. — У меня нет ни опыта, ни таланта». — Но у вас есть
типаж, — был ответ, — и с такой бородкой и в крахмальном
воротничке, и с такой походкой осталось всего два-три чело-
века на весь Ленинград. Одного из них мы наняли вчера» (это
был бывший камергер и балетоман Ковра некий, чудом уце-
левший с такой бородкой и в таком воротничке). И мой
отец сыграл первую роль: бывшего человека, которого в конце
концов приканчивают. За ней были другие. Гримироваться ему
почти не приходилось... Директор банка был арестован
вместе со своими приспешниками, и на экране и в зале толпа
яростно кричала: Бей его! Дай ему в зубы! Кроши врагов
рабочего класса! Мой отец в последний момент успел вылить
банку чернил на открытую страницу гроссбуха, доказав, что
до последнего вздоха он будет вредить делу Ленина. Его по-
вели к выходу. В воротах Госбанка ему дали минуту, чтобы
остановиться, взглянуть на Екатерининский канал, на петер-
бургское небо, мутившееся дождем, и прямо на меня, сидящую
в парижском зале. Глаза наши встретились. Его увели под
конвоем. И больше я его никогда не видела. Но несколько
слов, произнесенных им, донесли до меня его голос, его
улыбку, быстрый говорящий словами взгляд его карих глаз.
После пятнадцати лет разлуки какая это была встреча! Не
всем на роду выпадает счастье увидеться после такой раз-
луки и перед тем, как расстаться уже навеки!» [57, с. 42—43] п.
Таким образом, вы вправе считать, что рассмотренные здесь
построения по оси, пересекающей плоскость экрана, являются
градационными вариантами одного и того же семиотического
200
Часть II Межтекстовые связи
жеста — дейксиса. Эти варианты можно расположить по сте-
пени реализованности — от имитации прямого прободения
экрана в экранно-сценических гибридах до «обмена взгля-
дами» — намеренного12 или непроизвольного — между зри-
телем и персонажем. Но если означенные гибриды — прием
театрального происхождения, а движение «на» плоскость —
прием чисто кинематографический, то дейктическая функция
взгляда на зрителя отмечена уже в изобразительном искусстве
прошлых веков13.
Два замечания
о взгляде в объектив
В заключение этой главы следует сделать два замечания.
Одно из них касается повествовательных валентностей текста
в связи с осями «на» и «мимо». Не подлежит сомнению, что
«история» как нарратологическая категория оказывает пред-
почтение «плану истории» в означенном выше смысле. Ось
«мимо» оказывается преимущественной осью повествования —
в раннем кино это обстоятельство в значительной степени пред-
определяло построение мизансцен, в позднем — обусловливало
запрет на взгляд в камеру, который тем строже, чем строже
повествовательный императив данного жанра. И в том, и в
другом случае зависимость между осью внутрикадрового про-
странства и степенью повествовательности текста нежестка и
частична — она характеризует не каждый случай в отдельно-
сти, а общее ощущение «правильности» того или иного по-
строения для повествования определенного типа. Даже в рам-
ках такого «крепкого» жанра, как триллер, мы наблюдаем
примечательные нарушения соответствующих запретов — пря-
мым взглядом в камеру злоупотреблял Хичкок [535, с. 306]
(что можно поставить в связь с его излюбленным приемом
внезапного движения «на» [582, с. 316]); в фильме «Мой друг
Иван Лапшин» (1985), художественный смысл которого — вос-
становление нарушенных связей между «планом истории»
(жизнь СССР 30-х годов) и «планом дискурса» (миром «здесь
и теперь»), А. Герман, по его собственному признанию, одних
персонажей лишил права на взгляд в камеру, других (в их
числе — мальчик, от лица которого ведется повествование)
таким правом наделил (в неосуществленном финале фильма
предполагалось, что группа людей, спрятавшихся от дождя
в парадном подъезде, молча смотрят с экрана на зрителя, пока
усилившийся дождь не заслоняет их плотной завесой).
201
Глава 3. Лицевая граница текста
Другое замечание относится к рецептивным последствиям
построений по оси «на». Из приведенных примеров можно за-
метить, что каждый раз, когда зритель обостренно реагирует
на взгляд с экрана или попытку форсировать его плоскость
изнутри, мы наблюдаем один и тот же перепад рецептивных
реакций. Этот перепад происходит в области оценки фатиче-
ских функций текста. Странная половинчатость в соотношении
между присутствием и отсутствием (К. Метц так определил
этот аспект психологии кино: «Во время проекции фильма
публика присутствует при игре актера, но актер для публики
отсутствует; во время съемки, когда присутствовал актер,
отсутствовала публика» [559, с. 117]) порождала соблазн
«округлить» это соотношение до целой величины — привычной
системы условностей, лимитируемой не технологией, а тради-
цией. Поезд Люмьера, как мы знаем, вызывал двойственную
реакцию, своего рода «рецептивный дуплет»: страх, когда
поезд надвигался из глубины кадра, и смех, когда головная
часть состава исчезала за его кромкой, — было непонятно,
куда подевался паровоз? Независимо от конкретного эмоцио-
нального наполнения, рецептивный перепад в оценке кино-
текста и впоследствии сохранял неизменную структуру. Пере-
оценка фатической способности кинотекста (контактоустанав-
ливающая функция взгляда — парижского ли фланера из
фильма Люмьера или эпизодического персонажа из «Выборг-
ской стороны») тотчас же переходила в свою противополож-
ность. Наступала фаза фрустрации контакта, — «встреча»
оборачивалась невстречей. Отсюда — описанное Т. Манном
«чувство бессилия»; отсюда — трагическая сцена узнавания
в романе Набокова «Bend Sinister» (1947), когда героя —
жертву тоталитарного режима в вымышленном государстве —
заставляют смотреть хронику казни его сына; скользнув с эк-
рана, взгляд мальчика встретился с отцовским, но ребенок
отца не узнал. Взгляд в камеру заострял противоречивые свой-
ства экранной границы, служил испытанием ее на проницае-
мость и прозрачность; в этом отношении он оставался верным
жанру, к которому генетически восходил, — жанру циркового
фокуса с его искушением осторожно «пощупать» экран, с
игрой в иллюзию и ее утрату.
Тлаба 4
Культурная рецепция.
Фильм как объект
межсемиотического перевода
Понятие культурной рецепции
До сих пор мы говорили о рецепции, не вдаваясь в проб-
лему ее материального носителя. В дело шло любое достовер-
ное свидетельство о том, как воспринималась та или иная
особенность текстовых или внетекстовых структур. Нас инте-
ресовал характер рецепции (скажем, рецептивный стресс, вы-
званный невозможностью разрешить пространственный пара-
докс «исчезающего поезда», или амбивалентная рецепция на-
чала и конца фильма), ее содержание (в частности, соотношение
восприятия текстовых и внетекстовых элементов), а не область
ее пребывания, след, а не субстанция, в которой след отпе-
чатался.
Между тем ранний кинематограф существует и в таких
эманациях, уловить которые способен лишь более чуткий ре-
цептор, нежели рядовой зритель или записной рецензент. Та-
ковы язык кино (в широком смысле) и его излюбленные мо-
тивы, повествовательные приемы киноязыка, словом, совокуп-
ность черт, составляющих слагаемое феномена «культурное
своеобразие». Культурное своеобразие кинотекста — понятие
строго историческое, не исчерпываемое сегодняшним пред-
ставлением о «специфике кино», а тем более тем представле-
нием, которое может создаться у современного нам наблюда-
теля, задавшегося целью чисто эмпирически, без поправки на
наблюдателя той эпохи, определить, чем был кинематограф
в восприятии культуры начала XX века. Ответа на последний
вопрос, по всей видимости, мы можем ожидать только от са-
мой этой культуры.
203
Глава 4. Культурная рецепция
Культурная рецепция раннего кино — это перевод, где
язык оригинала — язык кино, а язык перевода — тексты
«традиционных» искусств: литературы, живописи, театра.
С момента появления в городском обиходе кинематографа
между ним и традиционными искусствами устанавливаются
отношения интенсивного обмена. Переимчивость раннего кино
ни у кого не вызывает удивления. Нарождавшийся язык кино
испытывал постоянный дефицит изобразительных форм и
приемов повествования и с возрастающей готовностью асси-
милировал их из сферы традиционной художественной куль-
туры, не обнаруживая при этом особой избирательности. В ре-
зультате для кинозрителя 900-х годов пространство фильма
становилось полем самых неожиданных культурных сбли-
жений.
Так, в главе о музыке мы упоминали фильм «Стенька
Разин» (1908, сц. В. Гончаров, реж. В. Ромашков), одну из пер-
вых русских игровых картин. В этом фильме акустический
ряд представлял собой симфоническую обработку народной
песни. В плане соотношения надписей и изображений картина
строилась по принципу лубка, однако сами по себе и надписи,
и изобразительный ряд далеко отстояли от лубочной традиции.
В изобразительном плане фильм отталкивался от картины
В. И. Сурикова «Степан Разин» и некоторых многофигурных
композиций полотен передвижников, тогда как словесный ряд
фильма совмещал сюжет песни «Из-за острова на стрежень»
с элементами романтического письмовника. «Разность потен-
циалов» киноязыка начала века создавало напряжение между
Лой мишй пешнцъУассан/ъ.
лшъ тяжко лшт/ъ /г тяжелой
соиш/ъ оошистиял нашлшь.
Лро&пш и w jtufwt мня.
ЛМоя оо уимй нес/ишьная
к/нялюна.
73. Подметное письмо из фильма «Стенька Разин».
204
Часть II Межтекстовые связи
взаимоудаленными пластами культуры, на которые он был
вынужден опираться и гибридизации которых невольно спо-
собствовал.
Сложнее обстоит дело со встречным потоком заимствова-
ний — из арсенала кинематографа в репертуар форм традици-
онной культуры. Если объем и характер попыток воспроиз-
вести черты кинозрелища в текстовой фактуре стихотворения,
рассказа, спектакля или книжной иллюстрации заставляют
предположить за кинематографом особую роль в культурной
жизни эпохи, то выяснению этой роли препятствуют разно-
образие и изменчивость форм, в которые такие попытки об-
лачены. Прежде всего, кинематограф на протяжении первых
двадцати лет своей истории был не равновелик себе. К тому
же, как отмечалось выше, кинозрелище подчас воздействовало
на традиционные искусства самыми неожиданными сторонами,
включая и те, что для сегодняшнего зрителя безвозвратно утра-
чены (шум проекционного аппарата, подрагивание изображе-
ния, пульсация контура цветного виража и т. д.). Наконец,
многократно повышал ее избирательность беспрецедентный
приток новых импульсов, испытываемых традиционной куль-
турой на рубеже XIX—XX веков. Усиленная ассимиляция со-
провождалась столь же активным «выталкиванием» кинема-
тографа из лона культуры, причем выбор принадлежал лишь
традиционным формам культуры, которые отвергали или
усваивали те или иные черты кинематографа, «сообразуясь»
с интересами собственного развития. В процессе переноса на
материал традиционных искусств признаки «кинематографи-
ческого стиля» обрастали многослойными мотивировками,
весьма далекими от изначальных.
Театральная рецепция
трюкового кино
(«Синяя птица» в МХТ)
С предельной наглядностью особенности культурной адап-
тации кинематографа проступают на примере русского теат-
рального искусства. По точному наблюдению М. Н. Алейни-
кова, «рождение кинематографа в России совпало с кризисом
театра» [12, с. 13]. Понятие «кинематограф» весьма скоро
становится достоянием театральной мысли эпохи, а «кине-
205
Глава 4. Культурная рецепция
матографичность» спектакля — внутритетральной проб-
лемой.
Наиболее показательным в этом отношении является опыт
Московского Художественного театра. Влиянию МХТ на
кино посвящена обширная литература. Первая неподписанная
статья на эту тему появилась уже в 1907 г. [13, с. 1]. Она
принадлежала перу М. Н. Алейникова, впоследствии автора
одной из монографий по этому вопросу [12]. О влиянии
МХТ на киноискусство писали и приверженцы театра [308],
и оппоненты его художественных методов (312, с. 35], тогда
как вопрос о воздействии кинематографа на Московский Ху-
дожественный театр почти не затрагивался, если не считать
некоторых аспектов, обсуждавшихся в неопубликованных
воспоминаниях М. Н. Алейникова [ 11 ], а также небольшой
статьи Вен. Вишневского 1Ю2]. А между тем К. С. Станислав-
ский и В. И. Немирович-Данченко были в числе первых, кто
обратил внимание на кинематограф и чьи спектакли, хотя
далеко не большая их часть, были отмечены интересом к вос-
произведению особенностей кинематографического представ-
ления1. В этой главе мы остановимся на одном эпизоде из
истории Художественного театра и попытаемся на этом
примере проследить за развитием диалога между кинемато-
графом и устоявшимися формами театрального спектакля
первого десятилетия XX века.
В одном из своих писем, касаясь состояния театра конца
900-х годов, М. Н. Ермолова с горечью писала: «Долго мерцал
светлый огонек искусства, и тот погас, и осталась только «Си-
няя птица», электротехническая пьеса, как они сами ее
называют, или попросту: синематограф» [159, с. 137].
Мнение об особой «кинематографичности» поставлен-
ного в 1908 г. спектакля Московского Художественного
театра по (пьесе М. Метерлинка «Синяя птица» вскоре после
премьеры становится расхожим. Через год после первых га-
строльных показов спектакля в Петербурге К. С. Станислав-
ский пишет в Москву: «Конечно, хулиганы-рецензенты
ничего, кроме синематографа, не видят в пьесе» [354, с. 426].
Понятием «кинематограф» в те годы оперировали не
только театральные критики. Складывающееся понимание
кинематографа как текста с некоторыми лишь ему прису-
щими характеристиками накладывало отпечаток на восприя-
тие искусств, отношения к кино не имеющих. Кинематогра-
фичность могла «вчитываться» и в драматическое произведе-
ние. Узнав, что Леонид Андреев дал разрешение на экрани-
зацию пьесы «Тот, кто получает пощечины», московские
театралы шутили: «Экран покажет, что пьеса настолько теат-
ральна, насколько театр доказал, что она кинематографична»
[406, с. 16].
206
Часть П Межтекстовые связи
При этом образ кинотекста распознавался не только в
современных пьесах, но и как бы «задним числом» — в дра-
мах, сочиненных до изобретения кино. Кинематограф стано-
вился своеобразным критерием для типологизации драматур-
гического и литературного стилей. Так, по общему мнению,
предельно некинематографично письмо Чехова, тогда как
манера Льва Толстого объявляется литературным прообразом
кинематографа. П. Сторицын в 1914 г. писал о Толстом:
«Широкие, размашистые мазки его гениальной кисти будут
так же выпуклы на полотне, как и на бумаге. Но то, что
сквозит между строками чеховских книг <... > не может
быть на экране, как не может быть стихотворение Блока
напечатано на огромной афише, как нельзя слушать нежный
любовный шепот из граммофонной трубы» [359, с. 6—7].
Однако «кинематографичность» стиля Толстого усматрива-
лась критикой 10-х годов не только в «размахе» повествова-
тельИых приемов. По мнению А. А. Амфитеатрова, драматур-
гическая техника Толстого имеет черты, общие с технологи-
ческими параметрами кинематографа 10-х годов: ««Первый
винокур» и «Живой труп», «Свет и во тьме светит» — все это
упрощенное донельзя действие, схематическое мелькание
воплощенных идей, возбуждающие недоумение и неудо-
вольствие на драматической сцене, — будто по пред-
чувствию рассчитано на кинематографическую быстроту в
механически мигающей смене» (ЦГАЛИ, ф. 34, on. 1, ед. хр. 96,
л. 4).
Возвращаясь к «Синей птице», следует отметить, что, атте-
стуя этот спектакль как «выдающуюся синематографическую
постановку» (Ф. Комиссаржевский) [173, с. 262], рецензенты,
как правило, не указывали, что именно навело их на мысль
о его кинематографичности. Складывается впечатление, что
критикой улавливалась лишь общая тенденция спектакля, а
не конкретные детали его «кинематографического» облика.
При анализе этой тенденции следует учитывать по меньшей
мере два ряда совпадений, убедительность которых в глазах
современников оказывалась тем выше, чем случайнее они
выглядели с точки зрения рационального наблюдателя.
Во-первых, идея кинематографа латентно присутствовала
в том круге представлений, который связывался в России с
фигурой Метерлинка. В кинолитературе 10-х годов сопостав-
ление творчества Метерлинка и принципов киноязыка было
едва ли не общим местом. Немота кинематографа в сознании
современников сопрягалась с получившей широкую извест-
ность программной статьей Метерлинка «Молчание». Предпо-
лагалось, что с изобретением кино «поэзия молчаливых взгля-
дов, которую пророчески предвосхитил Метерлинк, уже ро-
дилась» [343, с. 4].
207
Глава 4. Культурная рецепция
Такая аналогия не чужда была и кругу МХТ. Так, в год
постановки «Синей птицы» А. Бенуа публикует «Беседу о ба-
лете» — диалог, в котором есть и суждение о кино в духе
«идеи молчания» Метерлинка: «Художник: После всех иску-
шений нашего мозга, после всех слов, то сбивчивых и нудных,
то пошлых и дурацких, то туманных и выспренных, хочется
на сцене молчания и зрелища. Балетоман: Так идите в кине-
матограф! Художник: Что же, может быть, именно в этом
одном безотчетная причина его подавляющего успеха. Мол-
чание золото, ибо оно скрывает все возможности, и в молча-
ние укладывается всякая мысль» [54, с. 103—104].
Некоторые рецензии на постановку «Синей птицы» писа-
лись с проекцией на статью Метерлинка «Молчание», с одной
стороны, и на немоту кинематографа — с другой. В этом
плане показательно отношение русской театральной общест-
венности к особенностям диалога в пьесе «Синяя птица». Сю-
жет пьесы, лишенный обязательного для драматургии тех лет
«нарастания», как правило, воспринимался как бездействен-
ный. У критиков возникало ощущение сдвига, несоотнесенно-
сти между словесным рядом и сценическим действием, В
рецензиях оно описывалось противоречивым образом. Если
одни рецензенты оценивали словесную ткань пьесы как
лишенные действия «потоки фраз» [452, с. 4], то на других
текст «Синей птицы», напротив, производил впечатление
излишне лапидарного. Ко вторым принадлежал, в частности,
А. В. Луначарский, в течение ряда лет пристально следивший
за творчеством Метерлинка. Пытаясь обосновать свое заклю-
чение о «нехватке» слов в «Синей птице», Луначарский писал:
«Такова модернистская драма, уничтожающая не только
действие, но и диалог, и тем самым фатально стремящаяся
к немому театру — синематографу» [431, с. 77]2.
Поводом для сближения «Синей птицы» и «синематографа»
могло послужить и столь же случайное наложение другой
пары непересекающихся семантических полей. Само слово
«синематограф» к 1908 г. еще не потеряло аромата новизны.
В стихах и эссе о кино, в частности в кругу поэзии симво-
лизма, охотно обыгрывалась его звуковая форма. Так, А. Бе-
лый в 1907 г. обыгрывал фонетическую близость слов «сине-
матограф» и «синяк» [38, с. 350], а В. Брюсов включает стихо-
творение «Синема моего окна» в раздел «Синий» цикла «Семь
цветов радуги». Отголосок этого брюсовского стихотворения
1914 г. —
Мир шумящий, как далек он,
Как мне чужд он! Но сама
Жизнь проводит мимо окон
Словно фильмы синема [78, т. 2, с. 158]
208
Часть II Межтекстовые связи
в 1943 г. прозвучал в стихах Г. Шенгели «Зима 1901» (указа-
нием на этот текст мы обязаны М. Л. Гаспарову):
И с тех пор, неодолимо,
Жизнь, бесцветна и нема,
Для меня проходит мимо
Синей марой cinema [439]»
последняя строка которого возводит связь между кино и си-
ним цветом в ранг каламбура. По-видимому, полуавтоматиче-
ское следование такого рода ассоциации могло способствовать
сближению «синематографа» и «Синей птицы» в зрительском
восприятии, высвобождая межтекстовые связи более реаль-
ного плана.
Возникает вопрос: в какой мере сближение «синемато-
графа» и «Синей птицы» является непроизвольной метафорой,
навеянной такими «нечаянными» смежностями в русской
культуре начала века, как «синема» и «синева» или как метер-
линковский культ молчания и немота раннего кинематографа?
Является ли «синематограф» «Синей птицы» своеобразным
«коротким замыканием» смысла между этими мнимо сход-
ными, а потому взаимно напряженными полями, или же вос-
произведение свойств кинозрелища в ткани спектакля вхо-
дило в художественные намерения его создателей?
Исследователь раннего русского кино Н. Иезуитов конста-
тирует «различие источников» [173, с. 262] кинематографа и
перекликающихся с ним театральных спектаклей, в том числе
и «Синей птицы». Замечания, рассыпанные по письмам и
записям К. С. Станиславского и его сорежиссера по «Синей
птице» Л. А. Сулержицкого, на первый взгляд, свидетельст-
вуют об обратном. Вскоре после постановки Сулержицкий
сообщил журналистам; «Значительной долей своего успеха
феерическая постановка «Синей птицы», приведшая в такой
восторг зрителей, обязана именно кинематографу. Наши
опыты удались, и мы думаем в дальнейшем уделить еще боль-
шее внимание кинематографу при постановках» [361, с. И].
Тем не менее мы не можем полностью опровергнуть ут-
верждение Н. Иезуитова об отсутствии общих источников
у кинематографа и спектакля «Синяя птица». В случаях меж-
текстовой мимикрии, к которым принадлежит рассматривае-
мый нами пример «кинематографичности» «Синей птицы»,
вопрос об источниках предельно усложняется, а иногда и
вовсе теряет смысл. Действительно, соображения хронологии
и линейной преемственности, казалось бы, диктуют следую-
щую схему происхождения спектакля. Как известно, М. Ме-
терлинк писал «Синюю птицу» с расчетом на ее постановку
средствами театра феерий и при создании основных ее эпи-
зодов исходил из возможностей такого театра. Пьеса без
209
Глава 4, Культурная рецепция.
труда вписывается в сценические параметры жанра феерии,
который, таким образом, может считаться ее источником.
Вместе с тем театр феерий является источником (а также тех-
ническим подспорьем) фильмов Ж. Мельеса, пользовавшихся
необычайным успехом в России именно в 1907—1908 гг.,
когда со смертью М. В. Лентовского русский феерический
театр практически сошел на нет. Если при реконструкции
восприятия «Синей птицы» зрителем конца 900-х годов исхо-
дить из предпосылки выполнения постановщиками заложен-
ного в пьесе жанрового задания, легко предположить, что
русская публика опознала в спектакле МХТ мотивы феериче-
ского представления и приписала их влиянию на него «сине-
матографа» Мельеса.
Тем не менее история мхатовской постановки показывает,
что подобная реконструкция была бы неверной. В пьесе
Метерлинка критика начала века усматривала несколько
источников. Для русского символизма важным представля-
лось влияние на «Синюю птицу» немецких романтиков, в част-
ности Новалиса [462, с. 95—100; 68, т. 4, с. 402—412]. Вместе
с тем в пьесе отчетливо просматривались источники постано-
вочного плана. Это, во-первых, уже упоминавшийся феери-
ческий театр, и во-вторых, сценические приемы гран-гиньоль
и театр иллюзий. Именно постановочные традиции, на кото-
рые опирался Метерлинк, для эстетики МХТ оказывались
неприемлемыми. По-видимому, короткая вспышка, которую
пережил стиль феерии в России и которая пришлась на ко-
нец XIX в. [149; 88], была еще слишком ярка для культурной
памяти русского театра, чтобы пережить второе рождение
(в отличие от западноевропейского театра, на сцене которого
традиция феерии насчитывала три столетия). Можно просле-
дить, как Станиславский с момента получения им экземпляра
«Синей птицы» не только не следует предлагаемым Метер-
линком сценическим решениям, но и ведет методичную
борьбу с постановочными источниками пьесы. Из текста по-
следовательно вымарываются ремарки и целые картины, в
которых слишком прозрачно просвечивает эстетика феерии
и гиньоля. Таковы сцена на кладбище, завершающаяся тради-
ционным для феерии финалом — распускающимися на гла-
зах у зрителя цветами, а также сцена в лесу, исключенная
из спектакля вскоре после премьеры и показавшаяся крити-
кам «грубоватой, утомительно пестрой и лишенной единого
внутреннего смысла» [140, с. 10].
Борьба МХТ с жанровыми источниками пьесы, проходив-
шая под знаком отказа от театральности, с особой отчетли-
востью прослеживается на послемхатовской постановочной
судьбе «Синей птицы». Живший в Париже русский перевод-
чик пьесы В. Л. Биншток, касаясь сценического бума, постиг-
14 10232В
210
Часть II Межтекстовые связи
4
шего пьесу Метерлинка после московского спектакля, писал
в 1911 г.: «Не знаю, как была поставлена «Синяя птица» в
Нью-Йорке, но в Лондоне постановка была очень слабая, и
даже отдаленно не приближалась к постановке художествен-
ников. В лондонской постановке «Синяя птица» превратилась
в обычную вульгарную феерию; вся философия пьесы, вся ее
поэзия исчезли. Когда Режан решила поставить в своем
театре «Синюю птицу», она поехала в Лондон, но, конечно,
лубочная лондонская постановка не могла удовлетворить та-
кой артистки, как Режан, и она решила непременно добиться
такой же постановки, как в Москве» [62, с. 12].
Для работы над «Синей птицей» в парижском театре Г. Ре-
жан был приглашен Л. А. Сулержицкий. Присутствовавший
на репетициях Метерлинк настаивал на усилении в поста-
новке элемента феерии. В частности, автор «Синей птицы»
ввел в спектакль «балет часов — дам, выходящих из норто-
новских часов» [361, с. 477]. В письмах к Станиславскому
Сулержицкий постоянно жаловался на пошлость постановоч-
ных решений, предлагаемых автором и театром3. В итоге па-
рижская постановка 1911 г. не удовлетворяла ни требованиям
режиссуры МХТ, ни вкусам французского зрителя, для кото-
рого жанр феерии, по-видимому, не был лишен сценической
привлекательности. Об этом свидетельствует, в частности,
позднейшая французская постановка «Синей птицы» (1923,
театр Кор Лапарсери), остро полемичная по отношению к мха-
товской традиции и восстанавливающая в правах театральные
источники пьесы Метерлинка. Как писал журнал «Рампа»,
театр «исходит из коренной связи сюжета «Синей птицы»
с французскими сказками и противопоставляет свою, «фран-
цузскую» постановку «Синей птице» Станиславского. <.. .>
Лес будет лесом Гиньоля, мрачным и пугающим. Картина
«Ночи» <...>• удобна для всевозможных сценических трю-
ков и в то же время напоминает волшебный фонарь» [165,
с. 13].
Возвращаясь к московской постановке 1908 г., следует
отметить, что при всем стремлении режиссуры МХТ к «пога-
шению» в структуре пьесы ее жанровых источников, полно-
стью вывести «Синюю птицу» за пределы феерии не удалось.
Перед Станиславским и Сулержицким стояла более сложная
задача: Приходилось ставить феерию (т. е. спектакль в тех-
нико-постановочном смысле предельно сложный и дорого-
стоящий), не прибегая к наработанным феерическим театром
приемам сценических «чудес». Жанр феерии как бы изобре-
тался заново. В результате у зрителей возникало впечатле-
ние жанровой неуловимости спектакля, фееричность которого
не укладывалась в привычные рамки. Отсюда — диамет-
рально противоположные суждения критиков о мхатовской
211
Глава 4. Культурная рецепция
постановке. С одной стороны, как утверждал А. Ростиславов,
«перед нами обыкновенный балет, почти обыкновенная фее-
рия, ушедшая вперед от времен «мага и волшебника» —
покойного Лентовского только благодаря новейшим техниче-
ским усовершенствованиям и завоеваниям электричества»
[320, с. 280]. С другой — высказывания, подобные словам
В. Малахиевой-Мирович: «Проскользнуло в публике слово
«феерия». Но это прозвучало кощунственно. Нет — это не
феерия. Потому что рождена глубокими запросами духа и
жаждой высшей гармонии и красоты» [241, с. 64]. И, нако-
нец, третье мнение, как бы выводящее спектакль за сферу
театральной условности в целом: «Это кинематограф» [61,
с. 274].
Мы уже приводили свидетельство Сулержицкого о пред-
намеренном обращении к кинематографу при создании спек-
такля. Однако непосредственной апелляции к кинофиль-
мам — прототипам тех лет в спектакле не обнаруживается:
в его техническое оснащение кинематографическая проекция
не входила. Исключается и возможность сценической имита-
ции киноэстетики Мельеса — именно в силу принадлежно-
сти последнего традиции, питавшей «Синюю птицу» Метер-
линка. Тем не менее зрителей не покидало настойчивое
отпущение того, что в спектакль введены элементы кинемато-
графического стиля.
Чтобы выяснить, в чем кроется «кинематографичность»
мхатовской постановки, следует учитывать особенности
киновосприятия человека рубежа 10-х годов. К тому времени
сценическое подражание кинематографическому зрелищу,
становится в России частью «культурного быта». Вот как
описывает подобное представление П. Нилус: «Забавно в ве-
селой компании показывают теперь кинематограф. Тушатся
огни. Один лицедей изображает стрекотание аппарата, другой
играет кинематографическую музыку, а третий читает назва-
ние картин: «Священная река Ганг, родина холеры и королев-
ского тигра», «барыня имеет желание», «возлюбленный уголь-
щицы», «заколдованная комната, или сон большой скорости»
и т. д. — выходит очень смешно» [273, с. И].
В этом описании примечательно обыгрывание, казалось
бы, сопутствующих эффектов кинематографа — шума проек-
тора, темноты, музыки и голоса чтеца, при том что опуска-
ется основной компонент — сам кинофильм. Театральными
средствами воссоздается атмосфера кинозала — существен-
ный, если не основной, признак «кинематографичности».
Вспомним, что зритель ранне кинематографической эпохи
с особой чуткостью улавливал и эстетизировал ту ауру техни-
ческих несовершенств, которая окружала рядовой киносеанс
начала века и которой мы сегодня благодаря развитию проек-
14’
212
Часть П Межтекстовые связи
ционной техники начисто лишены. Проекционный аппарат
тех лет, как помнит читатель, работал не на электричестве, а
на эфирных лампах, которые потрескивали, давая неровное
желтоватое освещение. В неровном и словно ожившем луче
эфирного проектора экранное изображение пульсировало,
что для зрителей 900-х годов составляло особую прелесть.
В пародиях на кинематограф, которые порой представлялись
на театральных сценах, пульсация луча выступала как важ-
ная примета кинематографичности. Так, в сценической мини-
атюре на тему «Кинематограф», разыгранной в петербургском
театре «Кривое зеркало», наряду с «нелепой фабулой» и
лектором, объясняющим сюжет, имитировалось «удивитель-
ное по эффекту дрожащее освещение кинематографа» [200,
с. 148].
Именно к кинематографичности такого порядка апеллиро-
вал МХТ при постановке «Синей птицы». Во избежание пря-
мых . киноцитат и нежелательных аллюзий к феериям
Ж. Мельеса в фактуре спектакля воспроизводился «пустой»
кинематограф, как бы сеанс без фильма. В ходе представле-
ния применялся так называемый «хромотроп» — два проз-
рачных диска на одной оси, вращение которых в противопо-
ложных направлениях с помощью волшебного фонаря
проецировалось на сцену, в результате чего по ней двигался
задуманный художником узор. Кинематографичным был не
сам хромотроп, не его технология, а тот особый эффект,
который достигался с помощью этого театрального приспо-
собления. В записи по поводу одного из спектаклей «Синей
птицы» в «Журнале спектаклей» МХТ в 1909 г. Сулержицкий
упоминает, как «мелькают хромотропы» и от них бегут «дро-
жащие точки» [361, с. 333]. Хромотроп, специально для
«Синей птицы» купленный Станиславским за границей, при-
менялся в спектакле в целях создания оптической иллюзии,
напоминающей стробоскопическое «мелькание» и «дрожание»
раннего киноизображения. Точки, по воле художника
В. Е. Егорова мелькающие по сцене и действующим на ней
персонажам, создают в театре атмосферу кинозала и сооб-
щают происходящему особый, «кинематографический» модус
показа.
В декорации Егорова эффект киноизображения достигался
еще и с помощью так называемой «барельефности» сцениче-
ских конструкций и мизансцен, похожей на двухмерное
экранное пространство. По описанию М. Н. Пожарской, «на
поблескивающих золотистыми точками серо-коричневых
плоскостях стен и колонн фигуры спутников Тильтиля и
Митиль, сопровождающих детей в царство сна, также теряют
свою материальность, становятся плоскостными» [304, с. 319].
Как видно, здесь эстетические требования, предъявляемые
213
Глава 4. Культурная рецепция
к сценографии символическим театром начала века, испод-
воль сопрягаются с особенностями кинематографического изо-
бражения.
Обращение режиссеров МХТ к приемам сценической
«кинематографичное™» связано с особой ролью, которую иг-
рал кинематограф в системе культурных представлений теат-
ральной общественности .900-х годов. В те годы восприятие
кинематографа отличалось некоторой двойственностью. С
одной стороны, в кинематографе обнаруживали предельное
жизнеподобие, превышающее (а тем самым и отменяющее)
любую попытку театра приблизиться к иллюзии сцениче-
ской реальности. В этом плане кинематограф был продол-
жением тенденции, которая в *культуре второй половины
XIX в. носила название «фотографизма». Неудивительно,
что «чеховский» этап в развитии Художественного театра
с его стремлением к импрессионистическому жизнепо-
добию сценического события постоянно ассоциировался у
критики с кинематографом. В год десятилетия МХТ (1908)
один из критиков писал, имея в виду чеховские постановки
театра: «Совсем не странно, что у некоторых сложилось впе-
чатление, будто именно кинематограф, совершенствуясь,
вытеснит Художественный театр с его стульями и сверчками,
с его приметами осязаемого внешнего мира» [310].
С другой стороны, хотя кинематограф начала века при-
мыкал к области культурного «фотографизма» своим изобра-
зительным рядом, его повествовательный ряд тяготел к проти-
воположному полюсу. Вспомним, что на ранней стадии раз-
вития киноязыка основным механизмом движения сюжета
фильма была техника трюка. В этом смысле кино 900-х годов
резко отличалось не только от современной стадии его разви-
тия, но и от фильмов, выпускавшихся в 20-е годы. В 1917 г.
А. Бенуа писал: «Не раз мне случалось в маленьких кинема-
тографах видеть французские фильмы, имевшие 10 и 15 лет
давности. Боже, какими они кажутся устрелыми и примитив-
ными! Положим, как и во всяком примитивизме, так и в
этом много своеобразной прелести. Так, например, съемщики
были особенно щедры на фантастические трюки, на превра-
щения. Кинематограф переживал тогда «эру сказки»» [56,
с. ИЗ].
Можно сказать, что к 1908 г. кинематограф обладал той
же аурой неограниченных возможностей, которая в наше
время отличает язык мультипликации от языка «живого»
кино. При этом «кинематографичность» как признак мира
фантазии могла противопоставляться «фотографичности»
театра. «Именно то, что дано театру, — писал Н. Н. Мин-
ский, — мощно и ярко изображать реальную жизнь в сфере
человеческих отношений, ниже всякой критики в кинемато-
214
Часть II Межтекстовые связж
74. «Эра сказки»:
фильм Мельеса
«Отрубленная голова»
(Tete соирёе).
графе». И далее о кинематографе: «Я думаю, что только он
один может блестяще, реально представить нам образы виде-
ний, настроений мистицизма и вообще все то, что мы можем
рисовать себе только в мечтах и воображениях и что не под-
дается подлинному изображению в жизни и на сцене» [255,
с. 19].
Таким образом, в кинематографе 900-х годов обнаружива-
ются две противоположные черты, равно притягательные для
эстетической программы Художественного театра. В ситуа-
ции напряженного творческого кризиса, совпавшего с десяти-
летним юбилеем театра, скрупулезная фотографичность
«чеховского периода» (предельным выражением которой
можно считать, например, отражение на задней стене деко-
рации «света» из воображаемых окон «четвертой стены» —
прием, характерный для художественной фотографии конца
XIX в.) оценивалась режиссурой МХТ как пройденный этап.
Переписка К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
свидетельствует о поисках альтернативных путей развития
театра. Обращение к приемам символического театра каза-
215
Глава 4. Культурная рецепция
лось наиболее естественным шагом при том наборе возмож-
ностей, которыми располагала сценическая стилистика тех
лет. Однако для МХТ это означало бы сменить одну театраль-
ную условность на другую. Неплодотворность такого пути
обнаружилась при постановке «Жизни человека» Л. Андре-
ева, над которой труппа работала одновременно с постанов-
кой «Синей птицы». «Театральщиной» грозило и использова-
ние в «Синей птице» приемов феерического театра. Перед
театром стояла, казалось бы, неразрешимая задача —
упразднить достоверность сценического быта, сохраняя
при этом достоверность актерского поведения, уйти от себя,
оставаясь верным собственному стилю. В культуре начала
XX века такие полярные потенции совмещал в себе только
кинематограф. Сценический «кинематограф» был для Худо-
жественного театра постановочным приемом того же порядка,
что и знаменитая «культура сверчка». Выступая в роли гене-
ратора «настроения», квазикинематографические эффекты
освещения помечали действие «Синей птицы» той атмосферой
некритической готовности к чудесам, в которую неизменно
погружал зрителя кинематограф 1908 г. Они способствовали
парадоксальному ощущению, наиболее точно сформулирован-
ному в рецензии Л. Я. Гуревич: «Никогда еще не была со-
здана на сцене такая иллюзия нереального» [140, с. 12].
При анализе межтекстовых связей в системе культуры
обычно используются такие понятия, как источник, подтекст,
цитата, влияние, заимствование. Однако ни одно из них не
объясняет с достаточной полнотой многочисленных случаев
проникновения кинематографических форм в репертуар тра-
диционной культуры начала XX века. По-видимому, здесь мы
имеем дело с особым типом культурной стратегии, который
можно назвать «межтекстовой мимикрией». Текстовое пове-
дение такого рода во многом противоположно ориентации на
источник. Источник углубляет диахронию текста, укрепляет
его «родовую память». «Культурная мимикрия», стремясь при-
дать тексту видимость другого текста, снабжает его чужой
родословной (или, как в случае с ранним кинематографом, чьи
характеристики сохраняют предельную невыявленность, во-
обще лишает родословной) и тем самым осуществляет обрат-
ную функцию: способствует упразднению генетической памяти
текста, как бы отменяя его диахронию и обеспечивая ему сво-
боду, необходимую для выхода из ситуации «культурного
кризиса».
Кинематограф раннего, «трюкового» периода явил собой
идеальную матрицу примитивного, «наивистского» стиля — как
в изобразительном, так и в повествовательном плане. .Послед-
нее сделало его объектом особого внимания со стороны лите-
ратуры начала века.
216
Часть П Межтекстовые связи
Литературная рецепция
трюкового кино
(„Петербург” Андрея Белого)
В 1908 г. в «Книге о новом театре» появилась статья Андрея
Белого «Театр и современная драма», в которой есть такие
слова: «Право же, есть мифотворчество в синематографе: че-
ловек чихнет и лопнет» [51, с. 274]. Смысл этого суждения
в статье не комментируется — по-видимому, современнику
было понятно, о чем речь.
На таком определении кинематографического «мифотворче-
ства» стоит остановиться. Дело в том, что между этим обра-
зом А. Белого и написанным позднее романом «Петербург»
обнаруживается перекличка, существенная для истолкования
одного из мотивов романа. Обращает на себя внимание само
слово «лопнет». Во-первых, это слово входит в комплекс зву-
ков, с которым Белый связывает «происхождение содержания
«Петербурга»» [49, с. 500]: -л -к -л — -пп -пп -лл, перекли-
каясь с ключевыми словами и именами героев романа — Лип-
панченко, Аполлон Аполлонович и др. Во-вторых, «лопнет»
принадлежит к «словам-фаворитам» [358, с. 262] романа и
встречается в нем всегда в одном и том же контексте. Начи-
ная с пятой главы лейтмотивом «Петербурга» становится
образ человека, который вдруг принимается стремительно раз-
дуваться, чтобы, наконец, взорваться — «лопнуть»: «В детстве
Коленька бредил; по ночам иногда перед ним начинал подпры-
гивать эластичный комочек, не то — из резины, не то — из
материи очень странных миров <... > Вдруг комочек, разбу-
хая от ужаса, принимал всю видимость шаровидного толстяка-
господина; господин же толстяк, став томительным шаром, —
все ширился, ширился и грозил окончательно навалиться, чтоб
лопнуть <...> И он разрывался на части» [49, с. 227];
«<...> что-то лопнет в нем, хлопнув, и тело — будет тоже
разорвано» [49, с. 233]; «... в душе его неожиданно лопнуло
что-то (так лопается водородом надутая кукла на дряблые
куски целлулоида, из которого фабрикуют баллоны)» [49,
с. 314]; «... что-то в нем лопнуло, разлетелось; и — встал
кусок детства» [49, с. 315]; «... загрохочет и лопнет; надо
бомбу найти» [49, с. 403]. Количество примеров легко умно-
жить4.
Не лишена смысла попытка поставить в связь с мотивом
взрывающегося человека из романа «Петербург» образ чихнув-
шего и лопнувшего человека, в котором А. Белый усматривает
217
Глава 4. Культурная рецепция
«мифотворчество» кинематографа. Исследователями романа
Белого уже затрагивался вопрос о происхождении его цент-
рального мотива — бомбы замедленного действия. Изучение
генезиса мотивов санкционировано в первую очередь самим
Андреем Белым, настаивавшим на важности источника роман-
ного мифотворчества и необходимости скрыть его от читателя.
Исходя из этого указания, X. Хартманн-Флайер, в частности,
усматривает ключ к мифологии «Петербурга» в происхожде-
нии образа банки из-под сардин, в которую встроен часовой
механизм бомбы. В попытках определить, «почему именно
сардинница» [532, с. 124], исследовательница рассматривает
все слова с корнем «сард» в словаре романа и вскрывает
историко-литературные импликации слов с этим корнем.
При всей релевантности для романа «Петербург» звуковых
и морфологических перекличек такое объяснение представля-
ется по меньшей мере недостаточным. По-видимому, область
происхождения мотивов романа лежит в значительной степени
вне рамок его текста. Более того, можно предположить, что
некоторые образы «Петербурга» имеют вообще внелитератур-
ное происхождение.
Это, в частности, относится и к бомбе в сардиннице. На-
помним, что реальный план сюжета, на всем протяжении ко-
торого «сардинница ужасного содержания» ждет своего часа
в доме Аблеуховых, в воображении героя сопровождается
картиной проглоченной бомбы: «Просто черт знает что — про-
глотил; понимаете ли, что это значит? То есть стал ходячею
на двух ногах бомбою с отвратительным тиканием в животе»
[49, с. 258]. Здесь, как и в случае с сардинницей, мотив бомбы
получает у Белого гастрономический обертон. В таком пово-
роте тема бомбометания в «Петербурге» обнаруживает общие
черты с ее широкой эксплуатацией в газетно-журнальной юмо-
пистике 900-х годов. Хождение в те годы получили, в част-
ности, анекдоты, имевшие предметом симуляцию террористи-
ческого акта:
«— Руки вверх! Ни с места, а то этой бомбой взорву весь
дом!
— Э, стара шутка! Не напугаешь! Скажи лучше, что у тебя
вместо бомбы — апельсин или яблоко? <... >
— Совсем нет теперь антереса бомбометателей ловить...
— Разве?
— Какой же антерес, ежели у них заместо бомбы теперь
коробки из-под сардинок в руках? Прежде хоть апельсины
бывали, какой ни на есть барыш» [80, с. 9].
Тема бомбы как «кулинарного» произведения получила
распространение и в кинематографе 900-х годов. Обилие в
раннем кино сюжетов, завершавшихся взрывом бомбы, объяс-
нимо выигрышностью взрыва для демонстрации определенного
218
Часть П Межтекстовые связи
I'lllilllll №111
i! i.« н ih r!.1 i J p i
УХЛРЬ-КУПЕЦЪ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЬСНЯ.
( д ri cui i-мато рафн ici к> । < »>. i.h:<»hmi В. Д/ / nk гмгмлл,
и, ущсп' чь лервок tai CHJt\i аргиг11>ni..
Г л a u и ы :i д ! й < т к у ю iri i н i и ц a
Гглрг1и.-!ф<ч IIJIIIHH i Tii !i Mu' Mm i,.i|n llwurpaiiv I mu • • Мл-
♦ HMM р'ЛТрЛ Я. 11, CwiUh'
('тар*\.i, Г1О .ipuic :к.1 ( -ИсТерЪ p[c|;|X I, II Mlli pilTrip hMMl.
Tiarpuni Л. //
Mania, iiv au-ib. артистка Мсскжиль и п^иинц'&аьвыгь че<т
|||.|\|. ipaipuiu- .V. Я А’70.1*911.
Ухарь купеце•, артвсп ЗГн коясжпЛ Нвродво* outfit Г. Арютам.
Статист!.' < <нр\ лики MiK K' RCKai •• |{Л;.1 <дмаг<» ,и>Ма
;b‘K‘»jMllJII И< ILOA'tHIhl Д<‘к1'р4Ь1|ЮЦ. М КОПС Ml 11. 11 W1IC|h4Tupr KII \ I.
Trail ишь М. В. Л'"*и’{м*|
Кость ми DCIIO I1H4II. Ч1г1ери;нц А ,1 MiKfift rmtufi щПг
дин» ml и.шhтиаi<» к<>стюигрл / Я, Бенеши
Плрики я IIIut’НМ I.II плрш.илхсрл Ичгь рлюр; Кйхт тсатрннт. и /л
Я'/•онагас
Xудод*тнеинам игра lynunxi игрно1;ласп1ы\ъ артнгтоиъ it ар’
TJkriHU’. костни!- н с<м»тн1.ггтв%ыцая м1.('П1иг1. нъ (rpcunl., гд1. ра
лы1рлн& 1п.е«а.
Во* 'НО. япТстЬ язянн». сослало дМстиитглъпо пьшющумкя кар-
тину, пиюбныхъ которой, до сек» времени, иг опявлиюсь въ ина-
мд?!графическим ь репорту ар b
ДИНАМИТЪ
Комическая.
75. Динамит — излюбленная тема комедий 1905—1909 годов.
Программа кинотеатра «Урания» (1909). Фрагмент.
219
Глава 4. Культурная рецепция
76. Фильм Burro Ларсена «Теща анархиста»
(Anarkistens Svigermoder), 1906.
круга кинотрюков. Неизменно поражавший зрителя начала
века скрытый монтаж с заменой живого персонажа муля-
жами его разлетающихся членов в многочисленных фильмах
на эту тему разнообразился только изменением сюжетной мо-
тивировки взрыва5. В европейском кинематографе тех лет тема
взрыва часто связывалась с Россией. С одной стороны, посто-
янным героем таких сюжетов был «русский анархист»6. Так,
шестиминутная драма Р. У. Пола «Доведенный до анархии»
(«Goaded to anarchy»), снятая в сентябре t905 г., показывает
анархиста, который взрывает генерала, сославшего в Сибирь
его жену, а в четырехминутной комедии «Анархист и его
собака» («The anarchist and his dog» ; октябрь 1907) герой сам
подрывается на бомбе по вине пса, вернувшего ее хозяину
[497].
С другой стороны, кинематографический взрыв часто ста-
вился в связь с русско-японской войной. Таков, например,
фильм «Сюрприз для русских» («А Russian surprise»), снятый
Р. В. Полом в апреле 1904 г., видимо, по случаю затопления в
том же месяце наскочившего вблизи Порт-Артура на япон-
220
Часть П Межтекстовые связи
скую мину броненосца «Петропавловск». Эта короткая (пол-
торы минуты) картина интересна тем, что мотив бомбы совме-
щен в ней с мотивом поедания: обслуживающий русского по-
сетителя японец-официант подает ему на блюде* бомбу.
Другая традиция сюжетной мотивировки взрыва, связанная
главным образом с именем английского режиссера Сесилия
М. Хэпуорта, а также с французской фирмой «Гомон», уже
непосредственно касается ранних киновпечатлений Андрея
Белого. Упомянув о человеке, который «чихнет и лопнет» в
кинематографе, Белый в той же статье называет его «назида-
тельной жертвой борьбы роковой ... с насморком» [51, с. 274J.
Ясно, что подразумевается конкретный фильм, выпущенный
не позднее 1907 г. — года написания статьи «Театр и совре-
менная драма». Фильм этот устанавливается с достаточной
однозначностью. Из воспоминаний А. А. Ханжонкова, за-
купившего в 1907 г. у лондонской фирмы «Хэпуорт» ряд кар-
тин для проката в России, известно об успехе у русской пуб-
лики одного из этих английских фильмов. Ханжонков пишет:
«Картина называлась «Маортовый сниз». Так перевел русский
переводчик в Лондоне — «Смертельный насморк». Три раза
чихнул толстый полисмен. В первый раз он сотрясает все
строения на рынке, во второй раз он опрокинул автобус с пас-
сажирами, в третий раз он взорвался сам и вызвал колебание
земли» [411, с. 16].
Известен целый ряд фильмов первого десятилетия истории
кино, трактующих разрушительные последствия гротескового
чихания героя7. Из них под описание Ханжонкова подходит
пятиминутная картина С. Хэпуорта «Это роковое чихание»
(«That fatal sneeze» ; июнь 1907). Квазиперевод «маортовый
сниз» вполне мог иметь оригиналом это название. Неточен и
перевод Ханжонкова — слово sneeze нельзя передать русским
словом «насморк», которое (по-видимому, с легкой руки Хан-
жонкова) входило в прокатное название фильма и было затем»
обыграно в статье Белого. Можно с уверенностью утверждать,
что именно «Это роковое чихание» заставило Белого усмот-
реть «мифотворчество» в кинематографе, а позднее и по-
влияло на формирование лейтмотива романа «Петербург».
Примечателен не столько сам факт, сколько характер та-
кого влияния. Ряд материалов позволяет проследить, как
сюжетнай ситуация фильма «Роковое чихание» шаг за
шагом преобразуется в тему «Петербурга». Такова статья Бе-
лого «Город» (1907), из которой, по наблюдению Н. Г. Пусты-
гиной, вырос этот роман [309, с. 95]. Значительное место в
статье уделяется описанию кинематографических картин, при-
чем их сюжеты толкуются как симптоматичные для формиро-
вания мифологии города. Автор подробно пересказывает два
запомнившихся ему фильма. К первому из них мы еще вер-
221
Глава 4. Культурная рецепция
немея. Второй — та же картина «Это роковое чихание», однако
на сей раз ситуация «чихнет и лопнет» проигрывается на ма-
териале универсальных категорий символизма Белого («город»,
«реальность» и др.) и наделяется эсхатологическими характе-
ристиками: «Человек — облачко дыма. Схватит простуду —
чихнет и лопнет; а дым рассеется <.. .> Синематограф цар-
ствует в городе, царствует на земле. В Москве, в Париже,
в Нью-Йорке, в Бомбее — в один и тот же день, быть может,
в олин и тот же час тысячи людей приходят к человеку, а он
чихнет: чихнет и лопнет. Синематограф переступил границы
реальности. Больше чем проповедь ученых и мудрецов —
наглядно он показал всем, что такое реальность. Она — дама,
хворающая насморком: чихнула и лопнула. А мы-то, держав-
шиеся за нее, — мы-то где?» [38, с. 556].
Некоторые детали позволяют с достаточной определенно-
стью реконструировать трюковый эффект, на котором осно-
вывалась серия английских фильмов о «чихании». В романе
«Петербург» образ «лопающегося человека» каждый раз воз-
вещается его стремительным увеличением в размерах.
Прежде чем «лопнуть», Николай Аполлонович в воображении
ощущает, что «ширится», «пухнет», «растет», «разбухает»
и т. д.: «Мне кажется — весь-то я пухну, весь-то давно порас-
пух: может быть, сотни лет, как я пухну» [49, с. 259];
«непрезентабельное кое-что внутрь себя громадное прияло
ничто; к о е-ч т о от громады, пустой, нулевой, разбухало до
ужаса. Вспучились просто Гауризанкары какие-то; он же,
Николай Аполлонович, разрывался, как бомба» [49, с. 327];
«<...> и душа становилась поверхностью: да, поверхностью
огромного и быстро растущего пузыря, раздутая в сатурнову
орбиту... ай-ай-ай: Николай Аполлонович отчетливо холо-
дел; в лоб ему веяли ветры; все потом лопалось: становилось
простым» [49, с. 411].
Что касается ближайшей литературной параллели этой
метафоры, то на нее указывал сам автор: «<.. .> напряже-
ние расширится из лягушки до вола; вспомним басню Кры-
лова: лягушка там лопается» [42, с. 15; ср. также 44, с. 259].
Но и кинематографический прообраз такого расширения пер-
сонажа достаточно ясен. Эффект «лопающегося» человека
достигался в кино 900-х годов с помощью двух приемов, нося-
щих в современном киноязыке названия «наезд» и «монтаж».
«Наезд», т. е. постепенное приближение киноаппарата к сни-
маемому объекту, вплоть до 1909 г. входил в язык кино почти
исключительно на правах кинотрюка: увеличение объекта
съемки относительно рамки кадра прочитывалось зрителем не
как приближение к объекту, а как его расширение (этот трюк,
впервые примененный в кино Ж. Мельесом, требовал специ-
альной предварительной обработки фона). В фильме Хэпуорта
222
Часть П Межтекстовые связи
наезд продолжался вплоть до момента чихания. Дальнейшее
цитируем по популярному руководству, составленному в
эпоху немого кино: «Маленькую щепотку пороха поджигают
в тот момент, когда актер делает жест, соответствующий
исчезновению, затем съемку прекращают, актер уходит, и
на месте, где он только что был, сжигают уже настоящее
количество пороха» [246, с. 225]. Это количество — 3—
4 грамма. «Порох горит без взрыва, давая густые клубы
дыма» [276, с. 224].
Такова технология трюка, в котором Андрей Белый разли-
чил черты нарождающегося мифа: «Город превращает чело-
века в облачко дыма: человек чихнет и лопнет» [38, с. 357].
Примечательно, что отцеубийство в романе «Петербург» воз-
вещается точным воспроизведением эффекта «скрытого мон-
тажа»: «Набросить на эту картину завесу — из дыма, из
дыма! .. Более ничего: дым и дым!» [49, с. 329].
В том же «Популярном курсе кинематографии» 1916 г.
находим и объяснение способа, с помощью которого добива-
лись эффекта «колебания земли» в результате такого взрыва:
«В комических картинах нередко изображается, как под
влиянием каких-нибудь незначительных причин происходят
неожиданные явления. Так, например, от громкого пения
колеблются дома на вполне реальной улице или от удара
кулаком по столу ходуном ходит вся обстановка комнаты.
Этот трюк достигается при помощи призм или зеркал. Призма
ставится перед объективом, и тогда съемка производится
через нее. При употреблении зеркал съемка производится
над отражением. Если в нужный момент начать колебать
призму или зеркало, то изображение на фильме придет в ко-
лебание, и при отдаче на экране будет казаться, будто дейст-
вительно колебалась неподвижная на самом деле обстановка»
[246, с. 232].
Преемственность «Петербурга» по отношению к фильму
«Это роковое чихание» не ограничивается эсхатологическим
осмыслением кинотрюка. На сюжетной канве романа отрази-
лась и интрига картины. В «Петербурге» враждующие отец
и сын Аблеуховы заняты взаимным выслеживанием; Николай
Аполлонович планирует, а в мыслях и совершает отцеубий-
ство, подложив бомбу в отцовской спальне «в соответствен-
ном месте под матрасик» [49, с. 328]. Этот конфликт —
излюбленная сюжетная ситуация Сесиля Хэпуорта, который
в своих фильмах опирается на традицию английского дет-
ского «жестокого фольклора». О фильме «Взрыв автомобиля»
(«Explosion of a motor саг», 1900)английский исследователь пи-
сал: «Он обладает тем привкусом ночного кошмара, который
некоторые ощущают в детских стихах» [509, с. 290]. Уже в
одном из первых фильмов на тему бомбы С. Хэпуорт пред-
223
Глава 4. Культурвая рецепцня
лагает такую мотивировку взрыва: «Мальчик подкладывает
набор для фейерверка под кресло отца. Тот разлетается на
куски» (1900; фильм «Пороховой заговор» («The gunpowder
plot»), длина 50 секунд; любопытно, что роли исполняли сам
С. Хэпуорт и его сын). Сюжетное развитие фильма «Это роко-
вое чихание» почти аналогично. Согласно сохранившемуся
проспекту, в этой картине «мальчик посыпает дядюшку пер-
цем, в результате чего от чихания дядюшки обрушивается
дом». Этот поединок из фильма Хэпуорта А. Белый уже в
1907 г. перетолковывает в терминах будущего сюжета «Пе-
тербурга». Действительно, изложение сюжета «Этого рокового
чихания» в статье Белого «Город» напоминает фабульный
набросок к роману: «Старик насыпал чего-то ребенку. Ре-
бенок чихает. Пробирается в комнату, где спит старик: рас-
сыпает порошок. Старик встает и чихает: рушатся стены.
Бежит на улицу — чихает: трескаются витрины, падают
фонари, распадаются дома; чихает, — земля начинает распа-
даться. Чихает, — и лопается облачком дыма» [38, с. 356].
Впечатление от фильма Хэпуорта вошло не только в
сюжетную интригу «Петербурга». По-видимому, фильм о
«роковом чихании» задел далеко не эфемерное представле-
ние, — уже в 30-е годы, анализируя «Мертвые души», Белый
неожиданно приписывает герою Гоголя то, что случилось с
персонажем фильма: «Чих Чичикова разорвал город» [44,
с. 94].
Киновпечатления, которыми А. Белый делился в статье
«Город», позволяют возвести к кинематографу и другой мотив
романа «Петербург». Для кинематографа эпохи 1900-х годов
характерны идущие от Ж. Мельеса космические сюжеты.
Степень воздействия картин этого жанра на русскую литера-
туру тех лет трудно переоценить. В частности, к Мельесу
восходят некоторые нарочито наивные приемы антропомор-
физации светил в поэзии. Так, в весьма популярном в России
фильме «Путешествие на луну» («Voyage dans la Lune», 1902)
содержится эпизод, в котором под взглядом звездочета в соз-
вездии Большой Медведицы постепенно прорисовывается
шесть женских лиц. Эта сцена дошла до нас в двух язвитель-
ных описаниях 1908 г. — в статье И. Л. Щеглова («<...>
из каждой звезды поочередно выглядывает по кокотке. Еще
бы не замечательное астрономическое открытие!» [450,
с. 263]) и в лекции К. И. Чуковского («<...> раскрываются
дверцы луны, и оттуда, пошевеливая бедрами, выходит корич-
невая этуаль и идет по облакам как по открытой сцене» [435,
с. 8]).
По технике театральной метаморфозы указанный эпизод
«Путешествия на Луну» перекликается с ремаркой А. Блока
из пьесы «Незнакомка»: «По небу, описывая медленно дугу,
224
Часть П Межтекстовые связи
скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту
идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором
расширенных глаз» [68, т. 3, с. 75]. По характеру драматур-
гической ситуации и ее развитию сцена между Незнакомкой
и Звездочетом из Второго видения пьесы обнаруживает сход-
ство с фильмом Мельеса «Сон звездочета» («Le reve de
I'astronome»; 1898; в России шел в начале 1900-х годов), в
котором звездочет тщится дотронуться до спустившейся с не-
бес фигуры: «<...> в руке у него остается одна лишь вуаль;
да и та улетает в небо» (515, с. 437]. По всей вероятности,
именно эта зависимость позволила Белому усмотреть в пьесе
Блока «кинематографичность» построения: «Без связи, без
цели, без драматического смысла, мягко струит на нас гиб-
нущая душа ряд своих образов: символизм — ряд синемато-
графических ассоциаций, бессвязность — вот смысл блоков-
ской драмы <... > Й подстреленная, насмерть подстрелен-
ная душа стремит на нас синематограф образов» [48, с. 66—
67].
Отметим еще один образ в русской поэзии, грубоватый
антропоморфизм которого, бесспорно, навеян знаменитым
эпизодом прилунения летательного снаряда из «Путешествия
на Луну», — строки В. Маяковского из «Адища города» (1913):
... крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненного солнца вытекал глаз [249, т. 1, с. 28].
Здесь налицо проекция киновпечатления на цитату из
«Авиатора» А. Блока, в котором описано падение аэроплана:
... недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной .
Стремит свой винтовой полет... [68, т. 2, с. 171]
Космическая образность раннего кино отразилась и на со-
ответствующих эпизодах «Петербурга» Белого. Об этом поз-
воляет судить описание фильма в статье Белого «Город»:
«Кто-то за кем-то бежит. Летит автомобиль, велосипед, поли-
цейские. Трах — автомобиль пробил стену, пересек комнату,
где мирно текла домашняя жизнь — трах: пробил стену и
спокойно покатился по улице. Смешно — но смешно ли?
Стены не защищают нас от прихода неведомого. Мирная
жизнь. Смешно — смешно ли? А вот под музыку вальса
все тот же автомобиль мчится уже по стене вопреки закону
тяготения, а за ним тоже вопреки закону бегут и полицей-
ские. Выше, выше — excelsior!
Автомобиль врезается в небо: мимо него летят метеоры,
а кругом пустота» [38, с. 355].
225
Глава 4. Культурная рецепция
77. «Путешествие на Луну» Мельеса.
В истории кино автомобиль, пробивающий стены домов
(кажется, впервые), встречается в 1904 г. в «Путешествии
через невозможное» («Voyage a travers de rimpossible»)
Ж. Мельеса. Там он давит сидящих за столом людей, причем
надпись гласит: «Не беспокойтесь, мы только проездом!».
Однако Белый описывает не этот фильм, а картину Р. У. Пола
««?» шофер» («The «?» motorist»; 1906). Дальнейший путь
автомобиля восстанавливается по английскому каталогу
1906 г.: «Проехав по облакам, автомобиль наносит визит
Солнцу, которое мирно кружит в своей орбите, и достигает
планеты Сатурн. Шофер продолжает путь по Сатурнову
кольцу» [551, с. 80] и т. д. Этот (снятый в подражание Мель-
есу) английский фильм поразил Белого своей открытостью
для символической интерпретации: «Город, съевший поля,
стянувший к себе все богатства земные — только автомобиль,
висящий в пустоте. Кругом мчится дождь электрических све-
точей, горящих на вывесках. Но это — дождь метеоров, пере-
резающих эфир. А возница — смерть в цилиндре — скалит
на нас свои зубы и мчит» [38, с. 355—356].
15 102326
226
Часть П Межтекстовые связи
г
227
Глава 4. Культурная рецепция
?8—80. ««?» шофер» Р. У. Пола.
В «Городе» у Белого обыграна еще одна деталь из фильма
Пола ««?» шофер». Фильм начинается со сцены, в которой
«шофер учтиво подсаживает даму в автомобиль и автомобиль
трогается в путь» [551, с. ВО]. У Белого этот жест переосмыс-
лен и «встроен» в ситуацию «невеста мертвеца»: «Блудница,
сверкающая алмазами, вся в соболях, прошуршала шелком
в открытую дверь. Ее провела под руку безносая смерть, об-
леченная в пальто и цилиндр, цинично оскалясь на равно-
душных людей» [38, с. 354]; «<...> люди — бегут: бегут в
могилу. Смерть, склоняясь к великой блуднице, часто обго-
няет их на автомобиле, поднося пенсне лайковой перчаткой
к своему безносому черепу» [38, с. 355].
Этот случай интерсемиотического перевода дает нам лабо-
раторно чистый срез: культурная рецепция в России европей-
ского фильма в 1906—1907 гг. осуществляется по оси трюк->
символ.
В 10-е годы перевод по такой оси был бы вдвойне невоз-
можен —• ввиду того, что и символизм, и жанр трюкового
кино сошли со сцены. Однако, по всей видимости, мотив
рокового автомобиля не исчез, а лишь приобрел реалистиче-
скую мотивировку. В рукописи Н. Игнатова имеется описание
228
Часть П Межтекстовые связи
(неустановленного) европейского фильма 1912 г. «Навстречу
смерти» с таким сюжетом: после долгой борьбы с собой жена
прикованного болезнью к постели человека решается изме-
нить ему. В ту минуту, когда она с любовником уезжает в
автомобиле, муж, собрав последние силы, добирается до окна
и стреляет в похитителя своей чести. Молодая женщина,
сидящая рядом с убитым спутником, не умеет управлять
автомобилем, и автомобиль бешено мчится, унося ее
навстречу смерти.
Пересказывая в 1919 г. сюжет этого фильма, Игнатов, как
и Белый в случае с картиной Пола, редуцировал происходя-
щее к архетипической ситуации «невеста мертвеца», но уже
не в терминах символизма, а методом филологического сопо-
ставления: «Особенно захватывает финал! Можно сказать,
что он только и захватывает, потому что и прикованный к
постели муж, и колеблющаяся между «чувством и долгом»
жена, и «похититель своей чести» слишком мало действуют,
чтобы возбуждать интерес в зрителе экрана, потрясти его
возбужденные нервы. И только приближение катастрофы
страшно, только она возбуждает и волнует, и заставляет
биться сердце и напрягает ожидание. Это — нечто вроде
Людмилы, нечто вроде баллады Жуковского, изображающей
страшную скачку с мертвецом. Только, в применении к сов-
ременным условиям, вместо коня — автомобилист, вместо
скрывающего от невесты свою смерть мертвеца — несомненно
убитый меткой пулей любовник; но катастрофа так же
близка, так же страшна, так же неминуема. Так и ждешь,
чтобы в результате бешеной скачки «кости в кости засту-
чали»» [172, л. 17[. Перед нами — тот же мотив и тот же
механизм интерсемиотического и межкультурного перевода,
только язык кино и язык реципиента принадлежат другому
витку истории.
Вернемся к Андрею Белому и периоду трюкового кино.
Фильм ««?» шофер», осмысленный Белым в терминах нео-
мифологии города, позволяет поставить в связь с кинемато-
графом внезапное появление призрачного автомобиля в том
эпизоде романа «Петербург», где вслед за риторическим об-
ращением к Солнцу Белый дает картину небесных явлений:
«И — месяц врезался в облако...
Снова бешено понеслись облака клочковатые руки; поне-
слися туманные пряди все каких-то ведьмовских кос; и дву-
смысленно замаячило среди них пятно горящее фосфора...
Тут раздался оглушительный, нечеловеческий рев: пробли-
ставши огромным рефлектором невыносимо, мимо пронесся,
пыхтя керосином, автомобиль — из-под арки к реке» [49,
с. 100].
229
Глава 4. Культурная рецепция
Здесь имплицируется полуфантастическая трансформация
оптического мотива — горящего пятна. Чуть выше сквозь
тучи летело «пятно горящего фосфора, неожиданно превра-
тившись там в сплошной яркоблистающий месяц» [49, с. 100].
Сразу же «вспыхнули — Всадниково чело, меднолавровый
венец» [Там же], затем «искрометнее проблистала и светлая
точка; может быть, трубочный огонек сизоносого боцмана
в шапке голландской, с наушниками, или — светлый фона-
рик матроса» [Там же]. Затем, как мы видели, месяц, уйдя
в облако, снова превращается в пятно горящего фосфора,
которое реализуется в виде невыносимо блистающего огром-
ного рефлектора автомобиля. Александр Иванович Дудкин,
чьими глазами дана вся эта сцена, оглядывается, чтобы уви-
деть, как автомобиль превратился в карету сенатора:
«Автомобиля не было и следа.
Призрачный абрис треуголки лакея и шинельное, в ветер
протянутое крыло неслось из тумана в туман двумя огнями
кареты» [Там же].
На этих словах обрывается главка романа, озаглавленная
«Бегство». Представляется вероятным, что в серии превра-
щений, с помощью которых карете сенатора удается избежать
роковой встречи с Дудкиным (превращения мотивированы
полубредовым состоянием террориста), отложились ремини-
сценции, восходящие к кино впечатлению 1907 г. — фильму
Пола ««?» шофер». В каталоге Пола финал картины описы-
вается так: «<.. .> обрушившийся сквозь крышу автомобиль
вызывает большое смятение в суде, несмотря на то, что он
мирно продолжает свое путешествие и выезжает из здания. За
ним устремляются полицейский, судья и другие официальные
лица, но, к их удивлению, как только они пытаются задержать
нарушителей, на их глазах автомобиль становится деревенской
телегой, а в ней — человек в рабочей спецовке и его жена.
Телега продолжает путь, но, отъехав на расстояние, недося-
гаемое для правосудия, снова превращается в автомобиль,
который на этот раз удачно спасается бегством» [551, с. 80].
Таковы, как представляется, межсемиотические заимство-
вания, которые можно наблюдать в «Петербурге» Андрея
Белого. При этом, если стать на точку зрения автора, их едва
ли можно назвать цитатами или аллюзиями. Для Белого
«синематограф» был не столько текстом, сколько объектом,
сгустком городской стихии, наподобие автомобиля или трам-
вая. Можно говорить о символике трамвая в литературе
[373], но вряд ли кто-нибудь назовет это межсемиотическим
переводом. Текстом в собственном смысле слова кино стало
для Белого только тогда, когда он взялся за киносценарий
по роману «Петербург».
230
Часть П Межтекстовые связи
„Петербург": роман и сценарий
В главе о рецепции оптических помех, в частности о пре-
зумпции осмысленности, которой могла наделяться такая
помеха, как обрыв пленки во время сеанса, мы писали о ки-
носценарии, составленном Андреем Белым по роману «Петер-
бург»8. На фоне сценарной практики тех лет замысел «Петер-
бурга» уникален. Слой чисто кинематографических ремарок
в сценарии показывает, что для Белого (в отличие от других
автоэкранизаций 10-х годов, например, Брюсова, Куприна,
Андреева) язык кино выступает не как система ограничений,
по необходимости обедняющих исходный текст, а как повод
для художественного экспериментирования, по смелости
притязаний и сложности технического осуществления со-
измеримого разве что с возможностями сегодняшнего
кино.
Вместе с тем сценарий Белого для времени его написания
был отчетливым анахронизмом. Напомним, что кинематограф
10-х годов даже для самых невероятных ситуаций требовал
реалистической мотивировки. То была реакция на эпоху трю-
ков, которые в 10-е годы вспоминались как «младенчество».
Между тем, несмотря на то, что многие из предложенных
Белым художественных решений по сей день могут считаться
беспрецедентными, эстетическая база и арсенал киноприемов,
которыми оперирует Белый-сценарист, примыкают к «наив-
ной» технике киноязыка, бывшей в ходу в период 1903—
1908 гг.
Едва ли можно заподозрить за Белым сознательную архаи-
зацию киноязыка в сценарии «Петербург», хотя такой ана-
хронизм хорошо согласуется с временем действия романа —
1905 годом. Скорее всего мы имеем здесь дело или с сово-
купностью биографических факторов (Белый познакомился
с кинематографом в 1907 г. и, судя по многочисленным упо-
минаниям в статьях конца 1900-х годов, некоторое время
пребывал под властью этого впечатления; в 10-е годы такие
упоминания прекращаются — возможно, Белый в эти годы
перестал следить за кинорепертуаром и его представления о
ки ноя зыке застыли на стадии предшествующего десятилетия),
или с художественным детерминизмом другого рода — пер-
вые киновпечатления Белого определенным образом связаны
с замыслом и структурой романа «Петербург» и при после-
дующей его экранизации могли показаться более подходящей
кинематографической формой, нежели все то, что мог пред-
ложить господствующий в русском кино 10-х годов «салон-
ный» стиль, генетически связанный с эстетикой расхожего
231
Глава 4. Культурная рецепция
декаданса. Наконец, техника трюкового кинематографа
(школы Мельеса, Патэ, а также английских и американских
комических феерий), ко времени написания сценария пол-
ностью вышедшая из употребления, была достаточно удобной
для воплощения снов и видений «Петербурга».
Так или иначе, Белый, пользуясь для экранизации «Петер-
бурга» языком фильмов, послуживших источником романа,
как бы осуществляет обратный интерсемиотический перевод.
В результате такого перевода происходит двойное обогаще-
ние. С одной стороны, обогащается предельно примитивный
«словарь» трюкового кино. Обычный трюковой фильм длился
около 3—7 минут, и какой бы сложностью ни отличались
трюки по исполнению (безупречно подогнанные семикратные
экспозиции Мельеса — лишь один из примеров), их сюжет-
ный и смысловой слой был сравнительно прост. Не то у
Белого, который если и соглашается многоплановые компози-
ции романа уплотнить до размеров одного кадра, то не за
счет уступок в семантической сложности этих композиций,
а за счет усложнения пространства кадра («картины»). В
результате вместо характерных для рядовой экранизации
приемов сокращения и упрощения возникают сверхсложные
планы-эпизоды с многократно сегментированным пространст-
вом.
Приведем в качестве примера хотя бы сценарную разра-
ботку сцены, озаглавленной «Сон Дудкина», — разработку,
напоминающую скорее режиссерский, нежели литературный
сценарий, к тому же снабженную пояснительными рисунками
прямо в тексте рукописи (к сожалению, по причинам, зави-
сящим только от руководства Отдела рукописей ГБЛ, мы
были лишены возможности изготовить факсимильные копии
с этих рисунков и вынуждены довольствоваться их схемати-
ческой перерисовкой). Первый из рисунков («Схема кар-
тины») пофазово фиксирует содержание сна, второй («Схема
экрана») изображает процесс пробуждения:
«Картина 2-я
Огромный утес мрака, как бы изваянный в сферах поту-
стороннего мира; на краю утеса Липпанченко и «Шишнарфнэ»
пытаются сбросить Александра] Ивановича] с утеса
в бездну ужаса; АИ защищается; но силуэт Липпанченко
(Чернорогого) схватывает Ал. Иванов, за горло. Ал. Иван,
теряет равновесие и падает; изображение начинает меняться;
теневой утес пропадает с теневыми силуэтами чернорогого
Липпанченко и чернорогого «Шишнарфнэ»; Ал. Иванович
стремительно падает в бездну спиною; изображен полет его
вниз; вернее, не его, а его силуэта (тени); полет спиною (вниз
головой) продолжается; снизу проясняются туманы; видны
232
_ „ пл nuc. А Белого
81. «Схема картины». Прорись по р
г-г с “ Ал Иван, падает сквозь
крыши Петербурга; теневой силуэт, ад. «
крышу (вернее, сквозь трубу головой вни )•
Схема картины
ИзобраЙно^убогое обиталище Алекс. Иванов, как в
карт^ине^^й^пролога», "^^^иной перспективе;^изображена
лишь часть обиталища; изображена сте » А Щ У
гое обиталище от входной лестншда. и спит
суровая грязная лестница с перилами, »» ^^-.ттт
Иванович, задыхаясь в кошмаре ^очев1^жения чтобы прос-
ный сон); он делает конвульсивные дв м'гновение ₽
нуться; в это время на стене обиталищ»
7 ,1 m п \ контур тени, изображая
носится снизу вверх (так! — Ю. Ц) к°7 паларт в Дяшее
падение Алекс. Иванов [ича] откуда-то ( А Щ
тело душа его из душевных пространств).
Тень пропадает. « о? 7fi____
Схема экрана» (ГБА, ф. 516, картон • А* Р- »
77).
генеалогии приема реше-
Нетрудно заметить, что, хотя по гене Г н
ние сцены целиком примыкает к пери ДУ P
7 4 4 л н тл «лпичя над крышами Петер-
(полет пьяного Александра Иванова п £а
бурга заставляет вспомнить знамениг г-
233
Глава 4. Культурная рецепция
82. «Схема экрана». Про рис ь по рис. А. Белого.
«Сон поклонника сырных гренок», «The dream of a rarebit
fiend»; 1905; шел в России в 1908 г. под названием «Сон
кутилы», см. [278, с. 5]), Белый умел распорядиться к и ноя зы-
ком этого периода довольно неординарно.
С другой стороны, перевод романа «Петербург» на язык
трюкового кинематографа заставляет острее ощутить кинема-
тографические источники некоторых сцен в самом романе.
Напомним «пятно горящего фосфора», луну, глядящую
сквозь «облака клочковатые руки» в главке «Бегство», цитату
из которой мы приводили выше. В сценарии соответствующий
эпизод решен более емко. Главка «Бегство» в романе скла-
дывается из двух параллельных тем: это — блуждания Дуд-
кина по ночному Петербургу и авторское отступление, пате-
тический монолог о монгольской опасности, обращенный
сначала к Медному всаднику, а затем — к Солнцу:
«Да не будет! .. <.. .>
Бросятся с мест своих в эти дни все народы земные; брань
великая будет, — брань, небывалая в мире: желтые полчища
азиатов, тронувшись с насиженных мест, обагрят поля евро-
пейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет —
новая Калка!
Куликово поле, я жду тебя!
234
Часть П Межтекстовые связи
83. «Сон поклонника сырных гренок» Портера.
Воссияет в тот день и последнее солнце над моею родною
землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о Солнце, под мон-
гольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, и над
этими берегами закурчавится пена; земнородные существа
вновь опустятся к дну океанов — в прародимые, в давно
забытые хаосы ...
Встань, о Солнце!» [49, с. 99].
Не желая отказываться от монгольской темы, но, видимо,
сознавая «некинематографичность» литературного отступле-
ния, Белый умело переориентировал мотив нашествия, отдав
тему Луне. Роль этого светила возросла от состояния «горя-
щего пятна» до состояния маски. Сверх того, Белый преду-
смотрел и шумовую партитуру — конский топот (шумовые
механизмы русских кинотеатров без труда воспроизводили
этот эффект; кроме него в сценарии Белого иногда возникает
бой часов и тикание «сардинницы ужасного содержания»,
которая, надо добавить, в киноверсии снабжена секундной
стрелкой). Топот передает приближение «желтых полчищ
азиатов», но сами полчища на экране появиться не успе-
вают — Белый перебивает смутное акустическое предощуще-
ние титром-заклинанием.
235
Глава 4. Культурная рецмпптч
«Мутные хаотические пространства: облака бегут, как
смутные очертания, протягивая точно клочкастые руки свои;
сквозь них, как пятно, проступает ужасное монгольское лицо;
оно вперяется взглядом, полным ненависти, в зрителей; тол-
стые губы начинают кривиться улыбкой; голова слегка
кивает.
Во время этой картины слышен глухой нарастающий гул;
будто гул скачущих галопом всадников.
(Картина обрывается.)
На экране вспыхивают слова:
«Этого да не будет!»» [л. 71 об.]
Монгольская маска Луны — не сценарный окказионализм;
сцены, отдаленно напоминающие приведенную, встречаются
и в некинематографических текстах Белого. Тем не менее
кинематографическое происхождение образа вызывает мало
сомнений. Для любого, кто знает фильмы Мельеса, начиная
с «Луны в метре от нас» («La Lune a un metre»; 1898) и кон-
чая «Галлюцинациями барона Мюнхгаузена» («Les Hallucina-
tions du baron de Munchhausen»; 1911), или, как мини-
мум, помнит хрестоматийный мельесовский трюк — надви-
гающийся на зрителя гримасничающий лик луны из «Путеше-
84. «Луна в метре от нас» Мельеса.
236
Часть П Межтекстовые связи
ствия на Луну», будет очевидным кинематографический источ-
ник следующего места из статьи Белого «Кризис культуры»:
«Настанет для вас пробуждение; пол кабинета провалится;
вы непосредственно с креслом повиснете над провалами
ночи: там будет луна — нападающий, каменный глобус, летя-
щий на вас» [46, с. 173].
Сценарий Белого «Петербург» не столько обращался к
кинематографу в поисках наиболее выразительных «мысли-
тельных образов» (так Белый называл соответствующие
картины сценария), сколько возвращался к нему и возвращал
позаимствованное.
К области «мыслительных образов» того же происхожде-
ния следует отнести и эпизод покушения на сенатора (не
отцеубийство, а воображаемое покушение Дудкина). В нем,
как в призме, сходятся два повторяющихся мотива трюкового
кино. Об этих мотивах мы писали в связи с первыми кино-
впечатлениями Белого и реминисценциями по поводу этих
впечатлений в романе «Петербург»: космическое путешест-
вие и взрыв. В сценарном варианте покушения отчетливо про-
свечивает фильм Мельеса, по канве которого Белый строил
свой эпизод. Фильм носит название «400 проделок дьявола»
(«Les 400 coups du diable»; 1906).
Центральный эпизод фильма — небесное путешествие
белой кареты, в которую запряжен белый ребрастый конь
(ил. 85). (В своих мемуарах Эйзенштейн дважды упомянул,
что эта картина Мельеса — его первое впечатление от кино:
«Знаменитый возница гениального Мельеса, управляющий
скелетом лошади, впряженной в карету» [455, т. 1, с. 215]).
Столкнувшись с кометой, возница и лошадь, кувыркаясь,
проваливаются в бездну. Считается, что детское впечатление
от этой картины вылилось в эпизод «Разведение мостов» в
«Октябре» Эйзенштейна (1928), где убитая белая лошадь,
поднятая в небо на створке разведенного моста, сорвавшись,
падает в Неву. «Лошадь в небе? Лошадь в небе?» — скорого-
воркой бормотал композитор, которому заказали музыку к
«Октябрю» (эту историю любил в порядке анекдота расска-
зывать Эйзенштейн) — «Лошадь в небе? .. А! Есть: «Полет
Валькирий»! ..» [455, т. 3, с. 108].
При всем своем комизме профессиональная находчивость
киноиллю'стратора отразила рецептивную валентность образа,
навеявшего апокалиптический мотив. Как и фильм «Октябрь»,
роман «Петербург» — рассказ о русской революции. Можно
предположить, что Белый, как впоследствии и Эйзенштейн,
мысленно составляя план будущего фильма, вспомнил о белой
небесной лошади Мельеса, в которой обоим виделся «конь
блед» — апокалиптическая примета русской революции в поэ-
зии символизма:
237
Глава 4. Культурная рецепция
85. «400 проделок дьявола» Мельеса.
«Картина 22-я
В туманно-космических пространствах — очерк летящей
кареты; карета — останавливается; из нее выпрыгивает тене-
вой силуэт Аполлона Аполлоновича; вдруг показывается
теневой силуэт Александра Ивановича с узелком в руке;
Александр Иванович бросается к теневому силуэту Аполл.
Аполл и бросает в него узелок; узелок падает к ногам Апол-
лона Аполлоновича; виден страшный взрыв; слышен глухой,
тяготящий звук взрыва.
(Картина обрывается)» (л. 14].
Нетрудно заметить, что трансформация небесной повозки
Мельеса в белую карету сенатора («Карета сенатора» — так
называлась пьеса для театра, которую Белый напишет по
роману «Петербург») происходит по той же оси, что и рецеп-
ция: трюк-^символ.
Чем объяснить продуктивность трюкового кино для лите-
ратурных текстов эпохи символизма? Обращает на себя вни-
мание черта, характерная для многочисленных случаев
апелляции литературы к раннему кинематографу. Выше
отмечалось, что в кино 900-х годов сюжет был чаще всего
лишь способом мотивировки трюка. Но при этом литера-
турно образованного зрителя неизменно поражала предельная
немотивированность самого сюжета и его частей [445, с. 50].
Свобода от бытовых и психологических мотивировок (а
также немота, отсутствие рассказчика и т. д.) способство-
238
Часть П Межтекстовые связи
вала впечатлению «наивности», «обнаженности», «недоосмыс-
ленности» кинотекста, который в глазах литератора начала
века превращался в своего рода стихийный язык.
На то, как кинематограф, став носителем самой идеи
«наивного» текста, сделался объектом структурной имитации
со стороны русского верлибра, указал Р. Д. Тименчик в
статье, положившей начало научно корректных сопоставле-
ний такого рода: «Воспроизведение фактуры «несовершен-
ного», «нескладного» стихового текста, «недо-стиха» сооб-
щает часто верлибру экспрессивный ореол «наивности»,
«безыскусности». Семантические характеристики раннего
киноискусства, приписывавшиеся ему поэтами («наивность»,
«неумелость», «infans — еще не говорящий младенец»),
отчасти совпадали с автометаописательными мотивировками
верлибра — ср. «В кинематографе» Н. Беляева: «На экране
умирала девочка // Так наивно и неумело». Процессуальность
верлибра создает в нем жанровые валентности репортажа,
темой которого является киносеанс» [374, с. 137].
В таком качестве ранний кинематограф привлекал внима-
ние и Андрея Белого, который при создании «Петербурга»
сознательно стремился к композиционной и логической нео-
формленности романа. Фильм оказывался одним из способов
погашения традиционных литературных мотивировок — это
мы наблюдаем и на примере кинематографических аллюзий
у Блока и футуристов. Здесь, как и в случае с «Синей пти-
цей» в МХТ, вступает в силу механизм культурной мимик-
рии — эталоном литературного текста становится «наивный»
текст трюкового кинематографа 1900-х годов.
Вместе с тем транспозиция киносюжета в литературный
текст не может не сопровождаться восполнением изначально
отсутствующих в нем мотивировочных звеньев — это дикту-
ется уже требованиями связности словесного текста, суще-
ственно отличными от простых правил сочетания частей в
раннем кино. Необремененность реалистическими мотивиров-
ками открывала возможность для вчитывания в кинотекст
заведомо внеположенных ему мотивировок, что и происхо-
дило при адаптации ранних фильмов литературой начала века.
В этом и заключалось самовозрастание смысла при интер-
семиотическом переводе — процесс, охарактеризованный
А. Белым как «мифотворчество в синематографе».
________ Тлаба 5
е
Рецепция киноповествования
В предыдущей главе речь шла преимущественно о так
называемом кинематографе эпохи примитивов — трюковых
фильмах 1900-х годов и их концепции в культуре тех лет.
Обнаружилось, что для старших искусств наибольшей прив-
лекательностью обладало именно примитивное, бесхитрост-
ное начало в повествовательной технике кино. Собственно,
привлекало не повествование, а не-повествование, отсутствие
условных повествовательных ухищрений, простое соположе-
ние «картин».
Между тем кинематограф, развиваясь, развивал и собст-
венную повествовательную технику. В 10-е годы установились
приемы, которые спустя десятилетие получат название «язык
кино»: монтаж и градация планов.
Излишне говорить, что зарождение киноязыка способст-
вовало изменению рецептивного образа кинематографа в соз-
нании эпохи. Завязался новый диалог между традиционными
культурными представлениями и тем способом повествова-
ния, какой предлагал зрителю кинематограф. Чаще всего этот
диалог был похож на борьбу. Ни монтаж, ни крупный план
не были восприняты как долгожданное изобретение. Прибли-
зить объектив к лицу актера было не открытием, на это
нужно было отважиться. Монтаж и крупный план не беспре-
пятственно «развивались», а насаждались в нарушение правил
хорошего вкуса. Требовалось преодолеть рецептивную инер-
цию — инерцию покоя.
В этой главе мы попытаемся проследить динамику рецеп-
тивных процессов на раннем этапе истории киноязыка.
Историю языка кино можно описывать с точки зрения
производителя и с точки зрения пользователя. В первом слу-
240
Часть II Межтекстовые связи
чае на передний план выступает технология киноязыка (начи-
ная от эволюции кинопроизводства, представленной в рабо-
тах Б. Солта, и кончая эволюцией семиотического ансамбля,
выявленной на материале киноповествования Н. Берчем), во
втором — понятие нормы. Исследования первого рода насчи-
тывают уже более десяти лет, между тем как попыток исто-
рического описания киноязыка с точки зрения нормы еще
не предпринималось. Предлагаемые ниже соображения при-
надлежат именно к последней области и в силу указанного
обстоятельства носят предварительный характер.
Норма понимается здесь не как образцовое построение и
не как критерий правильности кинотекста. Применительно к
первому двадцатилетию кино мы можем говорить о норме
в более широком смысле — о такой норме, для которой вся-
кий кинотекст был текстом заведомо «неправильным». Это —
культурно-семиотическая норма, отражающая представления
о правильно построенном тексте (литературном, сценическом,
фотографическом, живописном) в том виде, в каком мы их
застаем на рубеже XIX—XX веков. Понятно, что фильмы
Люмьеров оценивались первыми зрителями исключительно с
точки зрения докинематографической нормы. Иное дело, что
с годами культурно-семиотическая норма теряла активность
и кинотекст все прочнее воспринимался на фоне собствен-
ной традиции. Однако в 10-е годы эстетическое сознание
продолжало оперировать преимущественно такими катего-
риями, для которых фильм выступал как изначально ано-
мальное построение — независимо от того, оценивалась
такая аномалия как дефект или приветствовалась как инно-
вация.
Презумпция связности
В главе о временных границах кинотекста указывалось на
то обстоятельство, что для русского зрителя 1900-х — сере-
дины 1910-х годов ощутимой единицей киновпечатления был
не столько отдельный фильм, сколько киносеанс, состоявший
в то время из разрозненного набора небольших картин. Смена
картин бывала мгновенной (когда владелец кинотеатра под-
клеивал фильмы в один ролик) и контрастной по жанру (если
он заботился о композиции сеанса). В раннем стихотворении
С. Маршака (1908) обыграна эта особенность кинопрограммы:
он описывает французский кинофарс, в финале которого не
вовремя вернувшийся муж, несмотря на все старания, «любов-
241
Глава 5. Рецепция киноповествования
ника, конечно, не находит», а завершает стихотворение
неожиданным эпилогом:
Изумлена, глаза открыла шельма,
Супруг исходу дела очень рад...
За этим следует: в присутствии Вильгельма
Лейб-гвардии парад [245, с. 7].
То есть Маршак, пользуясь рецептивной амбивалентностью
единиц сеанс/фильм, побуждает нас «прочесть» сеанс по пра-
вилам чтения связного текста. Комизм этого литературного
приема в том, что в силу рецептивной инерции Маршак за-
ставляет читателя повторить классическую ошибку, которую
зритель допускал во время просмотра — подмену post hoc
ergo propter hoc (после этого, следовательно, по причине
этого): немецкая хроника после французского фарса воспри-
нимается как его продолжение, не по событию пышный апо-
феоз.
В 1916 г., когда практика сборных сеансов была на излете,
другой поэт-юморист, Ал. Кранцфельд, резюмирующим «все
вместе», подвел черту под ощущением сеанса как связного
текста:
Все
вместе: денди и апа
пг,
Верблюд, мотор и варьете,
И бог войны, красив и страшен,
В последнем выпуске Патэ.
Все вместе: Прэнс и Джиоконда,
Суровый Цезарь и балет,
Цейлон, Москва, Кипр [Каир?] и Лондон:
Преград в пространстве больше нет! [198, с. 17].
Рискуя перегрузить мысль примерами, приведем все же
меткое сравнение Н. Игнатова: «<...> публике нравится
универсальность кинематографа; остается ждать, пока ей
надоест этот движущийся Мюр и Мерилиз» [172, л. 95].
В кинолитературе указанная особенность сеанса обсужда-
лась как теоретическая проблема — было неясно, считать
принудительную «тесноту» рецептивного ряда помехой для
полноценного восприятия или рассматривать контрастность
сменяющихся впечатлений в качестве самостоятельной цен-
ности?1
Спорящие апеллировали к опыту зрелищных жанров типа
варьете и к театрам миниатюр. Действительно, в прессе
встречались рецензии, одобрительно оценивавшие корпуску-
лярные театральные программы: «Репертуар труппы Гран-
Гиньоль очень оригинален. Рядом поставлены сильная реаль-
ная драма и развеселая комедия, граничащая с буффонадой.
Близкое соседство этих противоположностей вызывает в пуб-
16 102326
242
Часть П Межтекстовые связи
ОоиЫе oojbiuie Герваво
маневры въ ирвеутетви Илве-
ратора Ввлгмыа.
Укрепляющее средство
Н1к)Н ыужъ. >1)1114. (i^l ВОЛ'ГИ'ЫМIIСМ 1Ы I |<Д*
С*вЬ мне Di ганвмаамись треп. рас in limb. ii pinAp I. iIptb ни для । г*оф
жены. болкшепкмП женщину
Чтобы ииДять hi iipMvhpL. ши (mi. ,v пн much. остатки
чМабмо! жвдвоетв. .
НемвЬстно. un ihk.H.feTMiiKibJtP .lUaptfm* 'm больший ud плев
«упруг» оно и рояле iii Ч|л.- im.iiiin'' Kosil.ftrTHie
lluTyBCTR’BBNt ГЪ ГЙЧ Ntl/ild KllH|n‘HIIWH II|iI1J||I‘V <«11|K>CTU и сигы^
вввъ i«pot квчммяеп. выДдъллп* ртъ исв'мбр|иввы\ъ ннцгй ы)п*
чающихся Ник ты пр«^.л «шил преирлпожимт. »ч. пплиц|мг
Зепгртый i-ir ьанррЬ tLmj. нс mcii!< i m пп ill и I. it? YllUBBcn.
ALtkTBIV y.lMBRtr IMtini .1 I.Klpt ТВ» >W l|P П|л.‘крЛ TH НК I.. И ИД]11|В1< Mill V*
IMktL LllHJKrilitV Ь руки ПиДоЛцо lp«*-UIE^W> Спидолу. лыииспныП НЫ-
jAMMii.v'Tb iTl.H\ । u*Ntii jевнВии н mufri inbupauurii. П1нб«<ь.
Я УИШ
KnMM^rri.j:! I j;e*lhl Г. M>!|!4llJT н .Геру r«.f
Д 1 ft г T В у KI ll| J Л J II ь •!'
r»HL Ei|ii> — apr, т pit pa ^Одич1Ъ’
Гч11> PuMi.rpi-’ .qu, тантра «Ими Дрпч.ни: г»
Гч1Ъ JriipBiH'i. - те:Нрл -’Jmim M;i|i*n н«.
Г a;.i 1 ei i i — цг V.iTp.i Н1.«рв.напав.
Нъ томх что Окинъ уверъ,—нн у моги не осташись сивлйп*.
Бегъ лввжан1а ^дим».юд1В1ш1 овъ быдъ подидтъ у подъезда
tioeft кввртвры, Ш'рфмнъ въ <ною спальню и тдкъ долго не обиару-
жвлъ ннк&ип прнаиамжъ ддвнн, что доваиппй нрачъ бы.тъ нрвнуж-
A''.k г one тит приват i. <вер1Ь.
»
66. Хроника, комедия, фарс, сочетаясь,
создавали причудливую алеаторику сеанса.
Программа кинотеатра «Урания» (1909).
Фрагмент.
4
243
Глава 5. Рецепция киноповествования
лике какой-то особенный подъем настроения» [28, с. 5], —
писала в 1910 г. газета «Речь».
Такое объяснение сохраняло силу, пока речь шла об эмо-
циональных контрастах в пределах одного ценностного по-
рядка. Кинематограф этого условия не выдерживал — он
ставил «на одну доску» не только явления разных жанров,
но и явления, стоящие на различных ступенях ценностной
иерархии. Здесь теснота соседства могла вызвать нарекания.
Выше говорилось о цензурных инструкциях, обязующих вла-
дельцев кинотеатров опускать занавес до и после демонстра-
ции «царской хроники». Вот еще пример: известный пушки-
нист Н. О. Лернер, в середине 10-х годов заглянувший в кино-
театр посмотреть «Жизнь и смерть А. С. Пушкина» {1910,
реж. В. Гончаров), был шокирован не столько вульгарностью
этой кинобиографии, сколько тем, что «великий человек»
демонстрировался на экране «между усатым кайзером, еду-
щим на смотр уланского полка, и французским фарсом с раз-
деваниями и пинками в зад» [224, с. 18].
Таким образом, можно сказать, что культурно-семиотиче-
ская норма подходила к структуре киносеанса с презумпцией
связности смежных текстов.
87. Невозможное соседство: Толстой и Глулышкин (так в русском
прокате называли комика Андре Дида) — тема карикатуры
М. Михайлова в журнале «Шут» (1910. Na 4. С. 5).
16*
244
Часть П Межтекстовые связи
Кинематограф и правила связности
текста
Однако презумпция связности — одно, а реальная связ-
ность кинематографического текста — другое. Этой проблемы
мы уже касались, обсуждая семиотическую границу кадр/
фильм. Как только фильм представал перед зрителем в виде
многокадровой композиции, корпускулярность этой компози-
ции не только не скрадывалась, но и выходила на первый
план. Теперь наблюдатели сетовали не на то, что разрознен-
ные фильмы ложатся слишком кучно, а на то, что соседние
сцены фильма производят впечатление разрозненных. То
есть, едва только фильм заявлял о себе как о нарративном
образовании, презумпция связности отступала и в действие
вступал другой конгломерат зрительских ожиданий —
культурно-семиотические требования к классу повествова-
тельных текстов — условия, соблюдение которых делало
связный текст полноценным с точки зрения культурно-семио-
тической нормы.
Попробуем определить контуры этих условий. В первую
очередь следует отметить, что зрительское сознание
1900-х годов не предъявляло претензий к повествовательным
единицам, укладывающимся в пределы кадра. Ощущение де-
фектности кинотекста возникало в тот момент, когда дело
доходило до соположения кадров: тут обнаруживалось, что
нарративные кинотексты мало отвечают представлениям о
правильно построенной повествовательной цепочке.
Прежде чем перейти к более развернутому и аргументи-
рованному изложению правил связности и рецептивно значи-
мых отклонений, предложим их в суммарном виде. Следует
иметь в виду, что речь идет не об априорном описании куль-
турно-семиотических аксиом, а лишь о тех аспектах связно-
сти, которые высветились благодаря искажениям, внесенным
новым нарративным механизмом — кинематографом. Это —
требование отмеченности эллиптических отрезков текста,
требование иерархичности нарративных единиц, требование
повторяемости одних элементов текста и неповторности дру-
гих, требование дифференцированной репрезентативности
отрезков текста по отношению к репрезентируемой действи-
тельности (иными словами, в пределах одного текста «текст
жизни» должен быть представлен элементами с разной сте-
пенью приближения).
245
Глава 5. Рецепция киноповествования
Эллипс
Каким бы ни был его шаг, эллипс (=пропуск во времен-
ном потоке) воспринимающим сознанием оценивался как ано-
малия, характерная исключительно для кино. Напомним
статью Энгеля 1908 г., где сказано, что любовник появляется
«моментально» после отправки ему письма. В 10-е годы эта
шутка стала дежурной. В своеобразном ироническом кате-
хизисе «странностей» кинематографа (1914) Г. Герман напи-
сал: «Почему так быстро идет дело с любовью? Едва продав-
щица или кассирша взглянет на молодого лорда, как она уже
покинута и сидит перед ним с ребенком и убитым видом»
[122, с. 12]. Или другой пример: рецензентка «Театральной
газеты» в заметке о фильме Е. Бауэра «Леон Дрей» (1915) с
притворным недоумением восклицала — «Что это, в самом
деле, за Леон Дрей, который в каждой картине целует новую
женщину и изменяет героине предыдущей картины?» [219,
с. 15].
Иногда фильмы ставились наспех, на злобу дня, и в таких
случаях эллиптичность построения становилась особенно за-
метной. Этим грешил фильм «Темные силы — Григорий Рас-
путин и его сподвижники» (сц. Б. Мартов, реж. С. Веселов-
ский; фильм не сохранился), снятый сразу после Февральской
революции за несколько дней. В рецензии от 19 марта 1917 г.
«Петербургский листок» спародировал рваную фабулу «Тем-
ных сил»: «В кинематографе показывают Распутина в нату-
ральную величину. И показывают скверно.Распутин крадет
лошадей. Распутин в гостях у губернаторши, несколько ничего
не выражающих сцен и прямо автомобиль, дом на Мойке,
Нева и на берегу... галоша». Галоша, задуманная Веселов-
ским как «жуткая подробность» покушения на Распутина
(позднее такой нарративный прием прославит «пенсне» из
«Броненосца «Потемкина»), автору рецензии показалась ко-
мичной. В его глазах она превратилась в деталь, символизи-
рующую сущностную эллиптичность кинематографического
рассказа: вместо жизнеописания —* «несколько ничего не
выражающих сцен», вместо главного — рваная фабула, вме-
сто сцены убийства — бессмысленная галоша.
Малые эллипсы (или — временные пропуски внутри
сцены) для киноповествования представляли еще более серь-
езную проблему. Ее удобно проиллюстрировать на примерах
из автоэкранизаций, о которых речь шла выше, — сценария
Андрея Белого «Петербург» и экранной версии повести Соло-
губа «Барышня Лиза» (оба — 1918). Попытки писателей соз-
дать экранный вариант собственной прозы — благодарный
материал для изучения актов межсемиотического перевода.
246
Часть П Межтекстовые связи
Особенно интересны участки сценария, где писатель, как
можно увидеть, испытывал неожиданное затруднение. Напри-
мер, сцену утреннего одевания героини, с которой в литера-
турном тексте любой прозаик справился бы не задумываясь,
в сценарии «Барышня Лиза» Сологубу пришлось разбить
неуклюжим пояснением:
«7. <.. .> Лиза вся затрепетала и, быстро откинув одеяло,
вскочила с постели.
8. Через несколько минут там же.
Лиза торопится кончить свой туалет» [348, л. 3].
Размышляя над тем, как бы купировать от нескромного
взгляда подробности туалета, Сологуб не придумал ничего
лучшего, чем миниатюрная версия титра, какой кинематогра-
фисты использовали для обозначения больших временных про-
пусков: «Прошло N лет...»
С аналогичной проблемой столкнулся в своем сценарии
Андрей Белый в сцене бритья перед самоубийством Сергея
Сергеевича Лихутина. За неимением в языке кино средств
для выражения глаголов герминативного вида (оделась, выб-
рился) приходилось или давать действие во всей его полноте,
или прибегать к нарушению повествовательного контину-
ума — эллипсу внутри сцены.
В романе сцена бритья с повествовательной точки зрения
выглядит совершенно нормально: «Выбривши подбородок и
шею, Сергей Сергеевич бритвою неожиданно отхватил себе
ус: надо было выбриться до конца, потому что — как же
иначе? Как они взломают там двери и войдут, то увидят его,
одноусого, и притом ... в таком положении; нет, никак нельзя
начинать предприятия, окончательно не побрившись.
И Сергей Сергеевич Лиху тин начисто выбрился: и обрив-
шися выглядел он совершенным идиотом» [49, с. 194].
В сценарии Белый предложил такой кинематографический
эквивалент «абзаца»: «<...> уставившись в зеркало, вдруг
одним движением бритвы отхватывает себе ус; лицо его
сразу делается каким-то дурацким; и созерцая себя, одно-
усого, он подмигивает себе плутовато;
(картина на миг обрывается и тотчас вспыхивает опять).
Перед зеркалом совершенно бритый Серг. Серг., имеющий
вид откровенного идиота» [50, л. 43 об. — 44].
Показатели эллипса
В кинематографе «выход» из одного пространства и «вход»
в другое с точки зрения реципиента всегда допускает два
толкования: пространства могут читаться как смежные или
как отстоящие друг от друга на некотором расстоянии. Неоп-
247
Глава 5. Рецепция киноповествования
ределенность снимается, если эти пространства снабжены
или явственными приметами смежности (никто не удивится,
если персонаж, открыв парадную дверь, в следующей кар-
тине окажется в передней), или признаками взаимной уда-
ленности («Появилось северное сияние, и вместо экватора мы
оказались на полюсе», — посмеивался над незатейливым
синтаксисом немого кино А. Кугель [208]). Однако, когда,
например, герой покидает одну комнату, а в следующем кадре
оказывается в другой, могла возникнуть рецептивная амби-
валентность. В фильме П. Чардынина «Хризантемы» (1914)
после решающего объяснения с возлюбленным Вера, героиня
Каралли, покидает его, однако в следующей сцене сокру-
шенно садится на стул. Зрителю кажется, что, закрыв за со-
бой дверь кабинета, героиня не в силах покинуть его дом.
Только позднее выясняется, что Вера уже у себя. Чардынин
не позаботился о показателях эллипса, и монтажный переход
в этом месте получился рецептивно невнятным.
Следует различать внутренние показатели эллипса и пока-
затели межкадровые. В 10-е годы в русских киносценариях
«выходы» и «входы» помечали индексами направления. Реци-
пиент знал, что, если персонаж выходит из кадра вправо, а
появляется слева (или, реже, наоборот), это означает, что он
передвигается в непрерывном пространстве. Таково, напри-
мер, типичное описание действия из сценария Ч. Сабинского
«Вот мчится тройка почтовая» (1914), помеченное, как и все
остальные картины, индексом направления:
«8. Общий вид гулянья. От палатки из толпы выходят Иван
и Маша. Иван просит свешать гостинцев. Торговка вешает.
Иван сыплет в карман Маше... Маша благодарит... Оба
отходят вправо.
9. Общий вид гулянья. От палатки из толпы выходят
Иван и Маша. Посмотрели назад и оба ушли вправо...
10. По улице спиной к аппарату показываются слева Иван
и Маша. Со смехом и шутками проходят мимо и скрываются
справа...
И. К дому старосты слева, спиной к аппарату, идут Иван
и Маша. Остановились... Маша прощается с Иваном. Иван
обнимает Машу и целует» [325, с. 158—159].
«Вправо», «слева» — внутри кадровые показатели непре-
рывности. Эллипс требовал нарушения вектора, но такой
негативный показатель был, видимо, недостаточно сильным.
Поскольку начало и конец сцены чаще всего совпадали с
фабульным членением, т. е. приходом и уходом гостей, или
в случае крупных повествовательных блоков — с приездом
или отъездом героев, естественным сигналом эллипса стано-
вились жесты приветствия и прощания. Эти жесты в раннем
кино были чем-то вроде служебных синтагматических инди-
248
Часть П Межтекстовые связи
катеров, наподобие писем и телефонных разговоров. Как
письма и телефонные разговоры, приветствия и прощания
указывали на то, каким будет нарративное соотношение
между кадрами — с той лишь разницей, что письмо и теле-
фон выполняли конъюнктивную роль, стягивая в единый по-
вествовательный блок кадры, удаленные во времени (письмо)
и пространстве (телефон), а приветственные жесты были ско-
рее знаками повествовательной дизъюнкции.
Частота появления на экране писем и телефонных разго-
воров настолько превышала среднестатистическую норму, что
вызывала удивление даже бесхитростных зрителей (подроб-
нее об этом — в главе о надписи в кино). Не прошло неотме-
ченным и обилие приветственных жестов. «Почему общество
в замках занято только пожиманием рук и курением си-
гар?» — наивничал в уже цитированной нами статье Георг
Герман. — «Неужели каждый владелец поместья — профес-
сиональный рукопожатель?» [122, с. 12].
В 1916 г. рецензент журнала «Пегас» похвалил фильм
«Курсистка Таня Скворцова» (реж. Н. Туркин) за удачный
эллипс: «Остроумно избегнуто лишний раз показать отход
поезда, приветствия провожающих, поклоны отъезжающих
и пр., показана площадь перед вокзалом, а затем уже поезд
на путях, уже отошедший от станции» (№ 3, с. 78).
То же можно сказать о приездах и отъездах, которые не-
сли в себе идею крупного эллипса. Некоторые наблюдатели
прямо указывали на автомобиль как на своего рода синтагма-
тический детерминатив: «Фабула кинематографической драмы
имеет право быть нелепой в какой степени это возможно,
лишь бы связь ее отдельных частей была бы гарантирована
бешеной автомобильной ездой», — писал в 1914 г. обозрева-
тель «Театральной газеты» [341, с. 8], а постоянный киноре-
цензент этого печатного органа в рецензии на «Немых
свидетелей» Е. Бауэра (1914) указывал, что прием «переезда»
из эпизода в эпизод недостаточно хорош — в фильме нет
ясной повествовательной перспективы, возникает «ряд пустых
мест и провалов, <...> действие расположено однообразно:
пришли, ушли, сели на автомобиль, слезли с автомобиля —
и все» [451, с. 11].
Приходы-уходы, приезды-отъезды — морфологические
л»
показатели эллипса — постепенно уступали место показа-
телям синтагматическим: «проходам», «перебивкам», т. е.
межкадровым знакам эллипса, которые сами по себе тоже
являлись кадром. В середине 10-х годов умелая перебивка
приветствовалась, ибо была не только свежим приемом кино-
повествования, но и приемом, приблизившим нарративную
к требованиям культурно-семиотической
технику
ильма
нормы. Драматург И. Сургучов, постоянный рецензент жур-
249
Глава 5. Рецепция киноповествования
нала «Кулисы», в отзыве на картину Е. Бауэра «Ложь» (1917)
похвалил такой переход от сцены к сцене: «Оригинально
поставлено отправление на каникулы, особенно то место,
когда совершенно неожиданно <.. .> появляется мчащийся
среди небольшого леска поезд, это очень оживило обыкно-
венный шаблонный кинематографический «отъезд» и под-
черкнуло правдивость последующих событий» [363, с. 15].
В этом наблюдении замечательна последняя часть, где «прав-
дивость событий» ставится в зависимость от их позиции в
повествовательной перспективе текста.
В 20-е годы межкадровые показатели эллипса становятся
правилом. Теперь уже в них, а не в эллиптичности будут
усматривать «природное свойство» киноповествования, наз-
ванное Б, Балашем «зрительной непрерывностью» [33, с. 25].
С этим согласится и Б. Эйхенбаум: «Движение фильма стро-
ится по принципу временного и пространственного сцепления
<.. .> Если действующее лицо выходит из дома, то в следую-
щем кадре нельзя показать его входящим в другой дом —
это противоречит и времени, и пространству. Отсюда — необ-
ходимость так называемых «проходов», которые в руках не-
опытных режиссеров обычно загружают собой фильму, потому
что вносят лишние и бессмысленные детали» [460, с. 34—
35]. И далее: «Иначе говоря, пространство в кино имеет не
столько сюжетное, сколько стилистическое (синтаксическое)
значение» [с. 44].
Fermata
Остановимся на «лишних и бессмысленных деталях», от
которых предостерегал Эйхенбаум неопытных кинорежиссе-
ров, и попробуем определить это свойство киноповествования
на фоне культурно-семиотической нормы.
Всякое киноповествование полагает существующим (кон-
ституирует) определенный образ предтекстовой действитель-
ности, с которым оно связано отношениями репрезентации.
В набор имплицитных требований, которые 10-е годы предъ-
являли «правильному» повествованию, входил и такой норма-
тив, как экономность. Не всякую деталь следовало выписы-
вать с одинаковой тщательностью. Повествование признава-
лось экономным, если степень репрезентативности текста
менялась в зависимости от того, какое место отводится репре-
зентируемому событию в мире предтекстовой действитель-
ности.
Представим себе рассказчика-автомат, с неизменной
обстоятельностью передающего любую деталь — и важную,
250
Часть П Межтекстовые связи
и второстепенную. Рецептивный образ кинематографа изна-
чально складывался как образ такого рассказчика. Негиб-
кость, невыборочность нарративного фокуса — так можно
резюмировать одну из сквозных тем кинорецепции 1895—
1915 годов. Эта аномалия ощущалась на двух уровнях — на
уровне отдельного изображения, которое посетителям первых
сеансов казалось лишенным «осмысленного» центра (неуме-
ние отличить главное от второстепенного — устойчивый
мотив откликов на сеансы Люмьера), и на уровне цепочки
изображений. Повествовательная цепочка будет гибкой и
экономной, если повествователь имеет возможность на глав-
ном остановиться поподробнее, а о второстепенном упомя-
нуть мимоходом. Однако как раз такой возможности ранний
кинорассказ с его неизменной и заданной степенью репрезен-
тативности был лишен.
Согласно хронологии Солта, режиссеры «Патэ» начали
вводить в свои фильмы «приходы» и «уходы» по коридору и
лестничной клетке около 1907 г. [582, с. 109]. Обеспечивая
непрерывность, эти межкадровые показатели эллипса вме-
сте с тем отяжеляли повествование «лишними и бессмыслен-
ными» деталями. То есть приближение к норме связности
в плане гибкости уводило киноповествование от культурно-
семиотической нормы. Связность требовала иерархии элемен-
тов, их разделения на главные и служебные, но как раз
служебными-то элементами кинематограф и не располагал.
Б. Солт приводит следующий фрагмент из воспоминаний
Э. Смита, одного из основателей американской компании
«Вайтаграф»: «Никто не жаловался, пока не стало ясным,
что фирма «Патэ» взяла за правило повторять и повторять эти
«приходы» и «уходы». Сюжеты менялись, но прослаивались
они все теми же «приходами» и «уходами». Возникали двоякие
жалобы: публика уставала от однообразных приходов и ухо-
дов, часто мало относящихся к сюжету, да и киновладельцы
отказывались платить по 15 центов за фут за эти излишки.
Они утверждали, что сюжет смотрится лучше без этих при-
ходов и уходов, и стали выстригать их из фильмов, выплачи-
вая «Патэ» только за то, что оставалось» [582, с. 109].
В 10-е годы в русской кинолитературе можно встретить
отзывы, в которых отступления кинотекста от культурно-
семиотической нормы не обязательно расценивались как
недостаток. Рецептивное сознание вообще склонно к амбива-
лентности оценок. Аномальность кинотекста, его отклонения
от привычного повествовательного строя регистрировались
независимо от того, как их намерен трактовать каждый кон-
кретный наблюдатель, — в качестве дефекта или инновации.
Так, неэкономность киноповествования, ненужные подроб-
ности, «равноударность» фабульных и служебных отрезков
251
Глава 5. Рецепция киноповествования
текста (своего рода кинематографический «спондей») нахо-
дили своих ценителей. Складывался рецептивный образ
кинотекста, обладающего своей особой пластикой повество-
вания.
Возьмем для примера такой, по определению внефабуль-
ный участок кинотекста, как «представление актеров» —
галерею действующих лиц, перемежающуюся вступительными
титрами. Мнения зрителей об уместности такой «увертюры»
разделились — многие испытывали к процедуре представле-
ния отчетливую неприязнь2. Но уже в 1911 г., когда русская
публика еще не была охвачена культом звезд и представле-
ние действующих лиц в иностранных фильмах казалось ей
необъяснимой прихотью, П. Нилус признался в «незаконном»
эстетическом переживании: «Мы любим обыкновенную
жизнь до такой степени, что изображение людей в кинема-
тографе, даже без всякого отношения к интриге, нас захва-
тывает. Я помню, как в какой-то пьесе, перед началом,
почему-то режиссер нашел необходимым познакомить пуб-
лику с отдельными персонажами. Это длилось всего
несколько минут, но нужно было видеть, с какой радостью
все смотрели на живые портреты актеров, на улыбающуюся,
очаровательную актрису. И мне тогда пришло на мысль, что
режиссеры нового жанра пьес [кинематографа] еще не знают
своей силы, не знают, что интересно и что безразлично для
зрителя» [273, с. 10],
Когда Ф. Сологуб писал для А. Санина, предполагаемого
режиссера своего сценария «Барышня Лиза», «Заметки к по-
становке», он в список рекомендаций не забыл включить
особый пункт о важности внефабульных картин: «Имея в
виду исполнительницу заглавной роли [О. В. Гзовскую],
желательно очень выдвинуть пластические и мимические
моменты этой роли. Поэтому автор счел нужным отметить
в тексте сценария несколько картин, в которых б[арышня]
Л[иза] была бы показана одна, в разнообразных ее настрое-
ниях, но всегда равно очаровательная. Первое такое явление
б|арышни] Лизы мне казалось уместным в самом начале, —
как бы живая виньетка, вроде таких же гравюр, которыми
украшались книги того времени» [348, л. 1].
«Книги того времени» — книги начала XIX в.; стилизуя
действие сценария под книгу ушедшей эпохи, Сологуб не
стремится подладить киноповествование под такой эталон, а
как бы намечает типологические соответствия между кине-
матографом и архаической иллюстрированной повестью. Если
считать, что культурно-семиотическая норма вела отсчет от
повествовательной техники романа конца XIX в., то общим
знаменателем такой стилизации будут «наивность» (наив-
ность литературной архаики и наивность новомодного кино)
252
Часть П Межтекстовые связи
и культ ненужной детали — того, что Сологуб определил
словами «живая виньетка».
Независимо друг от друга два филолога 20-х годов, Б. Эй-
хенбаум и К. Ижиковский, предложили одинаковый термин
для обозначения внефабульных моментов киноповествова-
ния — музыкальный знак «фермата», указывающий, что про-
должительность ноты (или паузы) может быть увеличена по
усмотрению исполнителя. По определению Ижиковского,
это — сцены-связки, как будто малозначимые, но разыгран-
ные «без поспешности»: «<...> легко заметить, что режис-
сер любуется ими, что они для него — не только часть содер-
жания, которую ради связности поневоле пришлось пока-
зать» [537, с. 50]. «Фермата» Эйхенбаума несколько другого
порядка, но и он усматривает в нарративной паузе ключевой
элемент киностилистики: «Поток времени как бы останавли-
вается, дыхание фильмы задерживается — зритель погружа-
ется в созерцание» [460, с. 45].
Композиционный дисбаланс
Вернемся в 10-е годы. Как мы убедились, реципиент, ори-
ентированный на культурно-семиотическую норму, не нахо-
дил в кинематографе «золотой середины», сбалансированно-
сти повествовательных приемов. Кинорассказ продвигался
толчками и остановками, то позволяя себе неоправданные
временные скачки, то тормозясь именно в тех местах, кото-
рые следовало бы без колебания перескочить. Рецептивный
образ кинотекста отчетливо отпечатался в развернутой мета-
форе, с помощью которой наблюдатель 1911 г. попытался
определить специфику кино: «Театр — широкая спокойная
река. Кинематограф — стремительный ручей, прыгающий в
горах. Он вырвался откуда-то с высоты, несется, брызгает
колючими каплями, взбивает белые буруны, хватает обломки
веток и несет их, и крутит, и выбрасывает измочаленными
обратно» [370, с. 12].
Критические статьи обращали внимание режиссеров на
повествовательные парадоксы: «Действие растягивается на
одном месте. В то же время чувствуется, что почему-то про-
пущены важные сцены — например, нет сцены концерта, а
есть лишь овации после него» [104, с. 12], — писал критик
«Проэктора» по поводу фильма «В огне страстей и страданий»
(1915) в постановке А. Иванова-Гая.
Если попробовать мысленно восстановить упомянутую в
рецензии сцену (фильм не сохранился), то можно почувство-
253
Глава 5. Рецепция киноповествования
вать, насколько не похожи современные критерии связности
текста и критерии, которыми оперировала критика 10-х годов.
Для последнего предпосылкой «правильной» сегментации
кинотекста было совпадение с «естественным» протеканием
(точнее, членением) предтекстовой действительности. Апло-
дисменты, сигнал окончания концерта у Иванов а-Га я, должно
быть, служили началом закулисного эпизода3. Безукоризнен-
ный для реципиента более позднего времени, этот кинемато-
графический enjambement в 10-е годы расценивался как де-
фект.
Дефектологического диагноза связность киноречи удостаи-
валась и в тех случаях, когда стремительное действие аван-
тюрной кинодрамы превышало норму правдоподобия. На
материале рецензии на несохранившийся фильм С. Веселов-
ского «Беженцы» (1915) нетрудно проследить за характерным
рецептивным сдвигом: плотный эллиптический режим вос-
принимается не столько как свойство дискурса, сколько как
режим протекания событий: «<.. .> молодые люди прова-
ливаются через потайной люк в некое подземелье, откуда
спасаются с опасностью для жизни. Тем не менее они сейчас
же снова проникают в дом, никем не замеченные, и после
довольно неэстетичной драки с обитателями (зачем-то эта
драка детально показана на экране) увозят сначала одну из
девушек, а потом спасают и другую» (35, с. 10].
Между тем, как уже было сказано, повествовательные
аномалии кинематографа находили и апологетов. Самое уди-
вительное, что композиционный дисбаланс, вносимый кине-
матографом в культурно-семиотическую норму, мог оцени-
ваться как благотворный фактор в области, казалось бы,
наиболее нормированной — жанре экранизаций литератур-
ного произведения.
В русском кино 1900—1910-х годов роль экранизаций
литературной классики функционально соответствовала роли
евангельских экранизаций в европейском кино (в русском
кино не только производство, но и демонстрация фильмов с
библейскими персонажами были, как известно, под запретом).
Как мы знаем из работ Н. Берча [503, с. 31], Страсти Хри-
стовы, благодаря общеизвестности этого сюжета в христиан-
ском мире, подсказывали зрителю причинно-хронологическую
связь между сменяющими одна другую картинами. Приблизи-
тельно то же можно сказать об экранизациях знаменитых
русских романов XIX века. А. Ханжонков, один из инициа-
торов такого жанра, вспоминал: «Выбирались наиболее выиг-
рышные сцены из них, причем не особенно заботились о
смысловой связи между этими сценами, вероятно, в надежде
на то, что зритель не может быть незнаком с такими попу-
лярными произведениями русской классики» [411, с. 37].
254
Часть П Межтекстовые связи
Легко представить себе, какими были эти экранизации с
точки зрения культурно-семиотической нормы — нормы,
возникшей как канонизация повествовательных конвенций
именно романа XIX века. Между тем резкое несоответствие
экранизации литературным ожиданиям могло вызвать и об-
ратный эффект.
Сравним два отклика на экранизацию «Обрыва» И. Гонча-
рова (1913, реж. П. Чардынин). Педагогический журнал
«Вестник воспитания» высказался пренебрежительно /
(«<...> что осталось от романа? В лучшем случае короткие
реплики писателя и ряд плохих картин» [327, с. 200]), зато
«Театральная газета» (№ 1 от 1913 г.) — почти восторженно
(«Это цитаты — такие густые, такие сочные, так полны
настроения» [с. И]).
И в том, и в другом случае прокомментировано одно и
то же: отклонение от культурно-семиотической нормы,
однако во втором отклике аномальное построение проинтер-
претировано как инновация. Отрывочность экранизаций, осо-
бенно когда речь шла о таком романе, как «Обрыв», тракто-
валась как цитатность. Композиционный дисбаланс «осво-
бождал» фрагмент, встраивал его в новую повествовательную
перспективу. Произведение прошлого века вступало в диалог
с реципиентом 10-х годов, невольно вписываясь в нарождаю-
щуюся поэтику цитаты, намека, межтекстовых отсылок.
Экранизируемый текст попадал в другое поле художествен-
ной культуры.
Это касается не только экранизаций классики. Отклонения
от культурно-семиотической нормы по мере того, как к ним
привыкали, обнаруживали в себе валентность альтернативной
модели повествования. Возникло понятие «кинематографич-
ности» — стиля, в недрах которого растет вызов драматурги-
чески продуманному и композиционно взвешенному художе-
ственному построению. «Неправильности» кинотекста высту-
пали уже не как симптом врожденного несовершенства
кинематографа, а как приметы сдвинутых современностью
культурных пластов. В них искали сдвиги в плоскости отно-
шений между повествователем и его адресатом, между
текстом фильма и «текстом жизни», между «текстом жизни»
и зрителем.
В частности, композиционная невыверенность деталей и
«неумение» кинотекста отделить важное от второстепенного
серьезно меняли рецептивную оценку интенциональности
текста. Оказавшись лицом к лицу с «невразумительным калей-
доскопом отдельных явлений, связь которых решительно
недоступна» [369, с. 8], зритель чувствовал себя выбитым
из привычной роли потребителя искусства; ему казалось, что
255
Глава 5. Рецепция киноповествования
он не столько адресат осмысленного художественного сооб-
щения, сколько свидетель чего-то непреднамеренного.
В 1913 г. один из авторов журнала «Кино-театр и жизнь»
(вероятно, А. Анощенко) так определил внутреннюю позицию
реципиента относительно кинотекста: «Перед глазами
совершенного кинематографического зрителя мелькают
картины важные и ничтожные, значительные и совершенно
ненужные для развития данного действия. Перед ним не
драма в театральном смысле слова, а ряд эпизодов или
драма в восприятии случайного прохожего; не нарастание
известных страстей, не «поединок роковой», не строго замк-
нутое в себе действие, а запутанная бытовая история в ее
внешнем проявлении, с тысячью мелочей и миллионом несу-
щественных деталей» [121, с. 2].
Как видно из приведенного рассуждения, воспринимаю-
щему сознанию приходилось иначе, чем прежде, выстраивать
коммуникативную ситуацию и по-другому определять свое
место в ней. «Случайный прохожий» Гейнима — мысленное
упражнение, помогавшее зрителю оправдывать дефицит
интенциональности, мотивировать соприсутствие в кинотек-
сте деталей, которые, как ему казалось, не «отобраны», а
просто «подвернулись под руку».
В таком качестве кинематограф 10-х годов целиком впи-
сывался в модель эстетического восприятия (поведения),
изученную позднее, но на материале более раннего времени
В. Беньямином — «видение фланера» [489, с. 445 и далее].
Напомним, что мотив непреднамеренного, стихийного, внезап-
ного, незапланированного решения, равно как и мотив бес-
цельных городских вигилий, определяли поведение кинозри-
теля и окрашивали характер восприятия. Бретон, блуждая от
театра к театру и ни в одном не досиживая до конца сеанса,
искусственно вызывал в себе психологический эффект
«видения фланера» — цепь случайных, непреднамеренных
впечатлений. Блок, чьи кинематографические маршруты
отличались столь же продуманной импровизационностью,
старался застать киновпечатление «врасплох» — увидеть в
нем проявление физиологии современного города. А. Флакер
утверждает, будто О. Мандельштам сходным образом воспри-
нимал живопись: «Воспроизводя свои впечатления от «фран-
цузов», Мандельштам нисколько не описывает картины, не
останавливается перед отдельными холстами, а проходит
«как по бульвару — насквозь», т. е. применяет «видение
фланера», позволяющее ему передать мгновенные впечатле-
ния в метафорических и ассоциативных сгустках» [407,
с. 171—172].
«Видение фланера» оказалось универсальной аллегорией,
упорядочившей эстетический опыт, самой сутью которого
256
Часть П Межтекстовые связи
была беспорядочность. В самоощущение завсегдатая входила
рецептивная дихотомия: зритель в театре / зритель в кинема-
тографе, окрашенная следующими коннотациями —• пережи-
вание / впечатление, полнота / отрывочность, неподвижность /
мобильность, созерцательное / мимовольное. Дихотомия была
отчетливо осмыслена и сформулирована уже в 1913 году:
«Между ним [фланером] и театральным зрителем нет, или
почти нет, ничего общего, как между человеком, гуляющим
по улице и беспечно вбирающим в свои зрачки всю пестроту
уходящих в вечность мгновений, и человеком, остановив-
шимся в религиозном созерцании перед вечностью, заключен-
ной в непреходящем явлении искусства» [121, с. 2].
Если вернуться к вопросу о киноповествовании и его ре-
цептивному облику на фоне культурно-семиотической нормы,
можно убедиться, что психологический автопортрет кинозри-
теля в образе «человека, гуляющего по улице» канонизиро-
вал сдвиг эстетических оценок по осям центр—периферия и
порядок—хаос. Деталь, слабо связанная контекстом, тяготеет
к периферии рецептивного поля. Для наблюдателя 10-х годов
«кинемо — этот хаос перепутанных панорам» [237, с. 1]
состоял целиком из несущественных деталей, бегущих по
периметру, предельно удаленному от предполагаемого фокуса
повествования. Неумение кинематографа прямо и по чести
ответить на вопросы нарративного порядка (кто? где? по-
чему?), рождавшиеся в вакууме рецептивных ожиданий, в
глазах «Театральной газеты» придавало ему сходство с
амплуа фигляра в старом театре: «У кинематографа та же
свобода в действиях, что и у шута» [341, с. 8]. В простран-
стве наррации, где «существенные эпизоды опущены, мел-
кие — налицо» [369, с. 8], в миниатюре повторялась оппози-
ция, центральная для рецептивной феноменологии кинемато-
графа в целом, — агрессивное противостояние уличного,
хаотичного, внешнего пространства обжитому пространству
традиционной культуры. Приведем стихотворение В. Брюсова,
уже цитированное нами по другому поводу:
Мир шумящий, как далек он,
Как мне чужд он! но сама
Жизнь проводит мимо окон,
Словно фильмы синема [78, т. 2, с. 158].
*
Крупный план
Наиболее стойкое сопротивление культурно-семиотическая
норма оказывала крупному плану. Еще и в 1917 г., когда лицо
на крупном плане давно стало привычным зрелищем, консер-
вативные наблюдатели считали этот прием вынужденной
уступкой тем или иным условиям производства. И. Сургучов,
257
Глава 5. Рецепция киноповествования
например, искренне полагал, что крупный план придуман,
чтобы заслонить халтурную декорацию: «Ложь комнаты
заметили и придумали средство «крупные лица» и взгляды
«на аппарат». Красивые лица, «игра» их запоминается, на
несколько секунд нежизненность декораций не замечается,
но потом опять ложь комнаты всплывает все ярче, все за-
метнее» [364, с. 12].
Какова хронология крупного плана в рецептивном уни-
версуме русского зрителя и в раннем русском кино? Сравни-
тельный анализ кинотекстов и текстов о кино показывает,
что в России о крупном плане заговорили значительно
раньше, чем русские режиссеры согласились испробовать
этот прием на практике.
Мемуарные свидетельства охотно фиксируют «первый
крупный план лица» в творческой биографии мемуариста
(обычно — актера или актрисы). Как правило, упоминаются
разные фильмы, хотя авторы воспоминаний склонны считать
свой случай первым в истории. Обследование сохранившегося
фонда мало что дает — до нас дошло около 10 процентов
общей русской кинопродукции. Нина Гофман вспоминает
фильм А. Бесстужева «Очи черные.. . Очи страстные...»
(1916; не сохранился): «Начиналась картина крупным пла-
ном — во весь экран одни глаза: сначала смеющиеся, кокет-
ливые, постепенно грустные и потом слезы» [136, л. 16];
Зоя Баранцевич — свою картину «Курсистка Таня Скворцова»
(1916, реж. Н. Туркин; сохранилась не полностью): «Впервые
в этой картине был применен очень крупный план —
лицо Тани, занимающее почти весь экран. До этого случая
никто не решался пользоваться этим новшеством, видимо, не
надеясь на технические средства или вследствие каких-нибудь
других соображений (может быть, отказа авторов?). Но я хо-
рошо помню разговоры на эту тему, растерянность и недо-
умение некоторых актеров, испуганных таким новшеством,
и даже режиссеров, которые не могли сразу понять, хорошо
это или плохо ...» [34, л. 8].
Однако рецензии на «Курсистку Таню Скворцову» ни о
каком новшестве не упоминают — видимо, для 1916 г. лицо во
весь экран в русском фильме было не такой уж редкостью.
Действительно, в воспоминаниях Веры Павловой находим
аналогичный рассказ, на сей раз о фильме Б. Чайковского
«Роман балерины» (1916): «Увидя себя первый раз на экране,
я заплакала. Мне было жалко и досадно, что все получилось
совсем не так, как я старалась сделать и показать. Как хоте-
лось вырвать или переделать некоторые кадры, где жесты и
движения мне не нравились. Но все же не все в картине было
безнадежно плохо, а один кадр — большая собачья морда
и мое залитое слезами лицо, снятое крупным планом, — был
I ? 1023?6
258
Часть II Межтекстовые связи
замечательным» [285, л. 5). Правда, «Роман балерины» был
снят полугодом позже, чем «Курсистка Таня Скворцова».
Кроме того, в русской киномемуаристике существует пре-
дание, имеющее под собой мало почвы, но с большой охотой
повторявшееся многими — о связи крупного плана с особен-
ностями игры Веры Холодной. Автор идеи — Ч. Сабинский,
художник и режиссер, утверждавший: «<...> русская ки-
нематография заразилась как обязательной модой американ-
скими планами и монтажом. Бауэр чуть ли не с «Песни тор-
жествующей любви» применял крупное фотографирование для
выявления интимных переживаний Веры Холодной. Дело в
том, что Вера Холодная не могла и не умела передавать
сложных психологических нюансов, и поэтому Бауэру прихо-
дилось разлагать всю сцену на отдельные, не связанные пере-
ходами моменты. Например: 1) смех, 2) спокойная маска,
3) грусть, 4) слезы, 5) рыдание. Между этими разорванными
психологическими кусками вставлялись для перебивки пей-
зажи, вазы, тучи и т. д. В результате всех этих ухищрений
начинающая неопытная артистка была воспринята зрителем
как художественная сила, как самодовлеющая ценность» [326,
с. И]4.
Как отмечалось, в России крупный план сделался фактом
рецепции раньше, чем фактом киноязыка. Дело в том, что
укрупнение (мы будем говорить об укрупнении, т. е. об изме-
нении масштаба репрезентации, а не о терминальных состоя-
ниях этого изменения — «деталь», «крупный план лица», «по-
ясной план» и т. д., так как эти параметры более существенны
для истории киноязыка, чем для истории рецепции) было вос-
принято как существенное отклонение от культурно-семиоти-
ческой нормы. Норма театрального зрелища включает в себя
проксемическую константу — для каждого данного текста
(спектакля, концерта и т. д.) расстояние между зрителем и
пространством исполнения является постоянной величиной.
Иное дело, что эта величина каждый раз кодируется заново —
ценой билета, размерами зала или другими обстоятельствами,
но, единожды заданная, проксема зритель—зрели
остается
константной.
Развивая на русской почве идеи Гордона Крэга, К. Микла-
шевский в известной лекции «Рассуждение о пользе маски»
(эта лекцйя была одним из первых и наиболее ярких театраль-
ных впечатлений присутствовавшего на ней юноши-Эйзен-
штейна [455, т. 1, с. 382]) попытался аргументировать такую
пользу конкуренцией кино. Маска, по его мнению, поможет
преодолеть основное неудобство проксемической константы:
«Мимика тела — театральна: она хорошо видна из самых
отдаленных мест театра и вследствие своей скульптурности
остается выразительной, с какой бы точки мы ни смотрели,
259
Глава 5. Рецепция киноповествования
тогда как мимика лица — атеатральна, доступна лишь для
богатого зрителя и предполагает одну наиболее выгодную
точку зрения, а поэтому ее можно уступить по дешевой цене
кинематографу, где актер, желающий показать мимику лица,
может стать настолько близко к объективу, что его голова
при проекции на экране окажется увеличенной раз в 20, а мно-
гие тысячи зрителей увидят его как раз с той точки, с которой
снимал объектив, независимо от того, откуда они смотрят»
[254, с. 456].
Таким образом, уже в середине 10-х годов внимательный
наблюдатель уяснил для себя основное отличие кинематографа
от театра — кинематограф предложил другую геометрию, в
аксиоматику которой константность упомянутой проксемы не
входила. Эффект укрупнения в том, что с изменением мас-
штаба плана зритель начинает считать расстояние до объекта
величиной переменной.
Понятно, что воспринимающему сознанию, ориентирован-
ному на культурно-семиотическую норму, столь радикальная
семиотическая перестройка далась нелегко. Реципиент воспри-
нял новую систему отношений лишь как деструкцию, разруше-
ние старой. Нарушением нормы поначалу считали и превра-
щение константной проксемики в проксемику подвижную.
С семантикой разъятой системы, нарушенного единства,
утраченной целокупности и связывался рецептивный образ
укрупнения. Мы уже приводили характерное выражение, ко-
торым воспользовался Ю. Энгель, когда в статье 1908 г. описы-
вал крупный план письма: «письмо <.. .> показывается от-
дельно» [464]. Слово «отдельно» несет в себе отпечаток той
стадии рецепции, когда переход от персонажа, пишущего
письмо, к крупному изображению написанного, переход для
современного зрителя синтагматически безупречный, так ска-
зать, «системный», воспринимался как выпадение из системы.
Еще и в 1917 г., когда, казалось бы, крупный план был делом
привычным, рудименты рецептивного неприятия этой монтаж-
ной фигуры нет-нет да встречались. Обратим внимание на кри-
тику крупного плана в ругательной рецензии на фильм режис-
сера С. Веселовского (или Н. Арбатова) «Цари биржи» (1916) —
крупные планы в ней описаны совершенно в тех же выраже-
ниях, что и в статье Энгеля 1908 года: «Исполнители Белин-
ского и Нади, с некрасиво подведенными глазами, часто гри-
масничают. Режиссеру не нужно задерживать глаз зрителя на
этих гримасах, показывая их в увеличенном масштабе от-
дельно от общей картины» [420, с. 15—16], «Общую картину»
реципиент воспринимал отдельно, как и крупные планы.
Еще раз вчитаемся в оборот из статьи Энгеля — «показы-
вается отдельно». Для нас непривычно звучит не только слово
«отдельно», но и слово «показывается». Когда современный
17*
J
260
Часть II Межтекстовые связи
зритель видит крупный план после «общей картины», он не
считает, что эта общая картина была разъята и крупный план
«поднесен» к его глазам для более тщательного рассмотре-
ния. Скорее наоборот: если попросить этого зрителя описать
укрупнение словами, он объяснит, что каким-то образом сам
зритель, его точка зрения переместилась в пространстве кар-
тины, заняв положение вблизи разглядываемого предмета.
То есть в современном нам восприятии проксемическая пере-
менная интерпретируется как подвижность субъекта при
неподвижности объекта. Диегесис остается на месте, точка
зрения блуждает.
На ранней стадии рецепции мы наблюдаем совсем иную
картину. Зритель еще не усвоил новых правил игры и по-
прежнему ощущает себя как в театре, являя неподвижную
точку восприятия. В 1911 г. А. Косоротов, пытаясь осмыслить
эффект крупного плана («<...> всю сцену вдруг заполняет
одна гблова, гигантская голова, в мимике которой до потря-
сения ясно видны малейшие движения жилок, мельчайших
бликов в глазах, на губах»), описал его как «вырывание из
общего и приближение к себе главных моментов зрелища»
[195, с. 702]. Для реципиента тех лет крупный план означал
перемещение не точки зрения относительно объекта (в таком
случае Косоротов написал бы: «Мы приближаемся к участ-
никам зрелища», и для нас это прозвучало бы вполне естест-
венно), а объекта относительно неподвижного угла зрения
(«приближение к себе»). В результате возникало ощущение
«нарочитости» всякого укрупнения, или, иными словами, чрез-
мерной интенциональности приема. Парадоксальным образом
рецензенты причисляли крупный план к приемам театраль-
ного толка — именно потому, что в них слишком прогляды-
вала преднамеренность. В этом смысле показательна рецензия
В. Туркина на «Молчи, грусть, молчи...» П. Чардынина,
напечатанная в 1918 г. в «Киногазете»: «Делу отнюдь не помо-
гают американские планы, дающие в приближении отдельные
моменты общих сцен. Такое пользование приближенными
снимками не только не смягчает грехов театральности экран-
ной постановки, но еще и подчеркивает ее условность и неу-
бедительность. Издали, мол, вы, может быть, не разглядели,
так вот вам еще и вблизи. Как это ни покажется с первого
взгляда парадоксальным, но режиссера, болеющего театраль-
щиной, сразу можно узнать по обилию пояснительных амери-
канских планов» (№ 23, с. 14).
261
Глава 5. Рецепция киноповествования
Укрупнение, мотивированное
движением персонажа
Нам уже приходилось говорить о неравнозначности про-
странственных осей движения «на зрителя» и движения по
оси, параллельной плоскости экрана. Тогда речь шла о ре-
цепции экранной плоскости как лицевой границы кинемато-
графического текста. Остается сказать несколько слов о
«движении на» как приеме киноязыка.
Как известно, добиться укрупнения можно тремя путями:
путем монтажного скачка, путем приближения камеры
к персонажу и путем приближения персонажа к камере.
Иногда считают, что режиссеры раннего кино предпочитали
последний способ, поскольку первый был труден для вос-
приятия, а второй сложен технически. Такое рассуждение
исходит из предпосылки, что «выход на крупный план» в
силу постепенности казался зрителям более «естественным»,
чем скачок — укрупнение монтажное. Между тем, если
вглядываться в описания современников, можно убедиться,
что и простой выход на первый план был воспринят ими в
качестве отклонения от культурно-семиотической нормы.
Остановимся подробнее на эпизоде из романа Томаса
Манна «Волшебная гора» — сцене посещения «биоскопа», о
которой читатель помнит в связи с анализом плоскости
экрана. Из показанных там картин героям романа запомнилась
следующая: «Молодая марокканка в полосатой шелковой
одежде, покрытая украшениями в виде цепочек, запястий
и колец, с тугой полуобнаженной грудью, вдруг выросла до
натуральной, величины и словно надвинулась на зрителей.
Ее широкие ноздри раздувались, глаза блестели радостью
животной жизни, лицо было все в движении: она смеялась,
показывая белые зубы, одну руку с ногтями светлее, чем
кожа, она поднесла к глазам, словно заслоняя их от солнца,
другой махала публике» [244, с. 443. Выделено мной. —
Ю. Ц.|.
Сличим это описание с другим, аналогичным ему по типу
рецепции кинематографического пространства. Это — уже
известное нам стихотворение С. Я. Маршака «В кинемато-
графе» (1908), где в ряду прочих киносюжетов описана и та-
кая сценка:
Кинематограф. Улица Берлина.
(Мельканья, вспышки, капли, муравьи).
Навстречу нам два полных господина
Несут портфели легкие свои.
Остановились. Бешеный, как пена,
262
Часть П Межтекстовые связи
Автомобиль пред ними пролетел,
Два господина выросли мгновенно,
Спустились вниз и скрылись за предел
[245, с. 7. Курсив мой. — Ю. Ц.[.
Сравнивая тексты Манна и Маршака, можно заметить, что
оба описания совпадают сразу в нескольких пунктах. И тут и
там событием оказывается выход персонажей из глубины на
первый план (а у Маршака — и последующее их исчезнове-
ние за нижней рамкой кадра — «спустились вниз и скрылись
за предел» — видимо, оператор производил съемку с воз-
вышения). И в том и в другом случае этот переход описы-
вается как внезапный: «вдруг» у Манна, «мгновенно» у Мар-
шака. Последняя особенность не должна вызывать удивле-
ния — у нее есть параллели в корпусе более ранних текстов
о кино, в том числе в откликах первых зрителей на фильмы
Люмьеров. В главе 2 мы подробно рассматривали некоторые
из этих откликов, пытаясь выяснить, как современникам рисо-
валось пространство люмьеровских картин. При этом обна-
ружилось, что, в отличие от нас, первые зрители расценивали
геометрию внутрикадрового пространства как искаженную:
в частности, отмечалось бросающееся в глаза несоответствие
между чрезмерно увеличенными предметами на первом плане
и непропорционально уменьшенными в глубине. Такая
«ошибка масштабов» приводила к тому, что движение из
глубины на зрителя приобретало пугающую стремительность.
Существенная деталь: и в романе «Волшебная гора», и в
стихотворении Маршака процитированные сюжеты выступают
в роли самостоятельных единиц. Может показаться, что
это — свобода литературного выбора: писатель выхватил из
потока заинтересовавший его кадр, а контекст опустил как не
представляющий интереса. Но считать так значило бы пове-
рять исторический факт более поздней языковой нормой.
Приближение персонажа к камере в описываемый период
вполне могло составить самодостаточный сюжет фильма. На
таком пространственном эффекте строил свои миниатюрные
«видовые» фильмы странствующий оператор фирмы «Эклер»
Ф. Месгиш, один из фильмов которого — «Улыбка Катиша»
(«La sourire de Katicha»), снятый в середине 1900-х годов
на Яве, столь схож с картиной, описанной в романе Т. Манна,
что мог бы претендовать на роль прямого источника «сцены
в биоскопе» «Волшебной горы».
В мемуарах 30-х годов Месгиш так вспоминал о своей
картине, вызывавшей повсеместное ликование: «Катиша вы-
ходила из реки, шла на крупный план и, снятая рапидом,
приближалась; грудь ее была голой. Обволакивающим дви-
жением руки она накидывала саронг и завязывала его узлом
263
Глава 5. Рецепция киноповествования
под грудью. План все увеличивался, яванка широко откры-
вала свои темные глаза — как раз в тот момент, когда обна-
жался ряд зубов, жующих бетедь. В зале звучал смех
и шутки, и Катиша каждый раз исчезала под крик: «Ну и
рот!»» [557, с. 213].
В чем заключался интерес к картинам, построенным на
приеме «движение на зрителя», для публики 900-х годов?
Обратимся еще раз к примерам из произведений Т. Манна
и С. Маршака. Отличительной чертой их описаний является
не столько сам факт движения объекта «из глубины на нас»
(хотя трудно себе представить, чтобы наблюдатель более
поздней эпохи придал указанному факту особое значение),
сколько отразившаяся в этих описаниях внутренняя противо-
речивость двух разных способов прочтения кадрового прост-
ранства. Т. Манн пишет, что девушка-марокканка «словно
надвинулась» на зрителей — это соответствует переводу про-
исходящего в плоскости экрана движения на язык трехмер-
ных пространственных представлений (приблизительно в таких
выражениях и мы бы описали фильм, предложи нам кто-
нибудь это сделать). Но заметно, что автору с трудом дается
перевод, и описание сбивается с колеи глубинной интерпре-
тации (движение «на») на путь истолкования происходящего
в категориях двухмерного пространства: молодая марокканка
«вдруг выросла до натуральной величины» (мы бы так ни-
когда не сказали).
Любой кадр с движением по оси зрения допускает, в
принципе, двоякое прочтение: можно утверждать, что дви-
жущийся объект по величине все время остается равным
самому себе, и тогда приходится признать, что изменение
его экранного размера сигнализирует об изменении расстоя-
ния между ним и нами. Так «читает кадр» современный нам
зритель, и такое прочтение сделалось для него обязатель-
ным — настолько, что мы даже в мультфильмах при увели-
чении фигуры в размерах готовы поверить в глубину прост-
ранства.
Но можно принять за константу и расстояние между нами
и объектом. Тогда останется лишь допустить, что объект
обладает магической способностью изменяться в объеме, и
простой видовой фильм превратится в увлекательное зре-
лище. Рецептивному сознанию 900-х годов, воспитанному на
трюковом кинематографе Мельеса с его мотивом надуваю-
щихся живых голов (трюк был подхвачен другими фирмами
и испробован на иных сюжетах — таких, как лягушка,
желающая перерасти вола, или полюбившийся Андрею Белому
человечек, который «ширится, ширится, чихнет — и лоп-
нет»), прочесть видовой, фильм по правилам трюкового было
так же легко, как нам сегодня прочесть мультипликационный
264
Часть П Межтекстовые связи
кадр по правилам хроникального: для зрителя той поры кине-
матограф был не столько «подобием жизни», сколько миром
неограниченных возможностей.
В процитированном выше стихотворении, описывая кине-
матографическую «улицу Берлина», С. Я. Маршак и вовсе
отбрасывает глубинную версию прочтения кадра и склоня-
ется к намеренно ошибочной трактовке происходящего («два
господина выросли мгновенно») — возможно, это и состав-
ляло для него поэтическое оправдание всей строфы.
Таким образом, можно сказать, что для человека начала
столетия укрупнение, мотивированное движением из глубины
кадра, представляло собой своего рода пространственный
парадокс, прелесть которого в том, что зритель мог произ-
вольно менять код пространственного прочтения («увеличе-
ние» vs. «приближение»), точнее, постоянно ощущать двойст-
венность этого кода и взаимообратимость предлагаемых
интерпретаций.
Наезд
Третий способ укрупнения — приближение камеры
к объекту съемки, или «наезд», в киноязыке 900-х годов
применялся крайне редко [582, с. 78—79]. Как отмечалось
выше, наезд использовался в первые годы главным образом
в целях трюка с «раздувающейся» фигурой, поэтому в тех
редких случаях, когда он имел дело не с трюковым, а с
«настоящим» наездом, зритель 900-х годов и его воспринимал
как «странное» совмещение просвечивающих друг друга про-
цессов — увеличения и приближения. В своих мемуарах (в
части, относящейся к первым детским впечатлениям от кино)
Луис Бунюэль описал такое ощущение, характерное для зри-
теля той эпохи: «Не могу забыть ужаса, который разделял
весь кинозал, когда я увидел первый в моей жизни «наезд».
На экране на нас надвигалась голова, все увеличиваясь,
словно стремясь нас проглотить. Было немыслимо хоть на
секунду вообразить, что камера приближается к голове —
или что последняя увеличивается благодаря трюку, вроде
трюков из фильмов Мельеса. Перед нами была голова, кото-
рая приближалась к нам, чудовищно увеличиваясь. И, по-
добно апостолу Фоме, мы верили тому, что видели» [501,
с. 42].
В этом описании с поразительной точностью зафиксиро-
вано рецептивное напряжение между двумя равносильными
полюсами — возможность «прочесть» наезд и как сокраще-
ние дистанции, и как увеличение объема ставила зрителя в
265
Глава 5. Рецепция киноповествования
положение «буриданова осла», парализуя свободу выбора
одной из интерпретаций.
В 10-е годы наезд вдруг становится популярным (во всяком
случае, в русском кино): в фильме «Дитя большого города»
Е. Бауэра (1914, оп. Б. Завелев) камера устремляется через
весь ресторан в сторону «индийской танцовщицы»; в фильме
«После смерти», снятом теми же Бауэром и Завелевым (1915),
где движение камеры вообще отличается беспрецедентной
для того времени смелостью, мы видим наезд на лицо героини,
читающей стихи (глубина наезда — лицо во весь экран); в
«Чертовом колесе» (1916, реж. Б, Чайковский, оп. не установ-
лен) два наезда: с общего плана на средний и стремительный
наезд на героиню, после того как она совершила убийство;
в «Набате» Бауэра и Завелева (1917) — наезд на лицо задум-
чивого Радина.
Странного эффекта добились в «Сатане ликующем» (1917)
режиссер Я. Протазанов и оператор Ф. Бургасов. Сцена кро-
восмесительного прелюбодеяния происходит под портретом
Сатаны. В момент, когда всякий другой оператор, отведя
взгляд от обнимающейся пары, завершил бы сцену наездом
на портрет, Бургасов делает прямо противоположное: пор-
трет, внезапно отделившись от сцены, «наезжает» на объек-
тив, остановившись на крупном плане.
Сама идея такого «встречного наезда» (по всей видимо-
сти, он не был рассчитан на художественный эффект,
а являлся всего лишь остроумным техническим решением,
«симулирующим» настоящий наезд) многое говорит о рецеп-
ции указанного приема в середине 10-х годов. Как и в
900-е годы, наезд воспринимался под знаком двух взаимоис-
ключающих интерпретаций. Однако если в 900-е годы воспри-
нимающее сознание раздваивалось между «увеличением»
объекта и его «приближением», то в 10-е годы зрителей, спо-
собных поверить, что голова не приближается, а на глазах
растет, конечно, не осталось. Вместо амбивалентности «увели-
чение/приближение» рецептивный акт теперь определялся
амбивалентностью вектора. Наезд осмыслялся в терминах
сокращения дистанции, но, как и в случае с монтажным
«скачком», от современного среза рецепции срез 10-х годов
отличался значительно меньшей проясненностью относи-
тельно того, кто же является агентом движения — персонаж
или камера, объект или субъект, точка зрения или то «нечто»,
с чем эта точка зрения постепенно сближается?
Можно предположить, что рецептивная привлекательность
наезда, обусловившая моду на этот прием в русском кино
10-х годов, и заключалась именно в не до конца определив-
шемся векторе движения. Одно дело, когда, как в настоящее
время, наезд воспринимается в качестве рутинной дискурсив-
266
Часть П Межтекстовые связи
ной процедуры, другое — когда активность камеры прочи-
тывается как активность экранного образа.
То обстоятельство, что движение камеры «на» реципиент
10-х годов ощущал скорее как приближение объекта, играло
роль преобразователя энергии: энергия наезда превращалась
в энергию надвигающегося на зрителя лица, фигуры, детали.
Какой нынешний рецензент обратит внимание на завершаю-
щий сцену трансфокаторный наезд на лицо героя — основной
психологический штамп современного советского кино?
Между тем рецензенты 10-х годов аккуратно отмечали
наезды и даже считали этот прием опасным — чрезмерно
энергичным. Приведем рецензию из «Обозрения театров» на
фильм В. Касьянова (оп. Л. Форестье) «Седьмая заповедь»
(1915; экранизация «Франсуазы» Мопассана): «Заключитель-
ная сцена разыгрывается в ночной чайной. Сидят завсегдатаи
со своими дамами, вваливается компания пьяных матросов.
Брат <... > узнает сестру и принимается пилить горло ку-
хонным ножом. Сестра падает перед ним на колени, и на
зрителей движется ее лицо с широко раскрытыми, долженст-
вующими изображать ужас и безумие, глазами» [261, с. 17].
В эпоху, когда о наезде писали «на зрителей движется...»,
указанный прием мог претендовать на самостоятельную
рецептивную ценность.
В заключение хотелось бы обратить внимание на одно
различие между прежним и нынешним восприятием наезда.
Сегодня, когда наезд является чисто дискурсивным элемен-
том киноязыка, он выполняет исключительно нарратологиче-
ские и синтагматические задачи. В 10-е годы повествователь-
ная функция наезда была выражена слабее, а во многих
случаях не выражена вовсе. Весной 1988 г. автор этих строк
вместе с французским киноведом Ф. Альбера присутствовали
в Московском музее кино на просмотре русских фильмов
10-х годов. После просмотра Альбера высказал удивление —
почему движение камеры в этих фильмах кажется столь
бесцельным, а иногда и просто бессмысленным? Действи-
тельно, с точки зрения современных стандартов камера в
фильмах 10-х годов движется без стратегии — за ее траекто-
рией не ощущается повествовательного расчета. Движение
обрывается с концом кадра, следует стык (как правило,
«плохой стык»), и в следующем кадре современный зритель
не обнаруживает никаких дискурсивных и даже нарративных
последствий этого движения. Например, в кадре А — наезд
на лицо, кадр обрывается, «не дождавшись» остановки наезда.
Современный зритель ждет, что в кадре Б этот наезд будет
задним числом оправдан — скажем, кадр Б будет взят круп-
ным планом. Вместо этого режиссер преспокойно возвраща-
ется на общий план, и наезд «провисает».
267
Глава 5. Рецепция киноповествования
Приведенный пример — условен, однако нечто похожее
наблюдается почти во всех случаях присутствия в раннем
русском фильме наезда (таково блестяще выполненное дви-
жение в фильме Бауэра и Завелева «Жизнь за жизнь» (1916),
которое тем не менее оставляет современного наблюдателя
неудовлетворенным — с точки зрения более поздних требо-
ваний оно не имеет заведомо ясной «мишени», нацелено в
пустоту).
Зритель ранней эпохи воспринимал движение камеры
несколько по-иному: в его ожидания не входила синтагма-
тическая функция наезда. Наезд мыслился как характери-
стика кадра, а не компонент более общего пространственного
и повествовательного замысла. Примечательно, что наезд был
почти правилом для ненарративного отрезка фильма —
эпизода «Представление актеров», задача которого сводилась
к тому, чтобы дать выпуклый и запоминающийся портрет
исполнителя5. Наезд в кино 10-х годов служил не рассказу —
от него требовали другого — стереоскопии, активизации
внутрикадрового пространства, т. е. тех качеств, которые
наезд на современной стадии рецепции утратил.
Панорама
Современный зритель настолько послушен условностям
киноязыка, что даже самый головокружительный ракурс или
движение камеры не вызовет у него чувства опасности.
Нынешний механизм рецепции обособился от такого обстоя-
тельства, как фактическая, физически неподвижная закреп-
ленность кинозрителя в определенной точке кинозала. Номер
места и ряда существен, пока не погас свет, — затем в силу
вступает рецептивная точка зрения, подвижная и не завися-
щая от положения тела.
Как мы убедились, раннему зрителю такое переключение
давалось труднее. Память о культурно-семиотической норме
театра, где рецептивный угол зрения совпадал с физическим,
подключала ощущение себя в пространстве к восприятию
крупного плана и наезда. Не зритель мысленно перемещался
в пространстве, а крупный план, «выдираясь из общего», ока-
зывался перед зрителем; не точка зрения, скользя, прибли-
жалась к лицу, а лицо «надвигалось» с экрана. Две точки
зрения — физическая и условная — не были раскоммутиро-
ваны.
Однако было бы ошибкой полагать, что в этом единобор-
стве физическая точка зрения однозначно перевешивала:
здесь имел место не дисбаланс, а подвижный баланс. Наезд
268
Часть П Межтекстовые связи
заставлял реципиента балансировать на острие двух противо-
речивых интерпретаций — то ли я приближаюсь к объекту,
то ли объект ко мне. Память о культурно-семиотической
норме жила в зрителе не инертным балластом, а благодаря
тому, что прежние устои подвергались все новым испыта-
ниям. Рецептивная точка зрения, фигурально выражаясь,
увлекала за собой зрителя «вместе со стулом». Тем самым
ощущение себя в пространстве (проприоцепция) превраща-
лось в активный фактор рецепции фильма. Встречались
сеансы, только на этот фактор и рассчитанные. Программа
петроградского кинотеатра «Сатурн» в апреле 1910 г.
объявила праздничный сеанс, пообещав в конце его то, что
мы бы назвали проприоцептивным аттракционом: «В то время
как на экране идут драмы и комедии, веселые сценки и фе-
ерии, всякая из этих картин действует на умы зрителей и
мы имеем любопытный случай следить за получаемыми зри-
телем впечатлениями. Финал не менее занимателен. На экране
видны снимки бурного моря, а у зрителей начинается мор-
ская болезнь. Но это своеобразное ощущение отнюдь не
уменьшает число зрителей, а скорее наоборот» (Коллекция
RKM).
Т. Ганнинг приводит пример американского сеанса с по-
хожим эффектом в финале: «Лейман Хоу часто заканчивал
свою программу фильмов аттракционом, называвшимся «Сбе-
жавший поезд», в ходе которого пущенный с дикой скоростью
проектор заставлял фильм, снятый с поезда в Альпах, увле-
кать зрителя вниз по склонам и мостам, что вызывало в
аудитории настоящее волнение» [530, с. 364],
Видимо, с фактором проприоцепции было связано
и панорамирование — прием, ныне полностью принадлежа-
щий дискурсивному плану киноязыка. Картины, снятые с
точки, движущейся в плоскости экрана (или имитация такого
движения посредством вращения камеры вокруг вертикаль-
ной оси), опробованы еще операторами Люмьера (панорама
Венеции, снятая с гондолы; вертикальная панорама, снятая
с лифта Эйфелевой башни, и другие картины), американскими
операторами рубежа веков, специализировавшимися на
живописных видах (круговая панорама порогов Уирлпула
(Эдисон, 1901) и другие «видовые картины», подробно опи-
санные в [569]), и другими кинематографистами неигрового
кино. -
Каковы рецептивные характеристики панорамирования
в 900-е годы? С одной стороны, безусловно, скольжение на
гондоле вдоль венецианских дворцов интерпретировалось
ранним зрителем адекватно — как скольжение точки зрения
относительно неподвижного пространственного ансамбля.
В этом плане интерпретация если и отличалась от современ-
269
Глава 5. Рецепция киноповествования
ной, то лишь степенью вовлеченности в это новое пережива-
ние вестибулярного аппарата — видимо, легкий оттенок мор-
ской болезни и в самом деле сопутствовал восприятию
панорам. С другой стороны, как показывают отклики совре-
менников на этот прием, культурно-семиотическая норма не
позволяла полностью отдаться такой интерпретации и «под-
совывала» воспринимающему сознанию более привычные
сценические параллели. Аналогично тому как непривычному
авиапассажиру кажется, что наклоняется не самолет, а земля
под самолетом, непривычному кинозрителю было не чуждо
ощущение проходящих мимо пейзажей.
Оператор Ф. Месгиш в своих воспоминаниях всегда особо
отмечал удачные съемки с движения. О своем египетском
турне 1907 г. он писал: «Город халифов удаляется, мост
Ксар-эль Нил исчезает из виду, мечеть Мухаммеда-Али
покачивается на призме видоискателя» [557, с. 129. Курсив
мой. — Ю. Ц.]. В том же году фильм Месгиша был показан
в России, и эстетическое переживание, вызванное этой пано-
рамой, было зафиксировано в стихотворении А. Рославлева
«В кинематографе»: «<...> скользят дома, / Мосты, бас-
сейны и бульвары. // Египет в солнечном огне. / Александрия,
виды Нила» [319, с. 61. Курсив мой. — Ю. Щ. В обеих цита-
тах выделенные нами слова наделяют движение обратным
знаком — и скользит, и покачивается не наблюдатель, а
наблюдаемый пейзаж.
Как известно (и как наглядно показано Д. Робинсоном на
выставке «От панорамы к панорамному кадру», устроенной
в октябре 1988 г. в Порденоне), проприоцептивная амбива-
лентность движущегося пейзажа уходит корнями в докине-
матографическую культуру.
Д. Фелл описывает панорамы и диорамы XIX в., медленно
вращавшиеся в полутьме вокруг зрителей, с помощью чего
их изобретатель Р. Баркер добивался иллюзии водного путе-
шествия [521, с. 137], см. также [472, с. 34—37]. Свои изо-
бретатели панорамы объявились и в России, но слишком
поздно — они натолкнулись на конкуренцию кинематографа.
20 декабря 1895 г. (т. е, незадолго до первого публичного
киносеанса) канцелярия двора выдала разрешение художнику
П. Я. Пясецкому представить на высочайшее обозрение вос-
произведенные им движущиеся панорамы, действие которых
в соответствующем прошении так описывалось автором:
«<.. .> мною, посвятившим свою жизнь научным путешест-
виям, приведена в исполнение мысль иллюстрировать свои
путешествия не отдельными только рисунками, как это
обыкновенно делают, а связным и последовательным изобра-
жением на непрерывной, постепенно развертывающейся
ленте бумаги, вести, так сказать, зрителя по своим шагам и
270
Часть И Межтекстовые связи
показать ему все сколько-нибудь типичное или интересное
в том самом порядке и в той же связи, [в] каких все это ви-
денное самим мною происходило перед моими глазами»
(ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 42, ед. хр. 2024, л. 1—2).
Пясецкому не повезло: хотя представленная им панорама
и удостоилась высочайшего одобрения, просьба художника о
дозволении присутствовать на предстоящем в 1896 г. короно-
вании для составления панорам «с указанных точек зрения»
сочувствия не вызвала — кабинет двора предпочел удовлет-
ворить аналогичное прошение «кинематографического дела
бр. Люмьер».
В игровое кино панорамы, как правило, вводились в моти-
вированном виде: камера, панорамируя, сопровождала пер-
сонаж, что, однако, не снимало ощущения относительности
категорий движения и покоя, а лишь переводило его из пло-
скости «мир зала — мир экрана» в плоскость «персонаж —
фон».
Как и «чистая» панорама, панорама с сопровождением пер-
сонажа имеет сценические аналоги в визуальной культуре
XIX века. Сюда в первую очередь относится техника вращаю-
щихся задников (а также более сложная сценическая машине-
рия) для создания иллюзии горизонтальных или вертикальных
перемещений (например, побег из тюрьмы), характерная для
американской мелодрамы XIX века. С. Эйзенштейн с увлече-
нием описывал мелодраму Н. Баргесса «Деревенская ярмарка»:
«Постановка ее особенно примечательна тем, что здесь впер-
вые за все время существования театра на сцене были выве-
дены реальные ... скачки. Лошади неслись по ... бегущему
тротуару, все время оставаясь в поле зрения сценической
площадки» [455, т. 5, с. 157].
Воспринимающее сознание мгновенно уловило сходство
между такой техникой сцены и кинематографическим прие-
мом панорамирования вслед за персонажем (или, скажем,
скачущими лошадьми). В рецензии на фильм «Кабирия» (1914,
реж. Д. Пастроне), канонизировавший движение камеры в
качестве полноправного приема игрового кино, нью-йоркский
журналист писал: «Среди операторских нововведений одно
используется чаще других и с прекрасными результатами.
Сцены медленно выплывают на первый план или переме-
щаются из стороны в сторону, как будто их играют на под-
вижной сцене» [576, с. 126].
Между тем некоторых критиков движение камеры раз-
дражало. Подобно тому как крупному плану инкриминиро-
вали «театральность», нарочитым и некинематографичным
приемом могли посчитать и движение камеры. Так, в 1916 г.
в газете «Театр» была опубликована рецензия на «Пиковую
даму» Якова Протазанова, где такое движение причислено к
271
Глава 5. Рецепция киноповествования
«недочетам»: «В одном месте, во время прохождения Гер-
манна по анфиладе комнат, оператор продвигался вслед за
Германном, и потому на экране получились движущиеся ком-
наты, что резко нарушает общее впечатление художествен-
ной правдивости» (№ 1835, с. 10).
Еще раньше, в 1911 г., когда петербургский театр «Кривое
зеркало» поставил пародию на кинематограф, воспроизведя на
сцене весь антураж киносеанса от бубнящего лектора до
дрожащего освещения, рецензент «Театра и искусства» выска-
зал следующее пожелание: «Презабавен любимый номер кине-
матографа — бег; в нем особенно отличается передвигающийся
какими-то особыми мелкими шажками г. Малыпет. Следовало
бы менять декорации «бега» — эффект усилился бы» [200,
с. 148].
Представляется, что двойственный рецептивный образ па-
норамирования в кино — «бег на месте» — послужил к уни-
кальной в истории кинематографа попытке передать с помо-
щью этого приема философскую идею — идею ложного,
неистинного движения, существования вхолостую. Речь идет
о знакомом нам тексте — сценарии Андрея Белого «Петер-
бург».
Для русского наблюдателя инверсия движения относительно
фона связывалась в первую очередь с известным описанием
из «Невского проспекта» Гоголя и не в последнюю — с лите-
ратурными приемами русского футуризма. В книге «Мастер-
ство Гоголя» Белый писал: «Гоголю свойственно видеть играю-
щей «толпу стен», как ее видим мы из трамвая: с прыжками
домов, открывающих и закрывающих перспективу: «<...>
тротуар несся над ним, кареты со скачущими лошадьми каза-
лись недвижными»; это — ракурсы художника Анненкова;
Гоголь доходит даже до смелостей футуристического письма»
[44, с. 309—310].
Как можно убедиться, в своем исследовании Белый инвер-
сированное описание движения трактует в качестве осознан-
ного художественного приема. В подтверждение его замечания
о Гоголе и «смелостях футуристического письма» можно при-
вести стихотворение С. Третьякова (1913):
Ногами отталкиваю улицу,
А сам недвижен, верьте!
Хочу ходить в поту лица
До смерти J383, с. 8].
Гоголевское описание настолько хорошо укладывалось в
рецептивные формы панорамирования, что для кинематогра-
фических замыслов, связанных с Невским проспектом и с пе-
тербургской тематикой в целом, введение этого пластического
272
Часть II Межтекстовые связи
эквивалента должно было обладать силой культурного импе-
ратива. В сценарии Ю. Н. Тынянова «Шинель» (1926) встречаем
такую сцену:
«Сон. У ворот карета с гербами, с кучером в ливрее и
треуголке. Ак[акий] Ак[акиевич], все еще недоумевая, са-
дится, и карета несется в ярко освещенную перспективу домов
(фонари, вывески — все это мчится мимо каретных окон)»
(ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 3, ед. хр. 46, л. И).
В сценарии Белого «Петербург» этот гоголевский мотив
выписан почти в тех же выражениях:
«Экран изображает внутренность кареты Апол. Апол. Аб-
леухова; виден вырез окна; за окном — мелькающие прохожие
и проплывающие дома; в карете сидит Апол. Апол. с Анной
Петровной» [50, л. 99 об.].
И ранее:
«Мелькающая перспектива Невского проспекта. На первом
плане экрана пролетка; пролетка кажется неподвижной, по-
тому что она едет <.. .> Пролетка сворачивает с Невского по
направлению к Павловскому дворцу. Проходит сбоку Павлов-
ский дворец» [л. 95].
Можно высказать предположение, что панорамы у Белого —
не только дань непрофессионального сценариста кинематогра-
фическим условностям. Выше отмечалось, что в плане рецеп-
ции панорамирование в кино 10-х годов смыкалось с эффектом
движущейся сцены. Этот эффект проник в культуру европей-
ского театра с изобретением поворотного круга (1896) и вошел
в моду в эпоху первого увлечения кинематографами. Понятно,
что в таком соседстве вращающаяся сцена, по словам А. Ку-
геля, «повлекла за собой всеобщее разочарование»: «Кине-
матограф до того питает «чувство места», что превращает
даже наиболее остроумные и сложные сценические приемы
в младенческий лепет» [209, с. 186].
Среди критиков вращающейся сцены был и Андрей Белый,
посвятивший ей статью «Круговое движение» (1912). Претен-
зии к вращающейся сцене у Белого были чисто мировоззрен-
ческого плана, и заголовок статьи передает их достаточно
адекватно: круговое движение, движение на месте — неис-
тинно, как иллюзорно движение современной эстетической и
философской мысли: «Так вращалась собой довольная сцена:
не от театра и мистерии, а от грез о мистерии... к мисте-
рии кулисного анекдота. Зритель же, призванный к
«Дионисову действу» и сценою не задетый, стал вра-
щаться обратно: от Ибсена к мелодраме, кинематографу и
шантану <.. .> Современная сцена не зацепилась за зрителя;
современная философия не зацепилась за жизнь; философская
техника мозгового вращения соответствует технике кругового
движения сцены» [41, с. 63].
273
Глава 5. Рецепция киноповествовання
Присущее Белому свойство мировоззренчески истолковы-
вать всякую новую деталь меняющегося быта обострялось,
когда речь шла о театре или кинематографе — не исключено,
что и кинематографический аналог вращающейся сцены —
сопровождающая панорама -— в сценарии «Петербурга» вы-
ступает не только как повествовательный прием, но и как
индикатор «неистинного» движения на месте:
«{Аполлон Аполлонович] проходит по направлению к
залу. Стены движутся: видно, как Апол. Апол. пересекает
зал.» [50, л. 38] или бессмысленного побега:
«Пустые улицы; улицы перебегает в ужасе Алекс [андр]
Иванович, сходящий с ума; опять пусто; видно, как по улицам
за ним скользит тень всадника на коне; фон меняется, улицы
движутся; «М[едный] В[садник]» летит по улицам Петро-
града» [л. 88 об.].
Во всяком случае, панорама как форма инверсивного дви-
жения получила полную смысловую нагрузку в эпизоде, ко-
торый сам сценарист охарактеризовал как «полуфантастиче-
скую картину» [л. 55]. Потрясенный письмом, предлагающим
ему совершить отцеубийство,
«Н[иколай] А [поллонович] встает и повесив голову на
грудь бредет; все сосредоточивается на игре лица (к руко-
водству его душевного состояния: см. «П [етербург]»,
глава IV-ая. Стр. 120—125). Улица начинает двигаться; про-
плывают фантастические тени домов с прорезями переулок и
улиц, пересекающих их; <...> панорама непрестанно меня-
ется, становясь все более туманной; вот процессия (Ник. Ап.
в сопровождении чертей) начинает шествовать на фоне за-
бора; вернее — призрака забора; на заборе призрачно просту-
пают картины» [л. 56].
Далее значительный участок сценария посвящен видениям,
очевидно, задуманным как встречная панорама, впечатанная
в проплывающий мимо забор. Этот беспрецедентный по сме-
лости замысла эпизод заканчивается неожиданным наруше-
нием границы между пространством видений и обрамляющим
его «реальным» пространством:
«НА начинает бешено колотиться в ни с чем не сравни-
мое место; и, не получая ответа, с размаху бросает бомбу.
Дым взрыва (слышен и грохот взрыва); когда дым взрыва
рассеивается [,] уже на заборе, где мелькает картина, нет
ни коридора, ни Ник. Апол., а только четко вырисовывается
дверь, ведущая в ни с чем не сравнимое место; дверь рас-
пахивается; и — АА, в исподней сорочке, блистая камнями
расплавленных глаз [,] соскакивает с поверхности забора, —
и — оказывается подле Никол. Апол., созерцающего перед
забором туманную картину его умственной игры; на заборе
нет больше картины» [л. 57 об.—58].
18 102326
Глава 6
Рецептивный слой фильма.
Изображение и надпись
как компоненты
межсемиотического перевода
Рецепция и вербализация. Лектор
Известен эпизод, рассказанный Франсисом Дублие, опе-
ратором и киномехаником фирмы «Люмьер». Когда в 1898 г.
он объезжал с кинотурне южные города России, в черте осед-
лости ему бросился в глаза большой интерес к личности и
делу Дрейфуса. В Житомире, пожелав удовлетворить любо-
пытство собравшихся, Дублие составил цепочку из коротких
люмьеровских хроник, к Дрейфусу, понятно, не имеющих
никакого отношения. «Мы зарядили фильм, изображавший
марширующих французских офицеров. Указав на одного из
них, мы сказали: «Вот идет Дрейфус». Мы показали общест-
венное здание во Франции и сказали: «Это Дворец право-
судия, где судят Дрейфуса». Показали маленькую шлюпку,
направляющуюся к военному кораблю, и воскликнули:
«Смотрите! Его увозят на Чертов Остров». Потом показали
вид на маленький островок и сказали: «Вот сюда его при-
везли! Чертов Остров». Зрители плакали» [493, с. 290].
Описанная мистификация — первый из зафиксированных
случаев нарративизации кинотекста с помощью интерсемио-
тического' перевода (точнее, кв аз и пере в о да). Насколько
сложна «экранизация» словесного текста, настолько простой
и естественной кажется встречная процедура — вербализа-
ция текста экранного. Закон семиотической асимметрии вер-
бальных и невербальных текстов в 1929 г. сформулировал
Г. Шпет: «Реальная ценность словесного знака, как знака,
состоит в том, что это — знак всеобщий, универсальный.
И этой особенности слово не теряет, когда становится пред-
275
Глава б. Рецептивный слой фильма
метом художественной культуры. Оно допускает наиболее
полный перевод с любой другой системы знаков. Но не об-
ратно: нет такой другой системы знаков, на которую можно
было бы перевести слово хотя бы с относительною адекват-
ностью. Как бы ни казалось оно нам эмпирически недоста-
точным, — если это — не свидетельство нашей собственной
слабости и творческой беспомощности, — слово именно эмпи-
рически наиболее совершенное осуществление идеи всеоб-
щего знака. Оттого и соответствующее искусство — наиболее
универсально и в нашем человеческом смысле и масштабе»
[258, с. 150—151].
Наблюдения над восприятием немого кино подтверждают
вывод Шпета — и культурная рецепция, и более непосредст-
венные рецептивные акты тяготеют к основному виду интер-
семиотического перевода — вербализации.
Не следует считать, что вербализация изобразительного
текста — процесс спонтанный и данный нам «до опыта».
Вспомним: В. В. Стасов писал в 1886 г. о невозможности сло-
весно сформулировать впечатление от картины Люмьера
«Морское купание»: «Что может быть ничтожнее, ординар-
нее, прозаичнее?! Голые тела от жары толпой суются в
воду — что тут есть интересного, важного, красивого? Так
вот нет же. Из всей этой ординарщины тут состраивается
что-то такое и интересное, и важное, и красивое, что ничего
не расскажешь из виденного» [356, с. 127—128].
Кроме непривычности и богатства впечатления вербализа-
ции текста препятствовало главное обстоятельство — одно-
временное, подвижное, постоянно меняющееся сосущество-
вание многочисленных очагов действия (в том же году, и
даже в том же месяце, что и Стасов, английский обозреватель
О. Винтер жаловался на «мельтешение тысячи зрительных
фокусов» в люмьеровских картинах [591, с. 294]), лишающее
глаз способности к избирательности. Многомерность проис-
ходящего вступала в конфликт с линейностью как предпо-
сылкой всякой вербализации. Интерсемиотическая рецепция
нуждалась в посреднике. Даже и тогда, когда действие в
кадре строилось с учетом драматургической интриги, зритель
подчас оказывался неспособным прочесть в кадре важное для
повествования событие. Поэтому на протяжении почти двад-
цати первых лет восприятие фильмов направлялось синхрон-
ным интерсемиотическим переводом, который осуществлял
комментатор — «объяснитель кинематографических картин».
Весной 1910 г. русские газеты обошел репортаж о встрече
в Ясной Поляне между Леонидом Андреевым и Львом Тол-
стым. Андреев рассказывал Толстому о кинематографе за гра-
ницей. Рассказ заинтересовал Толстого: «Вы знаете, — встре-
тил утром Лев Николаевич, — я все думал о кинематографе.
18*
276
Часть П Межтекстовые связи
И ночью все просыпался и думал. Я решил написать для ки-
нематографа. Конечно, необходимо, чтобы был чтец, как в
Амстердаме, который бы передавал текст. А без текста невоз-
можно» [257, с. 2].
Культурно-семиотическая норма не мыслила повествова-
ния без вербализации.
Какие функции брал на себя комментарий к фильму? В
первую очередь он служил актуализатором имплицитных
повествовательных ходов. В воспоминаниях Л. Бунюэля нахо-
дим пример такого комментария (эпизод относится к
1900-м годам): «Комментатор, стоя рядом с экраном, громким
голосом объяснял: — А вот граф Гюго видит, как его жена
проходит рука об руку с человеком, который не он, а сов-
сем другой человек. А сейчас вы увидите, дамы и господа,
как он откроет ящик стола, чтобы взять пистолет и убить
свою неверную жену» [501, с. 41].
Пояснения могли апеллировать и к более широкому кругу
рецепции, например включать в себя элементы внешней
оценки ситуации. Э. Панофски, по детской памяти, приводил
такой случай: «Рассказчик объяснил vivo voce: — Он думает,
что его жена умерла, но она не умерла. Или: — Не хочу
обижать присутствующих здесь дам, но сомневаюсь, чтобы
хоть одна из них пошла на такое ради своего ребенка» [571,
с. 161—162].
Комментатора не следует отождествлять с так называе-
мыми кинодекламаторами — актерами, озвучивавшими «ки-
ноговорящие» картины (которые они же снимали и распро-
страняли среди киновладельцев — см. [160]). Хотя традиция
такого озвучания идет от Мельеса, написавшего для своего
фильма «Туннель под Ла Маншем, или Франко-английский
кошмар» («Tunnel a travers La Manche ou le Cauchemar fran-
co-anglais», 1907) диалог (правда, диалог для одного актера)
между английским королем (говорящим по-французски с ак-
центом) и президентом Франции, широкое распространение
кинодекламация получила только в России.
В чем заключалось принципиальное отличие «кинодекла-
мации» от «кинокомментария»? По замыслу Я. Жданова,
инициатора этого жанра, к ин о декламатор не озвучивал кар-
тину извне, а комментировал ее изнутри, со стороны диеге-
зиса: «<*.. .> мною овладела навязчивая мысль, что можно
было бы картину «озвучить», озвучить так, чтобы герои гово-
рили, чтобы по-настоящему билась посуда и ломалась мебель.
Эту мысль я стал пропагандировать среди своих товарищей
по сцене, и когда наконец у нас, в Иванове, появились «кар-
тинки синематографа», мы, даже в ущерб своей работе, без-
выходно просиживали на сеансах, присматриваясь к карти-
нам и изучая возможности «озвучения»» [160, л. 2].
277
Глава 6. Рецептивный слой фильма
За четыре-пять дней непрерывных репетиций труппа до-
бивалась полной синхронизации реплик с изображением.
«Кроме текстового сопровождения картин нашего репертуара,
мы часто, по желанию хозяев кинематографов, за особую
плату иллюстрировали звуками и шумами остальные картины
программы, изображая шум пожара, лай собак, крик петухов,
автомобильные сирены и т. д.» [л. 8].
Кинодекламация могла быть вокальной или частично во-
кальной. В 1913 г. «Сине-Фоно» сообщал о событии в кино-
жизни Минска: «В электротеатре «Модерн» с 19/IX в течение
продолжительного времени с пролонгациями гастролировал
артист, вокальный кино декламатор А. М. Смоленский, испол-
нявший на еврейско-немецком языке вещи под специальные
картины, иллюстрирующие сцены комические и драматиче-
ские из еврейского быта, разыгранные при его главном уча-
стии» (Ns 3, с. 26). Через много лет это событие эхом отклик-
нулось в детском рассказе прозаика М. Даниэля: « — В кино
показывают еврейскую картину «Письмецо матери». Из Вар-
шавы приехал живой артист. Он все время за полотном, по
которому ходят живые люди, и поет, а его не видно» (143,
с. 13].
Позиция кинодекламатора в топографии кинозала — за
экраном — отражает смысл самого явления: декламатор пог-
ружается в диегезис, уходит в него без остатка. Жданов
вспоминал: «Многие хозяева, рекламируя наши выступления
как некое чудо, требовали, чтобы мы входили за ширмы и
выходили оттуда незаметно для публики, для большей «чу-
десности» и необъяснимости эффекта» [160, с. 8].
Актер, озвучивающий реплику, находился за экраном
и представлял исключительно «мир фильма». Комментатор,
напротив, выступал как представитель «воспринимающего
болыцинства», и его место было перед экраном, на виду у
всех. Небольшая трибуна или столик с лампочкой подчер-
кивали суверенность этой позиции [510, с. 14, 48]. Благодаря
такому реквизиту за русскими комментаторами закрепилось
прозвище «лектор». В его задачу входило фокусировать счи-
тывающее острие рецепции на тех или иных деталях про-
исходящего. Голос лектора мог «приблизиться к экрану или
отодвинуться от него» [471, с. 28], т. е. был свободен в выборе
«психологических укрупнений». Можно сказать, что лек-
торский комментарий создавал в многомерном пространстве
рецепции еще одно измерение — геометрию интерсемиотиче-
ских соответствий.
«Я не могу становиться спиной к публике» [392, с. 5], —•
обиженно отвечал русский кинолектор, когда его упрекали
в несовпадении комментария с тем, что происходит на эк-
ране. В 1908 г. «Сатирикон» напечатал монолог кинокоммен-
278
Часть II Межтекстовые связи
татора, часть которого обращена к публике, а другая (в
скобках, набранная петитом) — к незадачливому киномеха-
нику: «Теперь взглянем на Везувий. Что может быть вели-
чественнее этой извергающейся картины приро... (Что? А
мне какое дело! Сам виноват. Не я катушки путал. Ставь
следующую! Следующую! О, черт!) Перед вами, милостивые
государи, редкий экземпляр живородящей рыбы. Природа в
своем щедром разнообра... (зачем же Везувий, когда я на-
чал про рыбу? Уж держи что-нибудь одно. Поправился! Я
тебе поправлюсь!) Дым валит из грандиозного жерла в виде
воронки и живописно вырисовывается на лазурной синеве
южного неба. Еще одно мановение волшебного жезла (долго
будешь копаться?)... и вот мы на берегу Неаполя, дивней-
шего города в мире» [392, с. 5].
Если хоть частично поверить в повсеместность приведен-
ных накладок, станет понятным переход от устного коммен-
тария к надписям в самом фильме. Указанная трансформация
привела не столько к изменению природы устного коммен-
тария, сколько к изменениям в природе фильма. Прежняя
однородность кинотекста была нарушена. Интерсемиотиче-
ский перевод перестал быть межтекстовой операцией и
превратился в процедуру внутритекстовую. Фильм сделался
устройством с двойной адресацией: теперь он состоял из
изобразительного слоя и слоя рецептивного — надписей.
Мифология „чистого кино"
Изучение немого кино не свободно от некоторой предвзя-
тости, восходящей к исследуемому периоду. Таково, в част-
ности, предубеждение против надписей, которое в 20-е годы
объясняли ощущением нарушенной кинематографической
стихии, а в современных исследованиях — нерелевантностью
титра для собственно киноведческого (пусть даже и покад-
рового) анализа. Между тем надпись в фильме заслуживает
особого внимания по целому ряду причин, одна из которых
затронута уже в работах ОПОЯЗа. В нарушение свойствен-
ного 20-м годам остракизма сторонники формального метода
дорожили наличием в кино пояснительных-'надписей, пола-
гая, что титр задает ключ семантической интерпретации кадра
и поэтому является не периферийным, а центральным меха-
низмом киноповествования. Для троих из них внимание к
надписи имело, кроме прочего, и чисто житейскую обуслов-
ленность — одно время связанные с кино члены ОПОЯЗа
непосредственно занимались составлением титров для кино-
картин: В. Б. Шкловский в качестве сотрудника Бюро по
279
Глава 6. Рецептивный слой фильма
перемонтажу иностранных фильмов, Ю, Н. Тынянов — как
начальник сценарного отдела «Севзапкино» [377], а Б. М. Эй-
хенбаум в роли внештатного сотрудника ряда ленинградских
кинофабрик. Эта работа подразумевала такое обращение с -
кинотекстом, которое по процедуре напоминает коммутаци-
онную проверку в лингвистике: перемонтажер или состави-
тель надписей брал киноизображение и, изменяя сопровож-
дающий его словесный текст, наблюдал за изменением зна-
чения кадра. Шкловский писал: «Я знаю теперь, насколько
слабо в кинематографии закреплено при определенном
действии определенное значение этого действия <.. .>
Человек на кадре не плачет и не смеется и не горюет, он
только открывает и закрывает глаза определенным способом.
Если я хорошо поставлю слово в другую фразу, оно получит
другое значение, а зритель ищет какого-то истинного значения
слова, словарного значения переживаний» [443, с. 62].
Может показаться, что понимание кадра как предельно
вариативной единицы, чье значение изначально не задано, а
каждый раз заново порождается контекстом, характерно
именно для 20-х годов с их пристрастием ко всеобщей отно-
сительности значимых конструкций. При том, что сказанное
верно, было бы ошибкой приписать указанному периоду
исключительное право на семантическую переконструкцию
отношений между надписью и кадром. Эксперименты такого
рода коренятся в кинопрактике 900-х годов (излюбленный
пример большинства работ по истории кино — фильм «Сцены
из русско-японской войны» («Scenes de la guerre russo-
japonaise», «Патэ», 1904), к которому в зависимости от
страны-импортера прилагался титр «Да здравствует Япония!»
(или «Да здравствует Россия!»), а их осмысление как уникаль-
ной особенности кино наблюдается в 10-е годы. Однако в
10-е годы эта особенность оценивалась отрицательно —
пресса тех лет приписывала гибкость отношений между изо-
бражением и титром скорее к области «надувательства», чем
к искусству. Наибольшее возмущение вызывала подделка
хроники первой мировой войны:
«<...> И вот наши кинематографические «герои», воору-
женные вместо съемочных аппаратов большими ножницами,
идут, но только не на поле брани <...>, а в темные подвалы,
где навалены кучи различного хлама — старых кинематогра-
фических картин.
«Старые маневры бельгийской кавалерии».
«Вырезайте, Иван Иванович, сделаем надпись — Бельгий-
ская кавалерия идет в атаку на германскую пехоту». <...>
«Смотр французской пехоты в присутствии военного ми-
нистра».
280
Часть II Межтекстовые связи
«И это сойдет, Иван Иванович, сделаем надпись — как
немецкие варвары готовились к войне».
«Но позвольте, ведь это французские солдаты в француз-
ской форме! ..»
«Какой вы наивный, Иван Иванович, будет там публика
разбираться в форме одежды солдат! Надпись сделаем по-
крупней, тогда и французы за немцев сойдут. Обыкновенная
моторная лодка за австрийский миноносец сойдет и потопит
его пуля из кремневого ружья турка с надписью серб ...»»
[182, с. 9).
Не только хроника, но и игровые картины 10-х годов были
на постоянном подозрении, хотя, казалось бы, верифицируе-
мость события в них не играет особой роли. Между тем
А. Соболь в 1915 г. писал: «Я беру кусок ленты: отец видит
свою дочь в объятиях, ну, положим, Макарки-душегуба. Я
стер надпись. Лента разворачивается — угадайте, кто кого
видит в объятиях? Отец свою дочь? Муж свою жену? Я делаю
другую надпись: Иван Петрович видит свою жену в объя-
тиях ... Яшки-цыгана. Вы удовлетворены объяснением? —
удовлетворены. Прекрасно! Мишка, верти!» [344, с. 2J.
Пожалуй, единственным случаем, когда контрапункт
между надписью и изображением получил последовательное
художественное осмысление, в 10-е годы был фильм В. Ста-
ревича «Тоже война» (1914) — комедия о школьницах,
«воюющих» со своей учительницей-немкой. Все их действия
сопровождались надписями из лексикона военного искусства.
Таким образом, для наблюдателя 10-х годов было очевид-
ным, что по своей семантической валентности надпись
«сильнее», нежели кадр, и зритель скорее поверит написан-
ному, чем «своим глазам». Складывался стереотип, согласно
которому надпись враждебна изображению, и как следствие —
идеология своеобразного кинематографического пуризма:
«Идеальной считается та картина, в которой надписей сов-
сем нет или же их количество сведено к минимуму», —
писала в 1916 г. «Театральная газета» [119, с. 15].
Устойчивость этого представления велика: в 20-е годы оно
< приобрело силу манифеста, а в наши дни бытует в качестве
предрассудка среди многих, кто изучает историю немого
кино.
Действительно, может показаться заманчивой такая схема
соотношения между надписью и кадром: надписи появляются
на тех участках фильма, где языку кино недостает гибкости,
чтобы справиться с задачами связного повествования. В се-
редине 10-х годов вошла в употребление формулировка
«неизбежное зло», с помощью которой наличие надписей
ставилось в обратную зависимость от качества фильма:
«Изобразительные средства — мимика, жест и пластика ока-
281
Глава 6. Рецептивный слой фильма
зываются несостоятельными, и тут-то приходится прибегать
к надписям, к тому malum necessarium’y, которого нужно в
то же время всячески избегать» [119, с. 16].
Такой манихейский взгляд на природу немого кино почти
без оговорок позаимствован рядом историков, которые из
противоборства словесной и изобразительной стихий делают
эволюционный вывод: поскольку по ходу времени язык
немого кино становился все более гибким, постольку и над-
писей в нем оставалось все меньше. Из такого суждения
напрашивается вывод, что эволюционная вершина языка
немого кино — апогей немоты, фильмы без титров. А если
учесть, что в 20-е годы многие шедевры киноискусства дей-
ствительно успешно избегали надписей, то эволюционная
схема, согласно которой язык кино, освободившись от над-
писи, достиг совершенства, кончается апофеозом «фильмов
без слов».
Между тем именно стройность такого рассуждения за-
ставляет заподозрить, что мы имеем дело скорее с реликтом
самоописания, чем с реальной моделью эволюции киноязыка.
Трудно возразить против тезиса о возрастающей гибкости
киноязыка — гибкость, действительно, возрастает. Но счи-
тать процентный состав надписей показателем этой гибкости
можно, лишь продемонстрировав, что в 20-е годы отсут-
ствие надписей ощущалось как норма, а, скажем, на более
ранних стадиях история кино без надписей не обходилась.
Между тем ни того, ни другого мы утверждать не можем.
В 20-е годы фильм без надписей, будь он шедевром вроде
«Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова или рядовым
немецким фильмом в стиле «каммершпиль», для реципиента
тех лет всегда обладал привкусом нарочитости, преодоления,
был художественной акцией tour de force. Эпштейн в лек-
ции «За новый авангард», прочитанной им в 1924 г. в театре
Старая Голубятня, после реверанса в сторону Лупу Пика
и других немецких поборников бессловесного кино высказал
следующее возражение: «Титр часто помогает избегнуть
долгого визуального объяснения, которое необходимо, но ко-
торое раздражает своей тривиальностью. <...> Если нужно
показать, что дело идет к вечеру, может быть, лучше просто
написать это, чем показать циферблат со стрелкой, застыв-
шей на 9 часах. Конечно, титр в хорошем фильме — всего
лишь случайность. Но, с другой стороны, хвалить фильм за
то, что в нем нет надписей — разве не то же самое, что
хвалить стихи Малларме за то, что в них нет знаков препи-
нания?» [519, с. 27].
По-видимому, мы можем утверждать, что в 20-е годы вся-
кий узел повествования мог передаваться как надписью, так
и ее визуальными эквивалентами, но каждый раз надпись
282
Часть II Межтекстовые связи
оказывалась в неотмеченной позиции и, следовательно, для
зрителя проходила незаметно1.
Могут возразить — пусть так, цо уже сама возможность
выбора указывает если не на факультативность титра, то на
зарождение «чистого кино». В таком случае следует внести
одно уточнение — фильмы без надписей в 20-е годы не
«зародились», а вошли в фокус общественного сознания.
«Чистое кино», как уже говорилось, — не стадия развития
киноязыка, а порождение определенной художественной
идеологии, которая возникла не в недрах киноавангарда, а
была авангардом позаимствована.
Согласимся, господствующим стилем в кино более ранней
эпохи было многословие — им отличались в 10-е годы не
только русские фильмы, но и оснащенные красочным коммен-
тарием картины Гриффита [511, с. 137] или французские кри-
минальные сериалы, в которых надпись, бывало, сменялась
не кадром, а другой надписью, не менее пространной. Но в
это же время появлялись достаточно сложные картины сов-
сем без титров. В истории кино 10-х годов к ним принято
относиться как к исключениям, но это указывает, скорее, на
их исключительность как семиотического явления, чем на
малую регулярность для 10-х годов. Такие фильмы без над-
писей с аналогичными попытками в 20-е годы объединяет
своего рода неугасающая модальность эксперимента (хотя,
казалось бы, удачный эксперимент должен отменять экспе-
риментальность всех последующих попыток в том же на-
правлении), а отличает то обстоятельство, что парадоксальным
образом бессловесные картины 10-х годов примыкают не
столько к поискам «чистого языка кино» (такие поиски ве-
лись уже в те годы, см. [14]), сколько к эксперименту
театрально-драматургическому.
В частности, фильмы без надписей пытались создавать
такие деятели сцены, как М. Рейнгардт, А. Я. Таиров,
А. С. Вознесенский, Г. фон Гофмансталь. Театральные режис-
серы Рейнгардт и Таиров перекладывали для кино уже опро-
бованные в театре пантомимы2. Что касается драматургов,
то и фон Гофмансталь, и Вознесенский (оба — поклонники
Метерлинка) обнаружили в кинематографе вид искусства,
который по необходимости вписывался в провозглашенный
Метерлинком культ молчания как идеальную форму драма-
тургии. Кино оживило этот парадокс, и явился соблазн испы-
тать на нем эстетическое пророчество Метерлинка3. Фон Гоф-
мансталь в 1912 г. писал (не без оглядки на увлекшего его
тогда 3. Фрейда): «Особая прелесть в том, что эти движущиеся
картины немы; они немы, как немы сны» [541, с. 21], а Возне-
сенский из статьи в статью повторял: «Душою, интуитивно,
предслышу и предвижу все те неохватные для подсчета
283
Глава 6. Рецептивный слой фильма
возможности, которые внесет в духовную жизнь чело-
вечества искусство экрана как глубокая художественная
пропаганда «идеи молчания». Я говорю, конечно, о том
деятельном молчании, которое провозвещает миру Метер-
линк» [108, с. 15]. Иногда он оставлял приподнятый
стиль и старался попасть в тон натужному эпатажу
кинематографической прессы: «И если кто-нибудь спросит
меня: кто больше послужил «идее молчания» в том глубоком,
значительном смысле, как ее пропагандировал и пропаган-
дирует Метерлинк, — сам ли знаменитый бельгийский поэт,
или Шмуль Берков Меерзон, бывший арендатор афишных
столбов, теперь открывший в родном Бобруйске иллюзион,
я, не задумываясь, по совести отвечу: — Шмуль Берков Ме-
ерзон» [107, с. 42].
Культ молчания, в готовом виде унаследованный кино-
авангардом 20-х годов (и, уже на наших глазах, заново пере-
житый кинематографом 60-х годов — фильм И. Бергмана
«Молчание» («Tustnaden») здесь далеко не единственный при-
мер), в 10-е годы породил несколько картин без надписей, две
из которых — русский фильм Вознесенского и немецкий фон
Гофмансталя — постигла одинаково курьезная участь.
Фильм Г. фон Гофмансталя «Неведомая женщина» («Das
fremde Madchen», 1913) был показан в России, причем в
двух разных вариантах. Рецензент 10-х годов сокрушался:
«Полуфантастическая, полуреальная картина, на всем про-
тяжении своем (около тысячи метров) не имела ни одной
надписи, между тем действие развивалось так понятно, так
свободно, что инстинктивно даже возникла боязнь, а вдруг
появится какая-нибудь надпись и испортит впечатление.
<.. .> Через полгода в одном из небольших театров она
фигурировала уже с большим количеством обыкновенных
надписей: очевидно, это явилось необходимым для успеха
картины у кинематографической публики» [288, с. 3].
Как видим, гибкость киноязыка оказалась вполне доста-
точной, чтобы без помощи титров справиться в нарративными
задачами. Тогда что за нужда была зрителю 10-х годов в
объяснении уже и так понятного? Можно предположить, что
среди зрителей встречались догадливые и менее догадливые,
и надписи предназначались для последних. Но если считать
догадливостью степень владения киноязыком, то лучше вла-
дели им как раз те, кто хуже знал обыкновенную грамоту
и именно поэтому словесному объяснению предпочитал визу-
альное. Видимо, дело в другом — по крайней мере, в этом
убеждает опыт А. С. Вознесенского, драматурга, который
в 1914 г. осуществил аналогичную попытку, предложив сце-
нарий без слов. Фильм был поставлен4, но на предваритель-
ном просмотре самим автором забракован. Вознесенский
284
Часть П Межтекстовые связи
впоследствии вспоминал: «Кадры, при всей их сюжетной
занимательности, утомляли глаз. Необходимы были какие-то
перерывы. И тогда мы выявили следующее: надпись в немом
кино играет не только роль пояснительную, но и роль зри-
тельного антракта. Я предложил сделать несколько литера-
турных вставок, не имеющих прямого отношения к действию,
но лирически сопутствующих ему, психологически его допол-
няющих. И получилось то, что надо: пояснений никаких не
было, но зрительные антракты сохранились» [106, с. 93; см.
также 105, с. 69—70]. Если верить Вознесенскому, получается,
что надпись в немом кино иногда лишь «выдавала себя» за
пояснительную, а на самом деле в этой функции была избы-
точной.
Аналогичное наблюдение проскальзывает у многих, кто
в 10-е годы писал о кино, — с одной стороны, титр явно не
нужен, с другой — не окажись его, потеря была бы ощути-
мее. Примечательно, что почти в тех же выражениях излагал
эту идею В. Мейерхольд, выступая в 1918 г. с лекцией о кино
в студии экранного искусства Скобелевского комитета: «Над-
писи должны вставляться не только для пояснения (должен
быть минимум надписей, надо, чтобы публика понимала все
из самой игры и постановки), а для того, чтобы зазвучало
слово, которое в искусстве так чарует. Надпись, давая отдох-
нуть от картины, должна давать очарование смысла фразы»
[250, с. 24].
Относительно того, в чем именно заключается «очарова-
ние» надписи, мнения расходились: неопределенные «зритель-
ные антракты», на которые указывал Вознесенский, для
А. Курсинского, например, имели чисто композиционную цен-
ность: «Зачастую лента просит надписи, — не потому, что не
ясен ход пьесы и его надо разжевать зрителю, а потому, что
в ритме ее движения, ее построения является неизбежный
момент паузы, которую надо выполнить так же изящно, худо-
жественно, как и движение пьесы» [215, с. 14]. В любом
случае, было понятно, что «тоска по слову» присуща только
киноязыку — фильм Вознесенского «Слезы» был поставлен
по его «пьесе без слов», которая имела успех на сцене и
которая на сцене, несмотря на всю необычность такого дра-
матургического приема, ни в каких «словесных антрактах»
не нуждалась.
Равноправие и сбалансированность словесного и зритель-
ного рядов во второй половине 10-х годов выдвигались в ка-
честве стилистической программы русского кинематографа —
борьба за признание киноискусства как частицы националь-
ной художественной культуры энергично велась в те годы на
страницах «Проэктора», «Пегаса», «Кине-журиала» и некото-
рых других изданий. Жанр «киноповести» (он противопостав-
285
Глава 6. Рецептивный слой фильма
лялся американскому «трюковому», французскому «театраль-
ному» и немецкому «фантастическому» жанру открытой
установкой на «литературность»), на который, по мнению
целого ряда авторов, должна была ориентироваться русская
кинематография, в идеале описывался так: «Киноповесть
состоит из двух равно существенных элементов: мимических
эпизодов, разыгранных артистами, и литературных отрывков;
иными словами, из собственно картин и надписей <.. .>
Идеальной киноповестью надо считать не ту, в которой нет
надписей, а ту, в которой каждому из этих элементов отве-
дено подобающее место; ту, в которой надпись не пытается
выразить того, что может изобразить экран, а экран не стре-
мится передать того, что должна сказать надпись. При
экранном «чтении» чередуются «страницы» слов и страницы
образов: те и другие равно имеют право на существование»
[293, № 20, с. 3].
Будет ошибкой считать, что эта программа осталась на
уровне пожеланий, фильм В. Висковского «Его глаза» (1916)
был снят по роману А. Федорова и всячески подчеркивал
свое «романное» происхождение: молодая девушка открывает
книгу в начале и закрывает в конце. Как отмечал рецензент,
«это сказалось и в надписях, под которыми помечены стра-
ницы романа, и в той нарочито книжной рамке, в которую
оправлены титул фильмы, портреты исполнителей и эпи-
графы» [157, с. 17].
Два режима восприятия
немого фильма
В 20-е годы, на следующем витке эволюции киноязыка,
положение дел не слишком изменилось. В уже цитированной
лекции-манифесте Ж. Эпштейн говорил о надписах как об
«отдыхе для глаза» и «пунктуации для ума» [519, с. 26]; в те
же годы С. Д. Васильев в лекции для студентов ГТК предло-
жил по-иному развернутую характеристику этого эффекта:
«Одна из существеннейших задач [надписи] — это необхо-
димость дать известную зрительную передышку, отдых для
глаз зрителя. Непрерывная смена динамических (движу-
щихся) изображений на экране, естественно, вызывает
огромное зрительное напряжение, которое может оказать
нежелательное подсознательное влияние на восприятие зри-
телем картины. Неподвижность надписи дает разрядку зри-
тельному восприятию и ослабляет напряжение глазных
нервов» [90, с. 253].
286
Часть II Межтекстовые связи
Сегодня, в эпоху звукового кино, нам очевидна психофи-
зиологическая несостоятельность такого объяснения (равно
как и более ранних, предложенных Курсинским и Вознесен-
ским), — Васильев обязан им поголовному увлечению кине-
матографистов 20-х годов началами рефлексологии и психо-
анализа. Но и без всякого объяснения приведенные наблю-
дения дают достаточно ясную картину. Мы видим, что
восприятие немого кино по какой-то причине (или совокуп-
ности причин) работает в двух режимах — режиме «считы-
вания» иконического текста и режиме чтения слов.
Преобладание первого приводило к своего рода «вербальному
голоданию», на которое жаловались процитированные
авторы. Если это так, эволюцию надписей в кино следует
представлять не как противоборство киноязыка и внешнего
по отношению к нему языка естественного, а как подвижный
баланс двух подъязыков в пределах общего языка кино —
подъязыка слов и подъязыка кадров5.
Такая модель не нова. В 20-е годы на ней настаивали
члены ОПОЯЗа и независимо от них столь проницательный
исследователь, как К. Ижиковский, писавший: «Пограничные
споры (между разными видами искусств. — Ю. Ц.) следует
решать так — каждое искусство, стремясь подчеркнуть
только ему присущие черты, вынуждено прибегать к элемен-
там или материалу других искусств <.. .> и тем самым оку-
наться в пограничные сферы». И далее о надписях и изобра-
жении в кино: «Это не «неизбежное зло», которое
приходится только терпеть и по возможности избегать, а
символ, коренящийся намного глубже» [537, с. 108].
Уже в наше время семиотическую формулировку этого
соотношения предложил М. Хэндрыковски: «Естественный
язык получает статус субкода, участвующего в системе кино-
коммуникации» [543, с. 35]. Наконец, можно привести и
аналогию Ю. М. Лотмана: «Когда в русский текст попадают
французские фразы (например, у Толстого), это уже не
только инкорпорирование французских фраз — это уже рус-
ский язык. И точно так же, когда вроде бы чуждые кино
компоненты, словесные или графические тексты, попадают
в фильм, — они уже киноязык» [233, с. 16].
Каждое из этих положений, само по себе бесспорное,
можно' трактовать двояко. Можно утверждать, что естест-
венный язык входит в киноязык на правах семантической
доминанты и надпись, изменяя семантику смежных ей кад-
ров, в качестве текста на естественном языке никаким
встречным модификациям не подвергается. Это можно на-
звать слабой формой суждения о надписи как подъязыке
кино — имплицитно она содержится, например, в некоторых
работах Шкловского и Эйхенбаума. Тогда сильной его фор-
287
Глава 6. Рецептивный слой фильма
мой было бы утверждение, будто надписи в кино функцио-
нируют несколько иначе, чем слова в практической речи или
в других подъязыках культуры, например в поэтическом.
К такому пониманию был близок Ю. Н. Тынянов, когда гово-
рил, что кино — это «искусство абстрактного слова» [390,
с. 322].
Знаковая фактура надписи
Хотя в некоторых странах лектор-комментатор сопровож-
дал сеансы вплоть до 1913 г., уже около 1903 г. фильмы стали
снабжать пояснительными надписями. Важно помнить, что
сравнительно долго эти надписи не претендовали на передачу
устной речи. Действие комментировалось от лица «автора», а
персонажи продолжали оставаться бессловесными. Только в
конце 1900-х годов начинают возникать «разговорные» над-
писи, пополнившие класс надписей-ремарок классом надпи-
сей-реплик.
При значительном числе самостоятельных, а то и «кустар-
ных» точек кинопроизводства в эпоху немого кино удивляет
не стилистическое разнообразие фильмов, а скорее черты,
общие для основного массива выпускаемых картин. К ним
принадлежит надпись, но не по своим функциям, предельно
разветвленным и меняющимся от периода к периоду, и не
по однообразному содержанию (хотя, как вспоминал А. Хич-
кок, в начале 20-х годов работавший титровальщиком для
английских студий, самым знаменитым титром немого кино
было Наступил рассвет [535, с. 19]): универсальной чертой
большинства надписей была особенность их графики. Надпись,
как правило, изготовлялась в виде негатива, и слова возникали
белым по черному фону. Привычность такой фактуры не
снимает необходимости ее объяснить, но ни литература эпохи,
ни исследовательская традиция, насколько можно судить, не
предложили исторического толкования этой особенности.
Н. Берч попытался коснуться ее с позиций грамматологии
Деррида, но в том виде, в каком нам эта попытка известна,
его объяснение можно рассматривать лишь как частичное.
Исследователь пишет: «Разговорные титры всегда давали зри-
телю понять, что Речь, звучащее Слово неосязаемо и неиско-
ренимо присутствует внутри разыгрываемой сцены (diegesis)
и что его печатная форма — всего лишь пассивная внешняя
оболочка: это подразумевалось тем, что надпись требовала
временной приостановки изобразительного ряда. Она изолиро-
валась декоративной рамкой и безвременным черным фоном,
означающим как бы скобки, выталкивающие надпись из сис-
288
Часть II Межтекстовые связи
темы репрезентации, отказывающие титру в признании его
равноправия» [505, с. 78]. Контекст этого рассуждения у Берча
таков: в европейской культуре голос {связанный с сакрализа-
цией дыхания, духа, души) первичен, письмо — вторично. От-
сюда — подчиненное место надписи в иерархии средств кино-
репрезентации.
Для Н. Берча черный фон — знак выключенное™ надписи
из мира фильма. Это, безусловно, так, но нельзя впрямую
связывать «скобочный» механизм черного фона с противо-
поставлением письменного и устного слова. На черном фоне
производились не только «разговорные» надписи — диалог
в немое кино проник лишь в конце 1900-х годов, когда пове-
ствовательные ремарки уже печатались белым по черному.
Не подлежит сомнению, что такую знаковую фактуру реплики
унаследовали от ремарок в готовом виде. Это, разумеется, не
исключает возникновения новых смысловых связей и не отме-
няет наблюдения Берча, которое справедливо только для пе-
риода «разговорных» надписей. Для более раннего периода,
«периода ремарок», в силе другая смыслоразличительная оп-
позиция.
«Период ремарок» тоже знает два вида надписей: принад-
лежащие предметному миру фильма — телеграммы, газетные
объявления, вывески, письма крупным планом и ему не при-
надлежащие — собственно титры. Надписи внутри кадра бо-
лее архаичны, чем межкадровые, — по данным Л. Б. Фелонова,
на рубеже веков «особой формой применения надписей были
субтитры в виде этикеток, вывесок и указателей», которые
«тактично вводились в кадр как предметный элемент обста-
новки» [402, ч. 1, с. 81].
Излюбленным приемом режиссера, желающего якобы не-
предумышленно снабдить зрителя некоторой суммой сведений
о происходящем, было письмо. Письмами злоупотребляли на
протяжении всей истории немого кино. А. С. Вознесенский
еще и в 1924 г. предостерегал: «Наиболее ходким, часто не-
чутко применяемым и потому надоедливым методом высказы-
ваться на экране является «письмо». Эпистолярная форма
надписи, самая ранняя и грубая, должна быть применяема
авторами-художниками в крайних случаях, абсолютно оправ-
дываемых фабулой момента» [105, с. 70].
Переход от «ранней и грубой» мотивированной надписи
внутри кадра к межкадровой немотивированной надписи (из-
лишне добавлять, что в результате такого перехода внутри-
кадровые надписи не покидают сцены, а лишь утрачивают
монополию на слово в кино) — заметный шаг в эволюции кино-
языка [534, с. 33]. Надпись между кадрами обнаруживала стоя-
щего «за картиной» рассказчика, и последовательность картин
приобретала онтологический статус рассказа. Словесные
289
Глава 6. Рецептивный слой фильма
тексты, включенные в фильм, теперь уже образовывали оп-
позицию: надпись от лица рассказчика — надпись, произведен-
ная действующим лицом. Безличная надпись как более поздняя
определяла себя по отношению к уже существующей. По-
скольку в предметном мире нормальная фактура письменного
знака — черное по белому, надпись межкадровая, дабы ее
не путали с крупным планом типографского текста, давалась
в негативе. Тем самым «негативность» знака стала смыслораз-
личительным признаком.
Представляется, что это разветвление, поначалу чисто
функциональное, имело ряд побочных последствий. Одно из
них смыкается с интересующей Н. Берча оппозицией между
письменной и устной речью. Можно согласиться, что, когда
уже после 1908 г. в негативной фактуре стали передавать и
прямые реплики персонажей, письменная природа межкадро-
вой надписи заново обнажилась. Однако пока межкадровая
надпись входила в оппозицию к письменной речи внутри
кадра, она выступала для зрителя как «неписьменная». Таким
образом, межкадровая надпись в зависимости от того, в ка-
кую оппозицию входила, воспринималась попеременно то
как «неписьменная», то как «неустная» речь, а возможно, и
вообще усвоила статус особой промежуточной формы между
речью письменной и устной.
К этому статусу межкадровой надписи нам еще предстоит
вернуться. Пока ясе. перед тем как продолжить рассмотрение
фактуры знака уже на материале внутрикадровых надписей,
отметим еще одну особенность надписи-негатива. Черный фон,
сливаясь с темнотой кинозала, сводил на нет рамочную кон-
струкцию кадра — буквы возникали не в квадрате экрана, а
«прямо на стене». Это свойство вызывало у зрителей устойчи-
вую диахроническую ассоциацию, которая отразилась, напри-
мер, в статье И. А. Щеглова (1908). Описывая «бесчинства»
публики перед началом задержавшегося сеанса, автор завер-
шает рассказ неожиданной аллюзией к пророчеству на пиру
Валтасара: «На темном экране вспыхивают огненные буквы:
«Любовь моряка»» [-450, с. 259].
Пылающая надпись ощущалась как знак из другого мира.
Видимо, эта рецептивная метафора возникла как следствие
первого знакомства с межкадровой надписью. Именно в 1908 г.,
когда надпись еще не вошла в состав привычных для зрителя
условностей киноязыка, Н. И. Толоб (инженер Болотин) про-
цитировал книгу пророка Даниила: ««В тот же самый час поя-
вились персти руки человеческой и стали писать против лам-
пады на выбеленной известью стене чертога царского, и царь
видел кисть руки, которая писала». Это чудо, которое вселило
тогда ужас во всем народе, теперь можно произвести [с]
помощью проекционного аппарата или синематографа гораздо
19 1023'26
290
Часть II Межтекстовые связй
лучше и изящнее; да и действительно пир Валтасара и это
самое чудо мы уже видим на синематографической ленте»
[378, с. 2].
Усугубляла этот эффект «огненная» окраска негатива («ви-
раж»), о распространенности которой говорит замечание
Гармса: «<...> наиболее приятен для глаза титр, напечатан-
ный спокойной зеленой краской на черном фоне. Желтая
краска действует раздражающе; особенно раздражают титры
красные ...» [117, с. 103].
Почерк
Выше говорилось, что введение такого мощного инстру-
мента киноповествования, как межкадровая ремарка, приоста-
новило, но не прекратило злоупотребление мотивированными
надписями в роли носителей немотивированной информации.
В 10-е годы эта роль даже возрастает. В 1914 г. немецкий дра-
матург Г. Герман с язвительным удивлением вопрошает: «По-
чему действующие лица вечно пишут письма?» [122, с. 12],
а С. Вермель в 1917 г. обращает внимание на то, как быстро
рождается текст письма — так быстро заполнить страницу
нигде, кроме экрана, нельзя [см. 92, с. 31]. Причины такого
консерватизма в общих чертах понятны. Мы уже указывали,
что межкадровая надпись в норме не прерывает «естествен-
ного» хода восприятия, а лишь переключает его из икониче-
ского режима в словесный, столь же привычный.
Правда, многие жаловались, что титр нарушает пластиче-
ское течение сцены. В этом отношении характерен эпизод из
воспоминаний тапера А. Анощенко, которого в 1909 г. впервые
и без подготовки посадили за пианино у экрана: «Самым труд-
нопреодолимым для меня оказалось чтение надписей без пе-
рерыва музыки. Отвлечение внимания от импровизации в
область речи, никак не связанной с развитием музыкальной
формы, <...> останавливало творческий процесс» [21, л. 2].
Не удивительно, что идеологи «фильмов без надписей», дер-
жавшиеся за всякую возможность в обход ими же установлен-
ного закона протащить в картину слово, широко пользовались
письмами. Не представляли исключения и рядовые режиссеры.
С двойственным назначением письма связаны и особен-
ности его семиотической фактуры. Начиная с момента, когда
кинонадпись стала проникать в эстетическое сознание 1900—
1910-х годов, в литературе о кинематографе наблюдается воз-
растающий интерес к вопросу о почерке. Высказанные по
этому поводу соображения можно суммировать так: кинема-
тограф, знаменуя собой новую стадию в развитии техники
291
Глава 6. Рецептивный слой фильма
репродуцирования по сравнению с книгопечатанием, вместе
с тем вернул европейскому искусству утраченную было куль-
туру палеографии. Однако всякому такого рода прогнозу со-
путствовала оговорка, что почерковедение в кинематографе
имеет странное свойство. В 1910 г. автор неподписанной за-
метки «Графология в синематографе» спрашивал: «Не прихо-
дилось ли вам заметить, что почерк в поясняющих надписях
картин фабрики .А постоянно крупный, а в картинах фабрики Б
постоянно мелкий, что отец, пишущий своей дочери, и дочь,
отвечающая ему, имеют совершенно одинаковый почерк,
между тем как мы отлично знаем, что 16-летний подросток и
старый профессор не могут выводить совершенно одинаковые
буквы. Вот почему в синематографических драмах почерк того
или другого действующего лица должен по возможности при-
меняться к его характеру и потому с художественной точки
зрения слишком недостаточно, если все поясняющие надписи
фабрик А, В, С и т. д. будут изготовляться чисто механически
специальным служащим» [13?, с. 13].
Многочисленные сетования мало что изменили, и спустя
15 лет лейпцигский профессор эстетики был вынужден конста-
тировать, что рукописные надписи отличаются «весьма однооб-
разным каллиграфическим почерком, вне зависимости от по-
черка их предполагаемых авторов» [117, с. 102].
Эта особенность рукописных кинонадписей не прошла не-
замеченной и для литературы эпохи немого кино. Так, В. На-
боков в романе «Отчаяние», пронизанном кинематографиче-
скими ассоциациями, снабдил героя двадцатью пятью почер-
ками, выделив среди них «почерк, который я особенно ценю:
крупный, четкий, твердый и совершенно безличный, словно
пишет им абстрактная, в схематической манжете, рука,
изображаемая в учебниках физики и на указательных стол-
бах»6. Не вызывает сомнений, что эта особенность повество-
вателя косвенно отсылает к рукописным титрам в кино: уже
в 1928 г. в стихотворении «Кинематограф» автор романа особо
отметил несогласованность ровного прописного почерка с пси-
хологическим состоянием пишущего:
Там письма спешно пишутся средь ночи:
Опасность... трепет... поперек листа
рука бежит... И как разборчив почерк,
какая писарская чистота! [264]
Несмотря на очевидную для современников нелепость, без-
упречная каллиграфия в переписке персонажей сделалась
прочной условностью немого кино. Причины, приводившиеся
в оправдание этой особенности, примыкали к прагматике над-
писи как знака: при ее составлении учитывалась неполная
грамотность аудитории. Четкость и удобочитаемость плохо
19’
292
Часть П Межтекстовые связи
согласовывались с игрой на тонких различиях почерка и не
способствовали психологизации начертаний. Можно, однако,
указать и на более общее обстоятельство, препятствовавшее
тому, чтобы привить кинонадписям вкус к графологии. Вспом-
ним о бифункциональности писем в кино — оставаясь элемен-
том изобразительного ряда, они по сути дела использовались
как лазейка из этого ряда в словесный.
Выше отмечалось, что статус межкадровой надписи по
отношению к изобразительному ряду экстерриториален. В этом
смысле рукописная надпись (например, письмо крупным пла-
ном) обладает идеальной для повествования двойственностью:
в сюжетном плане она принадлежит предметному миру кар-
тины, в дискурсивном — от него изолирована. В этот момент
восприятие работает в обоих режимах — изобразительном и
словесном. Психологизация почерка могла нарушить зыбкий
баланс и превратить надпись из служебной, передаточной ин-
станции в объект, равноценный изображению. Межкадровая
надпись должна быть безличной, ибо представляет в тексте
безличного повествователя. Надпись рукописная, будучи обра-
щена к зрителю от лица персонажа и повествователя одновре-
менно, должна быть одновременно личным посланием и без-
личным титром. Первое требование обеспечивается тем, что
надпись — от руки, второе — тем, что эта рука — пропись.
Не следует считать, что знаковая фактура надписи, будь
то негатив для межкадровой или каллиграфизм для рукопис-
ной, неотвратимо предписывалась всем киноавторам. Встреча-
лись межкадровые надписи, выполненные черным по белому
(в таких случаях дифференцирующим признаком, как правило,
была особая декоративная рамка или условный рисунок на
свободном поле титра)7, встречались и просто несуразицы. Так,
в фильме П. Чардынина «Любовь статского советника» (1915)
герой печатает на машинке прошение зачислить его на дол-
жность младшего счетного чиновника; когда в следующем
кадре начальник читает это прошение, на экране возникает
текст, написанный от руки8.
Иногда для имитации рукописной надписи использовали
типографский шрифт «Геркулес» (читатель может увидеть его
на обложке нашей книги).
Но встречалось и другое — попытки творческого использо-
вания уникальных возможностей, которые открывало факси-
мильное воспроизведение на экране рукописного текста.
Вопреки обыкновению нивелировать графологические особен-
ности, некоторые авторы старались превратить индивидуаль-
ный почерк персонажей в смыслообразующий фактор струк-
туры фильма.
Отчетливее всего стремление «одушевить» почерк просле-
живается на материале сценариев — по-видимому, белое поле
293
Глава 6. Рецептивный слой фильма
экрана и неисписанный лист были пространствами, не лишен-
ными взаимного притяжения в первую очередь для литерато-
ров. Возможности, открываемые драматизацией почерка (к
ним относится и игра на темпоритме пишущей руки), показа-
лись заманчивыми, например Ф. К. Сологубу, когда он в 1918 г.
работал над сценарием «Барышня Лиза». Сценарий, финальная
часть которого тяготеет к форме романа в письмах, снабжен
приложением — «Заметками к постановке»; один из пунктов
заметок касался почерковедческой характеристики персонажей
(время действия — конец 20-х — начало 30-х годов XIX века):
«Тексты писем — рукописные, гусиным пером. Почерки ста-
ринные, красивые. У Алексиса — широкий, размашистый, с
определенными нажимами и густыми росчерками, довольно
наклонный. У Лизы — прямой, тонкий, связанный, строчки не
совсем ровные, буквы круглые» [348, л. 1—2). (При этом
Сологуб ставит непременным условием исторически точную
орфографию писем, что выдает его отношение к развернув-
шейся в то время орфографической реформе.)
Сценарий Сологуба интересен как раз тем, что надписи в
нем задуманы не как служебная часть текста, а как элемент,
синтагматически равноценный изображению. По сути дела,
фильм мыслился им как богато иллюстрированное факсимиль-
ное издание переписки героев: «<...> желательны кое-где
как бы страницы показанной книги, — гравюры, виньетки,
заставки, все, конечно, с большим тактом» [л. 2].
Замысел Сологуба неожиданным образом перекликается
с несколько более ранней идеей, имевшей хождение в кругу
русских кубофутуристов, — об издании новой поэзии «само-
рунным», нетипографским способом и через нее — с ранним
сценарным замыслом В. Хлебникова9. В 10-е годы рукописные
книги футуристов получили теоретическое обоснование в ряде
деклараций, одна из которых — статья-манифест Хлебникова
и А. Е. Крученых «Буква как таковая» (1913) — устанавливает
зависимость между «настроением» поэта и почерком, передаю-
щим это настроение читателю [см. 272, с. 73—74]. Следует
отметить, что в печатный текст манифеста [413, т. 5, с. 248]
не вошли слова, записанные рукой Хлебникова в черновом
наброске, носящем заглавие «Буква как буква»: «Листы чер-
новика суть подмостки, гон буквы, почерк — лицедеи» [204,
л. 2]. Эта запись, напоминающая о другом, более известном
высказывании Хлебникова о театре стихотворных размеров,
проливает свет на сценарный набросок Хлебникова, в котором
движущиеся буквы заменяют актеров: «Сценарий полотно
идет ряд пехотинцев заглавный звук на коне или аэроплане
с шашкой указывает путь, за ним рядовые звуки слова пехо-
тинцы» [415, л. 4; см. также 138, с. 115].
294
Часть II Межтекстовые связи
Семиотический параллелизм
Если считать установленным, что с эволюцией киноязыка
необходимость в надписях не исчезает и число их предполо-
жительно не уменьшается, то след этой эволюции, видимо,
приходится искать в модификациях иного плана. Наблюдений
в указанной области пока накоплено мало, но имеющиеся сви-
детельствуют, что изменяются лингвистика надписи, ее функ-
ции и ее позиция по отношению к комментируемому событию.
Стоит ли говорить, что эти показатели связаны между собой
и образуют как бы конфигурации, меняющиеся от периода к
периоду. Хронологию данных конфигураций пока можно оце-
нить лишь приблизительно, но их последовательность более
или менее ясна.
Первый период (начало 900-х годов) проходил под знаком
интерсемиотического перевода. В идеале всякий шаг повество-
вания представал перед зрителем дважды — в виде словесного
резюме и его кинематографического эквивалента. Надпись
неизменно предшествовала сцене и в кинолитературе 900-х го-
дов часто именовалась «заголовком». По сути дела, фильм той
эпохи строился и прочитывался как корпускулярная структура,
состоящая из таких озаглавленных сцен. Повествование про-
двигалось подобно движению гусеницы: изобразительный ряд
продолжается, пока не исчерпано заявленное в надписи дей- •
ствие. После этого показывают новую надпись и новое дей-
ствие. Отсюда — преобладание в надписях именных сочета-
ний, наиболее естественных в функции заглавия. Таковы,
например, надписи из неназванной французской мелодрамы,
которые приводит И. Л. Щеглов в статье 1908 г.: Честная тру-
довая жизнь II Свидание с господином Борисом и соблазне-
ние // Угрызения совести // На могиле матери [450, с. 230].
Реже, но с достаточной регулярностью попадались простые
повествовательные предложения, как, например, в русском
фильме «Патэ» «Мара» (1910, реж. А. Метр):
1. Мара идет повеселиться на праздник Ивана Купалы.
2. Родив ой увлечен красотой юной Мары.
3. Мара гадает, бросая в реку венок, но тот тонет, что служит
дурным знаком.
4. Роди вой безуспешно сватается к Маре.
5. Князь, приехавший на правеж, собирает дань.
6. Родивой просит у князя заступничества.
7. Князь поздравляет новобрачных.
Такие титры напоминают даже не названия кадров, а
просто подрис у ночную надпись10.
Итак, типовой фильм конца 1900-х годов представлял собой
интерсемиотическую билингву с постпозицией иконического
ряда.
295
Глава 6. Рецептивный слой фильма
1
88. Сравни: картина «Ключ к сновидениям»
Рене Магритта.
296
Часть П Межтекстовые связи
Понятно, что в таком виде повествование нарушало за-
коны многих жанров, причем наиболее болезненным обра-
зом — приключенческого и мелодрамы, требующих фигуры
умолчания. Браунлоу приводит пример из фильма такого мас-
тера мелодрамы, как Гриффит, который, как и все в ту эпоху,
«не позволял пульсу ускориться, и перед всякой волнующей
сценой вклеивал предательский титр: Помощь приходит во-
время! Том, мужественный юноша, спасает Гертруду от жала
змеи» [499, с. 298].
Уже в 90-е годы тавтологическая пара титр—кадр пере-
стала быть нормативной, хотя ее рудименты продержались до
середины 10-х годов. Благополучнее всего она сохранилась в
жанре «видовой» картины, где вся стратегия текста и заклю-
чается в цикле называний и показов. Однако и здесь злоупо-
требление тавтологией могло вызвать раздражение: «Один раз
мне показали видовую: «Как одеваются на севере». Первая
картина называлась: «Тулуп». Посмотрел я на тулуп. Ничего.
Тулуп как тулуп. Следующая картина была: «Сапоги». Любо-
пытно: сапоги, и с голенищами, и с ушами для натягивания,
и с каблуками. Следующая: «Рукавицы». Весьма полезно, осо-
бенно для юношества: даже для большого пальца место есть.
На рукавице лента кончилась» [152, с. 9].
Любопытное размежевание произошло внутри криминаль-
ного жанра: в сценах, содержание которых должно было оста-
ваться загадкой, надпись-заголовок стал табуироваться, зато
служебные эпизоды во избежание путаницы аккуратно «пере-
водились», даже если их содержание ни у кого не вызывало
сомнения. В 10-е годы это их свойство жестоко высмеивалось.
Рецензент 1916 г. писал: «Надписи были лишь механической
связью между двумя очередными эпизодами кинопьесы, своего
рода цементом, соединяющим, например, один подвиг Фанто-
маса с другим <.. . > «Граф и графиня, узнав, что их един-
ственная дочь — предводительница шайки апашей, садятся
в автомобиль и уезжают». За этой надписью следует коротень-
кая сценка, в которой двое персонажей с безразличными, но
весьма корректными (графскими) лицами быстро садятся в ав-
томобиль, дверца захлопывается и автомобиль мчится...»
[293, № 19, с. 2—3].
Естественно было бы предположить, что стадия однознач-
ной соотнесенности надписи и изображения, отслужив свое,
отошла в прошлое. Однако монотонный параллелизм двух-
колейного рассказа, оказывается, обладал странной привлека-
тельностью для высокой культуры, пристально следившей за
ранним кинематографом. Начать с того, что он хорошо вписы-
вался в эстетический культ «примитива». Помимо ближайших
ассоциаций, немедленно связавших кино с лубком и детским
рисунком, сознание эпохи задействовало и средневековую жи-
297
Глава 6. Рецептивный слой фильма
89. Рене Магритт.
«Это не трубка».
£есс п еМ /им ипе
вопись, а ее знаток Э. Панофски вспоминал о титрах в филь-
мах 1910-х годов как о «поразительных эквивалентах средне-
вековых tituli и свитков» [571, с. 161]. Это, в свою оче-
редь, могло сомкнуть ранний кинематограф с таким элементом
эстетического кода, как «духовность», причем сама парадок-
сальность такого сближения значительно повышала его цен-
ность. Когда в 1910 г. В. И. Немирович-Данченко, поставив
на сцене МХТ наделавший шуму спектакль «Братья Карама-
зовы», писал К. С. Станиславскому, что некоторые сцены не-
обходимо строить «синематографом» [269, т. 2, с. 431, он ско-
рее всего имел в виду именно семиотический параллелизм
действия и текста. Во всяком случае, именно это было опознано
критикой как плод влияния кинематографа, а враждебной ее
частью даже использовано против спектакля: «Величайшая
страница не только русской, мировой литературы скомкана.
Обесцвечена. Обезглавлена. Превращена в кинематограф.
В сеанс. Картина за картиной. Только вместо надписей на
экране — чтец сбоку. — Алеша идет от монастыря... И Алеша
выходит из правой кулисы. — Алеша рассказал все, что слу-
чилось с ним... И Алеша молчит, а рассказывает чтец.
<.. .> Ряд пятиминутных кинематографических картин» [58].
Тавтология надписи и кадра — прием, казалось бы, пре-
дельно негибкий и избыточный — проявила неожиданную
устойчивость и в истории позднейшего кино.
Обратим внимание читателя на тонкую игру надписи и
кадра в фильме А. Кавальканти «Только время» («Rien que les
heures»; 1926). На улице появляется человек, и его появление
сопровождается титром L’Homme — «человек». Чуть позднее
появляется девушка и возникает титр La fille — «прости-
тутка», заставляющий зрителя переосмыслить титр L’Homme.
Такое построение пародировало патетический прием квазитав-
тологического обозначения, использованный А. Гансом в
фильме «Десятая симфония» («La Dixieme Symphonic», 1918),
где герой сначала показан в обыденном окружении (титр:
L’Homme), а минуту спустя — за роялем (титр: L'Artiste)11.
298
Часть II Межтекстовые связи
В новом качестве прием тавтологии изображения и слова
возродился в фильме Р. Брессона «Дневник сельского кюре»
(Le journal d'un cure de compagne, 1950). О необычном для
кино нового времени «антикинематографическом» построении
этой картины лучше всего напомнит враждебный отзыв
А. Киру — критика, ранее примыкавшего к кругу сюрреалис-
тов, который писал: «Каждая сцена фильма строится по од-
ному и тому же плану: 1. Тетрадь, на которой рука священника
выводит дневниковую запись; мы следим за тем, как возни-
кают очертания букв, а его голос (это уже, должно быть, для
слепых) повторяет вслух то, что он записывает. 2. Наплыв,
и мы оказываемся на месте тех событий, о которых читаем
в записи, а голос продолжает монотонно рассказывать нам то,
что мы видим собственными глазами. Пример: «садовник пе-
редал мне небольшой пакет и письмо» <... > и вот мы видим
старого садовника, который передает священнику пакетик и
письмо. Таким образом, каждый эпизод проходит перед зрите-
лем трижды: в первый раз мы читаем, как в романе; во вто-
рой слышим слова, воспроизводимые фонографом, и только
в третий раз нам представляют его средствами кино. Разве
г-н Брессон не верит в силу кинематографического образа и в
свое умение передать такой образ?» [Цит. по 223, с. 574|.
Как видим, между фильмом Брессона и постановкой
«Братьев Карамазовых» в 1910 г. в МХТ, где за Алешу «дей-
ствовал» чтец-комментатор, обнаруживается странное сход-
ство, обусловленное целым рядом совпадений — ив том, и в
другом случае наблюдается сознательная реконструкция при-
ема семиотического параллелизма, свойственного языку ран-
него кино; и тут и там этот параллелизм явным образом
используется для того, чтобы лишить повествование элементов
сюжетной занимательности; обе постановки декларативно при-
держиваются буквы взятого за основу литературного текста
и настаивают на своей принципиальной вторичности по отно-
шению к нему12; наконец, и сам роман Ж. Бернаноса «Дневник
сельского кюре» не скрывает своей зависимости от Достоев-
ского. Помимо этого, для спектакля Немировича-Данченко и
фильма Брессона, по-видимому, важен сам процесс непрекра-
щающегося интерсемиотического перевода, неослабевающая
поляризация слов и действия. Эта структурная особенность
переводит литературную проблематику текста, затрагивающую
дихотомию «тела и духа», в дискурсивный план — кино языка
в одном случае и языка сцены в другом.
В глубокой рецензии на фильм Брессона А. Базен писал:
«Не следует ли сказать о «дневнике», что это немой фильм
с произносимыми вслух титрами? <.. .> Брессон оконча-
тельно разбивает приевшееся утверждение критики, будто
изображение и звук никогда не должны дублировать друг
299
Глава 6. Рецептивный слой фильма
друга. Наиболее волнующими моментами фильма оказыва-
ются именно те, в которых тексту надлежит выразить
совершенно то же, что изображению, но все дело в том, что
выражает он это иначе, по-своему. <... > Сознание улавли-
вает не столько резонанс, сколько сдвиг, напоминающий
сдвиг краски, неточно наложенной на рисунок. Именно в та-
кой пограничной зоне и раскрывает событие свое значение.
<.. .> Можно сказать, что кадр аккумулирует статическую'
энергию, подобно параллельным пластинам конденсатора. В
зависимости от этой энергии и от фонограммы устанавлива-
ется разность эстетических потенциалов, напряжение которой
становится невыносимым» [485, с. 48—50].
Можно добавить: если в раннем кинематографе паралле-
лизм надписи и изображения устанавливал эквивалентность
между сказанным и показываемым, то Брессон добивался
обратного: для нового зрителя чем теснее сведены полярные
оконечности киноязыка, тем ощутимее их пороговая неэкви-
валентность. Параллельные тексты с разной семиотикой,
продемонстрировав в 900-е годы взаимную переводимость,
в середине века обозначили ее предел.
От ремарки к реплике
Как уже было сказано, в конце 900-х годов началась
большая семиотическая перестройка всей системы кино я зыка,
затронувшая и надписи. Наиболее заметным было возникно-
вение «разговорных» надписей. Дело продвигалось медленно,
и даже в середине 10-х годов печать пыталась форсировать
этот процесс: «<...> встревоженные родители склоняются
над ребенком в постели, щупают его головку и пр. Ясно —
не так ли? Нет, фабриканты [фильмов] предполагают, что вы,
очевидно, можете понять это не так, как нужно, и что в
вашем уме без пояснительной надписи «Ребенок заболе-
вает ...» создастся представление о том, что родители ощу-
пывают, годится ли их ребенок на жаркое <...> Можно
заменить такие «повествовательные фразы» коротким, силь-
ным, красочным восклицанием действующего лица, напри-
мер: <.. .> «Боже мой... девочка в жару...»» [288, с. 2].
Забегая вперед, в 20-е годы, мы обнаружим, что некото-
рый баланс между ремаркой и репликой в кино установился,
но баланс подвижный, зависящий не только от драматурги-
ческого жанра картины, но и от национального стиля. Рус-
ское кино 10-х годов, в отличие от западноевропейского и
тем более от американского (см. о нем у Б. Солта [582,
с. 160, 162]), охотно и сразу перешло к «разговорным» над-
писям, и пресса уже в 10-е годы объявила это признаком
300
Часть II Межтекстовые связи
«русского стиля» [582; 293]. Действительно, в сценарии «Бог»
середины 10-х годов — лишь две повествовательные надписи
[105, с. 70], в фильме П. Чардынина «Молчи, грусть,
молчи...» (1918) из 96 надписей только четыре поясняющих,
меж тем как, по словам обозревателя 1916 г., «в этом отно-
шении Западная Европа отстала от нас» [582, с. 2].
По данным Д. Бордуэлла, в 20-е годы в американском кино
перевес надписей-реплик (dialogue titles) над надписями-
ремарками (expository titles) был ощутимее, чем то же со-
отношение в советском кино. Бордуэлл объясняет: «Причина
ясна: ремарка способствует ощущению преднамеренности
повествования (creates a self-conscious narration), в которой
традиционно построенный фильм нуждается только изредка»
[492, с. 237]. Можно добавить: в этом повинна не только
установка на открытый идеологический дискурс, но и реак-
ция на засилие реплик в русском дореволюционном кино с
его установкой на «психологию». И хотя советские режис-
серы с готовностью прибегали к ее услугам, тенденция реа-
билитировать пояснительную надпись в советской эстетиче-
ской теории не обнаружилась. Б. М. Эйхенбаум, пользовав-
шийся на ленинградских кинофабриках репутацией тонкого
стилиста и принимавший заказы на надписи к чужим
картинам13, предостерегал: «Наиболее неприятный и чуждый
вид надписей — это надписи повествовательного характера,
надписи «от автора», разъясняющие, а не дополняющие. Они
заменяют собой то, что должно быть показано и, по суще-
ству киноискусства, угадано зрителем <.. .> Другое дело —
надписи разговорные, составленные с учетом особенностей
кино и вовремя помещенные <... > Разговорная надпись не
заполняет собой сюжетной пустоты и не вводит в фильму
повествующего «автора», а только заполняет и акцентирует
то, что зритель видит на экране» [460, с. 25—26].
Трудно не сравнить это (и аналогичные [ср. 458]) сужде-
ния Эйхенбаума с обобщением П. П. Муратова, которое сов-
падает с ним по времени, но складывалось как итог наблю-
дений над западноевропейским кино: «Зритель кинематографа
ни на одну минуту не заблуждается в том, что фигуры
экрана не говорят. Он не воображает за ним никаких слов
и не видит в том надобности. Любопытно, что надписи экрана
в огромном большинстве случаев составлены не в драмати-
ческой форме, но в повествовательной. Они рассказывают
о том, что происходит, в третьем лице, они говорят не за
актеров, а за зрителя. Диалоги в надписях встречаются чрез-
вычайно редко, составители их избегают и монологов.
Нередки зато рассуждения «со стороны» — подсказывания
морали, эмоции, оценки, — все то, что в театральном зрелище
выпадает на долю отнюдь не актера, но зрителя. Если бы
1
301
Глава 6. Рецептивный слой фильма
понадобилось переделать для кинематографа театральную
пьесу, ее пришлось бы прежде всего пересказать в надписях
в повествовательной форме» [263, с. 296].
Здесь не место подробнее останавливаться на сложном
вопросе о характере надписей в кино 20-х годов, но нельзя
не отметить, что в советском немом кино надписи эволюцио-
нировали по третьему пути — линии, совмещающей признаки
и повествовательной, и прямой речи; как показала С. Д. Гу-
ревич, в эти годы прослеживается процесс «усиления автор-
ской интонации в надписях» [142, с. 58] и все возрастающая
ориентация титров на сказовую речь.
Но это — финальный отрезок эволюции надписи — прямой
речи. Попытаемся проследить начало указанного процесса.
Солт датирует его 1908 годом, отмечая, что первыми надпи-
сями-репликам и были знаменитые фразы из «Ромео и Джуль-
етты», от которых не в силах были отказаться авторы италь-
янской экранизации [582, с. 291]. Примерно в это время,
действительно, возросли рецептивные ожидания вокруг
устной речи. Думается, что таким ожиданиям способство-
вало зарождение компании (и стиля) «Film d'Art» с ее зна-
менитыми актерами, чей голос был памятен зрителям по
театру. Возможно также, что театральная манера игры (во
французском кино сменившая манеру, восходящую к панто-
миме) не позволяла мириться с отсутствием реплик.
Характерный пример — американская рецензия 1909 г. на
«Смерть герцога Гиза», в которой автор изобличает неубе-
дительную, по его мнению, уловку в попытке обойти проб-
лему устной речи: «Находясь в доме маркизы де Нуармонтье,
герцог Гиз получает предупреждение о том, что король
Генрих задумал против него недоброе. Герцог смеется в ответ
на это предупреждение и говорит маркизе, что король не
посмеет. В картине этот ответ показан так: герцог пишет на
клочке бумаги слова «Он не посмеет» и вручает эту записку
маркизе. Это — единственная во всем фильме несуразность.
Устное слово было правильно дать отдельной надписью, или
же содержание сказанного следовало показать поведением
герцога, чтобы слова сами возникали в нашем воображении»
[576, с. 114].
К аналогичным приемам прибегали и в других фильмах
1908 года. Если записка маркизе вместо произнесенного
слова еще кое-как мотивирована соображениями конспира-
ции, то пример из «Стеньки Разина» (1908) поражает откро-
венно условным приемом реплики-письма и еще больше —
тем, что, несмотря на традиционную придирчивость русской
критики, ни в одной из рецензий сценаристу В. Гончарову
на нелепицу не было указано.
302
Часть И Межтекстовые связи
Формально говоря, три из десяти надписей в «Стеньке
Разине» содержат в себе элементы прямой речи. Но это —
не реплики в прямом смысле слова, а своего рода речита-
тивно-напевные иллюстрации, не несущие самостоятельной
повествовательной нагрузки. Из структуры этих надписей
явствует, что прямая речь введена Гончаровым в виде орна-
ментального «русского» украшения готовой нарративной
канвы. Все три надписи состоят из двух элементов — крат-
кого словесного резюме, в котором по обыкновению кинема-
тографа 1900-х годов излагается содержание предстоящей
сцены, и упомянутой фразы-речитатива, привносящей в над-
пись местный колорит:
ЗАГОВОРЪ УДАЛСЯ
ВЫПЕЙ АТАМАНЬ БАТЮШКА
ЗА УДАЛУЮ НАШУ ПОНИЗОВУЮ
ВОЛЬНИЦУ ЗА КНЯЖНУ
ЧАРОВНИЦУ. ЗА ВЕСЬ Н АРОДЬ
* ЧЕСТНОЙ :
РЕВНОСТЬ. ЗАГОВОРИЛ А.
МЕНЯЛИ ЛЮБИШЬ
ОДНОГО КНЯЖНА, А МОЖЕТЪ
БЫТЬ ДРУЖОКЪ СЕРДЕЧНЫЙ
. ЕСТЬ НА РОДИНЬ? Л-
амрть_вкияжиы
ВОЛГА МАТУШКА ТЫ МЕНЯ
ПОИЛА КОРМИЛА. НА СВОИХЪ
ВОЛНАХЪ УКАЧИВАЛА
Д' ПРИМИ МОЙ ДОРОГОЙ
подарокъ.
В повествовательном контексте фильма каждая из при-
веденных надписей являет собой синонимическое преобразо-
вание. «Стенька Разин» — уникальный случай в эволюции
кинематографических надписей, «промежуточное звено»,
в котором в равной мере представлены старая, уходящая
техника повествования и техника, идущая ей на смену.
Однако для зрителя 1908 г. синонимический дуплет был дуп-
303
Глава 6. Рецептивный слой фильма
летом неравноправным: зритель, успевший прочесть верхнюю
часть титра, мог смело не читать нижней, но если предста-
вить себе обратную ситуацию, можно утверждать, что для
реципиента, ознакомившегося только с нижней половиной
текста, повествовательная функция надписи была бы утра-
чена.
Таким образом, три случая прямой речи в «Стеньке
Разине», по сути дела, — не реплики, а те же ремарки. По-
настоящему серьезной попыткой передать устную речь '
являются не они, а титр-письмо, которое в отсутствие Разина
один из разбойников зачитывает перед вольницей.
Сцена озаглавлена: Заговор разбойников против княжны.
На огромный валун вскакивает оратор, в руке у него листок
бумаги. Следующий кадр — рукописный текст:
'mdfyiutqu'wwfufniниш». amautM&.'Jya. би -
</аио t/nnii. Ллииамь . 'Жаль-
ся гл (бийми у к. та
иуели, мкаиип» ла &м»лми 2>алл via а^флааян
лиг
неулилямисьлсллякли^аис^иаялАоа 'лумууиаль
Я1Ял^^иили.т^ля-Я'ЛлЛл’уупЯ(Якм б
Лаль ’ыуи л^ляигиамлмааяглмаяа, яыгуа олс»
су/ьимяахиллЛмжтл бьяалл л/ысяаяаг. а я
блмифм. иаьЖлихмаяушусуяу/шслягвцл бяуглЦ
измпнницъ /
Как видим, текст несет сложную нарративную нагрузку —
зритель узнает причину заговора и суть интриги. Драматур-
гическая ситуация — митинг недовольных разбойников —
требует устной речи, титра-монолога. Однако язык кино
такими титрами еще не располагает. Гончаров поступает так
же, как поступил Калметт, ставивший «Герцога Гиза», —
прибегает к форме письма (для 1908 г. письмо — единствен-
ный способ представить на экране пространный и сложный
текст). При этом режиссер сознательно идет на нелепость,
мыслимую только в немом кино: представим себе, что бы
творилось в театре, если бы волжский ушкуйник, вскочив
на валун, зачитал обращение к вольнице по бумажке!
Между тем нелепица такой сцены прошла незамеченной.
Можно высказать уверенность, что дело спас смелый сцена-
рный ход Гончарова, составившего текст письма по законам
устной речи и даже подчеркнувшего, оттенившего импрови-
зационный характер монолога. Действительно, процессуаль-
ность речи обозначена здесь чисто устным оборотом: «Приду-
мал я, товарищи, сегодня же не будет этой чаровницы!» Тем
304
Часть II Межтекстовые связи
самым титр таит в себе семиотический парадокс: форма
высказывания делает невозможной его субстанцию, и наобо-
рот, субстанция исключает форму.
В итоге перед нами — двойная подмена: устная речь для
перехода в титр подменяется письменной (бумажка), чтобы
по мере чтения снова превратиться в устную. Второе превра-
щение привело текст в соответствие с кругом зрительских
ожиданий, и реципиент с готовностью забывает о внешней,
драматургически нелепой мотивировке.
Таким образом, эволюцию надписей в кино можно пред-
ставить как разветвление функций (план содержания) и
поиск дифференцирующих признаков (план выражения). На
первом шаге этой эволюции произошло разветвление над-
писи на внутреннюю (диегетическую, например, «письмо») и
внешнюю (межкадровую, «авторскую»). Дифференцирующим
признаком сделалась субстанция выражения: черным по
белому / белым по черному и рукописная / печатная.
Второй шаг эволюции наметился с выделением новой
функции — функции прямой речи. Примеры из «Герцога
Гиза» и «Стеньки Разина» убеждают в том, что первые по-
пытки в этом направлении пошли по пути использования при-
вычных дифференцирующих признаков. К этому имелись
некоторые основания. Дело в том, что новый виток эволюции
оказался спиралевидным: устная речь была ближе к внутри-
кадровой надписи — письму, записке, газете, листку кален-
даря — в том отношении, что, как и она, принадлежала
событийному миру фильма (диегезису). Вполне понятно,
почему и Калметт, и Гончаров, поступясь правдоподобием,
предпочли передать реплику персонажа в фактуре, сигнали-
зирующей о ее внутрикадровой, диететической принадлеж-
ности.
Субстанция выражения использовалась и для дифферен-
циации речевых жанров, далеких от магистральной эволюции
киноязыка. В русской картине «Ухарь-купец» (1909) тот же
В. Гончаров, теперь уже сценарист и режиссер, чередовал два
графических ряда. Фильм был экранизацией одноименной
песни, и текст песни время от времени возникал в виде титра
(видимо, в расчете на хоровое сопровождение в аудитории).
Но были и обычные поясняющие надписи, например: «В на-
дежде* выпить за счет купца отец позволяет купцу ухаживать
за дочерью». Такой титр возникал в фильме печатным шриф-
том на черном фоне, а текст песни, например:
По всей деревне славушка прошла:
Красавица-дочка на зорюшке пришла,
во избежание путаницы был выведен от руки черным по
белому фону. В фильме песню никто не поет (и, естественно,
305
Глава б. Рецептивный слой фильма
никто не пишет и не читает), и все же она явственно принад-
лежит к другому речевому пласту, нежели повествователь-
ные ремарки. Почувствовав это, Гончаров изолировал этот
пласт, воспользовавшись готовой оппозицией графических
фактур, уже совершенно не заботясь о сюжетной мотиви-
ровке рукописного титра. Так «письмо» превратилось в ус-
ловный индикатор речевого жанра, мыслящего себя в каче-
стве «не-ремарки».
Заметим в скобках, что стихотворная форма надписи была
характерной особенностью раннего русского кино. Доходило
до курьезов: когда, например, режиссер А. Волков при экра-
низации поэмы М. Лермонтова «Беглец» (1914) решил вставить
сцены, Лермонтовым не описанные, в надписях попытались
сымитировать строфику и синтаксис стихотворной речи:
3. Как вдруг один из стражи
Заметил русские отряды вдалеке
4. И началась тревога ...
5. Прощаться с матерью
Гаруну было тяжело ...
6. ... но тяжелей еще ему
С Лейлой расставаться было,
И т. д.,
видимо, в расчете на то, что зритель примет надписи за под-
линный текст. Один из фильмов Е. Бауэра — салонная мело-
драма «Пламя неба» (1915) о любви мачехи к пасынку имела
подзаголовок «Драматическая поэма», и, вспомнив о «Федре»,
сценарист Г. Азагаров составил титры в стихах. Фильм не
сохранился, но по одной из рецензий можно предположить,
что это были стихи Расина, которых, однако, на все пово-
роты сюжета не хватило: «В удачном подборе стихотворных
лирических цитат для надписей напрасно в двух-трех карти-
нах неожиданно допущена проза, это мешает цельности
настроения» [302, с. 15].
К сожалению, не представляется возможным узнать,
заставляли ли авторы фильма «говорить» стихами Расина
профессора Ронова, его жену Таню и сына Леонида или
цитаты использовались как «внешний комментарий», вроде
того, как Гончаров использовал в «Ухаре-купце» цитаты из
одноименной песни.
Вернемся к эволюции надписей на стадии устной речи. По
понятным причинам рукописная фактура как знак прямой
речи не привилась. Надпись-реплика и надпись-ремарка со-
хранили одинаковую субстанцию выражения. Дифференци-
рующие признаки обозначились на другом уровне.
Во-первых, наблюдается некоторое размежевание реплик
и ремарок в грамматическом отношении. Если прежде в
20 102326
306
Часть П Межтекстовые связи
ремарках использовались как глагольные, так и номинатив-
ные предложения, то теперь номинативные формы в каче-
стве мало свойственных прямой речи становятся признаком
ремарки. В фильме «Два портрета» (шел в России в 1910 г.
с подзаголовком «Драма Жака де Шадем») есть сцена: жен-
щина высовывается из окна и что-то кричит. Далее следует
титр: Она умирает. В 10-е годы такую надпись следовало бы
соотнести с содержанием предшествующего ей кадра и
прийти к заключению, что это — прямая речь кричавшей.
На самом деле фильм принадлежит еще эпохе 900-х годов
(согласно атрибуции М. Б. Ямпольского, — «L'image de
1’autre» М. Карре, 1909), когда надпись должна была отно-
ситься к последующему кадру и означать, что после нее мы
увидим, как умирает только что кричавшая женщина. Если бы
фильм был сделан на несколько лет позднее, титровальщик,
наверное, устранил бы амбивалентность, поменяв глагольную
форму титра на номинативную — скажем, Ее смерть. Впро-
чем, хотя на уровне общей тенденции такое размежевание не
вызывает сомнений, конкретные изыскания показывают, что
глагольные формы ремарок и в 10-е годы использовались
сравнительно широко. Из двадцати ремарок фильма «Приклю-
чения знаменитого начальника Петроградской сыскной поли-
ции И. Д. Путилина» (1915, сц. В. Мазуркевич, реж. М. Мар-
тов) тринадцать — номинативные предложения (Позорная
страсть), семь — глагольные обороты, как нераспространен-
ные (Час расплаты близится), так и распространенные (Пути-
лин заводит знакомство с горничной Крутовых).
Во-вторых, прямая речь обозначалась орфографически —
нагнетанием соответствующих графем. На этом мы остано-
вимся ниже.
В-третьих, тавтологическое соотношение между ремаркой
и кадром уступает место соотношениям контекстуальным.
Если ранее два знаковых массива фильма — словесный и
изобразительный, дублируя друг друга, существовали каждый
по себе, как автономная самодостаточная структура, то в
конце 900-х годов наблюдается их взаимная координация. В
частности, вместо собственных имен начинают встречаться
местоимения, отсылающие не к другому титру, а к безымян-
ному лицу — герою фильма. Так, упоминавшийся фильм
«Патэ» -«Два портрета» строится на сквозной прономинали-
зации ^титров, ощущаемой как стиль. Вот полный список его
надписей: Она умирает // Три меаща спустя — та, которая
сменит первую // Невеста ели
ком кокетка, жених не в меру
ревнив // На месте другой // Та, которая никогда не вернется.
Происходит и другая важная перемена: параметры над-
писи начинают соотноситься с ее местом в сюжете. Появля-
ются факультативные, но достаточно устойчивые формулы
307
Глава 6. Рецептивный слой фильма
для начала фильма и реже — для финала. Выше говорилось
о том, что составители титров в 10-е годы старались избегать
простых повествовательных предложений в ремарках «от
автора». Однако в качестве первого титра фильма (в этой
позиции его никто не мог принять за прямую речь) глагольно-
предикативная конструкция привилась лучше всего,
поскольку четче всего соотносилась с фольклорным зачином.
На формульность кинематографических завязок уже в
1919 г. обратил внимание Игнатов: «Начала пьес до такой
степени однообразны, что порою кажется, будто одно и то
же перо приступило к изложению их для читателя. «Тихо и
мирно протекала жизнь дровосека и его молодой жены»
(картина «Дровосек») .. . «Счастливо и безмятежно текла
жизнь в семье зажиточного коммерсанта Бадри» («Жизнь
прожить — не поле перейти») ... «Тихо и ровно течет жизнь
Жюльетты с честным добрым работягой (русицизм!) Марэ-
ном» («Демон честолюбия») ... И до такой степени необхо-
димо указать на повседневное однообразие жизни до начала
катастрофы, что даже в пьесах, где французские имена заме-
нены русскими, и позднее в картинах, действительно снятых
в России, мы найдем аналогичные начала с необходимым для
России оттенком угрюмости. «Тихо и мирно текла жизнь
супругов Жуковых» («Месть кинематографического опера-
тора»). «Угрюмо и однообразно течет жизнь за чугунными
решетками старинного колокольного завода в одном из глу-
хих переулков Москвы» («Тайна большого колокола»)...»
[172, л. 20—21].
Финальные надписи, как правило, в формулах не нужда-
лись, кроме случаев, когда нужно было одновременно обоз-
начить конец серии и дать понять, что продолжение следует.
Так, одна из серий «Фантомаса» («Fantomas», реж. Л. Фейяд,
1913) кончается неожиданной рифмой: Mais Juve et Fandor,
out-ils trouve la mort? (пример, напоминающий рифмован-
ные концовки монологов у Шекспира). В американском кино,
где начало сеансов не фиксировалось, в середину фильма
одно время было принято «вставлять несколько повествова-
тельных титров, суммирующих все, что произошло, для тех,
кто опоздал на начало» [535, с. 191].
Приобрела вариативность и позиция надписи относительно
действия. В период около 1909 г. разговорную надпись еще не
вклеивали в «середину кадра» в попытках синхронизировать
ее с предполагаемым моментом произнесения реплики, а
помещали в конце или (реже) в начале кадра [583, с. 291].
Известно, что Д. У. Гриффит и в 1910-е годы весьма неохотно
переходил от ремарок к репликам [582, с. 160]. Действи-
тельно, если взглянуть на его фильм 1913 г. «Барышня и
мышка» («The lady and the mouse»), можно убедиться, что
I
20*
308
Часть II Межтексговые связи
лаконичные разговорные надписи — «Будьте строже», «Я го-
ворила вам, что он не заплатит», «И я отправлю на проверку
маленькую сестру» — производят впечатление скорее эпи-
графа, чем прямой речи, — они расположены перед дейст-
вием, а не «внутри» его (во всяком случае, такова копия, про-
катывавшаяся в России).
Случай с Гриффитом — исключение. В 10-е годы реплику
стали монтировать, как монтируют текст «письма», — ста-
раясь «попасть» в русло развертывающегося действия. Тут,
однако, могли возникать чисто художественные проблемы.
Титр нарушал «естественность» психологического нараста-
ния, «полноту» сцены, ценившиеся русским театром и рус-
ским кино. Характерный пример — знаменитая толстовская
фраза из «Крейцеровой сонаты». Когда В. Гардин в 1914 г.
делал экранизацию этой повести, режиссер явно побоялся,
что реплика героев от слов «Я Позднышев...» до слов «.. .я
жену" убил», потрясшая его попутчиков, будучи вклеенной в
момент произнесения, отвлечет внимание зрителя от глав-
ного — тщательно отрепетированной реакции слушателей.
В итоге титр появляется в начале сцены — зритель «преду-
прежден» о содержании реплики и «узнает» ее в должный
момент по игре артистов.
Однако к концу 10-х годов мы застаем уже иную кар-
тину — реплики строго согласуются с моментом речи. Из
девяноста реплик чардынинского фильма «Молчи, грусть,
молчи...» лишь восемнадцать вмонтированы на границе
между кадрами, причем из них только одна — на границе
между сценами, а семьдесят два титра вклиниваются в сере-
дину кадра (время на их чтение в сюжет не зачитывается).
Таким образом, разговорные надписи постепенно утратили
одну из основных функций прежнего титра — служить гра-
ницей между смысловыми блоками изобразительного текста.
Теперь для этого предназначались особые пограничные над-
писи, регулирующие время повествования — Той же
ночью..., На следующий день... и т. д.
Стремление совместить во времени высказывание и акт
высказывания14 вызвало к жизни ряд чисто семиотических
проблем. Главные из них — проблема индикаторов говорения
и проблема, связанная с голосовой «материей» речи.
Кто говорит?
Соотнести реплику с ее носителем означало соотнести эти
два элемента не только во времени, но и в пространстве.
Если в кадре находился не один персонаж, а несколько (что
для русского кино 10-х годов было едва ли не правилом),
309
Глава 6. Рецептивный слой фильма
приходилось определять, кто из них произнес фразу. Правда,
встречались случаи, когда важна сама фраза, а ее носитель
нерелевантен (например, в групповых сценах игры в карты,
при взвинчивании ставок, надписи типа 64 тысячи ... Угодно?
могли быть вклеены безадресно), но их было немного. Дело
осложнялось, если в сцене участвовал такой носитель рече-
вой деятельности, как телефон. При реставрации надписей
в фильме М. Вернера «Барышня из кафе» (1916, сц. Н. Гри-
горьев-Истомин), которую автор этих строк и группа студен-
тов ВГИК производили в 1988 г., в одной из сцен пришлось
поступиться исторической достоверностью и надпись Нет...
Нет... Соня, никуда я не поеду снабдить указанием «Голос
из трубки» — иначе происходящее так и осталось бы загад-
кой для современного зрителя. Впрочем, в американском
фильме 1914 г. «Мародеры» («The spoilers», реж. К. Кэмп-
белл) все без исключения реплики выглядят как в театраль-
ной пьесе:
GLENISTER: «Remember, Cherry we've decided to separate
ways».
Как можно судить, вопрос «Кто говорит?» был серьезной
рецептивной проблемой.
Наиболее естественным может показаться такой знак гово-
рения, как движение губ. Тут, однако, возникали свои воз-
ражения. Место титра в континууме кадра выбиралось на
последнем этапе, при монтаже, и здесь вступали в силу но-
вые соображения, на стадии съемки непредсказуемые
(выправлялся ритм сцены, вырезались длинноты, ликвидиро-
вались актерские и операторские накладки и т. д.). На этом
этапе движение губ излишне детерминировало место буду-
щей надписи. Но была и другая причина, по которой режис-
серы предпочитали, чтобы актеры во время съемок лучше мол-
чали. В 1914 г. в ходе газетного опроса кинематографистов по
проблеме «Реплика в кино» многие режиссеры ссылались на
неопределенный эстетический фактор, делающий артикуля-
цию нежелательной (П. А. Сепп: «Чрезмерные движения губ
получаются на экране очень некрасиво» [366, № 28, с. 14];
В. К. Туржанский: «Наш русский язык заставляет рот дви-
гаться очень интенсивно — на картине это движение рта
выходит ужасно» [366, № 30, с. 15]; А. А. Аркатов: «Немой
экран отчетливо воспроизводит движение челюстей и губ
артиста, могущее вызвать иногда у зрителя невольную
улыбку» [366, № 29, с. 15]).
На самом деле объяснение лежит не столь глубоко. Ред-
кий актер в 10-е годы потрудился бы выучить наизусть реп-
лику, которой зритель все равно не услышит. Когда же ре-
жиссер требовал имитации разговора, то, как вспоминал
позднее П. И. Леонтьев — сам исполнитель ряда киноролей,
310
Часть П Межтекстовые связи
«часто актеры злоупотребляли и говорили совсем не то, что
нужно, или даже бранились, а потом зрители, и в частности
глухонемые, особенно чуткие к движению губ, их разобла-
чали» [221, л. 5].
В русском кино указанное обыкновение быстро превра-
тилось в своего рода гусарство. В. Д. Ханжонкова вспоми-
нала: «Из Малого театра пришел в кино В. А. Полонский —
актер фрака, «великосветский герой», по внешнему виду и
манере держаться очень подходящий к ролям «вылощенного
аристократа». Ни творческим даром создать психологический
образ, ни даже проявлением каких-либо рефлексов или эмо-
ций Полонский не обладал. Он гордился тем, что, снимаясь
в любовных сценах, мог вместо горячих признаний и клятв
произносить самые плоские шутки, не меняя мимики лица»
[412, л. 14]. Полонский был кинокумиром гимназисток, о чем
в 1916 г. в одесском журнале не без досады писал В. Катаев:
— Боже мой, дождь пойдет ... в кино не возьмут...
Буду опять разлучена с Полонским на день. —
Я ревную. На сердце кошки скребут:
— О да, конечно! Полонский — кумир Люлин и Надин.:
— Как он изящен в метрах драм,
Как он на экране любит и страдать умеет! [181, с. 14]
В книге полу мемуарного характера «Путь актера» Михаил
Чехов вспоминал о своем опыте в русском кинематографе.
В 1913 г. он снимался в фильме «Трехсотлетие царствования
дома Романовых (1613—1913)» (сц. Е. Иванов, реж. А. Ураль-
ский и Н. Ларин). Об одной из съемок Чехов рассказывает:
«Слева около себя я увидел нашего премьера. Он был одет
священником и вел меня под руку, произнося при этом до-
вольно неприличные слова» [434, с. 78]. Зная об особенностях
репутации самого Чехова, заполнявшего приглушенным
сквернословием психологические паузы Художественного
театра (в неопубликованной части мемуаров Эйзенштейна
говорится, что на оккультных собраниях ордена Розенкрей-
церов, в котором в начале 20-х годов они оба состояли,
«Михаил Чехов совмещает фантастический прозелитизм с
кощунством»), можно не сомневаться, чем актер отвечал
своему партнеру по съемке (видимо, Н. Васильеву).
Выше говорилось о том, что у тайнописи беззвучных моно-
логов Имелись свои ценители. Среди кинематографической
публики выделялись две группы зрителей, умевших подлав-
ливать актеров, — музыканты и глухонемые. В рецензии на
фильм Е. Бауэра «Счастье вечной ночи» (1915) В. Ахрамович-
Ашмарин писал: «Что сказать о рецензируемой картине?
Г-жа Каралли на этот раз изображала слепую — изображала
условно, потому что так слепые не ходят; кроме того, она
ЭИ
Глава 6. Рецептивный слой фильма
играла на скрипке, но скрипачи не понимали движений ее
пальцев на грифе скрипки» [30, с. 16]. Что касается глухо-
немых, то они развлекались чтением по губам. Режиссер
Б. Чайковский считал, что недостойными репликами актеры
кинематографа губят впечатление от фильма: «Группы глухо-
немых, случайных посетителей театра, вдруг во время самой
драматической сцены начинали неистово хохотать к вели-
чайшему негодованию публики» [429, л. 18].
Утверждают, что в американском кино для части публики
чтение по губам развилось в своеобразный спорт, носивший
название «cuss word puzzle». Луиза Брукс вспоминала, что
не только глухонемые, но и заядлые киноманы «прекрасно
читали по губам и часто жаловались в кассу кинотеатра, что
ковбой яростно матерился, пытаясь залезть на лошадь» [499,
с. 296], а по свидетельству К. Браунлоу, такие актеры, как
Мак-Лаглен, Бири и Свансон, сознательно применяли этот
код для речевой характеристики персонажей [499, с. 297].
(Аналогичные примеры можно привести и из советских воен-
ных и историко-революционных фильмов и не только немой
эпохи — например, Б. Барнета или А. Германа.)
Таким образом, в иерархии индикаторов говорения, уста-
новившейся в кинематографе 10-х годов, движение губ не
занимало подобающего места. Подсчет, произведенный на
материале фильма «Молчи, грусть, молчи...», показывает,
что лишь чуть больше трети разговорных надписей сопровож-
дается артикуляцией, а в остальных случаях П. И. Чардынин
для обозначения носителя речи полагался на контекст диа-
лога или ситуации (25 из 90), на особое построение мизан-
сцены (23), на жестикуляцию говорения (в доверительной бе-
седе говорящий кладет руку на колено слушающего; экспан-
сивные жесты возмущения или восхищения; жест, иконически
соотнесенный с содержанием реплики, — например «цыган-
ский» жест, предваряющий надпись «Поедем к цыганам»,
и т. д. — общее число случаев — 13), на мимику слушающего
и некоторые другие условные признаки акта высказывания.
Неподвижность губ не препятствовала атрибуции надписи
лицу, на которого указывали другие индикаторы, даже в тех
случаях, когда по положению органов речи говорение затруд-
нялось (например, при поцелуе).
В силу указанных свойств целый класс надписей получал
неопределенный промежуточный статус между надписью
разговорной и надписью «от автора». Разительный пример —
характерные для русского кино лейтмотивные надписи
(А. С. Вознесенский определял их как «редкий, но изыскан-
ный прием надписи, не имеющей прямого отношения к теку-
щему содержанию сюжета <...> повторяемой автором в
остро намеченных для этого местах» [105, с. 71]. Зритель
312
Часть II Межтекстовые связи
94—9б. «Мыслительная надпись»:
Вера Холодная в фильме
«Молчи, грусть, молчи ...» (1918)
решает оставить мужа.
волен выбирать, является ли титр «Молчи, грусть, молчи...»,
который, не считая названия, появляется в фильме четыре
раза, внешним, «авторским» комментарием к действию или
прямой речью лирически настроенного персонажа. Скорее
всего, такого выбора вообще не происходит, и надпись, сог-
ласно гипотезе Б. М. Эйхенбаума, некритически поглощается
потоком внутренней речи кинозрителя.
Аналогичным образом снимается и противопоставление
прямой речи «мыслительным» надписям. Например: герой в
угнетенном состоянии, он рассеян и натыкается на мебель;
титр: Я забыл о ней... Бедная! [113, с. 75]), которые можно
с одинаковым успехом считать и внутренним, и произнесен-
ным монологом героя.
Напротив, движение губ приобретает особое значение в
случаях, когда акт высказывания налицо, но его содержание
надписью не уточняется: в большинстве случаев это просто
знак общения. Иногда важно, что персонажи разговаривают,
но неважно, о чем они говорят (в звуковом кино в таких
случаях вводится музыка — например, в любовных сценах).
Иногда содержание общения вычленяется из контекста
сюжета. Однако наиболее любопытны комбинированные
случаи, за которые ратовал, например, А. Вознесенский:
«<.. .> художественно экономнее давать реплику только
313
Глава 6. Рецептивный слой фильма
одного действующего лица, если ответ другого понятен по
структуре действия и вне слов. Или, наоборот, пропуская
вопрос одного, давать только ответ другого» [105, с. 70].
В простейшем варианте это — реплика-надпись от лица
одного персонажа и легко понятные артикуляционные знаки
со стороны другого — такие как «кто-о-о?», «хорошо!», «нет!»
и т. д. В более сложном — тонкая игра на градациях опре-
деленности текста, словесно сформулированного по линии
одного собеседника (как правило, в драматургическом отно-
шении это — служебный персонаж), а артикуляционно,
мимически, жестикуляционно, контекстуально (но не вер-
бально!) обозначенного по линии другого. Такой диалог был
диалогом не только в сюжетном плане, но и в плане
дискурсивном — между изобразительным рядом фильма
и его словесным рядом. Так, в достаточно характерном
эпизоде из «Молчи, грусть, молчи...» персонаж, чьи
реплики сообщаются с помощью надписей (титры 26, 27, 28,
вмонтированные по ходу одного долгого кадра), расположен
почти спиной к зрителю (его губы публике не видны), а его
собеседник, клоун Лорио, сидя почти анфас, говорит много
и выразительно, но текст его реплик в надписях не дается.
Легко заметить, что ни об одном из собеседников зритель
не обладает полнотой информации. Часть информации зри-
телю сообщается, тогда как другая требует усилий для ее
реконструкции: об одном известно, что он говорит, но не из-
вестно, как, о другом — известно как, но не уточняется, что.
Возникала ситуация недосказанности, которую зритель был
склонен трактовать не как недостаток художественного
построения, а как свойство самого диалога, пульсирующего
живого общения. «Едва ли нужно доказывать, что логич-
ность — самое незаметное качество живого диалога, что раз-
говорная речь не столько покоится на обоюдном понимании,
сколько на взаимном непонимании», — писал в 1917 г.
В. К. Туркин. «Тот тяжелый пояснительный и обстоятельный
характер надписей, который превалирует сейчас на экране,
далеко не способствует внутреннему, художественному
пониманию картины, слишком детально выясняя видимое
действие. Здесь тоже следовало бы больше доверять фанта-
зии зрителей. Пусть лучше чего-нибудь не поймут или пой-
мут превратно, чем будут знать все — от «а» до «ижицы», что
происходило внутри героев» [388, с. 72].
В указанном смысле надпись в фильме обладает не только
поясняющей функцией, но и силой утаивания. В отличие от
фильмов, сознательно избегавших надписей, фильмы с тит-
рами превращали словесный текст в предмет художествен-
ного выбора, что позволяло, опустив надпись, повысить
напряжение воспринимающего сознания.
314
Часть П Межтекстовые связи
Надпись и голос
До сих пор мы говорили о надписях и прямой речи в плане
взаимной координации речевого акта и ситуации общения.
Оказалось, что в немом кино такая координация потребовала
своей системы условностей.
Другая существенная проблема реплики в немом кино —
ее отношение к акустической субстанции речи. Прямая речь
в надписях лишена звучащей материи, что не означает, будто
она никак не определяет себя по отношению к последней.
Можно ли сказать, что такое отношение аналогично тем
условностям, благодаря которым читатель соглашается верить
в соотнесенность диалога с устной речью? И да, и нет. Пря-
мая речь в кино заимствовала у литературы такие сигналы,
как кавычки (в западной традиции) или вынесенное в начало
текста тире.
Впрочем, в немом кино эти знаки устной речи употребля-
лись с меньшей обязательностью. Как мы увидим, тире в
кинонадписи выполняло более важную функцию — регуля-
тора ритма чтения; можно указать на случаи, когда с тире
начиналась не реплика, а ремарка, равно как и на реплику
без всяких орфографических индикаторов прямой речи. Но
при этом в кино 10-х годов мы обнаруживаем попытки ими-
тации устной речи, идущие дальше, чем было принято в лите-
ратуре той поры. В прозе литературность прямой речи сни-
малась еще большей литературностью вводящих ее оборотов
(типа «<.. .> сказал он») и речи косвенной, в драме —
переводилась в устный регистр, где вступали в силу голос
и интонация актера. В кинематографе отсутствовали оба эти
фактора. Реплика-надпись, возникая в разгар «живого» дей-
ствия, воспринималась как чистая условность. Попав в кон-
текст устной речи, лишенная звучания реплика тем более
казалась речью письменной. Отсюда — стремление разговор-
ных надписей как можно плотнее приблизиться к «разговор-
ности».
Однако не следует считать, что авторы фильмов вводили
в титры реальные признаки семиотики устной речи — они
шли по другому пути, максимально форсируя, причем коли-
чественно, некоторые условные элементы письменного тек-
ста. Tajc,' кинонадпись в высокой степени оснащена знаками
пунктуации, указывающими на интонацию прямой речи. Из
96 титров «Молчи, грусть, молчи...» 37 содержат по одному
или несколько многоточий, которые в некинематографическом
тексте в большинстве своем следовало бы считать неумест-
ными; еще 9 надписей содержат многоточия, количество и
место которых покажется полностью произвольным. Вот одна
из них:
315
Глава 6. Рецептивный слой фильма ‘
-А ... Вы еще здЬсь?
Не бросили меня... Ахъ да,
вЬдь Вы любите меня ... *
готовы жизнь отдать ...
готовы взять меня ... *.
изъ полы въ полу ... •,
изъ полы въ полу . .
НД 0ft
Если просчитать число надписей и число многоточий в
фильме Г. Азагарова «Кровавая слава» (после 1914), полу-
чится 46 многоточий на 37 надписей (см. Приложение 3).
Подобная пунктуация — свойство не одной лишь мело-
драмы, но и любого жанра кино. В 1914 г. А. Н. Бенуа с до-
садой отметил, что на русской комедии «всего более смеялись
пошлым остротам экранов (т. е. надписей. — Ю. Ц.), их вос-
клицательным знакам и многоточиям» [55, с. 21].
Многоточие встречается не только в надписях-репликах,
но и в надписях-ремарках. Последние снабжаются этим зна-
ком препинания в тех случаях, когда автор титра предпочи-
тает свести на нет нижнюю границу надписи, обозначить
«незаметный» переход от текста к кадру, например: «На сле-
дующий день...» Такая надпись, как правило, требует не
только плавного перерастания в следующий кадр, но, уже в
силу сообщаемого ею, и отмежевания от предшествующего
кадра. Для этого существует знак паузы, в немом кино функ-
ционально противоположный многоточию, — тире. В цитиро-
вавшейся выше лекции С. Д. Васильев, опытный перемонта-
жер и переводчик кинонадписей, учил: «Вы, вероятно,
никогда не видели на экране ни двоеточия, ни точки с запя-
той. Как это ни странно, ни двоеточие, ни точка с запятой
на экране не работают, не производят того эффекта, как на
бумаге. Пришлось провести много экспериментов, чтобы
найти заменяющее точку с запятой длинное тире. Точка с
запятой — это пауза, но пауза, когда зритель читает ряд,
для него необязательная, а если вы отделяете чертой, то зри-
телю это дает восприятие паузы» [90, с. 253].
Уже в 10-е годы ремарка могла вводиться знаком паузы:
— На следующий день... а в особых случаях и разделитель-
ным знаком: — А через год... Легко понять, что для кино-
зрителя такая паузообразующая функция тире не теряла
связи с привычной функцией тире как индикатора прямой
речи, а многоточие в конце воспринималось не только как
316
Часть II Межтекстовые связи
указание на разомкнутость надписи, ее готовность найти свое
продолжение в изображении, но и как знак интонации. Дей-
ствительно, на определенной стадии эволюции реплика и
ремарка начинают восприниматься нерасчлененно, о чем
в той же лекции говорил Васильев: «Момент соединения зри-
тельского восприятия с чтением чрезвычайно важный.
Надпись в кино должна не столько читаться, сколько произ-
носиться зрителем, и надпись в кино воспринимается не как
фраза в книге. В книге вы осмысляете мысль автора, не вда-
ваясь в момент произношения, в кино же в зависимости от
материала, в который надпись попадает, вы начинаете инто-
нировать фразу, произносить ее с определенным оттенком»
[90, с. 253].
Возвращаясь к прямой 'речи, следует указать и на обилие
в кинорепликах вопросительных и восклицательных знаков,
часто совместно и в комбинации с многоточием и тире. При-
ведем характерный титр из неустановленного фильма
10-х годов:
-Милый... ты любишь!?. Скажи, и я
готова быть твоей женой!..
В 1914 г. в стихотворении «Кинематограф» С. Бобров,
нагнетая интонационные знаки препинания, попытался спа-
родировать беззвучные восклицания кинотитров:
И вот (не может быть! Ужели!
Что вы, что вы! Помилуйте! — ):
Скрюченными ногами
Пробегает изречений
Вялый поток [71, с. 31].
Интонационная загруженность реплик, видимо, компенси-
ровала отсутствующий голос, предлагая его графический
эквивалент. Позднее набор таких эквивалентов расширился:
в 20-е годы Р. Гармс утверждал, что возникающая из точки
стремительно приближающаяся надпись выглядит как «без-
звучный крик» [117, с. 119]. Предельный случай интонации
без голоса — интонационный указатель без текста вообще,
например:? или! Такие титры в кино встречались: в фильме
Л. Фейяда «Жюв и Фандор» («Juve et Fandor», одна из серий
«Фантомаса», 1913) надпись ? возникала в момент наиболь-
шего напряжения интриги15, а по поводу уже известного нам
••
317
Глава 6. Рецептивный слой фильма
заметил: «Истинно кинематографическое название, рассчитан-
ное на чтение, а не на произношение» [509, с. 289].
Однако такую надпись, как это ни заманчиво, нельзя
считать чисто кинематографической креатурой. Докинемато-
графическая литература богата примерами знака «?» как
самостоятельной реплики, отсылающей не то к восклицанию,
не то к мимике одного из участников диалога. Р. Д. Тименчик
напомнил об эпизоде, имевшем место в 1914 г. на заседании
цеха поэтов и зафиксированном, помимо других свидетельств,
в письме Б. М. Эйхенбаума к Л. Я. Гуревич: «Тягостное впе-
чатление произвел на всех Хлебников. <...> Когда пришел
его черед, он беззвучным голосом, точно загипнотизирован-
ный, заявил, что русский футуризм после отрицания смысла
и звуков пришел к выводу, что возможно стихотворение из
одних знаков препинания, и затем, секунду помолчав, продик-
товал: ? — ! — : ... Его попросили повторить — он сбился и
назвал в другом порядке» [375, с. 61].
Параллель к этому выступлению (а также к высказанному
по его поводу замечанию О. Мандельштама: «А мы ничего не
слышали!» [375, с. 62]) находим в черновом наброске Хлеб-
никова к манифесту «Буква как буква»: «Ибо умя (делающее
капли чернил именем неглупым) ибо умя восклицательного
знака или двоеточия не имеет звучащей шкуры: имеет зряву
и не имеет слухавы» [204, л. 3]. Если бы потребовалось дать
определение надписи в кино, можно было бы воспользоваться
этим выражением Хлебникова и сказать: кинонадпись —-
промежуточный знак между письменным и устным, или —
устная речь, лишенная «звучащей шкуры». Действительно,
считалось, что правильно помещенный и составленный титр,
по точной формулировке И. Лазарева, предложенной в
1916 г., «всегда как бы «срывается» с губ действующего лица,
и зритель мгновенно удовлетворяется заменой или «подменой»
слухового — зрительным» [216, с. 2].
Если эпизод с читкой Хлебникова едва ли правомерно
возводить непосредственно к киновпечатлениям поэта, то
ничто не мешает вслед за Матхаузером, И. П. Смирновым и
другими авторами [342, с. 112] настаивать на воздействии
кинотитров на поэму В. Маяковского «Облако в штанах».
Здесь мало упомянуть о простом «влиянии» кинематографа
на поэзию, имея в виду интерференцию художественных
языков, протекающую вне порога авторского сознания.
Маяковский сам говорил актеру и чтецу В. Гайдарову о
своей поэме «Война и мир»: «Когда будете работать над тек-
стом, помните о кино <.. .> Как там мелькают кадры, так
и в моей поэме — куски. Я перехожу от одного куска к дру-
гому» [114, с. 89]. Однако, хотя при чтении ранних поэм
Маяковского и возникает устойчивое ощущение «кинемато-
318
Часть П Межтекстовые связи
графичности» стихотворного текста, напрасно искать в нем
описанного Гайдаровым эффекта «смены кадров». По-види-
мому, В. Гайдаров в своих воспоминаниях невольно проеци-
рует позднейший опыт развития киноязыка на беседу, имев-
шую место в 1916 г. — период, когда динамическая формула
кинорассказа еще не сосредоточивалась на монтаже.
Смысл приведенного указания Маяковского можно вос-
становить по месту поэмы, к которому оно относилось. В
качестве примера «кинематографичное™» поэт продеклами-
ровал следующую строфу:
Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом |249, т. 1, с. 173].
Как вспоминает Гайдаров, Маяковский читал ему этот
кусок с выделением контраста между первым и вторым
двустишьями — в первом подчеркивались «образы величе-
ственные, необычные и потому грандиозные» [114, с. 87], а
второй произносился «лаконично, просто, скупо до предела:
Заволокло
газом» {114, с 87].
В языке кино середины 10-х годов, избегавшем контраст-
ного соположения кадров, такой резкий переход был возмо-
жен только в одном случае — когда кадр сменялся надписью.
Не вызывает сомнений, что Маяковский пытался воспроиз-
вести голосом эффект столкновения двух разнородных зна-
ковых фактур — киноизображения и кинотитра. Парадок-
сальный на первый взгляд факт воздействия немого кинема-
тографа на манеру произношения стихов при ближайшем
рассмотрении не покажется странным. Именно отсутствие у
кинонадписи голосового измерения при том, что реплика-титр
на наших глазах «срывается с губ» персонажа, открывало
возможность для той неповторимой «минус-интонации»,
которой, по воспоминаниям современников, виртуозно вла-
дел Маяковский. По всей вероятности, оборванноеть словес-
ного рисунка, а также предельная эмоциональная нагружен-
ность беззвучных слов надписи в моменты кульминацион-
ного накала «страстей» кино драмы в сознании эпохи соотне-
слись с приемом пустой каденции, характерным для моментов
наивысшего потрясения в поэме «Облако в штанах»:
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
319
Глава 6. Рецептивный слой фильма
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен? [249, т. 1, С. 102—103].
Приемом внезапно снятой речевой выразительности Мая-
ковский пользовался и при чтении названной поэмы. Как
вспоминала Л. Ю. Брик, поэт, приступая к одной из таких
читок в 1915 г., «обвел глазами комнату, как огромную ауди-
торию, прочел пролог и спросил — не стихами, прозой —
негромким, с тех пор незабываемым, голосом: — Вы думаете,
это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Мы подняли
головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда»
[247, с. 13].
Можно предположить, что для тех слушателей, которые
ощущали «кинематографичность» декламационной манеры
Маяковского, неожиданные переходы от полнозвучного чте-
ния к фрагментам текста с отмененной ораторской интонацией
были акустическими эквивалентами кинотитра. Отказ от го-
лосовой инстанции речи одними слушателями опознавался как
аналог прозаических вкраплений в стихотворный текст, у дру-
гих ассоциировался с графическими перебоями (надписями)
в визуальном потоке фильма. Именно к последним, должно
быть, принадлежал критик, обронивший в 1923 г., что чтение
вслух «Облака в штанах» может вполне заменить посещение
кинотеатра, поскольку поэма «наглядно воспроизводит если
не стиль, то содержание обычных кинонадписей» [129, с. 13].
Речь шла именно о чтении вслух, поскольку типографский
знак, закрепленный на бумаге, уже значительно отдаленнее
напоминает кинотитр. Сама способность надписи внезапно
вспыхнуть и исчезнуть, не оставив следа, подтачивает статус
письменной речи, сложившейся как гарантия сохранности
текста. Несомненно, если бы существовала шкала, регистри-
рующая градации перехода от устной речи к письменной, то
кинотитр на этой шкале располагался бы на самой границе
этого перехода. Воспринимающее сознание невольно регистри-
рует такую двойственность. По какому бы разряду ни прохо-
дила надпись, она стремится ускользнуть в противоположный.
Если судить о титрах как о письменной речи, видишь, что
признаки письменности здесь сведены к призрачному мини-
муму; если воспринимать его как устную речь, — поражают,
как поразили раннего Маяковского, бесстрастие, невыражен-
ность голосового регистра.
Но и здесь «пустая клетка» знаковой матрицы не обяза-
тельно остается незаполненной. Во многих программках-либ-
ретто, как правило, снабжавшихся кратким пересказом про-
320
Часть П Межтекстовые связи
исходящего на экране, нередко встречается указание на
голосовые особенности реплик. Приведем «описание картины»
из программки, распространявшейся в петербургском кино-
театре «Аквариум» (Невский, 80) 26—28 октября 1912 г., где
демонстрировался французский фильм с русским прокатным
названием «О, женщины! ..», подчеркнув в тексте слова, чьи
значения лежат в области звучащей действительности: ««Танец
апашей! Танец апашей!» — закричали все. И под прихлопы-
вания и лязг о стекло пара пустилась в дикую пляску. Вдруг
отвратительное ругательство прорезало воздух, и, расталкивая
всех, к девушке прыгнул какой-то апаш, и звонкая пощечина
заставила девушку со стоном опрокинуться. Как один человек,
яростно метнулась толпа и застыла через миг: апаш, взметнув
над головой тяжелым табуретом, хрипло крикнул: «Не под-
ходи! .. Размозжу»! ..» (Коллекция RKM).
Под пером автора программки слова «звонкий», «хрипло»,
«со стоном» возникали с той же неизбежностью, с какой в
поэзии глухонемых возникают указания на «гром», «птичье
пение» или строчки типа «Jaime ta voix touchante» [303, с. 96—
97]. И в том, и в другом случае отсутствие эмпирического
знания не заставляет избегать понятий, соотнесенных со зву-
ковой реальностью, а, напротив, позволяет широко оперировать
ими как свободными элементами художественного языка.
Представляется уместным в завершение этой главы при-
вести отрывок из социологического этюда «Глухонемые у «Ве-
ликого немого»», напечатанного в 1928 г. в московской газете
«Кино»: «Вся жизнь для глухонемых — кинематограф. Все
окружающее для глухих — кинолента, бесшумно скользящая
перед их глазами <... > Они воспринимают форму острее и
нервнее обычного зрителя. Они привыкли понимать без слов,
и надписи не нужны глухонемому в кино. Ведь в жизни нет
надписей.
Глухонемой по-своему «говорит» товарищу:
— Я видел, как шумно было на этой ярмарке, как весело
кружилась карусель! Хорошая фильма!
Обмен мнений после киносеанса — оживленнейший. Его
надо заснять» [79, с. 3].
Приведенное наблюдение дает нам повод оглянуться на
проблематику Части II в целом. Замечание Шпета о вербали-
зации * как преимущественной форме интерсемиотического
перевода вполне подтверждается сведениями о рецепции
фильма. Во всяком случае, лейтмотив того слоя рецепции,
в котором мы угадываем отпечаток развивающегося кино-
языка, — тема «слова». Подобно тому как рецептивной мета-
форой кинотеатра в русской кинолитературе сделался образ
сидящей в зрительном зале проститутки [см. с. 48—49],
«великий немой», фигура, родившаяся из-за случайного калам-
321
Глава 6. Рецептивный слон фильма
/
бура [см. с. 25], закрепилась в России на роли общеязыковой
метафоры кинофильма. Первой мыслью всякого, кто на ми-
нуту задумывался о перспективах кинематографа, было обра-
ботать для экрана тургеневскую «Муму» (идея, за которую
русский кинематограф благоразумно не ухватился).
Возможно, это характерно главным образом для кинема-
тографа в условиях России, но полноценность нового зрелища
ставилась в прямую зависимость от овладения речью. Фигура
А. С. Вознесенского, пытавшегося доказать обратное, в исто-
рии русского кино довольно одинока. Для последнего более
характерна фигура мальчика, ожидающего, что парижанин
из фильма Люмьера вот-вот заговорит, фигура Льва Толстого,
требующего, чтобы был чтец, «а без текста невозможно»,
фигура Павла Орленева, пытающегося поломать перегородку
между театром и кино, чтобы оставить за собой право на
монологи. «Киноговорящие картины», в которых актер, спря-
тавшись за экраном, озвучивал самого себя, — жанр, не зна-
комый ни одной другой национальной кинематографии. Точно
так же никакая кинематография кроме русской не знает
такого количества «разговорных надписей». Вербализация
экранного события — так можно определить один из импера-
тивов русской кинокультуры.
При всем отталкивании, которое наблюдалось со стороны
советского кинематографа 1920-х годов по отношению к кине-
матографии дореволюционной, в некоторых отношениях он,
сам того не ведая, продолжал заданную ею траекторию. Речь
идет не только о новых попытках, теперь уже в рамках эсте-
тики авангарда, испробовать жанр экранно-сценических гиб-
ридов («Железная пята» Гардина, «Мудрец» Эйзенштейна,
«Женитьба» Козинцева и Трауберга), но и об эксперименте,
менее очевидным образом связанном с глубинной рецептив-
ной установкой русского кино на активизацию речи. Это —
программа «интеллектуального кино», центральная тема для
проблематики 20-х годов. Именно этой программы, ее рецеп-
тивных установок и рецептивных последствий нам и пред-
стоит коснуться в Части III данной книги.
21 102325
Интеллектуальный монтаж
Рецепция как рас
II
ифровка
Поэтика неоднородного текста
Чаешь III
' Текстуальный'
анализ:
рецептивная
установка фильма
Тлаба 1
Интеллектуальный монтаж:
„Октябрь"
„Рецептивный текст"
и интеллектуальное кино
Рассуждая об «опережающей рецепции» (сложность воспри-
нимающего устройства превышает сложность передающего
устройства — фильма) или о рецепции «диагностирующей» (вос-
принимающее устройство, отрегулированное с учетом куль-
турно-семиотической нормы, считывает в первую очередь ано-
малии текста), мы обходили вниманием то обстоятельство, что
каким бы примитивным или аномальным ни был тот или
иной текст, в его замысле наверняка присутствовал опреде-
ленный расчет. Фильм программирует эффект, который он
должен произвести. Минутные картины Люмьера похожи друг
на друга не потому, что операторам фирмы не хватало фан-
тазии, а потому, что определенный угол съемки относительно
движущегося объекта (на объектив по оптической оси) вы-
зывал в публике наиболее живой отклик. Можно сказать, что
эти картины обладали рецептивной установкой.
«Теория кино» — следствие озабоченности правильностью
или эффективностью рецептивной установки текста. В России
теоретические статьи о кино начали с большей или меньшей
систематичностью появляться в 1915—1916 гг., когда возник
журнал «Пегас» — издание, ориентированное на публичное
обсуждение творческих вопросов кинематографии. Споради-
чески теоретические выступления по поводу кинематографа
встречались и в более раннюю пору.
В истории русской киномысли «теоретическое время» —
20-е годы. Если раньше теория занималась спорными вопро-
325
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
сами взаимоотношений между киноповествованием и куль-
турно-семиотической нормой (например: когда уместно, а когда
излишне давать актера первым планом; нужны ли надписи
в кино, и если да, то какие — разговорные или объяснитель-
ные; что ближе природе русского зрителя — кинодрама или
киноповесть?), то отныне право на существование приобрели
альтернативные модели рецептивной установки, подчас ничего
общего ни с наличным кинематографом, ни с культурно-семио-
тической нормой не имевшие.
Это было связано с трансформацией в 20-е годы образа
«кинематографического зрителя», носившей в основном харак-
тер потери единого ориентира. Дореволюционному кинемато-
графу и дореволюционной киномысли удалось создать отно-
сительно устойчивый образ «своего» реципиента, усредненного
русского обывателя, «культурного зрителя». В 20-е годы на
смену этой фигуре пришло еще более расплывчатое понятие —
массовый зритель.
Будь то рецептивная установка текста или исходная пред-
посылка теории, последней инстанцией в советском кино 20-х
годов всегда оставался массовый зритель. Хотя некоторые
общие представления о том, что представляет собой эта фи-
гура, кинематографисты тех лет и разделяли1, каждый из них
был волен по-своему моделировать этого гипотетического ре-
ципиента. Образ зрителя в 20-е годы перестал быть нормой
(культурно-семиотическая норма — понятие сугубо «буржу-
азное») или критерием успеха и из унифицирующего фактора
превратился в объект произвольного постулирования.
Таким путем образ реципиента сделался компонентом тек-
ста, или, точнее, компонентом той сдвоенной системы тео-
рия—фильм, в терминах которой только и можно с максималь-
ной адекватностью описать творчество левых кинематогра-
фистов 20-х годов, таких как Д. Вертов или С. Эйзенштейн.
В этой части нашего исследования нам придется обратиться
к методу текстуального анализа (т. е. пристального покадро-
вого прочтения) некоторых эпизодов из фильмов 20-х годов —
только так можно составить достаточно ясное представление
о рецептивной установке (здесь будет правильнее сказать —
рецептивной программе) таких сложно построенных монтаж-
ных текстов, какими являются «Человек с киноаппаратом»
Дзиги Вертова, «Октябрь» Сергея Эйзенштейна или «Обломок
империи» Фридриха Эрмлера.
Выбор этих, а не каких-либо других фильмов 20-х годов
обусловлен тем, что все три текста принадлежат к поэтике
«интеллектуального кино» — не в том узко программном
смысле, который придавал этому термину его изобретатель
Эйзенштейн, а в значении целого направления. В рамках этого
направления рецептивная установка текста сориентирована
326
Часть Ш Текстуальный анализ
по модели пиктографии и мыслится в широкой футурологиче-
ской перспективе претворения в жизнь идеи искусственного
общечеловеческого языка.
Мысль о кинематографе как носителе универсального «фи-
лософского языка», повлиявшая в 20-х годах на ряд киноре-
жиссеров и отразившаяся на их творчестве, получила хожде-
ние в качестве эстетической утопии значительно раньше.
Считается, что в кинолитературе первым уподоблением кине-
матографа идеографическому письму (как правило, это срав-
нение сопутствует ранним прожектам интеллектуального кино)
мы обязаны статье В. Перро, написанной в 1919 г. [558, с. 204],
однако на самом деле указанная идея была не нова уже к
середине 10-х годов: в 1915 г. сравнению кино с египетскими
иероглифами посвящает главу своей книги В. Линдсей, а еще
до 1905 г. американский востоковед Э. Феноллоза замечает,
что идеографический текст «обладает свойством походить на
непрерывно движущуюся картинку» [523, с. 363].
В России мысль о кинематографе как факторе преодоления
языковой разобщенности народов оформилась к началу
10-х годов. Так, в докладе Российскому фотографическому
обществу 15 ноября 1907 г. И. Д. Перепелкин подчеркнул роль
движущихся картин как «средства распространения идей и
понятий» среди народов, «говорящих на всех языках» [289,
с. 30], а в 1911 г. (т. е. одновременно с аналогичными высказы-
ваниями Р. Канудо) в журнале «Сине-Фоно» появилась статья,
в которой речь шла «о мировом значении единого языка» для
«великого слияния народов», причем «не эсперанто <...>, а
кинематограф первый сделает попытку для такого слияния»
[176, с. 15—16]. К концу 1911 г. выходит известная статья
Л. Андреева, где кино провозглашается «гением интернацио-
нального общения» [20, с. 316]. Статья становится предметом
широкого обсуждения и выносит идею нового философского
языка за пределы кинематографической прессы. К 1914 г. эта
мысль утрачивает прелесть новизны, а эпитет «мировой» ста-
новится постоянным в разнообразных попытках определения
специфики кино. В «Кине-журнале» печатаются статья «Кине-
матограф как предвозвестник мировых идей» (принадлежа-
щая, по мнению Р. Дуганова и В. Радзишевского, перу В. Мая-
ковского [248, с. 163]) и статья Г. Юга «Кинематограф как
фактор мирового объединения» [466, с. 38—39].
В тОм же 1914 г. привлекла всеобщее внимание статья
С. Радаева «Мировой язык» (в ней автор настаивает на много-
обещающем сходстве кинематографа и иероглифов, поскольку
и то и другое является «рисунком мысли»), о чем свидетель-
ствует небывалое число ее перепечаток — в «Современном
слове», «Речи», «Живом экране», «Нашей неделе» и «Вестнике
кинематографии». В 1916 г. мысль о кино как всеобщем языке
327
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
получает глубокую теоретическую разработку в книге Я. Линц-
баха «Принципы философского языка».
В 1918 г. глава из книги Линцбаха была напечатана в жур-
нале «Мир экрана», после чего начинается миграция идеи
всеобщего языка из теории в практику кинематографии. Этот
процесс подкрепляется печатными призывами осуществить фи-
лологическую модель Линцбаха на деле «техническим путем»
(сборник «Кинематограф» 1919 г., статья И. Соколова «Скри-
жаль века» в первом номере журнала «Кинофот» 1922 г.
и т. д.). Частично указанная тенденция совпала с нуждами на-
родного образования и послужила созданию «живых азбук»2 и
«живых арифметик» [184, с. 2], а в дальнейшем и формирова-
нию эстетики научно-популярного кино.
Представляется необходимым указать на парадокс, суще-
ственный для понимания идеи интеллектуального кино. Если,
согласно теории, в кино видели универсальное средство для
преодоления «вавилонского кризиса», то практика, интеллек-
туальный монтаж, как бы вопреки этой программе, в большин-
стве случаев основывалась на обыгрывании наиболее интим-
ных моментов естественного языка •— каламбуров, игры слов,
цитат, зашифрованных в цепочке киноизображений, что, ко-
нечно, не только не способствует межъязыковому общению,
но затрудняет понимание текста даже в пределах одного
языка.
Это обстоятельство сближало доктрину интеллектуального
кино с манифестами сторонников заумного языка в поэзии:
в стремлении создать язык, понятный всем народам, изобре-
тались вокабулы, вовсе лишенные смысла. А. Крученых в
1925 г. подметил и использовал это сходство в одном из своих
манифестов-исследований.
«Кино-конструкция фразы:
когда в предложении ненужные (конструктивно) слова вы-
брошены или грамматическое построение сломано во имя
большей быстроты,— образы скачут, ум не успевает за фан-
тазией и действием, — кино-образ. Сдвиговая конструкция
слова — когда выброшены (с выжатой серединой) или пере-
мещены некоторые буквы, — кино-слово, заумный язык.
Кино-зау-язык стремится быть интернациональным, как
сам кино—театр, — не менее! (Ведь и в фильмах, и во внеш-
ности актеров национальные черты сохраняются, но их как-то
не замечают.) Заумный язык может служить не только для
самых общих эмоций — страх, гнев, ревность, но может идти
параллельно с игрой актера на всем протяжении фильмы —
зауязык будет эмоциональным аккомпанементом (на первых
порах может быть такой театр был бы доступным только
для немногих). В некоторых местах, типично кинематографи-
328
Часть Ш Текстуальный анализ
ческих, словесный параллелизм делается технически невоз-
можным — слово не успевает за фильмой, тут возможен
только заумный язык ...
Кино — интернационален, зауязык подобен ему по своей
быстроте и — в большинстве случаев — по эмоционально-
международному значению...
И когда великий немой заговорит, его речь — шум машин,
визг и лязг железа — естественно будет заумная!» [203,
с. 9—15].
Финальный виток концепции интеллектуального кино —
моделирование кинотекста по принципу внутренней речи. По-
стулируется существование особого «рецептивного текста» —
внутренней речи кинозрителя. Исходя из такой презумпции
теория делает следующий шаг — постулируется эквивалент-
ность между «идеальным» кинотекстом и текстом рецептив-
ным. Предполагается, что если в конечном итоге искусство
есть воздействие на сознание, то наиболее эффективный метод
такого воздействия — предвосхищение рецептивного текста и
воспроизведение его гипотетической структуры в тексте-
фильме. Рецептивная установка текста мыслилась как прямая
коммутация «текст—мозг»: «<...> монтажная форма как
структура есть реконструкция законов мышленного хода»
[455, т. 2, с. 79].
Толчком к моделированию кинорецепции по принципу
внутренней речи, видимо, послужила работа А. Л. Погодина
«Вопросы теории и психологии творчества», в особенности ее
четвертый том — «Язык как творчество» (1913). Уже в начале
1914 г. идею внутренней речи подхватил и, ссылаясь на Пого-
дина («<...> профессор Погодин <.. .> убедительно дока-
зывает, что все мы чувствуем и мыслим словами даже тогда,
когда и не говорим вслух»), попытался приспособить к кине-
матографу режиссер Б. Глаголин: «<...> «иллюзион» стал
показывать драматическую игру на определенный сюжет, но
без определенного и обязательного для всех текста <.. >
предоставил публике говорить в тишине своих собственных
переживаний те слова, какие кому приходят на душу <... >
Эдисон вернул публике право на ту интимную, внутреннюю
речь, волнения которой будят в каждом из нас самосознание,
совесть, радости, горе» [125, с. 3].
В 1926-г. к этой идее вернулся Б. Эйхенбаум («Состояние
зрителя'близко к созерцанию — он смотрит и угадывает. Ви-
дения, появляющиеся на экране, возбуждают его внутреннюю
речь — и этот интимный процесс поглощает все его внимание»
[459, с. 10]), положивший ее в основу концепции киностили-
стики: «Одна из главных забот режиссера — сделать так,
чтобы кадр «дошел» до зрителя, т. е. чтобы он угадал смысл
эпизода, или, иначе говоря, перевел бы его на язык своей
329
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
внутренней речи; эта речь входит, таким образом, в расчет
при самом построении фильмы» [460, с. 24].
К концу 20-х годов в лефовской критике можно было
встретить более подробную спецификацию внутренней речи
кинозрителя. Такова рецензия В. Перцова на «Звенигору»
А. Довженко: «Детская речь лишена логических связок, услов-
ных стилистических переходов, она предметна, конкретна и
эмоционально насыщена, как и речь дикаря. Исследователи
определяют мышление ребенка как вне синтаксическую серию
зрительных образов, которые постепенно заменяются словами.
Кинематографическое восприятие таит в себе нечто общее с
этим свойством первобытного и детского мышления» [292,
с. 46].
Как видим, эти суждения близко примыкают к эйзенштей-
новским идеям интеллектуального монтажа, внутренней речи,
пралогического «мышления кадрами». Известно, что если
принцип интеллектуального монтажа Эйзенштейн успел опро-
бовать в фильме «Октябрь», то принцип монтажа как «сколка»
с внутренней речи практически остановился на стадии за-
мысла, но замысла конкретного, не на уровне общих сообра-
жений, а на уровне сценарной разработки, изложенной Эйзен-
штейном в 1932 г. в статье «Одолжайтесь!». Это — изображе-
ние «мышленного хода» Клайда, героя «Американской траге-
дии» Т. Драйзера, над сценарием которой Эйзенштейн работал
в «Парамаунте».
Мы вернемся к этой сценарной разработке несколько
позже, после того как приведем фрагмент из неопубликован-
ного (и, безусловно, Эйзенштейну неизвестного) проекта дру-
гого автора — И. Н. Игнатова. Не будучи режиссером (с кине-
матографом он был связан в первую очередь как усердный
кинозритель и внимательный наблюдатель), Игнатов уже в
1919 г. задумывался над тем, как превратить кино в искусство.
Не убоясь пространной цитаты3, приведем его предсказания
на этот счет:
«Представьте себе, что вы хотите инсценировать в обыкновенном театре
«Преступление и наказание». Вы берете чуть не целиком безмолвные моно-
’’ логи Раскольникова; вы заставляете его повторять разговоры с Порфирием
почти что «в том размере, как это сделано в романе; вы не забываете беседы
с Заметовым о фальшивых деньгах и свидания с Свидригайловым, — и перед
зрителем более или менее ясно предстает душевное состояние Раскольни-
кова после убийства. Какими средствами обладает кинематограф для полу-
чения того же результата? Если, не имея в своем распоряжении слова, он
составит сценарий, руководствуясь только указаниями романа, то он
создаст обычную пошлую уголовную пьесу, может быть, несколько менее
интересную, чем большинство угоолвных кинодрам. Во всяком случае, глу-
бины душевного анализа тут не будет и смотреть интеллигентному зрителю
здесь будет нечего.
Чтобы Раскольников предстал перед зрителем экрана со всем его душев-
ном адом, должна быть написана совсем новая пьеса, должен быть создан
сценарий, где от Достоевского осталось бы только впечатление, залегшее в
330
Часть Ш Текстуальный анализ
душе кинематографического автора. Это должен быть как бы стихотворный
перевод знаменитой поэмы в стихах, — перевод, где творчества, может
быть, не меньше, чем в оригинале. Это действительно будет перевод на
совершенно новый язык — с языка слов и разговоров.
И для этого кинематограф обладает достаточными средствами. Внутрен-
нее состояние человека внешним образом проявляется в словах, но там,
внутри, слова не играют главной роли. Человек, в душе своей, живет образами,
быстро сменяемыми, часто случайными, налетающими и расплывающимися.
И чем взволнованнее душа, тем быстрее смена картин, тем причудливее
их сплетения, тем более неожиданно вторгается один образ в ряд других,
тем непостижимее ассоциация картин и связь сменяющихся видений.
В средствах ли кинематографа изображение душевного состояния при
помощи такой смены образов? Конечно, вполне. Он обладает богато разви-
той техникой для демонстрации быстрых перемен, затуманенных картин
или совершенно ясных видений. Он может показать преследующие человека
призраки и в отдаленном, и в близком расстоянии, и в малом, и в большом
виде, и в ясных, и в смутных очертаниях. Надо только, чтобы новый автор
сумел придать смене картин последовательность и яркость, действительно
характеризующие душевное состояние Раскольникова, Порфирия, Заметова
И других.
Может быть, характеристикой одинокого душевного состояния не ограни-
чиваются те пределы, которые открываются перед будущим анализом кине-
матографа. Автор сценария, может быть, найдет средство заменить разговор
между Раскольниковым и Порфирием изображением того роя картин, жела-
ний, опасений, эмоций, который в данный момент характеризует внутренний
мир и допрашиваемого, и следователя. Не надо надписей, смешных, нелепых,
расхолаживающих зрителя и доказывающих только бессилие автора восполь-
зоваться средствами кинематографа. Пусть движутся только картины, сме-
няют друг друга только образы; пусть и тайный сознательный мир, и под-
сознательный предстанут перед зрителем с такой же ясностью, с какой
представляются ему внешние движения персонажей. Пусть как лейтмотив,
господствует над душой Раскольникова тот гнет, который создан совершен-
ным убийством, пусть он становится мучительным и тяжелым, когда Рас-
кольников говорит с матерью или сестрой, и затушевывается, когда жажда
самосохранения и злоба господствуют над всем во втором разговоре его с
Порфирием.
Вы скажете, что это трудно. О да, это очень трудно. Вы предположите,
может быть, что это будет скучно. О да, это будет очень скучно, если за
дело возьмемся мы с вами. Но ведь такой же скучный результат несомненно
ждал бы нас, если бы мы вздумали написать роман, где темой было бы
убийство старухи-процентщицы бывшим студентом Раскольниковым. Однако
роман взялся писать Достоевский и, как видите, дело обошлось без скуки.
Для нового кинематографического творчества нужен талант и нужна большая
работа. Надо интуитивно постигнуть и надо изучить подсознательный мир
душевных движении; надо владеть художественным даром изображения
эмоциональных вдохновений; надо создать совершенно новый изобразитель-
ный жанр. Конечно, такое «Преступление и наказание» на экране не будет
повторением Достоевского; это будет совершенно новая пьеса, где Достоев-
скому останется роль вдохновителя и роль poteau indicateur, роль вехи,
показывающей направление, чтобы новый автор не мог сбиться с пути.
О да, это очень трудно. Но это будет не скучно, а в высокой степени
интересно. Душевный мир человека, вскрытый великим художником слова,
предстанет перед зрителем в совершенно новых очертаниях, недоступных
прежним изобразительным средствам, недоступных театру и, может быть,
даже недостижимых в такой яркой убедительности даже для повести или
романа» [172, л. 103—106].
Как видим, Игнатов предположил, что экранизация романа
должна сводиться к кинематографической «регистрации» ре-
331
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
цептивного текста, якобы возникающего у читателя. Кинемато-
графист, полагал он, создает «эталонный» рецептивный текст,
который в готовом виде индуцируется в сознание зрителя.
Такая модель делает кинематограф похожим на научно-фан-
тастическое «сенсорное» искусство. Игнатовская модель экра-
низации напоминает более позднюю формулу Эйхенбаума,
определившего экранизацию так: «<...> как если бы, про-
читав роман, вы его увидели во сне» [459, с. 10].
Вместе с тем «рецепт» Игнатова напоминает эйзенштей-
новский замысел экранизации романа Драйзера «Американ-
ская трагедия»: «Что это были за чудные наброски монтажных
листов!
Как мысль, они то шли зрительными образами, со звуком,
синхронным и асинхронным,
то как звучания, бесформенные или звукообразные: пред-
метно-изобразительными звуками...
то вдруг чеканкой интеллектуально формулируемых слов —
«интеллектуально» и бесстрастно так и произносимых, с чер-
ной пленкой, бегущей безобразной зрительности ...
то страстной бессвязной речью, одними существительными
или одними глаголами; то междометиями, с зигзагами беспред-
метных фигур, синхронно мчащихся с ними ...
то бежали зрительные образы при полной тишине,
то включались полифонией звуки,
то полифонией образы.
То и первое и второе вместе.
То вклиниваясь во внешний ход действия, то вклинивая
элементы внешнего действия в себя» [455, т. 2, с. 78].
Правда, у Эйзенштейна речь идет о внутреннем монологе
героя, а у Игнатова — о внутренней речи читателя / режис-
сера, однако, как нам предстоит убедиться в последующих
главах, сюжетная мотивировка не видоизменяет принципа —
рецептивной установки текста.
Метод анализа
Попытаемся проанализировать несколько эпизодов из «Ок-
тября» Эйзенштейна. В этом фильме нас будет интересовать
процесс порождения текста, текстуальное претворение идеи
интеллектуального кино.
Историю создания текста можно описать, если в распоря-
жении исследователя оказывается вариант, хронологически
предшествующий основному, например черновик или набросок.
В киноведении таким документом обычно является сценарий.
Хотя в истории кино нередки случаи, когда фильм переделы-
вался по нескольку раз, следов от первых вариантов, как
332
Часть III Текстуальный анализ
правило, не остается — черновые или отвергнутые копии идут
на смыв.
Документация «Октября» открывает сравнительно широкие
возможности заглянуть в историю создания фильма. Помимо
сценария и окончательной копии фильма, в нашем распоря-
жении имеется документ, который, как представляется, отра-
жает промежуточную стадию работы — монтажная запись
первого, несохранившегося фильма, варианта, значительно от-
личавшегося от окончательного.
Монтажная запись (текст еще не вводился в научный
оборот; с его факсимильным воспроизведением читатель можс г
ознакомиться в Приложении 4) представляет собой машино-
пись с незначительной правкой от руки и пометами на полях.
Сохранилась только последняя часть записи (кадры 326-
476).
Запись отличается и от экранного варианта, и от литера-
турного сценария [455, т. 6, с. 65—86]. Последний, несмотря
на то, что строки-сцены в нем помечены порядковыми номе-
рами, представляет собой текст, написанный явно не для
съемок, а для чтения: он больше похож на заявку, чем на
сценарий. В отличие от указанного текста, монтажная запись
носит рабочий характер. Строки записи звучат не как пове-
ствовательные предложения, а как мнемонические пометы.
Кроме того, Эйзенштейн часто пользуется именами актеров
для обозначения персонажей. Это указывает на то, что речь
идет об уже отснятом материале. Наконец, такие строки, как
330. Еще раз 326.
свидетельствуют, что мы имеем дело с монтажным, а не
съемочным планом4.
Судя по физическому состоянию машинописи, с текстом
работали. Представляется, что перед нами — конспект одного
из ранних вариантов фильма. Наиболее вероятно (фактически
для другого вероятия не остается места), что это вариант,
показанный на торжественном заседании 6 ноября 1927 г. в
Большом театре по поводу 10-й годовщины Октябрьской ре-
волюции. Как известно, Эйзенштейн не успел закончить мон-
тажа к этой дате, и участникам заседания были показаны
лишь фрагменты. Представляется, что наш монтажный лист -
запись последнего из этих фрагментов. «После юбилейных
просмотров картины «Октябрь», — писали неделю спустя
Эйзенштейн и Александров, — целым рядом товарищей сде-
ланы замечания, которые требуют досъемки некоторых сцен»
[455, т. 6, с. 528].
Таким образом, мы имеем дело с первоначальным монтаж-
ным вариантом «Октября», промежуточной стадией между
сценарием и тем текстом, который знаком нам по экрану. Три
хронологических среза — сценарий, монтажная запись, экран-
333
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
ный вариант — позволяют реконструировать движение замысла
и «перевод» некоторых первоначальных концепций на язык
интеллектуального монтажа.
Пустые костюмы
Рассмотрим фрагмент монтажной записи строк с 428-й по
431-ю. Это — сцена в покойницкой Зимнего дворца. Такой
сцены в окончательном варианте «Октября» нет, хотя по со-
хранившимся фотографиям можно судить, что эпизод в покой-
ницкой был отснят.
Почему именно покойницкая? Сравнив монтажную запись
с первоначальным литературным сценарием и экранным ва-
риантом фильма, можно обнаружить, что Эйзенштейн до пос-
ледней минуты не мог решить, как поступить с Временным
правительством. Различные варианты текста содержат различ-
ные решения. Так, в монтажной записи читаем: «Оцепенелое
правительство» (№ 431). В литературном сценарии эпитет не-
сколько иной: «Окаменелое правительство» [455, т. 6, с. 85].
Различие не столь ничтожно, как может показаться, — Эйзен-
штейн был точен в выборе сценарных формулировок. Вспом-
ним, в частности, то место из работы о мизансцене, где
режиссер продемонстрировал два различных решения, требуе-
мых «столь легким нюансом словесного сказа» [455, т. 4,
с. 726], какой отличает фразы «темное окно» и «неосвещенное
окно».
Ремарка «оцепенелое правительство» возникает в монтаж-
ном контексте покойницкой Зимнего дворца (к этому эпизоду
мы еще вернемся). В свою очередь, лексический нюанс в слове
«окаменелое» созвучен фундаментальной художественной оп-
позиции «Октября» — противопоставлению каменных изваяний
и людей. Как заметила М.-К. Ропарс-Вюйемье, «статуи в «Ок-
тябре» символизируют силу, враждебную революции» [579,
с. 115].
В главе об обратном режиме проекции фильма нам уже
приходилось упоминать о своеобразном кинопалиндроме из
«Октября»: в первых кадрах мы видим людей, разрушающих
памятник Александру III, в одной из последующих сцен (по-
пытка генерала Корнилова реставрировать монархию) методом
обратной съемки обломки монумента возвращаются на пьеде-
стал. Такого рода сцены превращают оппозицию камни—люди
в процессуальную, динамическую. Свержение власти эквива-
лентно разрушению истукана, укрепившаяся власть превра-
щается в камень. Хотя в окончательном варианте фильма
историческая концепция нигде не выходит за рамки обще-
признанной, в нем тем не менее можно различить следы фи-
334
Часть Ш Текстуальный анализ
99—101. Окаменение власти/
бюсты Ленина в «Старом и новом»
с каждым кадром увеличиваются
в размере.
лософии истории, идущей от символизма. Минута затишья
перед штурмом в монтажной записи передана с неожиданной
для такого текста интонацией «предощущения», созвучной
сцене из Блока и Белого:
342. Арка. Одинокие костры. У Арки, и у Биржи.
343. У одного из них кто-то...
344. ... сидит...
Разрушение памятника — первый эпизод фильма — ре-
минисценция из пьесы А. Блока «Король на площади», ее
финальной сцены, в которой обнаруживается, что король пре-
вратился в каменное изваяние: «В тот же миг разъяренная
толпа хлынула на ступени за Поэтом. Снизу расшатываются
колонны, Вой и крики. Терраса рушится, увлекая за собою
Короле <.. .> Ясно видно, как в красном свете факелов люди
рыщут внизу, разыскивая трупы, поднимают каменный оско-
лок мантии, каменный обломок торса, каменную руку. Слы-
шатся крики ужаса: «Статуя! — Каменный истукан! — Где
Король?» [68, т. 3, с. 53]8.
Мотив окаменения власти обыгран Эйзенштейном и в
сцене «Керенский—Наполеон»: Керенский разглядывает ста-
туэтку Наполеона, а в сцене конфронтации с Корниловым сам
335
Глава 1. Интеллектуальный монтаж__________
«превращается» в статуэтку (кадр «два Наполеона»). Любо-
пытно, что идея окаменения власти (видимо, все-таки связан-
ная с доктриной «перманентной революции») более явственна
в таком сравнительно «мирном» фильме, как «Старое и новое»
(1929), где узурпировавшая власть советская бюрократия сим-
волизирована гипсовыми бюстами Ленина.
В литературном сценарии ремарка «окаменелое правитель-
ство» относится к упомянутому циклу мотивов — история как
череда разрушений и окаменений. В монтажной записи поме-
нялся не только эпитет, изменился и принцип монтажа.
Первоначальный замысел двигался в направлении монтаж-
ной субституции — восставшие обнаруживают не министров,
а их окаменелое подобие. В записи принцип другой — рабо-
тает монтажный контекст. Именно для контекста Эйзенштейну
понадобилась покойницкая. Строки Ns 428—430 описывают
ряды трупов с номерами на пятках, затем Эйзенштейн монти-
рует кадр с фигурами министров Временного правительства,
которое на сей раз определено как «оцепенелое» (№ 431).
Столкновение кадра и контекста порождает монтажную мета-
фору простейшего вида. Такой метод Эйзенштейн уже испро-
бовал в «Стачке» (1924), где в сцене разгона рабочих возни-
кают кадры скотобойни. По-видимому, метафора «оцепенелое
правительство» задумана как визуальный эквивалент газетного
клише «политический труп», которым печать времен револю-
ции не обходила и самого Керенского.
Как мы знаем, был отброшен и этот вариант. Экранная
версия сцены в каком-то отношении вернулась к первоначаль-
ному замыслу, но ее пластическое решение видоизменилось.
В определенный момент зритель обнаруживает, что перед
ним — не Временное правительство, а пустые одежды мини-
стров (илл. 102—103).
Как и мотив окаменения, метафора пустых костюмов вос-
ходит к театру Блока, к знаменитой сцене с мистиками в
«Балаганчике»: «Арлекин уводит Коломбину за руку. Она
улыбнулась ему. Общий упадок настроения. Все безжизненно
повисли на стульях. Рукава сюртуков вытянулись и закрыли
кисти рук, будто рук и не было. Головы ушли в воротники.
Кажется, на стульях висят пустые сюртуки» [68, т. 1, с. 13]®.
Эйзенштейн не видел «Балаганчика» в постановке Мейер-
хольда, но знал эту постановку до деталей. Для мейерхоль-
довских студийцев «Балаганчик» был культовым спектаклем,
который они изучали по рассказам очевидцев и участников.
Эйзенштейн вспоминал об одном из таких занятий:
«Нелидов — участник спектакля «Балаганчик».
А для нас «Балаганчик» — это как Спас-Нередица для
Древней Руси.
336
Часть Ш Текстуальный анализ
102—103. Пустые костюмы вместо министров
Временного правительства
Вечерами Нелидов рассказывает о дивных вечерах «Бала-
ганчика»,
о заседании мистиков, которые сейчас смотрят с эскиза
Сапунова в галерее Третьяковых, о премьере и о том, как,
заложив нога за ногу, стоит, как аист, белый Пьеро — Мейер-
хольд и играет на тоненькой свирели» (455, т. 1, с. 309].
337
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
104. «Король бокса» («Le roi de Ьохе», 1908) Андре Дида (Глупышкин):
противник «лопнул», остался один костюм.
Заседание мистиков, должно быть, сделалось знаком мейер-
хольдовского театра в целом — именно к метафоре пустых
костюмов Эйзенштейн прибегнул, желая описать впечатления
от первой встречи с Мейерхольдом. В 1914 г. в Петербурге
16-летний Эйзенштейн посетил публичную лекцию К. Микла-
шевского «Рассуждение о пользе маски» (это выступление мы
частично цитировали, когда речь шла о рецепции крупного
плана). Среди почетных гостей на сцене присутствовал
В. Мейерхольд. Спустя 29 лет Эйзенштейн попытался вызвать
в памяти всю картину:
«В глубине — стол президиума.
Почтенный. Как мистики в начале «Балаганчика».
Но я помню и вижу из членов его лишь одного.
Другие словно исчезли в прорезях собственных картон-
ных бюстов, провалились в памяти, как те проваливались в
« Балаганчике».
Единственный, — вы угадали.
Божественный. Несравненный.
Мей-ер-хольд.
Я его вижу впервые.
22 102326
338
Часть Ш Текстуальный анализ
И буду обожать всю жизнь» [455, т. 1, с. 382].
Итак, в рецептивной установке Эйзенштейна можно уло-
вить известную противоречивость. Противоречие в том, что
Эйзенштейн по-разному моделирует реципиента в социальном
плане и в плане художественном. В социальном эйзенштейнов-
ский зритель — зритель «массовый» (это — необходимое усло-
вие автомоделирования левого советского искусства 20-х го-
дов) и зритель «новый» (чаще всего «новый» означало «зритель
будущего», сегодня еще не существующий; таков, как мы убе-
димся позднее, и эталонный зритель Дзиги Вертова).
В плане художественном фильм «Октябрь» предполагает
совсем другого зрителя. В рецептивную компетенцию такого
зрителя входит владение культурными кодами символизма —
искусства, язык которого формировал не массовую, а избран-
ную аудиторию. Одинокий «кто-то», неприметно взирающий
на костер революции, апокалиптический «конь блед», кото-
рый проглядывает в символе белой лошади, висящей над
июльским Петербургом — хоть и прозрачная, но тайнопись,
знаки, предполагающие посвященного.
Противоречива и ориентация на «нового» зрителя. С точки
зрения такого зрителя (хотя как единица аудитории, как ре-
альная рецептивная единица «новый зритель» не существо-
вал, его точке зрения охотно представительствовало боль-
шинство критиков), символика падающих статуй и пустых
костюмов бесповоротно принадлежала прошлому. Критиче-
ские отзывы на «Октябрь» в основном разоблачали двойст-
венность его рецептивной установки. А. Пиотровский
(критик, совмещавший классическую образованность с беза-
пелляционной классовостью суждений) назвал это «сти-
листическим разнобоем»: «Когда статуи, хрусталь и фарфор
настойчиво начинают заполнять кадры, припоминается не
только от Блока и Брюсова идущая символика царского
дворца и самодержавного Петербурга, но и родственная ей
мирискусническая линия российского эстетизма. Так под
конструктивной внешностью материалистически задуманного
«Октября» шевелятся пережитки упадочных и изжитых сти-
лей нашего искусства» [298, с. 12].
Спальня царицы
Обратимся к интеллектуальному монтажу. Будем говорить
не о хрестоматийных эпизодах фильмов «Боги» или «Восхож-
дение Керенского», а об эпизоде, который в указанном
аспекте рассматривается реже: об одной из кульминаци-
339
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
онных сцен «Октября». Ударницы женского батальона пря-
чутся в спальне царицы Александры Федоровны от пресле-
дующих их революционных матросов; матросы, в поисках
ударниц, переворачивают спальню вверх дном.
Если сравнить экранный вариант сцены с ее монтажной
разработкой в упомянутой записи, можно убедиться, что
принципы монтажа существенно разнятся. Ранняя версия
(№ 365—422) выглядит, если можно так сказать, менее
«интеллектуально» (в эйзенштейновском смысле термина),
нежели версия окончательная. Создается впечатление, что
черты, суммирующиеся в понятие «интеллектуальное кино»,
в названной сцене возникли в процессе перемонтажа, когда
вследствие замечаний, высказанных «целым рядом товари-
щей» после просмотра на юбилейном заседании, было решено
существенно сократить картину, выпустив вместо задуман-
ных двух серий одну.
Сокращение уже готовой сцены всегда ставит проблему
пространственно-временной целостности происходящего. В
20-е годы культурно-семиотическая норма связного повест-
вования включала в себя требование взаимной координации
действий, имеющих место в едином пространственно-времен-
ном континууме. Иными словами, реципиент только тогда
воспримет сцену как «правильную», если по поводу каждого
кадра будет отдавать себе отчет в том, как данное действие
соотносится с предыдущими: а) в пространстве, б) во вре-
мени, в) в причинно-следственном ряду.
Как мы помним из главы 5 части II, уже в 10-е годы
язык кино разработал систему индикаторов пространственно-
временной связности — «приходов-уходов», «проходов»,
«перебивок» и т. д. Сокращение сцены предполагает изъятие
лишнего, и в «Октябре» Эйзенштейн посчитал таковыми
именно эти служебные индикаторы. Сравнивая первый ва-
риант монтажа с окончательным, понимаешь: с эпизодом
произошло нечто, схожее с тем, что происходит с письмом,
когда его решают послать телеграфом, — текст утратил слу-
жебные элементы синтаксиса.
В монтажной записи поиск спрятавшихся ударниц пред-
стает как развернутое действие, происходящее в нескольких
помещениях: спальне (№ 366—368 и далее), моленной
(№ 369—372 и далее), двух уборных, полукруглой (№ 387) и
«прямой» (№ 388), бельевой (№ 379—394) и «императорской
чемоданной» (№ 395—422; это помещение в записи прямо не
названо, но фигурирует в документах съемок). В первона-
чальном варианте указанные шесть комнат образовывали
связное, реалистически мотивированное пространство дейст-
вия. Кинематографическое пространство соответствовало
реальным интерьерам «опочивальни» Зимнего дворца, пред-
22‘
340
Часть Ш Текстуальный анализ
ставлявшим собой не одно помещение, а как бы целую квар-
тиру.
В экранной версии картина совершенно изменилась. Из
кадров, снятых в шести разных помещениях, смонтировано
одно — помещение, немыслимое не только в царском дворце,
но и в обыкновенной квартире. Когда матрос с «Амура» ози-
рается, режиссер, монтируя (точнее, перемонтируя) «по
взгляду» кадры, снятые в моленной и уборной, заставляет
зрителя поверить в пространство, не менее скандальное, чем
пространство фильмов Бунюэля, — пространство, в котором
унитаз находится посереди спальни и в котором матрос,
всего лишь повернув голову, «переводит взгляд» с иконы на
биде.
Однако, когда мы говорим, что подобных пространствен-
ных несообразностей в ранней монтажной версии не было,
это не означает, будто первоначальный монтажный замысел
менее концептуален: различие не в степени концептуально-
сти, а в мере укорененности концепции в связном простран-
ственно-временном континууме. Эйзенштейн с самого на-
чала собирался сопоставить в монтаже два предметных мира,
полярно разнесенных по шкале культурной аксиологии —
предметы религиозного культа и мир физиологии. Однако
первоначально Эйзенштейн предполагал облечь эту оппози-
цию в мизансцену, которую на его месте предложил бы лю-
бой другой режиссер: в монтажной записи ударницы,
засевшие в моленной, ведут перестрелку с матросами в
уборной (№ 371—376). Или: в монтажной записи уже сущест-
вует фигура озирающегося матроса. Однако это происходит
в бельевой, где соприсутствие в одном пространстве икон и
«туалетных принадлежностей» (видимо, имеются в виду при-
надлежности типа полотенец и туалетной бумаги) не выходит
за рамки вероятия. Когда же Эйзенштейн хочет усилить
контраст и включить в монтажную фразу кадры унитазов,
он все же считает необходимым дважды оговорить индикатор
пространственной связности: «Открывает дверь — уборная»
(№ 387—388).
В такого рода модификациях и заключается неуловимая
граница между концептуальным (монтажная запись) и интел-
лектуальным (окончательный вариант) монтажом — интел-
лектуальный опускает «открывание дверей». В экранной
версии ‘ такого помещения, как уборная, уже не существует.
Все действие происходит в едином бесформенном простран-
стве, очерченном разве что вступительным титром «Спальня
царицы», но по неупорядоченности предметного наполнения
напоминающем скорее лавку старьевщика, чем царские
палаты.
Следует еще раз подчеркнуть — рассматриваемый эпизод
341
Глава 1, Интеллектуальный монтаж
подвергся «интеллектуализации» в силу обстоятельств. Нужно
было сократить фильм, и Эйзенштейн выбрал путь, который
считал перспективным для киноискусства в целом. Рецептив-
ная установка уходила в сторону от требований культурно-
семиотической нормы связного повествования, взамен про-
странственной связности предлагая альтернативные формы
построения текста. Пространственные индикаторы, где
только можно, уступали место семантическим признакам
«столкновения» кадров.
При этом следует помнить, что перемонтаж есть перемон-
таж, и альтернативные формы построения текста возникли,
по крайней мере в этой сцене, в процессе перекомбинации
старых. Эйзенштейн оперировал «обломками» связного тек-
ста, который сам до этого сформировал. Это означает, что
каждый кадр обладает помимо финального значения значе-
нием первоначальным, иногда непохожим на его смысл в
окончательном контексте.
Свою «историю происхождения» имеют и некоторые эле-
менты предметного мира, символика которых в процессе
перемонтажа была подчеркнута или приглушена. Поэтому
есть смысл реконструировать роль некоторых предметов в
первоначальной концепции. Дело в том, что интеллектуаль-
ный монтаж — операция без однозначного исхода: исходом
может быть как самостоятельная смысловая нагрузка, при-
обретаемая предметом при извлечении из «обыденного»
пространственного контекста, так и полная утрата такой
нагрузки. Во втором случае, чтобы «прочесть» все символи-
ческие коннотации предмета, исследователь должен реконст-
руировать утраченный контекст, «встроить» символ в перво-
начальный замысел.
К таким предметам принадлежит символ фарфорового
яйца, чей семантический потенциал в процессе перемонтажа
был сведен к незначительному минимуму.
Яйцо (эволюция символа)
Когда Эйзенштейн и его съемочная группа впервые попали
в опочивальню царицы, они были потрясены видом огромных
раскрашенных яиц из фарфора. В съемочном дневнике
Эйзенштейна имеется запись от 14 апреля 1927 г.: «Одна
спальня чего стоит: 300 икон и 200 фарфоровых пасхальных
яиц. Рябит в глазах. Спальня, которую бы современник пси-
хически не перенес. Она невыносима» [199, с. 47].
Если сравнить число кадров с изображением яйца в мон-
тажной записи и окончательном варианте, отношение будет
8:2 (или даже 8:1, поскольку в экранной версии оба кадра
342
Часть Ш Текстуальный анализ
идут подряд, что позволяет оставить за ними одну монтаж-
ную позицию). В озвученной версии, выпущенной (и заново
перемонтированной) Г. Александровым уже после смерти
Эйзенштейна, кадры с фарфоровыми яйцами отсутствуют —
возможно, спустя тридцать лет после создания фильма
Александров не помнил, с какой целью они вообще были
включены.
Проследим историю указанного символа от стадии замы-
сла до стадии окончательного монтажа.
Строка № 382 монтажной записи «Иконы. Яйца. Кресты»
в точности соответствует контексту, в котором этот кадр
появляется в окончательной версии. Напомним, что этими
кадрами начинается внутренний монолог матроса, озираю-
щегося и упирающегося взглядом в детали царской опочи-
вальни. Эпизод смонтирован по семантическому принципу,
который, на первый взгляд, представляет собой простое про-
тивопоставление: объекты религиозного культа противопо-
ставлены объектам, имеющим отношение к «человеческому
низу» — биде, унитаз и др. В экранной версии крашеные
яйца, атрибут пасхальных торжеств, примыкают к религиоз-
ному семантическому ряду.
В экранной версии мы не находим соответствий следую-
щим строкам монтажной записи:
414. Матрос с яйцом Николая Угодника в руках.
418. Катятся яйца Николая П.
Русскому читателю нет надобности объяснять традицион-
ный каламбур со словом «яйца». Согласно первоначальной
схеме, образ яйца был задуман не как символ в фиксирован-
ном религиозном значении (таким он выступает в экранной
версии и в таком качестве задан строкой 382), а как амби-
валентный символ, собирающий, как в пучке, значения
противопоставленных рядов. Образ двухсот яиц в спальне
царицы, так поразивших Эйзенштейна, должен был, согласно
монтажному плану, символизировать двойственный импульс,
который, как гласило устное предание эпохи, определял
политику последней русской императрицы: религиозный
фанатизм и безудержная сексуальность (сюда же — фигура
Григория Распутина).
Строки 416—446 вносят еще один смысловой обертон —
связь генитального мотива с темой революции. В исследо-
вании Ф. Альбера показано, как в фильме «Октябрь» транс-
формировались и наложились два ранних культурных впечат-
ления Эйзенштейна — сцена из романа Золя «Жерминаль»,
в которой толпа революционных работниц как знаменем потря-
сала отрезанным фаллосом скинутого эксплуататора, и сцена в
музее восковых фигур, где солдаты проносят на пиках голову
Марии-Антуанетты [478]. Исследователь, опираясь на мате-
343
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
риалы эйзенштейновских постанализов, продемонстрировал
связь в «Октябре» идеи революции с представлениями об
обезглавленном и/или кастрированном правителе. Кадры пер-
воначальной версии, в которых из опрокинутой корзины
(416) катятся «яйца Николая П» (418, 422), или когда участ-
ница штурма «ворует яйца в разгромленной спальне» (446),
подтверждают и расширяют это наблюдение. Символика
«Октября» интертекстуальна.
Яйцо присутствует и в сцене 401—414. Кадеты пытаются
разоружить одного из матросов; матрос обманом вынуждает
кадетов бросить оружие. Этот эпизод удобен для иллюстра-
ции техники концептуального монтажа — монтажа, симво-
лика которого облечена, в отличие от монтажа интеллекту-
ального, в пространственно-временные формы связного
по вествования.
Из-за дефекта машинописи строка 403 частично нечитаема:
остается неясным, в поисках чего шарит рукой отскочивший
к стенке матрос (см. Приложение 4). В следующий момент
мы узнаем о «замахе матроса», но Эйзенштейн, к сожалению,
не записал, чем матрос замахнулся (405). Затем мы видим
матроса «с бомбой в вихре пуха» (410), поднятом двухору-
дийным залпом «Авроры». Однако при следующем появлении
матроса у него в руках оказывается пасхальное яйцо Нико-
лая-угодника (414), а не бомба.
Если предположить, что дефектная строка машинописи
сообщала: матрос нашарил одно из фарфоровых яиц, сцена
приобретает характер внешне обычного кинорассказа. Мат-
рос замахивается на обступивших его кадетов яйцом Фа-
берже, которое они, напуганные залпом, приняли за бомбу;
«кадеты бросают оружие» (411). Это — внешнее, фабульное,
горизонтальное прочтение. Однако, как мы убедились,
Эйзенштейн выстраивал текст «Октября» как символист
строит литературную ситуацию: важны не столько горизон-
тальные, фабульные связи, сколько вертикальные «коррес-
понденции». Пространство и время простого рассказа сохра-
няются, но пронизываются знаками, приглашающими к
символическому, вневременному истолкованию. (О. Брик счи-
тал: «[Эйзенштейн] доводит до абсурда принцип творческого
преодоления материала. Эту работу в свое время проделы-
вали символисты в литературе и беспредметники в живописи,
и работа эта исторически нужна» [76, с. 19].)
В интересующей нас сцене вертикальные соответствия
возникают за счет субституций, предметных подмен: залп
«Авроры» заменяет треск воображаемой бомбы, вихрь пуха
из распоротой подушки «имитирует» взрыв, бомба подменена
яйцом. Остановимся на последней из замен.
344
Часть Ш Текстуальный анализ
Голова / бомба / яйцо
Выше уже шла речь о корреляции «оскопление — обез-
главливание», в которой Эйзенштейну виделся архетип рево-
люционного акта. В монтажной записи этот архетип вылился
в почти каламбурную предметную подстановку «голова —
яйцо». После залпа с «Авроры» перед нами развертывается
сценка, в новом материале повторяющая начальные кадры
фильма — разрушение статуи царя. В мемуарах Эйзенштейна
есть абзац, комментирующий настроения 19-летнего Эйзен-
штейна в дни Февральской революции и бросающий свет на
эти начальные кадры: «Сколько раз, проходя мимо памятника
Александру III, я мысленно примерял «вдову» — машину
доктора Гйльотена — к его гранитному постаменту... ужасно
хочется быть приобщенным к истории! Ну а какая история
без гильотины?» [455, т. 1, с. 273]. Голова, вдруг покачнув-
шаяся на торсе памятника, заставляет зрителя вспомнить
о Каменном Госте, но в следующую минуту голова уже ска-
тилась с плеч, и обезглавленный царь включен в контекст
нового мотива — мотива Великой французской революции и
ее обязывающих традиций.
Строки 414—422 травестируют указанную сцену. В импе-
раторской чемоданной матрос (все еще в поисках ударниц)
переворачивает вверх дном сундуки с добром. Сыплются
ордена, футляры, треуголки, перчатки. Лейтмотив — выка-
тывающиеся из корзины фарфоровые яйца (416, 418, 422) —
заставляет вспомнить об обезглавленном памятнике и о каст-
рации как метафоре-сателлите декапитации (метафоре,
которую Эйзенштейн любил подчеркнуть в прозвище «вдова»,
с давних лет закрепившемся за гильотиной).
Таковы семантические импликации подмены голова/яйцо.
Представляется существенным, что к этой паре подключен
еще один культурный символ — бомба.
В главе о том, как кинематографический мотив «взры-
вающегося человека» был использован Андреем Белым в ро-
мане «Петербург», нам уже доводилось говорить о взрыве
как элементе мифологии, сложившейся вокруг революции
1905 года. Для этой революции бомба была таким же цент-
ральным символом, каким для французской была гильотина.
К метафоре бомбы Белый прибегал, желая доказать, что рево-
люция — плод «мозговой игры»: «В настоящее время все
знают: опасно ребенку подкидывать бомбу как мячик; не
знают, что этою бомбою каждый играет; и «бомбою» самой
опасной: «абстракции» — оболочки от бомб; в динамитном
разрыве абстракций отчетливо рвутся какие угодно прост-.
ранства, какие угодно столетия; выскажи я сегодня в газете
свое состояние сознания, завтра, быть может, взорвется соз-
345
Глава 1. Интеллектуальный моитаж
нание неизвестного американца; через тысячу лет, если мысль
моя сохранится, взорвется сознание нерожденных еще.
Мысли — бомбы» [46, с. 111].
Как предположил Р. Д. Тименчик, образ революционера
с головой, начиненной «мыслями-бомбами», восходит к моно-
логу анархиста из «Человека, который был Четвергом»
Дж. К. Честертона (1908). В монологе анархист отвергает
нож как оружие для новой революции по идеологическим
соображениям: «Динамит есть не только лучшее наше
оружие, он также лучший наш символ. Столь же совершен-
ный символ, как фимиам для христианской молитвы. Он
распространяется; он разрушает потому лишь, что расширя-
ется. Мозг человека — бомба! — воскликнул он внезапно,
давая волю своему странному воодушевлению и с силой уда-
рив самого себя по черепу. — Мой мозг кажется мне бомбой,
я ощущаю это день и ночь! Ему надо расшириться! Надо!
Мозг человека должен расшириться, хотя бы он разнес этим
весь мир!» [433, с. 86).
Сравним автокомментарий Белого к роману «Петербург»:
«Наша свобода дерзает: над сердечным огнем взлететь к
стенкам черепа и разорвать стенки черепа: Николай Аполло-
нович необходимость разрыва в себе ощущает: движением
проглоченной бомбы; в нем нет воли к разрыву <.. .> Череп
будет разбит: светлый Голубь пришествия спустится в отвер-
стие наших разрывов <...>» [49, с. 501].
В «Октябре» (экранной версии) содержится короткая мон-
тажная фраза, которой Эйзенштейн придавал особое
значение: в одной из своих теоретических статей режиссер
воспроизвел ее в виде фотоотпечатков (илл. 105). Эти два
кадра Эйзенштейн привел, чтобы проиллюстрировать свое
понимание «графического конфликта», присовокупив, что
монтажное столкновение головы восточного божества, похо-
жей на яйцо, с похожим на звезду изображением барочного
Христа производит впечатление взрывающейся бомбы [518].
В фильме такое столкновение повторяется несколько раз
подряд. Действительно, прием работает — возникает эффект
взорвавшейся головы.
Едва ли можно усомниться в том, что «компоненты
столкновения» отобраны не только благодаря их графиче-
ским особенностям: здесь помимо «графического конфликта»
встроен конфликт смысловой. Символ взорвавшейся головы —
не просто мультипликаторная иллюстрация. Важно, что взрыв
возникает от столкновения элементов с противоположным
культурным зарядом — восточное божество и фугура Хри-
ста. Культурное чутье должно было подсказать реципиенту:
здесь сталкиваются различные концепции мироустройства —
346
Часть
II
Текстуальный акал:
к.
105. Монтажный «взрыв»: восточное
божество взрывается в барочном
Христе.
буддизм и христианство, фатализм и жизнестроительство,
созерцание и действие, статика и экстаз. В своем идеальном
реципиенте Эйзенштейн хотел видеть предрасположенность к
философской рефлексии.
У такого монтажного стыка есть одно существенное от-
личие от сцен, которые анализировались выше, — здесь стык
дискурсивный, т. е. внесюжетный. Движение от концепту-
ального монтажа к монтажу интеллектуальному есть движе-
ние от сюжетного к внесюжетному, от диегесиса к дискурсу.
В этом можно убедиться, проследив за судьбой корреляции
яйцо — бомба, заданной сценкой с матросом и кадетами.
Строки 412—414 кодируют событие в категориях «рождения
нового мира»: из «вихря пуха» возникает кадр — «мальчонка
вскакивает на тронное кресло»; далее — матрос с пасхаль-
ным яйцом.
Такова первоначальная схема, целиком построенная на
символике предмета. В окончательном варианте мы не обна-
руживаем ключевой парадигмы — здесь нет ни бомбы, ни
яйца. Между тем семантика взрыва из сцены не ушла —
она лишь перешла из предметного плана в дискурсивный. В
экранной версии идея революции как взрыва закодирована
в рассчитанном рецептивном «шоке» — мальчонка не «века-
347
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
106—107. Монтажный «скачок»:
мальчик не вскакивает на трон,
а переносится туда нарочито
«неправильным» монтажным приемом.
кивает» на трон, а переносится туда приемом, нарушающим
все культурно-семиотические нормы монтажа. На илл. 106—
107 показан этот стык — его скачкообразность не маскиру-
ется, напротив, она подчеркнута — стык повторен несколько
раз подряд.
На указанном примере легко увидеть, как в ходе перемон-
тажа Эйзенштейн переориентирует рецептивную установку
текста. Последовательно отбрасываются «литературные»
варианты. Концепция подчиняет себе движение дискурса.
Уравнение «революция = взрыв» при переходе от ранних ва-
риантов к интеллектуальному монтажу уже не требует
демонстрации предмета — бомбы. Уравнение решается не
арифметическим сложением вещей, а «алгебраическими»
методами. В одном случае это — графический «взрыв» сопо-
ставленных культурных символов, в другом — то, что можно
назвать алгеброй дискурса. Взорвав неожиданным стыком
ровное течение дискурса, Эйзенштейн предложил дискур-
сивный эквивалент тезиса: революция — взрыв, скачок.
Взрыв становится не тематической, а рецептивной едини-
цей — зритель испытывает толчок от удара, который при-
шелся по культурно-семиотической норме связного повест-
вования.
4
348
Часть Ш Текстуальный анализ
Эйзенштейн
и „левое неприличие"
Вернемся к монтажной фразе, отражающей «внутренний
монолог» матроса в спальне царицы. Матрос осматривается.
Его «взгляд» останавливается на предметах обстановки (как
мы помним, на самом деле — обстановки разных помещений,
а не одного). Монтаж этих предметов, мотивированный «мар-
шрутом» взгляда, передает ход мысли смотрящего. Канва, по
которой движется мысль, — столкновение высокого и низ-
кого, объектов почитания (иконы, парадные портреты)
и предметов сантехники.
Такова концептуальная схема. Однако на уровне интел-
лектуального монтажа кадр работает не только на схему.
В пределах заданной канвы каждый кадр вступает в семан-
тическую «игру» с соседним.
Первый кадр сцены (илл. 108) таит возможность двоякого
прочтения. «Амур» — слово на бескозырке матроса — чи-
тается не только как название корабля, но и как имя антич-
ного божества. Для понимания сцены существенно, что
«Амур» вооружен. Из более раннего эпизода (взятие Зим-
него) зритель помнит кадр, где обыгран визуальный каламбур
«огнестрельное оружие — инструмент любви» (илл. 109),
овеществляющий старинную литературную метафору любви
как осады и штурма. Штык в руках матроса — деталь сим-
волики происходящего в спальне царицы. Известен кадр,
выпавший из некоторых экранных версий по цензурным
соображениям — матрос вспарывает подушку (крупный план).
Монтажная запись еще откровеннее — после взгляда на
биде «матрос брезгливо вытирает штык» (392—393).
Названные детали подтверждают, что на метафорическом
уровне эпизод в спальне царицы включает в себя семантику
насильственного обладания. В монтажной записи, которая в
этом отношении значительно смелее, метафора почти пере-
ходит в метонимию:
396. Чемоданы.
397. В белье находит ударниц.
398. Ударницы на коленях.
399. Летит белье.
400. Матрос «уф» и закуривает.
Уместно спросить, каков более широкий контекст слоя
эротических метафор в спальне царицы? То есть отсылают
ли упомянутые метафоры к историческому контексту или они
являются элементом художественной интерпретации, не имею-
щим прямого отношения к исторической фактографии?
349
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
109, Защита Зимнего. Ракурс подсказывает
рискованную метафору.
Вопрос возникает потому, что сразу после взятия Зимнего
дворца в печати появились слухи об актах насилия, якобы
имевших место во время штурма. Назывались именно удар-
ницы женского батальона, защищавшего Зимний дворец.
Поэтому может показаться, что метафоры Эйзенштейна
имеют под собой чисто событийное основание.
350
Часть III Текстуальный анализ
Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, следует кос-
нуться более общего вопроса об исторической точности
«Октября». Многие современники, особенно лефовцы, крити-
ковали «Октябрь» за недостаточную историчность. Так, в
рецензии С. Третьякова сказано, что оборванные матросы
революции одеты в фильме как подтянутые военморы
1928 года: «Зная по собственному опыту изображаемую на
экране эпоху, зритель раздваивается между собственной па-
мятью и директивой экрана» (384, с. 17]. О. Брик был недо-
волен тем, что в картине матросы защищают Зимний от
погромщиков: «Всем известно, что борьба за винные погреба
сейчас же после переворота — один из мрачных эпизодов
Октября и что матросы не только не разбивали погребов, а
норовили их распить и отказывались стрелять в тех, кто за
этим вином приходил <.. .> Когда реальный матрос дело-
вито разбивает реальные бутылки, [у Эйзенштейна] полу-
чается не символ, не плакат, а ложь» [76, с. 33].
Сторонники «литературы факта» полагали, что Эйзен-
штейн ставил целью подменить историю исторической мифо-
логистикой. Нельзя сказать, что такие опасения были безос-
новательны, но дело тут обстояло весьма непросто. Отклоне-
ния от исторической достоверности имели источником не
столько позднейший вымысел, сколько широкую сеть слухов
и молвы, распространившихся тотчас же после Октябрь-
ского переворота. Ткань сценария «Октября» буквально про-
питана этим «веществом». Дело не в нехватке информации —
как известно, в распоряжении режиссера были воспомина-
ния очевидцев и участников восстания, в том числе и напи-
санные специально для фильма. Вместе с тем можно заметить,
что во многих случаях Эйзенштейн отдавал предпочтение
не фактам и не историческим мифам, а мифологистике
устной, газетной, стихийной, подгонявшей факты не под
героическую схему, а под схему живого событийного архе-
типа.
Например, в книге Джона Рида «Десять дней, которые
потрясли мир», первоначально считавшейся литературной пер-
воосновой сценария, побег Керенского из Гатчины описан исто-
рически достоверно, со слов очевидца: Керенский скрылся, пе-
реодевшись в матроса (историческая наука склоняется к этой
версии)., В литературном сценарии Эйзенштейн излагает побег
иначе, предпочтя истинному ходу события газетный апок-
риф — Керенский убегает в одежде сестры милосердия. Для
чего понадобился этот водевильный вариант? В сценарии на-
ходим ремарку: «Бонапарт в юбке» [455, т. 6, с. 428], встраи-
вающую побег Керенского в двойную метафорическую пер-
спективу — «наполеоновскую» тему «Октября» (ср. кадр «Два
Бонапарта») и тему амбивалентного сексуального статуса Ке-
351
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
ренского, еще в начале фильма заявленную титром: «Александр
Федорович в апартаментах Александры Федоровны» (тоже
небольшая подтасовка: Керенский в Зимнем дворце занимал
покои Александра III [365, с. 62]).
Метафоры насилия имеют аналогичное происхождение и
преследуют похожую цель. Печать 1917 г. живо обсуждала
слух о насилиях, учиненных штурмующими над ударницами
(об этом слухе, в частности, сообщает в своей книге и Рид).
Было назначено расследование в Городской Думе под началом
городского головы Г. Шрейдера, человека высоких демократи-
ческих принципов и большого личного мужества (в «Октябре»
он выведен в виде карикатурного старика, во главе безоруж-
ной группы граждан спешащего на помощь Временному пра-
вительству). Расследование и показания ударниц подтвердили
беспочвенность слухов — ударниц никто не тронул, их разору-
жили и отправили в Павловские казармы.
Тем не менее и здесь Эйзенштейн отдал предпочтение га-
зетному слуху. Будучи плодом коллективных представлений,
такой слух должен был отвечать и рецептивным ожиданиям
кинозрителя. Кроме того, слух хорошо ложился на общую
метафорическую концепцию «Октября» — осада и штурм Зим-
него в образах любовной победы. На эту концепцию работали
многие детали, в том числе и детали реальной исторической
ситуации — травестия Смольного института благородных де-
виц, сфокусированная в надписи «Классная дама» на дверях
кабинета Троцкого (позднее — кабинета Ленина) и ставшая
темой газетных фельетонов уже в 1918 г. (в «Октябре» таб-
личка висит на дверях меньшевистской фракции); женский
батальон, защищающий правительство Керенского; тот факт,
что последние годы династии Романовых считались эпохой
«бабьего царства»; невольная ирония того обстоятельства, что
толпа штурмующих проникла в Зимний дворец через Соб-
ственный Ее Величества Подъезд (ныне известный под назва-
нием «Октябрьского Коридора»). Понятно, что архитектурный
ансамбль дворца не мог не превратиться у Эйзенштейна в
метафору женского тела, а спальня царицы — в кульмина-
ционную точку развития штурма.
Прокомментируем еще один монтажный переход в сцене
спальни. Взгляд матроса падает на фотографию Николая II —
фотография дана укрупненно, и кадр сдвинут так, чтобы
зритель мог прочесть надпись — «Ники сокольничий»
(илл. 110),
Сразу за фотографией следует кадр, изображающий гигие-
нический сосуд (илл. 111). Эта смежность подчеркнута тем,
что, по обыкновению Эйзенштейна, в тех случаях, когда он
стремится заострить зрительское внимание на важном для
понимания стыке, сопоставленные кадры повторяются не-
352
Часть
II
Текстуальный анализ
сколько раз. В третий раз фотография возникает на более об-
щем плане (илл. 112).
В первой паре каламбур: соколиная охота на уток (тради-
ционное развлечение русских царей) — «утка» в значении
«сосуд для лежачих мужчин». При повторении стыка словес-
ный каламбур превращается в визуальный — в игру вступает
изображение сокола на охотничьем костюме царя.
Даже если согласиться с Е. Добиным в том, что прием
«материализации словесной метафоры» преувеличивает роль
353
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
110—112. Монтажный «ребус»:
охотник—утка—орел.
языка в киноповествовании [150, с. ЮЗ], трудно разделить
его возмущение теми эпизодами в «Октябре», где игра слов
создает рискованные шутки: оленьи рога на стене кабинета
Керенского после титра «Казачья артиллерия изменила» или
скульптурная группа «Первые шаги» после надписи-окрика
«Юнкер! Мать вашу!» Шутки такого сорта входили на правах
законной части в этос левого искусства 20-х годов. В 1923 г.
Б. Арватов в статье «Театральная парфюмерия и левое непри-
личие» писал: «И когда левые подняли театральным знаме-
нем — кальсоны, когда вместо трона Мейерхольд выкатил на
сцену «ведро», когда Эйзенштейн в «Мудреце» допускает це-
лые «анальные» номера, — мы имеем здесь:
А. Удар по самым священным традициям буржуазной эсте-
тики, по Маргаритам и Фаустам, по соловьиным вздохам и
Настям с разукрашенного «Дна».
Б. Разрушение стены между матерьялами быта и матерь-
ялами сцены: отныне нет той сферы быта, которая была бы
запретной для художника — театр отныне деэстетизирован»
[23, с. 7].
Таким образом, каламбуры в спальне царицы укладываются
в традицию, восходящую к левому театру («Ревизор» И. Те-
рентьева, император на ночном горшке в постановке В. Мейер-
хольда «Земля дыбом»), бытовой и газетной шутке (11 ноября
1917 г., побывав с ревизией в Зимнем дворце. Л. Рейснер упо-
мянула Керенского, сброшенного «если не с кресла, то со
23 102326
354
Часть Ш Текстуальный анализ
стула Николая П» [316]) и, в конечном счете, как предположил
Р. Д. Тименчик, к строкам Пушкина, каламбурно описываю-
щим место смерти Екатерины Великой:
Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла,
И умерла, садясь на судно [311, стих. 227].
Жанр «левого неприличия» позволяет предложить новое
толкование довольно известного места из начала «Октября» —
сценки под названием «Керенский и павлин». Въехав в Зимний
дворец, Керенский впервые открывает двери царских покоев.
Чередуются кадры: входит Керенский — раскрыв хвост, вра-
щается на своей оси механический павлин. Обычно пишут,
что кадры с павлином — метафора, поясняющая тщеславие
Керенского. Видимо, такое прочтение отражает реальный ре-
цептивный результат этой сценки, однако, если присмотреться,
можно увидеть, что ее замысел был значительно сложнее, чем
удалось осуществить. По замыслу Эйзенштейна, реципиент
должен был «прочесть» чередующиеся кадры не только в еди-
ном смысловом, но и в едином пространственном контексте.
Взглянем на эту монтажную фразу (илл. ИЗ—116).
Керенский медлит перед дверью
павлин поворачивается к зрителю задом и распускает хвост
Керенский открывает дверь и входит
павлин делает еще пол-оборота
Крупно: висячий замок
Традиционное прочтение — метафора Керенский + павлин=
<= тщеславие — не объясняет последнего кадра. Роль замка
остается загадкой. Если же предположить, что образ павлина
задуман не как метафора Керенского, а как метафора Зимнего
дворца, то в монтажной фразе можно увидеть несколько иную
рецептивную стратегию. Эйзенштейн монтирует кадры с таким
прицелом, чтобы у зрителя возникло впечатление, будто Ке-
ренский, открыв дверь, входит в клоаку механической птицы.
Эффект не удался: хотя павлин на крупном плане по абсолют-
ной величине размером «больше» Керенского, зритель делает
мысленную поправку и в силу константности перцептивного
механизма «возвращает» экранным предметам их истинный
размер. Однако, если, просматривая фильм на монтажном
столе, ради эксперимента пустить пленку с увеличенной ско-
ростью (около 36 кадров в секунду), замысел Эйзенштейна
оживет на глазах: вполне в духе эстетики «левого неприличия»
Керенский стремительно «входит» под хвост повернувшегося
задом павлина, павлин поворачивается снова, и в следующем
355
Глава 1. Интеллектуальный монтаж
113—114. Игра с пространством:
Керенский «входит» в тело павлина.
кадре виден замдк — Керенский «попался», премьер-министр
сделался пленником Зимнего дворца.
Как мы видим, фильм с рецептивной установкой на интел-
лектуальное кино подчас требует от исследователя приемов,
к которым прибегают при расшифровке незнакомого текста.
Для эстетики Эйзенштейна это не правило, а исключение, —
23*
356
Часть Ш Текстуальный анал
115—116. Павлин поворачивается,
Керенский заперт в павлине.
он всегда стремился к доходчивости. Однако сама программа
интеллектуального кино, т. е. кинотекста, обращающегося к
зрителю на новом языке, ставила кинематографиста в положе-
ние криптографа, а в зрителе предполагала расположенность
к расшифровке. Предельной формы такая рецептивная стра-
тегия достигла в творчестве Дзиги Вертова.
Тлава 2
Рецепция как расшифровка:
„Человек с киноаппаратом"
«Человек с киноаппаратом» (1929) Д. Вертова, М. Кауфмана
и Е. Свиловой — фильм необычный. Во-первых, он обращен
не только к зрителю, но и к кинематографу: «Мы считали, что
обязаны делать фильмы <...>, производящие фильмы», цель
которых — «ознакомление с грамматикой кинематографиче-
ских средств» (97, с. 158, 159). Во-вторых, примечательна
обращенность фильма на другие тексты — фильмы и литера-
турные дискуссии 20-х годов: ««Человек с киноаппаратом» —
это не только практическое, но одновременно и теоретическое
выступление на экране» [97, с. 109).
Эти две особенности послужили причиной недостаточного
или вовсе неверного понимания фильма. Как положительные,
так и отрицательные критические оценки исходили из предпо-
ложительной «заумности» его языка, который был воспринят
либо как воссоздание на экране хаоса городской жизни, либо
как нагромождение бессвязных кадров. Такое отношение к
фильму объясняется беспрецедентной апрагматичностью ре-
жиссера и его отказом считаться с кругом зрительского ожи-
дания — свойством, крайне раздражавшим не только публику
и администрацию кинофабрик, но даже и такого экспери-
ментатора, как С. М. Эйзенштейн, который писал о Вертове:
«При блестящем мастерстве абстрактного, формального соче-
тания кусков «в себе», т. е. по признакам формальным (темп
кадра, нагруженность кадра, направление кадра и т. д.), —
полное неумение монтировать кадры по признаку эффекта на
аудиторию» [ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 763, л. 26).
Между тем, как представляется, дело было не в неумении
и даже не в нежелании Вертова считаться с аудиторией, а в
том, что образ аудитории, идеальный образ реципиента, на
который ориентировались «киноки», конструировался исходя
из тех же произвольных постулатов, что и вся программа
358
Часть Ш Текстуальный анализ
«мирового переустройства», с помощью «киноглаза». Идеаль-
ный реципиент Вертова не только не мог, но и не должен был
иметь реальных соответствий в эмпирическом мире •— пред-
полагалось, что такой зритель не предшествует фильму, а
индуцируется им. Драма непонимания, хотя и не входила в
замысел фильма (и в этом его отличие от магистральной
тенденции западноевропейского авангарда), была запрограмми-
рована, «зашита» в его структуре.
Вертов ставил целью сделать фильм без поясняющих над-
писей, причем не за счет предельной эксплуатации игрового
момента или линейности сюжета2, а, напротив, — путем «пол-
ного отделения языка кино от языка театра и литературы»
[96]. Для этого надо было или крайне упростить смысл
фильма, или как-то компенсировать отсутствие надписей мон-
тажными средствами. Упрощение исключалось — задача со-
здания фильма-учебника и фильма-манифеста поставила перед
режиссером проблемы, разрешить которые было бы затрудни-
тельно и без отказа от титров. «Киноки» пошли по пути
пиктографии, прибегнув к зашифровке надписей в изобрази-
тельном ряду. Вертов называл это «кинописью», — каламбур
отсылал к комплексу представлений, связанных с ассиро-ва-
вилонским письмом и для человека его эпохи окрашенных
пафосом языкотворчества и дешифровки. Одновременно это
был путь максимального смыслового использования монтаж-
ного пространства фильма. Н. Берч (вслед за А. Майклсон)
утверждает, что для понимания «Человека с киноаппаратом»
необходимо несколько раз подряд просмотреть этот фильм
и полностью овладеть его топологией: «Можно смело сказать,
что в «Человеке с киноаппаратом» нет ни одного кадра, чье
место в монтажной структуре не было бы перенасыщено це-
лым рядом пересекающихся цепочек значения <.. .> Пре-
дельно осмысленный, этот фильм был самым радикальным
жестом в истории немого кино — будь то в Советском Союзе
или где бы то ни было» [502, с. 94].
Действительно, семантические связи между элементами
фильма умножились и усложнились настолько, что предстали
перед зрителем как неупорядоченные, фильм ушел в себя,
обращаясь вовне только ссылками на чужие тексты. Возникла
ситуация, в которой к более или менее полному пониманию
фильма .можно прийти только путем его расшифровки на мон-
тажном столе.
Такое положение не должно казаться парадоксальным в
свете установки конструктивизма 20-х годов на максимальную
смысловую нагрузку языка и материала («грузификация»3)
произведения. Сосредоточенность лишь на семантике текста
привела к тому, что экранная проекция фильма стала не един-
ственным и, возможно, не главным способом его прочтения.
359
Глава 2. Рецепция как расшифровка
117. «Жизнь как она есть»
на экране.
118. «Жизнь как она есть»
на пленке.
Сюда же следует отнести и замечание Вертова о том, что
фильм имеет три жизни: «1) «жизнь как она есть» на экране,
2) «жизнь как она есть» на пленке, 3) просто «жизнь как она
есть»»4. Значимость внеэкранной реальности кинопленки время
от времени подчеркивается и в самом фильме. Так, часть III
начинается с изображения шкафа с заснятым материалом,
распределенным по тематическим полкам: базар, завод, дви-
жение города и т. д. Мы как бы рассматриваем пленку в руках
монтажницы и принимаем участие в монтаже. Затем рамка
сливается с экраном, кадры один за другим приходят в дви-
жение, и мы видим только что смонтированный эпизод, причем
обращает на себя внимание именно самостоятельность и как
бы эстетическое равноправие различных состояний фильма8.
Примечательно, что как раз здесь и возникает кадр, глубин-
ный смысл которого недоступен экранному прочтению: парал-
лельно эпизоду, в котором демонстрируется монтажный
процесс, несколько раз появляется изображение бобины мон-
тажного стола, на которую наматывается фильм (илл. 119).
Только изучение фильма на монтажном столе позволяет
заметить, что пленки на бобину монтажницы каждый раз
намоталось ровно столько, сколько ее в этот момент накопи-
лось на бобине стола, за которым работает исследователь.
Такое самоописание можно понимать как намек на слой зна-
чений закрытого доступа. Действительно, неразличимые в эк-
ранной проекции покадровые вкрапления, карандашные над-
писи, а также метрические фигуры и монтажные ходы,
слишком умозрительные, чтобы противостоять движению
фильма в проекционном аппарате, обнаруживают себя лишь
в результате аналитической проекции на монтажном столе.
Из-за непривычной тесноты семантического ряда работа над
360
Часть HI Текстуальный анализ
119. Бобина монтажного стола.
истолкованием «Человека с киноаппаратом» напоминает реше-
ние рисунков-головоломок «Найди охотника», в которых иско-
мая фигура оказывается вплетенной в орнамент лесного
пейзажа: как и эти картинки, фильм приходится вертеть
в руках.
С другой стороны, указанное требование «плотности»
смысла привело фильм к богатой системе отсылок. Здесь
непонятность фильма отчасти устранима путем изучения со-
временной ему культурной ситуации: подчас тот или иной
кадр является парафразой определенного высказывания на
существенную для фильма тему и тем самым заменяет над-
пись, запрещенную по правилам игры. К таким кадрам-ци-
татам следует отнести и традиционно «загадочный» кадр из
части VI, в котором изображение Большого театра раздваи-
вается и опрокидывается навзничь. С. Дробашенко писал об
этом кадре: «Несколько десятилетий <.. .> исследователи
кино пытаются объяснить известный кадр из «Человека с
киноаппаратом», показывающий, как «раскалывается» Боль-
шой театр. Многие из них, отчаявшись в успехе, объявляют
эту сцену «бессмыслицей», «оптическим трюком», «фокусом»
и т. д.» [155, с. 13—14]. Между тем значение сцены можно
восстановить, если вспомнить, что для сотрудников журнала
«ЛЕФ», в число которых входил и Вертов, словечко «Большой
театр» б£1ло распространенным обозначением пассеизма в
искусстве: «...ну, словом, Большой театр!»6. Подобные реп-
лики приобретают особую роль в фильме, чьим девизом
являлся «отказ от языка театра и литературы». Скорее всего,
кадр задуман как пластический комментарий к выступлению
О. М. Брика на лефовском совещании о кино в 1927 году:
«Мы десять лет говорим, что нужно закрыть Большой театр,
а его в этом году еще отремонтировали»7.
361
Глава 2. Рецепция как расшифровка
120. Отголосок старой полемики: Ленин предлагал уничтожить
Большой театр, Луначарский театр отстоял.
Характерно, что сами лефовцы верно поняли полемиче-
ский выпад, заключенный в этом кадре, о чем свидетельствует
его воспроизведение в 10-м номере журнала «Новый ЛЕФ»
(1928), т. е. еще до того, как монтаж фильма был завершен.
Однако для зрителей, далеких от Лефа, «домашняя семантика»
Большого театра оставалась закрытой или казалась малоубе-
дительной. В 1929 году К. Фельдман писал: «Находились люди,
которые утверждали, что Вертов хотел тут выразить мысль о
крушении Большого театра» [404, с. 17]. Возражая против
такого толкования, автор статьи предлагал свое, согласно ко-
торому «разламывающийся» театр — средство шокового воз-
действия на эмоции зрителя. Видимо, Вертов имел в виду обе
возможности толкования, а точнее, — не дифференцировал их.
В указаниях оркестрам кинотеатров, где будет показан «Че-
ловек ...», Вертов описал этот кадр как «взрыв площади и
Большого театра» и предполагал сделать его акустической
кульминацией сеанса: «<...> невероятный гул и шум в ор-
362
Часть Ш Текстуальный анализ
кестре, резкий фанфарный сигнал» (ЦГАЛИ, ф. 2091, on. 1,
ед. хр. 28).
В недавнем интервью М. Кауфман обмолвился, что «раз-
рушил» Большой театр «в шутку», и там же (по другому
поводу) сказал, что не до конца разделял вертовское «отри-
цание искусства»: «Я всегда ощущал некоторое лицемерие в
том, что мы при этом ходили смотреть игровые фильмы с
большим удовольствием, восхищались ими, ходили, например,
в театр... впрочем, нам не нравилось ничего, кроме оперы.
Это правда. И при этом мы собирались отвергнуть искусство»
[561, с. 69—70]
Таким образом, успех расшифровки фильма зависит от
того, насколько полно будут раскрыты его внутренние и внеш-
ние смысловые связи. Не претендуя на окончательное решение
этой задачи, мы намереваемся привести несколько примеров,
которые должны указать на особый подход, какой требует
фильм «Человек с киноаппаратом».
Семантика монтажных связей
Одним из существенных ключей для расшифровки того,
как устроен тот или иной эпизод фильма, является идущее
от конструктивизма понятие «локального приема», которые
требовал повторения строя и свойств описываемого предмета
в структуре языка описания8. Форма произведения каждый
раз должна зависеть от очертаний того, о чем идет речь. Язык
для каждого случая «изобретается» заново, его конструкция
мыслится как часть конструкции объекта. Для пафоса изобре-
тательства, роднившего Вертова с конструктивизмом, «локаль-
ный прием» оказался наиболее продуктивным принципом:
изобретался язык не максимально выразительный, а наилуч-
шим образом выражающий, характеризующий тему, не тожде-
ственный себе, а изоморфный по отношению к конкретному
предмету.
Обратимся, например, к монтажной последовательности9
середины части IV фильма. В этом эпизоде (кадры 66—110),
занимающем значительное монтажное пространство, участвуют
всего ^етыре кадра (строго говоря, пять, но пятый появляется
лишь один раз и относится к сообщению другого порядка,
которого мы коснемся позднее). Два из них изображают упа-
ковщицу папирос «Пароль» за работой, два других — работу
телефонисток на городском коммутаторе. Перед упаковщи-
цей — прямоугольный металлический стержень, который слу-
жит формой для изготовления пачек. Один из кадров пока-
зывает крупным планом руки упаковщицы, когда она на
363
Глава 2. Рецепция как расшифровка
121—122. Упаковщица.
стержне сгибает лист мягкого картона, загибает углы донышка
и точным движением отправляет заготовку вправо за кадр.
На другом кадре — лицо той же упаковщицы (илл. 121—122).
Два других кадра показывают пульт многоместной комму-
таторной установки, руки работающих на нем телефонисток
и, соответственно, лица работающих телефонисток (илл. 123—
124).
Из различных комбинаций этих четырех кадров и состоит
более чем 40-кадровый участок фильма.
Порядок кадров в эпизоде следующий:
1 руки упаковщицы работают
2 лицо упаковщицы
3 руки работают
4 лицо
5 руки... (и т. д., чередование продолжается, все учащаясь)
123—124. Телефонистки.
364
Часть III Текстуальный анализ
6 лицо упаковщицы
7 из типографской машины выскакивают листы картона с
надписью «Пароль»
8 лицо упаковщицы, улыбается
9 руки телефонисток работают
10 лица телефонисток
11 их руки
12 лица
13 руки упаковщицы работают
14 лица телефонисток
15 руки упаковщицы
16 лица телефонисток
17 руки упаковщицы... (и т. д., учащаясь до мелькания, по 2
и 3 кадрика в кадре).
Такова принципиальная схема синтагматики эпизода. Обра-
щает на себя внимание известная упорядоченность «словаря»:
если отвлечься на время от кадра 7, все кадры эпизода можно
классифицировать как по признаку «лицо или руки», так и по
принадлежности лица или рук. С этой точки зрения в после-
довательности легко выделить три части: кадры 1—9, пред-
ставляющие собой чередование рук и лица упаковщицы;
кадры 9—12, чередующие руки и лица телефонисток, и кадры
12—17, в которых руки упаковщицы чередуются с лицами
телефонисток. Примечательно, что кадры становятся все ко-
роче, так что в конце эпизода возникает эффект наложения
изображений. Поскольку в эпизоде (как и вообще в фильме)
нет ни одного кадра, совмещающего в себе руки и лицо упа-
ковщицы или руки и лица телефонисток, первые две части
последовательности, кроме прочего, утверждают свою принад-
лежность соответствующей внетекстовой действительности:
руки
лицо
—упаковщица
руки------
—телефонистки
лица------
Эти, казалось бы, элементарные соотношения приобретают
особое значение в фильме о языке кино, ибо затрагивают уже
сложившуюся к концу 20-х годов монтажную традицию. «Вос-
создание» человека по частям, вызывавшее богатую сеть ас-
социаций, начиная от эксперимента Кулешова «Танец» (1920)
и манифеста самого Вертова «Киноки. Переворот»10 до обсуж-
дения вопросов «части вместо целого» в обширной к тому
времени литературе по теории монтажа, снова приобрело по-
лемическую актуальность в связи с наступлением на кино
рапповской доктрины «живого человека». В рамках жанра
«учебника языка», в котором выступает «Человек с киноаппа-
ратом», эти монтажные примеры иллюстрируют онтологию
365
Глава 2. Рецепция как расшифровка
смены кадров. Однако по отношению к третьей части эпизода
они выступают лишь как введение, после которого демонстри-
руется собственно «фокус». Воссоздание целого по частям
уступает место построению из этих частей нового целого —
того, что Кулешов в другом эксперименте назвал «творимым
человеком»11, а Вертов (в названном манифесте) — «совершен-
ным человеком»12.
Чередование рук упаковщицы с лицами телефонисток под-
ставляет в подсказанную двумя предыдущими цепочками фор-
мулу («руки+лицо=человек») значения из различных рядов:
лицо
упаковщица
руки
—монтажный человек
лица
телефонистки—
руки
Таким образом, комбинируя и перестраивая кадры, Вертов
иллюстрирует возможности монтажа и, видимо, вступает
в скрытую полемику с выступлениями против формализма
в кино. Для Вертова «живой человек» — не надтекстовая ин-
станция, а функция текста.
Однако смысл эпизода этим не исчерпывается. В «Человеке
с киноаппаратом» мотив «кино в кино» всегда сопряжен с
другими темами. Помимо самоописания, монтажный строй
эпизода обладает определенной смысловой функцией, касаю-
щейся содержательной стороны кадров.
Чтобы раскрыть этот смысл, необходимо взглянуть на эпи-
зод в контексте других эпизодов части IV. Эта часть входит
в состав шести композиционных единиц фильма — шести
озаглавленных цифрами частей, каждая из которых обладает
определенной тематической доминантой13, образующей как бы
внешний слой значений, чаще всего не совпадающий с глубин-
ным смыслом фильма, и соблюдаемой по большей части фор-
мально: I — утренний сон города, II — пробуждение города,
III — городские события, IV — работа, V — отдых и спорт,
VI — развлечения. В каждой части отчетливо выделяются
группы кадров, называемые здесь эпизодами и образующие
глубинное членение фильма. Единство эпизода может заклю-
чаться либо в предметной сфере, либо в монтажной конструк-
ции. В некоторых частях (например, V) эпизоды выделяются
лишь условно, а в построении доминирует общий для всей
части принцип. В других важен строй каждого эпизода, а
смысл кроется в разнообразии монтажных конструкций. Так
строится часть IV.
366
Часть Ш Текстуальный анализ
Эпизод с участием телефонисток и упаковщицы папирос —
третий эпизод этой части. Как и в остальных, в нем присут-
ствует действие, являющееся внешней темой части IV, — ра-
бота. Ходом эпизодов выносится определенное суждение об
этом процессе, выраженное на языке кино. Здесь решающее
значение приобретает общий контекст всех эпизодов части,
который необходимо выяснить, чтобы понять тот, о котором
идет речь. Понять его — значит найти ответы на вопросы:
значимо ли то, что в эпизоде в качестве частей, из которых
строится целое, выступают именно руки и лица работающих;
случайно ли, что телефонисток в кадре несколько, а упаков-
щица — одна; почему в заключительном чередовании прини-
мают участие именно руки упаковщицы, а лица — телефо-
нисток?
Для этого рассмотрим 20-кадровый эпизод, непосредственно
предшествующий описанному (часть IV, кадры 40—60). Ткань
эпизода значительно отличается от строя эпизода с телефо-
нистками и упаковщицей. Это — второй эпизод части, в кото-
ром участвуют: две швеи, одна из которых шьет вручную,
другая — на швейной машине; две ткачихи на текстильной
фабрике; монтажница за работой; киноаппарат. Эпизод начи-
нается с изображения сидящей на стуле швеи:
Швея:
1 вдевает нитку в иголку
2 ее лицо
3 расправляет ткань на коленах
4 лицо
5 руки шьют
Следующие три кадра — крупные планы киноаппарата:
6 глядящий на нас объектив
7 рука крутит ручку аппарата
8 объектив
Кадр в позициях 6 и 8 (они одинаковы) встречается в
фильме чаще других. Впервые он появляется в последнем эпи-
зоде части I (кадр 105). Перескажем коротко содержание этого
небольшого эпизода. В нем участвуют: окно с деревянным
жалюзи, перья которого вращаются; молодая женщина14; ветка
сирени; объектив киноаппарата (сквозь его линзу видны ле-
пестки, ирисовой диафрагмы). Эпизод предваряют шесть кад-
ров, чередующих сценку утреннего умывания женщины с
изображениями уборки городских улиц: женщина подходит
к умывальному тазу — струя из шланга ударяет в основание
уличного фонаря — умывает лицо — струя ударяет в мусор-
ную урну — вытирает лицо полотенцем — уборщица проти-
рает снаружи оконную раму. Это чередование вполне очевид-
ным образом устанавливает соответствие, которое далее ста-
367
Глава 2. Рецепция как расшифровка
125—126. Умывается женщина, моют улицы города.
новится одной из ведущих тем фильма — тождество в составе
и устройстве макро- и микрокосма, изоморфность человека и
города и эквивалентность их функций15. Следующий за ука-
занными кадрами эпизод развивает и варьирует этот мотив
(илл. 127—132). Все кадры — крупные планы:
Глаза
женщины
Перья
жалюзи
Объектив
Ветка
сирени
1 протирают-
ся полотен-
цем, откры-
ваются.
2 повернув- 3 смотрит,
шисъ, откры-
ваются.
4 снята вне
резкости.
5 лепестки
диафрагмы
сужаются...
6 ... посте-
пенно входит
в фокус.
7 открывают-
ся — закры-
ваются.
8 моргают.
9 многократ-
но открыва-
ются — за-
крываются ...
368
Часть III Текстуальный анализ
10 морга-
ют ...
(и т. д. чередование учащается
до мелькания)
11 диафрагма закрывается.
127—132. Око—окно—окуляр. Здесь эта парадигма,
осевая для эстетики «киноков», рассмотрена Вертовым
в плоскости оптико'функциональных соответствий.
369
Глава 2. Рецепция как расшифровка
Легко заметить, что кадры, относящиеся к глазам и окну,
детально разрабатывают мотив изоморфности человека и го-
рода: окна — глаза города, створки — веки окон и т. д.;
изображение окна в значении лица или глаз города возникает
на протяжении всего фильма (ср. этимологически родственные
«окно» и «око»); подобной же проекции на городское про-
странство в части III подвергнутся и другие члены человече-
ского тела. Так с помощью сложных взаимных соответствий
Вертов попытался выразить простую мысль о тотальном кол-
лективизме городской жизни.
Два правых столбца вводят в это отношение новый смыс-
ловой элемент — объектив киноаппарата, который, по мысли
создателей фильма, служит одновременно окном и глазом.
На примере входящей в резкость ветки сирени нам объясняют,
что способностью видеть объектив обязан сходству с глазом,
а устройство и принцип действия диафрагмы те же, что и у
подвижных реек жалюзи (изменением сечения полезного от-
верстия регулируются глубина резкости и освещенность). Тем
самым киноаппарат словно вбирает в себя признаки биологи-
ческого и механического устройств16, снимая противопостав-
ление живого и неживого. Кинообъектив становится посред-
ником между двумя мирами — миром человека и миром го-
рода: от первого он заимствует инициативность и подвижность,
а от второго, машинного мира — вездесущность и сверхчело-
веческую способность видения17. Причастность разным мирам
уподобляет киноаппарат фигуре «трикстера» в мифологии, а
медиативная
If
ункция обеспечивает ему (скорее, чем опера-
ратору, его обслуживающему) роль истинного героя
фильма.
Все это помогает уяснить и значение трех крупных планов
киноаппарата в рассматриваемом эпизоде из части IV:
объектив — крутится ручка — объектив. Если аналогию между
городом и человеком нельзя трактовать как до конца про-
странственную, то киноаппарат уподобляется человеку уже
в силу своего «телосложения»18. Антропоморфность киноаппа-
рата использована в эпизоде для проведения параллели между
ним и швеей, лицо и руки которой чередуются в начальных
кадрах. (Воздержимся пока от интерпретации этой особенно-
сти, отметив лишь, что принцип раскадровки человека на
лицо и руки проводится на протяжении всей части IV: вспом-
ним эпизод с телефонистками и упаковщицей папирос.)
Лицу — рукам — лицу — рукам работающей швеи соположены
лицо — рука — лицо снимающего ее киноаппарата. Но основ-
ным сообщением здесь является не новое доказательство
антропоморфности аппарата, а одна из ведущих мыслей всей
части IV: утверждение, что киноаппарат — такой же тру-
женик, как и все.
24 102326
370
Часть Ш Текстуальный авалкз
133. Отголосок полемики;
«сапожник» или «чистилыцик
сапог»?
Здесь необходимо отметить, что наряду с поэтической ми-
фологизацией образа киноаппарата для художественного мира
Вертова характерна демифологизация его социальной роли,
созвучная ключевому для левого искусства того времени пе-
реводу фигуры «художника-творца» в план производственной
образности19. Этот мотив оказывается сквозным не только для
фильмов и статей «киноков», но и для художественного пове-
дения последних; он, собственно, и является мотивом поведе-
ния, распространенным на другие тексты. Так, на публичных
выступлениях Вертов, варьируя постоянный для риторики
20-х годов мотив «сапог выше искусства», имел обыкновение
противопоставлять «киноков-сапожников» артистам художе-
ственного кино, которых называл «чистильщиками сапог»20.
(Кадр 28 из части IV, в котором показан киноаппарат, глядя-
щий на нас из-под фанерной арки с надписью «Чистильщик
специалист с Парижа», следует понимать как отсылку к этой
ситуации.)
В таком смысловом ключе происходит дальнейшее развер-
тывание эпизода из части IV (начало см. на с. 366):
... 9 Другая швея шьет за швейной машиной
10 ее рука вправляет ткань под игловодителъ
11 другая ее рука притормаживает маховичок
12 вправляет ткань
13 шьет, улыбается
14 ткань бежит в машину из-под пальцев швеи
15 кинопленка бежит в пальцах монтажницы, останавли-
вается
16 швея приводит в движение маховичок
17 монтажница берет с монтажного стола моток пленки
18 ее рука пишет на клочке бумаги: «№ 23»
19 ткачиха снимает со станины ткацкого станка моток
нити, смеется
20 монтажница крепит метку «23» к мотку кинопленки.
371
Глава 2. Рецепция как расшифровка
134—136. Ткань под пальцами
швеи — пленка в руках
монтажницы.
Эпизод примечателен тем, что строится на постоянном
поиске соответствий между способами производства фильма и
промышленного производства не только на пластическом (как
14=15 или 17=19 и т. д.) и техно-типологическом (в истории
техники киноаппарат принадлежит к той же ветви, что и
швейная машина, у которой Люмьер позаимствовал скачко-
вый механизм) уровнях, но и на весьма важном для Вертова
уровне словарных соответствий.
Вопрос о словесных аспектах языка немого кино встает
наиболее остро, когда речь заходит о таких текстах, как фильм
без надписей, «интеллектуальное кино» или «чистый кино-
язык». Эксперименты подобного рода, как правило, комменти-
ровались их авторами как попытки создания «международного
языка», способа преодоления языковых барьеров. Однако та-
кие заявления не заслуживают доверия. Практически любое
из интеллектуальных «монтажных высказываний» можно рас-
сматривать в качестве криптограммы фразы или слова на есте-
ственном языке, точнее, в качестве киноребуса, планом выра-
жения которого становятся вещи, а планом содержания в
большинстве случаев оказываются идиома, игра ело” пптата
и другие фигуры, препятствующие межъязыковому обучению.
Нас не должны смущать наблюдения современников свиде-
тельствующие, казалось бы, о противном: «При просмотре
372
Часть 1
Текстуальны* анализ
обычных фильм, даже самых лучших, зритель, глядя на экран,
мысленно переводит зрелищное восприятие в словесные об-
разы <... > При просмотре «Человека с киноаппаратом» зри-
тель эту фильму читать не может <... > Каждая попытка
зрителя перевести какое-нибудь место картины (в силу при-
вычки) на язык слов немедленно прерывает связь между ним
и экраном, так, как будто бы автоматически выключается
зрительный ток» (ЦГАЛИ, ф. 2091, on. 1, ед. хр. 90). Здесь
автор (Э. Виленский) незаметно для себя подменяет объект
описания: описывает не семантический механизм фильма, пре-
дельно логоцентричный, а скорее психологический механизм
всякого непонимания.
Хотя сам режиссер и не признавал этого, словесное напол-
нение проступает сквозь фильм «Человек с киноаппаратом»,
как заштукатуренные буквы на торцах домов: надписи не ис-
чезли, а словно ушли в «подсознание» фильма, продолжая
задавать оттуда ритм и логику монтажных ходов. Так, в разби-
раемом фрагменте эпизода отождествлению подверглась не
столько материальная сторона трудового процесса (например,
труд швеи и монтажницы как сидячая работа за механизмом
с ножным приводом), сколько невидимая сеть лексических ас-
социаций. Семантическое поле слов «строчить», «строчка»,
прямо связанное с крайне важным для Вертова миром поэзии
и письма, посредством концепции «кинописи» распространя-
ется и на процесс монтажа. В данном эпизоде обыгрывается
значение этих слов в качестве термина швейного ремесла и
тем самым устанавливается поэтико-этимологическая связь
монтажа фильма одновременно с производственным и стихо-
творческим процессами, что весьма точно соответствует взгля-
дам Вертова на кино. (Именно поэтому для описания фильмов
Вертова наиболее подходящим оказывается термин «монтаж-
ная строчка», при условии сохранения «ножниц» указанных
значений.)
Кадр 19 вводит в игру новое лексическое гнездо — терми-
нологию ткачества, к которой, как полагают, относятся многие
этимологии гуманитарных терминов в разных языках21. Так
подготавливается появление последнего кадра анализируемого
эпизода — одного из самых необычных кадров фильма:
21 ткачиха за ткацким станком (камера панорамирует вправо)
другая ткачиха за станком (панорама влево) первая ткачиха
работает (панорама вправо) вторая ткачиха лицом к первой
(панорама влево) первая ткачиха работает, улыбается (па-
норама вправо) вторая ткачиха (панорама влево) и т. д.
несколько раз.
Ракурс, характер и ритм многократного панорамирования
указывают на то, что движение камеры изображает «снова-
ние», т. е. ткачихи показаны под утлом зрения снующего чел-
373
Глава 2. Рецепция как расшифровка
/37—135. Руки.
нока ткацкого станка22. Тем самым идентичность работы
«кинока» и любой другой трудовой деятельности, служившая
смысловой нитью монтажа всего эпизода, пластически утвер-
ждается самой тканью последнего кадра — «текстильным»
построением текста.
Обращает на себя внимание, что «эпизод швей и ткачих»
организован еще и по принципу нарастания, существенному
для смысла всей части IV, т. е. по увеличению степени меха-
низации производства: ручной труд — индивидуальное машин-
ное — заводское машинное производство. Вся эта часть фильма,
посвященная теме труда, организована поэпизодно с тем ра-
счетом, чтобы служить «изложением» определенных сужде-
ний на политэкономические темы. Более или менее полная
передача таких высказываний сопряжена с трудностями глав-
ным образом технического порядка. Однако фильм устроен
так, что для вербализации основной мысли сообщения, дове-
ренного IV части, достаточно и краткого знакомства с содер-
жанием эпизодов. Напомним, что эпизод швей и ткачих — вто-
рой, а за ним следует эпизод с упаковщицей и телефонист-
ками. Далее следует пространная монтажная строчка (кадры
110—144), почти полностью состоящая из крупных планов рук,
выполняющих различную работу: рук машинистки, рабочего,
пианистки, кассирш, парикмахера, кинооператора, монтаж-
ницы и т. д., причем, как и повсюду в фильме, выбор «дей-
ствующих рук» не случаен и их последовательность не
хаотична, а изобретательно развивает и комментирует опре-
деленный мотив.
Однако даже сам состав эпизода «руки» позволяет про-
честь определенную закономерность в последовательности трех
известных нам монтажных строчек. Как уже отмечалось, эпи-
374
Часть
II
Текстуальный анализ
зод «телефонистки и упаковщица» построен на монтажной
подтасовке — они «меняются» руками и лицами. То обстоя-
тельство, что предшествующий эпизод («ткачихи и швеи») вы-
деляет руки и лица в качестве значимых единиц текста, эпизод
«телефонистки и упаковщица» лишает руки и лица однознач-
ной связи «по принадлежности», а последующий эпизод во-
обще обходится без лиц, содержит в себе вполне определен-
ный тезис. Не случайно и то, что сначала нам демонстрируют
несколько лиц и несколько пар рук, потом несколько лиц
(«телефонистки») обретают одну пару рук упаковщицы, и,
наконец, мы наблюдаем только руки. Аналогично тому как
синтагматика внутри строчки «швей и ткачих» семантически
интерпретировалась как рост механизации труда, логика смен
эпизодов в смысловом плане указывает на усиление его обще-
ственного характера.
Разумеется, «экономическая» образность — лишь одно из
возможных измерений текста. Фильм — не иллюстрация к
политэкономии, скорее последняя иллюстрирует идею фильма.
Чтобы убедиться в этом, достаточно коснуться первого эпи-
зода части, пожалуй, наиболее любопытного по методу коди-
рования сообщения.
Эпизод состоит из 35 кадров (4—39). Приведем его в сокра-
щенной записи, выявляющей монтажный принцип вне повто-
рений и варьирования сходных кадров23:
1 в косметическом салоне накладывают маску на женское
лицо
2 рабочая замазывает коксовую печь
3 женщине моют голову
4 в бадье стирают белье
5 бреют мужское лицо
6 точат топор
7 маникюрят женские пальцы
8 пальцы склеивают кинопленку.
Нетрудно заметить, что перечисленные картины (в несо-
кращенном виде — группы кадров) связаны попарно по семан-
тическим признакам: 1—2 — по предикату «намазывания,
облицовки», 3—4 — по «мытью», 5—6 — по «металлическому
лезвию», 7—8 — по «манипуляции с участием пальцев». Од-
нако выявленные признаки — лишь первый шаг в этом логи-
ческом построении, смысл которого кроется не в сходстве,
а в различии. Общим моментом для всех четырех пар будет
противопоставление в каждой из них объектов действий по
признаку одушевленности: в каждой нечетной картине дей-
ствие производится над человеком, тогда как то же действие
в четных картинах имеет своим объектом неживой предмет:
375
Глава 2. Рецепция как расшифровка
139—146. Тезис всего ряда: обратимость субъектно-объектных
отношений — запечатлелся в микродраматургии кадра с топором:
у точильщика отрублен палец.
376
Часть Ш Текстуальный анализ
Объект
Предикат
одуше вленный
неодушевленный
Намазывание
Мытье
Металлическое
острие
Пальцы
1 мажут лицо
3 моют голову
5 бреют лицо
7 маникюрят
2 замазывают печь
4 стирают белье
6 точат топор
8 монтируют фильм
(Синтагматически матрица читается слева направо, пара-
дигматически, т. е. в целях расшифровки сообщения, путем
сопоставления колонок.) Скрытым «тезисом» эпизода является
нейтрализация оппозиции между человеком и предметом, дей-
ствователем и инструментом, субъектом и объектом действия
(посредством утверждения типа «действие, производимое че-
ловеком над предметом, производится и предметом над чело-
147—150. Деэстетизация досуга: в соотношении темных и светлых,
прикрытых и открытых участков тела отдых работниц
являет собой «негатив» отдыха «нэпманш».
377
Глава 2. Рецепция как расшифровка
веком»). Это — уже знакомый нам мотив, содержащий (по-
мимо единства живого и неживого) идею противопоставления
лица и рук как знаков соответственно «индивидуума» и «кол-
лектива», «незначимого» и «значимого», «досуга» и «труда»
и т. д.: в отличие от правого столбца и от всех последующих
эпизодов, в левой колонке «руки служат лицу». «Отрицатель-
ное» осмысление левого столбца заключается еще и в том,
что все его действия являются «эстетическими», поэтому не
случайно кадр 8 попадает в правую, «трудовую» колонку:
кино из области «искусства» переводится в сферу «произ-
водства».
Таким образом, рассмотренный выше первый эпизод
части IV предваряет собой все мотивы, которые будут варьи-
роваться по ходу ее дальнейшего развертывания. Уместно
коснуться того из них, который берет начало в отождествле-
нии человека и предмета. Это, — утопическая идея меха-
нистичности не только труда, но и самого человека, «стрем-
ление породниться с машиной» ]97, с. 46]. Во втором эпизоде
это — линия одушевления станка, который под углом зрения
снующего челнока «смотрит» на работниц. Здесь машина
равновелика человеку, а в третьем эпизоде монтажная «раз-
борка и сборка человека» приравнивает его к машине. Именно
к аргументам такого порядка относится кадр, на который мы
не обратили внимания при первом разборе эпизода (см. с. 364
кадр 7): в чередовании лица и рук упаковщицы в монтажной
позиции «руки» оказывается механическая лапа печатного
станка (илл. 151).
Смысловая линия «совершенного электрического человека»
(97, с. 47] получает логическое завершение в конце части IV,
в эпизоде (кадры 182—206), построенном на нарастании дета-
лей работающих машин. Грамматика этой строки, как и эпи-
зода «руки», строится на перечислении однородных членов:
151. В позиции «руки»—станок.
378
Часть
II
Текстуальный анал
. к
движущихся шатунов, валов, шестерен, эксцентриков, порш-
ней и вертящейся без посторонней помощи ручки киноаппа-
рата. В процессе труда, согласно «кибернетике» Вертова, ма-
шина заменит руки так же, как руки заменили лица. Конспек-
тивно движение смысла по пяти эпизодам части можно запи-
сать так:
лицо лицо лицо
руки руки руки
машина машина машина
Таким образом, часть IV фильма «Человек с киноаппара-
том» замечательна тем, что вся выстроена по метонимическому
принципу. Декларативная тема «труда» сопровождается темой
«участия», данной в самом принципе конструирования кино-
языка — часть вместо целого. В этом и заключается сущность
«локального приема» в применении к кино. В части IV нет
обозначений одного через другое, сближения противополож-
ностей и других признаков метафоризма. Ее «прямоугольный»
язык изображает станок, подражает ему монтажно и участ-
вует в его работе, от эпизода к эпизоду как бы по штампо-
вочному конвейеру.
Другие части фильма построены иначе. Так, часть Ш цели-
ком строится на метафоре. Речь там идет об односоставности
города и человека, причем идея «живого города» по утопич-
ности модели и попытке скрестить живое с неживым смыка-
ется с основной мыслью части IV. Способ же изложения
совсем иной — как если бы на план-карту города скалькиро-
вали анатомический атлас: метод наложения становится мето-
дом киноязыка, каждый кадр обретает двойное прочтение.
Метафорическим становится и сквозной персонаж фильма:
«киноаппарат-орудие наводит дуло на город <.. .> аппарат
весь несется над городом как «Медн. [ый] всадник»»24.
Идеальная модель города для Вертова строго центрична25.
В центре — площадь — исходная фигура монтажа и средото-
чие трамвайно-автомобильного движения. Посреди площади —
наиболее часто встречающийся персонаж — милиционер-ре-
гулировщик с закрепленным в мостовой семафором-вертушкой
с ручным управлением (илл, 153). Другие значимые места
города: завод и базар, клуб и пивная, роддом, загс, стадион,
кладбище, пляж и кинотеатр. Жизнь перечисленных мест на-
ходится в постоянном монтажном подчинении семафору-вер-
тушке и протекает под наблюдением киноглаза. Связь событий
с центром в вертовском городе обеспечивается по телефону.
Например (часть III, эпизод 2):
39 общим планом городская площадь
40 женщина снимает телефонную трубку
379
Глава 2. Рецепция как расшифровка
152. «... киноаппарат-орудие наводит дуло на город».
41 регулировщик берется за ручку семафора
42 женщина записывает телефонные сообщения
43 регулировщик оглядывает площадь
44 общим планом площадь со сквером
45 крупно: семафор поворачивается
46 ствол киноаппарата с крыши высокого дома «шарит над
городом»
47 жених и невеста в конторе загса
48 крупно: заполняется бланк «Запись про шлюб» [Свид. о
браке]
49 служащий загса пишет
50 аппарат на крыше нацеливается
51 невеста расписывается на бланке
52 аппарат на крыше
53 жених расписывается
54 семафор открыт, пропускает трамвай
55 берут справку о браке, благодарят, улыбаются
56 семафор поворачивается
57 молодожены уходят
380
Часть Ш Текстуальный анализ
153. Город Вертова послушен регулировщику с семаЛопом.
1
154—155. Отголосок полемики: кинок покидает пивную
/ «кинодурман»/ и окунается в жизнь.
381
Глава 2. Рецепция как расшифровка
756. Похороны.
157. Роды.
Примечательно, что монтажное обрамление, характерное
для повествовательных структур художественного фильма,
применяется здесь метафорически, создавая тем не менее
строго иерархическую картину полностью упорядоченной об-
щественной жизни. Обращает на себя внимание и то, как
флагрантные26 и не связанные между собой кадры создают
связную и нереальную ситуацию. Продолжением данного эпи-
зода является сцена развода, происходящая у той же стойки
загса и решенная на том же метафорическом материале правил
дорожного движения. В ней примечателен весьма характерный
для Вертова прием повторения семантики общественного со-
бытия в терминах городского пространства. Сцена вводится
резким разворотом «ствола» камеры на крыше и перебивается
такими пластическими метафорами, как изображение расходя-
щихся в разные стороны трамваев27, кадром разломанной по
оси улицы и т. д.
Крайнего выражения принцип пространственной сопри-
частности города смысловой форме события достигает в мон-
тажной строке, следующей непосредственно за известным
382
Часть Ш Текстуальный анализ
158—160. Смысловой мотив «чрева»
подготовлен глубинной
перспективой похоронной
процессии и повторен узкой щелью
улицы в искаженной перспективе.
эпизодом, в котором чередуются кадры похорон, родовых
схваток и свадеб. Эпизод завершается изображением похорон-
ной процессии и родов (90—91), которые подчеркнуто иден-
тичны по композиции: «герои» и того, и другого кадра появля-
ются «в глубине» и движутся «из глубины на нас» (покойного
провожают по лесной аллее; новорожденного извлекают из
чрева). Далее композиция этих кадров искусственно воссозда-
ется в кадре 92 сложной техникой тройного впечатления:
383
Глава 2. Рецепция как расшифровка
161, Город — лежащая женщина с картины Дж.-В. Брачелли (1624).
очертания лесной аллеи и лона молодой матери по замыслу
кадра повторяются в зеркально сходящейся перспективе ско-
шенных вглубь зданий, а места покойного и новорожденного
занимает человек с киноаппаратом (илл. 158—160).
Возможно, здесь на Вертова повлияли культурно-истори-
ческие концепции 20-х годов, согласно которым в древности
образ города мыслился как женский образ, а городские ворота
трактовались как «физиологический символ женщины» [167,
с. 15]. Изобразительную форму эти представления приобрели,
в частности, в пейзажах-анаморфозах XVII века, в которых
общий вид города мог одновременно прочитываться и как
изображение человеческого тела. Один из таких пейзажей
воспроизведен в книге Ю. Балтрушайтиса «Искусство ана-
морфоз» [483, с. 83]. Это — картина Дж.-В. Брачелли (1624).
Прямая обращенная к зрителю улица может читаться как со-
гнутые в коленях ноги лежащего человека, а постройки на
заднем плане — как две раскинутые руки. Городские ворота
в глубине перспективы одновременно обозначают женское
лоно (илл. 161).
Рассматриваемый эпизод из части III «Человека с киноап-
паратом» опирается на ту же пластическую метафору. Далее
внутренняя форма эпизода развивается в следующей строке:
на протяжении почти 20 кадров по-разному варьируется мотив
входа в темное, тесное и замкнутое пространство (эквивалент
смерти) и выхода из него (пластическая метафора рождения).
Это — лифт (кадры 99, 103...), телефонная будка (101), дверь
лестничной клетки (105, 108, 110...) и т. д., причем внешняя
и внутренняя точки съемки непрерывно чередуются (илл. 162—
384
Часть Ш Текстуальный анализ
162—166. Рождение и смерть
находят пластический эквивалент
в кадрах, варьирующих мотивы
входа и выхода, открытого
и замкнутого, светлого
и темного пространств.
166). Рождение и смерть немым эхом пробегают по хребту
города. Город Вертова человекообразен, киноок и организован;
конструктивный принцип «локального приема», согласно кото-
рому киноязык части IV фильма подражал машине, проявля-
ется в части III в подражении человеку: здесь город монтажно
одушевлен метафорой, тогда как в части IV человек смонти-
рован подетально. Можно сказать, что есть два способа мон-
тажа, которыми в одинаковой степени хорошо владел автор
«Человека с киноаппаратом»: один, по терминологии конструк-
тивизма, — центростремительный, вовлекающий в текст, дру-
385
Глава 2. Рецепция как расшифровка
гой — центробежный, распространяющий смысл из центра по
всему тексту28. Поиск смысла приобретает челночный харак-
тер, обусловленный включением то одного, то другого мон-
тажного механизма.
Внешние связи текста
Само название фильма показательно с точки зрения двой-
ственности кодирования смысла. Оборот «Человек с (... из
..., ... без ...)» — одно из популярнейших клише в списках
названий художественных фильмов 20-х годов (см. [75]), а
сочетание «с киноаппаратом» — наиболее неожиданное его
завершение. Вертов был весьма чувствителен к стилистиче-
ским сдвигам и постоянно использовал их в пародийных
целях. В части VI фильма есть кадр, содержание которого
сводится к аналогичному столкновению названий (кадр 3):
камера панорамирует с рекламного плаката фильма «Зеленая
Мануэлла» на вывеску «Кинотеатр Пролетарий» (илл. 167—
168). Весьма вероятно, что этот кадр отсылает к статье
О. Брика «Противокиноядие»29, где речь идет о засилии ком-
мерческого кино: на фасаде одного провинциального кино-
театра, пишет Брик, он увидел плакат, говорящий о важно-
сти кино среди других искусств, «а под ним висела афиша,
рекламирующая какую-то барахольную ленту заграничного
производства под названием «Зеленая Мануэлла»» [77,
с. 27] 3°.
Примечательно, что тема «кино в кино» не ограничивается
обыгрыванием в фильме материала кинопленки, экрана, мон-
тажного стола и кинокамеры, а обусловливает и особую
роль киноафиш. Так, в полемическом плане выступает афиша
167—168. Критика репертуара. Панорамируя, кадр сталкивает название
кинотеатра с названием фильма.
386
Часть Ш Текстуальный анализ
фильма Н. Охлопкова «Проданный аппетит» (ВУКФУ, 1928),
а также несколько других плакатов, отсылающих зрителя
того времени к текущему репертуару художественного кино,
которому Вертов, вслед за сторонниками «литературы факта»,
отказывал в праве на существование. Киноафиша в фильме —
знак «чужого кино», борьбе с которым отводится значитель-
ное монтажное пространство.
Замысел фильма предполагал начальную его часть посвя-
тить описанию «кинофабрики, где человек с рупором и сце-
нарием дирижирует жизнью бутафорской страны», затем
показать, что «вовсе это не дворец, а один только фасад из
раскрашенных досок и фанеры <.. .> и вовсе не жизнь, а
игра» [97, с. 166]. Хроникальный фильм Вертов противопо-
ставляет художественной драме как убеждение одурмани-
ванию, как воздействие на сознание зрителя фактами воздей-
ствию игрой на его подсознание31. С этим связано и характер-
ное для фильма «обнажение приема»32, в свою очередь
объясняющее движение смысла в первоначальном замысле —
создание иллюзии, ее разоблачение, «уход в жизнь» с нескры-
ваемой кинокамерой33. Однако при работе над фильмом
Вертов отказался от первоначального решения в пользу
менее декларативного. Пафосу разоблачения режиссер
предпочел путь пародирования. Тем самым ему удалось
избежать противоречия, таившегося в приведенной выше
заявке: уход от литературно-театральных условностей худо-
жественного киноязыка выливался в литературно выстроен-
ный сюжет-аллегорию. Пародическое же построение не
только соответствовало природе искомого Вертовым кино-
языка, но и позволяло ему строить некоторые эпизоды в ли-
тературно-повествовательном ключе, не нарушая ограничений,
им же себе поставленных.
Пародийные вкрапления в фильм сосредоточены в основ-
ном в части I — там, где по замыслу должно было поме-
щаться «посещение и разоблачение кинофабрики». Часть
начинается с пролога: человек с киноаппаратом на плече
входит в экран пустого кинозала, зал наполняется публикой,
киномеханик, вынув катушку с фильмом из коробки (на ко-
робке — карандашная надпись «Людина з аппаратом ч. I»,
различить которую можно, только остановив фильм на мон-
тажном столе), заряжает ее в проектор, зймер в готовности
оркестр? в проекторе зажигается Вольтова дуга, пленка при-
ходит в движение, дирижер взмахивает палочкой и на
экране возникает цифра «1» (кадры 1—68).
После «единицы» развертывается собственно первая
часть фильма, послужившая полем для немой полемики
между художественным и хроникальным кино, причем пона-
чалу — в чисто стилистическом ключе. Первый кадр после
387
Глава 2. Рецепция как расшифровка
169—170. Перов, обои, цветы на одеяле — эти приметы
«мещанского уюта» нужны для контраста с последующим эпизодом —
«спят беспризорные».
пролога — наезд на закрытое окно со стороны улицы, сквозь
занавеску можно различить обстановку спальни.
Кадр 2 — уличный фонарь на фоне серого неба,- 3 — мо-
лодая спящая женщина, ее рука свободно покоится на
узорчатом одеяле; 4 — во весь экран репродукция картины
В. Перова «Рыболов»,- 5 — кисть руки на одеяле, кольцо с
камнем,- 6 — фрагмент киноафиши: склоненные друг к
другу женская и мужская головы, мужчина пальцем у рта
показывает «тише!»; 7 — изогнутая шея спящей; 8 — пустой
сад, дерево на ветру; 9 — запрокинутая за голову другая
рука спящей.
Семь следующих кадров контрастируют с первыми де-
вятью: 10 —пивной ларек в форме бутылки; 11 — спит пья-
ный на скамейке; 12 — мусорная урна; 13 — на ящике для
отбросов спит беспризорник; 14 — его лицо; 15 — автопарк,
ворота закрыты; 16 — в пролетке без лошади, свернувшись
спит бродяга.
По особой выстроенности кадра и монтажного хода можно
понять, что здесь нам преподносятся образцы утрированно
документального стиля, с одной стороны (10—16), и пародия
на инсценировку (1—9) — с другой. Уже первый кадр отсы-
лает к сугубо условным клише повествовательного фильма:
наезды на окно, дом, вывеску и т. д. — характерный зачин
рассказа «о тех, кто внутри». Второй кадр в той же условной
манере («уличный фонарь уже не горит») определяет время
действия — раннее утро, спит женщина и т. д. В этой корот-
кой имитации начала «художественной драмы» дается ключ
к пародическому истолкованию (кадры 6 и 4). Как отмечалось
выше, введение в фильм элементов изобразительной культуры
служит своего рода стилистическим автокомментарием34.
388
Часть Ш
Текстуальный анализ
/71, Композиционный мотив
с плаката Эля Лисицкого (1929):
172. ... процитирован Вертовым
в «Симфонии Донбасса» (1930).
Связь Вертова с левыми тенденциями искусства 20-х годов
позволяет вполне однозначно восстановить его отношение к
живописи передвижников. Оно столь прозрачно, что картина
«Рыболов» уже в силу одного своего монтажного присутствия
пародийно окрашивает и комнату, и спящую женщину, и
весь эпизод.
Примечательно, что противопоставленный «комнатному
эпизоду» образец документального, положительно оценивае-
389
Глава 2. Рецепция как расшифровка
173. Коммерческий вариант мотива:
фрагмент плаката М. Длугача (1926)
к фильму «Кин».
МОЗЖУНИН
мого стиля (кадры 10—16), строго говоря, принадлежит не
«Человеку с киноаппаратом», а является автоцитатой из
фильма Вертова «Киноглаз» (1924)35 (в котором жизни беспри-
зорников посвящена отдельная тема), причем цитатой-копией:
вмонтированы те же кадры. Точно так же не безадресна и
пародия. Киноафиша «Тише!» (кадр 6) появляется снова во
второй части фильма (кадр 18), и там можно разобрать наз-
вание рекламируемого фильма — «Пробуждение женщины»
и подзаголовок — «художественная драма».
Семантическая игра, ради которой фрагменту из «Кино-
глаза» противопоставлен именно этот фильм36, проясняется
с дальнейшим монтажным развертыванием части I.
Если кадры 17—62 развивают мотив утреннего сна города:
неподвижные машины, станки и механизмы, пустые улицы,
манекены в витринах, молчаливые телефоны, то с кадра 63
начинается эпизод, в котором человек с киноаппаратом едет
в автомобиле к железнодорожному полотну и, пристроившись
на шпалах, снимает наезжающий, поезд. 65-м кадром снова
возникает фрагмент афиши «Пробуждение женщины», сигна-
лизируя о пародии: далее ход эпизода то и дело перебивается
уже знакомыми кадрами спящей: закинутая за голову рука
(67), шея (74) и т.д.
Эти монтажные перебивки окрашивают эпизод семантикой
«сна», что позволяет Вертову ввести соответствующую слу-
чаю нарративно-монтажную структуру:
с нарастанием темпа и обострением ракурсов приближаю-
щегося поезда мечется по подушке в беспокойном сне жен-
390
Часть Ш Текстуальный анализ
174. Этот кадр практически
не виден — он держится на экране
четверть секунды.
ская голова, нога человека с киноаппаратом зацепилась за
рельс, метнулась рука на одеяле, поезд проносится над ними,
женщина, проснувшись, вскакивает с постели (75—85).
Пародийная парафраза фильма «Пробуждение женщины»
(«Erwachen des Weibes») строится на почти каламбурном
переосмыслении заложенной в нем метафоры «пробуждение
женщины в юном существе»37. Выше отмечалось, что худо-
жественный фильм приравнивается Вертовым к дурману,
кинематографу как «фабрике снов» противопоставляется
метод киноглаза как «фабрики фактов» [97, с. 87]. Пробуж-
дение «женщины-фильмы» от дурного сна художественного
кинематографа — вполне реальный для Вертова подтекст. Он
распространяется и на приведенный уже заключительный
эпизод части, где промытые глаза женщины обретают зрение
в объективе киноаппарата (эпизод «с жалюзи и сиренью»)38.
Заслуживает быть замеченным и пародийное вкрапление
в упоминавшемся выше эпизоде «руки» (часть IV): после
кадра, изображающего руки кассирши, пересчитывающей
деньги, на долю секунды возникает изображение руки, под-
нимающей пистолет (кадр 116). Этот кадр особенно поучи-
телен тем, что при экранной проекции практически незаметен
(его длина — 5 кадриков): не нарушая семантического хода
эпизода, он как бы про себя намечает альтернативную воз-
можность его развития, отрицаемую всей логикой существо-
вания фильма — автоматизм монтажных клише, в данном
случае криминально-повествовательных (илл. 174).
Длящийся долю секунды план руки с пистолетом особенно
много говорит о монтажном методе Вертова именно потому,
что представляет в тексте ту систему мышления (а тем са-
мым и систему рецепции), которую вертовский фильм после-
довательно стремится заблокировать. Однако предлагаемые
режиссером меры можно назвать крайне радикальными:
Вертов отсекает возможность манипулирования любыми
«готовыми» рецептивными единицами, даже предельно
391
Глава 2. Рецепция как расшифровка
малыми. Для любого кинематографиста — но не Вертова —
аксиоматична разница в степени подготовленности зрителя и
авторов фильма, будь то набор внешних, общекультурных
ассоциации или владение семантической структурой фильма.
Вертов же моделирует рецепцию фильма (а нельзя отрицать,
что режиссер ее не игнорирует, а именно моделирует, — по
наблюдению Вяч. Вс. Иванова, время от времени нам «показы-
вается как бы эталонная реакция зрительного зала, которую
словно предлагается продолжить реальным зрителям» [169,
с. 172]) исходя из двух взаимно противоречивых посылок —
требуется, чтобы зритель, обладая всей полнотой необходи-
мых для расшифровки знаний, вместе с тем обладал незамут-
ненным рецептивным фоном, был лишен автоматических
навыков «тривиального» восприятия и представлял собой
tabula rasa. Такой зритель, как было отмечено, может суще-
ствовать разве что в качестве гипотетического конструкта,
своего рода воспринимающей машины, «демона». В известном
смысле, он — порождение эстетики Вертова, уже в первом
манифесте провозгласившего «путь от ковыряющегося граж-
данина через поэзию машины к совершенному электриче-
скому человеку» [97, с. 47]. Как и «идеальный город», пост-
роенный из кадров «Человека с киноаппаратом», идеальный
зритель этого фильма мыслится не в настоящем, а в
будущем.
___________Тлаба з__________
Поэтика неоднородного текста:
„Обломок империи"*
♦
Как «Октябрь» и «Человек с киноаппаратом», фильм
«Обломок империи» Фридриха Эрмлера (1929) был сделан в
пору борьбы «против формализма в киноискусстве», однако,
в отличие от фильмов Вертова и Эйзенштейна, был порож-
дением не только этой эпохи, но и этой борьбы. «Обломок»
снимался в те месяцы, когда несогласованные удары пар-
тийной и рапповской печати уже обрушились на «Октябрь».
За девять месяцев до «Обломка» вышел фильм «Человек с
киноаппаратом» — его ожидал такой же прием. Вертова
критика ругала за отсутствие «живого человека», Эйзен-
штейна — за «символизм». Эрмлер учитывал прежний
опыт — «Обломок империи» был задуман как фильм, обла-
дающий в этом отношении определенным иммунитетом.
Вместе с тем «Обломок» оставался фильмом 20-х, а не
30-х годов. Эрмлер был еще далек от того, чтобы обходить
стороной «опасные места» или строить картину по директив-
ным указаниям. Вместо этого режиссер попытался «встать
над схваткой», найти прием, который бы позволил фильму,
сохраняя верность принципам «левого искусства», в то же
время оставаться относительно неуязвимым. В центр картины
был поставлен «живой человек» — унтер-офицер Филимонов
в блестящем исполнении Ф. Никитина. Однако введение
сильной > центральной фигуры не означало, что «Обломок
империи» встал на рельсы традиционного линейного повест-
вования (а именно это требование негласно стояло за при-
зывами РАППа касательно «живого человека») или отказался
* Настоящая глава написана на основе текстуального анализа фильма Ф. Эрм-
лера, предпринятого совместно с М. Б. Ямпольским.
393
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
от «символизма» (в упрощенном лексиконе газетной критики
этот термин чаще всего означал опыты в духе интеллекту-
ального кино Эйзенштейна). Дело в том, что унтер-офицер
Филимонов был задуман как герой с поврежденной психи-
кой1. Это позволило Эрмлеру одной из тем фильма сделать
внутренний мир ненормального персонажа, перевести
«символические» приемы интеллектуального кино в плоскость
иллюстрации психических процессов.
Факт интериоризации интеллектуального монтажа, его
мотивировки связью с больной психикой героя примирил с
нелинейным развертыванием фабулы даже самых неприми-
римых противников такого кино. Тот же Пиотровский,
который писал об «упадочной и изжитой» символике
«Октября», теперь утверждал, что «Обломок империи»,
будучи наследником интеллектуального монтажа, демократи-
зировал символ в кино, включив его в ткань простой фабулы
[295, с. 3). В рецензии в газете «Кино» он высказался так:
«<.. .> еще недавно мы считали, что применение символов
очень трудно воспринимается зрителем и т. д. Между тем
данная картина целиком построена на символических дейст-
виях и все же доходит до зрителя» [297, с. 2].
О том же, но несколько яснее писал В. Недоброво2, а член
Художественного бюро Совкино Муров на обсуждении кар-
тины подтвердил реализм того, что в случае Эйзенштейна
неизменно называли формализмом, — конфликтного, дискрет-
ного, нелинейного монтажа: «Травма не в результате ранения,
а сыпного тифа у меня была, и память восстанавливается
толчками: не сразу происходит процесс восстановления
памяти, а толчками, и я считаю, что товарищ Эрмлер пре-
красно использовал особенности травмы» (ЛГАЛИ, ф. 257,
оп. 16, ед. хр. 84, л. 59).
Таким образом, Эрмлер если не снял конфликт между
левым искусством и правой критикой, то во всяком случае
включил его в общую эстетическую структуру фильма. Сог-
ласно формулировке одного из рецензентов, ««Обломок импе-
рии» — единственная в советском кино лента, демонстрирую-
щая борьбу формализма с марксистской идеологией, борьбу,
проходившую в самом режиссере» [85, с. 2]. Продолжая эту
мысль, можно было бы сказать, что на деле в самом
режиссере уживались не две, а несколько эстетических
систем. Критики наперебой называли школы, повлиявшие на
стилистику «Обломка империи», — «киноки», экспрессионизм,
«отдельные приемы Довженко» (Б. Алперс, см. [17, с. И]).
В статье «Глазами большевика» О. Адамович утверждал, что
Эрмлер «на пути художественного эксперимента связан
больше всего с «факсами»» [8, с. 5] (И. Соколов, со свойст-
венной этому критику беспочвенной фамильярностью, вклю-
394
Часть Ш Текстуальный анализ
чил Эрмлера в число, как он выразился, «фэксят» [347,
с. 21].)
Сам Эрмлер, конечно, считал себя учеником Эйзенштейна.
«Его святейшему Папе! Эйзенштейну-учителю» — адресовано
его письмо от января 1930 г., подписанное Fridericus Rex3.
Вскоре после премьеры «Обломка», встревоженный проис-
ходящим вокруг, Эрмлер написал Эйзенштейну в Германию:
«Хотя не лишен остроты и злободневности формирующийся
новый блок в лице Кулешова, Бассалыго и компании.
Забавные вещи. По утверждению упомянутых т. т„ путь
многих, вернее нас всех, не только не полезный, а и не совет-
ский — вредный. Мы идем к символизму (?!). Мы не пони-
маем поставленных страной перед нами задач, мы не
способствуем новому строительству. Опасность нужно пре-
дупредить, а потому да здравствует новый союз, без различия
направлений и школ.
Не правда ли, весело? Бассалыго счастлив, другие, оче-
видно, разделяют его радость.
Наконец-то придет новая эра, наступит конец вредному
интеллектуальному кинематографу.
Поглядим. Скоро Кулешов опубликует свою декларацию,
где он, грешник, кается и начинает стройку.
Что же будет, господи? Не возвращайтесь, товарищи, а то
крышка будет. Подумайте как нас будут бить» (ЦГАЛИ,
ф. 1923, on. 1, ед. хр. 2284).
И все же, при несомненной ориентации на интеллектуаль-
ное кино Эйзенштейна, «Обломок империи» представлял
собой стилистически разнородный текст. Сам по себе факт
стилистического разнобоя никого бы не удивил — эклектизм
стиля был свойствен рядовому советскому фильму 20-х годов.
«Эйзенштейнизмы» встречались в фильмах школы Эйзен-
штейна («Черный парус» Юткевича и «Голубой экспресс»
И. Трауберга включали прямые цитаты из «Броненосца По-
темкина» и «Октября»4), но чаще — в «мелодрамах на
советскую тему», где эйзенштейновские клише фигурировали,
видимо, не столько из любви к Эйзенштейну, сколько для
того, чтобы фильм казался идеологически выдержанным.
Типичный пример — фильм Ф. Оцепа «Земля в плену»
(1927—1928), задуманный, как и многие кассовые фильмы
Межрабцом-Руси, как советская локализация дореволюцион-
ной мелодрамы о крестьянке, попавшей в город, ставшей
наложницей городского барина и кормилицей его ребенка,
а затем выброшенной на панель.
Опытный режиссер со стажем в дореволюционном кинема-
тографе, Оцеп искусно выстроил линейный кинематографи-
ческий рассказ, — только так и можно изложить на экране
эту историю. Однако в один из поворотных моментов повеет-
395
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
вования режиссер решает «кинуть кость» Главреперткому и
вставляет метафору из «Стачки»: у юной кормилицы пропа-
дает молоко. Неожиданно в мир фильма вклинивается кадр
с коровами в стойле, затем надпись: «Чтобы коровы хорошо
доились, за ними надо ухаживать». Снова кормилица, затем
опять стойло и слова врача-ветеринара в черных очках:
«Молоко пропало. Не вернется. НА БОЙНЮ». После этого
фильм возвращается в нормальное русло5.
В статье 1929 г. Б. Алперс заклеймил такого рода фильмы
несколько тавтологическим определением: «<.. .> отсутствие
цельности в творчестве художника и превращает его произ-
ведение в механическое сцепление элементов различных сти-
лей» [18, с. 21], осторожно добавив: «Между прочим, «Обло-
мок империи» частично не свободен от такого эклектизма. На
что я указывал в своей рецензии, говоря о недостаточном
усвоении Эрмлером в первой части «Обломка» отдельных
приемов Довженко» [Там же]. Между тем, по общему
мнению, «Обломок империи» был фильмом не рядовым и при
очевидном разнообразии стилевых пластов в «отсутствии
цельности» его никто не уличал. Очевидно, полигенетизм
«Обломка» объяснялся не только стремлением инкорпо-
рировать в одном тексте всю гамму наличествующих в
данный момент художественных языков и как бы упредить
тем самым насильственную ликвидацию группировок дирек-
тивой сверху с помощью «Бассалыго и компании» — в понят-
ном стремлении показать, что многообразие лучше взаимного
уничтожения, в которое грозил вылиться «новый союз без
различия направлений и школ». Неоднородность указанного
текста требует также объяснения того, почему его части
функционируют как единая художественная структура —
вопрос, предполагающий более пристальный текстуальный
анализ некоторых сцен.
Сюжет
В «Обломке империи» рассказана история унтер-офицера
царской армии Филимонова, контуженного и потерявшего
память во время первой мировой войны. Память возвраща-
ется к Филимонову на одиннадцатом году советской власти.
Возвращается и способность осмысленно воспринимать
окружающее. Жизнь предстает перед Филимоновым во всей
внезапности своей новизны. Поначалу Филимонов ищет в
новой действительности свое прошлое — жену, владельца
фабрики, где он работал до войны. Прошлое ускользает.
Филимонов включается в новую жизнь.
396
Часть Ш Текстуальный анализ
На обсуждении «Обломка» в Совкино директор кинофаб-
рики М. Ефремов напомнил присутствующим: «Идея показать
глазами проспавшего 10-летие социалистического строитель-
ства в нашей стране витает в недрах художественного
отдела очень давно. Я помню, на эту тему был написан
сценарий «Городовой Селедкин», которым увлекался Бляхин,
предполагали создать малометражку комического характера.
Затем был на эту тему сценарий «О некоем чиновнике»»
(ЛГАЛИ, ф. 257, оп. 16, ед. хр. 84, л. 58 об.). В отыскивании сю-
жетно-типологических параллелей упражнялись и рецензенты.
И. Соколов писал: «Сейчас вся западно-европейская литера-
тура больше всего культивирует сюжет потери памяти и ее
возвращения через несколько лет. В романах о мировой войне
1914—19 гг. — например, в знаменитом романе Ж. Жироду
«Зигфрид и Лимузэн» или в романе Абеля Моро «Сумасшед-
ший» — раненый герой забывает все прошлое, но затем к
нему возвращается память» [346, с. 2].
Б. Алперс называет другие параллели: «Человек исчезает
на многие годы из жизни. Или он засыпает фантастическим
образом, как в уэллсовском «Спящем» и в «Клопе» Маяков-
ского. Или он теряет память, как в «Торговцах славой».
Проснувшись или выздоровев, герой не узнает окружающего
мира» [17, с. 11]. В другой статье Алперс упоминает исходные
тексты для сюжета такого типа — «Энох Арден» А. Тенни-
сона и «Рип-Ван-Винкль» У. Ирвинга [18, с. 21].
В использовании названных сюжетов на советском мате-
риале угадывалась перекличка с ключевой идеей литературы
и литературоведения 20-х годов — теорией остранения.
Хотя в опоязовском понимании прием остранения заключался
не в фабуле, а в способе описания («вйдения») предмета,
критика с готовностью увязывала одно с другим. В этом плане
«Обломок» легко становился мишенью для борьбы с форма-
лизмом.
Именно вокруг остранения завязалась полемика по поводу
«Обломка» между И. Соколовым и М. Роммом. Отвечая на
выпад Соколова против Эрмлера в газете «Кино», Ромм писал:
«<...> да, формально сценарий характеризуется остране-
нием, но с каких пор остранение запрещено в качестве худо-
жественного приема?» [318, с. 3]. Соколов возражал:
«Физиологический, патологический сюжет потери и возвра-
щения памяти есть чисто формалистический прием «остра-
нения». М. Ромм выступил с защитой формалистического при-
ема «остранения» <.. .> Прием «остранения» (открытие
В. Шкловского) является основным методом для формалистов»
[346, с. 2].
Сценарная практика 20-х годов действительно свидетель-
ствует о повышенном интересе к технике остранения. Колли-
397
Глава 3, Поэтика неоднородного текста
зия «старого» и «нового» (лейтмотив соцзаказа тех лет)
наводила на мысль об «отсталом» герое, носителе остранен-
ного взгляда. Именно таковы персонажи, перенесенные из
Древней Руси в современность в сценарии Эйзенштейна
«МММ», странники из сценарного наброска Тынянова, явив-
шиеся из Сибири, где они жили отшельниками со времен
раскола («Странствие. Петербург. Автомобиль. Трамвай.
Толпа: киносъемка. Милиционер. Самый младший прыгает
в трамвай. Милиционер ведет их в милицию. Старичок
подписывает протокол полууставом. Новая жизнь. Младший
(бежавший) покупает пиджак. Старик в страхе перед водо-
проводом: столп водяной» и т. д. [377, с. 98] )4, наконец, герой
сценария М. Блеймана и В. Шписа «Рождение большевика»,
чей просто приезд в родной Петербург обставлен как путе-
шествие во времени: «Герой, как некогда ребенок, вновь
совершает путешествие по городу. Город изменился — герой
тоже. Вот странный большой праздничный куб. Вот целые
леса флагов <...> Герой в недоумении — что произошло?»
[66, с. 2].
В «Обломке империи» «наивный взгляд» запрограммирован
не только в сценарии. Эрмлер не довольствуется тем, что его
герой впадает в детство, и преобразования в стране представ-
ляются ему мгновенным сказочным превращением. Филимо-
нов страдает не просто выпадением памяти. Первый эпизод
(один из семи сюжетных блоков фильма), позднее обвиненный
критикой в «натурализме», «биологизме», «физиологизме»
(346, с. 2], «экспрессионизме» [281, с. 3], начинается с общего
вида железнодорожной станции, заваленной телами красно-
армейцев. Обнаруживается, что один из них еще жив.
Красноармеец доползает до станционной сторожки. В сто-
рожке — собака и ее щенки-сосунки. Раскидав щенят,
красноармеец припадает к собачьим сосцам. В дверях
появляется белый офицер и выстрелом убивает собаку,
оставив тифозного красноармейца «подыхать самому».
(Н. Осинский усмотрел здесь изображение ужасов войны в
духе Леонида Андреева [281, с. 3].) За происходящим из
своего угла наблюдает немой идиот — контуженный унтер-
офицер Филимонов, служащий у белых работником при вок-
зале.
Далее Эрмлер предлагает сюжетный ход, характеризующий
глубину регрессии, постигшей психику Филимонова. Собака
мертва. Больного красноармейца кормит капустой Филимонов.
Ф. Никитин, исполнитель этой роли, позднее вспоминал:
«Наевшись, он как ребенок припадает ко мне. А я — как
животное. (Филимонов в то время и был животным. Он жил
бессознательной, растительной жизнью, жил инстинктами.)
Мое сочувствие выразилось в животной же материнской
398
Часть Ш Текстуальный анализ
заботе: перебирал пальцами в его волосах, искал насекомых»
[271, с. 110]. Метонимический сдвиг собака—Филимонов в
первом варианте сценария был еще радикальнее: предпола-
галось, что голодный красноармеец припадает к сосцам
свиньи (ЛГАЛИ, ф. 257, оп. 16, ед. хр. 84, л. 1—2). Таким
образом, пружина остранения отведена до предела —
Филимонов предстает как носитель не только «отсталого,
наивного» взгляда, но и взгляда из глубины «дочеловеческого»
сознания.
Нетрудно себе представить, как в ходе обсуждений с
Эйзенштейном6 вынашивалась идея показать на экране эво-
люцию сознания от зоологической стадии до стадии «созна-
тельного пролетария», каким Филимонов предстает в финале.
Вместе с тем характерно, что отсутствующее, «прозрачное»,
т. е. остраненное, выражение глаза Филимонова сохраняют
и тогда, когда к нему уже вернулось сознание (возможно,
знаменитый «никитинский взгляд» возник отчасти с помощью
препарата, сужающего зрачки [271, с. 105]).
В следующем эпизоде место действия не изменилось —
Филимонов продолжает служить при той же станции, но
время действия — 1928 год. Однажды в окне поезда он видит
жену, что служит первым толчком к восстановлению памяти.
Этот сложный процесс, на котором мы остановимся позднее,
приводит к третьему эпизоду — сцене-вое поминанию о войне
и контузии.
Восстановив в памяти прошлое (титр: «Я — унтер-офицер
Филимонов, где мои сапоги?»), герой отправляется в Петер-
бург на поиски жены. Первым долгом он приходит в дом
фабриканта — хозяина ткацкой фабрики, на которой работал
до войны. «Не моя теперь фабрика. Ступай в фабком».
Председатель фабкома, тот самый тифозный красноар-
меец, которого некогда выходил Филимонов, узнаёт его.
«Унтер-офицер Филимонов снова становится рабочим».
Встает проблема адаптации «бывшего человека» к новой рабо-
чей среде. Филимонов пытается понять, кто теперь хозяин
фабрики. Ответом на этот вопрос служит эпизод, смонтиро-
ванный из хроникальных кадров — кинематографическое
иносказание понятия «труд».
В последнюю сцену вплетен мотив из «Эноха Ардена».
Герой находит жену, вторично вышедшую замуж. Муж —
бюрократ нового типа, советский культработник. Сцена
решена в стиле бытовой сатиры. «Жалкие обломки импе-
рии», — говорит, уходя, Филимонов. Переадресовка титуль-
ной метафоры фильма подводит черту под встречным парал-
лелизмом судеб — перерождением «бывшего человека»,
попавшего в пролетарскую среду, и вырождением «нового
человека», от этой среды оторвавшегося.
399
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
Возвращение памяти
Эйзенштейн непосредственно участвовал в переработке
этого эпизода7, который первоначально, по словам Эрмлера,
был каким-то эклектичным набором из старых образцов»
[410, с. 112]. К переработке побудила реакция Эйзенштейна
на просмотре отснятого материала. Эрмлер вспоминал:
«Впервые в своей жизни я услышал резкую откровенную
бранную критику по поводу мною сделанного. Последние
слова его были следующие: «Ты фрейдист, а не воспользо-
вался этим»» [Там же].
Как мы уже отмечали (по сути дела, повторяя наблюде-
ние, высказанное некоторыми рецензентами «Обломка»8),
введение в сюжет «живого человека», т. е. носителя «цент-
ральной» точки зрения, вело к интериоризации приемов
«интеллектуального кино». Авторский дискурс Эйзенштейна
и Вертова мыслился как проблема киноязыка, тогда как у
Эрмлера он выступает как проблема психологии. Тонкая гра-
ница между интеллектуальным монтажом в чистом виде
(Вертов), интеллектуальным монтажом, построенным по пра-
вилам внутренней речи реципиента (Эйзенштейн), и интел-
лектуальным монтажом, стремящимся обозначить внутреннюю
речь персонажа, была форсирована. Эпизод возвращения
памяти в «Обломке» интересен тем, что элементы интеллек-
туального кино на этом участке текста приобретают как бы
«двойное подданство»: проблемы киноязыка становятся в
фильме проблемами психологического порядка, а происхо-
дящее в сознании героя оказывается на удивление похожим
на эксперимент в области киноязыка.
Эпизод начинается с надписи: «1928 год». Рельсы, станци-
онный колокол. Надпись: «Только он один ничего не видел
и не помнил. Он ничего не знал даже о самом себе».
Филимонов, стоя на четвереньках (снова мотив собаки),
моет пол; забывшись, пускает по луже на полу бумажный
кораблик; идет с соседскими детьми смотреть поезд
прибытие поезда. В окнах вагонов мелькают пассажиры
в окне вагона — женщина с гладкой прической
Филимонов видит ее
обмен взглядами
женщина, надкусив яблоко, скрывается за оконной рамой
пустое темное окно вагона
Крупно деталь: удар в станционный колокол
Филимонов, подбежав к железнодорожному служащему,
пытается помешать ему звонить в колокол
Окно вагона — в нем появляется женщина, снова исчезает
Филимонов мечется, ищет
400
Часть Ш Текстуальный анализ
пустое окно
внутренний вид вагона — в вагоне женщина
рама пустого окна совпадает с полем кадра
из окна вылетает пачка из-под папирос
Филимонов следит за ее полетом
Крупно: лежит пачка, на ней. видна надпись «Эпоха»
Филимонов подбирает пачку, она пуста
жена в купе — крестится
поезд тронулся — уплывает пустое окно
в вагоне: спутник предлагает жене Филимонова яблоко;
она ест
Позднее эту сцену Никитин комментировал так: «Фили-
монов, этот бородатый дикарь с мозгом двухлетнего ребенка,
увидел в окне поезда знакомое женское лицо, в котором он
никак не мог признать лицо своей жены. Но впечатление,
полученное им, дало очень сильный психический толчок»
[271, с. 107]. Сцена решена в линейной повествовательной
манере: как фигуры на доске, в ней в исходных позициях
расставлены предметы и факты событийного мира фильма
(или: «объекты диегезиса»), которым впоследствии придется
участвовать в игре символических ассоциаций.
В плане психологического дискурса это — вещественные
стимулы, скорее напоминающие инвентарь рефлексологиче-
ской лаборатории, чем предметный мир фрейдизма (Эрмлер
вспоминал о реплике, как-то раз брошенной Эйзенштейном:
«Если ты не прекратишь возню с Фрейдом, я перестану с то-
бой знаться. Ты болван. Читай Павлова, ты увидишь, что не
Фрейд один существует на свете» [453, с. 204]). Так, при
изначально заданном зоологизме филимоновского сознания
ключевой стимул эпизода, вокзальный колокол, функцио-
нально соотносится с опытами по выработке условного
рефлекса на акустический сигнал (илл. 175).
В плане дискурса символического на первый план выхо-
дят предметы, в которых сфокусирована стержневая пробле-
матика фильма. Это, в первую очередь, окно и пачка папи-
/75. Акустический стимул служит
началом сложной цепочки образов,
ведущих к восстановлению памяти.
401
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
176—177. Мотив пустоты, отсутствия, утраты.
рос — вещи, расположенные как бы в точке пересечения
присутствия и отсутствия, пустого и заполненного, т. е. в точке,
имеющей смысловую соотнесенность с проблемой памяти и ее
потери. Возникает ощущение единого семантического ряда —
проем окна, пробел в памяти, пустая рамка кадра (илл. 176—
177). В предельно овеществленном виде проблема героя,
упустившего десять лет истории страны, символизируется
пустой пачкой с надписью «Эпоха» (илл. 178).
Далее, как объясняет ф. Никитин, «механически он воз-
вращается в домик сторожихи, где живет, и вот тут начина-
ется та знаменитая сцена, которую мы назвали: «машина-
пулемет»» [271, с. 107].
Комната в сторожке, самовар, швейная машина
входит Филимонов, берет со стола колокольчик, звонит...
Крупно: на столе — подобранная Филимоновым пачка
«Эпохи»
Крупно: вокзальный колокол
«Эпоха»
Колокол
178. Предметный символизм:
пустая пачка «Эпохи».
26 102326
402
Часть Ш Текстуальный анализ
179. Клиническая деталь: боясь
упустить мелькнувшую ассоциацию,
герой Никитина впивается'
в пачку зубами.
В этом фрагменте психологический дискурс обозначен парой
колокольчик/колокол9 (первый проблеск памяти, связывающий
настоящее с ближайшим прошлым), символический — пере-
крестным монтажом колокола и папиросной пачки. Последние
два кадра, складывающиеся в тезис типа «эпоха зовет» —
слепок с некоторых монтажных фраз «Октября» (ср. эпизод
« Корниловщина »).
Бросив колокольчик, Филимонов хватает пачку «Эпоха» и
рвет ее зубами ...
Этому жесту имеется объяснение Никитина, гордившегося
клинической достоверностью своей игры (актер проходил
специальную стажировку в психиатрической лечебнице им.
Фореля): «В мозгу его происходит гигантский по интенсив-
ности процесс. Он схватывает принесенную им со станции
пустую коробку от папирос «Эпоха», выброшенную из окна
вагона, за которым скрылось женское лицо, так взволновав-
шее его. Он озаряется догадкой: «А что, если внутри коробки
скрывается причина его беспокойства?» Осторожно, боясь,
чтобы из коробки не выпорхнула эта «причина», он приоткры-
вает ее. Коробка пуста. Тогда Филимонов хватает коробку зу-
бами, пытаясь ее разгрызть, отомстить ей за обман ...» [271,
с. 107).
Возможно, с точки зрения общей композиции эпизода пое-
дание пустой пачки примыкает к «собачьему мотиву» и, с
другой стороны, как-то соотносится с яблоком, которое жена
Филимонова надкусила в вагоне поезда.
По диагонали через кадр: вид идущего поезда
Крупно: лицо жены, вне фокуса, волосы растрепаны
поезд
лицо жены в подвенечном уборе (вне фокуса)
поезд
лицо жены, прическа гладкая
поезд
лицо жены в профиль
поезд
403
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
ь->
180—185. Обличья жены в чередовании с кадрами поезда.
лицо жены с растрепанными волосами
поезд, угадываемый по мельканию света и тени
лицо жены, прическа гладкая
поезд
лицо жены в окне поезда, стоящего у станции (как в пер-
вой сцене)
поезд подходит
По диагонали: неясный пейзаж
404
Часть III Текстуальный анализ
неясные очертания темного помещения со светлой горло-
виной
все блекнет
Филимонов жует пачку из-под папирос, вынимает изо рта,
открывает; пачка по-прежнему пуста
Кроме последней картины, нормальной по метражу, при-
веденная сцена представляет собой пульсацию коротких (и
все укорачивающихся) кадров: по 7, 5, 2—3 изображения в
каждом. Здесь психологический дискурс без остатка выво-
дится из ритмической формулы киноязыка. Как в стиховеде-
нии существует понятие семантической ауры размера, так и
в немом кино определенные монтажные фигуры связывались
с образом проносящегося поезда. К таким фигурам принад-
лежит акселерация ритма, крещендо. Для советского кино
(как, видимо, и для европейского) матричным текстом в этом
отношении был фильм А. Ганса «Колесо» («La Roue», 1922), где
за счет все укорачивающихся планов (метрический монтаж)
возникало ощущение неотвратимости. В фильме Ганса на мет-
рической акселерации монтажа строились три центральные
сцены. Две первые изображали попытку героя, машиниста,
пустить паровоз под откос. Третья сцена, смонтированная в
том же нарастающем ритме, представляла последние минуты
погибающего на дуэли, перед глазами которого проносятся
образы возлюбленной. Вот эта сцена в описании Р. Абеля:
«В тот момент, когда его рот открывается в крике, фильм как
бы извергает поток изображений. Крупный план погибающего
Эли чередуется с множеством средних и крупных планов
Нормы в прошлом — в старом домашнем платье, в костюме
под средневековье, в трико, в подвенечном платье и фате,
просто на крупном плане с подсветкой контровым светом (при
этом ритм ускоряется от 4—5 до 2—3 изображений на кадр)»
[476, с. 336].
Похоже, что в кадрах, где Эрмлер чередует планы мчаще-
гося поезда с планами жены Филимонова в пяти разных
обличьях, включая и подвенечный наряд, мы имеем дело с
простой контаминацией эпизодов из «Колеса» (тем более что
формула метрического ускорения совпадает до кадрика). Кон-
таминацией, не вызывающей особого удивления, — даже в
рецензии, вышедшей последам выпуска «Колеса» на советский
экран, сцена крушения и сцена предсмертных воспоминаний
описывались недифференцированно: «Дана гармония ритма
внешнего — чудовищный бег локомотива, его скольжение с
рельс и, наконец, крушение — и внутреннего — нарастание
плана (именно плана, а не планов) воспоминаний» [145, с. 13].
Можно высказать осторожное предположение, что чередо-
вание кадров поезда и планов жены Филимонова — эпизод,
перекочевавший в окончательный вариант «Обломка» из мате-
405
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
186. Автор афиши к
«Колесу» синтезировал
впечатление от чере-
дующихся крупных
планов и планов
мчащегося поезда
в «двойной экспозиции».
риалов, смонтированных до вмешательства Эйзенштейна. Во
всяком случае, для 1928 г. перекрестный монтаж поезда и вос-
поминаний — прием достаточно клишированный (ср. картины
воспоминаний, возникающие на бегущих рельсах в фильме
1925 г. М. Л'Эрбье «Покойный Матиас Паскаль») («Feu
Mathias Pascal»)) и вполне отвечающий самохарактеристике
Эрмлера — «набор из старых образцов».
Последние четыре кадра — размытый пейзаж, неясный
свет в конце тоннеля, «все блекнет», Филимонов с коробкой
во рту — означают крах попытки пробиться в прошлое:
коробка пуста. Однако последний кадр этой серии устанавли-
вает подобие контакта. Из темноты возникает лицо жены, она
поворачивает голову и смотрит почти в камеру. В следующем
кадре Филимонов предстает таким образом, что линии взгляда
встречаются.
Как бы в поисках исчезнувшего воспоминания, взгляд
Филимонова снова блуждает по комнате:
Увидел швейную машину, потянулся к ручке, стал крутить
Крупно: движется игла в игловодителе
Филимонов строчит
игла ходит в игловодителе
Крупно: лицо Филимонова
игла в игловодителе
лицо
игла
(чередование продолжается)
Крупно: работает подающий механизм швейной машины
Крупно: игловодитель
Крупно: лицо Филимонова
механизм
406
Часть III Текстуальный анализ
187—190. «Машина-пулемет».
(еще несколько планов, представляющих механизм и лицо
Филимонова)
наклонившись, Филимонов всматривается в механизм
яростно крутит ручку машины
работает игловодитель
дуло строчащего пулемета
игловодитель
пулемет
игловодитель
Крупнее: дуло пулемета.
Далее следует чередование дула, иглы, лица Филимонова; воз-
никает кадр, где игловодитель и пулеметное дуло даны в
наложении изображений. Следует еще несколько кадров,
варьирующих: крупный план подающего механизма, разодран-
ную пачку от папирос, лицо жены (прическа гладкая), после
чего
Филимонов, швырнув пачку на пол, опрокидывает швейную
машину
Крупно: катится по полу, разматываясь, катушка
в руке у Филимонова конец нити
катится на колесном лафете пулемет
407
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
191—192. «Нить»: нить памяти, нить сюжета, нить жизни.
идущий поезд
катится пулемет.
Сцена «машина-пулемет» вызвала ряд разноречивых откли-
ков. Среди них выделяется полемика Б. Алперса с Эрмлером.
В отличие от обычной печатной полемики тех лет, здесь —
не борьба между защитником и обвинителем, а спор двух раз-
ных прочтений — зрительского и авторского. Алперс писал:
«Основное же в «Обломке» — это показ сложных и глубоких
движений человеческой психики. <.. .> Впервые кино пока-
зывает с такой выпуклостью и наглядностью, в сжатых худо-
жественных образах стремительные и капризные движения
человеческой мысли, работу головного мозга в ее чуть ли не
физиологическом выражении. Наглядность этих кадров дове-
дена до высокой степени убедительности, а временами при-
ближается к острому натурализму. Солдат, по прежней своей
профессии — рабочий-токарь. Поэтому весь процесс рекон-
струкции связывается с работой машины: паровоз на станции,
швейная машина дома и т. д. <... > Момент, когда он начи-
нает крутить ручку швейной машины со все увеличивающейся
быстротой, передает зрителю головокружительную быстроту
его разбуженной мысли, бьющейся в поисках выхода» [17,
с. 11[.
Эрмлер был задет механицистским пониманием эпизода.
В «Открытом письме» Б. Алперсу он написал: «<...> факти-
ческой ошибкой является определение тов. Алперсом профес-
сии героя картины Филимонова. Отсюда возникает и принци-
пиальная ошибка, могущая повести зрителя по ложному пути
<...> В рецензии указано, что солдат по прежней своей
профессии — рабочий, токарь. Поэтому весь процесс рекон-
струкции его прежней жизни связывается с работой машины.
Все это утверждение неправильно. Филимонов по профессии
ткач, в чем можно убедиться при минимально внимательном
просмотре «Обломка империи». Поэтому и ассоциации его,
408
Часть Ш Текстуальный анализ
связанные с машинами, ассоциации по смежности и сходству.
(Игла швейной машины — пулемет, катушка — катушка пуле-
мета, паровоз — поезд — жена и т. д.)» [465, с. 7].
Алперс не оставил выступление Эрмлера без ответа: «Мне
было важно только то, что Филимонов в прошлом — рабочий,
работавший на крупном предприятии и имевший дело с маши-
ной. Токарь он или ткач — для него одинаково весь процесс
восстановления памяти мог быть связан с «работой машины»,
как я писал в своей рецензии <.. .> Кто же согласится с
Эрмлером, что игла швейной машины напоминает пулемет, а
швейная катушка чем-нибудь — кроме словесного обозначе-
ния — походит на катушку пулемета. Какие уж тут обычные
ассоциации по смежности и сходству!» [18, с. 21].
К дискуссии подключился В. Млечин: «<.. .> ассоциации,
которыми пользуется Эрмлер, временами исключительно
сложны. Вряд ли зритель воспримет и оправдает попытку вы-
разить треск пулемета [с] помощью работающей вхолостую
швейной машины, а катушку зритель не сможет ассоциировать
с пулеметной лентой, как это представляется больному вообра-
жению неполноценной личности героя» [259, с. 31.
Приведенные отклики в принципе исчерпывают рецептив-
ный диапазон эпизода «машина—пулемет». Каждая из пред-
ложенных интерпретаций опирается на тот или иной аспект
монтажной структуры текста. Даже толкование Б. Алперса
(на первый взгляд, действительно, малоубедительное) вполне
правомерно. Алперс исходил из того обстоятельства, что мет-
рическая структура монтажа задана в этой сцене работой
механизма — швейной машины. Существует как бы невиди-
мый приводной ремень между меняющимся темпом вращения
маховика машины и скоростью сменяющих друг друга кад-
ров-ассоциаций. Показательно, что толкование Алперса в той
его части, где речь идет о скорости вращения и «быстроте раз-
буженной мысли», совпадает с объяснением Никитина: «Все
это так страшно, что Филимонов начинает с бешенством кру-
тить машинку, но в таком же бешеном темпе навязчивые
ассоциации не оставляют его» [271, с. 107].
Изоморфизм трех смысловых уровней эпизода: моторики
актерского поведения, психологического дискурса («темп ассо-
циаций») и метрики монтажных конструкций задается, как
метрономом, бегом швейной машины. Сквозной образ эпи-
зода — крупный план иглы в игловодителе — как бы проши-
вает всю сцену. Возникает соблазн прямых аналогий между
простым механизмом и механикой головного мозга, — типа
тех, что покоробили Эрмлера в интерпретации, предложенной
Алперсом.
Второе. Ошибка Алперса, назвавшего Филимонова токарем,
возможно, тоже не пустая оговорка. В эпизоде превалируют
409
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
вращающиеся и возвратно-поступательные движения деталей
(маховичок, игловодитель, катушки; даже когда в памяти про-
носится поезд, нам тут же предлагают крупный план колес),
Цикличен по своей природе и монтаж «ассоциаций». Интел-
лектуальное кино, свободное от рамок линейного рассказа,
тяготеет к повторам, чередованиям, возврату. Происходящее
с Филимоновым в действительности и происходящее в его
сознании монтируются циклами. Посредником между внешним
и внутренним миром оказывается механизм. Возникает ощу-
щение, будто этим механизмом задан не только ритм, но и
характер ассоциаций, характер монтажа — кружение, повто-
рение мотивов.
Другая рецептивная гипотеза промелькнула в рецензии
В. Млечина. Это — ассоциация по акустическому признаку
(«треск» пулемета и швейной машины). Неважно, что рецен-
зент считает ее неубедительной — он исходит из предполо-
жения, что Эрмлер имел в виду именно акустическую анало-
гию. Автор рецензии в немецком журнале «Film und Volk»,
например, посчитал ассоциацию между «шумом швейной
машины и
II
умом пулемета» вполне законной (ЦГАЛИ, ф. 2617,
on. 1, ед. хр. 74). Не исключено, что вопрос о психологическом
правдоподобии такой ассоциации (а также сам факт возникно-
вения подобной гипотезы) зависел не столько от характера
монтажа или склонностей реципиента, сколько от музыкаль-
ного сопровождения фильма.
Примечательно, что акустическая параллель между швей-
ной машиной и пулеметом была повторена Б. Барнетом в
«Окраине» (1933), в момент монтажного переброса действия из
сапожной мастерской на поле боя. Но у Барнета это — сапож-
ная машина, прошивающая голенище, поэтому треск пулемета
на фонограмме к изображению швейной машины восприни-
мался зрителем как вполне натуральный.
Третья гипотеза — предположение Алперса о том, что
катушку от швейной машины и катушку пулемета не связы-
вает ничего «кроме словесного обозначения». О роли словес-
ных обозначений в интеллектуальном монтаже мы уже гово-
рили в связи с Эйзенштейном (с. 353) и Вертовым (с. 372).
Представляется, что в сближении «машина—пулемет» актуали-
зована не только полисемия слова «катушка», но и новое по
тому времени значение глагола «строчить». Это слово, прежде
означавшее, по Далю, «шить» и «писать», в начале века попол-
нилось значением «стрелять из автоматического оружия»
(«Словарь русского языка» С. И. Ожегова). В позднейшей
литературной обработке фильма автор сценария К. Виноград-
ская для описания ассоциации «машина—пулемет» воспользо-
валась именно этим словесно-омонимическим рядом: «<...>
быстро сменяют друг друга: строчка швейной машины —
410
Часть III Текстуальный авалнз
строчка пулеметного огня» [100, с. 190]. Возможно, повод к
такой игре подала Эрмлеру новизна словоупотребления, ощу-
щавшаяся не только в глаголе «строчить», но и в применении
«домашнего», «безобидного» слова «катушка» к пулеметному
лафету.
Особую роль, как представляется, играет в этом фрагменте
кадр, где Филимонов, держа в пальцах конец нити, смотрит
на бегущую по полу катушку. В плане психологического дис-
курса нить для Филимонова воплощает ускользающую связ-
ность мысли (Никитин: «Он нагибается, чтобы наконец-то схва-
тить мучающую его ассоциацию ...» [271, с. 108]). Кроме того,
как мы помним, Филимонов — ткач, и нить в его пальцах
подключает к процессу восстановления пласт профессиональ-
ной памяти. В плане символического дискурса роль нити (как
ранее — пачки «Эпоха») почти каламбурна: «путеводная нить»
и оборванная нить судьбы, отсылающая к прядущим богиням
Паркам-.
Одновременно нить сигнализирует о некоторых изменениях
в режиме развертывания эпизода. Выше отмечалось, что «Об-
ломок империи» развертывается в двух повествовательных
режимах — циклическом («интеллектуальном») и линейном.
В самом факте такой двойственности нет ничего необычного:
строго говоря, в советском кино 20-х годов нет ни одного
фильма, который бы в той или иной мере не был ею отмечен.
«Человек с киноаппаратом» Вертова, самый нелинейный из
известных нам фильмов эпохи, был все же линейно органи-
зован на уровне макроструктур («утро», «рабочий день», «ве-
черний досуг» шли по порядку следования частей) и содержал
линейные участки текста на уровне монтажа (как мы помним,
Вертов старался придать им пародийную мотивировку). Осо-
знанной двойственностью повествования отличался и «Октябрь»
Эйзенштейна, о чем режиссер предупреждал публику: ««Ок-
тябрь» говорит на два голоса. «То флейта слышится, то будто
фортепиано»» [456, с. 2]. Однако ни тут, ни там полифония
не была строго обусловлена структурой замысла. Правда, как
мы видели, линейное развертывание в «Октябре» тяготело к
тем смысловым и стилистическим блокам, где сюжет смыка-
ется с историей октябрьского переворота, а «интеллектуальное
кино» — к участкам, посвященным Корнилову, Керенскому,
царице, меньшевикам и другим, т. е. к темам, позволяющим
отступить от стиля монументальной пропаганды. Но «Ок-
тябрь» — сложно построенный текст, и однозначной зависи-
мости тут нет ни в этом, ни в других отношениях. Что же
касается «Обломка империи» (тоже, безусловно, построенного
очень сложно), то здесь смена повествовательных режимов
жестко задана структурой сюжета. «Интеллектуальное кино»
для Эрмлера — не столько Язык кино (для Эйзенштейна и
411
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
Вертова, далеких от идеи плюрализма, оно было Языком кино
будущего), сколько один из подъязыков фильма. Сюжетной
нишей, где в 1929 г. еще можно было, не слишком рискуя,
провести «формалистический эксперимент», была психика
больного героя. Однако по ходу дела герой выздоравливает.
Фабульная сверхзадача эпизода — восстановить хронологиче-
скую и причинную связь в памяти и судьбе героя. Но это
задание совпадает и с метаязыковым заданием эпизода. Упоря-
дочение памяти достигается упорядочением монтажа, самолик-
видацией интеллектуального кино. Язык кино на глазах «вы-
здоравливает», приобретает связность, линейность, причинно-
следственную осмысленность.
В условиях такой взаимной мотивированности (изменения
в режиме монтажа мотивированы «изнутри» сюжета, а сюжет-
ный поворот, в свою очередь, подкреплен изменением режима
«сверху») некоторые детали предметного мира приобретают
не только психологическую или символическую, но и мета-
языковую валентность. Мы уже говорили о метаязыковой
функции вращающихся деталей. В «Обломке империи» есть
и другие элементы, конституирующие, помимо психологиче-
ского и символического, третий уровень дискурса — метаязы-
ковой. Например, на далекой периферии смыслового поля,
порожденного сопоставлением «машина—пулемет», чуткий
зритель способен уловить образ третьего механизма — кино-
аппарата10. «Образ кадра» возникает на периферии рецептив-
ного поля, когда рамка экрана сливается с прямоугольником
вагонного окна. Точно так же переход эпизода из циклического
режима в линейный мобилизует метаязыковые потенции об-
раза нити. Нить, которую держит в пальцах Филимонов, ста-
новится метафорой связности в том почти терминологическом
значении, в котором этим словом пользовались в науке о
сюжетосложении. В «Указателе литературных имен и терми-
нов» В. Шкловский определил термин «нитка» как «действо-
ватель, как прием сшивания эпизодов» [446, с. 184], например*.
«Жиль Блаз совсем не человек, это нитка, сшивающая эпизоды
романа» [446, с. 65]. Близкий по взглядам ОПОЯЗу критик
В. Недоброво находил, что герой «Обломка» — не герой в
общепринятом понимании, — «<...> он становится методом,
приемом организации материала картины» [267, с. 7]. В мо-
мент, когда Филимонов нащупывает нить, подсказывающую
ему выход из лабиринта подсознания, начинает меняться и
«прием организации» — картина постепенно выходит на- ре-
жим линейного повествования11.
Фрагмент скульптуры на Аничковом мосту; вздыбленный
«Клодтов конь»
вращается деталь швейной машины
глиссер на Неве.
412
Часть Ш Текстуальный анализ
На уровне сюжетной мотивировки это — глубокий по вре-
мени слой воспоминаний. Согласно сюжету, Филимонов жил
в Петербурге до войны. В плане психологического дискурса
можно предположить, что вздыбленный конь на натянутой
узде — одна из немногих в «Обломке» аппеляций к Фрейду —
означает всколыхнувшееся подсознание. В плане символиче-
ского дискурса, который по мере перехода в режим линейного
рассказа преобразуется в дискурс идеологический, эти кадры
задают фундаментальную оппозицию, которой предстоит ра-
ботать на протяжении всего фильма: «старый Петербург—но-
вый Ленинград». Скульптурная группа «Клодтовы кони» в
литературном сознании ленинградца соотнесена с мотивами
укрощения стихий и усмирения народа12. В соседстве с изобра-
жением глиссера этот вариант «Петербургского мифа» стано-
вится частью идеологического монтажного высказывания:
старый Петербург—новый Ленинград
укрощение стихии державной волей — укрощение стихии
силой технического прогресса
193. Утопическая столовая рабочих.
413
Глава 3. Поэтика неоднородвого текста
194. Харьковский «небоскреб»
в Ленинграде.
скульптура как неподвижный образ живого — глиссер как
неживое в движении.
В этих трех кадрах намечается одна любопытная черта
«Обломка», ранее подмеченная наиболее проницательным из
кинокритиков 20-х годов М. Блейманом: «<...> автор фильма
поставил перед собой неразрешимую задачу. Показывая де-
тально разработанную, почти клиническую картину затемнен-
ного сознания своего героя, он вместе с тем заставляет его
грезить сообразно законам политической логики» [65, с. 322—
323]. Став на рельсы идеологического дискурса, монтажный
механизм фильма разнес изнутри скорлупу психологической
мотивировки. Номинально скульптура и глиссер возникают в
памяти Филимонова, но фактически они принадлежат плану
идеологии, спешащей противопоставить старое и новое. Кадр
с глиссером и не мог родиться в голове героя — первый глис-
сер был изобретен только в 1919 году. Прав был Недоброво,
называя Филимонова не героем, а методом. Пока Филимонов
был нужен для психологического оправдания интеллектуаль-
ного монтажа, круг его запутанных «ассоциаций» не выходил
за пределы возможного. Но по мере его выздоровления прав-
доподобие возникающих в памяти образов (а затем, с полным
исцелением, и правдоподобие происходящего вокруг) исчезает
на наших глазах. Дело не в том, что «нить» Филимонова не-
достаточно крепка, а в том, что идеологический дискурс, по
определению, должен обладать долей неправды. Попав в
1928 год, Филимонов переносится не в «современный Ленин-
град», а в утопический город. Но на сей раз это превращение
не декларировано сюжетом, оно завуалировано.
Никитин вспоминал о работе художника фильма Е. Енея:
«Впервые в нашем кино им были построены такие декорации,
как «рабочая столовая», «общежитие», «душевая». Необычай-
ность их заключалась в том, что павильоны эти должны были
как бы осуществить мечты современности о тех новых усло-
виях, какие социализм создает для трудящихся. Еней первым
414
Часть Ш Текстуальный анализ
показал эти светлые стеклянно-бетонные интерьеры, которые
должны были зрителю представиться как чудо, как сказка»
[271, с. 105] (илл. 195—196). Но еще более крутым было рас-
хождение идеологического дискурса с «текстом жизни» в
сцене, шокировавшей многих ленинградцев: приехав в город,
Филимонов на месте своей деревянной лачуги видит бетонный
небоскреб. Не только знатокам ленинградской архитектуры
было известно, что такого здания в Ленинграде нет. Съемоч-
ная группа нашла «небоскреб» в Харькове и вмонтировала
его в контекст Ленинграда (илл. 194). К такому приему, как
мы помним, прибегал Вертов при создании образа «идеального
города» в «Человеке с киноаппаратом». И тут, и там перед
нами — механизм идеологического дискурса, перерабатываю-
щий актуальный текст города в его виртуальную модель.
„Немецкий" эпизод
t
Далее восстановление памяти Филимонова протекает так:
«<...> в поле его зрения попадает качающийся на тесемке
свисающий с его шеи крест святого Георгия, которым он был
награжден на позициях. Этот образ вытесняет исчезнувшие:
катушку и пулемет. Он дает новый толчок просыпающемуся
мозгу. Перед ним возникают видения множества крестов, от
тех, что на куполах церквей и надгробьях могил, до шейного
креста Владимира с мечами третьей степени, свисающего из
прорези высокого воротника офицерского френча» [271,
с. 108]. Цепочка ассоциаций приобретает линейность. Интел-
лектуальный монтаж, который теперь строится на варьиро-
вании лейтмотива, приобретает хрестоматийную форму,
впрямую соотносящуюся с монтажными фразами «боги» и
«отечество» из «Октября».
Наиболее интересна здесь техника «умножения» мотива:
идея креста присутствует не только внутри изображений, но
нередко возникает и в способе, каким смонтированы проти-
воположные ракурсы одного и того же объекта: «крест-на-
крест» (Эйзенштейн назвал бы это «графическим конфлик-
том»). На крестообразность сменяющихся ракурсов иногда
накладывается и формула перекрестного монтажа:
церковный крест
кладбищенский крест
церковный крест
кладбищенский крест.
Кульминации умножение мотива достигает в кадре, где с
помощью зеркальных призм орденский крест раздваивается.
415
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
195, «Гроссовский Христос»
Эрмлера.
множится, после чего все созвездие приходит в движение,
напоминающее эксперименты французского авангарда.
Цепочка «орден—церковь—кладбище» завершается обра-
зом придорожного распятия, которое встретилось на пути
ползущего солдата. Это распятие Эрмлер позднее назовет
«гроссовским Христом» [410, с. ИЗ]. Действительно, этот
кадр — прямая цитата. Он отсылает к рисунку Георга Гросса
«Христос в противогазе», вызвавшему в Германии общест-
венный скандал (илл. 195—196). Дело по этому рисунку раз-
биралось в суде как раз в то время, когда Эрмлер был
в Берлине (1928), а протокол процесса был опубликован в
немецкой печати [123, с. 54—59].
Не только эта цитата, но и кинематографический стиль
«военного эпизода» явственно тяготеют к немецкому экспрес-
сионизму. Тема немецкого фронта как бы диктует эстетику
196. «Христос в проти-
вогазе» Георга Гроссо.
416
Часть III Текстуальный анализ
197—198, «Немецкий» мотив: братание двойников.
эпизода. Критика уловила здесь «мистико-фантастический»
уклон [281, с. 3[. Почти черный кадр резко перечерк-
нут лучом прожектора, неотступно следящим за ползущим
солдатом. Традиционная для советского историко-революци-
онного фильма тема — братание на фронте (с такой сцены,
например, начинается «Октябрь») решена в традиционно
немецком духе, с помощью мотива «двойника» (Doppelganger)
(илл. 195—198). Немецкого и русского солдата играет один
и тот же актер — Никитин: «<...> русский удивленно смот-
рит на немца. Немец так же удивленно смотрит на русского.
У них одно лицо» [100, с. 192].
(Пацифизм такого решения насторожил комиссию по
приему фильма, которая вынесла следующую резолюцию:
«Указываем на необходимость как-то отметить военную опас-
ность, грозящую СССР, и выявить отношение к этому Фили-
монова, поскольку в начале сценария подчеркиваются анти-
военные настроения. Подписи: Бляхин, Крумин» (ЛГАЛИ,
ф. 257, оп. 16, ед. хр. 84, л. 53).)
Можно предположить, что экспрессионизмом «немецкого»
эпизода мы обязаны не столько влиянию немецкого кино,
сколько свежим впечатлениям от берлинского театра. Рису-
нок «Христос в противогазе» был создан Гроссом для спек-
такля «Похождения бравого солдата Швейка» в театре
Э. Пискатора (1928). Другой спектакль этого театра, «Гоп-ля,
мы живем!» по пьесе Э. Толлера, видимо, послужил непосред-
ственным источником для сюжета «Обломка»: герой пьесы
сходит с ума в году 1919-м и возвращается к жизни в 1926-м.
И в том, и в другом спектаклях Пискатор применял кино-
проекцию.
417
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
„Русский" эпизод
Как мы имели возможность убедиться, стилистическая
доминанта фильма подвижна. Ее стрелка свободно перемеща-
ется по шкале кинематографических приемов 20-х годов.
Выбор того или иного стиля мотивируется изнутри сюжета.
Так, в «Обломке» есть два эпизода, которые должны «рифмо-
ваться» между собой. Это — мещанский быт бывшей жены
Филимонова и ее нового мужа и быт другой пары — бывшего
владельца ткацкой фабрики и его супруги. И та, и другая
сцены были задуманы в стилистике мелодрамы. В режиссер-
ском сценарии новый муж — не культработник, а акробат
цирка, по определению Эрмлера, — «мелодраматический
злодей-циркач» (ЛГАЛИ, ф. 257, оп. 16, ед. хр. 84, л. 14). По
ходу развития замысла эта фигура из мелодраматической сде-
лалась сатирической. Встреча же Филимонова с хозяином
фабрики и в окончательном варианте помечена стилем старой
русской «психологической» мелодрамы.
Роль фабриканта в «Обломке» исполняет не актер, а извест-
ный режиссер русского дореволюционного кино В. Висковский.
Этот выбор имеет, конечно, метакинематографический смысл:
на роль «бывшего» приглашен «бывший» человек в кинемато-
графии. Кроме того, сцена у фабриканта — дань прежним
кинематографическим пристрастиям самого Эрмлера. Как
пишет И. Сэпман, «Эрмлер любил фотографироваться в ви-
зитке и цилиндре — «под Рунича», популярного дореволюци-
онного киноактера на амплуа героя-любовника. Это не просто
забавный штрих биографии, но и показатель определенной
эстетической приверженности» [410, с. 15]. Наконец, в этом
жесте можно усмотреть человеческое содержание. В кино
Эрмлера привел Висковский, предложивший ему две неболь-
шие роли в своих фильмах. Как сообщил Ф. М. Никитин*, при-
гласив Висковского сниматься, Эрмлер нарушил атмосферу
творческого бойкота, окружавшую на фабрике «Совкино»
кинематографистов с дореволюционным прошлым.
Как и в других эпизодах «Обломка», стилистическая тер-
пимость Эрмлера все-таки подразумевает, что «чужой стиль»
оправлен в своего рода кавычки. Эпизод интеллектуального
монтажа забран в кавычки внутренней речи героя, визит к
фабриканту — в кавычки пародии. В широком смысле адрес
пародии — русское дореволюционное кино в целом, в уз-
ком — режиссерская манера Висковского, отличавшаяся, по
словам рецензента 1916 г., «мягкостью и правдивостью»,
* В беседе с М. Б. Ямпольским 22 июля 1981 г.
27 102326
418
Часть III Текстуальный анализ
199. «Русский» мотив: жена хозяина в зеркале прошлого.
«интимностью и психологической углубленностью», «большим
вкусом» [157, с. 17]. Мизансцена пародирует «возвращение
блудного сына»: Филимонов «сгибается перед хозяином как
перед иконой <.. .> опускается на колени, рабскими глазами
смотрит на барина, молит, просит, ловит его руки и полы
халата <...> Хозяин взволнован, хозяин сморкается. Его
лицо дергается, на глазах слезы. Он закрывает их рукой
<... > С острой человеческой жалостью Филимонов смотрит
на плачущего хозяина <...> целует руку». Хозяин «не от-
нимая руки, отечески гладит Филимонова по голове» [100,
с. 198—199].
В отношении кинематографического почерка эпизод в доме
у фабриканта составляет контраст предыдущему—военному.
Изменился характер освещения и пространства. Свет — и это
подчеркнуто в сценарии — становится мягким и лиричным.
Пустой темный фон воспоминаний уступил место простран-
ству, загруженному реквизитом: «Сдвинутые как в комисси-
онном магазине зеркало, диван, буфет, ширмы, шкафы,
мелочь» [100, с. 198]. Такое пространство многослойно моти-
вировано. В жилищно-бытовом отношении это — пространство
уплотненной квартиры. В плане киностилистики — еще одна
419
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
отсылка к русскому дореволюционному кино13. В плане
психологических мотивировок — образ прошлого и, следова-
тельно, мир воспоминаний. В этом качестве комната бывшего
хозяина противопоставлена пустому пространству памяти
Филимонова. С одной стороны, память, отягощенная бреме-
нем воспоминаний, с другой — белая страница, открытая
для новой жизни. Жена фабриканта, «поблекшая женщина в
папильотках» (илл. 199), возникает как отражение в зеркаль-
ном шкафу. Последнее, что видит, уходя, Филимонов, —
«<.. .> хозяин и его жена отражены в зеркале в лирическом
свету. Они качаются в качалке и вспоминают» [100, с. 198].
„Хозяин кто?"
Посвящение Филимонова в новую жизнь потребовало
включения в фильм еще одного стиля — «патетической кино-
хроники».
Желая восполнить в памяти события пропущенного
десятилетия, Филимонов обращается с вопросом к председа-
телю фабкома. Здесь Эрмлер прибегает к приему соединения
игрового и документального материала — рассказ председа-
теля предстает в виде хроникального резюме периода 1917—
1928 гг.
Вкратце об истории приема. Русскому кино он знаком с
1911 г. (портреты ветеранов в фильмах об исторических бит-
вах, Толстой в гробу в картине «Уход великого старца», хро-
ника коронации в юбилейных фильмах о династии Романовых,
военная хроника в фильмах о войне и другие, менее типи-
ческие случаи -— прием применен в тринадцати из извест-
ных нам дореволюционных картин). В советскую эпоху
фильмом Б. Михина «На крыльях ввысь» (1923) и «Необычай-
ными приключениями мистера Веста в стране большевиков»
Л. Кулешова (1924) была заложена традиция включать в канву
игрового фильма кадры с выступлениями Ленина и Троцкого
[424, с. 98—101]. Однако лишь в одном случае документаль-
ные вставки мотивированы прямой речью персонажа — в
картине А. Ивонина «Умер бедняга в больнице военной»
(1916), где хроникальные кадры вначале даны как рассказ
ветерана молодому солдату, а затем — как воспоминания
молодого солдата, умирающего от ран.
Прямой источник сцены в «Обломке империи» — уже
упоминавшийся спектакль Э. Пискатора по пьесе Э. Толлера
«Гоп-ля, мы живем!». Чтобы обозначить время, проведенное
героем в тюрьме, Пискатор показывал на четырех экранах
27*
420
Часть III Текстуальный анализ
«хронику» 1920—1927 годов. При создании киноэпизода Пис-
катору помогал В. Руттман [567, с. 37].
Процитируем фрагмент из сценария с того места, где
Филимонов задает свой вопрос:
«Тишина. Никто не шевелится. Все унеслись мысленно к
далекому прошлому, когда...
Кадры, обобщающие Октябрьскую Революцию.
Кадр гражданской войны.
Инвалид, идущий на костылях через а:
II
зарат. Сзади дви-
гаются такие же, как он, калеки.
Инвалиды — паровозы, вагоны.
Пустыри <.. .>
Мертвый Ленин в гробу» (ЛГАЛИ, ф. 257, оп. 16, ед. хр. 84,
л. 27).
Касательно дальнейшего Эрмлер ограничился сценарной
пометкой: «Кадры индустриализации из культурфильмы»
(Там же). Остается гадать, имел ли он в виду какой-то кон-
кретный культурфильм, откуда можно скопировать нужные
виды, или эти слова являются просто указанием на жанр.
Такова первая хроникальная вставка в «Обломке империи».
В ней Эрмлер имитирует стиль военно-исторической хроники
и хроники агитационной — культурфильма 20-х годов. Как,
по всей видимости, и киновставка в спектакле Пискатора,
это — образец политического дискурса, официальная кино-
формула десятилетия. Однако примечательно, что у Эрмлера
политический дискурс заключен в рамку традиционного кино-
воспоминания (flashback). Повторим цитату: «Тишина. Никто
не шевелится. Все унеслись мысленно к далекому прошлому,
когда...» Именно такие моменты имел в виду М. Блейман,
говоря о «ложном психологическом напряжении фильма, его
мимикрии под психологизм» [65, с. 174]. Еще одно простран-
ство памяти, своего рода коллективное воспоминание («все
мысленно унеслись») — новая ниша, в которой укрылся от
натиска теории РАППа открытый политический дискурс
20-х годов. Но одновременно это и эталон пролетарского
мышления, своеобразные прописи, по которым должен
заполнить свою память Филимонов и которых рекомендуется
придерживаться памяти зрителя.
Вторая хроникальная вставка в «Обломке империи» —
эпизод, известный под названием «Кто хозяин?». Поступив на
работу, Филимонов все же не может понять, на кого он тру-
дится. Вопрос «Хозяин кто?» застает врасплох остальных
рабочих:
«Пауза. Смятение. У каждого мелькает мысль: как объяс-
нить? Какое нужно короткое убедительное слово?» [100,
с. 208].
421
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
Короткое убедительное слово — «труд» — в переводе на
язык кино заняло у Эрмлера монтажное пространство в
135 кадров (Осинский назвал этот эпизод «крайне затянутым»
[281, с. 3]). В «Приложении 5» мы целиком приводим запись
эпизода, которая позволит читателю обнаружить почти покад-
ровое сходство с монтажными фразами из «Человека с кино-
аппаратом» Дзиги Вертова.
Действительно, необходимость перевести словесное поня-
тие на язык кино заставила Эрмлера снова обратиться к прие-
мам интеллектуального кино, на сей раз вертовского. Руки
телефонисток, упаковщицы папирос, машинистки, печатников,
кассирши и некоторые другие кадры выглядят прямыми
заимствованиями из «Человека с киноаппаратом» (хотя сни-
мались, по всей видимости, до января 1929 г., когда «Чело-
век ...» вышел на экран), а скульптурные торсы рабочих
отсылают к фильму Вертова «Одиннадцатый». Тем не менее
ребус, предложенный зрителю Эрмлером, при всем внешнем
сходстве с эпизодом «Руки» из части IV «Человека с кино-
аппаратом», значительно проще. Семантическая стратегия‘
Вертова — «максимальная смысловая нагрузка на единицу
материала» — по существу противоположна варьированию
одного мотива в эпизоде «Хозяин кто?». Сходство, действи-
тельно, покадровое, но не структурное. У Вертова каждый
кадр, даже когда цепочка, казалось бы, проста, входит в
сложное соотношение с каждым соседним. У Эрмлера
«нанизанные» на одну семантическую ось кадры рук и работ
похожи на перечисление однородных членов: когда некото-
рые «дополнительные» значения все-таки возникают, то лишь
на уровне внешних аналогий. Например, типично вертовский
кадр руки, вращающей ручку кинокамеры, возникает
у Эрмлера рядом с кадрами рук, вращающих ручку кассы и
счетной машинки. Моторно-двигательная параллель очевидна
и похожа на сближение крупных планов кинооператора
и швеи в «Человеке с киноаппаратом». Однако маловероятно,
чтобы Вертов, болезненно относившийся к репутации кино
как кассового искусства, согласился поместить изображение
человека с киноаппаратом в учетно-бухгалтерский контекст.
Повторим, целью Эрмлера было всего лишь перечисление,
заложенное уже в синтагматике сценарной речи
«Руки
руки
руки-------------------
Руки сеют,
Руки пилят,
Руки жнут.
Доят молоко» (ЛГАЛИ, ф. 257,
422
Текстуальвый анализ
оп. 16, ед. хр. 84, л. 33) и позволяющее ему в пределах семан-
тического задания «руки» оперировать любым наличным
материалом.
Только в условиях приблизительной стилизации сделалось
возможным такое заявление съемочной группы на имя дирек-
тора кинофабрики: «Для картины «Обломок империи» необ-
ходимо большое количество разных производственных кад-
ров — детали работающих рук. Чтобы не организовывать
специальных выездных съемок на разные фабрики и заводы
и тем самым сэкономить значительную сумму денег, мы
просим Вашего срочного распоряжения всем съемочным
коллективам, чтобы они при съемках на производстве засняли
для нас по несколько вышеуказанных кадров, предварительно
получив у нас соответствующие указания» (ЛГАЛИ, ф. 257,
оп. 16, ед. хр. 84, л. 52).
Как и в других эпизодах «Обломка», художественной
задачей, фрагмента «Хозяин кто?» была стилизация опреде-
ленного типа «кинематографической речи», дискурса. От-
сюда — установка высказывания на план выражения при
заданности и элементарности семантической компоненты —
слова «труд». Стилизовался дискурс, носивший в 20-е годы
обозначение «ораторского», «патетического», «поэтического»
(сценарий в этом месте написан строфой Маяковского —
«лесенкой») стиля. Как писал М. Блейман, «эпизод «Кто
хозяин?» несет в себе не психологический, а риторический
смысл. Это риторический вопрос, на который последует
ответ с экрана — рабочие руки, — понятие, формируемое по
всем правилам монтажно-речевого кинематографа» [65,
с. 174].
Вместе с тем тривиальное построение эпизода искупается
его нетривиальным использованием в общей структуре
«Обломка». Можно говорить о графоманских стихах капитана
Лебядкина в «Бесах», но никто не скажет, что капитан
Лебядкин — плод воображения графомана Достоевского.
Эпизод «Хозяин кто?» оформлен как прямая речь. Понятно,
что новым в таком построении была не монтажная структура
эпизода, а место стыка, сращения двух разных стилей. Какого
носителя речи подсказывает патетический ораторский стиль?
Легко себе представить режиссера, который из среды окру-
жавших Филимонова рабочих выдвинул бы опытного агита-
тора с хброшо поставленной речью. Эрмлер, однако, выбрал
парадоксальный и, как представляется, единственно верный
прием, благодаря которому эпизоды с разной тканью стиля
все-таки не распадаются надвое. После вопроса, заданного
Филимоновым, повисает пауза: «Рабочие застыли. Минута
общего молчания» (100, с. 208]. Прежде чем ввести «прямую
речь», Эрмлер нагнетает атмосферу невозможности такой
423
Глава 3. Поэтика неоднородного текста
речи. На роль носителя монолога о труде выбран типаж, в
котором зритель заподозрит скорее косноязычие, чем оратор-
ские способности: «Из группы выделяется маленький, криво-
ногий, старый рабочий («батька»)» [100, с. 208]. Далее проис-
ходит следующее. Вместо того чтобы дать «батьке» слово,
Эрмлер передоверяет прямую речь языку жеста, руке. Этот
момент, момент сращения стилей, подробно разработан в
режиссерском сценарии: старый рабочий «с сознанием своего
достоинства поднимает корявую левую руку, как бы демон-
стрируя ее, приближает к аппарату, закрывает все поле.
Быстро поднимает ее вверх, в виде шторы» (ЛГАЛИ, ф. 257,
оп. 16, ед. хр. 84, л. 32).
Так решается сразу несколько вопросов. Вопрос, почему
не ответить простым титром «Труд», снимается мотивом кос-
ноязычия, всеобщей речевой заминкой. В плане риторики
жеста демонстрация «корявой руки» уже сама по себе служит
немым ответом. В плане порождения «прямой речи» рука
рабочего загодя мотивирует семантический фокус всех после-
дующих кадров: «рука рассказывает о руках». В плане мета-
кинематографическом рука, закрыв все поле кадра, чтобы,
скользнув вверх, обнаружить за собой новое пространство,
превращается в условную фигуру кинопунктуации —
«штору». Наконец, жест рабочего напоминает жест иллюзио-
ниста, и серия последующих кадров, смыкаясь с мотивом
«сказка стала былью», словно сыплется из рукава. И лишь по
завершении эпизода «Хозяин кто?» зритель убеждается, что
увиденное — настоящая «прямая речь» (кадры 134—135).
Таким образом, как и в других эпизодах «Обломка»,
смена кинематографического дискурса здесь опосредована
персонажем-носителем. Хотя некоторая директивность эпи-
зода «Хозяин кто?» ощущается (тот же Осинский писал, что
«упомянутый калейдоскоп <...> все-таки является «богом
из машины»» [281, с. 3]), в широком стилистическом диапа-
зоне фильма этот дискурс оказывается не единственным, а
одним из возможных. Ни Вертов, ни Эйзенштейн такой широ-
той взглядов не отличались. Для каждого из них собственный
метод был не стилем, не почерком, а Языком кино.
Ремарка
Реплика
Приложения
Приложение 1
Анализ надписей в фильме П. Чардынина
«Молчи, грусть, молчи...»
Позиция ПО ОТНО- ДО
шению к действию после
Г рамматическая форма номинативная глагольная
Характер эллипса временной пространственный
Спецификация
говорения
относительно
говорящего
носитель реплики
не определен
говорящего нет
поле зрения
4
О
О
3
3
реплику можно при
писать разным лицам
губы 33
носитель реплики жест 13
обозначен мизансцена 23
контекст 26
между сценами % 1
укрупнение 8
переход к более об- щему плану 6
• между кадрами, опосредуя переход меняется угол зрения на персонаж 4
Позиция надписи по отношению к действию меняются точка 1 съемки и персонаж в кадре
d заметный скачок в действии 9
1 реплика-врезка внутри кадра незначительный скачок 3
кадр продолжается с точки, в которой был приостановлен 61
425
Приложения
Место по отноше- нию к акту выска- до весь текст начало текста 0
зывания после весь текст 1
продолжение текста 7
надпись — лейтмотив 4
Речевой жанр в надписи от 2 до 3 реплик 11
ответная реплика 7
диалог угадывается
• - часть диалога угадывается 5
Письмо
Пояснения к таблице
к
1. Ремарки (4 надписи).
Все ремарки фильма:
— относятся к последующему кадру;
— имеют именную форму.
В 3 случаях ремарки кодируют пространственно-временной переход, напри-
мер У Телепнева.
В 1 случае ремарка обособляет сцену, символизирующую «мораль» фильма:
Танец «Пьеретта».
2. Реплики (90 надписей).
Лишь в 3 случаях реплика не имеет конкретного носителя, в остальных
87 случаях говорящий определяется:
— по движению губ;
— по контексту диалога или ситуации;
— по мизансцене;
— по жесту;
— по мимике слушающего (1 случай).
В 1 случае реплика относится к жанру внутренней речи и прочитывается
как таковая по выражению лица героини.
Анализ монтажных позиций показал, что в большинстве случаев (73
из 90) реплика вмонтирована внутрь кадра, при этом, хотя преобладает
отношение 1 реплика на 1 кадр, встречаются диалоги, прерывающие дейст-
вие кадра до 6 раз:
2 реплики в кадре — 4 случая;
3 реплики в кадре — 3 случая;
4 реплики в кадре — 3 случая;
6 реплик в кадре — 1 случай.
В 8 случаях реплика служит переходом к более крупному плану внутри
сцены, из них в 4 случаях эта сцена через другой титр возвращается к более
общему плану. Самостоятельных (т. е. без предварительного укрупнения) пе-
реходов через титр к более общему плану — только 2 случая.
426
Приложения
Из 4 случаев смены угла съемки через титр 3 сопряжены со сменой
плана.
Переход через титр от одного говорящего к другому (немой прообраз
звуковой монтажной фигуры — «восьмерки») практиковался редко — в ана-
лизируемом фильме 1 раз.
В одном случае реплика завершает сцену (а вместе с ней и часть)
фильма. Случая, чтобы надписью-репликой сцена открывалась, нет.
В 4 случаях реплика — часть более пространного высказывания, начав-
шегося до нее (т. е. актер произносит больше текста, чем возникает в над-
писи), в 1 случае реплика произносится полностью и затем возникает над-
пись. В 7 случаях за репликой следует продолжение произносимого текста.
4 раза (не считая названия) появляется лейтмотивный титр Молчи,
грусть, молчи.... причем 1 раз характер надписи (носитель, реплика / ре-
марка, внутренняя речь, песня?) остается непроясненным.
7 раз реплика-надпись сопровождена легко читаемой по губам устной
репликой.
В 5 случаях реплика возникает в ходе «диалога», о факте которого зри-
тель может судить по движению губ. Несколько таких диалогов вообще не
сопровождаются надписями.
ВИ случаях надпись содержит более одной реплики диалога:
2 реплики в 6 случаях;
3 реплики в 5 случаях (например, титр 67):
А что мы вечером будем делать?
Да ничего... Посидим дома.
Дома? Какая тоска.
Один раз 2 надписи с одной репликой в каждой возникают подряд одна
за другой (возможно, дефект копии или вставка более позднего происхож-
дения).
Из 96 титров 37 содержат по одному или несколько многоточий. 9 над-
писей содержат многоточия, которые в некинематографическом тексте пока-
зались бы немотивированными:
Вас спрашивают... Кто
там еще? Да это-с...
Певичка... (титр 55).
Приложение 2
Анализ надписей-ремарок в фильме
«Приключения знаменитого начальника
Петроградской сыскной полиции
И. Д. Путилина» (1915)
Из 47 надписей в этом фильме реплик — 25, диегетических надписей
(объявление и квитанция) — 2, ремарок — 20.
Неожиданно большое число ремарок объясняется криминальным жанром
картины — необходимостью донести до зрителя все повороты сюжета.
Функционально ремарки в этом фильме можно разделить на 2 класса:
операторы фабулы и операторы сюжета. Операторы фабулы задают ключ
к семантической интерпретации сцены, операторы сюжета регулируют семан-
тические отношения между сценами. Хотя титр В сыскном, казалось бы.
il'd
427
Приложения
относится к тому, что последует, на самом деле он апеллирует не к фабуль-
ной, а к нарративной компетенции реципиента, является сигналом простран-
ственного действия.
Фабульные операторы можно отнести к двум подклассам: фабульным
экспозициям и оценочным речениям. Последние чаще всего нужны не столько
для оценки ситуации, сколько в качестве завуалированного фабульного
объяснения, и оценочную коннотацию эти «подсказки» имели потому, что
этикет развитого киноязыка не советовал оскорблять зрителя, слишком ча-
сто растолковывая ему, что к чему. Как вспоминала А. Цветаева, в кинема-
тографах зритель 10-х годов получал удовольствие от «постоянного угады-
вания п
исходящего»
[420, с. 411], а Ю. Кричевский сформулировал это в
стихах:
Мы в стороне — и ж'дем развязки:
Как сладко тайну разгадать! [202, с. 22].
В следующей таблице мы приводим все ремарки «Приключений...»
в соответствии с указанной классификацией.
Фабульные операторы Сюжетные операторы
Фабульные экспозиции Оценочные речения Операторы времени Операторы места
1. Последние гроши
прожиты
2. В тот же ве-
чер
3. Позорная
страсть
4. Лучше смерть,
чем позор
5. На следующий
день
6. Через месяц
7. Через несколь-
ко дней
8. Роковое приз-
нание
9. Ивина открывает
Крутову свое
прошлое
10. Призрак прош-
лого
11. Неожиданная
встреча
12. Час расплаты
близится
13. Ужасная
месть
Через полго-
да*
14. Через несколь-
ко часов
* Jifia оператора в одном титре: Через полгода. Призрак прошлого.
428
Приложения
15. Путилин с коридор-
ным отправились в
поиски за Машей
16. В сыск-
ном
17. Путилин обещал
Маше выгородить
ее, если она
поможет найти
убийцу
20. Путилин заводит
знакомство с гор-
ничной Крутовых
18. Фатальная
фотография
19. По горячему
следу
Приложение 3
Список надписей в русской мелодраме
«Кровавая слава»
Кровавая слава
Кино-драма в 4-х частях
Производство Ермольева
Действующие лица:
Леон.....................Римский
Нелли ...... Орлова
Ее мать..................Кондорова
Анатом...................Панов
Балерина.................Глюк
Возчик...................Таланов
Постановка Георгия Азагарова
3. Встреча Нового года.
4. Оставьте... меня ждет умирающая мать...
5. Что делать?.. Чем жить?..
6. Через ‘ несколько дней ...
7. Там спрашивает женщина с вашей карточкой...
8. Нелли и Леон вскоре привыкли друг к другу...
9. ... и вот однажды...
10. ... и дружба перешла в более сильное чувство...
И. ... но не надолго ...
12. В чем дело?.. почему ты нервничаешь?..
13. Вечером...
14. Господа ... Едем в цирк...
429
Приложения
15. В цирке...
16. А с ней недурно было бы поужинать...
17. Мы ждем вас у подъезда...
18. После спектакля.
19. ... а она...
20. ... и так почта каждый день...
21. Я хочу рисовать тебя...
22. Я ищу к выставке натуру... приезжай завтра... будешь мне позиро*
вать...
23. На другой день.
24. Ночью...
25. Я очень занят... не могу принять...
26. Наконец...
27. А может быть сказать?..
28. Накануне открытия выставки...
29. Несите...
30. Поздно ночью...
31. Я поражаюсь, чтобы художник так ярко мог уловить все черты мерт-
вой ...
32. Можно подумать, что вы рисовали с мертвой...
33. Через несколько дней...
34. Я знаю все...
35. Вы — убийца...
36. Поймите: я не убийца... все это ради славы...
37. Да, но слава эта — кровавая ...
38. Единственное, что я могу сделать для вас, идти на компромисс перед
своей совестью, — вот...
39. ... и в ту же ночь...
430
Приложения
Приложение 4
Монтажная запись первого варианта
С. Эйзенштейна «Октябрь»
ильма
431
Приложения
432
Приложения
433
Приложения
Примечания к приложению 4
Машинопись хранится в RM, инв. № 180123.
К № 345 — возможно, имеется в виду коридор, известный как Темный.
К № 454 —• видимо, сцена на обоях шпалерной мастерской Еовэ (XVIII в.).
К № 458 — возможно, метонимический знак Ленина, не попавший в окон-
чательный вариант, но мелькающий в других вариантах сцена-
рия: манжетка среди штыков.
К № 473 — Н. С. Чхеидзе.
28 102326
434
Приложения
Приложение $
«Хозяин кто?» Покадровая запись эпизода
из фильма Ф. Эрмлера «Обломок империи»
1. Рука рабочего производит движение «на камеру», закрывает экран
2. Удаляясь «от камеры», рука ложится на рубильник, включает
3. Загорается лампа
4. Три прибора
5. Башни проводов высокого напряжения
6. То же, встречный ракурс
7. Рука включает рубильник
8. На роторе вращаются катушки
9. То же на фоне цеха
10. Рука крутит ворот
11. Крутится колесо
12. Крутится вал
13. Крутится колесо станка
14. Поршень
15. Крупнее — поршень
16. Долото в руке бочара насаживает на бочку обод
17. Долото врубается в стену
18. Труба, рядом рабочий
19. Рука со сверлом
20. Рука — ворот
21 )
22’ 1 Рубанок строгает
23. Рабочий качает
24. Лезвие пилы
25. =23
26. Кузнец (ракурс снизу, обнаженный торс) бьет по наковальне
27. Три кузнеца ударяют молотом по наковальне
28. Рабочий (обнаженный торс) качает
29. 1
30. } Кузнец (обнаженный торс) бьет по наковальне. Укрупнение
31. J
32. = 28
33. Другой рабочий качает
34. Копают яму
35. =26
36. Кузнецы
37. Кузнецы
38. Кирка ударяет по камням
39. Топор — по бревну
40. Косарь точит косу
41. Руки доярки доят корову
42. Руки зеницы с серпом
43. Руки перебирают штурвал
44. То же
45. Руки телефонисток оперируют шнурами
46. Пульсирует деталь машины
47. Рука связиста на ключе Морзе
48. Наборщик меняет набор
49. Типографская машина
50. Рука держит лупу, через которую видны радиолампы
51. Руки упаковщицы упаковывают папиросы
435
Приложения
52. Паровозный свисток выпускает струю пара
53, Упаковщица папирос формует коробку
54. Стучат пальцы машинистки
55. Рука на ручке счетной машинки
56. То же, вид сбоку
57. Рука вращает ручку кассы
58. =56
59. =55
60. Рука крутит ручку киноаппарата
61. Рука переводит стрелки
62. Штурвал
63. Свисток паровоза
64. Рука крутит колесо
65. Голый торс рабочего
66. Деталь станка
67. =29
68. =30
69. =33
70. =32
но: стык 26/27 был в момент удара, стык 71/72 — на замахе
73. Деталь станка
74. =60
75. =56
76. =19, другой ракурс
77. )
<., .> } Руки, производящие различные операции
83. J
84. Поршень
85, Рабочий ударяет молотком
86. =38
87.
88.
89.
130.’
? Невыясненные виды работ
) Короткими планами (до мелькания) чередуются уже знакомые
кадры
131. План сверху — толпа
132, Рука солдата держит винтовку
133. Навытяжку стоит матрос
134. Из затемнения: лицо рассказывающего рабочего, улыбается, кивает
135. Титр: Мы все! И ты тоже хозяин
Примечания
Часть I
Глава 1. Ранняя киноархитектура
и эволюция кинематографического социума
1 Сюжет хроники «Патэ», снятый оп. Ж. Мейером.
3 Полемику с идеей «соборности» нового театра после статьи Белого
стало принято оснащать ссылкой на кинематограф. Отдаленный отголосок
этой аргументации встречаем в статье Б. М. Эйхенбаума «Проблемы кино-
стилистики»: «<.. .> еще до войны, в эпоху разложения символизма, тео-
ретики театра и режиссуры увлечены были идеей «соборного» театрального
действа.., Мечты о «соборности» не осуществились и остались характер-
ным историческим признаком эпохи театрального разложения, но неожи-
данно явилось новое, массовое, и, в этом смысле, своего рода «соборное»
искусство. Более того, оно оказалось соборным не только в отношении
зрителя («улица»), но и в отношении самого производства. Как синкретиче-
ская форма и как техническое изобретение, кино собрало вокруг себя массу
разнообразных специалистов, и долгое время фильма являлась зрителю без
всяких имен, без всякого «авторства» — как плод соединенных усилий целого
коллектива. Однако от этой «соборности» до той, о которой мечтали симво-
листы, очень далеко, это — соборность навыворот» [460, с. 20—21].
3 Можно ли считать совпадением «влажные глаза» проститутки из сти-
хотворения Чулкова 1908 г. и более поздней статьи Кугеля? Если отбросить
общие соображения о сентиментальности женщин этой профессии, придется
отнести и эту деталь к репертуару устойчивых представлений о кино. На-
помним, что рецепция кинематографа в русской культуре имеет несколько
иную историю, чем на родине его изобретения. Если впервые сеансы Люмь-
ера обставлялись как научная демонстрация, то для русской публики
кинематограф едва ли не сразу попал в контекст почти скандальный. Первое
массированное знакомство с кино происходило, как известно, в кафе-шантане
Шарля Омона, гастролировавшем на Нижегородской ярмарке. «Театр-концерт
паризиеи» Омона обладал репутацией публичного дома. Посетителями кафе-
шантана, равно как и посетителями первых киносеансов, кинематограф и
проституция с самого начала были невольно восприняты как явления смеж-
ного порядка. Русской литературой эта смежность была зафиксирована с
поразительной быстротой. Спустя неделю после посещения сеанса кинемато-
графа на нижегородской Всероссийской выставке (посещение состоялось
30 июня или 1 июля 1896 г.) вслед за двумя корреспонденциями в местной
и одесской газетах А. М. Горький опубликовал в «Нижегородском листке»
(№ 185, 7 июля) рассказ «Отомстил...», в котором обыгрывался фильм
Люмьера «Завтрак младенца». В его основу легли два, казалось бы, незави-
симых друг от друга, хотя и смежных по времени и месту события. Через
два дня после того, как Горький впервые увидел в кафе-шантане Омона на
Нижегородской ярмарке программу Люмьеров, одна из «певичек» этого
кафе-шантана Лили Дарто покушалась на самоубийство. Из статьи Горького,
написанной накануне случая с Лили Дарто и опубликованной в «Нижего-
родском листке» 4 июля 1896 г., мы узнаем, что участницам развлекатель-
ного представления в «Театре-концерте» Омона во время сеанса полагалось
находиться в зале и смотреть программу вместе с гостями заведения. Уже
в этой статье Горький наметил сюжет, послуживший основой для рассказа
437
Примечания к стр. 4ft—67
«Отомстил...», — контраст между показываемым на экране и судьбой
«жертв общественного темперамента» из труппы кафе-шантана: «Молодые
супруги и толстый их первенец завтракают. Оба они такие счастливые, а
бебе — такой забавный. Картина производит хорошее, мягкое впечатление.
Место ли этой семейной картине у Омона? Другая картина. Работницы,
веселые и смеющиеся, густой толпой мчатся на улицу из ворот фабрики.
Это тоже неуместно у Омона. Зачем здесь напоминать о возможности чистой,
трудовой жизни? Бесполезно. В лучшем случае эта картина больно уколет
женщину, торгующую поцелуями, и это все» [133]. (Заметим в скобках, что
журнал «Новое слово», процитировав в разделе «Из провинциальных газет»
эти риторические вопросы неназванного Горького, предлагал свое объяснение
нужды III. Омона в кинематографе: «без него многим почтенным выставоч-
ным гостям было бы положительно неудобно посещать Омона» [175, с. 189]
В рассказе «Отомстил...» Горький, как бы восстанавливая отсутствующее
звено между киносеансом и случившимся с Лили Дарто, избрал темой ду-
шевную драму проститутки, по-новому взглянувшей на свою судьбу под впе-
чатлением картины Люмьера: «— <... > Особенно мне нравится одна кар-
тинка. Молодые супруги... Муж и жена... такие, знаете, здоровые, кра-
сивые, завтракают и кормят бебе,.. миленького такого! Он ест и строит
рожи... ах, как это мило! Вы непременно обратите внимание на эту
картину... она такая многозначительная... и, знаете, здесь эта картина
как-то особенно хороша... то есть не хороша, а сильна.
Она запуталась и искала выражения, нетерпеливо стуча пальцами по
столу. Он заметил, что ее глаза стали как-то глубже, яснее... Это возбу-
дило его любопытство.
— Почему Вам нравится именно эта картина? — спросил он.
— Семейная жизнь? — воскликнула она искренним звуком. — Боже
мой, ведь я же женщина!» [134, с. 500].
4 Внимательный к мелочам И. Н. Игнатов писал: «Это прежнее утверж-
дение, будто кинематограф не отнимает много времени у занятых лю-
дей Но длинная лента и необходимость быть comme dans les meil-
leurs families поставила все дело иначе. Конечно, здесь нет надобности
брать билеты заранее, как в театр. Но кто видел длинные хвосты желающих
проникнуть в кинематограф перед представлением, кто смотрел, как мед-
ленно продвигаются они вперед и тратят полчаса и более прежде чем
проникнуть в «вестибюль», где помещается касса, <.. .> тот уже по одному
этому мог судить, насколько действительно сберегает время «трудящихся»
кинематограф. Но одним «хвостом» дело не ограничивается. Уже проникший
в здание и получивший билет зритель еще не начинает наслаждаться зре-
лищем экрана: он приходит в фойе и ждет здесь иногда столько же вре-
мени, сколько будет потом сидеть в зрительной зале» [172, л. 57].
5 Современная французская кинотеория, в последнее десятилетие пере-
шедшая на язык психоанализа, усматривает в кинематографе семиотическую
систему, предельно усложнившую соотношения между такими фундамен-
тальными представлениями, как присутствие / отсутствие, видеть / быть ви-
димым, наблюдатель / объект наблюдения. В частности, К. Метц настаивает
на психологии вуаеризма (видеть, оставаясь невидимым) как ключевой для
поведения кинозрителя в отличие от зрителя театрального: «Достаточно,
и даже требуется — и это тоже специфический проводник получаемого
удовольствия — чтобы актер действовал как будто он невидим (то есть не
замечал своего вуаера), чтобы он предавался своим каждодневным занятиям
и продолжал существовать, как того требует фабула фильма, чтобы он рез-
вился себе в замкнутом помещении, и единственной его заботой было не
обращать внимание на. стеклянный прямоугольник, встроенный в одну из
стен, чтобы он жил в своего рода аквариуме...» [559, с. 119]. Не исклю-
чено, что для кинозрителя 10-х годов своеобразный «эксгибиционизм» фойе
как-то компенсировал анонимное пребывание в кинозале.
438
Примечания к стр. 78—ИЗ
Глава 2. Режим проекции как фактор
эстетического восприятия
1 О сознательном нарушении кинезических правил исторического жанра
у Тынянова и фэксов см. [235, с. 69—72J.
2 Могут возразить, что этот перечень почти исчерпывает список доступ-
ных кинематографу процессов. Однако следует учитывать, что существует
ряд сюжетов, для обратной проекции «неинтересных», например механиче-
ских («Прибытие поезда») или игровых («Политый поливальщик»).
3 Об использовании Маяковским приема «обращенного времени» в связи
с кино см. [563].
Глава 3. Акустика киносеанса
1 Борис Вячеславович Дюшен (р. 1886) — один из первых русских кино-
инженеров, специалист по кинотехнике.
2 Александр Дмитриевич Анощенко-Анод (1887—1969) — пианист-кино-
иллюстратор, киножурналист, режиссер, сценарист, преподаватель ГИК.
3 Николай Николаевич Кручинин (Хлебников) (1885—1962) — пианист-
киноиллюстратор, гитарист-этнограф, собиратель цыганского фольклора.
С 1907 г. — артист драматических театров. Заслуженный артист РСФСР
(1947).
4 Мы исключаем картины «из русской жизни», снимавшиеся в России
режиссерами «Патэ» и прокатывавшиеся главным образом во Франции.
5 «Критики, однако, обычно просматривали картину «холодной», безо
всякого аккомпанемента, кроме шума проектора, покашливаний и собствен-
ных реплик. Фильм, который выдерживал испытание сеансом для прессы и
получал хорошие рецензии, безусловно стоил выпадавших на его долю пох-
вал» [499, с. 338].
6 «Ямщик, не гони лошадей» (о-во А. Ханжонков, 1916), реж. Е. Бауэр,
оп. Б. Завелев; в ролях: И. Перестиани, А. Ребикова, Н. Тэффи.
7 В статье, посвященной не киномуэыке, а психологии музыкального
восприятия в целом, Л. Л. Сабанеев писал: «Музыка отличается огромной
степенью «ассоциативности». При повторении музыкальных мотивов, фраз
с яркостью вспоминаются эпизоды обстановки, при которой эти фразы были
впервые услышаны. Это свойство музыки может быть [со] поставлено
по силе только с подобной же способностью у запахов — напоминать пол-
ную и нередко детальную картину обстановки, при которой они впервые
были пережиты, Это воспоминание вполне импульсивно, и я по своему опыту,
подтвержденному аналогичными свидетельствами у других, знаю, что ассо-
циации являются совершенно неожиданно и только после соображаешь, что
их причина — в случайно услышанной музыкальной фразе или отрывке,
которую часто и сам не замечаешь. Для профанов это свойство, которое,
возможно, у них еще сильнее развито, ибо вообще эти инстинктивные психо-
логические феномены ярче у тех, кто менее аналитично воспринимает, —
оно является драгоценным возбудителем переживания при слушании му-
зыки. Вспоминается все до мельчайших подробностей, и если эти воспоми-
нания случайно приятны, то эта приятность всецело относится за счет
музыки. Неаналитический ум профана не может разобраться, где кончается
впечатление от самой музыки и где — от ассоциаций, вызванных этой
музыкой» [323, с. 11).
8 Вячеслав Александрович Булычев (1872—1959) — композитор.
9 Анатолий Владимирович Голдобин — музыкант, преподаватель музыки
по классу виолончели, музыкальный рецензент, киноиллюстратор.
439
Примечания к стр. 113—171
10 Б. М. Азанчеев — пианист-иллюстратор.
11 Константин Николаевич Аргамаков — пианист-импровизатор, препода-
ватель музыки, автор работ о музыкальной импровизации.
Глава 4. Рецепция информационных помех
1 Узнала его и исследовательница культуры рубежа веков Н. М. Зор-
кая: в стихотворении Северянина, по ее мнению, «образ киноленты тех лет
необычайно точен» [166, с. 53].
2 Новые значения старых слов — благодарная ситуация для построения
сюжетной интриги. В 10-е годы подобным образом было обыграно и слово
«шофер» — неологизм для русского языка, это слово для француза, как
«коляска» для Северянина, было гальванизированным старым. В скетче
Н. Тарасова, написанном для театра «Летучая мышь», сюжет строился на
«ножницах» старого и нового значений этого слова. Скетч назывался «Скан-
дал с Наполеоном», Сцена представляла Москву 1812 года: выходил просту-
женный Наполеон, жаловался на холод и говорил, что пора уезжать домой
в Париж. Ежась, он говорил адъютанту: «Где мой шофер?» В этом месте
смешавшийся с публикой актер возражал из зала: «Автомобилей тогда еще
не было!» Актеры пытались продолжить игру, но «публика» не унималась.
Дело доходило до скандала. Наконец, дирекция театра давала разъяснение:
Наполеон имеет в виду не водителя автомобиля, а «шофера» в начальном
смысле слова — истопника. Примечательно, что скетч «Скандал с Напо-
леоном» имел большой успех во время гастролей «Летучей мыши» по Север-
ной Америке: в английском языке, как и в русском, французское слово
«шофер» заимствуется только в значении «вожатый, правящий автомобилем»
(Н, Гавкин. Словарь иностранных слов. Киев, 1913). В частности, впечатле-
ние от «Скандала с Наполеоном» оказалось важным для труппы братьев
Маркс. Одним из первых спектаклей в их репертуаре (еще с участием матери
братьев — Минни Маркс) была пародия на этот скетч «Летучей мыши».
Часть II
Глава 2. Рецепция подвижного пространства
1 Широко известен заключительный кадр «Броненосца «Потемкина»,
в котором броненосец, надвигаясь на зрителя, «пропарывает» экран (по за-
мыслу экран должен был разорваться по-настоящему), Вертов считал, что
Эйзенштейн украл эту идею у него, о чем не упустил случая заявить с
трибуны: ««Ленинская киноправда» начинается с моментов борьбы восстав-
шего пролетариата, середина картины строится вокруг [события] — смерти
вождя, кончается на моменте победы и бодрости —- кадрами поезда револю-
ции, который наезжает на зрительный зал и проносится над головами зри-
телей. «Потемкин» также начинается с борьбы восставших, середина кар-
тины строится вокруг смерти Вакулинчука, заканчивается на моменте победы
и бодрости — кадрами броненосца, наезжающего на зрительный зал. Но это
я между прочим» [95, с. 64]. О том, что «поезд революции» повторяет
эффект «Прибытия поезда к вокзалу Ла Сиота», Вертов забывает. Между
тем Эйзенштейн, задетый вертовскими инсинуациями, любил напоминать, что
методы «киноков» недалеко ушли от хроники люмьеровских времен [454].
2 Ср. у В. Б. Шкловского: «Если в кино вы видите какой-нибудь пред-
мет и не знаете его смысловой значимости, то вы не знаете и то, к какой
части глубины экрана он относится» [444, с. 21].
440
Примечания к стр. 172—186
3 «20 дверей открываются сразу, и вот композиция совершенно измени-
лась» [581, с. 48].
4 Если не считать специально препарированных волшебных фонарей, чье
приближение к экрану создавало эффект надвижения картины.
5 Газеты писали о «превращении обыкновенного человека в потешную,
широкую, расплюснутую каракатицу» [Кино-театр и жизнь. 1913. № 5. С. 8].
6 Неполный список примеров [307, с. 2; 448, с. 12 и др.] можно продлить
до наших дней. Так, современный нам исследователь в работе, специально
посвященной Люмьеру, повторяет ошибку наблюдателей XIX века: «Поезд
как бы врезается в камеру, а отправляясь, и в зрителей» [528, с. 50].
Глава 3. Лицевая граница текста
1 Правда, помимо фонарей, показывающих движение в плоскости экрана,
в конце XIX в. сооружались и особо препарированные фонари на рельсах
для осуществления «наездов», но искомый эффект состоял не в «приближе-
нии», а в «увеличении» экранного изображения по мере откатывания аппа-
рата от Плоскости проецирования. Такие фонари требовали стационарной
установки и большого распространения не получили.
2 Некоторые журналы («Сине-Фоно», «Артист и сцена») предлагали сме-
нить обрамление экрана с тем, чтобы он напоминал не картину, «окаймлен-
ную в деревянную или плюшевую раму», а окно: «Стена, где помещается
экран, должна быть отделана такой архитектурной рамой, чтобы простран-
ство, занятое экраном, казалось отверстием, через которое мы наблюдаем
жизнь, происходящую где-то далеко от нас» [ 185, с. 8]. Такая рамка (кажется,
она так и осталась в области журналистских пожеланий — нам неизвестно,
чтобы хоть один российский кинотеатр ставил себе в заслугу подобное соо-
ружение) была порождением центральной рецептивной универсалии 10-х го-
дов — устойчивой ассоциации между окном и экраном («Есть что-то голое,
бесстыдно физиологическое просто в том, что разворачиваются стены и
показывается жизнь «как она есть» в ее мельчайших проявлениях, в спаль-
нях, в столовых...», — писал А. Р. Кугель [205, с. 682]). Эта ассоциация
оказалась настолько сильной, что возникала не только при взгляде на экран,
но и при взгляде в окно — как в стихотворении В. Я. Брюсова «Синема
моего окна» (1914) или Филиппа Супо «Кафе» (1918), в котором вид из кафе
на улицу описывается как фильм, обрывающийся, когда в помещении вклю-
чают свет [475, с. 101].
8 Непрошенную наглядность этот умозрительный парадокс приобретал,
когда, например, в луч проектора попадал не вовремя поднявшийся зритель
или девушка-капельдинерша, рассаживающая опоздавших, — происшествие,
трижды зафиксированное русскими поэтами — А. Рославлевым в 1907 г.:
«Париж, Нью-Йорк, скользят дома,
Мосты, бассейны и бульвары.
Египет в солнечном огне,
- Александрия, виды Нила»
• Вдруг встала тень на полотне
И пирамиду заслонила [319, с. 61—62],
А. Чумаченко в 1911 г.:
Порой в полосе золотистой
Холодного света, так тонко
Идущей откуда-то сзади
На белый экрана квадрат,
441
Примечания к стр. 186—199
Мелькнет на мгновенье профиль
Плененного сказкой ребенка,
Волос золотистые пряди
И нежный задумчивый взгляд [437, с. 15—16),
Ч.М. Моравской в 1915 г.:
Сколько раз на зыбкий экран,
На все дива невиданных стран
Ложилась случайная тень
Девушки с ярким фонариком! [262, с. 52)
4 «Опыт — великое дело. Он сразу научил нас не бояться надвигаю-
щихся на нас предметов. И когда в нашу сторону обрушивается огромная
волна, мы уже не вскакиваем с места и не бежим, боясь, что нас обдаст
водой, хотя все-таки испытываем некоторую жуть» (171, л, 117].
5 «Внимание публики приковано к поезду. Темп музыки нарастает, про-
бегают зловещие ноты... Паровоз все ближе, несется прямо на нас... Еще
ближе!.. Огромное стальное чудовище!.. Летит на нас! Страшно! Прямо на
нас! На нас!! Ужас!! Ай!.. — Пронзительный женский визг! Паника! Многие
из зрителей вскакивают. Некоторые бросаются к выходу. Полная темнота»
(171, л. 108—109].
6 «Волна откатывается и перед нами открывается море! На горизонте
распустил длинный шлейф дыма пароход. Сильно раскачиваясь и зарываясь
носом в волны, недалеко от нас проходит белый катер. Простор! Свежий
ветер! Можно представить, с какой жадностью я, всегда бредивший, морем
и никогда его не видевший, стараюсь схватить все детали «живой» морской
стихии» [171, л. 117—118]. Ж. Садуль в книге о Люмьере между делом
вспоминает, что его мать впервые увидела море в кино [581, с. 31]. Харак-
терен диалог между Л. Р. Коганом и его отцом по выходе с люмьеровского
сеанса; «На обратном пути отец спросил, что мне больше всего понрави-
лось?
— Море и волны.
— А мне — уличная сценка в Париже» [192, л. 39].
7 И. Н. Перестиани рассказывал о механике сценарного дела в русском
кино: «Фабриковалось это обычно самой фабрикой по простейшему рецепту.
Брали авантюрный роман любого иностранца. Пьер становился Валерианом,
Генриэтта — Лариссой, и сценарий готов» (290, л. 20]. Здесь характерна
полурусская-полуиностранная окраска новых имен.
8 Сообщено Р. Д. Тименчиком.
9 Подробнее о кино в связи с оппозицией «существование / несущество-
вание» в «Машеньке» см. [218, с. 21—27]; о кинотемах у Куприна см. также
[426, с. 266].
I(J Ср. типажные заметки к режиссерскому сценарию «Выборгской сто-
роны»:
«Основным в этой сцене являются люди.
Это должен быть социальный портрет старого русского чиновничества.
Разные градации этой прослойки:
высшие чины — русское барство и бюрократически-европейский стиль.
Холеные бороды и привычно вежливые лица. Немирович-Данченко и
Леонтьев. (Посмотреть Жуковского.)
Средние чины: бюрократия в чистом виде.
Амплитуда от Д. Гутмана до Е. С. Михайлова.
Очень важен лысый чиновник, помесь паскудного гнилозубого остроумия
и бюрократической машины. Возможен Горин-Горяинов, Мартинсон?, очень
хорош был бы К. М. Миклашевский. Хотелось бы дегенеративную форму
лысого черепа. Впрочем, это не обязательно.
442
Примечания к стр. 199—210
Набор орущих, неистовствующих, юродствующих для сцены митинга.
Нечто от Достоевского. Тип И. И. Соллертинского» [385, с. 259].
11 Сличив этот пересказ с фильмом «Выборгская сторона», можно заме-
тить, что рецептивная память свела воедино разбросанные по разным сценам
и розданные разным исполнителям поступки: эпизод с чернильницей и арест
с ролью Берберова впрямую не связаны. Оглядывается на камеру, покидая
зал, председатель только что распущенного Учредительного собрания (в нар-
ративном пространстве фильма этот взгляд адресован, конечно, не зрителю,
а монтажно соотнесенному с ним суровому взгляду разогнавшего собрание
матроса).
12 О намеренном применении «взгляда в камеру» в разных жанрах кино
см. [507].
13 М. Шапиро в недавнем исследовании о средневековом искусстве со-
отнес профильное изображение с местоимением «он», а изображение ан-
фас — со словом «я» [584, с. 38—39]. О направлении взгляда в связи со
структурной иерархией персонажей писал и Р. Барт: «В Государственном
музее в Амстердаме выставлена серия картин, написанных анонимным ху-
дожником, «Мастером из Алкмаара». Это — картины повседневной жизни;
причина, по которой эти люди оказались вместе, на каждой картине своя,
но всякий раз мы видим среди них одного и того же персонажа; затерянный
в толпе, тде все фигуры схвачены как бы без их ведома, он единственный
смотрит художнику (а значит и мне) прямо в глаза. Этот персонаж — Хрис-
тос» [484, с. 281].
Глава 4. Культурная рецепция.
Фильм как объект межсемиотического перевода
1 Термин «синематограф» появляется в творческом лексиконе мхатовцев
вскоре после создания театра. В письме от 20 августа 1900 г. кА. А. Санину
К. С. Станиславский связывал дальнейшие пути театра с «необходимостью
синематографа» [354, с. 195]. Это же слово мелькало в переписке тех лет
между К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, причем обсужда-
лась возможность увлечь этой идеей и А. П. Чехова. Сохранилось письмо,
Немировича-Данченко к Чехову (окт. 1899 г.), в котором объясняется поня-
тие «синематограф» применительно к театру: «Сценка за сценкой должны
меняться со скоростью синематографа. Тут и ярко комические вещи... и
драматические. По 4, по 5 без антракта» (Ежегодник МХТ, 1944. М., 1946.
Т. 1, С. 120).
2 Луначарский дает полемически направленное, но меткое определение
принципу драматургической структуры пьесы, сравнивая сюжетный строй
«Синей птицы» с салонной игрой, в ходе которой между участниками распре-
деляются вопросы «кто?», «с кем?», «когда?», «что делали?» и «что из этого
вышло?», а ответы затем складываются в причудливую фразу. По-видимому,
отсутствие в пьесе обычных театральных мотивировок тоже проецировалось
на «несуразницу » сюжетов фильмов 900-х годов [431, с. 5? ].
3 М. Метерлинк имел основания опасаться, что «чересчур мистическая
атмосфера у (письмо Станиславскому от 14 февр. 1908 г. / Экспозиция музея
МХАТ), подчеркивающая символические мотивы пьесы в ущерб ее теат-
рально-феерическим источникам, нарушит юмор «Синей птицы». Действи-
тельно, для той части русской публики, которая превыше всего ставила
поэтическое глубокомыслие пьесы, юмор Метерлинка, бережно сохраненный
в спектакле МХТ, «местами грубоват, безвкусен и неприятно перебивает
общее поэтическое настроение той или другой сцены» [140, с. 12]. На недо-
статок у Метерлинка художественного вкуса жаловался и Эллис: «Досаж-
дает излишнее количество стиля «grotesque»» [462, с. 100). Ориентация на
различные театральные культуры отразилась в обмене письмами между Ста-
443
Примечания к стр. 210—251
ниславским и Метерлинком. Реконструкция этого диалога позволила Н. Ле-
онтьевскому прийти к такому выводу: «Метерлинк принимал все новшества
московской постановки, превращавшие его пьесу из феерии в сказку; при
постановке же ее в Париже он настаивал на возвращении к феерии» [222,
с. 65].
4 Фигура «лопнувшего» — постоянный мотив Белого и за пределами
'’ романной прозы. В статьях указанного периода образ распирающих «пепто-
нов» и «лопающихся» философских учений («<...> с напряжением разры-
вается Спенсер; и разорванный Спенсер — в Когене. И с лопнувшим Спен-
сером эволюционирующий модернизм должен лопнуть в законченность клас-
сицизма» — 42, с. 15) встречается регулярно. Но и позднее, в «Мастерстве
Гоголя», Белый охотно к нему прибегал: ««Петербург» — точка морока, сти-
лизации; он — гипербола для гиперболы; и он для Гоголя — взрыв: бомбы
в Гоголе» [44, с. 181].
5 В трюкографии Мельеса взрыв прослеживается с 1900 г. («Nouvelles
luttes extravagantes», 1900; «L’Homme a la tete en caoutchouc», 1902; «La
guirlande merveilleuse», «Le Cake-Walk infernal»; «La flamme merveilleuse» ;
«Le chaudron infernal», 1903; «L'Hotel des voyageurs de commerce», 1906;
«L'Alchimiste Parafragamus ou la cornue infernale», 1906; «Hydroterapie fan-
tastique, 1909). Такое постоянство привлекало внимание наблюдателей. В по-
лумемуарной статье 1914 г. «Старые балаганы» П. Гнедич утверждал, что все
трюки кино восходят к балаганным арлекинадам: «Во всяком случае, арле-
кинада развивала вкус: и костюмы, и гримы, и декорации, — все это в сово-
купности было хорошо. Гораздо лучше, чем нынешний кинематограф. Ныне
представляют, как бежит человек, падает в воду, переплывает на другую
сторону, лезет на забор прыгает с четвертого этажа. Только все это — на
мертвых кинематографических снимках. А тогда перед вами был живой
арлекин, он прыгал тоже из окна, его разрезали, заряжали им пушку, стре-
ляли, а он выпрыгивал целый из концентрических кругов мишени... И опять
бежал, лез на забор, ускользал из рук тех, кто за ним гнался, — и наконец
торжественно соединялся с прелестной коломбиной» [127, с. 326—327].
6 В суммарной картине русского быта, сложившейся в представлении
европейца первой четверти XX в., анархист — устойчивый атрибут. Ср. иро-
ническое описание такой картины у Р. Нольда: «На первом плане терро-
ристка зажигает спичкой подсунутую под генерала бомбу, а вдалеке кого-то
уже разорвало в клочья» [275, с. 6].
7 That Terrible Sneeze (Apr. 1904), The Record Sneeze (Oct. 1905) etc.
8 Рукопись сценария Андрея Белого «Петербург» хранится в фонде
Д. К. Богомильского (ГБЛ, ф. 516, № 3, ед. хр. 37). Текст сохранился не
полностью (характер правки позволяет судить о том, что сценарий был Белым
дописан до конца): недостает Пролога (хотя в сохранившейся части текста
содержатся отсылки к нему) и завершающих глав. Особенности орфографии,
а также договор между Кинокомитетом и А. Белым на «сценарий по роману
Петербург, представляющий из себя его переработку», подписанный 16 нюня
1918 г. (ЦГАЛИ, ф. 989, on. 1, ед. хр. 5, л. 41), позволяют датировать текст
концом 1910-х годов.
Глава 5. Рецепция киноповествования
1 В немецких источниках это, например, расхождение во мнениях между
X. Леманом [546] и Р. Гармсом, который писал; «Леман резко осуждает
это обыкновение показывать после серьезной картины комическую или без
разбора чередовать научные и художественные фильмы. Однако надо пола-
гать, что как раз такая постоянная смена настроения и содержания фильмов
пользуется наибольшим сочувствием широкой публики» [117, с. 72—73].
2 16 марта 1917 г. «Московские ведомости» писали: «Начинается пред-
ставление. На экране появляется примадонна пьесы. Из-за медленно раздай-
444
Примечания к стр. 251—286
гаемой занавески выступает массивная женская фигура, все увеличиваю-
щаяся. Вырастающая до громадных размеров довольно-таки обрюзгшая
физиономия медленно поворачивается справа налево, делает «загадочно-
томные» глаза, принимающие затем до тошноты «страстное» выражение. На
смену является лицо героя пьесы, худое и бритое, с неврастеническим
взором расширенных до пределов возможности глаз. Такой же как и у при-
мадонны медленный поворот головы справа налево и особо выразительный,
на сей раз «болезненный» взгляд. Затем начинается действие» [26].
3 Фильм «В огне страстей и страданий» посвящен памяти певицы
А. Д. Вяльцевой и первоначально был задуман как ее биография. Вокальный
концерт — не самое выигрышное событие для немого фильма, поэтому
можно понять Иванова-Гая, который предпочел пению эллипс.
4 Если отбросить версию об актерской бездарности Веры Холодной,
наблюдение Сабинского подтверждается некоторыми другими данными.
По-видимому, Веру Холодную, действительно, чаще, чем других актеров,
снимали с укрупнением (хотя, конечно, речь не обязательно идет о лице во
весь экран). Во всяком случае, когда укрупнений было меньше, чем обычно,
нехватку замечали: «Игра В. Холодной в главной роли не выше среднего;
виноват, может быть, режиссер, дающий мало передних планов, столь выиг-
рышных для артистки, и очень коротенькие сцены» [201, с. 16]. Верно и то,
что в русском кино укрупнение лица внутри сцены связывалось с актер-
ским психологизмом.
5 В «Приключениях Лины в Сочи» (1916) Е. Бауэра и Б. Завелева диа-
пазон наезда в эпизоде «Представление актеров» — от фигуры в рост до
крупного плана лица! Выразительное описание одного из таких эпизодов
читатель найдет в сноске 2 примечаний к настоящей главе.
Глава 6. Рецептивный слой фильма.
Изображение и надпись как компоненты
межсемиотического перевода
1 Здесь самоописание киноязыка снова входит в противоречие с описа-
нием внешним, — сторонники фильмов без титров утверждали, что надпись
нарушает «естественность» рассказа, выключает зрителя из «потока обра-
зов», тогда как на самом деле привычным, ожиданным, нормальным для
зрителя было именно такое переключение.
2 «Венецианская ночь» («Venetianische Nacht»; 1912) М. Рейнгардта
шла в России в 1914 г. и имела хорошую прессу. «Мертвец» Таирова (1916)
был экранизацией пьесы К. Лемонтье, шедшей в таировском Камерном
театре.
3 Подробнее о связи кинематографа с фигурой Метерлинка в представ-
лениях русской культуры 10-х годов см. в главе о культурной рецепции.
4 «Слезы». Акц, о-во А. Ханжонков, 1914; реж. Е. Бауэр, оп. Б. Завелев;
в ролях: В. Юренева, И. Берсенев и др. фильм не сохранился.
5 По сути дела, баланс между изображением и словом, меняясь, никогда
не превращался в монополию одного из двух. Тенденция к вытеснению над-
писи, которая, несмотря на программные заявления, все же затронула рус-
ский дореволюционный кинематограф (а в 20-е годы получила свое предель-
ное выражение в некоторых фильмах Дз. Вертова, Е. Червякова и др.), не
означала окончательной элиминации словесного ряда фильмов. В развитом
языке немого кино наступление на титр велось по двум линиям. Одна из
них, которой придерживался Дз. Вертов, идет от традиции «примитивной»
стадии киноречи — «эмблематического» кадра, кадра-этикетки. Изображение
стремится к превращению в своеобразный ребус или иероглиф и тем самым
445
Примечания к стр. 286—298
к замене надписи (этой традиции мы намерены коснуться в одной из после-
дующих глав настоящей работы). Другой путь — предельным смысловым
усилением повествовательного контекста добиться того, чтобы «огласилась»
сама монтажная конструкция. Некоторые типовые титры немого кино (такие,
как «А между тем...», «Прошло столько-то лет...» и т. д.), даже и не
будучи воспроизведены на экране, в соответствующих узлах монтажной кон-
струкции фильма восполнялись в силу «языковой компетенции» зрителя. С
исчезновением надписей «диалог» между изображением и словом не исче-
зает, а превращается в диалог между экраном и залом; в последнем теперь
и сосредоточивается «словесная память» фильма: на развитой стадии языка
немого кино зритель уже умеет «мыслить титрами».
6 Интерес Набокова к проблеме почерка отмечен, в частности, в книге
С. А. Рейснера [317, с. 75].
7 Ср.: «В те годы титры бывали иллюстрированными. На листе писали
повествовательный титр или разговорный, а также маленький рисунок.
<.. .> Например, если было сказано: «Джордж вел в то время распутный
образ жизни», я пририсовывал свечу, горящую с двух концов, прямо под
этим предложением. Очень наивно» [535, с. 19].
8 В русском кино надписи нередко рисовались в последнюю ночь перед
премьерой, и зритель мирился с любыми несуразицами. Монтажница В. Хан-
жонкова рассказывала о спешной сдаче фильма «Обрыв»: «Спешно, ночью,
от руки писались новые титры, взамен недостающих, а там, где были незна-
чительные ошибки, — их просто перечеркивали а исправление писали сверху.
Так снимался и вклеивался в фильм титр, так и показывали картину на пер-
вом просмотре» [412, с. 10].
9 Попытку обыграть почерк кинонадписи мы наблюдаем и в 1914 г.,
когда история раннего кино впервые пересеклась с историей русского футу-
ризма. Фильм «Драма в кабаре футуристов № 13», снятый силами объедине-
ния «Ослиный хвост», судя по описаниям современников, включал автограф
одного из участников группы: «Поэт Лотов читает стихотворение, посвящен-
ное госпоже Гончаровой. Показывается самое стихотворение. Это — бумажка,
на которой намалеваны какие-то зигзаги, наставлены буквы в беспорядке»
(ЦГАЛИ, ф. 941, оп. 8, ед. хр 58, л. 37; ф. 336, оп. 7, ед. хр. 79). (Этот же
текст напечатан с купюрами и искажениями в «Кине-журнале» (1914,
№ 11—12), «Сине-Фоно» (1913—1914, № 115), Вестнике кинематографии
(1913—1914, № 115 / 17—18).) Надпись-стихотворение подробнее описана в
газете «Новь» (1914, № 26, 30 янв.): «<...> футур-стихи с шестью ерами
и восемью буквами «3», появляющиеся на экране». В. Марков, ссылаясь на
современное описание несохранившейся книги Антона Лотова «Рекорд», сооб-
щает, что рукописные тексты в ней выполнены Н. С. Гончаровой, т. е. одним
из инициаторов фильма.
10 Развернутые предикативные объяснения (видимо, позаимствованные у
литературной традиции: «Глава, в которой читатель узнает...») были в боль-
шом ходу в раннем американском кино; ср. ироническое описание Ж. Эпш-
тейна: «Я не собираюсь здесь оправдывать так называемые «американские»
титры — их так неправильно называют, они, увы, часто и французские, —
которые перед кадром объясняют зрителю, что он в этом кадре увидит, а
потом объясняют еще раз, на случай, если он этого не увидел или увидел,
но не понял» [519, с. 26].
11 Игра на несоответствии изображения и подписи под ним была излюб-
ленным приемом в картинах Р. Магритта, например «Ключ к сновидениям»
(1930) и др. Анализ его картины, изображающей трубку и надпись «Это не
трубка», см. у М. Фуко [525] и П. Буиссака [494, с. 55].
12 На подобном буквализме киноиллюстраций в 1920 г. настаивал
В. Я. Брюсов. В. К. Туркин, слушавший выступление поэта во Всероссийском
фотокиноотделе, утверждал, что Брюсов пытался привить кинематографу ме-
тод, опробованный Художественным театром при постановке «Братьев Кара-
мазовых» [389, с. 117].
446
Примечания к стр. 300—327
13 См. [458]; о профессии титровальщика в американском кино 20-х го-
дов см. содержательную главу в книге К. Браунлоу [499, с. 189—300],
примеры из которой широко позаимствованы 3. Питерой в [575].
14 История немого кино знает целый ряд альтернативных попыток до-
биться симультанной передачи прямой речи надписью в самом кадре. Видимо,
эта традиция пришла из Англии, где еще в 1898 г. в фильме «Новая слу-
жанка» («The new maid») У. Р. Пол вводил надписи в пространство кадра
(ср. табличку с обозначением места действия, принятую в Елизаветинском
театре), правда, еще не в функции прямой речи [402, ч. 2, с. 7]. Но уже в
1906 г. в английском фильме Т. Грина «Телефон-доносчик» («The Tell-Tale
Telephone») показан человек, беседующий по телефону с женой и одновре-
менно флиртующий с секретаршей, — слова возникали в кадре над его
головой; в 1912 г. В. П. Касьянов и И. А. Сукиасов «помещали внизу кадра
пленку с надписанной на ней репликой, произносимой в данный момент акте-
ром» [180, с. 190]. Известен аналогичный эксперимент М. Л’Эрбье, М. Штраух
со съемок «Броненосца Потемкина» писал о замысле Эйзенштейна показать
похороны Вакулинчука, «а надпись в это время «Вы жертвою пали» разбить
на слоги и пускать их плыть справа налево, снизу вверх и т. д.» [449,
с. 133]. Ж. Омон упоминает американский фильм 1920 г. «Тайна комнаты»
(«The chamber mystery»), в котором диалоги появлялись прямо в кадре в
«баллонах» наподобие тех, что встречаются в комиксах. «Баллоны» закры-
вали часть фигуры говорящего [482, с. 10—11]. Сопоставление такого приема
с семиотикой комикса провел еще в 1916 г. X. Мюнстерберг, обогатив его
исторической параллелью: «Некоторые эксперименты с проецированием про-
износимых слов в самом изображении сияющими белыми буквами над голо-
вой говорящего похожи на методы газетных карикатуристов <...>. Неко-
торые религиозные художники средних веков встраивали в изображение
тексты, которые как бы исходили из уст говорящих» [566, с. 86]. К. Браун-
лоу полагает, что бесперспективность этой техники была связана с произ-
водственными трудностями и соображениями экспорта в иноязычные страны.
15 в русской кинопрессе он стал торговой маркой этой картины, и
знака «?» во всю страницу журнала «Сине-Фоно» было достаточно, чтобы
оповестить киновладельцев о получении новой серии «Фантомаса».
Часть Ш
Глава 1. Интеллектуальный монтаж: «Октябрь»
1 Так, принято было считать, будто новый зритель неудовлетворен ста-
рым кино. Понятно, что ни на каких фактических данных (например, паде-
ние посещаемости) это суждение не основывалось. Оно возникло в результате
умозаключения по аналогии — из недовольства масс царским режимом
(такое недовольство считалось доказанным самим фактом революции) заклю-
чали о недовольстве массовой аудитории дореволюционной кинематографией.
2 Русское кино знакомо с жанром киноребуса: в 1909 г., как вспоминал
А. Ханжонков, «в поисках несложных, но забавных сюжетов мы произвели
несколько съемок на тему «игра слов». Существо картины было в комической
расшифровке надписи. Например, после надписи «Он изо всех сил боролся
сам с собой» следовала сценка, изображающая физическую борьбу человека
с собою, по всем правилам французской борьбы, включительно до «тур-де-
тета»» [411, с. 32]. В 1916 г. «Театральная газета» восхищалась остроумными
«кинокалендарями» с расписанием поста: «Перед зрителем появляется обык-
новенная страничка календарного числа, размером с экран, и благодаря
некоторым исключительно кинематографическим эффектам цифры и слова
оживают и слагаются в блюдах» (Ns 2, с. 15). Напомним и о такой параллели
447
Примечания к стр. 327—358
интеллектуальному монтажу, как немецко-американский жанр-однодневка —
«фильмы-кроссворды». В 1925 г. журнал «Ленинград» сообщал читателям:
«В Америке в кинематографах во время антрактов на экране показываются
ребусы с перекрещивающимися словами, и публика решает их на месте»
(N° 18, с. 12). Инициаторами фирмы «Rebus-Filme» в Германии были П. Лени
и Г. Зебер.
3 Как сообщил нам А. А. Чернышев, обнаруживший в ЦГАЛИ рукопись
Игнатова, из объявленной в сборнике «Из истории кино» публикации этот
фрагмент изъят как «ошибочное предсказание».
4 Когда эти соображения были высказаны автором на Эйзенштейновской
конференции в Оксфорде, Франсуа Альбера, согласившись с такой атрибу-
цией в принципе, обратил наше внимание на неувязку: в Na 409 говорится о
«панике коров», в то время как из мемуаров Г. Александрова [16] известно,
что сцена с коровами в Зимнем дворце не вошла в фильм из-за технического
брака. И все же текст так не похож на съемочный план и так похож на
монтажный лист, что остается только усомниться в достоверности мемуар-
ного свидетельства Александрова. Репутация этих мемуаров исследователям
творчества Эйзенштейна хорошо известна (к списку несуразиц в воспоми-
наниях Александрова следует добавить еще одну: на с. 142 мемуарист
утверждает, будто, пролетая над Мексикой, сочинил песню «Техуантепек,
Техуантепек». Между тем, судя по приведенному тексту, «Мексиканская
песня» принадлежит перу Семена Кирсанова!). Конечно, вопрос о техниче-
ском браке не относится к области, располагающей к фантазированию,
поэтому правомерно предположить, что сцена в коровнике была испорчена
не до конца и, возможно, единственный пригодный к печатанию кадр и был
использован Эйзенштейном под Ns 409.
5 Александр III, прежде чем «распасться на части», покачивает головой;
этим Эйзенштейн отдает должное скульптурному мифу «Каменного гостя»,
возможно, в рамках той же интертекстуальной матрицы, что и Блок в «Ко-
роле на площади».
Q Можно высказать осторожное предположение о том, что образ кос-
тюма как пустой оболочки возник у Блока небезотносительно к кино.
Знаменитый кинотрюк, в котором после удара от персонажа остается одна
одежда, использованный Чаплиным в «Бродяге» («The tramp», 1915) и Андре
Дидом в «Короле бокса» («Le roi de Ьохе», 1908), впервые появляется
у Ж. Мельеса в «La boite a malice» (1903) и выходит из употребления
в 1908 г. после фильма «Le conseil du Pipelet ou tour a la loir». Как из-
вестно, Блок был усердным кинозрителем, а «Балаганчик» — пьесой именно
такого жанра, в котором кинематографические заимствования могли пока-
заться вполне уместными.
Глава 2. Рецепция как расшифровка:
«Человек с киноаппаратом»
1 Среди отзывов, наметивших путь смысловой интерпретации фильма,
следует указать на рецензию 3. Кракауэра [544], статью К. Фельдмана
[403, с. 6], где отмечается нарушение фильмом традиционных повествова-
тельных единств, позднее названное Я. Мукаржовским применительно к этому
фильму «подчинением действия пространству», см. [565, с. 129], статью
А. Майклсон [562, с. 60—72], книгу В. Петрича [573]. См. также наши
работы [588, с. 109—125], [428, с. 359—368].
2 Как это делали до него режиссеры и сценаристы немецкого стиля
«каммершпиль» — см. [197, с. 101—111].
3 «<...> увеличение нагрузки потребностей на единицу материала»
[144, с. 142], «в малом — многое, в точке — все» [252, с. 8]. См. также
[Иб].
448
Примечания к стр. 35S—365
4 Вертов Д. Из интервью «Поняли ли ваш фильм в Берлине?» Цит. по
[2, с. 106].
3 Как проницательно (хотя и враждебно) заметил А. Федоров-Давыдов,
«в основе теории монтажа как специфики лежит утверждение, что произве-
дением искусства является не действие, не изображаемый процесс, а сама
пленка (своеобразный киноконструктивизм)» [400, с. 208; см. также 401].
Для конструктивиста 20-х годов материальная сторона знака («тектоника»,
«фактура») в семиозисе искусства могла быть важнее собственно знаковой,
так как именно она переводила произведение из эстетической сферы в про-
изводственную, подчеркивала «вещность» текста. В авангардном кино новей-
шего времени интерес к пленке безотносительно к ее экранной проекции
возродился, видимо, под влиянием идей Ж. Деррида о роли в культуре вто-
ричных форм записи (в частности, письмб). Ср. наблюдение X. Фрэмптона:
«Извлекая пленку из проектора и ставя ее на перемотку, изымаешь фильм
из серийного, зрительского времени и возвращаешь его в пространство
свободного доступа (randomly accessible space)» [526, с. 7].
6 См., например, «Новый ЛЕФ» (1927. № 4. С. 38), а также статью
С. Третьякова [382, с. 27).
7 Стенограмма напечатана в «Новом ЛЕФе» (1927, № 11—12, с. 70). Кадр,
о котором идет речь, снят еще в московский период «киноглаза», т. е. до
разрыва Вертова с ЛЕФом. (Разрыв произошел в результате болезненной
реакции Вертова на критическую статью Ерика в «Новом ЛЕФе» № 4 от
1928 г., усугубленной тем, что именно Брик оказывал на Вертова особое
влияние. Ответ Вертова на эту статью опубликован А. В. Февральским
в № 12 «Искусство кино» от 1965 г., с. 70—71.)
8 К. Зелинский: «Прием локализации, или локальный семантический
принцип. Он выражается в том, что весь поэтический изобразительный мате-
риал, которым конструируется тема, строго определяется магистральной конст-
руэмой (основным заданием)» [252, с. 31]. В поэтической практике конструк-
тивистов этот принцип предписывал, например, стихи из воровской жизни
писать на воровском жаргоне (И. Сельвинский). Более радикально настроен-
ный А. Чичерин видел «локализацию» в том, чтобы записывать стихи с
помощью специально разработанного фонетического письма, каким в наше
время пользуются в исследованиях по семиотике устной речи.
9 Эпизоды фильма приводятся по монтажным листам, изготовленным
нами с архивной копии фильма и сверенным с листами, хранящимися в
Кабинете советского кино ВГИКа. Нумерация кадров ведется от начала
каждой части.
10 Кулешов: «Танец, снятый с одной точки, сопоставлялся с танцем,
смонтированным из разных планов. Танец, показанный разными планами,
получился на экране гораздо лучше (кинематографичнее) танца, снятого об-
щим планом» [213, с. 78]; Вертов: «Киноаппарат «таскает» глаза кинозри-
теля от ручек к ножкам, от ножек к глазкам и прочему в наивыгоднейшем
порядке и организует частности в закономерный монтажный этюд» [97,
с. 54].
11 Кулешов: «Снимая крупно — спину одной женщины, глаза другой,
рот опять другой женщины, ноги третьей и т. д., удалось смонтировать
реально не существующую женщину» [213, с. 78].
13 Вертов: «Я у одного беру руки, самые сильные и самые ловкие, у
другого беру ноги, самые стройные и самые быстрые, у третьего голову,
самую красивую и самую выразительную, и монтажом создаю нового, совер-
шенного человека» [97, с. 55].
13 В отличие от интересующего нас уровня значений список тем по ча-
стям задуман до фильма, а не возник монтажно. Характерно, что он под-
черкнуто линеен и композиционно совпадает с аналогичным построением
фильма В. Руттмана «Берлин — симфония большого города» (1927), фильма
М. Кауфмана «Москва» (1927) и сценария В. Маяковского «Как поживаете?»
(см. [398, с. 148]).
449
Примечания к стр. 366—381
14 Забегая вперед, заметим, что молодая женщина — постоянный участ-
ник части I — является пародийным персонажем, ролью-цитатой, в свете
чего эпизод приобретает особый смысл.
,s На изоморфность людей и вещей как основной мотив фильма в 1929 г.
указывал 3. Кракауэр [544].
>6 — киноглаз. Я — глаз механический» |97, с. 55]. Эту тему на
другом уровне повторяет известная сценка из части VI (кадры 99—118), где
методом кукольной мультипликации достигается эффект самостоятельной
жизни и работы киноаппарата, причем параллельно показаны кинозрители,
следящие за показом на экране этой сценки, — характерный для фильма
принцип-перевертыш: человек наблюдает, а камера исполняет роль; ср. [169,
с. 171].
17 «Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я его смогу
увидеть» [97, с. 55].
18 Напомним, что у тогдашнего киноаппарата был штатив-треножник.
Об изображении человека в виде ходящей машины в картинах М. Дюшана
и Ф. Леже и связи этого мотива с фильмом Вертова см. [426, с. 117].
19 С. Третьяков: «Величайшим достижением левого искусства этой эпохи
является утверждение принципа производственного искусства, в котором
прежний развлекалыцик, шут, иллюзионист <.. .> переводил себя в ряды
работников, заменяя эстетический фантом деланием полезной и по-серьезному
нужной пролетариату вещи» (Новый ЛЕФ. 1927. № 2. С. 1).
20 В те же годы имели хождение пародии на вертовские выступления
в духе: «Я знаю, из чего делается сапог. Вот я сам. Пощупайте, и вы узна-
ете, из чего делается сапог. Долой! Долой! Долой!» [ЦГАЛИ, ф. 2091, on. 1,
ед. хр. 68, л. 228]. Блуждающий парадокс XIX века «Сапог выше Шекспира»
в 20-е годы был переосмыслен, в частности, в «Конструктивизме» А. Гана,
где опровергался постулат Ж. Дестрэ о тленности сапога и вечности искус-
ства, вслед за чем декларировалась установка конструктивного искусства «на
тленность» [116, с. 39, 49]. Ранее этот лозунг выдвигался русскими футури-
стами: «Поодаль от Маринетти стоял маленький Зданевич, автор известной
декларации о том, что американский башмак прекраснее Венеры Милосской»
(Московская газета. 1914. 14 февр. Цит. по [590, с. 137]); ср. у Маяковского
в поэме «Облако в штанах»: «Я знаю // гвоздь у меня в сапоге // кошмарней,
чем фантазия у Гете!» Доклад И. М. Зданевича «Поклонение башмаку» был
прочитан в «Бродячей собаке» 17 апр. 1914 г., см. (286, с. 234].
21 Например, «основа» по-русски, «сюжет» по-польски и т. Д.; ср. также
о ткачестве и поэзии в [243, с. 51—52].
22 Это характерный пример «локального принципа» в кино. Ср. сходный
прием, осуществленный М. Кауфманом в его фильме «Весной» (ВУКФУ,
1929): «Съемка производилась аппаратом, привинченным к концу шатуна
паровозного колеса. Аппарат снимал цилиндр, помещенный в него шпиндель
и переднюю часть локомотива. В свою очередь оператор, пристроившись на
паровозе, своей камерой снимал первый аппарат и всю перспективу, в то
время как первый аппарат на движущемся шатуне снимал оператора (чтб
видит шатун, когда его снимают)» (397, с. 28]. Кадр не сохранился.
23 В сокращенном виде запись фильма опубликована в [94].
24 Из съемочного плана фильма «Киев 1 сент. 28 г.», воспроизведенного
на рис. в [97, с. 107].
25 Фильм снимался в трех городах — Киеве, Москве и Одессе, что дало
Вертову большую свободу в компоновке вымышленного города из фрагмен-
тов настоящих. По той же причине затруднено узнавание конкретных мест
действия, что вызвало ряд возражений и упреков в «экстерриториальности»
фильма.
2е Т. е. «снятые врасплох»: термин «флагрантный» предложен С. Третья-
ковым при попытке теоретического осмысления вертовского лозунга «Жизнь
врасплох». Характерно, что, по наблюдению Ж. Садуля, этот лозунг введен
29 102326
450
Примечания к стр. 381—394
«киноками» в обращение сравнительно поздно — в 1924 г., очевидно, с при-
ходом в группу М. Кауфмана (см. [580]).
27 Этот монтажный стык заложен в полисемии слова «расходиться»
и обыгран в дневнике Вертова: «<.. > расходятся люди, трамваи, мотоциклы
и поезда» [97, с. 170], а также в строках распространенного в то время
романса — «и разошлись, как в море корабли». Вообще, зевгма — одна из
излюбленных фигур в монтажном мышлении Вертова.
28 Проще было бы назвать их соответственно метонимическим и мета-
форическим, но традиция соотносит эти термины с повествовательным кино
(см. [560]), каковым данный фильм не является.
29 Ср. сходные неологизмы Вертова: «киноводка», «кинокурево» и т. д.
30 Показательно, что Брик и, очевидно, Вертов «Зеленую Мануэллу» не
смотрели. Фильм «Die grime Manuella», снятый в Германии в 1923 г.
Э. Дюпоном (в СССР шел в 1925 г.), был картиной из жизни испанских
повстанцев и лишь своим названием напоминал о бульварных мелодрамах.
31 Тезис, общий с соответствующим положением лефовской доктрины.
В свете отождествления вымысла и наркотика интересен эпизод из ча-
сти VI, в котором фрагмент-лицо из киноафиши (название в кадр не вошло)
монтажно участвует в сцене пьянства в пивной.
32 Этому методу соответствует и предлагаемое «лечение» детей от «за-
разы кииодрамы» — школьные экскурсии на кинофабрику [97, с. 93].
33 Об «обнажении приема» у Вертова и о связи его поэтики с ОПОЯЗом
см. [488, с. 146].
34 Так, в фильме «Симфония Донбасса» (1930) воспроизводится нетра-
диционно решенный плакат Эля Лисицкого, причем это не репродукция
самого плаката, а повторение его изобразительной идеи в построении кадра
(см. [550, рис. 157]). Эта композиция — два лица в полупрофиль, мужское
и женское, совмещенные таким образом, что правый глаз одного является
левым глазом другого — пользовалась большой популярностью среди худож-
ников 20-х годов и еще раньше появлялась в плакатах А. Клуциса.
33 Это можно объяснить еще и тем, что «киноки», строя фильмы как
«групповой» текст, допускали вторичное использование материалов своих
более ранних фильмов.
38 Производство «Домо-Штраус», Берлин, 1927, реж. Ф. Зауэр, жанр —
«просветительный» фильм, «фильм Цилле» — мелодрама о любви.
37 См. аннотацию к фильму в (524, с. 57].
38 Примечательно, что если в неповествовательном фильме Вертова сно-
видением мотивируется повествовательный эпизод, то в «Октябре» Эйзен-
штейна крестьянину, заснувшему на съезде Советов, «снятся» внеповесгво-
вательные метафоры: меньшевик—балалайка, соглашатель=арфа. Для каж-
дого из фильмов сон есть то, что нарушает доминанту его развертывания.
Глава 3. Поэтика неоднородного текста:
«Обломок империи»
1 Позднее, в 1935 г. Адр. Пиотровский писал: «Образы чудаков, соци-
ально неполноценных личностей, образы калек и юродивых издавна пресле-
дуют творческое воображение Эрмлера, выражая наиболее слабые, наиболее
болезненные стороны его прекрасного дарования» [299, с. 262].
2 «То, что в <.. .> лентах «интеллектуального» кинематографа воспри-
нималось с большим трудом, — в «Обломке империи» воспринимается зна-
чительно легче только благодаря тому, что такие обобщения, такие символы
связаны между собой фигурой героя, проходящего сквозь картину» [267,
3 «3... и, господи, наших ослов из «кино и жизнь». Я прилагаю при
сем листочек «журнала», полюбуйся. Мне, честно говоря, нравится манера,
451
Примечания к стр. 304—411
усвоенная немцами и нашими. Ругают нас вместе. Хвалят вместе!» (ЦГАЛИ,
ф. 1923, on. 1, ед. хр. 2284).
4 Напомним «китайских львов», смыкающихся с «одесскими», а также
монтажную парафразу «восхождения Керенского» в «Голубом экспрессе»,
где проход англичанина вдоль поезда перебивается титрами: Делец. Хозяин,
Джентельмен. Конкурент. Враг.
5 Ср. наблюдение Ф. Альбера о том, что монтаж «Октября» находит
свою имитацию в «Живом трупе» Оцепа [478, с. 99].
6 «Эрмлер, который имел обыкновение перед каждой своей картиной
советоваться с Эйзенштейном, в силу каких-то причин не успел показать
ему своего сценария до начала одесской натуры и сделал это по возвра-
щении. Эйзенштейн разнес сценарий вдребезги. После этого Эрмлер попро-
сил законсервировать картину для того, чтобы подвергнуть сценарий оконча-
тельной переработке. На это ушло два-три месяца» [271, с. 105].
7 Ср. у И. Сэпман: «Эйзенштейн был в некотором роде «крестным от-
цом» фильма, принимал большое участие в его создании, подчас резко кри-
тиковал и все время много помогал. В книге Э. Шуб «Крупным планом» есть
воспоминание о том, как Эйзенштейн, бросив все свои неотложные дела,
срочно поехал в Ленинград «вытягивать» «Обломок»» [410, с. 35]. Эйзен-
штейн остался доволен окончательным вариантом фильма. В письме И. Трау-
бергу из Мексики 17 сент. 1931 г. он писал: «Не напоминая Фридке, Вы
можете вспомнить, как полезно оказалось ему мое «одергивание» для «Об-
ломка» — после чего он выбросил целиком все снятое для начала, и заново
переснял все начало, найдя в себе все, что нужно» [453, с. 82]. Степень
участия Эйзенштейна в работе над фильмом может оцениваться по-разному.
В 1963 г. Эрмлер утверждал, что Эйзенштейн не читал сценария «Обломка»
[410, с. 112]; той же версии придерживается Ф. Никитин [271, с. 105].
Однако из письма Эрмлера к Эйзенштейну (1928 г.) явствует, что сценарий
был по меньшей мере отправлен Эйзенштейну с просьбой помочь сделать
из него «умную» (что важнее всего) вещь» (ЦГАЛИ, ф. 1923, on. 1, ед.
хр. 2284).
8 «В «Обломке империи» с величайшим художественным тактом соеди-
нены два метода развертывания действия: метод элементарный, привычный,
метод фабулы и героя, с методом монтажа смысловых величин <.. .>
Однако элементарность этого героя в «Обломке империи» — только кажу-
щаяся. Филимонов — герой картины — гораздо сложнее своего жанрового
прототипа» [267, с. 7].
9 Ср. в воспоминаниях Никитина; «Для меня колокольчик этот сделался
ключом всей сцены. Когда я стал вслушиваться в его наивный, детский звон,
во мне возник какой-то иной, незнакомый, но волнующий мир. Я вдруг
ощутил в себе полную потерю логики. Мысли и чувства стали разбредаться
в разные стороны, какие-то сумбурные видения замелькали перед внутрен-
ним взором. Это было упоительно. Меня понесло нужное филимоновское
состояние. Гениально придумал Эрмлер этот колокольчик! Я не мог отор-
ваться от него, я продолжал упиваться этими новыми, первобытными ощу-
щениями, наполняя себя ими до краев. Ия... не шел дальше. Я остановил
действие <.. .>
— Хватит! — сказал Эрмлер <.. .>
Но я упорно продолжал звонить.
— Перестань! Будем снимать! — сказал Эрмлер, не повышая голоса,
но с зазвеневшим в нем металлическим оттенком <.. .>
— Нет!
Тогда он рванул свой именной пистолет из заднего кармана брюк и
тихо, но с пеной у рта прошипел: «Я тебя пристрелю!»» [271, с. 108—109].
10 Технологическая близость швейной машины и киноаппарата хресто-
матийна. В главе 2 мы приводили монтажную фразу из «Человека с кино-
аппаратом», в которой Вертов чередует кадры, показывающие киноопера-
тора и швею. Не менее устойчиво и метафорическое сближение кинокамеры
452
Примечания к стр. 411—419
и пулемета. Ссылаясь на ружье Марея, современный французский исследо-
ватель обобщил признаки сходства: «ствол», «прицел» и «магазин» [512,
с. 44]. В 1916 г. Н. Асеев в статье о фронтовых операторах в качестве ос-
новы для сближения предложил «ленту»: «<...> вооружены против ленты
пулемета лентой, снимающей пулемет» [6, с. 78]. Расхожим было сближение
по звуку — «треск». В репортаже о съемках «Обломка» безотносительно
к анализируемой нами сцене встречаем ту же газетную метафору:
«<...> и сухим, отрывистым пулеметным треском защелкала ручка кино-
аппарата. Начались съемки войны для фильмы «Обломок империи»» [153,
с. 2].
В начале 20-х годов газеты сообщали о новом изобретении А. Дебри —
«кино-митральезе» для воздушных съемок. Метафора «проектор-пулемет»
встречается в истории кинопрактики. В сценарии М. Кресина «Фильм о
фильме» (1928) кулаки избивают киномеханика, приехавшего с кинопередвиж-
кой «ГОС»: «Смотрел избитый парень на передвижку, помутилось в гла-
зах. Это уже не мертвое око передвижки, а кожух пулемета «Максим». Это
уже не кинолента, а лента пулеметная. Это уже не «ГОС» стрекочет пуле-
метной лентой, развернутой им по спинам врагов, это уже стучит пулемет.
Почему патроны превращаются в кадры, а пулемет превращается в «ГОС»?»
(ЛГАЛИ, ф. 257, оп, 16, ед. хр. 173. л. 2). В фильме Я. Стрейча «Стреляй
вместо меня» («Sauj mana vieta», 1970) пулеметчик расстреливает публику
через окошко аппаратной.
11 Шкловскому принадлежит изящная идея совместить сюжетную и
метасюжетную функции образа нити. Для сценария А. Бек-Назарова «Пэпо»,
в котором конфликты возникают из-за случайной пропажи векселя, Шклов-
ский предложил спрятать эту бумажку в клубок пряжи. Мать героя, по
неведению замотавшая вексель в клубок, на протяжении всего фильма вяжет
чулок. Как вспоминал режиссер, «клубок ниток все вертелся и вертелся
на экране, часто попадаясь на глаза зрителю, но никто не догадывался, что
в нем расписка» [37, с. 188]. Тут примечательна «стернианская» корреляция
времени события и времени вязания, а также умозрительная соизмеримость
длины ленты и длины нити в клубке.
12 А. Л. Осповат и Р. Д. Тименчик приводят стихотворение В. Нарбута,
«оживившего» коней на Аничковом мосту:
Что будет, если вдруг ослабнет,
Хрустя, чугунная рука
14 жеребец гранит царапнет
И прянет вверх от смельчака?
Куда шарахнутся трамваи,
Когда, срывая провода,
Гремящая и вековая,
На Невский ринется руда? [282, с. 166]
13 Русские критики еще в 10-е годы жаловались на перегруженность ме-
белью отечественной салонной мелодрамы: «... большие «выставочные»
павильоны слегка оживают от присутствия людей, но люди эти, подавлен-
ные величием материального, теряют в жизненности, становятся сомнамбу-
лами, медлительно проходящими по бесконечным анфиладам комнат» [162,
с. 16]; «Надо ввести жизнь в комнаты! Пусть в них будут только необходи-
мые предметы, характеризующие действующих лиц, а не предметы, нужные
только режиссеру» [364, с. 12]. Кино 20-х годов как огня опасалось обви-
нений в «обстановочности», означавшей для критики возврат к прежней
эстетике.
Список литературы
1. А. Б. Кинематограф // Богема. — 1915. — № 5—6.
2. Абрамов Н. Дзига Вертов. — М., 1962.
3. Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции. — Париж, 1921.
4. Аверченко А. [Подпись: Ave] Кинематограф // Сатирикон. — 1908. —
№ 30.
5. Аверченко А. О кинематографе // Вестник кинематографии. — 1913. —
№ 8.
6. Авзев Н. [Н. Асеев?] Тени на стене // Кине-журнал. — 1916. —
№ 3—4.
7. Агасфер, Макс Линдер в Петербурге // Кино-курьер. — 1913. — № 1.
8. Адамович О. Глазами большевика: Заметки о творчестве Фридриха
Эрмлера // Жизнь искусства. — 1929. — № 47.
9. Азр. [А. Зенгер?] Кинематограф // Зритель. — 1905. — №6.
10. А. Л. Музыка в кинематографе // Кине-журнал. — 1911. — Na 2.
И. Алейников М. Н. Записки кинематографиста. — ЦГАЛИ, ф. 2734, on. 1.
ед. хр. 19—26.
12. Алейников М. Н. Пути советского кино и МХАТ. — М., 1947.
13. Алейников М, Я. [Подпись: М. А.] Художественная театральная поста-
новка и кинематограф // Сине-Фоно. — 1907. — № 3.
14. Алейников М, Ермольев И, Практическое руководство по кинематогра-
фии. — М., 1916.
15. Алекс. В чем горе? // Пегас. — 1915. — № 2.
16. Александров Г. Эпоха и кино. — М., 1976.
17. Алперс Б. «Обломок империи» // Советский экран. — 1929. — № 38.
18. Алперс Б. Ответ Ф. Эрмлеру // Советский экран. — 1929. — № 43.
19. Андреев Л. Н. Письмо о театре // Маски. — 1912. — Na 3.
20. Андреев Л. Письмо о театре // Поли. собр. соч. — Т. 8. — Спб., 1913.
21. Анощенко А. Из полузабытой эпохи: [Машинопись, хр. в фонде
В. Вишневского в ГФФ СССР.]
22. Анощенко А. Музыка и кино If Жизнь искусства. — 1923. — Na 29.
23. Арватов Б. Театральная парфюмерия и левое неприличие // Зрелища.
1923. — № 31—32.
24. Аргамаков К. О фортепьянных импровизациях // Сине-Фоно. — 1913—
1914. — № 4.
25. Ар катов А. Сегодняшнее кино (опыт анализа) // Театр и жизнь. —
[Берлин], 1922.
26. Арно. Кинематограф // Московские ведомости. — 1917. — 16 марта. —
№ 53.
27. Арнхейм Р. Кино как искусство. — М., 1960.
28. Артистическое справочное бюро // Речь. — 1910. — 5 февр. — № 1.
29. Ахрамович В. «Пиковая дама» на экране // Театральная газета. —
1916. — № 17.
30. Ахрамович В. [Подпись: W]. «Счастье вечной ночи» // Театральная
газета. — 1916. — № 47.
31. Ахропов А. Таджикское кино. — Душанбе, 1971.
32. Базен А. Что такое кино? — М., 1972.
33. Балош Б. Культура кино. — М.; Л., 1925.
34. Баранцевич 3. Фильмы, люди и встречи. — Архив ЦМК.
35. «Беженцы» // Проэктор. — 1916. — № 3.
36. Бекетова М, А. Александр Блок; Биографический очерк. — Пг., 1922.
37. Бек-Назаров А. Записки актера и режиссера. — М„ 1965.
38. Белый А. Арабески. — М., 1911.
454
Список литературы
39. Белый А. Город // Наш понедельник. — 1907. — 9 нояб. — № 1.
40. Белый А. Иван Александрович Хлестаков // Столичное утро. — 1907. —
18 окт. — № 117.
41. Белый А. Круговое движение // Труды и дни. — 1912. — № 4—5.
42. Белый А. Линия, круг, спираль — символизма. Линия // Труды я
дни. — 1912. — № 4—5.
43. Белый А. Маски. — М., 1932.
44. Белый А. Мастерство Гоголя. — М.; Л., 1934.
45. Белый А. Московский чудак. — М., 1926.
46. Белый А. На перевале. — Берлин; Пг.; М., 1923.
47. Белый А. Начало века. — М.; Л., 1933.
48. Белый А. Обломки миров // Весы. — 1908. — №5.
49. Белый А. Петербург. — Л., 1981.
50. Белый А. Петербург: Киносценарий по роману. — Отдел рукописей
ГБЛ, ф. 516, оп. 3, № 37.
51. Белый А. Театр и современная драма // Книга о новом театре. — Спб.,
1908.
52. Белый А. Федор Сологуб // Луг зеленый. — М., 1910.
53. Бенвенист Э. Общая лингвистика. — М., 1974.
54. Бенуа А. Беседы о балете // Театр: Книга о новом театре. — Спб.,
1908,
55. Бенуа А. Н. Из дневника художника // Сине-Фоно. — 1914. — № 4.
56. • Бенуа А. О кинематографе // Александр Бенуа размышляет... — М.,
1968.
57. Берберова Н. Курсив мой. — Нью-Йорк, 1983. — Т. 1.
58. Бескин Эм. Карамазовы на сцене // Раннее утро. — 1910. — 15 окт.
59. Бескин Эм. Листки // Театральная газета. — 1916. — № 1.
60. Бескин Эм. Не товарищ // Театральная газета. — 1914. — № 47.
61. Бескин Эм. Художественный тупик // Рампа и актер. — 1909. — № 17.
62. Биншток В. Л. Парижские письма // Рампа и жизнь. — 1911. — № 6.
63. Биржевые ведомости (вечерний выпуск). — 1913. — 17 апр. —
№ 13501.
64. Биржевые ведомости. — 1915. — 1 нояб. — № 15224.
65. Блейман М. О кино — свидетельские показания. — М., 1973.
66. Блейман М., Шпис В. «Рождение большевика» (5-я часть либретто) //
Кино (Л.). — 1928. — 16 сент. — № 38.
67. Блок А. А. Собр. соч. в 8 т. — М.; Л., 1960—1963. — Т. 8.
68. Блок А. А. Собр. соч. в 6 т. — Л., 1981.
69. Блонский М. Дружеский совет // Кинотеатр и жизнь. — 1914. — № 6.
70. Боборыкин П. Беседы о театре // Русское слово. — 1913. — 21 июля. <—
№ 142.
71. Бобров С. Лира Лир. — М., 1917.
72. Болдырев Д. В. Пролеткульт // Лит. еженедельник газ. «Сибирская
речь». — 1919. — 19 июня. — № 130.
73. Браиловский М. Великий немой // Сине-Фоно. — 1914. — № 3.
74. Браиловский М. Кино-культура // Сине-Фоно. — 1913—1914. — № 1.
75. Братолюбов С. На заре советской кинематографии. — Л., 1976.
76. Брик О. «Одиннадцатый» Вертова [и] «Октябрь» Эйзенштейна // Новый
ЛЕФ. — 1928. — № 4.
77. Брик О. Противокиноядие // Новый ЛЕФ. — 1927. — Ns 2.
78. Брюсов В. Я. Собр. соч. — М., 1973.
79. Б. С. Глухонемые у «Великого немого» // Кино (М.). — 1928. —
7 февр. - № 6 (230).
80. Будильник. — 1907, — № 28.
81. Будильник. — 1907. — № 45.
82. Бурлюк Д. Футурист в кинематографе // Кине-журнал. — 1913. —
№ 22.
83. Бухов Арк. Макс Линдер // Синий журнал. — 1912. — № 42.
455
Список литературы
84. Бухов Арк. О кинематографических авторах // Кинематограф. —
1915. — № 1.
85. Бэк Б. «Кривая» формализма // Кино (Л.). — 1929. — 24 нояб. — № 47.
86. Вайнштейн Ю. С., д-р. Вреден ли кинематограф для зрения. (Из док-
лада, сделанного на заседании общества врачей) // Вестник кинемато-
графии. — 1912. — № 31.
87. Вальтер К. Волшебный фонарь. — М., 1898.
88. Вальц К. Ф. 65 лет в театре. — Л., 1928.
89. Варламов К. Как я смотрю на кинематограф // Кино-театр и жизнь. —
1913. — № 5.
90. Васильев Г. Н., Васильев С. Д. Собр. соч. — М., 1981. — Т. 1.
91. В. Г. Органичность кинематографа // Театральная газета. — 1914. —
№ 29.
92. Вермель С. Жизнь экрана // Искусство. — 1917. — № 1—2.
93, Вернер А. Беглые заметки: [Машинопись, хр. в фонде В. Вишневского
в ГФФ CCCP.I
94. (Вертов Д.| Д. Вертов. — М., 1967.
95. Вертов Д. За стопроцентный киноглаз // История становления совет-
ского кино. — М., 1986.
96. Вертов Д. Первая советская «фильма без слов» // Правда. — 1928. —
1 дек.
97. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. — М., 1966.
98. Вечорка Т. Магнолии. — Тифлис, 1918.
99. Виленский Э. Герой фильмы — аппарат. — ЦГАЛИ, ф. 2091, on. 1,
ед. хр. 90.
100. Виноградская К. Запись по фильму «Обломок империи» // Книга сце-
нариев. — М.; Л., 1935.
101. Винокур Г. [Подпись: Л. К.}. «Вторник Мэри» М. Кузмина // Новый
путь. — 1921. — 6 июля. — № 125.
102. Вишневский Вен. Художественный театр и кинематограф // Кино.
1938. — 23 окт.
103. Влияние кинематографа па зрение: Беседа с проф. Л. Г. Беллярмино-
вым // Петербургская газета. — 1908. — 9 янв, — № 8.
104. «В огне страстей и страданий» // Проэктор. — 1916. — №6.
105. Вознесенский А. Искусство экрана. — Киев, 1924.
106. Вознесенский А. Кинодетство. (Глава из «Книги ночей») // Искусство
кино. — 1985. — № 11.
107. Вознесенский А. С. О золотом молчании // Вестник кинематографии. —
1915. — № 115/17—18.
108. Вознесенский А. С. О пьесах для экрана // Театральная газета. —
1915. — № 37.
109. Волконский С. М. «Немая опасность» // Речь. — 1914. — 2 апр.
ПО. Волконский С. М. Родина. Мои воспоминания. — [Б. м., б. г.[.
111. Волошин М. А. Мысли о театре // Аполлон. — 1910. — № 5.
112. Волшебный фонарь: Каталог на 1901—1903 гг. — Екатериноград, [б. г.[.
113. Вся кинематография: Настольная справочная книга. — М., 1916.
114. Гайдаров В. В театре и кино. — М., 1966.
115. Гамбии. Кинематограф и его специфическая техника // Кине-журнал. —
1916. — № 13—14.
116. Ган А. Конструктивизм. — Тверь, 1922.
117. Гармс Р. философия фильма. — Л., 1927.
118. Ге-r В. Два ритма // Театральная газета. — 1917. — № 4.
119. Ге-г В. Парадоксы теней // Театральная газета. — 1916. — № 8.
120. Гейер В. Основной дефект // Театр и искусство. — 1915. — Na 29.
121. Гейним. Новое искусство // Кино-театр и жизнь. — 1913. — № 1.
122. Георг Герман о кино // Театральная газета. — 1914. — 8 июля. —
№ 23.
123. Георг Гросс. Мысли и творчество. — М., 1975.
456
Список литературы
124. Гинзбург С. С. Кинематография дореволюционной России. — М., 1963.
125. Глаголим Б. Современный театр и кинематограф // Кино-курьер. —
1914. - № 2.
126. Гнедич П. Современное // Театр и искусство. — 1913. — № 45.
127. Гнедич П. Старые балаганы // Театр и искусство. — 1914. — № 14.
128. Голдобин А. В., Азанчеев Б. М. Пианист-иллюстратор кинематографиче-
ских картин. — Кострома. 1912.
129. Гондла. Кино для себя // Арт-Экран. — 1923. •— №5.
130. Городецкий С. Волк // Повести и рассказы. — Спб., 1910.
131. Городецкий С. Жизнопись // Кинематограф. — 1915. — № 2.
132. Городецкий С. Трагедия и современность // Новая студия. — 1912. —
№ 5.
133. Горький А. М.. Беглые заметки // Нижегородский листок. — 1896. —
4 июля. — № 182.
134. Горький М. Отомстил... // Поли. собр. соч. <— М., 1969. — Т. 2.
135. Горький М. С Всероссийской выставки: Синематограф Люмьера // Одес-
ские новости. — 1896. — 6 июля. — № 3681.
136. Гофман Н. Как я была Сонькой Золотой Ручкой. — Архив ЦМК.
137. Графология в кинематографе // Сине-Фоно. — 1910. — № 9.
138. Григорьев В. Грамматика идиостиля. — М., 1983.
139. Гумилев Н. С. Собр. соч. — Вашингтон, 1964. — Т. 2.
140. Гуревич Л. Я. Синяя птица // В мире искусств. — Киев, 1908. —
№ 14/16.
141. Гуревич Л. Я. [Подпись: Н. Репнин]. Театральные очерки // Слово. —
1907. — 6 нояб. — № 297.
142. Гуревич С. Д. Советские писатели в кинематографе (20—30-е годы). —
Л., 1975.
143. Даниэль М. Первый раз в кино. — М.; Л., 1940.
144. Декларация конструктивистов // ЛЕФ. — 1925. — № 3.
145. Деми Ю. Об Абеле Гансе // Советский экран. — 1926. — № 51—52.
146. де-Ней. Самоубийство Анны Карениной // Рампа и жизнь. — 1914. —
№ 20.
147. Дигмелов А. Д. 50 лет назад: [Машинопись, хр. в фонде В. Вишневского
в ГФФ СССР.]
148. Д. Л. Самоубийство механика // Сине-Фоно. — 1910—1911. — № 5;
149. Дмитриев Ю. А. Михаил Лентовский. — М., 1968.
150. Добин Е. Поэтика киноискусства. — М., 1961.
151. Добычин Л. Город Эн // Родник. — 1988. — № 10 (22).
152. Дольский Е. Немой улыбается // Журнал журналов. — 1916. — № 5.
153. Д. Р. С театра военных действий // Кино (Л.). — 1929. — 1 мая. —
№ 18.
154. Дризен Н. Кинематограф // Жизнь (Берлин). — 1920. — № 10.
155. Дробашеяко С. Теоретические взгляды Вертова // Д. Вертов: Статьи,
дневники, замыслы. — М.г 1966.
156. Дюшен Б. В. Беглые воспоминания. [Машинопись, хр. в фонде В. Виш-
невского в ГФФ СССР.]
157. «Его глаза» // Театральная газета. — 1916. — № 1.
158. Е. 3, [Ефим Зозуля?] Мученики кинематографа // Всемирная пано-
рама. •— 1912. — № 257—12.
159. [Ермолова М. Н.] Письма М. Н. Ермоловой. — М.; Л„ 1939.
160. Жданов Я. А. По России с киноговорящими картинами. [Машинопись,
хр. в Кабинете советского кино во ВГИК.]
161. Жертва долга // Сине-Фоно. — 1912/13. — №11.
162. «Жизнь за жизнь» // Театральная газета. — 1916. — № 20.
163. Журнал журналов. — 1915. — № 2.
164, Журнал журналов. — 1915. — № 18.
165. За границей // Рампа. — 1923. — № 12.
457
Список литературы
166, Зоркая Н. М. На рубеже столетий; У истоков массового искусства в
России 1900—1910 годов. — М., 1976.
167. Иванов В. В. К семиотическому изучению культурной истории большого
города // Тр. по знаковым системам, 19. — Тарту, 1968.
168. Иванов Вяч. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. — М., 1976.
169. Иванов Вяч. Вс. функции и категории языка кино // Тр. по знаковым
системам, 7. — Тарту, 1975.
170. Иванов В. И. Стихотворения и поэмы. — Л., 1978.
171. Иванов-Барков Е. А. Воспоминания. — ЦГАЛИ, ф. 2970, on. 1, ед. хр. 52.
172. Игнатов И. Н. Кинематограф в России; Прошлое и будущее. — ЦГАЛИ,
ф. 221, on. 1, ед. хр. 3.
173. Иезуитов И. Киноискусство дореволюционной России // Вопросы кино-
искусства. — М., 1968. — Вып. 10.
174. Извеков Н. П. Сцена. — М., 1935.
175. Из провинциальных газет // Новое слово. — 1896. — № И.
176. И:я Д. Таинственная возможность // Сине-Фоно. — 1911. — № 3.
177. Каверин В. Разговоры о кино // Жизнь искусства. — 1924. — № 1.
178. Казнь Чолгоша в кинематографе // Новое дело. — 1902. — № 20.
179. Каржанский Н. В кинематографе. (Из книги «Париж») // Рампа и
жизнь. — 1915. — № 32.
180. Касьянов В. П. Воспоминания // Кино и время. — М., 1965. — Вып. 4.
181. Катаев В. Моя кино-дрррама // Театр и кино. — 1916. — № 26.
182. Кинематограф (Ростов н/Д). — 1914. — № 1.
183. Кинематограф и здоровье // Журнал за 7 дней. — 1913. — № 38.
184. Кинематограф и народное образование // Проэктор. — 1918. — № 3—4,
185. Кинематографическая пресса // Артист и сцена. — 1910. — № 4.
186. Кинетофон // Кино-курьер. — 1913. — № 1.
187. Кино в Германии // Кино-журнал АРК. — 1926. — № 1.
188. Кино-курьер. — 1913. — № 1.
189. Клецкин А. А. Кино в жизни якутян. — Якутск, 1973.
120. Князь Сенегамбий. Кинематограф и театр // Кине-журнал. — 1916. —
№ 1—2.
191. Ковальские К. и О. О кинемо-театрах // Студия. — 1912. — № 25.
192, Коган Л. Р. Воспоминания. — Ч. 2. •— № 1. — 1894—1897. — ГПБ,
ф. 1035, № 35.
193. Койранский А. Кинтоп // Наш понедельник. — 1907. — 26 нояб. —
№ 2.
194. Кольцов М. У экрана // Правда. — 1922. — № 269.
195. Косоротов А, Монументальность // Театр и искусство. — 1911. —
№ 38.
196. [К открытию «Кристалл-Паласа»] // Воскресный вечер. — 1910. —
28 нояб. — № 6.
197, Кракауэр 3. Психологическая история немецкого кино (от Калигари до
Гитлера). — М., 1977.
198. Кранцфельд А. Великий немой // Театр и кино (Одесса). — 1916. —
№ 1.
199. Красовский Ю. Как создавался фильм «Октябрь» // Из истории кино. —
М., 1965. — Вып. 6.
200. «Кривое зеркало» // Театр и искусство. — 1911. — № 7.
201. Критическое обозрение // Проэктор. — 1915. — № 3.
202. Кричевский Ю. В кинематографе // Невод. — Пб.г 1918.
203. Крученых А. Фонетика театра. — М., 1925.
204, Крученых А. Е., Хлебников В. В. Буква как буква. — ИМЛИ, ф. 139,
on. 1, ед. хр. 24.
205. Кугель А. Р. [Подпись: Homo Novus| Заметки // Театр и искусство. —
1913. — № 35.
206. Кугель А. Р. [Подпись: Homo NovusJ Кинематограф и искусство // Бюл-
летени литературы и жизни. — 1913. — № 3.
458
Список литературы
207. Кугель А. Р. Листья с дерева. — Л., 1926.
208. Кугель А. Р. О говорящем кино // Красная газета (вечерний выпуск). —
1928. — 12 авг. — № 221.
209, Кугель А. Р. Утверждение театра. — М.г 1923.
210. Кузмин М, А. Германия // Жизнь искусства. — 1923. — № 18 (898).
211. Кузмин М. А. О пантомиме, кинематографе и разговорных пьесах //
Дневники писателей. — 1914. — № 3—4.
212. Кузмин М. А. Отличительный признак // Синема (Ростов н/Д). —
1915. — № 8/9.
213. Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. — М., 1975.
214. Культура человеческого зверства // Вестник кинематографии. — 1912. —
№ 54.
215. Курсинский А. Что доступно экрану // Вестник кинематографии. —
1914. — № 1/81.
216. Лазарев И. Реплика и молчание // Проэктор. — 1916. <— № 22.
217. Ландесман М. Я. Так починалося kiho: Разповиди про дожовтневий
кшематограф. — Ки1в, 1972.
218. Левин Ю. И. Заметки о «Машеньке» В. В. Набокова // Russian Lite-
rature. — 1985. — V. — XVIII. — № 21—30.
219. «Леон Дрей» // Театральная газета. — 1915. — № 33.
220. Леонидов О. Стихи. — М., 1914.
221. Леонтьев П. И. Отрывки воспоминаний: [Машинопись, хр. в фонде
В. Вишневского в ГФФ СССР.)
222. Леонтьевский Н. Синяя птица // Театр. — 1969. — № 3.
223. Лепроон П. Современные французские режиссеры. — М., i960.
224, Лернер Н. Пушкин в кинематографе // Журнал журналов. — 1915. —
№ 26.
225, Лилина М. П. О кино // Театр. — 1915. — № 1752.
226. Линцбах Я, Принципы философского языка. — СПб., 1916.
227. Лихачев Б. С. Кино в России. — Л., 1927.
228. Лихачев Д. С. Литература—реальность—литература. — Л., 1981.
229. Л. О. [Л. Остроумов?) Лента жизни // Пегас. — 1916. — № 4.
230. Lolo (Мунштейн). Театр электрический и театр драматический //
Театр. — 1915. — 18—19 окт. — № 1752.
231. Лопатин Н. Кинематограф // Сине-Фоно. — 1915. — № 27.
232. Лотман Ю. М. Блок и народная культура города // Блоковский сбор-
ник, IV. — Тарту, 1981.
233. Лотман Ю. М. [О кинематографе] // Кино (Рига). — 1987. — № 1.
234. * Лотман Ю. М. Феномен культуры // Тр. по знаковым системам, 10. —-
Тарту, 1978.
235, . Лотман Ю. М., Цивьян Ю. Г. «SVD»: жанр мелодрамы и история //
Тыняновский сборник: Первые Тыняновские чтения. — Рига, 1984.
236. Л-ский Н. «Кабирия» — в провинции // Сине-Фоно. — 1917. — № 9—10.
237, Лукаш И. Театр улицы // Современное слово. — 1918. —> 25 апр. —
№ 3539.
238. М. Из песен XX века // Вестник кинематографии. — 1911. — № 1.
239. Мавич [М. Вавич?) Постные темы // Сине-Фоно. — 1914. — № 1.
240. Мазуркевич В. Кинематограф // Вся театрально-музыкальная Россия. —
Пг., 1914/1915.
241. МалйХиева-Мирович В. О Матерлинке // Золотое Руно. — 1908. — № 10.
242. Мандельштам О. Кукла с миллионами // Памир. — 1986. — № 10.
243. Мандельштам О. Разговор о Данте. — М., 1967.
244. Манн Т. Волшебная гора /// Собр. соч. — М., 1959. — Т. 3.
245. Маршак С. Я. [Подпись: Доктор Фрикен] В кинематографе // Сатири-
кон. — 1908. — № 12.
246. Мау ран Е. Кинематограф в практической жизни. —• Пг., 1916.
247, [Маяковский В. В.) В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик: Переписка, 1915—
1930 / Публикация Б. Янгфельдта. — Уппсала, 1982.
459
Список литературы
248. Маяковский В. В. Неизвестные статьи о кино // Вопросы литературы. —
1970. — № 8.
249. Маяковский В. В. Собр. соч. в 8 т. — М., 1968.
250. Мейерхольд Вс. «Портрет Дориана Грея» // Из истории кино. — М.,
1965. — Вып. 7.
251. Мелькание // Сине-Фоно. — 1912/1913. — № 13.
252. Мена всех. — М., 1924.
253. Мережковский Д. С. [О кинематографе] // Вестник кинематографии. —
1914. — № 88/8.
254. Миклашевский К. Рассуждение о пользе маски // Театр и искусство. —
1914. — № 21.
255. Минский Н. М. [О кинематографе] // Вестник кинематографии. —
1914. — № 88/8.
256. Мире к А. М. История гармонно-баянной культуры в России с 1800 до
1941 года: Автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. — М., 1983.
257. Мистер Рэй. Леонид Андреев у Л. Н. Толстого // Утро России. —
1910. — 29 апр. — № 134.
258. Мигюшин А. А. О статье Г. Шпета «Литература» // Тр. по знаковым
системам, 15. — Тарту, 1982.
259. Млечин В. Обломок империи // Вечерняя Москва. — 1929. — 1 нояб. —
№ 253.
260. Мозжухин И. В чем дефект? // Театральная газета. — 1914. — № 30.
261. Мопассан по-русски // Обозрение театров. — 1915. — № 2856—2857.
262. Моравская М. Девушка с фонариком // Русские записки. — 1915. —
№ 10.
263. Муратов П. П. Кинематограф // Современные записки. — 1925. —
XXVI.
264. Набоков В. В. ]Подпись: В. Сирин] Кинематограф // Руль. — 1928. —
№ 2433.
265. Набоков В. В. Машенька. — Берлин, 1926.
266. Н. В. Кинематограф и зрение // Сине-Фоно. — 1909—1910. — № 22.
267. Недоброво Вл. «Обломок империи» // Жизнь искусства. — 1929. —
№ 36.
268. Некто М. Чудо XIX столетия // Русский листок. — 1896. — 7 мая.
269. Немирович-Данченко В. И. Избр. письма в 2 т.: (1879—1943). — М.,
1979.
270. Неопубликованное письмо Куприна // Русские новости. — 1946. —
25 япв. — № 37.
271. Никитин Ф. Из воспоминаний киноактера // Из истории Ленфильма. —
Л., 1970. — Вып. 2.
272. Никольская Т. Л. Взгляды Тынянова на практику поэтического экспери-
мента // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. — Рига,
1986.
273. Нилус П. Новый вид искусства // Сине-Фоно. — 1911. — № 9.
274. Нилус П. Торжество современного кинематографа // Проэктор. —
1917. — № 1—2.
275. Нольд Р. Под развесистой клюквой. — М.; Л., 1929.
276. Норман (Витте) А. Фантомы // Стихи. Статьи о театре. — Ташкент,
1920.
277. Нусинова Н., Цивьян Ю. Сологуб-сценарист // Альманах киносцена-
риев. — 1989. — № 2.
278. Обозрение кинематографов // Вестник кинематографов в Санкт-Петер-
бурге. — 1908. — Ns 4.
279. О кинетофоне // Кинематограф (Ростов н/Д). — 1915. — № 2—3.
280. Орлов Н. И. Первые киносъемки в России. [Машинопись, хр. в фонде
В. Вишневского в ГФФ СССР.]
281. Осинский Н. Обломок империи // Известия. — 1929. — 3 нояб. —
№ 255.
460
Список литературы
282, Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить...» —
М., 1985.
283. Остроумов Л. Е. Моя дружба с Великим Немым: [Машинопись, хр. в
фонде В. Вишневского в ГФФ СССР.]
284. Оцеп Ф. [Подпись: ф. Машков] Стихи о кино // Проэктор. — 1916. —
№ 7—8.
285. Павлова В. Забытое искусство. — Архив ЦМК.
286. Парные А. Е., Тименчик Р. Д. Программы «Бродячей собаки» // Памят-
ники культуры: Новые открытия. — 1983. — Л., 1985.
287. Пастернак А. Л. Воспоминания. A. L. Pasternak. Memoirs. — Mun-
chen, 1983.
288. П. Б. Нужны ли надписи в кинематографических картинках? // Проэк-
тор. — 1916. — № 17.
289. Перепелкин И. Д. Доклад Российскому фотографическому обществу
15 ноября 1907 г. // Кино (Приложение к журналу «Светопись»). —
1907. — № 7.
290. Перестиани И. Н. Воспоминания. — Архив ЦМК.
291. Перестиани И. Н. 75 лет жизни в искусстве. — М., 1962.
292. Перцов В. «Звенигора» // Новый ЛЕФ. — 1928. — № 1.
293. Петровский И. Кинодрама или киноповесть // Проэктор. — 1916. •—
Ns 18. — № 19. — № 20.
294. Петроградский кино-журнал. — 1916. — 25 янв. — № 1.
295. Пиотровский А. За материалистическую диалектику в кино против на-
ступающей кино-реакции // Жизнь искусства. — 1929. — 24 нояб. —
№ 47.
296. Пиотровский А. Кинофикация искусств. — Л., 1929.
297. Пиотровский А. Новая победа советской кинематографии. На просмотре
«Обломка Империи» // Кино (Л.). — 1929. — 3 сент. — № 35.
298. Пиотровский А. «Октябрь» должен быть перемонтирован // Жизнь ис-
кусства. — 1928. — № 13.
299. Пиотровский А. Театр. Кино. Жизнь. — Л., 1969.
300. Письма Александра Блока к Е. П. Иванову. — М.; Л., 1936.
301. Письмо в редакцию // Вестник кинематографии. — 1913. — № 17.
302. «Пламя неба» // Театральная газета. — 1915. — Ns 33.
303. Погодин А. А. Вопросы теории и психологии творчества. — Т. 4. —
Язык как творчество. — Харьков, 1913.
304. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца
XIX—начала XX века. — М., 1970.
305. Почтовый ящик // Проэктор. — 1916. — № И—12.
306. Прокопенко Л. Куприн и кино // Искусство кино. — 1960. •— № 8.
307. Протей. Кинематографы // Театр и жизнь. — 1913. — 4 мая. — № 4.
308. Пудовкин В. И. Предисловие // Алейников М. Н. Пути советского кино
и МХАТ. — М., 1947.
309. Пустыгина Н. Г. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург»
(Статья 2) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. — Тарту, 1981. —
Вып. 513.
310. Пустынин М. Быть или не быть // Весна. — 1908. — 8 окт.
311. Пушкин А. Поли. собр. соч. — М., 1937—1939. — Т. 2.
312. Рад лов С. Беседы о Москве и кинематографе // Творчество (Харь-
ков). — 1919. — Ns 4.
313. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. — М.,
1980.
314. Раушенбах Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. —
М„ 1986.
315. Рашковская М. А. Поэт в мире, мир в поэте // Встречи с прошлым. —
М., 1982. — Вып. 4.
316. Рейснер Л. в Зимнем дворце // Новая жизнь. — 1917. — И нояб.
317. Рейснер С. А. Русская палеография нового времени. — М., 1982.
461
Список литературы
318. Ромм М Обломок формализма // Кино. — 1929. — 15 окт. — № 41.
319. Рославлев А. В кинематографе // В башне. — (СПб.), 1907.
320. Ростиславов А. Фееричность постановки Синей птицы // Театр и искус-
ство. — 1909. — № 15.
321. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. — М., 1925.
322. Сабанеев Л. Л. Кино-музыка // Театральная газета. — 1915. — № 21.
’ 323. Сабанеев Л. Л. О публике // Театральная газета. — 1915. — Na 38.
324. Сабанеев Л. Л. Экран и музыка // Театральная газета. — 1914. —
№ 27.
325. Сабинский Ч. Вот мчится тройка почтовая (Отрывок из режиссерского
сценария 1914 г.) Ц Из истории кино. — М., 1960. — Вып. 3.
326. Сабинский Ч. Из записок старого киномастера. — Архив ЦМК.
327. Саввин Н. А. Кинематограф на службе у истории и истории литера-
туры // Вестник воспитания. — 1914. — № 8.
328. Саду ль Ж. Всеобщая история кино. — М., 1958—1982.
329. Самоубийство в кинематографе // Кине-журнал. — 1911. — № 1.
330. Святловский В. Васильевский остров // Седые города. — Пг., 1912.
331. С-ев М. [Л. Сабанеев?] Музыка в электро-театрах // Вестник кинема-
тографии. — 1914. — № 3/83.
332. Северянин И. Стихотворения. — Л., 1975.
333. Сельвинский И, Уляляевщина. — М., 1927.
334. Сельский С. Музыкальная импровизация в кинематографе // Кинемато-
граф (Ростов н/Д). — 1915. — Й» 4—5.
335. Сенегамбий. Кинематограф и обряд жизни // Кине-журнал. — 1917. —-
№ 1—2.
336. Серафимович А. Машинное надвигается // Русские ведомости. — 1912. —
1 янв.
337. Синематограф // Сине-Фоно. — 1912/1913. — № 13.
338. Сине-Фоно. — 1914, — № 18.
339. Скатов Н. Некрасов. Современники и продолжатели. — Л., 1973.
340. Скворцова Н. В. Александр Блок в статье Андрея Белого «Химеры» //
Мир А. Блока: Блоковский сб., V. — Тарту, 1985.
341. -ский. Кино-эпос // Театральная газета. — 1914. — № 52.
342. Смирнов И. П. Художественный смысл и эволюция поэтических си-
стем. — М., 1977.
343. Соболев Д. Стилизатор современности... // День. — 1913. — 23 сект.
344. Соболь А. Голос меньшинства // Проэктор. — 1915, — № 3.
345. Соколов И. История изобретения кинематографа. — М., 1960.
346. Соколов И. О борьбе социологии с физиологией (Сюжет и режиссура
в «Обломке империи») // Кино (Л.). — 1929. — 22 окт. — № 42.
347. Соколов И. «СВД» // Кино-фронт. — 1927. — № 9—10.
348. Сологуб Ф. К. Барышня Лиза: Сценарий. — ИРАН, ф. 289, on. 1, № 184.
349. Сологуб Ф. К. В кинематографе. — ИРЛИ, ф. 289, on. 1, № 2, л. 279.
350. Сологуб Ф. Нетленное племя // Театр и искусство. — 1912. — № 51.
351. Сологуб Ф. К. Письмо к А. А. Санину. — Музей МХАТ, архив
А. А. Санина, № 5323/1250.
352. Сологуб Ф. К. Собр. соч. — Спб., (Б. г.]. — Т. 4.
353. Ставроцкий А. Соль в рояли // Кино. (М.). — 1928. — 4 дек. — Ns 49
(273).
354. Станиславский К. С. Собр. соч. — М., 1960. — Т. 7.
355. Старк Э. С ногами на столе // Театр и искусство. — 1913. — № 39.
356. Стасов о кинематографе / Публикация А. Шифмана // Искусство
кино. — 1957. — № 3.
357. Степанов В. Кино в Кинешме. — Архив ЦМК.
358. Степун Ф. Памяти Андрея Белого // Современные записки. — 1934. —-
LVI.
359, Сторицын П. Распинатели А. П. Чехова // Обозрение театров. —
1914. — № 2486.
462
Список литературы
360. Струве Г. Русская литература в изгнании. — Нью-Йорк, 1956.
361. [Сулержицкий Л. А.] Л. А. Сулержицкий. — М., 1970.
362. Сулержицкий Л. А. [О кинематографе] // Вестник кинематографии. —
1911. — № 5.
363. Сургучов И. [Подпись: И. С.] «Ложь» // Кулисы. — 1917, — № 23.
364. Сургучов И. Несмятые подушки (о кино-режиссерах) // Кулисы. —
1917. — № 26—27.
365. Суслов А. Зимний дворец (1754—1927): Исторический очерк. — Л.,
1928.
366. Сценарий и актер. Анкета // Театральная газета. — 1914. — № 28—30.
367. Тавричанин П. Искусство и кинематограф // Вестник кинематографии. —
1912. — № 52.
368. Тарковский А. А. О кинообразе // Искусство кино. — 1979. — № 3.
369. «Татьяна Репина» // Обозрение театров. — 1915. •— 11 авг. — № 2842.
370. Театральность и кинематографичность // Вестник кинематографии. —
1911. — № 7.
371. Театр и искусство. — 1911. — №7.
372. Тельберг Г. Влияние синематографа на зрение. (Мнение проф. Казан-
ского университета г. Агабабова) // Сине-Фоно. — 1909—1910. — № 3.
373. Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии. Тр. по знаковым
системам, 21. — Тарту, 1987.
374. Тименчик Р. Д. Стихоряд и киноязык в русской культуре начала
XX века // Finitis duodecim lustris: Сб. статей к 60-летию проф.
Ю. М. Лотмана. — Таллин, 1982.
375. Тименчик Р. Д. Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли
1910-х годов // Тыняновский сборник: Вторые Тыняновские чтения. —
Рига, 1986.
376. Тимошенко С. Кинорежиссура // Жизнь искусства. — 1924. — № 11.
377. Toggec Е., Цивьян Ю. «Не кинограмота, а кино-культура». Кино и лите-
ратура в творчестве Юрия Тынянова // Искусство кино. — 1986. —
№ 7.
378. Толоб Н. И. [И. И. Горбунов-Посадов?] К истории проекционного аппа-
рата // Сине-Фоно. — 1908. — № 6.
379. Томашевский Б. [Подпись: В. Г.] Нанук // Жизнь искусства. — 1924. —
№ 4.
380. Томашевский Б. [Подпись: В. Г.] Foolish Wives // Жизнь искусства! —
1924. — № 10,
381. Трауберг Л. 3. Мир наизнанку. — М., 1984.
382. Третьяков С. Антипод реальности // Новый ЛЕФ. — 1927. — № 5.
383. Третьяков С. Железная пауза. — Владивосток, 1919.
384. Третьяков С. «Октябрь» минус «Броненосец Потемкин» // Советское
кино. — 1928. — № 2—3.
385. Трилогия о Максиме. — М., 1981.
386. Трубачев О. Ремесленная терминология в славянских языках. — М,,
1966.
387. Тун Р. Проблема времени в кино // Кино-журнал АРК. — 1925. —
№ 3.
388. Туркин В. [Подпись: Веронин], Лица, слова и вещи // Пегас. — 1917. —
№ JI*.
389. Туркин В. О киноинсценировке литературных произведений // Как мы
работаем над киносценарием. — М., 1936.
390. Тынянов Ю. Н, Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
391. Тыркова А. [Подпись: А. Вергежский]. Кинематограф // Сибирская
жизнь. — 1912. — 27 янв.
392. Тэффи, в сгерео-фото-кине-мато-скопо-био-фоно и проч. — графе //
Сатирикон. — 1908. — № 33.
393. Тюрин Вл. Живая фотография. — Спб., 1898.
463
Список литературы
394. У-ель Н. Жизнь — кинематограф // Вестник кинематографии. — 1912. —
№ 50.
395. У-ель Н. Порвалась лента // Вестник кинематографии. — 1913. —
№ 2.
396. Умов Н. А. Характерные черты и задачи современной естественно-на-
учной мысли: Речь на общем собрании членов II Менделеевского
съезда (21 дек. 1911 г.) // Дневник второго Менделеевского съезда по
общей и прикладной химии и физике в Санкт-Петербурге. — 1911. —
№ 5.
397. Ушаков Н. Три оператори. — Ки1в, 1930.
398. Февральский А. В. Впередсмотрящий // Дзига Вертов в воспоминаниях >
современников. — М., 1976.
399. Февральский А. Пути к синтезу: Мейерхольд и кино. — М., 1978.
400. Федоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. — М., 1975.
401. Федоров-Давыдов А. Тезисы доклада о Вертове. — ЦГАЛИ, ф. 2057,
on. 1, ед. хр. 8.
402. Фелонов Л. Б. Монтаж в немом кино. — Ч. 1. — М., 1973; Ч. 2. —
М„ 1978.
403. Фельдман К. Кино и Аристотель // Советский экран. — 1929. — № 5.
404. Фельдман К. Человек с киноаппаратом // Кино и культура. — 1929. —
№ 5—6.
405. Философов Д. Анна Каренина Третья // Живой экран. — 1914. — № 21—
22.
406. Фильминки // Театральная газета. — 1915. — № 47,
407. Флакер А. Путешествие в страну живописи (Мандельштам о француз-
ской живописи) // Wiener Slawistischer Almanach. — 1984. — Bd 14.
408. Фланер. Кинематография // Жизнь. — 1909. — 5 янв. — № 1.
409. Фри-Дик. Плоды культуры // Кинематография. — 1915. — №2.
410. Фридрих Эрмлер: Документы. Статьи. Воспоминания. — Л., 1974.
411. Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии. — М.; Л., :
1937.
412. Ханжонкова В. Д. Страницы прошлого (Записки монтажницы), — Ар-
хив ЦМК.
413. Хлебников В. В. Собр. произведений. — Л., 1928—1933.
414. Хлебников В. В. Стихотворения, поэмы, драмы, проза. — М., 1986.
415. Хлебников В. В. Тетради. — ЦГАЛИ, ф. 527, on. 1, ед. хр. 93.
416. Хроника // Вестник кинематографии. — 1913. — № 18.
417. Худяков И. Новая отрасль искусства // Вестник кинематографии. —
1911. — № 8.
418. Худяков И. Новая отрасль искусства (Продолжение) // Вестник кинема-
тографии. — 1911. — № 9.
419. Худяков И. Н. Опыт руководства к иллюстрации синематографических
картин. С указанием на 1000 тем. — М., 1912.
420. «Цари биржи» // Кулисы. — 1917. — № 9—10.
421. Цветаева А. Воспоминания. — М., 1971.
422, Цензор Д. Экран // Наша неделя. — 1915. — № 68.
423, Цивьян Ю. Г. Дмитрий Кирсанов, или поэтика паузы // Кино (Рига). —
1981. — № 7.
424. Цивьян К). Исторический фильм и динамика власти: Троцкий и Сталин
в советском кино // Даугава. — 1988. — № 4,
425. Цивьян Ю. Г. К возникновению некоторых монтажных конструкций
в раннем кинематографе // Изв. АН ЛатвССР. — 1983. — № 7 (432).
426. Цивьян Ю. Г. К генезису русского • стиля в кинематографе // Wiener
Slawistischer Almanach. — 1984. — Bd 14.
427. Цивьян Ю. Г. К истории связей театра и кино в русской культуре на-
чала XX в. («источник» и «мимикрия») // Проблемы синтеза в худо-
жественной культуре. — М., 1985.
464
Список литературы
428. Цивьян Ю. Г. О доктринальном построении текста в авангардном
фильме 20-х годов // Russian Literature. *- 1981. — X.
429. Чайковский Б. В. Записки кинорежиссера. — Архив ЦМК.
430. Чайковский В. В. Младенческие годы русского кино. — М., 1928.
431. Чарс кий В. [А. В. Луначарский?] «Синяя птица» на сцене Художествен*
ного театра // Синяя птица. — М., 1908.
432. Честертон Г. К. Писатель в газете. — М., 1984.
433. Честертон Дж[=Г.], К. Человек, который был Четвергом. — М., 1916.
434. Чехов М. Литературное наследие в 2 т. — Т. 1. — М., 1986.
435. Чуковский К. Нат Пинкертон и современная литература. — М., 1908.
436. Чулков Г. И. Живая фотография // Золотое Кино. — 1908. — № 6.
437, Чумаченко А. В кинематографе // Вестник кинематографии. — 1911. —
№ 7.
438. Шебуев Н. Негативы. — М., 1903.
439. Шенгели Г. Зима 1901. — ЦГАЛИ, ф. 2861. on. 1, ед. хр. 1.
440. Шершеневич В. Автомобилья поступь. — М., 1916.
441. Шипулинский Ф. Душа кино // Кинематограф. — М., 1919.
442. Шипулинский Ф. История кино. — М., 1934.
443. Шкловский В. За 40 лет. — М., 1965.
444. Шкловский В. Б. Их настоящее. — М.; Л., 1927.
445. Шкловский В. Б. Литература и кинематограф. — Берлин, 1923.
446. Шкловский В. О теории прозы. — М.; Л., 1925.
447. Шпаковский Н. А все-таки хорош // Советский экран. — 1925. —
№ 26 (36).
448. Ш-р. Кино-театр // Рампа и жизнь. — 1913. — № 23.
449. Штраух М., Глизер Ю. Переписка // Искусство кино. — 1986. — № 1.
450. Щеглов И. Л. Театр иллюзии и Берта Кукельван // Народ и театр. —
СПб., 1911.
451. -ъ. |М. Каллаш?]. Немые свидетели // Театральная газета. — 1914. —
№ 19.
452. Эверт В. Оскар Уайльд и «Синяя птица» // Студия. — 1912. — № 40/41.
453. Эйзенштейн в воспоминаниях современников. — М., 1974.
454. Эйзенштейн С. «Все мы работаем на одну и ту же аудиторию...» /
Публикация Н. Клеймана // Искусство кино. — 1988. — Na 1.
455. Эйзенштейн С. М. Избр. произведения в 6 т. — М., 1964—1971.
456. Эйзенштейн С. Наш «Октябрь» // Кино (М.). — 1928. — 13 марта.- —
№ И.
457. Эйзенштейн С. О «Шинели» Н. В. Гоголя («практикум» со студентами-
режиссерами ВГИКа 28 мая 1936 года) // Вопросы литературы. —
1986. - № 4.
458. Эйхенбаум Б. К вопросу о титрах // Кино (Л.). — 1926. — 7 дек. —
№ 48.
459. Эйхенбаум Б. Литература и кинематограф // Советский экран. —
1926. — № 42.
460. Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. — М.;
Л., 1927.
461. Экс-король Мануэль на покое // Вестник кинематографии. — 1913. —
№ 85/5.
462. Эллис. Голубая'птица // Весы. — 1908. — № 10.
463. Эм. Альтенлов [Рецензия на книгу Э. Алтенло «К социологии кино»] //
Сине-Фоно. — 1914. — № 13.
464. Энгель Ю. [Подпись; Ю. Э.] О кинематографе // Русские ведомости. —
1908. — 27 нояб. — № 275.
465. Эрмлер Ф. «Открытое письмо» // Советский экран. — 1929. — № 43.
466. Юг Г. Кинематограф как фактор мирового объединения // Кине-жур-
нал. — 1914. — № 8.
467. Якобсон Р. Конец кино? // Строение фильма. — М., 1984.
465
Список литературы
468. Яковлев И. Сон наяву // Новое время. — 1896. — 29 янв. (10 февр.). —
№ 7155.
469. Ямпольский М. Б, Доктор Ланг и мистер Мабузе (в печати).
470. Ямпольский М. Б. Звездный язык кино // Кино (Рига). — 1985. —
№ 10.
471. Ямпольский М Б. «Нераскрытые» преступления на экране. •— Кино
(Рига). — 1986. — № 4.
472. Ямпольский М. Панорама как зрелище мира // Декоративнее искус-
ство. — 1986. — № 10.
473, Ямпольский М. Б. Фильм ужасов Луи Люмьера // Кино (Рига). —
1986. — № 2.
474. Ярцев П, М. Кинематограф // Вестник кинематографии. — 1913. —
№ И.
475. Abel R. American film and the French literary avant-garde (1914—1924) //
Contemporary Literature. — 1975. — Vol. 17, N 1.
476. Abel R. French cinema: The first wave, 1915—1920. — Princeton, New
Jersey; Guildford, Surrey, 1984.
477. Adorno T. W., Eisler H. Komposition fur den Film. — Munchen, 1969.
478. Albera F. «Stuttgart» : Dramatique de la forme cinematographique :
S. M. Eisenstein et la constructivisme russe. (These doctorale, in£dite).
479. Albera F. Tempete sur la Sarraz // Travelling. — Lausanne. — 1979.
480. Altenloh E. Zur Soziologie des Kino: Die Kino-Unternehmung u. die
sozialen Schichten ihrer Besucher. — Jena, 1914.
481. Analyse catalographique de films de Georges Melies. — Paris, 1981.
482. Aumont J. Le point de vue // Communications. — 1983. — N 38.
483. BallruSaitis J. Anaraorphic art. — New York, 1977.
484. Barthes R. L'obvie et 1'obtus: Essais critiques. — Paris, 1982.
485. Basin A. Le cinema et les autres arts. — Paris, 1959.
486. Batkiewicz A. Portrety wielkich miast w kinie lat dwudziestych // Z dzie-
jow awangardy filmowej. — Katowice, 1976.
487. Baudry J.-L. Le dispositif // Communications. — 1975. — N 23.
488. Beilenhoif W. Nachwort // Vertov Dz. Schriften zum Film. — Munchen,
1973.
489. Benjamin W. Allegorien kultureller Erfahrung. — Leipzig, 1984.
490. Benjamin W. Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapi-
talismus. — Frankfurt a. M., 1974.
491. Berberova N. A memoir and a comment: The «circle» of Petersburg //
Andrey Bely: A crit. rev. — Kentucky, 1978.
492. Bordwell D. Narration in the fiction film. — London, 1985.
493. Bottomore S. Dreyfus and documentary // Sight a. Sound. — 1984. —
Vol. 53, N 4.
494. Bouissac P. Semiotics and surrealism // Semiotica. — 1979. — Vol. 25,
N 1/2.
495. Boussinot R. L’Encyclopedie du cinema. Paris, 1980. — T. 1 (A—H).
496. Branigan E. Point of view in the cinema: A theory of narration a. sub-
jectivity in classical film. — Berlin; New York; Amsterdam, 1984.
497 British film catalogue (1895—1970). — London, 1973.
498. Brownlow K. Lillian Gish // Films a. Filming. — 1983. — Nov.
499. Brownlow K. The parade's gone by... — London, 1968.
500. Brownlow K. Silent films: What was the right speed? // Sight a. Sound. —
1980. — Summer.
501. Bufiuei L. Mon dernier soupir. — Paris, 1982.
502. Burch N. Film’s institutional mode of representation and the Soviet
response Ц October. — 1979. — Nil.
503. Burch N. Passion, poursuite: la linearisation // Communications. — 1983. —
N 38.
504. Burch N. Porter, or ambivalence ll Screen. — 1978/1979. — Vol. 19,
N 4.
30
10Z
466
Слисок литературы
505. Burch N. То the distant observer. — Berkeley; Los Angeles, 1979.
506. Burch N. Un mode de representation primitif? // Iris. — 1984. — Vol. 2,
N 1.
507. Casetti P. Les yeux dans les yeux // Communications. — 1983. — N 38.
508. Cavell S. The world viewed: Reflections on the ontology of film. — New
York, 1971.
509. Chanan M. The dream that kicks: The prehistory a. early years of
cinema in Britain. — London; Boston, 1980.
510. Chion M. La voix au cinema. — Paris, 1982.
511. Chisolm B. Reading intertitles // J. Popul. Film. a. Television. — 1987, —
Vol. 15, N 3.
512. Collet J. Camera // Lectures du film. — Paris, 1977.
513. De Gourmont R. Cinematog raphe // Mercure de France. — 1907. —
1. sept.
514. Derrida J. De la grammatologie. — Paris, 1967.
515. Deslandes J., Richard J. Histoire comparee du cinema. — Toumai, 1968.
516. Deutelbaum M. Structural patterning in the Lumiere films // Film before
Griffith. — Berkeley; Los Angeles; London, 1983.
517. Dreibante E., Trofimovs R. Sergejs Eizensteins. — R., 1970.
518. Eisenstein S. Film form. — New York, 1949.
519, Epstein J. For a new avant-garde // The avant-garde film: A reader of
theory and criticism. — New York, 1978.
520. Faure E. The art of cineplastics // Film: An anthology. Berkeley; 1969.
521. Fell J. Film and the narrative tradition. — Oklahoma, 1974.
522. Fell J. Motive, mischief and melodrama // Film before Griffith. —
Berkeley; Los Angeles; London, 1982.
523. Fenollosa E. The Chinese written character as a medium of poetry //
Instigations of Ezra Pound. — New York, 1967.
524. Film-Photos wie noch nie. — Frankfurt a. M., 1929.
525. Foucault M. «Ceci n'est pas une pipe» // Cahiers du chemin. — 1968. —
N 2.
526. Frampton H. Circles of confusion. — New York, 1983.
527. Futurist manifestos / Ed. by U. Apollonio. — New York, 1973.
528. Gaudreault A. De 'L’arrivee d'un train' a 'The Lonedale operator* : une
trajectoire a parcourir 1/D. W. Griffith. — Paris, 1984.
529. Goldey E. Le film dans les raises en scene d'Erwin Piscator // Rev. du
Cinema. — 1930. — Janv.
530. Gunning T. An unseen energy swallows space // Film before Griffith. —
Berkeley; Los Angeles; London, 1983.
531. Hal! E. T. A system for the notation of proxemic behaviour // Amer. An-
thropologist. — 1963. — N 65.
532. Hartmann-Flyer H. The time bomb // Andrey Bely: A crit. rev. — Ken-
tucky, 1978.
533. Hatte ich das Kino! : die Schriftsteller u. der Stummfilm. — Munchen,
1976.
534. Hendrykowski M. Slowo w filmie. — Warszawa, 1982.
535. Hitchkock — Truffaut. — New York, 1969.
536. lampojski M. Les experiences de Kouleshov et la nouvelle anthropologie de
I'acteur // Iris. — 1986. — Vol. 4, N 1.
537. Irzykowski К. X muza. — Warszawa, 1957.
538. Jahn W. Kafka und die anfange des Kinos // Jb. deutschen Schillergesell-
schaft. — Stuttgart, 1962. — Bd 6.
539. Jasienski B. Utwory poetyckie. — Warszawa, 1960.
540. Jenn P. Georges Meli£s c ineast e. — Paris, 1984.
541. Kino-Debatte / Hrsg. von A. Kaes. — Miinchen, 1978.
542. Kirby M. Futurist performance. — New York, 1971.
467
Список литературы
543. Kirsanotf D. Les problenies de la photog6nie // Cinea-cine pour tons. —
1926. — N 62.
544. Krakauer Z. L'homme a 1'appareil de prises de vues // Monde. — 1929. —
8. join.
545. Lange K. Die «Kunst» des Lichtspieltheaters. — Grenzboten, 1913.
546. Lehmann H. Die Kinematographie, ihre Grundlagen und ihre Anwendun-
gen. — Leipzig, 1919.
547. Les Lumiere. — Paris, 1985.
548. Leyda J. Kino: A history of the Russian a. Soviet film. — New York,
1973.
549. Lindsay V. The art of the moving picture. — New York, 1970.
550. Lissitzky E. Erinnerungen, Briefe, Schriften. — Dresden, 1976.
551. Low R., Manwell R. The history of the British film (1896—1906). —
London, 1973. — Vol. 1.
552. Malthete-Meiies M. Melies 1’enchanteur. — Paris, 1973.
553. Masing O. Das Kinematographenunwesen. — R„ 1913.
554. Matuszewski B. La photographic animee, ce qu’elle est, ce qu'elle doit
etre. — Paris, 1898.
555. Maluszewsld B. Une nouvelle source de 1'histoire. — Paris, 1898.
556. May 1. Screening out the past: The birth of mass culture a. the motion,
picture industry. — New York: Oxford, 1980.
557. Mesguich F. Tours de manivelle: Souvenirs d’un chasseur d'imagea. —
Paris, 1933.
558. Melz Ch. Langage et cinema. — Paris, 1971.
559. Metz Ch. Le signifiant imaginaire. — Paris, 1977.
560. Metz Ch. Une etape dans la reflexion sur le cinema; Essais sur la
signification au cinema. — Paris, 1972. — T. 2.
561. Michelson A. An interview with Michael Kaufman // October. — 1979. —
N 11.
562. Michelson A. The man with a movie camera: From magician to episte-
mologist // Art-forum. — 1972. — Vol. 10, N 7.
563. Miczka T. Filmowe eksperymenty Wiodzimierza Majakowskiego // Kino. —
1979. — N 8.
564. Mitry J. Esthdtique et psychologic du cinema. — Paris, 1963. — T. 1.
565. Mukarovsky J. Zur Asthetik des Films // Poetik des Films, — Munchen,
1974.
566. Miinsterberg H. The film: A psychological study: The silent photoplay in
1916. — New York, 1970.
568. Nabokov V. Look at the Harlequinsl — London, 1980.
569. Niver K. R. Motion pictures from the library of Congress paper print
collection. — Berkley; Los Angeles, 1967.
570. Oms M. Une esthetique d'opera // Cahiers de la cinematheque. Le cinema
muet italien. — [S. a.]. — N 26/27.
571. Panofsky E. Style and medium in the motion pictures // Film theory and
criticism. — New York, 1974.
572. Pasolini P, P. Discours sur le plan-sequence ou le cinema comme
semiologie de la realite // Cahiers du cinema. — 1977. — N 192.
573. Petrit V. Constructivism in film: The man with the movie camera: A cine-
matic analysis. — Cambridge, 1987.
574. Pinthus K. Quo vadis Kino? // Kino-Debatte. — Munchen, 1978.
575. Pi ter a Z. Epopeja napisu filmowego, czyli zapoznana karta historii kina ft
Kino. — 1975. — N 9.
576. Pratt G. C. Spellbound in darkness: A history of the silent film. — New
York, 1973.
577. Pflce V. Kinojauniba // Lit. un Maksla. — 1982. — 3., 10., 17., 24. sept.;
7., 15. okt.
578. Ramsay T. A million and one nights. — New York, 1964.
468
Список литературы
579. Ropars-Wuilfeumier М.-С. Fonction de la metaphore dans «Octobre»
d'Eisenstein // Litterature. — 1973. — N 11.
580. Sadoul G. Dziga Vertov. — Paris, 1971.
581. Sadoul G. Louis Lumiere. — Paris, 1964.
582. Salt B. Film style and technology. — London, 1984.
583. Salt B. The early development of film form // Film before Griffith. —•
Berkeley; Los Angeles; London, 1983.
584. Shapiro M. Words and pictures. — Hague; Paris, 1983.
585. Sontag S. A Susan Sontag reader. — New York, 1982.
586. Stoneman R. Perspective correction: Early film to the avant-garde //
Afterimage. — 1981. — N 8/9.
587. Swartz M. An overview of cinema on the fairgrounds // J. Popul. Film a.
Television. — 1982. — Vol. 15, N 3.
588. Tsyviane Y. L’homme a la camera' de Dziga Vertov en tant que texte
constructiviste // Rev. du cinema (Image et son). — 1980. — N 351.
589. Tsyviane Y. Notes historiques en marge de Г experience de Koulechov //
Iris. — 1986. — Vol. 4, N 1.
5S0. Vladimir Majakovskij: Memoirs a. essays. — Stockholm, 1975.
591. Winter O. The cinematograph // Sight a. Sound. — 1982. — Autumn.
592. Wooli V. The movies // New Republic. — 1926. — Aug. 4.
593. Worth S.t Adair J. Through Navajo eyes. — Bloomington; London, 1972.
594. Zurbuch W. Die Linguistik des Films // Sprache im Techn. Zeitalter. —
1968. — N 27.
Именной указатель
Абель Р. 52, 404
Абрамович 22
Аверченко А. 87—89, 97
Адамович О. 393
Адорно Т. 99
Азагаров Г. 104, ИЗ, 305, 315, 428
Лзанчеев Б. 104, ИЗ, 439
Алейников М. 126, 204, 205
Александров Г. 332, 342, 447
Алперс Б. 93. 395, 396, 407—409
Алтенло Э. 30, 47
Альбера Ф. 266, 342, 447, 451
Альфонс ХШ 194
Амфитеатров А. 26, 135, 206
Андреев Л. 25, 61, 138, 165, 205, 215,
230, 275, 326, 397
Андреева М. 135
Анненков Ю. 146, 271
Анощенко (-Анод) А. 92, 101, 109—
111, ИЗ, 114, 116—118, 255, 290,
438
Арабажин К. 121
Арбатов Н. 259
Арватов Б. 353
Аргамаков К. 97, 117
Аркатов А. 309
Арнхейм Р. 172, 181
Асеев Н. 452
Ахрамович-Ашмарин В. 310
Базен А. 298
Балаш Б. 98, 249
Балиев Н. 190
Балтрушайтис Ю. 383
Балуев 87
Баранцевич 3. 257
Баргесс Н. 270
Баржи, Ле (см. Ле Баржи)
Баркер Р. 269
Барнет Б. 311, 409
Барт Р. 442
Бартоги 59
Бассалыго Д. 394, 395
Бауэр Е. 245, 248, 249, 258, 265, 267,
305, 310, 438, 444
Бекетова М. 33
Бек-Назаров А. 452
Белинская 19
Белый А. 21, 48, 52, 94, 100, 114, 128,
132, 133, 177, 207, 216, 217, 220,
222—225, 228, 230, 231, 233—238,
245, 246, 263, 271—273, 334, 344,
345, 436, 443
Беляев Н. 238
Бенвенист Э. 188, 198
Бенуа А. 26, 207, 213, 315
Беньямин В. 255
Берберов Н. 199, 442
Берберова Н. 199
Бергман И. 33, 283
Бергсон А. 74
Берлиоз Г. 109
Бернанос Ж. 298
Бернар С. 123
Берсенев И. 444
Бертини ф. 64, 65
Бертолуччи Б. 39
Бескин Э. 59
Бесстужев А. 527
Бетховен Л. ван 92, 109
Берч Н. 160, 176, 240, 253, 281—289,
358
Биншток В. 209
Бири У. 311
Битцер Г. 126
Блейман М. 329, 413, 420, 422
Блок А. 33, 50, 52, 62, 127, 135, 146,
148, 206, 223, 224, 238, 255, 334,
335, 338, 447
Блонский М. 33
Бляхин П. 396, 416
Боборыкин П. 26
Бобров С. 68, 316
Богомильский Д. 443
Болдырев Д. 197
Бордуэлл Д. 300
Борелли Л. 65
Бойтлер М. 59
Браиловский М. 131
Браунлоу К. 72, 74, 91, 117, 126, 170,
296, 311, 446
Брачелли Д. 383
Брессон Р. 298, 299
Бретон А. 52
Брик Л. 319
Брик О. 343, 350, 360, 385, 448, 450
Брукс Л. 311
Брюсов В. 207, 230, 256, 338, 440,
445
Булычев В. 109, 438
Буиссак П. 445
Бунюэль Л. 264, 276, 340
Бургасов ф. 265
Бурлюк Д. 138
Бухов А. 54
Быховский М. 138
470
Именной указатель
Вальтер К. 145
Вандербильты 57
Варламов К. 50
Васильев А. 191
Васильев Г. 77
Васильев Н. 310
Васильев С. 285, 286, 315, 316
Васильева Ф. 29, 30
Вахтангов Е. 103
Ваше Ж. 52
Верди Д. 118
Вермель С. 290
Вернер А. 18, 134
Вернер М. 309
Вертов Д. 80, 83, 149, 169, 281, 325,
338, 356—359, 361, 362, 364, 365,
368—370, 371, 378, 380, 381, 383—
386, 388—392, 399, 409, 410, 411,
414, 421, 423, 439, 444, 448, 449,
450, 451
Веселовский С. 109, 245, 253, 259
Вечорка Т. 31
Виленский Э. 372
Вине Р. 180 '
Виноградская К. 409 *
Винтер О. 275
Висковский В. 285, 417
Вишневский Вен. 177, 205
Вознесенский А. 167, 282—284, 286,
288, 311, 312, 321
Волков А. 305
Волконский С. 34, 170
Волошин М. 21, 52, 94, 128
Вольтер 354
Вульф В. 189
Вяльцева А. 444
Гавкин Н. 439
Гайдаров В. 317, 318
Ган А. 449
Ганнинг Т. 268
Ганс А. 74, 183, 297, 404
Гардин В, 91, 165, 167, 308, 321
Гармс Р. 30, 50, 99, 170, 290, 316,
443
Гаспаров М. 208
Гейер Б. 75
Гензель 19
Герман А. 200, 311
Герман Г.‘ 245, 248, 290
Германова М. 165
Герцен А. 60
Гете И. В. 449
Гехтман 62
Гзовская О. 75, 251
Глаголин Б. 328
Глинка М. 22
Глупышкин см. Дид А.
Глюк Е. 428
Гнедич П. 122, 443
Гогенцоллерн В. 90
Гоголь Н. 132, 223, 271, 443
Голдобин А. 104, 113, 438
Гомон Л. 121
Гончаров В. 120, 203, 243, 301—305
Гончаров И. 254
Гончарова Н. 445
Горин-Горяйнов Б. 441
Городецкий С. 26, 128, 163, 164
Горький А. 15, 16, 22, 167, 176, 177, .
436, 437
Гофман Н. 257
Гофмансталь Г. фон 282, 283
Григорьев-Истомин Н. 309
Грин Т. 446
Гриффит Д. 14, 117, 126, 127, 195,
282, 296 , 307, 208
Гросс Г. 415, 416
Гуаццони Э. 52
Гумилев Н. 140
Гуревич Л. 32, 215, 317
Гуревич С. 301
Гутман Д. 441
Гюго В. 109
I
Даль В. 409
Даниэль М. 277 '
Дарто Л. 436, 437
Дебри А. 452
Де Гурмон Р. 128
Делакруа Э. 109
Деррида Ж. 287, 448
Десмет Я. 28
Дестрэ Ж. 449
Дигмелов А. 170
Дид А. (Глупышкин, Дурашкин) 48,
95, 243, 337, 44?
Длугач М. 389
Дмитриев 36
Добин Е. 352
Добычин Л. 57
Довженко А. 329, 393, 395
Достоевский Ф. 188, 298, 329, 330,
422, 442
Драйзер Т. 329, 331
Дранков А. 96
Дрейфус 274
Дробашенко С. 360
Дублие Ф. 274
Дуганов Р. 326
Дурашкин (см. Дид А.)
Дэлтон С. 192 . (
Дюко де Орон 80
Дюпон Э. 438, 450
Дюран М. 449
Дюшан М. 449
Дюшен Б. 29, 102
471
Именной указатель
Егоров В. 212
Еней Е. 413
Ермолова М. 205
Ефремов М. 396
Жанн П. 191
Жданов Я. 41, 184, 276, 277
Желябужский Ю. 126, 127
Жироду Ж. 396
Жуковский В. 228, 441
Завелев Б. 265, 267, 438, 444
Зауэр ф. 450
Зебер Г. 447
Зекка Ф. 107
Зелинский К. 448
Зданевич И. 449
Зиберберг Х.-Ю. 180
Зозуля Е. 95, 97
Золя Э. 342
Зоркая Н. 33, 439
Ибсен Г. 188, 272
Иванов Вяч. Вс. 391
] «ванов В. И. 189
Иванов Евг. Павл. 52
Иванов Евг. Плат. 310
Иванов-Барков Е. 147, 196
Иванов-Гай А. 252, 253, 444
Ивонин А. 419
Игнатов И. 18, 33, 47, 51, 54, 55,
84, 107, 165, 172, 227, 228, 241,
307, 329, 330, 331, 437, 447
Иезуитов Н. 208
Ижиковский К. 16, 252, 286
Ильяшенко Л. 131
Инсаров Г. 120
Ипполитов-Иванов М. 91, 96
Ирвинг В. 396
Кавальканти Ф. 297
Каверин В. 145
Казаченко Г. 120
Каллаш М. 165, 167
Кальметт 303, 304
Кану до Р. 149, 326
Каралли В. 247, 310
Карнеги 57
Каржанский Н. 157
Карра К. 139
Карре М. 306
Касьянов В. 266, 446
Катаев В. 310
Кауфман М. 357, 362, 448, 449, 450
Кафка Ф. 145
Керенский А. 89, 334, 335, 338, 339,
350, 351, 353—355, 410, 451
Кирсанов Д. 72
Кирсанов С. 447
Киру А. 298
Китон Б. 80
Клер Р. 77, 190
Клуцис А. 450
Кляйн-Рогге Р. 181
Книппер-Чехова О. 165, 167
Ковальский К. 48
Ковальский О. 48
Коврайский 199
Коган Л. 174, 441
Коген Г. 443
Козинцев Г. 199, 321
Койранский А. 22, 26, 47, 62, 81, 83
Кольцов М. 150
Комиссаржевский Ф. 206
Кондорова О. 428
Корнилов Л. 87, 333, 334, 410
Косоротов А. 260
Кракауэр 3. 180, 182, 447, 449
Кранцфельд Ф. 70, 241
Кресин М. 452
Кричевский Ю. 71, 427
Крумин 416
Крученых А. 293, 327
Кручинин (Хлебников) Н. 93, 438
Крэг Г. 258
Крылов И. 221
Кугель А. 49, 146, 247, 272, 436, 440
Кузмин М. 58, 160, 180, 183
Кулешов Л. 157, 160, 364, 365, 394,
419, 448
Куприн А. 91, 92, 147, 148, 198, 230,
441
Курсинский А. 284, 286
Кшесинская М. 89
Кэвелл С. 51
Кэмпбелл К. 309
Лавсон 19
Лазарев И. 317
Ланг Ф. 180
Ланге К. 30
Ларин Н. 310
Ларсен В. 219
Ле Баржи 30
Дедовский Н. 59
Леже Ф. 449
Лейда Д. 87, 96
Леман X. 443
Лемонтье К. 444
Лени П. 447
Ленин В. 89, 199, 334, 335, 351, 361,
419, 420
Лентовский М. 208, 211
Леонтьев К. 441
Леонтьев П. 309
Леонтьевский Е. 443
Лернер Н. 243
Лермонтов М. 305
472
Именном указатель
Ли (Земцова) А. 150
Лилина М. 165
Линдер М. 48, 78, 95, 187
Линдсей В. 326
Линцбах Я. 327
Лисицкий Э. 388, 450 '
Лихачев Б. 81
Лозинский М. 140
Лопатин Н. 55
Лорре П. ПО
Лотман Ю. 9, 124, 135, 286
Лотов А. 445
Луначарский А. 207, 361, 442
Л'Эрбье М. 405, 446
Любош С. 49
Люмьеры братья (Л. и О.) 15, 16, 78,
157, 193, 270
Люмьер Л. 16, 24, 35, 116, 117, 144,
147, 166—172, 174, 176, 183, 184,
186, 191, 193, 195, 196, 199, 201,
250, 268, 275, 324, 371, 436. 440,
441
Магритт Р. 295, 297, 445
Мазуркевич В. 306
Майзель Э. 74
Майклсов А. 358, 447
Мак Лаглен В. 311
Максимов В. 75, 190
Малахиева-Мирович В. 211
Малларме С. 281
Мальтет-Мельес М. 187
Малынет 271
Мандельштам О. 24, 124, 255, 317
Манн О. 188, 197, 201, 261, 262, 263,
317
Мануэль 58
Марей Ж. 452
Маринетти Ф. 449
Мария-Антуанетта 342
Марков В. 445
Маркс братья 439
Маркс М. 439
Мартен Ф. 98
Мартинсон С. 441
Мартов Б. 109, 245
Мартов М. 306
Маршак С. 240 , 241, 261—264
Матхаузер 3. 317
Маурин Е. 34, 41, 71, 85, 116
Мах Э. 80
Маяковский В. 84, 224, 317—319, 326,
396, 422, 448, 449
Мейер (Мундвиллер) Ж. 436
Мейерхольд В. 132, 150, 284, 335—
337, 353
Мелиоранский Н. 129
Мельес Ж. 84, 107, 117, 120, 187,
191, 193 , 209, 211, 212, 214, 221,
223, 224, 225, 231, 235—237, 263,
264, 276, 443 , 447
Мендельсон Я. 116
Меничелли П. 64, 65
Мережковский Д. 100
Месгиш Ф, 107, 157, 193, 194, 262,
269
Метерлинк М. 205—211, 282, 283, 442,
444
Метр А. 294
Метц К. 204, 437
Миклашевский К. 258, 337, 441
Минский Н. 213
Митяев 71
Михайлов М. 243
Михин Б. 419
Млечин В. 408, 409
Могилянский М. 127
Мозжухин И. 75
Мопассан Г. де 266
Моравская М. 441
Моро А, 396
Моррис У. 112
Москвин И. 76
Мукаржовски Я. 447
Мунштейн (Lolo) 20
Мунэ-Сюлли Ж. 115
Муратов П. 115, 116, 118, 300
Муров 393
Мэй Л. 57
Мюнстерберг X. 80, 116, 446
Мюссе А. де 109
Набоков В. 81, 198, 201, 291, 445
На дэн 194
Нарбут В. 452
Недоброво В. 393, 411, 413
Нелидов А. 335, 336
Немирович-Данченко В. 205, 214, 297,
298, 441, 442
Никитин Ф. 392, 397, 400, 402, 408,
410, 416, 417, 451
Нилус П. 38, 211, 251
Нильсен А. 70
Новалис 209
Нольд Р. 443
Ожегов С. 409
Омон Ж. 446
Омон Ш. 436, 437
Оме М, 96
Орленев П. 188, 190, 321
Орлова В. 428
Осинский Н. 397, 421, 423
Осповат А. 452
Остроумов Л. 97, 149
Охлопков Н. 386
Оцеп Ф. 122, 394, 451
473
Именной указатель
Павасарс X. 17
Павлов И. 400
Павлова В. 257
Панов Н. 428
Панофски Э. 55, 99, 276, 297
Парнис А. 127
Пастернак А. 18
Пастернак Б. 68
Пастроне Д. 125, 270
Патэ братья 18, 29, 132, 163, 231
Перестиани И. 108, 150, 438, 441
Перепелкин И. 326
Перов В. 387
Перро В. 326
Перцов В. 329
Петрич В. 447
Пик Л. 281
Пинтус К. 53
Пиотровский А. 338, 393, 450
Пискатор Э. 416, 419, 420
Питера 3. 446
Погодин А. 328
Пожарская М. 212
Пол Р, 219, 225, 227—229, 446
Полонский В. 75, 310
Поплавский Б. 22
Портер Э. 234
Приютов 129
Промио М. 157
Пронин Б. 127
Протазанов Я. 265, 270
Пустыгина Н. 220
Пуце В. 39, 134
Пушкин А. 135, 243, 354
Пэре Б. 87
Пясецкий П. 269, 270
Радаев С. 326
Радзишевский В. 326
Радин Н. 265
Разин С. 84, 96
Рамен П. 98
Расин Ж. 305
Распутин Г. 89, 245, 342
Ребикова А. 438
Режан Г. 210
Рейнгардт М. 282, 444
Рейснер Л. 353
Рейснер С. 445
Рескин Д. 112
Рид Д. 350, 351
Римский Н. 426
Роберта Р. 64
Робида А. 86
Робинсон Д. 269
Рожкалне А. 102
Розанов В. 57
Розенвальд 41, 59, 60
Романовы 57, 339, 351, 419; Алек-
сандр III 86, 87, 333, 344, 351,
447; Екатерина II 354; Николай II
120, 157, 342, 343, 351, 354
Ромашков В. 203
Ромм М. 396
Ропарс-Вюйемье М.-К. 333
Рославлев А. 211
Рубин Н. 129
Рузвельты 57
Рунич О. 417
Руттман В. 420, 448
Сабанеев Л. 92, 98, 101, 103, 104,
111—113, 117, 438
Сабинский Ч. 247, 258, 444
Саввин Н. 78
Садуль Ж. 53, 167, 178, 441, 449
Саламонский 17, 60
Салтыков Н. 195
Сальвини С. 64
Санин А. 125, 126, 251, 442
Сапунов Н. 336
Свансон Г. 311
Светлов Б. 120
Свилова Е. 357
Северянин И. 139—141, 145, 148, 439
Сенкевич Г. 52
Сен-Санс К. 96, 106
Сепп П. 309
Серафимович А. 47
Серф К. 157
Силлинг 144
Скола Э. 39
Смирнов И. 317
Смит Э. 250
Смоленский А. 277
Соболь А. 280
Соколов И. 327, 393 , 396
Соллертинский И. 442
Сологуб Ф. 22, 40, 70, 125, 131—133,
245, 246, 251, 252, 293
Солт Б. 72, 191, 240, 250, 299, 301
Спенсер Г. 443
Ставроцкий А. 97
Станиславский К. ЮЗ, 205, 208—210,
212, 214, 297, 442
Старевич В. 146, 280
Старк Э. 161
Стасов В. 116, 167, 186, 275
Степанов И. 56
Сторицын П. 206
Стрейч Я. 452
Сулержицкий Л. 208, 210—212
Сукиасов И. 446
Суорц М. 30
Супо Ф. 440
Сургучов И. 248, 256
Суриков В. 203
474
Именной указатель
Сэпман И. 417, 451
Сю Э. 60
Тавричанин П. 56
Таиров А. 282, 444
Таланов И. 428
Тарасов Н. 439
Тарковский А. 149
Теннисон А. 396
Терентьев И. 353
Тэффи Н. 438
Тименчик Р. 9, 127, 135, 238, 317,
345, 354, 441, 452
Толлер Э. 416, 419
Толоб Н, И, (Болотин) 289
Толстой Л. 126, 138, 165, 167, 168,
206, 243, 275, 286, 321, 419
Томашевский Б. 126
Трауберг И. 451, 394
Трауберг Л. 84, 199, 321
Третьяков С. 271, 350, 448, 449
Троцкий Л. 89, 351, 419
Тун Р. 81
Туржанский В. 309
Туркин В. 26, 260, 313, 445
Туркин Н. 26, 248, 257
Тынянов Ю. 98, 99, 272, 279, 287,
397, 438
Тюрин В. 157
Уильямсон Д. 191, 193
Умов Н. 82
Уральский А. 310
Уэллс О. 125
Файдт К. 181
Февральский А. 131, 448
Федоров А. 285
Федоров-Давыдов А. 448
Фейяд И. 307, 316
Фелл Д. 269
Фелонов Л. 288
Фельдман К. 361, 447
Феноллоза Э. 326
Филиппов Н. 134
Философов Н. 167
Флакер А. 255
Фламмарион 86
Фор Э . 115
Форестье Л. 266
Фрейд 3." 282, 400, 412
Фрэмптон X. 448
Фуко М. 445
Ханжонков А. 120, 144, 220, 253, 444,
446
Ханжонкова В. 310, 445
Харитонов Д. 108
Хартман-Флайер X. 217
Хичкок А. 110, 195, 200, 287
Хлебников В. 83, 84, 86, 293, 317
Холодная В. 77, 108, 258, 312, 444
Хоу Л. 268
Худяков И. 103, 106, 110—113, 134
Хэндриковски М. 286
Хэйуорт С. 191, 220—223, 316
Цветаева А. 427
Цензор Д. 16
Цилле X. 450
Чайковский Б. 257, 265, 311
Чайковский В. 18, 62, 93, 100
Чайковский П. 92, 118
Чаплин Ч. 14, 447
Чардынин П. 108, 138, 247, 254, 260,
292, 300, 311, 424
Чеботаревская А. 131
Червяков Е. 444
Чернышев А. 447
Честертон Г. К. 73, 345
Чехов А. 146, 206, 442
Чехов М. 310
Чешихин В. 109
Чичерин А. 448
Чуковский К. 57, 60, 69, 223
Чулков Г. 48, 100, 136, 436
Чумаченко А. 440
Чэнэн М. 316
*
Шанцер 37, 57, 67
Шапиро М. 442
Шарлюс 107
Шебуев Н. 21
Шекспир У. 307, 449
Шенгели Г. 208
Шершеневич В. 139
Шипулинский Ф. 145, 194
Шкловский В. 126, 171, 278, 279, 396,
411, 439, 452
Шопен Ф. 118
Шпет Г. 274, 275, 320
Шпиковский Н. 76
Шпис В. 397
Шрейдер Г. 351
Штраух М. 446
Шуб Э. 451
Шуман Р. 109
Щеглов И. 95, 223, 289, 294
Эверс Г. 53
Эдисон Т. 121, 268, 328
Эйзенштейн С. 59, 60, 74, 86, 190, 195,
236, 237, 258, 270, 310 , 321, 325,
331—335, 337—350, 353—355,
357, 392—394, 397—400, 405,
475
Именной указатель
409—411, 414, 423. 430, 439, 447,
450, 451
Эллис 128, 131, 442
Энгель Ю. 162, 245, 259
Эпштейн Ж. 281, 285, 445
Эрмлер Р. 148, 325, 392—397, 399,
400, 404, 407, 408, 410, 415, 417,
419—423, 434, 451
Юг Г. 326
Юренева Б. 444
Юткевич С. 394
Яблоновский С. 87
Якобсон Р, 98, 160
Яковлев (Павловский) В. 15, 177—179
Ямпольский М. 9, 86, 161, 306, 392.
417
Ясеньский Б. 140
Указатель фильмов
Адский котел (Le chaudron infer*
nal) 443
Адский кэк-уок (Le Cake-Walk in-
fernal) 443
Алхимик Парафрагамус, или Адская
реторта (L'Alchimiste Parafraga-
mus ou la cornue infernale) 443
Анархист и его собака (The anar-
chist and his dog) 219
Анна Каренина 165
Антракт (Entr’acte) 76—77, 190
Барышня из кафе 309
Барышня и мышка (The lady and
the mouse) 307—308
Беглец .305
Беженцы 253
Берлин — симфония большого города
(Berlin, die Symphonie der GroB-
stadt) 448
Большой глоток (The big swallow)
191—193
Бродяга (The tramp) 447
Броненосец «Потемкин» 74, 190, 245,
394, 439
Венецианская ночь (Venetianische
Nacht) 444
Весной 449
Взрыв автомобиля (Explosion of а
motor car) 222
В огне страстей и страданий 252, 444
«?» шофер (The «?» motorist) 225—
229, 316
Вор 92
Вот мчится тройка почтовая 247
Всколыхнулась Русь сермяжная и
грудью стала за святое дело 120
В студенческие годы 138
Выборгская сторона 199, 201, 441, 442
Галлюцинации барона Мюнхгаузена
(Les hallucinations du baron de
Munchhausen) 235
Гитлер, фильм из Германии (Hitler.
Ein Film aus Deutschland) 180
Голубой экспресс 394, 451
Гостиница для командированных
(L'Hotel des voyageurs de com-
merce) 443
Гражданин Кейн (Citizen Kane) 125,
133
Два портрета (L'image de 1'autre) 306
Демон честолюбия 307
Десятая симфония (La Dixieme
Symphonie) 297
Дитя большого города 265
Дневник сельского кюре (Le journal
d’un cure de compagne) 298
Доведенный до анархии (Goaded to
anarchy) 219
Доктор Мабузе — игрок (Dr. Mabuse,
der Spieler) 180—183
Драма в кабаре футуристов № 13 4^5
Дровосек 307
Его глаза 285
Жена вакханка 165
Живой труп (Der lebende Leichnam)
451
Жизнь за жизнь 267
Жизнь и смерть А. С. Пушкина 243
Жюв и Фандор (Juve et Fandor)
316
Звенигора 329
Зеленая Мануэлла
(Die g г line Manuela) 385, 450
Земля в плену 394
Змея (La serpe) 64
История цивилизации (La civilisation
a travers les ages) 120
Кабинет доктора Калигари (Das Ca-
binet des Dr. Caligari) 180, 181
Кабирия (Cabiria) 125, 270
Какого бывает, когда тебя переедут
(How it feels to be run over) 191
Кин (Kean) 389
Камо грядеши? (Quo vadis?) 52—54,
78
Киноглаз 83, 389
Кинооператор (The cameraman) 80
Княжна Тараканова 78
Колесо (La roue) 183, 404, 405
Коллежский регистратор 127
Коробейники 195
Коробка с проказами (La bolte а
malice) 447
Король бокса (Le roi de boxe) 337,
447
Король Испании Альфонс XIII на
охоте (Le roi Alphonse ХШ i
la chasse) 193
Крейцерова соната 308
Кровавая слава 315, 428—429
Указатель фильмов
Купальни Дианы в Милане (Bains de
Diane a Milan) 80
Курсистка Таня Скворцова 248, 257,
258
Леон Дрей 245
Ложь 249
Луна (La Luna) 39
Луна в метре от нас (La Lune A un
metre) 235
Любовь моряка 95, 289
Любовь статского советника 292
Мара 294
Мародеры (The spoilers) 309
Мертвец 444
Месть кинематографического опера-
тора 146, 147, 307
Мой друг Иван Лапшин 200
Молчание (Tustnaden) 283
Молчи, грусть, молчи... 108, 109, 260,
300, 308, 311—314, 424—426
Морское купание (Baignade en тег)
116, 275
Москва 448
Мушкетеры Пиг Элли (The muske-
teers of Pig Alley) 195
I
Набат 265
На крыльях ввысь 419
Назад, назад 81, 83, 88
Неведомая женщина (Das fremde
Madchen) 283
Немой меломан (Un muet melomane)
107
Немые свидетели 248
Необычайные приключения мистера
Веста в стране большевиков 419
Нерон 78
Новая служанка (The new maid) 446
Новые необычные виды борьбы (Nou-
velles luttes extravagantes) 443
О, женщины . .. 320
Обломок империи 148, 325, 392—423,
434, 435, 450—452
Оборона Севастополя 120
Обрыв 254, 445
Одиннадцатый 421
Окраина 409
Октябрь 86, 87, 236, 324, 325, 329,
331—356, 392—394, 402, 410, 414,
416, 430—433 444, 450, 451
Отрубленная голова (Tete соирёе)
214
Очи черные.. Очи страстные .., 257
Охота на медведя в России 194
Охота на уссурийского тигра 61
Парижская улица 144
Перевозка тяжестей 185
Песнь торжествующей любви 258
Пиковая дама 270—271
Письмецо матери 277
Пламя неба 305
Покойный Матиас Паскаль (Feu Mat-
thias Pascal) 405
Поликушка 126
Политый поливальщик (L'aryoseur ar-
iose) 438
Пороги Замбези 61
После смерти 265
Прибытие поезда к вокзалу Ла Сиота
(L'arrivee du train en gare de la
Ciotat) 165—183, 195, 438, 439
Приключения знаменитого начальника
Петроградской сыскной полиции
И. Д. Путилина 306, 426—428
Приключения Лины в Сочи 444
Пробуждение женщины (Erwachen
des Weibes) 389, 390
Проданный аппетит 386
Путешествие на Луну (Voyage dans
la Lune) 107, 223—225, 235—236
Путешествие через невозможное
(Voyage a travers de 1'impossible)
225
Пэпо 452
Разрушение стены (Demolition d'un
mu г) 78, 83
Рекордное апчхи (The record
sneeze) 443
Роман балерины 257, 258
Ромео и Джульетта 301
Саботаж (Sabotage) 195
Сатана ликующий 265
Сбежавший поезд 268
Седьмая заповедь 266
Симфония Донбасса 388, 450
Сказка мира 109
Слезы 284, 444
Сломанные побеги (Broken blos-
soms) 126, 127
Смертельный насморк см. Это роко-
вое чихание
Смерть герцога Гиза (La mort du
Due de Guise) 30, 96, 106, 301,
303, 304
Совет Пипле, или Прогулка по ярмар-
ке (Le conseil du Pipelet ou tour
a la foir) 447
Сон звездочета (Le reve de 1'as-
tronome) 224
Сон кутилы см. Сон поклонника сыр-
ных гренок
478
Указатель фильмов
Сон поклонника сырных хренок (The
dream of a rarebit friend) 233,
234
Сплендор (Splendor) 39
Станционный смотритель 76
Старое и новое 334, 335
Стачка 335, 395
Стенька Разин (Понизовая вольница)
84, 91, 96, 203, 301—304
Стреляй вместо меня (Sauj mana
vieta) 452
Студенческие годы см. В студенче-
ские годы
Сцены из русско-японской войны
(Scenes de la guerre russo-japo-
naise) 279
Счастье вечной ночи 310
Сюрприз для русских (A Russian
surprise) 219
Тайна -большого колокола 307
Тайна комнаты (The chamber mys-
tery) 446
Телефон-доносчик (The tell-tale tele-
phone) 446
Темные силы — Григорий Распутин
и его сподвижники 245
Теща анархиста (Anarkistens sviger-
moder) 219
Тоже война 280
Только время (Rien que les heures)
297
Трехсотлетие царствования дома Ро-
мановых (1613—1913) 310
Туннель под Ла Маншем, или Фран-
ко-английский кошмар {Tunnel а
travers La Manche ou le Cauche-
mar franco-anglais) 276
Улица в Лионе (видимо, La Place
des Cordeliers) 174, 176
Улыбка Катиша (Le sourire de Ka-
ticha) 262—263
Умер бедняга в больнице военной
419
Усердный денщик 134
Ухарь-купец 304, 305
Уход великого старца 419
Фантомас (Fantomas) 307, 316, 446
фантастическая гидротерапия (Hyd-
rotherapie fantastique) 443
Хризантемы 247
Цари биржи 259
Человек, который слишком много
знал (The man who knew too
much) 110
Человек с киноаппаратом 80, 149,
150, 169, 281, 325, 357—392, 410,
411, 414, 421, 451
Человек с резиновой головой (L'Hom-
me a la tete en caoutchouc) 443
Черный парус 394
Чертово колесо 265
400 проделок дьявола ' (Les 400 coups
du diable) 236, 237
Чудесная гирлянда (La guirlande mer-
veilleuse) 443
Чудесное пламя (La flamme merveil-
leuse) 443
Шинель 272
Эдип (Oedipe-Roi) 115
Это роковое чихание (That fatal
sneeze) 220—223
Это страшное чихание (That terrible
sneeze) 443
Юдифь из Бетулии (Judith from Be-
thulia) 117
Ямщик, не гони лошадей 108, 438
Summary
Ideally, the practice of film history presupposes that each
fact be considered from a dual perspective: as it appears to the
film historian today and as it was viewed by the spectator at the
time. On the one hand, history reads texts; on the other, each
text has its own history of readings. If we admit that films imply
their viewers, we have also to admit that it is not only films,
but viewers too, that are subject to evolutionary changes. In this
respect a history of film reception can be expected to provide
a significant corrective to any merely factual history of film.
This book presents an attempt to historisize the notion of
the viewer in Russia (1896—1930). The research is based on con-
temporary non-filmic material: articles, reviews, synopses, ads in
trade journals; programme leaflets; handbooks for theatre
owners, projectionists and film musicians; references to film in
the prose and poetry of the 1900/1910s; mentions of cinema in
people's diaries, personal correspondence and later reminiscences;
’cinema' as a component part of conversational metaphors and
cliches; recurrent epithets and metaphors used to describe
cinema as a medium; lists of titles; montage lists; scripts. When-
ever possible, these are compared with existing filmic sources.
Part One (see English «contents» for its detailed structure)
attempts to establish evolutionary changes in: exhibition prac-
tices and film-going habits; cinema architecture; projection rate
and its effect on audiences; film music and other aspects of a
film show in 1904—1916.
DISPLACED PERCEPTION. One of the peculiarities of the
period under discussion was that the aforementioned aspects,
while appearing to be a part of the infrastructure of reception,
were also its object. Two factors — a) the novelty of the medium
itself; b) the fact that the complexity of the texts that the medium
gave birth to was on a level lower than that of the receptive
experience of the audience in the 1910s (cf. recurrent epithets
like 'naive', 'primitive', 'infantile', 'Hottentot' that were used to
describe films but in fact reflected the state of unsatisfied recep-
tional expectations) — led to a situation where the Russian viewer
before 1914 did not go 'to a film' but 'to the cinema'. This allows
one to talk of a 'receptive image' of cinema of which some
contours are imprinted in recurrent receptive metaphors, e. g.:
— the darkness of the cinema auditorium combined with the
silence of the screen characters gave rise to the persistent image
of cinema as a sea-bed with fish-actors (1912—1935, last used by
480
Summary
Ossip Mandelstam); that same darkness combined with the mono-
chrome screen image led to the receptive leitmotif of cinema as
an underground kingdom (1896, Maxim Gorki — 1937, Boris Pop-
lavski; cf. in the neighbouring tradition: Stumm wie ein Fisch
und bleich wie Unterirdisches schwimmt der Film im Teich des
Nursichtbaren. — Robert Musil, 1925) and the other variants:
cinema as the catacombs of culture; the ritual of secret sects, etc.;
— the figure of the projectionist gave impetus to the theme
of the 'lord of the elements’ ranging from Joshua stopping the
sun and the moon (1907, Kornei Tchukovski) to the drunken imp,
the arbiter of actors' destiny (last used: 1920);
— the fact that, in the 1900s and 1910s, the cinema audi-
torium was the only place where people from all urban classes
met gave rise to a number of receptive associations: from the
symbolist utopia of 'sobornost' (1907, Andrei Bely) and the
Marxist utopia of a classless society (1912, К. & O. Kovalski) to
the current metaphor 'cinema as prostitution’ (sustained by some
other intrinsic qualities of the medium, such as: a cheap luxury,
automatism and iterative nature of emotions, the egalitarianism
of the lower order — Fedor Otsep, 1916).
These and some other recurrent motifs (flickering, projection
noise, etc., read as an aesthetic fact) permit us to trace how
cinema, once it had appeared in Russia, gradually adopted so
that it could fit into the sprockets of Russian symbolist and post-
symbolist culture.
RECEPTION SHIFT. Shortly before 1910 in Russia one can
detect a number of changes which seem to reflect a more general
process of cinema changing its cultural identity:
— cinema-owners start renaming their cinemas. Quasi-scien-
tific names (Synchrophon, Taumatograph, etc.) give way to names
with a ’glamorous' connotation (Crystal Palace, Parisiana, etc.).
The facade of the building changes accordingly: the ’techno-
logical' decorative motif gives way to the ’exotic’;
— the interior architecture of the theatre changes. The long
narrow auditorium gives way to square and oval shapes. The
screen, previously bare, acquires curtain hung in front of it,
and the rudiments of a stage;
— the social topography of the auditorium changes. The
tariff scale develops from the initial dichotomy in prices (sit-
ting places/standing places) into as many as seven or nine price
zones. The proximity to the screen becomes a criterion of ticket
price;
— live music everywhere replaces the earlier gramophone
and orchestrion accompaniment to films.
These and other changes, corresponding to the changes of
repertoire (from trick film to drama), are indicative of cinema's
receptive adaptation to traditional forms of culture. The tech-
481
Summary
nological aspects, which had previously attracted the audience,
are now masked and excluded from the field of reception.
FILM-GOING HABITS. The increase in film footage brought
about some changes in exhibition practices and the way cinema
was received in Russia in the 1910s.
— Audiences get used to thinking in terms of film titles and
not in terms of 'going to the cinema’ (AFGRUNDEN, LA
CADUTA DI TROIA were among the first film titles memorized
by Russian patrons).
— Cinema owners start to mention the time of the perform-
ance. The audiences have to get used to the notion of «the start
of the picture» and to linearize the way they experience films
(QUO VADIS?). Consequently, film going drops out of the life-
style of a Russian flaneur.
— Cinema owners have to face up to the problem of late-
comers. The foyer becomes an important part of theatre archi-
tecture as well as of film-going ritual. Between 1915 and 1918
foyers are decorated like a salon to match the dominant film
style. A new subculture emerges: foyer cine-philes whose «de-
cadent» looks and behaviour emulate the Ermolieff studio style
of acting and make-up. Newspapers claim that some of them
never leave the foyer for the auditorium.
Part Two examines the evolution of film syntax through an
analysis of its reception. Verbal descriptions of filmic texts are
analysed in order to establish key words and expressions used
to describe structural nodes of cinematic texts (end/start; cut;
scale transition; ellipsis; etc.); these are used to reconstitute the
implicit precinematic narrative norm and to establish the
degree of receptional ’abnormality’ of storytelling by means of
films; changes in titling are believed to bear upon changes in
film syntax reception and are examined accordingly.
TEXT BOUNDARIES. The viewer’s implicit definition of
the text and its parts changes
— from the film performance (seance) being considered the
'master text’ and films ('kartina', i. e. 'picture') its constituent
parts (consequences: floating text boundaries, i. e. 'user de-
fined' notion of start/ending; contextual hypercorrection, i. e.
occasional misreadings of adjacent films as forming a coherent
chain, cf. censorship regulations concerning introduction of cur-
tain in film theatres to be used before and after screening of-
ficial newsreels),
— to a more classic conception of the 'master text' as a
separate film with 'text defined’ boundaries (reception problems
involved: the centrifugal tendency of genealogically diverse ele-
ments — MS/theatre stage, CU/portrait photography, letter
31 102326
482
Summary
insert/written discourse, etc. — outweighted the unity imposed by
their inclusion within these boundaries; cf. key words 'suddenly*,
'separately*, 'instantly* used to describe cuts).
SPATIAL BOUNDARIES. A set of contemporary written com-
ments on L’ARRIVEE DU TRAIN EN GARE DE LA CIOTAT is
analysed to find that some viewers
— perceived its space as unrealistic and its perspective as
distorted;
— experienced cognitive ambiguity as to the mental represen-
tation accountable for the screen plane (penetrable/impenetrable;
palpable/impalpable; transparent/solid);
— claimed the train made a curve before the screen;
— or stressed as peculiar the fact that objects disappeared
as soon as they approached 'the foreground of the picture*.
Some strategies in pre-1910 film history directed at (actual or
virtual) forced 'screen crossing' (stage-screen hybrids practised in
Russia; Lumiere's and Mesguich’s miseenscenes) are analysed in
connection with other deictic elements in later film history (a
character’s look at the camera).
THE RECEPTION OF CINEMATIC NARRATIVE. Contempo-
rary response to storyline discontinuities is considered from the
point of view ot implicit norms of textual coherence shared by
film (re)-viewers of the 1910s. This set of norms and reception-
registered deviations from it (condemned as 'inadequacy* or
hailed as an innovative aspect' of the medium) are described as
the cultural background responsible for complex and conflictual
development of narrative structures in film. The following issues
are addressed:
— the norm of marked ellipsis and 'illegal', ’clumsy', 'pri-
mitive' cinematic transitions. Critical reaction to
a) jump-cuts,
b) in-frame transition markers (conjunctive, e. g. letters
written to bridge temporal gaps, phone calls given to bridge
spatial gaps; disjunctive, e. g. handshakes, exits, arrivals/depar-
tures, etc.),
c) transition inserts (comings and goings, cars, trains, etc.) and
their later recognition as an aestetic fact (fermata);
— the norm of centered narrative focus secured by verbal
means (availability of auxiliary elements; capability of graduated
representation; iteration) and the receptive image of cinematic
narrative as 'unbalanced', 'mechanical', 'spasmodic', 'gratuitous',
'purposeless', 'paltry'. The receptive image of cinema narrator:
’deaf mute', 'faulty', 'casual passer-by'. Cinematic narrative and
cultural axes: static/mobile, order /chaos, home/street, Culture'/
Cinematic narrative read as an aesthetic fact by modernist
writers (Andrei Bely) and theatre directors (Stanislavski). Cinema
483
Summary
and modernist narrative perspective: the cult of the fragmentary,
the fortuitous, the indirect, the unfinished;
— the norm of proxemic invariable and the reception of shot
scale. The following changes in the way the close-up was de-
scribed are pointed out as significant:
a) the moment the close-up is no longer referred to as mag-
nification (or 'growing up to natural size') and is perceived as
closing-in (c 1908),
b) the moment the close-up is no longer believed to imperil
the spatial integrity of the encompassing scene (1915—1917),
c) the new way the viewer defines the agent of the proxemic
shift (the object is brought closer to the viewer — the viewer is
brought closer to the object),
d) the moment the close-up loses its connotations of: exces-
sive intentionality; vulgarity, aggressivity;
— written comments on camera movement which point at
a) proprioceptive ambiguity («moving rooms» in THE QUEEN
OF SPADES, «revolving stage» metaphor used to describe track-
ing shots in CABIRIA),
b) unipunctual rather than syntagmatic/narrative reading of
camera trajectory.
Observations on the close-up and camera movement allow
one to make a more general assumption about early stages of fil
II
reception. The fundamental convention the modern viewer obeys:
structural changes at the level oi discourse do not predicate
spatial changes in the diegesis — was not a universal intrinsic
norm with early audiences.
THE DEVELOPMENT OF TITLING METHODS in Russia is
examined both as a topic of contemporary discussion and as
evidence of changing narrative competence of the viewer. Among
the issues discussed in trade journals of the 1910s one finds
— retitling of war newsreels (1914) and fiction films (from
1915 on; cf. comments on giving Russian names to foreign cha-
racters well before this date);
— the optimum ratio between narrative titles and dialogue
titles, the latter ones allegedly more advanced and appropriate for
the 'Russian style' of filmmaking;
— the question of 'pure cinema' (1914—1916) with respect to
which three different stands were taken: titles are alien to the
new medium; titles are malum necessarium and should be applied
only to avoid narrative ambiguity; being an intrinsic part of the
style titles are responsible for 'visual entractes' (Aleksandr Voz-
nesenski), 'rhythmical pause' (Aleksandr Kursinski) or 'the en-
chantment of the sense of the phrase' (Vsevolod Meyerhold). The
latter position was linked with the 'inner speech’ (a psycho-
logical conception which was in fashion in Russia) applied to
31*
484
Summary
cinema viewing by Boris Glagolin in 1914, by Ivan Ignatov in 1919
and later by Boris Eikhenbaum and Sergei Eisenstein.
Two films of the 1910s are studied in order to estimate the
proportion of intertitles falling within the following categories:
— narrative titles: tabula operators (expository:evaluative)
and sjuzhet operators (time:space); their grammatical form
(nominal:verbal); their relationship to the screen action (parallel:
complementary);
— dialogue titles which are classified according to
— the way the title is related to the agent of speech who
may be specified (lip movement; gesture; miseenscene; situa-
tional context) or unspecified (out of frame; speaker irrelevant;
leitmotif line);
— the position of the title in respect to the act of speech (be-
fore/matching/after);
— the discursive position of the title: between scenes; be-
tween shots (4 types of transition); inserted within the shot (time
lapse marked/ignored);
— the line/title relationship: one cue per title; one title covers
a portion of the dialogue; overt/covert cues.
Part Three analyses the orientation of three specific films
towards their anticipated audience reception and demonstrates
some problems film-makers faced in their efforts to construct a
model spectator. Being a textual analysis of some sequences of
OCTOBER, MAN WITH A MOVIE CAMERA, A FRAGMENT OF
THE EMPIRE, Part Three resists summarizing.
Оглавление
Введение
7
Историческая поэтика и историческая рецепция кино
Условные сокращения И система ссылок И
Часть I
ВНЕТЕКСТОВЫЕ СТРУКТУРЫ: РЕЦЕПЦИЯ
СЕАНСА
Глава 1.
РАННЯЯ КИНОАРХИТЕКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО СОЦИУМА
Понятие опережающей рецепции
Внутреннее пространство кинотеатра 1904—1908 годов
Ранний кинозал как объект культурной рецепции
Период «длинного зала»
Эволюция названий
Роскошные кинотеатры городского центра. Начало «периода
квадрата»
«Центр и периферия» в социальной топографии кино
Понятие «роскошный кинотеатр центра»
Социотопика кинозала
Образ кинематографической публики
«Поход в кинематограф». Бытовое поведение кинозрителя
Эволюция фойе
14
17
19
22
24
28
32
34
40
47
50
58
Глава 2.
РЕЖИМ ПРОЕКЦИИ КАК ФАКТОР
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
Образ киномеханика
Скорость проекции
Tempus
reversus
69
72
78
Глава 3.
АКУСТИКА КИНОСЕАНСА
Музыка в пространстве кинозала
Музыка в пору рецептивного сдвига
Совпадение / несовпадение как категория рецептивной оценки
Фильм в отсутствие музыки
«Механизм» vs. «Организм»
Слепой тапер
Музыка для кино. Готовая музыка
Словарь компилятора и тематический yi
; I'd :
Музыка для фильма
Фильм на музыку
ерсум раннего кино
91
93
94
98
100
101
103
104
106
107
486
Оглавление
Импровизация 110
Компиляция 113
Ритм 115
Шумовые эффекты 118
Рецепция механического звука 121
Глава 4.
РЕЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОМЕХ
Оптические помехи
Трепет, мелькание, мигание, дрожь
Обрыв ленты
Акустические помехи. «Живая иллюстрация»
Звук проектора
«Метроном мирового времени»
124
127
129
133
138
148
Часть П
МЕЖТЕКСТОВЫЕ СВЯЗИ: РЕЦЕПЦИЯ
КИНОЯЗЫКА
Глава 1.
ИЗМЕНЧИВЫЕ ГРАНИЦЫ ТЕКСТА
Сеанс vs. фильм 154
Фильм vs. кадр 160
Глава 2.
РЕЦЕПЦИЯ ПОДВИЖНОГО ПРОСТРАНСТВА
«Анна Каренина» и «Прибытие поезда к вокзалу Ла Сиота»
Перцепция пространства
Рецепция пространства
Рецептивная беллетризация
«Прибытие поезда» как объект культурной рецепции
165
169
174
178
180
Глава 3.
ЛИЦЕВАЯ ГРАНИЦА ТЕКСТА
Экранно-сценические гибриды
Движение «на» и семантика угрозы
Экран как гран
Два замечания о взгляде в объектив
186
190
196
200
Глава 4.
КУЛЬТУРНАЯ РЕЦЕПЦИЯ. ФИЛЬМ КАК ОБЪЕКТ
МЕЖСЕМИОТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Понятие культурной рецепции 202
Театральная рецепция трюкового кино («Синяя птица» в МХТ) 204
Литературная рецепция трюкового кино («Петербург» Андрея
Белого) 216
«Петербург»: роман и сценарий 230
487
Оглавление
Глава 5.
РЕЦЕПЦИЯ КИНОПОВЕСТВОВАНИЯ
Презумпция связности 240
Кинемато1раф и правила связности текста 244
Эллипс 245
Показатели эллипса 246
Fermata 249
Композиционный дисбаланс 252
Крупный план 256
Укрупнение, мотивированное движением персонажа 261
Наезд 264
Панорама 267
Глава 6.
РЕЦЕПТИВНЫЙ СЛОЙ ФИЛЬМА.
ИЗОБРАЖЕНИЕ И НАДПИСЬ КАК КОМПОНЕНТЫ
□
МЕЖСЕМИОТИЧЕСКОГО пер:
ЮДА
Рецепция и вербализация. Лектор 274
Мифология «чистого кино» 278
Два режима восприятия немого фильма 285
Знаковая фактура надписи 287
Почерк 290
Семиотический параллелизм 294
От ремарки к реплике 299
Кто говорит? 308
Надпись и голос 314
Часть Ш
ТЕКСТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: РЕЦЕПТИВНАЯ
УСТАНОВКА ФИЛЬМА
Глава 1.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: «ОКТЯБРЬ»
«Рецептивный текст» и интеллектуальное кино
Метод анализа
Пустые костюмы
Спальня царицы
Яйцо (эволюция символа)
Голова / бомба / яйцо
Эйзенштейн и «левое неприличие»
324
331
333
338
341
344
348
Глава 2.
РЕЦЕПЦИЯ КАК РАСШИФРОВКА:
«ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ»
Семантика монтажных связей 362
Внешние связи текста 385
488
Оглавление
Глава 3.
ПОЭТИКА НЕОДНОРОДНОГО ТЕКСТА:
«ОБЛОМОК ИМПЕРИИ»
Сюжет 395
Возвращение памяти 399
«Немецкий» эпизод 414
«Русский» эпизод 417
«Хозяин кто?» 419
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Анализ надписей в фильме П. Чардынина
«Молчи, грусть, молчи...» 424
Приложение 2. Анализ надписей-ремарок в фильме «Приклю-
чения знаменитого начальника Петроградской сыскной
полиции И. Д. Путилина» (1915) 426
Приложение 3. Список надписей в русской мелодраме «Кро-
вавая слава» 428
Приложение 4. Монтажная запись первого варианта фильма
С. Эйзенштейна «Октябрь» 430
Приложение 5. «Хозяин кто?» Покадровая запись эпизода из
фильма Ф. Эрмлера «Обломок империи» 434
Примечания 436
Список литературы 453
Именной указатель 469
Указатель фильмов 476
Summary 479
Contents
Introduction:
Historical Poetics and the Historical Reception of Cinema 7
Abbreviations 11
Parti
EXTRATEXTUAL STRUCTURES:
THE RECEPTION OF PERFORMANCE
Chapter 1.
EARLY CINEMA ARCHITECTURE AND THE EVOLUTION
OF CINEMA'S SOCIAL CONTEXT
The Internal Space of Cinema Theatres, 1904—8 17
The Early Cinema Auditorium as Object of Cultural Reception 19
The Period of the 'Long Hall’ 22
The Evolution of Names 24
Luxury Cinema in City Centres. The Beginning of the 'Square
Period' 28
'The Centre and the Periphery' in the Social Topography of
Cinema 32
The Concept of the ’Luxury City Centre Cinema' 34
The Social Topography of the Cinema Auditorium 40
The Image of the Cinema Public 47
'Going to the Cinema': The Everyday Behaviour of the Cinema
Audience 50
The Evolution of the Foyer 58
Chapter 2.
THE PROJECTION REGIME AS A FACTOR IN AESTHETIC
PERCEPTION
The Image of the Projectionist 09
Projection Speed 72
Tempos reversus 78
Chapter 3.
THE ACOUSTICS OF FILM PERFORMANCE
Music in the Auditorium 91
Music as a Motive Force for Reception 93
Correspondence/Non-Correspondence as Categories for Receptive
Evaluation 94
Film in the Absence of Music 98
'Mechanism’ v. 'Organism* 100
The Blind Piano Player 101
Music for Cinema. Ready-Made Music 103
The Vocabulary of the Compiler and the Thematic Universe of
Early Cinema 104
490
Contents
Music for Film 106
Film to Music 107
Improvisation 110
Compilation 113
Rhythm 115
Sound Effects 118
The Reception of Mechanical Sound 121
Chapter 4.
THE RECEPTION OF INFORMATIONAL DISTURBANCES
Optical Disturbances 124
Flickering, Flashing, Twinkling, Jumping 127
Breaks in Film 129
Acoustical Disturbances. 'Living Illustration* 133
Projector Sound 138
The 'Metronome of World Time' 148
Part П
INTRATEXTUAL CONNECTIONS:
THE RECEPTION OF FILM LANGUAGE
Chapter 1.
THE DECEPTIVE BOUNDARIES OF THE TEXT
Performance v. Film 154
Film v. Shot 160
Chapter 2.
THE RECEPTION OF MOVING SPACE
Anna Karenina and The Arrival of a Train at La Ciotat Station 165
The Perception of Space 169
The Reception of Space 174
Receptive Literarisation 178
The Arrival a Train as Object of Cultural Reception 180
Chapter 3.
THE FRONT BOUNDARY OF THE TEXT
Stage-Screen Hybrids 186
Movement Towards* and the Semantics of Threat 190
The Screen as Boundary 196
Two Observations on a Character's Look at the Camera 200
, “ Chapter 4.
CULTURAL RECEPTION. THE FILM AS OBJECT
OF INTRASEMIOTIC TRANSLATION
The Concept of Cultural Reception 202
The Theatrical Reception of Trick Film (The Blue Bird at the
Moscow Art Theatre) 204
The Literary Reception of Trick Film (Andrei Bely's Petersburg) 216
Petersburg: The Novel and the Script 230
491
Content*
Chapter 5.
THE RECEPTION OF CINEMA NARRATION
The Presumption of Coherence 240
Cinema and the Rules of Textual Coherence 244
Ellipsis 245
Indicators of Ellipsis 240
Fermata 249
Compositional Imbalance 252
Close-Up 250
Changes in Shot Scale Motivated by the Character’s Movement 261
Dolly-in 264
Panning 267
Chapter 6.
THE RECEPTIVE LEVEL OF THE FILM. IMAGE AND TITLE
AS COMPONENTS OF INTRASEMIOTIC TRANSLATION
Reception and Verbalisation: The Barker 274
The Mythology of 'Pure Cinema* 278
Two Regimes for the Perception of Silent Film 285
The Semantic Texture of the Title 287
Handwriting 290
Semiotic Parallelism 294
From Narrative Titles to Dialogue Titles 299
Who is Speaking? 308
Title and Voice 314
Part HI
TEXTUAL ANALYSIS: THE RECEPTIVE STANCE
OF THE FILM
Chapter 1.
INTELLECTUAL MONTAGE: ’OCTOBER’
The 'Receptive Text* and Intellectual Cinema 324
Method of Analysis 331
The Empty Costumes 333
The Tsaritsa’s Bedchamber 338
The Egg: Evolution of a Symbol 341
Head — Bomb — Egg ' 344
Eisenstein and 'I^ftis^Vulgarity* 348
The
Chapter 2.
RECEPTION AS DECIPHERING:
’THE MAN WITH THE MOVIE-CAM
Semantics of the Montage Connections
Text's External Connections
357
362
385
The
Plot
Chapter 3.
THE POETICS OF A HETEROGENOUS TEXT
'A FRAGMENT OF EMPIRE’
392
395
492
Contents
The Return of Memory 399
The 'German' Sequence 414
The 'Russian' Sequence 417
’Who’s the Boss?’ 419
Appendices 424
I. An Analysis of the Titles in Chardynin's Sadness, Be Still 424
II. An Analysis of the Titles in The Adventures of I.D. Putilin,
the famous Chief of the Petrograd CID (1915) 426
III. List of Titles in the Russian Melodrama Bloody Glory 428
IV. Montage List for the First Version of Eisenstein’s October 430
V. 'Who’s the Boss?’ Shotlist of a Scene in Ermler’s A Fragment
of Empire 434
Notes 436
Bibliography 453
Index of Proper Names 469
Index of Hirns 476
Summary 479
Цивьян Ю. Г.
Ц 585 Историческая рецепция кино: Кинематограф в Рос-
сии, 1896—1930. — Рига: Зинатне, 1991. — 492 с.:
ил.
ISBN 5-7966-0310-8.
В монографии изучается малоисследованная эпоха становления и наиболее
интенсивного развития языка и поэтики кино. Работа носит документально*
исторический характер — в ней использованы материалы фильмохранилищ и
архивов Риги, Москвы и Ленинграда. Массив исторических данных подверга-
ется осмыслению с точки зрения меняющихся условий восприятия фильма.
Обобщающей характеристике подвергаются и внутренние закономерности эво-
люции кино в ряду других видов искусства. В книге есть главы, посвященные
покадровому анализу фильмов 20-х годов.
Для искусствоведов и филологов, студентов, изучающих киноискусство,
всех интересующихся историей культуры.
4910000000—050
Цм811(11)—91 140“189
85.372 (2)d
Yurt Tsivian
Historical Reception of Cinema
Cinema in Russia, 1896—1930
«Zinatne» Publishers, 1991
226530 Turgeneva Street 19
Riga, Latvia
Юрии Гавриилович Цивьян
Историческая рецепция кино
Кинематограф в России, 1896—1930
Редактор 3. А. Осипова
Художник Г. М. Крутой
Художественный редактор В. В. Ковалев
Технический редактор Г. 3. Слепкова
Корректор А. Д. Тихомирова
ИБ № 2879
Сдано в набор 26.09. 89. Подписано в печать 5.07.90.
Формат 60X90/16. Мелованная бумага. Гарнитура
«Балтика». Высокая печать. 31 физ. печ. ли
31 усл. печ. ли 35,88 уел. кр.-отти 28,9 уч.-изд, л-
Тираж 600 экз. Заказ № 102326. Цена 9 р. 40 к.
Издательство «Зинатне», 226530 ГСП Рига, ул. Тур-
генева, 19. Отпечатано в Рижской Образцовой
типографии, 226004 Рига, Виенибас гатве, 11.