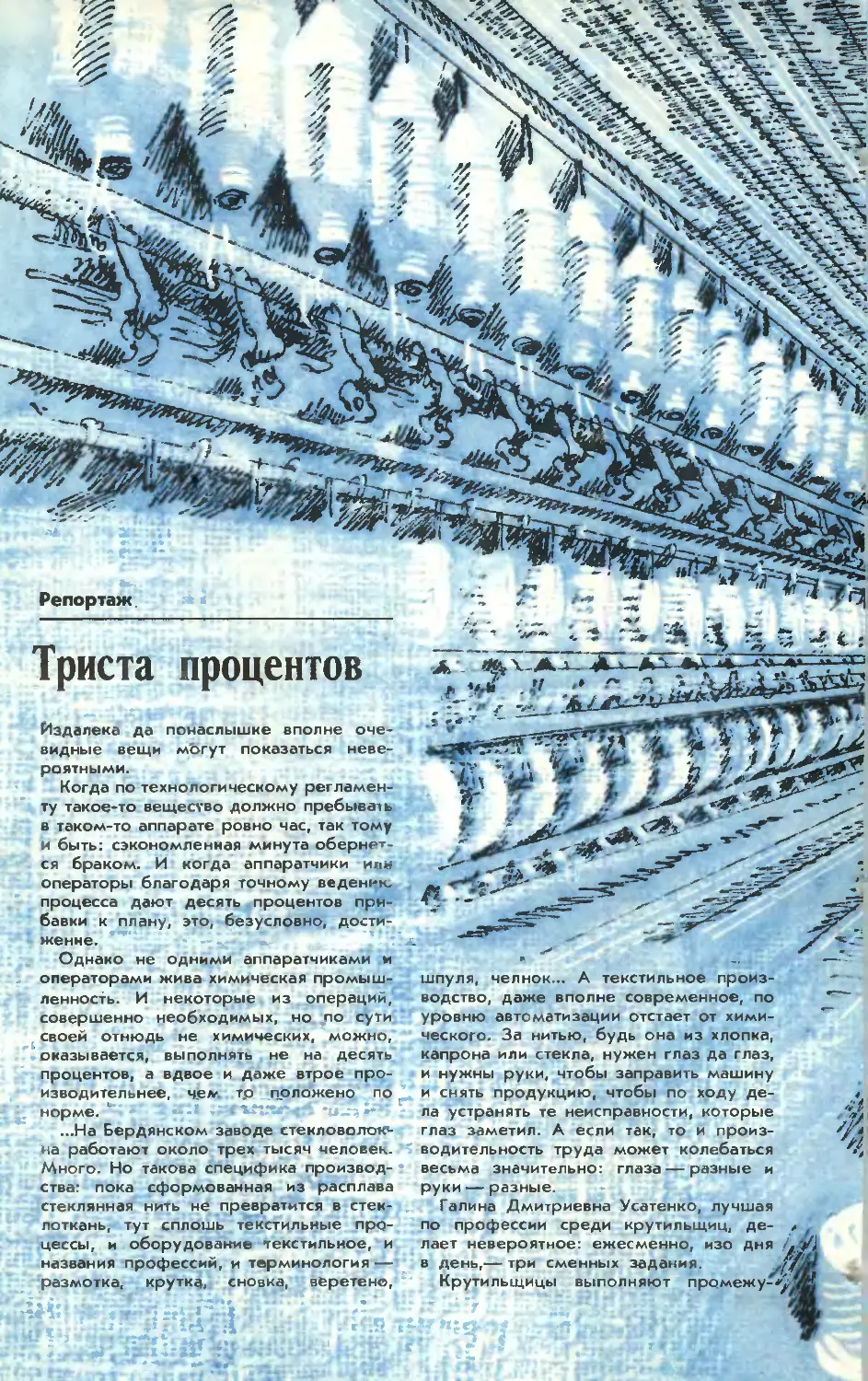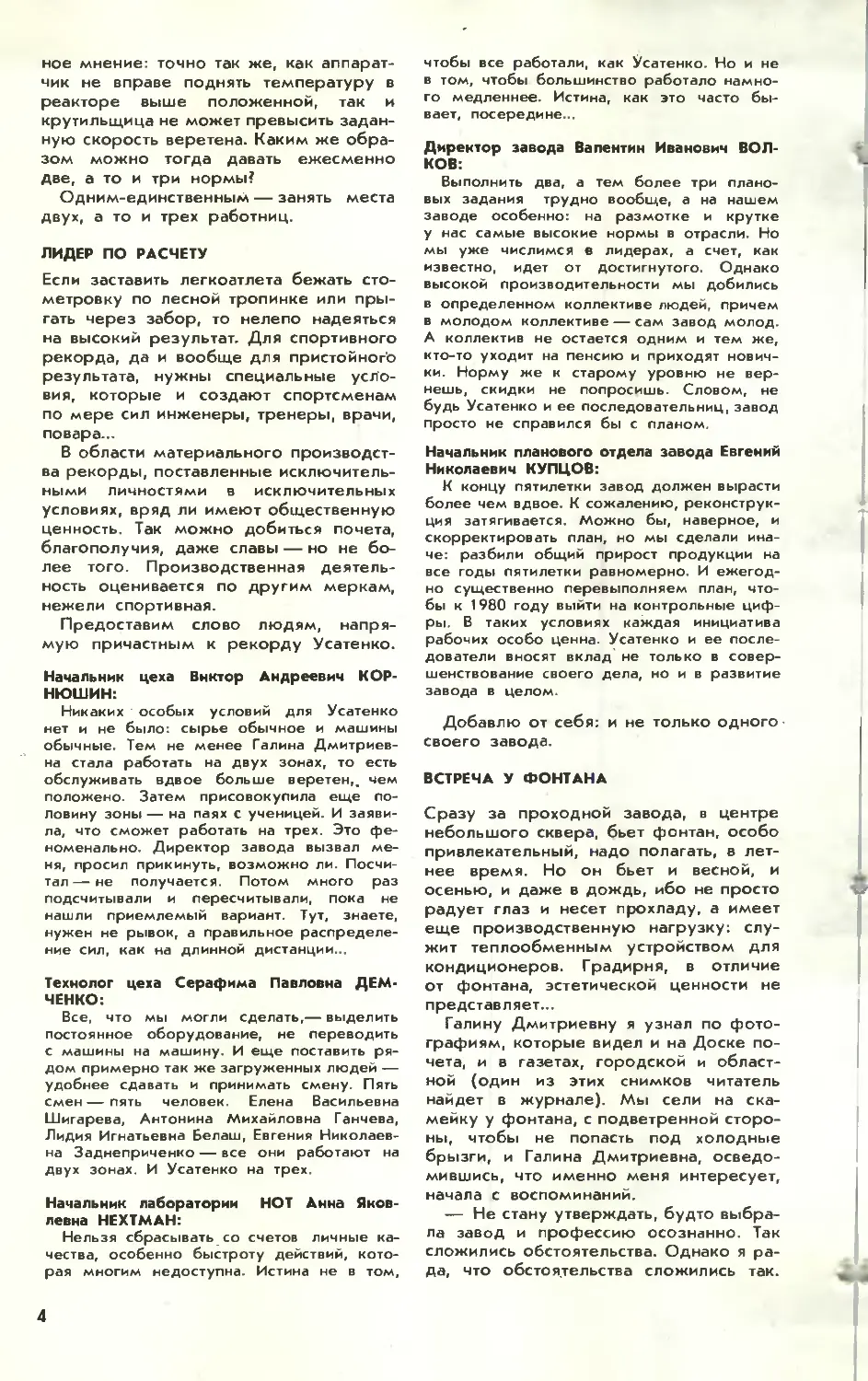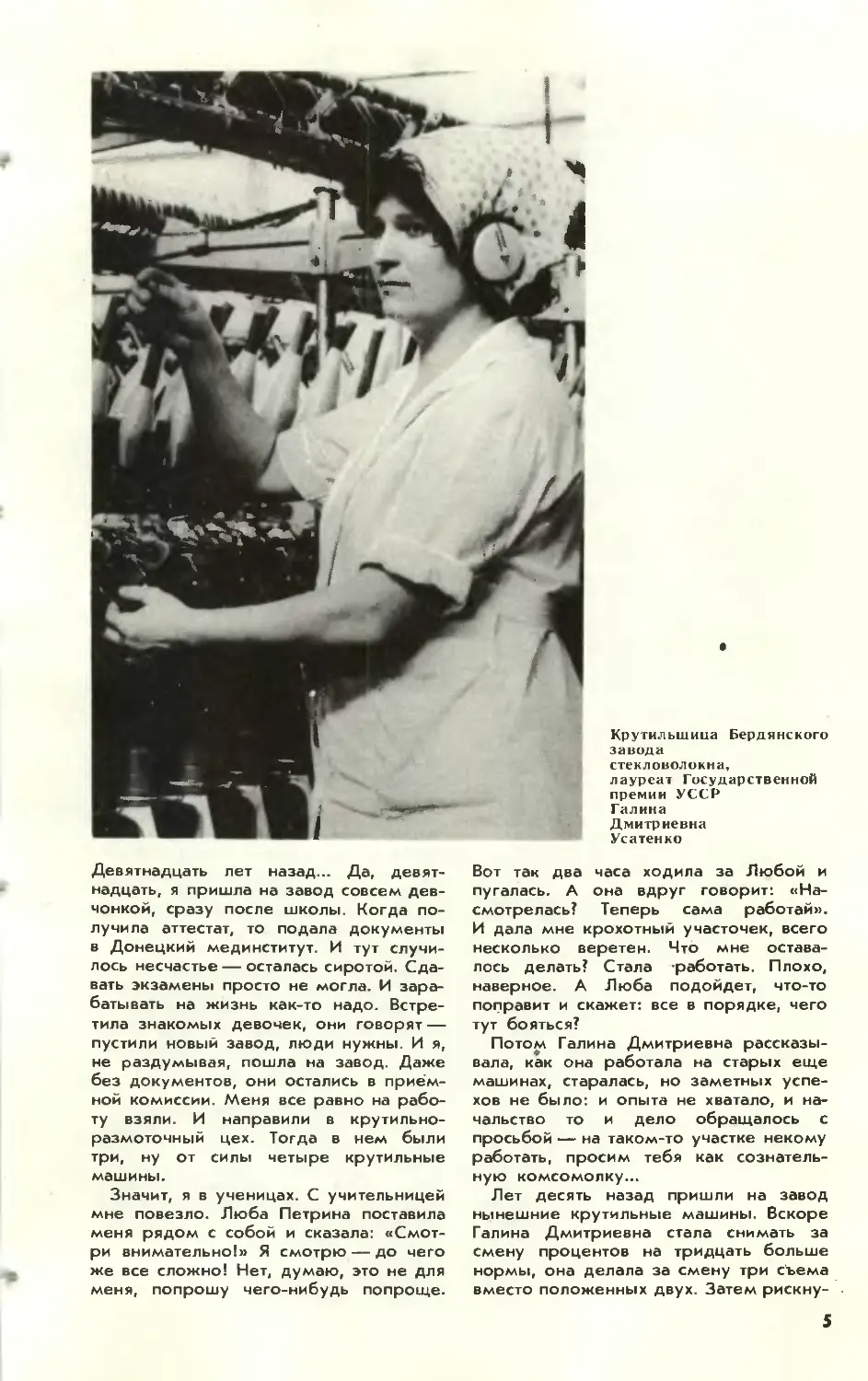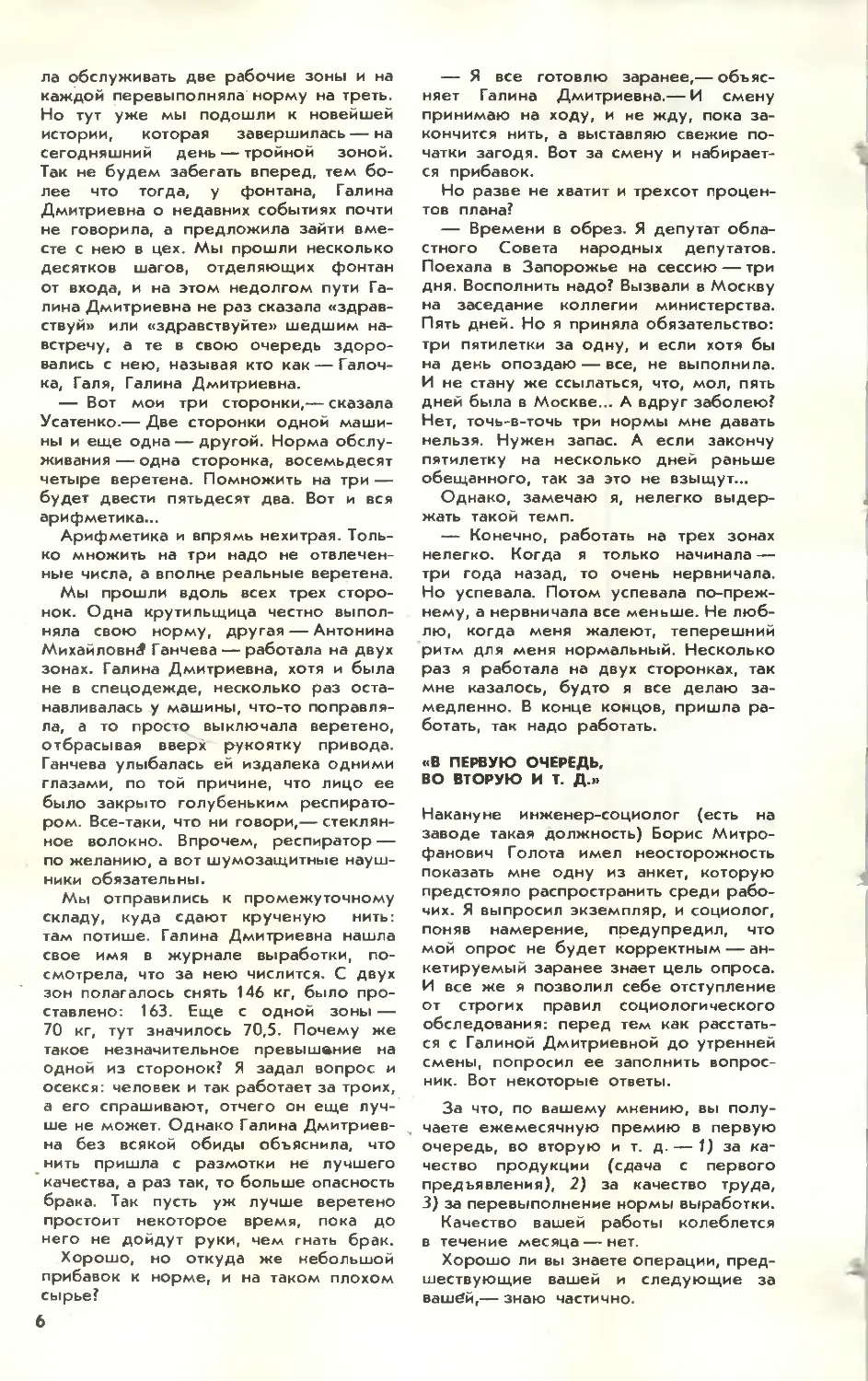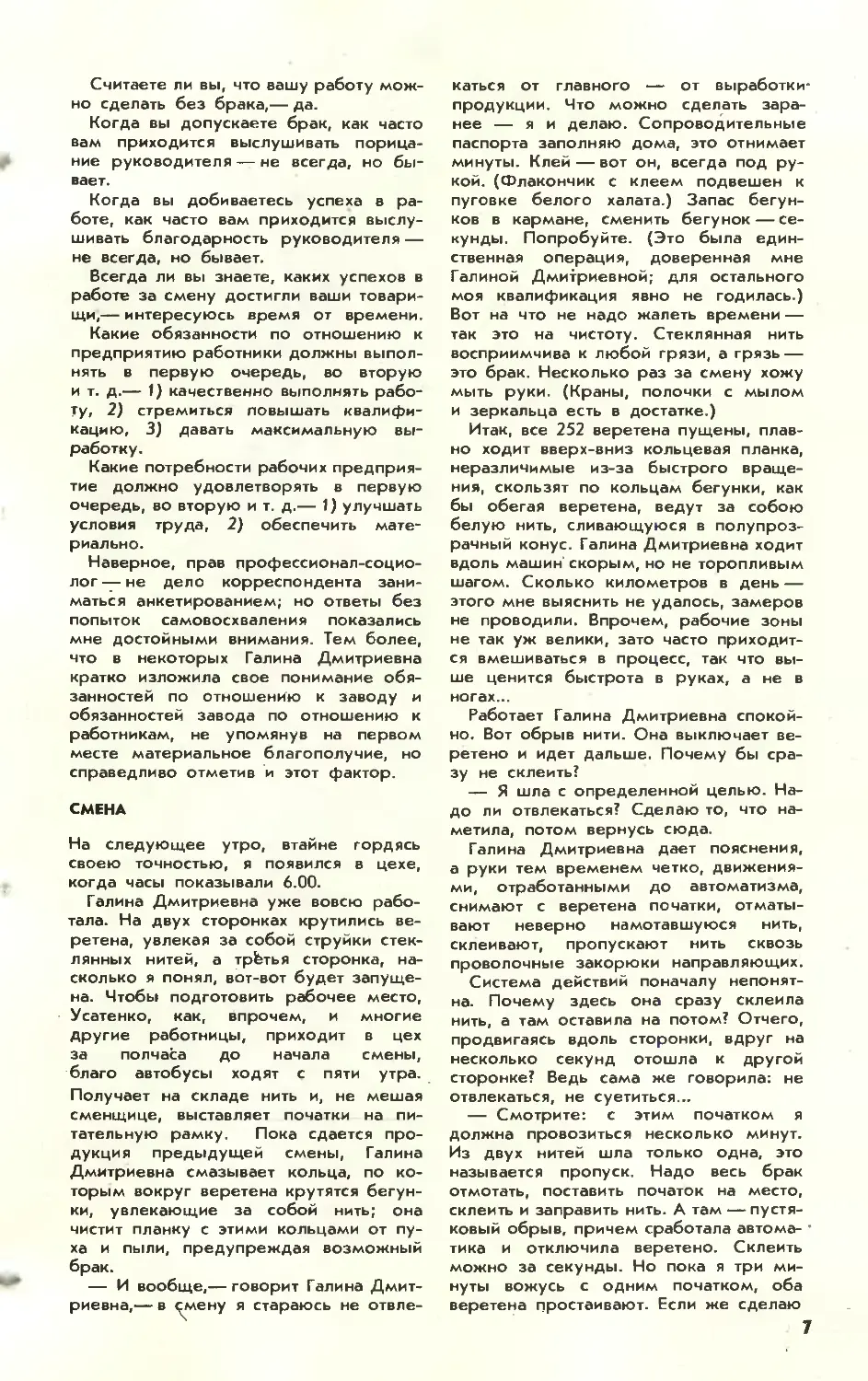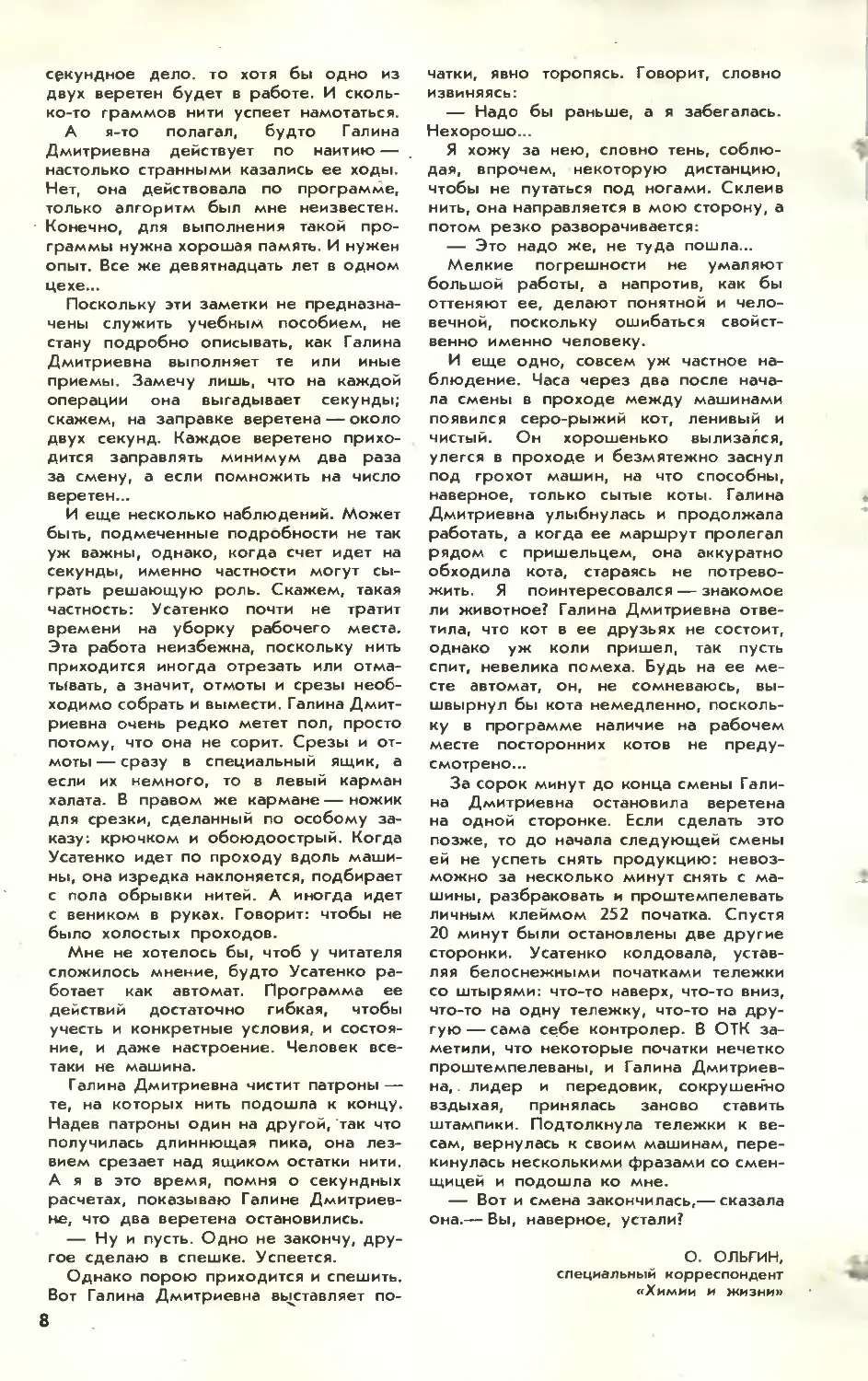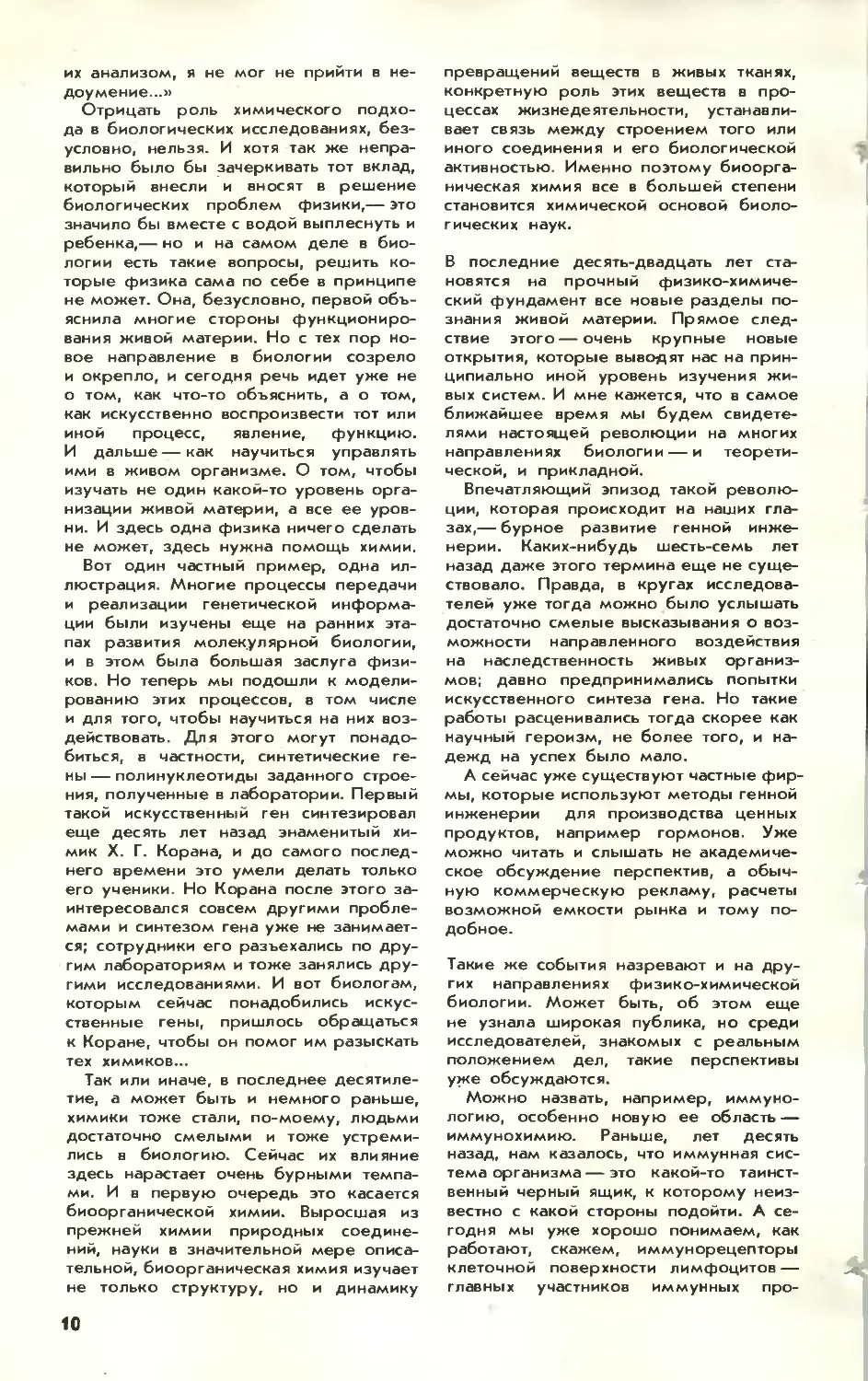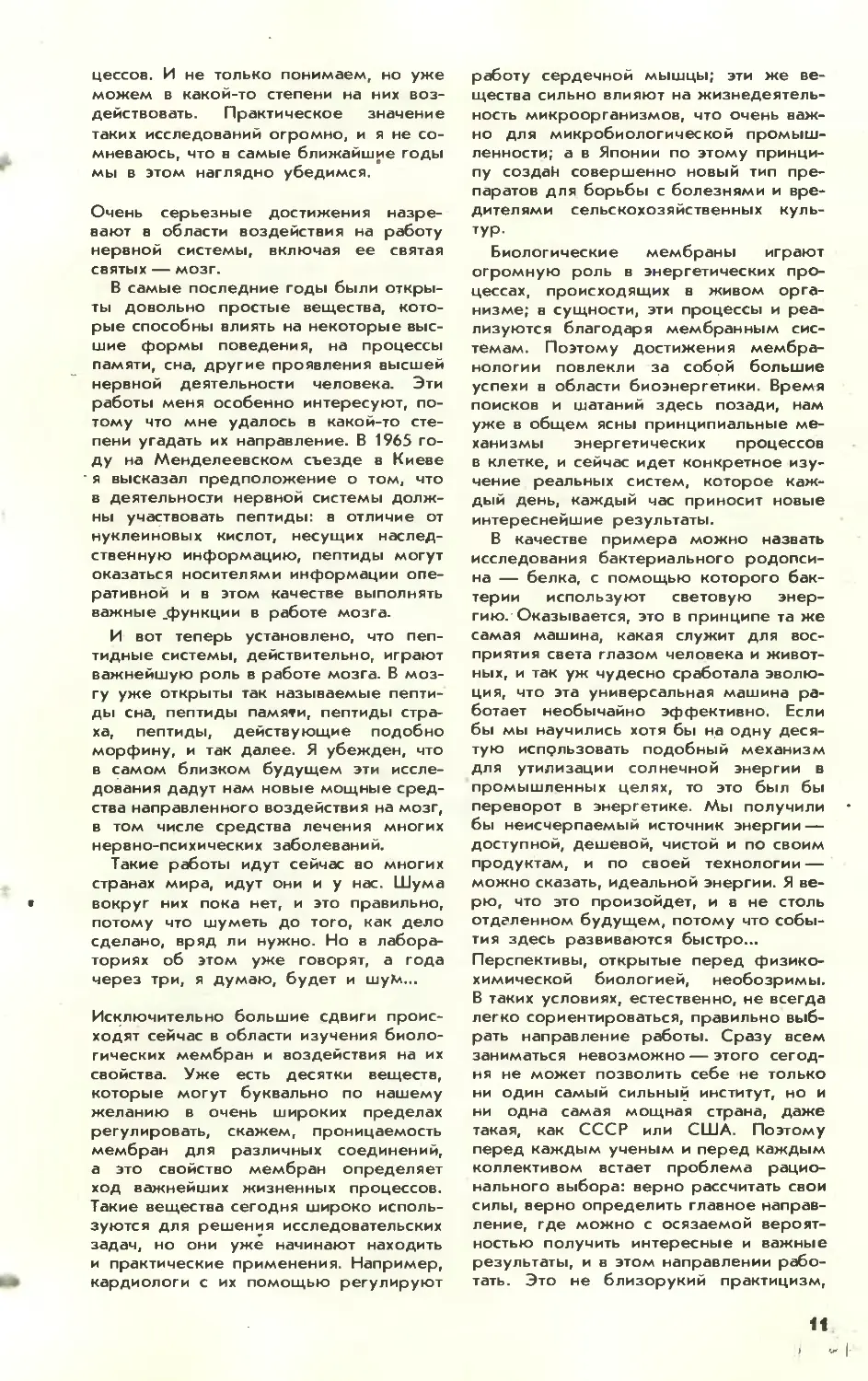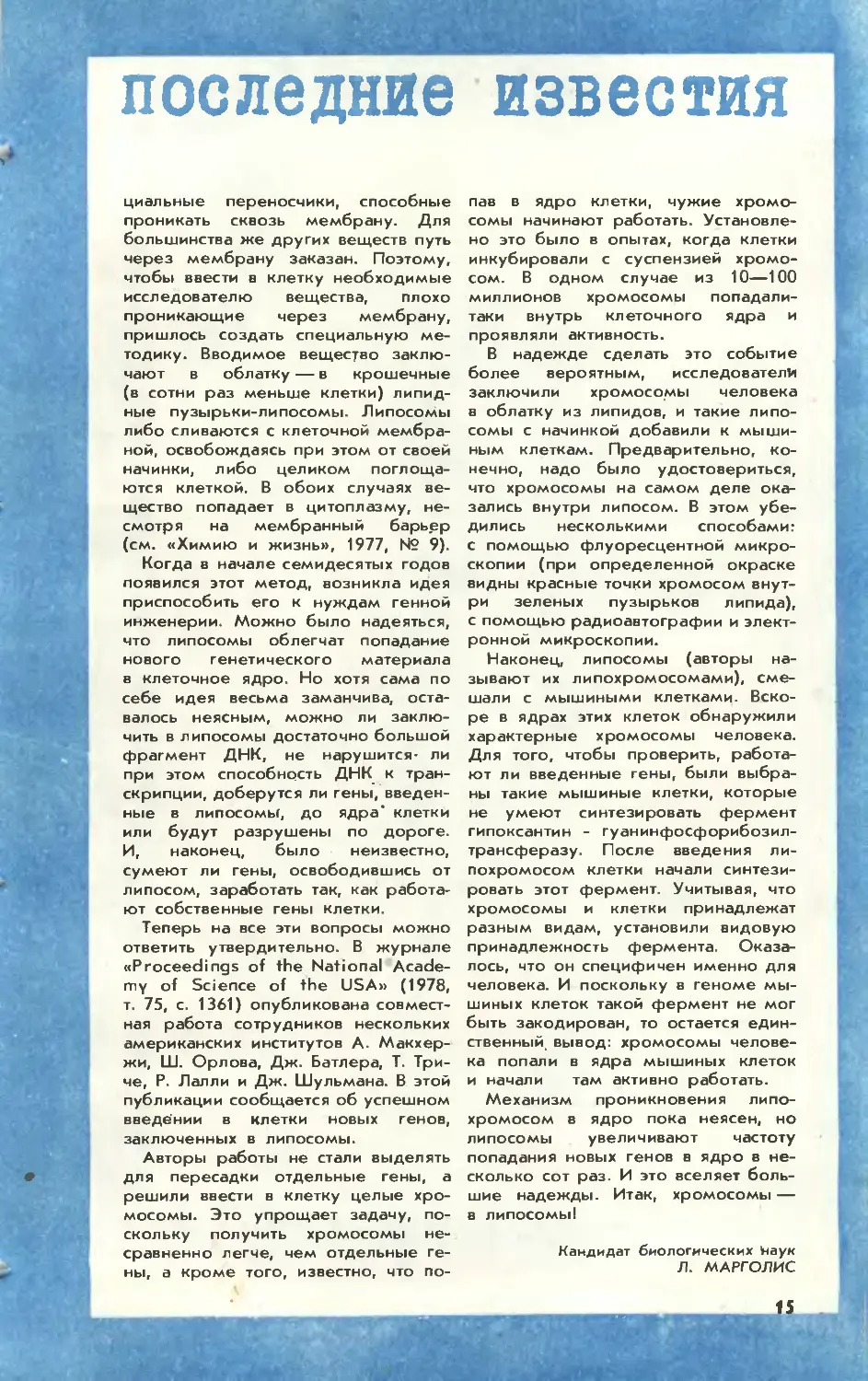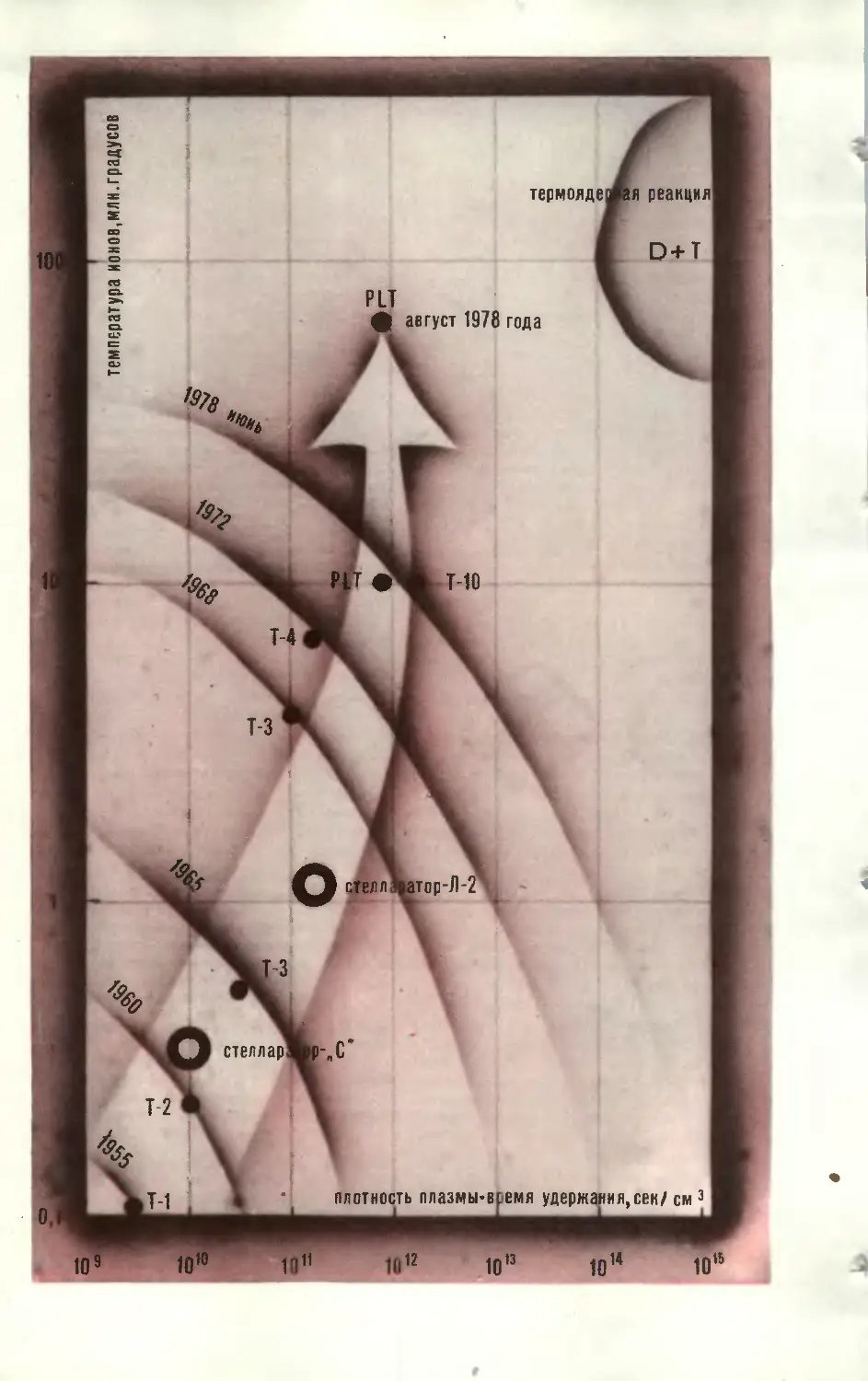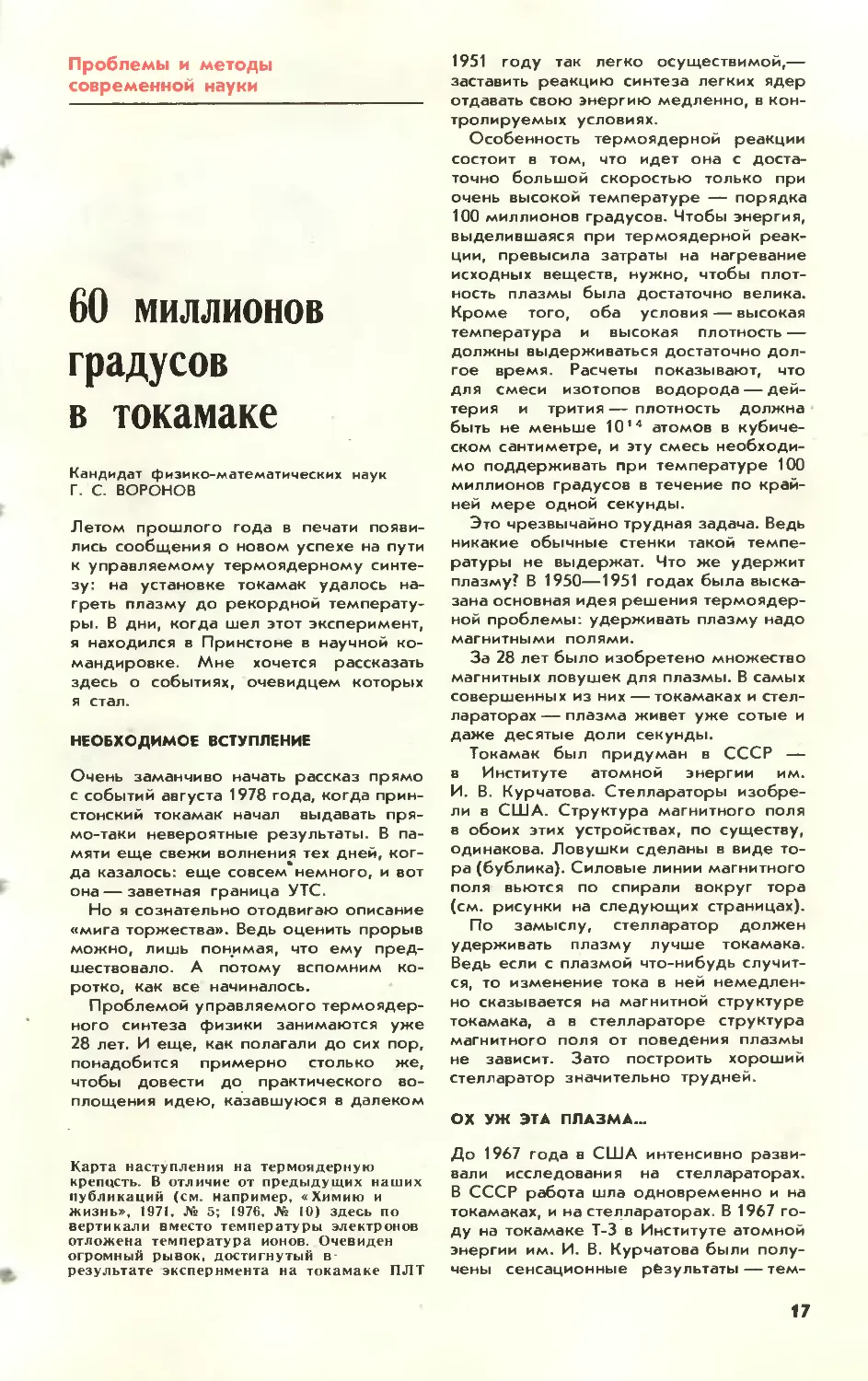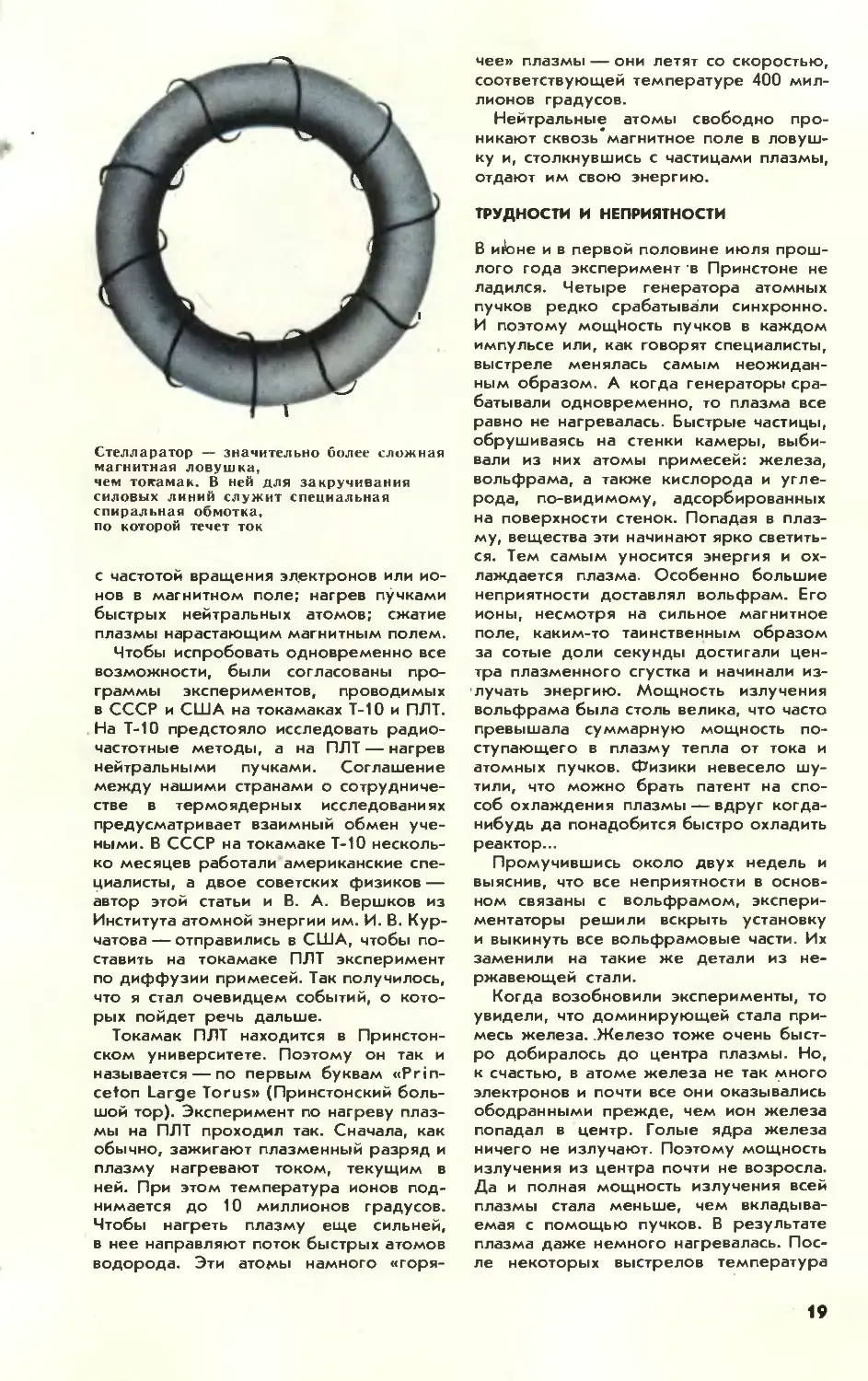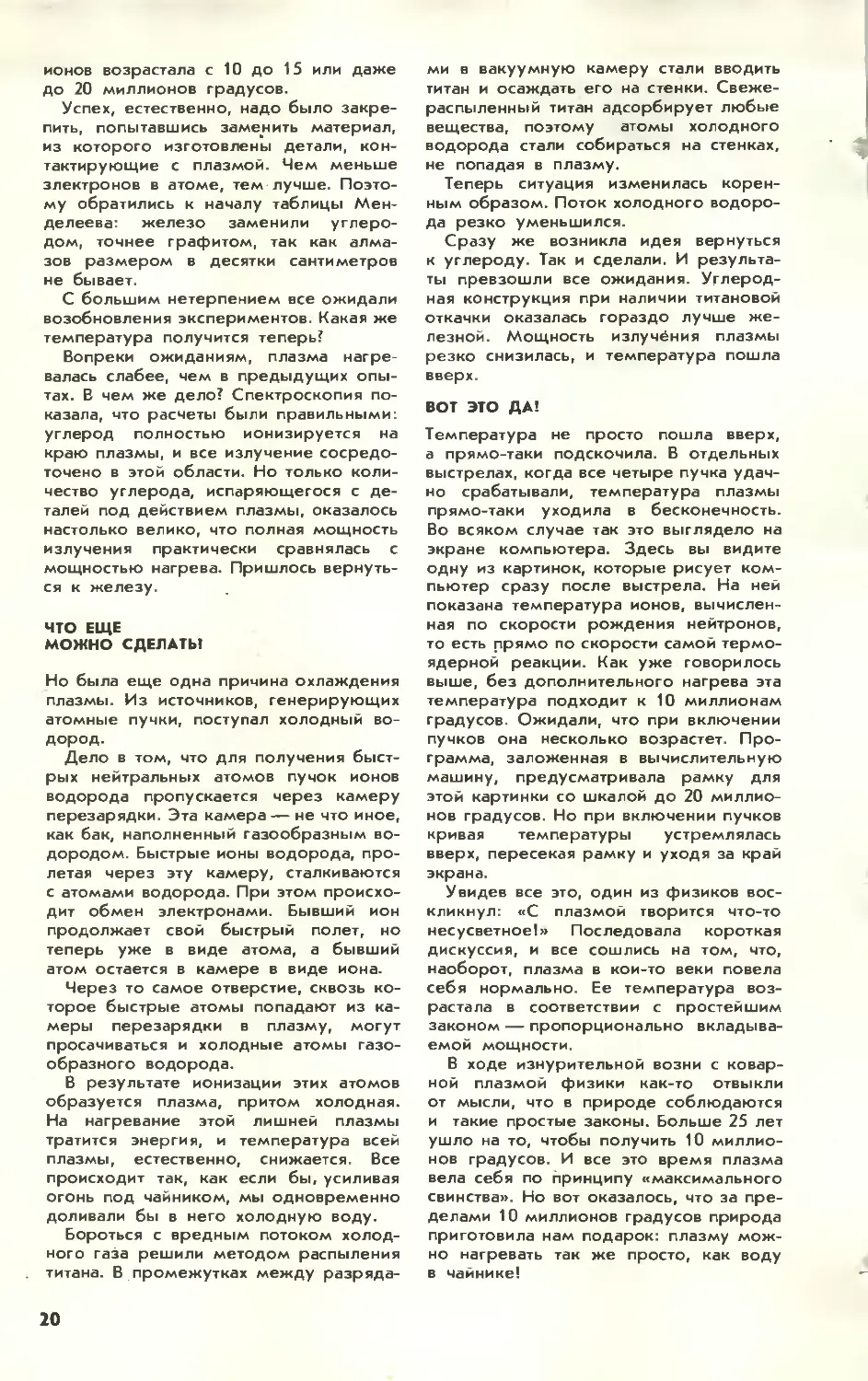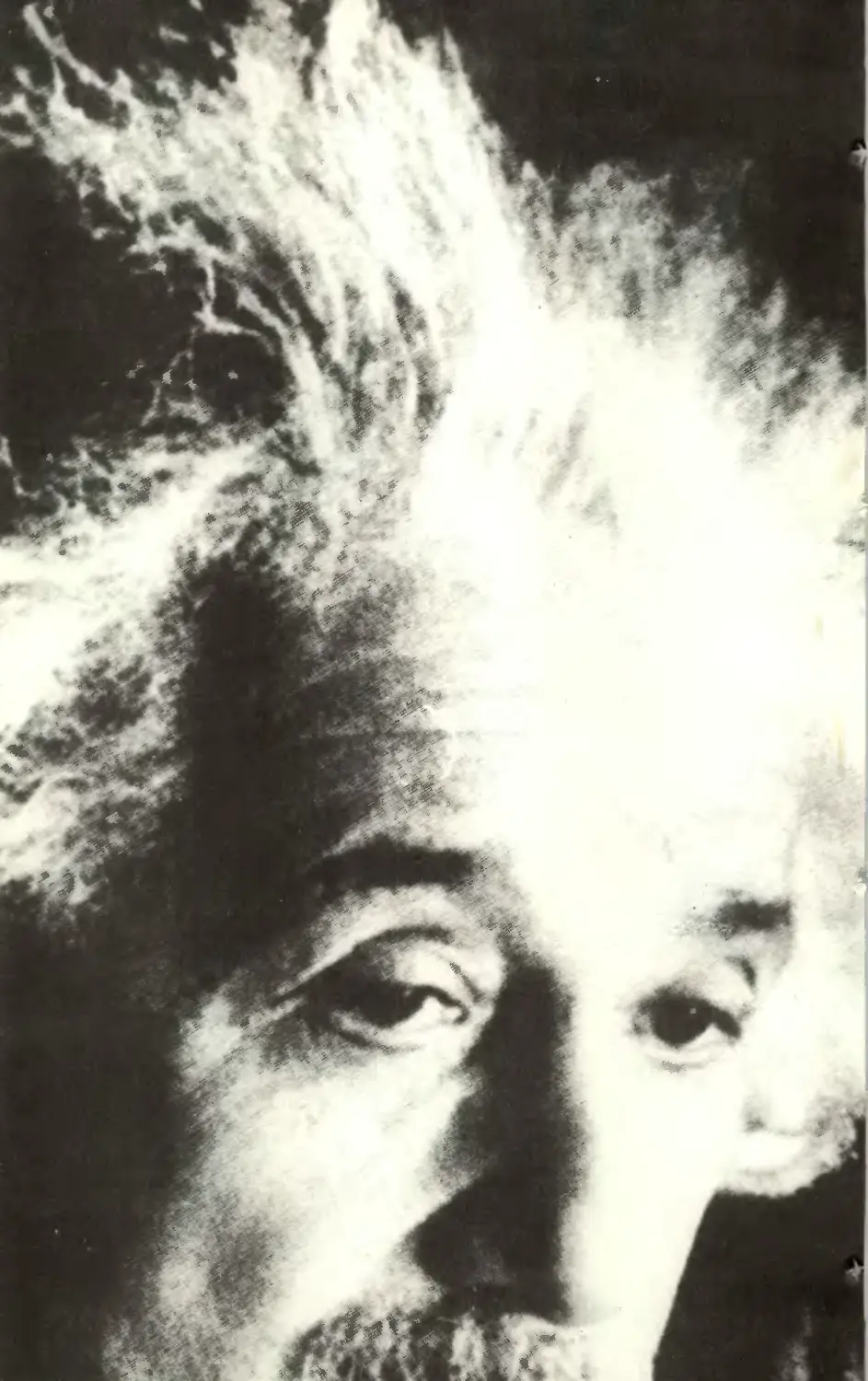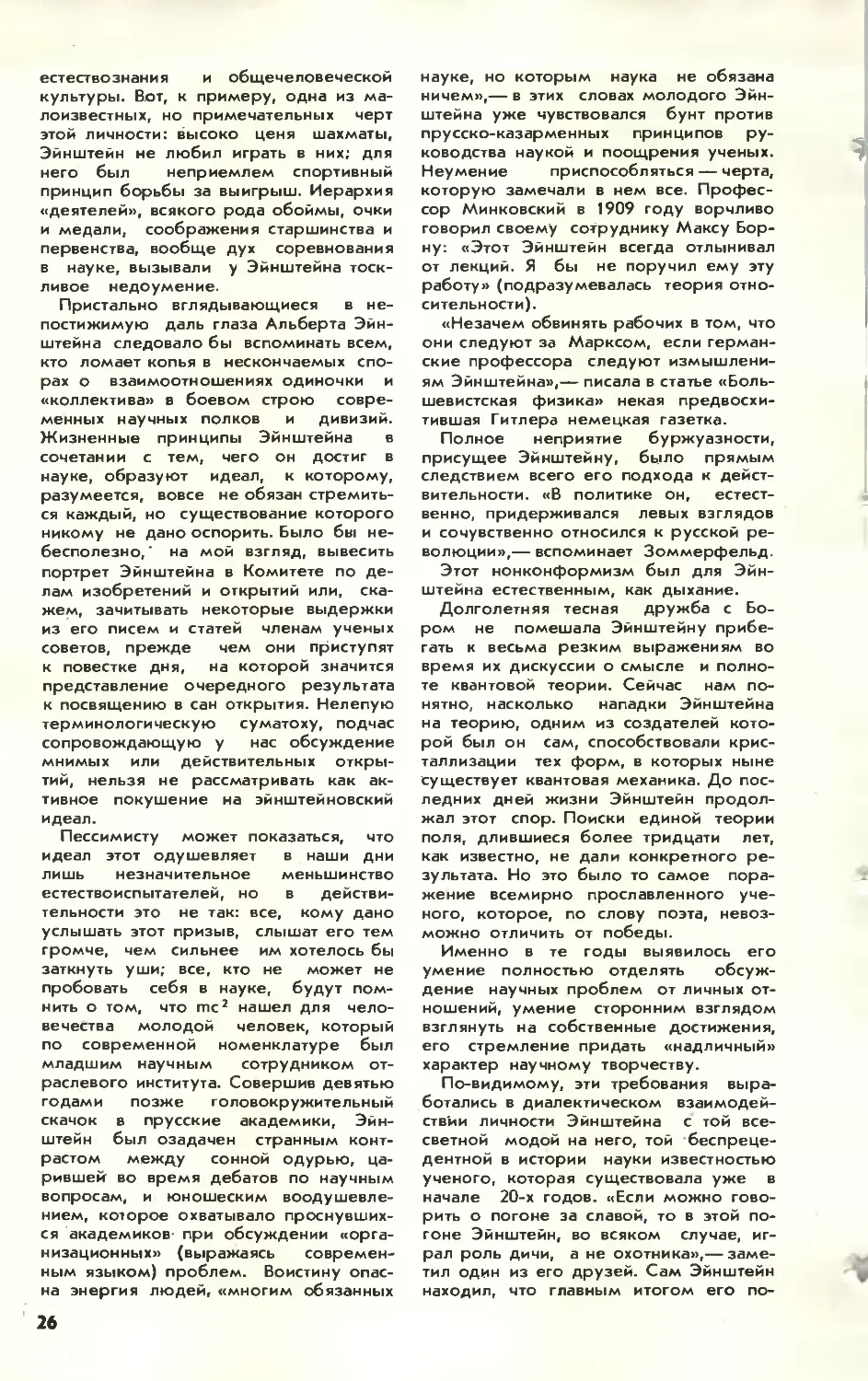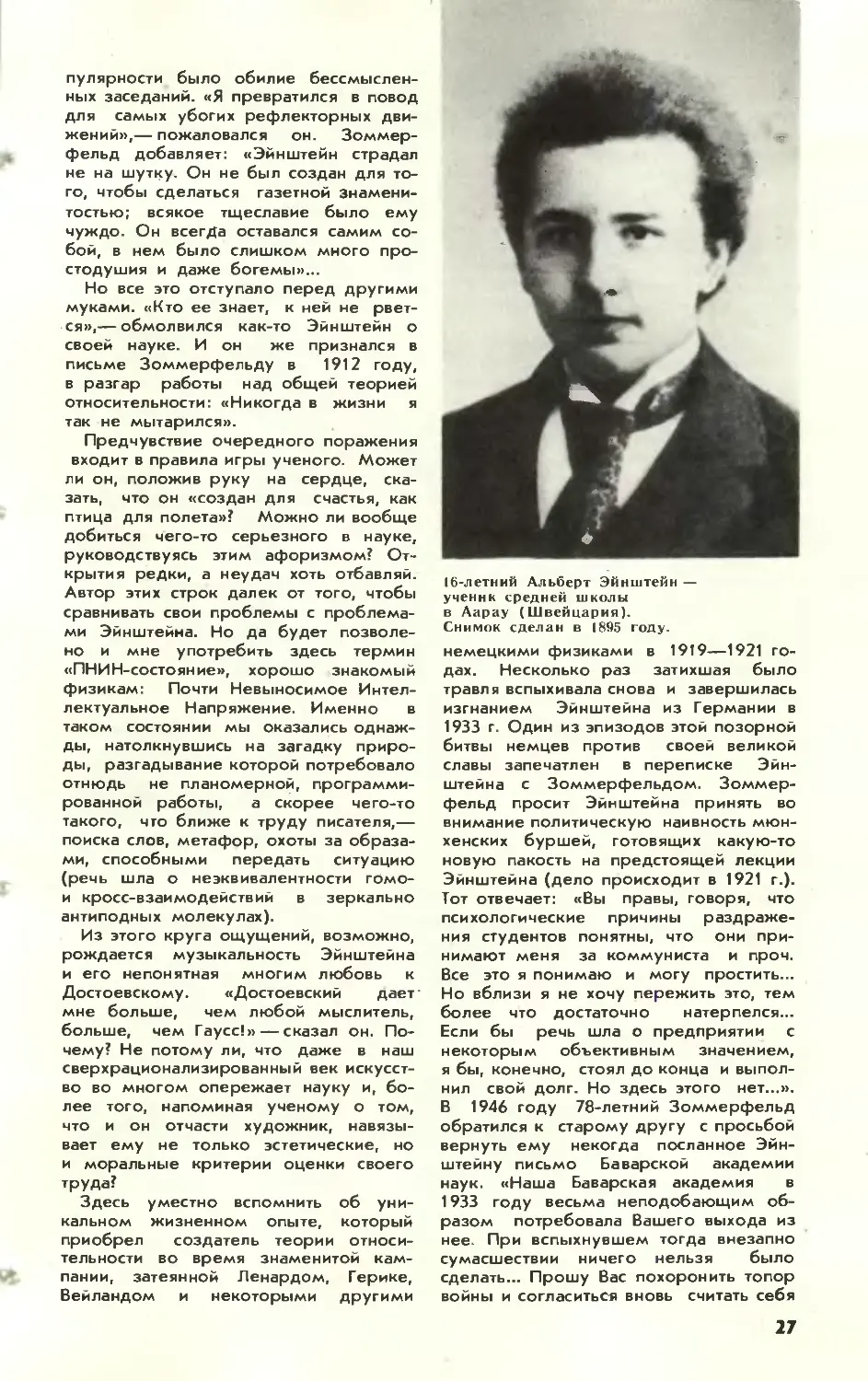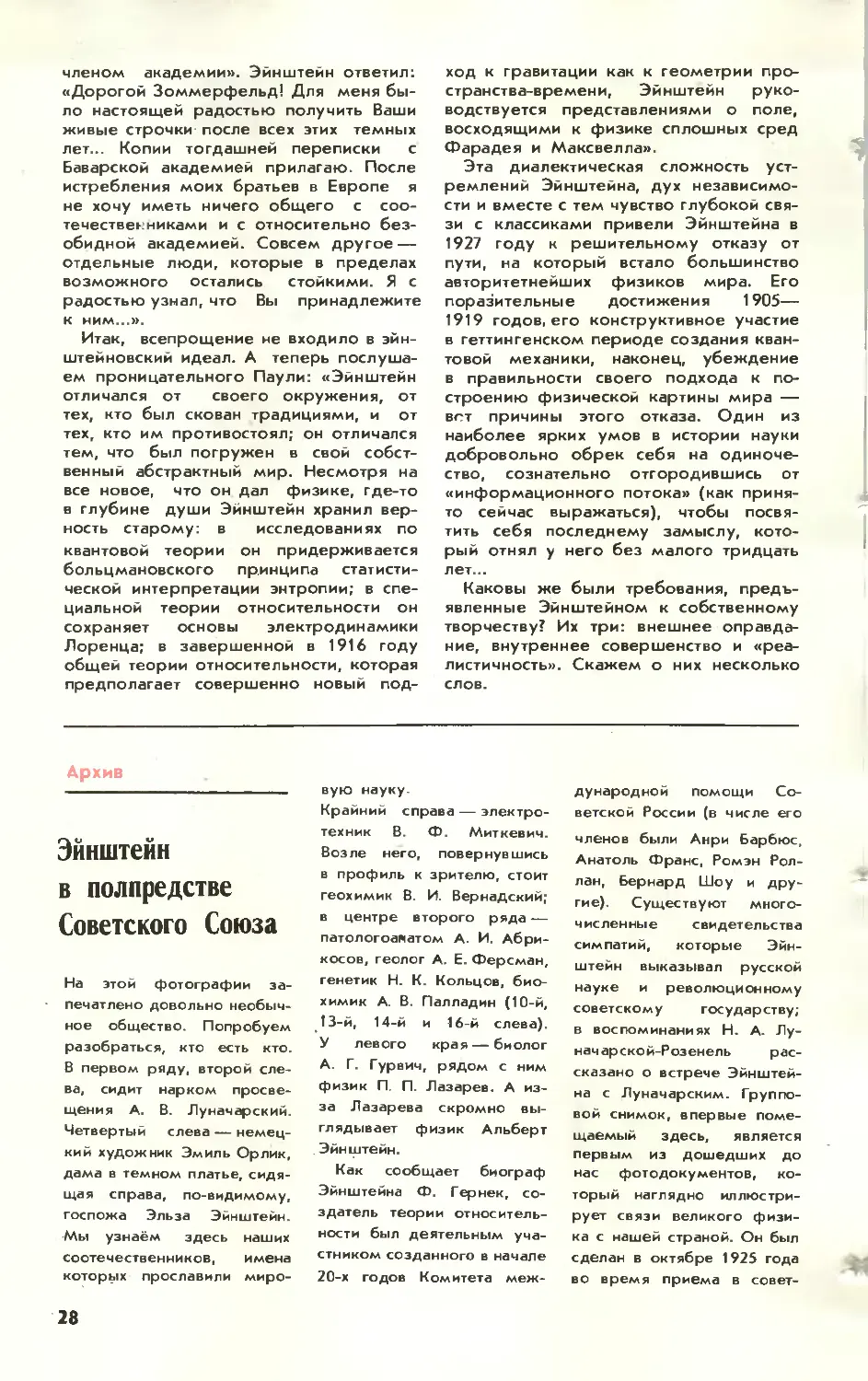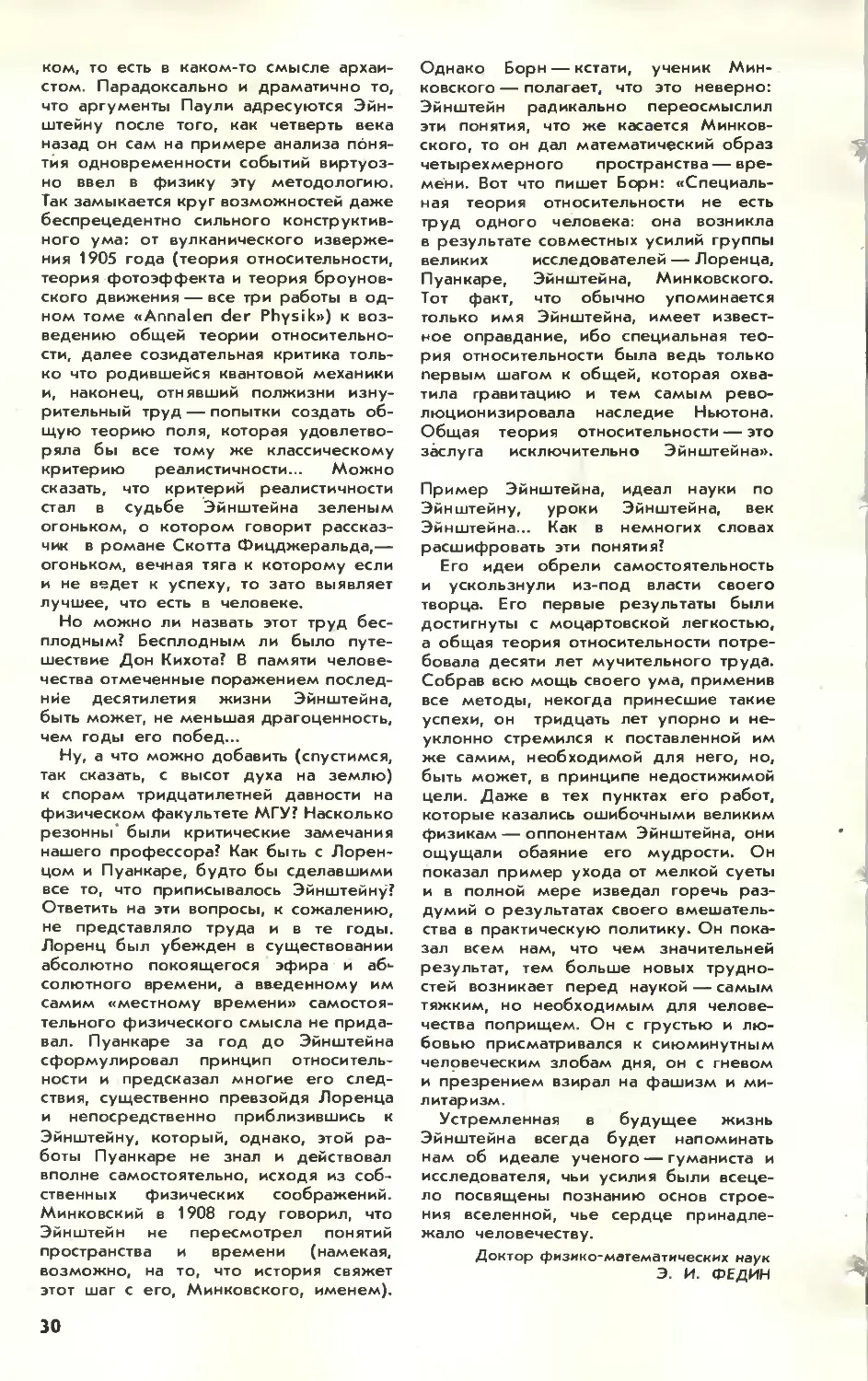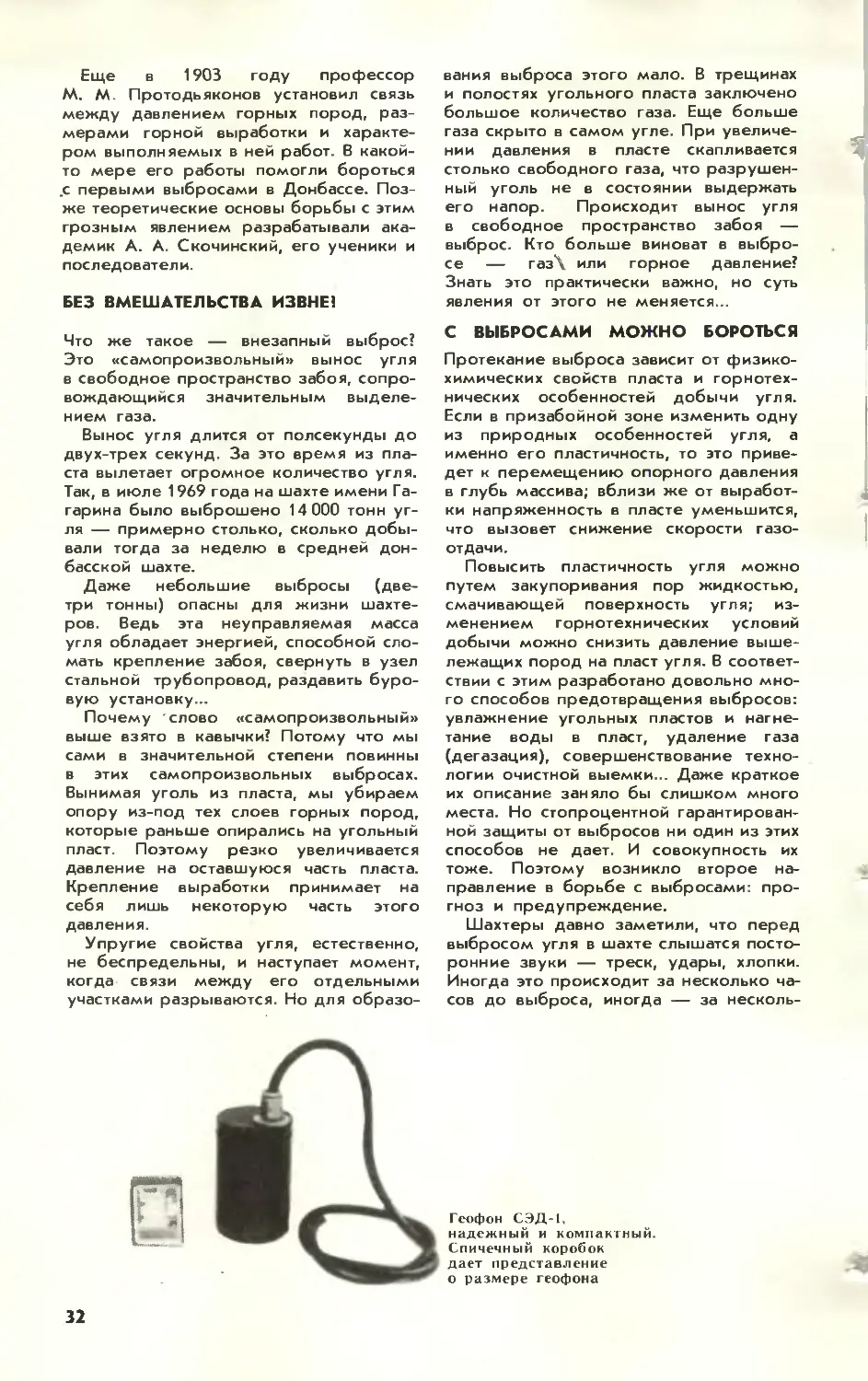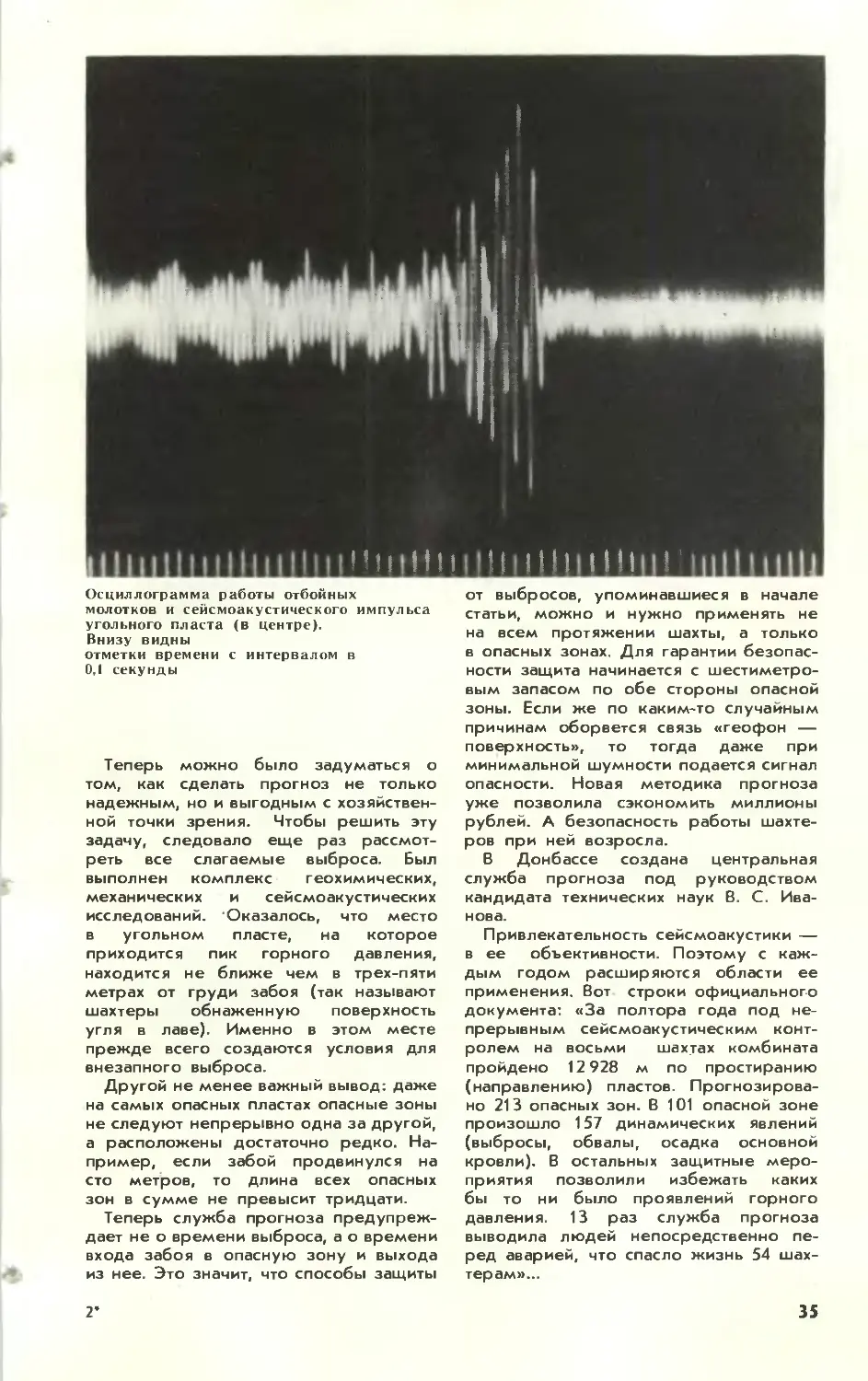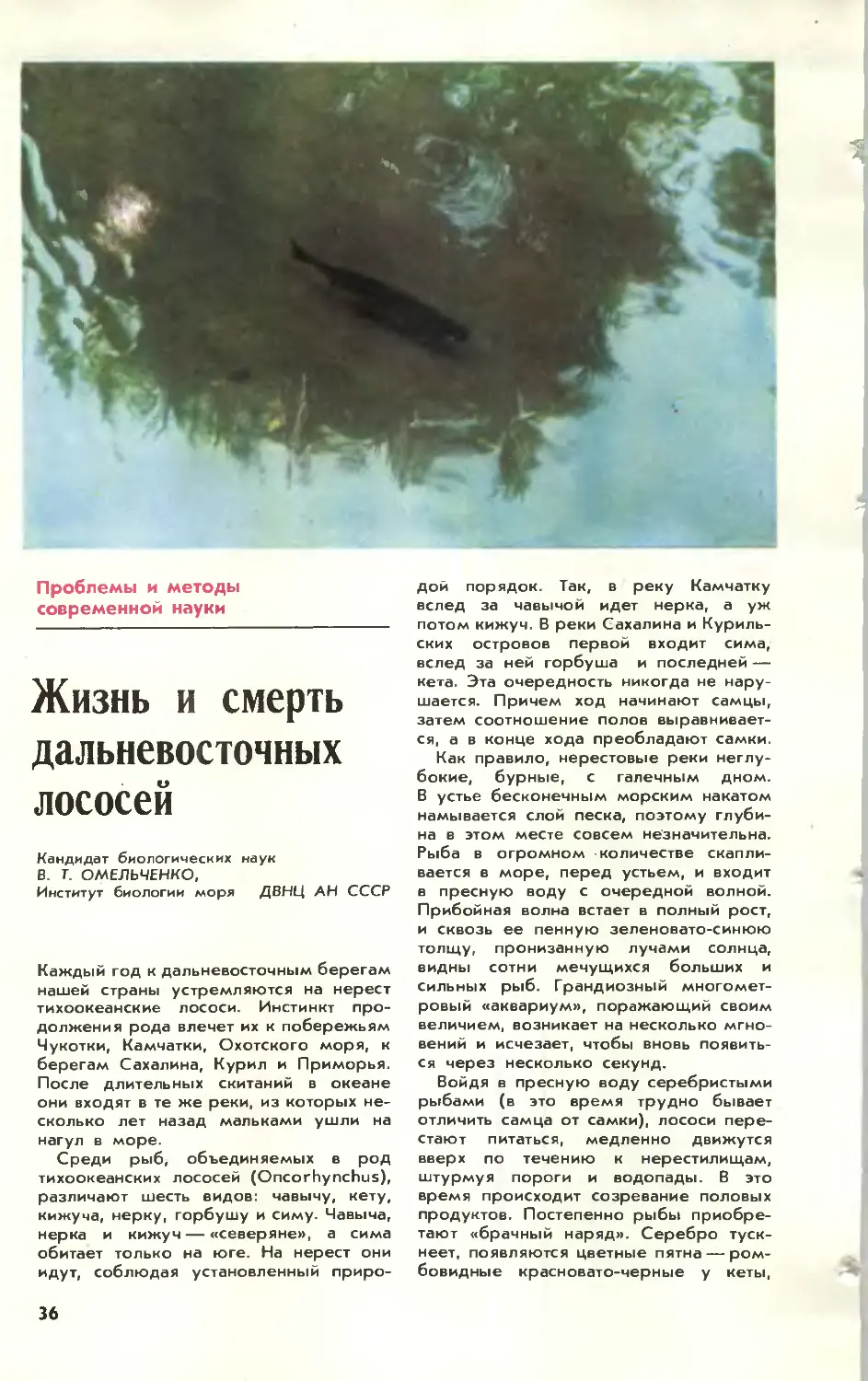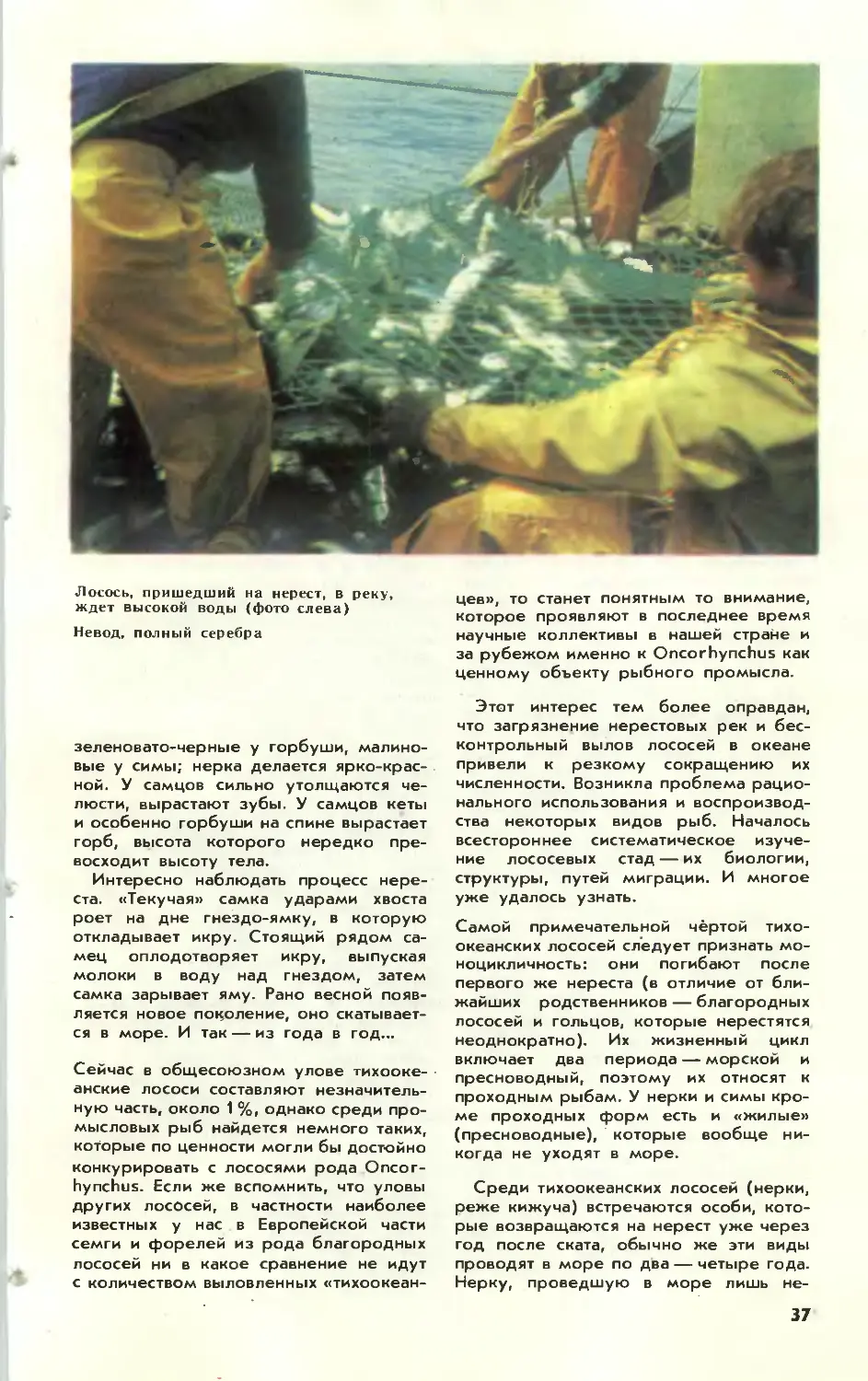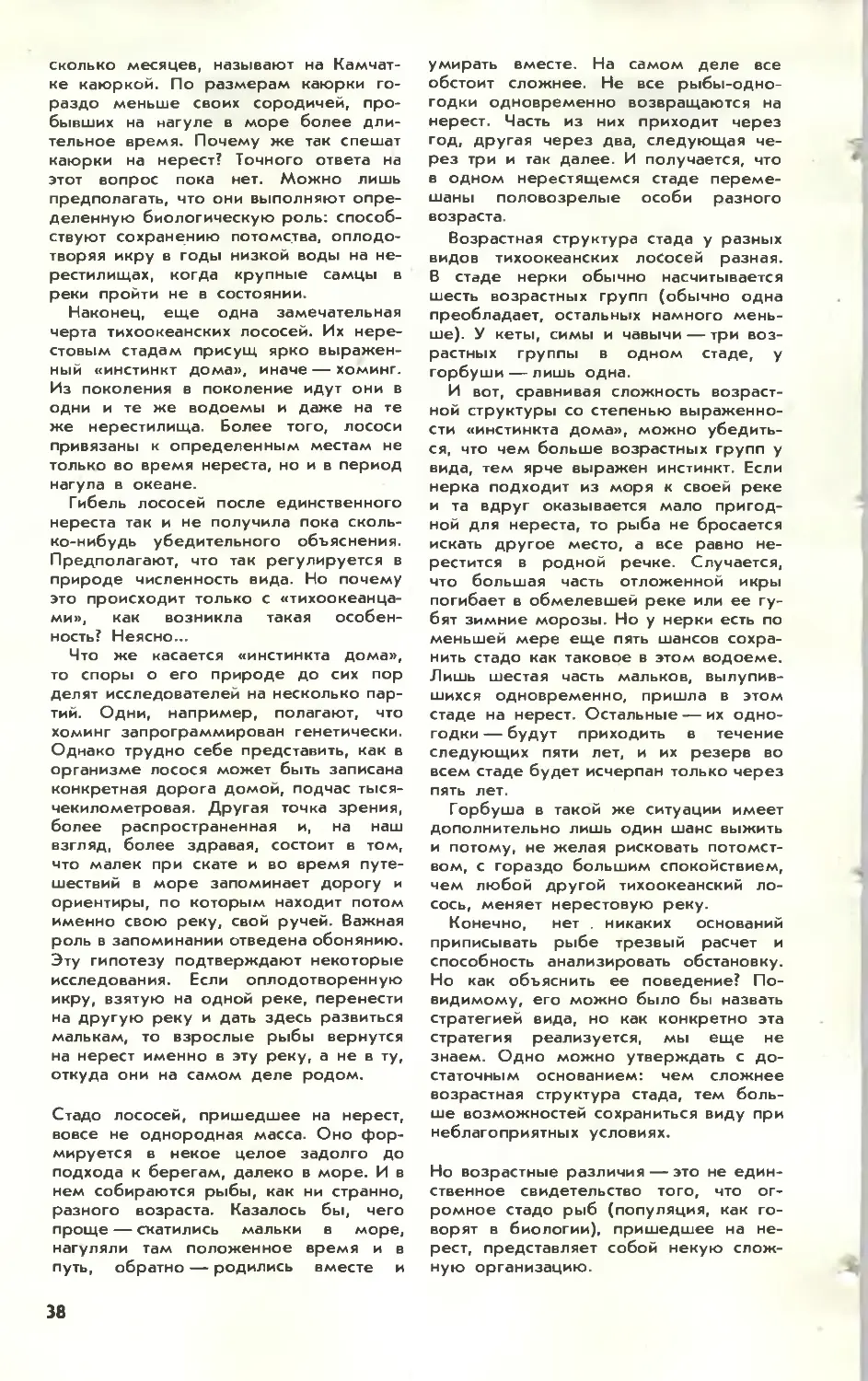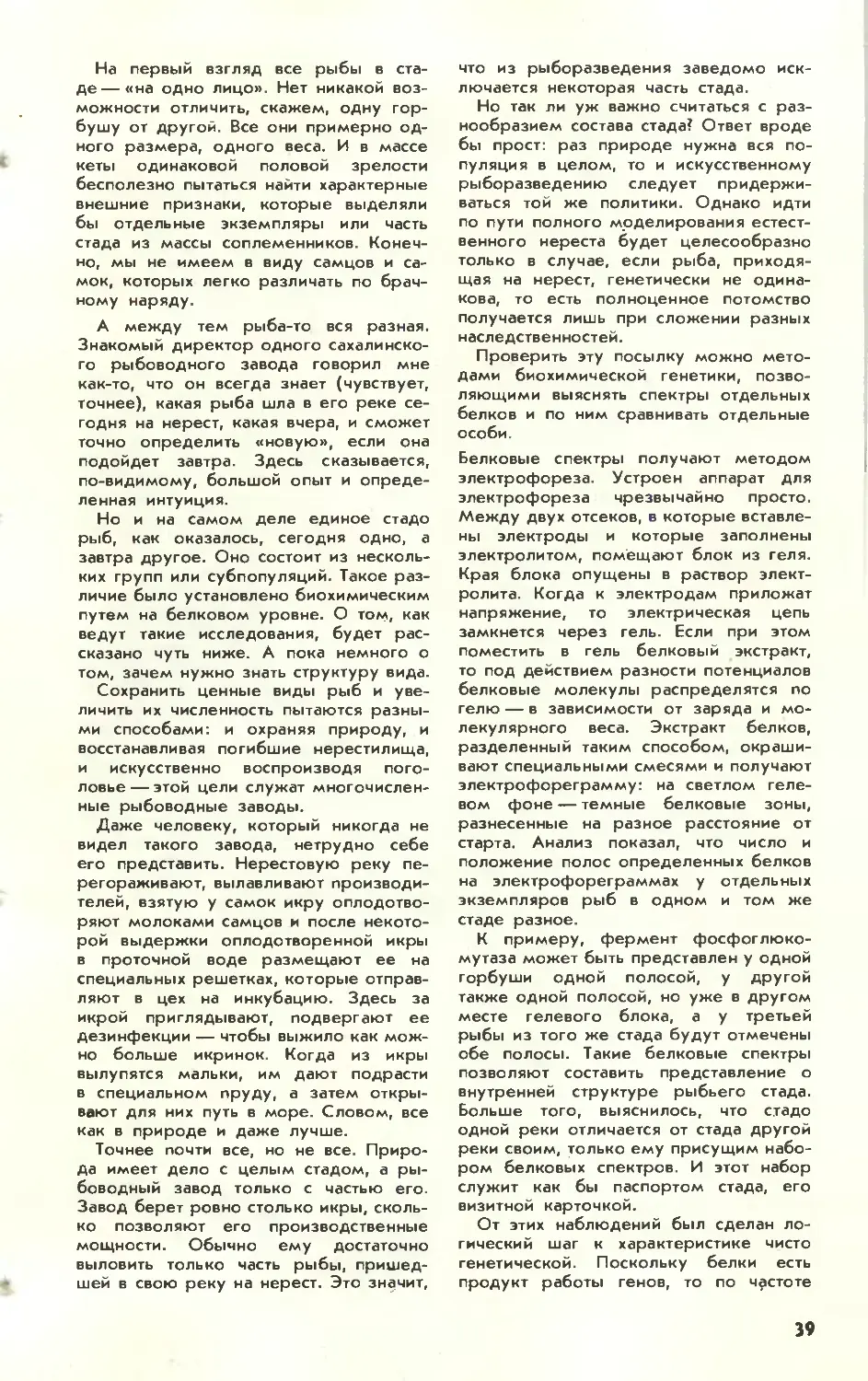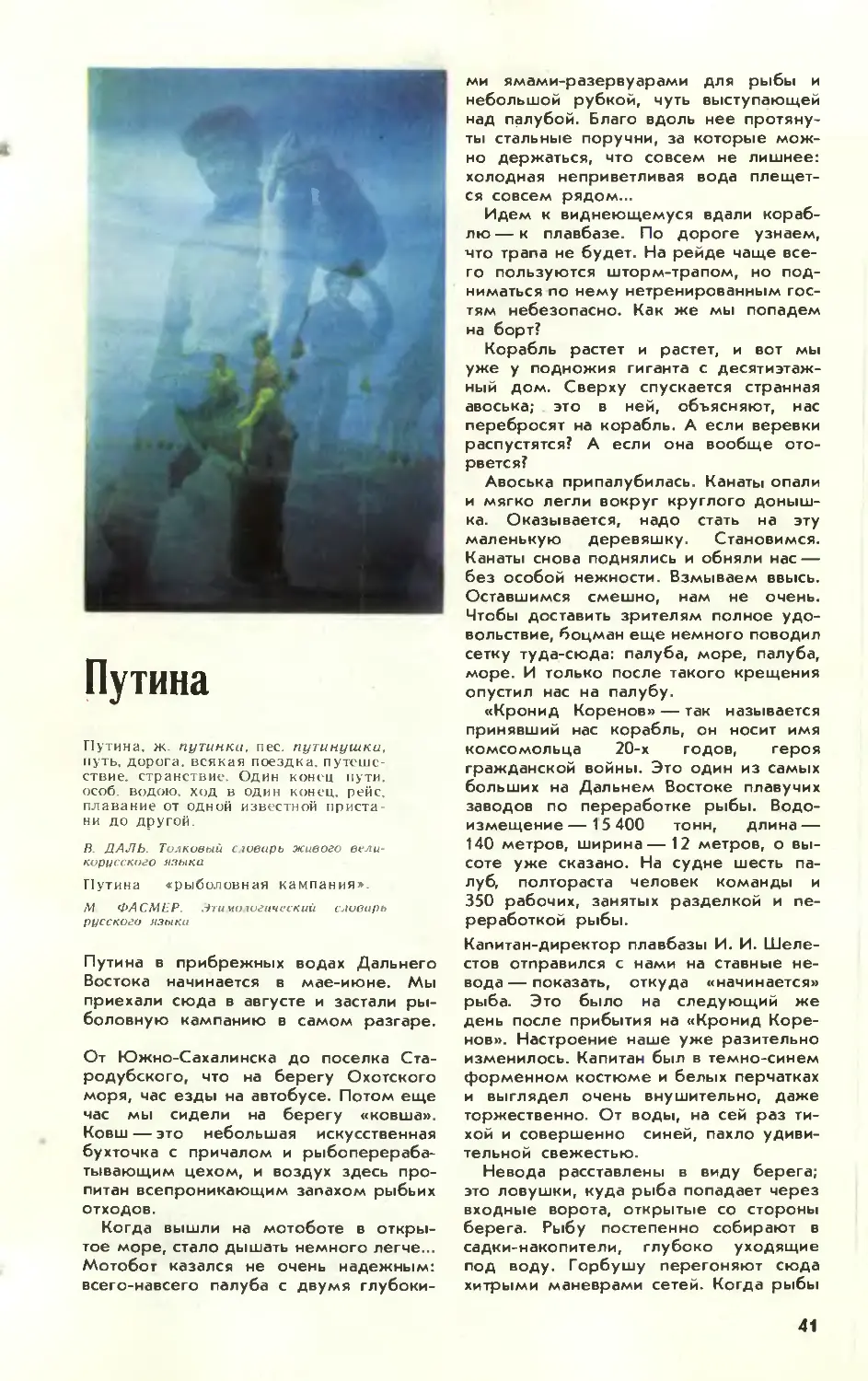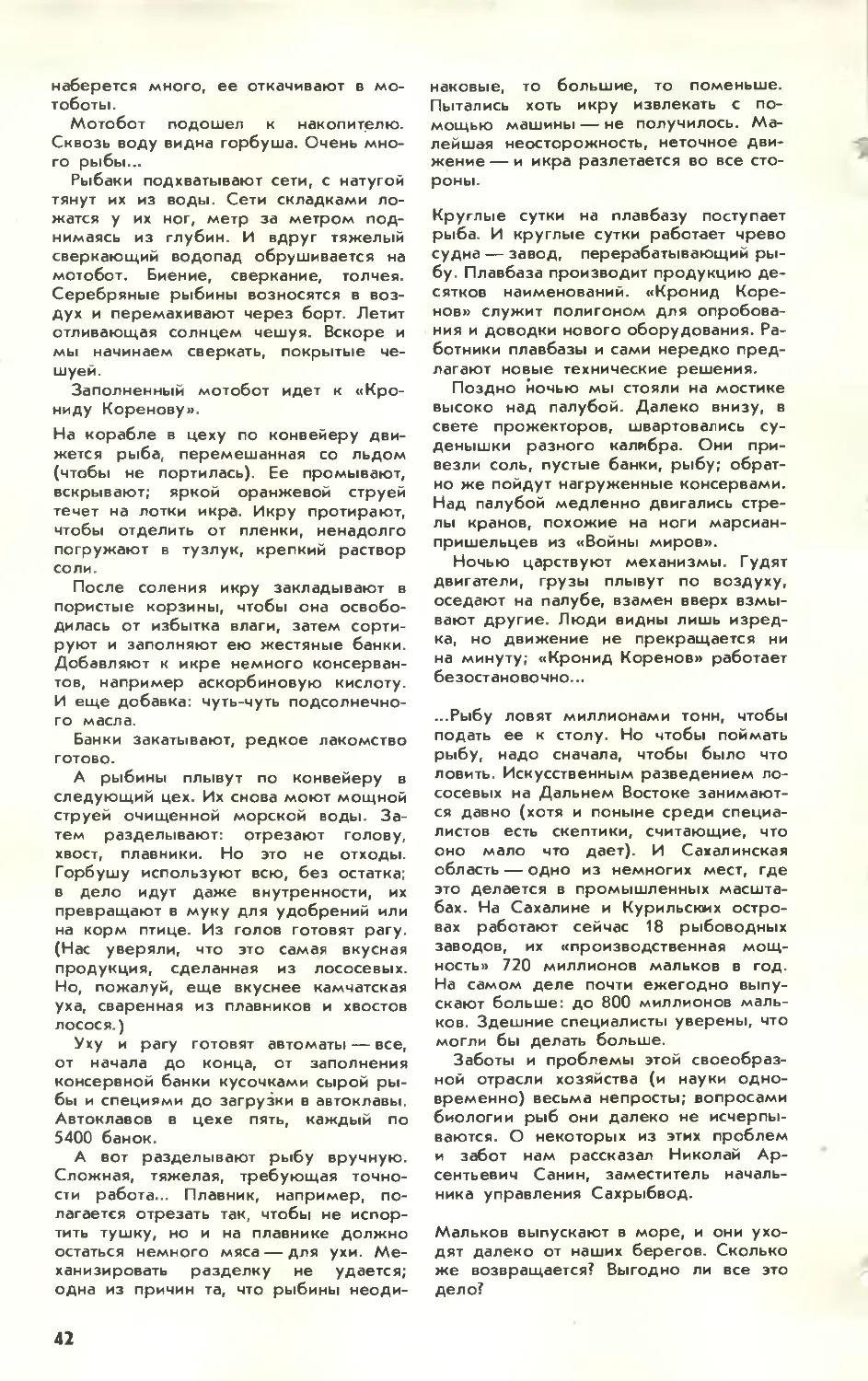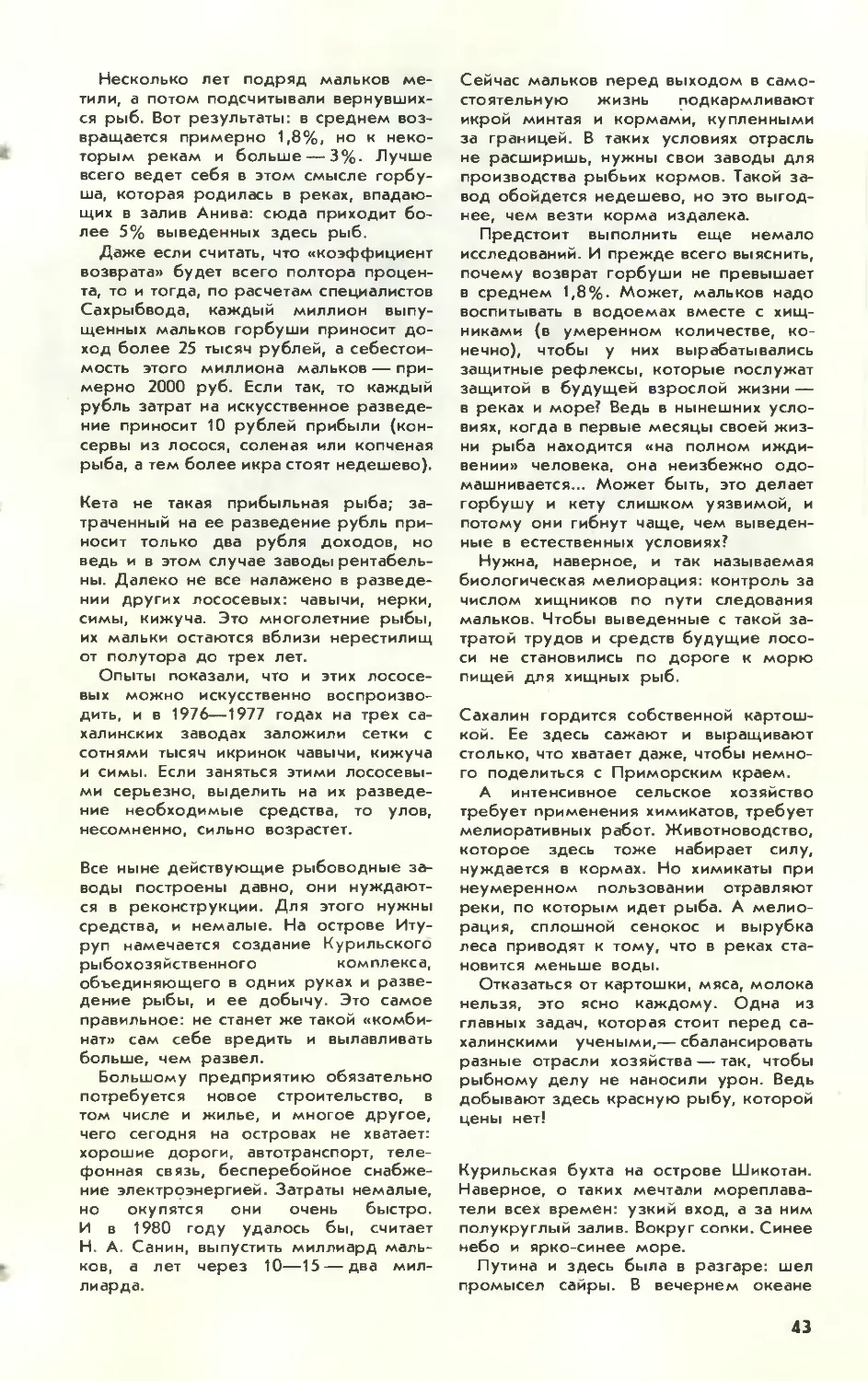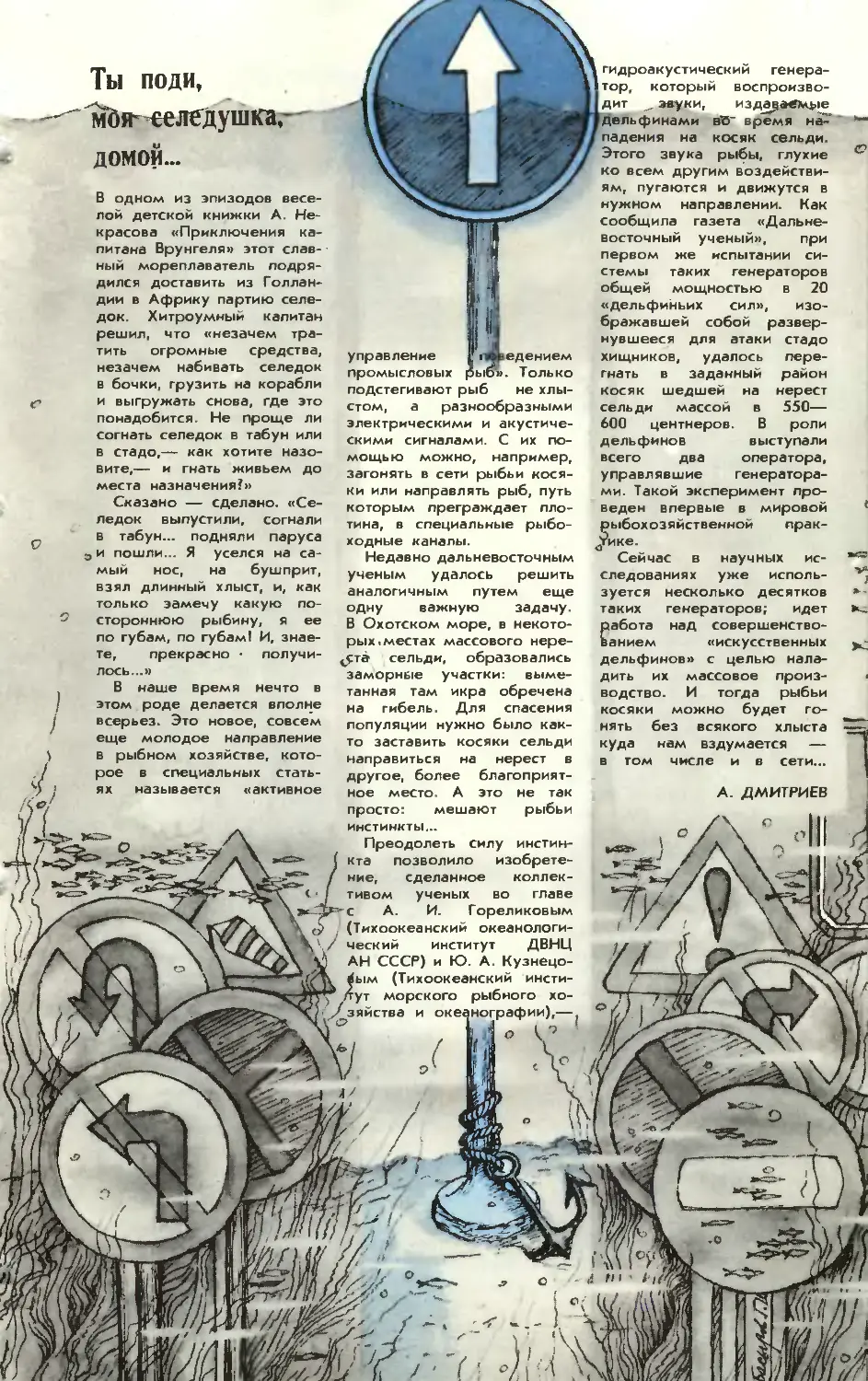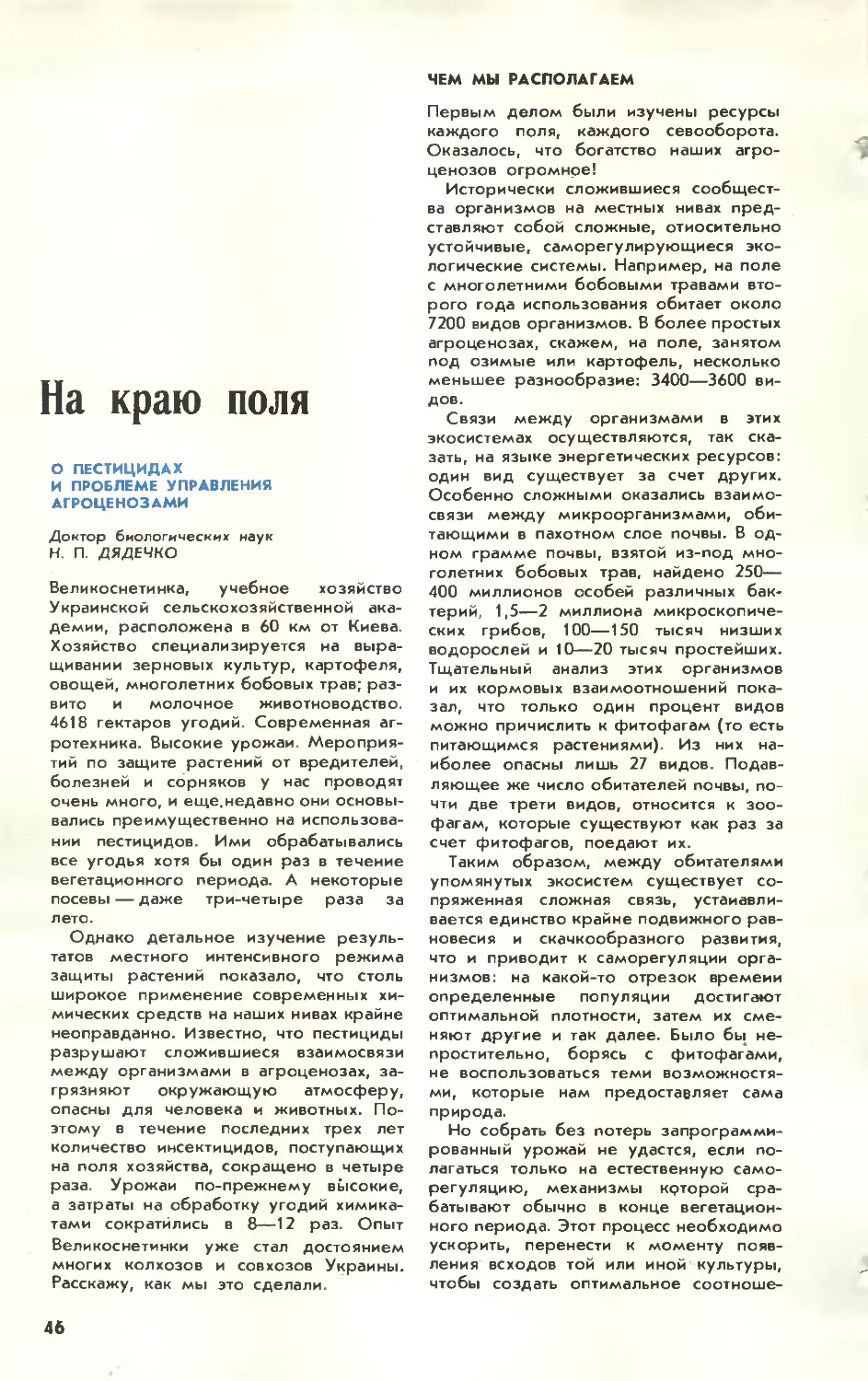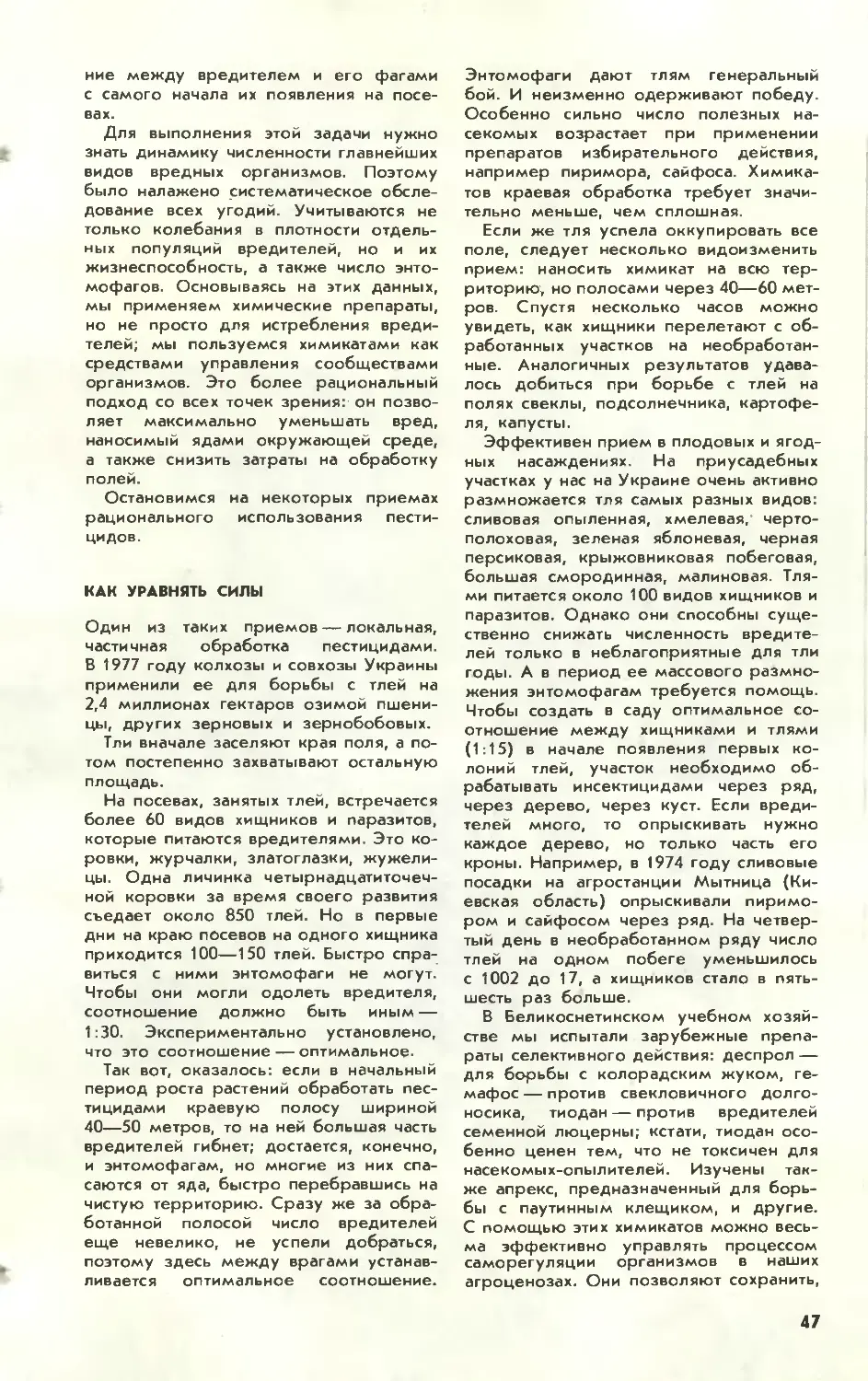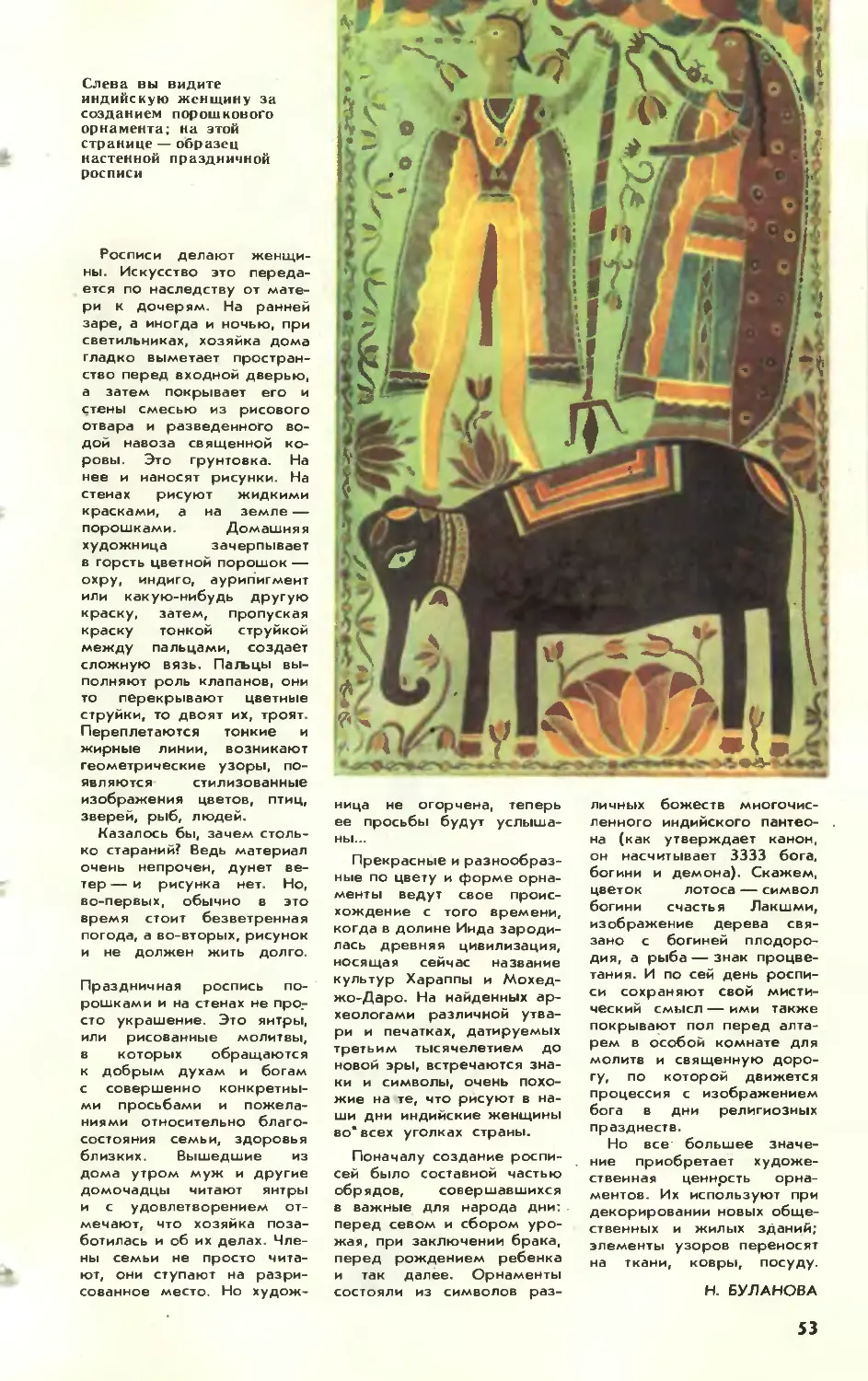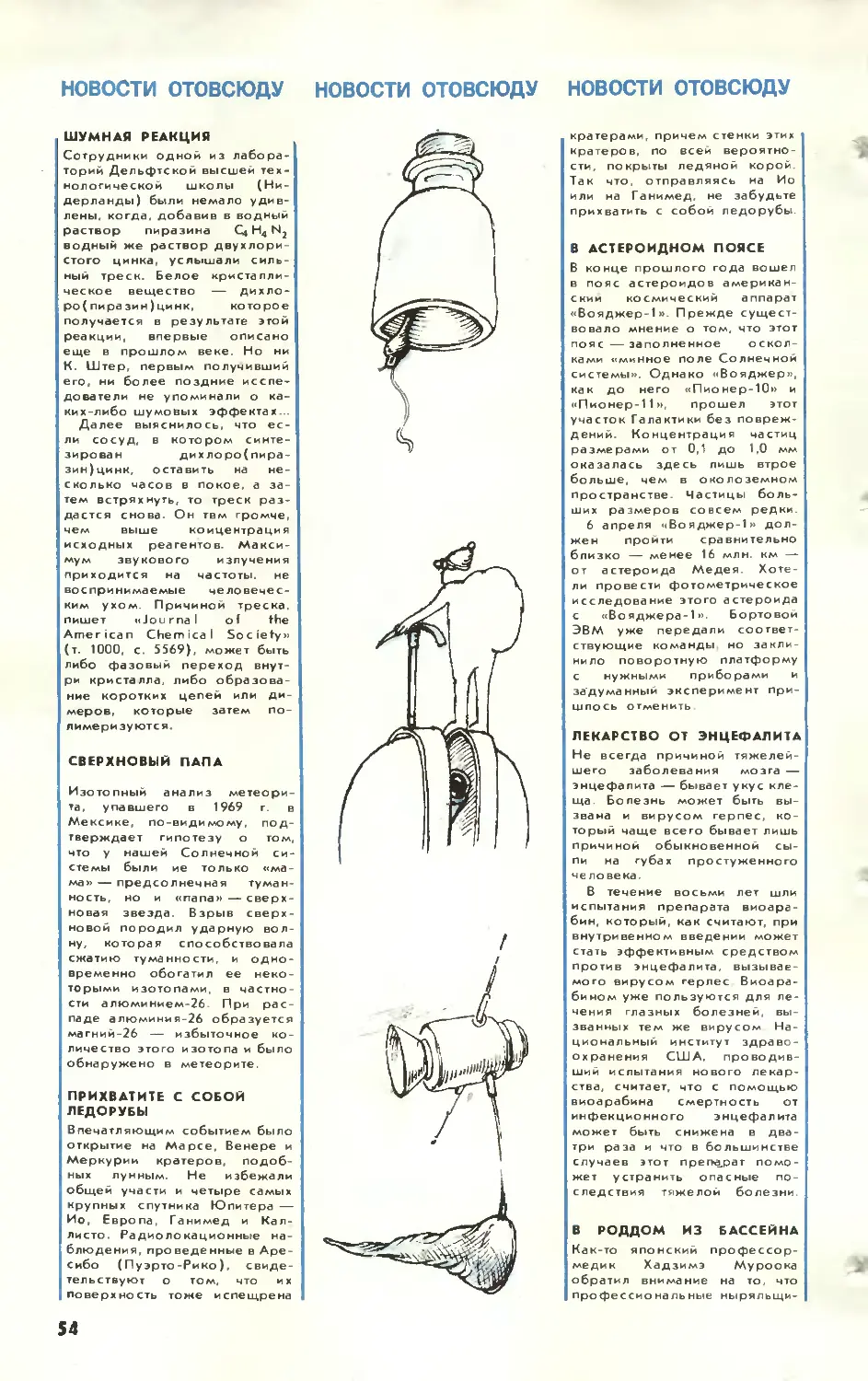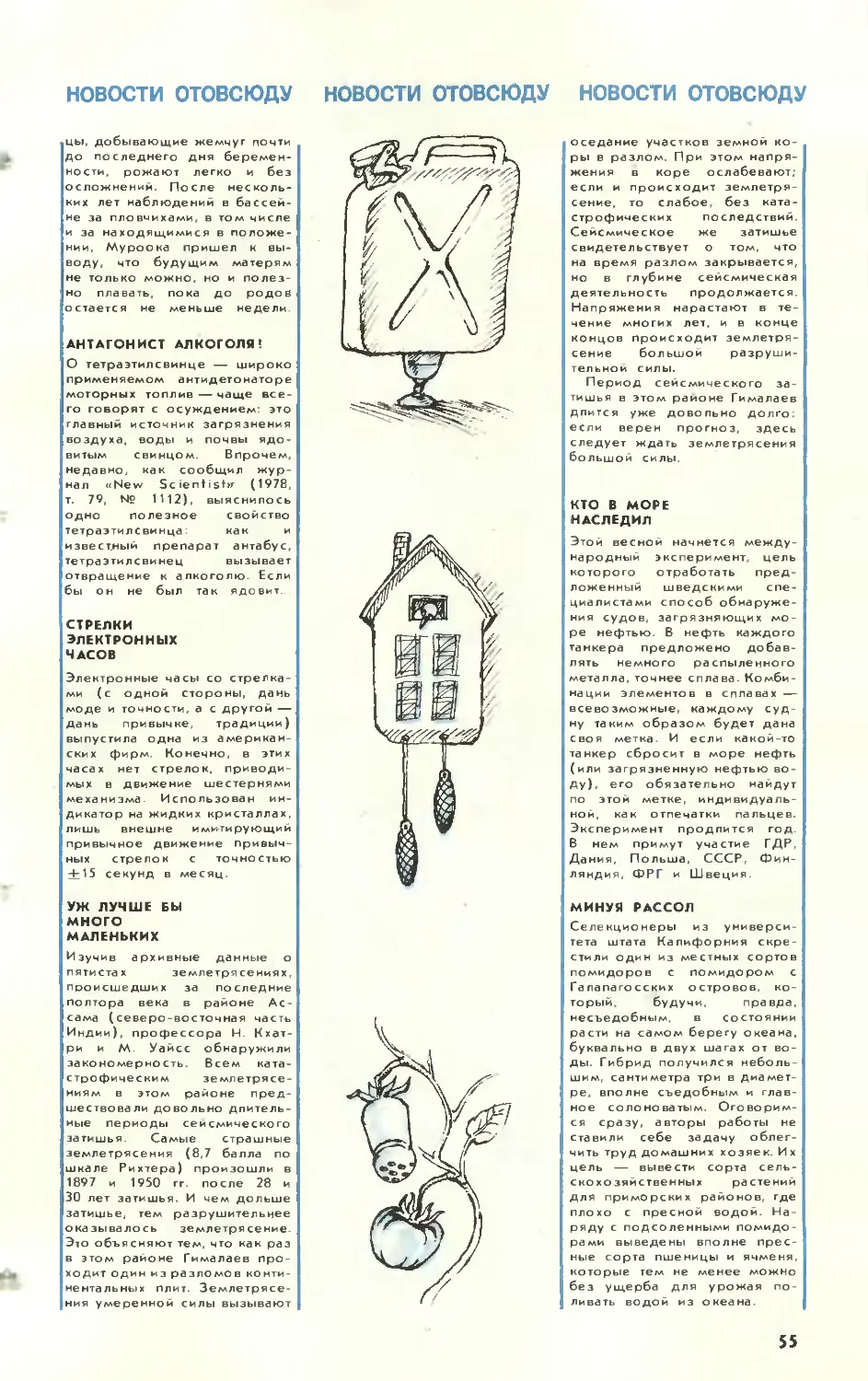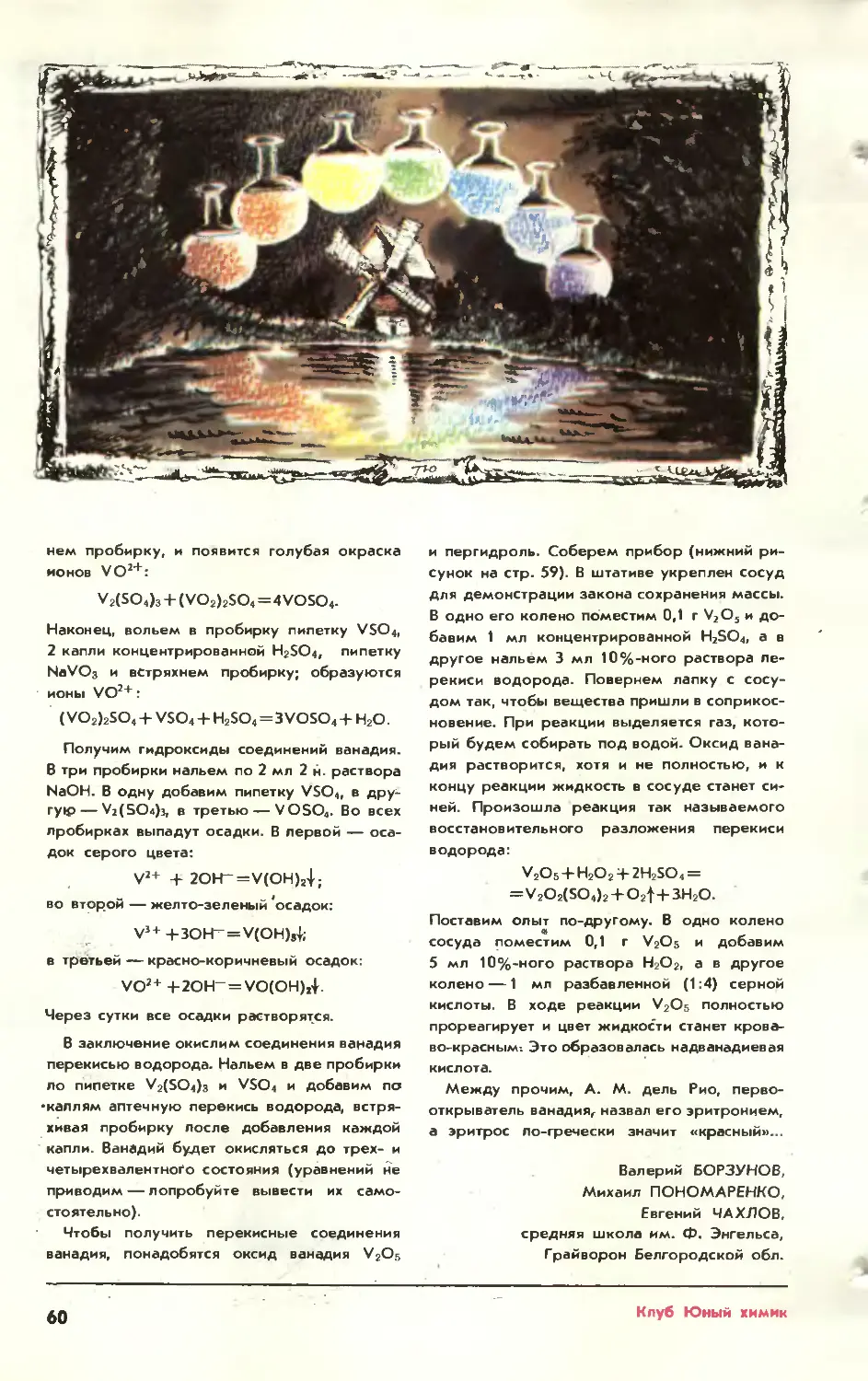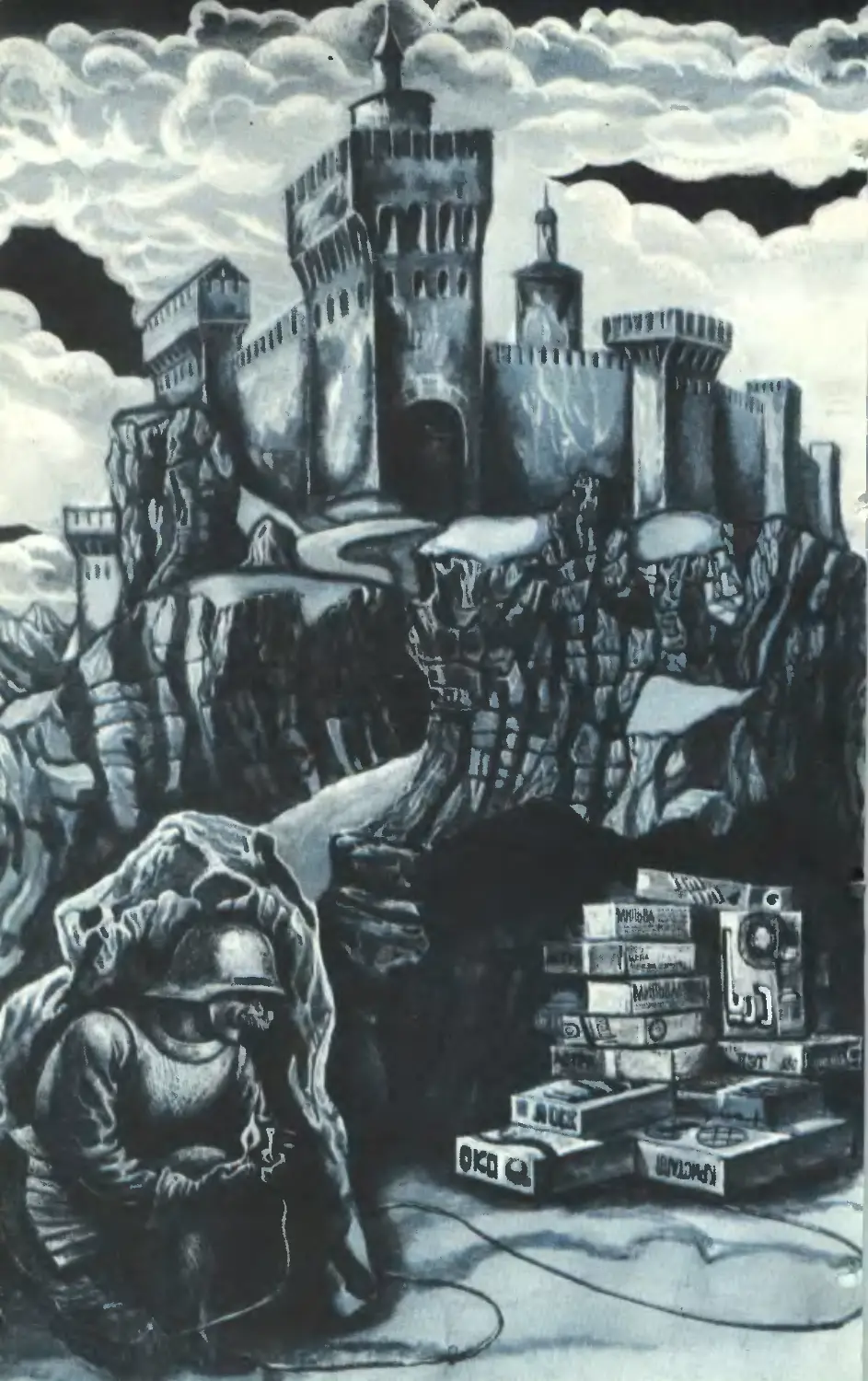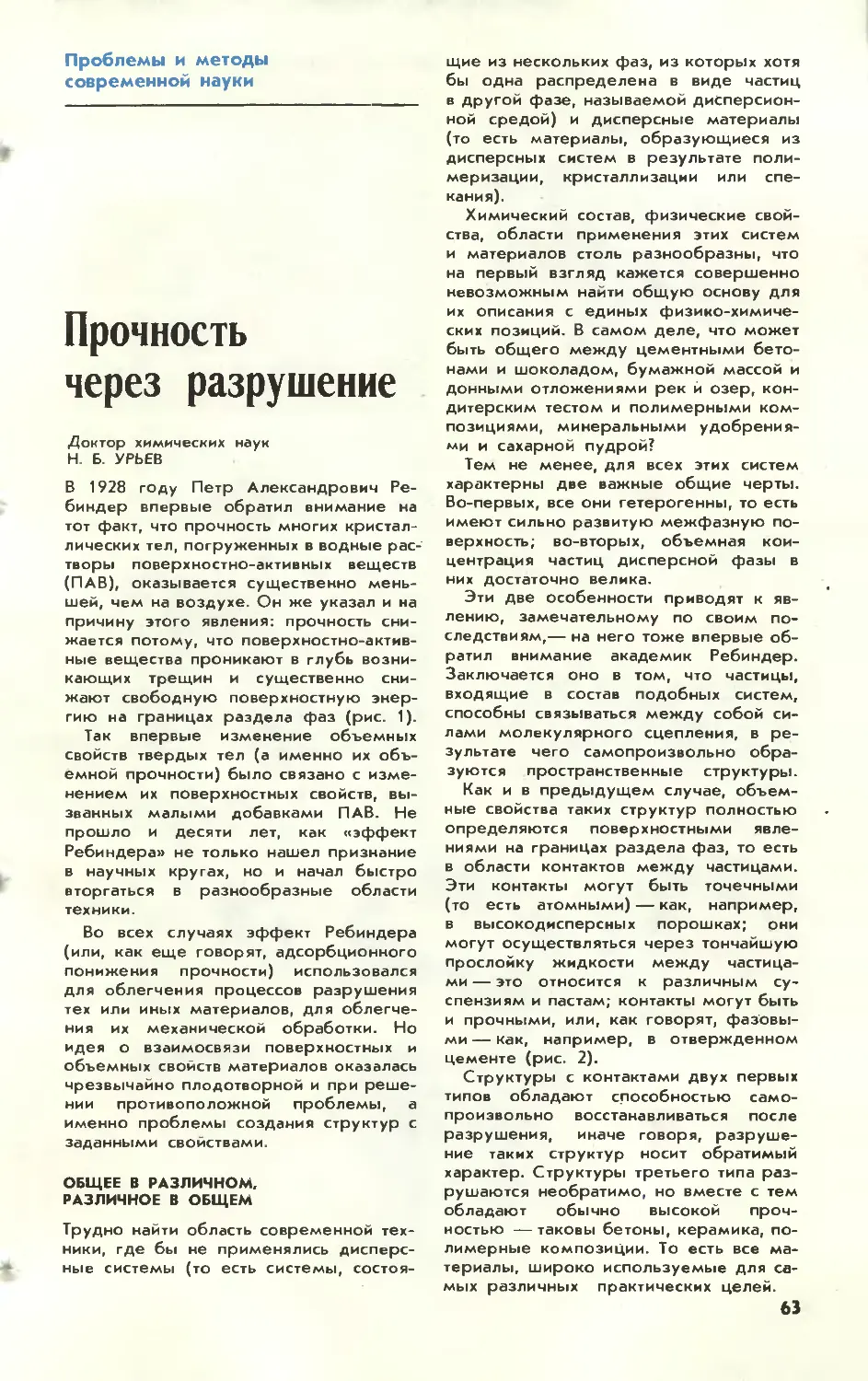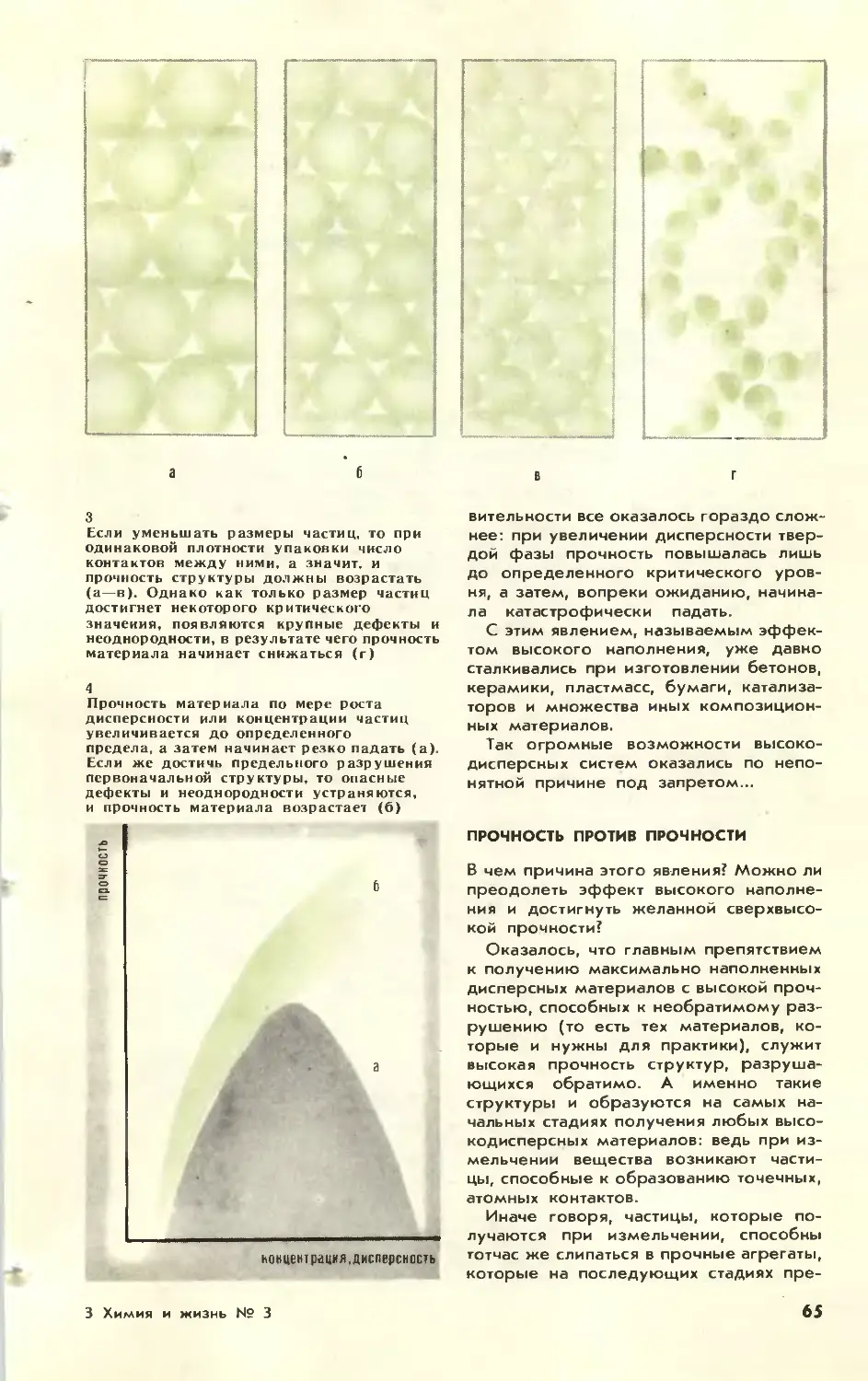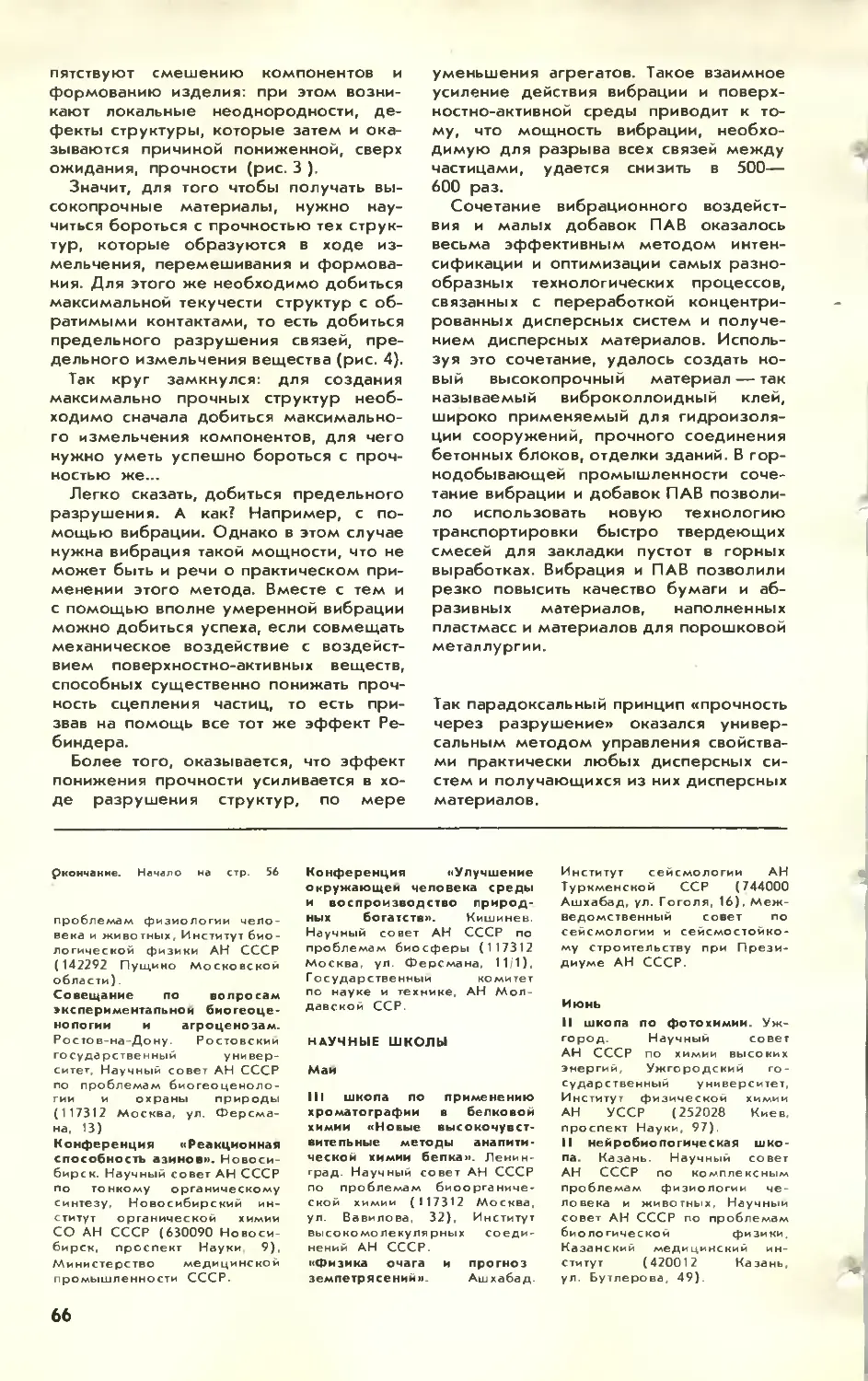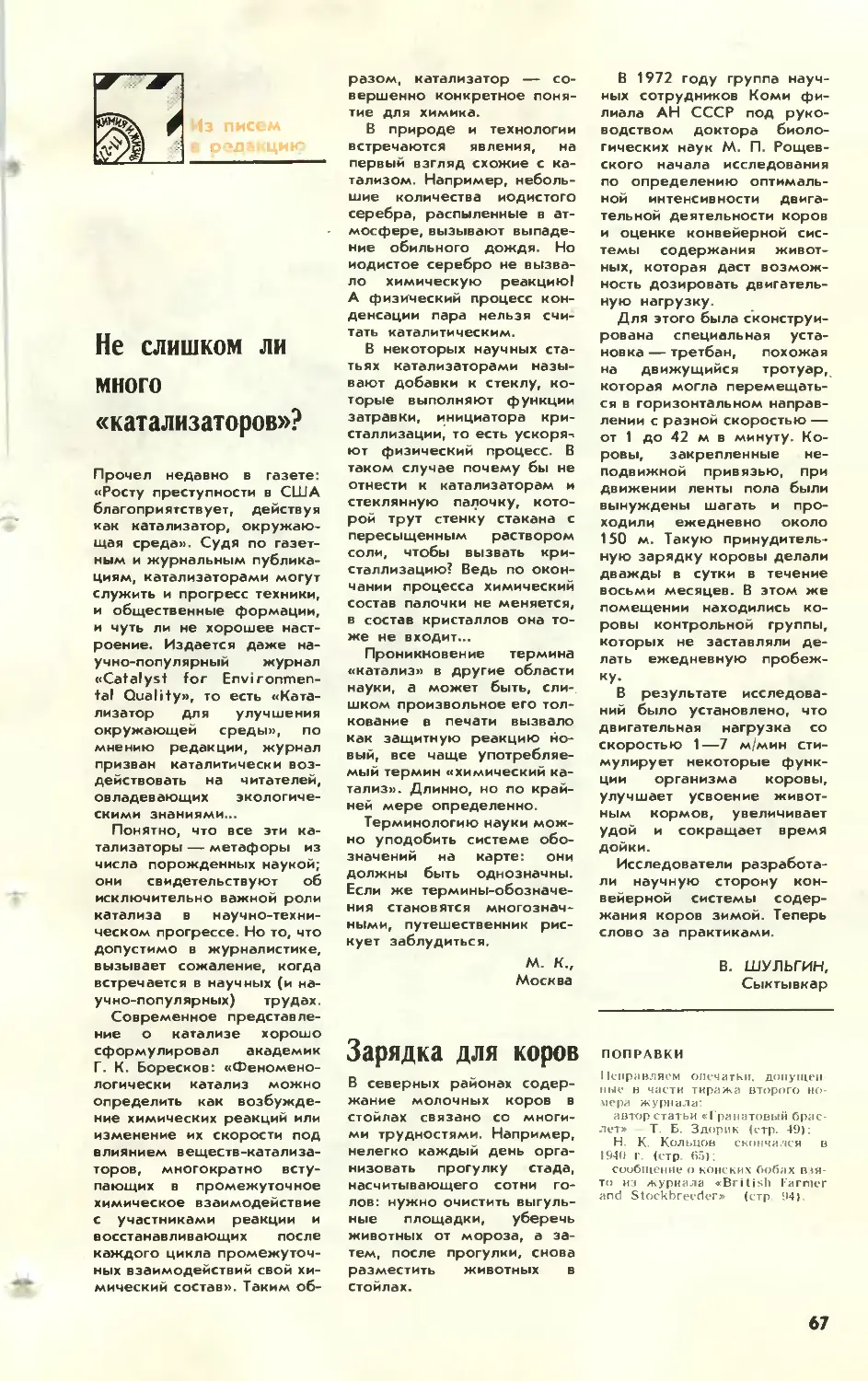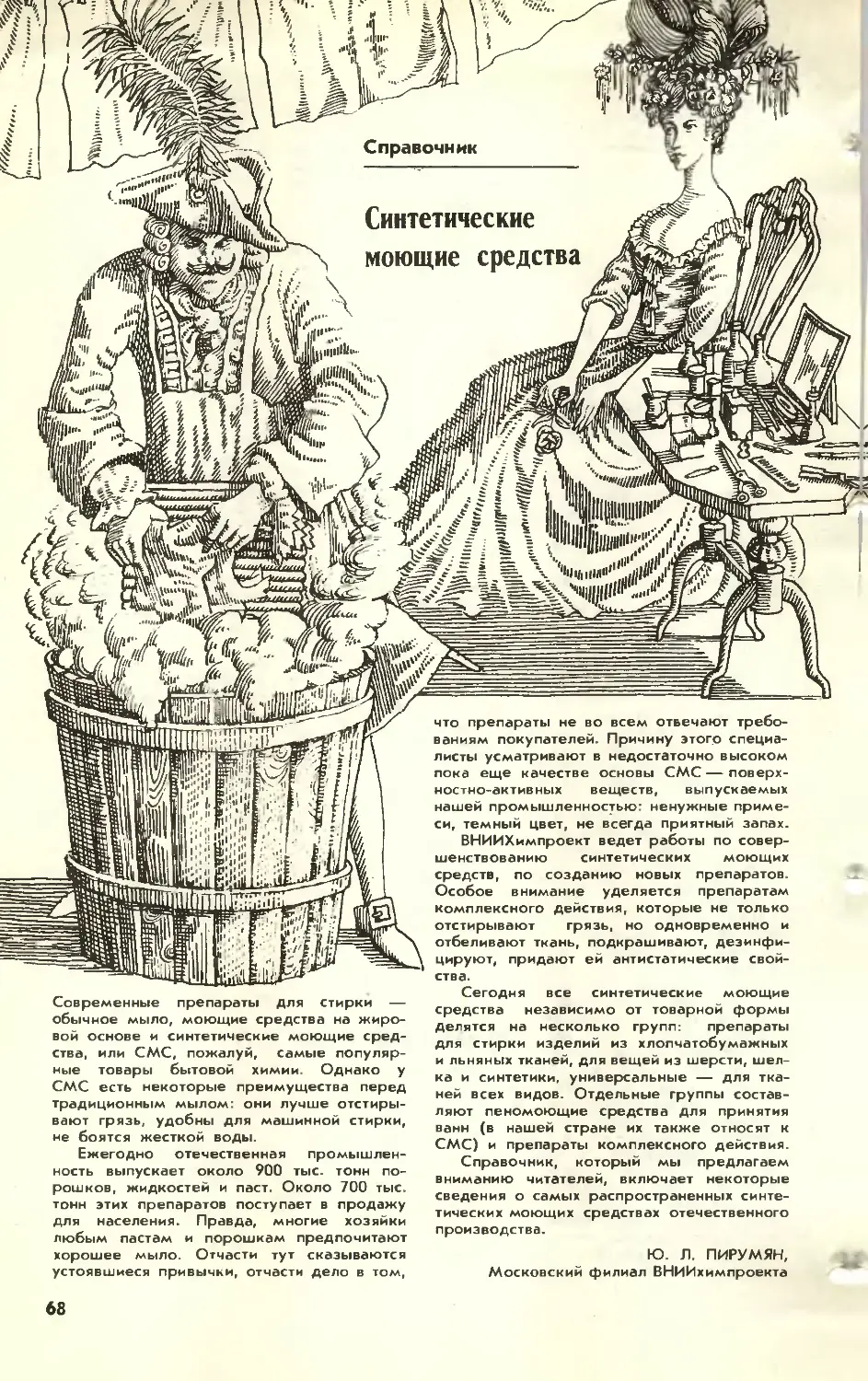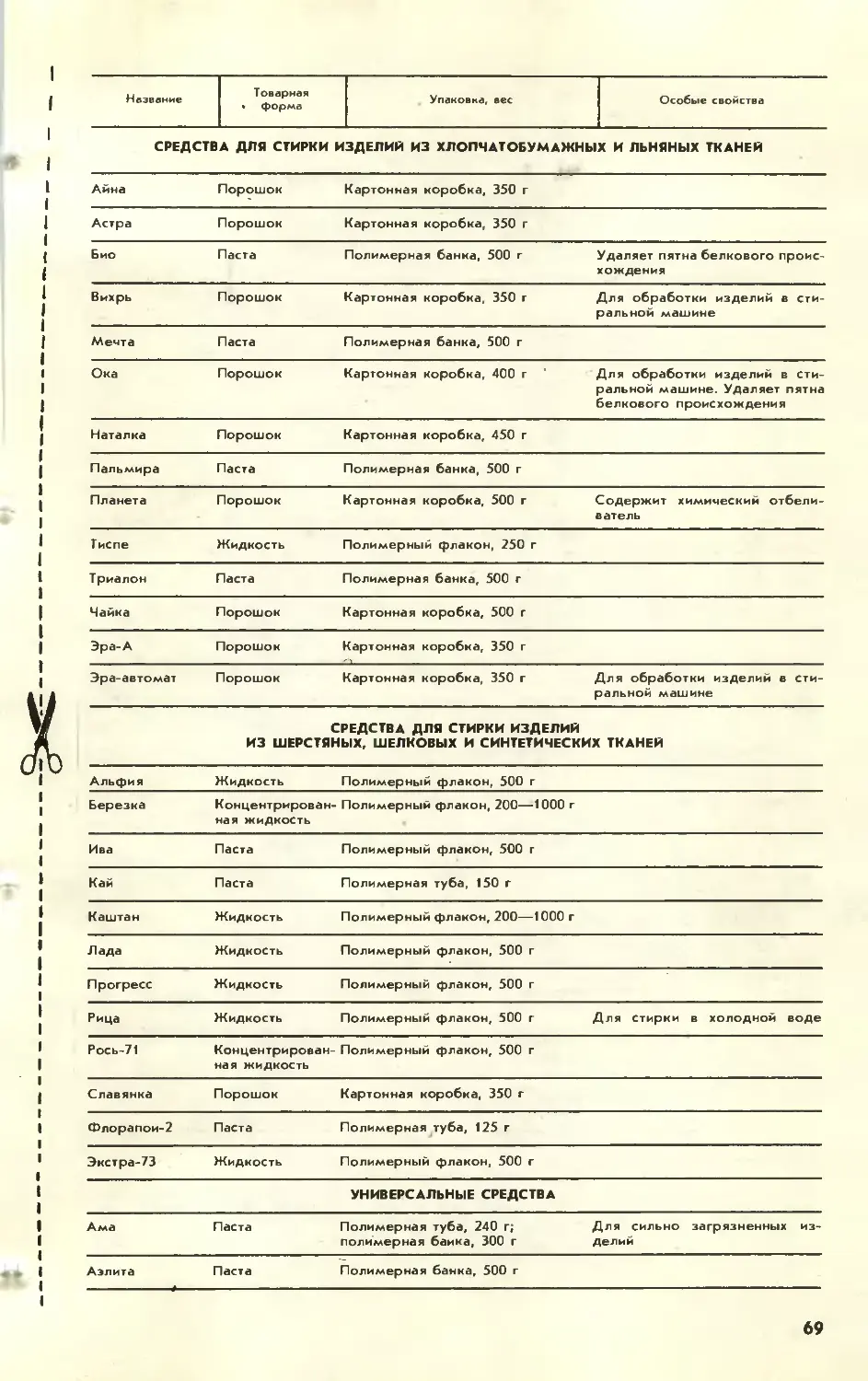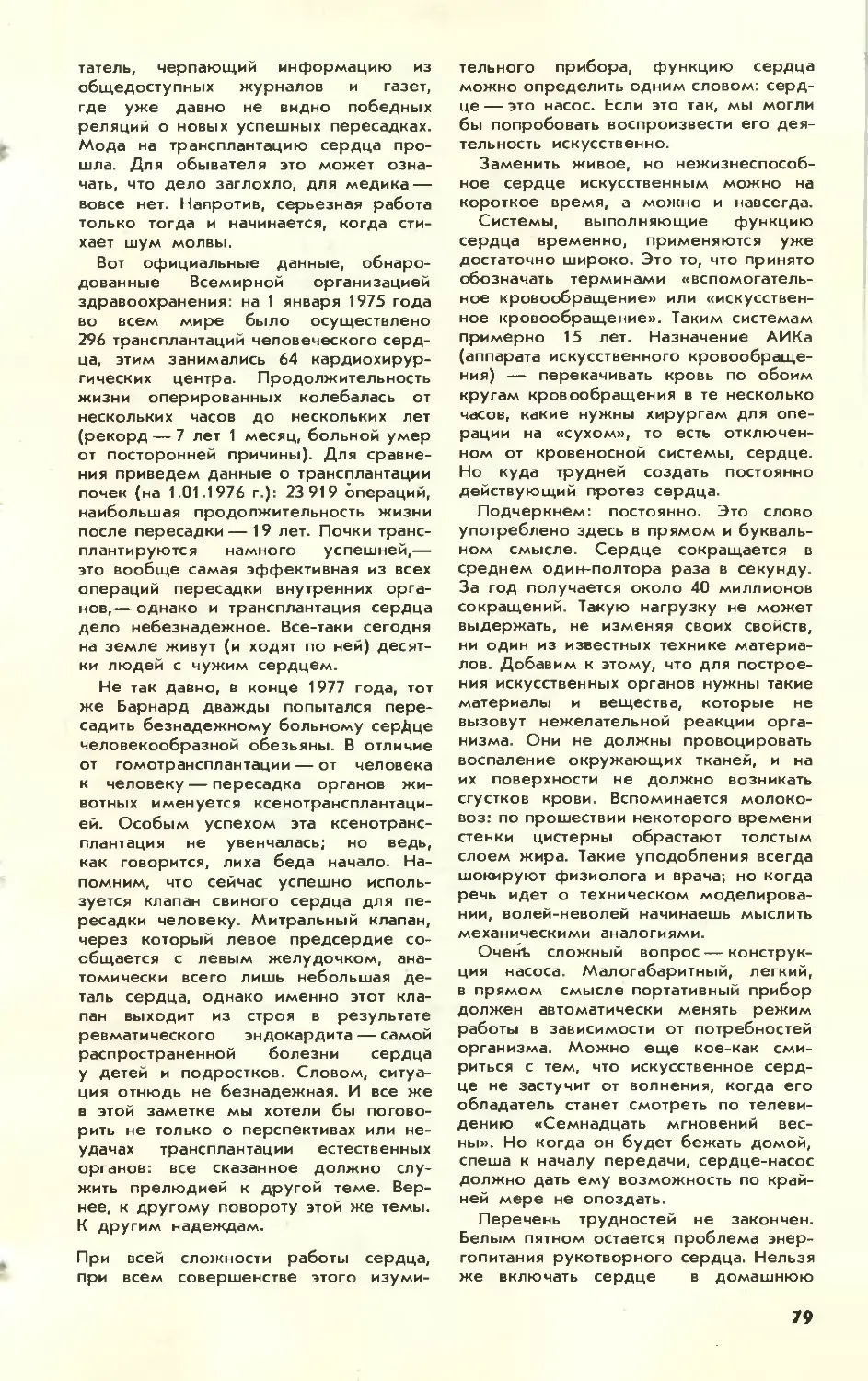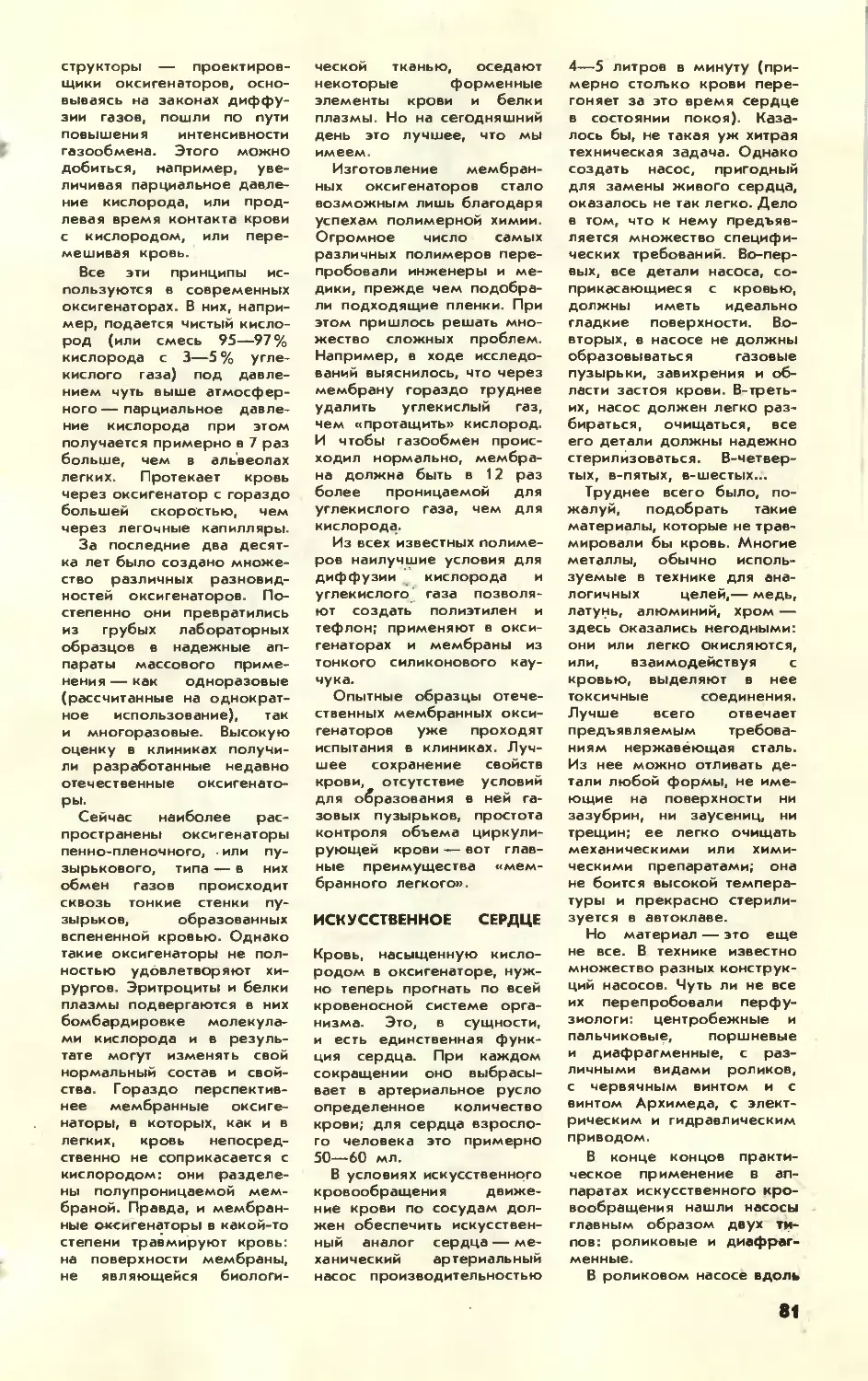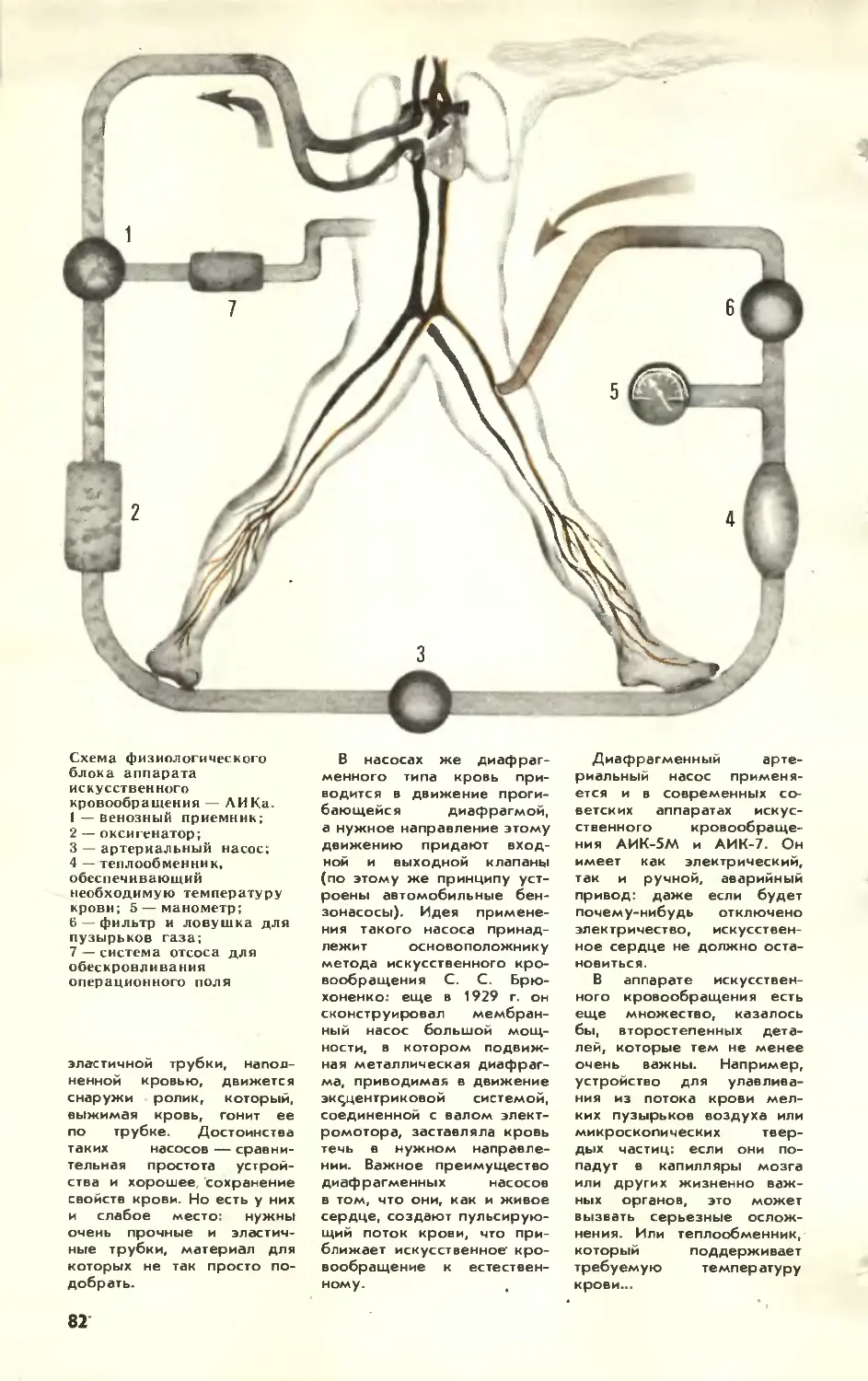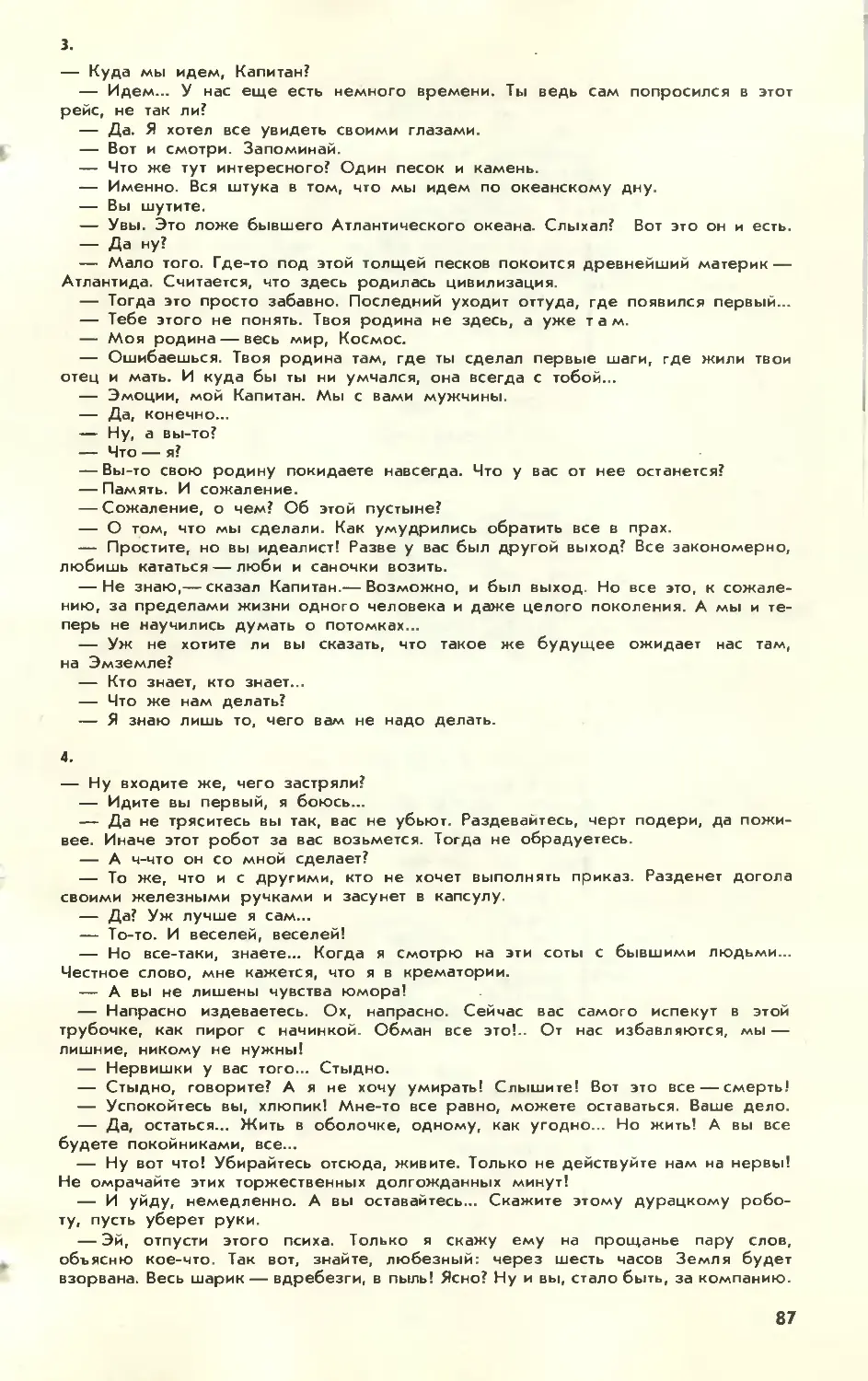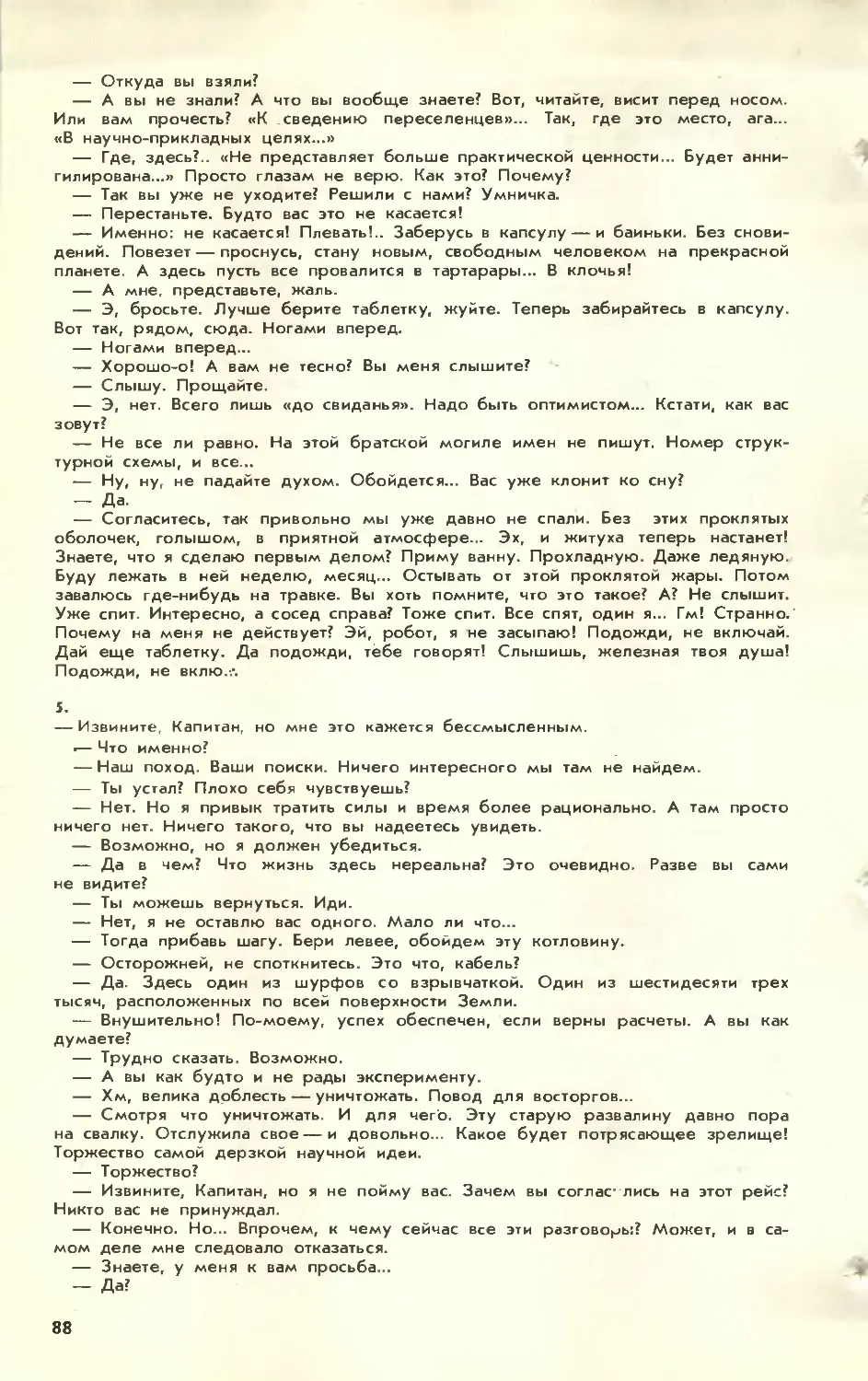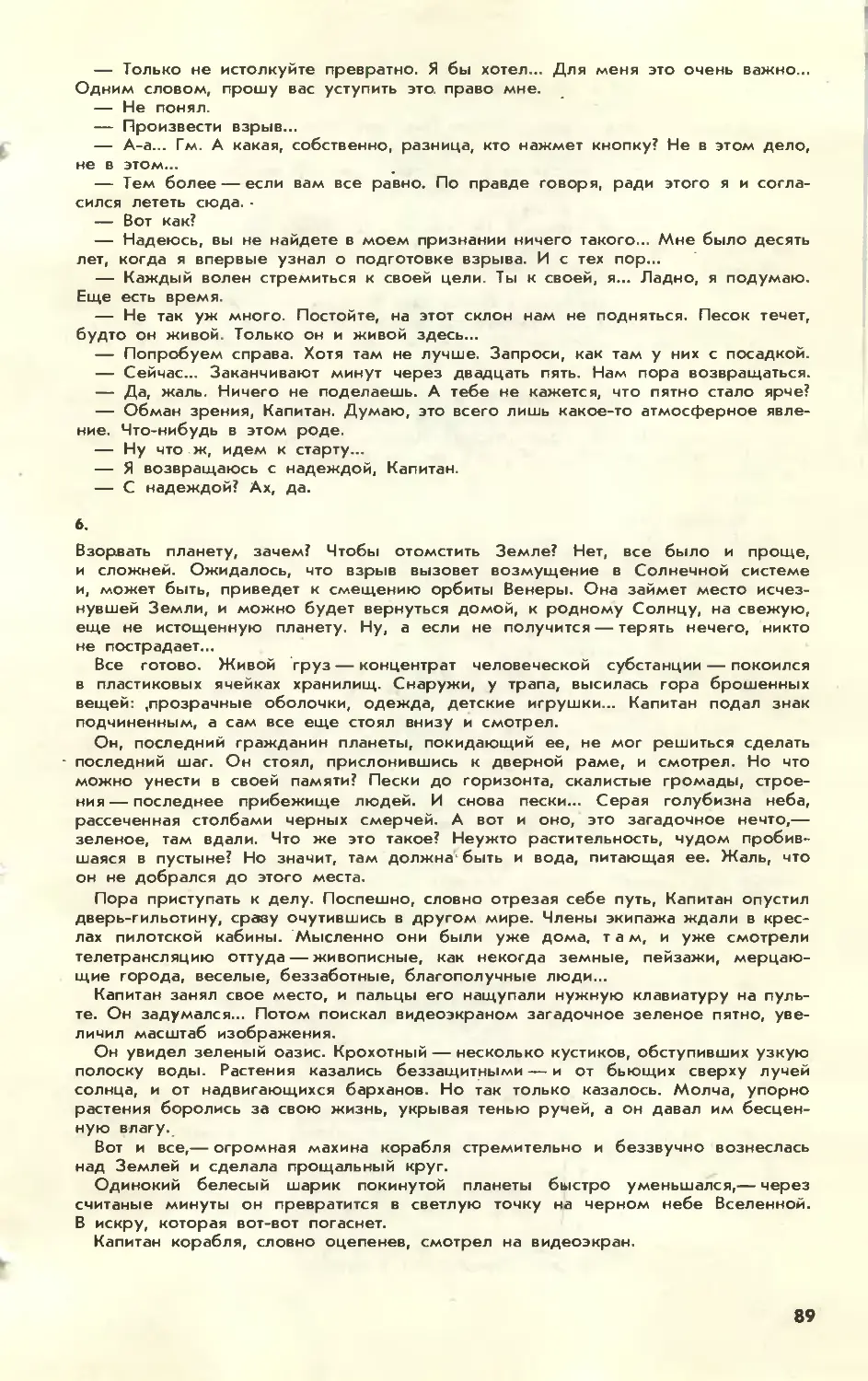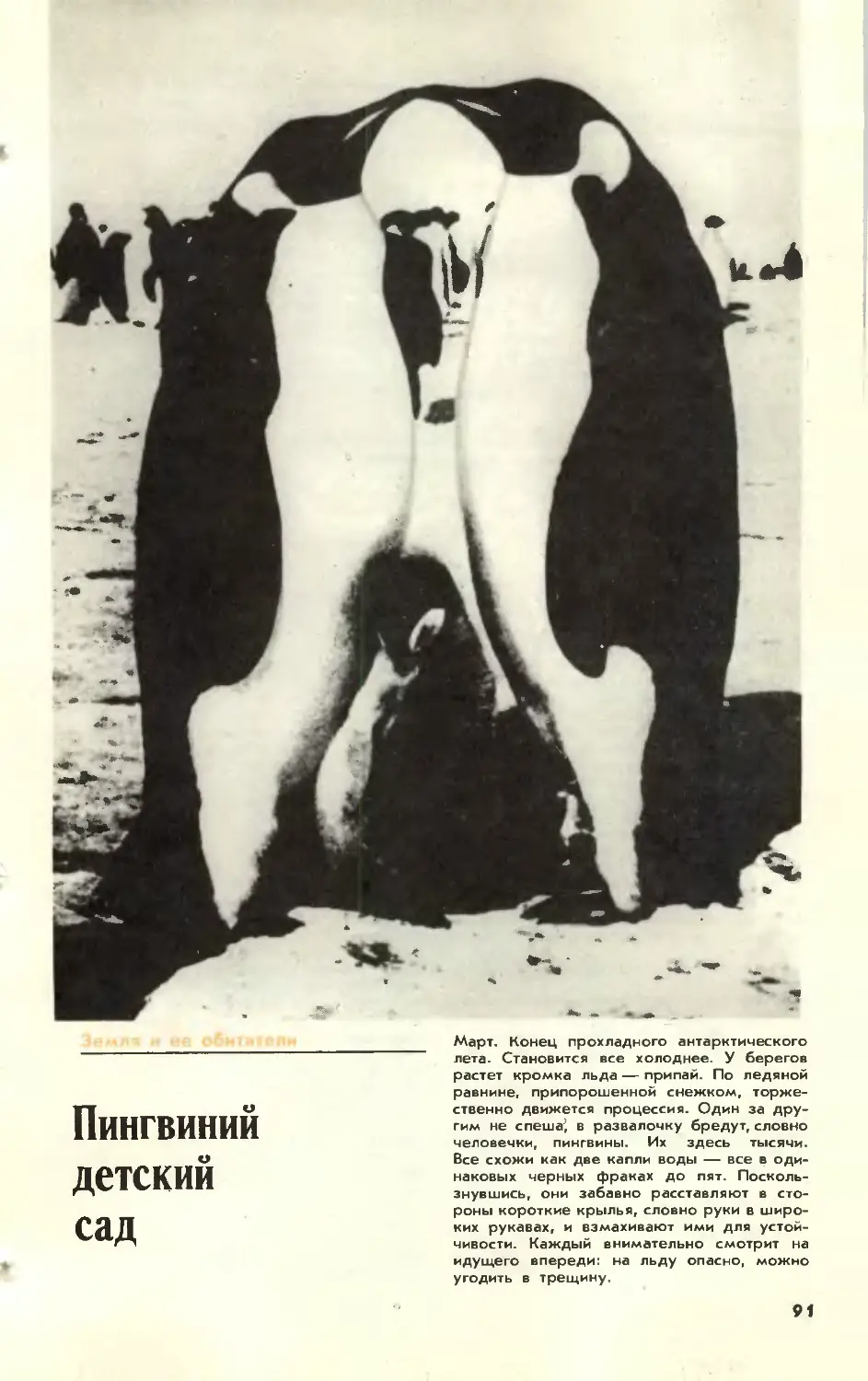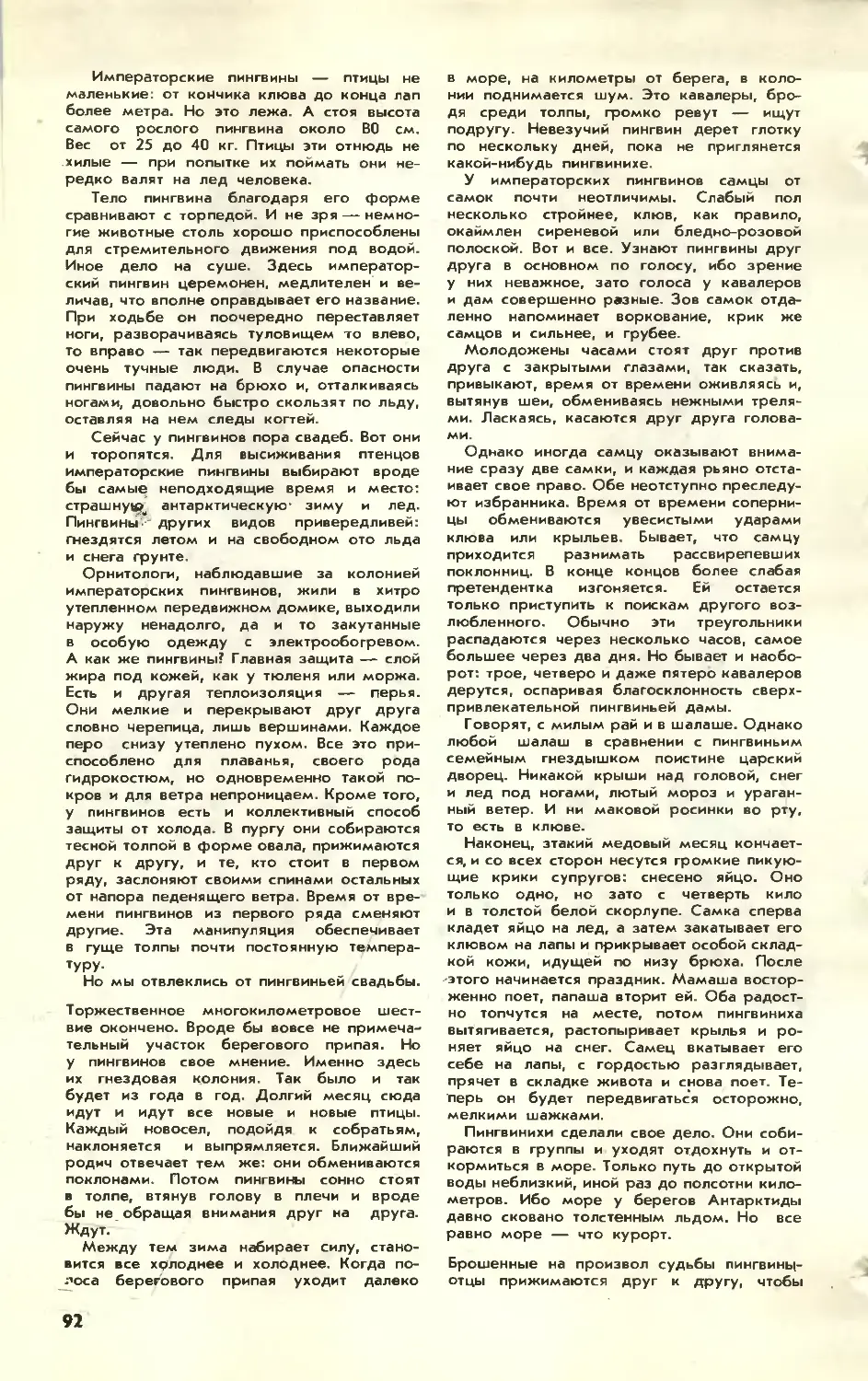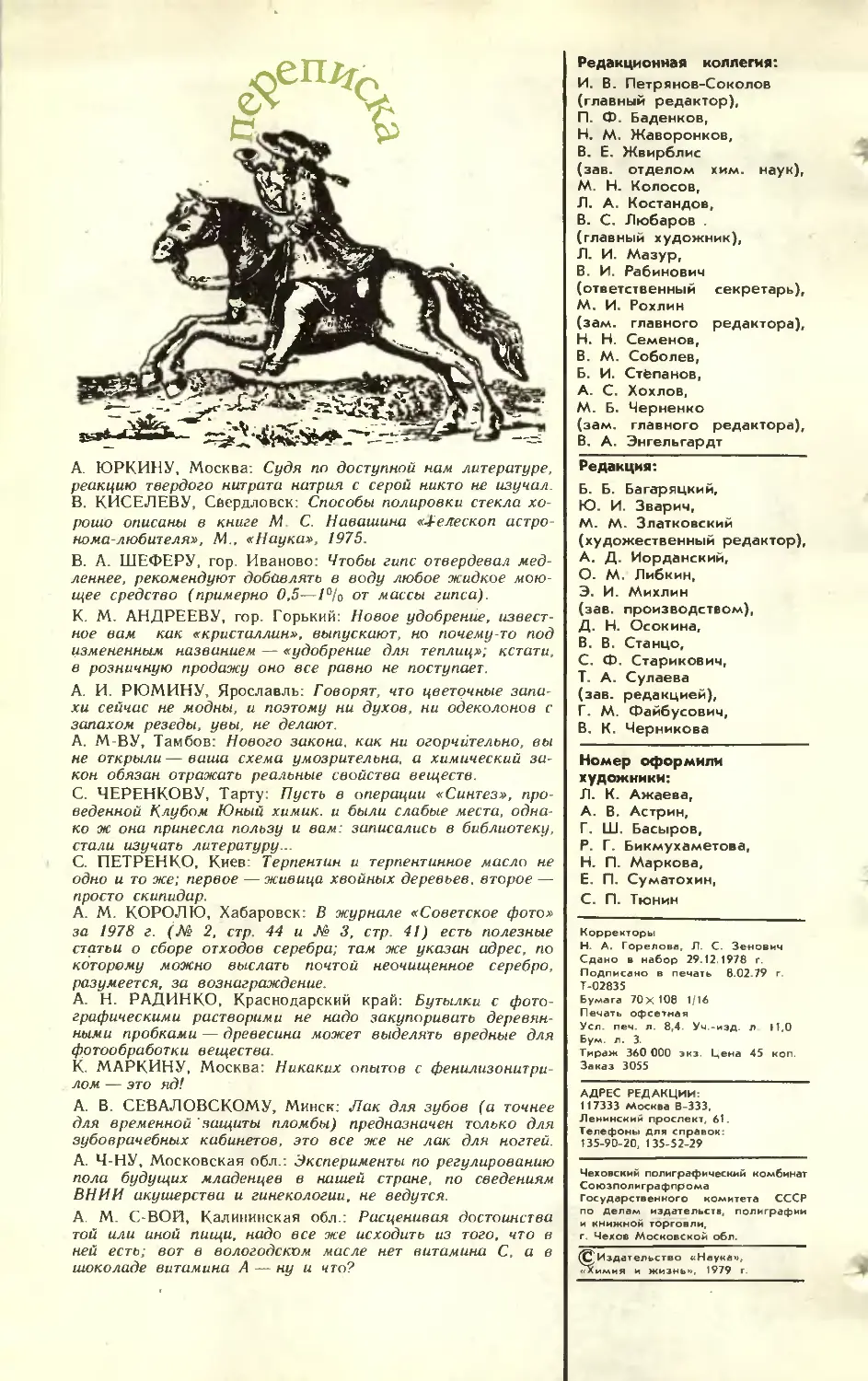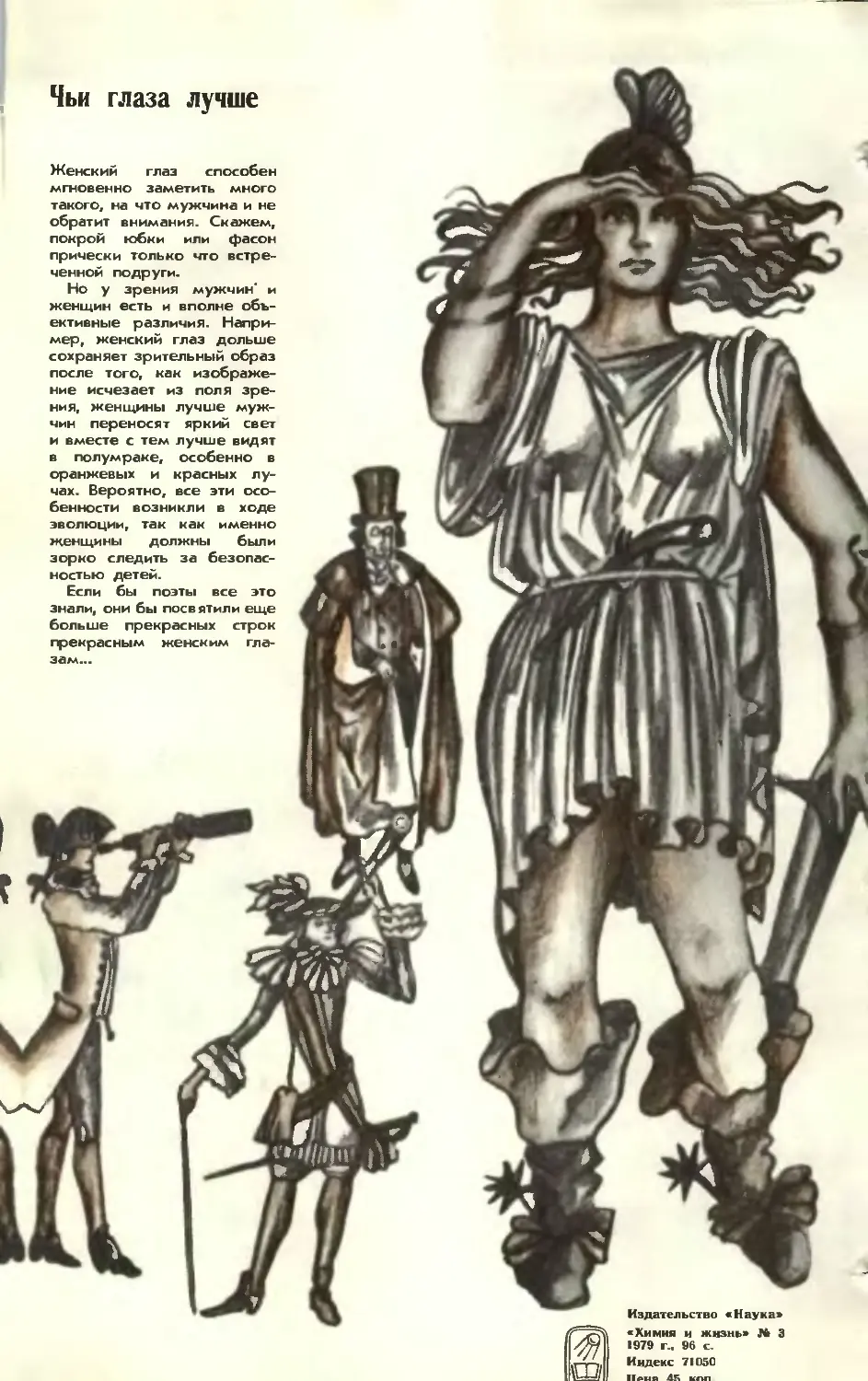Текст
ISSN 0130-5972
ХИМИЯИЖИЗНЬ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
з
1979
химия и жизнь
II Ыи
| к пупярныи журнал Академии на> СССР
.?- 1979
Издается с 1*65 года
О. Ольгин
Ю. А. Овчинников
Г. С. Воронов
Э. И. Федин
B. П. Фишман
В. Т. Омельченко
Д. Осокина, В. Черникова
А. Дмитриев
Н. П. Дядечко
Н. Буланова
. Н. Б. Урьев
Ю. Л. Пирумян
М. Богач и хин
Б. Симкин
Л. Г. Бондарев
А. М. Давыдочкин
А. Холмская
Р. Фурман
C. Кустанович
ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
12 говорят гости
1 6 60 МИЛЛИОНОВ ГРАДУСОВ В ТОКАМАКЕ
24 ПЕРВЫЙ ВЕК ЭЙНШТЕЙНА
31 ГЕОФОН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
36 ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЛОСОСЕЙ
41 ПУТИНА
45 ты поди, моя селедушка, домой...
46 НА КРАЮ ПОЛЯ
52 ПРАЗДНИК КРАСОК
62 ПРОЧНОСТЬ ЧЕРЕЗ РАЗРУШЕНИЕ
68 СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
71 ЯПОНСКИЙ —ДЛЯ ХИМИКОВ
74 ольха
76 ПОЧЕМУ ЭГИЛЬ УБИЛ ГРИМА?
78 ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ НАСОС?
80 «ПЕРФУЗИОЛОГ, ВКЛЮЧИТЕ АИК!»
84 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
91 ПИНГВИНИЙ ДЕТСКИЙ САД
1 4 ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
51 ФОТОИНФОРМАЦИЯ
54 новости отовсюду
56 информация
57 клуб юный химик
73 консультации
94 короткие заметки
НА ОБЛОЖКЕ — рисунок Е. Суматохини к статье «Чужое
сердце».'НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ — Кришна и
Радха, персонажи индийской мифологии и любимый сюжет
традиционных праздничных росписей, о которых рассказывается
в статье «Праздник красок».
Репортаж.
Триста процентов
Издалека да понаслышке вполне
очевидные вещи мЪгут показаться
невероятными.
Когда по технологическому
регламенту такое-то вещесуво должно пребывать
в таком-то аппарате ровно час, так тому
и быть: сэкономленная минута
обернется браком. И когда аппаратчики или
операторы благодаря точному ведение
процесса дают десять процентов
прибавки к плану, это, безусловно,
достижение.
Однако не одними аппаратчиками м
операторами жива химическая
промышленность. И некоторые из операций,
совершенно необходимых, но по сути
. своей отнюдь не химических, можно,
оказывается, выполнять не на десять
процентов, а вдвое и даже втрое
производительнее, ч$ы. тр положено по .
норме.
...На Бердянском заводе стекловолотс-
на работают около трех тысяч человек.
Много. Но такова специфика
производства: пока сформованная из расплава
стеклянная нить не превратится в
стеклоткань, тут сплошь текстильные
процессы, и оборудование текстильное, и
названия профессий, и терминология —
размотка, крутка, сновка, веретено,
,'А
*3
шпуля, челнок... А текстильное
производство, даже вполне современное, по
уровню автоматизации отстает от
химического. За нитью, будь она из хлопка,
капрона или стекла, нужен глаз да глаз,
и нужны руки, чтобы заправить машину
и снять продукцию, чтобы по ходу
дела устранять те неисправности, которые
глаз заметил. А если так, то и
производительность труда может колебаться
весьма значительно: глаза — разные и
руки — разные.
Галина Дмитриевна Усатенко, лучшая
по профессии среди крутильщиц,
делает невероятное: ежесменно, изо дня /А
в день,— три сменных задания.
Крутильщицы выполняют промежу-^J
\.-% %
точную операцию — превращают один
полуфабрикат в другой. С
размоточных машин приходят початки со
стеклянной нитью (к слову сказать, поча-
^jok — не сравнение, а устоявшийся тер-
ин; и впрямь очень похоже). Их ста-
1т на зубья — штыри в верхней части
машины, на так называемой питатель-
- ^§£ ной рамке, проводят концы нитей через
^выпускной механизм и закрепляют на
-<ГЗ|- Патроне, насаженном на веретено. Пат-
'^Х* 1?он вращается на веретене, нить
обегает его и, закручиваясь, образует но-
- 1 початок. На этой машине можно
Дпоновать любую, нить, которая тре-
ткачам.
Узнать о том, что Галина Дмитриевна
работает в крутильно-размоточном
цехе, не составляет труда — над ее
машинами висит скромная табличка:
Здесь работает лауреат Государственной
премии Украинской ССР Усатенко Г. Д.
Личную пятилетку выполнила 29 октября
1977 г. Обязалась до конца 1980 г.
выполнить еще два пятилетних задания.
Однако самой Галины Дмитриевны
в цехе сейчас нет — она только что
отработала ночную смену.
Договорившись с ней о встрече в середине дня,
зайдем, чтобы не терять времени, к
главному технологу, уясним особенности
работы со стеклянным волокном. Таких
особенностей Лидия Андреевна Будний
усматривает несколько. Волокно
излишне хрупкое, склонное к обрывам,
поэтому нормы выработки ниже, чем в
традиционной текстильной
промышленности, и зоны обслуживания поменьше.
И еще: стеклянная нить — абразив, а в
.цехах, куда ни глянь, разного рода
направляющие и проводники, вдоль
которых, по которым и сквозь которые
-несется стеклянная нить. Оборудование
между тем не специальное, для стек-
——•"ГПоволокна, а стандартное, надо
приспосабливать его и приспосабливаться к
чъ нему. Производительность машин по
нынешним меркам невысока, и если бы
не передовики...
Но что может сделать передовая
работница — быстрее заматывать нить?
Главный технолог опровергает это наив-
ное мнение: точно так же, как
аппаратчик не вправе поднять температуру в
реакторе выше положенной, так и
крутильщица не может превысить
заданную скорость веретена. Каким же
образом можно тогда давать ежесменно
две, а то и три нормы?
Одним-единственным — занять места
двух, а то и трех работниц.
ЛИДЕР ПО РАСЧЕТУ
Если заставить легкоатлета бежать
стометровку по лесной тропинке или
прыгать через забор, то нелепо надеяться
на высокий результат. Для спортивного
рекорда, да и вообще для пристойного
результата, нужны специальные
условия, которые и создают спортсменам
по мере сил инженеры, тренеры, врачи,
повара...
В области материального
производства рекорды, поставленные
исключительными личностями в исключительных
условиях, вряд ли имеют общественную
ценность. Так можно добиться почета,
благополучия, даже славы — но не
более того. Производственная
деятельность оценивается по другим меркам,
нежели спортивная.
Предоставим слово людям,
напрямую причастным к рекорду Усатенко.
Начальник цеха Виктор Андреевич КОР-
НЮШИН:
Никаких особых условий для Усатенко
нет и не было: сырье обычное и машины
обычные. Тем не менее Галина
Дмитриевна стала работать на двух зонах, то есть
обслуживать вдвое больше веретен,, чем
положено. Затем присовокупила еще
половину зоны — на паях с ученицей. И
заявила, что сможет работать на трех. Это
феноменально. Директор завода вызвал
меня, просил прикинуть, возможно ли.
Посчитал — не получается. Потом много раз
подсчитывали и пересчитывали, пока не
нашли приемлемый вариант. Тут, знаете,
нужен не рывок, а правильное
распределение сил, как на длинной дистанции...
Технолог цеха Серафима Павловна
ДЕМЧЕНКО:
Все, что мы могли сделать,— выделить
постоянное оборудование, не переводить
с машины на машину. И еще поставить
рядом примерно так же загруженных людей —
удобнее сдавать и принимать смену. Пять
смен — пять человек. Елена Васильевна
Шигарева, Антонина Михайловна Ганчева,
Лидия Игнатьевна Белаш, Евгения
Николаевна Заднеприченко — все они работают на
двух зонах. И Усатенко на трех.
Начальник лаборатории НОТ Анна
Яковлевна НЕХТМАН:
Нельзя сбрасывать со счетов личные
качества, особенно быстроту действий,
которая многим недоступна. Истина не в том,
чтобы все работали, как Усатенко. Но и не
в том, чтобы большинство работало
намного медленнее. Истина, как это часто
бывает, посередине...
Директор завода Валентин Иванович
ВОЛКОВ:
Выполнить два, а тем более три
плановых задания трудно вообще, а на нашем
заводе особенно: на размотке и крутке
у нас самые высокие нормы в отрасли. Но
мы уже числимся в лидерах, а счет, как
известно, идет от достигнутого. Однако
высокой производительности мы добились
в определенном коллективе людей, причем
в молодом коллективе — сам завод молод.
А коллектив не остается одним и тем же,
кто-то уходит на пенсию и приходят
новички. Норму же к старому уровню не
вернешь, скидки не попросишь. Словом, не
будь Усатенко и ее последовательниц, завод
просто не справился бы с планом.
Начальник планового отдела завода Евгений
Николаевич КУПЦОВ:
К концу пятилетки завод должен вырасти
более чем вдвое. К сожалению,
реконструкция затягивается. Можно бы, наверное, и
скорректировать план, но мы сделали
иначе: разбили общий прирост продукции на
все годы пятилетки равномерно. И
ежегодно существенно перевыполняем план,
чтобы к 1980 году выйти на контрольные
цифры. В таких условиях каждая инициатива
рабочих особо ценна. Усатенко и ее
последователи вносят вклад не только в
совершенствование своего дела, но и в развитие
завода в целом.
Добавлю от себя: и не только одного-
своего завода.
ВСТРЕЧА У ФОНТАНА
Сразу за проходной завода, в центре
небольшого сквера, бьет фонтан, особо
привлекательный, надо полагать, в
летнее время. Но он бьет и весной, и
осенью, и даже в дождь, ибо не просто
радует глаз и несет прохладу, а имеет
еще производственную нагрузку:
служит теплообменным устройством для
кондиционеров. Градирня, в отличие
от фонтана, эстетической ценности не
представляет...
Галину Дмитриевну я узнал по
фотографиям, которые видел и на Доске
почета, и в газетах, городской и
областной (один из этих снимков читатель
найдет в журнале). Мы сели на
скамейку у фонтана, с подветренной
стороны, чтобы не попасть под холодные
брызги, и Галина Дмитриевна,
осведомившись, что именно меня интересует,
начала с воспоминаний.
— Не стану утверждать, будто
выбрала завод и профессию осознанно. Так
сложились обстоятельства. Однако я
рада, что обстоятельства сложились так.
4
Девятнадцать лет назад... Да,
девятнадцать, я пришла на завод совсем
девчонкой, сразу после школы. Когда
получила аттестат, то подала документы
в Донецкий мединститут. И тут
случилось несчастье — осталась сиротой.
Сдавать экзамены просто не могла. И
зарабатывать на жизнь как-то надо.
Встретила знакомых девочек, они говорят —
пустили новый завод, люди нужны. И я,
не раздумывая, пошла на завод. Даже
без документов, они остались в
приёмной комиссии. Меня все равно на
работу взяли. И направили в крутильно-
размоточный цех. Тогда в нем были
три, ну от силы четыре крутильные
машины.
Значит, я в ученицах. С учительницей
мне повезло. Люба Петрина поставила
меня рядом с собой и сказала:
«Смотри внимательно!» Я смотрю — до чего
же все сложно! Нет, думаю, это не для
меня, попрошу чего-нибудь попроще.
Крутильщица Бердянского
завода
стекловолокна,
лауреат Государственной
премии УССР
Галина
Дмитриевна
Усатенко
Вот так два часа ходила за Любой и
пугалась. А она вдруг говорит:
«Насмотрелась? Теперь сама работай».
И дала мне крохотный участочек, всего
несколько веретен. Что мне
оставалось делать? Стала -работать. Плохо,
наверное. А Люба подойдет, что-то
поправит и скажет: все в порядке, чего
тут бояться?
Потом Галина Дмитриевна
рассказывала, как она работала на старых еще
машинах, старалась, но заметных
успехов не было: и опыта не хватало, и
начальство то и дело обращалось с
просьбой — на таком-то участке некому
работать, просим тебя как
сознательную комсомолку...
Лет десять назад пришли на завод
нынешние крутильные машины. Вскоре
Галина Дмитриевна стала снимать за
смену процентов на тридцать больше
нормы, она делала за смену три съема
вместо положенных двух. Затем рискну-
5
ла обслуживать две рабочие зоны и на
каждой перевыполняла норму на треть.
Но тут уже мы подошли к новейшей
истории, которая завершилась — на
сегодняшний день — тройной зоной.
Так не будем забегать вперед, тем
более что тогда, у фонтана, Галина
Дмитриевна о недавних событиях почти
не говорила, а предложила зайти
вместе с нею в цех. Мы прошли несколько
десятков шагов, отделяющих фонтан
от входа, и на этом недолгом пути
Галина Дмитриевна не раз сказала
«здравствуй» или «здравствуйте» шедшим
навстречу, а те в свою очередь
здоровались с нею, называя кто как —
Галочка, Галя, Галина Дмитриевна.
— Вот мои три сторонки,— сказала
Усатенко.— Две сторонки одной
машины и еще одна — другой. Норма
обслуживания — одна сторонка, восемьдесят
четыре веретена. Помножить на три —
будет двести пятьдесят два. Вот и вся
арифметика...
Арифметика и впрямь нехитрая.
Только множить на три надо не
отвлеченные числа, а вполне реальные веретена.
Мы прошли вдоль всех трех
сторонок. Одна крутильщица честно
выполняла свою норму, другая — Антонина
Михайловне Ганчева — работала на двух
зонах. Галина Дмитриевна, хотя и была
не в спецодежде, несколько раз
останавливалась у машины, что-то
поправляла, а то просто выключала веретено,
отбрасывая вверх рукоятку привода.
Ганчева улыбалась ей издалека одними
глазами, по той причине, что лицо ее
было закрыто голубеньким
респиратором. Все-таки, что ни говори,—
стеклянное волокно. Впрочем, респиратор —
по желанию, а вот шумозащитные
наушники обязательны.
Мы отправились к промежуточному
складу, куда сдают крученую нить:
там потише. Галина Дмитриевна нашла
свое имя в журнале выработки,
посмотрела, что за нею числится. С двух
зон полагалось снять 146 кг, было
проставлено: 163. Еще с одной зоны —
70 кг, тут значилось 70,5. Почему же
такое незначительное превышение на
одной из сторонок? Я задал вопрос и
осекся: человек и так работает за троих,
а его спрашивают, отчего он еще
лучше не может. Однако Галина
Дмитриевна без всякой обиды объяснила, что
нить пришла с размотки не лучшего
качества, а раз так, то больше опасность
брака. Так пусть уж лучше веретено
простоит некоторое время, пока до
него не дойдут руки, чем гнать брак.
Хорошо, но откуда же небольшой
прибавок к норме, и на таком плохом
сырье?
6
— Я все готовлю заранее,—
объясняет Галина Дмитриевна.— И смену
принимаю на ходу, и не жду, пока
закончится нить, а выставляю свежие
початки загодя. Вот за смену и
набирается прибавок.
Но разве не хватит и трехсот
процентов плана?
— Времени в обрез. Я депутат
областного Совета народных депутатов.
Поехала в Запорожье на сессию — три
дня. Восполнить надо? Вызвали в Москву
на заседание коллегии министерства.
Пять дней. Но я приняла обязательство:
три пятилетки за одну, и если хотя бы
на день опоздаю — все, не выполнила.
И не стану же ссылаться, что, мол, пять
дней была в Москве... А вдруг заболею?
Нет, точь-в-точь три нормы мне давать
нельзя. Нужен запас. А если закончу
пятилетку на несколько дней раньше
обещанного, так за это не взыщут...
Однако, замечаю я, нелегко
выдержать такой темп.
— Конечно, работать на трех зонах
нелегко. Когда я только начинала —
три года назад, то очень нервничала.
Но успевала. Потом успевала
по-прежнему, а нервничала все меньше. Не
люблю, когда меня жалеют, теперешний
ритм для меня нормальный. Несколько
раз я работала на двух сторонках, так
мне казалось, будто я все делаю
замедленно. В конце концов, пришла
работать, так надо работать.
«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
ВО ВТОРУЮ И Т. Д.»
Накануне инженер-социолог (есть на
заводе такая должность) Борис Митро-
фанович Голота имел неосторожность
показать мне одну из анкет, которую
предстояло распространить среди
рабочих. Я выпросил экземпляр, и социолог,
поняв намерение, предупредил, что
мой опрос не будет корректным —
анкетируемый заранее знает цель опроса.
И все же я позволил себе отступление
от строгих правил социологического
обследования: перед тем как
расстаться с Галиной Дмитриевной до утренней
смены, попросил ее заполнить
вопросник. Вот некоторые ответы.
За что, по вашему мнению, вы
получаете ежемесячную премию в первую
очередь, во вторую и т. д. — 1) за
качество продукции (сдача с первого
предъявления), 2) за качество труда,
3) за перевыполнение нормы выработки.
Качество вашей работы колеблется
в течение месяца — нет.
Хорошо ли вы знаете операции,
предшествующие вашей и следующие за
вашей,— знаю частично.
Считаете ли вы, что вашу работу
можно сделать без брака,— да.
Когда вы допускаете брак, как часто
вам приходится выслушивать
порицание руководителя — не всегда, но
бывает.
Когда вы добиваетесь успеха в
работе, как часто вам приходится
выслушивать благодарность руководителя —
не всегда, но бывает.
Всегда ли вы знаете, каких успехов в
работе за смену достигли ваши
товарищи,— интересуюсь время от времени.
Какие обязанности по отношению к
предприятию работники должны
выполнять в первую очередь, во вторую
и т. д.— 1) качественно выполнять
работу, 2) стремиться повышать
квалификацию, 3) давать максимальную
выработку.
Какие потребности рабочих
предприятие должно удовлетворять в первую
очередь, во вторую и т. д.— 1) улучшать
условия труда, 2) обеспечить
материально.
Наверное, прав
профессионал-социолог — не дело корреспондента
заниматься анкетированием; но ответы без
попыток самовосхваления показались
мне достойными внимания. Тем более,
что в некоторых Галина Дмитриевна
кратко изложила свое понимание
обязанностей по отношению к заводу и
обязанностей завода по отношению к
работникам, не упомянув на первом
месте материальное благополучие, но
справедливо отметив и этот фактор.
СМЕНА
На следующее утро, втайне гордясь
своею точностью, я появился в цехе,
когда часы показывали 6.00.
Галина Дмитриевна уже вовсю
работала. На двух сторонках крутились
веретена, увлекая за собой струйки
стеклянных нитей, а третья сторонка,
насколько я понял, вот-вот будет
запущена. Чтобы подготовить рабочее место,
Усатенко, как, впрочем, и многие
другие работницы, приходит в цех
за полчаса до начала смены,
благо автобусы ходят с пяти утра.
Получает на складе нить и, не мешая
сменщице, выставляет початки на
питательную рамку. Пока сдается
продукция предыдущей смены, Галина
Дмитриевна смазывает кольца, по
которым вокруг веретена крутятся
бегунки, увлекающие за собой нить; она
чистит планку с этими кольцами от
пуха и пыли, предупреждая возможный
брак.
— И вообще,— говорит Галина
Дмитриевна,— в смену я стараюсь не
отвлекаться от главного — от выработки-
продукции. Что можно сделать
заранее — я и делаю. Сопроводительные
паспорта заполняю дома, это отнимает
минуты. Клей — вот он, всегда под
рукой. (Флакончик с клеем подвешен к
пуговке белого халата.) Запас
бегунков в кармане, сменить бегунок —
секунды. Попробуйте. (Это была
единственная операция, доверенная мне
Галиной Дмитриевной; для остального
моя квалификация явно не годилась.)
Вот на что не надо жалеть времени —
так это на чистоту. Стеклянная нить
восприимчива к любой грязи, а грязь —
это брак. Несколько раз за смену хожу
мыть руки. (Краны, полочки с мылом
и зеркальца есть в достатке.)
Итак, все 252 веретена пущены,
плавно ходит вверх-вниз кольцевая планка,
неразличимые из-за быстрого
вращения, скользят по кольцам бегунки, как
бы обегая веретена, ведут за собою
белую нить, сливающуюся в
полупрозрачный конус. Галина Дмитриевна ходит
вдоль машин скорым, но не торопливым
шагом. Сколько километров в день —
этого мне выяснить не удалось, замеров
не проводили. Впрочем, рабочие зоны
не так уж велики, зато часто
приходится вмешиваться в процесс, так что
выше ценится быстрота в руках, а не в
ногах...
Работает Галина Дмитриевна
спокойно. Вот обрыв нити. Она выключает
веретено и идет дальше. Почему бы
сразу не склеить?
— Я шла с определенной целью.
Надо ли отвлекаться? Сделаю то, что
наметила, потом вернусь сюда.
Галина Дмитриевна дает пояснения,
а руки тем временем четко,
движениями, отработанными до автоматизма,
снимают с веретена початки,
отматывают неверно намотавшуюся нить,
склеивают, пропускают нить сквозь
проволочные закорюки направляющих.
Система действий поначалу
непонятна. Почему здесь она сразу склеила
нить, а там оставила на потом? Отчего,
продвигаясь вдоль сторонки, вдруг на
несколько секунд отошла к другой
сторонке? Ведь сама же говорила: не
отвлекаться, не суетиться...
— Смотрите: с этим початком я
должна провозиться несколько минут.
Из двух нитей шла только одна, это
называется пропуск. Надо весь брак
отмотать, поставить початок на место,
склеить и заправить нить. А там —
пустяковый обрыв, причем сработала автома- *
тика и отключила веретено. Склеить
можно за секунды. Но пока я три
минуты вожусь с одним початком, оба
веретена простаивают. Если же сделаю
7
секундное дело, то хотя бы одно из
двух веретен будет в работе. И
сколько-то граммов нити успеет намотаться.
А я-то полагал, будто Галина
Дмитриевна действует по наитию —
настолько странными казались ее ходы.
Нет, она действовала по программе,
только алгоритм был мне неизвестен.
Конечно, для выполнения такой
программы нужна хорошая память. И нужен
опыт. Все же девятнадцать лет в одном
цехе...
Поскольку эти заметки не
предназначены служить учебным пособием, не
стану подробно описывать, как Галина
Дмитриевна выполняет те или иные
приемы. Замечу лишь, что на каждой
операции она выгадывает секунды;
скажем, на заправке веретена — около
двух секунд. Каждое веретено
приходится заправлять минимум два раза
за смену, а если помножить на число
веретен...
И еще несколько наблюдений. Может
быть, подмеченные подробности не так
уж важны, однако, когда счет идет на
секунды, именно частности могут
сыграть решающую роль. Скажем, такая
частность: Усатенко почти не тратит
времени на уборку рабочего места.
Эта работа неизбежна, поскольку нить
приходится иногда отрезать или
отматывать, а значит, от моты и срезы
необходимо собрать и вымести. Галина
Дмитриевна очень редко метет пол, просто
потому, что она не сорит. Срезы и от-
моты — сразу в специальный ящик, а
если их немного, то в левый карман
халата. В правом же кармане — ножик
для срезки, сделанный по особому
заказу: крючком и обоюдоострый. Когда
Усатенко идет по проходу вдоль
машины, она изредка наклоняется, подбирает
с пола обрывки нитей. А иногда идет
с веником в руках. Говорит: чтобы не
было холостых проходов.
Мне не хотелось бы, чтоб у читателя
сложилось мнение, будто Усатенко
работает как автомат. Программа ее
действий достаточно гибкая, чтобы
учесть и конкретные условия, и
состояние, и даже настроение. Человек все-
таки не машина.
Галина Дмитриевна чистит патроны —
те, на которых нить подошла к концу.
Надев патроны один на другой, так что
получилась длиннющая пика, она
лезвием срезает над ящиком остатки нити.
А я в это время, помня о секундных
расчетах, показываю Галине
Дмитриевне, что два веретена остановились.
— Ну и пусть. Одно не закончу,
другое сделаю в спешке. Успеется.
Однако порою приходится и спешить.
Вот Галина Дмитриевна выставляет по-
8
чатки, явно торопясь. Говорит, словно
извиняясь:
— Надо бы раньше, а я забегалась.
Нехорошо...
Я хожу за нею, словно тень,
соблюдая, впрочем, некоторую дистанцию,
чтобы не путаться под ногами. Склеив
нить, она направляется в мою сторону, а
потом резко разворачивается:
— Это надо же, не туда пошла...
Мелкие погрешности не умаляют
большой работы, а напротив, как бы
оттеняют ее, делают понятной и
человечной, поскольку ошибаться
свойственно именно человеку.
И еще одно, совсем уж частное
наблюдение. Часа через два после
начала смены в проходе между машинами
появился серо-рыжий кот, ленивый и
чистый. Он хорошенько вылизался,
улегся в проходе и безмятежно заснул
под грохот машин, на что способны,
наверное, только сытые коты. Галина
Дмитриевна улыбнулась и продолжала
работать, а когда ее маршрут пролегал
рядом с пришельцем, она аккуратно
обходила кота, стараясь не
потревожить. Я поинтересовался — знакомое
ли животное? Галина Дмитриевна
ответила, что кот в ее друзьях не состоит,
однако уж коли пришел, так пусть
спит, невелика помеха. Будь на ее
месте автомат, он, не сомневаюсь,
вышвырнул бы кота немедленно,
поскольку в программе наличие на рабочем
месте посторонних котов не
предусмотрено...
За сорок минут до конца смены
Галина Дмитриевна остановила веретена
на одной сторонке. Если сделать это
позже, то до начала следующей смены
ей не успеть снять продукцию:
невозможно за несколько минут снять с
машины, разбраковать и проштемпелевать
личным клеймом 252 початка. Спустя
20 минут были остановлены две другие
сторонки. Усатенко колдовала,
уставляя белоснежными початками тележки
со штырями: что-то наверх, что-то вниз,
что-то на одну тележку, что-то на
другую — сама себе контролер. В ОТК
заметили, что некоторые початки нечетко
проштемпелеваны, и Галина
Дмитриевна, . лидер и передовик, сокрушенно
вздыхая, принялась заново ставить
штампики. Подтолкнула тележки к
весам, вернулась к своим машинам,
перекинулась несколькими фразами со
сменщицей и подошла ко мне.
— Вот и смена закончилась,— сказала
она.— Вы, наверное, устали?
О. ОЛЬГИН,
специальный корреспондент
«Химии и жизни»
Сегодня и завтра
физико-
химической
биологии
Академик Ю. А. ОВЧИННИКОВ,
вице-президент АН СССР
Когда речь заходит о том, какая из всех
естественных наук занимает сейчас
самые передовые позиции, многие
называют биологию. За последние
десятилетия она коренным образом
изменилась и уже сегодня играет заметную
роль не только в познании сущности
мира, но и в практической деятельности
человека.
А из всех направлений биологии
сегодня на первый план вышло то,
которое мы иногда называем биологией
физико-химической и которое возникло
благодаря творческому соединению
идей и методов биологии, физики и
химии.
Первые шаги этого направления были
связаны, пожалуй, больше всего с
физикой; физике обязана своим
возникновением одна из важнейших
дисциплин этого нового направления —
молекулярная биология. Объяснить это
можно разными причинами, и среди них
не последнее место занимает, я бы
сказал, чисто психологическая сторона.
В те годы, два-три десятилетия назад,
физика была, наверное, самой
передовой наукой. Незадолго до этого она
пережила настоящую революцию, и
физики 40—50-х годов были очень
восприимчивы к новым идеям, были,
можно сказать, даже агрессивны в поисках
новых областей приложения своих
методов и понятий.
Такой новой и интересной для них
областью и оказалась биология. Физики,
устремившиеся в нее мощным
потоком, принесли с собой новый подход
к вещам и подняли биологию на
качественно новый уровень. Я не могу
сказать, что все сделанное ими тогда было
правильно и выдержало проверку
временем, но многими совершенно
выдающимися открытиями тех лет мы
обязаны именно влиянию физики.
Химики тогда стояли как бы
немного в стороне от этого нового
направления в биологии. Может быть, опять-
таки по причинам отчасти
психологическим, в силу некоторых особенностей
своей профессии; ведь не случайно еще
Роберт Бойль одно из своих главных
сочинений назвал «Химик-скептик».
Химики привыкли основывать свои
выводы на солидной экспериментальной
базе и только потом -переходить к
широким обобщениям.
Может быть, поэтому некоторые
химики и биохимики встретили новое
направление в штыки. Вот, например,
совсем недавно в журнале «New Scientist»
была напечатана статья известного
американского биохимика Эрвйна Чаргаф-
фа, который, вспоминая о первых шагах
молекулярной биологии, пишет: «Мне
стало ясно, что передо мной некое
новое явление: огромные претензии и
агрессивность, сочетающиеся с почти
полным незнанием химии, с
пренебрежением к химии — этой самой реальной
из всех наук; с пренебрежением,
которое впоследствии не могло не оказать
самого пагубного влияния на развитие
так называемой молекулярной
биологии. Вспоминая о долгих годах
кропотливого труда, потраченного на
получение препаратов нуклеиновых кислот,
о бесчисленных часах, проведенных за
9
их анализом, я не мог не прийти в
недоумение...»
Отрицать роль химического
подхода в биологических исследованиях,
безусловно, нельзя. И хотя так же
неправильно было бы зачеркивать тот вклад,
который внесли и вносят в решение
биологических проблем физики,— это
значило бы вместе с водой выплеснуть и
ребенка,— но и на самом деле в
биологии есть такие вопросы, решить
которые физика сама по себе в принципе
не может. Она, безусловно, первой
объяснила многие стороны
функционирования живой материи. Но с тех пор
новое направление в биологии созрело
и окрепло, и сегодня речь идет уже не
о том, как что-то объяснить, а о том,
как искусственно воспроизвести тот или
иной процесс, явление, функцию.
И дальше—как научиться управлять
ими в живом организме. О том, чтобы
изучать не один какой-то уровень
организации живой материи, а все ее
уровни. И здесь одна физика ничего сделать
не может, здесь нужна помощь химии.
Вот один частный пример, одна
иллюстрация. Многие процессы передачи
и реализации генетической
информации были изучены еще на ранних
этапах развития молекулярной биологии,
и в этом была большая заслуга
физиков. Но теперь мы подошли к
моделированию этих процессов, в том числе
и для того, чтобы научиться на них
воздействовать. Для этого могут
понадобиться, в частности, синтетические
гены — полинуклеотиды заданного
строения, полученные в лаборатории. Первый
такой искусственный ген синтезировал
еще десять лет назад знаменитый
химик X. Г. Корана, и до самого
последнего времени это умели делать только
его ученики. Но Корана после этого
заинтересовался совсем другими
проблемами и синтезом гена уже не
занимается; сотрудники его разъехались по
другим лабораториям и тоже занялись
другими исследованиями. И вот биологам,
которым сейчас понадобились
искусственные гены, пришлось обращаться
к Коране, чтобы он помог им разыскать
тех химиков...
Так или иначе, в последнее
десятилетие, а может быть и немного раньше,
химики тоже стали, по-моему, людьми
достаточно смелыми и тоже
устремились в биологию. Сейчас их вли яние
здесь нарастает очень бурными
темпами. И в первую очередь это касается
биоорганической химии. Выросшая из
прежней химии природных
соединений, науки в значительной мере
описательной, биоорганическая химия изучает
не только структуру, но и динамику
превращении веществ в живых тканях,
конкретную роль этих веществ в
процессах жизнедеятельности,
устанавливает связь между строением того или
иного соединения и его биологической
активностью. Именно поэтому
биоорганическая химия все в большей степени
становится химической основой
биологических наук.
В последние десять-двадцать лет
становятся на прочный
физико-химический фундамент все новые разделы
познания живой материи. Прямое
следствие этого—очень крупные новые
открытия, которые выводят нас на
принципиально иной уровень изучения
живых систем. И мне кажется, что в самое
ближайшее время мы будем
свидетелями настоящей революции на многих
направлениях биологии — и
теоретической, и прикладной.
Впечатляющий эпизод такой
революции, которая происходит на наших
глазах,— бурное развитие генной
инженерии. Каких-нибудь шесть-семь лет
назад даже этого термина еще не
существовало. Правда, в кругах
исследователей уже тогда можно было услышать
достаточно смелые высказывания о
возможности направленного воздействия
на наследственность живых
организмов; давно предпринимались попытки
искусственного синтеза гена. Но такие
работы расценивались тогда скорее как
научный героизм, не более того, и
надежд на успех было мало.
А сейчас уже существуют частные
фирмы, которые используют методы генной
инженерии для производства ценных
продуктов, например гормонов. Уже
можно читать и слышать не
академическое обсуждение перспектив, а
обычную коммерческую рекламу, расчеты
возможной емкости рынка и тому
подобное.
Такие же события назревают и на
других направлениях физико-химической
биологии. Может быть, об этом еще
не узнала широкая публика, но среди
исследователей, знакомых с реальным
положением дел, такие перспективы
уже обсуждаются.
Можно назвать, например,
иммунологию, особенно новую ее область —
иммунохимию. Раньше, лет десять
назад, нам казалось, что иммунная
система организма— это какой-то
таинственный черный ящик, к которому
неизвестно с какой стороны подойти. А
сегодня мы уже хорошо понимаем, как
работают, скажем, иммунорецепторы
клеточной поверхности лимфоцитов —
главных участников иммунных про-
10
цессов. И не только понимаем, но уже
можем в какой-то степени на них
воздействовать. Практическое значение
таких исследований огромно, и я не
сомневаюсь, что в самые ближайшие годы
мы в этом наглядно убедимся.
Очень серьезные достижения
назревают в области воздействия на работу
нервной системы, включая ее святая
святых — мозг.
В самые последние годы были
открыты довольно простые вещества,
которые способны влиять на некоторые
высшие формы поведения, на процессы
памяти, сна, другие проявления высшей
нервной деятельности человека. Эти
работы меня особенно интересуют,
потому что мне удалось в какой-то
степени угадать их направление. В 1965
году на Менделеевском съезде в Киеве
" я высказал предположение о том, что
в деятельности нервной системы
должны участвовать пептиды: в отличие от
нуклеиновых кислот, несущих
наследственную информацию, пептиды могут
оказаться носителями информации
оперативной и в этом качестве выполнять
важные .функции в работе мозга.
И вот теперь установлено, что
пептидные системы, действительно, играют
важнейшую роль в работе мозга. В
мозгу уже открыты так называемые
пептиды сна, пептиды памяти, пептиды
страха, пептиды, действующие подобно
морфину, и так далее. Я убежден, что
в самом близком будущем эти
исследования дадут нам новые мощные
средства направленного воздействия на мозг,
в том числе средства лечения многих
нервно-психических заболеваний.
Такие работы идут сейчас во многих
странах мира, идут они и у нас. Шума
вокруг них пока нет, и это правильно,
потому что шуметь до того, как дело
сделано, вряд ли нужно. Но в
лабораториях об этом уже говорят, а года
через три, я думаю, будет и шум...
Исключительно большие сдвиги
происходят сейчас в области изучения
биологических мембран и воздействия на их
свойства. Уже есть десятки веществ,
которые могут буквально по нашему
желанию в очень широких пределах
регулировать, скажем, проницаемость
мембран для различных соединений,
а это свойство мембран определяет
ход важнейших жизненных процессов.
Такие вещества сегодня широко
используются для решения исследовательских
задач, но они уже начинают находить
и практические применения. Например,
кардиологи с их помощью регулируют
работу сердечной мышцы; эти же
вещества сильно влияют на
жизнедеятельность микроорганизмов, что очень
важно для микробиологической
промышленности; а в Японии по этому
принципу создай совершенно новый тип
препаратов для борьбы с болезнями и
вредителями сельскохозяйственных
культур.
Биологические мембраны играют
огромную роль в энергетических
процессах, происходящих в живом
организме; в сущности, эти процессы и
реализуются благодаря мембранным
системам. Поэтому достижения мембра-
нологии повлекли за собой большие
успехи в области биоэнергетики. Время
поисков и шатаний здесь позади, нам
уже в общем ясны принципиальные
механизмы энергетических процессов
в клетке, и сейчас идет конкретное
изучение реальных систем, которое
каждый день, каждый час приносит новые
интереснейшие результаты.
В качестве примера можно назвать
исследования бактериального
родопсина — белка, с помощью которого
бактерии используют световую
энергию. Оказывается, это в принципе та же
самая машина, какая служит для
восприятия света глазом человека и
животных, и так уж чудесно сработала
эволюция, что эта универсальная машина
работает необычайно эффективно. Если
бы мы научились хотя бы на одну
десятую использовать подобный механизм
для утилизации солнечной энергии в
промышленных целях, то это был бы
переворот в энергетике. АЛы получили
бы неисчерпаемый источник энергии —
доступной, дешевой, чистой и по своим
продуктам, и по своей технологии —
можно сказать, идеальной энергии. Я
верю, что это произойдет, и в не столь
отделенном будущем, потому что
события здесь развиваются быстро...
Перспективы, открытые перед физико-
химической биологией, необозримы.
В таких условиях, естественно, не всегда
легко сориентироваться, правильно
выбрать направление работы. Сразу всем
заниматься невозможно — этого
сегодня не может позволить себе не только
ни один самый сильный институт, но и
ни одна самая мощная страна, даже
такая, как СССР или США. Поэтому
перед каждым ученым и перед каждым
коллективом встает проблема
рационального выбора: верно рассчитать свои
силы, верно определить главное
направление, где можно с осязаемой
вероятностью получить интересные и важные
результаты, и в этом направлении
работать. Это не близорукий практицизм,
и
а просто реальная оценка положения.
А обдумывать такие вещи лучше
всего совместно. Если кто-нибудь
попытается работать изолированно,
отгородившись от остальных непроницаемым
щитом, то он вряд ли сможет открыть
что-нибудь ценное и важное и в конце
концов окажется в мире банальных
истин...
Именно эта мысль и лежала в основе
международной встречи ученых,
состоявшейся прошедшей осенью в
СССР,— симпозиума «Перспективы
биоорганической химии и молекулярной
биологии». На этой встрече не было,
как обычно, множества сообщений об
отдельных экспериментальных
результатах — были только обзорные
доклады по самым широким и интересным
проблемам. Пригласить на симпозиум
было решено только ученых, если
можно так выразиться, самого большого
калибра — не две-три тысячи человек,
как обычно на международных
конгрессах, а всего сто — сто двадцать. Но зато
среди них были ведущие представители
разных дисциплин, разных подходов,
которые смогли подробно обсудить
стоящие перед нами проблемы.
Что можно сказать сейчас о
результатах симпозиума? Конечно, никаких
немедленных, прикладных результатов,
которые можно будет завтра же
применить на практике, от таких научных
встреч ждать нельзя. Один из наших
гостей, американский биохимик Бруно
Виткоп, правильно заметил, что
неспециалист всегда хочет знать, какую
именно болезнь можно будет вылечить в
результате очередного симпозиума
ученых, а на самом деле смысл таких
встреч совсем не в том.
Практические достижения,
несомненно, будут, и очень важные; то
обсуждение принципиальных вопросов, которое
происходило в Москве и в Ташкенте,
наверняка станет важным толчком и в
этом направлении. Но самым важным
было, вероятно, все-таки то, что на
симпозиуме все мы, его участники,
получили возможность окинуть единым
взглядом все разделы этой большой
области науки, обменяться мнениями и
планами на будущее. Теперь мы лучше
представляем себе, что делают другие,
а из того, что делаем мы сами, многое
предстало в ином свете, под новым
углом зрения. И сегодняшнее
положение дел, и перспективы стали теперь
намного яснее.
Впрочем, если говорить о
перспективах, то не надо забывать, что прогнозы
в науке — дело ненадежное: они
обычно не оправдываются. И не
оправдываются, если можно так сказать, в
лучшую сторону — потому что
действительные события в науке чаще всего
опережают наши предположения...
Говорят гости
Специальные
корреспонденты «Химии н жизни»
А. Иорданский, Д. Осокина,
М. Черненко и В. Черникова
побеседовали в Москве и
Ташкенте с многими
участниками симпозиума
«Перспективы биоорганической
химии и молекулярной
биологии». Эти беседы мы
будем печатать в
последующих номерах журнала. А
здесь — несколько
интересных мыслей, высказанных
в ответ на вопросы
корреспондентов представителями
разных стран, разных
поколений, разных научных
отраслей и школ.
В наше время, особенно в
странах Запада, все чаще
раздаются голоса, обвиняющие науку и
ее порождение — технику во
многих неустройствах нынешнего ми-*
ра. Насколько оправдано это
мнение,— в частности,
применительно к современной биологин?
Профессор Роберт ВУД-
ВОРД. Гарвардский
университет (США), лауреат
Нобелевской премии,
иностранный член АН СССР:
Действительно, в последнее
время на Западе возникла
тенденция, которую можно
было бы назвать
антинаучной. Многие люди,
политики, члены правительств
считают, что наука только
создает проблемы, которые
ухудшают жизнь на нашей
планете. Они иногда
говорят: с<Из-за всех этих
проблем, порожденных наукой,
наше время ужасно. Лучше
было бы нам жить в
XVIII веке — тогда не
было никакой науки, и все
было хорошо». Я на это
отвечаю так: «Прежде всего,
в XVIII веке вас уже не было
бы в живых, потому что
средняя продолжительность
жизни тогда была всего
28 лет. А если бы вы
уцелели, то вы бы недоедали, вас
бы терзали самые разные
болезни, ваша жизнь была
бы действительно ужасна —
если только вы не
принадлежали бы к очень
малочисленному
привилегированному меньшинству...»
На самом же деле все
мы, занимаясь своими
исследованиями, сегодня,
сейчас в каком-то смысле
делаем историю, даже если
сами этого не осознаем. Я
приведу один частный
пример — проблему лечения
диабета инсулином. Еще
недавно инсулин можно
было получить только из
природных источников,
из поджелудочных желез
скота. Инсулина, который
добывали таким путем,
хватало лишь на больных,
живущих в развитых странах.
А в третьем мире умирают
от диабета миллионы людей,
потому что на их лечение
инсулина не хватает. И вот
теперь биология добилась
огромного триумфа: сразу
несколько групп
исследователей сумели заставить
бактерии вырабатывать
инсулин. Благодаря этому
12
достижению, которым мы
обязаны в первую очередь
фундаментальной науке,
можно будет в ближайшем
будущем практически
решить проблему диабета во
всем мире...
Политические власти
Советского Союза
заслуживают уважения, в частности,
за то, что они понимают:
проблемы, стоящие перед
обществом, могут быть
решены только с помощью
науки и техники. Наука не
создает проблемы — она
решает проблемы, и опора
на нее — единственная
возможность улучшить условия
жизни для всех людей.
Современная биология ведет
свои исследования широким
фронтом, одновременно во
многих направлениях. На каком
из этих направлений в скором
будущем можно ожидать
наиболее важных теоретических
или практических
результатов?
Профессор Ганс ЦАХАУГ
Мюнхенский университет
(ФРГ):
Работать в науке надо не
только на тех
направлениях, где появился шлягер,
где есть некая сенсация.
Надо много работать в
самых разных направлениях,
и тогда в один прекрасный
день где-то созреет
желанный плод. Вот мы уже
двадцать с лишним лет
работаем с транспортной РНК,
синтетазами и рибосомами.
Здесь множество
серьезных открытых вопросов,
прежде всего проблема
узнавания нуклеиновая
кислота — белок. Я бы не
отважился предсказать, что
через пять, скажем, или
через десять лет проблема
узнавания будет решена,
но тем не менее надо над
ней работать. То же самое
с хроматином, которым мы
занимаемся уже десять
лет. И здесь может
произойти большой прорыв,
но нельзя быть в этом
уверенным.
Главное — чтобы все не
бросались работать туда,
где вдруг появился шлягер,
и не устраивали бы свалку.
Так часто бывает: узенькая
тропка, на которой,
уцепившись друг за друга,
топчутся легионы ученых. Вот
типичный случай. В 1977 году
на симпозиуме в Колд
Спринг Харбор было
сообщение, что при некоторых
условиях рост клеток может
стимулировать масляная
кислота, которая при этом
ацетилирует белки-гистоны,
и что это ужасно интересно
с самых разных точек
зрения. Это было в июле. А уже
в августе не меньше
дюжины лабораторий вовсю
занимались действием
масляной кислоты на клетки и
впопыхах сочиняли статьи,
в «PNAS», чтобы успеть
сдать их в редакцию до
октября и опубликоваться под
1977 годом. Другие, 'у
которых не было надежного
хода в «PNAS», пустились
во все тяжкие по другим
изданиям. И в конце концов
большинству удалось
напечататься. А на
следующий год, на Гордоновской
конференции, стало ясно,
что никакой сенсации тут
нет и не будет...
Так что лучше не кидаться
за всеми, а найти свою
дорожку и идти по ней до
конца...
Что было, на ваш взгляд, самым
интересным и полезным на
прошедшем симпозиуме?
Профессор Дороти ХОДЖ-
КИНГ Кристаллографическая
лаборатория, Оксфорд
(Англия), лауреат Нобелевской
премии, иностранный член
АН СССР:
Наша главная трудность —
в том, что все мы очень
плохо знаем литературу...
А когда приезжаешь на
такой вот симпозиум, то
обнаруживаешь, что идут
гораздо более обширные
исследования, чем ты думал.
Меня, например, очень
заинтересовали новые
данные о белках хлопкового
семени, которые
приводились в одном из докладов.
Когда мы сорок пять лет
назад начинали изучать
белки, в тогдашней
литературе было довольно много
сведений о глобулинах,
содержащихся в семенах
растений; но с тех пор в
этой области делалось очень
мало. И вот вдруг я узнаю,
что здесь, в Ташкенте, уже
расшифрованы
аминокислотные последовательности
трех или четырех таких
белков!...
Профессор Алекс РИЧ,
Массачусетскнй
технологический институт (США):
Этот симпозиум обладал
большой стимулирующей
силой. Во-первых, он дал
возможность ученым,
работающим в этой области,
встретиться друг с другом
и в достаточно
неофициальной обстановке обсудить
многие детали
экспериментов. Такие обсуждения очень
ценны: они позволяют
узнать много такого, что
невозможно понять, просто
читая публикации. В
научных публикациях часто
сообщаются только
результаты, в них нет многих тонких
деталей эксперимента, нет
многих мыслей, лежавших
в основе работы. Все это
можно узнать только в
личном общении.
Во-вторых,
международные встречи ученых очень
важны, потому что наука —
'это такой род человеческой
деятельности, который
выходит за рамки
национальных границ. Наука в
широком смысле слова — это
поиск, попытка понять, как
работает природа. Такая
жажда знания, такое
стремление понять — не
привилегия одной страны или
одного народа, оно присуще
всему человечеству.
Но есть еще одна важная
сторона у тех
международных научных конференций,
в которых принимают
участие американские и
советские ученые. И США и
СССР — в высшей степени
мощные державы; каждая
из них обладает огромными
разрушительными
возможностями. Поэтому
особенно важны контакты между
гражданами этих стран,
контакты мирные и
созидательные, которые позволили
бы им понять, сколь многое
их объединяет. В частности,
много общего у нас и в
области науки. Я думаю, что
встречи советских и
американских ученых ведут к
большему взаимному
пониманию, к стабилизации,
которая нужна нам, чтобы
выжить в сегодняшнем
мире, чтобы полностью
исключить возможность
ядерной войны.
13
последние известия
Отчего цыплята
не следуют
за шаром?
Еспн куриные яйца облучать
в середине
эмо^иож льного развития
Ао^ои выше 25 рентген,
т< у вылупившихся цыплят
..,—падает способность
к нмпрннтин! у.
Всякий нормальный цыпленок, да и
вообще детеныш, способный к
самостоятельному передвижению,
фиксирует в памяти признаки некоторых
объектов (родителей, братьев и
сестер) — это и есть импринтинг, запе-
чатление. Самая изученная его фор-
м-а — реакция следования: куда
родитель, туда и младенец.
Новорожденного можно обмануть, предъявив
ему неживой объект,— он и за ним
будет следовать.
Все это хорошо известно. Не
менее известно и другое:
ионизирующее излучение серьезно
воздействует на живые организмы. Но влияет ли
облучение эмбриона на способность
к запечатлению у детеныша — это до
недавнего времени оставалось
неизвестным.
В Институте физиологии им. И. С.
Бериташвили АН Грузинской ССР
были поставлены такие опыты. Яйца,
собранные в один день, случайным
образом разделили на пять групп по
15 яиц в каждой, поместили в
инкубатор и на 12-й день облучили
рентгеновскими лучами в разных дозах —
от 15 до 300 рентген. Когда цыплятам
пора было вылупиться, яйца
перенесли-в картонные коробки, чтоб у
птенцов не было ненужных внешних
раздражителей. А потом совсем юных
цыплят помещали в так называемый
аппарат Гесса — манеж, по которому
вращается красный шар.
Физическое развитие всех
появившихся на свет птенцов было
нормальным (доза облучения не очень
высока). А вели они себя по-разному.
Если доза была меньше 25 рентген —
то птенцы спустя несколько минут
начинали следовать за шаром, как за
родной матерью. Если же доза была
выше, то они либо проявляли полное
безразличие к шару, либо
откровенно пугались его.
В чем же причина? В середине
эмбрионального развития высшие
отделы центральной нервной
системы уже созревают, в мозгу идет
интенсивный синтез биогенных аминов
и ДНК. А у нервной системы очень
высокая радиочувствительность.
Вероятно, облучение угнетает и нейро-
генез, и синтез аминов, и синтез ДНК.
Но почему же тогда в другой серии
опытов, когда яйца брали на 20-й
день развития, такое же облучение
не только не подавляло импринтинг,
но, напротив, явно стимулировало
его?
В «Сообщениях Академии наук
Грузинской ССР» A978, т. 91,
стр. 133), откуда почерпнуты эти
сведения, однозначного ответа
нет:.проведены только первые опыты. А он
может оказаться очень любопытным.
И, кстати, практически значимым:
ведь радиотерапия сейчас не
редкость, и надо твердо знать, как и в
какой мере она скажется на будущих
детях. Не только на куриных детях,
разумеется.
Г. БОРОДИН
Хромосомы —
в липосомы!
В мышиные f л .
удалось ввести хромосомы и /ювека,
заключив их в липидкую сэ почку.
В результате мышиньи .:летки
начали синтезировать фермента,
специфичные для человеческого
организма
14
Наружная мембрана надежно
защищает клетку от внешней среды. Для
веществ, которые жизненно
необходимы клетке, существуют спе-
4X (
последние известия
циальные переносчики, способные
проникать сквозь мембрану. Для
большинства же других веществ путь
через мембрану заказан. Поэтому,
чтобы ввести в клетку необходимые
исследователю вещества, плохо
проникающие через мембрану,
пришлось создать специальную
методику. Вводимое вещество
заключают в облатку — в крошечные
(в сотни раз меньше клетки) липид-
ные пузырьки-липосомы. Липосомы
либо сливаются с клеточной
мембраной, освобождаясь при этом от своей
начинки, либо целиком
поглощаются клеткой. В обоих случаях
вещество попадает в цитоплазму,
несмотря на мембранный барьер
(см. «Химию и жизнь», 1977, № 9).
Когда в начале семидесятых годов
появился этот метод, возникла идея
приспособить его к нуждам генной
инженерии. Можно было надеяться,
что липосомы облегчат попадание
нового генетического материала
в клеточное ядро. Но хотя сама по
себе идея весьма заманчива,
оставалось неясным, можно ли
заключить в липосомы достаточно большой
фрагмент ДНК, не нарушится- ли
при этом способность ДНК к
транскрипции, доберутся ли гены,
введенные в липосомы, до ядра' клетки
или будут разрушены по дороге.
И, наконец, было неизвестно,
сумеют ли гены, освободившись от
липосом, заработать так, как
работают собственные гены клетки.
Теперь на все эти вопросы можно
ответить утвердительно. В журнале
«Proceedings of the National
Academy of Science of the USA» A978,
т. 75, с 1361) опубликована
совместная работа сотрудников нескольких
американских институтов А. Макхер-
жи, Ш. Орлова, Дж. Батлера, Т. Три-
че, Р. Лалли и Дж. Шульмана. В этой
публикации сообщается об успешном
введении в клетки новых генов,
заключенных в липосомы.
Авторы работы не стали выделять
дл я пересадки отдел ьные гены, а
решили ввести в клетку целые
хромосомы. Это упрощает задачу,
поскольку получить хромосомы
несравненно легче, чем отдельные
гены, а кроме того, известно, что
попав в ядро клетки, чужие
хромосомы начинают работать.
Установлено это было в опытах, когда клетки
инкубировали с суспензией
хромосом. В одном случае из 10—100
миллионов хромосомы попадали-
таки внутрь клеточного ядра и
проявляли активность.
В надежде сделать это событие
более вероятным, исследователи
заключили хромосомы человека
в облатку из липидов, и такие
липосомы с начинкой добавили к
мышиным клеткам. Предварительно,
конечно, надо было удостовериться,
что хромосомы на самом деле
оказались внутри липосом. В этом
убедились несколькими способами:
с помощью флуоресцентной
микроскопии (при определенной окраске
видны красные точки хромосом
внутри зеленых пузырьков липида),
с помощью радиоавтографии и
электронной микроскопии.
Наконец, липосомы (авторы
называют их липохромосомами),
смешали с мышиными клетками.
Вскоре в ядрах этих клеток обнаружили
характерные хромосомы человека.
Для того, чтобы проверить,
работают ли введенные гены, были
выбраны такие мышиные клетки, которые
не умеют синтезировать фермент
гипоксантин - гуанинфосфорибозил-
трансферазу. После введения ли-
похромосом клетки начали
синтезировать этот фермент. Учитывая, что
хромосомы и клетки принадлежат
разным видам, установили видовую
принадлежность фермента.
Оказалось, что он специфичен именно для
человека. И поскольку в геноме
мышиных клеток такой фермент не мог
быть закодирован, то остается
единственный, вывод: хромосомы
человека попали в ядра мышиных клеток
и начали там активно работать.
Механизм проникновения липо-
хромосом в ядро пока неясен, но
липосомы увеличивают частоту
попадания новых генов в ядро в
несколько сот раз. И это вселяет
большие надежды. Итак, хромосомы —
в липосомы!
Кандидат биологических иаук
Л. МАРГОЛИС
ЙИ*
4 , " эй
60 МИЛЛИОНОВ
градусов
в токамаке
Кандидат физико-математических наук
Г. С. ВОРОНОВ
Летом прошлого года в печати
появились сообщения о новом успехе на пути
к управляемому термоядерному
синтезу: на установке токамак удалось
нагреть плазму до рекордной
температуры. В дни, когда шел этот эксперимент,
я находился в Принстоне в научной
командировке. Мне хочется рассказать
здесь о событиях, очевидцем которых
я стал.
НЕОБХОДИМОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Очень заманчиво начать рассказ прямо
с событий августа 1978 года, когда прин-
стонский токамак начал выдавать
прямо-таки невероятные результаты. В
памяти еще свежи волнения тех дней,
когда казалось: еще совсем немного, и вот
она — заветная граница УТС.
Но я сознательно отодвигаю описание
«мига торжества». Ведь оценить прорыв
можно, лишь понимая, что ему
предшествовало. А потому вспомним
коротко, как все начиналось.
Проблемой управляемого
термоядерного синтеза физики занимаются уже
28 лет. И еще, как полагали до сих пор,
понадобится примерно столько же,
чтобы довести до практического
воплощения идею, казавшуюся в далеком
Карта наступления на термоядерную
крепость. В отличие от предыдущих наших
публикаций (см. например, «Химию и
жизнь», 1971, № 5; 1976, № 10) здесь по
вертикали вместо температуры электронов
отложена температура ионов. Очевиден
огромный рывок, достигнутый в
результате эксперимента на токамаке ПЛТ
1951 году так легко осуществимой,—
заставить реакцию синтеза легких ядер
отдавать свою энергию медленно, в
контролируемых условиях.
Особенность термоядерной реакции
состоит в том, что идет она с
достаточно большой скоростью только при
очень высокой температуре — порядка
100 миллионов градусов. Чтобы энергия,
выделившаяся при термоядерной
реакции, превысила затраты на нагревание
исходных веществ, нужно, чтобы
плотность плазмы была достаточно велика.
Кроме того, оба условия — высокая
температура и высокая плотность —
должны выдерживаться достаточно
долгое время. Расчеты показывают, что
для смеси изотопов водорода —
дейтерия и трития— плотность должна
быть не меньше 1014 атомов в
кубическом сантиметре, и эту смесь
необходимо поддерживать при температуре 100
миллионов градусов в течение по
крайней мере одной секунды.
Это чрезвычайно трудная задача. Ведь
никакие обычные стенки такой
температуры не выдержат. Что же удержит
плазму? В 1950—1951 годах была
высказана основная идея решения
термоядерной проблемы: удерживать плазму надо
магнитными полями.
За 28 лет было изобретено множество
магнитных ловушек для плазмы. В самых
совершенных из них — токамаках и стел-
лараторах — плазма живет уже сотые и
даже десятые доли секунды.
Токамак был придуман в СССР —
в Институте атомной энергии им.
И. В. Курчатова. Стеллараторы
изобрели в США. Структура магнитного поля
в обоих этих устройствах, по существу,
одинакова. Ловушки сделаны в виде
тора (бублика). Силовые линии магнитного
поля вьются по спирали вокруг тора
(см. рисунки на следующих страницах).
По замыслу, стелларатор должен
удерживать плазму лучше токамака.
Ведь если с плазмой что-нибудь
случится, то изменение тока в ней
немедленно сказывается на магнитной структуре
токамака, а в стеллараторе структура
магнитного поля от поведения плазмы
не зависит. Зато построить хороший
стелларатор значительно трудней.
ОХ УЖ ЭТА ПЛАЗМА...
До 1967 года в США интенсивно
развивали исследовани я на стел лараторах.
В СССР работа шла одновременно и на
токамаках, и на стеллараторах. В 1967
году на токамаке Т-3 в Институте атомной
энергии им. И. В. Курчатова были
получены сенсационные результаты — тем-
17
пературу электронов плазмы удалось
довести до семи миллионов градусов.
В это сообщение американским
физикам даже трудно было поверить,
потому что на стеллараторах в то
время получали плазму, нагретую лишь до
одного миллиона градусов, а
термоизоляция плазмы с ростом температуры
катастрофически падала. После того,
как группа специалистов из Англии
с помощью собственной аппаратуры
измерила температуру плазмы в токама-
ке Т-3 и подтвердила сообщенный
результат, американская программа
термоядерных исследований была
решительно изменена. Долой стелларатор!
Да здравствует токамак! Все
стеллараторы были ликвидированы, а самый
большой из них переделан в токамак.
К настоящему времени в США работает
около 20 токамаков и строятся все
новые.
В СССР между тем параллельно ис-
следовани ям на токамаках
продолжались работы и на стеллараторах.
Постепенно стала ясной причина плохого
удержания плазмы в американских
установках: оказалось, стеллараторы были
недостаточно точно сделаны. К 1976
году, когда все это было понято, в СССР,
ФРГ и Англии'построили новые
стеллараторы, на которых наконец-то, как и
ожидалось теоретически, время удер-
жани я плазмы оказалось в 2—3 раза
большим, чем в токамаках того же
размера.
Теперь в США начинается эра
возрождения стеллараторов — уже есть
проекты строительства двух огромных
установок и обсуждается возможность
переделки в стеллараторы нескольких
токамаков...
Столь же тяжело давалось решение и
другой проблемы — нагрева плазмы.
Довольно быстро — с помощью тока,
текущего прямо по плазме,— удалось
получить первый миллион градусов.
Этот результат был достигнут уже в
середине 50-х годов. Но дальше
температура росла чрезвычайно медленно.
Дело в том, что плазма нагревается
отнюдь не так просто, как, скажем,
вода в чайнике. Если вы станете нагревать
воду в два раза интенсивнее, то и
температура ее (за то же самое время)
повысится вдвое. А с плазмой все не так.
Как только повышается мощность
нагрева, с нею обязательно происходит
что-то (возникают новые виды
неустойчивости, увеличивается поток примесей
из-стенок), в результате чего тепла
уходит столько, что плазма нагревается
лишь чуть-чуть сильнее, а иногда даже
охлаждается.
Так устроен токамак. Чтобы создать
нужную структуру магнитного поля,
сначала с помощью обычных магнитных
катушек создают магнитное поле, силовые
линии которого просто идут вдоль тора.
А чтобы линии закрутить по спирали,
сквозь плазму пропускается ток
Поэтому, чтобы повысить
температуру плазмы, приходится заботиться не
столько о мощности нагрева, сколько
об улучшении магнитной изоляции и
очистке стенок. Именно так и был
достигнут сенсационный результат на то-
камаке Т-3.
Однако к нынешнему времени путь
этот себя почти исчерпал. С помощью
естественного для токамака способа
нагрева — током, текущим по плазме,—
удается нагреть электронную
компоненту плазмы до 20—25 миллионов
градусов, а ионную — до 10 миллионов.
Но в термоядерных реакциях участвуют
ионы, а значит, важна именно их
температура.
10 миллионов градусов удалось
получить на двух самых больших
токамаках— советском Т-10 и американском
ПЛТ. При этом плотность плазмы
достигла C—5) -10,3 частиц в кубическом
сантиметре, а время удержания — пяти
сотых секунды. Так что до заветной
границы A00 миллионов градусов, 10'4
частиц в 1 см3 и 1 секунда) оставалось
еще немало.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Чтобы продвинуться дальше, нужно
было отыскать какие-то иные методы
нагревания плазмы, более мощные, чем
нагревание током. Сейчас известно
несколько подходящих способов:
радиочастотный — на частотах, совпадающих
18
Стелларатор — значительно более сложная
магнитная ловушка,
чем тогамак. В ней для закручивания
силовых линий служит специальная
спиральная обмотка,
по которой течет ток
с частотой вращения электронов или
ионов в магнитном поле; нагрев пучками
быстрых нейтральных атомов; сжатие
плазмы нарастающим магнитным полем.
Чтобы испробовать одновременно все
возможности, были согласованы
программы экспериментов, проводимых
в СССР и США на токамаках Т-10 и ПЛТ.
На Т-10 предстояло исследовать
радиочастотные методы, а на ПЛТ — нагрев
нейтральными пучками. Соглашение
между нашими странами о
сотрудничестве в термоядерных исследовани ях
предусматривает взаимный обмен
учеными. В СССР на токамаке Т-10
несколько месяцев работали американские
специалисты, а двое советских физиков —
автор этой статьи и В. А. Вершков из
Института атомной энергии им. И. В.
Курчатова— отправились в США, чтобы
поставить на токамаке ПЛТ эксперимент
по диффузии примесей. Так получилось,
что я стал очевидцем событий, о
которых пойдет речь дальше.
Токамак ПЛТ находится в Принстон-
ском университете. Поэтому он так и
называется — по первым буквам
«Princeton Large Torus» (Принстонский
большой тор). Эксперимент по нагреву
плазмы на ПЛТ проходил так. Сначала, как
обычно, зажигают плазменный разряд и
плазму нагревают током, текущим в
ней. При этом температура ионов
поднимается до 10 миллионов градусов.
Чтобы нагреть плазму еще сильней,
в нее направляют поток быстрых атомов
водорода. Эти атомы намного
«горячее» плазмы — они летят со скоростью,
соответствующей температуре 400
миллионов градусов.
Нейтральные атомы свободно
проникают сквозь магнитное поле в
ловушку и, столкнувшись с частицами плазмы,
отдают им свою энергию.
ТРУДНОСТИ И НЕПРИЯТНОСТИ
В июне и в первой половине июля
прошлого года эксперимент в Принстоне не
ладился. Четыре генератора атомных
пучков редко срабатывали синхронно.
И поэтому мощйость пучков в каждом
импульсе или, как говорят специалисты,
выстреле менялась самым
неожиданным образом. А когда генераторы
срабатывали одновременно, то плазма все
равно не нагревалась. Быстрые частицы,
обрушиваясь на стенки камеры,
выбивали из них атомы примесей: железа,
вольфрама, а также кислорода и
углерода, по-видимому, адсорбированных
на поверхности стенок. Попадая в
плазму, вещества эти начинают ярко
светиться. Тем самым уносится энергия и
охлаждается плазма. Особенно большие
неприятности доставлял вольфрам. Его
ионы, несмотря на сильное магнитное
поле, каким-то таинственным образом
за сотые доли секунды достигали
центра плазменного сгустка и начинали
излучать энергию. Мощность излучения
вольфрама была столь велика, что часто
превышала суммарную мощность
поступающего в плазму тепла от тока и
атомных пучков. Физики невесело
шутили, что можно брать патент на
способ охлаждения плазмы — вдруг когда-
нибудь да понадобится быстро охладить
реактор...
Промучившись около двух недель и
выяснив, что все неприятности в
основном связаны с вольфрамом,
экспериментаторы решили вскрыть установку
и выкинуть все вольфрамовые части. Их
заменили на такие же детали из
нержавеющей стали.
Когда возобновили эксперименты, то
увидели, что доминирующей стала
примесь железа. .Железо тоже очень
быстро добиралось до центра плазмы. Но,
к счастью, в атоме железа не так много
электронов и почти все они оказывались
ободранными прежде, чем ион железа
попадал в центр. Голые ядра железа
ничего не излучают. Поэтому мощность
излучения из центра почти не возросла.
Да и полная мощность излучения всей
плазмы стала меньше, чем
вкладываемая с помощью пучков. В результате
плазма даже немного нагревалась.
После некоторых выстрелов температура
19
ионов возрастала с 10 до 15 или даже
до 20 миллионов градусов.
Успех, естественно, надо было
закрепить, попытавшись заменить материал,
из которого изготовлены детали,
контактирующие с плазмой. Чем меньше
электронов в атоме, тем лучше.
Поэтому обратились к началу таблицы
Менделеева: железо заменили
углеродом, точнее графитом, так как
алмазов размером в десятки сантиметров
не бывает.
С большим нетерпением все ожидали
возобновления экспериментов. Какая же
температура получится теперь?
Вопреки ожиданиям, плазма
нагревалась слабее, чем в предыдущих
опытах. В чем же дело? Спектроскопия
показала, что расчеты были правильными:
углерод полностью ионизируется на
краю плазмы, и все излучение
сосредоточено в этой области. Но только
количество углерода, испаряющегося с
деталей под действием плазмы, оказалось
настолько велико, что полная мощность
излучения практически сравнялась с
мощностью нагрева. Пришлось
вернуться к железу.
ЧТО ЕЩЕ
МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Но была еще одна причина охлаждения
плазмы. Из источников, генерирующих
атомные пучки, поступал холодный
водород.
Дело в том, что для получения
быстрых нейтральных атомов пучок ионов
водорода пропускается через камеру
перезарядки. Эта камера— не что иное,
как бак, наполненный газообразным
водородом. Быстрые ионы водорода,
пролетая через эту камеру, сталкиваются
с атомами водорода. При этом
происходит обмен электронами. Бывший ион
продолжает свой быстрый полет, но
теперь уже в виде атома, а бывший
атом остается в камере в виде иона.
Через то самое отверстие, сквозь
которое быстрые атомы попадают из
камеры перезарядки в плазму, могут
просачиваться и холодные атомы
газообразного водорода.
В результате ионизации этих атомов
образуется плазма, притом холодная.
На нагревание этой лишней плазмы
тратится энергия, и температура всей
плазмы, естественно, снижается. Все
происходит так, как если бы, усиливая
огонь под чайником, мы одновременно
доливали бы в него холодную воду.
Бороться с вредным потоком
холодного газа решили методом распыления
титана. В промежутках между
разрядами в вакуумную камеру стали вводить
титан и осаждать его на стенки.
Свежераспыленный титан адсорбирует любые
вещества, поэтому атомы холодного
водорода стали собираться на стенках,
не попадая в плазму.
Теперь ситуация изменилась
коренным образом. Поток холодного
водорода резко уменьшился.
Сразу же возникла идея вернуться
к углероду. Так и сделали. И
результаты превзошли все ожидания.
Углеродная конструкция при наличии титановой
откачки оказалась гораздо лучше
железной. Мощность излучения плазмы
резко снизилась, и температура пошла
вверх.
ВОТ ЭТО ДА!
Температура не просто пошла вверх,
а прямо-таки подскочила. В отдельных
выстрелах, когда все четыре пучка
удачно срабатывали, температура плазмы
прямо-таки уходила в бесконечность.
Во всяком случае так это выглядело на
экране компьютера. Здесь вы видите
одну из картинок, которые рисует
компьютер сразу после выстрела. На ней
показана температура ионов,
вычисленная по скорости рождения нейтронов,
то есть прямо по скорости самой
термоядерной реакции. Как уже говорилось
выше, без дополнительного нагрева эта
температура подходит к 10 миллионам
градусов. Ожидали, что при включении
пучков она несколько возрастет.
Программа, заложенная в вычислительную
машину, предусматривала рамку для
этой картинки со шкалой до 20
миллионов градусов. Но при включении пучков
кривая температуры устремлялась
вверх, пересекая рамку и уходя за край
экрана.
Увидев все это, один из физиков
воскликнул: fcC плазмой творится что-то
несусветное!» Последовала короткая
дискуссия, и все сошлись на том, что,
наоборот, плазма в кои-то веки повела
себя нормально. Ее температура
возрастала в соответствии с простейшим
законом — пропорционально
вкладываемой мощности.
В ходе изнурительной возни с
коварной плазмой физики как-то отвыкли
от мысли, что в природе соблюдаются
и такие простые законы. Больше 25 лет
ушло на то, чтобы получить 10
миллионов градусов. И все это время плазма
вела себя по принципу «максимального
свинства». Но вот оказалось, что за
пределами 10 миллионов градусов природа
приготовила нам подарок: плазму
можно нагревать так же просто, как воду
в чайнике!
20
40*00 cm
2
f-
-
0
Temperature ^к€У)
•
*
*
•
t
1
| ■ T ■ 1 ■ 1 ' 1 • |
T€ 3*96 keu
r^ 7«ев cm
T 600*3 ff!S
TE. 313* ms
*68437
B8439
3-Aug-7B
17:52:12
Emission (n/sec)
л»*с
/000
Эта картинка взята прямо из
компьютера 3 августа, в 17 час. 52 мин.
12 сек.— после того самого выстрела, когда
температура ионов неожиданно пошла
вверх. Цифры I и 2 слева соответствуют
температуре 10 и 20 миллионов градусов,
внизу отложено время, цифра 1000
соответствует одной секунде.
На том же экране фиксировалось
рождение нейтронов в термоядерной
реакции. В этом выстреле скорость
рождения нейтронов подскочила до
10'" в секунду.
На экране дисплея все это
выглядело вот так. Какая была
температура на самом деле.
так и осталось неизвестным -
точки ушли за край экрана
ПОДВИГ ЮБАНКА
В некоторых выстрелах температура
плазмы подскакивала до 30 и даже до
40 миллионов градусов. Но источники
атомных пучков работали очень
нестабильно. Особенно один из них. То
и дело для его ремонта приходилось
останавливать эксперимент. Тогда
Гарольд Юбанк (как считают, главный
виновник успеха эксперимента) поехал
в Окр ид ж, где разрабатываются эти
источники пучков, и притащил оттуда
пятый генератор — огромную
установку весом более трех тонн. Расстояние
свыше тысячи километров Юбанк
каким-то чудом преодолел всего лишь за
двое суток. Предполагалось, что сразу
же по его приезде будет произведена
замена источников и можно будет
снова работать. Но по дороге Юбанк вместе
с грузом попал под сильнейший ливень.
Оба промокли. С Юбанком ничего
особенного не случилось, а вот прибор
пришлось сушить под вакуумом трое
суток.
После замены все пошло на лад. С
исправным источником суммарная
мощность нагрева возросла, а главное,
установка стала работать гораздо
стабильнее.
НОЧНОЙ РЕКОРД
Температура плазмы стремительно
росла. По мере повышения мощности
стали появляться цифры 50, 60, 70 миллио-
21
<*У
iii<i
•«Mi l\%0**
Миг торжества.
Гарольд Юбанк разрезает
один из пяти огромных тортов,
на которых выведено:
«Температура ионов
шестьдесят миллионов градусов»
нов градусов. Всеобщее возбуждение
достигло предела. Физики работали с
восьми утра и до двенадцати, до часу
ночи.
Однако сквозь радость сквозила и
тревога: а вдруг все эти цифры
—ошибка? Ведь измерительные приборы
никогда в этой области температур не
работали. Необходимо все много раз
проверить, заново откалибровать, поставить
множество контрольных опытов, прежде
чем можно будет сказать: да,
температура воистину такова.
А между тем температура
действительно приближалась к термоядерной.
Скорость рождения нейтронов достигла
7 ■ 10,3 в секунду. Это стало уже
опасным. Дозиметристы, дежурившие
вместе с физиками в контрольной комнате
ПЛТ, объявили, что дальше работать
нельзя, не усилив защиту от
нейтронов,— доза облучения достигла
предельно допустимой нормы.
Для многих приборов, установленных
непосредственно около установки,
излучение оказалось вообще
губительным. Они отказывали один за другим
по мере нарастания температуры и
увеличения скорости термоядерной
реакции. В начале эксперимента на ПЛТ
было 38 приборов для измерения
различных параметров установки и плазмы.
К концу эксперимента в «живых»
осталось только два.
Даже теоретики, работающие в
соседних с ПЛТ комнатах, с серьезным
видом объявили, что у них наблюдаются
нейтронные дефекты в формулах.
Между тем продолжалось
обсуждение результатов эксперимента. При этом
из осторожности принимали все
возможные поправки, снижающие оценку
полученной температуры. И наоборот,
поправки, требующие повысить оценку,
принимались с большим сомнением.
Дискуссия продолжалась бы,
по-видимому, до конца августа — до открытия
Международной конференции по
физике плазмы в Инсбруке (Австрия), где
предстояло сделать доклад об
экспериментах на ПЛТ. Но в середине августа
разыгралась почти детективная история.
В день, а вернее в ночь на десятое,
августа, когда была получена самая
большая температура плазмы —
приборы показали 85 миллионов градусов,
один из физиков, итальянец, не
выдержал, позвонил в Италию и сообщил об
этом потрясающем результате
коллегам, работающим над той же проблемой
в лаборатории физики плазмы во Фра-
скатти под Римом.
На следующий день рано утром в
лабораторию позвонили из Вашингтона
и со ссылкой на сообщение из Италии
потребовали разъяснить, что там такое
открыли в Принстоне. Так как результат
был получен поздно ночью, то
начальник ПЛТ В. Стодиек еще ничего не знал.
Разъяренный, он прибежал в
лабораторию и устроил разнос за разглашение
сырых результатов, которые еще надо
проверять и проверять.
В тот же день по лаборатории был
издан приказ, запрещающий
разглашать неопубликованные данные, и всех
22
иностранных ученых заставили дать
подписку о молчании. Но было уже поздно.
Слухи просочились в печать, и
репортеры осадили Принстон. Три дня
лаборатория стойко оборонялась. Директор
М. Готлиб отказывался давать интервью
и отвечать на вопросы
корреспондентов, ссылаясь на необходимость
тщательной проверки результатов. Но
через три дня лаборатория сдалась.
Корреспонденты газет, радио и телевидения
были допущены на ПЛТ, и сенсация
облетела все газеты мира. Из
осторожности было.объявлено, что получена
температура 60 миллионов градусов, хотя в
нескольких выстрелах приборы
показали 85 миллионов. На 15 миллионов
градусов температуру занизили в силу
обоснованных поправок и еще на 10
миллионов— просто так, на всякий случай.
Ведь 85 миллионов градусов получили
всего лишь в нескольких выстрелах,
а 60 миллионов — во многих десятках.
В этот же день состоялось торжество,
на котором были съедены пять
огромных тортов вместе с надписью на них
«Температура ионов 60 миллионов
градусов».
А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ!
Результаты, полученные на ПЛТ, прежде
всего вселили уверенность в том, что
проблема управляемого термоядерного
синтеза все же будет решена. Эта
уверенность основывается на двух
важнейших выводах из экспериментов.
Во-первых, плазма уже нагрета почти до
100 миллионов градусов. Во-вторых,
вопреки предсказаниям теоретиков,
с плазмой при приближении к
термоядерной температуре ничего
особенного не произошло.
Эти выводы, действительно, очень
важны, но нельзя, конечно, считать (как
заявили некоторые газеты), что
проблема УТС уже практически решена. Ведь
нагрев плазмы до достаточно высокой
температуры — это только одно из трех
необходимых условий. Нужно еще
получить ту же температуру в плазме,
имеющей плотность 1014 частиц в 1 см3
и удерживать эту плазму в течение не
менее одной секунды. По двум
последним параметрам результаты ПЛТ
довольно скромные: плотность при
рекордной температуре была в 10 раз
ниже необходимой, а время удержания
в 40 раз меньше секунды. Так что
работы предстоит еще много.
Впечатление, которое результаты
принстонских экспериментов произвели
на физиков, занимающихся проблемой
УТС, можно сравнить разве что с
реакцией на успех 1967 года, достигнутый
на советском токамаке Т-3, когда
электронную температуру плазмы удалось
поднять сразу в несколько раз. Тогда
полученный результат привел к
коренному пересмотру термоядерной
программы во многих странах.
По-видимому, потребуется какое-то время, чтобы
осознать влияние, которое окажут на
физиков результаты работы на ПЛТ.
Сейчас можно только сказать, что день,
когда проблема УТС будет решена, стал
существенно ближе.
НАПОДОБИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Композиционный материал со
свойствами, подобными
свойствам древесины, получен
в одном из английских
университетов. Основа
материала — эпоксидная смола,
армированная полимерными
волокнами, которые в свою
очередь упрочнены обвитыми
вокруг них спиральными
лентами из стекловолокна. При
растяжении, сжатии или
ударе эти «пряди» перемещаются
относительно друг друга и
поглощают огромное
количество энергии. Нечто
подобное происходит и в
древесине: там роль природных
а мо ртизаторов играют
целлюлозные волокна. Оттого и
свойства нового материала
во многом напоминают
свойства дерева. Он выдерживает
большие ударные нагрузки,
в него можно вбивать гвозди
и ввинчивать шурупы. Этот
материал пригоден для
изготовления автомобильных
бамперов, оградительных
барьеров на шо ссе и других
дета лей, которые могу т
подвергнуться ударным
нагрузкам.
«New Scientist»,
1978, т. 79, № 1111
ГОРЮЧИЕ ГРАНУЛЫ
Найден еще один способ
утилизации таких отходов
лесопильных заводов, как кора,
опнлки, мелкие щепки. Их, а
также солому, мох, ореховую
скорлупу, отходы сахарного
тростника начали превращать
в гранулированное топливо.
При его сгорании образуется
мало твердых частиц
(зольность всего 2%, в то время как
у каменного угля в среднем
13%). Это топливо обходится
в США дешевле природного
газа.
«Popular Science»,
1978, т. 212, № 5
23
<* %
*
4
Первый век
Эйнштейна
Зеленый огонек, met неимоиерноео
будущего счастья, которое ого()аига-
ется с каждым годом. Пуеи. оно
ускользнуло сего()нч, не беда
:*аигра мы побежим <//<<■ быс/рее. еще
дальше станем прогчгкааи^рцки.
И в одно прекрасное ytpo
Так мы и пьииемгя плыгь mieped.
борясь с течением, a two me iHitcui
и сносит наши суденышка o6puiH>> и
прошлое.
Ф. Скотт ФИЦДЖЕРЛЛЬД
...Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью mnh>.
Но пораженье от победы
Ты сам не должен отличать.
Б. ПАСТЕРНАК
Альберт Эйнштейн стал символом
науки двадцатого века. Все эпитеты,
которыми можно характеризовать
гениального физика, уже использованы
при его жизни и за двадцать четыре
года, отделяющие нас от его ухода.
Трудно найти свежие слова. Однако
отмечаемый день рождения не совсем
обычен. Завершение первого века
Эйнштейна заставляет задуматься над
уроком, который он дал ученому миру,
да и всему человечеству.
Мое поколение училось физике в
нелегкое время. На неизбежные во
всяком человеческом обществе
стереотипы наслаивались тогда кое-какие
дополнительные ограничения.
Бесстрашие эйнштейновской логики многих
отпугивало; помнится, в те первые
годы атомной эры Эйнштейн высказывал
парадоксальные гипотезы о возможных
вариантах будущего мирового
устройства. Разумеется, было бы
преувеличением сказать, что Эйнштейн был
тогда под запретом: пользоваться его
результатами не возбранялось. Но... как-
то неудобно было упоминать его
фамилию. Впрочем, наш профессор
А. К. Тимирязев провел-таки семинар,—
мы все его хорошо помним,— на
котором устами другого ученого было
заявлено, что, во-первых, учение
Эйнштейна ложно, а во-вторых, говоря
откровенно, малопонятно, и совсем уже
непонятно, что особенного нашли в его
работах Планк, Нернст и другие: все
уже было сделано до Эйнштейна Ло-
ренцом и Пуанкаре...
Феномен Эйнштейна заключается,
в частности, и в том, что на нас,
школяров той тревожной и интересной
поры, ворчанье наших наставников
повлиять не смогло. Необъяснимое
очарование исходило не только и даже
не столько от его идей, сколько от
концептуальных требований Эйнштейна,
от его критериев истинности
физической картины мира. Что-то большее,
чем результат,— пусть даже
великолепный, необыкновенный и
потрясающий воображение результат,—
содержалось в каждой его работе. Этому
избыточному, надфизическому, то
есть философскому, содержанию
научных достижений Эйнштейна тоже
посвящено немало страниц, перепевать
их нет необходимости. Но и сегодня
можно встретить образованных
физиков, которым трудно скрыть свое
раздражение по поводу того, что
Эйнштейн «не умещается» в физике, что
он навязывает ей силой своего
авторитета внешние по отношению к физике
критерии. Правда, времена изменились;
атаки на Эйнштейна считаются дурным
тоном. Однако верно и другое: он
вернул физике общечеловеческое
значение, связав ее со всеми аспектами
человеческой деятельности.
Принстонская пора Эйнштейна и
особенно последнее десятилетие его
жизни хорошо известны благодаря
многочисленным по-американски
безупречным фотографиям и разного рода
печатным свидетельствам знаменитых и
незнаменитых современников,
запечатлевшим облик человека, так
непохожий на все, что считается обычным и
обязательным для ученого в век НТР.
Неподвластность суете. Отсутствие
потребности в коллективе.
Неслыханная в истории науки независимость
от мнения коллег. И, наконец, ставшая
мало-помалу модным стереотипом
небрежность к общепринятым
условностям касательно профессорского
гардероба; эта особенность более всего
бросалась в глаза, хотя была всего
лишь милым стариковским
чудачеством. Предыдущие пункты не столь
«невинны». В сущности, они неотделимы
от тех качеств Эйнштейна, которые
сделали его личность достоянием истории
25
естествознания и общечеловеческой
культуры. Вот, к примеру, одна из
малоизвестных, но примечательных черт
этой личности: высоко ценя шахматы,
Эйнштейн не любил играть в них; для
него был неприемлем спортивный
принцип борьбы за выигрыш. Иерархия
«деятелей», всякого рода обоймы, очки
и медали, соображения старшинства и
первенства, вообще дух соревнования
в науке, вызывали у Эйнштейна
тоскливое недоумение.
Пристально вглядывающиеся в
непостижимую даль глаза Альберта
Эйнштейна следовало бы вспоминать всем,
кто ломает копья в нескончаемых
спорах о взаимоотношениях одиночки и
«коллектива» в боевом строю
современных научных полков и дивизий.
Жизненные принципы Эйнштейна в
сочетании с тем, чего он достиг в
науке, образуют идеал, к которому,
разумеется, вовсе не обязан
стремиться каждый, но существование которого
никому не дано оспорить. Было бы
небесполезно, * на мой взгляд, вывесить
портрет Эйнштейна в Комитете по
делам изобретений и открытий или,
скажем, зачитывать некоторые выдержки
из его писем и статей членам ученых
советов, прежде чем они приступят
к повестке дня, на которой значится
представление очередного результата
к посвящению в сан открытия. Нелепую
терминологическую суматоху, подчас
сопровождающую у нас обсуждение
мнимых или действительных
открытий, нельзя не рассматривать как
активное покушение на эйнштейновский
идеал.
Пессимисту может показаться, что
идеал этот одушевляет в наши дни
лишь незначительное меньшинство
естествоиспытателей, но в
действительности это не так: все, кому дано
услышать этот призыв, слышат его тем
громче, чем сильнее им хотелось бы
заткнуть уши; все, кто не может не
пробовать себя в науке, будут
помнить о том, что тс2 нашел для
человечества молодой человек, который
по современной номенклатуре был
младшим научным сотрудником
отраслевого института. Совершив девятью
годами позже головокружительный
скачок в прусские академики,
Эйнштейн был озадачен странным
контрастом между сонной одурью,
царившей во время дебатов по научным
вопросам, и юношеским
воодушевлением, которое охватывало
проснувшихся академиков* при обсуждении
«организационных» (выражаясь
современным языком) проблем. Воистину
опасна энергия людей, «многим обязанных
26
науке, но которым наука не обязана
ничем»,— в этих словах молодого
Эйнштейна уже чувствовался бунт против
прусско-казарменных принципов
руководства наукой и поощрения ученых.
Неумение приспособляться — черта,
которую замечали в нем все.
Профессор Минковский в 1909 году ворчливо
говорил своему сотруднику Максу Бор-
ну: «Этот Эйнштейн всегда отлынивал
от лекций. Я бы не поручил ему эту
работу» (подразумевалась теория
относительности).
«Незачем обвинять рабочих в том, что
они следуют за Марксом, если
германские профессора следуют
измышлениям Эйнштейна»,— писала в статье
«Большевистская физика» некая
предвосхитившая Гитлера немецкая газетка.
Полное неприятие буржуазности,
присущее Эйнштейну, было прямым
следствием всего его подхода к
действительности. «В политике он,
естественно, придерживался левых взглядов
и сочувственно относился к русской
революции»,— вспоминает Зоммерфельд.
Этот нонконформизм был для
Эйнштейна естественным, как дыхание.
Долголетняя тесная дружба с
Бором не помешала Эйнштейну
прибегать к весьма резким выражениям во
время их дискуссии о смысле и
полноте квантовой теории. Сейчас нам
понятно, насколько нападки Эйнштейна
на теорию, одним из создателей
которой был он сам, способствовали
кристаллизации тех форм, в которых ныне
существует квантовая механика. До
последних дней жизни Эйнштейн
продолжал этот спор. Поиски единой теории
поля, длившиеся более тридцати лет,
как известно, не дали конкретного
результата. Но это было то самое
поражение всемирно прославленного
ученого, которое, по слову поэта,
невозможно отличить от победы.
Именно в те годы выявилось его
умение полностью отделять
обсуждение научных проблем от личных
отношений, умение сторонним взглядом
взглянуть на собственные достижения,
его стремление придать «надличный»
характер научному творчеству.
По-видимому, эти требования
выработались в диалектическом
взаимодействии личности Эйнштейна с той
всесветной модой на него, той
беспрецедентной в истории науки известностью
ученого, которая существовала уже в
начале 20-х годов. «Если можно
говорить о погоне за славой, то в этой
погоне Эйнштейн, во всяком случае,
играл роль дичи, а не охотника»,—
заметил один из его друзей. Сам Эйнштейн
находил, что главным итогом его по-
пулярности было обилие
бессмысленных заседаний. «Я превратился в повод
для самых убогих рефлекторных
движений»,— пожаловался он. Зоммер-
фельд добавляет: «Эйнштейн страдал
не на шутку. Он не был создан для
того, чтобы сделаться газетной
знаменитостью; всякое тщеславие было ему
чуждо. Он всегда оставался самим
собой, в нем было слишком много
простодушия и даже богемы»...
Но все это отступало перед другими
муками. «Кто ее знает, к ней не
рвется»,— обмолвился как-то Эйнштейн о
своей науке. И он же признался в
письме Зоммерфельду в 1912 году,
в разгар работы над общей теорией
относительности: «Никогда в жизни я
так не мытарился».
Предчувствие очередного поражения
входит в правила игры ученого. Может
ли он, положив руку на сердце,
сказать, что он «создан для счастья, как
птица для полета»? Можно ли вообще
добиться чего-то серьезного в науке,
руководствуясь этим афоризмом?
Открытия редки, а неудач хоть отбавляй.
Автор этих строк далек от того, чтобы
сравнивать свои проблемы с
проблемами Эйнштейна. Но да будет
позволено и мне употребить здесь термин
«ПНИН-состояние», хорошо знакомый
физикам: Почти Невыносимое
Интеллектуальное Напряжение. Именно в
таком состоянии мы оказались
однажды, натолкнувшись на загадку
природы, разгадывание которой потребовало
отнюдь не планомерной,
программированной работы, а скорее чего-то
такого, чго ближе к труду писателя,—
поиска слов, метафор, охоты за
образами, способными передать ситуацию
(речь шла о неэквивалентности гомо-
и кросс-взаимодействий в зеркально
антиподных молекулах).
Из этого круга ощущений, возможно,
рождается музыкальность Эйнштейна
и его непонятная многим любовь к
Достоевскому. «Достоевский дает*
мне больше, чем любой мыслитель,
больше, чем Гаусс!» — сказал он.
Почему? Не потому ли, что даже в наш
сверхрационализированный век
искусство во многом опережает науку и,
более того, напоминая ученому о том,
что и он отчасти художник,
навязывает ему не только эстетические, но
и моральные критерии оценки своего
труда?
Здесь уместно вспомнить об
уникальном жизненном опыте, который
приобрел создатель теории
относительности во время знаменитой
кампании, затеянной Ленардом, Герике,
Вейландом и некоторыми другими
/
16-летний Альберт Эйнштейн —
ученик средней школы
в Аарау (Швейцария).
Снимок сделан в 1895 году.
немецкими физиками в 1919—1921
годах. Несколько раз затихшая было
травля вспыхивала снова и завершилась
изгнанием Эйнштейна из Германии в
1933 г. Один из эпизодов этой позорной
битвы немцев против своей великой
славы запечатлен в переписке
Эйнштейна с Зоммерфельдом. Зоммер-
фельд просит Эйнштейна принять во
внимание политическую наивность
мюнхенских буршей, готовящих какую-то
новую пакость на предстоящей лекции
Эйнштейна (дело происходит в 1921 г.).
Тот отвечает: «Вы правы, говоря, что
психологические причины
раздражения студентов понятны, что они
принимают меня за коммуниста и проч.
Все это я понимаю и могу простить...
Но вблизи я не хочу пережить это, тем
более что достаточно натерпелся...
Если бы речь шла о предприятии с
некоторым объективным значением,
я бы, конечно, стоял до конца и
выполнил свой долг. Но здесь этого нет...».
В 1946 году 78-летний Зоммерфельд
обратился к старому другу с просьбой
вернуть ему некогда посланное
Эйнштейну письмо Баварской академии
наук. «Наша Баварская академия в
1933 году весьма неподобающим
образом потребовала Вашего выхода из
нее. При вспыхнувшем тогда внезапно
сумасшествии ничего нельзя было
сделать... Прошу Вас похоронить топор
войны и согласиться вновь считать себя
27
членом академии». Эйнштейн ответил:
«Дорогой Зоммерфельд! Для меня
было настоящей радостью получить Ваши
живые строчки после всех этих темных
лет... Копии тогдашней переписки с
Баварской академией прилагаю. После
истребления моих братьев в Европе я
не хочу иметь ничего общего с
соотечественниками и с относительно
безобидной академией. Совсем другое —
отдельные люди, которые в пределах
возможного остались стойкими. Я с
радостью узнал, что Вы принадлежите
к ним...».
Итак, всепрощение не входило в
эйнштейновский идеал. А теперь
послушаем проницательного Паули: «Эйнштейн
отличался от своего окружения, от
тех, кто был скован традициями, и от
тех, кто им противостоял; он отличался
тем, что был погружен в свой
собственный абстрактный мир. Несмотря на
все новое, что он дал физике, где-то
в глубине души Эйнштейн хранил
верность старому: в исследованиях по
квантовой теории он придерживается
больцмановского принципа
статистической интерпретации энтропии; в
специальной теории относительности он
сохраняет основы электродинамики
Лоренца; в завершенной в 1916 году
общей теории относительности, которая
предполагает совершенно новый
подход к гравитации как к геометрии
пространства-времени, Эйнштейн
руководствуется представлениями о поле,
восходящими к физике сплошных сред
Фарадея и Максвелла».
Эта диалектическая сложность
устремлений Эйнштейна, дух
независимости и вместе с тем чувство глубокой
связи с классиками привели Эйнштейна в
1927 году к решительному отказу от
пути, на который встало большинство
авторитетнейших физиков мира. Его
поразительные достижения 1905—
1919 годов, его конструктивное участие
в геттингенском периоде создания
квантовой механики, наконец, убеждение
в правильности своего подхода к
построению физической картины мира —
вот причины этого отказа. Один из
наиболее ярких умов в истории науки
добровольно обрек себя на
одиночество, сознательно отгородившись от
«информационного потока» (как
принято сейчас выражаться), чтобы
посвятить себя последнему замыслу,
который отнял у него без малого тридцать
лет...
Каковы же были требования,
предъявленные Эйнштейном к собственному
творчеству? Их три: внешнее
оправдание, внутреннее совершенство и
«реалистичность». Скажем о них несколько
слов.
Эйнштейн
в полпредстве
Советского Союза
На этой фотографии
запечатлено довольно
необычное общество. Попробуем
разобраться, кто есть кто.
В первом ряду, второй
слева, сидит нарком
просвещения А. В. Луначарский.
Четвертый слева —
немецкий художник Эмиль Орлик,
дама в темном платье,
сидящая справа, по-видимому,
госпожа Эльза Эйнштейн.
Мы узнаём здесь наших
соотечественников, имена
которых прославили
мировую науку.
Крайний справа —
электротехник В. Ф. Миткевич.
Возле него, повернувшись
в профиль к зрителю, стоит
геохимик В. И. Вернадский;
в центре второго ряда —
патологоанатом А. И.
Абрикосов, геолог А. Е. Ферсман,
генетик Н. К. Кольцов,
биохимик А. В. Палладии A0-й,
13-й, 14-й и 16-й слева).
У левого края — биолог
А. Г. Гурвич, рядом с ним
физик П. П. Лазарев. А из-
за Лазарева скромно
выглядывает физик Альберт
Эйнштейн.
Как сообщает биограф
Эйнштейна Ф. Гернек,
создатель теории
относительности был деятельным
участником созданного в начале
20-х годов Комитета
международной помощи
Советской России (в числе его
членов были Анри Барбюс,
Анатоль Франс, Ромэн Рол-
лан, Бернард Шоу и
другие). Существуют
многочисленные свидетельства
симпатий, которые
Эйнштейн выказывал русской
науке и революционному
советскому государству;
в воспоминаниях Н. А. Лу-
начарской-Розенель
рассказано о встрече
Эйнштейна с Луначарским.
Групповой снимок, впервые
помещаемый здесь, является
первым из дошедших до
нас фотодокументов,
который наглядно
иллюстрирует связи великого
физика с нашей страной. Он был
сделан в октябре 1925 года
во время приема в совет-
28
Под внешним оправданием
подразумевалось совпадение вычисленного
и найденного. Внутреннее
совершенство — более сложный критерий,
требующий от ученого высокой
эстетической подготовки; он сродни нашему
подходу к оценке произведений
музыки и литературы: гармония целого и
частей, а если говорить более
конкретно,— наивозможная широта выводов
при наименьшем числе посылок. Двум
этим критериям квантовая механика
полностью удовлетворяет. Но Эйнштейн
потребовал от «истинной теории» еще
одного качества. Вот его слова по этому
поводу: «Имеется нечто вроде
«реального состояния» физической системы,
которое существует объективно,
независимо от какого бы то ни было
наблюдения или измерения, и которое в
принципе может быть описано на языке
физики». Паули, анализируя этот
постулат реалистичности, говорил: «Идеал,
так метко охарактеризованный
Эйнштейном, я назвал бы идеалом
стороннего наблюдателя. В действительности
слова «существующее» и
«несуществующее» или «реальное» и
«нереальное» не характеризуют однозначно
дополнительные свойства, которые
можно контролировать только в
статистической серии опытов на различных
свободно выбранных установках,
взаимно исключающих друг друга». И далее
Паули предлагает принять для
всеобщего употребления следующее
определение «физического феномена» по
Бору: феномен есть то, что относится
исключительно к наблюдениям,
полученным при определенных условиях,
и включает описание всего
эксперимента.
Итак,— и тут мы подходим к ядру
научной философии Эйнштейна,—
физические объекты не только
существуют сами по себе, но и могут быть
изучены наукой так (или, лучше
сказать, в таком их состоянии), как если
бы науки и ученых вовсе не существо-
4 вало. Паули же вслед за Бором
полагает, что, вторгаясь в микромир, ученый
до некоторой степени утрачивает свое
положение наблюдателя, стоящего над
явлениями: наблюдение, опыт
воздействуют на явления и становятся
неустранимой частью явлений.
Парадоксально, что в начале века
(в 1905 г.) требование реалистичности
сделало Эйнштейна новатором, оно
помогло ему опровергнуть
«энергетику» Вильгельма Оствальда и убедить
Оствальда с его последователями в
том, что атомы и молекулы не фикция,
а действительность; а спустя двадцать
лет тот же Эйнштейн со своим
критерием реализма стал выглядеть класси-
:*:>_> ^TV,-;;
ГЛ
сколл полпредстве в
Берлине. Фотография хранилась
в личном архиве
академика А. Ф. Иоффе и
любезно передана налл его
дочерью, доктором
физико-математических наук
В. А. Иоффе.
Публикация В. ЧЕРНЕВА
29
ком, то есть в каком-то смысле
архаистом. Парадоксально и драматично то,
что аргументы Паули адресуются
Эйнштейну после того, как четверть века
назад он сам на примере анализа
понятия одновременности событий
виртуозно ввел в физику эту методологию.
Так замыкается круг возможностей даже
беспрецедентно сильного
конструктивного ума: от вулканического
извержения 1905 года (теория относительности,
теория фотоэффекта и теория
броуновского движения — все три работы в
одном томе «Annalen der Physik») к
возведению общей теории
относительности, далее созидательная критика
только что родившейся квантовой механики
и, наконец, отн явший полжизни
изнурительный труд — попытки создать
общую теорию поля, которая
удовлетворяла бы все тому же классическому
критерию реалистичности... Можно
сказать, что критерий реалистичности
стал в судьбе Эйнштейна зеленым
огоньком, о котором говорит
рассказчик в романе Скотта Фицджеральда,—
огоньком, вечная тяга к которому если
и не ведет к успеху, то зато выявляет
лучшее, что есть в человеке.
Но можно ли назвать этот труд
бесплодным? Бесплодным ли было
путешествие Дон Кихота? В памяти
человечества отмеченные поражением
последние десятилетия жизни Эйнштейна,
быть может, не меньшая драгоценность,
чем годы его побед...
Ну, а что можно добавить (спустимся,
так сказать, с высот духа на землю)
к спорам тридцатилетней давности на
физическом факультете МГУ? Насколько
резонны* были критические замечания
нашего профессора? Как быть с Лорен-
цом и Пуанкаре, будто бы сделавшими
все то, что приписывалось Эйнштейну?
Ответить на эти вопросы, к сожалению,
не представляло труда и в те годы.
Лоренц был убежден в существовании
абсолютно покоящегося эфира и аб*-
солютного времени, а введенному им
самим «местному времени»
самостоятельного физического смысла не
придавал. Пуанкаре за год до Эйнштейна
сформулировал принцип
относительности и предсказал многие его
следствия, существенно превзойдя Лоренца
и непосредственно приблизившись к
Эйнштейну, который, однако, этой
работы Пуанкаре не знал и действовал
вполне самостоятельно, исходя из
собственных физических соображений.
Минковский в 1908 году говорил, что
Эйнштейн не пересмотрел понятий
пространства и времени (намекая,
возможно, на то, что история свяжет
этот шаг с его, Минковского, именем).
Однако Борн — кстати, ученик
Минковского — полагает, что это неверно:
Эйнштейн радикально переосмыслил
эти понятия, что же касается
Минковского, то он дал математический образ
четырехмерного пространства —
времени. Вот что пишет Борн:
«Специальная теория относительности не есть
труд одного человека: она возникла
в результате совместных усилий группы
великих исследователей — Лоренца,
Пуанкаре, Эйнштейна, Минковского.
Тот факт, что обычно упоминается
только имя Эйнштейна, имеет
известное оправдание, ибо специальная
теория относительности была ведь только
первым шагом к общей, которая
охватила гравитацию и тем самым
революционизировала наследие Ньютона.
Общая теория относительности — это
заслуга исключительно Эйнштейна».
Пример Эйнштейна, идеал науки по
Эйнштейну, уроки Эйнштейна, век
Эйнштейна... Как в немногих словах
расшифровать эти понятия?
Его идеи обрели самостоятельность
и ускользнули из-под власти своего
творца. Его первые результаты были
достигнуты с моцартовской легкостью,
а общая теория относительности
потребовала десяти лет мучительного труда.
Собрав всю мощь своего ума, применив
все методы, некогда принесшие такие
успехи, он тридцать лет упорно и
неуклонно стремился к поставленной им
же самим, необходимой для него, но,
быть может, в принципе недостижимой
цели. Даже в тех пунктах его работ,
которые казались ошибочными великим
физикам — оппонентам Эйнштейна, они
ощущали обаяние его мудрости. Он
показал пример ухода от мелкой суеты
и в полной мере изведал горечь
раздумий о результатах своего
вмешательства в практическую политику. Он
показал всем нам, что чем значительней
результат, тем больше новых
трудностей возникает перед наукой — самым
тяжким, но необходимым для
человечества поприщем. Он с грустью и
любовью присматривался к сиюминутным
человеческим злобам дня, он с гневом
и презрением взирал на фашизм и
милитаризм.
Устремленная в будущее жизнь
Эйнштейна всегда будет напоминать
нам об идеале ученого — гуманиста и
исследователя, чьи усилия были
всецело посвящены познанию основ
строения вселенной, чье сердце
принадлежало человечеству.
Доктор физико-математических наук
Э. И. ФЕДИИ
30
Геофон
предупреждает
поступает по шлангу воздушной
магистрали.
Геофон — это прибор для
улавливания звуковых колебаний. О том, как
он работает, чуть ниже. Создавали его
не для горно-спасательных работ.
Спасение попавших в беду людей — это его,
так сказать, вторая специальность.
Кандидат технических наук
В. П. ФИШМАН
ПЕРВЫЕ ВЫБРОСЫ,
ПЕРВЫЕ ТЕОРИИ
На шахте — выброс! Эта тревожная весть
мгновенно разносится по поселку.
К стволу шахты на максимальной
скорости подъезжают машины с красными
буквами на бортах: ВГСЧ
(военизированная горно-спасательная часть). Бойцы
проходят сквозь толпу молчаливо
стоящих жен и матерей шахтеров. Там, на
километровой глубине, в угольной лаве
люди оказались в ловушке. Выход на
поверхность отрезан. Живы ли они?
Поступает ли к ним воздух?
Несколько десятков тонн угля,
выброшенных из угольного пласта всего за
две-три секунды, образовали завал.
Его приходится разбирать часами.
Сюда не подгонишь ни бульдозер, ни
самосвал: угол наклона пласта 60—
70 градусов. Спасатели стучат по
углю и по кровле пласта. Ответа нет.
Или люди в завале не слышат этого
стука, или спасатели не слышат ответа.
Наконец откликнулся геофон. Теперь
ясно: шахтеры живы и воздух к ним
Историю горного дела в России обычно
ведут от известного наказа Петра I:
«Необходимо отверзать недра русских
гор и черпать сокрытые в них
сокровища»...
Первые настоящие шахты — с
креплением сводов и примитивной
вентиляцией — в нашей стране появились на
Урале в самом начале XVIII века. Но
по скорости разработки и углубления
шахты Донбасса быстро перегнали
уральские. И первые у нас выбросы
были зарегистрированы именно в
Донбассе — в 1906 году на угольном пласте
Ново-Смоляниновский. А самый первый
в истории внезапный выброс угля и газа
был зарегистрирован еще в 1834 году
во Франции. Позже подобные явления
случались и в Руре, и в Верхней Силе-
зии, и в Англии, и в Северной Америке.
У нас в стране в разные годы от
выбросов страдали Сучан, Кузбасс, Воркута,
Караганда, Кузнецк, Ткварчели,
Донбасс.
31
Еще в 1903 году профессор
М. М. Протодьяконов установил связь
между давлением горных пород,
размерами горной выработки и
характером выполняемых в ней работ. В какой-
то мере его работы помогли бороться
.с первыми выбросами в Донбассе.
Позже теоретические основы борьбы с этим
грозным явлением разрабатывали
академик А. А. Скочинский, его ученики и
последователи.
БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗВНЕ!
Что же такое — внезапный выброс?
Это «самопроизвольный» вынос угля
в свободное пространство забоя,
сопровождающийся значительным
выделением газа.
Вынос угля длится от полсекунды до
двух-трех секунд. За это время из
пласта вылетает огромное количество угля.
Так, в июле 1969 года на шахте имени
Гагарина было выброшено 14 000 тонн
угля — примерно столько, сколько
добывали тогда за неделю в средней
донбасской шахте.
Даже небольшие выбросы (две-
три тонны) опасны для жизни шахте-
эов. Ведь эта неуправляемая масса
угля обладает энергией, способной
сломать крепление забоя, свернуть в узел
стальной трубопровод, раздавить
буровую установку...
Почему слово «самопроизвольный»
выше взято в кавычки? Потому что мы
сами в значительной степени повинны
в этих самопроизвольных выбросах.
Вынимая уголь из пласта, мы убираем
опору из-под тех слоев горных пород,
которые раньше опирались на угольный
пласт. Поэтому резко увеличивается
давление на оставшуюся часть пласта.
Крепление выработки принимает на
себя лишь некоторую часть этого
давления.
Упругие свойства угля, естественно,
не беспредельны, и наступает момент,
когда связи между его отдельными
участками разрываются. Но для образо-
вания выброса этого мало. В трещинах
и полостях угольного пласта заключено
большое количество газа. Еще больше
газа скрыто в самом угле. При
увеличении давления в пласте скапливается
столько свободного газа, что
разрушенный уголь не в состоянии выдержать
его напор. Происходит вынос угля
в свободное пространство забоя —
выброс. Кто больше виноват в
выбросе — газ\ или горное давление?
Знать это практически важно, но суть
явления от этого не меняется...
С ВЫБРОСАМИ МОЖНО БОРОТЬСЯ
Протекание выброса зависит от физико-
химических свойств пласта и
горнотехнических особенностей добычи угля.
Если в призабойной зоне изменить одну
из природных особенностей угля, а
именно его пластичность, то это
приведет к перемещению опорного давления
в глубь массива; вблизи же от
выработки напряженность в пласте уменьшится,
что вызовет снижение скорости
газоотдачи.
Повысить пластичность угля можно
путем закупоривания пор жидкостью,
смачивающей поверхность угля;
изменением горнотехнических условий
добычи можно снизить давление
вышележащих пород на пласт угля. В
соответствии с этим разработано довольно
много способов предотвращения выбросов:
увлажнение угольных пластов и
нагнетание воды в пласт, удаление газа
(дегазация), совершенствование
технологии очистной выемки... Даже краткое
их описание заняло бы слишком много
места. Но стопроцентной
гарантированной защиты от выбросов ни один из этих
способов не дает. И совокупность их
тоже. Поэтому возникло второе
направление в борьбе с выбросами:
прогноз и предупреждение.
Шахтеры давно заметили, что перед
выбросом угля в шахте слышатся
посторонние звуки — треск, удары, хлопки.
Иногда это происходит за несколько
часов до выброса, иногда — за несколь-
Геофон СЭД-1,
надежный и компактный.
Спичечный коробок
дает представление
о размере геофона
32
ко минут. «Сердится батюшка»,—
говорили видавшие виды горняки об
опасном пласте. Но откуда эти звуки?
Треск — это акустический импульс,
возникающий в горной породе при
росте горного давления и образовании
трещин. Этот импульс от места
появления трещины распространяется во все
стороны и сопровождается
колебаниями угольного пласта. По этим
колебаниям можно узнать, в каком состоянии
находится угольный пласт.
Горным инженерам известен
исторический пример подобного использования
колебаний. В 1909 году югославский
сейсмолог Андрей Мохоровичич,
наблюдая землетрясение на Балканах,
обнаружил на глубине нескольких
десятков километров от поверхности
Земли отклонения сейсмических волн.
Установленная впоследствии по всему
земному шару граница такого
отклонения оказалась нижней границей земной
коры и получила название поверхности
Мохоровичича.
Первые попытки использовать
сейсмические методы для изучения
горного давления в нашей стране были
сделаны еще в 1934—1937 годах.
Однако тогда они не получили развития из-
за примитивности применяемой
аппаратуры и методики.
Первые успешные работы по
определению сейсмическим методом
устойчивости сводов и пластов были проведены
в 1939 году американским физиком
Л. Обертом. Но с выбросами эти работы
связаны не были. Нужен был человек,
знающий и горное дело, и возможности
современной физики. Советский
геофизик С. А. Назарный в 1951 году впервые
исследовал звуковые предвестники
выброса с помощью головных
телефонов, усилителя низкой частоты и
пьезоэлектрического датчика.
Конечно, методика субъективного
(на слух) прослушивания шумов и
тресков страдала теми же недостатками,
что и любая субъективная методика.
Но были получены первые достаточно
надежные данные о связи
микросейсмической активности угольного пласта
с существующими в нем напряжениями
и газовыделениями. Был введен
новый термин, ставший впоследствии
общепризнанным,— «шумность»
пласта." Им стали обозначать
количество импульсов (тресков) в единицу
времени.
Главный практический вывод
С. А. Назарного: за полтора-два часа
до выброса шумность пласта возрастает
с 3—4 до 30—40 импульсов в минуту.
Почти пулеметная очередь тресков!
Однако были исключения,
опровергающие правило: в некоторых случаях
перед выбросом шумность даже
уменьшалась. Может быть, дело в
субъективном подсчете импульсов?
В ШАХТУ — С МАГНИТОФОНОМ
В 1952 году по инициативе академиков
А. А. Скочинского и Г. А. Гамбурцева
была начата разработка аппаратуры
и метода исследования состояния
угольного пласта на больших
глубинах. Создатели новой
аппаратуры — сотрудники Института горного
дела (ИГД) Л. Б. Переверзев и ныне
профессор, доктор технических
наук М. С. Анцыферов — начали с
приемника сигналов пласта. Ведь от
качества сигнала — его чистоты и силы —
зависит вся остальная цепочка
аппаратуры. Были испробованы сейсмоприем-
ники всех известных тогда типов и
конструкций. Пьезоэлектрический датчик,
с которым работал С. А. Назарный,
оказался слишком хрупким. Испытания
сейсмоприемников для землетрясений
показали, что они прекрасно реагируют
на землетрясения в Турции и в Греции,
а трески в угольном пласте — рядом
с ними — не слышат. Выяснилось, что
нужен сейсмоприемник, рассчитанный
на регистрацию скорости перемещения
звуковых волн в угольном пласте. Для
этого больше всего подходил
электродинамический сейсмограф (СЭД). СЭД
отлично прошел испытания в угольных
шахтах и занял свое место — первое —
в цепочке звукоулавливающей
аппаратуры (ЗУА). Впрочем, название СЭД
можно встретить лишь в технических
книгах и журналах. Шахтеры
называют его проще—геофон.
Для объективной регистрации сей-
смоакустических явлений М. С.
Анцыферов и Л. Б. Переверзев решили
использовать обычный магнитофон, но
магнитофон для шахты с большим
выделением газа должен удовлетворять
требованиям искро-взрывобезопасности.
Таких требований к магнитофонам
раньше никто не предъявлял. Механику
магнитофона, конечно, можно
привести в движение сжатым воздухом,
который подается к отбойным молоткам.
А вот для подмагничивания
записывающей головки без электрического тока
не обойтись. Здесь авторы аппаратуры
прямо следовали совету древних
мыслителей: «Не желай невозможного».
Система подмагничивания переменным
током высокой частоты более
совершенна, но не подходит по условиям
безопасности в шахте. Поэтому решили
использовать постоянный ток от
аккумуляторов. От тракта
воспроизведения отказались вообще: запись можно
2 Химия и жизнь № 3
->3
имп/jac I средняя шумность
11 12 февраль
rasHtr
опасная зона
зона запаса
J
безопасная зона
График изменения средней «шумности»
угольного пласта «Безымянный» в
Донбассе (участок 147. горизонт— 716 м)
с указанием размещения опасных зон,
зон запаса и момента выброса угля (он
указан стрелкой)
прослушивать на поверхности, в
безопасном месте, на другом
магнитофоне, лишь бы скорость была той же. Так
появилось еще одно звено в цепочке
подземной аппаратуры, но и это еще не
все.
Между геофоном и магнитофоном
нужно было установить усилитель. Его
поместили в непроницаемый для газа
и пыли корпус. Блок питания (в том
числе и для магнитофона) соединялся с
усилителем удобным разъемом, так что
этот блок можно было ежедневно
отключать и сдавать на подзарядку, а
назад получать перед спуском в шахту
в той же зарядной, где шахтеры
получают аккумуляторы для своих головных
прожекторов.
Вот теперь цепочка
звукоулавливающей аппаратуры была готова. С ее
помощью были получены уникальные
записи предвестников внезапных
выбросов угля и газа.
Оказалось, что выводы С. А. Назар-
ного нуждаются в уточнении. Шумность
в 30—40 импульсов в минуту — явление
чрезвычайно редкое! А обычно
шумность перед выбросом — около 250
импульсов в час, то есть 4—5 импульсов
в минуту. Кроме того, был сделан вывод
о необходимости непрерывной и
круглосуточной регистрации шумов для
получения так называемого опорного
интервала шумности. Лишь по нему
можно сделать надежный прогноз
выброса.
Первой шахтой в Донбассе, в
Советском Союзе и, очевидно, во всем мире,
полностью охваченной сейсмоакусти-
ческим контролем, стала шахта «Юный
Коммунар» в городе Енакиево.
Спустя два года в Харцызске под
руководством автора этой статьи на
шахте «Коммунист—Новая» начал
работать первый филиал енакиевской
службы прогноза. Под землей, в
угольных пластах, оставили только геофоны,
а всю остальную аппаратуру вынесли
на поверхность, сосредоточили в одном
месте. Теперь всего один инженер
мог контролировать работу всей
прогнозной аппаратуры большой и
разветвленной шахты. Для связи геофонов
с регистрирующей аппаратурой служит
шахтный телефонный кабель — ведь
сегодня на каждом участке шахты есть
свой телефон... К аппаратуре,
установленной на поверхности, требования по
взрывобезопасности, естественно, не
так строги. Свободное обращение с
электроэнергией позволило
использовать здесь современные студийные
магнитофоны с высоким качеством
записи. Был создан также
автоматический счетчик испульсов. Работа
упростилась, прогноз стал надежнее.
34
Осциллограмма работы отбойных
молотков и сейсмоакустического импульса
угольного пласта (в центре).
Внизу видны
отметки времени с интервалом в
0,1 секунды
Теперь можно было задуматься о
том, как сделать прогноз не только
надежным, но и выгодным с
хозяйственной точки зрения. Чтобы решить эту
задачу, следовало еще раз
рассмотреть все слагаемые выброса. Был
выполнен комплекс геохимических,
механических и сейсмоакустических
исследований. Оказалось, что место
в угольном пласте, на которое
приходится пик горного давления,
находится не ближе чем в трех-пяти
метрах от груди забоя (так называют
шахтеры обнаженную поверхность
угля в лаве). Именно в этом месте
прежде всего создаются условия для
внезапного выброса.
Другой не менее важный вывод: даже
на самых опасных пластах опасные зоны
не следуют непрерывно одна за другой,
а расположены достаточно редко.
Например, если забой продвинулся на
сто метров, то длина всех опасных
зон в сумме не превысит тридцати.
Теперь служба прогноза
предупреждает не о времени выброса, а о времени
входа забоя в опасную зону и выхода
из нее. Это значит, что способы защиты
от выбросов, упоминавшиеся в начале
статьи, можно и нужно применять не
на всем протяжении шахты, а только
в опасных зонах. Для гарантии
безопасности защита начинается с
шестиметровым запасом по обе стороны опасной
зоны. Если же по каким-то случайным
причинам оборвется связь «геофон —
поверхность», то тогда даже при
минимальной шумности подается сигнал
опасности. Новая методика прогноза
уже позволила сэкономить миллионы
рублей. А безопасность работы
шахтеров при ней возросла.
В Донбассе создана центральная
служба прогноза под руководством
кандидата технических наук В. С.
Иванова.
Привлекательность сейсмоакустики —
в ее объективности. Поэтому с
каждым годом расширяются области ее
применения. Вот строки официального
документа: «За полтора года под
непрерывным сейсмоакустическим
контролем на восьми шахтах комбината
пройдено 12 928 м по простиранию
(направлению) пластов.
Прогнозировано 213 опасных зон. В 101 опасной зоне
произошло 157 динамических явлений
(выбросы, обвалы, осадка основной
кровли). В остальных защитные
мероприятия позволили избежать каких
бы то ни было проявлений горного
давления. 13 раз служба прогноза
выводила людей непосредственно
перед аварией, что спасло жизнь 54
шахтерам»...
2*
35
Проблемы и методы
современной науки
Жизнь и смерть
дальневосточных
лососей
Кандидат биологических наук
В. Т. ОМЕЛЬЧЕНКО,
Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР
Каждый год к дальневосточным берегам
нашей страны устремляются на нерест
тихоокеанские лососи. Инстинкт
продолжения рода влечет их к побережьям
Чукотки, Камчатки, Охотского моря, к
берегам Сахалина, Курил и Приморья.
После длительных скитаний в океане
они входят в те же реки, из которых
несколько лет назад мальками ушли на
нагул в море.
Среди рыб, объединяемых в род
тихоокеанских лососей (Oncorhynchus),
различают шесть видов: чавычу, кету,
кижуча, нерку, горбушу и Симу. Чавыча,
нерка и кижуч — «северяне», а сима
обитает только на юге. На нерест они
идут, соблюдая установленный
природой порядок. Так, в реку Камчатку
вслед за чавычой идет нерка, а уж
потом кижуч. В реки Сахалина и
Курильских островов первой входит сима,
вслед за ней горбуша и последней —
кета. Эта очередность никогда не
нарушается. Причем ход начинают самцы,
затем соотношение полов
выравнивается, а в конце хода преобладают самки.
Как правило, нерестовые реки
неглубокие, бурные, с галечным дном.
В устье бесконечным морским накатом
намывается слой песка, поэтому
глубина в этом месте совсем незначительна.
Рыба в огромном количестве
скапливается в море, перед устьем, и входит
в пресную воду с очередной волной.
Прибойная волна встает в полный рост,
и сквозь ее пенную зеленовато-синюю
толщу, пронизанную лучами солнца,
видны сотни мечущихся больших и
сильных рыб. Грандиозный
многометровый «аквариум», поражающий своим
величием, возникает на несколько
мгновений и исчезает, чтобы вновь
появиться через несколько секунд.
Войдя в пресную воду серебристыми
рыбами (в это время трудно бывает
отличить самца от самки), лососи
перестают питаться, медленно движутся
вверх по течению к нерестилищам,
штурмуя пороги и водопады. В это
время происходит созревание половых
продуктов. Постепенно рыбы
приобретают «брачный наряд». Серебро
тускнеет, появляются цветные пятна —
ромбовидные красновато-черные у кеты,
36
Лосось, пришедший на нерест, в реку,
ждет высокой воды (фото слева)
Невод, полный серебра
зеленовато-черные у горбуши,
малиновые у симы; нерка делается
ярко-красной. У самцов сильно утолщаются
челюсти, вырастают зубы. У самцов кеты
и особенно горбуши на спине вырастает
горб, высота которого нередко
превосходит высоту тела.
Интересно наблюдать процесс
нереста. «Текучая» самка ударами хвоста
роет на дне гнездо-ямку, в которую
откладывает икру. Стоящий рядом
самец оплодотворяет икру, выпуская
молоки в воду над гнездом, затем
самка зарывает яму. Рано весной
появляется новое поколение, оно
скатывается в море. И так — из года в год...
Сейчас в общесоюзном улове
тихоокеанские лососи составляют
незначительную часть, около 1 %, однако среди
промысловых рыб найдется немного таких,
которые по ценности могли бы достойно
конкурировать с лососями рода Опсог-
hynchus. Если же вспомнить, что уловы
других лососей, в частности наиболее
известных у нас в Европейской части
семги и форелей из рода благородных
лососей ни в какое сравнение не идут
с количеством выловленных
«тихоокеанцев», то станет понятным то внимание,
которое проявляют в последнее время
научные коллективы в нашей стране и
за рубежом именно к Oncorhynchus как
ценному объекту рыбного промысла.
Этот интерес тем более оправдан,
что загрязнение нерестовых рек и
бесконтрольный вылов лососей в океане
привели к резкому сокращению их
численности. Возникла проблема
рационального использования и
воспроизводства некоторых видов рыб. Началось
всестороннее систематическое
изучение лососевых стад — их биологии,
структуры, путей миграции. И многое
уже удалось узнать.
Самой примечательной чертой
тихоокеанских лососей следует признать
моноцикличность: они погибают после
первого же нереста (в отличие от
ближайших родственников — благородных
лососей и гольцов, которые нерестятся
неоднократно). Их жизненный цикл
включает два периода — морской и
пресноводный, поэтому их относят к
проходным рыбам. У нерки и симы
кроме проходных форм есть и «жилые»
(пресноводные), которые вообще
никогда не уходят в море.
Среди тихоокеанских лососей (нерки,
реже кижуча) встречаются особи,
которые возвращаются на нерест уже через
год после ската, обычно же эти виды
проводят в море по два — четыре года.
Нерку, проведшую в море лишь не-
37
сколько месяцев, называют на
Камчатке каюркой. По размерам каюрки
гораздо меньше своих сородичей,
пробывших на нагуле в море более
длительное время. Почему же так спешат
каюрки на нерест? Точного ответа на
этот вопрос пока нет. Можно лишь
предполагать, что они выполняют
определенную биологическую роль:
способствуют сохранению потомства,
оплодотворяя икру в годы низкой воды на
нерестилищах, когда крупные самцы в
реки пройти не в состоянии.
Наконец, еще одна замечательная
черта тихоокеанских лососей. Их
нерестовым стадам присущ ярко
выраженный «инстинкт дома», иначе — хоминг.
Из поколения в поколение идут они в
одни и те же водоемы и даже на те
же нерестилища. Более того, лососи
привязаны к определенным местам не
только во время нереста, но и в период
нагула в океане.
Гибель лососей после единственного
нереста так и не получила пока
сколько-нибудь убедительного объяснения.
Предполагают, что так регулируется в
природе численность вида. Но почему
это происходит только с
«тихоокеанцами», как возникла такая
особенность? Неясно...
Что же касается «инстинкта дома»,
то споры о его природе до сих пор
делят исследователей на несколько
партий. Одни, например, полагают, что
хоминг запрограммирован генетически.
Однако трудно себе представить, как в
организме лосося может быть записана
конкретная дорога домой, подчас
тысячекилометровая. Другая точка зрения,
более распространенная и, на наш
взгляд, более здравая, состоит в том,
что малек при скате и во время
путешествий в море запоминает дорогу и
ориентиры, по которым находит потом
именно свою реку, свой ручей. Важная
роль в запоминании отведена обонянию.
Эту гипотезу подтверждают некоторые
исследования. Если оплодотворенную
икру, взятую на одной реке, перенести
на другую реку и дать здесь развиться
малькам, то взрослые рыбы вернутся
на нерест именно в эту реку, а не в ту,
откуда они на самом деле родом.
Стадо лососей, пришедшее на нерест,
вовсе не однородная масса. Оно
формируется в некое целое задолго до
подхода к берегам, далеко в море. И в
нем собираются рыбы, как ни странно,
разного возраста. Казалось бы, чего
проще — скатились мальки в море,
нагуляли там положенное время и в
путь, обратно — родились вместе и
умирать вместе. На самом деле все
обстоит сложнее. Не все
рыбы-одногодки одновременно возвращаются на
нерест. Часть из них приходит через
год, другая через два, следующая
через три и так далее. И получается, что
в одном нерестящемся стаде
перемешаны половозрелые особи разного
возраста.
Возрастная структура стада у разных
видов тихоокеанских лососей разная.
В стаде нерки обычно насчитывается
шесть возрастных групп (обычно одна
преобладает, остальных намного
меньше). У кеты, симы и чавычи — три
возрастных группы в одном стаде, у
горбуши — лишь одна.
И вот, сравнивая сложность
возрастной структуры со степенью
выраженности «инстинкта дома», можно
убедиться, что чем больше возрастных групп у
вида, тем ярче выражен инстинкт. Если
нерка подходит из моря к своей реке
и та вдруг оказывается мало
пригодной для нереста, то рыба не бросается
искать другое место, а все равно
нерестится в родной речке. Случается,
что большая часть отложенной икры
погибает в обмелевшей реке или ее
губят зимние морозы. Но у нерки есть по
меньшей мере еще пять шансов
сохранить стадо как таковое в этом водоеме.
Лишь шестая часть мальков,
вылупившихся одновременно, пришла в этом
стаде на нерест. Остальные — их
одногодки — будут приходить в течение
следующих пяти лет, и их резерв во
всем стаде будет исчерпан только через
пять лет.
Горбуша в такой же ситуации имеет
дополнительно лишь один шанс выжить
и потому, не желая рисковать
потомством, с гораздо большим спокойствием,
чем любой другой тихоокеанский
лосось, меняет нерестовую реку.
Конечно, нет . никаких оснований
приписывать рыбе трезвый расчет и
способность анализировать обстановку.
Но как объяснить ее поведение? По-
видимому, его можно было бы назвать
стратегией вида, но как конкретно эта
стратегия реализуется, мы еще не
знаем. Одно можно утверждать с
достаточным основанием: чем сложнее
возрастная структура стада, тем
больше возможностей сохраниться виду при
неблагоприятных условиях.
Но возрастные различия — это не
единственное свидетельство того, что
огромное стадо рыб (популяция, как
говорят в биологии), пришедшее на
нерест, представляет собой некую
сложную организацию.
38
На первый взгляд все рыбы в
стаде— «на одно лицо». Нет никакой
возможности отличить, скажем, одну
горбушу от другой. Все они примерно
одного размера, одного веса. И в массе
кеты одинаковой половой зрелости
бесполезно пытаться найти характерные
внешние признаки, которые выделяли
бы отдельные экземпляры или часть
стада из массы соплеменников.
Конечно, мы не имеем в виду самцов и
самок, которых легко различать по
брачному наряду.
А между тем рыба-то вся разная.
Знакомый директор одного
сахалинского рыбоводного завода говорил мне
как-то, что он всегда знает (чувствует,
точнее), какая рыба шла в его реке
сегодня на нерест, какая вчера, и сможет
точно определить «новую», если она
подойдет завтра. Здесь сказывается,
по-видимому, большой опыт и
определенная интуиция.
Но и на самом деле единое стадо
рыб, как оказалось, сегодня одно, а
завтра другое. Оно состоит из
нескольких групп или субпопуляций. Такое
различие было установлено биохимическим
путем на белковом уровне. О том, как
ведут такие исследования, будет
рассказано чуть ниже. А пока немного о
том, зачем нужно знать структуру вида.
Сохранить ценные виды рыб и
увеличить их численность пытаются
разными способами: и охраняя природу, и
восстанавливая погибшие нерестилища,
и искусственно воспроизводя
поголовье— этой цели служат
многочисленные рыбоводные заводы.
Даже человеку, который никогда не
видел такого завода, нетрудно себе
его представить. Нерестовую реку
перегораживают, вылавливают
производителей, взятую у самок икру
оплодотворяют молоками самцов и после
некоторой выдержки оплодотворенной икры
в проточной воде размещают ее на
специальных решетках, которые
отправляют в цех на инкубацию. Здесь за
икрой приглядывают, подвергают ее
дезинфекции — чтобы выжило как
можно больше икринок. Когда из икры
вылупятся мальки, им дают подрасти
в специальном пруду, а затем
открывают для них путь в море. Словом, все
как в природе и даже лучше.
Точнее почти все, но не все.
Природа имеет дело с целым стадом, а
рыбоводный завод только с частью его.
Завод берет ровно столько икры,
сколько позволяют его производственные
мощности. Обычно ему достаточно
выловить только часть рыбы,
пришедшей в свою реку на нерест. Это значит,
что из рыборазведения заведомо
исключается некоторая часть стада.
Но так ли уж важно считаться с
разнообразием состава стада? Ответ вроде
бы прост: раз природе нужна вся
популяция в целом, то и искусственному
рыборазведению следует
придерживаться той же политики. Однако идти
по пути полного моделирования
естественного нереста будет целесообразно
только в случае, если рыба,
приходящая на нерест, генетически не
одинакова, то есть полноценное потомство
получается лишь при сложении разных
наследственностей.
Проверить эту посылку можно
методами биохимической генетики,
позволяющими выяснять спектры отдельных
белков и по ним сравнивать отдельные
особи.
Белковые спектры получают методом
электрофореза. Устроен аппарат для
электрофореза чрезвычайно просто.
Между двух отсеков, в которые
вставлены электроды и которые заполнены
электролитом, помещают блок из геля.
Края блока опущены в раствор
электролита. Когда к электродам приложат
напряжение, то электрическая цепь
замкнется через гель. Если при этом
поместить в гель белковый экстракт,
то под действием разности потенциалов
белковые молекулы распределятся по
гелю — в зависимости от заряда и
молекулярного веса. Экстракт белков,
разделенный таким способом,
окрашивают специальными смесями и получают
электрофореграмму: на светлом геле-
вом фоне — темные белковые зоны,
разнесенные на разное расстояние от
старта. Анализ показал, что число и
положение полос определенных белков
на электрофореграммах у отдельных
экземпляров рыб в одном и том же
стаде разное.
К примеру, фермент фосфоглюко-
мутаза может быть представлен у одной
горбуши одной полосой, у другой
также одной полосой, но уже в другом
месте гелевого блока, а у третьей
рыбы из того же стада будут отмечены
обе полосы. Такие белковые спектры
позволяют составить представление о
внутренней структуре рыбьего стада.
Больше того, выяснилось, что стадо
одной реки отличается от стада другой
реки своим, только ему присущим
набором белковых спектров. И этот набор
служит как бы паспортом стада, его
визитной карточкой.
От этих наблюдений был сделан
логический шаг к характеристике чисто
генетической. Поскольку белки есть
продукт работы генов, то по частоте
39
распределения белков можно судить о
частоте включения контролирующих их
генов. Вот тут-то и выяснилось, что по
мере нерестового хода меняются
генетические характеристики рыб. У первых
партий рыб работают одни группы
генов, у следующих партий — другие, и
все это указывает, что внутри стада,
этой единой популяционной системы,
есть несколько групп, или
субпопуляций, с разными генетическими
характеристиками.
Ясно, что такое разделение возникло
в ходе эволюции, а значит, имеет
огромное значение для сохранения
вида. Это и есть ответ на вопрос, зачем
нужно знать структуру рыбного стада.
Начиная с 1968 года сотрудники
Института биологии моря ДВНЦ АН СССР,
а в дальнейшем и Института общей
генетики АН СССР под руководством
доктора биологических наук Ю. П.
Алтухова ведут исследования структуры
лососевых стад Сахалина, Курил и
Камчатки. Практическим итогом этой
работы стала рациональная схема
искусственного разведения рыбы. В основу схемы
положен принцип сохранения
генетического разнообразия каждого стада.
За это время по разным белкам
(которые, как уже говорилось, служат
маркерами генов) было изучено
несколько тысяч рыб, отловленных из
естественных популяций и из популяций,
культивируемых рыбоводами.
Сравнение показало, что каждое отдельное
стадо — это естественно сложившийся
изолят со своей средой обитания. Эти
изоляты настолько отличаются друг от
друга с точки зрения генетики, что их
можно рассматривать как независимые
популяции, лишь незначительно
обменивающиеся генами.
Совсем иная картина складывается
внутри стада. Здесь отдельные группы
скрещиваются между собой, обмен
генами происходит постоянно и все
группы важны для сохранения общей
системы. Считают, что каждая субпопуляция
приспособлена к определенным
условиям существования, то есть одна
группа обитает в верховьях реки, другая —
в низовьях, а вместе все эти
полуизолированные компоненты складываются
в генетически стабильный
самовоспроизводящийся ансамбль. И если достаточно
сильное внешнее воздействие выбивает
отдельные компоненты, то адаптация
системы к среде обитания рушится.
Попросту говоря, ловить в этом месте
становится нечего.
Именно таким воздействием
оказывается нерегулируемый промысел
рыбы.
Но могут проявить себя и другие
неблагоприятные последствия. Если
завод использует для искусственного
воспроизводства только часть стада,
например головную группу стада кеты,
в которой явно преобладают самцы,
то и в следующих поколениях самцы
будут преобладать. Почему? Ясного
ответа пока нет. Но наблюдения
показывают, что соотношение полов в
потомстве генетически обусловлено. И это
соотношение будет в основном таким
же, каким оно было в той части стада,
которая оказалась вовлеченной в
рыбоводный процесс.
Теперь, пожалуй, можно кратко
сформулировать основной принцип лососе-
водства, предложенный биологами.
Он состоит в требовании сохранять
генофонд (другими словами,
генетическое разнообразие) в поколениях.
Достичь этого можно, отбирая половые
продукты периодически по мере хода
рыбы на нерест, а не в один какой-то
момент заполняя инкубационные цехи.
И полагаться в таком выборочном
подходе следует не только на интуицию
и опыт, а на данные биохимических
анализов и на разработанные биологами
схемы. Особенно важно
придерживаться этого принципа, если «лишнюю»
рыбу (не вместившуюся в площади
искусственного разведения) нельзя по
какой-то причине пропустить дальше
на естественный нерест (нет
подходящих нерестилищ или их очень мало) и
ее всю вылавливают.
По-видимому, и в искусственном
воспроизводстве справедлива формула,
которой руководствовались древние
римляне: «Разделяй и властвуй!» Только
применять ее следует с некоторой
поправкой. Разделять, зная жизнь лосося,
и брать то, что поможет эту жизнь
сохранить и продолжить.
Фото В. Берковского
и С. Никитина
Лососей на Дальнем Востоке не только
разводят; как и всякую другую рыбуг их
еще приходится ловить.
Корреспонденты «Химии и жизни»
побывали в тех краях в разгар лова.
Дальневосточной путинв и посвящены их заметки,
публикуемые далее.
40
Путина
Путина, ж. путинки, пес. путинушки,
путь, дорога, всякая поездка,
путешествие, странен вне. Один конец пути,
особ, водою, ход в один конец, рейс,
плавание от одной известной
пристани до другой.
В. ДАЛЬ. Толковый с говирь живого
великорусского языка
Путина «рыболовная кампания».
М ФАСМЕР. Этимологический словарь
русского языка
Путина в прибрежных водах Дальнего
Востока начинается в мае-июне. Мы
приехали сюда в августе и застали
рыболовную кампанию в самом разгаре.
От Южно-Сахалинска до поселка Ста-
родубского, что на берегу Охотского
моря, час езды на автобусе. Потом еще
час мы сидели на берегу «ковша».
Ковш — это небольшая искусственная
бухточка с причалом и
рыбоперерабатывающим цехом, и воздух здесь
пропитан всепроникающим запахом рыбьих
отходов.
Когда вышли на мотоботе в
открытое море, стало дышать немного легче...
Мотобот казался не очень надежным:
всего-навсего палуба с двумя
глубокими ямами-разервуарами для рыбы и
небольшой рубкой, чуть выступающей
над палубой. Благо вдоль нее
протянуты стальные поручни, за которые
можно держаться, что совсем не лишнее:
холодная неприветливая вода
плещется совсем рядом...
Идем к виднеющемуся вдали
кораблю— к плавбазе. По дороге узнаем,
что трапа не будет. На рейде чаще
всего пользуются шторм-трапом, но
подниматься по нему нетренированным
гостям небезопасно. Как же мы попадем
на борт?
Корабль растет и растет, и вот мы
уже у подножия гиганта с
десятиэтажный дом. Сверху спускается странная
авоська; это в ней, объясняют, нас
перебросят на корабль. А если веревки
распустятся? А если она вообще
оторвется?
Авоська припалубилась. Канаты опали
и мягко легли вокруг круглого
донышка. Оказывается, надо стать на эту
маленькую деревяшку. Становимся.
Канаты снова поднялись и обняли нас —
без особой нежности. Взмываем ввысь.
Оставшимся смешно, нам не очень.
Чтобы доставить зрителям полное
удовольствие, боцман еще немного поводил
сетку туда-сюда: палуба, море, палуба,
море. И только после такого крещения
опустил нас на палубу.
«Кронид Коренов» — так называется
принявший нас корабль, он носит имя
комсомольца 20-х годов, героя
гражданской войны. Это один из самых
больших на Дальнем Востоке плавучих
заводов по переработке рыбы.
Водоизмещение—15 400 тонн, длина —
140 метров, ширина—12 метров, о
высоте уже сказано. На судне шесть
палуб, полтораста человек команды и
350 рабочих, занятых разделкой и
переработкой рыбы.
Капитан-директор плавбазы И. И.
Шелестов отправился с нами на ставные
невода — показать, откуда «начинается»
рыба. Это было на следующий же
день после прибытия на «Кронид
Коренов». Настроение наше уже разительно
изменилось. Капитан был в темно-синем
форменном костюме и белых перчатках
и выглядел очень внушительно, даже
торжественно. От воды, на сей раз
тихой и совершенно синей, пахло
удивительной свежестью.
Невода расставлены в виду берега;
это ловушки, куда рыба попадает через
входные ворота, открытые со стороны
берега. Рыбу постепенно собирают в
садки-накопители, глубоко уходящие
под воду. Горбушу перегоняют сюда
хитрыми маневрами сетей. Когда рыбы
41
наберется много, ее откачивают в
мотоботы.
Мотобот подошел к накопителю.
Сквозь воду видна горбуша. Очень
много рыбы...
Рыбаки подхватывают сети, с натугой
тянут их из воды. Сети складками
ложатся у их ног, метр за метром
поднимаясь из глубин. И вдруг тяжелый
сверкающий водопад обрушивается на
мотобот. Биение, сверкание, толчея.
Серебряные рыбины возносятся в
воздух и перемахивают через борт. Летит
отливающая солнцем чешуя. Вскоре и
мы начинаем сверкать, покрытые
чешуей.
Заполненный мотобот идет к «Кро-
ниду Коренову».
На корабле в цеху по конвейеру
движется рыба, перемешанная со льдом
(чтобы не портилась). Ее промывают,
вскрывают; яркой оранжевой струей
течет на лотки икра. Икру протирают,
чтобы отделить от пленки, ненадолго
погружают в тузлук, крепкий раствор
соли.
После соления икру закладывают в
пористые корзины, чтобы она
освободилась от избытка влаги, затем
сортируют и заполняют ею жестяные банки.
Добавляют к икре немного
консервантов, например аскорбиновую кислоту.
И еще добавка: чуть-чуть
подсолнечного масла.
Банки закатывают, редкое лакомство
готово.
А рыбины плывут по конвейеру в
следующий цех. Их снова моют мощной
струей очищенной морской воды.
Затем разделывают: отрезают голову,
хвост, плавники. Но это не отходы.
Горбушу используют всю, без остатка;
в дело идут даже внутренности, их
превращают в муку для удобрений или
на корм птице. Из голов готовят рагу.
(Нас уверяли, что это самая вкусная
продукция, сделанная из лососевых.
Но, пожалуй, еще вкуснее камчатская
уха, сваренная из плавников и хвостов
лосося.)
Уху и рагу готовят автоматы — все,
от начала до конца, от заполнения
консервной банки кусочками сырой
рыбы и специями до загрузки в автоклавы.
Автоклавов в цехе пять, каждый по
5400 банок.
А вот разделывают рыбу вручную.
Сложная, тяжелая, требующая
точности работа... Плавник, например,
полагается отрезать так, чтобы не
испортить тушку, но и на плавнике должно
остаться немного мяса — для ухи.
Механизировать разделку не удается;
одна из причин та, что рыбины
неодинаковые, то большие, то поменьше.
Пытались хоть икру извлекать с
помощью машины — не получилось.
Малейшая неосторожность, неточное
движение— и икра разлетается во все
стороны.
Круглые сутки на плавбазу поступает
рыба. И круглые сутки работает чрево
судна — завод, перерабатывающий
рыбу. Плавбаза производит продукцию
десятков наименований. «Кронид Коре-
нов» служит полигоном для
опробования и доводки нового оборудования.
Работники плавбазы и сами нередко
предлагают новые технические решения.
Поздно ночью мы стояли на мостике
высоко над палубой. Далеко внизу, в
свете прожекторов, швартовались
суденышки разного калибра. Они
привезли соль, пустые банки, рыбу;
обратно же пойдут нагруженные консервами.
Над палубой медленно двигались
стрелы кранов, похожие на ноги марсиан-
пришельцев из «Войны миров».
Ночью царствуют механизмы. Гудят
двигатели, грузы плывут по воздуху,
оседают на палубе, взамен вверх
взмывают другие. Люди видны лишь
изредка, но движение не прекращается ни
на минуту; «Кронид Коренов» работает
безостановочно...
...Рыбу ловят миллионами тонн, чтобы
подать ее к столу. Но чтобы поймать
рыбу, надо сначала, чтобы было что
ловить. Искусственным разведением
лососевых на Дальнем Востоке
занимаются давно (хотя и поныне среди
специалистов есть скептики, считающие, что
оно мало что дает). И Сахалинская
область — одно из немногих мест, где
это делается в промышленных
масштабах. На Сахалине и Курильских
островах работают сейчас 18 рыбоводных
заводов, их «производственная
мощность» 720 миллионов мальков в год.
На самом деле почти ежегодно
выпускают больше: до 800 миллионов
мальков. Здешние специалисты уверены, что
могли бы делать больше.
Заботы и проблемы этой
своеобразной отрасли хозяйства (и науки
одновременно) весьма непросты; вопросами
биологии рыб они далеко не
исчерпываются. О некоторых из этих проблем
и забот нам рассказал Николай
Арсеньевич Санин, заместитель
начальника управления Сахрыбвод.
Мальков выпускают в море, и они
уходят далеко от наших берегов. Сколько
же возвращается? Выгодно ли все это
дело?
42
Несколько лет подряд мальков
метили, а потом подсчитывали
вернувшихся рыб. Вот результаты: в среднем
возвращается примерно 1,8%, но к
некоторым рекам и больше — 3%. Лучше
всего ведет себя в этом смысле
горбуша, которая родилась в реках,
впадающих в залив Анива: сюда приходит
более 5% выведенных здесь рыб.
Даже если считать, что «коэффициент
возврата» будет всего полтора
процента, то и тогда, по расчетам специалистов
Сахрыбвода, каждый миллион
выпущенных мальков горбуши приносит
доход более 25 тысяч рублей, а
себестоимость этого миллиона мальков —
примерно 2000 руб. Если так, то каждый
рубль затрат на искусственное
разведение приносит 10 рублей прибыли
(консервы из лосося, соленая или копченая
рыба, а тем более икра стоят недешево).
Кета не такая прибыльная рыба;
затраченный на ее разведение рубль
приносит только два рубля доходов, но
ведь и в этом случае заводы
рентабельны. Далеко не все налажено в
разведении других лососевых: чавычи, нерки,
симы, кижуча. Это многолетние рыбы,
их мальки остаются вблизи нерестилищ
от полутора до трех лет.
Опыты показали, что и этих
лососевых можно искусственно
воспроизводить, и в 1976—1977 годах на трех
сахалинских заводах заложили сетки с
сотнями тысяч икринок чавычи, кижуча
и симы. Если заняться этими
лососевыми серьезно, выделить на их
разведение необходимые средства, то улов,
несомненно, сильно возрастет.
Все ныне действующие рыбоводные
заводы построены давно, они
нуждаются в реконструкции. Для этого нужны
средства, и немалые. На острове
Итуруп намечается создание Курильского
рыбохозяйственного комплекса,
объединяющего в одних руках и
разведение рыбы, и ее добычу. Это самое
правильное: не станет же такой
«комбинат» сам себе вредить и вылавливать
больше, чем развел.
Большому предприятию обязательно
потребуется новое строительство, в
том числе и жилье, и многое другое,
чего сегодня на островах не хватает:
хорошие дороги, автотранспорт,
телефонная связь, бесперебойное
снабжение электроэнергией. Затраты немалые,
но окупятся они очень быстро.
И в 1980 году удалось бы, считает
Н. А. Санин, выпустить миллиард
мальков, а лет через 10—15 — два
миллиарда.
Сейчас мальков перед выходом в
самостоятельную жизнь подкармливают
икрой минтая и кормами, купленными
за границей. В таких условиях отрасль
не расширишь, нужны свои заводы для
производства рыбьих кормов. Такой
завод обойдется недешево, но это
выгоднее, чем везти корма издалека.
Предстоит выполнить еще немало
исследований. И прежде всего выяснить,
почему возврат горбуши не превышает
в среднем 1,8%. Может, мальков надо
воспитывать в водоемах вместе с
хищниками (в умеренном количестве,
конечно), чтобы у них вырабатывались
защитные рефлексы, которые послужат
защитой в будущей взрослой жизни —
в реках и море? Ведь в нынешних
условиях, когда в первые месяцы своей
жизни рыба находится «на полном
иждивении» человека, она неизбежно
одомашнивается... Может быть, это делает
горбушу и кету слишком уязвимой, и
потому они гибнут чаще, чем
выведенные в естественных условиях?
Нужна, наверное, и так называемая
биологическая мелиорация: контроль за
числом хищников по пути следования
мальков. Чтобы выведенные с такой
затратой трудов и средств будущие
лососи не становились по дороге к морю
пищей для хищных рыб.
Сахалин гордится собственной
картошкой. Ее здесь сажают и выращивают
столько, что хватает даже, чтобы
немного поделиться с Приморским краем.
А интенсивное сельское хозяйство
требует применения химикатов, требует
мелиоративных работ. Животноводство,
которое здесь тоже набирает силу,
нуждается в кормах. Но химикаты при
неумеренном пользовании отравляют
реки, по которым идет рыба. А
мелиорация, сплошной сенокос и вырубка
леса приводят к тому, что в реках
становится меньше воды.
Отказаться от картошки, мяса, молока
нельзя, это ясно каждому. Одна из
главных задач, которая стоит перед
сахалинскими учеными,— сбалансировать
разные отрасли хозяйства — так, чтобы
рыбному делу не наносили урон. Ведь
добывают здесь красную рыбу, которой
цены нет!
Курильская бухта на острове Шикотан.
Наверное, о таких мечтали
мореплаватели всех времен: узкий вход, а за ним
полукруглый залив. Вокруг сопки. Синее
небо и ярко-синее море.
Путина и здесь была в разгаре: шел
промысел сайры. В вечернем океане
43
Тихий океан у берегов острова
Шикотан, мыс Край Света
сияли яркие огни — это в зону
плавучих ловушек заманивали рыбу
мощными электролампами. Местные рыбные
заводы перерабатывали в консервы
массу мелкой серебристой рыбешки...
На восточной оконечности Шикотана
есть мыс с грустным и красивым
названием Край Света. Труднодоступная
часть острова. Дорога такая скверная,
что редкий водитель рискнет двинуться
в путь. На Краю Света — маяк. Белая
высокая башня и домики у ее
подножия; живут здесь две семьи.
Скалистый берег, синяя вода
разбивается о него на миллионы мельчайших
брызг. Белая пена, как кружево,
обрамляет коричневый камень. Москва где-то
очень далеко, и в душу закрадывается
сомнение: есть ли что-нибудь еще в
мире, кроме этого солнечного дня,
белого маяка, зеленых сопок и Тихого
океана...
Мы знаем, что есть. Есть проза
жизни, есть работа, много важных и
трудных дел. И те, о которых мы узнали
здесь, на Сахалине и на Курильских
островах,— в их числе.
От дальневосточных рыбоводов и
рыбаков в значительной степени зависит,
будут ли у нас на прилавках красная
рыба и красная икра, консервы из
лососевых. Развитие лососеводства в этих
краях сулит большие блага, оно
должно превратиться в крупную отрасль
хозяйства, и тогда лососевый промысел
мало будет зависеть от благоприятных
или неблагоприятных природных
стихий. Но все это будет возможно, если
рыбоводам и рыбакам окажут
серьезную помощь. Рыбному хозяйству на
Сахалине и Курильских островах пока еще
не хватает многого...
Д. ОСОКИНА, В. ЧЕРНИКОВА,
специальные корреспонденты
«Химии и жизни»
Фото Д. Осокиной
и В. Берковского
44
Ты поди,
-^"'мЬя^еледушкаг'
домой...
В одном из эпизодов
веселой детской книжки А.
Некрасова «Приключения
капитана Врунгеля» этот
славный мореплаватель
подрядился доставить из
Голландии в Африку партию
селедок. Хитроумный капитан
решил, что сшезачем
тратить огромные средства,
незачем набивать селедок
в бочки, грузить на корабли
f и выгружать снова, где это
понадобится. Не проще ли
согнать селедок в табун или
в стадо,— как хотите
назовите,— и гнать живьем до
места назначения?»
Сказано — сделано. с<Се-
ледок выпустили, согнали
в табун... подняли паруса
э и пошли... Я уселся на
самый нос, на бушприт,
взял длинный хлыст, и, как
только замечу какую по-
3 стороннюю рыбину, я ее
по губам, по губам! И,
знаете, прекрасно •
получилось...»
В наше время нечто в
/ этом роде делается вполне
/ всерьез. Это новое, совсем
еще молодое направление
в рыбном хозяйстве,
которое в специальных
статьях называется «активное
управление Г г|Шедением
промысловых рыб». Только
подстегивают рыб не
хлыстом, а разнообразными
электрическими и
акустическими сигналами. С их
помощью можно, например,
загонять в сети рыбьи
косяки или направлять рыб, путь
которым преграждает
плотина, в специальные
рыбоходные каналы.
Недавно дальневосточным
ученым удалось решить
аналогичным путем еще
одну важную задачу.
В Охотском море, в
некоторых 1 местах массового нере-
^стд сельди, образовались
заморные участки:
выметанная там икра обречена
на гибель. Для спасения
популяции нужно было как-
то заставить косяки сельди
направиться на нерест в
другое, более
благоприятное место. А это не так
просто: мешают рыбьи
инстинкты...
Преодолеть силу
инстинкта позволило
изобретение, сделанное
коллективом ученых во главе
с А. И. Гореликовым
, (Тихоокеанский океанологи-
/ ческий институт ДВНЦ
АН СССР) и Ю. А. Кузнецо-
4ым (Тихоокеанский инсти-
у яут морского рыбного хо-
^/зяйства и океанографии),—
гидроакустический
генератор, который
воспроизводит ^ звуки, издаваемые
^Дельфинами вЪ~ время не-*
падения на косяк сельди.
Этого звука рыбы, глухие
ко всем другим
воздействиям, пугаются и движутся в
нужном направлении. Как
сообщила газета
«Дальневосточный ученый», при
первом же испытании
системы таких генераторов
общей мощностью в 20
«дельфиньих сил»,
изображавшей собой
развернувшееся для атаки стадо
хищников, удалось
перегнать в заданный район
косяк шедшей на нерест
сельди массой в 550—
600 центнеров. В роли
дельфинов выступали
всего два оператора,
управлявшие
генераторами. Такой эксперимент
проведен впервые в мировой
рыбохозяйственной
практике.
Сейчас в научных
исследованиях уже
используется несколько десятков
таких генераторов; идет
работа над
совершенствованием «искусственных
дельфинов» с целью
наладить их массовое
производство. И тогда рыбьи
косяки можно будет
гонять без всякого хлыста
куда нам вздумается —
в том числе и в сети...
ЧЕМ МЫ РАСПОЛАГАЕМ
На краю поля
О ПЕСТИЦИДАХ
И ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
АГРОЦЕНОЗАМИ
Доктор биологических наук
Н. П. ДЯДЕЧКО
Великоснетинка, учебное хозяйство
Украинской сельскохозяйственной
академии, расположена в 60 км от Киева.
Хозяйство специализируется на
выращивании зерновых культур, картофеля,
овощей, многолетних бобовых трав;
развито и молочное животноводство.
4618 гектаров угодий. Современная
агротехника. Высокие урожаи.
Мероприятий по защите растений от вредителей,
болезней и сорняков у нас проводят
очень много, и еще.недавно они
основывались преимущественно на
использовании пестицидов. Ими обрабатывались
все угодья хотя бы один раз в течение
вегетационного периода. А некоторые
посевы — даже три-четыре раза за
лето.
Однако детальное изучение
результатов местного интенсивного режима
защиты растений показало, что столь
широкое применение современных
химических средств на наших нивах крайне
неоправданно. Известно, что пестициды
разрушают сложившиеся взаимосвязи
между организмами в агроценозах,
загрязняют окружающую атмосферу,
опасны для человека и животных.
Поэтому в течение последних трех лет
количество инсектицидов, поступающих
на поля хозяйства, сокращено в четыре
раза. Урожаи по-прежнему высокие,
а затраты на обработку угодий
химикатами сократились в 8—12 раз. Опыт
Великоснетинки уже стал достоянием
многих колхозов и совхозов Украины.
Расскажу, как мы это сделали.
Первым делом были изучены ресурсы
каждого поля, каждого севооборота.
Оказалось, что богатство наших агро-
ценозов огромное!
Исторически сложившиеся
сообщества организмов на местных нивах
представляют собой сложные, относительно
устойчивые, саморегулирующиеся
экологические системы. Например, на поле
с многолетними бобовыми травами
второго года использования обитает около
7200 видов организмов. В более простых
агроценозах, скажем, на поле, занятом
под озимые или картофель, несколько
меньшее разнообразие: 3400—3600
видов.
Связи между организмами в этих
экосистемах осуществляются, так
сказать, на языке энергетических ресурсов:
один вид существует за счет других.
Особенно сложными оказались
взаимосвязи между микроорганизмами,
обитающими в пахотном слое почвы. В
одном грамме почвы, взятой из-под
многолетних бобовых трав, найдено 250—
400 миллионов особей различных
бактерий, 1,5—2 миллиона
микроскопических грибов, 100—150 тысяч низших
водорослей и 10—20 тысяч простейших.
Тщательный анализ этих организмов
и их кормовых взаимоотношений
показал, что только один процент видов
можно причислить к фитофагам (то есть
питающимся растениями). Из них
наиболее опасны лишь 27 видов.
Подавляющее же число обитателей почвы,
почти две трети видов, относится к
зоофагам, которые существуют как раз за
счет фитофагов, поедают их.
Таким образом, между обитателями
упомянутых экосистем существует
сопряженная сложная связь,
устанавливается единство крайне подвижного
равновесия и скачкообразного развития,
что и приводит к саморегуляции
организмов: на какой-то отрезок времени
определенные популяции достигают
оптимальной плотности, затем их
сменяют другие и так далее. Было бы
непростительно, борясь с фитофагами,
не воспользоваться теми
возможностями, которые нам предоставляет сама
природа.
Но собрать без потерь
запрограммированный урожай не удастся, если
полагаться только на естественную
саморегуляцию, механизмы крторой
срабатывают обычно в конце
вегетационного периода. Этот процесс необходимо
ускорить, перенести к моменту
появления всходов той или иной культуры,
чтобы создать оптимальное соотноше-
46
ние между вредителем и его фагами
с самого начала их появления на
посевах.
Для выполнения этой задачи нужно
знать динамику численности главнейших
видов вредных организмов. Поэтому
было налажено систематическое
обследование всех угодий. Учитываются не
только колебания в плотности
отдельных популяций вредителей, но и их
жизнеспособность, а также число энто-
мофагов. Основываясь на этих данных,
мы применяем химические препараты,
но не просто для истребления
вредителей; мы пользуемся химикатами как
средствами управления сообществами
организмов. Это более рациональный
подход со всех точек зрения: он
позволяет максимально уменьшать вред,
наносимый ядами окружающей среде,
а также снизить затраты на обработку
полей.
Остановимся на некоторых приемах
рационального использования
пестицидов.
КАК УРАВНЯТЬ СИЛЫ
Один из таких приемов — локальная,
частичная обработка пестицидами.
В 1977 году колхозы и совхозы Украины
применили ее для борьбы с тлей на
2,4 миллионах гектаров озимой
пшеницы, других зерновых и зернобобовых.
Тли вначале заселяют края поля, а
потом постепенно захватывают остальную
площадь.
На посевах, занятых тлей, встречается
более 60 видов хищников и паразитов,
которые питаются вредителями. Это
коровки, журчалки, златоглазки,
жужелицы. Одна личинка
четырнадцатиточечной коровки за время своего развития
съедает около 850 тлей. Но в первые
дни на краю посевов на одного хищника
приходится 100—150 тлей. Быстро
справиться с ними энтомофаги не могут.
Чтобы они могли одолеть вредителя,
соотношение должно быть иным —
1:30. Экспериментально установлено,
что это соотношение — оптимальное-
Так вот, оказалось: если в начальный
период роста растений обработать
пестицидами краевую полосу шириной
40—50 метров, то на ней большая часть
вредителей гибнет; достается, конечно,
и энтомофагам, но многие из них
спасаются от яда, быстро перебравшись на
чистую территорию. Сразу же за
обработанной полосой число вредителей
еще невелико, не успели добраться,
поэтому здесь между врагами
устанавливается оптимальное соотношение.
Энтомофаги дают тлям генеральный
бой. И неизменно одерживают победу.
Особенно сильно число полезных
насекомых возрастает при применении
препаратов избирательного действия,
например пиримора, сайфоса.
Химикатов краевая обработка требует
значительно меньше, чем сплошная.
Если же тля успела оккупировать все
поле, следует несколько видоизменить
прием: наносить химикат на всю
территорию, но полосами через 40—60
метров. Спустя несколько часов можно
увидеть, как хищники перелетают с
обработанных участков на
необработанные. Аналогичных результатов
удавалось добиться при борьбе с тлей на
полях свеклы, подсолнечника,
картофеля, капусты.
Эффективен прием в плодовых и
ягодных насаждениях. На приусадебных
участках у нас на Украине очень активно
размножается тля самых разных видов:
сливовая опыленная, хмелевая,
чертополоховая, зеленая яблоневая, черная
персиковая, крыжовниковая побеговая,
большая смородинная, малиновая.
Тлями питается около 100 видов хищников и
паразитов. Однако они способны
существенно снижать численность
вредителей только в неблагоприятные для тли
годы. А в период ее массового
размножения энтомофагам требуется помощь.
Чтобы создать в саду оптимальное
соотношение между хищниками и тлями
A:15) в начале появления первых
колоний тлей, участок необходимо
обрабатывать инсектицидами через ряд,
через дерево, через куст. Если
вредителей много, то опрыскивать нужно
каждое дерево, но только часть его
кроны. Например, в 1974 году сливовые
посадки на агростанции Мытница
(Киевская область) опрыскивали пиримо-
ром и сайфосом через ряд. На
четвертый день в необработанном ряду число
тлей на одном побеге уменьшилось
с 1002 до 17, а хищников стало в пять-
шесть раз больше.
В Беликоснетинском учебном
хозяйстве мы испытали зарубежные
препараты селективного действия: деспрол —
для борьбы с колорадским жуком, ге-
мафос — против свекловичного
долгоносика, тиодан — против вредителей
семенной люцерны; кстати, тиодан
особенно ценен тем, что не токсичен для
насекомых-опылителей. Изучены
также апрекс, предназначенный для
борьбы с паутинным клещиком, и другие.
С помощью этих химикатов можно
весьма эффективно управлять процессом
саморегуляции организмов в наших
агроценозах. Они позволяют сохранить,
47
Главные представители хищных насекомых,
которых человек использует для охраны
полей, и их жертвы:
1, 2 — личинка златоглазки и сама
златоглазка;
3, 4 — семиточечная коровка и ее личинка;
5—журчалка и ее личинка; 6—клоп
антокорис; 7 — хищная жужелица;
8, 9 — крылатая и бескрылая формы
злаковой тли; 10, 11 —крылатая и
бескрылая формы гороховой тли. В правом
нижнем углу рисунка жужелица
бембидион, или бегунчик, преследует
самку клубенькового долгоносика,
уничтожая по пути отложенные самкой
яйца; хищник может запеленговать
яйцекладущую самку на расстоянии до
двух метров от места своего укрытия: на
усиках бембидиона размещаются плоские
прозрачные щетинки-сенсилы, с их
помощью и устанавливается
местонахождение долгоносика; в течение суток
бембидион пробегает около 12 км,
обследуя площадь, равную 2.4 га
**
-г
J
ш^/х&ЗяуЛ mi
i/jm
а главное, использовать в агроценозах
полезные организмы для борьбы с
вредными. Сельскому хозяйству крайне
необходимы такого рода препараты хотя
бы против главных шести-восьми видов
вредителей. К сожалению,
отечественная промышленность их пока не
выпускает. Химики должны приложить
максимум усилий, чтобы снабдить нас
этими веществами.
ОТРАВЛЕННЫЙ ЗАВТРАК
Другой пример рационального
использования пестицидов — внутрираститель-
ная терапия, или токсикация всходов.
Смысл ее в том, чтобы сделать растение
токсичным для вредных организмов;
тогда растение как бы само себя
защищает. Достигается это предпосевной
обработкой семян инсектофунгицид-
ными смесями. Препараты проникают
в семя, а оттуда в ткани и клетки
всходов. Отведав отравленный завтрак,
вредитель гибнет. А энтомофаги
остаются невредимыми, ведь они не
питаются растениями.
Для предпосевной обработки семян
зерновых, зернобобовых, сахарной
свеклы и других кормовых культур
пригодна смесь гамма-изомера
гексахлорана или фосфамида @,3—0,5 кг на
центнер семян) с ТМТД @,2—0,3 кг/ц) и
сернокислым марганцем — 0,1 кг/ц. Такая
подготовка семенного материала
позволяет полностью защитить посевы от
вредителей в наиболее критический
период развития растений, то есть в
течение двух-трех недель после
появления всходов. Если в дополнение к
пропитке семян внести во время сева на
гектар г>ол я 50 кг гранулирован ного
2%-ного гамма-гексахлорана, 4—6 кг
фосфамида вместе с требуемой дозой
суперфосфата и другими
минеральными удобрениями, то обеспечена
защита на еще более долгий срок —
45 дней.
Этот прием очень хорошо изучен
нами на посевах гороха. Наиболее
опасным врагом его всходов считается
клубеньковый долгоносик. Вредители
заселяют края полей во время появления
первых всходов гороха. Около недели
они уничтожают всходы по краям, а по*
том оккупируют весь участок. 15—
20 жуков на одном квадратном метре
достаточно, чтобы от всходов ничего
не осталось, но иногда вредителей
бывает в три-четыре раза больше.
Наиболее специализированные враги
клубеньковых долгоносиков —
жужелицы бембидионы, блестящие жуки,
по размеру чуть меньше долгоносиков.
Жужелица питается яйцами
долгоносиков и ежедневно может съесть около
70 штук. Установлено: чтобы яйца
вредителя были уничтожены, на одну
жужелицу должно приходиться не более
4 долгоносиков. Но на краевой полосе
посевов в момент появления всходов
соотношение сил не в пользу
жужелицы; каждой противостоят В—12
вредителей. Если ей не помочь, всходы
погибнут.
Силы можно уравнять краевой токси-
кацией, то есть посевом отравленных
семян только по краям поля. Сплошную
обработку проводить не следует. Все
решается в опоясывающей поле полосе
шириной 40—50 метров. Правда, поги-
оающие здесь самки долгоносиков
успевают все же отложить яйца, но зато
в 10—12 раз меньше, чем обычно.
Благодаря жужелицам молодые
долгоносики на поле не появляются и в 6—8 раз
уменьшается число вредителей,
прячущихся на зимовку в многолетние травы,
поэтому на следующий год враг не
будет столь грозен.
Раньше для защиты гороха его
посевы два-три раза обрабатывали
хлорофосом. После этого жужелицы,
естественно, тоже гибли, поэтому на
зимовку уходило намного больше
вредителей.
Краевая токсикация пригодна для
защиты всходов подсолнечника,
свеклы, кукурузы, озимой пшеницы,
которые в юго-западной Украине ежегодно
подвергаются нашествиям южного
серого долгоносика.
ТОЧНЫЙ ВЫБОР СРОКА
Поскольку мы пока не располагаем
препаратами избирательного действия,
необходимо приложить все усилия,
чтобы ослабить губительное влияние
на полезную фауну пестицидов общего
назначения. Этого можно добиться
и при обычных, как мы говорим,
наземных обработках (в отличие от токси-
кации семян). Все зависит от сроков и
способов применения химикатов.
Например, если на квадратном метре
посевов озимой пшеницы обнаружено
более двух клопов вредной черепашки,
то прибегать для борьбы с ними к
хлорофосу или метафосу следует лишь
в том случае, если популяция клопов
сильная, здоровая. Определяют это по
весу особей: крепкая, здоровая самка
весит более 130 мг. Если зимовавшая
самка оказывается легче 130 мг,
обработку поля нужно перенести на тот
период, когда растения достигнут фазы
молочной спелости.
Изменение срока сохранит жизнь
врагам клопа, теленоминам. И они
уничтожат яйца, отложенные ослабленными
вредителями. Теленомины откладывают
свои яйца в яйца вредителей; личинки
теленомин поедают яйца черепашек,
лишая их тем самым потомства. А вот
если яйца были отложены
жизнеспособными черепашками, то зародыши
паразита не могут развиться в них;
будущая личинка теленомины
рассасывается в плазме яйца черепашки.
Широкое применение упомянутых
методов требует знаний, навыков, высокой
организации труда. Но, потратив на
освоение этих приемов определенные
усилия, каждое хозяйство нашей страны
сможет значительно уменьшить тот
вред, который пестициды наносят
природе.
50
Фотоинформация
US!!!*
,!Г
Проветривание
пруда
Темные кольца на воде
(верхнее фото)—это
рыбьи рты в проруби.
Рыбы жадно хватают
воздух, им душно...
В конце зимы в водоемах
поубавилось кислорода,
особенно в искусственных
прудах, небогатых
водорослями. Усугубляет
дело толстый слой снега
на льду, задерживающий
свет, без которого растения,
как известно, не могут
поглощать углекислый газ
и выделять кислород.
Нехватка же кислорода ч
вызывает так называемый
зимний замор рыбы
(и водяных насекомых):
живность в прудах гибнет
от удушья.
Улучшить газообмен
можно с помощью лунок,
пробитых во льду.
В естественных условиях
их проделывают выдры
и норки (к тому же лесные
озера снабжает
кислородом родниковая
вода). На городских
прудах тоже можно ,
увидеть лунки,
пробитые рыбаками;
но рыбаки за свои услуги
рыбам берут слишком
дорогую цену...
В московском парке ЦДСА
о жителях пруда
позаботились более
основательно и, будем
надеяться, бескорыстно.
В метрах пятидесяти от
берега пробита прорубь.
Рядом с ней стоит будка
с насосом, который качает
воду в желоб (нижнее фото).
Пройдя по желобу, вода
снова стекает в пруд, а пока
течет, обогащается
кислородом. Не такое уж
хитрое устройство, а какое
полезное!
А. РОЖКОВ
51
•*Jfc
а*л
•r.u
-^j
tee*.
Праздник красок
Многие ли задумывались
над той ролью, какую в
жизни человека играют
всевозможные краски? А ведь
похоже на то, что люди без
них прост© не могут
обойтись...
Нам привычны зелень
степей и лесов, голубое
небо, становящееся на
закате малиновым, желтая
пшеница. Но человеку как
будто мало естественной
расцветки, он постоянно
дополняет ее. Цветастые
ткани, стенные росписи,
разрисованная посуда,
подкрашенная пища,
косметика, ковры, картины.
Но больше всего цвета,
если так можно выразиться,
расходуется в
праздничные дни: люди облачаются
в красочную одежду,
устраивают фейерверки,
вывешивают яркие флаги и
плакаты. В использовании
красящих материалов разные
народы продолжают и
сегодня придерживаться
национальных традиций.
Причем, некоторые из этих
традиций уходят своими
корнями в глубокую
древность, как, например, в
Индии, где испокон веков
красками пользовались
очень щедро, особенно в
праздники.
В начале марта наступает
самый жизнерадостный
праздник индийцев, с*Холи».
Он посвящен
богу-пастуху Кришне, хозяину всех
коровьих стад, и его
возлюбленной, пастушке Рад-
хе. Но это также и
праздник красок: порошковых,
в тюбиках и в таблетках,
растворимых в воде,
простой бельевой синьки и даже
чернил. «Холи» достигает
кульминации на пятый день.
Люди обсыпают друг друга
цветными порошками,
бросают их в лицо, сыплют на
волосы или втирают в кожу.
Прохожему могут вылить
на голову целое ведро
цветной воды или опрыскать
из приспособления, очень
похожего на велосипедный
насос с поршнем.
Обстрелянные и облитые
красящими жидкостями не
обижаются, таков обычай.
Выходя на улицу, люди
предвидят возможность быть
атакованными и не
надевают хорошего платья. Все
ходят перемазанные с
головы до ног, с сизыми
лицами и одеждой в цветных
потеках, но веселые.
Особенно усердствуют дети.
Во время других
праздников красками пользуются
иначе. Скажем, во
время южноиндийского
праздника «Онам», посвященного
окончанию муссонов и
будущему урожаю, создаются
яркие росписи, ими
украшают стены и полы в доме,
а также и землю во
дворах.
52
Слева вы видите
индийскую женщину за
созданием порошкового
орнамента; на этой
странице — образец
настенной праздничной
росписи
Росписи делают
женщины. Искусство это
передается по наследству от
матери к дочерям. На ранней
заре, а иногда и ночью, при
светильниках, хозяйка дома
гладко выметает
пространство перед входной дверью,
а затем покрывает его и
стены смесью из рисового
отвара и разведенного
водой навоза священной
коровы. Это грунтовка. На
нее и наносят рисунки. На
стенах рисуют жидкими
красками, а на земле —
порошками. Домашняя
художница зачерпывает
в горсть цветной порошок —
охру, индиго, аурипигмент
или какую-нибудь другую
краску, затем, пропуская
краску тонкой струйкой
между пальцами, создает
сложную вязь. Пальцы
выполняют роль клапанов, они
то перекрывают цветные
струйки, то двоят их, троят.
Переплетаются тонкие и
жирные линии, возникают
геометрические узоры,
появляются стилизованные
изображения цветов, птиц,
зверей, рыб, людей.
Казалось бы, зачем
столько стараний? Ведь материал
очень непрочен, дунет
ветер — и рисунка нет. Но,
во-первых, обычно в это
время стоит безветренная
погода, а во-вторых, рисунок
и не должен жить долго.
Праздничная роспись
порошками и на стенах не прог
сто украшение. Это янтры,
или рисованные молитвы,
в которых обращаются
к добрым духам и богам
с совершенно
конкретными просьбами и
пожеланиями относительно
благосостояния семьи, здоровья
близких. Вышедшие из
дома утром муж и другие
домочадцы читают янтры
и с удовлетворением
отмечают, что хозяйка
позаботилась и об их делах.
Члены семьи не просто
читают, они ступают на
разрисованное место. Но
художница не огорчена, теперь
ее просьбы будут
услышаны...
Прекрасные и
разнообразные по цвету и форме
орнаменты ведут свое
происхождение с того времени,
когда в долине Инда
зародилась древняя цивилизация,
носящая сейчас название
культур Хараппы и Мохед-
жо-Даро. На найденных
археологами различной
утвари и печатках, датируемых
третьим тысячелетием до
новой эры, встречаются
знаки и символы, очень
похожие на те, что рисуют в
наши дни индийские женщины
во*всех уголках страны.
Поначалу создание
росписей было составной частью
обрядов, совершавшихся
в важные для народа дни:
перед севом и сбором
урожая, при заключении брака,
перед рождением ребенка
и так далее. Орнаменты
состояли из символов
различных божеств
многочисленного индийского
пантеона (как утверждает канон,
он насчитывает 3333 бога,
богини и демона). Скажем,
цветок лотоса — символ
богини счастья Лак ш ми,
изображение дерева
связано с богиней
плодородия, а рыба — знак
процветания. И по сей день
росписи сохраняют свой
мистический смысл — ими также
покрывают пол перед
алтарем в особой комнате для
молитв и священную
дорогу, по которой движется
процессия с изображением
бога в дни религиозных
празднеств.
Но все большее
значение приобретает
художественная ценность
орнаментов. Их используют при
декорировании новых
общественных и жилых зданий;
элементы узоров переносят
на ткани, ковры, посуду.
Н. БУЛАНОВА
53
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
ШУМНАЯ РЕАКЦИЯ
Сотрудники одной из лабора-1
торий Дельфтской высшей тех-I
нологической школы (Ни- I
дерланды) были немало удив-1
лены, когда, добавив в водный I
раствор пиразина QH4N2 I
водный же раствор двухлори- I
стого цинка, услышали силь- I
ный треск. Белое кристалли-|
ческое вещество — дихло-1
ро( пиразин )цинк, которое I
получается в результате этой I
реакции, впервые описано I
еще в прошлом веке. Но ни
К. Штер, первым получивший
его, ни более поздние
исследователи не упоминали о
каких-либо шумовых эффектах...
Далее выяснилось, что
если сосуд, в котором
синтезирован дихлоро(пира-
зин)цинк, оставить на
несколько часов в покое, а
затем встряхнуть, то треск
раздастся снова. Он твм громче,
чем выше концентрация
исходных реагентов.
Максимум звукового излучения
приходится на частоты, не
воспринимаемые
человеческим ухом. Причиной треска,
пишет «Journal of the
American Chemical Society»
(т. 1000, с 5569), может быть
либо фазовый переход
внутри кристалла, либо
образование коротких цепей или ди-
меров, которые затем по-
лимеризуются.
СВЕРХНОВЫЙ ПАПА
Изотопный анализ
метеорита, упавшего в 1969 г. в
Мексике, по-видимому,
подтверждает гипотезу о том,
что у нашей Солнечной
системы были ие только
«мама»—предсолнечная
туманность, но и «папа» — сверх-
I новая звезда. Взрыв сверх-
I новой породил ударную вол-
I ну, которая способствовала
I сжатию туманности, и одно-
I временно обогатил ее неко-
I торыми изотопами, в частно-
I сти алюминием-26. При рас-
I паде алюминия-26 образуется
I магний-26 — избыточное ко-
I личество этого изотопа и было
I обнаружено в метеорите.
ПРИХВАТИТЕ С СОБОЙ
ЛЕДОРУБЫ
I Впечатляющим событием было
I открытие на Марсе, Венере и
(Меркурии кратеров, подоб-
I ных лунным. Не избежали
I общей участи и четыре самых
I крупных спутника Юпитера —
I Ио, Европа, Ганимед и Кал-
|листо. Радиолокационные на-
I блюдения, проведенные в Аре-
I сибо (Пуэрто-Рико),
свидетельствуют о том, что их
(поверхность тоже испещрена
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
кратерами, причем стенки этих
кратеров, по всей
вероятности, покрыты ледяной корой.
Так что, отправляясь на Ио
или на Ганимед, не забудьте
прихватить с собой ледорубы
В АСТЕРОИДНОМ ПОЯСЕ
В конце прошлого года вошел
в пояс астероидов
американский космический аппарат
«Вояджер-1». Прежде
существовало мнение о том, что этот
пояс —заполненное
осколками «минное поле Солнечной
системы». Однако «Вояджер»,
как до него «Пио нер-10» и
«Пионер-11», прошел этот
участок Галактики без
повреждений. Концентрация частиц
размерами от 0,1 до 1,0 мм
оказалась здесь лишь втрое
больше, чем в околоземном
пространстве. Частицы
больших размеров совсем редки.
6 апреля «Вояджер-1»
должен пройти сравнительно
близко — менее 16 млн. км —
от астероида Медея.
Хотели провести фотометрическое
исследование этого астероида
с «Вояджера-1» Бортовой
ЭВМ уже передали
соответствующие команды но
заклинило поворотную платформу
с нужными приборами и
задуманный эксперимент
пришлось отменить
ЛЕКАРСТВО ОТ ЭНЦЕФАЛИТА
Не всегда причиной
тяжелейшего заболевания мозга —
энцефалита — бывает укус
клеща. Болезнь может быть
вызвана и вирусом герпес,
который чаще всего бывает лишь
причиной обыкновенной
сыпи на губах простуженного
человека.
В течение восьми лет шли
испытания препарата виоара-
бин, который, как считают, при
внутривенном введении может
стать эффективным средством
против энцефалита,
вызываемого вирусом герлес Виоара-
бином уже пользуются для
лечения глазных болезней,
вызван ных тем же вирусом
Национальный институт
здравоохранения США,
проводивший испытания нового
лекарства, считает, что с помощью
виоарабина смертность от
инфекционного энцефалита
может быть снижена в два-
три раза и что в большинстве
случаев этот препарат
поможет устранить опасные по-
| следствия тяжелой болезни.
В РОДДОМ ИЗ БАССЕЙНА
Как-то японский профессор-
j медик Хадзимэ Муроока
обратил внимание на то, что
профессиональные ныряльщи-
54
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ НОВОСТИ ОТОВСЮДУ
цы, добывающие жемчуг почти
до последнего дня
беременности, рожают легко и без
осложнений. После
нескольких лет наблюдений в
бассейне за пловчихами, в том числе
и за находящимися в
положении, Муроока пришел к
выводу, что будущим матерям
не только можно, но и
полезно плавать, пока до родов
остается не меньше недели.
АНТАГОНИСТ АЛКОГОЛЯ!
О тетраэтилсвинце — широко
.применяемом антидетонаторе
моторных топлив — чаще
всего говорят с осуждением: это
главный источник загрязнения
воздуха, воды и почвы
ядовитым свинцом. Впрочем,
недавно, как сообщил
журнал «New Scientists A978,
т. 79, № 1И2), выяснилось
одно полезное свойство
тетраэтилсвинца: как и
известный препарат антабус,
тетраэтилсвинец вызывает
отвращение к алкоголю. Если
бы он не был так ядовит
СТРЕЛКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ЧАСОВ
Электронные часы со
стрелками (с одной стороны, дань
моде и точности, а с другой —
дань привычке, традиции)
выпустила одна из
американских фирм. Конечно, в этих
часа х нет стрелок,
приводимых в движение шестернями
механизма. Использован
индикатор на жидких кристаллах,
лишь внешне имитирующий
привычное движение
привычных стрелок с точностью
+ 15 секунд в месяц.
УЖ ЛУЧШЕ БЫ
МНОГО
МАЛЕНЬКИХ
Изучив архивные данные о
пятистах землетрясениях,
происшедших за последние
полтора века в районе
Ассама (северо-восточная часть
Индии), профессора Н. Кхат-
ри и М. Уайсс обнаружили
закономерность. Всем
катастрофическим
землетрясениям в этом районе
предшествовали довольно
длительные периоды сейсмического
затишья. Самые страшные
землетрясения (8,7 балла по
шкале Рихтера) произошли в
1897 и 1950 гг. после 28 и
30 лет затишья. И чем дольше
затишье, тем разрушительнее
оказывалось землетрясение.
Это объясняют тем, что как раз
в этом районе Гималаев
проходит один из разломов
континентальных плит.
Землетрясения умеренной силы вызывают
оседание участков земной
коры в разлом. При этом
напряжения в коре ослабевают;
если и происходит
землетрясение, то слабое, без
катастрофических последствий.
Сейсмическое же затишье
свидетельствует о том, что
на время разлом закрывается,
но в глубине сейсмическая
деятельность продолжается.
Напряжения нарастают в
течение многих лет, и в конце
концов происходит
землетрясение большой
разрушительной силы.
Период сейсмического
затишья в этом районе Гималаев
длится уже довольно долго:
если верен прогноз, здесь
следует ждать землетрясения
большой силы.
КТО В МОРЕ
НАСЛЕДИЛ
Этой весной начнется
международный эксперимент, цель
которого отработать
предложенный шведскими
специалистами способ
обнаружения судов, загрязняющих
море нефтью. В нефть каждого
танкера предложено
добавлять немного распыленного
металла, точнее сплава.
Комбинации элементов в сплавах —
всевозможные, каждому
судну таким образом будет дана
своя метка. И если какой-то
танкер сбросит в море нефть
(или загрязненную нефтью
воду), его обязательно найдут
по этой метке,
индивидуальной, как отпечатки пальцев.
Эксперимент продлится год.
В нем примут участие ГДР,
Дания, Польша, СССР,
Финляндия, ФРГ и Швеция.
МИНУЯ РАССОЛ
Селекционеры из
университета штата Калифорния
скрестили один из местных сортов
помидо ро в с помидо ром с
Галапагосских островов,
который, будучи, правда,
несъедобным, в состоянии
расти на самом берегу океана,
буквально в двух шагах от
воды. Гибрид получился
небольшим, сантиметра три в
диаметре, вполне съедобным и
главное солоноватым.
Оговоримся сразу, авторы работы не
ставили себе задачу
облегчить труд домашних хозяек. Их
цель — вывести сорта
сельскохозяйственных растений
для приморских районов, где
плохо с пресной водой.
Наряду с подсоленными
помидорами выведены вполне
пресные сорта пшеницы и ячменя,
которые тем не менее можно
без ущерба для урожая
поливать водой из океана.
55
Hi
Информация
НАГРАЖДЕНИЯ
Высшие награды Академии
наук СССР в области
естественных наук — золотые
медали им. М. В. Ломоносова за
1978 г. присуждены
Президенту АН СССР академику
А. П.-АЛЕКСАНДРОВУ за
выдающиеся достижения в
области атомной науки и
техники и Президенту
Королевского общества
Великобритании профессору А. ТОДДУ за
выдающиеся достижения в
области органической химии.
СОВЕЩАНИЯ, СИМПОЗИУМЫ.
КОНФЕРЕНЦИИ
Май
Симпозиум «Взаимодействие
ультразвука с биологической
средой». Пущи но. Институт
биологической физики
АН СССР A42292 Пущнно
Московской области).
Ill конференция
«Автоматизация контроля и
прогнозирования уроаней загрязнения
атмосферного воздуха». Киев.
Институт технической
теплофизики АН УССР B52057 Киев,
ул. Желябова, 2-А).
Совещание «Синтез и
изучение новых отечественных
противолейкозных
препаратов». Вильнюс. Институт
биохимии АН Литовской ССР
B32600 Вильнюс, ул. Поже-
лос, 48), Институт элементо-
органических соединений
АН СССР.
II совещание по применению
методов ЯМР и ЭПР в
химии твердого тела.
Черноголовка. Институт химической
физики АН СССР A42432
Черноголовка Московской обл.),
Научный совет АН СССР по
химической кинетике и
строению, Комиссия АН СССР по
радиоспектроскопии.
Конференция ло термической
переработке древесины и ее
компонентов. Красноярск.
Научный совет АН СССР по
проблеме «Химия древесины
и ее основных компонентов»,
Сибирский технологический
институт F60049 Красноярск,
проспект Мира, 82).
IX совещание ло
жаростойким покрытиям. Запорожье.
Институт химии силикатов
АН СССР A99164 Ленинград,
наб Макарова, 2), Украинский
научно-исследовательский
институт специальных сталей.
IV совещание по
термодинамике металлических сплавов.
Алма-Ата. Институт
органического катализа и
электрохимии Казахской ССР
D80100 Алма-Ата, ул. Маркса,
142), Научный совет АН СССР
по химической термодинамике
и те р мо х и ми и.
II конференция по
математическому моделированию
сложных х ими
ко-технологических схем. Баку. Май-июнь.
Институт теоретических
проблем химической технологии
АН Азербайджанской ССР
C70122 Баку, проспект
Нариманова, 29), Научный совет
АН СССР по проблеме
«Теоретические основы
химической технологии».
III совещание ло химии,
технологии и применению
ванадиевых соединений.
Свердловск— Нижний Тагил.
Институт металлургии УНЦ
АН СССР F20312 Свердловск
ГСП, ул. Ковалевской, 20),
Институт химии УНЦ АН СССР,
Научный совет АН СССР по
неорганической химии.
Ill конференция по культуре
клеток растений. Ереван.
Институт физиологии растений
АН СССР A27273 Москва,
Ботаническая, 35), Институт
микробиологии АН
Армянской СССР.
Совещание «Химия и биохимия
олигонуклеотидов». Вильнюс.
Научный совет АН СССР по
проблемам молекулярной
биологии A17312 Москва,
ул. Вавилова, 34).
Конференция «Эндокринная
система организма и
токсические факторы внешней
среды». Уфа. Научный совет
АН СССР по комплексным
проблемам физиологии
человека и животных, Институт
эволюционной физиологии и
биохимии АН СССР, Уфимский
институт гигиены и
профзаболеваний D50022 Уфа,
Онежская, 37).
Совещание «Безотходная
технология переработки
полезных ископаемых». Москва.
Институт проблем
комплексного освоения недр АН СССР
A11020 Москва, Крюковский
тупик, 4), Научный совет
АН СССР по
физико-химическим проблемам обогащения
полезных ископаемых.
Семинар «Делоаые игры и их
программное обеспечение».
Звенигород. Научный совет
АН СССР по комплексной
проблеме «Оптимальное
планирование и управление
народным хозяйством»,
Центральный эко но ми ко
-математический институт АН СССР
A17333 Москва, ул.
Вавилова, 44).
Июнь
Конференция «Предельные
свойства фотографирующих
регистрирующих сред».
Черноголовка. Комиссия АН СССР
по химии фотографических
процессов, Государственный
научно-исследовательский и
проектный институт химико-
фотографической
промышленности A25В15 Москва ГСП,
Ленинградский проспект, 47).
II конференция ло химии и
фи зико- химии о л иго ме ров.
Донецк. Украинский научно-
исследовательский институт
пластических масс, Институт
химической физики АН СССР
A17334 Москва, Воробье в с кое
шоссе, 2-Б), Научный совет
АН СССР по
высокомолекулярным соединениям.
Конференция по ЯМР
тяжелых ядер элементоорганиче-
ских соединений. Иркутск.
Иркутский институт органической
химии СО АН СССР F64033
Иркутск, ул. Фаворского, 1),
Научный совет АН СССР по
химической кинетике и
строению.
I совещание по физической и
координационной химии пор-
фириноа. Иваново. Химико-
технологический институт
(Иваново, ул. Энгельса, 7),
Научный совет АН СССР по
неорганической химии.
Конференция по
ионообменным процессам. Москва.
Институт геохимии и
аналитической химии АН СССР A17334
Москва, Воробьевское шоссе,
47-А).
Симпозиум «Механизмы
действия биологически активных
соединений на возбудимые
мембраны». Пущи но Научный
совет АН СССР по
комплексной проблеме €<Биологиче-
ские мембраны и
использование принципов их
функционирования в практике» A17312
Москва, ул. Вавилова, 32),
Научный совет АН СССР по
проблемам биологической
физики, Институт
биологической физики АН СССР.
Совещание «Математические
методы исследования
полимеров». Пущине
Научно-исследовательский вычислительный
центр АН СССР A42292 Пу-
щино Московской области),
Институт физической химии.
IX Пущинские чтения.
Совещание «Использование
солнечной энергии и возможности
фотосинтеза». Пущине
Институт фотосинтеза АН СССР
( 142292 Пущино Мое ко веко и
области), Научный совет
АН СССР по проблемам
фотосинтеза и фотобиологии
растений
IV Пущинская конференция
«Память и следовые
процессы». Пущине Научный соввт
АН СССР по комплексным
Окончание на с 66
56
КЛУБ
ЮНЫЙ
ХИМИК
Что же там
происходит?
Все цвета
радуги
Два совета
фотографам
Индикатор
из лепестков
РАССЛЕДОВАНИЯ
Что же
там
происходит!
Если добавить к слабому
раствору фенола в воде —
всем известной
«карболке» — немного
разбавленного раствора хлорида
железа РеС1з, то появится
отчетливое фиолетовое
окрашивание. Это вы, наверное, и
сами знаете. Но знаете ли
вы, что там происходит?
Объяснение, конечно,
можно найти в книгах. Но не
лучше ли будет
предпринять небольшое
расследование? Поставим несколько
опытов — и не только с
фенолом.
Опыт 1. В небольшой
стеклянный стаканчик (не обя-
Спектр поглощения
комплекса
иона Fe3+ с фенолом.
Максимум
поглощении
приходится
на желто-зеленую
область
зательно химический)
внесите 0,В г фенола.
ОСТОРОЖНО! ФЕНОЛ НЕ ДОЛЖЕН
ПОПАДАТЬ НА КОЖУ!
Влейте в стаканчик 30 мл теплой
воды и размешайте фенол
до растворения —
получилась фенольная вода, она же
карболовая кислота.
Проведите пробу с индикаторной
бумажкой: среда окажется
слабокислой, почти
нейтральной. Что же, фенол — очень
слабая кислота.
В другом стакане
приготовьте раствор 0,1 г FeCI3 • 6Н20
в 15 мл воды и вновь
испытайте среду
индикаторной бумажкой. Среда тоже
будет кислой — из-за того,
что гидролизуется соль,
образованная слабым
основанием и сильной кислотой.
Слейте содержимое обоих
стаканов — и немедленно
появится фиолетовая
окраска. Снова испытайте среду:
оца стала намного кислее,
потому что в результате
химической реакции появи-
олтмческая плотность раствора
600 700
длина волны,!»
Клуб Юный химик
57
лись катионы водорода Н+ .
По всей видимости,
уравнение реакции должно
выглядеть так:
Fe3* + 3CeHsOH -*■
-► Fe(OC6H5K + ЗН+...
Нет, оно выглядит иначе.
Спектроскопические
исследования показали, что на
самом деле образуется
комплексный ион [FefOCeHsb]3-*
Fe3+ + 6CfiH,OH -*
-► [Fe(OCfiHr)bP- + 6H+.
Но почему реакция идет
именно так? Все дело в ионе
Fe3+. Железо относится к так
называемым переходным
элементам, у которых в
химических реакциях участвуют
электроны не только
последнего, но и предпоследнего
энергетического уровня.
Поэтому-то ион Fe3+
присоединяет не три, а сразу шесть
остатков фенолята.
Растворы, содержащие этот
комплексный ион,
поглощают значительную часть
желтых и зеленых лучей спектра,
а пропускают в основном
красные и синие: В
результате раствор принимает
фиолетовую окраску.
Спектр поглощения
комплекса Fe3+c фенолом
показан на предыдущей
странице.
Опыт 2. Налейте в три
чистые пробирки по 2 мл
фиолетового раствора,
оставшегося от первого опыта.
В первую пробирку добавьте
2 мл спирта, во вторую —~
2 мл раствора HCI A:10),
в третью — 2 мл 5%-ного
раствора NaOH. Во всех
случаях окраска исчезает: и
кислота, и щелочь, и даже
спирт разрушают комплекс
с образованием исходных
веществ. Значит, комплексный
ион [Fe(OCeH5)f]3— очень
непрочен.
Опыт 3. Любопытно узнать,
нет ли каких-то других
веществ, содержащих г и
дроке ил и бензольное ядро,
которые дают такую же
цветную реакцию? Попробуем
поэкспериментировать с двух-
и трехатомными фенолами и
их производными.
В шесть стаканов внесите
по 0,1 г пирокатехина,
резорцина, гидрохинона,
пирогаллола, галловой кислоты и
салициловой кислоты,
добавьте по 10 мл воды и
размешайте. В каждый
стакан влейте по 10 мл 1 %-ного
раствора FeCU * 6Н2С Ну и
красота! Раствор
пирокатехина окрасился в изумрудно-
зеленый цвет, резорцина —
в темно-фиолетовый,
гидрохинона — в темно-красный,
пирогаллола — в голубой,
быстро переходящий в
красный, галловой и
салициловой кислот — в фиолетовый...
Таким образом, реакция
иона Fe3+ с одно-, двух- и
трехатомными фенолами, а
также с их производными
оказалась универсальной.
Поэтому ее часто
используют в органической химии —
как предварительную
качественную реакцию на эти
вещества.
Н. А. ПАРАВЯН
ОПЫТЫ БЕЗ ВЗРЫВОВ
Все цвета
радуги
Химией ванадия мы решили заняться,
прочитав статью «Молекула — не просто сумма
атомов» в № 4 за 1975 г. и узнав из нее,
что ванадий образует множество соединений,
часто ярко окрашенных, и с ними можно
поставить интересные опыты. Опыты ставили
в школьном кабинете химии.
Для работы нужен ванадат натрия. Его
можно приготовить, растворив 2 г оксида
ванадия V2O5 (он -входит в набор реактивов
для школ № 5) в 100 мл 1 н. раствора
NaOH. Содержимое стакана надо время от
времени взбалтывать и спустя 10 минут
профильтровать. Оксид ванадия (V) кислотный,
он реагирует со щелочами, образуя соли —
метаванадаты, производные слабой мета-
ванадиевой кислоты НУОз:
V2Os + 2NaOH = 2NaV03 + Н20.
Метаванадаты бесцветны, а соединения
ванадия с меньшей степенью окисления ярко
окрашены.
Чтобы восстановить ванадат натрия,
соберем установку, показанную на верхнем
рисунке. Звездочкой отмечен прибор для
окисления спирта, который, наверное,
найдется в школьной лаборатории; пробку со
спиралью надо заменить на обычную. Нальем
в прибор 50 мл раствора NaV03 и добавим
3 мл концентрированной H2S04
(ОСТОРОЖНО!). Если добавлять кислоту по каплям
из градуированной пипетки, то сначала
появляется оранжевая, а затем желтая окраска:
в кислой среде соединения ванадия (V)
склонны к полимеризации, причем образуются
окрашенные поливанадаты:
58
Клуб Юиыи химик
3vot ^ v3o39-,
6VOr + 2H+=V6Ol?+H20 и т. д.
В сильнокислых растворах образуются также
катионы VOJ.
Теперь получим соединение
четырехвалентного ванадия. Из прибора для
получения газов пропустим через раствор ток
сернистого газа. Окраска раствора станет
темно-зеленой, затем сине-голубой. Это
значит, что восстановление закончилось и
образовались ионы ванадила V02+ - Они могут
объединяться в пары, образуя ионы дивана-
дила V202+ синего цвета:
(V02JS04 + S02 = 2VOS04,
2VOS04 = V202(S04J .
Как только цвет раствора станет
сине-голубым, прибор для получения газов
отключите и вымойте ПОД ТЯГОЙ, а раствор VOS04
перелейте в стакан, чтобы дать улетучиться
избытку сернистого газа.
Чтобы получить соединения трех- и
двухвалентного ванадия, придется прибегнуть к
помощи атомарного водорода. Нальем в
пробирку 6 мл полученного раствора VOS04,
не содержащего S02f добавим 2 мл
концентрированной H2S04 (ОСТОРОЖНО!) и две
гранулы цинка. Чтобы ускорить дело,
подогреем пробирку на спиртовке с полминуты.
Вскоре окраска станет зеленой —
образовались ионы V3+:
V02++H + H+=V3++H20.
Когда появится зеленая окраска, половину
раствора отлейте в другую пробирку. Мы
получили сульфат ванадия (III) — V2(S04b-
Восстановление до двухвалентного состояния
идет гораздо дольше — около часа. Когда
цвет раствора станет отчетливо фиолетовым
(образовались ионы V2+ : V3+ +H = V2+ +
+ Н+), гранулы цинка извлеките или
перелейте раствор в другую пробирку.
Сульфат ванадия (II)—очень сильный
восстановитель. Он окисляется кислородом
воздуха, и даже в закрытой пробирке
через несколько часов появляется заметное
зеленое окрашивание. Поэтому раствор надо
использовать для опытов как можно быстрее.
Соединения ванадия могут вступать в
реакции диспропорционирования: мы
подтвердили это опытами.
Вольем в пробирку по аптечной
пипетке растворов VS04 и VOS04; появится
зеленая окраска, характерная для ионов V3+:
VdS04 + VS04 + H2S04 = V2(S04K + H20.
Теперь добавим пипетку У2(Б04)з, 3 капли
концентрированной Н »S04 и пипетку
полученного ранее NaVO,. Несколько раз встрях-
Вверху — установка для
восстановления ванадата
натрия; внизу — прибор,
в котором получают
перекисные соединения
ванадия
Клуб Юный химик
59
"•-«- ~чС i
*J»
\'tf-
^|!д»£Ь»у~-- M^tfyiaftBfcgl
нем пробирку, и появится голубая окраска
ионов V02+:
V2(S04K + (V02JS04=4 VOSO4.
Наконец, вольем в пробирку пипетку VS04f
2 капли концентрированной H2S04/ пипетку
NaVC>3 и встряхнем пробирку; образуются
ионы V02+:
(V02JS04 + VSO4 + H2S04=3 VOSO4 + Н20.
Получим гидроксиды соединений ванадия.
В три пробирки нальем по 2 мл 2 н. раствора
NaOH. В одну добавим пипетку VS04, в
другую— V2(SC>4K, в третью — VOS04. Во всех
пробирках выпадут осадки. В первой —
осадок серого цвета:
V2+ + 20br=V(OHJ|;
во второй — желто-зеленый осадок:
V3++30l-r = V(OH)s|;
в третьей — красно-коричневый осадок:
V02+ +20H- = VO(OHI|.
Через сутки все осадки растворятся.
В заключение окислим соединения ванадия
перекисью водорода. Нальем в две пробирки
по пипетке V2(S04K и VSO4 и добавим по
■каплям аптечную перекись водорода,
встряхивая пробирку после добавления каждой
капли. Ванадий будет окисляться до трех- и
четырехвалентного состояния (уравнений не
приводим — попробуйте вывести их
самостоятельно).
Чтобы получить перекисные соединения
ванадия, понадобятся оксид ванадия V2Os
и пергидроль. Соберем прибор (нижний
рисунок на стр. 59). В штативе укреплен сосуд
для демонстрации закона сохранения массы.
В одно его колено поместим 0,1 г V2Os и
добавим 1 мл концентрированной Н2504, а в
другое нальем 3 мл 10%-ного раствора
перекиси водорода. Повернем лапку с
сосудом так, чтобы вещества пришли в
соприкосновение. При реакции выделяется газ,
который будем собирать под водой. Оксид
ванадия растворится, хотя и не полностью, и к
концу реакции жидкость в сосуде станет си-
ней. Произошла реакция так называемого
восстановительного разложения перекиси
водорода:
V205 + H2024-2H2S04 =
=V202(S04J + 02f+ЗЯ20.
Поставим опыт по-другому. В одно колено
сосуда поместим 0,1 г V2Os и добавим
5 мл 10%-ного раствора Н202, а в другое
колено — 1 мл разбавленной A:4) серной
кислоты. В ходе реакции V2Os полностью
прореагирует и цвет жидкости станет
кроваво-красным-. Это образовалась надванадиевая
кислота.
Между прочим, А. М. дель Рио,
первооткрыватель ванадия,- назвал его эритронием,
а эр и трос по-гречески значит «красный»...
Валерий БОРЗУНОВ,
Михаил ПОНОМАРЕНКО,
Евгений ЧАХЛОВ,
средняя школа им. Ф. Энгельса,
Грайворон Белгородской обл.
60
Члу^ Юный химик
Два совета
фотографам
Индикатор
из
лепестков
Как-то в разделе
«Переписка» я прочел ответ
читателю из Тбилиси, что, мол,
кислотно-основные
индикаторы продают в магазинах
химреактивов. Однако не
все так просто: сегодня
индикаторы есть в продаже,
а завтра — нет. Так что
вопрос для юного химика
остается открытым...
Между тем Клуб Юный
химик проводил в свое
время операцию «Лепесток»;
речь шла о том, как
окрашивать лепестки, в том числе
кислотами и щелочами. Так
может быть, вытяжки из
Клуб Юный химик
Прочитал в Клубе Юный
химик (№ 6 за 1978 год),
как добывает серебро Саша
Левин. Так поступают многие
фотографы, этот способ
хорошо зарекомендовал себя.
51 же хочу предложить иной
способ, еще более простой.
Берем серу и любую
щелочь (КОН, NaOH) и
сплавляем. Идет реакция:
6KOH + 3S = K2SO< +
+ 2K2S + 3H2Ot.
Серы можно брать больше,
чем по уравнению реакции:
процесс не вполне ему
соответствует, так как
образуются и полисульфиды*.
Полученным плавом
можно осаждать серебро. Для
этого надо растворить плав
* При взаимодействии
расплава КОН с серой образуется пен-
тасульфид K2S5; кроме того, в
ходе реакции сульфит реагирует
с серой, образуя тиосульфат.—
Ред.
лепестков способны служить
индикаторами?
Я взял лепестки пиона
(фиолетово-красного) и
обработал их ацетоном. Они
обесцветились. Когда
лепестки просохли, их окраска
восстановилась, но не
полностью. Затем высох
и фильтр, через который
я фильтровал вытяжку. К
моему удивлению, он из
белого стал фиолетовым!
Тогда я пропитал этим
в воде и добавить к
отработанному фиксажу.
Но это еще не все. В № 3 за
1976 г. говорилось о том,
как можно получить
некоторые реактивы для
фотолаборатории. Среди прочего
речь шла о получении
сульфида натрия сплавлением
карбоната натрия и серы.
Описанный выше способ, как
мне кажется, лучше: не
надо газовой горелки, не надо
тяги. А полученная при
сплавлении серы и щелочи серная
печень вполне пригодна для
тонирования фотографий и
часто может успешно
заменять сульфид натрия.
Э. КИМ,
студент
Дальневосточного
государственного
университета
ацетоновым раствором
листки белой бумаги и
испытал их в кислой и
щелочной средах. Оказалось,
что в водных растворах
кислот фиолетовые
бумажки краснеют, в щелочных —
сначала синеют, а затем
становятся желтыми.
Теперь я обеспечен
индикаторными бумажками
надолго— по меньшей мере
до следующего лета.
Думаю, что для
приготовления индикатора годятся не
только пионы, но и другие
фиолетово-красные цветы.
Пусть этот способ и не нов,
зато надежен. По-моему,
быстрее приготовить
индикатор самому, чем искать
его по магазинам...
К. АРЗАМАСЦЕВ,
Чебоксары
ПОПРАВКИ
к ф^нра/пллкому выпу^к\ Кл\ба
Юный чнмпк:
стр. 71 формула азотноклкюго
uiK-Myid BiON03. стр. 72 (первый
вопрос чл la'in 1) речь идгт о
ионич Fi'*+ п C;i*+: стр. 73 (ответ
к ыдачг 1} » р. акциях
участку ют нг атомы, л попы хлора С1~
61
-Г-«
**fc
т
1 Ш
■: ♦'
. 4 Ч
Проблемы и методы
современной науки
Прочность
через разрушение
/Доктор химических наук
Н. Б. УРЬЕВ
В 1928 году Петр Александрович Ре-
биндер впервые обратил внимание на
тот факт, что прочность многих
кристаллических тел, погруженных в водные
растворы поверхностно-активных веществ
(ПАВ), оказывается существенно
меньшей, чем на воздухе. Он же указал и на
причину этого явления: прочность
снижается потому, что
поверхностно-активные вещества проникают в глубь
возникающих трещин и существенно
снижают свободную поверхностную
энергию на границах раздела фаз (рис. 1).
Так впервые изменение объемных
свойств твердых тел (а именно их
объемной прочности) было связано с
изменением их поверхностных свойств,
вызванных малыми добавками ПАВ. Не
прошло и десяти лет, как «эффект
Ребиндера» не только нашел признание
в научных кругах, но и начал быстро
вторгаться в разнообразные области
техники.
Во всех случаях эффект Ребиндера
(или, как еще говорят, адсорбционного
понижения прочности) использовался
для облегчения процессов разрушения
тех или иных материалов, для
облегчения их механической обработки. Но
идея о взаимосвязи поверхностных и
объемных свойств материалов оказалась
чрезвычайно плодотворной и при
решении противоположной проблемы, а
именно проблемы создания структур с
заданными свойствами.
ОБЩЕЕ В РАЗЛИЧНОМ,
РАЗЛИЧНОЕ В ОБЩЕМ
Трудно найти область современной
техники, где бы не применялись
дисперсные системы (то есть системы,
состоящие из нескольких фаз, из которых хотя
бы одна распределена в виде частиц
в другой фазе, называемой
дисперсионной средой) и дисперсные материалы
(то есть материалы, образующиеся из
дисперсных систем в результате
полимеризации, кристаллизации или
спекания).
Химический состав, физические
свойства, области применения этих систем
и материалов столь разнообразны, что
на первый взгляд кажется совершенно
невозможным найти общую основу для
их описания с единых
физико-химических позиций. В самом деле, что может
быть общего между цементными
бетонами и шоколадом, бумажной массой и
донными отложениями рек и озер,
кондитерским тестом и полимерными
композициями, минеральными
удобрениями и сахарной пудрой?
Тем не менее, для всех этих систем
характерны две важные общие черты.
Во-первых, все они гетерогенны, то есть
имеют сильно развитую межфазную
поверхность; во-вторых, объемная
концентрация частиц дисперсной фазы в
них достаточно велика.
Эти две особенности приводят к
явлению, замечательному по своим
последствиям,— на него тоже впервые
обратил внимание академик Ребиндер.
Заключается оно в том, что частицы,
входящие в состав подобных систем,
способны связываться между собой
силами молекулярного сцепления, в
результате чего самопроизвольно
образуются пространственные структуры.
Как и в предыдущем случае,
объемные свойства таких структур полностью
определяются поверхностными
явлениями на границах раздела фаз, то есть
в области контактов между частицами.
Эти контакты могут быть точечными
(то есть атомными) — как, например,
в высокодисперсных порошках; они
могут осуществляться через тончайшую
прослойку жидкости между
частицами — это относится к различным
суспензиям и пастам; контакты могут быть
и прочными, или, как говорят,
фазовыми — как, например, в отвержденном
цементе (рис. 2).
Структуры с контактами двух первых
типов обладают способностью
самопроизвольно восстанавливаться после
разрушения, иначе говоря,
разрушение таких структур носит обратимый
характер. Структуры третьего типа
разрушаются необратимо, но вместе с тем
обладают обычно высокой
прочностью — таковы бетоны, керамика,
полимерные композиции. То есть все
материалы, широко используемые для
самых различных практических целей.
63
нагрузка
ДЕФЕКТЫ И КОНТАКТЫ
нагрузка
Поверхностно-активное вещество,
мигрируя в глубь возникающих трещин,
ослабляет прочность межатомных связей
и облегчает разрушение твердых тел.
Это — эффект Ребиндера
Все многообразие структур, возникающих
в дисперсных системах, можно свести к
трем основным типам по виду контактов
между частицами: точечных, или атомных»
которые встречаются, например, в
высокодисперсных порошках (а);
контактов, в которых частицы разделены
тончайшей пленкой жидкости, что
характерно для паст и суспензий (б);
прочных фазовых контактов в различных
дисперсных материалах (в)
Прочность реальных материалов
оказывается в сотни, а то и в тысячи раз
меньше их теоретической прочности.
Одна из основных причин этого
разрыва заключается в том, что реальная
технология не может быть абсолютно
совершенной, в результате чего в
материалах неизбежно возникают различные
микро- и макронеоднородности,
дефекты структуры. Но один из наиболее
перспективных способов повышения
прочности (а также долговечности) изделий
заключается не в создании идеальных,
бездефектных структур, а в повышении
дисперсности фаз, увеличении
концентрации частиц в единице объема и,
следовательно, повышении прочности
контактов.
В самом деле. Наполним ящик
шариками от подшипников. Как бы мы их ни
перетряхивали, общее число контактов
между ними останется постоянным. Но
это число будет зависеть от диаметра
шариков: чем диаметр меньше, тем
больше шариков поместится в ящике и
тем больше будет между ними
контактов. Поэтому если прочность каждого
контакта остается постоянной,
независимой от диаметра шарика (а это так и
есть), то с уменьшением диаметра
шариков общая прочность их сцепления
возрастает. А еще лучше, если шарики
разного размера: тогда маленькие
шарики заполнят пустоты между большими
и общее число контактов резко
увеличится.
Казалось, такой способ получения
высокопрочных материалов не встретит
особых затруднений. Однако в дейст-
ч
64
L
Если уменьшать размеры частиц, то при
одинаковой плотности упаковки число
контактов между ними, а значит, и
прочность структуры должны возрастать
(а—в). Однако как только размер частиц
достигнет некоторого критического
значения, появляются крупные дефекты и
неоднородности, в результате чего прочность
материала начинает снижаться (г)
Прочность материала по мере роста
дисперсности или концентрации частиц
увеличивается до определенного
предела, а затем начинает резко падать (а).
Если же достичь предельного разрушения
первоначальной структуры, то опасные
дефекты и неоднородности устраняются,
и прочность материала возрастает (б)
I
концентрация,дисперсность
вительности все оказалось гораздо
сложнее: при увеличении дисперсности
твердой фазы прочность повышалась лишь
до определенного критического
уровня, а затем, вопреки ожиданию,
начинала катастрофически падать.
С этим явлением, называемым
эффектом высокого наполнения, уже давно
сталкивались при изготовлении бетонов,
керамики, пластмасс, бумаги,
катализаторов и множества иных
композиционных материалов.
Так огромные возможности
высокодисперсных систем оказались по
непонятной причине под запретом...
ПРОЧНОСТЬ ПРОТИВ ПРОЧНОСТИ
В чем причина этого явления? Можно ли
преодолеть эффект высокого
наполнения и достигнуть желанной
сверхвысокой прочности?
Оказалось, что главным препятствием
к получению максимально наполненных
дисперсных материалов с высокой
прочностью, способных к необратимому
разрушению (то есть тех материалов,
которые и нужны для практики), служит
высокая прочность структур,
разрушающихся обратимо. А именно такие
структуры и образуются на самых
начальных стадиях получения любых
высокодисперсных материалов: ведь при
измельчении вещества возникают
частицы, способные к образованию точечных,
атомных контактов.
Иначе говоря, частицы, которые
получаются при измельчении, способны
тотчас же слипаться в прочные агрегаты,
которые на последующих стадиях пре-
3 Химия и жизнь № 3
65
пятствуют смешению компонентов и
формованию изделия: при этом
возникают локальные неоднородности,
дефекты структуры, которые затем и
оказываются причиной пониженной, сверх
ожидания, прочности (рис. 3 ).
Значит, для того чтобы получать
высокопрочные материалы, нужно
научиться бороться с прочностью тех
структур, которые образуются в ходе
измельчения, перемешивания и
формования. Для этого же необходимо добиться
максимальной текучести структур с
обратимыми контактами, то есть добиться
предельного разрушения связей,
предельного измельчения вещества (рис. 4).
Так круг замкнулся: для создания
максимально прочных структур
необходимо сначала добиться
максимального измельчения компонентов, для чего
нужно уметь успешно бороться с
прочностью же...
Легко сказать, добиться предельного
разрушения. А как? Например, с
помощью вибрации. Однако в этом случае
нужна вибрация такой мощности, что не
может быть и речи о практическом
применении этого метода. Вместе с тем и
с помощью вполне умеренной вибрации
можно добиться успеха, если совмещать
механическое воздействие с
воздействием поверхностно-активных веществ,
способных существенно понижать
прочность сцепления частиц, то есть
призвав на помощь все тот же эффект Ре-
биндера.
Более того, оказывается, что эффект
понижения прочности усиливается в
ходе разрушения структур, по мере
уменьшения агрегатов. Такое взаимное
усиление действия вибрации и
поверхностно-активной среды приводит к
тому, что мощность вибрации,
необходимую для разрыва всех связей между
частицами, удается снизить в 500—
600 раз.
Сочетание вибрационного
воздействия и малых добавок ПАВ оказалось
весьма эффективным методом
интенсификации и оптимизации самых
разнообразных технологических процессов,
связанных с переработкой
концентрированных дисперсных систем и
получением дисперсных материалов.
Используя это сочетание, удалось создать
новый высокопрочный материал — так
называемый виброколлоидный клей,
широко применяемый для
гидроизоляции сооружений, прочного соединения
бетонных блоков, отделки зданий. В
горнодобывающей промышленности
сочетание вибрации и добавок ПАВ
позволило использовать новую технологию
транспортировки быстро твердеющих
смесей для закладки пустот в горных
выработках. Вибрация и ПАВ позволили
резко повысить качество бумаги и
абразивных материалов, наполненных
пластмасс и материалов для порошковой
металлургии.
Так парадоксальный принцип «прочность
через разрушение» оказался
универсальным методом управления
свойствами практически любых дисперсных
систем и получающихся из них дисперсных
материалов.
Окончание. Начало на стр. 56
проблемам физиологии
человека и животных, Институт
биологической физики АН СССР
A42292 Пущино Московской
области).
Совещание по вопросам
экспериментальной биогеоце-
нопогии и агроценозам.
Ростов-на-Дону. Ростовский
государственный
университет, Научный совет АН СССР
по проблемам биогеоценоло-
гии и охраны природы
A17312 Москва, ул.
Ферсмана, 13)
Конференция «Реакционная
способность азинов».
Новосибирск. Научный совет АН СССР
по тонкому органическому
синтезу, Новосибирский
институт органической химии
СО АН СССР F30090
Новосибирск, проспект Науки 9),
Министерство медицинской
промышленности СССР.
Конференция «Улучшение
окружающей человека среды
и воспроизводство
природных богатств». Кишинев.
Научный совет АН СССР по
проблемам биосферы A17312
Москва, ул. Ферсмана, 11/1),
Государственный комитет
по науке и технике, АН
Молдавской ССР.
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
Май
III школа по применению
хроматографии в белковой
химии «Новые
высокочувствительные методы
аналитической химии белка».
Ленинград. Научный совет АН СССР
по проблемам биоорга ни
ческой химии A17312 Москва,
ул. Вавилова, 32), Институт
высокомолекулярных
соединений АН СССР.
«физика очага и прогноз
землетрясений». Ашхабад.
Институт сейсмологии АН
Туркменсной ССР G44000
Ашхабад, ул. Гоголя, 16),
Межведомственный совет по
сейсмологии и
сейсмостойкому строительству при
Президиуме АН СССР.
Июнь
II школа по фотохимии.
Ужгород. Научный совет
АН СССР по химии высоких
энергий, Ужгородский
государственный университет,
Институт физической химии
АН УССР B52028 Киев,
проспект Науки, 97).
II нейробио логическая
школа. Казань. Научный совет
АН СССР по комплексным
проблемам физиологии че-
ловека и животных, Научный
совет АН СССР по проблемам
биологической физики.
Казанский медицинский
институт D20012 Казань,
ул. Бутлерова, 49).
66
Не слишком ли
много
«катализаторов»?
Прочел недавно в газете:
«Росту преступности в США
благоприятствует, действуя
как катализатор,
окружающая среда». Судя по
газетным и журнальным
публикациям, катализаторами могут
служить и прогресс техники,
и общественные формации,
и чуть ли не хорошее
настроение. Издается даже
научно-популярный журнал
«Catalyst for
Environmental Quality», то есть
«Катализатор для улучшения
окружающей среды», по
мнению редакции, журнал
призван каталитически
воздействовать на читателей,
овладевающих
экологическими знаниями...
Понятно, что все эти
катализаторы — метафоры из
числа порожденных наукой;
они свидетельствуют об
исключительно важной роли
катализа в
научно-техническом прогрессе. Но то, что
допустимо в журналистике,
вызывает сожаление, когда
встречается в научных (и
научно-популярных) трудах.
Современное
представление о катализе хорошо
сформулировал академик
Г. К. Боресков:
«Феноменологически катализ можно
определить как
возбуждение химических реакций или
изменение их скорости под
влиянием
веществ-катализаторов, многократно
вступающих в промежуточное
химическое взаимодействие
с участниками реакции и
восстанавливающих после
каждого цикла
промежуточных взаимодействий свой
химический состав». Таким
образом, катализатор —
совершенно конкретное
понятие для химика.
В природе и технологии
встречаются явления, на
первый взгляд схожие с
катализом. Например,
небольшие количества йодистого
серебра, распыленные в
атмосфере, вызывают
выпадение обильного дождя. Но
йодистое серебро не
вызвало химическую реакцию!
А физический процесс
конденсации пара нельзя
считать каталитическим.
В некоторых научных
статьях катализаторами
называют добавки к стеклу,
которые выполняют функции
затравки, инициатора
кристаллизации, то есть
ускоряют физический процесс. В
таком случае почему бы не
отнести к катализаторам и
стеклянную палочку,
которой трут стенку стакана с
пересыщенным раствором
соли, чтобы вызвать
кристаллизацию? Ведь по
окончании процесса химический
состав палочки не меняется,
в состав кристаллов она
тоже не входит...
Проникновение термина
«катализ» в другие области
науки, а может быть,
слишком произвольное его
толкование в печати вызвало
как защитную реакцию
новый, все чаще
употребляемый термин «химический
катализ». Длинно, но по
крайней мере определенно.
Терминологию науки
можно уподобить системе
обозначений на карте: они
должны быть однозначны.
Если же
термины-обозначения становятся
многозначными, путешественник
рискует заблудиться.
М. К.,
Москва
Зарядка для коров
В северных районах
содержание молочных коров в
стойлах связано со
многими трудностями. Например,
нелегко каждый день
организовать прогулку стада,
насчитывающего сотни
голов: нужно очистить
выгульные площадки, уберечь
животных от мороза, а
затем, после прогулки, снова
разместить животных в
стойлах.
В 1972 году группа
научных сотрудников Коми
филиала АН СССР под
руководством доктора
биологических наук М. П. Рощев-
ского начала исследования
по определению
оптимальной интенсивности
двигательной деятельности коров
и оценке конвейерной
системы содержания
животных, которая даст
возможность дозировать
двигательную нагрузку.
Для этого была
сконструирована специальная
установка — третбан, похожая
на движущийся тротуар,
которая могла
перемещаться в горизонтальном
направлении с разной скоростью —
от 1 до 42 м в минуту.
Коровы, закрепленные
неподвижной привязью, при
движении ленты пола были
вынуждены шагать и
проходили ежедневно около
150 м. Такую
принудительную зарядку коровы делали
дважды в сутки в течение
восьми месяцев. В этом же
помещении находились
коровы контрольной группы,
которых не заставляли
делать ежедневную
пробежку.
В результате
исследований было установлено, что
двигательная нагрузка со
скоростью 1 —7 м/мин
стимулирует некоторые
функции организма коровы,
улучшает усвоение
животным кормов, увеличивает
удой и сокращает время
дойки.
Исследователи
разработали научную сторону
конвейерной системы
содержания коров зимой. Теперь
слово за практиками.
В. ШУЛЬГИН,
Сыктывкар
ПОПРАВКИ
Исправляем опечатки,
допущенные в части тиража второго
номера ж урна ia
автор статьи «Гранатовый
браслет*' Т. Б. Здорик (стр. 49):
Н К. Кольцов скончался в
1940 г. (стр. НГ>):
сообщение о конских Oofiax в*я-
то им журнала «British Farmer
and Stockbreeder» (стр <>4)
67
Современные препараты для стирки —
обычное мыло, моющие средства на
жировой основе и синтетические моющие
средства, или CMC, пожалуй, самые
популярные товары бытовой химии. Однако у
CMC есть некоторые преимущества перед
традиционным мылом: они лучше
отстирывают грязь, удобны для машинной стирки,
не боятся жесткой воды.
Ежегодно отечественная
промышленность выпускает около 900 тыс. тонн
порошков, жидкостей и паст. Около 700 тыс.
тонн этих препаратов поступает в продажу
для населения. Правда, многие хозяйки
любым пастам и порошкам предпочитают
хорошее мыло. Отчасти тут сказываются
устоявшиеся привычки, отчасти дело в том,
что препараты не во всем отвечают
требованиям покупателей. Причину этого
специалисты усматривают в недостаточно высоком
пока еще качестве основы
CMC—поверхностно-активных веществ, выпускаемых
нашей промышленностью: ненужные
примеси, темный цвет, не всегда приятный запах.
ВНИИХимпроект ведет работы по
совершенствованию синтетических моющих
средств, по созданию новых препаратов.
Особое внимание уделяется препаратам
комплексного действия, которые не только
отстирывают грязь, но одновременно и
отбеливают ткань, подкрашивают,
дезинфицируют, придают ей антистатические
свойства.
Сегодня все синтетические моющие
средства независимо от товарной формы
делятся на несколько групп: препараты
для стирки изделий из хлопчатобумажных
и льняных тканей, для вещей из шерсти,
шелка и синтетики, универсальные — для
тканей всех видов. Отдельные группы
составляют пеномоющие средства для принятия
ванн (в нашей стране их также относят к
CMC) и препараты комплексного действия.
Справочник, который мы предлагаем
вниманию читателей, включает некоторые
сведения о самых распространенных
синтетических моющих средствах отечественного
производства.
Ю. Л. ПИРУМЯН,
Московский филиал ВНИИхимпроекта
68
Название
Товарная
* форма
Упаковка, вес
Особые свойства
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ИЗДЕЛИИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ И ЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ
Айна Порошок Картонная коробка, 350 г
Астра Порошок Картонная коробка, 350 г
Био Паста Полимерная банка, 500 г Удаляет пятна белкового
происхождения
Вихрь Порошок Картонная коробка, 350 г Для обработки изделий в
стиральной машине
Мечта Паста Полимерная банка, 500 г
Ока Порошок Картонная коробка, 400 г Для обработки изделий в
стиральной машине. Удаляет пятна
белкового происхождения
Наталка Порошок Картонная коробка, 450 г
Пальмира Паста Полимерная банка, 500 г
Планета Порошок Картонная коробка, 500 г Содержит химический
отбеливатель
Гиспе Жидкость Полимерный флакон, 250 г
Триалон Паста Полимерная банка, 500 г
Чайка Порошок Картонная коробка, 500 г
Эра-А Порошок Картонная коробка, 350 г
Эра-автомат Порошок Картонная коробка, 350 г Для обработки изделий в
стиральной машине
СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШЕРСТЯНЫХ, ШЕЛКОВЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
Альфия Жидкость Полимерный флакон, 500 г
Березка Концентрирован- Полимерный флакон, 200—1000 г
ная жидкость
Ива Паста Полимерный флакон, 500 г
Кай Паста Полимерная туба, 150 г
Каштан Жидкость Полимерный флакон, 200—1000 г
Лада Жидкость Полимерный флакон, 500 г
Прогресс Жидкость Полимерный флакон, 500 г
Рица Жидкость Полимерный флакон, 500 г Для стирки в холодной воде
Рось-71 Концентрирован- Полимерный флакон, 500 г
ная жидкость
Славянка Порошок Картонная коробка, 350 г
Флорапои-2 Паста Полимерная туба, 125 г
Экстра-73 Жидкость Полимерный флакон, 500 г
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Ама Паста Полимерная туба, 240 г; Для сильно загрязненных из-
полимерная байка, 300 г делий
Аэлита Паста Полимерная банка, 500 г
л ■ — — —- ■'■ i -■ ■ —■ -
69
Продолжение
Название
Товарная
форма
Упаковка, вес
Особые свойства
Воке Паста Полимерная банка, 500 г
Кристалл Порошок Картонная коробка, 350—400 г
Ландыш Паста Полимерная банка, 400—500 г
Лотос Порошок Картонная коробка. 350 г
Лотос-автомат Порошок Картонная коробка, 350 г Для обработки изделий в
стиральной машине
Лотос-А Порошок Картонная коробка, 350 г
Мальва Паста Полимерная банка, 500 г
Маричка Жидкость Полимерный флакон, 600 г
Нептун Порошок Картонная коробка, 350—400 г
Сумгаит Порошок Картонная коробка, 350—400 г
Сюрприз Паста Полимерная банка, 500 г
СРЕДСТВА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Веселка Цветные Двойные бумажные пакеты, 50, Подкрашивает ткань в нужный
порошки 100 г. Пеналы, 80 г цвет
Вита Паста Полимерная банка, 500 г Дезинфицирует все виды
тканей, обладает антистатическим
действием
Фантазия Цветная Полимерная туба, 40—100 г Подкрашивает ткань в нужный
паста цвет
Фитон Жидкость Полимерный флакон, 500 г Дезинфицирует все виды
тканей, обладает антистатическим
действием
Элона Жидкость Полимерный флакон, 300—500 г Обладает антистатическим
действием
Эридан Паста Полимерная банка, 500 г Обладает антистатическим
действием, смягчает ткань
СРЕДСТВА ДЛЯ ВАННЫ И МЫТЬЯ ГОЛОВЫ
Бодрость Жидкость Полимерный флакон, 500 г Обладает тонизирующим
действием
Глория Жидкость Полимерный флакон, 500 г
Золотая рыбка Жидкость Полимерный флакон, 350 г Для детских ваин
Кориандр Жидкость Полимерный флакон, 500 г
Морская Жидкость Полимерный флакон, 500 г Обладает тонизирующим
действием
Перле Жидкость Стеклянный или полимерный фла-Обладает тонизирующим дей-
кон, 50—150 г ствием
Пихта Жидкость Полимерный флакон, 800 г
Раса Жидкость Полимерный флакон, 450 г
Селена Жидкость Полимерный флакон, 350, 500, 800 г
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Бим Жидкость Полимерный флакон, 200 г Для мытья домашних животных
Мальвина Жидкость Полимерный флакон, 250 г Для мытья париков и шиньонов
Фея Крем-паста Полимерный флакон, 500 г Для мытья сильно
загрязненных рук
Японский —для химиков
-ест?
^ы
^ tS.%-%> ,Щ%.
"£ (D , Jfc (D
~ с г
-fifi
-fc»
~s 3:
~® Я> 5
~& ©
^ Й , {Щ
~К
~^ШШ
*П , |П
—еп.Я*,
~Л! W
~ Г- & te О
-КЙЬГ
tn?
~&
^г^5, Тм5
Tfc , ^
Л: , fffi
-Й6 ЙН
~к«ь
~ СС & - , Н
Л! О , Ж
..fco, ... J?
/to, ssf
л: о , fg
~- (О).
~ / (о)
тогда, поэтому, в данном случае
и, тогда, теперь, следовательно, а, в свою очередь, при
этом
снабжать, оборудовать, подготовлять, устанавливать
1) это(т) 2) тот самый 3) его, ее, их
<итн> после заголовка часть первая
это
<та> (и) другие, (и) прочие; кроме того
в связи с этим, поэтому
прямо, непосредственно
<мэн> исходя нз этого
сам (по себе)
сторона
возле, рядом с, поблизости от; в сторону
<идо:> смещение в сторону
это, то; он, она, оно
1) соответственно 2) в отдельности, каждый по своему.
у каждого свой
1) (лишь) столько 2) одно это
jto еще не всё" мало того
<хан> в противоположность этому
поэтому
тем не менее, все же, все-таки, несмотря на это
быть подобранным по размерам и пр., быть полным
много, полн- (см. также Зо 26 О )
другой (см. также (^ ;£)} )
не что иное как
и другие
<нисан> и некоторые другие
1) большой, макро-, крупный 2) размером [величиной] с
после глагола желательно (см. также ?С<СР)
против, по отношению к; с
образует порядковые числительные из количественных
<ити> 1) первый, первичный 2) показатель низшей
валентности
<ити тэцу> двухвалентное железо
-^ —. ^jj {£[ £ {_, *^<ити кнндзи> в первом приближении
— ^ <нн> 1) второй, вторичный 2) показатель второй или
высшей валентности
~ Z1 §5: <ни тэцу> трехвалентное железо
fc О fc 5 , Ш J& П соответствие 2) быть вызванным чем-то
. . . J£ — L/ *С в соответствии с
С з}Т, 13 •-•( С £ )это соответствует (тому, что)...; это вызвано тем, что..
/£ О Wl\XS [j^] (также Зо Зо t$ fC ) крупногабаритный, большой
( {С )?С 1^ U 1) по отношению к, в отношении, что (же) касается; о, при,
( (С ) Ш \j *С в завнсимости от 2) против, в противоположность, с дру-
^Аой стороны, в то время как 3) если
С tb — а; с ДРУГ0И стороны
Щ —■ JEE Л ~~ <доицу ацурёку> при том же давлении
1лк 1Ш _Ь Щ- — <ондо дзё:сё:> с повышением [при повышении]
температуры
Продолжение. Начало — в JV? 9—12 A978 г.) и в № 1. 2.
71
I 17L ) fC О " S ') относиться [обращаться] к, по отношению к, в отноше-
( 1С ) >$1* " -S нин чего-либо 2) против, (находиться) напротив 3) от
тР $Е **~ ВИ ^ <ондо...канкэй> зависимость от температуры
*£ t^*COj ZK Jft- большей частью, почти (все)
~ (Т) §М 15 ' <буссицу> большая часть веществ, почти все вещества
tC О 1С #> 5 , ftA подстановка, замещение, замена
=р£ ( / ) ^ Si <снки> подставить выражение (I) в формулу B)
(i) к-ts
/^ ^ у j. 5 f^i §§|представитель(ство)
-w -Я- ^ представлять, быть типичным
^ -З^ <ся> представитель заявителя (в патентоведении)
^ gq <тэки> типичный, характерный
7£ О Ю ССА/^^Ш ^(патентный) поверенный, представитель, агент
frt)y^>fC было желательно (от fc 0^ )
ш 9fr <? fX I ^ нежелательно
f£}tf I) только 2) по крайней мере 3) несколько 4) поскольку
-w "р только в [на, при, из], только с помощью
"^ "С fe хотя только, тем ие менее, ио
-^ J£ поскольку, так как
С %Ъ *^ эт0 всё. только это, в таких пределах, столько
щ xji -S ~ <дэки> насколько возможно, по возможности
• . . ?С О" frl" Й если желательно... (or fc Ь\ ^ )
?С \j <£ 5 v ^ ^Р 1) определенный, тот или иной 2) много или мало, более
нли менее, несколько, немного
fC ?£ \j {SO ') однако, но, только, или (же) 2) где, причем (мат.)
3) примечание
. fC 15 образует множественное число
?С 15 $Ь Й^ Ю 9 подъем, начало подъема (на кривой), нарастание (тока)
fr ГА Й? Раз; кажДыи Раз как (см- TQKW? /С О )
=;' <сан> три раза, трехкратный
tC&btS. Р, tg;5U:^<™ невыносимо
/ ,_ \ ^^ f /г v) для 2) из-за, в связи с, благодаря, так как 3) польза,
/и uu \ vu / »' интересы
~ 75 -S пойти на пользу, быть полезным, полезный
Щ Щ»(£) ~ <кантан> для простоты
"С г5 -5 ~ ^ с*. "С #> <5
, , , ft; 6 • • • /С 5 суффикс условной формы если
• • . 7t Ю и, то (соединяет глаголы)
~~ . # ф ~ и..., и...; то..., то...
7£ A/ Wt ступень, столбец, глава; каскад; ступенька, лестница
fC Aj • • • , .Щ • • • моно-, одно-
fr A, fr О Щ № ') элемент, простое вещество; элементарная часть,
симплекс 2) одни, по одному, отдельно
tC А/ 75 -5 , -^. 75 & простой, просто
*fc ^ / ^Э iB / 5 П быть другим, различаться 2) не соответствовать,
противоречить, расходиться с, быть ошибочным
<■>- ~э fr другой, не такой, разные
-^* -э *£" в отличие от
£ ~ 5 отличаться от, противоречить, не соответствовать
\С ~~ \ ^ 75 О несомненно; не что иное как
15 "Г3 < & <1Г -S, ^|§3"<5рассматривать
15 #> 5, 1) в чтении ?5 Ф 5 середина, центр, посредине, срел-
,. • • L/ •#> 5 Ф нее* сРеДнии. посредственный; в, внутри; в течение, во время,
(находиться) в процессе; среди, из (числа); попадать,
поражать; Китай; второй том (из трех) 2) в чтении...- • • L/Ф^
весь, во всем, по всему (см. также f£ f)} 5 15 )
Продолжение следует
72
R3
ЛАК ДЛЯ СКРИПОК
Мне понадобилось
покрасить скрипку; для этою,
наверное, нужен цветной,
но в то же время
прозрачный лак, чтобы сквозь него
видна была фактура
дерева; скрипичные мастера
или 'держат лак в секрете,
или называют вещества,
которые нигде не
достанешь, например
«драконову кровь»... Посоветуйте,
пожалуйста, как быть.
Н. Б. Ефременко,
Москва
Для отделки
высококачественных смычковых нн-
стр у ментов действ нтел ьно
применяют «драконову
кровь», то есть смолу,
которую добывают нз
порезов произрастающего в
Вест-Индии дерена птсро
карп ус драко (отсюда н
название смолы). Обычно
музыкальные инструменты
сначала красят, а потом
покрывают прозрачным
бесцветным лаком.
Изделия массового производ
ства окрашивают
кислотными и основными синтети
ческнми красителями,
например «Спиртовым оран
женым 2Ж» «Спиртовым
желтым 3» или «Основным
коричневым 2К». Приме
няют также протравы. Они
пропитывают древесину и
вступают в реакцию с
дубильными веществами,
поэтому-то цвет ее из
меняется не только в по
верхностном слое. Наиболее
распространенные иротра
вы. хромпик. или дву-
хромовокислый калий, и
марганцевокисльш калий, в
просторечье марганцовка.
Народные инструменты
часто красят анилиновыми
красителями для шерсти.
Чтоб ы пол у ч ить ж ел а ем ы й
оттенок. необходимо сме
шать красный, коричневый,
желтый и бордовый
красители. Но для этого надо
их растворить, порошки
смешивать неудобно.
Краски следует растворять в
горячей воде (К) г в 0,5 -
1 л воды), а затем
смешивать в различных иропор
циях и проверять каждую
смесь на куске дерева, пока
не получится то, что
задумано.
Окрашенную
поверхность нужно покрыть
бесцветным лаком, лучше
всего шеллачным, который
представляет собой 30 -
40%-ный раствор шеллака
в этиловом
спирте-ректификате. Можно взять также
«Лак НЦ 228 мебельный».
И кроме того, есть лак,
специально
предназначенный для музыкальных
инструментов с довольно
неизящным названием
«Музпром»; но вряд ли
его удастся найти в
продаже.
Более подробно с
отделкой музыкальных
инструментов можно
познакомиться по таким книгам:
А. М. Горлов, А. Н. Леонов
«Производство и ремонт
смычковых музыкальных
инструментов», М..
«Легкая индустрия», 1975;
И. А. Кузнецов, Л. Л. Бан-
дас «Ремонт щипковых
музыкальных инструмен
тов», М., «Легкая инду
стрия», 1971; Н.
Прокопенко «Устройство, хранение
и ремонт народных
музыкальных инструментов»,
М., «Музыка», 1971.
ПОЧЕМУ ВЫЦВЕЛ
РИСУНОК
Вот уже несколько лет
я занимаюсь выжиганием
по дереву. Чтобы
предохранить дощечки от грязи,
я покрываю их лаком, но
через год-два изображение
тускнеет, словно
выцветает. Почему это
происходит?
Т. Завгородний.
Волгоград
Выцветание рисунка,
выжженного на дереве и
покрытого лаком, можно
объяснить так: древесина
мод действием высокой
температуры разлагается
(обугливается). и при
этом выделяются смолы
темного цвета
(коричневые или
темно-коричневые), которые окрашивают
рисунок. Под действием ла
к а смолы растворяются,
расплываются по контуру
изображения, и оно туск
неет. Предупредить '^то
трудно, так как большим
стно лаков растворяет
смолы.
Самый простой выход
при выжигании глубже
обугливать древесину.
Для этого дерево спедует
обжигать при более
высокой температуре пли
удлини п. время контакта иглы
вы ж и га тельного прибора
и дощечки. При ^том
образуется большое коли
чество углерода и других
темных продуктов, которые
не растворяются в пленке
лака.
НАСТУРЦИЯ —
ПИЩА И ЛЕКАРСТВО
Я всегда знал настурцию
как декоративный цветок —
и только. Но недавно
знакомый цветовод
рассказал мне, что настурцию
можно употреблять в пищу
и что она целебна. Так ли
это на самом деле?
К. Николаев,
Новокузнецк
Действ ител ьн о, бол ьш ин -
ство людей знают
настурцию только как яркий деко
ративный цветок. Между
тем в Западной Европе из
этого растения готовят ви
таминные блюда. Например,
немцы и французы из листь
ев настурции делают
салаты. Довольно острый вкус
незрелых плодов и бутонов
настурции напоминает
каперсы, поэтому их
употребляют как приправу к пи
ще и как самостоятельное
блюдо — в свежем и
маринованном виде.
До недавнего времени
официальная медицина не
применяла настурцию с
лечебной целью, но в
народной медицине отвар или
сок этого растения
использовали при цинге и
заболеваниях мочевого пузыря.
Цветками настурции,
отваренными в меду. лечи
ли молочницу
заболевание полости рта у маленьких
детей.
В начале 50-х годов в
специальных зарубежных
журналах были
опубликованы сообщения об
изучении антибиотика тромалита,
выделенного из настурции.
Поданным авторов,
изучавших тромалит, действую
щим его началом служит
вещество, схожее с бензил-
горчичным маслом.
Препарат, приготовленный hi
тромалита, подавляет рост
многих болезнетворных
микробов, грибков и рик
кетсий. При изучении ново
го вещества было также
установлено, что тромалит
стимулирует защитные
реакции организма и
помогает при лечении не
которых заболеваний ды
ха тельных путей (бром
хитон, тонзиллитов и др.) и
Мочены водящих путей
(пиелонефритов, циститов).
Наши официальная ve
днцина препараты из па
стурцпи пока не использует
73
Ольха
МУЖСКИЕ СЕРЕЖКИ
Лишь немногие из деревьев зацветают
раньше ольхи. Едва только первое
весеннее солнце прогреет землю и подтает снег,
ольха словно светлеет, крона ее
становится рыжевато-золотистой — это желтеют
мелкие цветочки, собранные в
цилиндрические колонии-соцветия. Они очень
похожи на подвешенные к веточкам длинные
женские сережки, их так и принято
называть — сережками, хотя это мужские
цветки: ольха — дерево раздельнополое.
В одной такой мужской сережке длиной
не более 7 см почти 300 цветков!
Закладываются будущие сережки в
самый разгар лета, не спеша растут и
только к осени приобретают свои
«взрослые» размеры. Такими они и зимуют на
голых ветвях. А с первыми шагами весны
стержень соцветия еще подрастает,
сережки полнеют и раскрывают свои пыльники.
От малейшего дуновения ветра они
раскачиваются, и желтая пыльца облачком
окутывает ветви дерева. В важном деле
опыления ольха полностью положилась на
ветер, поэтому нет у нее ароматных,
ярких цветков: привлекать насекомых ей
незачем. По той же причине спешит она
расцвести раньше, чем появятся листья:
они помешали бы ветру переносить пыльцу
с мужской сережки на женский колосок.
Опыленные колоски превращаются в
соплодия, а чешуйки, которые прикрывают
женские цветки, к осени древеснеют,
укрывая плод-орешек. Такие
одревесневшие соплодия — «шишечки» остаются на
дереве зимовать.
СЧАСТЛИВОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО
Есть у ольхи одна редкая особенность,
которая у других деревьев почти не
встречается. На ее широко разросшихся корнях,
в особых клубеньках, похожих на
миниатюрные кораллы, квартируют посторонние
постояльцы. Это мельчайшие живые
существа, играющие « жизни растений
огромную роль: они извлекают молекулярный
азот из атмосферы и синтезируют такие
его соединения, которые легко усваивают
растения. Называют их актиномицетами,
или лучистыми грибками. Похожие и на
бактерии, и на простейшие грибы, актино-
мицеты живут и в почве, и в воздухе, и в
иле водоемов, и на растительных остатках.
Есть среди них грозные формы,
вызывающие туберкулез, дифтерию, многие
болезни растений, а есть и полезные виды,
которые вырабатывают антибиотики
(например, всем известный стрептомицин).
Одна из разновидностей таких грибков —
проактиномицеты — и образует клубеньки
на корнях ольхи. Счастливый союз
приносит пользу обоим партнерам: грибки
получают постоянный приют и подкормку со
ствола ольхи, а ольха — персональное
азотное питание. Нередко называют ольху азо-
тособирателем; тянутся к ней растения-
нитрофилы, любители азотистой диеты.
А как разрастаются в ольховых лесах
кусты малины и крапивы!
ЭУТРОФ И ГИГРОФИТ
Так в ботанических терминах определяется
темперамент ольхи. В несколько вольном
74
по форме, но точном по смыслу переводе
с греческого они характеризуют ее как
«любительницу хорошо поесть и попить».
Ольха весьма требовательна к плодородию
почвы. Однако условия для усиленного
питания она в значительной степени сама
себе и создает благодаря союзу с актино-
мицетами.
Способность ольхи самостоятельно
подкармливать почву отразилась и на
некоторых ее привычках. Это порода-пионер, она
нередко заселяет пустующие земли, одной
из первых появляясь на пожарищах,
горных обнажениях, речных наносах —
особенно там, где почвы хорошо насыщены
воздухом и обильно увлажнены.
С водой у ольхи и свои особые
взаимоотношения. В феврале-марте
раскрываются ее шишечки и освобождаются плоды-
орешки. Хорошо, если они сразу же
попадут во влажное место. А если нет? Поэтому
и нужны ольхе бурные весенние ручьи:
период половодья — самое время для ее
расселения. Да и места для жительства она
выбирает вдоль речек, ручьев, у водных
источников, в плавнях.
На лесных низинных торфяных болотах
ольха образует ольшаники — ольховые топи,
населенные в основном ольхой черной или
клейкой (Alnus glutinosa), стройным,
высоким (иногда до 35 м) деревом с
небольшой яйцеподобной кроной и темно-бурой
корой в трещинах. Этот вид ольхи,
распространенный в Западной Европе, Сибири,
Малой Азии и Северной Африке, растет
довольно быстро и очень ценится как
дерево, укрепляющее берега рек, каналов и
водохранилищ. Не менее популярен и
другой распространенный вид — ольха
серая (Alnus incana), которую используют
на севере лесостепи для облесения оврагов.
Всего же известно больше 40 видов
ольхи. На Кавказе и в Закавказье живет ольха
бородатая; на Дальнем Востоке и в
Сибири — ольха пушистая; в Японии — ольха,
естественно, японская. Есть и кустарниковые
формы ольхи — такие, как обитающая в
тундре Европейской части СССР и Сибири
ольха кустарниковая высотой не более 6 м
или поселившаяся в горах Средней
Европы и встречающаяся у нас на Карпатах
ольха зеленая высотой всего до 2 м.
Ольха дает великолепную древесину —
легкую, мягкую, однородную по строению,
хорошо расщепляющуюся. Потому и идет
она часто на изготовление фанеры, хорошо
красится и обрабатывается. Из древесины
ольхи серой делают самый
высококачественный рисовальный уголь и уголь,
который идет на производство пороха.
Есть у древесины ольхи интересное
свойство: те места ее, по которым прошлись
пила или топор, на воздухе быстро
приобретают красивый красноватый оттенок.
Происходит это потому, что в месте среза,
в поврежденных живых тканях, изменяется
внутриклеточное давление, наружу
вытесняются дубильные вещества-полифенолы,
которые на воздухе легко окисляются,
образуя флобафены — аморфные вещества
коричневых и красноватых тонов. Они-то и
определяют окраску свежего среза. Не
случайно древесина ольхи прекрасно
имитирует самые ценные породы — орех, красное
и черное дерево.
Есть у ольховой древесины и еще одно
важное качество — очень высокая
водостойкость. Те же самые флобафены в
холодной воде не растворяются — это
создает неплохой защитный барьер, а
содержащиеся в древесине таниды образуют с
солями тяжелых металлов (которых в воде
всегда немало) слабо растворимые
соединения, которые, выпадая в осадок,
упрочняют древесину. Если при этом учесть, что
дубильные вещества обладают прекрасными
противомикробными и противогрибковыми
свойствами, то станет ясно, почему ольха
так устойчива против гниения и в почве, и
в воде. Потому и делают из древесины
ольхи бочки и колодезные срубы, шахтную
крепь, разные части подземных и подводных
сооружений.
ШИШЕЧКИ И ТХМЕЛИНИ
Народной медицине ольха известна очень
давно. И сейчас жители тех мест, где она
встречается,— а это практически вся
территория нашей страны,— используют и
кору ее, и листья, и особенно шишечки.
В практику научной медицины ольха
проложила себе дорогу только в 40-х годах
нынешнего столетия благодаря работам
известного советского клинициста-терапевта
профессора Д. М. Российского,
положившего немало труда на поиск и освоение новых
лекарственных растений. Но несмотря на
столь позднее признание, химический
состав и способы лечебного использования
ольхи изучены довольно полно.
В коре и листьях ольхи клейкой
содержится до 15—16% дубильных
веществ — танидов. Присутствие их
определяет и лечебное действие препаратов
из ольхи: вяжущее, кровоостанавливающее,
дезинфицирующее, жаропонижающее.
В научной медицине наиболее популярны
ольховые шишечки — одревесневшие
женские соплодия. Обычно используют
настойку из них: заливают стаканом кипятка
3—4 г шишечек, настаивают и процеживают.
Можно извлекать полезные вещества и
обыкновенной водкой: на пять ее частей
(по весу) берут одну часть шишечек. В этом
случае вместо того, чтобы принимать
3—4 раза в день по четверти стакана
водной настойки, приходится довольствоваться
всего 25—40 каплями спиртовой.
А не так давно сотрудник Тбилисского
химико-фармацевтического института
В. Е. Шатадзе предложил препарат,
названный «тхмелини». Это сухой экстракт из
соплодий ольхи. Действие препарата
проверялось на больных с острыми и хроническими
расстройствами органов пищеварения, и
результаты оказались превосходными:
у больных наступало общее облегчение,
исчезали боли, появлялся пропавший было
аппетит.
Так что берите ольховые шишечки или
экстракт, делайте настойку и принимайте
на здоровье — только не забудьте
посоветоваться с врачом...
Б. СИМКИН
75
А почему бы и нет!
Почему Эгиль
убил Грима?
Древних исландцев, пожалуй, нельзя
было считать невозмутимыми. Стоило
назвать кого-либо «сереньким
барашком» или «овцой безрогой», как на
обидчика бросались с ножом.
Убийства, поджоги, лютая месть — таковы
главные события исландских саг.
Вот два отрывка из саги об Эгиле.
«...Эгилю пришлось играть против
мальчика по имени Грим, сына Хегга
из Хеггстадира. Гриму было лет десять-
одиннадцать, и он был силен по своему
возрасту. Во время игры Эгиль
оказался слабее его, а Грим к тому же
старался, как только мог, показать,
насколько он сильнее. Тогда Эгиль
рассердился, поднял биту и пытался
ударить Грима. Но Грим схватил его и
с размаху швырнул на землю...
...Эгиль пошел к Торду, сыну Грани,
и рассказал ему, что произошло. Торд
сказал:
— Я пойду с тобой, и мы отомстим
ему.
Торд дал ему топор, который держал
в руках. Этим оружием в то время
охотно пользовались. Они пошли туда,
где играли мальчики. Грим тогда
держал мяч, и вот он кинул его, а другие
мальчики бросились за мячом. Эгиль
подбежал к Гриму и всадил ему топор
глубоко в голову».
«...Все очень веселились. Сначала
пили, посылая рог вкруговую. Потом
стали пить рог по двое, пополам, Эй-
винд пил вместе с Торвальдом, а Альв
с Торфидом. Позже стали пить
нечестно, и тут пошли хвастливые речи и
перебранки. Тогда Эйвинд вдруг встал,
обнажил меч и нанес Торвальду
смертельную рану».
Конечно, в раннем средневековье
нравы везде были жестокие. Но в
том-то и дело, что вроде бы нигде,
кроме Исландии, не было столь явного
противоречия между преступностью
и условиями жизни, которые этому
отнюдь не способствовали.
Исландское общество сложилось
после переселения скандинавов на
незаселенные земли. Это исключило
противоречия между пришельцами
и аборигенами. В первые десятилетия
после колонизации на острове было
вдоволь свободных земель. Мужчина
получал право на такой участок,
который он мог обойти за день с горящим
факелом в руках, зажигая костры на
его границах. Женщине выделяли
землю, которую она могла обойти за
день, ведя на поводу телку.
Имущественное неравенство начало проявляться
лишь в XIII веке, когда в руках
некоторых семей сконцентрировались
крупные владения.
В Исландии на первых порах не было
деспотического правления: решения по
важнейшим вопросам принимал
альтинг— древнейший в Европе парламент.
Не было здесь и религиозных распрей;
введение христианства в 1000 году не
сопровождалось искоренением
языческих обрядов. Уровень грамотности
был невиданным для других
средневековых стран.
Разумеется, условия жизни на этом
северном острове нелегкие. Суровой
природе надо было противопоставить
упорство, мужество. Но именно это
сплачивало людей, приучало их к
взаимопомощи, сотрудничеству. И тем не
менее в сагах то и дело говорится об
убийствах — не ради грабежа или из-за
кровной мести, а по ничтожным
поводам.
76
Нельзя ли объяснить этакую
неуравновешенность и раздражительность
древних исландцев геохимическими
особенностями среды, которая их
окружала? Например, необычно высокой
концентрацией ртути?
С ре д не е сод ер жан и е ртути в ат мо-
сфере Земли невелико — 0,0011 мкг/м3;
концентрация в 0,3 мкг/м3 считается
в СССР предельно допустимой. Совсем
иная ситуация в Исландии. Летом
1972 года в разных местах Исландии
были взяты пробы воздуха. В столице
страны — Рейкьявике в кубометре воз-ь
духа было 0,62 мкг ртути, на
вулканическом острове Суртсей,
образовавшемся 14 ноября 1963 г.— 5,6 мкг/м3,
в окрестностях вулканического конуса
Геклы — 6,1 мкг/м3, а в 70 с небольшим
километрах от Рейкьявика, возле
знаменитого кипящего Большого
Гейзера,— 37,0 мкгм3.
Это в несколько тысяч раз
превосходит обычное содержание ртути в
воздухе невулканических районов.
Известно, что ртуть специфически
воздействует на центральную нервную
систему: человека охватывает
ощущение надвигающейся катастрофы, у него
возникают порой слуховые и
обонятельные галлюцинации, бред.
Не получилось ли так, что,
накапливаясь в организме древних исландцев,
сокивое серебро» возбуждающе
действовало на психику и оказалось
причиной многих трагедий?
И одним ли исландцам так не повезло?
23 апреля 1963 года специальная
комиссия Министерства культуры СССР
под председательством профессора
А. П. Смирнова вскрыла гробницу Ивана
Грозного. Прах исследовали
патологоанатомы, сотрудники Института
судебной медицины и другие специалисты —
советские и иностранные, а М.
Герасимов реконструировал облик жестокого
царя. В его костях было очень высокое
содержание ртути: Грозный часто
пользовался ртутными мазями, ища
облегчения от боли в суставах. Не ртутная
ли интоксикация способствовала
вспышкам необузданного гнева и граничащим
с безумием припадкам Ивана Грозного?
Кандидат географических наук
Л. Г. БОНДАРЕВ
И мафия — тоже?..
Вряд ли стоит сомневаться
в том, что особенности
окружающей среды, в том числе
и геохимические,
накладывают какой-то отпечаток
на психику людей. Однако
предположения Л. Г.
Бондарева о химической
подоплеке трагических
событий, происходивших в
средневековой Исландии, а также
на территории Московского
государства,
представляются маловероятными.
Прежде всего, вряд ли
можно считать
ответственной за подобные события
только ртуть. Токсическое
ее действие на
человеческий организм хорошо
известно. При хроническом
отравлении симптомы
обычно таковы: сперва общий
упадок сил, быстрое
истощение, чрезвычайно быстрая
утомляемость, головюкру-
жения и обмороки; потом
к этому прибавляются боли
в суставах, подергивания
лицевых мышц, кошмарные
сновидения; затем,
действительно, появляется
чрезмерная раздражительность,
но одновременно и
неуверенность в собственных
силах. Не очень-то
соответствуют этой картине
дошедшие до нас сведения об
особенностях поведения
Ивана Васильевича Грозного
и Эгиля с Эйвиндом.
Если оставаться в рамках
версии об особой
психогенной опасности
вулканических областей,.то в их почве,
воде и воздухе повышено
содержание многих веществ,
способных так или иначе
действовать на
центральную нервную систему
человека. И вместе с тем,
действительно, горцы и
особенно те, кто населяет
вулканические области, отличаются
определенными
психическими особенностями. Только
стоит ли объяснять это
избыточным фоном ртути или,
скажем, селена — вот в
чем вопрос. Скажем, такую
черту, как человеческие
жертвоприношения у
ацтеков, обитавших возле
вулкана Попокатепетль? Или
людоедство у аборигенов
вулканических островов Тихого
океана? Или
практиковавшееся в не столь
отдаленные от нас времена
самураями сильно «завулканизи-
рованной» Японии поедание
еще трепещущей печени
поверженного врага? Или —
совсем свежий пример —
создание мафии
уроженцами Сицилии, на которой,
как всем известно,
возвышается действующий вулкан
Этна?
Все же, если как следует
подумать, геохимия тут ни
при чем. Ну, возьмем ту же
мафию — изобрели ее,
конечно, в Сицилии, но ведь
довели до высшего уровня
и масштаба жители
безвулканных североамериканских
равнин. Или другой
пример — с ацтеками. Ведь их
жестокие обычаи — сущий
пустяк по сравнению с
морями крови, пролитыми
конкистадорами под
водительством Эрнана Кортеса,
уроженца безвулканных долин
Испании.
Я написал последнюю
фразу и вдруг -г- с почти
мистическим ужасом —
вспомнил: именно в
Испании находятся самые
крупные в мире Альмаденские
ртутные копи...
Д. АНДРЕЕВ
77
чтобы эта операция вошла в
повседневную клиническую практику, пока не
может быть и речи. Прогноз Кули не
оправдался.
Первый больной, которому в
декабре 1967 г. доктор Кристиан Барнард
пересадил чужое сердце, умер через
семнадцать суток от пневмонии. Почти
такой же была судьба подавляющего
большинства пациентов, оперированных
в последующие годы. Причина
известна — тканевая несовместимость.
Иммунная система, охраняющая организм
от вторжения болезнетворных
возбудителей, работает и против любых
чужеродных клеток, чужих тканей, чужих
органов.
Правда, можно подавить или даже
предупредить реакцию отторжения.
Это достигается с помощью средств,
подавляющих иммунитет (стероидных
гормонов и иммунодепрессантов).
Но тогда пациент рискует попасть из
огня да в полымя: лишенный
естественного защитного барьера, он может стать
жертвой любой случайной инфекции.
Так и случилось с Луисом Вашканским,
первым человеком с пересаженным
сердцем.
Конечно, дела обстоят не так уж
плохо, как может подумать сторонний чи-
78
Проблемы и методы
современной науки
Чужое сердце
или
искусственный
насос?
А. М. ДАВЫДОЧКИН
Десять лет назад, вскоре после того как
в Кейптауне была сделана первая
операция пересадки человеческого сердца,
американский хирург Дж. Кули,
который сам выполнил в течение
следующего года два десятка подобных
операций, заявил: «По-моему, это не
вопрос— можно ли трансплантировать
сердце. Операция эта станет
повседневной в течение ближайшего
десятилетия. Ее реальность доказана».
Десять лет прошло, и теперь мы
видим, что реальность пересадки сердца
в самом деле бесспорна. А вот о том,
татель, черпающий информацию из
общедоступных журналов и газет,
где уже давно не видно победных
реляций о новых успешных пересадках.
Мода на трансплантацию сердца
прошла. Для обывателя это может
означать, что дело заглохло, для медика —
вовсе нет. Напротив, серьезная работа
только тогда и начинается, когда
стихает шум молвы.
Вот официальные данные,
обнародованные Всемирной организацией
здравоохранения: на 1 января 1975 года
во всем мире было осуществлено
296 трансплантаций человеческого
сердца, этим занимались 64
кардиохирурги ческ их центра. Продолжительность
жизни оперированных колебалась от
нескольких часов до нескольких лет
(рекорд — 7 лет 1 месяц, больной умер
от посторонней причины). Для
сравнения приведем данные о трансплантации
почек (на 1.01.1976 г.): 23 919 операций,
наибольшая продолжительность жизни
после пересадки — 19 лет. Почки
трансплантируются намного успешней,—
это вообще самая эффективная из всех
операций пересадки внутренних
органов,— однако и трансплантация сердца
дело небезнадежное. Все-таки сегодня
на земле живут (и ходят по ней)
десятки людей с чужим сердцем.
Не так давно, в конце 1977 года, тот
же Барнард дважды попытался
пересадить безнадежному больному серДце
человекообразной обезьяны. В отличие
от гомотрансплантации — от человека
к человеку — пересадка органов
животных именуется ксенотрансплантаци-
ей. Особым успехом эта ксенотранс-
плантация не увенчалась; но ведь,
как говорится, лиха беда начало.
Напомним, что сейчас успешно
используется клапан свиного сердца для
пересадки человеку. Митральный клапан,
через который левое предсердие
сообщается с левым желудочком,
анатомически всего лишь небольшая
деталь сердца, однако именно этот
клапан выходит из строя в результате
ревматического эндокардита — самой
распространенной болезни сердца
у детей и подростков. Словом,
ситуация отнюдь не безнадежная. И все же
в этой заметке мы хотели бы
поговорить не только о перспективах или
неудачах трансплантации естественных
органов: все сказанное должно
служить прелюдией к другой теме.
Вернее, к другому повороту этой же темы.
К другим надеждам.
При всей сложности работы сердца,
при всем совершенстве этого
изумительного прибора, функцию сердца
можно определить одним словом:
сердце— это насос. Если это так, мы могли
бы попробовать воспроизвести его
деятельность искусственно.
Заменить живое, но
нежизнеспособное сердце искусственным можно на
короткое время, а можно и навсегда.
Системы, выполняющие функцию
сердца временно, применяются уже
достаточно широко. Это то, что принято
обозначать терминами
«вспомогательное кровообращение» или
«искусственное кровообращение». Таким системам
примерно 15 лет. Назначение АИКа
(аппарата искусственного
кровообращения) — перекачивать кровь по обоим
кругам кровообращения в те несколько
часов, какие нужны хирургам для
операции на «сухом», то есть
отключенном от кровеносной системы, сердце.
Но куда трудней создать постоянно
действующий протез сердца.
Подчеркнем: постоянно. Это слово
употреблено здесь в прямом и
буквальном смысле. Сердце сокращается в
среднем один-полтора раза в секунду.
За год получается около 40 миллионов
сокращений. Такую нагрузку не может
выдержать, не изменяя своих свойств,
ни один из известных технике
материалов. Добавим к этому, что для
построения искусственных органов нужны такие
материалы и вещества, которые не
вызовут нежелательной реакции
организма. Они не должны провоцировать
воспаление окружающих тканей, и на
их поверхности не должно возникать
сгустков крови. Вспоминается
молоковоз: по прошествии некоторого времени
стенки цистерны обрастают толстым
слоем жира. Такие уподобления всегда
шокируют физиолога и врача; но когда
речь идет о техническом
моделировании, волей-неволей начинаешь мыслить
механическими аналогиями.
Очень сложный вопрос —
конструкция насоса. Малогабаритный, легкий,
в прямом смысле портативный прибор
должен автоматически менять режим
работы в зависимости от потребностей
организма. Можно еще кое-как
смириться с тем, что искусственное
сердце не застучит от волнения, когда его
обладатель станет смотреть по
телевидению «Семнадцать мгновений
весны». Но когда он будет бежать домой,
спеша к началу передачи, сердце-насос
должно дать ему возможность по
крайней мере не опоздать.
Перечень трудностей не закончен.
Белым пятном остается проблема
энергопитания рукотворного сердца. Нельзя
же включать сердце в домашнюю
79
сеть, как включают электробритву.
Невозможно и возить за собой тележку
с аккумуляторными батареями.
Соблазнительный выход — использовать
энергию химических и биологических
процессов, идущих в самом организме.
Другая идея — капсула с плутонием-
238 в качестве постоянного источника
энергии. Но все это пока лишь проекты,
чтобы не сказать мечты.
Мы не можем порадовать
нетерпеливого читателя ни одной ссылкой на
успешно проведенную имплантацию
«заводного» сердца. До этого еще весьма
далеко. Вместе с тем можно утверждать
со всей ответственностью:
принципиально непреодолимых препятствий для
технического воссоздания сердца нет.
Здесь стоит упомянуть о попытках
создать другие искусственные органы:
поджелудочную железу, отдельные
части кишечника. Существует проект
протеза даже такого сложного и
многофункционального органа, как печень.
Наибольшие успехи достигнуты с
искусственной почкой — она уже существует.
Нет, не та замечательная машина,
осуществляющая гемодиализ (очищение
крови, пациента от азотистых шлаков)
вне организма, но «настоящая», то есть
вживленная, искусственная почка.
Заметим, однако, что столь насущной
потребности, как в искусственном
сердце, в имплантированной искусственной
почке нет. Для компенсации почечной
недостаточности достаточно бывает
нескольких сеансов гемодиализа в
неделю, а сердце должно биться в
груди непрерывно.
Итак, какой же способ возмещения
необратимо поврежденных органов —
и в частности сердца — более
перспективен: трансплантация или
протезирование? На этот счет существуют разные
мнения. Но уже то, что у нас есть по
крайней мере две точки зрения,
внушает оптимизм. Может быть, не «или —
или», а «и — и»? Вот как, по-видимому,
следует ставить вопрос. И хирургия
пересадок, и конструирование
искусственного органа.
«Перфузиолог,
включите АИК!»
Независимо от того, какая
стратегия хирургического
лечения пораженного
болезнью сердца будет
избрана в каждом данном
случае,— решат ли
хирурги заменить вышедший из
строя клапан, или
пересадить больному чужое
живое сердце, или
имплантировать ему искусственно
созданный протез,— все
равно им не обойтись без
помощи перфузиологов —
специалистов,
занимающихся разработкой и
применением систем
искусственного кровообращения. Ведь
даже если речь идет не
о замене сердца, а о его
текущем ремонте, все равно
на то время, которое нужно
хирургу для операции,
сердце придется отключить,
заменив его аппаратом
искусственного
кровообращения — АИКом, как
называют его хирурги. Но при
этом должны остаться
неизменными условия
существования каждой клетки
организма, все должно идти
точно так же, как будто
сердце продолжает
работать. Создать такие условия
искусственными
средствами — вот задача, которую
решают врачи-перфузио-
логи.
ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕГКОЕ
Главное условие
жизнедеятельности организма —
бесперебойное снабжение
клеток кислородом. К его
нехватке клетки
чувствительнее всего. Если,
например, количество крови,
поступающее в артерии,
уменьшится втрое, то все
вещества, кроме кислорода,
будут поступать к тканям
в достаточном количестве.
И тем не менее функции
всех тканей организма через
некоторое время резко
нарушатся — именно
потому, что им не будет
хватать кислорода...
Обеспечить
бесперебойное снабжение тканей
кислородом чрезвычайно
важно не только на время
операции на открытом сердце.
Травма легких или грудной
клетки в результате
автомобильной катастрофы или
химического ожога;
пневмония, осложнившаяся
острой дыхательной
недостаточностью,— во всех
подобных случаях искусственное
легкое, к которому можно
временно подключить
больного, оказывает
неоценимую помощь.
Как же устроено
искусственное легкое?
В организме молекулы
кислорода переходят из
воздуха в кровь, а потом
из крови через стенки
капилляров — в ткани в
результате простой диффузии,
благодар я разнице в
парциальном давлении
кислорода по обе стороны
границы между двумя средами.
Это же явление
используется ■ и в искусственных
приспособлениях для
газообмена — оксигенаторах,
способных временно заменить
легкие.
Конечно, искусственное
легкое — это не точка я
копия естественного. В
«живых» легких кровь
насыщается кислородом очень
быстро, потому что образует
пленку толщиной всего в
один эритроцит, то есть
примерно В микрон, зато
эта пленка имеет
огромную площадь — около
100 м2. Если добиваться
этого, создавая
искусственное легкое, оно получится
непомерно громоздким.
Поэтому медики и кон-
80
структоры —
проектировщики оксигенаторов,
основываясь и& законах
диффузии газов, пошли по пути
повышения интенсивности
газообмена. Этого можно
добиться, например,
увеличивая парциальное
давление кислорода, или
продлевая время контакта крови
с кислородом, или
перемешивая кровь.
Все эти принципы
используются в современных
оксигенаторах. В них,
например, подается чистый
кислород (или смесь 95—97%
кислорода с 3—5 %
углекислого газа) под
давлением чуть выше
атмосферного— парциальное
давление кислорода при этом
получается примерно в 7 раз
больше, чем в альвеолах
легких. Протекает кровь
через оксигенатор с гораздо
большей скоростью, чем
через легочные капилляры.
За последние два
десятка лет было создано
множество различных
разновидностей оксигенаторов.
Постепенно они превратились
из грубых лабораторных
образцов в надежные
аппараты массового
применения — как одноразовые
(рассчитанные на
однократное использование), так
и многоразовые. Высокую
оценку в клиниках
получили разработанные недавно
отечественные
оксигенаторы.
Сейчас наиболее
распространены оксигенаторы
пенно-пленочного, • или
пузырькового, типа — в них
обмен газов происходит
сквозь тонкие стенки
пузырьков, образованных
вспененной кровью. Однако
такие оксигенаторы не
полностью удовлетворяют
хирургов. Эритроциты и белки
плазмы подвергаются в них
бомбардировке
молекулами кислорода и в
результате могут изменять свой
нормальный состав и
свойства. Гораздо
перспективнее мембранные
оксигенаторы, в которых, как и в
легких, кровь
непосредственно не соприкасается с
кислородом: они
разделены полупроницаемой
мембраной. Правда, и
мембранные оксигенаторы в какой-то
степени травмируют кровь:
на поверхности мембраны,
не являющейся
биологической тканью, оседают
некоторые форменные
элементы крови и белки
плазмы. Но на сегодняшний
день это лучшее, что мы
имеем.
Изготовление
мембранных оксигенаторов стало
возможным лишь благодаря
успехам полимерной химии.
Огромное число самых
различных полимеров
перепробовали инженеры и
медики, прежде чем
подобрали подходящие пленки. При
этом пришлось решать
множество сложных проблем.
Например, в ходе
исследований выяснилось, что через
мембрану гораздо труднее
удалить углекислый газ,
чем «протащить» кислород.
И чтобы газообмен
происходил нормально,
мембрана должна быть в 12 раз
более проницаемой для
углекислого газа, чем для
кислорода.
Из всех известных
полимеров наилучшие условия для
диффузии кислорода и
углекислого" газа
позволяют создать полиэтилен и
тефлон; применяют в
оксигенаторах и мембраны из
тонкого силиконового
каучука.
Опытные образцы
отечественных мембранных
оксигенаторов уже проходят
испытания в клиниках.
Лучшее сохранение свойств
крови, отсутствие условий
для образования в ней
газовых пузырьков, простота
контроля объема
циркулирующей крови — вот
главные преимущества
«мембранного легкого».
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
Кровь, насыщенную
кислородом в оксигенаторе,
нужно теперь прогнать по всей
кровеносной системе
организма. Это, в сущности,
и есть единственная
функция сердца. При каждом
сокращении оно
выбрасывает в артериальное русло
определенное количество
крови; для сердца
взрослого человека это примерно
50—60 мл.
В условиях искусственного
кровообращения
движение крови по сосудам
должен обеспечить
искусственный аналог сердца —
механический артериальный
насос производительностью
4—5 литров в минуту
(примерно столько крови
перегоняет за это время сердце
в состоянии покоя).
Казалось бы, не такая уж хитрая
техническая задача. Однако
создать насос, пригодный
для замены живого сердца,
оказалось не так легко. Дело
в том, что к нему
предъявляется множество
специфических требований.
Во-первых, все детали насоса,
соприкасающиеся с кровью,
должны иметь идеально
гладкие поверхности. Во-
вторых, в насосе не должны
образовываться газовые
пузырьки, завихрения и
области застоя крови.
В-третьих, насос должен легко
разбираться, очищаться, все
его детали должны надежно
стерилизоваться.
В-четвертых, в-пятых, в-шестых...
Труднее всего было,
пожалуй, подобрать такие
материалы, которые не
травмировали бы кровь. Многие
металлы, обычно
используемые в технике для
аналогичных целей,— медь,
латунь, алюминий, хром —
здесь оказались негодными:
они или легко окисляются,
или, взаимодействуя с
кровью, выделяют в нее
токсичные соединения.
Лучше всего отвечает
предъявляемым
требованиям нержавеющая сталь.
Из нее можно отливать
детали любой формы, не
имеющие на поверхности ни
зазубрин, ни заусениц, ни
трещин; ее легко очищать
механическими или
химическими препаратами; она
не боится высокой
температуры и прекрасно
стерилизуется в автоклаве.
Но материал — это еще
не все. В технике известно
множество разных
конструкций насосов. Чуть ли не все
их перепробовали перфу-
зиологи: центробежные и
пальчиковые, поршневые
и диафрагменные, с
различными видами роликов,
с червячным винтом и с
винтом Архимеда, с
электрическим и гидравлическим
приводом.
В конце концов
практическое применение в
аппаратах искусственного
кровообращения нашли насосы
главным образом двух
типов: роликовые и
диафрагменные.
В роликовом насосе вдоль
81
Схема физиологического
блока аппарата
искусственного
кровообращения — ЛИКа.
1 — венозный приемник;
2 — оксигенатор;
3 — артериальный насос;
4 — теплообменник,
обеспечивающий
необходимую температуру
крови; 5 — манометр;
6 — фильтр и ловушка для
пузырьков газа;
7 — система отсоса для
обескровливания
операционного поля
эластичной трубки,
наполненной кровью, движется
снаружи ролик, который,
выжимая кровь, гонит ее
по трубке. Достоинства
таких насосов —
сравнительная простота
устройства и хорошее сохранение
свойств крови. Но есть у них
и слабое место: нужны
очень прочные и
эластичные трубки, материал для
которых не так просто
подобрать.
В насосах же диафраг-
менного типа кровь
приводится в движение
прогибающейся диафрагмой,
а нужное направление этому
движению придают
входной и выходной клапаны
(по этому же принципу
устроены автомобильные
бензонасосы). Идея
применения такого насоса
принадлежит основоположнику
метода искусственного
кровообращения С. С. Брю-
хоненко: еще в 1929 г. он
сконструировал
мембранный насос большой
мощности, в котором
подвижная металлическая
диафрагма, приводимая в движение
эксцентриковой системой,
соединенной с валом
электромотора, заставляла кровь
течь в нужном
направлении. Важное преимущество
диафрагменных насосов
в том, что они, как и живое
сердце, создают
пульсирующий поток крови, что
приближает искусственное"
кровообращение к
естественному.
Диафрагменный
артериальный насос
применяется и в современных
советских аппаратах
искусственного
кровообращения АИК-5М и АИК-7. Он
имеет как электрический,
так и ручной, аварийный
привод: даже если будет
почему-нибудь отключено
электричество,
искусственное сердце не должно
остановиться.
В аппарате
искусственного кровообращения есть
еще множество, казалось
бы, второстепенных
деталей, которые тем не менее
очень важны. Например,
устройство для
улавливания из потока крови
мелких пузырьков воздуха или
микроскопических
твердых частиц: если они
попадут в капилляры мозга
или других жизненно
важных органов, это может
вызвать серьезные
осложнения. Или теплообменник,
который поддерживает
требуемую температуру
крови...
82
В каждой больнице, где
применяется
искусственное кровообращение,
обычно отдают предпочтение
какой-нибудь одной из не-
Г скольких существующих
моделей аппарата
искусственного кровообращения:
это зависит от характера
использования аппарата,
от того, какие здесь чаще
проводятся операции, или
просто от индивидуального
опыта и симпатий перфу-
зиологов.
ИСКУССТВЕННАЯ КРОВЬ
Эффективность перфузии
определяется не только
мастерством перфу зиологов
или техническим
оснащением операционной.
Огромное значение имеет еще и
качество применяемой
донорской крови и
кровезаменителей. Обойтись без
них при использовании
искусственного
кровообращения невозможно: крови
больного просто не хватит
на то, чтобы заполнить и
насос, и оксигенатор, и все
подводящие к ним трубки —
искусственные вены и
артерии. В процессе перфузии
обязательно используется
донорская кровь, которая
смешивается с кровью
больного. На ее долю
приходится от 30 до 70% всей
крови, остающейся в
организме больного после
окончания операции. Несмотря
на тщательный подбор
доноров, здесь всегда могут
возникнуть проблемы
несовместимости. Кроме того,
нередко донорская кровь,
спасая жизнь больному,
становится одновременно
источником заражения его
некоторыми
инфекционными заболеваниями,
например гепатитом.
Вот почему гематологи
и перфузиологи
стремятся, насколько возможно,
уменьшить количество
используемой при перфузии
донорской крови. (Не
последнюю роль играет здесь
и то обстоятельство, что
донорская кровь, особенно
редких - групп, дефицитна
и дорога.) В этом
направлении достигнуты
значительные успехи. Если еще
несколько лет назад только
для одной операции с
применением аппарата
искусственного кровообращения
требовалось до 6—8 литров
донорской крови, то сейчас,
в результате
совершенствования конструкции
аппаратов, для первичного
их заполнения нужно всего
1,5—2 литра крови.
А нельзя ли вообще
отказаться от донорской крови,
используя вещества, ее
заменяющие? Такую идею
высказал почти сорок лет
назад тот же С. С. Брюхо-
ненко. Сейчас существует
довольно широкий
ассортимент кровезамещающих
растворов, большая часть
которых прошла проверку
практикой. Это, например,
препараты полисахаридов,
в первую очередь декстран
и реополиглюкин (о первом
из них подробно
рассказывалось в № 12 «Химии и
жизни» за 1970 год).
А многие перфузиологи
предпочитают пользоваться
кровезаменителями
белковой природы — продуктами
переработки пищевой
желатины или ее химическими
модификациями. Самый
распространенный из таких
препаратов — «Желати-
ноль», полученный и
внедренный в производство
Ленинградским институтом
переливания крови. У него
вполне стандартный состав
и физико-химические
свойства, он практически не
вызывает нежелательных
реакций организма,
уменьшает вязкость крови и
повышает устойчивость ее
структуры. Почти весь
препарат, введенный в
организм, легко покидает
сосудистое русло через почки,
а остающаяся
высокомолекулярная фракция
включается в белковый обмен.
Важно и то, что «Желати-
ноль» сравнительно дешев
и может быть получен из
доступного сырья в
массовых количествах.
«Желатиноль» служит
основой и
многокомпонентного «перфу знойного
коктейля», разработанного тем
же институтом специально
для управляемого
разбавления крови при операциях
и& открытом сердце. Сейчас
он всесторонне изучен и
прекрасно зарекомендовал
себя в клинических
условиях. Кроме «Желатиноля»
в состав «коктейля» входят
растворы хлористого натрия
и хлористого калия, нужные
для поддержания солевого
(точнее электролитного)
баланса организма. Чтобы
реакция крови не
сдвигалась в кислую сторону, в
«коктейль» введены ощела-
чивающие растворы,
например бикарбонат натрия.
Немаловажные
компоненты «перфу знойного
коктейля» — витамины,
антисептические средства, а
также лекарственные
препараты, стимулирующие
деятельность сердца. «Коктейль»
может выпускаться как в
виде готового раствора,
так и в виде
полуфабриката — сухого порошка,
который подготавливается к
употреблению
непосредственно в клинике.
Много задач решили
советские перфузиологи.
Стали будничной работой
операции на открытом сердце,
о которых мечтал С. С. Брю-
хоненко. Искусственное
кровообращение
применяется уже не в одном-двух
ведущих институтах, а во
множестве кардиохирурги-
ческих центров Москвы и
Ленинграда, Киева и
Горького, Ташкента и Риги,
Еревана и Минска, Свердловска
и Новосибирска, других
городов нашей страны. Уже
сделаны первые шаги в
применении вспомогательного
кровообращения для
разгрузки собственного сердца
больного при лечении
инфаркта.
Но для
усовершенствования этого замечательного
метода многое еще и
предстоит сделать. Здесь
остается огромное поле
деятельности для химиков и
конструкторов, врачей и
работников медицинской
промышленности. Нужно
создавать серийные
отечественные мембранные
оксигенаторы; нужны новые
типы артериальных насосов,
которые обращались бы
с перекачиваемой кровью
так же бережно, как живое
сердце; продолжаются
поиски новых синтетических
кровезаменителей, которые
избавят нас от проблем
инфекции и
несовместимости...
А. ХОЛМСКАЯ
83
r Kt *
♦ л'
Первый день ^
^похи в^зрож^н1р
N
Х|
1.
— Пора...
— Вы что-то сказали? Вы мне?
— Не вам. Вообще... Говорю, пора...
— Давно пора. Чего они тянут.
— Сверяют со списками. Все должно сойтись.
— Нас тут не так уж и много. Развели канцелярщину. Чушь...
— Порядок есть порядок.
— Все равно, что-нибудь да напутают. Кого-то наверняка забудут.
— Во всяком случае, не должны. Это приказ Администрации — забрать всех
до единого. Всех...
— Значит, это последний? А если не хватит мест?
— Они могут в сто раз больше, в тысячу. Разве не видите, какая громадина.
Дух захватывает.
— Неужели-таки всех?! А если кто-то не успеет? Или просто решит остаться?
Что тогда?
— Остаться? Здесь? Зачем?!
— Мало ли что. Захочет — и все.
— Стало быть, он сумасшедший. Вот вы же не хотите? Или хотите?
— Я?! Что я здесь забыл, в этом проклятом пекле?
— То-то. Все так рассуждают. Никто не хочет пропадать в этом аду. Ничего,
скоро мы уже будем там и сможем забыть все, отдохнуть. А потом начнем
жить...
— Вот теперь действительно начинают. Видите, впустили первую группу.
— Прямо не верится... Через пару часов очередь дойдет и до нас.
— А я почему-то боюсь. Не знаете, это опасно? Что говорят?
— Не знаю. Лично меня это не волнует. Лишь бы вырваться отсюда. На
любых условиях. Терять уже нечего...
— Но все-таки, что они с нами сделают? Что мы почувствуем?
— Я же говорю вам, не знаю. Засушат, заморозят, растворят — какая разница!
— Бррр!.. Ну и юмор у вас. Я же серьезно.
— Да что вы пристаете с пустяками. Спросите у них самих, а меня оставьте
в покое. Вон ходят двое — Капитан и первый помощник. Они вам все расскажут.
Ну, сбегайте.
— Вы что, смеетесь? Я и так еле на ногах держусь, не то что они... А кто из
них Капитан? Коренастый?
— Да. Он уже сделал двенадцать рейсов. А первый помощник, я слышал,
впервые здесь. Новичок. Он даже родился там.
— Эх, везет людям.
— Это верно, кому как повезет. Его родители попали в первые рейсы. Вас-то
еще и на свете не было.
— Меня? Возможно. Кстати, я в своем роде знаменитость.
— Вы? Вот уж не сказал бы, глядя на вас. Ну и чем же?
— Моложе меня никого здесь нет, хотя мне уже сорок два. Я последний,
кому позволено было родиться. Последний, понимаете. Потом Администрация
приняла решение — больше ни единой души.
— Ну и правильно. Надо было еще раньше. Иначе бы они еще и через десять
лет не увезли всех отсюда. Все-таки мы живем в самую гнусную эпоху. Эпоху
бегства от самих себя.
— Это вы в точку попали. Гнуснее и не придумаешь... Еще одну группу
впустили. Дело движется. Медленно, но верно.
— Моя очередь движется уже четырнадцать лет. Так что я привык. К
движению...
— Что же вы раньше не записались?
— Раньше... Все мы жертвы, как говорится, стадного чувства. Сначала никто
не хотел, первых отправляли в принудительном порядке. Конечно, были
добровольцы, но они не в счет. Масса, толпа... Глупцы, и я такой же... Мне уже
пятьдесят девять. Кто знает, сколько еще осталось. Но хоть год-два, хоть
сколько-нибудь пожить по-человечески, а не так, как мы сейчас. Или умереть, все
равно...
— Нет-нет, я не согласен умирать. Жизнь — это чудо, даже здесь. Величайшее
чудо, которое еще осталось у человека.
— Хм, да вы философ! Поэт! Стишки сочиняете?
— Оставьте... Лучше посмотрите, что это там виднеется.
85
— Где?
— Почти у горизонта. Непривычный зеленый цвет. Правее тех барханов,
видите?
— Ну и что? Камень, наверное. Какая разница. Подвиньтесь, теперь можно
стать под навесом. Пожалуй, они стали работать быстрее.
— Странно, очень странно.
— Вы о чем?
— Да вот это зеленое. Вчера, кажется, там ничего не было. Вы не заметили?
— Мне все равно. Считайте, это мираж.
— Я бы не сказал.
— Тогда сбегайте и узнайте. Потом расскажете всем нам.
— Мне что, больше всех нужно? Просто к слову...
— Вот она, типичная философия потребителя.
— Будто вы не потребитель. Созидатель нашелся. Именно такие, как вы, и
довели до всего этого кошмара!
— Слушайте, мне надоели ваши праздные разговоры. Давайте помолчим лучше,
чем попусту молоть языком.
— Пожалуйста. Только, по-моему, вы начали первый. Да, вы. Вы сказали...
— Что я сказал? Какой вы все-таки нудный.
— Ну, знаете ли... Я попрошу вас выбирать выражения!
— Да идите вы...
— Что-что?!
.„I
...и
2.
И они замолчали.
Да и о чем говорить?.. Через час-другой их, да и всю эту вереницу людей
в прозрачных оболочках, ожидает глубокий сон едва ли не по ту сторону
бытия — долгосрочная теплохимическая консервация организма. И какая
разница— что они думают друг о друге и обо всем остальном.
Каждые семь минут горстка пассажиров входила в камеру шлюзования
огромного космического корабля. Там они принимали снотворное и располагались
в пластиковых капсулах. Дальнейшее от них уже не зависело. И они засыпали
с надеждой, что через шесть лет — световых лет — они вернутся к жизни, но уже
там, на четвертой планете звезды Бертольда.
Эта планета, которую переселенцы назвали Младшей Землей, М-Землей,
а в разговорной речи Эмземлей, имела вполне приемлемые условия для жизни,
почти такие же, какие были на покинутой Земле в мезозойскую эру. Так
Человек, Венец Творения, выбрался, наконец, из своей земной колыбели, и зашагал
по этажам мироздания с видом победителя, бесцеремонно заглядывая во все
его комнаты, обшаривая закоулки и опустошая кладовые. Ибо что ему еще
оставалось делать? Только побеждать. И пожинать плоды своих побед...
А пока последние люди покидали Землю. Очередь уже сократилась на треть —
вереница странных фигур в прозрачных оболочках под палящими лучами солнца
на стартовой площадке. Люди уезжали без багажа и в камере шлюзования
оставляли все, что было на них, вплоть до контактных линз-очков. Одна
старушка пыталась пронести под своей оболочкой кота. Через минуту рука робота
вышвырнула кота прочь. Обреченный зверь, корчась на раскаленном песке
в разреженном воздухе, прекратил свое жалкое существование на глазах
у безучастной толпы, словно напоминая, что отсюда надо убираться, и поскорей.
Двое из экипажа проверяли по спискам каждую группу, а Капитан с первым
помощником неторопливо прохаживались по территории городка. В полете
все члены экипажа тоже погружались в сон, но лишь после того, как корабль
ложился на курс, и в консервацию вводил их сам Капитан. Он оставался последним
бодрствующим существом на борту,— роботы не в счет.
На все четыре стороны открывался один и тот же унылый вид: зыбкие гребни
барханов под ослепительным небом, бесформенные каменные торосы,
полуразвалившиеся строения из металла и пластика. Ничто здесь не радовало глаз,
на всем были печать и дыхание смерти. Голая и обезвоженная, готовая испустить
последний дух, последний живой крик, Земля стала пройденным этапом для того,
кто ее топтал и, как казалось ему, благоустраивал...
И только одно привлекало внимание — зеленое пятнышко близ горизонта. Что
это? Почему зеленое? Капитану захотелось узнать, и жестом он предложил
помощнику следовать за собой.
86
— Куда мы идем. Капитан?
— Идем... У нас еще есть немного времени. Ты ведь сам попросился в этот
рейс, не так ли?
— Да. Я хотел все увидеть своими глазами.
— Вот и смотри. Запоминай.
— Что же тут интересного? Один песок и камень.
— Именно. Вся штука в том, что мы идем по океанскому дну.
— Вы шутите.
— Увы. Это ложе бывшего Атлантического океана. Слыхал? Вот это он и есть.
— Да ну?
— Мало того. Где-то под этой толщей песков покоится древнейший материк —
Атлантида. Считается, что здесь родилась цивилизация.
— Тогда это просто забавно. Последний уходит оттуда, где появился первый...
— Тебе этого не понять. Твоя родина не здесь, а уже там.
— Моя родина — весь мир, Космос.
— Ошибаешься. Твоя родина там, где ты сделал первые шаги, где жили твои
отец и мать. И куда бы ты ни умчался, она всегда с тобой...
— Эмоции, мой Капитан. Мы с вами мужчины.
— Да, конечно...
— Ну, а вы-то?
— Что —я?
— Вы-то свою родину покидаете навсегда. Что у вас от нее останется?
— Память. И сожаление.
— Сожаление, о чем? Об этой пустыне?
— О том, что мы сделали. Как умудрились обратить все в прах.
— Простите, но вы идеалист! Разве у вас был другой выход? Все закономерно,
любишь кататься — люби и саночки возить.
— Не знаю,— сказал Капитан.— Возможно, и был выход. Но все это, к
сожалению, за пределами жизни одного человека и даже целого поколения. А мы и
теперь не научились думать о потомках...
— Уж не хотите ли вы сказать, что такое же будущее ожидает нас там,
на Эмземле?
— Кто знает, кто знает...
— Что же нам делать?
— Я знаю лишь то, чего вам не надо делать.
— Ну входите же, чего застряли?
— Идите вы первый, я боюсь...
— Да не тряситесь вы так, вас не убьют. Раздевайтесь, черт подери, да
поживее. Иначе этот робот за вас возьмется. Тогда не обрадуетесь.
— А ч-что он со мной сделает?
— То же, что и с другими, кто не хочет выполнять приказ. Разденет догола
своими железными ручками и засунет в капсулу.
— Да? Уж лучше я сам...
— То-то. И веселей, веселей!
— Но все-таки, знаете... Когда я смотрю на эти соты с бывшими людьми...
Честное слово, мне кажется, что я в крематории.
— А вы не лишены чувства юмора!
— Напрасно издеваетесь. Ох, напрасно. Сейчас вас самого испекут в этой
трубочке, как пирог с начинкой. Обман все это!.. От нас избавляются, мы —
лишние, никому не нужны!
— Нервишки у вас того... Стыдно.
— Стыдно, говорите? А я не хочу умирать! Слышите! Вот это все — смерть!
— Успокойтесь вы, хлюпик! Мне-то все равно, можете оставаться. Ваше дело.
— Да, остаться... Жить в оболочке, одному, как угодно... Но жить! А вы все
будете покойниками, все...
— Ну вот что! Убирайтесь отсюда, живите. Только не действуйте нам на нервы!
Не омрачайте этих торжественных долгожданных минут!
— И уйду, немедленно. А вы оставайтесь... Скажите этому дурацкому
роботу, пусть уберет руки.
— Эй, отпусти этого психа. Только я скажу ему на прощанье пару слов,
объясню кое-что. Так вот, знайте, любезный: через шесть часов Земля будет
взорвана. Весь шарик — вдребезги, в пыль! Ясно? Ну и вы, стало быть, за компанию.
87
— Откуда вы взяли?
— А вы не знали? А что вы вообще знаете? Вот, читайте, висит перед носом.
Или вам прочесть? «К . сведению переселенцев»... Так, где это место, ага...
«В научно-прикладных целях...»
— Где, здесь?.. «Не представляет больше практической ценности... Будет анни-
гилирована...» Просто глазам не верю. Как это? Почему?
— Так вы уже не уходите? Решили с нами? Умничка.
— Перестаньте. Будто вас это не касается!
— Именно: не касается! Плевать!.. Заберусь в капсулу — и баиньки. Без
сновидений. Повезет — проснусь, стану новым, свободным человеком на прекрасной
планете. А здесь пусть все провалится в тартарары... В клочья!
— А мне, представьте, жаль.
— Э, бросьте. Лучше берите таблетку, жуйте. Теперь забирайтесь в капсулу.
Вот так, рядом, сюда. Ногами вперед.
— Ногами вперед...
— Хорошо-о! А вам не тесно? Вы меня слышите?
— Слышу. Прощайте.
— Э, нет. Всего лишь «до свиданья». Надо быть оптимистом... Кстати, как вас
зовут?
— Не все ли равно. На этой братской могиле имен не пишут. Номер
структурной схемы, и все...
— Ну, ну, не падайте духом. Обойдется... Вас уже клонит ко сну?
— Да.
— Согласитесь, так привольно мы уже давно не спали. Без этих проклятых
оболочек, голышом, в приятной атмосфере... Эх, и житуха теперь настанет!
Знаете, что я сделаю первым делом? Приму ванну. Прохладную. Даже ледяную.
Буду лежать в ней неделю, месяц... Остывать от этой проклятой жары. Потом
завалюсь где-нибудь на травке. Вы хоть помните, что это такое? А? Не слышит.
Уже спит. Интересно, а сосед справа? Тоже спит. Все спят, один я... Гм! Странно.'
Почему на меня не действует? Эй, робот, я не засыпаю! Подожди, не включай.
Дай еще таблетку. Да подожди, тебе говорят! Слышишь, железная твоя душа!
Подожди, не вклю.-.\
5.
— Извините, Капитан, но мне это кажется бессмысленным.
■— Что именно?
— Наш поход. Ваши поиски. Ничего интересного мы там не найдем.
— Ты устал? Плохо себя чувствуешь?
— Нет. Но я привык тратить силы и время более рационально. А там просто
ничего нет. Ничего такого, что вы надеетесь увидеть.
— Возможно, но я должен убедиться.
— Да в чем? Что жизнь здесь нереальна? Это очевидно. Разве вы сами
не видите?
— Ты можешь вернуться. Иди.
— Нет, я не оставлю вас одного. Мало ли что...
— Тогда прибавь шагу. Бери левее, обойдем эту котловину.
— Осторожней, не споткнитесь. Это что, кабель?
— Да. Здесь один из шурфов со взрывчаткой. Один из шестидесяти трех
тысяч, расположенных по всей поверхности Земли.
— Внушительно! По-моему, успех обеспечен, если верны расчеты. А вы как
думаете?
— Трудно сказать. Возможно.
— А вы как будто и не рады эксперименту.
— Хм, велика доблесть — уничтожать. Повод для восторгов...
— Смотря что уничтожать. И для чего. Эту старую развалину давно пора
на свалку. Отслужила свое — и довольно... Какое будет потрясающее зрелище!
Торжество самой дерзкой научной идеи.
— Торжество?
— Извините, Капитан, но я не пойму вас. Зачем вы соглас лись на этот рейс?
Никто вас не принуждал.
— Конечно. Но... Впрочем, к чему сейчас все эти разговоры? Может, и в
самом деле мне следовало отказаться.
— Знаете, у меня к вам просьба...
— Да?
88
— Только не истолкуйте превратно. Я бы хотел... Для меня это очень важно...
Одним словом, прошу вас уступить это право мне.
— Не понял.
— Произвести взрыв...
— А-а... Гм. А какая, собственно, разница, кто нажмет кнопку? Не в этом дело,
не в этом...
— Тем более — если вам все равно. По правде говоря, ради этого я и
согласился лететь сюда. •
— Вот как?
— Надеюсь, вы не найдете в моем признании ничего такого... Мне было десять
лет, когда я впервые узнал о подготовке взрыва. И с тех пор...
— Каждый волен стремиться к своей цели. Ты к своей, я... Ладно, я подумаю.
Еще есть время.
— Не так уж много. Постойте, на этот склон нам не подняться. Песок течет,
будто он живой. Только он и живой здесь...
— Попробуем справа. Хотя там не лучше. Запроси, как там у них с посадкой.
— Сейчас... Заканчивают минут через двадцать пять. Нам пора возвращаться.
— Да, жаль. Ничего не поделаешь. А тебе не кажется, что пятно стало ярче?
— Обман зрения, Капитан. Думаю, это всего лишь какое-то атмосферное
явление. Что-нибудь в этом роде.
— Ну что.ж, идем к старту...
— Я возвращаюсь с надеждой, Капитан.
— С надеждой? Ах, да.
6.
Взорвать планету, зачем? Чтобы отомстить Земле? Нет, все было и проще,
и сложней. Ожидалось, что взрыв вызовет возмущение в Солнечной системе
и, может быть, приведет к смещению орбиты Венеры. Она займет место
исчезнувшей Земли, и можно будет вернуться домой, к родному Солнцу, на свежую,
еще не истощенную планету. Ну, а если не получится — терять нечего, никто
не пострадает...
Все готово. Живой груз — концентрат человеческой субстанции — покоился
в пластиковых ячейках хранилищ. Снаружи, у трапа, высилась гора брошенных
вещей: ,прозрачные оболочки, одежда, детские игрушки... Капитан подал знак
подчиненным, а сам все еще стоял внизу и смотрел.
Он, последний гражданин планеты, покидающий ее, не мог решиться сделать
последний шаг. Он стоял, прислонившись к дверной раме, и смотрел. Но что
можно унести в своей памяти? Пески до горизонта, скалистые громады,
строения — последнее прибежище людей. И снова пески... Серая голубизна неба,
рассеченная столбами черных смерчей. А вот и оно, это загадочное нечто,—
зеленое, там вдали. Что же это такое? Неужто растительность, чудом
пробившаяся в пустыне? Но значит, там должна1 быть и вода, питающая ее. Жаль, что
он не добрался до этого места.
Пора приступать к делу. Поспешно, словно отрезая себе путь, Капитан опустил
дверь-гильотину, сразу очутившись в другом мире. Члены экипажа ждали в
креслах пилотской кабины. Мысленно они были уже дома, там, и уже смотрели
телетрансляцию оттуда — живописные, как некогда земные, пейзажи,
мерцающие города, веселые, беззаботные, благополучные люди...
Капитан занял свое место, и пальцы его нащупали нужную клавиатуру на
пульте. Он задумался... Потом поискал видеоэкраном загадочное зеленое пятно,
увеличил масштаб изображения.
Он увидел зеленый оазис. Крохотный — несколько кустиков, обступивших узкую
полоску воды. Растения казались беззащитными — и от бьющих сверху лучей
солнца, и от надвигающихся барханов. Но так только казалось. Молча, упорно
растения боролись за свою жизнь, укрывая тенью ручей, а он давал им
бесценную влагу.
Вот и все,— огромная махина корабля стремительно и беззвучно вознеслась
над Землей и сделала прощальный круг.
Одинокий белесый шарик покинутой планеты быстро уменьшался,— через
считаные минуты он превратится в светлую точку на черном небе Вселенной.
В искру, которая вот-вот погаснет.
Капитан корабля, словно оцепенев, смотрел на видеоэкран.
89
7.
— Капитан, очнитесь. Вы нездоровы?
— Я? Откуда ты взял?
— У вас такой вид, словно... Может быть, вас сменить? Отдохните.
— Спасибо, не беспокойся. Все в порядке.
— Осталось пять с половиной минут, сейчас мы увидим феерическое
зрелище... Кстати, хочу напомнить о своей просьбе.
— Что? Нет! Ни в коем случае.
— Жаль... А я так надеялся. Ну что ж, подчиняюсь. Удовлетворюсь ролью
наблюдателя. Будет о чем рассказать... Осталось две минуты. Хоть пломбу снять
с кнопки вы мне позволите, Капитан?
— Пломбу? Еще рано...
— Думаете, я не удержусь и нажму сам? Вы уже могли убедиться, что я
человек дисциплинированный. Интересно, нас хоть слегка встряхнет?.. Ох, и
начнется свистопляска во всей планетной системе! Кстати, а как поведет себя Луна?
Куда ее отбросит?
— Не знаю.
— Может быть, станет спутником Венеры? Или превратится в самостоятельную
планету, а какой-нибудь осколок вашей Земли будет ее ночным светилом?
Эх, грандиозно!.. Так, даю отсчет. Десять, девять, восемь/.. Два. Один!
Ноль!! Контакт. Контакт!.. Что же вы, Капитан? Вы меня слышите?! Тогда
я, позвольте-ка...
— Нет.
— Уберите руку.
— Нет!!!
— Что это значит, Капитан?
— Займи свое место. Взрыва не будет.
— Что-о? Почему?
— Мы не сделаем этого.
— Но мы обязаны! Должны! И вообще, если вы... нездоровы, прошу передать
управление мне. Немедленно!
— Успокойся, я здоров. В здравом уме и трезвой памяти.
■—Учтите, Капитан, я не желаю нести ответственность за нарушение
инструкции! За вашу... сентиментальность!
— Тебе не придется отвечать. У тебя будет оправдание.
— Какое же, хотел бы я знать? То, что поддался минутной слабости? Вашим
уговорам?! Вот инструкция. Где здесь хоть один пункт, снимающий с меня
ответственность?
— Сейчас я тебе покажу... Вот, тридцать шестой... «В случае, если на Земле
добровольно, по собственному желанию остается группа людей или даже один
человек...» <■
— Но позвольте! Там же никого нет! Я лично проверил. Все до единого
на борту! Торопитесь, Капитан. Мы еще не вышли из зоны радиокоманды. Еще
не все потеряно!
— Да, еще не все... Так вот. Я возвращаюсь. Да не смотри на меня так.
8.
Пальцы легли на клавиши пульта, и на видеоэкране все пошло в обратном
порядке. Белесая точка стала расти, превратилась в шар. Земля приближалась...
Понял ли он, на что идет? На одиночество, лишения... Что ж, право
каждого— выбирать свой путь. Но в чем он видел смысл своего поступка? Да ни
в чем. Оставалась надежда. Надежда на то, что там, в далеком
благополучном мире, когда-нибудь узнают о его безрассудном поступке. И весть эта, думал
он, всколыхнет души тех, в ком жива еще память Земли. И кто-то, пусть их
будет немного, захочет вернуться, чтобы возродить свою Землю. А это уже что-то
значит... Нет, он не хочет загадывать слишком далеко, важно решиться на
первый шаг, самый трудный. И самый ответственный.
Корабль приземлился там же, откуда недавно стартовал.
Была утренняя тишина, солнце вставало над горизонтом. Родник пробивался
в песках. Вокруг него столпились грубые, самоотверженные растения. В их тени
набирала силы юная поросль.
Природа делала свои первые шаги, взращивая вечное семя жизни.
И первые шаги к ней делал Человек. Он вернулся.
Пингвиний
детский
сад
Март. Конец прохладного антарктического
лета. Становится все холоднее. У берегов
растет кромка льда — припай. По ледяной
равнине, припорошенной снежком,
торжественно движется процессия. Один за
другим не спеша^ в развалочку бредут, словно
человечки, пингвины. Их здесь тысячи.
Все схожи как две капли воды — все в
одинаковых черных фраках до пят.
Поскользнувшись, они забавно расставляют в
стороны короткие крылья, словно руки в
широких рукавах, и взмахивают ими для
устойчивости. Каждый внимательно смотрит на
идущего впереди: на льду опасно, можно
угодить в трещину.
91
Императорские пингвины — птицы не
маленькие: от кончика клюва до конца лап
более метра. Но это лежа. А стоя высота
самого рослого пингвина около ВО см.
Вес от 25 до 40 кг. Птицы эти отнюдь не
хилые — при попытке их поймать они
нередко валят на лед человека.
Тело пингвина благодаря его форме
сравнивают с торпедой. И не зря —
немногие животные столь хорошо приспособлены
для стремительного движения под водой.
Иное дело на суше. Здесь
императорский пингвин церемонен, медлителен и
величав, что вполне оправдывает его название.
При ходьбе он поочередно переставляет
ноги, разворачиваясь туловищем то влево,
то вправо — так передвигаются некоторые
очень тучные люди. В случае опасности
пингвины падают на брюхо и, отталкиваясь
ногами, довольно быстро скользят по льду,
оставляя на нем следы когтей.
Сейчас у пингвинов пора свадеб. Вот они
и торопятся. Для высиживания птенцов
императорские пингвины выбирают вроде
бы самые неподходящие время и место:
страшную антарктическую* зиму и лед.
Пингвины- других видов привередливей:
гнездятся летом и на свободном ото льда
и снега грунте.
Орнитологи, наблюдавшие за колонией
императорских пингвинов, жили в хитро
утепленном передвижном домике, выходили
наружу ненадолго, да и то закутанные
в особую одежду с электрообогревом.
А как же пингвины? Главная защита — слой
жира под кожей, как у тюленя или моржа.
Есть и другая теплоизоляция — перья.
Они мелкие и перекрывают друг друга
словно черепица, лишь вершинами. Каждое
перо снизу утеплено пухом. Все это
приспособлено для плаванья, своего рода
гидрокостюм, но одновременно такой
покров и для ветра непроницаем. Кроме того,
у пингвинов есть и коллективный способ
защиты от холода. В пургу они собираются
тесной толпой в форме овала, прижимаются
друг к другу, и те, кто стоит в первом
ряду, заслоняют своими спинами остальных
от напора педенящего ветра. Время от
времени пингвинов из первого ряда сменяют
другие. Эта манипуляция обеспечивает
в гуще толпы почти постоянную
температуру.
Но мы отвлеклись от пингвиньей свадьбы.
Торжественное многокилометровое
шествие окончено. Вроде бы вовсе не
примечательный участок берегового припая. Но
у пингвинов свое мнение. Именно здесь
их гнездовая колония. Так было и так
будет из года в год. Долгий месяц сюда
идут и идут все новые и новые птицы.
Каждый новосел, подойдя к собратьям,
наклоняется и выпрямляется. Ближайший
родич отвечает тем же: они обмениваются
поклонами. Потом пингвины сонно стоят
в толпе, втянув голову в плечи и вроде
бы не обращая внимания друг на друга.
Ждут.
Между тем зима набирает силу,
становится все холоднее и холоднее. Когда
полоса берегового припая уходит далеко
в море, на километры от берега, в
колонии поднимается шум. Это кавалеры,
бродя среди толпы, громко ревут — ищут
подругу. Невезучий пингвин дерет глотку
по нескольку дней, пока не приглянется
какой-нибудь пингвинихе.
У императорских пингвинов самцы от
самок почти неотличимы. Слабый пол
несколько стройнее, клюв, как правило,
окаймлен сиреневой или бледно-розовой
полоской. Вот и все. Узнают пингвины друг
друга в основном по голосу, ибо зрение
у них неважное, зато голоса у кавалеров
и дам совершенно резные. Зов самок
отдаленно напоминает воркование, крик же
самцов и сильнее, и грубее.
Молодожены часами стоят друг против
друга с закрытыми глазами, так сказать,
привыкают, время от времени оживляясь и,
вытянув шеи, обмениваясь нежными
трелями. Ласкаясь, касаются друг друга
головами.
Однако иногда самцу оказывают
внимание сразу две самки, и каждая рьяно
отстаивает свое право. Обе неотступно
преследуют избранника. Время от времени
соперницы обмениваются увесистыми ударами
клюва или крыльев. Бывает, что самцу
приходится разнимать рассвирепевших
поклонниц. В конце концов более слабая
претендентка изгоняется. Ей остается
только приступить к поискам другого
возлюбленного. Обычно эти треугольники
распадаются через несколько часов, самое
большее через два дня. Но бывает и
наоборот: трое, четверо и даже пятеро кавалеров
дерутся, оспаривая благосклонность
сверхпривлекательной пингвиньей дамы.
Говорят, с милым рай и в шалаше. Однако
любой шалаш в сравнении с пингвиньим
семейным гнездышком поистине царский
дворец. Никакой крыши над головой, снег
и лед под ногами, лютый мороз и
ураганный ветер. И ни маковой росинки во рту,
то есть в клюве.
Наконец, этакий медовый месяц
кончается, и со всех сторон несутся громкие пикую-
щие крики супругов: снесено яйцо. Оно
только одно, но зато с четверть кило
и в толстой белой скорлупе. Самка сперва
кладет яйцо на лед, а затем закатывает его
клювом на лапы и прикрывает особой
складкой кожи, идущей по низу брюха. После
этого начинается праздник. Мамаша
восторженно поет, папаша вторит ей. Оба
радостно топчутся на месте, потом пингвиниха
вытягивается, растопыривает крылья и
роняет яйцо на снег. Самец вкатывает его
себе на лапы, с гордостью разглядывает,
прячет в складке живота и снова поет.
Теперь он будет передвигаться осторожно,
мелкими шажками.
Пингвинихи сделали свое дело. Они
собираются в группы и уходят отдохнуть и
откормиться в море. Только путь до открытой
воды неблизкий, иной раз до полсотни
километров. Ибо море у берегов Антарктиды
давно сковано толстенным льдом. Но все
равно море — что курорт.
Брошенные на произвол судьбы пингвины-
отцы прижимаются Друг к другу, чтобы
92
плотной стеной из спин отразить натиск
пурги. Мамаши резвятся в море, а папаши
битый месяц голодные и холодные
насиживают, вернее, «настаивают» яйца. А когда
выведется пушистый беспомощный птенец,
еще месяц держат его у себя на лапах,
прикрывая теплой полусумкой от мороза.
Мало-помалу птенец выпрямляется во весь
рост и, по-прежнему пребыва я на лапах
родителя, высовывает головку из-под
складки отцовского брюха. Густой темно-
серый пух темнеет на темени и затылке,
а вокруг глаз младенца появляется большой
светлый кружок словно у клоуна в цирке.
Папаша кормит дитя птичьим молоком,
в котором 28% жира и до 60% белка.
Вырабатывается оно у пингвинов в зобу и
желудке. Коровье молоко по сравнению с
пингвиньим просто водица.
Как только птенец начинает ходить, ему
грозит особая опасность: стоит ему
оказаться в одиночестве, как им тотчас
-стремятся завладеть обуреваемые
родительскими чувствами холостые или бездетные
самцы. Они бросаются к малышу, чтобы
усыновить его. Претенденты машут
крыльями, клюют друг друга, скользят, падают.
Если птенец попадет в свалку, его просто
затопчут.
Заботы о наследнике не проходят даром:
чадолюбивые отцы теряют почти половину
своего веса. Бедняги все это время
пробавлялись одним снегом. Но вот, наконец,
появляются отдохнувшие и пополневшие
на морском курорте мамаши. Супруга они
опознают по голосу. Пингвиниха начинает
петь. Тощие самцы отвечают. Очень
непросто отыскать супруга среди тысяч
галдящих птиц. Иногда поиск занимает
несколько часов. Но вот счастливая встреча. Теперь
мамина очередь кормить и обогревать
дитя. В желудке у нее припасен для
птенца солидный запас рыбы и кальмаров, а
потом, когда запас кончится, будет
исправно вырабатываться птичье молоко. А
полуживой- папаша-пингвин немедля
отправляется на морской курорт.
Вот тут-то и начинается самое интересное.
В пятинедельном возрасте пингвинята уже
не помещаются в родительском «кармане».
И их отправляют в детский сад. Сотни
птенцов становятся плотно друг к другу, чтобы
было легче противостоять морозам. За ними
неусыпно присматривают несколько
воспитательниц — холостых пингвиних.
Опасность исходит от хищных, напоминающих
здоровенную чайку птиц — гигантских
буревестников. Им-то воспитатели и дают
яростный отпор: пускают в ход клювы и
крылья. А родители поочередно ходят за
кормом: рыбой и ракообразными. Теперь
это уже нетрудно. Наступила весна,
береговой припай начинает ломаться,
тороситься и таять, до открытой воды
недалеко.
Когда птенцам минует шесть месяцев от
роду, они покрываются перьями. Детство
кончается. Теперь пингвинята и по весу,
и по росту мало отличаются от
взрослых и уходят в море вести кочевую
жизнь.
Любопытно, вспоминают ли они свой
детский сад?
С. КУСТАНОВИЧ
К вопросу
о добавлении
молока
Будучи любителем чая и
кофе с молоком, я с интересом
прочитал статью И. Леенсона
«Когда добавлять молоко?»
в № 9 за 1978 г. Эта статья
вполне доступна не только
химикам, к которым она
обращена, но также
математикам и физикам.
Однако, как мне кажется,
автор подошел к проблеме
несколько однобоко. Он
рассмотрел лишь случай с
тонкостенным стаканом, в то
время как чай или кофе с
молоком пьют обычно из
толстостенных фарфоровых или
фаянсовых чашек. Он
неоправданно оставил без
внимания охлаждение с
поверхности жидкости, прикрыв
сосуд блюдцем.
Добросовестный исследователь должен
был рассмотреть и другой
вариант, поскольку, во-первых,
не каждый располагает
блюдцем и, во-вторых, те, кто им
располагает, помещают
блюдце, как правило, под чашку,
а не наоборот.
Наконец, автор, извлекая
молоко из холодильника,
считает температуру примерно
равной 0"С. Между тем
продукты в холодильнике имеют,
как известно, температуру
^5°С- Охлаждение молока до
более низких температур нет
доступно широкому кругу
заинтересованных лиц, а кроме
того, молоко может
замерзнуть, что затруднит
экспериментатору точную объемную
дозировку.
Таким образом, указанная
статья, являясь плодом
серьезной и актуальной работы,
тем не менее недостаточно
полно отражает важные
аспекты добавления молока.
В. Харин,
Ленинград
93
Старше и умнее
Каждая мать считает своего ребенка
необычайно умным еще в том нежном
возрасте, когда ему каждый час приходится
менять пеленки. Что ж, восхищение
матери первыми проблесками сознания
крошечного живого комочка можно понять. Однако
как объективно оценить разум ребенка?
Разумными мы справедливо считаем те
действия, которые соответствуют
будущему ходу событий, предваряют возможную
неудачу и скорейшим путем ведут к
поставленной цели. Выражаясь научно,
способность к логическому мышлению можно
оценить по умению живого существа
использовать метод экстраполяции.
Самый простой опыт, определяющий
способность ребенка к экстраполяции,
заключается в том, что перед ним ставят ряд
цилиндрических картонных колпачков, под
одним из которых скрыта вкусная конфета.
Когда конфета обнаружена и съедена, опыт
повторяют, но конфету подкладывают под
другой колпачок — например,
находящийся на один левее первого. На основании
этих двух опытов уже можно сделать
простейшее логическое предположение,
что в третий раз конфета окажется еще на
один шаг левее, и если это так, то
лакомство можно найти уже с первой попытки.
И чем быстрее ребенок уловит тайный
путь конфеты, тем он умнее.
Когда такой опыт произвели с людьми
в возрасте от одного года, до двадцати пяти
лет, то обнаружили четкую
закономерность. Дети до двух лет никак не
справлялись с задачей: они вообще не могли
догадаться, что под одним из колпачков (в этом
опыте их было двенадцать) обязательно
скрыта конфета. Дети до пяти лет каждый
раз по очереди — либо справа налево,
либо слева направо — проверяли все
колпачки. Начиная с семилетнего возраста
тактика поиска становилась
преимущественно случайной, то есть ребенок, надеясь
«на авось», приподнимал первый
попавшийся колпачок. Вместе с тем в этом возрасте
уже начинало проявляться и стремление
найти в перемещениях конфеты систему,
и эта способность в полной мере
проявлялась к пятнадцати-, шестнадцатилетнему
возрасту.
Одним словом, чем старше человек, тем
он умнее. Этот научный вывод мог бы
служить родителям веским аргументом в
спорах с непослушными отпрысками,
если бы не одно обстоятельство: даже самые
старшие из группы испытуемых иногда
действовали не разумнее малых детей...
Опасные широты
Каждый год в разных районах земного
шара происходят землетрясения — большие
и малые, приводящие к разрушениям и
человеческим жертвам и почти
неощутимые. Но каждый, кто пережил даже не
очень сильное землетрясение, на всю
жизнь запоминает тот панический ужас,
который он при этом испытал. Шутка ли,
сама земля, надежнейшая из опор,
колышется под ногами!
Поэтому одна из важнейших задач,
стоящих перед геофизиками, заключается в
том, чтобы научиться надежно
предсказывать опасные сотрясения земной
поверхности. Для этого ученые изучают изменения
различных характеристик земных недр,
которые могли бы служить признаками
надвигающегося несчастья, а также исследуют
общие закономерности этого грозного
явления природы.
Согласно одной из гипотез, в
возникновении землетрясений повинны особые
волны, одновременно зарождающиеся
на полюсах земного шара и
распространяющиеся к экватору; встретившись, эти
волны поворачивают вспять, в результате
чего образуется система узлов и пучностей
Иначе говоря, поверхность земли
колеблется, как струна, и в местах, где эти
колебания имеют наибольший размах,
происходят наиболее сильные
землетрясения.
Из этой гипотезы следует, что наиболее
опасные сотрясения земной поверхности
должны наблюдаться на определенных
широтах, составляющих геометрическую
прогрессию: 5,625... 11,250... 16,В75... И
действительно, именно на этих широтах
наблюдаются наиболее сильные
землетрясения. Но из этой же гипотезы следует, что
положение опасных широт не должно
зависеть ни от скорости распространения волн
(то есть от характеристик материала, по
которому они распространяются), ни от
размеров тела. Значит, и на других планетах
Солнечной системы наиболее активные
сейсмические зоны должны располагаться
теми же поясами.
И верно: зоны лунотрясений, а также
положение крупнейших вулканов на Марсе,
Меркурии и Венере находятся почти в
точности на тех же широтах, что и на Земле.
Так, может, следует не только заботиться о
прогнозировании землетрясений, но и не
строить больших городов и промышленных
предприятий в наиболее опасных широтах?
А- ЮРКИНУ, Москва: Судя по доступной нам литературе,
реакцию твердого нитрата натрия с серой никто не изучал.
В. КИСЕЛЕВУ, Свердловск: Способы полировки стекла
хорошо описаны в книге М С. Иавашина «Телескоп
астронома-любителям, М., «Наука», 1975.
B. А. ШЕФЕРУ, гор Иваново: Чтобы гипс отвердевал
медленнее, рекомендуют добавлять в воду любое жидкое
моющее средство (примерно 0,5- /% от массы гипса).
К. М. АНДРЕЕВУ, гор. Горький: Новое удобрение,
известное вам как «кристаллин», выпускают, но почему-то под
измененным названием — «удобрение для теплиц»; кстати,
в розничную продажу оно все равно не поступает.
А. И. РЮМИНУ, Ярославль: Говорят, что цветочные
запахи сейчас не модны, и поэтому ни духов, ни одеколонов с
запахом резеды, увы, не делают.
А. М-ВУ, Тамбов: Нового закона, как ни огорчительно, вы
не открыли — ваша схема умозрительна, а химический
закон обязан отражать реальные свойства веществ.
C. ЧЕРЕНКОВУ, Тарту: Пусть в операции «Синтез»,
проведенной Клубом Юный химик, и были слабые места,
однако ж она принесла пользу и вам: записались в библиотеку,
стали изучать литературу...
С. ПЕТРЕНКО, Киев: Терпентин и терпентинное масло не
одно и то же; первое — живица хвойных деревьев, второе —
просто скипидар.
А. М. КОРОЛЮ, Хабаровск: В журнале «Советское фото»
за 1978 г. (М 2, стр. 44 и № 3, стр. 41) есть полезные
статьи о сборе отходов серебра; там же указан адрес, по
которому можно выслать почтой неочищенное серебро,
разумеется, за вознаграждение.
А. Н. РАДИНКО, Краснодарский край: Бутылки с
фотографическими растворами не надо закупоривать
деревянными пробками — древесина может выделять вредные для
фотообработки вещества.
К. МАРКИНУ, Москва: Никаких опытов с
фенилизонитрилом — это яд!
А. В. СЕВАЛОВСКОМУ, Минск: Лак для зубов (а точнее
для временной 'защиты пломбы) предназначен только для
зубоврачебных кабинетов, это все же не лак для ногтей.
А. Ч-НУ, Московская обл.: Эксперименты по регулированию
пола будущих младенцев в нашей стране, по сведениям
ВНИИ акушерства и гинекологии, не ведутся.
А. М. СВОИ, Калининская обл.: Расценивая достоинства
той или иной пищи, надо все же исходить из того, что в
ней есть, вот в вологодском масле нет витамина С, а в
шоколаде витамина А - ну и что?
Редакционная коллегия:
И. В. Петрянов-Соколов
(главный редактор),
П. Ф. Баденков,
Н. М. Жаворонков,
В. Е. Жвирблис
(зав. отделом хим. наук),
М. Н. Колосов,
Л. А. Костандов,
В. С. Любаров .
(главный художник),
Л. И. Мазур,
В. И. Рабинович
(ответственный секретарь),
М. И. Рохлин
(зам. главного редактора),
Н. Н. Семенов,
В. М. Соболев,
Б. И. Степанов,
A. С. Хохлов,
М. Б. Черненко
(зам. главного редактора),
B. А. Энгельгардт
Редакция:
Б. Б. Багаряцкий,
Ю. И. Зварич,
М. М. Златковский
(художественный редактор),
A. Д. Иорданский,
О. М. Либкин,
Э. И. Михлин
(зав. производством),
Д. Н. Осокина,
B. В. Станцо,
C. Ф. Старикович,
Т. А. Сулаева
(зав. редакцией),
Г. М. Файбусович,
B. К. Черникова
Номер оформили
художники:
Л. К. Ажаева,
А. В. Астрин,
Г. Ш. Басыров,
Р. Г. Бикмухаметова,
К П. Маркова,
Е. П. Суматохин,
C. П. Тюнин
Корректоры
Н. А. Горелова, Л. С. Зенович
Сдаио в набор 29.12.1978 г.
Подписано в печать 8.02.79 г
Т-02835
Бумага 70 X Ш8 1 16
Печать офсетная
Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л 11.0
Бум. л. 3.
Тираж 360 000 экз. Цена 45 коп.
Заказ 3055
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
117333 Москва В-333,
Ленинский проспект, 61.
Телефоны для справок:
135-90-20, 135-52-29
Чеховский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли,
г. Чехов Московской обл.
§ Издательство «Наука»),
имия и жизнь», 1979 г.
Для чего
сельди присоски?
Хозяйке, разделывающей селедку к^Каздничиому столу, могут быть интересны кое-какие
подробности об этой рыбе. Право, иоШэбопытио ли, что у селедки есть зеркала, в которые она,
однако, и ие думает смотреться. ИГно зеркало наружное — это ие что иное, как серебристые
бока, другое спрятано внутри: сверкающими кристалликами гуанина усеяна и рыбья утроба.
Зачем наружное зеркало, вроде бы ясно: подводный хищник может спутать блеск известковых
соединений гуаиина с солиечнымн зайчиками, и селедкины бока останутся в целости. А вот для чего
нужно внутреннее зеркало доподлинно знает пока, пожалуй, лишь сама рыба.
В Зазеркалье селедкиного живота до недавнего времени была скрыта еще одна тайна.
Задумывались ли вы над судьбой селедочных икринок, не попавших на кухню, а оставшихся в родном
море? Как икриики удерживаются иа подводных растениях или скалах, пока ие выклюнется малек?
Раньше ответ был безапелляционным — рыбьи колыбельки будто бы просто приклеиваются. Но дело
оказалось сложнее. Если живая оплодотворенная икринка часика три полежит даже иа гладком
стекле, то оторвать ее неповрежденной нет
никакой возможности. Нелегко очистить стекло н от
остатков оболочек икринок, из которых мальки
уже уплыли. А клей сам по себе не очень прочен.
Как же икринки цепляются за стекло?
Когда В. В. Рубцов на икриики беломорской
сельди напылил в вакууме золото и исследовал нх "^^^^■^^^^^^B^V
в сканирующем электронном микроскопе, стало
видно, что иа том участке оболочки
оплодотворенной икриики, которая соприкасается со стеклом,
появляются десятки тысяч крохотных присосок.
Как именно получаются эти микроскопические
якоря, пока ие^чеиь-то понятно. Скорее всего иа
главную роль^Г этом ключевом* моменте селедки-
ной биографий* претендуют осмотически активные
вещества икйЬнки. *
В общем^если бы ие присоски, то селедок,
вероятно, не^ыло бы не только на кухне, но и в
море.
Чьи глаза лучше
Женский глаз способен
мгновенно заметить много
такого, на что мужчина и не
обратит внимания. Скажем,
покрой юбки или фасон
прически только что
встреченной подруги.
Но у зрения мужчин' и
женщин есть и вполне
объективные различия.
Например, женский глаз дольше
сохраняет зрительный образ
после того, как
изображение исчезает из поля
зрения, женщины лучше
мужчин переносят яркий свет
и вместе с тем лучше видят
в полумраке, особенно в
оранжевых и красных
лучах. Вероятно, все эти
особенности возникли в ходе
эволюции, так как именно
женщины должны были
зорко следить за
безопасностью детей.
Если бы поэты все это
знали, они бы посвятили еще
больше прекрасных строк
прекрасным женским
глазам...
Издательство «Наука»
«Химия и жизнь» № 3
1979 г.. 96 с.
Индекс 71050
Идет 4К кпп